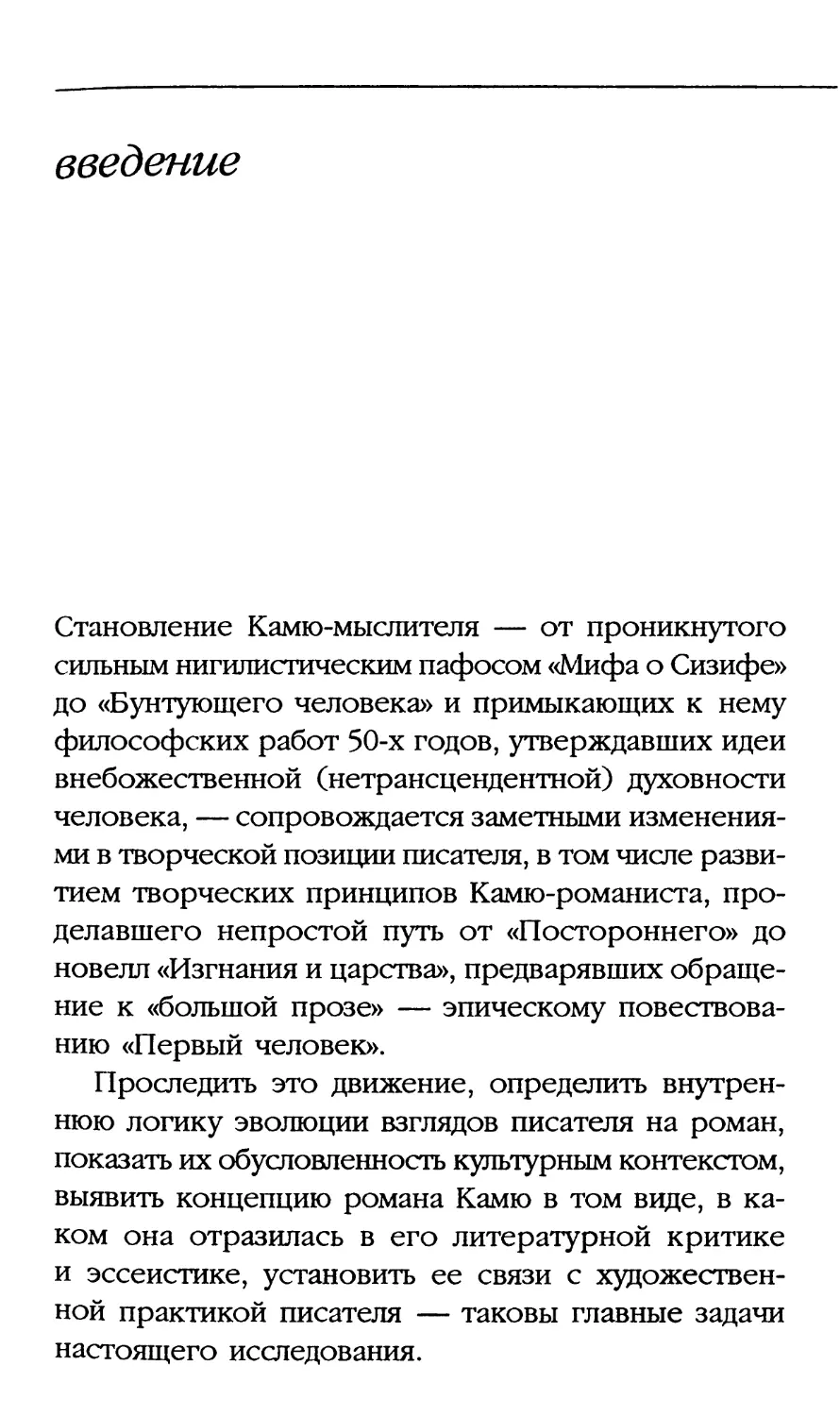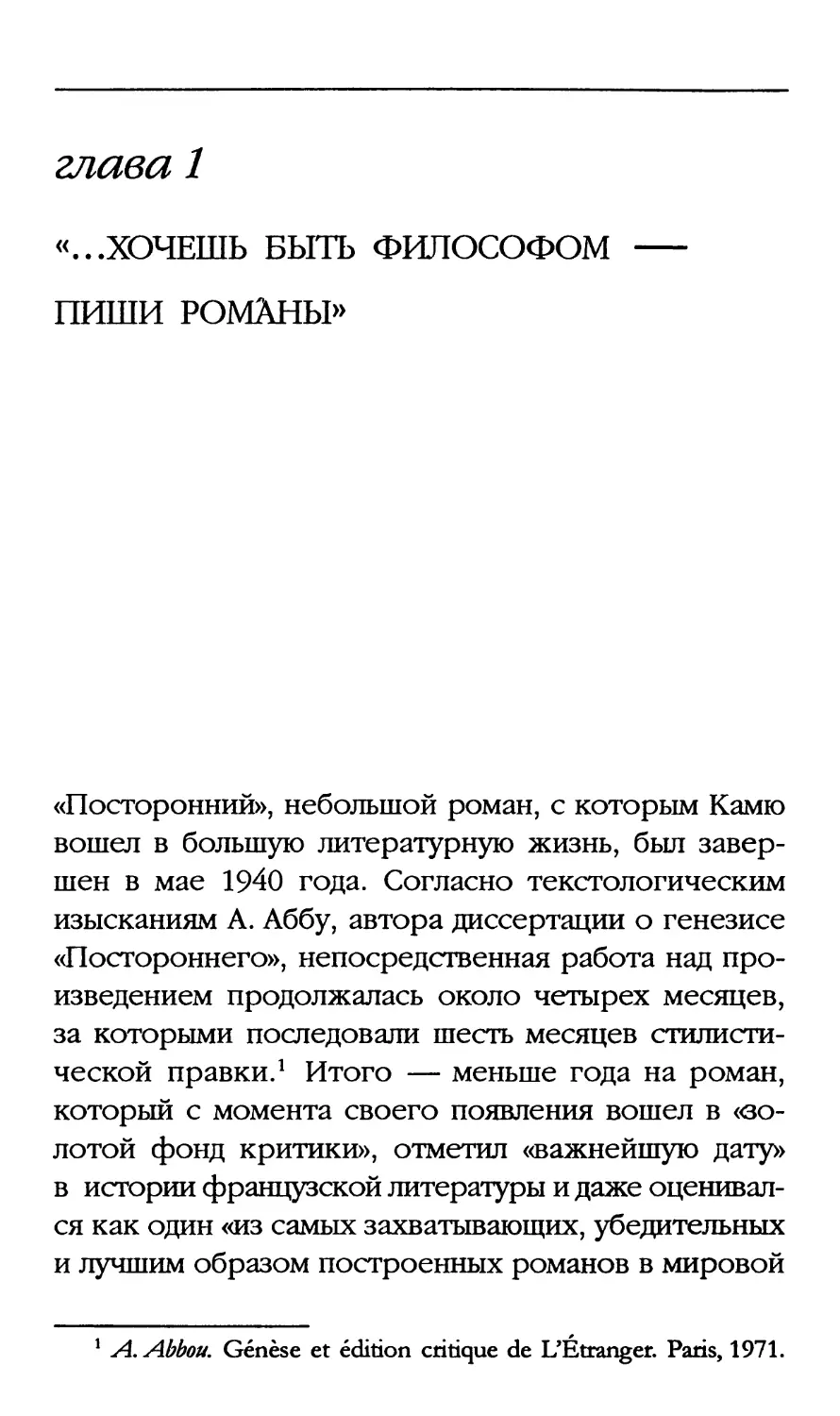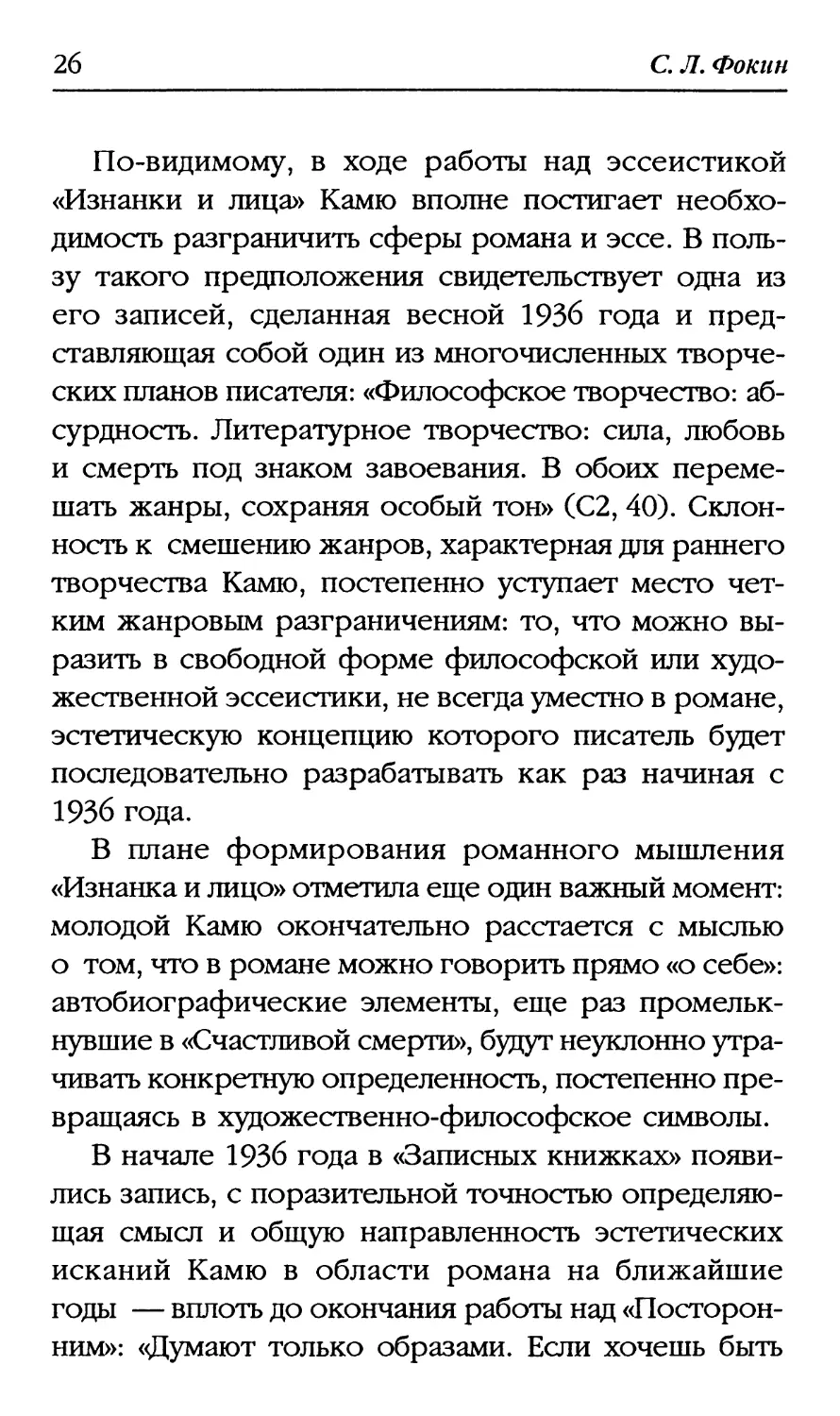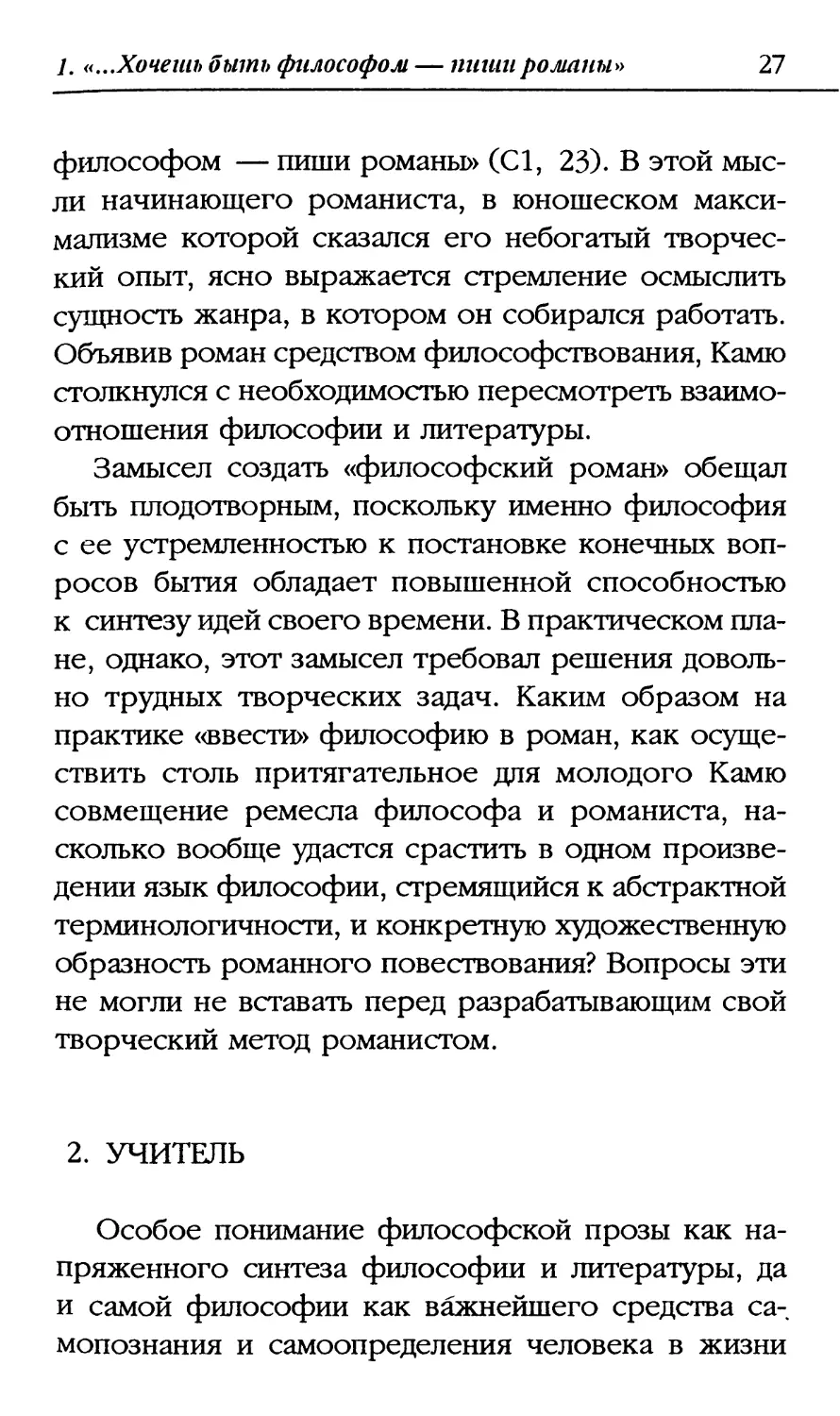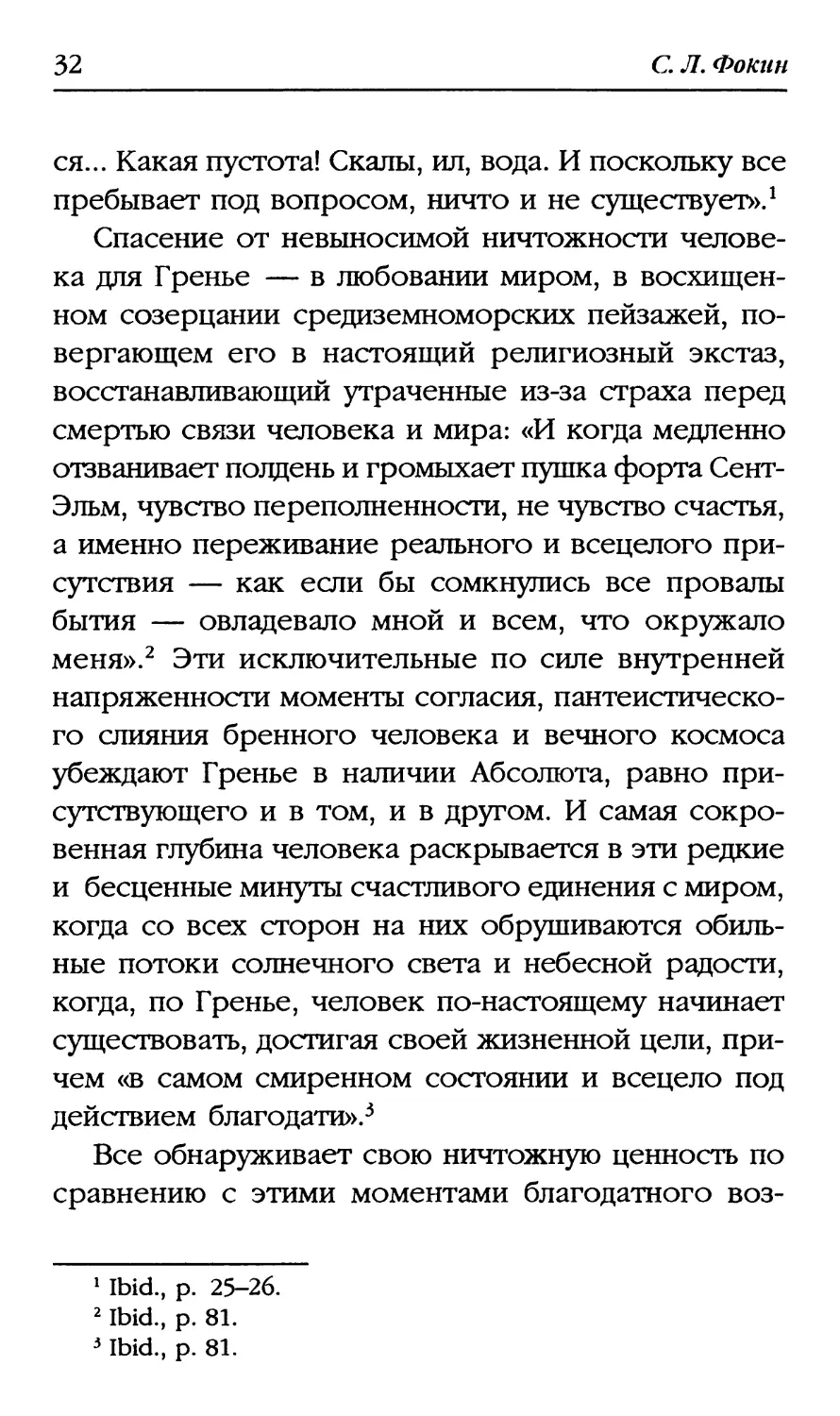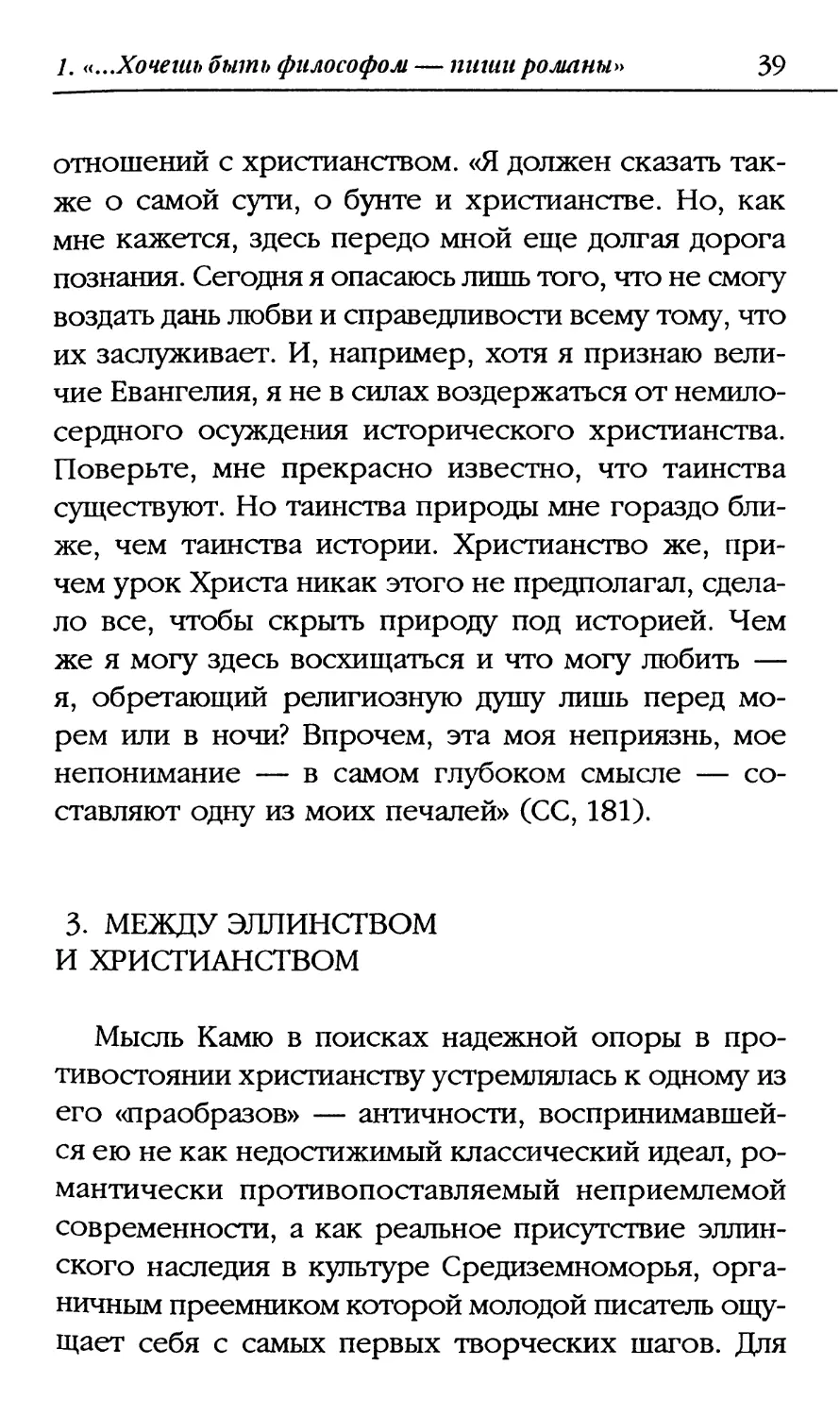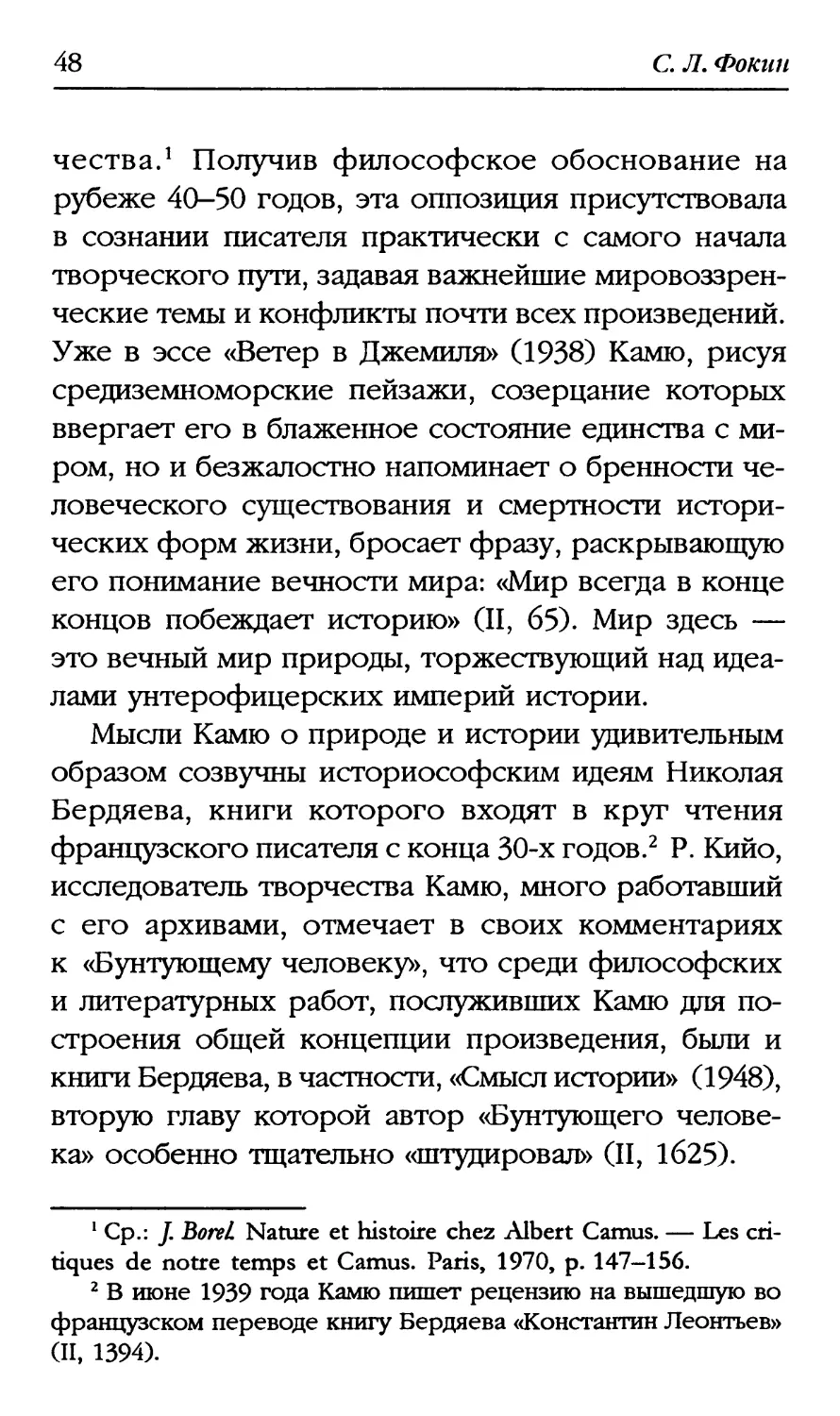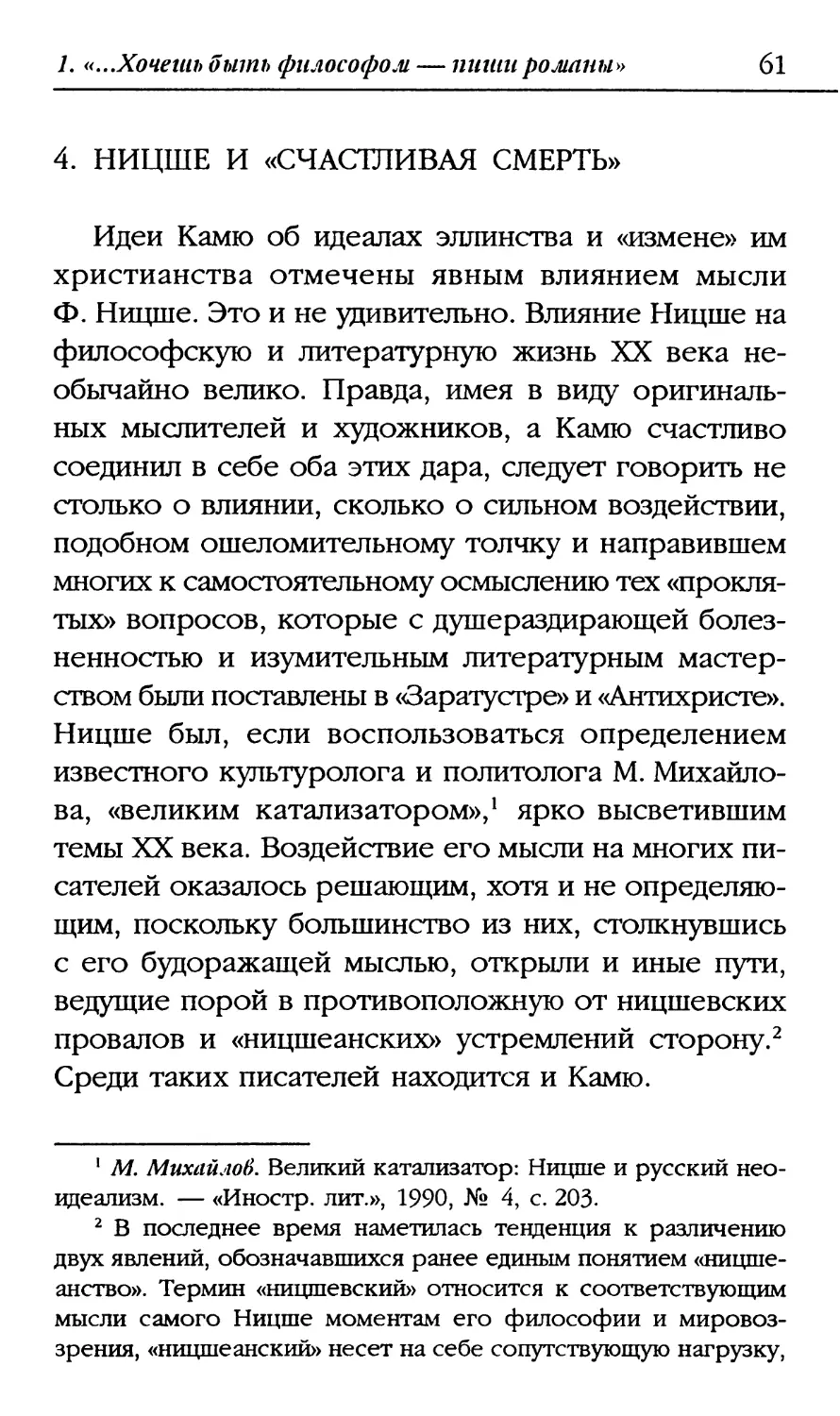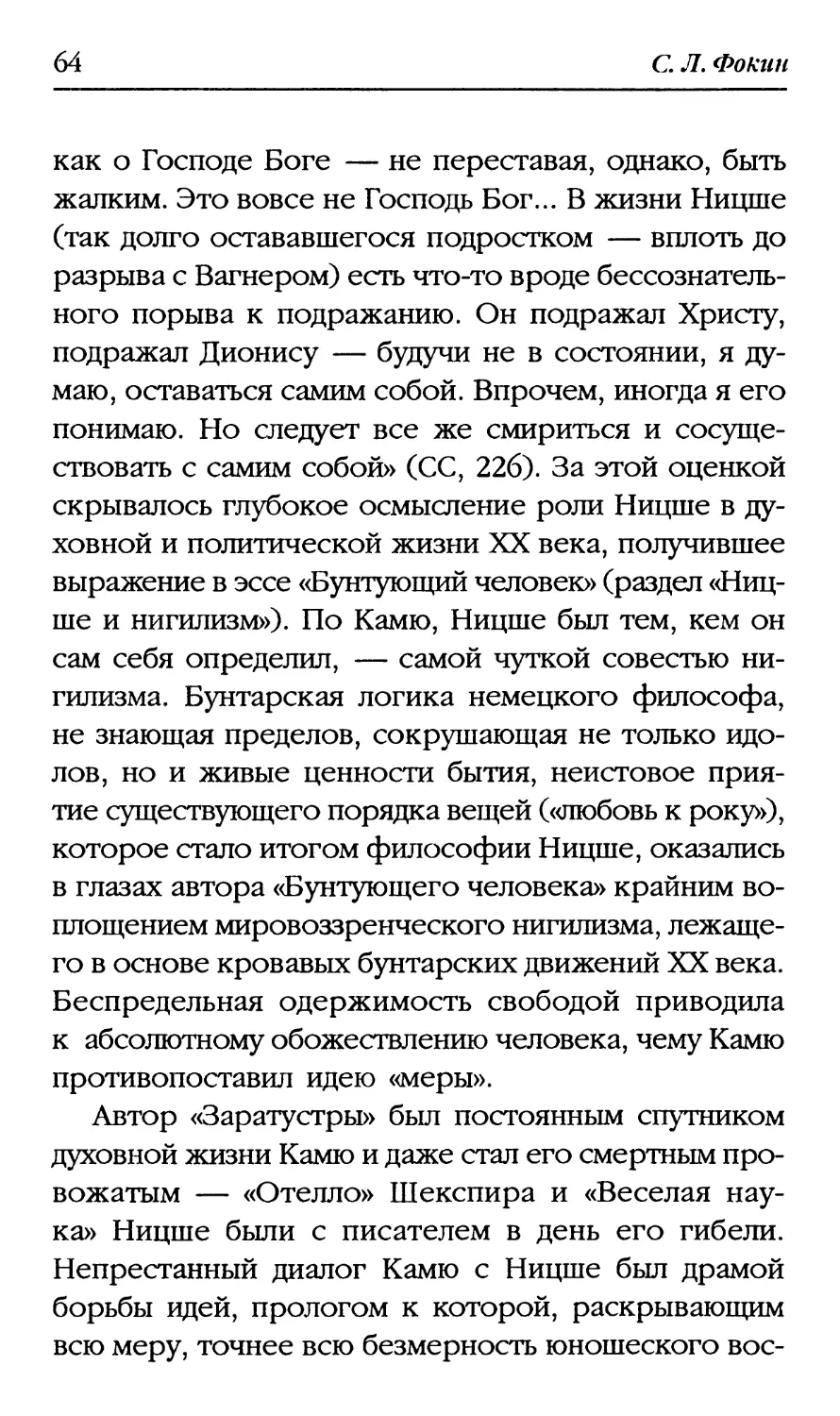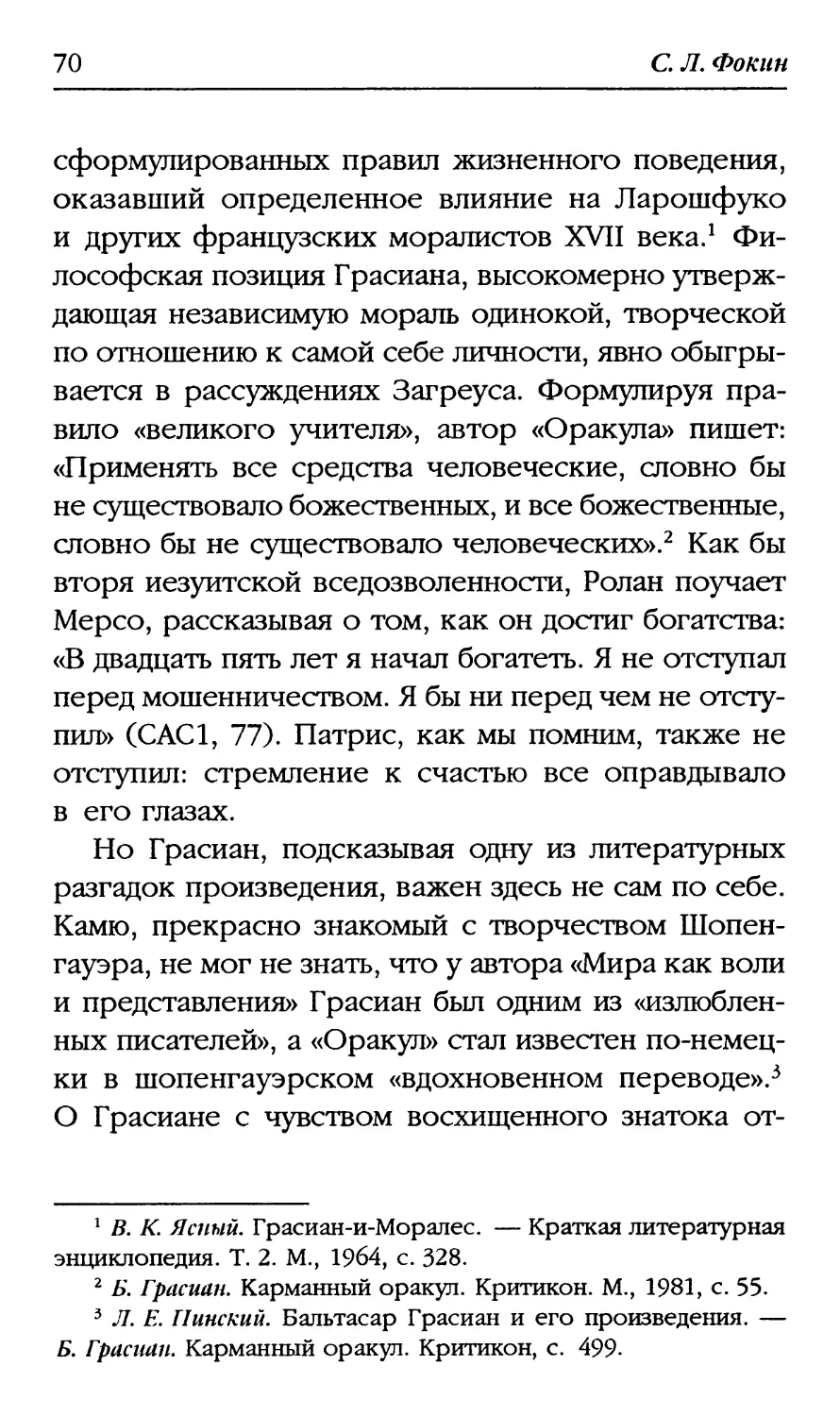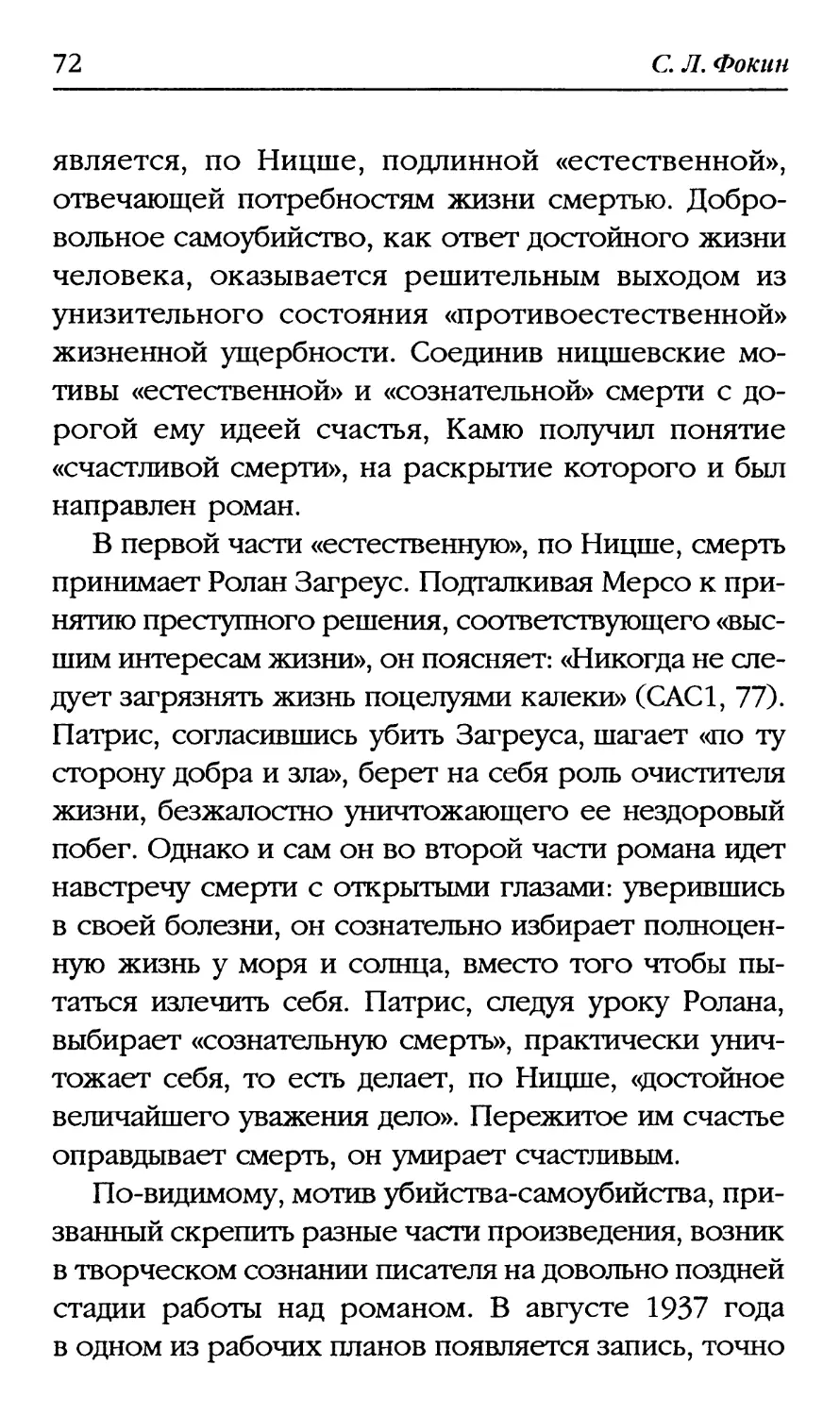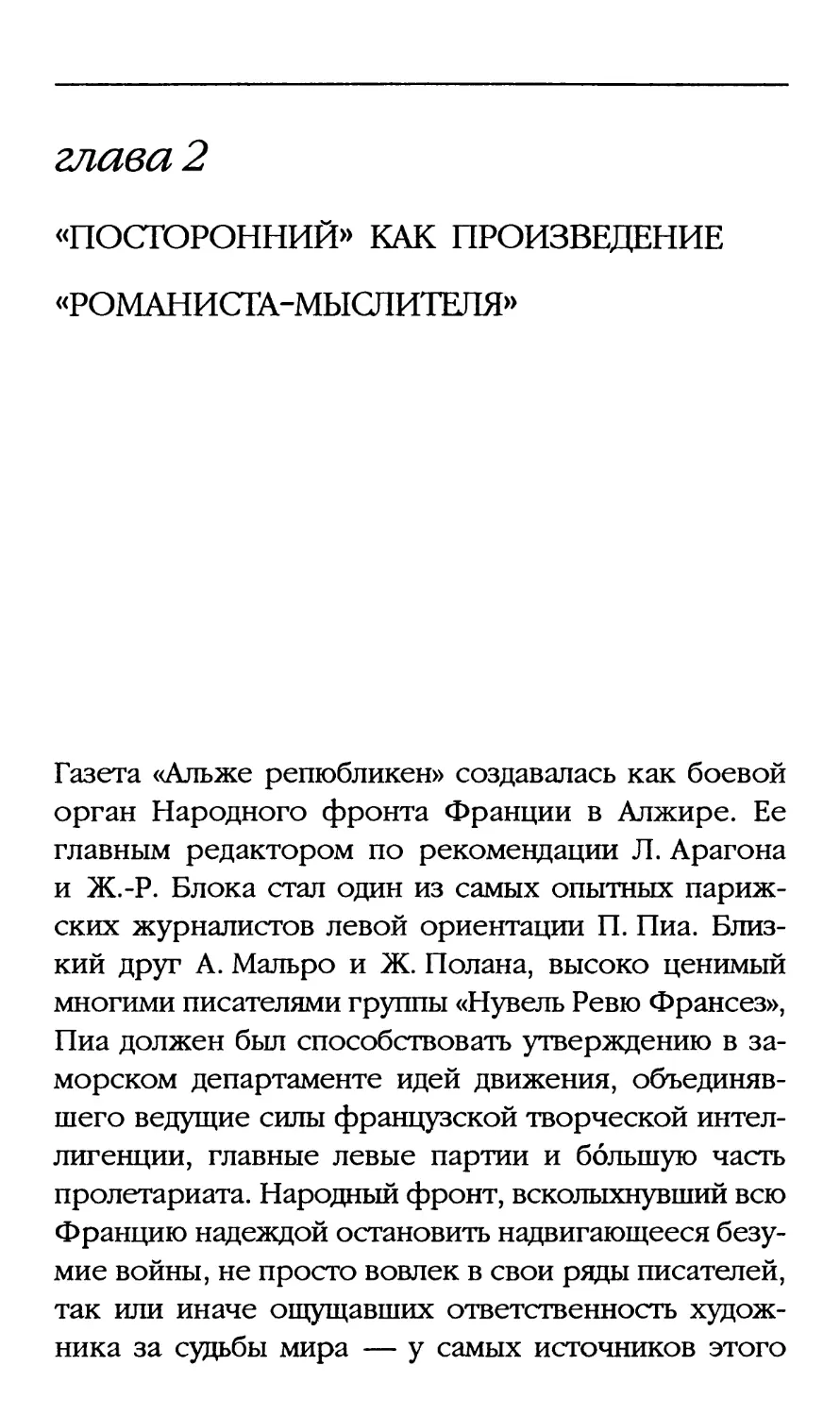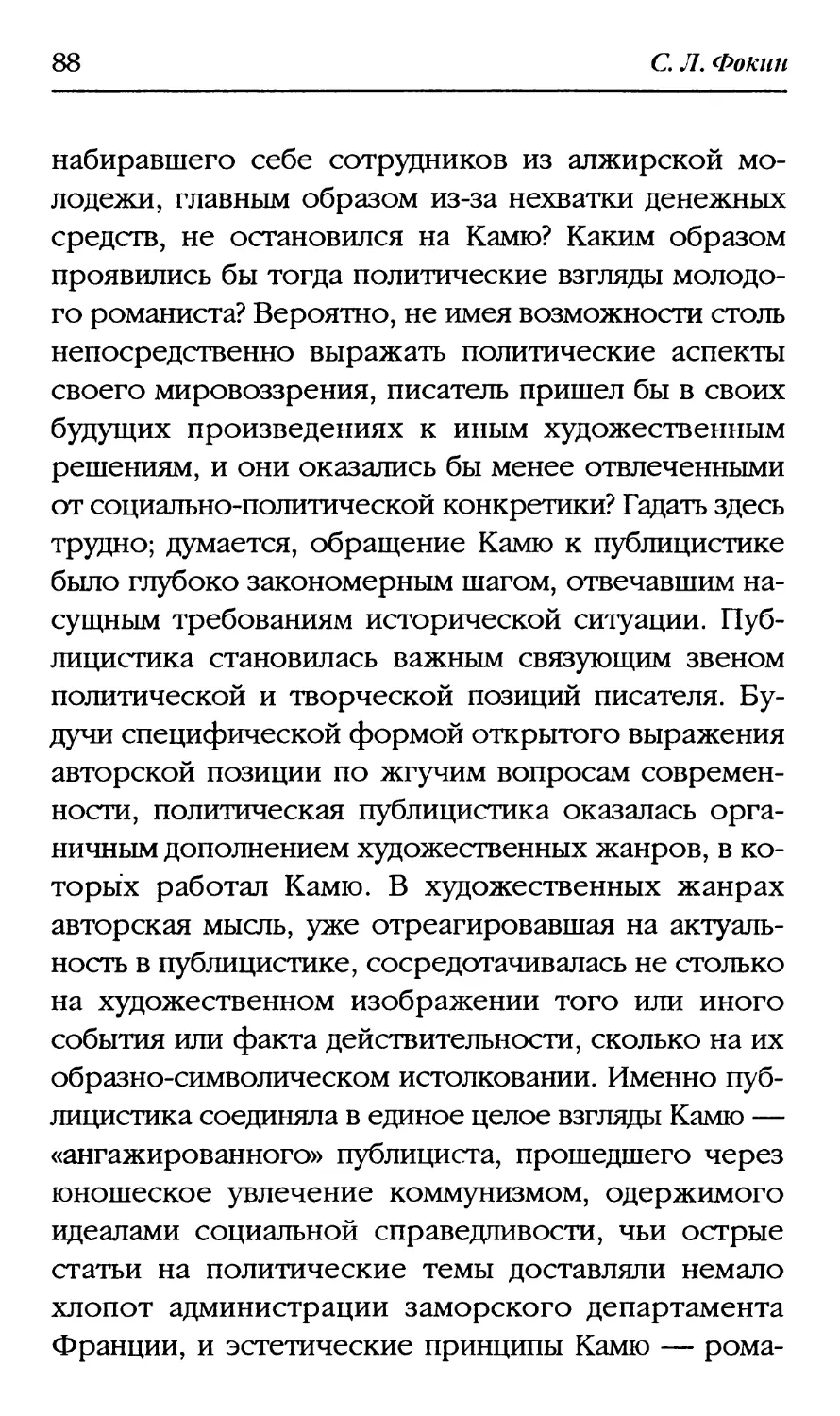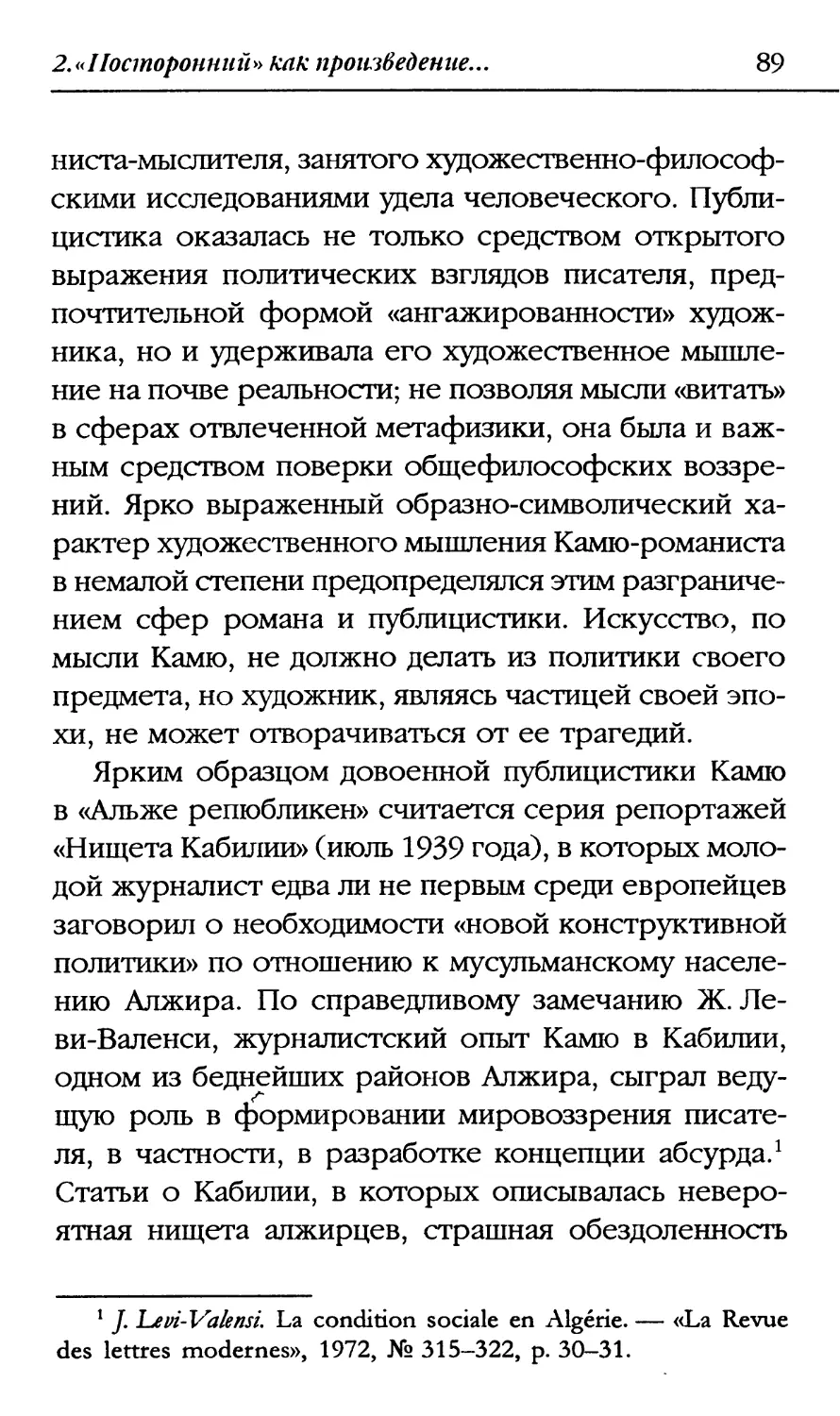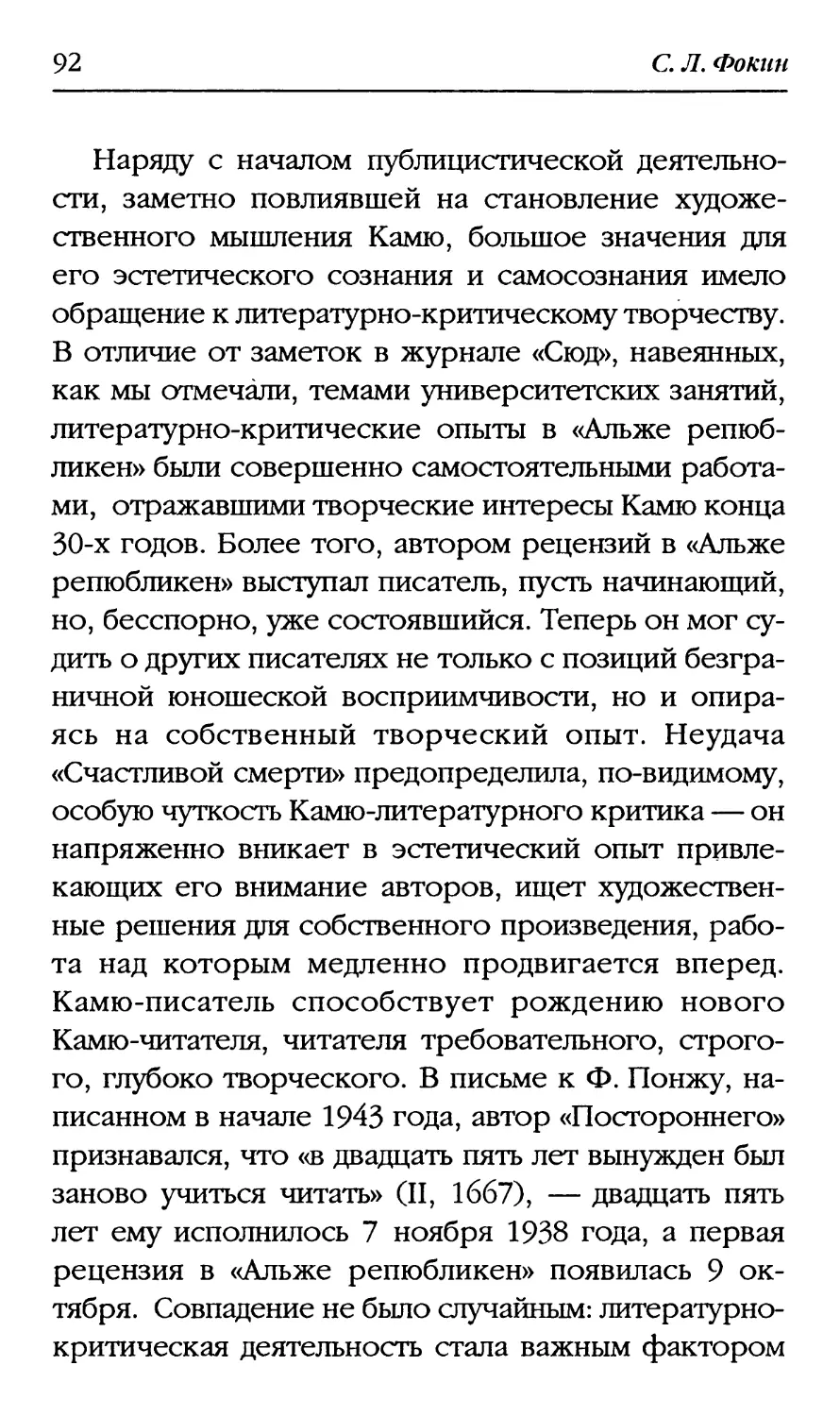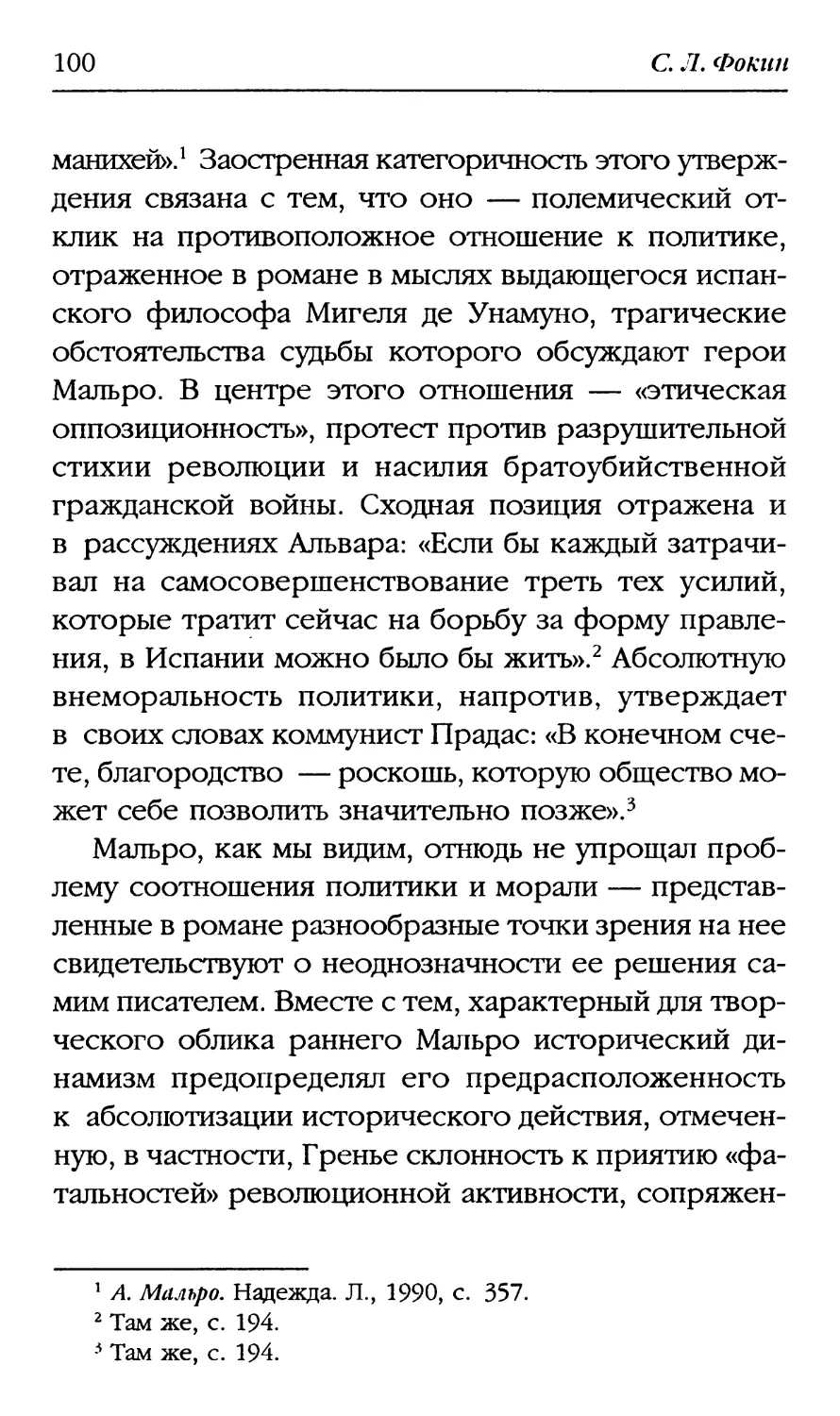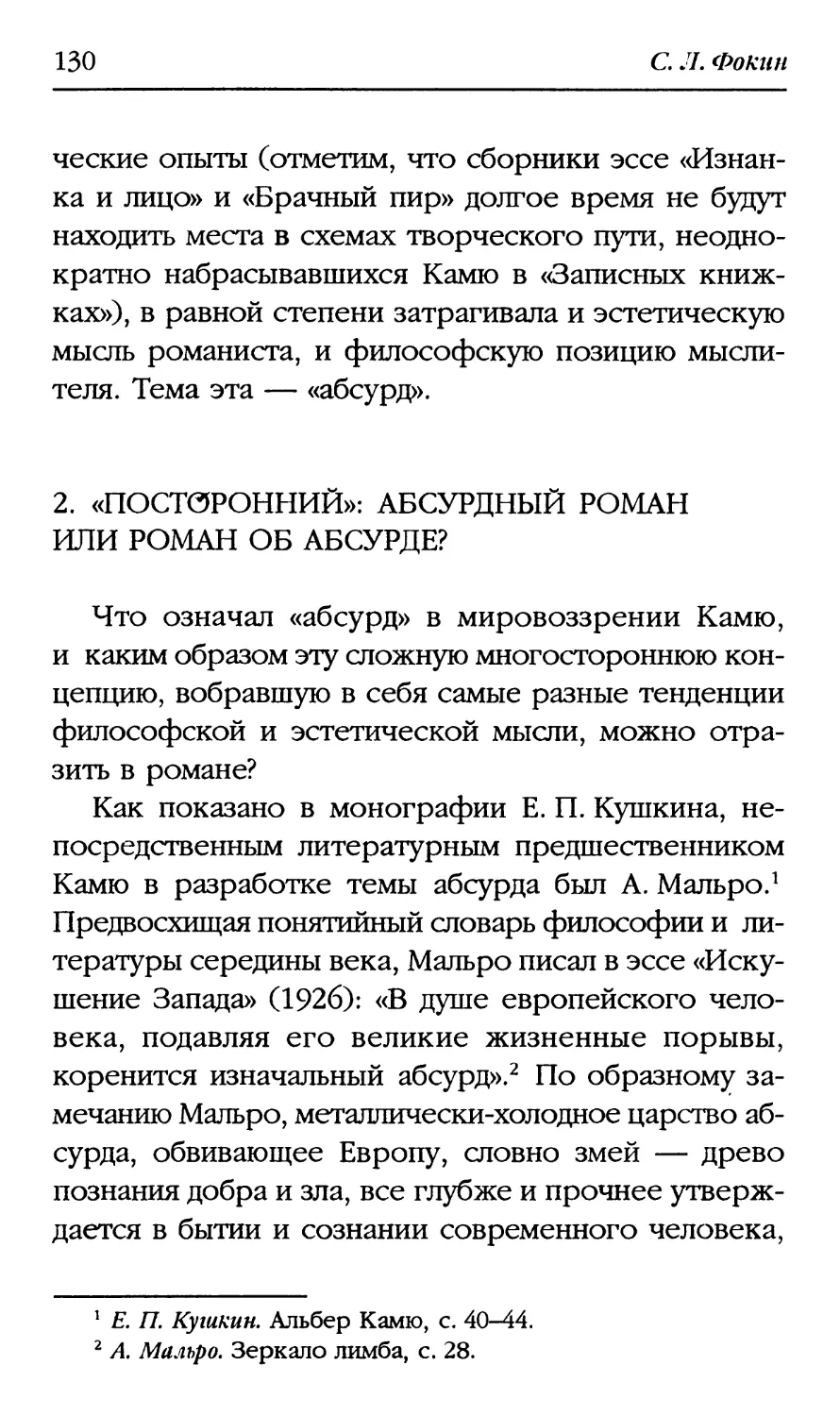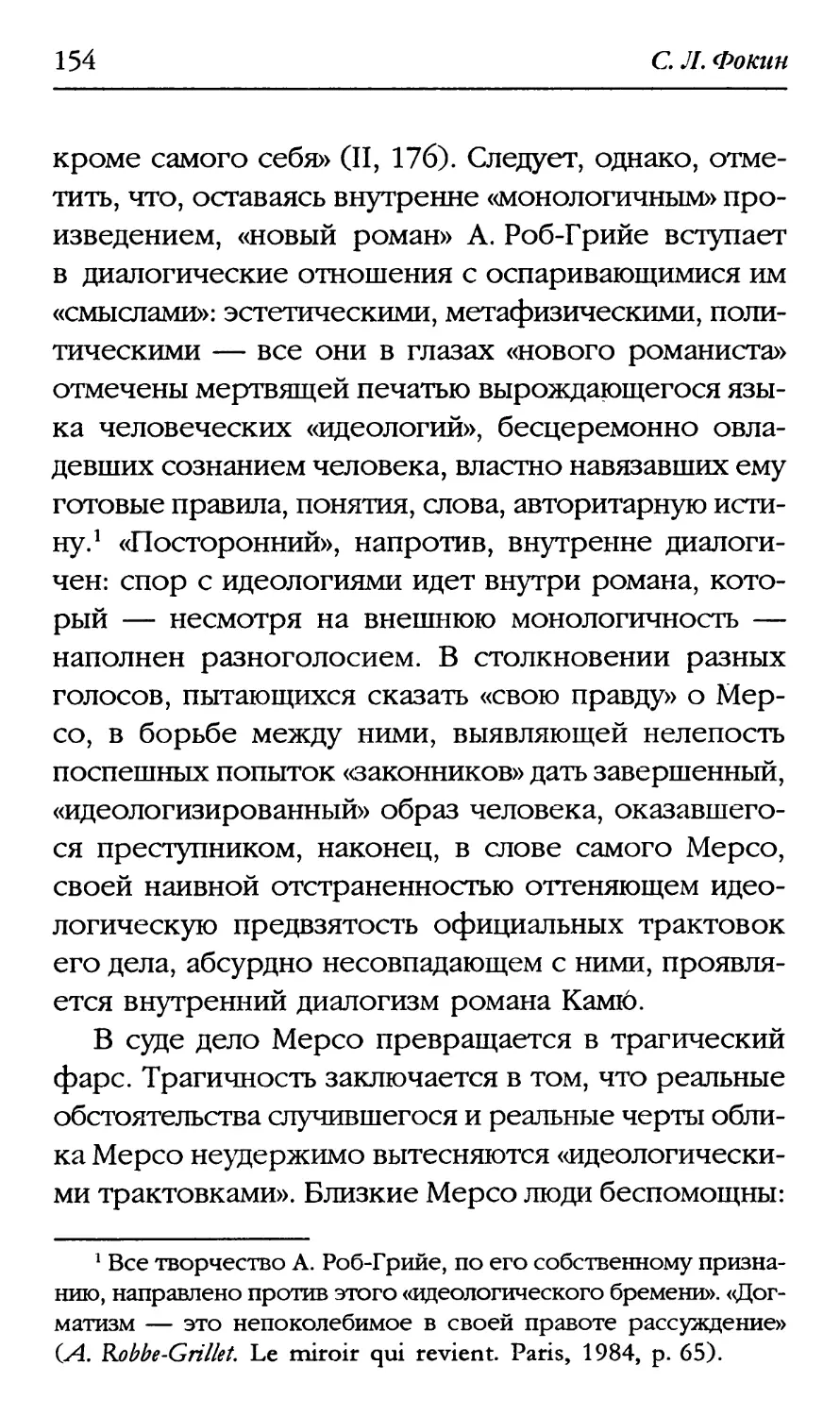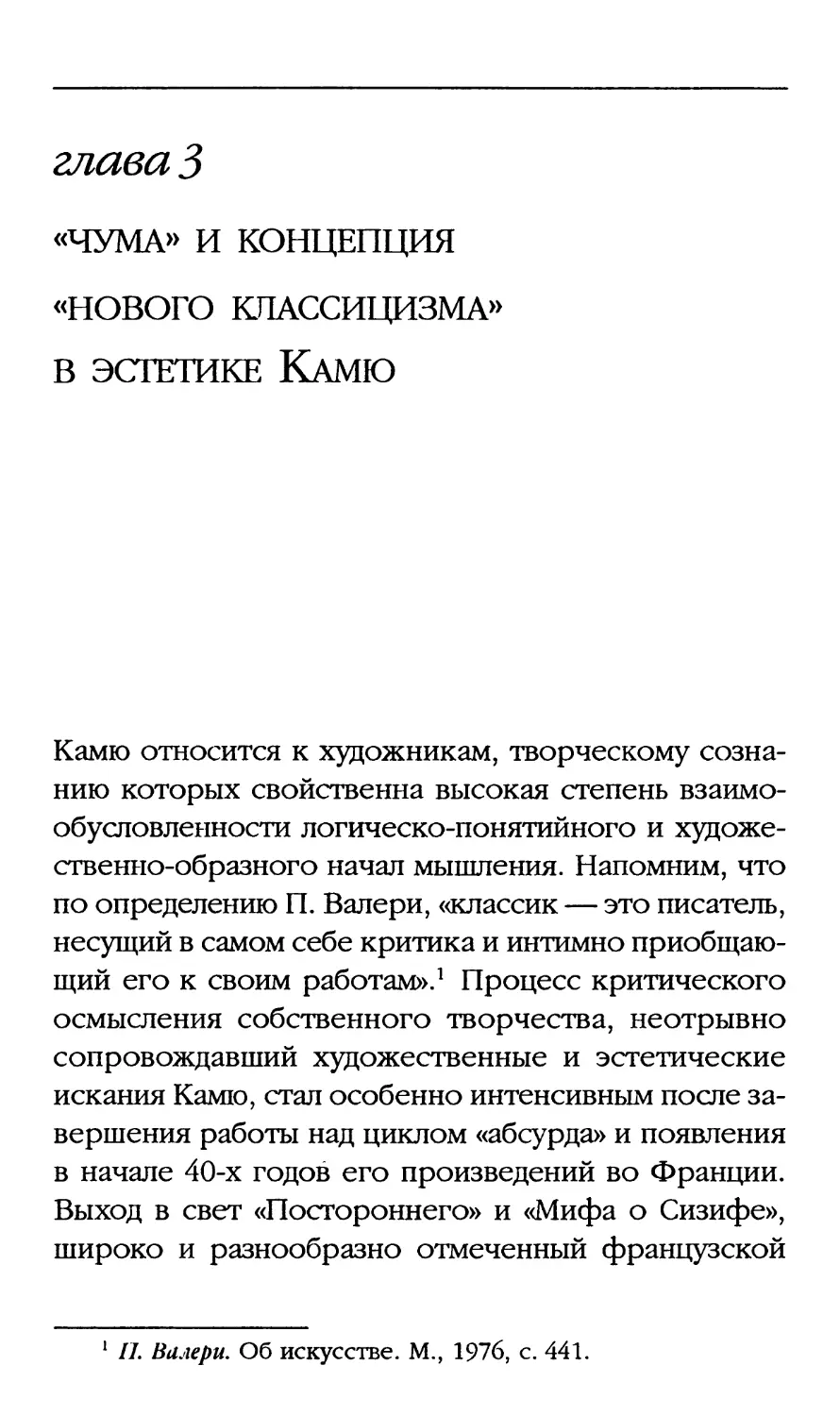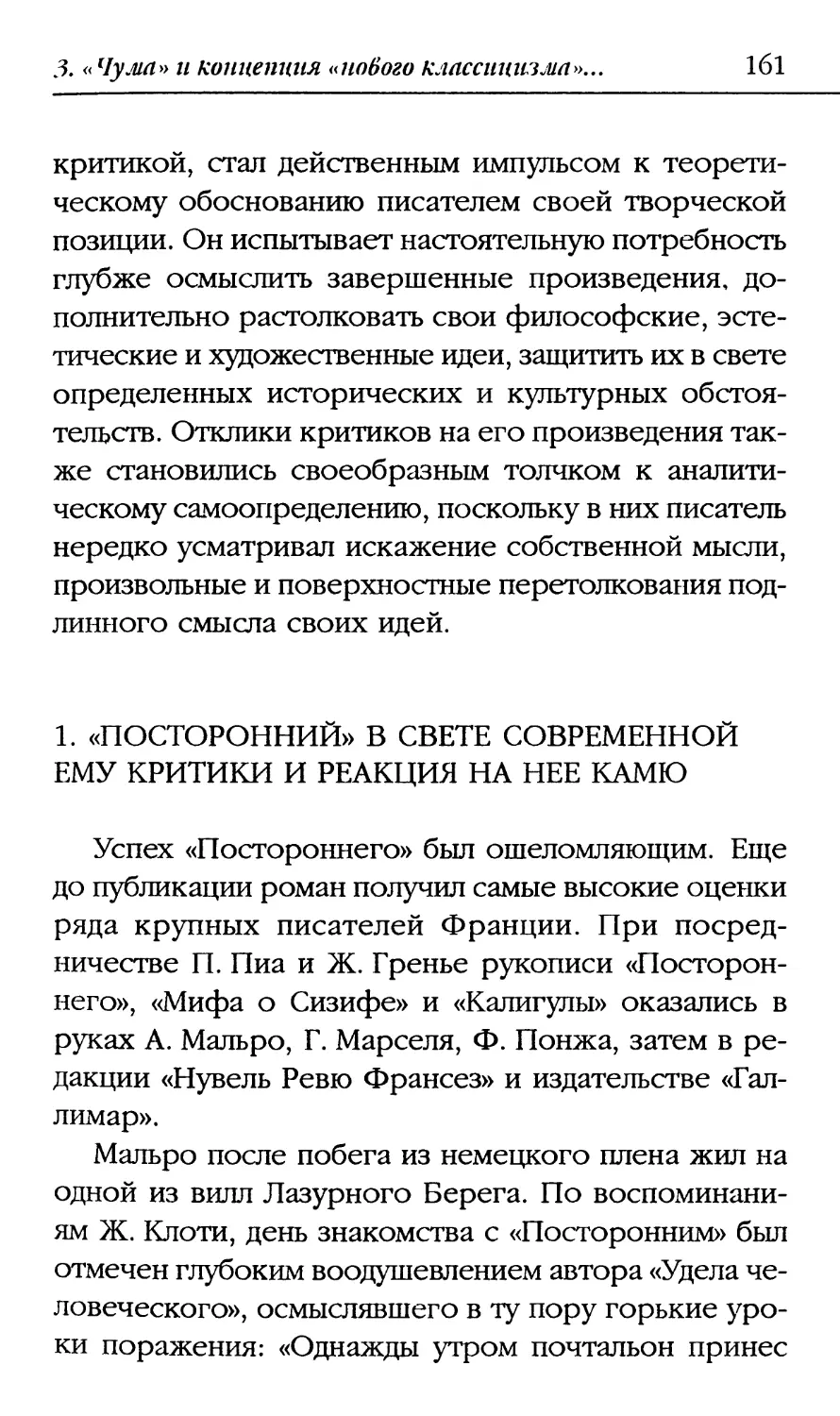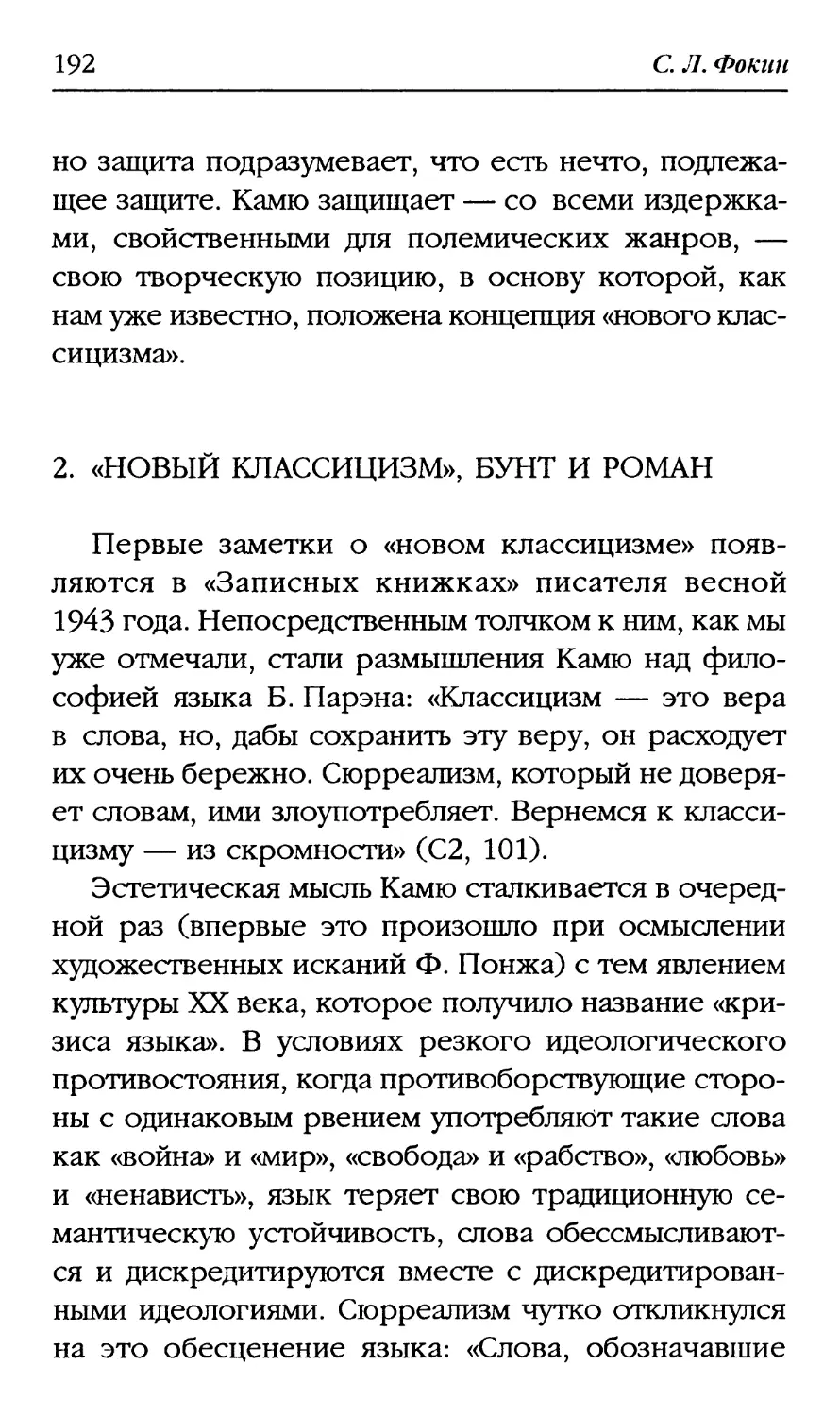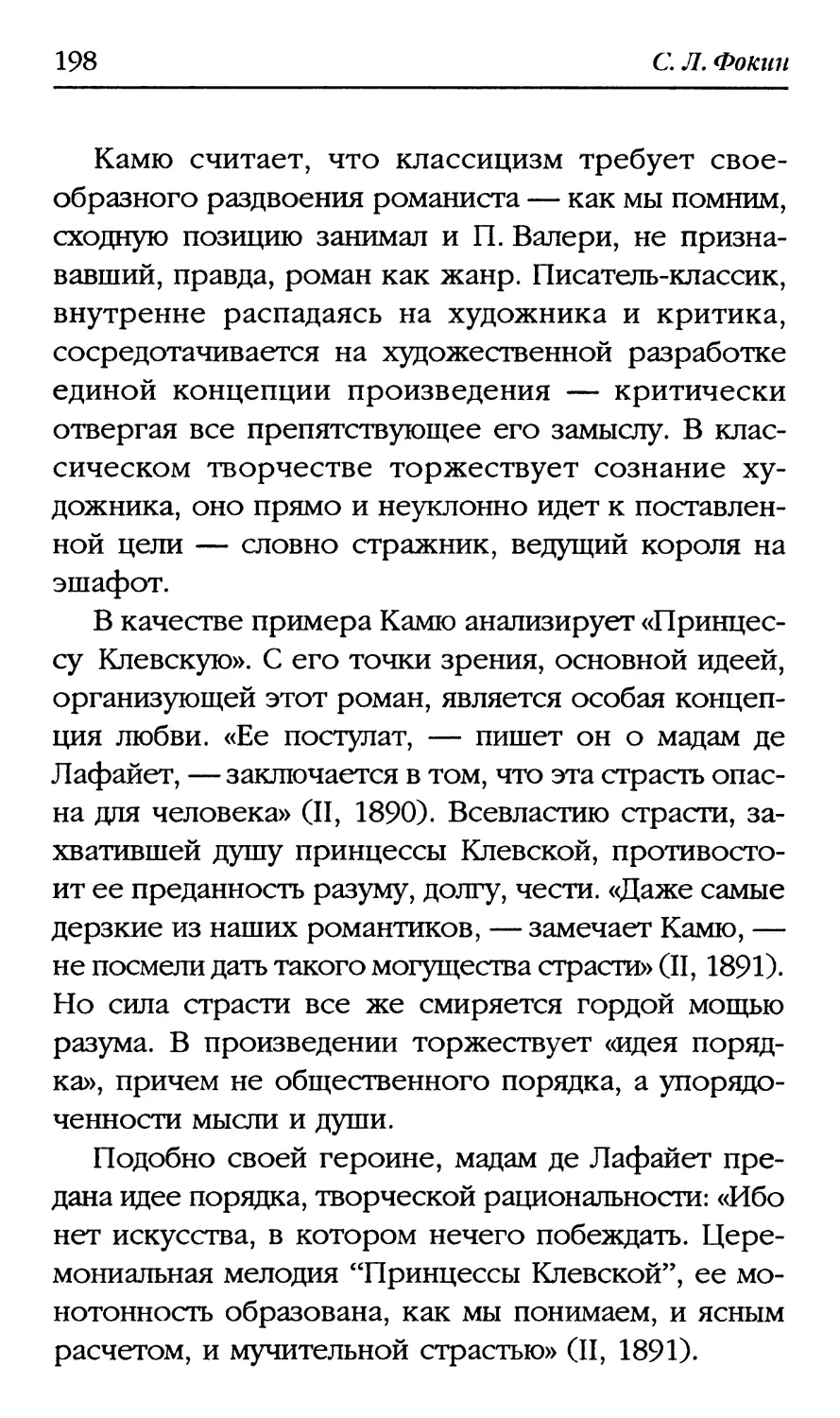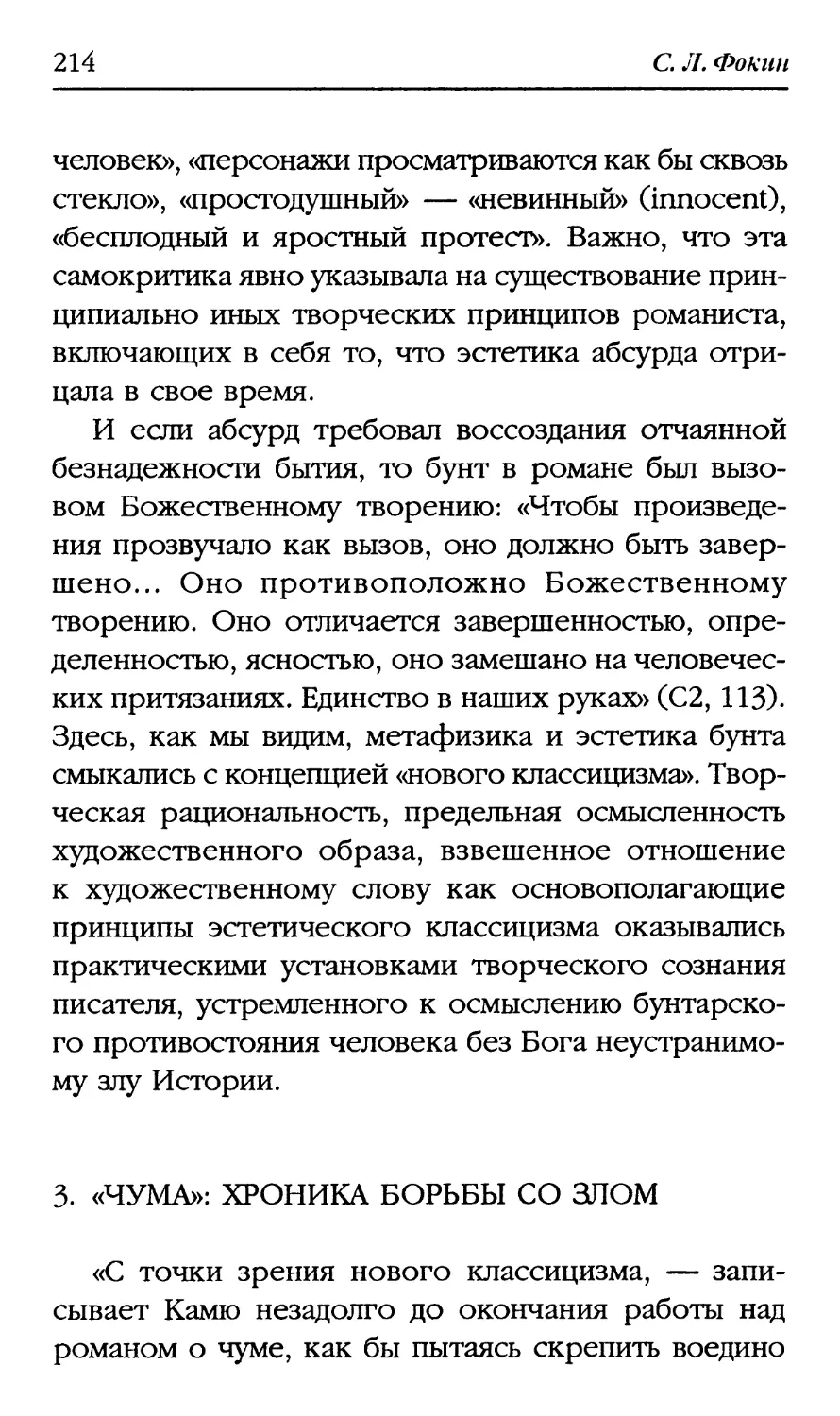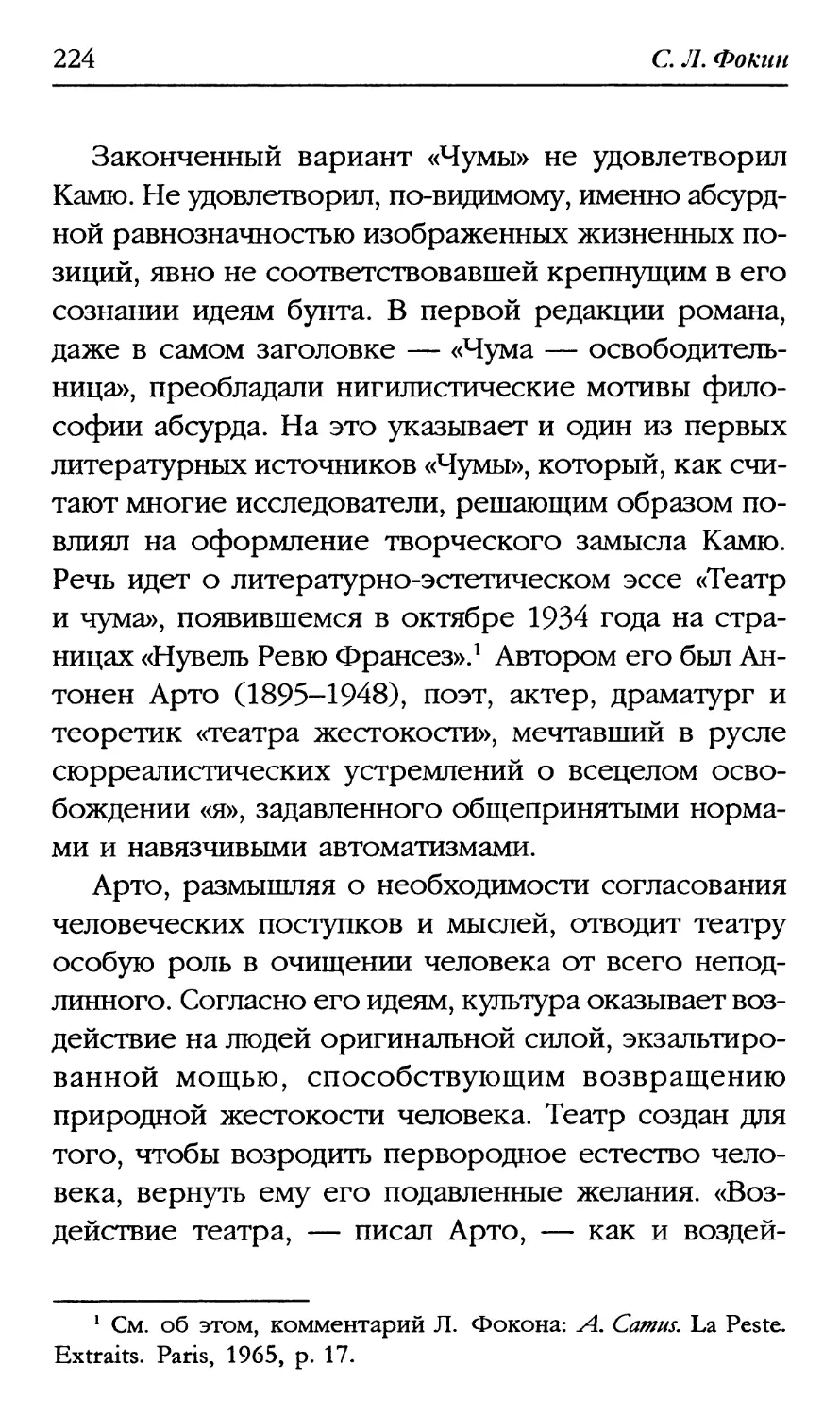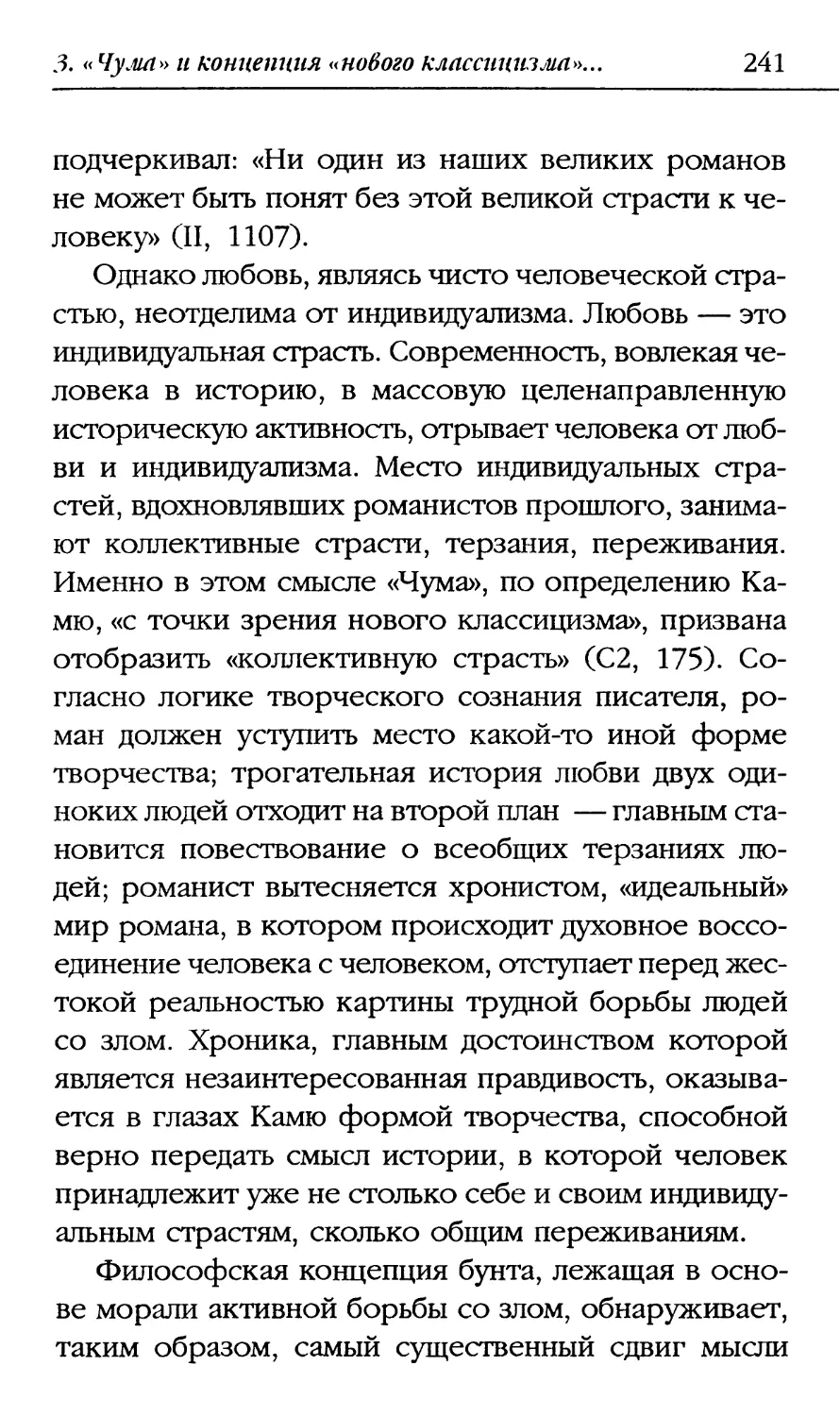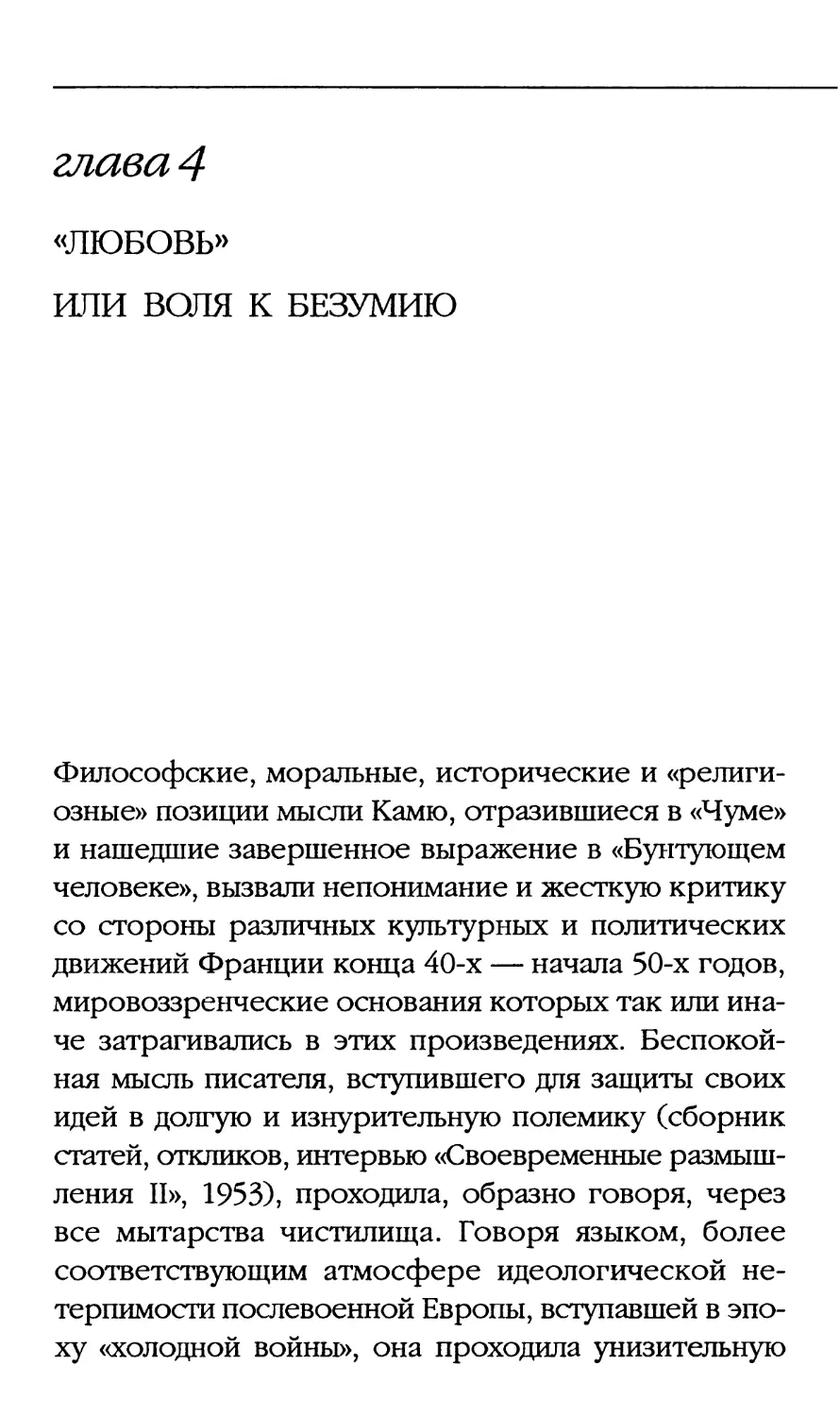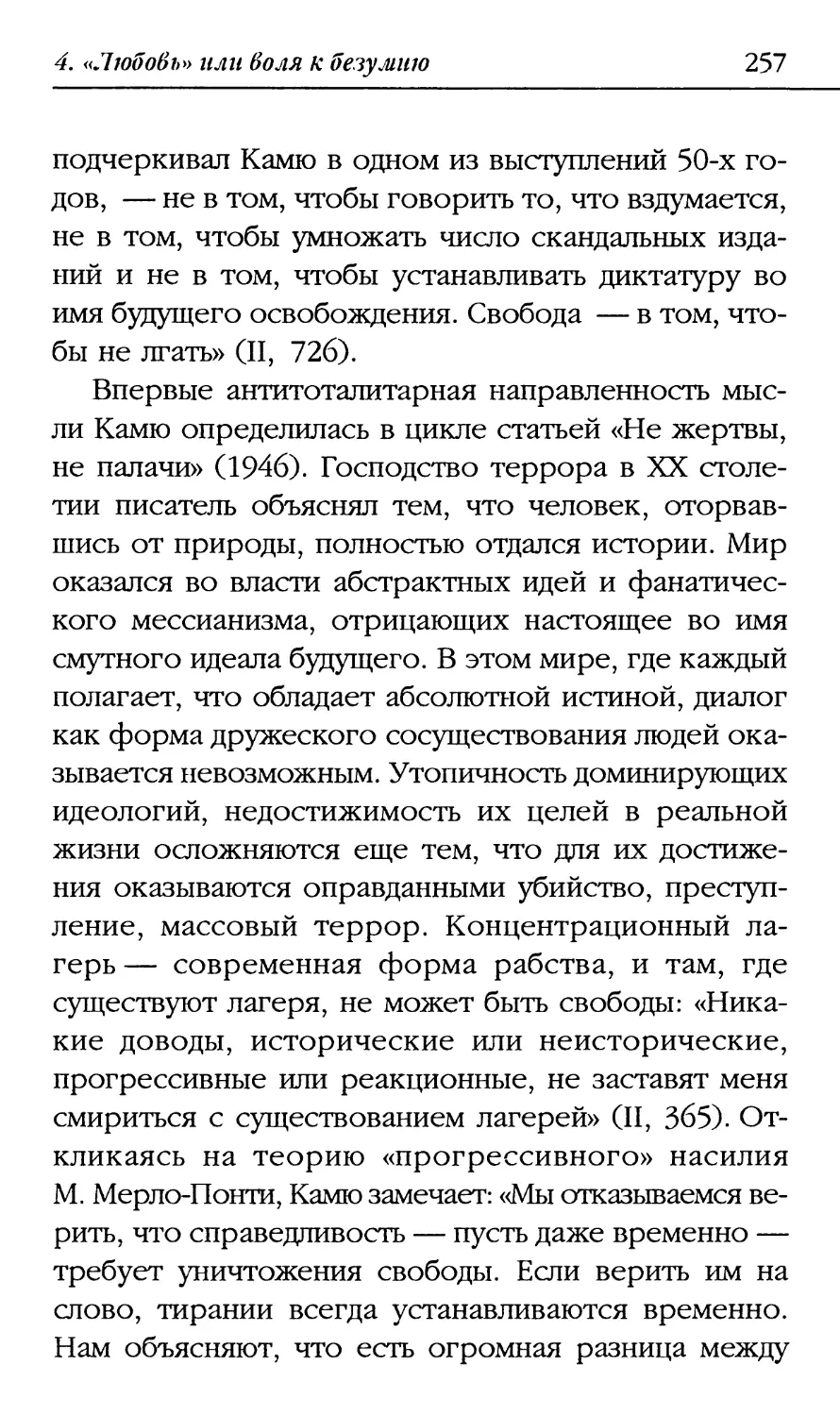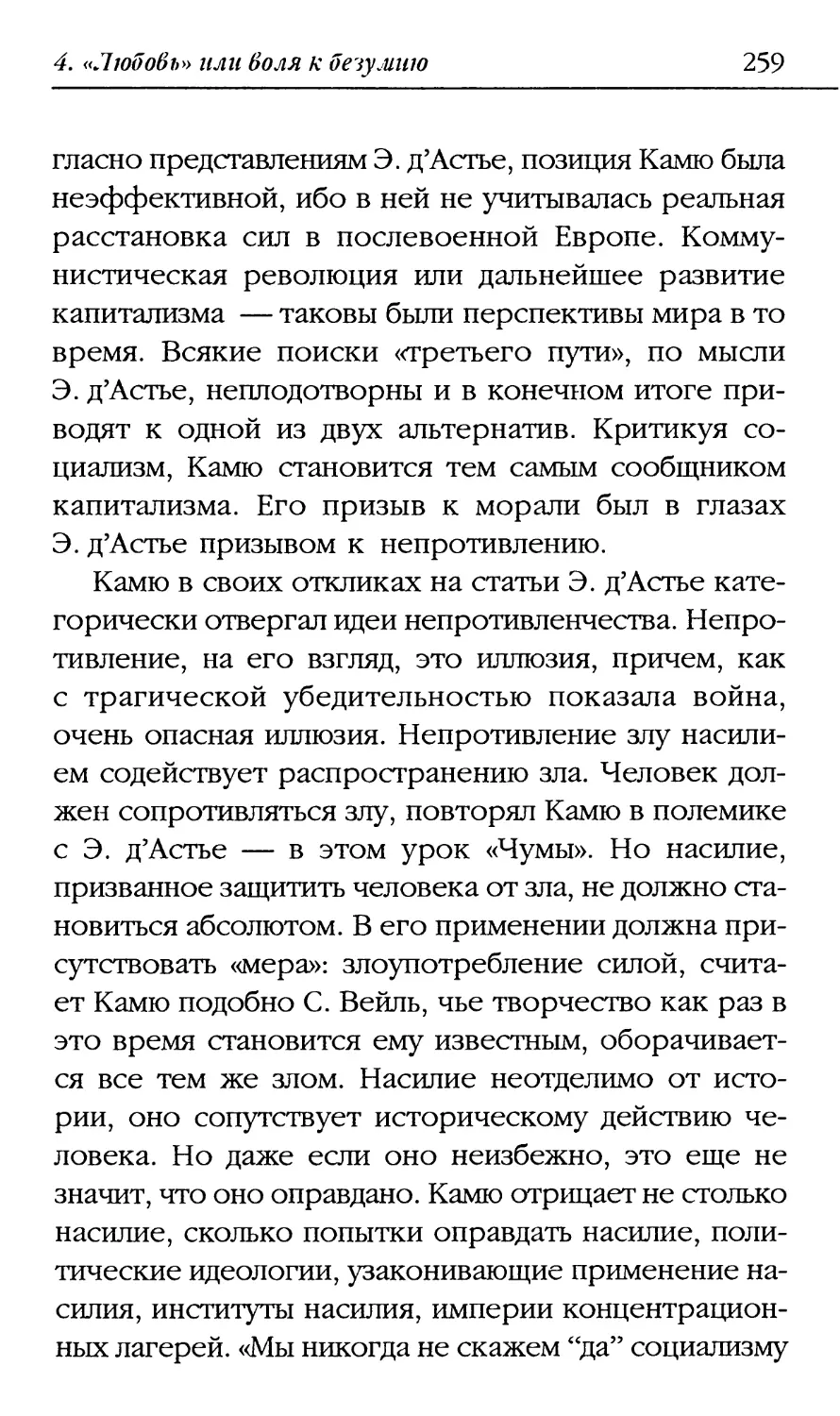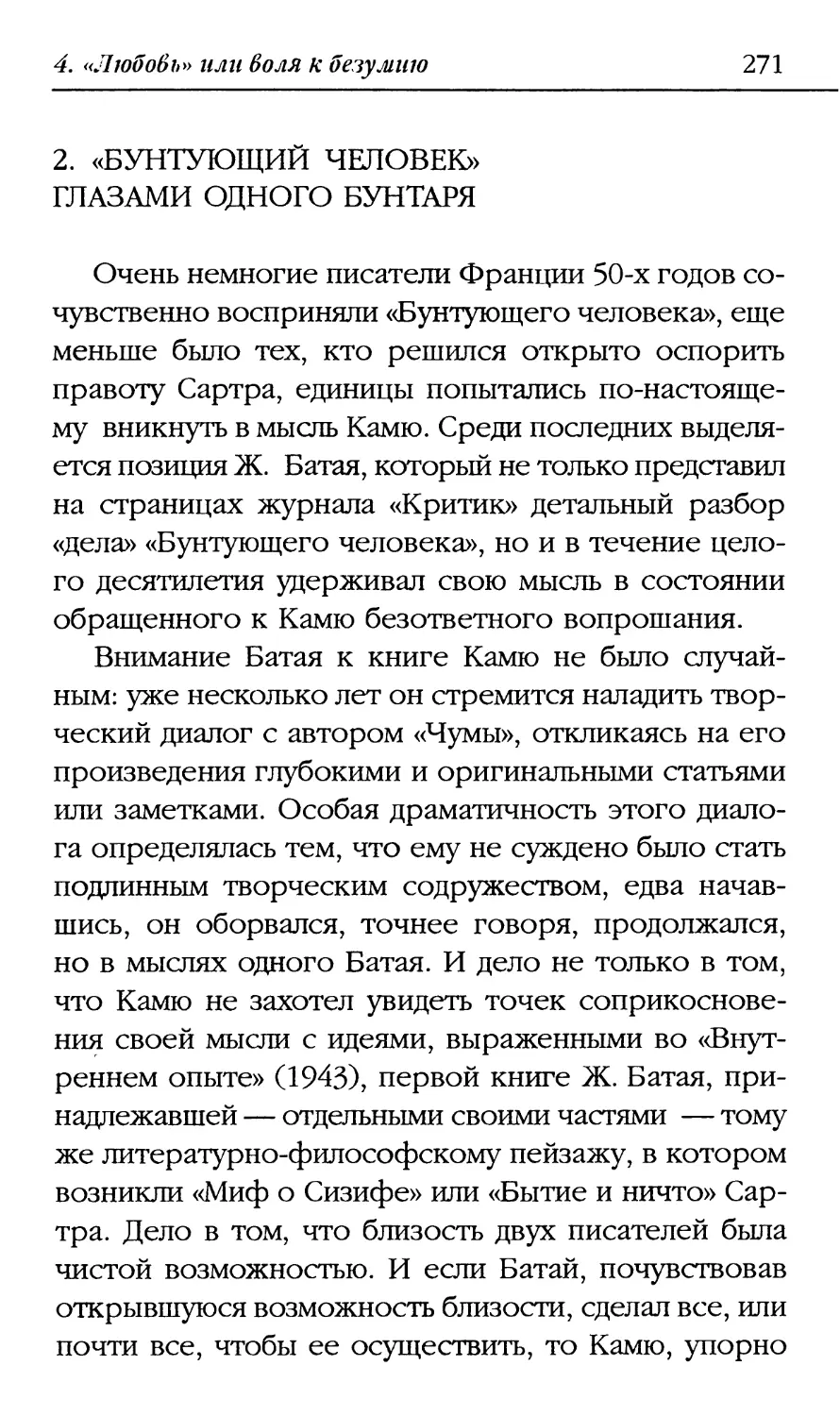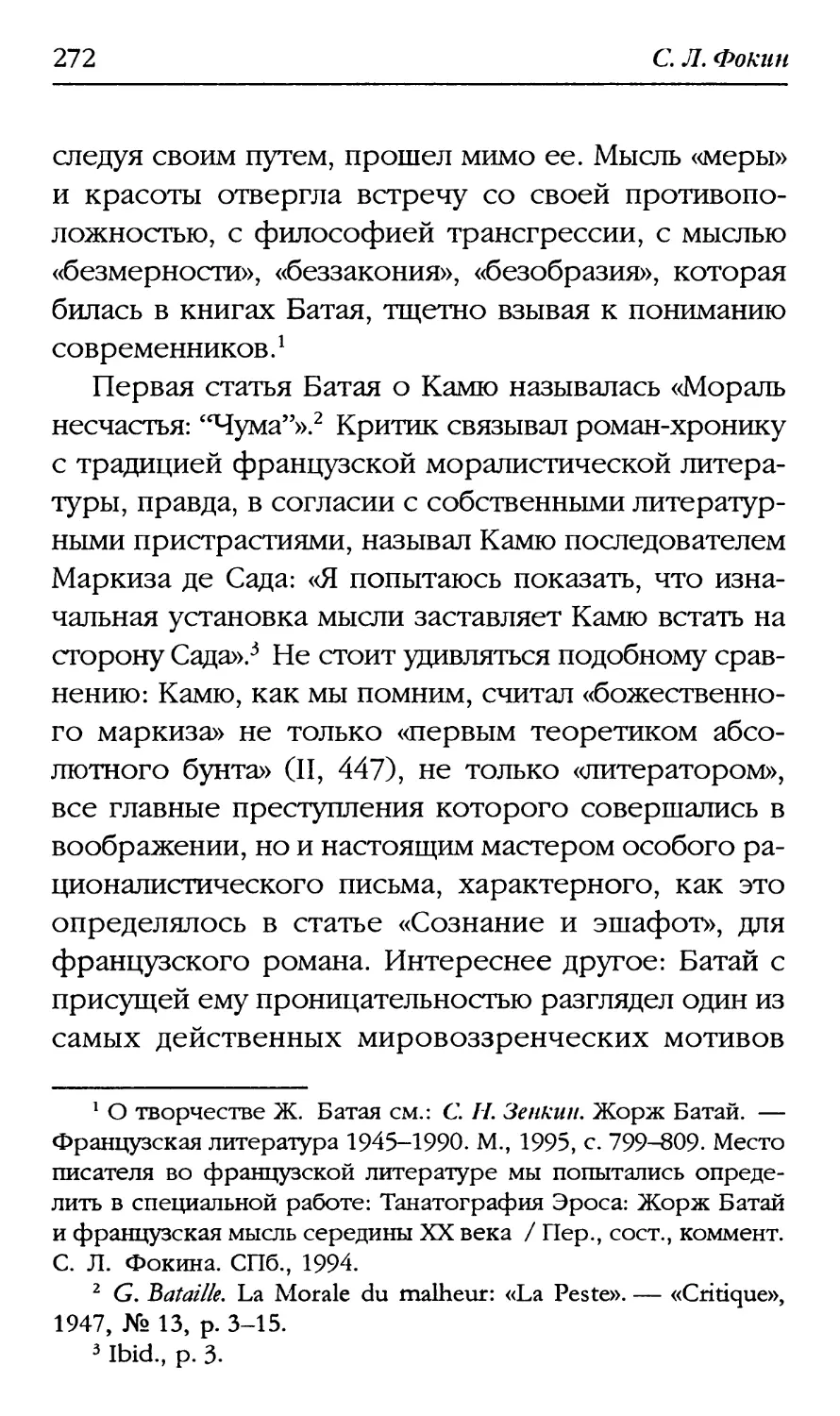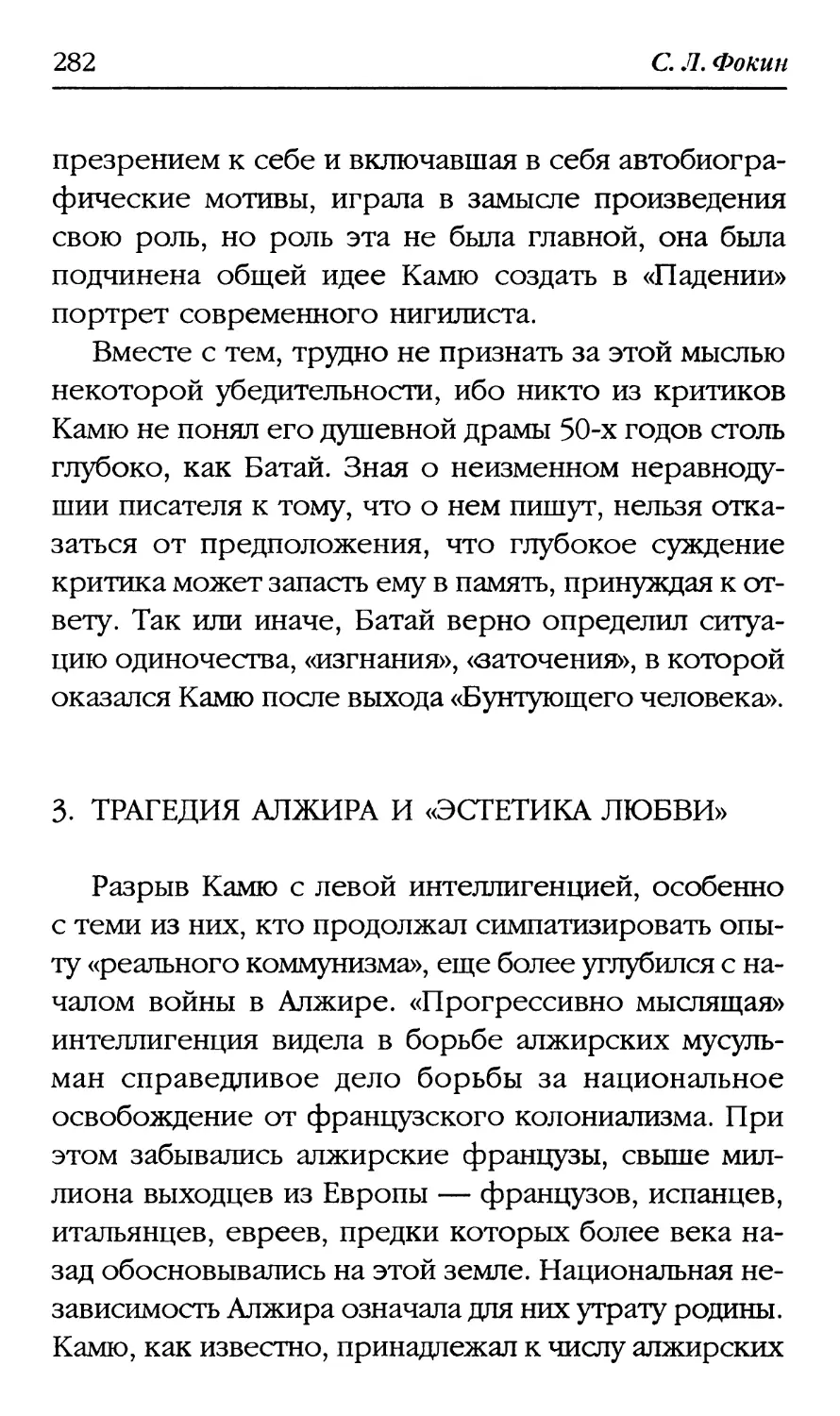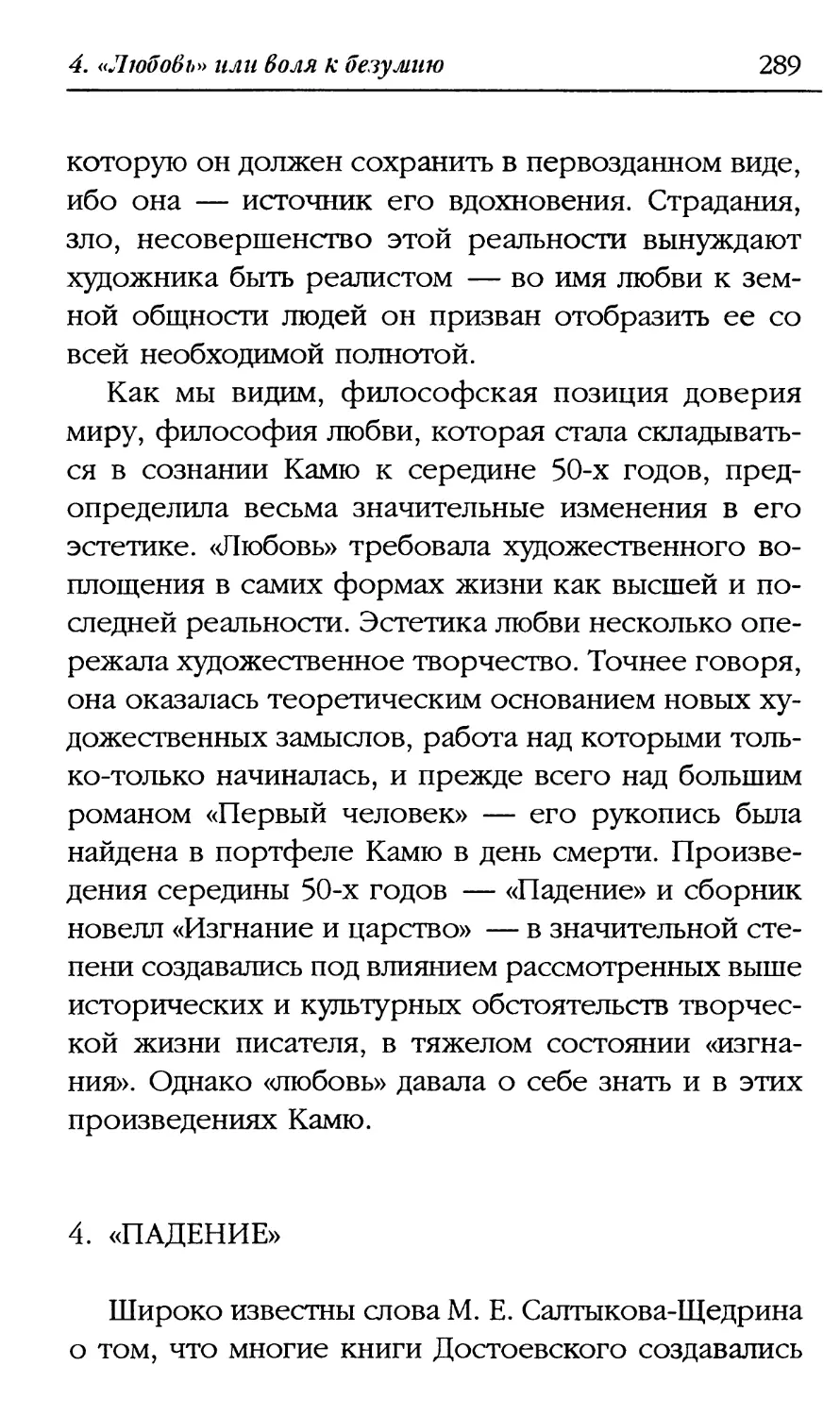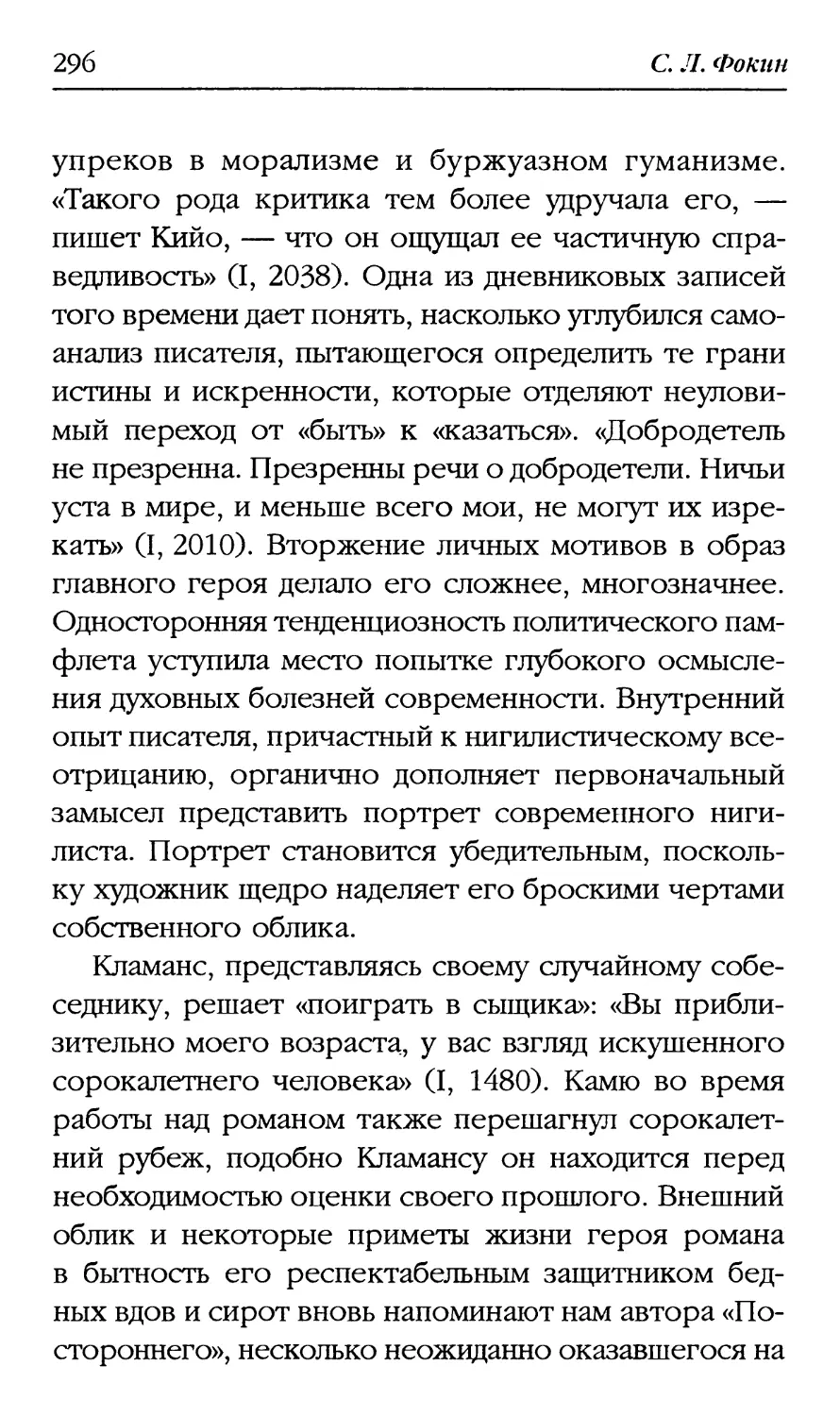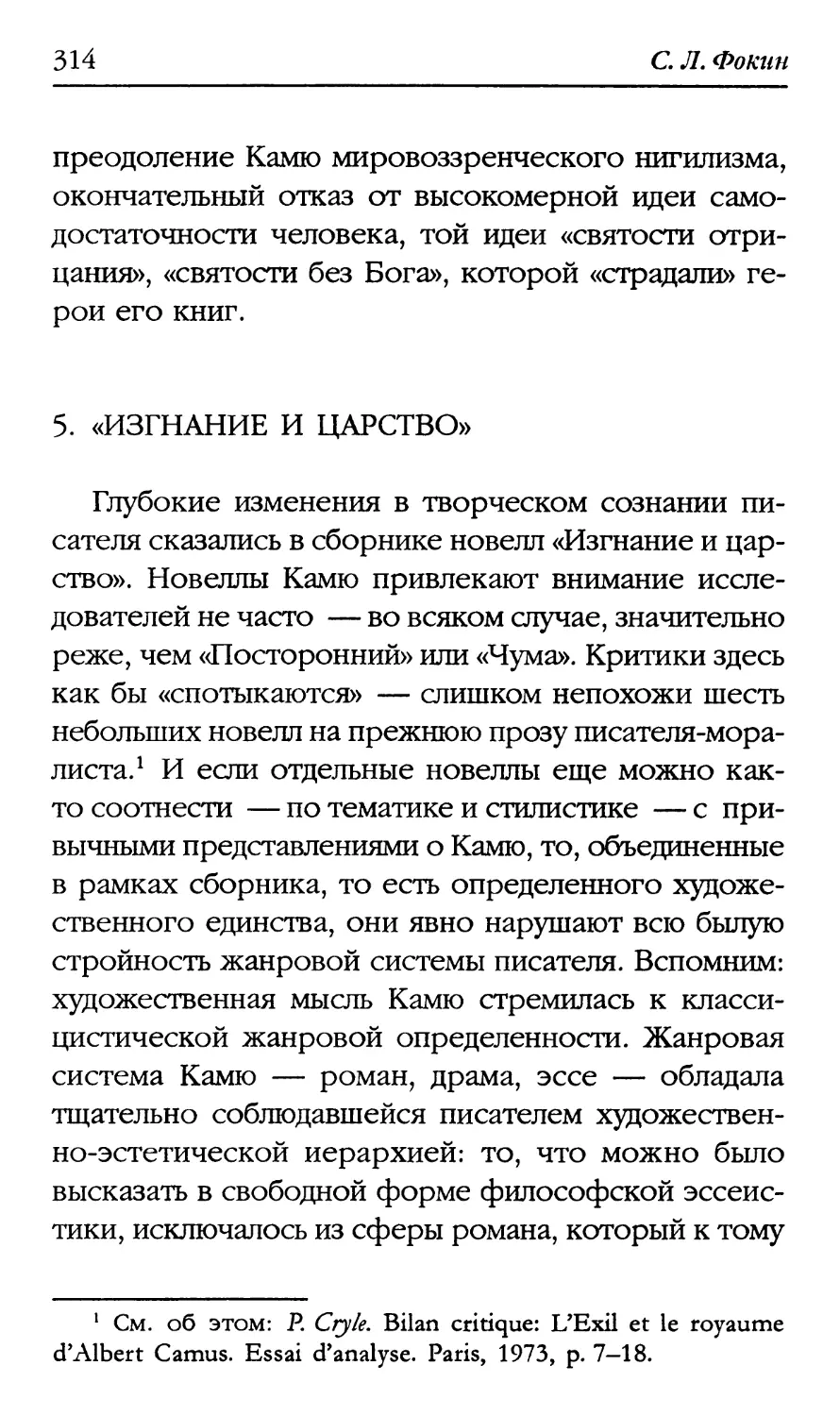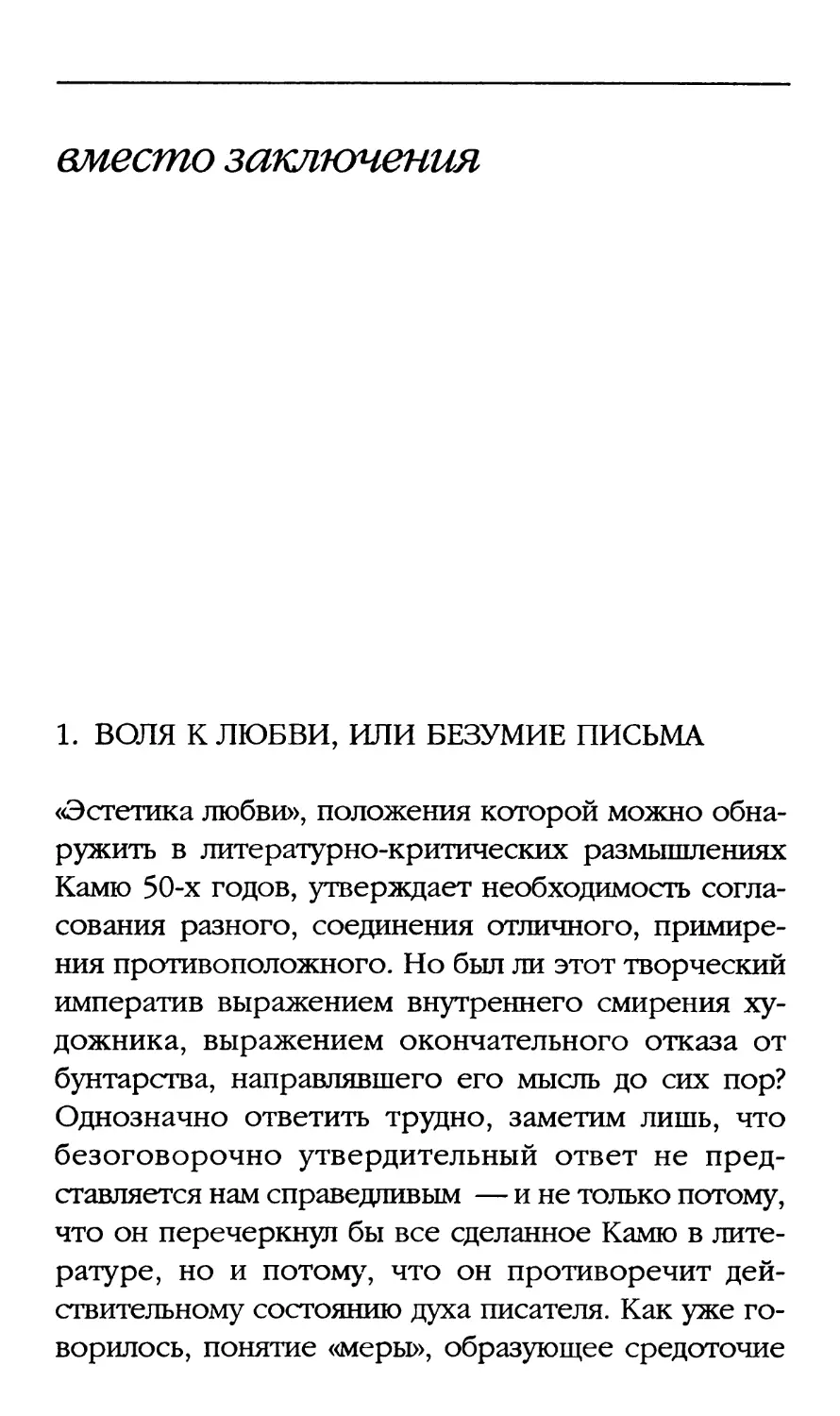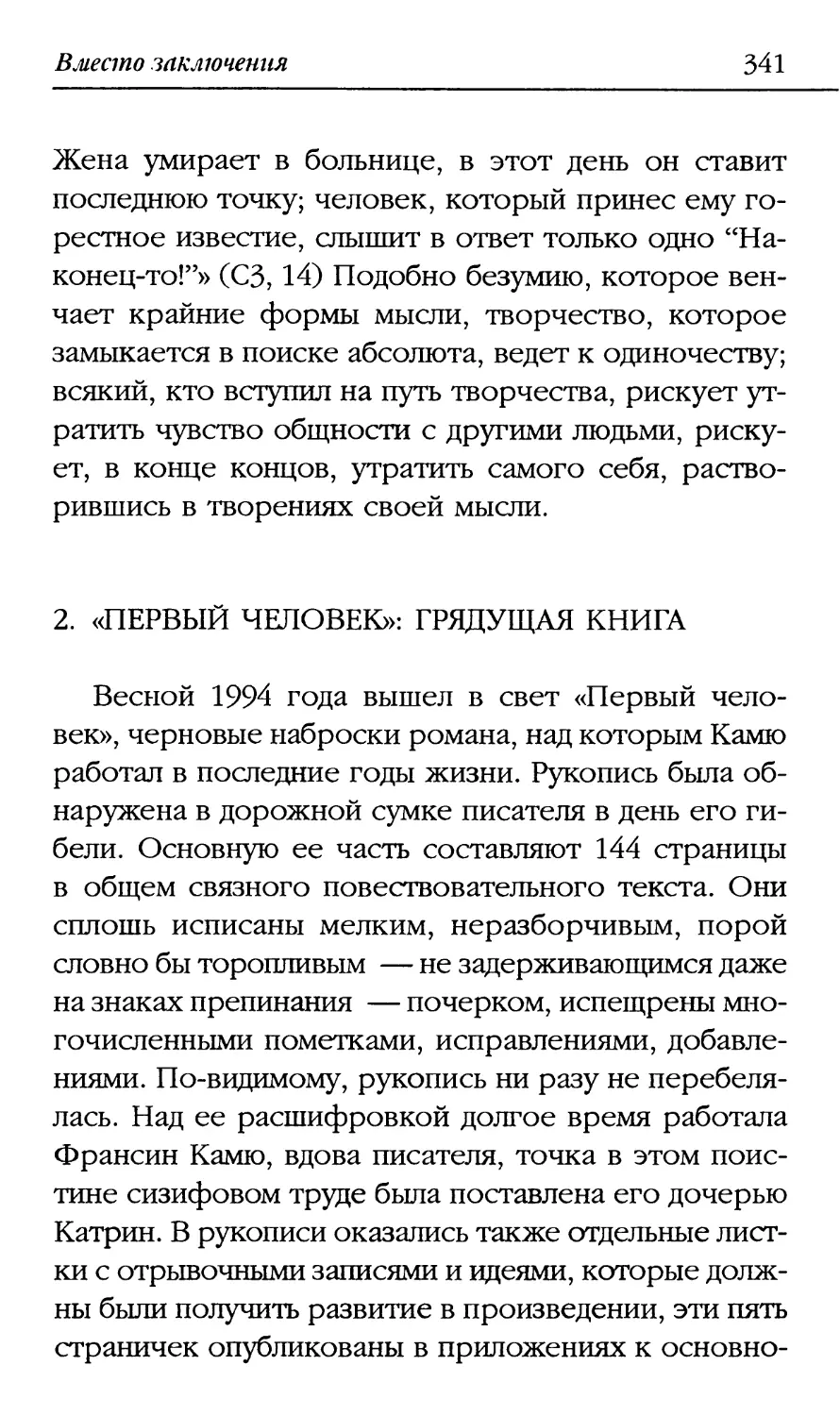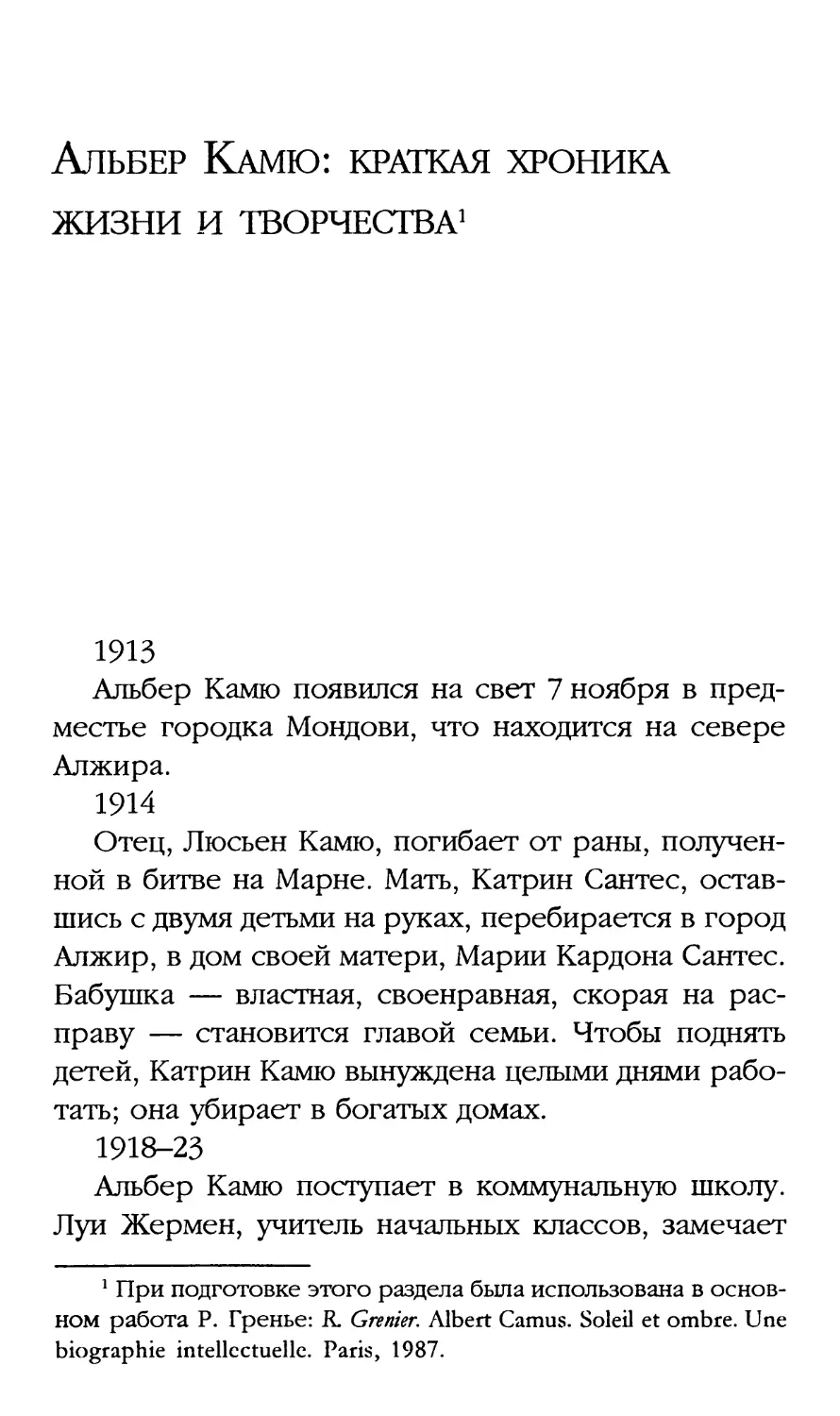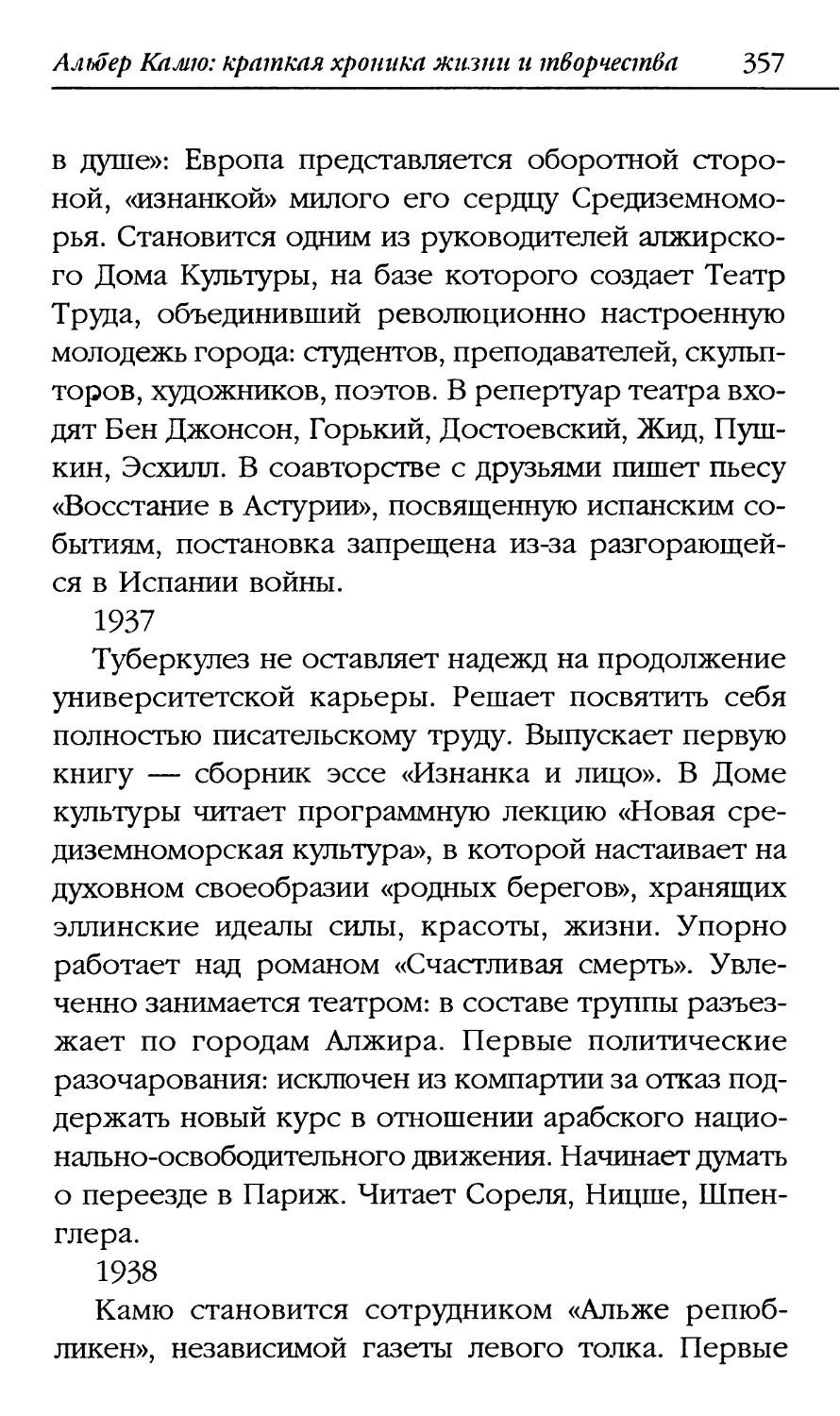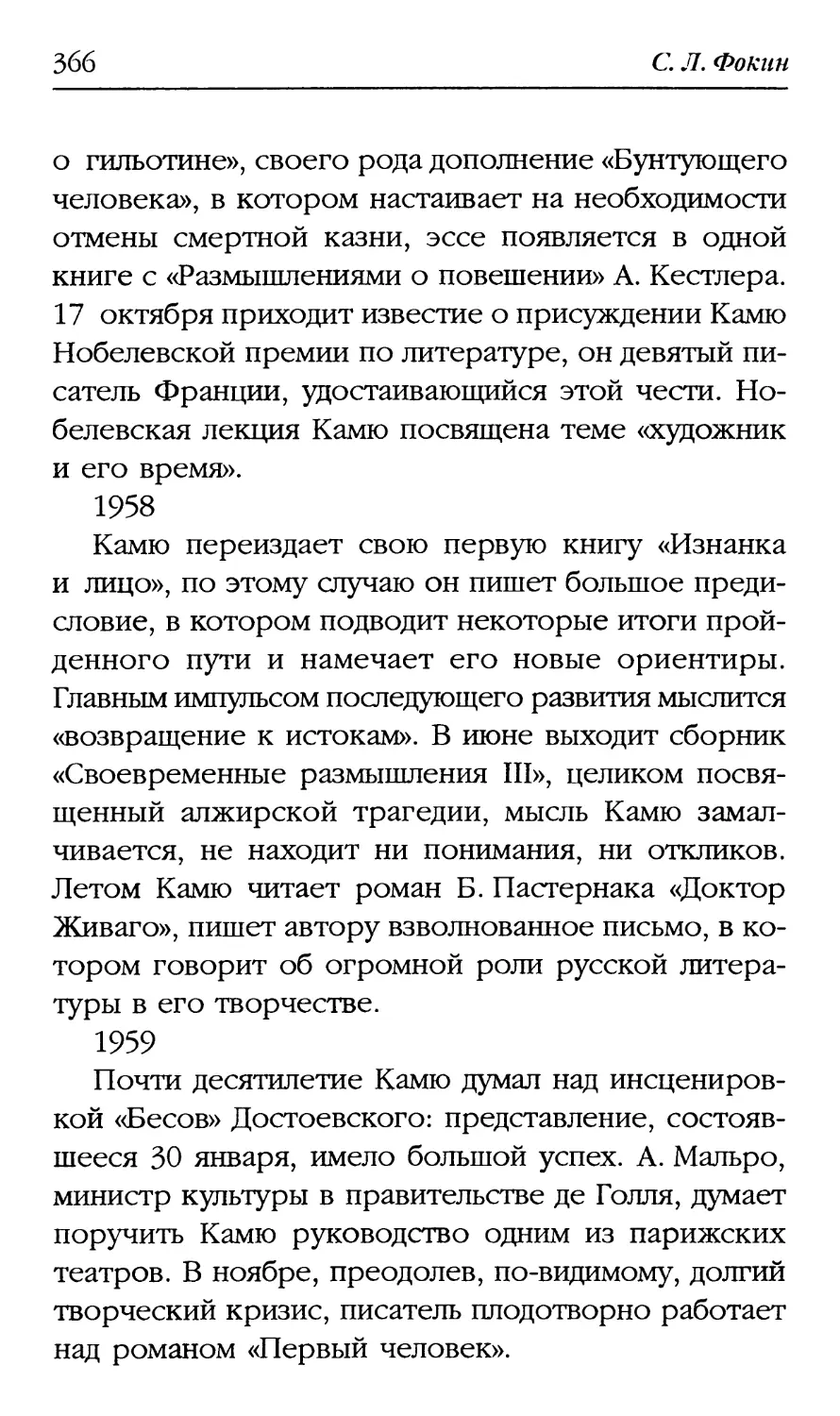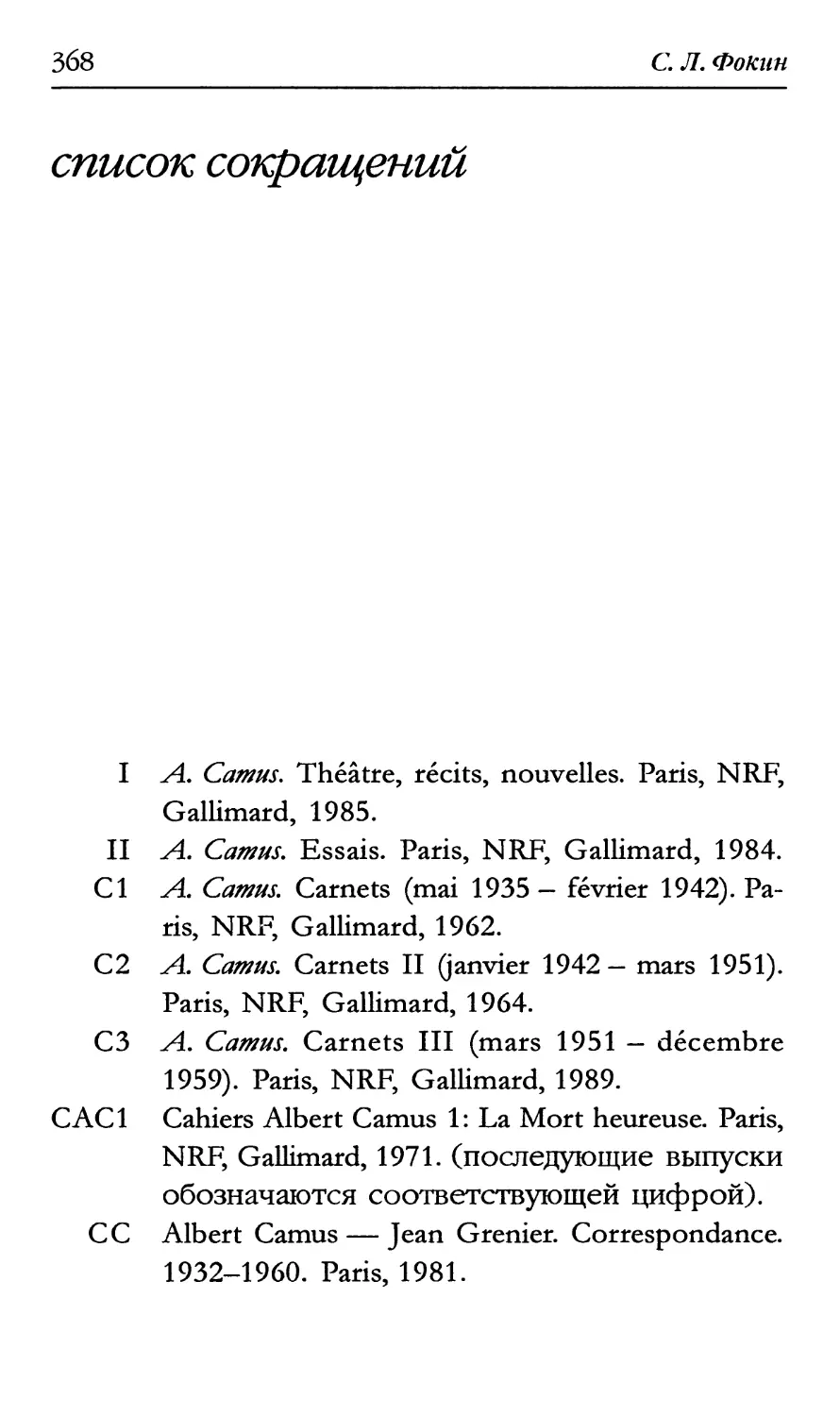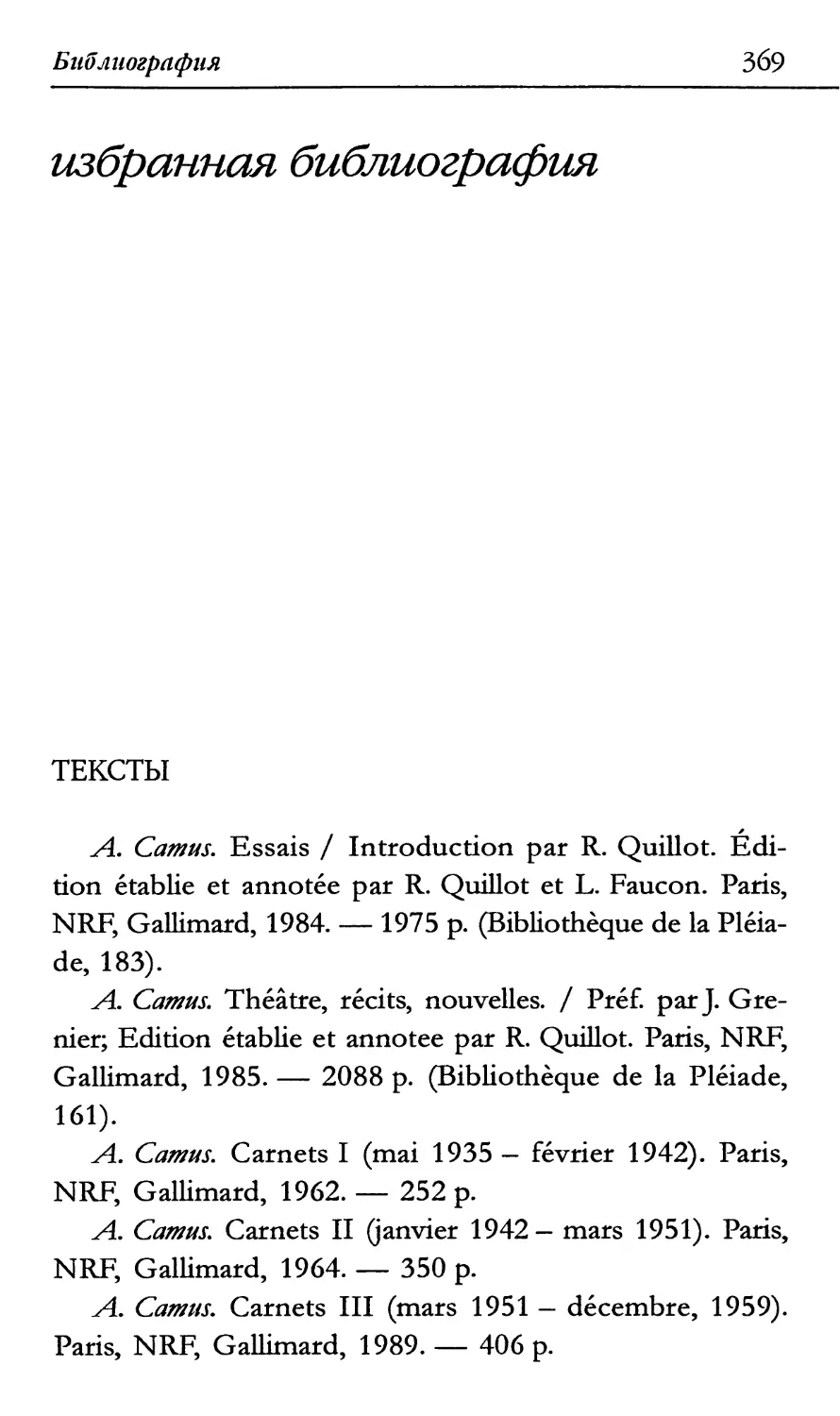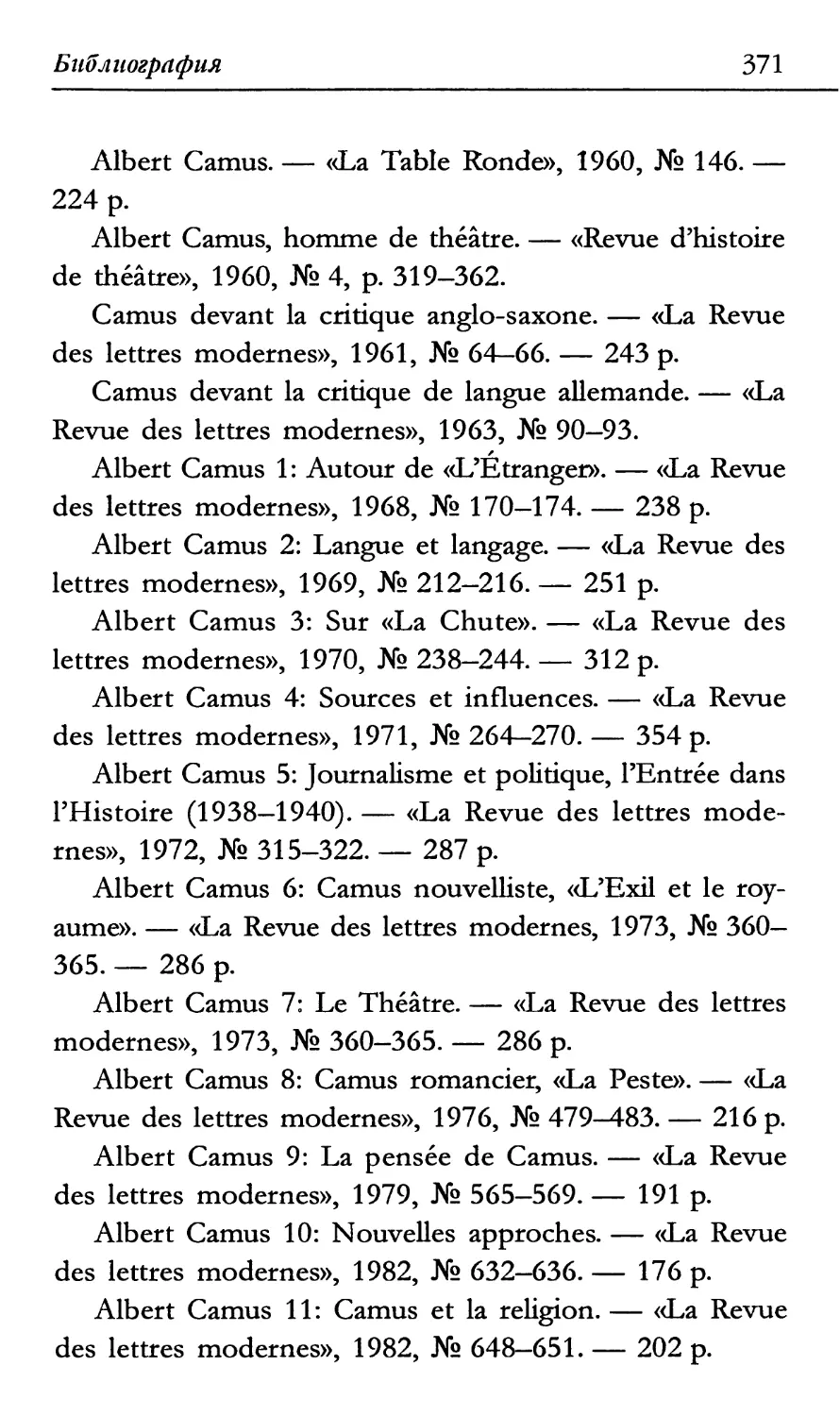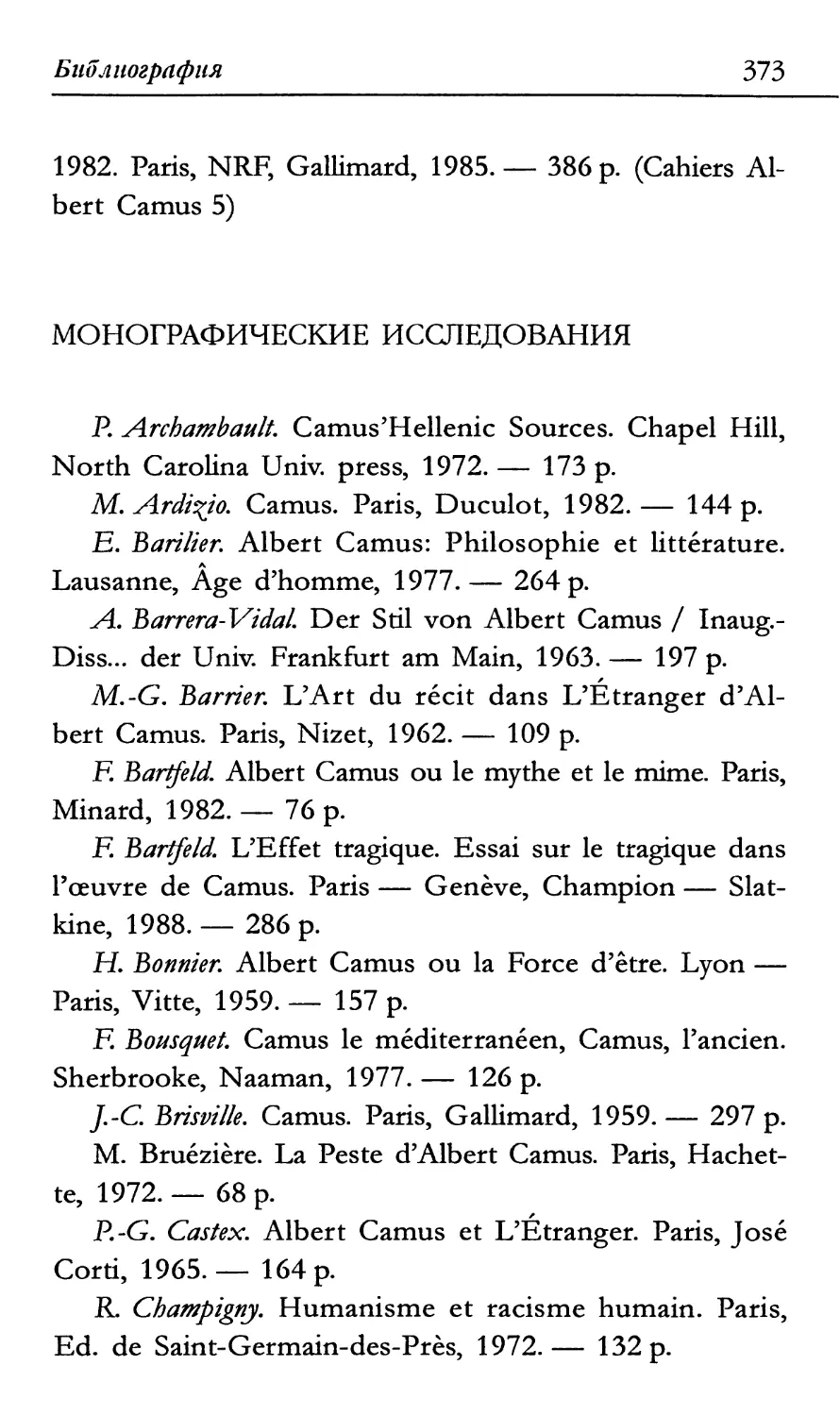Автор: Фокин С.Л.
Теги: язык языкознание лингвистика литература философия
ISBN: 5-89329-144-1
Год: 1999
Текст
ÇALLICINIUM
Sergueï FOKINE
Albert Camus.
Le roman. La philosophie. La vie
Сергей ФОКИН
Альбер Камю.
Роман. Философия. Жизнь
Издательство «АЛЕТЕЙЯ», Санкт-Петербург
1999
ББК Ш5(4Фр.)6-4 Камю
УДК 840(092) Камю
Альбер Камю (1913-1960) — выдающийся
французский писатель, лауреат Нобелевской пре¬
мии по литературе (1957 г.) и один из самых ори¬
гинальных мыслителей современности. «Проблема
человека», «истина человека» всегда находились
в центре внимания А. Камю, и тот круг идей и об¬
разов, сформулированных и обрисованных им еще
в 40-50-е гг., до сих пор остаются как никогда акту¬
альными. Главная задача настоящего исследова¬
ния — проследить внутреннюю логику эволюции
взглядов писателя, а также показать их обуслов¬
ленность культурным контекстом и художествен¬
ной практикой.
Для самого широкого круга читателей.
© С. Фокин — 1999 г.
© Издательство «Алетейя» (СПб.) — 1999 г.
введение
Становление Камю-мыслителя — от проникнутого
сильным нигилистическим пафосом «Мифа о Сизифе»
до «Бунтующего человека» и примыкающих к нему
философских работ 50-х годов, утверждавших идеи
внебожественной (нетрансцендентной) духовности
человека, — сопровождается заметными изменения¬
ми в творческой позиции писателя, в том числе разви¬
тием творческих принципов Камю-романиста, про¬
делавшего непростой путь от «Постороннего» до
новелл «Изгнания и царства», предварявших обраще¬
ние к «большой прозе» — эпическому повествова¬
нию «Первый человек».
Проследить это движение, определить внутрен¬
нюю логику эволюции взглядов писателя на роман,
показать их обусловленность культурным контекстом,
выявить концепцию романа Камю в том виде, в ка¬
ком она отразилась в его литературной критике
и эссеистке, установить ее связи с художествен¬
ной практикой писателя — таковы главные задачи
настоящего исследования.
6
С. Л. Фокин
В творческом становлении Камю поражают стре¬
мительность духовного роста и четкая продуманность
рубежей своего творчества. У критиков — совре¬
менников Камю — не раз возникала мысль о том,
что его творчество реализует некую заранее разра¬
ботанную программу. Отвечая как-то на вопрос на
эту тему, Камю сказал: «Да, у меня был определен¬
ный план, когда я начинал свое творчество: первым
делом я хотел выразить отрицание. В трех формах.
Роман: “Посторонний”. Драма: “Калигула” и “Недора¬
зумение”. Идеология: “Миф о Сизифе”. Я бы не смог
об этом писать, если бы сам не пережил период отри¬
цания: я не обладаю особой творческой фантазией.
Если угодно, это было что-то вроде методологичес¬
кого сомнения Декарта. Но я знал, что отрицанием
жить невозможно и писал об этом в предисловии
к “Мифу о Сизифе”, и тогда уже я задумывал пози¬
тивный этап своего пути. Вновь в трех формах. Ро¬
ман: “Чума”. Драма: “Осадное положение” и “Правед¬
ники”. Идеология: “Бунтующий человек”. Я намечаю
и третью ступень, сосредоточенную вокруг темы
любви. Над этими замыслами я сейчас работаю»
(II, 1610). Это суждение Камю относится к 1957 году:
до его гибели в автокатастрофе оставалось чуть боль¬
ше двух лет, завершить задуманное ему не удастся.
Фактически, перед нами авторская периодизация
творческого пути, которую нельзя не учитывать.
Можно, конечно, усомниться в том, насколько глу¬
боко это высказывание писателя в беседе с журна¬
листами отражало реальную многосложность твор¬
ческого процесса, но всякие сомнения на этот счет
пропадают, если обратиться к записным книжкам
Введение
1
Камю. Они буквально пестрят схемами, планами,
опытами периодизации собственного творчества,
суммирующими сделанное, подводящими итог прой¬
денного и намечающими новые задачи и перспекти-
вы (С1, 224; С2, 201, 267, 328, 342-343; СЗ, 187).
В стремлении к предельной осмысленности своей
творческой жизни, жесткой рационализации своего
пути сказывалась одна из особенностей Камю, отра¬
жавшая его сокровенное мировоззренческое убеж¬
дение: не обнаруживая высшего смысла бытия вне
человека, он пытался наполнить смыслом человечес¬
кую жизнь, при этом его биография в значительной
степени становилась сознательным творением.
Итак,'согласно представлениям Камю, в его твор¬
честве можно выделить три основных этапа, или, как
он их называл, три «цикла».
Цикл абсурда состоит из романа «Посторонний»
(1942), эссе «Миф о Сизифе» (1942) и пьес «Калигула»
(1944) и «Недоразумение» (1944). Все эти произве¬
дения вращаются вокруг единого тематического цент¬
ра — абсурдности человеческого существования —
и неразрывно связаны между собой. В авторском пре¬
дисловии к изданию пьес их связь определялась сле¬
дующим образом: «В “Недоразумении” и “Калигуле”...
использована техника драмы для уточнения мысли,
отправная точка которой — в формах романа и эс¬
се — находится в “Постороннем” и “Мифе о Сизи¬
фе”» (I, 1744). Связь подчеркивалась и тем, что пи¬
сатель хотел выпустить все произведения цикла одной
книгой. В литературной критике Камю, относящей¬
ся к периоду работы над «абсурдом», обращают на
себя внимание попытки определить особенности
8
С. Л. Фокин.
творчества «романистов-фштософов» (рецензии на
раннюю прозу Сартра, эссе о Кафке), обобщенные
затем в разделе «Философия и роман» «Мифа о Си¬
зифе». Уже после выхода в свет своих произведе¬
ний Камю додумывает спорные положения своей
концепции, намечая одновременно новые творчес¬
кие ориентиры (письма к П. Боннелю, Ф. Понжу,
А. Руссо).
Цикл бунта образован таким же жанровым трип¬
тихом — роман «Чума» (1947), пьесы «Осадное поло¬
жение» (1948) и «Праведники» (1950), эссе «Бунту¬
ющий человек» (1951). Новую мировоззренческую
концепцию сопровождали заметные изменения
в творческой позиции писателя: в 40-е годы появля¬
ется несколько обширных литературно-критических
опытов Камю, посвященных вопросам эстетики ро¬
мана и осмыслению особенностей художественной
традиции французской моралистической прозы (ста¬
тья «Сознание и эшафот» о романе мадам де Лафай-
ет, предисловия к «Максимам» Шамфора и прозе Мел-
випла). Эти литературно-критические размышления,
знаменовавшие настойчивое стремление писателя
связать свое творчество с классической литератур¬
ной традицией, выявлявшие его сознательный твор¬
ческий «традиционализм», были сопряжены с много¬
летним трудом романиста над «Чумой» и содержали
многие элементы той концепции романа, что будет
изложена в философском эссе «Бунтующий человек»
(раздел «Роман и бунт»).
После «абсурда» и «бунта» Камю задумывает цикл
«любви»: роман-эпопею об исторических судьбах свое¬
го поколения под названием «Первый человек», пьесу
Введение
9
«Дон Фауст», трактующую темы Фауста и Дон Жуа¬
на, и эссе в афоризмах, сосредоточенное на образе
Немезиды, одной из самых древних и почитаемых
греческих богинь, символизировавшей у писателя
идеи меры и справедливости, подобно тому как Си¬
зиф воплощал «абсурд», а Прометей — «бунт». Тре¬
тий цикл не был завершен — смерть безжалостно
перечеркнула строгую линию творческой судьбы,
однако направление духовного роста Камю невоз¬
можно понять без учета этих замыслов. Важно, что
идея «любви» доминировала в мышлении писателя
в 50-е годы. В плане творчества она совпадала с мо¬
тивами «возвращения к истокам» — сильнейший им¬
пульс художественной мысли Камю направлен в эти
годы на «возвращение к самому себе». В эстетичес¬
ком плане идея «любви» естественным образом смы¬
калась с идеями художественной преемственности
и литературной традиции — в центре внимания
Камю-литературного критика в 50-е годы находит¬
ся, с одной стороны, творчество писателей, которых он
считает своими литературными учителями («Встре¬
чи с Андре Жидом», предисловия к «Островам» Ж. Гре¬
нье и романам Р. Мартен дю Гара), а с другой —
творчество духовно близких ему современников
(предисловия к произведениям Л. Гийу, Э. Роблеса,
Р. Шара). В литературно-критических размышлени¬
ях 50-х годов Камю в немалой степени занят и опре¬
делением эстетических идеалов, ориентируясь на
которые он собирается продолжать свое творчество.
На первом месте среди них — русская классическая
литература, представленная в художественном мыш¬
лении Камю творчеством Толстого и Достоевского.
10
С. Л. Фокин
Полагая опыт великих русских классиков живитель¬
ным источником своей художественной мысли, позд¬
ний Камю особо ценил у них высокую духовность,
причастную вечности эпичность и убедительную пол-
нокровность художественных образов.
Становление Камю-мыслителя и художника не
было, конечно, прямолинейным движением от нуля
к бесконечности, от ничто к абсолюту. Его эволю¬
цию лучше всего представить образом спирали, тем
более, что, говоря о своем пути, писатель и сам упо¬
минал его. «Во всяком случае я могу Вам сказать, —
писал Камю в 1955 году А. Николя, — что любой
писатель, развиваясь, повторяет самого себя. Эво¬
люция мысли проходит не прямой линией — восхо¬
дящая она или нисходящая, — а как бы спиралью,
когда мысль, вновь проходя старыми тропами, воз¬
вышается над ними» (II, 1614-1615). Это замечание
Камю, раскрывающее его обостренное ощущение
преемственного развития своей писательской судь¬
бы, подкрепляет наше убеждение в плодотворности
подхода к творчеству писателя с позиции последо¬
вательного историзма, когда ццеи автора — фило¬
софские, эстетические, художественные — берут¬
ся не в виде законченных доктрин и систем, а в их
истории, живом драматичном процессе становления
в конкретной исторической и литературной ситуа¬
ции — от первоначальных импульсов до включения
в активный творческий арсенал или, напротив, до
осознания невозможности дальнейшего движения
по определенным путям. Эволюцию Камю следует
понимать как напряженное движение — ввысь
и вглубь, — как постепенное раскрытие различных
Введение
11
граней единого миросозерцания, как развертывание
разных сторон живой ищущей мысли — с подхвата¬
ми, намеренными перекличками, неизбежными по¬
вторами и возвращениями к исходным пунктам, под¬
черкивающими органичную взаимосвязь сменяющих
друг друга рубежей становления творческой лично¬
сти писателя. Вот почему, принимая вслед за Камю
трехэтапное деление его творческого пути: «аб¬
сурд» — «бунт» —«любовь», —мы обретаем возмож¬
ность неотступно следовать за внутренне обуслов¬
ленным ходом его художественной мысли. Для
полноты картины эстетической эволюции Камю мы
обращались и к самым первым его творческим ша¬
гам — юношеским пробам пера, ранней эссеистике
и неудавшемуся опыту «Счастливой смерти», — рас¬
сматривая их лишь в плане формирования романно¬
го мышления писателя, поскольку обстоятельный
и разносторонний анализ предшествовавших «аб¬
сурду» творческих начинаний уже проведен в кри¬
тической литературе, причем в работах отечествен¬
ных исследователей (Е. П. Кушкин, С. Г. Семенова,
В. В. Шервашидзе).
Установленная периодизация — раннее творче¬
ство (1932-1938), «абсурд» (1938-1941), «бунт» (1941—
1952), «любовь» (1952-1960) — обусловливает струк¬
туру нашего исследования: в соответствии с ней
выделены четыре главы работы.
глава 1
«...ХОЧЕШЬ БЫТЬ ФИЛОСОФОМ
ПИШИ РОМАНЫ»
«Посторонний», небольшой роман, с которым Камю
вошел в большую литературную жизнь, был завер¬
шен в мае 1940 года. Согласно текстологическим
изысканиям А. Аббу, автора диссертации о генезисе
«Постороннего», непосредственная работа над про¬
изведением продолжалась около четырех месяцев,
за которыми последовали шесть месяцев стилисти¬
ческой правки.1 Итого — меньше года на роман,
который с момента своего появления вошел в «зо¬
лотой фонд критики», отметил «важнейшую дату»
в истории французской литературы и даже оценивал¬
ся как один «из самых захватывающих, убедительных
и лучшим образом построенных романов в мировой
1 A. Abbou. Genèse et édition critique de L’Étranger. Paris, 1971.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
13
литератур©).1 Подобную стремительность исполнения
и небывалый успех произведения можно объяснить
только одним: философско-эстетическая концепция
романа складывалась долгие годы напряженного писа¬
тельского ученичества Камю, и «Посторонний» стал,
говоря словами автора об одном из любимых его
романов, «сокровенным сплавом жизненного опыта
и мысли, жизни и раздумий о ее смысле» (II, 1417).
1. ПЕРВЫЕ ШАГИ
«Желание стать писателем, — вспомнил Камю
в беседе с одним из критиков, — возникло у меня
в семнадцать лет, и тогда же я смутно понял, что
стану им».2 Этот исходный рубеж был назван не слу¬
чайно — в 1930 году, году семнадцатилетия будуще¬
го романиста и мыслителя, в его жизни происходят
два события, круто изменившие судьбу бедного сти¬
пендиата Алжирского лицея Бюжо, до сих пор выде¬
лявшегося среди сверстников разве что исключитель¬
ными способностями и тягой к учению да здоровой
жаждой жизни, к которой, располагала природа се-
веро-африканского Средиземноморья: нежное море,
ослепительное солнце, щедрая растительность.
В 1930-1931 учебном году Камю перешел в по¬
следний класс лицея, в котором преимущественно
занимаются философией. Занятие вел новый лицей¬
1 B. T. Fitch. L’Étranger d’Albert Camus. Un texte, ses lecteurs,
leurs lectures. Etude méthodologique. Paris, 1976, p. 11.
2 J.-C. Brisville. Camus. Paris, 1959, p. 256.
14
С. Л. Фокин
ский преподаватель Жан Гренье, который, едва вой¬
дя в класс, попросил пересесть на первую парту юно¬
шу, показавшегося ему «недисциплинированным».1
Им оказался будущий автор «Бунтующего человека».
О глубоком воздействии Гренье на духовную жизнь
молодого Камю, о подлинной судьбоносности их
встречи, придавшей творческое направление зарож¬
давшейся личности юного алжирского лицеиста, мы
еще поговорим особо, а сейчас обратимся к друго¬
му событию, по странной случайности совпавшему
с первым и также оказавшемуся важнейшим для
внутреннего развития молодого человека: через
месяц после начала учебного года Гренье узнает, что
у его ученика открылся туберкулез легких.
Можно вообразить, какое потрясение испытал
семнадцатилетний юноша, единственным достояни¬
ем которого была радость жизни на приволье песча¬
ных пляжей под голубым небом и слепящим солнцем
Средиземноморья, узнав о своей болезни. Болезнь,
и не просто болезнь, а постоянное сознание болез¬
ни, переживание ее как события своей жизни, вела
к внутренней собранности, замыканию в себе, пре¬
дельной сосредоточенности, неизбежному уеди¬
нению. Для религиозно настроенного человека со¬
крытое страдание нередко открывает путь к Богу,
к осознанию необходимости смиренно вручить свою
бренную судьбу в руки Господа. Для Камю, с детства
далекого от христианства, болезнь оказалась труд¬
нейшим испытанием, толкнувшим его к активной
внутренней работе, к напряженному поиску чисто
1 /. Сгетег. А1ЬеП Сатив (Боиуетгв). Рапэ, 1968, р. 9.
1. «...Хочешь быть философом — пиит романы»
15
личных истоков духовности, способных помочь в про¬
тивостоянии смерти. Раздумья о жизненном смысле
несправедливого страдания станут его неизменной
темой. Сосредотачиваясь на осмыслении потаенных
возможностей человека в его борьбе со смертью,
писатель будет использовать в своих размышлениях
религиозную терминологию, как бы освящая ей че¬
ловеческий удел: «Болезнь — это монастырь, имею¬
щий свой устав, свою аскезу, обеты безмолвия и вдох¬
новение».1 Но наряду со склонностью к уединенной
углубленности болезнь приносила прямо противо¬
положное отношение к жизни, восполнявшее неми¬
нуемую отчужденность больного человека: какую-
то особую жизнерадостность, алчное стремление
к здоровым и сочным радостям жизни, своеобразный
гедонизм, прикрывающий гнетущую боль, предрас¬
положенность к тому состоянию отчаянной свобо¬
ды, иллюстрации к которому молодой Камю находил
в знаменитой «Волшебной горе» Т. Манна. Эта взвин¬
ченная жизненная экзальтированность, граничащая
с цинизмом философия телесности, проповедующая
ненасытную любовь к сиюминутным прелестям
жизни, проходя через личный опыт молодого Камю,
оставят заметный след в его ранних произведениях,
особенно в романе «Счастливая смерть», главному
герою которого начинающий писатель передове¬
рил многое из своих необузданных стремлений к
1 С1, 57. Выдержки из «Записных книжек» Камю приводятся
по переводу О. Гринберг (А. Камю. Творчество и свобода. Ста¬
тьи, эссе, записные книжки. М., 1990), в который мы иногда
вносили небольшие поправки. Ссылки сохраняются по фран¬
цузским источникам.
16
С. Л. Фокин
счастью. Болезнь, страдание как неизбывное зло су¬
ществования, как трагическая «изнанка» радостно¬
го лика жизни глубоко затронула художественно-фи¬
лософскую мысль Камю — темой его центрального
романа, посвященного борьбе человека со злом, ста¬
нет сопротивление чуме, физически и духовно унич¬
тожающей все живое.1
Осенью 1931 года Камю вернулся в класс фило¬
софии Гренье. К этому времени относятся его пер¬
вые творческие опыты. В 1932 году в студенческом
ежемесячнике «Сюд» появляются четыре небольших
эссе за подписью А. Камю — чуть подправленные уче¬
нические сочинения на разные философские и ли¬
тературные темы. Эти пробы пера, лишенные лите¬
ратурной ценности, — самые ранние свидетельства
творческого вкуса будущего романиста.
Две первые статьи посвящены поэзии П. Верлена
и Ж. Риктюса. Фигуры этих поэтов привлекают Камю
своей внутренней раздвоенностью, которая, веро¬
ятно, импонировала его формирующемуся миро¬
1 Болезнь стала не только темой творчества, но и неотступ¬
ным спутником жизни Камю — ее острые вспышки, требовав¬
шие специального медицинского ухода, режима, нескольких
пневмотораксов, приходились на 1937, 1942, 1949, 1950, 1954,
1958 годы. Подробнее о роли болезни в становлении мировоз¬
зрения Камю см. содержательную главу «А. Камю: пакт с тубер¬
кулезом — от личной боли к коллективным бедам» в интерес¬
ном эссе специалиста-медика Ф. Б. Мишеля, посвященном
исследованию влияния недуга на творчество ряда французских
писателей (А. Жвд, С. Малларме, М. Пруст и др.): F.-B. Michel
Le souffle coupé. Respirer et écrire: l’asthme dans la création lit¬
téraire. Paris, 1984, p. 146-164. Ср. также: С. TreiL D’indifférence
dans l’oeuvre d’Albert Camus. Montréal, 1971.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
17
пониманию, тяготеющему к полярным началам
жизни. Верлен, замечает Камю, был человеком «мо¬
лившимся Богу душой, но грешившим разумом»
(САС2, 135). Риктюс воплощает в своем творчестве
«контраст между грязной и отвратительной жизнью
бедняка и наивной лазурью его души» (САС2, 144).
Третья статья под названием «Философия века» —
критический обзор книги А. Бергсона «Два источни¬
ка морали и религии». В это время мэтр интуитивиз¬
ма пребывает на вершине славы, определявшейся
не только глубокой оригинальностью его философ¬
ских идей, которые задавали тон культурной жизни
Франции 1910-20 годов, но и изысканной элегантно¬
стью языка (Нобелевская премия по литературе за
1927 год). Все это, впрочем, не мешает молодому
алжирскому критику выразить нескрываемое раз¬
очарование в новой книге философа. Бергсон, по
его категоричному утверждению, не смог исполнить
возлагавшуюся на него роль, не смог основать ту
«философию-религию», отрицающую разум и воспе¬
вающую творческую интуицию, которую ждал от него
разуверившийся мир. «Но, быть может, — заверша¬
ет Камю свою статью, — придет кто-то другой, мо¬
ложе, дерзновеннее. Он провозгласит себя наслед¬
ником Бергсона... И тогда, возможно, у нас будет
эта философия-религия, это евангелие века, в пред¬
чувствии которого бродит сегодня страждущий
дух» (САС2, 148). Нельзя не отметить определенной
раскованности критических суждений начинающе¬
го мыслителя, его стремления самостоятельно оце¬
нить прочитанное. На наш взгляд, это предопреде¬
лялось не столько естественной тягой пробующего
18
C. JI. Фокин
свое перо юноши к оригинальности, сколько его
характерной способностью к «вживанию» в образ
разбираемого автора, переживанию чужой мысли как
своей собственной.
Эти черты «творческого метода» молодого Камю
особенно ярко проступили в четвертой работе —
«Эссе о музыке», посвященном анализу эстетических
представлений Шопенгауэра и Ницше. Здесь вновь
проявилась склонность Камю к выявлению противо¬
речащих друг другу черт в образах и мыслях писате¬
лей, глубоко затрагивающих его сознание. Он словно
отказывается видеть цельность жизни — настолько
сильно переживаемое им ощущение раздвоенности,
разорванности бытия на светлое и темное, доброе и
злое, прекрасное и безобразное. Ницше, например,
привлекает его «глубоко пессимистической душой,
отвергнувшей, однако, пессимизм в пользу оптимиз¬
ма, основанного на опьянении страданием» (САС2,
158). «Есть, в самом деле, — пишет Камю, — нечто
неистовое в его упрямом оптимизме. Постоянная
борьба против подавленности более всего при¬
влекает нас в этой и без того странной фигуре»
(САС2, 158). В этом замечании слышна и чисто личная
нотка — подобно Ницше, Камю всю жизнь вынужден
был бороться с недугом, упорно превозмогая жиз¬
ненную подавленность; отсюда, вероятно, и его не¬
приятие пессимизма по отношению к человеку.
Первые творческие опыты Камю не представля¬
ют, как мы уже отмечали, особого интереса, зато
свидетельствуют о его круге чтения, о первых сим¬
патиях, о начальных импульсах его художественно¬
философского сознания. Собственно эстетические
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
19
размышления молодого критика мало что дают для
понимания будущих творческих принципов романи¬
ста. Нельзя забывать и того, что эти эссе — первые
«ученые штудии» выпускника класса философии, не¬
которые из них в оригинале даже сохранили строгие
пометки педагога над наиболее спорными рассуж¬
дениями и поспешными выводами: «Поверхностно,
неинтересно, глупо» (САС2, 295).
В апреле 1933 года Камю — студент Алжирского
университета — начинает делать развернутые запи¬
си о прочитанных книгах, по форме предвосхищаю¬
щие его «Записные книжки», которые молодой пи¬
сатель будет регулярно вести с 1936 года. В записях
1933 года обращают на себя внимание не только раз¬
нообразие литературных интересов девятнадцати¬
летнего юноши (Стендаль и Эсхилл, Жид и Достоев¬
ский, Ницше и Шестов), но и уже упоминавшееся
нами отношение к прочитанному как к личному до¬
стоянию. Молодой Камю непрестанно делает новые
«открытия», книги не просто ему нравятся, они его
поражают, восхищают. Вот всего лишь два примера.
«Я прихожу в ярость от ничтожности своей мысли,
думая о глубине чувства, которое испытываю к Жи¬
ду. В конце концов убеждаю себя в том, что невоз¬
можно говорить о людях, которых безмерно любишь»
(САС2, 203). «Восхищен Шестовым. Опять то же са¬
мое, что и после чтения Пруста: о стольком уже
нечего сказать» (САС2, 203).
Как мы видим, Камю с юности усердно поглоща¬
ет ту книжную культуру, которой питается большин¬
ство его современников: в круг его чтения почти од¬
новременно входят Стендаль и Пруст, Жид и Мальро,
20
C. JL Фокин
Ницше и Шестов, Достоевский и античная лите¬
ратура.1
Но в его отношении к культуре с самого начала
намечается одна особенность, отличающая его ми¬
ровоззрение от устремлений его современников —
выходцев из обеспеченных буржуазных семей. Мир
культуры для молодого Камю обладает безусловной
ценностью, книги, жадно впитываемые юношей, дет¬
ство и отрочество которого прошли в отвратитель¬
ных условиях нищеты, открывают ему возвышенный
мир духовности, мир культурной традиции, при¬
общение к которой становится для него жизненной
и творческой задачей. В отношении Камю к культу¬
ре практически отсутствует нигилистический пафос,
характерный для его будущих друзей-недругов по
литературному Парижу, с юности восставших про¬
тив своего (в том числе и культурного) окружения,
стремившихся порвать с «буржуазным прошлым»,
бунтарски освободиться от гнета уже существующего.
Здесь исток творческого «традиционализма» Камю,
его сознательной ориентации на классическую ли¬
тературную традицию — принцип его поэтики,
в окончательном виде сформулированный в сере¬
дине 40-х годов в ходе работы над произведениями
цикла «бунта».
Вместе с тем, мир книжной культуры не заго¬
раживает от Камю реального мира, ему удается из¬
бежать опасной ловушки «слов», самодостаточности
1 О круге чтения Камю в эти годы см.: P. Dmmodie, Les lec¬
tures d’Albert Camus avant la guerre. — «La revue des Lettres mo¬
dernes», 1975, № 419-424, p. 103-107.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
21
вдеапьного-книжного мира, механизм воздействия
которого на сознание «благовоспитанных буржуа»
прекрасно описал в известной автобиографической
повести Сартр. При всей склонности к «идеологиз-
му» Камю был застрахован от идеологической одер¬
жимости своей изначальной открытостью действи¬
тельности: абстрактные «идеи», овладевавшие его
мыслью, неуклонно вытеснялись знанием конкрет¬
ных проявлений жизни. «Да, — замечал Камю, —
я учился свободе не по Марксу, я познавал ее в ни¬
щете» (И, 357). Камю-художник и мыслитель стре¬
мится писать не о том, что «узнает» из книг, (хотя
книжный элемент образует глубокий слой, точнее
подслой его художественный произведений), а о том,
что «знает» о жизни, о том, что входит в его созна¬
ние реальным жизненным опытом.
Показательно в этом отношении одно из самых
ярких литературных впечатлений юного Камю, свя¬
занное с осознанием своего писательского призва¬
ния: знакомство с романом А. де Ришо «Боль», в ко¬
тором будущий писатель, по-вцдимому, нашел то, что
долго искал. «Мне никогда не забыть этой прекрас¬
ной книги, которая впервые рассказала мне о том,
что я и сам хорошо знал: мать, бедность, вечернее
небо... Тогда я понял, что книги приносят не только
забвение и развлечение. Мое упорное молчание, без¬
раздельное и смутное страдание, странный мир, окру¬
жающий меня, достоинство моих близких, их нище¬
та, наконец, мои тайны — все это можно было
высказать!» (И, 1117-1118). Первые наброски прозы,
робкие пробы пера в поисках своей литературной
темы находятся в прямой связи с тем, что переживает
22
С. Л. Фокин
юноша в мире бедных кварталов Алжира, в мире
нищеты и страдания, в который ввергнута его соб¬
ственная жизнь и жизнь его семьи: матери, брата,
бабушки, дяди. Произведение искусства должно быть
свидетельством жизни — от этой эстетической фор¬
мулы, произнесенной у истока писательского пути,
Камю никогда не откажется. «Произведение — это
признание, — делает он одну из первых записей в
своих “Записных книжках”, — мне нужно свидетель¬
ствовать. Строго говоря, я могу сказать только одно:
в этой жизни бедняка, среди смиренных тщеславных
людей я вернее всего соприкоснулся с тем, что ка¬
жется мне подлинным смыслом жизни» (С1, 16).
Начинается трудный и долгий период разработки
творческого почерка. Молодой Камю, словно наме¬
ренно укрощая возможности творческой фантазии,
неустанно обращается к одним и тем же темам, сю¬
жетам, персонажам. Старость, одиночество, изнурен¬
ное молчание бедных людей, в образах которых лег¬
ко угадываются черты родных и близких писателя —
суровой и властной бабушки, больного дяди, погру¬
женной в тягостное безмолвие матери и его самого,
молодого человека с определяющимся сознанием,
который пытается рассказать о радостях и горестях
своей жизни. В «Записных книжках» возникают пла¬
ны задуманного произведения: «1) Декорация. Квар¬
тал и его обитатели. 2) Мать и ее поступки, 3) Отно¬
шения сына и матери» (С1, 16). Семейные драмы,
прежде всего осмысление нелегких отношений
с матерью, бедной вдовой, которую болезнь, непо¬
мерный труд и беспросветная нищета, превратили
в тихое безучастное существо, олицетворяющее без¬
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
23
различие и «посторонность», займут одно из цен¬
тральных мест в раздумьях юноши Камю. «В этом
особом случае, — замечает он, определяя один из
ранних замыслов, — странное чувство, которое испы¬
тывает сын к своей матери, образует все его мироощу¬
щение (С1,15) (курсив Камю — С. Ф.).1 Появляются
персонажи, словно шагнувшие в тетрадь молодого
писателя из алжирского квартала Белькур, где про¬
ходило его детство. Название одного из таких эски¬
зов выражает тему бедности, постоянно занимавшую
творческое сознание начинающего романиста: «Го¬
лоса бедного квартала».
В этом прозаическом наброске с чертами роман¬
ного повествования, относящемся к концу 1934 года,
писатель, пытаясь как-то эстетически оформить свои
беспокойные признания-исповеди, пробует экспери¬
ментировать — строит произведение наподобие хора
голосов, поочередно рассказывающих о жалкой по¬
вседневности жизни в нищем и убогом городском
квартале. Открывает его «голос женщины, не преда¬
ющейся раздумьям», затем вступает «голос человека,
рожденного для смерти», его рассказ подхватывает
«голос, взволнованный музыкой» (САС2, 271-287).
В дальнейшем Камю отказывается от разработки
таких бесхитростных сюжетов, точнее, от наив¬
ной мысли, что, опираясь только на них, можно
написать настоящий роман. Произведение может
1 В психоаналитическом исследовании А. Костеса показано
глубокое воздействие образа матери на мироощущение и твор¬
чество Камю (Л. Costes. Albert Camus ou la Parole manquante. Pa¬
ris, 1973). Напомним, что «посторонний» приговорен к смерти
за то, что «не заплакал на похоронах матери».
24
С. Л. Фокин
и обязано быть свидетельством жизни, но сама жизнь
должна входить в него самыми разными сторонами,
и это многообразие жизни, явно не охватывающе¬
еся жизненным опытом двадцатилетнего Камю, тре¬
бовало от него серьезного углубления мировоззрен¬
ческих представлений и поиска соответствующих
художественных форм.1
Отказавшись от прямого использования в роман¬
ном повествовании дорогих ему биографических сю¬
жетов, Камю не отбрасывает их совсем — темы бед¬
ности, одиночества, болезни, беззаботной юности,
объединенные слегка намеченным образом повество¬
вателя, вошли в отдельные эссе-новеллы сборника
«Изнанка и лицо», первой книги Камю, вышедшей
в свет в Алжире в 1937 году тиражом 350 экзем¬
пляров. С искренней болью воссозданы в эссе «Меж¬
ду ДА и НЕТ» драматические отношения матери
и сына, причем сама форма повествования, ко¬
леблющаяся между первым и третьим лицом, свиде¬
тельствует об особом личном значении трагической
истории любви двух самых близких людей, любви,
в которой сыновняя всепоглощающая и всеискупа-
ющая жажда нежности должна преодолевать тягост¬
ную безответность матери: «Безразличие этой стран¬
ной матери!» (II, 26).
Эссеистка «Изнанки и лица» — исходный пункт
становления творческого метода Камю-романиста.
Он приходит к пониманию того, что произведение
1 Ранние творческие опыты Камю обстоятельно рассмотрены
П. Виалянэксом, подготовившим их к публикации (см.: P. Vial-
laneix. Le premier Camus. — Cahiers Albert Camus 2, p. 9-124).
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
25
не может быть простым описанием отдельных
эпизодов жизни, пусть даже и очень своеобразных.
Писатель утверждается в изначальной идее трагич¬
ности жизни: неприметные судьбы бедняков приоб¬
ретают в его сознании очертания устойчивого идео¬
логического образа абсурдности мира. Само слово
«абсурд», подчеркнутое писателем, впервые возник¬
нет в одном из его эссе. Конечно, едва мелькнувше¬
му образу «абсурдной простоты мира» было еще да¬
леко до философско-эстетической концептуальности
цикла «абсурда», развернутой в жанрах эссе, романа
и драмы. Важно, однако, что в небольших эссе пер¬
вой книги Камю приходит к одному из главных прин¬
ципов своего мировоззрения, сформулированному
в ее названии — понимания жизни как многолико¬
го начала, как диалектики «изнанки» и «лица». Болезнь,
смерть, одиночество, нищета, изнурительная рабо¬
та, притупляющая человеческие чувства, — это все
темная сторона существования. Но в жизни есть
и другое. Светлый лик мира, прекрасная природа,
ласкающие душу пейзажи, простые радости жизни
восполняют трагические провалы бренного челове¬
ческого удела. В эссе «Любовь к жизни», написанном
под впечатлением от поездки на Балеарские остро¬
ва, Камю твердо выражает свою уверенность в воз¬
можности счастья, пусть и оттененного мрачными
бликами трагедии жизни: «Нет любви к жизни без
отчаяния в ней» (II, 44).1
1 Эссеистика сборника «Изнанка и лицо» в контексте ранне¬
го творчества Камю проанализирована Е. П. Кушкиным. См.:
Е. П. Кушкин. Альбер Камю. Ранние годы. Л., 1982, с. 89-99.
26
С. Л. Фокин
По-видимому, в ходе работы над эссеистикой
«Изнанки и лица» Камю вполне постигает необхо¬
димость разграничить сферы романа и эссе. В поль¬
зу такого предположения свидетельствует одна из
его записей, сделанная весной 1936 года и пред¬
ставляющая собой один из многочисленных творче¬
ских планов писателя: «Философское творчество: аб¬
сурдность. Литературное творчество: сила, любовь
и смерть под знаком завоевания. В обоих переме¬
шать жанры, сохраняя особый тон» (С2,40). Склон¬
ность к смешению жанров, характерная для раннего
творчества Камю, постепенно уступает место чет¬
ким жанровым разграничениям: то, что можно вы¬
разить в свободной форме философской или худо¬
жественной эссеистики, не всегда уместно в романе,
эстетическую концепцию которого писатель будет
последовательно разрабатывать как раз начиная с
1936 года.
В плане формирования романного мышления
«Изнанка и лицо» отметила еще один важный момент:
молодой Камю окончательно расстается с мыслью
о том, что в романе можно говорить прямо «о себе»:
автобиографические элементы, еще раз промельк¬
нувшие в «Счастливой смерти», будут неуклонно утра¬
чивать конкретную определенность, постепенно пре¬
вращаясь в художественно-философское символы.
В начале 1936 года в «Записных книжках» появи¬
лись запись, с поразительной точностью определяю¬
щая смысл и общую направленность эстетических
исканий Камю в области романа на ближайшие
годы — вплоть до окончания работы над «Посторон¬
ним»: «Думают только образами. Если хочешь быть
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
27
философом — пиши романы» (С1, 23). В этой мыс¬
ли начинающего романиста, в юношеском макси¬
мализме которой сказался его небогатый творчес¬
кий опыт, ясно выражается стремление осмыслить
сущность жанра, в котором он собирался работать.
Объявив роман средством философствования, Камю
столкнулся с необходимостью пересмотреть взаимо¬
отношения философии и литературы.
Замысел создать «философский роман» обещал
быть плодотворным, поскольку именно философия
с ее устремленностью к постановке конечных воп¬
росов бытия обладает повышенной способностью
к синтезу идей своего времени. В практическом пла¬
не, однако, этот замысел требовал решения доволь¬
но трудных творческих задач. Каким образом на
практике «ввести» философию в роман, как осуще¬
ствить столь притягательное для молодого Камю
совмещение ремесла философа и романиста, на¬
сколько вообще удастся срастить в одном произве¬
дении язык философии, стремящийся к абстрактной
терминологичности, и конкретную художественную
образность романного повествования? Вопросы эти
не могли не вставать перед разрабатывающим свой
творческий метод романистом.
2. УЧИТЕЛЬ
Особое понимание философской прозы как на¬
пряженного синтеза философии и литературы, да
и самой философии как важнейшего средства са¬
мопознания и самоопределения человека в жизни
28
С. У/. Фокин
стало складываться у Камю еще в ученические го¬
ды под влиянием личности и мысли его лицейского,
а затем университетского преподавателя философии
Жана Гренье. Глубокий и ясный мыслитель, Гренье
к началу своей университетской карьеры в Алжире
уже снискал себе известность короткими эссе-но-
веллами, появлявшимися на страницах парижского
журнала «Нувель Ревю Франсез» и составившими его
первую книгу «Острова» (1933). Гренье, сразу заме¬
тив одаренного юношу, ввел своего ученика в мир
культуры, античной и христианской мысли, по¬
знакомил с экзотичными философскими система¬
ми древнего Востока, к которым сам питал слабость,
с книгами великих европейских мыслителей
XIX века — Киркегора, Шопенгауэра, Ницше —
и произведениями своих современников — Жида,
Мальро, Монтерлана, — с которыми поддерживал
близкие и дружеские отношения. Между внима¬
тельным и требовательным учителем и прилежным
учеником, настойчиво вникавшим в пленительную
мудрость наставника, завязался интенсивный твор¬
ческий диалог, со временем превратившийся в глу¬
бокую дружбу, конец которой положила лишь смерть
Камю. Опубликованная в начале 80-х годов их пере¬
писка, продолжавшаяся без малого тридцать лет, —
поразительный литературный документ, приоткрыв¬
ший не «кучку жалких секретов», столь притягатель¬
ных для окололитературной публики, а чудо духов¬
ной жизни двух людей, связанных друг с другом
одними из самых прекрасных человеческих отно¬
шений — узами учительства и ученичества. Эта пе¬
реписка может быть при соответствующем подходе
U «...Хочешь быть философом — пиши романы»
29
прочитана как настоящий эпистолярный «роман
воспитания», как исполненная внутреннего драматиз¬
ма история становления Камю-писателя и мыслите¬
ля — от самых первых его шагов, еще робких, с не¬
пременной оглядкой на авторитет наставника, но уже
и самостоятельных, ведущих ученика к выявлению
отличия своего миропонимания от взглядов учите¬
ля, — до полного расцвета творческой индивиду¬
альности художника и философа, навсегда сохра¬
нившего живую привязанность к мысли и личности
того, кто стоял у истоков его творческого пути.1
Двадцатилетний Камю — студент Алжирского
университета — читает и перечитывает книгу Гре¬
нье «Острова», встречая в ней темы, созвучные соб¬
ственному трагическому мироощущению: страх
человека перед небытием, перед головокружи¬
тельными безднами бытия, неизбывное одиночество
человека и его непреодолимое стремление к счаст¬
ливому единению с миром, к экстазу слияния с кос¬
мосом — в любовании его ослепительным велико¬
лепием, в трогательной привязанности к такой его
живой частичке, как кот Мулуд. Вот одна из чита¬
тельских заметок молодого Камю, позволяющая на¬
глядно представить меру воздействия учителя на его
духовную жизнь: «Прочитал книгу Гренье. Он весь
в ней, и я чувствую, как растут восхищение и лю¬
бовь, которые он мне внушает... Единство его книги
заключается в постоянном присутствии смерти. Я бы
1 Подробнее о переписке Камю с Гренье см.: G. Barrière.
A. Camus — J. Grenier. Correspondance 1932-1960. (Rec). —
«Nouvelle Revue Française», 1980, № 341, p. 111—113.
30
С. Л. Фокин
сказал так: само по себе мировидение Гренье, ниче¬
го не изменяя в моем существе, делает меня более
серьезным, более проникнутым серьезностью жиз¬
ни. Я не знаю другого человека, так сильно воздей¬
ствующего на меня. Два часа, проведенные с ним,
словно что-то прибавляют во мне. Узнаю ли я когда-
нибудь все то, чем обязан ему?» (САС2, 204).
Мысль Гренье, подверженная «метафизическим со¬
мнениям», занятая поисками Абсолюта в мире и че¬
ловеке, но бескомпромиссно отвергающая любой
абсолютизм в суждениях, избегающая строгих дефи¬
ниций, жесткой замкнутости идеологизма, навязчи¬
вого догматизма, не давала ученику готовых истин,
она вселяла в него дух сомнения, поддерживала по¬
требность в самостоятельном мышлении, способство¬
вала рождению истинного философского свободо¬
мыслия.1
Гренье первоначально хотел назвать свою книгу
«Одинокий человек», но один из образов Паскаля
подсказал ему другое название. Размышляя о нище¬
те и величии человеческого удела, автор «Мыслей»
писал: «Видя слепоту и ничтожество человека, вгля¬
дываясь в немую Вселенную и в него, погруженного
во мрак, предоставленного самому себе, словно заб¬
лудившегося в этом закутке мироздания и понятия
1 Ср.: /. Clair. Jean Grenier professeur.— «Nouvelle Revue
Française», 1971, № 221, p. 25-28 (специальный выпуск журнала,
посвященный памяти Ж. Гренье). См. также: А. И. Владимирова.
Жан Гренье, писатель и философ. (Сборник Ж. Гренье «Остро¬
ва»). — Философские и эстетические традиции в зарубежных
литературах / Под ред. И. П. Куприяновой. СПб., 1995, с. 40-
47.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы» 31
не имеющего, кто его туда поместил, что ему там
делать, что с ним станется после смерти, не спо¬
собного к какому бы то ни было познанию, я ис¬
пытываю ужас, уподабливаясь тому, кто во сне был
перенесен на пустынный, грозящий гибелью остров
и, проснувшись, не знает, где он, знает только —
нет у него никакой возможности выбраться из гиб¬
лого места. Думая об этом, я поражаюсь — как это
в столь горестном положении люди не приходят
в отчаянье!»1
Гренье подхватывает образ острова как устойчи¬
вой метафоры трагичности человеческого удела —
ущербного одиночества человека и его спасительно¬
го стремления к Всевышнему: «Откуда происходит
ощущение удушья, которое испытываешь, думая об
островах? Где, однако, как не на вольном воздухе
острова, затерянного среди бесконечного моря, сво¬
бодного от всех горизонтов, можно лучше всего жить
в состоянии телесной экзальтации? Но там ты оди¬
нок... Остров или одинокий человек... Острова или
одинокие люди».2 Но образ острова, воплощая пе¬
реживание заброшенности человека в мир, переда¬
ет и ощущение некоей опоры — по отношению
к беспокойному и бескрайнему морю, символу не¬
исчерпаемого космоса. Перед морем Гренье охва¬
тывает тревожное предчувствие неотвратимости не¬
бытия: <0то был не крах чего-то, а прореха. В эту
зияющую дыру все, абсолютно все могло провалить¬
1 Б. Паскаль. Мысли / Пер. с франц. Э. Линецкой. СПб., 1995,
с. 172-173-
2 J. Grenier. Les îles. Paris, 1980, p. 17.
32
С. Л. Фокин
ся... Какая пустота! Скалы, ил, вода. И поскольку все
пребывает под вопросом, ничто и не существует».1
Спасение от невыносимой ничтожности челове¬
ка для Гренье — в любовании миром, в восхищен¬
ном созерцании средиземноморских пейзажей, по¬
вергающем его в настоящий религиозный экстаз,
восстанавливающий утраченные из-за страха перед
смертью связи человека и мира: «И когда медленно
отзванивает поддень и громыхает пушка форта Сент-
Эльм, чувство переполненности, не чувство счастья,
а именно переживание реального и всецелого при¬
сутствия — как если бы сомкнулись все провалы
бытия — овладевало мной и всем, что окружало
меня».2 Эти исключительные по силе внутренней
напряженности моменты согласия, пантеистическо¬
го слияния бренного человека и вечного космоса
убеждают Гренье в наличии Абсолюта, равно при¬
сутствующего и в том, и в другом. И самая сокро¬
венная глубина человека раскрывается в эти редкие
и бесценные минуты счастливого единения с миром,
когда со всех сторон на них обрушиваются обиль¬
ные потоки солнечного света и небесной радости,
когда, по Гренье, человек по-настоящему начинает
существовать, достигая своей жизненной цели, при¬
чем «в самом смиренном состоянии и всецело под
действием благодати».3
Все обнаруживает свою ничтожную ценность по
сравнению с этими моментами благодатного воз¬
11Ы<±, р. 23-26.
21Ы<±, р. 81.
31Ы<±, р. 81.
1. «...Хочешь быть философом — пиширолиты»
33
вышения человека до Абсолюта, очищения от всего
слишком «человеческого», достижения первозданной
оголенности, чистоты и простоты. В повседневно¬
сти, однако, почти не остается места порывам к бо¬
жественному, и тогда разрыв между миром и чело¬
веком удается преодолеть в любовной привязанности
к какой-нибудь живой частичке космоса — напри¬
мер, в трогательной любви к коту Мулуцу. Кот сво¬
ей гордой независимостью и тайной жизнью, гармо¬
нично совпадающей с размеренным дыханием мира,
помогает человеку поддерживать связь с Абсолютом.
Кот Мулуд постоянно напоминает о цельности бы¬
тия: «Порой задаются вопросом, как можно инте¬
ресоваться каким-то котом, да и достойно ли это
создание мыслящего, погруженного в свои «пробле¬
мы», выдвигающего свои политические, религиозные
и иные идеи человека. Идеи, великий Боже! Кот,
однако, существует, и этим отличается от идей».1 Без¬
молвное, лишенное человеческой мысли животное,
воплощая собой природу мира, привязывает чело¬
века к полноте бытия.
Гренье в своих произведениях давал замечатель¬
ный урок любви к миру, он невольно заставлял мо¬
лодого Камю по-новому взглянуть на мир родной
средиземноморской природы. Для Камю, с детства
погруженного в атмосферу «счастливого варварства»
и язычески беззаботного наслаждения «земными яст¬
вами», проникновенные медитации Гренье открыва¬
ли самые глубокие мировоззренческие перспекти¬
вы. «Для юноши, воспитанного вне традиционных
11Ы<±, р. 50-51.
2 Зак 3210
34
С. Л. Фокин
религий, — вспоминает Камю о роли наставника
в своем духовнохМ развитии, — этот осторожный,
лишь слегка намекающий подход был, вероятно, един¬
ственно возможным способом направления к более
глубоким раздумьям. Лично я не был лишен богов:
солнце, ночь, море... Но это — боги наслаждения;
они переполняют, а затем опустошают. Следовало
напомнить мне о таинстве, о святом, о конечности
человека и невозможности любви, чтобы я смог вер¬
нуться к своим природным богам, но уже с меньшим
высокомерием» (II, 1158-1159). Читая Гренье, Камю
находил подтверждение своему изначальному ощу¬
щению священной целостности бытия, переживанию
сбященного как неустранимого начала мира, просту¬
павшего наперекор всей его разорванности и тра¬
гичности.
Е. П. Кушкин, затрагивая проблему влияния Гре¬
нье на раннего Камю, верно замечает, что «страх
перед небытием, о котором так много говорилось
в “Островах”, был философским, “головным” стра¬
хом экзистенциалиста».1 Автор «Постороннего», од¬
нако, переживал этот страх перед неумолимой смер¬
тью в реальной жизни — болезнь и смерть, как мы
уже говорили, станут не только постоянными тема¬
ми его мысли, но и неотступными спутниками жиз¬
ни, наделяя естественной, отнюдь не «головной» тра¬
гичностью все миропонимание Камю.
К тому же, и это главное, Камю, полностью разде¬
ляя привязанность мысли учителя к миру природы,
усматривая в природе реальное воплощение сбящен-
1 Е. П. Кушкин. Ук. соч., с. 18-19.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
35
ного, не делает, вслед за Гренье, самого последнего
шага, или, как он скажет позднее, «прыжка» к Богу.
Для Гренье человек одинок, словно заброшенный на
пустынный остров ребенок. Редкие минуты его вос¬
соединения с миром подтверждают, однако, суще¬
ствование сверхчеловеческого Абсолюта, как бы его
ни назвать — Природа, Судьба или Бог, — который
безмерно превосходит человека и дарует ему свою
благодать. Такой ход мысли Камю не устраивает:
«Смысл моего творчества: столько людей лишены
благодати. Как жить без благодати?» (С2, 129-130)
Отвергая христианского Бога, к которому со всеми
своими сомнениями и несмотря на всю свою нецер-
ковность склонялся Гренье,1 Камю сосредоточился
на осмыслении внутренних возможностей человека,
лишенного утешительных надежд на бессмертие,
свободного от упования на Божественную благодать,
явно и дерзко сознающего свой смертный удел. Спа¬
сительный выход к потустороннему, к сверхчувствен¬
ному миру идей и идеалов, — не выход для Камю,
для него это — «запретный рай». Ж. Гренье в своих
воспоминаниях о Камю особое внимание уделяет
главному отличию мысли своего ученика от собствен¬
ных духовных устремлений: «Передо мной открыва¬
лась дверь в нечеловеческое. Что и подчеркнул
однажды в беседе со мной Альбер Камю. “Жан Гре¬
нье, — сказал он, — не гуманист”. Это означает: “Он
отчаивается в человеке и ищет спасения вне его”.
Сам он, напротив, хотел разрабатывать лишь “поле
1 S. S. Juca. L’Humain et l’Absolu dans «Les îles» de J. Grenier. —
«Revue de métaphysique et de morale», 1977, № 4, p. 528-549-
36
С. Л. Фокин
возможного”, и его творчество потрясает своим
упором на человеческое».1
Помимо ведущих тем учитель своим творчеством
определил для Камю форму эссе, изящного новел¬
листического повествования, удивительным образом
соответствующего духовному темпераменту Гренье,
его созерцательному мироощущению, идущему от
боготворимого им даосского принципа недеяния, по¬
чти полному отсутствию в нем желания воздейство¬
вать, да и вообще действовать. «Острова» и «Среди¬
земноморские внушения», другая книга наставника,
неизменно восхищавшая Камю, стали для него моде¬
лью лирико-философской эссеистики, сочетавшей
поэтическую медитацию, глубокую философскую
рефлексию и вдохновенный лиризм. По замечанию
французского историка литературы П. Леколье,
«ослепительные образы эссеистики “Брачного пира”
(1938) и “Лета” (1954) не были бы, вероятно, созда¬
ны, если бы Камю не знал Гренье».2
Влияние Гренье на становление романного мыш¬
ления Камю было не столь заметным, как его воз¬
действие на формирование мироощущения автора
«Постороннего», но эта неприметность вовсе его не
исключала: Гренье был первым читателем всех про¬
изведений Камю (за исключением «Чумы»). Глубокий
и тонкий критик, он раньше других — задолго до
публикации — получал возможность осмыслить
опыты своего ученика. Долгое время строгие, про¬
1 J. Grenier. Albert Camus... P. 24.
2 P. Lecolier. Jean Grenier. — Dictionnaire des littératures de
la langue française. Paris, 1984, p. 981.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
37
ницательные и обычно справедливые замечания
Гренье о произведениях Камю, их достоинствах и не¬
достатках неизменно учитывались писателем: со¬
глашаясь или не соглашаясь с ними, он отчетливее
формулировал свои замыслы, вносил некоторые по¬
правки. Критика Гренье, как мы увидим, сыграла
отнюдь не последнюю роль в решении Камю не пуб¬
ликовать «Счастливую смерть».
С образом наставника в сознании Камю связыва¬
лась идея культурной традиции, творческой преем¬
ственности, необходимой для развития и сущест¬
вования искусства. Эта идея, выражавшая уже
отмечавшийся нами «традиционализм» художествен¬
ного мышления Камю, была сформулирована им в на¬
иболее развернутом виде в статье об «Островах»
Ж. Гренье, ставшей одной из последних литературно¬
критических работ писателя. Полемически откли¬
каясь на броскую фразу Гегеля о стремлении каж¬
дого человеческого сознания к смерти другого,
выбранную С. де Бовуар эпиграфом к роману «Гос¬
тья», Камю пишет в своем эссе о Гренье: «Среди полу-
истин, чарующих наше интеллектуальное общество,
фигурирует и та — достаточно возбуждающая, —
что каждое сознание желает смерти другого. И вот
все мы — господа или рабы, призванные к взаим¬
ному уничтожению. Но слово господин (“maître”)
имеет и другой смысл: учитель, смысл, противо¬
поставляющий его только ученику — противопо¬
ставляющий в отношении уважения и благодарнос¬
ти. И тогда речь идет уже не о борьбе сознаний,
а о диалоге —незатухающем с момента своего воз¬
никновения и переполняющем смыслом некоторые
38
С. Л. Фокин
жизни. Это долгое противостояние сопровождается
не рабством и не послушанием, а лишь подражани¬
ем — в духовном смысле этого термина. В конце
концов учитель радуется, когда ученик отделяется
от него, реализуя свою особенность, а ученик на¬
всегда сохраняет ностальгию по тому времени, ког¬
да он получал все, зная, что не может вернуть ниче¬
го. Таким образом, из поколения в поколение дух
порождает дух, и история людей, к счастью, зиждет¬
ся не только на ненависти, но и на восхищении»
(И, ибо).
Осознанная необходимость до конца следовать за
мыслью учителя оборачивалась внутренним неприя¬
тием христианства, духовным спором с ним, с под¬
купающей самонадеянностью затевавшимся молодым
средиземноморцем. Спор этот требовал от начина¬
ющего мыслителя «укоренения» на такой мировоз¬
зренческой «почве», которая по своей интеллекту¬
ально-эстетической мощи не уступала бы сопернику,
была бы достойна его — иначе этот спор, даже и из¬
бежав бездумной враждебности атеизма, был бы не
интересен, а то и просто обречен на неудачу.
Драматичность диалога Камю с христианством, его
сокровенная глубина определялись во многом тем,
что одним из обликов грозного соперника, веро¬
ятно, весьма притягательным, была мысль учителя.
Позднее, в 1951 году, когда автор «Чумы» и «Посто¬
роннего» по своей известности намного превзошел
наставника, в ответ на первые наброски воспомина¬
ний Гренье о его юности, Камю откликнулся пись-
мом-исповедью, в котором как нигде обстоятельно
пытался определить смысл своих запутанных взаимо¬
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
39
отношений с христианством. «Я должен сказать так¬
же о самой сути, о бунте и христианстве. Но, как
мне кажется, здесь передо мной еще долгая дорога
познания. Сегодня я опасаюсь лишь того, что не смогу
воздать дань любви и справедливости всему тому, что
их заслуживает. И, например, хотя я признаю вели¬
чие Евангелия, я не в силах воздержаться от немило¬
сердного осуждения исторического христианства.
Поверьте, мне прекрасно известно, что таинства
существуют. Но таинства природы мне гораздо бли¬
же, чем таинства истории. Христианство же, при¬
чем урок Христа никак этого не предполагал, сдела¬
ло все, чтобы скрыть природу под историей. Чем
же я могу здесь восхищаться и что могу любить —
я, обретающий религиозную душу лишь перед мо¬
рем или в ночи? Впрочем, эта моя неприязнь, мое
непонимание — в самом глубоком смысле — со¬
ставляют одну из моих печалей» (СС, 181).
3. МЕЖДУ ЭЛЛИНСТВОМ
И ХРИСТИАНСТВОМ
Мысль Камю в поисках надежной опоры в про¬
тивостоянии христианству устремлялась к одному из
его «праобразов» — античности, воспринимавшей¬
ся ею не как недостижимый классический идеал, ро¬
мантически противопоставляемый неприемлемой
современности, а как реальное присутствие эллин¬
ского наследия в культуре Средиземноморья, орга¬
ничным преемником которой молодой писатель ощу¬
щает себя с самых первых творческих шагов. Для
40
С. J1. Фокин
Камю родное Средиземноморье начинается в Афи¬
нах в обществе прекрасных молодых эллинов, вни¬
мающих мудрому Сократу, и себя он воспринимает
как сына античной Греции: «Я чувствую в себе серд¬
це грека» (II, 380). Камю сознательно пытается вос¬
создать образ античности в рамках своего художе¬
ственно-философского сознания. Он настойчиво
и целенаправленно старается возродить ценности
эллинства, безвозвратно утраченные, по его представ¬
лениям, христианством. Наполняя античный идеал
новой жизнью, писатель сознает невероятную труд¬
ность своей мировоззренческой задачи. «Истина за¬
ключается в том, — говорит Камю, подчеркивая свое
пограничное положение между двумя культурами, —
что это очень тяжкая доля — родиться на языческой
земле во времена христианства. Именно это произо¬
шло со мной. Мне ближе ценности античного мира,
чем христианские» (II, 1343).
Истоки оппозиции эллинства и христианства, ха¬
рактерной для творческого сознания Камю, замет¬
ны уже в его университетском дипломном сочине¬
нии «Христианская метафизика и неоплатонизм»,
защищенном 25 мая 1936 года в Алжирском универ¬
ситете со знаменательной оценкой научного руко¬
водителя Р. Пуарье: «Скорее художник, чем фило¬
соф».1 В этой юношеской работе Камю его «сердце
грека» впервые обнаружило свои пристрастия.
Обращение Камю к эпохе заката античности и ут¬
верждения христианства как государственной рели¬
гии, беспощадно подавлявшей все другие духовные
1 H. R. Lottman. Albert Camus. Paris, 1978, p. 123.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
41
движения, не было, конечно, случайным. К тому же
главные «герои» его дипломной работы, написанной,
и это надо учитывать, неверующим молодым челове¬
ком, который мечтал о карьере университетского
преподавателя философии, — крупнейший мыс¬
литель позднего эллинизма Плотин, в грандиозном
и стройном мировоззрении которого античная мысль
сказала свое предсмертное слово, и Августин Авре¬
лий, полуязычник по происхождению, непримири¬
мый проповедник христианства, один из знаменитых
отцов Церкви, чье учение на протяжении несколь¬
ких столетий определяло направленность западного
богословия, — оказались особенно близки и понят¬
ны Камю еще и по причине общих средиземномор¬
ских корней. Объясняя позднее возникновение свое¬
го интереса к мысли эллинизированного египтянина
Плотина и уроженца африканской Тагасты Авгу¬
стина, Камю замечает: «Святой Августин и Плотин
были африканцами. К тому же я чувствовал себя
греком, живущим в мире христианства».1 П. Аршам-
бо, автор самого досконального исследования ан¬
тичных источников мысли Камю, утверждает, что
в целом «...эллинство и христианство имели для него
одинаковое значение и в 1960 году и в 1936 году».2
Образы античности и христианства, смутно очерчен¬
ные алжирским студентом в дипломном сочинении,
полном пространных цитат и, как заявляют дотош¬
1 C. A. Viggiani. Notes pour le futur biographie d’Albert Ca¬
mus. — «La Revue des lettres modernes». 1968, № 170-174, p. 212.
2 P. Archambault. Camus’ Hellenic Sources. Chapel Hill, 1972,
p. 13.
42
С. Л. Фокин
ные комментаторы, скрытых компиляций, будут раз¬
виты, углублены и отчетливо обрисованы зрелым
Камю в философской эссеистике 40-50 годов, но
смысл их оппозиции останется в его сознании неиз¬
менным и сыграет важную роль в формировании ми¬
ровоззрения и в определении направления художе¬
ственных исканий — в том числе, и в области романа.
Антихристианские устремления философской мыс¬
ли Камю сопровождались настойчивыми попытками
выработать индивидуальную эстетику романа, под¬
креплявшую его богоборчество.
Греция привлекательна для Камю своей сосредо¬
точенностью на настоящем, на «посюстороннем», на
земном мире, где все скроено по мерке человека.
Переиначивая слова Христа перед Понтием Пила¬
том и тем самым задавая антихристианскую направ¬
ленность своей мысли, Камю утверждает в диплом¬
ном сочинении, что Евангелие греков исчерпывается
формулой «Наше Царствие — от мира сего» (II,
1225). «Эта чисто рациональная концепция жизни —
мир может быть понят целиком — ведет к мораль¬
ному интеллектуализму: добродетели можно научить¬
ся. Не всегда это признавая, греческая философия
делает мудреца равным Богу. И поскольку Бог явля¬
ется лишь высшим знанием, ничего сверхъестествен¬
ного не существует: мир сосредоточен вокруг чело¬
века и его жизненной силы. Но если моральное
зло — это незнание или заблуждение, как ввести
в такую позицию понятия искупления и греха? К тому
же в плане физики греки верили в цикличность мира,
мира вечного и необходимого, отвергающего тво¬
рение “из ничто”, которое предполагает конечность
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
43
мира» (II, 1225-1226). Для Камю люди созданы невин¬
ными, счастливыми, стремящимися посредством зна¬
ния достигнуть высшего блага, которое присутству¬
ет здесь, в этом мире. Напротив, предхристианские
и христианские устремления кажутся ему направ¬
ленными на отрицание жизненной и интеллектуаль¬
ной силы человека, на вытеснение его из земного
мира в потусторонний: «В этом мире, где стремле¬
ние к Богу все усиливается, проблема блага теряет
свою почву. Жизненная гордость, двигавшая антич¬
ным миром, уступает место смирению духа, отыски¬
вающего боговдохновения. Эстетический план созер¬
цания мира меняется на трагический план, где все
надежды ограничиваются подражанием Богу... Вмес¬
те с тем сюда проникает идея о том, что мир... слу¬
жит лишь сценой для трагедии без Бога... рождается
философия истории... Речь идет уже не о том, что¬
бы знать и понимать, а о том, чтобы любить. И хри¬
стианство воплотит эту столь негреческую идею
о том, что подлинная проблема человека — не со¬
вершенствование собственной природы, а попытка
отказаться от нее» (И, 1227-1228).
Нетрудно заметить, что все оппозиции, разделя¬
ющие, по мысли молодого Камю, эллинство и хри¬
стианство, сосредотачиваются на границе земного
и неземного, посюстороннего и потустороннего,
естественного и сверхъестественного, человеческого
и нечеловеческого. Этой границей служит смерть.
Проблема смерти, не получившая, естественно, раз¬
вития в дипломной работе, но имевшая для Камю
глубокий личный смысл, станет важной темой ран¬
ней лирико-философской эссеистки, над которой
44
С. Л. Фокин
начинающий писатель работал одновременно со
своими последними университетскими «штудиями».
Смерть лишена для Камю характерной для хри¬
стианского ее понимания окраски чего-то глубокого,
скорбного и прекрасного, она лишена для него вся¬
кой духовности и благообразия ухода в лучший мир.
Напротив, смерть, в глазах Камю, неморальна, чуж¬
да всякой морали. Она — сущее безобразие, отвра¬
тительный скандал, отнимающий у человека жизнь.
Человек призван на землю жить, а не умирать. Смерть
для Камю — неприступный рубеж, отделяющий этот
мир от того. Обещание жизни после смерти лишено
для Камю смысла, поскольку потусторонний мир
совершенно неочевиден. Здравомыслящий человек
не будет строить свою жизнь, рассчитывая на
сверхъестественное бессмертие. «Я не желаю ду¬
мать, — пишет Камю в эссе “Ветер в Джемиля”
(1938), — что смерть — это преддверие новой
жизни. Для меня это запертая дверь. Нет, не порог,
который надо переступить, а ужасное и гнусное со¬
бытие» (И, 63). Смерть как самая очевидная и не¬
отвратимая реальность должна задавать смысл жиз¬
ни. Следует с открытыми глазами встречать смерть,
а не предаваться утешительным надеждам на другую
жизнь, обесценивающим жизнь в настоящем. «Ибо
если и есть грех против жизни, так это не столько
отчаяние в ней, сколько чаяние другой жизни, озна¬
чающее бегство от неумолимого величия этой жиз¬
ни» (II, 76). Человек не вправе прятать от себя смерть,
напротив, вглядываясь в нее, он должен с наиболь¬
шей полнотой и самоотдачей изживать свой смерт¬
ный удел. Надежда на жизнь после смерти — самый
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
45
тяжкий грех. «Из сосуда Пандоры, — пишет Камю
в эссе “Лето в Алжире” (1938), — где кишели чело¬
веческие несчастия, греки выпустили надежду по¬
следней, после всех других — как самое ужасное из
них. Я не знаю более потрясающего символа. Ибо
надежда, в противоположность тому, что о ней ду¬
мают, равнозначна смирению. А жить — значит не
смиряться» (II, 76). Надежда, по мысли Камю, не мо¬
жет подменить счастья, подлинного призвания чело¬
века, и, тем более, надежда на другую жизнь не долж¬
на застилать жизни этой.
Юношеские выпады против христианской этики
с надеждой как главенствующим жизненным прави¬
лом получат развитие в философской эссеистке 40-
50 годов, и прежде всего в «Бунтующем человеке»
(1951), где они обернутся страстным обвинительным
приговором всей христианской метафизике с ее
упованием на волю Всевышнего.1 Для Камю невоз¬
можно рассчитывать одновременно и на настоящее
и на грядущее, и на человека и на Бога. Он избирает
посюсторонний мир и человека, отвергая потусто¬
роннее и Бога: «В мире, где столько иллюзорно¬
го, я вижу лишь человека, на которого и можно
опереться» (II, 1596). Для Камю христианство озна¬
чает самоотречение человека, его полное подчине¬
ние Богу. Напротив, античность в образе титана-
богоборца Прометея, восставшего на Зевса во имя
человечности и свободы, завещала нам тип человека
1 Ср. даже название одной из работ об отношении Камю
к христианству: J. Hermet. Albert Camus et le Christianisme: L’Es¬
pérance en procès. Paris, 1976.
46
С. Л. Фокин
бунтующего, несмиряющегося, антипода христиан¬
ской резиньяции.
Христианство, с пессимизмом воспринимая кон¬
кретного человека, ввело ложно-оптимисгическую,
по мнению Камю, философию истории, развертыва¬
ния жизни «из ничто» в неопределенное будущее:
«Христиане первыми усмотрели в человеческой жиз¬
ни и в чередовании мировых событий некую связ¬
ную историю, разворачивающуюся от начала к кон¬
цу, в ходе которой человек либо удостаивается
спасения, либо обрекает себя на наказание» (II, 594).
Христианство своим духом историчности, понима¬
ния жизни как свершения, как исхода, как движения
от начала (явления Христа) к концу (второе при¬
шествие Христа) непоправимо отделилось от доро¬
гого Камю античного понимания жизни как божест¬
венно-человеческой гармонии, раскрывающейся
в вечной природе. Историческое мышление хри¬
стианства, взирающее на природу не как на объект
любования, а как на подмостки исторического пре¬
образования мира, удалило человека от природы:
«Прекрасное равновесие человеческого начала и
природы, дружеское согласие человека и мира, было
нарушено в пользу истории — прежде всего хри¬
стианством» (II, 595).
В христианстве человек отдалился не только от
природы, но и от Бога, ибо Бог, вездесущий и все¬
могущий, неизмеримо превосходит человека. Гре¬
ки не отрицали богов, но отводили каждому из них
вполне определенное место. Греческие боги близ¬
ки человеку, они настолько очеловечены, насколь¬
ко сам человек божественен. Христианство же не
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
47
допускает того, чтобы Бог занимал только часть,
а не все мироздание. Христианство, в понимании
Камю, — «тотальная религия», предопределив¬
шая мировоззренческую ортодоксальность и исто¬
рический тоталитаризм своих позднейших вос¬
приемников, нигилистически отвергнувших Бога
христианства, но обожествивших саму историю,
беспредельную историческую активность во имя бу¬
дущего — и оставаясь тем самым в кровной связи
с христианством.
Как мы видим, глубочайший конфликт нашего
века для Камю — зияющая пропасть между приро¬
дой и историей. По его мысли, христианство, расто¬
чив свое средиземноморское наследие, которое рас¬
полагало человека к созерцательно-эстетическому
отношению к миру, выступавшему мерой нравствен¬
ного облика и пределом исторической активности
людей, всем своим ходом подготовило нигили¬
стические устремления западной мысли Х1Х-ХХ ве¬
ков и кровавые исторические бунты, потрясшие на¬
ше столетие. Склонность христианства к мирскому
господству, к обожествлению истории за счет веч¬
ности привела к тому, что сам Бог оказался изгнан¬
ным из истории. Как пишет Камю в «Бунтующем че¬
ловеке», «...немецкая идеология зародилась там, где
действие перестало быть совершенствованием, пре¬
вратившись в чистое завоевание, то есть в тиранию»
(И, 702).
Оппозиция «природа—история», сформулирован¬
ная автором «Бунтующего человека» в ходе крити¬
ки христианской и марксистской идеологий, имеет
принципиальное значение для понимания его твор¬
48
С JI. Фокин
чества.1 Получив философское обоснование на
рубеже 40-50 годов, эта оппозиция присутствовала
в сознании писателя практически с самого начала
творческого пути, задавая важнейшие мировоззрен¬
ческие темы и конфликты почти всех произведений.
Уже в эссе «Ветер в Джемиля» (1938) Камю, рисуя
средиземноморские пейзажи, созерцание которых
ввергает его в блаженное состояние единства с ми¬
ром, но и безжалостно напоминает о бренности че¬
ловеческого существования и смертности истори¬
ческих форм жизни, бросает фразу, раскрывающую
его понимание вечности мира: «Мир всегда в конце
концов побеждает историю» (II, 65). Мир здесь —
это вечный мир природы, торжествующий над идеа¬
лами унтерофицерских империй истории.
Мысли Камю о природе и истории удивительным
образом созвучны историософским идеям Николая
Бердяева, книги которого входят в круг чтения
французского писателя с конца 30-х годов.2 Р. Кийо,
исследователь творчества Камю, много работавший
с его архивами, отмечает в своих комментариях
к «Бунтующему человеку», что среди философских
и литературных работ, послуживших Камю для по¬
строения общей концепции произведения, были и
книги Бердяева, в частности, «Смысл истории» (1948),
вторую главу которой автор «Бунтующего челове¬
ка» особенно тщательно «штудировал» (И, 1625).
1 Ср.: J. BoreL Nature et histoire chez Albert Camus. — Les cri¬
tiques de notre temps et Camus. Paris, 1970, p. 147—156.
2 В июне 1939 года Камю пишет рецензию на вышедшую во
французском переводе книгу Бердяева «Константин Леонтьев»
(И, 1394).
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы» 49
Для Бердяева эллинский дух полностью погружен
в природную стихию: «Античный статический мир был
связан с имманентным чувством бытия и жизни: для
античного сознания, для античного чувства жизни
существовал лишь замкнутый купол небес, под кото¬
рым и внутри которого протекала вся человеческая
жизнь; ...вся красота, вся красота жизни духовной
и божественной, раскрывалась... в природном кру¬
говороте».1 Христианство, выдвинув идею конечной
цели человечества, отлучило человека от природы:
«Именно конец античного мира и начало христиан¬
ства знаменуют собой какое-то удаление от челове¬
ка в какую-то чуждую глубину внутренней жизни
природы... Между человеком, вступившим на путь
искупления, и природой образуется бездна. Христи¬
анство закрывает наглухо внутреннюю жизнь при¬
роды и не допускает человека к этой жизни. Оно
как бы умерщвляет природу».2 По мысли Бердяева,
христианство с его историческим динамизмом и вне-
природным духом свободы — предтеча историче¬
ского бунта XX века, который «сопровождается отпа¬
дением от христианства и потерей христианского
света», но все же «связан с христианством и родился
на христианской почве».3
Общее понимание движения человека от приро¬
ды к истории у Камю и Бердяева совпадает. Можно
согласиться поэтому с П. Аршамбо, первым обратив¬
шим внимание на это совпадение, который полагал,
1 Н. А. Бердяев. Смысл истории. М., 1990, с. 28.
2 Там же, с. 90.
3 Там же, с. 29.
50
С. Л. Фокин
что Камю заимствовал у русского философа исто¬
риософскую схему судьбы человека.1 Однако гово¬
рить о прямом воздействии идей Бердяева на автора
«Бунтующего человека» было бы неосторожно —
прежде всего потому, что оппозиция «природа—
история» присутствовала в сознании Камю задолго
до его знакомства с книгой «Смысл истории». Скорее
всего, Камю заимствовал у Бердяева именно схему,
отличающуюся жесткостью, догматичностью, свое¬
образной христианской ортодоксальностью, которые
присущи складу мышления русского философа. Од¬
нако эта схема понадобилась для ее опровержения.
Ибо странность созвучия идей Камю мыслям Бердяе¬
ва заключается в том, что, употребляя вслед за авто¬
ром «Смысла истории» понятия «природа» и «исто¬
рия», французский философ вкладывает в них смысл,
совершенно противоположный бердяевскому.
У Бердяева «природа» — это рабство человека,
его унизительная зависимость от власти стихийной
жизни. Христианство вывело человека из внутрен¬
ней жизни природы, оставшейся в языческом мире.
Явление в мир Христа освободило человека, изъяло
его из рабской подчиненности природе, «выделило
и вознесло до небес».2 Человек должен был оттолк¬
нуться от низшей природы, чтобы выковать новую
свободную личность, неподвластную природе, ушед¬
1 P. Archambault. Albert Camus et la métaphysique chréti¬
enne. — Albert Camus 1980: Second International conference
Febr. 21—23, 1980 / Ed. by R. Gay-Crosier. Gainesville, Univ.
presses of Florida, 1980, p. 214-215.
2 H. A. Бердяев. Ук. соч., с. 88.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
51
шую от нее на поле «истории», смело вступившую на
неисповедимые исторические пути, которые ведут —
и это главное в понимании «истории» Бердяевым —
к концу истории, к иному миру. Здесь весь эсхато-
логизм христианского экзистенциализма русского
мыслителя: «История только в том случае имеет по¬
ложительный смысл, если она кончится... Судьба
человека, которая лежит в основе истории, предпо¬
лагает сверхисторическую цель... сверхисториче-
ское разрешение судьбы истории в ином, вечном вре¬
мени. Земная история должна вновь войти в небесную
историю, должны исчезнуть грани, отделяющие мир
посюсторонний от мира потустороннего, подобно
тому, как не было этих граней в глубине прошлого,
на заре мировой жизни».1
Камю, конечно же, не мог с сочувствием отнес¬
тись к этим трансцендентным далям и прорывам.
Согласно его мысли, наступает время, когда «приро¬
да вновь восстает против истории» (II, 703). Исто¬
рия, беспредельная историческая деятельность лю¬
дей во имя абсолютных, часто недостижимых целей,
уже покарала освободившегося от природы челове¬
ка: исторический бунт за абсолютную справедливость
привел к абсолютному подавлению свободы, утверж¬
дению империи концентрационных лагерей. Но этот
провал истории не означает, что от всякой истори¬
ческой деятельности следует отказаться. Камю не
отвергает историю, а опровергает ее: он стремится
показать, что абсолютной ценностью история быть
не может. Историческое действие, по его мысли,
1 Там же, с. 60.
52
С. Л. Фокин
должно определяться понятием человеческой
природы и проистекающей из нее потребностью ува¬
жения общечеловеческого достоинства. Бунт, естест¬
венное состояние не смирившегося с конкретной
несправедливостью человека, оказывается на стороне
подлинного исторического реализма: «Вот почему
он опирается на самые конкретные реальности —
на ремесло и на деревню, в которых проступает
живое сердце вещей и людей. Политика должна быть
подчинена этим истинам» (II, 701). История, в кото¬
рой на наших глазах происходит становление бытия,
не вправе от самого бытия отрываться. Она должна
упорядочиваться природой.
Камю, возможно, не был глубоким истолкователем
античности, его художественно-философским тек¬
стам, трактующим античные сюжеты, недостает вдох¬
новенной проникновенности хайдеггеровских меди¬
таций над мыслью досократиков, хотя именно туда —
к истокам западного мироощущения — устремляется
его зрелая мысль. В образе античности Камю пред¬
почтение отдается олимпийскому свету, а не сумер¬
кам хтонической ночи, аполлоновской упорядочен¬
ности, а не тайнам дионисийского неистовства.1
Важно, однако, что этот образ эллинского идеала
является живительным источником художествен¬
но-философской мысли Камю, а античная литерату¬
ра — от Гомера до Еврипида, от Гераклита до Пло¬
тина, от Фукидида до Лукреция, — «приводившая
1 См. об этом: С. С. Аверинцев. Образ античности в западно¬
европейской культуре XX века. — Новое в совр енной клас¬
сической филологии. М., 1979, с. 5-40.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
53
в восторг»1 студента Алжирского университета, пре¬
вратится для писателя в неисчерпаемую сокровищни¬
цу художественно-философских образов. Камю чув¬
ствует себя в мире Эллады как дома: «Мир, где мне
привольнее всего — греческий миф» (С2, 317).2
С другой стороны, в своем споре с христианством
Камю многое перенял у соперника, вплоть до глубо¬
кого усвоения его языка — языка Библии, его поня¬
тий, символов, образов. «Как бы то ни было, — пи¬
шет о Камю один из исследователей, — с полным
правом можно утверждать: алжирский Сизиф до¬
вольно бегло говорил на языке Библии даже тогда,
когда возвышал свой голос, чтобы оспорить Открове¬
ние».3 К этому красноречивому замечанию можно
добавить то, что язык Камю особенно насыщался
«христианской лексикой» там, где он откровеннее
всего полемизировал с христианством. Воспринимая
библейские понятия и образы, Камю сознательно
и целеустремленно очищает их от любых апелляций
к потустороннему миру. В цитате из Пиндара, вы¬
бранной эпиграфом к «Мифу о Сизифе», Камю за¬
дает уже целую антихристианскую программу, на
осуществление которой направлены многие его
произведения: «Не пытай бессмертия, милая душа —
1 C. A. Viggiani. Notes pour le futur biographie d’Albert Ca¬
mus... P. 207.
2 Подробнее о мифологических мотивах мысли Камю и вос¬
приятии им образов мифологии см.: М. Crochet. Les Mythes dans
Pœuvre de Camus. Paris, 1973; F. Bartfeld. Albert Camus ou le
mythe et le mime. Paris, 1982.
3 P. Viallaneix. L’«incroyance passionée» d’Albert Camus. —
«La Revue des lettres modernes», 1968, № 170-174, p. 182.
54
С. Л. Фокин
обопри на себя лишь посильное». Показательно в этой
связи эссе «Пустыня», завершающее сборник «Брач¬
ный пир». Здесь стремление Камю к «обмирщению»
библейского языка достигает наивысшей напряжен¬
ности. Интенсивное употребление переиначенных
библейских формул, оборотов, фразеологизмов пре¬
следует, по-видимому, вполне определенную цель —
категоричное опровержение самой «греховной», по
представлениям Камю, истины христианства, отчет¬
ливо сформулированной в Послании Иоанна: «Не
любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир,
в том нет любви Отчей» (1 Иоан. 2, 15). Камю, на¬
против, поет гимн любви к миру, к посюсторонне¬
му, активно используя при этом язык и даже ритм
Библии. Средиземноморские пейзажи становятся
у него «евангелиями камня, неба и воды», они — «ис-
сушающи для души», эти евангелия повествуют о том,
что ничто не может тут «воскреснуть» (И, 85). Един¬
ственное «искушение» людей, живущих среди этих пей¬
зажей, — в вечном настоящем, данном нам «в довер¬
шение» всего (II, 85). Камю не устает твердить, что
«все Царствие его — от мира сего», он переполнен
любовью к миру, к его нежному, но и безразлично¬
му к преходящему человеку облику: «Миллионы глаз,
я это знал, уже созерцали этот пейзаж, а для меня
он был как первая улыбка неба... Он утверждал меня
в том, что без моей любви и без этого потрясающе¬
го крика камней все было бесполезно. Мир прекра¬
сен, и вне него — никакого спасения» (И, 87).1
1 В стилистическом исследовании ранней эссеистики Камю,
предпринятом А. Барреа-Видалом, наглядно показана необыкно¬
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
55
Но самую поразительную метаморфозу пре¬
терпевает в творческом сознании писателя цен¬
тральный образ христианской мифологии. Его пони¬
мание Христа, вероятно, лучше всего раскрывающее
смысл его взаимоотношений с христианством, отли¬
чается определенным постоянством, и прежде все¬
го убежденностью в человеческой природе Иисуса.
Е. П. Кушкин верно замечает о раннем Камю, что
тот «проникается обвинительным пафосом “Леген¬
ды о Великом Инквизиторе” Достоевского, неодно¬
кратно противопоставляя Христа — “совершенного
человека” — тем, кто с его именем на устах творит
несправедливость».1 В 1940 году Камю записывает
в дневнике: «Если христианство так затронуло нас,
то, конечно же, своим Богочеловеком. Но его прав¬
да и величие прекращаются сразу после крестных
мук и крика о своем одиночестве. Вырвем послед¬
ние страницы из Евангелия — и оно сразу же пред¬
станет перед нами религией человека с культом оди¬
ночества и величия» (С1, 206). Наряду с «Легендой
о Великом Инквизиторе», определявшей глубокое
сочувствие Камю образу того, чье имя и слово ока¬
зались преданными как раз теми, кто объявлял себя
самыми верными Его сторонниками, не менее силь¬
ное воздействие на его мысль оказали рассуждения
Кириллова из «Бесов», «философии» которого фран¬
венная предрасположенность автора «Брачного пира» к пере¬
осмыслению библейских понятий и терминов христианской ме¬
тафизики (особенно Паскаля). См.: A. Barrera-Vidal. Der Stil
von Albert Camus. Frankfurt am Main, 1963, p. 59—71 (глава «Хри¬
стианская терминология»).
1 E. П. Кугитн. Ук. соч., с. 59.
56
С. Л. Фокин
цузский писатель посвятил эссе, вошедшее в «Миф
о Сизифе».1 Не вдаваясь здесь в обстоятельный анализ
восприятия ранним Камю творчества Достоевского,
подробно исследованного в работах С. И. Великов-
ского, Ю. Н. Давыдова, Е. П. Кушкина, Ю. Г. Магниц¬
кого, Ю. А. Милешина, В. В. Шервашидзе, отметим
существенный для понимания духовной эволюции
Камю момент: за всеми односторонними толкова¬
ниями и перетолкованиями, за не лишенными ни¬
гилистического пафоса трансформациями, характер¬
ными для прочтения молодым Камю Достоевского,
угадывалась и какая-то особая предрасположенность
к восприятию — вслед за Достоевским — образа
Христа как реального воплощения наивысшего эти¬
ческого принципа в человеке. Не случайно поэтому
Камю настаивает в «Мифе о Сизифе»: «В Иисусе во¬
площена вся человеческая драма. Он есть всесовер-
шенный человек... Он не богочеловек, а человеко-
бог. Подобно Христу, каждый человек может быть
распят и обманут — в какой-то мере это происхо¬
дит с каждым» (И, 184).
У зрелого Камю тот же ход мысли. Для автора
«Бунтующего человека» казнь Христа — «средото¬
чие всемирной истории» (II, 718). В эссе, исследую¬
1 Как показано в интересной статье Е. П. Кушкина, внима¬
ние Камю к этому, в общем, второстепенному персонажу рома¬
на Достоевского не было случайным, его могла предопределять
особая традиция, в которой Кириллов воспринимался как один
из вечных образов, наподобие Фауста или Дон Жуана. См.:
Е. П. Кугикин. У истоков рецепции «Бесов» (Кириллов во
французской литературе XX века). — Межнациональный фак¬
тор в литературном процессе. Л., 1989, с. 63-76.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
57
щем бунтарские устремления европейской мысли, Ка¬
мю сближает Христа со Спартаком: избрав для себя
казнь, предназначенную для рабов, он стремился со¬
кратить то безмерное расстояние, что отделяет уни¬
женного человека от неумолимого лика Господа. «Он
заступается за людей и терпит в свой черед край¬
нюю несправедливость ради того... чтобы страдание
достигло неба и освободило его от людского про¬
клятия» (II, 520). Но Бог оставляет Христа умирать,
и распятый мученик становится одним из многих не¬
виновных, прилюдно казненных служителями безжа¬
лостного Бога.
Образ Христа становится для Камю символом
подвергнутой смертной муке невиновности. Отсюда
сильные христологические мотивы в образах геро¬
ев Камю, несущих в своей судьбе обвинение немило¬
сердному Богу, который предает безвинных страда¬
нию и смерти. С особой силой и художественной
достоверностью эти мотивы проступают в ключевой
сцене романа «Чума», где смерть ребенка, символ
безвинного страдания, напрямую связывается с му¬
ками Христа на кресте: сын следователя Отона стра¬
дальчески умирает от чумы «в нелепой позе распя¬
того» (1, 1392).
Та же трактовка образа Христа сохраняется в ро¬
мане «Падение», хотя здесь возникают несколько иные
ее оттенки. В безудержном словесном потоке лже-
исповеди Жана-Батиста Кламанса, исповеди-обмана,
исповеди-уловки, ставящей под сомнение существо¬
вание исповеди — самого христианского литератур¬
ного жанра, — прорываются вдруг слова глубокой
неподдельной любви к Христу: «А ведь он, поверьте,
58
С. Л. Фокин
не был сверхчеловеком. Он возроптал, он жаловал¬
ся на свои муки, и потому-то я люблю его, друг мой,
люблю, умершего в неведении» (1, 1532).1 Мы еще
вернемся в нашем анализе «Падения» к этому неожи¬
данному признанию, а пока отметим лишь удивитель¬
ный поворот темы невиновности человека, занима¬
ющей важное место в мысли Камю. В «Падении»
возникает странная связь между согласием Христа
принять смерть и Избиением Младенцев. Как утверж¬
дает теолог-библиевед Ж. Гольдштайн, Камю в сво¬
ем романе первым обратил внимание на возможность
переживания Иисусом душевных мук, вызванных его
безвинным преступлением: спасая младенца от царя
Ирода, приказавшего убивать всех новорожденных
в Вифлееме, чтобы избавиться от провиденциально¬
го младенца, Мария и Иосиф бегут с ним в Египет.2
По Камю, Христос не мог не испытывать чувства вины
по отношению к убитым детям: «Стенания поднима¬
лись во мраке ночном, Рахиль звала детей своих, уби¬
тых из-за него, а он-то, он был жив!» (1, 1532).
Невероятная насыщенность «Падения» и других
произведений позднего Камю христианскими тема¬
ми заставила некоторых критиков всерьез загово¬
рить о религиозном обращении автора «Мифа о Си¬
зифе». На вопрос, содержавший это предположение,
Камю отвечал: «Нет, ничего кроме этого слова: нет»
(II, 1615).
1 Бог оставил Христа, умершего на кресте, в неведении: «Бо¬
же Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46).
2 J. Goldstain. Camus et la Bible. — «La Revue des lettres
modernes», 1971, № 264—270, p. 97—139.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
59
Несмотря на решительное опровержение Ка¬
мю попыток «христианизации» его мысли, существу¬
ет немало суждений о его творчестве, так или иначе
связывающих его с христианством. Подобные суж¬
дения, высказанные, в частности, такими авторитет¬
ными оппонентами Камю из лагеря католицизма, как
Г. Марсель и Ф. Мориак, в наиболее категоричной
форме прозвучали в биографическом очерке фран¬
цузского писателя П. Гаскара: «Мысль Камю в его
последних произведениях является, говорю это не
колеблясь, христианской — в самом прямом смыс¬
ле слова... Переживание виновности, точнее на¬
важдение виновности, понимание индивидуальной
свободы или, скорее, свободной воли, постоянное
употребление понятий чистоты, невинности, спра¬
ведливости — все связывает Камю если и не с рели¬
гией, то, по крайней мере, с христианским гуманиз¬
мом».1 Эта точка зрения, не лишенная, как мы
убедились, основания, не передает однако всей пол¬
ноты, сложности и драматичности отношения Камю
к христианству. На слова П. Гаскара можно возра¬
зить не менее категоричным высказыванием дру¬
гого французского писателя, Ж. Геенно: «Нет, мысль
Камю была связной, цельной, полной, и все произо¬
шло так, как будто он хотел доказать, что настоящий
человек может прожить без Бога».2 Лучше всего,
на наш взгляд, взаимоотношения Камю с христи¬
анством характеризует записанная им в дневник
1 Р. Gasear. Le dernier visage de Camus. — Camus: Collection
Génies et Réalités. Paris, 1964, p. 255.
2 J. Ghehenno. Albert Camus. — «La Revue des deux mondes»,
1977, Octobre, p. 58.
60
C. Л. Фокин
фраза Готорна о Мелвилле: «Он не верил, но не мог
довольствоваться неверием» (С2, 296).
Итак, эллинство и христианство — вот два нача¬
ла европейской мысли, возможно, не столь антаго¬
нистические, как представлял их Камю, но всегда
противоборствующие моменты его творческого со¬
знания, задающие его напряженность и предопреде¬
ляющие философскую мысль и глубину идеологичес¬
ких и художественных решений.
Особый интерес рассмотренных здесь интенций
философской мысли Камю заключается в том, что
они образуют напряженный мировоззренческий под¬
текст его романного творчества. Как справедливо
отмечает Б. Пратт, автор исследования с красноре¬
чивым названием «Евангелие от Альбера Камю»,
в котором рассматриваются евангелические темы
в художественной прозе писателя, «именно это из¬
начальное духовное устремление, этот бунт против
христианской метафизики, придают его творчеству
духовную цельность и общую связность».1 Развивая
это на первый взгляд парадоксальное утверждение,
можно заметить, что и эстетика романиста несет на
себе следы богоборчества: обоснование творческой
позиции писателя происходило не без воздействия
антихристианского импульса его мысли. «Для моего
“творчества против Бога”, — делает Камю первые
наброски к эстетике бунта, — один критик-католик
(Станислас Фюме) утверждает, что искусство, како¬
ва бы ни была его цель, является преступным сопер¬
ничеством с Богом» (С2, 108-109).
1 В. Pratt. L’Evangile selon Albert Camus. Paris, 1980, p. 11.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
61
4. НИЦШЕ И «СЧАСТЛИВАЯ СМЕРТЬ»
Идеи Камю об идеалах эллинства и «измене» им
христианства отмечены явным влиянием мысли
Ф. Ницше. Это и не удивительно. Влияние Ницше на
философскую и литературную жизнь XX века не¬
обычайно велико. Правда, имея в виду оригиналь¬
ных мыслителей и художников, а Камю счастливо
соединил в себе оба этих дара, следует говорить не
столько о влиянии, сколько о сильном воздействии,
подобном ошеломительному толчку и направившем
многих к самостоятельному осмыслению тех «прокля¬
тых» вопросов, которые с душераздирающей болез¬
ненностью и изумительным литературным мастер¬
ством были поставлены в «Заратустре» и «Антихристе».
Ницше был, если воспользоваться определением
известного культуролога и политолога М. Михайло¬
ва, «великим катализатором»,1 ярко высветившим
темы XX века. Воздействие его мысли на многих пи¬
сателей оказалось решающим, хотя и не определяю¬
щим, поскольку большинство из них, столкнувшись
с его будоражащей мыслью, открыли и иные пути,
ведущие порой в противоположную от ницшевских
провалов и «ницшеанских» устремлений сторону.2
Среди таких писателей находится и Камю.
1 М. Михайлов. Великий катализатор: Ницше и русский нео-
ццеализм. — «Иностр. лит.», 1990, № 4, с. 203.
2 В последнее время наметилась тенденция к различению
двух явлений, обозначавшихся ранее единым понятием «ницше¬
анство». Термин «ницшевский» относится к соответствующим
мысли самого Ницше моментам его философии и мировоз¬
зрения, «ницшеанский» несет на себе сопутствующую нагрузку,
62
С Л. Фокин
Выяснение отношений между Ницше и творче¬
ством Камю — дело чрезвычайно сложное, лишь
недавно начатое в критической литературе.1 Здесь
как нигде требуется осторожность, чтобы не допус¬
тить перекоса ни в одну из двух крайностей: либо
без Ницше Камю не стал бы Камю, либо его мысль
настолько самобытна, что знакомство с Ницше сов¬
сем не затронуло его движения по собственному
пути. Истина, как всегда, где-то посередине, и, выяс¬
няя ее, мы должны проанализировать историко-
литературные документы, на основе которых только
и можно воссоздать сложную картину напряженно¬
го общения мысли Камю с творчеством Ницше.
Следует сразу сказать: Камю был тонким цените¬
лем и глубоким знатоком Ницше. Еще в студенчес¬
кие годы при содействии Ж. Гренье он издал «Эссе
о музыке», самую пространную из своих первых пе¬
чатных работ, в которой проанализировал эстети¬
ческие представления Шопенгауэра и Ницше. Камю
импонировал ницшевский «оптимизм, основанный на
опьянении страданием» (САС2, 158). В эту пору, как
вспоминает один из его преподавателей, «он само¬
забвенно предается философии — даже в сочине¬
ниях по французскому языку; Ницше был для него
основанную на аберрации реального образа Ницше, встречаю¬
щейся как в рецепции его идей, так и в критических коммента¬
риях (см.: А. А. Лаврова. Ницше. — Современная западная фи¬
лософия. Словарь. М., 1991, с. 211-214, особенно 214).
1 F. Favre. Camus et Nietzche — philosophie et existence. —
«La Revue des lettres modernes», 1979, № 565-569, p. 65-94;
M. Weyemberg. Camus et Nietzsche: évolution d’une affinité. —
Albert Camus 1980... P. 221-232.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
63
и законом, и пророком, он цитировал его по всяко¬
му поводу, а то и без повода» (II, 1172-1173).
Книга «Рождение трагедии» предопределила основ¬
ную концепцию дипломной работы Камю, и хотя он
ее не цитирует, появление имени Ницше на послед¬
ней странице университетского сочинения вовсе не
было случайным: идеи Греции — «света и тени», ан¬
титеза <щионисийского» и «аполлоновского» начал —
прочно вошли в сознание алжирского студента. С те¬
чением времени Камю неустанно углублял свое
знакомство с творчеством немецкого философа,
особенно в период работы над «Бунтующим челове¬
ком», и составил себе целую библиотеку из произ¬
ведений Ницше: французские переводы основных
трудов мыслителя, его переписку и обширную кри¬
тическую литературу, в том числе фундаментальное
шеститомное исследование Ш. Андлера и работы
таких именитых толкователей Ницше, как Л. Шес¬
тов, М. Хайдеггер, К. Ясперс. Испещренные много¬
численными пометками эти книги хранятся в архи¬
ве писателя и свидетельствуют о серьезном внимании
Камю к мысли Ницше.1
Поздний Камю судил о Ницше не понаслышке. Но
именно «судил», так как юношеское восторженное
приятие Ницше медленно менялось в едва ли не
противоположную сторону, в сторону глубоко лич¬
ного понимания, сочувствия и отвергающего сожа¬
ления. «Читаю письма Ницше, — писал Камю Гренье
за полгода до своей гибели. — Он говорил о себе
1 A. J. Arnold. Camus lecteur de Nietzsche. — «La Revue des
lettres modernes», 1979, № 565—579, p. 95—99.
64
С. Л. Фокин
как о Господе Боге — не переставая, однако, быть
жалким. Это вовсе не Господь Бог... В жизни Ницше
(так долго остававшегося подростком — вплоть до
разрыва с Вагнером) есть что-то вроде бессознатель¬
ного порыва к подражанию. Он подражал Христу,
подражал Дионису — будучи не в состоянии, я ду¬
маю, оставаться самим собой. Впрочем, иногда я его
понимаю. Но следует все же смириться и сосуще¬
ствовать с самим собой» (СС, 226). За этой оценкой
скрывалось глубокое осмысление роли Ницше в ду¬
ховной и политической жизни XX века, получившее
выражение в эссе «Бунтующий человек» (раздел «Ниц¬
ше и нигилизм»). По Камю, Ницше был тем, кем он
сам себя определил, — самой чуткой совестью ни¬
гилизма. Бунтарская логика немецкого философа,
не знающая пределов, сокрушающая не только идо¬
лов, но и живые ценности бытия, неистовое прия¬
тие существующего порядка вещей («любовь к року»),
которое стало итогом философии Ницше, оказались
в глазах автора «Бунтующего человека» крайним во¬
площением мировоззренческого нигилизма, лежаще¬
го в основе кровавых бунтарских движений XX века.
Беспредельная одержимость свободой приводила
к абсолютному обожествлению человека, чему Камю
противопоставил идею «меры».
Автор «Заратустры» был постоянным спутником
духовной жизни Камю и даже стал его смертным про¬
вожатым — «Отелло» Шекспира и «Веселая нау¬
ка» Ницше были с писателем в день его гибели.
Непрестанный диалог Камю с Ницше был драмой
борьбы идей, прологом к которой, раскрывающим
всю меру, точнее всю безмерность юношеского вое-
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
65
торга в восприятии идей кумира, можно считать
роман «Счастливая смерть», над которым писатель
работал в 1936-1938 годах. Роман, оставшийся не¬
опубликованным при жизни Камю, знаменует собой
важный этап в духовном развитии творческого ме¬
тода автора «Постороннего».
О ницшевских мотивах «Счастливой смерти» пи¬
сали Е. П. Кушкин и С. Г. Семенова.1 В монографии
В. В. Шервашидзе в разделе, посвященном этому
раннему опыту Камю-романиста, предпринята по¬
пытка истолковать его в свете идей Ницше о «дио¬
нисийском пессимизме», однако многочисленные и
слишком пространные, на наш взгляд, отступления
о немецких романтиках, призванные подкрепить
основную концепцию исследователя, утверждающую
связь творческого метода Камю с романтизмом, не¬
сколько затемняют реальный смысл очевидного
использования писателем характерных тем книг Ниц¬
ше «Рождение трагедии» и «Сумерки идолов».2 Твор¬
чество немецкого мыслителя, глубоко вчитанное
в себя молодым средиземноморцем, дает верные
ключи к роману «Счастливая смерть», по-ученически
перегруженному литературными и философскими
загадками.
Произведение разделено на две части. Первая, под
названием «Естественная смерть», начинается со сце¬
ны одного странного убийства. Ранним апрельским
утром Патрис Мерсо незаметно проникает на виллу
1 Е. П. Кушкин. Альбер Камю... С. 123-129; С Т. Семенова.
Преодоление трагедии. М., 1989, с. 221-225.
2 В. В. Шервашидзе. Альбер Камю. Путь к роману «Посторон¬
ний». Сухуми, 1988, с. 106-117.
66
С. Л. Фокин
местного богача-затворника Ролана Загреуса, ко¬
торый, впрочем, уже ожидает юношу.
Мерсо, бедный алжирский клерк, приходит, что¬
бы убить Загреуса, калеку-философа, лелеющего мыс¬
ли о самоубийстве, но страстно влюбленного в жизнь
и не желающего оскорбить ее, противоестественно
оборвав свое жалкое, но живое существование.
Загреус, проникшийся отеческой симпатией к
Мерсо, видит в его молодости, силе, красоте, неукро¬
тимом стремлении к счастью необходимые условия
для осуществления идеала счастливой жизни, к ко¬
торому он всегда стремился и которого из-за свое¬
го увечья был лишен, уже давно подталкивает моло¬
дого человека к принятию решения об убийстве.
В своих беседах с юношей он не раз рассказывал
о своей молодости: «Стремление к счастью казалось
мне самым благородным в человеческом сердце.
И требование счастья, по-моему, могло все оправ¬
дать» (САС1, 76). Искушая юношу, он настойчиво
внушает Патрису мысль о преступной вседозволен¬
ности на пути к счастью: «Все покупается. Быть
или стать богатым — это иметь время для того, что¬
бы стать счастливым, если ты достоин им быть»
(САС1, 76).
Патрис не сразу понимает, что наставник хочет,
чтобы он доказал, что достоин счастья, чтобы он взял
на себя кровавый труд убийства. Молодой человек
сомневается: «Это рискованно. — Да, — глухо отве¬
чает Загреус, — но лучше ставить на эту жизнь, чем
на другую» (САС1, 79).
И вот убийство. Предусмотрительный Загреус все
устраивает так, чтобы его смерть выглядела само¬
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
67
убийством: оставляет револьвер, ларец с большой
суммой денег и давно написанную предсмертную за-
писку-завещание: «Я уничтожаю лишь половину че¬
ловека...» (САС1, 27). Мерсо остается только выстре¬
лить и вложить оружие в руку Загреуса: «Теперь
Загреус смотрел в окно... не двигаясь, он, казалось,
созерцал все нечеловеческое великолепие этого
апрельского утра. Когда он почувствовал дуло ре¬
вольвера на своем правом виске, он не повернулся.
Но Патрис, смотревший на него, увидел, как глаза
его наполнились слезами. Он сам зажмурился, сде¬
лал шаг назад и выстрелил» (САС1, 28).
Следующие главы первой части романа возвра¬
щают нас к тому времени, когда Патрис еще не знал
Загреуса. Убогая жизнь в бедном квартале Алжира,
изнурительная, но не позволяющая вырваться из уни¬
зительной нищеты работа в небольшой конторе,
невзрачная закусочная с примелькавшимися посети¬
телями, иногда кино и беспросветная скука по вос¬
кресеньям — вот из чего состоит его безрадостное
существование. Одну из комнат в своей квартире,
опустевшей после смерти матери, Мерсо сдает бо¬
чару Кардоне, жизнь которого еще безысходнее, чем
его — он не только беден и одинок, но и стар, на¬
половину глух и нем, озлоблен. Встречаясь со ста¬
риком, Мерсо нередко видит на его лице горькие
слезы нищеты, одиночества и бессилия. Мятежное
«Нет!» убожеству жизни крепнет в нем: после одно¬
го из разговоров с Кардоной Патрис бесповоротно
решается на убийство Загреуса.
Вторая часть романа под названием «Сознатель¬
ная смерть» рассказывает о том, как завладевший
68
С. Л. Фокин
богатством Загреуса Мерсо пытается осуществить
идеал счастливой жизни. Но первый опыт оказался
неудачным: отправившись путешествовать по Евро¬
пе, Мерсо приезжает в Прагу, где попадает под власть
тяжелых переживаний, связанных не с убийством,
а с чуждыми ему серыми и холодными городскими
пейзажами. Только в Италии путешественник при¬
ходит в себя: в окружении милой средиземномор¬
ской природы он обретает то, что ищет. Здесь Пат-
рис вспоминает об убитом им Ролане, о его завете,
который он, кажется, исполнил: «Он открыл в себе
способность к забвению, свойственную только де¬
тям, гениям и невиновным. Невиновный, охвачен¬
ный радостью, он понял, наконец, что был создан
для счастья» (САС1, 125).
Вернувшись в родной Алжир, Мерсо продолжает
опыт счастливого единения с миром. В обществе не¬
скольких молодых девушек он поселяется в доме на
вершине Алжирских холмов. «Роза, Клер, Катрин
и юноша называли его “Дом с окнами в мир”. Полно¬
стью открытый окружающим пейзажем, он напо¬
минал гондолу, застывшую в ослепительном небе
над колоритным танцем мира» (САС1, 130). Здесь
Патрис предается утехам беззаботного существова¬
ния и «утонченным» философским беседам со свои¬
ми любвеобильными подругами.
Однако в нем уже давно зарождается потаенный
страх. Тогда он уединяется, думая таким образом про¬
длить обретенную радость жизни, но страх, соеди¬
нившись с болезнью, поселившейся в теле Мерсо в
холодное утро убийства Ролана, начинает одолевать:
конец счастья безнадежно близок. Тогда и наступает
I. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
69
прозрение: смерть является естественной частью
жизни. Перед самой своей смертью Мерсо понима¬
ет Загреуса: «И даже в неподвижности Загреуса пе¬
ред ликом смерти он увидел тайный и жестокий образ
собственной жизни... В тот день глаза Загреуса так¬
же были открыты, и из них бежали слезы. Но это
была последняя слабость человека, уже не участвую¬
щего в своей жизни» (САС1, 201-202).
Роман, как мы видим, является своеобразной по¬
пыткой доказать несколько сомнительный тезис о воз¬
можности счастливой смерти, заявленный в загла¬
вии произведения. К анализу заглавия и этого тезиса
мы еще вернемся, а пока остановимся на первой
сцене романа, сцене убийства. Загреус ожццает свое¬
го ученика-убийцу, читая книгу — деталь примеча¬
тельная хотя бы потому, что ни в одном из других
произведений художественной прозы Камю герои не
будут «читать книг», разве что Мерсо в «Посторон¬
нем» обнаружит свое знакомство с детективными
романами, да доктор Рие в «Чуме» будет обращаться
к специальной медицинской литературе. В книге,
оставшейся на коленях убитого Ролана, начинающий
романист дает как бы первый ключ к своему произ¬
ведению. Книга называется «Придворный человек»,
автор ее — Бальтасар Грасиан-и-Моралес (1601-
1658), испанский писатель, философ-моралист,
иезуит, в последние годы жизни вступивший в кон¬
фликт с всесильным церковным орденом. «Придвор¬
ный человек» (точный перевод «Обиходный оракул,
или Искусство быть благоразумным» (1647), в пер¬
вом русском переводе 1739 года также «Придвор¬
ный человек») — сборник из 300 афористически
70
С. Л. Фокин
сформулированных правил жизненного поведения,
оказавший определенное влияние на Ларошфуко
и других французских моралистов XVII века.1 Фи¬
лософская позиция Грасиана, высокомерно утверж¬
дающая независимую мораль одинокой, творческой
по отношению к самой себе личности, явно обыгры¬
вается в рассуждениях Загреуса. Формулируя пра¬
вило «великого учителя», автор «Оракула» пишет:
«Применять все средства человеческие, словно бы
не существовало божественных, и все божественные,
словно бы не существовало человеческих».2 Как бы
вторя иезуитской вседозволенности, Ролан поучает
Мерсо, рассказывая о том, как он достиг богатства:
«В двадцать пять лет я начал богатеть. Я не отступал
перед мошенничеством. Я бы ни перед чем не отсту¬
пил» (САС1, 77). Патрис, как мы помним, также не
отступил: стремление к счастью все оправдывало
в его глазах.
Но Грасиан, подсказывая одну из литературных
разгадок произведения, важен здесь не сам по себе.
Камю, прекрасно знакомый с творчеством Шопен¬
гауэра, не мог не знать, что у автора «Мира как воли
и представления» Грасиан был одним из «излюблен¬
ных писателей», а «Оракул» стал известен по-немец¬
ки в шопенгауэрском «вдохновенном переводе».3
О Грасиане с чувством восхищенного знатока от¬
1 В. К. Ясный. Грасиан-и-Моралес. — Краткая литературная
энциклопедия. Т. 2. М., 1964, с. 328.
2 Б. Грасиан. Карманный оракул. Критикон. М., 1981, с. 55.
3 Л. Е. Пинский. Бальтасар Грасиан и его произведения. —
Б. Грасиан. Карманный оракул. Критикон, с. 499.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
71
зывался и Ницше, непосредственный вдохновитель
«Счастливой смерти».
Само название романа, развернутое в заголовках
двух частей — «Естественная смерть» и «Сознатель¬
ная смерть», было связано в творческом сознании
Камю с Ницше. В «Записных книжках» писателя есть
запись: «О сознательной смерти см. Ницше “Сумер¬
ки идолов”» (С1, 119). Камю имел в виду Зб-й раздел
из «набегов несвоевременного», где Ницше, в част¬
ности, писал: «Гордо умереть, если уже более нет
возможности гордо жить... Здесь следует, напере¬
кор всей трусости предрассудка, восстановить пра¬
вильную, т. е. физиологическую, оценку так назы¬
ваемой естественной смерти, — которая в конце
концов является также лишь “неестественной”, само¬
убийством... Следовало бы, из любви к жизни, —
желать иной смерти, свободной, сознательной, без
случая, без неожиданности».1 Очевидно, что мотивы
«естественной» и «сознательной» смерти, входящие
в понятие «счастливой смерти», Камю заимствовал
у своего философского кумира.
По Ницше, высший интерес восходящей жизни
требует беспощадного подавления и устранения
жизни ущербной, вырождающейся. Отвергая «естест¬
венную» смерть христианства, предполагающую ти¬
хое смирение умирающего, Ницше объявлял христи¬
анскую смерть «неестественной», противоречащей
живому жизненному порыву, природе, естеству.
Только «сознательная» смерть, смерть в полном со¬
знании, когда человек еще действительно живет,
1 Ф. Ницше. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990, с. 611.
72
С. Л. Фокин
является, по Ницше, подлинной «естественной»,
отвечающей потребностям жизни смертью. Добро¬
вольное самоубийство, как ответ достойного жизни
человека, оказывается решительным выходом из
унизительного состояния «противоестественной»
жизненной ущербности. Соединив ницшевские мо¬
тивы «естественной» и «сознательной» смерти с до¬
рогой ему идеей счастья, Камю получил понятие
«счастливой смерти», на раскрытие которого и был
направлен роман.
В первой части «естественную», по Ницше, смерть
принимает Ролан Загреус. Подталкивая Мерсо к при¬
нятию преступного решения, соответствующего «выс¬
шим интересам жизни», он поясняет: «Никогда не сле¬
дует загрязнять жизнь поцелуями калеки» (САС1, 77).
Патрис, согласившись убить Загреуса, шагает «по ту
сторону добра и зла», берет на себя роль очистителя
жизни, безжалостно уничтожающего ее нездоровый
побег. Однако и сам он во второй части романа идет
навстречу смерти с открытыми глазами: уверившись
в своей болезни, он сознательно избирает полноцен¬
ную жизнь у моря и солнца, вместо того чтобы пы¬
таться излечить себя. Патрис, следуя уроку Ролана,
выбирает «сознательную смерть», практически унич¬
тожает себя, то есть делает, по Ницше, «достойное
величайшего уважения дело». Пережитое им счастье
оправдывает смерть, он умирает счастливым.
По-видимому, мотив убийства-самоубийства, при¬
званный скрепить разные части произведения, возник
в творческом сознании писателя на довольно поздней
стадии работы над романом. В августе 1937 года
в одном из рабочих планов появляется запись, точно
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
73
формулирующая замысел последней главы: «По¬
следняя глава: Путь к солнцу и смерть (самоубий¬
ство — естественная смерть)» (С1, 64). К этому вре¬
мени отдельные фрагменты произведения уже
написаны: в сборнике эссе «Изнанка и лицо», вышед¬
шем в свет в 1937 году, имелись зарисовки путеше¬
ствия в Прагу («Со смертью в душе»), безрадостной
жизни алжирских бедняков («Между ДА и НЕТ»), да
и пробы пера из «Записных книжек» в несколько из¬
мененном виде вошли в роман.1 Похоже, что ниц-
шевская мысль послужила толчком к попытке офор¬
мить в единое целое разнообразные по форме и
содержанию отрывки. В пользу такого предполо¬
жения говорит сам метод работы Камю-романиста,
охарактеризованный им в беседе с одним из крити¬
ков следующим образом: «Заметки, обрывки записей,
туманные мечтания — и так целые годы. Но однаж¬
ды приходит идея, концепция, сплавляющая разбро¬
санные фрагменты. Тогда начинается долгая и тя¬
гостная работа по упорядочиванию» (И, 1921).
Более серьезное подтверждение ницшевского
влияния на «Счастливую смерть» — образ калеки-
философа Ролана Загреуса, первые следы которого
в «Записных книжках» появляются поздно — осенью
1937 года, когда большая часть произведения, точ¬
нее, большие части произведения, были написаны.
Загреус — латинское написание имени Загрея, в гре¬
ческой мифологии одной из архаических ипостасей
1 Подробнее о генезисе «Счастливой смерти» см. вступи-
тельную статью и комментарии Ж. Сарокки, подготовившего
роман к изданию: Cahiers Albert Camus 1, p. 7-19, 203-231.
74
С. Л. Фокин
Диониса,1 ставшего, как известно, первой воинствен¬
ной ипостасью «антихристианствующего» Ницше.
Словно сомневаясь, что запавшее ему в душу ниц-
шевское слово будет услышано в мотивах «естествен¬
ной» и «сознательной» смерти, Камю решает подчерк¬
нуть его еще рельефнее: поставив в смысловой центр
произведения мудреца-калеку с именем бога, да еще
поучающего жаждущего жизни юношу (Загрей —
«великий охотник», но и «ловчий душ»), начинающий
романист откровенно связал смысл своего романа
с мыслью Ницше.
В усердно проштудированном молодом Камю
«Рождении трагедии» (доказательством тому служит
упоминавшееся «Эссе о музыке») Ницше писал о Дио-
нисе-Загрее, «что мальчиком он был разорван на кус¬
ки титанами и в этом состоянии ныне чтится как
Загрей... Из улыбки этого Диониса возникли олимпий¬
ские боги, из слез его — люди».2 Здесь перед нами
сжато сформулированная мифологическая схема
одной из главных идей Ницше. В судьбе растерзан¬
ного и вновь оживающего Диониса-Загрея олице¬
творена первооснова всего сущего — мистери-
альное единство, распадение и восстановление
первоединства жизни. Мир, разбитый на индивиды
в раздробленном Загрее, восстанавливает свою цель¬
ность в новорожденном Дионисе: по ницшевской ин¬
терпретации мифа, погруженная в вечную печаль Де¬
метра, богиня плодородия земли, познает первую
настоящую радость лишь тогда, когда узнает, что
1 Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1980, с. 452.
2 Ф. Нищие. Сочинения в двух томах. Т. 1, с. 94.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
75
может вновь родить Диониса. Под дионисийскими
чарами, пишет Ницше, «не только вновь смыкается
союз человека с человеком: сама отчужденная, враж¬
дебная или порабощенная природа снова празднует
праздник примирения со своим блудным сыном —
человеком».1
В «Счастливой смерти» отчетливо проступают чер¬
ты грандиозного мифологического сценария траги¬
ческой драмы, в которой по существу лишь два ге¬
роя — мир и человек. Совершая убийство Ролана,
мифологический облик которого подчеркивается
не только именем, но и увечьем, да и слезами, вы¬
ступившими на его лице в минуту гибели, Патрис,
прошедший уже аскезу неофита, приносит жертву,
приобщается к божеству, соприкасается с тайной
жизни. Заново рождаясь из слез Загрея, он стано¬
вится человеком, то есть выходит на исполненный
страдания путь индивидуализации. Отныне он про¬
тивостоит миру как индивид, однако главная его за¬
дача — воссоединение с миром, возможное во всей
полноте лишь в смерти: он должен повторить судьбу
Загрея.
При таком подходе роман оказывается иллюстра¬
цией к мифологической драме отпадения человека от
мира и восстановления нарушенного единства. Мы
уже отмечали, что мотив рождения Мерсо из слез
умерщвленного им бога Камю сохраняет и в пер¬
вой, и в последней сцене романа. Своеобразное про¬
должение этого мотива — путешествие героя в по¬
езде, увозящем его после преступления к новой
1 Там же, с. 62.
76
С. Л. Фокин
свободной жизни, бесконечно далекой в его мечтах
от жалкого прошлого. «Этот вагон, уносивший его
через пол-Европы, словно держал Мерсо между двух
миров. Он забрал его из одного мира, а отпустит
в другом. Он уносил его из жизни, которую хотелось
предать полному забвению, уносил на порог нового
мира, где царствовать будет желание» (САС1, 114).
Однако предчувствие подлинной цели жизненно¬
го пути помогает Патрису обрисовать яркий образ
конечного пункта его путешествия. При виде блек¬
лых, безрадостных, грязных пейзажей Центральной
Европы Мерсо как бы «приходит в себя»: «На этой
земле, приведенной к отчаянию невиновности, он, пу¬
тешественник в первобытном мире, обретал наконец
свои привязанности, и, прижав руки к груди, а лицо
к стеклу вагона, он представлял свой порыв к самому
себе и к очевидности величия, дремавшему в нем. Он
хотел бы смешаться с грязью, вернуться в землю, прой¬
дя через баню воды и глины, и, выпрямившись на бес¬
крайнем просторе, покрытый грязью, с руками, рас¬
простертыми перед губчатым и коптящимся небом —
перед отчаянным и величественным символом жиз¬
ни — он хотел заявить свою солидарность с миром,
во всем, что в нем есть отвратительного, и провоз¬
гласить себя сообщником жизни вплоть до ее небла¬
годарности и нечистот» (САС1, 116-117).
Вернувшись из своих странствий в Алжир, Мер¬
со порывается продлить счастливый опыт единения
с жизнью в «Доме с окнами в мир». Здесь он по-
настоящему счастлив, он почти полностью сливается
с миром. Женские образы романа, психологически
мало достоверные, выглядят словно живые маски
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
11
мира, несут на себе его космические, отнюдь не че¬
ловеческие черты. Губы Марты казались Патрису
«посланием бесстрастного, переполненного желани¬
ем мира, в котором сердце его найдет удовлетворе¬
ние» (САС1, 55). Люсьена также представляла собой
в глазах Мерсо «что-то вроде тайного согласия, свя¬
зывавшего ее с землей и упорядочивавшего весь мир
вокруг ее движений» (САС1, 143). Нежное женское
тело, темная звездная ночь и теплое море скрепля¬
ют эротически окрашенный неистовый порью Па-
триса с миром: через них он погружается в вечный
космос бытия.1
Полное и окончательное слияние мира и челове¬
ка, возвращение блудного сына в лоно природы-
матери, возможно лишь в смерти, когда границы
индивида разрушаются, когда человеческое «я» пе¬
реходит в безграничный круговорот космоса. Мер¬
со в своей сознательной смерти постигает мудрость
«вечного возвращения»: за миг до небытия он вспо¬
минает убитого им Загреуса, смертью своей поро¬
дившего его, и понимает, что любит его: «Им овла¬
дела братская и яростная любовь к этому человеку,
от которого он был когда-то так далек, и он понял,
что, убив его, он завязал с ним брачные узы, соеди¬
нившие их навсегда» (САС1, 201). Смерть, соединяя
Патриса с Загреем, возвращает его в безразличные
объятия прекрасного мира: «И как камень среди
других камней он вернулся в радости своего сердца
к истине неподвижных миров» (САС1, 204).
1 Ср.: К Andrianne. Eros et cosmos dans «La Mort heureuse»
de Camus. — «Revue Romane», 1974, T. IX, № 2, p. 175—187.
78
С. JI. Фокин
Здесь мы должны сделать одну существенную ого¬
ворку. Ницшевско-мифологические вариации в
«Счастливой смерти» далеко не исчерпывают всей
смысловой полноты этого произведения, и, например,
в работе Е. П. Кушкина подробно исследованы дру¬
гие литературные источники романа (Достоевский,
Мальро, Монтерлан), показаны связи с биографией
писателя, верно определено его место в контексте
раннего творчества Камю. В плане духовного разви¬
тия писателя «Счастливая смерть» ознаменовала важ¬
ный этап, особенно наглядно обозначившийся по
отношению к ницшевским воззрениям. Завершая ана¬
лиз романа, Е. П. Кушкин отмечает: «Погоня за сча¬
стьем завершается в романе отрешенностью героя,
приговоренного к смерти. Ницшеанская аскеза, траги¬
ческий покой души на фоне прекрасного и безмолв¬
ного мира, созерцание смены времен года (ссвечное
возвращение”) — таков удел Патриса».1 М. Вейем-
берг, бельгийский исследователь философских взгля¬
дов Камю, также предложивший ницшевскую перспек¬
тиву в истолковании «Счастливой смерти», обращает
внимание на то, что выбранное Мерсо самоубийство
станет главным объектом критики в «Мифе о Сизи¬
фе».2 Отрешенное принятие мира, стоящее за таким вы¬
бором, ницшевская «amor fati», отвергающая возмож¬
ность какого-либо изменения жизни, уступают место
идее активного противостояния несправедливости.
1 Е. П. Кушкин. Альбер Камю, с. 135.
2 М. Weyemberg. Une lecture nietzscheenne de «La Mort heu¬
reuse». — Albert Camus: Communications du Colloque inter¬
national de Bruxelles, p. 49.
1. «...Хочешь бить философом — пиши романы»
79
Роман, как известно, не был опубликован. Этому
в общем-то необычному для молодого писателя ре¬
шению можно дать разные объяснения. Исследова¬
тели творчества Камю обращают внимание на воз¬
растающую требовательность молодого романиста
к эстетической стороне своих произведений, на его
возможную неудовлетворенность тематической и
художественной несогласованностью романа. Отме¬
чают недостаточную цельность идейно-философско-
го замысла, что объясняется недостаточной проду¬
манностью главного для раннего Камю этического
вопроса: что делать, если хочешь счастья? К тому же
творческое воображение писателя начинает волно¬
вать другой роман — в августе 1937 года (в самый
разгар работы над «Счастливой смертью») в «Запис¬
ных книжках» была сформулирована тема «Посто¬
роннего».
К этим объяснениям можно добавить еще одно,
до сих пор как-то выпадавшее из поля зрения кри¬
тики. Речь идет о состоянии ученичества, долгое
время определявшем настрой творческого созна¬
ния Камю. Внимая мудрости своих учителей (как
реальных, так и литературных), он мог полагаться
на мнения людей, авторитет которых в вопросах
творчества был для него непререкаем. Учени¬
ческая почтительность молодого писателя сыграла
определенную роль в принятии нелегкого решения
не публиковать роман. Ибо его первенец, как вся¬
кое первое творение, не мог не быть для него до¬
рогим.
Как сообщает биограф Камю Г. Лоттман, моло¬
дой писатель был буквально обескуражен после
80
С. Л. Фокин
встречи с Ж. Эргоном, лицейским преподавателем
французского и латыни, которому он дал на прочте¬
ние рукопись и чьим мнением очень дорожил. Эргон,
указав на поверхностностно «усвоенные» литератур-
но-философские «влияния», высказал серьезные кри¬
тические замечания по роману.1
Но настоящий «разнос» Камю получил, по-види¬
мому, от Гренье. Глубокий знаток античной культу¬
ры, под чьим руководством автор «Счастливой смер¬
ти» «штудировал» мифологические сюжеты, тонкий
и вдохновенный ценитель Ницше, написавший впо¬
следствии замечательное предисловие к «Заратустре»,
наконец, просто внимательный учитель, прекрасно
знавший своего ученика, Гренье не мог не заметить
искусственной перегруженности произведения, его
очевидных изъянов.
«Разгромное» письмо Гренье не сохранилось, по¬
этому можно лишь догадываться, какие именно
упреки он адресовал своему ученику, однако от¬
ветное письмо Камю наглядно свидетельствует о
всей драматичности переживания начинающим
романистом своего творческого провала: «Эта книга
стоила мне большого труда... И теперь, когда я не¬
сколько отдалился от нее, мне совсем нетрудно
понять, что я был слеп, что топил себя, что во мно¬
гих местах то, что я должен был сказать, уступало
место тому, что мне было лестно говорить... Дол¬
жен признать, что этот провал не безразличен мне...
После вашего письма я несколько сбит с толку...
Прежде чем снова взяться за работу, я хотел бы
1 Н. К ЪоПтап. А1ЬеП Сатив, р. 187.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
81
услышать от вас только одно, ибо только вы и мо¬
жете сказать это прямо. Считаете ли вы, что мне
следует продолжать писать? Я задаю этот вопрос
с большим беспокойством... У меня не так много
светлого в жизни. Писательство — одна из таких
вещей. Но в то же время я прекрасно понимаю,
что лучше быть хорошим буржуа, чем плохим
интеллигентом или посредственным писателем» (СС,
29). Как видно, критика Гренье задела творческое
самосознание молодого писателя до такой сте¬
пени, что заставила усомниться не только в сво¬
их способностях, но и в писательском призвании.
Отмечая необыкновенную взыскательность учите¬
ля, сыгравшую, в общем, благотворную роль в фор¬
мировании творческой позиции Камю, нельзя,
вместе с тем, не согласиться с точкой зрения совре¬
менного романиста Р. Гренье, близко знавшего
обоих писателей, который в своей литературной
биографии Камю, подробно разбирая этот эпизод,
высказывает мнение, что на этот раз наставник
вполне мог бы быть «помягче», ибо «несмотря на не¬
достатки “Счастливой смерти” талант писателя здесь
очевиден».1 Подобной позиции придерживаются
и такие влиятельные комментаторы творчества
Камю, как Р. Кийо и Ж. Сарокки.
И все же мы должны признать «историческую пра¬
воту» Ж. Гренье, так как отдельные, главным обра¬
зом стилистические, удачи «Счастливой смерти», не
делали это произведение серьезным романом,
1 R. Grenier. Albert Camus. Soleil et ombre. Une biographie in¬
tellectuelle. Paris, 1987, p. 67.
82
С. Л. Фокин
способным ответить на насущные требования ли¬
тературной, мировоззренческой и исторической си¬
туации Франции того времени.
Творческая манера Камю в «Счастливой смерти»
еще далека от классически выверенного «Посторон¬
него». Роману явно не хватает оригинальной опре¬
деленности идейно-философского замысла, распы¬
ленного в целом «веере» тем: бедность и счастье,
самоубийство и одиночество, болезнь и старость, лю¬
бовь и ревность, свобода и насилие. Написанный от
третьего лица, иногда совмещающегося с мирови-
дением героя, полный отступлений, посвященных
красочным пейзажным зарисовкам, роман не сов¬
сем удался и в композиционном отношении: контра¬
стность глав, тематически противостоящих друг
другу, писатель хотел подчеркнуть сначала чере¬
дованием временных планов повествования. В ав¬
густе 1937 года в «Записных книжках» появляются
развернутые планы романа, по которым заметен се¬
рьезный интерес начинающего романиста к идейно-
смысловым функциям прошедшего и настоящего вре¬
мени в произведении. Думая, возможно, о Прусте,
Камю пытается построить роман, чередуя главы, на¬
писанные в прошедшем, воссоздающие своеобраз¬
ную аналогию «утраченного времени» — времени
отупляющей работы, жалкого существования в ни¬
щете и убогости — с главами, написанными в насто¬
ящем, создающими образ «Обретенного времени» —
вечного настоящего, времени счастливого единения
героя с миром «под сенью девушек в цвету». В ходе
работы писатель отказывается от этого чересчур на¬
рочитого приема, хотя, очевидно, проблема времени
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
83
в романе продолжает волновать его творческое во¬
ображение.1
Стилистическая согласованность «Счастливой
смерти» также довольно сомнительная: лирико¬
поэтические пейзажные зарисовки плохо сочетают¬
ся с жестким натурализмом отдельных эпизодов и
пространными диалогами персонажей. Этот роман
можно считать отправным пунктом становления
Камю-романиста, здесь его творческий метод, осво¬
бождаясь от всепоглощающей ученической подра¬
жательности, оставил притягательные искушения
безудержного лиризма, легковесную ироничность,
склонность к поверхностным интеллектуально¬
философским загадкам и отвлеченным метафизи¬
ческим рассуждениям. Отныне в центре эстетических
исканий романиста — обнаружение стилистическо¬
го соответствия формы романного повествования
тем мировоззренческим положениям, которые кла¬
дутся в основу произведения.
Роман «Счастливая смерть» — произведение фи¬
лософское, автор его — начинающий мыслитель.
Однако центральная метафизическая проблема рома¬
на — проблема счастья — остается здесь чисто внут¬
ренней проблемой Камю. Опираясь на дорогую ему
идею изначальной невиновности человека, тесно
1 Доказательством этого является совершенно оригиналь¬
ное использование временных форм в «Постороннем». См.:
С. Л. Фокин. Художественное время в «Постороннем» А. Камю. —
Национальная специфика произведений зарубежной литерату¬
ры. Иваново, 1988, с. 59-65. — Здесь же дана отечественная
литература по проблеме.
84
С. Л. Фокин
связанную с утверждением его богооставленно-
сти, Камю в «Счастливой смерти» значительно уп¬
ростил мировоззренческий конфликт своей мысли.
Строго говоря, в романе вообще нет конфликта —
сводя при помощи мифолого-литературных ухищ¬
рений преступление своего героя к жизнеобещаю¬
щему жертвоприношению, оплаченному его соб¬
ственным самоубийством, Камю к тому же «лишает
слова» противоположную сторону. Христианское ми-
ровидение, с его грехопадением и виновностью
человека — основополагающими истинами хри¬
стианства, против которых направлен весь пафос
«Счастливой смерти», не получает в романе выра¬
жения. Здесь нет спора, а лишь произнесена мало¬
убедительная первая реплика, на которую никто не
смог ответить.
Роман остается закрытым и к истории. В своем
необузданном порыве к счастью Патрис Мерсо едва
соприкасается с реальной исторической действитель¬
ностью. В этом плане также отсутствует конфликт —
страстно твердившему о своей «невиновности» пре¬
ступнику никто не возражает. Общество, никак не
затронутое мистериальным убийством-самоубий¬
ством, не замечает преступного вызова. «Невинный
убийца», избежав сурового божественного суда,
ускользает и от беспощадной кары закона и не под¬
вергается поверке суда человеческой совести. Пат¬
рис не осужден, напротив, он умирает со смутным
предчувствием, что одна часть его личности «будет
судить другую» (САС1,184). Тяжкое бремя «невинов¬
ности», возложенное писателем на своего героя,
оказалось ему не по силам.
1. «...Хочешь быть философом — пиши романы»
85
Летом 1938 года в «Записных книжках» появля¬
ется лаконичная запись: «Переписать роман» (С1,112).
Речь идет о «Счастливой смерти», и краткая катего¬
ричность записи красноречиво отражает всю глу¬
бину переживания молодым автором своей творче¬
ской неудачи: не просто переделать, подправить или
подчистить, а полностью «переписать», то есть пе¬
речеркнуть все сделанное и написать новое произ¬
ведение.
По удивительному стечению обстоятельств ре¬
шение о радикальной переработке романа совпало
с событием, значение которого как для становления
творческого метода Камю-романиста, так и для углуб¬
ления всего его миропонимания трудно переоценить:
двадцатичетырехлетний выпускник университета
становится журналистом в только что основанной
в Алжире газете «Альже Репюбликен», где вскоре
появятся его резкие статьи по проблемам междуна¬
родной и алжирской социально-политической жиз¬
ни и первые самостоятельные литературно-критиче-
ские опыты, небольшие рецензии в литературном
отделе «Салон чтения».
Начало журналистской деятельности ознаменова¬
ло окончательный выход писателя из романтической
сосредоточенности на самом себе. Это был реши¬
тельный и бесповоротный шаг навстречу истории.
2/?йбй 2
«ПОСТОРОННИЙ» КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ
«РОМАНИСТА-МЫСЛИТЕПЯ»
Газета «Альже репюбликен» создавалась как боевой
орган Народного фронта Франции в Алжире. Ее
главным редактором по рекомендации Л. Арагона
и Ж.-Р. Блока стал один из самых опытных париж¬
ских журналистов левой ориентации П. Пиа. Близ¬
кий друг А. Мальро и Ж. Полана, высоко ценимый
многими писателями группы «Нувель Ревю Франсез»,
Пиа должен был способствовать утверждению в за¬
морском департаменте идей движения, объединяв¬
шего ведущие силы французской творческой интел¬
лигенции, главные левые партии и большую часть
пролетариата. Народный фронт, всколыхнувший всю
Францию надеждой остановить надвигающееся безу¬
мие войны, не просто вовлек в свои ряды писателей,
так или иначе ощущавших ответственность худож¬
ника за судьбы мира — у самых источников этого
2.«Посторонний» как произведение..
87
широкого культурно-политического движения были
те, кто словом и делом пытался предотвратить оче¬
редной убийственный абсурд истории: А. Барбюс
и Р. Роллан, А. Бретон и Ш. Вильдрак, П. Вайян-
Кутюрье и П. Элюар, П. Низан и Ж. Жионо, А. Маль-
ро и А. Жид.1
Однако стремительный натиск истории оказался
неудержимым, и 1938 год уже во многом — год
утраченных надежд и развенчанных иллюзий. Поза¬
ди пожар рейхстага в Берлине и первые волны мос¬
ковских процессов, Мюнхенский сговор и признан¬
ная правительством Блюма необходимость «паузы»
в осуществлении программы Народного фронта.
Впереди грозно маячат неотвратимая гибель Испан¬
ской республики, советско-германский договор,
заставивший многих на Западе впервые серьезно
усомниться в возможности удержать абсурдный ход
истории, и окончательное сползание в пропасть Вто¬
рой мировой войны.
1. ИСТОРИЯ И МЕТАФИЗИКА: К ЭСТЕТИКЕ
РОМАНА ОБ «УДЕЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ»
Обращение Камю к публицистике может показать¬
ся довольно случайным фактом его творческой био¬
графии. В самом деле, молодому человеку, начина¬
ющему литератору, представилась возможность стать
журналистом, и он стал им. А если бы выбор П. Пиа,
1 Подробнее об этом см.: G. Leroy, A. Roche. Les écrivains et
le Front populaire. Paris, 1986.
88
С. Л. Фокин
набиравшего себе сотрудников из алжирской мо¬
лодежи, главным образом из-за нехватки денежных
средств, не остановился на Камю? Каким образом
проявились бы тогда политические взгляды молодо¬
го романиста? Вероятно, не имея возможности столь
непосредственно выражать политические аспекты
своего мировоззрения, писатель пришел бы в своих
будущих произведениях к иным художественным
решениям, и они оказались бы менее отвлеченными
от социально-политической конкретики? Гадать здесь
трудно; думается, обращение Камю к публицистике
было глубоко закономерным шагом, отвечавшим на¬
сущным требованиям исторической ситуации. Пуб¬
лицистика становилась важным связующим звеном
политической и творческой позиций писателя. Бу¬
дучи специфической формой открытого выражения
авторской позиции по жгучим вопросам современ¬
ности, политическая публицистика оказалась орга¬
ничным дополнением художественных жанров, в ко¬
торых работал Камю. В художественных жанрах
авторская мысль, уже отреагировавшая на актуаль¬
ность в публицистике, сосредотачивалась не столько
на художественном изображении того или иного
события или факта действительности, сколько на их
образно-символическом истолковании. Именно пуб¬
лицистика соединяла в единое целое взгляды Камю —
«ангажированного» публициста, прошедшего через
юношеское увлечение коммунизмом, одержимого
идеалами социальной справедливости, чьи острые
статьи на политические темы доставляли немало
хлопот администрации заморского департамента
Франции, и эстетические принципы Камю — рома¬
2.«Посторонний» как произведение...
89
ниста-мыслителя, занятого художественно-философ-
скими исследованиями удела человеческого. Публи¬
цистика оказалась не только средством открытого
выражения политических взглядов писателя, пред¬
почтительной формой «ангажированности» худож¬
ника, но и удерживала его художественное мышле¬
ние на почве реальности; не позволяя мысли «витать»
в сферах отвлеченной метафизики, она была и важ¬
ным средством поверки общефилософских воззре¬
ний. Ярко выраженный образно-символический ха¬
рактер художественного мышления Камю-романиста
в немалой степени предопределялся этим разграниче¬
нием сфер романа и публицистики. Искусство, по
мысли Камю, не должно делать из политики своего
предмета, но художник, являясь частицей своей эпо¬
хи, не может отворачиваться от ее трагедий.
Ярким образцом довоенной публицистики Камю
в «Альже репюбликен» считается серия репортажей
«Нищета Кабилии» (июль 1939 года), в которых моло¬
дой журналист едва ли не первым среди европейцев
заговорил о необходимости «новой конструктивной
политики» по отношению к мусульманскому населе¬
нию Алжира. По справедливому замечанию Ж. Ле-
ви-Валенси, журналистский опыт Камю в Кабилии,
одном из беднейших районов Алжира, сыграл веду¬
щую роль в формировании мировоззрения писате¬
ля, в частности, в разработке концепции абсурда.1
Статьи о Кабилии, в которых описывалась неверо¬
ятная нищета алжирцев, страшная обездоленность
1 J. Levi-Valensi. La condition sociale en Algérie. — «La Revue
des lettres modernes», 1972, № 315—322, p. 30—31.
90
С. Л. Фокин
маленьких детей, дерущихся с собаками за содер¬
жимое мусорных куч, касались самого дорогого для
Камю: веры в достоинство человека. В Кабилии
совершалось абсурдное преступление: естественно¬
му стремлению человека к счастью препятствовала
унизительная и сокрушающая нищета. Общефило¬
софские мотивы концепции абсурда, выражавшей со¬
мнение в наличии высших законов бытия, опирались,
таким образом, на конкретные жизненные наблюде¬
ния Камю-публициста. Само понятие «абсурд» и близ¬
кие к нему по смыслу термины и словосочетания
неоднократно возникают под пером молодого жур¬
налиста: «абсурдная система», «безвыходная ситуа¬
ция», «порочный круг».
Но абсурд мира проступал не только в постыдной
бедности человека, вынуждающей его жить на гра¬
нице человеческого и нечеловеческого, но и в его
пронзительной беззащитности перед неумолимыми
силами государственно-полицейской машины. При¬
сутствуя по долгу службы на ряде судебных процес¬
сов, начинающий писатель мог воочию убедиться
в формально-фарисейском характере правосудия,
в частой беспомощности обвиняемых из простого
люда перед «сухой буквой» закона и лицедействую¬
щими законниками. Нелепица бездушного судопро¬
изводства, безжалостно сокрушавшая обездоленных
людей, порой не способных и слова сказать в свое
оправдание, оказывалась еще одним ликом вселен¬
ского абсурда. Дотошные журналистские расследо¬
вания, проводимые Камю — судебным репортером
«Альже репюбликен», иногда приводили к пере¬
смотру дела, оправданию обвиняемых, торжеству
2.«Посторонний» как произведение..
91
справедливости.1 В одной из статей о процессе, в хо¬
де которого были несправедливо осуждены несколько
арабов, молодой журналист, достоверными факта¬
ми опровергая основанное на ложных показаниях
обвинение, развенчивает саму традиционную фор¬
мулу судебных приговоров, отражавшую в его гла¬
зах формальность бесчеловечного правосудия: «Су¬
дьи начинают словами “Именем французского
народа”... Надеюсь, что меня поймут, если, взвешивая
каждое слово, я скажу — все здесь ложь» (САСЗ, 523).
В 1954 году, имея позади себя трагический опыт вой¬
ны, Сопротивления, послевоенных чисток, поразив¬
шие сознание Европы «открытия» злодеяний нацис¬
тов в «концентрационном универсуме» Бухенвальда
и Дахау и первые вести с «архипелага Гулага», Камю,
размышляя над темой судебного процесса в «Посто¬
роннем», пишет: «В “Постороннем” хотели видеть
новый тип имморалиста. Это совершенно неверно.
Здесь атакуется не мораль, а мир процессов — бур¬
жуазный, нацистский, коммунистический, — кото¬
рый является, коротко говоря, язвой современно¬
сти» (II, 1161).
1 О Камю-публицисте и судебном репортере «Альже репюбли-
кен» см.: Cahiers Albert Camus 3: Fragments d’un combat 1938—
1940. Alger Républicain. — Le Soir Républicain (2 vol.). Paris,
1978; Albert Camus 5. Journalisme et politique, l’Entrée dans l’his¬
toire (1938-1940). — «La Revue des lettres modernes», 1972,
№. 315—322; P.-F. Smets. Albert Camus, chroniqueur judiciaire à
l’Alger Républicain en 1938. — P.-F. Smets. Albert Camus dans le
premier silence et au-delà. Bruxelles, 1985. В некоторых недавних
публикациях алжирских критиков ставится под сомнение по¬
ложительная роль Камю в политической жизни Алжира конца
30-х годов. См. напр.: О. Hamonda. Albert Camus à l’épreuve de
L’Alger Républicain. Alger, 1991.
92
С. Л. Фокин
Наряду с началом публицистической деятельно¬
сти, заметно повлиявшей на становление художе¬
ственного мышления Камю, большое значения для
его эстетического сознания и самосознания имело
обращение к литературно-критическому творчеству.
В отличие от заметок в журнале «Сюд», навеянных,
как мы отмечали, темами университетских занятий,
литературно-критические опыты в «Альже репюб-
ликен» были совершенно самостоятельными работа¬
ми, отражавшими творческие интересы Камю конца
30-х годов. Более того, автором рецензий в «Альже
ретобликен» выступал писатель, пусть начинающий,
но, бесспорно, уже состоявшийся. Теперь он мог су¬
дить о других писателях не только с позиций безгра¬
ничной юношеской восприимчивости, но и опира¬
ясь на собственный творческий опыт. Неудача
«Счастливой смерти» предопределила, по-видимому,
особую чуткость Камю-литературного критика — он
напряженно вникает в эстетический опыт привле¬
кающих его внимание авторов, ищет художествен¬
ные решения для собственного произведения, рабо¬
та над которым медленно продвигается вперед.
Камю-писатель способствует рождению нового
Камю-читателя, читателя требовательного, строго¬
го, глубоко творческого. В письме к Ф. Понжу, на¬
писанном в начале 1943 года, автор «Постороннего»
признавался, что «в двадцать пять лет вынужден был
заново учиться читать» (II, 1667), — двадцать пять
лет ему исполнилось 7 ноября 1938 года, а первая
рецензия в «Альже репюбликен» появилась 9 ок¬
тября. Совпадение не было случайным: литературно¬
критическая деятельность стала важным фактором
2.«11оапоронний» как произведение..
93
в развитии творческого метода романиста, его «со¬
знательной», «выговоренной» стороны.
Широта литературных интересов молодого кри¬
тика не подлежит сомнению. В своих статьях и за¬
метках он знакомит читателей газеты с новыми про¬
изведениями Хаксли и Ремарка, Силоне и Амаду,
Низана и Сартра, рецензирует работы литературо¬
ведческого характера о Жиде, Леонтьеве, Свифте,
Гейне, полемически откликается на прочитанную
Ж. Роменом в Алжире лекцию «Романист и его пер¬
сонажи». Критические опыты Камю характери¬
зуются повышенным вниманием к эстетическому
анализу произведений, полны интересных наблюде¬
ний над творчеством отдельных авторов и литера¬
турным процессом. В них появляются сопутствую¬
щие замечания и обобщения, касающиеся техники
романа, его взаимоотношений с философией, идео¬
логией, политикой, которые отчасти предвосхи¬
щали отдельные положения эстетики романа,
изложенной впоследствии в «Мифе о Сизифе», и сви¬
детельствовали об устойчивости эстетических кри¬
териев Камю.
В середине 30-х годов проблемы «писатель и дей¬
ствительность», «литература и политика» становят¬
ся во Франции одними из главных тем дискуссий о
смысле и назначении творчества, о месте и роли писа¬
теля. Без сомнения, идеи Камю об общественном
призвании художника складывались под сильным
обаянием творческой личности А. Мальро. Вос¬
приятие молодым Камю идей абсурда и бунта, разви¬
тых Мальро в романах «Завоеватели», «Королевская
дорога», «Удел человеческий» обстоятельно проана¬
94
С. Л. Фокин
лизировано в монографии Е. П. Кушкина.1 Своеоб¬
разное преломление романтической традиции в про¬
зе Мальро и Камю рассмотрено в работах В. В. Шер-
вашидзе.2 Поэтому мы ограничимся здесь одним
аспектом интереса Камю к творчеству своего стар¬
шего современника — постараемся определить, чем
привлекала Камю эстетическая позиция автора ро¬
манов об «уделе человеческом».
В литературно-критических статьях в «Альже ре-
пюбликен» образ А. Мальро как художника, созна¬
тельно стремящегося соединить в своей жизненной
позиции этику целенаправленного действия и эсте¬
тику действенного художественного творчества, не
раз возникает в ходе размышлений Камю над про¬
изведениями современной литературы. Позиция
Мальро-художника становится для Камю своего ро¬
да эстетическим образцом, по которому он оцени¬
вает книги современников. В рецензии на роман
П. Низана «Заговор», затрагивая проблему обще¬
ственной активности творческой интеллигенции, не¬
редко изображавшейся в то время чем-то вроде
«романтической позы», Камю писал: «Сегодня стало
модным осуждать революционный романтизм... Вош¬
ло в обыкновение, например, изобличать романтич¬
ность жизнеотношения такого писателя, как Маль¬
ро» (II, 1395). Вопрос, однако, не в том, продолжает
рецензент, что влечет Мальро к революции — «жиз¬
ненная эпопея», особое состояние души человека,
1 Е. П. Кугикип. Альбер Камю, с. 40-46.
2 См.: В. В. Шервашидзе. Экзистенциалистический роман
(А. Камю, А. Мальро) и романтическая поэтика. — Труды Тбилис¬
ского ун-та. Тбилиси, 1989. Т. 285, с. 94-107.
2.«Постороннгш» как произведение..
95
устремленного в историческую активность или эко¬
номическое строительство нового общества. Воп¬
рос в том, что Мальро «ежедневно рискует жизнью»,
действуя согласно своим идеалам и убеждениям. Та¬
кое отношение художника к идеям, определяющее
его жизненную ответственность за свои слова, Камю
воспринимал как одну из самых привлекательных
черт творческого облика Мальро. Следуя за авто¬
ром романа «Надежда» в том, что касается выбора
активной политической позиции, Камю, вместе с тем,
полагает, что истинная ценность художественного
творчества не связана напрямую с политическими и
мировоззренческими установками. «Когда речь идет
о писателе, — замечал он в этой же рецензии, —
судить о плодотворности его общественной актив¬
ности можно только по творчеству» (II, 1396).
Считая автора «Удела человеческого» «великим
писателем», сделавшим выбор в пользу сознательно¬
го участия в общественной практике, Камю учился
у него и пониманию связи между мировоззрением
художника и его произведениями 1 Исходя из идеи
Мальро о том, что произведение искусства ничего
не должно доказывать, Камю в своих критических
опытах в «Альже репюбликен» сформулировал опре¬
деленные идеи о соотношении мировоззрения и ро¬
мана. В рецензии на роман И. Силоне «Хлеб и вино»
Камю пишет о том, что истинно революционные
произведения призваны не «воспевать победы и завое¬
вания революции», а изображать ее «самые тяжелые
конфликты» (II, 1398). Произведения, посвященные
революции, не могут обойтись без «художественно¬
го величия», иначе они рискуют оказаться низкопроб¬
96
С. Л. Фокин
ной агитацией, пропагандой, «идеологией». А «идео¬
логия» для молодого Камю относится к «самым уни¬
зительным формам человеческой мысли» (II, 1398).
Настоящее произведение искусства само по себе спо¬
собно нести мощный мировоззренческий заряд —
в силу своей приверженности не партийным теори¬
ям, «абстрактной философии революции», а простым
истинам жизни, своей близостью к естественным
формам человеческого бытия, к тому «хлебу и вину
простоты», к которому приходил Пьетро Спина, ге¬
рой романа Силоне, познавший, как «партийная
правда» может расходиться с народной. И вновь твор¬
чество Мальро выступает в размышлениях Камю-
литературного критика мерилом эстетического со¬
вершенства: в мировоззренческом плане такое
«восхитительное творение» о революции, как «Удел
человеческий», значит ничуть не меньше, чем откро¬
венная революционная агитация (II, 1398).
Размышляя над творчеством Мальро, Камю уже
в конце 30-х годов сознает, насколько трудно сов¬
местить в одной творческой позиции стремление
к политической активности с мировоззренческой са¬
мостоятельностью художника и — возможно, это
главное — с эстетикой романиста, пытающегося на
конкретном, очень актуальном материале осмыслить
метафизические проблемы свободы, смерти, «бого-
оставленности». Вслед за Мальро молодой Камю скло¬
няется понять историческую активность человека не
как самодостаточную жизненную установку, увле¬
кающую его к безудержному изменению мира, а как
духовное движение, способствующее преодолению
ничтожества удела человеческого. Одна из дневни¬
2.«Постороипий» как произведение...
97
ковых записей 1938 года прямо свидетельствует
о том, что смысл творчества человека в истории
Камю определял с оглядкой на Мальро: «Революци¬
онный дух есть прямое средоточие протеста чело¬
века против своего удела. И в этом смысле револю¬
ционный дух является в разнообразных формах
единственной вечной темой искусства и религии. Ре¬
волюция — начиная с бунта Прометея — всегда со¬
вершается против Бога, это восстание человека про¬
тив своей судьбы, восстание, для которого тираны
и буржуазные марионетки — всего лишь повод. Без
сомнения, этот дух можно обнаружить в историче¬
ском действии. Но нужно обладать всей чувствитель¬
ностью Мальро, чтобы избавиться от стремления до¬
казывать» (С1, 105-106).
Мальро, как никто ^другой из литературных ку¬
миров молодого Камю, ощущал свое время, соци¬
альную атмосферу эпохи, внезапные и бурные пере¬
мены политического климата. Можно согласиться
с Л. Г. Андреевым, назвавшим автора «Завоевателей»
«символом политически ангажированной западной
интеллигенции».1 Однако, как верно замечает Камю,
нужно обладать всей полнотой мироощущения Маль¬
ро, чтобы, вступив на трудный путь политического
действия, остаться верным своему убеждению, что¬
бы, устремляясь к идеалам социальной справедливо¬
сти, удержаться от оправдания безудержного исто¬
рического насилия и не оказаться вовлеченным в
чреватый произволом политический авантюризм.
1 Л. Г. Андреев. У роковой черты, или Зеркало лимба. —
А. Мальро. Зеркало лимба. М., 1989, с. 11.
4 Зак 3210
98
С. Л. Фокин
Мальро удавалось это не без труда. Крайняя напря¬
женность его творческой позиции, открытой и акту¬
альным событиям европейской и мировой истории
(революции в России и Китае, антифашистская борь¬
ба, война в Испании), и метафизической проблема¬
тике («смерть Бога»), безусловно оказывала воздей¬
ствие на формирование мироощущения Камю.
Можно сказать, что этика исторического действия,
воплощавшаяся в жизни и творчестве Мальро, была
для начинающего писателя своеобразным искушени¬
ем, искушением действия.
По-видимому, в творческом сознании Камю образ
Мальро воплощал принцип действия как основопо¬
лагающего отношения к жизни, подобно тому как
образ Гренье — противоположный принцип, прин¬
цип созерцательного отношения к действительно¬
сти. В одной из записей 40-х годов, относящейся
к замыслу работы о Гренье, Камю пишет: «Работа
о Г. (Гренье — С. Ф.): Г. как сознание, противопо¬
ложное Мальро. И оба сознают искушение, при¬
сутствующее в сознании другого. Сегодняшний
мир — это диалог Гренье и Мальро» (С2, 213-214).
Диалог между действием и созерцанием, стремлени¬
ем к историческому творчеству и уравновешенным
покоем, противоборство между склонностью к исто¬
рическому становлению и приверженностью цельно¬
му бытию были характерны для миропонимания са¬
мого Камю.
Заметим, что противоборство Мальро и Гренье
проходило не только в сознании Камю. В известном
«Письме к А. Мальро», написанном из Алжира в на¬
чале 1938 года в связи с выходом романа «Надежда»,
2.«Посторонний» как произведение..
99
Гренье напоминает своему давнему другу об опас¬
ностях чрезмерной политической ангажирован¬
ности писателя. Формулируя одну из главных про¬
блем эпохи, над решением которой думали и Камю,
и Мальро, и сам Гренье, он писал: «До какого преде¬
ла можно идти, когда хочешь, чтобы восторжество¬
вали твои идеи? Точнее: какова та мера насилия, в ко¬
торую нас может ввергнуть пацифистский идеал?
И какую роль во всем этом способен играть интел¬
лигент? Роль свидетеля? Протестующего? Борца?»1
Отстаивая идеалы творческого свободомыслия, Гре¬
нье писал о неизбежной разорванности интеллиген¬
тского сознания, выбирающего историческую актив¬
ность под руководством политической партии.
Подхватывая идею одного из героев романа Маль¬
ро, Гренье утверждает, что роль подлинного интел¬
лигента, и тем более писателя, определяется не¬
обходимостью быть не среди «ортодоксов», а среди
«диссидентов», инакомыслящих, отстаивающих свою
приверженность идеалам истины и свободы — за¬
частую вопреки доминирующим партийным уста¬
новкам.
Упираясь в проблему этики и морали, герои
«Надежды» решали ее для себя по-разному. Гарсиа
выражает один из подходов, в основе которого —
стремление к эффективности исторического дей¬
ствия. «Средства действия характеризуются в ма-
нихейских категориях, поскольку всякое действие
характеризуется в манихейских категориях... Вся¬
кий истинный революционер — прирожденный
1 J. Grenier. Essai sur l’esprit d’orthodoxie. Paris, 1967, p. 169.
100
С. Л. Фокин
манихей».1 Заостренная категоричность этого утверж¬
дения связана с тем, что оно — полемический от¬
клик на противоположное отношение к политике,
отраженное в романе в мыслях выдающегося испан¬
ского философа Мигеля де Унамуно, трагические
обстоятельства судьбы которого обсуждают герои
Мальро. В центре этого отношения — «этическая
оппозиционность», протест против разрушительной
стихии революции и насилия братоубийственной
гражданской войны. Сходная позиция отражена и
в рассуждениях Альвара: «Если бы каждый затрачи¬
вал на самосовершенствование треть тех усилий,
которые тратит сейчас на борьбу за форму правле¬
ния, в Испании можно было бы жить».2 Абсолютную
внеморальность политики, напротив, утверждает
в своих словах коммунист Прадас: «В конечном сче¬
те, благородство — роскошь, которую общество мо¬
жет себе позволить значительно позже».3
Мальро, как мы видим, отнюдь не упрощал проб¬
лему соотношения политики и морали — представ¬
ленные в романе разнообразные точки зрения на нее
свидетельствуют о неоднозначности ее решения са¬
мим писателем. Вместе с тем, характерный для твор¬
ческого облика раннего Мальро исторический ди¬
намизм предопределял его предрасположенность
к абсолютизации исторического действия, отмечен¬
ную, в частности, Гренье склонность к приятию «фа¬
тальностей» революционной активности, сопряжен¬
1 А. Мальро. Надежда. Л., 1990, с. 357.
2 Там же, с. 194.
3 Там же, с. 194.
2.«Посторонний» как произведение..
101
ных с эксцессами. В конечном итоге, в отношении
раннего Мальро к революции и истории проступали
явные оттенки религиозности, свойственные ре¬
волюционности многих западных интеллигентов.
«В каждом человеке живет грозная и неискорени¬
мая надежда... И если его несправедливо осудили,
если он навидался глупости, неблагодарности, под¬
лости, ему поневоле приходится делать ставку на что-
то новое... Революция играет ту же роль — среди
прочих, — какую некогда играла вера в вечное бы¬
тие, это объясняет многие характерные ее черты».1
Любопытно, что Гренье, католик, религиозный мыс¬
литель-экзистенциалист, упрекал своего «богобор-
ствующего» друга в «обожествлении» истории: «И вот
вы оказались совсем близко к этим христианам
и анархистам, которые, как вы утверждаете, склон¬
ны больше к мученичеству, чем к победе».2 С пози¬
цией христианства Гренье предупреждает об опасно¬
стях такого «обожествления», связанного с принципом
оправдания средств целью, с историческим «мессиа¬
низмом», призванным добиться счастья и спасения
для народов — по необходимости и вопреки их же¬
ланию. В серии эссе, посвященных критике маркси¬
стской ортодоксальности, к которым позднее было
добавлено «Письмо к Андре Мальро», Гренье еще
в середине 30-х годов указывал на возможность раз¬
вития тоталитарного общества в Советской России,
отданной во власть партийного догматизма, и резко
критиковал ту часть французской интеллигенции,
1 Там же, с. 298.
2 J. Grenier. Essai sur l’esprit d’orthodoxie, p. 185.
102
С. Л. Фокин
которая с восторгом относилась к «завоеваниям»
революции в нашей стране. Однако голос Гренье из
далекого Алжира звучал слишком слабо, несмотря
на то что его эссе появлялись и в престижном сто¬
личном «Нувель Ревю Франсез». На устах у всех были
другие имена, имена тех, кого критиковал философ¬
ский наставник Камю. Известный французский пуб¬
лицист Ж. Даниэль, которому доводилось слышать
рассуждения Гренье в студенческих аудиториях,
вспоминает: «Я слышал выражения, которые смущали
меня в моей вере (в коммунизм — С. Ф.): “марксист¬
ская догма”, “сталинская непоколебимость”, “дикта¬
тура не пролетариата, а нового класса инквизито¬
ров”. Гренье задолго до Кестлера и Арона, Оруэлла
и Лондона все это аналитически разоблачил... Но что
мог Гренье против Мальро?»1
Адепты философии исторического прогресса, уве¬
ровавшие в коммунизм со всей страстностью пер¬
вых христиан, увлекаемые притягательными приме¬
рами политической ангажированности таких мэтров,
как Жид и Мальро, молодые французы, вступавшие
в зрелость в конце 30-х годов, становились свидете¬
лями агонии республиканской Испании и торжества
фашистских диктатур, мюнхенского сговора и со¬
ветско-германского договора, убедившего многих из
них в наличии непоправимого разрыва между мора¬
лью и политикой. Разочарования в истории пред¬
определяли повышенный интерес к метафизике, при¬
чем к метафизике не абстрактной и всеобъемлющей,
а к метафизике личности, к философии индиви¬
1 ]■ Оате1. Ье 1етрв qui гев1е. Рапе, 1974, р. 28-29.
2.«Посторонний» как произведение..
103
дуального человеческого существования. Особенно
важно, что Камю готовился к решительной схватке
с историей не только таким проницательным ее кри¬
тиком, как Ж. Гренье, но и собственными публици¬
стическими выступлениями в «Альже репюбликен»,
что, на наш взгляд, делает малоубедительным тезис
об изначальной аисторичности художественного
мышления писателя.1 Отношение Камю к истории
не исчерпывается ее неприятием, его позиция не вне-
исторична, а принципиально «антиисторична»: он ви¬
дит в истории врага, отрицать существование которо¬
го бесполезно и пагубно, — с ним надо бороться.
История как безмерное стремление к измене¬
нию мира не может быть абсолютом. В глазах Камю
именно мир, вечный и неизменный космос выступа¬
ет непреходящим мерилом исторической активно¬
сти. Дух завоевания, увлекающий человека к беспре¬
дельному покорению мира, обнаруживает свою
ограниченность перед лицом непоколебимой цель¬
ности бытия. «Здесь сменялись люди и общества, —
писал начинающий мыслитель в 1938 году, — завое¬
ватели наложили на этот край отметину своей унтер-
офицерской цивилизации. У них было низкое и смеш¬
ное представление о величии, они измеряли величие
своей империи пространством, которое она зани¬
мала. Но чудо в том, что руины их цивилизации яв¬
ляют собой прямое отрицание их идеала... Мир в кон¬
це концов всегда побеждает историю» (И, 65).
1 Ср.: «Молодой Камю не хотел быть политическим писате¬
лем» (P. Viallaneix. Le premier Camus. — Cahiers Albert Ca¬
mus 2, p. 9).
104
С. J1. Фокин
Общая антиисторическая установка Камю-мыс-
лителя обуславливала характерные черты эстетики
романиста, нацеливавшейся на создание произведе¬
ния метафизического, философского, способного
если не решить, то, по крайней мере, поставить веч¬
ные вопросы человеческого существования. В ре¬
цензии на роман А. Шамсона «Галера», появившейся
в «Альже репюбликен» в мае 1939 года, Камю пытает-
сяЪпределить особенности взаимоотношений рома¬
на и истории. Действие «Галеры» разворачивается
в современности, в романе рассказывается о траги¬
ческих событиях 6 февраля 1934 года, когда в Па¬
риже была предпринята попытка фашистского пут¬
ча. В романе Шамсона, по оценке Камю, воплотились
лучшие качества исторического романа: «Историче¬
ский роман — который отнюдь не является романи¬
зированной историей — трудный жанр. Тем более
труден роман о современности... Ибо современность
служит материалом творчества только в той степе¬
ни, в какой она выявляет проблемы «несовремен¬
ные», которые лишь и придают современности ее
смысл. Иначе говоря, она значима только тогда, когда
преодолевается» (II, 1400). В этой мысли Камю про¬
глядывают следы его собственных эстетических ис¬
каний в области романа, связанных с работой над
произведением, в котором, говоря его словами о ро¬
мане Шамсона, «тон и величие» задавались бы «стол¬
кновением преходящей суеты и нескольких вечных
переживаний» (И, 1400). В такой эстетической на¬
правленности на вечное сказывалась одна из осново¬
полагающих мировоззренческих установок писате¬
ля — ставить реальное многообразие живой жизни
2.«Посторонний» как произведение..
105
выше и ходячих идеологических представлений,
и преходящей событийности современности. Исто¬
рия, завершает рецензию Камю своей ключевой мыс¬
лью, является лишь «жалким эпизодом, над которым
жизнь в конце концов всегда торжествует победу»
(И, 1400).
Наряду с проблемой «роман и история» Камю в
своих раздумьях об эстетике жанра, отражавшихся
в его литературно-критических опытах в «Альже ре-
пюбликен», сталкивался и с другим, пожалуй, одним
из самых важных для методологии создания фило¬
софского романа вопросом, имевшим практическое
значение: каким образом философия может «входить»
в роман? Иными словами, романист должен решить
для себя, хотя бы на уровне теории, проблему со¬
отношения философского видения мира с его во¬
площением в романе.
В этом плане интересны два критических откли¬
ка Камю на литературный дебют Ж.-П. Сартра. Ре¬
цензии на роман «Тошнота» (1938) и сборник новелл
«Стена» (1939) свидетельствуют о том, что творчество
Сартра глубоко затронуло творческое сознание
Камю, в частности, сыграло роль важного импульса
в формировании концепции романа, поскольку ран¬
няя проза Сартра, главным образом роман «Тошно¬
та», давала замечательный пример так привлекавшего
молодого романиста синтеза философии и литера¬
туры.
Нетрудно заметить, что «Тошнота» в известной
мере соответствовала намечавшимся принципам
художественного мышления Камю. Рецензия на роман
Сартра начинается почти^ дословной парафразой
106
С. Л. Фокин
заветного юношеского афоризма о философском
призвании романа: «Роман — это не что иное, как
философия в образах. В хорошем романе вся фило¬
софия сосредоточена в образах. Однако стоит только
философии выйти за пределы персонажей и сюжета
и оказаться своего рода этикеткой на произведении,
как интрига сразу же теряет свою достоверность,
а роман — жизнь» (II, 1417).
Связь этого фрагмента рецензии с уже приводив¬
шейся записью 1936 года о философских задачах ро¬
маниста очевидна и подтверждает, по нашему мне¬
нию, определенную устойчивость взглядов молодого
Камю на роман. Вместе с тем, в эстетической оцен¬
ке романа Сартра можно видеть и небольшие изме¬
нения, касающиеся понимания взаимосвязи фило¬
софии и литературы. Писатель отступает от излишне
жесткого и несколько сковывающего его художе¬
ственную мысль понимания романа как средства
философствования. Роман не может обойтись без
глубокой мысли, но истинная мысль — это не навязчи¬
вая «идея», которую иллюстрирует роман, а цельное
авторское мировоззрение, отражающееся в формах
романа, его сюжете и образах. Исходя, по-видимо¬
му, из этой точки зрения на роман, представляя его
как напряженное равновесие философских и худо¬
жественных форм, Камю обращает внимание на его
нарушение в «Тошноте»: «Речь идет о романе, в кото¬
ром это равновесие нарушено, в котором теория
наносит ущерб жизни» (И, 1417).
Два облика романа Сартра, философский и лите¬
ратурный, — при всей убедительности каждого в от¬
дельности — не составляют, с точки зрения Камю,
2.«Посторонний» как произведение...
107
единого художественного произведения. «Тошнота»
в его глазах лишена эстетической цельности, един¬
ства, необходимого, по его представлениям, на¬
стоящему роману; это даже не роман, утверждает
строгий рецензент, а монолог, «экстравагантная ме¬
дитация» человека, сталкивающегося с абсурдными
проявлениями жизни.
Эстетическое неприятие романа Сартра, заявлен¬
ное Камю, становится еще более очевидным, если
сопоставить рецензию на «Тошноту» с теми раздела¬
ми «Мифа о Сизифе», в которых концепция романа
как «философии в образах» получила законченное
выражение.
В разделе «Философия и роман» Камю обстоя¬
тельно излагает свои взгляды на соотношение этих
.форм творчества. Подвергая сомнению противопо¬
ставление искусства и философии, автор «Мифа
о Сизифе» утверждает, что всякий философ — та¬
кой же творец, как и романист. Любая философ¬
ская система, будучи результатом работы челове¬
ческой мысли, может быть понята как исповедь
мыслителя, как творение, имеющее все атрибуты ху¬
дожественного произведения — персонажей, скры¬
тую пружину действия, символы и развязку. Но и ро¬
маны тоже, подобно философским сочинениям,
создаются работой человеческой мысли, в них мож¬
но обнаружить свою логику, свои способы рассуж¬
дения, сокровенные интуиции и строгие постулаты.
«В романах, — пишет Камю, — игры плоти и страс¬
тей упорядочиваются согласно определенному миро-
видению. Больше не рассказывают “историй”, а тво¬
рят свой универсум. Великие романисты, являющиеся
108
С. JI. Фокин
противоположностью писателей тезы, это романи¬
сты-философы. Таковы Бальзак, Сад, Мелвилл, Стен¬
даль, Достоевский, Пруст, Мальро, Кафка, если на¬
звать лишь некоторых из них» (II, 178).
В приведенной цитате внимание привлекает не
столько отсутствие в ряду «романистов-философов»
Сартра, сколько противопоставление их «писателям
тезы», тем более примечательное, что оно уже име¬
ло место у Камю. А именно, в рецензии на «Тошноту»
Камю прямо противопоставлял Сартра Мальро, то
есть одному из «романистов-философов», творче¬
ством которого он не уставал восхищаться и роман
которого «Удел человеческий» служил для автора
«Постороннего» образцом «сплава жизненного опыта
' мысли, жизни и раздумий о ее смысле» (II, 1417).
Отсюда следует, что, проводя разграничение между
«романистами-философами» и «писателями тезы»,
Камю сознательно или неосознанно относил к по¬
следним и автора «Тошноты».
Но что подразумевал Камю под понятием «писа¬
тели тезы» и в чем он усматривал их отличие от «ро-
манистов-философов»? Ответы на эти вопросы мы
также находим в «Мифе о Сизифе». В разделе «Твор¬
чество без завтрашнего дня» Камю пишет: «Роман
тезы, произведение-доказательство, самое презрен¬
ное из всех, чаще всего направляется удовлетворен¬
ной мыслью. В таком романе берутся доказывать
истины, которые считают своей собственностью.
Здрсь идут в ход идеи, а идеи являются противо¬
положностью мысли. Создатели таких романов —
это стыдливые философы» (II, 191). Противопостав¬
ление «мысли» и «идеи», «романа тезы» и романа как
2.«Посторонний» как произведение...
109
«философии в образах» продиктовано стремлением
Камю-художника преодолеть иллюстративный харак¬
тер художественного произведения. Это противо¬
поставление дополнительно разъясняет причины
эстетического неприятия Камю «Тошноты», так как
в своей рецензии он упрекал Сартра именно за вы¬
пирающую теоретичность романа.
Теоретичность исходила из самой манеры пове¬
ствования «Тошноты». Поставив в центр произведе¬
ния интеллектуала, человека склонного к рефлексии,
который занимается историческими изысканиями
в библиотеке и заносит свои переживания в днев¬
ник, Сартр, в сущности, создал в «Тошноте» романи¬
зированный вариант «картезианских размышлений»,
сатирическую парафразу «Рассуждения о методе».
Камю, придерживавшегося, как мы помним, идеи
о том, что произведение искусства ничего н$ должно
доказывать, не мог удовлетворить этот преобразо¬
ванный в роман рационализм, своего рода «окари¬
катуренное» картезианство. Философская медита¬
ция не противопоказана роману, но, следуя логике
Камю, роман, утверждающий абсурдность жизни,
должен в самой художественной ткани нести знаки
абсурда, чему явно противоречила избранная Сарт¬
ром форма повествования в виде дневника, подра¬
зумевающая сокровенную веру в наличие какого-то
смысла. Роман об абсурде должен быть абсурдным
романом, произведением, форма которого отрица¬
ет привычные способы видения мира, ставит под со¬
мнение устоявшиеся способы романного повество¬
вания. К этому и стремился Камю в работе над
«Посторонним», последовательно отвергая грешащие
110
С. Л. Фокин
психологизмом формы повествования от третьего
лица и в виде дневника, наделяя Мерсо не интро¬
спективным, а экстраспективным видением, доби¬
ваясь тем самым художественного воплощения вы-
брошенности человека из самого себя, тревожной
опустошенности его обезбоженной души, лишенной
чувства греховности, чуждой раскаяния и, следова¬
тельно, склонности к психологическому анализу пе¬
реживаний. Если отсутствует смысл, зачел тогда
лыс ль? В этом парадоксе — одна из главных антино¬
мий абсурдного мышления, доходящего до послед¬
них пределов. Вот почему Камю не принимает на¬
дежду автора «Тошноты» спастись от нелепицы жизни
в творчестве: Сартр через цепь метафизических и
жизненных злоключений приводит своего героя
к намерению написать книгу. Камю, уже предчув¬
ствуя недостаточность эстетического выхода из
абсурда, подхватывает картезианские вариации
«Тошноты», и не без иронии замечает: «Из перво¬
начального сомнения родится, вероятно, “Я пишу,
следовательно, я существую”. Нельзя не отметить сме¬
хотворного несоответствия подобной надежды тому
бунту, что породил ее» (И, 1419).
Не могла вызывать у Камю сочувствия и сосредо¬
точенность Сартра на темных, безобразных сторо¬
нах жизни, обнаруживающая определенную узость
его мировидения, невосприимчивость ко всей пол¬
ноте бытия. Чуть позже, в начале 40-х годов, отве¬
чая на одно из писем Гренье, заметившего, что бунт
Сартра и его героев основан скорее «на отчаянии,
чем на надежде», Камю назвал «Стену» «ущербным»
произведением. «Есть другое, я это знаю, — светлая
2.«Посторонний» как произведение...
111
сторона человека», — соглашался он в своем пись¬
ме с учителем (СС, 100).
В рецензии на «Стену», опубликованной в «Альже
репюбликен» в марте 1939 года, Камю обратил вни¬
мание на склонность Сартра к «бессилию», заставля¬
ющую его брать своих героев на границах челове¬
ческого и бесчеловеческого, за которыми маячат
грозное абсолютное «ничто». Однако Камю понима¬
ет, что за склонностью автора к анализу почти пато¬
логической разорванности личности лежит фун¬
даментальная проблема человеческой свободы.
«В самом деле, — пишет он в рецензии, — его ге¬
рои свободны. Но их свобода им ни к чему. По край¬
ней мере так полагает господин Сартр. Захваты¬
вающий интерес этих страниц, нередко просто
потрясающих, их жестокая патетика проистекают из
свободы. Ибо в этом универсуме человек освобож¬
ден от всех пут предрассудков, иногда и от своей
природы, и, принужденный к самосозерцанию, со¬
знает глубокое безразличие ко всему тому, чем он
не является. Он одинок, он заперт в своей свободе.
Это свобода во времени, и лишь смерть дает ей крат¬
кое и головокружительное опровержение. Удел та¬
кого человека абсурден. Дальше он не пойдет, и чуде¬
са тех утренних часов, когда жизнь возобновляется,
лишены для него смысла» (И, 1421). В размышле¬
ниях Камю, несмотря на явный оттенок сожаления
в употреблении понятия «природы человека», позд¬
нее ставшего главным пунктом его разногласий с эк¬
зистенциализмом Сартра, выявляется близость его
взглядов к позиции Сартра-мыслителя. Эти размыш¬
ления непосредственно предвосхищают концепцию
112
С. Л. Фокин
«абсурдной свободы», получившую выражение в «Ми¬
фе о Сизифе». Полагая смерть и невиновность че¬
ловека первейшими очевидностями «абсурдного со¬
знания», отвергая все апелляции к лишенному
достоверности потустороннему миру высших цен¬
ностей, Камю придет в своем эссе к нигилистичес¬
кому пониманию свободы «абсурдного человека»:
«Именно в силу невиновности ему все позволено»
(II, 137). Через губительные перепутья вседозволен¬
ности, принимавшейся молодым Камю, как отмеча¬
ют исследователи, без ницшевского энтузиазма 1 (до¬
бавим, что и без сартровского тоже), пройдут все
герои его ранних произведений — от Калигулы до
Мерсо «Счастливой смерти» и «Постороннего». Лишь
работая над циклом «бунта», направленным на опре¬
деление сверхличностных, точнее, межличностных —
отнюдь не сверхчеловеческих и не божественных —
ценностей, Камю вынужден будет признать необхо¬
димость предела человеческой свободы, предела не
трансцеццентного, а исходящего из полагания жиз¬
ненного достоинства другой личности. В предисло¬
вии к американскому изданию своих пьес писатель,
как бы подводя черту под нигилистическими устрем¬
лениями своих ранних героев, напишет, что «нельзя
быть свободным против других людей» (I, 1728).2
Однако, как мы видели, избыток свободы героев
Сартра не вызывал чрезмерного восторга и у раннего
1 А. М. Руткевич. Философия А. Камю. — А. Камю. Бунту¬
ющий человек. М., 1990, с. 15.
2 См. об этом: G. P. Gélinas. La liberté dans la pensée de Ca¬
mus. Fribourg, 1965.
2.« Посторонний» как произб едение..
ИЗ
Камю. Характерно, что наметившиеся расхождения
мировоззренческих позиций мыслителей дополня¬
лись и проанализированным выше сдержанным от¬
ношением Камю к опыту синтеза романа и филосо¬
фии в «Тошноте».
Камю, как мы уже отмечали, отказывается от идеи
смешения жанров. По-видимому, размышления над
«Тошнотой» укрепили его в мысли, что философ¬
ская эссеистика и роман — разные сферы творче¬
ства: то, что можно ясно высказать в жанре эссе, не
всегда уместно в романе. Вот почему очень одно¬
сторонним выглядит утверждение В. В. Шервашид-
зе о «кровной связи» «Постороннего» с «Тошнотой».1
Это утверждение не учитывает реального восприя¬
тия будущим автором «Постороннего» романа Сарт¬
ра. «Тошнота» конечно же входила в художествен¬
ное сознание Камю, причем как раз во время работы
над «Посторонним», и связь между этими произведе¬
ниями существует, но связь не преемственности, не
«кровная связь», а связь отталкивания. «Тошнота»,
как следует из нашего анализа рецензии Камю, была
для автора «Постороннего» лишь «негативным об¬
разцом», примером того, как писать «философский
роман» не следует. Что же касается мировоззрен¬
ческих позиций мыслителей, то очевидная близость
исходных пунктов мысли не исключала и существен¬
ных различий, которые со временем лишь углубля¬
лись, делая начавшийся рецензиями Камю диалог пи¬
сателей все более похожим на «диалог глухих».2
1 В. В. Шербашидзе. Альбер Камю, с. 138.
2 Только на французском языке сравнению философских,
политических и отчасти эстетических позиций Камю и Сартра
114
С. Л. Фокин
Отвергая «роман тезы», произведение-доказатель-
ство, направленное на разъяснение какой-то идеи,
Камю не оставляет, однако, мысли написать «фило¬
софский роман», каким-то образом связанный с его
философскими воззрениями. По-видимому, эта про¬
тиворечивая творческая задача предопределяла
особую напряженность и разнонаправленность эс¬
тетических исканий романиста в конце 30-х годов.
В дневниковых записях того времени Камю настой¬
чиво размышляет о поэтике романа, перебирает раз¬
личные эстетические формулы, следуя которым он
думает достичь соответствия своей философской
идеи, видимо, также еще не вполне сложившейся, ее
воплощению в повествовании романа. Вот одна из
таких записей: «Примирить произведение описываю¬
щее и разъясняющее. Придать правильный смысл опи¬
санию. Когда есть только описание, оно может быть
восхитительным, но не захватывающим. Следует дать
почувствовать, что мы ставим пределы с умыслом.
Только тогда они исчезнут и произведение “зазву¬
чит”» (С1, 169). Если сравнить эту запись с запальчи¬
вым юношеским утверждением, что тот, кто хочет
стать философом, должен писать романы, становит¬
ся очевидным, насколько усложнилась концепция
посвящено несколько серьезных работ: К Champigny. Humanis¬
me et racisme humain. Paris, 1972; E. Werner. De la violence au
totalitarisme. Essai sur la pensée de Camus et de Sartre. Paris,
1972; Cl. et G. Broyelles. Les illusions retrouvées: Sartre a toujours
raison contre Camus. Paris, 1982. Имеются работы на немецком
и английском языках. Однако сопоставление литературно-эсте-
тических взглядов и принципов писателей только начинается.
См. напр.: А. Briosi. Sartre et le caractère «classique» de L’Etran¬
ger. — Albert Camus 1980, p. 235-245.
2.«Посторонний» как произведение..
115
романа Камю. Мыслить только образами оказалось
довольно трудно, и философ (пусть даже в романе),
стремясь к определенности своей мысли, продолжа¬
ет мыслить понятиями и категориями — в этом Камю
мог убедиться, критически анализируя опыт Сартра
в «Тошноте». И если в приведенной записи Камю на¬
деется еще на «примирение» описания и разъяснения
в романе, то в дальнейшем все сильнее становится
стремление свести на нет «разъясняющую» сторону
произведения, построить повествование на «описа¬
тельном» воспроизведении действительности. Пара¬
доксальным образом проблема «введения» филосо¬
фии в роман оборачивается задачей ее «выведения»
из романа, точнее исключением из романного пове¬
ствования философских рассуждений, непосред¬
ственно относящихся к мировоззренческой позиции
автора, — для них предназначается жанр эссе.
Среди довоенных литературно-критических ра¬
бот Камю особое место занимает эссе о Кафке. Его
замысел, навеянный, вероятно, появлением француз¬
ского перевода «Замка» с послесловием М. Брода,
относился к осени 1938 года, то есть к моменту на¬
чала литературно-критической деятельности писа¬
теля в «Альже репюбликен». Но по мере того как
Камю убеждался в необыкновенной значительности
Кафки и созвучии его художественных образов соб¬
ственным философско-эстетическим исканиям,
характер работы о «Замке» менялся. Преодолевая
жанровые рамки газетной рецензии, захватывая
«Процесс» и другие произведения Кафки, она пре¬
вращалась в пространное литературно-художествен¬
ное эссе, в сущности, в первый крупный критический
116
С. Л. Фокин
опыт Камю, который предлагал стройную — хотя
и спорную — философско-эстетическую интерпре¬
тацию творчества австрийского писателя, соеди¬
нявшую мировоззренческое истолкование «Процес¬
са» и «Замка» с постановкой и решением важных
для самого Камю идейных и эстетических задач.
Первая редакция эссе под названием «Кафка —
романист надежды» была закончена к весне 1939 года,
о чем Камю сообщил Гренье: «На этой неделе я по¬
шлю вам свой этюд о Кафке и напишу, какое место
он занимает в моем “эссе об абсурде”, над которым
я сейчас регулярно работаю» (СС, 227). До нас не
дошел отзыв наставника на критический опыт моло¬
дого писателя (ранние письма Гренье не сохрани¬
лись), но есть основания предполагать, что отзыв
был благоприятным, поскольку Камю решает публи¬
ковать свое эссе, и не где-нибудь, а в парижском
журнале «Нувель Ревю Франсез» — для начинающе¬
го литератора «святая святых» французской литера¬
туры, где работали и печатались его литературные
кумиры —Ален, Гренье, Жид, Мальро, Монтерлан.
Камю обращается за помощью в публикации к Ж. Эр-
гону, имевшему связи с редакцией «Нувель Ревю
Франсез». Передавая эссе Эргону, Камю подчерки¬
вал, что его можно рассматривать как самостоятель¬
ное произведение, хотя впоследствии он включит его
в более крупное эссе «Философия и роман», кото¬
рое, в свою очередь, станет приложением к боль¬
шому «Эссе об абсурде» (первоначальное название
«Мифа о Сизифе»).1
1 Н. Я. ЪоПтап. Ор. ск., р. 209.
2.«Посторопнгш» как произведение..
117
В Париже эссе Камю попало в руки Б. Гретюи-
зена, заведовавшего отделом немецкой философии
и литературы в «Нувель Ревю Франсез». Талантли¬
вый ученик В. Дильтея, руководивший после смерти
учителя изданием его сочинений, профессор социоло¬
гии и истории искусств Берлинского университета,
высоко ценимый такими крупными мыслителями, как
М. Вебер и Э. Кассирер, Гретюизен в 1932 году по¬
кинул нацистскую Германию и сразу же включился
в культурную жизнь Франции. Дружба с А. Жидом,
Ж. Поланом, А. Мальро, считавшим Гретюизена сво¬
им духовным наставником и отобразившим черты его
облика в образе мудреца Жизора в романе «Удел
человеческий»,1 переводы из Гете и Гельдерлина,
статьи о немецком экспрессионизме и психоанализе
делали его одной из самых авторитетных фигур в ли¬
тературной жизни Франции 30-40-х годов. Страст¬
ный популяризатор немецкой культуры, Гретюизен
стал инициатором перевода «Процесса» Кафки на
французский язык, увидевшего свет в начале 30-х го¬
дов на страницах «Нувель Ревю Франсез», он же был
автором одной из первых работ о Кафке, появив¬
шейся в этом журнале в 1933 году.2
Реакция столь авторитетного знатока была для мо¬
лодого автора более чем приятной и неожиданной:
сделав небольшие замечания и пожелания (обратив,
1 В. Dandois. De Groethuysen à Gisor. — «Revue des lettres
modernes», 1987, № 799—804, p. 171—184.
2 Библиографию французских переводов Кафки и крити¬
ческих работ о нем см.: М. Goth. Franz Kafka et les lettres fran¬
çaises. Paris, 1956, p. 257—282.
118
С. Л. Фокин
в частности, внимание на сомнительную «христиа¬
низацию» мировоззрения Кафки, в котором, на его
взгляд, более очевидно проступала ветхозаветная
перспектива), Гретюизен обещал через Эргона по¬
мочь в публикации эссе.1 Напомним, что к этому
времени Камю — мало кому известный писатель,
первые книги которого вышли в далеком Алжире,
да и Кафка еще далеко не знаменит — специальных
работ о нем во Франции не насчитывалось тогда
и десятка. Замечания по истории создания и публи¬
кации эссе Камю о Кафке, основанные на текстоло¬
гических комментариях к «Мифу о Сизифе», сделан¬
ных Л. Фоконом, и биографических изысканиях
Г. Лоттмана, позволяют уточнить место этой работы
в творческой биографии Камю. Эссе «Надежда и аб¬
сурд в творчестве Кафки», обычно помещаемое в
качестве приложения к «Мифу о Сизифе», является,
в сущности, литературно-философским «прообра¬
зом» большого эссе об абсурде, «прообразом», в ко¬
тором первые оригинальные философские идеи
Камю получили последовательно-завершенное выра¬
жение в жанре литературной критики. К тому же,
эссе о Кафке — первая крупная литературно-кри-
тическая работа Камю, непосредственно связанная
с вопросами эстетики романа.
Этюд Камю о Кафке вряд ли можно считать
литературно-критической статьей в точном значе¬
нии слова. И дело здесь не в крайней субъективно¬
сти отдельных суждений и оценок, что вообще свой¬
ственно писательской литературной критике. Дело
1 Н. К ЪоПтап. Ор. ск., р. 210.
2.«Посторонний» как произведение..
119
в самом подходе — обращаясь к истолкованию
«Процесса» и «Замка», Камю использует творчество
Кафки прежде всего как своеобразную модель для
решения собственных философско-эстетических за¬
дач (что, впрочем, не лишает его проницательности
и не исключает точности отдельных замечаний).
Следует добавить и то, что работа Камю отражала
особенности первого этапа «усвоения» Кафки фран¬
цузской культурой, когда творчество пражского пи¬
сателя не столько изучалось, сколько «мифологизи¬
ровалось».1 Иными словами, в первых французских
работах о Кафке создавались его различные «обра¬
зы», зачастую больше говорившие об их создателях,
чем о писателе, в творчестве которого было выра¬
жено мироощущение целой эпохи. Пример такого
прочтения Кафки «на свой лад» — опыт его «сюр-
реализации» А. Бретоном и близкими к нему писа¬
телями в сборнике «Траектория сна» (1938). Далеко
от академического литературоведения находилась
и философско-религиозная критика с ее аллегори¬
ческо-теологическими интерпретациями идей и
образов Кафки, сильно повлиявшими на Камю в его
работе над эссе. Примечательная черта религиоз-*
ных интерпретаций Кафки — настойчивое сближе¬
ние его мировоззрения с идеями датского мыслите¬
ля XIX С. Киркегора. В статьях 30-х годов Кафку
называли <щуховным наследником Киркегора», и уже
в начале 40-х годов появилась обстоятельная статья
известного философа-неогегельянца Ж. Валя, по¬
1 С. Prevot. A la recherche de Kafka. — «Europe», 1971,
№ 511-512.
120
С. Л. Фокин
священная сопоставительному анализу взглядов этих
писателей.
Камю, как мы видим, не был первооткрывателем
Кафки во Франции, и его истолкование «Процесса»
и «Замка» опиралось на некоторые положения фран¬
цузской критики, в частности, на работу Б. Гретюи-
зена, упоминаемую в его эссе. Его подход к Кафке
как к религиозному мыслителю, близкий к подходу
Ж. Валя, вряд ли вполне оправдан прежде всего
из-за очень сложного отношения автора «Процесса»
к религии, — хотя, на наш взгляд, совсем отказать
такому подходу в правомерности также нельзя.1
Дерзкая решимость начинающего мыслителя схва¬
титься с христианством объясняла его склонность
к выявлению религиозной идеи у писателя, едва ли
признававшегося самому себе в своей религиозно¬
сти. Движимый этой склонностью, Камю в первой
редакции эссе доходит до безоговорочного «обра¬
щения» Кафки в христианство, заявляя, что мысль
автора «Замка» — это «христианская мысль» (II,
1454). По-видимому, лишь замечания Б. Гретюизена
заставили Камю убрать столь сомнительное утверж¬
дение, что, в общем, никак не отразилось на вызыва¬
ющей анти-христианской направленности эссе с его
пафосом отрицания трансцендентности, «надежды»
на потустороннее и смирения, свойственных хри¬
стианскому миропониманию.
Эссе Камю было опытом экзистенциального про¬
чтения «Процесса» и «Замка». Для Камю Кафка, по¬
1 О религиозной проблеме Кафки см.: А. В. Гулыга. Франц Кафка
и его роман «Замок». — Ф. Кафка. Замок. М., 1990, с. 209—211.
2.«Посторонний» как произведение...
121
добно Киркегору или Шестову, — «экзистенциаль¬
ный мыслитель» (II, 208). Духовная доминанта экзи¬
стенциалистского мироощущения, роднившая, по
мнению Камю, столь разных писателей — устремлен¬
ность их мысли к сверхъестественной реальности,
освобождающая человека от бремени безнадежной
жизни в земном мире. Но Кафка, как замечает Камю,
не просто мыслитель, а «романист-философ» (II,
178) — духовная драма экзистенциальной мысли пе¬
ренесена в его творчестве посредством романа в кон¬
кретные формы человеческой жизни.
В чем Камю усматривал духовную драму экзи¬
стенциализма? Экзистенциалисты, полагает он, стал¬
киваясь с непостижимостью мира, конечностью че¬
ловеческого удела и иррациональностью самого
человека, являющихся разными ликами абсурда, при¬
зывают к принятию и признанию абсурда. Но, по
мысли Камю, если абсурд признан, то человек с ним
смиряется. Надежда дается экзистенциальной мысли
через самоуничижение. Абсурдность земного суще¬
ствования утверждает ее в вере в сверхъестествен¬
ную божественную реальность. «И если стезя этой
жизни, — пишет Камю, — упирается в Бога, значит,
есть выход» (II, 208). Таким образом, мысль Кирке-
гора, Шестова и Кафки, с точки зрения Камю, ока¬
зывается — вопреки распространенным представ¬
лениям — исполненной безмерной надежды. Но
именно такой ход мысли меньше всего привлекает
его, для него здесь тупик. Определяя в своем эссе
первые положения этики ясности, отвергающей все
неочевидное и сверхъестественное (а трансценден¬
тность экзистенциалистов именно такова), Камю не
122
С. Л. Фокин
хочет следовать их путем, ибо самоотречение че¬
ловека, взирающего с надеждой на Бога, означает
неприемлемое для него смирение, подчинение Богу,
в конечном итоге, отрицание человеческого в че¬
ловеке.
В «Процессе» Кафка, как полагает Камю, сосре¬
дотачивается на изображении абсурдности челове¬
ческой жизни. Йозеф К. обвинен. Он живет, и в то
же время осужден. Только вина Йозефа К. — при
всей ее непостижимой очевидности для него и всех
причастных к его процессу — остается неизвест¬
ной, а приговор — непонятным. И лишь в конце два
учтибых, хорошо одетых господина приходят за
Йозефом, с наивысшей любезностью предлагают сле¬
довать за ними, отводят в мрачное предместье и там
перерезают ему глотку. Перед смертью осужденный
успевает сказать: «Как собака».
Однако мир абсурда, созданный в «Процессе»,
Кафка, как считает Камю, разрушает в «Замке» —
привнося в свою мысль особого рода надежду. «Про¬
цесс» как бы ставит проблему, которую разрешает
«Замок». И чем безнадежнее выглядят попытки Йо¬
зефа К. противостоять неумолимым силам «про¬
цесса», тем отчетливее проступают следы отчаянной
надежды, движущей землемером К. в его упорном
стремлении достичь «замка». «Мы обнаруживаем
здесь, — пишет Камю, — парадокс экзистенциаль¬
ной мысли в чистом состоянии, как выразил его еще
Киркегор: «Следует до смерти забить земную надеж¬
ду, лишь тогда спасешься надеждой истинной». Что
можно передать и так: «Следует написать “Процесс”,
чтобы взяться за “Замок”» (II, 208).
2.«Посторонний» как произведение..
123
Подхватывая мысль М. Брода, указавшего на бо¬
гословский смысл «замка», Камю рассматривает зло¬
ключения К. как странствия человеческой души в по¬
исках благодати. К. живет лишь надеждой, что будет
допущен в «замок». Полнейшая абсурдность посю¬
стороннего — лучшее доказательство наличия по¬
тустороннего. Но Камю в такой направленности ми¬
ровоззрения усматривает опасную возможность
отрицания человека. По его словам, это всего-
навсего «хитроумное лекарство», которое заставля¬
ет любить то, что нас сокрушает. Это — «скачок»
в Бога, который является «секретом экзистенциаль¬
ной революции» и самого «Замка» (И, 205).
Таким образом, Камю в своем эссе о Кафке уже
вполне сформулировал основные положения своей
философской позиции «цикла абсурда». Отвергая ми¬
ровоззренческую направленность к потусторонне¬
му, свойственную, по его представлениям, Кафке,
Киркегору и Шестову, Камю рассматривает ее как
отрицающую человека силу. «Как и во всех религи¬
ях, — пишет он в конце эссе, — человек освобожда¬
ется здесь от груза собственной жизни» (II, 210).
Духовная драма экзистенциализма и Кафки —
в роднившем их трагическом ощущении непостижи¬
мости и недостижимости трансцендентного, тогда
как драматическая напряженность мысли Камю опре¬
деляется острым переживанием отсутствия транс¬
цендентного,
В эстетическом отношении романы Кафки дава¬
ли Камю замечательный образец романа об «уделе
человеческом». Размышления Камю о поэтике «Про¬
цесса» и «Замка» свидетельствуют, что особенности
124
С. Л. Фокин
художественного мировидения Кафки во многом
соответствовали тем представлениям о романе, ко¬
торые все определеннее складывались в сознании
писателя. Напомним, что первая редакция эссе о
Кафке была закончена непосредственно перед нача¬
лом интенсивной работы над «Посторонним».
По Камю, романы Кафки символичны, а символ
предполагает, по крайней мере, два плана, отража¬
ющих два мира — мир общих идей и мир непосред¬
ственных жизненных впечатлений. У Кафки эти два
мира, как считает Камю, представлены, с одной сто¬
роны, миром повседневности, обыденной жизни ни¬
чем не примечательных людей, втянутых в круго¬
верть общественно-государственных механизмов,
установлений, условностей, а с другой — миром без¬
мерной надежды на божественную благодать. В та¬
ком единении повседневного и метафизического
Камю усматривает необходимое эстетическое нача¬
ло романа, призванного отобразить абсурд в реаль¬
ной жизни. «Вот почему, — пишет Камю, — Замза,
герой “Превращения” выведен простым коммивоя¬
жером. Вот почему фантастическое превращение
в насекомое заботит его только потому, что началь¬
ник будет недоволен его отсутствием» (II, 204).
Любопытно, что эта цитата из эссе Камю почти до¬
словно воспроизводится в «Постороннем». В рома¬
не Камю Мерсо вызывает недовольство шефа впол¬
не естественной просьбой дать ему отпуск, чтобы
похоронить мать. Удрученный этим недовольством,
бедный клерк вынужден пробормотать, что все это
случилось не по его вине. Наутро после поездки на
похороны мысль о недовольстве шефа вновь беспо¬
2.«Посторонний» как произведение..
125
коит Мерсо: «Проснувшись, я понял, отчего у пат¬
рона был недовольный вид, когда я попросил дать
мне отпуск на два дня: сегодня суббота... Конечно,
патрон сразу подумал, что вместе с воскресеньем
у меня выйдет четыре свободных дня, и это не мог¬
ло доставить ему удовольствия» (I, 1138). Очевидно,
здесь сознательная или бессознательная фабульная
цитата из Кафки, возникшая в «Постороннем» как
дополнительная черта при изображении бесчеловеч¬
ности бюрократической государственной машины,
в которой перемалываются естественные человече¬
ские чувства, и соболезнование по поводу смерти
матери может быть выражено лишь после того, как
все случившееся получит «официальное подтверж¬
дение» (I, 1125).
Приведенная параллель, наглядно свидетельству¬
ющая о присутствии опыта Кафки в творческом со¬
знании автора «Постороннего», обнаруживает,
вместе с тем, и главное различие в художественном
мышлении двух писателей. Различие тем более рази¬
тельное, что проявилось оно, в сущности, в одинако¬
вом сюжетном эпизоде, обладающем к тому же схо¬
жим символическим звучанием.
Кафка дает образ фундаментальной отчужденно¬
сти человека от мира, используя совершенно
сверхъестественную завязку — превращение героя
в отвратительное насекомое. Повествование развер¬
тывается из фантастического допущения: что было
бы, если бы Грегор проснулся однажды насекомым?
Вторжение ирреальности в реальность и обнаружи¬
вает страшную трагедию: даже самые близкие люди
(отец, мать, сестра), столкнувшись с превращением
126
С. Л. Фокин
Грегора не способны сохранить к нему любви и обре¬
кают несчастного на смертельное одиночество. На
стыке реального и ирреального художественное
пространство новеллы сжимается в абсолютно само¬
бытный мир, напоминающий мир лирического сти¬
хотворения. Здесь — при всем кропотливом воссоз¬
дании бытовых реалий — довлеет мир внутренний.
Мир оригинального, неповторимого по разнообра¬
зию и интимности своих переживаний поэта. Проза
Кафки, по замечанию ее тонкого ценителя Т. Ман¬
на, это «поэзия сновидений».
Камю в своем подходе к реальности более объекти¬
вен, он сдержаннее в ее художественном преображе¬
нии. Его проза далека от поэзии, тем более от «поэ¬
зии сновидений», противоречившей всему складу
художественного мышления Камю-романиста. По Ка¬
мю, Кафка — религиозный экзистенциалист; отча¬
явшись в человеке, он обращает свой исполненный
безмерной надеждой взгляд к Богу, ищет спасения
в потустороннем мире. Следуя логике художествен¬
ного сознания Камю, в повышенной склонности Каф¬
ки к сверхъестественному можно усмотреть своего
рода бегство от проблем конкретной действитель¬
ности. Такая установка художественного мышления,
присутствие которой у Кафки отрицать трудно, со¬
вершенно не устраивала Камю.1
1 Cp.: H. Politiser. Camus et Kafka. — «La Revue des lettres mo¬
dernes», 1963, № 90—93, p. 151—174; M. A. Freçe Witt. Camus et
Kafka. — «La Revue des lettres modernes», 1971, № 264—270,
p. 71—86; L. Cohtt. La signification d’autrui chez Camus et chez Kaf¬
ka. — «La Revue des lettres modernes», 1979, № 565—569, p. 101—
130.
2.«ПостороншпЪ> как произведение...
127
Однако это различие было осознано автором
«Постороннего» значительно позже. В эссе о Кафке
он восхищается его творчеством. Особую заслугу
автора «Замка» и «Процесса» он видит в подчинении
писателя кропотливому воссозданию трагичности че¬
ловеческого удела через повседневность.
Проза Кафки, вероятно, лучше всего отвечала
складывающимся представлениям молодого Камю
об эстетике романа, направленном на раскрытие
абсурдности человеческой судьбы. Главное эстети¬
ческое начало такого романа — напряженное еди¬
нение социального и метафизического, истории и
метафизики, достигаемое уравновешиванием в про¬
изведении высокой трагичности и обыденной повсе¬
дневности, естественного течения жизни и элементов
необычного, непреложного абсурда и сверхъестест¬
венной логики. Эти колебания, свойственные, по
мысли Камю, «Замку» или «Процессу», воплощали
двойственную природу человека, которую и должен
отразить роман. Кафка показывал в своем творче¬
стве, что человек социальный — это еще не весь
человек, что истории принадлежит лишь часть че¬
ловека, а другая подчинена метафизическому
«закону», непостижимой трансцендентности, Богу.
Выделяя социальное и метафизическое как осново¬
полагающие принципы строения романа, Камю
отвергает, однако, религиозную метафизику, раз¬
рабатывая в то же время свою собственную — мета¬
физику взаимосвязи мира и человека, первой (по
необходимости негативной) фазой которой стано¬
вилась концепция абсурда. Задача романа заключа¬
лась в раскрытии этой концепции.
128
С. Л. Фокин
Довоенные литературно-критические работы
Камю свидетельствуют о многообразных творческих
исканиях писателя. Обилие и разнонаправленность
литературных связей говорят о повышенном внима¬
нии молодого романиста к творческому опыту других
писателей. Внимание это было не столько знаком
особой предрасположенности Камю к восприятию
«чужих» идей и к переживанию разного рода «влия¬
ний», сколько свойственным многим художникам
тяготением к «чужому» в поисках возможностей
осознания «своего». Отталкиваясь от других писате¬
лей, Камю уяснял свою собственную позицию. За ярко
выраженным стремлением к расширению литератур¬
ного кругозора угадывается попытка разработать
собственное художественное мировоззрение.
Вместе с тем следует отметить «ученический» ха¬
рактер литературно-критических опытов Камю
конца 30-х годов. «Ученичество» это проявлялось не
в том, что начинающий романист прилежно копиру¬
ет, перенимает или заимствует что-то у своих литера¬
турных учителей, а в том, что в это время он «учится»
писать — анализируя идеи, образы, художественную
манеру Сартра и Кафки, Силоне и Шамсона, он
исподволь определяет принципы и установки свое¬
го творческого метода. Характерно, что большин¬
ство обобщений, которые можно обнаружить в ре¬
цензиях «Альже репюбликен» и в эссе о Кафке,
являются выражением складывающейся эстетики ро¬
мана Камю.
Камю-литературный критик конца 30-х годов су¬
дит о рассматриваемых им писателях не столько
с точки зрения собственной эстетической позиции,
2.«Посторонний» как произведение..
129
которая еще определяется, и, тем более, не от имени
какой-то культурной традиции, к которой лишь
устремлялась его художественная мысль, сколько на¬
ходясь в состоянии напряженного ученичества,
которое, судя по всему, завершалось. Литературная
юность романиста подходила к концу, начинался
новый этап его творческой жизни.
Сам писатель ощущает какой-то внутренний пе¬
релом. В одном из писем 1939 года, написанном во
время интенсивной работы над пьесой «Калигула»,
нашли выражение эти переживания, сопряженные
с ясным сознанием начала нового периода творче¬
ской жизни: «Не могу оторваться от “Калигулы”.
Очень важно, чтобы пьеса удалась. Вместе с романом
(“Посторонний” — С. Ф.) и эссе об Абсурде (“Миф
о Сизифе” — С. Ф.) она образует первый этап того,
что я не боюсь назвать своим творчеством. Этап
негативный и очень трудный, но который определит
все остальное» (СС, 246). Весной 1940 года в письме
к Гренье Камю сообщает наставнику о своих твор¬
ческих опытах: «Я уже давно хотел приступить к од¬
ному замыслу, на осуществление которого потре¬
буется много лет, и который будет представлен
в разных жанрах. Я ожидал уверенности в себе и
в собственных силах. Сейчас это, возможно, еще не
то, что я задумал, но — верно или неверно — при¬
ближается к этому. Я много работаю и заметно
продвинулся (закончена пьеса, на три четверти на¬
писан роман, наполовину эссе) — все три произве¬
дения на одну тему» (СС, 39).
Тема, которая целиком овладела сознанием пи¬
сателя, отодвинув на задний план его первые твор¬
130
С. Л. Фокин
ческие опыты (отметим, что сборники эссе «Изнан¬
ка и лицо» и «Брачный пир» долгое время не будут
находить места в схемах творческого пути, неодно¬
кратно набрасывавшихся Камю в «Записных книж¬
ках»), в равной степени затрагивала и эстетическую
мысль романиста, и философскую позицию мысли¬
теля. Тема эта — «абсурд».
2. «ПОСТОРОННИЙ»: АБСУРДНЫЙ РОМАН
ИЛИ РОМАН ОБ АБСУРДЕ?
Что означал «абсурд» в мировоззрении Камю,
и каким образом эту сложную многостороннюю кон¬
цепцию, вобравшую в себя самые разные тенденции
философской и эстетической мысли, можно отра¬
зить в романе?
Как показано в монографии Е. П. Кушкина, не¬
посредственным литературным предшественником
Камю в разработке темы абсурда был А. Мальро.1
Предвосхищая понятийный словарь философии и ли¬
тературы середины века, Мальро писал в эссе «Иску¬
шение Запада» (1926): «В душе европейского чело¬
века, подавляя его великие жизненные порывы,
коренится изначальный абсурд».2 По образному за¬
мечанию Мальро, металлически-холодное царство аб¬
сурда, обвивающее Европу, словно змей — древо
познания добра и зла, все глубже и прочнее утверж¬
дается в бытии и сознании современного человека,
1 Е. П. Кушкин. Альбер Камю, с. 40-44.
2 А. Мальро. Зеркало лимба, с. 28.
2.«Посторонний» как произведение..
131
подчиняя себе его мысль и жизненное поведение.
Для автора «Искушения Запада» абсурд означал и ме¬
тафизическую данность — разлад между миром и че¬
ловеком, утратившими со «смертью Бога» фундамен¬
тальную религиозную связь, — и возмутительную
нелепость существующего социального устройства,
воплощающую основной метафизический конфликт
в истории, — и глубокую эстетическую проблему,
связанную с низвержением разума и взлетом инте¬
реса к иррациональным, бессознательным, мифоло¬
гическим формам мышления. Смерть, как одно из
самых властных воплощений абсурда, с наибольшей
убедительностью доказывающее независимость веч¬
ного мира по отношению к бренному человеку, по
мысли Мальро, задает границу человеческой жизни,
определяет ее исключительно земное значение,
возвышает ее ценность до совершенного абсолюта.
Человеку не избежать смерти, но он может избе¬
жать абсурда в жизни — живя наперекор смерти,
ясно сознавая ее неотвратимость, обретая смысл
в «бытии против смерти», а значит, и против абсур¬
да. Стремление к преодолению ничтожества челове¬
ческой судьбы, желание избежать всевластности аб¬
сурда, поиски того в мире и человеке, что можно
противопоставить абсурду, привели Мальро по пу¬
тям и перепутьям богоборческого индивидуализма
к осознанию и утверждению ценностей человеческо¬
го товарищества, мужественного братства.
Абсурд, как мы определили выше, обладал в мыс¬
ли Мальро и эстетическим измерением. В этом плане
он обнаружил себя в иссякании веры в способности
разума в объяснении мира и человека и небывалом
132
С. JI. Фокин
росте интереса к иррациональным сферам созна¬
ния: «Разум с трудом пытается уйти от самого себя,
хватаясь за средства лжи».1 Согласно мысли Мальро,
сознание современного человека, отвергающего все¬
объемлющую метафизику христианства, оказывает¬
ся перед необходимостью выработки нового миро¬
воззрения, связанного, однако, с христианством
идеей единства, цельности, необходимой для ясного
осознания человеком себя и мира. Осмысление но¬
вых средств выражения утверждающегося миро¬
понимания сопровождалось в мысли Мальро крити¬
ческими раздумьями о традиционных способах
познания человека. Эти сомнения — прежде всего
в достаточности интроспективно-психологического
подхода к человеку, разработанного многовековой
христианской культурой — замечательно резюмиро¬
вались в одном из афоризмов романа «Орешники
Альтенбурга»: «В конце концов человек познается
вовсе не бесконечным копанием в индивиде».2
Эта тенденция художественной мысли Мальро, ко¬
торую с известной долей условности можно назвать
«антипсихологизмом», опиралась, очевидно, на идеи
Ф. Ницше, одного из главных учителей автора
романов об уделе человеческом.3 Ницше, который
неистово обрушивался на христианскую мораль,
устремленную не столько к действительному чело¬
веку, сколько к человеку желательному, а значит,
1 Там же, с. 36.
2 A. Malraux. Les noyers de l’Altenbourg. Paris, 1948, p. 29.
3 E. П. KytuKun. Мальро и Ницше: Опыт нигилизма. — Ре¬
ализм в зарубежных литературах XIX-XX веков. Саратов, 1989,
с. 54-62.
2.«Посторонний» как произведение...
133
сковывающую истинную природу человека, неред¬
ко разражался исступленными филиппиками про¬
тив писателей-моралистов, прославившихся своими
психологическими наблюдениями. Для него они —
«моральные мухи-кусачки», набрасывающиеся на
человека с «моральной точки зрения»: «Ларошфуко
и христиане находили человека безобразным: но это
есть моральное суждение, а другого попросту не
знали».1 Отстаивая причастность человека к приро¬
де, которая не зла и не добра, Ницше утверждал идеи
имморализма — в сущности, новой морали, отри¬
цающей основополагающие христианские понятия
греха и искупления.
Сомнения в пригодности укорененного в христи¬
анской традиции интроспективно-психологического
подхода к человеку, были выражены Мальро в ро¬
мане «Орешники Альтенбурга». Здесь сталкиваются
несколько концепций миропонимания — античная,
восточная, европейская, — разные жизненные по¬
зиции — пассивно-созерцательная и активно-дей-
ственная. Старик Вальтер полагает, что суть челове¬
ка скрывается в его глубине, человек — «жалкая
кучка секретов». Ему резко возражает его племян¬
ник Винсен Берже — человек жизненной авантю¬
ры, увлеченный страстным желанием «оставить на
земле свою отметину». Для него «человек — это то,
что он делает».
Оказавшись на организованном дядей коллоквиу¬
ме «Постоянство и метаморфозы человека», Винсен,
сопоставляя античность, Восток и Запад, подчерки¬
1 Ф. Нищие. Сочинения в двух томах. Т. I, с. 820.
134
С. Л. Фокин
вает, что потребность в психологии характерна,
в сущности, лишь для Запада, причем для христиан¬
ского Запада: «Ибо Запад противостоит космосу,
року, вместо того чтобы искать согласия с ними.
Любая психология — это поиск внутреннего рока.
Переворот, совершенный христианством, заключался
в том, что рок оказался внутри человека. Он был
основан на его природе... Грек выявлял своих демо¬
нов в мифах, христианин скрыл свои мифы в демо¬
нах... Чего хочет христианин прежде всего? Спасе¬
ния. Что ему мешает достичь его? Рок его природы,
первородный грех, демон. Следует познать челове¬
ка, чтобы узнать пути демона... Наше художествен¬
ное творчество... — драма, роман — предполагают
анализ человека. Однако один анализ не образует
еще искусства».1 По мысли героя Мальро, в которой
явно проступают раздумья самого писателя, харак¬
терное для христианской культуры стремление к по¬
знанию внутреннего мира человека («его секретов»),
отражавшее борьбу с греховным, дьявольским нача¬
лом человеческой природы, не способно дать пол¬
ного знания о человеке, ибо «секреты» — это еще
не весь человек. Человека можно и должно позна¬
вать в действии, в мужественном противоборстве
с враждебной «независимостью мира».
Мировоззренческий антипсихологизм Мальро
предопределял его концепцию романа. «На мой
взгляд, — замечал он в комментариях к литератур¬
но-критической работе Г. Пикона, — современный
роман является не средством разъяснения индивида,
1 А. Ма1гаих. Ьев поуегв с!е ГАкепЬои^, р. 125-127.
2.«Посторонний» как произведение..
135
а главным способом выражения трагичности че¬
ловека».1 Роман, призванный отобразить столкнове¬
ние человека и абсурда, оборачивался своеобразным
«возвращением» к античной трагедии,2 в основе ко¬
торого лежало близкое к античности, а не к христи¬
анству понимание человека. Как и в древней траге¬
дии, здесь изображались лишь две противостоящие
друг другу силы — человек и мир. По этой причине
выявление переживаний человека, его внутренней
борьбы со злом в себе оказывалось несущественным:
роман сосредотачивался на изображении внешнего
героизма личности, борющейся с абсурдом мира.
В своем Понимании абсурда Камю очень близок
к мировоззренческой позиции Мальро, хотя его фи¬
лософская концепция сложнее, в ней есть отдель¬
ные положения, непосредственно развивающие идею
об абсурде как разладе мира и человека, есть и ха¬
рактерные уточнения, вносящие особые оттенки
в эту идею, дополняющие ее — главным образом,
в плане последовательно рационального осмысления
фундаментальной иррациональности бытия.
Следует обратить внимание на очень важный
момент этой концепции: абсурдность мира соответ¬
ствует абсурдному человеку, то есть человеку, ясно
сознающему абсурд — таким образом, абсурд оказы¬
вается сосредоточенным в человеческом сознании.
В плане эстетики ^способов и возможностей выраже¬
ния определенного содержания) абсурдное сознание
1 G. Picon. Malraux par lui-même. Paris, 1959, p. 66.
2 Ср. исследование видного христианского персоналиста:
J. М. Domenach. Le retour du tragique. Paris, 1967.
136
С. Л. Фокин
требует соответствующих творческих форм —
абсурдного художественного произведения, абсурд¬
ного романа.
Впервые мысль об абсурдном романе возникает
у Камю в эссе о Кафке. В заметке, предпосланной
публикации эссе в журнале «Арбалет», он писал: «Ни¬
жеследующие страницы были частью уже появив¬
шегося произведения, в котором трактовалось по¬
нятие абсурда. В этом произведении посредством
критики нескольких тем экзистенциальной филосо¬
фии определялась абсурдная мысль, то есть мысль,
освобожденная от метафизической надежды. Кроме
того, ставился вопрос: можно ли в плане творче¬
ства вообразить по-настоящему абсурдное произведе¬
ние? Глава о Кафке служила ответом на этот вопрос»
(II, 1415). Постулируя абсурд как ясное, лишенное
всякой метафизической надежды видение мира, Камю
не без сожаления констатирует, что творчество Каф¬
ки нельзя считать поистине абсурдным: оно вдохнов¬
ляется религиозной устремленностью.
В «Мифе о Сизифе» Камю, размышляя о возмож¬
ности создания абсурдного романа, подходит с мер¬
кой абсурда к творчеству Достоевского. Е. П. Куш-
кин замечает, что автору «Мифа о Сизифе» «несмотря
на всю остроту ума и гибкость его концепции абсур¬
да, оказалось трудно уместить Достоевского в рам¬
ки абсурдизма».1 Достоевский в глазах Камю —
не абсурдный романист, а «романист экзистенциаль¬
ный»: он также совершает метафизический перево¬
рот. «Ответ Достоевского, — заключает Камю, —
1 Е. Г1. Кушкин. Альбер Камю, с. 76.
2.«Посторонний» как произведение..
137
смирение, “стыд”, как говорит Ставрогин. Напро¬
тив, абсурдное произведение не дает ответа, и в этом
вся разница» (II, 187).
Абсурдное произведение, согласно представлени¬
ям автора «Мифа о Сизифе», это произведение, сво¬
бодное от стремления к утверждению сверхсмысла.
Абсурдное сознание, не презирающее разум, но зна¬
ющее его границы, воплощается в произведении, не
объясняющем, а лишь воспроизводящем мир. Мир
иррационален, непостижим, и абсурдное произве¬
дение имитирует бессмыслицу мира. «Абсурдное
произведение, — замечает Камю, — иллюстрирует
отказ мышления от своего авторитета, оно иллю¬
стрирует его согласие быть лишь сознанием, вос¬
производящим внешний облик мира, сознанием, об¬
лачающим в образы то, что лишено разумности. Если
бы мир был ясен, не было бы и искусства» (II, 177).
Для абсурдного сознания всякое объяснение мира
является напрасным — мир в силу своей нечеловече¬
ской самобытности ускользает от нас, отвергает —
становясь самим собой — навязываемые ему образы
и схемы человеческого мышления. Абсурдное созна¬
ние, по определению, противостоит миру — оно
может лишь испытывать на себе и отражать безраз¬
личие, безучастность мира к человеку. В творчестве
абсурдное сознание ограничивается тем, что пыта¬
ется описать посторонний ему мир, отрешенно ими¬
тировать его обессмысленность. «Творчество — ве¬
ликий мим», — выводит Камю основополагающую
формулу эстетики абсурда (II, 174).
В какой мере эта формула могла быть практиче¬
ской установкой Камю-романиста в его работе над
138
С. JI. Фокин
«Посторожим»? Однозначно ответить трудно, одна¬
ко серьезный интерес к вопросам эстетики абсурда,
проявившийся и в «Мифе о Сизифе», и в литературно¬
критических работах начала 40-х годов, о которых
мы будем говорить ниже, свидетельствует о том, что
проблема отображения абсурда в художественном
произведении, в частности в романе, занимала твор¬
ческое сознание Камю, и это не могло не отразиться
в «Постороннем». Роман, опирающийся на философ¬
скую концепцию абсурда, обязан быть абсурдным
романом — иначе будет ясно, что абсурд не прини¬
мается всерьез. Романист, отвергающий эстетичес¬
кие правила абсурда, оказывается непоследова¬
тельным.
Стремление следовать логике абсурда, соблюдать
правила абсурдной эстетики оборачивалось творче¬
ским экспериментом. В беседе с одним из критиков
Камю признавался, что в работе над «Посторонним»
ему долгое время не удавалось найти эстетического
принципа организации романа, того повествователь¬
ного приема, который сам он остроумно назвал «трю¬
ком»: «Как только я нашел трюк, мне осталось лишь
написать книгу».1 Сходная мысль была высказана пи¬
сателем в его последнем публичном выступлении
14 декабря 1959 года во Французском Институте. По
его словам, «Посторонний» «пошел лишь после того,
когда была подобрана соответствующая техни¬
ка».2 Эти высказывания наглядно свидетельствуют
1 Цит. по: Л. Noyer-Weidner. Structure et sens de L’Étranger. —
Albert Camus 1980, p. 72.
2 H. R. Lottman. Op. cit., p. 667—668.
2.«Посторонний» как произведение...
139
о повышенной роли эксперимента, осознанного
творческого приема в поэтике Камю.
По отношению к философской концепции абсур¬
да «трюк» призван был, по-видимому, воссоздать аб¬
сурдную триаду в том ее виде, в каком она была опре¬
делена в «Мифе о Сизифе» — человек, наделенный
ясным сознанием, неразумный мир и связывающий
их абсурд. При этом абсурд сосредоточивался в че¬
ловеческом сознании, то есть в центре романа
оказывалось сознание человека, его самосознание
и осознание им мира. Естественным образом Камю
приходил к форме повествования «от первого лица»,
и героем произведения становилось слово абсурдно¬
го человека о себе и о мире.
Но как воссоздать такое слово? Проблема эта се¬
рьезно волновала автора «Постороннего». В конце
1938 года в «Записных книжках» появляется запись,
ставшая знаменитым зачином «Постороннего»: «Се¬
годня умерла мама...» (С1, 129). Однако писатель не
сразу решает, что сознание героя может быть само¬
достаточной формой романного повествования, ему
кажется, что следует объяснить «странность» своего
героя. Весной 1940 года, когда роман в основном
был завершен, Камю собирается дополнить рассказ
Мерсо: «Сделать систему комментирующих примеча¬
ний (или предисловие, в котором все разъясняется)»
(С1, 209). Неизвестно, что заставило романиста отка¬
заться от этого замысла, но лишь в самом конце рабо¬
ты над своим произведением он убедился в самоцен¬
ности того видения мира, которым он наделил Мерсо.
Разъясняющее предисловие или авторские («изда¬
тельские», как в «Тошноте») примечания, комменти¬
140
С. Л. Фокин
рующие неясные места, вводя в произведение точ¬
ку зрения автора, поставили бы его перед необхо¬
димостью как-то обосновать литературный статус
основного текста романа: слово Мерсо о себе и мире
оказалось бы или дневником, который вел этот мел¬
кий конторский клерк, или предсмертными запис¬
ками осужденного преступника, ожидающего в ка¬
мере своей участи и на пороге смерти пытающегося
вспомнить случившееся с ним. Оба варианта офор¬
мления повествования явно противоречили эстети¬
ке абсурда.1
Ведение дневника само по себе подразумевает
веру в наличие какого-то смысла, оправдывающего
хотя бы акт «писательства». В «Тошноте» Рокантен де¬
лает свои записи в надежде «облечь в слова» внушаю¬
щее ему тревогу переживание. Он испытывает облег¬
чение, отдаваясь писательству, более того, в конце
концов он обретает в нем смысл существования:
решение писать роман должно избавить Рокантена
от открытой им случайности, абсурдности жизни.
Однако «письменная» максима «Я пишу, следователь¬
но, я существую», не устраивала Камю. Он заставля¬
ет своего героя погрузиться в абсурд до самого пре¬
дела. Абсурдное сознание, отвергающее любые
надежды, не поддается искушению избежать абсур¬
да, разрушить абсурдную триаду. Мерсо, сознающий
1 Проблема формы повествования — одна из самых дискус¬
сионных в обильной литературе о «Постороннем». См., напр.:
В. T. Fitch. Narrateur et narration dans l’Etranger d’Albert Camus.
Paris, 1964; M. G. Barrier. L’Art du récit dans l’Etranger d’Albert
Camus. Paris, 1966; P.-L. Rey. Camus, L’Etranger. Analyse critique.
Paris, 1970; B. PingaucL L’Etranger de Camus. Paris, 1971.
2.«Посторонний» как произведение...
141
обессмыспенносгь мира, не испытывает потребности
облечь ее в слова: в свободное время вместо «писа¬
тельства» он вырезает из старых газет рекламу.
Записки приговоренного к казни как повество¬
вательная форма абсурдного романа также не со¬
ответствовала эстетике абсурда. Желание все вспом¬
нить, рассказать, как все было на самом деле, уяснить
себе или возможным читателям подлинную причину
случившегося подразумевает скрытое или явное
стремление к самооправданию, в основе которого
лежат понятия вины, греха. Но абсурдный человек
чувствует себя «неисправимо невинным». Вгладыва-
нье в себя не способно его увлечь. Внутри Мерсо
лишь тревожная пустота, и напряженный взгляд его
направлен на неразумность мира. При этом пове¬
ствование от первого лица, традиционно связанное
с жанрами психологической прозы, приобретает «ан-
типсихологический» характер: субъективность по¬
вествователя, лишенного глубинных душевных пе¬
реживаний, выливается в предельно объективное, то
есть свободное от индивидуально-личностных ха¬
рактеристик мировидение. Посторонний становит¬
ся сторонним наблюдателем мира. По точному опре¬
делению самого Камю, «Посторонний» «под видом
повествования от первого лица является опытом
объективности и отрешенности, на что, впрочем, ука¬
зывает и название романа» (И, 758).
Как мы видим, эстетика абсурда, опирающаяся на
мировоззренческую концепцию, одним из основных
понятий которой является «невиновность» человека,
также требовала «антипсихологических» художествен¬
ных форм. Однако в работе над «Посторонним» Камю
142
С. Л. Фокин
требовалось не просто отбросить традиционную пси¬
хологию, но и художественно воплотить «антипсихо-
логическое» видение мира.
Для этого автор «Постороннего» мог использо¬
вать феноменологию Э. Гуссерля. В «Мифе о Сизифе»
Камю, определяя собственную мировоззренческую
позицию, отвергал феноменологию, усматривая в ней
«все тот же скачок», правда, не прямо к Богу, а в «об¬
ласть вечного Разума» (II, 132). Однако сам метод
феноменологии Гуссерля, утверждающего сверх-
реальносгь, которая задает рациональные основания
познаваемого объекта, совпадал в глазах Камю с сущ¬
ностью абсурдного подхода (II, 130).
Идеи Гуссерля получили распространение во
Франции в середине 30-х годов, причем одним из
первых популяризаторов феноменологии стал мо¬
лодой Ж.-П. Сартр. С. де Бовуар вспоминает, с ка¬
ким восхищением будущий автор «Тошноты» слушал
Р. Арона, приобщавшего своего товарища к новым
философским веяниям: «Арон показал на стакан:
«Видишь, мой маленький друг, если ты феномено¬
лог, ты можешь говорить об этом коктейле, и это
уже будет философия!» Сартр побледнел от вол¬
нения».1 В короткой блестящей статье, появившей¬
ся в январском номере «Нувель Ревю Франсез» за
1939 год, Сартр в нескольких точных формулиров¬
ках излагал основную идею гуссерлевской концеп¬
ции — интенциональность сознания.2 По Гуссерлю,
1 S. de Beauvoir. La force de l’âge. Paris, 1960, p. 141.
2 J.-P. Sartre. Une idée fondamentale de la phénoménologie de
Husserl: Tintentionnalité. — Situations 1, Paris, 1947, p. 31—35.
2.«Посторонний» как произведение...
143
сознание должно отрешиться от всех культурных,
психологических, моральных установок: сознание
должно быть «чистым», пустым. Только в таком со¬
стоянии «наивной», незамутненной первозданности
сознание, будучи направленным на мир, обеспечива¬
ет доступ к несомненным, самоочевидным истинам
мира. «Чистое» сознание как бы заново видит откры¬
вающиеся ему феномены мира. При этом все они —
от стакана с коктейлем и лепестка розы до любви
и законов тяготения — являют себя во всей своей
самоценности.
По Камю, феноменология примыкает к абсурд¬
ному мышлению своим отказом объяснять мир. «Мыс¬
лить, — пишет он, определяя сущность феномено¬
логического метода, — значит научиться заново
смотреть, направлять свое сознание, не упуская из
виду самоценности каждого образа... Вечерний ве¬
терок, рука на моем плече — у каждой вещи своя
истина. Сознание не формирует познаваемый объект,
оно лишь фиксирует его, будучи актом внимания»
(II, 129-130). Как мы видим, метод феноменоло¬
гического описания с его «антипсихологизмом» й от¬
решенной дескриптивностью вполне соответство¬
вал эстетике абсурда, призванной беспристрастно
отобразить чарующее многообразие безучастного
к человеку мира.
В «Постороннем» сознание Мерсо — это прежде
всего сознание чего-то иного, другого, сознание не¬
человеческой реальности мира. В его отрешенном
взгляде вещи являются в своей естественной «само¬
сти». Вот Мерсо входит в морг: «Вхожу. Внутри очень
светло, стены выбелены известкой, крыша стеклян¬
144
С. Л. Фокин
ная. Обстановка — стулья да деревянные козлы.
Посередине, на таких же козлах, закрытый гроб.
Доски выкрашены коричневой краской, на крышке
выделяются блестящие винты, они еще до конца не
ввинчены» (I, 1129).1 В этом описании, согласно пра¬
вилам феноменологической редукции, личные пере¬
живания созерцателя вынесены за скобки. Он вгля¬
дывается в окружающие предметы с равнодушной
сосредоточенностью, обнаруживающей бездушную
самостоятельность вещей. Само человеческое при¬
сутствие сведено здесь к чистому, ясному взору,
к пустому сознанию абсолютной самодостаточности
материальных феноменов. Можно привести еще один
характерный «натюрморт» из «Постороннего», с фо¬
тографической точностью воссоздающий убогое
жилище Мерсо: «Я живу теперь только в этой комна¬
те, среди соломенных стульев, уже немного продав¬
ленных, шкафа с пожелтевшим зеркалом, туалетно¬
го столика и кровати с медными прутьями» (I, 1139).
Вещи запечатлены без малейших оттенков метафо¬
ричности, опирающейся на возможности человече¬
ского воображения и, следовательно, способствую¬
щей привнесению человеческого смысла в то, что
его лишено. Они просто существуют, высвеченные
«волшебным фонарем» направленного на них «по¬
стороннего» сознания.
Однако кажущееся равнодушие вещей скрывает
глубинную чуждость мира человеку. Безучастно вгля¬
1 Выдержки из «Постороннего» и других художественных
произведений Камю приводятся по переводам Н. Галь, Н. Жар¬
ковой и Н. Немчиновой (А Камю. Избранное. М., 1989). Ссылки
сохраняются по французским источникам.
2.«Посторонний» как произведение..
145
дываясь в мир, сознание свидетельствует, что при¬
рода, обыкновенный камень или прекрасный пейзаж
с враждебной силой отрицают человека. «В глубине
всякой красоты, — замечал Камю в «Мифе о Сизи¬
фе», —г- таится что-то нечеловеческое, и эти холмы,
нежная прохлада неба, эти кроны деревьев в одну
минуту могут отбросить иллюзорный смысл, кото¬
рым мы их покрывали, становясь более далекими,
чем потерянный рай» (II, 107-108).
Грозное безразличие вечного мира, неизбывная
мощь природы, отрицающей бренного человека,
представлены в «Постороннем» в образе всевластно¬
го (по абсурдной прихоти благосклонного или губи¬
тельного) солнца.1 Опустошенное сознание Мерсо
как слепящее зеркало отражает его немилосердные
огненные лучи. Вот Мерсо следует в похоронной
процессии: «Вокруг сверкала и захлебывалась солн¬
цем все та же однообразная равнина. Небо слепило
нестерпимо... Солнце расплавило гудрон. Ноги вяз¬
ли в нем и оставляли раны в его сверкающей плоти.
Клеенчатый цилиндр возницы маячил над катафал¬
ком, словно тоже слепленный из этой черной смо¬
лы. Я почувствовал себя затерянным между белесой,
выгоревшей синевой неба и навязчивой чернотой
вокруг: липко чернел разверзшийся гудрон, тускло
чернела наша одежда, черным лаком блестел ката¬
фалк» (I, 1136). Абсурдное противостояние Мерсо
и мира заканчивается трагически: его попытка
1 Cp.: R Champigni. Sur un héros païen. Etude sur L’Étranger
d’Albert Camus. Paris, 1959; R Andrianne. Soleil, ciel et lumière
dans L’Étranger. — «Revue Romane», 1972, № 7, p. 161—176.
146
С. Л. Фокин
освободиться от чарующей власти небесной стихии
приводит к убийству. Солнце с легкостью одержи¬
вает верх: «Солнце жгло мне щеки, на брови капля¬
ми стекал пот. Вот так же солнце жгло, когда я хо¬
ронил маму, и, как в тот день, мучительней всего
ломило лоб и стучало в висках. Я не мог больше
выдержать и подался вперед. Я знал: это глупо, я не
избавлюсь от солнца, если сдвинусь на один только
шаг... Я ничего не различал за плотной пеленой соли
и слез. И ничего больше не чувствовал, только в лоб,
как в бубен, било солнце, да огненный меч, возник¬
ший из стального лезвия, маячил передо мной... Мне
почудилось — небо разверзлось во всю ширь и хлы¬
нул огненный дождь. Все во мне напряглось, пальцы
стиснули револьвер. Выпуклость рукоятки была глад¬
кая, отполированная, спусковой крючок поддался —
и тут-то сухим, но оглушительным треском, все и на¬
чалось» (I, 1168). Как говорит, определяя сущность
опустошенности человеческого сознания, Гуссерль:
«Человек с неистовством выброшен из самого
себя», — внутри у человека ничего нет, Бог, быв¬
ший там когда-то, умер, моральный закон исчез.
Уточняя положения эстетики абсурда, задача ко¬
торой, по Камю, сводилась к отображению «вечно
девственного пейзажа феноменов», и таким обра¬
зом оказывалась связанной с призывом Гуссерля
«Назад к самим предметам», утверждавшим своего
рода «реализм» сознания, напряженно направленно¬
го на вещь, на материальный мир, следует отметить
то обстоятельство, что вопрос автора «Мифа о Сизи¬
фе»: «Возможно ли абсурдное произведение искус¬
ства?» — в его эссе не получал ясного ответа.
2.«ПосторонншЬ> как произведение..
147
Однако в 1942 году, едва только «Посторонний»
и «Миф о Сизифе» были выпущены издательством
«Галлимар», в руки Камю попала книга, содержав¬
шая такой ответ, — парадоксальным образом она
примыкала к выводам его эстетических размышле¬
ний, отмечала своеобразный рубеж абсурдной эсте¬
тики, показывала крайнюю границу абсурда в худо¬
жественном воссоздания бытия, переступив которую
уверовавший в бессмысленность мира человек дол¬
жен замолчать, уподобиться безмолвному минералу.
Речь идет о сборнике миниатюр, наполовину сти¬
хотворений в прозе, наполовину поэтических меди¬
таций, с характерным названием «Приняв сторону
вещей» (1942).
Автором сборника был Ф. Понж, немолодой уже
поэт, предпочитавший, правда, называть себя «худож¬
ником в прозе». Он начал свою творческую деятель¬
ность в русле сюрреалистического движения ((Две¬
надцать маленьких сочинений», 1926), затем пришел
к обескураживающему открытию о «неверности
языка» физическому миру и надолго замолчал, став
скромным издательским работником, но на досуге
продолжал упорно подбирать каждой вещи ее един¬
ственное имя. Появление его второй книги вызвало
поначалу легкое замешательство — так не ко вре¬
мени казались тогда медитации о способностях язы¬
ка к именованию вещей, — но затем последовал
неиссякающий до сих пор поток комментариев,
который открыла большая статья Сартра «Человек
и вещи» (1944). Ф. Понж, познакомившийся с «Ми¬
фом о Сизифе» еще в рукописи, был поражен близо¬
стью отдельных положений концепции абсурда к его
148
С. JI. Фокин
собственному миропониманию. Личное знакомство
писателей еще более укрепило их духовное родство.
Камю, внимательно проштудировавший «Приняв сто¬
рону вещей», уже в начале 1943 года написал Понжу
длинное письмо-толкование этого произведения,
опубликованное в 1956 году — в самый разгар дискус¬
сий вокруг «нового романа», в ходе которых книга
Понжа неоднократно объявлялась предтечей «анти¬
гуманистического», «предметного» видения мира, во¬
площенного в произведениях «новых романистов».1
Понж был настоящим «мучеником» языка. Со¬
гласно его мысли, признание абсурдности мира, то
есть его непримиримости с человеческим разумом,
заставляет усомниться, в первую очередь, в самих
средствах образования человеческого смысла, в язы¬
ке как способе выражения смысла, в соответствии
слов обозначаемым вещам. В своих заметках о «Мифе
о Сизифе», вошедших в следующую его книгу «Про-
эмы» (1948), Понж с сожалением писал, что Камю
практически не затронул одну из важнейших тем
абсурда — «тему невозможности человека не только
выражать себя в слове, но и вообще что-либо выра¬
жать».2 Осознав «неверность» способов выражения,
человек, желая остаться честным, обязан замолчать,
ибо каждое произносимое им слово «неверно», лжи¬
во. Есть ли выход из этой ситуации? Есть, отвечал
Понж. Он состоит в признании относительных воз¬
можностей разума: в некоторой мере, в некоторых
1 La littérature en France depuis 1945. Paris, 1970, p. 418.
2 F. Ponge. Le parti pris des choses, suivi des Proêmes. Paris,
1975, p. 181.
2.«Посторонний» как произведение..
149
мерах разум способен достичь результата в воссоз¬
дании мира, обнаружить относительно точные сред¬
ства выражения. Выход, по мысли Понжа, может быть
во взвешенном, предельно продуманном употребле¬
нии слов, в поиске тончайших лексических различе¬
ний единственного в своем роде именования вещи.
Вот начало одного из «этюдов» из книги «Приняв
сторону вещей», дающее представление о муках «си¬
зифова труда» подлинного пленника сомнительно¬
сти слов: «Галька не является вещью, которую легко
определить. Если довольствоваться простым описа¬
нием, можно сказать для начала, что это форма или
состояние камня между булыжником и щебнем. Но
такое замечание требует, чтобы было определено
само понятие камня...»1 Понж, перебирая всевозмож¬
ные определения, аналогии, по возможности очи¬
щенные от символики и метафорики, стремится пе¬
редать материальную реальность гальки — так, как
если бы она сама могла рассказать о себе, без чело¬
веческого участия. Поэт — наблюдатель, перемеща¬
ясь «на сторону вещей», он дает слово мимозе и све¬
че, бабочке и куску мыла, ломтю хлеба и устрице.
Для Камю книга Понжа оказалась едва ли не един¬
ственным «абсурдным произведением в чистом виде...
произведением, рожденным... на самом пределе фи¬
лософии бессмысленности мира» (II, 1663). Если
смысл мира, рассуждает Камю, используя образы
Понжа, подобно воде текуч и неуловим, если он не¬
изменно ускользает от всякого определения, человек
может лишь пытаться воссоздавать мир в описаниях,
1 1Ы(±, р. 92.
150
С. Л. Фокин
в бесконечных зарисовках одного и того же цветка
или камня, любой вещи, предстающей перед его взо¬
ром. Однако абсурдность мира, то есть его совер¬
шенная безответность на все попытки человека
установить с ним какую-то связь — хотя бы в этих
кропотливых натюрмортах — способна вызвать со
стороны человека соответствующую реакцию: «без¬
различие и тотальное отрицание» (II, 1665). По мыс¬
ли Камю, Понж, благодаря своему настойчивому
поиску «средств выражения», остается на позиции
гуманизма, «человеческого релятивизма»: вставая «на
сторону вещей», он стремится сохранить «свое род¬
ство с миром» (II, 1664).
Более радикальным, непримиримым и оконча¬
тельным выглядит разрыв мира и человека в худо¬
жественном мировоззрении А. Роб-Грийе. «Вещи суть
вещи, а человек есть человек» — так сформулиро¬
вал он одно из главных положений своего эстети¬
ческого кредо.1 В мире существует нечто, что не
является человеком — вещи, предметы, природа, —
что, даже будучи результатом человеческого труда,
обладает неустранимо посторонним, чуждым ему ха¬
рактером, что не имеет с человеком ничего общего.
Вот почему, согласно мысли Роб-Грийе, романист
должен разрушать «антропоцентрическую атмосфе¬
ру», в которой пребывают вещи, его цель — воздать
вещам «вещево», а человеку — человеческое, раз¬
граничить их существование. Любые антропоморф¬
ные аналогии (метафоры, сравнения, символы) не¬
обходимо устранить из описания мира, и только тогда
1 А. КоЬЬе-СгИШ. Роиг ип пошгеаи готап. Рат, 1969, р. 58.
2.«Посторонний» как произведение..
151
мир явится таким «каков он есть». Как мы видим, сле¬
ды эстетики абсурда, разрабатывавшейся Камю в «Ми¬
фе о Сизифе», отчетливо проступают в размышле¬
ниях одного из главных теоретиков и практиков
«нового романа».
В 1958 году в известной статье «Природа, гума¬
низм, трагедия» А. Роб-Грийе с молодым задором
накинулся на находившихся на пике популярности
Камю и Сартра. С профессиональной изощренно¬
стью Роб-Грийе разоблачал мировоззренческий «гу¬
манизм» авторов «Постороннего» и «Тошноты», тра¬
диционный антропоморфизм их художественных
и философских образов, устанавливавших «вообра¬
жаемые связи человека с миром», начало которых,
по его мнению, во всепронизывающей атмосфере
высокомерного «антропоцентризма» — главной пре¬
грады «на пути к новому роману».1 С тех пор робкие
и немногочисленные попытки установить линии
преемственности от «Постороннего» или «Тошно¬
ты» к исканиям «новых романистов» сводились, как
правило, к поверхностным аналогиям и неизменной
констатации разнонаправленное™ художественных
поисков «экзистенциализма» и «нового романа», под¬
креплявшейся обычно ссылками на крайне крити¬
ческую позицию А. Роб-Грийе по отношению к своим
предшественникам.2
Лишь в последнее время ситуация стала менять¬
ся: появляются работы, устанавливающие глубинные
1 Ibid., р. 57.
2 См., напр.: P. de Boisdejrfre. Une préface au «Nouveau roman»:
L’Étranger d’Albert Camus. — P. de Boisdeffre. Où va le roman.
Paris, 1962, p. 165-180.
152
С. JI. Фокин
точки соприкосновения «Постороннего» с «новым
романом» — главным образом, в плане воплощения
феноменологического видения мира. Примером та¬
кого исследования может служить доклад Р. Барилли,
прочитанный в ходе декады в Серези-ля-Саль, посвя¬
щенной творчеству Камю.1 Любопытно и несколько
запоздавшее «признание» самого Роб-Грийе в его не¬
обыкновенно эмоциональном отклике на доклад Ба¬
рилли: «Когда я осыпал упреками “Тошноту” и “По¬
стороннего” в статье в “Н. Р. Ф.”... да еще с такой
страстностью, то происходило это потому, что я ви¬
дел в них не просто родителей, из-под отеческой
опеки которых мне не терпелось освободиться, но
и самого себя; любой писатель знает цепочку своих
предшественников, которая образует его личность;
Флобер это я, и “Посторонний” это тоже я...»2
В художественных исканиях А. Роб-Грийе абсурд¬
ная эстетика нашла законченное воплощение. Камю
писал в «Мифе о Сизифе»: «Описание — таково по¬
следнее притязание абсурдного мышления» (И, 174).
Словно задавшись целью с предельной тщательнос¬
тью исполнить это притязание, А. Роб-Грийе отдает¬
ся в своих произведениях воссозданию абсурдной —
непроницаемой для человеческого разума, отте¬
сняющей всякого рода человеческие «смыслы»,
неумолимо посторонней человеку — реальности ми¬
ра вещей. «Отвергая всякое сообщничество» чело¬
века и мира, расторгая их трудный союз, Роб-Грийе,
1 К Barilli. Camus et le Nouveau roman. — Cahiers Albert Ca¬
mus 5, p. 201-214.
2 A. Robbe-Grillet. Monde trop plein, conscience vide. — Cahi¬
ers Albert Camus 5, p. 215.
2.«Посторонний» как произведение..
153
используя бесцветный, нейтральный, избавленный
от всех следов эмоциональности язык, стремится
передать мир в его бесчеловеческой очевидности.
В отличие от Понжа, который, встав «на сторону
вещей», посредством упорных поисков «средств вы¬
ражения» обнаруживал неустранимое родство чело¬
века с миром, Роб-Грийе в своих феноменологичес¬
ких описаниях вскрывал между ними непреодолимую
преграду.
Эти своеобразные преломления абсурдной эсте¬
тики в творчестве Понжа и «новом романе» А. Роб-
Грийе позволяют нам уяснить одно важное обстоя¬
тельство: несмотря на то, что абсурдная эстетика
с ее основополагающим принципом отрешенной де-
скриптивности оказала заметное воздействие на
творческое сознание Камю в его работе над «Посто¬
ронним», полностью ее правилам роман Камю не отве¬
чает. Вопреки теоретическим выкладкам романиста,
вопреки устремлениям философской и эстетичес¬
кой мысли автора «Мифа о Сизифе» его роман остал¬
ся романом и не стал абсурдным произведением, бес¬
страстно отображающим абсурдность мира.
Чтобы уточнить существенное отличие «Посто¬
роннего» от «нового романа» Роб-Грийе, мы можем
воспользоваться идеями М. М. Бахтина о диалогизме
романа. Повествование Роб-Грийе, отказываясь по¬
стулировать существование человеческого смысла,
ограничиваясь «объективным» воспроизведением не¬
человеческой действительности, обречено на «мо-
нологичносгь». Оно не бессмысленно, а внутренне
«односмысленно»: согласно требованиям абсурдной
эстетики, в нем «конкретное ничего не обозначает,
154
С. JI. Фокин
кроме самого себя» (II, 176). Следует, однако, отме¬
тить, что, оставаясь внутренне «монологичным» про¬
изведением, «новый роман» А. Роб-Грийе вступает
в диалогические отношения с оспаривающимися им
«смыслами»: эстетическими, метафизическими, поли¬
тическими — все они в глазах «нового романиста»
отмечены мертвящей печатью вырождающегося язы¬
ка человеческих «идеологий», бесцеремонно овла¬
девших сознанием человека, властно навязавших ему
готовые правила, понятия, слова, авторитарную исти¬
ну.1 «Посторонний», напротив, внутренне диалоги¬
чен: спор с идеологиями идет внутри романа, кото¬
рый — несмотря на внешнюю монологичность —
наполнен разноголосием. В столкновении разных
голосов, пытающихся сказать «свою правду» о Мер-
со, в борьбе между ними, выявляющей нелепость
поспешных попыток «законников» дать завершенный,
«идеологизированный» образ человека, оказавшего¬
ся преступником, наконец, в слове самого Мерсо,
своей наивной отстраненностью оттеняющем идео¬
логическую предвзятость официальных трактовок
его дела, абсурдно несовпадающем с ними, проявля¬
ется внутренний диалогизм романа KaMiô.
В суде дело Мерсо превращается в трагический
фарс. Трагичность заключается в том, что реальные
обстоятельства случившегося и реальные черты обли¬
ка Мерсо неудержимо вытесняются «идеологически¬
ми трактовками». Близкие Мерсо люди беспомощны:
1 Все творчество А. Роб-Грийе, по его собственному призна¬
нию, направлено против этого «идеологического бремени». Дог¬
матизм — это непоколебимое в своей правоте рассуждение»
(.А. Kobbe-Grillet. Le miroir qui revient. Paris, 1984, p. 65).
2.«Посторонний» как произведение..
155
их показания не соответствуют тому образу «вырод¬
ка без стыда и совести», который уже сложился в
умах «законников». «Селеста спросили, какого он обо
мне мнения, и он ответил, что я — человек. А как
это понимать? Всякий понимает, что это значит, зая¬
вил Селест» (I, 1191). Рассказ Мари ловкой логикой
прокурорских вопросов оказался даже среди отяг¬
чающих обстоятельств дела. «И вдруг Мари громко
зарыдала и стала говорить — это все неправда, было
совсем по-другому, и ее заставили говорить не то,
что она думает, а она меня хорошо знает, и я ничего
плохого не делал» (I, 1192). Адвокат имел все осно¬
вания для того, чтобы воскликнуть в минуту очеред¬
ного замешательства перед неустранимой двойствен¬
ностью происходящего в зале суда: «Вот он каков,
этот процесс! Все правильно, и все вывернуто на¬
изнанку» (I, 1190).
В речи прокурора неумолимый абсурд процесса
достигает губительного для человека абсолюта. Со¬
крушительная непреложность доводов, непоколеби¬
мая уверенность в истинности своих суждений,
стремление представить предельно связный, закон¬
ченный, завершенный образ обвиняемого как зако¬
ренелого преступника — несмотря на имеющиеся
несоответствия — предопределяются не только са¬
модовлеющим механизмом процессуально-юрис-
пруденческих установлений (обвинитель должен
обвинять), но и абсолютной идеологической непри¬
миримостью к оказавшемуся на скамье подсудимых.
Преступление Мерсо из уголовного превращается
в мировоззренческое, в метафизическое. Такому че¬
ловеку «нет места в обществе», ибо он покушается
156
С. У/. Фокин
на его устои самим фактом своего существования.
Тревожная опустошенность Мерсо, его отказ лгать,
приукрашивать свои истинные переживания, прини¬
мать установленные раз и навсегда правила «игры»
общества делают его опасным изгоем, чужаком, от
которого следует немедленно избавиться. Из-за сво¬
ей преступной невинности, отрицающей обществен¬
ную идеологию, он загодя виновен во всех возмож¬
ных преступлениях. Прокурор доходит в своей речи
до утверждения, что гнусное отцеубийство, кото¬
рое вскоре будет рассматривать суд, ужасает его
меньше, чем душа этого человека, лишенная пони¬
мания греха и раскаяния.
На фоне этого убедительного портрета преступ¬
ника его собственные слова о причинах трагедии
кажутся едва ли не насмешкой над блюстителями
закона: «Я поднялся — говорить мне хотелось, —
и я сказал (правда, немного бессвязно), что вовсе не
собирался убивать того араба... Понимая, что это
звучит нелепо, я наскоро и довольно сбивчиво объяс¬
нил: все вышло из-за солнца. В зале раздались смеш¬
ки» (I, 1198). Подобное объяснение не может удов¬
летворить законников, исповедующих идеологию
всеобщей вины и изначальной виновности человека:
безгрешная простота, наивное простодушие Мер¬
со, его обреченное противостояние губительной
враждебности абсурдного мира, трагически раз¬
решившееся роковым — в античном смысле —
вмешательством солнца, принадлежат совсем иной
идеологической системе. Но именно инакомыслие
и есть тот самый смертный грех, что подлежит не
исправлению, а искоренению. Официальная трактов¬
2.«Посторонний» как произведение..
157
ка «дела Мерсо» торжествует: человек, «не запла¬
кавший на похоронах матери», заслуживает казни.
«Вывод, — писал Камю, комментируя для себя свой
роман, — общество нуждается в людях, которые пла¬
чут на похоронах матери; или: человека всегда осуж¬
дают не за то преступление. Впрочем, я вижу еще
десяток возможных выводов» (С2, 30).
В основе философско-эстетической концепции
«гТостороннего» ведущее место занимает идея абсур¬
да. В мировоззренческом плане она означает отри¬
цание сверхличностных ценностей бытия, трансцен-
денции, Бога. В этом смысле идею абсурда можно
связать с нигилистической философией. Камю
подчеркивал, что Мерсо в «Постороннем» является
«отрицательным образом — то есть образом, отри¬
цающим принятые обществом установления, вскры¬
вающим их нечеловеческую, абсурдную формаль¬
ность. Это своего рода «чистый человек» (С2, 31),
вставший на тернистый путь «святости отрицания»
(С2, 31). Определяя направленность образа Мерсо,
Камю отмечал, что он «движим страстью к абсолюту
и истин©> (I, 1928), подчеркивая при этом: «Речь идет
пока об истине негативной, истине быть и чувство¬
вать, но без нее никакая победа над собой и миром
просто невозможна» (I, 1928). Важно, что это «отри¬
цание» — как исходная мировоззренческая пози¬
ция— было осознанным выбором мыслителя, во¬
площенным в образе Мерсо. «Посторонний», поверяя
своим негативизмом устоявшиеся ценности бытия,
являлся наряду с «Мифом о Сизифе», по определе¬
нию Камю, «нулевой точкой» его мысли. «“Чума” —
это прогресс, — записывает писатель в дневнике
158
С. Л. Фокин
летом 1924 года, приступая к работе над вторым
романом, — но не от нуля к бесконечности, а к бо¬
лее глубокой сложности — ее еще предстоит опре¬
делить» (С2, 31).
Эстетика абсурда также была отмечена печатью
негативизма. Абсурдное произведение, лишенное
устремленности к утверждению некоего сверхсмыс¬
ла, было призвано имитировать бессмысленность
мира, оно не объясняло реальность, а лишь пыта¬
лось воспроизвести ее. Но установка на отрешен¬
ное от всех смыслов описание неизбежно приводи¬
ла к отказу от творчества. Это был тупик, и Камю
это сознавал. В письме к Гренье, откликаясь на статью
учителя о «Постороннем», он писал: «Я прекрасно
вижу, что абсурдная мысль (даже в эстетике) ведет
в тупик. Но можно ли жить в тупике — вот в чем
проблема» (СС, 89).
Поэтика «Постороннего» в определенной степе¬
ни опиралась на эстетику абсурда, и роман Камю
имел некоторые черты абсурдного романа. Антихри¬
стианская концепция «невиновности» абсурдного че¬
ловека нашла художественное воплощение в «Посто¬
роннем» в «антипсихологическом» повествовании
романа, теоретическим фундаментом которого была
феноменология.
Однако «Посторонний» оказался не только абсурд¬
ным романом, но и романом об абсурде. Вопреки
теоретическим выкладкам автора «Мифа о Сизифе»
роман не только отображал абсурд, но и отрицал
его — главным образом, в социальной сфере бытия.
Эта острая антисоциальная направленность «По¬
стороннего», воплотившая в крайне сатирических
2.«Посторопний» как произведение...
159
образах служителей закона, также являлась след¬
ствием философской концепции абсурда: выдвигая
идею «безгрешности» человека, Камю освобождал его
от зла, злом оказывалось все противостоящее чело¬
веку. Умозрительность подобной расстановки основ¬
ных героев мировоззренческого конфликта очевид¬
на. Это была идея, которая требовала глубокой
пррверки жизнью.
глава 3
«ЧУМА» И КОНЦЕПЦИЯ
«НОВОГО КЛАССИЦИЗМА»
в эстетике Камю
Камю относится к художникам, творческому созна¬
нию которых свойственна высокая степень взаимо¬
обусловленности логическо-понятийного и художе-
ственно-образного начал мышления. Напомним, что
по определению П. Валери, «классик — это писатель,
несущий в самом себе критика и интимно приобщаю¬
щий его к своим работам».1 Процесс критического
осмысления собственного творчества, неотрывно
сопровождавший художественные и эстетические
искания Камю, стал особенно интенсивным после за¬
вершения работы над циклом «абсурда» и появления
в начале 40-х годов его произведений во Франции.
Выход в свет «Постороннего» и «Мифа о Сизифе»,
широко и разнообразно отмеченный французской
1 /7. Валери. Об искусстве. М., 1976, с. 441.
3. « Чума» и концепция «нового классицизма»..
161
критикой, стал действенным импульсом к теорети¬
ческому обоснованию писателем своей творческой
позиции. Он испытывает настоятельную потребность
глубже осмыслить завершенные произведения, до¬
полнительно растолковать свои философские, эсте¬
тические и художественные идеи, защитить их в свете
определенных исторических и культурных обстоя¬
тельств. Отклики критиков на его произведения так¬
же становились своеобразным толчком к аналити¬
ческому самоопределению, поскольку в них писатель
нередко усматривал искажение собственной мысли,
произвольные и поверхностные перетолкования под¬
линного смысла своих идей.
1. «ПОСТОРОННИЙ» В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ЕМУ КРИТИКИ И РЕАКЦИЯ НА НЕЕ КАМЮ
Успех «Постороннего» был ошеломляющим. Еще
до публикации роман получил самые высокие оценки
ряда крупных писателей Франции. При посред¬
ничестве П. Пиа и Ж. Гренье рукописи «Посторон¬
него», «Мифа о Сизифе» и «Калигулы» оказались в
руках А. Мальро, Г. Марселя, Ф. Понжа, затем в ре¬
дакции «Нувель Ревю Франсез» и издательстве «Гал-
лимар».
Мальро после побега из немецкого плена жил на
одной из вилл Лазурного Берега. По воспоминани¬
ям Ж. Клоти, день знакомства с «Посторонним» был
отмечен глубоким воодушевлением автора «Удела че¬
ловеческого», осмыслявшего в ту пору горькие уро¬
ки поражения: «Однажды утром почтальон принес
162
С. Л. Фокин
рукопись. Это был “Посторонний” Камю, молодого
человека, поставившего несколько лет назад в Ал¬
жире “Время презрения”. Андре тотчас же ушел ее
читать. Вернувшись, он оживленно и поспешно спро¬
сил: “Кто пойдет на почту?” Рукопись он послал Гас¬
тону Галлимару со своей пометкой “Значительно!”,
а автору отправил очень сердечную телеграмму».1
На заседании редакционного совета издательства
«Галлимар» (Р. Кено, Б. Парэн, Ж. Лемаршан, Б. Гре-
тюизен) Жан Полан, фактически руководивший от¬
бором произведений, сообщил: «Я только что про¬
чел присланную Мальро рукопись, автором которой
является один молодой человек, живущий в Алжире.
Я прочту вам сейчас ее первые строки».2 Мнение
членов совета было единодушным: роман следует не¬
медленно опубликовать.
Одним из первых откликов на роман Камю была
статья ведущего критика «Нувель Ревю Франсез»
М. Арлана, появившаяся в июле 1942 года на страни¬
цах парижского еженедельника «Комедиа». Подобно
выступлению Ж. Полана статья начиналась с перво¬
го абзаца «Постороннего». Рассматривая произве¬
дение Камю, Арлан особое внимание обращал на сре¬
диземноморские истоки мысли писателя: «Возможно,
в концепции чистоты и в презрении к “идеальным”
истинам заключено много иллюзий, причем литера¬
турных иллюзий. Но мысль и позиция Камю принад¬
лежат не только ему, а целому краю, климату: это
1 S. Chantai Le Coeur Battant: Josette Clotis — André Mal¬
raux. Paris, 1976, p. 258.
2 H. R. 'L.ottman. Op. cit., p. 266.
3. «Чум» и концепция «нового классицизма»..
163
мораль и песнь солнца, отчаянное прославление
смертной жизни».1
В рецензии А. Хелла, опубликованной в журнале
«Фонтэн», проницательно указывались главные фи¬
лософские источники «Постороннего» — Шестов,
Киркегор, Кафка, отмечалось влияние «американ¬
ского романа» (в частности, Дос Пассоса) на стили¬
стическую атмосферу произведения Камю. Статья
заканчивалась высокой оценкой: «Камю со своим “По¬
сторонним” поднялся на вершину современного ро¬
мана, он встал на тот путь, что от Мальро и Селина
ведет к Сартру и придает французскому роману но¬
вое содержание и новый стиль».2
В февральском номере журнала «Кайе дю Сюд»
за 1943 год были помещены сразу две работы, посвя¬
щенные выходу «Постороннего». Одна из них под на¬
званием «Объяснение “Постороннего”» принадлежа¬
ла перу Ж.-П. Сартра, к тому времени уже известного
писателя и ярого критика, снискавшего себе славу
острыми статьями о романах Дос Пассоса, Мориа¬
ка, Набокова, Фолкнера. Статья эта, считающаяся
образцовой, с тех пор неоднократно переиздавалась,3
имеются ее переводы на русский язык/' Основные
положения статьи хорошо известны: Сартр первым
1 Ibid., р. 270.
2 Ibid., р. 271.
3 J.-P. Sartre. Situations 1. Paris, 1947, p. 99-121; J.-P. Sartre. L’Ex-
plication de l’Etranger. — Les critiques de notre temps et Camus.
Paris, 1970, p. 41-56.
4 См.: Ж.-//. Сартр. Объяснение «Постороннего». — Называть
вещи своими именами. М., 1986, с. 92-106; Сартр — литератур¬
ный критик. — «Вопросы литературы», 1986, № 9, с. 189-194.
164
С. Л. Фокин
рассмотрел «Постороннего» в свете философских
идей «Мифа о Сизифе», указав при этом на поверх¬
ностное усвоение его автором идей Киркегора,
Хайдеггера, Ясперса; после остроумного замечания
о литературных источниках романа («это Кафка, на¬
писанный Хемингуэем») Сартр обращает внимание
на противоположность духовных устремлений Кафки
и Камю: «Кафка — романист недостижимой транс¬
цендентности... Для Камю, напротив, вся человечес¬
кая драма определяется отсутствием трансцендент¬
ности». Влияние Хемингуэя, на его взгляд, более
ощутимо: те же короткие, рубленые фразы, каждая
из которых, отказываясь продолжать предыдущую,
оказывается своим собственным началом и концом,
однако, как замечает Сартр, трудно говорить д глу¬
боком воздействии техники американского романа
на творческое сознание Камю — скорее, речь идет
об использовании некоторых элементов стиля, отве¬
чавших его замыслу: «Я сомневаюсь, что он восполь¬
зуется ими в следующих своих произведениях»; кср-
нечная оценка романа Камю Сартром выглядела
несколько двусмысленной: «Посторонний», по его
словам, «несмотря на воздействие немецких экзи¬
стенциалистов и американских романистов, в сущ¬
ности, остается очень близким к какой-нибудь фило¬
софской сказке Вольтера».1
Автором другой работы, появившейся вместе со
статьей Сартра, был Жан Гренье. Учитель, словно
искупая свою строгость к ранним творческим опытам
1 J.-P. Sartre. L’Explication de TÉtranger. — Situations 1,
p. 101-102, 112-114, 121.
3. «Чум» ti концепция «новогоклассицизма»..
165
ученика, начинает свой отзыв с краткого обзора
предыдущего этапа творчества Камю, практически
неизвестного французскому читателю. Фактически
Гренье первым представил автора романа, бегло
упомянув некоторые вехи его творческой биогра¬
фии. Отмечая связь «Постороннего» с «Брачным пи¬
ром», воспевавшим средиземноморский пыл жизни,
Гренье подчеркивает привязанность этого жизнелю¬
бия к особым условиям существования алжирцев:
«Здесь собрались люди из разных краев и разного
происхождения, люди без верований, без сожалений
о прошлом, без традиций, люди, летом думающие
лишь о наслаждениях — пусть вульгарных, но чис¬
тых и без всякой задней мысли — о солнце, о море
и о всем том, что опьяняет чувства». В своем анали¬
зе «Постороннего» Гренье обращает внимание на рез¬
кую антисоциальную направленность романа, указы¬
вая вместе с тем на глубинный метафизический
конфликт произведения: «Недостаточно сказать, что
общество невыносимо, сама человеческая жизнь не¬
понятна, и вообще мир абсурден». Но автор «Остро¬
вов» заявляет и о своем категорическом несогласии
с мировоззренческой позицией Камю: «Жизнь аб¬
сурдна, я в этом всегда был убежден, но для того,
чтобы я сознавал эту абсурдность, должен существо¬
вать другой мир, по отношению к которому жизнь аб¬
сурдна».1
Философская концепция абсурда встречала и бо¬
лее резкое неприятие. Ж. Гренье, поистине вдохнов¬
1 /. Grenier. Une œuvre, un homme. — Les critiques de notre
temps et Camus... P. 37, 39—40.
166
С. Л. Фокин
ленный творческим успехом ученика и явно недо¬
оценив ортодоксальности воззрений своих едино¬
мышленников — представителей христианского эк¬
зистенциализма, поспал рукопись «Мифа о Сизифе»
Г. Марселю. Крупнейший религиозный мыслитель, ав¬
тор известного «Метафизического дневника» (1927),
выражавшего идеи богооставленности человека
в мире и утверждавшего спасительные положения
«Метафизики надежды» с ее устремленностью к бла¬
годати, отрицающей тоску и отчаяние, откликнулся
на эссе Камю (большая часть которого, как мы пом¬
ним, была посвящена именно развенчанию «метафи¬
зической надежды») гневной отповедью. «Вы спра¬
шиваете, что мне написал Габриэль Марсель? —
сообщал автор “Мифа о Сизифе” своему наставни¬
ку. — Решительное и раздраженное письмо. Прочи¬
тав половину моего эссе, он спрашивал меня, как
я мог подумать, что он одобрит подобную позицию,
какова вообще была моя цель, когда я представлял
ее на его оценку. Он очень строго осуждал духов¬
ную позицию, заложенную в эссе, и заканчивал свое
письмо объяснением, что моя точка зрения, обуслов¬
ленная слишком беглым чтением книг и неопытно¬
стью, нуждается в исправлении. Поверьте, я ничуть
не преувеличиваю. Несколько лет назад подобное
письмо поставило бы меня в тупик. Теперь оно по¬
буждает меня к раздумьям» (СС, 68-69).
Сходную позицию по отношению к молодому ро¬
манисту занял Ф. Мориак. Когда Ж. Полан стал ре¬
комендовать «Постороннего» на Большую премию
по литературе, утверждая, что роман Камю опреде¬
ленно вписывается в традицию католицизма, ибо его
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..,
167
проблематика имеет явно теологический характер:
«Как могу я любить свою мать (или жену), если не
люблю Бога?», именитый академик резко возражал.
На его взгляд, роман слишком литературен, слиш¬
ком очевидны в нем заимствования из «американ¬
ского романа».1
Появлялись отклики и иного характера. А. Руссо,
видный французский критик и постоянный автор
«Фигаро литтерэр», писал в одном из своих обзоров
в июле 1942 года: «Во Франции, где поэзия выявляет
силы и надежды, роман сохраняет за собой печаль¬
ную привилегию отображения духовной пассивно¬
сти и морального упадка. Очень характерен в этом
отношении “Посторонний” Камю».2 Нетерпимый тон
отзыва вкупе с неверным истолкованием философ¬
ской концепции романа оборачивались серьезным
обвинением против автора, который в трудные годы
оккупации приобретал репутацию «певца» отчаяния
и пессимизма.
Отзыв А. Руссо сильно задел Камю. Ж. Гренье в од¬
ном из писем к нему пытался смягчить резкие выпа¬
ды литературного обозревателя «Фигаро»: «А. Руссо
судит о всех книгах, если они не являются патрио¬
тическими, с моральной и религиозной точки зре¬
ния. То, что он говорит, не ошибка, но его крите¬
рии кажутся мне безмерно ограниченными. А что
он написал бы об “Имморалисте” и многих других
произведениях? Ему не по вкусу смесь отчаяния и пы¬
ла, лежащая в основе цинизма “Постороннего”»
1 Н. К 1лПтап. Ор. ск., р. 300.
2 Цит. по: К Сгетег. А1Ье^ Сатш, р. 97.
168
С. Л. Фокин
(СС, 72). Подобные утешения со стороны наставни¬
ка вряд ли устраивали Камю, тем более, что и в них
проступали явные оттенки непонимания.
В июле — августе 1942 года в ответ на критичес¬
кий отзыв А. Руссо он пишет длинное письмо, в ко¬
тором пытается не только опровергнуть самые не¬
справедливые замечания критика, но и изложить
авторскую философско-эстетическую концепцию
произведения. Письмо это, которое осталось неот¬
правленным и не предназначалось автором для пуб¬
ликации, сохранилось в «Записных книжках». Этот
литературный документ достоин серьезного внима¬
ния, поскольку в нем раскрываются важные момен¬
ты творческой и мировоззренческой позиции писа¬
теля. Приведем несколько характерных выдержек:
«О критике. Три года нужно на то, чтобы создать
книгу и всего пять строк, чтобы выставить ее на
посмешище — да еще и неверными цитатами... Вы
полагаете, что. я занимаюсь реализмом. Но для меня
реализм — слово, лишенное смысла (и “Госпожа
Бовари”, и “Бесы” — реалистические романы, но не
имеют между собой ничего общего). Я об этом во¬
обще не думал. И если попытаться как-то опреде¬
лить то, к чему я стремился, то следует, напротив,
говорить о символе. Вы это и сами почувствовали,
но придаете этому символу смысл, которого у него
нет и, откровенно говоря, безосновательно припи¬
сываете мне довольно странную философию. Ничто
в этой книге не позволяет вам утверждать, что я ве¬
рю в естественного человека, отождествляю чело¬
веческое существо с дикорастущей порослью, что
человеческая природа чужда морали... Ни вы, ни
3. «Чума» и концепция «нового классицизма
169
кто-то другой не может судить о том, полезна или
бесполезна книга для всей нации — в данный мо¬
мент или когда-либо вообще. Во всяком случае я про¬
тестую против такого рода суждений... В настоящее
время я публикую книги, занявшие у меня годы ра¬
боты, единственно потому, что они завершены, и ра¬
ботаю над их продолжением» (С2, 32-34).
В этом автокомментарии следует обратить внима¬
ние на два важных момента. Во-первых, интересно
столкновение «реализма» и «символа» в попытке объяс¬
нить творческий метод автора «Постороннего». Оче¬
видно, для А. Руссо «реализм» означал прежде всего
«натурализм», то есть натуралистичность некото¬
рых эпизодов «Постороннего», причем, конечно, не
в смысле непристойности, а в смысле натуралисти¬
ческой точности описаний, определявшейся, как мы
установили в предыдущей главе, сознательной твор¬
ческой установкой. Камю, со своей стороны, отвер¬
гая «реализм» как определение писательского мето¬
да в «Постороннем», указывал на ведущее значение
в нем «символа», подчеркивал роль символическо¬
го начала в своем творчестве. Важно и то, что «симво¬
лизм» художественного мышления романиста также
был сознательным принципом его поэтики. При этом
преобладание «символического» над «реалистическим»
подтверждается и довольно расплывчатым пред¬
ставлением писателя о содержании самого понятия
«реализм» («слово, лишенное смысла»). Перед нами
едва ли не первое упоминание Камю этого терми¬
на, в сущности, отправная точка для разработки
устойчивых, хотя и очень своеобразных, представле¬
ний автора «Чумы» о реализме, с которыми мы еще
170
С. Л. Фокин
встретимся при анализе других его эстетических
текстов.
Письмо к А. Руссо, написанное сразу после пуб¬
ликации «Постороннего», обращает на себя внима¬
ние и еще одним моментом. Отвечая на упреки
в проповеди пессимизма, Камю пытался указать на
то, что роман был написан до сломившей Францию
трагедии поражения. Появление «Постороннего»
летом 1942 года объяснилось единственно тем, что
к этому времени он был завершен (работа над ро¬
маном закончилась в мае 1940 года). Мировоззрен¬
ческая и политическая позиция писателя отнюдь не
располагали к пессимизму и подавленности, ко¬
торые в трудные годы оккупации легко оборачива¬
лись смирением и безмолвным соглашательством
с врагом. Метафизическая безнадежность, то есть
ясно осознаваемое отсутствие высших ценностей
бытия, лежащая в основе философской концепции
абсурда, способствовала, по мысли Камю, пестова¬
нию особого рода надежды. В письме к П. Боннелю
(март 1943 года) автор «Мифа о Сизифе», разъясняя
мировоззренческо-житейскую перспективу своей
концепции, подчеркивал: «Глубинная мысль этой
книги заключается в том, что метафизический пес¬
симизм отнюдь не означает того, что следует отчаи¬
ваться в человеке — он означает прямо противопо¬
ложное. Обращаясь к конкретному примеру, можно
сказать, что философия абсурда легко увязывается
с определенной политической мыслью, сосредото¬
ченной на человеческом совершенствовании и испо¬
ведующей относительный оптимизм» (II, 1423). В этом
признании писателя (наряду с понятной попыткой
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»...
171
защитить спорные положения своей концепции)
нетрудно усмотреть и принципиально новый ход
мысли: радикальное обесценивание высших ценно¬
стей и связанное с ним провозглашение равнознач¬
ности добра и зла не выдерживают испытания реаль¬
ной жизнью. Ценности необходимы — таков итог
нигилистического этапа развития мысли Камю. В из¬
вестной серии «Писем к немецкому другу», появляв¬
шихся в нелегальной печати Сопротивления в 1943—
1944 годах, Камю, переосмысляя нигилистические
положения абсурда, напишет: «Вы никогда не вери¬
ли в осмысленность бытия и из этого заключили,
будто все равноценно и определение добра и зла со¬
вершенно произвольно... Вы легко соглашались на
отчаяние, а я с ним никогда не мирился... Я продол¬
жаю думать, что высшего смысла в этом мире нет,
но есть в нем нечто — я это знаю, — что все-таки
имеет смысл, и это — человек, ибо он есть един¬
ственное существо, которое его взыскует» (И, 240-
241).1
Одновременно с мировоззренческой эволюцией
писателя, особо стимулированной трудным временем
Оккупации и борьбой французского Сопротивления,
происходило развитие его эстетических представ¬
лений. В том же августе 1942 года, читая философ¬
скую работу Б. Парэна «Эссе о платоновском Лого¬
се», Камю делает важное для всей своей эстетики
40-х годов замечание: «В чем “трагизм” проблемы?
1 О вступлении Камю в подпольную организацию «Комба»,
его политической и публицистической деятельности в Сопротив¬
лении см.: Е. П. Кушкин. Альбер Камю, с. 175-179; H. R. Lott-
тап. Op. cit., р. 272—326.
172
С. Л. Фокин
Если наш язык не имеет смысла, то ничто его не
имеет» £С2, 35). Позднее, продолжая размышлять над
проблемами языка и выражения в нем смысла, Камю
обратится к другой книге Парэна, посвященной этим
вопросам — «Исследования о природе и функциях
языка» (1943). Результатом его размышлений стала
большая статья «О философии выражения», в кото¬
рой Камю, комментируя книги Парэна, последова¬
тельно изложил свои собственные эстетические идеи,
ознаменовавшие преодоление эстетики абсурда.
Следует обратить внимание на то, что отказ от ми¬
ровоззренческого отчаяния, постулирование веры
в человека совмещались в сознании Камю со стрем¬
лением обосновать свою эстетическую позицию: «Со
времени сюрреалистов произошло одно изменение:
вместо того, чтобы перед лицом обессмысленности
мира и языка отдаваться всевозможным свободам,
организованному бреду, автоматическому письму, мы
принуждаем себя к внутренней дисциплине. Из от¬
чаяния ныне извлекают не анархию, а самооблада¬
ние. Тенденция уже не в том, чтобы отрицать разум¬
ные основания языка и, отпустив поводья, отдаваться
внутреннему беспорядку, а в том, чтобы, признавая
за языком относительные возможности выражения,
вернуться — минуя абсурд и чудеса — к традиции.
Иначе говоря (и этот поворот мысли является для
нашего времени важнейшим) из философии обман¬
чивости или кажущейся бессмысленности мира
отныне извлекается не апология инстинкта, а выбор
в пользу разумности. Речь идет о разумном сознании,
вновь обратившемся к конкретной жизни и идее по¬
рядка. Это и есть новый классицизм — классицизм,
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
173
свидетельствующий в пользу двух ценностей, подвер¬
гаемых сегодня самым яростным атакам: я хочу ска¬
зать — в пользу разума и Франции» (II, 1б81).
Статья об эссе Б. Парэна писалась в 1943 году —
в то самое время, что и первые «Письма к немецко¬
му другу». Нельзя не согласиться с С. И. Великовским,
который видит в этой статье «эстетическое ответ¬
вление тогдашних усилий Камю отсечь от своей фи¬
лософии абсурда напрашивающиеся ницшеанские
выводы».1 Вместе с тем в ней получили отчетливое
выражение «традиционалистские» устремления худо¬
жественной мысли писателя: здесь впервые прозву¬
чала мысль о необходимости возвращения к тради¬
ции. Камю не случайно связывал традицию с разумом
и Францией — речь шла о традиции исконной
французской рассудочности, о возвращении — че¬
рез выжженную пустыню эстетики абсурда и сти¬
хийную темноту сюрреалистического письма —
к ясным, разумным основаниям творчества, к раци¬
оналистической осмысленности художественного
слова. «Глубинная идея Парэна — идея порядка: ни¬
какая критика языка не устраняет того, что наши
слова возлагают на нас ответственность, что мы долж¬
ны быть им верны. Плохо назвать вещь — значит
прибавить что-то к горестям этого мира» (II, 1б79).
По мысли Камю, выход заключается в предельной
продуманности средств и образов выражения: исполь¬
зуя обычные слова, художник, добросовестно взве¬
шивая их значение, уменьшает тем самым долю лжи
1 С. И. Великов с кий. Грани «несчастного сознания». М., 1973,
с. 203.
174
С. Л. Фокин
и ненависти, посеянных отчаянием, отрицанием
смысла и произволом: «На самом деле, это дорога
к безмолвию, но к безмолвию относительному, ибо
абсолютное безмолвие невозможно» (II, 1680).
Признание относительных возможностей разума
и языка, необходимости возвращения к традиции вы¬
являло крепнущее стремление мысли Камю к обна¬
ружению не только разумных оснований творчества,
но и разумных оснований бытия.
В свете «традиционалистских» устремлений эсте¬
тической мысли Камю небезынтересно проследить
его реакцию на замечания критиков о литератур¬
ных источниках «Постороннего». Из обзора крити¬
ки, сделанного в начале раздела, видно, что два из
них (Кафка и «американский роман») упоминались
почти в каждом отклике на роман Камю.
На связь «Постороннего» с Кафкой Ж. Гренье об¬
ратил внимание еще до публикации романа. Полу¬
чив для прочтения рукопись, Гренье через несколь¬
ко дней с педагогической сдержанностью отмечал
успех своего ученика: «Я прочел вашу рукопись. “По¬
сторонний” очень удался — особенно вторая часть,
несмотря на смущающее меня влияние Кафки...
Общая с Кафкой идея: абсурдность мира, бесполез¬
ность бунта, но у вас в самом зародыше присутству¬
ет выпад против тех, кто упрекает нашего героя
в отсутствии сердца» (СС, 50-51).
Прежде чем перейти к ответу Камю на письмо
наставника, следует заметить, что к этому времени
их духовный диалог достиг критической точки. Гре¬
нье был проницательным и взыскательным учителем.
До сих пор его отзывы на литературные опыты Камю
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
175
отличались неизменной сдержанностью, а то и стро¬
гостью, иногда обескураживавшей начинающего пи¬
сателя. Как нам известно, не без влияния «разгром¬
ной» оценки Гренье Камю отказался от публикации
«Счастливой смерти». Книги «Изнанка и лицо» и
«Брачный пир» также не вызвали у Гренье особого
энтузиазма, хотя тематически и стилистически они
были связаны с его собственной эссеистикой на сре¬
диземноморские темы. На этот раз Гренье писал об
удаче, и ученик мог гордиться такой оценкой требо¬
вательного учителя. Но все дело в том, что Камю
переставал быть учеником. Решительные изменения
произолши не только в его творчестве, но и в нем
самом. Завершив цикл «абсурда», Камю начинает
ощущать себя настоящим писателем, призванным ска¬
зать свое слово и отыскавшим для этого необходи¬
мые изобразительные средства. Утверждающееся
чувство творческой самостоятельности было сопря¬
жено с преодолением педагогической опеки, выпол¬
нившей свою благотворную роль и начинавшей, по-
видимому, тяготить молодого романиста.
В своем ответе Гренье Камю впервые высказал не¬
согласие с мнением почитаемого наставника: «Даже
если эти вещи еще не хороши или не так хороши,
как я надеялся, теперь я точно знаю, что они — мои,
и согласен принять на их счет любое суждение. По
этой причине я хотел бы ответить на ваше замеча¬
ние о влиянии Кафки. Приступая к “Постороннему”,
я задавал себе этот вопрос. Я спрашивал себя: а сто¬
ит ли вообще брать тему судебного процесса? В моем
сознании она была далека от Кафки, но получилось,
видимо, по-другому. Но ведь речь шла о хорошо
176
С. Л. Фокин
известной мне стороне жизни, об опыте, который
я сам переживал (вы знаете, что мне доводилось при¬
сутствовать на многих процессах). Я не мог отка¬
заться от этой темы, заменив ее какой-то конструк¬
цией, в которой не был бы задействован мой
жизненный опыт. Я рискнул и остановился на теме
процесса. Но, если позволительно самому судить об
испытываемых влияниях, герои и эпизода! “Посто¬
роннего” кажутся мне слишком индивидуальными,
слишком “повседневными”, чтобы совпадать с сим¬
волами Кафки. Впрочем, быть может, я неверно сужу
об этом» (СС, 53).
Некоторая категоричность автора «Посторонне¬
го», в известной мере продиктованная, по-видимо-
му, задетым авторским самолюбием, тем не менее,
не устраняет самого суждения, которое следует
объяснить: Камю не признавал действенного влия¬
ния Кафки на свой роман.
Безусловно, художественный опыт Кафки при¬
сутствовал в творческом сознании Камю во время
работы над «Посторонним», и тема судебного про¬
цесса связана с романом пражского писателя. Вмес¬
те с тем, даже в плане литературных источников эта
связь не является исключительной — достаточно
указать на многократно отмечавшиеся исследовате¬
лями переклички сцен судебного разбирательства
дела Мерсо с судом над Дмитрием Карамазовым
и процессами над Гариным из «Завоевателей» Маль-
ро и стендалевским Ж. Сорелем.1 О том, что Кафка
1 См., напр.: Р.-С. Сшех. А1ЬеП Сатш et Ь’Ёйгаг^ег. Рапе,
1965, р. 41-66.
3. «Чума» и шщепния «нового классицизма
177
был не единственным писателем, определявшем
интерес Камю к теме процесса, свидетельствует од¬
на из дневниковых записей: «Влечение некоторых
умов к судопроизводству и его абсурдному функ¬
ционированию. Жид, Достоевский, Бальзак, Кафка,
Мальро, Мелвилл и др. Искать объяснение» (С2, 14).
Тема процесса, как мы помним, воплощала в со¬
знании Камю столкновение человека с историей,
дорогой ему идеи невиновности с христианской кон¬
цепцией первородного греха, с идеей всеобщей ви¬
новности, оказавшейся, по его мнению, одной из
идеологических основ тоталитаризма, того «мира
процессов», который, по его словам, стал «язвой со¬
временности».
Говоря о связи творчества Камю с Кафкой, нельзя
не указать на особые исторические и культурные об¬
стоятельства, сопутствовавшие возникновению пред¬
ставлений о духовной близости писателей. Как уже
отмечалось, в исполненной реальной тревогой исто¬
рической ситуации конца 30-х годов «метафизичес¬
кие видения» Кафки привлекали внимание немно¬
гих, самых восприимчивых к надвигающемуся абсурду
истории художников и мыслителей, одним из кото¬
рых был молодой Камю. «Странная война» словно
материализовала смутные ощущения отчаяния и не¬
понимания, пронизывающие прозу Кафки. Его аб¬
сурдно-алогичный мир, с господствующими в нем
(под циничными масками правопорядка и справед¬
ливости) силами произвола вторгался в реальную
жизнь Франции. В августе 1940 года А. Жид, прочи¬
тав «Процесс», записывает свои гнетущие впечатле¬
ния: «Чувство тревоги, которое местами внушает
178
С. Л. Фокин
книга, почти непереносимо. Ибо, читая ее, как
не задаться вопросом: “Разве не я это затравлен¬
ное существо?”»1 Погружаясь в гибельную пучину
Оккупации, французы без труда обнаруживали в
трагично-символических образах Кафки отблес¬
ки своей возможной судьбы — страданий, горя,
смерти.
Война способствовала росту популярности Каф¬
ки. Его книги, запрещенные нацистской цензурой,
переходили из рук в руки — в английских перево¬
дах, под обложками других изданий.2 «Метафизика»
Кафки странным образом совмещалась с реальной
историей. В 1948 году Сартр замечал: «К чему мы
были особенно восприимчивы, так это к тому, что
в непрерывном «процессе», завершавшемся грозно
и непредсказуемо, процессе, вершители которого
были неизвестны и недосягаемы, в тщетных усилиях
осужденных узнать своих обвинителей, в терпеливо
воздвигаемой защите, оборачивавшейся против за¬
щищаемого и фигурировавшей среди отягчающих
обстоятельств, в переживаемом героями абсурдном
настоящем, ключи от которого нигде нельзя было
обнаружить, мы узнавали историю и нас самих в исто¬
рии».3 Сходная мысль высказана в воспоминаниях
С. де Бовуар: «Наше восхищение Кафкой было самым
радикальным... не зная точно почему, мы чувствова¬
ли, что его творчество касается лично нас... Кафка
говорил нам о нас: он обнажал наши проблемы перед
1 Л. Gide. Pages de journal. 1939-1941. Paris, 1945, p. 92—93.
Позднее Жид начнет работать над инсценировкой «Процесса».
2 См. об этом: М. Goth. Op. cit., p. 244-246.
3 J.-P. Sartre. Situations IL Paris, 1948. p. 255.
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»...
179
обезбоженным миром, в котором разыгрывалась дра¬
ма нашего спасения».1 Во Франции середины 40-х го¬
дов возник настоящий культ Кафки, художествен¬
ный мир которого замечательно соответствовал
пережитому всеми пессимизму, отчаянию, стремле¬
нию к неопределенным надеждам. Можно сказать,
что французы стали искать «своего» Кафку: появле¬
ние книг французских писателей, мироощущение ко¬
торых хоть как-то соприкасалось с «кафкианскими»
образами и темами (Ж. Батай, М. Бланшо), обяза¬
тельно сопровождалось сопоставлением с «Замком»
или «Процессом».
Выход в свет эссе Камю о Кафке парадоксальным
образом подтвердил оправданность сближения пи¬
сателей, проводившегося в ряде критических работ.
Парадокс заключался в том, что уже в этой работе,
относящейся к 1938 году, было ясно высказано миро¬
воззренческое неприятие Кафки. Усматривая в «Зам¬
ке» проявление «прыжка» к Богу, особой духовной
направленности религиозного экзистенциализма,
Камю, отталкиваясь от нее, определял собственную
философскую позицию, исключавшую «метафизичес¬
кий оптимизм». Посыпавшиеся как из рога изобилия
обвинения в проповеди отчаяния и безнадежности,
нередко сопровождавшиеся отождествлением миро¬
воззренческих устремлений автора «Постороннего»
с мыслью Кафки, были, вероятно, особенно болез¬
ненными для писателя, раз и навсегда вставшего на
защиту достоинства человека, отчаянно верившего
в него.
1 Я. с1е Веаишг. Ьа Богсе с!е Р^е. Рапэ, 1960, р. 193—194.
180
С. Л. Фокин
В 1951 году, когда культ Кафки во Франции достиг
своей вершины, а его творчество находило все боль¬
ше восторженных почитателей, Камю в ответ на воп¬
рос о значении для него пражского писателя энер¬
гично заявил: «Я считаю Кафку великим рассказчиком.
Но было бы неверным полагать, что он повлиял на
меня. Если какой-нибудь из художников абсурда и сыг¬
рал свою роль в формировании моих представлений
о творчестве, так это автор восхитительного “Моби
Дика”, американец Мелвилл... Пожалуй, меня несколь¬
ко отталкивает от Кафки его фантастичность. Все¬
ленная художника не должна ничего исключать. Одна¬
ко вселенная Кафки исключает почти всю тотальность
мира. И потом... я не испытываю тяги к литературе,
исполненной такого отчаяния» (II, 1342).
Интересно, что это высказывание Камю не полу¬
чило должного понимания и объяснения со стороны
критиков. Даже такой авторитетный комментатор,
как Р. Кийо, в примечании к этому критическому
суждению назвал его «запальчивым» (И, 1342), в ка¬
честве характеристики отношения Камю к Кафке
приведя устное свидетельство Р. Шара, согласно ко¬
торому его друг был «глубоко потрясен и даже одер¬
жим» Кафкой (II, 1342). Наверное, можно согласиться
с Кийо и называть заявление Камю «запальчивым» и
даже «провокационным» — принимая в расчет не¬
довольство писателя настойчивым стремлением кри¬
тики сблизить его мысль с идеями Кафки, — но нельзя
не заметить и определенной последовательности
этого неприятия, берущего начало с ответа на за¬
мечания Гренье. Основательность и глубокая пред¬
определенность приведенной оценки тем более
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
181
очевидна, что она почти дословно повторяется в ста¬
тье Камю о Г. Мелвилле (1952).
Развивая противопоставление Кафки и Мелвил-
ла, Камю пишет: «Не Мелвилл открыл лавку мрачных
аллегорий, чарующих сегодня унылую Европу. Как
художник он является антиподом Кафки, художе¬
ственную ограниченность которого дает почувство¬
вать. У Кафки духовный опыт, несомненно, неповто¬
римый, выходит за рамки эстетики и воображения,
остающихся монотонными. У Мелвилла духовный
опыт согласован с ними и обретает в них плоть и
кровь. Как все великие художники, Мелвилл извле¬
кает свои символы из конкретной жизни, а не из
грез... У Кафки описываемая им реальность задается
символом, событие проистекает из образа; у Мел¬
вилла символ возникает из самой реальности, образ
рождается из восприятия мира. Вот почему Мелвилл
никогда не отдаляется ни от плоти, ни от природы,
затемненных в творчестве Кафки» (I, 1909-1910).
Как мы помним, своеобразие символического зву¬
чания прозы Кафки более всего привлекало Камю —
автора «Постороннего» и «Мифа о Сизифе». В приве¬
денном суждении Камю-литературного критика за¬
метны не только следы неприятия художественного
опыта Кафки, не отвечавшего уже творческой по¬
зиции французского писателя, но и изменение отно¬
шения Камю к символу. Подчеркивая преобладание
в символизме Кафки фантастических элементов,
Камю высказывается о плодотворности иного под¬
хода к изображению действительности: художник
должен «вносить» свои образы в «толщу реальности»,
а не в «мимолетную туманность» воображения. И если
182
С. Л. Фокин
«первичность» символического начала в «Посторон¬
нем», подчеркиваемая самим писателем в письме
к А. Руссо, вполне соответствовала эстетическим за¬
дачам Камю в работе над романом об абсурде, то
здесь происходит перестановка акцентов с «симво¬
лического» на «реалистическое»: символ не должен
быть самоцелью художника. Тем более неприемлемо
для Камю в литературе абсолютно фантастическое:
если символическое не произрастает на почве ре¬
альности, то произведение искусства рискует утра¬
тить всякую связь с действительностью, что для Камю-
художника совершенно недопустимо.
В решительном отмежевании от Кафки, приобре¬
тающем особый смысл в свете восторженного при¬
ятие его творчества близкими Камю писателями
(С. де Бовуар, Ж.-П. Сартр), можно было бы видеть
лишь полемическую реакцию автора «Постороннего»,
недовольного «неверным» истолкованием своих идей,
если бы в его основе не лежали значительные изме¬
нения в творческой позиции писателя. От эстетики
абсурда, одним из действенных ориентиров которой
было творчество Кафки, Камю переходит к эстетике
бунта, в теоретический фундамент которой вошла
концепция «нового классицизма», утверждавшая связь
творческого метода романиста с традицией француз¬
ской рассудочности, особой творческой рационально¬
сти, мало восприимчивой к поэзии темных грез.
Другой, не менее яркий и показательный эпизод,
отражающий углубление эстетических представле¬
ний Камю, — его критика «американского романа»,
также нередко причисляемого к литературным источ¬
никам «Постороннего».
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
183
Широкое проникновение новой американской
прозы во Францию началось с середины 30-х годов.
Переводы Хемингуэя и Фолкнера, Дос Пассоса и
Стейнбека, Вулфа и Фицджеральда выходят один за
другим. Большую роль в распространении творче¬
ства американских романистов сыграло то обстоя¬
тельство, что его популяризаторами выступили та¬
лантливые критики и известные писатели Франции:
Дриё Ля Рошель, А. Мальро, А. Моруа, Ж. Прево. При
всех различиях, присущих художественному мышле¬
нию американских писателей 20-30 годов, — пона¬
чалу слабо ощущавшихся французами — их объеди¬
няли в сознании читателей тех лет общая новизна
изображавшегося ими мира американской жизни
и очевидное новаторство способов его изображения.
Это был не только иной мир, но и иное художествен¬
ное миропонимание. Спустя несколько лет после
«первой волны» интереса к «американскому рома¬
ну» Сартр давал довольно точный образ его усвое¬
ния французской культурой: «Самым большим лите¬
ратурным событием Франции 1929-1939 годов было
открытие Фолкнера, Дос Пассоса, Хемингуэя, Кол¬
дуэлла и Стейнбека... Для писателей моего поколе¬
ния публикация “42-й параллели”, “Света в августе”
и “Прощай, оружие” было такой же революцией, как
за 15 лет до этого — “Улисс” Джеймса Джойса. Нам
сразу же стало ясно, что мы получили нечто новое,
что наша литература вот-вот должна выйти из тупи¬
ка».1 Годы Оккупации усилили внимание французов
1 J.-P. Sartre. American Novelists in French Eyes. — «Atlantic
Monthlp, 1946, CLXXVIII, August, p. 114.
184
C. JI. Фокин
к Америке: оттуда ждали освобождения. С. де Бову¬
ар замечательно раскрывает в своих воспоминаниях
«американский миф», безраздельно завладевший со¬
знанием французской интеллигенции 40-х годов:
«Америка — как много означало это слово! Означа¬
ло сначала недосягаемое: джаз, кино, литературу.
Америка вскормила нашу юность, но она оставалась
мифом: мифом, к которому нельзя было прикоснуть¬
ся... Это было наступающее будущее, преодоление
и бесконечность всех горизонтов, смесь легендар¬
ных образов: при одной мысли, что их можно уви¬
деть своими глазами, кружилась голова».1 Америка
прельщает самими формами своей жизни: жестко¬
стью, скрытой мощью, раскованностью. Успех «аме¬
риканского романа» достигает своего апогея: влия¬
тельная среди интеллигенции газета «Комба» печатает
на своих страницах ответы виднейших писателей,
критиков, переводчиков на занимающий всех воп¬
рос: «Что вы думаете об американской литературе».
Это был поистине «золотой век» американского ро¬
мана во Франции, как определила его известный кри¬
тик К. Э. Мани.2
Литература о связях Камю и «американского ро¬
мана» достаточно обширна: отметим хотя бы обсто¬
ятельную и серьезную статью О. Д. Миллера, в кото¬
рой, в частности, дается ее обзор.3 Заметим сразу
же, и это подтверждается исследованием Миллера,
1 S. de Beauvoir. La Force des choses. Paris, 1963, p. 28.
2 С. E. Magny. L’âge d’or du roman américain. Paris, 1948.
3 O. J. Miller. Camus et Hemingway: pour une évaluation mé¬
thodologique. — «La Revue des lettres modernes», 1971, № 264—
270, p. 9-42.
3. « Чума» и концепция «нового классицизма»..
185
что «влияние» американского романа на Камю не
было столь значительным, как это представлялось
первым критикам «Постороннего». Особое значение
для ощущения связи Камю с Хемингуэем или Дос Пас-
сосом имело «увлечение» французов Америкой: сквозь
призму «американского романа» критики смотрели
на роман французский, невольно упуская из виду его
оригинальность. «В “Постороннем”, — пишет М. На¬
до, — Камю избрал повествовательную технику, при¬
надлежащую американским романистам, в частно¬
сти, Хемингуэю».2 С таким утверждением трудно
согласиться, причем не только из-за его категорич¬
ности и малодоказательности (текстуальные анало¬
гии, проиводимые критиком весьма поверхностны),
но и из-за очевидной недооценки реальных проблем
восприятия писателем иноязычной литературной тра¬
диции. К тому же в этом утверждении заметны сле¬
ды широкого интереса к «американскому роману»,
предопределившего преувеличение его роли в раз¬
витии литературного процесса во Франции 40-х го¬
дов. По остроумному замечанию одного из исследо¬
вателей, «если верить некоторым критическим
комментариям 1944-1949 годов, вся французская ли¬
тература этого времени является отпрыском аме¬
риканского романа».2 К тому же понятие «амери¬
канский роман» охватывает довольно разнородное
литературное явление: понятно, что Фолкнер и Хе¬
мингуэй, Стейнбек и Дос Пассос лишь при самом
1 M. Nadeau. Le roman français depuis la guerre. Paris, 1963,
p. 255.
2 P. Thody. A note on Camus and the American Novel. — «Com¬
parative Literature», 1957, IX, p. 249.
186
С. Л. Фокин
общем подходе воспринимаются как нечто единое.
Как это видно из приводившегося выше выступле¬
ния Сартра с очень характерным заголовком «Аме¬
риканские романисты глазами французов», речь дол¬
жна идти скорее о неком образе «американского
романа», который складывался в сознании писате¬
лей и критиков. Этот более или менее устойчивый
образ интересен, на наш взгляд, не столько в плане
характеристики литературной рецепции американ¬
ских романистов во Франции, сколько для уяснения
особенностей творческой позиции французских пи¬
сателей, сознание которых он так или иначе затра¬
гивал. Можно сказать, что по отношению к «амери¬
канскому роману» — подчеркнем, по отношению
к идеологическо-эстетическому «образу» этого ро¬
мана в целом, а не к отдельным его представите¬
лям — определялась творческая позиция француз¬
ских писателей 40-х годов, в частности С. де Бовуар,
А. Камю, Ж.-П. Сартра.
С. де Бовуар, вспоминая о начале своего и Сарт¬
ра творческого пути, замечает: «Многие принципы,
которыми мы руководствовались в наших романах,
были восприняты от Хемингуэя».1 Богаче, острее,
интереснее, с раскрытием глубинных интенций сво¬
ей философской и художественной мысли, говорит
о восприятии «американского романа» Ж.-П. Сартр.
Вот выдержка из уже цитировавшегося выступле¬
ния перед студентами и преподавателями Йельского
университета: «Нам нужны были уроки для обновле¬
ния романа. Не сознавая того, мы были раздавлены
1 *5*. с1е Веаишг. Ьа Рогсе с1е Г^е, р. 145.
3. «Чума» и конпепция «нового классннизма»..
187
гнетом наших традиций и нашей культурой. Амери¬
канские романисты — свободные от всех традиций,
безо всякой помощи со стороны — с варварской
грубостью выковали бесценные орудия. Мы созна¬
тельно и рационально воспользовались тем, что было
плодом их стихийной гениальности и бессознатель¬
ной спонтанности. Скоро в Америке появятся пер¬
вые французские романы, написанные в Оккупации.
Мы вернем вам вашу технику».1 Говоря о скором
появлении в Америке новых французских романов,
Сартр имел в виду произведения Камю, С. де Бовуар
и свои собственные — все они, по его словам, со¬
здавались с учетом опыта американских романистов.
Обращение к американскому роману, по мысли Сарт¬
ра, объяснялось исчерпанностью французской лите¬
ратурной традиции, стремлением к поиску новых —
радикально новых — средств художественного
отображения действительности, способных передать
изменчивый характер современности. Техника аме¬
риканского романа с элементами газетного репор¬
тажа, фрагментарности, нарочитой лаконичности,
монтажа разных временных планов, симультанности
оказывалась в его глазах самым действенным ин¬
струментом познания стремительного хода современ¬
ной истории. Обращенная к американскому рома¬
ну, призванному вытащить из «тупика» современную
литературу Франции, соответствовало и сокровен¬
ному импульсу творческого сознания Сартра — не¬
удержимому порыву к безусловной свободе, от¬
рицанию всякой данности, в том числе данности
1 /.-Р. ЗагКе. Ор. ск., р. 118.
188
С. Л. Фокин
культуры, данности традиции. Лишь преодолевая дан¬
ное, человек, по Сартру, обретает возможность до¬
стичь своего подлинного бытия.
На фоне этого сознательного «антитрадиционализ¬
ма» суждения Камю об «американском романе» вы¬
глядят куда более сдержанными, а то и откровенно
вызывающими — как вызов отрицанию традиции, как
утверждение неиссякающей плодотворности тради¬
ции французской классической прозы, берущей свое
начало, по его представлениям, с сухой и страстной,
рассудочной и трогательной Мадам де Лафайет.
Примечательно, что одно из первых упоминаний
об «американском романе» в «Записных книжках»
писателя, куда он заносил свои литературные впе¬
чатления, относится к концу 1943 года — вероятно,
именно критические отклики на «Постороннего» за¬
ставили его всерьез задуматься над этим литератур¬
ным явлением. В этой записи — пока еще в самых
общих чертах — намечается важная оппозиция:
«Об американском романе: он стремится к универ¬
сальности. Как и классицизм. Но если классицизм
стремится к универсальности вечной, современная
литература волею обстоятельств (взаимопроник¬
новение разных народов) стремится к универсаль¬
ности исторической. Ее интересует не человек всех
времен, а человек всех стран» (С2, 114). В этом
суждении писателя его неприятие американского
романа почти незаметно: напротив, сопоставляя его
с классицизмом, Камю пытается понять историче¬
ское значение художественного опыта американских
романистов, верно указывая на его соответствие ха¬
рактеру современной действительности. Но сам он,
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
189
как можно понять по этой записи, более располо¬
жен к классицизму и, следовательно, не к истории,
а к вечности. Классицизм становится в сознании ав¬
тора «Чумы» теоретико-эстетическим фундаментом
для постановки вечных — вневременных — вопро¬
сов человеческого существования.
Следующий отзыв об американском романе на¬
много резче и полемичнее. В 1945 году на вопрос
Ж. Дельпеш о роли американского романа в его твор¬
честве Камю не без запальчивости заявил: «Техника
американского романа, как мне кажется, ведет в ту¬
пик. Верно, я использовал ее в “Постороннем” —
но только потому, что она соответствовала моей за¬
даче описать человека без проблесков сознания. Ее
широкое употребление приводит к созданию худо¬
жественного мира, заселенного роботами и инстинк¬
тами, а это было бы значительным обеднением ро¬
мана. Вот почему, воздавая американскому роману
все то, чем мы обязаны ему, я отдам сотню Хемин¬
гуэев за одного Стендаля или Бенжамена Констана.
Я сожалею о влиянии этой литературы на многих
молодых писателей».1 Не сожалел ли сам Камю о влия¬
нии на свой роман Хемингуэя? Это объяснило бы его
столь суровую оценку творчества американского ро¬
маниста.
В «Постороннем», действительно, ощутимы неко¬
торые моменты хемингуэевской поэтики. Однако
кажущееся сходство скрывает два принципиально
разных подхода к отображению действительности..
Эстетический метод «айсберга» (намеренная лако¬
1 «ЫошгеИез Нпёгакеэ», 1945, 15 поуетЬге, р. 1.
190
С. Л. Фокин
ничность повествования, скрывающая глубину чувств
героя) не вполне соответствовала эстетике абсурда.
У Хемингуэя загнанная в глубь сознания боль едва
проступает в незначащих словах, поступках, бессмыс¬
ленных, на первый взгляд, разговорах. Писатель,
словно щадя своих героев, не дает их душевным пе¬
реживаниям вырваться наружу: он бесстрастно опи¬
сывает поступки, жесты, мельчайшие детали поведе¬
ния. Камю, как мы помним, также сосредотачивается
в «Постороннем» на холодном описании, но его зада¬
ча — не воссоздание внутренней жизни героя, а во¬
площение особого видения этим героем мира. Взгляд
Мерсо направлен не внутрь — куда, хотя с опаской
и предосторожностями, заглядывает хемингуэевский
рассказчик, — а наружу, на мир. Отрешенная бес¬
страстность «постороннего» выявляет зло внешнего
мира, абсурдность лишенного высших законов бы¬
тия. Можно ли говорить об «усвоении» Камю уро¬
ков Хемингуэя? Вряд ли. На наш взгляд, сходство это
чисто внешнее: феноменологическое видение мира,
обоснованное в «Мифе о Сизифе» с опорой на «пер¬
воисточник» — философию Гуссерля — было, по-
видимому, конгениальным поэтике Хемингуэя. Не¬
смотря на признание самого Камю, близость его к
американскому роману была скорее совпадением,
чем сознательной творческой установкой.1
В 1947 году, когда увлечение американским ро¬
маном во Франции достигло апогея и даже наметил¬
1 Ср.: С. И. Великовский. Грани “Несчастного сознания”. М.,
1973, с. 65-66; Т. Н. Денисова. Экзистенциализм и американский
роман. Киев, 1985.
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
191
ся некоторый его спад, газета «Комба», как мы уже
упоминали, опубликовала на своих страницах ряд
интервью с писателями и критиками Франции, ко¬
торым был задан вопрос: «Что вы думаете об аме¬
риканской литературе?» Единодушно признавалось
величие Фолкнера, Хемингуэй получал резко поляр¬
ные оценки, Коддуэлла называли крупнейшим писа¬
телем Америки, звезда Дос Пассоса начинала зака¬
тываться даже в глазах Сартра. Камю вновь резко
отзывается об авторе «По ком звонит колокол»:
«Хемингуэй должен занять свое место. “И восходит
солнце” — прекрасная книга, но его роман об Ис¬
пании по сравнению с “Надеждой” Мальро выглядит
рассказом для детей... Герника и Голливуд несовмес¬
тимы».1 Камю не находит в романе Хемингуэя тра¬
гичности мировосприятия, характерной для прозы
Мальро: любовная история главного героя Хемин¬
гуэя кажется ему неуместной на фоне трагедии це¬
лого народа.
Автор «Постороннего», как мы видим, решительно
отвергает «навязываемые» ему критикой влияния. Его
критические отклики, конечно, не перечеркивают
возможности некоторого взаимодействия художе¬
ственной мысли Камю с казавшимся ему чуждым
творчеством этих писателей. Однако упорство, на¬
стойчивость, категоричность, граничащая с неспра¬
ведливостью оценок (особенно очевидной по отно¬
шению к Хемингуэю), свидетельствуют, на наш
взгляд, о наличии у писателя вполне определенной
позиции. Камю полемизирует и защищает свои идеи,
1 «СотЬаЬ>, 1947, 17 (агтег, р. 2.
192
С. Л, Фокин
но защита подразумевает, что есть нечто, подлежа¬
щее защите. Камю защищает — со всеми издержка¬
ми, свойственными для полемических жанров, —
свою творческую позицию, в основу которой, как
нам уже известно, положена концепция «нового клас¬
сицизма».
2. «НОВЫЙ КЛАССИЦИЗМ», БУНТ И РОМАН
Первые заметки о «новом классицизме» появ¬
ляются в «Записных книжках» писателя весной
1943 года. Непосредственным толчком к ним, как мы
уже отмечали, стали размышления Камю над фило¬
софией языка Б. Парэна: «Классицизм — это вера
в слова, но, дабы сохранить эту веру, он расходует
их очень бережно. Сюрреализм, который не доверя¬
ет словам, ими злоупотребляет. Вернемся к класси¬
цизму — из скромности» (С2, 101).
Эстетическая мысль Камю сталкивается в очеред¬
ной раз (впервые это произошло при осмыслении
художественных исканий Ф. Понжа) с тем явлением
культуры XX века, которое получило название «кри¬
зиса языка». В условиях резкого идеологического
противостояния, когда противоборствующие сторо¬
ны с одинаковым рвением употребляют такие слова
как «война» и «мир», «свобода» и «рабство», «любовь»
и «ненависть», язык теряет свою традиционную се¬
мантическую устойчивость, слова обессмысливают¬
ся и дискредитируются вместе с дискредитирован¬
ными идеологиями. Сюрреализм чутко откликнулся
на это обесценение языка: «Слова, обозначавшие
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
193
такие ценности, как право, справедливость, свобо¬
да, приобрели местные, противоречивые смыслы.
И с той, и с другой стороны так спекулировали на
их эластичности, что дошли до того, что понимают
под ними все, что угодно — вплоть до абсолютной
противоположности тому, что эти слова перво¬
начально обозначали».1 Освобождение от бремени
рассудочности, от устоявшейся логики мышления,
накопившей массу штампов, обессмысленных выра¬
жений, пустых слов и идей связывалось в сюрреа¬
лизме с «величайшей свободой духа» — апелляцией
к свободному воображению, чистому психическому
автоматизму, к тайнам бессознательного.
Камю строит свою эстетику на иных основаниях.
Абсолютное ниспровержение разума, провозгла¬
шенное сюрреализмом, обращение к возможностям
свободного от рассудка сознания кажутся ему воз¬
рождением романтического бунтарства субъектив¬
ности. Но субъективность, лишенная меры, неизбеж¬
но склоняется к отчаянию. Вот почему преодоление
отчаяния оказывается сопряженным с поисками
меры.
«Кризис языка» вполне очевиден для Камю — раз¬
думывая над идеями Парэна, он записывает: «Следу¬
ет познать... не является ли наш язык ложью как раз
в тот момент, когда мы думаем, что выражаем исти¬
ну, не являются ли слова пустой оболочкой, или лишь
порывом ветра» (II, 1б72). По мысли Парэна, —
и Камю в этом с ним совершенно согласен — стоит
1 Л. Breton. Arcan 17. Paris, 1965, p. 76. — Текст относится
к середине 40-х годов.
194
С. Л. Фокин
только языку оказаться бессмысленным, как все вок¬
руг теряет смысл. Мы выражаем смысл словами —
их абсолютная бессмысленность обнаруживает наше
неустранимое ослепление, беспомощность, отчаяние.
Исследование оснований бытия языка, начатое еще
софистами и Сократом, неизбежно приводит к по¬
иску оснований самого бытия. «Язык, — цитирует
Камю Парэна, — это лишь путь, ведущий к своему
противоположному началу — к безмолвию и Богу»
(II, 1680). В языке являет себя нечто, превосходящее
высокомерную субъективность, очевидная трансцен¬
дентность, равнозначная для художника и крестья¬
нина, для мыслителя и рабочего. Следует верить
языку — обратное означало бы полную бессмыслен¬
ность нашего существования. Отвергая безмерное
освобождение духа, разнузданность воображения,
свойственные, согласно его представлениям, тому
метафизическому бунтарству, которое от Сада и ро¬
мантиков до Лотреамона и сюрреалистов неуклонно
вело к чистому отрицанию, нигилизму, Камю оста¬
навливается на признании относительных возмож¬
ностей языка, осмыслить которые призван «новый
классицизм». Классицизм, предельно рассудочная эс¬
тетическая система, способствовал, таким образом,
упрочению мировоззренческой позиции писателя, все
дальше уходившего от нигилистических устремлений
абсурда.
Помимо статьи о «философии выражения» Б. Па¬
рэна идеи о «новом классицизме» получили развитие
в литературно-критическом эссе Камю «Сознание
и эшафот», также вышедшем в свет в 1943 году —
в специальном выпуске журнала «Конфлюанс», по¬
3. « Чума» и концепция «нового классицизма»..
195
священном проблемам современного французского
романа. Прежде чем перейти к анализу эссе Камю,
необходимо — хотя бы кратко — охарактеризовать
этот необычный номер «Конфлюанс», зафиксировав¬
ший один из поворотных этапов в развитии фран¬
цузского романа XX века. По словам П. Астье, авто¬
ра фундаментального исследования о генезисе
«нового романа», для литературного процесса 30-
40-х годов специальный выпуск «Конфлюанс» имеет
такое же значение, как известная литературная ан¬
кета Ж. Юре для рубежа веков.’
Цель, поставленная перед авторами этого изда¬
ния, сформулирована в предисловии Р. Тавернье:
«Нам кажется... необходимым определить основания,
проблемы, задачи современного романа, представить
защиту и обоснование его существования — посред¬
ством свидетельств самих романистов и работ кри¬
тиков, исследующих отношения романа с литера¬
турой и искусством...»2 Кроме Р. Тавернье, главного
редактора журнала «Конфлюанс», и Ж. Прево,
известного писателя и критика, руководившего под¬
готовкой специального выпуска, в этом опыте опре¬
деления «проблем романа» приняли участие свыше
пятидесяти романистов, поэтов, литераторов.
Все работы сборника можно — очень условно —
подразделить на три группы. К первой относятся ста¬
тьи (главным образом, критиков) о самых видных
романистах тех лет и общих тенденциях развития
1 P. A. G. Astier. La Crise du roman français et le nouveau réa¬
lisme. Paris, 1968.
2 R. Tavernier. Préface. — Confluences. Problèmes du roman,
1943, № 21-23, p. 16.
196
С. Л. Фокин
современного романа (например, «Арагон также
романист» О. Анжелеса, «Эволюция французского
романа 1919-1939 годов» Э. Лапу, ряд статьей Ж. Пре¬
во о Р. Мартен дю Таре, Ж. Жионо, В. Ларбо,
А. Шамсоне, «Поэтический вкус романа» С. Фюме
и др.); ко второй — статьи писателей о писателях
и их понимании романа («Жан Жироду» и «Морис
Бланшо» Д. Буске, «Реализм в романе» Г. Стайн, «Го¬
лос наших учителей или внутренние силы романа
[Колетт]» Э. Триоле и др.); к третьей — выступле¬
ния писателей и романистов о своем понимании или
непонимании романа («Кризис романа?» М. Арлана,
«Письмо» П. Валери, «Заметка о романе» Р. Десноса,
«Письмо» Ж. Кокто, «Метафорфозы романа» К. Маль-
ро, «Эпоха романа» Ж. Сименона и др.). Невозможно
подробно представить все разнообразие позиций
и всю многоликость тенденций, отразившихся в этом
сборнике — их обстоятельный обзор имеется в упоми¬
навшейся работе П. Астье, хотя не со всеми оценка¬
ми исследователя можно согласиться. Для нас важно,
однако, то, что на фоне глубоко кризисных настрое¬
ний по отношению к роману (ярко выраженных
в письме Валери), преодоление которых мыслилось
либо на путях нерефлектирующего вдохновения
(письмо Ж. Кокто), либо усвоением опыта новейшей
литературы, в частности «американского романа»,
Джойса, Кафки, статья Камю выделялась — наряду,
например, с работами Ж. Прево и эссе Сименона —
своим творческим оптимизмом, верой в плодотвор¬
ность национальной литературной традиции.
«Сознание и эшафот» начинается по-писательски —
с небольшой новеллы: «Рассказывают, что Людо¬
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
197
вик XVI по дороге на гильотину хотел передать че¬
рез одного из стражников послание королеве, на
что тот ответил: “Я здесь не для того, чтобы выпол¬
нять ваши поручения — я здесь для того, чтобы со¬
провождать вас на эшафот”». Этот великолепный при¬
мер чистоты терминологии и настойчивости в своем
деле кажется мне замечательной иллюстрацией если
и не любого романного творчества, то, по крайней
мере, определенной традиции французского клас¬
сического романа. Романисты этой традиции, отвер¬
гая сопутствующие поручения, сосредотачиваются,
кажется, на единственной задаче — привести своих
персонажей к тому, что их уже ждет: монастырь
принцессы Клевской, счастье Жюльетты или паде¬
ние Жюстины, эшафот Жюльена Сореля, одиноче¬
ство Адольфа, смертное ложе госпожи Грослен или
празднество старения, которое Пруст открывает
в салоне Германтов» (II, 1895-1896). По Камю, фран¬
цузскому классическому роману свойственна внут¬
ренняя упорядоченность, единство замысла, которое
романист неукоснительно воплощает в произведе¬
нии. Непоколебимая рассудочность, неуклонное сле¬
дование логике повествования и стиля — вот, по
его мнению, отличительные особенности этой
романной традиции: «Именно разум связывает род¬
ством таких разных писателей, как мадам де Ла-
файет и Стендаль...» (II, 1896). Характерные для
французского классического романа предельную
осмысленность художественного языка и продуман¬
ность стиля Камю иллюстрирует знаменитой фра¬
зой Стендаля: «Если я не ясен, весь мой мир уничто¬
жен» (II, 1896).
198
С. Л. Фокин
Камю считает, что классицизм требует свое¬
образного раздвоения романиста — как мы помним,
сходную позицию занимал и П. Валери, не призна¬
вавший, правда, роман как жанр. Писатель-классик,
внутренне распадаясь на художника и критика,
сосредотачивается на художественной разработке
единой концепции произведения — критически
отвергая все препятствующее его замыслу. В клас¬
сическом творчестве торжествует сознание ху¬
дожника, оно прямо и неуклонно идет к поставлен¬
ной цели — словно стражник, ведущий короля на
эшафот.
В качестве примера Камю анализирует «Принцес¬
су Кпевскую». С его точки зрения, основной идеей,
организующей этот роман, является особая концеп¬
ция любви. «Ее постулат, — пишет он о мадам де
Лафайет, — заключается в том, что эта страсть опас¬
на для человека» (И, 1890). Всевластию страсти, за¬
хватившей душу принцессы Киевской, противосто¬
ит ее преданность разуму, долгу, чести. «Даже самые
дерзкие из наших романтиков, — замечает Камю, —
не посмели дать такого могущества страсти» (II, 1891).
Но сила страсти все же смиряется гордой мощью
разума. В произведении торжествует «вдея порад-
ка», причем не общественного порядка, а упорядо¬
ченности мысли и души.
Подобно своей героине, мадам де Лафайет пре¬
дана идее порядка, творческой рациональности: «Ибо
нет искусства, в котором нечего побеждать. Цере¬
мониальная мелодия “Принцессы Киевской”, ее мо¬
нотонность образована, как мы понимаем, и ясным
расчетом, и мучительной страстью» (II, 1891).
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
199
По мысли Камю, классицизм в эстетике отнюдь
не подразумевает повышенного внимания к чисто
формальным моментам творчества. Творческий клас¬
сицизм — результат определенной позиции писате¬
ля, сознательной «предвзятости». «Вот почему, — за¬
мечает он, — “Приняв сторону вещей” Френсиса
Понжа — одно из немногих классических произве¬
дений современности» (II, 1893).
Статью завершает глубокое обобщение, в кото¬
ром устанавливается связь философской позиции
писателя с насущными проблемами исторической
ситуации 1943 года. Объясняя свою любовь к «вели¬
ким французским романам», Камю пишет: «Они сви¬
детельствуют о действенности нашего творчества.
Они убеждают в том, что произведение искусства
является делом рук человеческих, в том, что худож¬
ник может обойтись без трансцендентной подсказ¬
ки». Статья «Сознание и эшафот» отличается ярко
выраженным патриотическим пафосом. Отстаивая
идею плодотворности национальной художественной
традиции в условиях немецкой оккупации, когда со
страниц коллаборационистских изданий раздавались
настойчивые призывы к «примирению», к «братскому
сосуществованию» европейских кутьтур, подразуме¬
вающему безусловное верховенство немецкой куль¬
туры,1 Камю определенно занимал позицию «эстети¬
ческого сопротивления», которое, как мы уже
отмечали, было органично связано с его общей ми¬
ровоззренческой и политической оппозицией («Пись¬
ма к немецкому другу»).
1 См. об этом: P. Ory. Les Collaborateurs. Paris, 1977.
200
С. Л. Фокин
Эта мировоззренческая непримиримость может
отчасти объяснить два полемических выпада в ста¬
тье против Гёте, и, что для нас важнее, некоторую
узость толкования традиции французского романа.
Стремясь наглядно представить непреходящую ори¬
гинальность традиции, Камю несколько упрощал ее
характер и состав, точнее говоря, определяя ее ха¬
рактерные особенности, не избежал некоторых упро¬
щений. Тем не менее, стремление выявить живитель¬
ный исток французской прозы обнаруживало вполне
сознательное и настойчивое тяготение к нему само¬
го писателя. Размышляя о художественных принципах
«Принцессы Клевской», Камю связывал собственный
метод романиста с эстетическим классицизмом.
По тематике, характеру развиваемых идей и вре¬
мени написания самая близкая к статье «Сознание и
эшафот» литературно-критическая работа Камю —
его предисловие к «Максимам» Шамфора.
В работе о Шамфоре можно выделить три суще¬
ственных момента, отражавших углубление художе¬
ственного мировоззрения Камю. Во-первых, очень
примечательно толкование автором «Постороннего»
категории «писатель-моралист», к которой, с легкой
руки Сартра, стали относить и самого Камю. Во-вто¬
рых, интересно сопоставление искусства афоризма
и искусства романа, проиллюстрированное в пре¬
дисловии Шамфором и Ларошфуко. Наконец, важ¬
на предпринятая в этой работе попытка определить
мораль как таковую — в ее отношениях с религией
и жизненной позицией человека.
Шамфор для Камю — «писатель-моралист», при¬
чем один из самых великих. Кто же такой писатель-
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
201
моралист? «Скажем только, что это человек, снедае¬
мый страстью к человеческому сердцу. Но что та¬
кое человеческое сердце? Сказать трудно, можно
лишь вообразить, что это нечто самое необщее, са¬
мое особенное в мире» (II, 1099). Вот почему, про¬
должает рассуждение Камю, трудно узнать что-либо
о человеческом сердце, читая максимы Ларошфуко.
Максима — это своего рода алгебраическое уравне¬
ние со взаимозаменяемыми членами. «Часто перехо¬
дят от любви к честолюбию, но никогда не возвра¬
щаются от честолюбия к любви» — цитирует Камю
афоризм Ларошфуко. Вся истина максимы заклю¬
чена в ней самой, с равным успехом ее можно выра¬
зить, поменяв местами «честолюбие» и «любовь».
С максимой можно делать все, что угодно, «вплоть
до полного исчерпания возможных комбинаций тер¬
минов, данных в выражении, идет ли речь о любви,
ненависти, интересе, жалости, свободе или справед¬
ливости» (II, 1100). Подобно алгебраической фор¬
муле, максима не находит прямых соответствий в
живой действительности, «она является абстракци¬
ей, она пребывает в области общего» (II, 1101).
Роман, напротив, остается верным жизни, облас¬
ти особенного. «Его задачей является не выведение
заключений о жизни, а изображение самого развер¬
тывания жизни» (II, 1100). Вот почему, замечает
Камю, наши истинные моралисты — не «создатели
фраз и максим», а «романисты». (II, 1099). Вот почему
захватывающая история Жюльена Сореля, погубивше¬
го свою карьеру из-за влечения к двум столь разным
женщинам, дает нам для понимания «человеческо¬
го сердца», для постижения «любви» и «честолюбия»
202
С. Л. Фокин
гораздо больше, чем самая блестящая максима Ла¬
рошфуко. «Я охотно отдам всю книгу максим Ларош¬
фуко за одну удачную фразу “Принцессы Киевской”
или два-три художественных наблюдения Стендаля»
(II, 1100).
С точки зрения Камю, Шамфор также является
«романистом». «Шамфор не стремится облечь свой
жизненный опыт в формулы. Его искусство изоби¬
лует лишь бесконечно верными наблюдениями, каж¬
дое из которых предполагает портрет определенного
человека или несколько жизненных ситуаций, кото¬
рые очень легко воссоздать. Этим он близок Стенда¬
лю, также познавшему человека в его окружении,
в обществе, а истину — в том, где она сокрыта, то
есть в ее отдельных частях» (II, 1101-1102). Максимы
Шамфора, по мысли Камю, — «непризнанный роман»,
«коллективная хроника» светской жизни XVIII века.
Добавив к ним «Анекдоты», другое сочинение Шам¬
фора, мы можем составить более точное представ¬
ление об этом романе, повествующем о жизни дво¬
ра. Художественные наблюдения Шамфора рисуют
подлинные человеческие характеры, они непосред¬
ственно связаны с реальной жизнью — в отличие от
максим Ларошфуко, в которых истина принесена
в жертву блестящему остроумию афоризма.
Но настоящим героем «Максим» Шамфора, смы¬
словым центром этого «неорганизованного романа»
является он сам. Набрасывая литературный портрет
автора «Максим» и «Анекдотов», Камю обращает
особое внимание на то, что являлось скрытым моти¬
вом существования этого писателя XVIII века: «Им
двигала единственная сила — порыв личной морали»
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
203
(И, 1106). По мнению Камю, мораль Шамфора — это
мораль метафизически одинокого человека, занято¬
го уяснением своих жизненных принципов в мире
без Бога: «Никогда еще неверие не находило столь
сильного выражения» (II, И Об). Автор «Мифа о Си¬
зифе» находит в Шамфоре своеобразного союзника
в богоборчестве, отрицавшем всякую метафизичес¬
кую надежду. «Если неверие, — замечает он, ком¬
ментируя фразу Шамфора, — является сознатель¬
ным отрицанием надежды, то было ли сказано на этот
счет что-либо определеннее, чем: “Надежда — это
шарлатан, бесконечно нас обманывающий, для меня
счастье началось лить тогда, когда я утратил все
надежды”» (И, 1106).
В своей работе о Шамфоре Камю вплотную подхо¬
дит к определению морали бунта, развитому впослед¬
ствии в «Бунтующем человеке». Чисто человеческая
мораль, мораль сознания, отринувшего всякую по¬
мощь свыше, мораль как особое духовное простран¬
ство, где по собственным законам правит человек
без Бога, чревата «упрямым культом безмерного и не¬
возможного». Это мораль подлинного человеческо¬
го самоопределения, неизбежно оборачивающегося
метафизическим или историческим бунтом.
Жизненная судьба Шамфора, с точки зрения Камю,
является убедительным подтверждением неустра¬
нимой трагичности чисто человеческой морали.
Исповедуя абсолютную свободу человека, Шамфор
полностью отдался освободительному движению Ре¬
волюции, направленному на установление абсолют¬
ной справедливости. «Нетрудно видеть, — замечает
Камю, — что он воспринял лишь отрицающую сто¬
204
С. Л. Фокин
рону революции. У него было слишком высокое пред¬
ставление об идеальной справедливости для того,
чтобы мириться с несправедливостью, без которой
не обходится никакое историческое действие. Его
ждал провал» (II, 1107). Рассказывая историю ужас¬
ного самоубийства Шамфора, не принявшего экс¬
цессы революционного Террора (писатель пытался
сначала застрелиться — но лишь выбил себе правый
глаз и раздробил нос, затем пробовал перерезать
горло — без результата исполосовав всю грудь, на¬
конец, вскрыл вены — и умер буквально в луже
крови), Камю подчеркивает, что это яростное само¬
уничтожение проистекало из морали одинокой не¬
зависимой личности. «Всякому, кто, как Шамфор,
снедаем страстью к абсолюту и не способен изба¬
виться от нее обращением к человеку, остается толь¬
ко умереть» (И, 1107).
Писатель-моралист жизнью отвечает за свою мо¬
раль — иначе она оказывается лишь отвратитель¬
ным лицемерием. «Вот почему Шамфор кажется мне
одним из немногих наших великих моралистов:
мораль, эта мука людей, была его личной страстью,
и он следовал ей вплоть до самой смерти» (II, 1108).
Камю отмечает, что Шамфора часто упрекали в го¬
речи, отчаянии, пессимизме. Однако эта горечь, со¬
гласно представлениям автора «Мифа о Сизифе»,
уравнивалась великой идеей свободного человека,
к которой были устремлены творчество и жизнь
Шамфора: «По правде говоря, мне ближе эта горечь,
освещенная светом высокой идеи человека, чем су¬
хая философия важного господина, написавшего
столь непростительную фразу: “Физическая работа
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
205
избавляет от тягот духовной жизни, она и делает
бедняков счастливыми” (Ларошфуко)» (II, 1108).
Предисловие к «Максимам» Шамфора наряду с эс¬
се «Сознание и эшафот» отличается от предыдущих
литературно-критических работ Камю большой сте¬
пенью выражения собственного писательского со¬
знания. Автор критических работ 40-х годов — уже
вполне состоявшийся писатель, который ощущает
свою связь с определенной литературной традици¬
ей, говорит от ее имени, использует ее опыт в своем
творчестве. Вместе с тем Камю не останавливается
и перед непосредствешшм обоснованием своей твор¬
ческой позиции. Если в эссе о Кафке (1938) его соб¬
ственные идеи едва проступали в критических ком¬
ментариях к «Процессу» или «Замку», то здесь он не
боится заявить о своем несогласии с той или иной
устремленностью мысли, какой бы близкой она ни
казалась ему по существу.
В этом отношении показательно, как Камю объяс¬
няет то обстоятельство, почехму Шамфор писал все-
таки не романы, а максимы и анекдоты. Его мысли
перекликаются с уже известными нам размышления¬
ми Камю о творчестве Парэна и Понжа, в центре
которых, как мы помним, находилась проблемы язы¬
ка и смысла. Беспредельное отрицание всякого смыс¬
ла неизбежно ведет к абсолютному нигилизму творче¬
ства, к безмолвию «мыслителя», отрицающего мысль
и слово как инструмент выражения мысли. «Каждый
день, — цитирует Камю характерное высказывание
Шамфора, — я увеличиваю список предметов, о ко¬
торых больше не могу говорить. Подлинным фило¬
софом является тот, у кого самый длинный список»
206
С. Л. Фокин
(II, 1107). Именно в этом пункте Камю, сам много
размышлявший о смысле творчества, проявляет к ни¬
гилизму Шамфора сдержанность: «Искусство, — пи¬
шет он в своем предисловии, явно предвосхищая
эстетику бунта, — это противоположность безмол¬
вия. Оно — один из знаков той общности, которая
связывает нас с людьми в нашей совместной борьбе.
Для того, кто утратил эту общность, кто полностью
отдался отрицанию, ни язык, ни искусство не имеют
больше смысла. Вот почему роман отрицания не был
написан. Ибо он был бы именно романом отрица¬
ния» (II, 1107). По Камю, Шамфор не любил ни лю¬
дей, ни самого себя. «Однако трудно представить
романиста, который не любит ни одного из своих
героев. Ни один из наших великих романов невоз¬
можно понять без великой страсти человека к чело¬
веку» (II, 1107).
Творчество Шамфора, столь близкое и понятное
Камю, оказалось в его глазах крайним воплощением
нигилизма, через очистительную аскезу которого уже
прошла его мысль в произведениях цикла «абсурда».
В одном из суждений этого предисловия возникают
те же самые выражения, которые Камю употреблял,
комментируя своего «Постороннего»: «Это роман от¬
рицания, повествование, отрицающее все, вплоть до
самого себя, стремительный порыв к абсолюту, за¬
канчивающийся в ярости ничто» (II, 1105). В этом
суждении очевидны элементы окончательной само¬
оценки, подводящей итог нигилистическим искани¬
ям писателя.
Как следует из нашего анализа предисловия к «Мак¬
симам» Шамфора, в центре философских раздумий
3. «Чума» и коннепння «нового классицизма»..
207
Камю середины 40-х годов — проблема морали че¬
ловеческой личности. Дневниковые заметки писате¬
ля подтверждают это: «Может ли человек сам со¬
здать свои ценности? Вот в чем вопрос» (С2, 123).
Этот вопрос является смысловой доминантой мысли
Камю того времени. Пытаясь ответить на него, он
будет определять свою мировоззренческую позицию,
отталкиваясь от самых влиятельных идеологических
систем XX века — христианства и марксизма: «Мо¬
раль существует. Но христианство неморально...»
(С2, 125). Христианское смирение представляется
Камю отрицанием возможностей человека, не может
он смириться и с историософской системой марк¬
сизма, подчиняющей человека неопределенному
будущему: «По какому праву коммунист или хри¬
стианин... стали бы упрекать меня в пессимизме?..
Христианство пессимистично к отдельному челове¬
ку, но оптимистично к уделу человеческому. Марк¬
сизм пессимистичен к уделу человеческому и чело¬
веческой природе, но оптимистичен к ходу истории.
О себе же я скажу, что, будучи пессимистом по от¬
ношению к человеческому уделу, я оптимист по отно¬
шению к человеку» (С2, 159-160). В человеке, по
убеждению Камю, существует нечто, что позволяет
верить в его жизненную силу и возможности. Эти
размышления, сопутствовавшие работе писателя над
романом «Чума» и эссе «Бунтующий человек», отра¬
жали и крепнующее неприятие Камю экзистен¬
циализма в той его форме, которая была выражена
в философии Сартра. Камю не может согласиться
с тем, что в основе существования лежит ничто:
«Греки ничего бы не поняли в экзистенциализме —
208
C. Л. Фокин
между тем как христианство они, хоть и со сканда¬
лом, но приняли. Все дело в том, что экзистенциа¬
лизм не предполагает определенного поведения»
(С2, 116). Абсолютная безусловность существования,
с точки зрения Камю, как и всякий абсолют, чревата
самоуничтожением, превращением в свою полную
противоположность: абсолютная свобода легко со¬
вмещается с абсолютной необходимостью истори¬
ческого прогресса: Экзистенциализм унаследовал от
гегельянства его основную ошибку — он отож¬
дествляет человека с историей» (С2,180). Бог христи¬
анства, концепция всепобеждающей истории марк¬
сизма и экзистенциализма — вот два полюса, между
которыми разрывается современный человек. Камю
ищет то, что поможет человеку противостоять обоим
этим Абсолютам: «Нас заставляют выбирать между
Богом и историей. Отсюда это непреодолимое же¬
лание выбрать землю, мир и деревья...» (С2,157). Или:
«Если все в самом деле сводится к человеку и к исто¬
рии, тогда, спрашиваю я, как же быть с природой —
любовью — музыкой — искусством?» (С2, 189).
Оценивая мировоззренческую концепцию «бунта»,
следует особо подчеркнуть то, что в ее основе ле¬
жит моральная позиция — в отличие от нигилисти¬
ческой основы концепции «абсурда». Бунт означает
напряженное противостояние человеческой лично¬
сти абсолюту Бога и абсолюту Истории. Заметим:
противостояние не является отрицанием абсолютов,
это опыт настойчивого противоборства, опыт удер¬
жания человеческой личности на почве ценностей,
отрицавшихся, по представлениям Камю, безудерж¬
ным ходом истории и упованием на Божью милость.
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
209
В «Бунтующем человеке» концепция бунта и лежа¬
щая в ее основе моральная позиция найдут свое за¬
вершенное выражение: «Презрение революции к по¬
казной и лживой морали буржуазного общества
вполне оправданно. Но безумие революции заклю¬
чается в распространении этого презрения на лю¬
бое моральное притязание... И в самом деле, бунт
твердит ей и будет твердить все громче, что истори¬
ческое деяние необходимо не ради того, чтобы когда-
то прийти к бытию, которое в глазах всего мира
сводится к покорности, а ради того еще смутного
бытия, которое таится в самом бунтарском порыве»
(II, 653). Бунт как моральная позиция призван со¬
действовать не истории, посредством насилия и про¬
извола устремляющейся к созиданию неведомого
бытия, а самому бытию, в котором протекает наше
существование.
Искусство, по мысли Камю, является чисто чело¬
веческим выражением бунта. «Искусство учит нас,
по меньшей мере, тому, что человек не сводим пол¬
ностью к истории и что он имеет основание своего
бытия также и в царстве природы... Самые подспуд¬
ные из его бунтарских порывов — наряду с утверж¬
дением ценности общего для всех достоинства —
ради утоления жажды единства упорно требуют той
неуязвимой части бытия, которая зовется красотой.
Можно отвергнуть любую историю, но жить при этом
в ладу с морем и звездами» (И, 679). Человек может
ополчиться на вселенскую несправедливость суще¬
ствования, но лишь крайний нигилизм доходит до
утверждения, что все в мире безобразно. Искусство,
принимая красоту бытия и отрицая его несовершен-
210
С. Л. Фокин
ность, воплощает бунтарские устремления челове-
ка-творца. Художник, чтобы творить красоту, дол¬
жен и отвергать мир, и восхищаться им: «Искусство
спорит с действительностью, но не избегает ее»
(И, 662).
Художник уже одним своим стремлением к твор¬
честву вступает в противоборство с Богом и исто¬
рией. Создавая красоту вне истории, искусство про¬
тивопоставляет ей себя — недаром, замечает Камю,
все революционные реформаторы с подозрением
относились к искусству. Искусство спорит и с Богом.
Мы уже приводили поразившую Камю мысль Стани-
сласа Фюме: «Искусство, какова бы ни была его цель,
всегда является преступным соперничеством с Бо¬
гом» (С2,108-109). Это суждение известного критика-
католика, занесенное писателем в «Записные книж¬
ки» осенью 1943 года, приведено и в «Бунтующем
человеке» (раздел «Роман и бунт»), что, конечно, не
случайно. Эстетика бунта разрабатывалась Камю —
мыслителем и романистом — с опорой на метафи¬
зику богоборчества. Произведение искусства являет¬
ся делом рук человеческих. Художник, как убежден
Камю, может обойтись без трансцендентных «под¬
сказок». Все в его творчестве подчинено авторской
воле: «“Обитель”, “Федра”, “Адольф” могли быть на¬
писаны иначе — и не менее прекрасно. На все воля
художника — безраздельного господина» (С2, 37).
Отточенный стиль произведения, его совершенная
художественная форма (к чему стремится каждый
художник) являются, по Камю, выражением самого
непримиримого бунтарства человека-творца против
несовершенства Божественного творения.
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
211
Особую роль в этом бунтарстве Камю отводит
искусству романа. В 1945 году, читая «Историю фран¬
цузской литературы» А. Тибоде, он вновь подмечает
ключевую мысль эстетики бунта: «Тибоде о Бальзаке:
‘‘Человеческая комедия” — подражание Богу-отцу»
(С2, 158). В «Бунтующем человеке» эта идея получит
развитие: «Мир романа — не что иное, как поправ¬
ка, внесенная в реальный мир согласно подспудным
желаниям человека. Ибо он — точно такой же, как
мир, в котором живем мы, с его горем, ложью, лю¬
бовью. У его героев — наш язык, наши слабости,
наши достоинства. Их вселенная не более прекрас¬
на и поучительна, чем наша. Но герои романа, в от¬
личие от нас, познают свою судьбу до конца» (II, 666).
Роман отличается от жизни своей завершенностью,
Законченностью. Являясь делом рук человеческих,
он образует особый — чисто человеческий — мир,
в котором все обретает свой конец. «Роман кроит
судьбу по заранее подготовленной мерке. Таким об¬
разом, он соперничает с творением Бога и хотя бы
временно торжествует над смертью» (И, 668). Любо¬
пытны в этом отношении рассуждения Камю о реа¬
лизме. Реализм, стремясь, по его представлениям,
к непосредственному воспроизведению действитель¬
ности, оказывается лишь бесплодной копией акта тво¬
рения. Реалистом способен быть только Бог. Рома¬
нист, напротив, являясь человеком, уже в силу этого
обречен на преображение действительности. Реаль¬
ность и художественное воображение романиста
образуют необходимое единство искусства романа.
Эти размышления Камю очень примечательны: как
мы помним, работая над произведениями цикла
212
С. Л. Фокин
абсурда, он вообще отвергал реализм как художе¬
ственную установку. Тогда в его сознании доминирова¬
ли философско-символические принципы, теперь же,
справедливо утверждая, что «абсолютный реализм»
невозможен, Камю не отрицает плодотворности и
действенности реалистического подхода в творче¬
стве: «Подлинное искусство романа... использует дей¬
ствительность и только действительность, со всем
ее пылом и кровью, со всеми ее страстями и воплями.
Оно лишь добавляет в нее нечто, преобразующее ее»
(II, 673). Эти эстетические размышления Камю отме¬
тили важный поворот в эволюции его концепции
романа: поворот к сознательно реалистическому
подходу в художественном творчестве, теоретически
обоснованном в «Шведских речах» (1957) и статье
о Р. Мартен дю Гаре (1955), и частично воплотив¬
шемуся в новеллах сборника «Изгнание и царство»
(1957). Но об этом — в следующей главе.
Концепцию романа, изложенную в разделе «Ро¬
ман и бунт» «Бунтующего человека», иллюстрирова¬
ло одно интересное сопоставление, которое в свете
изложенного в предыдущем разделе не должно по¬
казаться неожиданным: «американский роман» и клас¬
сический французский роман.
Согласно представлениям Камю, в основе роман¬
ного творчества лежит человеческая потребность
в созидании своего мира, не уступающего Боже¬
ственному творению. Это своего рода ностальгия по
единению с бытием, тоска по цельности: «Американ¬
ский роман тщится обрести цельность, сводя чело¬
века либо к его элементарной сути, либо к внешним
реакциям и поведению. Он не отбирает чувства или
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
213
страсти, чтобы превратить их в исключительные
образы, как в наших классических романах. Он от¬
вергает анализ, поиск главного психологического мо¬
тива, который мог бы объяснить и определить пове¬
дение персонажа... Этот лишенный внутренней жизни
роман... вполне логично доходит до того, что, изби¬
рая своим единственным предметом так называемо¬
го “среднего человека”, выводит на сцену патологи¬
ческих типов. Этим объясняется изрядное число
“простодушных”, встречающихся в американском
романе. Простодушный — идеальное действующее
лицо подобных творческих опытов, ибо он полностью
определяется своим внешним поведением. Он —
символ отчаянного мира, в котором несчастные авто¬
маты живут в машинальной связности, символ, воз¬
двигнутый американскими романистами как патети¬
ческий, но бесплодный протест» (II, 668-669).
Столь пространная цитата из эссе Камю приведе¬
на нами, конечно, не для того, чтобы в очередной
раз показать его неприятие американского романа.
Мы уже говорили и о спорности, суммарности, вы¬
зывающей недоброжелательности оценок творчества
американских романистов Камю. Здесь важно дру¬
гое. Как это нередко бывает, в этой оценке очевид¬
но проступают моменты самооценки: давая развер¬
нутую критику американского романа, Камю вольно
или невольно критически осмыслял собственную
эстетику абсурда. Некоторые выражения, употреб¬
ленные им в этом фрагменте, почти дословно по¬
вторяют суждения о «Постороннем» если и не из его
собственных комментариев, то из работ других кри¬
тиков: «отсутствие внутренней жизни», «средний
214
С. Л. Фокин
человек», «персонажи просматриваются как бы сквозь
стекло», «простодушный» — «невинный» (innocent),
«бесплодный и яростный протест». Важно, что эта
самокритика явно указывала на существование прин¬
ципиально иных творческих принципов романиста,
включающих в себя то, что эстетика абсурда отри¬
цала в свое время.
И если абсурд требовал воссоздания отчаянной
безнадежности бытия, то бунт в романе был вызо¬
вом Божественному творению: «Чтобы произведе¬
ния прозвучало как вызов, оно должно быть завер¬
шено... Оно противоположно Божественному
творению. Оно отличается завершенностью, опре¬
деленностью, ясностью, оно замешано на человечес¬
ких притязаниях. Единство в наших руках» (С2, ИЗ).
Здесь, как мы видим, метафизика и эстетика бунта
смыкались с концепцией «нового классицизма». Твор¬
ческая рациональность, предельная осмысленность
художественного образа, взвешенное отношение
к художественному слову как основополагающие
принципы эстетического классицизма оказывались
практическими установками творческого сознания
писателя, устремленного к осмыслению бунтарско¬
го противостояния человека без Бога неустранимо¬
му злу Истории.
3. «ЧУМА»: ХРОНИКА БОРЬБЫ СО ЗЛОМ
«С точки зрения нового классицизма, — запи¬
сывает Камю незадолго до окончания работы над
романом о чуме, как бы пытаясь скрепить воедино
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
215
эстетическую и философские концепции про¬
изведения, — “Чуму”, пожалуй, можно считать пер¬
вым опытом изображения коллективной страсти»
(С2, 175). Работа над этим произведением, начавша¬
яся в 1938 году, но особенно интенсивно протекавшая
сразу после завершения «Мифа о Сизифе» (февраль
1941 года), была закончена на рубеже 1946-1947 го¬
дов, причем романист, обостренно переживая слож¬
ности создания романа, чуть было вообще не отказал¬
ся от его публикации. Осенью 1946 года в «Записных
книжках» появляется характерная запись, отражав¬
шая глубокие сомнения писателя и его смутное пред¬
чувствие творческой удачи: «“Чума”. Никогда в жизни
я не испытывал подобного чувства провала. Я даже
не уверен, что дойду до конца. И все же иногда...»
(С2, 174).
Работа над «Чумой» продвигалась чрезвычайно
трудно и медленно. Произведение вбирало в себя
плоды серьезных изменений в мировоззренческой
позиции писателя, предопределившихся трагически¬
ми событиями европейской истории 1939-1945 го¬
дов, оно отражало напряженные эстетические иска¬
ния романиста, тесно связанные, как мы убедились
в предыдущем разделе, с внутренней логикой раз¬
вития его философской мысли. Творческая история
«Чумы», романа, повсеместно воспринимавшегося
как хроника «европейского сопротивления нацизму»
(I, 1973), добавим — и всякому тоталитаризму, явля¬
ется своеобразной летописью духовной эволюции его
автора.
Первые заметки к роману относятся к 1938 году,
когда после провала «Счастливой смерти» писатель
216
С. Л. Фокин
полностью погружается в разработку новых замыс¬
лов. В «Записных книжках» имеется развернутый
прозаический набросок о трудной любви двух моло¬
дых бедных людей. В мире нищеты и изнуряющей
работы, в мире лишений и страданий, где «нет мес¬
та любви», любовь, вопреки всему абсурду существо¬
вания, способна крепко соединить двух людей в «за¬
чарованной пустыне» счастья, «какое испытывает
человек, видящий, что жизнь оправдывает его ожи¬
дания» (С1, 138). В «Чуме» этот фрагмент почти без
изменения войдет в трогательную исповедь Жозефа
Грана, скромного чиновника мэрии, мужественно
исполняющего свой долг в общей борьбе с губитель¬
ной эпидемией, а в недолгие часы досуга бьющегося
над первой фразой романа, которой должен оправ¬
дать его в глазах Жанны, покинувшей мужа из-за того,
что он «не сумел поддержать ее в убеждении, что она
любима» (1,1286). Любовь, таким образом, изначально
становится антиподом чумы, ее действенная сила
укрепляет волю человеку к сопротивлению злу.
Сентябрь 1939 года ввергает Европу в холодные
сумерки страшной войны, заставшей многих — как
подлинное стихийное бедствие — врасплох. Камю
хочет пойти добровольцем, но военно-медицинская
комиссия признает его к службе негодным. В «За¬
писных книжках» появляется несколько романи¬
зированный отклик на это обследование: «Но этот
малыш очень болен, — сказал лейтенант. — Мы не
можем его взять...» (С1, 176). Серия дневниковых
размышлений Камю, относящихся к тревожной осени
1939 года, свидетельствует, что абсурд человеческо¬
го существования, до сих пор имевший в сознании
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
217
писателя преимущественно метафизическое изме¬
рение, стал обретать отчетливые социальные конту¬
ры. Война зримо воплотила абсурд истории: «Разра¬
зилась война. Где война? Где, кроме сводок новостей,
которым приходится верить, да плакатов, которые
приходится читать, искать проявления этого абсурд¬
ного события?.. Люди стремятся поверить в нее. Ищут
ее лицо, но она прячется от нас. Вокруг царит жизнь
с ее великолепными лицами» (С1,165). Уже 7 сентяб¬
ря ощущение внезапности наступившей беды допол¬
няется первыми робкими попытками нащупать
истинные мотивы абсурда истории, причем уже тог¬
да социальные факторы разразившейся катастрофы
не мыслятся молодым писателем в отрыве от личной
ответственности: «Люди все хотели понять, где вой¬
на — и что в ней гнусного. И вот они замечают, что
знают, где она, что она в них самих, что она в этой
неловкости, в этой необходимости выбирать, кото¬
рая заставляет их идти на фронт и при этом тер¬
заться, что не хватило духу остаться дома, или оста¬
ваться дома и при этом терзаться, что они не пошли
на смерть вместе с другими. Вот она, она здесь, а мы
искали ее в синем небе и в равнодушии окружаю¬
щего мира. Она в страшном одиночестве того, кто
сражается, и того, кто остается в тылу, в позорном
отчаянии, охватившем всех, и в нравственном па¬
дении, которое со временем проступает на лицах.
Наступило царствие зверей» (С1, 170). Осознанию
личной ответственности сопутствует в этих размыш¬
лениях Камю опыт определения призвания человека
и художника в трудные годы воцарения зла: «Стрем¬
ление отгородиться — от глупости ли, от жестокости
218
С. JI. Фокин
ли других — всегда бессмысленно. Невозможно
сказать: «Я об этом ничего не знаю». Приходится ли¬
бо сотрудничать, либо бороться... Башни из сло¬
новой кости рухнули. Судить события извне невоз¬
можно и безнравственно. Только пребывая в лоне
этого абсурдного бедствия, мы сохраняем право пре¬
зирать его» (С1, 172). Все раздумья писателя о войне
были подытожены в «Письме к отчаявшемуся чело¬
веку» (С1, 178-182), оставшемуся в «Записных книж¬
ках» Камю как яркое свидетельство его глубоко
продуманной мировоззренческой позиции, которая
обусловила его посильное участие в Сопротивлении
и отразилась в ряде образов и сюжетных ситуациях
«Чумы».
Война в сознании Камю оказывается предельным
воплощением нелепости бытия в конкретной чело¬
веческой истории. Подобно тому, как метафизичес¬
кий абсурд требовал активного противостояния че¬
ловека, верующего только в свои собственные силы,
социальный абсурд призывал к активному сопротив-
лению(чума — как философская метафора абсурд¬
ной войны — оказывалась, согласно замыслу Камю,
тем неотвратимым бедствием, которое со всей мо¬
щью стихии побуждает человека к самоопределению,
к определению своей позиции перед грозным ликом
неотступной беды. Среди подготовительных мате¬
риалов к роману есть набросок, почти дословно по¬
вторяющий приведенные выше размышления писате¬
ля о войне — только слово «война» заменено в нем
на «чуму»: «Разразилась чума. Где чума? Где, кроме
сводок, которым следует верить, да плакатов, кото¬
рые следует читать, искать проявления этого страш¬
3. «Чума» и концепция «нового классицизма».
219
ного события?» (I, 1954-1955). В письме к Р. Барту
Камю, обосновывая связь проблематики своего ро¬
мана с недавними историческими событиями, под¬
черкивает: «Очевидное содержание “Чумы”... борь¬
ба европейского сопротивления пропав нацизма.
Доказательство этого — то обстоятельство, что враг,
не названный в романе прямо, всеми и во всех стра¬
нах Европы узнан... “Чума”, в некотором смысле, —
нечто большее, чем хроника сопротивления, но и не
меньшее» (I, 1973).
В январе 1941 года Камю после тягостных стран¬
ствий по дорогам побежденной Франции (Париж,
Клермон-Ферран, Лион) оказывается в Оране, од¬
ном из приморских городов французского Алжира.
Город, которому писатель уже посвятил одно язви¬
тельное эссе («Минотавр, или Остановка в Оране»,
1939 год), вновь производит на Камю гнетущее впе¬
чатление: «Нет ни одного места, которое оранцы не
испоганили бы какой-нибудь мерзкой постройкой,
способной перечеркнуть любой пейзаж. Город, ко¬
торый отворачивается от моря и строится, вертясь
вокруг своей оси, как улитка» (С1, 221). Скучные
городские пейзажи Орана, видимо, напомнившие
писателю сумрачные лабиринты холодных каменных
кварталов Праги, в которых он чувствовал себя так
неуютно и в которых задыхались герои его ранних
произведений, превращались в его сознании в образ
мрачной декорации, оттенявшей ничтожное суще¬
ствование обывателей, занятых преимущественно
«коммерцией». Оран — это анти-Средиземноморье,
город «абстрактных» людей, оторванных от приро¬
ды, от подлинной любви, от полноты бытия. Вопреки
220
С. Л. Фокин
его африканскому «происхождению» Оран становит¬
ся для Камю образом европейского города.
В Оране писатель сталкивается с яркими образа¬
ми никчемности человеческого существования. Пер¬
вой оранской записью 1941 года была зарисовка «ста-
рика-кошкоплюя», бросающего из окно второго
этажа клочки бумаг, чтобы привлечь кошек: «Потом
он на них плюет. Когда плевок попадает в одну из
кошек, старик смеется» (С1, 221).
В апреле 1941 года в «Записных книжках» впер¬
вые возникает образ чумы: «Чума, или Происшествие
(роман)» (С1, 229). Сразу за этой записью идет раз¬
вернутый план произведения под заголовком «Чума-
избавительница», в котором намечается ряд ведущих
образов, тем, сюжетных ходов романа: «Счастливый
город. Люди живут каждый по-своему. Чума ставит
всех на одну доску. И все равно все умирают... Фи¬
лософ пишет там “антологию незначительных поступ¬
ков”. Ведет, в этом свете, дневник чумы. (Другой
дневник — в патетическом свете. Преподаватель
греческого и латыни...) ...Черный гной, сочащийся
из язв, убивает веру в молодом священнике... Од¬
нако находится господин, не расстающийся со свои¬
ми привычками... Он умирает, глядя в свою тарелку,
при полном параде... Один мужчина видит на лице
любимой следы чумы... Он борется с собой. Но верх
все-таки одерживает тело. Его обуревает отвраще¬
ние. Он хватает ее за руку... тащит... по главной ули¬
це. Он бросает ее в сточную канаву... Напоследок
берет слово самый ничтожный персонаж. “В каком-
то смысле, — говорит он, — это бич Божий”»
(С1, 229-231).
3. «Чума» и копиеппия «нового классицизма»..
221
Как мы уже сказали, этот фрагмент относится
к апрелю 1941 года — до полного завершения ра¬
боты над романом оставалось больше пяти лет. Нельзя
не заметить, что в основных структурных моментах
первоначальная концепция романа, даже претерпев
значительные смысловые и эстетические изменения,
осталась неизменной.
«Антология незначительных поступков» войдет
в дневники Жана Тарру, включенные доктором Бер¬
наром Риэ в свою хронику чумы. Образ преподава¬
теля греческого и латыни Стефана, ведущего «пате¬
тический дневник» бедствия, исчезнет, по-видимому,
из-за чересчур личного характера мучающих его
переживаний. Его место займет образ журналиста
Рамбера, чувствующего себя «посторонним» в зачум¬
ленном городе. Образ молодого священника, теряю¬
щего во время чумы веру, найдет окончательное
воплощение в образе отца Панлу, ученого иезуита,
разъясняющего оранцам в своих проповедях смысл
ниспосланного на них бедствия («бич Божий»). Гос¬
подин, не расстающийся со своими привычками, —
это следователь Отон, непоколебимая чопорность
которого преобразится, однако, со смертью сына.
Безумный порыв мужчины, бросающего в сточную
канаву любимую, охваченную губительным недугом,
найдет отражение в образе Коттара, человека с тем¬
ным прошлым, которого чума освободила от пре¬
следований полиции: с окончанием эпидемии он при¬
мется стрелять в невинных людей.
В апрельском наброске, основе первой редакции
«Чумы», особый интерес вызывает очевидная равно¬
значность задуманных писателем позиций и ситуа¬
222
С. Л. Фокин
ций. Пытаясь установить преемственность нового
романа с романом об абсурде, Камю отмечает в (За¬
писных книжках»: «“Посторонний” описывает наго¬
ту человека перед лицом абсурда. “Чума” — глубин¬
ное равенство точек зрения отдельных людей перед
лицом того же абсурда» (С2, 36). Бороться или не
бороться с чумой — такой вопрос перед героями
романа пока не встает. Можно отдаваться составле¬
нию «антологии незначительных поступков», можно,
как Стефан, переосмыслять «Историю» Фукидида,
пребывая в мыслях с далекой возлюбленной, можно,
наконец, предав забвению все нормы человечности,
бросить в канаву зачумленную жену. Абсурдная чума
уравнивает неотвратимой смертью всех и вся. Равно¬
значность индивидуальных позиций, занятых жите¬
лями охваченного эпидемией города, предопределяв¬
шаяся, на наш взгляд, еще не преодоленным до конца
моральным индефферентизмом философской кон¬
цепции абсурда, подчеркивалась в первоначальной
редакции «Чумы» схематичной композицией. Как от¬
мечает Р. Кийо, специально занимавшийся сравне¬
нием двух редакций произведения, в первой «замет¬
ки Риэ, записные книжки Тарру и дневник Стефана
просто противопоставлены друг другу и объедине¬
ны лишь образом повествователя, за которым легко
угадывался автор» (I, 1939).
Первая редакция романа была завершена в янва¬
ре 1943 года. По просьбе Ж. Полана, ознакомивше¬
гося с рукописью Камю, отрывок из нее под назва¬
нием «Затворники чумы» (один из вариантов первой
главы второй части романа) был передан для публика¬
ции известному издателю Ж. Лескюру, задумавшему
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
223
возродить свободолюбивые традиции «Нувель Ревю
Франсез» в условиях Оккупации. Вставшая в оппо¬
зицию нацистскому режиму интеллигенция вына¬
шивала планы создания своего рода «Анти-Нувель
Ревю Франсез». Собранная Ж. Лескюром солидная
антология «Французский удел», вышедшая в свет ле¬
том 1943 года в Швейцарии, была одним из первых
серьезных свидетельств интеллектуальной оппозиции
французских писателей. В написанном Лескюром
предисловии отмечалось: «Вот уже целые месяцы ка¬
залось, что всякий голос Франции обречен на мол¬
чание». Однако многие поняли, что следует возвы¬
сить голос, и эта антология, продолжал Ж. Лескюр,
объединяет содружество писателей, возникшее
«вокруг свободы и человека».1 В самом деле, сбор¬
ник «Французский удел» собрал под своей облож¬
кой писателей самых разных направлений и убеж¬
дений: Л. Арагон и П. Валери, П. Элюар и Р. Кено,
Ж.-П. Сартр и Ф. Мориак, П. Клодель и А. Камю. Их
объединила тревога за судьбу Франции и вера в не¬
обходимость возрождения попранного достоинства
человека.
Фрагмент «Затворники чумы» был посвящен теме
разлуки, очень созвучной переживаниям многих
французов, по воле захватчиков оказавшихся вдали
от близких. Важно, по мысли Камю, что столь ин¬
тимное чувство, как разлука с любимым, стало все¬
общим переживанием. Чума в его произведении, как
и продолжавшаяся война, объединила людей в стра¬
дании.
1 Н. К ЪоПтап. Ор. ск., р. 301-302.
224
С. Л. Фокин
Законченный вариант «Чумы» не удовлетворил
Камю. Не удовлетворил, по-видимому, именно абсурд¬
ной равнозначностью изображенных жизненных по¬
зиций, явно не соответствовавшей крепнущим в его
сознании идеям бунта. В первой редакции романа,
даже в самом заголовке — «Чума — освободитель¬
ница», преобладали нигилистические мотивы фило¬
софии абсурда. На это указывает и один из первых
литературных источников «Чумы», который, как счи¬
тают многие исследователи, решающим образом по¬
влиял на оформление творческого замысла Камю.
Речь идет о литературно-эстетическом эссе «Театр
и чума», появившемся в октябре 1934 года на стра¬
ницах «Нувель Ревю Франсез».1 Автором его был Ан¬
тонен Арто (1895-1948), поэт, актер, драматург и
теоретик «театра жестокости», мечтавший в русле
сюрреалистических устремлений о всецелом осво¬
бождении «я», задавленного общепринятыми норма¬
ми и навязчивыми автоматизмами.
Арто, размышляя о необходимости согласования
человеческих поступков и мыслей, отводит театру
особую роль в очищении человека от всего непод¬
линного. Согласно его идеям, культура оказывает воз¬
действие на людей оригинальной силой, экзальтиро¬
ванной мощью, способствующим возвращению
природной жестокости человека. Театр создан для
того, чтобы возродить первородное естество чело¬
века, вернуть ему его подавленные желания. «Воз¬
действие театра, — писал Арто, — как и воздей¬
1 См. об этом, комментарий Л. Фокона: A. Camus. La Peste.
Extraits. Paris, 1965, p. 17.
3. « Чума » и концепция «нового классицизма»..
225
ствие чумы, благотворно, ибо, принуждая людей
видеть себя такими, какими они бывают на самом
деле, театр и чума срывают маски, вскрывают ложь,
вялость, низость, лицемерие; театр и чума сотряса¬
ют удушливую инертность материи, затрагивающую
самые очевидные данные чувств, открывая челове¬
ческим коллективам их скрытую мощь, театр и чума
заставляют их занимать по отношению к судьбе вы¬
сшие и героические позиции, чего бы никогда не
было без них».1 Для Арто чума является поистине
освободительницей, ибо помогает обрести желанную
свободу, она разрушает рамки морали, раздвигает
границы дозволенного, раскрепощает внутреннюю
энергию личности.
Камю, обратившийся к драматургии как раз в на¬
чале 30-х годов и постоянно следивший за публика¬
циями «Нувель Ревю Франсез», не мог не знать эсте¬
тических идей Арто. Его пьеса «Калигула», особенно
в редакции 1938 года, очень близка к эстетике «Те¬
атра жестокости».2 Более того, в словах императо¬
ра, вступившего на путь испытания беспредельной
свободы, слышна прямая перекличка с мыслями Арто
о «просветительской» роли чумы: «Мое царствование
до сих пор было слишком счастливым. Ни поваль¬
ной чумы, ни бесчеловечной религии, ни даже госу¬
дарственного переворота, короче, ничего, что может
сохранить вас в памяти потомков. Так вот, отча¬
сти поэтому я и пытаюсь возместить осторожность
1 Ibid., р. 17.
2 О влиянии Арто на драматургию Камю см.: К Gay-Crosier.
Les envers d’un échec. Étude sur le théâtre d’Albert Camus. Paris,
1967,- p. 134-135.
8 Зак 3210
226
С. Л. Фокин
судьбы... Одним словом, я подменяю собой чуму»
(I, 93-94). Чума, разрушительное и поучительное
бедствие, становится мрачной ипостасью Калигулы,
одержимого высшим своеволием. Ее абсурдная
неотвратимость является для людей своего рода
безоговорочным опровержением жизни в безза¬
ботности.
В окончательной редакции «Чумы» «освобождаю¬
щая» роль абсурдного бедствия почти не просмат¬
ривается. Абсолютная вседозволенность, как возмож¬
ное следствие полной безнадежности пленников
чумы, маячит где-то на заднем плане грозным пре¬
дупреждением: «Если эпидемия пойдет вширь, то рам¬
ки морали, пожалуй, еще раздвинутся. И мы увидим
тогда миланские сатурналии у разверстых могил»
(I, 1317).
Однако главный изъян первой редакции романа
был не столько в преобладании мотивов абсурда,
сколько в отсутствии идей бунта против него. Не
случайно поэтому, что уже в одном из первых на¬
бросков ко второму варианту романа появляется
характерная запись: «Больше социальной критики
и бунта» (С2, 68). В сентябре 1943 года мораль актив¬
ного сопротивления злу, прочно укрепившаяся в со¬
знании писателя, начинает доминировать в заметках
к роману: «“Чума”. Все борются — каждый на свой
лад. Трусость — только в том, чтобы встать на ко¬
лени» (С2, 107). Человек обязан не смиряться со
злом — вывод этот становится для Камю все более
очевидным.
Одновременно с началом работы над вторым вари¬
антом произведения (январь 1943 года) происходит
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
227
глубокое переосмысление самого образа чумы. Ес¬
ли вначале он имел смутные черты необъяснимого
бедствия, совместившегося в сознании писателя
с наступившей войной, то теперь романист стремится
представить в нем Зло, то есть некую необходимость
существующего мирового порядка. При этом анти¬
христианская направленность его мысли предопре¬
делила и всю остроту извечной проблемы теодицеи, —
как примирить существование Зла с благостью,
премудростью, всемогуществом и правосудием Бо¬
га, — оказавшейся в центре мировоззренческого
конфликта романа.
В переосмыслении образа чумы, превращавшего¬
ся в мрачную метафору мирового Зла, примечатель¬
ную роль, причем как раз в начале работы над но¬
вой редакцией романа, сыграли библейские мотивы.
Первая запись в «Записных книжках» Камю, относя¬
щаяся непосредственно ко второму варианту «Чумы»,
состояла из ряда выписок из Библии — те места, где
речь заходит о ниспослании Богом на ослушавших¬
ся Его людей моровой язвы. Вот одно из этих мест,
выразительно рисующее ярость и гнев Божий, на¬
правленные на всякого, дерзнувшего преступить
завет Его: «И наведу на вас мстительный меч в от¬
мщение за завет; если же вы укроетесь в города ваши,
то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки вра¬
га» (Лев. 26, 25). Чума, таким образом, оказывается
в сознании Камю не только, и даже не столько де¬
лом рук каких-то жалких коричневых калигул, одер¬
жимых идеей самовластного господства, сколько не¬
избывным началом бытия, непоколебимым принципом
всякого существования, тем Злом, без которого не
228
С. Л. Фокин
бывает Добра. Но кто в ответе за Добро и Зло?
В 1946 году, выступая перед монахами доминикан¬
ского монастыря Ля Тур-Мабург, Камю сказал: «Мы
все оказались перед лицом зла. Что касается меня,
то я, по правде говоря, чувствую себя подобно Ав¬
густину до принятия христианства, говорившему:
“Я разыскивал, откуда идет зло, и не мог найти вы¬
хода из этих поисков”» (И, 374). Выход Августина
известен: от Бога исходит добро, человек, в грехо¬
падении отпавший от Бога, произволением своим из¬
бирает зло. «Никто не добр», — заключает Авгус¬
тин. Камю переводит проблему зла в иную плоскость,
плоскость актуальной жизненной позиции человека,
повседневно сталкивающегося с реальным злом. Если
Бог при всей своей благости допускает зло как сред¬
ство просвещения и наказания провинившегося
человека, как должен вести себя человек? Должен
ли он безропотно подчиниться, должен ли со сми¬
ренной покорностью пасть на колени, когда зло
угрожает его существованию, существованию его
близких?
В «Чуме» позиция смирения со Злом, свойствен¬
ная, по Камю, христианскому миропониманию, пред¬
ставлена в образе отца Панлу. Ученый иезуит, сни¬
скавший себе известность трудами об Августине
(деталь немаловажная!), произносит в конце перво¬
го месяца чумы пылкую проповедь. Основной тезис
ее можно выразить в нескольких словах: «Братья мои,
нас постигла беда, и вы ее заслужили, братья». При¬
ведя стих из Исхода о чуме, одной из десяти страш¬
ных «казней египетских», проповедник добавляет:
«Вот когда впервые в истории появился бич сей, дабы
3. « Чума» и концепция «нового классицизма»..
229
сразить врагов Божьих. Фараон противился замыс¬
лам Предвечного, и чума вынудила его преклонить
колена. С самого начала истории человечества бич
Божий смирял жестоковыйных и слепцов. Поразмыс¬
лите над этим хорошенько и преклоните колена».
Чума в проповеди Панлу трактуется как «багровое
копье» Господа, неумолимо указующее на спасение:
тот самый бич, что жестоко разит людей и подтал¬
кивает их в Царство небесное. В чуме, утверждает
Панлу, дана «Божественная подмога и извечная на¬
дежда христианина». Следует с истинной силой по¬
любить Его, и «Бог довершит все остальное» (1,1296-
1300).
Такова, согласно представлениям Камю, мировоз¬
зренческая позиция христианства, предопределявшая
жизненную позицию человека, с надеждой взираю¬
щего на Бога. Как уже неоднократно указывалось,
Камю с излишней жестокостью изображает в своих
мыслях и трудах образ христианства.1 Но за его ка¬
тегоричностью, скрывающей искреннее стремление
мыслителя понять умом необъяснимое, угадывается
не разрушительная тяга к отрицанию, а неутолимая
жажда понимания, действенная потребность духов¬
ного диалога. Отвечая теологу М. Море, критико¬
вавшему автора «Бунтующего человека» за склон¬
ность его мысли к «перфекционистским» формам
христианства (гностики, катары, альбигойцы, янсе-
нисты), Камю писал о чувстве досады, преследую¬
щем его всякий раз, когда христианские мыслители
1 Ср.: «В Камю было нечто от катара» (A. A. De vaux. Albert
Camus: le christianisme et Phellenisme. — «Nouvelle Revue Luxem¬
bourgeoise», 1970, № 1, p. 18).
230
С Л. Фокин
«уличали» его в ограниченном понимании христи¬
анства (II, 744). Его спор с христианством, повто¬
рим это, велся не на языке «разоблачения», а на язы¬
ке диалога.
Миропонимание христианства, представленное
в первой проповеди отца Панлу, также встретило
разноречивые оценки. Так, Ж. Эрме, автор интерес¬
ной монографии о связях мысли Камю с христиан¬
ством, замечает об этой проповеди, что «лишь с боль¬
шими оговорками христианин согласится признать»
в ней истинное «евангельское слово».1 Однако в спе¬
циальном богословском исследовании, посвященном
проблеме зла в современности, мы встречаем совер¬
шенно противоположное мнение: «Эта проповедь,
какой бы спорной она ни казалась, очень правдо¬
подобна в устах священника 30-х годов, когда она
и произносилась».2 Действительно, реальная история
Европы конца 30-х — начала 40-х годов вполне мог¬
ла предоставить Камю примеры христианской рези¬
ньяции перед неудержимым натиском зла. По сви¬
детельству Р. Кийо, Камю говорил ему, что, работая
над главой о проповеди Панлу, он держал в памяти
«некоторые послания епископов и кардиналов
1940 года, призывавшие в духе режима Виши к по¬
вальному покаянию» (I, 1986). История, как мы ви¬
дим, тесно переплеталась в сознании Камю с Богом:
два непоколебимых Абсолюта угрожали человеку и
жизни. Один — реальным уничтожением, другой —
1 J. Hermeî. Albert Camus et le Christianisme. Paris, 1976, p. 93.
2 J.-P. Jossua. Discours chrétien et scandale du mal. Paris, 1979,
p. 117.
3. «Чума» и кониетшя «нового классишм.ил»..
231
требованием покорности. Бог и История оказыва¬
лись в его мысли двумя неиссякающими, то и дело
сливающимися в единый разрушительный поток,
источниками Зла: «Есть смерть ребенка, означаю¬
щая божественный произвол, а есть смерть ребенка,
означающая произвол человеческий. Мы зажаты меж¬
ду ними» (И, 380). Человеку остается или смириться
с произволом — оказавшись, таким образом, при¬
частным Злу, или отрицать произвол, как божествен¬
ный, так и исторический, активно сопротивляясь ему
и тем самым утверждая свою невиновность. Камю
вновь оправдывает человека: зло не в человеке, и че¬
ловек обязан и призван бороться со злом. Человек
в силу своей человечности обречен на бунт.
Прочно связав образ чумы с образом зла, рома¬
нист в течение 1943-1944 годов тщательно уточняет
полюса главного мировоззренческого конфликта
произведения. «Одна из возможных тем, — запи¬
сывает он в январе 1943 года, — борьба медицины
и религии...» (С2, 69). В конце года писатель еще
более обостряет противоположность бунта и сми¬
рения: «Медицина и религия: это два ремесла, и они,
как кажется, могут примириться друг с другом. Но
именно теперь, когда все предельно ясно, становит¬
ся очевидным, что они непримиримы» (С2,121). Чуть
позже, набрасывая черты образа доктора Риэ, при¬
званного выразить миропонимание, противопо¬
ложное религиозному, романист со всей опреде¬
ленностью формулирует глубинный смысл этого
противопоставления: «Врач — враг Бога: он борется
со смертью... его ремесло состоит в том, чтобы быть
врагом Бога» (С2, 129).
232
С Л. Фокин
В 1945 году в сборнике «Экзистенция», готовив¬
шемся к печати учителем Камю Ж. Гренье, появи¬
лась его «Заметка о бунте». Парадоксальным обра¬
зом эта заметка, вероятно из-за броского названия
сборника, ставшего одной из первых ласточек по¬
вального увлечения экзистенциализмом, способство¬
вала утверждению представлений о Камю как об «эк¬
зистенциалисте». Парадокс заключался в том, что
именно в этой философской работе Камю импли¬
цитно, а иногда и открыто критиковал экзистенциа¬
лизм как философскую доктрину. В «Заметке о бун¬
те» мысль Камю сделала первый, но решительный шаг
с уровня «экзистенции», то есть абсолютно незави¬
симого индивидуального существования, на основе
которого шла рефлексия «Мифа о Сизифе», к почве
бытия, к осмыслению человека как неотъемлемой
части космоса. Эта работа была исходным наброс¬
ком философии бунта, развернутой в «Бунтующем
человеке», она оказалась и своеобразным философ¬
ским комментарием к морали бунта, раскрытой в ро¬
мане «Чума».
Любой человеческий бунт в самой конкретной
исторической ситуации имеет метафизическую по¬
доплеку. В каждом акте неповиновения отражается
протест твари против творения и, в конечном ито¬
ге, против Творца. Бунт тесно связан с понятием
справедливости, ибо направлен прежде всего про¬
тив конкретной, сокрушающей человека, несправед¬
ливости. Но самой вопиющей несправедливостью
кажется человеку его неотвратимая смерть, неиз¬
бывные жизненные страдания и особенно гибель не¬
винных детей. Творец оказывается перед страстной
3. «Чума» и концепция «нового Классицизма»..
233
дилеммой бунтаря: или Он зол, несправедлив, не¬
милосерден, неблаг, или Его вообще нет.
В «Чуме» доктор Риэ встает на сторону стражду¬
щих, пытаясь исцелить их от болезни. Уже в этом
его поступке — протест, бунт против Создателя.
Если бы доктор «верил во всемогущего Бога, то пе¬
рестал бы лечить людей, предоставив эту заботу Ему»
(I, 1322). Когда мировой порядок управляется смер¬
тью, безжалостно разящей живые побеги жизни, быть
может, для самого Бога лучше, если в него переста¬
нут верить и «будут бороться изо всех сил против
смерти, не обращая взоры к небесам, где Он хранит
безмолвие» (I, 1323). Ключевая сцена романа в этом
отношении — сцена смерти Жака, маленького сына
следователя Отона. Смерть «невинного младенца»
оказывается в глазах Риэ возмутительным скандалом,
вскрывающим все немилосердие Господа. Следует
центральный философский диалог романа.
Риэ, обращаясь к священнику, запальчиво бро¬
сает: «Уж этот, по крайней мере, был невинным —
вы сами это прекрасно знаете» (I, 1396). На что свя¬
щенник, поставленный в положение богобоязнен¬
ного праведника, вынужденного усомниться в бо¬
жественной справедливости, отвечает с тихим
смирением: «...это возмутительно, ибо превосходит
человеческую меру. Но, быть может, мы должны
любить то, чего не можем понять» (1,1397). Однако
у Риэ другое понимание любви: «И даже на смерт¬
ном одре я не приму творение Божье, где истязают
детей» (1,1397). У отца Панлу остается единственное
убежище христианина, столкнувшегося с непости¬
жимой тайной творения: «Только сейчас, доктор, —
234
С. Л. Фокин
грустно произнес он, — я понял, что зовется благо¬
датью» (I, 1397).
Напряженный библейский подтекст этого диало¬
га, порой прорывающийся почти буквальным вос¬
произведением оборотов из «Книги Иова», осложнен¬
ный реминисценциями из надрывных бесед Ивана
и Алеши Карамазовых, придает спору Камю с хри¬
стианством проникновенную серьезность и безответ¬
ную — на путях разума — силу воплощения. Благо¬
дать, посредством которой верующий человек только
и может обрести благо в Боге, оказывается камнем
преткновения для насквозь рационального ума Камю.
«Смысл моего творчества, — записывает он сразу
после набросков к образу доктора Риэ, — столько
людей лишены благодати. Как жить без благодати?
Следует напрячь все силы и сделать то, чего никогда
не делало христианство: заняться преданными про¬
клятию» (С2, 129-130). В чем вина человека, которо¬
му неведома благодать? Действительно ли человек,
лишенный ее спасительной силы, обречен пребывать
рабом зла? Есть ли основания добра в существова¬
нии такого человека? Герои «Чумы» по-разному от¬
вечают на эти вопросы, а сам писатель склоняется
к непритязательной, но трудной истине: «Для “Чу¬
мы”: в человеке больше черт, достойных восхище¬
ния, чем презрения» (С2, 89).
Вторая проповедь отца Панлу была менее пыл¬
кой. Чума в его трактовке выступает уже не как
наказание Божие, а как испытание. «Самое жесто¬
кое испытание — и оно благо для христианина»
(1,1401). Нет ничего на свете, утверждает святой
отец, что было бы важнее страдания ребенка. Нет
3. «Чум» и концепция «нового классицизм»..
235
ничего страшнее, чем ужас, вызываемый этими стра¬
даниями. Непостижимы причины его. Но милость
Господа в том и состоит, что перед лицом непере¬
носимой муки, ниспосланной Им, человеку дается
бесценная возможность со всей истовостью полю¬
бить Его — или отвергнуть. «Нет, середины не дано.
Надо принять этот скандал, ибо нам следует избрать
либо ненависть к Богу, либо любовь к Нему. А кто
дерзнет избрать ненависть к Богу?» (I, 1405). Ответ
отца Панлу — добродетель безоговорочного при¬
ятия мира и Бога; не безропотная покорность, не
униженность, а любовное смирение человека перед
непостижимой тайной бытия. Разумеется, это не от¬
вет самого Камю, но добродетель религиозного миро¬
понимания освещена им верным и ясным светом.
Ж. Онимюс, исследователь христианских мотивов во
французской литературе XX века (широко известны
его работы о Ш. Пеги), отзывается о проповеди Пан¬
лу следующим образом: «Богослов не может не при¬
знать точности аргументов, которые употребляет
Панлу: не покорность, не фатализм, а крестная мука
приятия, соединенная со стремлением к борьбе про¬
тив зла».1
Ответ доктора Риэ нам известен: следует бороть¬
ся со злом, не поднимая глаза к небесам, где Бог
хранит суровое молчание. Борьба сближает людей:
не случайно духовному одиночеству, в котором в ко¬
нечном итоге оказался священник, Камю противо¬
поставляет мужественное братство преданных зем¬
ным, а не божественным интересам людей. Ремесло
1 ]. Оттиз. Сатив. Вп^ев, 1965, р. 48.
236
С. .7. Фокин
доктора, поставившее его в центр трагических
событий, вызванных чумой, естественным образом
располагало его к роли объективного свидетеля, хро¬
никера случившейся беды.
Жан Тарру воплощает несколько иное отношение
к чуме. Строго говоря, это он, а не доктор Риэ явля¬
ется антиподом отца Панлу. Исходя из идеи абсурда
существования, он стремится достичь наивысшего
величия человека, своего рода «святости без Бога».
«Теперь я знаю только одну конкретную проблему, —
говорит он Риэ, — можно ли быть святым без Бога?»
(II, 1427). В Тарру получает развитие один из глав¬
ных мотивов «Постороннего» — мотив тернистого
пути к святости отрицания, высокомерного героиз¬
ма без Бога. Осознав абсурдность жизни, столк¬
нувшись с разящей мощью неискоренимого зла,
человек, стремясь сохранить убеждение в своей
невиновности, в своей изначальной причастности
добру, не может не встать на сторону страдающих
людей. В этом и состоит его святость без Бога. Док¬
тор Риэ лишен столь непомерных притязаний: «Ду¬
маю, я просто лишен вкуса к героизму и святости.
Единственное, что мне важно — это быть челове¬
ком» (I, 1427). Героическая аскеза отрицания, свя¬
занная с попытками логического развития филосо¬
фия абсурда, отступает в мысли Камю перед пока
еще смутными, но неустранимыми основаниями че¬
ловеческой морали. В интервью К. Шонез он заме¬
чал: «Ближе всех мне в этой книге не святой Тарру,
а Риэ, доктор».1
1 Цит. по: Р. СаШагй. Ьа Peste. Сатиэ. Рапе, 1973, р. 48.
3. « Чума» и концепция «нового классицизма»..
237
В образе журналиста Рамбера также проступа¬
ют некоторые мотивы абсурда. Подобно Мерсо, он
одержим стремлением к личному счастью; оказав¬
шись в зачумленном городе, он чувствует себя «по¬
сторонним», ибо разлучен с любимой. Его протест
против заточения трусостью не объяснить: он уже
воевал в Испании, защищая там идеи свободы. Те¬
перь, однако время героических идей прошло:
«Хватит с меня людей, умирающих за идею. Я не верю
в героизм, я знаю, что быть героем легко, и знаю,
что этот героизм губителен. Единственно, что для
меня ценно, — это умереть или жить тем, что лю¬
бишь» (I, 1351). В рассуждениях Рамбера предвосхи¬
щается то понимание любви, которое в 50-е годы
станет в мировоззрении Камю определяющим. Че¬
ловек без шобви, без действенного любовного отно¬
шения к миру и своим близким оказывается голой
абстракцией, элементарной идеей. Однако тяга к сча¬
стливому единению с любимой неизбежно влечет за
собой отъединение от других людей, отказ разде¬
лить общую беду. Рамбер, решив остаться в городе,
делает шаг к человеческому сообществу: «Все-таки
стыдно быть счастливым в одиночку» (I, 1389). Хо¬
чет он того или нет, человек живет в истории, сре¬
ди людей, и потому все зло истории, все бедствия,
сокрушающие людей, непосредственно его касают¬
ся. Слова Рамбера «Эта история касается всех нас»
относятся не только к страшной истории чумы в го¬
роде Оране, в них отражено твердое убеждение са¬
мого писателя: бессмысленно отрицать историю,
какой бы злой и несправедливой она ни казалась,
следует бороться с ее злом.
238
С. Л. Фокин
В этом отношении примечателен образ Жозе¬
фа Грана, скромного служащего городской мэрии,
беспрекословно исполняющего свой долг. Его так¬
же поддерживает любовь, но любовь несчастная.
Устремленный мыслями к далекой Жанне, он нахо¬
дит в образе утраченной любимой те силы, которые
необходимы человеку в его негероическом проти¬
востоянии злу. Любовь оказывается для него и источ¬
ником творческой страсти. Неприметный чиновник
мечтает написать роман и без конца бьется над его
первой фразой: «Прекрасным майским утром строй¬
ная амазонка на великолепном гнедом скакуне не¬
слась среди цветов по аллеям Булонского леса...»
(1,1434).
Образ неудачливого, но не утратившего надежду
художника-романиста, увлеченного идеалом творчес¬
кого совершенства, содержит элементы самопаро-
дии: вспомним, что над «Чумой» Камю работал около
восьми лет. В неустанных поисках Граном нужного
слова, в его тяге к овладению многосмысленностью
языка можно заметить и ироничные отклики Камю
на художественные искания Ф. Понжа и Ж. Полана,
двух знаменитых «перфекционистов», работы кото¬
рых его по-настоящему волновали. Однако «роман¬
ные мучения» Грана проливают неожиданный свет
и на проблему жанровой природы «Чумы».
Первые ее издания выходили с авторским обозна¬
чением жанра — «роман». Через некоторое время
оно было замечено другим — «хроника». Камю от¬
казался считать свое произведение романом, для
него оно было именно хроникой. В критической
литературе на этот счет существуют разные точки
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
239
зрения. Так, М. Брюэзьер в своих комментариях
к «Чуме» подходит к произведению как к роману.
Отсюда его нескрываемая сдержанность в оценке
искусства Камю-романиста: «Все персонажи, разно¬
ликие в начале произведения, оказываются, по тер¬
минологии Сартра, в ситуации: они описываются не
как свободные люди, а по их личному отношению
к одному и тому же феномену: чуме... Эта эстетиче¬
ская предвзятость лишает роман жизни. Персонажи
не рельефны, их не видно, или видно плохо».1 Кри¬
тик не учитывает одного важного обстоятельства:
Камю писал не роман, а роман-хронику. Если попы¬
таться оценить произведение в свете его замысла,
то необходимо понять, почему тут понадобилась
хроника, а не роман. П. Гайар в своей работе, по¬
священной «Чуме», анализируя жанр произведения,
утверждает, что «хроника» соответствует драматур¬
гическим склонностям эстетического сознания Камю:
«Драматург может лишь показывать — без всякой
искусственности, он силен тем, что продолжитель¬
ность изображаемого им конфликта равняется про¬
должительности самого спектакля... Пьеса не вну¬
шает нам иллюзий... Она заставляет нас переживать
саму реальность».2 Подобная точка зрения заслужи¬
вает более детальной аргументации, однако, на наш
взгляд, в эстетической концепции «Чумы» более дей¬
ственную роль сыграли не драматургические прин¬
ципы писателя, а его достаточно стойкие и разрабо¬
танные представления о романе.
1 М. Brué^ière. La Peste d’Albert Camus. Paris, 1972, p. 21.
2 P. Gaillard. Op. cit., p. 17.
240
С. Л. Фокин
В «Чуме» два писателя: Жозеф Гран, погружен¬
ный в идеальный мир своего романа, и доктор Бер¬
нар Риэ, задумавший составить свидетельство о пе¬
режитом бедствии. О чем же будет роман Грана?
Нетрудно догадаться — о любви. Как и всякий роман,
он расскажет грустную и трагическую историю люб¬
ви, без которой немыслима жизнь. Этот ненаписан¬
ный роман мыслится Граном как запоздалое любов¬
ное признание, как попытка последнего объяснения:
неслучайно, в минуту отчаяния вместо бесконечных
«амазонок» он просто пишет письмо любимой: «До¬
рогая моя Жанна, сегодня Рождество...» (I, 1434).
Любовь как самая человеческая и человечная
страсть — неизменный предмет романа. В любви
происходит единение человека с человеком. Утрата
любви рождает неизбывную ностальгию. В «Бунтую¬
щем человеке» тоска человека по близости с другим
человеком, а значит, и по близости с миром, будет
непосредственно связана с романным творчеством:
«Мы хотим, чтобы любовь длилась вечно, хотя знаем,
что это невозможно; а если даже каким-то чудом
она и длится всю жизнь, то все равно остается неза¬
вершенной» (II, 664). Роман, по мысли Камю, и при¬
зван сохранить любовь. Завершая в воображаемом
пространстве искусства прерванные смертью или
абсурдной жизнью страсти людей, роман являет
собой торжество человека над небытием. Страст¬
ная привязанность человека к человеку, романиста
к своему герою, художника к своему творению ле¬
жит в основе искусства романа. В уже разбирав¬
шемся нами предисловии к Шамфору Камю, говоря
о классической традиции французского романа,
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
241
подчеркивал: «Ни один из наших великих романов
не может быть понят без этой великой страсти к че¬
ловеку» (II, 1107).
Однако любовь, являясь чисто человеческой стра¬
стью, неотделима от индивидуализма. Любовь — это
индивидуальная страсть. Современность, вовлекая че¬
ловека в историю, в массовую целенаправленную
историческую активность, отрывает человека от люб¬
ви и индивидуализма. Место индивидуальных стра¬
стей, вдохновлявших романистов прошлого, занима¬
ют коллективные страсти, терзания, переживания.
Именно в этом смысле «Чума», по определению Ка¬
мю, «с точки зрения нового классицизма», призвана
отобразить «коллективную страсть» (С2, 175). Со¬
гласно логике творческого сознания писателя, ро¬
ман должен уступить место какой-то иной форме
творчества; трогательная история любви двух оди¬
ноких людей отходит на второй план — главным ста¬
новится повествование о всеобщих терзаниях лю¬
дей; романист вытесняется хронистом, «идеальный»
мир романа, в котором происходит духовное воссо¬
единение человека с человеком, отступает перед жес¬
токой реальностью картины трудной борьбы людей
со злом. Хроника, главным достоинством которой
является незаинтересованная правдивость, оказыва¬
ется в глазах Камю формой творчества, способной
верно передать смысл истории, в которой человек
принадлежит уже не столько себе и своим индивиду¬
альным страстям, сколько общим переживаниям.
Философская концепция бунта, лежащая в осно¬
ве морали активной борьбы со злом, обнаруживает,
таким образом, самый существенный сдвиг мысли
242
С. Л. Фокин
Камю в 40-е годы: преодолевая индивидуализм
абсурда, мыслитель вплотную подходит к признанию
и обоснованию существования внеличностных цен¬
ностей. Бунтарь, выступая против божественной
и исторической несправедливости, подвергает опас¬
ности свою жизнь и значит утверждает в бунте то, что
превосходит ценность его жизни. В «Заметке о бун¬
те» этот сдвиг четко фиксируется Камю, причем
с настойчивыми коннотациями художественного
образа чумы (напомним, что «Заметка» относится к
1945 году: «По крайнем мере, вот он, первый шаг
вперед, сделанный бунтарским умом от рефлексии,
проникнутой абсурдностью и кажущейся бесплодно¬
стью мира. В опыте абсурда трагедия обладает инди¬
видуальным характером. Начиная с движения бунта,
трагедия становится коллективной. Это уже всеобщая
авантюра... Боль, мучившая одинокого человека, ста¬
новится повальной чумой. Из этой осознанной со¬
лидарности людей вытекает следующее: лишь чело¬
век заслуживает жертвы человека» (II, 1685).
Хроника оказывается той художественной фор¬
мой, в которой изображение индивида становится
несущественным: важно засвидетельствовать общий
тон жизни, главное содержание которой — со¬
противление злу. Это постепенное вытеснение темы
любви, как индивидуальной страсти, неуместной
в условиях общего страдания, легко проследить по
«Записным книжкам» писателя: «Быть может: пере¬
писать с начала до конца все, что касается Стефана,
исключив тему любви» (С2, 67). Окончательно этот
образ исчез после того, как Камю осознал невозмож¬
ность существования подлинной любви во время
3. «Чума» и концепция «нового классицизма»..
243
повальной чумы; личная страсть, соединяя двух лю¬
дей, отъединяет их от остального мира. Чума, без¬
жалостное зло человеческой истории, требует актив¬
ного солидарного противоборства людей, обрекает
их на разлуку с любимыми. Оторванность человека
от дорогого существа оказывается общим уделом
всех, кто выступает против чумы. «Таким образом, —
записывает Камю в одном из планов к “Чуме”, —
тема разлуки должна стать в произведении главной»
(С2, 80).
Мир, в котором властвует чума, отлучает челове¬
ка от любви. Но без любви, без страстной привязан¬
ности человека к человеку, без духовного единения
человека и всего космоса жизнь — и Камю в этом
все сильнее убеждается — невозможна. Бунт людей
против чумы требует возрождения любви. Любовь —
такова последняя интуиция его мысли.
Однако любовь означает не только ностальгию по
воссоединению человека и мира, но и чувство глубо¬
кого сострадания боли другого человека, сочувствие
иному внутреннему миру, сопереживание ему. Лю¬
бовь — это прежде всего стремление к пониманию,
к проникновению в тайны души другого, страсть
к познанию человека. Любовь — это знание души,
и в этом смысле она психология. Но что такое душа
человека? Равнозначна ли она его природе, подоб¬
ной природе бездушного мира? Так ли чист человек
от зла, как чиста природа? Камю до сих пор оправ¬
дывал человека, искал зло вне его, отвергал психо¬
логию, сосредотачивал свои творческие усилия на
познании зла мира, Бога, истории. Его хроника
борьбы со злом также представляет человека непри¬
244
С. Л. Фокин
частным злу, но на то она и хроника: собирая внеш¬
ние свидетельства героизма или малодушия перед
лицом зла, она оставляет без внимания самих людей,
их скрытые душевные движения. Герои хроники дей¬
ствуют, об их внутренних терзаниях мы можем лишь
догадываться. Не идет ли борьба добра и зла внутри
человека? Камю ожидало головокружительное «па¬
дение» в бездны человеческой души.
глава 4
«ЛЮБОВЬ»
ИЛИ ВОЛЯ К БЕЗУМИЮ
Философские, моральные, исторические и «религи¬
озные» позиции мысли Камю, отразившиеся в «Чуме»
и нашедшие завершенное выражение в «Бунтующем
человеке», вызвали непонимание и жесткую критику
со стороны различных культурных и политических
движений Франции конца 40-х — начала 50-х годов,
мировоззренческие основания которых так или ина¬
че затрагивались в этих произведениях. Беспокой¬
ная мысль писателя, вступившего для защиты своих
идей в долгую и изнурительную полемику (сборник
статей, откликов, интервью «Своевременные размыш¬
ления II», 1953), проходила, образно говоря, через
все мытарства чистилища. Говоря языком, более
соответствующим атмосфере идеологической не¬
терпимости послевоенной Европы, вступавшей в эпо¬
ху «холодной войны», она проходила унизительную
246
С. Л. Фокин
процедуру чистки, затеянную теми, для кого незави¬
симое свободомыслие было самым тяжким грехом.
Автор «Чумы» и «Бунтующего человека», дерзнувший
отстаивать идеи, которые ставили под сомнение без¬
удержный «прогрессизм» тех, кто слепо верил в Про¬
видение, и тех, кто полагал историю единственным
полем самоосуществления человека, очень скоро
оказался в своего рода духовном «изгнании», «зато¬
чении», одиночестве. Он был со скандальным шумом
отлучен самыми влиятельными «идеологическими
церквями» французской интеллигенции того време¬
ни: марксизмом и экзистенциализмом. Занятая Ка¬
мю в произведениях 40-х годов твердая позиция
«меры», призывавшая к ограничению человеческих
притязаний, к установлению необходимых для
жизни пределов во всяком человеческом деле, к со¬
размерности любого человеческого действия не с
мертвыми догмами идеологий, а с живой жизнью,
оказывалась в глазах современников безмерной
иллюзией запутавшегося одиночки: воля к «мере»
оборачивалась волей к «безумию», трагедии худож¬
ника, уничтожающего себя в порыве бесконечного
утверждения.
1. МЕЖДУ БОГОМ И ИСТОРИЕЙ
Идеи «меры» стали складываться у Камю во время
работы над «Чумой». В одном из фрагментов произ¬
ведения, который, правда, не вошел в окончатель¬
ную редакцию, но был опубликован весной 1947 года
в «Кайе де ля Плеяд», эти идеи впервые получили
4. «Любовь» или воля к безумию
247
отчетливое выражение: «Вообще, соблюдайте меру.
Мера — первый враг чумы, она естественное пра¬
вило человека. Немезида не была богиней возмез¬
дия, как этому учили в школах, она была богиней
меры. Ее жестокие удары обрушивались на людей
лишь тогда, когда они отдавались беспорядку и чрез¬
мерности. Чума возникает из злоупотребления. Она
и есть злоупотребление, она не умеет удерживать
себя» (I, 1969). Этот отрывок, вошедший во фраг¬
мент под названием «Наставление врачевателям
чумы», наглядно раскрывает действенный импульс
мысли позднего Камю: человек обязан стремиться
к самоограничению. Подчеркнем, речь идет не о слу¬
чайном ходе мысли, а о твердом мировоззренчес¬
ком принципе, совпадающем в эстетике с идеей «но¬
вого классицизма», идеей подчинения художника
тщательно обоснованным творческим правилам. Ра¬
зум должен сохранить человека от разнузданной
стихии самодовлеющей субъективности. Прислуши¬
ваясь к голосу человеческого разума, полагает Камю,
можно преодолеть мировоззренческий и историчес¬
кий нигилизм.
Для уяснения мировоззренческой позиции Камю
на рубеже 40-50-х годов, импульсов и логики ее раз¬
вития, действенно затрагивавшего художественное
мировидение писателя, который от «эстетики бун¬
та» переходил к «эстетике любви», нам следует от¬
влечься от историко-литературной проблематики и
обратиться к послевоенной политической истории
французской левой интеллигенции. Краткий экскурс
в эту чрезвычайно сложную историческую эпоху,
которую по точному слову современника можно
248
С. JI. Фокин
назвать «эпохой разрывов»,1 поможет уяснить важ¬
ные особенности эстетической эволюции позднего
Камю, определить истоки его новых творческих за¬
мыслов, проследить развитие его художественных
принципов.
Оккупация, движение Сопротивления, мужествен¬
ная борьба за Освобождение сплотили не только ле¬
вые силы Франции, единство которых перед войной
было нарушено нарастающей волной террора в Со¬
ветской России, но и все французское общество.
Страна жаждала перемен. Освобождение от нациз¬
ма переполняло надеждами на подлинную свободу,
демократию, революционное преобразование стра¬
ны, стремившейся избавиться от всякой возможно¬
сти повторения позора «странной войны».
Ведущая роль, сыгранная ФКП и СФИО в орга¬
низации Сопротивления, способствовала выдвижению
идеи социализма на передний план политической
жизни страны. Особенно выросло влияние француз¬
ских коммунистов, щедро оплаченное мученически¬
ми потерями партии в годы нацистского террора.
К тому же престиж ФКП поддерживался решающим
вкладом СССР в дело разгрома фашистской Герма¬
нии. Участие коммунистов в первых послевоенных
правительствах подкрепляло импонировавший интел¬
лигенции дух мощи, динамичности, энергичности, дух
крепко «организованного романтизма»,2 которым
веяло от коммунистов. Министры-коммунисты во
1 J. Daniel. L’Ère des ruptures. Paris, 1979.
2 M. Winock. Histoire politique de la revue «Esprit». Paris,
1975, p. 253.
4. «Любовь» или воля к безумию
249
главе с М. Торезом демонстрировали серьезность,
деловитость, компетентность.
Никогда еще Франция не была так близка к социа¬
лизму, как в первые послевоенные годы. «Носталь¬
гия Сопротивления», ностальгия по духовному еди¬
нению людей, сумевших победить в страшной войне,
способствовала укреплению стремления к поли¬
тическому единству. Компартия кажется многим
единственным прочным звеном духовного братства,
рожденного в маки. Э. Мунье, лидер христианского
персонализма, основатель и редактор влиятельного
среди интеллигенции журнала «Эспри», который до
войны занимал весьма сдержанную позицию по от¬
ношению к коммунистическому эксперименту в Рос¬
сии, в 1946 году видит в коммунистах надежную га¬
рантию предотвращения возрождения нацизма: «Нам,
в Европе, необходимы сильные коммунистические
партии, ибо только они являются единственной га¬
рантией против возвращения фашизма».1 Тот же
Мунье замечательно резюмировал внутреннюю дра¬
му левого интеллигента, который знает об эксцес¬
сах коммунизма, но страстно верит в социализм:
«Трудно не быть коммунистом, но еще труднее быть
им».2 Можно сказать, что искушение коммунизма
достигло необоримой силы. В вихре победных на¬
строений улетучивается всякая сдержанность в оцен¬
ках СССР. Страна победившего социализма овеяна
ореолом победы над нацизмом. То, что сокрыто за
1 Hpît. no: Guérin. Entre le socialisme idéal et le communis¬
me réel (1945-1952). — «Esprit», 1983, p. 60.
2 Ibid., p. 57.
250
С. Л. Фокин
этим ореолом, реальное лицо режима, пролагавше-
го дорогу в коммунизм, пока не бросается в глаза.
Эти 2-3 года были временем захватывающей «лири¬
ческой иллюзии», временем единения левых в пред¬
чувствии чего-то нового, временем томительного
нетерпения.
И все же ощутимые удары начинают разбивать
монолитность сознания интеллигенции, мыслив¬
шей историю в категориях непобедимого прогресса.
В марте 1946 года появляется французский перевод
«Слепящей тьмы» А. Кестлера. В современном иссле¬
довании, посвященном истории социалистической
идеи в послевоенной Франции, отмечается, что вы¬
ход этой книги произвел эффект разорвавшейся
бомбы.1 «Слепящая тьма» встречается в штыки не
только левыми, но и подавляющей частью всей фран¬
цузской интеллигенции. Вокруг книги завязываются
жестокие идеологические споры. «Я слышала, —
записывала С. де Бовуар в дневнике 26 мая 1946 го¬
да, — добрую сотню дискуссий о “Слепящей тьме”».2
Кестлер становится для французских коммунистов
«врагом № 1»: делегация членов ФКП во главе с
Ж. Дюкло наносит визит издателю А. Кальману-Леви
и настойчиво убеждает его воздержаться от публи¬
кации книг Кестлера.3 Но через несколько месяцев
выходит другая книга писателя, «Йог и комиссар»,
в которой наряду с художественным исследованием
1 Cl, J. Broyelles. Les illusions retrouvées: Sartre a toujours rai¬
son contre Camus. Paris, 1982, p. 82—83.
2 S. de Beauvoir. La Force des choses, p. 148.
3 CL, J. Broyelles. Op. cit., p. 68.
4. «Любовь» или воля к безумию
251
психологии «попутчика», интеллигента, активно со¬
чувствующего революционному изменению мира
(эссе «Анатомия одного мифа»), на основе офици¬
альной советской статистики давалось детальное
описание существующего в СССР режима (эссе «Миф
и советская реальность»). Количество погибших
и заключенных в советских лагерях Кестлер исчис¬
лял миллионами.
Французская интеллигенция была в шоке. Извес¬
тия об эксцессах сталинского деспотизма доходили
до нее еще до войны. Были известны книги Б. Сува-
рина, В. Сержа, знаменитое «Возвращение из СССР»
А. Жида, но к этим голосам не прислушивались. Вой¬
на, заставившая французов пережить позор, униже¬
ние, насилие бесчеловечной диктатуры, обострила
сознание людей, сделала зримыми добро и зло, жес¬
токость и милосердие, произвол и свободу, превра¬
тила их из абстрактных категорий в реальные тра¬
гические события. Опыт концентрационных лагерей,
пережитый Европой, с неумолимой откровенностью
показал ей, до каких пределов может дойти абсолют¬
ное отрицание морали в истории. Со страниц газет
1944-1945 годов не сходят фотографии узников фа¬
шистских концлагерей: живые скелеты с потухшими
взглядами.
Трудно было поверить, что страна, воплощавшая
социалистические чаяния всей левой интеллигенции,
страна, в 1945 году сокрушившая «концентрацион¬
ный мир» третьего рейха, сама была империей кон¬
центрационных лагерей. Тоталитаризм обнаружи¬
вал свою многоликость. Антифашизму, еще недавно
сплотившему левых, после победы над нацистской
252
С. Л. Фокин
Германией пришлось отступить на второй план пе¬
ред новым проявлением бесчеловечной жестокости
и несправедливости. Дж. Оруэлл проницательно за¬
мечал в 1944 году: «Грех почти всех левых — начи¬
ная с 1933 года и до сегодняшнего дня — в том, что
они хотят быть антифашистами, не выступая против
тоталитаризма».1 Однако к голосу Оруэлл а почти не
прислушиваются, появлению его книг чинят препят¬
ствия. Свидетельства о Гулаге, тем не менее, про¬
должают поступать: книги В. Кравченко, Д. Руссе, по¬
казания и признания советских военнопленных,
рассказы польских репатриантов. Левая интеллиген¬
ция бьется над проблемой советских лагерей: не знать
о существовании лагерей в 1946-1948 годах было
невозможно. Левым приходилось либо замалчивать
эту проблему, либо переставать быть левыми. Как
писал Р. Арон: «Линия раздела проходила между ин¬
теллигентами, не отрицающими существования ла¬
герей, и интеллигентами, разоблачающими лагеря».2
Советские лагеря оказались своеобразным поводом
задаться вопросом о целесообразное™ историческо¬
го процесса, вопросом о цели истории и средствах
ее осуществления. Это был один из фундаменталь¬
ных вопросов всей левой идеологии: имеет ли исто¬
рия смысл, определяемый самим человеком?
Сохраняя верность категориям исторического
материализма и воспринимая историю как борьбу
прогрессивных и реакционных классов, ведущую к
1 Цит. по кн.: В. СаШе. Ьев сотра^опв с!е гои^е. Рат, 1979,
р. 137.
2 Цит. по: С/, /. ВгоуеИез. Ор. ск., р. 89.
4. «Любобь» или воля к безумию
253
установлению бесклассового общества, левые во
Франции 40-х годов рассуждали следующим обра¬
зом: разоблачение лагерей наносит ущерб СССР,
а тем самым и делу социализма; критика Советской
России прямо или косвенно полезна Соединенным
Штатам, а тем самым и капитализму. В СССР стро¬
ится новое прогрессивное общество, к которому
устремлены все надежды левых, недостатки не ли¬
шают этого общества прогрессивности, все равно
оно рано или поздно заменит капитализм.1 Из-под
пера теоретиков исторического прогресса рожда¬
ются тонкие дефиниции «прогрессивного» насилия.
На страницах сартровского журнала «Тан Модерн»,
этого, по выражению Кестлера, «ежемесячного еван¬
гелия французских интеллигентов»2 появляется се¬
рия статей М. Мерло-Понти под общим названием
«Йог и пролетарий». Видный представитель универ¬
ситетской философии, основоположник оригиналь¬
ного феноменологического учения, писал, полеми¬
чески откликаясь на книги Кестлера: «В настоящее
время вопрос не в том, принять или отвергнуть на¬
силие, а в том, чтобы удостовериться, является ли
это насилие “прогрессивным”... Чтобы понять это,
следует поместить преступление в логику ситуации,
в динамику режима, в историческую тотальность,
к которым оно принадлежит, а не судить о нем как
о событии в себе, исходя из морали, безосновательно
1 Замечательный образец такого рода рассуждений представ¬
лен откликом Ж.-П. Сартра и М. Мерло-Понти на выступления
Д. Руссе. См.: М. Merleau-Ponty et J.-P. Sartre. Les jours de notre
vie. — «Les Temps Modernes», 1950, № 51, p. 1153—1168.
2 Æ, C. Koestler. L’Étranger du square. Paris, 1984, p. 83.
254
С. Л. Фокин
названной “чистой”».1 Не менее изощренно оправ¬
дывала историческое насилие С. де Бовуар. В ее ра¬
боте «Мораль двусмысленности», с октября 1946 года,
печатавшейся на страницах «Тан Модерн», имеется
«классическое» определение необходимости насилия
в деле исторического прогресса: «Противник СССР
прибегает к софизму, когда, подчеркивая преступ¬
ную жестокость сталинской политики, не соотносит
ее с преследуемыми целями... Линчевание негра
и уничтожение сотни оппозиционеров — факты
далеко не аналогичные. Линчевание — абсолютное
зло, пережиток отжившей цивилизации... неоправ¬
данное и непростительное преступление. Уничто¬
жение же сотни оппозиционеров — это, конечно,
скандал, но скандал, имеющий, возможно, свой смысл
и свои резоны... Возможно, без этой меры можно
было обойтись, возможно, она — необходимая часть
неудачи, сопутствующей всякому позитивному стро¬
ительству».2 Логика рассуждений парижских ин¬
теллигентов понятна, их исторический оптимизм
непоколебим, вера в исторический прогресс неисчер¬
паема, иллюзии беспредельны. Они — поистине
интеллигенты, их жизнью правят идеи. Интелли¬
гентское сознание узко, догматично, ограничено са¬
модовлеющим мирком стройных, но бесконечно
абстрактных идей, сквозь призму которых и воспри¬
нимается мир. Драматичность ситуации левого интел¬
лигента в послевоенной Франции как раз и опреде¬
лялась настоятельной необходимостью выбора —
1 M. Merleau-Ponty. Humanisme et Terreur. Paris, 1947, p. 10.
2 S. de Beauvoir. Pour une morale de Pambiguïté. Paris, 1974, p. 211.
4. «Любовь» или воля к безумию
255
между идеей и жизнью, идеологией и бытием, аб¬
стракцией и «почвой». И когда де Голль прокладывал
пути сильной и независимой Франции, французских
левых и их «попутчиков» неудержимо влекло к ком¬
мунизму. «Если нужно выбирать между де Голлем
и коммунистами, — говорил тогда Сартр, — я вы¬
бираю коммунистов».1
Мировоззренческая позиция Камю первоначально
не отличалась своеобразием, ее становление прохо¬
дило в общем русле сильнейших увлечений западной
интеллигенции идеями социализма и коммунизма.
Важно, однако, то, что, в отличие от своих будущих па¬
рижских «инквизиторов», Камю имел реальное пред¬
ставление о принципах коммунистической «этики»:
пробыв два года членом компартии в 1935-1937 го¬
дах, он был исключен из ее рядов после очередного
непредсказуемого изменения тактики французских
коммунистов по отношению к идее алжирской не¬
зависимости. По своему происхождению он всей ду¬
шой принадлежал левому движению, но уже перед
вступлением в партию мог различить «идею» и «жизнь».
Обстоятельно объясняя в письме к Ж. Гренье моти¬
вы своего вступления в компартию, двадцатидвух¬
летний Камю провидчески замечал, что том «Капи¬
тала» никогда не загородит от него жизни и человека
(СС, 22). Участие в движении Сопротивления укре¬
пило социалистические устремления Камю. В своих
статьях в нелегальной газете «Комба» он призывает
борцов-антифашистов объединиться вокруг социа¬
листической идеи, способной оживить и усилить на¬
1 Цит. по: А., С. КоезМег. Ор. ск., р. 83.
256
С. Л. Фокин
циональное единство Франции. Вместе с тем он под¬
черкивает, что некоммунистическая левая идеоло¬
гия должна развивать свое своеобразие.1 В это вре¬
мя антикоммунизм не соответствует его убеждениям.
«Если мы не согласны, — пишет он в октябре 1944 го¬
да, — с философией коммунизма и его моралью, мы
энергично отвергаем политический антикоммунизм,
прекрасно понимая его скрытые цели и устремле¬
ния» (И, 273).
Страшный опыт войны, по признанию Камю,
содействовал, среди прочего, и выработке пред¬
ставлений о подпитой цене писательского слова.
В предисловии к книге К. Бибера «Германия глаза¬
ми писателей Французского Сопротивления» он заме¬
чает: «Писатель, обнаружив внезапно, что его слова
обладают действенным зарядом, вынужден употреб¬
лять их взвешенно: опасность делает нас классика¬
ми» (II, 1490). Перед нами уже знакомый ход мысли:
в эпоху тоталитарных идеологий, враждебно про¬
тивостоящих друг другу, в эпоху навязчивых лозун¬
гов, с безрассудным рвением повторяющих такие
громкие слова, как «свобода» и «справедливость»,
писатель должен называть вещи своими именами,
писатель обязан отвечать за каждое свое слово; его
стремление к истине способно уменьшить долю зла,
ненависти, несправедливости, распространяемых
благодаря безответственности писателей, слепо пре¬
данных тоталитарным идеологиям. «Свобода, —
1 Подробнее см.: J.-J. Guérin. 1) Camus, homme de gauche. — «Re¬
vue politique et parlamentaire», 1988, mars — avril, p. 76—83; 2) Ca¬
mus devant le socialisme. — Cahiers Albert Camus 5, p. 345—360;
R Quillot. Camus et le socialisme.— Camus et la politique, p. 31—38.
4. «Любовь» или боля к безумию
257
подчеркивал Камю в одном из выступлений 50-х го¬
дов, — не в том, чтобы говорить то, что вздумается,
не в том, чтобы умножать число скандальных изда¬
ний и не в том, чтобы устанавливать диктатуру во
имя будущего освобождения. Свобода — в том, что¬
бы не лгать» (И, 726).
Впервые антитоталитарная направленность мыс¬
ли Камю определилась в цикле статьей «Не жертвы,
не палачи» (1946). Господство террора в XX столе¬
тии писатель объяснял тем, что человек, оторвав¬
шись от природы, полностью отдался истории. Мир
оказался во власти абстрактных идей и фанатичес¬
кого мессианизма, отрицающих настоящее во имя
смутного идеала будущего. В этом мире, где каждый
полагает, что обладает абсолютной истиной, диалог
как форма дружеского сосуществования людей ока¬
зывается невозможным. Утопичность доминирующих
идеологий, недостижимость их целей в реальной
жизни осложняются еще тем, что для их достиже¬
ния оказываются оправданными убийство, преступ¬
ление, массовый террор. Концентрационный ла¬
герь — современная форма рабства, и там, где
существуют лагеря, не может быть свободы: «Ника¬
кие доводы, исторические или неисторические,
прогрессивные или реакционные, не заставят меня
смириться с существованием лагерей» (И, 365). От¬
кликаясь на теорию «прогрессивного» насилия
М. Мерло-Понти, Камю замечает: «Мы отказываемся ве¬
рить, что справедливость — пусть даже временно —
требует уничтожения свободы. Если верить им на
слово, тирании всегда устанавливаются временно.
Нам объясняют, что есть огромная разница между
258
С. Л. Фокин
реакционной тиранией и тиранией прогрессивной.
Существуют будто бы концентрационные лагеря,
идущие в ногу с историей, и принудительный труд,
предполагающий надежду... Но если тирания, пусть
даже прогрессивная, продолжается на протяжении
жизни одного поколения, она означает для миллио¬
нов людей лишь рабскую жизнь — и ничего более»
(II, 387). Писатель призван разоблачать тиранию, его
долг называть насилие насилием, а не свободой.
Камю не отвергает идею социализма как свое¬
образного духовного и исторического движения,
связанного с борьбой социально униженных слоев
народа, она ему органически близка. В 1948 году
в письме к Р. Кийо, начинающему исследователю его
творчества и теоретику французского социализма,
он признается, что ему «было бы трудно жить в мире,
лишенном... социалистической надежды» (II, 1579).
Но политические формы государственного устрой¬
ства, которые под обликом социализма распростра¬
няют свое господство от России к Восточной Европе,
кажутся ему не чем иным, как диктатурой.
Но современники думали иначе. Позиция, заня¬
тая Камю в статьях «Не жертвы, не палачи», вызвала
резкую критику со стороны защитников опыта «ре¬
ального коммунизма» в России. Одним из первых
и самых серьезных оппонентов Камю в послево¬
енной Франции оказался Э. д’Астье де ля Вижери,
видный участник Сопротивления, ближайший спод¬
вижник и министр внутренних дел во временном
правительстве генерала де Голля. Э. д’Астье был не
только сознательным голлистом, он открыто сим¬
патизировал левым, редактировал «Либерасьон». Со¬
4. «Любовь» или воля к безумию
259
гласно представлениям Э. д’Астье, позиция Камю была
неэффективной, ибо в ней не учитывалась реальная
расстановка сил в послевоенной Европе. Комму¬
нистическая революция или дальнейшее развитие
капитализма — таковы были перспективы мира в то
время. Всякие поиски «третьего пути», по мысли
Э. д’Астье, неплодотворны и в конечном итоге при¬
водят к одной из двух альтернатив. Критикуя со¬
циализм, Камю становится тем самым сообщником
капитализма. Его призыв к морали был в глазах
Э. д’Астье призывом к непротивлению.
Камю в своих откликах на статьи Э. д’Астье кате¬
горически отвергал идеи непротивленчества. Непро¬
тивление, на его взгляд, это иллюзия, причем, как
с трагической убедительностью показала война,
очень опасная иллюзия. Непротивление злу насили¬
ем содействует распространению зла. Человек дол¬
жен сопротивляться злу, повторял Камю в полемике
с Э. д’Астье — в этом урок «Чумы». Но насилие,
призванное защитить человека от зла, не должно ста¬
новиться абсолютом. В его применении должна при¬
сутствовать «мера»: злоупотребление силой, счита¬
ет Камю подобно С. Вейль, чье творчество как раз в
это время становится ему известным, оборачивает¬
ся все тем же злом. Насилие неотделимо от исто¬
рии, оно сопутствует историческому действию че¬
ловека. Но даже если оно неизбежно, это еще не
значит, что оно оправдано. Камю отрицает не столько
насилие, сколько попытки оправдать насилие, поли¬
тические идеологии, узаконивающие применение на¬
силия, институты насилия, империи концентрацион¬
ных лагерей. «Мы никогда не скажем “да” социализму
2бО
С. Л. Фокин
концентрационных лагерей!» — таков заголовок
второго отклика Камю на статьи де ля Вижери (И,
1516).
Позиция Камю в первые послевоенные годы дей¬
ствительно казалась несколько утопичной. Критико¬
вать коммунистов, в душе придерживаясь левой
ориентации, было нелегко, отважиться на это мог
далеко не каждый. Гораздо легче было, закрыв глаза
на «отдельные недостатки» «реального коммунизма»,
продолжать поддерживать безусловно справедливую
линию исторического прогресса, что французская
левая интеллигенция и делала. На фоне всеобщего
отстраненного «попутничества» позиция Камю
вполне могла казаться прекраснодушным «дон-кихот-
ством». На самом деле это была позиция трезвой и
честной человеческой морали, однако увлеченность
интеллигенции прогрессом достигла такой силы, что
сама мораль превратилась в безнадежно устаревший
пережиток. С. де Бовуар, комментируя в своих вос¬
поминаниях полемику Мерло-Понти с Кестлером, пи¬
шет: «Он (Мерло-Понти — С. Ф.) подчинял мораль
истории намного решительнее любого из экзистен¬
циалистов. Мы решили вместе с ним... что мора¬
лизм — последняя цитадель буржуазного идеализма».1
Мораль казалась парижским интеллигентам «совокуп¬
ностью идеалистических трюков», препятствующих
свободному развитию исторической тотальности. Раз¬
рыв Камю с экзистенциализмом сартровского толка
был неизбежен. В своих исканиях конца 40-х годов
он все больше утверждается в мысли о том, что
1 S. de Beauvoir. La Force des choses, p. 152.
4. «Любовь» или боля к безумию
261
мораль не просто возможна, но и совершенно необ¬
ходима для ограничения убийственных эксцессов
истории. Экзистенциализм же, напротив, выдвигал
идею безусловной свободы человека и фундаменталь¬
ной обессмысленности бытия, соединяя их в идее аб¬
солютного самоосуществления человека в истории:
история, историческое развитие оказывается при
этом делом рук самого человека безотносительно
к какой-либо трансценденции.1 Мораль «меры» явно
противоречит имморализму свободного творчества
человека в истории.
До появления «Бунтующего человека» «морализм»
Камю мог восприниматься экзистенциалистами как
романтическая поза писателя, вынесенного на гре¬
бень славы ошеломляющим успехом первых книг.
«Бунтующий человек» все поставил на свои места.
В книге содержалась своего рода генеалогия совре¬
менного исторического нигилизма, достигшего па¬
роксизма в гитлеризме и сталинизме. По мысли Камю,
все началось в XVIII веке. В творчестве Сада убий¬
ство впервые получило теоретическое оправдание,
Французская революция узаконила государственный
террор как средство достижения справедливости
(И, 533). XIX век выдвинул в философии Гегеля на
первый план идею истории, непреложного истори¬
ческого становления. Идея истории обесценила аб¬
солютность морали: «Любая мораль обнаруживает
преходящий характер» (II, 550). Подхватывая «исто-
1 Подробнее о концепции истории в экзистенциализме см.:
P. H. Simon. L’Esprit et l’Histoire. Essai sur la conscience histori¬
que dans la littérature du XX siècle. Paris, 1954, p. 189—216.
262
С. Л. Фокгш
рицизм» Гегеля, вдохновленные мессианизмом
марксистской идеологии, революционные движения
XX века исходили исключительно из идей эффек¬
тивности: для достижения исторического прогресса
все средства хороши. Так, идея освобождения чело¬
века совмещалась с практикой его порабощения: во
имя будущей свободы оправдывалось любое беззако¬
ние, любое насилие, возведенное в ранг государствен¬
ной политики. Камю критиковал в своей книге марк¬
сизм1 и его адептов, экзистенциализм в ней почти
не упоминался, тем не менее полемика с ним ощу¬
щалась на многих ее страницах. Реакция экзистен¬
циалистов не заставила себя ждать, однако дело
осложнялось дружескими связями. Камю и Сартр под¬
держивали теплые отношения: но их соединяла, на
наш взгляд, не столько подлинная дружба, сколько
временная общность судьбы. Тем не менее, близость
эта питала жизнь и мысль двух писателей.
Нужен был кто-то третий: им стал Ф. Жансон, мо¬
лодой критик и публицист. Его статья о «Бунтующем
человеке» под названием «Альбер Камю, или Бунтую¬
щая душа» появилась в майском номере «Тан Модерн».
Рецензент упрекал Камю в политической индиффе¬
рентности, в стремлении остаться «посторонним» на¬
блюдателем реальной исторической борьбы. Не¬
которые замечания, быть может, и не были лишены
основания, но заходили они слишком далеко, пре¬
вращаясь в открытые нападки на личность и творче¬
1 Подробнее о критике марксизма Камю см.: Е. Pisier,
P. Bouret% Camus et le marxisme. — Camus et la politique, p. 269—
280.
4. «Любовь» или воля к безумию
263
ство Камю. Даже стиль «Бунтующего человека» Жан-
сон упрекал в искусственной изысканности: «Возни¬
кает опасение, что увлеченный законами стиля ху¬
дожник будет с удовольствием противопоставлять
свой стиль несоразмерности этого мира». Суть фи¬
лософской позиции «бунта» Жансон определяет как
все то же «непротивленчество»: «И если бунт Камю
желает неподвижности мира, то это касается исклю¬
чительно самого Камю. Если же он претендует хотя
бы немного повлиять на ход истории, необходимо
принимать существующие правила игры, вторгаться
в исторический контекст, выдвигать свои цели, вы¬
бирать своих противников».1
Понятно, что статья Жансона, опубликованная
в журнале Сартра, болезненно затронула самые
разные стороны сознания Камю. В первую очередь,
дружбу. Автор «Постороннего» был в литературном
Париже своего рода «посторонним».2 Его сближе¬
ние с Сартром в 1943-1944 годах до некоторой сте¬
пени объяснялось тем ощущением одиночества, ко¬
торое то и дело овладевало им вдали от родного
Средиземноморья. Б. Гретюизен, Б. Парэн, Ф. Понж,
Ж. Полан, другие мэтры «Нувель Ревю Франсез»,
1 F. Jeanson. Albert ou l’Ame révoltée. — «Temps modernes»,
1952, mai, p. 2070-2090.
2 «Являясь маргиналом по месту рождения, образования, проб¬
лемам здоровья и характера, который в придачу к пресловутому
кастильскому духу был, несомненно, трудным и противоречивым,
Камю разрывался между постоянным стремлением к одиноче¬
ству и безразличию, с одной стороны, и сильной потребностью
в участии и творческом сообществе — с другой» (R Gay-Crosier.
Albert Camus: algérianité et marginalité. — «Australian Journal of
French Studies», 1990, V. XXVII, № 3, p. 288-289).
264
С. Л. Фокин
к которым Камю тянулся всей душой, были намного
старше его, настоящей близости между ними не воз¬
никло. Кроме того, трудные времена Сопротив¬
ления делали несущественными мировоззренческие
разногласия. Камю писал тогда Гренье: «... Я не чув¬
ствую много общего ни с творчеством, ни с лично¬
стью Сартра. Но, зная тех, кто против него, следует
быть с ним заодно» (СС, 99).
Послевоенное историческое и политическое раз¬
витие способствовало определению позиций обоих
писателей; расхождение во взглядах по конкретным
политическим вопросам стало проявляться все чаще,
последовали первые серьезные размолвки (одна из
них — по поводу полемики Мерло-Понти с Кестле-
ром).1 Но были и примирения, и дружба, казалось,
существовала вопреки философии. Духовный диалог
мог стать своеобразной формой продолжения труд¬
ных взаимоотношений писателей, и «Бунтующий че¬
ловек», с его скрытой полемикой с экзистенциали¬
стской философией был, возможно, началом этого
диалога. Откровенно полемическая, иногда непри¬
миримо «изобличительная» позиция экзистенциа¬
листов, заявленная в статье Жансона, вскрывала
жесткий догматизм их мысли, строгую ортодоксаль¬
ность воззрений, отрицавшую саму возможность
иной мировоззренческой позиции — особенно
показательны в этом отношении упреки в интел¬
лектуальной неоригинальности и некомпетентности.
1 «Идеологическая и политическая оппозиция, которая суще¬
ствовала между Камю и Сартром уже с 1945 года, усиливалась
из года в год» (J. de Beauvoir. La Force des choses, p. 80).
4. «Любовь» или боля к безумию
265
«Инквизиторский» тон работы Жансона явно не со¬
ответствовал духу серьезной полемики. В «Падении»
Кламанс, саркастически откликаясь на идеологичес¬
кую нетерпимость современников, замечает: «Диа¬
лог мы заменили официальными сообщениями:
“Истина состоит в том-то и том-то. Можете с ней не
соглашаться, меня это не интересует. Но через не¬
сколько лет вмешается полиция и покажет вам, что
я прав”» (I, 1498-1499).
Камю ответил на критику Жансона длинным пись¬
мом, адресованным Сартру как редактору журна¬
ла.1 Этот поступок в глазах окружения Сартра был
не лишен оттенков уязвленного самолюбия и даже
высокомерности. С. де Бовуар вспоминает: «Камю,
делая вид, что не знает Жансона, написал Сартру
письмо, подлежащее опубликованию, где он называл
его «Господин редактор». Сартр ответил... и между
ними все было кончено».2 Письма Камю и Сартра бы¬
ли опубликованы в августовском номере «Тан Мо¬
дерн», там же была помещена еще одна статья Жан¬
сона под названием «Чтобы все вам сказать».
Направляя свое письмо Сартру, Камю считал дело
исчерпанным: он отвечал на критику, которую счел
некорректной, адресовал письмо редактору жур¬
нала, полагая, что тот несет ответственность за пуб¬
ликации, наконец, он действительно не был знаком
с Жансоном, а в душе, возможно, надеялся, что ре¬
1 См.: А. Камю. Бунт и рабство / Вступ. статья, перевод, ком-
мент. Ю. Гинзбург. — «Вопросы литературы», 1992, № 1, с. 206-
225.
2 S. de Beauvoir. Op. cit., p. 360-361.
266
С. Л. Фокин
цензентом его книги должен бы быть Сартр. В пись¬
ме редактору «Тан Модерн» Камю конкретизировал
основной тезис «Бунтующего человека», справедли¬
во обращая внимание на то, что в статье Жансона
он практически не затронут. Камю настаивал на том,
что абсолютизация истории, ее обожествление не¬
минуемо влечет к порабощению человека. В этом
и состоит «закон нигилизма», исследованию которого
посвящено его эссе: освобождая человека от всех
пут морали во имя грядущего счастья, историчес¬
кий нигилизм подчиняет его исторической необхо¬
димости. Безграничная свобода естественно соеди¬
нялась с абсолютным деспотизмом (И, 769-770).
Ответы Жансона и Сартра на письмо Камю были
еще более жесткими и непримиримыми, чем рецен¬
зия на «Бунтующего человека». По словам одного из
последних биографов Сартра, «Ответ Альберу Камю»
«несомненно занимает место среди самых жестоких
и свирепых текстов» автора «Слов».1 Сартр безого¬
ворочно определял Камю к разряду записных мора¬
листов, буржуазных гуманистов, идеалистов. Вновь
сыпались упреки в малообразованности, неспособ¬
ности понять самые элементарные истины экзистен¬
циализма: «Не смею советовать вам обращаться к мо¬
ей книге «Бытие и ничто», ее чтение покажется вам
бесполезно изнурительным: ведь вы презираете труд¬
ности мысли». В отклике Сартра на письмо Камю при¬
чудливо переплетались самоуверенная дидактичность
недавнего преподавателя философии, решившего
направить на путь истины зарвавшегося ученика
1 А. СоЬеп-ЗоЫ. Загйге. Рапе, 1985, р. 434.
4. «Любовь» или воля к безумию
267
(«А что если Ваша книга свидетельствует о Вашей
философской некомпетентности?»), с остроумными
литературными пародиями на произведения Камю
(«А где Мерсо, Камю? Где Сизиф? Где сегодня эти
троцкисты сердца, проповедовавшие перманентную
революцию? Убиты или в изгнании»).1 Суть пробле¬
мы, однако, вновь осталась в стороне. Экзистенциа¬
листы, провозглашая себя «критическими попутчи¬
ками» практического марксизма, отказывались
смотреть реальности в лицо. Как писал Жансон, «про¬
движение сталинизма по миру не кажется нам аутен¬
тичным революционным движением, однако оно
объединяет, особенно в нашей стране, большинство
пролетариата; следовательно, мы одновременно
и против него, поскольку мы критикуем его мето¬
ды, и за него, поскольку мы не знаем, не является ли
аутентичная революция чистой химерой, не знаем,
не должна ли революция пройти именно этим путем
с тем, чтобы впоследствии прийти к более человеч¬
ному социальному устройству...»2 Как мы видим,
революционное движение для экзистенциалистов
эсхатологично: главное — в нем участвовать, ибо
именно оно утверждает в надежде на иной, лучший
мир. Поистине царствие экзистенциалиста не от мира
сего. Если заменить религиозную терминологию
философской, то можно сказать, что историософия
экзистенциализма, по крайней мере, в сартровском
варианте, предполагает первичность случайности
1 J.-P. Sartre. Réponse à Albert Camus. — «Temps Modernes»,
1952, Août, p. 334-353.
2 F. Jeanson. Pour tout vous dire... — «Temps Modernes», 1952,
Août, p. 378.
268
С. Л. Фокин
в историческом бытии: случайность это не только
то, что может не быть, случайность конституирует
бытие. Вот почему риск — необходимое условие
исторического действия. Не тот революционер, кто
действует согласно законам исторического матери¬
ализма, но тот, кто законом своего действия полага¬
ет пари («а вдруг получится?»), кто рискует тем, что
есть во имя того, что может быть (или не быть). Это
нетерпение игроков, эта томительная жажда гибели
существующего объясняли непреклонное стремле¬
ние интеллигентов сартровского круга во что бы то
ни стало сохранить чистым образ социализма, даже
вопреки всякой очевидности.
Как мы уже отмечали, разрыв был неизбежен, он
лишь со скандальным шумом обнаружил полную
противоположность двух подходов к миру и чело¬
веку, которая давала о себе знать в самых далеких
от текущей политической жизни моментах. Камю —
человек диалога, усвоивший от Гренье ненавяз¬
чивую адогматичность мышления, особое философ¬
ское вопрошание, сильное не столько готовыми от¬
ветами, сколько глубокими вопросами. Все его
творчество — это своего рода вопрос, беспокойно
обращенный к современности. Сартр, напротив,
мастер монолога, ему, в сущности, не нужен собе¬
седник, его субъективность сильна, самодостаточна,
самоуверенна, она не терпит рядом с собой друго¬
го» и тем более «иного»: вот почему его жизнь напол¬
нена «разрывами» — Арон, Кестлер, Камю, Мерло-
Понти, наконец, С. де Бовуар. Живая мысль другого»,
даже если это друг, словно бы мешает развитию
сартровской мысли, для нее более плодотворно
4. «Любовь» или воля к безумию
269
отсутствие чужой мысли, нежели ее беспокойное
присутствие. В своем необычайно эмоциональном от¬
клике на смерть Камю Сартр замечательно выра¬
зил устремленность своей мысли к переживанию
«уничтоженной» мысли «другого»: «Мы были в ссоре,
он и я: ссора, это ведь ничто — просто должны были
не встречаться — ссора, это лишь иной способ жить
вместе, не теряя из виду друг друга в данном нам
тесном мирке».1
Оба писателя — хотели они того или не хоте¬
ли — были «властителями дум» послевоенного по¬
коления левой интеллигенции Франции, и их раз¬
1 J.-P. Sartre. Albert Camus. — Les critiques de notre temps
et Camus, p. 170. Разрыв Сартра с Камю можно объяснить ина¬
че: философ абсолютной свободы чувствовал себя свободно лишь
в женском обществе. Мужская мысль, мысль другого, который
не поступается своей свободой, которого, в отличие от другой,
трудно соблазнить «словами» — хотя бы уже потому, что он по
определению является соблазнителем — мало волнует Сартра.
См. об этом «Дневник странной войны»: J.-P. Sartre. Les carnets
de la dróle de guerre. París, 1983, p. 329-347. «Думаю, что я не испы¬
тываю потребности в друге, поскольку, в сущности, не испытываю
потребности ни в ком, мне не нужна помощь, суровая и посто¬
янная подмога, которую дает дружба... Я черпаю все из самого
себя... С друзьями все обстоит так же, как с философиями дру¬
гих: я их не перевариваю» (ор. cit., р. 337-338). Обсуждение проб¬
лемы отношений Сартра с женщинами завело бы нас слишком
далеко, заметим все же, что в знаменитой паре Сартр — Бову¬
ар психологическая роль мужчины исполнялась, как правило,
женщиной. Решительность последней сыграла свою роль в том,
что появилось два «Дневника странной войны» (ср.: J.-P. Sartre.
Les carnets de la dróle de guerre. Paris, 1995) и, в конечном счете,
<деа» Сартра: сопоставление двух изданий (первое подготовлено
С. де Бовуар, второе — А. Элькаим-Сартр — приемной доче¬
рью философа) наводит на мысль, что была в писателе доля
существа, которая не устраивала спутницу, более того, явно
270
С. Л. Фокин
рыв ознаменовал начало крушения монолитной
идеологии, настаивавшей на необходимости на¬
сильственного изменения мира. Кестлер вспоминал
об этом: «Они были как две звезды-близнецы,
блиставшие в зените экзистенциалистско-марк-
систского небосвода послевоенной французской ин¬
теллигенции... На третьем месте была Симона де
Бовуар, ее приглушенный блеск был блеском пла¬
неты, отражавшей свет этих звезд. Когда Сартр
и Камю поссорились, весь этот космос рассыпал¬
ся, и крайне левые стали уже не теми: во Франции
очень серьезно относятся к интеллигентам и их
размолвкам».1
Полемика вокруг «Бунтующего человека» при
всем ее резонансе в столичных изданиях 50-х годов
оставалась в общем умозрительным делом. Далеко
не все парижские интеллектуалы осознавали, что
спор шел об одном из капитальных произведений
современности, в котором критически осмыслялась
глубоко укорененная в европейском сознании идео¬
логия бунта, направлявшая жизнь и творчество не¬
скольких исторических поколений, по-разному пре¬
ломлявшаяся у Маркиза де Сада и якобинцев,
декабристов и Герцена, Маркса и Ницше, сюрреали¬
стов и сталинистов.
уклонялась от режима взаимной свободы, связывающего лич¬
ность сильнее иных общепринятых уз.
1 А., С. Koestler. Op. cit., p. 84. О разрыве Камю с Сартром
см. также интересную монографию Н. И. Полторацкой о С. де
Бовуар: //. И. Полторацкая. Большое приключение благово¬
спитанной девицы. Книги воспоминаний С. де Бовуар. СПб.,
1992.
4. «Любовь» или воля к безумию
271
2. «БУНТУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
ГЛАЗАМИ ОДНОГО БУНТАРЯ
Очень немногие писатели Франции 50-х годов со¬
чувственно восприняли «Бунтующего человека», еще
меньше было тех, кто решился открыто оспорить
правоту Сартра, единицы попытались по-настояще¬
му вникнуть в мысль Камю. Среди последних выделя¬
ется позиция Ж. Батая, который не только представил
на страницах журнала «Критик» детальный разбор
«дела» «Бунтующего человека», но и в течение цело¬
го десятилетия удерживал свою мысль в состоянии
обращенного к Камю безответного вопрошания.
Внимание Батая к книге Камю не было случай¬
ным: уже несколько лет он стремится наладить твор¬
ческий диалог с автором «Чумы», откликаясь на его
произведения глубокими и оригинальными статьями
или заметками. Особая драматичность этого диало¬
га определялась тем, что ему не суждено было стать
подлинным творческим содружеством, едва начав¬
шись, он оборвался, точнее говоря, продолжался,
но в мыслях одного Батая. И дело не только в том,
что Камю не захотел увидеть точек соприкоснове¬
ния своей мысли с идеями, выраженными во «Внут¬
реннем опыте» (1943), первой книге Ж. Батая, при¬
надлежавшей — отдельными своими частями — тому
же литературно-философскому пейзажу, в котором
возникли «Миф о Сизифе» или «Бытие и ничто» Сар¬
тра. Дело в том, что близость двух писателей была
чистой возможностью. И если Батай, почувствовав
открывшуюся возможность близости, сделал все, или
почти все, чтобы ее осуществить, то Камю, упорно
272
C. JI. Фокин
следуя своим путем, прошел мимо ее. Мысль «меры»
и красоты отвергла встречу со своей противопо¬
ложностью, с философией трансгрессии, с мыслью
«безмерности», «беззакония», «безобразия», которая
билась в книгах Батая, тщетно взывая к пониманию
современников.1
Первая статья Батая о Камю называлась «Мораль
несчастья: “Чума”».2 Критик связывал роман-хронику
с традицией французской моралистической литера¬
туры, правда, в согласии с собственными литератур¬
ными пристрастиями, называл Камю последователем
Маркиза де Сада: «Я попытаюсь показать, что изна¬
чальная установка мысли заставляет Камю встать на
сторону Сада».3 Не стоит удивляться подобному срав¬
нению: Камю, как мы помним, считал «божественно¬
го маркиза» не только «первым теоретиком абсо¬
лютного бунта» (II, 447), не только «литератором»,
все главные преступления которого совершались в
воображении, но и настоящим мастером особого ра¬
ционалистического письма, характерного, как это
определялось в статье «Сознание и эшафот», для
французского романа. Интереснее другое: Батай с
присущей ему проницательностью разглядел один из
самых действенных мировоззренческих мотивов
1 О творчестве Ж. Батая см.: С. /У. Зенкин. Жорж Батай. —
Французская литература 1943-1990. М., 1995, с. 799-809. Место
писателя во французской литературе мы попытались опреде¬
лить в специальной работе: Танатография Эроса: Жорж Батай
и французская мысль середины XX века / Пер., сост., коммент.
С. Л. Фокина. СПб., 1994.
2 G. Bataille. La Morale du malheur: «La Peste». — «Critique»,
1947, № 13, p. 3-15.
3 Ibid., p. 3.
4. «Любовь» или боля к безумию
273
творчества Камю, на который до него критики, как
это ни парадоксально, не обращали внимания. Речь
идет об ужасе человекоубийства. Отвращение к убий¬
ству, в особенности к убийству «идеологическому»,
«по высшим соображениям» или, что еще страшнее,
«узаконенному», объединяет, по мысли Батая, Мар¬
киза де Сада и Камю. Дело идет не о наивном мо¬
ралистическом отрицании, ибо и автор «Жюстины»
и автор «Калигулы» знают, что такое «страсть», тол¬
кающая человека к преступлению. «Я помню, — пи¬
шет Батай, приводя свои впечатления о постановке
“Недоразумения”, — когда поднимался занавес, сце¬
на уже дышала, непонятно почему, священным ужа-
сом»} Воля к «невозможному» мучает Калигулу и
героинь «Недоразумения». Раскрывая ее необоримую
силу, Камю дает волю мысли о «возможности» «не¬
возможного», основополагающей мысли бунтарской
морали. Однако в «Чуме», не без грусти замечает
Батай, Камю отступает от «морали бунта», связывая
своих героев «моралью несчастья», моралью «при¬
нятия закона несчастья». Для героев «Чумы» «здоро¬
вье» важнее «страсти».
По-видимому, Камю был немного задет статьей
Батая. Посылая критику экземпляр «Осадного поло¬
жения», он делает на книге дружескую надпись с иро¬
ничной просьбой прочесть ее как «Мораль счастья».
Батай немедленно откликается статьей «Счастье, не¬
счастье и мораль Альбера Камю»,2 которая имеет,
1 Ibid., р. 5.
2 G. bataille. Le Bonheur, le malheur et la morale d’Albert Ca¬
mus. — «Critique», 1949, № 33, p. 184—189.
274
С. Л. Фокин
с нашей точки зрения, принципиальный характер,
поскольку в ней, как нигде точнее, было выражено
коренное отличие философских позиций двух писа¬
телей. Признавая, что он чувствует близость к Камю,
Батай, тем не менее, определенно говорит о несовпа¬
дении устремлений своих мыслей с «моралью Камю»:
«Я не могу подчинить себя тому, что есть».1 Автор
«Осадного положения», напротив, ищет «меру», в
конечном итоге, «закон», который мог бы умерить
бунтарские порывы человека: «Классическая мораль
осуждала отступление от закона, бунтарская мораль
осуждает тех, кто удушает человечество законом».2
Батай ищет не «меры», а «суверенности» бытия.
Несмотря на эти расхождения, критик продол¬
жает думать о Камю. В начале марта 1949 года он
пишет ему письмо, в котором вновь звучит нотка
желанной близости: «Я собираюсь объединить цикл
статей о морали вокруг твоей позиции (смысл кото¬
рой тем более велик, что это позиция большинства
людей, — разумеется, я не имею в виду тех, кто дер¬
жится за свое рабство)».3 Очевидно, Батай понима¬
ет, что «мера», к которой стремится Камю, не имеет
ничего общего с расхожими понятиями об «умерен¬
ности», это не смирение, это дерзкий вызов чрез¬
мерности исторического бытия, теряющего связи
с бытием природным.
Идея Батая создать цикл статей о современной
морали перерастает в замысел книги о Камю. Книга
1 Ibid., p. 185.
2 Ibid., p. 188.
3 G. Bataille. Œuvres Complètes. V. VIII. Paris, 1979, p. 631.
4. «Любовь» или воля к безумию
275
осталась ненаписанной, но даже отдельные замет¬
ки, относящиеся к этому замыслу, дают почувствовать
необыкновенное стремление одного писателя быть
как можно ближе к мысли другого: «Сегодня я хочу
дойти до самой сути моих мыслей о Камю».1 В мыс¬
лях Батая автор «Бунтующего человека» являлся не
в образе неблагодарного наследника философско¬
го имморализма XIX века, как видели его христиан¬
ские мыслители, не в образе отступника нигилизма,
как представляли его марксисты и экзистенциалис¬
ты, Камю воплощает для него бессилие одинокой
и независимой творческой личности: «Камю — са¬
мый замечательный пример беспомощного провала
ницшеанства».2 Среди возможных названий задуман¬
ной книги фигурируют следующие: «Альбер Камю
или Поражение Ницше», «Альбер Камю: мораль и по¬
литика». Замысел постепенно сливается с другими
планами: проблема взаимосвязи литературы и зла,
понимавшегося как неискоренимая сила человеческой
негативности, образует один из центров притяже¬
ния мысли Батая в 50-е годы.3 Он думает о книге под
названием «Святость зла: опыт системы моралей»,
в вариантах подзаголовков этой также ненаписан¬
ной работы вновь возникает имя Камю: «Сад и Камю»,
1 Ibid., р. 641.
2 Ibid., р. 641.
3 Ср.: Ж. Батай. Литература и зло / Пер. и коммент.
Н. В. Бунтман и Е. Г. Домогацкой. Предисл. Н. В. Бунтман. М.,
1994. Книга была опубликована в 1957 году и представляет со¬
бой сборник литературно-критических эссе середины 50-х го¬
дов. В некоторых из них (особенно в «Жене») ощутимы отголос¬
ки полемики вокруг «Бунтующего человека».
276
С. JI. Фокин
«Камю и Зороастр». Заметим, наконец, что книга
«Святость зла», в которой должна была быть глава
«Сад и Камю», могла войти в «Сумму атеологии»,
основной корпус литературно-философской эссеи-
стики Ж. Батая. Как уже было сказано, планы эти не
осуществились, однако настойчивость, с которой
Батай обращается к философской позиции Камю,
взволнованная и многозначительная тональность его
заметок, посвященных младшему современнику, го¬
ворят сами за себя: отнюдь не удовлетворяясь уро¬
ком «Бунтующего человека», Батай сознает его не¬
обходимость, более того, стремится во что бы то ни
стало додумать его, высказывая порой неожиданные
догадки о дальнейшей судьбе Камю.
На появление «Бунтующего человека» критик от¬
кликнулся большой статьей «Время бунта»,1 где не
удержался от развернутого сравнения концепции
Камю с «теорией суверенности», к разработке кото¬
рой он приступил в начале 50-х годов.
В плане философской традиции понятие «суве¬
ренности» (слово «понятие», как и слово «теория»,
не подходит для суверенности Батая, в отношении
которой следовало бы говорить о «суверенном об¬
разе» мысли и жизни, но в отношении философской
традиции другие слова трудно подобрать) восходит
к Канту, к морали субъекта, который не желает быть
объектом для другого субъекта. В мысли Батая,
однако, кантовская мораль автономного субъекта
1 G. Bataille. Le Temps de la révolte I. — «Critique», 1951,
№ 55, p. 1019—1027; Le Temps de la révolte II. — «Critique», 1952,
№ 56, p. 29-41.
4. «Любовь» или воля к безумию
277
осложняется принципом безграничного желания,
представленным творчеством Маркиза де Сада. Если
кенигсбергский затворник, захотев определить гра¬
ницы человеческого разума, поставил под сомнение
саму возможность существования Беспредельного
(другого мира»), оставив индивида в пределах его
моральной суверенности, то знаменитый узник Бас¬
тилии, провозгласив утоление индивидуального
желания высшим принципом мысли и действия, об¬
наружил необходимость преодоления пределов че¬
ловеческого во всяком творческом действии того
индивида, который не желает более оставаться в пре¬
делах существующего.1 Иными словами, все преде¬
лы, все границы существуют для того, чтобы человек
их нарушал, если только, конечно, он действительно
желает суверенного бытия. Таким образом, «суверен¬
ность» из понятия превращается в жизненный импе¬
ратив, из теории переходит в жизненную практику,
это уже не философия, не литература, это экзи-
1 М. Фуко, размышляя о философии Батая, решительно свя¬
зал эти две крайние фигуры европейского Просвещения. См.:
М. Фуко. О трансгрессии. — В кн.: Танатография Эроса, с. 111-
131. Чуть позже на эту связь обратил внимание Ж. Лакан, пока¬
завший, что автономность морального субъекта в «Критике прак¬
тического разума» (1788) явственно перекликается с проповедью
аморализма в «Философии в будуаре» (1795): и там и туг ставятся
под вопрос трансцендентные нормы морали. См.: J. Lacan. Kant
avec Sade. — Ecrits. Paris, 1966, p. 765-790. Ср. замечание
крупнейшего знатока литературы французского Просвещения:
«Но Сад был прежде всего сыном своего века, и его творчество
подводит своеобразный итог философии Просвещения»
(М В. Разумовская. Жизнеописание Маркиза де Сада. — «Авро¬
ра», 1991, №9, с. 92).
278
С. JL Фокин
стенциапьный опыт человеческого творчества, опыт
рискованного сотворения человеком самого себя:
«Батай ищет суверенного существования, — пишет он
о себе в “Автобиографической заметке”, — которое
было бы свободно от всякого ограниченного поис¬
ка. Дело идет о том, чтобы быть, и быть суверенно,
о том, чтобы преодолеть использование каких-то
средств. О том, чтобы помимо всех средств дойти
до конца, пусть даже ценой непристойной беспоря¬
дочности. Философия, например, сводится Батаем
к акробатике — в наихудшем смысле слова. Речь не
о том, чтобы достичь каких-то целей, речь о том,
чтобы избежать ловушек, которыми оборачиваются
цели».1 Суверенное существование предполагает не
только неутолимое желание, но и неукротимую
волю — как к бытию, так и к небытию. Это такое
бытие-лицом-к-смерти, которое, пытаясь (и пытая
себя в этой пытке предельного самопостижения2)
удержать себя на самом краю небытия, не останав¬
ливается ни перед какой крайностью. «Мера», тем
более, «закон» — злейший враг суверенности.
Сравнивая «теорию суверенности» и «мораль бун¬
та», Батай, тем не менее, утверждает, что и та и дру¬
гая движутся одной волей к «независимости бытия»,
одним отказом от рабского состояния объекта. Дей¬
ствительно, книга Камю доказывает, что «бунт» яв¬
ляется метафизическим измерением человеческой
1 G. Bataille. Notice autobiographique. — Œuvres Complètes.
V. VII, p. 462.
2 Ж.-Г1. Сартр назвал «Внутренний опыт» «эссе-мукой». См.:
Ж.-П. Сартр. Один новый мистик. — В кн.: Танатография
Эроса, с. 11-44.
4. «Любовь» или воля к безумию
279
личности: «Человек — единственное существо, ко¬
торое отказывается быть тем, что оно есть» (II, 420).
Лишь отвергая установленные рамки существования,
лишь преодолевая свой удел, человек достигает под¬
линной человечности. Камю, таким образом, очень
близок к Батаю, также верившему, что страсть к ино¬
му, воля к нарушению границ заданного существо¬
вания делает человека человеком: «Немного больше
света, немного меньше — это ничего не меняет; во
всяком случае, человек, будь он солнечным или иным,
остается человеком: быть всего лишь человеком, не
иметь иной возможности — вот что душит, что пе¬
реполняет непереносимым неведением, что нестер¬
пимее всего... Кто не “умирает” от тоски быть лишь
человеком, тот так и умрет всего лишь человеком».1
Согласно мысли Камю, движение «бунта» захваты¬
вает две основные сипы, которые все время играют
людьми: силу страсти, заставляющую их преступать
предписанные пределы бытия, и силу разума, при¬
дающего порыву отрицания целенаправленность
конкретного исторического действия. Переход от
«бунта» к революции, переход от метафизического
низложения «царя небесного», отвечавшего за все
беды человеческие и задававшего «закон» существо¬
вания, к историческому убийству «суверена» и отча¬
янным попыткам основать «царство людей», даже це¬
ной беззакония и «преступления, если потребуется»
(II, 437), чреват ужасающими последствиями всеохва¬
тывающего отрицания или всеобщего порабощения.
1 G. Bataille. L’Expérience intérieure. — Œuvres Complètes,
V. V, p. 47.
280
С. Л. Фокин
Последствия эти не обусловлены «бунтом», однако,
они неизбежны, если бунт теряет необходимую
«меру»: последняя, стало быть, не только неотдели¬
ма от настоящего бунта, но является его собствен¬
ным творением. «Мера» рождается бунтующим ра¬
зумом. «Мера, рожденная бунтом, — пишет Камю в
одном из завершающих разделов “Бунтующего че¬
ловека”, — только им и живет. Она есть постоян¬
ный конфликт, непрестанно возбуждаемый разумом
и им же укрощаемый. Мера не торжествует ни над
невозможным, ни над бездной. Она равняет себя с ни¬
ми» (И, 704). «Мера» Камю, таким образом, отнюдь
не пассивное принятие сложившегося порядка ве¬
щей. Это рискованная ставка мыслителя, который
идет сразу на все— и на «нет» и на «да», который
отчаянно играет собой 1 в пространстве трудного
выбора между бунтом метафизическим, наполняю¬
щим его жизнью, и бунтом историческим, отнимаю¬
щим жизнь у самого бытия.
Батай понимает позицию Камю, но он понимает
также, что подобную позицию не удержать. Автор
«Бунтующего человека» обрекает себя на одиноче¬
ство, ибо написанная им нелицеприятная генеало¬
гия нигилизма, долго питавшего и его мысль, лиша¬
ет его общности с теми, для кого «отрицание» было
и остается «повивальной бабкой» мысли и действия.
«Мораль бунта» повисает в воздухе, Камю сам выби¬
1 Сопоставление мотива «игры» в «теории суверенности»
и «морали бунта» можно найти в специальной работе: R. Gay-Cro-
sier. Révolte, souveraineté et jeu chez Bataille et Camus. — «La Re¬
vue des lettres modernes», 1985, № 715—719, p. 7—34.
4. «Любовь» или воля к безумию
281
вает у себя почву из-под ног, решаясь выйти за рам¬
ки нигилистического сообщества мысли, имеющего
в европейской культуре крепкие корни и притяга¬
тельные традиции. «Такую позицию не удержать, —
замечает Батай, разбирая на страницах своего жур¬
нала полемику Камю с экзистенциалистами, — Камю
приговаривает себя к тому, что его будут хвалить
те, кто его не понимает, и ненавидеть те, кого он
хотел бы убедить. Неизбежная пустота, в которой
он будет биться, обрекает его на презрение к само¬
му себе. И, однако, он должен стоять на своем, ибо
в наши дни нет ничего более возмутительного, чем
безмерность истории».1 Эта удивительная догадка
Батая об ожидающем Камю одиночестве, подтверж¬
денная последующим развитием творческой судьбы
писателя, натолкнула Э. Моро-Сира, автора первой
работы об отношении «теоретика суверенности»
к «морали бунта», на одну парадоксальную мысль:
«Падение» могло быть своеобразным ответом Камю
на более чем проницательные замечания Батая,
своего рода попыткой избежать презрения к само¬
му себе, напророченного ему критиком.2 В полной
мере с таким предположением вряд ли можно со¬
гласиться, поскольку чрезвычайно сложная компози¬
ция «Падения» определялась, как мы увидим дальше,
борьбой нескольких мотивов творческого сознания
Камю. Тема саморазоблачения героя, связанная с его
1 G. Bataille. L’Affaire de l’Homme révolté. — «Critique»,
1952, №67, p. 1081.
2 E. Morot-Sir. Georges Bataille: critique d’Albert Camus. —
«Stanford French Review», V. VI, 1982, Spring, p. 104.
282
С. Л. Фокин
презрением к себе и включавшая в себя автобиогра¬
фические мотивы, играла в замысле произведения
свою роль, но роль эта не была главной, она была
подчинена общей идее Камю создать в «Падении»
портрет современного нигилиста.
Вместе с тем, трудно не признать за этой мыслью
некоторой убедительности, ибо никто из критиков
Камю не понял его душевной драмы 50-х годов столь
глубоко, как Батай. Зная о неизменном неравноду¬
шии писателя к тому, что о нем пишут, нельзя отка¬
заться от предположения, что глубокое суждение
критика может запасть ему в память, принуждая к от¬
вету. Так или иначе, Батай верно определил ситуа¬
цию одиночества, «изгнания», «заточения», в которой
оказался Камю после выхода «Бунтующего человека».
3. ТРАГЕДИЯ АЛЖИРА И «ЭСТЕТИКА ЛЮБВИ»
Разрыв Камю с левой интеллигенцией, особенно
с теми из них, кто продолжал симпатизировать опы¬
ту «реального коммунизма», еще более углубился с на¬
чалом войны в Алжире. «Прогрессивно мыслящая»
интеллигенция видела в борьбе алжирских мусуль¬
ман справедливое дело борьбы за национальное
освобождение от французского колониализма. При
этом забывались алжирские французы, свыше мил¬
лиона выходцев из Европы — французов, испанцев,
итальянцев, евреев, предки которых более века на¬
зад обосновывались на этой земле. Национальная не¬
зависимость Алжира означала для них утрату родины.
Камю, как известно, принадлежал к числу алжирских
4. «Любовь» или воля к безумию
283
французов: к духовному «изгнанничеству», в кото¬
ром он оказался в ходе полемики вокруг «Бунтую¬
щего человека», добавилось теперь реальное изгна¬
ние из родного края. Война в Алжире превращала
проблемы «Бунтующего человека» — смысла исто¬
рии, справедливости, насилия, сопротивления наси¬
лию — из философско-умозрительных в проблемы
личного жизненного выбора. Эта война была «лич¬
ной трагедией» (И, 992) Камю.
И вновь его позиция, определявшаяся моралью
«меры», не встретила понимания. С точки зрения
Камю, кровавые репрессии французских войск, об¬
рушившиеся на мусульманских повстанцев, не име¬
ют никакого оправдания, но столь же неоправдана
бесчеловечная жестокость исламских террористов
к мирным европейцам. Камю мыслит решение алжир¬
ской проблемы на путях диалога, согласия, «граж¬
данского примирения» между двумя сообществами
Алжира, мусульманским и немусульманским. И вновь
мораль «меры» воспринимается как противоречащая
делу исторического прогресса. Терроризм ислам¬
ских экстремистов оказывается «прогрессивной»
формой насилия, призванной окончательно сокру¬
шить колониальную систему капитализма, освободить
землю от французских «оккупантов». Иные пути
освобождения немыслимы и для левой интеллиген¬
ции, единодушно вставшей на сторону Фронта Нацио¬
нального Освобождения Алжира. Самые ретивые из
левых видели в Камю пособника «французского коло¬
ниализма», забьюая, а то и не зная, что еще в 30-х го¬
дах его одинокий голос призывал к глубоким преоб¬
разованиям в алжирской политике Франции.
284
С. Л. Фокин
Осмысление алжирской трагедии закрепляет в со¬
знании Камю решающий сдвиг, готовившийся всем
ходом мировоззренческой эволюции писателя, —
окончательный переход от «идеи» к «жизни», от пре¬
имущественно «идеологического» миропонимания,
отражавшегося в философских и художественных
произведениях цикла «абсурда» и цикла «бунта», к
открытому, идеологически непредвзятому миро¬
восприятию. Этот фундаментальный сдвиг, теорети¬
чески обоснованный в «Шведских речах» и частич¬
но отразившийся в новеллах сборника «Изгнание и
царство», означал переход от мировоззренческого
и жизненного бунтарства к критическому приятию
мира.
Идеи человека, претворяясь в исторической прак¬
тике, могут оказаться губительными, могут нести
смерть. Как писал Камю еще в полемике с Э. д'Астье:
«Каждая ложная идея приносит только кровь, при¬
чем это кровь других людей» (II, 362). Человек вы¬
сокомерен в мысли, его идеи могут быть блистатель¬
ными, захватывающими, убедительными, и тем не
менее истина живого мира неизмеримо сложнее,
непредсказуемее, недостижимее. Человек может
приблизиться к этой истине, но всякая претензия на
обладание ею оборачивается тотальной идеологией,
неизменно ведущей к историческому тоталитариз¬
му. Человек, уповая на силу своей мысли и эффек¬
тивность творчества в истории, как бы не доверяет
миру. Однако несовершенство мира не исчерпыва¬
ет всей его живительной полноты, неприятие мира
человеком, его протест, бунт против неизбывной
несправедливости должны уравниваться доверием
4. «Любовь» или воля к безумию
285
к миру, приятием его, любовью. «Теперь становит¬
ся понятным, — писал Камю в конце “Бунтующего
человека”, — что бунту не обойтись без странного
рода любви» (И, 707).
В мысли Камю «любовь» — конечная философская
интуиция, направляющая его сознание к более пол¬
ному охвату бытия. Она означает такое состояние
мысли и души, в котором личность, окончательно
отрешившись от гордыни субъективности, устрем¬
ляется к некоей общности человеческого сознания.
В этом отношении «любовь» органично продолжает
философскую позицию «бунта», ибо, как мы помним,
индивидуализм преодолевается уже в бунтарском
порыве: «Я бунтую, следовательно, мы существуем»
(II, 432). Но в «любви» мысль Камю делает шаг от
бунтарства к приятию мира, к его оправданию, к
признанию мира «мерой», пределом пагубных стрем¬
лений человека к насильственной переделке мира.
Это был шаг к Абсолюту, и само понятие «любви»,
краеугольное понятие христианской метафизики,
обнаруживает жажду трансценденции, некоего
абсолютного бытия, в конечном счете, Бога. Тема
«любви» не получила завершенного воплощения
в творчестве Камю, поэтому следует крайне осто¬
рожно интерпретировать его последние творческие
опыты. Важно, однако, постоянно помнить об этой
всеохватывающей тенденции творческого сознания
писателя. Вместе с тем, не следует преувеличивать
«христианизации» мысли позднего Камю: опублико¬
ванные до сих пор тексты не дают для этого оснований.
Критическая позиция по отношению к христианству
сохранилась во всех известных нам произведениях
286
С. Л. Фокин
Камю, при этом речь почти всегда идет об истори¬
ческом христианстве. Образ Христа, напротив, по¬
стоянно его к себе привлекает.
В плане эстетики переход от «бунта» к «любви»
сопровождался опытом уяснения новых творческих
принципов, поиском оснований такого художествен¬
ного мировидения, которое соответствовало бы по¬
зиции широкого доверия миру. «Эстетика бунта» сме¬
нялась «эстетикой любви». Здесь мы должны сделать
одну существенную оговорку. «Эстетика любви» —
понятие, образованное нами по аналогии с «эстети¬
кой бунта» и «эстетикой абсурда». Камю не успел
систематизировать свои поздние эстетические идеи,
однако те мысли о творчестве, призвании художника,
роли традиции, «настоящем романе», которые были
высказаны им в литературно-критических работах
50-х годов, в переписке и, главное, в «Шведских ре¬
чах» обладают, на наш взгляд, большой степенью внут¬
реннего единства, что и позволяет говорить о но¬
вом этапе эстетического становления писателя.
Идеологический подход к действительности, ко¬
торый доминировал в философских и художествен¬
ных произведениях циклов «абсурда» и «бунта», тре¬
бовал особо напряженного художественного поиска,
творческих экспериментов, глубоко разработанной
субъективной эстетики, призванной содействовать
отображению писательских «идей». Такое отноше¬
ние к творчеству, в частности к романному, преоб¬
ладало в работе Камю над «Посторонним» и «Чумой».
«Эстетика абсурда» с ее ведущим принципом отре¬
шенной дескриптивности преодолевалась «эстетикой
бунта», теоретическим основанием которой, как мы
4. «Любовь» или боля к безумию
287
помним, была концепция «нового классицизма», эсте¬
тически дополнявшая богоборческое бунтарство
Камю. Однако классицизм в эстетике подразумевает
особого рода «идеализм»: живая реальность воссозда¬
ется с опорой на определенные, тщательно разрабо¬
танные принципы, не лишенные известной жесткости.
Художник как бы подчиняет реальность, упорядочи¬
вает ее в соответствии со своим субъективным миро-
видением.
Нельзя сказать, что поздний Камю полностью от¬
казывается от концепции «нового классицизма», но
в некоторых его эстетических выступлениях 50-х го¬
дов очевиден элемент критичности по отношению
к ней. Если в интервью Г. д'Обаред (май 1951 года)
Камю утверждал, что выдвинутая А. Жидом «кон¬
цепция классицизма как укрощенного романтиз¬
ма» — ценное достояние его собственной эстетики
(II, 1340), то в «Шведских речах» такое понимание
классического искусства толкуется им гораздо кри¬
тичнее. Более того, внимание, которое он уделяет
в своем программном выступлении реалистической
эстетике, свидетельствует о сильном интересе писа¬
теля к обоснованию художественного мировидения,
которое менее предвзято отражало бы действитель¬
ность. Можно, по-видимому, говорить об особой кон¬
цепции реализма у позднего Камю, соответствовав¬
шей его складывавшейся «философии любви».
В самом отчетливом виде эта концепция реализма
была изложена в «Шведских речах». По мысли Камю,
отношение художника к действительности опреде¬
ляется пониманием своего собственного призвания.
Если художник одинок, стремится углубить свое оди¬
288
С. Л. Фокин
ночество и с неистовой одержимостью отрицает все
и вся, кроме себя и своего творчества, он рискует
оторваться от животворящих корней жизни: «В ко¬
нечном счете, увлекшись отрицанием всего подряд,
вплоть до традиций своего искусства, художник про¬
никается иллюзией, что он создал в нем свои зако¬
ны, и начинает считать себя Творцом-вседержителем»
(II, 1084). Это и есть искусство для искусства, обман¬
чивая роскошь, которая питается чистой субъектив¬
ностью и внутренними абстракциями, отрицающими
живую полноту действительности.
Если художник одинок, а он самой сутью своего
ремесла обречен на одиночество, но стремится
к единению с миром и другими людьми, он должен
думать не о создании собственной реальности, а об
отображении того, что известно всем, той реально¬
сти, которая знакома каждому: «Море, дожди, нуж¬
да, желание, борьба со смертью — вот что всех нас
объединяет. Мы похожи друг на друга всем, что вме¬
сте видим, всем, от чего вместе страдаем. Мечты у
каждого свои, но реальность этого мира — наша
общая родина. Следовательно, все запросы реализ¬
ма оправданы, ибо они глубочайшим образом свя¬
заны с художественным творчеством. Итак, будем
реалистами. Или, вернее, попытаемся ими стать»
(II, 1085).
Однако полное приятие реальности в искусстве
невозможно, искусство рождается на стыке реаль¬
ности и внутреннего бунта художника: «Искусство —
это ни полный отказ, ни полное согласие с тем, что
существует в этом мире» (II, 1090). Художник стре¬
мится к тому, чтобы придать форму реальности,
4. «Любовь» или воля к безумию
289
которую он должен сохранить в первозданном виде,
ибо она — источник его вдохновения. Страдания,
зло, несовершенство этой реальности вынуждают
художника быть реалистом — во имя любви к зем¬
ной общности людей он призван отобразить ее со
всей необходимой полнотой.
Как мы видим, философская позиция доверия
миру, философия любви, которая стала складывать¬
ся в сознании Камю к середине 50-х годов, пред¬
определила весьма значительные изменения в его
эстетике. «Любовь» требовала художественного во¬
площения в самих формах жизни как высшей и по¬
следней реальности. Эстетика любви несколько опе¬
режала художественное творчество. Точнее говоря,
она оказалась теоретическим основанием новых ху¬
дожественных замыслов, работа над которыми толь¬
ко-только начиналась, и прежде всего над большим
романом «Первый человек» — его рукопись была
найдена в портфеле Камю в день смерти. Произве¬
дения середины 50-х годов — «Падение» и сборник
новелл «Изгнание и царство» — в значительной сте¬
пени создавались под влиянием рассмотренных выше
исторических и культурных обстоятельств творчес¬
кой жизни писателя, в тяжелом состоянии «изгна¬
ния». Однако «любовь» давала о себе знать и в этих
произведениях Камю.
4. «ПАДЕНИЕ»
Широко известны слова М. Е. Салтыкова-Щедрина
о том, что многие книги Достоевского создавались
290
С. JI. Фокии
«руками, дрожащими от гнева». Особенно они подхо¬
дят к роману «Бесы», «книге великого гнева», раз¬
облачавшей мерзкое «подполье» одержимых ложны¬
ми идеями нигилистов, начинавших терзать и кружить
Россию. Слова эти применимы и к повести Камю
«Падение», поскольку задумывалась она как резко
тенденциозный памфлет против парижской левой
интеллигенции, одержимой идеями прогресса
и исторической необходимости, крайнего своеволия
и «прогрессивного» насилия. Непосредственным
идеологическим источником «Падения» стала поле¬
мика Камю с экзистенциалистами из «Тан Модерн».
Убедившись, что в журнальных склоках мастерство
интеллигентов не только не уступает его поле¬
мическому дару, но и превосходит его, Камю ре¬
шил ответить в иной форме, найти такое «веское»
слово, которое поставило бы в затянувшемся споре
точку.
Первым, кто указал на полемическую направ¬
ленность «Падения» был Р. Кийо. В одной из статей
1960 года он писал: «Сартр взялся просветить Камю
в жестоком письме, на которое “Падение” отвечает
в тоне горькой насмешки».1 С тех пор появилось
еще несколько интересных работ, в которых с раз¬
ной долей убедительности выявлены скрытые в «Па¬
дении» ответы Камю на критику Сартра и Жансона.2
Напряженная полемическая тенденциозность этого
1 K Quillot. Un monde ambigu. — «Preuves», 1960, № 110, p. 30.
2 Cm., Hanp.: W. Tucker. La Chute: Voie du salut terrestre. —
«French Review», 1970, Vol. XLIII, № 5, p. 737—744; A. Abbou.
Les structures superficielles du discours. — «La Revue des lettres
modernes», 1970, № 238-244, p. 106-108.
4. «Любовь» или воля к безумию
291
произведения подталкивает некоторых критиков
рассматривать его как окончательное «сведение сче¬
тов» Камю к экзистенциализмом сартровского тол¬
ка.1 Подобный подход к «Падению» не лишен серьез¬
ных оснований.
Опубликованный в 1989 году III том «Записных
книжек» Камю, в котором немало записей относит¬
ся к «Падению», полностью подтвердил проницатель¬
ные суждения комментаторов повести о роли поле¬
мики в генезисе ее замысла. Так, одна из записей,
сделанная еще по совсем свежим следам журнальной
баталии, гласит: «Полемика Т. [Тан] М. [Модерн] —
Подлость. Их единственное извинение состоит в том,
что наше время ужасно. Что-то в них тоскует по
рабству. Они мечтали прийти к нему благородными
путями, полными идей. Но королевской дороги к
рабству нет. Есть лишь обман, оскорбление, преда¬
тельство брата...» (СЗ, 64). Общий смысл этой запи¬
си нам понятен: согласно концепции истории экзи¬
стенциалистов, отразившейся в их критических
откликах на мысль Камю, несовершенство настоя¬
щего («наше время ужасно») может быть преодолено
в решительном революционном порыве, увлекающем
свободного индивида, причем эсхатологический ха¬
рактер этого порыва оправдывает использование
насилия и деспотизма («рабства»). Мы уже обращали
внимание на эту удивительную метаморфозу экзи¬
стенциалистской свободы: абсолютное своеволие лег¬
ко оборачивается своей противоположностью, без¬
граничным деспотизмом.
1 P. Mertens. La Chute d’un ange. — Albert Camus, 1985, p. 116.
292
С. JL Фокин
В «Падении» злоключения диалектики свободы
находят свое крайнее, предельное, почти абсурдное
воплощение. В безудержном монологе самораз¬
облачения некогда блестящий парижский адвокат,
а ныне завсегдатай сомнительных амстердамских
кафе, с блеском исполняющий роль «судьи на пока¬
янии», объявляет себя «просвещенным сторонником
рабства»: «Без рабства, по правде сказать, и не мо¬
жет быть окончательного выхода. Я очень быстро
это понял. Прежде я все твердил: “Свобода, свобо-
да!”Я ее намазывал на тартинки за завтраком, жевал
целый день, весь мир освежал тонким ароматом
дыхания свободы. Этим властным словом я мог сра¬
зить любого, кто мне противоречил, я поставил его
на службу своих желаний и своей мощи. Я нашеп¬
тывал его на ухо своим засыпавшим возлюбленным,
и оно помогало мне бросать их. Я шептал его... Впро¬
чем, довольно, я разошелся и теряю меру» (I, 1543-
1544).
Откровенно пародийный характер этого пасса¬
жа, шельмующего не только мысль, но стиль жизни
тогдашних столичных интеллигентов, не отменяет,
однако, всей серьезности критики Камю экзистен¬
циализма. Согласно его позднейшему утверждению,
философия атеистического экзистенциализма во
Франции выродилась «в теологию без Бога и схола¬
стику, которые неизбежно должны были оправды¬
вать инквизиционные режимы».1 Теологическая терми¬
нология в этом определении далеко не случайна: по
1 Цит. по: P. Ginestier. Pour connaître la pensée de Camus. Paris,
1979, p. 203.
4. «Любовь» или воля к безумию
293
Камю, в основе любой религии лежат понятия ви¬
новности и невиновности человека, его ответствен¬
ности за зло. Французский атеистический экзистен¬
циализм, отвергнув христианского Бога, сохранил
определяющую связь с понятием первородного гре¬
ха, ущербности человека, оказавшись, таким обра¬
зом, своеобразным увечным вариантом христиан¬
ской метафизики, искалеченным христианством без
краеугольного понятия любви: «Тан Модерн. Они до¬
пускают грех и отвергают милосердие. Жажда му¬
ченичества» (СЗ, 62). В «Записных книжках» имеет¬
ся более развернутый опыт осмысления религиозной
подоплеки экзистенциализма: «Согласно нашим эк¬
зистенциалистам, человек ответственен за то, что
он из себя представляет. Именно это объясняет пол¬
ное отсутствие сострадания в мире этих агрессив¬
ных стариков. Однако они претендуют на борьбу про¬
тив социальной несправедливости. Следовательно,
есть люди, которые не ответственны за то, чем они
являются: нищий не виновен в своей нищете...»
(СЗ, ИЗ).
Камю затрагивает самое уязвимое место атеисти¬
ческого экзистенциализма. В самом деле, по Сарт¬
ру, человек, будучи свободен от всякой трансцен¬
дентности, в одиночку несет ответственность за свои
действия. Он в ответе за смысл своей жизненной
деятельности, он сам определяет его, делает свой
выбор. Человек обречен на свободу как раз из-за
отсутствия «сияющей области ценностей», которая
могла бы задать смысл его поведения. Человек свобо¬
ден и вовлечен в историю, в которой происходит его
свободное осуществление. Если человек свободен
294
С. Л. Фокин
и все происходящее есть результат его свободных
действий, значит все несовершенство, вся неспра¬
ведливость, все зло мира также являются делом его
рук. В мире нет невиновных. Время всеобщей ви¬
новности оправдывает все эксцессы исторического
прогресса, призванного окончательно избавить чело¬
вечество от зла. Кламанс замечает на это: «И в фи¬
лософии, и в политике я всегда буду за теорию, от¬
вергающую невинность человека, за практику
обращения с ним как с виновным» (I, 1543).
Помимо эсхатологичности экзистенциализма,
объясняющей оправдание им «прогрессивного» на¬
силия, Камю затрагивает еще один мировоззренче¬
ский парадокс, связанный с абсолютизацией свобо¬
ды индивида. Если человек полностью свободен от
«сияющей области ценностей», от всякой трансцен¬
дентности, способной направить его существование,
значит, для упорядочения взаимоотношений людей
должен существовать безмерно жесткий закон. Че¬
ловек человеку волк, и чтобы примирить их, необ¬
ходим поистине волчий закон. «Ах, дорогой мой, —
восклицал Кламанс, — для того, кто одинок, лишен
Бога, господина, груз жизни непереносим» (I, 1544).
Ноша свободы не каждому по плечам — да здрав¬
ствует всеобщее рабство! «Да здравствует поэтому
господин, каким бы жестоким он ни был, лишь бы
он заменял небесный закон!» (I, 1545). В этом, по
Камю, и заключается один из главных пороков атеи¬
стического экзистенциализма: объявляя человека
свободным, он обрекает его на унизительную кару.
Свобода — непосильная ноша для человека, если он
никого не любит.
4. «Любовь» или воля к безумию
295
Удивительно, что при столь резко выраженной
антиэкзистенциалистской направленности «Падения»
современники увидели в романе трагический авто¬
портрет Камю. Так, С. де Бовуар вспоминает: «Я от¬
крыла его книгу с большим любопытством. И с пер¬
вых страниц узнала Камю, таким, каким знала его
с 1943 года: его голос, его жесты, его обаяние. Это
был точный, без всякой напыщенности, портрет,
строгость которого была тонко умерена некоторыми
преувеличениями. Камю осуществил свою давнюю
мечту: преодолеть разрыв между истиной и своим
образом. Камю, обычно столь высокомерный, разоб¬
лачал себя с откровенностью, казавшейся мне душе¬
раздирающей».1 Сходные переживания испытали при
чтении «Падения» такие близкие Камю люди, как
Ж. Даниэль и А. Кестлер. В самом деле, в образе глав¬
ного героя романа можно обнаружить немало очень
личных, иногда по-настоящему интимных мотивов,
связанных с глубокими проблемами внутреннего
самоощущения Камю.
Полемика вокруг «Бунтующего человека», разрыв
с Сартром (причинивший — несмотря на неизбеж¬
ность— немалую боль), тягостное ощущение оди¬
ночества, духовного изгнания — все это заталкива¬
ло Камю в самую глубину собственного душевного
мира. Ему нужно было многое передумать, многое
переосмыслить. По-видимому, некоторые критичес¬
кие выпады, особенно Сартра, попали в самую точ¬
ку. Р. Кийо в одной из бесед с писателем (13 июля
1954 года) узнает об озабоченности Камю по поводу
1 S. de Beauvoir. La Force des choses, p. 372.
296
С. Л. Фокин
упреков в морализме и буржуазном гуманизме.
«Такого рода критика тем более удручала его, —
пишет Кийо, — что он ощущал ее частичную спра¬
ведливость» (I, 2038). Одна из дневниковых записей
того времени дает понять, насколько углубился само¬
анализ писателя, пытающегося определить те грани
истины и искренности, которые отделяют неулови¬
мый переход от «быть» к «казаться». «Добродетель
не презренна. Презренны речи о добродетели. Ничьи
уста в мире, и меньше всего мои, не могут их изре¬
кать» (I, 2010). Вторжение личных мотивов в образ
главного героя делало его сложнее, многозначнее.
Односторонняя тенденциозность политического пам¬
флета уступила место попытке глубокого осмысле¬
ния духовных болезней современности. Внутренний
опыт писателя, причастный к нигилистическому все-
отрицанию, органично дополняет первоначальный
замысел представить портрет современного ниги¬
листа. Портрет становится убедительным, посколь¬
ку художник щедро наделяет его броскими чертами
собственного облика.
Кламанс, представляясь своему случайному собе¬
седнику, решает «поиграть в сыщика»: «Вы прибли¬
зительно моего возраста, у вас взгляд искушенного
сорокалетнего человека» (I, 1480). Камю во время
работы над романом также перешагнул сорокалет¬
ний рубеж, подобно Кламансу он находится перед
необходимостью оценки своего прошлого. Внешний
облик и некоторые приметы жизни героя романа
в бытность его респектабельным защитником бед¬
ных вдов и сирот вновь напоминают нам автора «По¬
стороннего», несколько неожиданно оказавшегося на
4. «Любовь» или боля к безумию
297
вершине литературной славы: «...Я пользовался
большой популярностью, а своим победам в обще¬
стве и счет потерял. Был недурен собой, считался
и неутомимым танцором, и скромным эрудитом, лю¬
бил женщин и вместе с тем справедливость... был
спортсменом, понимал толк в искусстве и в литера¬
туре...» (I, 1489). Высокий, обаятельный, красивый
мужчина испанского типа, действительно имевший
успех у женщин, Камю становился душой компании,
в которой оказывался, производил впечатление че¬
ловека уверенного в себе, в своей силе и неотрази¬
мости. Постоянная борьба с болезнью, о которой
было известно узкому кругу его друзей, добавляла
мужественного шарма его и без того очарователь¬
ной фигуре. С. де Бовуар обратила внимание в сво¬
их воспоминаниях именно на эту сторону образа
Камю: «Он провел несколько триумфальных лет: он
нравился, его любили... Удачи опьяняли его. Он
считал, что может все».1 Любопытно, что, рисуя лите¬
ратурный портрет Камю, С. де Бовуар обильно цити¬
рует «Падение»: «Женщины находили меня обаятель¬
ным, представьте себе! Вы знаете, что такое обаяние?
Умение почувствовать, как тебе говорят “да”, хотя
ты ни о чем не спрашивал» (I, 1504). Мемуаристка,
вероятно, была до такой степени поражена «Паде¬
нием», что вольно или невольно писала портрет не
столько с оригинала, сколько с литературной копии,
причем не просто копии, а карикатуры, самопаро-
дии писателя. Некоторые ее характеристики Камю
почти дословно повторяют головокружительные
1 1Ы<±, р. 126.
298
С. JI. Фокин
признания Кламанса. Камю многое отдал своему ге¬
рою: честолюбивую страсть к публичному успеху,
любовь к театру, футболу, даже собственный отказ
от ордена Почетного Легиона, которым хотели на¬
градить его и Сартра после Освобождения.1
Однако в «Падении» пародировались не только
внешний, публичный образ писателя, не только его
литературная репутация, существовавшая как бы сама
по себе, но и некоторые идеи раннего Камю. Без¬
удержный монолог самобичевания Кламанса пере¬
полнен аллюзиями на «Постороннего», «Калигулу»,
«Недоразумение». Уже в самой его профессии адво¬
ката угадывается пародия на Камю, не упускавшего
случая выступить за справедливость.
В «Постороннем», как мы помним, романист ре¬
шительно встал на сторону приговоренного к смер¬
ти «невинного» убийцы. Он встал на сторону спра¬
ведливости, ибо несправедливость приговора была
бесспорна. Романист осуждал тех, кто осудил его
героя— вспомним резко сатирические портреты
«законников», — не замечая, однако, что сам он не¬
вольно уподобляется им: если судьи обрекли Мерсо
на казнь только из-за того, что тот чувствовал себя
«неисправимо невинным», писатель осудил судей лишь
за то, что они судьи. Кламанс лишен простодушной
наивности, некогда бросавшей его на защиту вдов
и сирот. Он знает, что подобную склонность к не¬
пременному пребыванию в лагере справедливости
1 Подробнее об этих параллелях см.: P.-G. Castex. La confes¬
sion de Clamence dans «La Chute» d’Albert Camus. — «L’informa¬
tion littéraire», 1983, № 3, p. 151-161.
4. «Любовь» или воля к безумию
299
порой диктует высокомерная претензия на благо¬
родство, в основе которой — самовлюбленное
стремление к душевной самоуспокоенности. Он
понял, что «есть зловредные вдовы и свирепые сиро¬
ты» (1,1485). Более того, он на себе убедился в двой¬
ственности человеческой природы, в неискорени¬
мой причастности человека злу. В этом отношении
«Падение» не только пародирует «метафизику неви¬
новности» раннего Камю, но и оборачивается ее се¬
рьезной критикой.
«Ну что вы хотите, — восклицал Кпаманс, — са¬
мая естественная и самая наивная мысль, которая при¬
ходит человеку как бы из глубины его естества, —
это мысль, что он невиновен» (I, 1516). Чувство не¬
виновности, непричастности злу, обеспечивает не¬
кую цельность человеческого миросозерцания, его
незамутненную устойчивость, поддерживающую пер¬
возданное стремление человека к счастью. Оно было
свойственно героям молодого Камю — вспомним
страстные заклинания Патриса Мерсо о своей не¬
виновности. Но именно невинное состояние духа
может содействовать формированию безразличной
умиротворенности человека, его самоудовлетворен¬
ности, самодовольства. Да и можно ли назвать по¬
добное состояние человеческим сознанием, то есть
глубинным знанием человека собственной души? Не
является ли сознание противоположностью само-
довольства? «Разве сознающий человек, — выписыва¬
ет Камю в дневнике мысль Достоевского, — может
сколько-нибудь себя уважать?» (С2, 252). Всякое под¬
линное сознание это падение в бездну человеческой
души, это боль и страдание. Кпаманс после долгого
300
С. Л. Фокин
изучения самого себя, после открытия им двуликой
человеческой природы понял, что скромность, ко¬
торой он внутренне гордился, помогала ему блистать,
тихое смирение — побеждать, а благородство —
угнетать. Невинность духа оборачивалась неискоре¬
нимым стремлением к превосходству, к господству
человека над своим ближним.
Отказ от идеи невиновности человека — вот глав¬
ное в философском сознании Камю в 50-е годы. Его
утверждение возможности счастливой жизни на при¬
волье природы, безоговорочное доверие человеку,
уверенность в его чистоте, непричастности злу, сме¬
няются проникновенной углубленностью в тайны
внутреннего мира. Но погружаясь в бездонную про¬
пасть человеческой души, Камю сохраняет веру в че¬
ловека; он не отдается полностью идее всеобщей
вины. Более того, весь пафос «Падения» направлен
против этой идеи.
Как мы помним, абсолютизация всеобщей вины,
свойственная, по мысли Камю, историософской кон¬
цепции атеистического экзистенциализма, встреча¬
ла решительную критику с его стороны. Уточнить
суть этой критики можно, обратившись к главному
мотиву «Падения» — мотиву «судьи на покаянии».
Возникновение этого мотива в разработке твор¬
ческого замысла произведения связано с полемикой
с экзистенциалистами, с опытом осмысления их ми¬
ровоззрения. В декабре 1954 года в дневнике писа¬
теля появляется запись: «Экзистенциализм. Когда они
начинают обвинять себя, можно быть уверенным, что
это делается для того, чтобы обременить виной дру¬
гих. Судьи на покаянии» (СЗ, 147). Эта запись уже
4. «Любовь» или воля к безумию
301
приводилась Р. Кийо в комментариях к «Падению»,
но до последнего времени было не совсем понятно,
что она означает. Теперь, с публикацией III тома
«Записных книжек» писателя, можно несколько про¬
яснить ее смысл. Речь идет о впечатлениях Камю от
романа С. де Бовуар «Мандарины». Как известно, С. де
Бовуар отвергала попытки отождествления героев
ее романа с Камю, Сартром и собой. Однако скан¬
дальный разрыв писателей был еще у всех на устах,
и отношения Анри Перрона, Робера Дюбрейля и Ан¬
ны (персонажи «Мандаринов») живо напоминали со¬
временникам неразлучных «звезд» экзистенциализ¬
ма. Проблемы отношения к лагерям, к коммунистам,
«разрывы» — все это также связано с реальными
проблемами левой интеллигенции. Кроме того,
разнообразные и запутанные интимные отношения
«мандаринов», достаточно откровенно представлен¬
ные в романе, подогревали интерес публики к это¬
му произведению: многим хотелось понять, кто тут
кто.1 Дневниковая запись Камю свидетельствует, что
роман произвел на него очень тягостное впечатле¬
ние: «Газета падает у меня из рук. Опять эта париж¬
ская комедия, которую я успел забыть. Фарс премии
Гонкуров. На этот раз — “Мандаринам”. Кажется,
я там герой. В самом деле, автор взяла известную си¬
туацию (редактор газеты, выходившей еще в Сопро¬
тивлении), все остальное — ложь: мысли, чувства,
поступки. Более того, сомнительные деяния из жизни
Сартра приписаны мне. Помимо этого сплошная
1 Подробнее об этом см.: В. Larsson. La réception des Manda¬
rins. Lund, 1988, p. 107-126.
302
С. Л. Фокин
грязь» (СЗ, 146-147). Запись делалась писателем для
себя, она отражала его реальное восприятие «Ман¬
даринов», его глубокое возмущение теми способами
литературной борьбы, которыми пользовались его
оппоненты. «Париж — это джунгли,» — заметил
Камю сразу после выхода номера «Тан Модерн» со
статьями Сартра и Жансона. Появление «Мандари¬
нов» укрепило его в этой мысли. Интеллигенты жили
по волчьим законам. С нечеловеческой хитростью
они преследовали отбившегося от стаи — на этот
раз выставляя напоказ бульварные подробности соб¬
ственной жизни. По-видимому, роман С. де Бовуар
оказался той каплей, которая переполнила чашу тер¬
пения Камю. Видимо, тогда у него и «задрожали ру¬
ки», и он решил ответить на критику экзистенциа¬
листов памфлетом.
Однако, как мы уже отмечали, замысел усложня¬
ется, резко тенденциозная направленность произве¬
дения дополняется попыткой глубокого осмысления
сознания современного интеллигента. В этом отно¬
шении интересна следующая черновая заметка к по¬
вести: «“Позорный столб” (Одно из первоначальных
названий “Падения” — С. Ф.). Следует подвергнуть
его порицанию. Следует подвергнуть порицанию его
мерзкую манеру казаться порядочным и не быть им.
От первого лица — Он не способен на любовь. Он
старается и т. д.» (I, 2010-2011). В этой записи еще
очень силен полемический пыл писателя: поскольку
его самого выставляли к позорному столбу в ходе
полемики, он решает пригвоздить к нему тот об¬
раз самого себя, который был в ходу среди столич¬
ных интеллигентов. Это был весьма дерзкий способ
4. «Любовь» или воля к безумию
зоз
самокритики, позволявший писателю, с одной сто¬
роны, освободиться от тягостной литературной ре¬
путации экзистенциалиста», а с другой — опроверг¬
нуть критику экзистенциалистов, нарисовав их
обобщенный портрет. Замысел был гораздо слож¬
нее уязвленной исповеди писателя, какой казалось
«Падение» С. де Бовуар. Она не захотела увидеть за
броскими чертами автопортрета портрет своих
единомышленников. Сартр оказался более проница¬
тельным. По его словам, «Падение» было «самой пре¬
красной и наименее понятой» из книг Камю.1 Его соб¬
ственная исповедь — повесть «Слова» — написана,
как полагают некоторые критики, не без воздействия
умопомрачительных признаний Кпаманса.
В приведенной выше записи привлекает внима¬
ние одна фраза: «Он не способен на любовь». На
наш взгляд, в ней содержится ключ к образу Кламан-
са. Мотив неспособности любить становится опре¬
деляющим в романе, вытесняя слишком прямолиней¬
ные идеологические выпады. Как мы помним, Камю
характеризует атеистический экзистенциализм абсо¬
лютизированием свободы и ущербности человека,
отрицающим действенность сострадания как прин¬
ципа взаимоотношений людей. Герой «Падения» по¬
ражен болезнью нелюбви. Его муки, боль и страдание
начались после того, как он осознал свое неумение
любить.
Трагедия «падения» случилась с блистательным за¬
щитником вдов и сирот дождливой ноябрьской но¬
чью, когда он, умиротворенный и самодовольный,
1 /.-Р. ЗаПге. А1Ье^ Сатив, р. 170.
304
С. Л. Фокин
возвращался домой от любовницы и оказался на Ко¬
ролевском мосту. На мосту стояла молоденькая жен¬
щина, вся в черном. Кламанс прошел мимо и уже
отошел метров на пятьдесят от моста, когда услы¬
шал шум падения человеческого тела в Сену и крик.
Он ничего не сделал, чтобы предотвратить траге¬
дию, он не бросился на помощь погибающему че¬
ловеку.
Внешне в его жизни как будто ничего не измени¬
лось. Он продолжает борьбу за справедливость, на¬
слаждается своим великолепием, но смутное пони¬
мание того, что истинным мотивом его жизни было
высокомерное презрение к людям, пускает корни в
его сознании. Подлинное открытие себя произошло
через три года после трагического случая на Коро¬
левском мосту: Кламанса стал преследовать поту¬
сторонний смех, окончательно рассеявший его иллю¬
зию невинности духа: «В тот день, когда я услышал
сигнал тревоги, я вдруг прозрел, почувствовал разом
все нанесенные мне раны и тут же лишился сил. Весь
мир принялся смеяться надо мной» (I, 1516).
Душевное спокойствие оставило Кламанса. Он
пробует избежать суда своей совести, забыть стыд
малодушия, но все напрасно. Самооправдание не
удается. Как человеку быть со своим несовершен¬
ством? Что делать с тем злом, которое гнездится в
его природе? Смириться и искать успокоения в дея¬
тельной любви, как предписывает христианская эти¬
ка? Кламанс не смиряется: он с исступленным наслаж¬
дением увлекает в бездну падения своих близких.
Исповедь превращается в обвинение, кающийся —
в судью.
4. «Любовь» или воля к безумию
305
Вся атмосфера «Падения», начиная с названия ро¬
мана, подсказанного Камю Р. Мартен дю Гаром
(Ж. Блок-Мишель предлагал «Зеркало») пронизана
христианскими мотивами, остроумно обыгранными
в многочисленных реминисценциях из Библии, Дан¬
те, Достоевского. Имя кающегося обвинителя —
Жан-Батист Кламанс — отсылает к Иоанну Крести¬
телю, пророчествовавшему «гласом вопиющего в
пустыне»: «...приготовьте путь Господу, прямыми сде¬
лайте стези ему» (Ис. 40, 3). (Кламанс — от латин¬
ского clamare — кричать, вопить, восклицать). Пред¬
теча был в одежде из верблюжьего волоса. Кламанс
отзывается о своем одеянии: «Пальто на мне жидень¬
кое (должно быть, верблюд, с которого настригли
шерсть для сукна, страдал паршой и совсем облы¬
сел), зато у меня холеные ногти» (I, 1480). Непре¬
клонный ревнитель праведности Иоанн Креститель
резко порицал фарисеев и саддукеев. Кламанс, исто¬
во порицая собственное фарисейство, движим, одна¬
ко, дьявольским умыслом: лицедейски предаваясь
покаянию, он возводит хулу на весь мир. «Посыпав
главу пеплом, неспешно вырываю на ней волосы и,
расцарапав себе ногтями лицо, сохраняя, однако,
пронзительность взгляда, стою перед всем челове¬
чеством, перечисляя свои позорные деяния, не теряя
из виду впечатление, которое произвел, и говорю:
“Я был последним негодяем!” А потом незаметно пе¬
рехожу в своей речи с “я” на “мы”. Когда же я воскли¬
цаю: “Вот каковы мы с вами!” — дело сделано, я уже
могу резать им правду в глаза» (I, 1547). Проповедь
Иоанна Крестителя готовила людей к принятию Бла¬
гой Вести Иисусовой: «Покайтесь, ибо приблизилось
306
С. JI. Фокин
царствие небесное» (Мф. 3, 2). Хитроумная испо¬
ведь Кламанса оказывается бесовской уловкой, на¬
правленной на достижение вожделенного господства.
Иоанну Крестителю, приуготовляющему стези Тому,
кто есть совершенное воплощение любви, бросает
демонический вызов Жан-Батист Кпаманс, «лжепро¬
рок, вопиющий в пустыне и не желающий выйти из
нее» (1,1551). Духу любви, соединяющей людей в общ¬
ности жизни и судьбы, он противопоставляет само¬
влюбленную гордыню разрушительного нигилизма,
унижающего человека бременем непомерной винов¬
ности, отторгнутой от милосердия.
Повесть написана от первого лица, однако испо¬
ведальная форма его обманчива: «покаяние» Кламан¬
са совершается не для очищения от скверны греха,
а для удовлетворения сладострастной потребности
унижения ближних. В критической литературе о Ка¬
мю уже неоднократно высказывалось суждение, опи¬
рающееся на свидетельство Ж. Блока-Мишеля, о том,
что повествовательная форма «Падения» восходит
к определению «фантастического рассказа» из пре¬
дисловия Достоевского к «Кроткой» («то он говорит
сам себе, то обращается как бы к невидимому слу¬
шателю, к какому-то суцье»).1 Есть работы, в которых
прослеживаются параллели между «Падением» и «За¬
писками из подполья».2 Однако, как это убедительно
1 P.-L. Rey. La Chute. Camus. Paris, 1971, p. 18.
2 E. Sturm. Conscience et impuissance chez Dostoievski et
Camus. Paris, 1967; C H. Roberts. Camus et Dostoievski: compa¬
raison structurale et thématique de «La Chute» de Camus et du
Sous-sol de Dostoievski. — «La Revue des lettres modernes», 1971,
№ 264-270, p. 51-70.
4. «Любовь» или воля к безумию
307
показал Е. П. Кушкин, ближе всех к «исповеди» Кла-
манса «исповедь» Николая Ставрогина.1 Это и не¬
удивительно, ибо работу над «Падением» сопровож¬
дал опыт глубокого осмысления Камю романа «Бесы»:
еще в начале 50-х он начал делать заметки к инсцени¬
ровке романа Достоевского. Можно сказать, что в те¬
чение последнего десятилетия творческой жизни ро¬
ман о нигилизме не выходил у Камю из головы.
Не будем останавливаться на параллелях между
«Падением» и «Бесами» — они приведены в работе
Е. П. Кушкина. Отметим лишь следующее: образ Кла-
манса, смыкаясь в сознании Камю с образом Нико¬
лая Ставрогина (а через него с глубоко укоренен¬
ным в европейской литературной традиции типом
демонического героя), еще больше терял политичес¬
кую тенденциозность, приобретая подлинное траги¬
ческое звучание.
О преемственной связи образа Ставрогина с лер¬
монтовским Печориным хорошо известно: в черно¬
вых заметках к «Бесам» неоднократно возникает «Ге¬
рой нашего времени». Но демонизм» Ставрогина
достигает непомерных высот. Томительная пресы¬
щенность Печорина соседствует с живой жаждой
жизни; Ставрогин — «ни холоден, ни горяч». Его
«бесовский» недуг вызван гнетущей пустотой души,
полной оторванностью от почвы жизни. Он пробует
воскресить себя любовью, но понимает, что неспосо¬
бен на нее. Пытается спастись в жизненном энтузи¬
азме, готовит себя к самопожертвованию исповедью.
1 Е. П. Кушкин. Камю и Достоевский. — Достоевский в за¬
рубежных литературах. Л., 1978, с. 108-114.
308
С. Л. Фокин
Великая христианская мысль покаяния как будто
влечет его, но «документ», представленный им Ти¬
хону, лишен умиротворенности подлинного раскаяния.
По словам старца, он «усилен слогом»: «Что же это
как не горделивый вызов от виноватого к судье?»1
Все эти замечания были бы здесь неуместны, если
бы они вплотную не подводили нас к авторскому тол¬
кованию «Падения»: «Человек, который говорит в
«Падении», предается умышленной исповеди... У него
современное сердце, то есть он не переносит осуж¬
дения. Вот почему он спешит осудить себя сам, что¬
бы лучше было судить других. Зеркало, в которое
он смотрится, в конце концов обращается на друго¬
го. Где кончается исповедь? Где начинается обвине¬
ние? Тот, кто говорит в этой книге, судит ли он са¬
мого себя или свое время?» (I, 2015). Наряду с этой
заметкой чрезвычайно интересно высказывание Камю
в интервью газете «Монд», разъясняющее авторское
понимание произведения: «Эту книгу я хотел бы на¬
звать “Герой нашего времени”» (I, 2011). Примеча¬
тельно, наконец, и то, что к одному из черновых
вариантов «Падения» эпиграфом были выбраны сло¬
ва Лермонтова из предисловия к роману: «Это точно
портрет, но не одного человека, это портрет, со¬
ставленный из пороков всего нашего поколения,
в полном их развитии» (I, 2015).
Литературно-генетические связи «Падения» с
«Бесами» и «Героем нашего времени», подчеркивае¬
мые самим Камю, позволяют нам рассматривать это
1 Ф. М. Достоевский. Поли. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 11. Д.,
1974, с. 24.
4. «Любовь» или воля к безумию
309
произведение как роман о нигилизме, одним из
вариантов которого и является атеистический экзи¬
стенциализм. Кламанс напоминает Ставрогина и Пе¬
чорина важными чертами своего психологическо-
духовного склада, прежде всего — болезненно
сознаваемой раздвоенностью. Подобно своим рус¬
ским предшественникам, он движим безверием,
переживанием внутренней пустоты и отсутствия
нравственных устоев, он оторван от «почвы», лишен
«укорененности». Важно, однако, не упустить раз¬
личий. Нигилизм Печорина — нарождающийся ни¬
гилизм, он исполнен неведомых сил и жаждет испы¬
тания, он бесстрашен, высокомерен, он не знает еще
своего будущего. Нигилизм Ставрогина трагичен, это
нигилизм зрелой силы, не останавливающийся перед
преступлением и оправданием преступления, и ин¬
спирирующий исторический активизм «бесов» типа
Петра Верховенского. В своих заметках к инсцени¬
ровке романа Достоевского Камю верно определил
открытую русским писателем связь между духовным
и историческим нигилизмом: «Тезис Достоевского
состоит в том, что те же самые пути, которые ведут
индивида к преступлению, приводят общество к ре¬
волюции» (I, 1885). Камю в согласии с самым глу¬
боким убеждением русского писателя считает, что
нигилизм связан с болезненным переживанием со¬
временным человеком утраты христианского света
любви. В предисловии к инсценировке «Бесов», Камю
писал: «И если роман “Бесы” является пророческой
книгой, то не только потому, что он возвещает наш
нигилизм, но и потому, что в нем представлены ра¬
зорванные или мертвые души, не умеющие любить
310
С. Л. Фокин
и страдающие от этого, души, жаждущие веры и не
способные на нее — как раз те, которые и населя¬
ют сегодня наше общество и наш духовный мир»
(1,1886). В этих словах Камю — еще один ключ к по¬
ниманию образа Кламанса, в портрете которого пи¬
сатель представил современного нигилиста — чело¬
века, не умеющего любить и страдающего от этого,
тоскующего по вере и избегающего ее. Но это уже
иной нигилист, нигилист вырождающийся, жалкий,
беспомощный, предчувствующий свою гибель и из
последних сил упивающийся своим никчемным пы¬
лом. Силы его иссякают. «У нас нет ни силы зла, ни
силы добра», — говорит Кламанс (I, 1518). И если
вселившийся в Ставрогина «бес» могуч и коварен,
то Кламанса терзает уже какой-то «мелкий бес». Тем
не менее Амстердам, где решил обосноваться «судья
на покаянии», выбран им с гордыней истинного сладо¬
страстника: концентрические каналы города долж¬
ны напоминать ему и его жертвам круги ада. Холод¬
ный и туманный город на воде призван представлять
последний, девятый круг преисподней. «Мы здесь
в последнем кругу, кругу тех...» (I, 1483). Последний
круг предназначен для «предателей величества зем¬
ного и небесного».1 Нигилист «Падения» и есть под¬
линный предатель, он предает уже и сам нигилизм.
Он обречен и знает об этом, вот почему он тщится
продлить свое существование хотя бы ценой преда¬
тельства: от былой проповеди своеволия он перехо¬
дит к прославлению деспотизма и рабства.
1 С. С. Аверинцев. Ад. — Мифы народов мира. T. I. М., 1980,
с. 39.
4. «Любовь» или воля к безумию
311
Чем яростнее нигилизм, тем неотвратимее его
крушение. Если буйство нигилизма достигает не¬
померной высоты всеотрицания, значит то, что им
отрицается, крепнет, растет, возрождается. По Ка¬
мю, нигилизм тешит себя надеждой уничтожить лю¬
бовь. Нигилизм отрицает любовь, но и сам опровер¬
гается любовью. И в исповеди «ложного пророка»
неизбывного рабства, в исповеди-уловке, отрицаю¬
щей саму форму исповеди как очищающего таин¬
ства, приуготовляющего человека к приятию высо¬
кого завета Христа, прорываются вдруг слова
неподдельной любви к Тому, кто возвестил любовь
как закон жизни: «...я люблю его, друг мой, люблю
его, умершего в неведении» (I, 1534). Нельзя не
согласиться с Б. Праттом, автором работы «Еванге¬
лие от Альбера Камю», заметившим, что всесокру¬
шающая ирония Кламанса не касается лишь (духов¬
ного величия, милосердия и любви Христа».1 В этом
и состоит главное открытие современного ниги¬
листа, упорно скрываемое им в безудержном мо¬
нологе самобичевания: «Что сделать, чтобы стать
другим? Это невозможно. Надо бы уйти от своего
“я”, забыть о себе ради кого-то, хотя бы раз, всего
один раз» (I, 1550). Но нигилизм одерживает верх,
и порочный круг угнетающего самоуничижения не
разорвешь: «Девушка, ах, девушка! Кинься еще раз
в воду, чтобы у меня вновь появился шанс спасти
нас обоих!.. Да нет, можно не беспокоиться. Те¬
перь уже поздно, и всегда будет поздно. К счастью!»
(1,1551).
1 В. РгаЯ. Ор. ск., р. 46.
312
С. Л. Фокин
Это неожиданное признание из уст обличителя
всего человечества, приоткрывающее на миг кусо¬
чек еще живой души, которая жаждет человечес¬
кой любви, позволяет нам считать Кламанса подлин¬
но трагическим героем. Его трагизм — в терзаниях
между любовью и презрением, в раздвоенности души,
мятущейся между добром и злом, в сознании, болез¬
ненно сознающем эту борьбу. Выставляя напоказ
свою мерзкую психологию, Кламанс подавляет в себе
естественное стремление человека к милосердию,
гасит еще теплящиеся угольки жизни. В создании
этого образа у Камю впервые со всей силой раскры¬
лось дарование «реалиста-психолога». Это именно
психологический реализм, искусство воссоздания
действительной сложности человеческой психоло¬
гии, которое русский учитель французского рома¬
ниста называл «реализмом в высшем смысле».
Это было капитальное изменение в поэтике писа¬
теля, до сих пор последовательно придерживав¬
шегося «антипсихологического» видения человека.
Нельзя не связать эту метаморфозу, обещавшую глу¬
бокое преобразование творческих принципов ро¬
маниста, с главным философским открытием Камю
50-х годов — признанием причастности человека злу.
В эстетических концепциях «абсурда» и «бунта» Камю
сосредоточивал свои усилия на том, чтобы отобра¬
зить противостояние мира и человека: «посторон¬
ний», сталкиваясь с враждебным миром, обнаружи¬
вал его неискоренимую абсурдность; «санитары»
«Чумы», вступая в борьбу с губительной эпидемией,
также отбрасывали внутренние сомнения — против¬
ник налицо, искать его не надо. Тем более, в себе.
4. «Любовь» или воля к безумию
313
Зло либо в неустранимом «абсурде» человеческого
удела, либо в разящем биче внезапного несчастья.
Кламанс в самом себе сталкивается с тем, против
чего боролись герои «Чумы» и протестовал «посто¬
ронний». Он постиг внутреннюю раздвоенность че¬
ловека, познал сосуществование в нем двух противо¬
положных начал.
Признание это давалось Камю нелегко. Он по-
прежнему считает человека изначально невиновным,
чистым от зла. Но человек живет в истории, среди
других людей, осуществляющих в историческом дей¬
ствии собственные чаяния. История тесно сопряже¬
на с человеческим произволом, с злоупотреблением
человеком отпущенной ему силы. История как сов¬
местное деяние людей, жаждущих счастливого из¬
менения своей жизни, связывает их злом насиль¬
ственного действия. Если человек соглашается
участвовать в истории (а противное означало бы ро¬
мантическую самоотстраненность, более того —
пассивное пособничество безмерности зла), он дол¬
жен принять на себя свою долю зла, смириться со
злом в себе, и, тем не менее, задача его состоит в со¬
действии приуменьшению зла, в распространении
общности любви и согласия.
«Психологический реализм» как принцип поэтики
позднего Камю-романиста соответствует эстетике
и философии любви, складывающимся в его созна¬
нии к середине 50-х годов. Это был реализм относи¬
тельно человека, согласие мыслителя с тем, что есть
в человеке, приятие его со всеми парадоксами его
природы. «Психологический реализм» вновь, на этот
раз в эстетике романа, обнаружил завершавшееся
314
С. Л. Фокин
преодоление Камю мировоззренческого нигилизма,
окончательный отказ от высокомерной идеи само¬
достаточности человека, той идеи «святости отри¬
цания», «святости без Бога», которой «страдали» ге¬
рои его книг.
5- «ИЗГНАНИЕ И ЦАРСТВО»
Глубокие изменения в творческом сознании пи¬
сателя сказались в сборнике новелл «Изгнание и цар¬
ство». Новеллы Камю привлекают внимание иссле¬
дователей не часто — во всяком случае, значительно
реже, чем «Посторонний» или «Чума». Критики здесь
как бы «спотыкаются» — слишком непохожи шесть
небольших новелл на прежнюю прозу писателя-мора-
листа.1 И если отдельные новеллы еще можно как-
то соотнести — по тематике и стилистике — с при¬
вычными представлениями о Камю, то, объединенные
в рамках сборника, то есть определенного художе¬
ственного единства, они явно нарушают всю былую
стройность жанровой системы писателя. Вспомним:
художественная мысль Камю стремилась к класси¬
цистической жанровой определенности. Жанровая
система Камю — роман, драма, эссе — обладала
тщательно соблюдавшейся писателем художествен¬
но-эстетической иерархией: то, что можно было
высказать в свободной форме философской эссеис-
тики, исключалось из сферы романа, который к тому
1 См. об этом: P. Cryle. Bilan critique: L’Exil et le royaume
d’Albert Camus. Essai d’analyse. Paris, 1973, p. 7—18.
4. «Любовь» или воля к безумию
315
же освобождался и от прямолинейных связей с ак¬
туальностью — на нее мысль Камю реагировала в по¬
литической публицистике. Новеллы в этом отноше¬
нии являлись опытом обновления и обогащения
жанровой системы Камю.
Но новелла не была и абсолютным разрывом
с жанром «Постороннего» и «Чумы». Имея в виду
некоторые существенные характеристики новелли¬
стического жанра — конструктивная простота,
фабульная лаконичность, повышенная смысловая на¬
сыщенность художественного образа, символическое
звучание изображаемого — можно утверждать, что
новелла в некоторой мере соответствует и роман¬
ному жанру Камю, синтезировавшему посредством
символа художественные и философские импульсы
его мысли.
Внутренняя логика обращения Камю к жанру но¬
веллы, определявшаяся стремлением его художе¬
ственного сознания к более открытому мировиде-
нию, обретает особый смысл в свете некоторых
событий литературной жизни Франции 50-х годов.
Как известно, в это время широкий резонанс полу¬
чили произведения «новых романистов». Усиленно
разрабатывается теория «нового романа». Художе¬
ственные искания М. Бютора, А. Роб-Грийе, Н. Сар-
рот, сопровождавшиеся теоретическими работами,
в которых радикальной ревизии подвергались опре¬
деленные тенденции развития романного жанра,
приводят к выработке нового художественного ви¬
дения, отрицавшего важнейшие элементы традици¬
онного романа. Обращение Камю к новелле, кото¬
рая, как ни один другой жанр, «сохранила и донесла
316
С. Л. Фокип
до наших дней ряд искони присущих ей признаков»,1
вновь подтверждает сознательно традиционалисти-
ческие установки его поэтики.
Книга новелл создавалась в трудные для Камю
годы. Страницы дневника той поры свидетельствуют
о постоянно растущем чувстве одиночества, замы¬
кании писателя в себе, своеобразном «внутреннем
изгнании» — отзвуки этих настроений имеются в но¬
велле «Иона, или Художник за работой». Извечная
драма художника, разрывающегося между творче¬
ством и жизнью, совершенством прекрасного и
неустранимостью действительного, показана здесь
с мягким и грустным юмором. Стилистические инто¬
нации новеллы ироничны, иногда сниженно паро¬
дийны. Автор внимательно следит за злоключениями
Ионы, создавая не характерную для его прозы дис¬
танцию между собой и героем. Рассказ о незадачли¬
вом живописце заканчивается на трагической ноте:
скрывшись от окружающих, мешавших его творче¬
ству, художник Иона и в одиночестве не может тво¬
рить — холст, над которым он работал в уединении,
совершенно чист, лишь посередине крохотными бук¬
вами написано одно-единственное слово: то ли со¬
лидарный (solidaire), то ли одинокий (solitaire). Та¬
кой конец не случаен: проблема взаимоотношений
художника и эпохи — едва ли не центральная тема
в эстетических раздумьях Камю 50-х годов. В уже
цитировавшейся Нобелевской речи, произнесенной
через несколько недель после окончания работы над
1 Н. Ржевская. Предисловие. — Современная французская
новелла. М., 1981, с. 3.
4. «Любовь» или воля к безумию
317
сборником, Камю сказал об этом проникновенные
слова, явно перекликающиеся с финалом новеллы:
«В моих глазах искусство — не уединенное наслаж¬
дение. Это — средство приводить в волнение наи¬
большее количество людей, предлагая им исключи¬
тельные образы страданий и радостей, разделяемых
всеми. Значит, оно заставляет художника не замы¬
каться в себе, подчиняет его истине — самой скром¬
ной и самой всеобщей» (II, 1702). Проблемы взаимо¬
отношений художника и общества — лишь один
аспект главной проблемы «Изгнания и царства» —
проблемы взаимоотношений личности и человеческо¬
го сообщества, несколько шире — человека и ми¬
ра. Эта проблема образует единый тематический
стержень сборника, причем ее решение варьирует¬
ся от новеллы к новелле, обогащается тематическим
разнообразием и стилистической разнотипностью от¬
дельных произведений, исключая тем самым идеоло¬
гическую предвзятость и сохраняя естественную мно¬
гозначность жизни.
Человек, жаждущий установить свое духовное гос¬
подство над другими — пусть даже и во имя благих
целей — неизбежно гибнет, ибо сталкивается с аб¬
солютизированием собственной идеологической
«одержимости» другими — идеологический дес¬
потизм толпы губителен и способствует воцарению
зла, произвола, ненависти. Новелла «Ренегат или по¬
мешанный», написанная в форме безудержного мо¬
нолога католического священника, который захотел
обратить в свою веру чернокожих язычников —
самое «фантастическое» произведение Камю: все
повествование построено на страшной метафоре
318
С. Л. Фокин
исповеди человека с отрезанным языком. В ком¬
позиционном отношении особенно интересна по¬
следняя фраза новеллы, подчеркивающая харак¬
терную дня этого жанра камерность, замкнутость»
повествования — прямая речь монолога прерыва¬
ется ремаркой автора-повествователя: «Пригор¬
шня соли забила рот разболтавшегося раба» (1,1593).
Этот стилистический прием свидетельствует об
изменении образа автора в прозе Камю. Если в фи¬
лософских романах основной повествовательной
формой было самораскрытие героя без видимого
вмешательства автора, то в новеллах (даже в един¬
ственной, написанной в форме монолога), авторская
позиция стремится к той или иной системе объекти¬
вации.
События в Алжире, где разгоравшаяся война за
независимость принесла с собой неизбежные кровь
и горе, обращали мысли писателя к страдающей Ро¬
дине — три новеллы сборника связаны с алжирски¬
ми темами. Позиция Камю нам известна: осуждая не¬
оправданную жестокость французских колониальных
войск, он выступал и против национально-религи-
озного экстремизма повстанцев. Атмосфера враж¬
дебности, взаимного недоверия французов и ара¬
бов воссоздана Камю в новеллах «Неверная жена»
и «Гость», хотя конечно, проблематика этих произ¬
ведений лишь отчасти касается национальных отно¬
шений. Место действия новелл — Алжир 50-х годов,
и поздний Камю, писатель с явными реалистически¬
ми установками, не мог обойти эти проблемы, как
это было, например, в «Чуме» и «Постороннем», где
Алжир образует особое художественное простран¬
4. «Любовь» или воля к безумию
319
ство, насыщенное философской символикой. В «ал¬
жирских» новеллах проявилось стремление писателя
связать свою поэтику с изображением конкретной
исторической действительности — символичес¬
кие элементы повествования сведены в них до ми¬
нимума.
Новелла «Немые» в этом плане особенно харак¬
терна. Это безыскусное, намеренно реалистическое
повествование 1 о неудачной забастовке алжирских
ремесленников-бочаров. Вынужденные приступить
к работе, они решают отомстить хозяину мастер¬
ской, игнорируя его упорным молчанием. Мир но¬
веллы — повседневное существование простого
люда Алжира, знакомое Камю с детства. Писатель
набрасывает сцены трудовой жизни бедняков, тща¬
тельно выписывает портреты персонажей и интерьер.
Но реалистическое повествование скрывает мощный
символический подтекст, связывающий новеллу с дру¬
гими произведениями сборника. Изображая муже¬
ственную сплоченность бедняков в деле защиты сво¬
их прав, Камю дает понять, что наряду со всем, что
разделяет людей — национальные, социальные, воз¬
растные перегородки — в самой человеческой при¬
роде есть нечто такое, что переживается людьми
независимо от их положения и взглядов на мир, что
объединяет их. Так, Ивар, главный герой новеллы,
досадует, что не смог выразить человеческого сочув¬
ствия хозяину, у которого заболела дочь. По мнению
французского исследователя П. Гайара, «Немые» —
1 «Я хотел попробовать себя в социалистическом реализ¬
ме», — в шутку заметил Камю по поводу этой новеллы (I, 2045).
320
С. JI. Фокин
настоящий шедевр Камю. Новелла воплощает все
великолепие его таланта: «реализм, напряженно
ясный взгляд на мир, пронзительную остроту вос¬
приятия и стиля, любовь к человеку и мужествен¬
ную дружбу».1
Название дается книге не зря, оно несет в себе
раскрытие главной темы, определяет доминанту,
которая лежит в ее основе. Явная разнотипность
новелл сборника как бы подчеркивает необходимость
обнаружить их внутреннюю взаимосвязь, заявленную
в названии. «Изгнание» и «царство» — далеко не слу¬
чайные слова, и дело не только в их библейской сим¬
волике. Слова принадлежат художественной терми¬
нологии Камю, их смысл образован целым спектром
значений и оттенков, разных для каждого конкрет¬
ного произведения.2 Меньше всего следует видеть
в них понятия, облекаемые в удобные формулиров¬
ки: в новеллах «изгнание» и «царство» обозначают
живые противоположности жизни, ее полюса. Герои¬
ня новеллы «Неверная жена» Жанин осознает свое
«изгнанничество» благодаря таинственному и вели¬
колепному «царству» природы. Но ее жизнь продол¬
жается. Будет ли она счастливой после сумасшедшей
ночи лицом к лицу с пустыней? Камю не дает ответа,
ему важно другое: напомнить, что это «царство» су¬
ществует. Существует и «царство» ренегата — цар¬
ство насилия и ненависти. Так, от новеллы к новелле
1 P. Gaillard. Albert Camus. Paris, 1982, p. 136.
2 См., напр, большую работу И. Силянс, в которой тема «из¬
гнания» прослежена по всем произведениям художественной
прозы Камю: J. Cielens. Trois fonctions de l’exil dans les œuvres de
fictions d’Albert Camus. Uppsala, 1985.
4. «Любовь» или воля к безумию
321
Камю обращает наше внимание на разные стороны
жизни, подчеркивает ее неисчерпаемую многознач¬
ность. Сам писатель следующим образом определил
единство сборника: «Этот сборник состоит из шес¬
ти новелл... Однако единая тема — тема изгнания —
трактуется в нем по-разному: здесь и внутренний мо¬
нолог, и реалистическое повествование... Что же
касается царства, которое тоже упоминается в на¬
звании, то оно совпадает с жизнью открытой и сво¬
бодной, к которой мы все должны стремиться для
возрождения. Изгнание укажет нам путь к ней, но
при условии, что мы отвергнем порабощение и одер¬
жимость» (I, 2039).
Тематическое единство «Изгнания и царства» по¬
зволяет сблизить этот сборник новелл с романным
жанром: в сущности, можно считать последнее худо¬
жественное произведение Камю своеобразным «ро¬
маном в новеллах», в котором тяготение к универ¬
сальности охвата жизни, характерное для романа,
подкрепляется единством авторской мысли и много¬
образием подходов к действительности.
В новеллистике Камю заметны глубокие измене¬
ния его творческой манеры, обусловленные стрем¬
лением писателя выйти за пределы сложившейся
жанровой системы, преодолеть ограниченность поэ¬
тики философской прозы.1 Мысль о большом ро¬
мане все настойчивее овладевает его сознанием.
1 Несколько подробнее и с более обстоятельным анализом
отдельных новелл мы говорим об этом в специальной статье:
С. Л. Фокин. О месте новеллы в жанровой системе Камю. — Сти¬
листические исследования художественного текста. Якутск, 1991,
с. 137-147.
322
С. Л. Фокин
Заканчивая работу над новеллами, Камю писал Гре¬
нье: «Затем я постараюсь написать “настоящий” ро¬
ман, я хочу сказать, роман, который будет не своего
рода “организованным мифом”, как предыдущие,
а “романом воспитания” или чем-то подобным. В со¬
рок лет можно на это решиться» (СС, 201).
Эстетически этот роман должен быть реалисти¬
ческим произведением — не только в смысле «пси¬
хологического реализма», но и в подходе к самой
исторической действительности. Согласно «эстети¬
ке любви» романист должен изобразить земную общ¬
ность людей со всей возможной полнотой.
Интересно, что в 1958 году, когда Камю, с тру¬
дом преодолевая творческий кризис, обращается
к работе над новым романом, в далекой России по¬
является произведение, необыкновенно созвучное
его исканиям: «Доктор Живаго» Б. Пастернака. Едва
прочитав первые главы этого романа о русской ре¬
волюции и месте в ней художника, Камю пишет
Пастернаку взволнованное письмо, в котором, в част¬
ности, признается: «Без русского XIX века я был бы
ничем, и в вас я снова встречаю Россию, которая
вскормила и укрепила меня». Об обстоятельствах,
связанных с обменом письмами между Камю и Пас¬
тернаком, нам уже приходилось говорить,1 приведем
здесь лишь те слова русского поэта, в которых он
выражал чувство глубокой общности, объединяющее
его с мыслью французского писателя. Откликаясь на
эстетические идеи Камю, выраженные в «Шведских
1 С. Л. Фокин. Духовное единение века... (Два письма Бориса
Пастернака к Альберу Камю). — «Звезда», 1990, №11, с. 151—
153.
4. «Любовь» или боля к безумию
323
речах», Пастернак пишет: «В самом деле, я едва
не забывал, что читаю книгу, задуманную и издан¬
ную по-французски. Мне казалось, что это я сам без¬
молвно мыслю на родном языке. Таковы были мой
восторг и согласие, столько раз я готов был вос¬
кликнуть от искреннего удивления, что подобная
общность идей может существовать. Как утеши¬
тельно и знаменательно для меня то, что вы гово¬
рите... об истине и свободе, о человеческом одино¬
честве и любви, о необходимой связи между
страданием и красотой. Все ваши мысли о реализ¬
ме, единственном стиле, великом и зрелом, так ска¬
зать, классическом и в определенном смысле всегда
новом».1
Камю увидел в «Докторе Живаго» не столько орга¬
ничное продолжение русской классики XIX века,
сколько современный опыт возрождения традиций
Толстого и Достоевского. Характерно, что его по¬
нимание романа Пастернака определялось доро¬
гой ему идеей любви, в ключе которой он пытался
осмыслить историческую и культурную реальность.
Им движет любовь не только к роману, но и к его
автору, бросившему дерзкий вызов неправде своего
времени. В июле 1958 года Камю записывает в днев¬
нике: «Я в отчаянии от невозможности работать.
К счастью, есть “Живаго” и нежность, которую я
испытываю к его автору» (СЗ, 249). В августе появ¬
ляется пространное истолкование романа Пастер¬
нака: «...“Живаго” — книга о любви. О любви, распро¬
страняющейся одновременно на все живые существа.
1 Там же, с. 153.
324
С. Л. Фокин
Доктор любит свою жену, Лару, других людей, лю¬
бит Россию. И если он умирает, так это потому, что
его разлучили с женой, Ларой, Россией, со всем
остальным.
Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.
Мужество Пастернака состоит в том, что он, вновь
обнаружив источник творчества, заставляет его бить
ключом среди тамошней пустыни» (СЗ, 254).
Любовь, полагает Камю, — подпитый источник
творчества. Как верно подметил Ж. Гассен, автор
психоаналитического исследования мировоззрения
Камю, для писателя само «качество творчества ока¬
зывается в прямой связи с качеством питающей его
любви».1 Не случайно, большинство литературно¬
критических работ Камю 50-х годов можно прочи¬
тать как своеобразные «признания в любви».
Как уже отмечалось, в эстетическом плане идея
любви естественным образом смыкается у Камю
с идеями творческой преемственности, литератур¬
ной традиции, тесно связанными с темой «учитель¬
ско-ученических» отношений. В центре внимания
Камю-литературного критика 50-х годов — творче¬
ство писателей, которых он считает своими литера¬
турными учителями («Встречи с Андре Жидом», пре¬
дисловия к произведениям Ж. Гренье и Р. Мартен дю
Гара). Камю воздает дань почтения и благодарности
1 /. Сдоля. иишуегБ БутЬо^ие, р. 24.
4. «Любовь» или воля к безумию
325
своим литературным наставникам и, не боясь уще¬
мить собственной оригинальности, стремится рас¬
крыть в этих работах то, чем он был этим писателям
обязан. Вместе с тем, в его литературной критике
этих лет появляется новая нотка. Как мы помним,
в статьях и предисловии 40-х годов определяющим
было стремление утвердить связь своего творчества
с традициями французской классической прозы.
В работах 50-х годов проявляется иное устремле¬
ние: он не столько приобщается к традиции, сколь¬
ко приобщает к ней тех писателей, которых считает
духовно близкими. Впрочем, это далеко еще не учи¬
тельство, он справедливо полагает, что для этого
слишком молод. Камю пытается обратить внимание
современников на творчество писателей, по тем
или иным причинам остававшихся в тени. Его ста¬
тьи о Л. Гийу, Р. Шаре, Э. Роблесе проникнуты па¬
фосом радостно признававшегося духовного родства.
Особенно характерно в этом отношении предисло¬
вие к немецкому изданию поэзии Шара, где Камю
сумел выразить последнюю направленность собствен¬
ной мысли, комментируя стихи своего друга: «Не¬
удивительно, что этому певцу бунтарей удается с та¬
кой легкостью быть и певцом любви. Она питает
корни его поэзии, нежные и свежие. Целый пласт
его морали и творчества выражен в гордой фразе
из “Распыленной поэмы”: “Склоняйся лишь в люб¬
ви”» (II, 1165).
Вместе с тем в литературной критике последних
лет Камю пытается выйти за пределы национальной
литературной традиции, определить те эстетические
идеалы, ориентируясь на которые он думает продол¬
326
С. Л. Фокин
жить свое творчество. На первом месте среди них,
о чем уже говорилось, — образ классической рус¬
ской литературы, представленной для Камю в пер¬
вую очередь Толстым и Достоевским.
В отечественной литературе о восприятии рус¬
ских классиков во Франции уже отмечалась одна ха¬
рактерная особенность: будто по аналогии с внут¬
ренним соперничеством Толстого и Достоевского
французские писатели по отношению к их твор¬
честву также делились на два лагеря.1 Своеобразие
Камю заключается в том, что в его художественном
сознании спор русских писателей словно бы при¬
ближается к разрешению. Сам он прекрасно ощу¬
щал эту свою особенность, определявшуюся все той
же идеей любви, которая безраздельно владела его
творческой мыслью. В «Записных книжках» появля¬
ется очень примечательная запись: «Те, кто был
оплодотворен и Достоевским, и Толстым, те, кто
одинаково хорошо понимает, как того, так и друго¬
го... оказываются сомнительными существами и для
себя, и для других» (СЗ, 103). Эта потребность при¬
мирения разного, опыт согласования различных
духовных устремлений в высшем единстве необык¬
новенно увлекает позднего Камю. Очень показа¬
тельна в этом отношении записанная французским
писателем в дневник фраза Достоевского из знаме¬
нитой Пушкинской речи: «Мысль, которая зани¬
мает меня более всего: в чем состоит наша общность
1 См.: А. И. Владимирова. Достоевский во французской лите¬
ратуре XX века. — Достоевский в зарубежных литературах,
с. 39.
4. «Любовь» или воля к безумию
327
идей, каковы те пункты, где мы все можем объеди¬
ниться, какую бы тенденцию мы ни представляли»
(СЗ, 217).
В наиболее полном виде образ русской класси¬
ческой литературы был представлен Камю в преди¬
словии к романам Р. Мартен дю Гара, которого он
рассматривал как наследника высоких традиций
русской классики. Полагая опыт Толстого и Досто¬
евского непременным достоянием подлинной лите¬
ратуры, призванной выразить идеал духовного еди¬
нения людей, Камю писал в этой работе: «Многое
располагает сегодня художников к тому, чтобы,
усвоив “Бесов”, написать когда-нибудь “Войну и мир”»
(И, 1132).
В эту броскую фразу стоит вдуматься. Как мы пом¬
ним, в «Мифе о Сизифе» Достоевский назывался «ве¬
ликим романистом» и «романистом-философом». Его
творчество давало вдохновенный пример художни¬
ка, ставящего проблему абсурда и трагически реша¬
ющего ее в «экзистенциальном прыжке». В работе
о Мартен дю Гаре в оценке творчества автора «Бе¬
сов» акценты расставлены по-иному. Главным для
Камю у Достоевского оказывается духовное содер¬
жание, тогда как эстетически для него важнее Тол¬
стой. Вот почему Р. Мартен дю Гар для него — един¬
ственный достойный «последователь Толстого»:
«Мартен дю Гара роднит с Толстым интерес к живым
людям, умение изображать их во плоти, включая все
темное, что она в себе таит, и умение прощать —
одним словом, особенности, вышедшие ныне из моды.
В то же время мир, созданный Толстым, образует
единство, уникальный организм, вдохновленный
328
С. Л. Фокин
общей верой: его персонажи воссоединяются на выс¬
шем пути к вечности» (II, 1132). Художественный мир
Мартен дю Гара лишен света религиозности, но это —
мир человеческих надежд и сомнений, мир разор¬
ванного и упрямого разума, делающего ставку лишь
на человека, — в этом отношении он глубоко со¬
временен. Тайны общечеловеческого искусства, тай¬
ны смирения и мастерства, которые хранит твор¬
чество автора «Семьи Тибо», делают его поистине
классическим.
Современная литература, по мысли Камю, при¬
надлежит традиции Достоевского, хотя наследует,
главным образом, «мрак» его творений, утрачивая
при этом органично присущие творчеству русского
писателя понятия «греха и святости» (II, 1131). Камю
вновь резко отзывается о технике американского
романа, о Кафке (в котором «мистик победил ху¬
дожника»), чье влияние сделало современную лите¬
ратуру «ущербной», лишенной интереса к полноте
жизни и всей сложности человеческой природы.
Именно русская литература во взаимно дополняю¬
щих друг друга образах Толстого и Достоевского
мыслится Камю как эстетический идеал творчества,
устремленного к подлинной духовности, к причаст¬
ной самой вечности эпичности, к убедительной
полнокровности образов.
Выходу эстетической мысли Камю к активному
усвоению уроков Толстого и Достоевского сопут¬
ствовал серьезный сдвиг в его философской мысли.
Как мы уже не раз говорили, сознание позднего Камю
движется интуицией любви. Эта интуиция заставля¬
ет его отказаться даже от «моральной точки зрения»,
4. «Любовь» или воля к безумию
329
доминировавшей в философии бунта. Камю ищет
мудрость, которая ничего бы не отрицала, мудрость
приятия жизни, мудрость согласия человека и мира.
«Следует любить жизнь, — размышляет Камю над
строками одного из своих духовных кумиров, —
прежде ее смысла, говорит Достоевский. Да, и ког¬
да любовь к жизни исчезает, никакой смысл не в силах
нас утешить» (С2, 276).
вместо заключения
1. ВОЛЯ К ЛЮБВИ, ИЛИ БЕЗУМИЕ ПИСЬМА
«Эстетика любви», положения которой можно обна¬
ружить в литературно-критических размышлениях
Камю 50-х годов, утверждает необходимость согла¬
сования разного, соединения отличного, примире¬
ния противоположного. Но был ли этот творческий
императив выражением внутреннего смирения ху¬
дожника, выражением окончательного отказа от
бунтарства, направлявшего его мысль до сих пор?
Однозначно ответить трудно, заметим лишь, что
безоговорочно утвердительный ответ не пред¬
ставляется нам справедливым — и не только потому,
что он перечеркнул бы все сделанное Камю в лите¬
ратуре, но и потому, что он противоречит дей¬
ствительному состоянию духа писателя. Как уже го¬
ворилось, понятие «меры», образующее средоточие
Вместо заключения
331
напряженности бунтарской мысли, неотделимо от
сознательной стратегии «игры», от рискованной став¬
ки мыслителя, который вдет сразу на все — и на
еда», и на «нет», — который играет собой в простран¬
стве творчества. «Творить сегодня — это творить
рискуя» (II, 1080), — объявлял в Нобелевской речи
Камю, переиначив известный афоризм Ницше. Но
чем же рискует художник, который от упорного «нет»
переходит к бесконечному еда», который склоняет¬
ся к бесконечному утверждению? Ответ, точнее го¬
воря, крайняя форма ответа, заключается в судьбе
самого Ницше, в последнем слове его философии:
«Наступает момент, когда отрицающая воля поры¬
вает с силами противодействия, оставляет их и даже
обращается против них. Однако это и есть основопола¬
гающий момент (“полночь”), который возвещает о двой¬
ном превращении, словно бы законченный нигилизм
уступал в них место своей противоположности: силы
противодействия, будучи отринутыми, становятся
силами действия; отрицание обращается в свою про¬
тивоположность, становится громовым ударом чис¬
того утверждения, полемическим и игровым нача¬
лом утверждающей воли, которая переходит на
службу избытка жизни».1 Однако, Ницше, полностью
отдавшись своей «дионисической натуре, которая не
умеет отделять отрицания от утверждения», теряет
себя в лабиринте «вечного возвращения»; отчаянно
играя собой в последних книгах, буквально загоняя
себя в образы своего письма и в образы других, он
1 G. Deleu^e. Mystère d’Ariane. — «Magazine littéraire», 1992,
№ 298, p. 22.
332
С. Л. Фокин
утрачивает образ самого себя, теряет самотождест-
венность, принцип идентичности: крики безумия
венчают бесповоротное слияние творца, творчества
и творения. Камю, отыскивая пути к мудрости, ко¬
торая ничего не отрицает, проходит по самому краю
опыта Ницше, порой заступает за край, оказываясь
на шаг от роковой необходимости чистого утверж¬
дения, которой подчинил себя немецкий философ.
Действительно, в «воле к любви», владевшей созна¬
нием писателя в последние годы, было немало от
ницшевской «любви к року», возможно, даже боль¬
ше, чем того хотелось бы самому Камю. Стремление
к всепоглощающей любви способно поглотить и того,
кто хочет такой любви: как сохранить себя в дру¬
гом? Возможность утраты самотождественности по¬
стоянно сопутствует конечной философской инту¬
иции Камю. Характерно в этом отношении его
понимание романа «Доктор Живаго». Четверостишие
Пастернака:
Со мною люди без имен
Деревья, дети, домоседы
Я ими всеми побежден
И только в том моя победа
проникнуто мягким, чисто человеческим чувством
приязни к жизни, чувством, быть может, чуть снижен¬
ным — по оппозиции к следующему за ним стихотво¬
рению («Чудо»); под пером Камю оно обретает над¬
рывную тональность высшего императива творчества,
характерную для последних текстов Ницше.
И все же автор «Бунтующего человека» не изменя¬
ет себе: воля к любви ко всему живому, стремление
Вместо заключения
333
сказать <ща» всему, что есть, неотделима от ясного
сознания мыслителя, от ясного осознания им опас¬
ности, которая грозит художнику, утверждающему
не столько свою индивидуальность, сколько свою
тождественность бытию. Ницше, окончательно пе¬
рестав отличать одно от другого, себя от других,
заплатил за желание ничего не отрицать полным без¬
умием. Камю, удерживая себя от последних шагов,
не отходил, тем не менее, от края бездны: воля к люб¬
ви есть не что иное, как воля к забвению себя, но
полное забвение себя граничит с безумием. Как мож¬
но любить, не теряя себя, как можно творить в бес¬
конечной любви к другим — рискуя потерять соб¬
ственное лицо и оригинальность, начало и конец
всякого творчества? Ответ на этот вопрос мы попы¬
таемся представить, обратившись в завершение на¬
шей работы к III тому «Записных книжек» писателя,
которые наряду с недописанным романом «Первый
человек» образуют важнейшее свидетельство его
предсмертных духовных поисков.
«Записные книжки» последних лет почти не от¬
личаются от тех записей «для себя», которые Камю
делал в течение 30-40 годов: размышления о твор¬
честве, пейзажные зарисовки, черновые наброски
планов будущих произведений, бесконечные планы,
замыслы, наконец, заметки о прочитанных книгах,
выписки из них. Личные признания встречаются
редко, как правило, они немногословны; опыты пси¬
хологического самоанализа отрывочны и непосле¬
довательны. Вряд ли эти разнородные записи можно
считать дневником, тем более, личным дневником,
в котором «я» пишущего, открывая внутренний мир
334
С. Л. Фокин
в соприкосновении с миром внешним, поверяя
его течением повседневной жизни, утверждает
себя и субъектом, и объектом письма. «Записные
книжки» Камю выделяются, напротив, асубъектив-
ным, безличным характером, странными периодами
отсутствия писательского «я», ничтожностью психо¬
логического и человеческого. Освобождаясь от дик¬
тата субъективности, письмо обретает возможность
существования по собственным законам: «Я писатель.
Мыслит перо, а не я, оно вспоминает или открывает»
(СЗ, 275).
Сопротивление всесилию «я» сказывается, прежде
всего, в настойчивых отклонениях повествования от
грамматической категории первого лица, традици¬
онной для дневниковой прозы. Словно бы оберегая
творчество от эксцессов субъективности, от чело¬
веческой гордыни и отчаяния, от тревог и радостей,
от тоски и довольства, писатель часто прибегает к
неопределенной форме глагола: инфинитив возвра¬
щает письму невинность, возвращает его к жизни,
обещает новые силы, новые возможности: «Обрести
сверхмогущество — не для того, чтобы властвовать,
а для того, чтобы отдавать» (СЗ, 221). Неопределен¬
ная форма глагола призвана дать свободу письму,
в неопределенной форме глаголет не какое-то
определенное «я», но истина письма — в неопреде¬
ленной форме.
В то же время инфинитив является императивом:
речь идет о твердых принципах творчества, при¬
держиваясь которых можно, как думает Камю, дос¬
тичь подлинной свободы письма. Дело идет не о три¬
виальных рецептах развития личности, которыми
Вместо заключения
335
испещрены дневники тех, кто, не имея сип принять
себя такими, как есть, ограничивает отпущенную им
долю бытия заимствованными извне — «установлен¬
ными», как сказал бы Ницше, — ценностями; дело
идет о внутренних импульсах самого бытия, кото¬
рые обязывают художника к истине существования,
которые, исходя изнутри, не ограничивают жизнь
готовыми ценностями, но постигаются ценой жизни:
«Жить истиной и ради истины. Прежде всего, исти¬
ны самого себя... истины того, что есть. Не пытаться
перехитрить реальность. Стало быть, признать свою
оригинальность и свое бессилие. Принять свою ори¬
гинальность вместе с бессилием. В центре — твор¬
чество заодно с громадными силами наконец-то
признанного бытия» (СЗ, 233). Жизнь в согласии
с бесконечными силами бытия дается, однако, не
иначе, как через постоянное насилие над самим со¬
бой — главным образом, в отношении слишком лич¬
ного в себе, слишком человеческого. Вот почему
императивы творческого существования принужда¬
ют художника к суровой аскезе, изгоняющей пре¬
словутую личность из творчества: «Усыпить волю.
Прочь разные “надо”... Уладить отношения со смер¬
тью, т. е. принять ее... Собрать энергию — в цент¬
ре... Признать необходимость врагов. Любить их за
то, что они есть. Избавляться от всех автоматизмов,
начиная с самых ничтожных и кончая самыми высо¬
кими» (СЗ, 220-221). Через «умерщвление» личности,
которая по сути есть не что иное, как унаследован¬
ная или навязанная «личина», писатель может дойти
до того предельного состояния свободы выражения,
когда психология отдельного «я» замирает, отходит
336
С. Л. Фокин
на задний план, уступая место непроизвольному
излиянию речи самого бытия, когда говорит уже не
столько художник слова, сколько художественная
мощь языка. В 50-е годы Камю нередко обращается
к этой дисциплине творчества, надеясь с ее помо¬
щью освободить себя из оков психологической де¬
прессии, владевшей им в это время. В сентябре
1959 года, собираясь приступить к работе над рома¬
ном «Первый человек», он записывает: «Перед тем,
как писать роман, я погружусь в состояние темноты,
причем на целые годы. Опыт повседневной сосредо¬
точенности, интеллектуальной аскезы и предельно¬
го сознания» (СЗ, 272). Таким образом, депсихологи¬
зация письма виделась Камю важнейшим условием
обновления творческой манеры, наряду со стремле¬
нием к деполитизации творчества она выражала со¬
кровенную убежденность писателя в существовании
иных источников и оснований литературы. Вместе
с тем императивный характер письма подразумева¬
ет особую напряженность наиболее завершенной ху¬
дожественной формы «Записных книжек» Камю —
афоризма. Философ, который мыслит афоризмами,
не столько определяет жизнь, не столько ограничи¬
вает бытие своими определениями, как это проис¬
ходит чаще всего с философом, который складыва¬
ет идеи в систему должных или желательных
представлений, сколько оценивает жизнь, как она
есть. Афоризм в виде экзистенциального императи¬
ва обнаруживает напряженное единение мысли
и жизни: повелительная форма изречения дает
понять, что дело идет не о плоде досужего остро¬
умия, но о выраженной в твердом слове новой воз¬
Вместо заключения
337
можности бытия, истина которой утверждается
жизнью мыслителя. Ницше говорит, что надо жить
рискуя: если бы автором этого изречения был Кант
или Гегель, то он давно канул бы в лету, поскольку
ясно, что в устах осторожного мыслителя такой
афоризм является не чем иным, как красивой фра¬
зой. У Ницше фраза неотделима от позы: последняя,
однако, являет собой не притворство, скрывающее
какое-то другое, истинное «я» мыслителя, но, наобо¬
рот, крайне опасную игру в отсутствие всякого «я»,
предельную драматизацию существования образами
письма. Маски Ницше ничего не маскируют, точнее
говоря, маскируют ничто, отсутствие, вакацию «я».
В этом маскараде жизнь мыслителя сливается с об¬
разами его мысли, рискуя собой ради крайних во¬
площений мысли, художник сводит на нет границы
жизни и творчества, не останавливаясь ни перед
какой крайностью: в познании пределов разума Ниц¬
ше принимает позу безумца. Безумие мыслится по¬
следней точкой зрения в оценке пределов разума:
«Болезнь как оценка здоровья, моменты здоровья как
оценка болезни: таков “переворот”, “смещение пер¬
спектив”, составляющие, по Ницше, самое главное
в его методе, в призвании к переоценке всех цен¬
ностей».1 Именно в этом пункте Камю решительно
расходится с Ницше. Французский литературовед
Э. Моро-Сир, написавший о «Записных книжках»
Камю замечательную статью, заставляющую по-
новому взглянуть на последние годы жизни писателя,
склонен думать, что Камю, подобно Ницше, отрица¬
1 С. Пекине. Nietzsche. Рапе, 1992, р. 9.
338
С. Л. Фокин
ет границы жизни и творчества.1 Трудно согласить¬
ся с подобной точкой зрения. Мы уже приводили
заметку Камю, согласно которой в творчестве мыс¬
лит не человек, но перо писателя: оно водит его
мыслью, вспоминает усвоенное, открывает новое. Мы
знакомы также с предписаниями интеллектуальной
аскезы, призванными исключить слишком челове¬
ческое из письма. Наконец, преобразуя афоризмы
Ницше в свой писательский девиз, Камю меняет его
смысл: не жить рискуя, но творить рискуя. Безум¬
ствовать должно перо: в письме преодолеваются
пределы человеческого разума, писатель, напротив,
обязан хранить ясное сознание — не из осторож¬
ности, но из безумной воли довести свое дело до
конца.
Творчество неотделимо от жизни, но жизнь твор¬
ца, подчиняясь логике творчества, не может во всем
следовать законам человеческого существования. Пи¬
сатель обречен на двойную игру: оставаясь челове¬
ком, он обязуется помнить о том, что живет среди
других людей, будучи художником, он приговарива¬
ет себя к забвению человеческого. Когда творчество,
его образы и императивы вторгаются в личную жизнь
писателя, они удаляют его от человеческой общно¬
сти. Писатель рискует потерять себя в созданиях
своего духа: так было с Ницше, окончившим свою
жизнь то ли Дионисом, то ли Распятым. Камю хочет
остаться человеком, но в творчестве думает достичь
крайних безумств письма: «Я почти завершил ряд
1 Е. Мого^гг. ЬеБ «Сагпе^ III» сГАИэегГ Сатш. — «Котапсе
псНез», 1990, Уо1. XXXI, № 2, р. 17.
Вместо заключения
339
произведений, которые были задуманы десять лет
назад. Благодаря им я подошел к пониманию смысла
своего ремесла. Теперь я знаю, что рука моя не дрог¬
нет, я могу дать волю безумию» (С2, 251). В истолко¬
вании этого фрагмента следует быть предельно вни¬
мательным: на первый взгляд, Камю действительно
теряет «меру», можно подумать, что идея безумия
овладела его существованием. Но это не так. Разум
бдит, неотступно следит за безумствами творчества.
Приведенная заметка представляет собой не личное
признание, но черновой набросок будущего произ¬
ведения. Вполне возможно, что фрагмент представ¬
ляет собой нечто личное (он относится к 1948 году,
когда Камю завершил в основном «цикл абсурда»,
задуманный в 1938 году), но все дело в том, что это
личное принадлежит уже не писателю, но письму:
об этом говорят кавычки, отделяющие творца от
крайностей творчества. Заключительная реплика —
уже без кавычек — не столько разводит безумие
письма и разум писателя, сколько обнаруживает
напряженную линию раздела между ними: «Так го¬
ворил тот, кто знал, что делает. В итоге — костер»
(С2, 251). Эта линия образует не границу безумия
и разума, не рубеж, окончательно отделяющий одно
от другого, но, наоборот, крайнюю возможность то¬
го и другого — те крайние формы выражения, ко¬
торые разум разделяет с безумием: «Подлинное
безумие пылает на вершине бесконечной ясности»
(СЗ, 44). Творческая мысль, не отступая перед не¬
обходимостью познания пределов человеческого ра¬
зума, если и не подчиняет себя власти безумия, то, по
крайней мере, вверяет себя возможности полной
340
С. Л. Фокин
утраты разумности. Однако эта возможность, кото¬
рая открывается в предельных состояниях творче¬
ского сознания, должна, как считает Камю, оставать¬
ся во власти писателя: лишь сохраняя ясное сознание,
он пребывает во власти жизни, потворство крайно¬
сти влечет за собой смерть, смолкание, прекраще¬
ние творчества. Стало быть, для Камю безумие не
источник творчества, но его предел — та последняя
возможность письма, в которой заключается опас¬
ность его дальнейшей невозможности, последняя,
однако, является не чем иным, как критерием исти¬
ны, критерием истинной свободы письма, его не¬
обходимой верности себе и поиску истины.
Тема безумия не получила развития в художествен¬
ном творчестве Камю. Тем не менее нельзя закры¬
вать глаза на то, что она необыкновенно занимала
воображение писателя в 50-е годы. В «Записных
книжках» сохранялись следы замысла новеллы о бе¬
зумии, которая должна была войти в сборник «Из¬
гнание и царство» (СЗ, 56). Если судить по замет¬
кам, которые относятся к этому замыслу, то можно
предположить, что одним из главных мотивов темы
являлся мотив сумасшествия художника, полностью
подчинившего себя творчеству: «Творец... принима¬
ется за великое произведение. Пишет, но без конца
переделывает. Постепенно в доме воцаряется нуж¬
да, затем нищета. Все рушится, а он пребывает в
состоянии какого-то жуткого счастья. Дети болеют.
Квартиру приходится сдавать внаем, а самим ютить¬
ся в одной комнате. Он пишет. Жена становится
неврастеничкой. Проходят годы, а он продолжает
работать в полном запустении. Дети убегают из дому.
Вместо заключения
341
Жена умирает в больнице, в этот день он ставит
последнюю точку; человек, который принес ему го¬
рестное известие, слышит в ответ только одно “На¬
конец-то!”» (СЗ, 14) Подобно безумию, которое вен¬
чает крайние формы мысли, творчество, которое
замыкается в поиске абсолюта, ведет к одиночеству;
всякий, кто вступил на путь творчества, рискует ут¬
ратить чувство общности с другими людьми, риску¬
ет, в конце концов, утратить самого себя, раство¬
рившись в творениях своей мысли.
2. «ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК»: ГРЯДУЩАЯ КНИГА
Весной 1994 года вышел в свет «Первый чело¬
век», черновые наброски романа, над которым Камю
работал в последние годы жизни. Рукопись была об¬
наружена в дорожной сумке писателя в день его ги¬
бели. Основную ее часть составляют 144 страницы
в общем связного повествовательного текста. Они
сплошь исписаны мелким, неразборчивым, порой
словно бы торопливым — не задерживающимся даже
на знаках препинания — почерком, испещрены мно¬
гочисленными пометками, исправлениями, добавле¬
ниями. По-видимому, рукопись ни разу не перебеля¬
лась. Над ее расшифровкой долгое время работала
Франсин Камю, вдова писателя, точка в этом поис-
тине сизифовом труде была поставлена его дочерью
Катрин. В рукописи оказались также отдельные лист¬
ки с отрывочными записями и идеями, которые долж¬
ны были получить развитие в произведении, эти пять
страничек опубликованы в приложениях к основно¬
342
С. Л. Фокин
му тексту. Издание сопровождается публикацией
записной книжки писателя, озаглавленной «Первый
человек (Заметки и планы)», в нее он заносил раз¬
мышления и эскизы, относившиеся к работе над ро¬
маном. Наконец, в приложениях напечатаны два пись¬
ма, бросающих свет на заглавный образ романа.
«Первый человек» — это своего рода новый Адам,
человек современности, окончательно изгнанный из
рая «невиновности», потерявший всякую надежду на
возвращение и вынужденный потому строить свое
«царствие» на земле. В отсутствие «отца небесного»
он ищет «отца земного», отнятого у него абсурдом
человеческой — слишком человеческой — истории.
Он должен учиться всему сам, превозмогая выпав¬
шее ему одиночество и постигая начала человечес¬
кой общности. «Романом воспитания» назвал Камю
этот замысел в одном из писем. Урок, который из¬
влекает из своей жизни «первый человек», гласит:
он не первый и он не одинок. «Роман. — записывает
Камю одну из первых формулировок темы. — Пер¬
вый человек заново проходит земной путь, чтобы от¬
крыть свою тайну: он не первый. Каждый человек —
первый, и ни один первым не является. Вот почему
он бросается в ноги матери» (СЗ, 142). Открытие
Другого — можно и так, наверное, выразить «тайну»
«первого человека». Иначе говоря, человек стано¬
вится человеком в деятельной любви к своим ближ¬
ним и в любовном внимании к слову Другого, ко
всякому слову того, кто может быть Учителем, но
отказывает себе в праве быть «господином». В та¬
ком слове ищут не «закон», тем более, не «власть»,
оно хранит «авторитет».
Вместо заключения
343
Одно из упомянутых писем это теплое послание,
которое сразу после известия о присуждении Но¬
белевской премии Камю направил Луи Жермену,
учителю начальной школы в Алжире, когда-то от¬
крывшему ему двери в мир культуры. Приведем эти
волнительные строки, в которых сказалась непод¬
дельная любовь писателя к тому человеку, который
все время был для него одним из первых: «Мне
только что была оказана великая честь, которой я не
искал и не добивался. Но когда известие дошло до
меня, я подумал сначала о маме, потом о Вас. Без
Вас, без вашей заботливой руки, протянутой бедно¬
му пареньку, которым я тогда был, без ваших уро¬
ков и вашего примера ничего бы этого не случи¬
лось. Я не склонен преувеличивать значения такого
рода признания. Но оно, по крайней мере, дает мне
повод сказать Вам, чем Вы были и всегда остаетесь
для меня, заверить Вас, что ваши усилия, работа
и щедрое сердце, которое Вы в нее вкладывали, по-
прежнему живут в одном из ваших маленьких школь¬
ников, остающимся несмотря на годы вашим при¬
знательным учеником» (САС VII, 327). Другое письмо
написано Луи Жерменом 30 апреля 1959 года, после
того как он получил от ученика книгу Ж.-К. Брисви-
ля «Камю». Вспоминая те далекие годы, когда герой
книги почти ничем еще не выделялся среди сверст¬
ников, учитель несколькими штрихами набросал
психологический портрет юного Камю, каким он ему
тогда виделся: «скромность и гордость, скрытность
и неудержимая жажда жизни». Однако истинная цен¬
ность этого письма определяется, с нашей точки
зрения, не столько скупыми воспоминаниями Луи
344
С. Jl. Фокин
Жермена, сколько тем пониманием учительского
ремесла, которое было выражено в нем старым на¬
ставником Камю. Делясь с писателем опасениями,
что планы обязательного преподавания основ като¬
лицизма могут привести к установлению в школе
режима духовного насилия, Луи Жермен высказыва¬
ет мысли, достойные лучших афоризмов его воспи¬
танника: «Заканчивая, хотел бы сказать тебе о той
боли, что я испытываю как учитель светской школы
от угрожающих ей злокозненных проектов. Мне ка¬
залось, что в продолжение всей моей учительской
карьеры я с уважением относился к самому свято¬
му, что есть в ребенке: его праву искать свою исти¬
ну. Я вас всех любил и, кажется, делал все возмож¬
ное, чтобы не обнаруживать свои идеи и не давить
таким образом на ваше юное сознание. Когда речь
заходила о Боге (это было в программе), я говорил,
что одни в него верят, другие нет. И что в полноте
своих прав каждый волен делать то, что он хочет.
То же самое и в отношении религии: я ограничивал¬
ся рассказами о существовавших религиях, говоря,
что они исповедовались теми, кому это нравилось.
Чтобы быть до конца правдивым, я добавлял, что
есть люди, которые не исповедуют никакой религии.
Я прекрасно понимаю, что это не может нравиться
тем, кто хотел бы превратить учителей в коммивоя¬
жеров от религии, говоря точнее, от католической
религии... На мой взгляд, это отвратительное поку¬
шение на детское сознание» (САС VII, 330-331). Два
письма, которыми завершается публикация «Первого
человека», помогают составить представление о ве¬
дущей теме незавершенной книги Камю: становление
Вместо заключения
345
человека, его трудный переход от бытия природ¬
ного — наивного, невинного, детского — к бытию
историческому, требующему признания виновности,
ответственности за содеянное зло, без которого че¬
ловеческая история немыслима, без которого, стало
быть, немыслим человек. Этот переход Камю не мо¬
жет себе представить без провожатого, без культу¬
ры, проводником которой является учитель. Учитель,
культура сопутствуют человеку в истории: не пре¬
граждая ему пути, но предохраняя от неверных ша¬
гов, оставляя, однако, за ним право даже на них.
Вспомним о Гренье: работая над антикоммунисти¬
ческой книгой «Эссе о духе ортодоксии», он совету¬
ет своему ученику вступить в коммунистическую
партию, понимая, по-видимому, внутреннюю обуслов¬
ленность такого шага в жизни того, кого к комму¬
низму толкали не идеи Маркса, но боль и горечь
повседневного существования. «Нарушая всякую
меру, я ставил себя на место другого,» — объяснял
позднее Гренье свой принцип. В ученике учитель
ищет не себя, но другого человека: не подобие, но
отличие, не тождественность, но ту неизвестную воз¬
можность человечности, которая принадлежит
только другому. Без учителя, без культуры человек
не доходит до собственной человечности. Не слу¬
чайно, что бесчеловечность людей обращается не¬
редко в кровавый бунт против культуры, против
того, что делает человека другим. Работая над ро¬
маном, Камю изучает историю колонизации Алжи¬
ра: в одной из книг его внимание привлекает тот
факт, что первой жертвой арабских повстанцев
1871 года был школьный учитель (САС VII, 305). То
346
С. Л. Фокин
же самое было и в 1954 году, когда война раздели¬
ла его родину надвое. Трагическое одиночество ал¬
жирского учителя, отвергнутого как европейским,
так и мусульманским сообществами, стало темой но¬
веллы «Гость» из сборника «Изгнание и царство». Во
многом это была трагедия самого Камю, тщетно при¬
зывавшего воюющих к миру: «В этой необъятной
стране, столь любимой им, он был одинок» (I, 1623).
Благодаря учителю человек может понять, что он
не один на земле, что он не первый, что он не оди¬
нок. Фигура учителя первой возникает в поисках
утраченного образа «отца», которыми открывается
роман Камю.
Прежде чем обратиться к основному тексту «Пер¬
вого человека» необходимо сделать одну важную
оговорку. Перед нами не роман, а лишь незавер¬
шенный эскиз произведения. Это не вариант, по ко¬
торому можно было бы судить о происхождении
и достоинствах известного оригинала, это черновой
набросок, спасенный от безвестности гибелью ху¬
дожника. Зная о неизменном стремлении Камю к со¬
вершенствованию художественных форм письма
(напомним о Жозефе Гране, незадачливом романи¬
сте из «Чумы», без конца бившемся над одной един¬
ственной фразой, которой должен был открыться
роман о любви), невозможно не почувствовать не¬
обычайной недостоверности текста «Первого чело¬
века», настоящим своим существованием обязанно¬
го лишь несуществованию автора, его безвременному
исчезновению. Смерть творца, прервав творчество,
открыла само творение, таинство письма, скрываю¬
щееся в конце концов под завершенными формами
Вместо заключения
347
книги. Подобно вопросу, который никому уже не
разрешить, «Первый человек» остается открытой
книгой. Перед нами не что иное, как книга гряду¬
щая, теперь навсегда: в ней нет ничего, кроме того,
что обречено было скрыться в предстоящем письме.
Вот почему любая попытка ее истолкования будет
не столько ответом на те вопросы, что ставились
в «Первом человеке», сколько всего лишь новым во¬
просом, смысл которого сводится к возможности
открыть что-то несбывшееся в этой книге. Такой
вопрос обращен скорее к тому, чего нет в ней, не¬
жели к тому, что есть.
Появление «Первого человека» вызвало волну от¬
кликов — как восторженных, так и сдержанных.
Почти все критики, однако, сходились в высоких
оценках автобиографического начала текста. Дей¬
ствительно, основные герои романа знакомы чита¬
телям Камю по ранней эссеистике и дневниковым
записям. Это кроткая, все время погруженная в мол¬
чание мать, властная, своенравная и скорая на рас¬
праву бабушка, дядя — бочар, страдающий глу¬
хотой и вынужденный объясняться сотней слов,
жестами и звуками. «Вырвать эту бедную семью, —
записывает Камю одну из творческих задач книги, —
из удела бедняков, обреченных бесследно исчезнуть
из истории. Безмолвные» (САС VII, 293). Автобио¬
графичен образ главного героя, Жака Кормери, ко¬
торому Камю дал фамилию своего деда. Более того,
герой призван повторить путь, которым шел когда-
то Камю: сиротство, бедность алжирского квартала,
счастливая встреча с учителем, который открывает
мальчику двери в мир культуры, но в то же время
348
С. Л. Фокин
отрывает его от родных, обрекая на неизбывное
чувство оторванности от почвы, что его взрастила,
осложняющееся переживанием своей непохожести
на тех людей, с которыми его сближало образова¬
ние. «Никогда еще Камю не был столь близок к само¬
му себе, как в этом незавершенном романе,» — за¬
мечает один из критиков. Это верно и... неверно.
Это верно в том смысле, что рисунки человечес¬
ких характеров, лишь намеченные в книге «Изнанка
и лицо», складываются в «Первом человеке» в полно¬
кровные картины жизни простых людей Алжира,
среди которых проходило детство и отрочество пи¬
сателя. Камю близок к ним, но в то же время беско¬
нечно далек. Позиция романиста в «Первом челове¬
ке», как она выразилась в построении написанных
глав, рабочих планах, общем характере замысла, не
может быть отождествлена ни с одним из образов
произведения, нельзя ее свести и к образу главного
героя. Главное, что отделяет автора от персонажей,
это время: они существуют в различных временах.
И если историческое время, в котором живут герои
«Первого человека», безусловно соотносится со
временем автора, иногда совпадает с ним — когда
в повествование включаются реальные события
его жизни, то собственно авторское время неизме¬
римо превосходит время романа, поскольку именно
на его основе строится все здание книги. Вот поче¬
му биографическое начало (время) не может быть
единственным критерием в истолковании замысла
Камю.
В контурах композиции и характере повествова¬
ния «Первого человека» можно выделить три уровня
Вместо заключения
349
времени: во-первых, это время биографическое,
время жизни главного героя, которое в общих чер¬
тах соответствует времени жизни самого Камю; во-
вторых это время историческое, время реальной
исторической эпохи, которая предваряет, охваты¬
вает и объясняет биографию Жака Кормери; в-тре¬
тьих, это авторское время произведения, своего рода
философия романа, которая служит идейным и эсте¬
тическим фундаментом всего повествования и дает
о себе знать как в практическом построении книги,
так и в теоретической позиции писателя, выразив¬
шейся в его размышлениях о романе. Очертания за¬
мысла лучше всего представлены в одном из планов
«Первого человека» из «Записной книжки» писате¬
ля (САС VII, 306-307). Из этого плана следует, что
произведение рисовалось писателю как широкое эпи¬
ческое полотно. Создавая историю жизни Жака Кор¬
мери, Камю думал писать историю своего народа,
историю европейских поселенцев Алжира, которые
когда-то были на этой земле «первыми людьми», под¬
нимали ее своим трудом, обогащали ее своей куль¬
турой, врастали в нее всеми корнями, а в середине
XX века изгонялись из своих домов, становились чу¬
жими на этой земле. Отвергая примитивно-про-
грессистское понимание алжирской проблемы, со¬
гласно которому освоение этой земли европейцами
представлялось не иначе, как преступление капита¬
лизма против местных народов, Камю пытался вос¬
создать подлинную трагедию людей, которые лиша¬
лись родины. Характерна в этом отношении история
одного старого фермера, о которой узнает Жак,
приехав в 1954 году в родные места. «Когда пришел
350
С. JI. Фокин
приказ об эвакуации, он не сказал ни слова. Урожай
был собран, вино уже бродило в чанах. Он вскрыл
чаны, пошел к источнику соленой воды, которую сам
когда-то отвел и пустил поток прямо на свои земли,
потом прицепил к трактору плуг. Три дня подряд,
молча, с непокрытой головой, он, не вылезая из трак¬
тора, выкорчевывал свои виноградники. Вообрази¬
те себе это зрелище: старик, тощий как кочерга,
трясется на тракторе и жмет изо всех сил на рычаг,
когда плуг не справляется с какой-нибудь упрямой
лозой. Он даже не ходил домой есть — мать прино¬
сила ему хлеб, сыр и (колбасу), он все это съедал, не
спеша, как делал все и всегда, отбрасывал недоеден¬
ный ломоть, чтобы еще поднажать, — и так от вос¬
хода до заката, не глядя ни на горы у горизонта, ни
на арабов, которые смотрели на это издали. А когда
некий молодой капитан, которого кто-то известил,
явился и попросил объяснений, старик сказал ему:
“Молодой человек, коль скоро все, что мы здесь со¬
вершили, — преступление, то надо его искоренить”»
(САС VII, 167-168. Перевод И. Кузнецовой). Кон¬
кретные наблюдения жизни, таким образом, были
для Камю в процессе создания романа своего рода
«первотолчком». Он исходит не из философских идей,
как это было во время работы над «Посторонним»
или «Чумой», но из реальных событий существова¬
ния. Художественный образ в «Первом человеке»
должен был строиться не столько как философский
символ, сколько как творческое обобщение жиз¬
ненных наблюдений, исторического понимания дей¬
ствительности и сокровенных мировоззренческих
убеждений. Роман немыслим без истории — таков
Вместо заключения
351
один из главных итогов размышлений Камю о су¬
ществе романного творчества.
Как уже указывалось, историческое время в «Пер¬
вом человеке» предваряет, охватывает и объясняет
биографическое время. Роман начинается безымян¬
ной главой, в которой рассказывается о рождении
Жака Кормери. Это происходит осенью 1913 года на
маленькой ферме близ Мондови, куда переезжают
его отец и мать в надежде обосноваться на суровой,
но родной для них земле северного Алжира. Однако,
смысловое начало романа не в этой главе, а в сле¬
дующей. Через сорок лет после описанных в нача¬
ле событий Жак приезжает в Сен-Брие, небольшой
городок на севере Франции, где на местном клад¬
бище покоится прах его отца, погибшего в 1914 году
в битве на Марне. Перед надгробием Жака поражает
мысль о том, что отец остался моложе его: «И волна
нежности и жалости затопила вдруг его сердце, но
это было не то чувство, какое вызывает воспомина¬
ние о погибшем отце, а острое сострадание, кото¬
рое зрелый человек испытывает к безвинно убитому
ребенку. Что-то тут не укладывалось в естествен¬
ный порядок, да и не было его, этого порядка, там,
где сын оказывался старше отца, а было лишь без¬
умие и хаос». Перед могилой отца начинается труд¬
ный путь Жака к открытию того, что он — не первый
человек на земле, поскольку тот, кто предшество¬
вал ему, тоже был первым, тоже был вынужден де¬
лать себя сам. Как мы помним, этот путь должен был
кончиться тем, что Жак бросается в ноги к мате¬
ри, — и она первая, она всегда остается первой, да¬
вая жизнь всему живому. Но эта жизнь, понимает
352
С. Л. Фокин
Камю, работая над романом, обречена исчезнуть —
не в той войне, так в другой, обречена, подобно
выкорчеванному с болью винограднику, кануть в заб¬
вение, не оставляя после себя ни единого следа, разве
лишь муку любви в сердце того, кто, приходя на смену
первому человеку, тоже должен быть первым.
Пред могилой отца размыкается самосознание
Жака: сознание одинокого человека, во всем вы¬
нужденного полагаться только на себя, обращается
к осмыслению того, что связывает его с другими. Вре¬
мя личного существования раскалывается, смыкаясь
с общей судьбой, сливаясь с историей других людей.
Это распадение единичности существования обра¬
зует сюжетный стержень произведения, оно опреде¬
ляет двуплановость композиции «Первого человека»,
чередование в повествовании двух временных пла¬
нов: плана биографии, настоящего времени, в кото¬
ром существует герой, считавший себя «первым че¬
ловеком», и плана истории, прошлого, воссоздавая
которое он приходит к пониманию того, что он не
первый. «Возле могилы отца, — подчеркивает Камю
в “Записной книжке” ключевой характер сцены, —
он чувствует, как распадается время — этот новый
порядок времени будет порядком книги» (САС VII,
317). Историческое время, эпоха «мертвых детей,
которые были отцами седеющих теперь мужчин»,
пронизывает существование Жака, заставляет его
жить не только своей жизнью, но и болью других
людей, живых и мертвых.
Камю не успел вписать биографию своего героя
в историческое время: в тексте романа есть всего
лишь несколько сцен, посвященных алжирской войне
Вместо заключения
353
50-х годов. Но если судить по планам произведения,
писатель прекрасно понимал необходимость вклю¬
чения истории в роман. Он думает провести Жака
Кормери через те испытания и искушения полити¬
ческой жизни XX века, которые были хорошо извест¬
ны ему самому: эксцессы революционного движе¬
ния 30-х годов, «странная война», Сопротивление,
Освобождение, послевоенные «чистки», алжирская
трагедия. Роман требовал «измерений эпохи» (САС VII,
305). Камю понимает, однако, и то, что истоки со¬
временных трагедий находятся в прошлом. Как уже
отмечалось, он обращается к истории колонизации
Алжира, читает специальные исследования по этой
теме. В «Записной книжке» появляются прозрения
о том, что зерна войны 1954 года были посеяны
сто лет тому назад, когда первые европейские по¬
селенцы появились в Алжире, когда они начали стро¬
ить свои дома на землях африканских племен, сопро¬
тивление которых подавлялось со всей жестокостью:
«Альзасцы занимают земли повстанцев» (САС VII, 305).
Но писателю трудно примириться с той мыслью, что
потомки европейцев, избравших в прошлом веке
эту землю своей родиной, станут ей чужими. Он ко¬
леблется, не зная, каков будет конец у этой истории,
к которой он принадлежит всем своим существом.
Порой ему кажется, что трагедия может кончиться
миром, что есть возможность мирной жизни евро¬
пейцев и арабов: «Отдайте землю. Дайте всю землю
бедным, тем, у кого ничего нет, тем, кто столь бе¬
ден, что не имел никогда даже желания что-то иметь,
чем-то владеть...» (САС VII, 320). Чаще конец видит¬
ся ему трагическим. Формулируя тему первой части
354
С. Л. Фокин
произведения, он записывает: «Заглавие: Кочевни¬
ки. Начинается с рассказа о переезде и завершается
эвакуацией с алжирских земель» (САС VII, 282). Но
Камю верит, хочет верить, что история «первого че¬
ловека» не заканчивается «изгнанием»: «Книга должна
быть незаконченной. Напр.: “И на пароходе, кото¬
рый возвращал его во Францию...”» (САС VII, 288).
Книга осталась незаконченной...
Альбер Камю: краткая хроника
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА1
1913
Альбер Камю появился на свет 7 ноября в пред¬
местье городка Мондови, что находится на севере
Алжира.
1914
Отец, Люсьен Камю, погибает от раны, получен¬
ной в битве на Марне. Мать, Катрин Сантес, остав¬
шись с двумя детьми на руках, перебирается в город
Алжир, в дом своей матери, Марии Кардона Сантес.
Бабушка — властная, своенравная, скорая на рас¬
праву — становится главой семьи. Чтобы поднять
детей, Катрин Камю вынуждена целыми днями рабо¬
тать; она убирает в богатых домах.
1918-23
Альбер Камю поступает в коммунальную школу.
Луи Жермен, учитель начальных классов, замечает
1 При подготовке этого раздела была использована в основ¬
ном работа Р. Гренье: К Grenier. Albert Camus. Soleil et ombre. Une
biographie intellectuelle. Paris, 1987.
356
С Л. Фокин
способного мальчика и подготавливает его к конкур¬
су на получение стипендии в Алжирском лицее.
1923-30
Камю учится в лицее, отличается хорошей успе¬
ваемостью, много читает, большую часть свободно¬
го времени проводит на футбольном поле или на
море. В последний год учебы у юноши обнаружива¬
ется туберкулез, несколько месяцев он проводит
в больнице. В классе философии его преподавате¬
лем становится Жан Гренье, начинающий эссеист,
связанный с литературным миром Парижа. Под его
влиянием в круг чтения Камю входят современные
авторы: А. Жид, А. Мальро, А. де Монтерлан.
1932-35
Камю — студент Алжирского университета, где
занимается в основном философией. Чтобы «яснее
видеть себя», начинает писать что-то вроде дневника,
куда попадают также читательские заметки и пер¬
вые пробы пера. Читает Бергсона, Ницше, Стенда¬
ля, Шестова, Шопенгауэра, Эсхилла. По совету Гре¬
нье вступает в коммунистическую партию, занимается
агитацией среди молодых мусульман. К этому вре¬
мени относятся начальные опыты письма: эссе «Го¬
лоса бедного квартала», посвященные Симоне Гие,
первой жене, с которой он вскоре расстанется.
1936
Мечтая об университетской карьере, пишет дип¬
ломное сочинение «Христианская метафизика и нео¬
платонизм». Круг чтения: античные авторы, Жид,
Мальро, Киркегор, Паскаль. Первое путешествие в
Европу: Австрия, Германия, Чехословакия. Тягостные
впечатления от поездки отразятся в эссе «Со смертью
Алю ер Камю: краткая хроника жизни и творчества
357
в душе»: Европа представляется оборотной сторо¬
ной, «изнанкой» милого его сердцу Средиземномо¬
рья. Становится одним из руководителей алжирско¬
го Дома Культуры, на базе которого создает Театр
Труда, объединивший революционно настроенную
молодежь города: студентов, преподавателей, скульп¬
торов, художников, поэтов. В репертуар театра вхо¬
дят Бен Джонсон, Горький, Достоевский, Жид, Пуш¬
кин, Эсхилл. В соавторстве с друзьями пишет пьесу
«Восстание в Астурии», посвященную испанским со¬
бытиям, постановка запрещена из-за разгорающей¬
ся в Испании войны.
1937
Туберкулез не оставляет надежд на продолжение
университетской карьеры. Решает посвятить себя
полностью писательскому труду. Выпускает первую
книгу — сборник эссе «Изнанка и лицо». В Доме
культуры читает программную лекцию «Новая сре¬
диземноморская культура», в которой настаивает на
духовном своеобразии «родных берегов», хранящих
эллинские идеалы силы, красоты, жизни. Упорно
работает над романом «Счастливая смерть». Увле¬
ченно занимается театром: в составе труппы разъез¬
жает по городам Алжира. Первые политические
разочарования: исключен из компартии за отказ под¬
держать новый курс в отношении арабского нацио¬
нально-освободительного движения. Начинает думать
о переезде в Париж. Читает Сореля, Ницше, Шпен¬
глера.
1938
Камю становится сотрудником «Альже репюб-
ликен», независимой газеты левого толка. Первые
358
С. Л. Фокин
выступления молодого журналиста отличаются
смелостью трактовок злободневных политических
проблем. В литературном отделе газеты появляются
его рецензии на книги Низана, Ремарка, Сартра, Хак¬
сли. Начинает работать над «циклом абсурда», трип¬
тихом, который должен был состоять из эссе, пьесы
и романа. Завершает «Счастливую смерть». Гренье,
прочитавший рукопись, пишет Камю письмо, пол¬
ное суровой критики. Роман останется неопублико¬
ванным.
1939
В серии репортажей «Нищета Кабилии» ставит во¬
прос о необходимости новой социальной политики,
которая изменила бы положение арабов в Алжире.
Пишет рецензии на книги Бердяева, Бернаноса, Сар¬
тра, Силоне, Шамсона. Публикует сборник эссе
«Брачные пиры», лирико-философские размышле¬
ния о красоте и истине Средиземноморья. Война
обостряет политическое самосознание Камю: в ар¬
мию его не берут по состоянию здоровья, но статьи,
которые он публикует в «Альже репюбликен», сви¬
детельствуют о том, что он не думает остаться в сто¬
роне. Вскоре военная цензура запрещает газету.
Завершает первую редакцию «Калигулы» и неболь¬
шой этюд «Кафка — романист надежды», праобраз
«Мифа о Сизифе». Во время посещения Орана зна¬
комится с Франсиной Фор, которая вскоре станет
его женой.
1940
Переезжает в Париж. По рекомендации Паскаля
Пиа, бывшего главного редактора «Альже репюб¬
ликен», входит в редакцию «Пари суар», известной
Альбер Камю: краткая хроника жизни и творчества
359
столичной газеты. Не желая писать под оком цен¬
зуры, работает техническим секретарем. В мае за¬
вершает «Постороннего». Спасаясь от наступления
немцев, покидает Париж вместе с другими сотруд¬
никами «Пари суар». Читает Грина, Лоуренса, раз¬
мышляет над образом великого честолюбца Цезаря
Борджиа.
1941
Вместе с женой возвращается в Оран, некоторое
время работает в частной школе, где учатся еврей¬
ские дети, исключенные из государственных лицеев.
Делает первые наброски к «Чуме». Публикует не¬
большую статью «В ожидании плодов», в которой
звучит призью к моральному сопротивлению. Закан¬
чивает работу над эссе «Миф о Сизифе» и пьесой
«Калигула». «Абсурд» завершен, философия бунта
занимает его мысли, он думает о новом тематичес¬
ком триптихе. Тем временем «три абсурда» попада¬
ют к Жану Полану, одному из мэтров литературно¬
го Парижа. Являясь членом редакционного совета в
издательстве «Галлимар», Полан настаивает на немед¬
ленной публикации «Постороннего». Камю, однако,
мечтает выпустить триптих одной книгой. Гренье,
со своей стороны, посылает рукопись «Мифа о Си¬
зифе» Г. Марселю. Видный христианский мыслитель
откликается гневной отповедью, в которой первым,
наверное, сводит позицию Камю к наивному ниги¬
лизму. Между тем писатель создает в Оране неболь¬
шую нелегальную группу, которая должна была за¬
ниматься приемом политических беженцев из
Франции. Круг чтения: Мелвилл, Марк Аврелий,
Маркиз де Сад, Толстой, де Лариве.
360
С. Л. Фокин
1942
Обострение туберкулеза вынуждает Камю от¬
правиться во Францию, где в горах Верхней Луа¬
ры он думает поправить здоровье. Перед началом
учебного года Франсина возвращается в Оран.
Камю должен закончить курс лечения в Пенелье
и собирается вернуться в Алжир осенью. Однако
высадка союзников в Северной Африке препят¬
ствует его возвращению, немцы занимают южную
зону страны. До конца войны Камю будет жить в
разлуке с близкими, опыт одиночества скажется
прежде всего в «Чуме». В этот год он активно пе¬
реписывается с поэтом Ф. Понжем, книга которо¬
го «Приняв сторону вещей» видится ему образцом
«абсурдного произведения». Читает Мелвилла, Де¬
фо, Сервантеса, Бальзака, Мадам де Лафайет. По¬
явление «Постороннего» и «Мифа о Сизифе» вызы¬
вает волну критических откликов и делает автора
знаменитым.
1943
Камю становится членом редакционного совета
издательства «Галлимар». Переезжает в Париж, под
псевдонимом «Бошар» сотрудничает в нелегальной
газете Сопротивления «Комба», вскоре он будет од¬
ним из ее руководителей. Пишет пьесу «Недоразу¬
мение», перерабатывает «Калигулу». Сближатеся с
Ж.-П. Сартром, который написал большую статью
о «Постороннем». Публикует первое «Письмо к не¬
мецкому другу», где впервые явственно звучат нот¬
ки критики нигилизма. В ходе работы над «Чумой»
напряженно размышляет о том, что такое «роман»,
в особенности роман французский.
Алы'>ер Камю: краткая хроника жизни и творчества
361
1944
Премьера «Недоразумения» проходит в оккупи¬
рованном Париже, усилиями коллаборационист¬
ской критики пьеса провалена, одну из главных ро¬
лей в ней исполняла Мария Казарес, впоследствии
известная французская актриса. С освобождением
Парижа газета «Комба» под руководством П. Пиа
и А. Камю становится одним из авторитетных ру¬
поров национального возрождения, в ней пишут
Ж. Батай и С. де Бовуар, М. Лейрис и А. Мапьро,
Ж.-П. Сартр был одно время корреспондентом га¬
зеты в Америке.
1945
Камю едет в Алжир: путешествие по родным кра¬
ям еще сильнее утверждает его в диагнозе, постав¬
ленном семь лет назад в репортажах «Нищета Каби-
лии»— для предотвращения трагедии необходимы
решительные изменения в социальной и нацио¬
нальной политике. Однако история опережает по¬
литиков: майское восстание мусульман в Сетифе, со¬
провождавшееся бессмысленными убийствами
европейцев, потоплено в крови. В сентябре в Пари¬
же проходит премьера «Калигулы», главную роль
исполняет Ж. Филип, тогда никому не известный мо¬
лодой актер. Осенью в семье А. Камю рождаются
близнецы: дочь Катрин и сын Жан. Продолжая рабо¬
тать над «Чумой», писатель делает первые наброски
к «Бунтующему человеку»: «Заметки о бунте».
1946
Совершает путешествие в Америку, в лекциях,
которые читает в университетах, размышляет о ду¬
ховном своеобразии Европы и роли писателя. В изда¬
362
С. Л. Фокин
тельстве «Гаплимар» основывает тематическую серию
«Надежда», в которой появляются книги С. Вейль,
Р. Шара, Б. Парена. В больших сомнениях заверша¬
ет «Чуму». Между тем наступает юра разрывов», пе¬
риод резких политических размежеваний в кругах
французских интеллигентов. Р. Арону, Ж. Батаю,
А. Кестлеру, А. Мальро, М. Мерло-Понти, Ж.-П. Сар¬
тру все труднее сохранять иллюзии духовной общ¬
ности, порожденные Сопротивлением.
1947
Камю оставляет «Комба»; поскольку болезнь по-
прежнему не отступает, лето вновь проводит в Па-
нелье. Появление «Чумы» ставит его в ряд первых
писателей Франции, марксистская и экзистенциали¬
стская критика упрекает его в абстрактности фигу¬
ры зла, представленной в романе. В ходе полемики
вокруг позиции А. Кестлера, заявленной в книге «Сле¬
пящая тьма», Камю порьюает с М. Мерло-Понти, пы¬
тавшимся обосновать необходимость историчес¬
кого насилия. Продолжает работу над «Бунтующим
человеком», особенно интересуется историей рус¬
ского освободительного движения. Круг чтения по
«русской теме» необычайно широк: от Аввакума до
Маяковского, от Герцена до Бердяева.
1948
По предложению Ж.-Л. Барро Камю переклады¬
вает тему «Чумы» для театра, совместная постанов¬
ка «Осадного положения» завершается полным про¬
валом. Крайне резкой была критика Г. Марселя,
упрекавшего автора в том, что местом действия
философской притчи о всевластии зла была избрана
Испания. Защищаясь, Камю пишет статью «Почему
Алмер Камю: краткая хроника жизни и творчества
363
Испания? Ответ Габриэлю Марселю»: обосновывая
свой выбор, писатель указывает, что именно Испа¬
нии суждено было стать первой жертвой заигрыва¬
ний европейских демократий с фашистскими режи¬
мами. Размышляя о связях духовного бунтарства,
революции и насилия, Камю создает пьесу «Правед¬
ники», сюжет которой основан на реальном эпизоде
из истории первой русской революции — покуше¬
нии С. Каляева на великого князя Сергея.
1949-50
Путешествует по Южной Америке, обострение бо¬
лезни сопровождается глубокой психологической
депрессией. С большими усилиями пишет последние
главы «Бунтующего человека», много раздумывает о
собственном творчестве, подводит итоги, неуверенно
строит планы. Выходит в свет сборник публицистики
«Своевременные размышления», объединивший ста¬
тьи, выступления и интервью последних лет.
1951-52
Появление «Бунтующего человека» вызывает
бурную полемику, в которой принимают участие
представители всех идейных движений, так или
иначе связанных с философией бунта: сюрреа¬
листы и коммунисты, экзистенциалисты и персона¬
листы. Особенно жестокой была атака со стороны
Ж.-П. Сартра, Камю болезненно переживает разрыв
с человеком, которого считал своим другом. Среди
немногих писателей, кто открыто принял сторону
Камю, — Ж. Батай, Ж. Гренье, Р. Шар. Писатель не¬
сколько отдаляется от литературного мира Парижа:
отклоняет предложение стать директором Театра
Рекамье. Выходит из состава ЮНЕСКО в знак про¬
364
С. Л. Фокин
теста против принятия в состав организации фран¬
кистской Испании. Строит разнообразные творчес¬
кие планы вокруг темы «любви»: эссе о Немезиде,
роман «Первый человек», новеллы «Изгнания и цар¬
ства», пьеса «Дон Фауст», соединяющая мотивы Дон
Жуана и Фауста.
1953
Камю выступает в поддержку рабочего восста¬
ния в Восточном Берлине, подавленного советскими
танками. Руководит театральным фестивалем в Анже¬
ре, где демонстрируются его инсценировки Кальдеро¬
на и де Лариве. Выпускает в свет сборник политичес¬
кой публицистики «Своевременные размышления II»,
составленный в основном из полемических выступле¬
ний в защиту «Бунтующего человека». «Русская тема»
по-прежнему сильно занимает его мысли: «Записные
книжки» пестрят выписками из Толстого, пишет ин¬
сценировку «Бесов» Достоевского.
1954
Камю стремится отойти от всякой политической
деятельности, полемика последних лет занимает все
его силы, он почти не пишет «для себя». Тем не ме¬
нее, публикует сборник эссе 1939-1953 годов под
общим названием «Пето», продолжающий в жанре
лирико-философской медитации давние средизем¬
номорские интуиции и мотивы. Путешествует по Ита¬
лии, пытаясь воскресить в творческом сознании те
источники красоты и силы, которые питали его мысль
с довоенных лет. Но злободневность не отпускает:
шум, поднятый вокруг «Мандаринов» С. де Бовуар,
возвращает Камю к осмыслению отношений с экзи¬
стенциалистами.
Альбер Камю: краткая хроника жизни и творчества
365
1955
Едет в Грецию, которая представляется ему са¬
мым светлым источником творчества. Начало войны
в Алжире вынуждает Камю вернуться к политичес¬
кой публицистике: он пишет передовицы для париж¬
ского еженедельника «Экспресс». Продолжает ра¬
боту над новеллами на тему «Изгнание и царство»,
которая вбирала в себя раздумья о судьбе европей¬
цев в Алжире. В ходе работы одна из новелл пе¬
рерастает в повесть «Падение», в которой Камю,
набрасывая портрет «героя нашего времени», рас¬
считывается с экзистенциалистами и самим собой,
тем образом «праведника Камю», который сильно тя¬
готит писателя.
1956
Едет в Алжир, где тщетно пытается призвать вою¬
ющих к миру. Экстремисты бросают клич: «Смерть
Камю», его позиция не устраивает ни прогрессистов,
ни консерваторов. Чувствуя невозможность что-либо
изменить, Камю прекращает сотрудничество с «Экс¬
пресс». Создает инсценировку по роману У. Фолк¬
нера «Реквием по монахине», пьеса имеет большой
успех. Отвечая на призыв венгерских писателей,
Камю выступает с резким протестом против совет¬
ского вторжения в Венгрию. Непонимание, которым
было встречено «Падение», наводит Камю на мысль
написать комментарий к повести.
1957
Камю выпускает сборник новелл «Изгнание и цар¬
ство», в котором заметно отражается опыт одино¬
чества писателя: его отторгает родина, его не пони¬
мает Париж. В этот год он пишет «Размышления
366
С. Л. Фокин
о гильотине», своего рода дополнение «Бунтующего
человека», в котором настаивает на необходимости
отмены смертной казни, эссе появляется в одной
книге с «Размышлениями о повешении» А. Кестлера.
17 октября приходит известие о присуждении Камю
Нобелевской премии по литературе, он девятый пи¬
сатель Франции, удостаивающийся этой чести. Но¬
белевская лекция Камю посвящена теме «художник
и его время».
1958
Камю переиздает свою первую книгу «Изнанка
и лицо», по этому случаю он пишет большое преди¬
словие, в котором подводит некоторые итоги прой¬
денного пути и намечает его новые ориентиры.
Главным импульсом последующего развития мыслится
«возвращение к истокам». В июне выходит сборник
«Своевременные размышления III», целиком посвя¬
щенный алжирской трагедии, мысль Камю замал¬
чивается, не находит ни понимания, ни откликов.
Летом Камю читает роман Б. Пастернака «Доктор
Живаго», пишет автору взволнованное письмо, в ко¬
тором говорит об огромной роли русской литера¬
туры в его творчестве.
1959
Почти десятилетие Камю думал над инсцениров¬
кой «Бесов» Достоевского: представление, состояв¬
шееся 30 января, имело большой успех. А. Мальро,
министр культуры в правительстве де Голля, думает
поручить Камю руководство одним из парижских
театров. В ноябре, преодолев, по-видимому, долгий
творческий кризис, писатель плодотворно работает
над романом «Первый человек».
А.июер Камю: краткая хроника жизни и творчества
367
1960
4 января Альбер Камю погиб в автомобильной ка¬
тастрофе, ему было сорок шесть лет.
368 С. Л. Фокин
список сокращений
I Л. Camus. Théâtre, récits, nouvelles. Paris, NRF,
Gallimard, 1985.
II A. Camus. Essais. Paris, NRF, Gallimard, 1984.
Cl A. Camus. Carnets (mai 1935 — février 1942). Pa¬
ris, NRF, Gallimard, 1962.
C2 A. Camus. Carnets II (janvier 1942— mars 1951).
Paris, NRF, Gallimard, 1964.
C3 A. Camus. Carnets III (mars 1951 — décembre
1959). Paris, NRF, Gallimard, 1989.
CAC1 Cahiers Albert Camus 1: La Mort heureuse. Paris,
NRF, Gallimard, 1971. (последующие выпуски
обозначаются соответствующей цифрой).
С С Albert Camus — Jean Grenier. Correspondance.
1932-1960. Paris, 1981.
Библиография
избранная библиография
369
ТЕКСТЫ
Л. Camus. Essais / Introduction par R. Quillot. Édi¬
tion établie et annotée par R. Quillot et L. Faucon. Paris,
NRF, Gallimard, 1984. — 1975 p. (Bibliothèque de la Pléia¬
de, 183).
Л. Camus. Théâtre, récits, nouvelles. / Préf. par J. Gre¬
nier; Edition établie et annotee par R. Quillot. Paris, NRF,
Gallimard, 1985. — 2088 p. (Bibliothèque de la Pléiade,
161).
Л. Camus. Carnets I (mai 1935 — février 1942). Paris,
NRF, Gallimard, 1962. — 252 p.
Л. Camus. Carnets II (janvier 1942— mars 1951). Paris,
NRF, Gallimard, 1964. — 350 p.
Л. Camtts. Carnets III (mars 1951 — décembre, 1959).
Paris, NRF, Gallimard, 1989. — 406 p.
370
С. Л. Фокин
A. Camus. Journaux de voyage / Texte établi, présenté
et annoté par R. Quillot. Paris, NRF, Gallimard, 1978. —
149 p.
A. Camus — J. Grenier. Correspondance. 1932—1960/
Avec un avertissement et des notes de M. Dobrenn. Paris,
NRF, Gallimard, 1981. — 278 p.
Cahiers Albert Camus: La mort heureuse / Introduc¬
tion et notes de J. Sarocchi. Paris, NRF, Gallimard, 1971. —
233 p.
Cahiers Albert Camus 2: Ecrits de jeunesse, précédés
d’une étude de P. Viallaneix. Paris, NRF, Gallimard,
1973. _ 304 p.
Cahiers Albert Camus 3: Fragments d’un combat 1938—
1940. Alger Républicain — Le Soir Républicain (2 vol.) /
Edition établie et annotée par J. Levi-Valensi et A. Abbou.
Paris, NRF, Gallimard, 1978. — 771 p.
Cahiers Albert Camus 4: Caligula (version de 1941),
suivi de «La Poétique du premier Caligula» par A. J. Arnold.
Paris, NRF, Gallimard, 1984. — 191 p.
Cahiers Albert Camus 6: Albert Camus: éditorialiste à
«L’Express» (mai 1955 — févr. 1956) / Introd., comment,
et notes par P.-F. Smets. Paris, NRF, Gallimard, 1987. —
246 p.
Cahiers Albert Camus 7: Le Premier homme. Textes
établis et présentes par C. Camus. Paris, NRF, Gallimard,
1994.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА ЖУРНАЛОВ
Albert Camus. — «La Nouvelle Revue française», 1960,
№ 87. — 230 p.
BuÔJlU08p(l(plUl
371
Albert Camus. — «La Table Ronde», 1960, № 146. —
224 p.
Albert Camus, homme de théâtre. — «Revue d’histoire
de théâtre», 1960, № 4, p. 319—362.
Camus devant la critique anglo-saxone. — «La Revue
des lettres modernes», 1961, № 64—66. — 243 p.
Camus devant la critique de langue allemande. — «La
Revue des lettres modernes», 1963, № 90—93.
Albert Camus 1 : Autour de «L’Etranger». — «La Revue
des lettres modernes», 1968, № 170—174. — 238 p.
Albert Camus 2: Langue et langage. — «La Revue des
lettres modernes», 1969, № 212—216. — 251 p.
Albert Camus 3: Sur «La Chute». — «La Revue des
lettres modernes», 1970, № 238—244. — 312 p.
Albert Camus 4: Sources et influences. — «La Revue
des lettres modernes», 1971, № 264—270. — 354 p.
Albert Camus 5: Journalisme et politique, l’Entrée dans
l’Histoire (1938—1940). — «La Revue des lettres mode¬
rnes», 1972, № 315-322. — 287 p.
Albert Camus 6: Camus nouvelliste, «L’Exil et le roy¬
aume». — «La Revue des lettres modernes, 1973, № 360—
365. — 286 p.
Albert Camus 7: Le Théâtre. — «La Revue des lettres
modernes», 1973, № 360—365. — 286 p.
Albert Camus 8: Camus romancier, «La Peste». — «La
Revue des lettres modernes», 1976, № 479—483. — 216 p.
Albert Camus 9: La pensée de Camus. — «La Revue
des lettres modernes», 1979, № 565—569. — 191 p.
Albert Camus 10: Nouvelles approches. — «La Revue
des lettres modernes», 1982, № 632—636. — 176 p.
Albert Camus 11: Camus et la religion. — «La Revue
des lettres modernes», 1982, № 648—651. — 202 p.
372
С. Л. Фокин
Albert Camus 12: La révolte en question. — «La Revue
des lettres modernes», 1985, № 715—719. — 164 p.
КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ
A Albert Camus, ses amis du Livre. Paris, NRF, Galli¬
mard, 1962. — 63 p.
Camus. Paris, Hachette, 1964. — 291 p.
Les critiques de notre temps et Camus. Paris, Garnier,
1970.— 192 p.
МАТЕРИАЛЫ СИМПОЗИУМОВ
Camus 1970: Colloque organizé sous les auspices du
Département des langues et littératures romanes de l’Uni¬
versité de Floride (Gainesville) les 29 et 30 janvier 1970 /
Actes présentés par R. Gay-Crosier. Sherbrooke, Univer¬
sité de Sherbrooke, 1970. — 113 p.
Camus 1980: Second International conference Febr.
21—23, 1980 / Ed. by R. Gay-Crosier. Gainesville, Univ.
presses of Florida, 1980. — XIV, 330 p.
Albert Camus: Communications du Colloque interna¬
tional de Bruxelles du 19 avril 1985 / Textes réunis par
P.-F. Smets. Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles,
1985.— 158 p.
Camus et la politique: Actes du Colloque de Nanterre
5—7 juin 1985 / Sous la direction de J. Guérin. Paris, L’Hart-
manne, 1986. — 296 p.
Albert Camus: œuvre fermée, œuvre ouverte? Actes
du Colloque du Centre cult, intern, de Cerisy-la-Salle, juin
Библиография
Ъ1Ъ
1982. Paris, NRF, Gallimard, 1985.— 386 p. (Cahiers Al¬
bert Camus 5)
МОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
P. Archambault. Camus’Hellenic Sources. Chapel Hill,
North Carolina Univ. press, 1972. — 173 p.
M. Ardi^io. Camus. Paris, Duculot, 1982.— 144 p.
E. Barilier. Albert Camus: Philosophie et littérature.
Lausanne, Age d’homme, 1977.— 264 p.
A. Barrera-Vidal. Der Stil von Albert Camus / Inaug.-
Diss... der Univ. Frankfurt am Main, 1963. — 197 p.
M.-G. Barrier. L’Art du récit dans L’Étranger d’Al¬
bert Camus. Paris, Nizet, 1962. — 109 p.
F Barifeld. Albert Camus ou le mythe et le mime. Paris,
Minard, 1982. — 76 p.
F Bartfeld. L’Effet tragique. Essai sur le tragique dans
l’œuvre de Camus. Paris — Genève, Champion — Slat-
kine, 1988. — 286 p.
H. Bonnier. Albert Camus ou la Force d’être. Lyon —
Paris, Vitte, 1959. — 157 p.
F Bousquet. Camus le méditerranéen, Camus, l’ancien.
Sherbrooke, Naaman, 1977. — 126 p.
J.-C. Brisville. Camus. Paris, Gallimard, 1959. — 297 p.
M. Bruézière. La Peste d’Albert Camus. Paris, Hachet¬
te, 1972. — 68 p.
P.-G. Castex. Albert Camus et L’Etranger. Paris, José
Corti, 1965.— 164 p.
R. Champigny. Humanisme et racisme humain. Paris,
Ed. de Saint-Germain-des-Près, 1972.— 132 p.
374
C. JI. <PoKllH
R. Champigny. Sur un héros païen. Paris, Gallimard,
1959.— 208 p.
J. Cie lens. Trois fonctions de l’exil dans les œuvres de
fiction d’Albert Camus. Uppsala: S. n., 1985. — 208 p.
A. J. Clayton. Etapes d’un itinéraire spirituel, Albert
Camus de 1937 à 1944. Paris, Minard, 1971. 89 p.
J. Coombs. Camus, homme de théâtre. Paris, Nizet,
1968.— 215 p.
A. Costes. Albert Camus ou la Parole manquante. Paris,
Payot, 1973. — 249 p.
M. Crochet. Les Mythes dans l’œuvre de Camus. Paris,
Eds. univers., 1973. — 238 p.
P. Crjle. Bilan critique: L’Exil et le royaume d’Al¬
bert Camus— essai d’analyse. Paris, Minard, 1973. —
265 p.
A. Durand. Le cas Albert Camus (l’époque camusien).
Paris, Fischbacher, 1961. — 208 p.
B. East. Albert Camus ou L’Homme à la recherche
d’une morale. Montreal, Bellarmin, 1984.— 185 p.
B. T. Fitch. L’Etranger d’Albert Camus. Un texte, ses
lecteurs, leurs lectures. Paris, Larousse, 1972.— 174 p.
B. T. Fitch. Narrateur et narration dans PEtranger d’Al¬
bert Camus. Paris, Minard, 1964.— 84 p.
P. Fortier. Une lecture de Camus: la valeur des éléments
descriptifs dans l’œuvre romanesque. Paris, Klincksieck,
1977. _ 264 p.
C. Gadourec. Les innocents et les coupables. Essai
d’exégèse de l’œuvre d’Albert Camus. The Hague, Mou¬
ton, 1963. — 289 p.
P. Gaillard. Camus. Paris, Bordas, 1982.— 224 p.
P. Gaillard. La Peste. Camus. Analyse critique. Paris,
Hatier, 1972. — 62 p.
Eu6jiiiozp(i(pun
375
R. Gay-Grosier. Les envers d’un échec. Études sur le
théâtre d’Albert Camus. Paris, Minard, 1967. — 311 p.
G.-P. Gelinas. La liberté dans la pensée de Camus. Fri¬
bourg, Seges, 1965. — 177 p.
P. Ginestier. La pensée de Camus. Paris, Bordas,
1979. _ 208 p.
R Grenier. Albert Camus. Soleil et ombre. Une biogra¬
phie intellectuelle. Paris, Gallimard, 1987. — 308 p.
J. Hermet. Albert Camus et le Christianisme. L’Espé¬
rance en procès. Paris, Eds. Beauchesne, 1976. — 168 p.
G. Hourdin. Camus le juste. Paris, Eds. du Cerf,
I960. — 110 p.
M. L,ebesque. Camus par lui-même. Paris, Seuil,
1963.— 176 p.
J. ï-jenvÿni. L’Algérie de Camus. Aix-en-Provence, Edi-
sud, 1987.— 120 p.
H. R. Lottman. Albert Camus. Paris, Seuil, 1978. —
694 p.
R de Luppe'. Albert Camus. Paris, Eds. universitaires,
I960. — 127 p.
L. Maillot Albert Camus ou l’imagination du désert.
Montréal, Presses Universitaires, 1973. — 465 p.
J. Majault. Camus, révolte et liberté. Paris, Ed. du Cen¬
turion, 1965. — 160 p.
M. Melançon. Albert Camus, analyse de sa pensée. Fri¬
bourg, Eds. Universitaires, 1976. — 311 p.
Ngoc-Mai Phan Thi, Nguyen van-Huy P. La Chute de
Camus ou le dernier testament. Neuchâtel, La Baiconnière,
1974. _ 246 p.
Nguyen van Huy P. La métaphysique du bonheur chez
Camus. Neuchâtel, La Baconnière, 1962. — 249 p.
A. Nicolas. Albert Camus ou le vrai Prométhée. Paris,
Seghers, 1966. — 191 p.
376
C. JI. <PoKUH
J. Onimus. Albert Camus. Bruges — Paris, Desclée de
Brouwer, 1965. — 186 p.
B. Pratt. L’Evangile selon Albert Camus. Paris, José
Corti, 1980. — 287 p.
R Quillot. La mer et les prisons. Essai sur Albert Ca¬
mus. Paris, Gallimard, 1980. — 317 p.
R Reichelberg. Albert Camus: Une approche du sacré.
Paris — Nizet, 1983. — 182 p.
I. Reuter. Texte idéologie dans la Chute de Camus. Paris,
Minard, 1980. — 94 p.
P.-L. Rej. Camus. La Chute, analyse critique. Paris,
Hatier, 1970. — 82 p.
P.-L. Rej. Camus L’Etranger, analyse critique. Paris,
Hatier, 1970. — 74 p.
B. Sändig. Albert Camus. Leipzig, Reclam jun.,
1983.— 254 p.
J. Sarocchi. Albert Camus et la recherche du père: Thè¬
se. Paris, S. n., 1979. — 406 p.
P.-H. Simon. Présence de Camus. Paris, Nizet, 1962. —
177 p.
P.-F. S mets. Albert Camus dans le premier silence et
au-delà. —Bruxelles, Goemaere, 1985. — 212 p.
R Stolarski. Camus et la Méditerannée. Poznan, UAM,
1979. _ 104 p.
E. Sturm. Conscience et impuissance chez Dostoievski
et Camus. Parallèle entre «Le sous-sol» et «La Chute». Paris,
Nizet, 1967.— 146 p.
C. Treil. L’indifférence dans l’œuvre d’Albert Camus.
Montréal — Sherbrooke, Cosmos, 1971. — 243 p.
E. Werner. De la violence au totalitarisme. Essai sur la
pensée de Camus et de Sartre. Paris, Calman-Levy, 1972. —
261 p.
Библиография
ЪП
МЕМУАРЫ
К Aron. Mémoires, 50 ans de réflexion politique. Paris,
Julliard, 1983. — 778 p.
S. de Beauvoir. La cérémonie des adieux. Paris, Galli¬
mard, 1981. — 560 p.
S. de Beauvoir. La force des choses. Paris, Gallimard,
1963.— 686 p.
J. Daniel. Le temps qui reste. Paris, Gallimard, 1974. —
203 p.
J. Grenier. Albert Camus. Souvenirs. Paris, Gallimard,
1968. — 192 p.
A. et C. Koestler. L’Etranger du square. Paris, Calman-
Lévy, 1984. — 275 p.
A. Kobbe-Grillet. Le miroir qui revient. Paris, Eds. de
Minuit, 1984. — 232 p.
F. Sagan. Avec mon meilleur souvenir. Paris, Gallimard,
1984.— 217 p.
СОДЕРЖАНИЕ
5 введение
1 2 глава 1. «...Хочешь быть философом —
пиши романы»
1 3 1. Первые шаги
27 2. Учитель
39 3. Между эллинством и христианством
61 4. Ницше и «Счастливая смерть»
8 6 глава 2. «Посторонний» как произведение
«романиста-мыслителя»
8 7 1. История и метафизика: к эстетике
романа об «уделе человеческом»
130 2. «Посторонний»: абсурдный роман
или роман об абсурде?
16 0 глава 3- «Чума» и концепция «нового
классицизма» в эстетике Камю
16 1 1. «Посторонний» в свете современной
ему критики и реакция на нее Камю
192 2. «Новый классицизм», бунт и роман
214 3. «Чума»: хроника борьбы со злом
24 5 глава 4• «Любовь» или воля к безумию
24 6 1. Между Богом и историей
271 2. «Бунтующий человек» глазами одного
бунтаря
282 3- Трагедия Алжира и «эстетика любви»
289 4. «Падение»
314 5. «Изгнание и царство»
330 вместо заключения
330 1. Воля к любви, или безумие письма
341 2. «Первый человек»: грядущая книга
355 Альбер Камю: краткая хроника жизни
и творчества
36 8 Список сокращений
36 9 Избранная библиография
Директор издательства:
О. Л. Абышко
Главный редактор:
И. А. Савкин
Художественный редактор,
оригинал-макет и макет обложки:
Н. И. Пашковская
Разработка серийного оформления:
А. Бондаренко
Редактор:
Е. Н. Лычагина
Сергей Леонидович Фокин «Альбер Камю. Роман.
Философия. Жизнь». СПб.: Издательство «Але-
тейя». — 384 с. (серия «6а1Истшт»).
ИЛ № 064366 от 26.12.1995 г.
Издательство «Алетейя»:
193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 13
Телефон издательства: (812) 567-2239
Факс: (812) 567-2253
Сдано в набор 09.05.1998 г. Подписано в печать 15.04.1999 г.
Формат 84*108/32. 12 п. л. Тираж 1500 экз. Заказ № 3210
Отпечатано с готовых диапозитивов в Санкт-Петербургской типографии
«Наука» РАН: 199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, д. 12
Printed in Russia
ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЕТЕЙЯ»:
НОВЫЕ КНИГИ О ГЛАВНОМ
Санкт-Петербургское издательство «Алетейя» существует
с 1992 г. (первоначально как редакционно-издательская
группа, с марта 1993 г. как самостоятельное предприя¬
тие). Его создатели — молодые философы, два выпускника
философского факультета С.-Петербургского Университе¬
та. Это обстоятельство предопределило выбор названия для
издательства (в переводе с языка древнегреческих мысли¬
телей на современный русский «алетейя» означает «исти¬
на», «правдивость», «открытость»), и выбор основного
направления в деятельности нового издательства: издание
и распространение классического наследия, т. е.
сохранившихся первоисточников по мировой и отечествен¬
ной истории, классической литературе, религии, фило¬
софии, а также издание современных исследований по
основным отраслям гуманитарного знания.
Среди книжных новинок издательства особенно хочет¬
ся отметить наши новые переводы, первые издания на рус¬
ском языке:
— «Древнегреческая элегия»;
— Гигин «Мифы», «Об астрономии»;
— Нонн Панополитанский «Подвиги (Деяния) Диони¬
са»;
— М. Нильссон «Греческая народная религия»;
— Евагрий Схоластик «Церковная история»;
— А. Мацейна «Великий инквизитор», «Тайна безза¬
кония»;
— Ж. де Местр «Санкт-Петербургские вечера»;
— Дарет Фригийский «Повесть о разрушении Трои»;
— Н. Аббаньяно «Мудрость жизни», «Мудрость фило¬
софии», «Введение в экзистенциализм»;
— Дж. Беркли «Алкифрон, или Мелкий философ»;
— Дитрих фон Гильдебранд «Что такое философия?»,
«Новая Вавилонская башня», «Сущность христианства»,
«Сущность любви»;
— К. Барт «Очерк догматики»;
— Ж.-П. Сартр «Идиот в семье»;
— Симона де Бовуар «Второй пол» и многие другие.
К бесспорным успехам издательства можно отнести трех¬
томную «Историю Византии» выдающегося русского исто-
рика-византиниста Юлиана Кулаковского, «Алексиаду»
Анны Комниной, новое русское издание Павсания «Описа¬
ние Эллады» (в 2-х томах), издание итоговой книги раз¬
мышлений об истоках и судьбах русской литературы Дмит¬
рия Лихачева «Историческая поэтика русской литературы»,
а также возвращение из небытия книги знаменитого рус¬
ского мыслителя Алексея Лосева «Имя», собранной на
рснове материалов, переданных его семье из архивов ФСБ,
авторскую версию «Основ средневековой религиозности»
Л. П. Карсавина, сборник исторических свидетельств «Суд
над Сократом», альманах «Древний мир и мы», сочинения
в двух томах основателя русской социологии М. М. Кова¬
левского («Социология», «Современные социологи»), кни¬
ги серии «Античное христианство» с параллельными
текстами и многие другие издания.
Издательство «Алетейя»
(Санкт-Петербург)
в серии «АНТИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
выпустило в свет
В разделе «Литература»:
— Марк Валерий Марциал «Эпиграммы» (1994 г.);
— Ювенал «Сатиры» (1994 г.);
— «Античные поэты об искусстве» (1996 г.);
— Гигин «Поэтическая астрономия» (1997 г.);
— Катулл «Избранная лирика» (в новых переводах с па¬
раллельными текстами) (1997 г.; издание 2-ое, исправ¬
ленное — 1999 г.);
— «Древнегреческая элегия» (1997 г.).
В разделе «История»:
— Ксенофонт «Греческая история» (1993 г.) (2-е изд. —
1996 г.);
— Арриан Флавий «Поход Александра» (1993 г.);
— Геродиан «История императорской власти» (1995 г.);
— Аммиан Марцеллин «Римская история» (1994 г.) (2-е
изд. — 1996 г.);
— Аппиан «Римские войны» (1995 г.);
— Секст Юлий Фронтон «Военные хитрости»' (1996 г.);
— «Греческие полиоркетики. Вегеций: Краткое изло¬
жение военного дела» (1996 г.);
— Павсаний «Описание Эллады» в 2-х томах (1996 г.);
— Гигин «Мифы» (1997 г.);
— «Суд над Сократом» (сборник исторических свиде¬
тельств) (1997 г.);
— Нонн Панополитанский «Деяния Диониса» (1997 г.);
— Дарет Фригийский «Повесть о разрушении Трои»
(с параллельными текстами) (1998 г.);
— Гай Светоний Транквилл «О жизни цезарей. О бли¬
стательных мужах» (1998 г.).
В разделе «Философия»:
— Ксенофонт «Сократические сочинения» (1993 г.);
— Плотин «Сочинения» (1995 г.).
В разделе «Исследования»:
— Вяч. Иванов «Дионис и прадионисийство» (1994 г.);
— В. С. Дуров «Нерон, или Актер на троне» (1994 г.);
— Е. В. Герцман «Музыка Древней Греции и Рима»
(1995 г.);
— П. Гиро «Частная и общественная жизнь греков»
(1995 г.);
— П. Гиро «Частная и общественная жизнь римлян»
(1995 г.);
— А. С. Степанова «Философия древней Стой» (1995 г.);
— Ф. Ф. Зелинский «Из жизни идей» (1995 г.);
— Ф. Ф. Зелинский «Соперники христианства»
(1995 г.);
— Ф. Ф. Зелинский «Возрожденцы» (1997 г., 2-ое изда¬
ние — 1999 г.);
— Ф. Ф. Зелинский «Древний мир и мы» (1997 г.);
— В. В. Латышев «Греческие древности». Часть 1 —
«Государственные и военные древности», часть 2 — «Бого¬
служебные и сценические древности» (1997 г.);
— М. Нильссон «Народная греческая религия»;
— М. В. Скржинская «Скифия глазами эллинов»;
— Т. Гомперц «Греческие мыслители» (в 2-х томах)
(1999 г.);
— Р. Пёльман «Очерк греческой истории и историогра¬
фии» (1999 г.);
— А. А. Тахо-Годи, А. Ф. Лосев «Греческая культура
в мифах, символах и терминах» (1999 г.);
— «Ранняя греческая лирика» (1999 г.);
— Ф. Ф. Зелинский «Римская империя» (пер. с поль¬
ского) (1999 г.).
В серии «Античная библиотека» готовятся к изданию
многие новые книги, среди которых:
— А. О. Маковельский «Софисты»;
— «Античные мифографы» (полный корпус сочинений
греческих и латинских авторов, под ред. М. Л. Гаспарова);
— Аппиан «Римская история» (новый перевод с обшир¬
ными комментариями);
— Фюстель де Куланж «Афинская община»;
— А. Ф. Лосев «Античная философия истории»;
— «Эллинская культура»;
— Ф. Ф. Зелинский «Аттические сказки»;
— «Римская элегия»;
— Лукиан «Сочинения» в 2-х томах (впервые полностью
публикуются все тексты великого сатирика древности);
— «Ватиканские мифографы».
Эти и некоторые другие книги выйдут уже в этом году.
В серии «ВИЗАНТИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА>
вышли следующие книги:
В разделе «Источники*:
— Анна Комнина «Алексиада» (1996 г.);
— Иордан «О происхождении и деяниях гетов (Гетика)»
(1997 г.);
— Иоанн Кантакузин «Диалог с иудеем» (перевод с гре¬
ческого);
— Прокопий Кесарийский «Война с вандалами. Война
с персами. Тайная история» (перевод с древнегреческого,
издание 2-е, исправленное и дополненное);
— Евагрий Схоластик «Церковная история».
В разделе «Исследования»:
— Ю. А. Кулаковский «История Византии» в 3-х томах
(1996 г., готовится новое издание);
— Е. В. Герцман «В поисках песнопений греческой
церкви. Преосвященный Порфирий Успенский и его кол¬
лекция греческих музыкальных рукописей»;
— А. П. Рудаков «Очерки византийской культуры по
данным греческой агиографии»;
— И. П. Медведев «Византийский гуманизм»;
— Г. Г. Литаврин «Как жили византийцы»;
— Г. Г. Литаврин «Византийский лечебник XIV в.»;
— А. А. Чекалова «Константинополь в VI в. Восста¬
ние Ника»;
— А. П. Каждан «Византийская культура»;
— М. В. Бибиков «Византийская историческая проза»;
— И. В. Кривушин «Ранневизантийская церковная
историография»;
— А. П. Лебедев «Духовенство древней Вселенской
Церкви от времен апостольских до X века»;
— А. П. Лебедев «Очерки внутренней истории визан-
тийско-восточной Церкви в IX, X и XI веках»;
— А. П. Лебедев «Исторические очерки состояния
Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины
XV века (От начала Крестовых походов до падения Кон¬
стантинополя в 1453 г.);
— А. П. Каждан, Г. Г. Литаврин «Византия и южные
славяне»;
— А. А. Васильев «История Византийской империи»
в 2-х томах;
— Я. Н. Любарский «Византийские историки и писа¬
тели»;
— Г. Г. Литаврин «Византия и славяне»;
— «Византия между Востоком и Западом».
Издательство приглашает к сотрудничеству авторов,
переводчиков, редакторов.
Телефон редакции: (812) 567-2239,
fax (812) 567-2253
Пишите нам по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д 13, издательство «Алетейя»