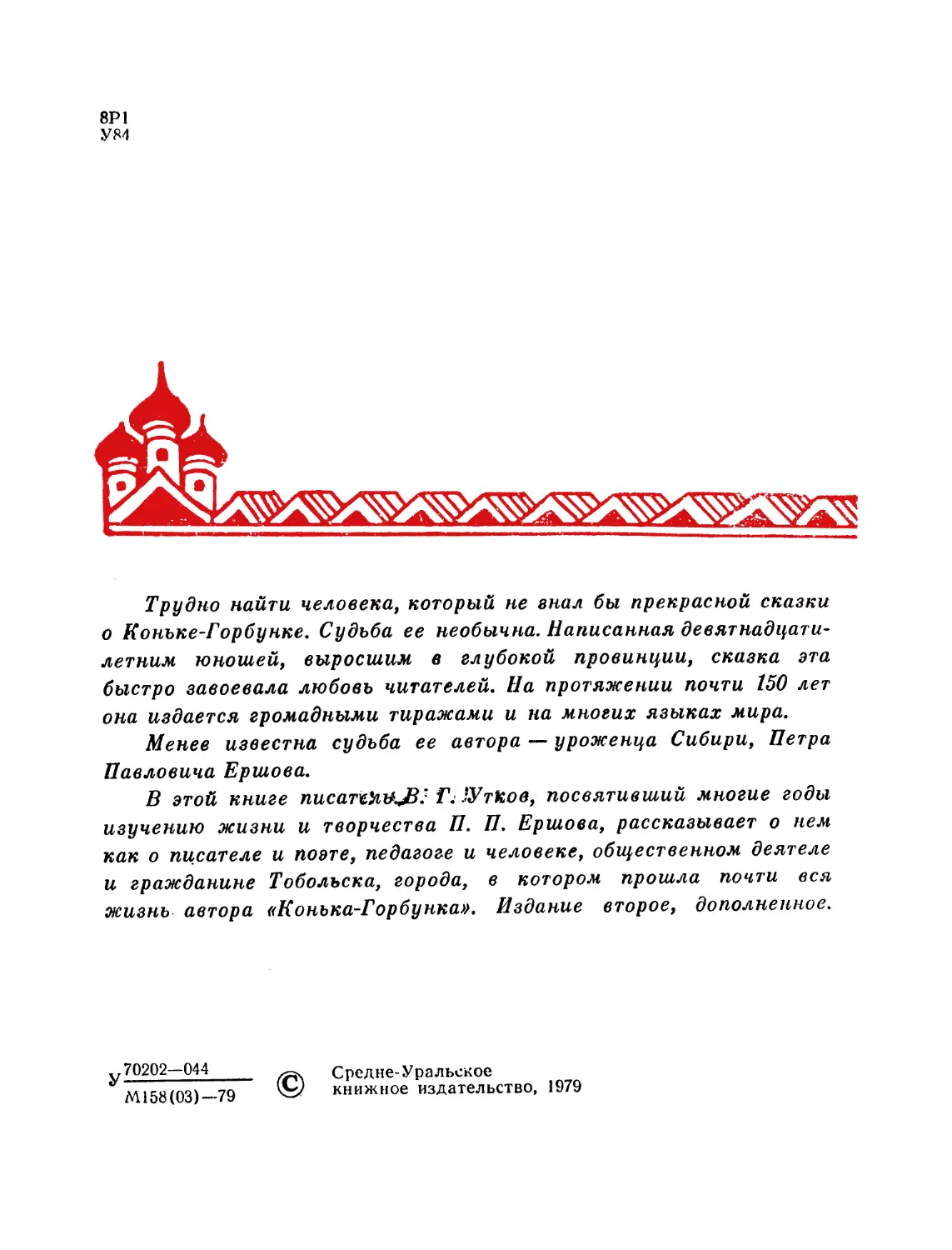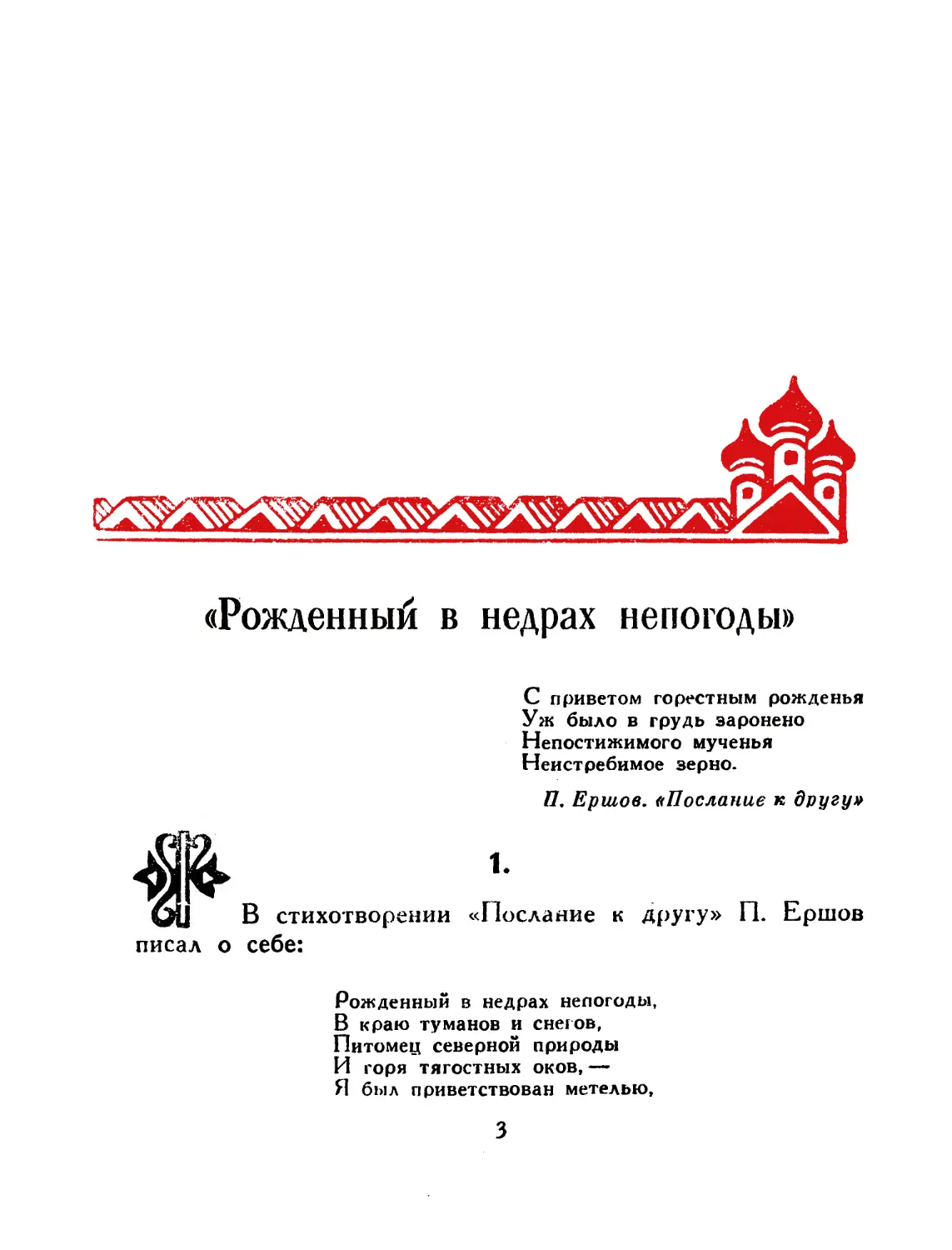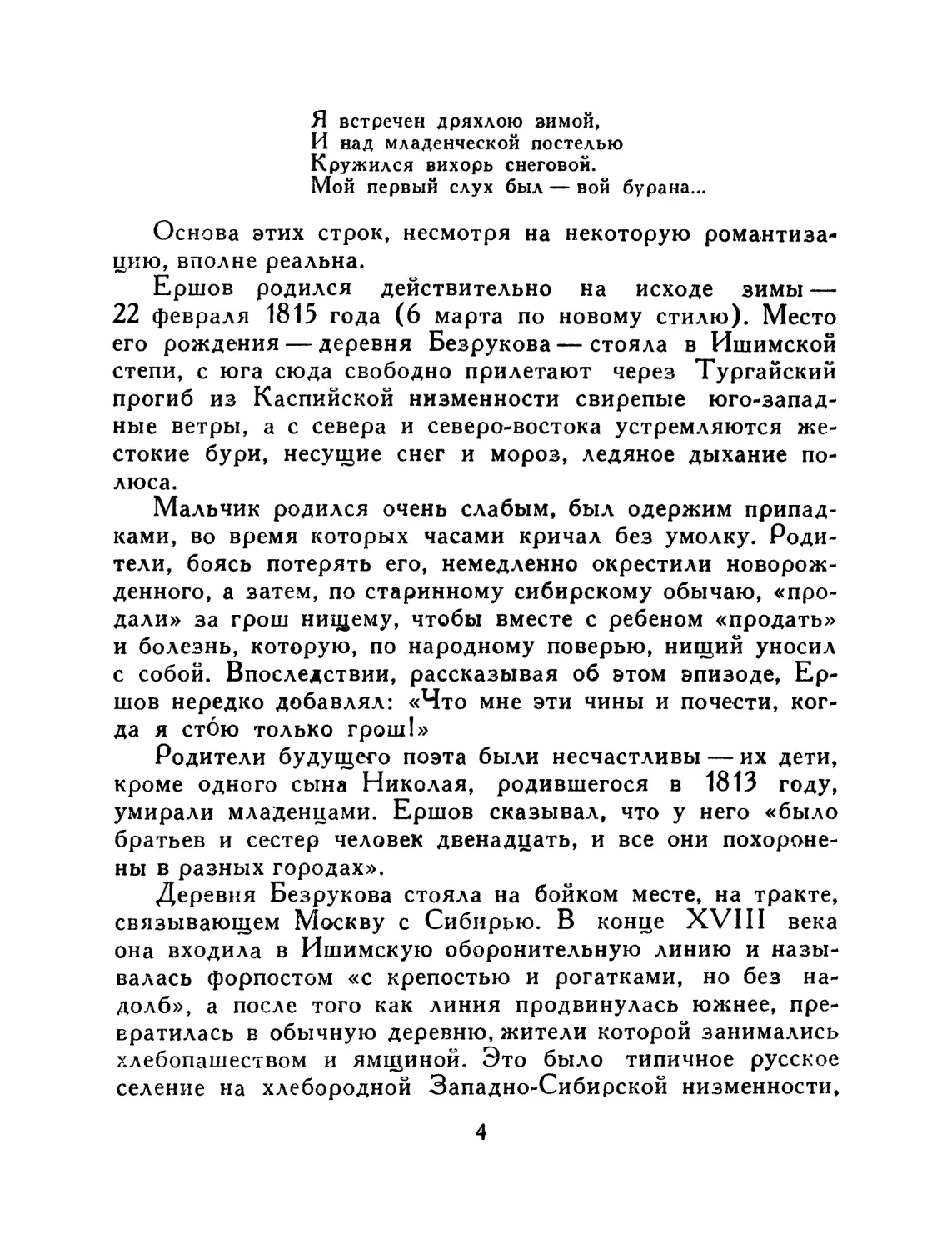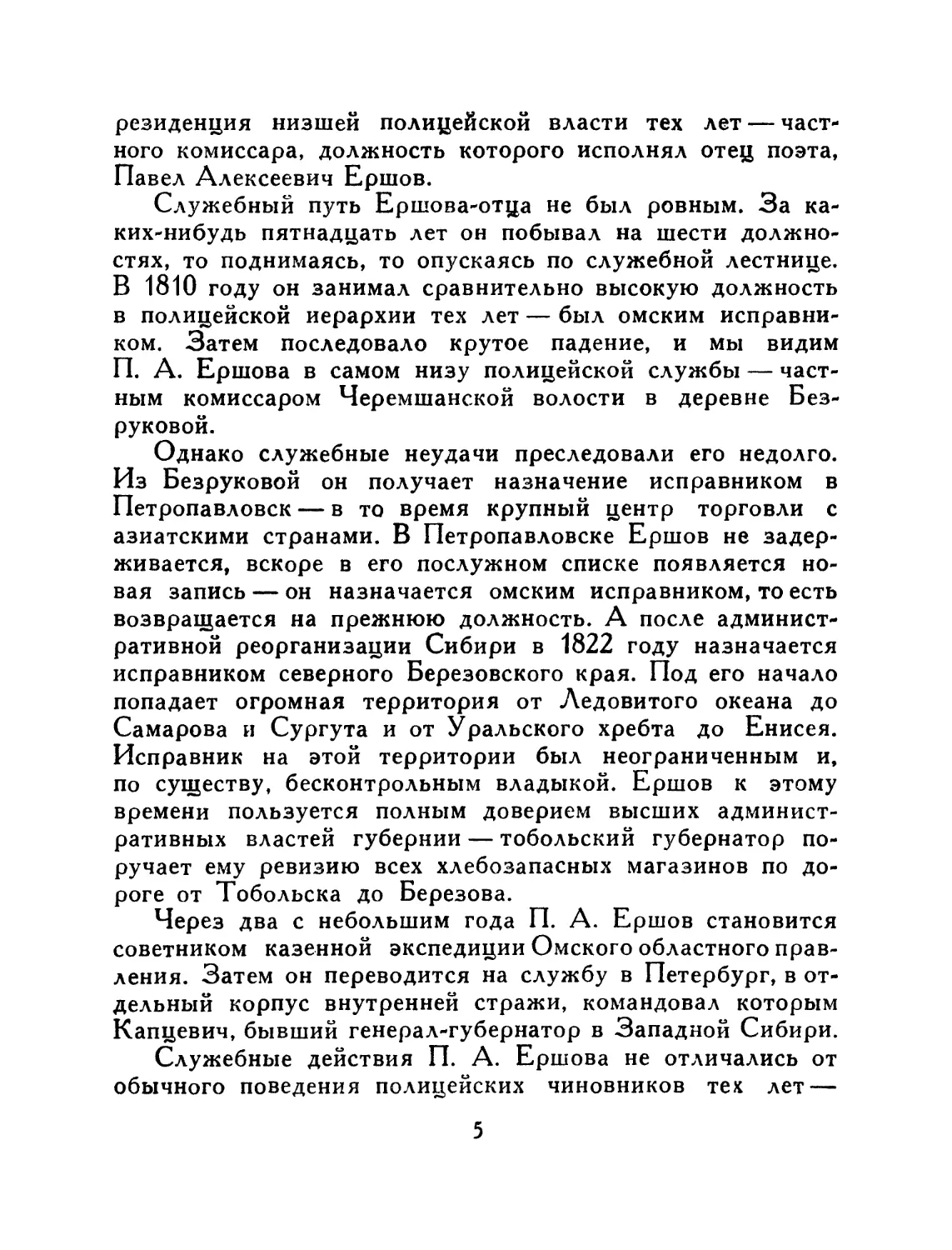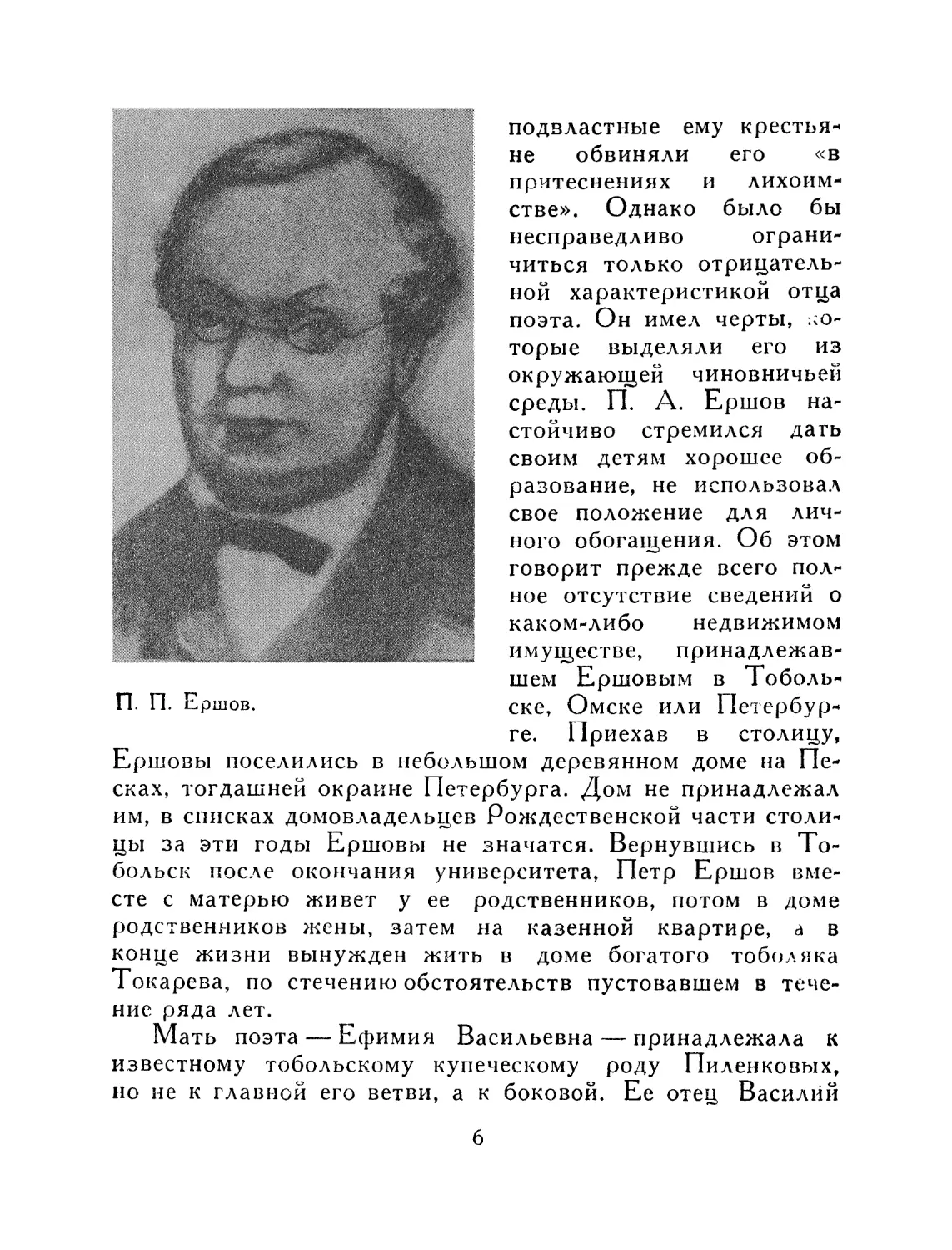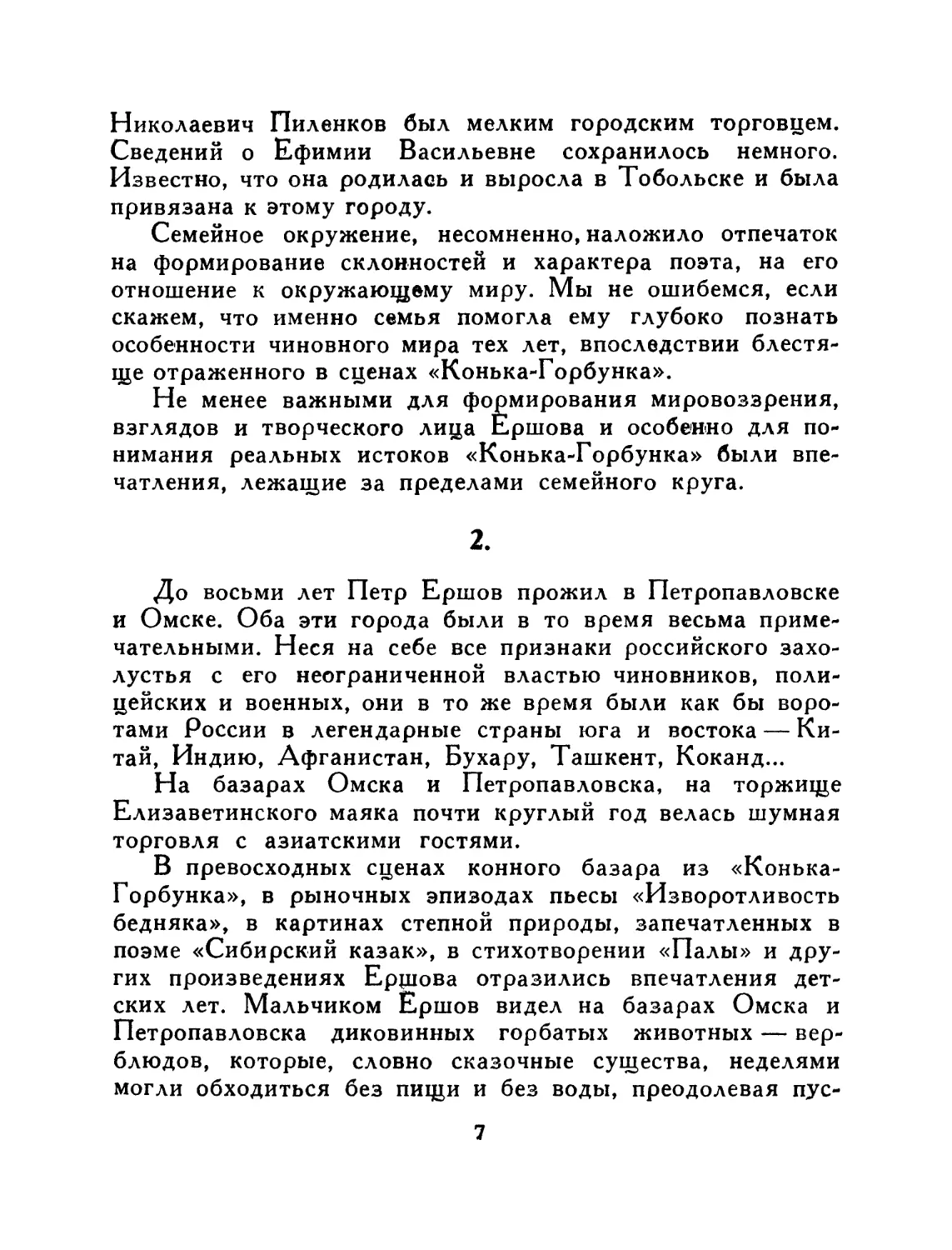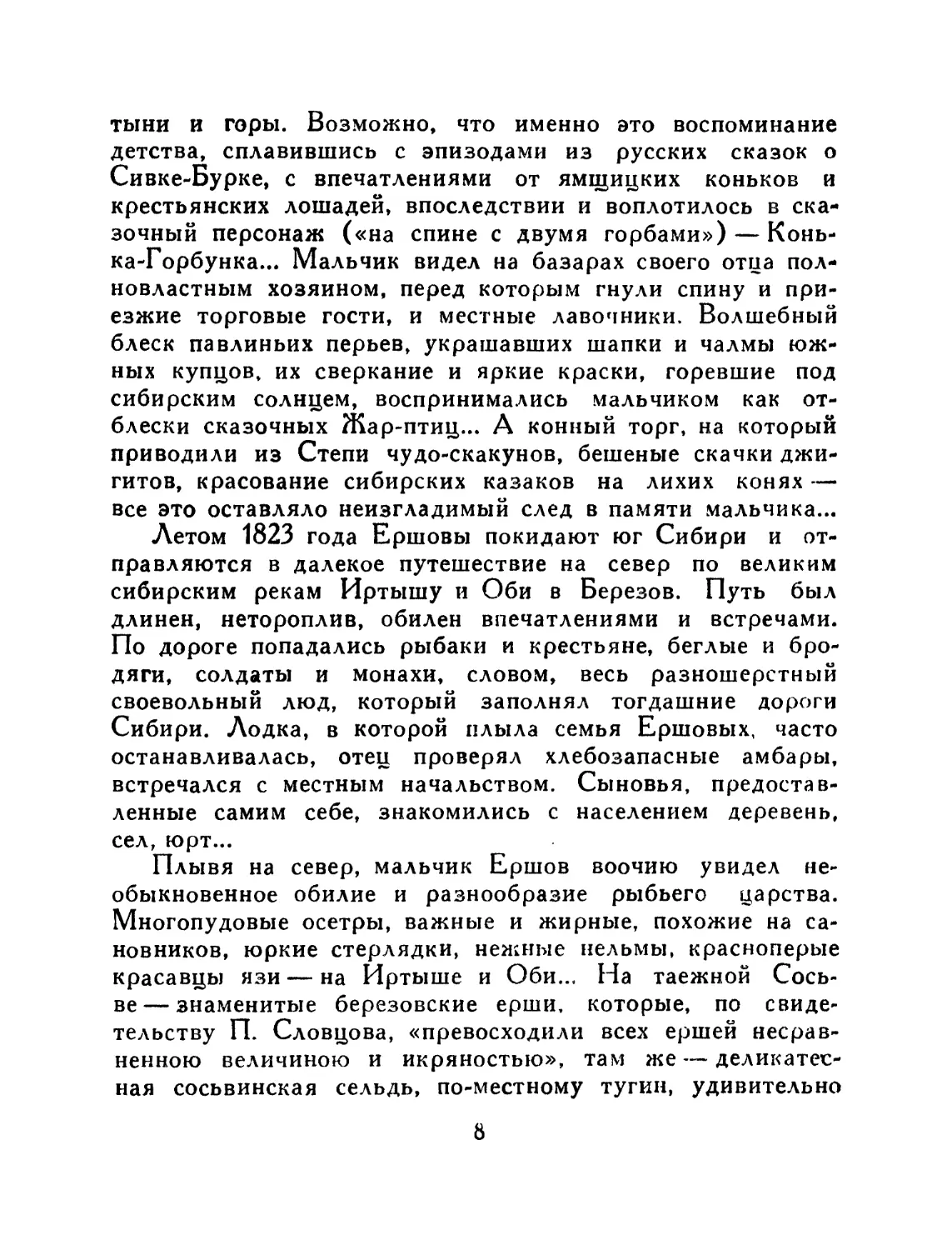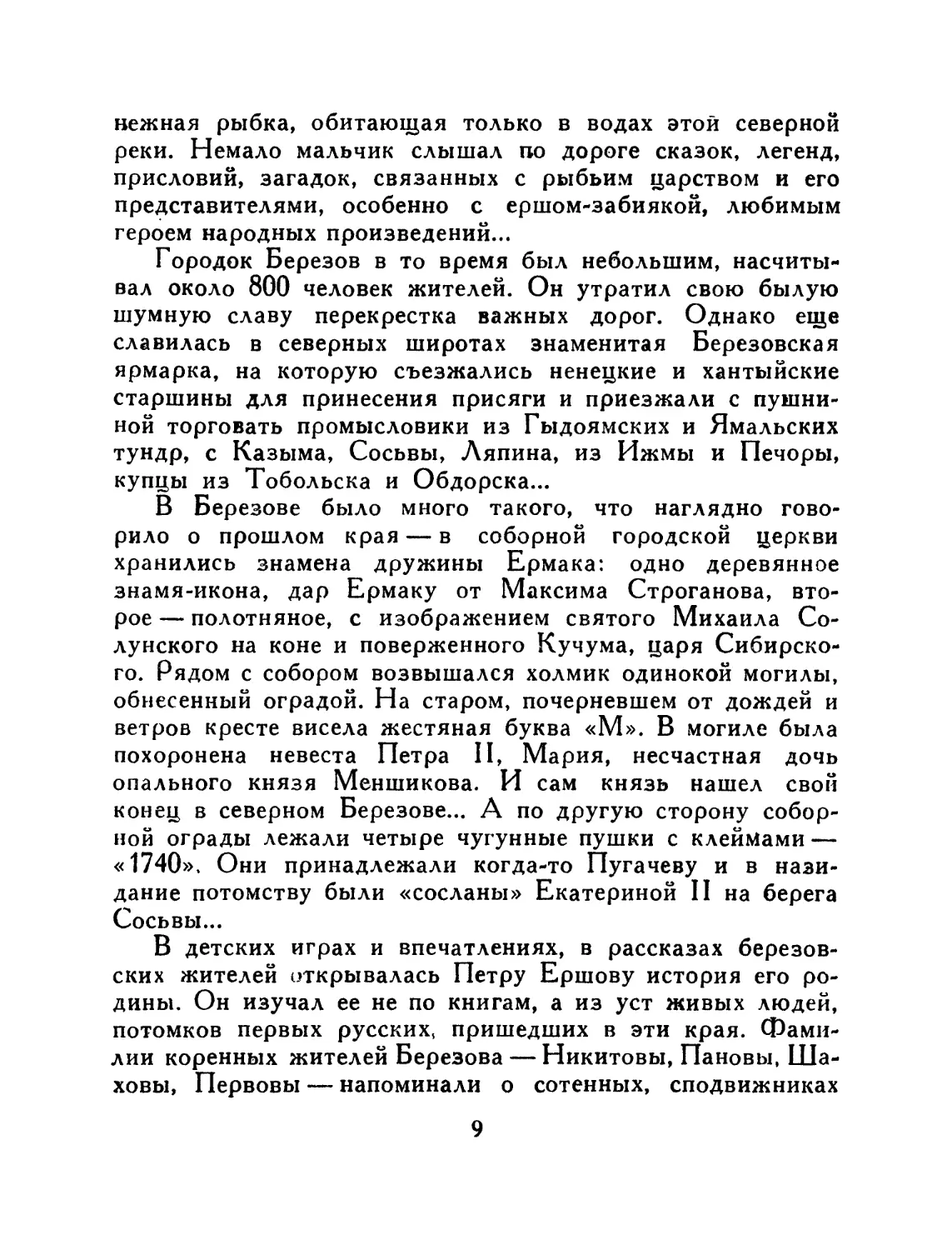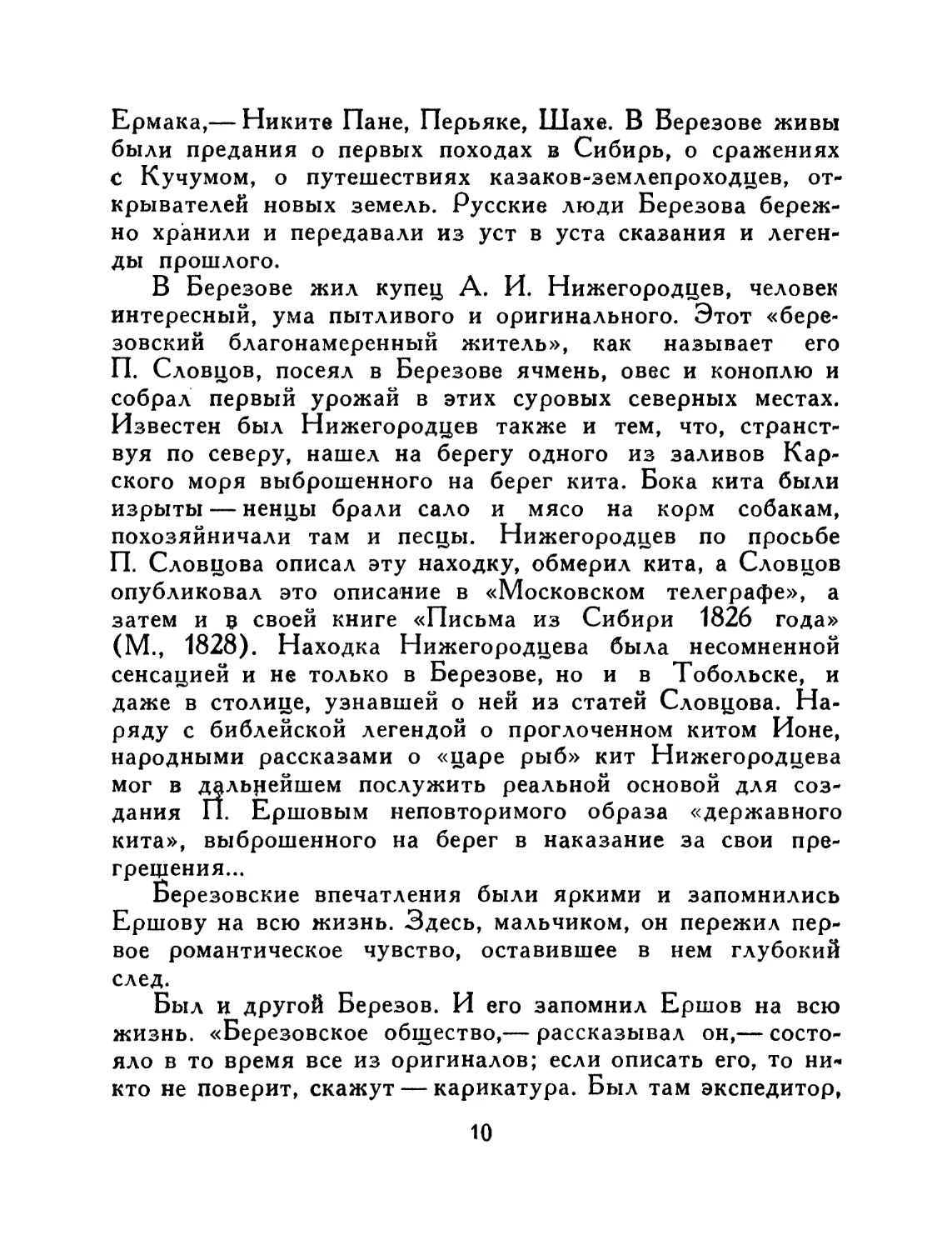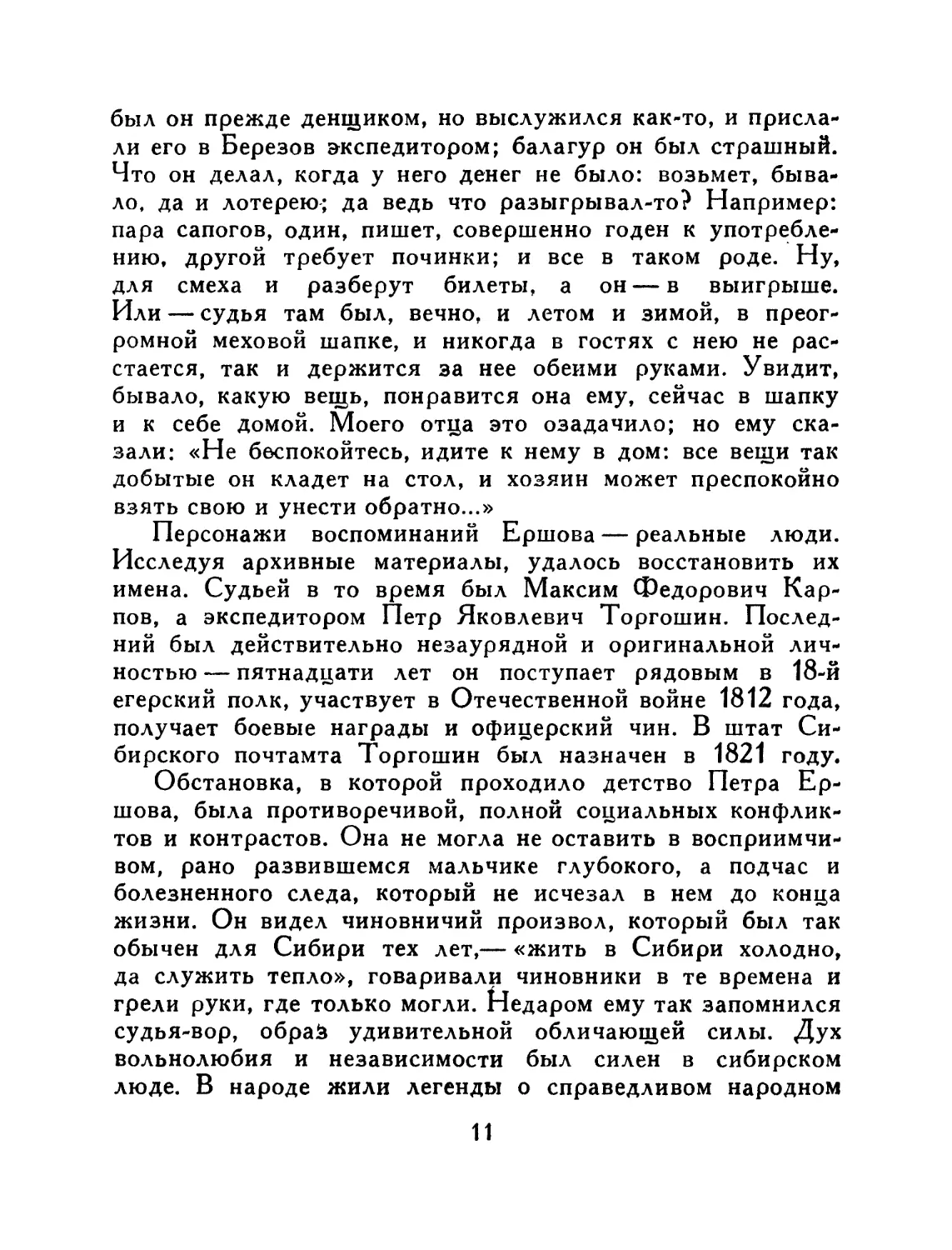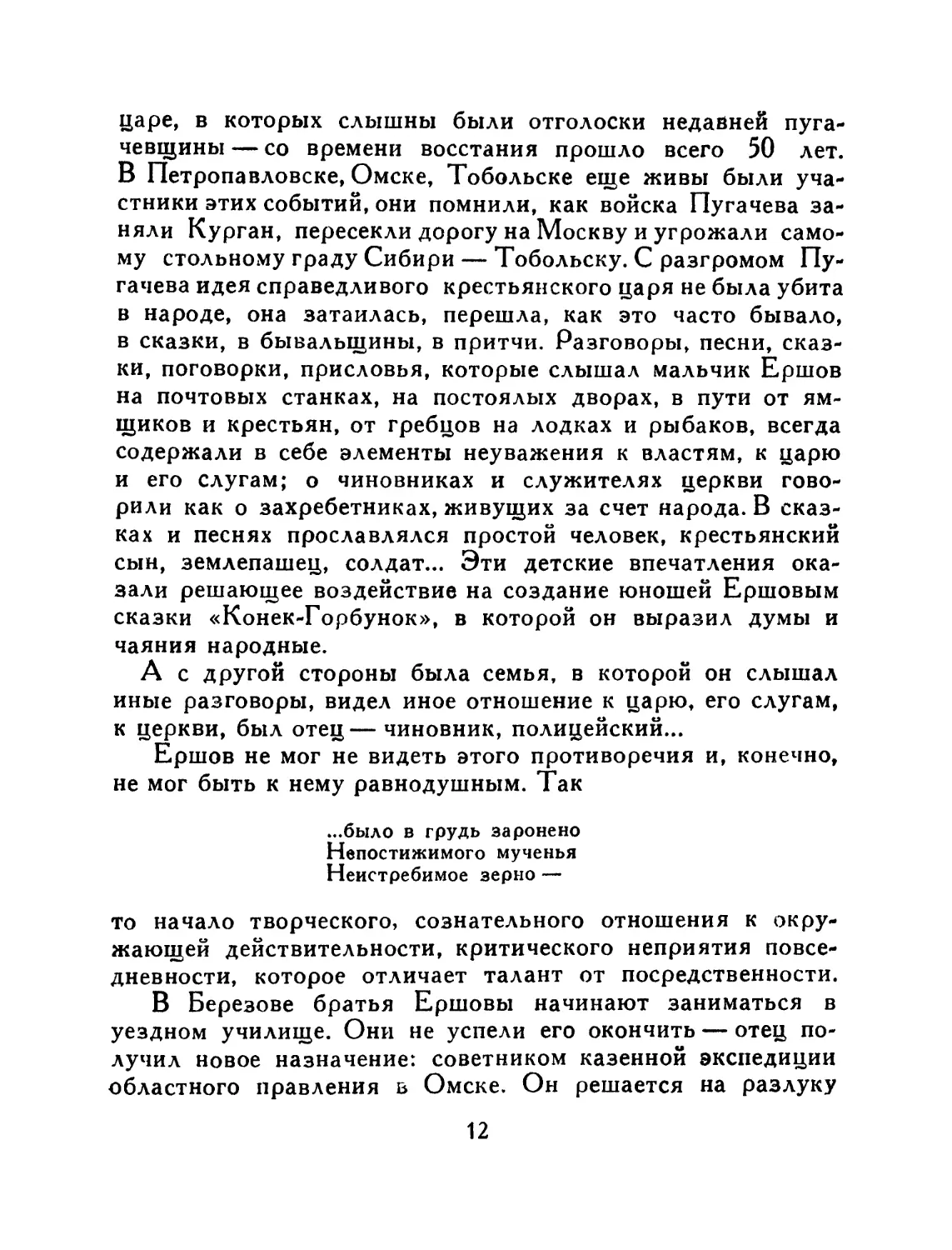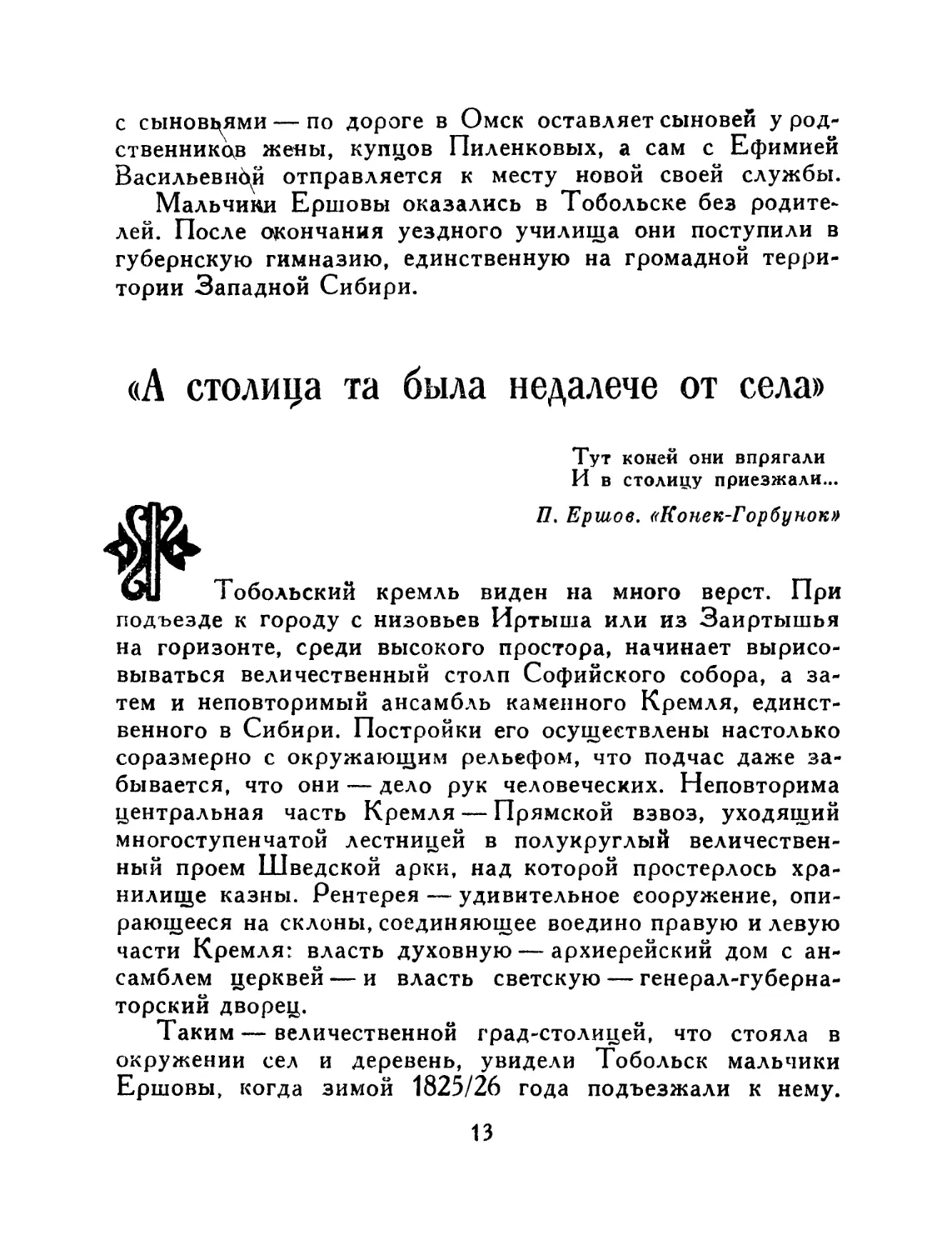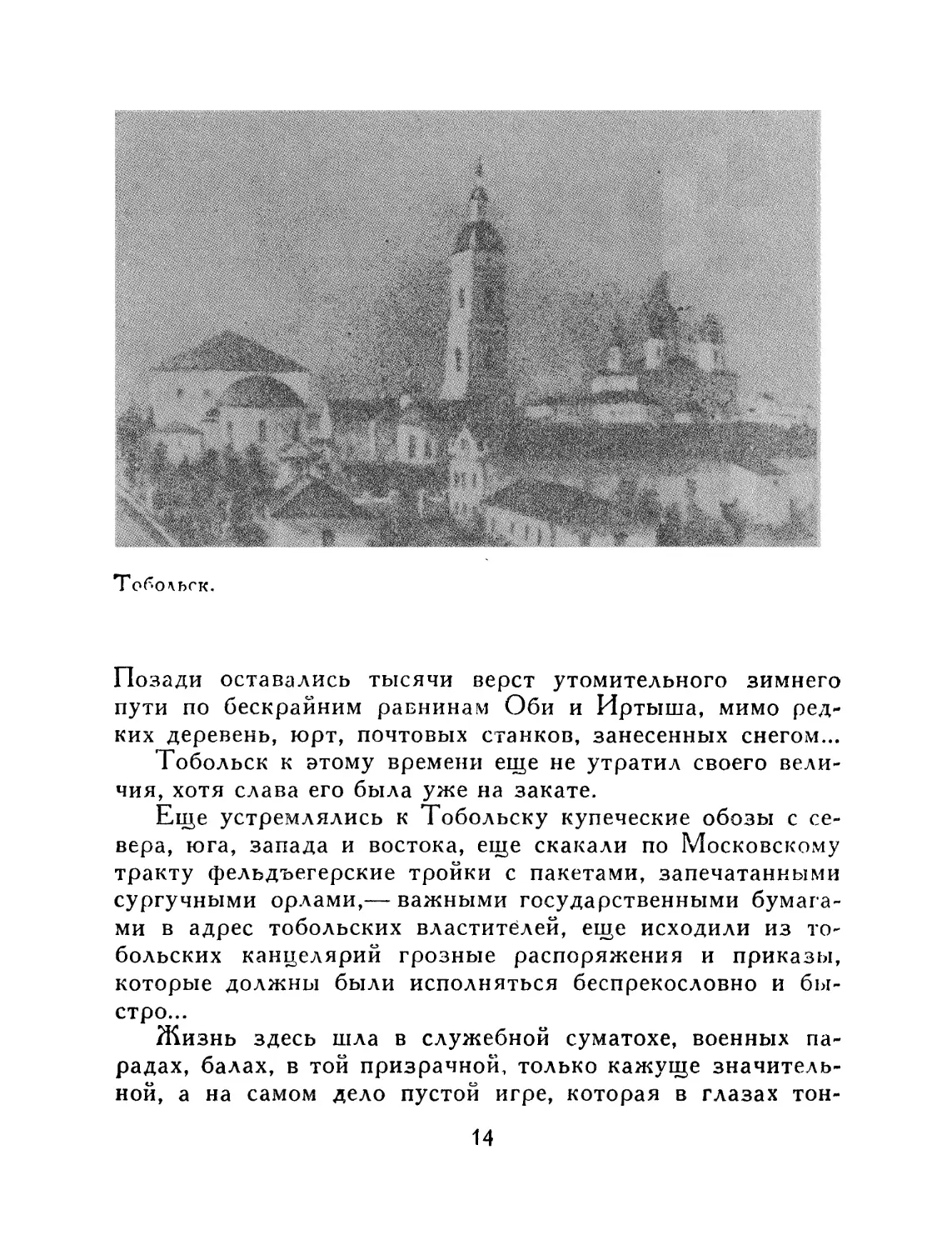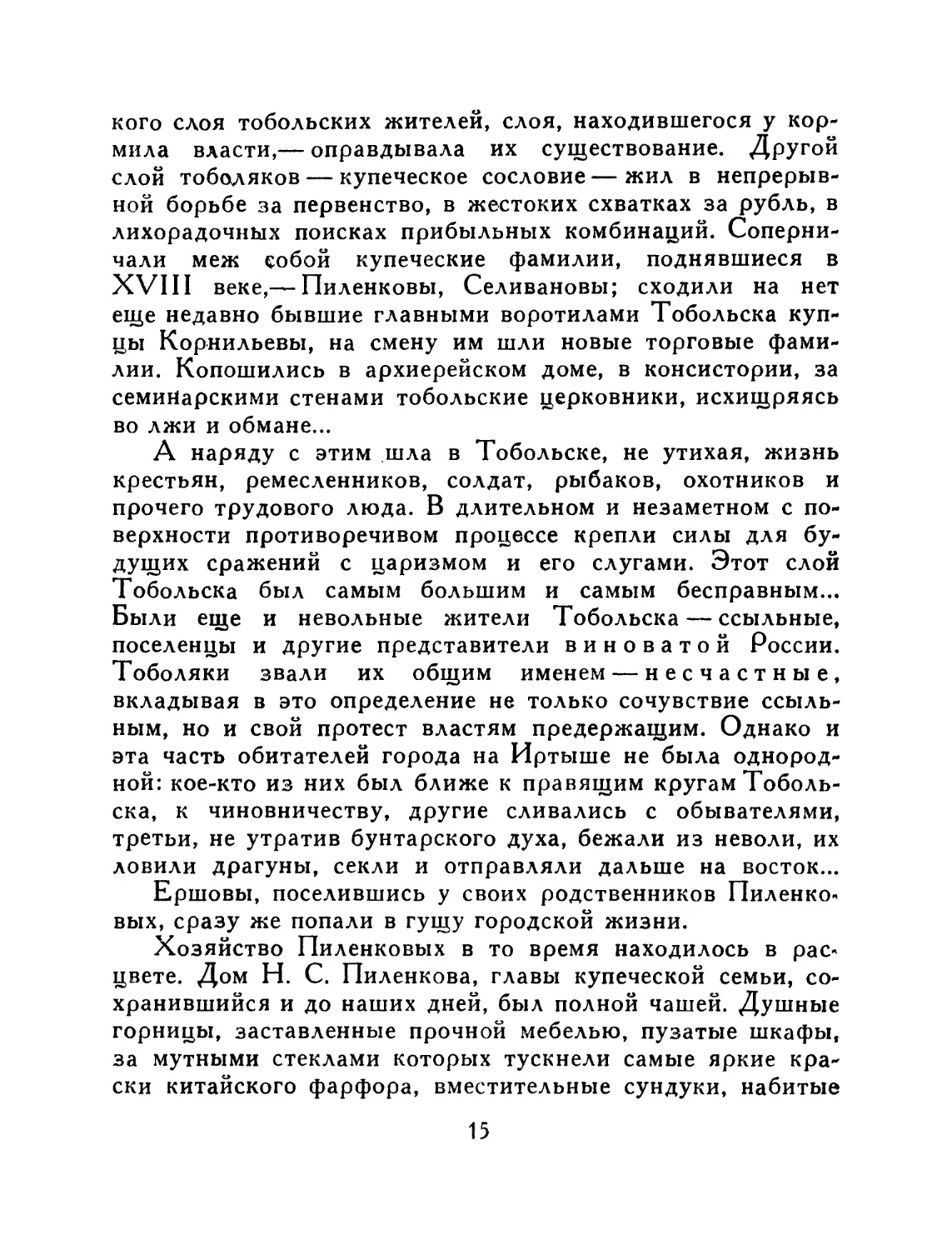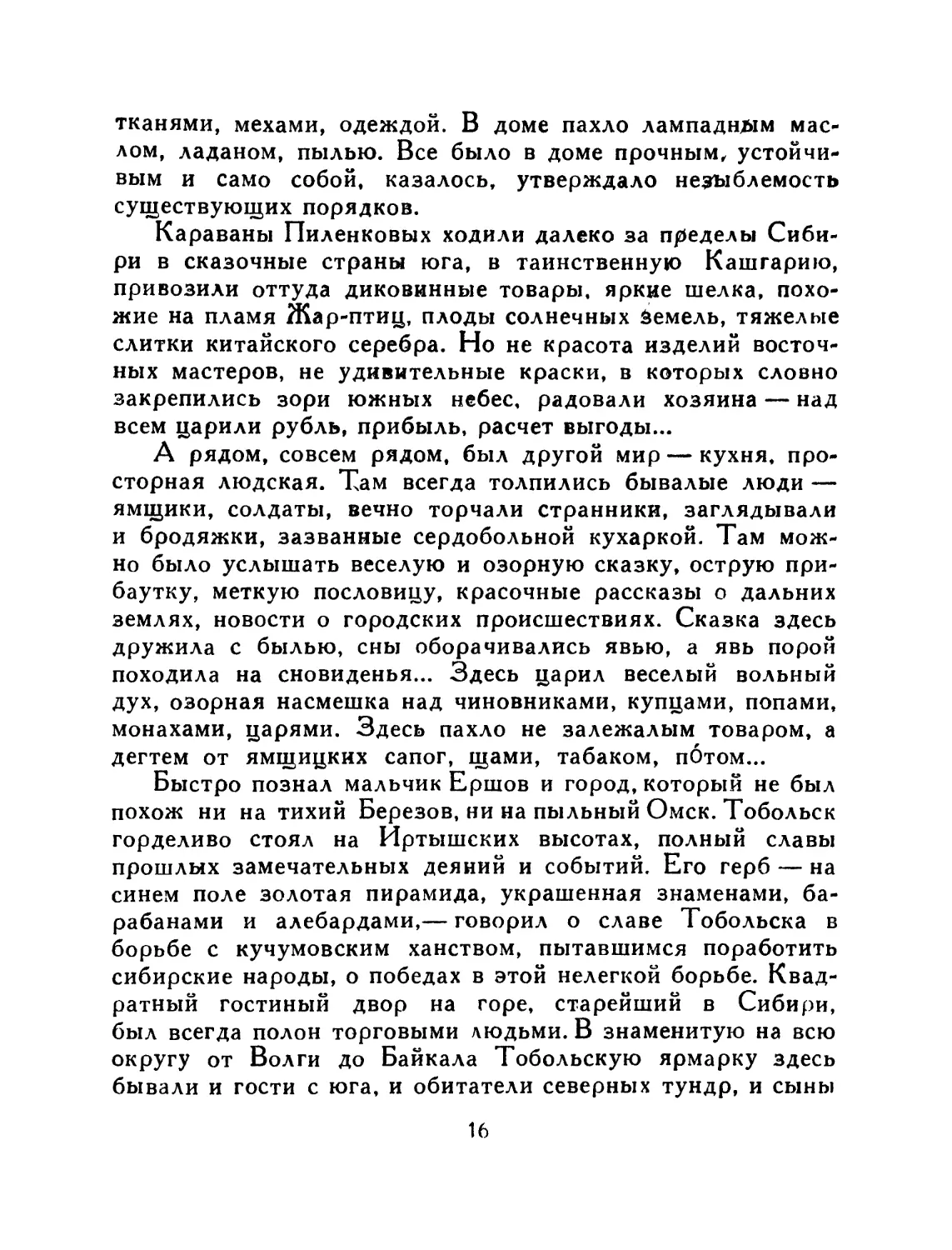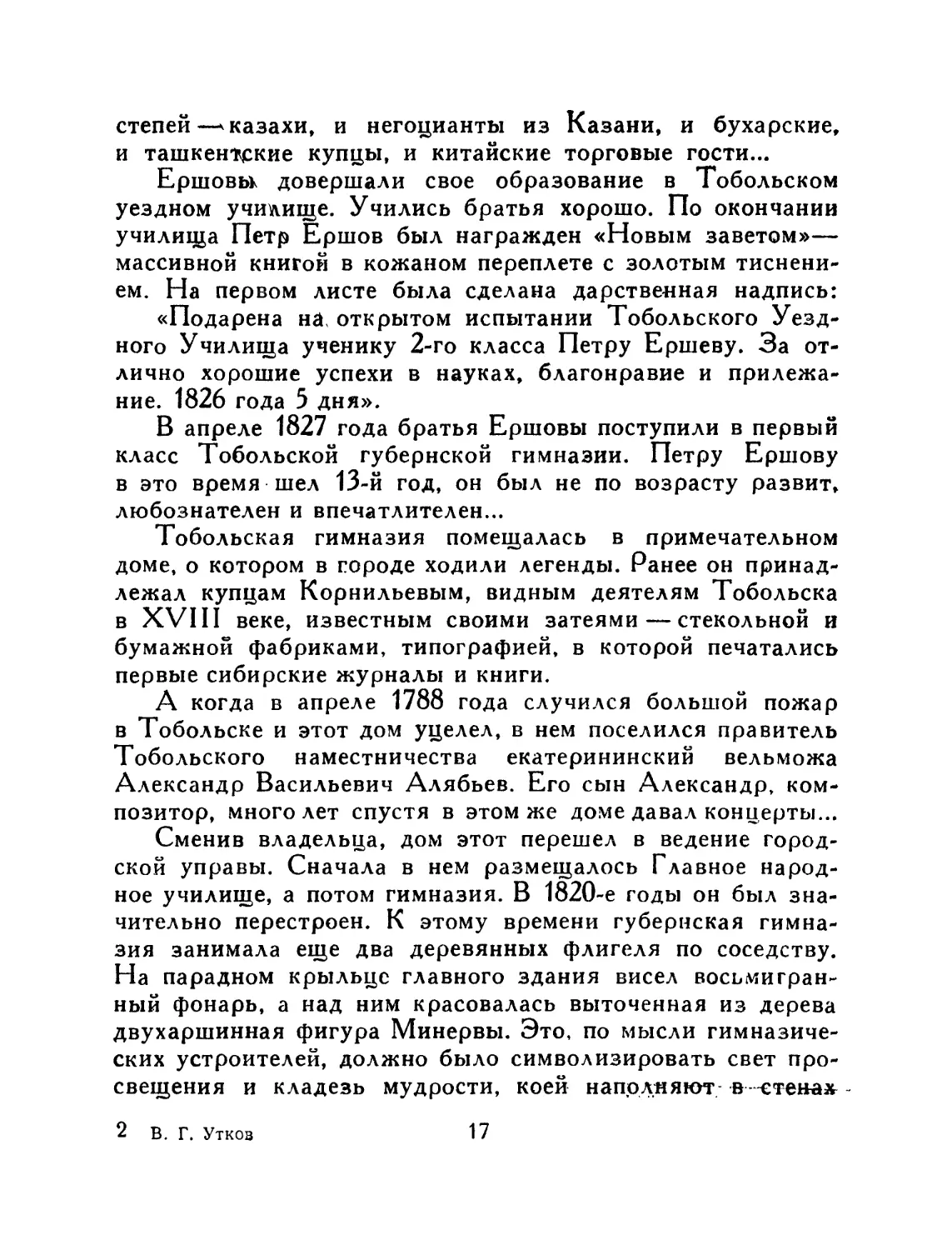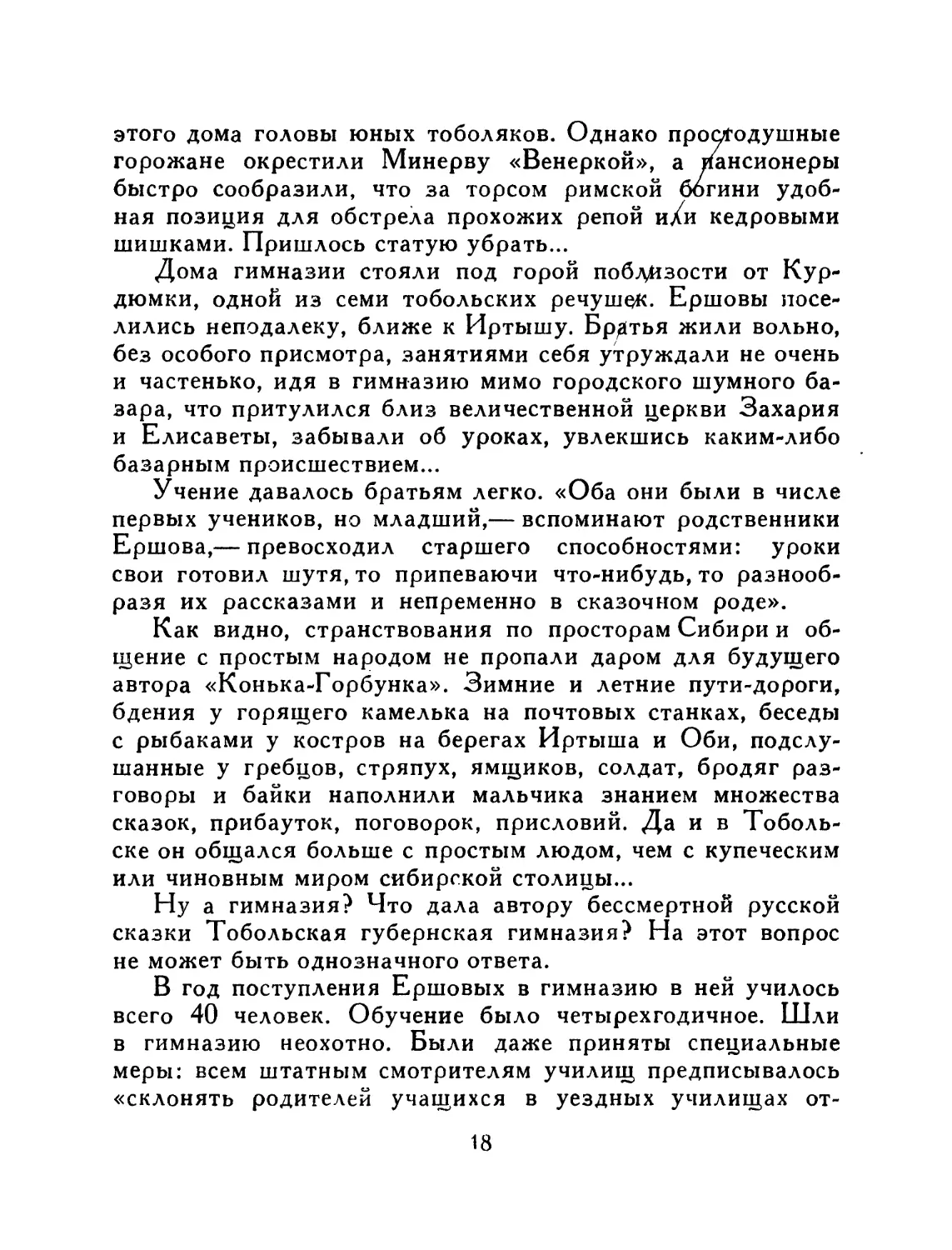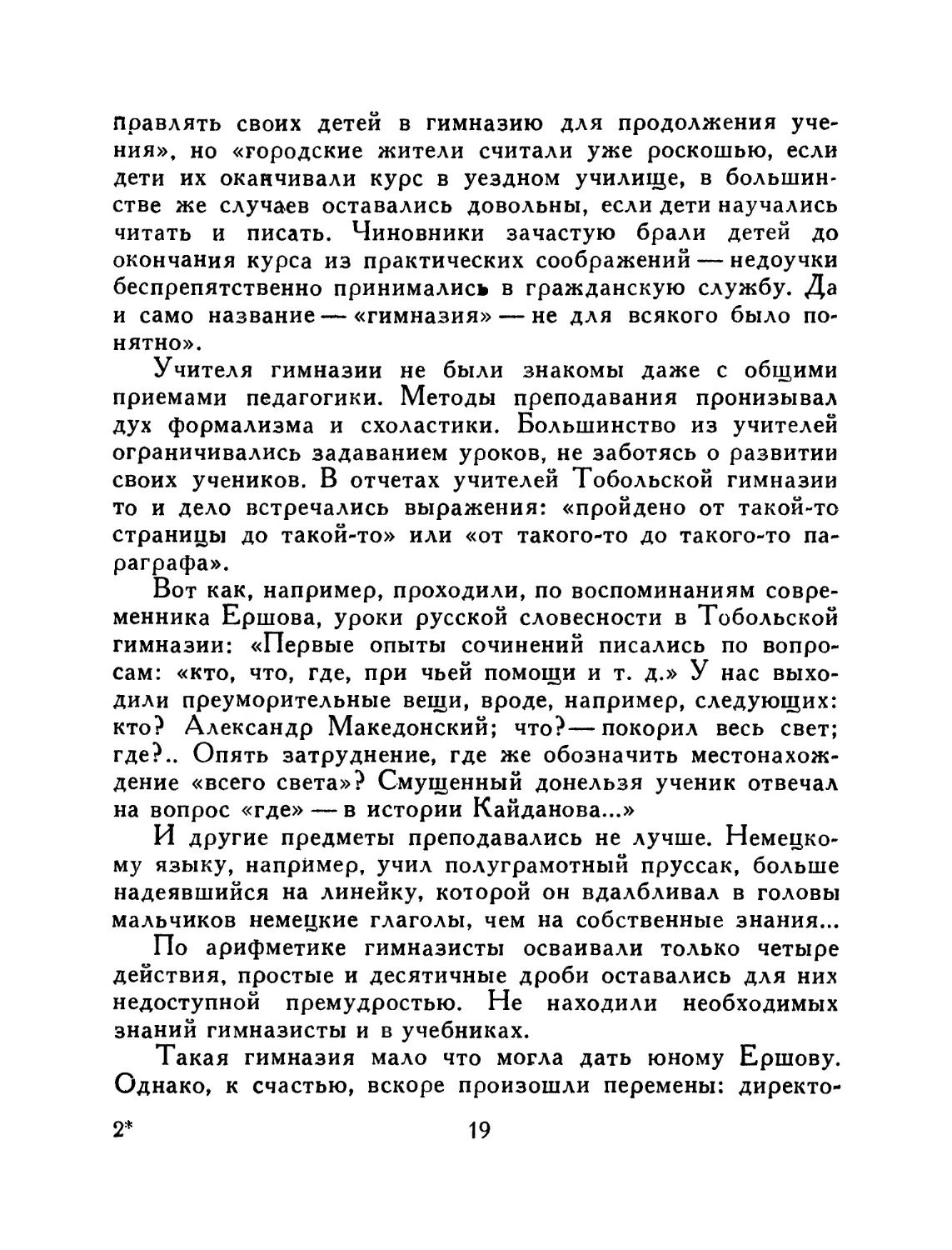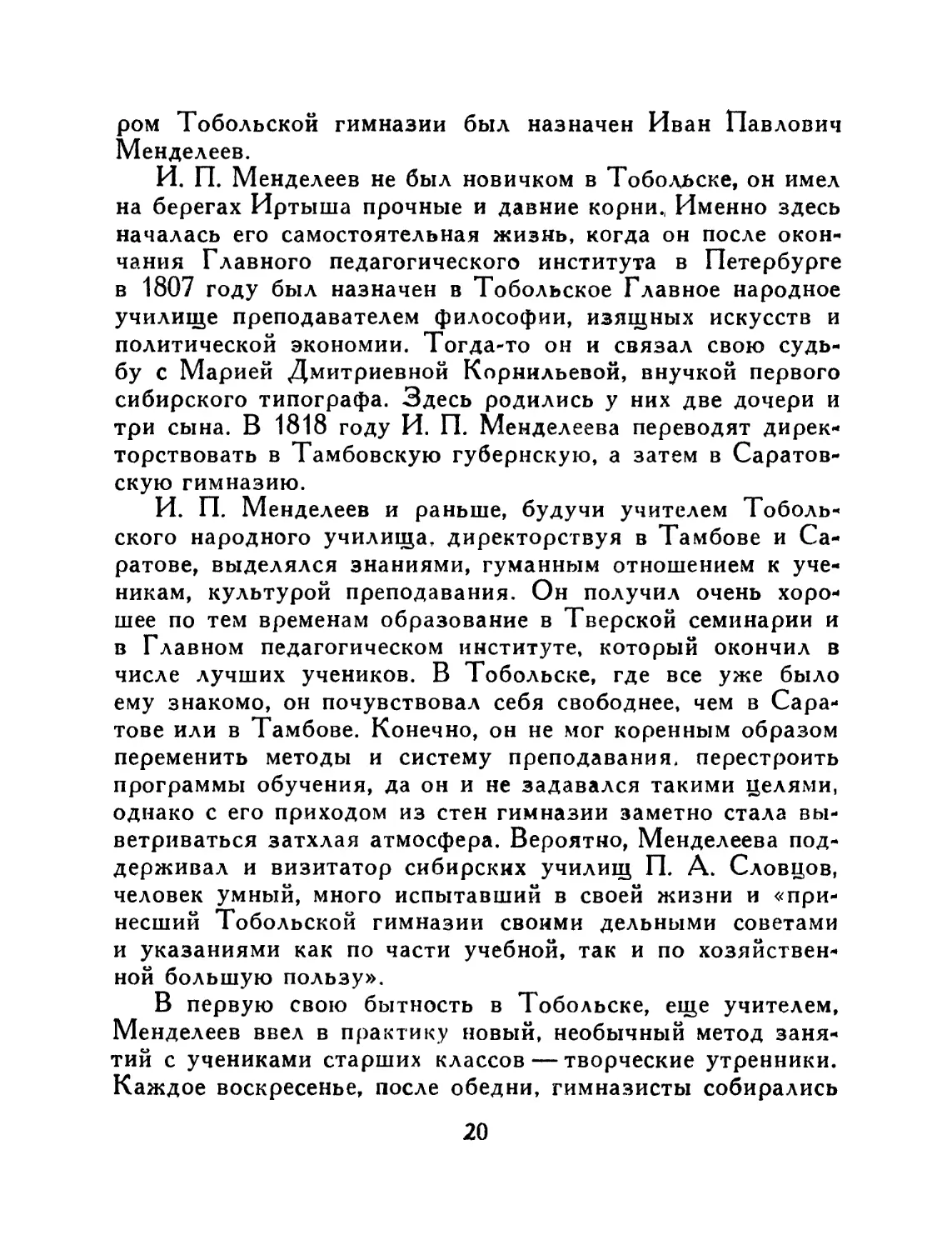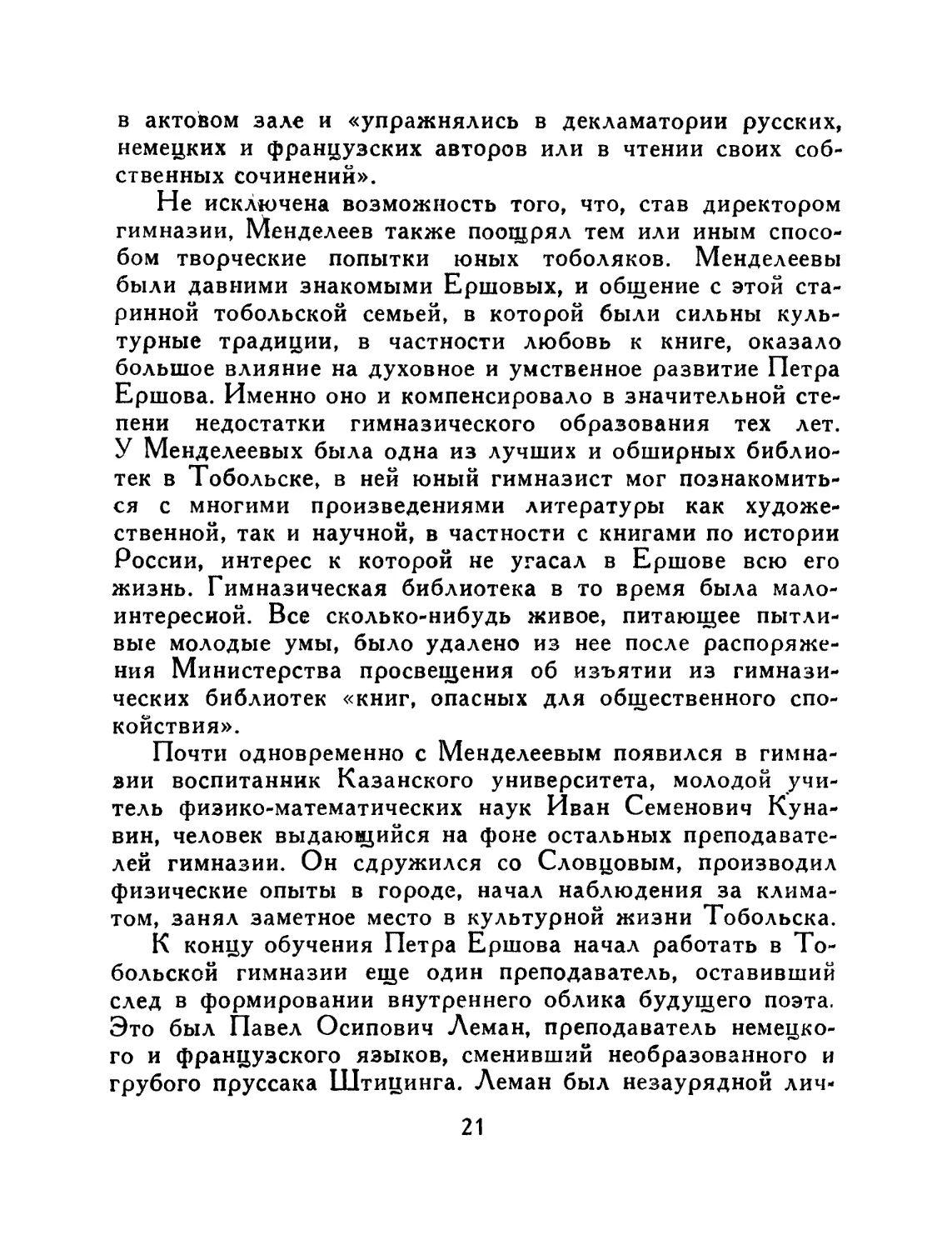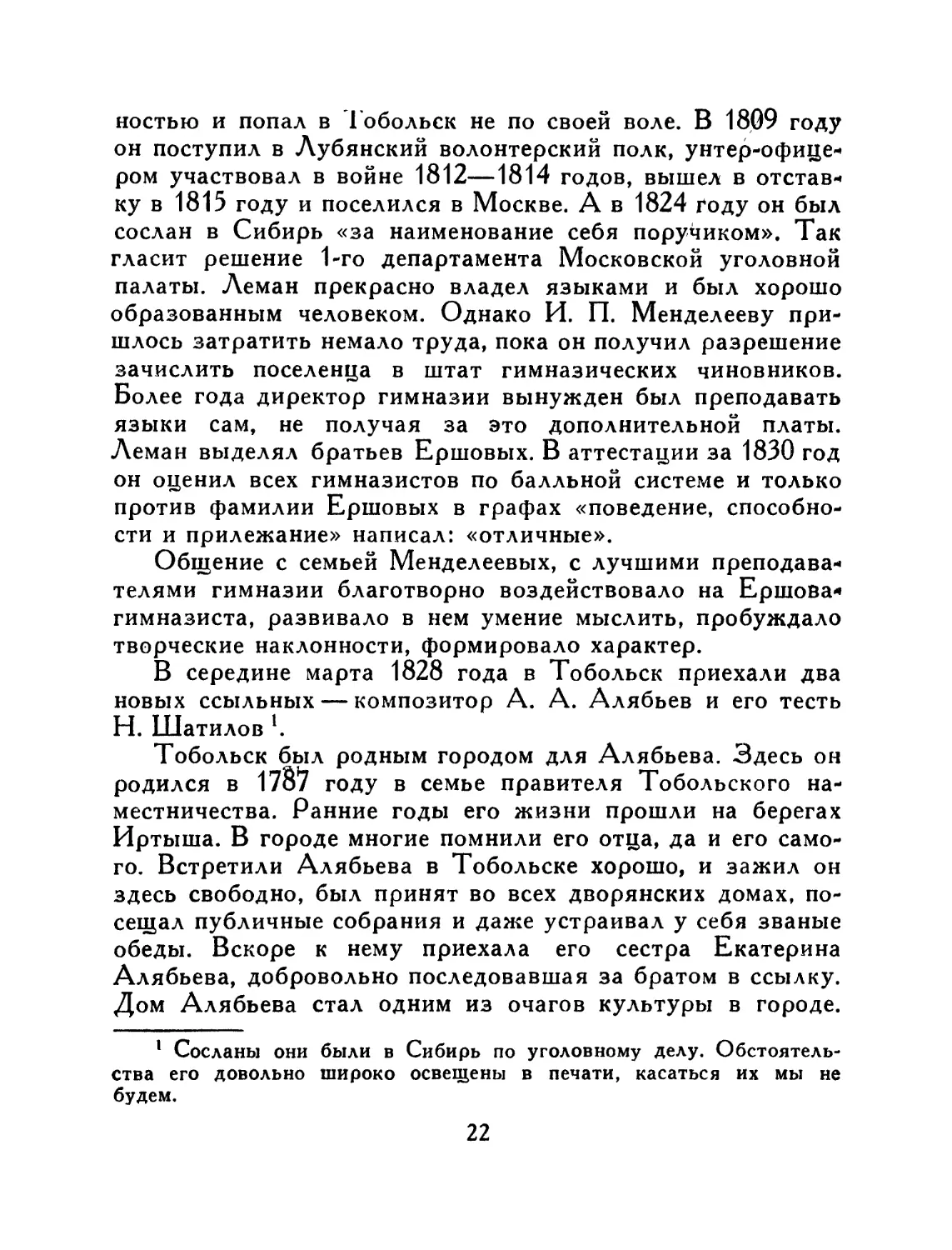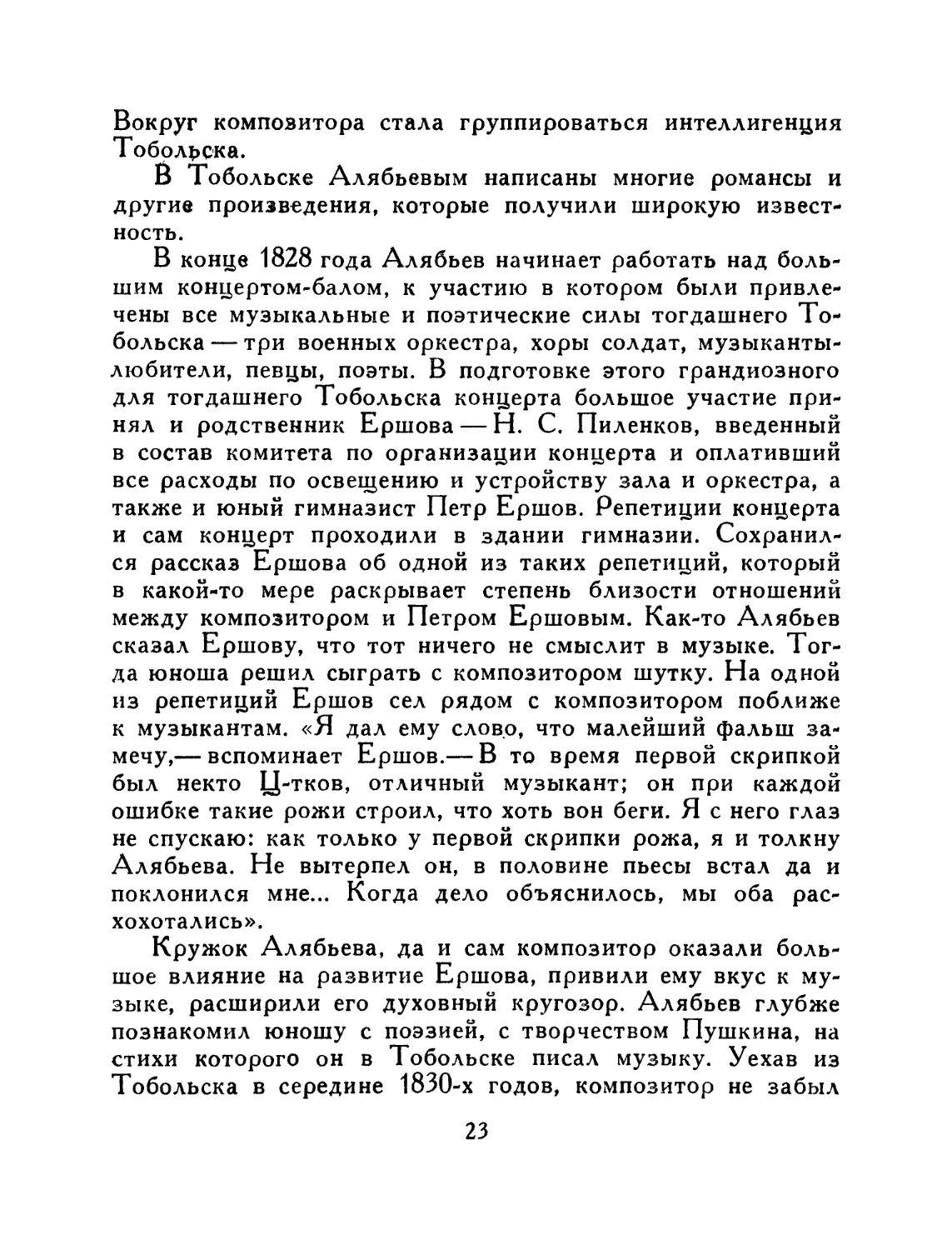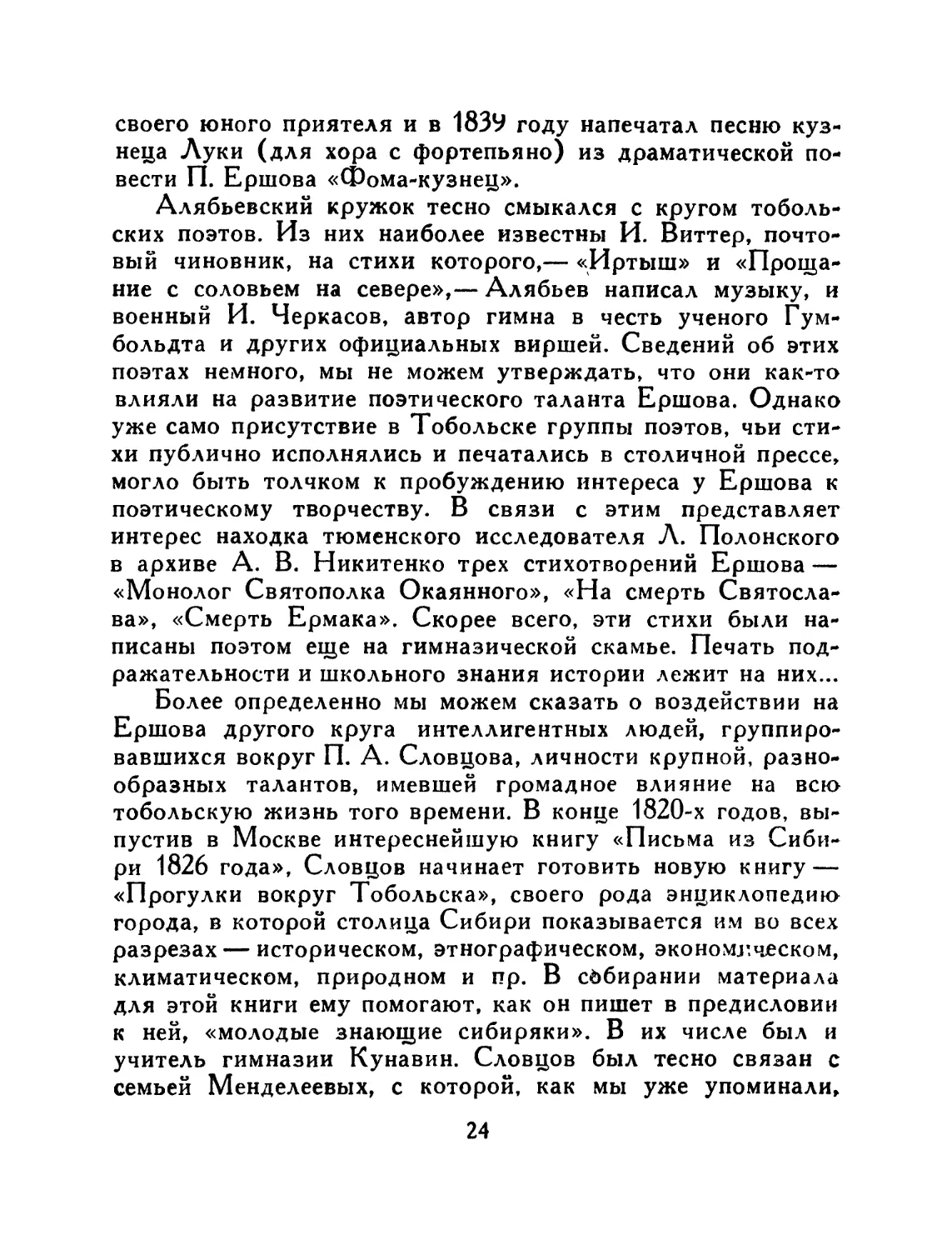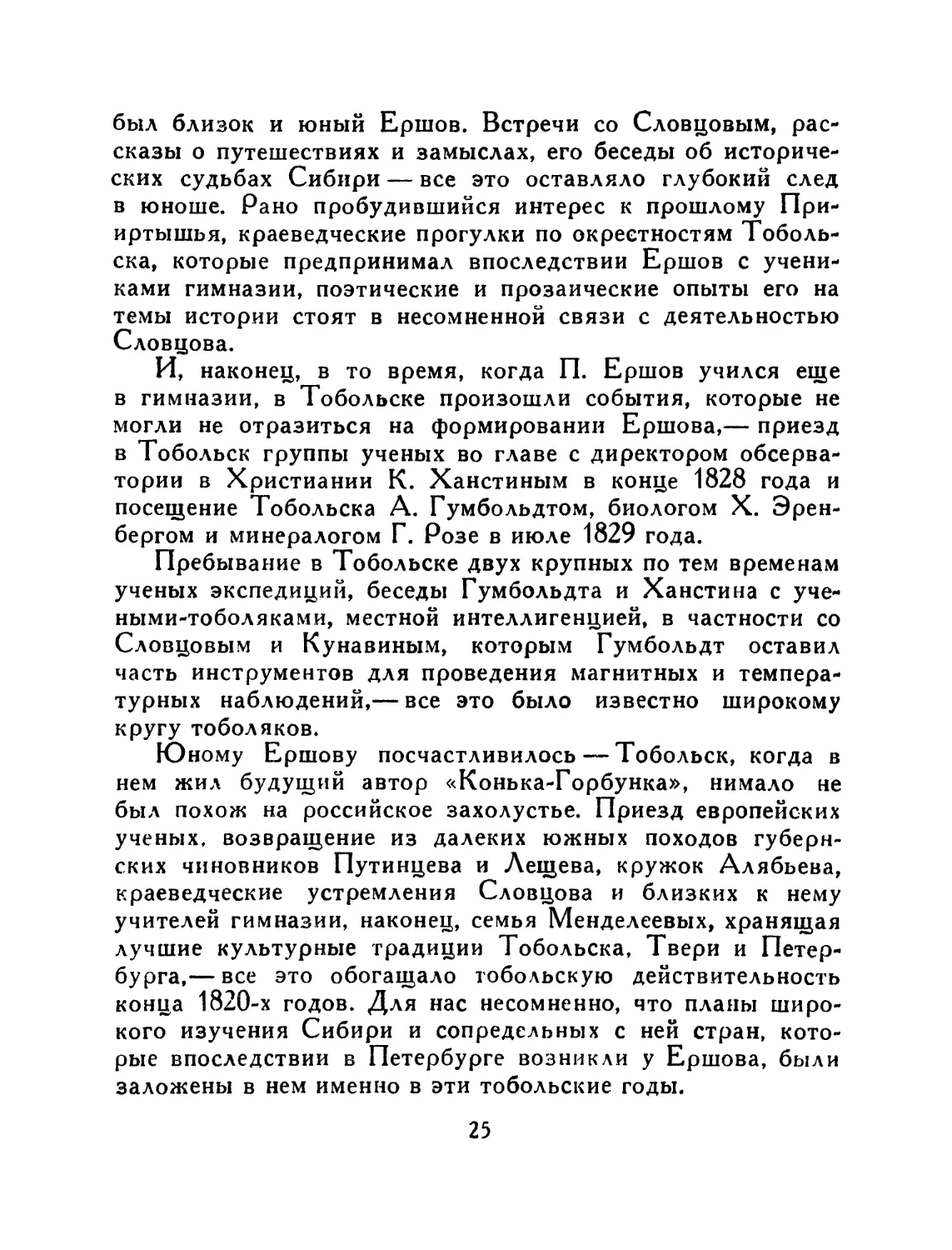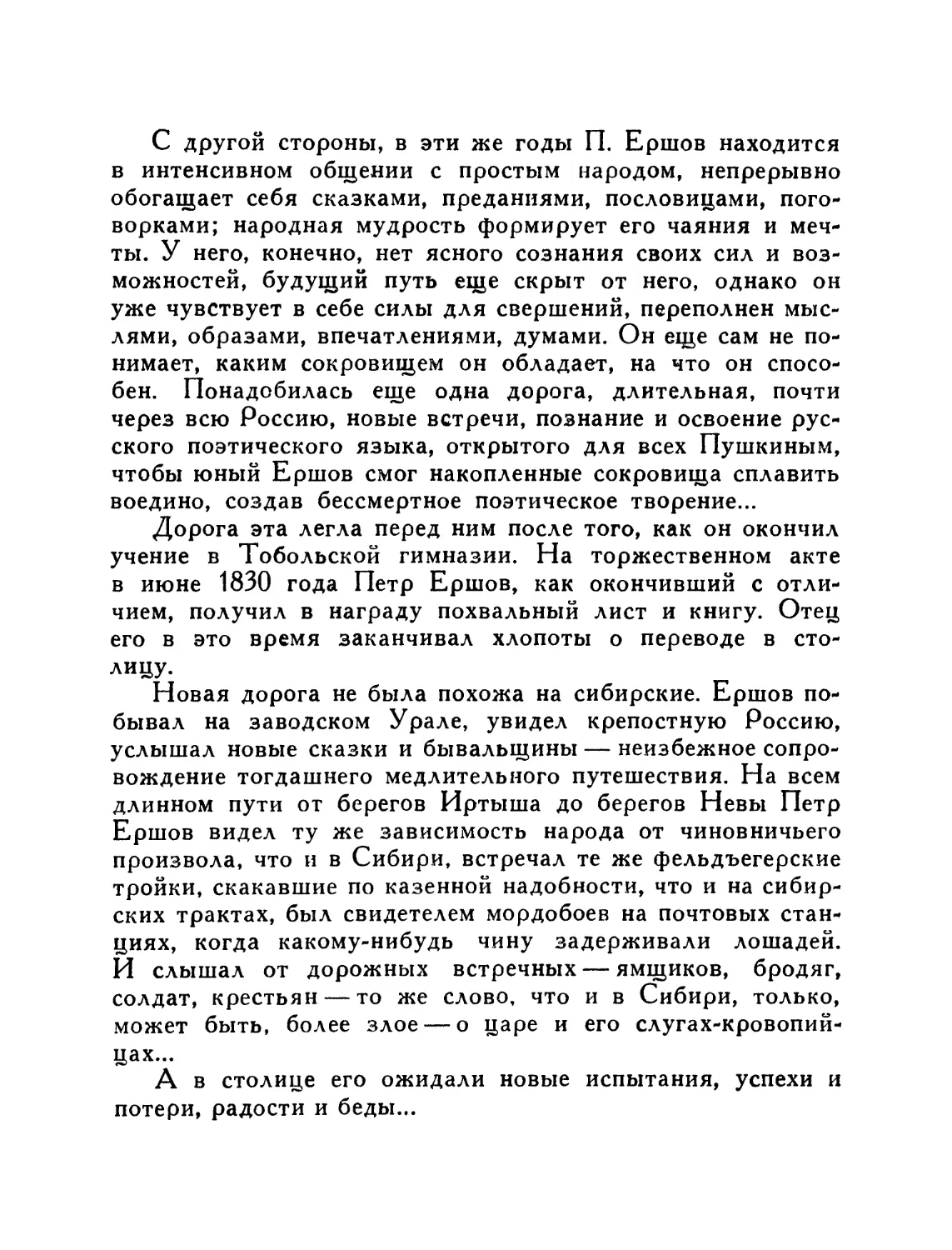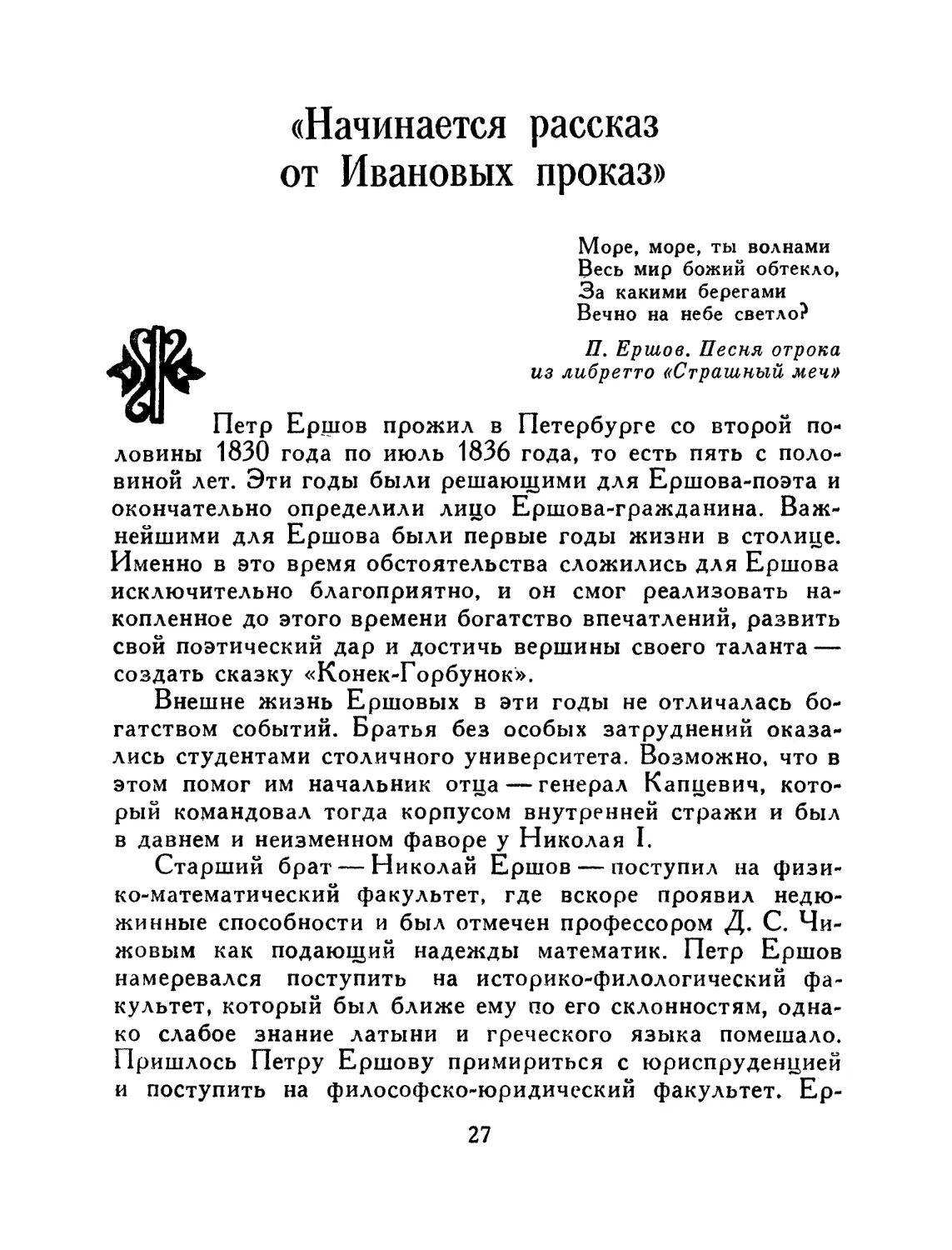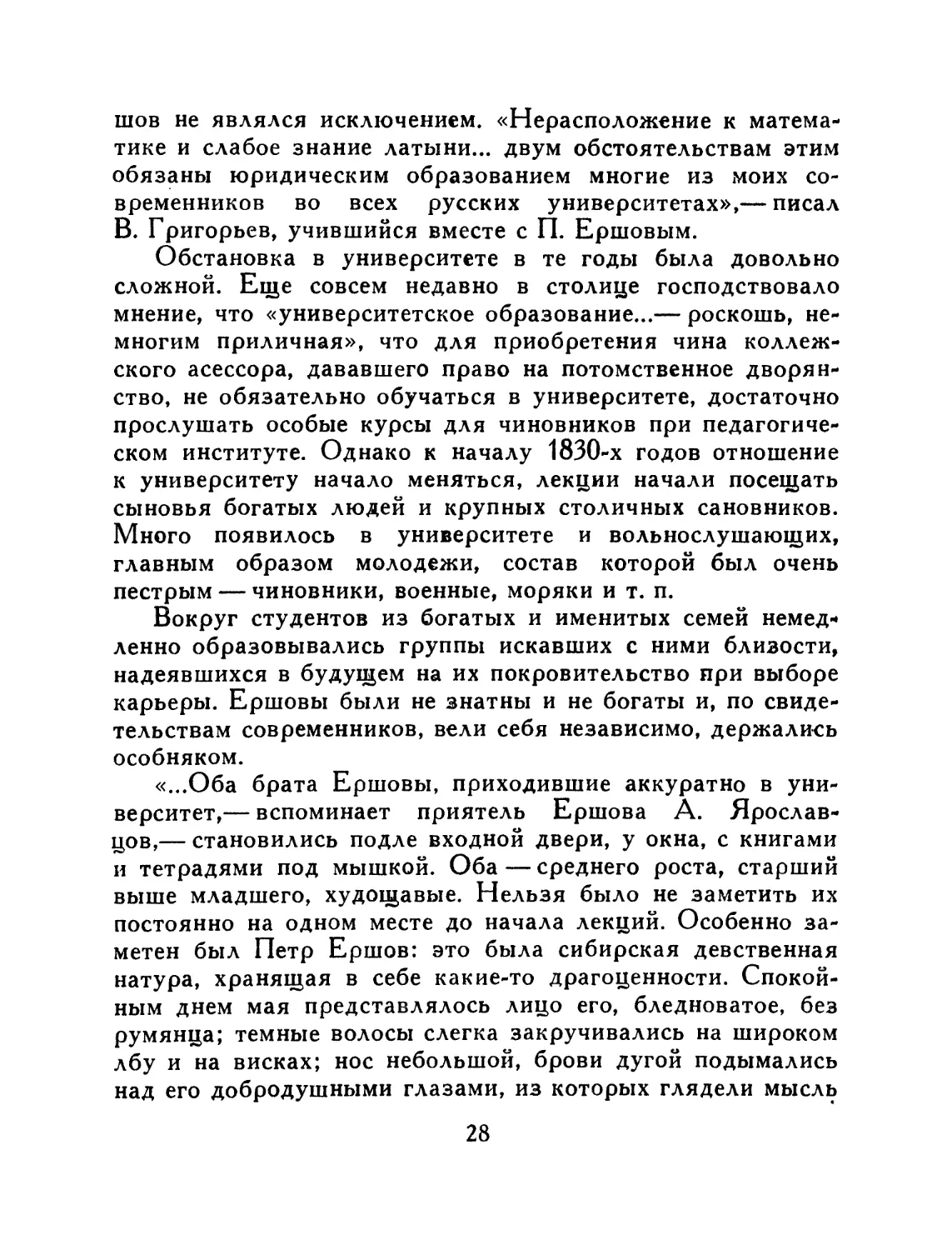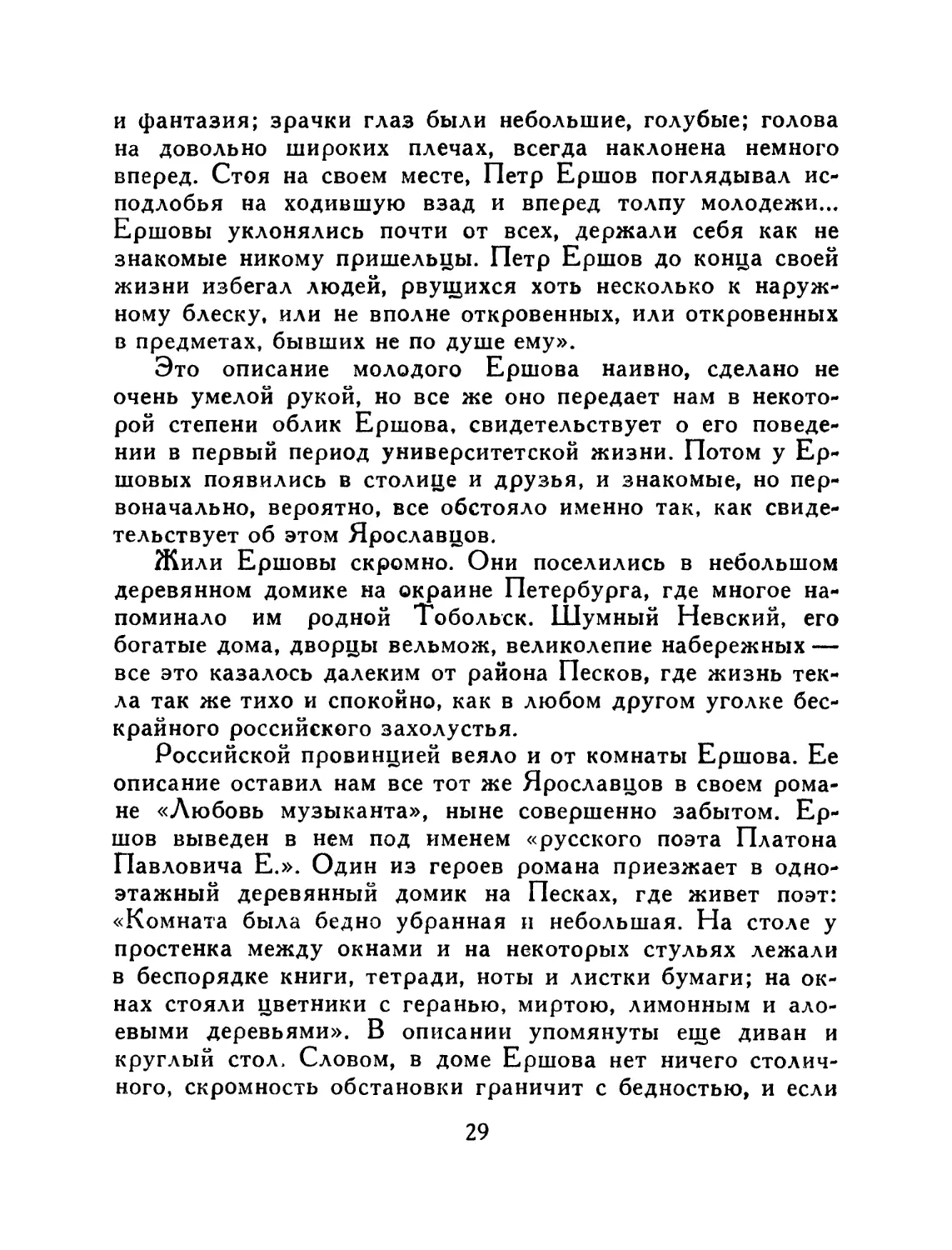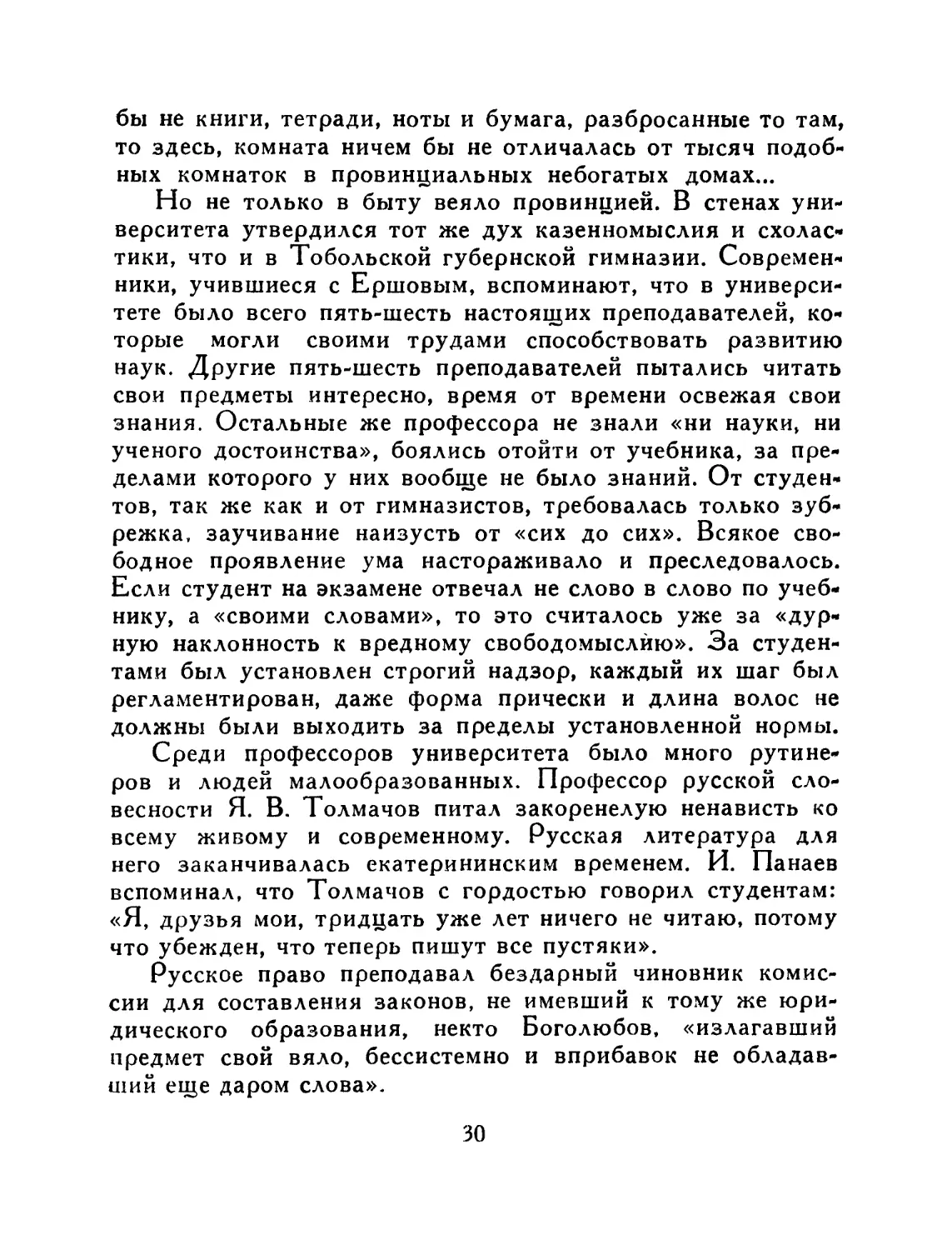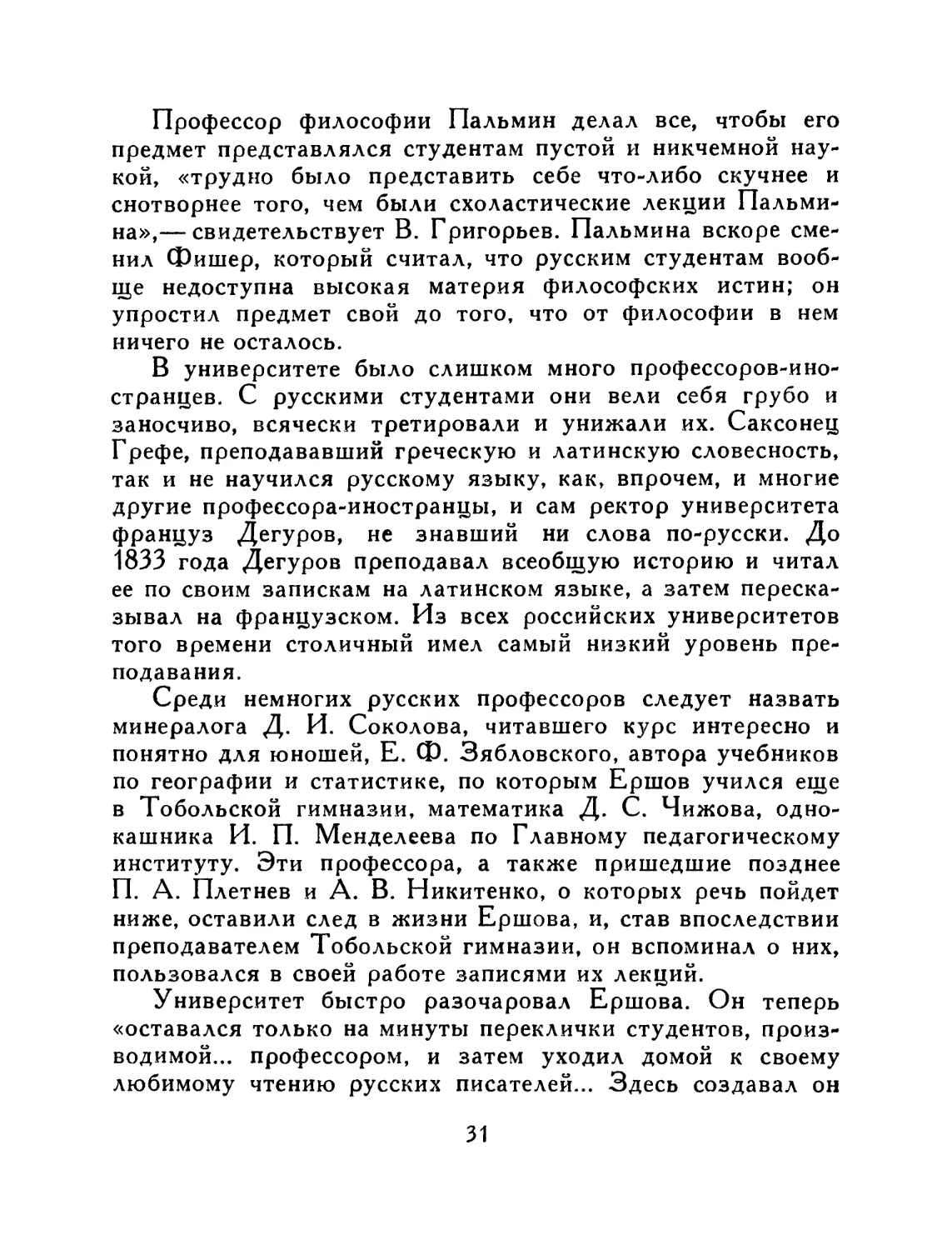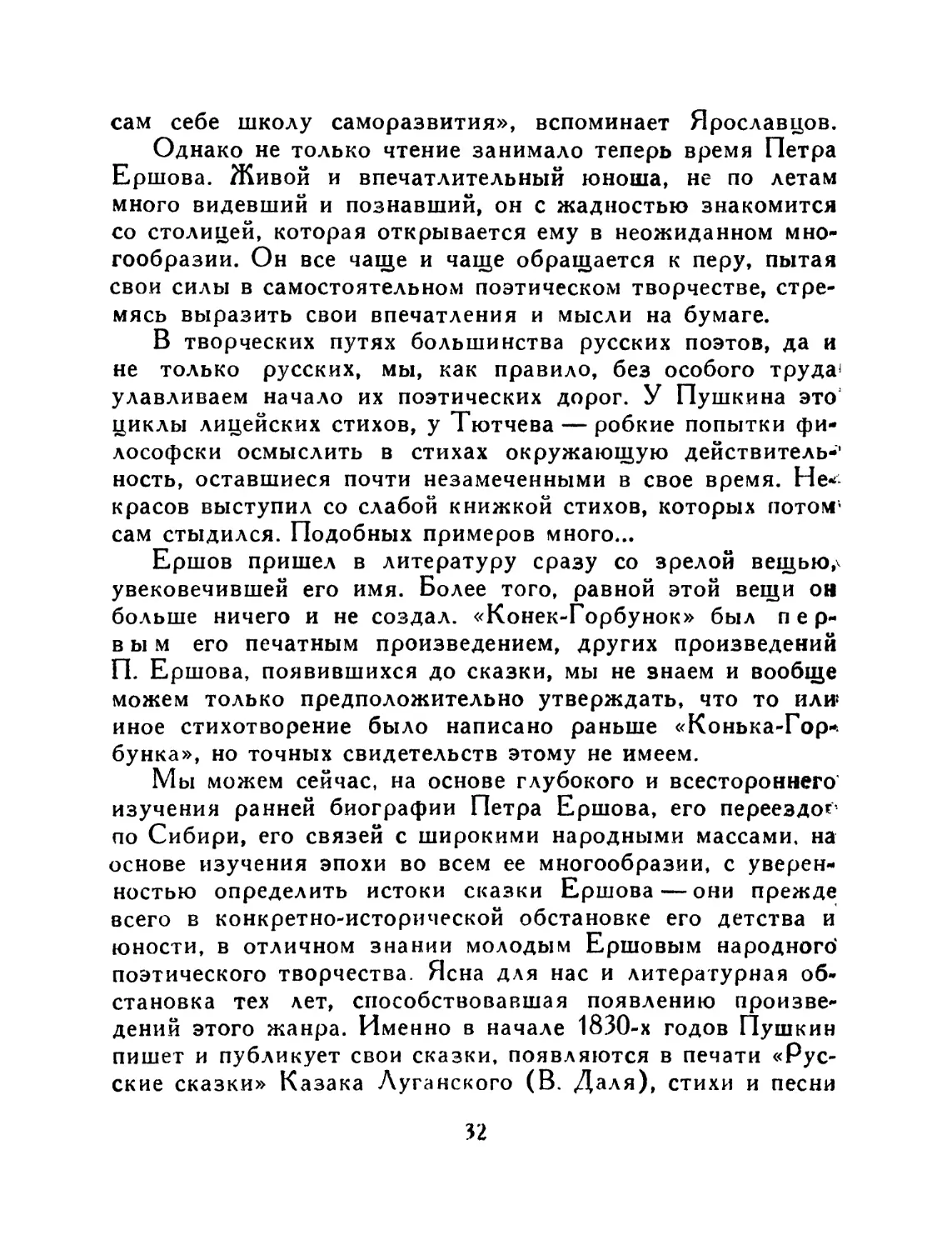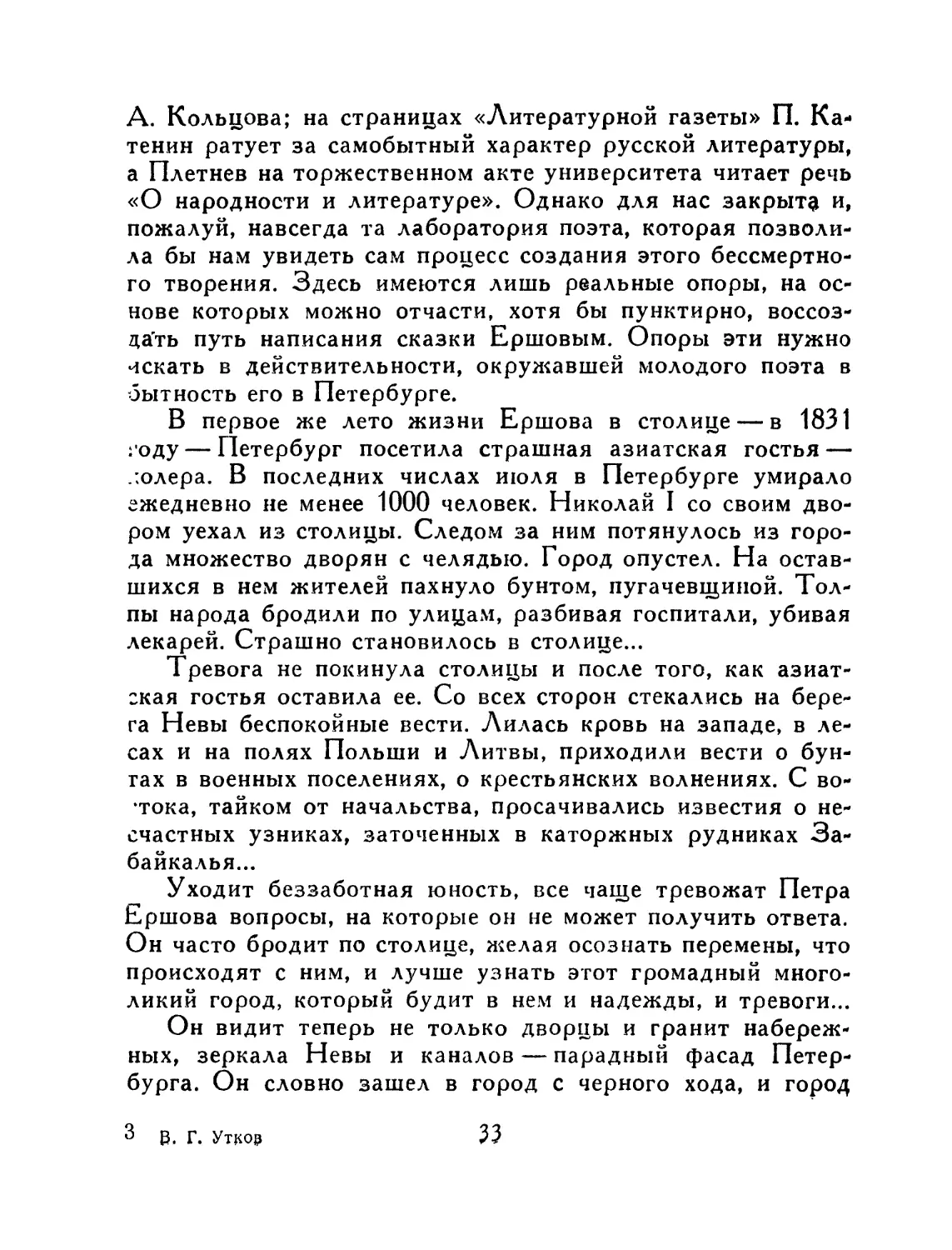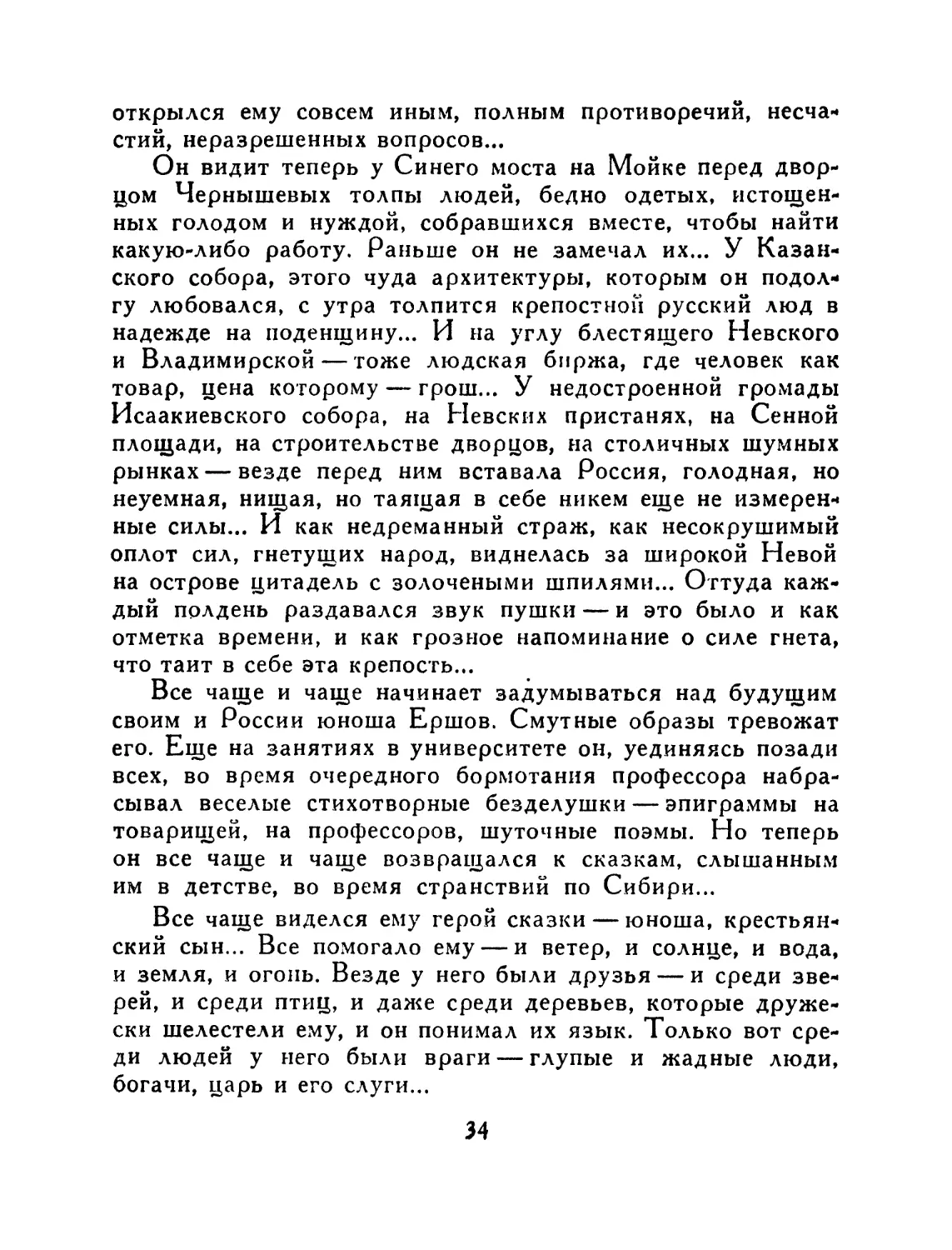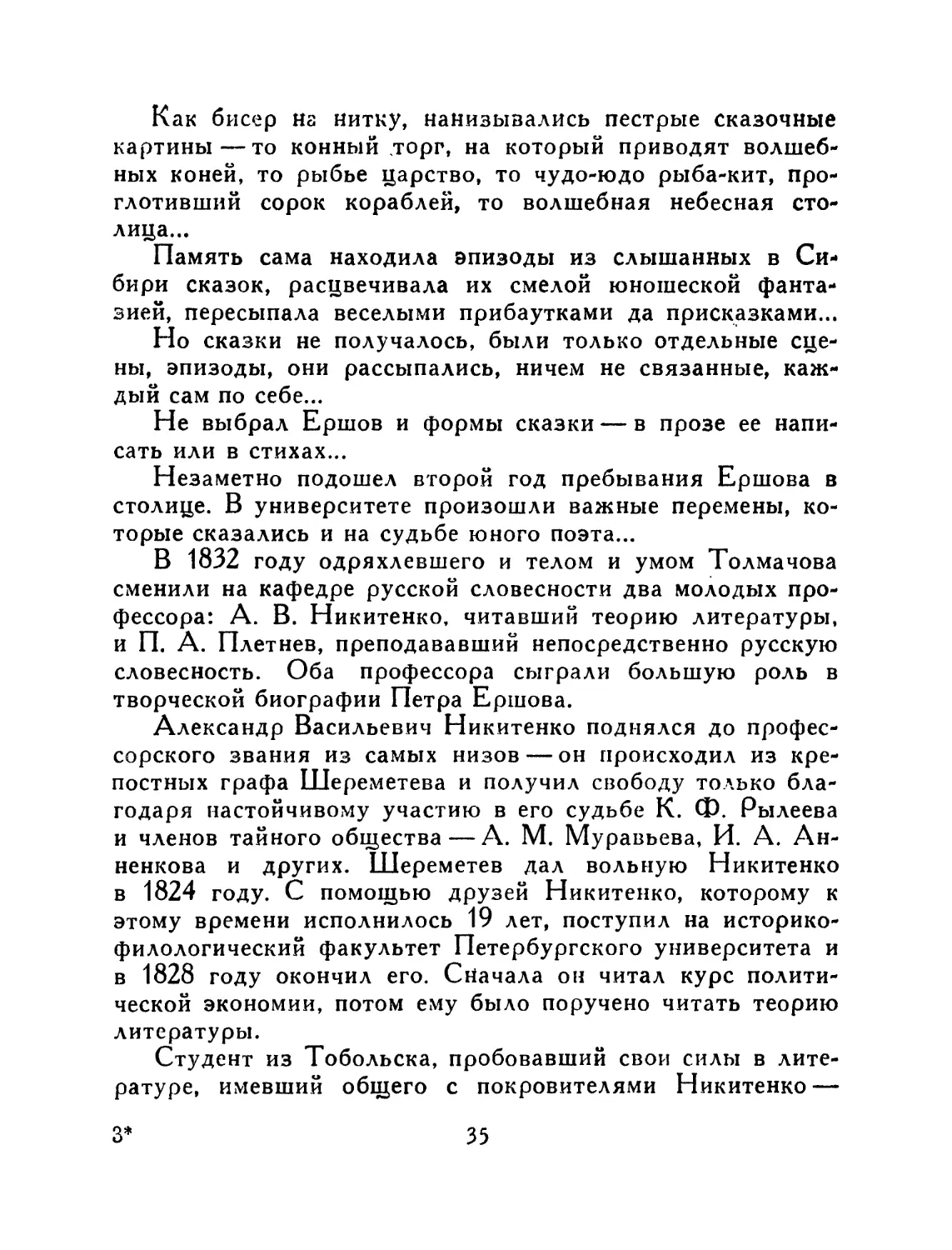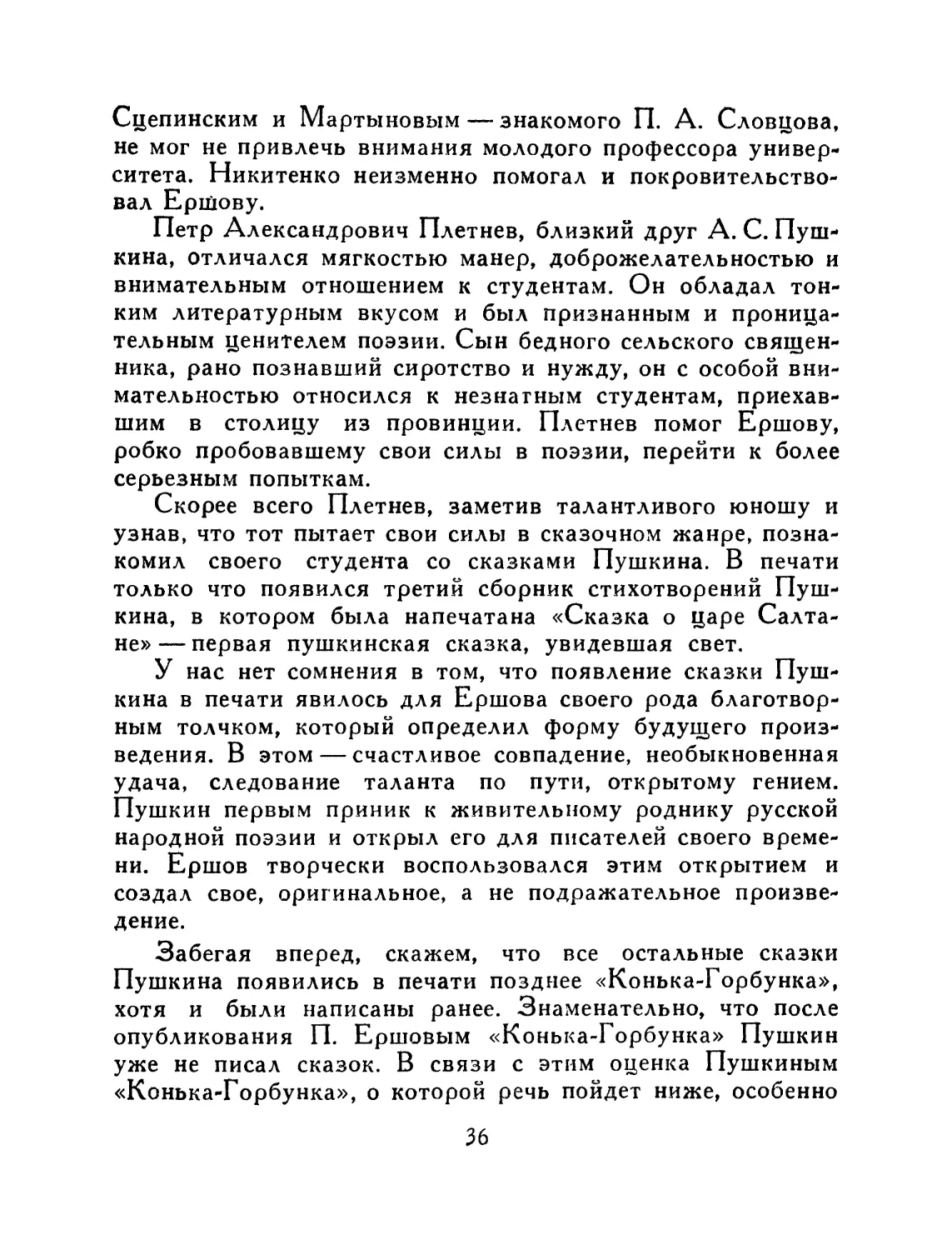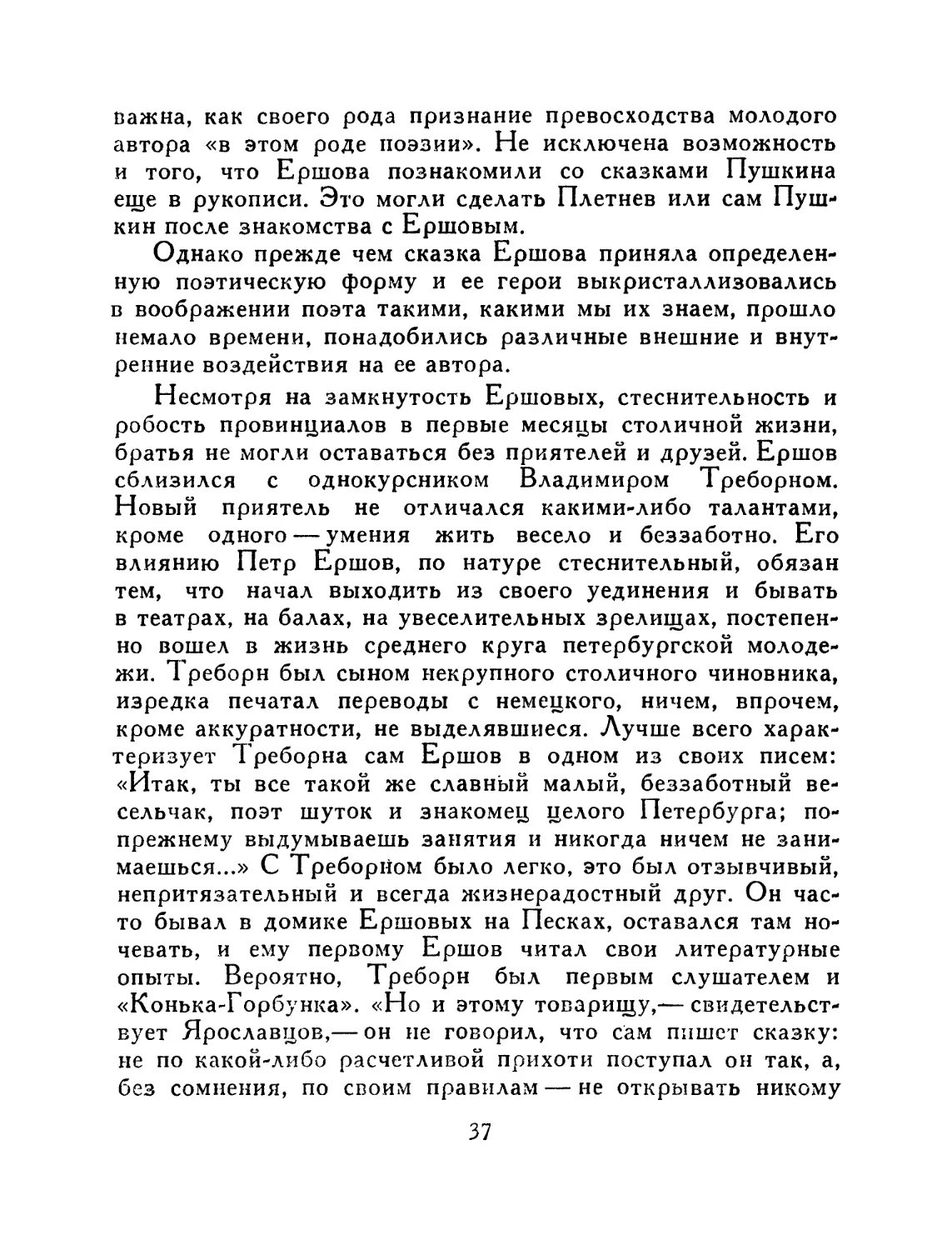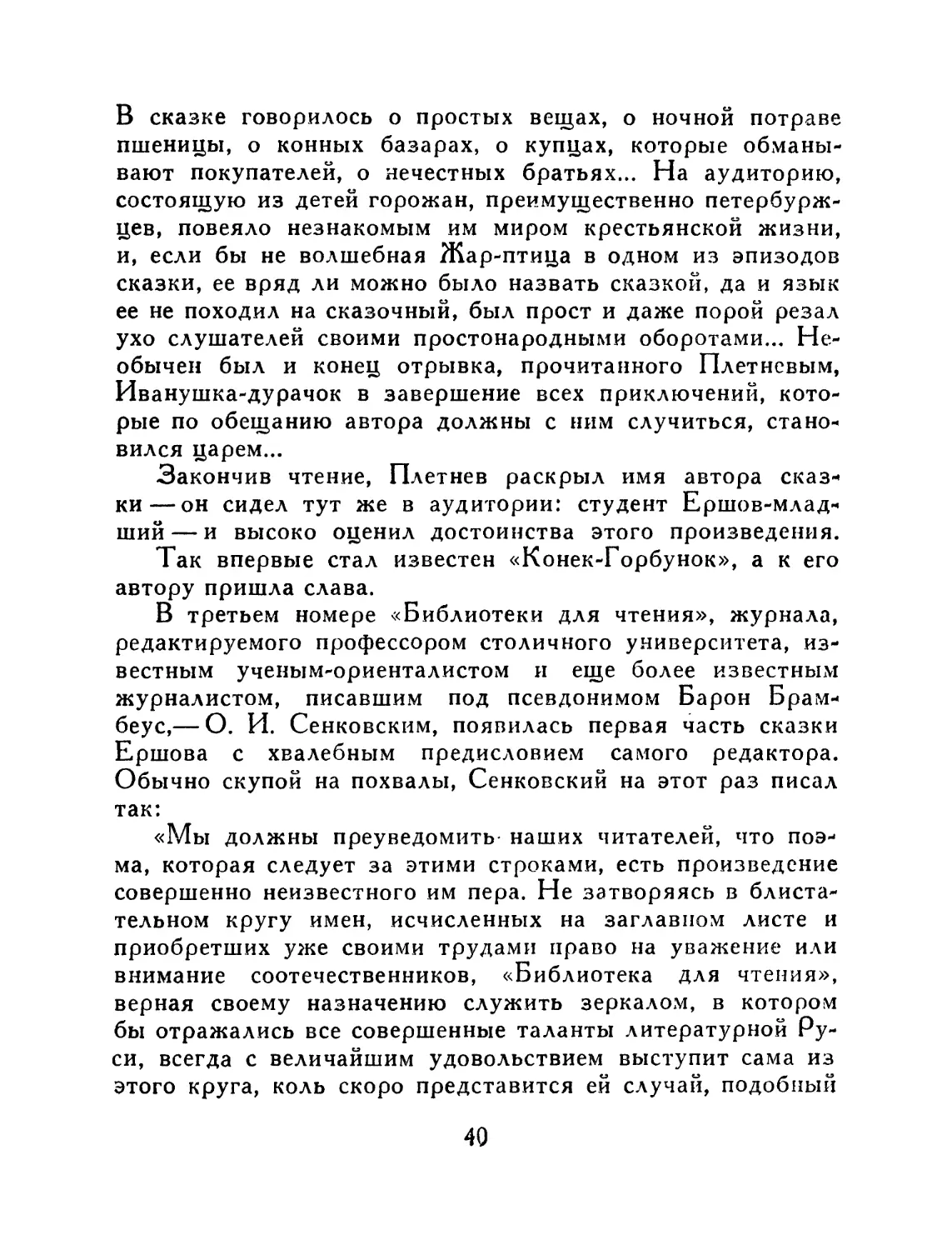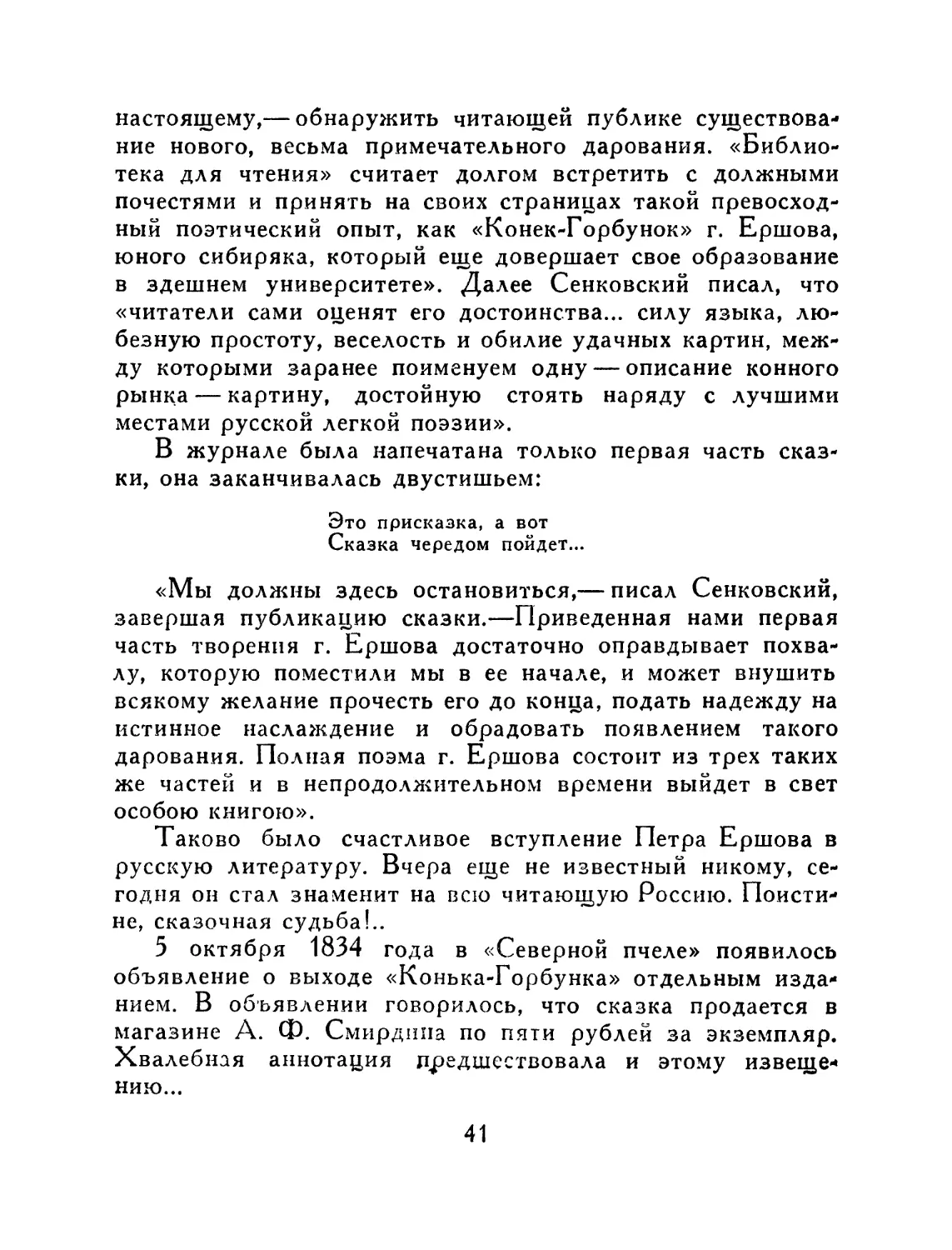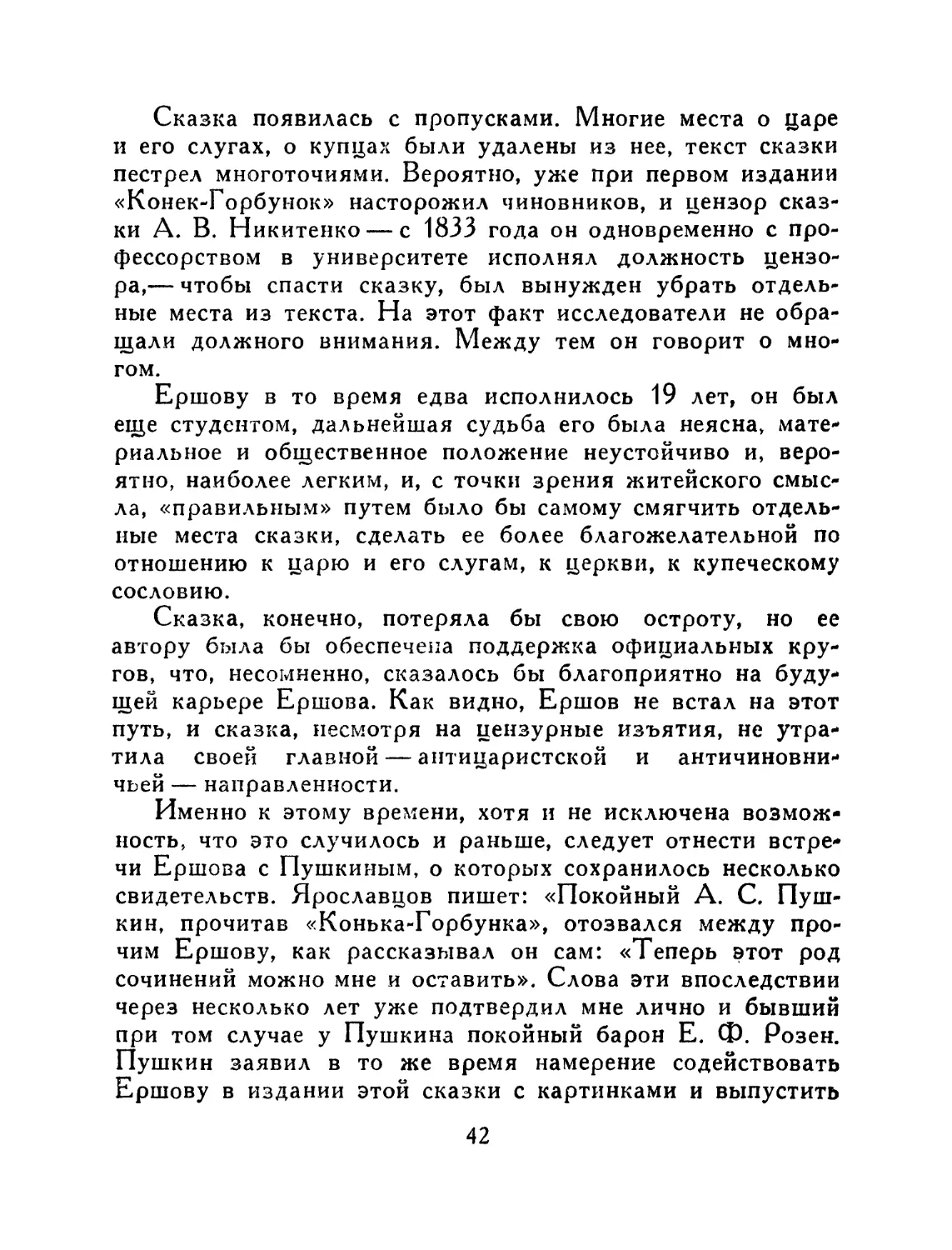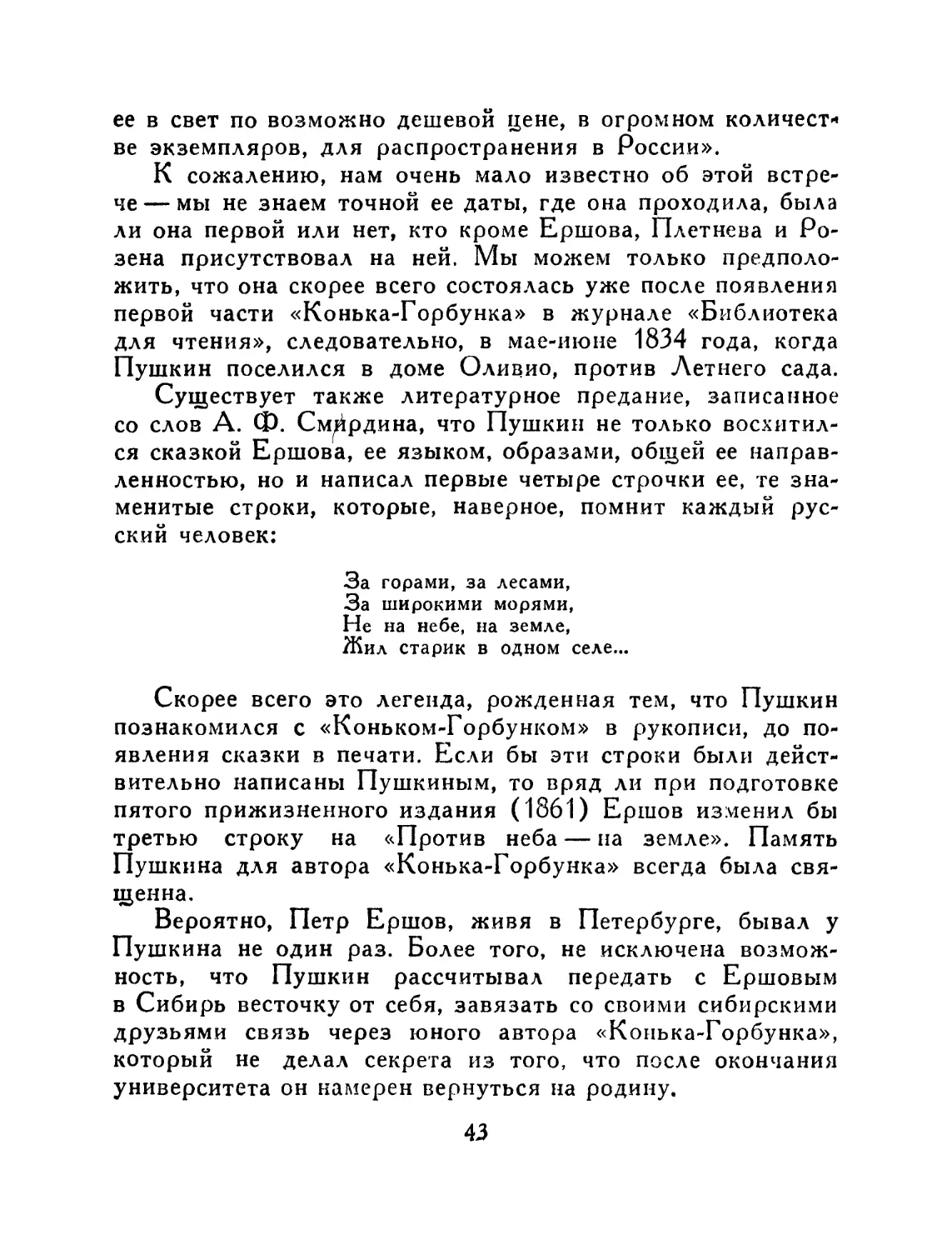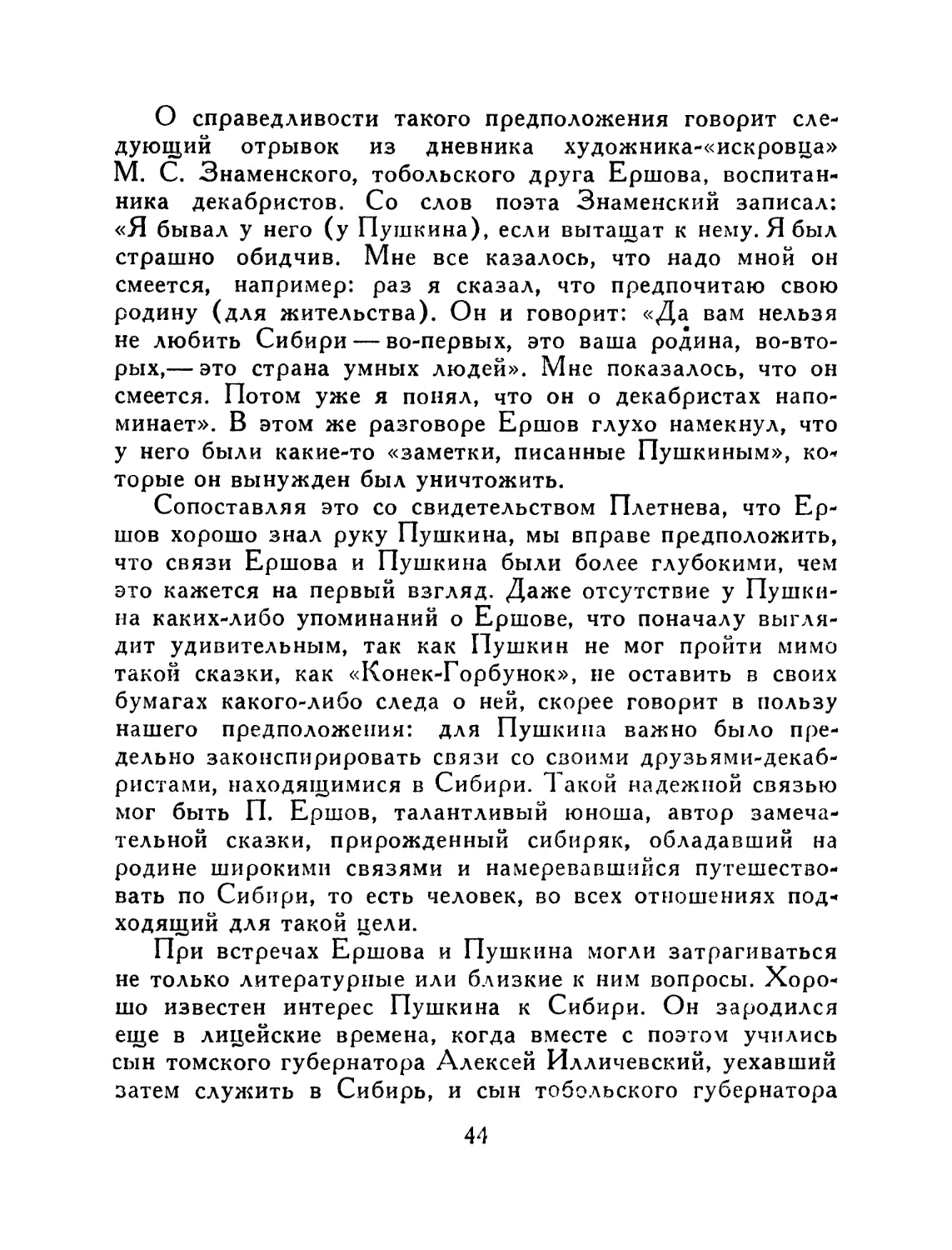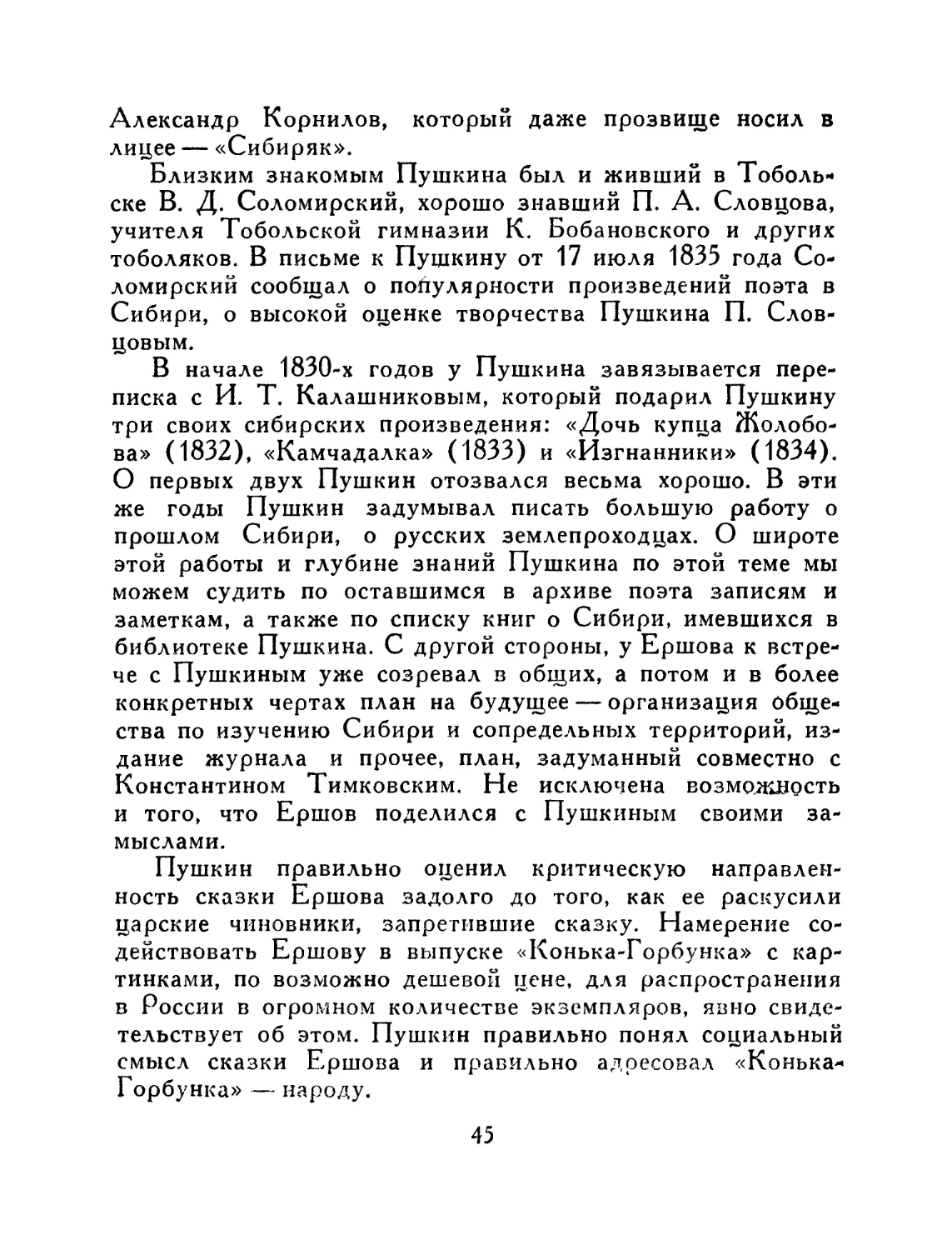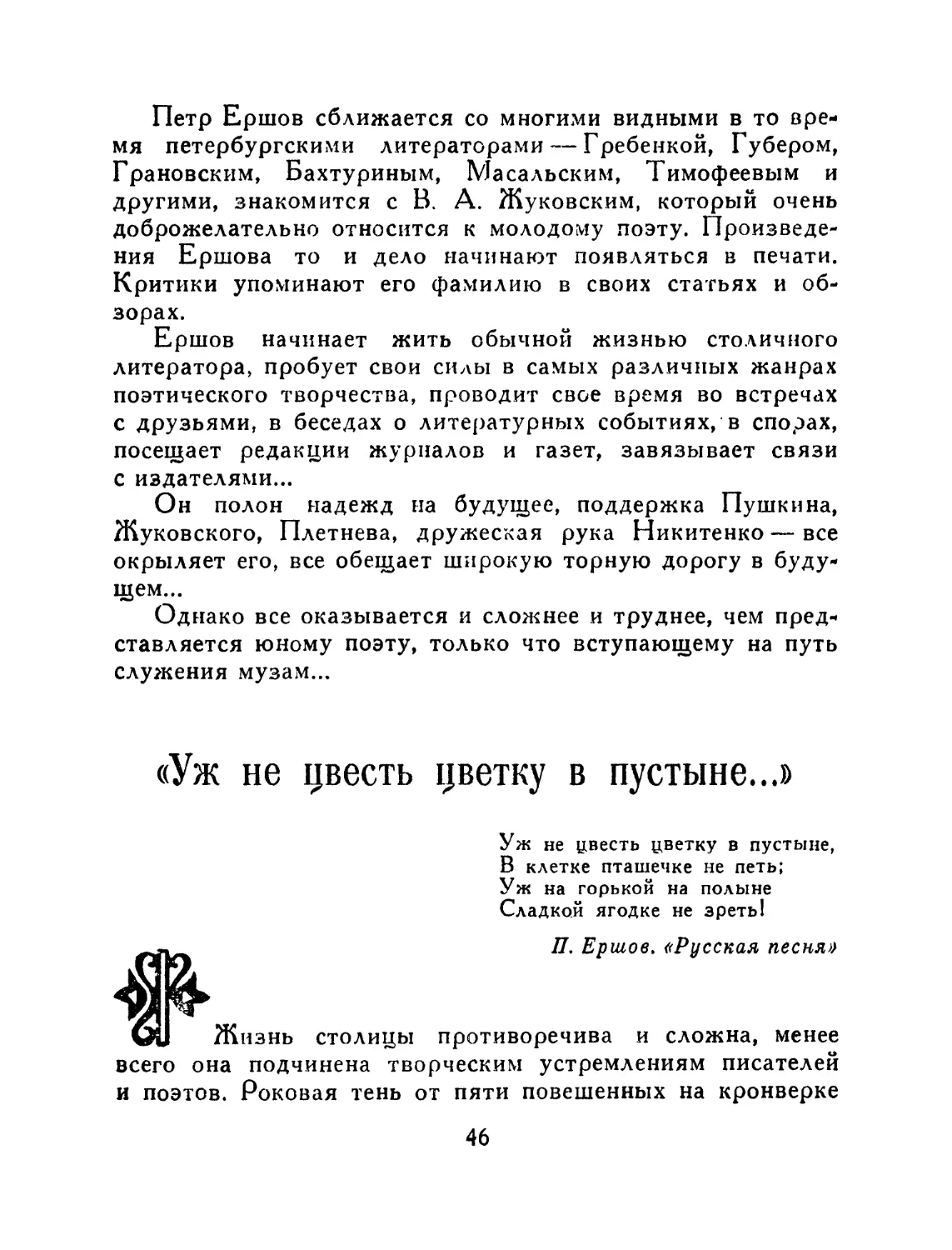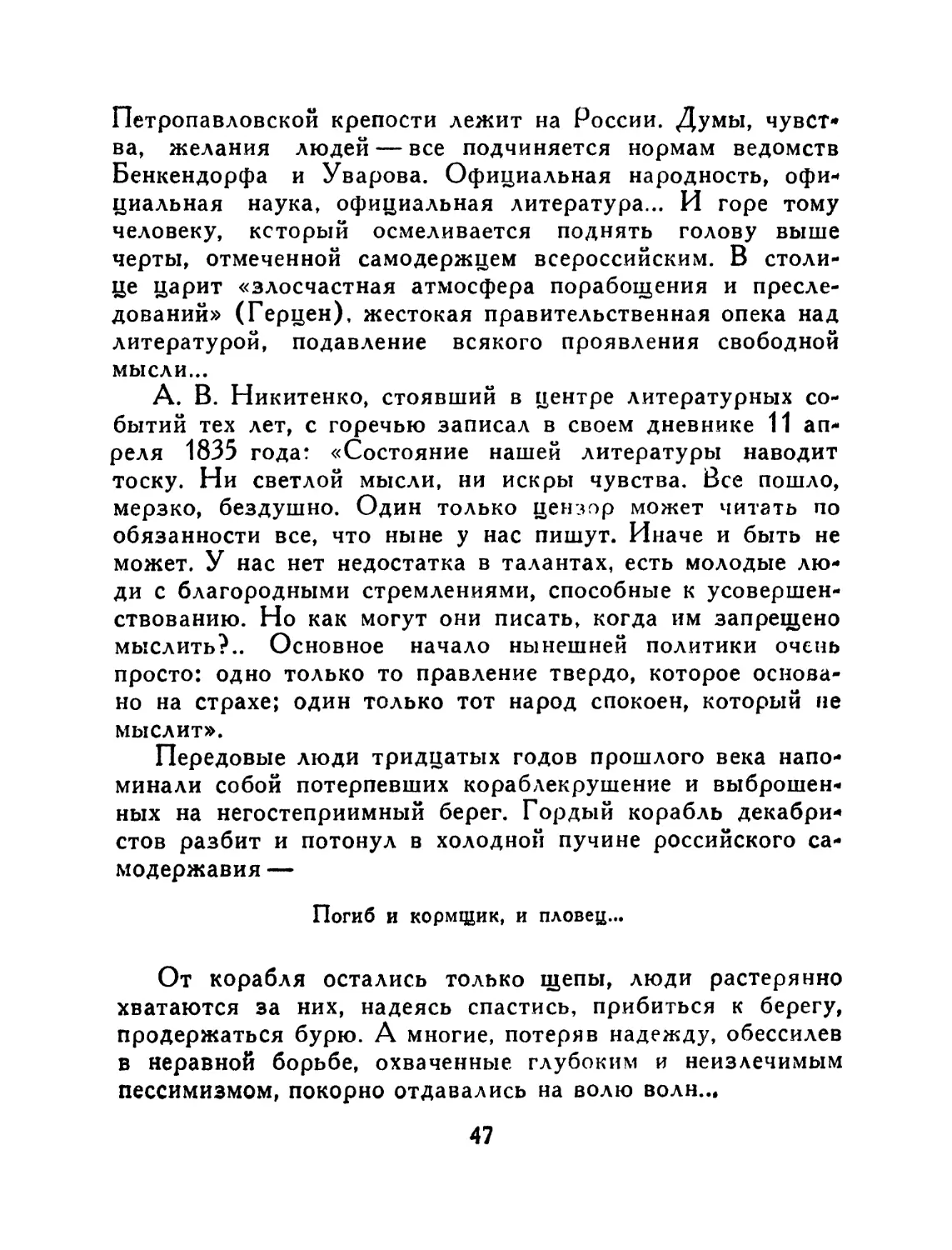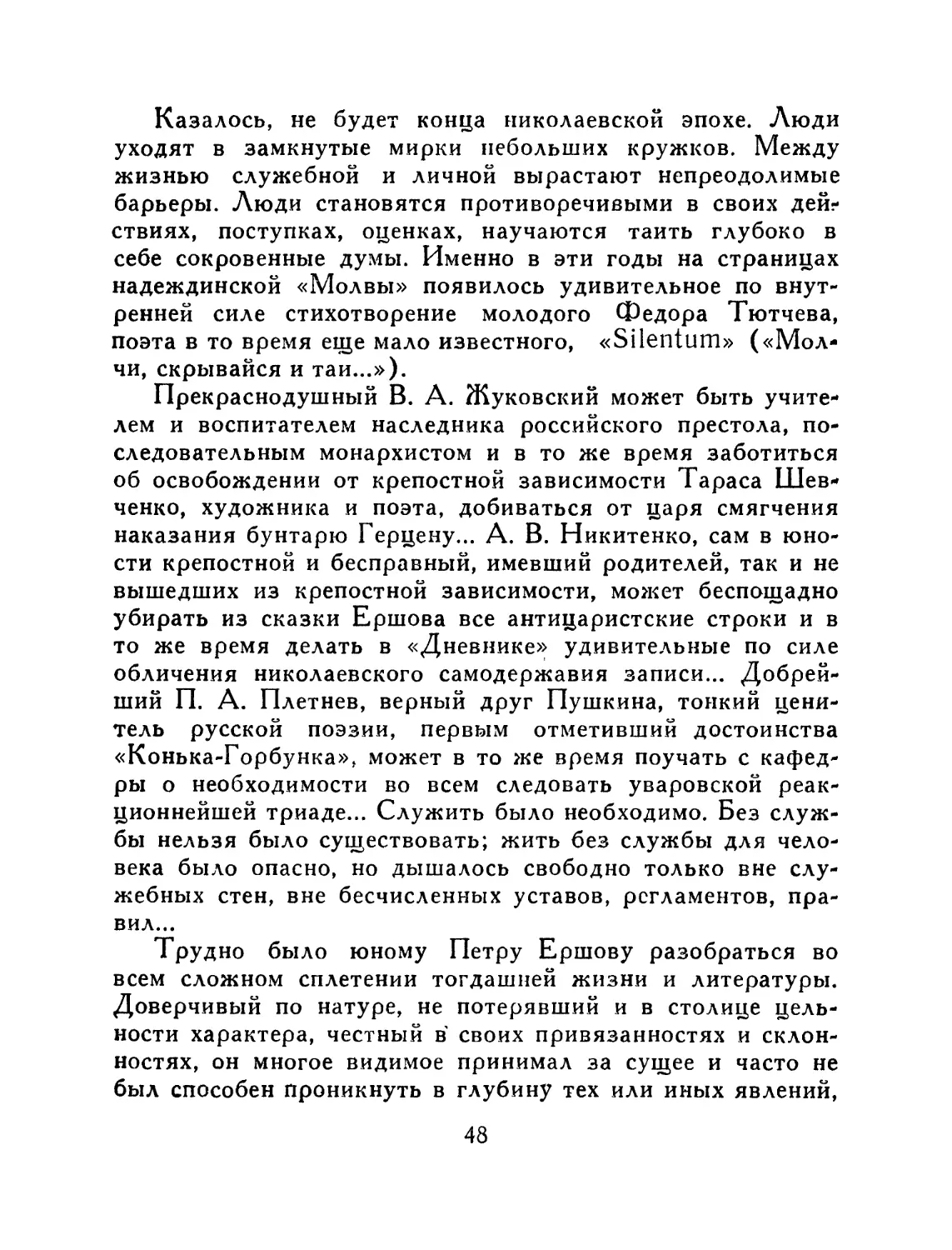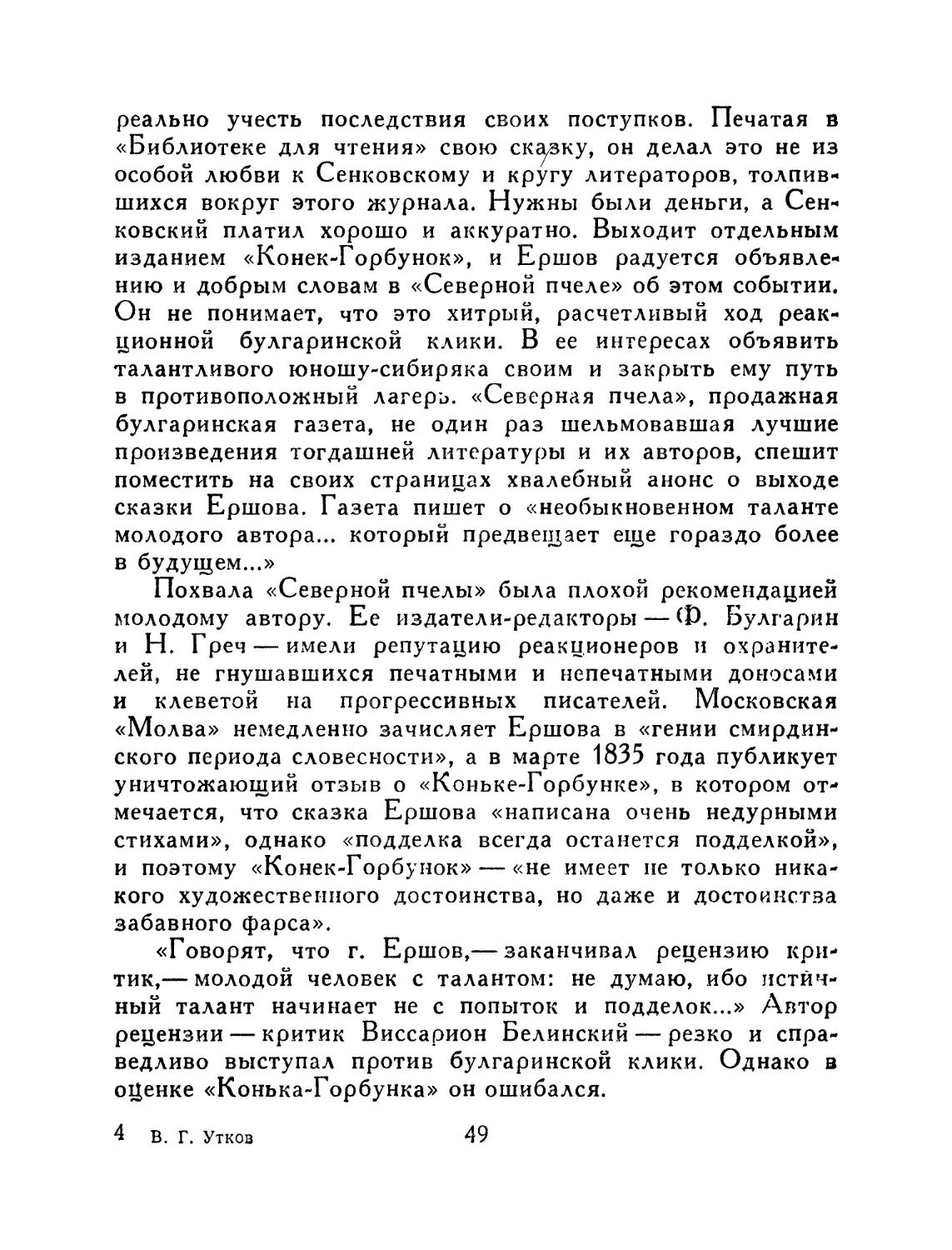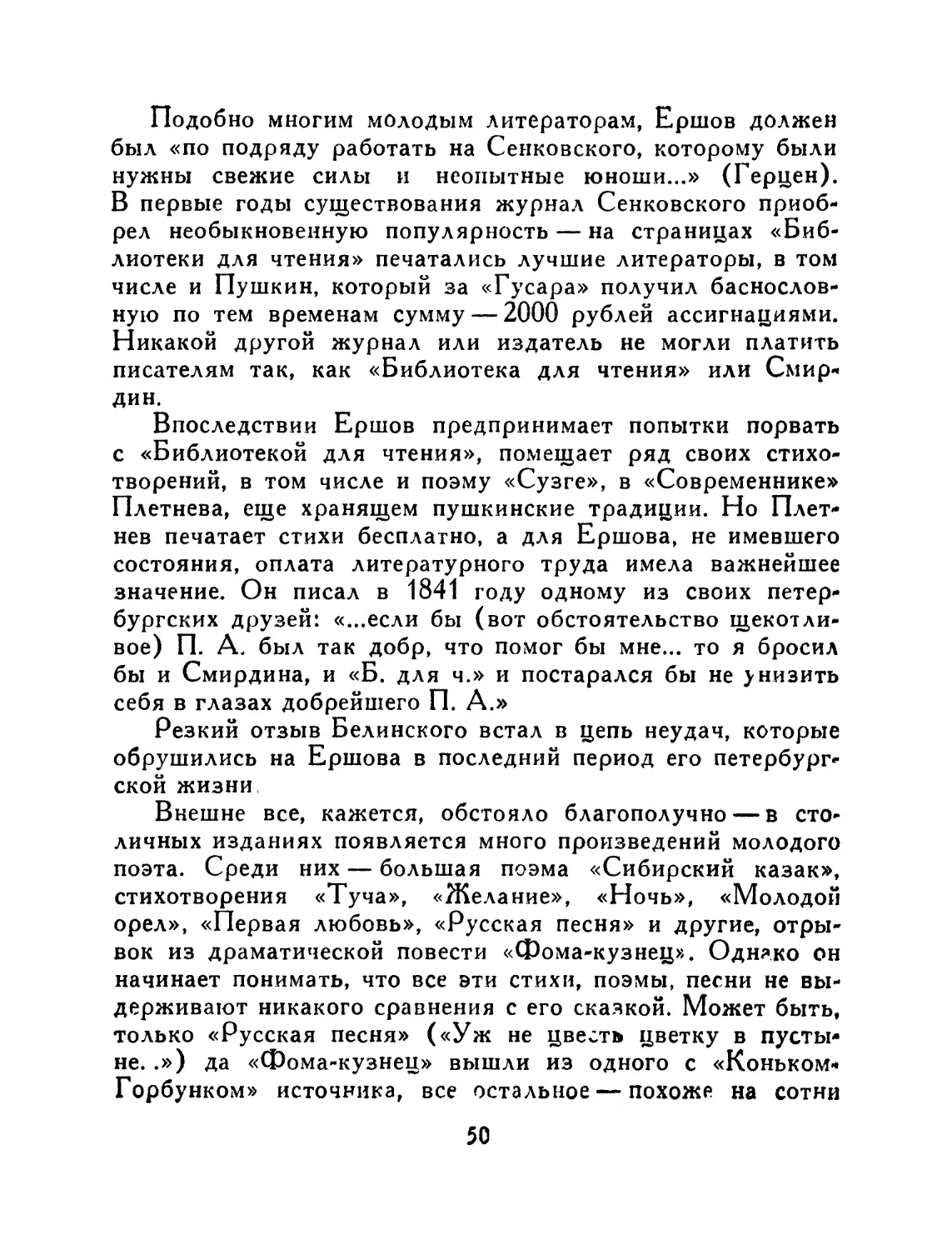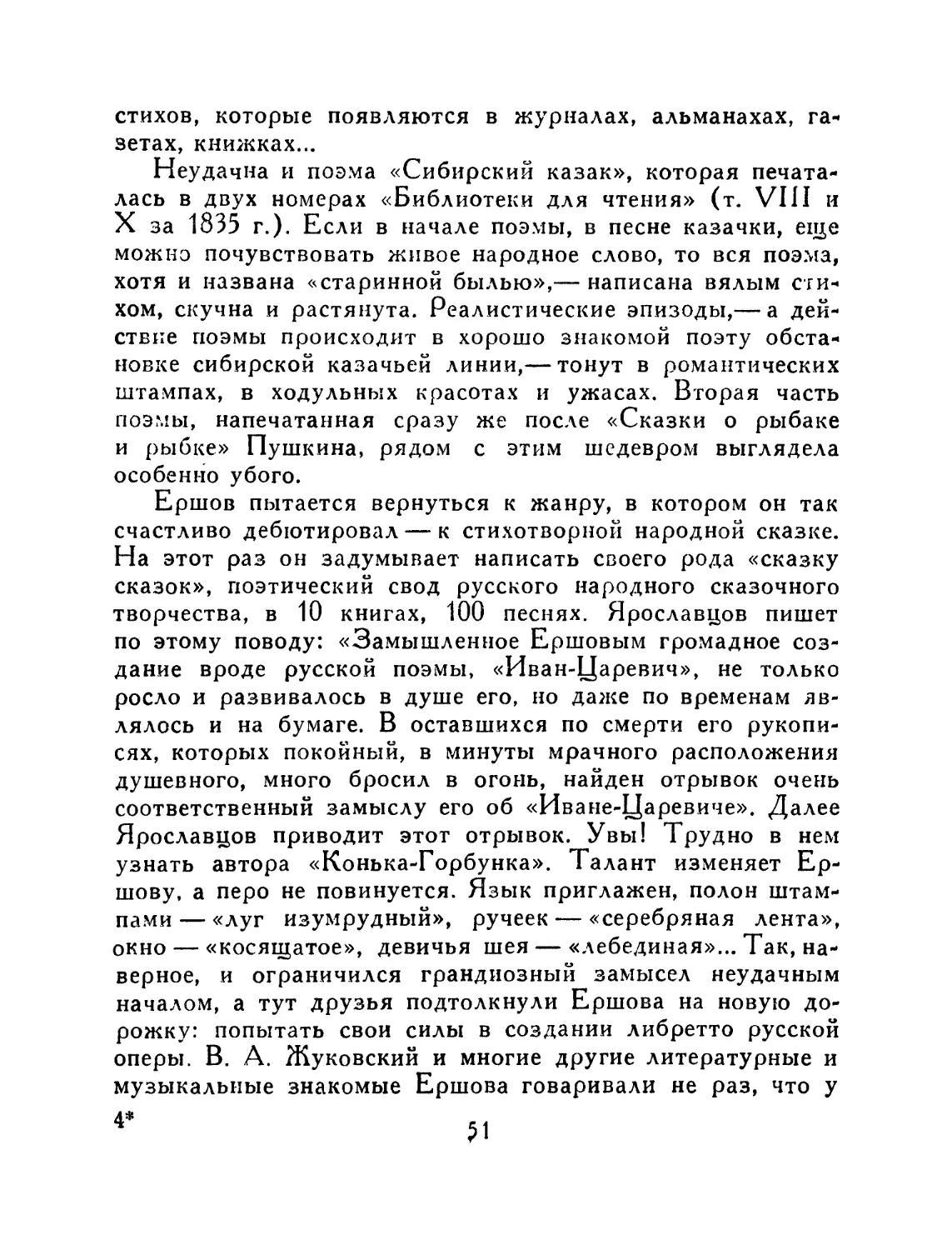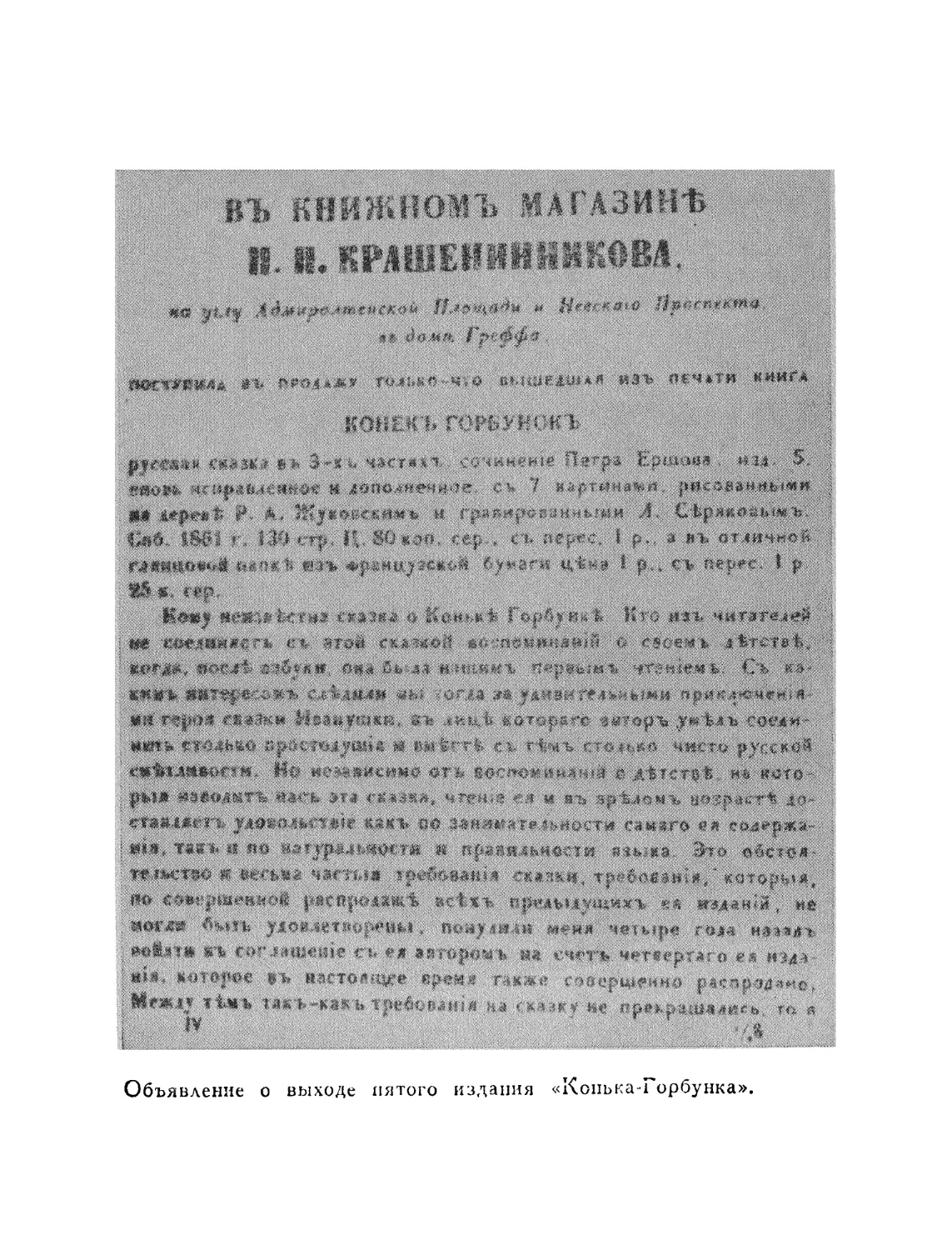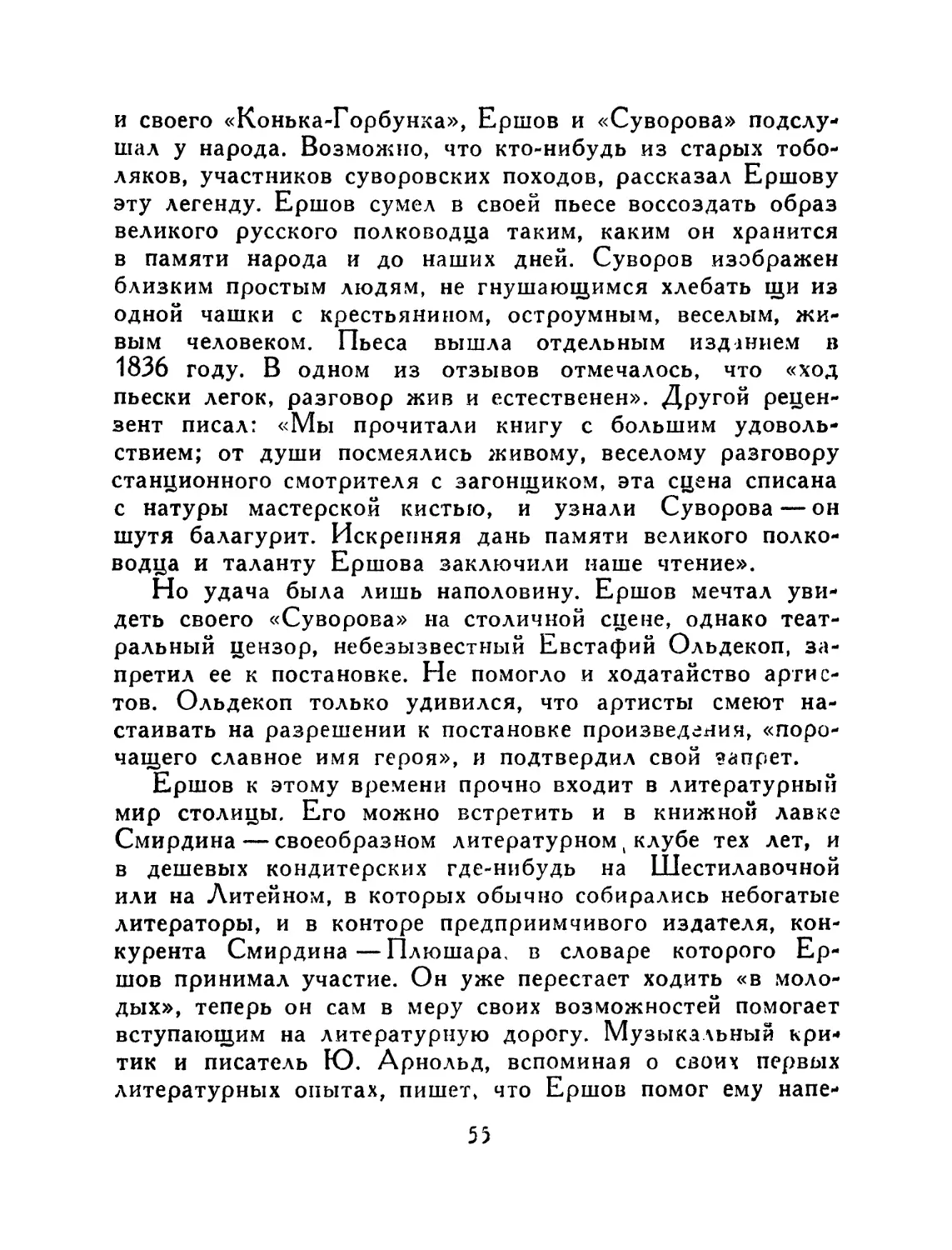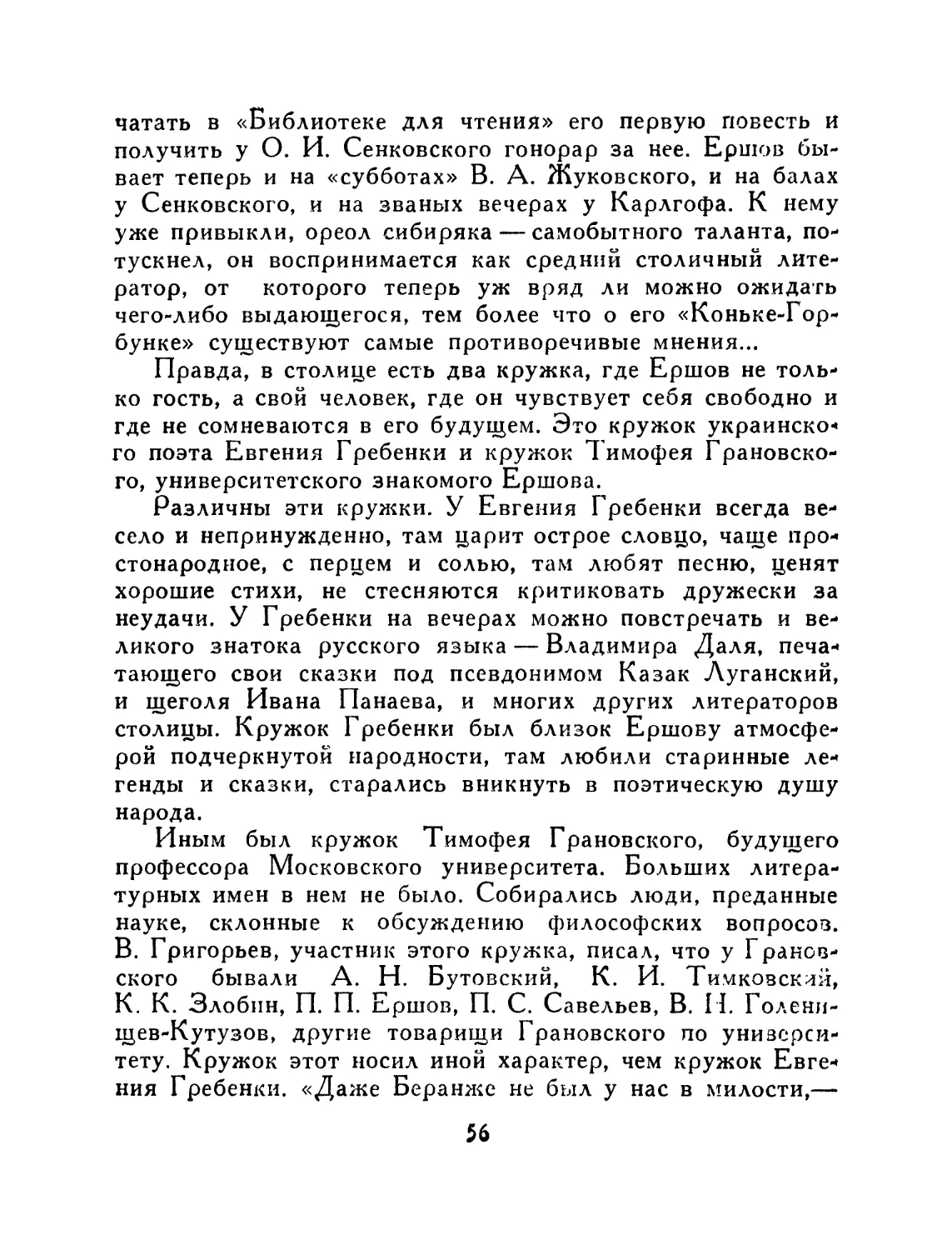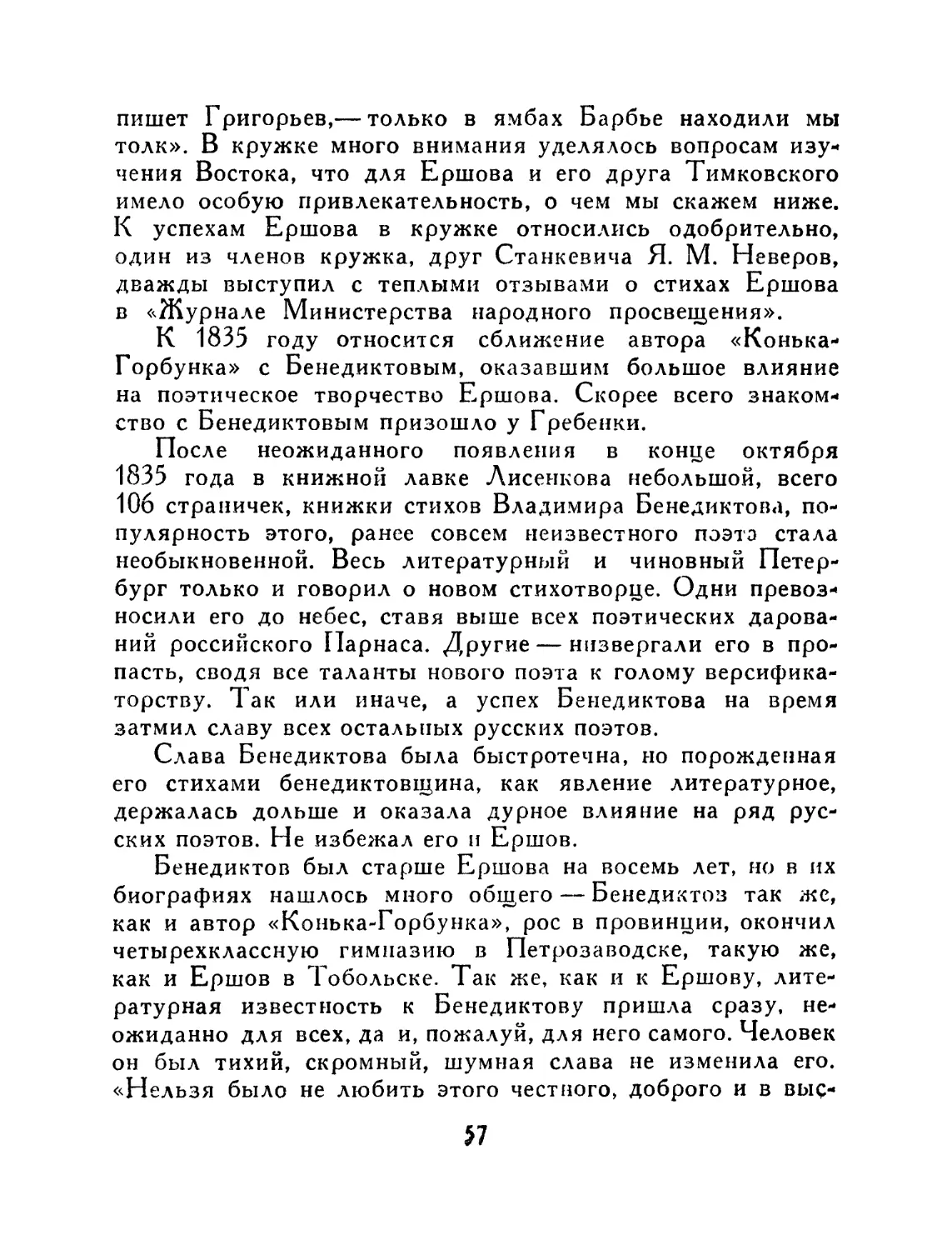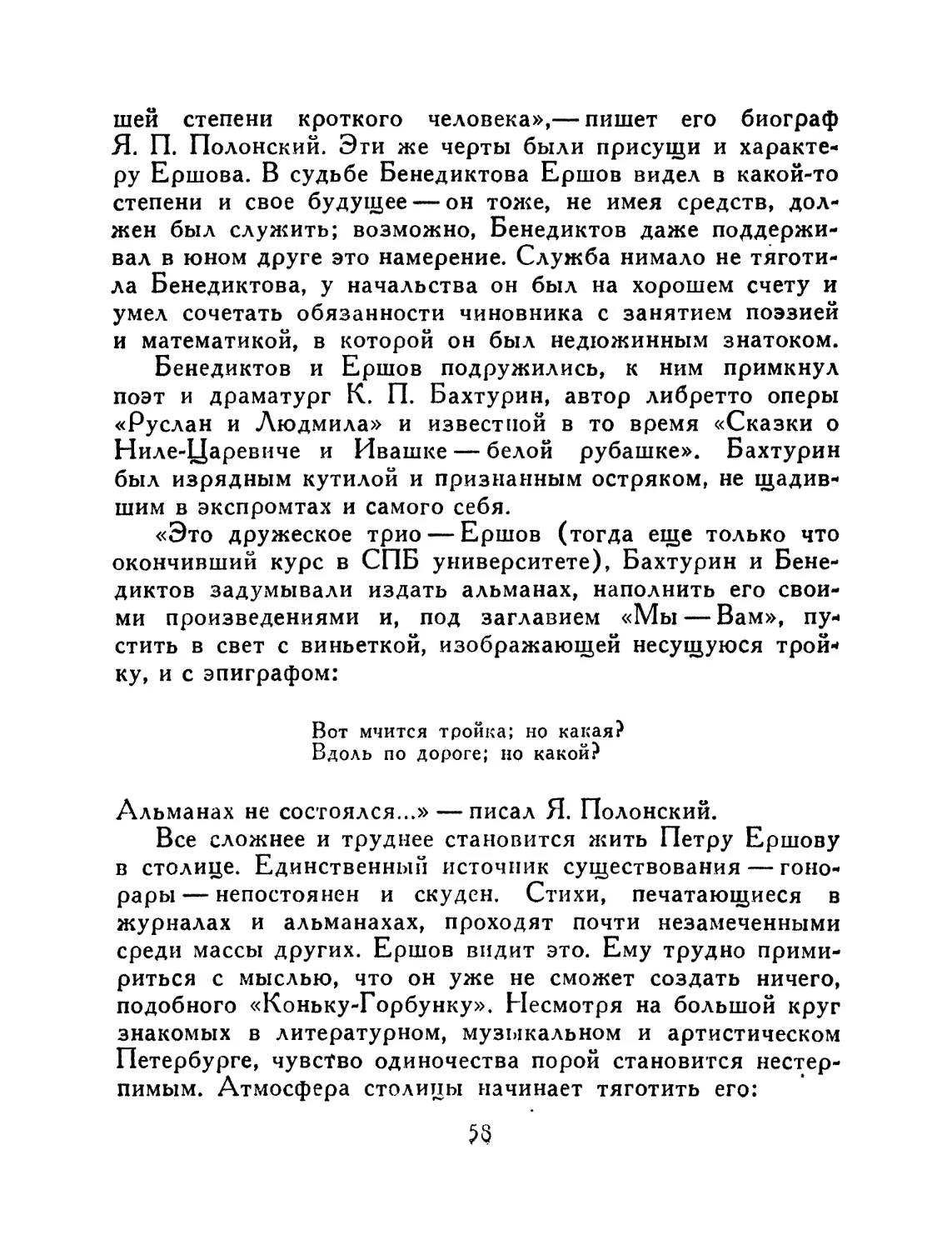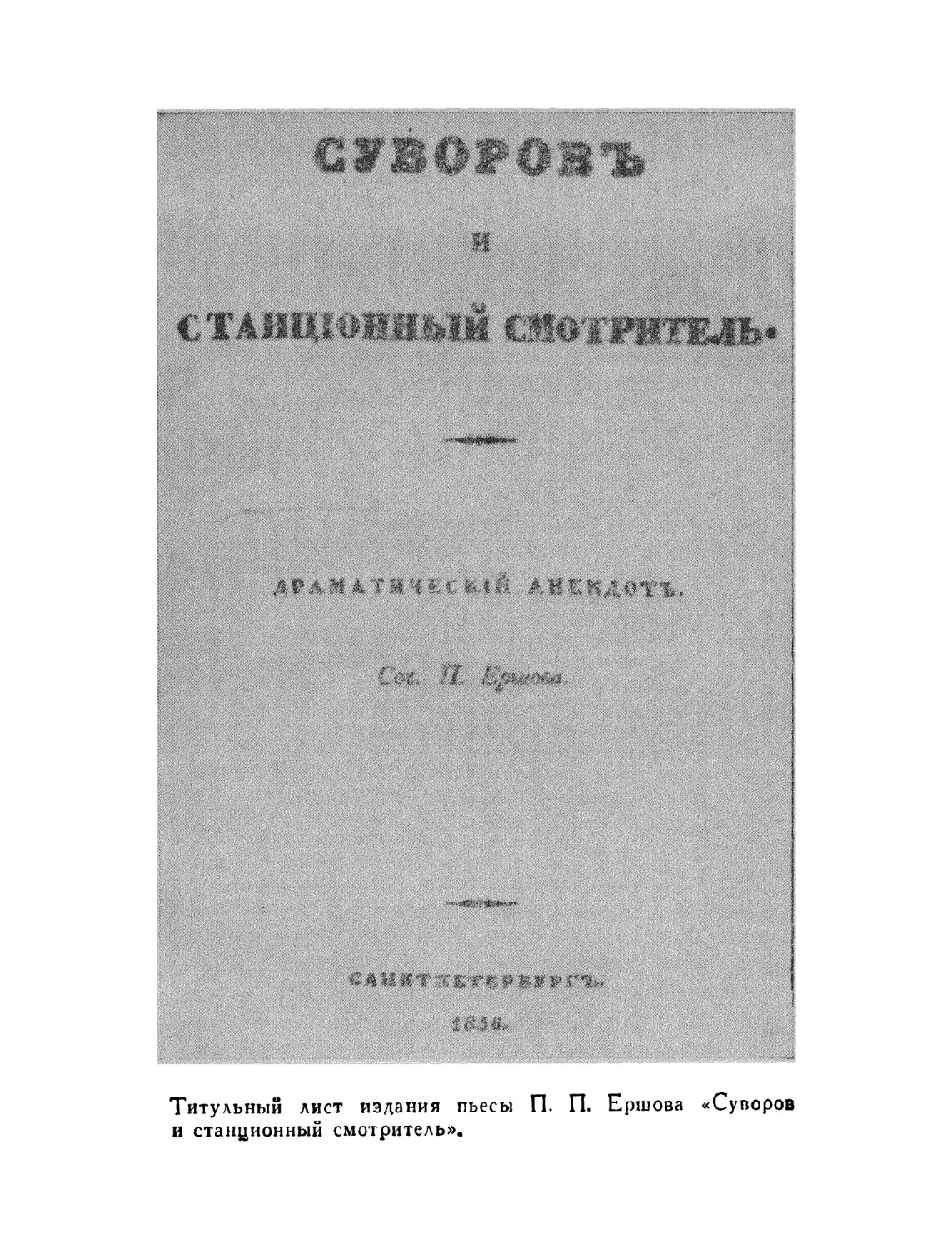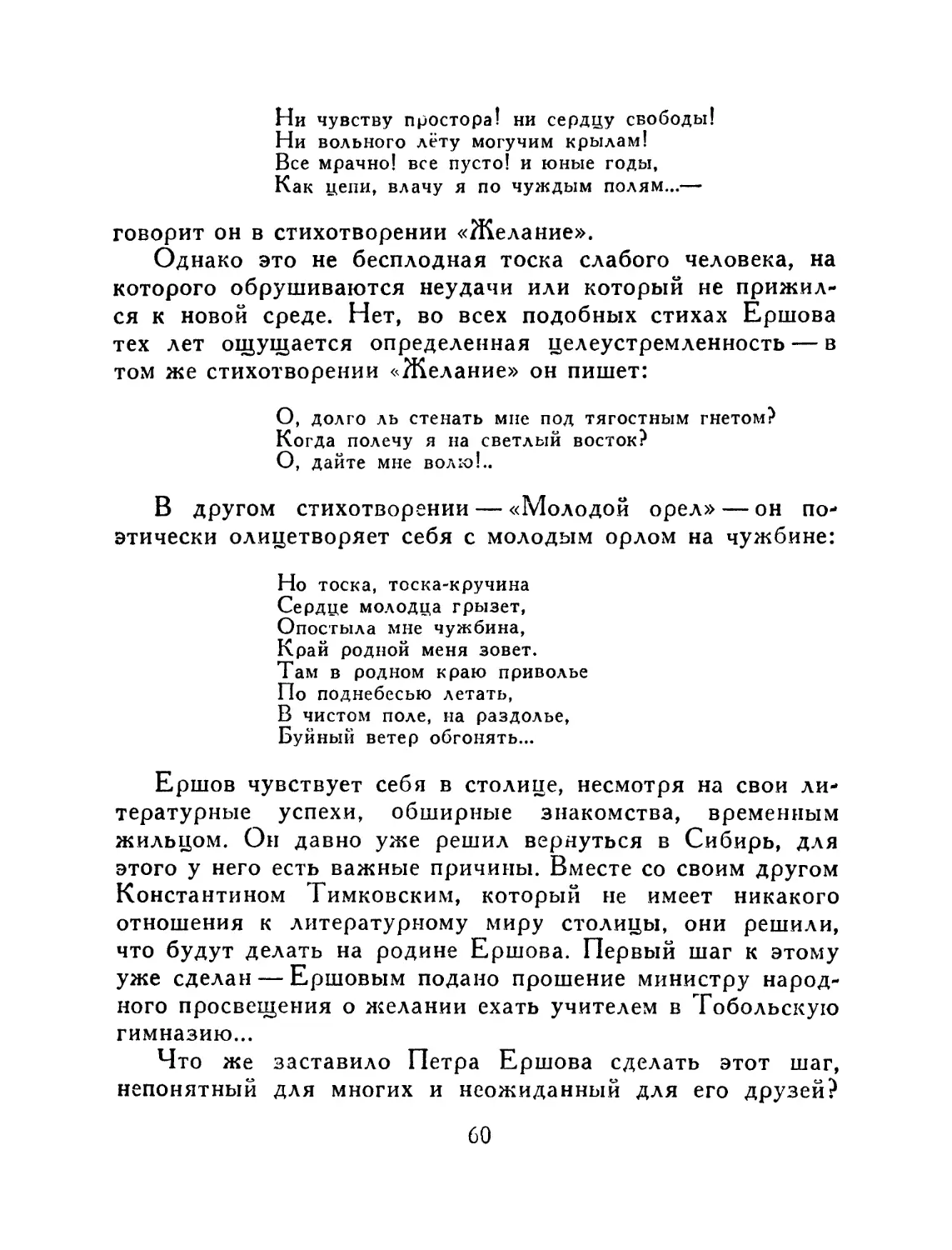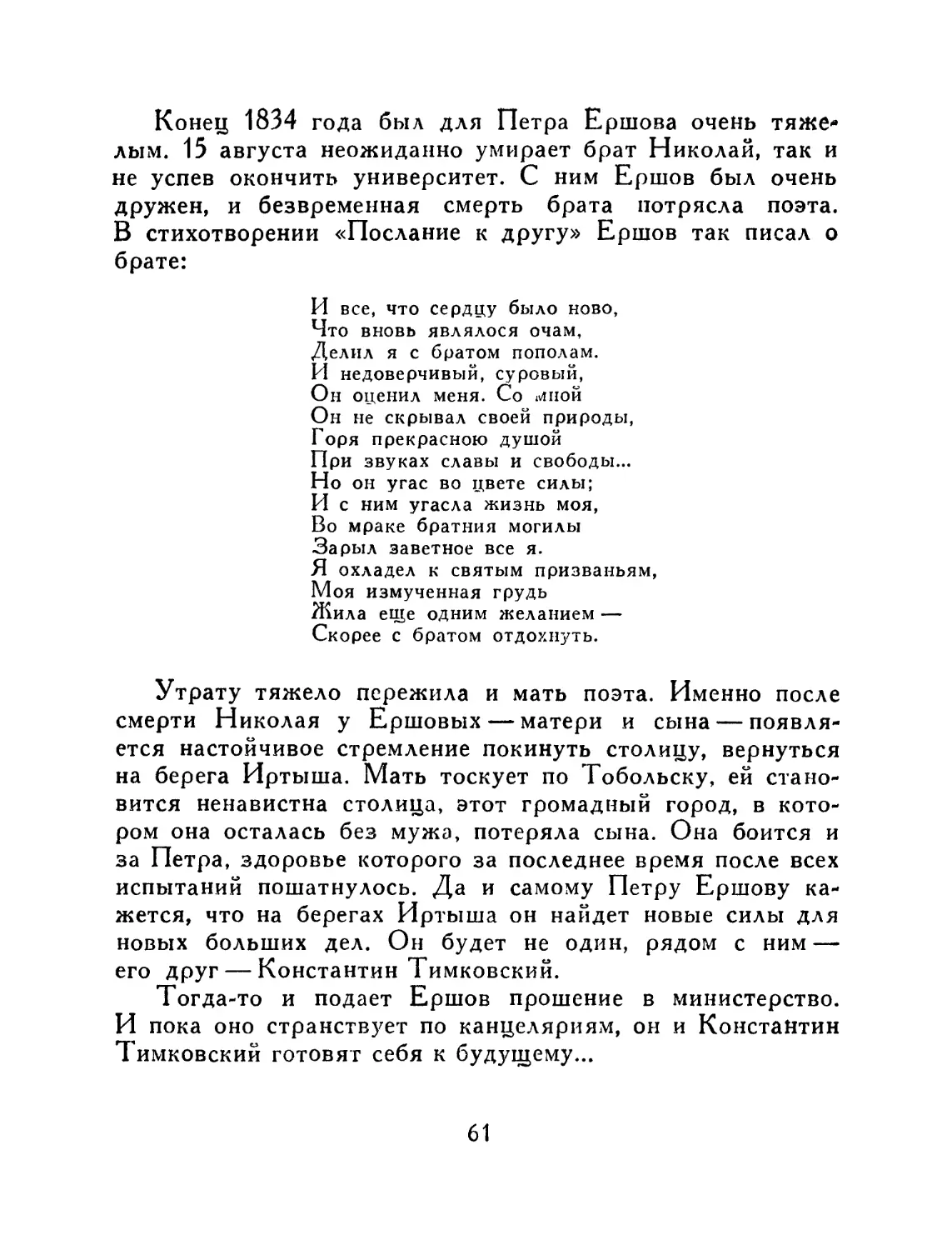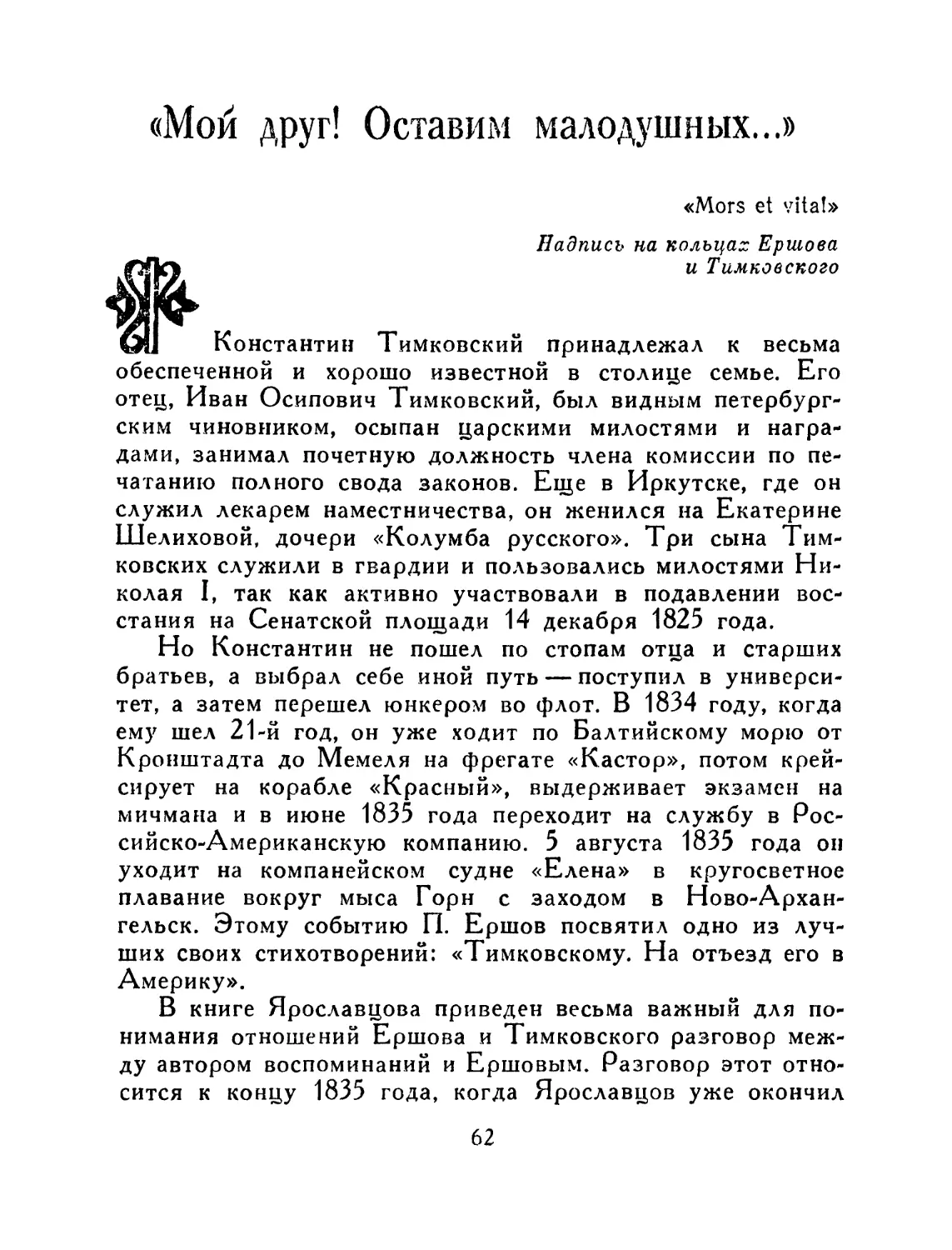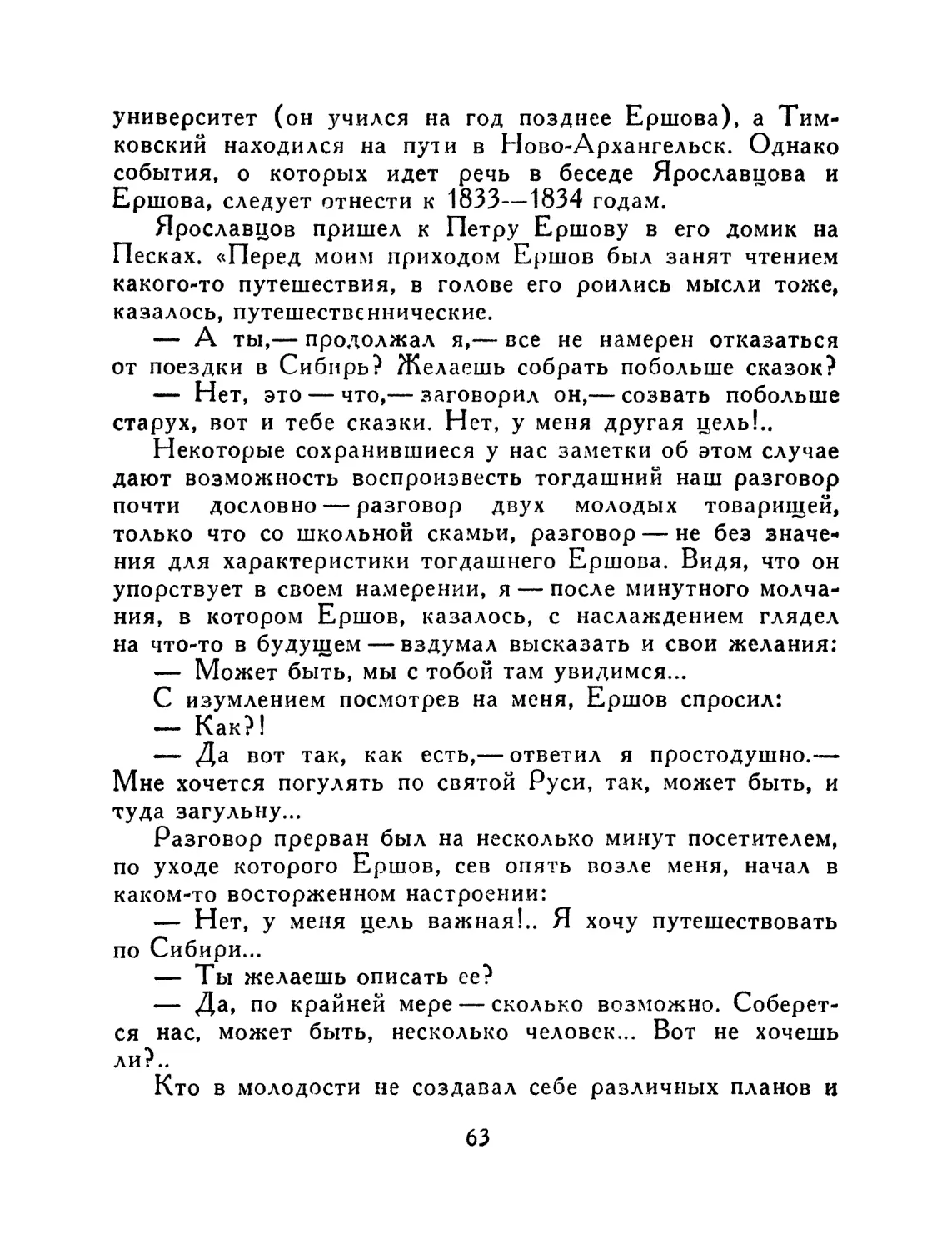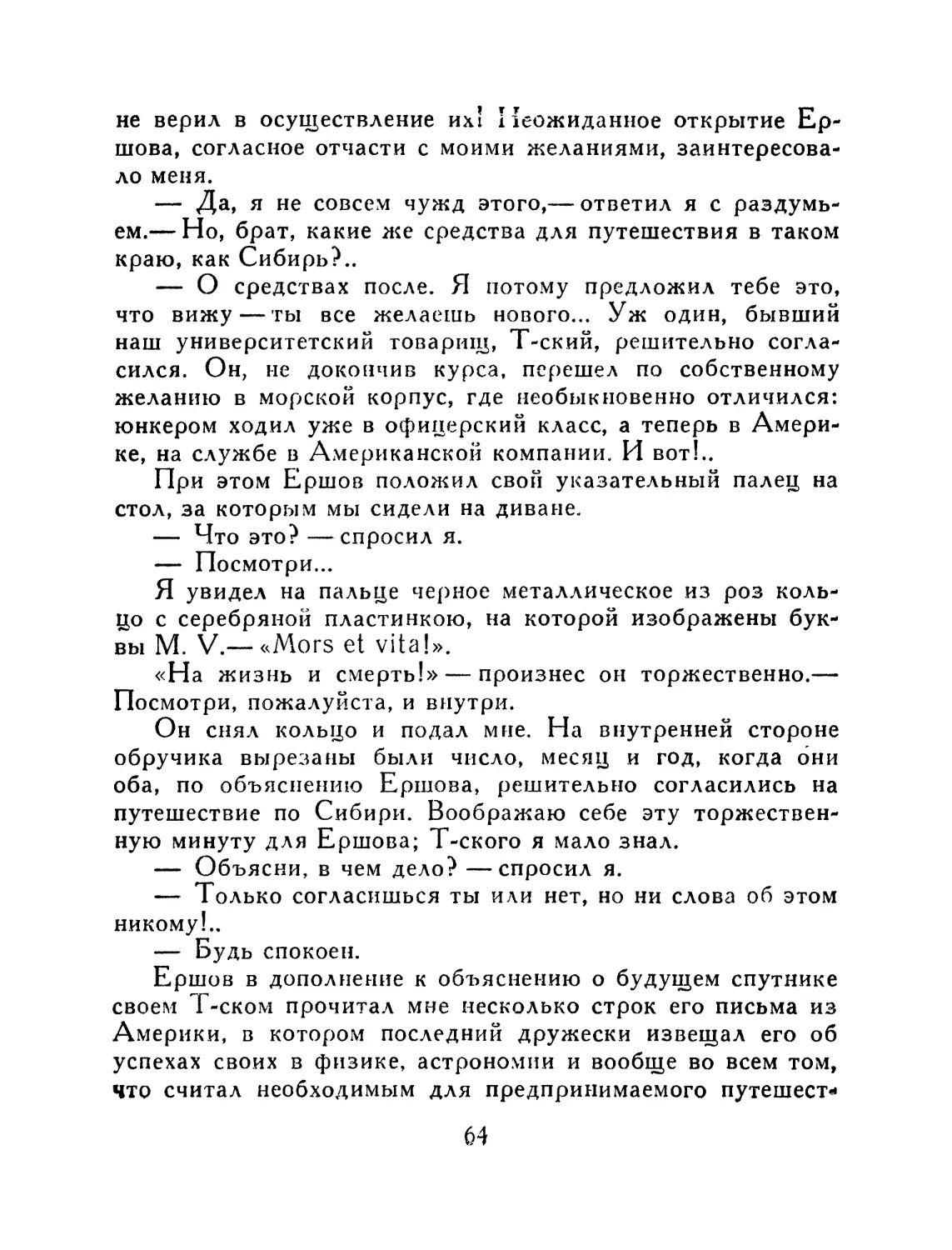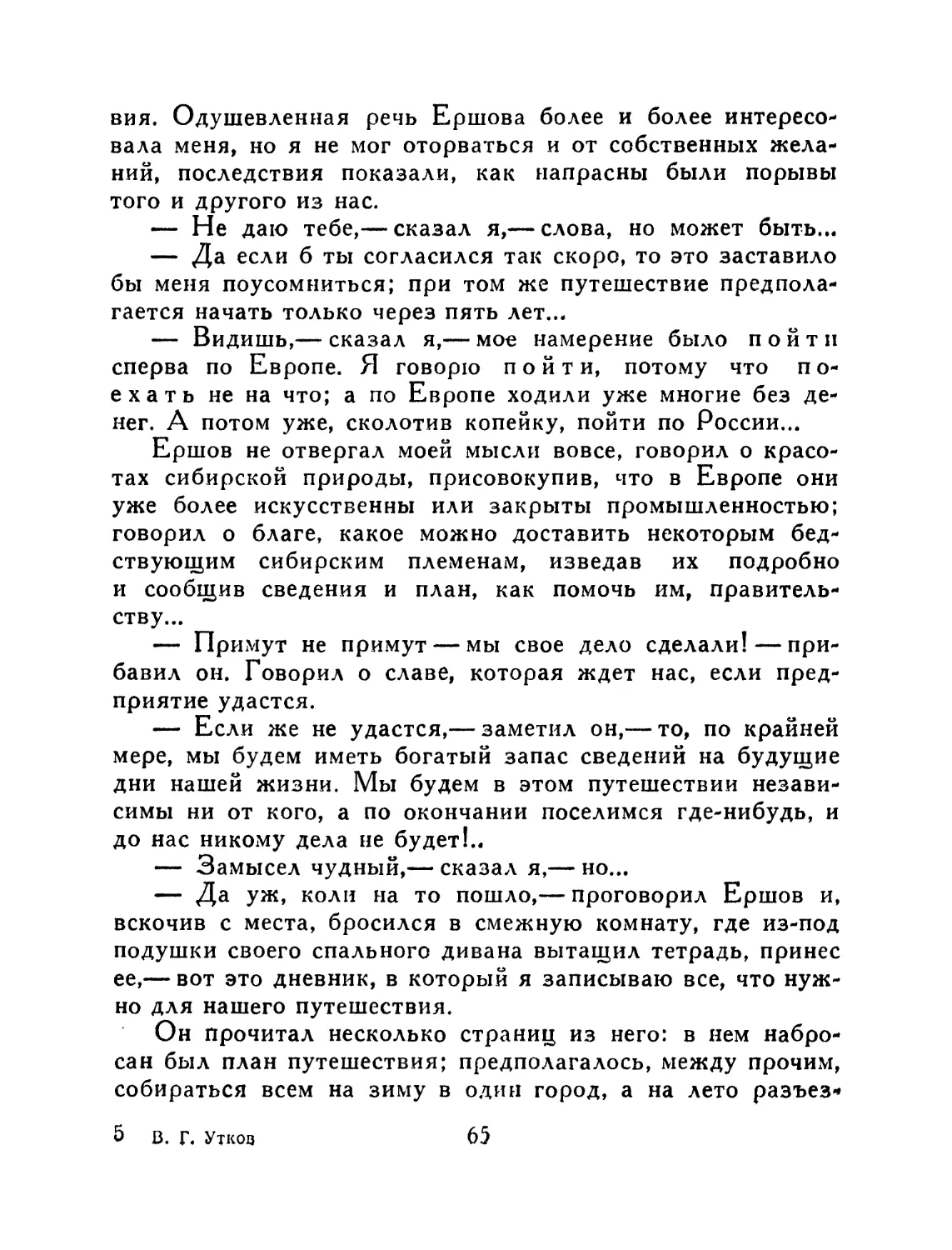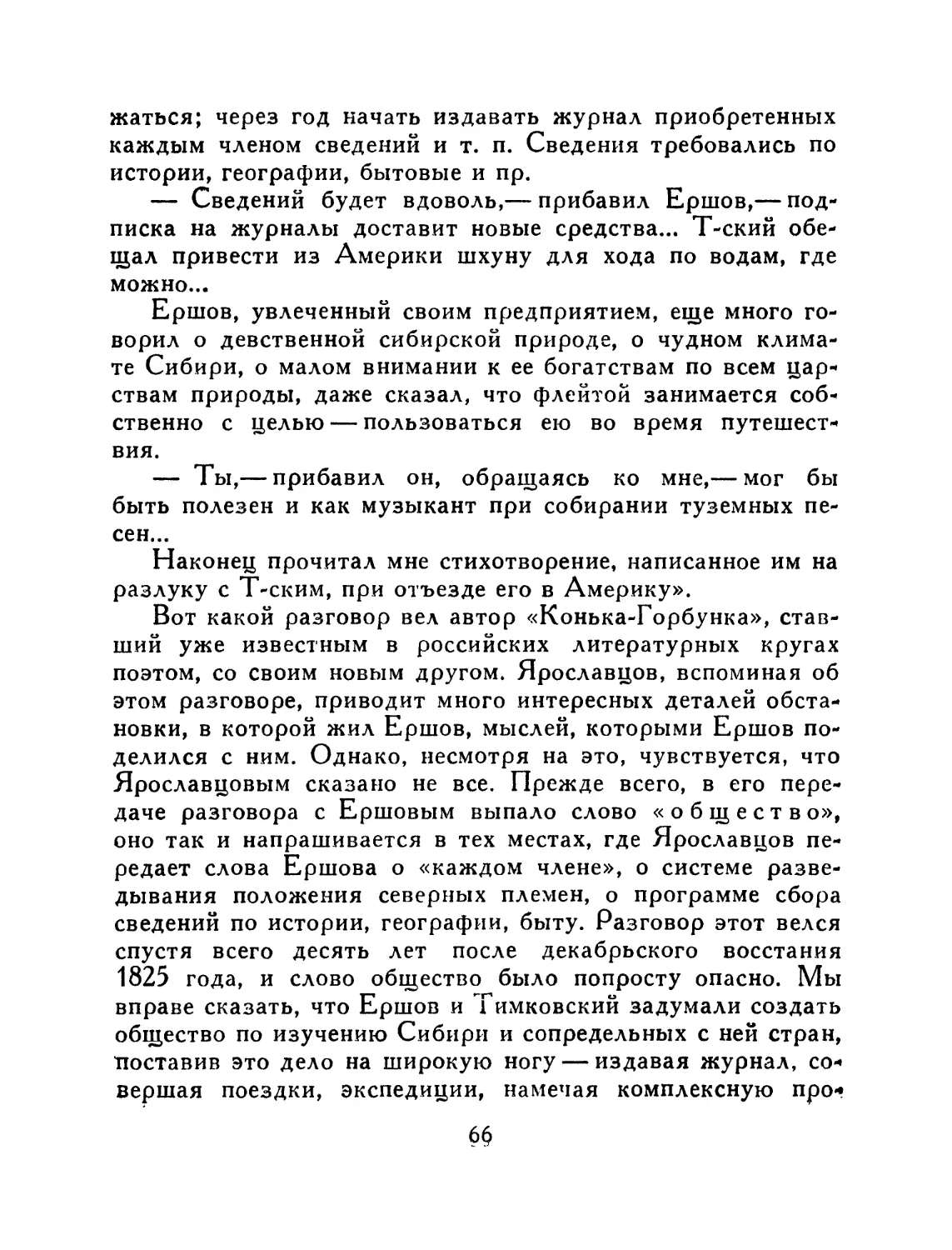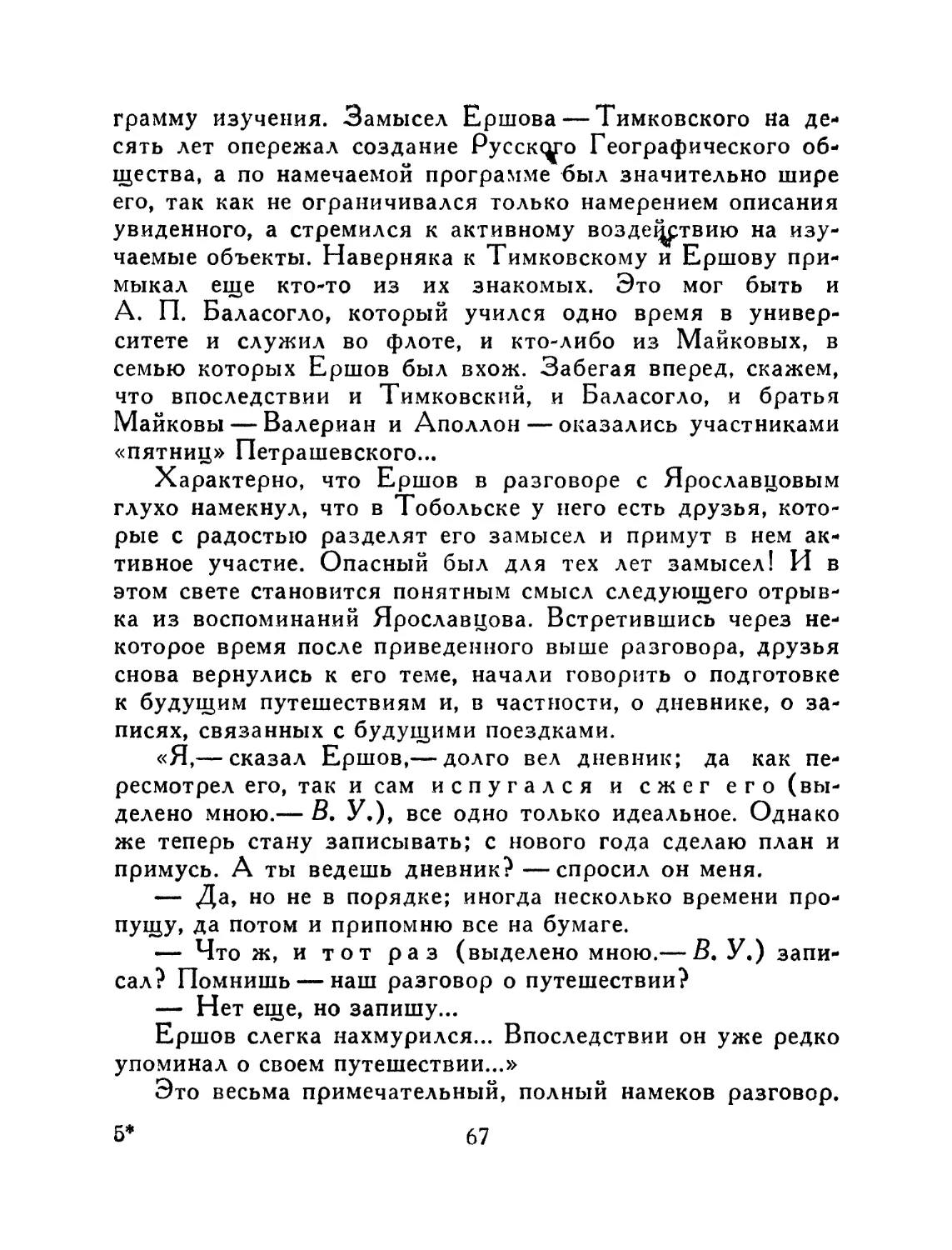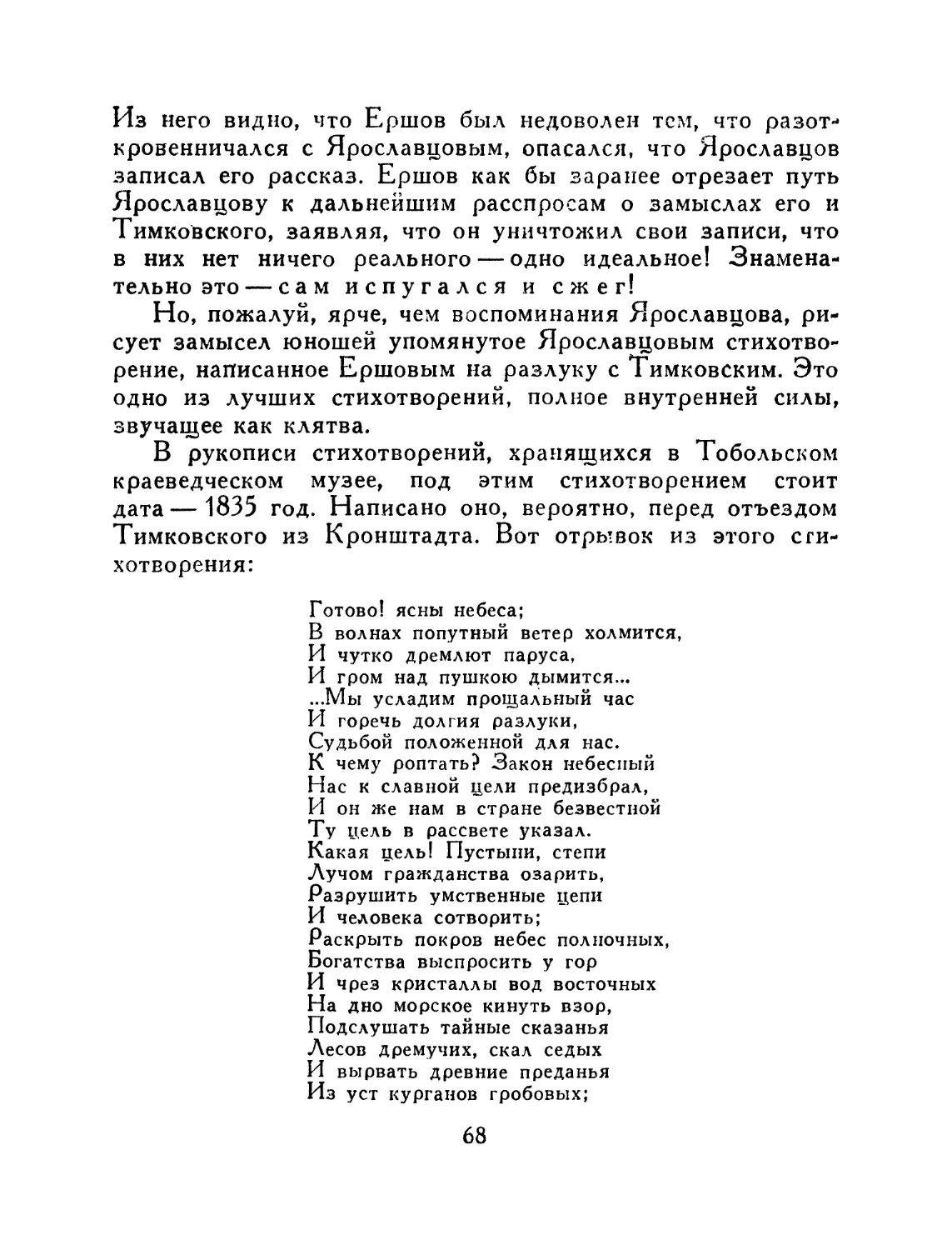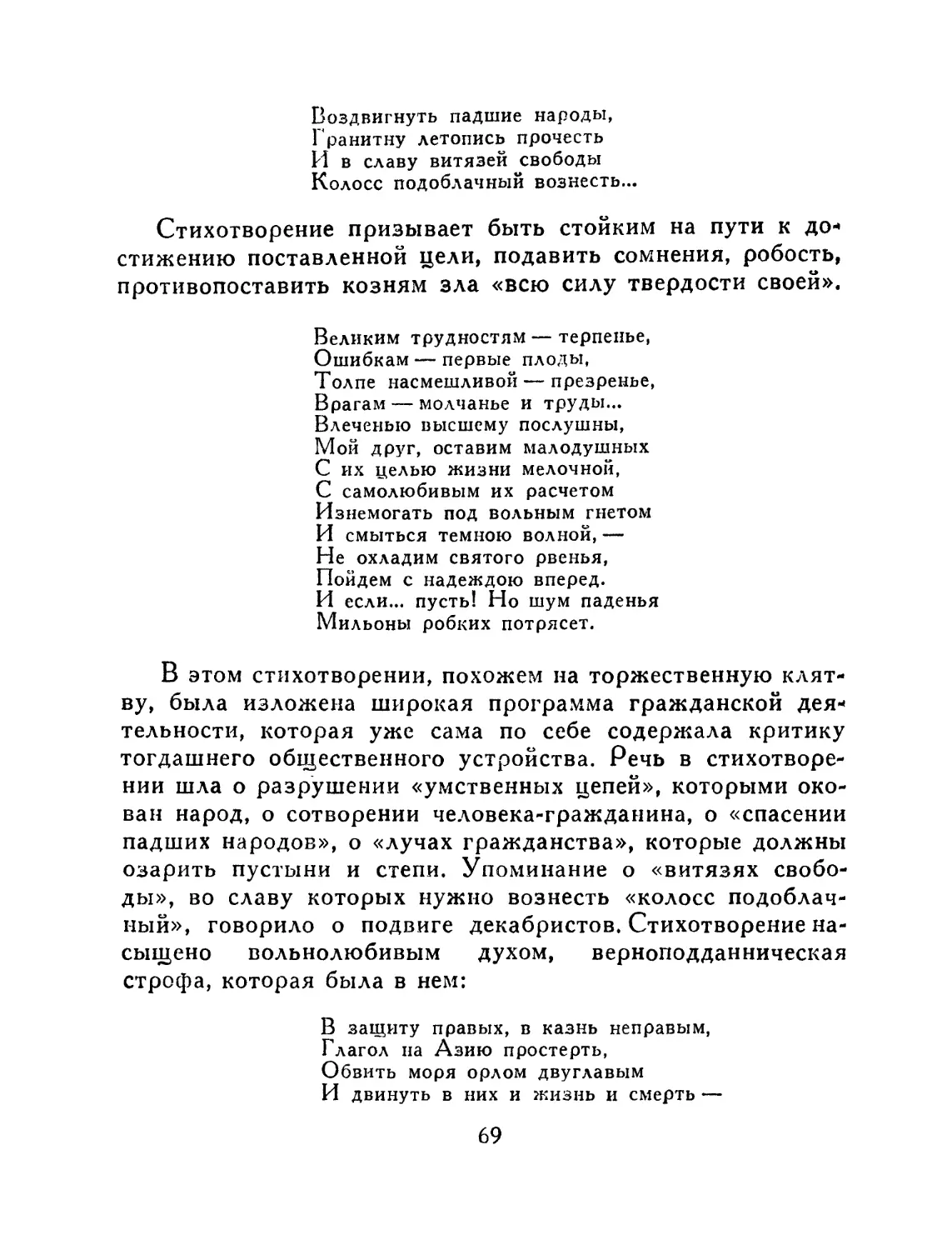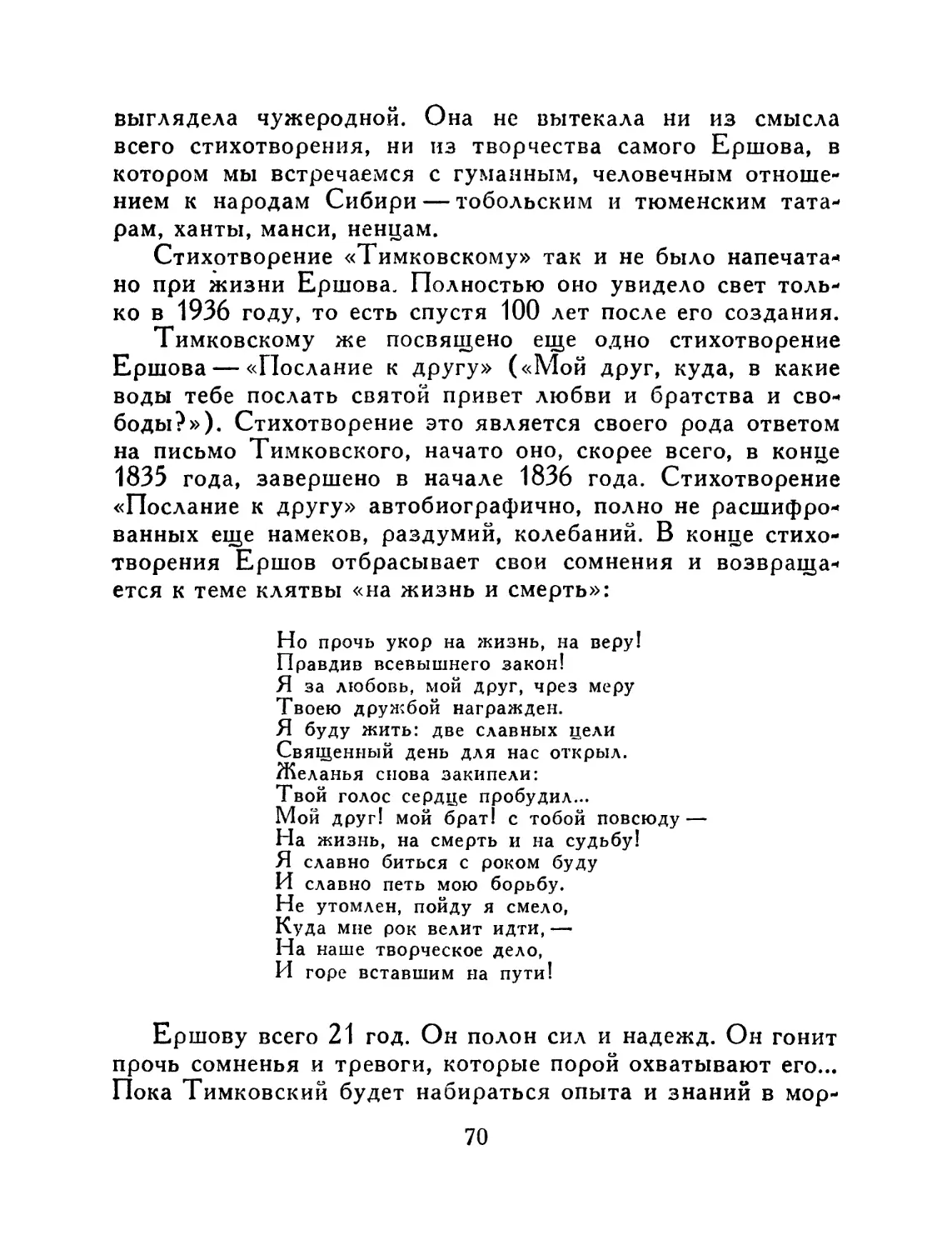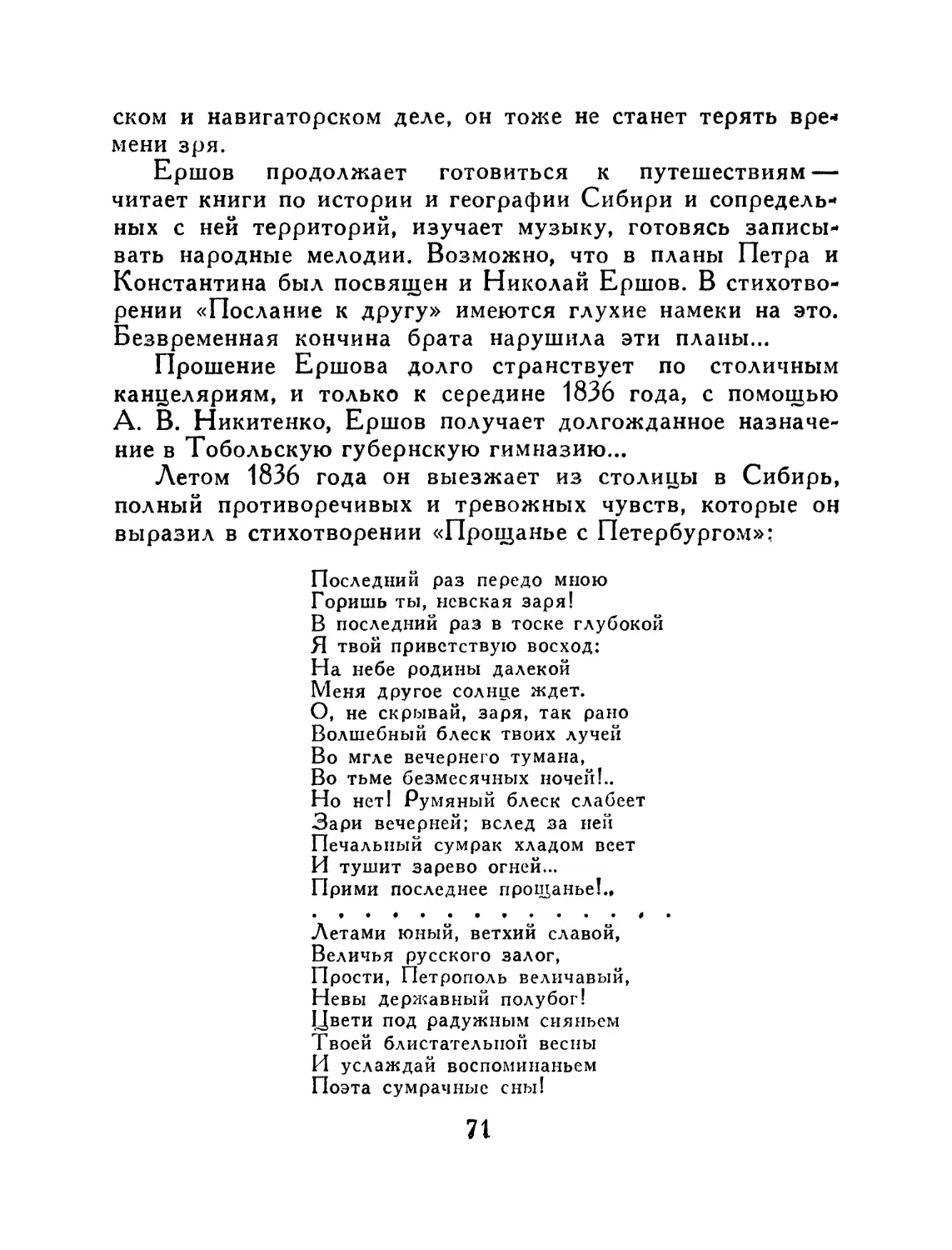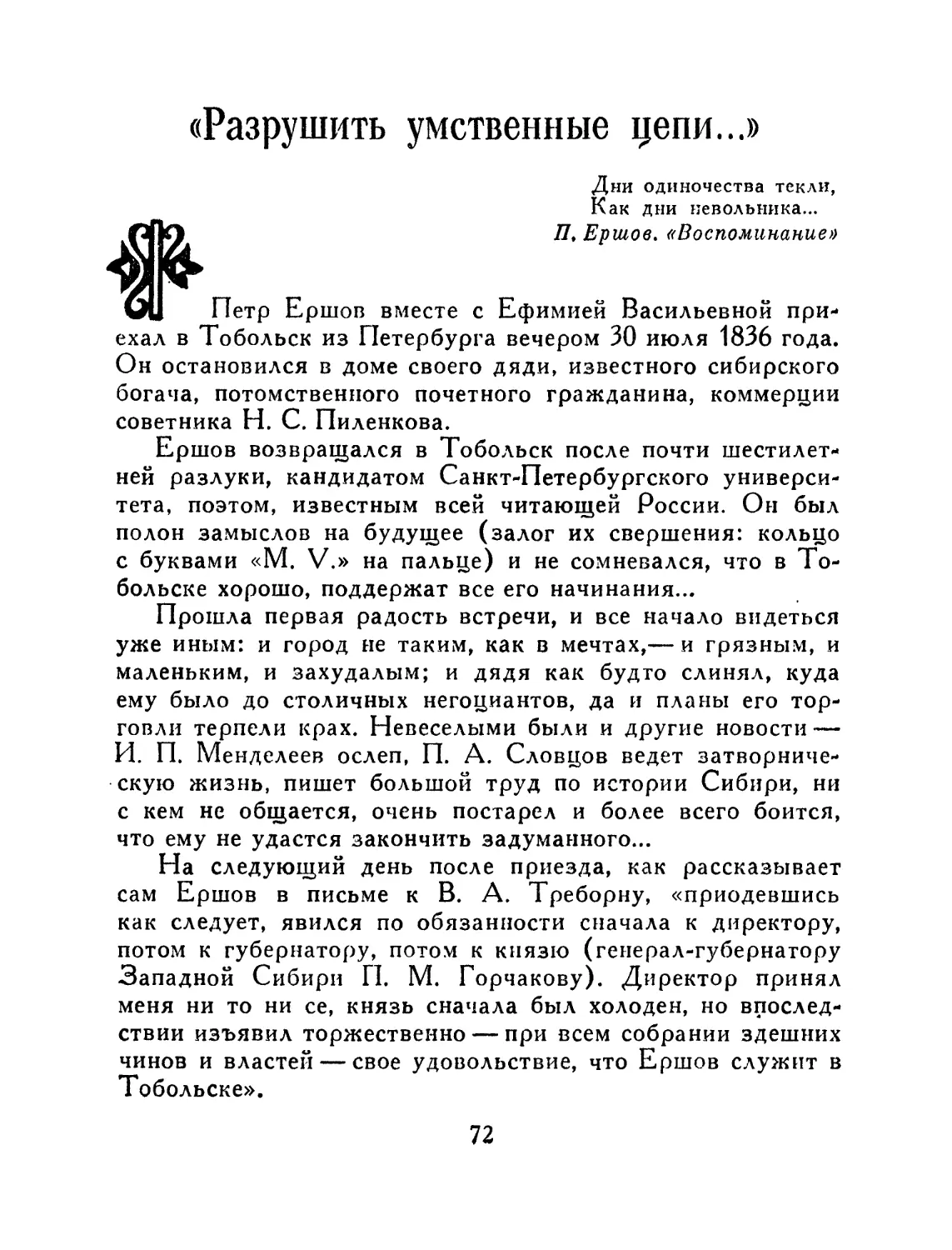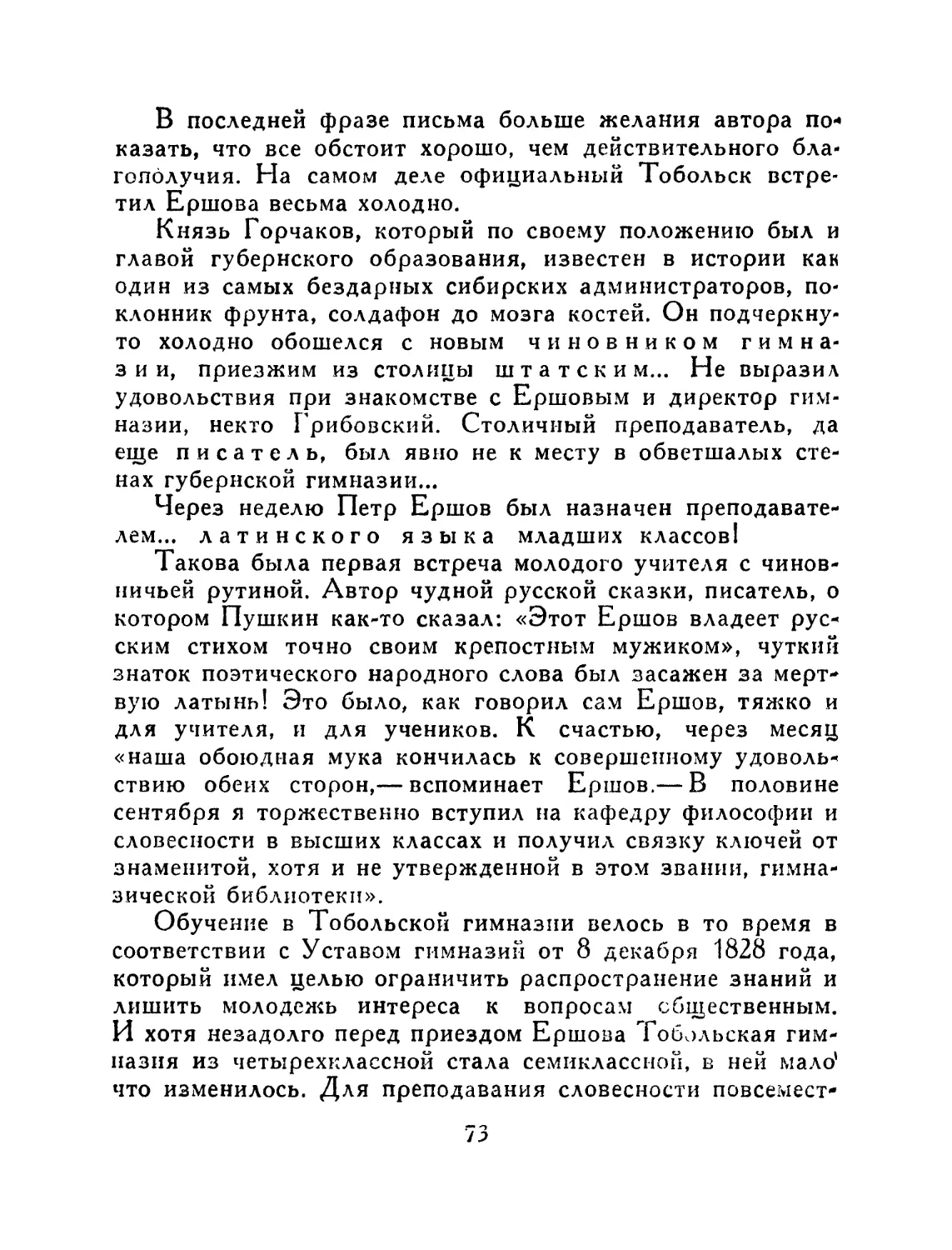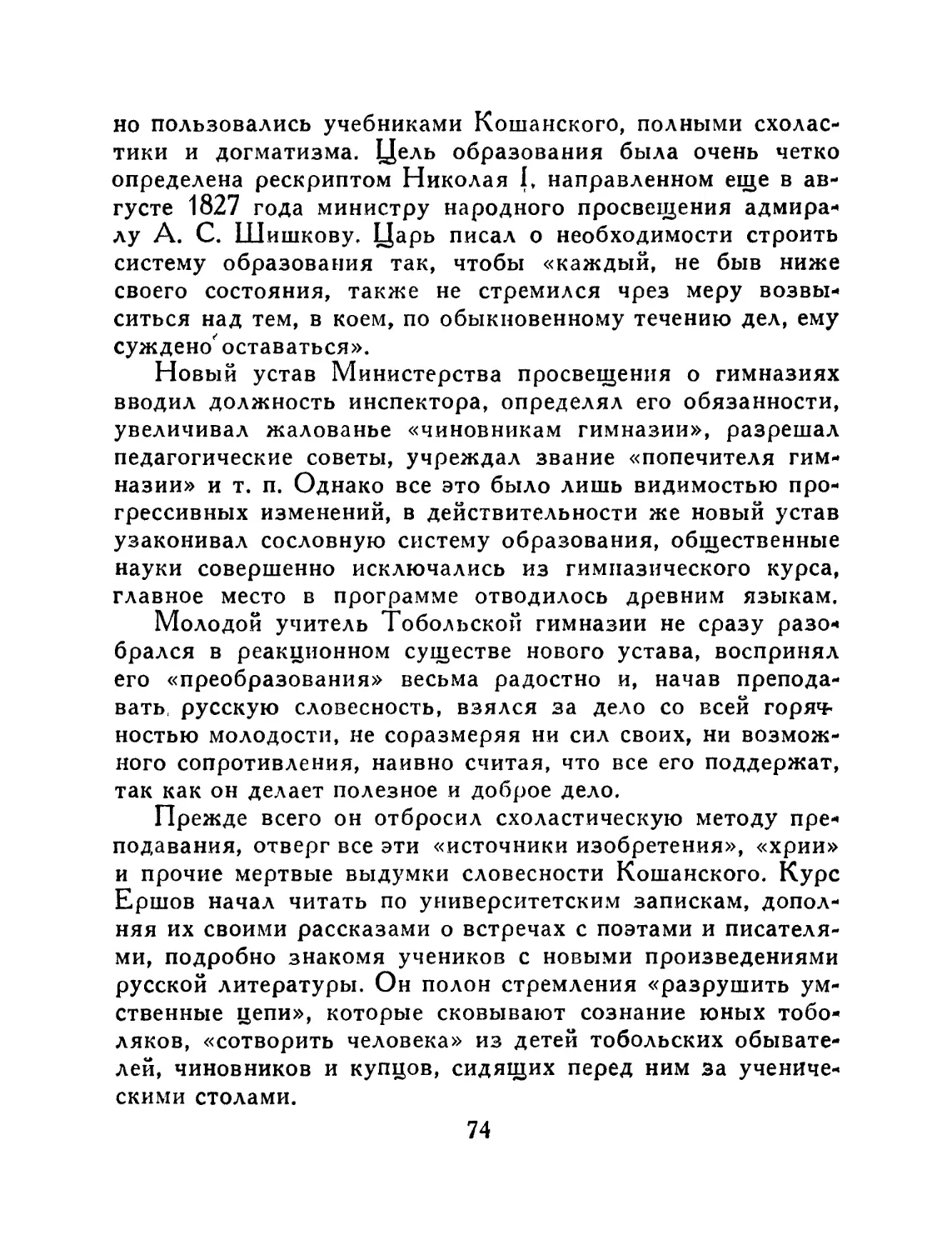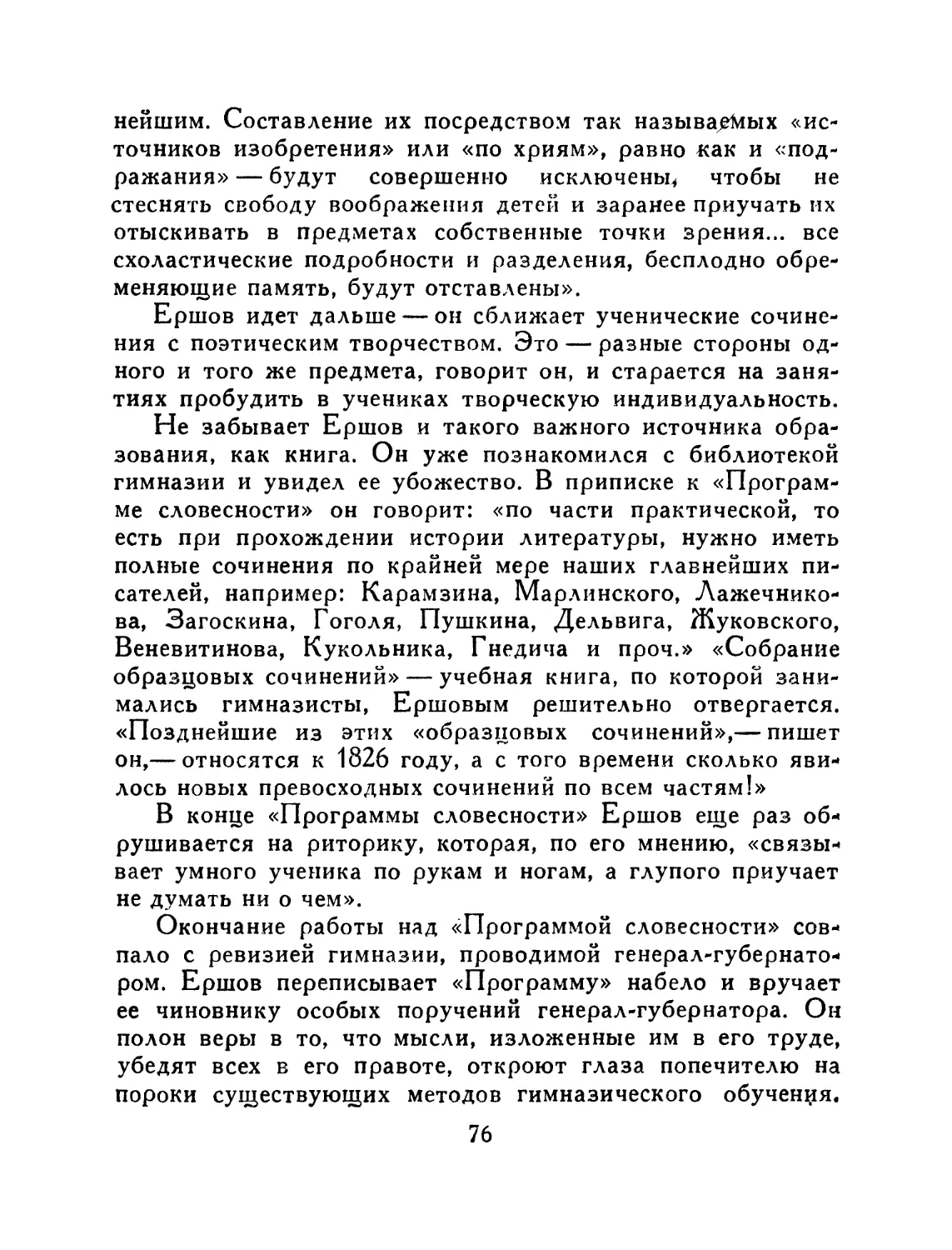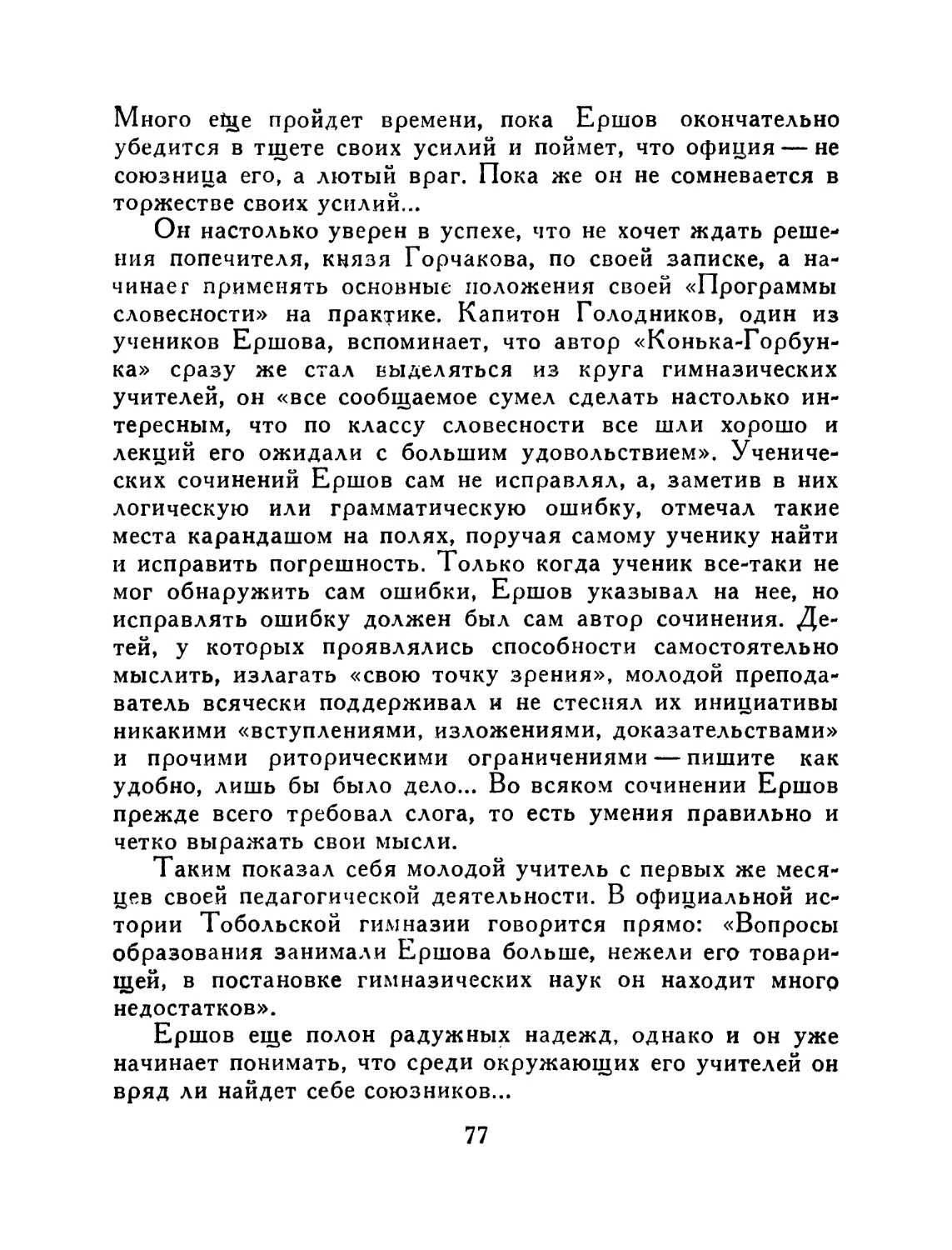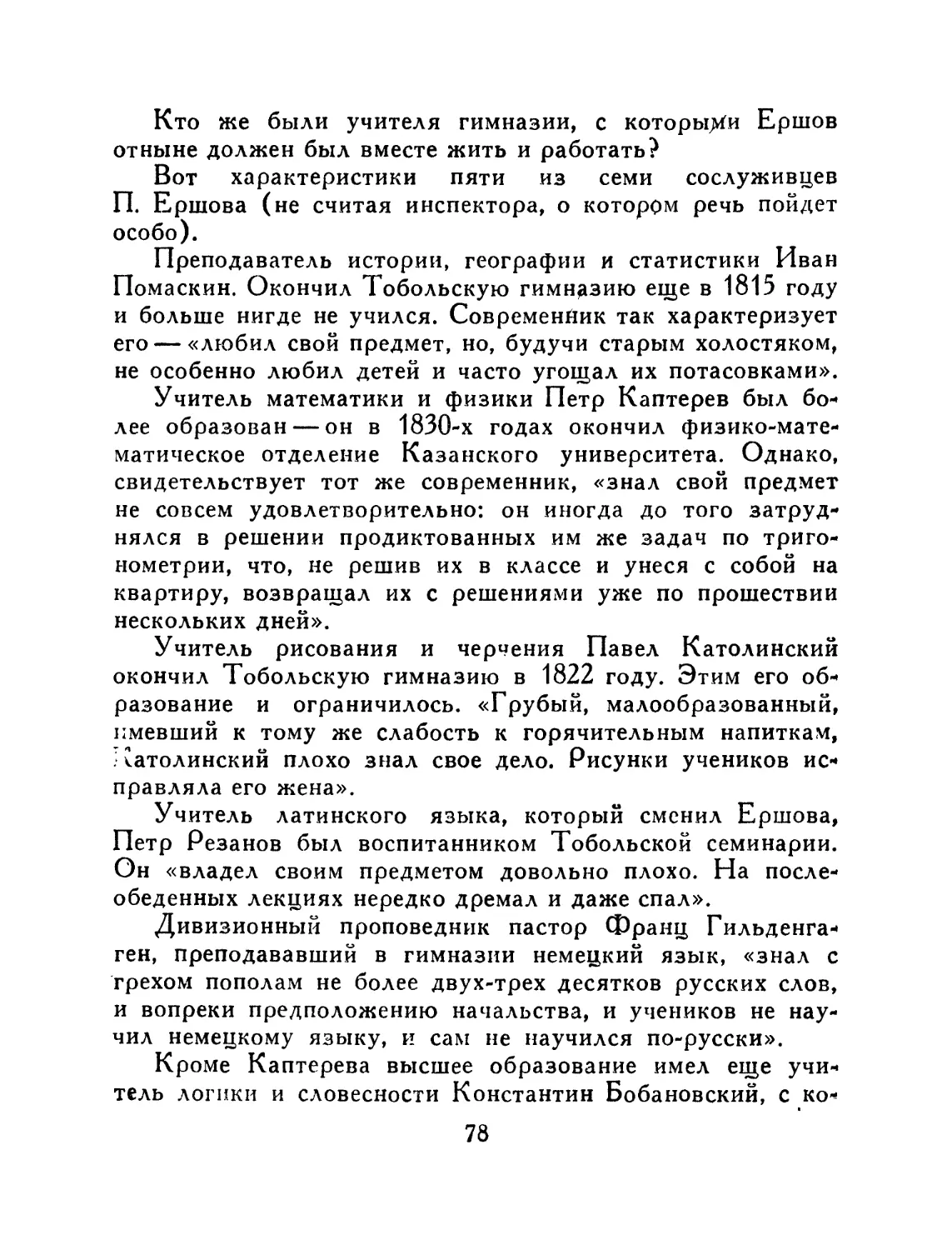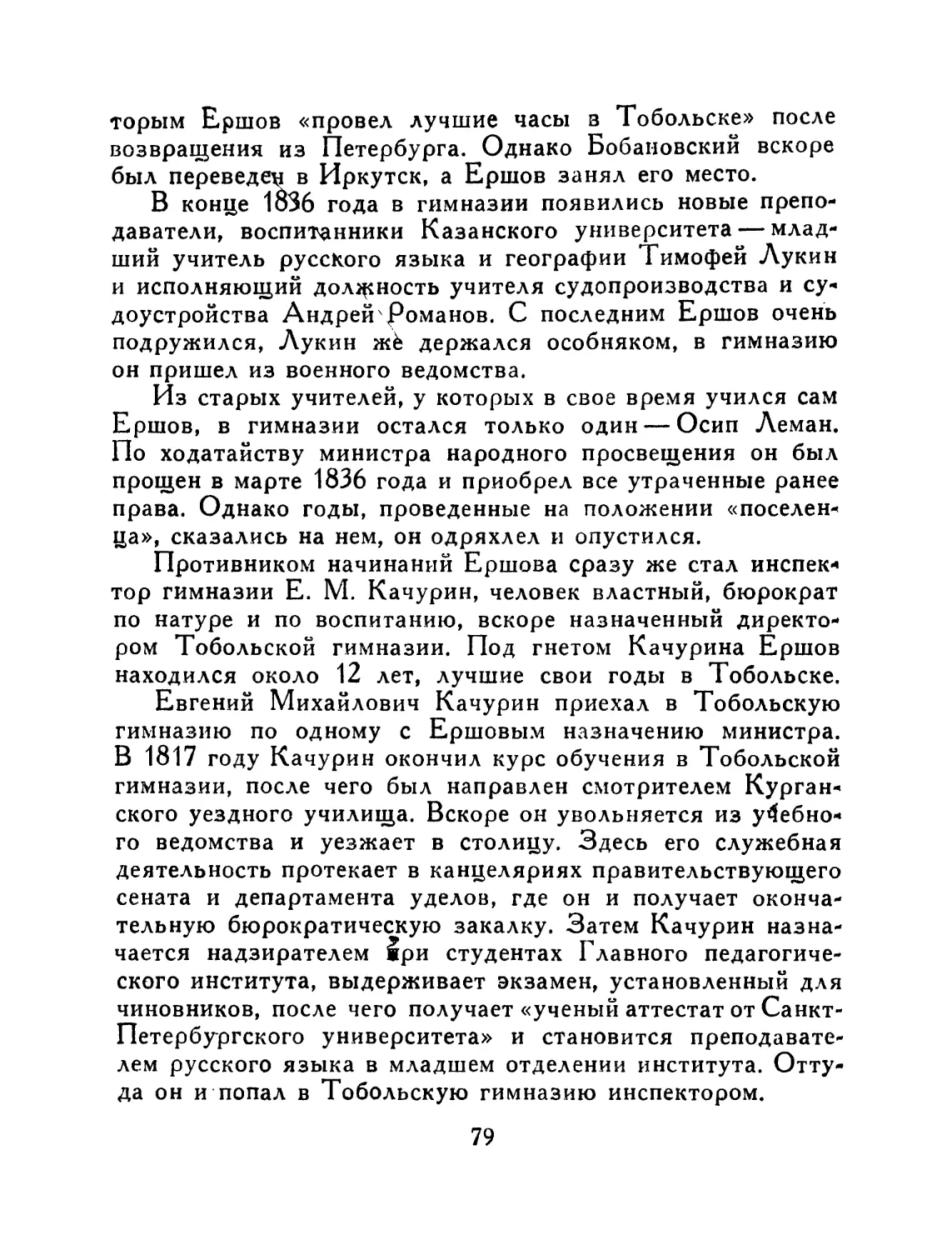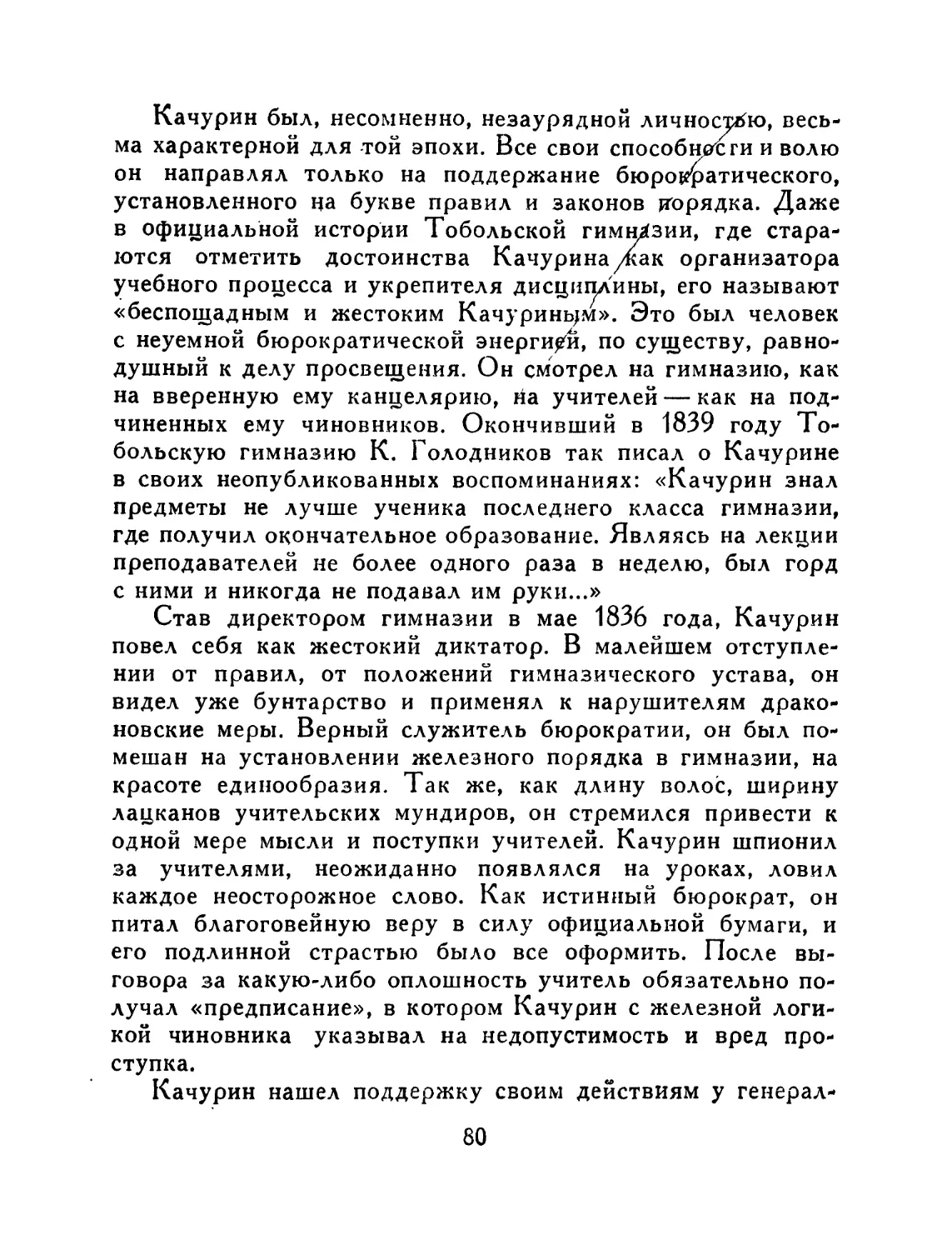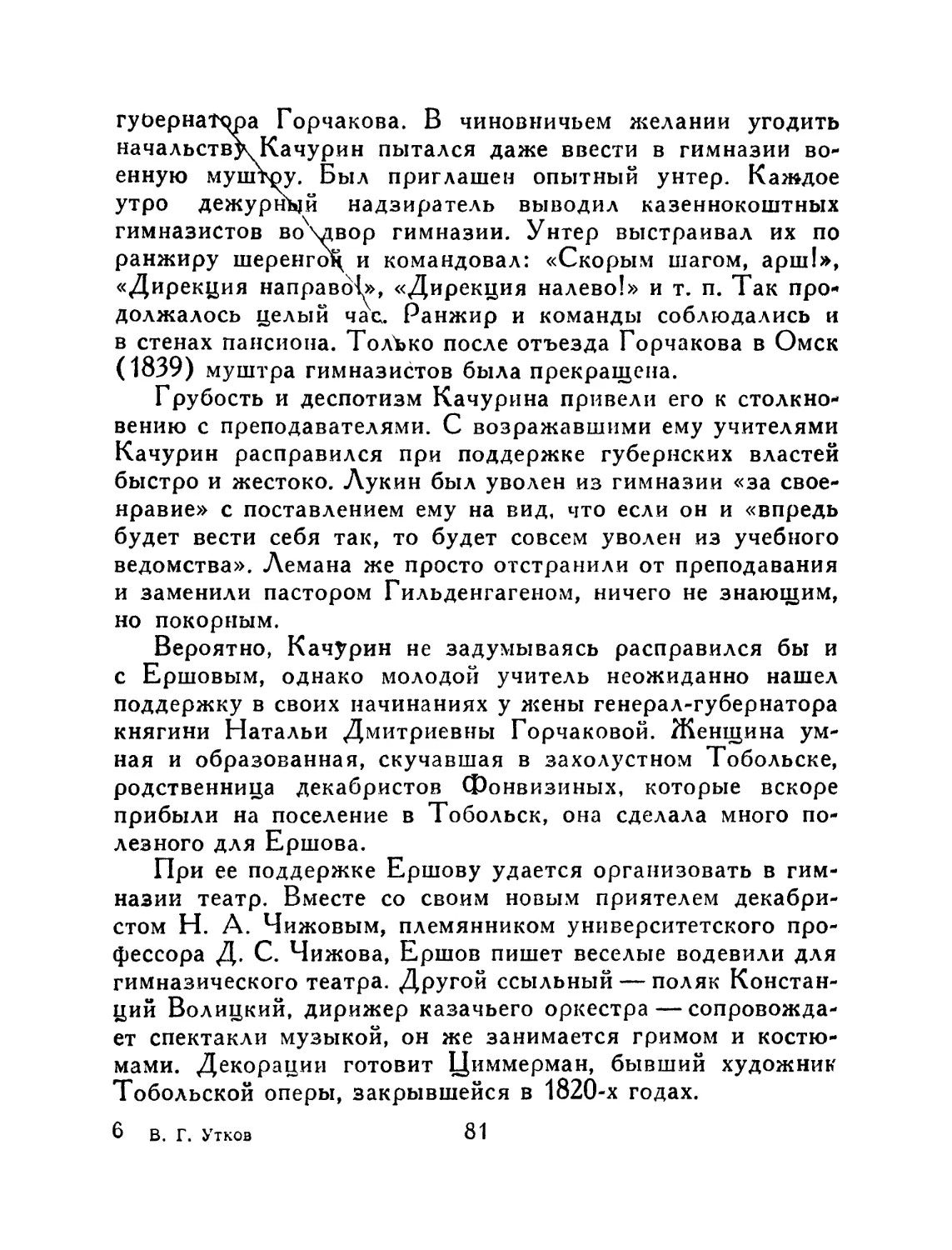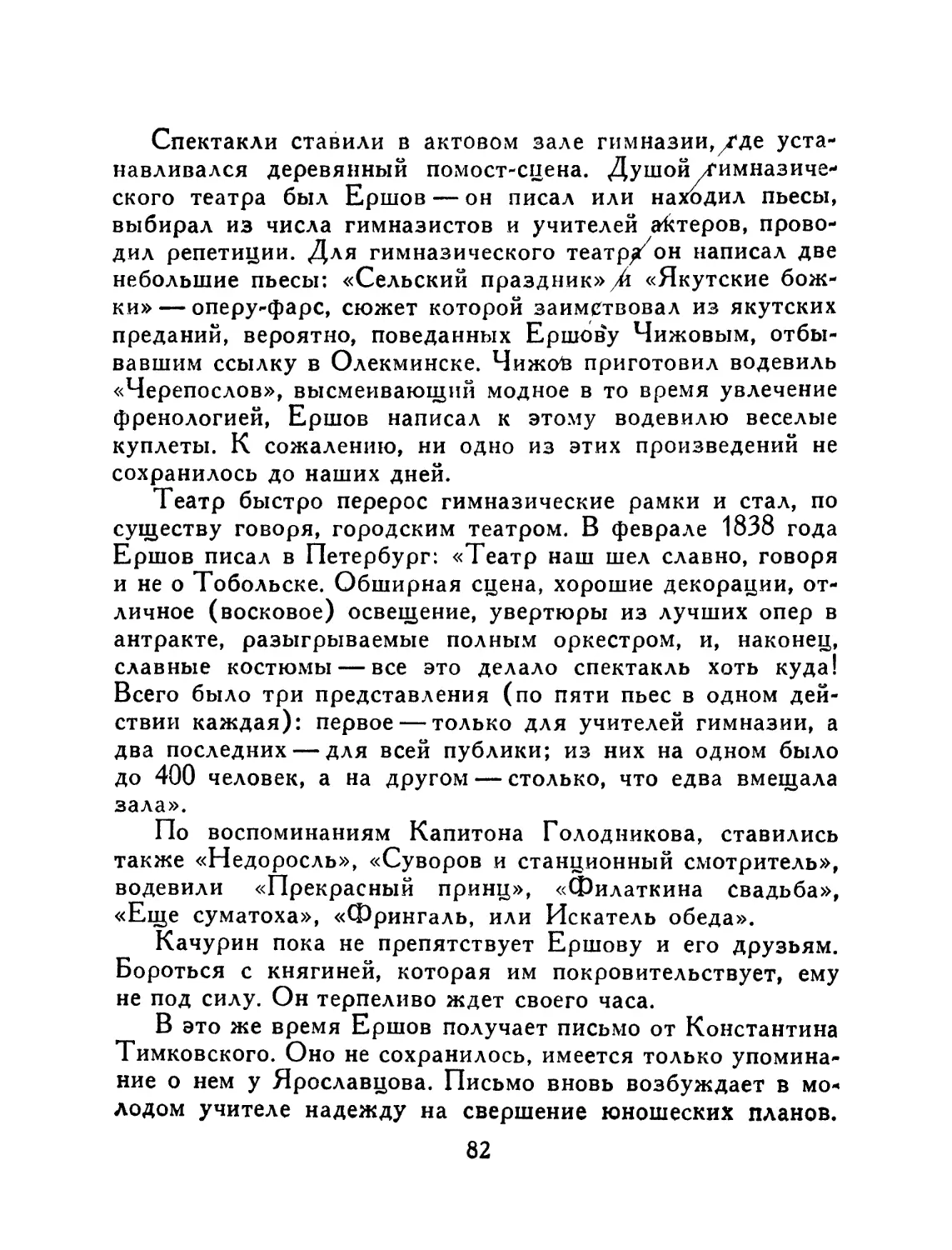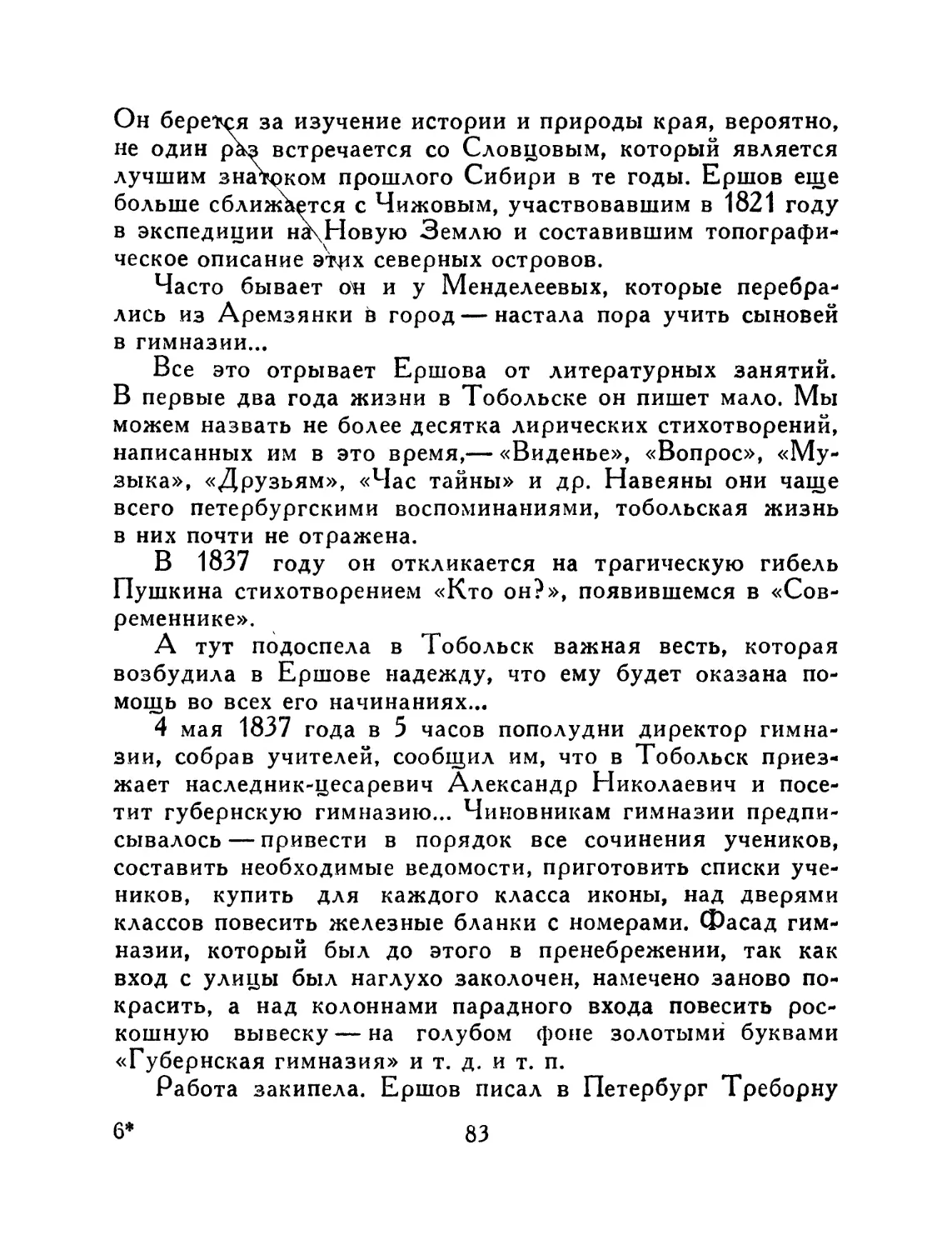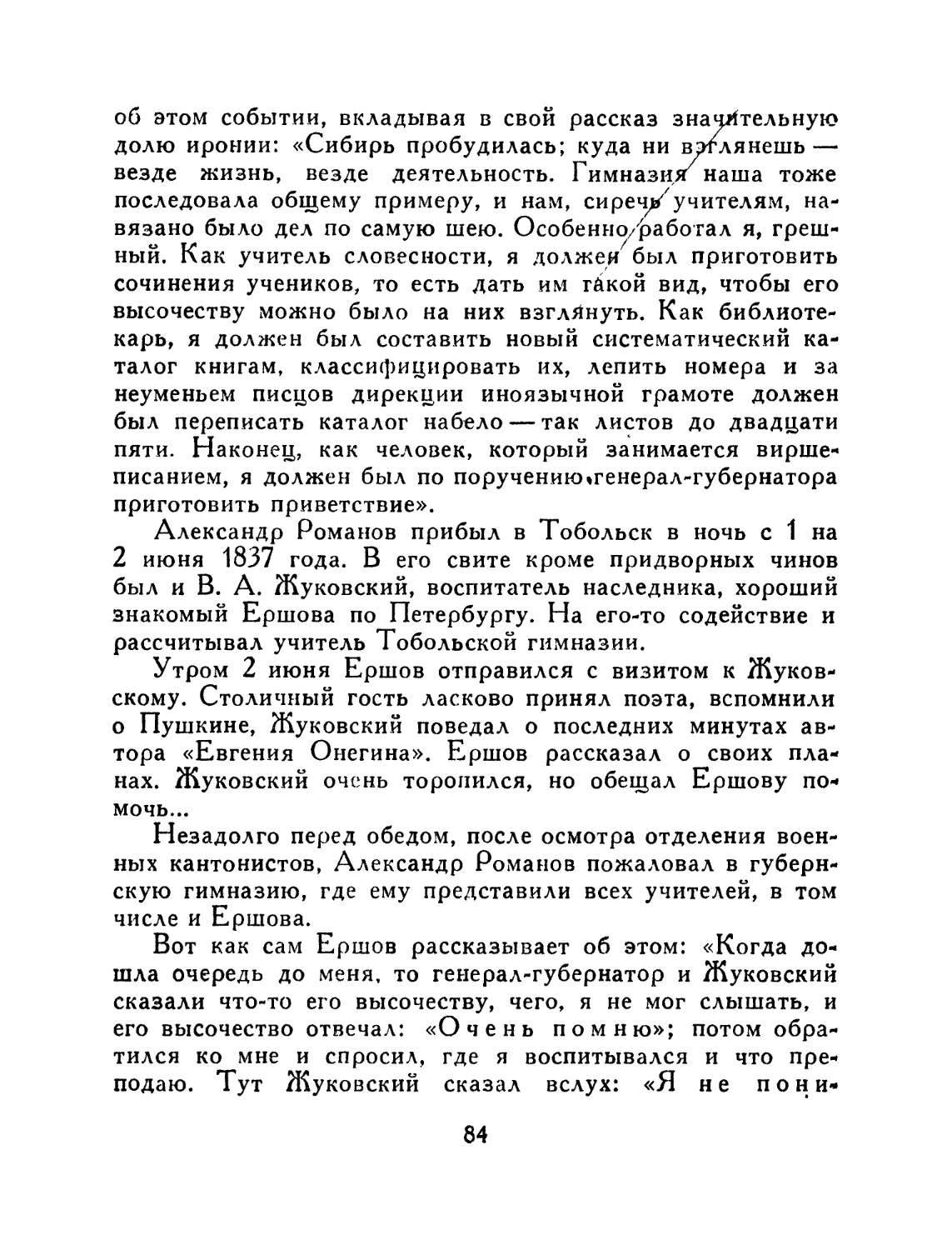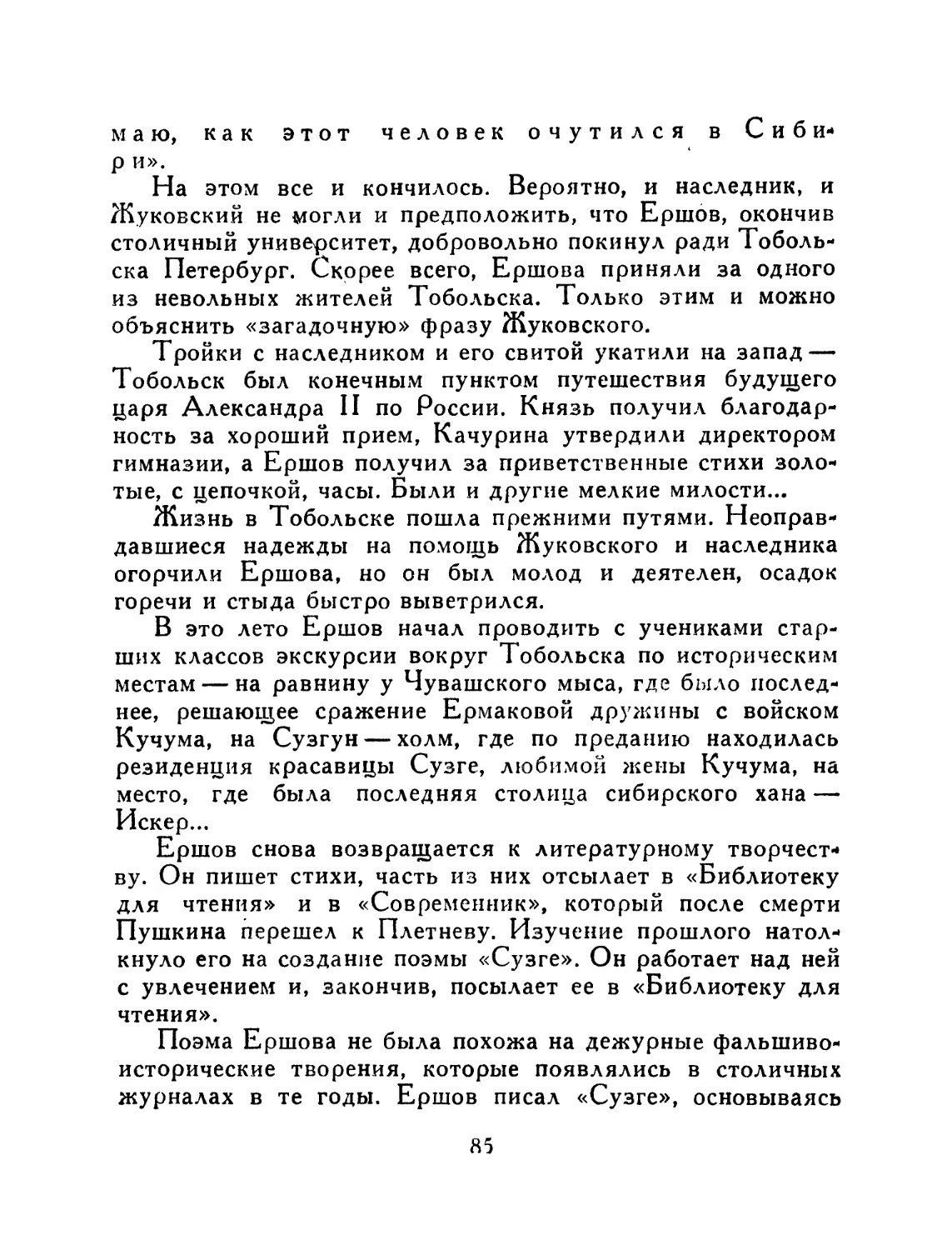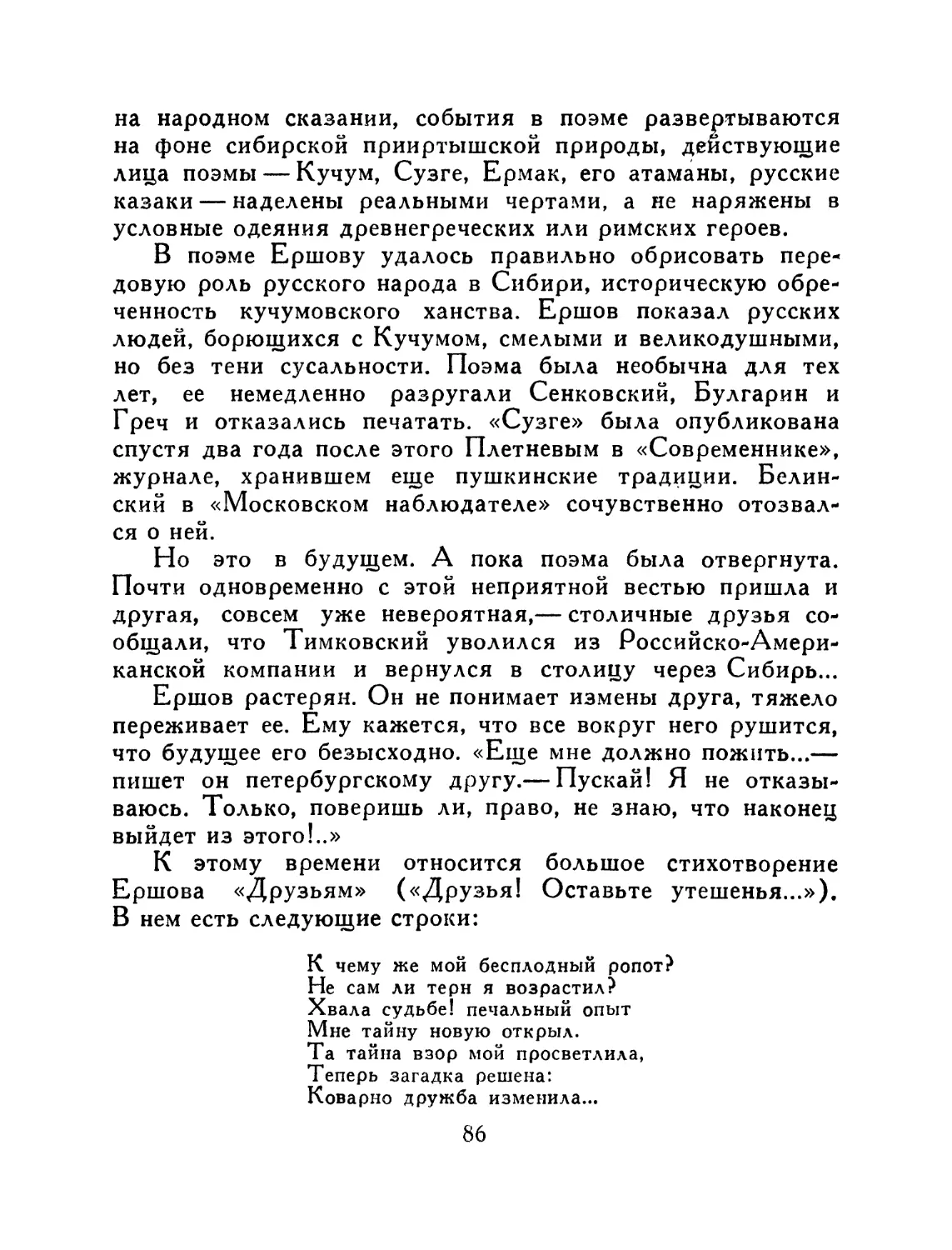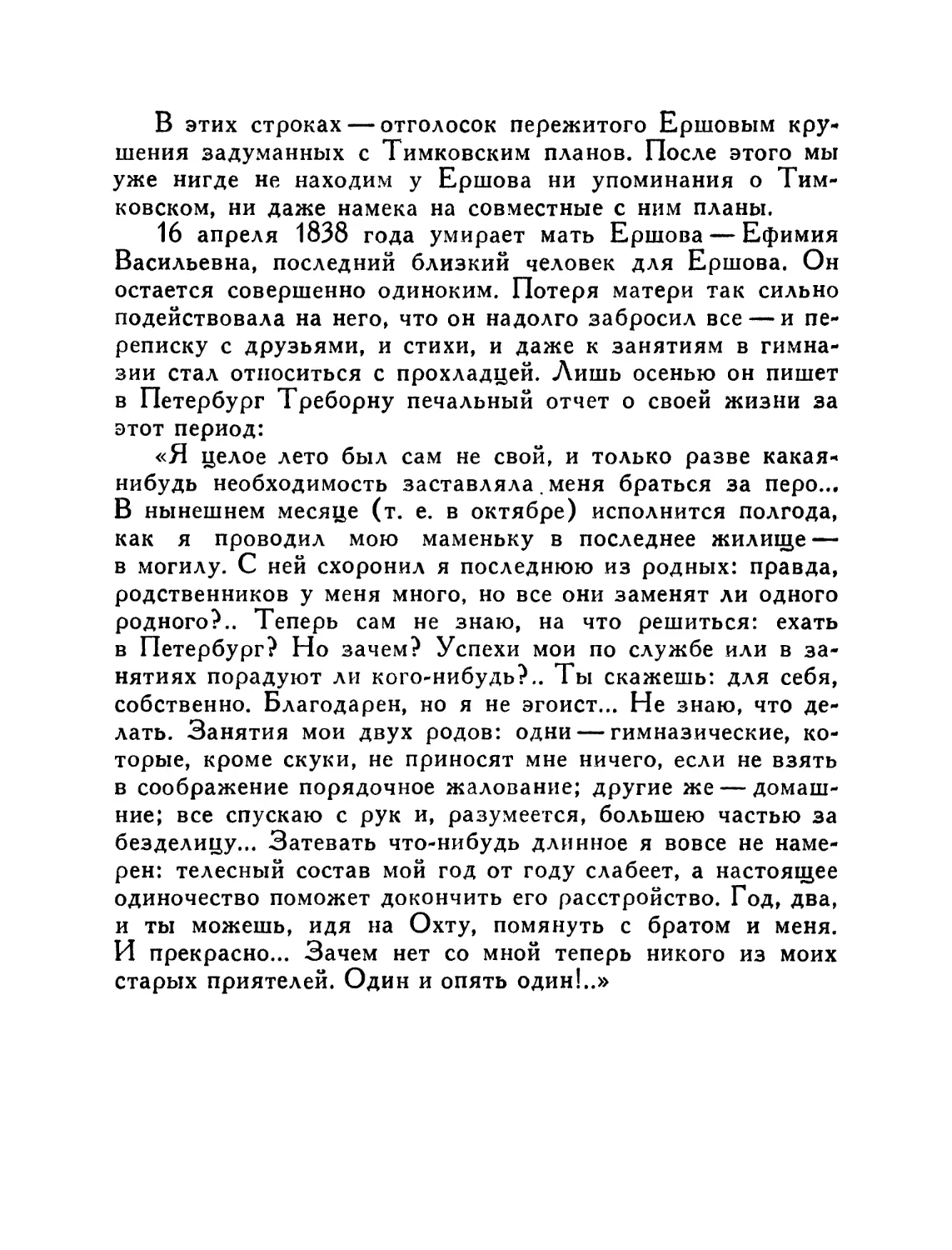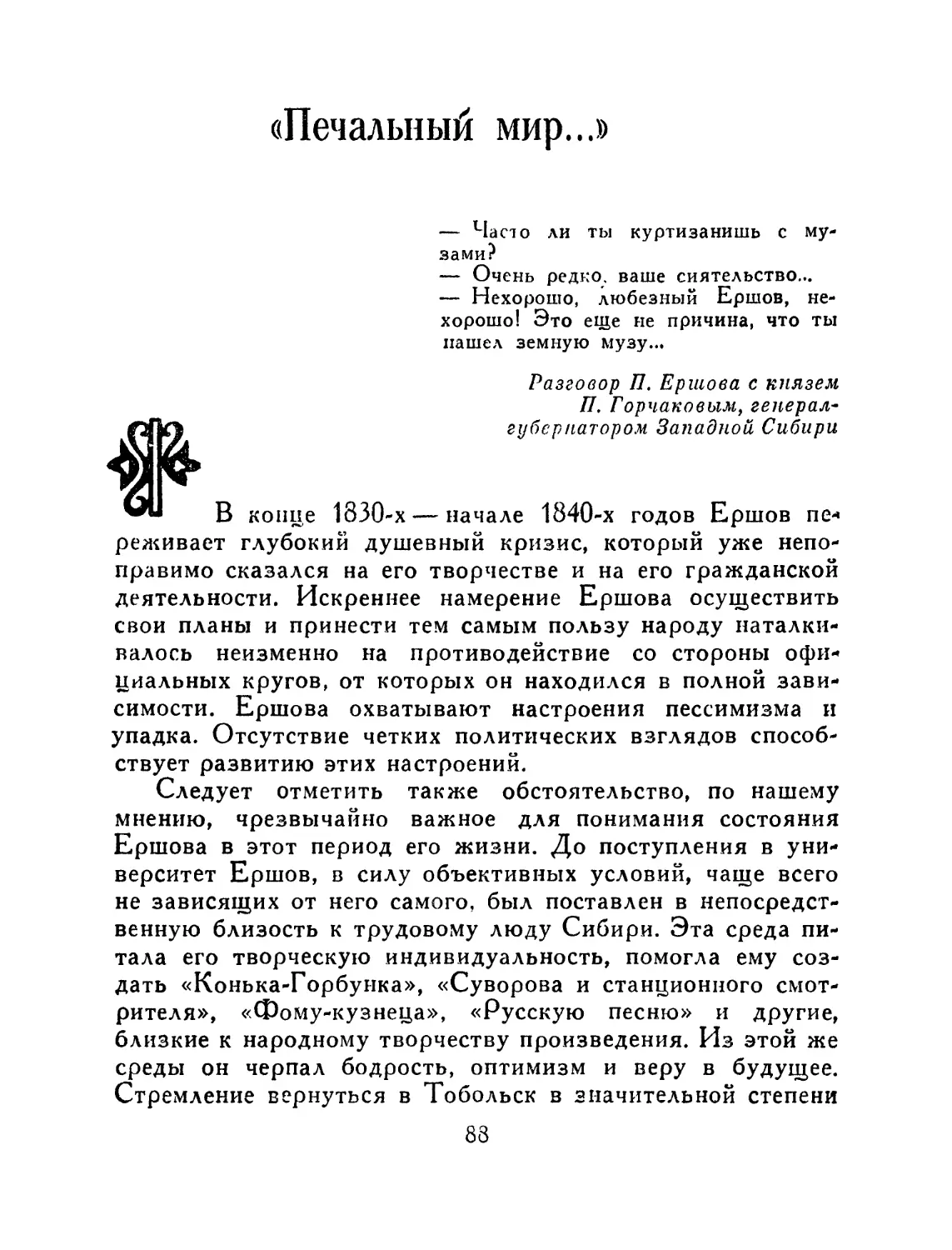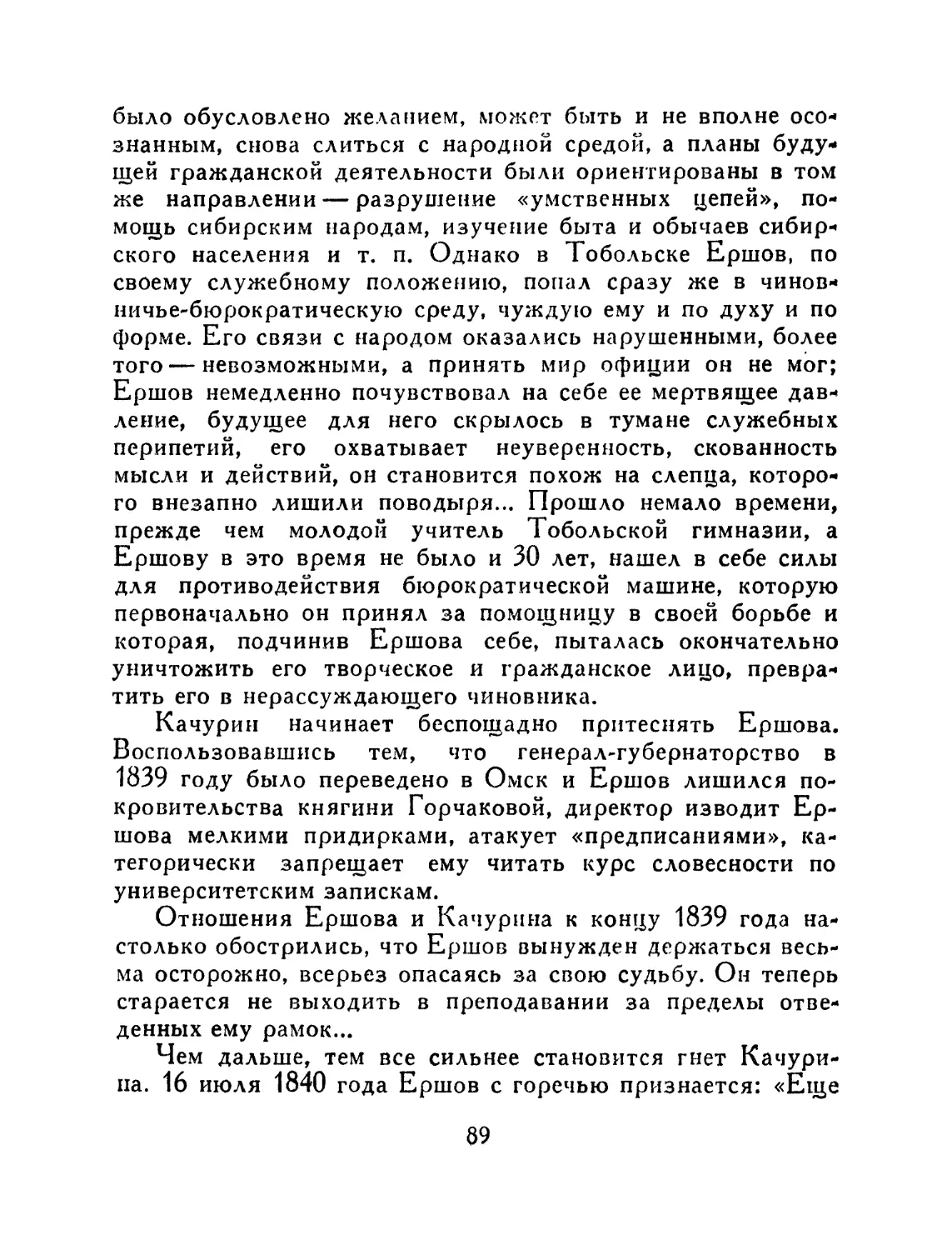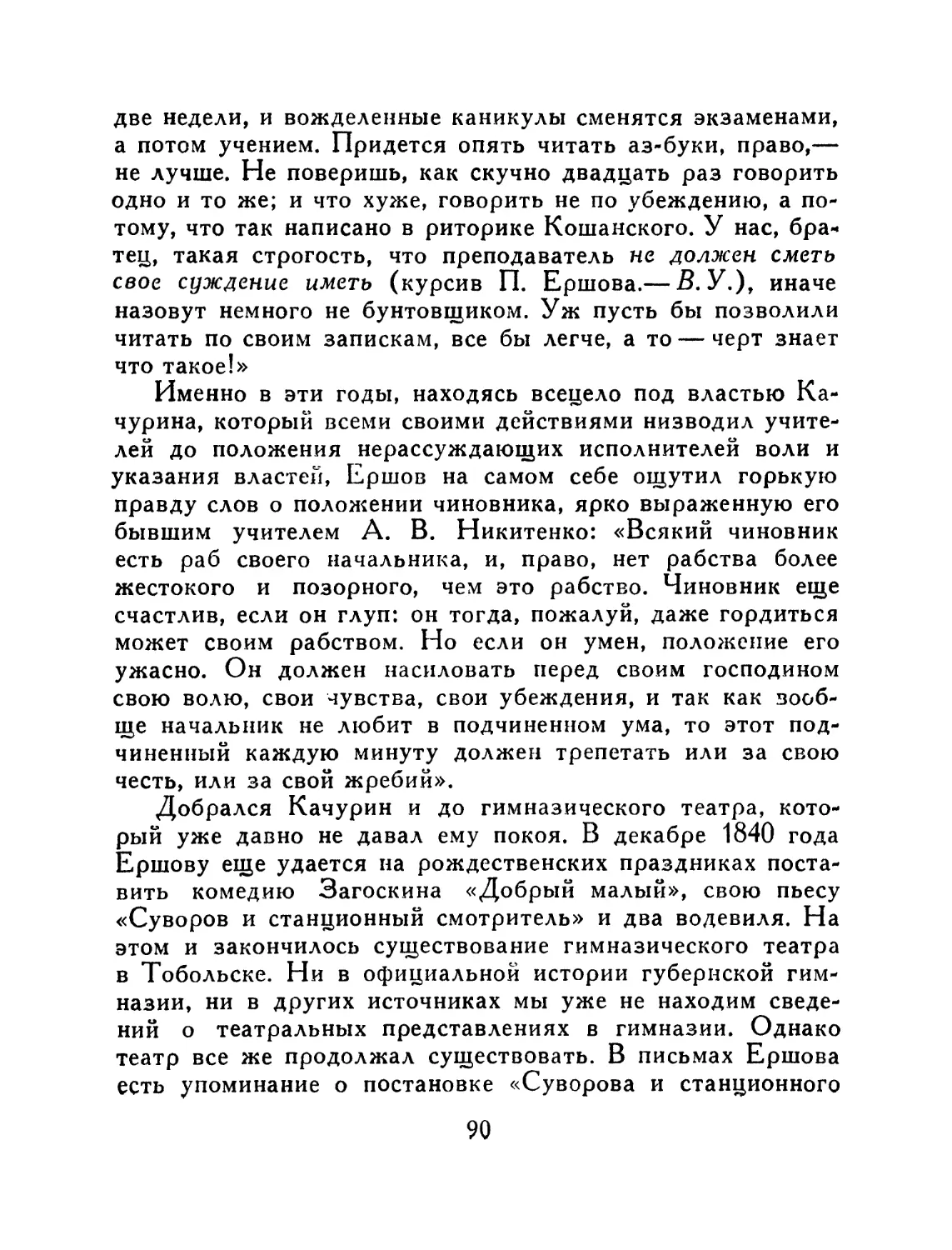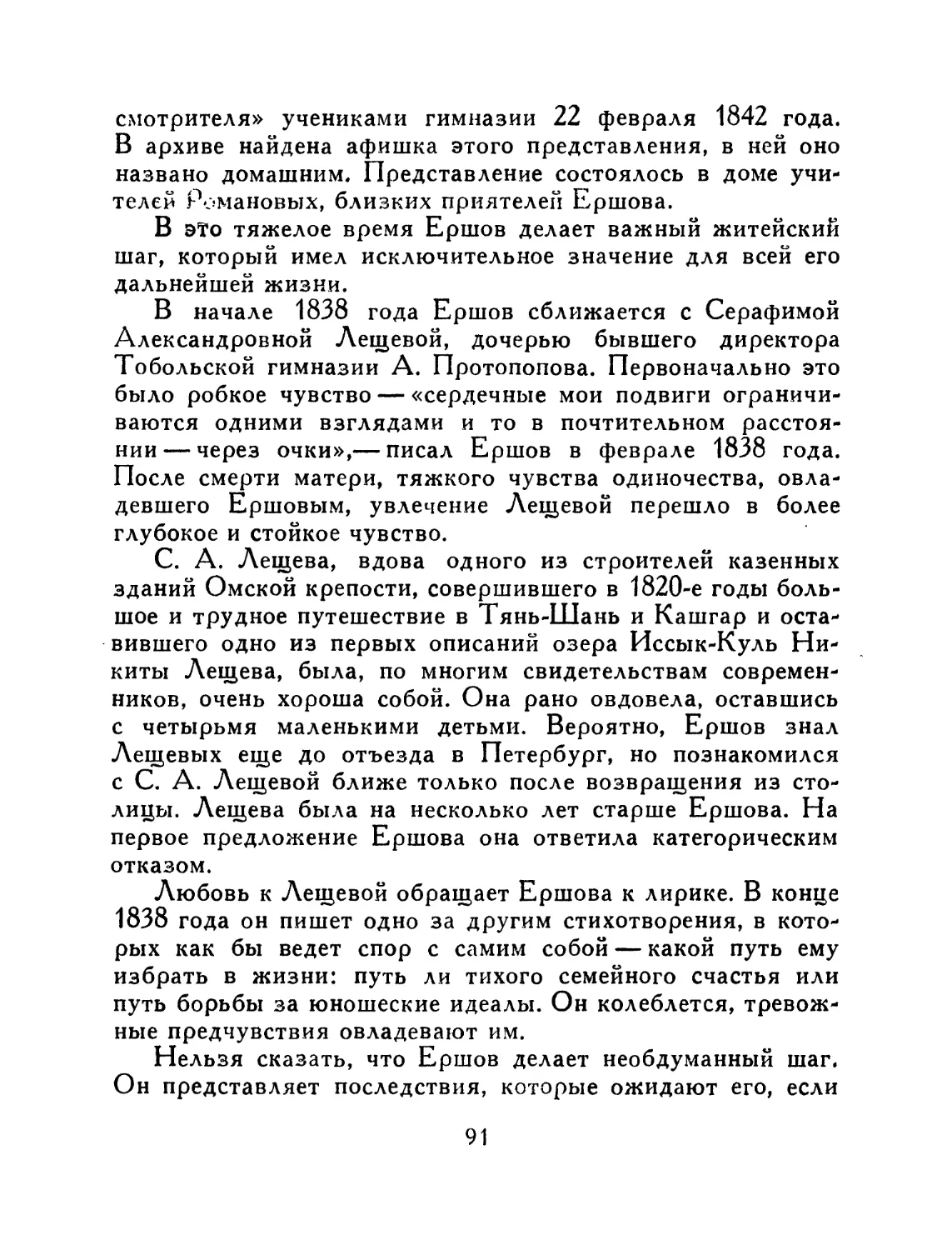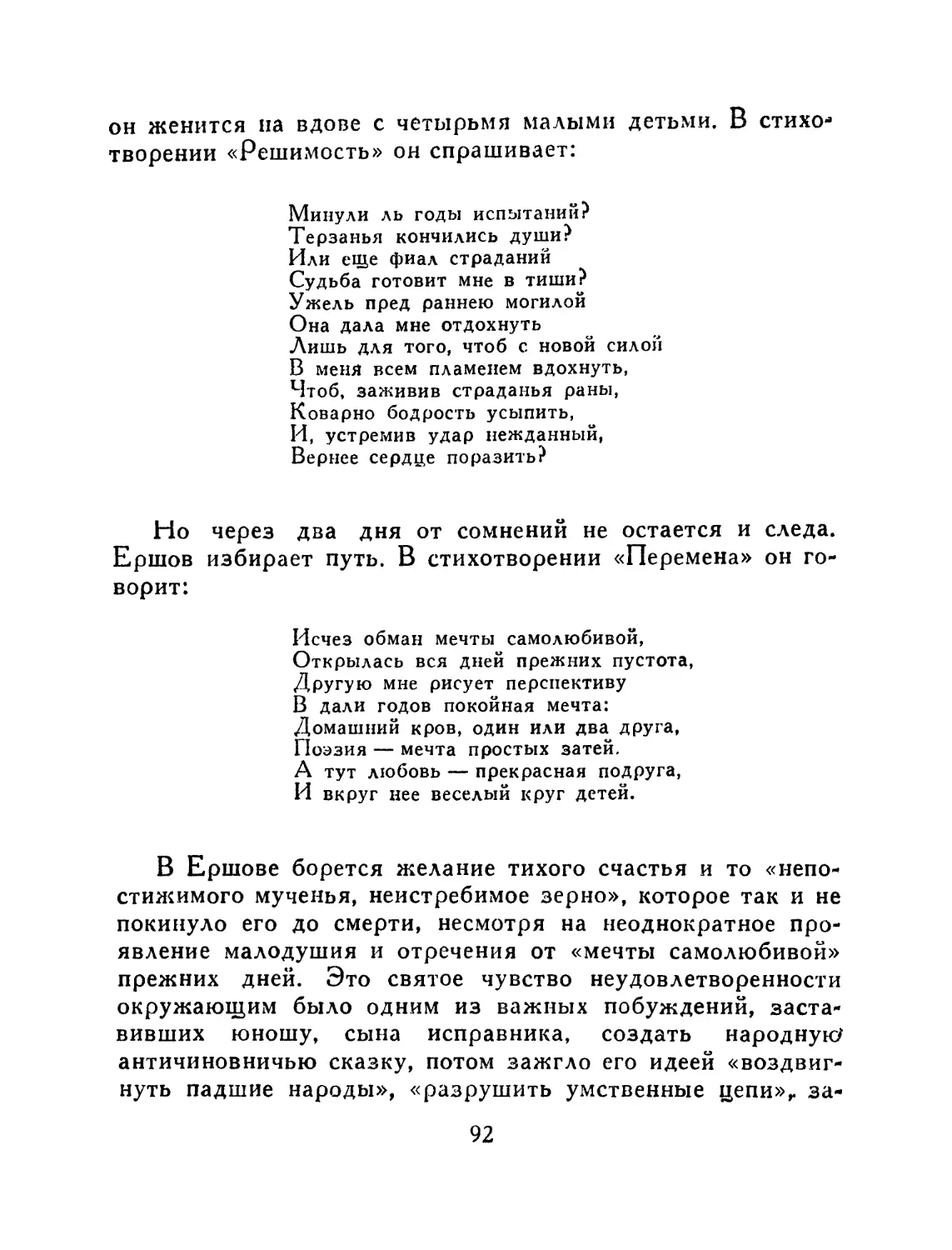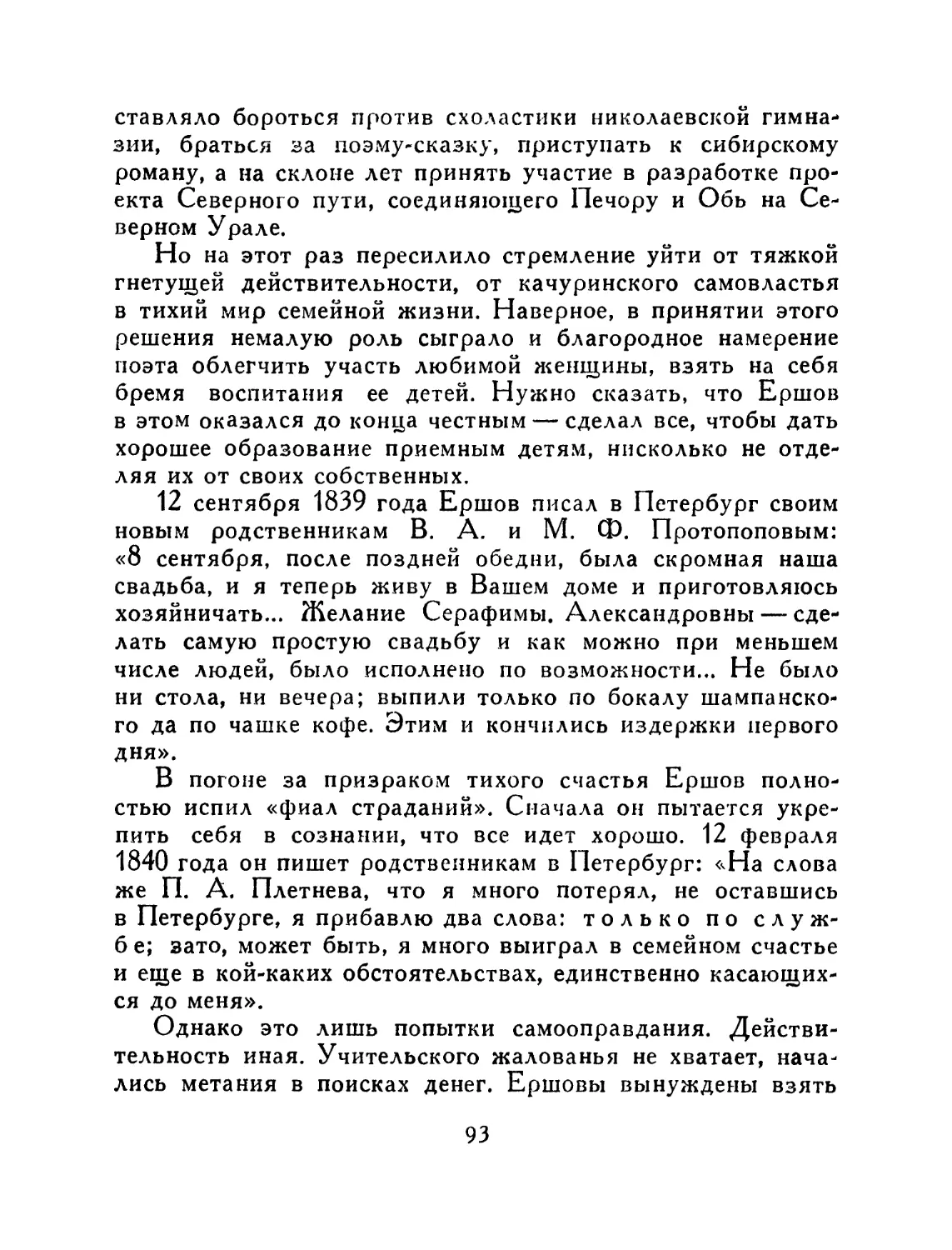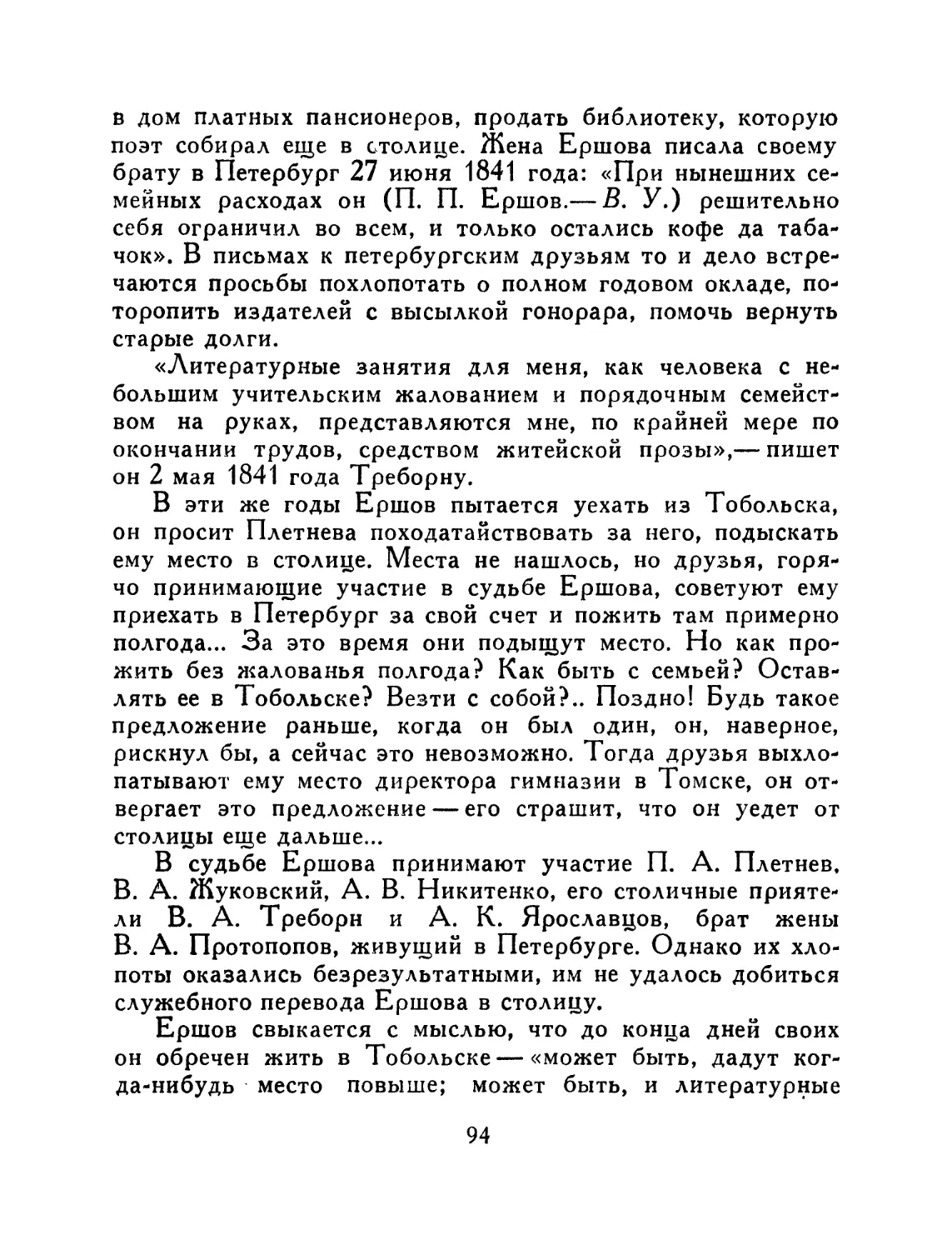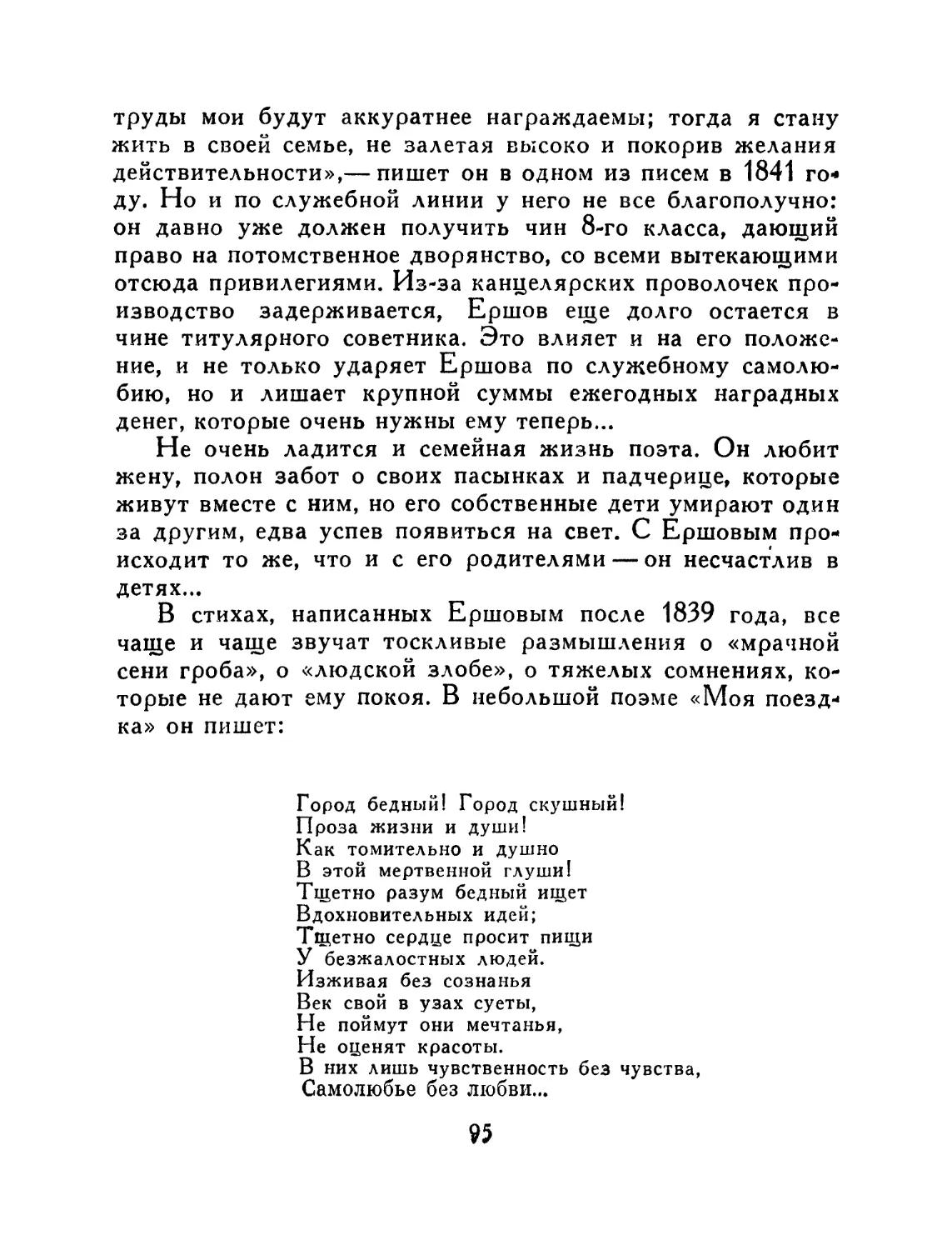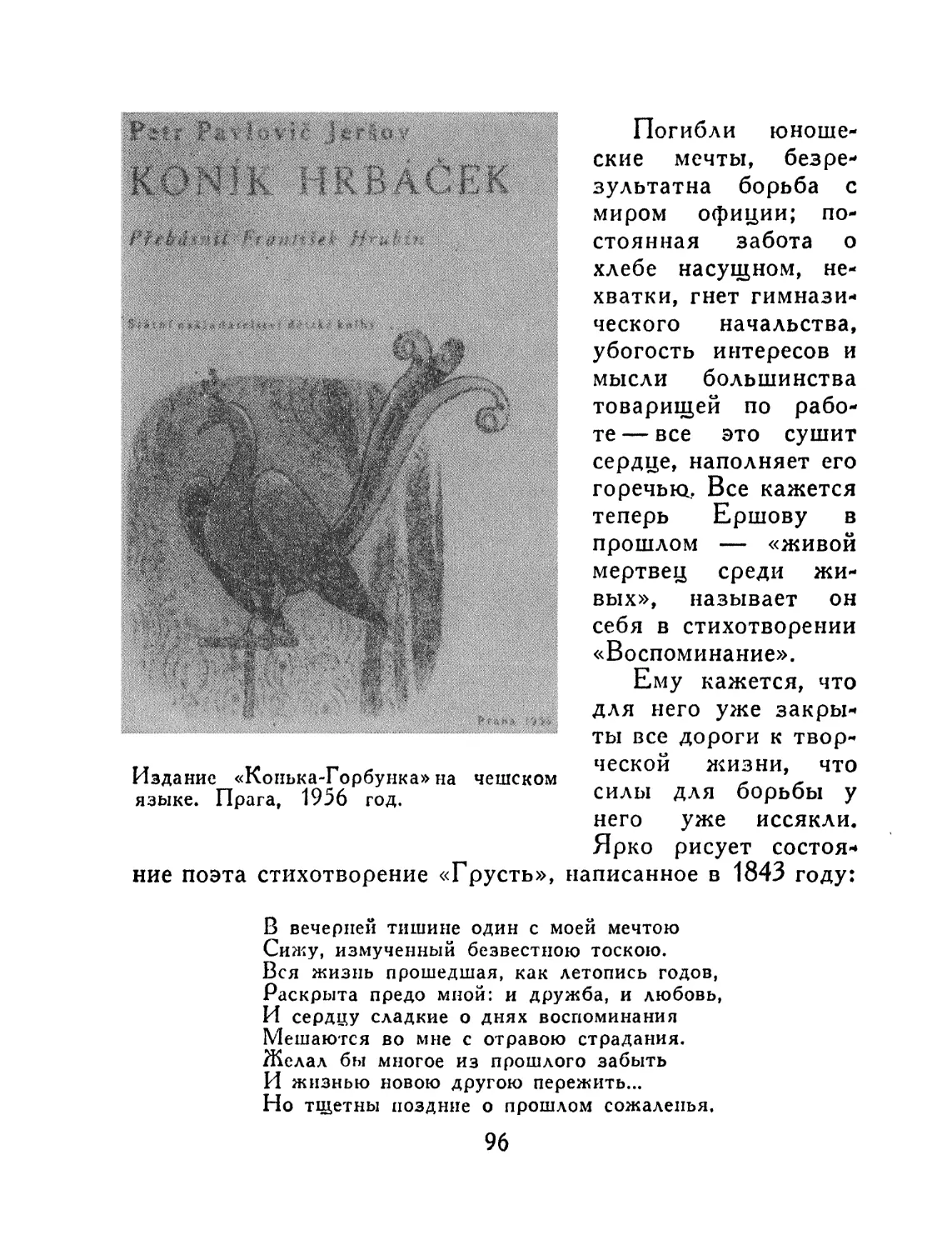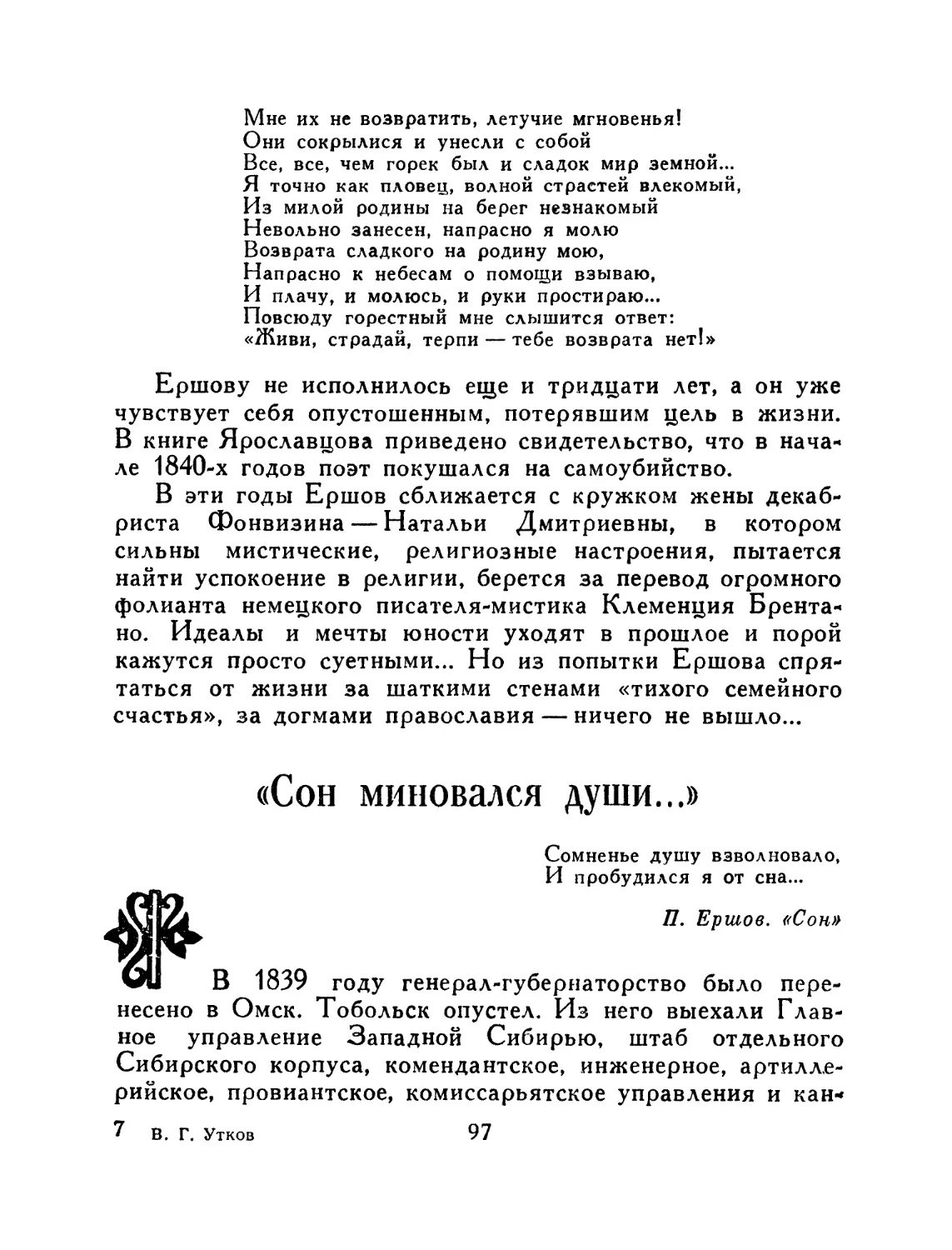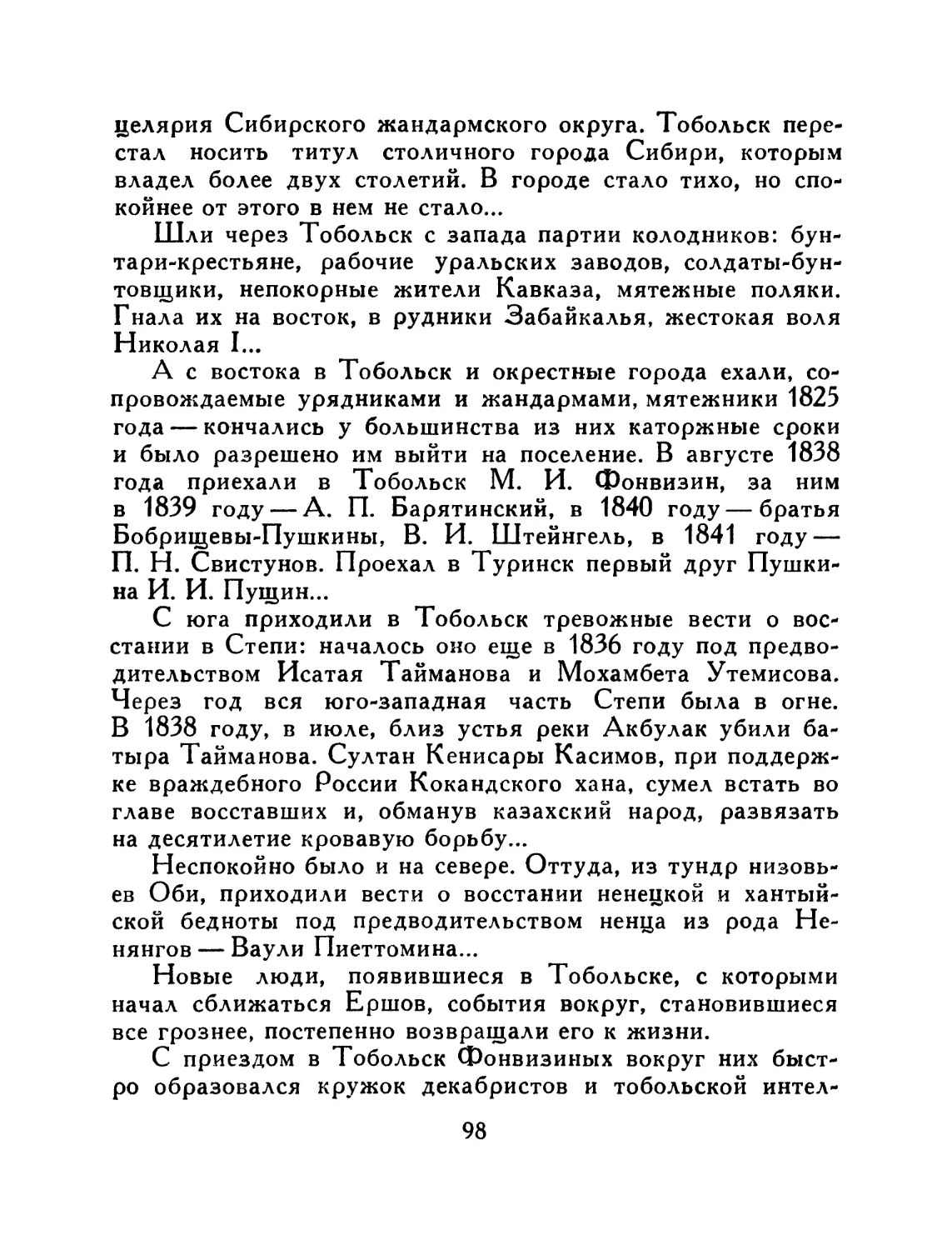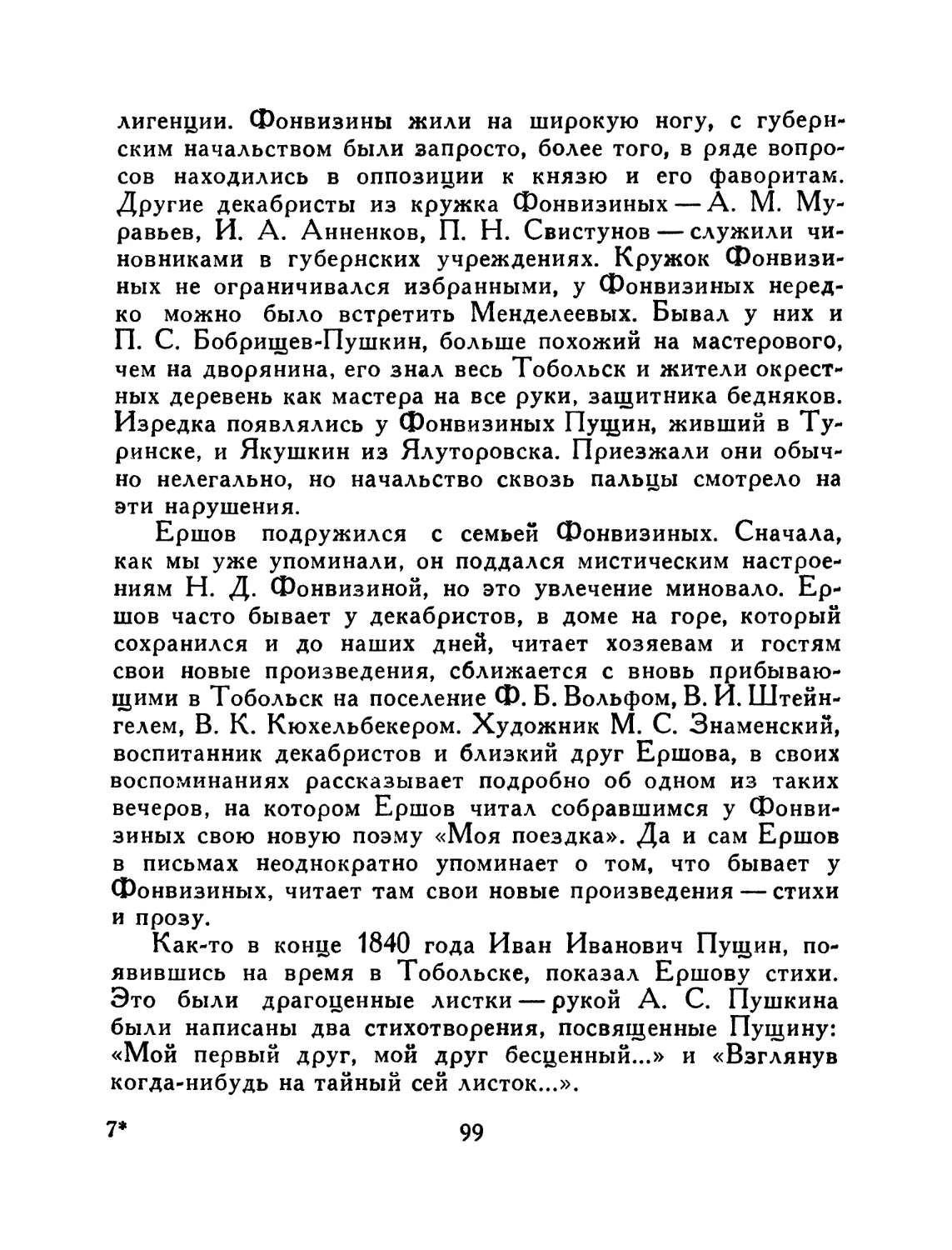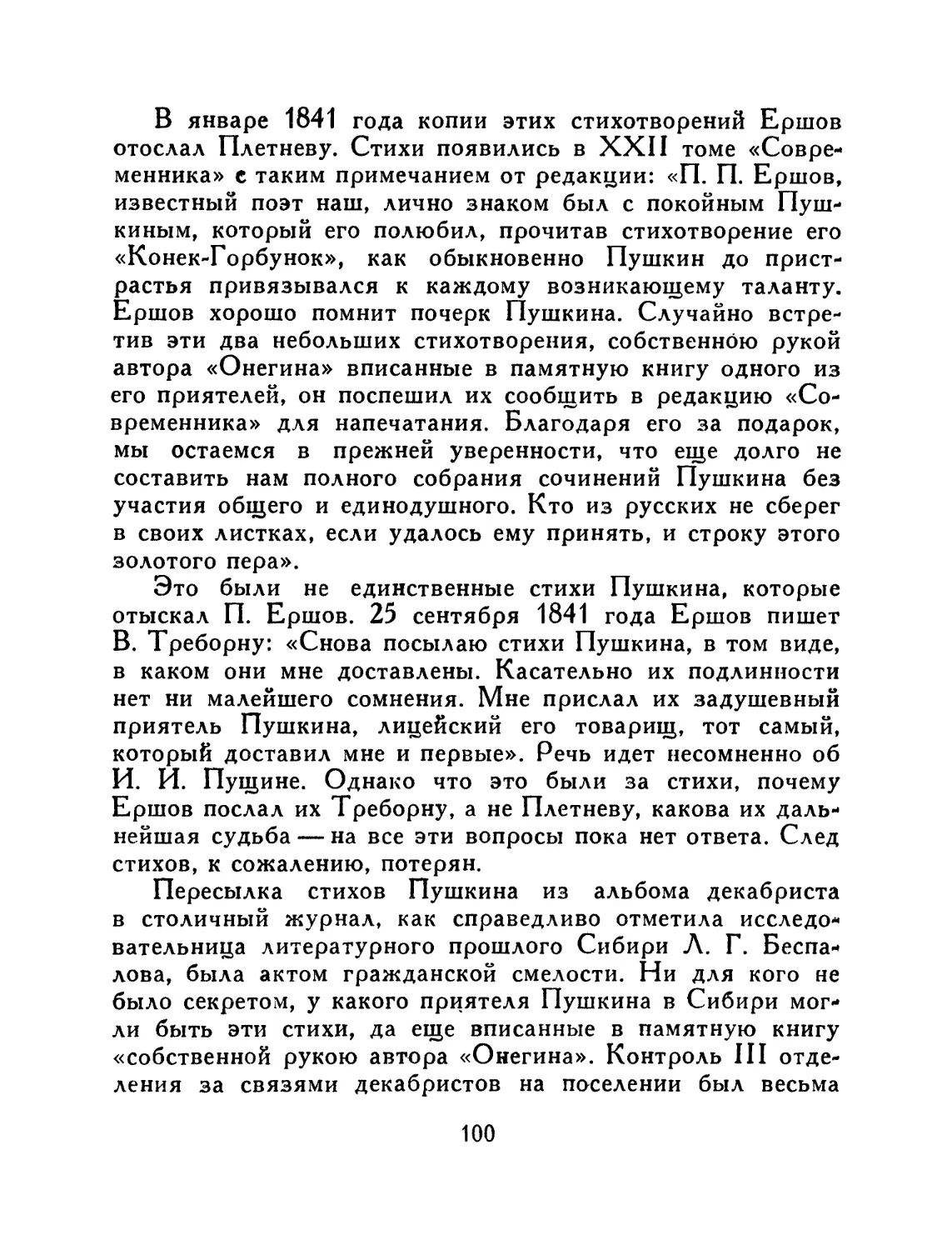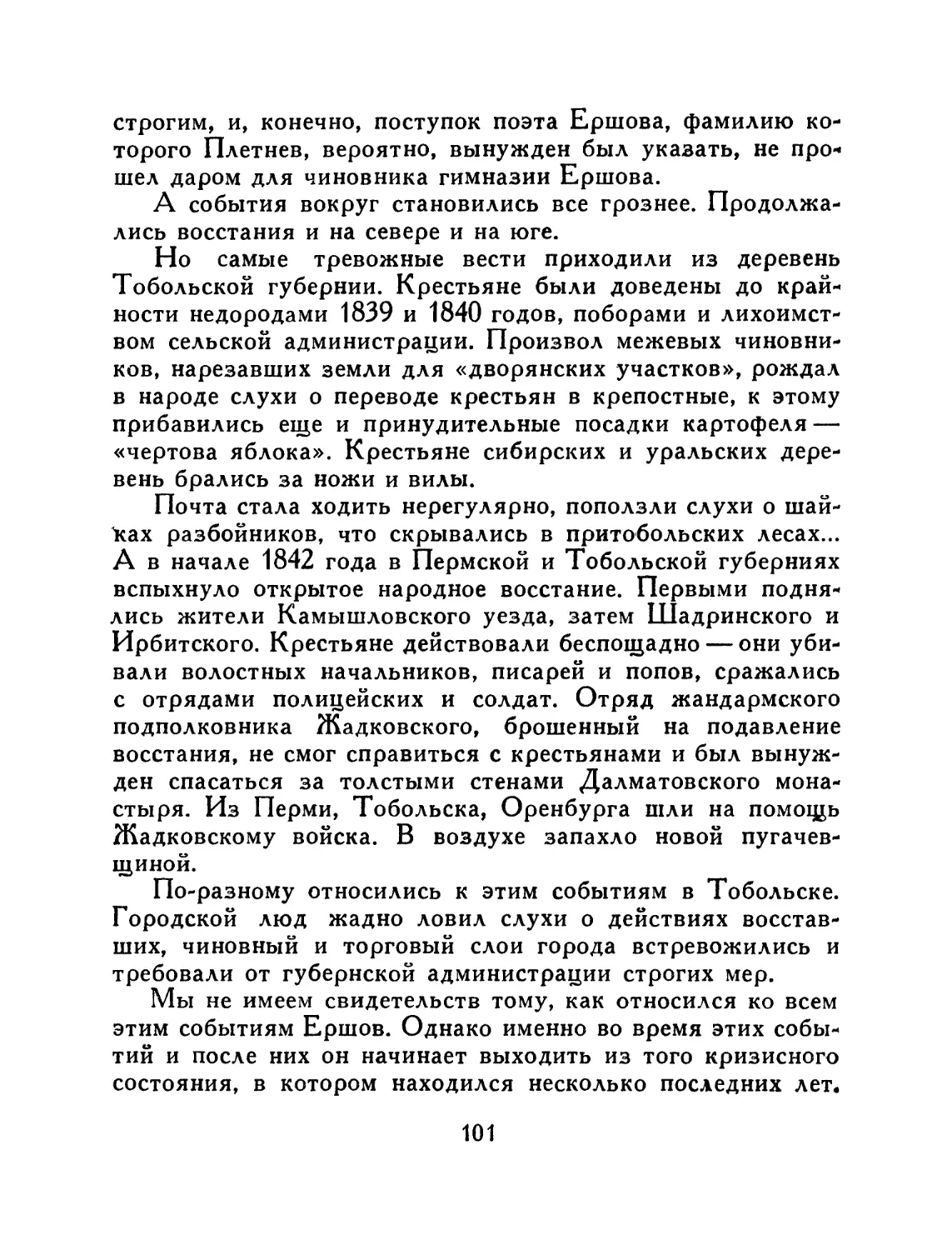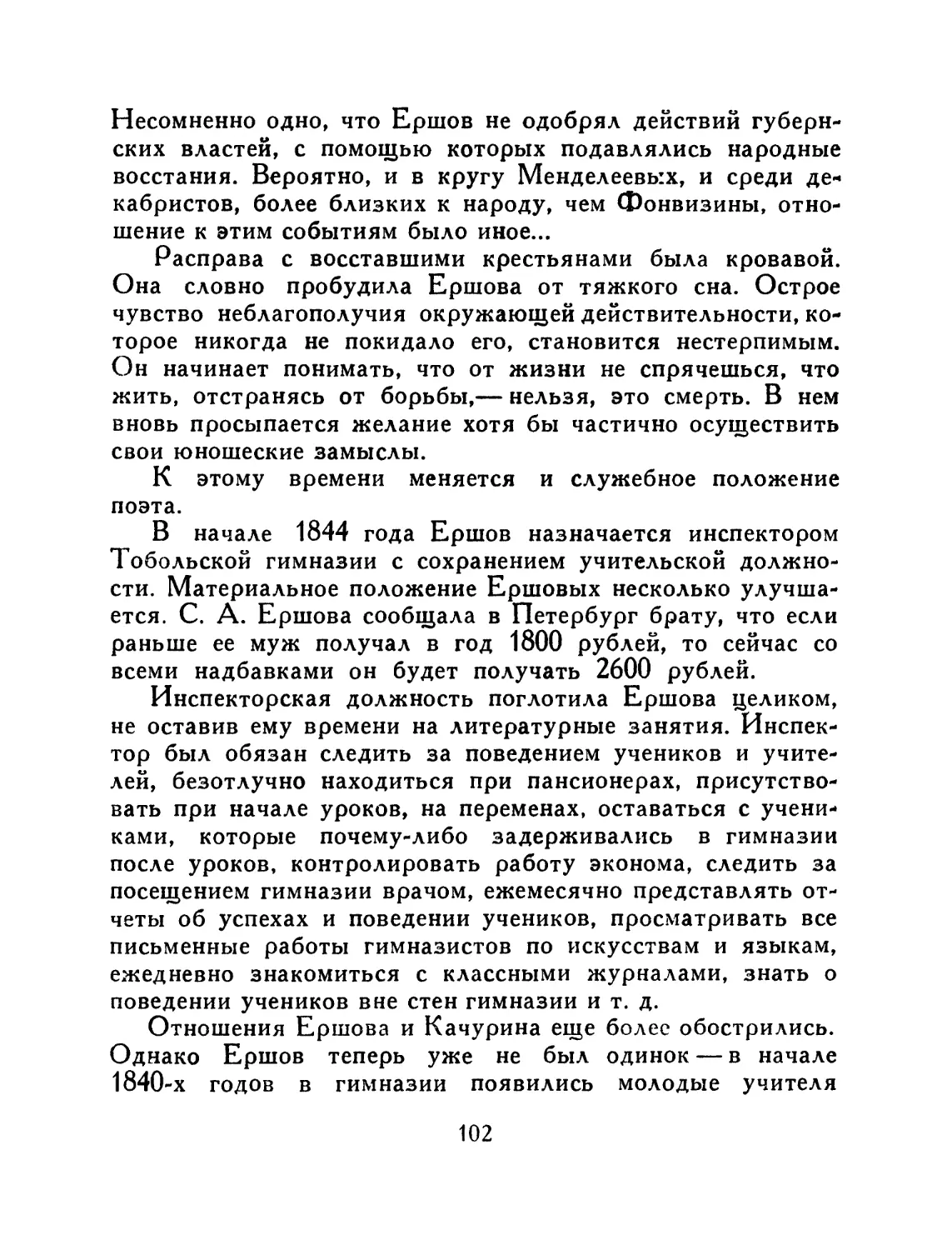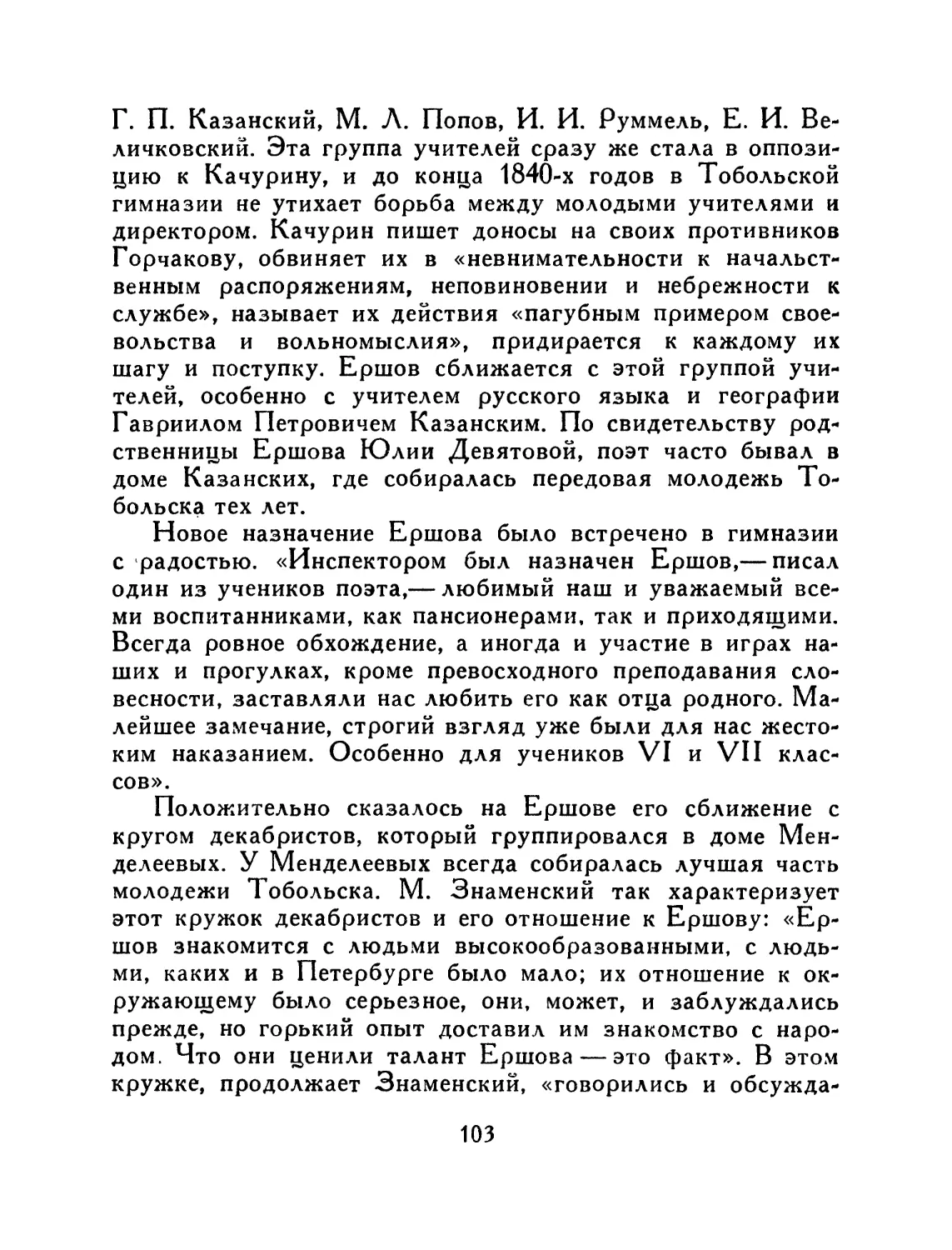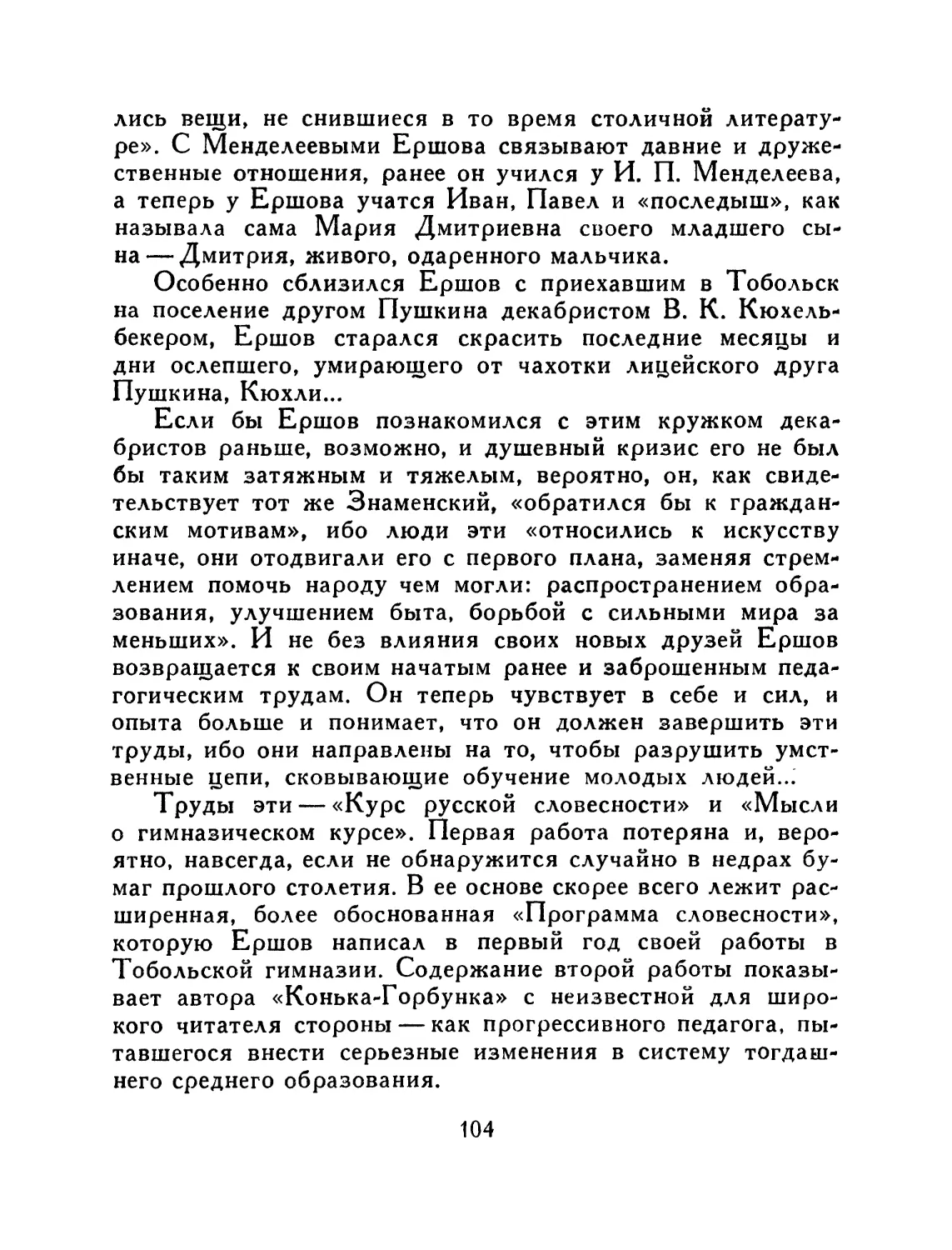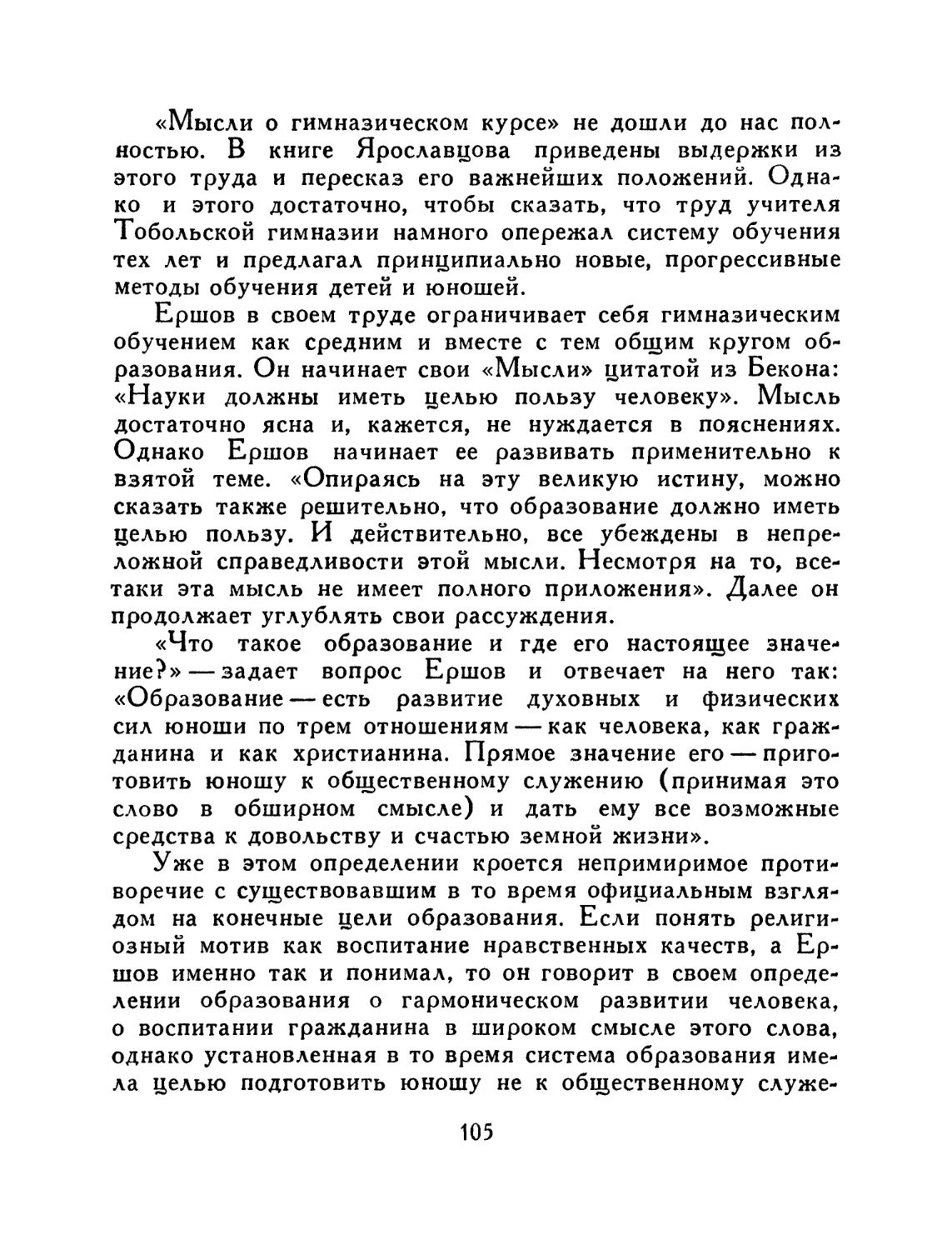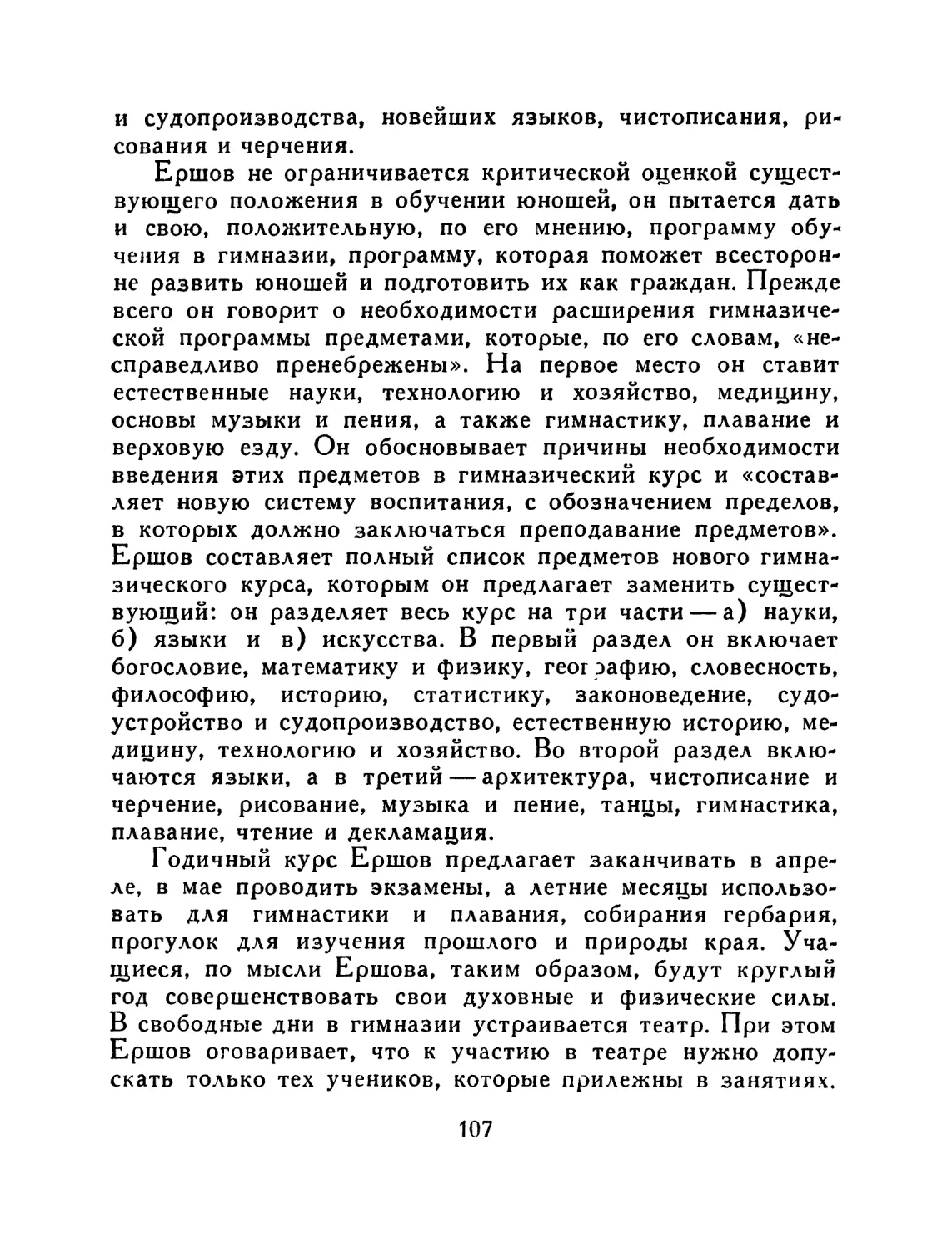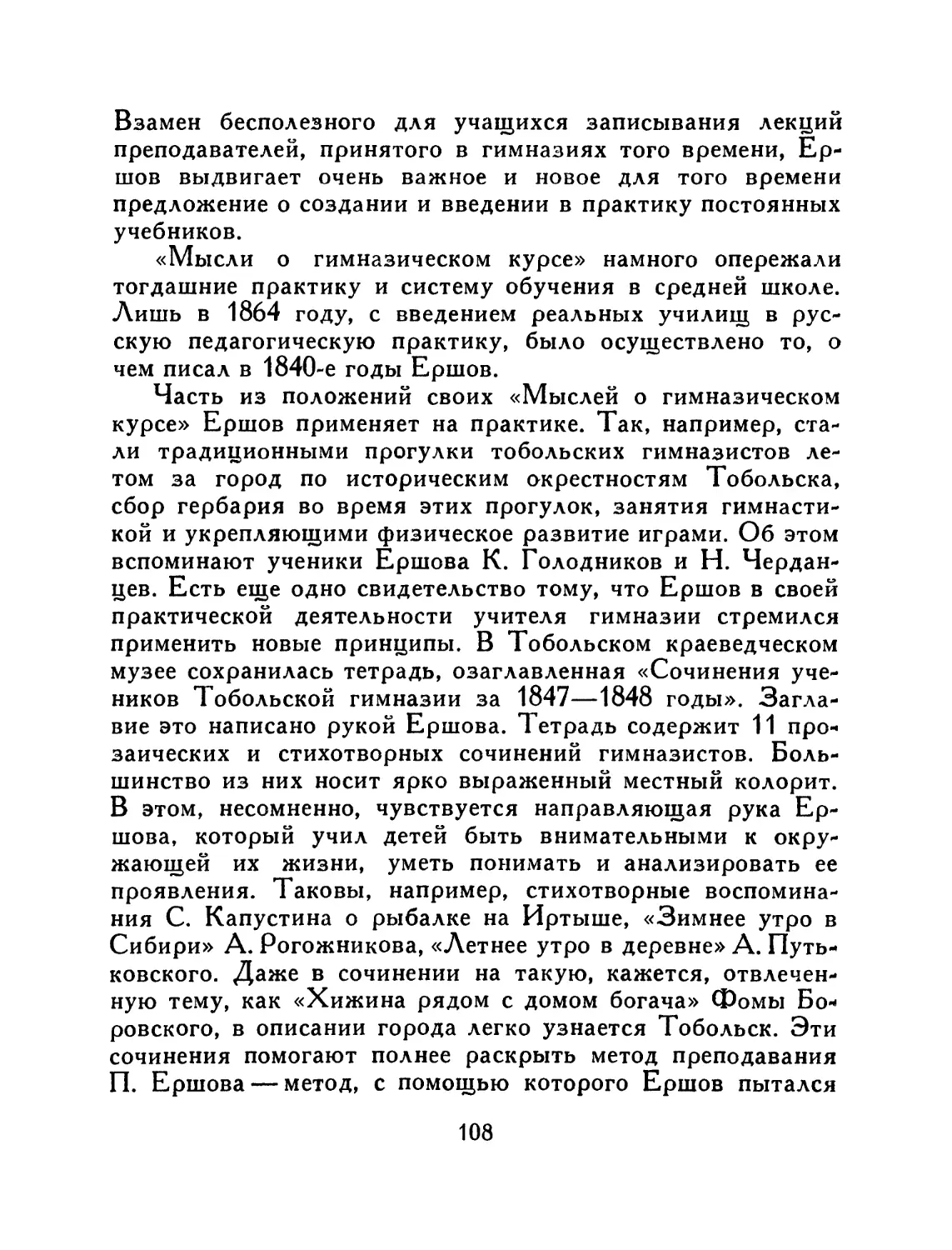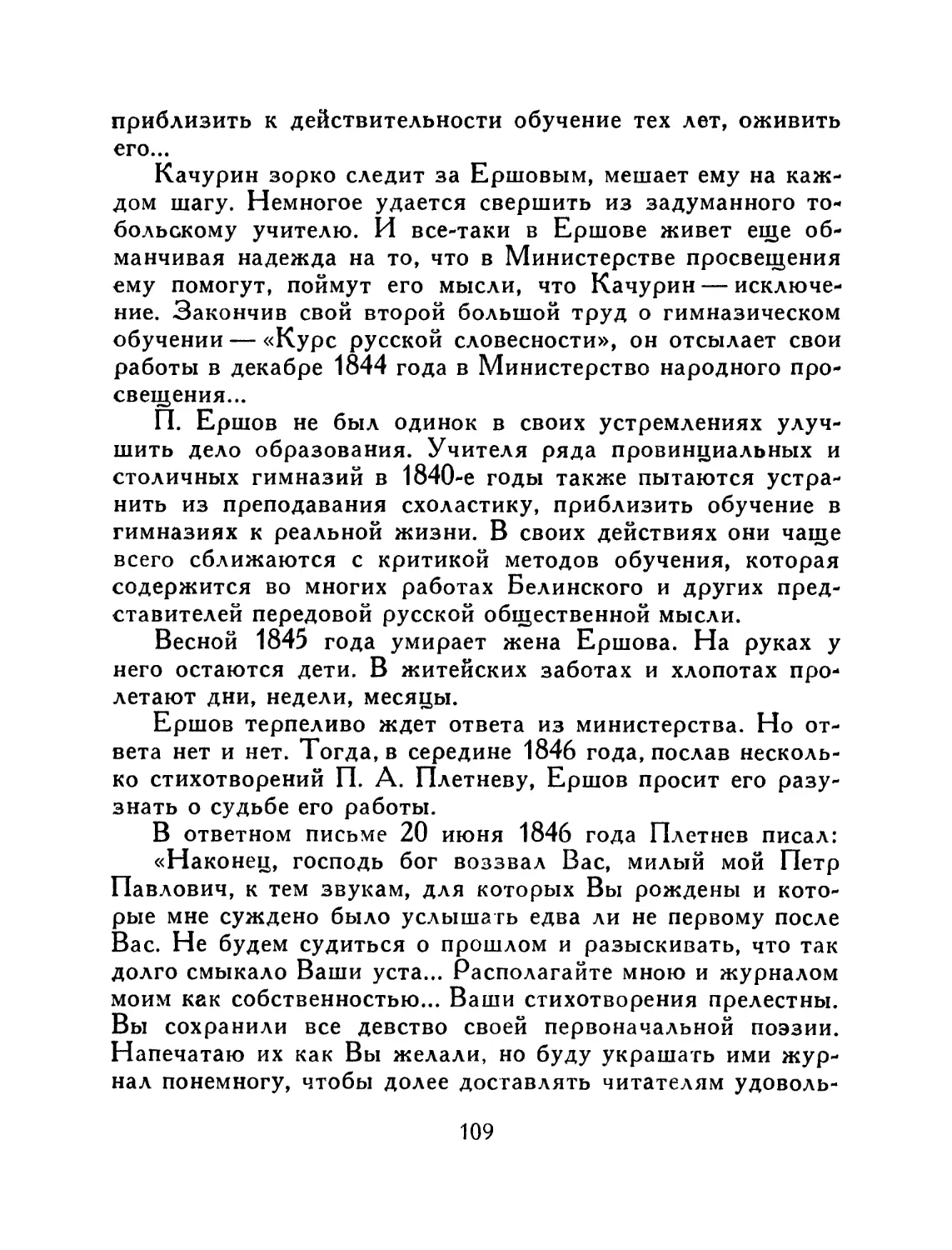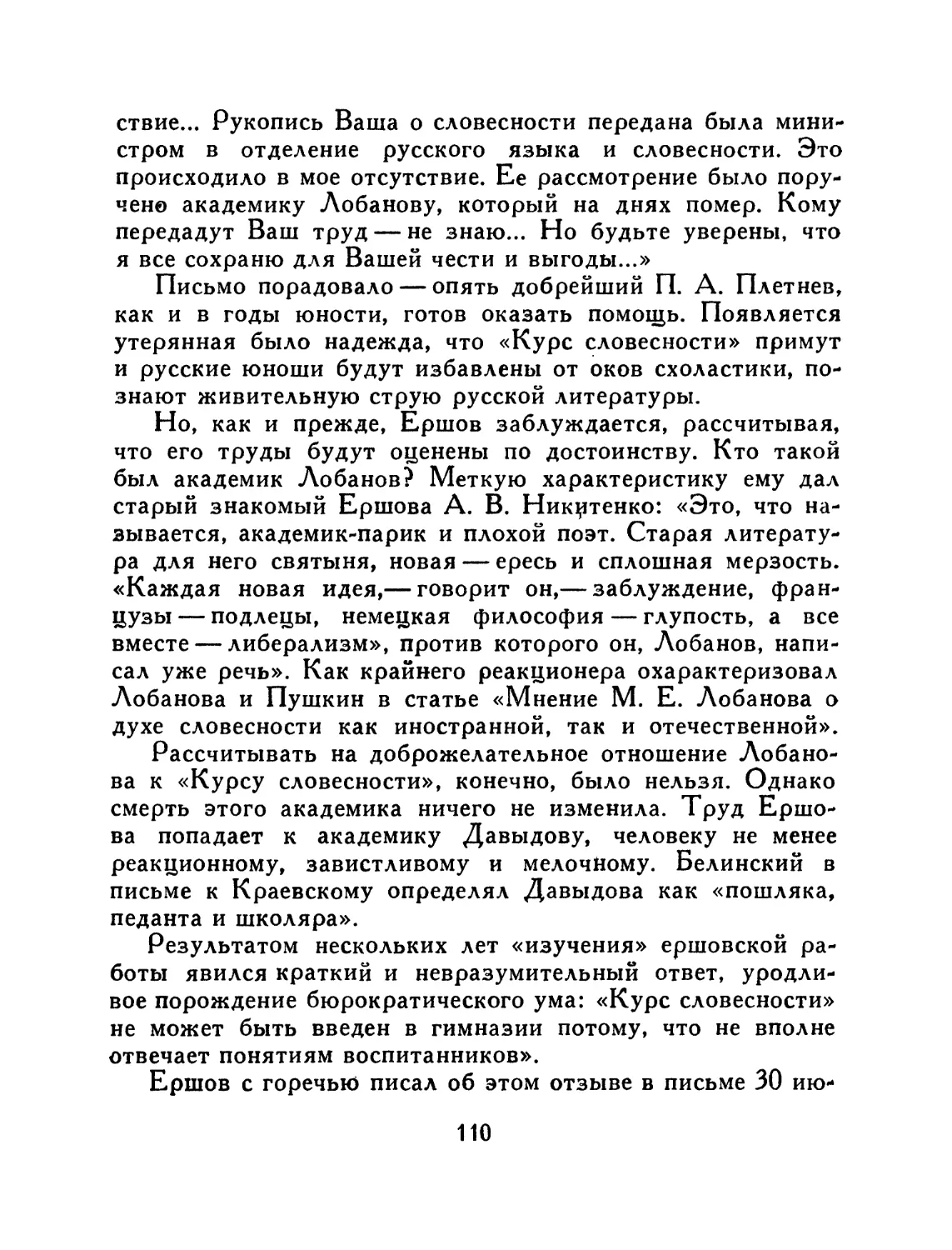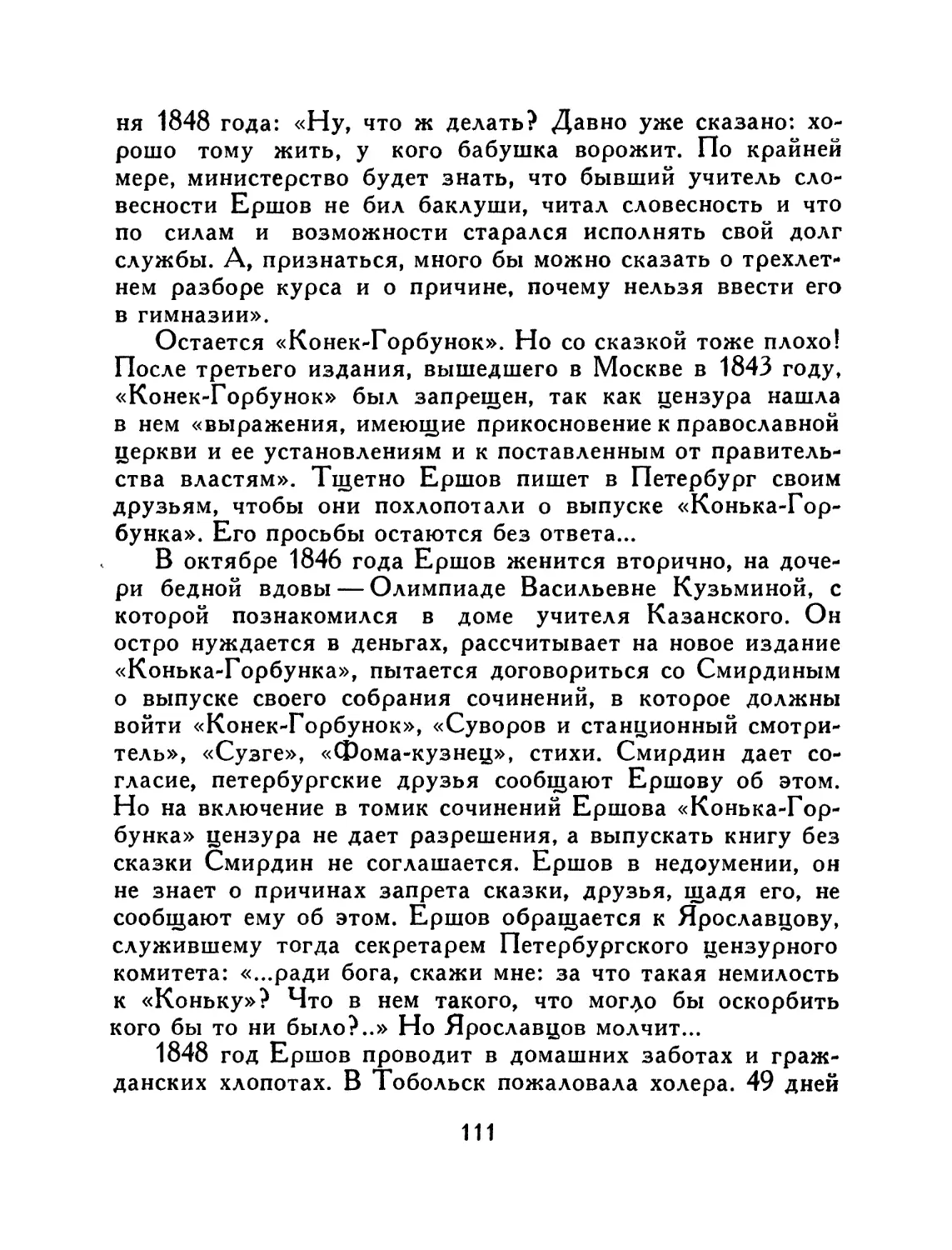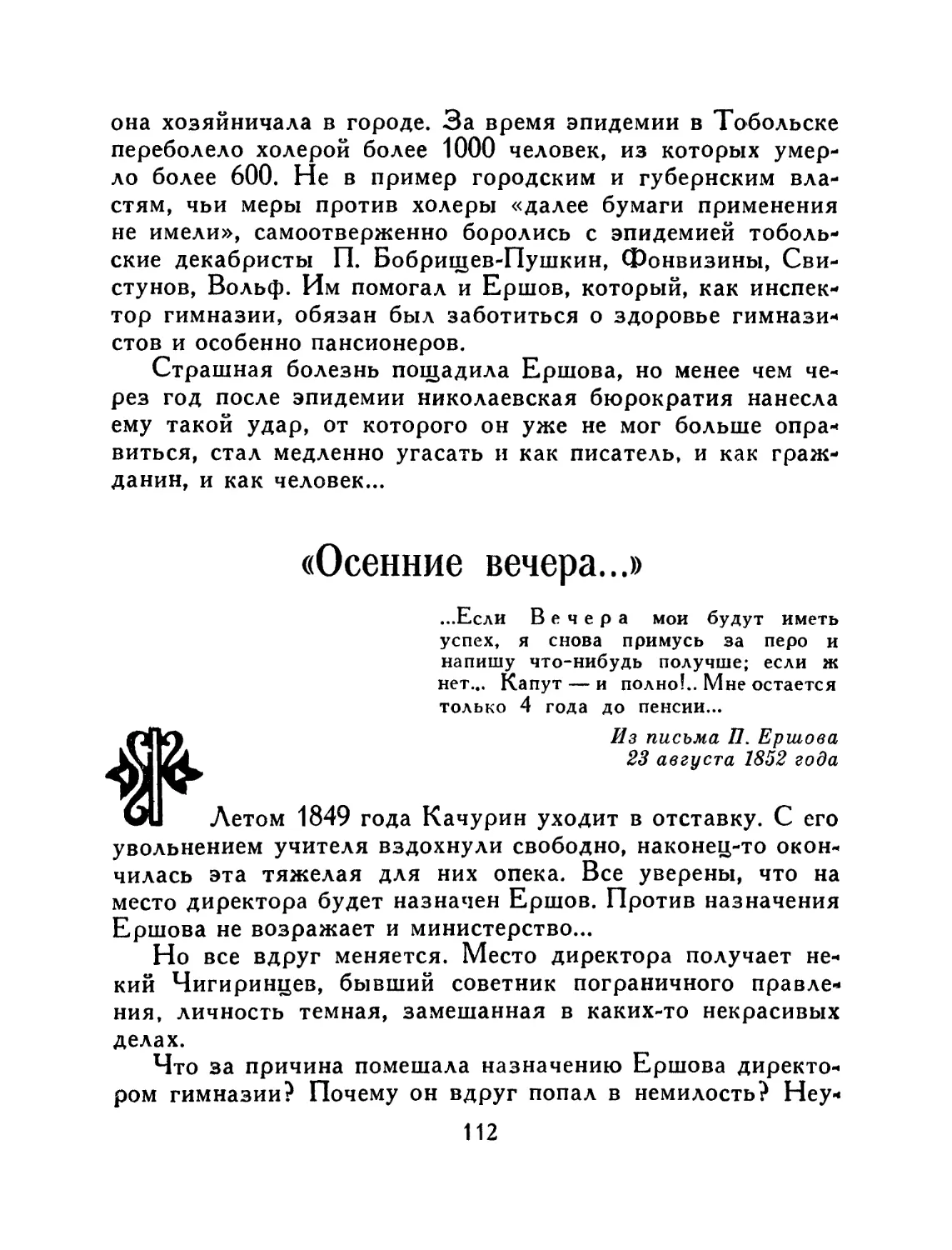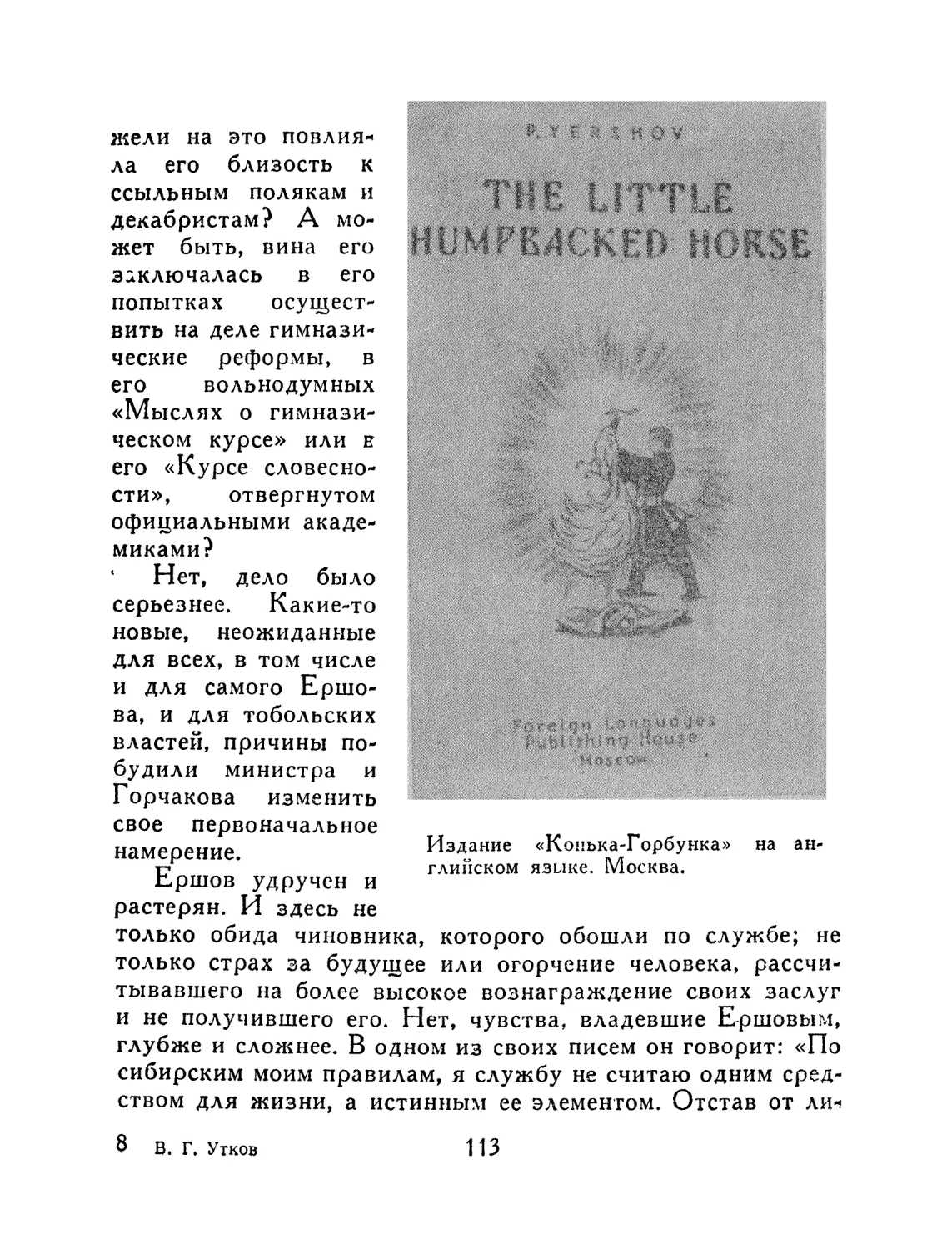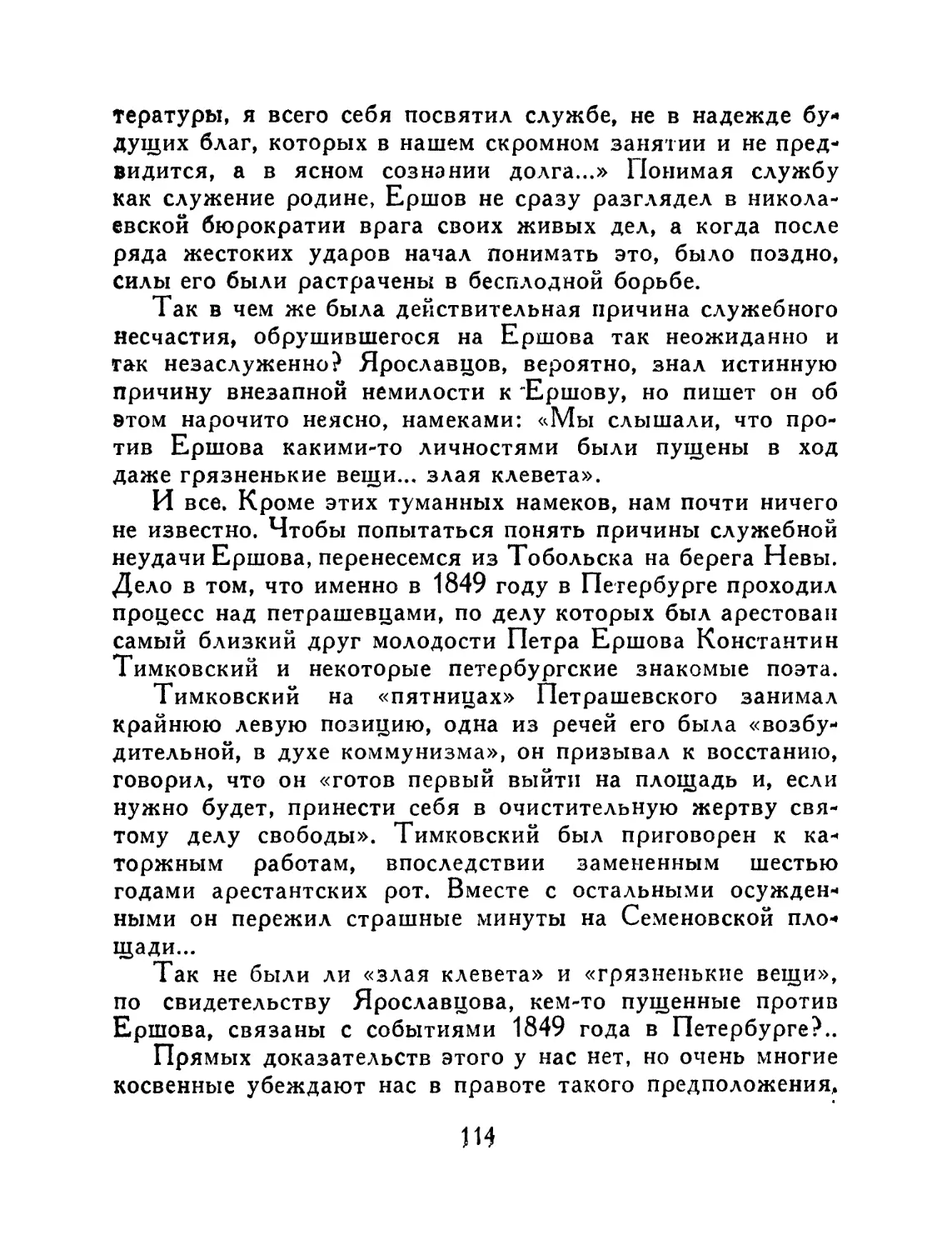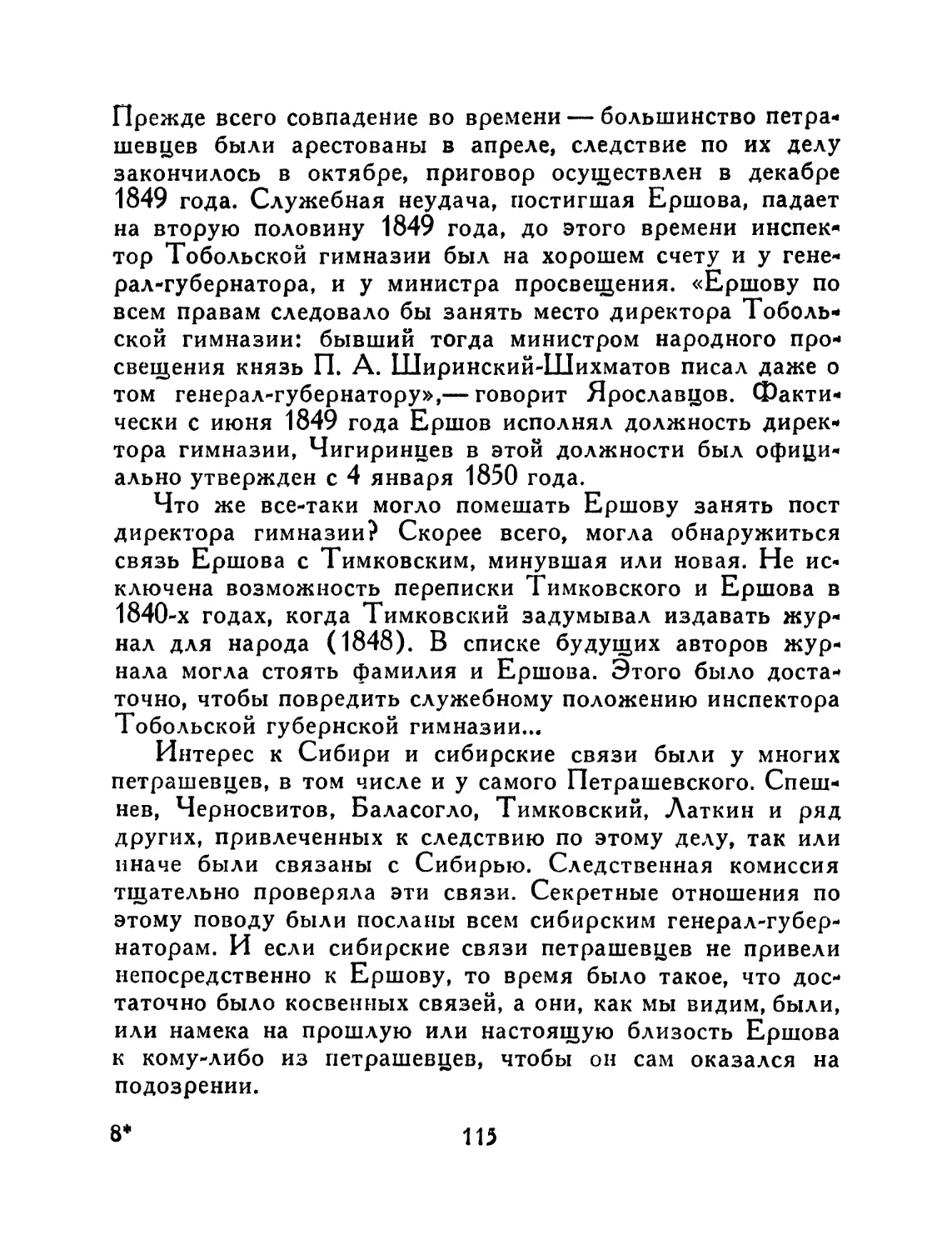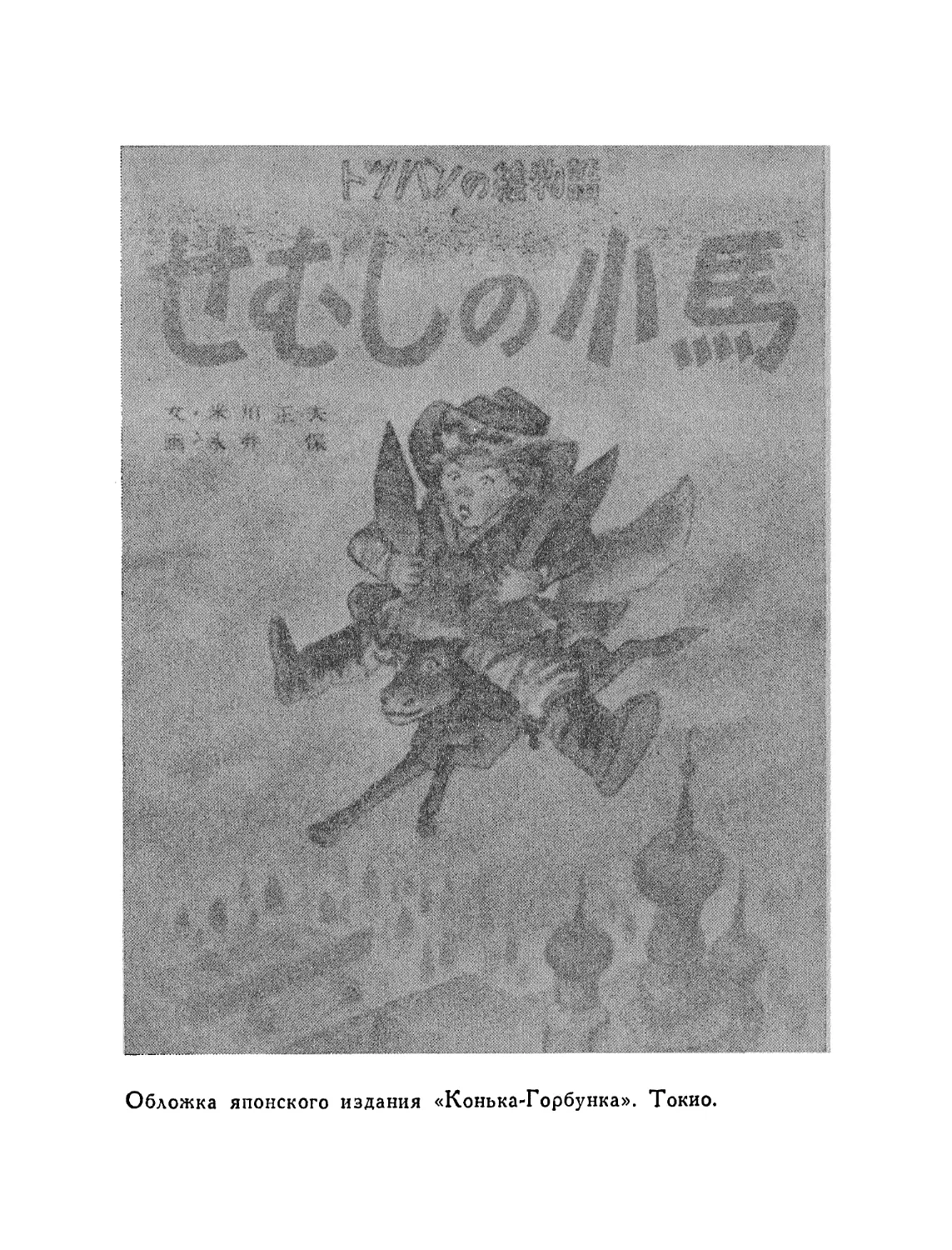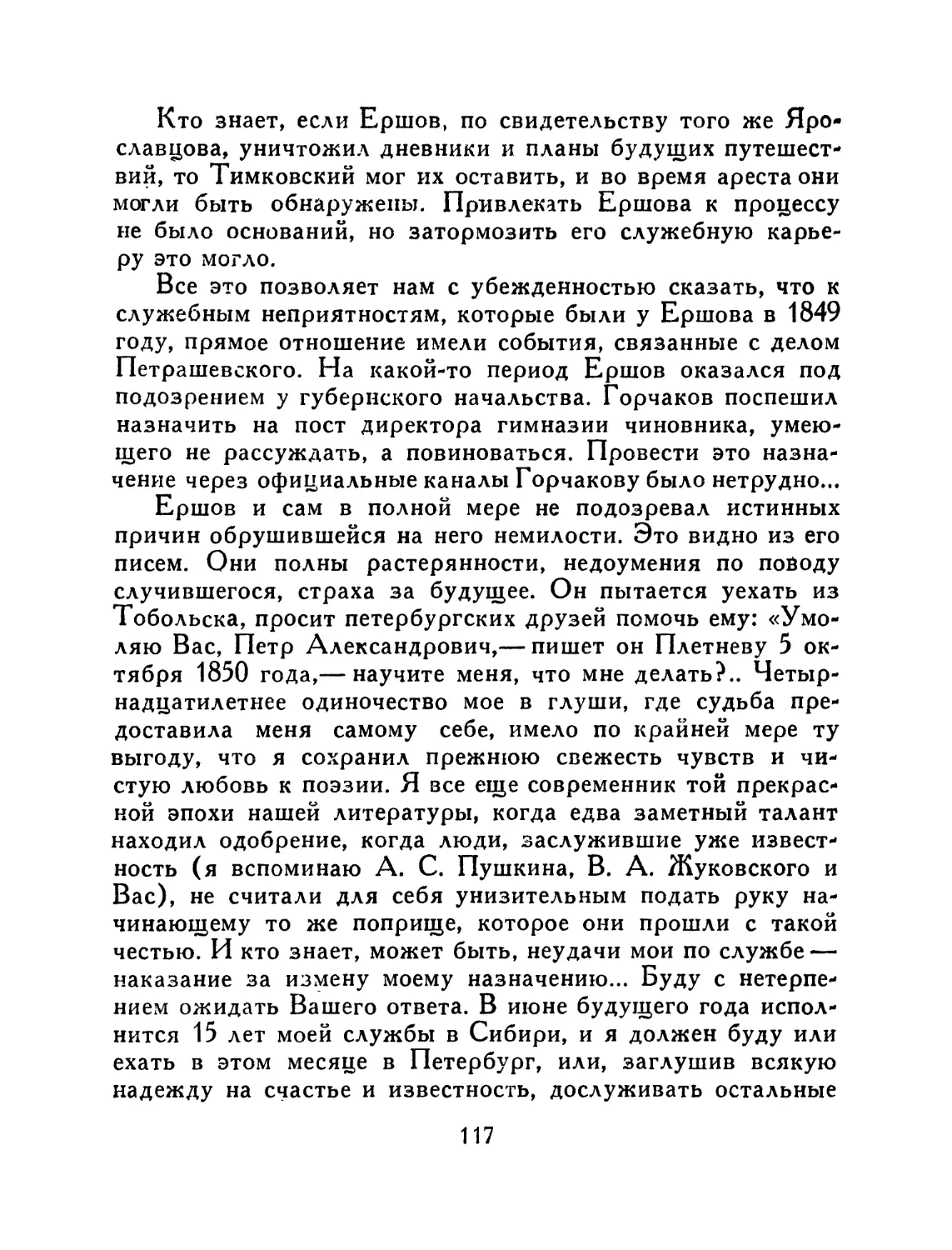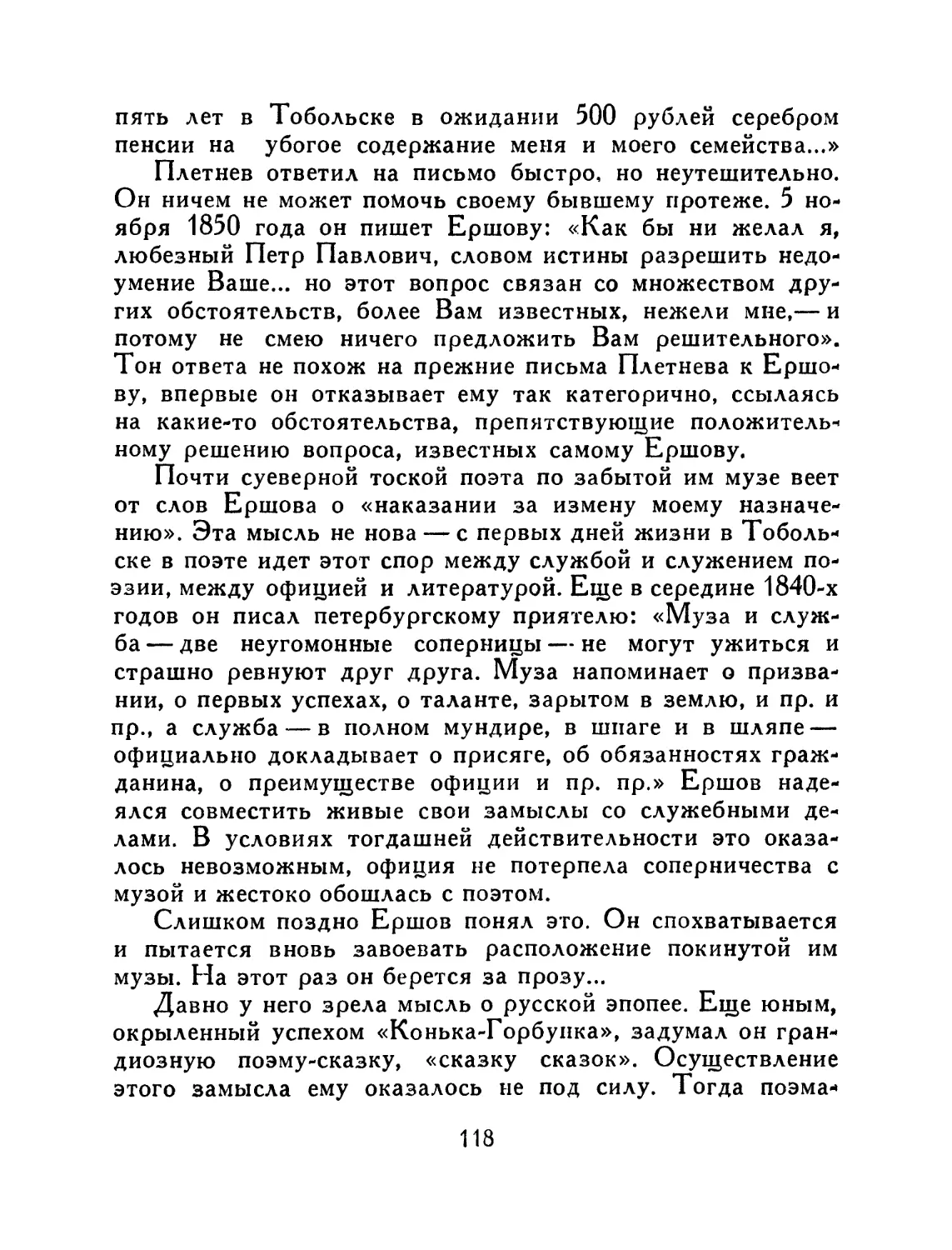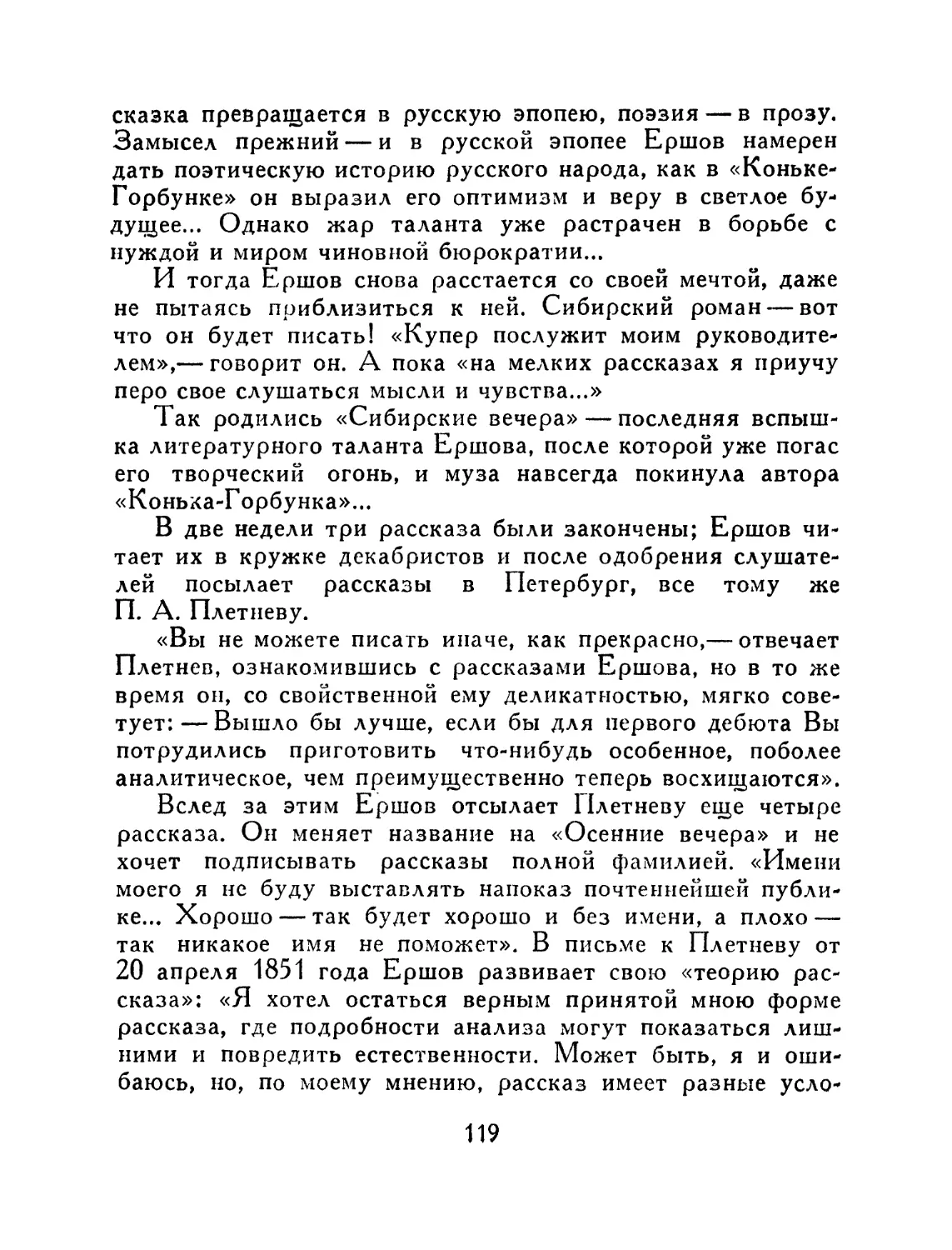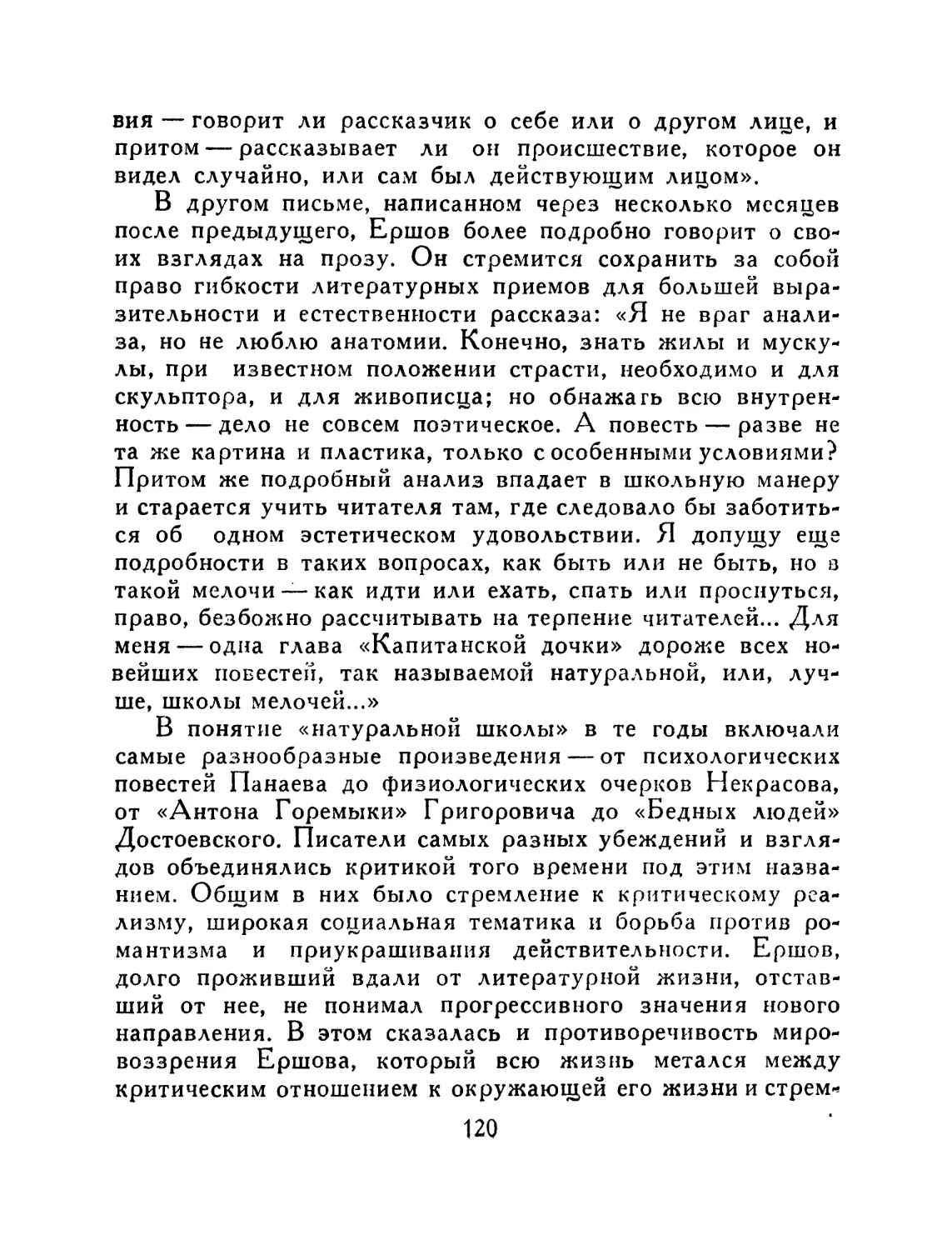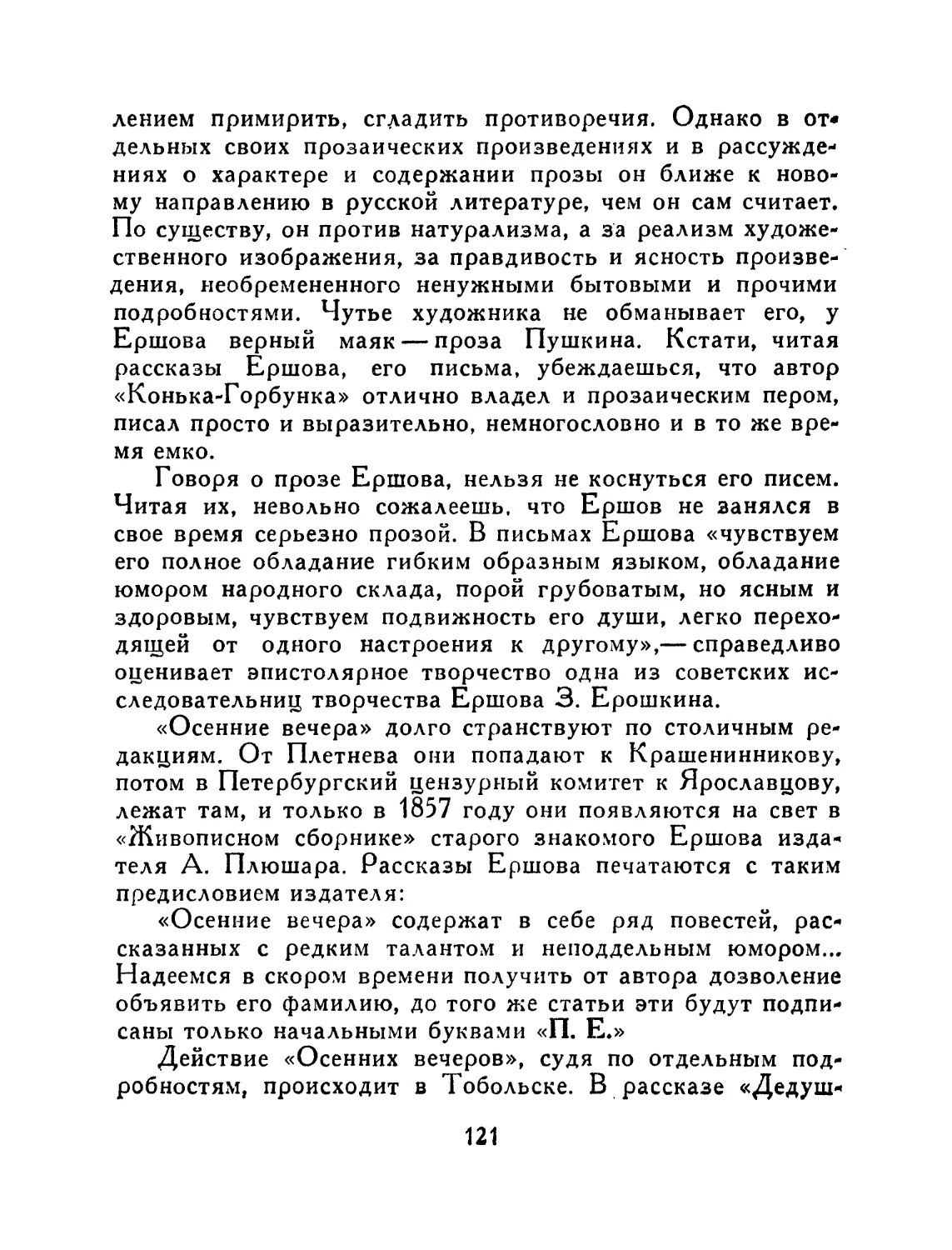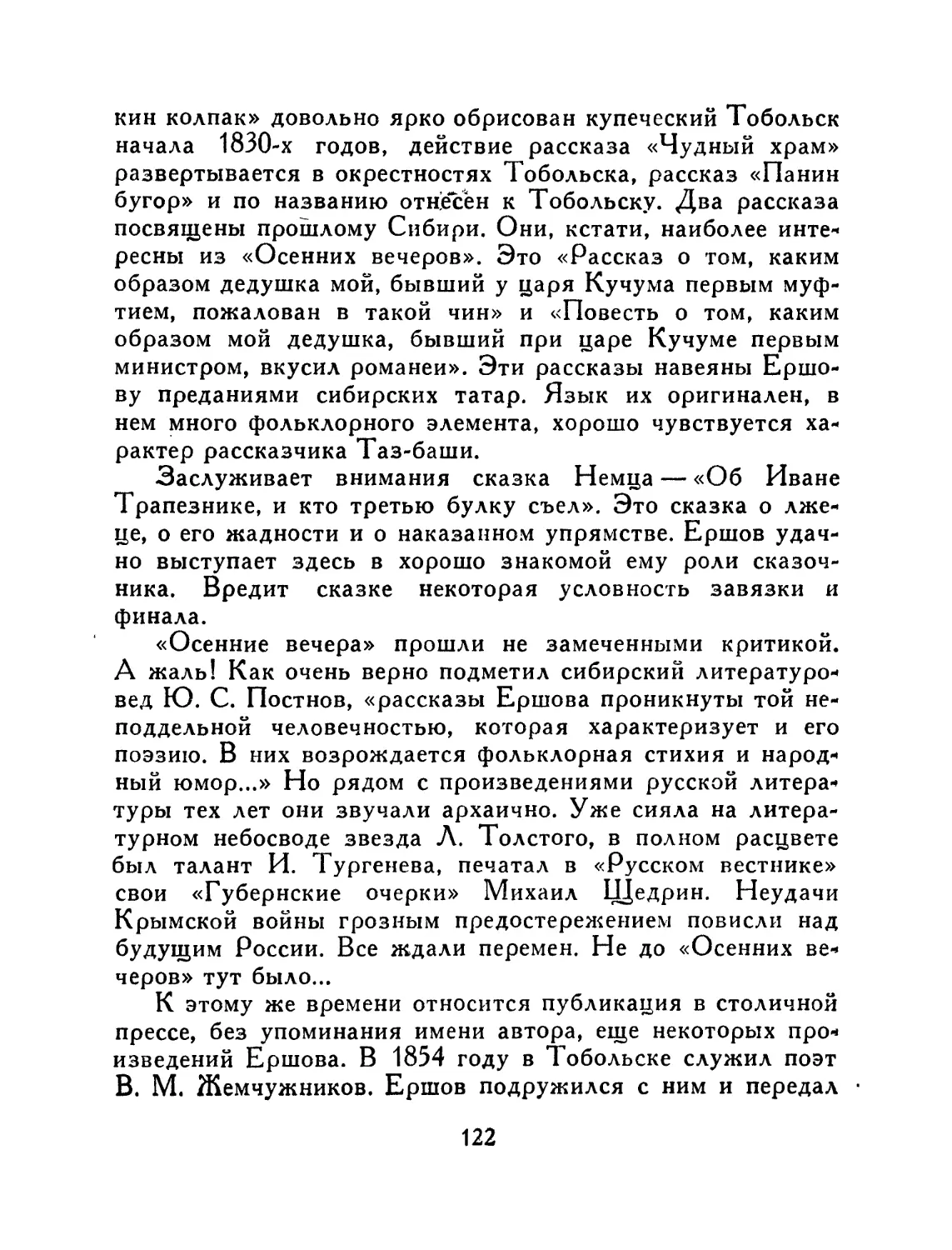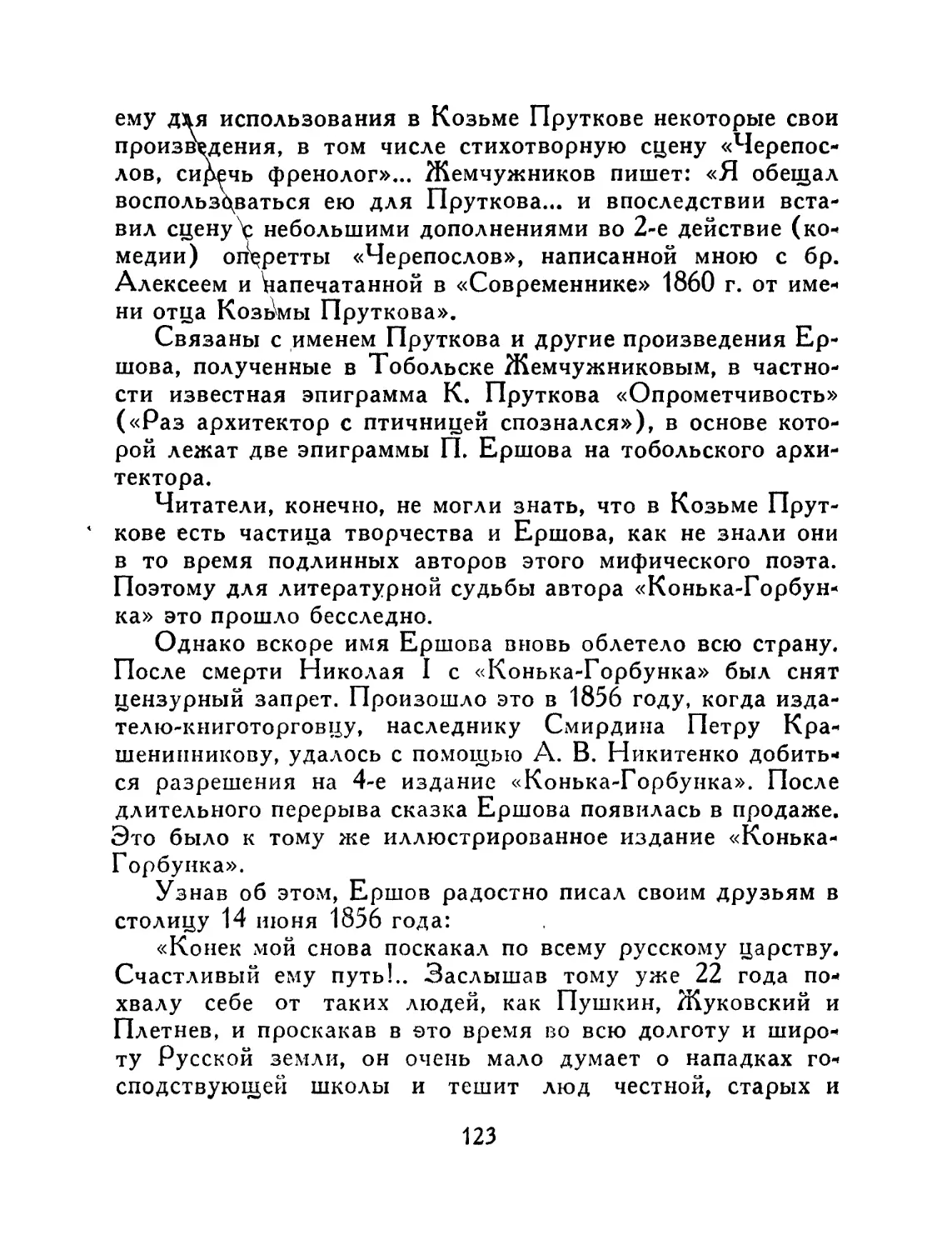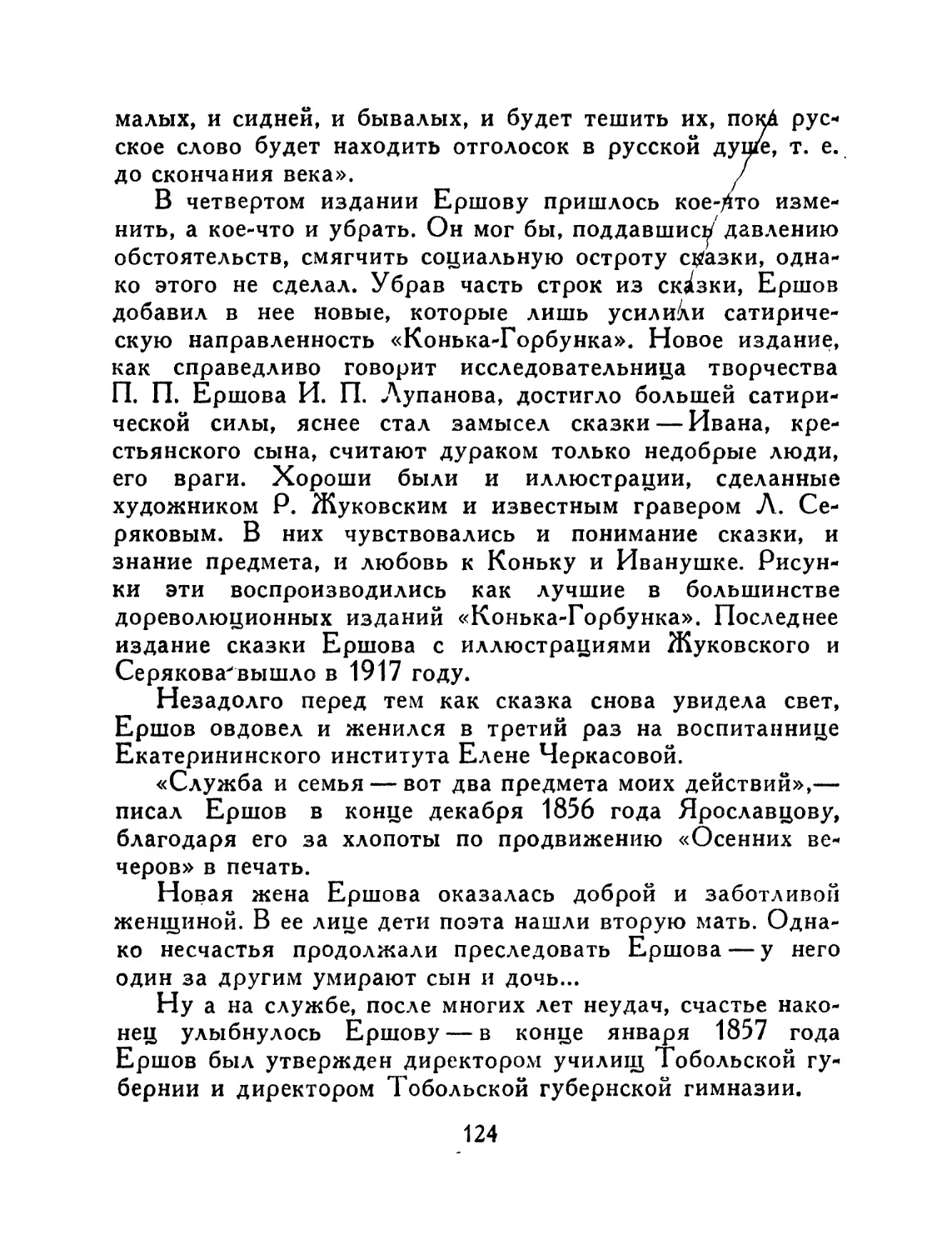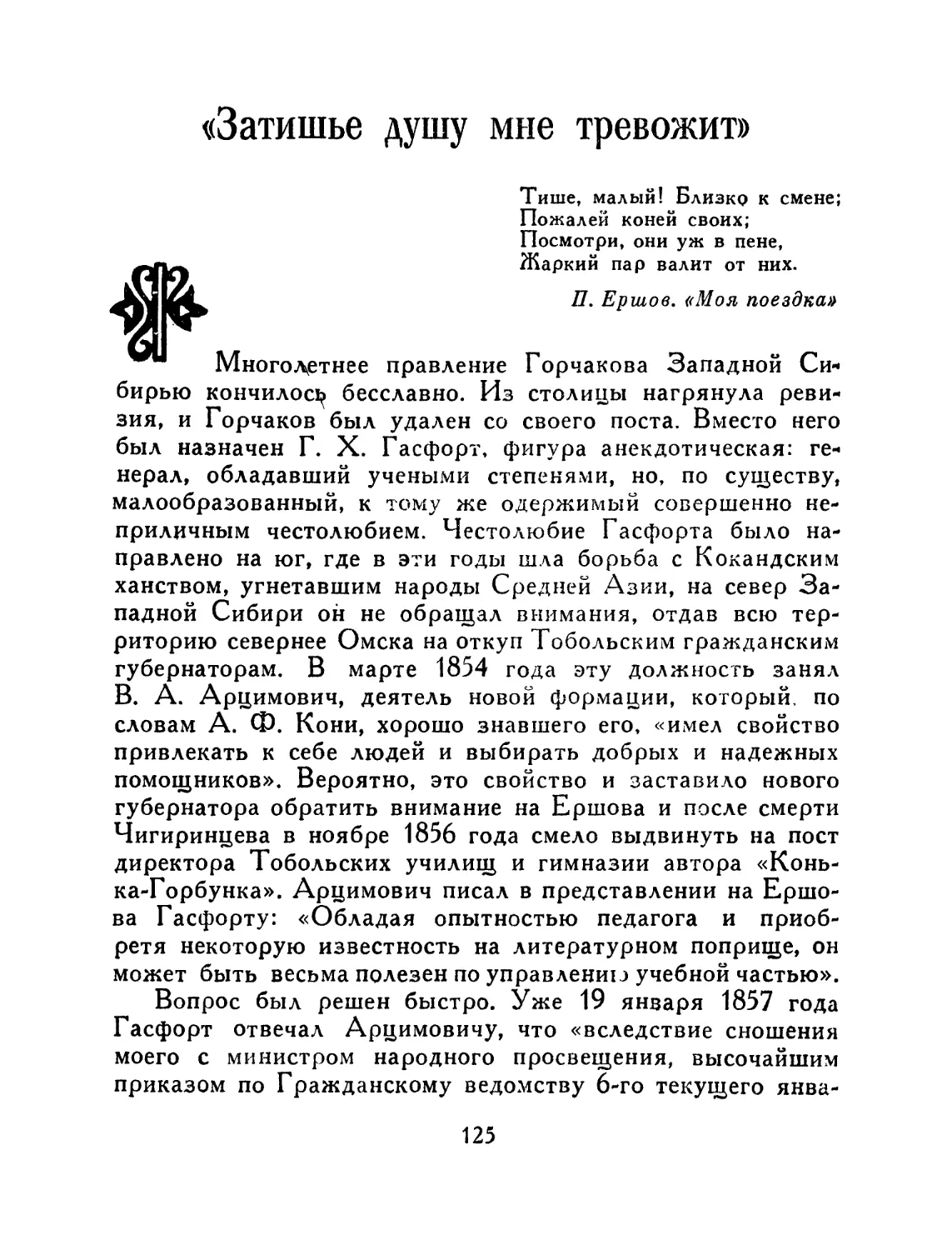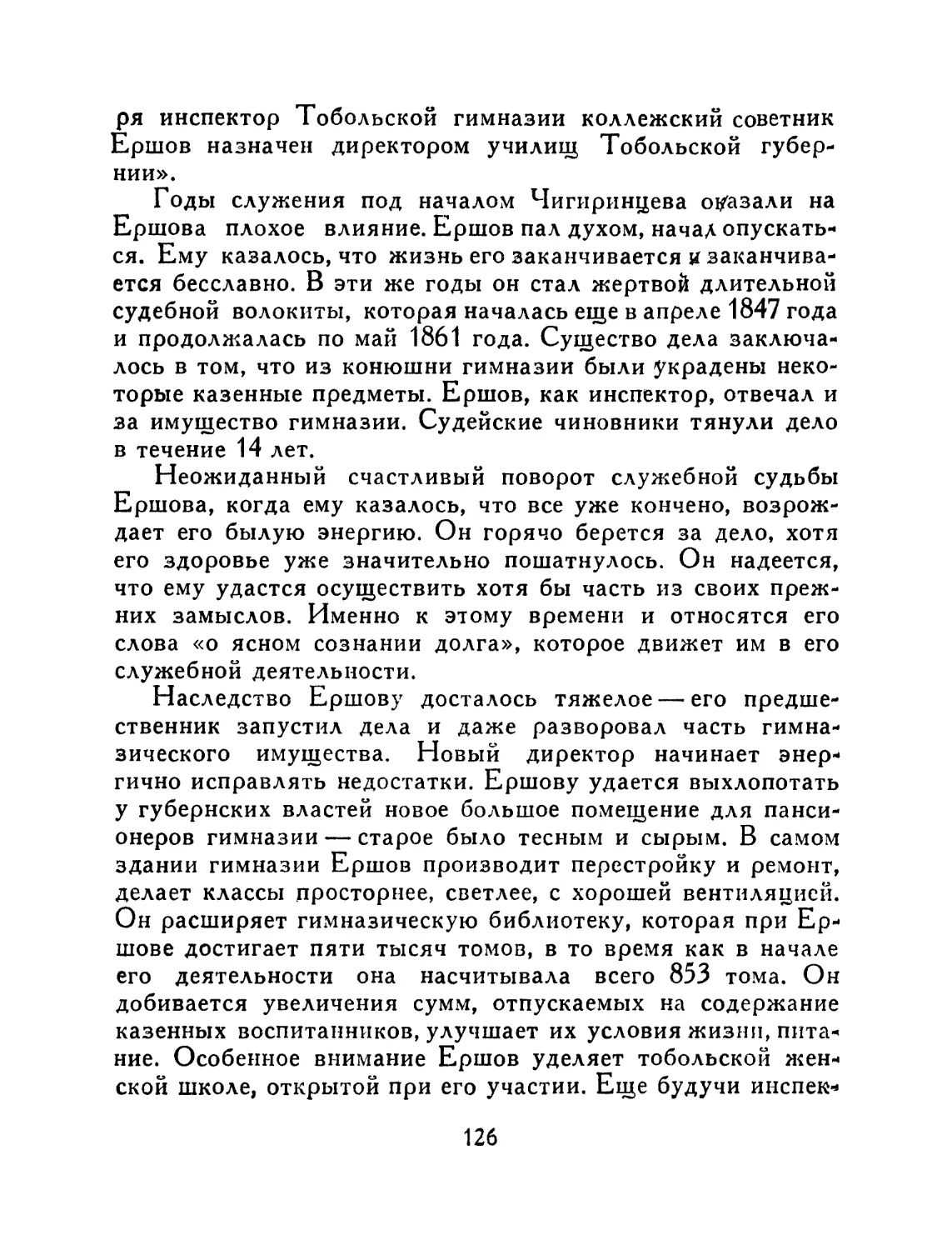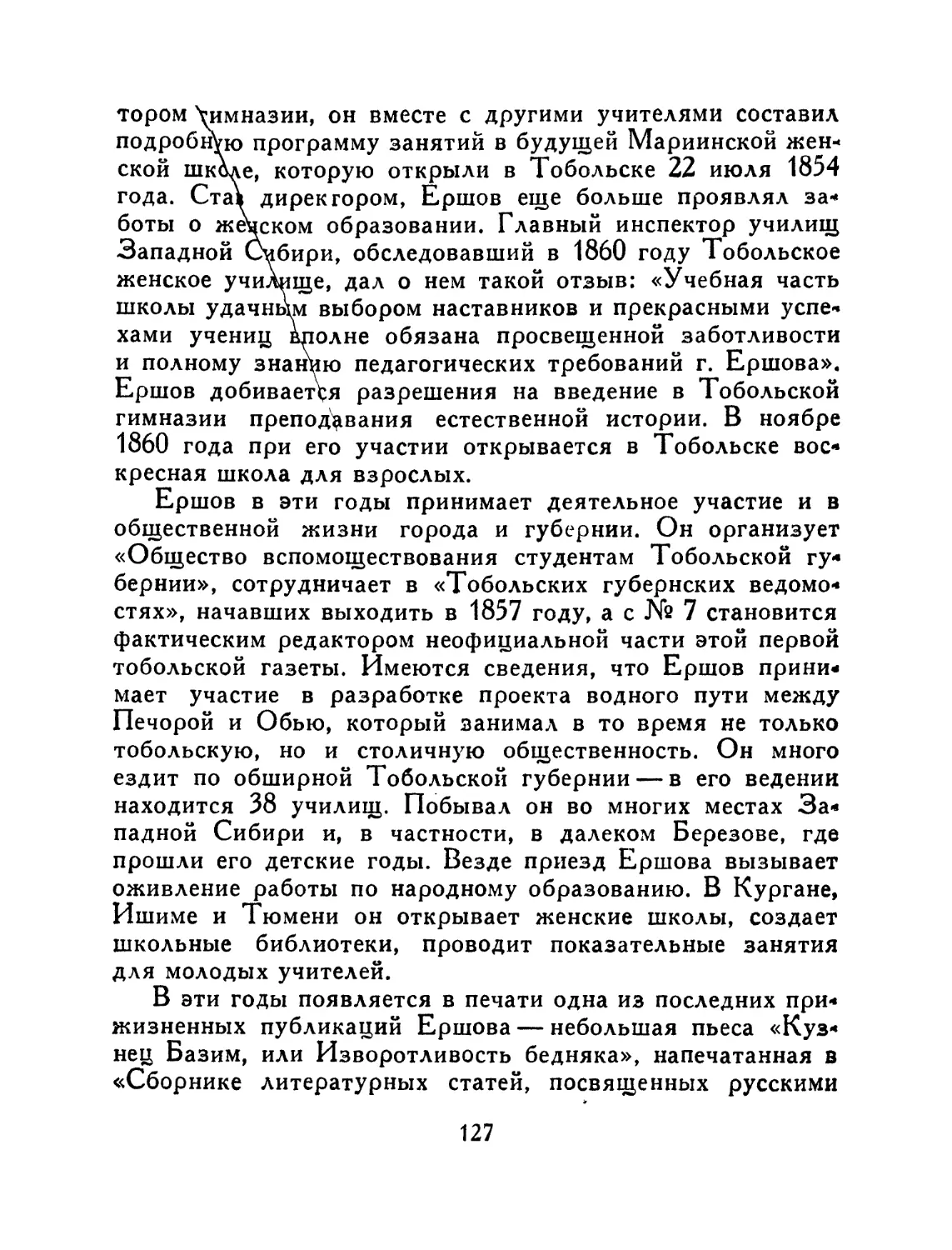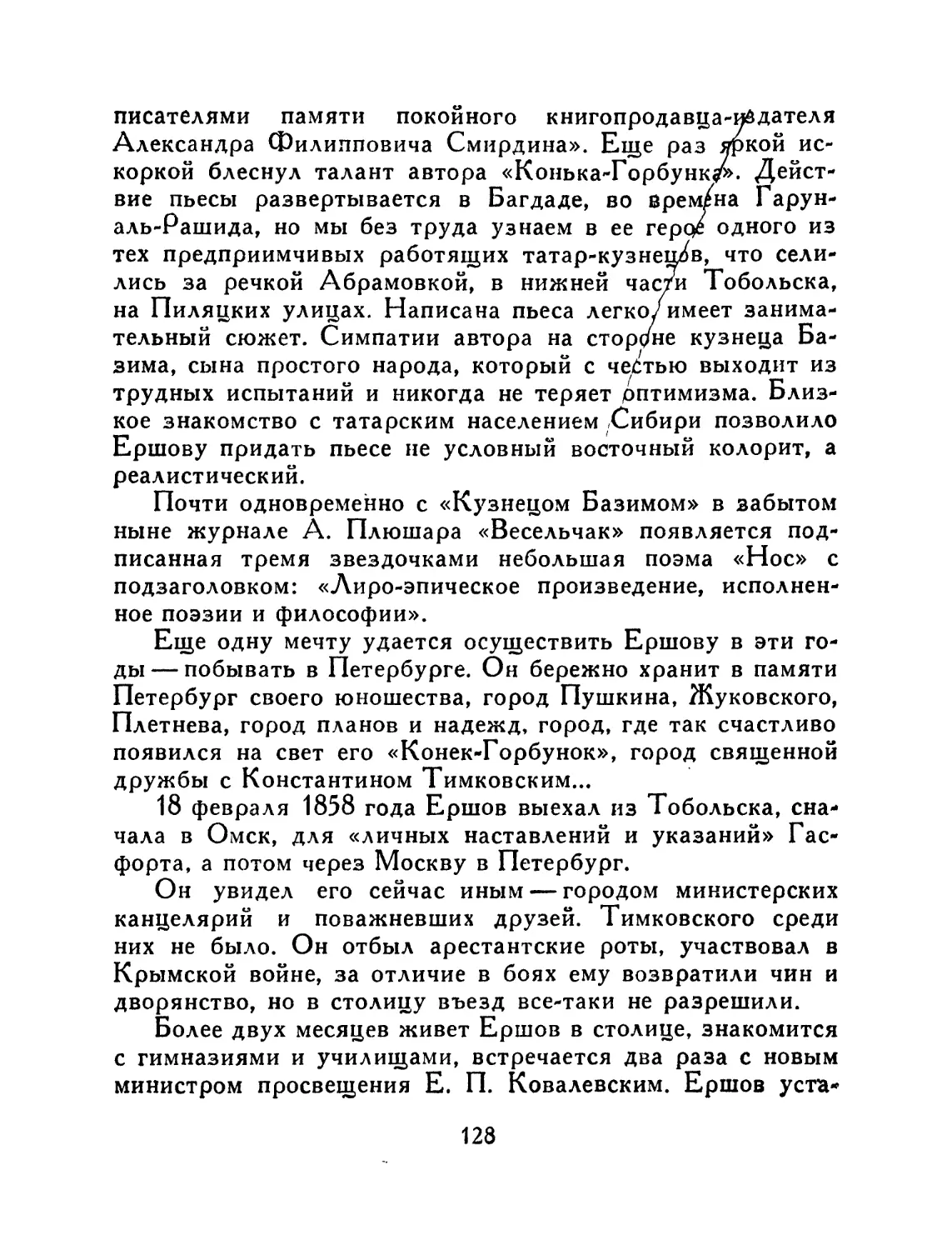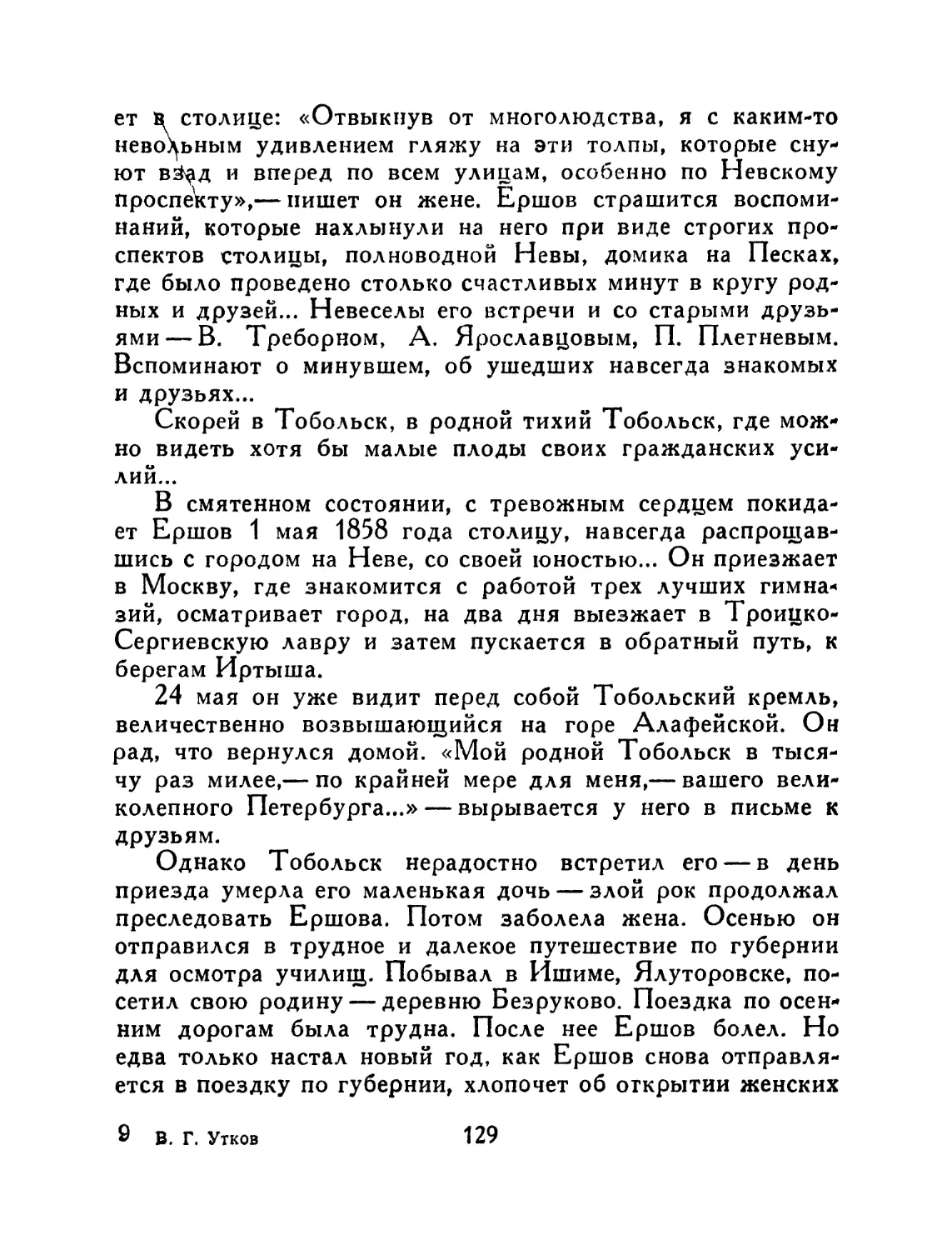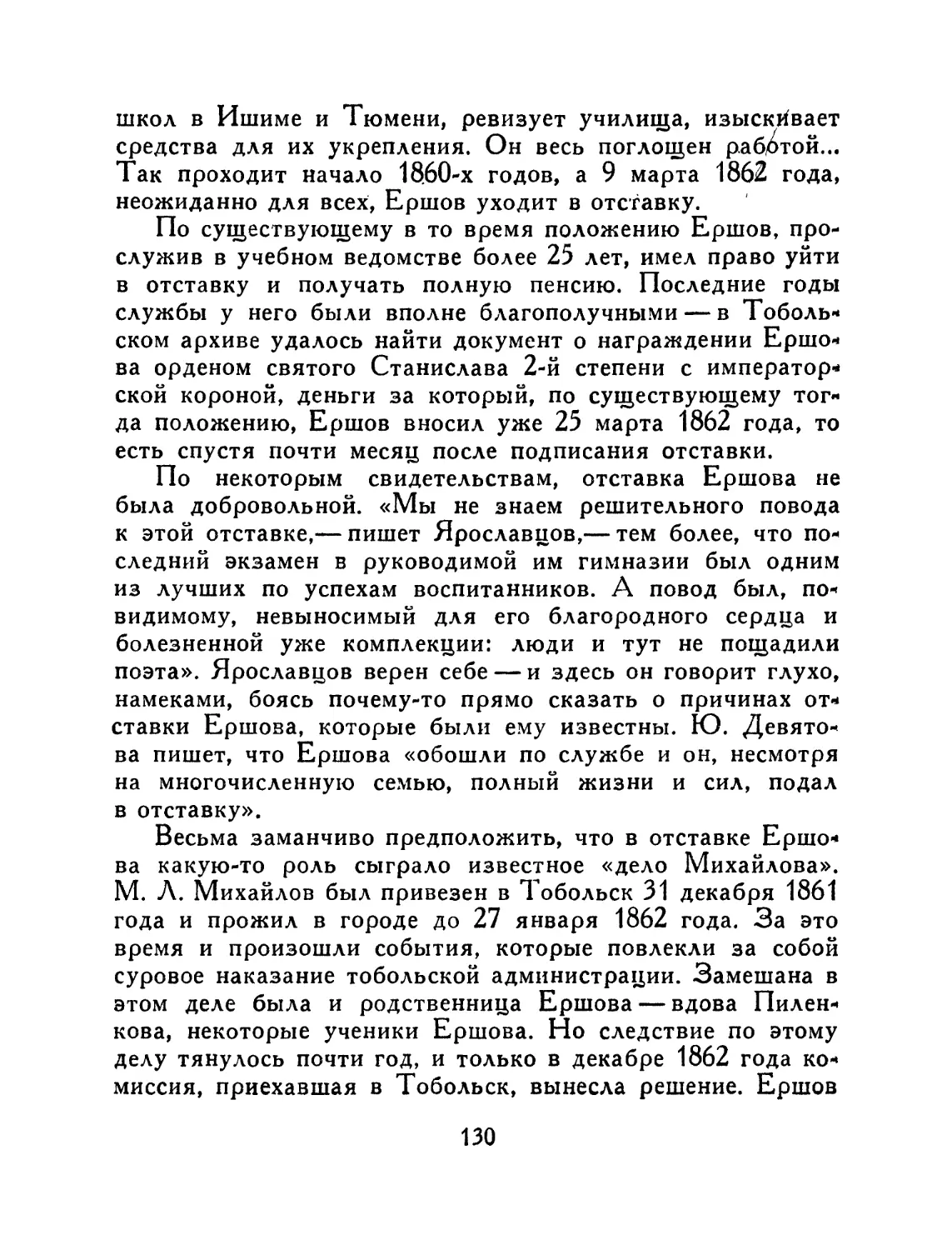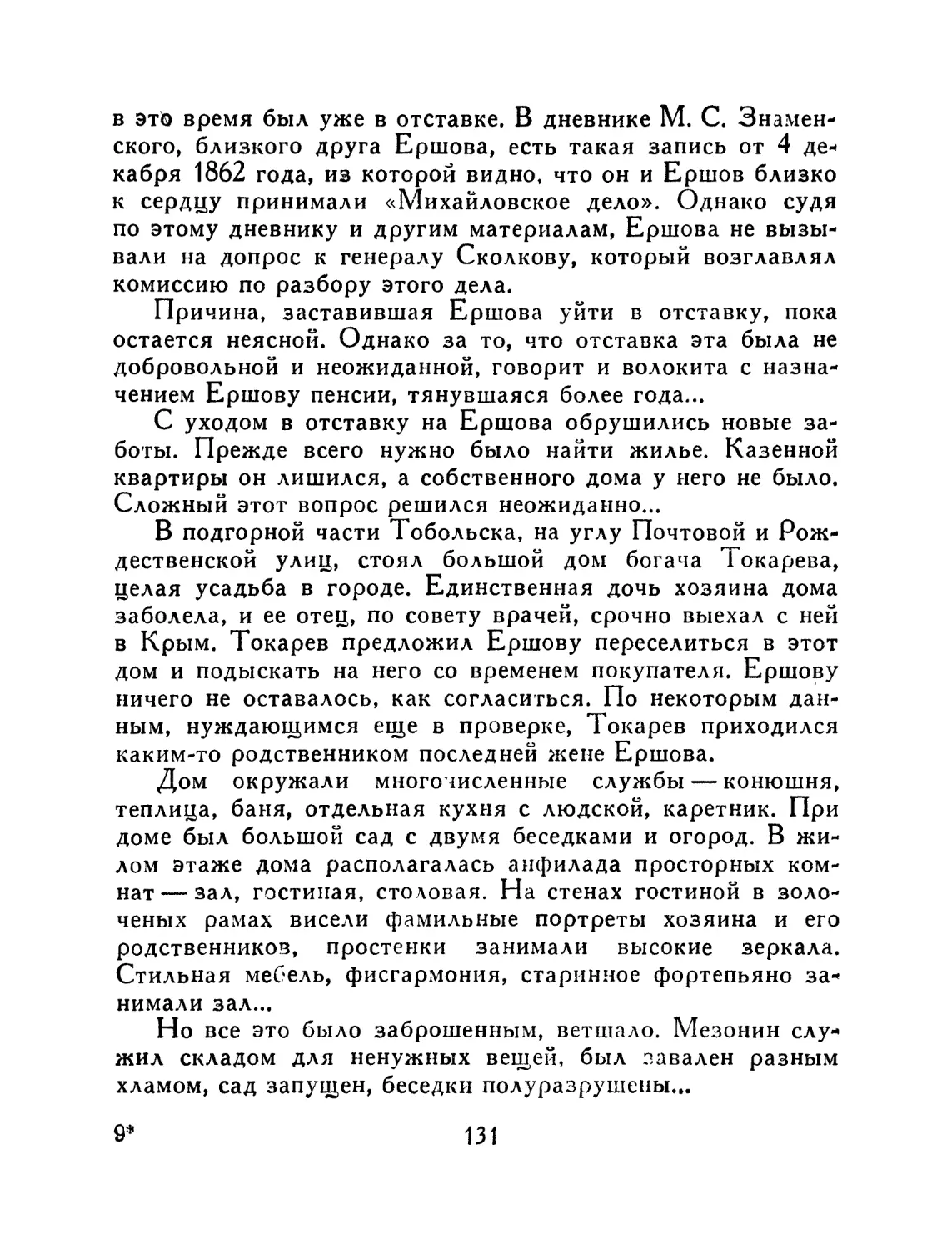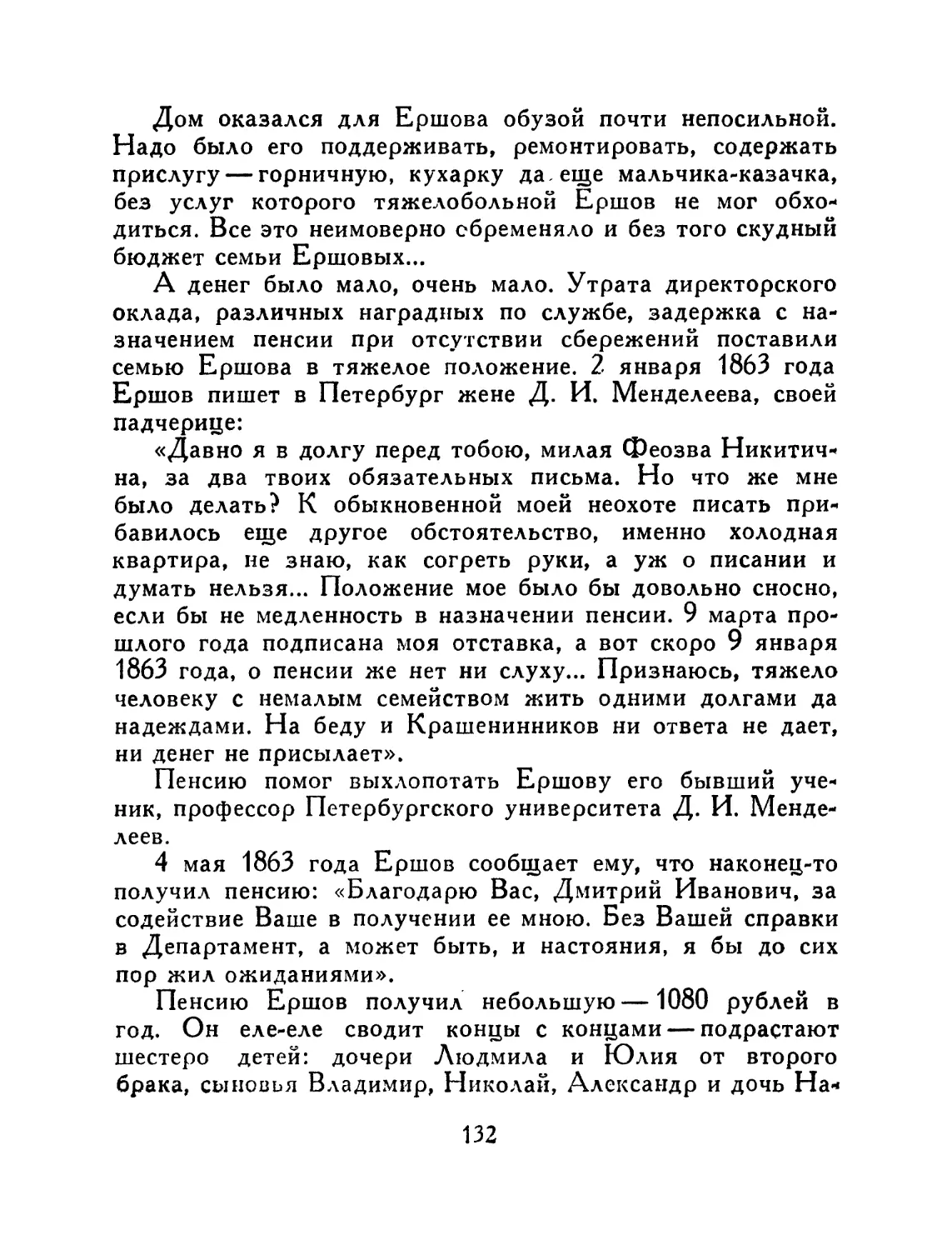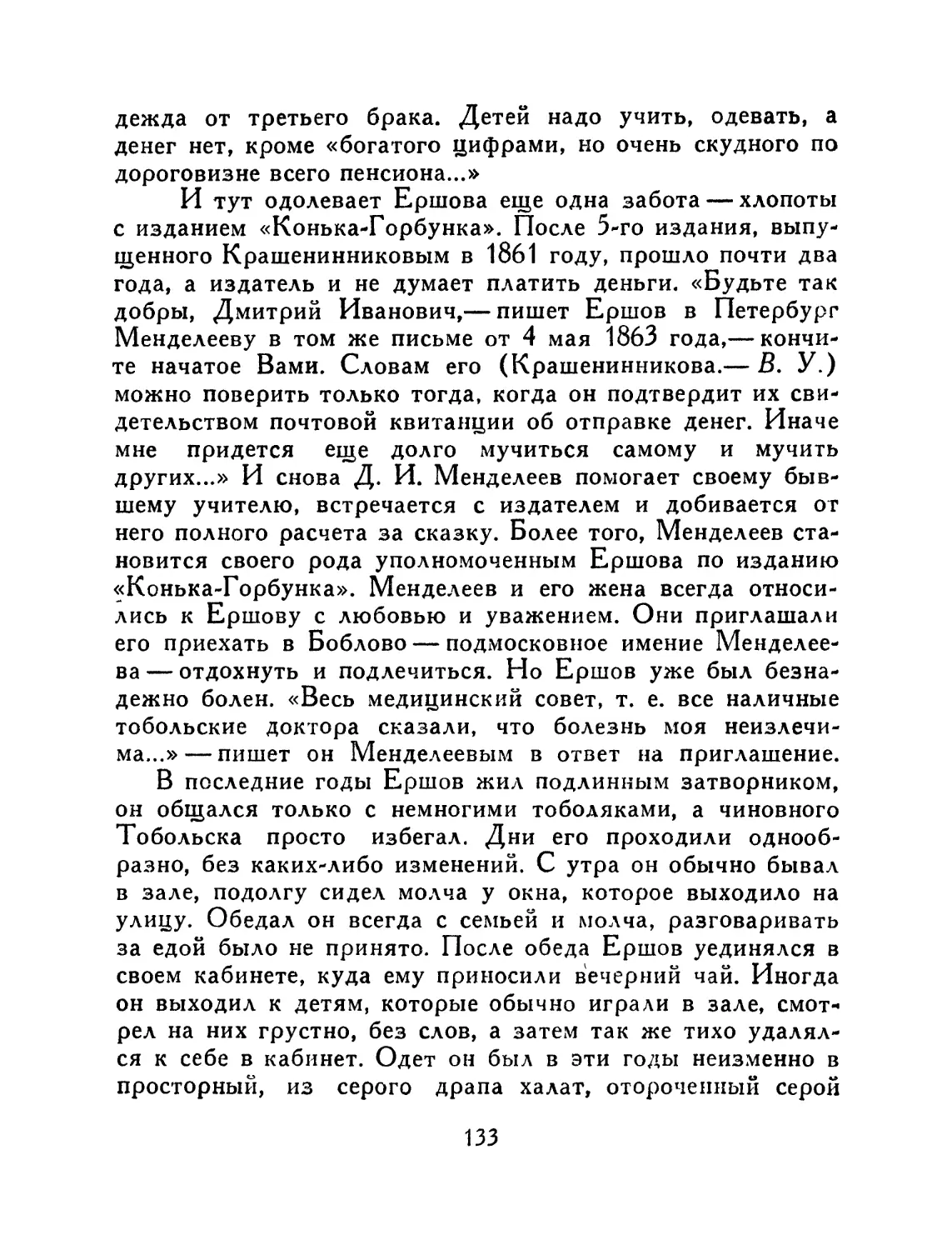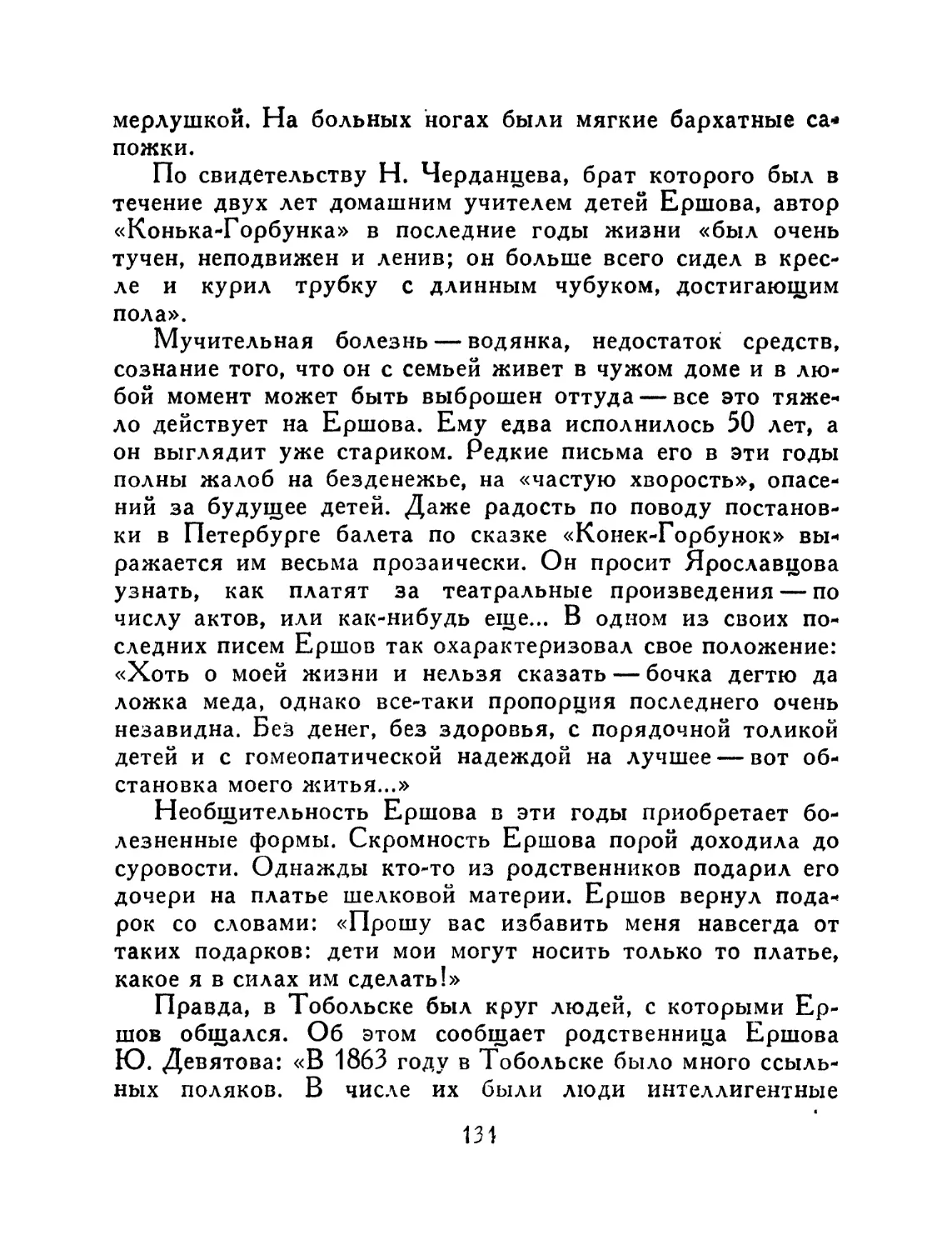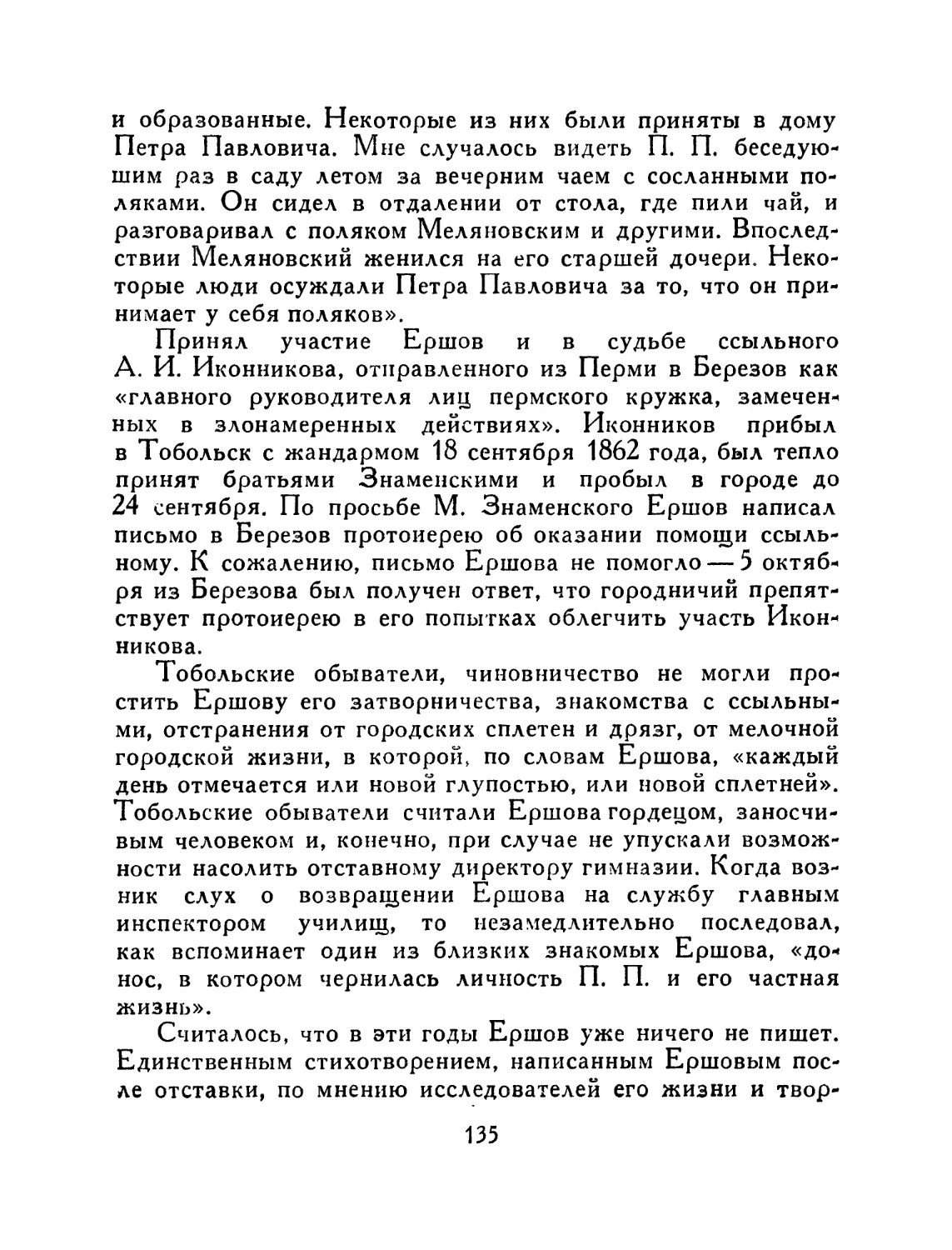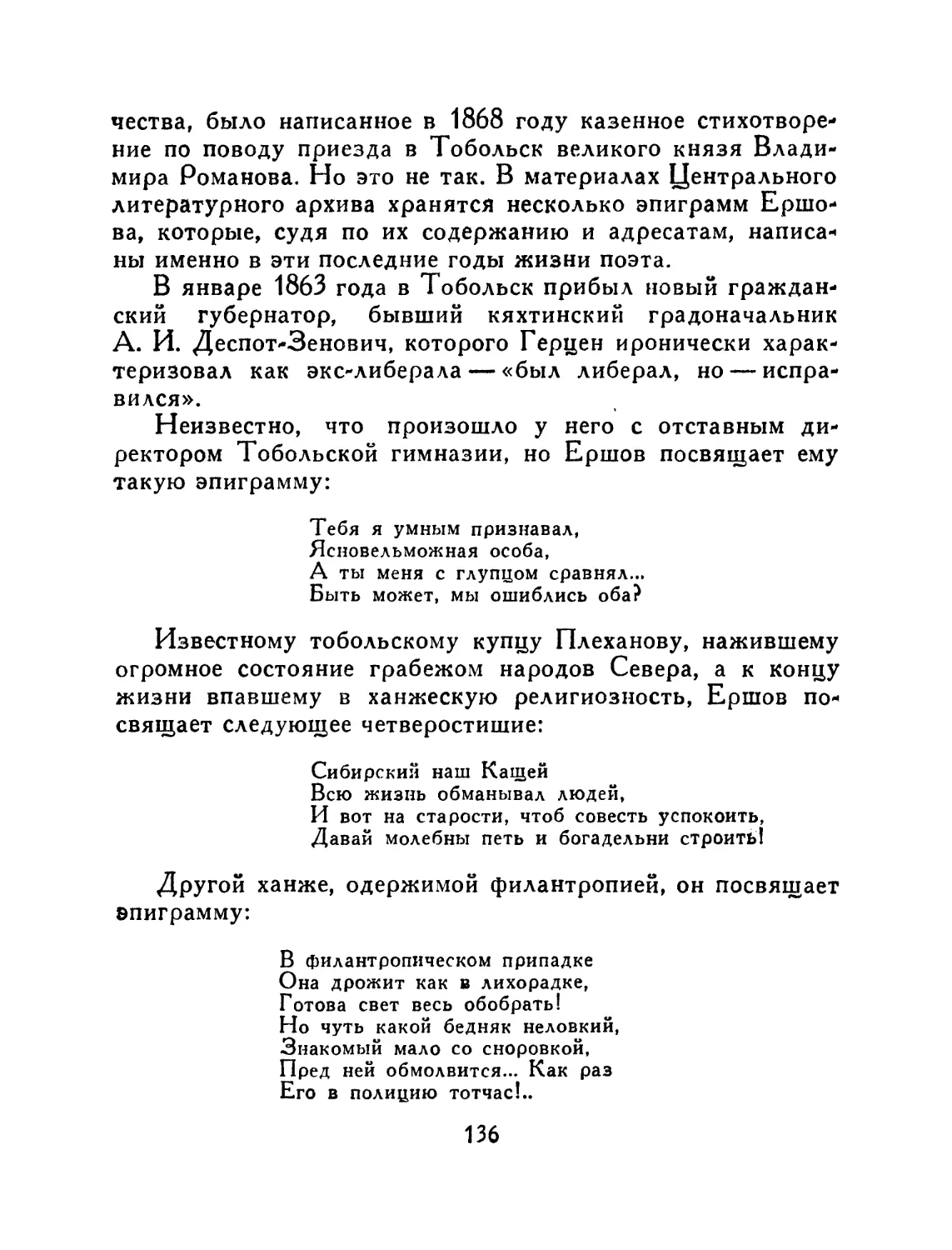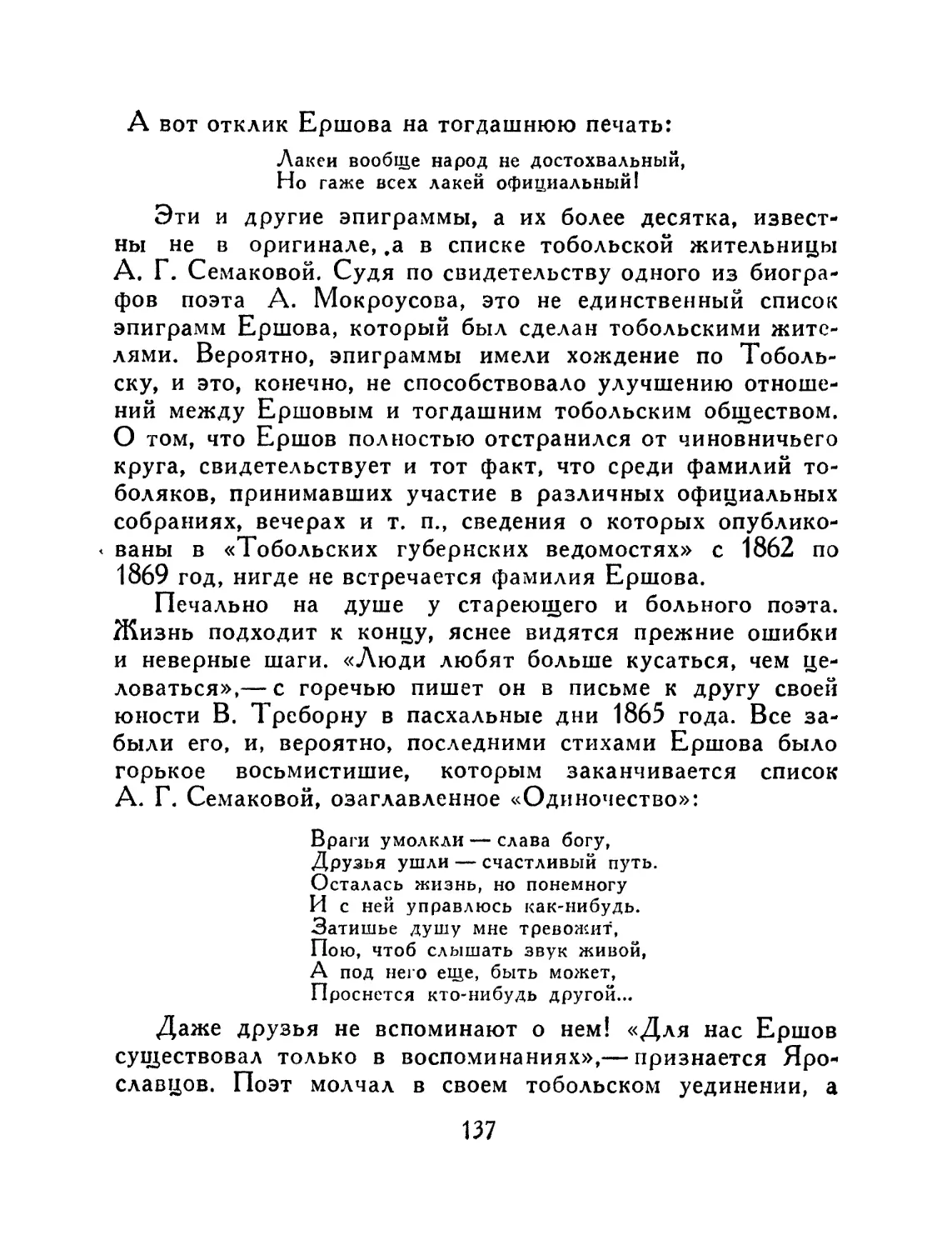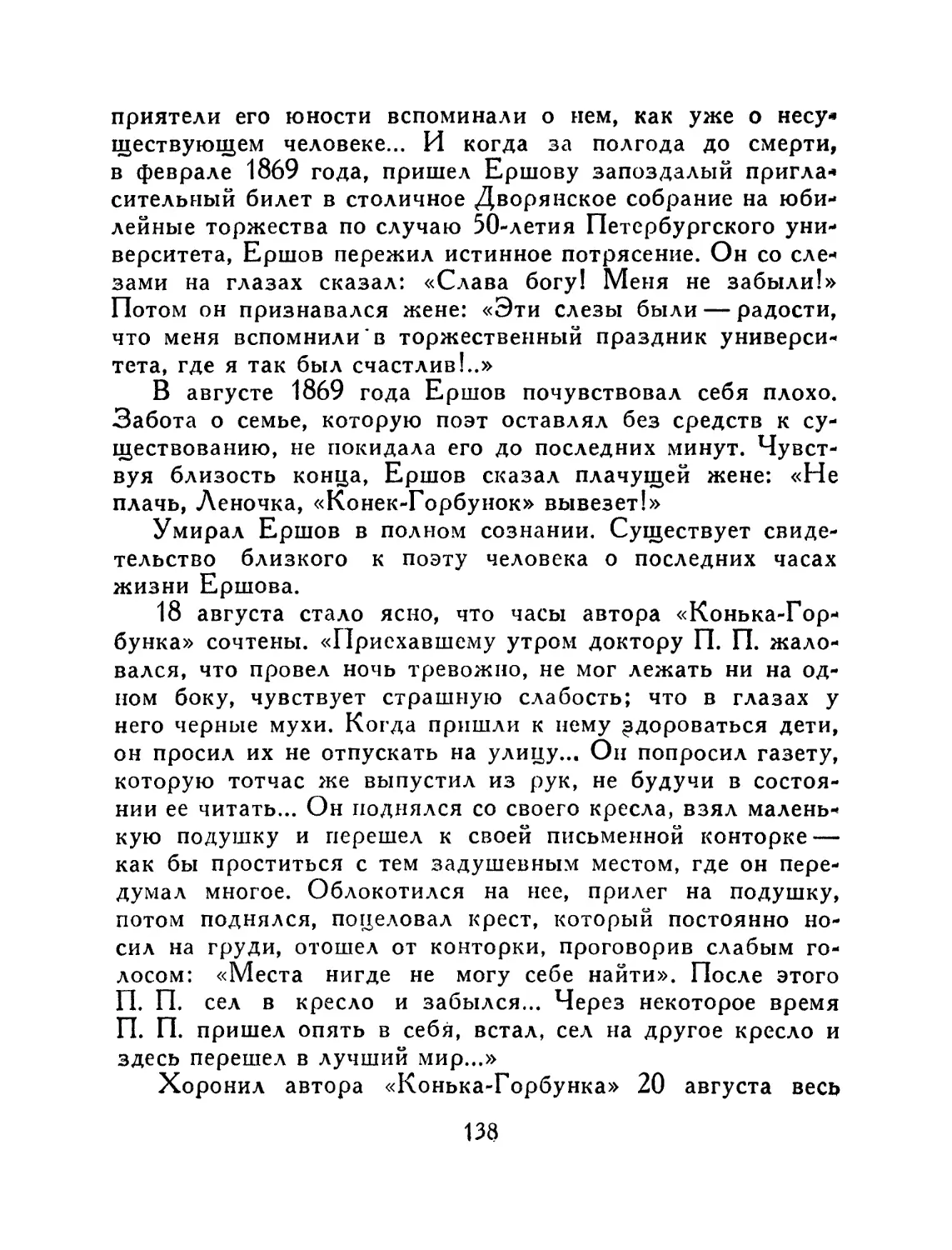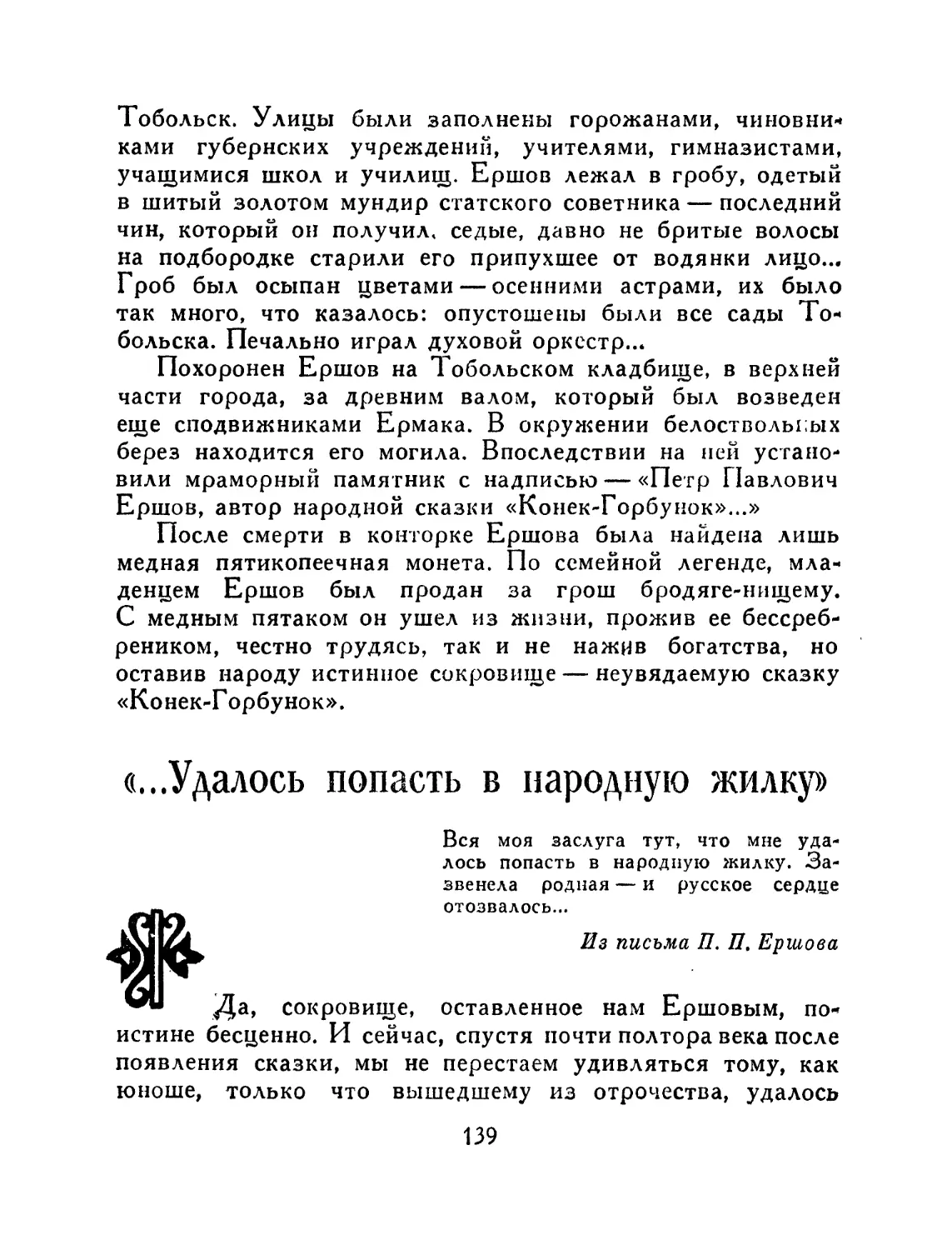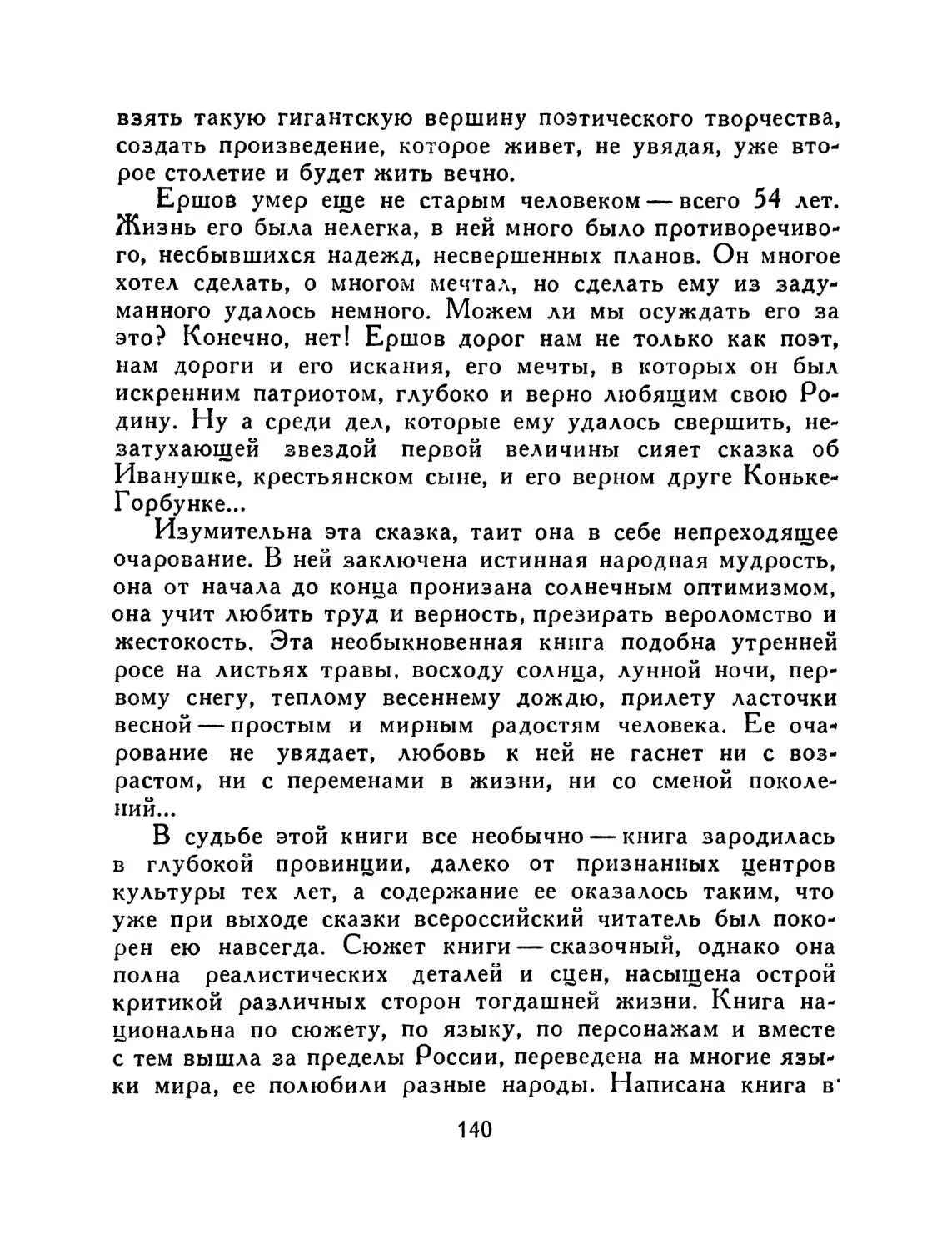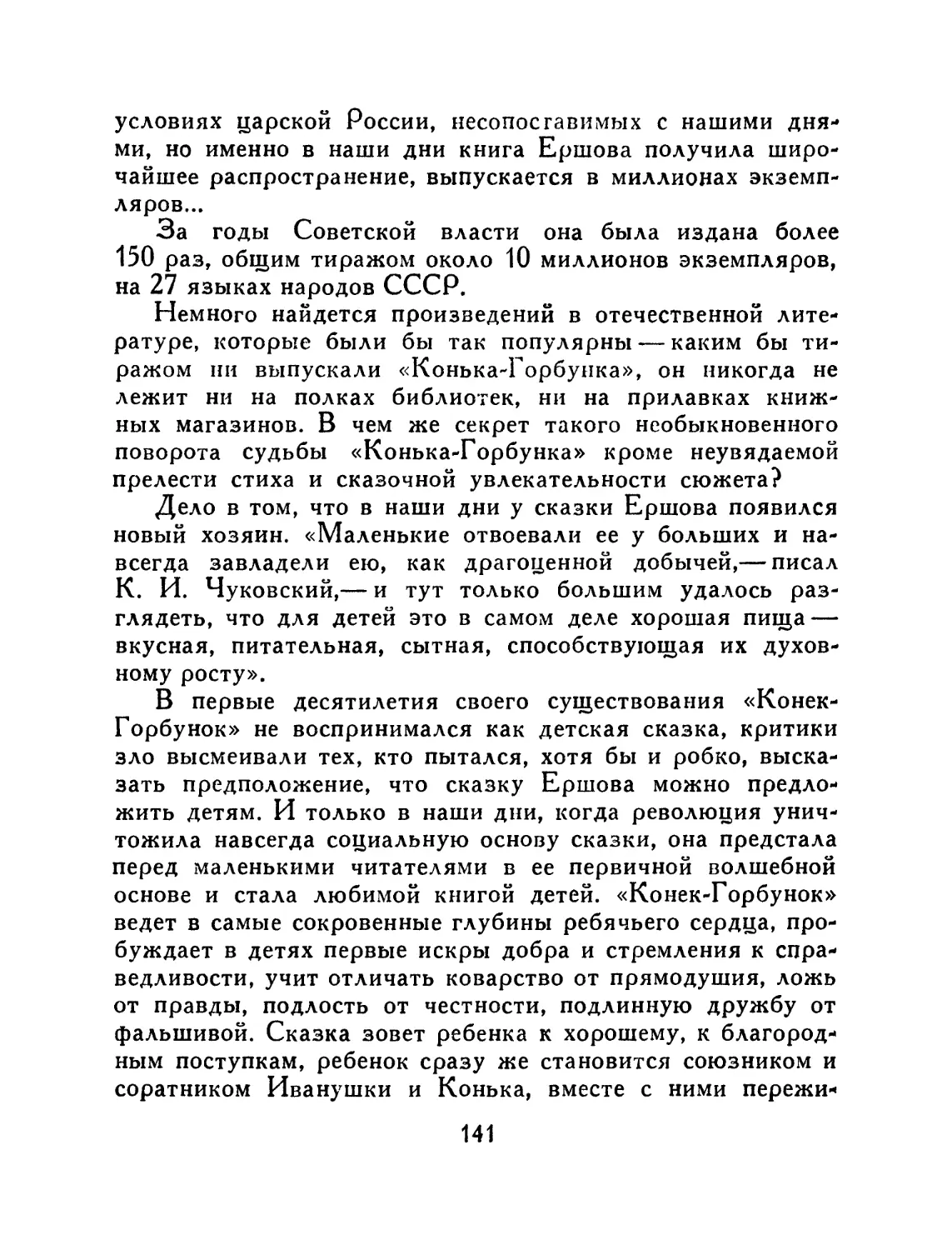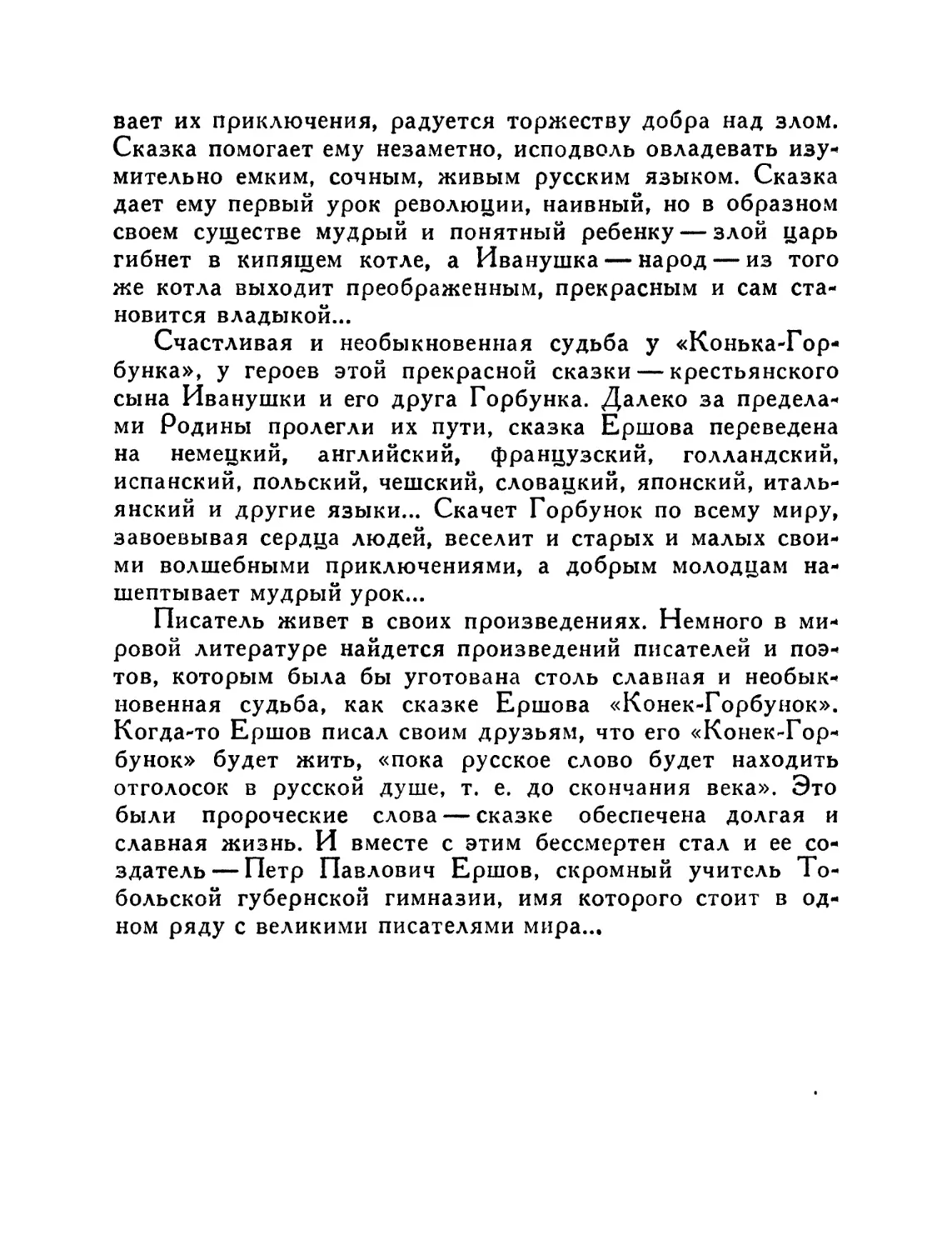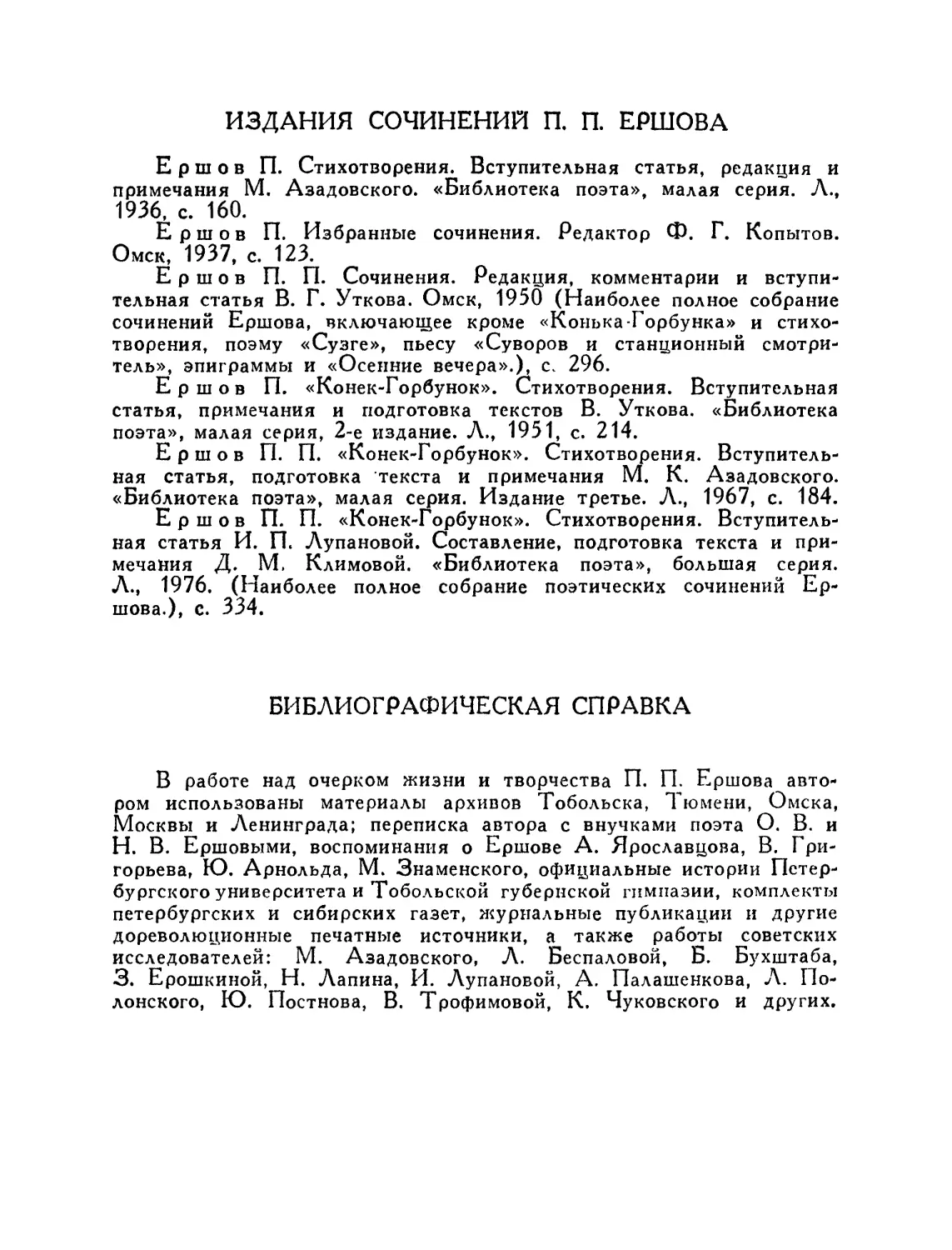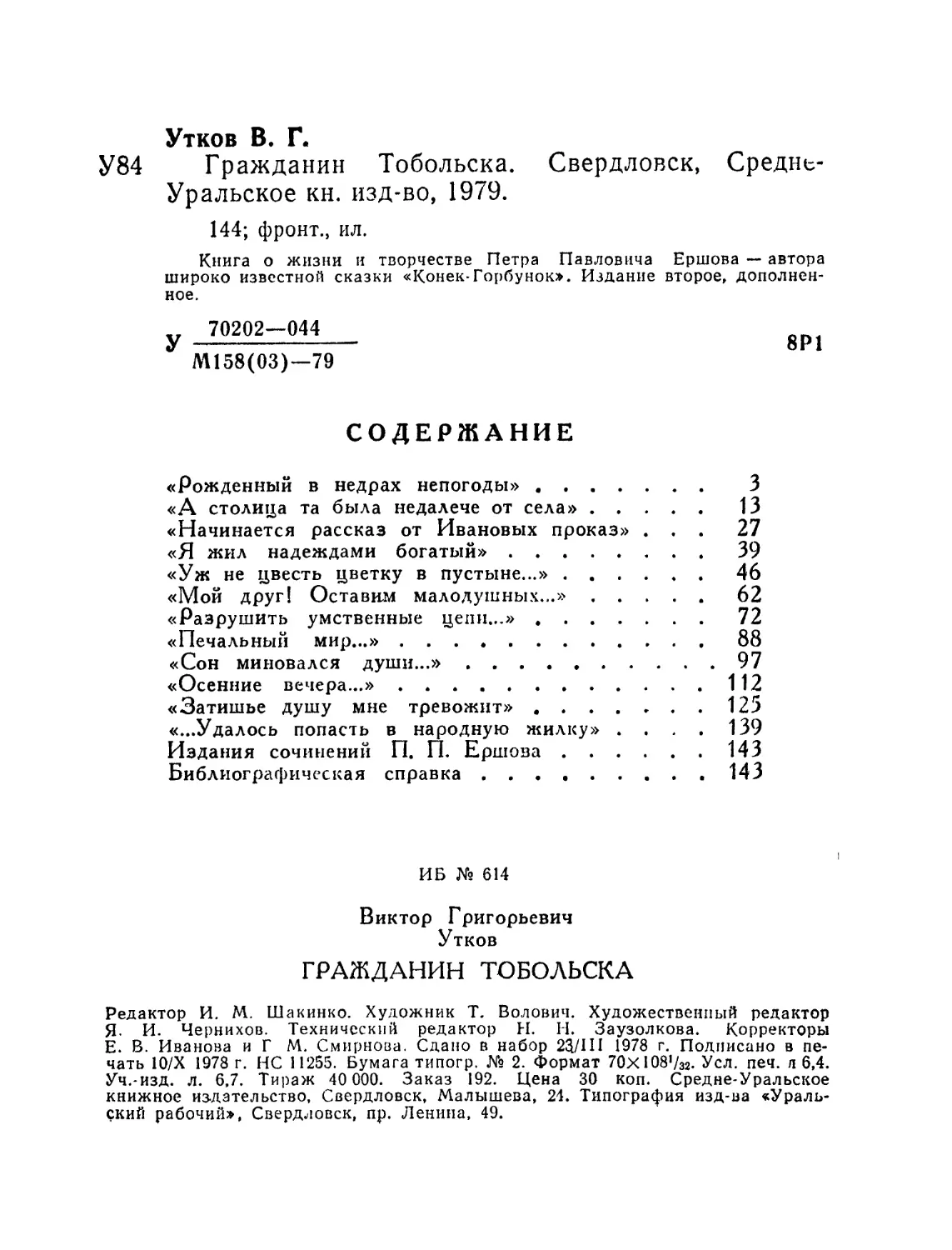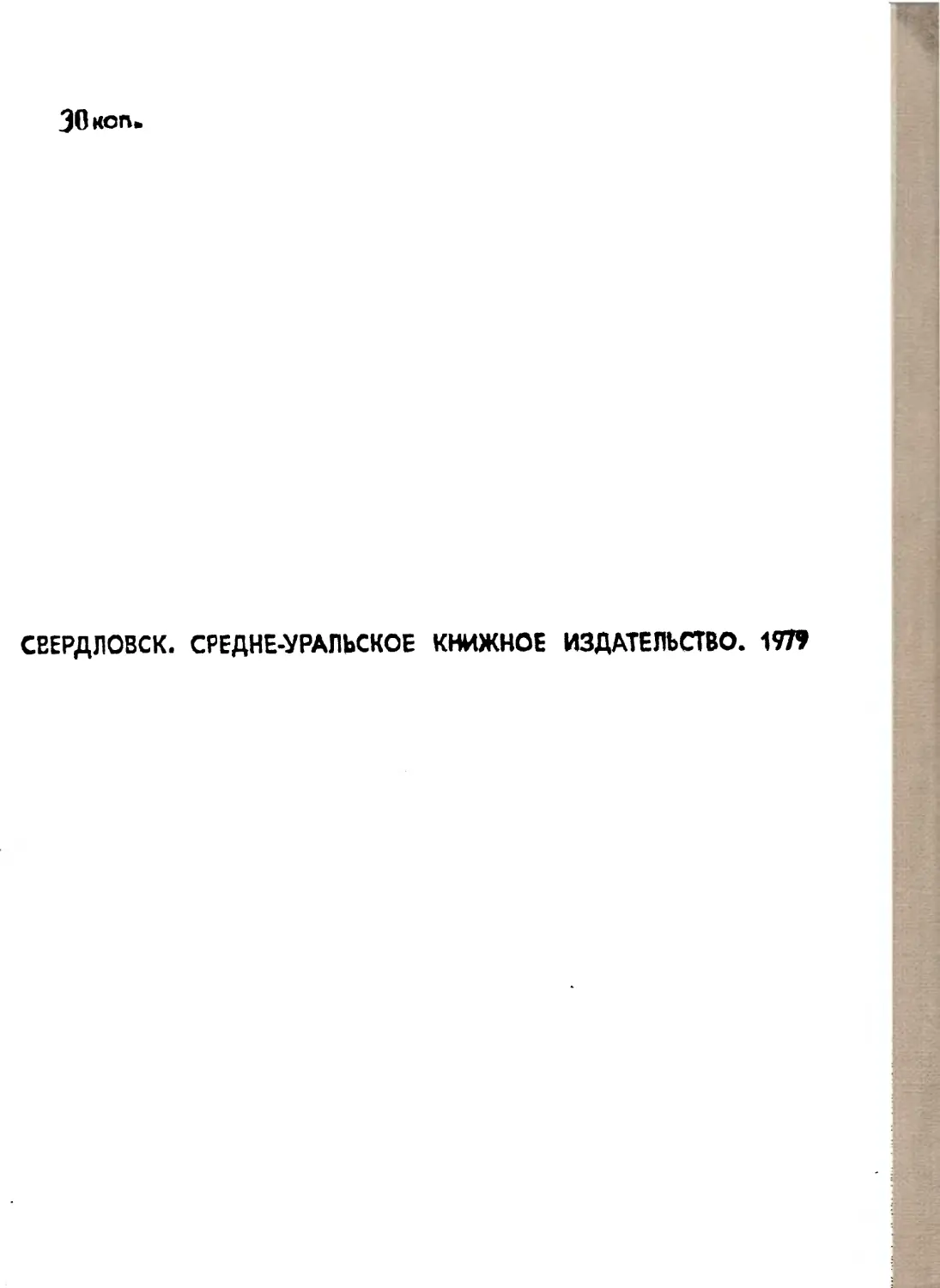Автор: Утков В.Г.
Теги: сказка жизнь и творчество жизнеописание писатель ершов конек-горбунок поэты
Год: 1979
Текст
. УТКОВ | ГРАЖДАНИН ТОБОЛЬСКА |3(а
В. Г. Утков
ГРАЖДАНИН ТОБОЛЬСКА
8Р1
У 84
Трудно найти человека, который не гнал бы прекрасной сказки о Коньке-Горбунке. Судьба ее необычна. Написанная девятнадцатилетним юношей, выросшим в глубокой провинции, сказка эта быстро завоевала любовь читателей. На протяжении почти 150 лет она издается громадными тиражами и на многих языках мира.
Менее известна судьба ее автора — уроженца Сибири, Петра Павловича Ершова.
В этой книге nucareMjB} Г^УтКов, посвятивший многие годы изучению жизни и творчества П. П. Ершова, рассказывает о нем как о писателе и поэте, педагоге и человеке, общественном деятеле и гражданине Тобольска, города, в котором прошла почти вся жизнь автора «Конька-Горбунка». Издание второе, дополненное.
у 70202-044
Ml 58 (03) -79
©Средне-Уральское
книжное издательство, 1979
«Рожденный в недрах непогоды»
С приветом горестным рожденья Уж было в грудь заронено Непостижимого мученья Неистребимое зерно.
Z7. Ершов. «Послание к другу»
1.
В стихотворении «Послание к другу» П. Ершов писал о себе:
Рожденный в недрах непогоды, В краю туманов и снегов, Питомец северной природы И горя тягостных оков, — Я был приветствован метелью,
3
Я встречен дряхлою зимой, И над младенческой постелью Кружился вихорь снеговой. Мой первый слух был — вой бурана...
Основа этих строк, несмотря на некоторую романтизацию, вполне реальна.
Ершов родился действительно на исходе зимы — 22 февраля 1815 года (6 марта по новому стилю). Место его рождения — деревня Безрукова—стояла в Ишимской степи, с юга сюда свободно прилетают через Тургайский прогиб из Каспийской низменности свирепые юго-западные ветры, а с севера и северо-востока устремляются жестокие бури, несущие снег и мороз, ледяное дыхание полюса.
Мальчик родился очень слабым, был одержим припадками, во время которых часами кричал без умолку. Родители, боясь потерять его, немедленно окрестили новорожденного, а затем, по старинному сибирскому обычаю, «продали» за грош нищему, чтобы вместе с ребеном «продать» и болезнь, которую, по народному поверью, нищий уносил с собой. Впоследствии, рассказывая об этом эпизоде, Ершов нередко добавлял: «Что мне эти чины и почести, когда я стою только грош!»
Родители будущего поэта были несчастливы — их дети, кроме одного сына Николая, родившегося в 1813 году, умирали младенцами. Ершов сказывал, что у него «было братьев и сестер человек двенадцать, и все они похоронены в разных городах».
Деревня Безрукова стояла на бойком месте, на тракте, связывающем Москву с Сибирью. В конце XVIII века она входила в Ишимскую оборонительную линию и называлась форпостом «с крепостью и рогатками, но без надолб», а после того как линия продвинулась южнее, превратилась в обычную деревню, жители которой занимались хлебопашеством и ямщиной. Это было типичное русское селение на хлебородной Западно-Сибирской низменности,
4
резиденция низшей полицейской власти тех лет — частного комиссара, должность которого исполнял отец поэта, Павел Алексеевич Ершов.
Служебный путь Ершова-отца не был ровным. За каких-нибудь пятнадцать лет он побывал на шести должностях, то поднимаясь, то опускаясь по служебной лестнице. В 1810 году он занимал сравнительно высокую должность в полицейской иерархии тех лет — был омским исправником. Затем последовало крутое падение, и мы видим П. А. Ершова в самом низу полицейской службы — частным комиссаром Черемшанской волости в деревне Безруковой.
Однако служебные неудачи преследовали его недолго. Из Безруковой он получает назначение исправником в Петропавловск — в то время крупный центр торговли с азиатскими странами. В Петропавловске Ершов не задерживается, вскоре в его послужном списке появляется новая запись — он назначается омским исправником, то есть возвращается на прежнюю должность. А после административной реорганизации Сибири в 1822 году назначается исправником северного Березовского края. Под его начало попадает огромная территория от Ледовитого океана до Самарова и Сургута и от Уральского хребта до Енисея. Исправник на этой территории был неограниченным и, по существу, бесконтрольным владыкой. Ершов к этому времени пользуется полным доверием высших административных властей губернии — тобольский губернатор поручает ему ревизию всех хлебозапасных магазинов по дороге от Тобольска до Березова.
Через два с небольшим года П. А. Ершов становится советником казенной экспедиции Омского областного правления. Затем он переводится на службу в Петербург, в отдельный корпус внутренней стражи, командовал которым Капцевич, бывший генерал-губернатор в Западной Сибири.
Служебные действия П. А. Ершова не отличались от обычного поведения полицейских чиновников тех лет —
5
П. П. Ершов.
подвластные ему крестьяне обвиняли его «в притеснениях и лихоимстве». Однако было бы несправедливо ограничиться только отрицательной характеристикой отца поэта. Он имел черты, которые выделяли его из окружающей чиновничьей среды. П. А. Ершов настойчиво стремился дать своим детям хорошее образование, не использовал свое положение для личного обогащения. Об этом говорит прежде всего полное отсутствие сведений о каком-либо недвижимом имуществе, принадлежавшем Ершовым в Тобольске, Омске или Петербурге. Приехав в столицу,
Ершовы поселились в небольшом деревянном доме на Пе-
сках, тогдашней окраине Петербурга. Дом не принадлежал им, в списках домовладельцев Рождественской части столицы за эти годы Ершовы не значатся. Вернувшись в Тобольск после окончания университета, Петр Ершов вме
сте с матерью живет у ее родственников, потом в доме родственников жены, затем на казенной квартире, а в конце жизни вынужден жить в доме богатого тоболяка Токарева, по стечению обстоятельств пустовавшем в течение ряда лет.
Мать поэта — Ефимия Васильевна — принадлежала к известному тобольскому купеческому роду Пиленковых, но не к главной его ветви, а к боковой. Ее отец Василий
6
Николаевич Пиленков был мелким городским торговцем. Сведений о Ефимии Васильевне сохранилось немного. Известно, что она родилась и выросла в Тобольске и была привязана к этому городу.
Семейное окружение, несомненно, наложило отпечаток на формирование склонностей и характера поэта, на его отношение к окружающему миру. Мы не ошибемся, если скажем, что именно семья помогла ему глубоко познать особенности чиновного мира тех лет, впоследствии блестяще отраженного в сценах «Конька-Горбунка».
Не менее важными для формирования мировоззрения, взглядов и творческого лица Ершова и особенно для понимания реальных истоков «Конька-Горбунка» были впечатления, лежащие за пределами семейного круга.
2.
До восьми лет Петр Ершов прожил в Петропавловске и Омске. Оба эти города были в то время весьма примечательными. Неся на себе все признаки российского захолустья с его неограниченной властью чиновников, полицейских и военных, они в то же время были как бы воротами России в легендарные страны юга и востока — Китай, Индию, Афганистан, Бухару, Ташкент, Коканд...
На базарах Омска и Петропавловска, на торжище Елизаветинского маяка почти круглый год велась шумная торговля с азиатскими гостями.
В превосходных сценах конного базара из «Конька-Горбунка», в рыночных эпизодах пьесы «Изворотливость бедняка», в картинах степной природы, запечатленных в поэме «Сибирский казак», в стихотворении «Палы» и других произведениях Ерцюва отразились впечатления детских лет. Мальчиком Ершов видел на базарах Омска и Петропавловска диковинных горбатых животных — верблюдов, которые, словно сказочные существа, неделями могли обходиться без пищи и без воды, преодолевая пус
7
тыни и горы. Возможно, что именно это воспоминание детства, сплавившись с эпизодами из русских сказок о Сивке-Бурке, с впечатлениями от ямщицких коньков и крестьянских лошадей, впоследствии и воплотилось в сказочный персонаж («на спине с двумя горбами») — Конька-Горбунка... Мальчик видел на базарах своего отца полновластным хозяином, перед которым гнули спину и приезжие торговые гости, и местные лавочники. Волшебный блеск павлиньих перьев, украшавших шапки и чалмы южных купцов, их сверкание и яркие краски, горевшие под сибирским солнцем, воспринимались мальчиком как отблески сказочных Жар-птиц... А конный торг, на который приводили из Степи чудо-скакунов, бешеные скачки джигитов, красование сибирских казаков на лихих конях — все это оставляло неизгладимый след в памяти мальчика...
Летом 1823 года Ершовы покидают юг Сибири и отправляются в далекое путешествие на север по великим сибирским рекам Иртышу и Оби в Березов. Путь был длинен, нетороплив, обилен впечатлениями и встречами. По дороге попадались рыбаки и крестьяне, беглые и бродяги, солдаты и монахи, словом, весь разношерстный своевольный люд, который заполнял тогдашние дороги Сибири. Лодка, в которой плыла семья Ершовых, часто останавливалась, отец проверял хлебозапасные амбары, встречался с местным начальством. Сыновья, предоставленные самим себе, знакомились с населением деревень, сел, юрт...
Плывя на север, мальчик Ершов воочию увидел необыкновенное обилие и разнообразие рыбьего царства. Многопудовые осетры, важные и жирные, похожие на сановников, юркие стерлядки, нежные нельмы, красноперые красавцы язи — на Иртыше и Оби... На таежной Сось-ве — знаменитые березовские ерши, которые, по свидетельству П. Словцова, «превосходили всех ершей несравненною величиною и икряностью», там же — деликатесная сосьвинская сельдь, по-местному тугин, удивительно
8
нежная рыбка, обитающая только в водах этой северной реки. Немало мальчик слышал по дороге сказок, легенд, присловий, загадок, связанных с рыбьим царством и его представителями, особенно с ершом-забиякой, любимым героем народных произведений...
Городок Березов в то время был небольшим, насчитывал около 800 человек жителей. Он утратил свою былую шумную славу перекрестка важных дорог. Однако еще славилась в северных широтах знаменитая Березовская ярмарка, на которую съезжались ненецкие и хантыйские старшины для принесения присяги и приезжали с пушниной торговать промысловики из Гыдоямских и Ямальских тундр, с Казыма, Сосьвы, Ляпина, из Ижмы и Печоры, купцы из Тобольска и Обдорска...
В Березове было много такого, что наглядно говорило о прошлом края — в соборной городской церкви хранились знамена дружины Ермака: одно деревянное знамя-икона, дар Ермаку от Максима Строганова, второе — полотняное, с изображением святого Михаила Со-лунского на коне и поверженного Кучума, царя Сибирского. Рядом с собором возвышался холмик одинокой могилы, обнесенный оградой. На старом, почерневшем от дождей и ветров кресте висела жестяная буква «М». В могиле была похоронена невеста Петра II, Мария, несчастная дочь опального князя Меншикова. И сам князь нашел свой конец в северном Березове... А по другую сторону соборной ограды лежали четыре чугунные пушки с клеймами — «1740». Они принадлежали когда-то Пугачеву и в назидание потомству были «сосланы» Екатериной II на берега Сосьвы...
В детских играх и впечатлениях, в рассказах березов-ских жителей открывалась Петру Ершову история его родины. Он изучал ее не по книгам, а из уст живых людей, потомков первых русских, пришедших в эти края. Фамилии коренных жителей Березова — Никитовы, Пановы, Шаховы, Первовы — напоминали о сотенных, сподвижниках
9
Ермака,— Никите Пане, Перьяке, Шахе. В Березове живы были предания о первых походах в Сибирь, о сражениях С Кучумом, о путешествиях казаков-землепроходцев, открывателей новых земель. Русские люди Березова бережно хранили и передавали из уст в уста сказания и легенды прошлого.
В Березове жил купец А. И. Нижегородцев, человек интересный, ума пытливого и оригинального. Этот «бере-зовский благонамеренный житель», как называет его П. Словцов, посеял в Березове ячмень, овес и коноплю и собрал первый урожай в этих суровых северных местах. Известен был Нижегородцев также и тем, что, странствуя по северу, нашел на берегу одного из заливов Карского моря выброшенного на берег кита. Бока кита были изрыты — ненцы брали сало и мясо на корм собакам, похозяйничали там и песцы. Нижегородцев по просьбе П. Словцова описал эту находку, обмерил кита, а Словцов опубликовал это описание в «Московском телеграфе», а затем и в своей книге «Письма из Сибири 1826 года» (М., 1828). Находка Нижегородцева была несомненной сенсацией и не только в Березове, но и в Тобольске, и даже в столице, узнавшей о ней из статей Словцова. Наряду с библейской легендой о проглоченном китом Ионе, народными рассказами о «царе рыб» кит Нижегородцева мог в дальнейшем послужить реальной основой для создания П. Ершовым неповторимого образа «державного кита», выброшенного на берег в наказание за свои прегрешения...
Березовские впечатления были яркими и запомнились Ершову на всю жизнь. Здесь, мальчиком, он пережил первое романтическое чувство, оставившее в нем глубокий след.
Был и другой Березов. И его запомнил Ершов на всю жизнь. «Березовское общество,— рассказывал он,— состояло в то время все из оригиналов; если описать его, то никто не поверит, скажут — карикатура. Был там экспедитор,
10
был он прежде денщиком, но выслужился как-то, и прислали его в Березов экспедитором; балагур он был страшный. Что он делал, когда у него денег не было: возьмет, бывало, да и лотерею; да ведь что разыгрывал-то? Например: пара сапогов, один, пишет, совершенно годен к употреблению, другой требует починки; и все в таком роде. Ну, для смеха и разберут билеты, а он — в выигрыше. Или — судья там был, вечно, и летом и зимой, в преогромной меховой шапке, и никогда в гостях с нею не расстается, так и держится за нее обеими руками. Увидит, бывало, какую вещь, понравится она ему, сейчас в шапку и к себе домой. Моего отца это озадачило; но ему сказали: «Не беспокойтесь, идите к нему в дом: все вещи так добытые он кладет на стол, и хозяин может преспокойно взять свою и унести обратно...»
Персонажи воспоминаний Ершова — реальные люди. Исследуя архивные материалы, удалось восстановить их имена. Судьей в то время был Максим Федорович Карпов, а экспедитором Петр Яковлевич Торгошин. Последний был действительно незаурядной и оригинальной личностью — пятнадцати лет он поступает рядовым в 18-й егерский полк, участвует в Отечественной войне 1812 года, получает боевые награды и офицерский чин. В штат Сибирского почтамта Торгошин был назначен в 1821 году.
Обстановка, в которой проходило детство Петра Ершова, была противоречивой, полной социальных конфликтов и контрастов. Она не могла не оставить в восприимчивом, рано развившемся мальчике глубокого, а подчас и болезненного следа, который не исчезал в нем до конца жизни. Он видел чиновничий произвол, который был так обычен для Сибири тех лет,— «жить в Сибири холодно, да служить тепло», говаривали чиновники в те времена и грели руки, где только могли. Недаром ему так запомнился судья-вор, обра& удивительной обличающей силы. Дух вольнолюбия и независимости был силен в сибирском люде. В народе жили легенды о справедливом народном
11
царе, в которых слышны были отголоски недавней пугачевщины — со времени восстания прошло всего 50 лет. В Петропавловске, Омске, Тобольске еще живы были участники этих событий, они помнили, как войска Пугачева заняли Курган, пересекли дорогу на Москву и угрожали самому стольному граду Сибири — Тобольску. С разгромом Пугачева идея справедливого крестьянского царя не была убита в народе, она затаилась, перешла, как это часто бывало, в сказки, в бывальщины, в притчи. Разговоры, песни, сказки, поговорки, присловья, которые слышал мальчик Ершов на почтовых станках, на постоялых дворах, в пути от ямщиков и крестьян, от гребцов на лодках и рыбаков, всегда содержали в себе элементы неуважения к властям, к царю и его слугам; о чиновниках и служителях церкви говорили как о захребетниках, живущих за счет народа. В сказках и песнях прославлялся простой человек, крестьянский сын, землепашец, солдат... Эти детские впечатления оказали решающее воздействие на создание юношей Ершовым сказки «Конек-Горбунок», в которой он выразил думы и чаяния народные.
А с другой стороны была семья, в которой он слышал иные разговоры, видел иное отношение к царю, его слугам, к церкви, был отец—чиновник, полицейский...
Ершов не мог не видеть этого противоречия и, конечно, не мог быть к нему равнодушным. Так
...было в грудь заронено Непостижимого мученья Неистребимое зерно —
то начало творческого, сознательного отношения к окружающей действительности, критического неприятия повседневности, которое отличает талант от посредственности.
В Березове братья Ершовы начинают заниматься в уездном училище. Они не успели его окончить — отец получил новое назначение: советником казенной экспедиции областного правления в Омске. Он решается на разлуку
12
с сыновьями — по дороге в Омск оставляет сыновей у родственников жены, купцов Пиленковых, а сам с Ефимией Васильевной отправляется к месту новой своей службы.
Мальчики Ершовы оказались в Тобольске без родителей. После окончания уездного училища они поступили в губернскую гимназию, единственную на громадной территории Западной Сибири.
«А столица та была недалече от села»
Тут коней они впрягали И в столицу приезжали...
*
(XI Тобольский кремль виден на много верст. При подъезде к городу с низовьев Иртыша или из Заиртышья на горизонте, среди высокого простора, начинает вырисовываться величественный столп Софийского собора, а затем и неповторимый ансамбль каменного Кремля, единственного в Сибири. Постройки его осуществлены настолько соразмерно с окружающим рельефом, что подчас даже забывается, что они — дело рук человеческих. Неповторима центральная часть Кремля — Прямской взвоз, уходящий многоступенчатой лестницей в полукруглый величественный проем Шведской арки, над которой простерлось хранилище казны. Рентерея — удивительное сооружение, опирающееся на склоны, соединяющее воедино правую и левую части Кремля: власть духовную — архиерейский дом с ансамблем церквей — и власть светскую — генерал-губернаторский дворец.
Таким — величественной град-столицей, что стояла в окружении сел и деревень, увидели Тобольск мальчики Ершовы, когда зимой 1825/26 года подъезжали к нему.
13
Тобольск.
Позади оставались тысячи верст утомительного зимнего пути по бескрайним равнинам Оби и Иртыша, мимо редких деревень, юрт, почтовых станков, занесенных снегом...
Тобольск к этому времени еще не утратил своего величия, хотя слава его была уже на закате.
Еще устремлялись к Тобольску купеческие обозы с севера, юга, запада и востока, еще скакали по Московскому тракту фельдъегерские тройки с пакетами, запечатанными сургучными орлами,— важными государственными бумагами в адрес тобольских властителей, еще исходили из тобольских канцелярий грозные распоряжения и приказы, которые должны были исполняться беспрекословно и быстро...
Жизнь здесь шла в служебной суматохе, военных парадах, балах, в той призрачной, только кажуще значительной, а на самом дело пустой игре, которая в глазах тон
14
кого слоя тобольских жителей, слоя, находившегося у кормила власти,— оправдывала их существование. Другой слой тоболяков — купеческое сословие—жил в непрерывной борьбе за первенство, в жестоких схватках за рубль, в лихорадочных поисках прибыльных комбинаций. Соперничали меж собой купеческие фамилии, поднявшиеся в XVIII веке,—Пиленковы, Селивановы; сходили на нет еще недавно бывшие главными воротилами Тобольска купцы Корнильевы, на смену им шли новые торговые фамилии. Копошились в архиерейском доме, в консистории, за семинарскими стенами тобольские церковники, исхищряясь во лжи и обмане...
А наряду с этим шла в Тобольске, не утихая, жизнь крестьян, ремесленников, солдат, рыбаков, охотников и прочего трудового люда. В длительном и незаметном с поверхности противоречивом процессе крепли силы для будущих сражений с царизмом и его слугами. Этот слой Тобольска был самым большим и самым бесправным... Были еще и невольные жители Тобольска — ссыльные, поселенцы и другие представители виноватой России. Тоболяки звали их общим именем — несчастные, вкладывая в это определение не только сочувствие ссыльным, но и свой протест властям предержащим. Однако и эта часть обитателей города на Иртыше не была однородной: кое-кто из них был ближе к правящим кругам Тобольска, к чиновничеству, другие сливались с обывателями, третьи, не утратив бунтарского духа, бежали из неволи, их ловили драгуны, секли и отправляли дальше на восток...
Ершовы, поселившись у своих родственников Пиленко* вых, сразу же попали в гущу городской жизни.
Хозяйство Пиленковых в то время находилось в расцвете. Дом Н. С. Пиленкова, главы купеческой семьи, сохранившийся и до наших дней, был полной чашей. Душные горницы, заставленные прочной мебелью, пузатые шкафы, за мутными стеклами которых тускнели самые яркие краски китайского фарфора, вместительные сундуки, набитые
15
тканями, мехами, одеждой. В доме пахло лампадным маслом, ладаном, пылью. Все было в доме прочным, устойчивым и само собой, казалось, утверждало незыблемость существующих порядков.
Караваны Пиленковых ходили далеко за пределы Сибири в сказочные страны юга, в таинственную Кашгарию, привозили оттуда диковинные товары, яркие шелка, похожие на пламя Жар-птиц, плоды солнечных Земель, тяжелые слитки китайского серебра. Но не красота изделий восточных мастеров, не удивительные краски, в которых словно закрепились зори южных небес, радовали хозяина — над всем царили рубль, прибыль, расчет выгоды...
А рядом, совсем рядом, был другой мир — кухня, просторная людская. Там всегда толпились бывалые люди — ямщики, солдаты, вечно торчали странники, заглядывали и бродяжки, зазванные сердобольной кухаркой. Там можно было услышать веселую и озорную сказку, острую прибаутку, меткую пословицу, красочные рассказы о дальних землях, новости о городских происшествиях. Сказка здесь дружила с былью, сны оборачивались явью, а явь порой походила на сновиденья... Здесь царил веселый вольный дух, озорная насмешка над чиновниками, купцами, попами, монахами, царями. Здесь пахло не залежалым товаром, а дегтем от ямщицких сапог, щами, табаком, пбтом...
Быстро познал мальчик Ершов и город, который не был похож ни на тихий Березов, ни на пыльный Омск. Тобольск горделиво стоял на Иртышских высотах, полный славы прошлых замечательных деяний и событий. Его герб — на синем поле золотая пирамида, украшенная знаменами, барабанами и алебардами,— говорил о славе Тобольска в борьбе с кучумовским ханством, пытавшимся поработить сибирские народы, о победах в этой нелегкой борьбе. Квадратный гостиный двор на горе, старейший в Сибири, был всегда полон торговыми людьми. В знаменитую на всю округу от Волги до Байкала Тобольскую ярмарку здесь бывали и гости с юга, и обитатели северных тундр, и сыны
16
степей—чказахи, и негоцианты из Казани, и бухарские, и ташкентские купцы, и китайские торговые гости...
Ершовы довершали свое образование в Тобольском уездном училище. Учились братья хорошо. По окончании училища Петр Ершов был награжден «Новым заветом»— массивной книгой в кожаном переплете с золотым тиснением. На первом листе была сделана дарственная надпись:
«Подарена на открытом испытании Тобольского Уездного Училища ученику 2-го класса Петру Ершеву. За отлично хорошие успехи в науках, благонравие и прилежание. 1826 года 5 дня».
В апреле 1827 года братья Ершовы поступили в первый класс Тобольской губернской гимназии. Петру Ершову в это время шел 13-й год, он был не по возрасту развит, любознателен и впечатлителен...
Тобольская гимназия помещалась в примечательном доме, о котором в городе ходили легенды. Ранее он принадлежал купцам Корнильевым, видным деятелям Тобольска в XVIII веке, известным своими затеями — стекольной и бумажной фабриками, типографией, в которой печатались первые сибирские журналы и книги.
А когда в апреле 1788 года случился большой пожар в Тобольске и этот дом уцелел, в нем поселился правитель Тобольского наместничества екатерининский вельможа Александр Васильевич Алябьев. Его сын Александр, композитор, много лет спустя в этом же доме давал концерты...
Сменив владельца, дом этот перешел в ведение городской управы. Сначала в нем размещалось Главное народное училище, а потом гимназия. В 1820-е годы он был значительно перестроен. К этому времени губернская гимназия занимала еще два деревянных флигеля по соседству. На парадном крыльце главного здания висел восьмигранный фонарь, а над ним красовалась выточенная из дерева двухаршинная фигура Минервы. Это, по мысли гимназических устроителей, должно было символизировать свет просвещения и кладезь мудрости, коей наполняют в-стена*
2 В. Г. Уткоэ
17
этого дома головы юных тоболяков. Однако простодушные горожане окрестили Минерву «Венеркой», а йансионеры быстро сообразили, что за торсом римской богини удобная позиция для обстрела прохожих репой и/и кедровыми шишками. Пришлось статую убрать...
Дома гимназии стояли под горой поблизости от Кур-дюмки, одной из семи тобольских речушек. Ершовы поселились неподалеку, ближе к Иртышу. Брдтья жили вольно, без особого присмотра, занятиями себя утруждали не очень и частенько, идя в гимназию мимо городского шумного базара, что притулился близ величественной церкви Захария и Елисаветы, забывали об уроках, увлекшись каким-либо базарным происшествием...
Учение давалось братьям легко. «Оба они были в числе первых учеников, но младший,— вспоминают родственники Ершова,— превосходил старшего способностями: уроки свои готовил шутя, то припеваючи что-нибудь, то разнообразя их рассказами и непременно в сказочном роде».
Как видно, странствования по просторам Сибири и общение с простым народом не пропали даром для будущего автора «Конька-Горбунка». Зимние и летние пути-дороги, бдения у горящего камелька на почтовых станках, беседы с рыбаками у костров на берегах Иртыша и Оби, подслушанные у гребцов, стряпух, ямщиков, солдат, бродяг разговоры и байки наполнили мальчика знанием множества сказок, прибауток, поговорок, присловий. Да и в Тобольске он общался больше с простым людом, чем с купеческим или чиновным миром сибирской столицы...
Ну а гимназия? Что дала автору бессмертной русской сказки Тобольская губернская гимназия? На этот вопрос не может быть однозначного ответа.
В год поступления Ершовых в гимназию в ней училось всего 40 человек. Обучение было четырехгодичное. Шли в гимназию неохотно. Были даже приняты специальные меры: всем штатным смотрителям училищ предписывалось «склонять родителей учащихся в уездных училищах от
18
Правлять своих детей в гимназию для продолжения учения», но «городские жители считали уже роскошью, если дети их оканчивали курс в уездном училище, в большинстве же случаев оставались довольны, если дети научались читать и писать. Чиновники зачастую брали детей до окончания курса из практических соображений — недоучки беспрепятственно принимались в гражданскую службу. Да и само название — «гимназия» — не для всякого было понятно».
Учителя гимназии не были знакомы даже с общими приемами педагогики. Методы преподавания пронизывал дух формализма и схоластики. Большинство из учителей ограничивались задаванием уроков, не заботясь о развитии своих учеников. В отчетах учителей Тобольской гимназии то и дело встречались выражения: «пройдено от такой-то страницы до такой-то» или «от такого-то до такого-то параграфа».
Вот как, например, проходили, по воспоминаниям современника Ершова, уроки русской словесности в Тобольской гимназии: «Первые опыты сочинений писались по вопросам: «кто, что, где, при чьей помощи и т. д.» У нас выходили преуморительные вещи, вроде, например, следующих: кто? Александр Македонский; что?—покорил весь свет; где?.. Опять затруднение, где же обозначить местонахождение «всего света»? Смущенный донельзя ученик отвечал на вопрос «где» — в истории Кайданова...»
И другие предметы преподавались не лучше. Немецкому языку, например, учил полуграмотный пруссак, больше надеявшийся на линейку, которой он вдалбливал в головы мальчиков немецкие глаголы, чем на собственные знания...
По арифметике гимназисты осваивали только четыре действия, простые и десятичные дроби оставались для них недоступной премудростью. Не находили необходимых знаний гимназисты и в учебниках.
Такая гимназия мало что могла дать юному Ершову. Однако, к счастью, вскоре произошли перемены: директо-
2*
19
ром Тобольской гимназии был назначен Иван Павлович Менделеев.
И. П. Менделеев не был новичком в Тобольске, он имел на берегах Иртыша прочные и давние корни., Именно здесь началась его самостоятельная жизнь, когда он после окончания Главного педагогического института в Петербурге в 1807 году был назначен в Тобольское Главное народное училище преподавателем философии, изящных искусств и политической экономии. Тогда-то он и связал свою судьбу с Марией Дмитриевной Корнильевой, внучкой первого сибирского типографа. Здесь родились у них две дочери и три сына. В 1818 году И. П. Менделеева переводят директорствовать в Тамбовскую губернскую, а затем в Саратовскую гимназию.
И. П. Менделеев и раньше, будучи учителем Тобольского народного училища, директорствуя в Тамбове и Саратове, выделялся знаниями, гуманным отношением к ученикам, культурой преподавания. Он получил очень хорошее по тем временам образование в Тверской семинарии и в Главном педагогическом институте, который окончил в числе лучших учеников. В Тобольске, где все уже было ему знакомо, он почувствовал себя свободнее, чем в Саратове или в Тамбове. Конечно, он не мог коренным образом переменить методы и систему преподавания, перестроить программы обучения, да он и не задавался такими целями, однако с его приходом из стен гимназии заметно стала выветриваться затхлая атмосфера. Вероятно, Менделеева поддерживал и визитатор сибирских училищ П. А. Словцов, человек умный, много испытавший в своей жизни и «принесший Тобольской гимназии своими дельными советами и указаниями как по части учебной, так и по хозяйственной большую пользу».
В первую свою бытность в Тобольске, еще учителем, Менделеев ввел в практику новый, необычный метод занятий с учениками старших классов — творческие утренники. Каждое воскресенье, после обедни, гимназисты собирались
20
в актовом зале и «упражнялись в декламатории русских, немецких и французских авторов или в чтении своих собственных сочинений».
Не исключена возможность того, что, став директором гимназии, Менделеев также поощрял тем или иным способом творческие попытки юных тоболяков. Менделеевы были давними знакомыми Ершовых, и общение с этой старинной тобольской семьей, в которой были сильны культурные традиции, в частности любовь к книге, оказало большое влияние на духовное и умственное развитие Петра Ершова. Именно оно и компенсировало в значительной степени недостатки гимназического образования тех лет. У Менделеевых была одна из лучших и обширных библиотек в Тобольске, в ней юный гимназист мог познакомиться с многими произведениями литературы как художественной, так и научной, в частности с книгами по истории России, интерес к которой не угасал в Ершове всю его жизнь. Гимназическая библиотека в то время была малоинтересной. Все сколько-нибудь живое, питающее пытливые молодые умы, было удалено из нее после распоряжения Министерства просвещения об изъятии из гимназических библиотек «книг, опасных для общественного спокойствия».
Почти одновременно с Менделеевым появился в гимназии воспитанник Казанского университета, молодой учитель физико-математических наук Иван Семенович Куна-вин, человек выдающийся на фоне остальных преподавателей гимназии. Он сдружился со Словцовым, производил физические опыты в городе, начал наблюдения за климатом, занял заметное место в культурной жизни Тобольска.
К концу обучения Петра Ершова начал работать в Тобольской гимназии еще один преподаватель, оставивший след в формировании внутреннего облика будущего поэта. Это был Павел Осипович Леман, преподаватель немецкого и французского языков, сменивший необразованного и грубого пруссака Штицинга. Леман был незаурядной лич
21
ностью и попал в Тобольск не по своей воле. В 1809 году он поступил в Лубянский волонтерский полк, унтер-офицером участвовал в войне 1812—1814 годов, вышел в отставку в 1815 году и поселился в Москве. А в 1824 Году он был сослан в Сибирь «за наименование себя поручиком». Так гласит решение 1-го департамента Московской уголовной палаты. Леман прекрасно владел языками и был хорошо образованным человеком. Однако И. П. Менделееву пришлось затратить немало труда, пока он получил разрешение зачислить поселенца в штат гимназических чиновников. Более года директор гимназии вынужден был преподавать языки сам, не получая за это дополнительной платы. Леман выделял братьев Ершовых. В аттестации за 1830 год он оценил всех гимназистов по балльной системе и только против фамилии Ершовых в графах «поведение, способности и прилежание» написал: «отличные».
Общение с семьей Менделеевых, с лучшими преподавателями гимназии благотворно воздействовало на Ершова* гимназиста, развивало в нем умение мыслить, пробуждало творческие наклонности, формировало характер.
В середине марта 1828 года в Тобольск приехали два новых ссыльных — композитор А. А. Алябьев и его тесть Н. Шатилов *.
Тобольск был родным городом для Алябьева. Здесь он родился в 1787 году в семье правителя Тобольского наместничества. Ранние годы его жизни прошли на берегах Иртыша. В городе многие помнили его отца, да и его самого. Встретили Алябьева в Тобольске хорошо, и зажил он здесь свободно, был принят во всех дворянских домах, посещал публичные собрания и даже устраивал у себя званые обеды. Вскоре к нему приехала его сестра Екатерина Алябьева, добровольно последовавшая за братом в ссылку. Дом Алябьева стал одним из очагов культуры в городе.
1 Сосланы они были в Сибирь по уголовному делу. Обстоятельства его довольно широко освещены в печати, касаться их мы не будем.
22
Вокруг композитора стала группироваться интеллигенция Тобольска.
6 Тобольске Алябьевым написаны многие романсы и другие произведения, которые получили широкую известность.
В конце 1828 года Алябьев начинает работать над большим концертом-балом, к участию в котором были привлечены все музыкальные и поэтические силы тогдашнего Тобольска — три военных оркестра, хоры солдат, музыканты-любители, певцы, поэты. В подготовке этого грандиозного для тогдашнего Тобольска концерта большое участие принял и родственник Ершова — Н. С. Пиленков, введенный в состав комитета по организации концерта и оплативший все расходы по освещению и устройству зала и оркестра, а также и юный гимназист Петр Ершов. Репетиции концерта и сам концерт проходили в здании гимназии. Сохранился рассказ Ершова об одной из таких репетиций, который в какой-то мере раскрывает степень близости отношений между композитором и Петром Ершовым. Как-то Алябьев сказал Ершову, что тот ничего не смыслит в музыке. Тогда юноша решил сыграть с композитором шутку. На одной из репетиций Ершов сел рядом с композитором поближе к музыкантам. «Я дал ему слово, что малейший фальш замечу,— вспоминает Ершов.— В то время первой скрипкой был некто Ц-тков, отличный музыкант; он при каждой ошибке такие рожи строил, что хоть вон беги. Я с него глаз не спускаю: как только у первой скрипки рожа, я и толкну Алябьева. Не вытерпел он, в половине пьесы встал да и поклонился мне... Когда дело объяснилось, мы оба расхохотались».
Кружок Алябьева, да и сам композитор оказали большое влияние на развитие Ершова, привили ему вкус к музыке, расширили его духовный кругозор. Алябьев глубже познакомил юношу с поэзией, с творчеством Пушкина, на стихи которого он в Тобольске писал музыку. Уехав из Тобольска в середине 1830-х годов, композитор не забыл
23
своего юного приятеля и в 1839 году напечатал песню кузнеца Луки (для хора с фортепьяно) из драматической повести П. Ершова «Фома-кузнец».
Алябьевский кружок тесно смыкался с кругом тобольских поэтов. Из них наиболее известны И. Виттер, почтовый чиновник, на стихи которого,— «Иртыш» и «Прощание с соловьем на севере»,— Алябьев написал музыку, и военный И. Черкасов, автор гимна в честь ученого Гумбольдта и других официальных виршей. Сведений об этих поэтах немного, мы не можем утверждать, что они как-то влияли на развитие поэтического таланта Ершова. Однако уже само присутствие в Тобольске группы поэтов, чьи стихи публично исполнялись и печатались в столичной прессе, могло быть толчком к пробуждению интереса у Ершова к поэтическому творчеству. В связи с этим представляет интерес находка тюменского исследователя Л. Полонского в архиве А. В. Никитенко трех стихотворений Ершова — «Монолог Святополка Окаянного», «На смерть Святослава», «Смерть Ермака». Скорее всего, эти стихи были написаны поэтом еще на гимназической скамье. Печать подражательности и школьного знания истории лежит на них...
Более определенно мы можем сказать о воздействии на Ершова другого круга интеллигентных людей, группировавшихся вокруг П. А. Словцова, личности крупной, разнообразных талантов, имевшей громадное влияние на всю тобольскую жизнь того времени. В конце 1820-х годов, выпустив в Москве интереснейшую книгу «Письма из Сибири 1826 года», Словцов начинает готовить новую книгу — «Прогулки вокруг Тобольска», своего рода энциклопедию города, в которой столица Сибири показывается им во всех разрезах — историческом, этнографическом, экономическом, климатическом, природном и пр. В собирании материала для этой книги ему помогают, как он пишет в предисловии к ней, «молодые знающие сибиряки». В их числе был и учитель гимназии Кунавин. Словцов был тесно связан с семьей Менделеевых, с которой, как мы уже упоминали,
24
был близок и юный Ершов. Встречи со Словцовым, рассказы о путешествиях и замыслах, его беседы об исторических судьбах Сибири — все это оставляло глубокий след в юноше. Рано пробудившийся интерес к прошлому Прииртышья, краеведческие прогулки по окрестностям Тобольска, которые предпринимал впоследствии Ершов с учениками гимназии, поэтические и прозаические опыты его на темы истории стоят в несомненной связи с деятельностью Словцова.
И, наконец, в то время, когда П. Ершов учился еще в гимназии, в Тобольске произошли события, которые не могли не отразиться на формировании Ершова,— приезд в Тобольск группы ученых во главе с директором обсерватории в Христиании К. Ханстиным в конце 1828 года и посещение Тобольска А. Гумбольдтом, биологом X. Эренбергом и минералогом Г. Розе в июле 1829 года.
Пребывание в Тобольске двух крупных по тем временам ученых экспедиций, беседы Гумбольдта и Ханстина с уче-ными-тоболяками, местной интеллигенцией, в частности со Словцовым и Кунавиным, которым Гумбольдт оставил часть инструментов для проведения магнитных и температурных наблюдений,— все это было известно широкому кругу тоболяков.
Юному Ершову посчастливилось — Тобольск, когда в нем жил будущий автор «Конька-Горбунка», нимало не был похож на российское захолустье. Приезд европейских ученых, возвращение из далеких южных походов губернских чиновников Путинцева и Лещева, кружок Алябьева, краеведческие устремления Словцова и близких к нему учителей гимназии, наконец, семья Менделеевых, хранящая лучшие культурные традиции Тобольска, Твери и Петербурга,— все это обогащало тобольскую действительность конца 1820-х годов. Для нас несомненно, что планы широкого изучения Сибири и сопредельных с ней стран, которые впоследствии в Петербурге возникли у Ершова, были заложены в нем именно в эти тобольские годы.
25
С другой стороны, в эти же годы П. Ершов находится в интенсивном общении с простым народом, непрерывно обогащает себя сказками, преданиями, пословицами, поговорками; народная мудрость формирует его чаяния и мечты. У него, конечно, нет ясного сознания своих сил и возможностей, будущий путь еще скрыт от него, однако он уже чувствует в себе силы для свершений, переполнен мыслями, образами, впечатлениями, думами. Он еще сам не понимает, каким сокровищем он обладает, на что он способен. Понадобилась еще одна дорога, длительная, почти через всю Россию, новые встречи, познание и освоение русского поэтического языка, открытого для всех Пушкиным, чтобы юный Ершов смог накопленные сокровища сплавить воедино, создав бессмертное поэтическое творение...
Дорога эта легла перед ним после того, как он окончил учение в Тобольской гимназии. На торжественном акте в июне 1830 года Петр Ершов, как окончивший с отличием, получил в награду похвальный лист и книгу. Отец его в это время заканчивал хлопоты о переводе в столицу.
Новая дорога не была похожа на сибирские. Ершов побывал на заводском Урале, увидел крепостную Россию, услышал новые сказки и бывальщины — неизбежное сопровождение тогдашнего медлительного путешествия. На всем длинном пути от берегов Иртыша до берегов Невы Петр Ершов видел ту же зависимость народа от чиновничьего произвола, что и в Сибири, встречал те же фельдъегерские тройки, скакавшие по казенной надобности, что и на сибирских трактах, был свидетелем мордобоев на почтовых станциях, когда какому-нибудь чину задерживали лошадей. И слышал от дорожных встречных — ямщиков, бродяг, солдат, крестьян — то же слово, что и в Сибири, только, может быть, более злое — о царе и его слугах-кровопийцах...
А в столице его ожидали новые испытания, успехи и потери, радости и беды...
«Начинается рассказ от Ивановых проказ»
Море, море, ты волнами Весь мир божий обтекло, За какими берегами Вечно на небе светло?
>П. Ершов. Песня отрока из либретто «Страшный меч»
Петр Ершов прожил в Петербурге со второй половины 1830 года по июль 1836 года, то есть пять с половиной лет. Эти годы были решающими для Ершова-поэта и окончательно определили лицо Ершова-гражданина. Важнейшими для Ершова были первые годы жизни в столице. Именно в это время обстоятельства сложились для Ершова исключительно благоприятно, и он смог реализовать накопленное до этого времени богатство впечатлений, развить свой поэтический дар и достичь вершины своего таланта — создать сказку «Конек-Горбунок».
Внешне жизнь Ершовых в эти годы не отличалась богатством событий. Братья без особых затруднений оказались студентами столичного университета. Возможно, что в этом помог им начальник отца — генерал Капцевич, который командовал тогда корпусом внутренней стражи и был в давнем и неизменном фаворе у Николая I.
Старший брат — Николай Ершов — поступил на физико-математический факультет, где вскоре проявил недюжинные способности и был отмечен профессором Д. С. Чижовым как подающий надежды математик. Петр Ершов намеревался поступить на историко-филологический факультет, который был ближе ему по его склонностям, однако слабое знание латыни и греческого языка помешало. Пришлось Петру Ершову примириться с юриспруденцией и поступить на философско-юридический факультет. Ер
27
шов не являлся исключением. «Нерасположение к математике и слабое знание латыни... двум обстоятельствам этим обязаны юридическим образованием многие из моих современников во всех русских университетах»,— писал В. Григорьев, учившийся вместе с П. Ершовым.
Обстановка в университете в те годы была довольно сложной. Еще совсем недавно в столице господствовало мнение, что «университетское образование...— роскошь, немногим приличная», что для приобретения чина коллежского асессора, дававшего право на потомственное дворянство, не обязательно обучаться в университете, достаточно прослушать особые курсы для чиновников при педагогическом институте. Однако к началу 1830-х годов отношение к университету начало меняться, лекции начали посещать сыновья богатых людей и крупных столичных сановников. Много появилось в университете и вольнослушающих, главным образом молодежи, состав которой был очень пестрым — чиновники, военные, моряки и т. п.
Вокруг студентов из богатых и именитых семей немедленно образовывались группы искавших с ними близости, надеявшихся в будущем на их покровительство при выборе карьеры. Ершовы были не знатны и не богаты и, по свидетельствам современников, вели себя независимо, держались особняком.
«...Оба брата Ершовы, приходившие аккуратно в университет,— вспоминает приятель Ершова А. Ярослав-цов,— становились подле входной двери, у окна, с книгами и тетрадями под мышкой. Оба — среднего роста, старший выше младшего, худощавые. Нельзя было не заметить их постоянно на одном месте до начала лекций. Особенно заметен был Петр Ершов: это была сибирская девственная натура, хранящая в себе какие-то драгоценности. Спокойным днем мая представлялось лицо его, бледноватое, без румянца; темные волосы слегка закручивались на широком лбу и на висках; нос небольшой, брови дугой подымались над его добродушными глазами, из которых глядели мысль
28
и фантазия; зрачки глаз были небольшие, голубые; голова на довольно широких плечах, всегда наклонена немного вперед. Стоя на своем месте, Петр Ершов поглядывал исподлобья на ходившую взад и вперед толпу молодежи... Ершовы уклонялись почти от всех, держали себя как не знакомые никому пришельцы. Петр Ершов до конца своей жизни избегал людей, рвущихся хоть несколько к наружному блеску, или не вполне откровенных, или откровенных в предметах, бывших не по душе ему».
Это описание молодого Ершова наивно, сделано не очень умелой рукой, но все же оно передает нам в некоторой степени облик Ершова, свидетельствует о его поведении в первый период университетской жизни. Потом у Ершовых появились в столице и друзья, и знакомые, но первоначально, вероятно, все обстояло именно так, как свидетельствует об этом Ярославцов.
Жили Ершовы скромно. Они поселились в небольшом деревянном домике на окраине Петербурга, где многое напоминало им родной Тобольск. Шумный Невский, его богатые дома, дворцы вельмож, великолепие набережных — все это казалось далеким от района Песков, где жизнь текла так же тихо и спокойно, как в любом другом уголке бескрайного российского захолустья.
Российской провинцией веяло и от комнаты Ершова. Ее описание оставил нам все тот же Ярославцов в своем романе «Любовь музыканта», ныне совершенно забытом. Ершов выведен в нем под именем «русского поэта Платона Павловича Е.». Один из героев романа приезжает в одноэтажный деревянный домик на Песках, где живет поэт: «Комната была бедно убранная и небольшая. На столе у простенка между окнами и на некоторых стульях лежали в беспорядке книги, тетради, ноты и листки бумаги; на окнах стояли цветники с геранью, миртою, лимонным и ало-евыми деревьями». В описании упомянуты еще диван и круглый стол. Словом, в доме Ершова нет ничего столичного, скромность обстановки граничит с бедностью, и если
29
бы не книги, тетради, ноты и бумага, разбросанные то там, то здесь, комната ничем бы не отличалась от тысяч подобных комнаток в провинциальных небогатых домах...
Но не только в быту веяло провинцией. В стенах университета утвердился тот же дух казенномыслия и схоластики, что и в Тобольской губернской гимназии. Современники, учившиеся с Ершовым, вспоминают, что в университете было всего пять-шесть настоящих преподавателей, которые могли своими трудами способствовать развитию наук. Другие пять-шесть преподавателей пытались читать свои предметы интересно, время от времени освежая свои знания. Остальные же профессора не знали «ни науки, ни ученого достоинства», боялись отойти от учебника, за пределами которого у них вообще не было знаний. От студентов, так же как и от гимназистов, требовалась только зубрежка, заучивание наизусть от «сих до сих». Всякое свободное проявление ума настораживало и преследовалось. Если студент на экзамене отвечал не слово в слово по учебнику, а «своими словами», то это считалось уже за «дурную наклонность к вредному свободомыслию». За студентами был установлен строгий надзор, каждый их шаг был регламентирован, даже форма прически и длина волос не должны были выходить за пределы установленной нормы.
Среди профессоров университета было много рутинеров и людей малообразованных. Профессор русской словесности Я. В. Толмачов питал закоренелую ненависть ко всему живому и современному. Русская литература для него заканчивалась екатерининским временем. И. Панаев вспоминал, что Толмачов с гордостью говорил студентам: «Я, друзья мои, тридцать уже лет ничего не читаю, потому что убежден, что теперь пишут все пустяки».
Русское право преподавал бездарный чиновник комиссии для составления законов, не имевший к тому же юридического образования, некто Боголюбов, «излагавший предмет свой вяло, бессистемно и вприбавок не обладавший еще даром слова».
30
Профессор философии Пальмин делал все, чтобы его предмет представлялся студентам пустой и никчемной наукой, «трудно было представить себе что-либо скучнее и снотворнее того, чем были схоластические лекции Пальми-на»,— свидетельствует В. Григорьев. Пальмина вскоре сменил Фишер, который считал, что русским студентам вообще недоступна высокая материя философских истин; он упростил предмет свой до того, что от философии в нем ничего не осталось.
В университете было слишком много профессоров-иностранцев. С русскими студентами они вели себя грубо и заносчиво, всячески третировали и унижали их. Саксонец Грефе, преподававший греческую и латинскую словесность, так и не научился русскому языку, как, впрочем, и многие другие профессора-иностранцы, и сам ректор университета француз Дегуров, не знавший ни слова по-русски. До 1833 года Дегуров преподавал всеобщую историю и читал ее по своим запискам на латинском языке, а затем пересказывал на французском. Из всех российских университетов того времени столичный имел самый низкий уровень преподавания.
Среди немногих русских профессоров следует назвать минералога Д. И. Соколова, читавшего курс интересно и понятно для юношей, Е. Ф. Зябловского, автора учебников по географии и статистике, по которым Ершов учился еще в Тобольской гимназии, математика Д. С. Чижова, однокашника И. П. Менделеева по Главному педагогическому институту. Эти профессора, а также пришедшие позднее П. А. Плетнев и А. В. Никитенко, о которых речь пойдет ниже, оставили след в жизни Ершова, и, став впоследствии преподавателем Тобольской гимназии, он вспоминал о них, пользовался в своей работе записями их лекций.
Университет быстро разочаровал Ершова. Он теперь «оставался только на минуты переклички студентов, производимой... профессором, и затем уходил домой к своему любимому чтению русских писателей... Здесь создавал он
31
сам себе школу саморазвития», вспоминает Ярославцов.
Однако не только чтение занимало теперь время Петра Ершова. Живой и впечатлительный юноша, не по летам много видевший и познавший, он с жадностью знакомится со столицей, которая открывается ему в неожиданном многообразии. Он все чаще и чаще обращается к перу, пытая свои силы в самостоятельном поэтическом творчестве, стремясь выразить свои впечатления и мысли на бумаге.
В творческих путях большинства русских поэтов, да и не только русских, мы, как правило, без особого труда; улавливаем начало их поэтических дорог. У Пушкина это циклы лицейских стихов, у Тютчева — робкие попытки философски осмыслить в стихах окружающую действитель-' ность, оставшиеся почти незамеченными в свое время. Некрасов выступил со слабой книжкой стихов, которых ПОТОМ’ сам стыдился. Подобных примеров много...
Ершов пришел в литературу сразу со зрелой вещью,\ увековечившей его имя. Более того, равной этой вещи он больше ничего и не создал. «Конек-Горбунок» был п е р-в ы м его печатным произведением, других произведений П. Ершова, появившихся до сказки, мы не знаем и вообще можем только предположительно утверждать, что то ил» иное стихотворение было написано раньше «Конька-Горбунка», но точных свидетельств этому не имеем.
Мы можем сейчас, на основе глубокого и всестороннего изучения ранней биографии Петра Ершова, его переездов по Сибири, его связей с широкими народными массами, на основе изучения эпохи во всем ее многообразии, с уверенностью определить истоки сказки Ершова — они прежде всего в конкретно-исторической обстановке его детства и юности, в отличном знании молодым Ершовым народного' поэтического творчества. Ясна для нас и литературная обстановка тех лет, способствовавшая появлению произведений этого жанра. Именно в начале 1830-х годов Пушкин пишет и публикует свои сказки, появляются в печати «Русские сказки» Казака Луганского (В. Даля), стихи и песни
П
А. Кольцова; на страницах «Литературной газеты» П. Катенин ратует за самобытный характер русской литературы, а Плетнев на торжественном акте университета читает речь «О народности и литературе». Однако для нас закрыта и, пожалуй, навсегда та лаборатория поэта, которая позволила бы нам увидеть сам процесс создания этого бессмертного творения. Здесь имеются лишь реальные опоры, на основе которых можно отчасти, хотя бы пунктирно, воссоздать путь написания сказки Ершовым. Опоры эти нужно искать в действительности, окружавшей молодого поэта в бытность его в Петербурге.
В первое же лето жизни Ершова в столице — в 1831 году — Петербург посетила страшная азиатская гостья — юлера. В последних числах июля в Петербурге умирало ежедневно не менее 1000 человек. Николай I со своим двором уехал из столицы. Следом за ним потянулось из города множество дворян с челядью. Город опустел. На оставшихся в нем жителей пахнуло бунтом, пугачевщиной. Толпы народа бродили по улицам, разбивая госпитали, убивая лекарей. Страшно становилось в столице...
Тревога не покинула столицы и после того, как азиатская гостья оставила ее. Со всех сторон стекались на берега Невы беспокойные вести. Лилась кровь на западе, в лесах и на полях Польши и Литвы, приходили вести о бунтах в военных поселениях, о крестьянских волнениях. С во-*тока, тайком от начальства, просачивались известия о несчастных узниках, заточенных в каторжных рудниках Забайкалья...
Уходит беззаботная юность, все чаще тревожат Петра Ершова вопросы, на которые он не может получить ответа. Он часто бродит по столице, желая осознать перемены, что происходят с ним, и лучше узнать этот громадный многоликий город, который будит в нем и надежды, и тревоги...
Он видит теперь не только дворцы и гранит набережных, зеркала Невы и каналов — парадный фасад Петербурга. Он словно зашел в город с черного хода, и город
3
В. Г. Уткор
33
открылся ему совсем иным, полным противоречии, несча-стий, неразрешенных вопросов...
Он видит теперь у Синего моста на Мойке перед дворцом Чернышевых толпы людей, бедно одетых, истощенных голодом и нуждой, собравшихся вместе, чтобы найти какую-либо работу. Раньше он не замечал их... У Казанского собора, этого чуда архитектуры, которым он подолгу любовался, с утра толпится крепостной русский люд в надежде на поденщину... И на углу блестящего Невского и Владимирской — тоже людская биржа, где человек как товар, цена которому — грош... У недостроенной громады Исаакиевского собора, на Невских пристанях, на Сенной площади, на строительстве дворцов, на столичных шумных рынках — везде перед ним вставала Россия, голодная, но неуемная, нищая, но таящая в себе никем еще не измеренные силы... И как недреманный страж, как несокрушимый оплот сил, гнетущих народ, виднелась за широкой Невой на острове цитадель с золочеными шпилями... Оттуда каждый полдень раздавался звук пушки — и это было и как отметка времени, и как грозное напоминание о силе гнета, что таит в себе эта крепость...
Все чаще и чаще начинает задумываться над будущим своим и России юноша Ершов. Смутные образы тревожат его. Еще на занятиях в университете он, уединяясь позади всех, во время очередного бормотания профессора набрасывал веселые стихотворные безделушки — эпиграммы на товарищей, на профессоров, шуточные поэмы. Но теперь он все чаще и чаще возвращался к сказкам, слышанным им в детстве, во время странствий по Сибири...
Все чаще виделся ему герой сказки — юноша, крестьянский сын... Все помогало ему — и ветер, и солнце, и вода, и земля, и огонь. Везде у него были друзья — и среди зверей, и среди птиц, и даже среди деревьев, которые дружески шелестели ему, и он понимал их язык. Только вот среди людей у него были враги — глупые и жадные люди, богачи, царь и его слуги...
34
Как бисер на нитку, нанизывались пестрые сказочные картины—то конный торг, на который приводят волшебных коней, то рыбье царство, то чудо-юдо рыба-кит, проглотивший сорок кораблей, то волшебная небесная столица...
Память сама находила эпизоды из слышанных в Сибири сказок, расцвечивала их смелой юношеской фантазией, пересыпала веселыми прибаутками да присказками...
Но сказки не получалось, были только отдельные сцены, эпизоды, они рассыпались, ничем не связанные, каждый сам по себе...
Не выбрал Ершов и формы сказки — в прозе ее написать или в стихах...
Незаметно подошел второй год пребывания Ершова в столице. В университете произошли важные перемены, которые сказались и на судьбе юного поэта...
В 1832 году одряхлевшего и телом и умом Толмачова сменили на кафедре русской словесности два молодых профессора: А. В. Никитенко, читавший теорию литературы, и П. А. Плетнев, преподававший непосредственно русскую словесность. Оба профессора сыграли большую роль в творческой биографии Петра Ершова.
Александр Васильевич Никитенко поднялся до профессорского звания из самых низов — он происходил из крепостных графа Шереметева и получил свободу только благодаря настойчивому участию в его судьбе К. Ф. Рылеева и членов тайного общества — А. М. Муравьева, И. А. Анненкова и других. Шереметев дал вольную Никитенко в 1824 году. С помощью друзей Никитенко, которому к этому времени исполнилось 19 лет, поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета и в 1828 году окончил его. Сначала он читал курс политической экономии, потом ему было поручено читать теорию литературы.
Студент из Тобольска, пробовавший свои силы в литературе, имевший общего с покровителями Никитенко —
3*
35
Сцепинским и Мартыновым — знакомого П. А. Словцова, не мог не привлечь внимания молодого профессора университета. Никитенко неизменно помогал и покровительствовал Ершову.
Петр Александрович Плетнев, близкий друг А. С. Пушкина, отличался мягкостью манер, доброжелательностью и внимательным отношением к студентам. Он обладал тонким литературным вкусом и был признанным и проницательным ценителем поэзии. Сын бедного сельского священника, рано познавший сиротство и нужду, он с особой внимательностью относился к незнатным студентам, приехавшим в столицу из провинции. Плетнев помог Ершову, робко пробовавшему свои силы в поэзии, перейти к более серьезным попыткам.
Скорее всего Плетнев, заметив талантливого юношу и узнав, что тот пытает свои силы в сказочном жанре, познакомил своего студента со сказками Пушкина. В печати только что появился третий сборник стихотворений Пушкина, в котором была напечатана «Сказка о царе Салта-не» — первая пушкинская сказка, увидевшая свет.
У нас нет сомнения в том, что появление сказки Пушкина в печати явилось для Ершова своего рода благотворным толчком, который определил форму будущего произведения. В этом — счастливое совпадение, необыкновенная удача, следование таланта по пути, открытому гением. Пушкин первым приник к живительному роднику русской народной поэзии и открыл его для писателей своего времени. Ершов творчески воспользовался этим открытием и создал свое, оригинальное, а не подражательное произведение.
Забегая вперед, скажем, что все остальные сказки Пушкина появились в печати позднее «Конька-Горбунка», хотя и были написаны ранее. Знаменательно, что после опубликования П. Ершовым «Конька-Горбунка» Пушкин уже не писал сказок. В связи с этим оценка Пушкиным «Конька-Горбунка», о которой речь пойдет ниже, особенно
36
важна, как своего рода признание превосходства молодого автора «в этом роде поэзии». Не исключена возможность и того, что Ершова познакомили со сказками Пушкина еще в рукописи. Это могли сделать Плетнев или сам Пушкин после знакомства с Ершовым.
Однако прежде чем сказка Ершова приняла определенную поэтическую форму и ее герои выкристаллизовались в воображении поэта такими, какими мы их знаем, прошло немало времени, понадобились различные внешние и внутренние воздействия на ее автора.
Несмотря на замкнутость Ершовых, стеснительность и робость провинциалов в первые месяцы столичной жизни, братья не могли оставаться без приятелей и друзей. Ершов сблизился с однокурсником Владимиром Треборном. Новый приятель не отличался какими-либо талантами, кроме одного — умения жить весело и беззаботно. Его влиянию Петр Ершов, по натуре стеснительный, обязан тем, что начал выходить из своего уединения и бывать в театрах, на балах, на увеселительных зрелищах, постепенно вошел в жизнь среднего круга петербургской молодежи. Треборн был сыном некрупного столичного чиновника, изредка печатал переводы с немецкого, ничем, впрочем, кроме аккуратности, не выделявшиеся. Лучше всего характеризует Треборна сам Ершов в одном из своих писем: «Итак, ты все такой же славный малый, беззаботный весельчак, поэт шуток и знакомец целого Петербурга; по-прежнему выдумываешь занятия и никогда ничем не занимаешься...» С Треборном было легко, это был отзывчивый, непритязательный и всегда жизнерадостный друг. Он часто бывал в домике Ершовых на Песках, оставался там ночевать, и ему первому Ершов читал свои литературные опыты. Вероятно, Треборн был первым слушателем и «Конька-Горбунка». «Но и этому товарищу,—свидетельствует Ярославцов,— он не говорил, что сам пишет сказку: не по какой-либо расчетливой прихоти поступал он так, а, без сомнения, по своим правилам — не открывать никому
37
Репродукция картины тобольского художника П. П. Чукомина «Ершов и Плетнев в гостях у Пушкина» (оригинал в Тобольском краеведческом музее).
до окончания предпринятого, и хранил тайну свято». Дружба с Треборном не прекратилась и после отъезда Ершова из Петербурга — Ершов переписывался с ним до последних лет своей жизни.
Летом 1833 года неожиданно умирает П. А. Ершов. Ершовы остаются без средеiв к существованию. Несчастье ускорило вступление Петра Ершова на литературную дорогу. Он всерьез берется за сказку. Многое уже написано раньше, герои сказки—Иванушка, крестьянский сын, и его друг, волшебный Конек, становятся в центр сказки, они неразлучны и нераздельны, как неразлучен был тог-
38
дашний крестьянин с лошадью, первым помощником в труде, почти членом семьи. Теперь сказка уже не кажется Ершову забавой. В работе над ней он забывает о постигшем его горе, он вкладывает в нее свои думы и чаяния. Сказка пишется легко. Она уже не рассыпается, как раньше, на отдельные эпизоды, а становится цельной, пронизанной единым действием. Приключения Иванушки и его друга приобретают глубокий смысл, когда они вместе — им не страшны никакие беды и испытания. Они побеждают стихии природы, злых людей и, наконец, одерживают верх над самим царем, жестоким и несправедливым...
Сказка окончена и переписана. Ершов надеется, что публикация ее облегчит и материальное положение семьи — Смирдин хорошо платит... Но ни Смирдин, ни тем более редактор журнала «Библиотека для чтения» Сенковский и разговаривать не станут с безвестным автором...
И Ершов отдает свое произведение на суд Петру Александровичу Плетневу, в чьей доброжелательности он уже не сомневается...
«Я жил надеждами богатый...»
Минули дни сердечной муки, Вздохнул я вольно...
кСч Н' EpiU/Oe' «К музе»
VU В один из дней начала 1834 года П. А. Плетнев, придя в университетскую’ аудиторию, неожиданно вместо лекции начал читать сказку в стихах. Сказка была необычной, героями ее были Иванушка-дурачок, крестьянский сын, и чудная зверушка — «на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами» — волшебный Конек-Горбунок,
39
В сказке говорилось о простых вещах, о ночной потраве пшеницы, о конных базарах, о купцах, которые обманывают покупателей, о нечестных братьях... На аудиторию, состоящую из детей горожан, преимущественно петербуржцев, повеяло незнакомым им миром крестьянской жизни, и, если бы не волшебная Жар-птица в одном из эпизодов сказки, ее вряд ли можно было назвать сказкой, да и язык ее не походил на сказочный, был прост и даже порой резал ухо слушателей своими простонародными оборотами... Необычен был и конец отрывка, прочитанного Плетневым, Иванушка-дурачок в завершение всех приключений, которые по обещанию автора должны с ним случиться, становился царем...
Закончив чтение, Плетнев раскрыл имя автора сказки— он сидел тут же в аудитории: студент Ершов-млад-ший — и высоко оценил достоинства этого произведения.
Так впервые стал известен «Конек-Горбунок», а к его автору пришла слава.
В третьем номере «Библиотеки для чтения», журнала, редактируемого профессором столичного университета, известным ученым-ориенталистом и еще более известньш журналистом, писавшим под псевдонимом Барон Брам-беус,— О. И. Сенковским, появилась первая часть сказки Ершова с хвалебным предисловием самого редактора. Обычно скупой на похвалы, Сенковский на этот раз писал так:
«Мы должны преуведомить наших читателей, что поэма, которая следует за этими строками, есть произведение совершенно неизвестного им пера. Не затворяясь в блистательном кругу имен, исчисленных на заглавном листе и приобретших уже своими трудами право на уважение или внимание соотечественников, «Библиотека для чтения», верная своему назначению служить зеркалом, в котором бы отражались все совершенные таланты литературной Руси, всегда с величайшим удовольствием выступит сама из этого круга, коль скоро представится ей случай, подобный
40
настоящему,— обнаружить читающей публике существование нового, весьма примечательного дарования. «Библиотека для чтения» считает долгом встретить с должными почестями и принять на своих страницах такой превосходный поэтический опыт, как «Конек-Горбунок» г. Ершова, юного сибиряка, который еще довершает свое образование в здешнем университете». Далее Сенковский писал, что «читатели сами оценят его достоинства... силу языка, любезную простоту, веселость и обилие удачных картин, между которыми заранее поименуем одну — описание конного рынка — картину, достойную стоять наряду с лучшими местами русской легкой поэзии».
В журнале была напечатана только первая часть сказки, она заканчивалась двустишьем:
Это присказка, а вот Сказка чередом пойдет...
«Мы должны здесь остановиться,— писал Сенковский, завершая публикацию сказки.—Приведенная нами первая часть творения г. Ершова достаточно оправдывает похвалу, которую поместили мы в ее начале, и может внушить всякому желание прочесть его до конца, подать надежду на истинное наслаждение и обрадовать появлением такого дарования. Полная поэма г. Ершова состоит из трех таких же частей и в непродолжительном времени выйдет в свет особою книгою».
Таково было счастливое вступление Петра Ершова в русскую литературу. Вчера еще не известный никому, сегодня он стал знаменит на всю читающую Россию. Поистине, сказочная судьба!..
5 октября 1834 года в «Северной пчеле» появилось объявление о выходе «Конька-Горбунка» отдельным изданием. В объявлении говорилось, что сказка продается в магазине А. Ф. Смирдипа по пяти рублей за экземпляр. Хвалебная аннотация предшествовала и этому извещению...
41
Сказка появилась с пропусками. Многие места о царе и его слугах, о купцах были удалены из нее, текст сказки пестрел многоточиями. Вероятно, уже при первом издании «Конек-Горбунок» насторожил чиновников, и цензор сказки А. В. Никитенко — с 1833 года он одновременно с профессорством в университете исполнял должность цензора,— чтобы спасти сказку, был вынужден убрать отдельные места из текста. На этот факт исследователи не обращали должного внимания. Между тем он говорит о многом.
Ершову в то время едва исполнилось 19 лет, он был еще студентом, дальнейшая судьба его была неясна, материальное и общественное положение неустойчиво и, вероятно, наиболее легким, и, с точки зрения житейского смысла, «правильным» путем было бы самому смягчить отдельные места сказки, сделать ее более благожелательной по отношению к царю и его слугам, к церкви, к купеческому сословию.
Сказка, конечно, потеряла бы свою остроту, но ее автору была бы обеспечена поддержка официальных кругов, что, несомненно, сказалось бы благоприятно на будущей карьере Ершова. Как видно, Ершов не встал на этот путь, и сказка, несмотря на цензурные изъятия, не утратила своей главной — антицаристской и античиновни-чьей — направленности.
Именно к этому времени, хотя и не исключена возможность, что это случилось и раньше, следует отнести встречи Ершова с Пушкиным, о которых сохранилось несколько свидетельств. Ярославцов пишет: «Покойный А. С. Пушкин, прочитав «Конька-Горбунка», отозвался между прочим Ершову, как рассказывал он сам: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Слова эти впоследствии через несколько лет уже подтвердил мне лично и бывший при том случае у Пушкина покойный барон Е. Ф. Розен. Пушкин заявил в то же время намерение содействовать Ершову в издании этой сказки с картинками и выпустить
42
ее в свет по возможно дешевой цене, в огромном количестве экземпляров, для распространения в России».
К сожалению, нам очень мало известно об этой встрече— мы не знаем точной ее даты, где она проходила, была ли она первой или нет, кто кроме Ершова, Плетнева и Розена присутствовал на ней. Мы можем только предположить, что она скорее всего состоялась уже после появления первой части «Конька-Горбунка» в журнале «Библиотека для чтения», следовательно, в мае-июне 1834 года, когда Пушкин поселился в доме Оливио, против Летнего сада.
Существует также литературное предание, записанное со слов А. Ф. См^рдина, что Пушкин не только восхитился сказкой Ершова, ее языком, образами, общей ее направленностью, но и написал первые четыре строчки ее, те знаменитые строки, которые, наверное, помнит каждый русский человек:
За горами, за лесами, За широкими морями, Не на небе, на земле, Жил старик в одном селе...
Скорее всего это легенда, рожденная тем, что Пушкин познакомился с «Коньком-Горбунком» в рукописи, до появления сказки в печати. Если бы эти строки были действительно написаны Пушкиным, то вряд ли при подготовке пятого прижизненного издания (1861) Ершов изменил бы третью строку на «Против неба — на земле». Память Пушкина для автора «Конька-Горбунка» всегда была священна.
Вероятно, Петр Ершов, живя в Петербурге, бывал у Пушкина не один раз. Более того, не исключена возможность, что Пушкин рассчитывал передать с Ершовым в Сибирь весточку от себя, завязать со своими сибирскими друзьями связь через юного автора «Конька-Горбунка», который не делал секрета из того, что после окончания университета он намерен вернуться на родину.
43
О справедливости такого предположения говорит следующий отрывок из дневника художника-«искровца» М. С. Знаменского, тобольского друга Ершова, воспитанника декабристов. Со слов поэта Знаменский записал: «Я бывал у него (у Пушкина), если вытащат к нему. Я был страшно обидчив. Мне все казалось, что надо мной он смеется, например: раз я сказал, что предпочитаю свою родину (для жительства). Он и говорит: «Да вам нельзя не любить Сибири — во-первых, это ваша родина, во-вторых,— это страна умных людей». Мне показалось, что он смеется. Потом уже я понял, что он о декабристах напоминает». В этом же разговоре Ершов глухо намекнул, что у него были какие-то «заметки, писанные Пушкиным», которые он вынужден был уничтожить.
Сопоставляя это со свидетельством Плетнева, что Ершов хорошо знал руку Пушкина, мы вправе предположить, что связи Ершова и Пушкина были более глубокими, чем это кажется на первый взгляд. Даже отсутствие у Пушкина каких-либо упоминаний о Ершове, что поначалу выглядит удивительным, так как Пушкин не мог пройти мимо такой сказки, как «Конек-Горбунок», не оставить в своих бумагах какого-либо следа о ней, скорее говорит в пользу нашего предположения: для Пушкина важно было предельно законспирировать связи со своими друзьями-декабристами, находящимися в Сибири. Такой надежной связью мог быть П. Ершов, талантливый юноша, автор замечательной сказки, прирожденный сибиряк, обладавший на родине широкими связями и намеревавшийся путешествовать по Сибири, то есть человек, во всех отношениях подходящий для такой цели.
При встречах Ершова и Пушкина могли затрагиваться не только литературные или близкие к ним вопросы. Хорошо известен интерес Пушкина к Сибири. Он зародился еще в лицейские времена, когда вместе с поэтом учились сын томского губернатора Алексей Илличевский, уехавший затем служить в Сибирь, и сын тобольского губернатора
44
Александр Корнилов, который даже прозвище носил в лицее — «Сибиряк».
Близким знакомым Пушкина был и живший в Тобольске В. Д. Соломирский, хорошо знавший П. А. Словцова, учителя Тобольской гимназии К. Бобановского и других тоболяков. В письме к Пушкину от 17 июля 1835 года Соломирский сообщал о популярности произведений поэта в Сибири, о высокой оценке творчества Пушкина П. Словцовым.
В начале 1830-х годов у Пушкина завязывается переписка с И. Т. Калашниковым, который подарил Пушкину три своих сибирских произведения: «Дочь купца Жолобова» (1832), «Камчадалка» (1833) и «Изгнанники» (1834). О первых двух Пушкин отозвался весьма хорошо. В эти же годы Пушкин задумывал писать большую работу о прошлом Сибири, о русских землепроходцах. О широте этой работы и глубине знаний Пушкина по этой теме мы можем судить по оставшимся в архиве поэта записям и заметкам, а также по списку книг о Сибири, имевшихся в библиотеке Пушкина. С другой стороны, у Ершова к встрече с Пушкиным уже созревал в общих, а потом и в более конкретных чертах план на будущее — организация общества по изучению Сибири и сопредельных территорий, издание журнала и прочее, план, задуманный совместно с Константином Тимковским. Не исключена возможность и того, что Ершов поделился с Пушкиным своими замыслами.
Пушкин правильно оценил критическую направленность сказки Ершова задолго до того, как ее раскусили царские чиновники, запретившие сказку. Намерение содействовать Ершову в выпуске «Конька-Горбунка» с картинками, по возможно дешевой цене, для распространения в России в огромном количестве экземпляров, явно свидетельствует об этом. Пушкин правильно понял социальный смысл сказки Ершова и правильно адресовал «Конька-Горбунка» — народу.
45
Петр Ершов сближается со многими видными в то время петербургскими литераторами — Гребенкой, Губером, Грановским, Бахтуриным, Масальским, Тимофеевым и другими, знакомится с В. А. Жуковским, который очень доброжелательно относится к молодому поэту. Произведения Ершова то и дело начинают появляться в печати. Критики упоминают его фамилию в своих статьях и обзорах.
Ершов начинает жить обычной жизнью столичного литератора, пробует свои силы в самых различных жанрах поэтического творчества, проводит свое время во встречах с друзьями, в беседах о литературных событиях, в спорах, посещает редакции журналов и газет, завязывает связи с издателями...
Он полон надежд на будущее, поддержка Пушкина, Жуковского, Плетнева, дружеская рука Никитенко—все окрыляет его, все обещает широкую торную дорогу в будущем...
Однако все оказывается и сложнее и труднее, чем представляется юному поэту, только что вступающему на путь служения музам...
«Уж не цвесть цветку в пустыне...»
Уж не цвесть цветку в пустыне, В клетке пташечке не петь;
Уж на горькой на полыне Сладкой ягодке не зреть!
П, Ершов, «Русская песня»
противоречива и сложна, менее
Жизнь столицы
всего она подчинена творческим устремлениям писателей и поэтов. Роковая тень от пяти повешенных на кронверке
46
Петропавловской крепости лежит на России. Думы, чувст* ва, желания людей — все подчиняется нормам ведомств Бенкендорфа и Уварова. Официальная народность, офи-циальная наука, официальная литература... И горе тому человеку, который осмеливается поднять голову выше черты, отмеченной самодержцем всероссийским. В столице царит «злосчастная атмосфера порабощения и преследований» (Герцен), жестокая правительственная опека над литературой, подавление всякого проявления свободной мысли...
А. В. Никитенко, стоявший в центре литературных событий тех лет, с горечью записал в своем дневнике 11 апреля 1835 года: «Состояние нашей литературы наводит тоску. Ни светлой мысли, ни искры чувства. Все пошло, мерзко, бездушно. Один только цензор может читать по обязанности все, что ныне у нас пишут. Иначе и быть не может. У нас нет недостатка в талантах, есть молодые люди с благородными стремлениями, способные к усовершенствованию. Но как могут они писать, когда им запрещено мыслить?.. Основное начало нынешней политики очень просто: одно только то правление твердо, которое основано на страхе; один только тот народ спокоен, который не мыслит».
Передовые люди тридцатых годов прошлого века напоминали собой потерпевших кораблекрушение и выброшенных на негостеприимный берег. Гордый корабль декабристов разбит и потонул в холодной пучине российского самодержавия —
Погиб и кормщик, и пловец...
От корабля остались только щепы, люди растерянно хватаются за них, надеясь спастись, прибиться к берегу, продержаться бурю. А многие, потеряв надежду, обессилев в неравной борьбе, охваченные глубоким и неизлечимым пессимизмом, покорно отдавались на волю волн..,
47
Казалось, не будет конца николаевской эпохе. Люди уходят в замкнутые мирки небольших кружков. Между жизнью служебной и личной вырастают непреодолимые барьеры. Люди становятся противоречивыми в своих действиях, поступках, оценках, научаются таить глубоко в себе сокровенные думы. Именно в эти годы на страницах Надеждинской «Молвы» появилось удивительное по внутренней силе стихотворение молодого Федора Тютчева, поэта в то время еще мало известного, «Silentum» («Молчи, скрывайся и таи...»).
Прекраснодушный В. А. Жуковский может быть учителем и воспитателем наследника российского престола, последовательным монархистом и в то же время заботиться об освобождении от крепостной зависимости Тараса Шевченко, художника и поэта, добиваться от царя смягчения наказания бунтарю Герцену... А. В. Никитенко, сам в юности крепостной и бесправный, имевший родителей, так и не вышедших из крепостной зависимости, может беспощадно убирать из сказки Ершова все антицаристские строки и в то же время делать в «Дневнике» удивительные по силе обличения николаевского самодержавия записи... Добрейший П. А. Плетнев, верный друг Пушкина, тонкий ценитель русской поэзии, первым отметивший достоинства «Конька-Горбунка», может в то же время поучать с кафедры о необходимости во всем следовать уваровской реакционнейшей триаде... Служить было необходимо. Без службы нельзя было существовать; жить без службы для человека было опасно, но дышалось свободно только вне служебных стен, вне бесчисленных уставов, регламентов, правил...
Трудно было юному Петру Ершову разобраться во всем сложном сплетении тогдашней жизни и литературы. Доверчивый по натуре, не потерявший и в столице цельности характера, честный в своих привязанностях и склонностях, он многое видимое принимал за сущее и часто не был способен проникнуть в глубину тех или иных явлений,
48
реально учесть последствия своих поступков. Печатая в «Библиотеке для чтения» свою сказку, он делал это не из особой любви к Сенковскому и кругу литераторов, толпившихся вокруг этого журнала. Нужны были деньги, а Сен-ковский платил хорошо и аккуратно. Выходит отдельным изданием «Конек-Горбунок», и Ершов радуется объявлению и добрым словам в «Северной пчеле» об этом событии. Он не понимает, что это хитрый, расчетливый ход реакционной булгаринской клики. В ее интересах объявить талантливого юношу-сибиряка своим и закрыть ему путь в противоположный лагерь. «Северная пчела», продажная булгаринская газета, не один раз шельмовавшая лучшие произведения тогдашней литературы и их авторов, спешит поместить на своих страницах хвалебный анонс о выходе сказки Ершова. Газета пишет о «необыкновенном таланте молодого автора... который предвещает еще гораздо более в будущем...»
Похвала «Северной пчелы» была плохой рекомендацией молодому автору. Ее издатели-редакторы — Ф. Булгарин и Н. Греч — имели репутацию реакционеров и охранителей, не гнушавшихся печатными и непечатными доносами и клеветой на прогрессивных писателей. Московская «Молва» немедленно зачисляет Ершова в «гении смирдин-ского периода словесности», а в марте 1835 года публикует уничтожающий отзыв о «Коньке-Горбунке», в котором отмечается, что сказка Ершова «написана очень недурными стихами», однако «подделка всегда останется подделкой», и поэтому «Конек-Горбунок» — «не имеет не только никакого художественного достоинства, но даже и достоинства забавного фарса».
«Говорят, что г. Ершов,— заканчивал рецензию критик,— молодой человек с талантом: не думаю, ибо истинный талант начинает не с попыток и подделок...» Автор рецензии — критик Виссарион Белинский — резко и справедливо выступал против булгаринской клики. Однако в оценке «Конька-Горбунка» он ошибался.
4 В. Г. Уткоэ
49
Подобно многим молодым литераторам, Ершов должен был «по подряду работать на Сенковского, которому были нужны свежие силы и неопытные юноши...» (Герцен). В первые годы существования журнал Сенковского приобрел необыкновенную популярность — на страницах «Библиотеки для чтения» печатались лучшие литераторы, в том числе и Пушкин, который за «Гусара» получил баснословную по тем временам сумму — 2000 рублей ассигнациями. Никакой другой журнал или издатель не могли платить писателям так, как «Библиотека для чтения» или Смирдин.
Впоследствии Ершов предпринимает попытки порвать с «Библиотекой для чтения», помещает ряд своих стихотворений, в том числе и поэму «Сузге», в «Современнике» Плетнева, еще хранящем пушкинские традиции. Но Плетнев печатает стихи бесплатно, а для Ершова, не имевшего состояния, оплата литературного труда имела важнейшее значение. Он писал в 1841 году одному из своих петербургских друзей: «...если бы (вот обстоятельство щекотливое) П. А. был так добр, что помог бы мне... то я бросил бы и Смирдина, и «Б. для ч.» и постарался бы не унизить себя в глазах добрейшего П. А.»
Резкий отзыв Белинского встал в цепь неудач, которые обрушились на Ершова в последний период его петербургской жизни
Внешне все, кажется, обстояло благополучно — в столичных изданиях появляется много произведений молодого поэта. Среди них — большая поэма «Сибирский казак», стихотворения «Туча», «Желание», «Ночь», «Молодой орел», «Первая любовь», «Русская песня» и другие, отрывок из драматической повести «Фома-кузнец». Однако он начинает понимать, что все эти стихи, поэмы, песни не выдерживают никакого сравнения с его сказкой. Может быть, только «Русская песня» («Уж не цвестъ цветку в пустыне. .») да «Фома-кузнец» вышли из одного с «Коньком-Горбунком» источника, все остальное — похоже на сотни
50
стихов, которые появляются в журналах, альманахах, га-* зетах, книжках...
Неудачна и поэма «Сибирский казак», которая печаталась в двух номерах «Библиотеки для чтения» (т. VIII и X за 1835 г.). Если в начале поэмы, в песне казачки, еще можно почувствовать живое народное слово, то вся поэма, хотя и названа «старинной былью»,— написана вялым стихом, скучна и растянута. Реалистические эпизоды,— а действие поэмы происходит в хорошо знакомой поэту обстановке сибирской казачьей линии,— тонут в романтических штампах, в ходульных красотах и ужасах. Вторая часть поэмы, напечатанная сразу же после «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина, рядом с этим шедевром выглядела особенно убого.
Ершов пытается вернуться к жанру, в котором он так счастливо дебютировал — к стихотворной народной сказке. На этот раз он задумывает написать своего рода «сказку сказок», поэтический свод русского народного сказочного творчества, в 10 книгах, 100 песнях. Ярославцов пишет по этому поводу: «Замышленное Ершовым громадное создание вроде русской поэмы, «Иван-Царевич», не только росло и развивалось в душе его, но даже по временам являлось и на бумаге. В оставшихся по смерти его рукописях, которых покойный, в минуты мрачного расположения душевного, много бросил в огонь, найден отрывок очень соответственный замыслу его об «Иване-Царевиче». Далее Ярославцов приводит этот отрывок. Увы! Трудно в нем узнать автора «Конька-Горбунка». Талант изменяет Ершову, а перо не повинуется. Язык приглажен, полон штампами— «луг изумрудный», ручеек — «серебряная лента», окно — «косящатое», девичья шея — «лебединая»... Так, наверное, и ограничился грандиозный замысел неудачным началом, а тут друзья подтолкнули Ершова на новую дорожку: попытать свои силы в создании либретто русской оперы. В. А. Жуковский и многие другие литературные и музыкальные знакомые Ершова говаривали не раз, что у
Рисунок художника Р. Жуковского, гравированный Л. Сериковым в четвертом издании «Конька-Горбунка». 1856 год.
русских пока еще нет национальной оперы.
Ершов с увлечением приступает к работе. Он пишет либретто для русской волшебно-героической оперы «Страшный меч», действие которой происходит на юге России во времена княжения Владимира...
Однако и на этом пути его ждет неудача.
Наивно либретто Ер-шова, не разработаны в нем характеры. В авторских ремарках чувствуется стремление к дешевым эффектам в духе популярной тогда оперы Мейербера «Роберт-дьявол». Вот как, например, заканчивается четвертое действие либретто Ершова: «Всемила взмахивает мечом. Сильный удар грома. Мрак. У ворот замка появляют-
ся призраки, духи, чудовища в бледном свете. Молния часчо перерезывает тучи и освещает сражающихся. Общий хор поет о пире кровавом, о грозной сече».
Однако несомненны и достоинства либретто. Они прежде всего в талантливом сюжетном построении, либ-
ретто не распадается на отдельные эпизоды, вставные номера, оно пронизано единым действием. Многие стихи либретто по-настоящему хороши—песня отрока из второго
52
акта 3-го действия («В небе морок, в сердце горе»), хор девушек из того же акта. Подкупает своей непосредствен-ностью и подлинно народными интонациями дуэт часовых Ратмира и Всемилы в начале 4-го действия. Там, где автор «Конька-Горбунка» остается верен своему таланту, а не поет с чужого голоса, он создает настоящие поэтические произведения.
В июне 1836 года либретто П. Ершова проходит теат* ральную цензуру и получает одобрение к представлению. Музыку к опере пишет скрипач и органист императорских театров О. К. Гунке, у которого Ершов брал уроки гармонии и игры на флейте. Против действующих лиц оперы рукой Ершова помечены фамилии ведущих артистов «Александринки»: Шелихова (Всемила), Петров (Гром-вал), Эйзрих (Любима), Воробьева (Баян) и др.
«Страшный меч» так и не увидел сцены. Когда Ершов и Гунке заканчивали оперу, уже готовилась к постановке опера гениального М. И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), первое представление которой состоялось 27 ноября 1836 года на сцене Александрийского театра. После нее уже не могло быть речи о постановке оперы Ершова — Гунке...
Неудача с либретто оперы «Страшный меч» болезненно сказалась на Ершове. Слишком много надежд было связано у него с этим произведением. Впоследствии он неоднократно вспоминает о своих либретто. Кроме «Страшного меча» он написал еще несколько либретто, найти которые, к сожалению, не удалось. Ершов пытается пристроить их, но без успеха.
В это же время Ершов работает над небольшой двухактной пьесой «Суворов и станционный смотритель», веселым, водевильного характера, произведением, пронизанным народным юмором, с незатейливым, но добротным сюжетом.
Ершов взялся за трудную задачу. Его пьеса не походила ни на одну из шедших на сценах столицы. Также, как
53
Объявление о выходе пятого издания «Конька-Горбунка».
и своего «Конька-Горбунка», Ершов и «Суворова» подслушал у народа. Возможно, что кто-нибудь из старых тобо-ляков, участников суворовских походов, рассказал Ершову эту легенду. Ершов сумел в своей пьесе воссоздать образ великого русского полководца таким, каким он хранится в памяти народа и до наших дней. Суворов изображен близким простым людям, не гнушающимся хлебать щи из одной чашки с крестьянином, остроумным, веселым, живым человеком. Пьеса вышла отдельным изданием в 1836 году. В одном из отзывов отмечалось, что «ход пьески легок, разговор жив и естественен». Другой рецензент писал: «Мы прочитали книгу с большим удовольствием; от души посмеялись живому, веселому разговору станционного смотрителя с загонщиком, эта сцена списана с натуры мастерской кистью, и узнали Суворова — он шутя балагурит. Искренняя дань памяти великого полководца и таланту Ершова заключили наше чтение».
Но удача была лишь наполовину. Ершов мечтал увидеть своего «Суворова» на столичной сцене, однако театральный цензор, небезызвестный Евстафий Ольдекоп, запретил ее к постановке. Не помогло и ходатайство артистов. Ольдекоп только удивился, что артисты смеют настаивать на разрешении к постановке произведения, «порочащего славное имя героя», и подтвердил свой запрет.
Ершов к этому времени прочно входит в литературный мир столицы. Его можно встретить и в книжной лавке Смирдина — своеобразном литературном, клубе тех лет, и в дешевых кондитерских где-нибудь на Шестилавочной или на Литейном, в которых обычно собирались небогатые литераторы, и в конторе предприимчивого издателя, конкурента Смирдина—Плюшара, в словаре которого Ершов принимал участие. Он уже перестает ходить «в молодых», теперь он сам в меру своих возможностей помогает вступающим на литературную дорогу. Музыкальный критик и писатель Ю. Арнольд, вспоминая о своих первых литературных опытах, пишет, что Ершов помог ему напе
55
чатать в «Библиотеке для чтения» его первую повесть и получить у О. И. Сенковского гонорар за нее. Ершов бывает теперь и на «субботах» В. А. Жуковского, и на балах у Сенковского, и на званых вечерах у Карлгофа. К нему уже привыкли, ореол сибиряка — самобытного таланта, потускнел, он воспринимается как средний столичный литератор, от которого теперь уж вряд ли можно ожидать чего-либо выдающегося, тем более что о его «Коньке-Горбунке» существуют самые противоречивые мнения...
Правда, в столице есть два кружка, где Ершов не только гость, а свой человек, где он чувствует себя свободно и где не сомневаются в его будущем. Это кружок украинское го поэта Евгения Гребенки и кружок Тимофея Грановского, университетского знакомого Ершова.
Различны эти кружки. У Евгения Гребенки всегда весело и непринужденно, там царит острое словцо, чаще простонародное, с перцем и солью, там любят песню, ценят хорошие стихи, не стесняются критиковать дружески за неудачи. У Гребенки на вечерах можно повстречать и великого знатока русского языка — Владимира Даля, печатающего свои сказки под псевдонимом Казак Луганский, и щеголя Ивана Панаева, и многих других литераторов столицы. Кружок Гребенки был близок Ершову атмосферой подчеркнутой народности, там любили старинные легенды и сказки, старались вникнуть в поэтическую душу народа.
Иным был кружок Тимофея Грановского, будущего профессора Московского университета. Больших литературных имен в нем не было. Собирались люди, преданные науке, склонные к обсуждению философских вопросов. В. Григорьев, участник этого кружка, писал, что у Грановского бывали А. Н. Бутовский, К. И. Тимковский, К. К. Злобин, П. П. Ершов, П. С. Савельев, В. И. Голенищев-Кутузов, другие товарищи Грановского по университету. Кружок этот носил иной характер, чем кружок Евгения Гребенки. «Даже Беранже не был у нас в милости,—
56
пишет Григорьев,— только в ямбах Барбье находили мы толк». В кружке много внимания уделялось вопросам изу-чения Востока, что для Ершова и его друга Тимковского имело особую привлекательность, о чем мы скажем ниже. К успехам Ершова в кружке относились одобрительно, один из членов кружка, друг Станкевича Я. М. Неверов, дважды выступил с теплыми отзывами о стихах Ершова в «Журнале Министерства народного просвещения».
К 1835 году относится сближение автора «Конька-Горбунка» с Бенедиктовым, оказавшим большое влияние на поэтическое творчество Ершова. Скорее всего знакомство с Бенедиктовым призошло у Гребенки.
После неожиданного появления в конце октября 1835 года в книжной лавке Лисенкова небольшой, всего 106 страничек, книжки стихов Владимира Бенедиктова, популярность этого, ранее совсем неизвестного поэта стала необыкновенной. Весь литературный и чиновный Петербург только и говорил о новом стихотворце. Одни превозносили его до небес, ставя выше всех поэтических дарований российского Парнаса. Другие — низвергали его в пропасть, сводя все таланты нового поэта к голому версификаторству. Так или иначе, а успех Бенедиктова на время затмил славу всех остальных русских поэтов.
Слава Бенедиктова была быстротечна, но порожденная его стихами бенедиктовщина, как явление литературное, держалась дольше и оказала дурное влияние на ряд русских поэтов. Не избежал его и Ершов.
Бенедиктов был старше Ершова на восемь лет, но в их биографиях нашлось много общего — Бенедиктов так же, как и автор «Конька-Горбунка», рос в провинции, окончил четырехклассную гимназию в Петрозаводске, такую же, как и Ершов в Тобольске. Так же, как и к Ершову, литературная известность к Бенедиктову пришла сразу, неожиданно для всех, да и, пожалуй, для него самого. Человек он был тихий, скромный, шумная слава не изменила его. «Нельзя было не любить этого честного, доброго и в выс
57
шей степени кроткого человека»,— пишет его биограф Я. П. Полонский. Эти же черты были присущи и характеру Ершова. В судьбе Бенедиктова Ершов видел в какой-то степени и свое будущее — он тоже, не имея средств, должен был служить; возможно, Бенедиктов даже поддерживал в юном друге это намерение. Служба нимало не тяготила Бенедиктова, у начальства он был на хорошем счету и умел сочетать обязанности чиновника с занятием поэзией и математикой, в которой он был недюжинным знатоком.
Бенедиктов и Ершов подружились, к ним примкнул поэт и драматург К. П. Бахтурин, автор либретто оперы «Руслан и Людмила» и известной в то время «Сказки о Ниле-Царевиче и Ивашке — белой рубашке». Бахтурин был изрядным кутилой и признанным остряком, не щадившим в экспромтах и самого себя.
«Это дружеское трио — Ершов (тогда еще только что окончивший курс в СПБ университете), Бахтурин и Бенедиктов задумывали издать альманах, наполнить его своими произведениями и, под заглавием «Мы — Вам», пустить в свет с виньеткой, изображающей несущуюся тройку, и с эпиграфом:
Вот мчится тройка; но какая?
Вдоль по дороге; но какой?
Альманах не состоялся...» — писал Я. Полонский.
Все сложнее и труднее становится жить Петру Ершову в столице. Единственный источник существования — гонорары— непостоянен и скуден. Стихи, печатающиеся в журналах и альманахах, проходят почти незамеченными среди массы других. Ершов видит это. Ему трудно примириться с мыслью, что он уже не сможет создать ничего, подобного «Коньку-Горбунку». Несмотря на большой круг знакомых в литературном, музыкальном и артистическом Петербурге, чувство одиночества порой становится нестерпимым. Атмосфера столицы начинает тяготить его:
5S
СТА fill
T'gf
Титульный лист издания пьесы П. П. Ершова «Суворов и станционный смотритель».
Ни чувству простора! ни сердцу свободы!
Ни вольного лёту могучим крылам! Все мрачно! все пусто! и юные годы. Как цепи, влачу я по чуждым полям...—
говорит он в стихотворении «Желание».
Однако это не бесплодная тоска слабого человека, на которого обрушиваются неудачи или который не прижился к новой среде. Нет, во всех подобных стихах Ершова тех лет ощущается определенная целеустремленность — в том же стихотворении «Желание» он пишет:
О, долго ль стенать мне под тягостным гнетом? Когда полечу я на светлый восток?
О, дайте мне волю!..
В другом стихотворении — «Молодой орел» — он поэтически олицетворяет себя с молодым орлом на чужбине:
Но тоска, тоска-кручина Сердце молодца грызет, Опостыла мне чужбина, Край родной меня зовет. Там в родном краю приволье По поднебесью летать, В чистом поле, на раздолье, Буйный ветер обгонять...
Ершов чувствует себя в столице, несмотря на свои литературные успехи, обширные знакомства, временным жильцом. Он давно уже решил вернуться в Сибирь, для этого у него есть важные причины. Вместе со своим другом Константином Тимковским, который не имеет никакого отношения к литературному миру столицы, они решили, что будут делать на родине Ершова. Первый шаг к этому уже сделан — Ершовым подано прошение министру народного просвещения о желании ехать учителем в Тобольскую гимназию...
Что же заставило Петра Ершова сделать этот шаг, непонятный для многих и неожиданный для его друзей?
60
Конец 1834 года был для Петра Ершова очень тяжелым. 15 августа неожиданно умирает брат Николай, так и не успев окончить университет. С ним Ершов был очень дружен, и безвременная смерть брата потрясла поэта. В стихотворении «Послание к другу» Ершов так писал о брате:
И все, что сердцу было ново, Что вновь являлося очам, Делил я с братом пополам. И недоверчивый, суровый, Он оценил меня. Со мной Он не скрывал своей природы, Горя прекрасною душой При звуках славы и свободы... Но он угас во цвете силы; И с ним угасла жизнь моя, Во мраке братния могилы Зарыл заветное все я.
Я охладел к святым призваньям, Моя измученная грудь Жила еще одним желанием — Скорее с братом отдохнуть.
Утрату тяжело пережила и мать поэта. Именно после смерти Николая у Ершовых — матери и сына — появляется настойчивое стремление покинуть столицу, вернуться на берега Иртыша. Мать тоскует по Тобольску, ей становится ненавистна столица, этот громадный город, в котором она осталась без мужа, потеряла сына. Она боится и за Петра, здоровье которого за последнее время после всех испытаний пошатнулось. Да и самому Петру Ершову кажется, что на берегах Иртыша он найдет новые силы для новых больших дел. Он будет не один, рядом с ним — его друг — Константин Тимковский.
Тогда-то и подает Ершов прошение в министерство. И пока оно странствует по канцеляриям, он и Константин Тимковский готовят себя к будущему...
61
«Мой друг! Оставим малодушных...»
«Mors et vita!»
Надпись на кольцах Ершова и Тимковского Ж-
СИ1 Константин Тимковский принадлежал к весьма обеспеченной и хорошо известной в столице семье. Его отец, Иван Осипович Тимковский, был видным петербургским чиновником, осыпан царскими милостями и наградами, занимал почетную должность члена комиссии по печатанию полного свода законов. Еще в Иркутске, где он служил лекарем наместничества, он женился на Екатерине Шелиховой, дочери «Колумба русского». Три сына Тим-ковских служили в гвардии и пользовались милостями Николая I, так как активно участвовали в подавлении восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.
Но Константин не пошел по стопам отца и старших братьев, а выбрал себе иной путь — поступил в университет, а затем перешел юнкером во флот. В 1834 году, когда ему шел 21-й год, он уже ходит по Балтийскому морю от Кронштадта до Мемеля на фрегате «Кастор», потом крейсирует на корабле «Красный», выдерживает экзамен на мичмана и в июне 1835 года переходит на службу в Российско-Американскую компанию. 5 августа 1835 года он уходит на компанейском судне «Елена» в кругосветное плавание вокруг мыса Горн с заходом в Ново-Архан-гельск. Этому событию П. Ершов посвятил одно из лучших своих стихотворений: «Тимковскому. На отъезд его в Америку».
В книге Ярославцова приведен весьма важный для понимания отношений Ершова и Тимковского разговор между автором воспоминаний и Ершовым. Разговор этот относится к концу 1835 года, когда Ярославцов уже окончил
62
университет (он учился на год позднее Ершова), а Тимковский находился на пу1и в Ново-Архангельск. Однако события, о которых идет речь в беседе Ярославцова и Ершова, следует отнести к 1833—1834 годам.
Ярославцов пришел к Петру Ершову в его домик на Песках. «Перед моим приходом Ершов был занят чтением какого-то путешествия, в голове его роились мысли тоже, казалось, путешественнические.
— А ты,— продолжал я,— все не намерен отказаться от поездки в Сибирь? Желаешь собрать побольше сказок?
— Нет, это — что,— заговорил он,— созвать побольше старух, вот и тебе сказки. Нет, у меня другая цель!..
Некоторые сохранившиеся у нас заметки об этом случае дают возможность воспроизвесть тогдашний наш разговор почти дословно — разговор двух молодых товарищей, только что со школьной скамьи, разговор — не без значе* ния для характеристики тогдашнего Ершова. Видя, что он упорствует в своем намерении, я — после минутного молчания, в котором Ершов, казалось, с наслаждением глядел на что-то в будущем — вздумал высказать и свои желания:
— Может быть, мы с тобой там увидимся...
С изумлением посмотрев на меня, Ершов спросил:
— Как?!
— Да вот так, как есть,— ответил я простодушно.— Мне хочется погулять по святой Руси, так, может быть, и туда загульну...
Разговор прерван был на несколько минут посетителем, по уходе которого Ершов, сев опять возле меня, начал в каком-то восторженном настроении:
— Нет, у меня цель важная!.. Я хочу путешествовать по Сибири...
— Ты желаешь описать ее?
— Да, по крайней мере — сколько возможно. Соберется нас, может быть, несколько человек... Вот не хочешь ли?..
Кто в молодости не создавал себе различных планов и
63
не верил в осуществление их! Неожиданное открытие Ершова, согласное отчасти с моими желаниями, заинтересовало меня.
— Да, я не совсем чужд этого,— ответил я с раздумьем.— Но, брат, какие же средства для путешествия в таком краю, как Сибирь?..
— О средствах после. Я потому предложил тебе это, что вижу — ты все желаешь нового... Уж один, бывший наш университетский товарищ, Т-ский, решительно согласился. Он, не докончив курса, перешел по собственному желанию в морской корпус, где необыкновенно отличился: юнкером ходил уже в офицерский класс, а теперь в Америке, на службе в Американской компании. И вот!..
При этом Ершов положил свой указательный палец на стол, за которым мы сидели на диване.
— Что это? —спросил я.
— Посмотри...
Я увидел на пальце черное металлическое из роз кольцо с серебряной пластинкою, на которой изображены буквы М. V.— «Mors et vita!».
«На жизнь и смерть!» — произнес он торжественно.— Посмотри, пожалуйста, и внутри.
Он снял кольцо и подал мне. На внутренней стороне обручика вырезаны были число, месяц и год, когда они оба, по объяснению Ершова, решительно согласились на путешествие по Сибири. Воображаю себе эту торжественную минуту для Ершова; Т-ского я мало знал.
— Объясни, в чем дело? —спросил я.
— Только согласишься ты или нет, но ни слова об этом никому!..
— Будь спокоен.
Ершов в дополнение к объяснению о будущем спутнике своем Т-ском прочитал мне несколько строк его письма из Америки, в котором последний дружески извещал его об успехах своих в физике, астрономии и вообще во всем том, что считал необходимым для предпринимаемого путешест**
64
вия. Одушевленная речь Ершова более и более интересовала меня, но я не мог оторваться и от собственных желаний, последствия показали, как напрасны были порывы того и другого из нас.
— Не даю тебе,— сказал я,— слова, но может быть...
— Да если б ты согласился так скоро, то это заставило бы меня поусомниться; при том же путешествие предполагается начать только через пять лет...
— Видишь,— сказал я,— мое намерение было пойти сперва по Европе. Я говорю пойти, потому что поехать не на что; а по Европе ходили уже многие без денег. А потом уже, сколотив копейку, пойти по России...
Ершов не отвергал моей мысли вовсе, говорил о красотах сибирской природы, присовокупив, что в Европе они уже более искусственны или закрыты промышленностью; говорил о благе, какое можно доставить некоторым бедствующим сибирским племенам, изведав их подробно и сообщив сведения и план, как помочь им, правительству...
— Примут не примут — мы свое дело сделали! — прибавил он. Говорил о славе, которая ждет нас, если предприятие удастся.
— Если же не удастся,— заметил он,— то, по крайней мере, мы будем иметь богатый запас сведений на будущие дни нашей жизни. Мы будем в этом путешествии независимы ни от кого, а по окончании поселимся где-нибудь, и до нас никому дела не будет!..
— Замысел чудный,— сказал я,— но...
— Да уж, коли на то пошло,— проговорил Ершов и, вскочив с места, бросился в смежную комнату, где из-под подушки своего спального дивана вытащил тетрадь, принес ее,— вот это дневник, в который я записываю все, что нужно для нашего путешествия.
Он прочитал несколько страниц из него: в нем набросан был план путешествия; предполагалось, между прочим, собираться всем на зиму в один город, а на лето разъез*
5 В. Г. Утков
65
жаться; через год начать издавать журнал приобретенных каждым членом сведений и т. п. Сведения требовались по истории, географии, бытовые и пр.
— Сведений будет вдоволь,— прибавил Ершов,— подписка на журналы доставит новые средства... Т-ский обещал привести из Америки шхуну для хода по водам, где можно...
Ершов, увлеченный своим предприятием, еще много говорил о девственной сибирской природе, о чудном климате Сибири, о малом внимании к ее богатствам по всем царствам природы, даже сказал, что флейтой занимается собственно с целью — пользоваться ею во время путешествия.
— Ты,— прибавил он, обращаясь ко мне,— мог бы быть полезен и как музыкант при собирании туземных песен...
Наконец прочитал мне стихотворение, написанное им на разлуку с Т-ским, при отъезде его в Америку».
Вот какой разговор вел автор «Конька-Горбунка», ставший уже известным в российских литературных кругах поэтом, со своим новым другом. Ярославцов, вспоминая об этом разговоре, приводит много интересных деталей обстановки, в которой жил Ершов, мыслей, которыми Ершов поделился с ним. Однако, несмотря на это, чувствуется, что Ярославцовым сказано не все. Прежде всего, в его передаче разговора с Ершовым выпало слово «общество», оно так и напрашивается в тех местах, где Ярославцов передает слова Ершова о «каждом члене», о системе разведывания положения северных племен, о программе сбора сведений по истории, географии, быту. Разговор этот велся спустя всего десять лет после декабрьского восстания 1825 года, и слово общество было попросту опасно. Мы вправе сказать, что Ершов и Тимковский задумали создать общество по изучению Сибири и сопредельных с ней стран, поставив это дело на широкую ногу — издавая журнал, совершая поездки, экспедиции, намечая комплексную про
66
грамму изучения. Замысел Ершова — Тимковского на десять лет опережал создание Русские Географического общества, а по намечаемой программе был значительно шире его, так как не ограничивался только намерением описания увиденного, а стремился к активному воздействию на изучаемые объекты. Наверняка к Тимковскому и Ершову примыкал еще кто-то из их знакомых. Это мог быть и А. П. Баласогло, который учился одно время в университете и служил во флоте, и кто-либо из Майковых, в семью которых Ершов был вхож. Забегая вперед, скажем, что впоследствии и Тимковский, и Баласогло, и братья Майковы — Валериан и Аполлон — оказались участниками «пятниц» Петрашевского...
Характерно, что Ершов в разговоре с Ярославцовым глухо намекнул, что в Тобольске у него есть друзья, которые с радостью разделят его замысел и примут в нем активное участие. Опасный был для тех лет замысел! И в этом свете становится понятным смысл следующего отрывка из воспоминаний Ярославцова. Встретившись через некоторое время после приведенного выше разговора, друзья снова вернулись к его теме, начали говорить о подготовке к будущим путешествиям и, в частности, о дневнике, о записях, связанных с будущими поездками.
«Я,— сказал Ершов,— долго вел дневник; да как пересмотрел его, так и сам испугался и сжег его (выделено мною.— В, У.), все одно только идеальное. Однако же теперь стану записывать; с нового года сделаю план и примусь. А ты ведешь дневник? — спросил он меня.
— Да, но не в порядке; иногда несколько времени пропущу, да потом и припомню все на бумаге.
— Что ж, и тот раз (выделено мною.— В. У.) записал? Помнишь — наш разговор о путешествии?
— Нет еще, но запишу...
Ершов слегка нахмурился... Впоследствии он уже редко упоминал о своем путешествии...»
Это весьма примечательный, полный намеков разговор.
5* 67
Из него видно, что Ершов был недоволен тем, что разоткровенничался с Ярославцовым, опасался, что Ярославцов записал его рассказ. Ершов как бы заранее отрезает путь Ярославцову к дальнейшим расспросам о замыслах его и Тимковского, заявляя, что он уничтожил свои записи, что в них нет ничего реального — одно идеальное! Знаменательно это — сам испугался и сжег!
Но, пожалуй, ярче, чем воспоминания Ярославцова, рисует замысел юношей упомянутое Ярославцовым стихотворение, написанное Ершовым на разлуку с Тимковским. Это одно из лучших стихотворений, полное внутренней силы, звучащее как клятва.
В рукописи стихотворений, хранящихся в Тобольском краеведческом музее, под этим стихотворением стоит дата— 1835 год. Написано оно, вероятно, перед отъездом Тимковского из Кронштадта. Вот отрывок из этого стихотворения:
Готово! ясны небеса;
В волнах попутный ветер холмится, И чутко дремлют паруса, И гром над пушкою дымится... ...Мы усладим прощальный час И горечь долгия разлуки, Судьбой положенной для нас. К чему роптать? Закон небесный Нас к славной цели предизбрал, И он же нам в стране безвестной Ту цель в рассвете указал. Какая цель! Пустыни, степи Лучом гражданства озарить, Разрушить умственные цепи И человека сотворить;
Раскрыть покров небес полночных, Богатства выспросить у гор И чрез кристаллы вод восточных На дно морское кинуть взор, Подслушать тайные сказанья Лесов дремучих, скал седых И вырвать древние преданья Из уст курганов гробовых;
68
Воздвигнуть падшие народы, Гранитну летопись прочесть И в славу витязей свободы Колосс подоблачный вознесть...
Стихотворение призывает быть стойким на пути к до* стижению поставленной цели, подавить сомнения, робость, противопоставить козням зла «всю силу твердости своей».
Великим трудностям — терпенье, Ошибкам — первые плоды, Толпе насмешливой — презренье, Врагам — молчанье и труды... Влеченью высшему послушны, Мой друг, оставим малодушных С их целью жизни мелочной, С самолюбивым их расчетом Изнемогать под вольным гнетом И смыться темною волной, — Не охладим святого рвенья, Пойдем с надеждою вперед.
И если... пусть! Но шум паденья Мильоны робких потрясет.
В этом стихотворении, похожем на торжественную клятву, была изложена широкая программа гражданской дея* тельности, которая уже сама по себе содержала критику тогдашнего общественного устройства. Речь в стихотворении шла о разрушении «умственных цепей», которыми окован народ, о сотворении человека-гражданина, о «спасении падших народов», о «лучах гражданства», которые должны озарить пустыни и степи. Упоминание о «витязях свободы», во славу которых нужно вознесть «колосс подоблачный», говорило о подвиге декабристов. Стихотворение насыщено вольнолюбивым духом, верноподданническая строфа, которая была в нем:
В защиту правых, в казнь неправым, Глагол на Азию простерть, Обвить моря орлом двуглавым И двинуть в них и жизнь и смерть —
69
выглядела чужеродной. Она не вытекала ни из смысла всего стихотворения, ни из творчества самого Ершова, в котором мы встречаемся с гуманным, человечным отношением к народам Сибири — тобольским и тюменским татарам, ханты, манси, ненцам.
Стихотворение «Тимковскому» так и не было напечатано при жизни Ершова. Полностью оно увидело свет только в 1936 году, то есть спустя 100 лет после его создания.
Тимковскому же посвящено еще одно стихотворение Ершова — «Послание к другу» («Мой друг, куда, в какие воды тебе послать святой привет любви и братства и свободы?»). Стихотворение это является своего рода ответом на письмо Тимковского, начато оно, скорее всего, в конце 1835 года, завершено в начале 1836 года. Стихотворение «Послание к другу» автобиографично, полно не расшифрованных еще намеков, раздумий, колебаний. В конце стихотворения Ершов отбрасывает свои сомнения и возвращается к теме клятвы «на жизнь и смерть»:
Но прочь укор на жизнь, на веру! Правдив всевышнего закон!
Я за любовь, мой друг, чрез меру Твоею дружбой награжден. Я буду жить: две славных цели Священный день для нас открыл. Желанья снова закипели: Твой голос сердце пробудил... Мой друг! мой брат! с тобой повсюду — На жизнь, на смерть и на судьбу! Я славно биться с роком буду И славно петь мою борьбу. Не утомлен, пойду я смело, Куда мне рок велит идти, — На наше творческое дело, И горе вставшим на пути!
Ершову всего 21 год. Он полон сил и надежд. Он гонит прочь сомненья и тревоги, которые порой охватывают его... Пока Тимковский будет набираться опыта и знаний в мор
70
ском и навигаторском деле, он тоже не станет терять вре-мени зря.
Ершов продолжает готовиться к путешествиям — читает книги по истории и географии Сибири и сопредельных с ней территорий, изучает музыку, готовясь записывать народные мелодии. Возможно, что в планы Петра и Константина был посвящен и Николай Ершов. В стихотворении «Послание к другу» имеются глухие намеки на это. Безвременная кончина брата нарушила эти планы...
Прошение Ершова долго странствует по столичньш канцеляриям, и только к середине 1836 года, с помощью А. В. Никитенко, Ершов получает долгожданное назначение в Тобольскую губернскую гимназию...
Летом 1836 года он выезжает из столицы в Сибирь, полный противоречивых и тревожных чувств, которые он выразил в стихотворении «Прощанье с Петербургом»:
Последний раз передо мною Горишь ты, невская заря!
В последний раз в тоске глубокой Я твой приветствую восход: На небе родины далекой Меня другое солнце ждет.
О, не скрывай, заря, так рано Волшебный блеск твоих лучей Во мгле вечернего тумана, Во тьме безмесячных ночей!.. Но нет! Румяный блеск слабеет Зари вечерней; вслед за ней Печальный сумрак хладом веет И тушит зарево огней... Прими последнее прощанье!..
Летами юный, ветхий славой, Величья русского залог, Прости, Петрополь величавый, Невы державный полубог? Цвети под радужным сияньем Твоей блистательной весны И услаждай воспоминаньем Поэта сумрачные сны!
71
«Разрушить умственные цепи...»
Дни одиночества текли, Как дни невольника...
П, Ершов. «Воспоминание»
Петр Ершов вместе с Ефимией Васильевной при-
ехал в Тобольск из Петербурга вечером 30 июля 1836 года. Он остановился в доме своего дяди, известного сибирского богача, потомственного почетного гражданина, коммерции советника Н. С. Пиленкова.
Ершов возвращался в Тобольск после почти шестилетней разлуки, кандидатом Санкт-Петербургского университета, поэтом, известным всей читающей России. Он был полон замыслов на будущее (залог их свершения: кольцо с буквами «М. V.» на пальце) и не сомневался, что в Тобольске хорошо, поддержат все его начинания...
Прошла первая радость встречи, и все начало видеться уже иным: и город не таким, как в мечтах,— и грязным, и маленьким, и захудалым; и дядя как будто слинял, куда ему было до столичных негоциантов, да и планы его торговли терпели крах. Невеселыми были и другие новости — И. П. Менделеев ослеп, П. А. Словцов ведет затворническую жизнь, пишет большой труд по истории Сибири, ни с кем не общается, очень постарел и более всего боится, что ему не удастся закончить задуманного...
На следующий день после приезда, как рассказывает сам Ершов в письме к В. А. Треборну, «приодевшись как следует, явился по обязанности сначала к директору, потом к губернатору, потом к князю (генерал-губернатору Западной Сибири П. М. Горчакову). Директор принял меня ни то ни се, князь сначала был холоден, но впоследствии изъявил торжественно — при всем собрании здешних чинов и властей — свое удовольствие, что Ершов служит в Тобольске».
72
В последней фразе письма больше желания автора по-» казать, что все обстоит хорошо, чем действительного благополучия. На самом деле официальный Тобольск встретил Ершова весьма холодно.
Князь Горчаков, который по своему положению был и главой губернского образования, известен в истории как один из самых бездарных сибирских администраторов, поклонник фрунта, солдафон до мозга костей. Он подчеркнуто холодно обошелся с новым чиновником гимназии, приезжим из столицы штатским... Не выразил удовольствия при знакомстве с Ершовым и директор гимназии, некто Грибовский. Столичный преподаватель, да еще писатель, был явно не к месту в обветшалых стенах губернской гимназии...
Через неделю Петр Ершов был назначен преподавателем... латинского языка младших классов!
Такова была первая встреча молодого учителя с чиновничьей рутиной. Автор чудной русской сказки, писатель, о котором Пушкин как-то сказал: «Этот Ершов владеет русским стихом точно своим крепостным мужиком», чуткий знаток поэтического народного слова был засажен за мертвую латынь! Это было, как говорил сам Ершов, тяжко и для учителя, и для учеников. К счастью, через месяц «наша обоюдная мука кончилась к совершенному удовольствию обеих сторон,— вспоминает Ершов.— В половине сентября я торжественно вступил на кафедру философии и словесности в высших классах и получил связку ключей от знаменитой, хотя и не утвержденной в этом звании, гимназической библиотеки».
Обучение в Тобольской гимназии велось в то время в соответствии с Уставом гимназий от 8 декабря 1828 года, который имел целью ограничить распространение знаний и лишить молодежь интереса к вопросам общественным. И хотя незадолго перед приездом Ершова Тобольская гимназия из четырехклассной стала семиклассной, в ней мало' что изменилось. Для преподавания словесности повсемест
73
но пользовались учебниками Кошанского, полными схоластики и догматизма. Цель образования была очень четко определена рескриптом Николая I, направленном еще в августе 1827 года министру народного просвещения адмиралу А. С. Шишкову. Царь писал о необходимости строить систему образования так, чтобы «каждый, не быв ниже своего состояния, также не стремился чрез меру возвыситься над тем, в коем, по обыкновенному течению дел, ему суждено" оставаться».
Новый устав Министерства просвещения о гимназиях вводил должность инспектора, определял его обязанности, увеличивал жалованье «чиновникам гимназии», разрешал педагогические советы, учреждал звание «попечителя гимназии» и т. п. Однако все это было лишь видимостью прогрессивных изменений, в действительности же новый устав узаконивал сословную систему образования, общественные науки совершенно исключались из гимназического курса, главное место в программе отводилось древним языкам.
Молодой учитель Тобольской гимназии не сразу разо* брался в реакционном существе нового устава, воспринял его «преобразования» весьма радостно и, начав преподавать, русскую словесность, взялся за дело со всей горяч-ностью молодости, не соразмеряя ни сил своих, ни возможного сопротивления, наивно считая, что все его поддержат, так как он делает полезное и доброе дело.
Прежде всего он отбросил схоластическую методу преподавания, отверг все эти «источники изобретения», «хрии» и прочие мертвые выдумки словесности Кошанского. Курс Ершов начал читать по университетским запискам, дополняя их своими рассказами о встречах с поэтами и писателями, подробно знакомя учеников с новыми произведениями русской литературы. Он полон стремления «разрушить умственные цепи», которые сковывают сознание юных тобо-ляков, «сотворить человека» из детей тобольских обывателей, чиновников и купцов, сидящих перед ним за ученическими столами.
74
Ершов начинает работать над обширной «Программой словесности» для гимназий. Цель этого труда — избавить молодые умы от схоластики, дать им живое понятие о русской литературе. Ершов пишет в «Программе»: «В истории литературы сперва будут показаны основания, по которым должно рассматривать литературу каждого народа, а потом на тех же основаниях изложится история отечественной литературы». Преподаватель русского языка
Первое советское издание «Конька* Горбунка». Из собрания Н. И. Суро-
и литературы, по мнению Ершова, должен «употребить все, чтобы сделать свой
вежина.
предмет сколько можно яснее и занимательнее». Учитель
не должен стеснять свободу воображения ученика, а наоборот, «будить в ученике самодеятельность, живость и быст-
роту ума...»
Ершов стремится к тому, чтобы в учениках развивалась самостоятельность мышления. «В словесности,— пишет он,— все внимание будет обращено на практику, теория же войдет сюда только как прибавление. Сочинения начинаются с легчайших предметов и восходят постепенно к труд
75
нейшим. Составление их посредством так называемых «источников изобретения» или «по хриям», равно как и «подражания» — будут совершенно исключены^ чтобы не стеснять свободу воображения детей и заранее приучать их отыскивать в предметах собственные точки зрения... все схоластические подробности и разделения, бесплодно обременяющие память, будут отставлены».
Ершов идет дальше — он сближает ученические сочинения с поэтическим творчеством. Это — разные стороны одного и того же предмета, говорит он, и старается на занятиях пробудить в учениках творческую индивидуальность.
Не забывает Ершов и такого важного источника образования, как книга. Он уже познакомился с библиотекой гимназии и увидел ее убожество. В приписке к «Программе словесности» он говорит: «по части практической, то есть при прохождении истории литературы, нужно иметь полные сочинения по крайней мере наших главнейших писателей, например: Карамзина, Марлинского, Лажечникова, Загоскина, Гоголя, Пушкина, Дельвига, Жуковского, Веневитинова, Кукольника, Гнедича и проч.» «Собрание образцовых сочинений» — учебная книга, по которой занимались гимназисты, Ершовым решительно отвергается. «Позднейшие из этих «образцовых сочинений»,— пишет он,— относятся к 1826 году, а с того времени сколько явилось новых превосходных сочинений по всем частям!»
В конце «Программы словесности» Ершов еще раз обрушивается на риторику, которая, по его мнению, «связывает умного ученика по рукам и ногам, а глупого приучает не думать ни о чем».
Окончание работы над «Программой словесности» совпало с ревизией гимназии, проводимой генерал-губернатором. Ершов переписывает «Программу» набело и вручает ее чиновнику особых поручений генерал-губернатора. Он полон веры в то, что мысли, изложенные им в его труде, убедят всех в его правоте, откроют глаза попечителю на пороки существующих методов гимназического обучения.
76
Много efa^e пройдет времени, пока Ершов окончательно убедится в тщете своих усилий и поймет, что официя — не союзница его, а лютый враг. Пока же он не сомневается в торжестве своих усилий...
Он настолько уверен в успехе, что не хочет ждать решения попечителя, князя Горчакова, по своей записке, а начинает применять основные положения своей «Программы словесности» на практике. Капитон Голодников, один из учеников Ершова, вспоминает, что автор «Конька-Горбунка» сразу же стал выделяться из круга гимназических учителей, он «все сообщаемое сумел сделать настолько интересным, что по классу словесности все шли хорошо и лекций его ожидали с большим удовольствием». Ученических сочинений Ершов сам не исправлял, а, заметив в них логическую или грамматическую ошибку, отмечал такие места карандашом на полях, поручая самому ученику найти и исправить погрешность. Только когда ученик все-таки не мог обнаружить сам ошибки, Ершов указывал на нее, но исправлять ошибку должен был сам автор сочинения. Детей, у которых проявлялись способности самостоятельно мыслить, излагать «свою точку зрения», молодой преподаватель всячески поддерживал и не стеснял их инициативы никакими «вступлениями, изложениями, доказательствами» и прочими риторическими ограничениями — пишите как удобно, лишь бы было дело... Во всяком сочинении Ершов прежде всего требовал слога, то есть умения правильно и четко выражать свои мысли.
Таким показал себя молодой учитель с первых же месяцев своей педагогической деятельности. В официальной истории Тобольской гимназии говорится прямо: «Вопросы образования занимали Ершова больше, нежели его товарищей, в постановке гимназических наук он находит много недостатков».
Ершов еще полон радужных надежд, однако и он уже начинает понимать, что среди окружающих его учителей он вряд ли найдет себе союзников...
77
Кто же были учителя гимназии, с которыХи Ершов отныне должен был вместе жить и работать?
Вот характеристики пяти из семи сослуживцев П. Ершова (не считая инспектора, о котором речь пойдет особо).
Преподаватель истории, географии и статистики Иван Помаскин. Окончил Тобольскую гимназию еще в 1815 году и больше нигде не учился. Современйик так характеризует его — «любил свой предмет, но, будучи старым холостяком, не особенно любил детей и часто угощал их потасовками».
Учитель математики и физики Петр Каптерев был более образован — он в 1830-х годах окончил физико-математическое отделение Казанского университета. Однако, свидетельствует тот же современник, «знал свой предмет не совсем удовлетворительно: он иногда до того затруднялся в решении продиктованных им же задач по тригонометрии, что, не решив их в классе и унеся с собой на квартиру, возвращал их с решениями уже по прошествии нескольких дней».
Учитель рисования и черчения Павел Католинский окончил Тобольскую гимназию в 1822 году. Этим его образование и ограничилось. «Грубый, малообразованный, имевший к тому же слабость к горячительным напиткам, католинский плохо знал свое дело. Рисунки учеников исправляла его жена».
Учитель латинского языка, который сменил Ершова, Петр Резанов был воспитанником Тобольской семинарии. Он «владел своим предметом довольно плохо. На послеобеденных лекциях нередко дремал и даже спал».
Дивизионный проповедник пастор Франц Гильденга-ген, преподававший в гимназии немецкий язык, «знал с грехом пополам не более двух-трех десятков русских слов, и вопреки предположению начальства, и учеников не научил немецкому языку, и сам не научился по-русски».
Кроме Каптерева высшее образование имел еще учитель логики и словесности Константин Бобановский, с ко
78
торым Ершов «провел лучшие часы в Тобольске» после возвращения из Петербурга. Однако Бобановский вскоре был переведен в Иркутск, а Ершов занял его место.
В конце 1836 года в гимназии появились новые преподаватели, воспитанники Казанского университета — младший учитель русского языка и географии Тимофей Лукин и исполняющий должность учителя судопроизводства и судоустройства Андрейфоманов. С последним Ершов очень подружился, Лукин жё держался особняком, в гимназию он пришел из военного ведомства.
Из старых учителей, у которых в свое время учился сам Ершов, в гимназии остался только один — Осип Леман. По ходатайству министра народного просвещения он был прощен в марте 1836 года и приобрел все утраченные ранее права. Однако годы, проведенные на положении «поселенца», сказались на нем, он одряхлел и опустился.
Противником начинаний Ершова сразу же стал инспек-тор гимназии Е. М. Качурин, человек властный, бюрократ по натуре и по воспитанию, вскоре назначенный директором Тобольской гимназии. Под гнетом Качурина Ершов находился около 12 лет, лучшие свои годы в Тобольске.
Евгений Михайлович Качурин приехал в Тобольскую гимназию по одному с Ершовым назначению министра. В 1817 году Качурин окончил курс обучения в Тобольской гимназии, после чего был направлен смотрителем Курганского уездного училища. Вскоре он увольняется из учебного ведомства и уезжает в столицу. Здесь его служебная деятельность протекает в канцеляриях правительствующего сената и департамента уделов, где он и получает окончательную бюрократическую закалку. Затем Качурин назначается надзирателем 2ри студентах Главного педагогического института, выдерживает экзамен, установленный для чиновников, после чего получает «ученый аттестат от Санкт-Петербургского университета» и становится преподавателем русского языка в младшем отделении института. Оттуда он и попал в Тобольскую гимназию инспектором.
79
Качурин был, несомненно, незаурядной личностью, весьма характерной для той эпохи. Все свои способности и волю он направлял только на поддержание бюрократического, установленного на букве правил и законов порядка. Даже в официальной истории Тобольской гимназии, где стараются отметить достоинства Качурина/как организатора учебного процесса и укрепителя дисциплины, его называют «беспощадным и жестоким Качуринь/м». Это был человек с неуемной бюрократической энергией, по существу, равнодушный к делу просвещения. Он смотрел на гимназию, как на вверенную ему канцелярию, йа учителей — как на подчиненных ему чиновников. Окончивший в 1839 году Тобольскую гимназию К. Голодников так писал о Качурине в своих неопубликованных воспоминаниях: «Качурин знал предметы не лучше ученика последнего класса гимназии, где получил окончательное образование. Являясь на лекции преподавателей не более одного раза в неделю, был горд с ними и никогда не подавал им руки...»
Став директором гимназии в мае 1836 года, Качурин повел себя как жестокий диктатор. В малейшем отступлении от правил, от положений гимназического устава, он видел уже бунтарство и применял к нарушителям драконовские меры. Верный служитель бюрократии, он был помешан на установлении железного порядка в гимназии, на красоте единообразия. Так же, как длину волос, ширину лацканов учительских мундиров, он стремился привести к одной мере мысли и поступки учителей. Качурин шпионил за учителями, неожиданно появлялся на уроках, ловил каждое неосторожное слово. Как истинный бюрократ, он питал благоговейную веру в силу официальной бумаги, и его подлинной страстью было все оформить. После выговора за какую-либо оплошность учитель обязательно получал «предписание», в котором Качурин с железной логикой чиновника указывал на недопустимость и вред проступка.
Качурин нашел поддержку своим действиям у генерал-
80
гуоернат^ра Горчакова. В чиновничьем желании угодить начальству. Качурин пытался даже ввести в гимназии военную муштру. Был приглашен опытный унтер. Каждое утро дежурный надзиратель выводил казеннокоштных гимназистов во\двор гимназии. Унтер выстраивал их по ранжиру шеренгой и командовал: «Скорым шагом, арш!», «Дирекция направок», «Дирекция налево!» и т. п. Так продолжалось целый час. Ранжир и команды соблюдались и в стенах пансиона. ТолЪко после отъезда Горчакова в Омск (1839) муштра гимназистов была прекращена.
Грубость и деспотизм Качурина привели его к столкновению с преподавателями. С возражавшими ему учителями Качурин расправился при поддержке губернских властей быстро и жестоко. Лукин был уволен из гимназии «за своенравие» с поставлением ему на вид, что если он и «впредь будет вести себя так, то будет совсем уволен из учебного ведомства». Лемана же просто отстранили от преподавания и заменили пастором Гильденгагеном, ничего не знающим, но покорным.
Вероятно, Качурин не задумываясь расправился бы и с Ершовым, однако молодой учитель неожиданно нашел поддержку в своих начинаниях у жены генерал-губернатора княгини Натальи Дмитриевны Горчаковой. Женщина умная и образованная, скучавшая в захолустном Тобольске, родственница декабристов Фонвизиных, которые вскоре прибыли на поселение в Тобольск, она сделала много полезного для Ершова.
При ее поддержке Ершову удается организовать в гимназии театр. Вместе со своим новым приятелем декабристом Н. А. Чижовым, племянником университетского профессора Д. С. Чижова, Ершов пишет веселые водевили для гимназического театра. Другой ссыльный — поляк Констанций Волицкий, дирижер казачьего оркестра — сопровождает спектакли музыкой, он же занимается гримом и костюмами. Декорации готовит Циммерман, бывший художник Тобольской оперы, закрывшейся в 1820-х годах.
6
В. Г. Утков
81
Спектакли ставили в актовом зале гимназии,^где устанавливался деревянный помост-сцена. Душой /Гимназического театра был Ершов — он писал или находил пьесы, выбирал из числа гимназистов и учителей актеров, проводил репетиции. Для гимназического театр/7он написал две небольшие пьесы: «Сельский праздник» /й «Якутские божки»— оперу-фарс, сюжет которой заимствовал из якутских преданий, вероятно, поведанных Ершову Чижовым, отбывавшим ссылку в Олекминске. Чижой приготовил водевиль «Черепослов», высмеивающий модное в то время увлечение френологией, Ершов написал к этому водевилю веселые куплеты. К сожалению, ни одно из этих произведений не сохранилось до наших дней.
Театр быстро перерос гимназические рамки и стал, по существу говоря, городским театром. В феврале 1838 года Ершов писал в Петербург: «Театр наш шел славно, говоря и не о Тобольске. Обширная сцена, хорошие декорации, отличное (восковое) освещение, увертюры из лучших опер в антракте, разыгрываемые полным оркестром, и, наконец, славные костюмы — все это делало спектакль хоть куда! Всего было три представления (по пяти пьес в одном действии каждая): первое — только для учителей гимназии, а два последних — для всей публики; из них на одном было до 400 человек, а на другом — столько, что едва вмещала зала».
По воспоминаниям Капитона Голодникова, ставились также «Недоросль», «Суворов и станционный смотритель», водевили «Прекрасный принц», «Филаткина свадьба», «Еще суматоха», «Фрингаль, или Искатель обеда».
Качурин пока не препятствует Ершову и его друзьям. Бороться с княгиней, которая им покровительствует, ему не под силу. Он терпеливо ждет своего часа.
В это же время Ершов получает письмо от Константина Тимковского. Оно не сохранилось, имеется только упоминание о нем у Ярославцова. Письмо вновь возбуждает в молодом учителе надежду на свершение юношеских планов.
82
Он берется за изучение истории и природы края, вероятно, не один рЦ встречается со Словцовым, который является лучшим значком прошлого Сибири в те годы. Ершов еще больше сближается с Чижовым, участвовавшим в 1821 году в экспедиции н\Новую Землю и составившим топографическое описание эт^х северных островов.
Часто бывает он и у Менделеевых, которые перебрались из Аремзянки в город—настала пора учить сыновей в гимназии...
Все это отрывает Ершова от литературных занятий. В первые два года жизни в Тобольске он пишет мало. Мы можем назвать не более десятка лирических стихотворений, написанных им в это время,— «Виденье», «Вопрос», «Музыка», «Друзьям», «Час тайны» и др. Навеяны они чаще всего петербургскими воспоминаниями, тобольская жизнь в них почти не отражена.
В 1837 году он откликается на трагическую гибель Пушкина стихотворением «Кто он?», появившемся в «Современнике».
А тут подоспела в Тобольск важная весть, которая возбудила в Ершове надежду, что ему будет оказана помощь во всех его начинаниях...
4 мая 1837 года в 5 часов пополудни директор гимназии, собрав учителей, сообщил им, что в Тобольск приезжает наследник-цесаревич Александр Николаевич и посетит губернскую гимназию... Чиновникам гимназии предписывалось— привести в порядок все сочинения учеников, составить необходимые ведомости, приготовить списки учеников, купить для каждого класса иконы, над дверями классов повесить железные бланки с номерами. Фасад гимназии, который был до этого в пренебрежении, так как вход с улицы был наглухо заколочен, намечено заново покрасить, а над колоннами парадного входа повесить роскошную вывеску — на голубом фоне золотыми буквами «Губернская гимназия» и т. д. и т. п.
Работа закипела. Ершов писал в Петербург Треборну
6*
83
об этом событии, вкладывая в свой рассказ значительную долю иронии: «Сибирь пробудилась; куда ни взглянешь — везде жизнь, везде деятельность. Гимназия наша тоже последовала общему примеру, и нам, сиречу учителям, навязано было дел по самую шею. Особенно/£>абогал я, грешный. Как учитель словесности, я должен был приготовить сочинения учеников, то есть дать им такой вид, чтобы его высочеству можно было на них взглянуть. Как библиотекарь, я должен был составить новый систематический каталог книгам, классифицировать их, лепить номера и за неуменьем писцов дирекции иноязычной грамоте должен был переписать каталог набело — так листов до двадцати пяти. Наконец, как человек, который занимается вирше-писанием, я должен был по порученикъгенерал-губернатора приготовить приветствие».
Александр Романов прибыл в Тобольск в ночь с 1 на 2 июня 1837 года. В его свите кроме придворных чинов был и В. А. Жуковский, воспитатель наследника, хороший знакомый Ершова по Петербургу. На его-то содействие и рассчитывал учитель Тобольской гимназии.
Утром 2 июня Ершов отправился с визитом к Жуковскому. Столичный гость ласково принял поэта, вспомнили о Пушкине, Жуковский поведал о последних минутах автора «Евгения Онегина». Ершов рассказал о своих планах. Жуковский очень торопился, но обещал Ершову помочь...
Незадолго перед обедом, после осмотра отделения военных кантонистов, Александр Романов пожаловал в губернскую гимназию, где ему представили всех учителей, в том числе и Ершова.
Вот как сам Ершов рассказывает об этом: «Когда дошла очередь до меня, то генерал-губернатор и Жуковский сказали что-то его высочеству, чего, я не мог слышать, и его высочество отвечал: «Очень помню»; потом обратился ко мне и спросил, где я воспитывался и что преподаю. Тут Жуковский сказал вслух: «Я не пони
84
маю, как этот человек очутился в Сиби-р и».
На этом все и кончилось. Вероятно, и наследник, и Жуковский не могли и предположить, что Ершов, окончив столичный университет, добровольно покинул ради Тобольска Петербург. Скорее всего, Ершова приняли за одного из невольных жителей Тобольска. Только этим и можно объяснить «загадочную» фразу Жуковского.
Тройки с наследником и его свитой укатили на запад — Тобольск был конечным пунктом путешествия будущего царя Александра II по России. Князь получил благодарность за хороший прием, Качурина утвердили директором гимназии, а Ершов получил за приветственные стихи золотые, с цепочкой, часы. Были и другие мелкие милости...
Жизнь в Тобольске пошла прежними путями. Неоправ-давшиеся надежды на помощь Жуковского и наследника огорчили Ершова, но он был молод и деятелен, осадок горечи и стыда быстро выветрился.
В это лето Ершов начал проводить с учениками старших классов экскурсии вокруг Тобольска по историческим местам — на равнину у Чувашского мыса, где было последнее, решающее сражение Ермаковой дружины с войском Кучума, на Сузгун — холм, где по преданию находилась резиденция красавицы Сузге, любимой жены Кучума, на место, где была последняя столица сибирского хана — Искер...
Ершов снова возвращается к литературному творчест-ву. Он пишет стихи, часть из них отсылает в «Библиотеку для чтения» и в «Современник», который после смерти Пушкина перешел к Плетневу. Изучение прошлого натолкнуло его на создание поэмы «Сузге». Он работает над ней с увлечением и, закончив, посылает ее в «Библиотеку для чтения».
Поэма Ершова не была похожа на дежурные фальшивоисторические творения, которые появлялись в столичных журналах в те годы. Ершов писал «Сузге», основываясь
Я5
на народном сказании, события в поэме развертываются на фоне сибирской прииртышской природы, действующие лица поэмы — Кучум, Сузге, Ермак, его атаманы, русские казаки — наделены реальными чертами, а не наряжены в условные одеяния древнегреческих или римских героев.
В поэме Ершову удалось правильно обрисовать пере* довую роль русского народа в Сибири, историческую обреченность кучумовского ханства. Ершов показал русских людей, борющихся с Кучумом, смелыми и великодушными, но без тени сусальности. Поэма была необычна для тех лет, ее немедленно разругали Сенковский, Булгарин и Греч и отказались печатать. «Сузге» была опубликована спустя два года после этого Плетневым в «Современнике», журнале, хранившем еще пушкинские традиции. Белинский в «Московском наблюдателе» сочувственно отозвался о ней.
Но это в будущем. А пока поэма была отвергнута. Почти одновременно с этой неприятной вестью пришла и другая, совсем уже невероятная,— столичные друзья сообщали, что Тимковский уволился из Российско-Американской компании и вернулся в столицу через Сибирь...
Ершов растерян. Он не понимает измены друга, тяжело переживает ее. Ему кажется, что все вокруг него рушится, что будущее его безысходно. «Еще мне должно пожить...— пишет он петербургскому другу.— Пускай! Я не отказываюсь. Только, поверишь ли, право, не знаю, что наконец выйдет из этого!..»
К этому времени относится большое стихотворение Ершова «Друзьям» («Друзья! Оставьте утешенья...»). В нем есть следующие строки:
К чему же мой бесплодный ропот?
Не сам ли терн я возрастил?
Хвала судьбе! печальный опыт Мне тайну новую открыл.
Та тайна взор мой просветлила, Теперь загадка решена: Коварно дружба изменила...
86
В этих строках — отголосок пережитого Ершовым крушения задуманных с Тимковским планов. После этого мы уже нигде не находим у Ершова ни упоминания о Тим-ковском, ни даже намека на совместные с ним планы.
16 апреля 1838 года умирает мать Ершова — Ефимия Васильевна, последний близкий человек для Ершова. Он остается совершенно одиноким. Потеря матери так сильно подействовала на него, что он надолго забросил все — и переписку с друзьями, и стихи, и даже к занятиям в гимназии стал относиться с прохладцей. Лишь осенью он пишет в Петербург Треборну печальный отчет о своей жизни за этот период:
«Я целое лето был сам не свой, и только разве какая-нибудь необходимость заставляла. меня браться за перо... В нынешнем месяце (т. е. в октябре) исполнится полгода, как я проводил мою маменьку в последнее жилище — в могилу. С ней схоронил я последнюю из родных: правда, родственников у меня много, но все они заменят ли одного родного?.. Теперь сам не знаю, на что решиться: ехать в Петербург? Но зачем? Успехи мои по службе или в занятиях порадуют ли кого-нибудь?.. Ты скажешь: для себя, собственно. Благодарен, но я не эгоист... Не знаю, что делать. Занятия мои двух родов: одни — гимназические, которые, кроме скуки, не приносят мне ничего, если не взять в соображение порядочное жалование; другие же — домашние; все спускаю с рук и, разумеется, большею частью за безделицу... Затевать что-нибудь длинное я вовсе не намерен: телесный состав мой год от году слабеет, а настоящее одиночество поможет докончить его расстройство. Год, два, и ты можешь, идя на Охту, помянуть с братом и меня. И прекрасно... Зачем нет со мной теперь никого из моих старых приятелей. Один и опять один!..»
«Печальный мир...»
— Часто ли ты куртизанишь с музами?
— Очень редко, ваше сиятельство...
— Нехорошо, любезный Ершов, нехорошо! Это еще не причина, что ты нашел земную музу...
Разговор П. Ершова с князем П. Горчаковым, генерал-губернатором Западной Сибири
В конце 1830-х — начале 1840-х годов Ершов переживает глубокий душевный кризис, который уже непоправимо сказался на его творчестве и на его гражданской деятельности. Искреннее намерение Ершова осуществить свои планы и принести тем самым пользу народу наталкивалось неизменно на противодействие со стороны официальных кругов, от которых он находился в полной зависимости. Ершова охватывают настроения пессимизма и упадка. Отсутствие четких политических взглядов способствует развитию этих настроений.
Следует отметить также обстоятельство, по нашему мнению, чрезвычайно важное для понимания состояния Ершова в этот период его жизни. До поступления в университет Ершов, в силу объективных условий, чаще всего не зависящих от него самого, был поставлен в непосредственную близость к трудовому люду Сибири. Эта среда питала его творческую индивидуальность, помогла ему создать «Конька-Горбунка», «Суворова и станционного смотрителя», «Фому-кузнеца», «Русскую песню» и другие, близкие к народному творчеству произведения. Из этой же среды он черпал бодрость, оптимизм и веру в будущее. Стремление вернуться в Тобольск в значительной степени
88
было обусловлено желанием, может быть и не вполне осознанным, снова слиться с народной средой, а планы будущей гражданской деятельности были ориентированы в том же направлении — разрушение «умственных цепей», помощь сибирским народам, изучение быта и обычаев сибирского населения и т. п. Однако в Тобольске Ершов, по своему служебному положению, попал сразу же в чинов-ничье-бюрократическую среду, чуждую ему и по духу и по форме. Его связи с народом оказались нарушенными, более того — невозможными, а принять мир официи он не мог; Ершов немедленно почувствовал на себе ее мертвящее давление, будущее для него скрылось в тумане служебных перипетий, его охватывает неуверенность, скованность мысли и действий, он становится похож на слепца, которого внезапно лишили поводыря... Прошло немало времени, прежде чем молодой учитель Тобольской гимназии, а Ершову в это время не было и 30 лет, нашел в себе силы для противодействия бюрократической машине, которую первоначально он принял за помощницу в своей борьбе и которая, подчинив Ершова себе, пыталась окончательно уничтожить его творческое и гражданское лицо, превратить его в нерассуждающего чиновника.
Качурин начинает беспощадно притеснять Ершова. Воспользовавшись тем, что генерал-губернаторство в 1839 году было переведено в Омск и Ершов лишился покровительства княгини Горчаковой, директор изводит Ершова мелкими придирками, атакует «предписаниями», категорически запрещает ему читать курс словесности по университетским запискам.
Отношения Ершова и Качурина к концу 1839 года настолько обострились, что Ершов вынужден держаться весьма осторожно, всерьез опасаясь за свою судьбу. Он теперь старается не выходить в преподавании за пределы отведенных ему рамок...
Чем дальше, тем все сильнее становится гнет Качури-па. 16 июля 1840 года Ершов с горечью признается: «Еще
89
две недели, и вожделенные каникулы сменятся экзаменами, а потом учением. Придется опять читать аз-буки, право,— не лучше. Не поверишь, как скучно двадцать раз говорить одно и то же; и что хуже, говорить не по убеждению, а потому, что так написано в риторике Кошанского. У нас, бра-* тец, такая строгость, что преподаватель не должен сметь свое суждение иметь (курсив П. Ершова.— В. У.), иначе назовут немного не бунтовщиком. Уж пусть бы позволили читать по своим запискам, все бы легче, а то — черт знает что такое!»
Именно в эти годы, находясь всецело под властью Ка-чурина, который всеми своими действиями низводил учителей до положения нерассуждающих исполнителей воли и указания властей, Ершов на самом себе ощутил горькую правду слов о положении чиновника, ярко выраженную его бывшим учителем А. В. Никитенко: «Всякий чиновник есть раб своего начальника, и, право, нет рабства более жестокого и позорного, чем это рабство. Чиновник еще счастлив, если он глуп: он тогда, пожалуй, даже гордиться может своим рабством. Но если он умен, положение его ужасно. Он должен насиловать перед своим господином свою волю, свои чувства, свои убеждения, и так как вообще начальник не любит в подчиненном ума, то этот подчиненный каждую минуту должен трепетать или за свою честь, или за свой жребий».
Добрался Качурин и до гимназического театра, который уже давно не давал ему покоя. В декабре 1840 года Ершову еще удается на рождественских праздниках поставить комедию Загоскина «Добрый малый», свою пьесу «Суворов и станционный смотритель» и два водевиля. На этом и закончилось существование гимназического театра в Тобольске. Ни в официальной истории губернской гимназии, ни в других источниках мы уже не находим сведений о театральных представлениях в гимназии. Однако театр все же продолжал существовать. В письмах Ершова есть упоминание о постановке «Суворова и станционного
90
смотрителя» учениками гимназии 22 февраля 1842 года. В архиве найдена афишка этого представления, в ней оно названо домашним. Представление состоялось в доме учителей Романовых, близких приятелей Ершова.
В это тяжелое время Ершов делает важный житейский шаг, который имел исключительное значение для всей его дальнейшей жизни.
В начале 1838 года Ершов сближается с Серафимой Александровной Лещевой, дочерью бывшего директора Тобольской гимназии А. Протопопова. Первоначально это было робкое чувство — «сердечные мои подвиги ограничиваются одними взглядами и то в почтительном расстоянии— через очки»,— писал Ершов в феврале 1838 года. После смерти матери, тяжкого чувства одиночества, овладевшего Ершовым, увлечение Лещевой перешло в более глубокое и стойкое чувство.
С. А. Лещева, вдова одного из строителей казенных зданий Омской крепости, совершившего в 1820-е годы большое и трудное путешествие в Тянь-Шань и Кашгар и оставившего одно из первых описаний озера Иссык-Куль Никиты Лещева, была, по многим свидетельствам современников, очень хороша собой. Она рано овдовела, оставшись с четырьмя маленькими детьми. Вероятно, Ершов знал Лещевых еще до отъезда в Петербург, но познакомился с С. А. Лещевой ближе только после возвращения из столицы. Лещева была на несколько лет старше Ершова. На первое предложение Ершова она ответила категорическим отказом.
Любовь к Лещевой обращает Ершова к лирике. В конце 1838 года он пишет одно за другим стихотворения, в которых как бы ведет спор с самим собой — какой путь ему избрать в жизни: путь ли тихого семейного счастья или путь борьбы за юношеские идеалы. Он колеблется, тревожные предчувствия овладевают им.
Нельзя сказать, что Ершов делает необдуманный шаг. Он представляет последствия, которые ожидают его, если
91
он женится па вдове с четырьмя малыми детьми. В стихотворении «Решимость» он спрашивает:
Минули ль годы испытаний?
Терзанья кончились души? Или еще фиал страданий Судьба готовит мне в тиши? Ужель пред раннею могилой Она дала мне отдохнуть Лишь для того, чтоб с новой силой В меня всем пламенем вдохнуть, Чтоб, заживив страданья раны, Коварно бодрость усыпить, И, устремив удар нежданный, Вернее сердце поразить?
Но через два дня от сомнений не остается и следа. Ершов избирает путь. В стихотворении «Перемена» он говорит:
Исчез обман мечты самолюбивой, Открылась вся дней прежних пустота, Другую мне рисует перспективу В дали годов покойная мечта: Домашний кров, один или два друга, Поэзия — мечта простых затей. А тут любовь — прекрасная подруга, И вкруг нее веселый круг детей.
В Ершове борется желание тихого счастья и то «непостижимого мученья, неистребимое зерно», которое так и не покинуло его до смерти, несмотря на неоднократное проявление малодушия и отречения от «мечты самолюбивой» прежних дней. Это святое чувство неудовлетворенности окружающим было одним из важных побуждений, заставивших юношу, сына исправника, создать народную' античиновничью сказку, потом зажгло его идеей «воздвигнуть падшие народы», «разрушить умственные цепи»г за
92
ставляло бороться против схоластики николаевской гимназии, браться за поэму-сказку, приступать к сибирскому роману, а на склоне лет принять участие в разработке проекта Северного пути, соединяющего Печору и Обь на Северном Урале.
Но на этот раз пересилило стремление уйти от тяжкой гнетущей действительности, от качуринского самовластья в тихий мир семейной жизни. Наверное, в принятии этого решения немалую роль сыграло и благородное намерение поэта облегчить участь любимой женщины, взять на себя бремя воспитания ее детей. Нужно сказать, что Ершов в этом оказался до конца честным — сделал все, чтобы дать хорошее образование приемным детям, нисколько не отделяя их от своих собственных.
12 сентября 1839 года Ершов писал в Петербург своим новым родственникам В. А. и М. Ф. Протопоповым: «8 сентября, после поздней обедни, была скромная наша свадьба, и я теперь живу в Вашем доме и приготовляюсь хозяйничать... Желание Серафимы. Александровны — сделать самую простую свадьбу и как можно при меньшем числе людей, было исполнено по возможности... Не было ни стола, ни вечера; выпили только по бокалу шампанского да по чашке кофе. Этим и кончились издержки первого дня».
В погоне за призраком тихого счастья Ершов полностью испил «фиал страданий». Сначала он пытается укрепить себя в сознании, что все идет хорошо. 12 февраля 1840 года он пишет родственникам в Петербург: «На слова же П. А. Плетнева, что я много потерял, не оставшись в Петербурге, я прибавлю два слова: только по с л у ж-6 е; зато, может быть, я много выиграл в семейном счастье и еще в кой-каких обстоятельствах, единственно касающихся до меня».
Однако это лишь попытки самооправдания. Действительность иная. Учительского жалованья не хватает, начались метания в поисках денег. Ершовы вынуждены взять
93
в дом платных пансионеров, продать библиотеку, которую поэт собирал еще в столице. Жена Ершова писала своему брату в Петербург 27 июня 1841 года: «При нынешних семейных расходах он (П. П. Ершов.— В. У.) решительно себя ограничил во всем, и только остались кофе да табачок». В письмах к петербургским друзьям то и дело встречаются просьбы похлопотать о полном годовом окладе, поторопить издателей с высылкой гонорара, помочь вернуть старые долги.
«Литературные занятия для меня, как человека с небольшим учительским жалованием и порядочным семейством на руках, представляются мне, по крайней мере по окончании трудов, средством житейской прозы»,— пишет он 2 мая 1841 года Треборну.
В эти же годы Ершов пытается уехать из Тобольска, он просит Плетнева походатайствовать за него, подыскать ему место в столице. Места не нашлось, но друзья, горячо принимающие участие в судьбе Ершова, советуют ему приехать в Петербург за свой счет и пожить там примерно полгода... За это время они подыщут место. Но как прожить без жалованья полгода? Как быть с семьей? Оставлять ее в Тобольске? Везти с собой?.. Поздно! Будь такое предложение раньше, когда он был один, он, наверное, рискнул бы, а сейчас это невозможно. Тогда друзья выхлопатывают ему место директора гимназии в Томске, он отвергает это предложение — его страшит, что он уедет от столицы еще дальше...
В судьбе Ершова принимают участие П. А. Плетнев, В. А. Жуковский, А. В. Никитенко, его столичные приятели В. А. Треборн и А. К. Ярославцов, брат жены В. А. Протопопов, живущий в Петербурге. Однако их хлопоты оказались безрезультатными, им не удалось добиться служебного перевода Ершова в столицу.
Ершов свыкается с мыслью, что до конца дней своих он обречен жить в Тобольске — «может быть, дадут когда-нибудь место повыше; может быть, и литературные
94
труды мои будут аккуратнее награждаемы; тогда я стану жить в своей семье, не залетая высоко и покорив желания действительности»,— пишет он в одном из писем в 1841 го* ду. Но и по служебной линии у него не все благополучно: он давно уже должен получить чин 8-го класса, дающий право на потомственное дворянство, со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Из-за канцелярских проволочек производство задерживается, Ершов еще долго остается в чине титулярного советника. Это влияет и на его положение, и не только ударяет Ершова по служебному самолюбию, но и лишает крупной суммы ежегодных наградных денег, которые очень нужны ему теперь...
Не очень ладится и семейная жизнь поэта. Он любит жену, полон забот о своих пасынках и падчерице, которые живут вместе с ним, но его собственные дети умирают один за другим, едва успев появиться на свет. С Ершовым происходит то же, что и с его родителями — он несчастлив в детях...
В стихах, написанных Ершовым после 1839 года, все чаще и чаще звучат тоскливые размышления о «мрачной сени гроба», о «людской злобе», о тяжелых сомнениях, которые не дают ему покоя. В небольшой поэме «Моя поездка» он пишет:
Город бедный! Город скушный! Проза жизни и души!
Как томительно и душно В этой мертвенной глуши! Тщетно разум бедный ищет Вдохновительных идей; Тщетно сердце просит пищи У безжалостных людей. Изживая без сознанья Век свой в узах суеты, Не поймут они мечтанья, Не оценят красоты.
В них лишь чувственность без чувства, Самолюбье без любви...
95
Издание «Конька-Горбунка» на чешском языке. Прага, 1956 год.
ние поэта стихотворение «Грусть»,
Погибли юношеские мечты, безрезультатна борьба с миром официи; постоянная забота о хлебе насущном, нехватки, гнет гимнази
ческого начальства, убогость интересов и мысли большинства товарищей по работе — все это сушит сердце, наполняет его горечью.. Все кажется теперь Ершову в прошлом — «живой мертвец среди живых», называет он себя в стихотворении «Воспоминание».
Ему кажется, что для него уже закрыты все дороги к творческой жизни, что силы для борьбы у него уже иссякли. Ярко рисует состоя-написанное в 1843 году:
В вечерней тишине один с моей мечтою Си?ку, измученный безвестною тоскою. Вся жизнь прошедшая, как летопись годов, Раскрыта предо мной: и дружба, и любовь, И сердцу сладкие о днях воспоминания Мешаются во мне с отравою страдания. Желал бы многое из прошлого забыть И жизнью новою другою пережить... Но тщетны поздние о прошлом сожаленья.
96
Мне их не возвратить, летучие мгновенья!
Они сокрылися и унесли с собой
Все, все, чем горек был и сладок мир земной...
Я точно как пловец, волной страстей влекомый, Из милой родины на берег незнакомый Невольно занесен, напрасно я молю Возврата сладкого на родину мою, Напрасно к небесам о помощи взываю, И плачу, и молюсь, и руки простираю...
Повсюду горестный мне слышится ответ: «Живи, страдай, терпи — тебе возврата нет!»
Ершову не исполнилось еще и тридцати лет, а он уже чувствует себя опустошенным, потерявшим цель в жизни. В книге Ярославцова приведено свидетельство, что в начале 1840-х годов поэт покушался на самоубийство.
В эти годы Ершов сближается с кружком жены декабриста Фонвизина — Натальи Дмитриевны, в котором сильны мистические, религиозные настроения, пытается найти успокоение в религии, берется за перевод огромного фолианта немецкого писателя-мистика Клеменция Брента-но. Идеалы и мечты юности уходят в прошлое и порой кажутся просто суетными... Но из попытки Ершова спрятаться от жизни за шаткими стенами «тихого семейного счастья», за догмами православия — ничего не вышло...
«Сон миновался души...»
Сомненье душу взволновало, И пробудился я от сна...
jSk? /л П. Ершов. «Сон»
UU В 1839 году генерал-губернаторство было перенесено в Омск. Тобольск опустел. Из него выехали Главное управление Западной Сибирью, штаб отдельного Сибирского корпуса, комендантское, инженерное, артиллерийское, провиантское, комиссарьятское управления и кан
7
В. Г. Утков
97
целярия Сибирского жандармского округа. Тобольск перестал носить титул столичного города Сибири, которым владел более двух столетий. В городе стало тихо, но спокойнее от этого в нем не стало...
Шли через Тобольск с запада партии колодников: бунтари-крестьяне, рабочие уральских заводов, солдаты-бунтовщики, непокорные жители Кавказа, мятежные поляки. Гнала их на восток, в рудники Забайкалья, жестокая воля Николая I...
А с востока в Тобольск и окрестные города ехали, сопровождаемые урядниками и жандармами, мятежники 1825 года — кончались у большинства из них каторжные сроки и было разрешено им выйти на поселение. В августе 1838 года приехали в Тобольск М. И. Фонвизин, за ним в 1839 году — А. П. Барятинский, в 1840 году—братья Бобрищевы-Пушкины, В. И. Штейнгель, в 1841 году — П. Н. Свистунов. Проехал в Туринск первый друг Пушкина И. И. Пущин...
С юга приходили в Тобольск тревожные вести о восстании в Степи: началось оно еще в 1836 году под предводительством Исатая Тайманова и Мохамбета Утемисова. Через год вся юго-западная часть Степи была в огне. В 1838 году, в июле, близ устья реки Акбулак убили батыра Тайманова. Султан Кенисары Касимов, при поддержке враждебного России Кокандского хана, сумел встать во главе восставших и, обманув казахский народ, развязать на десятилетие кровавую борьбу...
Неспокойно было и на севере. Оттуда, из тундр низовьев Оби, приходили вести о восстании ненецкой и хантыйской бедноты под предводительством ненца из рода Не-нянгов — Ваули Пиеттомина...
Новые люди, появившиеся в Тобольске, с которыми начал сближаться Ершов, события вокруг, становившиеся все грознее, постепенно возвращали его к жизни.
С приездом в Тобольск Фонвизиных вокруг них быстро образовался кружок декабристов и тобольской интел
98
лигенции. Фонвизины жили на широкую ногу, с губернским начальством были запросто, более того, в ряде вопросов находились в оппозиции к князю и его фаворитам. Другие декабристы из кружка Фонвизиных — А. М. Муравьев, И. А. Анненков, П. Н. Свистунов — служили чиновниками в губернских учреждениях. Кружок Фонвизиных не ограничивался избранными, у Фонвизиных нередко можно было встретить Менделеевых. Бывал у них и П. С. Бобрищев-Пушкин, больше похожий на мастерового, чем на дворянина, его знал весь Тобольск и жители окрестных деревень как мастера на все руки, защитника бедняков. Изредка появлялись у Фонвизиных Пущин, живший в Ту-ринске, и Якушкин из Ялуторовска. Приезжали они обычно нелегально, но начальство сквозь пальцы смотрело на эти нарушения.
Ершов подружился с семьей Фонвизиных. Сначала, как мы уже упоминали, он поддался мистическим настроениям Н. Д. Фонвизиной, но это увлечение миновало. Ершов часто бывает у декабристов, в доме на горе, который сохранился и до наших дней, читает хозяевам и гостям свои новые произведения, сближается с вновь прибывающими в Тобольск на поселение Ф. Б. Вольфом, В. И. Штейн-гелем, В. К. Кюхельбекером. Художник М. С. Знаменский, воспитанник декабристов и близкий друг Ершова, в своих воспоминаниях рассказывает подробно об одном из таких вечеров, на котором Ершов читал собравшимся у Фонвизиных свою новую поэму «Моя поездка». Да и сам Ершов в письмах неоднократно упоминает о том, что бывает у Фонвизиных, читает там свои новые произведения — стихи и прозу.
Как-то в конце 1840 года Иван Иванович Пущин, появившись на время в Тобольске, показал Ершову стихи. Это были драгоценные листки — рукой А. С. Пушкина были написаны два стихотворения, посвященные Пущину: «Мой первый друг, мой друг бесценный...» и «Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок...».
7*
99
В январе 1841 года копии этих стихотворений Ершов отослал Плетневу. Стихи появились в XXII томе «Современника» е таким примечанием от редакции: «П. П. Ершов, известный поэт наш, лично знаком был с покойным Пушкиным, который его полюбил, прочитав стихотворение его «Конек-Горбунок», как обыкновенно Пушкин до пристрастья привязывался к каждому возникающему таланту. Ершов хорошо помнит почерк Пушкина. Случайно встретив эти два небольших стихотворения, собственною рукой автора «Онегина» вписанные в памятную книгу одного из его приятелей, он поспешил их сообщить в редакцию «Современника» для напечатания. Благодаря его за подарок, мы остаемся в прежней уверенности, что еще долго не составить нам полного собрания сочинений Пушкина без участия общего и единодушного. Кто из русских не сберег в своих листках, если удалось ему принять, и строку этого золотого пера».
Это были не единственные стихи Пушкина, которые отыскал П. Ершов. 25 сентября 1841 года Ершов пишет В. Треборну: «Снова посылаю стихи Пушкина, в том виде, в каком они мне доставлены. Касательно их подлинности нет ни малейшего сомнения. Мне прислал их задушевный приятель Пушкина, лицейский его товарищ, тот самый, который доставил мне и первые». Речь идет несомненно об И. И. Пущине. Однако что это были за стихи, почему Ершов послал их Треборну, а не Плетневу, какова их дальнейшая судьба — на все эти вопросы пока нет ответа. След стихов, к сожалению, потерян.
Пересылка стихов Пушкина из альбома декабриста в столичный журнал, как справедливо отметила исследовательница литературного прошлого Сибири Л. Г. Беспалова, была актом гражданской смелости. Ни для кого не было секретом, у какого приятеля Пушкина в Сибири могли быть эти стихи, да еще вписанные в памятную книгу «собственной рукою автора «Онегина». Контроль III отделения за связями декабристов на поселении был весьма
100
строгим, и, конечно, поступок поэта Ершова, фамилию которого Плетнев, вероятно, вынужден был указать, не прошел даром для чиновника гимназии Ершова.
А события вокруг становились все грознее. Продолжались восстания и на севере и на юге.
Но самые тревожные вести приходили из деревень Тобольской губернии. Крестьяне были доведены до крайности недородами 1839 и 1840 годов, поборами и лихоимством сельской администрации. Произвол межевых чиновников, нарезавших земли для «дворянских участков», рождал в народе слухи о переводе крестьян в крепостные, к этому прибавились еще и принудительные посадки картофеля — «чертова яблока». Крестьяне сибирских и уральских деревень брались за ножи и вилы.
Почта стала ходить нерегулярно, поползли слухи о шайбах разбойников, что скрывались в притобольских лесах... А в начале 1842 года в Пермской и Тобольской губерниях вспыхнуло открытое народное восстание. Первыми поднялись жители Камышловского уезда, затем Шадринского и Ирбитского. Крестьяне действовали беспощадно — они убивали волостных начальников, писарей и попов, сражались с отрядами полицейских и солдат. Отряд жандармского подполковника Жадковского, брошенный на подавление восстания, не смог справиться с крестьянами и был вынужден спасаться за толстыми стенами Далматовского монастыря. Из Перми, Тобольска, Оренбурга шли на помощь Жадковскому войска. В воздухе запахло новой пугачевщиной.
По-разному относились к этим событиям в Тобольске. Городской люд жадно ловил слухи о действиях восставших, чиновный и торговый слои города встревожились и требовали от губернской администрации строгих мер.
Мы не имеем свидетельств тому, как относился ко всем этим событиям Ершов. Однако именно во время этих событий и после них он начинает выходить из того кризисного состояния, в котором находился несколько последних лет.
101
Несомненно одно, что Ершов не одобрял действий губернских властей, с помощью которых подавлялись народные восстания. Вероятно, и в кругу Менделеевых, и среди декабристов, более близких к народу, чем Фонвизины, отношение к этим событиям было иное...
Расправа с восставшими крестьянами была кровавой. Она словно пробудила Ершова от тяжкого сна. Острое чувство неблагополучия окружающей действительности, которое никогда не покидало его, становится нестерпимым. Он начинает понимать, что от жизни не спрячешься, что жить, отстранясь от борьбы,— нельзя, это смерть. В нем вновь просыпается желание хотя бы частично осуществить свои юношеские замыслы.
К этому времени меняется и служебное положение поэта.
В начале 1844 года Ершов назначается инспектором Тобольской гимназии с сохранением учительской должности. Материальное положение Ершовых несколько улучшается. С. А. Ершова сообщала в Петербург брату, что если раньше ее муж получал в год 1800 рублей, то сейчас со всеми надбавками он будет получать 2600 рублей.
Инспекторская должность поглотила Ершова целиком, не оставив ему времени на литературные занятия. Инспектор был обязан следить за поведением учеников и учителей, безотлучно находиться при пансионерах, присутствовать при начале уроков, на переменах, оставаться с учениками, которые почему-либо задерживались в гимназии после уроков, контролировать работу эконома, следить за посещением гимназии врачом, ежемесячно представлять отчеты об успехах и поведении учеников, просматривать все письменные работы гимназистов по искусствам и языкам, ежедневно знакомиться с классными журналами, знать о поведении учеников вне стен гимназии и т. д.
Отношения Ершова и Качурина еще более обострились. Однако Ершов теперь уже не был одинок — в начале 1840-х годов в гимназии появились молодые учителя
102
Г. П. Казанский, М. Л. Попов, И. И. Руммель, Е. И. Ве-личковский. Эта группа учителей сразу же стала в оппозицию к Качурину, и до конца 1840-х годов в Тобольской гимназии не утихает борьба между молодыми учителями и директором. Качурин пишет доносы на своих противников Горчакову, обвиняет их в «невнимательности к начальственным распоряжениям, неповиновении и небрежности к службе», называет их действия «пагубным примером своевольства и вольномыслия», придирается к каждому их шагу и поступку. Ершов сближается с этой группой учителей, особенно с учителем русского языка и географии Гавриилом Петровичем Казанским. По свидетельству родственницы Ершова Юлии Девятовой, поэт часто бывал в доме Казанских, где собиралась передовая молодежь Тобольска тех лет.
Новое назначение Ершова было встречено в гимназии с радостью. «Инспектором был назначен Ершов,— писал один из учеников поэта,— любимый наш и уважаемый всеми воспитанниками, как пансионерами, так и приходящими. Всегда ровное обхождение, а иногда и участие в играх наших и прогулках, кроме превосходного преподавания словесности, заставляли нас любить его как отца родного. Малейшее замечание, строгий взгляд уже были для нас жестоким наказанием. Особенно для учеников VI и VII классов».
Положительно сказалось на Ершове его сближение с кругом декабристов, который группировался в доме Менделеевых. У Менделеевых всегда собиралась лучшая часть молодежи Тобольска. М. Знаменский так характеризует этот кружок декабристов и его отношение к Ершову: «Ершов знакомится с людьми высокообразованными, с людьми, каких и в Петербурге было мало; их отношение к окружающему было серьезное, они, может, и заблуждались прежде, но горький опыт доставил им знакомство с народом. Что они ценили талант Ершова — это факт». В этом кружке, продолжает Знаменский, «говорились и обсужда
103
лись вещи, не снившиеся в то время столичной литературе». С Менделеевыми Ершова связывают давние и дружественные отношения, ранее он учился у И. П. Менделеева, а теперь у Ершова учатся Иван, Павел и «последыш», как называла сама Мария Дмитриевна своего младшего сына— Дмитрия, живого, одаренного мальчика.
Особенно сблизился Ершов с приехавшим в Тобольск на поселение другом Пушкина декабристом В. К. Кюхельбекером, Ершов старался скрасить последние месяцы и дни ослепшего, умирающего от чахотки лицейского друга Пушкина, Кюхли...
Если бы Ершов познакомился с этим кружком декабристов раньше, возможно, и душевный кризис его не был бы таким затяжным и тяжелым, вероятно, он, как свидетельствует тот же Знаменский, «обратился бы к гражданским мотивам», ибо люди эти «относились к искусству иначе, они отодвигали его с первого плана, заменяя стремлением помочь народу чем могли: распространением образования, улучшением быта, борьбой с сильными мира за меньших». И не без влияния своих новых друзей Ершов возвращается к своим начатым ранее и заброшенным педагогическим трудам. Он теперь чувствует в себе и сил, и опыта больше и понимает, что он должен завершить эти труды, ибо они направлены на то, чтобы разрушить умственные цепи, сковывающие обучение молодых людей...
Труды эти — «Курс русской словесности» и «Мысли о гимназическом курсе». Первая работа потеряна и, вероятно, навсегда, если не обнаружится случайно в недрах бумаг прошлого столетия. В ее основе скорее всего лежит расширенная, более обоснованная «Программа словесности», которую Ершов написал в первый год своей работы в Тобольской гимназии. Содержание второй работы показывает автора «Конька-Горбунка» с неизвестной для широкого читателя стороны — как прогрессивного педагога, пытавшегося внести серьезные изменения в систему тогдашнего среднего образования.
104
«Мысли о гимназическом курсе» не дошли до нас полностью. В книге Ярославцова приведены выдержки из этого труда и пересказ его важнейших положений. Однако и этого достаточно, чтобы сказать, что труд учителя Тобольской гимназии намного опережал систему обучения тех лет и предлагал принципиально новые, прогрессивные методы обучения детей и юношей.
Ершов в своем труде ограничивает себя гимназическим обучением как средним и вместе с тем общим кругом образования. Он начинает свои «Мысли» цитатой из Бекона: «Науки должны иметь целью пользу человеку». Мысль достаточно ясна и, кажется, не нуждается в пояснениях. Однако Ершов начинает ее развивать применительно к взятой теме. «Опираясь на эту великую истину, можно сказать также решительно, что образование должно иметь целью пользу. И действительно, все убеждены в непреложной справедливости этой мысли. Несмотря на то, все-таки эта мысль не имеет полного приложения». Далее он продолжает углублять свои рассуждения.
«Что такое образование и где его настоящее значение?»— задает вопрос Ершов и отвечает на него так: «Образование — есть развитие духовных и физических сил юноши по трем отношениям — как человека, как гражданина и как христианина. Прямое значение его — приготовить юношу к общественному служению (принимая это слово в обширном смысле) и дать ему все возможные средства к довольству и счастью земной жизни».
Уже в этом определении кроется непримиримое противоречие с существовавшим в то время официальным взглядом на конечные цели образования. Если понять религиозный мотив как воспитание нравственных качеств, а Ершов именно так и понимал, то он говорит в своем определении образования о гармоническом развитии человека, о воспитании гражданина в широком смысле этого слова, однако установленная в то время система образования имела целью подготовить юношу не к общественному служе
105
нию, а к службе в самом узком понимании — к исполнению функций чиновника.
Затем Ершов переходит к критике недостатков тогдашнего среднего образования. В гимназическом обучении он видит три главных порока: «1) некоторые предметы без надобности усилены, 2) другие несправедливо пренебрежены и 3) большая часть (если не все) не введена в должные пределы для гимназического учения».
Ершов не может согласиться с тем, что латинский язык поставлен «краеугольным камнем образования». «Виной этому только схоластика и подражательность»,— говорит он. Ершов не предлагает совсем исключить латинский язык из гимназического курса, понимая, что он необходим как основа для изучения других языков, он лишь за ограничение этого предмета, сведения его к второстепенному. Без надобности, по его мнению, усилена в гимназии и математика. «Требовать знания высших частей математики от того, кто с трудом соображает низшие, значит идти наперекор природе и рассудку»,— пишет он.
В то же время, говорит Ершов далее, такие необходимые лля образования юношества предметы, как русский язык, словесность, история, география, философия, изучаются в гимназии недостаточно или в отрыве от жизни, схоластически, не помогая расширению образования, а скорее вредя ему, так как не способствуют развитию самостоятельного мышления у юношей. Русский язык и словесность ограничиваются только заучиванием правил, русская история почему-то преподается гораздо сокращеннее, чем римская или греческая, то же с географией — русская география преподается в гимназии очень сжато, а география Европы и других стран мира значительно шире и подробнее. «А велики ли наши познания в статистике, это можно судить по тому, что в 1842 году употребляют руководство Зябловского, вышедшее в 1836 году. Хороша статистика!..» Дальше Ершов критикует преподавание и учебные программы российского законоведения, судоустройства
106
и судопроизводства, новейших языков, чистописания, рисования и черчения.
Ершов не ограничивается критической оценкой существующего положения в обучении юношей, он пытается дать и свою, положительную, по его мнению, программу обучения в гимназии, программу, которая поможет всесторонне развить юношей и подготовить их как граждан. Прежде всего он говорит о необходимости расширения гимназической программы предметами, которые, по его словам, «несправедливо пренебрежены». На первое место он ставит естественные науки, технологию и хозяйство, медицину, основы музыки и пения, а также гимнастику, плавание и верховую езду. Он обосновывает причины необходимости введения этих предметов в гимназический курс и «составляет новую систему воспитания, с обозначением пределов, в которых должно заключаться преподавание предметов». Ершов составляет полный список предметов нового гимназического курса, которым он предлагает заменить существующий: он разделяет весь курс на три части — а) науки, б) языки и в) искусства. В первый раздел он включает богословие, математику и физику, географию, словесность, философию, историю, статистику, законоведение, судоустройство и судопроизводство, естественную историю, медицину, технологию и хозяйство. Во второй раздел включаются языки, а в третий — архитектура, чистописание и черчение, рисование, музыка и пение, танцы, гимнастика, плавание, чтение и декламация.
Годичный курс Ершов предлагает заканчивать в апреле, в мае проводить экзамены, а летние месяцы использовать для гимнастики и плавания, собирания гербария, прогулок для изучения прошлого и природы края. Учащиеся, по мысли Ершова, таким образом, будут круглый год совершенствовать свои духовные и физические силы. В свободные дни в гимназии устраивается театр. При этом Ершов оговаривает, что к участию в театре нужно допускать только тех учеников, которые прилежны в занятиях.
107
Взамен бесполезного для учащихся записывания лекций преподавателей, принятого в гимназиях того времени, Ершов выдвигает очень важное и новое для того времени предложение о создании и введении в практику постоянных учебников.
«Мысли о гимназическом курсе» намного опережали тогдашние практику и систему обучения в средней школе. Лишь в 1864 году, с введением реальных училищ в русскую педагогическую практику, было осуществлено то, о чем писал в 1840-е годы Ершов.
Часть из положений своих «Мыслей о гимназическом курсе» Ершов применяет на практике. Так, например, стали традиционными прогулки тобольских гимназистов летом за город по историческим окрестностям Тобольска, сбор гербария во время этих прогулок, занятия гимнастикой и укрепляющими физическое развитие играми. Об этом вспоминают ученики Ершова К. Голодников и Н. Черданцев. Есть еще одно свидетельство тому, что Ершов в своей практической деятельности учителя гимназии стремился применить новые принципы. В Тобольском краеведческом музее сохранилась тетрадь, озаглавленная «Сочинения учеников Тобольской гимназии за 1847—1848 годы». Заглавие это написано рукой Ершова. Тетрадь содержит 11 прозаических и стихотворных сочинений гимназистов. Большинство из них носит ярко выраженный местный колорит. В этом, несомненно, чувствуется направляющая рука Ершова, который учил детей быть внимательными к окружающей их жизни, уметь понимать и анализировать ее проявления. Таковы, например, стихотворные воспоминания С. Капустина о рыбалке на Иртыше, «Зимнее утро в Сибири» А. Рогожникова, «Летнее утро в деревне» А. Путь-ковского. Даже в сочинении на такую, кажется, отвлеченную тему, как «Хижина рядом с домом богача» Фомы Боровского, в описании города легко узнается Тобольск. Эти сочинения помогают полнее раскрыть метод преподавания П. Ершова — метод, с помощью которого Ершов пытался
108
приблизить к действительности обучение тех лет, оживить его...
Качурин зорко следит за Ершовым, мешает ему на каждом шагу. Немногое удается свершить из задуманного тобольскому учителю. И все-таки в Ершове живет еще обманчивая надежда на то, что в Министерстве просвещения ему помогут, поймут его мысли, что Качурин — исключение. Закончив свой второй большой труд о гимназическом обучении — «Курс русской словесности», он отсылает свои работы в декабре 1844 года в Министерство народного просвещения...
П. Ершов не был одинок в своих устремлениях улучшить дело образования. Учителя ряда провинциальных и столичных гимназий в 1840-е годы также пытаются устранить из преподавания схоластику, приблизить обучение в гимназиях к реальной жизни. В своих действиях они чаще всего сближаются с критикой методов обучения, которая содержится во многих работах Белинского и других представителей передовой русской общественной мысли.
Весной 1845 года умирает жена Ершова. На руках у него остаются дети. В житейских заботах и хлопотах пролетают дни, недели, месяцы.
Ершов терпеливо ждет ответа из министерства. Но ответа нет и нет. Тогда, в середине 1846 года, послав несколько стихотворений П. А. Плетневу, Ершов просит его разузнать о судьбе его работы.
В ответном письме 20 июня 1846 года Плетнев писал:
«Наконец, господь бог воззвал Вас, милый мой Петр Павлович, к тем звукам, для которых Вы рождены и которые мне суждено было услышать едва ли не первому после Вас. Не будем судиться о прошлом и разыскивать, что так долго смыкало Ваши уста... Располагайте мною и журналом моим как собственностью... Ваши стихотворения прелестны. Вы сохранили все девство своей первоначальной поэзии. Напечатаю их как Вы желали, но буду украшать ими журнал понемногу, чтобы долее доставлять читателям удоволь
109
ствие... Рукопись Ваша о словесности передана была министром в отделение русского языка и словесности. Это происходило в мое отсутствие. Ее рассмотрение было поручено академику Лобанову, который на днях помер. Кому передадут Ваш труд — не знаю... Но будьте уверены, что я все сохраню для Вашей чести и выгоды...»
Письмо порадовало — опять добрейший П. А. Плетнев, как и в годы юности, готов оказать помощь. Появляется утерянная было надежда, что «Курс словесности» примут и русские юноши будут избавлены от оков схоластики, познают живительную струю русской литературы.
Но, как и прежде, Ершов заблуждается, рассчитывая, что его труды будут оценены по достоинству. Кто такой был академик Лобанов? Меткую характеристику ему дал старый знакомый Ершова А. В. Никцтенко: «Это, что называется, академик-парик и плохой поэт. Старая литература для него святыня, новая — ересь и сплошная мерзость. «Каждая новая идея,— говорит он,— заблуждение, французы — подлецы, немецкая философия — глупость, а все вместе — либерализм», против которого он, Лобанов, написал уже речь». Как крайнего реакционера охарактеризовал Лобанова и Пушкин в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной».
Рассчитывать на доброжелательное отношение Лобанова к «Курсу словесности», конечно, было нельзя. Однако смерть этого академика ничего не изменила. Труд Ершова попадает к академику Давыдову, человеку не менее реакционному, завистливому и мелочному. Белинский в письме к Краевскому определял Давыдова как «пошляка, педанта и школяра».
Результатом нескольких лет «изучения» ершовской работы явился краткий и невразумительный ответ, уродливое порождение бюрократического ума: «Курс словесности» не может быть введен в гимназии потому, что не вполне отвечает понятиям воспитанников».
Ершов с горечью писал об этом отзыве в письме 30 ию
110
ня 1848 года: «Ну, что ж делать? Давно уже сказано: хорошо тому жить, у кого бабушка ворожит. По крайней мере, министерство будет знать, что бывший учитель словесности Ершов не бил баклуши, читал словесность и что по силам и возможности старался исполнять свой долг службы. А, признаться, много бы можно сказать о трехлетием разборе курса и о причине, почему нельзя ввести его в гимназии».
Остается «Конек-Горбунок». Но со сказкой тоже плохо! После третьего издания, вышедшего в Москве в 1843 году, «Конек-Горбунок» был запрещен, так как цензура нашла в нем «выражения, имеющие прикосновение к православной церкви и ее установлениям и к поставленным от правительства властям». Тщетно Ершов пишет в Петербург своим друзьям, чтобы они похлопотали о выпуске «Конька-Горбунка». Его просьбы остаются без ответа...
В октябре 1846 года Ершов женится вторично, на дочери бедной вдовы — Олимпиаде Васильевне Кузьминой, с которой познакомился в доме учителя Казанского. Он остро нуждается в деньгах, рассчитывает на новое издание «Конька-Горбунка», пытается договориться со Смирдиным о выпуске своего собрания сочинений, в которое должны войти «Конек-Горбунок», «Суворов и станционный смотритель», «Сузге», «Фома-кузнец», стихи. Смирдин дает согласие, петербургские друзья сообщают Ершову об этом. Но на включение в томик сочинений Ершова «Конька-Горбунка» цензура не дает разрешения, а выпускать книгу без сказки Смирдин не соглашается. Ершов в недоумении, он не знает о причинах запрета сказки, друзья, щадя его, не сообщают ему об этом. Ершов обращается к Ярославцову, служившему тогда секретарем Петербургского цензурного комитета: «...ради бога, скажи мне: за что такая немилость к «Коньку»? Что в нем такого, что могдо бы оскорбить кого бы то ни было?..» Но Ярославцов молчит...
1848 год Ершов проводит в домашних заботах и гражданских хлопотах. В Тобольск пожаловала холера. 49 дней
111
она хозяйничала в городе. За время эпидемии в Тобольске переболело холерой более 1000 человек, из которых умерло более 600. Не в пример городским и губернским властям, чьи меры против холеры «далее бумаги применения не имели», самоотверженно боролись с эпидемией тобольские декабристы П. Бобрищев-Пушкин, Фонвизины, Свистунов, Вольф. Им помогал и Ершов, который, как инспектор гимназии, обязан был заботиться о здоровье гимназистов и особенно пансионеров.
Страшная болезнь пощадила Ершова, но менее чем через год после эпидемии николаевская бюрократия нанесла ему такой удар, от которого он уже не мог больше оправиться, стал медленно угасать и как писатель, и как гражданин, и как человек...
«Осенние вечера...»
...Если Вечера мои будут иметь успех, я снова примусь за перо и напишу что-нибудь получше; если ж нет... Капут — и полно!.. Мне остается только 4 года до пенсии...
(ЛО Из письма П. Ершова
kXj Zji 23 августа 1852 года
OU Летом 1849 года Качурин уходит в отставку. С его
увольнением учителя вздохнули свободно, наконец-то окончилась эта тяжелая для них опека. Все уверены, что на место директора будет назначен Ершов. Против назначения Ершова не возражает и министерство...
Но все вдруг меняется. Место директора получает некий Чигиринцев, бывший советник пограничного правле
ния, личность темная, замешанная в каких-то некрасивых
делах.
Что за причина помешала назначению Ершова директором гимназии? Почему он вдруг попал в немилость? Неу-
112
жели на это повлияла его близость к ссыльным полякам и декабристам? А может быть, вина его заключалась в его попытках осуществить на деле гимназические реформы, в его вольнодумных «Мыслях о гимназическом курсе» или в его «Курсе словесности», отвергнутом официальными академиками?
1 Нет, дело было серьезнее. Какие-то новые, неожиданные для всех, в том числе и для самого Ершова, и для тобольских властей, причины побудили министра и Горчакова изменить
свое первоначальное намерение.
Ершов удручен и растерян. И здесь не
Издание «Конька-Горбунка» на английском языке. Москва.
только обида чиновника, которого обошли по службе; не только страх за будущее или огорчение человека, рассчитывавшего на более высокое вознаграждение своих заслуг и не получившего его. Нет, чувства, владевшие Ершовым, глубже и сложнее. В одном из своих писем он говорит: «По сибирским моим правилам, я службу не считаю одним средством для жизни, а истинным ее элементом. Отстав от ли*
3 В. Г. Утков
113
тературы, я всего себя посвятил службе, не в надежде бу-* дущих благ, которых в нашем скромном занятии и не предвидится, а в ясном сознании долга...» Понимая службу как служение родине, Ершов не сразу разглядел в николаевской бюрократии врага своих живых дел, а когда после ряда жестоких ударов начал понимать это, было поздно, силы его были растрачены в бесплодной борьбе.
Так в чем же была действительная причина служебного несчастия, обрушившегося на Ершова так неожиданно и гак незаслуженно? Ярославцов, вероятно, знал истинную причину внезапной немилости к Ершову, но пишет он об этом нарочито неясно, намеками: «Мы слышали, что против Ершова какими-то личностями были пущены в ход даже грязненькие вещи... злая клевета».
И все. Кроме этих туманных намеков, нам почти ничего не известно. Чтобы попытаться понять причины служебной неудачи Ершова, перенесемся из Тобольска на берега Невы. Дело в том, что именно в 1849 году в Петербурге проходил процесс над петрашевцами, по делу которых был арестован самый близкий друг молодости Петра Ершова Константин Тимковский и некоторые петербургские знакомые поэта.
Тимковский на «пятницах» Петрашевского занимал крайнюю левую позицию, одна из речей его была «возбудительной, в духе коммунизма», он призывал к восстанию, говорил, что он «готов первый выйти на площадь и, если нужно будет, принести себя в очистительную жертву святому делу свободы». Тимковский был приговорен к каторжным работам, впоследствии замененным шестью годами арестантских рот. Вместе с остальными осужденными он пережил страшные минуты на Семеновской площади...
Так не были ли «злая клевета» и «грязненькие вещи», по свидетельству Ярославцова, кем-то пущенные против Ершова, связаны с событиями 1849 года в Петербурге?..
Прямых доказательств этого у нас нет, но очень многие косвенные убеждают нас в правоте такого предположения.
114
Прежде всего совпадение во времени — большинство петрашевцев были арестованы в апреле, следствие по их делу закончилось в октябре, приговор осуществлен в декабре 1849 года. Служебная неудача, постигшая Ершова, падает на вторую половину 1849 года, до этого времени инспектор Тобольской гимназии был на хорошем счету и у генерал-губернатора, и у министра просвещения. «Ершову по всем правам следовало бы занять место директора Тобольской гимназии: бывший тогда министром народного просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов писал даже о том генерал-губернатору»,— говорит Ярославцов. Фактически с июня 1849 года Ершов исполнял должность директора гимназии, Чигиринцев в этой должности был официально утвержден с 4 января 1850 года.
Что же все-таки могло помешать Ершову занять пост директора гимназии? Скорее всего, могла обнаружиться связь Ершова с Тимковским, минувшая или новая. Не исключена возможность переписки Тимковского и Ершова в 1840-х годах, когда Тимковский задумывал издавать журнал для народа (1848). В списке будущих авторов журнала могла стоять фамилия и Ершова. Этого было достаточно, чтобы повредить служебному положению инспектора Тобольской губернской гимназии...
Интерес к Сибири и сибирские связи были у многих петрашевцев, в том числе и у самого Петрашевского. Спеш-нев, Черносвитов, Баласогло, Тимковский, Латкин и ряд других, привлеченных к следствию по этому делу, так или иначе были связаны с Сибирью. Следственная комиссия тщательно проверяла эти связи. Секретные отношения по этому поводу были посланы всем сибирским генерал-губернаторам. И если сибирские связи петрашевцев не привели непосредственно к Ершову, то время было такое, что достаточно было косвенных связей, а они, как мы видим, были, или намека на прошлую или настоящую близость Ершова к кому-либо из петрашевцев, чтобы он сам оказался на подозрении.
8* Ш
Обложка японского издания «Конька-Горбунка». Токио.
Кто знает, если Ершов, по свидетельству того же Яро-славцова, уничтожил дневники и планы будущих путешествий, то Тимковский мог их оставить, и во время ареста они могли быть обнаружены. Привлекать Ершова к процессу не было оснований, но затормозить его служебную карьеру это могло.
Все это позволяет нам с убежденностью сказать, что к служебным неприятностям, которые были у Ершова в 1849 году, прямое отношение имели события, связанные с делом Петрашевского. На какой-то период Ершов оказался под подозрением у губернского начальства. Горчаков поспешил назначить на пост директора гимназии чиновника, умеющего не рассуждать, а повиноваться. Провести это назначение через официальные каналы Горчакову было нетрудно...
Ершов и сам в полной мере не подозревал истинных причин обрушившейся на него немилости. Это видно из его писем. Они полны растерянности, недоумения по поводу случившегося, страха за будущее. Он пытается уехать из Тобольска, просит петербургских друзей помочь ему: «Умоляю Вас, Петр Александрович,— пишет он Плетневу 5 октября 1850 года,— научите меня, что мне делать?.. Четырнадцатилетнее одиночество мое в глуши, где судьба предоставила меня самому себе, имело по крайней мере ту выгоду, что я сохранил прежнюю свежесть чувств и чистую любовь к поэзии. Я все еще современник той прекрасной эпохи нашей литературы, когда едва заметный талант находил одобрение, когда люди, заслужившие уже известность (я вспоминаю А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и Вас), не считали для себя унизительным подать руку начинающему то же поприще, которое они прошли с такой честью. И кто знает, может быть, неудачи мои по службе — наказание за измену моему назначению... Буду с нетерпением ожидать Вашего ответа. В июне будущего года исполнится 15 лет моей службы в Сибири, и я должен буду или ехать в этом месяце в Петербург, или, заглушив всякую надежду на счастье и известность, дослуживать остальные
117
пять лет в Тобольске в ожидании 500 рублей серебром пенсии на убогое содержание меня и моего семейства...»
Плетнев ответил на письмо быстро, но неутешительно. Он ничем не может помочь своему бывшему протеже. 5 ноября 1850 года он пишет Ершову: «Как бы ни желал я, любезный Петр Павлович, словом истины разрешить недоумение Ваше... но этот вопрос связан со множеством других обстоятельств, более Вам известных, нежели мне,— и потому не смею ничего предложить Вам решительного». Тон ответа не похож на прежние письма Плетнева к Ершову, впервые он отказывает ему так категорично, ссылаясь на какие-то обстоятельства, препятствующие положительному решению вопроса, известных самому Ершову.
Почти суеверной тоской поэта по забытой им музе веет от слов Ершова о «наказании за измену моему назначению». Эта мысль не нова — с первых дней жизни в Тобольске в поэте идет этот спор между службой и служением поэзии, между официей и литературой. Еще в середине 1840-х годов он писал петербургскому приятелю: «Муза и служба — две неугомонные соперницы — не могут ужиться и страшно ревнуют друг друга. Муза напоминает о призвании, о первых успехах, о таланте, зарытом в землю, и пр. и пр., а служба — в полном мундире, в шпаге и в шляпе — официально докладывает о присяге, об обязанностях гражданина, о преимуществе официи и пр. пр.» Ершов надеялся совместить живые свои замыслы со служебными делами. В условиях тогдашней действительности это оказалось невозможным, официя не потерпела соперничества с музой и жестоко обошлась с поэтом.
Слишком поздно Ершов понял это. Он спохватывается и пытается вновь завоевать расположение покинутой им музы. На этот раз он берется за прозу...
Давно у него зрела мысль о русской эпопее. Еще юным, окрыленный успехом «Конька-Горбунка», задумал он грандиозную поэму-сказку, «сказку сказок». Осуществление этого замысла ему оказалось не под силу. Тогда поэма-
118
сказка превращается в русскую эпопею, поэзия — в прозу. Замысел прежний — и в русской эпопее Ершов намерен дать поэтическую историю русского народа, как в «Коньке-Горбунке» он выразил его оптимизм и веру в светлое будущее... Однако жар таланта уже растрачен в борьбе с нуждой и миром чиновной бюрократии...
И тогда Ершов снова расстается со своей мечтой, даже не пытаясь приблизиться к ней. Сибирский роман — вот что он будет писать! «Купер послужит моим руководителем»,— говорит он. А пока «на мелких рассказах я приучу перо свое слушаться мысли и чувства...»
Так родились «Сибирские вечера» — последняя вспышка литературного таланта Ершова, после которой уже погас его творческий огонь, и муза навсегда покинула автора «Конька-Г орбунка»...
В две недели три рассказа были закончены; Ершов читает их в кружке декабристов и после одобрения слушателей посылает рассказы в Петербург, все тому же П. А. Плетневу.
«Вы не можете писать иначе, как прекрасно,— отвечает Плетнев, ознакомившись с рассказами Ершова, но в то же время он, со свойственной ему деликатностью, мягко советует:— Вышло бы лучше, если бы для первого дебюта Вы потрудились приготовить что-нибудь особенное, поболее аналитическое, чем преимущественно теперь восхищаются».
Вслед за этим Ершов отсылает Плетневу еще четыре рассказа. Он меняет название на «Осенние вечера» и не хочет подписывать рассказы полной фамилией. «Имени моего я не буду выставлять напоказ почтеннейшей публике... Хорошо — так будет хорошо и без имени, а плохо — так никакое имя не поможет». В письме к Плетневу от 20 апреля 1851 года Ершов развивает свою «теорию рассказа»: «Я хотел остаться верным принятой мною форме рассказа, где подробности анализа могут показаться лишними и повредить естественности. Может быть, я и ошибаюсь, но, по моему мнению, рассказ имеет разные усло
119
вия — говорит ли рассказчик о себе или о другом лице, и притом — рассказывает ли он происшествие, которое он видел случайно, или сам был действующим лицом».
В другом письме, написанном через несколько месяцев после предыдущего, Ершов более подробно говорит о своих взглядах на прозу. Он стремится сохранить за собой право гибкости литературных приемов для большей выразительности и естественности рассказа: «Я не враг анализа, но не люблю анатомии. Конечно, знать жилы и мускулы, при известном положении страсти, необходимо и для скульптора, и для живописца; но обнажать всю внутренность— дело не совсем поэтическое. А повесть — разве не та же картина и пластика, только с особенными условиями? Притом же подробный анализ впадает в школьную манеру и старается учить читателя там, где следовало бы заботиться об одном эстетическом удовольствии. Я допущу еще подробности в таких вопросах, как быть или не быть, ио в такой мелочи —как идти или ехать, спать или проснуться, право, безбожно рассчитывать на терпение читателей... Для меня — одна глава «Капитанской дочки» дороже всех новейших повестей, так называемой натуральной, или, лучше, школы мелочей...»
В понятие «натуральной школы» в те годы включали самые разнообразные произведения — от психологических повестей Панаева до физиологических очерков Некрасова, от «Антона Горемыки» Григоровича до «Бедных людей» Достоевского. Писатели самых разных убеждений и взглядов объединялись критикой того времени под этим названием. Общим в них было стремление к критическому реализму, широкая социальная тематика и борьба против романтизма и приукрашивания действительности. Ершов, долго проживший вдали от литературной жизни, отставший от нее, не понимал прогрессивного значения нового направления. В этом сказалась и противоречивость мировоззрения Ершова, который всю жизнь метался между критическим отношением к окружающей его жизни и стрем
120
лением примирить, сгладить противоречия. Однако в от* дельных своих прозаических произведениях и в рассуждениях о характере и содержании прозы он ближе к новому направлению в русской литературе, чем он сам считает. По существу, он против натурализма, а за реализм художественного изображения, за правдивость и ясность произведения, необремененного ненужными бытовыми и прочими подробностями. Чутье художника не обманывает его, у Ершова верный маяк — проза Пушкина. Кстати, читая рассказы Ершова, его письма, убеждаешься, что автор «Конька-Горбунка» отлично владел и прозаическим пером, писал просто и выразительно, немногословно и в то же время емко.
Говоря о прозе Ершова, нельзя не коснуться его писем. Читая их, невольно сожалеешь, что Ершов не занялся в свое время серьезно прозой. В письмах Ершова «чувствуем его полное обладание гибким образным языком, обладание юмором народного склада, порой грубоватым, но ясным и здоровым, чувствуем подвижность его души, легко переходящей от одного настроения к другому»,— справедливо оценивает эпистолярное творчество одна из советских исследовательниц творчества Ершова 3. Ерошкина.
«Осенние вечера» долго странствуют по столичным редакциям. От Плетнева они попадают к Крашенинникову, потом в Петербургский цензурный комитет к Ярославцову, лежат там, и только в 1857 году они появляются на свет в «Живописном сборнике» старого знакомого Ершова издателя А. Плюшара. Рассказы Ершова печатаются с таким предисловием издателя:
«Осенние вечера» содержат в себе ряд повестей, рассказанных с редким талантом и неподдельным юмором... Надеемся в скором времени получить от автора дозволение объявить его фамилию, до того же статьи эти будут подписаны только начальными буквами «П. Е.»
Действие «Осенних вечеров», судя по отдельным подробностям, происходит в Тобольске. В рассказе «Дедуш
121
кин колпак» довольно ярко обрисован купеческий Тобольск начала 1830-х годов, действие рассказа «Чудный храм» развертывается в окрестностях Тобольска, рассказ «Панин бугор» и по названию отнесён к Тобольску. Два рассказа посвящены прошлому Сибири. Они, кстати, наиболее интересны из «Осенних вечеров». Это «Рассказ о том, каким образом дедушка мой, бывший у царя Кучума первым муфтием, пожалован в такой чин» и «Повесть о том, каким образом мой дедушка, бывший при царе Кучуме первым министром, вкусил романеи». Эти рассказы навеяны Ершову преданиями сибирских татар. Язык их оригинален, в нем много фольклорного элемента, хорошо чувствуется характер рассказчика Таз-баши.
Заслуживает внимания сказка Немца — «Об Иване Трапезнике, и кто третью булку съел». Это сказка о лжеце, о его жадности и о наказанном упрямстве. Ершов удачно выступает здесь в хорошо знакомой ему роли сказочника. Вредит сказке некоторая условность завязки и финала.
«Осенние вечера» прошли не замеченными критикой. А жаль! Как очень верно подметил сибирский литературовед Ю. С. Постнов, «рассказы Ершова проникнуты той неподдельной человечностью, которая характеризует и его поэзию. В них возрождается фольклорная стихия и народный юмор...» Но рядом с произведениями русской литературы тех лет они звучали архаично. Уже сияла на литературном небосводе звезда Л. Толстого, в полном расцвете был талант И. Тургенева, печатал в «Русском вестнике» свои «Губернские очерки» Михаил Щедрин. Неудачи Крымской войны грозным предостережением повисли над будущим России. Все ждали перемен. Не до «Осенних вечеров» тут было...
К этому же времени относится публикация в столичной прессе, без упоминания имени автора, еще некоторых произведений Ершова. В 1854 году в Тобольске служил поэт В. М. Жемчужников. Ершов подружился с ним и передал
122
ему для использования в Козьме Пруткове некоторые свои произведения, в том числе стихотворную сцену «Черепос-лов, сиречь френолог»... Жемчужников пишет: «Я обещал воспользоваться ею для Пруткова... и впоследствии вставил сцену Y небольшими дополнениями во 2-е действие (комедии) оперетты «Черепослов», написанной мною с бр. Алексеем и Напечатанной в «Современнике» 1860 г. от имени отца Козьмы Пруткова».
Связаны с именем Пруткова и другие произведения Ершова, полученные в Тобольске Жемчужниковым, в частности известная эпиграмма К. Пруткова «Опрометчивость» («Раз архитектор с птичницей спознался»), в основе которой лежат две эпиграммы П. Ершова на тобольского архитектора.
Читатели, конечно, не могли знать, что в Козьме Пруткове есть частица творчества и Ершова, как не знали они в то время подлинных авторов этого мифического поэта. Поэтому для литературной судьбы автора «Конька-Горбунка» это прошло бесследно.
Однако вскоре имя Ершова вновь облетело всю страну. После смерти Николая I с «Конька-Горбунка» был снят цензурный запрет. Произошло это в 1856 году, когда издателю-книготорговцу, наследнику Смирдина Петру Крашенинникову, удалось с помощью А. В. Никитенко добиться разрешения на 4-е издание «Конька-Горбунка». После длительного перерыва сказка Ершова появилась в продаже. Это было к тому же иллюстрированное издание «Конька-Горбунка».
Узнав об этом, Ершов радостно писал своим друзьям в столицу 14 июня 1856 года:
«Конек мой снова поскакал по всему русскому царству. Счастливый ему путь!.. Заслышав тому уже 22 года похвалу себе от таких людей, как Пушкин, Жуковский и Плетнев, и проскакав в это время во всю долготу и широту Русской земли, он очень мало думает о нападках господствующей школы и тешит люд честной, старых и
123
малых, и сидней, и бывалых, и будет тешить их, покА русское слово будет находить отголосок в русской дуп/е, т. е. до скончания века». /
В четвертом издании Ершову пришлось кое-что изменить, а кое-что и убрать. Он мог бы, поддавшие^ давлению обстоятельств, смягчить социальную остроту сказки, однако этого не сделал. Убрав часть строк из сказки, Ершов добавил в нее новые, которые лишь усилили сатирическую направленность «Конька-Горбунка». Новое издание, как справедливо говорит исследовательница творчества П. П. Ершова И. П. Лупанова, достигло большей сатирической силы, яснее стал замысел сказки — Ивана, крестьянского сына, считают дураком только недобрые люди, его враги. Хороши были и иллюстрации, сделанные художником Р. Жуковским и известным гравером Л. Се-ряковым. В них чувствовались и понимание сказки, и знание предмета, и любовь к Коньку и Иванушке. Рисунки эти воспроизводились как лучшие в большинстве дореволюционных изданий «Конька-Горбунка». Последнее издание сказки Ершова с иллюстрациями Жуковского и Серякова" вышло в 1917 году.
Незадолго перед тем как сказка снова увидела свет, Ершов овдовел и женился в третий раз на воспитаннице Екатерининского института Елене Черкасовой.
«Служба и семья — вот два предмета моих действий»,— писал Ершов в конце декабря 1856 года Ярославцову, благодаря его за хлопоты по продвижению «Осенних вечеров» в печать.
Новая жена Ершова оказалась доброй и заботливой женщиной. В ее лице дети поэта нашли вторую мать. Однако несчастья продолжали преследовать Ершова — у него один за другим умирают сын и дочь...
Ну а на службе, после многих лет неудач, счастье наконец улыбнулось Ершову — в конце января 1857 года Ершов был утвержден директором училищ Тобольской губернии и директором Тобольской губернской гимназии.
124
«Затишье душу мне тревожит»
Тише, малый! Близко к смене;
Пожалей коней своих;
Посмотри, они уж в пене, Жаркий пар валит от них.
П. Ершов, «Моя поездка»
Горчакова Западной Си* столицы нагрянула реви* своего поста. Вместо него
>
Многолетнее правление бирью кончилось бесславно. Из зия, и Горчаков был удален со
был назначен Г. X. Гасфорт, фигура анекдотическая: ге*
нерал, обладавший учеными степенями, но, по существу,
малообразованный, к тому же одержимый совершенно неприличным честолюбием. Честолюбие Гасфорта было направлено на юг, где в эти годы шла борьба с Кокандским ханством, угнетавшим народы Средней Азии, на север Западной Сибири он не обращал внимания, отдав всю территорию севернее Омска на откуп Тобольским гражданским губернаторам. В марте 1854 года эту должность занял В. А. Арцимович, деятель новой формации, который, по словам А. Ф. Кони, хорошо знавшего его, «имел свойство привлекать к себе людей и выбирать добрых и надежных помощников». Вероятно, это свойство и заставило нового губернатора обратить внимание на Ершова и после смерти Чигиринцева в ноябре 1856 года смело выдвинуть на пост директора Тобольских училищ и гимназии автора «Конька-Горбунка». Арцимович писал в представлении на Ершова Гасфорту: «Обладая опытностью педагога и приоб
ретя некоторую известность на литературном поприще, он может быть весьма полезен по управлении учебной частью».
Вопрос был решен быстро. Уже 19 января 1857 года Гасфорт отвечал Арцимовичу, что «вследствие сношения моего с министром народного просвещения, высочайшим приказом по Гражданскому ведомству 6-го текущего янва-
125
ря инспектор Тобольской гимназии коллежский советник Ершов назначен директором училищ Тобольской губернии».
Годы служения под началом Чигиринцева оказали на Ершова плохое влияние. Ершов пал духом, начал опускаться. Ему казалось, что жизнь его заканчивается к заканчивается бесславно. В эти же годы он стал жертвой длительной судебной волокиты, которая началась еще в апреле 1847 года и продолжалась по май 1861 года. Существо дела заключалось в том, что из конюшни гимназии были украдены некоторые казенные предметы. Ершов, как инспектор, отвечал и за имущество гимназии. Судейские чиновники тянули дело в течение 14 лет.
Неожиданный счастливый поворот служебной судьбы Ершова, когда ему казалось, что все уже кончено, возрождает его былую энергию. Он горячо берется за дело, хотя его здоровье уже значительно пошатнулось. Он надеется, что ему удастся осуществить хотя бы часть из своих прежних замыслов. Именно к этому времени и относятся его слова «о ясном сознании долга», которое движет им в его служебной деятельности.
Наследство Ершову досталось тяжелое — его предшественник запустил дела и даже разворовал часть гимназического имущества. Новый директор начинает энергично исправлять недостатки. Ершову удается выхлопотать у губернских властей новое большое помещение для пансионеров гимназии — старое было тесным и сырым. В самом здании гимназии Ершов производит перестройку и ремонт, делает классы просторнее, светлее, с хорошей вентиляцией. Он расширяет гимназическую библиотеку, которая при Ершове достигает пяти тысяч томов, в то время как в начале его деятельности она насчитывала всего 853 тома. Он добивается увеличения сумм, отпускаемых на содержание казенных воспитанников, улучшает их условия жизни, питание. Особенное внимание Ершов уделяет тобольской женской школе, открытой при его участии. Еще будучи инспек
126
тором \имназии, он вместе с другими учителями составил подробною программу занятий в будущей Мариинской женской школе, которую открыли в Тобольске 22 июля 1854 года. Стам директором, Ершов еще больше проявлял заботы о женском образовании. Главный инспектор училищ Западной Сибири, обследовавший в 1860 году Тобольское женское училище, дал о нем такой отзыв: «Учебная часть школы удачным выбором наставников и прекрасными успехами учениц вполне обязана просвещенной заботливости и полному знанию педагогических требований г. Ершова». Ершов добивается разрешения на введение в Тобольской гимназии преподавания естественной истории. В ноябре 1860 года при его участии открывается в Тобольске воскресная школа для взрослых.
Ершов в эти годы принимает деятельное участие и в общественной жизни города и губернии. Он организует «Общество вспомоществования студентам Тобольской губернии», сотрудничает в «Тобольских губернских ведомостях», начавших выходить в 1857 году, а с № 7 становится фактическим редактором неофициальной части этой первой тобольской газеты. Имеются сведения, что Ершов принимает участие в разработке проекта водного пути между Печорой и Обью, который занимал в то время не только тобольскую, но и столичную общественность. Он много ездит по обширной Тобольской губернии — в его ведении находится 38 училищ. Побывал он во многих местах Западной Сибири и, в частности, в далеком Березове, где прошли его детские годы. Везде приезд Ершова вызывает оживление работы по народному образованию. В Кургане, Ишиме и Тюмени он открывает женские школы, создает школьные библиотеки, проводит показательные занятия для молодых учителей.
В эти годы появляется в печати одна из последних прижизненных публикаций Ершова — небольшая пьеса «Кузнец Базим, или Изворотливость бедняка», напечатанная в «Сборнике литературных статей, посвященных русскими
127
писателями памяти покойного книгопродавца-издателя Александра Филипповича Смирдина». Еще раз яркой искоркой блеснул талант автора «Конька-Горбунк/>. Действие пьесы развертывается в Багдаде, во врем/на Гарун-аль-Рашида, но мы без труда узнаем в ее герое одного из тех предприимчивых работящих татар-кузнецов, что селились за речкой Абрамовкой, в нижней части Тобольска, на Пиляцких улицах. Написана пьеса легко/имеет занимательный сюжет. Симпатии автора на сторрне кузнеца Ба-зима, сына простого народа, который с честью выходит из трудных испытаний и никогда не теряет оптимизма. Близкое знакомство с татарским населением Сибири позволило Ершову придать пьесе не условный восточный колорит, а реалистический.
Почти одновременно с «Кузнецом Базимом» в забытом ныне журнале А. Плюшара «Весельчак» появляется подписанная тремя звездочками небольшая поэма «Нос» с подзаголовком: «Лиро-эпическое произведение, исполненное поэзии и философии».
Еще одну мечту удается осуществить Ершову в эти годы— побывать в Петербурге. Он бережно хранит в памяти Петербург своего юношества, город Пушкина, Жуковского, Плетнева, город планов и надежд, город, где так счастливо появился на свет его «Конек-Горбунок», город священной дружбы с Константином Тимковским...
18 февраля 1858 года Ершов выехал из Тобольска, сначала в Омск, для «личных наставлений и указаний» Гас-форта, а потом через Москву в Петербург.
Он увидел его сейчас иным — городом министерских канцелярий и поважневших друзей. Тимковского среди них не было. Он отбыл арестантские роты, участвовал в Крымской войне, за отличие в боях ему возвратили чин и дворянство, но в столицу въезд все-таки не разрешили.
Более двух месяцев живет Ершов в столице, знакомится с гимназиями и училищами, встречается два раза с новым министром просвещения Е. П. Ковалевским. Ершов уста
128
ет в столице: «Отвыкнув от многолюдства, я с каким-то невольным удивлением гляжу на эти толпы, которые снуют в^д и вперед по всем улицам, особенно по Невскому проспекту»,— пишет он жене. Ершов страшится воспоминаний, которые нахлынули на него при виде строгих проспектов столицы, полноводной Невы, домика на Песках, где было проведено столько счастливых минут в кругу родных и друзей... Невеселы его встречи и со старыми друзьями— В. Треборном, А. Ярославцовым, П. Плетневым. Вспоминают о минувшем, об ушедших навсегда знакомых и друзьях...
Скорей в Тобольск, в родной тихий Тобольск, где можно видеть хотя бы малые плоды своих гражданских усилий...
В смятенном состоянии, с тревожным сердцем покидает Ершов 1 мая 1858 года столицу, навсегда распрощавшись с городом на Неве, со своей юностью... Он приезжает в Москву, где знакомится с работой трех лучших гимназий, осматривает город, на два дня выезжает в Троицко-Сергиевскую лавру и затем пускается в обратный путь, к берегам Иртыша.
24 мая он уже видит перед собой Тобольский кремль, величественно возвышающийся на горе Алафейской. Он рад, что вернулся домой. «Мой родной Тобольск в тысячу раз милее,— по крайней мере для меня,— вашего великолепного Петербурга...» — вырывается у него в письме к друзьям.
Однако Тобольск нерадостно встретил его — в день приезда умерла его маленькая дочь — злой рок продолжал преследовать Ершова. Потом заболела жена. Осенью он отправился в трудное и далекое путешествие по губернии для осмотра училищ. Побывал в Ишиме, Ялуторовске, посетил свою родину — деревню Безруково. Поездка по осенним дорогам была трудна. После нее Ершов болел. Но едва только настал новый год, как Ершов снова отправляется в поездку по губернии, хлопочет об открытии женских
9 В. Г. Утков
129
школ в Ишиме и Тюмени, ревизует училища, изыскивает средства для их укрепления. Он весь поглощен работой... Так проходит начало 1860-х годов, а 9 марта 1862 года, неожиданно для всех, Ершов уходит в отставку.
По существующему в то время положению Ершов, прослужив в учебном ведомстве более 25 лет, имел право уйти в отставку и получать полную пенсию. Последние годы службы у него были вполне благополучными — в Тоболь-ском архиве удалось найти документ о награждении Ершо-ва орденом святого Станислава 2-й степени с императорской короной, деньги за который, по существующему тогда положению, Ершов вносил уже 25 марта 1862 года, то есть спустя почти месяц после подписания отставки.
По некоторым свидетельствам, отставка Ершова не была добровольной. «Мы не знаем решительного повода к этой отставке,— пишет Ярославцов,— тем более, что последний экзамен в руководимой им гимназии был одним из лучших по успехам воспитанников. А повод был, по-видимому, невыносимый для его благородного сердца и болезненной уже комплекции: люди и тут не пощадили поэта». Ярославцов верен себе — и здесь он говорит глухо, намеками, боясь почему-то прямо сказать о причинах отставки Ершова, которые были ему известны. Ю. Девятова пишет, что Ершова «обошли по службе и он, несмотря на многочисленную семью, полный жизни и сил, подал в отставку».
Весьма заманчиво предположить, что в отставке Ершова какую-то роль сыграло известное «дело Михайлова». М. Л. Михайлов был привезен в Тобольск 31 декабря 1861 года и прожил в городе до 27 января 1862 года. За это время и произошли события, которые повлекли за собой суровое наказание тобольской администрации. Замешана в этом деле была и родственница Ершова — вдова Пилен-кова, некоторые ученики Ершова. Но следствие по этому делу тянулось почти год, и только в декабре 1862 года комиссия, приехавшая в Тобольск, вынесла решение. Ершов
130
в этй время был уже в отставке. В дневнике М. С. Знаменского, близкого друга Ершова, есть такая запись от 4 декабря 1862 года, из которой видно, что он и Ершов близко к сердцу принимали «Михайловское дело». Однако судя по этому дневнику и другим материалам, Ершова не вызывали на допрос к генералу Сколкову, который возглавлял комиссию по разбору этого дела.
Причина, заставившая Ершова уйти в отставку, пока остается неясной. Однако за то, что отставка эта была не добровольной и неожиданной, говорит и волокита с назначением Ершову пенсии, тянувшаяся более года...
С уходом в отставку на Ершова обрушились новые заботы. Прежде всего нужно было найти жилье. Казенной квартиры он лишился, а собственного дома у него не было. Сложный этот вопрос решился неожиданно...
В подгорной части Тобольска, на углу Почтовой и Рождественской улиц, стоял большой дом богача Токарева, целая усадьба в городе. Единственная дочь хозяина дома заболела, и ее отец, по совету врачей, срочно выехал с ней в Крым. Токарев предложил Ершову переселиться в этот дом и подыскать на него со временем покупателя. Ершову ничего не оставалось, как согласиться. По некоторым данным, нуждающимся еще в проверке, Токарев приходился каким-то родственником последней жене Ершова.
Дом окружали многочисленные службы — конюшня, теплица, баня, отдельная кухня с людской, каретник. При доме был большой сад с двумя беседками и огород. В жилом этаже дома располагалась анфилада просторных комнат— зал, гостиная, столовая. На стенах гостиной в золоченых рамах висели фамильные портреты хозяина и его родственников, простенки занимали высокие зеркала. Стильная мебель, фисгармония, старинное фортепьяно занимали зал...
Но все это было заброшенным, ветшало. Мезонин служил складом для ненужных вещей, был завален разным хламом, сад запущен, беседки полуразрушены...
9*
131
Дом оказался для Ершова обузой почти непосильной. Надо было его поддерживать, ремонтировать, содержать прислугу — горничную, кухарку да . еще мальчика-казачка, без услуг которого тяжелобольной Ершов не мог обходиться. Все это неимоверно обременяло и без того скудный бюджет семьи Ершовых...
А денег было мало, очень мало. Утрата директорского оклада, различных наградных по службе, задержка с назначением пенсии при отсутствии сбережений поставили семью Ершова в тяжелое положение. 2 января 1863 года Ершов пишет в Петербург жене Д. И. Менделеева, своей падчерице:
«Давно я в долгу перед тобою, милая Феозва Никитична, за два твоих обязательных письма. Но что же мне было делать? К обыкновенной моей неохоте писать прибавилось еще другое обстоятельство, именно холодная квартира, не знаю, как согреть руки, а уж о писании и думать нельзя... Положение мое было бы довольно сносно, если бы не медленность в назначении пенсии. 9 марта прошлого года подписана моя отставка, а вот скоро 9 января 1863 года, о пенсии же нет ни слуху... Признаюсь, тяжело человеку с немалым семейством жить одними долгами да надеждами. На беду и Крашенинников ни ответа не дает, ни денег не присылает».
Пенсию помог выхлопотать Ершову его бывший ученик, профессор Петербургского университета Д. И. Менделеев.
4 мая 1863 года Ершов сообщает ему, что наконец-то получил пенсию: «Благодарю Вас, Дмитрий Иванович, за содействие Ваше в получении ее мною. Без Вашей справки в Департамент, а может быть, и настояния, я бы до сих пор жил ожиданиями».
Пенсию Ершов получил небольшую—1080 рублей в год. Он еле-еле сводит концы с концами — подрастают шестеро детей: дочери Людмила и Юлия от второго брака, сыновья Владимир, Николай, Александр и дочь На
132
дежда от третьего брака. Детей надо учить, одевать, а денег нет, кроме «богатого цифрами, но очень скудного по дороговизне всего пенсиона...»
И тут одолевает Ершова еще одна забота — хлопоты с изданием «Конька-Горбунка». После 5-го издания, выпущенного Крашенинниковым в 1861 году, прошло почти два года, а издатель и не думает платить деньги. «Будьте так добры, Дмитрий Иванович,— пишет Ершов в Петербург Менделееву в том же письме от 4 мая 1863 года,— кончите начатое Вами. Словам его (Крашенинникова.— В. У.) можно поверить только тогда, когда он подтвердит их свидетельством почтовой квитанции об отправке денег. Иначе мне придется еще долго мучиться самому и мучить других...» И снова Д. И. Менделеев помогает своему бывшему учителю, встречается с издателем и добивается от него полного расчета за сказку. Более того, Менделеев становится своего рода уполномоченным Ершова по изданию «Конька-Горбунка». Менделеев и его жена всегда относились к Ершову с любовью и уважением. Они приглашали его приехать в Боблово — подмосковное имение Менделеева — отдохнуть и подлечиться. Но Ершов уже был безнадежно болен. «Весь медицинский совет, т. е. все наличные тобольские доктора сказали, что болезнь моя неизлечима...»— пишет он Менделеевым в ответ на приглашение.
В последние годы Ершов жил подлинным затворником, он общался только с немногими тободяками, а чиновного Тобольска просто избегал. Дни его проходили однообразно, без каких-либо изменений. С утра он обычно бывал в зале, подолгу сидел молча у окна, которое выходило на улицу. Обедал он всегда с семьей и молча, разговаривать за едой было не принято. После обеда Ершов уединялся в своем кабинете, куда ему приносили вечерний чай. Иногда он выходил к детям, которые обычно играли в зале, смотрел на них грустно, без слов, а затем так же тихо удалялся к себе в кабинет. Одет он был в эти годы неизменно в просторный, из серого драпа халат, отороченный серой
133
мерлушкой. На больных ногах были мягкие бархатные са« пожки.
По свидетельству Н. Черданцева, брат которого был в течение двух лет домашним учителем детей Ершова, автор «Конька-Горбунка» в последние годы жизни «был очень тучен, неподвижен и ленив; он больше всего сидел в кресле и курил трубку с длинным чубуком, достигающим пола».
Мучительная болезнь — водянка, недостаток средств, сознание того, что он с семьей живет в чужом доме и в любой момент может быть выброшен оттуда — все это тяжело действует на Ершова. Ему едва исполнилось 50 лет, а он выглядит уже стариком. Редкие письма его в эти годы полны жалоб на безденежье, на «частую хворость», опасений за будущее детей. Даже радость по поводу постановки в Петербурге балета по сказке «Конек-Горбунок» выражается им весьма прозаически. Он просит Ярославцова узнать, как платят за театральные произведения — по числу актов, или как-нибудь еще... В одном из своих последних писем Ершов так охарактеризовал свое положение: «Хоть о моей жизни и нельзя сказать — бочка дегтю да ложка меда, однако все-таки пропорция последнего очень незавидна. Без денег, без здоровья, с порядочной толикой детей и с гомеопатической надеждой на лучшее — вот обстановка моего житья...»
Необщительность Ершова в эти годы приобретает болезненные формы. Скромность Ершова порой доходила до суровости. Однажды кто-то из родственников подарил его дочери на платье шелковой материи. Ершов вернул подарок со словами: «Прошу вас избавить меня навсегда от таких подарков: дети мои могут носить только то платье, какое я в силах им сделать!»
Правда, в Тобольске был круг людей, с которыми Ершов общался. Об этом сообщает родственница Ершова Ю. Девятова; «В 1863 году в Тобольске было много ссыльных поляков. В числе их были люди интеллигентные
131
и образованные. Некоторые из них были приняты в дому Петра Павловича. Мне случалось видеть П. П. беседующим раз в саду летом за вечерним чаем с сосланными поляками. Он сидел в отдалении от стола, где пили чай, и разговаривал с поляком Меляновским и другими. Впоследствии Меляновский женился на его старшей дочери. Некоторые люди осуждали Петра Павловича за то, что он принимает у себя поляков».
Принял участие Ершов и в судьбе ссыльного А. И. Иконникова, отправленного из Перми в Березов как «главного руководителя лиц пермского кружка, замеченных в злонамеренных действиях». Иконников прибыл в Тобольск с жандармом 18 сентября 1862 года, был тепло принят братьями Знаменскими и пробыл в городе до 24 сентября. По просьбе М. Знаменского Ершов написал письмо в Березов протоиерею об оказании помощи ссыльному. К сожалению, письмо Ершова не помогло — 5 октября из Березова был получен ответ, что городничий препятствует протоиерею в его попытках облегчить участь Иконникова.
Тобольские обыватели, чиновничество не могли простить Ершову его затворничества, знакомства с ссыльными, отстранения от городских сплетен и дрязг, от мелочной городской жизни, в которой, по словам Ершова, «каждый день отмечается или новой глупостью, или новой сплетней». Тобольские обыватели считали Ершова гордецом, заносчивым человеком и, конечно, при случае не упускали возможности насолить отставному директору гимназии. Когда возник слух о возвращении Ершова на службу главным инспектором училищ, то незамедлительно последовал, как вспоминает один из близких знакомых Ершова, «донос, в котором чернилась личность П. П. и его частная жизнь».
Считалось, что в эти годы Ершов уже ничего не пишет. Единственным стихотворением, написанным Ершовым после отставки, по мнению исследователей его жизни и твор
135
чества, было написанное в 1868 году казенное стихотворение по поводу приезда в Тобольск великого князя Владимира Романова. Но это не так. В материалах Центрального литературного архива хранятся несколько эпиграмм Ершова, которые, судя по их содержанию и адресатам, написаны именно в эти последние годы жизни поэта.
В январе 1863 года в Тобольск прибыл новый гражданский губернатор, бывший кяхтинский градоначальник А. И. Деспот-Зенович, которого Герцен иронически характеризовал как экс-либерала — «был либерал, но — исправился».
Неизвестно, что произошло у него с отставным директором Тобольской гимназии, но Ершов посвящает ему такую эпиграмму:
Тебя я умным признавал, Ясновельможная особа, А ты меня с глупцом сравнял... Быть может, мы ошиблись оба?
Известному тобольскому купцу Плеханову, нажившему огромное состояние грабежом народов Севера, а к концу жизни впавшему в ханжескую религиозность, Ершов посвящает следующее четверостишие:
Сибирский наш Кащей Всю жизнь обманывал людей, И вот на старости, чтоб совесть успокоить, Давай молебны петь и богадельни строить!
Другой ханже, одержимой филантропией, он посвящает эпиграмму:
В филантропическом припадке Она дрожит как в лихорадке, Готова свет весь обобрать! Но чуть какой бедняк неловкий, Знакомый мало со сноровкой, Пред ней обмолвится... Как раз Его в полицию тотчас!..
136
А вот отклик Ершова на тогдашнюю печать: Лакеи вообще народ не достохвальный, Но гаже всех лакей официальный!
Эти и другие эпиграммы, а их более десятка, известны не в оригинале, .а в списке тобольской жительницы А. Г. Семаковой. Судя по свидетельству одного из биографов поэта А. Мокроусова, это не единственный список эпиграмм Ершова, который был сделан тобольскими жителями. Вероятно, эпиграммы имели хождение по Тобольску, и это, конечно, не способствовало улучшению отношений между Ершовым и тогдашним тобольским обществом. О том, что Ершов полностью отстранился от чиновничьего круга, свидетельствует и тот факт, что среди фамилий то-боляков, принимавших участие в различных официальных собраниях, вечерах и т. п., сведения о которых опублико-* ваны в «Тобольских губернских ведомостях» с 1862 по 1869 год, нигде не встречается фамилия Ершова.
Печально на душе у стареющего и больного поэта. Жизнь подходит к концу, яснее видятся прежние ошибки и неверные шаги. «Люди любят больше кусаться, чем целоваться»,— с горечью пишет он в письме к другу своей юности В. Треборну в пасхальные дни 1865 года. Все забыли его, и, вероятно, последними стихами Ершова было горькое восьмистишие, которым заканчивается список А. Г. Семаковой, озаглавленное «Одиночество»:
Враги умолкли — слава богу, Друзья ушли — счастливый путь. Осталась жизнь, но понемногу И с ней управлюсь как-нибудь. Затишье душу мне тревожит, Пою, чтоб слышать звук живой, А под него еще, быть может, Проснется кто-нибудь другой...
Даже друзья не вспоминают о нем! «Для нас Ершов существовал только в воспоминаниях»,— признается Ярославцов. Поэт молчал в своем тобольском уединении, а
137
приятели его юности вспоминали о нем, как уже о несу* ществующем человеке... И когда за полгода до смерти, в феврале 1869 года, пришел Ершову запоздалый пригла* сительный билет в столичное Дворянское собрание на юбилейные торжества по случаю 50-летия Петербургского университета, Ершов пережил истинное потрясение. Он со слезами на глазах сказал: «Слава богу! Меня не забыли!» Потом он признавался жене: «Эти слезы были — радости, что меня вспомнили в торжественный праздник университета, где я так был счастлив!..»
В августе 1869 года Ершов почувствовал себя плохо. Забота о семье, которую поэт оставлял без средств к существованию, не покидала его до последних минут. Чувствуя близость конца, Ершов сказал плачущей жене: «Не плачь, Леночка, «Конек-Горбунок» вывезет!»
Умирал Ершов в полном сознании. Существует свидетельство близкого к поэту человека о последних часах жизни Ершова.
18 августа стало ясно, что часы автора «Конька-Горбунка» сочтены. «Приехавшему утром доктору П. П. жаловался, что провел ночь тревожно, не мог лежать ни на одном боку, чувствует страшную слабость; что в глазах у него черные мухи. Когда пришли к нему •здороваться дети, он просил их не отпускать на улицу... Он попросил газету, которую тотчас же выпустил из рук, не будучи в состоянии ее читать... Он поднялся со своего кресла, взял маленькую подушку и перешел к своей письменной конторке — как бы проститься с тем задушевным местом, где он передумал многое. Облокотился на нее, прилег на подушку, потом поднялся, поцеловал крест, который постоянно носил на груди, отошел от конторки, проговорив слабым голосом: «Места нигде не могу себе найти». После этого П. П. сел в кресло и забылся... Через некоторое время П. П. пришел опять в себя, встал, сел на другое кресло и здесь перешел в лучший мир...»
Хоронил автора «Конька-Горбунка» 20 августа весь
138
Тобольск. Улицы были заполнены горожанами, чиновник ками губернских учреждений, учителями, гимназистами, учащимися школ и училищ. Ершов лежал в гробу, одетый в шитый золотом мундир статского советника — последний чин, который он получил, седые, давно не бритые волосы на подбородке старили его припухшее от водянки лицо... Гроб был осыпан цветами — осенними астрами, их было так много, что казалось: опустошены были все сады То-* больска. Печально играл духовой оркестр...
Похоронен Ершов на Тобольском кладбище, в верхней части города, за древним валом, который был возведен еще сподвижниками Ермака. В окружении белоствольных берез находится его могила. Впоследствии на ней установили мраморный памятник с надписью — «Петр Павлович Ершов, автор народной сказки «Конек-Горбунок»...»
После смерти в конторке Ершова была найдена лишь медная пятикопеечная монета. По семейной легенде, младенцем Ершов был продан за грош бродяге-нищему. С медным пятаком он ушел из жизни, прожив ее бессребреником, честно трудясь, так и не нажив богатства, но оставив народу истинное сокровище — неувядаемую сказку «Конек-Г орбунок».
«...Удалось попасть в народную жилку»
Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилку. Зазвенела родная — и русское сердце j. отозвалось...
JM Zi Из письма П. П. Ершова
Да, сокровище, оставленное нам Ершовым, поистине бесценно. И сейчас, спустя почти полтора века после появления сказки, мы не перестаем удивляться тому, как юноше, только что вышедшему из отрочества, удалось
139
взять такую гигантскую вершину поэтического творчества, создать произведение, которое живет, не увядая, уже второе столетие и будет жить вечно.
Ершов умер еще не старым человеком — всего 54 лет. Жизнь его была нелегка, в ней много было противоречивого, несбывшихся надежд, несвершенных планов. Он многое хотел сделать, о многом мечтал, но сделать ему из задуманного удалось немного. Можем ли мы осуждать его за это? Конечно, нет! Ершов дорог нам не только как поэт, нам дороги и его искания, его мечты, в которых он был искренним патриотом, глубоко и верно любящим свою Родину. Ну а среди дел, которые ему удалось свершить, незатухающей звездой первой величины сияет сказка об Иванушке, крестьянском сыне, и его верном друге Коньке-Горбунке...
Изумительна эта сказка, таит она в себе непреходящее очарование. В ней заключена истинная народная мудрость, она от начала до конца пронизана солнечным оптимизмом, она учит любить труд и верность, презирать вероломство и жестокость. Эта необыкновенная книга подобна утренней росе на листьях травы, восходу солнца, лунной ночи, первому снегу, теплому весеннему дождю, прилету ласточки весной — простым и мирным радостям человека. Ее оча* рование не увядает, любовь к ней не гаснет ни с возрастом, ни с переменами в жизни, ни со сменой поколений...
В судьбе этой книги все необычно — книга зародилась в глубокой провинции, далеко от признанных центров культуры тех лет, а содержание ее оказалось таким, что уже при выходе сказки всероссийский читатель был покорен ею навсегда. Сюжет книги — сказочный, однако она полна реалистических деталей и сцен, насыщена острой критикой различных сторон тогдашней жизни. Книга национальна по сюжету, по языку, по персонажам и вместе с тем вышла за пределы России, переведена на многие языки мира, ее полюбили разные народы. Написана книга в‘
140
условиях царской России, несопоставимых с нашими днями, но именно в наши дни книга Ершова получила широчайшее распространение, выпускается в миллионах экземпляров...
За годы Советской власти она была издана более 150 раз, общим тиражом около 10 миллионов экземпляров, на 27 языках народов СССР.
Немного найдется произведений в отечественной литературе, которые были бы так популярны — каким бы тиражом ни выпускали «Конька-Горбунка», он никогда не лежит ни на полках библиотек, ни на прилавках книжных магазинов. В чем же секрет такого необыкновенного поворота судьбы «Конька-Горбунка» кроме неувядаемой прелести стиха и сказочной увлекательности сюжета?
Дело в том, что в наши дни у сказки Ершова появился новый хозяин. «Маленькие отвоевали ее у больших и навсегда завладели ею, как драгоценной добычей,— писал К. И. Чуковский,— и тут только большим удалось разглядеть, что для детей это в самом деле хорошая пища — вкусная, питательная, сытная, способствующая их духовному росту».
В первые десятилетия своего существования «Конек-Горбунок» не воспринимался как детская сказка, критики зло высмеивали тех, кто пытался, хотя бы и робко, высказать предположение, что сказку Ершова можно предложить детям. И только в наши дни, когда революция уничтожила навсегда социальную основу сказки, она предстала перед маленькими читателями в ее первичной волшебной основе и стала любимой книгой детей. «Конек-Горбунок» ведет в самые сокровенные глубины ребячьего сердца, пробуждает в детях первые искры добра и стремления к справедливости, учит отличать коварство от прямодушия, ложь от правды, подлость от честности, подлинную дружбу от фальшивой. Сказка зовет ребенка к хорошему, к благородным поступкам, ребенок сразу же становится союзником и соратником Иванушки и Конька, вместе с ними пережи
141
вает их приключения, радуется торжеству добра над злом. Сказка помогает ему незаметно, исподволь овладевать изумительно емким, сочным, живым русским языком. Сказка дает ему первый урок революции, наивный, но в образном своем существе мудрый и понятный ребенку — злой царь гибнет в кипящем котле, а Иванушка — народ — из того же котла выходит преображенным, прекрасным и сам становится владыкой...
Счастливая и необыкновенная судьба у «Конька-Горбунка», у героев этой прекрасной сказки — крестьянского сына Иванушки и его друга Горбунка. Далеко за пределами Родины пролегли их пути, сказка Ершова переведена на немецкий, английский, французский, голландский, испанский, польский, чешский, словацкий, японский, итальянский и другие языки... Скачет Горбунок по всему миру, завоевывая сердца людей, веселит и старых и малых своими волшебными приключениями, а добрым молодцам нашептывает мудрый урок...
Писатель живет в своих произведениях. Немного в мировой литературе найдется произведений писателей и поэтов, которым была бы уготована столь славная и необыкновенная судьба, как сказке Ершова «Конек-Горбунок». Когда-то Ершов писал своим друзьям, что его «Конек-Горбунок» будет жить, «пока русское слово будет находить отголосок в русской душе, т. е. до скончания века». Это были пророческие слова — сказке обеспечена долгая и славная жизнь. И вместе с этим бессмертен стал и ее создатель— Петр Павлович Ершов, скромный учитель Тобольской губернской гимназии, имя которого стоит в одном ряду с великими писателями мира...
ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ П. П. ЕРШОВА
Ершов П. Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания М. Азадовского. «Библиотека поэта», малая серия. Л., 1936, с. 160.
Ершов П. Избранные сочинения. Редактор Ф. Г. Копытов. Омск, 1937, с. 123.
Ершов П. П. Сочинения. Редакция, комментарии и вступительная статья В. Г. Уткова. Омск, 1950 (Наиболее полное собрание сочинений Ершова, включающее кроме «Конька-Горбунка» и стихотворения, поэму «Сузге», пьесу «Суворов и станционный смотритель», эпиграммы и «Осенние вечера».), с. 296.
Ершов П. «Конек-Горбунок». Стихотворения. Вступительная статья, примечания и подготовка текстов В. Уткова. «Библиотека поэта», малая серия, 2-е издание. Л., 1951, с. 214.
Ершов П. П. «Конек-Горбунок». Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания М. К. Азадовского. «Библиотека поэта», малая серия. Издание третье. Л., 1967, с. 184.
Ершов П. П. «Конек-Горбунок». Стихотворения. Вступительная статья И. П. Лупановой. Составление, подготовка текста и примечания Д. М. Климовой. «Библиотека поэта», большая серия. Л., 1976. (Наиболее полное собрание поэтических сочинений Ершова.), с. 334.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В работе над очерком жизни и творчества П. П. Ершова автором использованы материалы архивов Тобольска, Тюмени, Омска, Москвы и Ленинграда; переписка автора с внучками поэта О. В. и Н. В. Ершовыми, воспоминания о Ершове А. Ярославцова, В. Григорьева, Ю. Арнольда, М. Знаменского, официальные истории Петербургского университета и Тобольской губернской гимназии, комплекты петербургских и сибирских газет, журнальные публикации и другие дореволюционные печатные источники, а также работы советских исследователей: М. Азадовского, Л. Беспаловой, Б. Бухштаба, 3. Ерошкиной, Н. Лапина, И. Лупановой, А. Палашенкова, Л. Полонского, Ю. Постнова, В. Трофимовой, К. Чуковского и других.
Утков В. Г.
У84 Гражданин Тобольска. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1979.
144; фронт., ил.
Книга о жизни и творчестве Петра Павловича Ершова — автора широко известной сказки «Конек-Горбунок». Издание второе, дополненное.
у 70202—044
* М158(03)—79
8Р1
СОДЕРЖАНИЕ
«Рожденный в недрах непогоды»..................... 3
«А столица та была недалече от села»............. 13
«Начинается рассказ от Ивановых проказ» ... 27
«Я жил надеждами богатый».........................39
«Уж не цвесть цветку в пустыне...»................46
«Мой друг! Оставим малодушных...».................62
«Разрушить умственные цепи...»....................72
«Печальный мир...»................................88
«Сон миновался души...»...........................97
«Осенние вечера...»..............................112
«Затишье душу мне тревожит»......................125
«...Удалось попасть в народную жилку» .... 139
Издания сочинений П. П. Ершова...................143
Библиографическая справка........................143
ИБ № 614
Виктор Григорьевич Утков
ГРАЖДАНИН ТОБОЛЬСКА
Редактор И. М. Шакинко. Художник Т. Волович. Художественный редактор Я. И. Чернихов. Технический редактор И. И. Заузолкова. Корректоры Е. В. Иванова и Г М. Смирнова. Сдано в набор 23/Ш 1978 г. Подписано в печать 10/Х 1978 г. НС 11255. Бумага типогр. № 2. Формат 70х108,/32. Уел. печ. л 6,4. Уч.-изд. л. 6,7. Тираж 40 000. Заказ 192. Цена 30 коп. Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.
ЭОисп.
СВЕРДЛОВСК. СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 197»