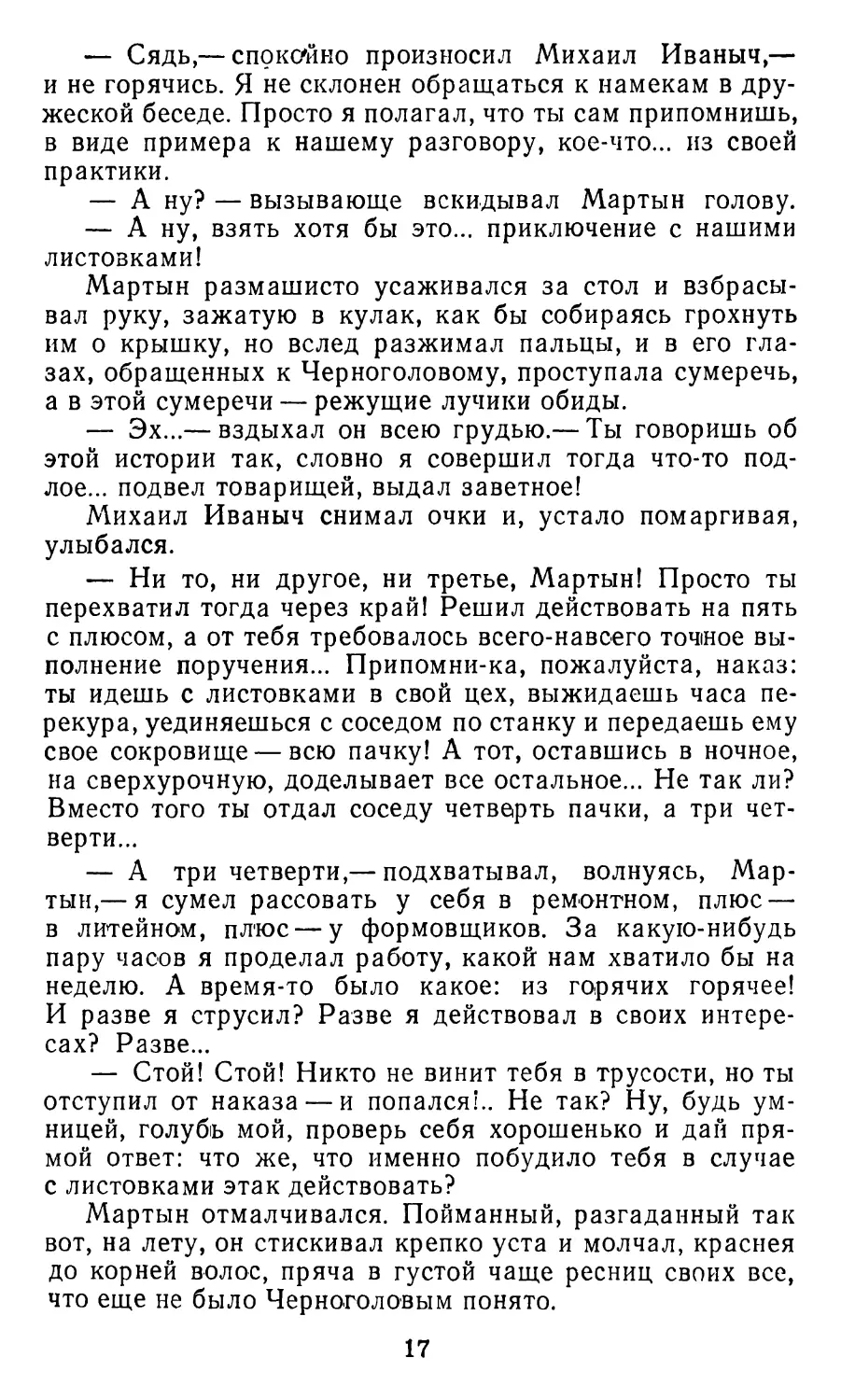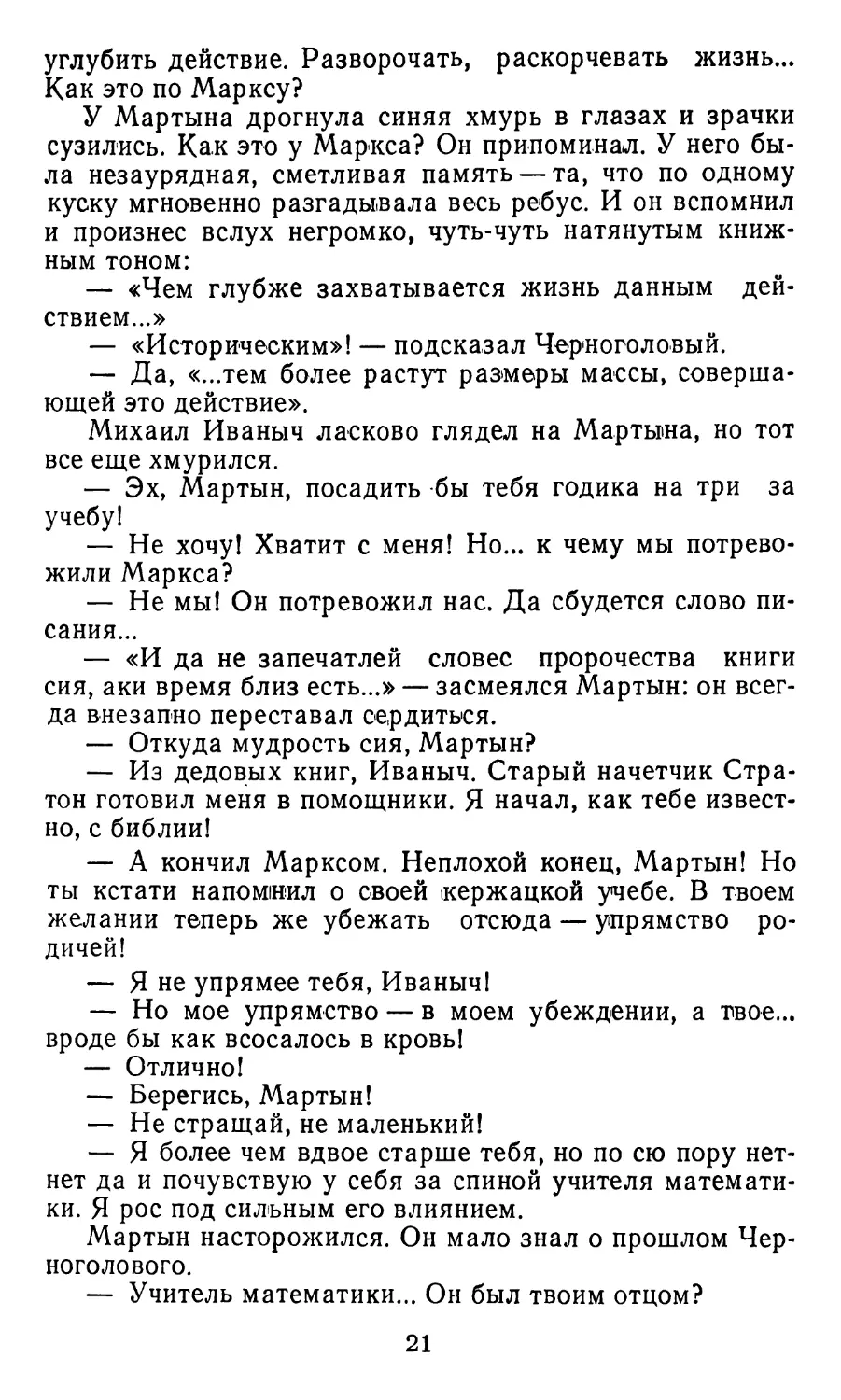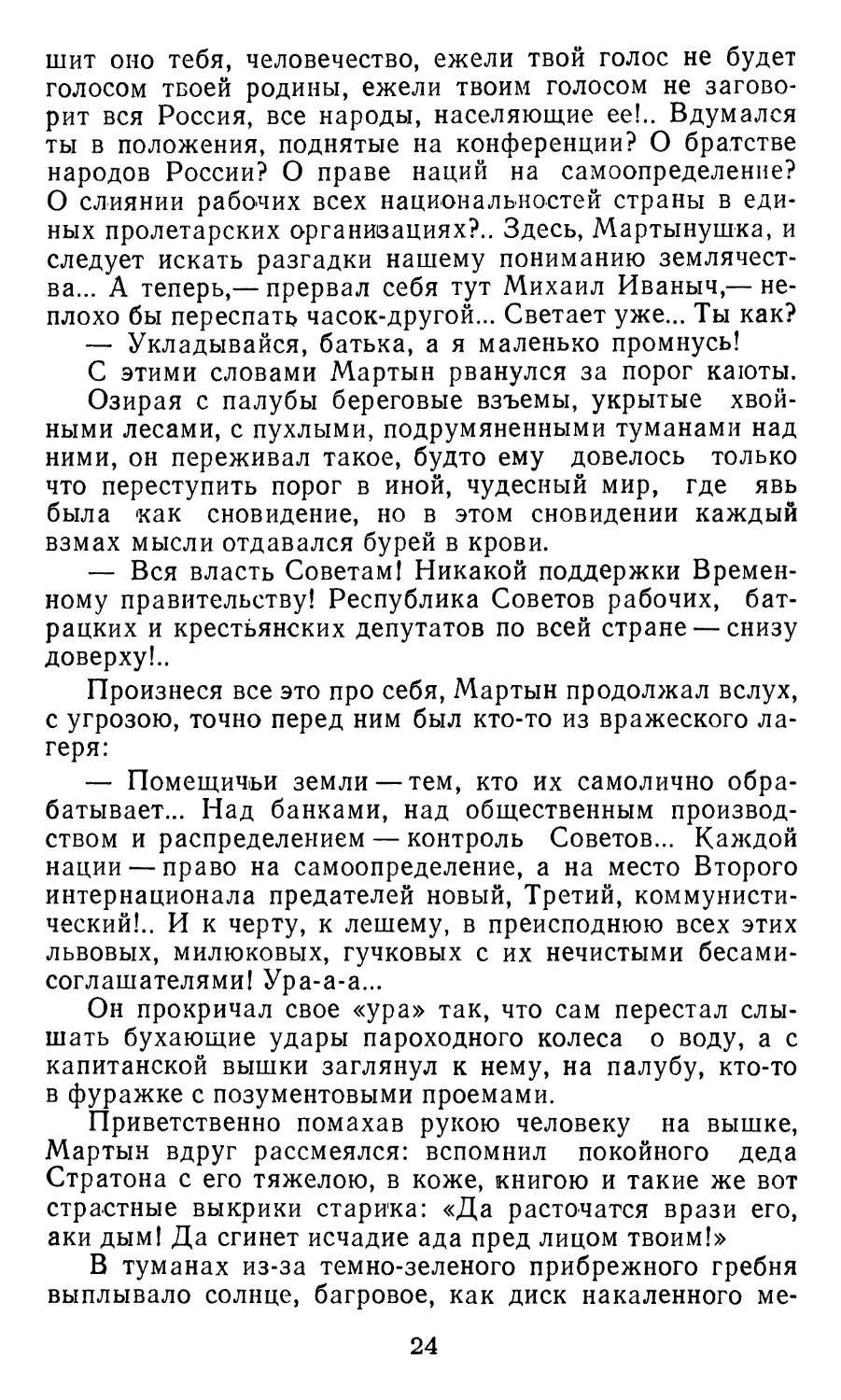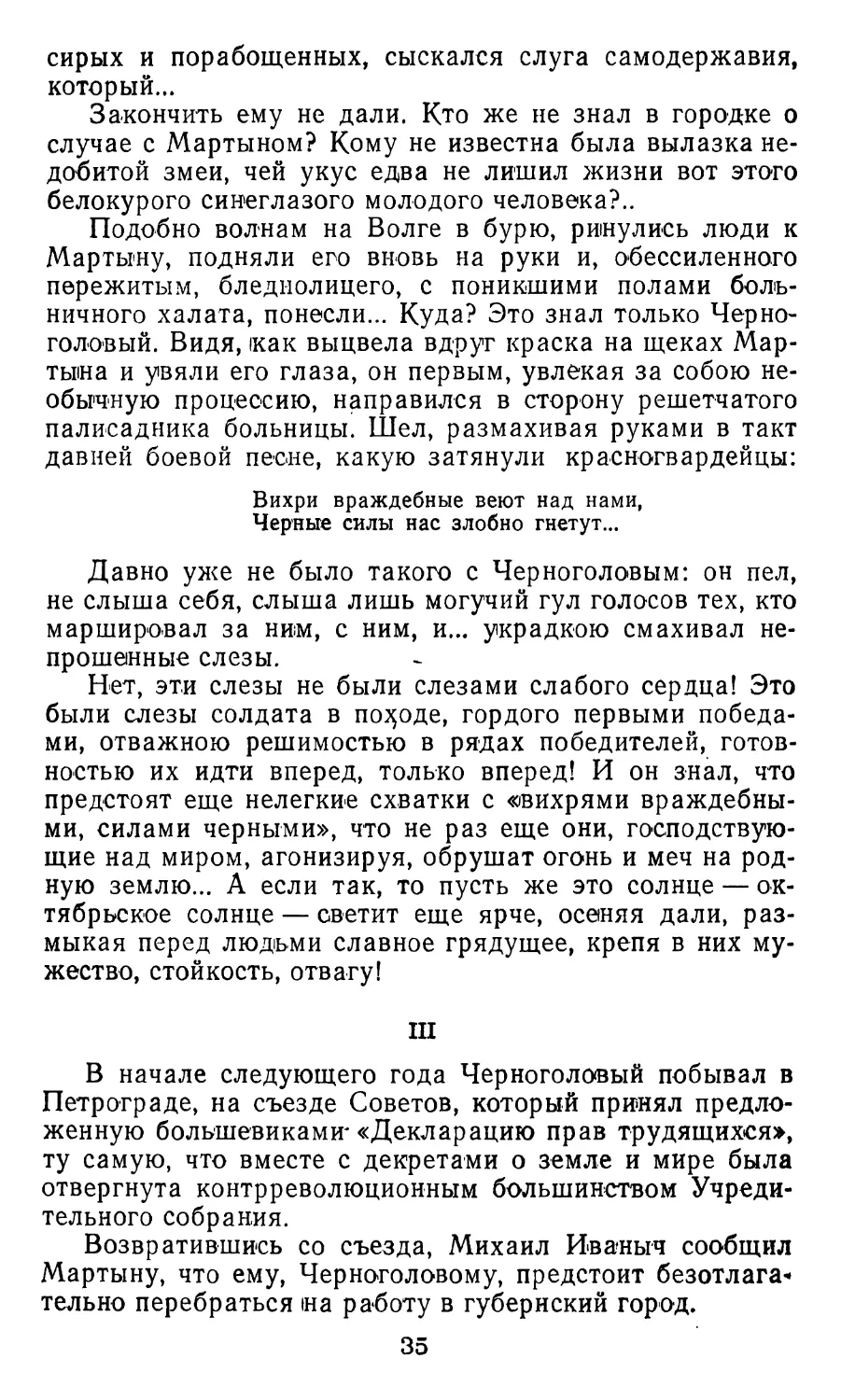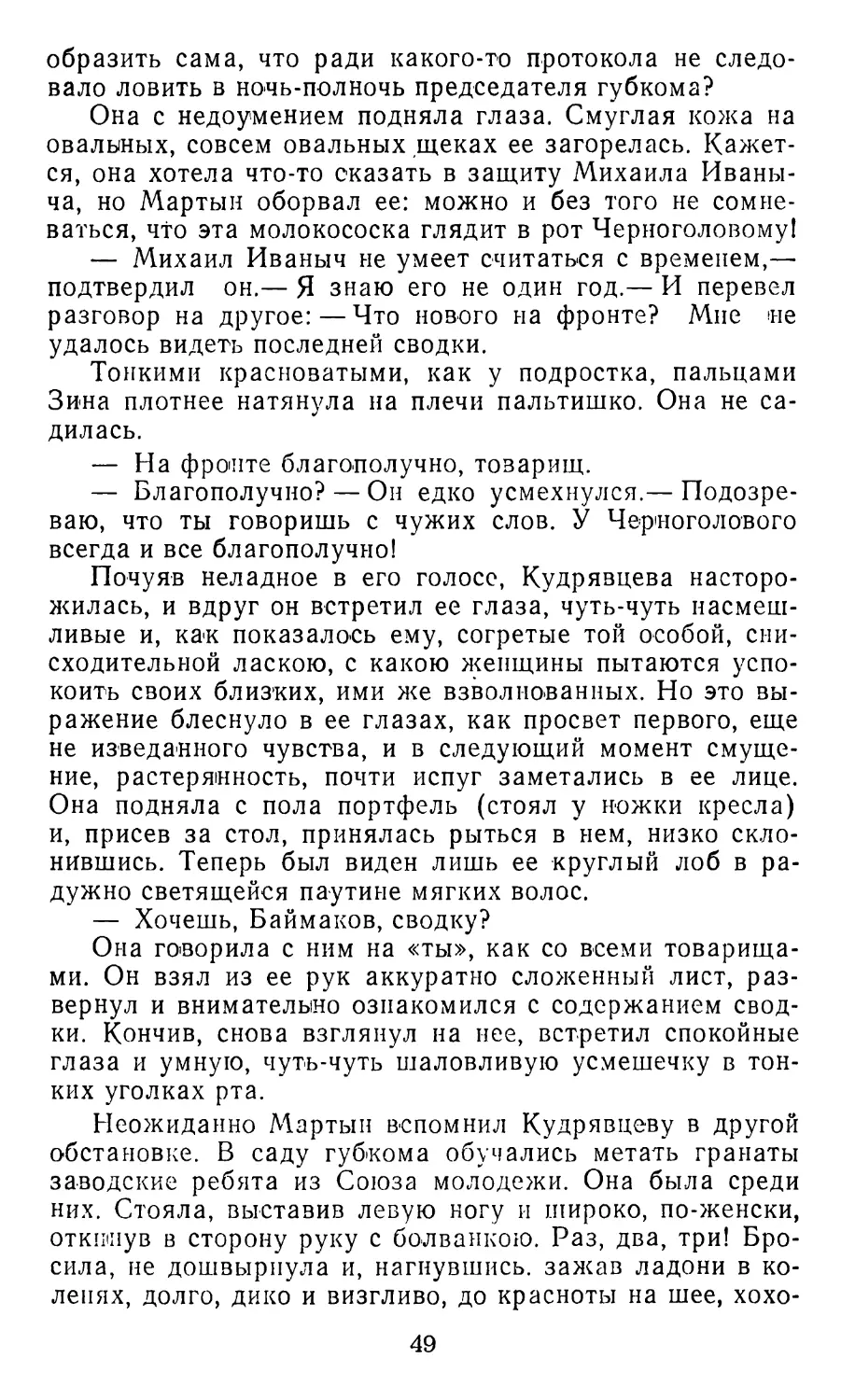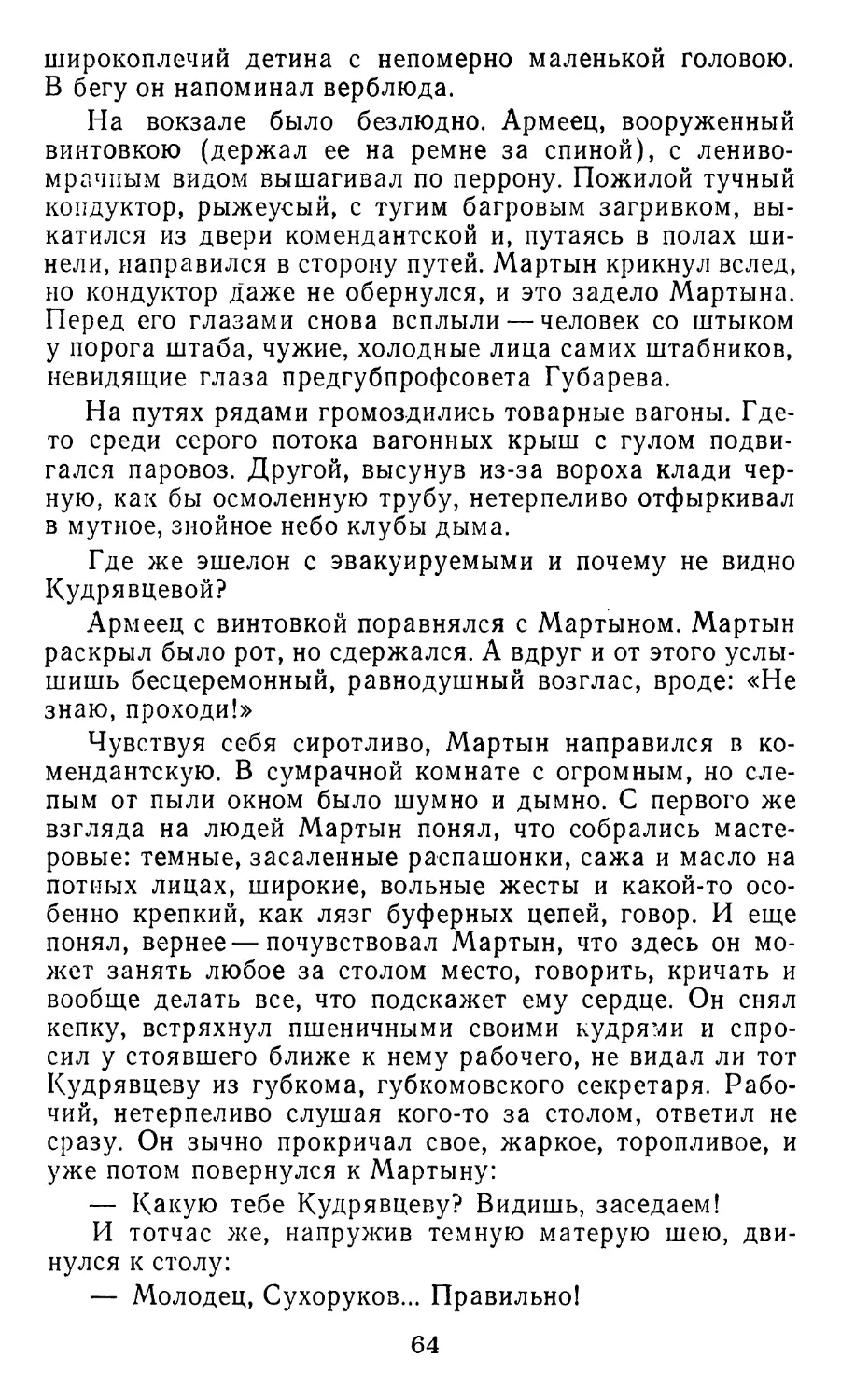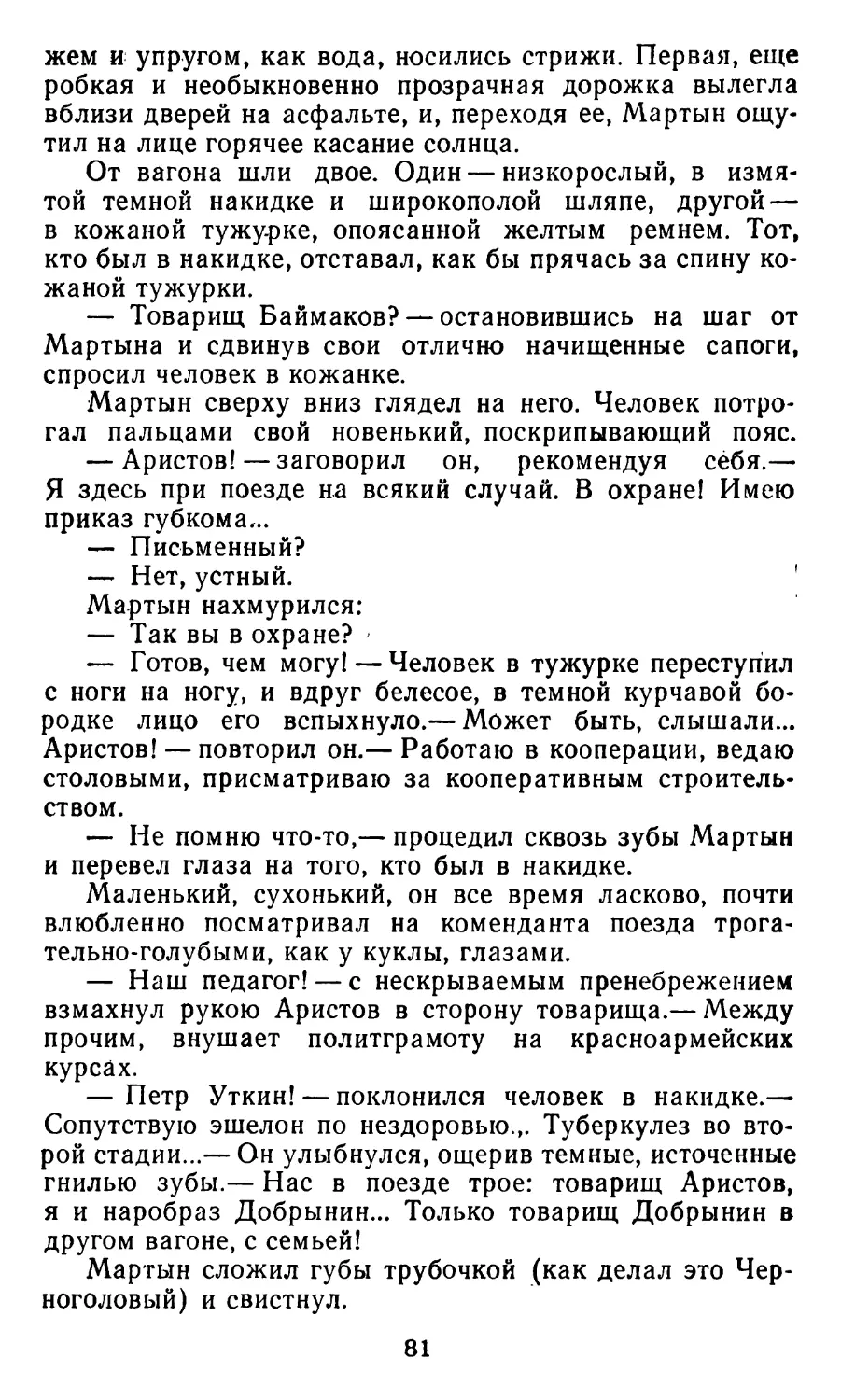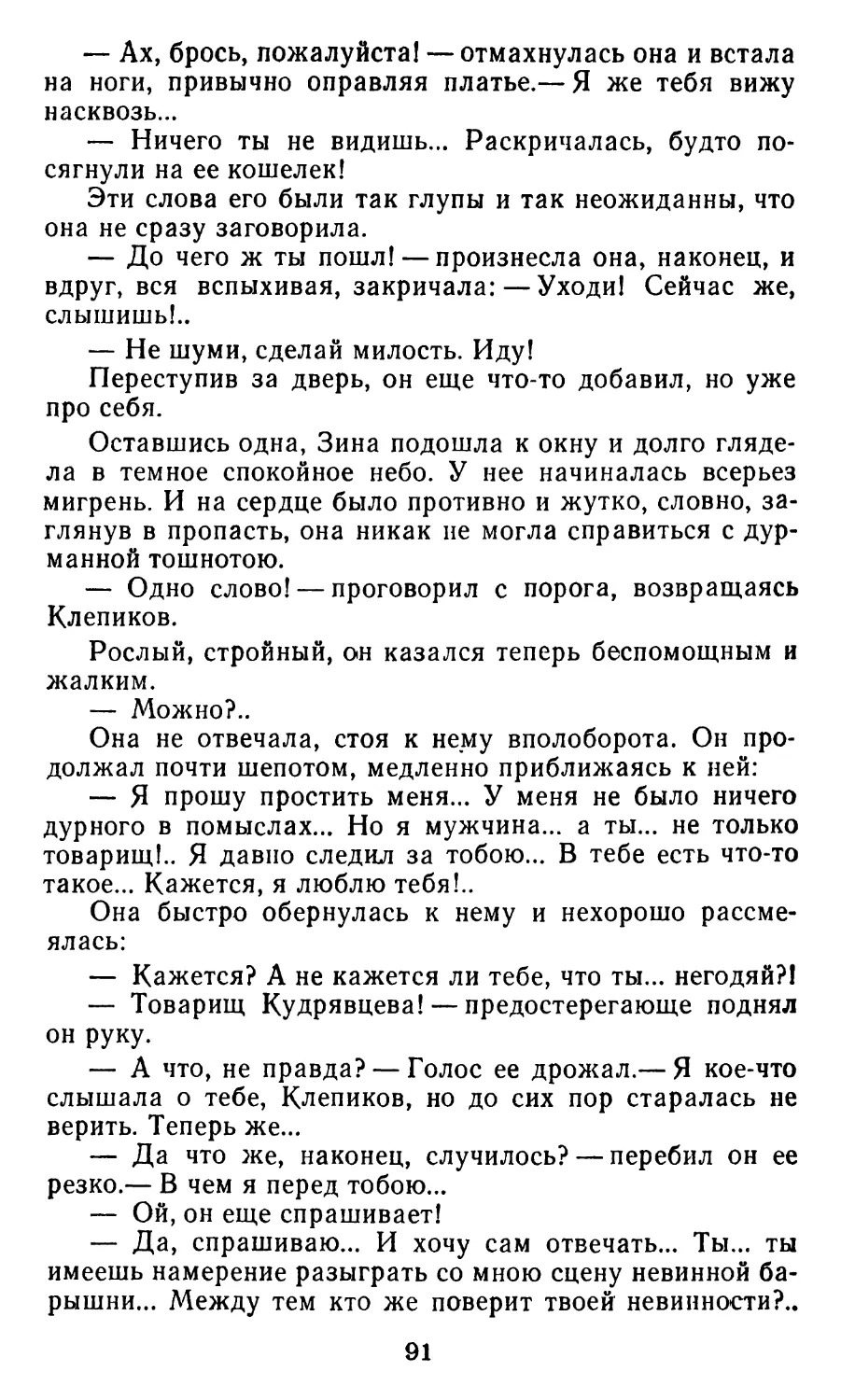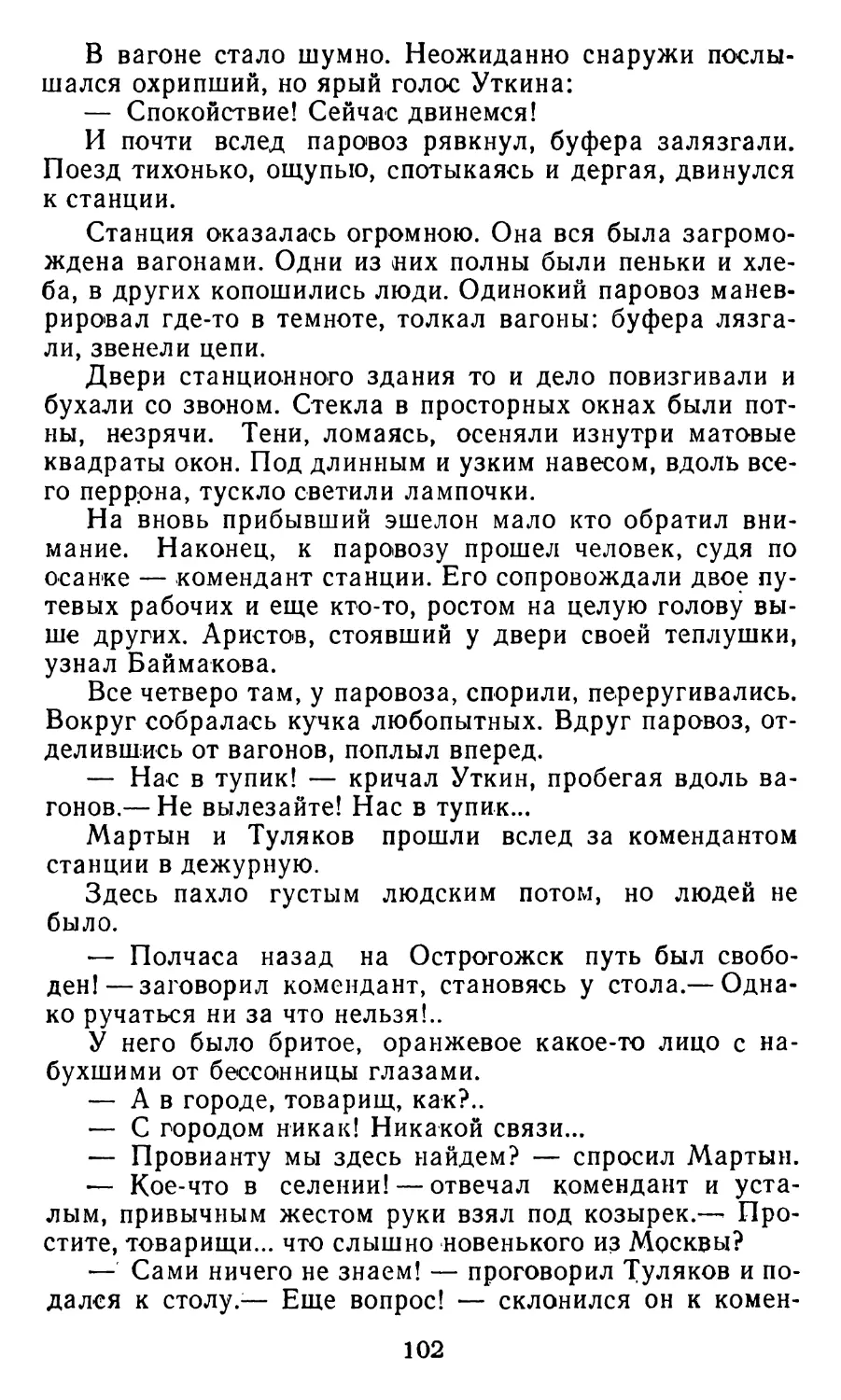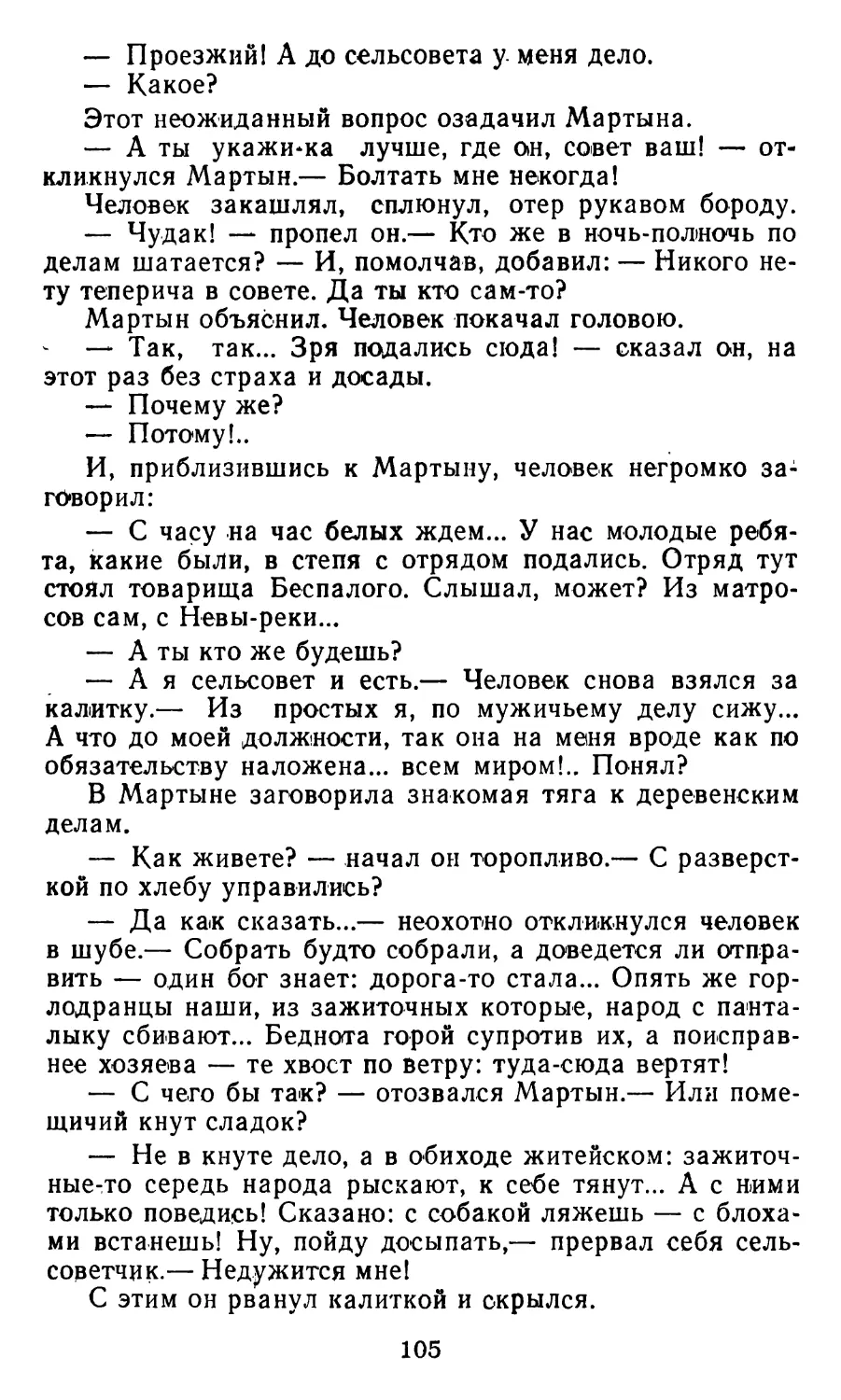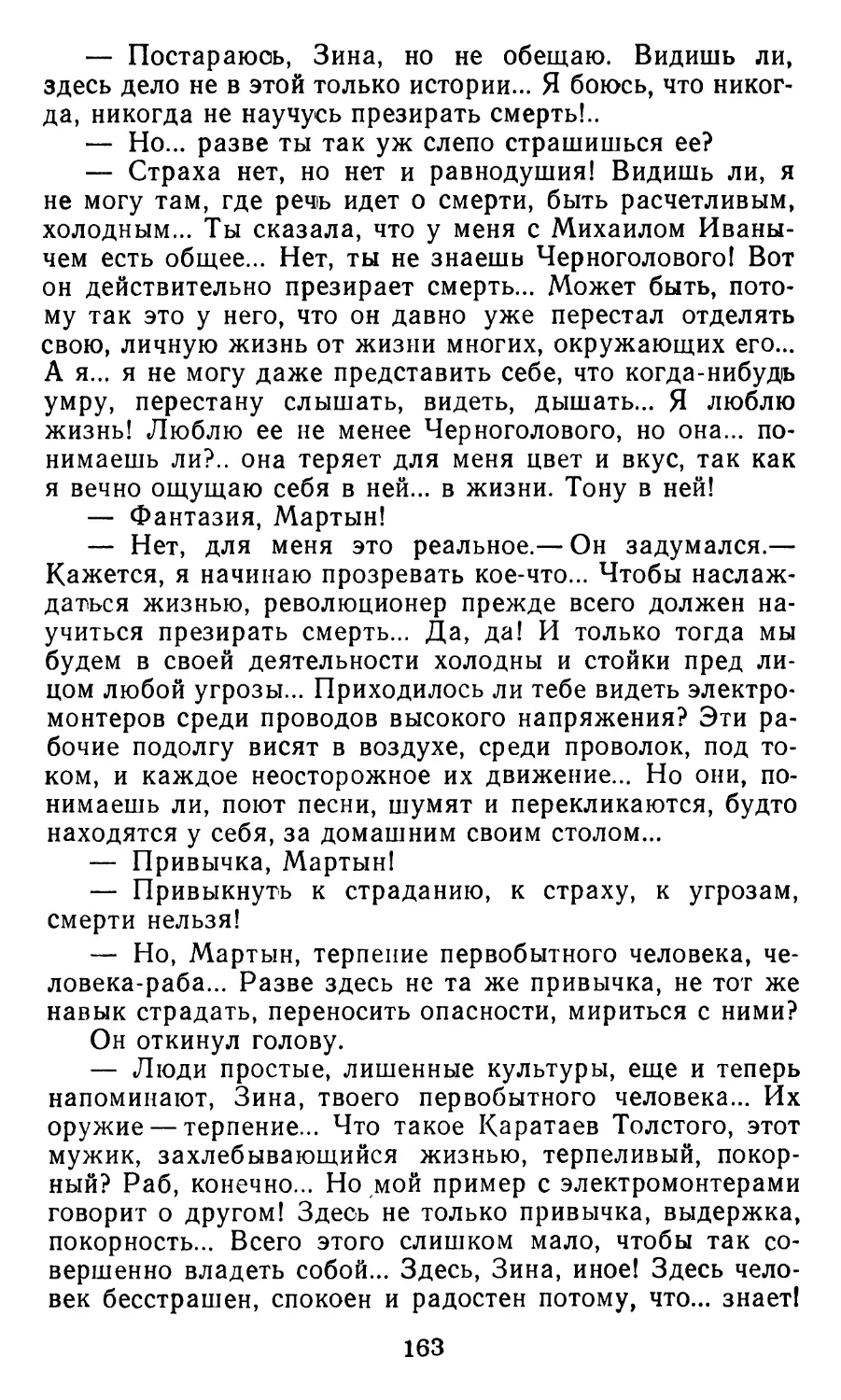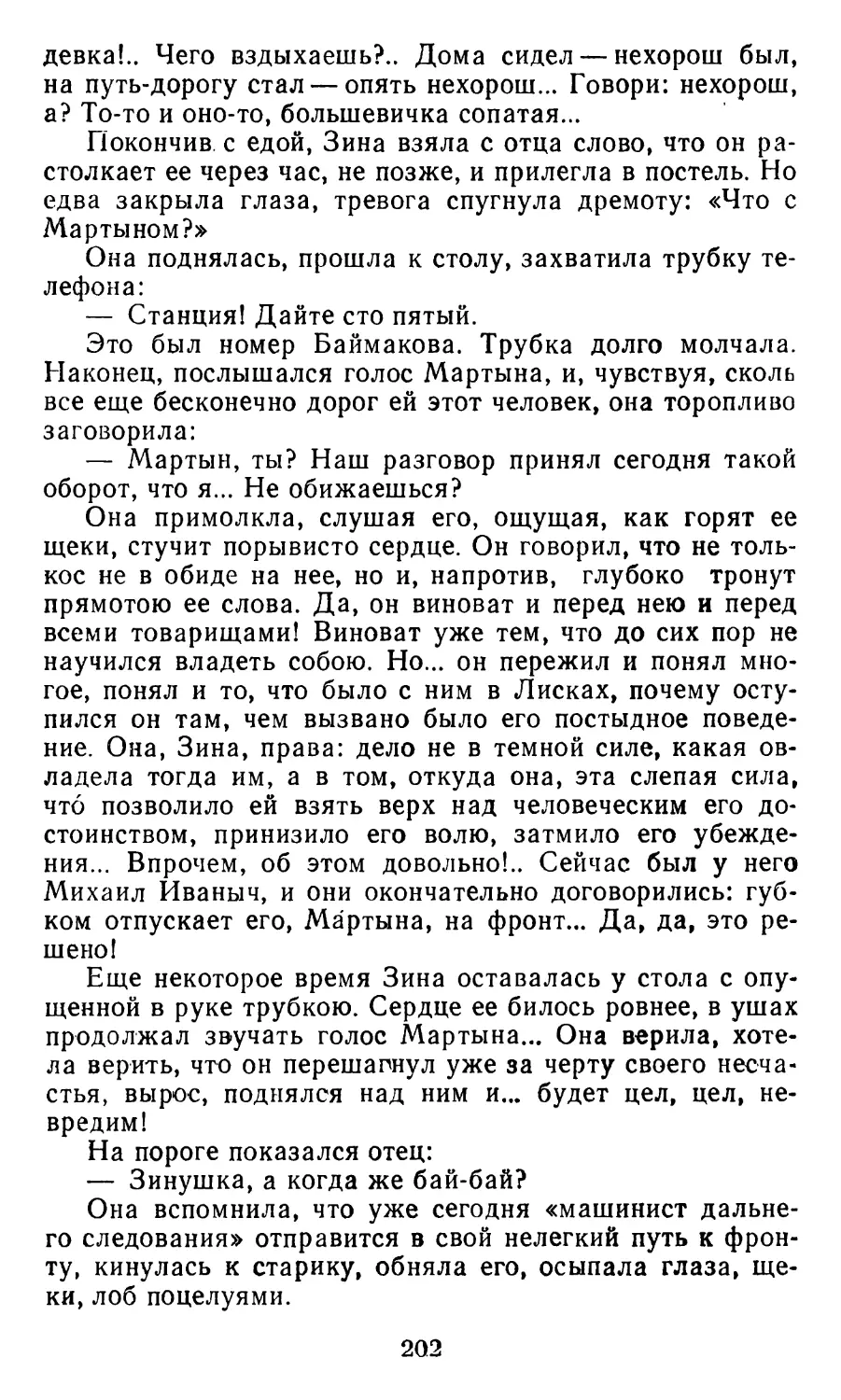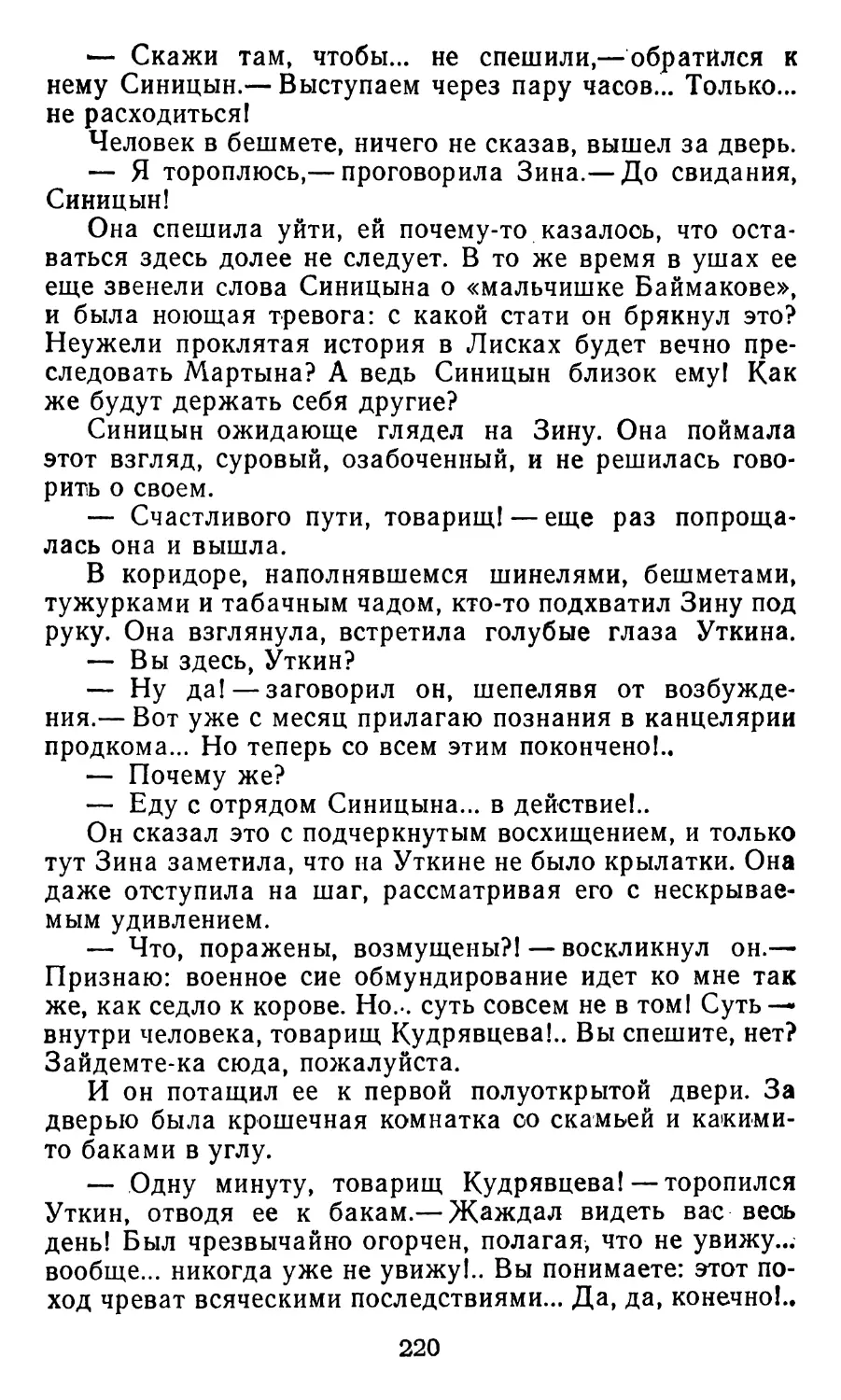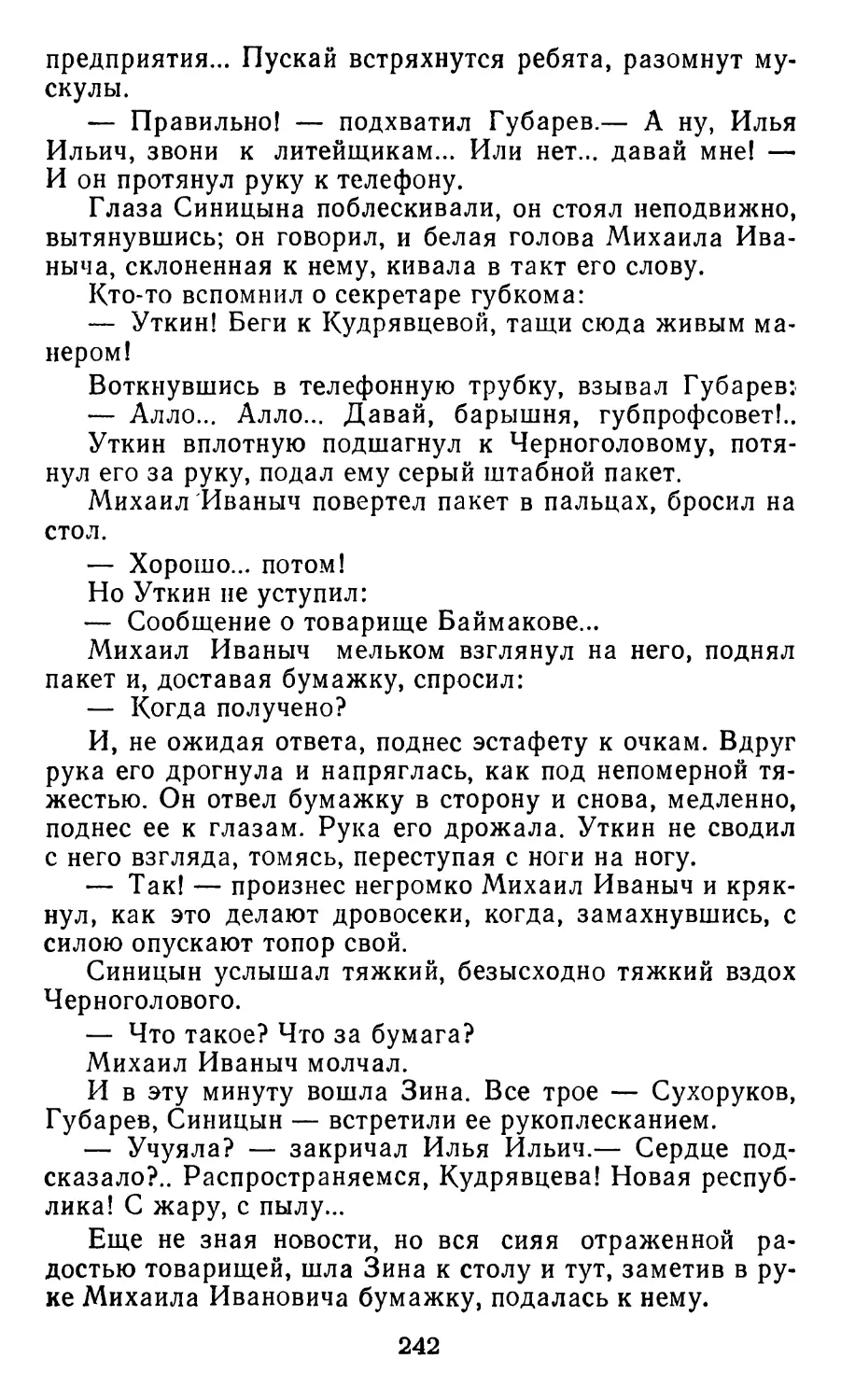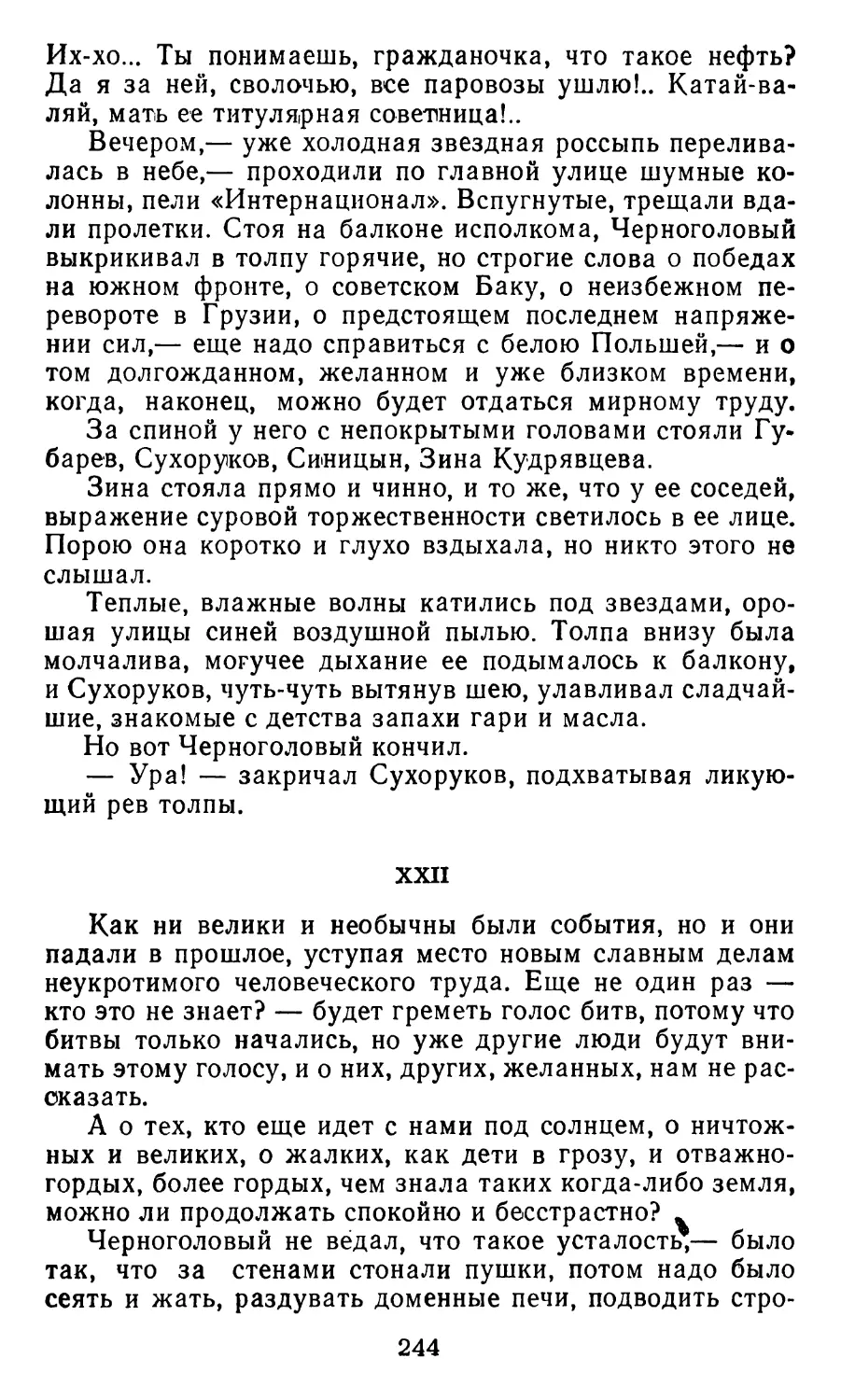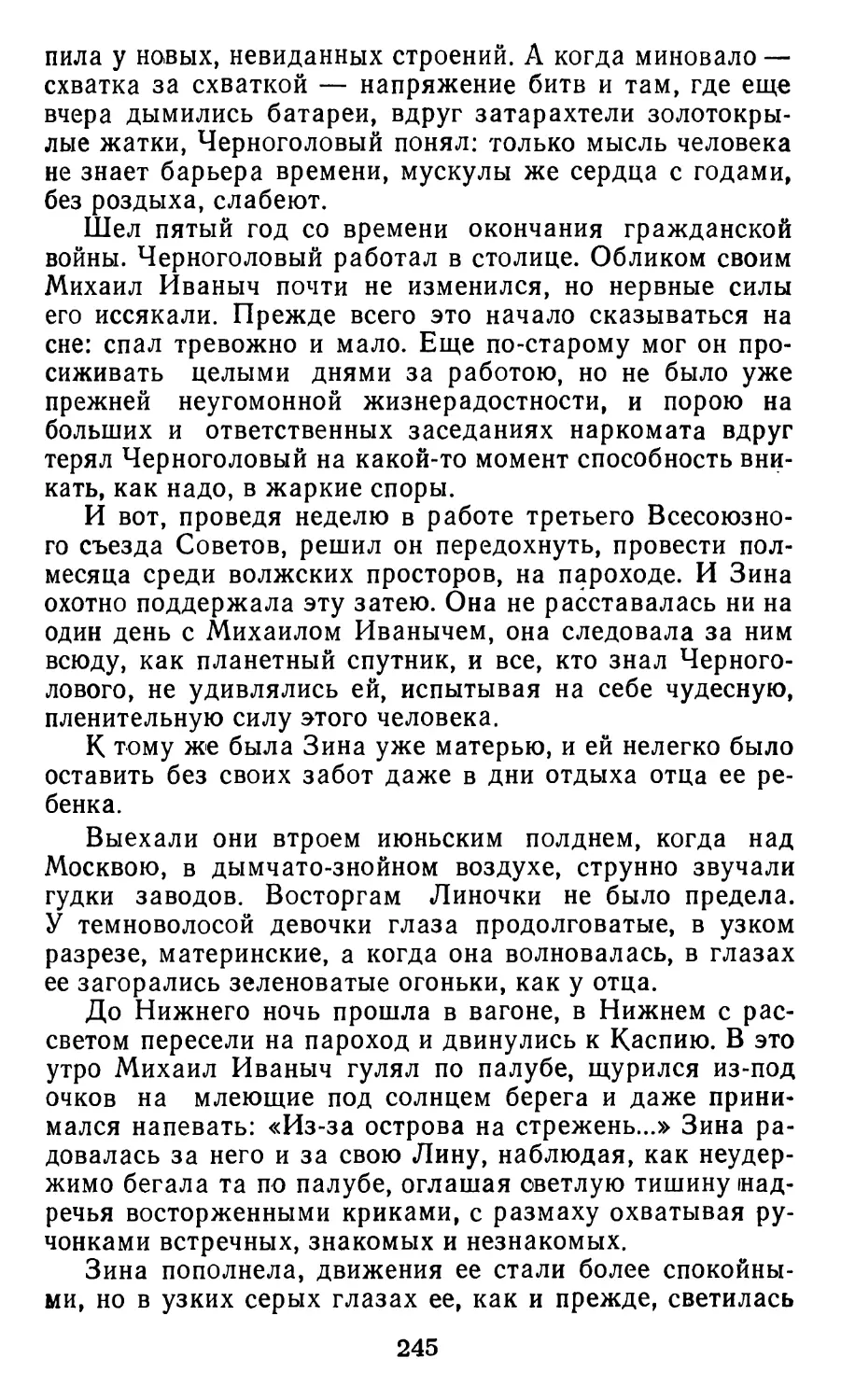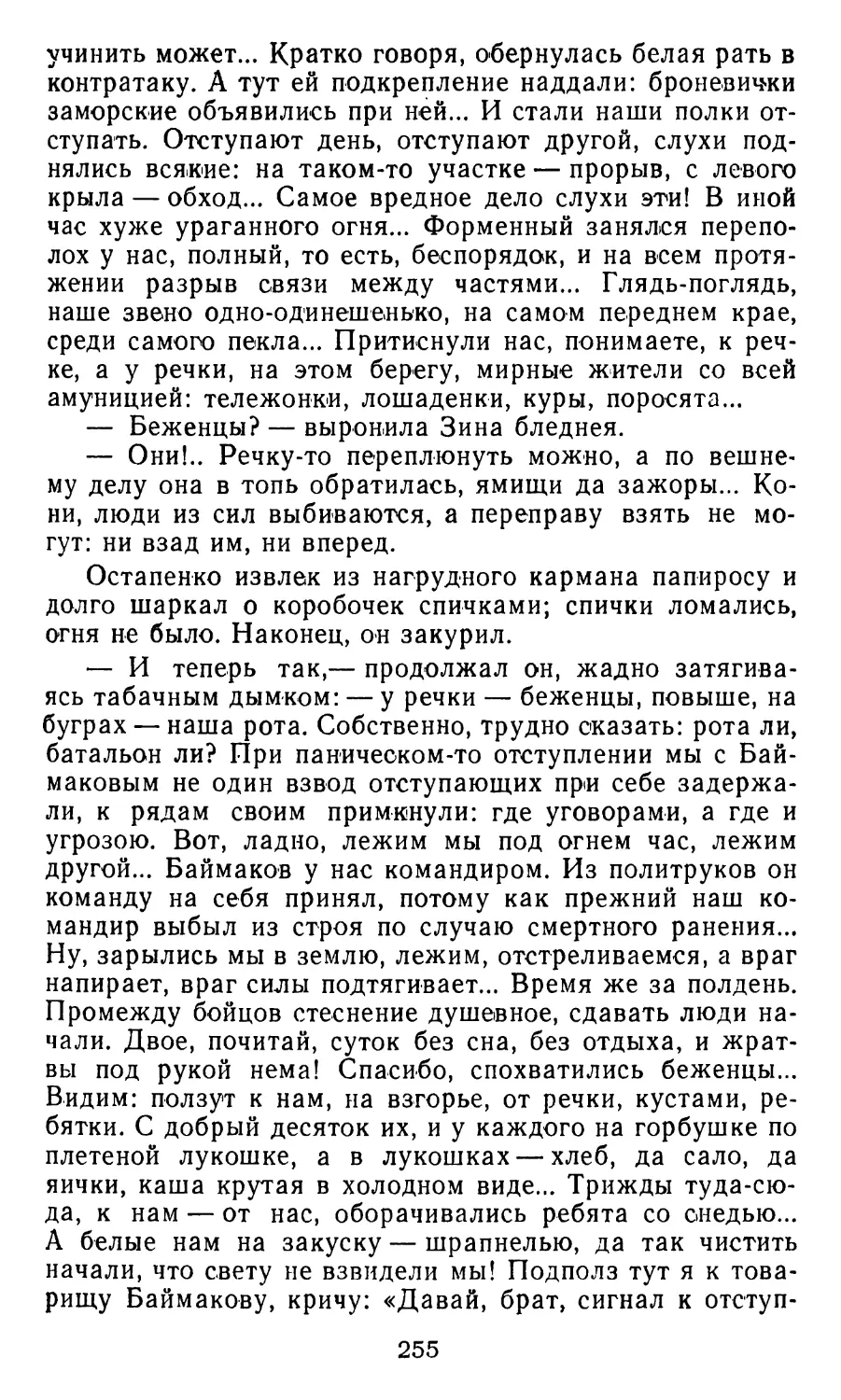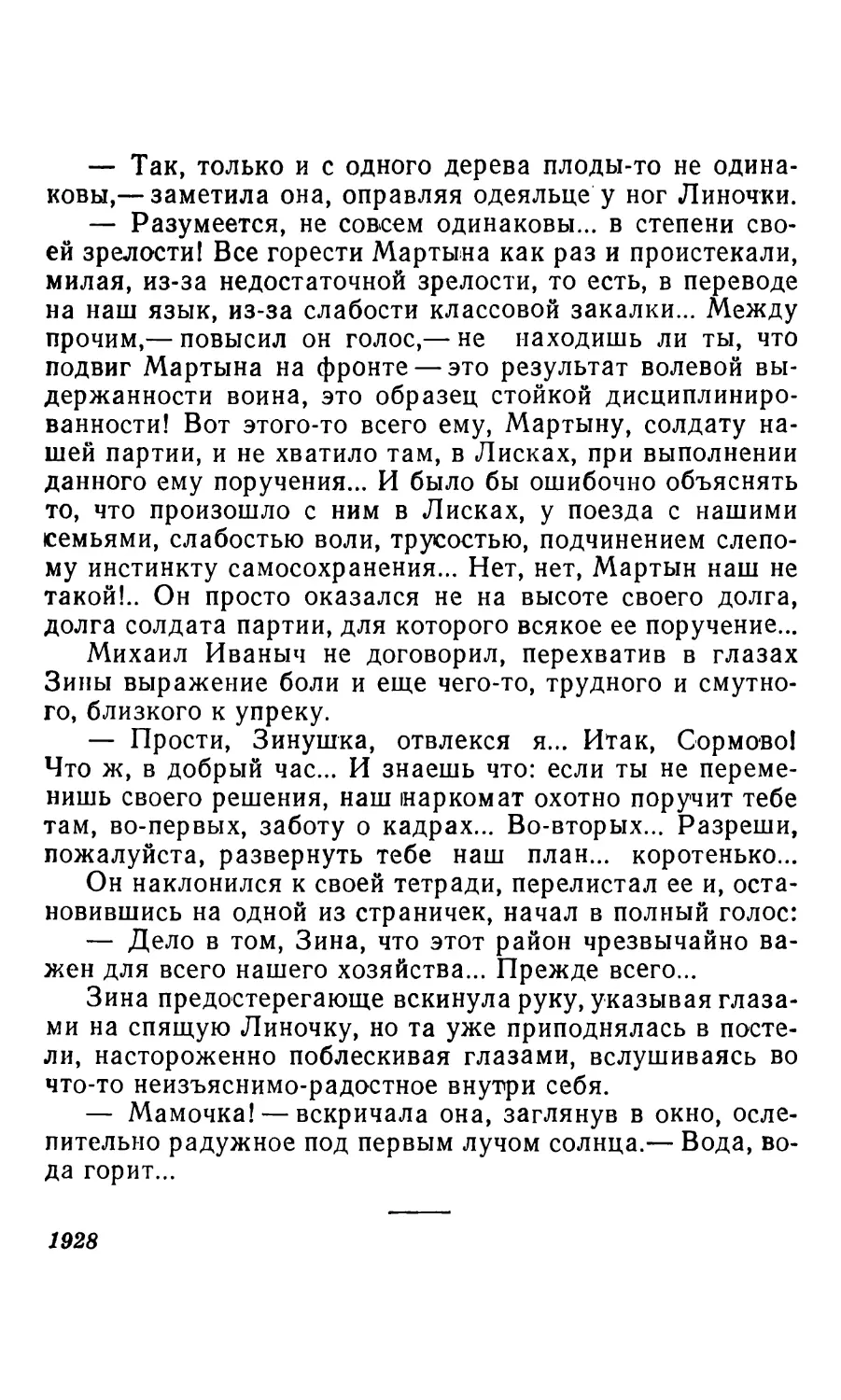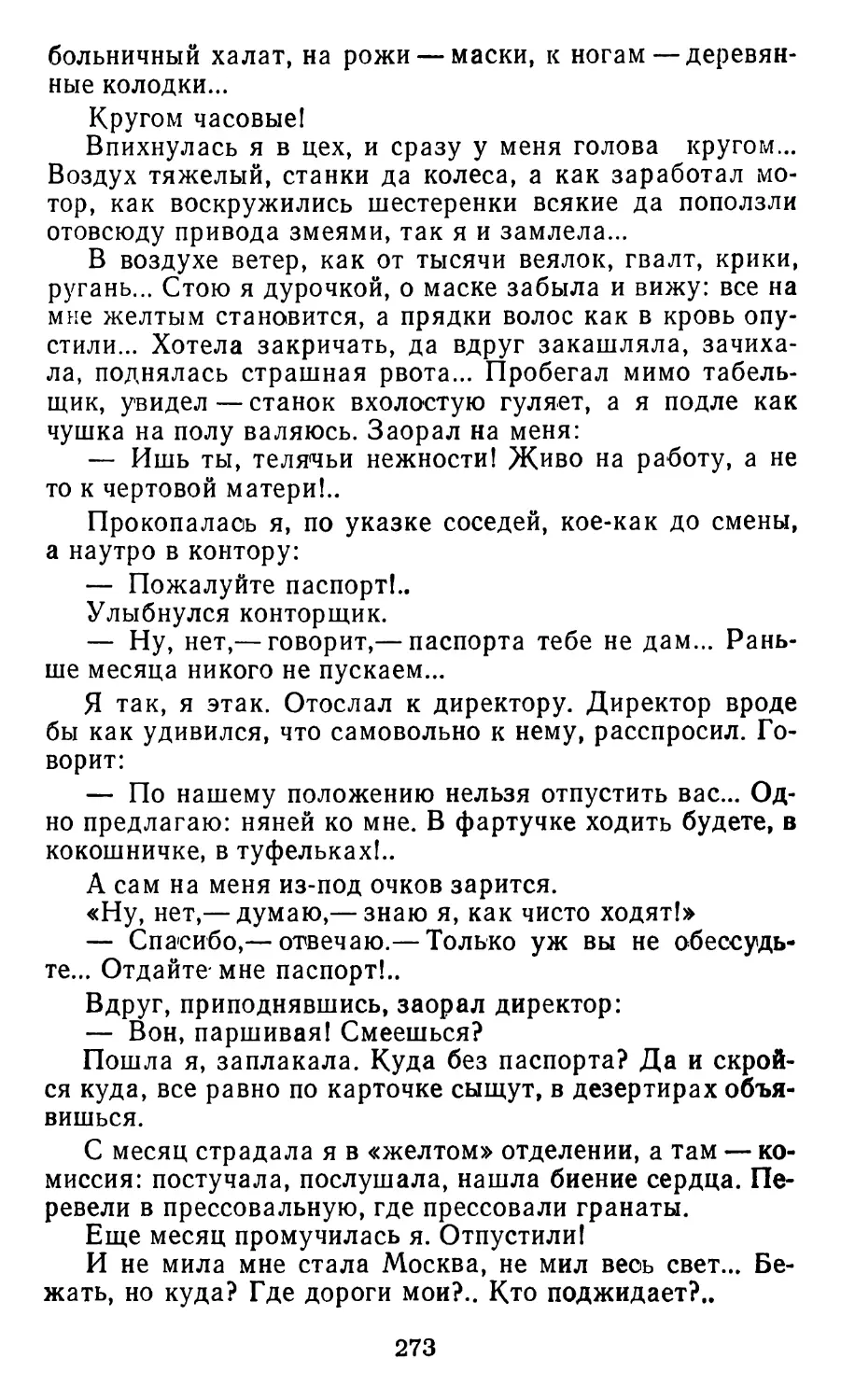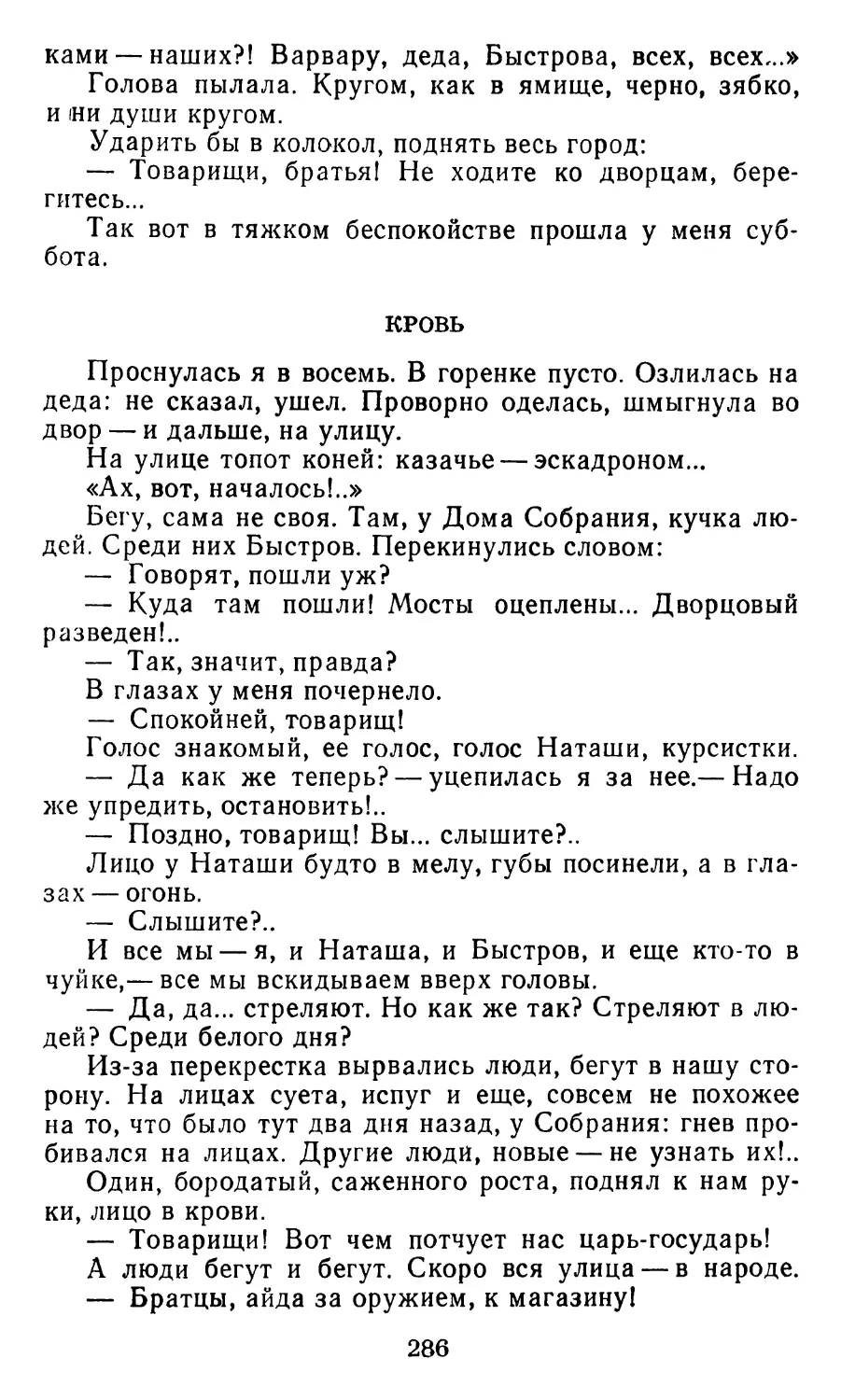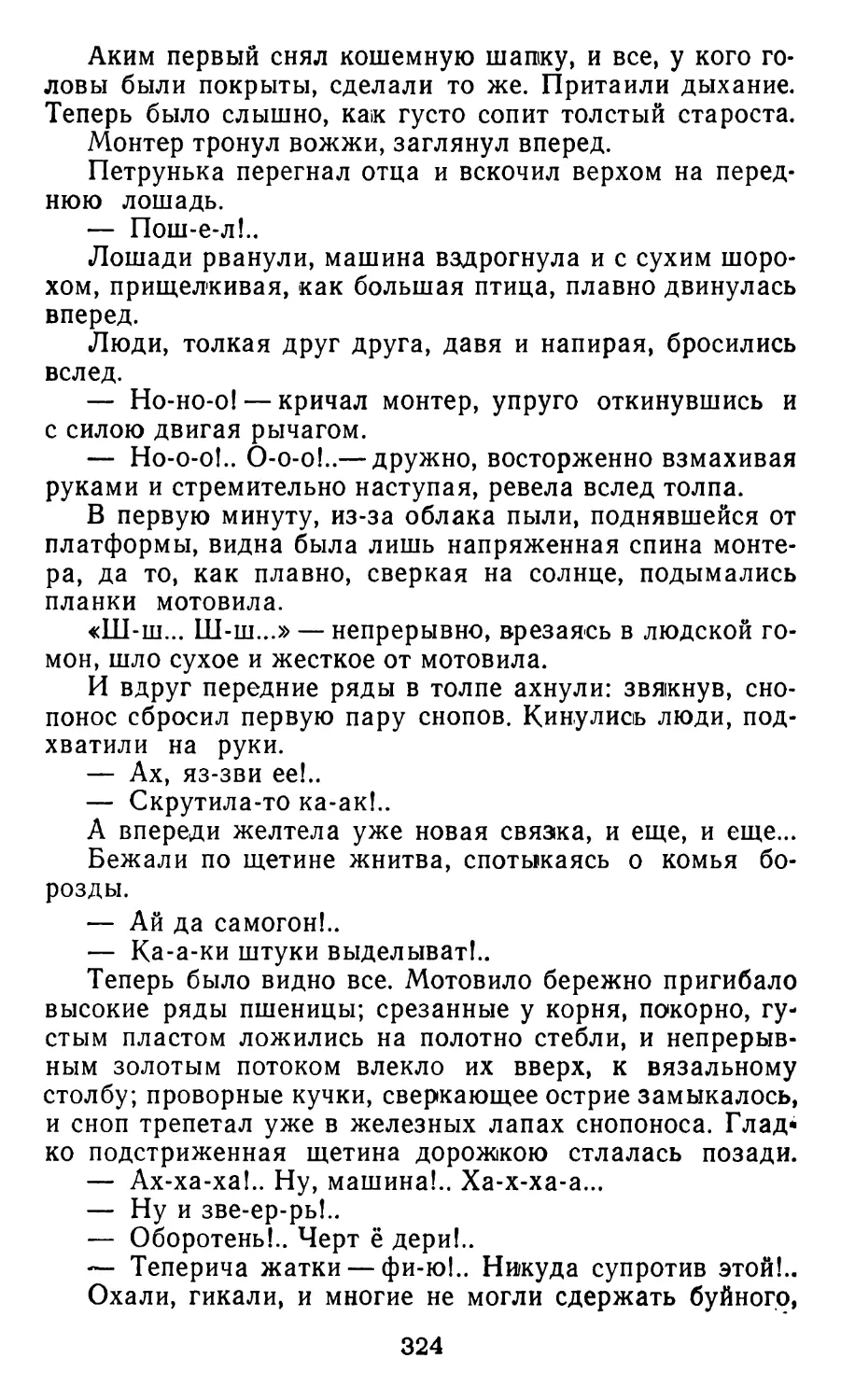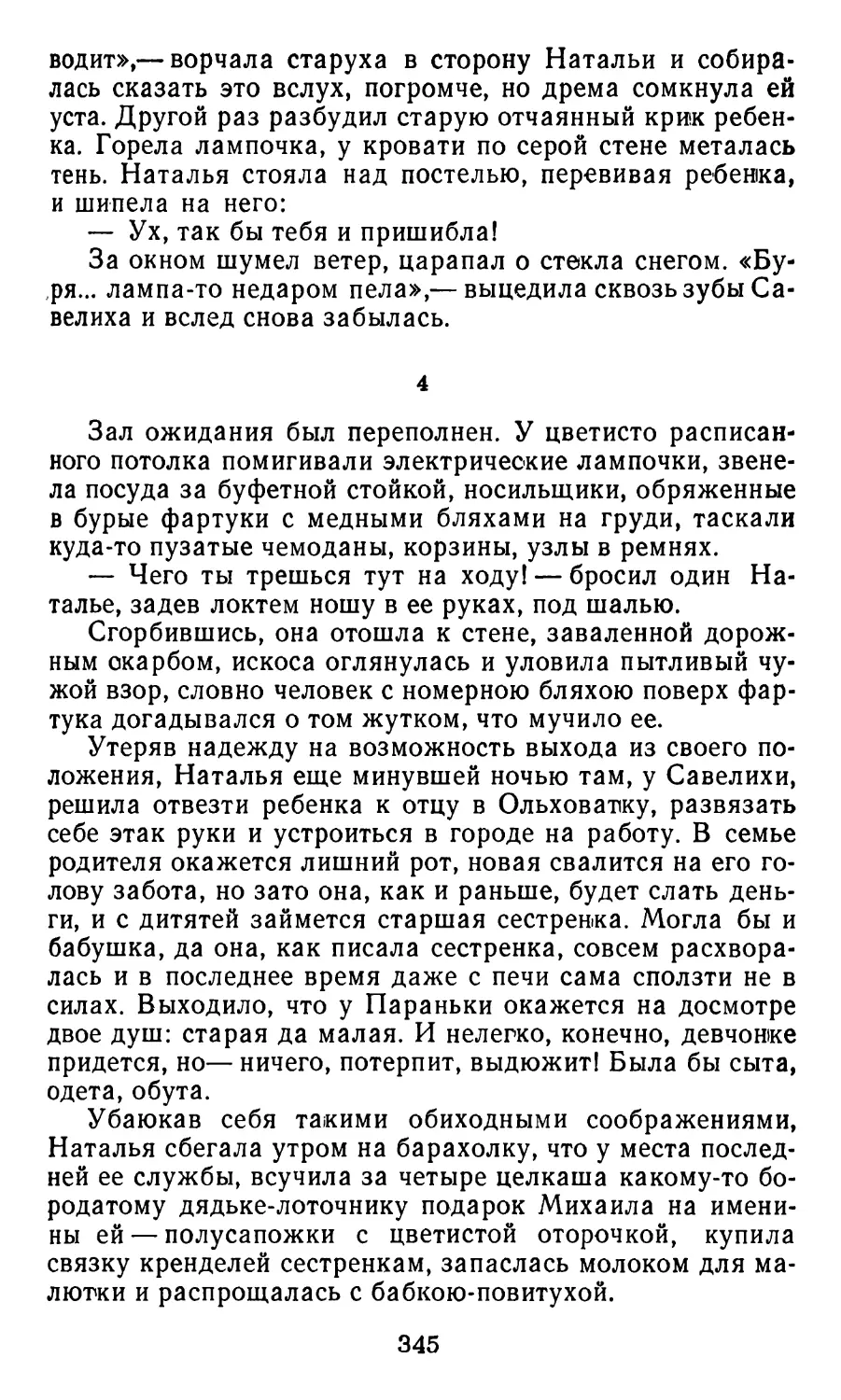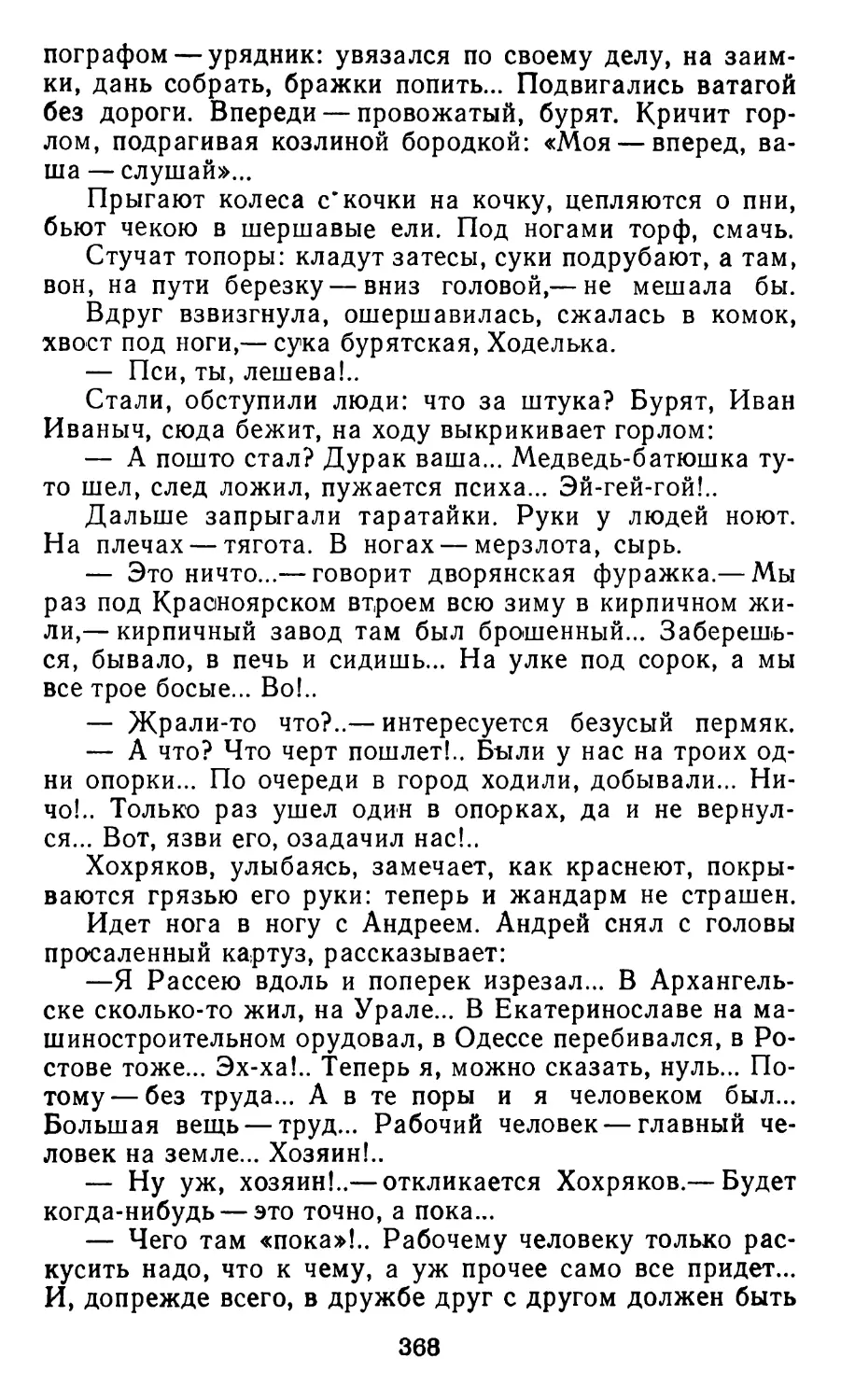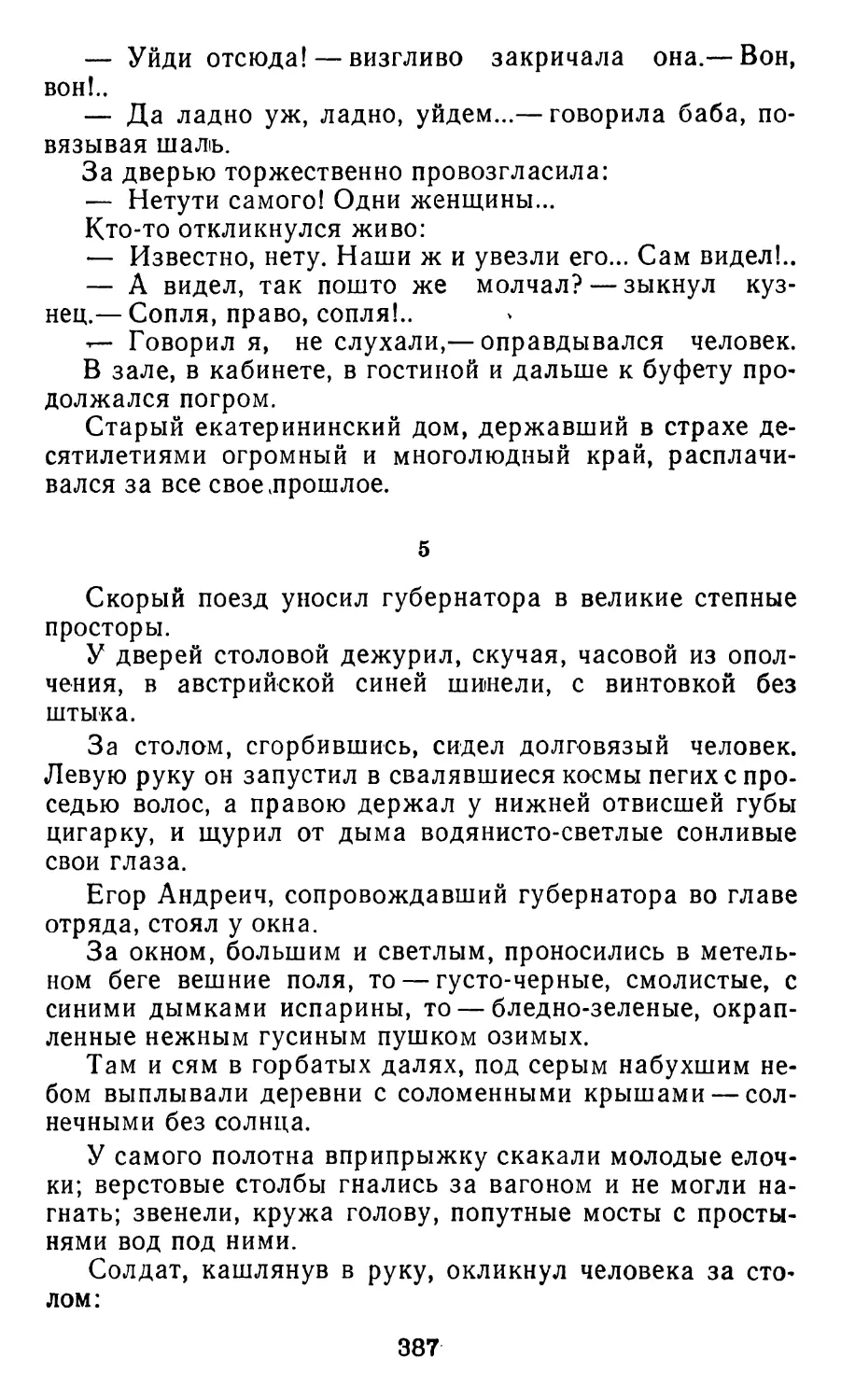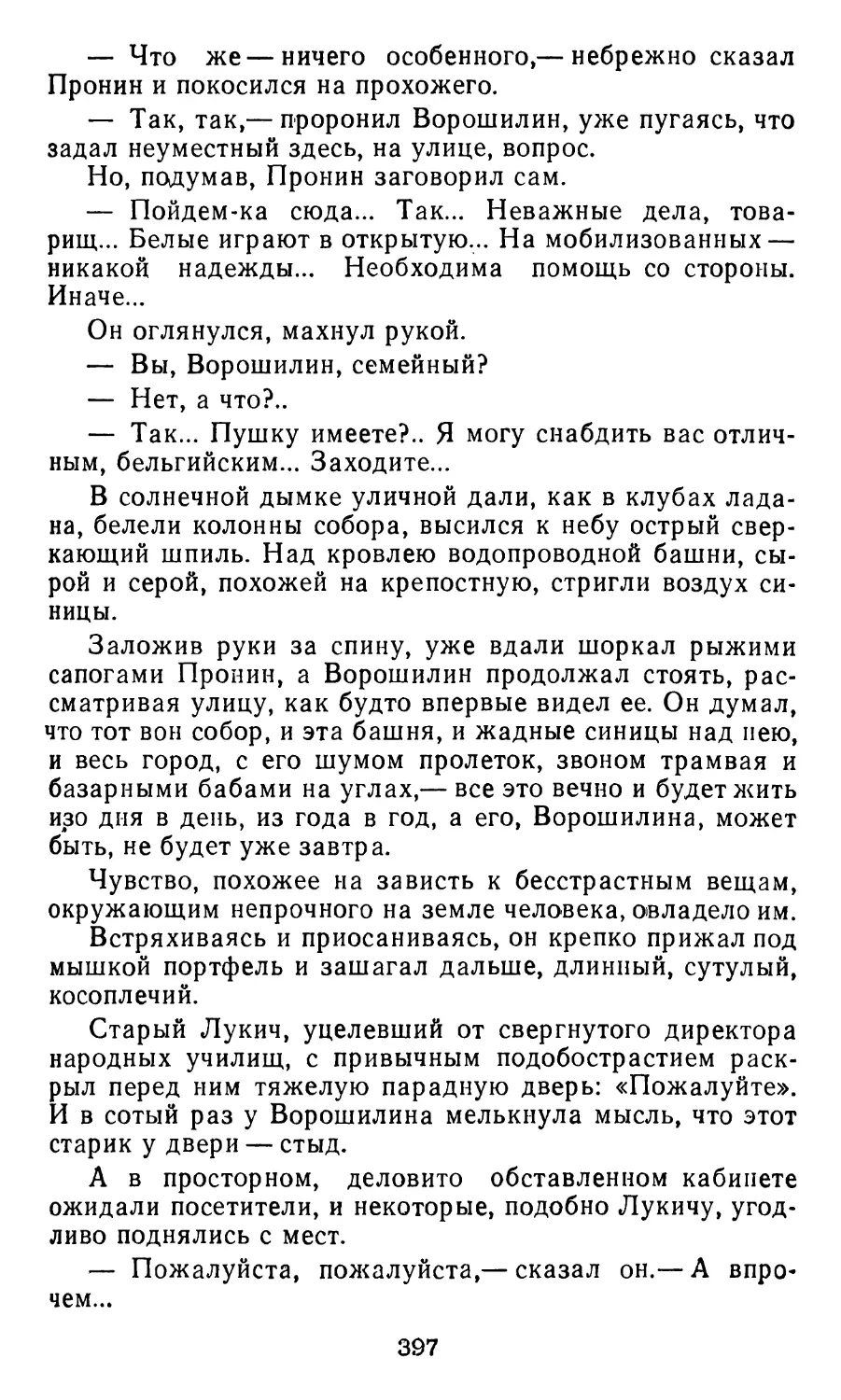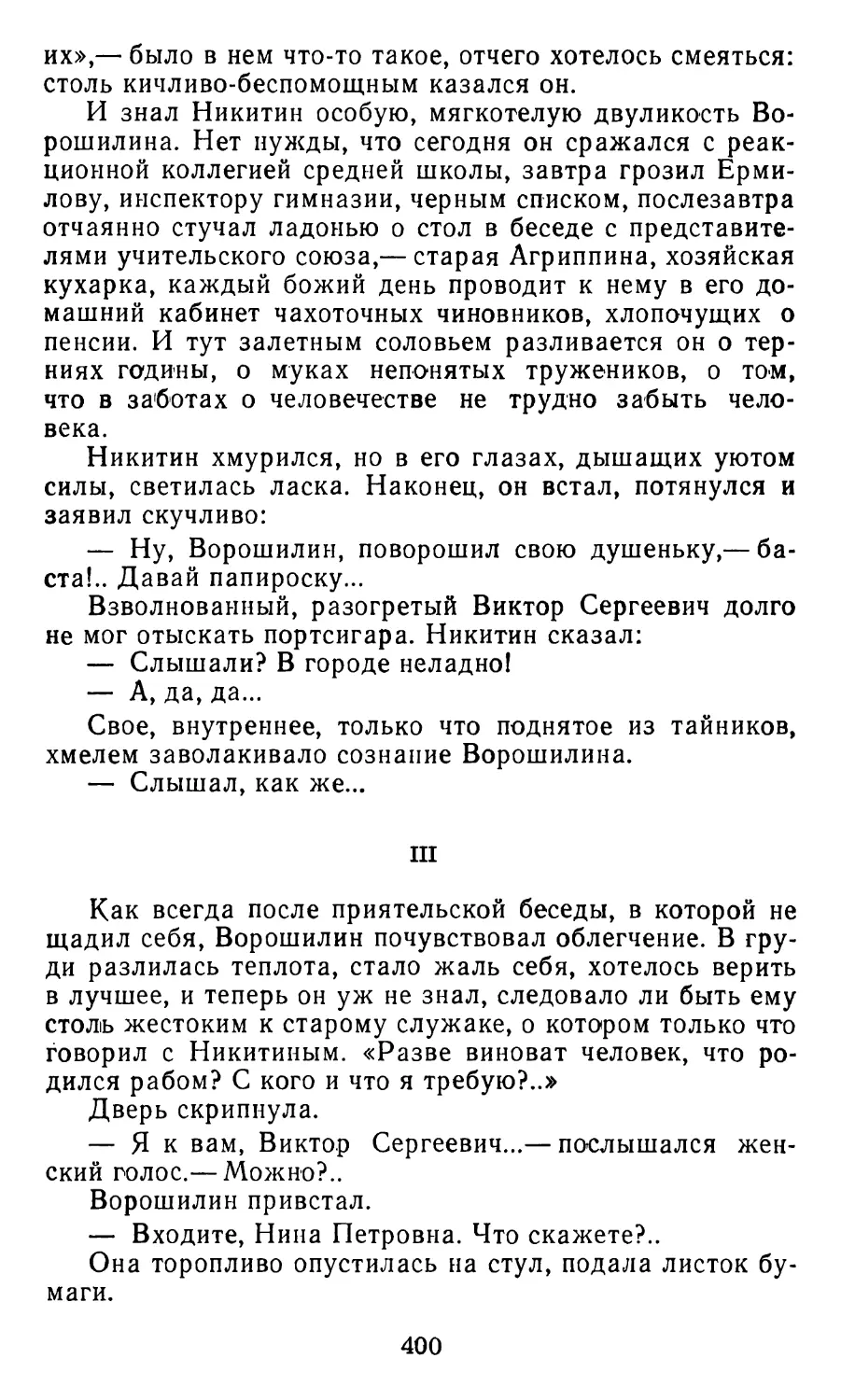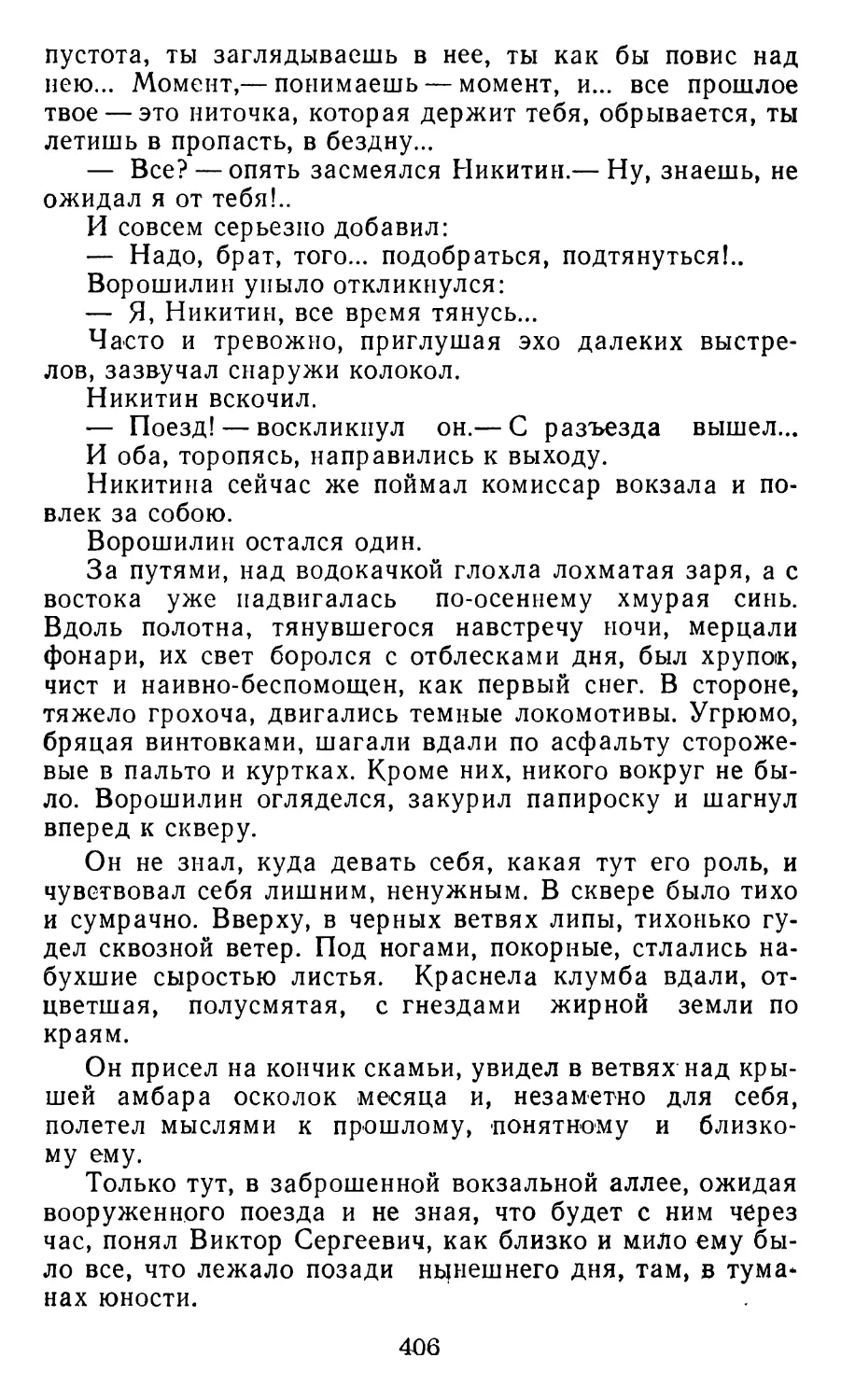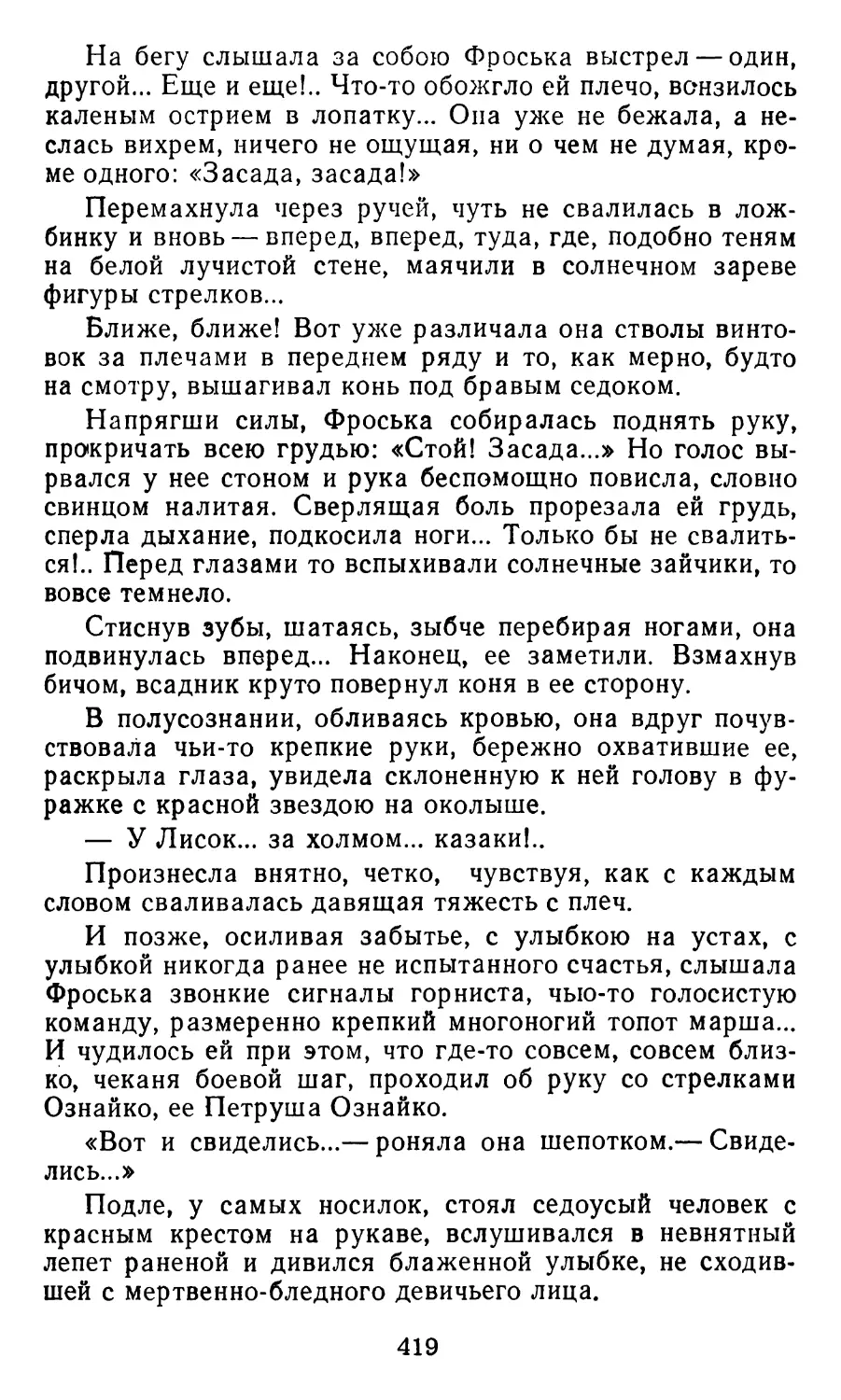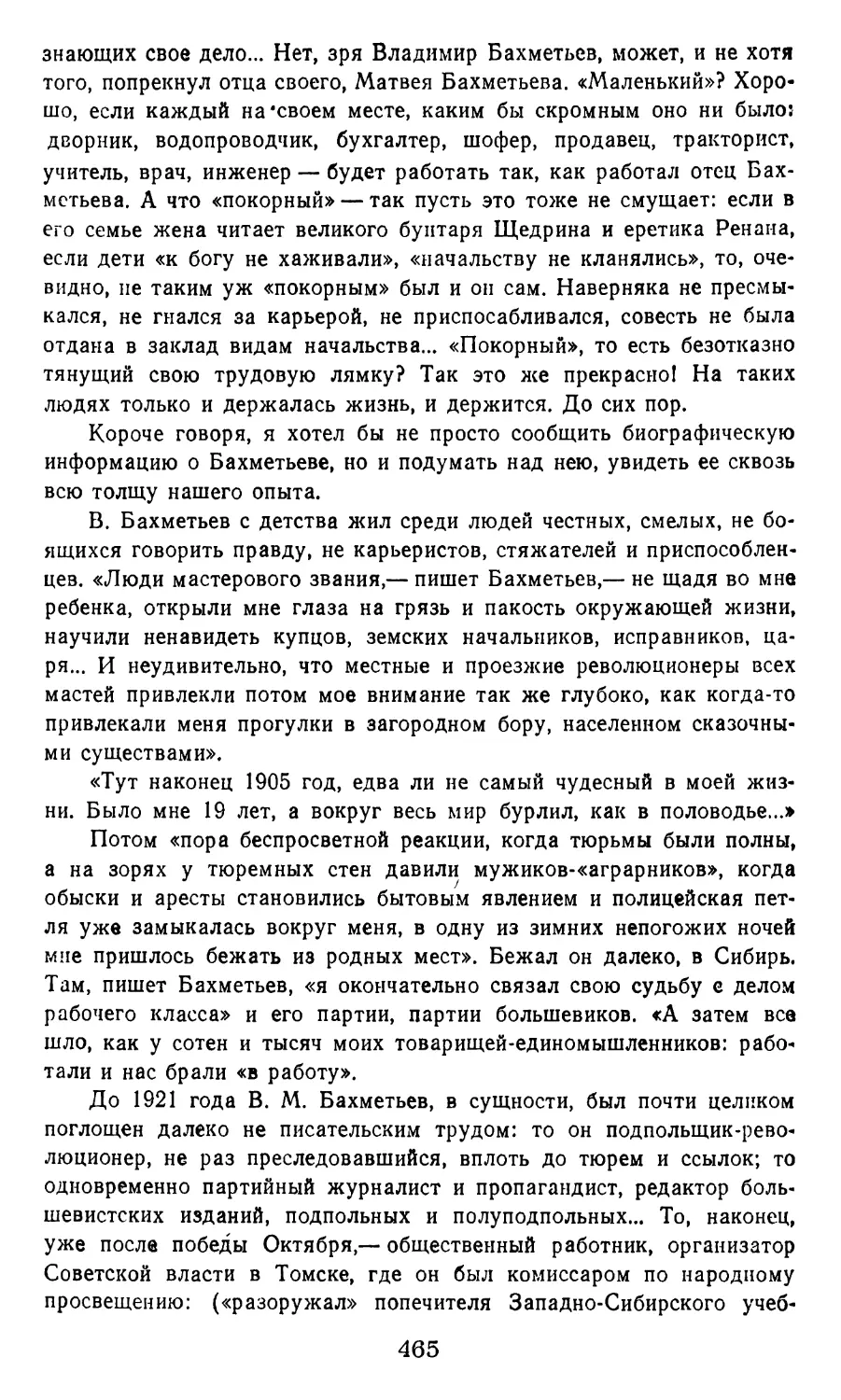Текст
В. БАХМЕТЬЕВ
Преступление
Мартына
РАССКАЗЫ
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989
84 Р 7
Б 30
Послесловие
В. М. Акимова
Иллюстрации и оформление
А. К. Я ц к е в и ч а
4702010200—1876 0Q
---------------1 о /о—о У
080(02)—89
© Издательство «Правда», 1989.
Послесловие. Иллюстрации.
^ПРЕСТУПЛЕНИЕ^
МАРТЫНА
I
Родом Мартын с Волги. Отец его — рыбак. Мать — из
богатой помещичьей семьи. Люди немало говорили о ди-
ковинной любви бледнолицей, изнеженной дочери поме-
щика к нищему рыбаку Баймакову. Будто началось это
у них с того случая, когда рыбак отважно спас девицу
от неминуемой гибели на реке в бурю. Буря захватила
помещичью дочь и ее спутников, двух баричей, в лодке,
на самой речной быстрине. Лодку опрокинуло, баричи,
спасаясь, бросились вплавь к ближнему островку, и тут
вот Баймаков, оставив у островка свои рыбачьи снасти,
поспешил на помощь несчастной. Он выхватил ее из
разъяренных волн и, полумертвую, доставил на руках в
усадьбу. С той поры был рыбак самым желанным гостем
у барышни, а когда он долго не появлялся в усадьбе, она
отправлялась к нему в поселок, уводила его к себе, а то
на кряжи в лес.
Сам Баймаков никогда не рассказывал Мартыну о его
матери, а если, случалось, дед Стратон заводил о ней
разговор, рыбак сурово одергивал старика на полуслове.
Был он, отец Мартына, первым в поселке — что по рыбо-
промыслу, что по молодецким ухваткам и писаной красо-
те своей, но отличался смолоду самонравным характером
и невесть чем объяснимой гордыней. Лишь много позже
горькая рыбачья доля попримяла молодца, и стал он, как
говорилось на улице, под стать всему сирому миру.
В годы, когда Мартын подрастал, кто-то, чья пышно-
волосая бурая голова с зеленоватыми дремучими глазами
напоминала голову старого медведя, не раз заглядывал
в рыбачью избу. Суровый и властный, в темном длинно-
полом сюртуке с белоснежной крахмалкой на груди, не-
знакомец усаживался в красном углу и подолгу, присту-
кивая о половицу посошком, гневно кричал что-то в сто-
5
рону кудлатого, угрюмо-молчаливого рыбака. Мартын,
таясь на полатях, следил за гостем, и было всегда страш-
но, что у того на пальцах, охватывающих бронзовый на-
балдашник, горела смертная бледность.
И вот в одно из посещений человек этот увез Мартына
к себе в усадьбу, и здесь малец провел не одну неделю.
Теперь отец, суровый и важный, приходил сюда, и опять
разгорался у него жаркий спор с человеком, похожим на
старого медведя.
В усадьбе Мартын окружен был множеством краси-
вых, ласковых вещей, но люди тут ходили за ним на цы-
почках, крадучись, и напоминали конепасов в степи, под-
стерегающих с уздечкой в руках необъезженных стригун-
ков. И особенно жуток был сам старик барин, который
то принимался целовать мальца, то выкрикивал над по-
нурою его головенкою злые, непонятные слова. Засыпая
в голубом шелковом пуху постели, Мартын не раз видел
склоненную к нему медвежью голову с влажными, стра-
дальческими глазами человека. Дрема покидала ребенка,
он вскакивал и, прижимаясь к стене, молча, в упор, гля-
дел на старика, пока тот, пятясь, не скрывался за дверью.
Тогда Мартын спускался с постели и, босой, в одной ру-
башонке, бродил по холодному и скользкому паркету,
приникал к темным огромным окнам, слушал, затаив-
шись, ночные шорохи пустынного барского дома.
Позже узнал Мартын, что старый владелец усадьбы
и отец вели из-за него чуть ли не со дня его рожения
тяжбу. Рыбак оставался непоколебимым. Победил он и
в тот раз, вернув сына в свою избу. Мальчонка справ-
лялся уже с вертким челноком, помогал родителю уста-
навливать рыбачьи снасти и выгружать добычу из них,
а вскоре дед Стратон, кержацкий начетчик, принялся
обучать внука по священным своим книгам грамоте.
Flo тут снова в жизнь их вторгся старый барин. Это
было вскоре после пожара, в котором едва не сгорел весь
рыбацкий поселок; остались без крова и Баймаковы.
О чем тогда беседовал с отцом гость из усадьбы, Мартын
не слышал; беседа велась в стороне от шалаша. Про-
водив барина, отец долго перебранивался с дедом, и тут
Мартын сообразил, что речь опять шла о нем. Дед Стра-
тон настаивал уступить барину, отец колебался, а когда в
разговор ввязался Мартын, твердя, что он ни за что не
вернется в усадьбу, рыбак ухватил сына за шиворот и
прибил его. И вот Мартын понял, что теперь-то уж его
обязательно предадут.
6
Так оно и сталось. На той же неделе обоз из барских
подвод доставил к шалашу рыбака гору свежеобтесан-
ного леса, а наутро воскресного дня, когда дед, сидя с
внуком за библией, укладывал в его память очередной
божественный сказ, подкатила пара коней. Из нарядного
шарабана вылез камердинер барина и покричал рыбаку,
возившемуся на срубе, что прибыл за мальчонкою. Отец
не спеша воткнул топор в гладко отесанное бревно, подо-
звал сына, сказал дрогнувшим голосом:
— Поедешь на житье к деду, в поместье.
На пути к усадьбе Мартын освободил руку из цепкой,
тяжелой руки камердинера и, удрученный, затих. Защи-
ты искать негде было, отныне он предоставлен самому
себе, а коли так, то...
— Ладно, ужо я всем, всем прижду!
В этом возгласе подростка камердинер Василий рас-
слышал угрозу.
— Ах ты, звереныш! — сказал он с упреком.— К род-
ному дедушке едешь, к счастливой жизни, а противишься!
Мартын молчал. «Нет,— думал он,— дед у меня
один — старый Стратон, да и тот отступился».
С чувством обреченности и горькой обиды переступил
он порог горницы, знакомой по первому подневольному
житью в усадьбе: холодный, как ледяные залысины на
Волге, паркет, огромные окна в глухой, сумрачный парк,
галочьи гнезда у маковок лип.
С той поры время как бы остановилось для Мартына.
За окнами, в усадьбе, день сменялся ночью, ночь — ут-
ром, лето — осенью, осень — снежными поволжскими ме-
телями, а жизнь в доме держалась, как гнилая вода в глу-
бокой заводи: не шелохнется, не двинется. По утрам жел-
товолосая гувернантка в кружевной наколке и круглых
очках обучала Мартына французскому языку, а попутно и
хорошим манерам; позже, к полудню, из соседней дерев-
ни приезжал школьный учитель и занимался с барчуком
по родной грамоте. Вечерами дежурная няня вела маль-
чика на половину деда. Старик допускал внука к руке,
пахнущей то ли имбирем, то ли мятой, усаживал его про-
тив себя и принимался рассказывать ему о русских и не-
русских городах, о морях и реках, о людях, какие жили
на круглой, как арбуз, земле, и о всяких знаменитых ге-
роях и путешественниках. Кончались уроки деда тем, что
внук засыпал в кресле, и его на руках уносил в постель
усатый камердинер Василий. К весне первого года житья
здесь Мартын уже не предавался внезапным, беспричин-
7
ным слезам, не вскакивал по ночам с диким воплем в по-
стели и не пытался бежать из дому. Последний побег его
хотя и увенчался успехом — он благополучно добрался в
родной поселок,— но через день, с зарею, отец увел пла-
чущего навзрыд сына обратно в имение, и с этого вре-
мени оборвались нити, какие еще связывали отца и сына.
Казалось, Мартын покорился судьбе. Он научился при
встречах с дедом шаркать ножкою, приветствовать его
на французском языке и ничем не выражать своей не-
приязни к этому осанистому, строгому старику, вечно
облаченному в темный длиннополый сюртук. А неприязнь
росла, переходя в ненависть ко всему, что окружало его
в доме самозваного деда. Обычно замкнутый, молчали-
вый, внук иногда позволял себе всякие бесчинства, и осо-
бенно доставалось от него гувернантке. Он нарочито ко-
веркал французскую речь и проделывал на занятиях та-
кие вещи, что однажды француженка, не выдержав, про-
кричала ему по-русски: «Негодный выродок, мужлан!» —
и хлестнула его по плечу линейкою. Этого было достаточ-
но, чтобы «выродок» выказал себя полностью. Он пере-
хватил из рук женщины линейку, сломал ее о колено и за-
тем обеими руками вцепился в букли своей наставницы.
Тут как раз в классную комнату заглянул дед. На той же
неделе француженки не стало в доме.
После этого случая все, кто услужал Мартыну, за-
метно избегали его, встречаясь с ним лишь по необходи-
мости, выполняя свои обязанности. Все живое, казалось,
отступило от него, он жил один на один, в пустоте, до-
вольствуясь всегда покорными ему мертвыми вещами.
Случалось, на весь день он скрывался в каком-нибудь
укромном уголке запущенного парка, и ему доставляло
удовольствие слушать призывные голоса слуг и не откли-
каться им.
Изредка, раза два в месяц, Мартын вынужден был,
обрядившись в праздничный костюм, выходить в гости-
ную, полную приезжих, мужчин и женщин. Впрочем, эти
нечастые вечера с визитами из соседних поместий по-
своему развлекали Мартына. Он подмечал обращенные
на него любопытные взоры, ловил кинутые украдкою
фразы о необыкновенной красоте мальчика, о «прелест-
ном даре несчастной любви» и прочем. Не без удоволь-
ствия вставал он по просьбе деда в кресло и читал на-
изусть что-либо из Пушкина. У него была удивительная
память, он мог, не сбиваясь, произносить большие куски
8
из «Руслана и Людмилы». Ему аплодировали, им восхи-
щались, женщины осыпали его поцелуями, и это продол-
жалось до того часа, когда какая-то дальняя родственни-
ца деда, белокурая толстушка, усаживалась за рояль.
Тут о Мартыне забывали, и он с завистью и обидой по-
сматривал из своего угла на музыкантшу. Как бы разга-
дывая настроение внука, дед подзывал его к себе, клал
ему на голову руку и что-то невнятно нашептывал. Может
быть, и впрямь самозваный дед любил его? Да нет же,
нет! Дед был и оставался чужим Мартыну. Мало того,
дед и сам не скрывал порою холодного недружелюбия к
внуку. В этом особенно убедился Мартын, заглянув од-
нажды с дедом в большой и пустынный зал, что вечно
стоял на зам1ке. Дед вел его сюда с тою молитвенной тор-
жественностью, с какою старый Стратон, начетчик, вхо-
дил с внуком в свою древнюю часовню. Недоставало лишь
крестного знаменья, которым обычно осенял себя Стра-
тон при входе в молельню.
Просторная, как каретный двор, зала была в белых
колоннах, и на стене ее, противоположной ряду окон, ви-
сели в потемневших золоченых рамах портреты дам и
кавалеров; иные были в париках, с голубыми лентами
через плечо и звездами на груди. Пройдя к самой боль-
шой и нарядной, осыпанной розами раме, дед опустился
на колени, а Мартын поднял голову и замер на месте,
встретившись с темными, влажно мерцающими глазами
юной женщины. Мартына поразили эти отуманенные не
то обидою, не то жалобой глаза — и неожиданная улыбка
на полных, ярких губах. Чудилось — глаза женщины пол-
ны слез, и ее улыбка походила на солнечный луч сквозь
пелену тумана.
— Это кто? — спросил Мартын и, не получив ответа,
пролепетал: — Она умерла, да?
— Да,— глухо откликнулся дед,— она умерла, даруя
тебе жизнь.
Похоже было, что старик плакал, но когда внук скло-
нился к нему, из-под вскинутых пегих бровей глянуло на
него что-то такое враждебное и жестокое, такое неутоли-
мо жестокое, что, вздрогнув, внук отшатнулся. Дед про-
тянул к нему руку, может быть с тем, чтобы опереться,
подымаясь с колен, ио Мартын, уже не владея собою, от-
пихнул старика и вдруг кинулся к выходу. И там, на по-
роге. услышал за собою дрожащий от гнева голос. Дед
послал вслед ему бранное слрво, то самое, какое сорва-
9
лось когда-то с уст гувернантки. И тут снова голову под-
ростка пронизала мысль о бегстве... Но куда и к кому бе-
жать, где укрыться?
В ту ночь, выждав, когда в доме все уснуло, Мартын
вылез через окно наружу, в парк, пробрался к беседке
у пруда и уснул здесь на ветхой, скрипучей скамье. Ему
снилось, будто он плыл с отцом по Волге в челноке и за
ними, преследуя их, бежал, прыгая с волны на волну, че-
ловек с медвежьей головою. Он рычал, как и подобало
зверю, а из пасти у него вырывалось розовое пламя, и все
вокруг было розовое — вода, небо, дальний берег. И на
берегу стояли люди, голосисто что-то кричали, но что —
разобрать было невозможно.
Проснулся Мартын от близкого говора и, открыв гла-
за, в просветах беседки увидел розовое небо.
Нет, то не было утренней зарею, ночь еще таилась
у ближних кустов, и там, под густым шатром старой ли-
пы, было совсем темно. Мимо, к пруду, шли люди, по го-
лосу Мартын узнал среди них камердинера Василия. Ва-
силий объяснял кому-то, что пожар этот не иначе, как в
усадьбе Алсуфьевых, и что там, пожалуй, опять мужи-
чье орудует. И еще донеслась к Мартыну фраза, заста-
вившая его насторожиться:
— Ну, теперь наши, вяземские, того гляди подымутся,
а подымутся — не миновать и нам беды!..
С этой ночи все в доме насторожилось, как перед близ-
кой опасностью, дед сделался беспокойным, не спал по
ночам, бродил из конца в конец поместья, подозрительно
вглядывался в лица своей челяди и на внука не обращал
внимания. Забывали о Мартыне и те, кто услужал ему.
Теперь он мог покидать постель когда хотел, идти ку-
да хотел, заниматься чем угодно. Учитель из соседней де-
ревни запаздывал на занятия, а однажды и вовсе не явил-
ся. Все это было ново и волновало Мартына, как если бы
не сегодня, так завтра жизнь его должна была переме-
ниться, и тогда... Он еще не представлял себе, что будете
ним дальше, как не представлял вполне и того, что проис-
ходило за границами усадьбы. Напрасно пытался он
вслушиваться в разговоры, заходить чаще в дворовую.
Его под каким-либо предлогом гнали прочь или в самый
разгар беседы умолкали. Между тем он спал и видел ту
самую беду, о которой Василий говорил в памятную ночь,
при пожаре у соседей. В чем точно заключалась беда,
он не знал, но догадывался, откуда она идет, кто ее несет.
10
Это весь тот неохватно огромный мир, что начинался за
воротами усадьбы, пролегал через рыбацкий поселок и
терялся в синих далях, среди деревень... Ах, если бы по-
быть сейчас у отца, послушать деда Стратона, потолкать-
ся среди людей, на берегу! В эти тревожные недели
у Мартына переменились как будто и мысли об отце, дрог-
нула, начала таять неизбывная до того обида на него.
Порою Мартыну даже чудилось, что то, о чем в людской
говорили как о беде, не могло быть бедою там, в рыба-
чьем поселке, и — кто знает? — быть может, отец Марты-
на, как и он, Мартын, только и ждал того, чтобы беда
грянула над поместьем деда.
Как-то под вечер в передней послышался Мартыну
голос отца, прежний грозный голос, перед которым от-
ступал старый барин... Но нет! Голос принадлежал со-
всем (незнакомому человеку, которого Василий торопливо
провел на половину барина.
— Исправник к нам пожаловали,— сообщил камерди-
нер встревоженному мальцу.
Шли дни — отец не показывался. Зато в усадьбу при-
была и расположилась как дома ватага стражников с вин-
товками. Близилась осень, все реже полыхало деревен-
скими пожарами ночное небо, и снова — час в час, мину-
та в минуту — являлся учитель, и, как раньше, гудел
праздничный говор в гостиной, гремела музыка белоку-
рой толстухи, ощупывающе приглядывались к Мартыну
те, что встречали его в доме впервые. За окнами, среди
сизой мглы, крутила поземка... Ночь надвигалась, жут-
кая, без просвета, ночь.
Усадьбу деда Мартын покинул, когда ему шел четыр-
надцатый год. Воспользовавшись отъездом старика на
кислые воды Кавказа, он выбрался из усадьбы, жил с не-
делю у отца, ухаживая за тяжко больным дедом Страто-
ном, похоронил его и пешим направился к ближней тор-
говой пристани. С отцом у него все было кончено. Остава-
ясь в пятьдесят лет бравым, плечистым красавцем, отец
сошелся с молодою вдовой из соседних хуторов и успел
завести новую семью.
Мачеха, провожая пасынка, даже не поинтересова-
лась, куда же, собственно, он столь внезапно, не ожидая
возвращения отца с рыбалки, собрался: назад ли, в
усадьбу, или еще куда? А сборы у мальчонки были ко-
роткие: уложил в суму пару белья, вынесенного из усадь-
бы, краюху ржаного хлеба с десятком печеных картошек
11
да складной нож покойного деда, на память о нем,— вот
и все тут.
Потолкавшись сутки на пристани, Мартын устроился
на пассажирский пароход кухонным мальчиком. Движе-
ние взад-вперед по Волге пришлось ему по душе, и он
снялся с парохода лишь поздней осенью, в Нижнем.
Жизнь впроголодь на побегушках у пьяницы-жестянщи-
ка понудила его перебраться в Сормово, где ему удалось
поступить на судостроительный. Работая учеником в ре-
монтном цехе, он сошелся с заводской молодежью, посе-
щал подпольный кружок, был с листовками местной ор-
ганизации большевиков захвачен, арестован и, несмотря
на зеленую юность, выслан на дальний север.
В ссылку Мартын Баймаков пошел об руку с завод-
ским коноводом, старым партийцем по кличке Черного-
ловый. Кличка эта как нельзя лучше маскировала Миха-
ила Иваныча, так как с молодых лет голова у него была
седоволосою. К Мартыну присмотрелся Михаил Иваныч
еще на заводе, и теперь, прибыв на место подневольного
житья своего, он поселился в одной избе с ним и занялся
его образованием. Ученик оказался задачливым, выказав
такие успехи, что уже в конце второго года, в разгар вой-
ны с Германией, ему было разрешено выступать «затрав-
щиком» в боях с меньшевиками-оборонцами.
Выглядел Мартын к тому времени богатырем, однако
его сила и молодость оставались обычно в тени. Он как
бы прятал от людей и свои ярко-синие, брызжущие ра-
достью существования глаза и свои развернутые упруги-
ми крыльями плечи. Только в схватках с «оборонцами»
Мартын преображался и не сдерживал своего крепкого
голоса, не стыдился щедрого дара волжской природы —
могучих плеч своих. И тут не столько его слушали, сколь-
ко на него глядели. А женщины заглядывались.
Но женщины для Мартына еще не существовали. Он
избегал их. Их внимание не трогало Мартына. Часами
просиживал он за книгой, по целым суткам пропадал в
глуши тайги. Будничные беседы его с людьми были ред-
ки и скупы. Исключением являлись занятия с Черного-
ловым, полные жарких разговоров, а нередко и споров.
Так они и жили вдвоем, далекие от повседневных люд-
ских радостей, оба сдержанные, сосредоточенные в себе:
один — потому, что давно пережил свою юность, другой —
благодаря ей.
12
Впрочем, Михаил Иваныч не всегда одобрял склон-
ность Мартына к одиночеству, а скитания парня в тайге
вызывали у Михаила Иваныча даже тревогу.
— Не забывай, Мартын: человек есть животное обще-
ственное... Эх, маловато ты побыл у нас в цехе!
Этими словами Михаил Иваныч не раз встречал уче-
ника, когда тот возвращался из неведомого таежного ми-
ра. Но продолжать попреки Михаилу Иванычу не удава-
лось, так как Мартын молча отворачивался и только
краснел. Краснел он по-девичьи густо, до самых корней
волос, при этом опускал глаза, а в белесой чаще его рес-
ниц мог бы утонуть и смертный грех.
Черноголовый прищуривался под стеклом своих оч-
ков, складывал трубочкой губы, легонько насвистывал.
— Странный ты парень...
У Мартына и впрямь были странности. Он, например,
не выносил вовсе, когда в спорах с инакомыслящими со-
циал-демократами Михаил Иваныч вмешивался в его,
Мартына, слово, поправлял, подсказывал. Он так не вы-
носил этого, что нередко смолкал на полуфразе и потом
долго ходил темный и горестный. Но было у Мартына и
еще кое-что: он делал не всегда то, что считал возмож-
ным и доступным для себя, у него была тяга к необыч-
ному, непреодолимому.
Началось еще в раннем детстве.
Если отец шутки ради ставил, бывало, его у весла
струга,, зная наперед, что такая работа мальчонке не под
силу, Мартын с ожесточением накидывался на весло и
злобно, в слезах, боролся до последних сил. Будучи
побежден, опускался с плачем на днище и, если над ним
смеялись, готов был вцепиться зубами в икры босых от-
цовских ног.
Когда у Мартына являлось желание переплыть Волгу
с берега на берег, а сам он в это не верил и весь холо-
дел от предчувствия беды, никакая сила не могла уже
удержать его. За безрассудные такие упражнения отец
не раз бивал сына, но тот продолжал свое, уходя вверх
по течению, подальше от поселка. И тут рыбак Байма-
ков узнавал в сыне кого-то чужого и желанного — кого-
то, кто много лет назад ворвался в его жизнь и чуть не
спалил ее.
— Хоть лыком шит, да барин,— говорил он загадоч-
но-сурово о сыне.
13
И был еще случай в бурю на Волге. С утра в тот
день рыбаки убрались вниз по течению, к своим снастям.
В поселке оставались женщины, недужные старики да
малые ребята. Когда в сумерках налетела нежданно гро-
за и подул долгий ветер, на берегу поднялась кутерьма.
Был час возвращения рыбаков, женщины с трепетом
вглядывались в почерневший, гремучий волжский прос-
стор. Мартын стоял среди них, вслушивался в пушечные
гулы вод и дрожал от стужи. Огромная ладья скреже-
тала днищем по гравию, волны ворочали ее с боку на бок.
Лил черный дождь, ветер трепал воздушные потоки, бро-
сал их пригоршнями в лицо. Порою бесшумно вспыхива-
ла молния, и тогда заречная даль раскрывала темную
пасть, оказывала тот берег и вновь его проглатывала.
И вдруг в речной гул, царапая его, ворвались визгливые
крики женщин. На зыбучем речном горбу обозначились
рыбачьи челноки; загруженные богатым уловом, они ска-
кали па волнах, как подшибленные птицы.
— Наши! — закричал Мартын и бросился к воде, но
люди остались равнодушными к его радостному воплю.
При новом сполохе молнии было видно: скачут чел-
ноки на одном месте, точно кто-то привязал их там. Про-
летала минута за минутой, много улетело минут, а чел-
ноки плясали на том же месте, и лил черный, густой
дождь, и в зеленых зарницах широко распахивались и
вновь смыкались немые заречные дали.
Мартын понял: челнокам берега не поймать. И еще
ранее его поняли это взрослые, метавшиеся теперь вокруг
ладьи. Услышав глухой стук весел, Мартын с разбегу
ухватился за борт у самой кормы. Ладья, шатаясь, дви-
нулась в воду, вода захлестнула босые ножонки, Мартын
кричал, но вой реки был сильнее его крика.
До сих пор помнит Мартын этот бурный на реке ве-
чер, свой ужас, когда повис он у кормы над черною, ки-
пучею глубью, и тот восторг, который пред тем мгновен-
но ослепил его и бросил к воде, вслед за ладьею. Было
такое, точно люди, снаряжавшие ладью, спешили от не-
го, Мартына, прочь, на диковинный, одним им доступ-
ный тайный пир, и он ненавидел их, не замечавших его,
прятавших от него что-то самое страшное и самое чу-
десное, из-за чего стоило кинуться в бешеные волны,
столкнуться грудью с бурей, рискнуть головою.
Все это, сложное, переживал Мартын не раз впослед-
ствии, когда вспоминал о буре в тот вечер на Волге. Тог-
14
да же, бросившись за ладьею, он чувствовал только не-
укротимый восторг.
Древний, позеленевший от времени дед Стратон, тот,
что еще помнил тайные скиты за Жигулями, увидел
мальчонку, повисшего у борта, кинулся в воду и взывал,
приложив руку к беззубому рту. Но ишкто не слышал его.
Ладью уносило от берега; в ладье видны были людские
головы, похожие на поплавки. Поплавки эти то по-
дымало над очертаниями дальнего берега, а то втягива-
ло вглубь, в зелено-бурую яму.
Мартын уцелел. Об отчаянном отроке долго потом
говорили, приглядывались к нему: откуда такой, с чего у
него такое? Немало было в поселке рыбаков, которые
знали необычную историю появления его на свет, и это
подогревало внимание к нему и к его ребячьим выход-
кам. Будто по уговору, люди выделяли его среди сверст-
ников, да он и сам не очень-то лепился к ребятам. Улица
была чужда ему, даже в играх он оглядывался на взрос-
лых.
— Ну и ну! — говорили рыбаки, слушая очевидцев
того, что было с мальцом в бурю на реке, и провожали
его долгим взором, словно утверждая про себя: от таких,
мол, всякое можно ждать. И вот еще о ту пору в сердце
Мартына запала горючая капля. И чем дальше шло вре-
мя, тем глубже въедалась огневая капля, тем острее ста-
новилась боль и тем нетерпеливее вглядывался он в гря-
дущее.
Кто скажет, почему Мартын, новый, большой, отве-
давший Марксовой мудрости, любил подолгу шататься в
тайге? Не потому ли, что тайга пугала его и он, как всад-
ник, почуявший под собой взбешенное животное, напря-
гал все силы, чтобы победить?
— Странный ты парень! — говорил Михаил Иваныч
и с нескрываемым огорчением предостерегал: — Человек
в одиночку не сильнее, Мартын, мыльного пузыря...
— Знаю,— угрюмо кидал тот.
— А знаешь — так в чем же дело? — подхватывал
Черноголовый.— Нет, дружище, надо не только знать, но
и следовать в жизни тому, что стало твоим знанием, не-
опровержимой для тебя истиной!
— Истиной?! — восклицал все так же хмуро Мартын
и добавлял не без задора: — А кто мне внушал, что для
нас, материалистов, нет вечных, обязательных для всех
истин?
15
— Не передергивай, друже! Истины, как правила по-
ведения, имеют, разумеется, классовую природу, связа-
ны с жизненным укладом, понятиями, навыками среды.
Но... что такое среда? Для мещан из буржуазии — это
сборище окружающих тебя одиночек, готовых в любом
случае подставить тебе ножку, одурачить, поколебать
самую опору твоего благосостояния... Не то, голубь, на-
ша с тобой среда! Здесь уже не компания независимых
личностей, не артель конкурирующих меж собою куста-
рей, не стая волков... Здесь могучий и мудрый — да, да,
мудрый! — коллектив, в котором человек человеку не
враг, а друг, друг до конца: в борьбе, в радостях и несча-
стьях. И уж тут,— прости меня,— нельзя жить и действо-
вать в одиночку, на свой страх, не считаясь с общими
интересами...
Михаил Иваныч мог продолжать без конца, у него эта
склонность к обобщениям, к выводам по всякому пово-
ду сложилась издавна, в долгие годы тюремных заточе-
ний, когда работа мысли заменяла ему жизнь в движе-
нии, в общении с людьми.
Теряя терпение, Мартын прерывал его:
— Иваныч! К чему все это говорится?
— К чему? — повышал Михаил Иваныч голос.— А хо-
тя бы к тому, что не всем дано слушать, понимать и по-
ступать, как следовало бы... Взять, к примеру, того же
Мартына Баймакова! Дело в том...
— Дело в том,— вновь прерывал его Мартын,— что
каждый из нас — не автомат, не машина! Понятия — по-
нятиями, а сердца со счета тоже не выбросишь.
— Словом, ты, кажется, не прочь петь по старой по-
гудке: разум-де разумом, а сердце — на особицу... Меж
тем, для нас, последовательно мыслящих, человек един
в своем многообразии, если только, конечно, он... не упо-
добляется судну, лишенному кормчего.
— То есть?
— То есть, если мы живем и действуем в согласии с
разумом и не пытаемся вступать с ним, под влиянием то-
го или. иного волшебного наития, в единоборство! А что
у некоторых сие случается, о том ты знаешь не хуже
меня.
— Это что... намек? — Мартын вскакивал с места и
принимался шагать из угла в угол, отчего в темной, про-
копченной избе становилось совсем тесно, как в клетке
с запущенным в нее четвероногим царем тайги.
16
— Сядь,— спокойно произносил Михаил Иваныч,—
и не горячись. Я не склонен обращаться к намекам в дру-
жеской беседе. Просто я полагал, что ты сам припомнишь,
в виде примера к нашему разговору, кое-что... из своей
практики.
— А ну? — вызывающе вскидывал Мартын голову.
— А ну, взять хотя бы это... приключение с нашими
листовками!
Мартын размашисто усаживался за стол и взбрасы-
вал руку, зажатую в кулак, как бы собираясь грохнуть
им о крышку, но вслед разжимал пальцы, и в его гла-
зах, обращенных к Черноголовому, проступала сумеречь,
а в этой сумеречи — режущие лучики обиды.
— Эх...— вздыхал он всею грудью.— Ты говоришь об
этой истории так, словно я совершил тогда что-то под-
лое... подвел товарищей, выдал заветное!
Михаил Иваныч снимал очки и, устало помаргивая,
улыбался.
— Ни то, ни другое, ни третье, Мартын! Просто ты
перехватил тогда через край! Решил действовать на пять
с плюсом, а от тебя требовалось всего-навсего точное вы-
полнение поручения... Припомни-ка, пожалуйста, наказ:
ты идешь с листовками в свой цех, выжидаешь часа пе-
рекура, уединяешься с соседом по станку и передаешь ему
свое сокровище — всю пачку! А тот, оставшись в ночное,
на сверхурочную, доделывает все остальное... Не так ли?
Вместо того ты отдал соседу четверть пачки, а три чет-
верти...
— А три четверти,— подхватывал, волнуясь, Мар-
тын,— я сумел рассовать у себя в ремонтном, плюс —
в литейном, плюс — у формовщиков. За какую-нибудь
пару часов я проделал работу, какой нам хватило бы на
неделю. А время-то было какое: из горячих горячее!
И разве я струсил? Разве я действовал в своих интере-
сах? Разве...
— Стой! Стой! Никто не винит тебя в трусости, но ты
отступил от наказа — и попался!.. Не так? Ну, будь ум-
ницей, голубь мой, проверь себя хорошенько и дай пря-
мой ответ: что же, что именно побудило тебя в случае
с листовками этак действовать?
Мартын отмалчивался. Пойманный, разгаданный так
вот, на лету, он стискивал крепко уста и молчал, краснея
до корней волос, пряча в густой чаще ресниц своих все,
что еще не было Черноголовым понято.
17
п
О Михаиле Иваныче одни говорили, что человек он
односторонний, сухой. Другие, напротив, считали его глу-
боким и многогранным, но скрытным, вовсе не желаю-
щим, чтобы о нем знали больше того, что следовало
знать... для дела. Так или иначе, жил он несомненно без
больших личных радостей, но и без особого, обычного у
людей утонченно-чувствительных, страха.
Когда-то, лет этак пятнадцать назад, Михаил Иваныч
раз и навсегда отмахнулся от всего, что связано было с
диким хмелем любви, с волнениями семейного очага. Мо-
жет быть, в этом повинны были вечное кочевье, тюрьма,
подполье. Однако знавшие Черноголового ближе говори-
ли, что не последнее место в развитии у него свирепого
аскетизма занимала женщина. Называли даже некую
Розу Гринберг, слывшую одно время на юге социал-де-
мократкой, а на поверку оказавшуюся неисправимой
анархисткою. Это она, Роза Гринберг, в шестом году уча-
ствовала в столь нашумевшей на юге экспроприации,—
дело, окончившееся для нее смертным приговором, а для
Михаила Иваныча — потерю веры в то непорочное, что
составляло по тому времени личное счастье.
Но если радости любви были Черноголовому чужды,
то как можно было предполагать, что и от других мно-
гих очарований жизни отвернется он!
Тут вот ученик и расходился со своим учителем.
В конце концов не диво удержаться от шумной пи-
рушки, от медовой, слишком крепкой бражки, от востор-
гов спора (достаточно всегда бестолкового). Но как от-
казаться от белой северной ночи, когда так восхититель-
но мчаться на лыжах по лунным сугробам, подставлять
морозному полымю щеки и думать только о том, что ты
молод, силен и свободен, свободен в эту минуту, как соха-
тый... Право, это же все совершенно невинные вещи, и к
чему тут ядовито прищуренные глаза и губы, сложенные
трубочкой, готовые вытолкнуть новое, очередное поуче-
ние, вроде: «Безделье и мелочи — паутина жизни»?
А разве упражнения, проделываемые Черноголовым
по утрам,— не безделье?
Выбраться из-под теплого одеяла на студеный пол
в одном белье, размахивать чинно руками, поворачивать
с видом священнодействия из стороны в сторону голову,
вдыхать и выдыхать, приседать, как последний маль-
чишка, на карачки! От всей подобной ерунды можно или
18
отвернуться с досадой, или расхохотаться... Или вскочить
с постели, натянуть одежонку, всунуть ноги в мокасины
и удрать на весь день в заимку к Петровану Ожерелину,
у кого нет на полках ни Маркса, ни Лассаля, ни Бебеля:
все ведь хорошо в меру!
Мартын многое как должное принимал в своем на-
реченном батьке — и поджатые его усмешечки в разгово-
рах лирических и бесстрастные его назидания вообще.
Даже эта гимнастика у постели прощалась Михаилу Ива-
нычу. Но простить ему последние недели ссылки было не-
возможно.
Просто удивительно, как мог этот еще далеко не ста-
рый человек, каких-нибудь десяток лет назад восторгав-
шийся по случаю разбитого носа у слишком зарвавшего-
ся шпика, столь спокойно встретить первые вести о рево-
люции и затем, когда эти вести подтвердились, с такою
неодолимой настойчивостью заняться здесь, в заброшен-
ных к черту на кулички деревушках, организацией собра-
ний, бесед.
С утра до ночи возиться под сумрачным морозным не-
бом с ватагою волосатых звероловов, когда там, в горо-
дах, поднялся весь пролетариат и зачинает небывалые
бои... Нет, все что угодно, только не это!
Однажды, потеряв терпение, Мартын сказал Черно-
головомуГ
— Ну, батька, я завтра ухожу.
Ца дворе стояла весна. Бледный, замороженный ап-
рель сменился солнечным маем, а дороги только что тро-
нулись, река еще забита была льдом.
— Ухожу! Слышишь? — повторил Мартын и полез под
койку за своим сундучишком.— Завтра же!..
Михаил Иваныч слышал, но сразу не откликнулся. Он
сидел за столом над своей замызганной, в холщовом пе-
реплете тетрадью и старательно вписывал в нее дела и
мысли за прожитый день (вот еще чудачество у сорока-
летнего человека!).
— Так ты уходишь? — произнес, наконец, Михаил
Иваныч, приподняв голову и насторожившись.
— Обязательно!
— Но как же так, Мартын? Река в оковах, до ближ-
ней станции добрых полтысячи верст!
Мартын с ожесточением двинул сундучком по полу.
— А черт с ними, с твоими станциями, пароходами,
паровозами! Пешком пойду...
19
Михаил Иваныч обернулся. Глядел на Баймакова из-
под очков, слегка набычившись, и губы его, что-то на-
свистывая, складывались трубочкой. Губы у него пунцо-
вые, щеки бритые, в прочном, заветренном румянце, без
единой морщинки.
— Хорошо, иди!
Он сказал это так, будто и не сомневался в возмож-
ности путешествия по проклятым дорогам в оттепель,
когда на каждой версте подкарауливают путника болот-
ца и зажоры.
Мартына взорвало:
— А ты, конечно, останешься?
Он сел на койку и пинком отправил сундучок на ста-
рое место.
— А я, конечно, останусь!
Голос у Черноголового матовый, бесстрастный. И весь
он бесстрастный. Казалось, что большая белая голова
его, как снежная насыпь на могиле, хоронила все порывы
сердца.
— Пишу вот и думаю! — как ни в чем не бывало гово-
рил он.— Когда пишешь, лучше думается. Должно быть,
политика убила во мне писателя...
Мартын хмуро молчал.
— Впрочем без политики нет и писателя! Ты хочешь
знать, о чем я разрисовал тут? — Не получив ответа, все
так же спокойно, как бы разговаривая с собою, Черного-
ловый продолжал: — Прежде всего — вглядимся в поло-
жение нашей родины... Вот уже третий год война уносит
великие тысячи человеческих жизней, а поражения сле-
дуют за поражениями, измена за изменою, начиная с
царских апартаментов и кончая фронтовыми штабами во
главе со всякими там Сухомлиновыми и компания...
Солдату капут — ни пушек, ни снарядов, ни обмундиро-
вания, а в тылу останавливаются фабрики, заводы и от
весны к весне идет на убыль посевная площадь... Все это,
однако, не мешает промышленникам, помещикам, бан-
ковским дельцам растить свои капиталы, растить их на
крови и голоде, нужде и тяжких лишениях миллионов.
И вот они, миллионы, встряхнулись, миллионы вступают
на путь борьбы, перед которой, надо полагать, события
пятого года поблекнут. Да, да! — воскликнул он, помол-
чав.— В эту революцию, друг мой, за нашей партией дви-
нутся широчайшие массы! Необходимо только вовремя
20
углубить действие. Разворочать, раскорчевать жизнь...
Как это по Марксу?
У Мартына дрогнула синяя хмурь в глазах и зрачки
сузились. Как это у Маркса? Он припоминал. У него бы-
ла незаурядная, сметливая память — та, что по одному
куску мгновенно разгадывала весь ребус. И он вспомнил
и произнес вслух негромко, чуть-чуть натянутым книж-
ным тоном:
— «Чем глубже захватывается жизнь данным дей-
ствием...»
— «Историческим»! — подсказал Черноголовый.
— Да, «...тем более растут размеры массы, соверша-
ющей это действие».
Михаил Иваныч ласково глядел на Мартына, но тот
все еще хмурился.
— Эх, Мартын, посадить бы тебя годика на три за
учебу!
— Не хочу! Хватит с меня! Но... к чему мы потрево-
жили Маркса?
— Не мы! Он потревожил нас. Да сбудется слово пи-
сания...
— «И да не запечатлей словес пророчества книги
сия, аки время близ есть...» — засмеялся Мартын: он всег-
да внезапно переставал сердиться.
— Откуда мудрость сия, Мартын?
— Из дедовых книг, Иваныч. Старый начетчик Стра-
той готовил меня в помощники. Я начал, как тебе извест-
но, с библии!
— А кончил Марксом. Неплохой конец, Мартын! Но
ты кстати напомиил о своей кержацкой учебе. В твоем
желании теперь же убежать отсюда — упрямство ро-
дичей!
— Я не упрямее тебя, Иваныч!
— Но мое упрямство — в моем убеждении, а твое...
вроде бы как всосалось в кровь!
— Отлично!
— Берегись, Мартын!
— Не стращай, не маленький!
— Я более чем вдвое старше тебя, но по сю пору нет-
нет да и почувствую у себя за спиной учителя математи-
ки. Я рос под сильным его влиянием.
Мартын насторожился. Он мало знал о прошлом Чер-
ноголового.
— Учитель математики... Он был твоим отцом?
21
— Да, Мартын! И погиб в крайней нищете, как ис-
тинный пролетарий!
— Отец твой тоже политик?
— Нет, только математик! Но однажды он попытался
доказать своим ученикам, что дважды два не всегда оз-
начает... самодержавие! И очутился за бортом...
Мартын шагал по избе от одного угла, где на скамье
высилась куча книг, до другого, пахнувшего сладковатой
жухлостью овчины.
— Что же даст нам, по-твоему, эта революция?
— По-моему? Моего здесь ровно столько же, сколько
прилежный ученик усваивает у своих учителей...
— Но что же? Что?
— Боюсь сказать прямо...— Черноголовый бережно
поднял тетрадь.— Но тут у меня...
Мартын приблизился, заглянул, пробежал несколько
строк.
— Фантазия, Иваныч!
— Нет, Мартын, оно так и будет!
Михаил Иваныч, когда говорил этак вот, холодно,
четко, весь поджимался, точно лесной еж перед псом: по-
пробуй коснуться его — с лютым фырканьем вонзит он
свои иглы в неосторожный псиный нос.
Мартын отступил. Черноголовому нельзя было не ве-
рить. У Черноголового в прошлом — десятки больших и
малых заводов, море тайно подслушанных слов, горы ве-
ликого человеческого терпения, и ему ли не знать, когда
слова сложатся в гимны и дрогнут, задымят горы!..
— Но что же мы сидим тут, Иваныч? В городах по-
жарище!— Мартын готов был возвратиться к началу.—
Ведь этак мы попадем к шапочному разбору!
Михаил Иваныч защелкал языком.
— Хе! Да ты понимаешь ли, парень, чем эта револю-
ция пахнет? Тут не только царь, а и царь царей, его ве-
личество капитал, может в осаде оказаться. Так что на
твой век работенки хватит, да еще и отпрыскам твоим
останется.
Слова эти долго помнил Баймаков. И уж не дивился
ничему, что говорил потом Михаил Иваныч. Беловолосый
человек этот носил при себе чудесный какой-то ключ,
отмычку ко всем большим и малым событиям.
Выбрались они из тайги неожиданно. На имя Черно-
голового пришла с первым пароходом депеша, и тогда
же Михаил Иваныч заявил Мартыну:
22
— Собирайся, дружок. Завтра едем!
— Куда? — Мартын вспыхнул от радости.
— Пока — в ближайший город, а затем... воля пар-
тии!
Еще в пути, на пароходе, Михаилу Иванычу посчаст-
ливилось добыть в котельной пачку «Правды», и он вме-
сте с Мартыном ночь напролет не смыкал глаз, читая и
перечитывая все, что касалось текущих событий: возвра-
щение на родину после долгого изгнания вождя партии
Ленина, его апрельские тезисы, седьмая партийная кон-
ференция. Каждое положение, выдвинутое конференцией,
встряхивало сознание Мартына, подобно ударам близкой
грозы. И было здесь такое, что испытывал бы путник
среди грозовой ночи, когда сполохи молнии раз за разом
выхватывают из мрака горные высоты, манящие своим
величием вперед.
Даже Черноголовый, совсем недавно поражавший во-
ображение Мартына смелым полетом своей веры в неви-
данный еще марш революции, был явно взволнован: он
то принимался шагать из угла в угол каюты, то вдруг за-
мирал на месте, сбрасывал свои очки и упирался в Мар-
тына таким настороженно-раздумчивым взором, будто
впервые видел его.
— Вон он куда нацелил нас, земляк твой! — говорил
Михаил Иваныч, поталкивая Мартына в плечо.— Ильич-
то — уроженец матушки Волги... Да, да, гордись, дру-
жок мой, но... помни: земляком своим его по праву счи-
тают пролетарии всей Руси!
— Всего света, Иваныч! — подхватывал возбужденно
Мартын,—Пролетарии всего света!.. Ой, какое это сча-
стье, должно быть,— сознавать себя земляком всего, все-
го передового человечества! Не какого-нибудь города,
селения, даже не одной только своей родины, а всего, все-
го мира, черт возьми!
— Всего, говоришь, мира? — Михаил Иваныч чуть по-
думал.— А знаешь что, дорогой мой: не будучи настоя-
щим сыном своей родины, нельзя быть и «земляком»
всего мира!
Глаза Мартына наполнились движением ищущей
мысли.
— Как, как ты сказал, Иваныч?
— Я говорю: вне деятельной любви к родному наро-
ду, вне той любви, которою велик наш Ильич, не может
быть и подлинной любви к человечеству... Да и не услы-
23
шит оно тебя, человечество, ежели твой голос не будет
голосом твоей родины, ежели твоим голосом не загово-
рит вся Россия, все народы, населяющие ее!.. Вдумался
ты в положения, поднятые на конференции? О братстве
народов России? О праве наций на самоопределение?
О слиянии рабочих всех национальностей страны в еди-
ных пролетарских организациях?.. Здесь, Мартынушка, и
следует искать разгадки нашему пониманию землячест-
ва... А теперь,— прервал себя тут Михаил Иваныч,— не-
плохо бы переспать часок-другой... Светает уже... Ты как?
— Укладывайся, батька, а я маленько промнусь!
С этими словами Мартын рванулся за порог каюты.
Озирая с палубы береговые взъемы, укрытые хвой-
ными лесами, с пухлыми, подрумяненными туманами над
ними, он переживал такое, будто ему довелось только
что переступить порог в иной, чудесный мир, где явь
была как сновидение, но в этом сновидении каждый
взмах мысли отдавался бурей в крови.
— Вся власть Советам! Никакой поддержки Времен-
ному правительству! Республика Советов рабочих, бат-
рацких и крестьянских депутатов по всей стране — снизу
доверху!..
Произнеся все это про себя, Мартын продолжал вслух,
с угрозою, точно перед ним был кто-то из вражеского ла-
геря:
— Помещичьи земли — тем, кто их самолично обра-
батывает... Над банками, над общественным производ-
ством и распределением — контроль Советов... Каждой
нации — право на самоопределение, а на место Второго
интернационала предателей новый, Третий, коммунисти-
ческий!.. И к черту, к лешему, в преисподнюю всех этих
Львовых, Милюковых, Тучковых с их нечистыми бесами-
соглашателями! Ура-а-а...
Он прокричал свое «ура» так, что сам перестал слы-
шать бухающие удары пароходного колеса о воду, а с
капитанской вышки заглянул к нему, на палубу, кто-то
в фуражке с позументовыми проемами.
Приветственно помахав рукою человеку на вышке,
Мартын вдруг рассмеялся: вспомнил покойного деда
Стратона с его тяжелою, в коже, книгою и такие же вот
страстные выкрики старика: «Да расточатся врази его,
аки дым! Да сгинет исчадие ада пред лицом твоим!»
В туманах из-за темно-зеленого прибрежного гребня
выплывало солнце, багровое, как диск накаленного ме-
24
талла, а за кормою бурлил алый поток брызг, напоминая
огненный водопад в литейной. Мартын защурился и, пе-
сенно вскинув: «Вперед, вперед, рабочий народ!», пус-
тился вразмах по гулкой палубе. За плечами у него как
бы выросли крылья. Это было счастливое сознание своей
свободы и того непереносимо радостного, чем встреча-
ла их на воле родная земля. На завороте он чуть не сва-
лил с ног пожилого матроса в солдатской стеганке. Вы-
битая из рук матроса цыбарка с дребезгом покатилась
вдоль палубы.
— Сбесился ты, диколом этакий! — ворчал матрос,
вглядываясь улыбчиво в пылающее под косым солнеч-
ным лучом лицо Мартына.— С чего это спозаранку-то
рабочий народ шевелишь?
— Пора, пора нам пошевеливаться, дяденька, а то на
место царя-то буржуй проклятый усядется! — откликнул-
ся Мартын, вручая матросу его цыбарку.
— А пускай себе усаживается!—ухмыльнулся мат-
рос.— Сегодня усядется, а назавтра мы его вот этак...—
Он согнул в колене ногу и ловко поддал незримого про-
тивника.— Между прочим — слышал? — наши-то за пра-
ведный мир без всякой дани, а энти, буржуи-то в прави-
тельстве, плашмя перед союзничками: царские, мол, дол-
жишки сполна с народа выдерем, а войну до последнего
солдата будем вести... Ну, только шалишь! — продолжал
он, снизив голос, и потянул к себе за рукав Мартына.—
Солдатики нынче ни в какую! Везли мы намедни из гу-
бернии эшелон запасных... Так уж где там воевать им!
«Николку,— кричат,— сбросили, дак и всех его генералов
в тартарары побросаем!..» Едут без старшего командира,
при своем, вишь, полковом комитете.
Перед вечером пароход высадил Черноголового с
Мартыном по месту назначения, у дощатой пристани го-
родка, который, как показалось вначале Мартыну, толь-
ко тем и отличался от тайги, что почта из столиц при-
ходила сюда не через долгие недели, как там, а чуть ли
не на третьи сутки. Однако уже со следующего по приез-
де дня Михаил Иваныч включился в работу, да так, что
Мартын не мог акрыть своей к нему зависти:
— Тебя, Иваныч, на луну отправь, так ты и там дело
ёебе сыщешь!
— Кажется, Баймаков не отстает от меня! — отклик-
нулся Черноголовый приветливо.
25
Он был доволен своим учеником, который и впрямь
старался «не отставать», хотя про себя и томился. Как ни
взбаламучены были будни захолустья, а настоящая-то
буря гремела в стороне, и это походило на то, как если
бы где-то далеко-далеко рука истории опрокидывала в
могучее половодье жизни горы всяческих происшествий,
а здесь от всего этого, как на водной глади под ударами,
расходились лишь круги, к тому же совсем подчас мут-
ные: слухи, догадки, а то и явно злонамеренные вы-
думки.
Так, почти все лето, начиная с провала июньского на-
ступления на фронте и особенно после многотысячной
демонстрации в Петрограде рабочих и солдат, возмущен-
ных оголтелым обманом самозваного правительства,
на базарах городка, по ларькам и лабазам, змеились вся-
кие темные толки. А когда вскоре городок облетела весть
о расправе с демонстрантами и об арестах «заправил
смуты», на площади у собора собралась толпа всякой
шушеры, а среди нее зашныряли людишки из бывшей
полицейской своры. С соборной паперти выступил с по-
громным кличем не щадить красных злодеев кто-то из
купечества, следом за ним — городской техник, по кличке
Лопоухий, от имени местного «Революционного комитета
общественной безопасности».
Неприметно втерся в толпу и Мартын с двумя свои-
ми юными товарищами, пристанскими чернорабочими,
из сколачиваемого им, Баймаковым, отряда красногвар-
дейцев. Терпеливо выслушав бессвязные выкрики купца,
Мартын утерял самообладание, едва заговорил «коми-
тетчик»— плюгавенький человек с седыми крысиными
глазками и провислыми, как лопухи, ушами. Зная, что
Лопоухий примыкал в «комитете» к эсерам, Мартын не
ожидал от него ничего путного. Но то, о чем распростра-
нялся этот двуногий, было еще гаже погромного слова
купчика. Начав с восхваления Временного правительст-
ва, в котором несли-де тяготы представители не только
класса состоятельных, но и трудящихся — в лице «социа-
листов», он перешел к поражениям на фронте и принялся
объяснять все беды здесь злою волею большевиков во
главе с их Лениным, а потому...
— ...Под суд их всех! Под суд! — проголосил Лопо-
ухий, потрясая у себя над головою кулаком.
Одно упоминание имени Ленина — имени, которое
давно стало для Мартына тем, чем было солнце для в-се-
26
го живого, взорвало его нестерпимо. Не помня себя, он в
несколько прыжков встал рядом с Лопоухим, ухватил его
за шиворот, приподнял и так, пошатывая его взад-вперед,
зычно, на всю площадь, заговорил.
О чем и как говорил он тогда, разоблачая купеческо-
го прихвостня, Мартын не смог потом восстановить для
себя сколько-нибудь обстоятельно, но несомненно слово
его было полно такой страсти и веры в свою правду, что
на какое-то время толпа приглохла, как под обстрелом.
Но вот из дальних рядов к паперти вьюнами пробрались
какие-то молодцы в заломленных набекрень картузах.
Вдвоем они с гиканьем ринулись на Мартына, и тут про-
изошло чудо: плечистый богатырь сбросил вниз, по ка-
менным порожкам, сначала Лопоухого, а за ним и его
двух сподручных. Тогда тот, кто скатился по каменному
гребню последним, выхватил из-за голенища револьвер
и, запрокинув окровавленную голову, выстрелил в Мар-
тына. Мартын пошатнулся и, возможно, упал бы, если бы
на помощь ему не подоспели его юные товарищи. А из
толпы с угрожающим воем уже подвигались к ним дру-
гие чубатые молодцы.
Невесть чем окончилась бы эта история на соборной
площади, не вмешайся в свалку солдаты. Были тут
инвалиды, были и такие, что порешили кончать с бес-
путною войной «своими средствами» и пробирались из
ближнего к фронту тыла в родные края. Привлеченные
гамом на площади, солдаты бросились туда, а толпа к то-
му моменту раскололась на два враждебных друг другу
крыла: зачиналась неистовая потасовка, с колокольйи
гудел набат.
Солдаты вклинились в толпу и, угрожая наганами,
дубинами, прихваченными по дороге, навели порядок.
Мартын, раненный, как выяснилось позже, бывшим око-
лоточным надзирателем, доставлен был на руках, в рас-
простертой солдатской шинели, к больнице.
Черноголового в городе не было. Вызванный в сосед-
ний, губернский, по неотложному делу, он задержался
там, а при возвращении заглянул в попутные селения,
где под его руководством сколачивались крестьянские
комитеты, окрещенные на местах «поземельными», а то
и еще проще: «Даешь землю».
Прибыв домой и узнав о несчастье с Мартыном, Ми-
хаил Иваныч прямо с дороги отправился в больницу. По
тому, что успел он услышать о происшествии на соборной
27
площади, настроение его сложилось не в пользу Марты-
на: этакая безрассудная опрометчивость! Однако, пере-
ступив порог больничной палаты, пропитанной удушли-
вым запахом йодоформа, Михаил Иваныч при первом же
взгляде на пострадавшего смягчился. Лицо Мартына осу-
нулось и поблекло, из забинтованной груди его вырыва-
лось прерывистое дыхание. Не откликнувшись на вопрос
о самочувствии, Мартын устремил на Михаила Иваны-
ча глаза, полные напряженной тревоги. И Михаил Ива-
ныч понял, чего от него хотели.
— Ну, ты молодцом держал себя с этою сволочью!
По тому, как в мутноватых, опаленных зноем глазах
Мартына просветлело и, не таясь, он облегченно вздох-
нул, было видно, в какой степени важно ему это одоб-
рение. Все же, смиряя себя, он произнес тихонько:
— Погорячился я, Иваныч, недоучел обстановки, а
теперь вот... лежи болванкою!
И снова Михаил Иваныч поторопился утешить его:
— Нет, это ты напрасно! Говорили мне: отлично
встряхнул ты народишко... Между собою драку даже за-
теяли там... И фронтовички на высоте оказались: проу-
чили негодяев — век будут помнить.
При упоминании о фронтовиках Мартын отвел взор
в сторону. Ведь фронтовики-то явились, когда он уже
расправился с врагами! Тем не менее он не стал оспари-
вать заслуг фронтовиков.
— А какие новости, батька?
В палате, похожей своими размерами на пароходную
каюту, Мартын лежал в одиночку, и все же, принявшись
за свои новости, Михаил Иваныч снизил голос.
Он участвовал в губернском совещании большевиков,
слушал доклад товарища, только что вернувшегося из
Питера, со съезда партии. Съезд вел свои работы полуле-
гально, кочуя с места на место. Обсуждался план бли-
жайших действий. Положение в стране серьезное. Сове-
ты с их меньшевиками, эсерами, как и следовало ожи-
дать, выпустили из рук своих власть. Временное прави-
тельство свирепствует, громит большевиков, разоружает
«ненадежные» воинские части, душит заводские органи-
зации, снаряжает карательные отряды против крестьян-
ства, производит, где только возможно, аресты.
— Словом, дружок мой, дело идет к открытой борьбе!
Иного выхода нет. Решения съезда сводятся к подготов-
28
ке вооруженного похода: взять власть силою и тогда, очи-
стив Советы от всякого рода мокриц, снова...
— ...снова «всю власть Советам»! — перехватил Мар-
тын, приподнимаясь на локте и обдавая Черноголового
жаркою, из самой груди, волною.— Правильно!..
Михаил Иваныч невольно улыбнулся.
— Одобряешь, значит?
— Еще бы! Ленина голос...— воскликнул Мартын, все
более возбуждаясь.
— Его, его! Хотя на съезде ему и не довелось
быть...— заметил Михаил Иваныч.— Скрываться приш-
лось Владимиру Ильичу... Временное-то правительство
жаждало расправы с вождем, ареста его и... суда над
ним.
— Суда... бешеных псов?!—Мартын рванулся на кой-
ке и, обессиленный, свалился, судорожно перекосив рот.
— Успокойся, дорогой!—Михаил Иваныч припод-
нялся с табурета.— И давай кончать... Не годится такое
в твоем состоянии.
— Нет, нет! — ухватил Мартын его за руку.— Сиди!
Что же съезд... относительно суда?..
— С возмущением отверг.
Мартын облегченно передохнул.
— Занялся съезд союзом молодежи...— продолжал
Михаил Иваныч.— Признано неотложным, чтобы пар-
тийные организации на местах обратили самое серьезное
внимание на дело организации молодежи... Так что при-
дется Баймакову...
— Готов, готов!.. Еще что там было?
— Еще принят новый устав партии. Выборность свер-
ху донизу!
— Так! А по городам у нас что творится?
— По городам — стачки, митинги! Между прочим,
искорки-то от нашего пожарища летят и на Запад: в Гер-
мании неспокойно, во Франции, слышно, солдатики про-
сыпаются... Да что там Европа! Побывал я проездом в
нашей Ясычанской волости: заваруха в деревнях... ай-яй-
яй! У тамошнего князя беднота пастбища захватила, а
рядом деревенские подмяли под себя монастырские
угодья...
Прощаясь, Михаил Иваныч в нерешительности окунул
руку в карман.
— Манифест съездом выпущен, в губернии его раз-
множили...
29
— Давай, давай! — Мартын вцепился в карман Чер-
ноголового.
— Ладно, передохнешь — прочитаешь.
С этим Михаил Иваныч сунул сложенный вчетверо се-
рый бумажный лист под подушку Мартына и поспешил
к выходу, но едва он с осторожностью больничного посе-
тителя прикрыл за со-бою дверь, как Мартын выхватил
из-под подушки бумагу.
Строки прыгали перед его взором, лучились, расплы-
вались. Все же он до конца осилил призыв съезда к рабо-
чим, солдатам, крестьянам и только после того плотно со-
мкнул ресницы. Однако в мозгу его долго еще звучало:
«Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи!
Под знамя партии, пролетарии и солдаты! Под наше зна-
мя, угнетенные деревни!»
В ушах нарастал странный басовитый гул—то ли шел
сверху, то ли из-под самой койки. И затем слышалась
мерная поступь многих, многих ног за стеною... «Ага, дви-
нулись!»— подумал вслух Мартын и открыл глаза, но
никакого гула вокруг уже не было, не было и этого тяж-
кого, в тысячу ног, марша. Кто-то, большеголовый, с бу-
рою бородкой на белоснежной груди, склонился к самой
койке, протянул костлявую руку, вцепился в подвернутый
конец марлевого бинта у плеча. «Не смей!» — прохрипел
Мартын и оттолкнул руку деда-помещика... Да, это был
он: медвежеподобная голова, зеленоватые глазки! Зачем
бы ему сюда?.. А за спиною деда вдруг возникли рыже-
волосая француженка и этот Лопоухий с ножом в руке!..
Нет, то вовсе и не Лопоухий, а камердинер деда Васи-
лий: приник к изголовью, держит Мартына за подборо-
док, что-то сует в рот металлическое. «К новым битвам,
к новым битвам, товарищи!» — вскинул Мартын голос
и приподнял голову. Трое — старенький доктор, сестра
с рыжими жудельками под белой косынкою, скуластый,
пучеглазый фельдшер — возились у его койки. Вслед все
вокруг померкло, и опять за стеною начал нарастать гул,
слышалась тысяченогая поступь. «Наши, вяземские, дви-
нулись! — произнес над самым ухом камердинер Василий
и добавил скрипуче: — Не миновать теперь и нам бе-
ды!» — «Так вам и надо!» — хотел крикнуть Мартын и не
мог: кто-то грузный навалился ему на грудь, придавил,
дышал в лицо удушливо-горячим, как из печи.
К утру следующего дня Мартын пришел в себя, весь
взмокший от пота, с ледяным пузырем на темени, а перед
30
сумерками сознание его снова раскололось, как в тисках,
между действительностью и бредовыми видениями, и в
этом тряском, душном, гремучем потоке образов, голосов,
песенных звучаний потекли дни и ночи: множество дней
и ночей, без конца, без связи... Впрочем, в какие-то мо-
менты Мартыну удавалось нащупать в однообразной це-
пи жарких сумерек отдельные, ощутимо воспринимаемые
звенья, и тогда вдруг он различал у своей койки, на фоне
белесого оконного п*ятна, то сизую голову Михаила Ива-
ныча, то радужную, в улыбках, голову кого-либо из юных
пристанских товарищей. И он ловил их голоса, торопли-
вые, сторожкие, но всегда бодрые, такие бодрые, что и
он, Мартын, выкарабкиваясь из небытия, улыбался, зада-
вал шепотком вопросы.
Из сбивчивых ответов гостей складывалось кое-какое
представление о больших и малых событиях.
На фронте полевые суды, смертные казни, а в полках
барабаны бьют, летят вверх тормашками подзолоченные
командиры... Война войне!
В Москве на совещание собрались банкиры, заводчи-
ки, помещики, генералы с ползучими, летучими своими
прихвостнями, именующими себя социалистами. А Моск-
ва рабочая, по призыву большевиков, устроила «всеоб-
щую», и делегатам-заговорщикам довелось брести с вок-
залов пешечком, на своих на двоих, руки в брюки, голову
под мышку!
А там вскоре генерал Корнилов со своею снятой с
фронта «дикой дивизией» двинулся на Петроград, и Пет-
роград рабочих, солдат, матросов, встретив генерала ог-
нем, разбил его наголову! И опять какое-то совещание
под заношенным, замызганным стягом демократии: зем-
ские зубры, офицерье, промышленники вкупе с эсерами,
меньшевиками... Сборище озлобленных тузов, готовых
на любое преступление у своих денежных мешков, выде-
лило, в чаянии сломить, одурачить, подсечь, задушить мя-
тежные миллионы, некий предпарламент: засаду в око-
пах, в колючей проволоке, с алым флажком для отвода
глаз... Но все напрасно! Ни закулисные переговоры с кай-
зеровскою свитою: открыть ворота столицы, ни вывод из
нее сочувствующих народу войск, ни подвоз к ней отбор-
ных казачьих частей, ни спешная стройка ударных бригад
из георгиевских кавалеров — ничто не могло противо-
стоять великому народному девятому валу.
31
В полях, степях пылали помещичьи усадьбы, голь де-
ревенская делила «миром» барские земли, скот, полевой
инвентарь, а по городам заводы, фабрики строились в
боевые колонны, и огненное помело в могучей мозолистой
руке воскресшего Ильи Муромца взмах за взмахом вы-
метало за порог Советов алчное отродье измены, лицеме-
рия, соглашательства. И уже перекрашивались с перепу-
гу, чуя близкое возмездие, летуны из стана лжесоциали-
стов: у меньшевиков выпорхнули, защебетали «интерна-
ционалисты», у эсеров — «левые». И вновь из края в край
зазвучали неуемные голоса: «Вся власть Советам!»
Стояло погожее солнечное утро глубокой осени.
Юность, нутряные силы Мартына, как бы перекликаясь
с тем целительным, что происходило в народе, брали верх
над недугом. Рана его закрылась, мышцы рук и ног креп-
ли с каждым днем, он уже присаживался за столик у
койки, бродил в больничном коридорчике, заглядывал от-
туда на балкон — и вот, пробужденный в то удивитель-
ное осеннее утро стрельчатым лучом солнца из окна,
услышал знакомый, не раз в бреду чудившийся ему улич-
ный гул: дробный, густой топот, голосистые выкрики. Те-
перь это была явь, полная солнечной бури — там, за ок-
ном, и тут, у него, в самой крови! Он рванулся с постели,
сунул ноги в разлатые чоботы, натянул старенький, не по
плечам, халат и пошагал коридорчиком на балкон.
С балкона вся площадь как на ладони: у собора вью-
жится, усыпанная небесным золотом, краснокрылая тол-
па, и новые, новые вливаются в нее людские потоки...
Горластые крики, блеск белозубых улыбок, стайки ребя-
тишек у заборов и на заборах, синее бездонное небо с
курчавыми облачками над грядами дощатых кровель,
над темными, оголенными садами среди них. И вдруг,
подобно сигнальному запеву горниста, над разливом во-
лосатых голов, вскинутых рук, тесно сцепленных плеч
поднялся упругий, звонкий голос:
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов...
И площадь, живые ее ряды подхватили тот голос мно-
жеством своих голосов, в которых не было строя, но была
дружная, ликующая, всепокоряющая радость... Случает-
ся такое вешней порою, когда нежданно над необозри-
мыми полями первой зелени осядет тучка, выронит ядре-
ную каплю, другую — и вот опрокинулся ливень: гудит,
хлещет, весь в блеске, захлебывается избытком сил, не-
32
уем-ною страстью напоить, напитать, взрастить новое, не-
виданное, небывалое еще под солнцем...
Мы наш, мы новый мир построим...—
подхватил Мартын всею грудью и, как был, в халате, на
босу ногу, перемахнул через решетку балкона.
Бежал прямиком к собору, чувствуя, как при каждом
взмахе тела наливаются силою мышцы и бухает молотом
сердце, а в голове одна догадка сменяется другою. В по-
следнее время товарищи, занятые по горло, заглядывали
к нему редко, давно не было и Черноголового. Что же
произошло?!
С этим вопросом он обращался на бегу к запоздалым
одиночкам: к женщинам с малыми ребятами на руках,
к старикам с посошками, и лишь один из них, сивоборо-
дый, рослый, при кожаном фартуке, подвернутом у поя-
са, выкрикнул в ответ вразумительное:
— Временных правителей Питер посшибал, народуш-
ко коронуется!
Па паперти, обнажив белоснежную голову, стоял Чер-
ноголовый, помахивая в воздухе кепкою. Он собирался
говорить, и это поняли там, в передних рядах: смолкли,
обернулись, замахали руками к тылу, и толпа медленно,
скатами, заглохла, а еще посверкивали зажженные пес-
ней взоры, еще играл на лицах румянец возбуждения и
слышалось там и сям частое дыхание, как после бега.
— Граждане! Товарищи! — начал Черноголовый,
весь вытягиваясь, будто пытаясь захватить в поле своего
зрения всех, всех, кто был на площади, до самых дальних
в толпе.— Только что получены важные сведения... Вре-
менное правительство, правительство капиталистов, по-
мещиков, царских генералов, низвергнуто! Государствен-
ная власть перешла в руки Советов рабочих и солдатских
депутатов.,. Отныне трудящиеся, без различия пола,
национальности, вероисповедания,— хозяева своей ро-
дины!..
Мартын замер на месте, слыша, как набатом колотит-
ся сердце. Недвижимою осталась и толпа, будто ступив
на порог чего-то огромного, небывалого, неизведанного.
Мартын невольно вспомнил эту же площадь, полную ди-
ких шумов, вспомнил Лопоухого в своих руках, блеск
выстрела у паперти... Но Лопоухого нет уже, Лопоухий
бежал, скрылись из городка его сподручные, иными вы-
глядели теперь и люди — вот эти, что, как примагничен-
ные, впились взорами в Черноголового.
2. В. Бахметьев 33
— В Петрограде состоялся Всероссийский съезд Со-
ветов,— продолжал тот, до предела напрягши голос.—
На съезде создано первое в мире советское правитель-
ство— Совет Народных Комиссаров во главе с великим
борцом за свободу и счастье народа — Лениным! Съезд
принял обращение ко всем воюющим странам о прекра-
щении беспутной, разбойной войны...
Толпа слушала жадно, перехватывая на лету каждое
слово седоволосого человека, вторя ему, но еще сдер-
жанно, несмело, гулом одобрения, и это было так хоро-
шо, такое будило чувство доверия к людям, что не было
сил молчать... И когда Михаил Иваныч к концу своего
слова заговорил о переходе помещичьих имений и всех
удельных, монастырских, церковных земель в безвоз-
мездное пользование трудящихся, Мартын не выдержал.
— Ура-а-а! — закричал он что было силы, и многие
из стоящих впереди него обернулись к нему: украшен-
ные кумачом фуражки, кепки, солдатские бескозырки.
Красногвардейцы! Отряд красногвардейцев, начало
которому положено им, Баймаковым! Узнавая тут своих,
пристанских, Мартын еще пуще натужил голос.
— Да здравствует советская власть!
— Ура! — грянули в отряде и, смешав строй, гурьбою
бросились к нему, зажали его в круг, подняли на руки,
двинулись вперед, в самую гущу толпы.
Цепляясь руками за чужие плечи, пьянея от восторга,
Мартын продолжал:
— Да здравствует наша защитница, наша сила, на-
ше счастье — партия большевиков!
— Ура! — вопили ответно красногвардейцы.
— Да здравствует наш Ленин! Ура-а-а!..
— А-а-а!—ревела вместе с красногвардейцами, рас-
пахиваясь перед ними, толпа.
Мартына внесли на площадку паперти, спустили его
рядом с Черноголовым, и тот, вскинув на плечо ему ру-
ку, другую, с зажатою в ней кепкою, вознес у себя над
головою.
— Граждане! Братья! Товарищи!
Он говорил о юноше, которого гнали, преследовали,
держали в тюрьме, в таежной ссылке царские сатрапы,
а когда гнев народный испепелил многовековую власть
короны и принялся за царя царей, за владыку владык —
капиталиста,— здесь вот, на этой самой площади, под
крестами этого вот дворца царя небесного, укротителя
34
сирых и порабощенных, сыскался слуга самодержавия,
который...
Закончить ему не дали. Кто же не знал в городке о
случае с Мартыном? Кому не известна была вылазка не-
добитой змеи, чей укус едва не лишил жизни вот этого
белокурого синеглазого молодого человека?..
Подобно волнам на Волге в бурю, ринулись люди к
Мартыну, подняли его вновь на руки и, обессиленного
пережитым, бледнолицего, с поникшими полами боль-
ничного халата, понесли... Куда? Это знал только Черно-
головый. Видя, как выцвела вдруг краска на щеках Мар-
тына и увяли его глаза, он первым, увлекая за собою не-
обычную процессию, направился в сторону решетчатого
палисадника больницы. Шел, размахивая руками в такт
давней боевой песне, какую затянули красногвардейцы:
Вихри враждебные веют над нами,
Черные силы нас злобно гнетут...
Давно уже не было такого с Черноголовым: он пел,
не слыша себя, слыша лишь могучий гул голосов тех, кто
маршировал за ним, с ним, и... украдкою смахивал не-
прошенные слезы.
Нет, эти слезы не были слезами слабого сердца! Это
были слезы солдата в поводе, гордого первыми победа-
ми, отважною решимостью в рядах победителей, готов-
ностью их идти вперед, только вперед! И он знал, что
предстоят еще нелегкие схватки с «вихрями враждебны-
ми, силами черными», что не раз еще они, господствую-
щие над миром, агонизируя, обрушат огонь и меч на род-
ную землю... А если так, то пусть же это солнце — ок-
тябрьское солнце — светит еще ярче, осеняя дали, раз-
мыкая перед людьми славное грядущее, крепя в них му-
жество, стойкость, отвагу!
Ill
В начале следующего года Черноголовый побывал в
Петрограде, на съезде Советов, который принял предло-
женную большевиками-«Декларацию прав трудящихся»,
ту самую, что вместе с декретами о земле и мире была
отвергнута контрреволюционным большинством Учреди-
тельного собрания.
Возвратившись со съезда, Михаил Иваныч сообщил
Мартыну, что ему, Черноголовому, предстоит безотлага*
тельно перебраться 1на работу в губернский город.
35
— Ты как будто не очень доволен, Иваныч? — заме-
тил Мартын, всматриваясь в озабоченное лицо Черного-
лового.
— А ты, кажется, доволен... в надежде примкнуть ко
мне? — откликнулся тот сурово.— Да ладно уж, едем!
Перехватить у тебя здешнюю работку есть кому. Что же
касается меня, то... Видишь ли, я как-то быстро врастаю
в любом месте!
О том, что Михаил Иваныч обладал способностью
вживаться в любом месте, Мартын знал отлично. Ведь
даже покидая ссылку, Михаил Иваныч жалел, что не мог
продолжать свою работу с таежниками в новых услови-
ях. Разумеется, это его постоянство заслуживало одо-
брения. Однако человек должен думать и о том, где и на
какой работе он может более полно выявить, применить
свои силы.
Что-то в этом роде Мартын и высказал Черноголово-
му по поводу переезда в губернский город. Он полагал,
что Михаил Иваныч с его обширным жизненным опытом
и всем прочим мог бы принять даже более крупную ра-
боту,—например, в той же столице. В ответ, как и сле-
довало ожидать, Михаил Иваныч снисходительно при-
щурил глаза.
— Вон ты о чем! Да ведь крупное-то, друг мой, из
крупиц замешивается... Без малого, как говорится, не
бывает и великого... Станешь спорить, нет?
Конечно, Мартын не стал спорить, но про себя до са-
мого выезда из городка отдавался смутному ожиданию
чего-то, что не походило, не могло походить на все пере-
житое здесь. Правда, с октябрьского митинга у собора,
когда его, Баймакова, на руках, с революционными пес-
нями, пронесли через всю площадь, он пользовался все-
общим вниманием. Тем не менее он не жалел, что поки-
дал городок.
В первый же день по приезде в новый город Михаил
Иваныч выступал на общегородской партийной конфе-
ренции с докладом о съезде Советов. Доклад прошел в
оживленной обстановке. Каждое положение оглашенной
докладчиком «Декларации прав трудящихся» встреча-
лось взрывами аплодисментов.
— Советская Российская республика — на основе
свободного союза свободных наций! Полное устранение
деления общества на классы, установление социалисти-
ческой организации общества! Весь земельный фонд —
36
общенародное достояние! Рабочий контроль на фабри-
ках, заводах, рудниках, железных дорогах! Всеобщая
трудовая повинность! Образование Красной Армии ра-
бочих и крестьян, при полном разоружении имущих клас-
сов.
Люди на скамьях, в проходах, у стен без удержу-би-
ли в ладоши, топотали о половицы, а когда Черноголо-
вый сообщил попутно о поведении на съезде меньшевика
Мартова и его фракции, привел затем выдержки из от-
поведи Ленина ораторам справа, до сих пор не научив-
шимся ничему и забывшим все, что всуе называют они
марксизмом,— собрание разразилось таким шумным
одобрением, что Михаил Иваныч вынужден был надолго
умолкнуть. А когда, наконец, в зале позатихло, он из-
влек из кармана памятную книжечку и принялся огла-
шать выдержки из заключительного слова Ленина перед
закрытием съезда — о новом государственном строе —
как федерации республик разных наций России, о нераз-
рывном единении рабочих и крестьян, о предстоящем им
великом труде по восстановлению разрушенного в войне
мировыми разбойниками народного хозяйства.
Каждое слово Ленина полно было веры в победонос-
ное движение пролетариата к высотам социализма.
— «Раньше,— голосисто читал Черноголовый,— весь
человеческий ум, весь его гений творил только для того,
чтобы дать одним все блага техники и культуры, а дру-
гих лишить самого необходимого — просвещения и раз-
вития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания
культуры станут общенародным достоянием, и отныне
никогда человеческий ум и гений не будут обращены в
средства насилия, в средства эксплуатации. Мы это зна-
ем,— и разве во имя этой величайшей исторической за-
дачи не стоит работать, не стоит отдать всех сил? И тру-
дящиеся совершат эту титаническую историческую ра-
боту, ибо в них заложены дремлющие великие силы ре-
волюции, возрождения и обно<вления...»
Бурей аплодисментов сопровождали в зале доклад-
чика, когда он, вскинув ответно обе руки, спускался с
трибуны.
Многое из того, что Черноголовый дал в своем докла-
де, Мартын слышал от него еще раньше, но тут, на лю-
дях, всякое слово из той же «Декларации» воспринима-
лось с обостренною- силою, увлекало, манило вперед, в
завтрашний день!
37
По окончании собрания, дома, невзирая на поздний
час, Мартын делился с Черноголовым своими мыслями
и при этом то вскидывал на него сияющие глаза, то отво-
дил их, краснея, в сторону.
Речь шла о предстоящей работе. Михаил Иваныч до-
статочно знаком был с особенностями города, рабочие
кадры которого состояли из железнодорожников и целой
рати ремесленников: кузнецов, жестянщиков, бондарей,
плотников.
— Взяться бы тебе за кустарей,— предлагал он Мар-
тыну.— Нелегкая, конечно, среда, но зато какая благо-
дарная задача здесь: преодолеть навыки мелких хозяй-
чиков, сколотить артели, мастерские! Кстати, тот, кто за-
нимался этим, оказался опытным унтер-офицером и пе-
реброшен на военную работу.
— Вот и я бы...
— На военную? Э, брат, ты уже повоевал! — не без
горечи откликался Михаил Иваныч, явно намекая на пе-
ренесенное Мартыном ранение.— И потом — на военном
деле тебе, помимо всего прочего, довелось бы не учить,
а учиться. У парторганизации же на счету все сколько-
нибудь подкованные работники!.. Итак?
Не давая прямого ответа, Мартын неожиданно заго-
ворил о деревне и о своем желании теперь же поехать
в уезд.
— Что ж, отлично! Поезжай!—одобрил Михаил Ива-
ныч, и уже через сутки Мартын отправился вместе с по-
жилым плотником, знающим местные деревни, в близле-
жащую волость. Они собирали по деревням сходы, зачи-
тывали «Декларацию прав трудящихся», объясняли ее,
разбирались сообща в земельных нуждах бедноты, и всю-
ду беседы проходили успешно, а там, где, случалось,
подымал голос кто-нибудь из крикунов-богатеев, угро-
жая «самовольцам» всякими бедами, сход разражался
улюлюканьем, свистом, воплями:
«Попили нашей кровушки! Хватит!»
Или:
«Стращай того, кто не смыслит ничего!»
— Капут паукам деревенским! — говорил Мартын,
докладывая Черноголовому о своей поездке.— Мушки-то
не желают к ним в паутинку, рвут и мечут!
— Ну, дружище, с пауками нам еще придется пово-
зиться,— замечал Михаил Иваныч строго.— Ржавчина,
да такая, что ее и рашпилем не враз возьмешь... А ново-
сти слышал?
38
— О немцах?
— Прервали, дьяволы, перемирие, взяли прицел на
Петроград, (наши полчишки старые на попятную...
Потекли напряженно-тревожные дни. Вскоре, однако,
начали приходить вести о выступлении свежих красных
отрядов, о разящем отпоре врагу, а затем и о подписа-
нии в Бресте мирного договора с Германией.
Спешно созванный съезд партии одобрил заключение
мира, как ни тягостны были его условия: необходимо бы-
ло выиграть время, обеспечить народу передышку, под-
готовиться к новым битвам.
Слово Ленина: «Будущее, несмотря ни на какие ис-
пытания,— за нами»,— стало путеводным кличем партии,
а новое, принятое съездом название ее — «Российская
коммунистическая» — говорило всем и каждому о вели-
кой немеркнущей цели борьбы за это будущее.
— Теперь примемся за свое, советское хозяйство...
старое-то, можно сказать, еле дышит... Главное теперь —
труд и хлеб! Договориться с деревней, наладить учет и
нашу, советскую, дисциплинку в рабочей семье.
Так высказывался Черноголовый о ближайших зада-
чах времени, направляя Мартына Баймакова на работу
среди городских кустарей, а уже через короткий срок в
стенах губкома толковали о высадке на Дальнем Восто-
ке то ли японского, то ли английского десанта, о про-
возглашении генерала Скоропадского в полоненной нем-
цами Украине всеукраинским гетманом, о столкновениях
на Сибирской железной дороге с чехословаками.
И Михаил Иваныч озабоченно предостерегал:
— Похоже, Мартын, сорвут нам гнусы передышку...
Как у тебя с кустарями? Торопись!
Мартын и без того не терял времени, проводя целые
дни в слободах, убеждая здесь молодежь записываться
в ряды комсомола и кружки по военному обучению, аги-
тируя пожилых открывать артельные мастерские. В по-
мощниках и сочувствующих у него не было недостатка, но
было немало и помех: кустари раскачивались туго, учет
своих изделий принимали неохотно, а всякое вмешатель-
ство в сношения их с деревнями по обмену изделий на
хлеб встречалось не без враждебности. А тут еще под-
кидывали палки в колеса мелкие бесы, как обзывал Мар-
тын, выражаясь языком покойного деда Стратона, эсе-
ров, меньшевиков да и кое-кого из своих. На одном, на-
пример, собрании жестянщиков выскочил такой «свой»
39
со словом и окрестил артельную затею «игрою в дурач-
ки», заявив при этом, что хотя он и состоит в рядах боль-
шевиков, но не согласен с некоторыми их «заскоками».
Сопровождая Мартына из слободы, тот же человек,
бледнолицый, бритый, с большими, медлительно-тяже-
лыми, маслянистыми глазами, ворчал всю дорогу на
«увлечения Москвы» и закончил:
— Неплохо бы посадить в Кремле парочку опытных
бухгалтеров!
— Это для чего же? — Мартын невольно задержал
шаг.
— Да хотя бы для того, чтоб подвести балансик! —
вымолвил спутник, подняв на Мартына свои круглые,
как бы только что густо навакшенные глаза.— Да, да,
балансик: «за» и «против» проводимых социалистических
порядков в нашей разнесчастной Россиюшке! Глядишь,
балансик-то и отрезвил бы кое-кого из наших партийных
верхов...
Уловив угрожающее движение в лице Мартына, че-
ловек отпрянул в сторону и завосклицал:
— Поймите, поймите меня, товарищ, как надо! Я за,
за и за! Но... нельзя же не считаться с нашей вековой
отсталостью... нельзя же скакать сломя голову от цариз-
ма прямо в социализм... даже не пройдя уроков демокра-
тии!
Рассказывая о рассуждениях «балансиста» Черного-
ловому, Мартын сам был не свой:
— Гнусь какая! Ну чем этакие краше Мартова?! Ему,
видите ли, дай-подай демократию... ту самую, где народ
голосует, а миллиардер Рокфеллер управляет... как в
Америке!
— Партийный, говоришь? — проворчал Михаил Ива-
ныч.— Что ж, успел, видно, подслушать отголоски мне-
ний кое-кого покрупнее... в наших рядах. Не удалось вот
мне быть на последнем партийном съезде, а там, пере-
дают, господа «балансисты» достаточно обнаружили се-
бя со своим противодействием Ильичу по Брестскому
миру!
— Так чего же мы терпим их, батька?—ъскричал
Мартын.
— А кто сказал тебе, что терпим? — повысил Михаил
Иваныч голос.— Кому-кому, а «балансистам», большим
и малым, достается от Ильича и... доставалось... с самого
августовского их блока двенадцатого года. Помнишь на-
40
шу беседу на эту тему? Вот! А как его имя, твоего «ба-
лансиста»? Где он работает?
Мартын смутился:
— Не интересовался я! И не встречал его что-то
раньше.
Михаил Иваныч покачал головою, но ничего не ска-
зал, а потом оба оти вовсе забыли об этой случайной
встрече с кем-то из колеблющихся, вернее — примазав-
шихся к большевикам. Да и не до того было им в ту
пору!
Стремительно развертывались события, указывающие
на то, что вчерашние хозяева жизни, выронив из рук
власть над нею, не собирались сложить оружие: они кре-
пили тайные связи с иноземными собратьями на попри-
ще грабежа и стяжательства, продолжали сколачивать
банды под командою своих верноподданных в генераль-
ских мундирах, стягивали в свой лагерь с развалин ста-
рого общества всякого рода отщепенцев народа в масках
социалистов.
Там и тут вспыхивали кулацкие восстания, юнкера с
эсерами подняли у стен Кремля мятеж, рука предателей
замахнулась на жизнь того, кто встал во главе первого
под солнцем рабоче-крестьянского правительства! А к
Царицыну ползли белогвардейские полки Краснова,
стаями собирались iHa юге «добровольцы», рыскали в По-
волжье и за Уралом, расчищая дорогу Колчаку, «учре-
диловцы», просунул с севера свой бронированный кулак
заплечных дел мастер Британии Черчилль.
Еще позже, сломив сопротивление Германии, подруч-
ные Антанты уселись на Украине, втолкнули свой флот
в Черное море, заклещили Одессу, проникли на Кавказ
и принялись готовить «правителей России», снабжая их
оружием, обмундированием, шпиками, диверсантами;
только бы затоптать, угасить, залить кровью всероссий-
ское пожарище, спасти из огня, вернуть сторицею свои
капиталы и, главное, не допустить «красной заразы» к
себе, за рубеж, к своим пробуждающимся народам.
Шел тысяча девятьсот девятнадцатый год. В марте
Черноголовый провел с неделю в Москве, на Восьмом
съезде партии, а в середине апреля задрызганный, наби-
тый людьми вагон уносил его и Мартына та юг, в при-
фронтовую полосу,— то была одна из первых крупных
партийных мобилизаций.
41
В новом городе, третьем по счету после ссылки, ожи-
дала их такая жаркая работа, что у Михаила Иваныча
глаза припухли и зарозовели: дни лихорадочные, ночи
бессонные!
К городу, окруженному полями, сто лет не слыхавши-
ми голоса пушек, накатывали, то отливая, то вновь взды-
маясь, неистовые волны огня и крови... Кто же в состоя-
нии был оставаться тут спокойным, думать терпеливо
о завтрашнем дне населения, изыскивать меры по добы-
че для него хлеба, снаряжать помощь фронтовым базам,
держать живую связь с окружными деревнями?
И вот — были такие. И среди них стоял Черноголо-
вый, верный себе всюду, в любой обстановке. Он даже в
тетрадь свою успевал записывать и каждый новый день
ошеломлял Мартьина откровением.
— Надо обратить внимание на этот уезд!—назидал
он, постукивая пальцем о карту губернии.— Здесь, того
гляди, кутерьма начнется!
Или:
— Из этого района гнать продовольствие экстрой!
Пусть казачок локти себе гложет!
И все было так, как говорил Михаил Иваныч: «ку-
терьма» в уезде заваривалась, прифронтовой район и
впрямь занимали белоказаки, но запасы продовольствия
вовремя вывозились.
Михаил Иваныч стоял во главе губкома и нес обя-
занности председателя губисполкома. У председателя
много, очень много забот. Тут и повседневная связь с уис-
полкомами, и налаживание потребительской кооперации,
и помощь работникам Чусоснабармии, и борьба с эпиде-
мией тифа, с мешочниками, с саботажниками, и снабже-
ние топливом предприятий, и досмотр за школами, за
беспризорниками... Кажется, не было такого участка хо-
зяйственной и культурной жизни, где работа проходила
бы вне связи с Черноголовым. Но особое внимание уде-
лял он крестьянству, пожалуй, не меньше, чем нуждам
войсковых штабов, где далеко не всё, по его мнению, бы-
ло в порядке. Но штаб штабом, а без хлеба и штаб—как
без рук! Штык штыком, а без гостеприимства родной де-
ревни, без ее помощи и солдат — как без штыка!
И Михаил Иваныч не жалел ни времени, ни сил на
заседания, посвященные вопросам не только продоволь-
ствия, но и обсеменения, не только конской мобилизации,
но и заготовки земледельческого инвентаря.
42
Мартына удивляло и смущало, когда Михаил Ива-
ныч, сидя на председательском месте, часами держал ис-
полком в глубоком напряжении по поводу отдельных
мер, связанных с запашкой в уездах. Дело, конечно, важ-
ное, но нельзя же было толковать так много о доставке,
например, трех десятков плугов в Волокушинскую во-
лость (именно в нее), отлично зная, что этот крайний
южный клок губернии уже второй месяц под белыми.
Мартын с каждым новым днем убеждался, что там,
в ссылке, и позже, выезжая из города в уезд, Михаил
Иваныч не впустую проводил время с крестьянами:
именно там добыл он навык разговаривать с деревенски-
ми ходоками, как со старыми знакомыми. Там приобрел
он опыт, который научил его теперь ценить в-сю мудрую
простоту и силу наказа Ильича им, делегатам последне-
го партийного съезда: опираться на бедноту, держать со-
юз с середняком, бороться с кулаком и наистрожайше
различать середняка от кулака! Самые горячие споры
возникали у Михаила Иваныча с продкомиссаром и зем-
отделыциками как раз на почве того или иного наруше-
ния этого наказа. «Соблюдать без всяких отступле-
ний!» — требовал он от своих работников.
С рабочими Михаил Иваныч держался строже, был
к ним взыскательнее. Этих он знал с юных лет. Их сла-
бости были открыты ему, как иному — слабости друзей,
с которыми он, по стародавней пословице, съел пуд соли.
Он даже покрикивал на рабочих, когда речь заходила
о дисциплине за станком, о лодырях-ослушниках, о спо-
рах месткомовцев с цеховыми начальниками... Однако
Мартын не видел ни одного, кто ушел бы от предиспол-
кома с обидой.
В городе частенько происходили недоразумения — то
на чугунолитейном, то на паровых мельницах, то в же-
лезнодорожном депо или в наборной газетной типогра-
фии. Причиною неувязок являлись всюду пайки, прод-
карточки, сдельная зарплата. И в исполкоме знали, что
обо всем этом прежде других должен быть оповещен сам
председатель. И к председателю шли и ехали, звонили
днем и ночью по телефону, и сам он, невзирая на позд-
ний час, покидая заседания, срывая наполовину повест-
ку дня, шел, летел в автомобиле или звонил.
Но тут, в мастерских, на мельнице, в типографии, Ми-
хаил Иваныч не нравился Мартыну. Мартын представ-
лял лицом к лицу с рабочими себя и видел, что он, Бай-
43
маков, был бы здесь мягче, теплее и, пожалуй, более глу-
бок, чем предисполкома.
А когда все же, невзирая ни на что, Михаилу Иваны-
чу удавалось «разговорить» рабочих и установить среди
них единогласие, Мартын чувствовал себя так, будто его
обманули, а люди казались новыми, непонятными.
Однажды, возвращаясь с паровой мельницы, Мартын
заметил Михаилу Иванычу:
— Будь я на месте рабочих, обязательно провалил
бы тебя сегодня!
Михаил Иваныч насторожил белоснежный висок:
— Очень хорошо, что ты не на их месте...— И загля-
нул накоса в глаза Мартына: — А как, парень, ты себя
чувствуешь... вообще?
По душам они, из-за обилия забот и хлопот, говори-
ли в последнее время редко.
Поймав на себе испытующий взгляд Черноголового,
Мартын, как всегда в таких случаях, сочно, с испарин-
кой на лбу, покраснел:
— Я чувствую себя ничего!
Он не смолчал, как было раньше, когда к нему обра-
щались с таким вопросом, но сказал нечто, что не могло
быть ни ложью, ни правдою.
А правда была такая: выполняя точно все задания,
ему поручаемые, выказывая себя при этом жадным и
ревностным, Мартын Баймаков был как бы только напо-
ловину в здешнем мире. Он выступал агитатором на ми-
тингах, проводил среди сотен людей нужные резолюции,
заседал часами в президиуме губпрофсовета, писал
ночью пламенные передовицы в газету, терпеливо со-
ставлял вместе с губпродкомиссаром Синицыным раз-
верстки на зерно и сам, во главе рабочего отряда, прони-
кал в отдаленные местечки губернии — собирал то самое
зерно, которое питало революцию. Но что-то выходящее
за пределы обыденного сознания все время неведомою
музыкою звучало в сердце Мартына, а его двадцать один
год, все двадцать один были как туго натянутые струны.
Только Мартын (а может быть, еще и другие тысячи
с ним молодых, сильных сердцем) мог, сидя в санях, под
ударами снежных буранов, верить, что эти сани, взятые
по ордеру в сельсовете, влекут сейчас в глубину страны,
в неуемные снежные просторы, что-то очень ценное, не-
бывало важное для революции.
44
Мартын Баймаков знал крепко об огромном, ни с чем
не сравнимом значении малых цифр, выводимых им,
Мартыном, совместно с губпродкомиссаром Синицыным
в бумагах. И он знал, что такое для революции сам губ-
продкомиссар Синицын! У Синицына все лицо исклевано
оспой, его голос шуршит, как наждак по стали,— но не
этот ли человек держит в своих руках судьбу края, не тот
ли это человек, чья ошибка может нанести поражение
целой армии? И вот он, удивительный этот Синицын, по-
долгу просиживал с Мартыном, совещался с ним и тер-
пеливо выводил под его диктовку цифру за цифрой...
И об этом, рано или поздно, должны узнать все его, Мар-
тына, друзья и товарищи!
Мартын Баймаков — отличный, признанный оратор,
но кто бы ему поверил, если бы он взял да и открыл
всего себя на одном из митингов! Оказывается, Мартын
мог горячо говорить, подкреплять себя выдержками из
Маркса и Ленина, строить в боевые колонны цифры, а в
то же время какою-то частицею своего сознания парить
над людьми, скученными в чадном, прокуренном зале,
слушать свой рокочущий голос и глядеть сверху вниз на
весь этот зал, на людей и на себя в центре всего. И не
только глядеть, но и восхищаться до слез,— скрытых, ко-
нечно,— величием и неповторимостью минуты.
Черные силы, те, что веками держали в рабстве на-
роды мира, раздавили когда-то Парижскую коммуну,
опрокинули недавно Баварскую республику, смяли ра-
бочую власть в Венгрии, отняли жизнь у вождей немецко-
го народа,— сегодня бушевали по родным советским по-
лям! И он, Мартын, был одним из тех, кто противостоял
этим силам, верил в неизбежность их поражения, готов
был схватиться с ними и звал за собою окружающих,
звал к мужеству, подвижничеству, к работе во имя
победы...
А люди расходились, толкуя о своих повседневных,
будничных нуждах, и... забывали о Мартыне, и у него
самого начинали ворочаться странные мысли... О том,
например, как непостижимо трудно разгадать себя, ис-
пользовать же свои силы до конца, чтобы ни капли не
утаить при себе, еще труднее!..
Михаила Иваныча обмануть невозможно, Мартын
убеждался в этом не раз. Михаил Иваныч и теперь, за-
дав ему вопрос о том, как он себя чувствовал, поймал его:
45
— Что такое чувствовать себя «ничего»? Ты кисло
отвечаешь, Мартын! В наши дни ни в чем не должно
быть половинчатости... А еще лучше — вообще поменьше
бы нам заниматься собою, вслушиваться в себя!
Конечно, Михаил Иваныч не мог обойтись без поуче-
ния, но на этот раз тут был какой-то смысл. Можно ли,
в самом деле, в дни великие, жертвенные следить за сво-
ей особой, за своим самочувствием, ловить свои настрое-
ния?
Михаил Иваныч протянул руку Мартыну. Михаил
Иваныч спешил. Ему еще надо попасть на заседание ис-
полкома. На повестке дня — вопрос о коммунхозе. Си-
дят в коммунхозе отличные ребята, но мозги у них набе-
крень. У города — кто этого не знает? — ветхий водо-
провод, его трубы со дня на день могут опрокинуть в
дома, в подвалы реку, а ребята из коммунхоза затеяли
оборудование первоклассного сквера—в центре города,
с нимфами из мрамора, с фонтанами на манер петергоф-
ских, с цветниками эдемскими.
— Пока, Мартын! Ты, батенька, много с себя не спра-
шивай. У тебя впереди тысяча верст!
Михаил Иваныч как бы подслушал мысли Мартына.
Но почему же дано Черноголовому слышать тайное у
своего ближнего, а умения утешить, упрочить, выпря-
мить не дано? Для него все, кто окружал его, были до-
роги и ценны, но... не сами по себе, не своими особенно-
стями, достоинствами, а своим прежде всего участием
в общем потоке жизни. Он был как старший рабочий в
артели, для кого главное — это дело и участие каждого
в нем. Он и сам давно уж не принадлежал себе и был не-
сомненно доволен и счастлив этою возможностью ды-
шать, горевать и радоваться заодно со всеми.
IV
Ох, эти бессонные ночи в залах исполкома — в мрач-
ных старинных залах губернского присутствия! Толпы
народа, отряды особого назначения, бряцающие оружи-
ем, караулы со сменами по-военному, непрерывные засе-
дания Совета с голосистым эхом в коридорах... Жизнь
неслась вскачь, напрямки, целиною. Только кручи да про-
пасти, вихрясь, вставали по сторонам, и несгибаемая чу-
десная сила всем этим, грохочущим и донельзя буйным,
управляла. И притом — более искусно, чем машинист
46
многосильным своим паровозом. Не было ни рельсов, ни
будок стрелочника, ни семафоров. Были залы с темны-
ми колоннами времен наполеоновского нашествия, а в
залах — просаленные пиджаки, солдатские шинели, ли-
хо заломленные фуражки и от зари до зари гул набух-
ших страстью голсисов. И тут же, за колоннами, под ме-
телками задрызганных пальм, в чадных облаках махор-
ки, крутые теснились спины, шелестели, ярились прика-
зы, и белоснежная голова Михаила Иваныча несменио
высилась над всем, подобно лунному лику в знойном
мареве.
Тот, кто не видел Черноголового в эти часы за колон-
нами зала, у стола, похожего на буфет, многого вообще
не видел.
Сидел Михаил Иваныч в древнем губернаторском
кресле, поджав под себя левую ногу, от чего весь не-
сколько возвышался над дубовым грузным столом, и его
голова, остриженная под бобрик, разливая вокруг лун-
ный свет, казалась больше и величавее всех прочих го-
лов. Он смотрел в бумаги, слушал докладчиков, приты-
кал телефонную трубку к уху и был неуязвимо спокоен,
будто за его спиной не дрожали рамы от проезжавшей
по мостовой артиллерии, а все эти ребята, пахнущие
бензином, конским потом и порохом, не грудились над
ним грозовою тучею. Деловито и тщательно, с застужен-
ным напряжением, подписывал Михаил Иваныч бумаги,
откладывал, не глядя, перо, слушал одно за другим го-
лосистых, как бы стремившихся перекричать эхо у леп-
ного потолка, посетителей и веско, уверенно кидал:
— Можно! Нажимай!
Заглядывал в какую-то затрепанную, как портянка,
бумажку и живо, почти весело произносил свое «мож-
но». И всегда казалось, что предлагали ему как раз то,
что значилось в замызганной его бумажонке. И мало кто
подозревал, что эта бумажонка хранила факты, цифры,
беглые примерки к завтрашнему дню, своим появлением
обязанные тем же посетителям. Он складывал в целое
разрозненные сообщения, наматывал на ус каждое про-
зорливое, взвешенное опытом чужое слово и спокойно
чеканил свое:
— Можно!
И тотчас же докладчики, подымаясь от стола, бежа-
ли куда следовало, и уж ничто не в состоянии было пе-
реубедить или задержать их.
47
А снежная голова с широким лбом, орошенным ка-
пельками пота, склонялась к новым посетителям, и те
дивились про себя контрасту в лице предисполкома: лун-
ная седина — и свежие, юношеские щеки без единой
морщинки, поджатые в узел крепкие губы, чуть прикры-
тые бурой бахромою усов, неугасимый зеленоватый лу-
чик за массивным стеклом очков.
— Можно! Нажимай!
Эта фраза была знакома каждому партийцу, она ста-
ла общепринятой, ее можно было слышать всюду, и бы-
ла она излюбленной среди рабочих в моменты новых
дерзких затей, новых напряжений силы.
Когда отдыхал Михаил Иваныч, и отдыхал ли вооб-
ще этот человек?
Занимал он крошечный номер в бывшей гостинице
«Европа» (теперь советское общежитие), но здесь пред-
исполкома только спал и не всегда ел (ел где приходи-
лось). Мартын жил в том же доме, этажом выше. Близ-
ко — а встреч у них почти не было: один возвращался
поздно, другой вовсе не возвращался иной раз по целым
суткам.
Как-то, встревоженный слухами с фронта, заглянул
Мартын к Черноголовому далеко за полночь. Но вместо
хозяина застал в комнате Зину Кудрявцеву — секретаря
губкома: сидела чинно у стола, накинув на плечи ста-
ренькое пальтишко, и казалось — готова была сидеть
так до утра. Мартын мало знал Кудрявцеву, эту ближай-
шую помощницу Михаила Иваныча по губкому, но на
заседаниях не раз встречал на себе серые, в узком раз-
резе, глаза девушки и ловил в них затаенный огонек
стыдливого любопытства.
Поднявшись навстречу, Зина торопливо заговорила:
— Вот, пришла за подписью... Протокол экстренно-
го заседания... Но, кажется, не дождусь!
Мартын равнодушно, слишком равнодушно, взглянул
на нее:
— Да, Михаила Иваныча добыть трудно!
И по каким-то неясным для самого себя мотивам до-
бавил с раздражением:
— Михаил Иваныч вообще не отвечает за себя! Его
может задержать любой...
Это было не совсем справедливо по отношению к Ми-
хаилу Ивановичу,— но разве Кудрявцева не могла со-
48
образить сама, что ради какого-то протокола не следо-
вало ловить в ночь-полночь председателя губкома?
Она с недоумением подняла глаза. Смуглая кожа на
овальных, совсем овальных щеках ее загорелась. Кажет-
ся, она хотела что-то сказать в защиту Михаила Иваны-
ча, но Мартын оборвал ее: можно и без того не сомне-
ваться, что эта молокососка глядит в рот Черноголовому!
— Михаил Иваныч не умеет считаться с временем,—
подтвердил он.— Я знаю его не один год.— И перевел
разговор на другое:—Что нового на фронте? Мне Tie
удалось видеть последней сводки.
Тонкими красноватыми, как у подростка, пальцами
Зина плотнее натянула на плечи пальтишко. Она не са-
дилась.
— На фронте благополучно, товарищ.
— Благополучно? — Он едко усмехнулся.— Подозре-
ваю, что ты говоришь с чужих слов. У Черноголового
всегда и все благополучно!
Почуяв неладное в его голосе, Кудрявцева насторо-
жилась, и вдруг он встретил ее глаза, чуть-чуть насмеш-
ливые и, как показалось ему, согретые той особой, сни-
сходительной ласкою, с какою женщины пытаются успо-
коить своих близких, ими же взволнованных. Но это вы-
ражение блеснуло в ее глазах, как просвет первого, еще
не изведанного чувства, и в следующий момент смуще-
ние, растерянность, почти испуг заметались в ее лице.
Она подняла с пола портфель (стоял у ножки кресла)
и, присев за стол, принялась рыться в нем, низко скло-
нившись. Теперь был виден лишь ее круглый лоб в ра-
дужно светящейся паутине мягких волос.
— Хочешь, Баймаков, сводку?
Она говорила с ним на «ты», как со всеми товарища-
ми. Он взял из ее рук аккуратно сложенный лист, раз-
вернул и внимательно ознакомился с содержанием свод-
ки. Кончив, снова взглянул на нее, встретил спокойные
глаза и умную, чуть-чуть шаловливую усмешечку в тон-
ких уголках рта.
Неожиданно Мартын вспомнил Кудрявцеву в другой
обстановке. В саду губкома обучались метать гранаты
заводские ребята из Союза молодежи. Она была среди
них. Стояла, выставив левую ногу и широко, по-женски,
откинув в сторону руку с болванкою. Раз, два, три! Бро-
сила, не дошвырнула и, нагнувшись, зажав ладони в ко-
ленях, долго, дико и визгливо, до красноты на шее, хохо-
49
тала. А потом дурачилась, толкала чужую, вооруженную
болванкой руку, прыгала через скамью, показывая силу
своих мускулов. Она была чересчур вольна, здорова,
сильна,— и странно, это действовало на Мартына от-
талкивающе.
И теперь, как бы желая отомстить ей за тогдашнее
оставленное ею неприятное впечатление, Мартын ска-
зал:
— Конечно, ты так и не научилась метать бомбы?
В этом вопросе не было никакой связи с разговором,
но Зина не удивилась.
— Нет, я кое-чему научилась!
Он, помолчав, отвернулся.
— А знаешь, я видел, как ты впервые бросала бол-
ванки... там, в саду, весною!..
— Да?
Он хотел смутить ее. Но она как бы вовсе забыла
о своих неудачах в бомбометании. Она оставалась спо-
койною. И, не сдерживая себя, он угрюмо проговорил:
— Не женское это дело — бомбы метать!
— Что такое? — Давешняя насмешливая'ласка про-
ступила в ее глазах.— Баймаков! Неужели и ты за жен-
щину у печки?
— Неу печки, а у люльки!
Это вырвалось у него камнем. Он и не хотел бы так
сказать, но уже не владел собою: она положительно раз-
дражала его.
— Вот так коммунист! — проговорила она и презри-
тельно свистнула, но уши у нее вспыхнули.
Oih не хотел оставаться в долгу:
— Коммунистическое общество не собирается покон-
чить с продолжением человеческого рода...
Сказал и рассердился на себя: длинно, коряво! По-
правился:
— Человечество утверждает себя в этом мире, оно не
может отказаться от женщины — производительницы по-
томства...
Она соображала недолго:
— Чем же в таком случае твое человечество выше
любого животного? — Засмеялась.— А я до сих пор ду-
мала, что женщина вправе не только пополнять общест-
во, но и... устраивать его!
Он не смог скрыть одобрения по поводу быстроты и
легкости, с какими она отвела удар.
50
— Товарищ Зина, сколько тебе лет?
— Разве это имеет отношение к нашей дискуссии?
Не скажу!
— Нет, право!
— Но ты подымешь кампанию против секретаря губ-
кома: во-первых, зачем она женщина, а во-вторых, за-
чем слишком молода!
— Двадцать? — высказал он предположение.
— Девятнадцать с гаком. Но это пустяки! Через ка-
кой-нибудь десяток лет...
— Тебе стукнет все тридцать?
Засмеялись оба.
— В партии я чуть ли не с пятнадцати лет, Байма-
ков,— заметила она.— Еще в школе работала... Руково-
дил нами один из старшеклассников, большевик... Теперь
он в Москве. Об Алексее Рашине слышал?
Нет, он не слышал о Рашине: мало ли людей на свете,
да и чем, собственно, популярен Алексей Рашин?
— Как? Но ведь он там, у Ильича...
Мартын опять готов был прихмуриться. Что ж из то-
го, что у Ильича? Работают люди не только у Ильича,
но и здесь, под самым фронтом, и эти ему не менее ин-
тересны.
Зина замахала рукою, а была она у нее совсем ре-
бячья, с царапинами на пальцах:
— Хорошо, бросим! Но мне пора. Михаила Иваныча
и впрямь не дождешься.
Поднялась, принялась в сторонке одеваться. Торопи-
лась, как бы опасаясь, что кто-то мог вмешаться со сво-
ей помощью. Он стоял, ждал и чувствовал себя неловко
оттого, что она, будучи роста не маленького, все же вы-
нуждена была глядеть на него снизу вверх.
Застегнув проворно все пуговки, все до одной, она
надвинула кепку на стриженую (пушистую, как ковыль)
голову, сунулу под мышку портфель, а калоши забыла.
Он подхватил их, выбежал вслед на площадку лестницы.
— Эй, товарищ! — прокричал, перегнувшись через пе-
рила.— На дворе дождь... Держи!
— Спасибо!
И ловко поймала одну из калош на лету.
— Фокусница.
Он шел к себе наверх в легком возбуждении, как по-
сле морозного вечера, проведенного в поле на лыжах.
Но в номере с неубранною постелью и оборванными обо-
51
ями почувствовал досаду, а из-за пасмури этой досады
выглянуло лицо неведомого Алексея Рашина: оно было
бритое, скуластое и глуповатое, такое, каким не могло
быть у Алексея Рашина,— но иного лица Мартын не хо-
тел и не мог представить себе у человека, о котором с не-
сомненным восхищением говорила Зина Кудрявцева.
Мир стар. Люди приходят в него и уходят, но кровь
их — как вино в погребах: время бежит, события меня-
ются, а чувства, а навыки густеют и крепнут. Впрочем,
ересь! Все течет и меняется, даже любовь и ее спутни-
ца— ревность. И потом... какое вообще право имел он,
Баймаков, на особое внимание секретаря губкома?!
В ожидании командировки с продотрядом в уезд Мар-
тын не принимался ни за что сколько-нибудь серьезное.
Он выступал вечерами на летучих собраниях в железно-
дорожных мастерских (все то же: враг близок, надо быть
начеку, трудиться по-военному), а днем готовил в губ-
продкоме материалы.
Раза два ему удалось выбраться за город, в глубь,
в тишину степей. Тут, лежа в травах, под августовским
спелым солнцем, глядел он в небо и слушал, как бурлит,
поет в теле древняя кержацкая кровь. И тогда в голу-
бой над ним яме проступало кудлатое лицо рыбака: обо-
мшелая глыба с жигулевских скал. Крадучись, выползала
мысль о том смутном и волнующем, что слышал когда-то
про мать, про ее любовь, про тайну чужой и загадочной,
выращенной в барской усадьбе женщины. Крадучись, вы-
ползала мысль и, хмелея в своей дерзости, нашептывала
жуткую и сладостную правду о силе объятий, о мускулах,
властных и порабощающих, о мужичьей крови, смешан-
ной в нем, Мартыне, с чужою, ярою и дерзкою, пропи-
танной отчаянием.
Мартын почитал себя достаточно образованным, его
голова хранила увесистый клад всяческих, больших и ма-
лых, выловленных из книг истин. А за этим миром, по-
строенным в пору короткой, но напряженной сознатель-
ной жизни, был, как ему чудилось, другой мир, уходящий
корнями в глубокое прошлое. И в этом другом мире Мар-
тын видел себя иным, безликим, но неизбывным, как
степь и небо над нею. И в этом другом мире октавой пела
свою песню старобытная жизнь, и непрестанный, пеня-
щийся, летучий звон вторил ей: так гудят по степи дикие
ветры, и плещут, звенят в тугом их гуле темные дурманы
трав.
52
Революция продолжала свой путь. Коваными ободья-
ми колес своих попирала она прошлое, рушила, равняла
с придорожною пылью храмы вчерашних правд. И но-
вые, неслыханно чудесные слова срывались с уст много
молчавших: неслыханные слова о человеке, о жизни,
о вселенной. И каждое слово, как семя цветения, сорван-
ное бурей, летело и жадно никло к земле, и там, где земля
принимала, зачиналась борьба на жизнь и смерть... Борь-
ба за нового человека, за гармонию в нем высокого созна-
ния и чувства!
Борьба на годы... А пока... пока Мартыну Баймакову
не нравилось, что Зина Кудрявцева все дни и часы свои
проводит в губкоме и невозможно быЛо рассчитывать не
только на прогулку с нею в полях, но и на самый корот-
кий разговор с глазу на глаз.
Меж тем Мартыну так хотелось и этой прогулки
и этой беседы в уединении! Пусть бы послушала, о чем
поет его сердце... Пусть бы отведала вольной степной
радости и помогла ему... разгадать сказку о женщине,
ставшей его матерью.
Дикие, несуразные желания, от которых даже в оди-
ночку краснеешь! К счастью, никто о них не расскажет
людям. Желания же нерассказанные — ветер в степи:
велика степь, мгновенна и бесследна ветровая удаль.
И все же Мартыну удалось повидать до своего отъез-
да Зину Кудрявцеву.
Потом он выехал. Долог и труден был путь, полон
опасности. По степям рыскали бандиты, в хуторах скры-
вались вражеские шпики, иные деревни, где были еще
в силе кулаки, походили на потревоженные волчьи лого-
вища.
Не один раз смерть проходила совсем близко. Мартын
слышал сторожкую ее поступь, ощущал в солнечном зное
холодное ее дыхание, но всякий раз кто-то властный,
в сермяге и онучах, неторопливо расчесывая бороду, ста-
новился между ним и ею.
Смерть подстерегала в оврагах, в березняке, за око-
лицами селений, на вызорье полей. И она упорно следила
за Мартыном в селениях, стоя за костистыми мужичьими
спинами. Ненавидящий ее взор он встречал в глазах ста-
рости, изувеченной отчаяньем, и даже из бабьих уст,
алых как вишневый сок, слышал Мартын студеный голос
смерти. Но... появлялся в толпе безыменный друг, запу-
скал лапу в сивую бороду,говорил со вздохом:
53
— Так худо и сяк худо!..
И отступала смерть, и человечьей простотой налива-
лись глаза, складывались уста в улыбку.
Что может быть надежнее улыбки: весь день, суро-
вый, утыканный заботами, собиралась она по искорке —
и вот вспыхнула, осветила, заиграла надеждою!
— Так худо и сяк худо. Надо потерпеть!
Еще в городе, а затем в пути не одну историю переслу-
шал Мартын о жестоких расправах с продотрядчиками.
Было тут все: и ночные нападения (с топорами, с вила-
ми), и предательские выстрелы за околицей (волчьими
зарядами): враг не дремал.
Про всякую всячину, одно страшнее другого, расска-
зывали Мартыну. Но никто не обмолвился о вековой де-
ревенской мудрости, добытой под розгами, в тюрьмах,
в гиблых сибирских ссылках. Никто <не вспомнил об улыб-
ке, светлой и прочной, напоминающей библейскую радугу.
Был Мартын силен телом, его сердце безупречно ра-
ботало, и еще ни разу, пока себя помнит, не думал он
о смерти. Даже там, в городке, томясь в жару на боль-
ничной койке после ранения. И теперь, окруженный по-
рою хмурой враждою, он также не помышлял о смерти.
Все его юное, упрямо и буйно цветущее тело не могло
даже отдаленно представить себя обреченным праху.
И потому не верил Мартын ни в топоры, ни в вилы, ни
в волчьи заряды. Он знал, что Мартын Баймаков должен
жить еще много, так много, что на его жизнь не хватит,
пожалуй, ни этих фронтовых битв, ни тем более всех
этих топоров и вил деревенского кулачья.
Товарищи по отряду,— тринадцать их: семеро рабо-
чих, пятеро пожилых фронтовиков и матрос-балтиец,—
все тринадцать ворчали на Мартына за непоседливость,
за желание быть всюду, откуда доходил слух об укрытых
хлебных излишках, за вызывающую прямоту с народом,
за равнодушие к опасностям.
— Шею с тобой сломаешь! — говорили в отряде.
А он только краснел, отворачивался и краснел — с до-
сады ли, от гордости ли за себя?.. Ведь так говорили
о нем не какие-нибудь: говорили ребята прожженные,
обстрелянные, которым и пуля нипочем! А за их спинами
виделись Мартыну и те, далекие: Черноголовый, губпрод-
комиссар Синицын, Зина из губкома.
Нет, он не тщеславен! Продвигаться ночью в степи,
не ведая, кто тебя встретит — друг или враг, и думать
54
втихомолку, что сказал бы теперь о нем, Мартыне, Чер-
ноголовый. Или стоять лицом к лицу с насупленной, как
грозовая туча, толпой и ожидать, что вот-вот из-за мши-
стых голов выглянут и улыбнутся знакомые, серые, пуши-
стые, как вербочное цветение, глаза! Право, упрекать во
всем этом не следовало его, /Мартына.
Хотелось написать в город. Напомнить о себе Михаи-
лу Иванычу, Синицыну, Зине. Но не решался: еще упрек-
нут в ребяческом легкомыслии... Давно ли расстался!
Надо прямо сказать — он скучал по своим друзьям.
Скучал по городу, по всей той упрямой, осмысленной, рас-
считанной из часа в час толкотне, которая была там и ко-
торой еще не было тут, в глухомани.
Только однажды, на третьей неделе пути, пробираясь
ночью в степях, услышал Мартын голос города. Где-то
поблизости пролегал железный путь, и был слышен дале-
кий рев паровоза.
После двух недель неуемных деревенских шумов, по-
сле непролазной, казалось, темноты вокруг и отчаянной
с нею борьбы, а в борьбе — малодушного порою сознания
своей беспомощности вдруг услышать могучий, мелодич-
ный рев железа,— что может быть чудеснее?
Четырнадцать верховых, как по команде, натянули по-
вода. Четырнадцать голов, насторожившись, влипли слу-
хом, зрением в густой мрак предосенней ночи.
Весь в пламени, в шуме, в грохоте, величаво и неуст-
рашимо подминая под себя поля, мчался поезд. Вез Лион
эшелон бойцов к фронту, спешил ли с ометами свежих,
прямо из-под рук еще горячих снарядов, или, выполняя
чью-то неукротимую волю, нес на своих стальных крыль-
ях новые, богатырские, еще не разрешенные здесь, в сте-
пи, загадки?.. Что бы ни таил в себе этот стремительный
караван из железа и стали, все они, все четырнадцать,
были его соучастниками!
Чувство благодарности, гордости, восторга охватило
Мартына. И, как бы откликаясь ему, матрос-балтиец с за-
бористым хохотком, с упоением путника, учуявшего по
ветру жилье, выглотнул:
— Эх, разъять твою ять!..
А вскоре случилась новая радость: опять дохнул на
них город, протянул им руку, заговорил голосом самого
Михаила Иваныча.
На границе участка, что второй месяц находился под
белыми, в логах, под буераками, в деревушке из полу-
55
торасот едоков, почти с физическою ощутимостью пере-
жил Мартын близость Черноголового: был Черноголовый
где-то там, за сотню верст, и... был здесь.
Ватага мужиков, расположившись на артельной зава-
линке, щупала по очереди непослушными пальцами полу-
лист печатной бумаги. Бумага была читана и перечитана,
и теперь люди брали ее на ощупь, как бы удостоверяясь
в вящей реальности ее.
А заключала бумага извещение губисполкома о рас-
пределении земледельческого инвентаря.
И тридцать плужков значилось в оповещении, три-
дцать плужков для Волокушинской волости!
А мужики были из Волокуш. Завтра они переберутся
за вражью черту и будут рассказывать там сватьям и ку-
мовьям своим о плужках... И тридцать плужков, желан-
ных, но невозможных здесь, под пятою врага, здесь, где
деревне уже угрожала давняя жуткая кабала помещика,
поведают о себе, о Михаиле Иваныче, о городах, о Крем-
ле и Ленине больше, чем триста лучших агитаторов.
И об этих плужках Волокушинская волость сочинит
горячую, от самого сердца частушку, и, ухмыляясь мя-
гонько в бороды, старики будут вспоминать много и дол-
го о славных молодых бойцах, о сыновьях и внуках сво-
их, быть может уже сложивших за волю буйные головы.
Взял Мартын бумагу у крайнего на завалинке, пощу-
пал, как тот, заглянул: да, Черноголовый!
И так же, как тогда ночью, в степи, слушая далекий
рев паровоза, матрос-балтиец с удалым хохотком выкрик-
нул из-за спины Мартына:
— Эх, разъять твою ять!.. В самый срок бумага!..
В том-то все великолепие и заключалось, что это, под-
писанное Черноголовым три месяца назад оповещение
попало сюда как раз к прибытию отряда. Будто еще три
месяца назад знал Черноголовый, что явится он, Мартын,
сюда, под Волокуши, со своими ребятами, и позаботился
расчистить им путь.
V
Случилось нежданное, жуткое: город готовился к эва-
куации. За городом, в каких-нибудь десяти верстах на во-
сток от него, гудела артиллерия. По улицам тарахтели
двуколки с лазаретным имуществом и ранеными. Прохо-
дили сумрачные, в повязках, в бинтах, изнуренные, как
после тяжелой болезни, красноармейцы.
56
Еще когда приближался Мартын к городу, стали на-
растать тревожные слухи: прорыв ближнего фронтового
сектора, какие-то конные полки белых обрушились на
тыл, какой-то во главе их генерал рвался на север к Мо-
скве.
Сдав свой отряд куда следовало, Баймаков бросился
в исполком. В старых, замызганных залах пусто, глухо,
бесприютно. За колоннами, у пальмовых метелок, высил-
ся знакомый стол, крытый зеленым, в чернильных пятнах
сукном, но за столом никого не было.
Из полуоткрытой в коридор двери врывался шум.
Мартын заглянул: люди, все в военной форме, незнако-
мые. Армеец с винтовкой преградил путь у порога:
— Совещание штаба... Не велено!
Мартын повернул в глубь коридора, к крайней двери:
угловая комната, бывшая губернаторская приемная, с ок-
нами на две стороны,— любимое место Черноголового.
Не тут ли он сам?
— Можно?
Вошел. Михаил Иваныч стоял у стены, подле телефо-
на, и кричал в трубку. Сбоку, ожидая и волнуясь, топ-
тался Жбанов из коммунхоза, человек с недужным ли-
цом, цвета лимонной корки. У стола сидел Губарев, пред-
губпрофсовета, дюжий, скуластый, лохматый. Сторонне,
невидящими глазами встретил он Мартына, ничего не
сказал, лишь кивнул головою.
— Нет, этот номер не пройдет! — сказал, опуская те-
лефонную трубку, Михаил Иваныч в сторону тех двух.—
Попробуйте сами, лично!
Губарев поднялся, стул под ним крякнул. Жбанов бо-
ком, козырьком к виску, напялил на голову серое кепи.
— Идем!
— Надо позвонить до автомобиля...
— К черту! Провозимся...
И вышли оба торопливо, не глядя на Мартына: Жба-
нов— долговязый и легкий, с темными, горящими изнут-
ри глазами, Губарев — грузный, тяжелый, в бурых лох-
мах, свисавших на лоб, на виски, на уши. Год назад он,
слесарь первой руки, ходил мастером в ремонтных ма-
стерских чугунолитейного и тогда брился, носил маниш-
ку. Теперь ему было не до того, чтобы следить, как он
выражался, за своим обличьем. С порога крикнул:
— В ответе ты, Иваныч!
Черноголовый не откликнулся. Дверь захлопнулась.
57
— Проходи, Мартын.
Михаил Иваныч говорил обычным своим глуховатым
голосом, но глаза его под толстым стеклом не светились,
как всегда, лучистой зеленью, а вяло, недвижно и покор-
но мутнели в глубоких впадинах.
— Давно прибыл?
— Три четверти часа назад...
— Благополучно?
— У меня — да!
Встретив тревожный, выспрашивающий взгляд, Ми-
хаил Иваныч свистнул.
— А у нас тут, как видишь, сверхнеблагополучно!
Он подошел к дивану и, не владея собой, опустился
на него. Мартын видел, как вдруг все тело Черноголового
обмякло в дремотном томлении и под стеклом очков по-
мерк, замер последний отблеск жизни.
— Иваныч, что же случилось?
За стеклом пошевелилось, глянуло и опустело снова.
— Случилась гадость, Мартын... Но ты... прости ме-
ня... Эти дни-ночи я почти не смыкал глаз... А, что?..
Мартын молчал.
Голова Михаила Иваныча, как подтаявший снежный
ком, склонилась на грудь, а грудь, прикрытая линючим
ситчиком, знакомым Мартыну еще по ссылке, вдруг под-
нялась, глубоко всхлипнула и замерла. Медовая ребячья
истома разлилась на розовых щеках, губы отпали
и взмокли, и в правом уголку их вспыхнул крошечный
пузырик.
Мартын на цыпочках прошел к окну, распахнул обе
створки, вобрал полную грудь воздуха и опять обернул-
ся к Черноголовому. И вдруг, глядя на неподвижную
фигуру Михаила Иваныча, почувствовал страх. Это ко-
лючее, тошнотное ощущение, прилившее к самому сердцу,
продолжалось одно мгновение. Но и того было достаточ-
но. Мартын опустился в кресло. Вязкий озноб пробежал
у него по спине. Потом стало жарко; ноги казались чу-
жими, тяжелыми.
«Кажется, у меня лихорадка,— подумал он.— Очень
кстати!»
В раскрытое окно глухо, но мощно, вздувая воздух,
ворвался пушечный гул. Еще и еще! Будто кто-то огром-
ный, подмятый тяжестью, вздыхал густо и отдувался.
— Ты здесь?
58
Михаил Иваныч глядел со своего дивана на Мартына,
прежний, невозмутимый, и в глазах его уже не было
ничего, что напоминало жухлые, осенние, изжеванные
травы.
Он потянулся, сдержал позевоту. На темно-пунцовых
губах его заиграла улыбка.
— Мартын, ты что-то бледен... Не болен?
— С дороги я.
— А, понятно. Ну как в деревнях?
— Кулачье — на дыбах, а масса за нами тянется.
В общем, терпимо!
— Середняк?
— Как будто набирается разума.
— Вот это хорошо! Без середняка нам и Денику не
свалить, а Деника, проклятый, как видишь, покою не да-
ет: прет и прет!
— Но что же произошло у нас, Иваныч?
Черноголовый вздохнул.
— Мы просчитались, Мартын! — Он произнес это со
стыдливой горечью, тоном, какого еще ни разу Мартын
не слышал.— Глупо, досадно... Все величины были в
наших руках, но некоего икса мы не учли в полной
мере.
— А икс оказался генералом с кавалерийским кор-
пусом?
— Нет, не то! Икс был у нас под носом — в нашем
нищем интендантстве, в пустых боевых складах...
— И это... все?
Михаил Иваныч перехватил нотку недоверия в голо-
се Мартына и, помолчав, продолжал хмуро:
— Было и еще кое-что, но об этом не время распро-
страняться!
— А все же — что именно? — не унимался Мартын.
— Что, что! — уже с досадой откликнулся Михаил
Иваныч и без нужды, рывком, оправил очки.— Помнишь,
о «балансисте» рассказывал ты... Ну, так встречаются
вот этакие «балансисты» и на военном деле! Послушаешь
иного на вышке: звон, треск, безудержное красноречие...
истый Демосфен! А на деле — бестолочь, растерянность,
развал всюду... И ничьих советов слушать не желает! На
старые кадры партийцев с высокой горки плюет, а со
спецами подозрительными — печки да лавочки... Ты смот-
ри,— поднял он голос.— Колчака мы гоним? Гоним! Юде-
нича в августе отбросили? Еще как! Вверх тормашками!..
59
Почему же, спрашивается, у нас, на южном, беда за бе-
дой?!
Видимо, Михаил Иваныч задел свое наболевшее ме-
сто и разволновался, но, заметив ответную взволнован-
ность Мартына, сдержал себя.
— Ладно, нечего об этом! — произнес он резко.— В ко-
нечном счете — всяких неувязок достаточно, Мартын!
Взять хотя бы опять-таки боевое оснащение,— вернулся
он к затронутой теме.— Отряды наши кое-как одеты, не
лучше обуты, не всегда досыта наедаются... Эх, да чего
уж там!
Он махнул рукою, понурился, вслед встряхнулся.
— Ничего, справимся! Слышишь, как палят?.. Обстре-
ливаем железнодорожный мост на Семилуки!
— Так то... наша артиллерия? — Мартын снова по-
тянулся к окну.
— А чья же! Мост мы подорвали, но банды налетом
захватили его и теперь торопятся восстановить, открыть
дорогу своему броневому. Мы и жарим по ним! Ясно?
Нет?
— Ясно, Иваныч... Что за люди в штабе? Я хотел бы
включиться в действие...
— Поздно, друг мой! Штабу не до отдельных стрел-
ков.— Он встал с дивана, заглянул на часы в простенке,
прихмурился.— Вот Губарев предлагал тут ударить тре-
вогу по предприятиям... Гудками! Я отговорил.
— Ты?
— Чему удивляешься? Силы, какие можно было
взять, взяты и находятся там, за городом, в песках. Кон-
церт гудков ничего уж не даст нам.
В глазах Мартына проступило сомнение, но Михаил
Иваныч вдруг оживился, повысил голос:
— Кладу голову на отсечение: эти налетчики не смо-
гут просидеть у нас более суток!
— Ого! Но за сутки бандиты натворят столько бед...
— Этого мы им не позволим!
Мартын, недоумевая, приподнял брови, но в эту ми-
нуту зазвенел телефон.
Михаил Иваныч взял трубку.
— Слушаю! Кудрявцева? Так, так... Очень хорошо...
Отлично... С кем?.. М-м... Сейчас решим... Ожидай на
вокзале... Держи всех своих начеку... Ладно... Пока!
Услышав имя Зины, Мартын поднял глаза на аппарат.
Он как бы ожидал увидеть девушку где-то тут, близко.
60
Но ни особого любопытства, ни, тем более, радости не
почувствовал и удивился этому сам. Там, в степи, встре-
ча с Кудрявцевой казалась ему целым событием, но сей-
час имя ее, только что произнесенное, прозвучало в соз-
нании как что-то полузабытое, далекое.
Михаил Иваныч заторопился:
— Слушай, Мартын. На вокзале снаряжен эшелон
с эвакуированными. Женщины, дети, старики... Семьи от-
ветработников! С этим же составом отправляем наличие
наших касс, все наши ценности... При ценностях Туляков!
Полная его ответственность... Но нужен комендант поез-
да... Охраны, кроме одного-другого штыка, дать не мо-
жем, а путь... чреват всякими неожиданностями! Мы да-
же не знаем, удастся ли эшелону проскочить через стан-
цию Боровики. Словом, я прошу тебя, Мартын, стать во
главе поезда! Туляков — надежный товарищ, потомст-
венный пролетарий... Ты его знаешь... Но одному ему не
справиться.
Из глаз Мартына глянула пасмурь.
— Что ж! — произнес он сдержанно.— Я готов... Но
мне кажется, что Баймаков заслужил... более ответствен-
ную роль, чем эта: комендант женского поезда!..
Михаил Иваныч перебил его:
— Оставь, пожалуйста! В минуту опасности всякая
роль значима... Кроме того, ты недооцениваешь ответст-
венности! Тут требуются чрезвычайная сметка, находчи-
вость, мужество... Может быть, поезд придется остано-
вить в степи... Может быть, обстоятельства вынудят свер-
нуть к Дону... Итак?
— Ты знаешь, я не откажусь! Но...
— И отлично, отлично!
Черноголовый подсел к столу, заскрипел пером.
— А что будете делать вы здесь? — спросил Мартын,
не трогаясь с места.
— Возможно, нам придется также выехать, но сут-
ками позже. Кое-кто, впрочем, останется. Со смиритель-
ными рубашками для гостей!
Михаил Иваныч многозначительно улыбался. Мартын
умоляюще поднял на него глаза...
— Иваныч! Я бы тоже остался...
— Верю, но ты не останешься!
Мартын хорошо знал Черноголового. Спорить с ним
было бесполезно.
61
— Подчиняюсь,— выронил он и протянул руку.— Про-
щай, Иваныч!
— Торопись! И... не «прощай», а до скорого свида-
ния!.. Вот мандат... Подробные инструкции у Кудрявце-
вой, на вокзале.
Они наскоро обнялись.
Уже взявшись за скобу двери, Мартын оглянулся и
увидел чье-то обрюзгшее, вялогубое, с полузакрытыми
глазами лицо. Это не было лицо Черноголового. Это бы-
ло бесконечно измученное лицо старика.
Он открыл дверь. Из коридора навстречу шел человек
в военном.
— Черноголовый здесь?
— Здесь.
У самого плеча Мартына проплыла изжеванная папи-
роса, бездымная, давно остывшая. И глянули (небрежно,
вкось) круглые, крупные, бархатные глаза. Мартын по-
морщился: он узнал Клепикова из совнархоза. Он не лю-
бил этого товарища за надменность, за постоянное какое-
то любование собою: человек как бы держал перед со-
бой вечно зеркало. И почему он сейчас в военной форме?
В коридоре, как и прежде, было пусто. Под белым
потолком что-то невидимое с грохотом падало, но у две-
ри в комнату штаба недвижно и спокойно стоял часовой
с винтовкой.
«Зачем они держат этот штык при себе, когда он так
нужен за городом?»
Эта мысль метнулась в сознании Мартына, как соло-
минка, вырванная из омета ветром: поднялась, описала
дугу и пала. Мартын поймал себя: похоже, что он не до-
верял штабу, хотя и не имел к тому оснований. Правда,
этот Клепиков... Но ведь Клепиков мог постигнуть воен-
ное искусство в старой армии. И притом Михаил Иваныч
считался с ним как с довольно дельным человеком. Нет,
он, Мартын, явно несправедлив к товарищам, и в этом
ничего нет путного... Впрочем, не было справедливости
и у них к Мартыну! Разве, в самом деле, Мартын — по-
следняя спица в колеснице, чтобы встречать его сторо-
жевым штыком у порога? «Не велено пущать...» А сам
Черноголовый? Не считал ли он Мартына, усылая его
в эвакуацию, все еще нуждающимся в своей опеке?!
На улице светило солнце. Горячие его лучи коснулись
лица и рук Мартына, и опять он ощутил озноб и опять
подумал с тревогой: неужели подхватил лихорадку? Нет,
62
тут что-то иное! Покалывало в верхней доле груди, там,
где лежал узелок зажившей раны, и как будто спирало
дыхание... Он еще ускорил шаг,— надо было спешить.
Поровнявшись с пыльным, пожелтевшим от зноя скве-
ром, остановился в раздумье:
«Этак, пожалуй, мне и через час не попасть к месту!»
Вокруг было пустынно, немо. Только глубокие вздохи
пушки там, за городом, тугими волнами прокатывались
среди домов, и всякий раз казалось, что окна в домах на
мгновение беззвучно защуривали свой остекленело выта-
ращенный зрак.
Солнце светило покойно и ровно, и в этом спокойст-
вии была невозмутимая радость земли, теперь ненужная
и оттого жестокая.
Ломовой извозчик вывернулся из-за угла. Его жили-
стые руки, вцепившиеся в вожжи, казались слепыми;
вожжи бестолково трепались, и взмыленный жеребец,
оскалив зубы, топтался на месте.
— К вокзалу! Нажимай! — прокричал Мартын, вска-
кивая на грядушку.
Неожиданный окрик этот возвратил рукам извозчика
разум. Он еще соображал про себя, как быть, но его ру-
ки сами собою колыхнули вожжи, хлесткий шлепок по
крупу заставил жеребца рвануться вперед, телега с гро-
хотом двинулась.
На кровле большого каменного дома (бывший окруж-
ной суд) Мартын увидел людей. Похожие снизу на кар-
ликов, они осторожно пробирались от трубы к трубе и
что-то там устраивали. У крайнего карниза, из темной
дыры слухового окна, высовывался пулемет.
Извозчик также заметил людей на кровле. Он огля-
делся и вдруг натянул вожжи.
— Слезай... ты! — закричал он, обдав Мартына мут-
ным взглядом ненависти и страха.
— Ну-ну! — огрызнулся Мартын.
— Слезай, тебе говорят! Ишь, фря какая... Вот я тебе
рас...
Он не успел закончить: Мартын круто повернулся
к нему и взмахнул руками.
— Прохладись!
Сброшенный на мостовую, извозчик остолбенело гля-
дел вслед удаляющейся телеге. Затем он молча сорвался
с места. Бежал набычившись, терпеливо и емко, на бегу
подвязывая у живота полы армяка. Это был высокий,
63
широкоплечий детина с непомерно маленькой головою.
В бегу он напоминал верблюда.
На вокзале было безлюдно. Армеец, вооруженный
винтовкою (держал ее на ремне за спиной), с лениво-
мрачным видом вышагивал по перрону. Пожилой тучный
кондуктор, рыжеусый, с тугим багровым загривком, вы-
катился из двери комендантской и, путаясь в полах ши-
нели, направился в сторону путей. Мартын крикнул вслед,
но кондуктор даже не обернулся, и это задело Мартына.
Перед его глазами снова всплыли — человек со штыком
у порога штаба, чужие, холодные лица самих штабников,
невидящие глаза предгубпрофсовета Губарева.
На путях рядами громоздились товарные вагоны. Где-
то среди серого потока вагонных крыш с гулом подви-
гался паровоз. Другой, высунув из-за вороха клади чер-
ную. как бы осмоленную трубу, нетерпеливо отфыркивал
в мутное, знойное небо клубы дыма.
Где же эшелон с эвакуируемыми и почему не видно
Кудрявцевой?
Армеец с винтовкой поравнялся с Мартыном. Мартын
раскрыл было рот, но сдержался. А вдруг и от этого услы-
шишь бесцеремонный, равнодушный возглас, вроде: «Не
знаю, проходи!»
Чувствуя себя сиротливо, Мартын направился в ко-
мендантскую. В сумрачной комнате с огромным, но сле-
пым от пыли окном было шумно и дымно. С первого же
взгляда на людей Мартын понял, что собрались масте-
ровые: темные, засаленные распашонки, сажа и масло на
потных лицах, широкие, вольные жесты и какой-то осо-
бенно крепкий, как лязг буферных цепей, говор. И еще
понял, вернее—почувствовал Мартын, что здесь он мо-
жет занять любое за столом место, говорить, кричать и
вообще делать все, что подскажет ему сердце. Он снял
кепку, встряхнул пшеничными своими кудрями и спро-
сил у стоявшего ближе к нему рабочего, не видал ли тот
Кудрявцеву из губкома, губкомовского секретаря. Рабо-
чий, нетерпеливо слушая кого-то за столом, ответил не
сразу. Он зычно прокричал свое, жаркое, торопливое, и
уже потом повернулся к Мартыну:
— Какую тебе Кудрявцеву? Видишь, заседаем!
И тотчас же, напружив темную матерую шею, дви-
нулся к столу:
— Молодец, Сухоруков... Правильно!
64
И только теперь Мартын увидел за столом Сухоруко-
ва в новенькой кожанке.
Сухоруков Илья Ильич был комендантом станции.
Всего лишь полгода назад он покинул станок в железно-
дорожных мастерских, но и за этот срок имя его успело
стать самым известным не только на станции, но и дале-
ко за ее пределами.
Илья Ильич стоял, отмахнув на затылок фуражку,
выпятив из распахнутой кожаной тужурки грудь, и шле-
пал ладонью о стол: к порядку!
Постепенно, подбирая в себя крики, комендантская
затихла. Илья Ильич молча, вразвалку направился к те-
лефонному аппарату. Глаза всех следили за ним.
— Станция? Давай губком... Губком?.. Давай самого!..
Илья Ильич, не отрывая от уха трубки, взглянул на
товарищей и даже подмигнул кому-то: послушаем, мол,
как т£м запоют.
Вдруг широкое, начисто выбритое лицо его подтяну-
лось, напряглось. Он переступил с ноги на ногу и, при-
ставив к трубке ладонь ковшиком, закричал:
— Здорово, Иваныч! Это я, Сухоруков! У нас экстрен-
ное заседание делегатов... Единодушно принято решение...
Ну да, об том об самом!.. Чего? Лично?! Где там, к чер-
тям, ли^но!..
Илья Ильич оторвался от трубки:
— Личный доклад требует!.. Опасается, не подслу-
шали бы...
Комендантская вспыхнула возгласами:
— Кому слухать?..
— Свои кругом!..
— Валяй, Сухоруков!..
Комендант стукнул каблуком о каблук по-военному:
«Есть»,— и снова во все легкие в трубку:
— Некогда докладываться, Иваныч! Прими по труб-
ке... Дело проще пареной репы: раз-два — и капут! Деся-
ток вагонов с балластом, паровоз сзади на полном ходу —
и валяй в самое пекло!.. Чего?.. Любой броневик под на-
сыпь спустим... Чего?
Сухоруков смолк, слушал, скорчив хмуро лицо. Вокруг
нетерпеливо придвинулись к телефону. Дышали тяжело
и порывисто, со свистом, как одно большое тело кого-то
насторожившегося, готового к прыжку. Сухоруков отвел
трубку, прикрыл рожок ладонью.
3. В. Бахметьев
65
— Он говорит — не годится! Тс-с... Надо, говорит, по-
добную операцию ночью, а до ночи, говорит, моготы у нас
не хватит... Как же теперь?
Рабочие молчали. Илья Ильич махнул рукою.
— Алло!.. — поднял он снова трубку.— Ужели не про-
держимся до ночи?.. Да что ты говоришь!.. Ах, так их,
этаж... Мы-м... Чего? Шрапнелью?!
Он покинул аппарат и поднял, прислушиваясь, голову.
— Ребята! Слышь, шрапнелью белые жарят!
Люди шарахнулись к двери. Над перроном стояло гре-
мучее эхо. По перрону все с тем же ленивым, равнодуш-
ным видом расхаживал армеец с винтовкою.
— Так и есть! — крикнул Сухоруков.— Значит, «он»,
гадюка, через мост перебрался. Куда?! — внезапно взвыл
он в сторону рабочих, бросившихся по панели врассып-
ную.— Забыли, где вы, матери вашей красно яблочко...
Айда к депо!..
И в эту минуту Мартын увидел Кудрявцеву. Она бе-
жала от вагонов через рельсы, что-то кричала, взмахивая
рукою. На ней была короткая коричневая юбка, как у
подростка, и суконная тужурка по колена, и эта юбка де-
лала ее похожей на школьницу. Увидел Зину и Сухору-
ков. Он стукнул себя ладонью в лоб и разразился руга-
тельствами.
— Сидоров! — заревел он.— Сидоров... будь ты про-
клят... Давай сигнал номер пятому!..
Зина взобралась на перрон. Смуглое лицо ее пылало,
тонкие ноздри вздрагивали, как бы принюхиваясь.
— Баймаков! — кинулась она, порывисто дыша,
к Мартыну.— Что же ты? Сидим тут полный час... У нас
женщины, дети!..
Мартын поморщился.
— Не вопи, пожалуйста... И... здравствуй!
— Нельзя же держать эшелон в таком положении!
— Слышу!.. Где поезд?
— Идем!
Голос у нее был хрипловатый. Не оглядываясь, она
побежала. Мартын в два прыжка нагнал ее:
— У вас все готово?
— Все! Эшелон на пятом пути.— Она задержала
шаг.— Ну, а как твоя поездка? Что по деревням?
— Э, чего там!.. Полный успех! Главное было — втол-
ковать мужику: по пути ему — только с нами.
66
Они пробирались среди вагонов, порою вскакивая на
площадки и перемахивая через них, а вверху, над самы-
ми, казалось, головами их, с гулким звоном рвалась
шрапнель, и эхо взрывов катилось по рядам вагонов, как
по заброшенным пустым залам. Зина то и дело останав-
ливалась, приседала, возбужденно смеялась над собою.
— Ты бледен, Мартын! — крикнула она на одном из
поворотов.— Что с тобою?
— Меня... того... лихорадит маленько.
Она подхватила его руку, пожала, приткнула к своей
щеке.
— Рука — как огонь... В поезде есть аптечка, Мартын!
— Не понадобится, Зина!
Теперь она бежала и все поглядывала на него и уже
не приседала под треск рвущейся шрапнели.
Перебравшись через площадку крайнего вагона, они
оказались возле самого паровоза. Паровоз пыхтел, каш-
лял, дрожал.
— Слушай, Мартын! Маршрут: Боровики — Давыдов-
ка — Лиски... Путь пока свободен... Думаю, что в настав-
лениях Баймаков не нуждается?
Она заглянула ему в лицо смеющимися, в узком раз-
резе, глазами и вслед прихмурилась:
— Фу, какой ты! Гляди не свались в дороге...
В этой ее заботливости что-то начинало раздражать
Мартына. Он отвел ее руку и направился к вагонам. Она
следовала за ним. Первый от паровоза вагон оказался
новеньким, пассажирским, за ним тянулись товарные.
Из товарных выглядывали перепуганные лица женщин,
слышался детский плач. Подросток бежал вдоль вагонов,
и ему вслед неслись женские крики:
— Пашенька! Убьют! Пашенька, Пашенька!
С площадки пассажирского окликнул Мартына глу-
хой голос:
— Баймаков, лезь! Трогаем.
Мартын поднял голову. На площадке, свесившись с
нее, стоял Туляков. В глазах его было бело, водянисто.
— Ну, прощай!
Зина взяла руку Мартына. Он торопко заглянул ей
в лицо:
— Как! Разве ты... не с нами?..
— Он еще спрашивает! Мое ли место среди матерей
и чад?
67
Мартын смешался. Ее ответ, сухо-снисходительный,
уколол его.
— М-да... А я вот еду! — произнес он с нескрываемой
горечью.
— О, ты — статья иная! Ты ведь единственный оплот
здесь...
Но ее слова не согнали с его лица тени. Он рассеян-
но держал ее руку в своей. Вдруг она потянула его в сто-
рону, к паровозу.
— Мартын!
Голос ее дрогнул.
— Мартын... может быть, не увидимся... Прощай,
Мартын!..
Он уловил, как она стремительно подалась к нему,
но не понял ее желания.
— Будь здорова, Зина! Как жаль, что нам не удалось
поговорить... Я долго не видел тебя!..
Она выпустила его руку. Он не двигался, не догады-
вался.
— Садись! — кинула она.— Сейчас поезд, тронется...
Он ступил на подножку вагона.
— Береги свою кладь! — крикнула она деланно без-
заботно.— Не раструси дорогой!
— Постараюсь! Уходи, Зина... Тут небезопасно!
Взрывы шрапнели становились непрерывными. Небо,
как стеклянный полог, ломалось там и сям на части, и ос-
колки с глухим звоном осыпали пути. В соседнем вагоне
кто-то, кого Мартын не видел, тянул тоненьким, протяж-
ным воем:
— Пашенька, Пашенька, Пашенька!
С вокзала, как со дна глубокого колодца, донеслись
удары колокола: три! Паровоз взревел. Мартын вздрог-
нул (так странен был этот крик паровоза в звонах шрап-
нели), вагоны тронулись.
— Уходи, пожалуйста!—Мартын замахал в сторо-
ну Зины руками.
Но она не сошла с места до тех пор, пока мимо нее
не проплыл последний вагон.
Высунувшись с площадки, Мартын видел затем, как
она бежала к вокзалу. И только тут ощутил волнение,
будто навсегда прощался с девушкой. Постояв с минуту
в проходе, он с силою отдернул дверь и тут встретился
с глазами Туликова, бесцветными и холодными, как се-
верное небо.
68
VI
Миновав вереницу вагонов, Зина перебежала плат-
форму, обогнула желтый, опаленный зноем станционный
сквер и огляделась.
За сквером она оставила мотоциклетку. Мотоциклет-
ка стояла на месте, но шофера подле не было.
— Ивлев! — голосисто позвала она и увидела своего
шофера.
Он прижался к стене в каменной нише амбара. Гла-
зами, крылатыми от страха, озирался по сторонам.
Это был молодой сухощавый парень с бритыми, глу-
боко впавшими щеками.
— Ивлев! Живо!
Крадучись, втянув голову в плечи, Ивлев отделился
от стены, но, сделав несколько шагов, бросился обратно:
над сквером с сухим кашлем разорвалась шрапнель.
Зина расхохоталась. Шофер хмуро взглянул на нее,
скраснел и перебежал от стены к своей машине. Руки его
прыгали, но все же ему удалось завести мотоциклетку.
Зина вскочила в люльку. Шум машины на минуту при-
глушил глухое эхо снарядов. Люлька рванулась вперед,
как большая быстрокрылая птица перед взлетом.
Скорость была предельная, мостовая метелицей ви-
лась по обе стороны. Дома, ворота, тополя у ворот ска-
кали, шатаясь, мимо. С упругим свистом бил в лицо
воздух.
Зина вспомнила,— какой это жуткий, жуткий и... тор-
жественный день в ее жизни! Сердце замерло, напряг-
лось и с силой вытолкнуло к голове горячий хмель.
— Мартын! Мартын!
Захлебываясь в воздушной буре и приподымаясь на
сиденье, как бы готовясь выпорхнуть из люльки, она вы-
крикивала это единственное слово, и шофер, вцепившись
в руль, посматривал на нее через плечо потемневшими
от страха глазами.
Мотоциклетка летела, отделяясь моментами от бу-
лыжника, и все вокруг прыгало, шаталось, присвистывал
сквозной, почти снежный воздух, и солнце, рыжее, похо-
жее на огромного степного паука, тревожно перебирало
в высотах огненными своими лапами.
Да, отныне Зина Кудрявцева знает, что такое борь-
ба, баррикады! Ведь это так же замечательно и так же
просто, как то, что она, Зина, не боится смерти и готова
6Й’
на все самое страшное и самое героическое... Никто не
скажет, что до сих пор она мало работала для победы!
Но она сделает еще больше. Она не будет спать ночи,
она отмахнется от всего на свете ради работы, и она уже
теперь, сейчас, сию минуту готова умереть за дело рево-
люции.
Жгучие видения, согретые необычайной музыкой кро-
ви, вставали из глубин ее сердца. Вот она перед толпою
вооруженных рабочих, с уст ее срываются вдохновен-
ные, незабываемые слова, и тысячи голосов вторят ей.
Вот она, изнемогая от жажды и голода, идет в боевой
цепи товарищей, идет по степи, по холмам, перелесками...
Вот она впереди всех выбегает на поляну, кричит: «Да
здравствует пролетариат!» — и... падает, пораженная пу-
лей. Но нет, это не смерть! У ее постели дежурят товари-
щи, ее ночи — ночи в муках, в бреду — сторожат милые,
родные товарищи... И, наконец, первый, после долгого
недуга, проблеск сознания... Она поднимает тяжелые ве-
ки и видит над собою в золотистой чаще чьих-то ресниц
восторг, преданность: Мартын! Он долго молчит. Ему ли
говорить о личном счастье, о какой-то любви, о долгом
совместном веке? «Ты молодец!» — говорит он, и его го-
лос звучит как гимн. «Я готова на все! — шепчет она
в ответ.— Я готова умереть... Мое сердце никогда не за-
мрет от страха за свое крошечное счастье!..»
Мотоциклетка неслась, прыгала, прыгали, отступали
по сторонам белые оглохшие дома. Там, за камнем, за
железными жалюзи, прячутся перепуганные насмерть лю-
ди, те самые, что, как мыши, сыты жалкими крохами жи-
зни и не знают иной радости, кроме радости пищеваре-
ния да ползучей любви. Возможно ли здесь пробуждение,
и кто пробудит их? Завтра, если над зданием исполкома
уже не будет развеваться красное знамя, завтра, обма-
нутые молчанием улиц, эти люди выползут из своих ще-
лей, будут улыбаться солнцу и своим белым «спасите-
лям»... Завтра! Но за этой гранью, за этими двадцатью
четырьми часами, в грозе, в буре, следуют тысячи, мил-
лионы часов, и все они принадлежат людям иным, жизни
иной: бесстрашным, бесстрашной жизни.
— Стоп!
Шофер соскочил первый и, не оглядываясь, побежал
к каменному подъезду, а она, сдерживая каждое свое
движение, встала в люльке, оглянулась, выпрыгнула.
И, отойдя несколько шагов, увидела: что-то вихрем обру-
70
шилось на мотоциклетку, перевернуло ее, бросило карет-
ку в одну сторону, колесо с рулем — в другую.
Зина не спеша вошла в вестибюль.
А в этот самый час Мартын сидел в вагоне у откидно-
го столика и тянул из щербатой чашки горячую жижу.
Против — Туляков, за ним—дверь в решетке, у двери,
на лавке, человек в рубахе цвета хаки, с винтовкою меж-
ду колен.
Туляков пристально всматривался в Мартына, так
бесцеремонно пристально, будто перед ним находился не
живой человек, а зеркало, в которое он разглядывал себя.
— Едем к черту на кулички да еще семьи тащим! —
проговорил глухо Мартын, глотая горячую жижу, глу-
ша, заливая томительный озноб в теле.
Туляков, не откликаясь, встал от стола.
Был он сутул, летнее пальто на нем, туго перехвачен-
ное ремнем у пояса, топорщилось на широких костистых
бедрах пышными складками.
«Будто барыня в клинолине»,— подумал Мартын и
косо улыбнулся, вспомнив галерею портретов в усадьбе
деда-помещика. Это там видел он изображения женщин
в кринолинах, мужчин в париках... Точно сон — эта его
жизнь в усадьбе, дурной сон! И, однако, угасить его в па-
мяти было трудно; там — его, Мартына, детство, пусть
горькое, пусть обидное, но оно ведь единственное у каж-
дого человека!
За окном проплывали бурые, зыбучие в закатном
солнце степи. Мартын хотел встать, чтобы заглянуть на-
ружу, но почувствовал вяжущую тяжесть в теле и остался
на месте.
— Что-то нездоровится,— произнес он негромко.
Туляков покосился на него, промычал про себя не-
внятное и вдруг вскочил на ноги, подался к открытому
окну, выкрикнул:
— Черт возьми! Смотри сюда, Баймаков!
Мартын приподнялся и, опирась на плечо Туликова,
высунул голову наружу.
Ветер ударил ему в глаза. Сморгнув слезу, Мартын
увидел впереди, на повороте, кучу людей: они возились
на самом рельсовом полотне, как воронье на пашне. Па-
ровоз заревел отрывисто, гулко. Люди шарахнулись с на-
сыпи в сторону. Кони, стоявшие под насыпью, взвились
на дыбы, и кто-то около коней, плечистый, бравый, в фу-
ражке с алым околышем, сдернул из-за плеч винтовку.
71
Они увидели друг друга одновременно—, Мартын из
раскрытого окна вагона и человек со вскинутой винтов-
кою под насыпью. Туляков осел под рукою Мартына,
сполз к полу. Мартын, не двигаясь, глядел навстречу
винтовке, направленной в окно: винтовка приближалась
с бешеною быстротой вместе с человеком, в нее вцепив-
шимся. Выстрел звоном ударил в стену вагона. Фыркнул,
дребезжа, вентилятор у потолка.
— Промазал! — захмелевшим голосом проговорил
Мартын, покидая окно.— Я, можно сказать, таежный че-
ловек, а на лету... мало что подстрелил...
И он изумленно засмеялся, чувствуя, как все в нем
ликует: не было озноба, не было этой проклятой, вязкой
тяжести в груди.
Туляков искоса следил за ним снизу, из-под окна.
Поднявшись на ноги, сказал:
— Ты, Баймаков, того... ведешь себя, как мальчишка!
Он некоторое время молчал. В белесых глазах его,
как огоньки в степном сухостое, вспыхивало что-то за-
таенное, колючее, и руки, туго сцепленные, дрожали. На-
конец, снова заговорил:
— Я попросил бы тебя, Баймаков, дурака не валять!
Или... ищешь смерти?.. Но ведь на каждом из нас лежит
ответственность перед людьми, перед партией. Не ду-
маешь ли ты, что находишься на подмостках в театраль-
ном зале?
Как бы довольный тем, что вывел из равновесия сво-
его спутника, Мартын басовито пропел:
— Кончил? Скажи, пожалуйста, какая муха хватила
тебя?
Туляков махнул рукою, встал, заглянул в окно. По-
стояв, обернулся к Мартыну.
— Дело, конечно, твое! — произнес он едва слышно,
но все еще с раздражением.— Я хотел бы только... ука-
зать тебе, что на моей ответственности лежит казна, а на
твоей — весь поезд с людьми!
— Хочешь, поменяемся? — отозвался Мартын.— Буду
рад... Ну?!
Туляков побелел, закрыл глаза: так бывает с людьми
в моменты глубочайшей сердечной нежности или нестер-
пимого гнева.
— Яс тобой не желаю...
От волнения он проглотил конец фразы. Мускулы
в его лице подергивались, как у животного, преследуе-
72
мого мошкарой. А на костистых бедрах пышными склад-
ками лежало новенькое, нарядное пальто. Мартын отвер-
нулся, ему стало скучно, и тут же вновь он ощутил ознзб
и ноющую боль в глубине груди, под самым рубцом дав-
ней раны.
— Туляков! — позвал он тихо.— Ты не сердись, сде-
лай милость! Давай-ка лучше обсудим, как быть... Ка-
жется, станция недалеко?
— Кажется! — процедил Туляков сквозь зубы.
— А на станции нас могут встретить белые...
Туляков дернул уголком рта:
— Если бы белые захватили станцию, им незачем
было бы пытаться разобрать здесь рельсы... отрезать себе
путь!
— Пожалуй!
Они больше не проронили ни слова.
Поезд пожирал степные пустоты, и его грохот желез-
ными клубами катился в степной зной, в марево, в дым-
чатую глухоту перелесков.
Человека с винтовкою долго в вагоне не было, но вот
он, заминая в руке цигарку, переступил порог и загово-
рил с Туликовым:
— Побрился я там, у зеркальца! Не люблю свинячей
щетины, опять же свербит... Мы, бывало, под огнем и то
брились: казак с офицерьем из пушки в нас блюет, а мы
над лужицей, а то у стеклышка, осколочка, бритвами
скребем... Этак-то и глазу приятнее и на душе легче: по-
рядочек!
Слова армейца были просты, ядрены и круглы, как
яблоко, и на скулах у него, над впадинами щек, рдел, как
у яблока, румянец.
— С германцем при царе воевал? — поддерживая
разговор, спросил Туляков.
— Хватили и германца мы! — продолжал армеец.—
Ну, только с германцем — тоска: не война, а механизма
в огне... Терпи знай!.. С беляком веселее!.. Сами-то мы из
шахтеров, по шахтерскому положению и в Красную
попали в восемнадцатом годку под команду Ворошило-
ва... Слыхали об таком? Нашей рабочей породы человек!
—г Царицын защищать ходил, да? — заметил более
живо Туляков.
— Это самое! Туда — ходил,.оттуда — ехал.
— Как то есть? — не понял Туляков.
— А так что с Царицынского-то фронта в здешние
73
родные места, к деду с бабкой, на колесах пригнали ме-
ня... После ранения, прямо с лазаретной койки... Эх! —
снова вскинул армеец голос.— Эх, и досталось же от нас
на орехи атаману продажному, Краснову энтому! Век
господа кадеты Ефремыча нашего помнить будут, Воро-
шилова то есть.
Мартын вспомнил обильные рассказы в губкоме о ца-
рицынских схватках и, не выдержав, подал свой голос,
обращаясь к армейцу:
— А вам, рядовым, часто доводилось встречаться с
ним?
— Ты про Ворошилова? — подхватил армеец.— Спро-
си лучше, кто у нас в полку не встречал его! — В голосе
армейца послышалась обида.— К нам он самолично и в
окопы жаловал!.. В один такой раз я, к примеру, и со
шрапнелькой побратался...
— Как это? — опять, не поняв, спросил Туляков.
— Очень просто! Он, значит, в окоп к нам, Вороши-
лов-то, а кадеты за шрапнель! И только это он с узла
нашего на другой перешел, тут и бабахни над нами ста-
канчик с начинкою! Двух — наповал, меня — в это ме-
сто,— потыкал себя армеец в правый бок.
Он говорил и дальше, присев у двери, Туляков ему
откликался. Голоса их то затихали, то вновь врывались
в приглушенное сознание Мартына, пока не перебрался
он к себе на скамью. Здесь, укрывшись пальто, он неожи-
данно для себя забылся.
То был тревожный сон, в котором недавнее, пережи-
тое переплеталось в летучих, неясных образах с далеким,
и над всем, как звучание большой скорбной песни, ныла
в сердце обида: на кого, за что?
Минутами он приходил в себя, как бы всплывал над
потоком горячих и бессвязных, клочковатых видений, и
тогда сознание пронизывала все та же мысль о никчем-
ности положения, в котором оказался он, Мартын... Где-
то там, вчера и сегодня, развертывались события, в кото-
рых Москва, Царицын, многие, многие города с их героя-
ми перекликались меж собою, возносились над всем ми-
ром, а он, Баймаков, крутился пылинкою в вихре... и на
сегодня — командир эшелона стариков да женщин... Есть
чем гордиться, есть чему порадоваться!
Кто-то тряс его за плечо, он отбивался и, наконец,
взбросил голову: Туляков! За Туликовым — скачущее в
сумеречи окно, тряский дребезг снизу, в ногах.
74
— Станция? — спросил он, спуская со скамьи ноги.
— Проехали,— сообщил Туляков, присаживаясь на
скамью рядом.— Путь свободен, но город... город наш
занят, Баймаков!
Мартын вздрогнул, как под ударом.
— Не... не может быть! — произнес он смятым голо-
сом.
— Только что говорили на станции.
Мартын поднялся и, вытянув перед собою руки, на-
правился к окну. Туляков остался на скамье, склонив к
груди голову. Армейца не было в вагоне. Под ногами
дзинькало, постукивало; в воздухе пахло нагретым за
день деревом, ветошью, пылью.
Мартын опустил оконную раму, просунулся с плечами
наружу и захлебнулся в тугом воздушном потоке.
Над степями догорал алый, смуглый воздух; ночь
мощным разливом надвигалась с севера; над дальними
почерневшими топями, в туманах, поднималась рыжая
луна. Окутанный музыкальным гулом, с терпеливой по-
спешностью (день и ночь, день и ночь) летел поезд, и от-
того, что впереди и позади его была все та же неогляд-
ная мглистая степь, казалось моментами, что весь этот
гулкий, мчавшийся вперед караван давно отделился от
земли и висит над бездною.
— Туляков! — позвал, оборачиваясь от окна, Мар-
тын.— Если город взяли сегодня, то из него... никто не
ушел! Никто, кроме нас...
Туляков понуро молчал. Его бельмастые, северные
глаза целились куда-то в угол.
— Туляков! — продолжал Мартын, возвращаясь на
скамью.— Революция истекает кровью, а эти... эти не-
счастные в наших вагонах... Кому они нужны?!
Глаза Туликова дрогнули:
— Ты бредишь, Мартын!
— Нисколько! Стань, пожалуйста, к окну, загляни
назад, на эти коробки... Куда мы тащим их?.. В какой
край? Кто поджидает нас?..
Он откинулся спиною к стене, и неожиданный смех,
разрываемый икотою, забурлил в его глотке. Туляков
резко подался к нему.
— Успокойся, пожалуйста... Что такое?
— Я спокоен, Туляков! — захлебывался Мартын.—
Я гораздо спокойнее тебя! У нас бесценная кладь, но —
пойми! — кто посягнет на нее? У этих... цивилизованных
75
бандитов с Запада... золото превыше всего... Им нужны
руда, уголь, нефть... Понимаешь, нефть... За цистерну
нефти они прольют столько же крови... Но... наша кладь...
им не нужна... Наша кладь для них — ветошь, не
больше!..
Он закинул ноги на скамью, вытянулся, припал лицом
к своему изголовью. Его плечи легонько вздрагивали. По-
том он затих, приподнял голову и нежданно ровно, озабо-
ченно произнес:
— В последнее время Черноголовый... стал сдавать...
Ты не замечал? Когда последний раз я видел его, он был
дряхл, как столетний...
Туляков махнул рукою, поднялся и пошагал к двери.
Степь наливалась мраком, холодела. Луна проясня-
лась. Немотно сияющий лик ее, казалось, сторожил ти-
шину, и в этой стылой прозрачной тишине, как в дико-
винных паучьих тенетах, беспомощно барахтался поезд.
У Мартына захолонуло под сердцем, словно он находился
не на стальных колесах, бегущих по стальным рельсам, а
в непрочной зыбке, подвешенной у безгранных высот...
Кричи от тоски, от боли — никто не услышит, не отклик-
нется. А как иногда необходимы человеку сочувствие,
ласка, нежность материнская... Да, да, материнская неж-
ность, которой никогда не знал Мартын.
«Зина, милая! Где-то ты сейчас и что с тобою? Ви-
дишь ли, я и не подозревал, что ты так дорога мне!..»
VII
На рассвете, еще не открывая глаз, Мартын прислу-
шался к себе и почувствовал свое тело крепким и силь-
ным, как всегда.
Армеец, дежуривший у двери, искоса следил за ним
и видел удивительную картину его пробуждения. Видел,
как по бледному, истомленному лицу пробежала дрожь,
как затем легкое озарение, похожее на улыбку, тронуло
густо набухшие от сна губы. Еще через мгновение задро-
жали и распахнулись ресницы; из синевы пахнуло вче-
рашним зноем, бредом; белки были мутны и розовы, зрач-
ки темны и огромны. Но вот еще усилие — и вслед за
улыбкой, принявшей выражение радости, вспыхнули в
глазах, из-за гари и пепла, живые прозрачные родники.
— Как дела, товарищ? — проговорил Мартын, заме-
тив обращенные к нему глаза армейца.
76
— Благополучны! — сказал тот, охотно откликаясь на
бездумную, заражающую бодрость, какая волною шла от
Мартына.
За ночь лунная степь надышала в вагон прохлады.
Синеватый рассвет сочился за окном золотом. Отлично,
чудесно! Но, обнаженные под первым утренним светом,
холодели на полу, как прах пережитого, окурки, и было
в них что-то общее с серым, помятым лицом Туликова.
Лежал Туляков на голой скамье, запрокинув на руки го-
лову. Губы его были тонки и темны, брови белесы и ред-
ки, как всходы на тощем поле. И эти брови порою шеве-
лились, и губы морщились, будто глотал во сне Туляков
какую-то горечь.
Мартын сел, опустил голову.
Город! Город! Первою мыслью была мысль о Зине,
о Михаиле Иваныче. Не то чтобы он забыл всех других,
близких ему по работе... Нет! Мысль о городе была полна
ощущения многих человеческих страданий, но эти стра-
дания сливались в единое, близкое, особо чувствуемое:
белоснежная голова, внимательный взор из-под очков и
рядом с этим — теплота смуглых женских рук, насмешли-
вая улыбка, серые глаза... Совсем не похожие и вместе с
тем удивительно похожие на глаза той женщины, которой
Мартын обязан был жизнью и с которой встретился он
лишь в царстве теней, заключенных дедом-помещиком в
позолоченные рамы. Невозможно жалеть вообще, мстить
вообще, бороться за город-кружок на географической
карте,— но нельзя не жалеть, не мстить, не бороться, ес-
ли в этом городе тысячи родных, близких по духу, а сре-
ди них — особо близкие, особо понятные сердцу!
Мартын взглянул на Туликова. Почему он спит? Как
можно спать теперь? Мартына раздражало это мертвое,
оцепенело-неподвижное лицо. Мартын как бы вовсе запа-
мятовал, что. сам он провел в забытьи всю ночь, что сам
он только что поднялся на ноги.
— Станция скоро, товарищ? — обратился он к чело-
веку с винтовкой у двери, и тот немедля отозвался.
, Мартын не решался спросить о городе, о вчерашнем
сообщении Туликова. Может быть, Туляков еще прятал
страшную правду от других.
А вагон подрагивал, постукивал, дзинькал, и мимо
окон, за пыльным, перламутровым стеклом проносилось
утро, звонкое, сплошь в студеных золотых разливах.
Поезд летел упрямо, терпеливо; он был в движении еще в
77
то время, когда Мартын спал, он будет мчаться вперед
бесконечно, терпеливый, упрямый, похожий на подъярем-
ного раба со стиснутыми челюстями, с сердцем, не знаю-
щим прошлого, с волею, не имеющей собственных глаз.
Мартын швырком опустил оконную раму, заглянул
вперед, назад. Легкие его захлебнулись ядреным возду-
хом, сердце опьянело, мускулы налились силою. А за па-
ровозом стучали, повизгивали, гнались друг за другом
вагоны: два, три, четыре... без конца! И в каждом, наглу-
хо прикрытом, под теплыми одеялами, на подушках, на
корзинках и узлах, на всякой рухляди, кутаясь в нее, ле-
жали в забытьи молодые и старые, женщины, дети —
у груди матери, подростки—за теплыми, надежными спи-
нами: чьи-то жены, сестры, ребята, для кого-то бесцен-
ные, единственные, кому-то еще вчера необходимые как
воздух. Они все досыпали последний предутренний час,
самый пьяный и сладкий, и едва ли кто-либо из них видел
страшные сны. А меж тем многие из них, возможно, уже
лишились своих близких, своего счастья... Город их от-
цов, их мужей, их братьев захвачен белыми бандами!
К горячему солнцу, степному, омытому свежестью
раздолью тянуло Мартына. Ноздри его жадно всасывали
терпкий, сочный воздух, глаза упивались потоками про-
зрачных красок. Хотелось двигаться, только лишь дви-
гаться и ни о чем не думать... Или думать, но лишь о
своей прекрасной, большой жизни и о загадочном, не ме-
нее прекрасном будущем. Однако нельзя было ни дви-
гаться, ни петь, потому что нельзя было забыть о городе,
о разгроме, о крови и об этих вагонах, наполненных деть-
ми и женщинами.
Мартын резко повернулся от окна. Он не хотел, не
мог терпеть дольше. Он направился к Туликову, и Туля-
ков, как от толчка, открыл глаза. Сначала в глазах его
метелицей кружилось лазоревое окно, затем, захолодев,
глаза сузились, приняли злое, режуще-острое выражение.
Туляков сел на скамье, откашлялся, сплюнул, сказал
Мартыну:
— Очень хорошо, что ты на ногах! А я думал, что
расхвораешься, что с тобой придется повозиться...
И вслед обратился к армейцу.
— Разъезд проехали?
Слушая ответ, он встал, прошел к окну, заглянул,
вернулся.
— Что же теперь делать, Баймаков?
78
И по этому вопросу, произнесенному подавленным го-
лосом, Мартын понял, что вчерашнее сообщение о горо-
де не было бредом.
— А разве можно что-нибудь делать?! — воскликнул
он с внезапным приливом раздражения.— Разве мы с то-
бой можем что-нибудь?.. Ведь мы связаны по рукам, по
ногам... Эти семьи...
Туляков с тревогой взглянул на него:
— Не мудри, Баймаков... Мои нервы не лучше твоих!
Мартын отвернулся, стараясь сдержать волнение. Он
понимал, что Туляков ни в чем тут не повинен, и все же
не мог отделаться от смутного чувства неприязни к не-
му, к женщинам в вагонах, ко всему эшелону. То, что
происходило теперь у него на сердце, напомнило Марты-
ну далекое прошлое. Был в детстве случай, сближавший
тогдашнее его настроение с тем мучительным, что пере-
живал он теперь.
Ему едва минуло семь лет. Отец только что вернул из
барского поместья своего сына. И вот он, Мартын, до-
ма и много дней, радостно волнуясь, готовится с отцом
к отплытию на рыбалку. Вдруг на рассвете долгожданно-
го дня умерла старая тетка отца. Меньше всего в этом
происшествии была виновата она. Но теперь было уже
не до рыбалки, и Мартын весь день не мог преодолеть
глухой неприязни к покойнице, с завистью следя за сосе-
дями, проходившими с веселым говором мимо, на Вол-
гу... Надо же было несчастью случиться, когда он всем
существом своим тянулся к солнцу, к простору, к празд-
ничному труду на рыбалке!
Заметив, что Туляков уже не обращал на него внима-
ния, Мартын вышел за дверь, пролез наружу, уселся на
подножке. Он сидел, сложив на груди руки, стараясь ни
о чем не думать. Стремительный полет у полотна, хлест-
кий свежий ветер, как бы поддерживавший на весу все
тело, и сознание, что всякое неосторожное движение мо-
жет опрокинуть его под колеса, постепенно возвратили
Мартыну спокойствие.
Перед глазами плыла, кружилась желтая, выжженная
за лето степь. Открывались балки с пухлым туманом над
ними. Янтарем светились соломенные хутора на горизон-
те. У шпал тяжелела комкастая, седая от ночной росы
трава. Дорога в пыли, в шматках дегтя. Здесь дождя
не было ни вчера, ни сегодня.
79
Поезд подходил к станции. На площадке за спиной
Мартына показался Туляков.
— Надо бы собрать точные сведения! — прокричал
он.— Сделаешь?
Деревянные постройки станции тонули в потной суте-
ми, а над кровлями, сквозь сети старых тополей, алела
заря.
Из ближних вагонов, едва поезд остановился, выполз-
ли, кутаясь в шали, женщины. Одна держала на руках
ребенка, беспокойно поглядывала на небо. Ночной холод
положил на ее лицо печать: тусклая тень на щеках, крас-
нота вокруг ноздрей и пупырышки на коже обнаженных
рук. У станционных дверей, под колоколом, стоял на-
чальник станции. В его глазах было мутно, а на толстых
губах запеклась усмешка, и было еще в лице этого че-
ловека такое, что заставило Мартына насторожиться.
— Скажите: на Лиски путь свободен? — подходя бли-
же, заговорил он.— Стоять у вас мы не намерены!
У начальника бритый, выхоленный подбородок, а го-
лос крикливый, порывистый, как у старого фельдфебеля.
— Путь свободен! Пока... свободен, гражданин! — по-
вторил он, оглядывая Мартына.— Но из Лисок передава-
ли, что у них там, за буераками, казачьи разъезды! Вче-
ра к нам с северо-востока доносило пушечную пальбу!
— Чью? С кем?
— Вот этого сказать не могу!
И он просунул подбородок под твердый, будто выре-
занный из картона воротник, отчего на челюстях у него
образовались мясистые складки.
— Какие сведения из города? — спросил Мартын как
можно беззаботнее.— Нам необходимо переговорить по
прямому...
— Телеграф молчит со вчерашнего дня.
— Что же, испорчены провода? — продолжал Мар-
тын.— Городу, когда мы его покидали, ничто не угрожало.
— Не могу сказать! — ответил начальник, выкатывая
на Мартына глаза, и неожиданно добавил: — Надо быть,
вы очень долго подвигались к нам... Стояли в пути?
— Да, приходилось! А теперь торопимся. Примите
меры!
— Сделайте одолжение! Пятый день живем вне рас-
писания...
Поднялось солнце. Тени осинели, стали хрустальны-
ми. В небе было тихо, ясно, просторно. В воздухе, све-
80
жем и упругом, как вода, носились стрижи. Первая, еще
робкая и необыкновенно прозрачная дорожка вылегла
вблизи дверей на асфальте, и, переходя ее, Мартын ощу-
тил на лице горячее касание солнца.
От вагона шли двое. Один — низкорослый, в измя-
той темной накидке и широкополой шляпе, другой —
в кожаной тужу-рке, опоясанной желтым ремнем. Тот,
кто был в накидке, отставал, как бы прячась за спину ко-
жаной тужурки.
— Товарищ Баймаков? — остановившись на шаг от
Мартына и сдвинув свои отлично начищенные сапоги,
спросил человек в кожанке.
Мартын сверху вниз глядел на него. Человек потро-
гал пальцами свой новенький, поскрипывающий пояс.
— Аристов! — заговорил он, рекомендуя себя.—
Я здесь при поезде на всякий случай. В охране! Имею
приказ губкома...
— Письменный?
— Нет, устный. '
Мартын нахмурился:
— Так вы в охране?
— Готов, чем могу! — Человек в тужурке переступил
с ноги на ногу, и вдруг белесое, в темной курчавой бо-
родке лицо его вспыхнуло.— Может быть, слышали...
Аристов! — повторил он.— Работаю в кооперации, ведаю
столовыми, присматриваю за кооперативным строитель-
ством.
— Не помню что-то,— процедил сквозь зубы Мартын
и перевел глаза на того, кто был в накидке.
Маленький, сухонький, он все время ласково, почти
влюбленно посматривал на коменданта поезда трога-
тельно-голубыми, как у куклы, глазами.
— Наш педагог! — с нескрываемым пренебрежением
взмахнул рукою Аристов в сторону товарища.— Между
прочим, внушает политграмоту на красноармейских
курсах.
— Петр Уткин! — поклонился человек в накидке.—
Сопутствую эшелон по нездоровью.,. Туберкулез во вто-
рой стадии...— Он улыбнулся, ощерив темные, источенные
гнилью зубы.— Нас в поезде трое: товарищ Аристов,
я и наробраз Добрынин... Только товарищ Добрынин в
другом вагоне, с семьей!
Мартын сложил губы трубочкой (как делал это Чер-
ноголовый) и свистнул.
81
— Э, сколько вас! Куда же вы?
— То есть как это? — вскинулся Уткин.— Туда же,
куда и вы!
— Уткин — член партии!—заметил Аристов, и в его
глазах, тяжелых и медлительных, напоминавших ко-
ровьи, проступила досада.
— Ах, товарищ Уткин — член партии? — протянул
Мартын.— Ну, если так, то вам обоим можно сказать
кое-что... достаточно неприятное.
— Неужели опасность?! — воскликнул Уткин, взмет-
нув крыльями своей накидки, и уцепился за руку Марты-
на своею, холодной и влажною.
— Несомненно! — подтвердил Мартын, испытывая
странное удовольствие при виде растерянности этих лю-
дей.— Мы катимся, так сказать, в гости к белым.
— Вы это... серьезно? — произнес Аристов, облизывая
полные смуглые губы.— Я не совсем понимаю...— Он не
закончил, беспомощно огляделся по сторонам.
— Мы сами не совсем понимаем, что творится! — под-
хватил Мартын.— Но у нас нет иного выхода, как подви-
гаться вперед: будь что будет!
Аристов как-то вдруг весь увял. Его военная выправ-
ка исчезла, крупные его губы взмокли и распались, в тем-
ных, слегка увлажненных глазах метнулся страх.
— Нет, нет... Быть того не может! — заговорил Уткин,
умоляюще вглядываясь в Мартына своими голубыми бу-
сами.
Мартын понимал, что скрывалось за этим протесту-
ющим «нет, нет». Уткин, несомненно, любил жизнь, лю-
бил ее с жадностью полевого крота; все его щуплое, исто-
щенное недугом тело не хотело верить, что оно как-то
вдруг, ни с того ни с сего, перестанет дышать, двигаться.
Подобно нищему, цеплялся человек этот за каждый ку-
сок, за каждую крошку радости; и его жизнь, питающаяся
остатками с чужого пышного стола, готова была к само-
защите более, вероятно, отчаянной, чем это могло быть
у самого сильного зверя.
Чувство, близкое к брезгливости и жалости вместе,
охватило Мартына. В то же время он заметил женщин;
прислушивались издали к их разговору.
— Шучу! — сказал он, направляясь к вагонам.— Я по-
шутил, товарищи... Путь пока что безопасен!
— Да?! — воскликнул Уткин и снова вцепился в руку
Мартына.— Я так и знал... Но вы, товарищ Баймаков,
82
напрасно... У нас... у меня... чрезвычайно плохие нервы.
Эту ночь я почти не спал... Поверите ли, мерещились вся-
кие ужасы... И не думайте, что волнуюсь я только за се-
бя... Ведь у нас женщины, дети... Это было бы ужасно!..
Он бежал рядом с Мартыном, как стригун подле мат-
ки, и говорил, и улыбался, и весь светился голубым, об-
радованным светом.
— Это было бы ужасно, ужасно!..
Аристов остался на месте. В его тучном, как бы нава-
ливающемся на человека взоре полыхала злоба. Мартын
приостановился, шагнул назад. Что-то было знакомое,
где-то когда-то уже виденное в этих темных, масляни-
стых, как бы только что навакшенных глазах коопера-
тора...
— Послушайте,— обратился он к Аристову,— вы в во-
семнадцатом не работали в губернском...
Он назвал город, в котором они с Черноголовым про-
вели короткое время до переезда сюда, в прифронтовую
полосу.
Аристов дернул плечом, закачал головою.
— Нет, нет! Не приходилось! Был в тамошних ме-
стах... проездом, но на работу не вставал.
Он говорил еще что-то, Мартын его уже не слушал,
припоминая облик того, за кого он принял Аристова...
Нет, конечно же, это... не «балансист»! У «балансиста»
и бородки не было, и ростом он был пониже, и голос у то-
го иной... Только глаза вот, тяжелый, маслянистый, злоб-
ный этот взор!
Мартын круто повернулся, кинул шагнувшему было
за ним человеку в крылатке:
— Оставьте меня, товарищ Уткин, прошу вас!
Уткин споткнулся на месте, а затем, размахивая
крыльями накидки, кинулся в сторону и на бегу кричал
кому-то ущербленным от волнения голосом:
— На водопой! На водопой, граждане!
Мартын неторопливо шел в сторону паровоза. Он ви-
дел все, что делалось в вагонах. В вагонах было утро.
Женщины, озабоченные, заспанные, возились среди кор-
зин и узлов, звенела всюду посуда, слышались детские
голоса. Матери готовили завтрак, степенно вытягивая из
узлов и узелков хлеб, молоко в бутылках, стаканы и мно-
гое другое, что еще день назад украшало домашний бу-
фет хозяек. Кое-где на чемоданах, заменявших теперь
столы, белели салфетки. Даже пестрый бухарский ковер
83
красовался в виде портьеры над одной из раздвинутых
дверей. И выплескивались там и сям из полутьмы выкри-
ки, смех.
Старуха с белою, как бы выточенною из мела головою,
задыхаясь от усилий, тащила к вагону обрубок. Зачем он
ей понадобился? Несомненно было одно: этот добытый
старухою кусок грязного, почернелого дерева весьма
здесь нужен. Несколько пар женских глаз с улыбчивым
нетерпением следили из вагона за старухой, а из край-
него вагона бросились ей на помощь. Еще через вагон
кто-то, повернувшись к двери согнутой спиной, стара-
тельно скреб дощатый пол охапкою трав, и у самой
двери, свесив ноги, обтянутые розовыми чулками, сидела
молодая мать с ребенком у обнаженной груди. Она даже
не взглянула на Мартына, вся уйдя в свое занятие.
И трое подростков гонялись с визком друг за другом у
дальнего вагона. Было шумно, беззаботно-хлопотливо.
С удивительной живучестью, подобно ползучему расте-
нию, люди целялись за обломки привычного существо-
вания, и вагоны, приютившие эти выброшенных за борт
женщин, очень непрочные, вагоны на очень зыбком, нена-
дежном пути, с каждым новым часом обрастали неистре-
бимым бурьяном забот и хлопот.
«Галки...»
Мартыну вспомнилось заводская труба на окраине
Сормова. Днем и ночью выбрасывала она дым, удушье,
клубы горящей сажи и только в редкие дни больших
праздников остывала. Но как ни коротки и ненадежны
были эти часы затишья, стаи галок с бездумными крика-
ми облепляли притихшего каменного воликана, и уже к
следующей заре охапки гнезд чернели вокруг корон на
трубах.
Мартын представил себя, себя — одного, среди толпы
женщин, в окружении белого казачьего эскадрона... Вот
это и впрямь будет сражение! Вот это и впрямь — арена
для героической схватки... Сомкнуть на груди руки, за-
прокинуть гордо голову и... беспомощно умереть... Нечего
сказать, завидная доля!
VIII
На станции, ночью, Туликову дали неверные сведе-
ния. Белые городом не овладели, но пути к нему были
отрезаны, и потому телеграф действительно не работал.
84
Генерал, командовавший конным корпусом, не ожидал
встретить со стороны города сопротивление, а когда на-
ткнулся на окопы и потерял полдня, чтобы смять крас-
ную пехоту, отдал приказ к отходу. Он сделал это, стоя у
городских ворот, когда один лишь эскадрон мог занять
окраины. Но генерал опасался борьбы на улицах, а у не-
го не было времени: он знал, что с востока надвигается
красная кавалерия, и ему надо было спешить на юг, к
фронту, чтобы соединиться с главными своими силами.
Еще когда поезд Мартына готовился к отходу, кава-
лерия генерала густыми эскадронами подалась назад и
начала обтекать город перелесками. Броневой поезд, от-
влекая внимание красного штаба, продолжал обстрел
с линии, из-за разрушенного моста, но в то самое время,
когда в здании исполкома готовились к уличной встрече
с врагом, головные казачьи отряды, перебравшись через
реку, подвигались уже к станции Боровики.
Поезд Мартына проскочил здесь в прямой близости
к вражеским разъездам. За разведкою, по пятам ее, сле-
довал весь корпус белых; он подвигался вдоль железно-
дорожного пути, по обе его стороны, и там, где еще не-
сколько часов назад пробегал поезд с эвакуируемыми,
теперь пылали будки, товарные вагоны, штабеля шпал.
К вечеру по полевым проводам в исполком сообщили,
что связь с белыми потеряна, а затем вскоре весть о бег-
стве генеральской кавалерии облетела весь город.
Рабочие железнодорожного депо вышли на улицу с
пением «Интернационала», к ним присоединились рабо-
чие завода, паровых мельниц и кучки ротозеев, час назад
прятавшихся в подвалах.
Над городом еще рвалась шрапнель, но теперь никто
не обращал на это внимания, и улицы, набухающие мра-
ком, полны были бодрого людского шума.
Когда совсем стемнело, отряд из смельчаков, волоча
за собою легкое орудие, зашел во фланг броневому поез-
ду и принялся в упор обстреливать его. Броневой смолк,
рванулся назад и скрылся на глазах преследователей.
И вот над городом разлилась благостная тишина, расцве-
ченная пылающими звездами; ни крики людей, ни грохот
полковых кухонь на мостовой не могли нарушить этого
радостного покоя вечера.
Люди захмелели—и было От чего! Ведь всего несколь-
ко часов назад они стояли перед неизбежностью крова-
вой уличной схватки, готовились к смерти и уже пережи-
85
вали то состояние, когда последние зовы жизни отзву-
чали и все тело охватывает спокойствие решимости.
Первым в здании исполкома почуял возвращение бы-
валой безмятежности старый, оставшийся от губернатор-
ского камердинера кот. Он вдруг появился в сумеречном
коридоре и, задрав хвост, тыкался людям под ноги, при-
зывно кричал у закрытых дверей. Молодой армеец, стояв-
ший на часах у кабинета штаба, принял кота на руки,
придерживая локтем винтовку. Адъютант штаба, только
что выслушавший последнее донесение с фронта, прохо-
дил в эту минуту в кабинет Черноголового и остановился
на пороге, заметив кота на руках часового.
— Ну? — сказал он, взглянув строго на армейца, и
когда тот, вытянувшись, уронил кота, адъютант пошел
дальше, но кот подкатился к его ногам.
— Ну? — повторил он, обращаясь на этот раз к коту,
нагнулся и, прежде чем отстранить, приласкал его ла-
дошкою.
И едва адъютант скрылся в конце коридора, двое ве-
стовых, оглашая стуком тяжелых подошв своих сумереч-
ную тишину, пробежали из вестибюля наверх. Они только
что возвратились с другого конца города, сдали свои па-
кеты и теперь спешили в столовую. Там встретила их по-
жилая тетка Степанида Афромеевна. Позванивая ключа-
ми, она достала из шкафа каравай хлеба, отрезала по
ломтю каждому, и парни, глотая хлеб по-змеиному, не
прожевывая, принялись толкать Степаниду с двух сторон.
По-молодому раскрасневшись, тетка фыркала, повизги-
вала и, наконец, убежала прочь.
В залах собирались отряды, усталые, голодные, но
жадные до балагурства. Винтовки кое-как притыкали к
стене, распоясывали подсумки и валились на паркет, как
на пуховики.
В кабинете штаба, в канцелярии, в отделе снабже-
ния— всюду, где были люди, разгорался певучий, без-
думный шум. И кто хотел спать — укладывался на ку-
шетки, на составленные стулья и прямо на пол; кто хотел
есть — бежал на кухню, в столовую, через улицу — в со-
ветскую пекарню, и кто хохотать хотел — хохотал до упа-
ду. Казалось, что только теперь почувствовали люди цену
жизни и спешили как угорелые к ее утехам.
Час назад Черноголовый говорил речь с балкона к ра-
бочим, собравшимся на улице толпою. Штабники, и люди
из отряда, и вестовые, и Степанида Афромеевна, ключни-
86
ца столовой, учтиво ловили каждое слово Михаила Ива-
ныча.
Но кончил Черноголовый, разошлись рабочие, потем-
нело, заиграло звездами глубокое синее небо — и все, кто
находился в здании исполкома, обратились к своему буд-
ничному, привычному миру, и мир этот был теперь для
них самым важным и самым чудесным. Вспыхнули тай-
ные, несытые желания, поднялись потоками из скрытой
глубины сердца. Все вокруг казалось близким, доступ-
ным и возможным, люди глядели друг на друга как на
радость, цветущую в садах их жизни.
И были среди них такие, которым думалось, что они
заслужили сегодня право на всякое свое желание и что
сейчас эти их желания естественны и законны, как крик
новорожденного.
Клепиков из совнархоза, член штаба, послушав дело-
вые споры в кабинете Черноголового, заскучал, потянул-
ся всем телом, прошел на балкон. Отсюда, с высоты, зве-
зды казались близкими, а голубая темнота над городом—
ароматичною, как степь в мае. Тугой и теплый ветер до-
носил из-за реки неясные шумы военного лагеря, а там,
внизу, в лучистом мареве фонарей, проходили люди, и
среди них наметчивый глаз Клепикова еще издали распо-
знавал женщин. И не только распознавал, но и тут же
определял, какая из них могла бы доставить ему новые,
еще не испытанные радости. Он давно потерял веру в веч-
ную любовь и, окруженный дешевыми, мимолетными ла-
сками, лениво глядел на мир, как капитан со своего мо-
стика на изъезженную донельзя реку. Он не был умен,
этот Клепиков, но не был и глуп настолько, чтобы его
глупость замечали другие. А в делах, ему поручаемых, он
обнаружил особую смекалистую хватку. И его ценили за
деловитость. В партии состоял он с прошлого года, но в
анкетах писал: «Участвовал в революционном движении
с 1913 года». В этот 1913 год Клепиков был раскрыт гу-
бернатором как участник майской пирушки, устроенной
либеральными земцами, и «отведен» со службы городско-
го техника. Был Клепиков одинок, но в его двух комна-
тах, оставшихся ему от отца, железнодорожного чиновни-
ка, никогда не было пусто. До революции собиралась
сюда конторская молодежь, кассирши и машинистки, и
иные из них заночевывали в малиновой спальне, под го-
лубым у потолка шаром; после революции в уютных ком-
натах Клепикова, вырываясь из круговорота хлопот, на-
87
ходили себе приют его товарищи из канцелярии совнар-
хоза, и немало всяческого веселья, не расцветши, отцве-
тало тут.
Клепиков постоял, поглядел на звезды, наглотался
свежего воздуха и пошел коридором. Подрагивая икра-
ми, он останавливался порою у двери, тихонько открывая
ее, заглядывал и направлялся к новой. Наконец, скрылся
за крайней. То была небольшая комната, служившая ко-
гда-то губернатору гардеробной, а теперь сплошь устав-
ленная никому не нужной мягкой мебелью. Из единствен-
ного окна, распахнутого настежь, вместе со свежестью
проникало сюда белесое мерцание уличного фонаря, и в
этом неясном, сказочном свете Клепиков с трудом раз-
глядел фигуру Кудрявцевой. Зина лежала на плюшевой
софе, засунув под голову руки. При входе Клепикова она
подняла голову.
— Можно? — произнес он негромко и, не ожидая от-
вета, уселся у ног девушки.— Ух, как я устал...
— Ступай на тот диван и подремли! — посоветовала
она.
Голос у Зины был теплый и сонный, напоминая ребя-
чий, еще не вполне сложившийся.
— Зачем же на диван? — отозвался он лениво.— По-
двинься. В тесноте, да не в обиде!
И осторожно положил руку на ее колено.
Она взяла его руку, отбросила.
— Не чуди!
При этом улыбнулась; в неверном свете под тонким
изгибом ее губ четко проступили белые, ровные, как на
подбор, зубы.
— Пожалуйста, не мешай мне! — сказала она крот-
ко.— Ты знаешь, я вторую ночь не смыкаю глаз...
Он снова, но осторожно, как бы сам того не замечая,
коснулся рукой ее колена и почувствовал (а может быть,
ему так показалось) легкую дрожь под своими пальца-
ми. Тогда внезапно опавшим баском он запел:
Спи, младенец мой прекрасный...
Затем, помолчав, сказал:
— Я сутки без сна, но и в эту ночь мне не доведется...
— Почему же? — откликнулась она еле слышно.
— Потому! Через час я должен быть на восточном
секторе... Беляки схлынули; но кто поручится, что они не
вернутся?
88
Она приподнялась на локте:
— Знаешь что, Клепиков! Ложись здесь, а я пойду к
нашим и ровно через час растолкаю тебя. Ей-богу!..
— Нет, чего там! — недовольно произнес он и, поло-
жив руку на ее плечо, откинул девушку назад.— Я кре-
пок, как тигр... Я могу держаться еще неделю...
— А я вот не могу! У меня близится мигрень.
— Мигрень? Какая срамота, Зина! — игриво подхва-
тил он и, смелея, принялся поглаживать упругое ее ко-
лено.— А знаешь, отчего ты такая... не выносливая?
— Отчего? — снова отстраняя его руку, спросила она
сонным голосом.
— Оттого, что ты...
Он колебался.
— Знаю!—торопливо, как бы угадывая в его словах
что-то дурное, сказала она.— Это оттого, что отец очень
меня баловал... Ты знаешь, Клепиков, мой отец уходит на
работу с зарею — и так тихо, что я даже не слышу. А ве-
чером, едва я появляюсь, укладывает меня в постель...
И сам ее стелет... Ей-богу!..
— Вот пустяки какие!
— Нет, верно! Отец меня очень жалеет. Мне было
всего пять лет, когда умерла моя мать. Он заменил мне
мать, бабушку, няньку...
Клепиков позевнул, и в больших бархатных глазах,
казавшихся на бледном лице особенно глубокими, захо-
лодело. Слова Кудрявцевой об отце, о матери не нрави-
лись ему: это как бы связывало его. Он сказал сухо:
— Папа, мама, бабушка... Ты говоришь, как купече-
ская дочка.
Зина с недоумением взглянула на него и замолчала, и
почти вслед он почувствовал, как, ослабев, опало близкое
к нему плечо девушки...
— Не хочешь — не слушай... И... пожалуйста, иди от-
сюда!..
Голос ее доносился издалека. Было видно, что у нее
не хватало сил, чтобы бороться с дремотою.
Он молча, боком прилег к ее ногам, склонил голову
к стене и закрыл глаза. Полуоткрыв свои, Зина увидела в
блеклом отсвете фонаря иссиня-бледное лицо его. Что-то
похожее на участие к усердно потрудившемуся в эти дни
человеку шевельнулось в ее сердце. Она невольно пода-
лась ногами к стене, чтобы не мешать ему. И едва со-
мкнула веки, ласковая дремота охватила ее. И вот услы-
89
шала милый струнный голос Мартына, но, как ни напря-
галась, не могла разобрать слов. Он держал свои руки у
ее плеч и говорил нечто такое, что без слов наполняло
все ее тело светом. И было жутко и радостно от того не-
испытанного, волнующего, что шло к ней вместе с голо-
сом Мартына. А вокруг происходило что-то необычное, и
было страшно и грустно, как в тот день, когда мать ее,
уснув навеки, лежала на столе, а она, девочка, стояла у
ее ног и не могла оторвать глаз от удивительного голу-
бого неба, простертого за окном.
«Мартын, милый! Я же люблю тебя... У тебя чужое,
суровое лицо, но я люблю тебя больше себя, больше
своей жизни».
Мартын слышит ее, склоняется к ней. Его глаза сини,
как дали в степи, и в них та же, что у степного простора,
манящая ласка. И его руки ласковыми травами обвивают
ее. Его дыхание, горячее, как полуденный зной, касается
ее щеки.
— Нет! — проговорила она, еще не подымая тяжелых
век, но уже вся настораживаясь.— Нет, не надо!..
Клепиков дышал ей в лицо порывисто, жарко. Его ру-
ки крепко сжимали ее плечи. Приходя в себя, она на
мгновение ощутила в сердце что-то горячее, буйное. Но
тут же, опоминаясь, закричала:
— Уйди! Что ты делаешь?!
Почувствовав, что его руки, вздрогнув, безвольно от-
пустили ее, она смолкла и молча глядела в бледное, ис-
каженное испугом лицо его.
— Какой... противный! — прошептала она внятно.
И, отстраняя его, все еще покорного и молчаливого,
приподнялась, откинулась спиною к стене. Дремота ис-
чезла, но в теле чадила усталость, непереносимо-серая,
старческая, и слова рассыпались на устах ее, как зола:
— Как тебе не стыдно, Клепиков... Ты, видно, привык
к дешевым заработкам... Ну, проваливай!.. Или у тебя
отнялся язык?
Он поднялся, прошел к окну, постоял и, обернувшись,
произнес хрипловатым голосом:
— Ты так завопила... Здесь кругом люди!
Она взглянула на него, отвернулась.
— Фу, какой трус!.. Впрочем, все мелкие воришки
трусливы.
— Послушай! — поднял он голос.— Ты не имеешь
права...
90
— Ах, брось, пожалуйста! — отмахнулась она и встала
на ноги, привычно оправляя платье.— Я же тебя вижу
насквозь...
— Ничего ты не видишь... Раскричалась, будто по-
сягнули на ее кошелек!
Эти слова его были так глупы и так неожиданны, что
она не сразу заговорила.
— До чего ж ты пошл! — произнесла она, наконец, и
вдруг, вся вспыхивая, закричала:—Уходи! Сейчас же,
слышишь!..
— Не шуми, сделай милость. Иду!
Переступив за дверь, он еще что-то добавил, но уже
про себя.
Оставшись одна, Зина подошла к окну и долго гляде-
ла в темное спокойное небо. У нее начиналась всерьез
мигрень. И на сердце было противно и жутко, словно, за-
глянув в пропасть, она никак не могла справиться с дур-
манной тошнотою.
— Одно слово! — проговорил с порога, возвращаясь
Клепиков.
Рослый, стройный, он казался теперь беспомощным и
жалким.
— Можно?..
Она не отвечала, стоя к нему вполоборота. Он про-
должал почти шепотом, медленно приближаясь к ней:
— Я прошу простить меня... У меня не было ничего
дурного в помыслах... Но я мужчина... а ты... не только
товарищ!.. Я давно следил за тобою... В тебе есть что-то
такое... Кажется, я люблю тебя!..
Она быстро обернулась к нему и нехорошо рассме-
ялась:
— Кажется? А не кажется ли тебе, что ты... негодяй?!
— Товарищ Кудрявцева! — предостерегающе поднял
он руку.
— А что, не правда? — Голос ее дрожал.— Я кое-что
слышала о тебе, Клепиков, но до сих пор старалась не
верить. Теперь же...
— Да что же, наконец, случилось? — перебил он ее
резко.— В чем я перед тобою...
— Ой, он еще спрашивает!
— Да, спрашиваю... И хочу сам отвечать... Ты... ты
имеешь намерение разыграть со мною сцену невинной ба-
рышни... Между тем кто же поверит твоей невинности?..
91
Он вовремя поймал угрожающий жест ее руки. Схва-
тив за локоть, с силою привлек ее к себе.
— Пусти! — бросила она, задыхаясь.— Буду кри-
чать...
— Кричи...
Порывистым натиском он прижался к ее рту своим.
Она отбивалась, но ему удалось перехватить ее руку.
Тогда левою, свободною она с силою толкнула его в
грудь. Он отшатнулся и при этом едва не ступил на что-то
живое. Вскрикнув дико, падая, оперся о паркет руками.
Зина стояла у софы недвижимо. Она не пошевелилась
и потом, когда пружинистый, цепкий комок прыгнул ей
на грудь и заурчал, опахивая ее лицо пухом. Глаза ее бы-
ли закрыты, ей было непереносимо видеть Клепикова.
А тот поднялся с четверенек, огляделся, заметил старого
кота и, не произнося ни слова, направился, пошатываясь,
к двери.
В коридоре было пусто. Угнув в плечи голову, Клепи-
ков прошел к черной лестнице и по ней, озираючись, спу-
стился в старый липовый парк. Здесь он присел на
скамью у черного корявого ствола и, подергивая плечом,
хмыкая, погрузился в поток назойливо скачущих мыслей.
Кажется, первый раз в жизни он был всерьез недово-
лен собою. Совесть не преследовала его. Мучило дру-
гое— то безотчетное, нелепое, безобразное, что оторвало
его от женщины. И ведь не опасность, не дуло, пристав-
ленное к виску, а всего-навсего старый кот, подвернув-
шийся под ноги, свалил его на четвереньки... Видела ли
она это? Поняла ли, в чем дело? Конечно, видела, поняла
и, конечно, никогда не простит ему... Он по-своему пони-
мал женщин и теперь был уверен, что не за дерзость, а за
этот пронзительный, заячий крик его, за испуг его, за
безумно смешной вид его, распростертого на полу, будет
он презираем этой девушкой.
Он готов был взвыть от злобы на себя, быть может,
даже расплакаться, и если не делал этого, то лишь пото-
му, что еще более, чем себя, ненавидел Кудрявцеву.
Несколько успокоившись, он вспомнил о табаке, на-
щупал в кармане папироску и, попыхивая ею, принялся
вышагивать вдоль аллеи. Пахло прелым листом, грибной
плесенью, и было тихо, как в заброшенном овраге.
Новый рой беспокойных мыслей овладел им: не взду-
мает ли Кудрявцева преследовать его по работе, мстить
ему, разыгрывая святошу?!
92
Далекое цоканье верхового по булыжнику привело
Клепикова в себя. Он оправил прическу, опахнул плат-
ком лицо (оно еще горело) и неровным, ломким шагом
направился вверх по черной лестнице.
А через четверть часа, неуклюже прыгая в седле, как
большая кукла, Клепиков трусил рядом с адъютантом
штаба к восточным окопам.
И на бегу выкрикивал в темноте:
— Теперь генерала с гончими не догонишь!
Черноголовый только что отпустил товарищей и оди-
ноко сидел в своем притихшем кабинете, когда к нему во-
шла Зина. Он мельком взглянул на нее, оживился, ска-
зал улыбаясь:
— Эге-ге! А ты, кажись, соснула мало-мало?
И вслед, прихватив за руку, потянул ее к карте на
столе.
— Видишь эту линию дороги?.. Банды свалились сю-
да... Связь с Боровиками прервана... По-видимому, гене-
рал ведет свою сволочь на Лиски!
Зина невидящими глазами следила за карандашом
Михаила Иваныча. Тонкие ее губы прыгали, нижнюю она
покусывала. И пальцы ее были холодны, как у мертвой.
— Понимаешь, там у нас поезд с семьями... Ну что,
если Мартын не догадается повернуть на разъезде к во-
стоку?
Она стояла подле его кресла, ссутулившись, и не все
понимала, о чем ей говорили.
Михаил Иваныч блеснул в ее сторону стеклами очков,
понизил голос:
— Что с тобою, матушка?
Она скосила глаза в угол.
— Мигрень!
— Может быть, послать в аптеку? — предложил он.
— О нет, не надо...— Помолчав, она продолжала о
своем, скрытом: — Как много все же осталось нам в на-
следство всяческой грязи от старого!
— Ты это к чему? — насторожился Черноголовый.
— Да так, вообще...
Она не решилась заговорить о только что пережитом:
было неловко, стыдно и... жалко Михаила Иваныча... Ему
и без того нелегко!
И, как бы поняв и оценив ее молчание, он ободряюще
улыбнулся ей.
93
— Грязь — она въедлива... Но погоди: вот разделаем-
ся с врагами, тогда...— Он не закончил, снова всмотрелся
в нее.— А ты изрядно замоталась, бедняжка!.. Как мне
хотелось бы разгрузить тебя! Впрочем, сие есть пустой
разговор. Единственное, что нам остается пока,— это меч-
тать о близком будущем. Не вечно же драться, придет че-
ред и мирному житию... Главное сейчас — не поддаваться
унынию!..
Как всегда, близость Михаила Иваныча, его спокой-
ствие, его умение, отдаваясь настоящему, жить будущим,
его непоколебимая, прочная, как знание, вера в завтраш-
ний день подействовали на нее так, словно с плеч ее сня-
ли тяжесть, и самые горести ее вдруг показались ей при-
зрачными.
Неожиданно он встал, взял ее руку, крепко сжал в
своей и затем перехватил с кипы бумаг на столе серень-
кое, изрядно потрепанное кепи.
— Куда же, Михаил Иваныч? — Она придержала его
за руку.
— В казармы! В отряде, который мы сколотили из
«зеленых», не все ладно... Бузят!
— Одну минутку! — воскликнула она, пропуская мимо
замечание его о казармах.— Что же будет с Лисками?
Неужели Мартын... со своим эшелоном угодит в лапы
врага?!
— Не думаю,— успокоил ее Михаил Иваныч и подал-
ся к двери.— Во всяком случае Баймаков не из тех, ко-
торые сидят сложа руки перед лицом опасности... Выбе-
рутся!— добавил он уже рассеянно, переключаясь мыс-
лями к иному.— Будет хорошо, Кудрявцева, если ты оста-
нешься здесь, последишь за телефоном... В случае какой-
либо неожиданности звони в старые казармы, ко мне.
Он был уже у двери, когда на столе затрещал аппарат.
— Послушай, Кудрявцева, кто там.
Она взяла трубку.
— Вас слушают... Кто говорит? — Голос ее сорвался.
Опустив трубку, она растерянно взглянула на Михаила
Иваныча.— Это Клепиков, с восточного сектора!
— Чего ему? — спросил он, не двигаясь с места.
Она снова вскинула трубку.
— Предисполкома занят... Что?.. Так! Передам.
Брезгливо скосив губы, она крепко, рывком, как бы
придавив что-то живое, ползучее, гадкое, уложила труб-
ку на место.
94
— Клепиков извещает, что на его участке все спокой-
но,— сообщила она, не подымая глаз.— О себе говорит,
что он считает необходимым направиться в казармы.
— Правильно! Молодец! — откликнулся Михаил Ива-
ныч.— Расторопный парень и не без дарований, кажется.
Если бы Михаил Иваныч не так спешил, он заметил
бы, как порывисто вскинула Кудрявцева глаза и в них
проблеснул мрачный огонек.
Возглас возмущения готов был слететь с ее уст, но она
сдержалась. Недоставало, чтобы она свое, личное, пере-
несла в деловые взаимоотношения! Тем не менее она не
могла отделаться от смутного чувства обиды за Черного-
лового: какая близорукость! Впрочем, может быть, этот...
этот (она не могла подобрать достаточно выразительного
слова, определяющего Клепикова)... Может быть, и
впрямь он «молодец и не без дарований».
За Михаилом Иванычем стукнула дверь. Зина опусти-
лась в кресло предисполкома, туго наморщила лоб. Вновь
зачадили мысли о Клепикове. Кажется, это будет пресле-
довать ее бесконечно... Вернее, даже не преследовать, а
напоминать о себе, как недуг. Клепиков, конечно, подлец,
но и она хороша! Ей следовало бы теперь же, не откла-
дывая, проучить его! Во всяком случае...
Она не закончила мысли, вновь и вновь прислуши-
ваясь к себе, заглядывая в свое, скрытое, сокровенное.
Звонил телефон. Она поднесла трубку к уху, отмахнув
мешавшую ей прядь волос.
— Слушаю! — Голос Зины был криклив, холоден.—
Ты, Яглом? Не торопись, пожалуйста,— плохая слыши-
мость... Черноголового нет, выкладывай мне... Чего?.. Че-
го?!. Хлеб будет доставлен не раньше следующей неде-
ли... Нет, нет, не раньше! Галдят?! Призови к порядку...
Дело революции в опасности... Терпят старики, дети...
Что, что? Ах вот как! Ну, так твои бузотеры отведают
у нас трибунала... Да, да, так и заяви!.. Утром буду са-
ма... Обязательно! Что? что... Можно и сегодня. Звони
сюда... Сюда... только попозже!
IX
Поезд остановился среди степи, в километре от Лисок.
Была ночь. Из черных степных прорех задувало сквоз-
няком. Натыкаясь на дощатые стены теплушек, ветер мо-
тался вокруг, выискивая дыры, тихонько скулил, присви-
стывал.
95
Мартын заглянул в окно. В темноте, среди редких
звезд, пылал багровый бычий глаз.
Семафор на отказе!..
От сального огарка по стенам вагона трепались лох-
матые тени. Красноармеец, лежавший на скамье, вдруг
прервал свой храп, поднял из-под шинели стриженую го-
лову, ухватился привычно за винтовку у изголовья...
Штык дырявил темноту, кровавые капли отсвечивали на
острых его гранях.
— В чем же, однако, дело? — проговорил Туляков
скрипуче, настороженно.— Почему нас не пускают?
В затемненных глазах Мартына мигнули искорки. Он
низко склонился к Туликову:
— Слушай, а не угодим ли мы...
Не договорил. Ноздри его приметно подрагивали. Ту-
ляков отвернулся.
— Ну-ка, товарищ! — крикнул он в сторону армейца
на скамье.— Занять свое место!
И пока тот, позевывая и покряхтывая, подымался со
скамьи, Туляков вышел на площадку. Ветер бился здесь,
как крыло подстреленной птицы.
— Идем к паровозу! — крикнул Мартын, спускаясь
вслед за Туликовым к насыпи.
Едва оба они ступили на землю, ночь и степь навали-
лись на них черным ветреным простором.
— Экая чертовщина! — говорил Туляков, стараясь не
отставать от Мартына.— Вечные непорядки...
Выставив под ветер горячую грудь, паровоз нетерпе-
ливо отфыркивал пламенем.
— Посвистать, что ли? — раздался из будки голос ма-
шиниста.
— Нет! — запрокинул к нему голову Туляков.— Не
надо!
Машинист молча подался внутрь будки, и тут неожи-
данно Мартын принялся разминать ноги и руки, как де-
лал это когда-то по утрам Черноголовый в ссылке.
Туляков хмуро вглядывался в темноту.
— Как будто все спокойно, а?..
— Сейчас увидим! — откликнулся Мартын с плохо
скрытым возбуждением и нащупал в кармане браунинг.
— Ты, Туляков, побудь здесь, а я смахаю на стан-
цию. Идет?
Не ожидая ответа, он рванулся в темноту.
96
Туляков следил за ним, пока не потерял из виду, за-
тем взобрался к будке паровоза, кинул тоном приказа:
— Сигналов никаких!
И, спустившись вновь на шпалы, пошагал в сторону
вагонов, откуда уже доносились тревожные окрики жен-
щин.
Оставшись один, Мартын огляделся, сбежал под на-
сыпь. Тотчас же ночь охватила его и скрыла от людских
глаз, если только они тут были (чудилось, что были). Он
шел целиною размеренным шагом, не глядя по сторонам,
но настороженным слухом ловил каждый шорох. На одно
мгновение ему представилось, что он в лесах, что за пле-
чами у него двустволка с тяжелым зарядом и что в кустах
отсвечивает фосфор волчьих глаз. Он даже привычно за-
шаркал ногами (как на лыжах) и, напружившись, издал
тот воркующий, горловой звук, которому научился у
крестьян-охотников:
— Ы-г-э...
Вслед рассмеялся... Что такое волки в сравнении с бе-
лыми разбойниками, и разве можно измерить тепереш-
нее положение былыми опасностями в тайге на охоте?
Он шел, запрокинув, как обычно, голову, ноздри его
трепетали, глаза поблескивали в темноте.
Кругом было по-ночному немо, лишь, бесприютное,
звенело где-то перекати-поле да ветер напевал у само-
го уха. Вскоре из-за голого степного холма .показались
далекие огни. Но ни единого звука не доносилось со
станции.
Если там были враги, то почему же вокруг все по-мир-
ному спокойно и не слышно шумов, которые сопутствуют
военному лагерю?
Внезапно откуда-то со стороны донесло конским
ржаньем. Мартын приостановился. Буйно застучало
сердце. Теперь он крался, стараясь держаться низины.
Мускулы его ног напряглись, но грудь дышала вольно и
в голове, притупляя слух, роились мысли... Мысли бы-
ли о городе. Незримые нити тянулись от него, Мартына,
к друзьям его, от этой вот тревожной минуты в степи к
большим годам счастья, к будущему, еще не измеренно-
му, к светлым, еще не исхоженным дорогам.
Что такое жизнь, если она не согревает сердца? И к
чему эти долгие дни размеренного желания, если голова
в бурьяне, а кровь в плесени? Если нельзя одним прыж-
ком разорвать будничную тускмень, раздуть тихие сол-
4. В. Бахметьев
97
нечные угревы в пожарище, сложить из обычных, терпе-
ливых слов труда ликующий призыв к подвигу?
Втайне Мартыну часто думалось, что пришел он на
землю не затем только, чтобы взять свою скромную дань
от жизни. Он верил, что, рано или поздно, час его про-
бьет— и все вокруг поймут, наконец, какая необычайная
жизнь сгорела на их глазах... Да, он не представлял себе
иного конца: жизнь его должна сгореть! Сознавать себя
на гребне каких-то грозных событий он начал, еще когда
томился ребенком в барской усадьбе, под кровом зага-
дочного человека, того, чья голова походила на голову
медведя. Еще тогда вся эта толпа слуг и служанок сле-
дила за ним, ребенком, по-особому, со стороны, как за не-
обычайным для них явлением. И там, в рыбачьем посел-
ке, окруженный тайною матери, он был как в гостях...
Мартын не мог бы сказать себе, что предпримет он,
если и впрямь на станции окажутся враги. Но он уже не
колебался. Он был уверен, что сделает многое — и не на-
прасно! И он рисовал себе, какой восторг охватит друзей
его при первой о нем вести. Нет, белые банды не унесут
ног, кровь, ими пролитая, будет динамитом в руках Мар-
тына.
Обрывки горячего, захлебывающегося бреда томили
его. Вот он подкрадывается к вражьему пулемету, на-
брасывается на стражу и обращает смертоносный огонь
против сонного царства белых. Вот он, неузнанный, вхо-
дит в их штаб, отводит в сторону командира, всаживает в
него пулю, выбегает на платформу, стреляет в воздух,
кричит: «Спасайся, кто может!» И вокруг паника... Вот
он... Но нет! Все это риск, действовать же не наверняка
Мартын не может, не должен.
Голова его горит, ночь укладывается у ног укрощен-
ной волчицей, ветер гудит по степи сигнальными трубами.
Околдованный жаркими видениями, он, незаметно для
себя, оказался у самой станции, перед стенами какого-то
бревенчатого барака. Слышалось погромыхивание вагон-
ных цепей, чьи-то выкрики и тот ровный, глухой шум, ка-
кой обычно наполняет людные вокзалы. Пахло жженым
углем, маслом, ржавым железом. У ног своих Мартын на-
щупал сваленные в беспорядке рельсы, полуразрушенные
части паровоза — все это заросло бурьяном, стыло в ночи,
наполняло воздух острою гнилью давно заброшенного
железа.
И вдруг прозвучал высокий, зычный голос:
98
— Эй, бисова душа! Куда захилился? Товарищ Шепо-
вал кличет...
В ответ, совсем близко, рассыпался молодой смешок:
— А лях его возьми, твоего Шеповала! Нешто не ви-
дишь — с кралей я...
Люди некоторое время переругивались; их голоса по-
степенно угасали за углом барака, и тогда Мартын вы-
шел из своей засады. Переход от напряженного ожида-
ния к полному покою разрядился у него нервным смехом.
Он увидел за вагоном человека и покричал ему:
— Эй, там...
Человек, справлявший свою нужду, неторопливо одер-
нул рубаху, сделал шаг вперед, спросил:
— Чего орешь?..
— Мне начальника станции!—откликнулся Мартын
строго.— У вас тут как... все в порядке? Про белых слыш-
но что, нет?
— На кой дьявол слушать нам об них, пропади они
пропадом! — выругался человек в рубахе.— А начальник
тебе зачем?
— С эшелоном я, из города! Да вот семафор у вас за-
крыт.
Человек раскатисто хохотнул:
— А это мы для острастки! Чтоб вашего брата сторон-
него поменьше прибывало... С чем эшелон-то?
— Мирный! Женщины, ребята... Городские!
— Так! Ладно, сейчас повернем огонек на прием!
А ты начальнику объявись — в дежурке он, надо быть.
Потеряв в ожидании Мартына терпение, Туляков по-
кинул свой вагон и не торопясь побрел в сторону станции.
Дул ветер, хлестал какою-то жестянкою у колес, во-
круг было по-прежнему глухо. Из вагонов никто не ре-
шался вылезать: был страх, что паровоз может двинуться
каждую минуту. Но минуты текли, а семафор оставался
закрытым. Один за другим вспыхивали вдали огни. Доно-
сился рваный собачий лай. Женщинам, выглядывавшим
из вагонов, чудилось, что из темноты вот-вот откроют
стрельбу! А тут еще ничем не объяснимое поведение ко-
менданта: Баймаков ушел в разведку и не подавал о себе
вести.
— Свинство! — говорил Уткин, прохаживаясь с Ари-
стовым вдоль вагонов.— Ушел — и никаких!..
— Мальчишка! — откликнулся угрюмо кооператор.—
Залез в буфет и попивает чаишко! Очень мы ему нужны!
99
Такие на митингах только о массах кричат, а на деле пле-
вать им на массы... Одно слово — демократия!
Из вагонов слышались тревожные голоса:
— Скоро, товарищи, едем?..
В небе пылал звездный костер, на земле становилось
еще чернее, а ветер — крепче, назойливее. Подростки, вы-
прыгнув на горбатую насыпь, присаживались на карачки
и боязливо поглядывали то в сторону черной степи, то на
свой вагон: не тронулся бы?
Наконец, Уткин потерял терпение.
— Безобразие! — произнес он громко и жалобно, ти-
ская в руках полу своей накидки.
Его услышали и поддержали женщины. Они посме-
ивались над Уткиным всю дорогу, подозревая в нем су-
щество более слабое и более напуганное, чем они сами.
Но тут, волнуясь, они готовы были идти об руку с кем
угодно, лишь бы не молчать, не томиться в одиночку
страхами.
Добрынин, заведующий наробразом, человек тяже-
лый, громоздкий, с нездорово отечным лицом, сполз из
своего вагона к насыпи, прошел шаткою поступью в степь,
огляделся, послушал и, решив, что поезду ничего не гро-
зит, достал портсигар, но закурить не решился. Скомкав
папиросу, повернул обратно. Его жена Любочка стояла
под насыпью с грудным ребенком на руках. Она была
много моложе Добрынина, учительствовала когда-то в
глухой деревушке, сошлась с ним по влечению к иному,
необычному для нее миру и до сих пор каждое мужнино
слово, слово бывалого революционера, воспринимала как
откровение.
— Ну, чего вытаращилась? — проворчал Добрынин,
подходя к жене.— С вашей особой ровно ничего не слу-
чится... Все в порядке!
Любочка неожиданно всхлипнула.
— Еня! — произнесла она едва слышно.— Если ты...
если я... если я тебя компрометирую, переберись в другой
вагон!
— А поумнее чего не скажешь?
Он полез за новой папиросой.
Пожилая женщина, Анфиса Семеновна, подруга губ-
продкома Синицына, высунув из вагона тяжелый, круг-
лый живот (она ходила беременной чуть не ежегодно),
с нетерпением поглядывала на Добрыниных.
Он заметил, махнул ей рукой:
100
— Всё благополучно!
Анфиса Семеновна обернулась к своим в вагоне:
— Милые! Все благополучно...
В сумрачном вагоне, освещенном коптилкою, возились
всполошенно пассажирки. Одна натягивала на белобры-
сую бледную девочку пальтецо; та рвалась к выходу,
мать шлепала ее по ягодицам. Старуха в ярком пестром
сарафане стояла на коленях и рывками укладывала на
простыню юбки, кофточки, платки, коробочки из-под чая
и еще что-то, что непослушно сползало на пол. Она пла-
кала. Встревоженный голос метался по вагону:
— Марья Петровна! Симочка! Где же мои башма-
ки? Груня! Ты не видела моих башмаков?
Услышав спокойный, басовитый голос Анфисы Семе-
новны, женщины побросали тряпье.
— Благополучно?.. Так что же они среди поля стали,
людей терзают?
Анфиса Семеновна дернула за рукав уклюнувшуюся
в узел старуху:
— Брось, бабушка! Ничего такого...
Старуха вслушалась, закрестилась, но слезы продол-
жали катиться у нее по впалым морщинистым щекам: со-
всем как вода из трещины в ветхой посуде.
— Милуются! — сказала Анфиса Семеновна и мот-
нула наружу своею черноволосою, приглаженною и при-
масленною головой.— Голубочки!..
Та, которая искала свои башмаки, высунулась за
дверь, вглядываясь в темноту, горько фыркнула и, шле-
пая босыми ногами, пошла в угол.
— Это что же такое? — заговорила она высоким, кру-
ченым голосом.— Нашим мужикам в огне-полыме кипеть,
а этому борову Добрынину с молодицей кататься? Да
пусть он к нам на глаза не показывается... с разлюбезной
со своей! Да я ему весь лик его поцарапаю!..
— Потише, потише, товарищ! — подал кто-то с нар
голос.— Нельзя этак... Ему же разрешили!
— Кто, кто разрешил?
— Кому полагается, тот и разрешил! Видите сами, не
молоденький... И заслуги у него... Школами управляет...
А жена его вовсе даже ни при чем!
— Да ты пошто в заступницы-то лезешь? — вскину-
лась к нарам старуха.— Ай кумою доводишься?
Голова у нее дрожала, ревматические, в шишках,
пальцы беспомощно цеплялись за нары.
101
В вагоне стало шумно. Неожиданно снаружи послы-
шался охрипший, но ярый голос Уткина:
— Спокойствие! Сейчас двинемся!
И почти вслед паровоз рявкнул, буфера залязгали.
Поезд тихонько, ощупью, спотыкаясь и дергая, двинулся
к станции.
Станция оказалась огромною. Она вся была загромо-
ждена вагонами. Одни из них полны были пеньки и хле-
ба, в других копошились люди. Одинокий паровоз манев-
рировал где-то в темноте, толкал вагоны: буфера лязга-
ли, звенели цепи.
Двери станционного здания то и дело повизгивали и
бухали со звоном. Стекла в просторных окнах были пот-
ны, незрячи. Тени, ломаясь, осеняли изнутри матовые
квадраты окон. Под длинным и узким навесом, вдоль все-
го перрона, тускло светили лампочки.
На вновь прибывший эшелон мало кто обратил вни-
мание. Наконец, к паровозу прошел человек, судя по
осанке — комендант станции. Его сопровождали двое пу-
тевых рабочих и еще кто-то, ростом на целую голову вы-
ше других. Аристов, стоявший у двери своей теплушки,
узнал Баймакова.
Все четверо там, у паровоза, спорили, переругивались.
Вокруг собралась кучка любопытных. Вдруг паровоз, от-
делившись от вагонов, поплыл вперед.
— Нас в тупик! — кричал Уткин, пробегая вдоль ва-
гонов.— Не вылезайте! Нас в тупик...
Мартын и Туляков прошли вслед за комендантом
станции в дежурную.
Здесь пахло густым людским потом, но людей не
было.
— Полчаса назад на Острогожск путь был свобо-
ден!— заговорил комендант, становясь у стола.— Одна-
ко ручаться ни за что нельзя!..
У него было бритое, оранжевое какое-то лицо с на-
бухшими от бессонницы глазами.
— Ав городе, товарищ, как?..
— С городом никак! Никакой связи...
— Провианту мы здесь найдем? — спросил Мартын.
— Кое-что в селении! — отвечал комендант и уста-
лым, привычным жестом руки взял под козырек.—> Про-
стите, товарищи... что слышно новенького из Москвы?
— Сами ничего не знаем! — проговорил Туляков и по-
дался к столу.— Еще вопрос! — склонился он к комен-
102
данту.— Можно ли повернуть наш паровоз, держать его
на магистрали?
— Паровоз — да, но не весь, конечно, состав!
— Хотя бы паровоз со служебным при нем вагоном.
— Можно... Да у нас пока все тихо!
— Я просил бы устроить паровоз теперь же,— уже
решительно сказал Туляков.— У нас там, понимаете ли,
ценности!
— Повернем!
Тут, прикрыв ладошкою рот, комендант шумно позев-
нул.
— Каждую ночь недосыпаю,— проговорил он сип-
ло.— Придется как-нибудь прилечь, а?
— Для чего тебе паровоз? — заговорил Мартын,
выйдя с Туликовым на перрон.
Туляков сухо откликнулся:
— Я отвечаю за вверенную мне казну и должен при-
нять меры!
Они шли по перрону. Ночь катилась над станцией
звездными волнами. Свежело.
— Значит, будешь стоять под парами? — спросил
Мартын с нескрываемым пренебрежением в голосе.
— Баймаков! — Туляков остановился.— Ты это, по-
жалуйста, брось! Понял? — Помолчав, он, как бы про
себя, сказал: — Есть ли тут исполком и прочее? Надо бы
заглянуть в поселок.
Мартын направился искать свой эшелон. У вагонов
кое-где светились костры. Под их багровым пламенем
женщины устраивались на ночь, готовили ужин. Мартын
подошел к одному из костров. Тут разместилась целая
семья. Древний старик с лысиной, отсвечивающей баг-
рянцем, стоял у огня и железным прутом помешивал уг-
ли. Полная женщина в пестром капоте держала над ог-
нем с помощью рогачика объемистую сковородку. На ско-
вородке урчало и потрескивало. Вокруг полукругом уст-
роились подростки в накинутых на плечи пиджачках.
Крошечная девочка с черными, провалившимися щечка-
ми жадно поглядывала на сковородку и, всасывая губа-
ми слюну, говорила:
— Мамуся, смотри, подгорит! Да подгорит же, тебе
говорят...
Заметив Баймакова, все повернули к нему головы.
— Ну как, товарищ комендант? — спросил старик.
103
— Ничего! — ответил Мартын, готовясь идти даль-
ше.— Все в порядке!
У следующего костра он застал Уткина и Аристова.
Кооператор старательно протирал тряпицей свою кожан-
ку. Завидя коменданта поезда, он отвернулся, и опять в
его маслянистых, навыкате глазах Мартыну почудилось
что-то от «балансиста». Уткин, сняв свою крылатку, на-
кидывал ее на плечи Любочки Добрыниной, та не хоте-
ла принять. В руке она держала столовую ложку; капли
коричневой жижи стекали с ложки в чайник.
— Ах, да оставьте вы, пожалуйста! Мне и так
жарко...
Добрынина тут не было. Зато были все остальные;
жена губпродкомиссара Анфиса Семеновна, ее подруга
в кацавейке и та самая старуха, которая при останов-
ке среди степи так зло говорила о заведующем нароб-
разом.
На лицах женщин теплилось довольство, будто после
грозовой бури добрались они, наконец, в тихие, укром-
ные и совсем-совсем безопасные места.
Мартын шел дальше. Эти люди с их птичьей успоко-
енностью, с их шуточками и смехом снова начали раз-
дражать его. Он круто свернул со шпал и направился в
сторону светящихся вдали огней. За луговиной лежал
поселок. Единственная его улица погружена была в сон,
но кое-где еще мерцали окна, а у ворот большого кир-
пичного дома маячила человеческая фигура. При прибли-
жении Мартына фигура скользнула в калитку, щеколда
звякнула, в глубине двора залаяла собака.
— Эй, кто там? — крикнул Мартын, подходя к во-
ротам.
— А чего надо? — откликнулся за калиткой мужской
голос.
Голос этот поразил Мартына: в нем слышались страх
и досада, а в то же время он был необыкновенно певуч
и чист.
— Далеко ли до сельсовета? — спросил Мартын воз-
можно мягче.
— А ты кто такой? — снова пропели за калиткой.
Калитка полуоткрылась, в нее боком пролез человек.
Он был в исподнем, с плеч до самой земли спускалась у
него овчинная шуба.
— Кто такой? — переспросил он, держась одной ру-
кой за калитку.
104
— Проезжий! А до сельсовета у меня дело.
— Какое?
Этот неожиданный вопрос озадачил Мартына.
— А ты укажи^ка лучше, где о»н, совет ваш! — от-
кликнулся Мартын.— Болтать мне некогда!
Человек закашлял, сплюнул, отер рукавом бороду.
— Чудак! — пропел он.— Кто же в ночь-полночь по
делам шатается? — И, помолчав, добавил: — Никого не-
ту теперича в совете. Да ты кто сам-то?
Мартын объяснил. Человек покачал головою.
— Так, так... Зря подались сюда! — сказал он, на
этот раз без страха и досады.
— Почему же?
— Потому!..
И, приблизившись к Мартыну, человек негромко за-
говорил:
— С часу на час белых ждем... У нас молодые ребя-
та, какие были, в степя с отрядом подались. Отряд тут
стоял товарища Беспалого. Слышал, может? Из матро-
сов сам, с Невы-реки...
— А ты кто же будешь?
— А я сельсовет и есть.— Человек снова взялся за
калитку.— Из простых я, по мужичьему делу сижу...
А что до моей должности, так она на меня вроде как по
обязательству наложена... всем миром!.. Понял?
В Мартыне заговорила знакомая тяга к деревенским
делам.
— Как живете? — начал он торопливо.— С разверст-
кой по хлебу управились?
— Да как сказать...— неохотно откликнулся человек
в шубе.— Собрать будто собрали, а доведется ли отпра-
вить — один бог знает: дорога-то стала... Опять же гор-
лодранцы наши, из зажиточных которые, народ с панта-
лыку сбивают... Беднота горой супротив их, а поисправ-
нее хозяева — те хвост по ветру: туда-сюда вертят!
— С чего бы так? — отозвался Мартын.— Или поме-
щичий кнут сладок?
— Не в кнуте дело, а в обиходе житейском: зажиточ-
ные-то середь народа рыскают, к себе тянут... А с ними
только поведись! Сказано: с собакой ляжешь — с блоха-
ми встанешь! Ну, пойду досыпать,— прервал себя сель-
советчик.— Недужится мне!
С этим он рванул калиткой и скрылся.
105
Мартын постоял, послушал, как, удаляясь, затихали
за калиткою шаги мужика, и повернул назад, к станции.
Но, миновав околицу, он неожиданно направился в дру-
гую сторону, попал к обрыву с шумящей на дне речон-
кой, обогнул овраг, вышел в степь. Впереди, меж небом
и степью, на много верст залегла черная немота. И само
небо, трепетавшее холодным синим жаром, было немо,
угрюмо и загадочно. Мартын шел осторожно, цепко вгля-
дываясь перед собою. Кругом ни души, ни звука, ни шо-
роха. Лишь в одном месте, при повороте от холмика к пе-
релеску, Мартыну почудился глухой шум, похожий на
шум обвала. Волна возбуждения охватила его, он при-
пал на колено, вслушался и вдруг рассмеялся:
«Быть бы тебе, Мартын, следопытом!»
Взглянув на себя со стороны, с изумлением узнал в
себе то самое, что владело когда-то им, волжским отро-
ком, крадущимся ночью к страшной молельне старца-
удавленника.
Да, было такое!
За родным поселком, в глубине леса, стояла древняя
часовенка староверья. Кто-то из стариков, будучи разбит
на всенародном споре о вере, просидел там у кивота до
ночи, а ночью невесть с чего повесился. После того в по-
селке соорудили новую молельню, а старую забросили.
Люди обходили ее за версту не только в поздний вечер-
ний час, но и при ярком солнце. Даже дед Стратон не за-
глядывал в эту страшную молельню. И вот в один из тех
последних дней, которые провел Мартын у отца после
бегства из помещичьей усадьбы, попал он на гулянку мо-
лодежи. Были здесь игры, песни, борьба вперетяжку. Кто-
то из парней, честясь перед красавицами, предложил
биться на смелость: кто, мол, проберется в полночь к по-
кинутой молельне и засветит свечу там? Охотников по^
бывать ночью в запретном месте не выискалось. Тогда в
круг выступил Мартын, посулил наведать молельню и
засветить огонек у древнего кивота. Решался он на это
не из желания покрасоваться перед ребятами, а единст-
венно потому, что, представив себя ночью в молельне
удавленника, весь сжался от жути и — разозлился из-за
своей трусости.
Услышав Мартына, ребята стали потешаться.над ним.
Кто-то из девок крикнул:
— Да ты, возгорь, один пойдешь али с батькою?
Другая, оглядывая с ухмылкою подростка, посовето-
106
вала ему сменить, как пойдет к молельне, барчуковы
штаны на свои, рыбацкие; по крайности-де не жалко бу-
дет, коль вымараешь со страху. Эти издевки и сопутст-
вующий им дружный хохот были Мартыну как соль на
рану. Он стемнел в лице и закричал: «Все равно пойду!»
И пошел. Провожая его до опушки леса, молодежь, не
унимаясь, сыпала в его сторону шутки. Он шел молча,
упрямо стиснув зубы, и на опушке попросил коробочек
со спичками. Свечи, по словам ребят, должны были со-
храниться в молельне, у кивота. «Ладно, сыщу какую
ни на есть!» — сказал Мартын и, не оглядываясь, тро-
нулся в тем1ную чащобу леса.
Он шел в корявом ушастом кустарнике, старался не
оглядываться и думал о том, что плевать ему на удав-
ленника! Но подстерегающая темнота, молчание леса и
множество переслушанных от деда Стратона страшных
россказней, вдруг теперь зазвучавших в памяти, связы-
вали невидимыми путами каждый шаг. Хотелось безза-
ботно закричать, а сил не было. Ухо ловило всякий шле-
пок ветки, роса на листьях была студена и обжигала ру-
ки, травы, как живые, ворочались под подошвою. На про-
галине стало легче, но, сделав еще несколько шагов,
Мартын почуял себя тут, на открытом месте, совсем без-
защитным: весь на виду, один на один с враждебно за-
таившейся ночью. Чтоб подбодрить себя, он принялся
смеяться над своим страхом, подражая парням и девкам,
но от этого смеха стало еще хуже. Тогда, люто обозлив-
шись на себя, на людей (стояли теперь оравой у опуш-
ки и злорадно ожидали), он закусил губы и в несколько
прыжков достиг черного, похилившегося сруба. Прокля-
тая, ненавистная всем домовина!
Заметив зарево, в поселке ударили в набат. Но вско-
ре догадались по местоположению, что горит древняя,
опротивевшая старому и малому часовня, и оставили ко-
локол в покое. А наутро отец, плечистый, чернобородый,
все еще удивительный своею особой, дикой красотою,
долго и мрачно глядел на Мартына. Наглядевшись, ска-
зал, обращаясь к распростертому на полатях в смертном
недуге деду Стратону:
— В затеях Мартын — вылитая мать, а вершит —
по-моему!
Это походило на одобрение, единственное когда-либо
слышанное Мартыном от отца.
С тех пор прошло немало времени, а он, Мартын, ка-
107
жется, все тот же. Как будто между черною ночью в Жи-
гулях и нынешней не было долгих лет, не было Маркса,
над которым просиживал Мартын бесконечные дни, не
было революции. И как тогда, столкнувшись с мрачною
ночью Жигулей, Мартын готов был одним безумным на-
пряжением воли смять все препятствия, так и теперь он
вдруг весь захолодел от ненависти к тайне этой степи.
Поискав глазами огней и не найдя их, он скорым ша-
гом направился к станции. Шел наобум, куда вынесет!
Наконец, на склоне звездного неба вычертились си-
луэты станционных зданий. Поблекший свет фонаря
мелькнул где-то за темными вагонами.
Обогнув главное здание, Мартын невдалеке от себя
увидел паровоз и вагон при нем. Паровоз стоял лицом к
далекому городу, бесшумно дымил.
«Туляков не зевает!» — подумал Мартын и тут же
решил: завтра с утра он подымет на ноги все живые си-
лы, какие найдутся на станции. Надо организовать охра-
ну, а если возможно, то и разведку. Нельзя же, в самом
деле, сидеть тут вслепую. Только из кого, с какими воя-
ками все это организуешь?
Чьи-то торопливые шаги по перрону привлекли вни-
мание Мартына. Одновременно послышались звоны две-
рей, грохот падающего железа, всполошенный топот ног.
Мартын кинулся к паровозу и едва не столкнулся с Ту-
ликовым.
По тому, как прерывисто дышал тот, по его голосу
Мартын почуял тревогу.
— Где пропадал? — заговорил Туляков, подхватив
Мартына под руку и таща его за собою.— В телеграф-
ной только что сообщили: сюда подвигаются белые!
Если мы...
Он не закончил, замер на месте, крепко сжал локоть
Мартына:
— Вот! Мы опоздали...
И тут Мартын услышал гул, похожий на тяжкий же-
лезный стон приближающегося поезда.
Туляков рванулся к паровозу.
х
С тех пор как эшелон с эвакуируемыми выбыл из го-
рода, прошло не более полуторы недели, а над городом
уже заосеняло.
108
В этих местах, по черноземью, осень подкрадывается
незаметно. Вдруг будто что-то сдвинется в природе, и то-
гда воздух над городом становится прохладным и ясным,
утренние зори расцветают в студеных росах, а за поля-
ми с утра до сумерек тревожно мерцают дали. До сля-
коти и дождей еще далеко, но на закатах заречье уже
дышит сизыми туманами, по ночам в лунных просторах
бродят хмурые тучи, и там, где древние липы свисают
своими горбатыми, в лишаях, сучьями к уличным забо-
рам, всю ночь слышатся тоскливые старушечьи скрипы.
«Ой, вот уж и осень! — думала Кудрявцева, прохо-
дя улицами с работы или на работу.— Как скоро!»
Только она, Зина, в свои девятнадцать лет, успевала
замечать перемены в природе: и то, что делается за го-
родом в степях, и то, каким стало над городом небо. Дру-
гие же все, от исполкомовского курьера до Черноголово-
го,. не интересовались вовсе, идет ли на улицах дождь,
или светит солнце. Они все жили под властью особой сти-
хии, и у этой стихии было свое солнце и свои невзгоды.
Только что в исполкоме праздновали освобождение от
генеральских банд, и эти дни были более прекрасными,
чем цветущий май в степях. Но вот донесения с фронта
опять стали тревожными, и уже не было мая, по-преж-
нему на сердце задувало сквозняком и остро, зло, как
осы по осени, жалили мысли...
Больше всего хлопот и забот было у губпродкомисса-
ра Синицына. Городские закрома стояли пустыми, в де-
ревнях продолжалась бестолочь, хлеб собирался туго, и
не хватало сил, чтобы подтолкнуть по-настоящему дело
продовольственной разверстки. Синицын почти не пока-
зывался дома. Его жена, Анфиса Семеновна, только что,
в числе первых, возвратившаяся из Лисок, готовилась к
родам, а старший, Сергунька, хворал скарлатиной. Си-
ницын думал, что Анфиса Семеновна сумеет родить и без
него, губпродкомиссара, а Сергуньке он все равно ничем
не мог помочь, даже если бы имел для того время.
И вот дни и ночи просиживал он в губпродкоме, и все,
кто видел его там, понимали, что не было такой силы, ко-
торая вырвала бы его из бурного потока забот и хлопот.
Покидал продкомиссар свое учреждение только с тем,
чтобы наведаться к Черноголовому. И чем труднее ста-
новилось с. разверсткой, тем чаще посещал он кабинет
предисполкодоа. И уже начали выражать Синицыну свое,
неудовольствие окружающие — Жбанов из коммунхоза,
109;
Губарев из профсовета, Добрынин из наробраза и сам
предчека Лузгин,— все они ворчали на продкомиссара:
когда ни явишься к Михаилу Иванычу, Синицын тут как
тут со своими ведомостями, сводками, эстафетами. Толь-
ко одна Зина Кудрявцева, самая молодая среди моло-
дых и оттого самая терпеливая, без воркотни ожидала
своей очереди в кабинете Черноголового, даже порою
уступала ее губпродкомиссару.
В тот день, около четырех пополудни, она зашла к
Михаилу Иванычу по общему с продкомиссаром делу —
о мобилизации на продфронт. Синицын был уже здесь.
Он стоял у кресла предисполкома, развернув на столе
карту губернии, и с жаром сообщал о маршрутах, толь-
ко что им намеченных для отрядов. Ожидая, Зина при-
села в конце стола и залюбовалась Синицыным. Обычно
невзрачное, корявое лицо его разгорелось по-юному,
мышачьи глаза засверкали.
В самый ответственный момент, когда продкомиссар
принялся доказывать необходимость более широкой на
этот раз мобилизации, кто-то постучал в дверь.
— Можно?
Вошел Мартын Баймаков.
Зина взглянула и, вспыхнув, приподнялась у стола.
Михаил Иваныч закивал головой, и только Синицын, пре-
рванный на полуслове, невидящими глазами смотрел на
вновь пришедшего; пальцы его нетерпеливо прыгали над
картой.
— Входи, Мартын, входи! — говорил Михаил Ива-
ныч, снимая очки и близоруко-туманно щурясь в сторо-
ну Баймакова.— Ну, как... здоров? А тут всякие слу-
хи...— Он прервал себя, смешался.— Будто болел ты и
прочее...
Мартын неуклюже опустился на стул, пробормотал
что-то, захватил пальцами карандаш на столе и, повер-
тев -им, снова встал на ноги. Голову — широкий чистый
лоб с охапкою льняных волос над ним — он привычно
откинул назад, но теперь в этой манере не было и тени
самоуверенности. Краска, залившая ему лицо до самых
корней волос (как это знакомо Михаилу Иванычу!), мед-
ленно сошла, сменилась бледно-землистым тоном. У Зи-
ны замерло сердце. Перед нею, не глядя на нее, стоял
самый близкий, самый родной и... чем-то сейчас чужой,
совсем-совсем чужой ей человек.
110
— Здравствуй, Мартын! — не выдержав, произнесла
она.
— Здравствуйте, товарищи! — обращаясь ко всем,
откликнулся Мартын и только теперь протянул руку Си-
ницыну, затем Зине, а Михаила Иваныча торопливо
обнял.
— Ты что, прямо с дороги? — спросил Черноголовый,
поглядывая то на него, то на Синицына.— Отдохнул бы...
Впрочем... я сейчас закончу!
— Мы уже закончили! — вмешался Синицын.— То
есть мне кажется, что закончили... Ты ведь, Михаил Ива-
ныч, не возражаешь? Тут дело такое, что если фронт про-
двинется...
— Нет, нет, не возражаю! — проговорил Черноголо-
вый, вооружаясь снова очками.— Вот у Кудрявцевой и
проект мобилизации готов, наш, губкомовский! Мы тебя,
Синицын, опередили...
— О! Я не в обиде! — улыбнулся Синицын, по-иному,
приветливо, взглянув на Мартына.
— Еще бы тебе быть в обиде...
Зине казалось, что Михаил Иваныч цепляется за сло-
ва, за Синицына, и медлит, чего-то выжидая.
Мартын нетерпеливо заговорил:
— Як вам с докладом о событиях в Лисках... И по-
просил бы товарища Синицына задержаться на минут-
ку... Мне очень важно, чтобы все вы слышали меня!
Михаил Иваныч пристально взглянул на него и вслед
опустил голову, белую и радужную под солнечным
лучом.
— Кое-что я уже слышал, Мартын... Может быть, ты
отложишь? — неожиданно попросил он.
— Нет! — с испугом вскинулся Мартын.— Прошу вас
всех! Это для меня так важно... Я так много пережил за
это время!
Он говорил о своем тяжелом настроении, заикнулся
даже о чести партийца, о необходимости высказать все,
все... Но заметно медлил приступить к делу. Он как бы
собирался с мыслями. Глаза его, оттененные коричневы-
ми кругами, высматривали что-то над головою Синицы-
на.. Пальцы продолжали тянуться к карандашу: овладев
им, отбрасывали и снова тянулись.
Михаил Иваныч обернулся к Синицыну, потом к Зи-
не. Мартын перенял этот взгляд, разгадал его.
111
— Да нет же, Иваныч! — воскликнул он, переходя
на привычное — «Иваныч».— Товарищи должны остать-
ся. У меня нет секретов!
— Только не волнуйся, Мартын! — заметил Михаил
Иваныч.— Когда человек волнуется, он не может быть
справедливым ни к себе, ни к людям.
«Ах, этот Черноголовый! Так любит он изрекать сте-
реотипные фразы!» Зина облегченно, коротко и скрыто,
по-ребячьи, вздохнула: когда Черноголовый не в духе,
он не говорит афоризмами.
— Я не волнуюсь,— откликнулся Мартын несколько
раздраженно.— Я уже достаточно... переволновался!
— Позволь тебе не поверить! — сказал Михаил Ива-
ныч, отнимая у Мартына карандаш и откладывая его в
сторону.— Вижу! Садись и рассказывай.
Мартын заговорил, но все время останавливался на
отдельных мелких фактах, казавшихся ему, очевидно,
важными. Михаил Иваныч слушал, изредка поглядывая
на Мартына поверх стекол. Синицын слушал исподволь,
погрузив глаза в карту, которую он совсем было свернул,
но затем снова расправил на столе. А у Зины лицо было
перепуганное и сконфуженное, брови ее то хмурились,
то вскидывались вверх дугами. Она понимала, что слиш-
ком молода и партстажем и жизненным опытом, чтобы
иметь право оставаться тут строгою и холодною — в ро-
ли одного, из судей. А кроме того, ей было нехорошо по-
тому, что Мартын имел растерянный вид (она привыкла
представлять его другим — невозмутимым, мужествен-
ным). И еще ей не нравилось, что Синицын возился со
своей картой, а Черноголовый посматривает на Мартына
как-то сторонне. Зина отдала бы многое, чтобы видеть
Мартына впервые после разлуки с глазу на глаз. Ей ка-
залось, что после свидания с нею ему не пришлось бы
так волноваться, сбиваться в рассказец принижать себя
перед товарищами.
Михаил Иваныч перебил Мартына:
— Лучше, если ты будешь кратким! Итак, когда вы
с Туликовым услышали орудийные выстрелы...
— Нет! — в свою очередь прервал его Мартын.— Вна-
чале это не походило на выстрелы... В том-то и штука!
Если бы я сразу понял значение странного гула... Если
бы я мог подумать...
Черноголовый снова прервал его: Мартын должен от-
казаться от подробностей и особенно от того, что и как
112
он думал. Не надо терять времени! Ближе к делу, к са-
мым событиям!
Мартын опустил голову. Речь шла о его чести, о всей
вообще судьбе его, о всем будущем... Можно ли в таком
случае требовать, чтобы он считался с временем? И что
такое эти события? По существу говоря, не было ника-
ких событий! Были мучительные моменты, нечто такое,
что крепко-накрепко связано с глубокими внутренними
переживаниями... Нет, он не может оставаться бесстраст-
ным протоколистом! Если только это необходимо, то
пусть Михаил Иваныч допросит Туликова, красноармей-
цев, женщин — всех, кто был свидетелями этого случая.
За сбивчивыми фразами Мартына начинало просту-
пать что-то более скандальное, чем предполагал Черно-
головый. «Неужели,— думал он,— эти настойчивые раз-
говоры, эти слухи, доходившие ко мне в последние дни,
имеют под собою почву?»
«Рассказывая нам о происшествии в Лисках,— писал
Черноголовый несколькими часами позже в своей старой,
потрепанной тетради,— Мартын, по-видимому, пытался
прежде всего раскрыть психологическую подоплеку сво-
его поступка, но это ему не удавалось. И этому мешал
я. Я не хотел и не мог допустить, чтобы его излияния то-
гда, в присутствии других, приняли характер истерии...
Я знал, что он сам станет потом раскаиваться. Кроме то-
го, это не только не облегчило бы ему его состояния и не
только не разъяснило бы самого дела, но вовсе сбило бы
с толку и его и нас».
Привычку излагать на бумаге о пережитом Михаил
Иваныч приобрел в годы одиночества, тюрем и ссылки.
Но почти всегда в своих записях он был лаконичен, и
только особым его отношением к Мартыну объяснялась
эта многоречивая заметка.
Обращаясь к Зине, Черноголовый с учтивой улыбкой
указал на Мартына:
— Ты понимаешь что-нибудь у этого хлопца?
При обращении к ней, именно к ней, а не к Синицы-
ну, сидевшему ближе, Зина смутилась. Ей вообще было
не по себе. Она решительно не могла переносить жалко-
го вида у этого плечистого, рослого волжского бога-
тыря.
Она сказала запинаясь:
— Мне кажется, товарищу Баймакову надо отложить
свой доклад хотя бы... до завтра!
1ТЗ
Мартын с хмурым упреком взглянул на нее, но Ми-
хаил Иваныч, продолжая улыбаться, поднял руку:
— Кудрявцева права! Молодость всегда права, а по-
рою и более мудра, чем...
Он не подобрал конца для своего изречения. У Мар-
тына увлажнились глаза, и все поняли, что это — от край-
ней горечи.
— Ты, пожалуйста, не подозревай чего-нибудь тако-
го!— поспешил оправдаться Михаил Иваныч.— У нас,
видишь ли, неотложные дела... А твое дело уже пережи-
то, и оно вполне может обождать до завтра. Иди, голубь,
отдохни, сосни и прочее...
— Отлично! — воскликнул Мартын подымаясь.— Ты
прав, мое дело не настолько важно, чтобы в нем разби-
раться немедля. Пока, товарищи...
И, не оглядываясь, вышел. На губах Михаила Ива-
ныча стыла улыбка. Зина украдкой следила за Марты-
ном, пока тот не скрылся.
— На чем мы остановились, Синицын?
Синицын сказал: «Мы кончили»,— и попробовал заго-
ворить о Мартыне, начав с того, что жена Анфиса Семе-
новна, недавно возвратившаяся из Лисок, передавала ему
об этом человеке такие вещи, что... Черноголовый резко
прервал его:
— Оставь, Синицын! Мы имеем возможность слышать
историю Мартына о Лисках из первых уст.
Покинув исполком, Мартын крупным шагом напра-
вился вдоль улицы. Голова его, как всегда, была слегка
запрокинута, губы крепко сжаты. Глаза холодно и при-
стально вглядывались вдаль. Светило солнце в белесом
сентябрьском небе, улицы были сухи и звонки, армей-
ские кухни, проезжая стороною, слышны были на весь
город.
Обсудив проект мобилизации на продфронт, Синицын
и Зина покинули Михаила Иваныча. Синицын зашел
в отдел трудповинности, а Зина направилась к выходу.
В коридоре ее окликнули. Она узнала голос Клепикова и,
не оглядываясь, торопливо отпихнула дверь наружу. Он
настиг ее на улице.
— Мне надо кое-что сказать тебе, Кудрявцева.
Она подняла голову, холодно взглянула на него.
— Отваливай, Клепиков. Слышишь?
Глаза ее хмуро вспыхнули, на смуглых щеках про-
ступил румянец.
114
— Ты все еще сердишься на меня, Кудрявцева? Но...
но чем виноват я, если в твоем присутствии теряю го-
лову?
Как все не владеющие собою, привыкшие удовлетво-
рять свои желания во что бы то ни стало, он и тут готов
был пойти на любую уступку и даже унижение, лишь бы
задержать ее подле, пойти с нею, взять ее под руку.
Он стоял на пути, как цепкий куст бурьяна: его надо
было оттолкнуть, пригнуть к земле подошвою — или
обойти. И, не произнеся ни слова, Зина повернула на ту
сторону улицы. Клепиков поколебался, не выдержал, дви-
нулся вслед. Он догнал ее у решетки сквера. Под ногами,
на панели, шуршали пожелтевшие листья клена; ветер,
освобождаясь из-под тенет все еще жаркого и нелегкого
солнца, подхватывал листья, гнал их к чугунной решетке,
укладывал вокруг стопками.
Слыша за собою Клепикова, Зина круто обернулась.
— Если ты не оставишь меня в покое...— начала она
и запрокинула голову.
Кепка съехала у нее на затылок; волосы пушистыми
прядями падали на крутой лоб; около рта образовались
дрожащие складочки. Как бы защищаясь, она подняла
перед собою затасканный холщовый портфель.
— Ну, что тебе?
Клепиков сделал шаг вперед.
— Идем, Кудрявцева, у меня дело! Касательно обще-
го нашего товарища.
И тогда, повинуясь безотчетной тревоге — тревоге ма-
тери, у которой не все благополучно в семье, Зина по-
шла с ним рядом, и, не глядя на нее, он заговорил во-
ркующим печальным голосом:
— Я хотел поделиться с тобою некоторыми своими
впечатлениями... Только что встретил Баймакова. Этот
человек всегда внушал мне глубокое чувство! Мне всегда
казалось, что Баймаков пойдет далеко. Он молод, но его
ум, настойчивость, воля уже теперь говорят о себе...
Голос Клепикова крепнул. В глазах, когда он загля-
дывал в лицо ей, светилось восхищение. Он продолжал:
— И этому человеку, Кудрявцева, сейчас, несомненно,
грозит беда! Ты еще не знаешь всего, что стряслось с ним,
но ты только послушай, о чем болтают люди... Ты только
послушай!..
Она резко откликнулась:
— Не слушала и... слушать не буду!
115
— Ну да! Ну да! — подхватил Клепиков.— Я сам не
придаю значения... Тем не менее нет дыма, как говорится,
без огня... Баймаков сейчас в центре разговоров стари-
ков, женщин, даже подростков — всех, кто был с ним тог-
да в злосчастном поезде. Мне лично рассказывал кое-что
товарищ Уткин, затем Аристов...
Он смолк, выжидая, поглядывая на нее с нетерпением
рыболова, забросившего удочку.
— Мне кажется,— произнесла она негромко,— лично
тебя, Клепиков, это все совсем не касается.
Он с подчеркнутым изумлением поднял брови.
— Не понимаю! Каждый член партии не может оста-
ваться равнодушным там, где речь идет о нарушении
долга...
Он уловил тревогу в ее глазах, обращенных теперь
на него ожидающе. Но, готовая перенять у него все, что
касалось Баймакова, она явно не замечала его самого,
он как бы вовсе не существовал для нее.
— Да, речь идет о долге партийца,— продолжал он,
уже не скрывая своего раздражения.— Понятие долга —
понятие относительное, конечно. Может быть, кое-кто
останется равнодушным даже к таким фактам, как... не-
винные жертвы... две-три раненые женщины... Однако из-
мена долгу есть измена!
— То есть? — произнесла она тоном, в котором Клепи-
кову послышались недоверие и презрение.
— Я говорю,— поднял он голос,— что в данном кон-
кретном случае мы имеем, по-видимому, явное пренебре-
жение своим долгом...
— То есть?
Он придержал шаг, понудив ее сделать то же. Его
темные бархатные глаза перекосило, на щеках, тщатель-
но выбритых, проступил рваными пятнами румянец.
— О, я не так глуп, товарищ Кудрявцева, как вы по-
лагаете! Пожалуй, я даже умнее иных прочих! Поняли?..
И все! И точка! Желаю наилучшего.
Он приподнял фуражку, повернул назад. И только
отойдя на некоторое расстояние, оглянулся, охватил взо-
ром фигуру девушки с ног до головы, замедлил шаг, еще
оглянулся и выругался, щелкнув с досадой пальцами.
Зина почти бежала, раскрасневшись дотемна, с гла-
зами более злЬши, чем у Анфисы Семеновны, супруги
губпродкомиссара, вечно недовольной жизнью.
Как могла она после того вечера в Исполкоме, когда
116
Клепиков навсегда перестал быть для нее товарищем,—
как могла она теперь слушать его, вникать в его слова,
даже на какой-то момент верить ему?! Правда, речь ка-
салась Мартына (для Мартына она готова была тер-
петь). Но где же ее рассудок, где чутье, то самое, которое
позволяет людям по одному намеку отличать искренность
от лицемерия? Грубым, фальшивым напевом он подма-
нил ее к себе, как глупую перепелку! Нет, ей следует ре-
шительно заняться собою. Такая — она недостойна ни
ответственной своей роли в партии, ни... его, Мартына!
Но что же случилось с Мартыном? О чем говорил, на
что намекал Клепиков? О каком таком нарушении долга
разглагольствовал он (это он-то — о долге!) и что во-
обще надо людям от Мартына? Почему, с какой стати
перешептываются в коридорах? Неужели в том, что она
слышала до сих пор, есть хоть какая-нибудь доля
правды?
Она шла бульваром, не замечая окружающего. Все
ее мысли сосредоточены были на Мартыне.
XI
О наших героических годах расскажут в будущем
несомненно много торжественного и чудесного. Но ста-
рики, участники этих лет, не узнают себя в легендарных
песнях молодежи. Только немногие строфы о пережитом
дойдут до старого сердца, и по ним припомнят старики
и свои радости, и свое горе, и свои неугасимые надежды
на счастье, простое, как праздничный ситец на плечах
ребенка.
И не узнают, не узнают они себя в преданиях летопи-
сцев. Разведут руками, как над неудавшимся портретом
родного человека, и обида смочит глаза их... Ну, дивно ли
драться на баррикадах, если держишь себя как на смо-
тру? Если нет у тебя и тени тревоги, если зовы жизни
совсем чужды тебе? Если вышел, как богатырь, решил,
как математик, взглянул бесстрашно в глаза смерти —
и победил?..
Земля безгрешная, населенная легендарными рыцаря-
ми! Не ты ли поворачиваешь бока свои то на восток, к
юному солнцу, то на запад, во мрак вечерний? И не из
миллиардов ли семян, развеянных по тебе ветрами, толь-
ко немногие всходят и защищают себя до полной зрело-
сти?.. Почему же не видят тебя, земля, какая ты есть?
11?
И почему вырывают тебя из-под ног героя? И почему ук-
рашают его, героя, пышными розами, в руки ему вклады-
вают бестрепетный меч и сердце его человеческое подме-
няют львиным?
Ах, эти поэты, питающиеся сказочными домыслами!
Они не видят маленьких людей на большом деле и при-
нижают это дело до своих сказочно бестрепетных героев.
А между тем оттого мы и богатыри, что малые, что тяну-
лись за нами проклятья прошлого, опутывали нас дурма-
ном седые века, падали мы — и поднимались: за сто лет
жили одним днем и из в-сех тяжких грехов не знали толь-
ко одного — не оглядывались назад, как жена библей-
ского Лота.
Так или почти так думал Черноголовый, возвращаясь
в третьем часу ночи с заседания губкома. И почти так
записал он в свою потрепанную тетрадь, ворочая и про-
сеивая в мозгу весь этот минувший день: фронтовая пе-
хота, чекисты, люди от станка, люди от сохи и многие
другие, большие и малые, склонные к жертвенности и до-
нельзя цепкие в защите себя, завистливые и жадные,
светлые сердцем и более упрямые порою, чем древние
праведники.
Мобилизация на продфронт, осенняя, вторая в этом
году, была решена.
Черноголовый еще спал (забылся он на заре), а Зи-
на Кудрявцева уже металась в губкоме от телефона к те-
лефону. И только к полудню, покончив с рассылкою
оповещений мобилизованным, почувствовала она, что го-
лодна до черта, достала припрятанный кусок овсяного
хлеба и устроилась с ногами в огромном мягком крес-
ле. Проворно, до боли в челюстях, пережевывала черст-
вый кусок и не могла оторвать глаз от старого липового
сада за открытыми дверьми балкона. Пустая аллея, оп-
рысканная яркими осенними листьями, походила на ста-
рую деву в румянах, в пудре, но над полуоголенными вет-
вями голубело молодое небо. Было что-то загадочное и
тревожное в этой умирающей пестрой аллее и в этом без-
заботном, неувядаемом небе. Зина подобрала с колен по-
следние крошки и еще раз начала проверять список мо-
билизованных. Нет, все в порядке!.. Но что делается с
Мартыном, почему не показывается он какой уже день
и почему Михаил Иваныч вычеркнул его имя из списка?..
В дальних залах затянули «Дубинушку». Зина вста-
ла, прикрыла плотно дверь, взялась за трубку телефо-
118
на, чтобы позвонить к Черноголовому, но вспомнила, что
Михаил Иваныч должен был выехать на партийную кон-
ференцию в уезд. Отложив трубку, она прошлась из уг-
ла в угол, заглянула на себя в зеркало. В холодном, су-
мрачном просторе встала стройная фигура девушки с
плечами, несмело округленными. Зина видела широкий,
выпуклый лоб (он ей нравился) и глаза, наполненные
стыдливостью (глаза ей не нравились: хотелось бы иметь
суровые, проницательные!). Отойдя к столу, она погрузи-
лась в газеты, перечитывая информацию с фронтов, за-
метки о большом подъеме среди рабочих масс в связи
с «неделею обороны» в Москве, отклики на обращение
к западноевропейскому пролетариату с призывом проте-
стовать против блокады первого в мире отечества тру-
дящихся. Казалось, волнующие сообщения захватили все
без остатка сознание Зины. Однако томительная тревога,
помимо воли, продолжала раскачивать ее сердце, и это
шло все от тех же назойливых мыслей о Мартыне. Чтобы
одолеть себя, она, как всегда, когда была недовольна со-
бою, поднесла палец ко рту и прихватила его зубами. Но
палец заныл, а сердце продолжало биться тревожно и
часто. И она по-настоящему обрадовалась, когда в ком-
нату вошел первый из мобилизованных на продфронт.
Он явился прежде всех, этот Упит, по-обычному хму-
рый, но вежливый в каждом своем движении. Он был бе-
локур, его вьющиеся кудри опутывали высокий лоб, как
спелый хмель белую стену. Молча присел он у стола и
вопросительно поднял свои необыкновенно свежие голу-
бые глаза. И почему-то Зина не сразу заговорила, приго-
товившись к деловой и краткой беседе.
— У меня в совнархозе уйма дел! — произнес
Упит.— Что скажешь? Зачем звала?
Говорил он с легким акцентом, картавя, и оттого ка-
зался большим ребенком.
Зина объяснила. Упит опустил глаза, на бритых ще-
ках его вспыхнул густой, цвета клюквы, румянец. Зина
знала, что за спиной Упита — жена, двое ребят, подро-
сток-сестренка, а там, в уезде, его ожидают деревенские
сполохи, кулацкий бандитизм, быть может — смерть.
— Куда ехать? — спросил он, не подымая глаз.
— Об этом — у Синицына!
Он помолчал.
— А губком о моем...— он запнулся,— о моем семей-
стве информацию имеет?
119
— Да, Упит! Но что ты хочешь сказать?
Он поднял голову и одно мгновение растерянно гля-
дел на Кудрявцеву. Затец, поправив сползавшую на за-
тылок фуражку, странно равнодушным голосом произнес:
— Кому я должен сдать дела?
— По усмотрению вашей коллегии, товарищ!
— М-да... Придется передать Клепикову.
У Зины дрогнула бровь:
— Клепиков в числе мобилизованных!
Вдруг по истомленному лицу Упита разлилась улыб-
ка, и Зина поняла, какими чудесными были когда-то, р по-
ру юности, глаза у этого человека.
г— Хорошо, я еду! — проговорил он, протягивая Зи-
не руку.— Упит всегда выполнял свой долг... Прощай!
Говоря о том, что он всегда был верен своему долгу,
Упит говорил правду. По личному делу его Зина знала,
что еще в войну с немцами он был приговорен царским
военно-полевым судом за агитацию среди войск к расст-
релу, бежал из каземата за несколько часов до приведе-
ния приговора в исполнение, дрался в октябре семнадца-
того на баррикадах, был дважды ранен.
Едва Упит успел выйти, в кабинет влетел, хлопнув
за собою дверью, Повалишин из губотдела социального
обеспечения, тщедушный и вертлявый, как белка, с за-
кругленно покатым, как бы наискось срезанным лбом и
очень маленькими, девическими руками.
Он присел на кончик кресла и заговорил, поглядывая
смеющимися беспокойно глазками на сторону.
— Товарищи! Это же невозможно! На мне чуть не
весь отдел! И мы только что начали разворачивать рабо-
ту... Понимаешь — ясли, очаги, приюты... Готовим воспи-
тателей в детские дома... На очереди — организация ма-
стерских в помощь инвалидам и их семьям... А там —
пенсии, пособия... Голова кругом идет!
— Понимаю, Повалишин,— прервала его Зина,— но
без хлеба все твои ясли, очаги, пенсии — здание на пе-
ске... Не так?
— Так-то оно так, однако вам следовало бы принять
во внимание... хотя бы то, что еще не прошло и полгода,
как я выбрался с уездной работы, а вы меня опять
в глушь!
У Зины сузились глаза, и острые, усмешливые завит-
ки ее губ распрямились, отчего рот ее вдруг состарился.
120
— Повалишин! В чем дело? Я еще ничего не сказала
тебе...
— Знаю! — махнул он своею розовою ручкой.— Все
знаю, палач мой! Но надо же разбираться, товарищи!
Ведь есть же у нас люди... совсем без дела?!
— Повалишин! — остановила она его.— Губкому луч-
ше знать, кто и что делает...
— Ой! Знает ли? — вскочил он с кресла.— Если бы
знал, то не отважился бы беспокоить занятых по горло...
Да, да! Ты, пожалуйста, не гримасничай... Мы ведь то-
же не лыком шиты: кое-что видим!
— Товарищ! — снова подняла она голос.— Брось ты
свои разглагольствования. Это же в конце концов недо-
стойно...
— ...партийца! — закончил он за нее.— Наперед знаю,
что скажешь.
Он взглянул на нее острыми, умными глазками и вне-
запно рассмеялся. И, не переставая смеяться, подбежал
к креслу, присел, потер пальцами переносицу, сказал
хлипким от смеха голосом:
— Значит, ехать? Ехать, ехать... «Поехали!» — ска-
зал попугай, когда кошка тащила его за хвост из клетки.
— Над кем же смеешься? — все еще недружелюбно
проговорила Зина.
— Над собой, Кудрявцева... Разумеется, только над
собой!
И он выпрыгнул из кресла, забежал с другой сторо-
ны стола, встал на цыпочки.
— Я обженился, Кудрявцева! И, кажется, буду от-
цом. И, кажется... готов сбеситься от вашей затеи выку-
рить меня в столь критический для меня момент! Слу-
шай, друг! — Он подтянулся и присел на стол.—' А нельзя
ли, в самом деле, кем-нибудь меня подменить... а?.. Ты
понимаешь... такие обстоятельства, такие необычные де-
ла: работа, жена, будущий ребенок!..
Он опять залился смешком, проворным, едким.
— Не ломай шута, Повалишин! — рассердилась Зина.
— Я — шута? Нисколько! У меня душа болит, Куд-
рявцева, и трещит шкура!.. Я ведь шкурник, Кудрявцева!
Этого-то вы, губкомовцы, и не досмотрели... Хе-хе... Что?
— Довольно...
— Не желаете... терять... времени?
— Не желаю терять... тебя!
121
— Врешь! Если бы ты не желала именно этого, то
сочувствовала бы... Ты что думаешь? Я ведь обязательно
пропаду в этот раз! Я это досконально знаю... И я зол, как
бес... Зол на себя прежде всего! О, если бы в свое время
Повалишин не покинул медицинского факультета, Куд-
рявцевой не видать бы его теперь и не командовать бы
им! Я был бы под красным крестом, в лазаретах... По-
нимаешь?— он потряс рукою.— Жена моя тоже медич-
ка... Жаль, что ты не знаешь ее... Она беспартийная... Но
на меня, представь, совсем не похожа... Рвалась все вре-
мя на фронт, в бой, в лазареты!.. Влюблена в красную
звезду и... в меня, революционера... А я вот возьму и на-
зло всем вам заявлю кратко: «Не желаю быть мобили-
зованным!» И капут. А рожицу-то все же не корчь. Куд-
рявцева!
— Опротивело слушать!
— А ты все же не корчь! Наберись терпения. Впро-
чем, черт и леший с тобою!.. Когда выезжать, гражданка?
— Послезавтра, Повалишин!
— О, еще целая вечность! Значит, беспрекословно, а?
Зина молча покусывала губы.
— А если наша коллегия всем сонмом, всем синкли-
том возбудит ходатайство?
— Что ж! Коллегия получит выговор, а ты все же
поедешь.
— Кудрявцева! Когда ты успела научиться такому
тону?
— Повалишин! Когда ты отучишься от своего?
Вдруг он сполз со стола и начал бегать от угла к уг-
лу, постепенно замедляя шаг. И совсем медленно подо-
шел в последний раз к столу, протянул руку:
— Прощай, Марат в юбке!..
В глазах его светилась прозрачная, детская печаль.
— Не сердись! Противился и буду противиться всяко-
му заговору против моей божественной личности. Ибо я
потомственный почетный интеллигент... Существо выс-
шее, сложное, лишенное инстинктов классового самосо-
хранения... Запиши это у себя в альбоме!
Зина проводила его глазами до самого порога, и, как
только скрылся он, чувство нестерпимой тревоги охва-
тило ее.
Она склонилась к аппарату:
— Дайте Чека! Дайте кабинет председателя... Луз-
122
гин, ты? Прости за беспокойство... Что слышно из уез-
дов?..
Двое, ввалившись в кабинет, молчаливые, но шумные
(гремели сапоги, хрипел кашель), прервали ее беседу
по телефону.
Оба по очереди протянули ей негнущиеся наждач-
ные руки, сняли, как по команде, фуражки и сели у сто-
ла один против другого.
Были они в ветхих заржавленных кожухах; лица их,
обветренные угольным жаром, казались тяжелыми и не-
поворотливыми. И неповоротливою была их улыбка.
— Ну, девка, излагай! — сказал один и подмигнул
другому.— Зачем кликала? С чугунолитейного мы!
Она начала объяснять, а они всё улыбались, и улыб-
ка их наливалась растерянностью, застывала на лицах
толчками, грядками.
Один был бритый, другой — в сивых космах, ниспа-
давших потоками ему на грудь. Бритый, с непривычки,
очевидно, к голому своему подбородку, оглаживал тем-
ными, заскорузлыми пальцами то щеку, то кончик хря-
щеватого носа.
— Так! — сказал волосатый и отвернулся.
— Такие-то дела! — проговорил бритый, роняя на
край стола руку.
Зине стало тягостно. Странное ощущение неловкости
запеленуло ей язык. Преодолев себя, она сказала:
— Ничего, товарищи! Это ненадолго... Самое боль-
шое— на полтора месяца!
Волосатый с недоумением вскинул на нее глаза, жел-
тые, в темных крапинках.
— Чего? Да нам хоть на год... абы баб наших корми-
ли бы!
— А при бабах — ребят! — досказал бритый.
Зина облегченно улыбнулась.
— А как же иначе? — воскликнула она.— Ваши пай-
ки останутся семьям... обязательно!
Волосатый кивнул головою.
— Что полагается, то полагается! — сказал бритый
и поднес к подбородку дрожащие пальцы.— Это мы зна-
ем,— он встал и опустил руку на стол.— Тут дело не в
пайках... С заработком как?
. Зина обиделась: .
— Товарищи! Это же язык торговли... Совестно!..
123
— Кому совестно, тот отвернись! —произнес бородач
спокойно.— Заявку-то куда подавать?
— О чем?
— Насчет заработка!
Зина вспыхнула:
— Пора бы знать, что никаких заявок не требуется...
Содержание во всех таких случаях остается за вами!
— А ты не распаляйся! — заметил бритый.— Мы лю-
ди простые... Опять же долгов у нас за республикой мно-
го... Весною-то кто с Баймаковым по деревням рыскал?
Мы! Иван Байдученко да Петр Потачов... Забыла?
— Позвольте, товарищи! — воскликнула Зина.— Да
разве вы уже ходили по мобилизации?
— И ходили, и ездили, и на животах ползали! — Бри-
тый снова подмигнул бородачу.— Все было... А как яви-
лись обратно, бабы нас за волосья: «Что ж вы, сукины
сыны, обманывали? Мы тут за два месяца ни единой по-
лушки не получили».
Бородач усмехнулся:
— Ну, это ты зря, Ваня. Не получили-то из-за фрон-
та: подвоза кредиток не было!
— Да вить и посейчас не получили! — огрызнулся
бритый.
— Стой-постой! А намедни кто у кассы стоял?
— Так вить то за текущий месяц!
— А не все ли едино, за какой? Не сразу же тебе за
все месяцы!
— Позвольте, позвольте! — вмешалась в их спор Зи-
на.— Тут недоразумение... Раз вы уже подвергались мо-
билизации, можно было бы Синицыну поискать других.
Бритый сощурился.
— Ищи не ищи — лучше не найдешь! — совсем весе-
ло сказал он.— Список-то кто составлял?
— С утверждения губкома!
— Знаю, что губкома... А Михайло-то Иваныч-то при
этом деле был?
— Был.
— То-то и есть! Михайло-то Иваныч обоих нас как
облупленных знает... И никакого, значит, недоразумения
тут нету!
Бородач махнул рукою.
— Недоразумение! — протянул он.— Михайло Иваныч
нам по мозоликам родня. Доверяет, вот и вписал! По-
няла?
124
— Губком, товарищи, всем партийцам доверяет...
— Всем-то всем, а кому на особицу! — наставительно
заметил бритый.— А насчет заработка — так ты ноздрю-
то не дери. Для порядку сказано... На своих на двоих от-
правимся али конными?
Зина не знала.
— Об этом в губпродкоме договоритесь.
— С Синицыным? — Бородач махнул рукою.— Зна-
чит, пешими!
— Э, брось ты! — одернул его бритый.— Нашел о чем
толковать... Нам только бы до первого селения дова-
литься...
— И то верно! Мужичок, товарищ Кудрявцева, как
завидит нас, так в тую же минуту лошадей в упряжь?
«Садись да кати с глаз долой!» Меньше беспокойства.
Они переглянулись и захихикали, причем бритый при-
крыл рот пригоршнею.
— Нас, товарищ, на трех тройках тыщу верст кулак
мчать будет, только бы по закромам не шарили...
— Это вот и есть... Ну, пошли, что ли?
— Пошли, Потачов! Прощай, товарищ Кудрявцева!
Гляди, насчет семей без проволочек чтобы...
— Космы повыдерем, ежели опять проволочка вый-
дет.
И, туго улыбаясь, погромыхивая тяжелыми подошва-
ми, тронулись оба к выходу. Но тот, кто никак не мог
привыкнуть к голому своему подбородку и все ощупывал
его пальцами, остановился.
— Кого во главе-то шлете? — придерживая за полу
товарища, обернулся он к Зине.— Баймакова опять али
другого кого?
— Не знаю, право! — откликнулась Зина, внезапно
краснея.— Кажется, Баймаков... болен, товарищи!
— Да что ты! — подался вперед бородач.— Ай где
«голодный» схватил?
— Вот это худо! — откликнулся бритый.— С Байма-
ковым мы о ту пору шибко сладились. Парень такой?
вроде как у огня стоишь —знай с боку на бок поворачи-
вайся!
— Найдутся люди,— неопределенно заметила Зина.—
Постарше сыщем... с опытом!
— Хы! — ухмыльнулся бородатый.— Тут, товарищ,
опыт Короткий... Тут, главное,, установка нужна... Чтобл
челбвек двумя ногами На грунте держался, & нё то чтоби
125
вкось... Мы вот с Ванюшкою на сорок лет от мамкиной
титьки ушли, а не будь тогда с нами в отряде Баймако-
ва, не миновать бы нам кулацких вил... Верно, Иван?
— Э, что говорить! — махнул, отнимая от подбород-
ка руку, бритый.— Я тебе, товарищ Кудрявцева, такой
случай передам. Помнишь, Потач, как мы с матросом в
Нижней Ведуге по яичному делу крутились? Эге-ге! Та-
кая могла быть спираль нам в спину, что и ног своих не
унесли бы... Только и спаслись, что через ухватку Байма-
кова!
— Ладно, идем! — перебил его Петр Потачов, борода-
тый.— У нее, окромя нас, наберется делишек.
— Нет, ничего! — торопливо проговорила Зина.—
Всех дел не переделаешь! А Баймаков как... действитель-
но не плох на деле-то?
— Не плох?! — опять ухмыльнулся бритый.— Не то
что не плох, а если по-настоящему говорить — правиль-
ный он человек!.. Об этом, к примеру, случае... Матрос
Пашка — Балтийского флота кавалер, а деревенского со-
ображения в нем на младенца! Собрали это мы в Веду-
ге среди кулачья зерна из запасов, а ему, Пашке, яиц по-
дай... Яичное, конечно, место, а для лазарета яйцо — пер-
вое дело. Ну, он и пошел в обход!.. А об том, дьявол, не
подумал, что нам с яичным делом и возиться-то по рос-
писи не пристало... Вот, ладно... Сидим это мы поздно
вечером в избе предсельсовета и в ус не дуем... Только
вдруг слышим — крик. Такой крик — вроде как свинью
режут! Выскочили мы, а на улице — бабья метелица, а
середь той метелицы наш балтийский кавалер вертится,
орет, подводною лодкой в сугробы норовит... Мы, конеч-
но, на помощь!.. Отбили несчастного, а тут, глядь-поглядь,
мужики летят... И откуда только взялись: видимо-неви-
димо и при вооружении обиходном... Ну, думаем, капут!
Тринадцать нас душ при винтов1ках, а как глянули — под-
жилки заныли: избу нашу вроде как тучей охватило...
Тут вот, понимаешь, и оказал себя Баймаков! «Эй! —
кричит,— живо во двор! Со двора в огороды! — это он
нам.— Ждать меня у перелесья!..» Ну, мы, не теряя вре-
мя, кувырком! Об нем, об его то ись участи, у нас даже
и мысли не было... А он, понимаешь, на улицу к мужи-
кам — и пошел глотку драть, людей обихаживать... Он
с ними поперек да вдоль, в прятки со смертью играет,
к товарищам из комбедчиков взывает, а мы тем време-
нем, один за другим, в огороды, с огородов — в поле...
120
Собрались у перелеска, ждем... А ночь на дворе!.. Пять
минут ждем — нет Баймакова. Десять ждем — нет его...
Забрала тут нас совесть!
— Тринадцать душ нас, а он — как перст!—заметил
Потачов.— И ружьишко его в переполохе кавалер флот-
ский с собою прихватил. В обиходе-то, вишь ты, с бом-
бою хаживал.
— Забрала нас совесть,— продолжал бритый Иван.—
И страшно, конечно, а совесть грызет... Друг на друга
глядеть тошно... Об себе скажу: не рад был, что от му-
жиков спасся!
— Совесть — она кусачая! — вставил Потачов.
— Стоим мы, на манер овец, у перелеска...— продол-
жал Иван бритый.— И уж промеж себя раздор заводим...
Один на другого спирает, один другого попрекает...
— Это всегда так! — снова не утерпел бородатый.—
Семеро повинных одного безвинно виноватого ищут. Ста-
рая правда!
— И уж совсем было тронулись мы к деревне, а тут
глядь-поглядь... ах ты... мать честная! Сам наш Мартын
Палыч собственною своей персоной шествует. Тут мы его
и полюбили!.. Правда, что ли, болен-то? — круто оборвав
себя, спросил бородатый.— В больнице али на дому
лежит?
У Зины, влажные, посверкивали глаза, и уж не было
румянца на ее щеках. Бледная стояла перед Иваном и
Петром, закинув за спину руки, полуоткрыв рот, готовая
слушать рассказ, как самую удивительную песню. И во-
прос бритого о болезни Мартына не сразу дошел к ней.
— Нет, товарищи, не в больнице он...
Оба, бородатый и бритый, подозрительно взглянули
на нее. Потом Петр Потачов, как бы не замечая смуще-
ния Кудрявцевой, тронул сосудистую свою бороду, ска-
зал:
— Ну-к что ж. Будем живы — увидимся!.. А бороду
свою, Ванюшка, я, пожалуй, тоже сниму. Ну ее к ляху!
Одно неудобство, особенно когда в отряде, при боевом
положении.
— Да и бабе не за что будет уцепиться! Моя вон руч-
кою-то цап-царап, а мне хоть бы что: не то по обличью,
не то по энтому месту...
— Нет ей, значит, настоящего прикладу, бабе!
И, переглянувшись, повернули, громыхая, к выходу.
127
— Прощай, товарищ Кудрявцева! Жди от нас подар-
ку... калачом сдобным!
Зина помахала им рукою, и в эту минуту требователь-
но, резко зазвонил телефон.
Думая о своем, устремив невидящий взор к старому
липовому саду, она взяла трубку.
— Слушаю...
Далекий голос, настроенный на низком и капризном
тембре, бурлил в трубке.
Глаза ее мгновенно охолодели и сузились, в смуглости
щек, словно "от щипка, проступили алые пятна.
Говорил Клепиков.
Он не может, к сожалению, явиться лично, да и нет
В том особой надобности. Чрезвычайно серьезные обсто-
ятельства не позволяют ему отправиться в уезд по про-
довольственному делу... Он не отлынивает... О нет! Это
ему не свойственно, это не в его вообще характере —от-
лынивать, но... коллегия совнархоза единогласно против!
Дело в том, что губвоенкомат, имея в виду приближаю-
щуюся зону военных действий, поручил губсовнархозу...
Зина не дослушала. Брезгливо подрагивая мускулами
щек, она медленно,— как уже было когда-то в разговоре
с Клепиковым по телефону из кабинета Черноголового,—
опустила, втиснула в рогатки аппарата трубку.
Дверь открылась.
— Прищепин! Тебя-то мы и ждали...
Она говорила более непринужденно, чем обычно, но
волнение еще владело ею, и ее руки, как слепые, цепля-
лись за бумаги.
Тот, к кому она обратилась, подошел к столу спокой-
ный, тонко, одними глазами улыбающийся, и во всем его
обличье, в гордо поставленной голове, в невысоком круг-
лом лбе с выпуклостями повыше бровей и в самом креп-
ком размахе черных бровей его было что-то сильное, по-
коряющее без слов.
— Готов, Кудрявцева! — заговорил он, выслушав
сс.— Но гляди, чтобы мы с тобою не суетились из-за
маршрута...
Говорил он грубовато, упирая на «г», с какой-то про-
стодушной насмешливостью.
— Я уж и от мастерских своих схилился, одначе на
север, к кацапам, не хочу!
— Что за выражения, Прищепин! Делаю тебе преду-
преждение.:. А маршрут, сам знаешь^ не от нас зависит.
128
— Ладно, дивчина! С тобой и пошутить нельзя...
Сколько же положено по этой разверстке?.. Не знаешь
точно?.. Ой, как не стыдно! А еще секретарь губкома!..
Да после такого конфуза ты просто-напросто техсекре-
тарь... пятая спица в колеснице Черноголового! А где
сам батько?
Слушая его, Зина успокаивалась, возвращалась мыс-
лями к своим дневным заботам.
— Батько выехал в уезд,— сообщила она.— А я вот
с утра заготовила бумажку, да не решалась двинуть. Ты
член губкома, товарищ Прищепин, давай свой совет!
— Слушаю.
— Видишь ли, в Горяйновской волости сколотили сов-
хоз на месте помещичьего имения, и вышло так, что к
совхозу прирезали лужок из владений комбедчиков... Бед-
нота, конечно, в злой обиде! Тем более, что от совхоза ни-
какой ей помощи: ни конем, ни инвентарем!
— Так! Что же в земотделе говорят по этому случаю?
— Обещали расследовать относительно лужка.
— Ну и ладно! Проследили выполнение обещанного.
— А по-моему, Прищепин, этого мало! — воскликну-
ла она вспыхнув.— Думается, что лужок-то лужком,
а земотдел обязан потребовать от совхоза немедленной
и широкой помощи окружному крестьянству.
— Гарно, гарно, дивчина! — одобрил Прищепин.— Хо-
чешь, вручай мне свою бумажку — и прямо от тебя я за-
гляну к Семенову, в земотдел.
— Вот и хорошо! Ты — к Семенову, а я тем време-
нем— в нашу газету. Никак не наладят там снабжение
литературой ближнего фронтового сектора! Заодно со-
ставим с редактором обращение к деревням, в помощь
предстоящей вам работе.
Проводив Прищепина с бумажкой губкома, Зина по-
звонила в два-три места по телефону, в надежде сыскать
Мартына. Во-первых, она предполагала пригласить его с
собою в редакцию: он ведь грамотей и не раз уже давал
статейки газете. Во-вторых... во-вторых, ей вообще хо-
телось бы видеть его, говорить с ним, выяснить хоть кап-
лю из того, что удручало его и как будто вынуждало из-
бегать встреч с нею.
К сожалению, Мартына она не нашла. Его не было
и в губпродкоме, где происходило экстренное заседание
в связи с подготовкой очередного хлебного эшелона на
север.
5. В. Бахметьев
129
XII
Толком Зина еще не знала истории в Лисках, но уже
угадывала, что над Мартыном стряслась там большая
беда. Однако она не верила, не хотела верить, чтобы он
так вот, без всяких к тому причин, оступился, пал. Она
могла допустить это по отношению к другим... Но... Мар-
тын, ее Мартын!..
В последнее время часто вспоминала она вечер, про-
веденный с Баймаковым в конце лета, перед самым отъ-
ездом его в уезд.
Возвращались оба с общегородского партсобрания.
Шли главной улицей, среди темных, притихших тополей,
продолжая горячо обсуждать все то, о чем шла речь на
собрании.
Неожиданно заглянув в ночное небо (оно было глубо-
ким и ласковым, с прохладными, чистыми звездами),
Мартын предложил:
— Пошляться бы нам, что ли, а? Голова трещит!
И она охотно согласилась:
— А что ж! Идем к яру.
Яр—это взлобок. Со стороны города высокая мона-
стырская стена — и ни звука оттуда, из города, а перед
глазами: кровли по откосу, река и поля на десятки верст...
Шли не спеша, переулками. Был тот час, когда солнце
карабкалось где-то над степями незримыми, но уж про-
низывало своим золотом поднебесье, и таяла ночь, и в
фиолетовой ее глубине, над густой и влажной чернотой
реки, таял срез молодого месяца.
Они сели на камень. От спин их на белую стену по-
легли смутные тени.
— Смотри, Мартын! — оживленно заметила Зина.—
Наши тени прозрачны, точно мы с тобой бестелесные.
Он круто повернулся, чуть не столкнул ее с камня и
придержал, обхватив рукою за спину. Она вздрогнула, за-
таилась под его рукою и вдруг уткнула голову в колени.
Неизъяснимая скорбь, певучая и светлая, какую трудно
отделить от радости, охватила ее.
Он отвел свою руку.
— Гляди! Это же удивительно, Зина, что там, по ни-
зинам, творится...
Она не откликалась и не подымала головы. Плечи ее
вздрагивали, на плечах колыхалась старенькая, вылиняв-
шая кофтенка.
130
— Чему ты смеешься?—удивился Мартын.
Но она продолжала молчать. Тогда, затревожившись,
он обеими руками поднял ее голову.
Обильные слезы заливали улыбающееся лицо ее,
влажные ресницы сверкали, и глаза были, как у сказоч-
ной русалки: что ни ресница, то лучик.
— Зина!
Но она уже смеялась.
— Погоди же, Мартын! Закрой глаза... Дай мне кос-
нуться твоих ресниц... Тут у тебя рожь в цвету... Ей-ей!
— Авр! — лязгнул он зубами, и, вскрикнув от неожи-
данности, она отдернула руку.
— Мартын!
- Ну?
— Отчего так хорошо и... так грустно жить на белом
свете?
— Отчего? — Он подумал, просторно вздохнул.— Хо-
рошо оттого, что кругом нас чудеса из чудес, а груст-
но...— Он взял ее руку ладонью вверх и принялся гла-
дить своею.— А грустно, Зина, от молодости! Я читал
где-то, что в наших годах из-за обилия жизненных сил
тянет даже заглянуть в вечность, умереть... У тебя такое
бывало?
— Пожалуй, бывало! Но у меня это скоро улетучива-
лось. Я вспоминала отца: как он стал бы убиваться по
мне... И она отступала, вечность!
— Ты любила отца?
— Люблю! Он у меня удивительный! Моя мать умер-
ла очень рано, мне не было и пяти лет... Работая в ма-
стерских, отец вынянчил меня на собственных руках...
— А я... Я вовсе не знал своей матери и... не очень
любил своего отца,— негромко сказал он.— Глядишь, бы-
вало, на него, слушаешь — и начинаешь чувствовать в нем
кого-то чужого... Понимаешь, Зина, совсем, совсем чужо-
го! Даже жутко иной раз станет... Он скажет что-нибудь,
взглянет, а я сравниваю с собою и вижу: нет, не мое...
Он крикнет, махнет рукою, шагнет: нет, не мое!..
— Нехорошо! — прошептала она.— Мне жаль тебя,
Мартын.
— Ну, жалеть-то, положим, не стоит! — вскинул он
голову.— Жалеть меня вовсе не следует. Ты знаешь,—
оживился он, крепко сжимая ее руку,— я ведь очень сча-
стливый... вообще! А впереди... меня ждет такое, такое...—
131
Он запнулся.— Со мною, Зина, обязательно должно прои-
зойти нечто из ряда вон выходящее!
— Плохое?
— Не плохое и не хорошее! Особенное что-то... Та-
кое, что, быть может, люди удивляться будут.
— Случая ждешь? — улыбнулась она снисходительно.
— Обязательно!
— И веришь?
Он молча кивнул головою, но тотчас же поправился:
— Тут, понимаешь ли, иное... Случай — чушь, конеч-
но... У меня ожидание какое-то... Ожидание чего-то чу-
десного, но обязательного и оттого естественного! Мне
все кажется,— и, заметь себе, давно это, чуть ли не с
детских лет,— кажется мне, что совершу я что-то боль-
шое, значительное!..
От этих по-мальчишески откровенных слов Зине ста-
ло неловко. «Не глуп, а лепечет черт знает что! Или...
рисуется?» Она уже готова была одернуть его, но, взгля-
нув на него, поняла, что говорит он без бахвальства, поч-
ти с испугом и как о неизбежном.
И теперь, через много недель, Зина не могла забыть
ни этих его слов, ни того его настороженно-серьезно-
го лица.
«Ожидание чудесного... Большое, значительное де-
ло... Нечто такое, чему люди удивляться будут!..»
Она с горечью думала о Мартыне. Думала утрами у
себя дома, и за работой в губкоме, и поздно ночью, ук-
ладываясь в постель.
Особенно тяжело было оттого, что сам Мартын явно
избегал ее, а люди вокруг, а товарищи... только запуты-
вали дело. Ох, эти люди! В последние дни Зина разоча-
ровалась кое в ком, кое-кто встал перед ней новым, со-
всем неожиданным, чужим.
Взять хотя бы самого Черноголового! Кажется, был
для него Мартын близким человеком. Почему же имен-
но он, Михаил Иваныч, ни слова не проронил ей о Мар-
тыне и об этой проклятой истории в Лисках? Черноголо-
вый как бы даже вовсе избегал разговора по данному
предмету.
Или взять латыша Упита! Когда он вновь зашел к ней
в губком за выпиской из протокола о мобилизации и она
намекнула ему в разговоре о Баймакове, Упит как-то
по-особому повел желваками скул, взглянул на нее от-
чужденно и промолчал.
132
И он, и Черноголовый, и насмешливый Прищепин, с
которым Зина также пыталась говорить о Лисках,—все
они, видимо, не хотели касаться тамошней истории, буд-
то это их решительно не интересовало.
Но были и такие, которые слишком много интересо-
вались Лисками и каждый разговор свой сводили на
Баймакова. Эти открыто готовы были признать в Мар-
тыне чуть ли не труса и негодяя. И при этом как бы да-
же радовались чему-то. Нельзя сказать, чтобы все они
были плохими партийцами, или злыми людьми, или тем
более врагами Мартына. Некоторые знали его мимолет-
но, только по совместным выступлениям на собраниях, и
тем более было удивительно, что теперь так усиленно
они интересовались им! Будто зачарованные, тянулись
они в одном и том же направлении и не могли оторвать
своей мысли от Лисок, не могли оторвать глаз своих от
Мартына. Чем-то люди походили здесь на больных... Ра-
ботала однажды Зина в армейском госпитале. С самого
рассвета и до ночи упорно и неодолимо вертелись там
разговоры вокруг болезней, а когда кто-нибудь умирал,
все враз и помногу толковали о недуге, которым страдал
покойный, и все враз радовались, что они-то если и боле-
ют, то по-иному.
Усерднее других болтал Уткин, бывший вместе с Мар-
тыном в Лисках. Он ловил товарищей на ходу, в кори-
дорах, отводил их в сторонку и принимался горячо на-
шептывать. При этом на бледном лице его держалось
выражение сожаления, даже скорби, но глаза сверкали
от какого-то тайного самодовольства. Зина не сомнева-
лась: восхищало Уткина то, что беда случилась не с ним,
а главное — что если бы когда-нибудь такая беда и слу-
чилась с ним, все бы знали, что не с ним одним. Он был
как бы даже счастлив, встретившись в жизни с проис-
шествием, которое все осуждали, но... возможность ко-
торого он, очевидно, чуял в себе, в задатках своей на-
туры.
И у Зины заколебалась бездумная ее вера в окру-
жающих. Губы ее, подвижные и тонкие, выражая рань-
ше только умную усмешечку, теперь нередко дрожали и
кривились горестно.
Она была все еще в том юном возрасте, когда не зна-
ют в своих взглядах на мир границ: если великолепен,
то восхищаются до забвения, а чуть что, два-три укола
в сердце — и вот уже суровая .тень окутывает мир!
133
Именно в эти дни Зина решила говорить о Мартыне
с Михаилом Иванычем, указав последнему на странное
равнодушие губкома к истории в Лисках. Но Михаил
Иваныч предупредил ее желание.
В первый же день по возвращении из уезда, с конфе-
ренции, Черноголовый провел бурное заседание губко-
ма, посвященное неполадкам в продовольственном деле,
а по окончании заседания задержал в своем кабинете
предгубпрофсовета Губарева, Жбанова из коммунхо-
за и председателя Чека Лузгина. Все трое были старыми
партийцами. Михаил Иваныч ценил их. Зина поспешила
к двери, но и ее остановил Черноголовый:
— Одна минута, Кудрявцева!
Он оперся руками о стол и оглядел поверх очков при-
сутствующих:
— Как же быть нам, товарищи, с Баймаковым?
Зина вернулась к столу, однако до конца разговора
не подымала глаз со своих рук, теребивших бахрому на-
стольного покрывала.
. Жбанов сказал, обращаясь к Михаилу Иванычу:
— Я не совсем понимаю, чего ты хочешь! Если тут
открытое преступление, у нас имеется ревтрибунал...
Лет десять тому назад Жбанов участвовал в про-
должительной голодовке протеста в одной из южных тю-
рем. Ему тогда было под тридцать, голодовку он вынес,
но следы ее остались до сих пор. Он страдал мучитель-
ным катаром желудка и малокровием. Был тощ, кожа
на его скулах походила на лимонную корку, и в больших
темных глазах его лихорадочно, остро проступало стра-
дание. Он был нетерпелив, раздражителен.
Не получив от предгубкома ответа, Жбанов ухватил-
ся за свою фуражку.
— Не могу! У меня ноет башка...
Но Михаил Иваныч зацепил его за обшлаг:
— Погоди...
Вгляделся из-под очков в скуластое, крепкое лицо Гу-
барева, мельком скосил глаза на предчека. Лузгин как
сел в начале вечера за стол, так и остался тут, в мяг-
ком кресле. Был землисто-сер, припухшие веки его то и
дело устало опускались; видимо, он готов был сидеть тут
до утра.
— Я знаю Мартына изрядно! — заговорил Михаил
Иваныч.— Знаю с лучшей стороны. Но вы понимаете са-
134
ми... этот случай... Право, не знаю, что и предпринять.
Конечно, в трибунал мы его не пошлем...
— Ав чем, собственно, обвиняют Баймакова? — спро-
сил Губарев, отпивая из стакана холодный настой чая.—
И кто обвиняет?
Зина не выдержала.
— Он сам себя обвиняет! — сказала она, густо крас-
нея.
— Вот именно! — подхватил Михаил Иваныч.—
Прежде всего он сам себя обвиняет...
Жбанов передернул ртом, махнул рукой. И на этот
раз никто уже не пытался удержать его: дверь глухо
хлопнула за ним.
— Я думаю поставить этот вопрос по партийной ли-
нии, у нас в бюро, например,— торопливо продолжал
Михаил Иваныч.— Выслушаем, обсудим! Не так?
— Можно и так! — согласился Губарев и поднялся
на ноги, тяжелый, плечистый.
Он куда-то спешил. Ему было не до Мартына.
Лузгин в знак согласия с Михаилом Иванычем кив-
нул головой и молча, шаткой поступью последовал за
предгубпрофсовета.
Оставшись вдвоем, Михаил Иваныч спросил Зину:
— Кажется, у тебя большая дружба с Мартыном?
— Ав чем дело, Михаил Иваныч?..
— Да ни в чем, милая! — Он старательно запихивал в
свой обтрепанный портфель бумаги.— Я думал, что ты
беседовала с ним.
— О Лисках? Нет, на этот счет у нас с ним не было
разговора.
— Напрасно.
Михаил Иваныч промычал про себя еще что-то и вдруг
взглянул на Зину, и Зина увидела иное, никогда ранее
невиданное лицо: было оно все в лучиках, мягкое, улы-
бающееся.
— Диковатый парень наш Мартын!—сказал он.— Ди-
коватый, но... сильный! А это ценно.
— Да, Баймаков славный! — согласилась Зина.
— Что такое — славный?.. Хм! Славный!.. Откуда у
тебя эти ничего не выражающие словечки?.. Баймаков
прежде всего до конца наш. Правда...— Михаил Иваныч
запнулся,— правда, у него много сентиментального,
слишком чего-то старинного, кержацкого, что ли..,
— А это плохо?
135
Михаил Иваныч улыбнулся.
— Видишь ли, человек с фантазией — не такая уж
плохая вещь! Немножечко фантазии — это даже украша-
ет человека. Но именно — немножечко, не чересчур!..
— А у него?
— А у него, пожалуй, чересчур! Впрочем, я не. осуж-
даю,— заторопился Михаил Иваныч.— Он еще очень мо-
лод, Зина!
— Дело не в молодости! — прервала она его, настора-
живаясь.— По-моему, хорошо, что он такой... честный с
собою и, как вы сказали, сильный... Но... сильный ли он?
В нем есть что-то странное, загадочное!
Михаил Иваныч снова улыбнулся. Он стоял теперь в
пальто у самой двери.
— Товарищ Кудрявцева!
— Слушаю, Михаил Иваныч!
— Ты, кажется, в гимназии обучалась?
— Да, но... не окончила!
— А Байроном в классах не зачитывалась?
Зина нахмурилась.
— Ну, ну, не обижайся! — похлопал он ее по плечу.—
Знаешь что... Идем-ка со мной, подвезу!
Они вышли в просторный полуосвещенный зал. Чело-
век с винтовкою одиноко стоял у колонны.
— Ты, Кудрявцева, сама маленько смахиваешь на
Мартына! В вас есть что-то общее. Но это ничего, ниче-
го! Это даже хорошо у вас такое... как бы это сказать?.,
чуть-чуть идеалистическое, от старой, надо быть, народ-
нической интеллигенции.
— Я никогда народницей не была!
— А разве, чтобы иметь эти качества, надо быть не-
пременно народницей?
На улице было пустынно, ветрено, в гулких, зыбучих
потемках перепархивал дождик. Зина поднялась вслед
за Михаилом Иванычем в старенький, замызганный ав-
томобиль. Михаил Иваныч продолжал:
— Признаюсь, я сам рос таким... И меня порою бес-
покоит, что наша смена подымается в слишком рациона-
листической обстановке!
— В боевой, Михаил Иваныч!
— В боевой, да... Но, родненькая моя! Мы ведь по-
беждали и побеждаем не штыком только... И не одною
лишь силою наших мускулов... Наша сила прежде всего
в том, что мы знаем иной, прекрасный, еще не созданный,
136
но возможный мир. И знаем точно, куда и как направить
нашу волю, чтобы овладеть этим миром... Вот такого-то,
к слову сказать, знания у теперешней молодежи малова-
то... Молодежь обязана учиться, много читать, думать и...
— Уметь мечтать! — подсказала она.
— А мечтая — глядеть вперед!
— Вперед и... себе под ноги,— вставила она улыба-
ясь,— чтобы... не расквасить носа!.. Беспокойное время
сейчас, Михаил Иваныч! Не до жиру, быть бы живу.
— Учитываем, учитываем, Зина... И потому-то рассчи-
тываем на будущее! А уж там, добившись передышки,
посадим молодежь за учебу по-настоящему, безогово-
рочно!
— А Мартын, верно, много учился? — спросила она
после короткого молчания, желая возвратиться к нача-
тому разговору.
— Мартын? — Михаил Иваныч живо повернул к ней
голову.— Он у меня ночи напролет за книжицами проси-
живал. Мы с ним, Кудрявцева, капитальные работы
Маркса грызли!
— Откуда же у него вот это — идеалистическое?
— Это?
Автомобиль остановился у деревянного домика. Зи-
на встала на подрагивающем днище машины, взяла ру-
ку Михаила Иваныча, ждала ответа.
— Это всё — от прошлого, Зина! От тех дней и лет,
когда мы все вынуждены были порою больше мечтать,
чем действовать... Ты, например, не можешь себе предста-
вить, как влияла на людей ссылка... с ее пустыней, дико-
стью, вынужденным одиночеством. Мартына слишком ра-
но вырвали из гущи жизни! А начинал он ее, судя по его
рассказам, в чужой нам среде.
Зина выпрыгнула на мостовую, но еще долго следила
глазами за удаляющимся автомобилем. Чувство призна-
тельности к Черноголовому согревало ее. Сегодня Миха-
ил Иваныч показал себя иным, новым. Удивительный че-
ловек! Он сказал: «Когда все мы больше мечтали, чем
действовали!» Но трудно было представить себе Черно-
голового не действующим... Черноголовый — мечтатель!
Зина даже засмеялась, нарисовав себе Черноголового
мечтателем, и повернула к своей двери.
Дергая за ручку звонка, она твердо решила завтра
же во что бы то ни стало увидеть этого упрямого Мар-
тына и говорить с ним! Почему Михаил Иваныч спраши-
137
вал о ее дружбе с Мартыном? Не хотел ли он узнать от
нее больше того, что сам знал?.. Нет, Мартын положи-
тельно никудышный. Иметь другом такого человека, как
Михаил Иваныч, и избегать его, когда стряслась беда!
Эх, коснись дело ее, Зины, она ни на минуту не задума-
лась бы открыть мудрому товарищу все свое сердце.
В комнатке у себя на столе, поверх скатерти, Зина за-
метила раскрытую книжечку. Догадалась: отец, поджи-
дая ее, читал. Тут рядом и очки в медной позеленевшей
оправе. Сам он возился теперь за дощатой перегородкой,
в кухне, над самоваром.
— Батька! — крикнула она, просунув в кухню голо-
ву.— Кипятку не надо!
— Как же так, Зинушка? Почему не надо? Ты не
больна?
Тщедушный, костлявый старичок, в сером пиджачке
и сам весь серый, испуганно вскинул на нее глаза: как
могла она отказаться от самовара, от их семейного ноч-
ного чая, когда так было годами.
Зина рассмеялась:
— Я совсем здорова, папочка! Но очень устала...
— А чай?
В хрипловатом голосе старика слышалось волнение,
он растерянно подтянул брюки у пояса и насторожился.
Дочь поняла, что не может отказать ему в этом удоволь-
ствии— поить ее чаем в час поздний, глухой, в час, ему
одному, старому, принадлежащий.
— Хорошо, будем пить.
И тотчас же за перегородкой снова зазвенела конфор-
ка, зашуршали угли, послышался треск лучины. Зина то-
ропливо приводила себя в иной, домашний, вид. Наскоро
стянув с себя темное рабочее платье, она направилась к
старенькому материнскому гардеробу, достала ситцевый
капот, вспомнила, что прошлый раз впопыхах разодрала
оборку, и присела у стола чинить. При взмахах руки с иг-
лою рубашка сползала, обнажая смуглое худощавое пле-
чо, и, хотя никто тут не видел ее, Зина то и дело вздер-
гивала наплечники.
Отец стоял над самоваром и говорил громко, так, что-
бы она могла слышать из-за перегородки:
— Ну, как денек, Зинушка? Все ли в порядке?
— Все в порядке, отец!
— Начальство наше как? По-старому над людьми
мудрит?
138
У старика с дочерью были кое в чем нелады. Ники-
фор Семеныч не всегда и не во всем был согласен с но-
вой властью, называл ее под горячую руку «самодельной»,
ворчал по поводу гонения на чистую публику и заочно на-
зывал исполкомовцев не иначе как «наши умники». «На-
ши умники опять купцов обидели». Или: «Наши умники
немца против себя подымают». Или: «Второй месяц
умники наши нефти не раздостанут». У него были две
большие обиды на революцию. Одна заключалась в том,
что вскоре после Октябрьского переворота его по старо-
сти лет перевели с паровоза дальнего пути на станцион-
ные маневры. «Привязали к одному месту!» — жаловался
он, завидуя страстно тем товарищам, которые продолжа-
ли кататься в разные стороны, добывали себе на боль-
ших станциях соли и мяса, получали прогонные, а глав-
ное— не чувствовали себя «клячами в резерве».
Другая обида старика — обида за дочь. Затем ли ра-
стил он ее, обучал, лелеял, чтобы она стала потом мы-
каться без отдыха по городу, пропадать где-то до позд-
ней ночи, быть все время с простонародьем, а на его, Ни-
кифора Семеныча, намеки — пора-де и о замужестве по-
думать— дерзко посмеиваться.
Раздувая самовар, старик продолжал:
— Сегодня опять говорили, будто вам всем скоро
капут!
— А вы поменьше бы слушали! — откликнулась Зи-
на.— Человек вы рабочий, а собираете мещанские
сплетни.
— Ну, ну! — огрызнулся отец.— Гляди, как бы сплет-
ни-то правдой не обернулись... Деникин-то вон как рас-
пространяется!
Подобной перебранкой обычно начинался их поздний
вечер. Вскоре на столе в кухоньке шумел самовар. Зина,
выглядевшая в мягком своем капоте более солидною и в
то же время женственной, не спеша разливала чай: се-
бе— в обыкновенный стакан, отцу — в большую, с золо-
той каймой чашку — именинный подарок покойницы
жены.
Отхлебывая из блюдечка, Никифор Семеныч украд-
кою поглядывал на дочь. Зина поймала этот взгляд, на-
хмурилась.
— Чего фордыбачишь-то? — не выдержал старик.—
Поди, не чужой я тебе! День и ночь мысли с тебя не
свожу!
139
— Отец! — подняла Зина голос.— Если ты станешь
продолжать свое, я пойду к себе, и вообще...
Она не докончила, глядя на него недобрыми глазами.
— Ну, что «вообще»? Уйдешь от меня? Бросишь? —
Старик от волнения обжег себе губы и теперь потирал их
трясущимися пальцами.—Бросай! Известное дело, на
что я теперь нужен? Вынянчил, выкормил...
— Замолчи, прошу тебя!
— Нея начал... Уходи, бог с тобой! Известно, где мне,
необразованному, с такой дочкой жить!
Зина стукнула ладонью о стол.
— Опять «лазаря» запел? У, несчастный! Да разве я
тебя в необразованности упрекаю? Ты ведь рабочий! Пой-
ми это! А держишь себя, как мещанин, как базарник!
Ворчишь, сплетничаешь, недоволен всем. Люди со сторо-
ны смеются.
— Люди?
— Ну да, люди... Мне за тебя перед людьми стыдно!
Еще когда кончала фразу, Зина увидела, как вдруг
побелели у старика глаза и запрыгали губы.
— Спасибо, доченька, спасибо! Утешила на старости
лет родителя... Спасибо!
Он хотел еще что-то сказать, но не смог,— в горле у
него екнуло, он махнул рукою, задел давний подарок же-
ны покойницы. Со звоном расписная чашка упала на пол,
разлетелась на кусочки. Даже не взглянув на дочь, он
пошел, сгорбившись, к себе под занавеску.
Тупо глядя перед собой, стояла Зина у стола, слыша-
ла, как скрипела древняя отцовская кровать. Острая жа-
лость сжимала ей сердце, она готова была броситься к
старику, опуститься у его ног на колени, обхватить рука-
ми слабые, натруженные его плечи. Но что-то удержи-
вало ее на месте, упрямая складка залегла у нее между
бровями; в«се в лице ее одеревенело. И, сторожко ступая
по полу чеботами, она направилась в свою комнатушку.
Когда шла мимо, отец, сидя на постели, затаил дыха-
ние. Он ждал, что сию минуту занавеска приподнимется,
дочь молча обхватит его за шею, приголубит, попросит
прощения,— так бывало не раз. И уже вскинул было го-
лову, приподнялся на локте, но... мягкие ее шаги проплы-
ли мимо, и тогда вдруг, как бы очутившись на дне невы-
лазной ямы, старик почувствовал нестерпимое одиноче-
ство! Печаль залила ему сердце. Он положил руки на
острые колени и так, с раскрытым ртом (будто не хватало
140
ему воздуха), закоченел на месте. Было одно неотврати-
мое сознание: дочь его — чужая ему! Пропали долгие го-
ды забот и неистощимой любви. Он один, один на всем
белом свете... Старый, не нужный никому!
Зина наскоро сбросила с себя капот, затушила свет,
кинулась в постель. Но как только положила под щеку
ладонь (с детских лет засыпала она так под ватным сте-
ганым одеялом матери), сейчас же почувствовала, что не
уснет. Полежала минуту и, ощущая давящую пустоту в
груди, поднялась, включила свет, взяла со стола книжеч-
ку, забытую отцом, и лежа стала перелистывать ее. Сна-
чала она не только не всматривалась в строки, но даже
не сознавала вполне, для чего в ее руках эта брошюра
и что за брошюра: мысли об отце, выживающем из ума,
мысли о минувшем дне, о Мартыне, о Черноголовом, о мо-
билизации на продфронт — все это затемняло ее созна-
ние. Но, поймав невзначай заголовок брошюры, она
вспомнила, что собиралась читать. Затем что-то ее затре-
вожило. Она скосила глаза на стол, где лежали очки ста-
рика, и вдруг поняла... Отец! Это ведь он сидел над бро-
шюрою:
«В. Ленин. К солдатам».
Она ярко представила себе старика за раскрытою
страницей: губы его шевелятся, брови вздернуты, на лбу
от усилия мысли капельки пота.
Ах, старый ворчун! Частенько по вечерам она тверди-
ла ему, чтобы он почитал что-нибудь из ее книжек, а он
отмахивался, и вот, наконец...
Зина отложила брошюру, прислушалась. Ни единого
звука не доносилось из-за перегородки. Уснул! Хорошо,
она поговорит с ним утром, выведает о его болячках и,
если возможно, сделает все, чтобы по-серьезному открыть
старому глаза на мир.
Удивительная вещь! Зину считали среди товарищей
хорошей пропагандисткой. А вот с отцом, с собственным
своим отцом она до сих пор не справилась! Живет с ним
под одной кровлей, изучила каждое движение в его лице
и... не справилась. Но — полно! — пыталась ли она что-
нибудь сделать, чтобы ближе подойти к нему? Много ли
времени посвятила она старику? Ведь дальше отрывоч-
ных разговоров на бегу, на лету дело у них не шло.
За три версты от центра ходит она в рабочую слобод-
ку, чтобы там отдать вечер тем, кто жаждет знаний, а
тут под рукой родной, близкий человек бродит слепым и...
141
слышит от нее одни упреки... Нет, в этом есть что-то не-
ладное! Неужели же все, что делала она до сих пор как
пропагандистка, делалось ею по уставу, по чину, напо-
каз?!
Зина рассердилась на себя до того, что принялась пе-
ребирать всю свою работу по косточкам. И тут вдруг от-
крылось ей, что — да, она никуда не годится, и если бы
рассказать о ней настоящую правду, Михаил Иваныч,
Мартын и все другие отвернулись бы от нее. Ведь никто,
конечно, и не подозревал, что она, Кудрявцева, гордится,
просто гордится работою секретаря губкома, особенно ко-
гда ее замечают окружающие. Ей нравится, например,
сидеть на больших собраниях рядом со старыми больше-
виками. Нравится мчаться на автомобиле об руку с кем-
нибудь из губкомовцев, иметь при этом холодный и оза-
боченный, непременно озабоченный вид. Нравится слы-
шать на людном собрании свое, шепотом произнесенное
в рядах имя, нравится возвысить голос, когда она счита-
ла, что права, а ее не хотели понять.
Зина поднялась с постели, вновь погасила свет.
Какая гадость! Никто даже не подозревает, что она...
такая тщеславная. Никто и не думает, что она способна
слишком много времени посвящать себе, своему лично-
му. Взять хотя бы это ее осо<бое, совершенно отличное,
длительное, ничем не объяснимое внимание к Мартыну!
Разве он единственный в партии? Разве не окружают ее
десятки и сотни товарищей, быть может, еще более до-
стойных, чем этот человек? А для нее вся последняя не-
деля ушла на тайные (да, да, тайные!) заботы о Марты-
не. Значит, она могла ради одного, избранного, ради его
интересов забыть в конце концов вовсе о других, более
серьезных вопросах и нуждах организации.
Никифор Семеныч продолжал не шевелясь сидеть у
себя на койке. Странные и разноречивые настроения вла-
дели им. С одной стороны, для него было бесспорно, что
дочь виновата перед ним и что он не может и не должен
прощать ей. А с другой стороны, что-то кроткое и жалоб-
ное, как побитая собачонка, ныло в его груди, и хотелось
плакать от жалости к той, милой, родной, близкой ему
каждым своим пальчиком (с детства изучил старик ко-
ротышки эти), каждым своим волосом на шелковой го-
ловке! И видело, чуяло старое сердце, что тяжкий,
тернистый путь простерт перед его девочкой, что ждут
его Зинушку всякие испытания, что, быть может,
142
смерть, преждевременная смерть от руки врага сторожит
уже ее.
И когда толкнулась и влипла мысль старика в жгу-
чие видения опасностей на пути его дочери, задохнулся
Никифор Семеныч, и вдруг щеки его взмокли. Тихонько,
стараясь не скрипеть койкой, поднялся он, прошел на цы-
почках к двери и слушал, затаив дыхание.
Зина кашлянула, и тогда, как пойманный вор, вздрог-
нул с головы до пят старик, и краска залила ему щеки.
Послушав еще немного и убедившись, что за стеною ти-
хо, полуоткрыл дверь, просунул голову. В темноте беле-
ло на подушке лицо Зины. Старик неудержимо потянул-
ся вперед, пролез боком в дверь, прошаркал к столу*, за-
мер, прислушиваясь.
— Папа, ты что?
Он откликнулся шепотом:
— Спи, спи! Я тут очки забыл...
— А ты включи электричество.
— Нет, не надо! Я уже сыскал. А ты спи... И на меня,
старого, не сердись. Люди мы с тобой свои... И все твои—
свои... Своих и поругать иной раз не грешно!..
Он стоял у самой ее койки и, подтыкая концы одеяла
у ее плеч, ухмылялся про себя, как пьяный.
— Забыл совсем сказать тебе, доченька... Перед ве-
чером заходил к тебе один, высокий, кудластый такой...
Она насторожилась, поймала в свою горячую руку его,
старую, холодную.
— Кто, папочка? Как назвал себя?
— А не упомню, дочка! Как бишь... Обормотов,
что ли?
— Баймаков, папочка?
— Вот-вот! Кудлатый такой...
Холодная капля упала ей на грудь. Что это?..
— Папочка, родной мой, бедненький мой!..
Она потянула его руку, целовала ее, прижимала к го-
рячим щекам своим.
— Прости меня... Злая я, нехорошая!..
— Да что ты, что ты, Зинушка! —лепетал, плача, ста-
рик.— Еще чего выдумала? Да ты у меня... краше всех...
Как можно говорить так!
143
XIII
На другой день, после долгих непрерывных хлопот,
уже в сумерках, когда из губкома схлынули посетители,
Зина стала собираться домой (сегодня не предвиделось
заседаний). Сложив наскоро бумаги, она взялась было
за пальто, но кто-то резко постучал в дверь кабинета.
Это был Мартын.
— Наконец-то! — вырвалось у нее нескрываемо радо-
стно. Однако, вглядевшись в него, хмурого, неприветли-
вого, она продолжала более сдержанно: — В последнее
время ты неузнаваем, Мартын. Ты избегаешь всех нас.
Ты как будто не хочешь видеть даже Михаила Иваныча...
Что с тобой? Мы так беспокоились, и нам так хотелось
быть полезными тебе...
Они уселись за стол, по одну его сторону, близко друг
к другу. В полумраке нельзя было разобрать выражения
его лица, по по тому, как нервно барабанил он пальцами
о крышку стола, Зина поняла, что слишком поспешила
высказаться.
— Пожалуйста, без лирики! — сухо заговорил он.—
Я вовсе не нуждаюсь в сестрах милосердия! Я пришел
к тебе по делу, как к секретарю губкома... Именно, имен-
но!— Он поднял руку, заметив ее жест протеста.— Я и с
Михаилом Иванычем не хочу встречаться один на один.
Уверен, что старик заведет волынку...— Он вдруг встал
и принялся шагать из угла в угол.— Странно, очень
странно! К вам является член партии, требует обсудить
его... его...— он запнулся,— его вопрос! А вы отмахивае-
тесь, тянете, выражаете недоумение. Что же вы, за су-
масшедшего меня принимаете?
— Мартын!
— Э, пожалуйста! Не понимаю такого отношения к то-
варищу... Во всяком случае, я не заслужил этого. Или вы
уже решили мое дело, не выслушав меня? На основании
одних слухов, опираясь на болтовню таких милых лю-
дей, как Уткин, Аристов, Клепиков и прочие?!
Зина встала.
— Ты несправедлив к нам, Мартын. Иди сюда... Са-
дись, успокойся.
Повинуясь ей, он опустился снова в кресло. Она про-
должала, стоя подле него:
— Чудачина ты, Мартын! Никто ничего не решал, и
никто тебя пока не осуждает. Да, да! Губком не может,—
пойми это! —не может губком делать заключения на ос-
144
новации слухов. А мы все еще пробавляемся только слу-
хами, и в этом виноват ты сам!
— Ну, положим!
— Не возражай! Представь себе положение хотя бы
Михаила Иваныча, который знает тебя чуть ли не с дет-
ства... Ведь он в конце концов вправе требовать от тебя
объяснений!
— Ха! А я отказываюсь? Готов дать показания всему
губкому! Даже прошу об этом... Даже требую!
— Но, Мартын! Как может Михаил Иваныч ставить
на обсуждение тот или иной вопрос, не зная доскональ-
но, о чем пойдет речь?
— Но это неправда! — воскликнул он.— Черноголовый
знает.
— Да, кое-что, из третьих, повторяю, рук!.. Разве ты
переменил о нем свое мнение? Разве ты забыл, что такой
человек, как Михаил Иваныч, не может опираться на од-
носторонние сообщения, хотя бы они исходили...
— От членов партии?—с горечью усмехнулся Мартын.
— Партиец партийцу рознь!
— Вот как?
— А пошел ты к лешему, Мартын! — вспыхнула Зи-
на.— С тобой говорят как с товарищем, а ты... мудришь.
Слушай! Идем сию же минуту к Михаилу Иванычу... Он
будет очень рад, я знаю! Мы найдем его в этот час у се-
бя дома.
— Никогда! — Он даже приподнялся в кресле, выра-
жая свое несогласие.— Я не хочу и не могу пользоваться
в этом деле старой дружбой... По-старому я заговорю с
Черноголовым не ранее того, как слово партии будет про-
изнесено обо мне. Я готов пойти к нему, но лишь по его
вызову и не иначе как на заседание... губкома, ревкома,
трибунала!..
Зина замахала рукой.
— Ты рассуждаешь, как... как... Во всем этом нет и
капли трезвости... От всего этого несет самой непригляд-
ной интеллигентщиной!
— Думай, как хочешь, но иначе я не могу... А теперь
скажи по правде: займется ли когда-нибудь губком мною
или нет?
Зина щелкнула выключателем, вгляделась в Мартына
и некоторое время молчала. Ее поразило потемневшее,
осунувшееся лицо его. Глаза его, в рыжих ресницах, ка-
зались еще более глубокими, прямой, четко очерченный
145
нос заострился, вокруг рта залегли морщины. Он давно
не брился и такой, в белесом пуху на щеках, выглядел
много старше своих лет.
— Ты не болен, Мартын? — невольно вырвалось у Зи-
ны, и в ее голосе, в глазах ее было что-то такое искрен-
нее, приветливое, что угрюмая тень в лице Баймакова
дрогнула. Он улыбнулся, и при этом еще острее обозна-
чились у него скулы.
— Нет, я здоров,— проговорил он.— Но ничего не
имел бы, чтобы поболеть... Ведь вот валит же других сып-
няк, например.
Зина не верила, не могла, не хотела верить в то, что
с Мартыном произошло что-то такое, от чего можно бы-
ло желать этой страшной болезни! Она представила его
себе, могучего, распластанным в сыпняке, и неприкрыто
горестный, жалеющий вздох вырвался у нее. На этот раз
он не рассердился и молча, как бы собираясь с мыслями,
опустил голову.
— Мартын...— голос ее легонько дрожал.— Мартын,
ты знаешь, что я не хочу и не могу обидеть тебя... Скажи
же, что там, в пути, произошло у тебя?
Он откликнулся не сразу, а заговорив, отвел глаза в
сторону.
— Видишь ли, собственно, вся история может быть
изложена в двух словах. Но этого-то я и страшусь! Мне
надо, чтобы вы все поняли меня по-настоящему... А для
этого необходимо много рассказать, вернее — объяс-
нить... И я не знаю, сумею ли... Поймете ли вы меня!
— Попробуй, Мартын! Я не ожидаю, конечно, что ты
начнешь с меня... Но почему бы тебе в самом деле не по-
говорить с Михаилом Иванычем?
— Опять? — нахмурился он.— Я уже сказал, что...
— Хорошо, не надо! Не надо с Михаилом Иваны-
чем... Доверься другому!
— Например?
Она закраснелась, ей стало вовсе неловко, так как она
думала, что довериться следовало бы именно ей.
Мартын покинул кресло и опять зашагал из угла в
угол. Она робко следила за ним, отчего глаза ее стали
совсем продолговатыми и все лицо тонко настороженным.
— Помнишь, Зина...— Он остановился около нее.—
Помнишь ли ты наш вечер... У монастырской стены, под
луною? Я часто вспоминаю... И теперь много отдал бы,
чтобы стать таким же, как тогда...
146
— Каким же? — выронила она вполголоса.
Вместо ответа он неожиданно спросил:
— А что делается у нас на фронте? Какая информа-
ция?
— Разве ты не в курсе? — осиливая волнение, прого-
ворила она.
— Да, я не вполне в курсе... Отстал! Всякое личное
несчастье отрывает человека от общего хода жизни... По-
пробуй повредить себе палец, и ты будешь чувствовать
только его!
— Бывает! Страдание делает нас эгоистами...
Она сказала это просто, без задней мысли, но он на-
сторожился и не без тревоги взглянул на нее.
— Ну, так каково же на фронте?
— Кажется, опять будет жарко, Мартын.
— Так... А с продовольствием что?
— Не спрашивай! Ты знаешь, мы провели мобилиза-
цию... Нам предстоит тащить хлеб из-под самого носа
врага... Кстати, Мартын, о тебе вспоминали заводские...
Байдученко, Петр Потачов... Они снова мобилизованы и
выражали желание видеть тебя во главе отряда!
— Вот как! Да, я шел всюду, где было особенно тя-
жело! Но теперь... теперь я только больной палец... Его
надо лечить или... ампутировать!..
Он отвернулся и вдруг негромко спросил:
— А Черноголовый, он в самом деле заговаривал с
тобою обо мне?
— Не раз, Мартын!
— Черт побери! — воскликнул он, оборачиваясь к
ней.— Если бы вы все знали, как «это» произошло со
мной, вы не осуждали бы меня... Нет, я не могу больше
молчать!
Эти слова были произнесены почти умоляющим то-
ном. От неожиданности Зина не сразу нашла что сказать.
Потом она торопливо протянула ему руку.
— Говори, говори, Мартын!
— Здесь?
— Где хочешь! Неужели не видишь, что я... ну да, я...
страдаю за тебя?
Днем позже этой беседы Зины с Мартыном, прибыв
глубокой ночью домой, Михаил Иваныч собирался уже
лечь, но вспомнил о своей тетради, почувствовал раская-
ние (он долго не садился за нее) и взялся за перо.
Между прочим, он записал следующее:
147
«Не знаю, как быть с Мартыном. Парень выводит ме-
ня из равновесия... Я продолжаю любить его. И, может
быть, поэтому мне трудно разобраться в его деле.... Нет
сомнения, из странной истории в Лисках можно создать
целый процесс,— чего Мартын и добивается,— но глав-
ным обвинителем здесь будет он сам, несмотря на всё его
искреннее и, я верю, заслуженное желание оправдать се-
бя. Однако придется все же поставить дело в губкоме,
иначе с парнем не сладишь!»
XIV
Если бы эти строки из старенькой, затрепанной тетра-
ди Михаила Иваныча могла прочитать Зина, она приня-
лась бы горячо успокаивать их автора.
Они сказала бы Черноголовому примерно так:
«Мартын — честный партиец! Скорее же ставьте его
вопрос на губкоме, как он того хочет! И ничего дурного
не будет!»
Она сказала бы так потому, что ей удалось, наконец,
выслушать Мартына, и она была вне себя от его расска-
за, в искренности, в правдивости которого не сомневалась.
Однако, когда он закончил и спросил, заглядывая ей
в глаза, как бы она определила случай с ним в Лисках,
Зина потупилась. Только при новом настойчивом вопро-
се: не думает ли она, что он шкурник и ничтожный
трус? — Зина вскинула на него глаза и терпеливо выдер-
жала его взгляд.
С самого начала беседы они перешли из кабинета губ-
кома наверх, в комнату с окнами в решетках, где когда-
то хранились архивы губернского присутствия, а теперь
было почти пусто: треногий стол, несколько скамеек (по
воскресным дням занимался здесь политкружок).
Она уселась за стол, он — напротив. Яркая лампочка
заливала их зеленоватым режущим светом.
Первое время Зина слушала не совсем внимательно.
Отдельные его фразы даже не доходили до нее, потому
что, пользуясь волнением рассказчика, она могла без вся-
кой опаски дивиться его густым ресницам, отливавшим
под ярким электричеством золотом. Но вскоре она забы-
ла, что сидит наедине с ним, вдали от всего мира (так,
как ей это чудилось в последнее время только в снах).
Его ресницы перестали скрывать от нее страдание, таив-
шееся в глазах, а его голос, убаюкивающий своею слад-
148
кой силой, стал, наконец, проникать в сознание и поды-
мыть ответно мысль за мыслью. С этого момента Мартын
мог рассчитывать, что открывает он себя чуткому и впол-
не бескорыстному слушателю.
Зина сразу и во всей глубине представила себе путе-
шествие Мартына с эвакуируемыми семьями: тяжелая и
непривычная обстановка, женщины, дети, неизвестность
впереди!..
Она даже подумала про себя, как мог Михаил Ива-
ныч, зная характер Баймакова, обречь его на это путе-
шествие: тащить за собой ораву беспомощных, жалких,
перепуганных людей навстречу всяким неожиданностям,
без какой-либо надежды на возможность отпора врагу!..
И ее нисколько не опечалило, когда она услышала в
голосе Мартына нотки брезгливости: он говорил о паре
Добрыниных и об этих двух — об Уткине и Аристове, увя-
завшихся с женским поездом.
Когда он обрисовал вскользь Уткина, у которого даже
накидка трепетала от страха, Зина невольно улыбнулась.
Но Мартыну было не до улыбок. Он говорил о женщинах,
о стариках, о детях.
— Они все цеплялись за меня и готовы были'реветь
от страха, но я старался успокоить их, прикрыть от них
опасность...
— Зачем же это? — вырвалось у Зины.— К чему об-
ман тут?
Он с недоумением взглянул на нее.
— Для тех, кто может защищаться, правда — лишнее
оружие! Но сказать правду Уткину, Добрынину, всем
этим женщинам с ребятами... Ты понимаешь, это вызвало
бы панику!
— И все же им следовало открыть глаза на правду! —
возразила она, незаметно для себя становясь на сторону
беззащитных людей, лишенных даже знания об истинном
своем положении.
Мартын не понял ее.
— Нет, я был прав, держа их в неведении... Уже на
первой станции мне и Туликову стало ясно, что наш поезд
далеко не в безопасности, а в Лисках мы в этом убеди-
лись окончательно... Но то, что затем произошло, оказа-
лось неожиданностью даже и для нас... Между прочим,
на попутных станциях нам сообщали, что город занят бе-
лыми, и ты можешь себе представить, Зина, каково было
мое самочувствие... Но... буду продолжать! Успокоив и
149
накормив свой караван, я пошел бродить по степи... В су-
мерках Туляков поднял на ноги машиниста. Паровоз со
своим вагоном он держал наготове, объясняя это тем, что
в вагоне находились эвакуированные ценности. Когда я
около полуночи возвратился из степи и шел вдоль ваго-
нов, Туляков выбежал мне навстречу из телеграфной
с последнею новостью. «Беда! — прокричал он.— Мы
опоздали...» Вид у него был такой, что я невольно кинул-
ся за ним, еще не зная сам, куда и, главное, какая опас-
ность грозит нам!
Уже у самого паровоза услышал я необычайный шум,
в котором, признаться, до сих пор не отдаю себе отчета.
Первое мгновение мы оба подняли головы вверх, так как
нам почудилось, что над нами аэроплан! Но, убедившись
в своей ошибке, я насторожил слух в другом направле-
нии и тут услышал быстро нарастающий грохот со сто-
роны увалов...
«Поезд! Эшелон белых!» — крикнул Туляков и бро-
сился к паровозу, но я, разгадав намерение этого чело-
века, задержал его. Между нами завязалась борьба. Ту-
ляков понял, что я сильнее его, и прокричал мне в упор:
«Ты будешь в ответе за все, что вручено мне, за все цен-
ности!» Этот неистовый крик, а главное — упоминание о
каких-то ценностях, когда у нас на руках был поезд, на-
битый людьми, поразил меня так, что я выпустил Тули-
кова из рук. Помню, близость этого человека, его жар-
кое дыхание в лицо мне, его искривленный от страха рот
вызвали у меня отвращение. Я выпустил его, и он в два
прыжка очутился у поручней паровоза. «Полный ход!»—
скомандовал он выглянувшему из окна машинисту. Вслед
за тем я услышал свист пара и пришел в себя. «Стой!» —
закричал я свою очередь, вскочил на площадку парово-
за и сунул в лицо машинисту браунинг. Тогда произошло
нечто отвратительное. Туляков схватил меня за полу и
потащил вниз. Он что-то говорил вполголоса, говорил
бессвязно, но я успел понять, что мы имеем дело с эше-
лоном белых, прибывших с ближней станции, что ника-
кой возможности для борьбы у нас нет и что теперь доро-
га каждая минута!..
«Пойми, Баймаков! — убеждал он меня.— Ведь у нас
все наши ценности! Ведь если все это попадет к врагу,
нас надо расстрелять! И ты не смеешь вмешиваться...»
Он снова рванулся к паровозу, и тут снова я задержал
его. А шум со стороны, из ночи, нарастал, близился.
150
Вдруг Туляков затих в моих руках. «Ты негодяй, Байма-
ков!» Он произнес это с таким убеждением, что я, несмот-
ря на всю свою взволнованность, горестно изумился. Ты
понимаешь, Зина: эти слова должен был бросить в лицо
ему я!.. Чувствуя, что мои руки ослабели, он повел пле-
чом, освободился, но уже не пытался бежать. Стоял, как
истукан, без слов, и я не видел, что у него творилось в
лице. Самое нехорошее было именно это: я не видел, что
с ним и почему он стал вдруг таким... безразличным... Те-
перь накинулся на него я: «Туляков, опомнись! Надо дать
знать нашим, поднять в эшелоне тревогу!» Он холодно
процедил: «Э, пошел ты...» И вдруг опять впал в ярость...
«Поздно, поздно! — закричал он.— Пойми, наш эшелон
отведен в тупик. Мы не спасем ни людей, ни ценностей!»
Он не убедил меня, но я его уже не останавливал.
Он побежал к паровозу, и я услышал с тендера голос
машиниста: «Сейчас, сейчас!» Однако паровоз не тро-
гался. Туляков выкрикивал что-то, бранился. Паровоз
не трогался. Мне представилось, что машинист принял
мою сторону. Я кинулся в вагон и приказал нашему по-
стовому с винтовкою: «За мной!» Я бежал прочь от ваго-
на, не оглядываясь, но, сделав несколько шагов, понял,
что армеец глух к моему слову... Вероятно, поставлен-
ный в охрану вагона с казной, он не знал, как быть ему,
кого слушать, меня или Туликова. Он отстал... Я бежал,
и навстречу мне нарастал этот зловещий гул. Мне до
сих пор не ясно, когда именно он прекратился. Кажется,
в ту минуту, когда, поравнявшись с первым нашим ва-
гоном, я закричал: «Товарищи!»
Надо тебе сказать, Зина, что я ничуть не терял себя.
Во всяком случае я совершенно не думал о своей безопас-
ности и о себе вообще. В мозгу у меня сверлила одна
мысль — о Тулякове, о его невозможном, нетерпимом по-
ведении. И в то же время я совершенно трезво сознавал,
как и он, что спасти в эшелоне всех наших невозможно!
Но, думалось мне, если не всех, то хотя бы... хотя бы тех,
кто успеет добраться к паровозу. И с этой мыслью я за-
кричал у первого вагона, не решаясь двинуться дальше,
зная, что это было бы бесполезно. И все же я побежал к
следующему! Во-первых, потому, что меня подгоняло не-
рассуждающее чувство своей ответственности. Во-вто-
рых, потому, что гул со стороны путей внезапно замер и
это подняло у меня надежду: «А вдруг мы еще успеем!»
С криком: «Товарищи!» — я приблизился к середине эше-
151
лона и тут увидел вдали, на путях, фигуры вооруженных
людей. В голове у меня проблеснула догадка, даже не
догадка, а убеждение: прибыл вражеский поезд, высадил
разведку, и вооруженная толпа с минуты на минуту дол-
жна ворваться на станцию. Оглянувшись, увидел: из ва-
гонов выбрасывались женщины. Иные были в одних со-
рочках, иные с детьми на руках, иные с какими-то узла-
ми. Они падали на бегу, сталкивались, цеплялись друг
за друга. И только теперь мне стало не по себе...
Мартын примолк. Зина осторожно взглянула на него.
— Понимаю, Мартын. Тут, наконец, и ты... дрогнул!
Оглянулся на себя!
— Нет, совсем нет! Повторяю, меньше всего думал
я о себе. У меня не было и капли страха за свою особу...
Здесь было иное... Ты понимаешь: они все бежали как
угорелые, падали в потемках, что-то тащили за собой,
очевидно не сознавая, что именно... И все это делалось
в глубоком молчании, с одним-единственным желанием —
уйти, убежать, скрыться от опасности, ухватиться за вся-
кую возможность спасения... Нечто подобное я наблюдал
только однажды в жизни! Это было в тайге, Зина. Горел
большой участок леса, и все живое, большое и малое, обе-
зумев от страха, неслось мимо меня к реке, ломая на пу-
ти молодую поросль, скача через пни, через ямы, свора-
чивалось, грызя друг друга, в клубок... И как тогда, так
и теперь с людьми, я чувствовал свое полное бессилие...
Я находился, Зина, перед лицом чудовищной силы; эта
сила двигала людей в одном направлении, и я понимал,
чувствовал всем существом своим, что, стань я на пути,
каждая из этих женщин, самая слабая среди них, всту-
пит со мной в яростную борьбу... И я... отшатнулся, я сно-
ва бросился вдоль эшелона, к тем вагонам, в которых
еще спали... Тут произошло нечто еще более поразившее
меня. Кто-то, угадав мое намерение, с силой вцепился в
полу моей одежды... Это была Лузгина, жена нашего
предчека. «Не надо!» — прокричала она, и в ее голосе я
услышал страх и мольбу: «Не надо!» Я понял ее, скрытая
ее мысль передалась мне, как по току. Она не хотела, что-
бы я бежал дальше, к спящим, будил их, поднимал на но-
ги. Ее страх (она припадочно вся дрожала) обострился
при мысли, что я мог поднять на ноги весь эшелон, вспо-
лошить всех остальных. По тому, как, покинув меня, она
бросилась к паровозу и все оглядывалась, все оглядыва-
лась, было ясно: она видела угрозу лично себе, своей жиз-
152
ни — в. людях, стремившихся к той же, что и она, цели.
Слишком многие хотели спастись, не останется ей, Лузги-
ной, места у паровоза... Ты что, Зина?..
— Так, ничего,— обронила она, проводя ладонью по
лицу.— Уж очень все это нехорошо!..
— Да, хорошего мало! Я до сих пор без отвращения
не могу представить себе свое положение в те минуты...—
Углы его губ подергивались.
— Но ты...— Зина чуть подумала.— Ты должен был
все же что-то предпринять, Мартын! Тебе следовало за-
няться летучей разведкой... Наконец, ты был вооружен,
подле тебя находился тот, с винтовкою!..
— Что. же могли мы вдвоем против целой банды?..
Зина молчала. Он хмуро взглянул на нее.
— Поверь, что если бы со мной не было этих женщин,
детей, я поступил бы так, как ты думаешь... Да, да, был
еще и тот, армеец с винтовкою... Но... открыть стрельбу
в момент, когда люди, ничем не прикрытые, барахтались
вокруг тебя...
— Продолжай! Я понимаю.
— Нет, мне ничего не оставалось, как последовать за
бегущими...— Он вздохнул.— Знать, что будет дальше,
быть самому при посадке... Ведь там оставался Туляков,
которому я не доверял. И вот — еще сцена! Сцена у па-
ровоза... Женщины лезли в вагон, единственный вагон
у паровоза, хватались друг за друга, роняли детей. Вагон
был набит до отказа. Набита была и площадка. Но люди
взбирались на буфера, воевали за подножки... Некоторые
ухитрились подняться даже на тендер паровоза. Тот, из
караула, пытался навести порядок, но его никто не слу-
шал, и он сам, по-видимому, растерялся окончательно.
В последний момент я успел заметить его на подвесной
лесенке паровоза. А со стороны нашего эшелона бежали
другие женщины, и среди них разглядел я накидку Утки-
на. Меж тем паровоз развил пары, был готов к отходу.
Я слышал десятки перепуганных голосов с площадок ва-
гонов: «Трогай, трогай!» Я оглянулся в сторону путей.
На одно мгновение, помню, меня озадачило: почему бе-
лые медлят, не обстреливают нас? Но вот в темноте, за
дальними вагонами, вновь показались вооруженные люди,
они были в строю, в цепи, и бежали рысцою куда-то
в сторону. И я сразу решил: они хотят взять станцию в
кольцо, охватить все живое... Вдруг паровоз пыхнул,
вздрогнул и начал отделяться от меня. Я сделал шаг за
153
ним, еще шаг... рядом с подножкою! Те, счастливые, что
втиснулись на площадку, были, видимо, так рады за себя,
что вспомнили и обо мне: они протягивали мне руки. Но
вот, оглянувшись еще раз, я увидел... кого бы ты думала?
Аристова из кооперации!.. Знаешь такого, нет? Прихлест-
нулся, понимаешь, к эшелону якобы для охраны. Сослал-
ся мне даже на приказ губкома, только видите ли, сло-
весный!.. Сочинил, конечно! Ведает он столовыми, стро-
ит что-то...
— Столовыми? — переспросила Зина.— Припоминаю!
В потребкооперации треплется...
— Ну, так вот, этот самый трепач, обгоняя всех про-
чих, уже настигал нас... И ты знаешь, Зина, во мне под-
нялось отвращение, тошнотное, саднящее отвращение!
В отсветах фонаря я видел его лицо, жуткую баранью бо-
родку, выпученные глаза... Он ловил ртом воздух, махал
руками, как бы цепляясь за нас, недосягаемых... Призна-
юсь, я был бы потрясен, если бы он нагнал нас тогда.
Я не мог оставаться ни одной минуты там, где был этот
человек!
Приметно бледнея, Зина прервала его:
— Ой, как все это нехорошо, Мартын!
— Может быть! Но я подхожу к концу, не перебивай
меня... Паровоз наш прибавлял ходу, я видел, что вагон
начинает двигаться быстрее меня. Я уже на локоть отстал
от подножки. Впереди — черно, ветрено, пустынно. Поза-
ди — Аристов... Этот человек, самый вид которого был не-
выносим мне, заслонил собою все, что происходило во-
круг. Я уже не думал о других. Для меня никого, кроме
его и себя, не существовало. В нем, в этом человеке, как
бы собралось в одно целое все, что томило, изнуряло, на-
полняло меня презрением к себе, к своему положению!
Возможно,— понизил Мартын голос,— возможно, я толк-
нул бы его, ухватись он за перила подножки... Да, да! Но
тут неожиданно на пути Аристова оказался этот... в на-
кидке... Уткин! Он вскинул, изнемогая, видимо, к бегу-
щему приятелю руки, тот рванул в сторону и угодил на
ворох ящиков из-под груза... Больше я не следил за ни-
ми... Моя рука скользнула по стене убегающего вагона
и вдруг овладела перильцами над подножкой. Я вцепил-
ся в железо, как будто земля рушилась подо мною.
Он перевел дух и уже другим, странно равнодушным
голосом закончил:
154
— Потом... потом меня с силой толкнуло, сбило с ног,
но перильца из своей руки я не выпустил!
— И ты... поехал, да? — шепотом спросила Зина.
— Да, я взобрался на подножку, потому что иначе...
попал бы под колеса...
Она с горечью усмехнулась...
— Ага! Значит, ты сделал это поневоле?
Не получив ответа, взглянула на него широко от-
крытыми, знающими глазами, в них Мартын не мог не
заметить слез.
— Как это все скверно! — произнесла она, порывисто
захватив его руку в свою.— Скверно, скверно, Мартын!
Она начинала понимать, какая беда стряслась с ним
и как он должен был страдать за себя, за все то паниче-
ское, безобразное, что произошло в Лисках.
Но он освободил свою руку, она убрала свою.
— Я едва держался на подножке,— продолжал он
рассказ.— Паровоз усиливал ход. У меня еще была воз-
можность спрыгнуть на полотно, и одно мгновение я го-
товился к этому. Я видел впереди себя фигуру армейца
с винтовкой на лесенке паровоза. Он мог взобраться вы-
ше, занять более удобное положение, но не делал этого.
И я слышал оттуда, со стороны станции, отчаянные кри-
ки... «Стреляют!» — воскликнул кто-то за моей спиной с
площадки. Я удивился, как этого не слышал сам. Из
черноты ночи в шум нашего паровоза врывались корот-
кие залпы, но они были очень далеки, как бы даже
где-то высоко вверху... Тогда я, вместо того чтобы
спрыгнуть, перехватил перильце другою рукой, стал на
подножке крепче. Вагон шел полной скоростью. Вдруг,
придерживаясь за стенку, через мои плечи потянулся
Туляков. Он вглядывался в темноту, дышал тяжело,
рывками...
— Зина! — прервал себя Мартын.— Ты слышишь
меня?
Она отвела глаза в сторону, словно опасаясь, что он
прочтет в них то, чего ему не следовало видеть.
- Ну?
— Я был несправедлив к Туликову... Он действитель-
но не думал о себе, он думал только о казне! Представь
себе: там, на станции, в эшелоне, осталась его жена, же-
на и двое ребят!.. Ни одним словом, ни тогда, когда мы
ехали к Лискам, ни теперь, когда убегали обратно, он не
обмолвился о них. Но ведь они дороги были ему, черт
155
возьми!.. Об этом я слышал на площадке вагона... Гово-
рили о Марье Гавриловне, которая находилась в даль-
нем вагоне и, надо быть, так и не слышала переполоха.
А у Марьи Гавриловны — пятилетний Коля и годовалая
Симочка. Колю Туляков часто брал с собою на собрания.
Колю он таскал по коридорам губкома на плечах — вер-
хом... И теперь они, все трое, метались из стороны в сто-
рону там, на станции, в ужасе — Марья Гавриловна с Си-
мочкой на руках и Коля подле нее. А их отца паровоз
уносил прочь... потому что партия, вручив ему ценности,
приказала: «Ты должен сохранить это!» Он герой, Зина,
этот Туляков!
— Да, он исполнял свой долг.
Мартын вздрогнул.
— Не в пример мне! — пробормотал он.
Зина смолчала. Она понимала, что ей нужно что-то
сказать, чем-то помочь ему. И, сознавая, что ее молча-
ние может быть истолковано не по-доброму, она еще
ниже склонила голову.
— Ты осуждаешь меня? — произнес он с оттенком
плохо скрытой горечи.
Это было совсем нелепо с его стороны — задавать та-
кой вопрос. Неужели она должна была восхищаться им?..
Помимо воли, она криво улыбнулась. Он продолжал:
— Вот видишь, даже ты не поняла меня... Да, да, не
спорь! — В голосе его послышалось отчаяние.— Когда я
стоял там, в проходе вагона, и слушал разговор о поки-
нутой семье Туликова, мне стало так тяжко, так тоскли-
во, будто я обречен был никогда уже не видеть солнца,
никогда не иметь человеческой ласки... И вот словно вол-
на накатила на меня: я почувствовал омерзительную к
себе ненависть...
Зина опустила глаза:
- Да?!
Если бы Баймаков был менее увлечен своим расска-
зом и не переживал бы вновь горестного раскаяния, он
услышал бы в коротеньком вопросе Зины нечто похожее
на приговор. Но он не расслышал в ее голосе разящего
осуждения и продолжал:
— Да, в те минуты я чувствовал себя так, точно уже
был пригвожден к позорному столбу. И я ненавидел
себя... себя и, повторяю, всех, всех этих аристовых, утки-
ных... И даже, представь себе, не по-доброму вспомнил
о Черноголовом... Ведь это он наделил меня такими... вы-
156
сокими обязанностями! Будто Баймаков не был ни на что
иное способен!
— Ой, что ты говоришь, Мартын! — воскликнула вне
себя Зина.— О чем ты?!
— О том о самом! — кинул он упрямо.— Я был угне-
тен, подавлен, смят и вместе с тем убежден, что не заслу-
живаю такого позора! Ведь не из трусости же, в самом
деле, ухватился я тогда, в последний момент, за периль-
ца подножки... Ведь я же вовсе не помышлял о себе, о
своей особе! Ты понимаешь, Зина, здесь работала жут-
кая, недумающая сила: она овладела мною, напрягла
мускулы моей руки, вложила в'нее свою волю и...
Зина раздумчиво, не соглашаясь, видимо, с ним, ка-
чала головою. Он смолк, ожидая.
— Не то, не то! — заговорила она возбужденно, но не
совсем уверенно, запинаясь.— Ты что-то путаешь... И со-
всем напрасно толкуешь... о какой-то там... страшной
силе... Нет и нет! Не в трусости тут дело... Дело тут в
ином!
Он не без недоумения вскинул к ней глаза.
— Договаривай же, Зина...
Она не откликалась, оставаясь неподвижною, в то
время как глаза ее, устремленные в пустоту, полны были
напряженного искания мысли. Не найдя ничего опреде-
ленного или не подобрав найденному нужного слова, она
тряхнула головою, как бы отмахиваясь от всего.
— Ничего не понимаю! И боюсь, что ты также...
— Не понимаю себя?! — подхватил он.— Что ж...
Впрочем, для меня ясно одно: я потерял в этом переполо-
хе рассудок... но, верь мне, Зина, тут было то же самое,
как если бы, падая с кручи, я уцепился за выступ!
— Понимаю... Но... ты уцепился... за вагон, чтобы не
скатиться обратно... к своему эшелону, к оставленным
тобою женщинам!
Снова — открытый вызов, но и он не имел успеха.
Мартын был как бы выше любых ее колких замечаний.
Он молчал, глядя на нее глухими, невидящими глазами.
Он глядел в глубь себя и, без сомнения, страдал, созна-
вая, что не знает таких слов, которые по-настоящему пе-
редали бы о несчастном случае с ним. И еще он думал,
что случай этот особенный, что случай этот выходит из
ряда вон и он, Мартын Баймаков, оказался здесь как бы
жертвою.
157
— Что же было дальше? — спросила Зина, стараясь
смахнуть, преодолеть очарование страдающих его глаз:
в глазах Мартына было такое, что примиряло с ним, за-
тягивало, покоряло.
— Дальше? — Голос его стал опять равнодушным,
будто все, что происходило у него потом, не имело ника-
кого значения.— Дальше я выпрыгнул из вагона.
— Мартын! — Она начинала надеяться.
— Да, на первом же подъеме я выпрыгнул, но не со-
всем удачно: я повредил себе ногу. От места моего прыж-
ка до станции было не более пяти верст. Однако и это
расстояние я едва осилил, подвигаясь черепахою. И по-
том... Сделав с версту, я, к своему ужасу, убедился, что
при падении выронил из кармана оружие, и вынужден
был возвратиться. Отыскав свой браунинг, вновь поплел-
ся вперед. Шел и падал от нестерпимой боли. Пролежав
сколько-то, снова шел и в конце концов добрался на
место.
Зина ждала, затаив дыхание. Она теперь видела, что
для него не все потеряно.
— Да, я добрался... Но...— Он вдруг залился надсад-
ных хохотком.— Я прибыл к шапочному разбору! Света-
ло, и еще с насыпи я увидел мирную, совсем мирную
картину: станция жила своей жизнью, не было ни выстре-
лов, ни сражения... Нового было только то, что за око-
лицей ватага красноармейцев готовила себе завтрак... По
путям бродили люди и среди них... эти... наши женщины,
дети! Я услышал женский смех, там, где готовили завт-
рак, и это... это было ужасно, Зина! Я шел сюда, теряя
минутами сознание от боли, но все же шел... в надежде
встретить врага, если надо — умереть! А тут все было
спокойно, мирно, и они, понимаешь, смеялись...
Он замолчал.
— Что же там произошло? — упавшим голосом про-
говорила Зина.
— Разве ты еще не слышала об этом? Я сам узнал
правду много позже... Тогда же, добравшись до стан-
ции, я потерял сознание и много часов пролежал в бреду.
Там был врач, он говорил людям, что у меня что-то вроде
горячечного пароксизма. В бреду я стонал, хватался за
свою ногу. Ее осмотрели, поправили: что-то с сухожили-
ем. Через сутки я пришел в себя. Это был прескверный
момент, Зина! Полуоткрыв глаза, я увидел склоненную ко
мне женскую голову. То была жена Синицына, нашего
158
губпродкомиссара. Она не успела заметить, что я при-
шел в себя. Я лежал с закрытыми глазами, слышал, как
она оправляла мое одеяло, меняла холодную тряпицу на
моей голове. Касанья ее руки жгли меня... Я вздрагивал
под ее рукою, как от физической боли. Присутствие этой
женщины было непереносимо... Я несколько успокоился,
когда она покинула меня. По аптечным пузырькам на
столике я угадал, что за мной ухаживали. Я вспомнил
все и многое отдал бы, чтобы не возвращаться к действи-
тельности. Потом явились еще женщины, очевидно с тем,
чтобы сменить Синицыну. «Что же это такое? — думалось
мне.— Они хлопочут тут, точно комендант их поезда сра-
жался за них и пал!..» Из приглушенного разговора у
моего изголовья я убедился, что о моих приключениях
или вовсе не знают здесь, или же объясняют всё по-сво-
ему... Это была пытка, Зина! Мне нужна была хотя бы
одна минута покоя, отдыха... Но, представь себе, эти
женщины не оставляли меня еще целые сутки!
— Странно! — перебила его Зина.— Ты сознавал себя
невинным и... так все же страдал?..
— Да! И тогда и после! Я знал и знаю, что никогда
не сумею передать об этом случае со мной так, чтобы
меня поняли... Ведь тут — только факты, одни голые, по-
зорные факты...
Мартын встал и зашагал по комнате. Потом, остано-
вившись у скамьи, он неожиданно проговорил:
— Слушай, Зина! Я знаю, как ты относишься ко мне...
Вздрогнув, она вскинула на него глаза.
— Я говорю о твоем чувстве ко мне, Зина!
— При чем тут мое к тебе чувство?..— вспыхнув, про-
молвила она с оттенком горечи.
Он молча пошагал к стене и неторопливо повернул
обратно. Глаза его устремлены были в сторону.
— Чудной ты, право!
— Почему же? — отозвался он спокойно.— Я вспом-
нил пашу прогулку в степи и потом... ту ночь у монастыр-
ской стены...
— Отлично! Но... к чему все это?
Он криво усмехнулся.
— Видишь ли... Там, у монастырской стены, я впер-
вые подумал, что если бы стал кого-нибудь любить, то...
лишь тебя, Зина!..
— Вот как! — выронила она, стараясь скрыть свое
смущение.— Но... мне хотелось бы еще раз спросить тебя:
к чему все это?
159
— А так! Ни к чему! Мне... очень жаль...— Он нелов-
ко провел рукою по своей щеке.— Там, в Лисках, первая
моя мысль, едва я пришел в себя, была о тебе, Зина.
О том, что можешь сказать обо мне ты... ты... когда узна-
ешь мою историю!
— И тебе... было неприятно?
— Э! — отмахнулся он.— Если бы только неприятно...
Однако что же скажешь ты теперь?
Он стоял, глядя на нее, ждал. Зина чувствовала, что
это сверх ее сил, и торопливо, цепко искала внутри себя
опоры. Не найдя, совсем растерялась. И тут поднялось
у нее глухое раздражение. Чего хотел он? И что это за
человек такой? Как мог он после всего, только что им
рассказанного, говорить ей о своих чувствах? Ведь она
вправе истолковать его признание как желание приглу-
шить, сковать ее совесть?
Наконец, она нашла решение. Глаза ее сузились, гу-
бы прыгали от обиды. Она сказала:
— Ты ошибаешься, Мартын! И прежде, и теперь,
когда ты хотел подменить наш деловой разговор интим-
ным признанием... я равнодушна к тебе!
Он сморгнул, отвернулся.
Она порывисто поднялась со своего места, проника-
ясь мыслью о всей непоправимости сказанного. Это похо-
дило в конце концов на то, как если бы она видела его
падающим и не только не протянула ему руки, а и толк-
нула его! Но он уже оправился и привычно откинул го-
лову.
— Ты не поняла меня! — сказал он ровно, без тени
сожаления или упрека.— Не понял и я тебя... Мне каза-
лось, что ты — не как все, Зина!
— Нет, Мартын, я — как все! — выронила она, ста-
раясь держаться как можно спокойнее.— Я не хуже и не
лучше других! Но речь не обо мне... Может быть, ты за-
кончишь?
— Я передал тебе все.
— Но что же случилось там, на станции, когда ты...—
Она искала более мягкого выражения.— Когда ты был
в пути, в вагоне?
— В том-то и дело, что там, строго говоря, ничего
особенного не случилось... Да, да...— повторил он с раз-
дражением, точно ему возражали.— Ничего особо страш-
ного... В двадцати верстах к югу, на полустанке, стоял
красноармейский отряд. Ночью отряд получил сообще-
160
ние, что к Лискам с юго-востока, из какого-то местечка,
подвигается пехота белого генерала. Отряд залез в ваго-
ны, прибыл в Лиски, рассыпался в цепь... Белые, натк-
нувшись на пулеметы, отступили, выпустив по станции
несколько снарядов шрапнели,— и все! На станции был
убит какой-то прохожий-нищий, одной из наших женщин
поранило руку...
— Таким образом...— Зина опустила глаза.— Таким
образом, вы с Туликовым бежали... от своих, от красных?
Не отвечая, он опустился у стола, рассеянно взглянул
на нее и улыбнулся, но так, что губы его перекосило.
— Уткин говорил мне позже, что, возвратившись на
станцию, я искупил, видите ли, свою вину...
— Уткин? — Она не могла скрыть своего удивления.—
Ты говорил с Уткиным?!
— Да, еще там, в Лисках! Я рассказал ему все, что
случилось со мной. Не удивляйся! Я со многими пытал-
ся говорить...
— Со многими? — Зина холодно сощурила глаза.—
Какой ты, однако...
— Я буду добиваться суда над собой! — воскликнул
он, глядя поверх ее головы.— Самый тяжелый приговор
будет для меня все же легче молчания, которым вы ок-
ружаете меня.
— Но ты сам виноват в этом молчании! — заметила
она резко.— Надо было сразу...
— Обо всем рассказать вам? — подхватил он.— Нет,
ты ошибаешься! Это... мне уже не поможет! Тут должна
сказать свое слово партия... вслух, громогласно!
Зина замолчала.
— Пожалуй! — согласилась она и вслед добавила: —
Если только ты... не слишком преувеличиваешь свою
вину!
— Я? Напротив! Я говорил уже тебе, что у меня...
что мне трудно считать себя виновным.
Она досадливо повела плечом:
— Отказываюсь понимать тебя, Мартын!
— Что ж... я ожидал этого, Зина.
Он прямо глядел на нее.
— И не упрекаю тебя! — продолжал он.— Понять
меня мог бы только тот, кто сам пережил что-нибудь по-
добное... Ты прости меня, Зина, я вообще жалею, что за-
говорил с тобой об этом скверном приключении.
— Почему ж,е? — едва слышно произнесла она.
6. В. Бахметьев
161
— Потому! — Голос его внезапно потеплел.— Потому,
славная моя, что в глазах у тебя ясно, как у мудреца или
ребенка! — Он взял ее руку.— Ты такая, такая...
Он не закончил и, вспыхнув, склонился к ней, потя-
нул ее руку к своим губам. Она отшатнулась, в глазах у
нее проблеснула тревога.
— Не надо, Мартын!
Поняв ее по-своему, он продолжал:
— Зина! Не скрывай от меня... Неужели я... возбуж-
даю в тебе отвращение?
Голос его был придушен. Зина видела, сколь не без-
различно ему ее отношение к несчастному событию с ним,
и, волнуясь, заговорила:
— Мартын! Я знаю, ты предан революции... И верь,
что моя жизнь также принадлежит ей... Но... я не поняла
тебя, почему...— она коротко передохнула,— почему те-
бе... жаль той ночи... у монастырской стены?.. Ты зна-
ешь: я тоже вспоминала обо всем... и о тебе... Мы с Ми-
хаилом Иванычем часто говорили о тебе... И ты знаешь:
он любит тебя... Он только не показывает этого, но лю-
бит, любит... Ты очень близок и дорог ему... В вас есть
что-то родное, общее!
Мартын резко качнул головой:
— Между нами ровным счетом ничего общего!
— Возможно! Но мне всегда так казалось... К Ми-
хаилу Иванычу я отношусь как к старшему другу, Мар-
тын!
— Понимаю!
Она отвела глаза, помолчала.
— Так ты и впрямь вспоминал обо мне, Мартын?
Впрочем, можешь не отвечать... Я не имею права...
Он уловил в ее голосе скрытую горячую ласку.
— Зина! Хочешь, я прямо скажу о своем к тебе от-
ношении?
— Нет, нет! — перебила она его.— Молчи!
— Вот видишь! Ты сама не желаешь.
— Потом, Мартын! — Она подняла на него влажные,
лучащиеся глаза.— Я хочу верить тебе... Дай мне твою
руку... Мартын! Хороший мой! Сделай так, чтобы тебе...
не слишком страдать от этой проклятой истории!
Это было столь наивно и простодушно с ее стороны,
что он невольно улыбнулся, и от улыбки вокруг его рта
обозначились глубокие морщинки, а густые ресницы со-
шлись и прикрыли потемневшую синеву глаз.
162
— Постараюсь, Зина, но не обещаю. Видишь ли,
здесь дело не в этой только истории... Я боюсь, что никог-
да, никогда не научусь презирать смерть!..
— Но... разве ты так уж слепо страшишься ее?
— Страха нет, но нет и равнодушия! Видишь ли, я
не могу там, где речь идет о смерти, быть расчетливым,
холодным... Ты сказала, что у меня с Михаилом Иваны-
чем есть общее... Нет, ты не знаешь Черноголового! Вот
он действительно презирает смерть... Может быть, пото-
му так это у него, что он давно уже перестал отделять
свою, личную жизнь от жизни многих, окружающих его...
А я... я не могу даже представить себе, что когда-нибудь
умру, перестану слышать, видеть, дышать... Я люблю
жизнь! Люблю ее не менее Черноголового, но она... по-
нимаешь ли?., она теряет для меня цвет и вкус, так как
я вечно ощущаю себя в ней... в жизни. Тону в ней!
— Фантазия, Мартын!
— Нет, для меня это реальное.— Он задумался.—
Кажется, я начинаю прозревать кое-что... Чтобы наслаж-
даться жизнью, революционер прежде всего должен на-
учиться презирать смерть... Да, да! И только тогда мы
будем в своей деятельности холодны и стойки пред ли-
цом любой угрозы... Приходилось ли тебе видеть электро-
монтеров среди проводов высокого напряжения? Эти ра-
бочие подолгу висят в воздухе, среди проволок, под то-
ком, и каждое неосторожное их движение... Но они, по-
нимаешь ли, поют песни, шумят и перекликаются, будто
находятся у себя, за домашним своим столом...
— Привычка, Мартын!
— Привыкнуть к страданию, к страху, к угрозам,
смерти нельзя!
— Но, Мартын, терпение первобытного человека, че-
ловека-раба... Разве здесь не та же привычка, не тот же
навык страдать, переносить опасности, мириться с ними?
Он откинул голову.
— Люди простые, лишенные культуры, еще и теперь
напоминают, Зина, твоего первобытного человека... Их
оружие — терпение... Что такое Каратаев Толстого, этот
мужик, захлебывающийся жизнью, терпеливый, покор-
ный? Раб, конечно... Но мой пример с электромонтерами
говорит о другом! Здесь не только привычка, выдержка,
покорность... Всего этого слишком мало, чтобы так со-
вершенно владеть собой... Здесь, Зина, иное! Здесь чело-
век бесстрашен, спокоен и радостен потому, что... знает!
163
Он знает, с какими силами имеет дело, он изучил, про-
щупал на опыте каждое движение, каждый поворот этих
сил... Тут, Зина, знание, господство над тайной!..
Зина смотрела на него напряженно-внимательными
глазами, губы ее слегка распались, тугая морщинка све-
ла ее брови. Он поймал этот взгляд и засмеялся — впер-
вые с того дня, как возвратился из Лисок.
— Тебе легче, Мартын? — порывисто подалась она в
его сторону.
— Да, мне легче... но...
— Но?
— Я подумал сейчас о прославленном русском интел-
лигенте, облегчающем свою душу... разговорами!
— Разве это похоже на тебя?
— И да и нет! И, конечно, я не Каратаев, я давно не
Каратаев... Но и до электромонтера мне далеко!
— Как же быть, Мартын?
Это вырвалось у нее бездумно, и таким трогательно-
соболезнующим было при этом выражение ее глаз, что
он не выдержал.
— Зина! — воскликнул он, захватив обе ее руки.—
Если бы ты знала, как я... как мне...
Не закончив, он с силою потянул ее к себе, и она без-
вольно подалась к нему. Он ощутил ее тонкие, холод-
ные губы, не сразу оторвался от нее, застучал ладонью
о стол.
— Ой, ой! У нас впереди замечательная работа: на-
учить секретаря губкома целоваться... Ты, Зинушка, это-
го еще совсем-совсем не постигла!
На смуглых щеках ее разлился яркий румянец.
— Не дурачься, пожалуйста! — сказала она срываю-
щимся голосом.— Ты переходишь с одной темы на дру-
гую с легкостью... с легкостью самовлюбленного!
— Да нет же, товарищ! — откликнулся он, но без
прежней живости.— Какая уж там самовлюбленность!
Я решительно не люблю себя!.. Разве ты этого не ви-
дишь?..
Она колебалась, что-то обдумывая. Он повторил на-
стойчиво:
— Нет, право, Зина?!
Его ресницы, радужные под ярким светом, дрог-
нули.
164
— Что же молчишь? — проговорил он совсем хму-
ро.— Не веришь мне?
— Верю, Мартын! — воскликнула она, вновь прижи-
маясь к нему.— Верю, что ты очень страдал и страдаешь...
Не сердись же на меня!
Чувствуя его руку у себя на спине, Зина, вздрагивая,
прильнула щекой к его плечу.
Так, близко друг к другу и молча, стояли они некото-
рое время. И чем ощутимее слышала она неровное его
дыхание, горячую волну от его груди и свое сладостно
бьющееся сердце, тем неувереннее чувствовала себя под-
ле него, а в мозгу уже прорастало тревожное, колкое,
близкое к самоосуждению. Неужели она может, не счи-
таясь ни с чем, закрыть глаза на все, только что им о
себе переданное? Закрыть глаза, уступая своему чувству,
подчиняясь бездумной жажде счастья?.. И потом... как
он, он мог в свою очередь с такою легкостью разрешить
себе забвение всего, что перед тем его мучило, на что
искал у нее ответного слова, слова товарища?
Вдруг она вспомнила Клепикова, тот вечер с ним
в бывшей губернаторской гардеробной, и вся сжалась
в приливе гадливости. Она не хотела и не могла сравнить
их — Мартына и того! Но чем она сама лучше сейчас ка-
кого-нибудь Клепикова, если позволяет себе этак вот,
внезапно, поддаваться слепым зовам сердца?! И за кого
стал бы принимать ее, Кудрявцеву, милый, родной, муд-
рый Черноголовый, загляни он в эту минуту на них
обоих?..
Она сторожко отстранила руку Мартына, и он не
задержал ее, прошелся, склонив голову, от стены к стене,
потом заговорил хрипловатым, спекшимся в волнении
голосом:
— Нет, Зина, я не готов! В моей житейской таратай-
ке мне самому неспокойно... И я еще не знаю, куда ее
вынесет, эту таратайку, и вынесет ли вообще когда-ни-
будь... Прости меня, Зина! —добавил он поспешно, встре-
тившись с ее глазами, полными, как показалось ему,
растерянности.
Но то вовсе не было у нее растерянностью.
— Плохо ты меня знаешь, Мартын! — произнесла она
с застуженной внятностью.— Я никогда,— слышишь, ни-
когда! — не попрошусь к тебе в пассажиры.
И с этим она кинулась к двери, охваченная острым
горестным чувством, на бегу глотая нежданные слёзы.
165
XV
Закрытое партийное собрание, на котором Мартын
Баймаков давал свои объяснения, уделило достаточно
внимания делу, и председатель собрания Михаил Иваныч
Черноголовый держал себя здесь совсем строго. Может
быть, несколько суше, чем это требовалось бы даже от
председателя ревтрибунала. Только моментами он терял
свое ледяное равновесие, но это оставалось малозамет-
ным для окружающих.
В зале, где происходило собрание, было душно, жар-
ко и шумно. Время приближалось к полуночи. Вопрос о
Баймакове стоял сверх повестки дня, а повестка заклю-
чала в себе текущий момент: положение на фронте, прод-
разверстка, борьба с эпидемией тифа. Выступали воен-
ные, много говорил Синицын, обстоятельно выкладывали
свои соображения губздравотдельцы.
Болезни, голод, кулацкие беспорядки в деревнях, на-
ступающий с юга лавиной враг — все это накалило атмо-
сферу собраниями когда перешли к делу Баймакова, за
столом президиума почувствовали, что дело это может
принять неожиданный, тяжелый оборот. Губарев подал-
ся за столом президиума к Михаилу Иванычу и вполго-
лоса предложил отложить вопрос на другой раз. Но Чер-
ноголовый не дослушал, приподнялся в кресле и при-
нялся стучать ложечкой о стакан с недопитой чайною
жижей.
— Товарищи, собрание не окончено! — возгласил он,
откидывая ложечку.— Мы обещали товарищу Баймакову
несколько минут для заявления. Он ссылается на то, что
не в состоянии нормально вести какую бы то ни было
работу, пока не будет знать отношения партии к его
делу...
— Какое дело? — выкрикнул кто-то с места, из-под
древней, желтолистой пальмы.
— А вот сейчас услышите!—Михаил Иваныч снова
захватил ложечку.— Терпение, товарищи! Вопрос идет о
чести одного из наших преданных делу революции ра-
ботников. Прошу собрание отнестись с должным внима-
нием... Слово имеет товарищ Баймаков! — закончил он,
усаживаясь плотнее в кресло.— Только покороче! — до-
бавил он, взглянув в сторону Мартына.
В зале стихло, но шепотки еще шелестели некоторое
время. Те, что собрались было покинуть зал вслед за
166
военными товарищами и придвинулись уже к двери, сно-
ва заняли свои места. Кто-то вслух бросил:
— Опять до утра!
Жбанов нашептывал что-то Черноголовому, но было
видно: тот не склонен был его слушать. Мартын не торо-
пясь прошел к столу, стал вполоборота к президиуму и
молчал, не то справляясь со своим волнением, не то вы-
жидая, когда в зале совсем затихнет.
— Ну! — кивнул ему головою Михаил Иваныч.
В эту минуту Жбанов порывисто встал, обвел перед-
ние скамьи своими темными горящими глазами и заго-
ворил:
— Товарищи! Не нахожу возможным на данном соб-
рании заслушивать личные заявления отдельных партий-
цев... Положение на фронте и внутри губернии не из лег-
ких, а тут нам предлагают разбираться в какой-то... тем-
ной истории!..
Всякий другой на месте Черноголового прервал бы
Жбанова. Но Михаил Иваныч этого не сделал. Он позво-
лил Жбанову досказать и, выждав, пока оратор усядется,
спокойно, с насмешливою снисходительностью сказал,
обращаясь к залу:
— Я могу, товарищи, поставить заявление Жбанова
на голосование?..
— Не надо! — послышалось с мест.— Нечего волын-
ку тянуть!..
— Все же я проголосую, товарищи! Но должен заме-
тить, что Жбанов не прав... (Жбанов резко и безнадежно
махнул рукой.) Педантичность Жбанова, требующего
провести дело по всем инстанциям, неуместна и несвое-
временна. Товарищи! Обстановка вокруг нас действитель-
но тяжелая, но именно это и обязывает нас быть чутки-
ми к положению и состоянию каждого члена нашего кол-
лектива... Не может быть здорового коллектива там, где
его члены оказываются замешанными, как выразился
товарищ Жбанов, в темной истории!..
В зале послышался легкий всплеск одобрения.
Некоторые стягивали с себя пиджаки, другие наско-
ро заворачивали цигарки; кто-то догадался открыть окно,
за ним другое. С улицы, из лунной голубой ямы, напо-
ристо потянуло прохладой; дрогнули и закрутились под
люстрой клубы табачного дыма. Жаркие, потные лица
тех, кто сидел ближе к окнам, ярко проступили в желтом
сумраке. Катюша-бомбометчица (из особого отряда) под-
167
тянулась на подоконник, просунула в окно голову, кто-то
ухватил ее за ногу, она взвизгнула, но тотчас же уселась,
заломив свою несменяемую солдатскую фуражку, и до
конца вечера не сводила сосредоточенно помигивающих
глаз с президиума.
Подчиняясь требовательному взгляду Черноголового,
Мартын начал. И как только услышал в настороженной
тишине свой голос и как только почувствовал на себе
глаза, устремленные из зала, глаза нетерпеливого и стро-
гого ожидания, тотчас же понял всю безвыходность сво-
его положения. То, о чем он должен был рассказать, про-
должало казаться ему чрезвычайно сложным, глубоким.
В этой истории, разыгравшейся в Лисках, он чувствовал
себя безмерно обиженным, оскорбленным, приниженным,
но обидчик был неуловим, его нельзя было взять за ши-
ворот и поставить перед глазами зала. А эти глаза были
строги и нетерпеливы. И в ушах звучали холодные слова
Черноголового: «Только покороче!»
— Постараюсь не затягивать! — говорил Мартын.—
Но я боюсь, товарищи, что мне не удастся передать вам
все те обстоятельства, которые... в которых я... совершил
преступление! Преступление мое, если говорить прямо,
может быть определено как дезертирство, а сам я должен
быть заклеймен как трус... Но это не так! — Он обвел
зал мрачным, тугим взглядом.— Это не так, повторяю.
Если бы это было так, я сам., не дожидаясь вашего при-
говора, расправился бы с собою.
В зале стало еще тише, но Мартын умолк. По его
виду нельзя было сказать, чтобы он особенно волновался.
Только Зине, устроившейся у самого угла стола, было
видно, как неукротимо на золотистом его виске трепета-
ла жилка.
Те, что сидели в переднем ряду, отвернулись от Бай-
макова, пряча в глазах усмешливый холодок: слишком
запальчиво было начало.
Справившись с собою, Мартын продолжал:
— Я не хочу щадить себя, товарищи! И все же, как
ни жесток я к собственной персоне, не могу принять обви-
нения ни в дезертирстве, ни в трусости! Вот как было
дело...
Он начал рассказывать о событиях в Лисках и ста-
рался сокращать рассказ, но чем ближе подходил к са-
мому факту своего бегства из эшелона, тем пространнее
и сбивчивее становился его рассказ.
168
В то же время он чувствовал, что внимание зала все
чаще и настойчивее отливало от него, образуя вокруг
тягостную пустоту. И в один из таких моментов, когда
глаза слушателей опали и потускнели, наполняясь чем-то
своим, далеким, нездешним, востроносая стриженая де-
вушка, смахнув со лба кудельку, резво, в упор, выкрик-
нула из переднего ряда:
— Ближе к делу!
Тогда, в последних усилиях воли, шатающимися фра-
зами, Мартын закружил у рокового события, не смея ни
отступить от него, ни переступить через него, и вдруг
смолк, пораженный видением того голого, ничем не при-
крашенного и непоправимого, что совершено было им не-
сколько недель назад.
В одиночестве, бессонными ночами, не раз рисовал
себе Мартын эту встречу с людьми и судьями: каждое
слово, которое вставало тогда в разгоряченном его мозгу,
казалось ему полнокровным и убедительным. Он проду-
мал про себя все, что было связано с несчастным случаем
в Листах: ничто, как ему казалось, не укрылось от него,
ни одна деталь не ускользнула из поля его зрения; па-
мять его не успевала тогда вбирать в себя бурный поток
объяснений, доказательств, выводов.
В одиночестве он создал вокруг события в Лисках це-
лый мир тончайших переживаний, скрытых, но неотрази-
мых побуждений.
И все это пало теперь, рассыпалось, как пепельные
очертания перегоревшего тряпья.
За столом, под самою люстрою, в центре, сидел Ми-
хаил Иваныч. Он сидел, как всегда, поджав в кресле под
себя ногу, и оттого его голова, литая из серебра, возвы-
шалась над другими. За стеклами очков, отражавших
мерцание люстры, нельзя было разглядеть его глаз, по-
чему все полуосвещенное лицо его казалось пустым, без-
жизненным.
По правую от Михаила Иваныча руку, чертя каран-
дашом на бумажке (тут были башни, заборы, домики,
как в детских тетрадях), прямо, точно привязанный к
спинке кресла, устроился Жбанов из коммунхоза. Свет
бил ему в залысины лба. Залысины эти и кожа на скулах
были дряблы, сухи и как бы выкрашены охрой. Он то и
дело глухо отрыгивал. Его мучила вечная изжога, он пе-
реносил ее с завидным терпением, но болезнь просовыва-
лась и кричала из огромных его глаз. Он их вскидывал то
169
на одного, то на другого из находившихся в первом ряду,
и у каждого, кто встречался с его глазами, лицо прини-
мало, помимо воли, выражение беспредметного неудо-
вольствия.
По левую руку от председателя громоздко развалился
в старом барском кресле предгубпрофсовета Губарев. Че-
ловек этот был скуласт, кряжист, от него веяло спокой-
ствием, верою в себя и окружающих. Под лохматыми его
бровями лежала густая тень, и не было видно маленьких,
добрых и умных глаз, всматривающихся из-под косм, как
зверьки из трав. Он держал руки, большие и красные,
на столе перед собою, скрестив пальцы. Лишь два-три
раза за весь вечер он разомкнул их: свернет козью нож-
ку, раскурит и снова сложит пальцы, держа цигарку в
белых крепких зубах и щурясь от дыма. Лузгин, предче-
ка, поместился в сторонке, за спиною Губарева, и все
время боролся со своими опухшими, отяжелевшими
в бессонных ночах веками. Синицын устроился рядом
с Лузгиным, он часто поталкивал его под локоть, устало
улыбался.
Зал был освещен только у стола. Дальше стлался си-
зый дымный полумрак, отчего ряды скамей с темными
фигурами походили на только что взрыхленную правиль-
ными рядами пашню. И на этой пашне, как маки, цвели
головные повязки женщин. Лица у собравшихся были
как бы под слюдою, разглядеть их было трудно. Только
когда выкрикивали с места, сверкали зубы да случайная
искра от люстры вспыхивала там и сям в белках глаз.
Зина была вся на свету — это ее смущало: она низко
склонилась к лежащему перед ней листу бумаги и не пе-
реставала грызть карандаш. Когда Мартын смолк, она с
испугом вскинула на него глаза, потом быстро перевела
их на Черноголового, потом на Жбанова и, наконец, в
глубину зала. Если в тот вечер, когда Мартын исповедо-
вался перед нею, Зина еще сомневалась кое в чем, еще
искала мучительно объяснений его поведению, то теперь,
видя его в положении подсудимого, всем сердцем была
на его стороне. И уже в середине рассказа Мартына она
перестала обращать внимание на слишком яркий свет и
с нескрываемой тревогой вглядывалась в зал. Когда же
оттуда доносился к ней легкий говорок, она хмурила бро-
ви и умоляюще поглядывала на председателя.
— Продолжай, Баймаков! — попросил Черноголовый,
подался к столу и застучал ложечкой о стакан.
170
Мартын провел рукою по растрепанным волосам и за-
говорил снова, но в голове его было смутно, серо, без-
жизненно.
Теперь он говорил, как мог бы говорить свидетель,
вовсе не замешанный в деле, и Зина почувствовала, что
Мартын топит себя.
— О чем он?—с испугом шепнула она, потянувшись
в сторону Михаила Иваныча.— Разве так можно!..
Но Михаил Иваныч предостерегающе поднял в ее
сторону ладонь.
Темнолицая, в пегих космах, вытянув жилистую шею,
поднялась у стены Памфилова, член районного комитета,
и вдруг хлестким, раздрызганным каким-то голосом бро-
сила в сторону Мартына:
— Пуганая ворона куста боится!
Мартын вздрогнул, но в эту минуту по залу прошел
беспокойный шорох, люди повернули головы к выходу,
некоторые встали; откуда-то из угла вынырнул Уткин и
зашлепал в ладоши, другие подхватили.
Черноголовый в недоумении поднялся за столом, но
весь зал уже гремел дружными выкриками приветствия,
звонкими шлепками. От двери, пробираясь узким прохо-
дом, шел коренастый, по-военному прямой человек. Он не
глядел по сторонам и торопился, и как только прибли-
зился к столу, откланялся, потрогал, приглаживая, ука-
зательным пальцем густой белесый ус и стал искать гла-
зами место. Синицын, шумно двинув стулом, встал, но
гость взял его за плечо и толкнул назад, а сам поспешно
опустился в кресло за спиной Жбанова.
— Продолжайте, прошу...— сказал он Михаилу Ива-
нычу.— Мне не к спеху!
И, желая показать, что приготовился слушать, он под-
нял глаза, не замечая соседей, к потолку.
— Продолжаем, товарищи! — усаживаясь, крикнул
Черноголовый.— Баймаков, твое слово!
Жбанов, чтобы не заслонять собою гостя, отодвинул-
ся в сторону, Лузгин пересел ближе к Кудрявцевой.
Зина второй раз видела Панкратова. Это имя в по-
следние дни не сходило с уст. Оно было связано с боевой
страдой, с армией, стоявшей у подступов к городу. И как
в первый раз, так и теперь, Зина с удивлением отметила
про себя необычайную простоту в широком, сером, заве-
тренном лице. Это было лицо рабочего и воина, от него
веяло жестким, накрепко затесанным прямодушием.
171
Только глаза, отливающие одержанным жаром, были не-
обычны.
— Баймаков, твое слово! — повторил Черноголовый.
Перед взором Мартына только что пронеслись гулкие
эскадроны конницы, поблескивающий поток шашек, ры-
жие облака пыли, накаленные под солнцем степи. И од-
новременно о<н ощутил, почувствовал, уйидел себя стоя-
щим здесь, в душном, прокуренном зале, с глазами, ищу-
щими участия, с сердцем, изнывающим в приливах ущем-
ленной гордости.
Он подвинулся к середине стола и, повернувшись спи-
ною к президиуму, заговорил полным голосом. Этот пере-
ход от низких, рокочущих ноток к звучному, напряжен-
ному струнным звоном голосу насторожил зал, и на
минуту люди забыли о госте из армии, о фронтах и о зав-
трашнем дне. Насторожилась и Зина, почуя в голосе
Мартына что-то большое и новое, какое-то внезапно со-
зревшее решение.
Он говорил теперь непринужденно, откинув голову и
глядя перед собой, поверх рядов.
Первым понял Мартына Черноголовый; он чуть-чуть
шевельнул темными бровями, а Жбанов услышал стран-
ную, сорвавшуюся с уст председателя фразу.
— Упрямый кержак! — произнес про себя Михаил
Иваныч, сидя прямо и не двигая ни одним мускулом в
лице.
За Михаилом Иванычем и Зина поняла смысл того,
о чем говорил Мартын, но она вся встрепенулась, высоко
взметнула брови и в таком состоянии, с глазами, выра-
жающими изумление, испуг, досаду, замерла на своем
месте.
А по залу прошел вздох облегчения, люди зашевели-
лись, послышались одобрения. Теперь Мартына начали
понимать. Он уже не казался чужим, знающим что-то
свое, умалчивающим о самом главном.
Михаил Иваныч встал.
— Баймаков кончил! — объявил он, и едкая, в горечи,
улыбка скривила его губы.— Товарищ Баймаков признал
себя повинным в слабости, в невыдержанности, в поступ-
ке...— Он поколебался и закончил четко, сухо: — в по-
ступке, не достойном партийца... Так ли я понял тебя,
Баймаков?
Губарев, Жбанов, Синицын, Лузгин и Зина, бледная
и неподвижная, ожидающе глядели на Мартына. И даже
172
гость, встряхнувшись от раздумья, перевел на него свои
глаза.
Мартын молчал.
— Хорошо, будем говорить мы! — поднял голос Ми-
хаил Иваныч, сложил трубочкой губы и несколько секунд
молчал.— Итак, товарищи, все вы слышали обстоятель-
ства, при которых...
Между тем в зале нарастал шум. Головы неспокойно
склонялись друг к другу. Руки тянулись к плечам сосе-
дей. В задних рядах поднялись на ноги.
Наскоро, напором, с глухим, еле сдерживаемым на-
пряжением в зале решали свое, особое, доступное только
там, где люди сидят близко друг другу и могут слышать
частоту дыхания соседа, приливы крови, безгласный язык
сердца.
И вот из середины, из самой гущи скучившихся голов,
поднялся бритый человек, выпятил из-под кожаной ту-
журки ситцевую грудь и выбросил руку с растопырен-
ными пальцами:
— Иваныч, давай слово!
— Слово Сухорукову! Сухоруков говорит...
Михаил Иваныч поискал ложечку, не нашел, понял,
что нужды в ней нет, и торопливо объявил:
— Слово Сухорукову!..
Илья Ильич Сухоруков, комендант станции, гроза и
друг всего здешнего железнодорожного мира, человек с
распахнутой душой и несгибаемой волей, способной со-
крушить любого врага, наморщил лоб, огляделся, как бы
ища вокруг нужные слова, проговорил зычно:
— Пускай скажут об этом деле другие... из тех, ко-
торые катались в Лиски... Парень запутался!
Черноголовый качнулся к Губареву, потом к Панкра-
тову (гость что-то сказал, указывая глазами на Сухору-
кова) и приподнялся за столом:
— Желает ли собрание выслушать очевидцев?
— Сыпь! — гаркнули в зале.— Обязательно! — под-
хватили женские голоса.— Просим!
А Илья Ильич все еще стоял в боевой позе, весь
устремленный к президиуму, продолжал держать руку на
взлете. Он опустился на скамью только после того, как к
столу вышел Туляков.
На Туликове было все то же, что и в дороге к Лискам,
пышное новенькое пальто, но ремень не стягивал его у
пояса, и оттого теперь походил человек этот на городско-
173
го мещанина, приубравшегося к празднику. Белесые его
глаза не торопясь прогуливались по залу. Он откашлял-
ся в руку, заговорил, и тотчас же послышались возгласы:
— Громче! Не слышно...
Туляков переступил с ноги на ногу и все так же глухо
повторил сказанное, но в устоявшейся тишине его стало
слышно всем.
— Я ничего не знаю, товарищи!
В зале вспыхнул смешок, кто-то из женщин взвизгнул,
позади зашикали. Илья Ильич опять встал на ноги, но
Михаил Иваныч отыскал ложечку и начал звонить.
— Товарищ Туляков! От вас требуется, чтобы вы пе-
редали нам все, что знаете о поведении Баймакова в пути
с вами.
Туляков и без того понимал, что именно от него же-
лали, но ему было тошно говорить о пережитом. Ведь
впереди отчаянная работа: к чему оглядываться, воро-
шить минувшее?!
Однако, уступая желанию председателя, он кратко и
сдержанно передал свои дорожные наблюдения, причем
умолчал вовсе о недружелюбном настроении Мартына по
отношению к семьям, к женщинам, к старикам, что осо-
бенно не по душе было Туликову и о чем до сих пор по-
мнил он.
По его мнению, Мартын отправился в этот путь боль-
ным, его лихорадило, ночами он бредил. Что же касается
самого бегства из Лисок, то здесь Туляков больше всего
считает виноватым себя, так как действовал на основа-
нии непроверенной информации.
— Передо мной, как мне тогда казалось, было только
два выхода: или остаться с семьями и отдать в руки бе-
лых казну, или спасти казну и...
— Удрать от семей! — подхватил Жбанов, оглядывая
зал с видом человека, ожидающего одобрения.
— Не совсем так, Жбанов,— негромко, но внушитель-
но заметил Михаил Иваныч.— Товарищ Туляков, спасая
врученные ему ценности, покинул на станции собствен-
ную семью!
— Это ничего не меняет! — проворчал Жбанов.
— Как смотреть! — отозвался Михаил Иваныч.— Но...
у нас идет речь не о Туликове... Продолжай, Туляков! Ты
говоришь, что Баймаков вместе с другими взобрался на
площадку вагона... Но скажи: когда и почему он выпры-
гнул в пути из вагона?
174
— Вот этого не знаю,— отвечал Туляков, не спуская
недоумевающих глаз со Жбанова.
Кресло под Губаревым заскрипело.
— А как все же ты думаешь, зачем парень спрыг-
нул?— спросил он, обращаясь к Туликову.— За каким
дьяволом выскочил он?
Губарев не сомневался, что Мартын выбросился из
вагона с единственным желанием — возвратиться на
станцию, но, задавая свой вопрос, он имел в виду всех
остальных в зале. Туляков подумал, сказал:
— Мне кажется, он сделал это под влиянием беспо-
койства и страха...
Тут неожиданно вмешался Панкратов. Приподняв-
шись, гость обратился к Туликову:
— Почему же... страха? Опасаться, что с вами, по-
кидающим станцию, он попадет к врагу, Баймаков не
мог.
Жбанов опять не утерпел.
— М-да...— фыркнул он.— Где уж с ним попасть к
врагу, коль он от врага на всех парах улепетывал!
Катюша-бомбометчица ударила в ладоши, но ее не
поддержали.
Михаил Иваныч, не глядя на Жбанова, но, имея в
виду его, укоризненно покачал головою.
— Какого ты мнения о Баймакове? — обратился к
Туликову Лузгин.
Михаил Иваныч с выражением недоумения повернул
к Лузгину голову, но Туляков уже говорил.
— Мне думается,— сказал он, оборачиваясь к за-
лу,— Баймаков — хороший товарищ, но он... но его... ма-
ловато били-мяли в жизни!
— Так... Больше ничего не скажешь? — чуть пере-
ждав, спросил Черноголовый.
— Больше ничего!
— Садись... Товарищ Добрынин, прошу к столу!
— Позвольте мне! — вскричал кто-то от крайнего
окна и, не ожидая согласия председателя, к столу вышел
Клепиков.— Извиняюсь, но у меня дежурство на агит-
пункте четвертого сводного... Несколько слов в порядке
показания...— И, снова не ожидая разрешения, он тороп-
ливо продолжал: — Я не был на месте, так сказать, про-
исшествия, но достаточно наслушался очевидцев, в том
числе бывших в эшелоне женщин...
Его перебил Черноголовый:
175
— Клепиков! Собрание не нуждается в рассказе о
том, что вы наслушались от женщин. Собрание желает
выслушать только очевидцев.
— Правильно! — одобрил Губарев.— Сплетен нам не
требуется.
— Почему же... сплетен? — вызывающе возвысил го-
лос Клепиков и посверкал своими бархатными глаза-
ми.— Вы говорите, товарищ Губарев, не думая!
— Думать за себя просить тебя не буду! — огрызнул-
ся Губарев.
— Он, вишь, думает, а другие — нет...— поддержал
Губарева голос из глубины зала.
Михаил Иваныч позвонил о стакан. Его бесстрастная
снежная голова откинулась к спинке кресла, он сказал
жестко:
— Прошу Клепикова сесть на место... и просить сло-
ва в порядке очереди...— За толстыми стеклами его оч-
ков сверкнул зеленый огонек.— Между прочим, мне хо-
телось бы задать тебе, товарищ, вопрос: почему ты
здесь? В силу постановления губкома ты должен быть
на продфронте в числе мобилизованных!
Клепиков смешался, оглянулся, заметил улыбочки по
рядам и, с неприкрытой неприязнью уставившись на
председателя, проговорил глухо:
— Я остался в городе потому, что такова была воля
товарищей из губкома!
Желчный Жбанов прокричал от стола президиума:
— Еще бы! Ты забросал нас ходатайствами...
Михаил Иваныч остановил Жбанова:
— Стоп... Садись, Клепиков! Твое слово окончено!
— Нет, еще нет! — побледнев, заговорил Клепиков.—
Заявляю еще раз, что нахожусь здесь не по своей воле,
но если об этом забывают, или... хотят забыть, завтра же
отправляюсь в уезд!
— Возражений не будет, товарищ, — бросил Черного-
ловый холодно.
Прежде чем сесть, Клепиков измерил окружающих
загадочным взором. Михаил Иваныч следил за ним до
самого того момента, пока он не опустился на скамью,
тщательно перед тем подобрав край новенького френча.
Зина Кудрявцева благодарно взглянула на Михаила
Иваныча. Теперь она не сомневалась: Клепиков разга-
дан им.
170
— Переходим к товарищу Добрынину! — возгласил
Черноголовый.
Добрынин не пожелал выйти к столу. Он говорил с
места, из второго ряда, грузно возвышаясь своей полно-
телой фигурой над соседями. Голос его был неровен, он
как бы наперед сердился по поводу возможных по отно-
шению к нему подозрений. С эвакуируемыми ему, Доб-
рынину, было разрешено выехать ввиду его общего бо-
лезненного состояния. Путь был несносный. Дорогой
разыгрался ревматизм.
— Это у меня хроническое.
— Что ты скажешь о Баймакове? — прервал его Ми-
хаил Иваныч.
— Я знаю о нем не больше вас всех... Я ехал, и он
ехал...
— Да, маловато! — улыбнулся Михаил Иваныч.
— В этом виноват сам Баймаков, — хмуро отозвался
Добрынин. — Будучи комендантом поезда, он ни разу не
сделал обхода, ни разу не заглянул к нам в вагоны. Ме-
жду тем с половины пути эшелон испытывал острую ну-
жду в питьевой воде...
— А где же был ты?! — воскликнула с подоконника
бомбометчица.
— Он, Катюша, дрыхал! — прозвучал голос с другой
стороны.
— Зачем дрыхал! — вмешался Сухоруков. — Ему не
до сна... Он баб сохранял!
Добрынин повысил голос:
— К сожалению, пришлось выполнять и эту роль.
— Почему же «к сожалению»? — пустил шпильку
Жбанов.
— Потому что это непосредственно входило в обязан-
ности коменданта поезда,— совсем раздраженно прого-
ворил Добрынин и помолчал.— Представьте себе поло-
жение немногих бывших в эшелоне мужчин, когда глу-
бокой ночью, никем не предупрежденные, они оказались
под обстрелом, среди перепуганных насмерть женщин!
— Небось с непривычки под себя напустили! — подал
кто-то из угла голос, но вокруг зашикали на него.
Черноголовый вскинул руку.
— Прошу товарищей уважать собрание! — сказал он
строго и взглянул на Добрынина.—Видел ли ты, как от-
был со станции .паровоз вашего эшелона? И сталкивал^
177
ся ли ты в тот момент с ним? — указал он рукой на Мар-
тына.
— С ним я не сталкивался, но потом мне рассказы-
вали...
— Говори, что сам видел! — прокричал Сухоруков.
— Пускай все говорит! — вступилась из первого ряда
востроносая девушка, вскочив с места и встряхивая сво-
ими коротко подстриженными кудрями.
— Продолжай, Добрынин,— кивнул головой Михаил
Иваныч.
Добрынин посапывал в рыжие усики.
— Мне трудно высказываться, когда мешают...
— А ты жарь, чего там! — подбадривали с места.
— Собственно говоря...— Добрынин крякнул.— Стро-
го говоря, мне нечего добавить к тому, в чем уже сознал-
ся Баймаков. Его поступок говорит сам за себя... Меня
удивляет только одно: как он мог, выждав, когда белых
отбросят со станции, явиться снова в эшелон и даже за-
ставить ухаживать за собой женщин, тех самых, которых
он столь... столь неосмотрительно покинул в грозный
час?
Михаил Иваныч не спеша перевел глаза на Мартына,
как бы ожидая, что тот скажет. Но Мартын не поднял
даже головы, он сидел в первом ряду, с краю, у самого
выхода, склонившись грудью к коленям.
Добрынин прищурился:
— По-видимому, мне не получить ответа на недо-
уменный мой вопрос!..
Зина вперила в Добрынина горящие глаза, поколеба-
лась и неожиданно встала.
— Я поражена вопросом товарища Добрынина!..—
заговорила она торопливо.— Он слышал здесь объясне-
ния Баймакова... И все мы слышали!.. Товарищ Байма-
ков возвратился на станцию не за тем, конечно, чтобы
кто-нибудь за ним ухаживал... Он страдал за женщин, за
детей... Он готов был разделить с ними их участь и не
ожидал, конечно, что нужды в нем уже не было...
— В том-то и дело! — ухмыльнулся Жбанов.— Он
слишком запоздал...
— После драки кулаками не машут! — резко прозву-
чал голос районщицы Памфиловой.— Закройся, Кудряв-
цева!
— А ты не вопи! — повернулся к Памфиловой круг-
лолицый безусый слесарек из депо, председатель местко-
178
ма и член первого революционного комитета железнодо-
рожников.
— Я дело говорю! — крикнула Памфилова, запряты-
вая дрожащими пальцами под платок пряди седеющих
волос.
Зина порывисто опустилась на свое место. Она тяже-
ло дышала, щеки ее отливали кумачом, пальцы плясали
по бумаге.
Михаил Иваныч бряцал о стакан, Добрынин сел, в
зале перепархивали шепотки.
— По-видимому,— заговорил Черноголовый,— по-
видимому, очевидцы ничего нового не дадут нам... Пред-
лагаю перейти к обсуждению!
— Позвольте мне! — донесся из угла трепетный го-
лос.
Черноголовый подался через кресло к Панкратову и
что-то говорил ему.
— Позвольте мне! — опять послышалось из угла.
И, путаясь на бегу в полах своей накидки, к столу
пробрался Уткин. В руке у него торчала дымящаяся па-
пироска. Пот струился по его рыхлому и багрово-крас-
ному, точно обваренному, личику.
— Товарищи! — просительно, будто опасаясь, что его
перебьют, начал он.— Я человек не военный и к тому же
больной... Когда станцию начали обстреливать, мне ни-
чего не оставалось, как устроиться под какое-нибудь при-
крытие...
Тут он заметил свою папироску, спохватился и при-
вычно начал искать вокруг себя пепельницу.
— Ну-с! — продолжал он, комкая папиросу и засо-
вывая ее в карман.— Попал я, товарищи, в дровяной
склад. И сидеть бы мне тут до конца, но... Лежу я в дро-
вянике сам не свой: «Что-то теперь с нашими женщина-
ми?..» И, представьте, не выдержал... Вылез!
— Ой ли? — неожиданно весело бросил кто-то от
двери.
— Честное слово! — воскликнул, озираясь, Уткин.
— Товарищи! — отрываясь от гостя, приподнялся
Черноголовый.— Прошу... поближе к делу.
— Слушаюсь! — встрепенулся Уткин.— Я буду кра-
ток...
Деповский слесарек, внимательно следивший за тем,
как вместе с руками Уткин вскидывал вверх крылья сво-
ей накидки, толкнул в колено бомбометчицу Катюшу —
179
та прыснула смешком. Не выдержал, оскалил зубы Илья
Ильич. Отвернулся от публики, чтобы скрыть веселую су-
дорогу в лице, Губарев.
А Уткин продолжал жестикулировать, то и дело под-
бирая слюну, глотая в возбуждении концы фраз.
— Тише, товарищи! — прерывая себя, восклицал
он.— Внимание! Это был настоящий ад!.. Ничего подоб-
ного я не переживал в своей жизни... Грохот шрапнели,
женские вопли, кругом тьма... Бегу вдоль вагона, за
мной товарищ Аристов, за Аристовым товарищ Добры-
нин!
— Не ври! — кинул, приподнимаясь, Добрынин.—
Я не бежал, а стоял...
— Виноват, товарищ Добрынин! Сначала действи-
тельно вы стояли...— захлебывался Уткин.— Но когда
мы наскочили на вас, вы также побежали...
Взрыв приглушенного смеха окатил зал.
— Портачи! — взвизгнула бомбометчица, срывая с
себя фуражку и шлепая ею о колени.
Михаил Иваныч затревожился.
— Товарищи! — отстраняясь снова от гостя, припод-
нялся он за столом.— В чем дело? Прошу не шуметь...
Уткин, покороче!..
— Не задержу, не задержу! — взметнулся тот, оти-
рая с лица концом своей накидки струи пота.— И вот,
как только поравнялись мы с крайним вагоном, так все
трое и остановились... Не смейтесь, товарищи, это надо
было испытать... Чего?
— Вали, вали! — давясь, прикрывая рты пригоршня-
ми, шипели со скамей.
— Видим мы: дальше степь,— и назад! — выкрики-
вал Уткин, припрыгивая на месте.— А женщины наши —
вповалку!.. Кинулся я к ним: «Вставайте!» Товарищ Доб-
рынин также убеждал перебраться в здание вокзала...
«Вставайте!» — кричу. Наконец, одна поднялась... Я ее за
РУку!
— Молодец, Уткин!
— Нет, вы только послушайте! За первою увлек я с
собою вторую, третью... Вокзал каменный, надежный...
Уселись это мы внутри, у буфета, вдруг слышу перепо-
лох: Анна Петровна потерялась...
— Уткин! — поднял голос Михаил Иваныч.— Нельзя
ли без таких подробностей?
180
— Я передаю самое необходимое! — оглянулся на не-
го Уткин.— Итак... Анна Петровна... Не досчитались Ан-
ны Петровны какой-то!.. Опять ко мне: «Миленький, та-
кой-сякой, Анны Петровны нет!» Ну, собрался я с ду-
хом — и айда по вагонам... Бегу, а сзади, со стороны вок-
зала, кричат мне: — «Нашлась, нашлась!» Только это по-
вернул я обратно, вдруг — тра-ра-рах! Над самой голо-
вой огонь, пламя, осколки чугуна... И чувствую я: убей
меня на месте, а назад, к вокзалу, не двинусь! То есть
такой страх напал на меня, такой страх...
— А ты бы ползком! — крикнул слесарек-местко-
мовец.
— Да я ж так и сделал! — брызгая от волнения слю-
ною, подхватил Уткин.— Все коленки поссадил... в
кровь!
— Ас головой как? — совсем серьезно бросили с ме-
ста.— Голову-то не повредил?
Вопрос этот вызвал улыбки, и вслед гулкий, ничем
не сдерживаемый хохот прокатился по залу. Михаил
Иваныч звонил о стакан, не понимая, в чем дело. Оказа-
лось, что из кармана Уткина, куда он засунул окурок,
внезапно повалил дымок. Уткин мял обеими руками по-
лу накидки, кто-то схватил со стола президиума графин
с водой и опрокинул его Уткину в карман, кто-то выкри-
кивал:
— Звони, товарищи, в пожарное депо!
И еще:
— От белых ушел, как бы у себя не сгорел!
Зина глядела в сторону Мартына. Мартын приподнял
голову, углы его рта подрагивали, в глазах чадил непри-
крытый стыд. Он не мог не понимать, какой оборот при-
нимает его дело, какие вокруг плодятся дрязги и как
весь он со своим подвигом раскаяния становится неле-
пым и смешным. Не таким рисовался ему в мыслях то-
варищеский суд — суд над его добрым именем, его
честью. Он готов был в эти минуты провалиться сквозь
землю. Он не знал, как быть ему дальше, что предпри-
нять, чем избавить себя от постыдных этих подробностей,
от невозможных соучастников приключения, от самого
себя... Наконец, он решился: встал, оглядел исподтишка
соседей и неслышно прокрался к двери.
Коридор был пуст. Бесшумно пройдя к вестибюлю,
Мартын спустился вниз по лестнице, отпихнул плечом
тяжелые двери и выбежал на улицу.
181
’ Голова его пылала, мысли кружились метелицей, но-
ги не чувствовали под собой земли, как бы обескровлен-
ные, непослушные.
О, все что угодно, только не это! Самый беспощадный
приговор, всеобщий гнев, неумолимое преследование до
конца... только не это!
XVI
Михаил Иваныч выпрямился, поправил очки и голо-
сом, не допускающим возражения, проговорил:
— Довольно, Уткин! Я лишаю тебя слова...
Зал, сипло досмеиваясь, откашливался, ворочался,
разминал мускулы. Зачиркали, вспыхнули по рядам
спички: свежие, сочные, ярко-синие клубы табачного ды-
ма поднялись над головами, сгустились в облако; кос-
нувшись потолка, облако дрогнуло, порвалось и сизыми
космами начало падать в раскрытые окна.
— К порядку, товарищи!
Михаил Иваныч стоял за столом, как всегда, спокой-
но, крепко, и его голова лунно сияла под люстрой.
— Отсутствие Баймакова не помешает вам, товари-
щи, сказать свое слово! По-видимому, Баймаков вышел
из зала, чтобы не стеснять нас при обсуждении его во-
проса... Конечно, предосторожность эта с его стороны
излишняя, неуместная... Итак, будем ли открывать пре-
ния, или же прямо перейдем к предложениям? Имейте
в виду: теперь (он вскинул руку и заглянул на прикреп-
ленные у кисти часы), теперь второй час, а мы еще долж-
ны выслушать находящегося среди нас члена реввоенсо-
вета...
Гость коснулся рукою плеча Черноголового, встал и,
опершись о спинку председательского кресла, голосисто,
как если бы имел перед собой целый эскадрон в строю,
заговорил:
— Я прошу собрание продолжать начатое дело. Над
нами не горит, а этого товарища (жест в сторону Уткина)
мы во благовремении потушили... (Одобрительные смеш-
ки по рядам в зале.) Дело товарища... («Баймакова»,—
подсказал Черноголовый.) Дело товарища Баймакова
имеет, мне думается, прямую связь с неотложными во-
просами нашего боевого времени. Идешь на врага —
держи оружие в порядке, в чистоте, без ржавчинки... Я
приветствую Баймакова, который не скрыл от нас, что
182
нуждается в усердной протирочке, с мелком, с наж-
дачком! Поможем же ему, товарищи, в работке, ко-
торая...
Аплодисменты заглушили конец его фразы. Михаил
Иваныч напряг голос:
— Итак, какие имеются предложения относительно
Баймакова?
Вокруг стихло, и тишина продолжалась с минуту.
— Что же, товарищи? Высказывайтесь!
Поднялся Сухоруков, комендант станции.
— Илья Ильич, твое слово! — проговорил Михаил
Иваныч торопливо.
Сухоруков, как бы что-то свое прощупывая, оглядел
зал, крякнул и произнес, чеканя каждое слово:
— Послать Баймакова на фронт, в самый пыл-жар,—
и никаких!..
Губарев закивал головой, на скамьях всколыхнулись.
Зина сидела, напряженно приподняв голову, вся вытя-
нувшись, точно готовясь к прыжку.
Михаил Иваныч молчал. Со скамей ожидающе гля-
дели на него.
Снова за спиной председателя выросла фигура Пан-
кратова.
— Предложение товарища Сухорукова,— произнес
он тем же, что и раньше, зычным голосом,— не есть ре-
шение вопроса. Фронт, участие в боях — долг каждого...
В наказание это обращать нельзя!..
— А почто в наказание? — поднял голос, не сдаваясь,
Сухоруков.— Ай мы наказания ищем? Пускай кровью
отработает!
Михаил Иваныч продолжал оставаться немым, и мно-
го глаз с пасмурной тревогой поглядывали на него. Ари-
стов встал в глубине зала, подался вперед. У него из-под
локтя, тяжело дыша и жалостливо помигивая опухшим-и
веками, выглядывал Уткин. Губарев рознял еще раз
сцепленные пальцы, наклонился и зашептал что-то на
ухо Черноголовому. Михаил Иваныч отстранил его.
— Товарищи! — заговорил он наконец.— Баймаков
признал свою вину, и с этой стороны, казалось бы, нака-
зание излишне! Но... должен вам напомнить, что каждый
шаг партийца учитывается не только нами! Мы все жи-
вем и действуем на глазах масс, на глазах рабочих, сол-
дат, крестьян... Почему, скажите, отдаем мы под суд, ли-
183
шаем свободы и даже... даже расстреливаем дезерти-
ров? Конечно, не потому, что жаждем наказания!..
В зале сгущалась тишина. Синеватая бледность раз-
лилась в лице Зины. Жбанов толчками, боком поднял-
ся за столом и, сжигая Михаила Иваныча лихорадочны-
ми глазами, произнес скороговоркой:
— Я предлагаю, товарищи, во-первых... исключить
Баймакова из рядов партии, во-вторых... передать это
дело куда следует, ввиду злонамеренного бегства с по-
ста!..
Михаил Иваныч не повернул к Жбанову глаз, не ото-
рвал от стола рук.
— Спокойствие! Спокойствие! — сказал он и, возвы-
шая голос, продолжал к собранию: — Со злонамеренным
дезертиром Баймакова сравнивать нельзя! До этого он
никогда, конечно, не дойдет!.. Это противно его партий-
ному воспитанию и самой его натуре! Он мог споткнуть-
ся, но быть хроническим спотыкачом — не его удел!
По залу прошел смешок, неожиданный и странный,
но мягкий, согретый ласкою, похожий на вздох облег-
чения.
— Твое предложение, Иваныч? — загудел Сухоруков.
— Я хотел бы слышать мнение других товарищей! —
уклонился Черноголовый.— Как бы там ни было, но Бай-
маков, несомненно, споткнулся, слабость проявил, пани-
ке поддался... И мы должны все это отметить!
— Каким образом? — приподнял голову Губарев.—
Со Жбановым я не согласен...
За спиной Губарева появился Синицын. Он облоко-
тился о спинку кресла и медленно, натужно заговорил:
— Товарищи! Баймаков работал со мною... Работал
много, усердно... И он проявил себя как самоотвержен-
ный солдат на продфроите по выполнению разверстки...
По-моему, следует... Я полагаю, надо ограничиться стро-
гим порицанием!
Синицын был плохим оратором, сознавал это, не лю-
бил выступать, а теперь, закончив кое-как свое предло-
жение, неслышно отступил, сел на свое место и потупил-
ся, очевидно, продолжая в мыслях иную, более горячую
и более убедительную речь.
Но в зале предложение его вызвало торопливый го-
вор, и было похоже, что многими оно одобрялось.
Зина напряженно косилась на Жбанова, и когда тот,
184
подымаясь, снова толкнулся о край стола, глаза ее в
острой тревоге забегали по бумагам.
— Синицын либеральничает! — начал он, отрыгивая
и отдуваясь пожелкнувшими щеками.— И он тысячу раз
не прав! Я был с самого начала за то, чтобы это дело
слушалось в ином порядке, но раз уж оно заслушано, мы
должны твердо сказать свое слово... Товарищ председа-
тель прав, напомнив о нашем беспощадном отношении к
дезертирству... Но он не прав, когда пытается придать
преступлению Баймакова другую окраску... Позвольте
вас спросить, дорогие товарищи: как мы должны рас-
сматривать бегство Баймакова со своего поста в момент
опасности?.. Неужели тут... только слабость? Проявление
больных нервов? Забывчивость? Ошибка? Уклончик? —
Он скосил губы в едкой улыбке.— Нет, товарищи! При
всем желании быть снисходительными мы не сможем
уйти от устоявшихся понятий чести, долга, высшего, обя-
зательного для каждого, закона!
Комитетчица района Памфилова, бомбометчица Ка-
тюша, желтокудрый парень у ее ног, все время хмуро
молчавший Семен Разноуздов — секретарь заводской
ячейки, человек густобородый, со слегка вывернутыми
ноздрями и мутно-настороженными, как бы вечно про
себя думающими глазами, и, наконец, Аристов — все
пятеро поднялись в разных концах зала и зашлепали в
ладоши.'
Катюша, не то оправдываясь, не то убеждая, кричала
соседям:
— Жбанов в точку кроет! Чего резину тянуть?
Однако все остальные в зале ничем не проявили сво-
его отношения ни к словам Жбанова, ни к шумным
одобрениям Памфиловой с ее единомышленниками, и с
этой минуты собрание начало зримо распадаться на груп-
пы, на согласных и не согласных со Жбановым. Но стра-
сти еще таились, и лица у большинства были насторо-
женно замкнуты.
Сухоруков, набычившись, перебрался через скамью,
прошагал к президиуму, стал лицом к залу.
— Давай слово! — сказал он, выпятив к председате-
лю руку.— Товарищи! — Этот призыв к залу он произ-
нес ударно, по складам, как на митинге.— Жбанов стра-
шится нарушить устойные понятия чести, обязательные
для всех на свете... У Жбанова припрятан высший за-
кон... Товарищ Жбанов, известное дело, законник!.. А я
185
говорю...— Он начал тут выкрикивать: — К чертовой ба
бушке твои всеобщие законы! Что мы, старорежимники?!
У прокуроров делу обучались?! В высшем синоде засе-
дали?!
— Эк, куда хватил! — бросил, ворочаясь в кресле,
Жбанов.
— Я, брат, хвачу! — взмахнул Сухоруков ребром сво-
ей тяжелой, в рыжем волосе, руки.— Мы люди такие: за
пять двадцать нас не купишь, а законы твои... вот они
где!..— Он сплюнул и прошаркал подошвою.— Наш ра-
бочий закон — тут! — ударил себя в сердце.— И тут —
в башке!..
По скамьям пронеслись возгласы одобрения.
Жбанов передернулся:
— Про этот самый закон я и говорю, Сухоруков!
— Мало говорить! — подхватил Илья Ильич.— Умей
понять! А кабы ты понимал наш закон, понял бы и еще
кое-что... Товарищи! — Он неожиданно затих.— Время
мое исчерпано...
И так же круто, как подошел к столу, зашагал к сво-
ему месту, встречая рукоплескания устало помигиваю-
щим глазом.
Тотчас же у стены приподнялась Памфилова.
— Нагородил! — выкрикнула она навстречу Сухору-
кову.— А концов не свел!
Михаил Иваныч совещался с Губаревым.
— Товарищи! — чуть погодя поднялся он у стола.—
Мне кажется, мы должны обойтись без дальнейших пре-
ний. У нас два предложения... Одно — вынести строгое
порицание, другое—применить к Баймакову высшую
меру... вплоть до исключения!..
— Снять исключение! — полной грудью закричал Су-
хоруков.
— Снять, снять! — загудело в зале.
— Голосуй! — тонким, режущим голосом ворвалась в
общий шум Памфилова.
Она пробилась вперед, согнувшись, вытянув, как бы
прицеливаясь, тонкую, жилистую шею, на ходу запихи-
вала под платок, за уши сизые космы.
— Ребята! — остановилась она среди скамей.— Нель-
зя таким молодцам волю давать! Учить, учить их надо!..
— Голосовать!—выходила из себя Катюша, шлепая
ладонями о колени и стуча у подоконья в стену каблу-
ками.— Требуем!
186
— Снять! — ревел Сухоруков.
В общем гуле, как чайки над бурной поверхностью
реки, вздымались, ныряли в гущу и снова оказывали
себя только два слова: «Снять!», «Голосовать!».
Но вот и эти крики потонули в гаме, в стуке, в ры-
чанье сдвигаемых скамей.
Черноголовый стоял на своем месте, подобно дозор-
ному матросу в бурю, и с привычным спокойствием, в
ласковом просветлении, со щеками, горячими и алыми,
как у юноши, выжидал.
Зина,— ей всего еще девятнадцать лет, и сейчас реша-
лась судьба самого дорогого ей человека,— тоже подня-
лась у стола, вся настороженно вытянувшись. Страх, на-
дежда, обида по очереди занимались в бледном ее лице.
Наконец, Михаил Иваныч счел возможным скомандо-
вать: «Стоп! Отдай назад!»
— Тише, товарищи! Вы срываете собрание!..
И все услышали в этом голосе неподдельную угрозу,
стали затихать: затихали ступенями, снижая ноту за
нотой, ссыпая голоса под кручу, заглушая большое бун-
тующее сердце в шорохах, в хрипах, в немотном буль-
канье.
И когда устоялась, застекленела тишина, Михаил
Иваныч, пошептавшись со Жбановым, взмахнул рукою:
— Товарищ Жбанов считает необходимым кое-что
объяснить. Внимание!
Жбанов провел у себя по лицу, сверху вниз, узкою,
цвета стеарина рукою и на мгновение закрыл глаза. Рас-
пахнув их вновь, он уже не сводил их с людей, и было
в них что-то новое, опечаленное, прислушивающееся.
— Товарищи! Только не волноваться! — предупредил
он; голос его также казался печальным.— У меня слабая
грудь, и я не могу перекричать вас! В конце концов дело
тут не в самом Баймакове, хотя и для него, для всего его
будущего, важно, чтобы мы отнеслись к нему правдиво,
по-честному... Дело тут, товарищи, в правде! Я не соби-
раюсь заниматься правдоискательством вообще, так как
занятие это бессмысленное... Правды постоянной, всегда
для всех жизненной, нет и не было на белом свете!
— А нет — так о чем же толкуешь? — выкрикнули с
места.
Вокруг зашикали.
— Я толкую, друзья, о том...— Жбанов устало помор-
щился.— О том, друзья мои, толкую я, что... необходимо
187
определить правду на наш день, правду рабочую, клас-
совую, боевую!..
Приступ желудочной икоты исказил лицо Жбанова,
он сделал глотательное движение горлом, отдулся.
— Товарищи... Баймаков вынужден был здесь ком-
кать свои объяснения... Но и по тому немногому, что мы
слышали от него, можно с достаточной уверенностью
сказать: этот молодой наш товарищ...
— Он в партии не со вчерашнего дня! — вскинулась
от своих бумаг Зина.
— Я говорю о его житейской молодости,— продол-
жал, не меняя тона, Жбанов.— Этот молодой, повторяю,
товарищ заблуждается... В речи своей он упомянул,
между прочим, о слепых, врожденных инстинктах, кото-
рые-де овладевают порою всем существом человека. Что
это такое, товарищи? У каждого из нас живет ни с чем
не примиримый инстинкт — инстинкт самосохранения!
Это та самая, очень острая и очень зрячая, хотя и под-
сознательная, сила, которая охраняет нашу жизнь на
каждом шагу, которая научила обыкновенного лесного
ежа сворачиваться при опасности в клубок, которая
управляет движением цыпленка еще при вылупливании
из яйца... Но, товарищи! Если бы мы все строили свое
поведение, опираясь на веление элементарной животной
силы, то что сталось бы с обществом, с нашим классом,
с нашей революцией?..
Он смолк, опять провел рукой по лицу — от высокого,
с залысинками, лба до самого кончика острой бородки —
и продолжал говорить еще тише, но резче, оттачивая
каждое слово:
— Наша революция строится на подавлении эгоисти-
ческих страстей! Мы, передовые кадры пролетариата, во
имя высших интересов отказываемся от всего, что связа-
но ,с личной жизнью, с мелкими ее радостями, и требуем
того же от других, от тысяч, от сотен тысяч окружающих
нас. Мы воспитываем массы в духе жертвенности, в духе
героизма, отказа от настоящего, а если надо, так и от
самой жизни — во имя будущего!..
Он вновь, болезненно морщась, умолк, и, пользуясь
этим, Михаил Иваныч сухо заметил:
— Прежде всего мы должны отказаться от самой
мысли, что отказываемся от себя, от своего настоящего,
вообще подавляем себя!
— Он в схиму тянет нас, Жбанов! — кинул мрачно
188
Губарев, заворачивая цигарку.— Иваныч! Пускай кон-
чает!
— Кончаю! — предупредил Жбанов.— Я кончаю, то-
варищи...— Он вновь перешел на крикливые нотки: —
Как бы там ни было, но для нас, солдат революции, есть
только один нерушимый инстинкт из всех живущих в че-
ловеке инстинктов— это классовый инстинкт! Ему мы
вверяем себя — и особенно там, где молчит рассудок, где
наши знания...
— Ну, ну! — улыбнувшись, прервал его Михаил Ива-
ныч.— Классовый инстинкт — сила алгебраическая, в
нее входят и наши знания... Товарищи! — кинул он, заме-
тив движение в зале.— Жбанов кончает...
— Баймаков наделен достаточными знаниями и не
имеет права оправдываться, ссылаясь на утерю непосред-
ственного классового инстинкта: классовое знание вос-
полняет пробел... Своим поведением на станции Лиски
Баймаков показал себя не на высоте положения! Жи-
вотный, панический страх оказался у него сильнее чув-
ства долга... И вот я предлагаю сказать это прямо!
Он сел, откинувшись на спинку кресла, расслабленно
закрыв глаза и беспрерывно давясь и отрыгивая.
— Ты настаиваешь на своем предложении? — взгля-
нул в его сторону Михаил Иваныч.
— Да, да! — подтвердил Жбанов, не открывая глаз.
В белых стенах зала, с замысловатою росписью в сти-
ле ампир, с бордюрами в золоте, с окнами, широкими и
просторными, осиянными голубым цветом с улицы, тяже-
ло ворочаясь, потея, обкуривая себя табачным дымом и
этим защищаясь от непомерной усталости, сидели пожи-
лые и молодые люди, в большинстве рабочие.
Сидели молча.
В этот день с самого рассвета многие из них выходи-
ли и выездили по городу десятки верст, переговорили ты-
сячу слов, передумали вороха неотложных и мучитель-
ных дум, связанных с голодом, с тифом, с неунимающей-
ся на фронтах кровью.
И все без исключения готовились к завтрашнему дню,
к новой беготне и сутолоке. День этот уже брезжил, про-
ступал там, за огромными окнами, и упорно напоминал
о себе тут, в зале, рябым и хмурым обличьем губпрод-
комиссара Синицына, терпеливо-недвижной фигурой го-
стя, посланного сюда с фронта армией, требующей аги-
таторов, хлеба, снарядов.
189
Сухоруков чувствовал в словах Жбанова свою правду,
но в бритой и круглой голове Ильи Ильича, повитой на
маковке шрамом, ворочались паровозы, эшелоны и клади,
и никак не мог он подыскать нужных и веских слов, что-
бы из-за тяжких паровозов, эшелонов и кладей выгляну-
ла бы, наконец, эта проклятая, невесомая, хрупкая прав-
да об инстинктах и прочем.
Задумчиво и курносо посапывал, упершись острым
локтем в заплечье соседа, слесарек из депо, председа-
тель месткома и член первого революционного комитета
железнодорожников. Он думал о том, что в его союзе лю-
ди живут без «всяких-всяких» и упорно полагают, что
революция работает на них, на их семьи, на их всеобщее
благо, а если так, то пошел к черту Жбанов, со своим
алчным будущим!
Памфилова, районщица, ткачиха, понимала Жбанова
и хотела бы разделить с ним его вызов человеческой при-
роде, но сегодня утром у Памфиловой в комитете разы-
грался бабий бунт: бабы требовали своих голодных пай-
ков, и она, Памфилова, пригоршнями рассыпала лучшие
свои мысли, а ее не слушали, и теперь Памфилова знала,
что завтра, при новой встрече с работницами, не сумеет
сказать им правду словами Жбанова.
И Катюша-бомбометчица, наморщив лоб, думала о
том, что сказал Жбанов. Она отвернулась к окну, к глу-
бокой лунной яме,— там, в белесых туманах, не было ни
революции, ни тысячелетнего будущего. Была луна и ту-
ман, и узенькая полосочка предутренного неба, и Катюша
знала, что все это — ее и что завтра и послезавтра будет
видеть она это небо, и будет видеть его, лежа в цепи
стрелков, и будет страстно, до слез, мечтать о нем, уми-
рая за революцию, за коммунизм, за далекое лучезарное
будущее.
И то, что не могла в мыслях своих выразить, вгляды-
ваясь в лунные туманы, Катюша, сбежавшая из степных
выселков в город за иной, светлой, счастливой жизнью,
осязал у себя близко, у самого сердца, молодой, длинно-
усый, похожий на запорожца литейщик Остапенко.
Он только что похоронил мать-старуху — «развязал-
ся в бобыля» — и решил, заявил о решении завкому,
объявил ребятам, уборщице оклада Марфуше, соседям,
всей улице: едет на фронт, на сражение, в битву, в драку,
на кровь, на смерть — за-ради революции!
190
Был Остапенко молод, здоров, силен, он гоготал от
счастья в удачах, шел с кулаками на обидчиков, верил во
всесветную коммуну, любил уборщицу склада Марфушу
и весь последний год, как зверь из клетки, рвался к про-
сторам, в туманы, к морям, к гулу, к реву пушек и... к
смерти, коль понадобится, за революцию! Но в смерть
Остапенко верил меньше, чем во всесветную коммуну,
и даже меньше, чем в Марфушу, а эта девка — как кре-
мень и сталь, вся в огневых искрах.
Литейщик Остапенко с захолонувшим сердцем под-
нялся со скамьи и вскинул свою руку.
— Товарищ председатель!
Он уважал должность председателя, потому что сам
председательствовал на собраниях ячейки, и теперь поч-
тительно ждал, когда Михаил Иваныч откликнется.
— Остапенко слово! — объявил Черноголовый.
И, не спуская глаз со Жбанова, Остапенко заговорил.
Он вобрал в легкие до отказа воздуха и принялся выка-
тывать слова, тяжелые и круглые, как ядра.
— Товарищ Жбанов — без интересу к жизни! — гово-
рил Остапенко.— Может, он через край зачитался! Но
вот... который человек без интересу — самый разнесчаст-
ный человек... Вроде недужного... И который человек за
версту глядит, а под сопаткой у себя не видит,— тоже ка-
лека...
Он отер рукавом рубахи мокрый лоб и при насторо-
женной тишине в зале продолжал:
— Товарищ Жбанов хочет, чтобы сущая жизнь отка-
залась от самой себя... Вроде как, скажем, был я Тара-
сом Остапенко, а стал ничем... И чтобы Остапенко думал
только о всевышнем потомке!..
Тут он хватил ребром руки в свою ладонь, подмигнул
кому-то из соседей и вдруг осклабился.
— Товарищ Жбанов! Что есть, по-твоему, самое слад-
кое в молодых летах? Любовь сердца... Да!.. А вы, ребя-
та, не смейтесь, потому что желаю загнуть товарищу
Жбанову притчу... Укажу, без обиды, на себя! Отыскал
я, скажем, предмет чувства, начал ухаживать и достиг
сполна! И появляется у меня потомство... Товарищ Жба-
нов! Есть ты старый большевик и должен держать мате-
рьяльную линию... На кого любил Тарас Остапенко
со своим предметом: на себя али на потомок?.. Ска-
жешь— на потомок? А я прямо говорю: любил сам по
191
себе, об потомке не загадывал, а потомок — тут как
тут!..
Сухоруков первый ударил в ладоши, а за ним взорвал-
ся весь зал. Шлепала даже злая, желчная Памфилова,
бил беззвучно ладонь о ладонь Губарев, улыбался гость
с фронта, Панкратов, и только Катюша, большая задира
и вместе с тем конфузливая, понимающая по-своему вся-
кие хитрые подходы, отвернулась, потупившись, к окну
и не выражала оратору одобрения.
Михаил Иваныч склонился к гостю с фронта, покачи-
вая в сторону зала головою: вот, мол, народец какой
у нас! — но Панкратов откликнулся ему успокаивающей
улыбкою. Было ясно, что люди искали повода, чтоб ра-
зомкнуть общее напряжение, и немудреное слово литей-
щика пришлось тут как нельзя кстати.
А он, литейщик, выбираясь из трескучего шума, взы-
вал:
— Рабочий человек бьется за себя, а потомок радует-
ся!.. Товарищ Ленин сказал правду! Товарищ Ленин...
Жилистая, конопатая шея его налилась кровью, пень-
ковые патлы маслянисто отсвечивали, глаза были как
у одержимого.
Зал смолк внезапно, как по команде. Остапенко сел
и вновь поднялся.
— Да...— Он помахал над головою кулаком.— Това-
рища Баймакова я могу прихватить на фронт... потому
как отправляюсь по первому назначению и по собствен-
ной охоте!
Еще раз к расписному потолку зала поднялись руко-
плескания.
Зина плохо воспринимала окружающее. Этот шум, вы-
крики, речи казались ей бесконечными. Она думала
о Мартыне: почему он покинул собрание, где он в эту ми-
нуту, что с ним? Тревога за Мартына ослепляла ее. Она
чувствовала остро, до режущей боли в сердце: Мартын
в опасности, и опасность не в приговоре этого зала, а в
том, что человек предоставлен сейчас самому себе. В от-
чаянии он способен на все! Порою ей начинало казаться,
что в тот самый момент, когда она сидит тут и слушает
речи, Мартын... истекает кровью! Она ощущала вязкий
холодок в ногах и горячие капли пота на лбу. Помутнев-
шими глазами обводила она лица окружающих, и эти
близкие, родные ей товарищи начинали казаться ей же-
стокими, лишенными сердца. Никогда ранее не пред-
192
стайЛяла она себе, что у людей могут быть столь бес-
смысленно-терпеливыми позы, столь отталкивающе-мед-
лительными жесты. И, отрываясь от себя, от своего
внутреннего, смятенного, бьющегося как в лихорадке,
она недружелюбно шарила взором по розовым щекам
Черноголового, по лысому и круглому, как пятка, под-
бородку Губарева, по студенистым, трупным морщинам,
свисавшим у Жбанова от уха.
Когда же Михаил Иваныч взял себе последнее слово
и под несмолкаемую, жаркую, душную, чадную возню на
скамьях заговорил снова о чести, о долге и о преступле-
ниях против них, Зина вдруг почувствовала, что терпеть
далее она не в состоянии. Перестав ощущать себя, свои
руки, плечи, перестав чувствовать опору под ногами, но
еще сознавая, что совершает нечто неуместное, нелепое,
она рванулась из-за стола и заговорила во весь голос:
— Довольно, товарищи! Это же возмутительно...
Долг, честь, нарушение, преступление!.. Подумаешь, како-
го 31веря изловили! А среди нас, тут, в зале, все правед-
ники? Все без изъяна герои? А ну, пусть каждый на себя
оглянется! Пусть каждый себя проверит! Что, це нравит-
ся? Так бросьте же, бросьте...
Прерванный на полуслове и как бы пристывший от
неожиданности к месту Черноголовый, тяжело подняв-
шийся за столом Губарев, Жбанов, закрывший с брез-
гливой миной глаза, Синицын, Лузгин, гость из армии,
люди в первом ряду, люди у стен, Катюша-бомбометчи-
ца на подоконнике — все они прыгали, двоились, коро-
бились перед глазами Зины.
Она уже не говорила, а только повторяла про себя
одно слово, как поющая машина с испорченной, скребу-
щейся об иглу пластинкой:
— Бросьте, бросьте, бросьте...
В зале шумели, погромыхивали скамьями, Черного-
ловый бил ложечкой о стакан, никто не обращал на него
внимания. Между скамьями двигались люди, выходили,
собирались в кучки, говорили, доказывая что-то друг
другу, нападая и защищаясь.
У стола и за столом запустело,— Черноголовый объ-
явил перерыв, роздых на пять минут; коридоры ожили,
наполнились гулом голосов; у дверей — распластанные
тени, под потолком, в сонной одури, люстра, ниже щу-
рился, курился косматый чад. По полу, на паркете, бе-
лели затертые, заплеванные окурки; в раскрытые окна
7. В. Бахметьев
193
со дна предутренне затихшей улицы тянуло пахучим хо-
лодком синеватого рассвета.
И уже цокали вдали в грузном наплыве гула подко-
вы — проходил там первый конный отряд. А у сизого,
под самым окном, тополя, по-осеннему овлажневшего
за ночь, вдруг зачирикал неистребимый, никогда не уны-
вающий, что-то свое неугомонное в веках оспаривающий
воробей.
XVII
Выбежав с собрания на улицу, Мартын первое время
не сознавал, куда идет. Шел от торопливо, не замечая
окружающего, взмахивал руками, что-то про себя на-
шептывал и даже не обратил внимания на злую дворняж-
ку, с лаем бросившуюся ему под ноги из подворотни.
Свернув в глухой переулок, он выбрался к огромному
плацу, где когда-то маршировали юные кадеты. Огром-
ные желтые корпуса с трех сторон возвышались по пла-
цу, и теперь, в предрассветных сумерках, здания эти по-
ходили на руины. Присев на скамью у тополя, Мартын
полез было за папиросою, но тут же забыл о ней, вско-
чил и вновь торопливо зашагал вперед. Он колесил так
из улицы в улицу, пересекал площади, упирался в тупики,
почти ощупью выбирался из них и вновь шел, не огляды-
ваясь и не понимая, где он. Со стороны можно было по-
думать, что человек скрывался от погопи. Так оно и было
в действительности, только преследовали Мартына не
люди, а его собственные мысли. Наконец, Мартын понял,
что уйти от себя нельзя, что спастись от стыда, презре-
ния к себе, отчаяния невозможно, как невозможно изме-
нить, исправить, вычеркнуть вовсе из жизни событие, выз-
вавшее это отчаяние. Спасение было только в полном
забвении, в отказе от себя, от самой жизни! И, сознавая
это, он вдруг остановился, озираясь вокруг, подобно за-
стигнутому врасплох смертельной опасностью.
— Значит, конец?! — выронил он вслух, касаясь ру-
кою кармана с браунингом и вслед отдергивая ее прочь.—
Ох, этого только недоставало тебе, Баймаков!
Все его большое, сильное тело, за минуту перед тем
покорно ожидавшее конца, кричало теперь каждою сво-
ею клеточкою, возмущалось. И рассудок тотчас же при-
нялся опрокидывать все доводы против жизни: бессмыс-
ленны, безнравственны, непростительны самые мысли о
насильственной смерти!
194
В памяти вихрем пронеслось прошлое, от детских лет
до этого часа, и с изумлением Мартын видел, что всю
жизнь, всю свою жизнь боролся он против вражеских по-
кушений, засад, ударов исподтишка... Человек с мед-
вежьей головою, облеченный властью золота, отец, ос-
лепленный своим правом отцовства, жандармы, шпики,
тюремщики и, наконец, эти белые, черные, зеленые,— все
они только и делали, что охотились за ним, Мартыном, с
шашками, с пулеметами, с остро отточенными топорами.
Нет, не годится! Смерть ничего не разрешает. Смерть
хороша для слабых, никчемных, негодных, осужденных
самою жизнью.
На мгновение он почувствовал радость, будто только
что справился с неожиданно навалившеюся бедою. Но
едва миновало это первое светлое ощущение, похожее
на самочувствие возвращающегося к жизни, снова со-
мнения всколыхнулись в сознании: есть ли у него выход,
возможно ли спасение, в состоянии ли он смыть позор,
поднять свое имя в глазах людей и, главное, примирить
себя с собою?..
И опять мускулы его тела распустились и ослабли,
как у больного, сердце захолонуло, жадная песенка кро-
ви примолкла. Опять из глубины сознания поднялось от-
чаяние, и все тело покорно молчало, как дикое живот-
ное, попавшее в крепкие сети охотника и обессилевшее
в борьбе с ними.
И вот жалость к себе, к своей молодой жизни, к не-
оправданным своим надеждам проникла к нему в грудь
и начала перебирать там удивительные, никогда ранее
не слышанные струны.
Он уже представлял себя распластанным на мокрых
осенних травах. Представлял бледные лица, склоненные
к нему. Представлял гроб свой, повитый красными зна-
менами, мерно колыхающийся над морем голов под не-
возможно скорбные звуки похоронного марша. И, полу-
закрыв глаза, ощущая соленую влагу в горле, увидел
Мартын за своим гробом тех, кто особенно дорог ему,—
увидел Зину и Черноголового, увидел белоснежную го-
лову друга, склоненную под непомерною тяжестью, уви-
дел родные, прекрасные, самые прекрасные на земле гла-
за девушки, налитые неугасимым горем.
Сглотнув соленый ком, подступивший к горлу, он за-
глянул вверх, в серое, предутреннее небо. На истомлен-
ное внутренним жаром лицо его упала студеная капля,
195
потом другая. Под небом ворочались, наливались теплом
и светом туманы, и совсем близко, над старыми, полу-
голыми липами, нависшими у заборов, стоял странный,
сухой треск. И сразу узнал Мартын в этих звуках пор-
хающие воробьиные стайки.
Он вынул браунинг, осмотрел, щелкнул замком, и
вдруг неудержимо его потянуло прицелиться в ближнюю
березку. И, не целясь, он нажал спуск: пуля зацепила
ветки, воробьиная стая серою молнией метнулась в сто-
рону, эхо выстрела ударило в забор и зазвенело. Тогда,
не отрывая пальцы от пружинистого спуска, раз за ра-
зом он выпустил в темный, кряжистый пень у забора
оставшиеся заряды и был взволнован тем, что пули ло-
жились в одну точку: навык стрелка-охотника сказался
здесь в полной мере.
Он взмахнул браунингом, прерывисто вздохнул и
опять обрадовался, ощутив свою крепкую, мускулистую
руку, колени свои, слегка затертые и пыльные, грудь
свою, широкую и крутую, а под грудью — кроткое чело-
веческое сердце, обреченное на жизнь и подвиг.
Улица просыпалась, где-то погромыхивала мостовая,
старенький дворник, из тех, что ссорились с новою
властью и новыми жильцами по случаю непорядка во
дворе, выполз с метлою и принялся, скосив на Мартына
глаза, шаркать по мокрому асфальту.
Мартын заторопился. Выбравшись к подъезду обще-
жития, он взглянул по сторонам, прислушался и, рванув
двери, торопливо вошел.
Лестница была пуста, по углам ее и у ниш еще чув-
ствовался дремотный холодок. Одинокий кот, завидев че-
ловека, вдруг напружился и, подняв хвост, побежал впе-
реди, как бы приветствуя его и указывая ему путь. Кто-
то косматый и заспанный, прикрытый халатом, пересек,
шлепая туфлями, коридор и скрылся за углом. Ключ
щелкнул, дверь отпахнулась, Мартын вошел к себе.
Постель стояла неубранной, на столе, среди посуды,
голубел чайник. Мартын раскрыл окно, и как только в
комнате повеяло свежестью, голова у него легонько за-
кружилась. Он сел у стола, заметил хлебные корки во-
круг чайника и потянулся к ним: он хотел есть. Его го-
лод был буен, как никогда.
В дверь постучали. Мыртын не успел ответить. Вошла
Зина. Она тяжело дышала (должно быть, бежала вверх
по лестнице), лицо ее было бледно, в глазах еще метал-
196
ся: страх. Она была очень хороша в своем возбуждении.
Под легким платьем угадывалось ее взволнованное, тре-
петное тело. Руки его невольно потянулись вперед, из гор-
ла вылетели странные звуки, похожие не то на смех, не
то на плач.
— Мартын! Ты?!
Она не закончила, опустилась на табуретку и гляде-
ла на него захлебывающимися от счастья глазами.
— Мартын, голубчик, а я черт знает что о тебе ду-
мала...
Только тут она увидела жующий его рот, влажные
крошки на подбородке, услышала жадное чавканье —
и запнулась.
— А! Проголодался, бедный...
Она опустила глаза чуть-чуть сконфуженно, но, спра-
вившись с собою, вновь светло и доверчиво взглянула
на него.
— Мартын, голубчик, когда ты сбежал с собрания, я
была сама не своя. И, знаешь, оскандалилась... Накри-
чала там, как сумасшедшая... Стыд, срам!.. Но это ни-
чего... Главное — с тобой все хорошо!.. Мартын, милый!
Собрание не пошло дальше порицания!
Мартын перестал жевать, губы его задрожали.
— Мне теперь это... неважно!
— Но, Мартын! Ведь только порицание!
— Это все равно,— проговорил он.— Теперь я знаю,
кто я таков и что мне делать!..
Она пытливо вгляделась в него, и где-то в глуби-
не темных ее зрачков, как на булавочных остриях, блес-
нуло недоумение. Но вновь преодолела себя, поднялась,
подошла к нему, взяла его руку в свои, горячие.
— Вот и все, Мартын...— говорила она, не сдерживая
своей бьющей изнутри радости.— Все подозрения и стра-
хи — позади!.. И все твои сомнения — как мираж...
Встряхнись же хорошенько и покажи себя людям, каков
ты есть в действительности!..
Он молчал.
— Ты знаешь, Мартын! Товарищи не переменились к
тебе... А Михаил Иваныч! Ой, если бы ты видел, как он
волновался!.. Он любит и уважает тебя!
Мартын покачал головою.
Нет, нет!..— сказал он, освобождая свою руку.—
И Михаил Иваныч и все другие не могут относиться ко
197
мне по-прежнему... А если бы... если бы, Зина, это было
не так, я перестал бы уважать их всех!
— О чем ты говоришь, Мартын? — В голосе ее про-
звучала досада.— Или не веришь мне? Или думаешь,
что я успокаиваю тебя?
Он криво усмехнулся.
— Меня успокоить нельзя, Зина! — раздельно прого-
ворил он.— И тот, кто думает заняться этим, окажет мне
плохую услугу... Слушай! — Голос его напрягся.— Чего
вы хотите от меня? Неужели не понимаете, что оскорбля-
ете, добиваете меня своим снисхождением? Так пусть
же все знают, что...
— Кто все, кто все, Мартын?..— уже с нескрываемой
болью в голосе прервала его Зина.— Ведь это же твои
товарищи! Ведь это партия твоя!..
— Знаю! — Он упрямо склонил голову.— И пусть
моя партия, мои товарищи возьмут у меня мое тело, мою
жизнь наконец... Но то, о чем я говорю, не принадлежит
никому. И оно не нужно им! И оно бессмысленно для
них, как... как мои сновидения, что ли... Я сказал все: я
не скрыл от людей самых постыдных черт моего харак-
тера... Но они не хотят мне верить! Они не верят тому,
что я добьюсь своего, что я преодолею себя до конца...
Не перебивай, прошу! Они не верят в меня, Зина! Ина-
че я не услышал бы сейчас от тебя об их снисхождении.
Снисходят только слабые к слабым... Пойми!
Она отступила и со стороны, молча, в холодном изум-
лении, следила за ним. Неужели это он, Мартын? О чем
лепечет?! На кого жалуется, кому угрожает? Перед ее
глазами встал жаркий, прокуренный зал собрания: утом-
ленные, измученные лица, бесконечные споры, упреки,
колебания... И все это — вокруг Мартына, ради него и для
него! И себя она вспомнила, свое жуткое волнение, свой
страх за этого человека, за его доброе имя, за жизнь
его... А он стоит вот у стены, чужой ей, с глазами, туск-
лыми от сумасбродного какого-то самобичевания, с голо-
вою, набычившейся, как у капризного ребенка. Какое
ему дело до всего того мучительного, что она только что
пережила! Какое ему дело до Михаила Иваныча, не раз
в эту ночь рисковавшего своим авторитетом — авторите-
том старого, всеми уважаемого партийца. Равнодушен он
и ко всем прочим товарищам, сгоравшим за него в сты-
де, но чутким к его страданиям, отдавшим разбору его
дела многие, столь ценные для них часы.
198
Она прищурилась и глухо, но твердо сказала:
— Невозможный ты человек!..
Но его не смутил этот упрек. Он как бы вовсе не слы-
шал ее слов и продолжал говорить о своем внутреннем,
единственно для него близком, понятном, заслуживаю-
щем внимания.
И она не выдержала:
— Довольно, Мартын!
И только тут заметил он сумеречье ее лица, горькую
усмешечку в уголках ее рта, дрожащие ее руки. Он
смолк и поднял глаза, и оттого, что в глазах этих было
упрямство мученика, оттого, что глаза эти как бы го-
ворили ей: «А, и ты против меня! Хорошо же, доби-
вайте меня!» — Зина высоким, звенящим голосом броси-
ла ему:
— Эгоист... Ломака!..
Она видела, как он, точно под ударом, вздрогнул, как
вспыхнули на щеках у него пятна и как затем темным
огнем налились глаза его. Отчаяние за свое чувство к
нему и жалость к себе охватили ее. Она круто повернула
к двери и выбежала вон.
За порогом общежития, на улице, Зина остановилась.
Слезы застилали ей зрение, солнечное зарево кроваво
рдело под мокрыми ресницами. И в эту минуту из-за
угла, раздувая шипящими шинами уличные лужицы, под-
катил к общежитию автомобиль. С портфелем под мыш-
кою из него вышел Черноголовый и замахал, прощаясь
с кем-то, рукою.
Круто завернув, машина стремительно двинулась
дальше. В седоке подле шофера Зина успела разглядеть
Панкратова.
— Отправился к полкам своим! — сообщил Михаил
Иваныч, указывая Зине в сторону автомобиля.— Еще не-
сколько дней, Кудрявцева, и... грабь-армия вместе со сво-
ими зарубежными шефами убедится, что затея их с по-
ходом на Москву обречена краху... Да, да! — продолжал
он, встряхнув локоть Зины.— Мы уже не одного претен-
дента на престол российский научили уважать красное
оружие!.. Краснов, Колчак, Юденич... всем им преподан
урок советской стратегии, да так, что у белых полковод-
цев дух вон!.. Э, да ты, Кудрявцева, что-то не в себе!..—
воскликнул он, вглядываясь в нее.— Все еще пережива-
ешь... собрание? Возьмите себя в руки, гражданка, и от-
199
правляйтесь передохнуть... Я также!.. А где виновник на-
шего ночного бдения? Ты... не от него?
Она молча склонила голову.
— Ну, как он? — снизил Михаил Иваныч голос.—
Опамятовался?
— Зайдите к нему,— выронила Зина пасмурно.
— Зайду! У нас с Панкратовым к нему предложе-
ние...— Михаил Иваныч снова оживился.— Панкратов не
прочь иметь его в своем политотделе. Правда, работки
и здесь — по горло! Однако...— Он помолчал, озирая пу-
стынную улицу, и закончил твердо: — Однако это луч-
шее, что можно желать для Баймакова... К тому же он
и сам тянулся не раз на фронтовую работу... Что скажешь
по этому поводу?
— Вам виднее! — откликнулась она раздумчиво и
вслед вскинула голову.— Да, да! Это хорошо! Это... по-
может ему... найти себя!..
Она облегченно вздохнула и простилась с Михаилом
Иванычем, выслушав его летучий наказ по предстояще-
му вечером собранию агитаторов с участием местных ак-
теров, певцов и музыкантов: снаряжалась бригада на
ближний участок фронта.
Дома ее встретил отец. С первого же взгляда на него
она уловила необычно оживленное настроение старика.
И приодет он был по-праздничному. Кожаная, изрядно
поношенная тужурка усердно заштопана, подбородок
тщательно выбрит, седые волосы примаслены, зачесаны
в косой пробор.
— Что с тобою, отец?
Он выпрямился перед нею, как в строю, и пролепе-
тал, козыряя:
— Честь имею! Вновь назначенный машинист дальне-
го следования Никифор Семенов Кудрявцев. Прошу лю-
бить и жаловать!
Сухие щечки старика раскраснелись, под нависшими
бровями играли зайчатами огоньки. Зина не могла удер-
жаться от улыбки.
— Ничего не понимаю, товарищ машинист!
Он многозначительно чмокнул краем губ, подхватил
дочь под локоть, усадил за стол.
— Капут моим дворовым маневрам! Отнюхался я
станционной вони! Опять назначили...
— Да кто? Кого? Куда?
200
— Приказом по службе, за печатью Народного кот
миссара путей сообщения РСФСР! Чуешь, дочка, куда
твой батька махнул!..
Она замотала головой: «Не понимаю».
— Эх ты, бестолочь! А еще начальница губкома...
— Секретарша, папочка!
— Все одно... Получил я, Зинаида Никифоровна, на-
значение... Опять в дальний путь поставлен!.. Да еще при
военных эшелонах... Чуешь? Из двадцати душ первым
назначен... Полное доверие. Катай, никаких!..
Зина поняла, затревожилась:
— Это ведь фронт, папочка!
— Знаю, что фронт! А ты мои силы мерила? Да я
иным молодым пить дам...
— Как же так вышло, отец?
— Вышло—дышло! — залился он сахарным смеш-
ком.— Ну, слушай... На фронтах-то у нас... не очень! На-
меднись, дочка, целый состав с машинистом вместе под
откос угодил. Из двух десятков молодцов в нашем узле —
шестеро в тифу, трое в раненом положении!.. Что ж мне,
по-твоему? Издыхать на своей кукушке?.. Э, нет, ша-
лишь!.. Мы еще тряхнем горностаем...— Он присел рядом
с нею.— Илья Ильич Сухоруков, знаешь, как увидел ме-
ня, так и облапил: «Э, хрыч старый, чего же ты прятал-
ся? Да нешто можно, чтобы папенька Кудрявцевой (это
об тебе, Зинка), чтобы этакий человек... с «кукушкой» на
задворках возился?» Чуешь?! Об тебе, дочка, с преве-
ликим почтением он, Сухоруков... То есть полный почет
и уважение...
Вдруг он испуганно вскочил на ноги.
— Да чего же это я, старый свистун! Разболтался и
позабыл, что девка день-ночь на ногах, не пимши, не
емши.
Он убежал под свою занавеску, вытащил, сгорбив-
шись, тяжелый шумящий самовар, поставил его на стол
и принялся готовить посуду. Нарезая хлеб, говорил вне-
запно опечаленным голосом:
— Одно винтит мне сердце: как же теперь с хозяй-
ством будешь?.. Кто напоит-накормит горькую головуш-
ку? Отец-то по неделям ездить учнет...
— Не маленькая!
— Не маленькая, да шибко сумасбродная... Об себе
никогда не подумаешь... Ну, погоди уж... Вот съезжу к
Лискам, наберу яичек, пшенички, сальца... Закормлю,
201
девка!.. Чего вздыхаешь?.. Дома сидел — нехорош был,
на путь-дорогу стал — опять нехорош... Говори: нехорош,
а? То-то и оно-то, большевичка сопатая...
Покончив с едой, Зина взяла с отца слово, что он ра-
столкает ее через час, не позже, и прилегла в постель. Но
едва закрыла глаза, тревога спугнула дремоту: «Что с
Мартыном?»
Она поднялась, прошла к столу, захватила трубку те-
лефона:
— Станция! Дайте сто пятый.
Это был номер Баймакова. Трубка долго молчала.
Наконец, послышался голос Мартына, и, чувствуя, сколь
все еще бесконечно дорог ей этот человек, она торопливо
заговорила:
— Мартын, ты? Наш разговор принял сегодня такой
оборот, что я... Не обижаешься?
Она примолкла, слушая его, ощущая, как горят ее
щеки, стучит порывисто сердце. Он говорил, что не толь-
кос не в обиде на нее, но и, напротив, глубоко тронут
прямотою ее слова. Да, он виноват и перед нею и перед
всеми товарищами! Виноват уже тем, что до сих пор не
научился владеть собою. Но... он пережил и понял мно-
гое, понял и то, что было с ним в Лисках, почему осту-
пился он там, чем вызвано было его постыдное поведе-
ние. Она, Зина, права: дело не в темной силе, какая ов-
ладела тогда им, а в том, откуда она, эта слепая сила,
что позволило ей взять верх над человеческим его до-
стоинством, принизило его волю, затмило его убежде-
ния... Впрочем, об этом довольно!.. Сейчас был у него
Михаил Иваныч, и они окончательно договорились: губ-
ком отпускает его, Мартына, на фронт... Да, да, это ре-
шено!
Еще некоторое время Зина оставалась у стола с опу-
щенной в руке трубкою. Сердце ее билось ровнее, в ушах
продолжал звучать голос Мартына... Она верила, хоте-
ла верить, что он перешагнул уже за черту своего несча-
стья, вырос, поднялся над ним и... будет цел, цел, не-
вредим!
На пороге показался отец:
— Зинушка, а когда же бай-бай?
Она вспомнила, что уже сегодня «машинист дальне-
го следования» отправится в свой нелегкий путь к фрон-
ту, кинулась к старику, обняла его, осыпала глаза, ще-
ки, лоб поцелуями.
202
xvin
Армия Панкратова двинулась в наступление.
В исполкоме узнали об этом событии в тот же час, но
город долго не подозревал, что в какой-нибудь полусотне
верст от него, среди моря осенних туманов, запылало по-
жарище небывалых боев. Только через сутки, когда убра-
лись с мостовых последние таратайки обозов и улицы
вдруг заглохли, люди поняли: куда-то скатилась фрон-
товая жизнь.
И как только прогрохотали на шоссе, удаляясь, за-
поздалые фургоны лазарета и умолкли улицы, в темных
садах оголтело закружились галочьи стаи и унылый мо-
настырский звон до края наполнил собою дворы, огоро-
ды, пустынные базары... И потекли, как раньше, как мно-
го лет назад, со двора во двор, от ларька к ларьку, вдоль
бесконечных заборов, шорохи, шепоты, причитания. Но
по-прежнему светятся в мглистых туманах просторные ок-
на исполкома, по-прежнему гудит там и сям, вспугивая
мокрую немоту улицы, серый автомобиль, и несменно, как
вестовые костры среди ночи, пылают на зорях заводские
голоса: неугасима, неугасима, неугасима тоска их по вес-
нам, по солнцу, по иной, небывалой, преображенной
земле.
«Зина, родная, ты права! — писал Мартын из степи,
со дна туманов, с неведомых, заплесканных кровью до-
рог.— Ты права: я — эгоист! Был им все время, но не бу-
ду! Простил себя, потому что аз есмь продукт прошло-
го... Думал о своем детстве, о загадочной судьбе своей
матери... Тосковал о грядущем, лучшем человеке!
И знаю — в огне, в гуле, в крови нашей армии рожда-
ется новое общество, а значит, и новый, лучший че-
ловек!
Не забывай
М. Баймакова».
Это письмо, заклеенное в хлопчатую бумагу, с адре-
сом, наспех выписанным чернильным карандашом, Зи-
на нашла у себя в губкоме, поверх пачки деловых бумаг.
Было утро, и было много вокруг людей, и, чтобы со-
хранить письмо, Зина заложила его в папку с материа-
лом о ремонте и пуске сухарного завода — толстое мно-
голистное «дело», начинавшееся протоколом Чрезвычай-
ной комиссии.
203
Только вечером, покончив с текущими заботами, вы-
проводив последнего посетителя — районщицу Памфи-
лову, требовавшую докладчика на завтрашнее районное
собрание, Зина вновь взяла письмо в руки и перечитала
его не один раз: шепотком, полным голосом, напевом.
Никто не видел секретаря губкома в эти минуты. А в
следующие Зина уже перелистывала толстое «дело» о ре-
монте и пуске сухарного завода. И, перелистывая, стара-
лась думать об этом провалившемся с треском ремонте,
о шайке угодливых и льстивых мошенников, работав-
ших на подрядах, и... о странной роли здесь члена пар-
тии Аристова.
Аристов! Он встал перед нею, с сочными своими, как
у обжоры, губами, со скрыто-трусливым взглядом боль-
ших, навыкате глаз, и вспомнился Зине недавний бур-
ный вечер, когда обсуждалось дело Мартына, и вспомни-
лись каркающие выкрики Аристова в сторону «подсуди-
мого». Одновременно чувство темной неприязни к Ари-
стову и певучая нежность к Мартыну поднялись у нее на
сердце.
В последние дни она ловила каждую весточку с фрон-
та, и успехи наступающей армии Панкратова будили у
нее восторг и гордость. Она гордилась армией, ее шта-
бом, гордилась работником штаба, своим Мартыном.
Проводив Мартына, отправив в первый далекий и
опасный рейс отца, Зина, казалось бы, должна была ощу-
тить свое одиночество. Но она не только не затосковала в
эти дни, а еще полнее почувствовала свою кипучую, моло-
дую жизнь, связанную с партией, с армией, со всем наро-
дом. Теперь она не удивлялась беззаветной выносливости
Черноголового. Ведь он дышал многими тысячами жиз-
ней, которые переливали в его жилы неугасимый огонь,
и здесь вот, в неисчерпанных силах народа,— его удиви-
тельная воля к борьбе, к победам, к бессмертию!
Как чудесно, что Мартын вспомнил о ней!
«Зина, родная, ты права: я был эгоистом!»
Конечно, теперь уже ничто не помешает ему выковать
в себе иного, достойного великих событий человека. Он
преобразит свое мироощущение, подчинит его своей зор-
кой воле. Он приобщится к воле миллионов и вместе с ни-
ми одержит победу над всем тем тяжким и мрачным, что
оставлено им от рабского прошлого.
Как жаль, что она не мйжет написать ему открытый
ею секрет: ключи к неслыханному счастью —когда лич-
204
ные желания сливаются с желаниями всего народа и ког-
да вообще ничто не страшно... Что-то подсказывало Зи-
не, что в ключах от этого счастья Мартын все еще нуж-
дался. Что значила хотя бы эта фраза из его письма:
«Был им (эгоистом) все время, но не буду!»? Какие но-
вые порывы одолевают Мартына, какие планы роятся в
его неспокойной головушке?..
И почему его письмо почти сплошь состояло из об-
щих рассуждений? Разве не знал он, как дорого было бы
услышать ей о его здоровье, об условиях работы, о степе-
ни опасностей, его окружающих?.. Не продолжает ли ска-
зываться здесь, в этом его отвлеченном искании высоко-
го смысла своего существования, все та же черствость
сердца, упивающегося собственными дерзаниями?..
Зина подошла к телефону, подняла трубку. Впервые
за все последние дни ей не хотелось возвращаться домой,
в пустые комнатушки, к холодному самовару. (Бедный,
старый отец! Что-то с ним теперь?) Она назвала номер
Черноголового; никто не откликнулся ей. Михаила Ива-
ныча еще нет у себя, но он должен быть с часу на час.
Михаил Иваныч знает, вероятно, о Мартыне больше, чем
знала она по письму, и потом ей необходимо теперь же
поговорить о деле Аристова: не все тут ясно! Она достала
из ящика папку с бумагами о сухарном заводе, засуну-
ла папку в портфель и направилась к выходу.
По пути к советскому общежитию мысли Зины, как
пчелы над цветущими травами, упорно вились вокруг
Мартына, и когда она пыталась отмахнуться, мысли-пче-
лы набрасывались с еще большею настойчивостью. Она
попробовала представить себе отца в его паровозной буд-
ке, среди мокрых, черных степей, но образ Мартына
всплыл из-под руки Никифора Семеныча и заслонил па-
ровозную будку.
Под ветром, в гуле железных кровель, лил над улица-
ми дождь. За мокрыми заборами скрипели старые липы.
Откуда-то, со стороны кадетского плаца, доносились вин-
товочные выстрелы: кто-то неуемный палил, упражняясь,
в белый свет. И лаяли, откликаясь гулкому эху, псы за
воротами.
Зине стало не по себе. Поеживаясь и вслушиваясь в
глухой голос ночи, она бежала то по одной, то по дру-
гой стороне улицы, высматривая дома, где еще светились
окна. Так добралась она к общежитию. И когда, подняв-
шись по лестнице, устланной зеленоватою дорожкой, во-
205
шла в номер Михаила Иваныча, невольно заулыбалась.
Сбросив с себя мокрое пальто и наскоро оправив у зер-
кальца прическу, оглядела комнату и вдруг почувствова-
ла благодарную нежность к хозяину. Михаила Иваныча
не было дома, но, спокойный, уравновешенный, он глядел
здесь отовсюду. Постель, строгая и жесткая, но опрятная,
указывающая на многолетний навык одинокого, полага-
ющегося только на себя человека; грубое, холщовое у во-
допроводной раковины, полотенце, поражающее своею бе-
лизной; какие-то щеточки, коробочки, пузырьки, аккурат-
но расставленные на стеклянной полочке умывальника.
Если бы она и не знала, что здесь живет Черноголо-
вый, все вокруг подсказало бы ей об этом — и особенно
письменный стол, этажерка с книгами.
Ну кто же, кто, кроме Михаила Иваныча, мог в та-
ком порядке держать книги, в такой опрятности — пись-
менный стол свой! Книги стояли крепко и ровно, хорово-
дом, и в этой тесной, устойчивой семье (Маркс, Энгельс,
Ленин) было что-то белоснежно-юное, как голова Михаи-
ла Иваныча. А этот стол, темный, поблескивающий, с ма-
товым чернильным прибором, с тонко отточенными каран-
дашами, расположенными на особой мраморной подстав-
ке... Этот стол, манящий к себе своим уютом и вместе
с тем строгий, как уголок лаборанта!..
Одна из книг, тяжелая, многолистная, лежала в центре
стола. Она была раскрыта. Бисерные пометки каранда-
шом пестрели на полях. Зина заглянула на титул: Ге-
гель, Энциклопедия философских наук,
часть II. Философия природы.
Так вот над чем, пересматривая, склоняется Черного-
ловый в короткие часы своего отдыха, в часы, свободные
от исполкома, фронта, продразверстки, топливного кри-
зиса, эпидемий!
Чувство ребячьего умиления охватило Зину. Она усе-
лась у стола в единственное здесь мягкое кресло и полу-
закрыла глаза. Она отдыхала, у нее было то самое состо-
яние, какое испытывают очень молодые и нервные люди
после душной, бессонной ночи, когда, распахнув на рас-
свете окно, они отдаются внезапному сладостному за-
бытью среди веяния утра.
И, успокаиваясь, отдыхая от шумного, толкучего, из-
нурительного дня, Зина вновь чувствовала тихое и ласко-
вое волнение; незримые нити вновь тянулись от ее серд-
ца через ночь, через слякоть, через мокрые, бушующие
200
ветры к людям, к заводам, к фронтам, к будущему род-
ной страны и... к своему маленькому личному счастью.
В порыве бездумной благодарности к комнате, прию-
тившей ее тревогу, к хозяину всех этих чинно покоивших-
ся под голубым светом вещей, Зина поднялась с кресла,
раздумчиво огляделась вокруг и хитренько, про себя,
улыбаясь, ухватила из угла половую щетку. Не то что-
бы в ее усердии особо нуждались старенькие, но впол-
не чистые полы, но там кое-где валялись клочки бумаги,
и Зине очень хотелось внести что-нибудь свое, хотя бы
самое крошечное, в эти стены.
И тут неслышно вошел Михаил Иваныч.
— А, Кудрявцева! — произнес он с порога, стянул с
себя намокшее пальто, отер о носовой платок руку и, про-
тягивая ее девушке, сдержанно заметил: — Это что же,
Зина, взыграл навык хозяйки?
Она рассмеялась, отмела бумажки в угол и, возвра-
щаясь к столу, прихватила свой портфель.
— Никак не разберусь с проклятым этим делом! —
говорила она, доставая папку и невольно краснея за свой
грязный затрепанный, мокрый портфель: только теперь
заметила.
— Сухарный завод...— рассеянно откликнулся Черно-
головый, отодвинул в сторону книгу и сел у стола.— Бе-
зобразное дело... Вошь и лихоимство — бич нашего про-
клятого прошлого... Даже после грозы воздух вокруг нас
еще не вполне чист... А этот кооператор Аристов! Ты зна-
ешь, у Лузгина точные данные: бывший меньшевик, до
кооперации — один из коноводов у викжелевцев, пролез
к нам в партию обманом... Ну, как только минует фрон-
товая горячка, займемся вплотную чисткою! На нашем
солнце не должно быть пятен.
Он говорил, как всегда, с уклоном к сентенциям и по-
смеивался, но за толстым стеклом его очков чадил не-
спокойный зеленоватый огонек. Зина заметила это, на-
сторожилась и, как обычно бывает у простодушных или
совсем юных людей, тотчас же перенеслась мыслью к
своему личному, тревожащему—к Мартыну: не тут ли
причина плохо скрытого беспокойства Михаила Иваныча?
— А я получила от Баймакова писульку! — сказала
она без всякой связи с делом о сухарном заводе и присе-
ла у стола, положив обе руки поверх папки.
— Ну и что же? — отозвался он вяло, извлек из жи-
летного кармана щеточку и начал разглаживать свои
207
тщательно постриженные усы.— Что же... пишет?.. Кста-
ти,— он сунул щеточку в карман,— со штабом Мартын
распрощался!
Красноватые, в заусеницах, пальцы Зины дрогнули.
-— Как? Он покинул штаб?..— воскликнула она.
•— Представь, покинул! Нашел, что в штабе достаточ-
но работников, и отправился в строй, политкомом в пе-
хоту.
— Значит... в строю? — сдавленным голосом прогово-
рила она.— Под огнем?
— Если в строю, то, конечно же, под огнем! Разве
может быть иначе?
Он сбросил очки, отвалился к спинке кресла, рассеян-
но таращил свои близорукие, в натруженном тумане, гла-
за. Глаза эти были зеленоватые, с глубокими и темны-
ми, расплывающимися зрачками, и на переносице, там,
где держался металлический хомутик очков, резко про-
ступала оранжевая полоска.
— По совести говоря,— заметил он, помедлив,— Мар-
тын не должен был покидать штаб... У него достаточно
знаний, чтобы быть полезным именно мозгу армии...
Да-с... Как видишь, товарищ Кудрявцева, помимо лихо-
имства и вши, старый наш быт оставил нам в наследство
много всяких иных болячек, зримых и незримых.
Тут Михаил Иваныч встал и заходил из угла в угол,
и по тому, как сосредоточенно глядел он при этом себе
под ноги, Зина угадала, что Черноголовый расстроен.
— Надо полагать, у Мартына были свои достаточно
веские основания! — проговорила она, думая, что Михаил
Иваныч встревожен именно за Баймакова.
Михаил Иваныч махнул рукою, круто повернул к сто-
лу и снова опустился в кресло.
— У нас не все благополучно, Кудрявцева! Час тому
назад из Чека мне сообщили...
Он снова вытащил свою щеточку, провел ею по усам,
отшвырнул, поправил, положил прямо — щетинкою вниз,
зеркальцем вверх.
— Жаль до черта людей... работников!..
И, не спуская с нее затуманенных, невидящих глаз,
продолжал:
— В Меловатской волости произошли беспорядки...
Кулацкая вылазка!.. Подробности еще не выяснены... Де-
ло в том, что пятеро наших погибли... Повалишин... При-
щепин... Петр Потачов — знаешь? Упит...
208
— Упит! — горестно воскликнула Зина.
— Да, и еще один... Клепиков!.. Только что, понима-
ешь, прибыл человек на место...
Он снова встал.
— Нападение произведено ночью, на сонных... Кое-
кому удалось бежать...
— Кому же? — шепотом спросила Зина.
— Литейщики спаслись все... Уцелел и этот... как
его?.. Приятель Потачова...
— Иван Байдученко?
— Он!
Михаил Иваныч подошел к телефону в простенке, по-
крутил ручку аппарата, рывком поднял трубку:
— Лузгин, ты? Имеешь ли что дополнительно из Ме-
ловатского района?.. Что, что?.. Отправляешься туда сам?
Правильно! Когда?.. Да, да, не раньше завтрашнего дня.
Он еще некоторое время держал у своего уха трубку,
остановив глаза на простенке, роняя порою однословно:
«Так, так». Затем опустил трубку на место и с минуту
стоял у аппарата забывчиво, не шевелясь, потом заго-
ворил:
— Кулаки... да! А за кулаками эсеры и прочие лже-
социалисты вкупе с белыми, а за белыми — господа ин-
тервенты... Ну что им всем кровь, слезы, страдания! Если
бы это было возможно, они запродали бы дьяволу все
шесть частей света, вместе со всем человечеством... А на
крайний случай взорвали бы и матушку-планету: не нам,
так и никому!..
Зина слушала, опустив голову, прикрыв рукою глаза.
Грудь ее подымалась высоко и неровно. Из-под пальцев
катились, поблескивая, капли, падали, расплывались
звездами на синей обложке дела о сухарном заводе.
XIX
Остаток этой ночи Зина провела у себя, в одиночестве.
Она уснула, но ее преследовали мучительные сновидения.
Кто-то невидимый, жуткий, крался за нею, настигал ее.
Она бежала, падала, летела в пропасть. Тоненько, по-ре-
бячьи вскрикнув, проснулась, вслушиваясь в гулкие уда-
ры сердца.
Светало.
Отдаваясь привычному с детских лет порыву, она по-
звала отца. Никто не откликнулся ей. Тогда враз вспом-
209
нила все: и то, что уже вторую неделю от старика не бы-
ло вестей, и то, что Мартын — в окопах, под огнем, и то,
наконец, что сегодня в город доставят бездыханных тех,
пятерых.
И на минуту она ощутила тревогу, непереносимо ост-
рую, какую только что пережила во сне. Она накрылась
с головой одеялом и так, вся вытянувшись, затаив дыха-
ние, лежала неподвижно.
И вот в сердце ее поднялось печальное, певучее:
Не плачьте над трупами павших борцов...
Она отпахнула одеяло, встала, принялась одеваться,
но это: «Не плачьте над трупами...» продолжало напол-
нять ее сердце.
Пройдя в кухню и став машинально у раковины умы-
вальника, она попробовала вслух передать немолчно зву-
чавшую в глубине ее сознания песнь:
Не плачьте над трупами павших борцов...
И как только услышала себя, почувствовала, что не в
силах сдержать слез.
Плескала из-под крана в лицо, и слезы мешались с
холодной водою.
На улицах было пасмурно, серо и нудно. Дождя не
было, но, казалось, сам воздух сочился влагою, и у бу-
рых, с подтеками, заборов голые липы роняли на асфальт
тяжелые, холодные капли.
Зина запоздала. Едва она подошла к зданию испол-
кома, грянул оркестр и со двора, через распахнутые на-
стежь ворота, рядами двинулись люди. Зина оста-
новилась, поджидая кого-нибудь из губкомовцев. Ли-
ца у всех были напряженно-строгие. Шли друг за дру-
гом, стараясь на ходу равняться по-фланговому. Голосов
почти не было слышно. Кто-то зажал в руке цигарку,
пряча от себя и других; искры сыпались в мокрые полы
пальто.
За воротами на пути — лужа. Подходя сюда, люди
разрушали строй, обегали лужу и вновь смыкались. Кар-
тузы, кепки, платочки; плечи, темные от влаги; заплаты
на спинах, клочья ваты у затрепанных пол и много ног —
тяжелых, неподатливых и легких, прыгающих, торопя-
щихся.
Катюша-бомбометчица застряла в проходе, приду-
шенно взвизгнула, вырвалась, окинула Зину из-под своей
210
солдатской фуражки курносой улыбкой, и кто-то из ме-
стных педагогов, человек с волосами белыми, вьющими-
ся, прикрытыми долгополой шляпой, важно вышагивая
в ногу с соседом, рокотал октавой в тон оркестру: «Там-
там-там...»
Оркестр удалялся. Напруженные боевой отвагою
голоса колыхались у серого неба, согревая и расцвечи-
вая его.
Зина увидела Сухорукова.
— Мож'но? — кинула она, пристраиваясь об руку
с ним.
— А ну!
Сухоруков казался злым, но когда вышли на середи-
ну улицы и оркестр застонал в тоске, наполняя улицу го-
лосистым эхом, губы Ильи Ильича запрыгали, как у оби-
женного подростка.
Было что-то отрешенное и вместе с тем грозное, как
вызов, как предостережение врагу, в этих рыдающих зву-
ках оркестра, и в траурных стягах, похожих на орлиные,
обрызганные кровью крылья, и в размеренной глухой по-
ступи шеренг.
Прохожие жались на тротуарах, извозчики сворачи-
вали в переулки. Там и сям открывались створчатые две-
ри, и оттуда просовывались немые, замкнутые лица. Но
были среди них и такие, на которых нежданно расцвета-
ла светлая, крылатая печаль. И Зина знала, что тут —
сердце, предчувствующее далекое будущее, когда у чело-
века останется только один враг: смерть, неумолимая и
равно всем ненавистная своею неотвратимостью.
На вокзал'е темными, тесными рядами люди выстрои-
лись по перрону.
Поезд с останками погибших ожидали ровно в девять.
Стрелка на белом циферблате висящих под навесом ча-
сов показывала без десяти девять.
Сухоруков вышел из строя и замешался в толпе, что-
то покрикивая. От мастерских, громоздившихся за бурым
разливом вагонных крыш, прямо по путям, бежали в оди-
ночку и кучками деповские рабочие. Лица у них были в
масле, в поту, в копоти. Синие, зашарканные дотемна
распашонки их трепались под ветром. Кареглазый слеса-
рей, председатель месткома, член первого революционно-
го комитета железнодорожников, вскарабкался на пер-
рон, поднял руку с фуражжою и зычно прокричал своим:
— Стройся!.. Равнение на меня!
211
И едва деповские утолкались в правом крыле, из две-
рей вокзала вышел Михаил Иваныч. Не спеша пробрал-
ся он через живые ряды и стал впереди, у самой каймы
перрона. Подле него— Лузгин, Синицын, Губарев, Жба-
нов. Потом подошли секретари районных комитетов, де-
путаты— по два от каждого завода, знаменосцы учреж-
дений.
Голова Михаила Иваныча была обнажена. Ветер ше-
велил белизну его волос, как ворох цветущей гречихи.
Через плечи Михаила Иваныча Зина видела кровли не-
движных вагонов, уходившие к мастерским,— и эти ма-
стерские, чумазые и чадные. В воздухе было влажно, си-
не, пахло олеонафтом, горелым углем. По рядам густела
тишина, отчего еще отчетливее доносились звоны стали
со стороны мастерских и рокот земли под маневрирую-
щими паровозами.
Прозвучал колокол, сорвались медные поющие удары
и затонули в тупом шорохе толпы. Зина взглянула на бе-
лый круг: стрелка дрогнула, воткнулась в цифру «IX».
Справа, из-за потока вагонных козырьков, там, где водо-
качка упиралась рогом своим в серое небо, заклубился
дымок. Шелест прошел по рядам: повинуясь безотчетно-
му внутреннему трепету, люди обнажили головы. Сол-
нечная труба оркестра сторожко нацелилась в небо.
И вдруг мелкий дождик опылил воздух.
Султаны дыма, падавшего за водокачкой, быстро при-
ближались и никли по сторонам на заглянцевевшие от
дождя вагоны. Из-за поворота глянула черная, пышущая
жаром грудь паровоза.
Черноголовый взмахнул рукой, оркестр сорвался и за-
стонал множеством тягучих, истосковавшихся голосов.
Зина встретилась с глазами Михаила Иваныча: глаза эти
были светлы и прозрачны, как слезы.
Могуче и протяжно, вздувая воздух белым полымем,
заголосили гудки мастерских: одни — густые и тяжкие,
как гул канонады, другие — пронзительные, побелевшие
в срывах отчаяния.
И опять, осыпая спину колючим холодом, запело в
сердце Зины:
Не плачьте над трупами павших борцов...
Плавно, как бы боясь потревожить сладкий покой
мертвых, катился паровоз вдоль перрона, и катился за
ним один только вагон — открытая площадка с белыми,
212
ничем не прикрытыми гробами. Двое рабочих из особо-
го отряда, вытянувшись, стояли у гробов, винтовки их от-
свечивали влажною сталью штыков.
Оркестр внезапно смолк, оглушая людей тишиною, но
мастерские все еще голосили, и сетчатый дождик пружи-
нился под тяжелыми звуковыми волнами.
Из будки паровоза вылез и важно, чинно, ни на кого
не глядя, направился к вагону рослый человек в шинели.
Лицо его было серо, сухо, все в буйном волосе. Зина тот-
час же узнала Ивана Байдученко. Он встал в ее памяти
таким, каким она видела его последний раз рядом с Пет-
ром Потачовым. Был он тогда бритым, корявые его паль-
цы все время оглаживали непривычно голый подбородок.
Байдученко подошел к вагону и все так же важно и
чинно, как бы выполняя завет усопших, скомандовал:
— Давай!
Двое военных в фуражках, торопясь, вдвинули до-
щатые сходни с перрона на площадку вагона. Черноголо-
вый с траурным знаменем в руках взошел и накрыл сос-
новые, желтоватые от влаги домовины.
Он хотел говорить, но на сходни взобрался Сухору-
ков. Голо остриженная голова коменданта станции, круп-
ные его скулы, подбородок, тугой и синий, были мокры.
В глазах Ильи Ильича ворочалось что-то большое, горе-
стное, оскал рта его налит был немым отвращением.
— То...то...варищи! — выдохнул он.— Это что же... с
нами делают?.. Вить это... что же... такое?..— протянул
он руку к желтым и мокрым, как бы оплывающим воском
гробам.
Затем тяжелая волосатая рука его упала. Он защурил-
ся и молча сошел вниз. Было видно, как собирал он все
силы, чтобы стянуть, сомкнуть, застудить свои судорож-
но перекошенные челюсти.
А Черноголовый говорил. Черноголовый был несрав-
ненно спокойнее Ильи Ильича, и потому голос его зву-
чал ровно и крепко и слова были стремительны и ост-
ры,— он как бы вбивал гвозди.
Но Зине казалось, что сильнее всех слов — белоснеж-
ная, склоненная к гробам голова Михаила Иваныча.
Оркестр заиграл «Вихри враждебные». Под эти зву-
ки, при настороженном молчании толпы, Илья Ильич,
Иван Байдученко, кареглазый сле-сарек и еще двое в за-
масленных дотемна блузах подымали гробы и несли их
по сходням в толпу, передавали с рук на руки. От гробов
213
шел смешанный запах сосны и разложения — горькова-
то-сладкий запах меда и желчи.
Гробы казались большими и тяжелыми. Илья Ильич,
слесарек, Байдученко и другие кряхтели под ними и пе-
рекликались сторожко, деловито, с тем самым терпени-
ем, с каким рабочие подносят сырой материал к своим
станкам.
— Заноси на себя... Ослеп?
— Подхватывай с пододнища...
— Осторожно!..
С грубоватыми перемолвками, покраснев в лице, по-
двигались двое лицом к толпе, и двое, придерживая гроб
на весу, пятились, скребли по сходням коваными каблу-
ками сапог.
На каждом гробу, с боков, у забитых крышек, кем-то
заботливым были выведены мелом имена покойников.
И на первом, по лоснящейся желтизне, срываясь у корич-
невого засучья, белела надпись:
«Т-щ Повалишин».
Зина поймала эту расплывшуюся от влаги строку, и
вдруг перед нею встал человек, каким она видела его со-
всем недавно у себя в губкоме: тщедушный, вертлявый, с
высоким, покатым лбом, с очень маленькими, девичьими
руками.
И вспомнила Зина, как он, похожий на пойманную
белку, метался из угла в угол и выкрикивал с горькою
усмешкою: «Потомственный почетный интеллигент, су-
щество высшее, сложное, лишенное классовых инстинк-
тов...»
Именно так, в таких выражениях, посмеивался над
собою Повалишин, и, может быть, была тут своя, особая,
мученическая правда.
И любимый припев Повалишина вспомнила Зина:
Verba volant, scripta manent...
Слова улетучиваются, написанное... жизнью остается!..
Молодая женщина в короткой драповой жакетке, ту-
го обтягивающей крепкую грудь, тянулась к гробу, не
спуская с него своих настороженных глаз, как будто в до-
щатом наглухо заколоченном гробу покоилось не безды-
ханное тело. И когда Илья Ильич, спускаясь по сходням,
оступился и гроб с надписью «Т-щ Повалишин» едва не
выпал у него из рук, молодая женщина вскрикнула, блед-
214
ное лицо ее перекосилось в жалостливом испуге и руки,
ладошками вверх, подхватили угол гроба.
Она не рыдала, не жаловалась, но из широко раскры-
тых глаз ее, полных немого отчаяния, все время катились
слезы.
Зина поняла, что перед нею — жена покойного, и опять
в ушах ее зазвучал печальный и насмешливый голос По-
валишина: «Я обженился, Кудрявцева! И, кажется, буду
отцом».
Вглядываясь в лицо молодой женщины, быть может,
уже хранящей в своем теле завязь новой жизни, Зина как
бы осязала дыхание той могучей, грозной и прекрасной
силы, какая создает и рушит, сковывает землю льдами и
вновь гонит на нее буйную поросль.
Пронесли Упита, голубые, простодушно доверчивые
глаза которого всегда напоминали Зине при встречах с
ним лучшую пору ее детства. Спустили на руках ящик
с круглолобым, чернобровым Прищепиным. Подняли и
передали толпе, тянувшейся десятками рук, самый боль-
шой гроб — с бородатым Петром Потачовым.
Но еще оставался там, на мокрой, рябой от лужиц
платформе, гроб — пятый, последний. И со странным,
скорбным любопытством в потемневших от страдания
глазах Зина поджидала этот последний, пятый. Наконец,
и его подхватили на руки.
На желтой взмокшей доске лиловые каракули гла-
сили:
«Т-щ Клепиков».
Заколыхались знамена, дрогнула, двинулась вперед
темная, осенняя желтизною гробов толпа, заиграла му-
зыка, не выдержали, подняли в голос, в крик горе свое
женщины — жены, сестры, матери мучеников, и, рванув-
шись вперед, настигла Зина пятый, последний гроб, под-
няла руку, приняла на ладонь его тяжесть.
Было жуткое, волнующее своей необычностью изум-
ление: не этот ли человек, чья мертвая тяжесть касается
теперь ее руки, всего лишь месяц назад, под гул небы-
валой борьбы за совершенный, прекрасный мир, пытал-
ся с такою безумною жадностью осуществлять свое пра-
во на малые, первозданные радости?
Из узкого прохода между стеною вокзала и чахлым
сквером процессия выбралась на улицу, на простор, под
широко разверстое небо. Дождевая метелица пеплом
осыпала дали, в далях мертвыми солнцами вылуплива-
215
лись монастырские главы, и тут, под ногами, уныло зер-
калилась булыжная мостовая.
С тихим жестяным рокотом струилась вода по трубам,
хлестала о камень, желтые брызги летели далеко за тро-
туары.
Темные людские волны уносили в вечность белые, под
алыми парусами, ладьи мертвых... И, глядя вдаль поверх
обнаженных голов толпы, Зина думала, что никогда не
будет у нее счастья с Мартыном и не будет самого Мар-
тына, не прочна его повозка, бешены кони, труден путь,
им для себя уготовленный... В порыве смутной нежности
она нагнала Михаила Иваныча и, как бы ища защиты,
пошла с ним рядом, касаясь плечом своим его плеча.
Он взглянул на нее из-за стекол рассеянно и, будто
размышляя вслух, проговорил вполголоса:
— Смерть должна служить человеку... Это одно из
орудий борьбы за торжество жизни... Не так ли?
Затем, слегка склонившись к ней, нежданно деловым
тоном продолжал:
— С кладбища мне надо быть в Чека... Тебя же про-
шу забежать в губпродком, к Синицыну... Он должен вы-
ехать, но не иначе, как вместе с Лузгиным... Не иначе!..
Ты поняла?
Она поняла.
— Хорошо, я пойду к Синицыну. Он должен выехать
вместе с чоновцами.
В хмуром зале губпродкома, в грязных, заплеванных
коридорах было людно. Еще у главного входа, на улице,
Зина повстречала людей, хлопотавших около повозок.
Были люди в походном снаряжении, с винтовками за
плечами.
Дождь вперемежку с льдистой крупою унялся. Среди
туч, разодранных в клочья, зеленело. Лужи на мостовой
отсвечивали синькою. В студеном, ветреном воздухе,
резко, как из-за только что начисто протертого стекла,
проступали дома, заборы, голые ветви деревьев.
Кони отфыркивали, сбруя позванивала. Люди гово-
рили высокими, кручеными голосами, будто находились
на большом друг от друга расстоянии. Чубатый человек
карими, что-то угадывающими глазами глянул на Зину,
подмигнул соседу, напевно гаркнул:
Эх, девонька, куды катишься...
216
Синицын стоял посреди своего кабинета, торопливо
застегивал ременный пояс с подсумком для патронов и
отдавал последние распоряжения своему заместителю.
Заместитель держал в руках обширную ведомость и все
пытался, прервав Синицына, спросить его о чем-то своем,
более, как ему казалось, неотложном и важном. Замести-
тель был сутул, долговяз, щеки его глубоко ввалились,
как у больного, но в глазах холодело неукротимое упрям-
ство и жесты его рук были размеренно-четки.
Заметив Зину, Синицын отстранил заместителя.
— Кудрявцева! Ты что?
В его обычно тусклом лице теплился румянец, глаза
сосредоточенно посверкивали.
— Ничего особенного! — поспешила успокоить его
Зина.— Михаил Иваныч требует, чтобы ты выехал со
своими людьми несколько позже нашего Чона, или... вме-
сте с ним!
— Это же почему?
Зина замялась, Синицын обратился к своему замести-
телю:
— Товарищ Доронин, пройди к ребятам... Пусть по-
живее управляются с завтраком.
— Видишь ли, Синицын,— заговорила Зина, когда за-
меститель, втянув в плечи голову и широко размахивая
руками, вышел,— Михаил Иваныч беспокоится, что тебе...
будет трудно... Нет, нет! — подхватила она, заметив недо-
вольную гримасу в лице Синицына.— Конечно, он не сом-
невается в твоем опыте, такте, умении... Но... Синицын!
Район наводнен бандитами... Может быть, там даже бело-
гвардейцы! Все это говорит за необходимость крайней
осторожности...
— Ну-с! — ссохшимся голосом откликнулся Синицын
и присел у стола на кончик стула.— Дальше, Кудрявцева!
Что дальше?
Зина улыбнулась:
— Это все, товарищ Синицын!
— Мало! Незачем было трепаться тебе...
Он встал и решительно нажал кнопку в углу своего
стола. Зина потемнела в лице.
— Синицын! В чем дело? — Она захватила его руку
и отвела от кнопки.— Скажи, пожалуйста... Ты даже не
согласовал ведь свою поездку с губкомом!.. Михаил Ива-
ныч, например, не совсем согласен, что ты, оставляя об-
щее руководство, летишь с отрядом сам...
217
Синицын взволнованно шагал от стола к окну и об-
ратно. Затем он вплотную подошел к Зине и глухо, сры-
ваясь, заговорил:
— Ценю заботы товарища Черноголового... Уважаю
и прочее... Но... на этот раз должен сказать, что он близо-
рук, черт возьми!.. Именно я, руководитель всего дела,
обязан разобраться в этой чехарде! — Голос его вырос.—
У меня имеются данные о положении на других участ-
ках и о настроениях там наших людей. Данные говорят
о необходимости самых срочных мер. Надо многое ула-
дить, исправить, восстановить. И надо поднять дух на-
ших работников. Поняла?..
— Да, но...
— Нам не о чем дальше рассуждать. Я отвечаю за
все перед центром!
Он снова протянул руку к кнопке, и снова осторожно
отвела эту руку Зина. Веки ее дрогнули и сузились так,
что Синицыну невозможно было разобрать выражение ее
глаз.
— Видишь ли, Синицын...— Она скрыто передохну-
ла.— Партия еще могла бы рискнуть твоей головою, но
рискнуть судьбой всей хлебной кампании...
Румянец сошел с лица Синицына.
— Значит, я нуждаюсь в опеке?! — выкрикнул он.—
Может быть, вы там думаете, что Синицын — круглый
идиот?.. Или что Синицын может сдрейфить... потерять-
ся... сбежать из огня, вроде... вроде этого мальчишки
Баймакова?..
Зина вздрогнула, веки ее на момент совсем сомкну-
лись.
— Синицын! — проговорила она негромко.— Зачем
ты выходишь из себя? Если Юпитер сердится — значит,
он не прав!
— Пожалуйста, без книжных пословиц. Плюю я на
твои пословицы!
Всегда спокойный, ровный, Синицын был сейчас не-
узнаваем.
Зина укоризненно покачала головою/
— Конечно, не мне указывать тебе, Синицын... Но...
что за тон?.. И к чему все эти подозрения?.. К чему, на-
конец, эта ссылка на несчастье другого товарища? — до-
бавила, она, разумея «мальчишку Баймакова».
— Ладно, ладно,— проговорил он и с силою нажал
кнопку.
218
На пороге показался человек в шинели. Зина узнала
в нем ближайшего соратника губпродкомиссара, кудла-
того Разноуздова. Не глядя на нее, Синицын отдал рас-
поряжение:
— Скомандуй там... Сию же минуту выступаем!..
Разноуздов, ответив по-военному: «Слушаю, това-
рищ», вышел.
Зина молчала. Молчал и Синицын. В желтом сумраке
лицо его казалось мертвым.
— Чоновцы должны выступить ровно в шесть! —
проговорила Зина сухо, но так, будто слова ее ни к кому
не относились.— Сейчас без четверти три... Значит, отряд
твой может выступить не ранее как через три часа!
— Будет тебе ломать комедию! — круто вышагнул он
из-за стола.— Слышала? Я отдал распоряжение!..
— Распоряжение надо отменить,— вполголоса от-
кликнулась Зина.
— Я этого не сделаю! Нам дорога каждая минута...
Поезд отходит около четырех.
— Чоновцы едут с особым составом ровно в шесть...
ночевка в Латном!
— Ха... Есть когда нам заниматься ночевками!
— Что? Ты хочешь явиться на место к ночи? Сини-
цын!
— Ну?
— Поторопись отменить. Незачем... дурачить людей!
— Это... губком... губком их дурачит!
— Хорошо, кто кого дурачит, разберемся позже... Но
ты все же распорядись!
— Нет, нет!
— Распорядись, Синицын!
Вдруг он толкнулся к ней и прошипел в лицо ей что-
то такое, чего она не смогла разобрать.
За окном высоко и протяжно запел рожок. Синицын
потрогал пояс патронташа, захватил со стола фуражку,
надвинул ее на голову и молча направился к выходу. Но
перед самой дверью остановился, постоял молча, мол-
ча повернул обратно, сдернул с себя фуражку и бросил
так, что она покатилась со стола на пол. Затем он опус-
тился на стул.
Зина нажала кнопку, подняла дрожащей рукой фу-
ражку, отряхнула ее.
Дверь распахнулась. Вошел человек в бешмете, с на-
гайкой в руке.
219
-— Скажи там, чтобы... не спешили,— обратился к
нему Синицын.— Выступаем через пару часов... Только...
не расходиться!
Человек в бешмете, ничего не сказав, вышел за дверь.
— Я тороплюсь,— проговорила Зина.— До свидания,
Синицын!
Она спешила уйти, ей почему-то казалось, что оста-
ваться здесь долее не следует. В то же время в ушах ее
еще звенели слова Синицына о «мальчишке Баймакове»,
и была ноющая тревога: с какой стати он брякнул это?
Неужели проклятая история в Лисках будет вечно пре-
следовать Мартына? А ведь Синицын близок ему! Как
же будут держать себя другие?
Синицын ожидающе глядел на Зину. Она поймала
этот взгляд, суровый, озабоченный, и не решилась гово-
рить о своем.
— Счастливого пути, товарищ! — еще раз попроща-
лась она и вышла.
В коридоре, наполнявшемся шинелями, бешметами,
тужурками и табачным чадом, кто-то подхватил Зину под
руку. Она взглянула, встретила голубые глаза Уткина.
— Вы здесь, Уткин?
— Ну да! — заговорил он, шепелявя от возбужде-
ния.— Вот уже с месяц прилагаю познания в канцелярии
продкома... Но теперь со всем этим покончено!..
— Почему же?
— Еду с отрядом Синицына... в действие!..
Он сказал это с подчеркнутым восхищением, и только
тут Зина заметила, что на Уткине не было крылатки. Она
даже отступила на шаг, рассматривая его с нескрывае-
мым удивлением.
— Что, поражены, возмущены?! — воскликнул он.—
Признаю: военное сие обмундирование идет ко мне так
же, как седло к корове. Но.-, суть совсем не в том! Суть —
внутри человека, товарищ Кудрявцева!.. Вы спешите, нет?
Зайдемте-ка сюда, пожалуйста.
И он потащил ее к первой полуоткрытой двери. За
дверью была крошечная комнатка со скамьей и какими-
то баками в углу.
— Одну минуту, товарищ Кудрявцева! — торопился
Уткин, отводя ее к бакам.— Жаждал видеть вас весь
день! Был чрезвычайно огорчен, полагая, что не увижу...
вообще... никогда уже не увижу!.. Вы понимаете: этот по-
ход чреват всяческими последствиями... Да, да, конечно!..
220
И не надо никаких одобрений... Я отчетливо сознаю, на
что иду... Да, да! И я вне себя от счастья, ей-ей!.. Только
решившись действовать, понял я, наконец, что такое че-
ловек в действии!
Он еще что-то говорил, спеша и заикаясь, побрызги-
вая слюною, но Зина плохо понимала его. Ее не покидали
мысли о Мартыне, только что обиженном Синицыным,
сердце ее щемило, перед глазами навязчиво всплывали
видения траурной процессии: темная толпа с белыми
ладьями над нею, алые полотнища знамен, поникшие от
влаги, далекие монастырские главы, похожие на глаза
бестелого чудовища... И почему-то все это — мысли о
Мартыне, злые слова Синицына, белые ладьи над тол-
пою— казалось теперь чем-то единым, тесно связанным
меж собой и глубоко горестным, как скорбный напев по-
хоронного марша, как тревожные и темные удары ее сер-
дца в эту минуту.
И, не замечая Уткина, вовсе не слушая его, она ти-
хонько стала подвигаться к двери. А он цеплялся своими
холодными пальцами за ее руку и все говорил. Только за
порогом Зина пришла в себя. И как только оторвалась
она от своих дум и перестала слышать свое сердце, кто-то
безмерно обиженный, умирающий от желания задержать
на себе внимание, вошел в ее сознание и опалил его.
Приподнимаясь на носках, весь вытягиваясь, то и
дело хватая за руку девушку, Уткин не рассказывал, а
выплевывал вместе со слюною, вместе с влагою в глазах
свою повесть о некоем жалком, ничтожном, никем не
признаваемом человеке, вдруг вот решившемся действо-
вать, бороться в ногу с пролетариатом, умереть на глазах
всей страны, всего мира! И, позабыв о всем своем личном,
Зина вслушивалась, вглядывалась и, не в силах сдер-
жать себя, кривила в улыбке рот.
Уткин с испугом, как на сумасшедшую, взглянул на
нее, оборвал шумный поток своих слов.
— Продолжайте, продолжайте! — говорила Зина го-
лосом, прыгающим от еле сдерживаемого смеха.— Я вас
слушаю. Итак, вы говорите, что отправляетесь с отря-
дом... Но куда же, куда?
Уткин недоуменно вскинул на нее глаза, но он уже
верил, хотел вновь верить ей. И он продолжал рассказ о
чудесном своем обращении к действенным силам револю-
ции (именно так он и выразился). Ведь, собственно гово-
ря, какой смысл в жизни, если она напоминает растре-
221
панную клячу? Никакого нет смысла в такой жизни! Че-
ловек живет только однажды — это так же верно, как то,,
что земля вертится! Но если уж жить только раз, то жить
по-настоящему! Он, Уткин, и не предполагал в себе осо-
бого запаса воли, решимости. Он уже готов был поста-
вить над собой крестик (именно крестик, а не крест)...
Но вот сегодня утром все это совершенно изменилось!
Сегодня утром он сказал себе: «Да, ты болен, Уткин, и
ты имеешь право на снисхождение, но ты, сам-то ты не
должен снисходить к себе!..» Сегодня утром он заявил о
своем решении товарищу Синицыну — и вот уже в полном
облачении воина... Теперь ему и смерть не страшна! Не-
видаль какая — смерть Уткина! Тысячи отдают свою
жизнь на алтарь будущего... И разве он хуже всех этих
тысяч? Разве он не имеет права пожертвовать собою?..
Вполне вероятно, что, по злостности духовного своего
склада, иные могут сказать: «Легко тебе, Уткин, жертво-
вать жизнью, ежели ты дышишь на ладан, ежели от лег-
ких твоих остались одни тряпицы...» Так нет же, доро-
гие товарищи! Всякой твари дорога жизнь, и он, Уткин,
не меньше, а, пожалуй, больше и глубже многих других
ценит ее... Ах, чудаки милые! Даже наука не проникла
еще в тайны смерти, и никакое научное светило не может
сказать, действительно ли Уткин обречен скорой гибели...
Нет, право, только сегодня он, наконец, почувствовал
себя в своей тарелке, оценил как следует свои силы и
счастлив, счастлив... как никогда!.. Он даже верит теперь
в особое свое призвание (в конце концов неважно, в ка-
кое именно), и он готов верить в свое будущее, в ценность
своей жизни, в светлые берега, уже намечающиеся среди
косматых бурунов.
— Как это у Пушкина, помните? — говорил он, при-
никая к Зине.— Помните... насчет девятого вала...
На берег радостный выносит
Мою ладыо девятый вал!..
Поддакивая, кивая головою, добралась Зина к выхо-
ду, и, как только скрылась, Уткин побежал вдоль кори-
дора, заглядывая встречным в лицо, присоединялся к раз-
говорам, покрикивал там, где кричали, смеялся, если
смеялись, и, наконец, захватив кого-то нового под руку,
увлек за собой, осыпая ворохом своих восторгов.
Ровно через три часа Синицын нажал кнопку в углу
стола, и коридоры огласились шумом последнего, тороп-
222
ливого сбора в путь. И когда уже взялся губпродкомис-
сар за фуражку, в кабинет влетел Уткин.
— Товарищ Синицын! — закричал он голосом чело-
века, только что открывшего клад.— В отряде удивлены,
что мне до сих пор не выдано оружие! В чем дело? Или
Уткин, по-вашему, не достоин какого-нибудь завалящего
нагана?.. Уверяю вас, что в случае чего рука моя не дрог-
нет... Можете не сомневаться, товарищ!
Поздно ночью, укладываясь в постель и поеживаясь
от нестерпимой тишины в комнатах, услышала Зина ох-
рипший звонок телефона.
Сбросив одеяло, она перебежала, босая, от койки к
столу, сорвала трубку, приникла к ней. Лицо ее освети-
лось. Говорил Черноголовый.
Новости с боевого фронта... Наше наступление разви-
вается по всем направлениям. Белые не успевают уби-
рать свою артиллерию. Конные полки их ущемлены с
флангов и терпят неслыханный урон. Если так пойдет
дальше...
Что? Кудрявцевой не спится? Можно ли ей приехать
к нему? На чем же приехать и... зачем? Ах, просто поси-
деть? Это в час-то ночи?! В конце концов он не возра-
жает... Тем более что надо кое-что подготовить к завт-
рашнему заседанию губкома... Да, да, конечно, он будет
ожидать ее... Впрочем, одна минута!.. Нет, нет, не вый-
дет! Он должен сосредоточиться, побыть наедине... «Спо-
койной ночи!..»
XX
На фронте назревали решительные события. Армия
готовилась к могучему прыжку, который должен был оп-
рокинуть, смять, уничтожить врага. Из штаба по фрон-
ту и в тыл летели воззвания, приказы, требования. По-
трепанные части спешно отводились в тыл, другие, ме-
нее пострадавшие, пополнялись свежими силами. Поезда
подвозили снаряды, снаряжение. Из городов, прямо с
фабричных дворов, с митингов, потоками вливались доб-
ровольцы. В полях возникали новые пешие и конные пол-
ки, круто замешанные рабочими пополнениями, комисса-
рами, политруками.
Продком, совнархоз, коммунхоз, здравотдел, губче-
ка, наробраз выстроились единым фронтом, и между ни-
ми как бы вовсе стерлись границы. Старое белокамен-
223
ное здание бывшего губернского присутствия вобрдло в
себя все силы: был единый командный штаб — штаб
партии, штаб рабоче-крестьянской власти.
Никогда, с самого того момента, как над белым зда-
нием взвилось алое полотнище, не напрягала так своих
сил Кудрявцева, и никогда ранее не чувствовала она на
своих плечах столь огромной ответственности. Все поло-
жения, все плоскости, все взаимоотношения между людь-
ми изменились. Не было предисполкома, был Черного-
ловый с чрезвычайными полномочиями от реввоенсовета
фронта. Не было губпродкомиссара, был некто, получаю-
щий телеграммы из Кремля и располагающий вооружен-
ными отрядами и агитационными силами губернии: хле-
ба, хлеба, хлеба... И не было в роли секретаря губкома
смуглолицей, еще не отвыкшей краснеть девушки, ко-
торую все запросто окликали товарищем Зиной,— была
известная всему городу Кудрявцева, секретарша партии,
машинистова дочь. Полномочия ее — от всех рабочих сло-
бодок, не сдававшихся холоду, голоду, мору. И уже не
бегала эта, новая, Кудрявцева по всякому поводу за со-
ветами к председателю Черноголовому, не звонила с за-
таенным волнением к тому или иному члену губкома,
ожидая одобрения. Не засматривала она с тайной трево-
гой и в глаза рабочим, ища в них упрека, недоверия, ед-
кой усмешки.
Потеряла Зина отца: вез старый машинист на фронт
красным полкам боеприпасы — и не возвратился. С узел-
ком, с материнским стеганым одеялом под мышкой пере-
бралась Зина, спасаясь от одиночества, в старое здание
губернского присутствия, где когда-то впервые коснулась
она тайны чужой животной страсти. Но не волновали
здесь девушку воспоминания о далеком вечере; забылась,
стерлась неприязнь к себе, и не было обиды на человека,
самоуверенного и жадного до темных радостей,— не бы-
ло Клепикова, давно смешалось его тело с землею, а
имя — с именами славных бойцов, покоившихся в брат-
ской могиле. И когда перебирала Зина в памяти дела и
дни, недавние и странно далекие, навсегда отодвинутые
в прошлое новыми событиями, сердце ее билось спокой-
но и ровно. И даже старого Никифора Семеныча, заме-
нившего ей с детства мать, вспоминала она без боли:
так велика и радостна была гордость дочери, потеряв-
шей отца в борьбе за жизнь революции.
Какие дни, какие невозможные, незабываемые дни!
224
Утром, с рассветом, под студеными ветрами тревож-
но гудели телефонные провода, разнося по городу жест-
кий, чуть-чуть хрипловатый голос секретаря губкома.
— Пятый сводный лазарет? Получите наряд в отделе
медснабжения! Вопрос согласован!
— Чрезвычком? Дайте председателя! Карточки на
мыло заготовлены... Распределители имеют приказы.
— Коммунхоз? Попросите завжилотдела... Эти семьи
мы должны устроить во что бы то ни стало! Очистить
сегодня же монастырское подворье... Да, согласовано!..
И потом, часом позже, клокочущая мотоциклетка нес-
лась по мостовым — от учреждения к учреждению. Но
не за советами, а с готовыми решениями металась Куд-
рявцева из коммунхоза в совнархоз, из совнархоза в нар-
образ, из наробраза в здравотдел, в казармы, в больни-
цы, к самому Сухорукову, Илье Ильичу.
Сухоруков — ныне председатель чрезвычайной комис-
сии по борьбе с эпидемиями. В помощниках у него — Ка-
тюша-бомбометчица: выросла, отвердела, приняла на
жилистую свою спину всю тяжесть выселения, вселения,
переселения из зараженных слободок в центр.
И только к обеду, перехватив в столовой тарелку ба-
ланды с осьмушкой хлеба, возвращалась Зина в кабинет
губкома, усаживалась за массивный свой стол, прини-
мала партийных и беспартийных, рабочих и мещан, мо-
дисток и врачей, военных и монахов... последних потому,
что не соглашался преосвященный очистить монастыр-
ское подворье под семьи рабочих, искали монахи право-
судия в бывшем губернском присутствии.
А вечером совещания: обычные — без Черноголового
и экстренные, широкие, объединенные — с обязательным
его участием. Сидела Кудрявцева по правую руку от
председателя, писала протокол и впервые за весь день
отдыхала: уже не надо было думать, решать, предприни-
мать что-то по своему разумению,— над столом возвы-
шалась надежная, думающая белоснежная голова Ми-
хаила Иваныча.
И когда, наконец, поздно ночью пробиралась Зина
в бывшую губернаторскую гардеробную, сбрасыва-
ла с себя рывками платье и укладывалась под ватное
материнское одеяло, вспоминала она отца и Мартына. Но
в тусклых, отуманенных усталостью мыслях уже не было
ни радости, ни боли: ничего такого не оставлял ей ми-
8. В. Бахметьев
225
нувший день, бешеный, жаркий, жарко-пепельный в по-
следний свой час.
И, засыпая, улыбалась Кудрявцева, не желая для себя
ни единой капли больше того, что имела.
В эти самые дни пришло второе письмо от Мартына,
пространное, в несколько листков. Писал Мартын с одно-
го из привалов, в часы боевого роздыха, рассказывал по
порядку о всем пережитом.
И — единственный раз за последний месяц — раньше
положенного часа Зина покинула губкомовский свой
стол, ушла, скрылась в старой гардеробной. Читала и
перечитывала, жила вместе с Мартыном, радовалась,
горевала, волновалась заодно с ним.
В штабе Панкратова пробыл Мартын недолго, но и
этого короткого времени оказалось для него достаточно,
чтобы понять и еще сильнее почувствовать, ощутить слу-
хом, зрением все величие развертывавшихся событий.
Ничего подобного не представлял себе Мартын. Он
был потрясен. Вдруг признал он себя школьником, маль-
чишкою и почти с испугом вглядывался в людей, казав-
шихся ему чародеями. Даже курьеры реввоенсовета, бес-
престанно мелькавшие в квартирах штаба, представля-
лись ему выходцами из какой-то нездешней, богатырской
земли.
Огромный заводской поселок, в который свалился
штаб армии, трещал, как кафтан подростка на могучих
плечах. Улицы, широкие, что столбовая дорога, давились
густой кашей человеческих и конских тел, железных по-
возок, мотоциклеток — все это толкалось, гоготало, при-
свистывало, выло и устремлялось за околицу, к станции
железной дороги, в степь. Бешеный водоворот не уни-
мался даже ночью, когда смирялись заводские корпуса
и покорно затихали вокруг темные степи.
Первое впечатление было таково, будто вся шумная
жизнь здесь лишена была порядка, единой направляю-
щей воли. Всадники скакали невесть куда, машины гро-
хотали и кружились, как ошалелые, люди сходились и
расходились без особой, казалось, цели. Но стоило Мар-
тыну продежурить в штабе свои первые часы, как уже
вся эта уличная оголтелая суета предстала ему в ином
свете. Теперь он знал, что и конные, и пешие, и мотоцик-
летки заняты одним, напряженным, строго, до послед-
ней детали, рассчитанным трудом. Он знал, что тот вон
курносый, чубатый парень, усаживающийся в седло,
226
только что засунул себе под фуражку пакет с последнею
сводкою хозотдела; что этот серолицый человек с под-
жатыми, каж у обиженного старца, губами спешит к мо-
тоциклу, чтобы через десять минут открыть заседание
в особом отделе; что этот зеленый автомобиль, прыгаю-
щий в ухабах с риском лишиться шин, должен в поло-
женную минуту высадить седока на станции и что седок
этот — не просто седок, а сам начальник лечебно-сани-
тарных сил армии.
И, уходя с дежурства ночью, пробираясь во мраке,
среди слякоти улиц к себе, в свой угол на отдых, Мар-
тын знающими глазами оглядывал черное небо, тонким
слухом ловил призывные крики рожка и, не сторонясь,
встречал удалой галоп курьера.
Большое каменное здание штаба светилось, подобно
неугасимому костру на больших дорогах. Тугие, незри-
мые лучи его изломами молний втыкались в пространст-
ва, двигали полками, заражали новой энергией воору-
женные толпы.
Сидя в политотделе за ворохом воззваний, приказов,
газетных вырезок, Мартын тянулся мыслями туда, в опе-
ративную штаба и на улицы, полные движения, кипучей
торопливости. В свободные минуты он бродил, всматри-
ваясь, прислушиваясь, по штабным коридорам, ловил
жаркие, страстные голоса, вдыхал горьковатый аромат
перегоревшего пота.
«Зина, милая! — писал Мартын.— Не было никакой,
казалось, возможности разобрать, кто и в каком имен-
но отделе служит, кто и как связан с тою или другою
частью армии, где начальник и где его подчиненный: все
лица, все голоса и взоры обращены были к одному не-
видимому, но властному центру, сплотившему в несокру-
шимую силу светлые чаяния, мужество, боевую стойкость
фронта... И все, все работники штаба — от начальника до
рядового эстафетчика — не представляли себе этот центр
вне имени Ленина! Даже старых армейских служак это
имя настраивало на боевой лад, и я видел, Зина, у иных
военспецов, вчерашних недругов нашей власти, то же,
что у многих, выражение жаркой сосредоточенности и
возбуждения на лицах. Не вполне, быть может, отдавая
себе отчет, эти люди заражались общим подъемом и, как
мастера своего дела, оказавшиеся среди неслыханных
возможностей, с завидным рвением служили делу по-
беды.
227
Но было и по-иному, Зина! Было и так, что под мас-
кою усердия вскрывался вдруг неисправимый враг, чьи
все помыслы и страсти предопределялись классовой не-
навистью к нам. Помню, как однажды столкнулся я в ко-
ридоре штаба с иссиня-бледным человеком, которого ве-
ли двое бойцов со вскинутыми наганами в руках. Шел че-
ловек привычным строевым шагом, но во всей фигуре его
уже чувствовалась осознанная обреченность: он знал, что
там, где ложь, лукавство, предательство,— там карающая
рука Ленина беспощадна!!»
Многое успел уловить, включить в свой опыт и понять
Мартын в штабе Панкратова. И понял он, дивясь своему
открытию, что боевая стратегия армии выковывалась не
только в штабе, но и за его пределами, и эта стратегия
не всегда была доступна старым военспецам. Вот почему
тот же Панкратов, раздумывая над очередным маневром
врага, готовясь к ответному удару, нередко вслед за со-
вещанием с военными специалистами приглашал к себе
на беседу рядовых бойцов, вчерашних ефрейторов из кре-
стьян и рабочих, а также работников политотдела, в ко-
торых он хотел видеть не только пропагандистов, но и
разведчиков самосознания живых сил армии. «Чтоб воз-
действовать на бойца,— говорил он,— надо знать, чем он
дышит».
Гордый сознанием, что и он является одним из тех,
кому открыты были в какой-то мере тайны не поддаю-
щейся учету военной науки, Мартын как бы вовсе забыл
о недавнем своем прошлом, о несчастном случае в Лис-
ках, обо всем том, что еще вчера так мучило его. День
за днем, час за часом свыкался он с необычайной обста-
новкою, преодолевал свою растерянность и медленно, но
настойчиво, как равный среди равных, втягивался в дру-
жную работу армии. Никто не интересовался его прош-
лым, никому не было дела до того, чем он жил раньше.
Люди слишком были заняты своею, ни с чем не сравни-
мою ношею, взваленной на их командирские плечи де-
сятками тысяч бойцов.
Но вот, проходя как-то в полдень со станции в штаб,
Мартын лицом к лицу столкнулся с длинноусым, груда-
стым литейщиком Остапенко. Движимый тайным испу-
гом, Мартын отвернулся от земляка, но был узнан.
— Ай-гай! — завопил Остапенко.— Да это ж вы, то-
варищ Баймаков...
На литейщике болталась шинель внакидкупод мыш-
228
кой держал он желтый ящик походной аптечки, из-под
козырька на лоб ему стекали взмокшие, жирные, как
олифа, волосы.
— А я ж тут пятый день... Позоркуй, каким воякой
сделался Тарас Остапенко!
Он был весел, бездумен, горячеглаз и шагал рядом с
Мартыном, осыпая его рассказами о своих приключе-
ниях. Мартын слушал и думал только о том, как бы ско-
рее скрыться с глаз земляка. Прощаясь, Остапенко лег-
ко и весело напомнил о том, как ему, Остапенко, удалось
тогда, на партсобрании, отчитать того прокурора — жел-
толицего Жбанова!..
Перечитав это место письма, Зина без труда предста-
вила себе волнение Мартына, и она не удивилась после-
дующим строкам его письма:
«Я поспешил уверить Остапенко, что завтра, мол, уез-
жаю на фронт. Остапенко обрадовался, нашел, что и ему
не следует сидеть здесь, на штабных харчах... «Ты поез-
жай,— говорил он,— а я за тобой следом...»
С этого часа Мартын потерял спокойствие. Прежние
сомнения нахлынули на него. И вдруг, сидя вечером того
же дня за бумагами, он понял, что в сущности Мартын
Баймаков здесь, в штабе, только гость. И ему стало ка-
заться, что с самого начала работы здесь он только и ду-
мал о том, чтобы окунуться по-настоящему в войну, быть
там, где люди несут свою жизнь в жертву будущему,
быть об руку с ними, вместе бороться, вместе ненавидеть
и радоваться.
Ночью Мартын снова перебирал в памяти события по-
следнего времени и снова с явным подозрением прощу-
пывал каждый свой шаг... Как это мог он столь легко
забыться, свести все свои страдания, все неразрешенные
свои вопросы к работе в штабе! Конечно, здесь-то ничто
его жизни не угрожает, картечь не рвется над его голо-
вою и пули не свистят вокруг. Нет, видно, навеки оста-
нется он слабым человеком, и Зина, конечно, права, бро-
сив ему в лицо обвинение в себялюбии.
Подав рапорт об откомандировании его в действую-
щую часть, он имел беседу с самим Панкратовым и тог-
да же, получив согласие последнего, направил первое
свое письмо Кудрявцевой:
«Зина, родная! Ты права — я эгоист. Был им все вре-
мя, но не буду!»
229
Когда через несколько дней, сумерками, товарный ва-
гон уносил Мартына в глубь степей, навстречу боевой
страде, сердце прыгало у него в груди от смешанных
чувств: была тут и гордость за себя, и жалость к себе,
еще такому юному, не испытавшему личного счастья.
Впрочем, он и не желал ведь этого счастья, потому что
нет и не может быть иного счастья, кроме как в самоот-
верженной борьбе вместе с передовыми людьми своего
народа.
Он долго стоял у открытых дверей вагона, слушал
гулкий солдатский говор за спиной у себя и не сводил
глаз с темной крылатой машины, летевшей над березо-
выми перелесками, не опережая и не отставая от поезда.
Музыкальный рев, похожий на густое колокольное эхо,
врывался порою в шум поезда и наполнял душу звуками
скорбной песни, отрешенной от всего мелкого, повседнев-
ного.
Степь вечерела, слепла, небо набухало влажною те-
менью, и все летел, не отставая и не опережая поезда,
крылатый челнок, и падали, орошали сизую, засыпаю-
щую степь упругие перезвоны.
Нет, жизнь еще далеко не окончена! Борьба только
начата. Мартын должен возвратить общее к себе уваже-
ние и, главное, веру в себя, в свои силы, в свое призва-
ние.
Так, рельсами, в повозках, в пешем строю — сверху
вниз, от штаба к штабу — подвигался Мартын Баймаков
к своему полку, одному из славных полков армии Пан-
кратова.
Приближаясь к концу пути, он мысленно восстанавли-
вал за собой все те треугольники, круги, клеточки и ячей-
ки, из которых построено было огромное здание армии.
От самого центра, от Панкратова, через дивизии, через
бригады и полки к батальонам, к ротам и взводам тяну-
лись стальные нити, и непрерывные токи шли по ним —
вниз и вверх, как кровь от сердца к мускулам и от мус-
кулов к сердцу, к мозгу.
И еще видел Мартын, пробираясь верста за верстой
к своему месту, что чем ближе были боевые участки, тем
меньше было вокруг торопливости, тем увереннее, холод-
нее и суровее двигались люди, пока, наконец, не оказал-
ся он среди бойцов фронта: с удивительным спокойстви-
ем ползли они полем, от ямки к бугорку, от кочки к вы-
боине, под яростный клекот пулеметов, под визг и свист
230
свинцовых стрекоз, под непрестанное гулкое медвежье
рычание в небе.
Улегся Мартын в ломкую, сухую траву рядом с коло-
менским мастеровым Никитой Голомедовым — по одну
сторону и рязанским мужичком Шевелевым — по дру-
гую, приложился к винтовке и выстрелил в невидимого
врага. И как только услышал в гуле залпов свой первый
выстрел, так сейчас же и понял, что с этой минуты бу-
дет он, как все вокруг, холодным, суровым и нетороп-
ливым.
Застуженная неторопливость кричала о себе всюду, и
она оставалась нерушимой даже в самые тяжелые для
полка моменты. Так, на пятый день по прибытии Мар-
тына правый фланг полка потерпел крушение, враг вор-
вался своей конницей в цепи, смял их и залег в перелес-
ках, а на левом секторе появились броневые машины.
Положение час от часу становилось все более угрожаю-
щим. Ночь дала передышку, но к утру, с рассветом, от-
дан был по ротам приказ об отступлении. Враг заметил,
рванулся вперед. Сдерживаемые пулеметным прикрыти-
ем отступающих, белые открыли огонь в глубину распо-
ложения полка. И вот Мартын видел, как колоннами,
шагом крепким, неспешным, с тугими, округленными же-
стами рук, проходили под холмиком роты, и двое—ко-
мандир и комиссар, как на смотру, плясали на своих ко-
нях, покрикивая что-то в ряды и даже не оглядываясь в
сторону перелесков, а оттуда с кашлем, с лаем, с завы-
ванием сыпалась над холмиком шрапнель. И когда до-
шла очередь до третьего батальона полка, Мартын также
двинулся среди колонны, но его ноги дрожали, а в гру-
ди разливался холодок, и было чувство нестерпимого от-
вращения, будто шел он, политрук, по горячим углям и
кто-то жестокий требовал, чтобы шаг его был тверд и
нетороплив. Вскользь, насколько позволяло приличие, по-
глядывал он в разрывы холма, на чадные перелески и
чувствовал, как глаза его накаляются страхом. А рядом,
шмыгая носом и утираясь рукавом шинели, вышагивал
коломенский мастеровой Никита Голомедов — олицетво-
рение безмятежно будничного покоя. И этот человек раз-
дражал Мартына, будто не те вон двое, пляшущие в сед-
лах, держали в своих руках размеренную поступь колонн,
а он — коломенский мастеровой Голомедов. Утеряв вся-
кое представление об опасности, отбивал он своими рва-
ными обутками медленный такт («ас-два, ас-два») и тя-
231
нул, будто на привязи: справа — его, Мартына, слева —
рязанского мужика Шевелева.
И Мартын слышал дребезжащий голос последнего!
— А ведь обойдут нас, сукины сыны!
Но, подняв голову, отозвался Голомедов:
— Почто обойти! Не полагается...
Только много позже узнал Мартын, что за этой фра-
зой Никиты Голомедова таился холодный расчет, пост-
роенный на большом боевом опыте солдата.
Опасность обхода со стороны, перелесками несомнен-
но была, но не такая, какой она рисовалась Мартыну.
Полторы сотни красных стрелков, залегших с пулемета-
ми за холмом, представляли ограду, достаточную по силе,
чтобы пропустить за своей спиной отряд вдвое-втрое мно-
гочисленнее, и не десять и не двадцать минут, а весь час
был в распоряжении марширующего в тыл батальона.
И тут впервые понял Мартын, что в основе неторопли-
вости, с какой проделывались операции на фронте, было
прежде всего знание ремесла.
«Я не помню, Зина, кто так сказал, но кто-то сказал,
что война есть ремесло... Это верно! Война есть работа, в
которой участвуют тысячи и десятки тысяч людей, и, как
на фабрике, в арм'ии — строгое разделение труда, свои
прогулы, своя успешная или неуспешная затрата сырого
материала, та или иная степень производительности.
Лучшею работой здесь, как и на фабрике, почитается та,
которая дает наибольшие результаты при наименьшей
затрате сил и средств.
И недаром тяжелые пушки называются у нас марте-
новками, пулеметы — строгальщиками, а команды у бата-
рей— вальцовщиками. И недаром комбриг Дзюба, желая
высказать горечь и неудовольствие, кричит обычно в сто-
рону армейцев: «Нечего сказать, работнички! Последнее
с вами профукаешь...»
Да, война — это работа, но работа с орудиями смерти,
и смерть здесь, Зина, обычна и естественна, как голод,
как любовь, как сон».
Мартын нередко встречал бойцов, измученных бессон-
ными ночами, голодных, равнодушных к смерти и жизни.
И он сам,— правда, на короткие минуты,— испытывал не-
что подобное: вдруг зрение его затуманивалось, слух пе-
реставал ловить свист пуль, и каждою клеточкою тела
тянулся он к покою, ко сну: уснуть во что бы то ни стало,
хотя бы с мыслью, что никогда уже не проснешься.
232
На языке стрелков это называлось «блажью».
— Опять, паралич-те разбери, блажит в голове у
меня...
Слыша зловещее это словечко, соседи по цепи подпол-
зали к товарищу, поталкивали его в бок, балагурили о
всякой всячине: авось что-нибудь да зацепит земляка!
И усилия эти оказывали свое действие: зовы жизни по-
дымались, крепли; из уст, перед тем туго сомкнутых, сры-
валась ревучая матерная брань, человек оживал. Но слу-
чалось и так, что жажда покоя брала верх, сигнальные
огни рассудка угасали, кровь остывала в жилах, человек
полз еще какое-то время, потом неожиданно усаживался
по-бабьи на колени, озирался вокруг оловянными глаза-
ми и, если пуля находила его, с сладкою улыбкою ребен-
ка валился в траву.
Никита Голомедов — замечательный человек! Его со-
седство на переходах не променял бы Мартын ни на что!
Теперь только оценил он по-настоящему неторопливый
шаг коломенца. Идти рука об руку с ним было хорошо
и надежно. Казалось, что под боком у тебя вышагивает
само бессмертие: столь удивительно увесиста была по-
ходка Никиты, так ровно подымалась его круглая грудь,
так несокрушимо спокойно глядели вдаль светлые гла-
за его.
Мартын видел, что Голомедов следит за ним, как бы
взвешивая его силы, и не раз в часы жарких схваток с
врагом голубоглазый сорокалетний вояка озадачивал
Мартына выкриками: «Подтяни живот!», «Не дышь, ум-
ница, овцою!», «Крути больше курдюком-то!..»
Недалеко от Дона разыгрались упорные бои. Баталь-
он Мартына, имевший перед тем передышку, накопил
сил, лица у людей посвежели, движения рук и ног вновь
стали упруги. Шли в цепи с прибаутками, с хохотком, и
Мартын не отставал от общего настроения: никогда, ка-
залось ему, не чувствовал он себя таким сильным, бод-
рым, надежным. Когда же прокатилась первая ядреная
команда и стрелки начали переползать, а затем и пере-
бегать вперед по полю, волнение, знакомое ему по охоте
в тайге, охватило Мартына.
«Ага! — сказал он себе.— Теперь-то уж Баймаков не
позволит разыграть зайца!»
По сторонам, справа и слева, люди подымались во
весь рост, вскидывали головы, ощетинивались. Они бе-
жали, как волки, прыжками и кричали дико, призывно.
233
И как только услышал Мартын свой голос, крепкий, от-
дающий металлом, небо запрыгало у него перед глазами,
тело стало воздушным и как бы отделилось от земли.
В неистовом порыве злобы к тем, к кому спешил он «на
свидание», бежал он и не оглядывался вовсе на соседей.
Но кто-то нагнал его сбоку и вдруг со всего маху поддал
ему в ноги. Мартын упал... То был Голомедов: лежал
рядом, закладывал проворными пальцами новую обойму,
кричал:
— Белены ты объелся? Пулемет!..
Позже, уже ночью, Никита говорил Мартыну:
— Ты смерти не ищи... Она сама, товарищ политрук,
тебя сыщет... Понял?
И, улыбаясь, отвечал Мартын коломенскому мастеро-
вому:
— Понял, товарищ!
Нельзя, гадко, безумно при каком бы то ни было по-
ложении отворачиваться от жизни! Ведь это же она,
жизнь, наливает силою мускулы бойцов; она зовет и ма-
нит сражающийся народ вдаль, к новому солнцу, к не-
осязаемому, но принимаемому безоговорочно будущему.
Нет, не в равнодушии истощенного тела, и не в мона-
шьем презрении к жизни, и не в пьяной, животной жаж-
де боя, крови, разрушения кроются силы гордого, муже-
ственного сердца того мудрого, много знающего сердца,
о каком с тоскою мечтал Мартын.
«Но где же, где черпать эти силы? Где источник их?..
Кажется, кое-что я нащупал, Зина. Плохо, когда человек
не любит себя, свое настоящее и возможное будущее,
свои мечты о счастье. Но еще хуже, если эта его любовь
поглощает живую любовь к живому собрату на его пути.
Так было у меня в Лисках, и отсюда мои беды, отсюда и
несчастье, какое свалилось на меня там».
На этом кончалось письмо Мартына, большое и все
же смутное, напряженное скрытыми, до конца не выска-
занными настроениями...
Второе с фронта письмо, над которым так много пе-
редумала Зина! Что-то близкое к правде слышалось
здесь, в заключительных строках Мартына о себе. Пи-
сал он о большой, деятельной любви к человеку, а могла
ли быть у него такая любовь к его, как он не раз выра-
жался, «живой клади» в Лисках? Нет, там было равно-
душие, а то и похуже что, чем равнодушие! Не воспри-
нимал ли он вверенные его попечению семьи как путы на
аз4
ногах, как живое олицетворение презрительного отно-
шения к нему со стороны старших товарищей?.. Комен-
дант, сопровождающий ребят и женщин подальше от
огня... Как же было ему не растеряться в момент
опасности!.. Где нет веры в дело, где оно не связано ни
с убеждением в его ценности, ни с потребностью любви
и сострадания к человеку, там нет и не может быть ни
стойкости в поступках, ни решимости жертвовать собою
ради других,— там только душевная немощь и колебания.
Таким было раздумье Зины над письмом Мартына, и
тогда же она поделилась своими мыслями с Михаилом
Иванычем (с кем же, как не с ним!). Выслушав ее, Чер-
ноголовый сложил трубочкой губы и длительно что-то
насвистывал, как бы подманивая нужную ему мысль. По-
том сказал:
— Не нравятся мне, Кудрявцева, ни рассуждения
Мартына, ни твои домыслы к ним. Если уж говорить о
любви к человеку как о ведущем мотиве нашего поведе-
ния, то необходимо человека заменить здесь человечест-
вом, а любовь — деятельным влечением к борьбе за его,
человечества, раскрепощение...
Михаил Иваныч не мог и тут обойтись без любомуд-
рия, но, несомненно, он был прав, и с ним без колебаний
согласилась Зина.
XXI
Время летело, Мартын молчал — ни строки от него за
всю зиму, и вот прошла зима, отшумела невиданными в
этих краях метелями, и снова по-бывалому, горячо и ла-
сково, светило над городом солнце, просыхали, провет-
ривались каменные улицы, просторнее и глубже стано-
вилось над ними небо, и в парке, прямо за окнами губ-
кома, пенились первою зеленью древние липы.
Работа не убывала. Красные дивизии опрокинули
врага в море, но вооруженные ватаги его, засев в Крыму,
вновь шли в наступление. И с запада вместе с первыми
проливными дождями ранней весны нарастали тревож-
ные слухи: шевелились, гремели оружием белополяки.
По-прежнему надо было думать о хлебе, о снаряжении,
о боевых припасах... Хлеба — армии, хлеба — северным
городам, голодающим заводам и фабрикам!..
Несколько затихшая зимою, тифозная эпидемия
вспыхнула к весне вновь. Не хватало медикаментов, мы-
235
ла, белья, топлива. Проводились недели боевой работы—
«Неделя бань», «неделя чистоты», «неделя топлива»!
И еще забота: вместе с разгорающимся солнцем потя-
нулись через город к покинутым местам, на юг, в свои
гнезда, беженцы. Подвигались в вагонах, рельсами, полз-
ли в обозах, запружали станцию, слободы, города.
И была взвалена на Зину еще одна новая работа: за-
мещала она председателя комиссии по устройству бе-
женцев и по разгрузке от них города. Вышло так само
собою: ей доверили, а она не знала границ своим силам,
брала все, что давали, и ни от чего потом не отступала.
Председательствовал в комиссии Туляков, но в то же
время он возился и в своем финотделе, забегал к Кудряв-
цевой два-три раза в неделю, выслушивал ее сообщения,
соглашался с нею молча, одними глазами, белесыми, се-
верными своими глазами, и убегал. И вот подметил на
одном из заседаний Сухоруков: еле сидит за столом осу-
нувшаяся донельзя секретарша,— пожалел ее, настоял
дать ей помощников. Пришли наутро в кабинет губкома
пожилая сивокудлая Памфилова из района да голубо-
глазый Уткин в несменяемой своей накидке... Нечего ска-
зать, помощнички! Памфилову услала Кудрявцева на
станцию, заведовать беженскими бараками, а с Уткиным
не знала, что и делать. Вертелся у стола весь тот день,
кашлял кровью в платок и все говорил о странных каких-
то вещах, мечтал, бредил вслух, и когда, пользуясь обе-
денным перерывом, вошла Зина в старый липовый парк,
Уткин последовал за нею. Уселся на скамье по правую
от нее руку и говорил, говорил, жалуясь на нелепость
того, что вот он скоро должен умереть, угаснуть, как
свеча под ветром, а жизнь, новая, прекрасная жизнь бу-
дет продолжать свою песенку...
— Стойте, товарищ! — прерывала его с рассеянным
безразличием Зина.— Еще не так давно вы говорили о
смерти иное! Помните нашу встречу в коридоре губпрод-
кома, незадолго перед вашим выступлением с отрядом
Синицына?.. Не вы ли утверждали тогда, что смерть не
страшна Уткину?!
И тут он принялся уверять ее, что дело совсем не в
страхе. Дело в том, что пока она существует, смерть, че-
ловечество не может быть счастливым... Да, да! В этом
он лично убедился, когда из-за своей проклятой болезни
вынужден был при походе в деревни выйти из строя, по-
кинуть отряд Синицына в разгар работы...
236
В мягкой и нежной, как цыплячий пух, зелени ловила
Зина украдкой игру солнца, но при этом старалась не
встречаться с глазами Уткина. Ах, эти его глаза, обло-
женные набухшими, воспаленными веками! Они следили
ва нею, присасывались к ее губам, улыбающимся даже
в минуты крайней усталости, ловили каждый взмах тем-
ных ее ресниц. Казалось, он ждал слова утешения (что
ей в самом деле стоило рассказать ему о каком-нибудь
случае, когда и чахоточные излечивались, становились на
ноги, жили до ста лет!). Но она молчала и пряталась,
стараясь не выдавать своего восхищения перед безумно
горячим солнцем, перед буйною, никогда на земле не
умирающей зеленью...
Певучая, струнная грусть колебала ее сердце, ей не
хотелось слышать озлобленных слов о смерти, о стра-
даниях, она желала только одного и только об этом сей-
час думала: еще раз увидеть Мартына, приласкать его,
сказать ему, что она не забывает о нем и... верит в него!
Как горячо солнце! И как чудесна зелень на липах, и
хак сладок вешний липовый воздух, голубой и кроткий
среди влажных, темных стволов.
— Нет, Уткин, вы не правы! Вы никогда не умрете,
никогда!..
Сказав это, она рассмеялась.
— А впрочем, все мы умрем, товарищ Уткин, рано
или поздно. Но из этого не следует, чтобы мы с вами...
вовсе забыли о беженцах... Они-то живут и хотят есть...
Идемте!
Уткин смолчал, но не пошел за нею. И когда остался
один, вытащил из кармана пакет, общипанный, кое-как
вскрытый, извлек из него бумажку и бегло (не в пер-
вый уже раз) пробежал глазами короткие строки с по-
меткою: «Полевой штаб N дивизии».
«Отлично, товарищ Кудрявцева! — нашептывал он
про себя.— Сейчас вот Уткин отправится к тебе и выло-
жит перед тобою на стол эту бумажку... Вокруг люди, но
едва ли удастся тебе скрыть от них свое горькое волне-
ние. Может быть, ты даже покинешь их, бросишься вон
из своего кабинета, прочь от своих дел. Но Уткин г-гойдет
за тобою следом, настигнет тебя и скажет холодно, с улы-
бочкой:
«Все мы умрем... рано или поздно, товарищ Кудряв-
цева! Но из этого не следует, чтобы мы тут с вами поза-
были о беженцах...»
237
Да, он сделает так! Ничто не удержит его. Ведь не
обязан же он, в самом деле, догадываться, что какая-то
там бумажонка громом разразится над головою Кудряв-
цевой... И ведь не нарочно же он, Уткин, выудил этот па-
кет из вороха других, лежавших на столе секретаря губ-
кома. Только простая случайность (остался в кабинете
один на минуту) позволила ему заглянуть в серый па-
кет. Не случись этого, Кудрявцева сама часом позже за-
глянула бы в эстафету.
Он встал и направился к гранитным порожкам бал-
кона. С трудом, то и дело останавливаясь и задыхаясь,
поднялся наверх, прошел через открытую стеклянную
дверь в кабинет и замер у порога.
Кабинет был полон теплого, острого запаха грязи и
пота. Люди стояли, сидели, заглядывали из коридора.
Женщины в пестрых лохмотьях, старики с заплесневелы-
ми головами, у женщин на руках бледнолицые дети —это
все беженцы.
Кудрявцева сидела спиною к балкону, и не двигаясь
глядел Уткин на эту ее залитую солнцем спину, и в солн-
це, в золотом его опылении, видел он коротко подстри-
женные на затылке волосы и шею видел, смуглую и тон-
кую, как у подростка.
Она не услышала (шум стоял в кабинете), но почув-
ствовала за спиной у себя человека, оглянулась, подняла
глаза.
— Вы что?
Спросила потому, что заметила необычное в его лице.
Но Уткин колебался. И уже прятал, комкая, серый пакет
в карман обтрепанных брюк.
— Так... ничего,— произнес он негромко и вдруг ши-
роко, блаженно улыбнулся, поняв, что не отдаст ей этого
пакета.
Новыми, настежь распахнутыми глазами оглядывал
он кабинет: люди и солнце, много солнца, янтарный, зри-
мый глазами липорый аромат из парка через раскрытые
двери... Как все чудесно!
Торопливо подсев к столу, бледными, восковыми паль-
цами перебирал Уткин бумаги. Теплые под солнечным
угревом, они пахли чем-то волнующе-памятным, может
быть детством, школьною тетрадкою.
— Кто из Ольховки? — возгласила, вновь обратив-
шись к работе, Кудрявцева.— Кто тут Ольховские?
238
Уткин сидел на кончике кресла и перебирал солнеч-
ные, пахучие бумаги, и вид у него был как у евангельско-
го бога, оделяющего мир бескорыстной любовью.
«Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам!»
И все улыбался мягкою, что-то свое знающею улыб-
кою и поглядывал из-за бумаг на девушку, на нежный и
робкий овал ее лица. В самом деле, не был ли он сейчас
богом, судьбою, грозным роком Кудрявцевой?! Мол-
чал — и светило для нее солнце. Но стоило захотеть
ему — и мгновенно померкло бы для нее солнце. Кто ж
не знал, чем дышала эта девушка, к кому из окружаю-
щих обращались тайные ее помыслы! Еще на том парт-
собрании, где судили Баймакова, стало ясно Уткину все.
Эта излишняя для делового собрания запальчивость се-
кретаря губкома, это ее волнение, почти страх за исход
дела... О, трудно укрыть человеку от себе подобных тай-
ны своего сердца!
— Идите, отдыхайте, Уткин!..
Ничем особо не утруждал он себя сегодня, но отды-
хать ему, конечно, надо, отдыхать от самого себя, от не-
угасимого своего недуга. Однако уходить ему не хоте-
лось. В последние дни одиночество томило, грызло его:
неправда, что только здоровые да сильные ищут шумно-
го человеческого общества... Неправда, тысячу раз не-
правда!
И вдруг он заговорил о Мартыне. Вышел следом за
Кудрявцевой на балкон, опустился в плетеное кресло, по-
добрался, замигал опухшими веками и заговорил.
Не правда ли, какой славный человек этот Баймаков?
Редкостный экземпляр! Такие, если на них не обрушится
случайно скала, живут за четверых, берут себе в жены
краснощеких девушек и умирают на сто первом году —
патриархами, в кругу сыновей, внуков и правнуков... Дав-
но ли в губкоме имелись о нем известия? На днях кто-то
говорил, что Баймакова произвели в политкомы полка.
Как, разве она не слышала? Может быть, она не знает
также о том, что в бою под какой-то станицей Мартына
ранили? Впрочем, это только слухи! Уткин и сам не ска-
зал бы, из каких точно источников. Во всяком случае кто-
то говорил, что рана пустячная. Конечно, было бы без-
мерно обидно, если бы этот молодой, цветущий чело-
век свалился, захирел, погиб... Погиб от жалкого како-
го-то кусочка свинца, от ржавого какого-то осколка кар-
течи!..
239
Зина с тревогой следила за ним. Солнце опускалось
к густым кронам лип. Зарево осеняло голову Уткина вен-
чиком, как у святых на иконах. Но в бледном, водяни-
сто-одутловатом лице его, заросшем мшистым волосом,
было что-то егозливое и непристойное. И почему-то ста-
ло Зине до боли жалко этого человека. Она сказала, по-
кидая кресло:
— У вас сегодня прекрасный вид, товарищ Уткин. Но
вам не следует злоупотреблять силами... Скоро будет со-
всем сыро... Хотите, идем ко мне?.. Угощу чаем!..
Он не ожидал ни этих ласковых слов, ни тем более
приглашения зайти к ней. Внезапно глаза его увлажни-
лись. Однако он мотнул головой и протянул руку:
— До завтра, товарищ Кудрявцева! Я с удовольст-
вием посидел бы у вас, но... мне надо еще кое-куда зайти.
Губы его дрожали.
Она не задерживала, он сорвался с места и побежал,
на ходу развевая полами своей обветшалой накидки. По-
пав в коридор, запустевший, безлюдный, он остановился,
раздумывая: что же дальше? И тут почувствовал легкое
смятение в душе: серый пакет полевого штаба лежал в
его кармане; это походило на похищение, тут было во-
обще что-то не совсем ладное!
Он тихонько шел к выходу, поглядывая на заревые
отсветы в стеклах окон, и старался не думать о пакете.
Но мысли упорно возвращались к коротеньким строкам
штабной эстафеты и к тому человеку, о ком в этих стро-
ках говорилось. Еще час назад Уткин как бы даже радо-
вался тому, что владел тайной, скрытой в сером затрепан-
ном пакете. Теперь же... О, теперь он отдал бы многое,
чтобы вовсе не иметь его, этого пакета!
Пакет шуршал в кармане, напоминал о себе, напол-
нял сердце щемящим беспокойством. Главное, никто уже
не в состоянии изменить события, о котором передавалось
в эстафете! Можно вовсе скрыть пакет, уничтожить его
здесь же, изорвать его сию же минуту в мелкие клочья.
Но не уничтожишь, не переменишь, не вычеркнешь из
неумолимой действительности события, факта!
Внезапный шум голосов из распахнутой боковой две-
ри привел в себя Уткина. Он стоял, держась за ручку вы-
ходной двери. Шум заставил его насторожиться. В чем
дело? Разве в зале исполкома собрание?.. Крадучись,
ступая на носки, он подошел к двери, заглянул и, слегка
поколебавшись, просунулся боком в зал.
240
В зале за столом, под затрепанною метелкою пальмы,
стоял Черноголовый. Он что-то возбужденно говорил и
стучал ладонью о стол. Губарев, развалившись в кресле,
шлепал в ладоши. Жбанов порывисто бегал от стола к
пальме и обратно. Сухоруков топотал ногами на месте,
подобно застоявшемуся коню. Синицын был неподвижен,
но глаза его, обращенные к Уткину, горели, как у тифоз-
ного. Еще кто-то вертелся тут, незнакомый, чубатый,
с очень узкими, ребячьими плечами.
Из огромных окон по залу водопадом разливалось ба-
гровое зарево, алые озера дрожали на паркете, лепные
цотолки колыхались и рдели, и люди у стола казались
в этом мерцающем пожарище призраками.
Сухоруков обеими руками вцепился в плечи Уткина,
окатил его хохотком восторга:
— Уткин, братец ты мой... победа!..
Сухоруков никогда ранее не заговаривал с Уткиным,
он не всегда даже замечал его присутствие.
— Уткин, сукин ты сын!.. Самая наисвежайшая но-
вость... Азербайджан наш! Баку наш! Нефтяные вышки...
наши... Ты понимаешь, черт тебя бери, что это значит?
Отпихнув от себя Уткина, он подкатил, приседая, как
бы танцуя, к столу, рванул с телефонного аппарата труб-
ку, закричал гулко, на весь зал:
— Даешь вокзал! Мастерские? Местком? Митька?..
Азербайджан наш! Чего? Переворот... Советская власть...
Понимаешь?.. Валяй в мастерские, подлец! Оповещай
кругом... крути... завинчивай!..
Черноголовый прервал его:
— Не ори, сделай милость! Всех оповестим... дай
срок!..
Жбанов ступил к Сухорукову, отрыгнул, поморщил-
ся, сказал:
— Балалайка! Ведь это же только Азербайджан...
— А тебе мало?! — обнял его с размаху за талию
Илья Ильич.— Да ведь теперь моторчики-то, машинуш-
ки-то, паровозики-то наши с горючим... Двигай, дыми
хоть на край света!..
Черноголовый звенел ложечкой о стакан с недопитым
чаем.
— Товарищи! Дело не только в Баку... Дело в том,
что «вооруженным силам Юга» капут! Заморским люби-
телям чужой нефти... капут!.. Я предлагаю созвать наут-
ро экстренное заседание Совета... А сейчас оповестить
241
предприятия... Пускай встряхнутся ребята, разомнут му-
скулы.
— Правильно! — подхватил Губарев.— А ну, Илья
Ильич, звони к литейщикам... Или нет... давай мне! —
И он протянул руку к телефону.
Глаза Синицына поблескивали, он стоял неподвижно,
вытянувшись; он говорил, и белая голова Михаила Ива-
ныча, склоненная к нему, кивала в такт его слову.
Кто-то вспомнил о секретаре губкома:
— Уткин! Беги к Кудрявцевой, тащи сюда живым ма-
нером!
Воткнувшись в телефонную трубку, взывал Губарев:
— Алло... Алло... Давай, барышня, губпрофсовет!..
Уткин вплотную подшагнул к Черноголовому, потя-
нул его за руку, подал ему серый штабной пакет.
Михаил Иваныч повертел пакет в пальцах, бросил на
стол.
— Хорошо... потом!
Но Уткин не уступил:
— Сообщение о товарище Баймакове...
Михаил Иваныч мельком взглянул на него, поднял
пакет и, доставая бумажку, спросил:
— Когда получено?
И, не ожидая ответа, поднес эстафету к очкам. Вдруг
рука его дрогнула и напряглась, как под непомерной тя-
жестью. Он отвел бумажку в сторону и снова, медленно,
поднес ее к глазам. Рука его дрожала. Уткин не сводил
с него взгляда, томясь, переступая с ноги на ногу.
— Так! — произнес негромко Михаил Иваныч и кряк-
нул, как это делают дровосеки, когда, замахнувшись, с
силою опускают топор свой.
Синицын услышал тяжкий, безысходно тяжкий вздох
Черноголового.
— Что такое? Что за бумага?
Михаил Иваныч молчал.
И в эту минуту вошла Зина. Все трое — Сухоруков,
Губарев, Синицын — встретили ее рукоплесканием.
— Учуяла? — закричал Илья Ильич.— Сердце под-
сказало?.. Распространяемся, Кудрявцева! Новая респуб-
лика! С жару, с пылу...
Еще не зная новости, но вся сияя отраженной ра-
достью товарищей, шла Зина к столу и тут, заметив в ру-
ке Михаила Ивановича бумажку, подалась к нему.
242
Резким жестом Михаил Иваныч отвел свою руку в
сторону, Зина заглянула в лицо ему, уловила выражение
испуга.
— В чем дело?
— Да вот...— дрогнул Михаил Иваныч.— Тяжелое
сообщение...
Она видела тягостное волнение в его лице и не пони-
мала, откуда это, когда вокруг светлые, возбужденные
лица товарищей. Тревога сжала ей сердце.
— Ну что уж...— негромко произнес Михаил Иваныч
и протянул ей эстафету.— Мужество, мужество, Зи-
нушка...
Несколько мгновений Зина не принимала бумажки,
поглядывая то на нее, то на Михаила Иваныча, как бы
пытаясь проникнуть наперед в то, что скрывалось за его
предостерегающими словами. Наконец, она взяла помя-
тый листок и, прихватив зубами нижнюю губу, загляну-
ла в него. Густой румянец вспыхнул у нее на щеках, на
лбу, воспламенил уши и тотчас же сменился глубокою
бледностью. И губы побелели, как у больного, только что
перенесшего жесточайшую лихорадку.
Михаил Иваныч ожидал. Давно уже можно было про-
читать и перечитать скупые строки, а она все не сводила
с них глаз. Губарев заглядывал через плечо Зины, пы-
таясь читать, перехватив пальцами конец листка. Она от-
странилась, оставив бумажку в его руке, подошла к кре-
слу и молча опустилась в него.
Илья Ильич ударил ладонью о стол.
— Кудрявцева! Азербайджан... Азербайджан пере-
вернули!..
Илья Ильич еще не знал содержания бумажки, а если
бы и знал, то едва ли понизил бы свой горластый голос;
глазами немигающими глядел человек этот в раскален-
ные топки паровозов и никогда не вздыхал, если, подняв
случайно голову, видел в ночном небе блеск падающих,
отмирающих звезд.
— Азербайджан!.. Баку!.. Нефть!..
Вскинув к нему невидящие свои глаза, Зина, подобно
школьнице, запоминающей трудный урок, повторяла од-
ними губами:
— Баку... Нефть... Почему?
— ПсРгому!..— расхохотался Илья Ильич, щелкнул
ловко пальцами, притопнул ногою (гул пошел по залу)
и запричитал тонким, дергающимся голосом: — Их-хэ...
243
Их-хо... Ты понимаешь, гражданочка, что такое нефть?
Да я за ней, сволочью, все паровозы ушлю!.. Катай-ва-
ляй, мать ее титулярная советница!..
Вечером,— уже холодная звездная россыпь перелива-
лась в небе,— проходили по главной улице шумные ко-
лонны, пели «Интернационал». Вспугнутые, трещали вда-
ли пролетки. Стоя на балконе исполкома, Черноголовый
выкрикивал в толпу горячие, но строгие слова о победах
на южном фронте, о советском Баку, о неизбежном пе-
ревороте в Грузии, о предстоящем последнем напряже-
нии сил,— еще надо справиться с белою Польшей,— и о
том долгожданном, желанном и уже близком времени,
когда, наконец, можно будет отдаться мирному труду.
За спиной у него с непокрытыми головами стояли Гу-
барев, Сухоруков, Синицын, Зина Кудрявцева.
Зина стояла прямо и чинно, и то же, что у ее соседей,
выражение суровой торжественности светилось в ее лице.
Порою она коротко и глухо вздыхала, но никто этого не
слышал.
Теплые, влажные волны катились под звездами, оро-
шая улицы синей воздушной пылью. Толпа внизу была
молчалива, могучее дыхание ее подымалось к балкону,
и Сухоруков, чуть-чуть вытянув шею, улавливал сладчай-
шие, знакомые с детства запахи гари и масла.
Но вот Черноголовый кончил.
— Ура! — закричал Сухоруков, подхватывая ликую-
щий рев толпы.
XXII
Как ни велики и необычны были события, но и они
падали в прошлое, уступая место новым славным делам
неукротимого человеческого труда. Еще не один раз —
кто это не знает? — будет греметь голос битв, потому что
битвы только начались, но уже другие люди будут вни-
мать этому голосу, и о них, других, желанных, нам не рас-
сказать.
А о тех, кто еще идет с нами под солнцем, о ничтож-
ных и великих, о жалких, как дети в грозу, и отважно-
гордых, более гордых, чем знала таких когда-либо земля,
можно ли продолжать спокойно и бесстрастно? ~
Черноголовый не ведал, что такое усталость;— было
так, что за стенами стонали пушки, потом надо было
сеять и жать, раздувать доменные печи, подводить стро-
244
пила у новых, невиданных строений. А когда миновало —
схватка за схваткой — напряжение битв и там, где еще
вчера дымились батареи, вдруг затарахтели золотокры-
лые жатки, Черноголовый понял: только мысль человека
не знает барьера времени, мускулы же сердца с годами,
без роздыха, слабеют.
Шел пятый год со времени окончания гражданской
войны. Черноголовый работал в столице. Обликом своим
Михаил Иваныч почти не изменился, но нервные силы
его иссякали. Прежде всего это начало сказываться на
сне: спал тревожно и мало. Еще по-старому мог он про-
сиживать целыми днями за работою, но не было уже
прежней неугомонной жизнерадостности, и порою на
больших и ответственных заседаниях наркомата вдруг
терял Черноголовый на какой-то момент способность вни-
кать, как надо, в жаркие споры.
И вот, проведя неделю в работе третьего Всесоюзно-
го съезда Советов, решил он передохнуть, провести пол-
месяца среди волжских просторов, на пароходе. И Зина
охотно поддержала эту затею. Она не расставалась ни на
один день с Михаилом Иванычем, она следовала за ним
всюду, как планетный спутник, и все, кто знал Черного-
лового, не удивлялись ей, испытывая на себе чудесную,
пленительную силу этого человека.
К тому же была Зина уже матерью, и ей нелегко было
оставить без своих забот даже в дни отдыха отца ее ре-
бенка.
Выехали они втроем июньским полднем, когда над
Москвою, в дымчато-знойном воздухе, струнно звучали
гудки заводов. Восторгам Линочки не было предела.
У темноволосой девочки глаза продолговатые, в узком
разрезе, материнские, а когда она волновалась, в глазах
ее загорались зеленоватые огоньки, как у отца.
До Нижнего ночь прошла в вагоне, в Нижнем с рас-
светом пересели на пароход и двинулись к Каспию. В это
утро Михаил Иваныч гулял по палубе, щурился из-под
очков на млеющие под солнцем берега и даже прини-
мался напевать: «Из-за острова на стрежень...» Зина ра-
довалась за него и за свою Лину, наблюдая, как неудер-
жимо бегала та по палубе, оглашая светлую тишину тад-
речья восторженными криками, с размаху охватывая ру-
чонками встречных, знакомых и незнакомых.
Зина пополнела, движения ее стали более спокойны-
ми, но в узких серых глазах ее, как и прежде, светилась
245
пытливая мысль, а в тонких уголках рта играла усме-
шечка.
Она любовалась своею девочкой и с тайной гордостью
следила за Черноголовым, за тем, как, позабыв о своих
больших делах, он весь, казалось, отдавался забавам с
Линочкою. Однако это только так казалось. Умения ни-
чего не делать, беззаботно созерцать, дышать и смеяться
у Михаила Иваныча хватило ненадолго. Уже к полудню
он явно начал томиться. Где-то ему удалось достать пач-
ку газет, и с нею торопливо убрался он в рубку.
В обед он снова повеселел, шутил за общим столом с
пассажирами, а в сумерках долго и оживленно беседовал
с капитаном парохода. Капитан был старым моряком, он
участвовал в революционном движении пятого года, был
лично знаком с некоторыми героями восстания на «По-
темкине» и место капитана на Волге рассматривал как
поощрение со стороны государства заслуженному вете-
рану. У Зины человек этот, когда знакомился, неожидан-
но поцеловал руку; маленькую Линочку он сам у груди
вознес на свою капитанскую вышку, а в разговоре с Чер-
ноголовым держал себя так, словно готов был в любой
момент вскочить и стать навытяжку. Годами он был стар-
ше Михаила Иваныча, костляв и длинен, выправкой во-
енного служаки превосходил Черноголового, но в лице
его, заветренном и грубом, не было той удивительной
красоты духа, какая молодила Черноголового и заставля-
ла окружающих провожать его взорами ласкового лю-
бопытства.
Ночь Михаил Иваныч провел в безмятежном сне. Но
утром, позавтракав, он вдруг ощутил, вместе с приливом
свежих сил, почти физическую тоску по той вечно дея-
тельной обстановке, которую покинул в Москве.
Встав из-за стола, он с тревогой вглядывался в зер-
кальные окна, как бы ожидая увидать за ними свой ав-
томобиль. Но автомобиля не было, и не было секретаря
с докладами, и не было всего того напряженно-шумного
мира, в который каждое утро погружался Черноголовый.
Он растерянно улыбнулся Кудрявцевой, пальцы его, за-
пущенные в жилетные кармашки, заметно подрагивали.
Он чувствовал себя курильщиком, который только вчера
решил преодолеть себя и выбросил за окно не без коле-
бания последнюю папиросу.
— Идем на палубу! — пригласила, беря его под руку,
Зина.— Сегодня на реке чудеса!..
246
Но он осторожно высвободил свою руку.
— Ступай с Линочкой, милая, я потом...
И, как только молодая женщина скрылась за дверью,
Михаил Иваныч торопливо прошел в свою каюту, выдви-
нул чемодан и раскрыл его. В этот день его не ожидали
ни заседание коллегии, ни очередные доклады, и он искал
суррогата работы, его мысли были не здесь. По рассеян-
ности он не сразу понял, что припрятанного им портфеля
с некоторыми неотложными материалами нет в чемода-
не, но когда понял это, его охватило острое раздражение.
Он чувствовал себя совсем несчастным, и прежде всего
вскипела неприязнь к Кудрявцевой.
— Зинаида Никифоровна! — сказал он, отыскав же-
ну на палубе с книгою в руках.— Ты часом перед отъез-
дом не заглянула в мой чемодан?
Голос у него был ровен, но Зина, отлично изучившая
Михаила Иваныча, видела, что он расстроен: щеки его,
розовые, литые, гладко выбритые, были неподвижны, но
под черными, не сдававшимися времени бровями по-
сверкивал острый лучик.
Она рассмеялась, уложив книгу подле себя на скамью.
На смуглой щеке ее проступила ямочка, зубы белели, в
сузившихся до предела глазах ее прыгал блеск, схожий
с тем, какой играл в эту минуту под солнцем на волнах.
— Михаил! Неужели я враг тебе? Твой портфель ос-
тался дома.
— Но...— начал он, присаживаясь к ней.
Было видно, что ему с трудом давалось спокойствие.
— Но, право, это ни к чему! — продолжал он ворчли-
во.— Я еще в своем разуме и твердой памяти, опекунов
мне не надо...
Она положила на плечо ему руку, слегка касаясь
грудью отворота его тужурки.
— Достоуважаемый! Не будем хандрить... Жизнь ко-
ротка, а дел много. И сейчас мы отдыхаем, только от-
дыхаем!
Он не спеша отстранил ее.
— Я не понимаю, я совсем не понимаю, как можно с
такой легкостью забыть обо всем на свете... во имя от-
дыха!
— О, это не только можно, а и должно. Михаил!
— Ну, относительно того, что должно, у нас с тобой,
видно, разные взгляды...— поморщился он.
Зина еще раз попробовала рассмеяться:
247
— Какой строгий! Можно подумать, что речь идет об
измене делу революции.
Михаил Иваныч дернул плечом. Теперь ему были не-
выносимы и этот ее смех, и солнце на реке, и терпкий воз-
дух» дурманящий голову.
— Ты легкомысленна до... глупости! — проговорил он
взволнованно.
Она вздрогнула, откинула голову, глаза ее захолоде-
ли. Он понял и оценил свою неосторожность. Ему стало
жаль ее и досадно на себя. Он сказал, пытаясь улыб-
нуться:
— Ну, ладно, бросим это.
Но ее губы были плотно сомкнуты, а в углах их змеи-
лась колючая усмешка.
— Не сердись, прошу тебя! — повторил он совсем уже
растерянно (он знал, что теперь от нее не добьешься ни
единого слова).— Я так устал... Мои нервы... Неужели ты
не понимаешь меня?
Она молчала, глядя через его плечо на близкий, в са-
дах, берег.
— Зина! — Голос его снова напрягся.— Пожалуйста,
не строй из себя царевны-молчальницы... Ты знаешь, как
я не выношу этого!..
Ее пальцы неспокойно перебирали оборку на платье.
— Я знаю, что ты перестал уважать меня! — заго-
ворила она, глядя в сторону.— И ты и все другие... Ко-
нечно, теперь Кудрявцева только мать, только хозяйка...
— Неправда! — перебил он ее.— Мое отношение к
тебе прежнее! И потом — разве ты не работаешь?
— Какая моя работа! — Она с горечью махнула ру-
кою.— Почти канцелярия. Эти вечные бумажки, бума-
жонки... Грош цена моей работе, товарищ Черноголовый.
Он покачал головою, взглянул по сторонам, подви-
нулся к ней ближе:
— Что ты говоришь, чудачка! Всякий труд, если он
проделывается добросовестно, ценен...
— Оставь свои сентенции, Михаил! Тебе известно по
прошлому, что я способна на более живую, более ответ-
ственную работу.
Он вздохнул.
— Не знаю, о чем говоришь! В моей достаточно дол-
гой жизни мне доводилось выполнять всякие работы...,
Я не гнушался ничем, я радовался всему, что бы ни вру-
248
чала мне моя партия... Хотя бы то и была простая тех-
ника...
— Но теперь-то ты — во главе огромного дела!
Он с недоумением взглянул на нее:
— Завидуешь?..
Его замечание взорвало ее.
— Не говори пустяков! — воскликнула она, рванув
пальцами оборку своего платья.— Ты отлично знаешь,
о чем я! Мне надоела моя роль подруги популярного че-
ловека... Я хочу, чтобы меня любили не за то лишь, что
я близка тебе! Разве я беспомощна? Разве у меня не хва-
тило бы сил, чтобы... вести самостоятельно любой труд?..
— Любой... труд...— протянул Михаил Иваныч и гру-
стно улыбнулся.— Эх, Зинаида Никифоровна! — Он
вздохнул.— Ведь ты уже зрелый человек, а до сих пор
не можешь отделаться от своего тона... Все «я» да «я»!
«Я» — в центре всего... Что такое?! Когда люди этак вот
рассуждают, мне всегда вспоминается бедный Мартын.
Он готов был продолжать, его глаза оживились, на гу-
бах заиграла самодовольная улыбка. Но она прервала
его.
— Послушай! — сказала она, касаясь рукою его ко-
лена.— Обещай мне никогда не говорить так со мною!
Иначе...— Она сорвалась, губы ее запрыгали.— И к чему
ты вспом1нил Мартына? Ты никогда не понимал его!
У тебя слишком алгебраический подход к людям, и не
тебе ценить явления, выходящие из ряда вон...
Она поднялась со скамьи, грудь ее дышала неровно,
на бледном, выпуклом лбу проступили капельки пота.
Заглянув в ее глаза, помрачневшие в бессильном гневе,
Черноголовый вновь почувствовал раскаяние.
— Зина, голубчик...— говорил он, подымаясь на ноги
и стараясь захватить ее руку.— Зачем же так! Ты не по-
няла меня... Я не меньше тебя ценил Мартына, и я не хо-
тел, сравнивая его с тобой, обидеть тебя или его!..
Она, не слушая, пошла прочь. Он следовал за нею до
самого борта, где, облокотившись на перила, она долго
и молча разглядывала что-то среди ярко посеребренных
волн. Он молчал, не в силах скрыть своего смущения, и,
неожиданно повернувшись к нему, она уловила это в его
лице.
— Михаил! — проговорила она негромко.— Помнишь
наш разговор о Сормове? Почему ты противишься моему
отъезду туда?..
249
— Что за вопрос? — насторожился он.— Разве я дер-
жу тебя?..
— Еще бы!
— Вот так история! — Михаил Иваныч снял очки и с
укором взглянул на нее.— Когда-нибудь я отговаривал
тебя?
— Нет, не отговаривал, но я видела, что ты этого не
желаешь! И нечего притворяться...
— Зина, поверь мне, я никогда не думал, что ты так
страстно жаждешь работы на стороне!
— Очень жаль, что ты не думал об этом!
Он помолчал.
— Хорошо! Но что дала бы тебе новая работа?
— Ты еще спрашиваешь! — вскинулась она к нему.—
Работа в крупном заводском районе, самостоятельная ра-
бота... Пойми — совершенно самостоятельная! И притом...
Неужели для тебя не ясно, что провинция более нуждает-
ся в работниках, чем центр!.. Словом, я знаю, я уверена,
что только там, в работе, я опять найду себя!
Михаил Иваныч не возражал.
— А как же... с Линочкой? — произнес он чуть погодя.
— Линочку я заберу с собою!
Он не торопясь протер носовым платком очки, наки-
нул их на нос, аккуратно сложил платок и опустил в кар-
ман.
— Я, право, не знаю...— сказал он раздумчиво.— Мо-
жет быть, ты говоришь резон... Но мне казалось... Впро-
чем, я ведь тоже... человек!
Он замолчал и отвернулся.
Теперь она, в свою очередь, взглянула на него тре-
вожно.
— Ты устал, Михаил... Не будем же продолжать об
этом до нашего возвращения.
— Хорошо, не будем.
— Смотри! Там Жигули... Я вижу их первый раз...
— Это родина Мартына,— откликнулся он тихо.— Ты
знаешь, впервые я повстречал его на Волге, в том самом
Сормове, куда стремишься ты... Он только что начинал
тогда жить... Как быстро летят годы!
Михаил Иваныч настраивался на лирический лад; это
всегда бывало у него после нервных встрясок. Но почему-
то Зине не хотелось слушать его. Ей хотелось остаться од-
ной. Она сказала, снимая руки с перил:
250
— Я пройду вниз, к машинам... Какая-то рабфаковка
увела туда Линочку...
— Это сделаю я,— остановил ее Михаил Иваныч.
Он отправился к трапу, но, едва скрылась белоснеж-
ная его голова, со стороны носовой части парохода пока-
зался ребенок в розовом платьице до колен. Линочка бе-
жала, оглядываясь на преследовавшую ее девушку. Обе
смеялись.
— Мамочка...
Зина подхватила ребенка на руки и принялась цело-
вать. Рабфаковка, стройная, с миловидным, усеянным
веснушками лицом, говорила:
— Мы обошли с нею все машинное отделение... Она
у вас ужасно любопытная!
Линочка высвободилась из рук матери, стала в позу
и вдруг побежала вдоль палубы.
— Кудлявцева!—кричала она на бегу, картавя.— Ло-
ви!..
Нарочито маленькими шажками Зина кинулась за де-
вочкой, рабфаковка присоединилась к ним. Так они про-
бежали круг и на обратном пути столкнулись с Черного-
ловым.
— Смотри, кого я привел!
Зина взглянула и не узнала... Перед ней стоял кругло-
лицый, плечистый человек в новенькой тужурке из че-
сучи.
— Да это же я, товарищ Кудрявцева! — воскликнул
человек в тужурке и, перехватив свой огромный портфель
левой рукой, протянул Зине правую.— Тарас Остапенко!
— Тебя не узнать! — говорила она, крепко сжимая его
руку в своей.— Где твои запорожские усы?
Остапенко подмигнул карим глазом:
— Бреюсь как все, чистоты ради! А ты эвон какая...
Налилась, ровно кавун в поле...
Зина осыпала его вопросами: откуда? что делает? ку-
да едет?
— Нашего Остапенко нынче голою рукой не возь-
мешь!— заметил Михаил Иваныч.— Рекомендую: дирек-
тор сталелитейного завода...
Остапенко косил глазами, подмигивал, говорил:
— Учимся, растем, обстраиваемся... А это ж чья ко-
за?— указал он на Линочку.
— Моя! — оказал Черноголовый.
251
— Ой ли? — обрадовался Остапенко.— С кем это по-
везло тебе?
Черноголовый, улыбаясь, кивнул на Зину.
— Так вы что же молчите? — поднял Остапенко го-
лос.— Значит, обженились? Вот так фунт!..
Он искренне удивлялся, восхищался. Черноголовый
посмеивался, у Зины бледность в лице сменилась густым
румянцем.
Пароход медленно заносил корму в глубь реки. Рва-
нул, дымясь и захлебываясь, короткий гудок. Эхо музы-
кально прозвучало вдоль отвесного берега. Из-за пестрой
скалы выглянула кирпичная труба, известковая пыль у
подножья отливала снегом. Тяжело и неуклюже повора-
чиваясь с юга на север, надвигалась просторная долина.
На лесистых взъемах, оцепивших долину, курились ту-
маны.
— Пристань Жигули! — прокричал Остапенко, осили-
вая шум кипящей за бортом воды.
Зина заволновалась.
— Михаил! — сказала она, касаясь рукою плеча Чер-
ноголового.— Я хотела бы сойти на берег...
— Сойди! — откликнулся Черноголовый.— Но много
ли стоит тут пароход?
— Четверть часа,— сообщил Остапенко.— Замеча-
тельное место... Хлеб, сало, лес... Кержаки!
Бревенчатые избы и луга за ними плыли навстречу па-
роходу, а лесистые взгорья по сторонам падали, сбоче-
нившись, в голубые дали.
Повеяло навозным дымком. Тесовая, вишневого цвета»
конторка на плавнях быстро приближалась, на ее пло-
щадке бегали люди. Капитан кричал в рупор голосом ве-
ликана. Со стороны казалось, что он бранился.
Пароход замер на месте, дрожа мелкою зыбью и оглу-
шая людей шумом клубившегося пара. Затем медленно,
боком, внезапно приглохнув, он принялся подвигаться к
пристани. За кормою, над волнами, носились чайки.
Из-за кустов боярышника, прямо за пристанью, поднялся
ястреб, взмыл к небу и, описав дугу, камнем пал к Жигу-
лям.
Черноголовый и Остапенко остались на палубе. Зина
поспешно пробиралась мостками среди рослых белобры-
сых грузчиков. Бабы с корзинами у ног наперебой окли-
кали ее, предлагали калачи, кур, яйца. Кудрявцева торо-
пилась. Через минуту она уже стояла наверху, в лугах,
252
оглядываясь по сторонам. Ее высокая и все еще девиче-
ски гибкая фигура резко выделялась на чистом небе.
В порывистых движениях Зины, в лице жарком и насто-
роженном, в глазах, вдруг распахнувшихся и потемнев-
ших, было что-то тревожное.
Стадо юных гусенят белело в лугах, девочка в крас-
ном, босая и простоволосая, помахивала жердинкой. От
изб бежала к берегу собака, лохматая, как кавказская
папаха. Заметив незнакомого человека, остановилась, за-
лаяла. Зина подошла к ней, протянула руку, и вот, как
бы почуяв друга, собака завиляла хвостом и на брюхе
поползла к ногам молодой женщины.
— Смотри, укусит! — прокричала от своего гусиного
выводка девочка в красном.
— Нет, этот пес знает меня! — откликнулась Зина
улыбаясь.
Девочка подошла ближе.
— Так ты бывала у нас? — спросила она.
— Никогда! — охотно сообщила Зина, голос ее задро-
жал.— Нет, я никогда не бывала здесь, девочка...
Высокий старик проходил мимо, волоча за собою
связку лык. Он посмотрел в сторону молодой женщины.
Его лицо было темно от ветров и солнца, глаза сини, в
рыжих ресницах. На непокрытой голове колыхалась коп-
на седых волос.
Смолкнув, Зина следила за ним. Губы ее безвольно
распались, изумленно вскинутые брови застыли. Собака
сорвалась с места и, взвизгнув, бросилась за стариком.
— Это кто? — спросила Зина у девочки.
Но та молча, торопко оглядываясь, уходила прочь.
На пароходе гремел гудок, Зина направилась к приста-
ни, сердце ее гулко колотилось.
Михаил Иваныч и Остапенко сидели одни в рубке,
перед ними стоял чайный прибор. Линочки не было —
она опять увязалась за непоседливой рабфаковкой.
— Ну что, хорошо там? — улыбкою встретил Зину
Черноголовый и несколько необычно, пытливо заглянул
ей в лицо.
— Да, чрезвычайно! — произнесла она негромко.—•
Я бы ничего не имела против того, чтобы провести здесь
лето... Ну что, Остапенко, давно ли ты из родных мест? —
продолжала она, усаживаясь рядом за стол.— Не слы-
хал ли чего о старых приятелях?
253
— Представь, Зина, этот Уткин — помнишь? —
умер...— сказал Черноголовый.
— Когда мы покинули родные места, он был в по-
следнем градусе,— заметила она со вздохом.— А что с
Сухоруковым?
— Ого, Сухоруков пошел в гору! — воскликнул Оста-
пенко.— Начальник дистанции дороги!.. Разве же не слы-
шали?.. А Туликова помните? Уполномоченный внутор-
га!.. Синицын по-прежнему у хлеба...
— А ты знаешь, Зина,— прервал его Михаил Ива-
ныч,— товарищ Остапенко был в походах вместе с Мар-
тыном! Он тут начал рассказывать...
Она стремительно подалась к Остапенко:
— Мартын был... до конца с тобою?
— Да, он погиб на моих глазах.
— Ох, а мы до сих пор, Тарас, ничего толком не зна*
ем... Первая и единственная эстафета с фронта ограни*
чивалась сообщением... о самом факте... Очевидно, кро-
ме тебя, никого из земляков при нем не было...
Она говорила возбужденно, раскрасневшись, не спу-
ская глаз с Остапенко и как бы вовсе позабыв о присут-
ствии Михаила Иваныча.
— Продолжай, Тарас,— подал тот голос, снял очки и
принялся сосредоточенно протирать стекла уголком
платка.— Ты сказал, что за вами... за вашей дивизией
следовали беженцы?
— Целый обозище,— начал Остапенко, отодвигая не-
допитый стакан чая: — женщины, старики, дети...
— Как в Лисках?! — воскликнула Зина.— Помнишь,
Тарас, эту... историю с Мартыном... в Лисках?
— Еще бы не помнить! — живо откликнулся Остапен-
ко.— Я ведь был тогда на собрании при разборе дела...
Да и сам Баймаков не раз заговаривал о Лисках... Это
у него на манер сердечной ржавчины!
— А чего они за вашей дивизией тянулись, бежен-
цы? — прервала его Зина.— И... где это происходило?
— Происходило на Кубани. А беженцы возвращались
к своим местам, к родным пашням... Пора-то стояла веш-
няя, вот-вот за плужок принимайся. Упустишь горячее
время — весь год голодный! Ну, так вот, прошли мы с
боями до тамошних кубанских земель. Беляки огры-
заться начали. Впереди у них Екатеринодар, дальше —
море... Одно слово — край земли! Они и поднялись на ды-
бы, а, известно, раненый зверь, пока сдохнет, немало бед
254
учинить может... Кратко говоря, обернулась белая рать в
контратаку. А тут ей подкрепление наддали: броневичжи
заморские объявились при ней... И стали наши полки от-
ступать. Отступают день, отступают другой, слухи под-
нялись всякие: на таком-то участке — прорыв, с левого
крыла — обход... Самое вредное дело слухи эти! В иной
час хуже ураганного огня... Форменный занялся перепо-
лох у нас, полный, то есть, беспорядок, и на всем протя-
жении разрыв связи между частями... Глядь-поглядь,
наше звено одно-одинешенько, на самом переднем крае,
среди самого пекла... Притиснули нас, понимаете, к реч-
ке, а у речки, на этом берегу, мирные жители со всей
амуницией: тележонки, лошаденки, куры, поросята...
— Беженцы? — выронила Зина бледнея.
— Они!.. Речку-то переплюнуть можно, а по вешне-
му делу она в топь обратилась, ямищи да зажоры... Ко-
ни, люди из сил выбиваются, а переправу взять не мо-
гут: ни взад им, ни вперед.
Остапенко извлек из нагрудного кармана папиросу и
долго шаркал о коробочек спичками; спички ломались,
огня не было. Наконец, он закурил.
— И теперь так,— продолжал он, жадно затягива-
ясь табачным дымком: — у речки — беженцы, повыше, на
буграх — наша рота. Собственно, трудно сказать: рота ли,
батальон ли? При паническом-то отступлении мы с Бай-
маковым не один взвод отступающих при себе задержа-
ли, к рядам своим примкнули: где уговорами, а где и
угрозою. Вот, ладно, лежим мы под огнем час, лежим
другой... Баймаков у нас командиром. Из политруков он
команду на себя принял, потому как прежний наш ко-
мандир выбыл из строя по случаю смертного ранения...
Ну, зарылись мы в землю, лежим, отстреливаемся, а враг
напирает, враг силы подтягивает... Время же за полдень.
Промежду бойцов стеснение душевное, сдавать люди на-
чали. Двое, почитай, суток без сна, без отдыха, и жрат-
вы под рукой нема! Спасибо, спохватились беженцы...
Видим: ползут к нам, на взгорье, от речки, кустами, ре-
бятки. С добрый десяток их, и у каждого на горбушке по
плетеной лукошке, а в лукошках — хлеб, да сало, да
яички, каша крутая в холодном виде... Трижды туда-сю-
да, к нам — от нас, оборачивались ребята со снедью...
А белые нам на закуску — шрапнелью, да так чистить
начали, что свету не взвидели мы! Подполз тут я к това-
рищу Баймакову, кричу: «Давай, брат, сигнал к отступ-
255
лению! Мочи нет!» А он рукою — на речку, в лице ни кро-
винки. «Невозможно,— кричит,— люди там!» И действи-
тельно, положение аховое: пойди мы впопятную — от бе-
женцев мокрое место останется. Однако война — война и
есть. Баб с ребятами пожалеешь — всей части голов не
унести... И опять я к нему, командиру: «Давай сигнал,
пока не поздно!» А он — наганом в меня: «Кто тут коман-
дир? Пристрелю!» Я на своем стою: «Да ведь этак мы
всех бойцов уложим!..» А он мне в ответ свое, да таким
зычным голосом, что по всей цепи слышно: «Призваны
мы до последней капли крови родной тыл защищать»
а эти женщины, старики, дети и есть наш тыл! Отсту-
пим— капут им воем... Значит, одна у них надежда —
мы». Сам не свой человек сделался, вроде бы всю судь-
бу свою на карту поставил. «Ну, думаю, тебе виднее, на
то ты и командир...» И вижу: бойцы наши, слушая его,
туда, к тылу, головы повернули, сердцем, вижу, к бабам,
к ребятам прилегли...
Остапенко умолк, на скулах у него ходили желваки;
было видно, что и теперь, спустя немало времени, тяжело
вспоминать ему этот час в неравной схватке с врагом.
Зина сидела, низко склонив голову, неподвижная и блед-
ная, лишь тонкие брови ее легонько шевелились да
вздрагивала, вцепившись в скатерть, рука.
— Как же было дальше? — произнес Михаил Иваныч
глухо.— Вы, конечно, отступили?
— Э, нет! — откликнулся Остапенко голосом, в кото-
ром слышалось раздражение — то ли в связи с тем, что
бойцы должны были отступить, но не отступили, то ли
из-за самого предположения Черноголового, что они не
устояли.— Какое там! Часть наша, прямо сказать, же-
лезная... К тому же каждый стрелок у нас любил и ува-
жал своего политрука пуще отца родного... Держались
мы до самых сумерек... Урон в людях отчаянный, а глав-
ное — патроны на исходе и от пулеметов один исправный
остался, да и у того последняя лента...
Приметно волнуясь, он воткнул недокуренную папи-
росу в чайное блюдечко, полез в карман за новою. Было
слышно, как бурлят, хлещут под винтом волны у кормы
да тут, рядом, порывисто дышит Зина. Михаил Иваныч,
вперив поверх очков в окно взор свой, отдался внезапно
нахлынувшим мыслям. Он думал о том, когда же Мар-
тын совершил по-настоящему преступление: там ли, в
Лисках, помышляя только о себе, о своем необычайном
256
призвании, или тут, на Кубани, спасая других, жертвуя
всем ради ближних? Конечно, он был отважен, Мар-
тын, но...
— Что стоит отважность, если она... безрассудна! —
произнес он вслух, следуя за своими горестными мы-
слями.— Отважность, не оправданная высокою целью,
отважность вне революционной целесообразности...
Остапенко не дал ему докончить.
— Про это самое и я Баймакову помянул тогда,— за-
метил он, повышая голос.— «Эх, говорю, не устоять нам
дальше... Выходит, бойцов мы загубили и тех,— рукою
на реку указываю,— и тех всех не убережем!» И загля-
нул я тут в лицо ему, а у него в глазах такое, такое...
Перевернулось на корню у меня сердце, схватил я Бай-
макова за руку, бормочу невесть что и вижу — кровь...
пятнами... на груди у него, по гимнастерке... а сам он на
колени приподнялся и глаз с реки не спускает, ровно бы
поджидает чего. «Ну, думаю, вот и конец!» Хочу соседа
на помощь кликнуть, а язык не слушается... Глянул я по
цепи — и впрямь конец: пулемет наш молчит, с низинки
белые прут, видимо-невидимо... штыки наперевес...
Зина припала лицом к краю стола, на руки; плечи ее
вздрагивали. Михаил Иваныч растерянно переводил гла-
за с Остапенко на нее и вновь на Остапенко. А тот совсем
будто и не замечал ни этого беспомощного взора Черно-
голового, ни того, что происходило с Зиною. Голос его на-
пружился, глаза озарились, морщины на лбу разглади-
лись, он как бы вновь стал тем самым Остапенко, кото-
рый рвался когда-то к просторам, в туманы, к морям,
к гулу, к реву пушек, к битвам за всесветную коммуну,—
рвался сам и взывал к Мартыну: шел бы с ним вместе —
на жизнь и смерть, в огонь.
Первым заметил перемену в Тарасе Михаил Иваныч,
он вскинул голову, коснулся рукою плеча Зины.
— И вдруг слышу я,— говорил Остапенко, подымаясь
за столом во весь рост,— вдруг слышу: «Ура!» И не от
белых идет оно, а справа, от нас, справа и слева, по
флангам. Вгляделся я... Ах, мать честная! Тучей с двух
сторон наши батальоны прут, аж пыль над степью вих-
рем... Тут и мы поднялись: все, кто еще мог винтовку дер-
жать... Ожил и командир наш... Ухватился за меня — и в
лицо мне: «Видишь, не зря держались мы, Тарас!» Да на
ноги — и во весь голос: «Братцы, вперед!» Ребята шква-
лом врагу навстречу, а он, командир наш, только два
9. В. Бахметьев 257
шага и осилил: взмахнул наганом — и наотмашь в тра-
ву... Припал я к нему, а у него и дыхания нет... После
оказалось: два поражения в грудь, навылет...
Он передохнул и, словно откликаясь на горячий блеск
в мокрых глазах Зины, торопливо закончил:
— И погнали мы тут белых до самого аж Черного
моря. Наша дивизия первою и в Екатеринодар ворва-
лась, первою она и награду получила... Сам товарищ
Панкратов, от имени реввоенсовета, орден нам вручил —
Красного Знамени... Я так полагаю,— добавил он раз-
думчиво,— наградой-то своей дивизия допрежь всего на-
шему отряду обязана, а отряд — своему командиру. По-
тому как с утра до вечера держали мы тогда врага на
привязи, полки-то наши и собрались с духом, в порядок
себя привели... Что, не так?..
— Так, так! — откликнулся Черноголовый.— Зина, ты
слышишь?
Опа слышала все, но не успела проронить и слова. На
пороге показалась Линочка. С криком «Мамочка, а я
тебя ищу!» девочка подбежала к матери и потащила ее
за руку вон из рубки. Зина не противилась. Сказать те-
перь о Мартыне больше того, что сказал он сам своим
концом, уже нельзя было.
Порыв влажной воздушной волны ударил в лицо ей,
прихлестнул к коленям платье, затрепал у щеки прядку
волос. Придерживая стремившуюся вперед Линочку, она
взглянула на плывущие встречу песчаные скаты берега,
на зеленые зонты сосен у серого пухлого неба и вздох-
нула, глубоко, всею грудью, будто освобождаясь от дав-
ней, томившей ее тяжести. И, как бы торопясь заполнить
освобожденное от гнета сердце, чувство тревоги, светлой,
куда-то манящей тревоги охватило Кудрявцеву... Мар-
тын! Несмотря пи на что, опа верила в него, и вот он, мя-
тежный, с душою, в которую заглянуло далекое будущее,
вновь встал перед нею, но уже победителем: он стряхнул
с себя путы сумеречного прошлого, поднял из искры оди-
нокой любви к человеку пламя подвига многих и теперь
зовет ее, Зину, вперед, вдаль, к новым, еще не испытан-
ным радостям борьбы.
Ночью в каюте, когда Зина, не раздеваясь, прилегла в
постель рядом с Линочкой, Михаил Иваныч тихонько до-
стал из чемодана свою неразлучную тетрадь в холщовом
переплете и, подсев к электрическому рожку, некоторое
время писал. Между прочим, он записал следующее:
258
«Мартын начал, преисполненный себялюбивых ожи-
даний, и — ранил себя, но это и было началом его победы.
Самое важное в жизни — вера в силы своего класса и
в себя, в правоту свою перед народом. Раны, нанесенные
человеку собственным его сознанием, не залечиваются
порою годами. Но здесь — наша сила! Если бы не было
стыда и гордости перед тем, что мы делаем, не было бы
дисциплины духа, не было бы и самих побед у нашего
великого класса».
Тут Михаил Иваныч отложил перо и задумался. По-
мешал ему голос Зины. Неожиданно она подняла от по-
душки голову:
— Отчего ты не ложишься?
Он вздрогнул и опустил на тетрадь руку, как бы за-
щищая написанное в ней от чужого глаза. Но Зина даже
не взглянула туда. Она уселась в постели и вполголоса,
чтобы не побеспокоить Линочку, заговорила:
— Как странно: Мартын жил, казалось, только со-
бою, а кончил самоотверженно... Он считал делом чести
сострадание свое к беженцам...
— ...в которых видел тыл своей родины! — заметил
Михаил Иваныч.
— Да, он защищал тыл своей родины и не помышлял
о вмешательстве в судьбу дивизии, а вышло...
— А вышло так,— подхватил Михаил Иваныч,— вы-
шло так, что он спас честь и, быть может, жизнь многих
тысяч собратьев по фронту!.. Только ты ошибаешься, по-
лагая, что, держа своих бойцов под огнем, он защищал
лишь беженцев и не думал о судьбе дивизии... В послед-
нюю-то минуту, заслыша «ура» своих, что он Тарасу-то
прокричал?!
Ожидая отклика, Михаил Иваныч заглянул в лицо ей
и понял, что она уже далека от только что высказанного
им, что сознание ее занято иным.
— Михаил!
— Слушаю.
— Михаил, не сердись. Я окончательно решила ехать
в Сормово! У меня так много сил, что, право, я буду про-
сто несчастна, если...
— Я уже говорил тебе...— прервал он ее с тою скри-
пучею ноткою в голосе, которая обличала обычно у него
сдержанное чувство горечи,— я уже говорил тебе, что не
встану на пути твоего решения. Но... знай и ты... да, да!..
Знай и ты, что мне будет очень тяжело... без тебя и ре-
259
бенка! Моя личная жизнь небогата, а время идет, время
беспощадно.
Она порывисто прихватила рукою его руку, глаза ее
увлажнились.
— Понимаю, родной, но ведь время не стоит и для
меня.
Они умолкли.
— О чем думаешь? — спросила она чуть погодя.
— О чем? — Он привычно сложил губы трубочкой и
легонько присвистнул.— Я думаю о том, дорогая, что че-
ловек с бесстрастным, математически рассчитанным ха-
рактером— ложь и глупость! И когда рисуют его таким,
говоря о будущем,— тоже обманываются. Человек буду-
щего столь же надуман здесь, как и первобытный наш
предок, кого иные не прочь представлять чем-то вроде ко-
жаного мешка, наполненного рефлексами...
— Опять сентенции? — усмехнулась она.
— Нет, это голос сердца! — отозвался он.— Я про-
жил полвека и все еще порою первобытен, как младенец...
— Не понимаю тебя, Михаил,— заметила она.— Как
будто ты хочешь протянуть какие-то извечные нити ме-
жду первобытным человеком и человеком будущего об-
щества... общества совершенного, в котором... чем-чем, а
собою-то человек научится владеть,— заключила она уже
вяло, сознавая, что сама впадает в круг отвлеченных
рассуждений.
Он промычал что-то, встал, накинул на плечи пальто.
— Куда? — подняла она руку.
— Немного пройдусь, у меня туманит голову.
И вышел на палубу. Шаг его был неровен.
Пароход бесшумно подвигался в ночи, под звездами;
упругий ветер, колебля на вышке сигнальные огни, дул
поперек темной реки. С капитанского мостика слышался
гремучий голос старого моряка:
— Полный ход... Полный!
Где-то звенели цепи, и под ногами в мелкой, зыбкой
дрожи колыхалось нутро судна.
Черноголовый поднялся по ступеням наверх.
— Капитан, вы здесь?
Бравый, подтянутый, чуть-чуть отсыревший голос от-
вечал из темноты:
— Есть!
Черноголовый стал рядом.
— Который час, товарищ?
260
— Полночь!
— А где мы будем на рассвете?.. Вы знаете, капитан,
кажется, я поверну обратно на встречном... Довольно! Си-
лы мои растут, работа не ждет...
Он сказал это совсем тихо, будто его могла слышать
Кудрявцева: ведь ей было бы непереносимо это его на-
мерение прервать отдых.
Но было в словах Михаила Иваныча, брошенных ка-
питану, еще и другое. Чувство смятения захлестывало
его сознание, и он, как всегда в таких случаях, искал вы-
хода из несносного состояния, а выход здесь мог быть
лишь один: надо на что-то решиться, что-то предпринять
и в движении, в действии угасить, размыкать нудную
боль.
Капитан раскуривал трубку, Черноголовый всматри-
вался перед собою в темноту. Пароход шел полным хо-
дом, могуче неся свою громоздкую тяжесть. Он шел уп-
рямо и ровно, разметывая по сторонам горы воды.
— Я всегда говорил! — прокричал капитан, пыхнув в
лицо Черноголового горьким, как полынь, дымком.—
Всегда говорил я: «Дайте нам вдоволь нефти — и мы ра-
зовьем бешеные рейсы...» Теперь это видят все!
— Да, капитан! Вы говорили правду.
Ветер посвистывал у груди Черноголового, и Черно-
головый не пытался противиться ему, как ласке, суровой,
но надежной.
— Вы говорили правду, капитан! Я могу вас порадо-
вать: еще пять лет — и не узнать нашей Волги... Мы да-
дим ей не только нефти — до края, до предела! — вы уви-
дите новые дизели. Мы переоборудуем пристани, мы снаб-
дим вас всем, всем: речная флотилия наша должна за-
нять достойное место в предстоящей социалистической
стройке... Да, да, капитан, мы на пороге работ, каких еще
не знал мир!
Приметно возбуждаясь, Михаил Иваныч повысил
голос:
— Нет, уже нет с нами Ленина, а гений его живет,
побеждает — и победит! Победит, какие бы козни ни
строили мировые разбойники капитала, как бы ни злопы-
хательствовали наследнички старого мира... всякого рода
маловеры, скопцы духа, безумцы, готовые на все во имя
своей карьеры...
— Есть такие, есть! — вставил капитан глухо.
261
— Да, не перевелись еще. Но час кончины их близок...
Скажите,— Михаил Иваныч коснулся рукою плеча капи-
тана,— скажите, как бы вы, ведя свое судно в боевой
рейс, поступили с теми, кто вздумал бы тащить вас об-
ратно, вспять, мутил бы головы вашим матросам, вопил
бы о подстерегающих их опасностях... Ну?!
Капитан взмахнул трубкою:
— Я выбросил бы таких за борт!
— Вот... Слушайте, товарищ,— снова поднял Михаил
Иваныч голос,— какое счастье, что у руля нашей вели-
кой родины — наша мудрая, закаленная в боях партия!
Какая сила, какая непримиримость в ее рядах там, где
дело идет о защите идейного наследства Ленина...
И знаете, дорогой мой, врагов этого наследства ждет
та же участь, что и на фронтах, в гражданскую.
Капитан слушал, взволнованно попыхивая трубкой,
освещая трепетным ее заревом плечо, точеный подборо-
док Черноголового.
И в эту самую минуту Зина, накинув на себя шаль,
придвинулась к столу, заметила развернутую тетрадь, за-
глянула в нее:
«Самое важное в жизни — вера в силы своего класса
и в себя, в правоту свою перед народом».
Холодком никогда не отступающей воли повеяло на
нее от этой случайно из записи Михаила Иваныча выр-
ванной фразы.
Вот он — весь тут, Черноголовый! Это его излюблен-
ные мысли, это его безукоризненная, ежечасно стоящая
начеку жизнь, вся его жизнь.
О, как хорошо знает она этого человека и как много
обязана ему, обязана всем: прозрением своим, вторым
своим рождением на свет! Но отчего же сжимается, отче-
го холодеет сейчас сердце при одной мысли о нем, никог-
да не ошибающемся, никогда не падающем духом?
Зина опустилась на табурет, низко склонила голову.
Она перебирала в памяти события последних лет, она
искала случая, хотя бы единственного, когда и Михаил
Иваныч был иным, и — не находила. Вдруг как-то выпа-
ло из ее памяти все, что связано было с теми моментами
жизни, когда и Черноголовый ошибался, говорил о своих
ошибках, страдал при неудачах и, не стыдясь, искал у
нее, Зины, успокоения, забытья... Все было позабыто ею.
Она сидела, стиснув зубы, закрыв глаза... Ах, этот хо-
лодный, расчетливый, безукоризненный Черноголовый!
262
Наконец, она пришла в себя. Что с нею? Разве иным
представляла она себе Михаила Иваныча, когда впервые
вошла в его жизнь как друг, как женщина, как жена?
И разве не видела она, с кем связывает свою судьбу?
Нет, тут что-то неладное! Она явно несправедлива к
Михаилу Иванычу... Или эти пять лет, проведенные в об-
становке мира, довольства, изменили ее к худшему, сде-
лали ее нечуткою, несправедливою к людям?
Чувствуя себя виноватой, она собрала все силы, что-
бы разомкнуть свое настроение. И прежде всего мыслен-
но перенеслась она в прошлое, к тем дням, когда стала
близкой, совсем, навсегда близкой Михаилу Иванычу...
Ведь именно то, что теперь так настораживает ее против
него,— уравновешенная его сила,— и толкнуло когда-то
к нему ее, Кудрявцеву. Ведь именно такой он казался ей
совершеннейшим среди людей! Нет, она положительно
несправедлива к близкому, самому близкому ей человеку!
За окном приметно светало, а Михаила Иваныча все
не было. Покусывая нижнюю губу, она нетерпеливо при-
нялась шагать из угла в угол.
Наконец, он возвратился. Еще с порога повеяло от
него свежестью, предутренней речной влагою. Лицо его
отливало кумачом, белоснежная голова светилась, стек-
ла очков льдисто поблескивали.
Стягивая с себя пальто, он заговорил приподнято, воз-
бужденно:
— Слушай, друг мой, ты права! Тебе надо на люди,
в большую жизнь... Окунуться поглубже в работу, стать
ближе к тем, среди .кого начал Мартын... Я говорю о
жизни рабочих, рабочей массы. Самое важное в жизни —
вера в себя, в свой...
Она взяла его за руку, крепко сжала в своей:
— Я ждала, Михаил, этого твоего слова. Там, где те-
бе приходилось выбирать между личным счастьем и сча-
стьем других, ты всегда предпочитал последнее...
— И оставался вдвойне счастливым,— закончил он
серьезно.
— Да, да! — согласилась она, торопясь высказать
свое.— Но... скажи, Михаил, почему у меня вот нет ни
того, что есть у тебя, ни того, что было у Мартына?!
— Ты несправедлива к себе, Зина,— откликнулся он
с укором...— И потом... ставя так свой вопрос, ты проти-
вопоставляешь меня Мартыну, а между тем мы... как бы
это сказать?., мы — плоды одного дерева... Не так?
263
— Так, только и с одного дерева плоды-то не одина-
ковы,— заметила она, оправляя одеяльце у ног Линочки.
— Разумеется, не совсем одинаковы... в степени сво-
ей зрелости! Все горести Мартына как раз и проистекали,
милая, из-за недостаточной зрелости, то есть, в переводе
на наш язык, из-за слабости классовой закалки... Между
прочим,— повысил он голос,— не находишь ли ты, что
подвиг Мартына на фронте — это результат волевой вы-
держанности воина, это образец стойкой дисциплиниро-
ванности! Вот этого-то всего ему, Мартыну, солдату на-
шей партии, и не хватило там, в Лисках, при выполнении
данного ему поручения... И было бы ошибочно объяснять
то, что произошло с ним в Лисках, у поезда с нашими
семьями, слабостью воли, трусостью, подчинением слепо-
му инстинкту самосохранения... Нет, нет, Мартын наш не
такой!.. Он просто оказался не на высоте своего долга,
долга солдата партии, для которого всякое ее поручение...
Михаил Иваныч не договорил, перехватив в глазах
Зины выражение боли и еще чего-то, трудного и смутно-
го, близкого к упреку.
— Прости, Зинушка, отвлекся я... Итак, Сормово!
Что ж, в добрый час... И знаешь что: если ты не переме-
нишь своего решения, наш наркомат охотно поручит тебе
там, во-первых, заботу о кадрах... Во-вторых... Разреши,
пожалуйста, развернуть тебе наш план... коротенько...
Он наклонился к своей тетради, перелистал ее и, оста-
новившись на одной из страничек, начал в полный голос:
— Дело в том, Зина, что этот район чрезвычайно ва-
жен для всего нашего хозяйства... Прежде всего...
Зина предостерегающе вскинула руку, указывая глаза-
ми на спящую Линочку, но та уже приподнялась в посте-
ли, настороженно поблескивая глазами, вслушиваясь во
что-то неизъяснимо-радостное внутри себя.
— Мамочка! — вскричала она, заглянув в окно, осле-
пительно радужное под первым лучом солнца.— Вода, во-
да горит...
1928
РАССКАЗЫ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Коммунистка, старая подпольная работница, героиня
труда — вот кто такая Бармашева.
Аграфене Петровне за сорок, но глаза у нее по-моло-
дому зоркие, с искринкою, походка проворная, пружини-
стая, речь пылкая и крепкая.
Бармашева — отличный работник среди женщин, муд-
рый советчик и чуткий товарищ, способный на незауряд-
ные жертвы. В самое последнее время особенно охотно
возится oiHa с детьми, устраивая ясли, сады, приюты.
Встретил я Бармашеву на отдыхе в Крыму, в одном
из санаториев.
— Сдавать начала!.. — посмеиваясь, жаловалась
она.— Бывало, у ткацкого станка по двенадцати часов
трубила, хоть бы хны! Ну, а теперь, чуть что, в поясницу
вступает... Ребята приказывали подлечиться... Да вот, не
знаю, выдержу ли: уж больно скучно тут без дела!.. Опять
же вон какой повсеместный разворот в хозяйстве... Каж-
дая пара рук на счету!..
Моря она не терпела.
— Силы в нем много, а толку мало: на манер бары-
ни-баловницы с утра до утра плещется, регочет, а как
обуздать — не придумано!..
И вовсе было забавно видеть ее в часы прогулок, ког-
да, нахохлившись, шарила она глазами с отмели по неог-
лядной водной пустыне.
— Турбины бы, что ли, какие поставить? — раздумчи-
во говорила она спутникам.— Зря ведь силища-то про-
падает, а?
Дворцы Ливадии и Массандры, роскошные, но в ту
пору еще пустые, огорчали Бармашеву не менее, чем «без-
делье» моря.
267
— Ты понимаешь,— заметила она мне в одно из по-
сещений нами Ливадии,— тут до двухсот комнат... Ведь
это же — на целый город детворы!..
Раздражали ее мертвые бесшумные кипарисы, лени-
вые греки, часами лежавшие в тени своих дворов, табач-
ники, обливающиеся потом, чтобы вырастить ядовитое
зелье, и даже роскошные виноградные плантации не воз-
буждали особого сочувствия Бармашевой.
— Какой, это край! —вздыхала она.— Винный да та-
бачный... Все тут вроде как временное...
И она сбежала до срока, не закончив отдыха.
В один из последних вечеров у моря, пряных и чер-
ных, как деготь, с оглохшими звездами наверху, с тоск-
ливым перекликом цикад, Бармашева потянула меня к
берегу и здесь, усевшись на теплый осколок гранита, не
спеша рассказала кое-что о себе.
— Ты попомни это да запиши: может, кому пригодит-
ся. Особливо молодежи нашей: пусть знает, какие муки
нам в юности-то испытать довелось.
Начала она так:
— Не верь, милый, что человек только раз родится.
Который посчастливей, тот и дважды и трижды на свет
вылупится, и всякий раз человек тот новыми глазами на
мир глядит.
ЮНОСТЬ
Впервые, как все, родилась я у матушки с батюшкой
в селе Плющихе, в ста верстах от Москвы, на пятом году
после расправы с царем Александром Вторым.
Ну, на место Второго сел тогда Третий, мужикам от
того легче не стало, а мой батенька как раз тут землю
свою побросал и в батраки подался к купцу, на мельницу.
Росла я, как мышка в норке, на корочке хлеба, и уж
вовсе не думала, что когда-нибудь и мои мышьи зубы то-
чить примутся под царем сиденье...
Девяти лет отдана была я в няньки к попу, и тут впер-
вые поколебалось во мне почтение к богу, ко господу, к
«господину» всего людского. Поп тот, хозяин мой, был
лютый пьяница и охальник, бил свою попадью, прижил
на стороне, с просвирней, ребенка и часто, разбуше-
вавшись, крыл черным словом всех великомучеников.
Эх, и хватила же я у того попа горя! Сверстники мои
жеребятами при родителях резвятся, а я, как окаянная,
268
вечно в трудах: то белье детское постирай, то с кухаркой
на речку съезди, то полы помой да убери скотину.
Сбежала я! Мать сколько-то дней угощала пинками
меня и плакала, а потом сжалилась, гнев свой на попа
повернула и даже в школу меня пустила. Захлебываясь,
твердила тут я аз-буки и уж книжку читать стала... Од-
нако ж недолго ученье мое продолжалось. В конце вто-
рой зимы, великим постом, взял меня батька из школы.
— Что тебе, в лавке сидеть али писарем быть? — го-
ворил он.— Садись, девка, с матерью за куделю...
Поплакала я, села за пряжу, а там, чуть приобсохли
дороги, отвел меня батенька в подмосковное село, в Се-
миполье, на поденщину.
Жители тамошние — староверы. Бог у них, как гля-
жу я теперь, обстоятельный был, крутой да хозяйствен-
ный, вовсе не похожий на поповского. У поповского жад-
ность с разгулом уживалась, а тут только знай, что рупь
на рупь в рундуки спускай... Оттого и свечки у кивотов
Семиполья куда как толще нашенских, а жеребцы во дво-
ре лютее и крепче.
Сразу невзлюбила я хозяев своих. Глаза хоть взять:
этакие у всех ясные да умильные, ребячьи какие-то. А на
сердце — что у бабы, что у мужика — булыжник. Скажет
ежели старший, бородищей тряхнет: «Уходи, господня ра-
ба, не нужна ты нам»,— баста! Тут уж хоть криком у во-
рот изойди, не впустят.
Ух, как ненавидела я их, а терпела. В поле, в садах —
как каторжная. В будни и в праздники, в погоду и в не-
настье— одна честь...
Бегала урывками за село на свалку я, копалась в на-
зёме, собирала медянку, медные всякие облом<ки, плати-
ли тогда за фунт добра этого гривенник... Так что же?
Проведал хозяин, всю выручку у меня отобрал. «На на-
шей,— говорит,— добывала земле...»
Каждое лето, четыре года подряд, выколачивала я в
Семиполье по полсотне рублей, и отец за сорок верст
приходил ко мне под осень за моим заработком.
Кажется, с тех самых пор научилась я ненавидеть
деньги: через деньги, думалось мне, не живу я под роди-
тельской кровлей, через деньги стала я с детских лет
вьючной скотиной, через деньги и отца своего родного
разлюбила.
Помню, как бы даже обрадовалась я, когда не при-
шел он на пятую осень в Семиполье. Узнала потом, что
269
сорвал на мельнице живот себе, полежал дома с неде-
лю — преставился.
«Царствие,— думаю,— ему небесное, а я больше
Семиполью не слуга».
Совсем было решилась уйти домой, да вдруг припожа-
ловала мать моя самолично, сколько-то часов ревела, ла-
скалась, на нужду нашу жаловалась. И осталась опять
я у своих богомольных хозяев на всю зиму.
Вот уж зима была! А к весне еще хуже мне стало...
Встанешь, бывало, в три часа ночи — и прямо на свалку:
за навозом для пашни. В поле мороз, в небушке звезды
сосулями, а тут знай отгребай снега, навоз добывай, ки-
дай наружу к саням. Выроешь этак ему саженей на пять
в длину, аршина на два в глубину, и там вот на днище,
как в чертовой шахте, буравишь под фонарем лопатой.
А на ветер вылезешь, вонь от тебя, и на кого только по-
хожа! Вся-то в навозе, пот льет ручьями, руки в крова-
вых подтеках.
Ездил со мной у саней паренек Васята — первая и
остальная любовь моя. Сирота круглая, из себя вовсе не-
взрачный, а умом был пригож и досуж.
Говорит он мне однажды:
— Хочешь, Груняха, настоящей жизни? Бежим без от-
казу в Москву...
— А какой в том толк?..— его я спрашиваю.
— А такой, что тут нам все равно погибель...
— Ладно, бежим!..
Шел мне семнадцатый год, и хотенье добиться настоя-
щей, человеческой жизни, как опара на гуще, вздувало
мое сердце.
— Ладно, Васята, бежим!..
НА ФАБРИКЕ
Довелось мне в Москве через того Васяту поступить
на фабрику — шить шинели солдатские. Фабрика та воз-
ле Курского вокзала, зданье посейчас стоит там.
Проработала я здесь два года. Труд был нелегкий, де-
шевый, сдельно от шинели получала я всего-навсего пя-
тиалтынный. Была попервоначалу ручной работницей я,
позже надзирательница перевела меня на машину.
Все бы отлично, все бы хорошо, да смена моя ночная:
от семи вечера до шести утра. Придешь на квартиру ут-
ром, голова-то трещит, глаза вон лезут, ноги мозжат, а от-
270
дыха тебе нет: снимала я койку на кухне, и днем вечный
стоял здесь шум.
Так вот, в чаду каком-то, прожила я два года. И за
эти годы восскорбела во мне душа. Людей вокруг много,
и каждый такой же, как ты, горюн, а сладу в нас нет:
будто свои, а чужие, будто и близкие, а мигни кому над-
зирательница— бежит человек, как услужливый пес, без
оглядки, позабыв чужих и своих.
«Э, нет,— думаю,— нельзя так, сестрицы!»
Да и стала я на всех огрызаться, на начальство лаять-
ся, а начальство у нас лютое: нишкни!
Рассчитали меня, и свались тут я вовсе: разломило
меня всю, руки да ноги поскрючило. В больнице потом
сказывали: от стали машинок, от пола асфальтового за-
недужилось мне.
Ходил на повиданье в больницу Васята ко мне, прино-
сил мармеладу, и учуяла тут я, что не сахаром сладок го-
стинец— любовью горячей. Говорил мне Васята:
— Хожу, Груняшенька, на лесопилку, добываю труда-
ми на двоих... Понимаешь ты это: на двоих!
Понимать-то я понимала, а про себя, дурная, такое
думала:
«Люблю, а не скажу, слова не вымолвлю!»
Тревожилась я, что калекой из больницы-то выйду:
нужна ли кому такая?
И молчала, дурная, а потом... никто уж никогда слов
этих («на двоих») не говорил мне: так и осталась я холо-
стою на всю жизнь...
Да я — ты не думай — не очень печалюсь об этом.
Мудрость ткачихе иная положена: береги в основе каж-
дую нитку...
Но об этом — подальше.
КАК В АДУ
Приключилась беда с сердечным моим, с Васяткой.
Я — из больницы, а его — в тюрьму. Заточили крепко, а
за что — неведомо мне было.
Одно знала — не за разбой, не за воровской поступок.
Долго печалилась я и потому, главное, что была у Ва-
си своя, от меня в секрете, жизнь.
Пыталась от людей распознать, да толку у них насто-
ящего не добилась. «Смутьян,— говорили мне,— за сму-
ту и взяли».
271
А в чем эта смута, никто толком не знал. Про себя
же решила: если Вася за смуту, значит, смута —дело хо-
рошее.
Шел тогда тысяча девятьсот четвертый год, ералаш-
ный, злой. Плыли из деревень слухи худые: обижали му-
жика помещики, изголялись над ним урядники, табуни-
лись всюду казачишки да стражники.
И в Москве непогоже было. По заводам — хмурь, на
улках студенты кучами ходят. А тут — еще новость: уби-
ли у царя самого главного министра... Дворник говорил:
политики какие-то убили, а старый жестянщик (во дво-
ре цибарки мастерил), так тот, подвыпивши, такое плел...
аж жутко становилось... Порешили, вишь ты, министры
Россию японцам продать, а царь хоть будто бы и против,
а сделать ничего не может!
И война эта с японцами! Откуда, зачем, кому нужна?..
Многие тогда почуяли: сдвинулось что-то в Россиюш-
ке, перепуталось, а что и к чему — не прощупать!
С утра до ночи ходила я в те поры по городу, работы
искала, кажись, все мысли повымерли, одна только и жи-
ла: где бы пристроиться?..
Наконец, нанялась на Арбате в трактир я, судомойкой.
Вот уж работка! Начиналась с трех утра, кончалась
в одиннадцать ночи, а оплата за эти двадцать часов —
десять копеек. А пища какая! Не стали бы и свиньи ку-
шать.
Понравилась я кассиру, устроил меня подавальщицей
у прилавка. Теперь не десять выколачивала я, а два-
дцать, только... не стерпела тут и недели...
Шум, гам, пьяная шваль и каждый, окромя кассира
того, норовят обласкать тебя: кто ущипнет, а кто и об-
лапит...
Выручил один завсегдатай, рабочий с завода: был он
пьянчужка, а сердцем услужлив, на других, здешних, не-
похожий.
Отвел он меня на завод, через кума на работу просу-
нул. А завод тот непростой, снаряды выделывал.
Назначили меня в желтое отделение, меленитом да по-
рохом начиняли там гранатные стаканы.
Я бы тогда в самый ад пошла, только б долой из трак-
тира! А и впрямь в ад попала... С первого утра началась
беда. Вижу, снимают у ворот рабочие всю одежонку и
идут в нутро, а внутри и бельишко прочь, на плечи —
272
больничный халат, на рожи — маски, к ногам—деревян-
ные колодки...
Кругом часовые!
Впихнулась я в цех, и сразу у меня голова кругом...
Воздух тяжелый, станки да колеса, а как заработал мо-
тор, как воскружились шестеренки всякие да поползли
отовсюду привода змеями, так я и замлела...
В воздухе ветер, как от тысячи веялок, гвалт, крики,
ругань... Стою я дурочкой, о маске забыла и вижу: все на
мне желтым становится, а прядки волос как в кровь опу-
стили... Хотела закричать, да вдруг закашляла, зачиха-
ла, поднялась страшная рвота... Пробегал мимо табель-
щик, увидел — станок вхолостую гуляет, а я подле как
чушка на полу валяюсь. Заорал на меня:
— Ишь ты, телячьи нежности! Живо на работу, а не
то к чертовой матери!..
Прокопалась я, по указке соседей, кое-как до смены,
а наутро в контору:
— Пожалуйте паспорт!..
Улыбнулся конторщик.
— Ну, нет,— говорит,— паспорта тебе не дам... Рань-
ше месяца никого не пускаем...
Я так, я этак. Отослал к директору. Директор вроде
бы как удивился, что самовольно к нему, расспросил. Го-
ворит:
— По нашему положению нельзя отпустить вас... Од-
но предлагаю: няней ко мне. В фартучке ходить будете, в
кокошничке, в туфельках!..
А сам на меня из-под очков зарится.
«Ну, нет,— думаю,— знаю я, как чисто ходят!»
— Спасибо,— отвечаю.— Только уж вы не обессудь-
те... Отдайте* мне паспорт!..
Вдруг, приподнявшись, заорал директор:
— Вон, паршивая! Смеешься?
Пошла я, заплакала. Куда без паспорта? Да и скрой-
ся куда, все равно по карточке сыщут, в дезертирах объя-
вишься.
С месяц страдала я в «желтом» отделении, а там — ко-
миссия: постучала, послушала, нашла биение сердца. Пе-
ревели в прессовальную, где прессовали гранаты.
Еще месяц промучилась я. Отпустили!
И не мила мне стала Москва, не мил весь свет... Бе-
жать, но куда? Где дороги мои?.. Кто поджидает?..
273
В ЦАРСКОЙ СТОЛИЦЕ
Сбили меня люди в Питер податься, а тут еще вспом-
нила: жил там, на ткацкой, дедушка мой. К нему-то я и
припожаловала.
— Не вовремя, внучка, бог тя принес! Нам тут самим
до себя...
Обидели меня слова эти Панкрата Максимыча. Ну,
а как пригляделась к царскому городу, поняла деда, про-
стила.
Худо, худо нашему брату жилось в те поры. Ох, как
худо! Теснота, давка, безработица. Цены на продукты
скачут на тройке, а заработок... раком пятится. Главное
же, без глаз были фабричные, в темноте, в бестолочи,
брюхом одним, можно сказать, жили...
Определил меня дед кое-как на свою фабрику. Фаб-
рика та огромная. Шла днем и ночью. Рабочих на вей,
считая подростков и женщин, с тысячу было. Работали
часов по двенадцати.
Машины на фабрике новенькие, заграничные, все стан-
ки-живчики, а порядки, говорили люди, как при царе
Иване: нишкни, не дохни, каждому кланяйся, за каждый
промах — ругань да штраф.
Работка на этом деле показалась мне с непривыка
вовсе горькой. Бывало, ждешь не дождешься гудка, на
отдых тянет, а отдыха сразу нет. К деду придешь — в под-
вале обитал он — со стряпней возись, бельишко ему да
себе постирай, одежонку заштопай.
И суров был дед ко мне. Иной вечер слова не вымол-
вит, все у икон своих,— полон угол икон у (него!
Помню, пожаловалась я на складского приказчика, на
Кузьмина, за охальство его, а Панкрат Максимыч, де-
душка мой, меня же и заупрекал:
— Сама, небось, хвост задираешь, людей на грех на-
водишь... Молись, дура, сокращай плоть!..
А молиться я вовсе не мастерица была. За это и за
иконы обижался на меня дед. Бывало, просит:
— Протри, Груня, гущицей Спаса... Эвон как потем-
нела ризница-то...
А я у корыта вожусь или с иглой лямку тяну, в гла-
зах-то песок.
— Ладно, протру!..
Обещать обещаешь, а сделать — ни-ни: не то что Спа-
са, себя никак не образишь...
274
Раз чуть из дома не выгнал меня дед. Из-за тех же
икон, из-за бога. Вот какое дело вышло. Случилась на
фабрике беда на моих глазах. Повел раз дед меня в свое
отделение: пускай, мол, видит, как я, старый, мытарюсь
тут!
Ну и действительно, работка! Шум, гул... Из-под ва-
ликов— хлопок, как мыльная пена, и пыль от хлопка та-
кая — не продохнуть!..
Кашляла я, пробираясь в тесноте за дедом к его ма-
шине, и все мне чудилось, что вот-вот угожу под ремень
или в зубчатку.
Вдруг слышим: крики! Рабочие с мест сорвались и —
бегом. Дед к себе, а я — за ним и вот вижу: у одной ма-
шины, меж приводным ремнем и колесом, груда мяса в
крови. Промеж острых валов — остатки рук, ободранная
голова: волосы взъерошены, рот, как яма, а глаза, страш-
но сказать, улыбаются.
Собралась толпа, явился инженер, потом и сам дирек-
тор.
У людей зубы стучат, а директор выпятил нижнюю гу-
бу, повел носом, говорит:
— Пьян был! Не иначе.
Это о погибшем-то!
Сжалось во мне сердце от злобы к человеку этому, еле
удержалась, чтобы не вцепиться в него.
А дед вечером на слова мои о несчастном только и
сказал, что:
— Так уж, видно, на роду ему написано... От бога
все...
Вскипела я.
— Если,— говорю,— от бога, так на что он, бог твой,
такой?
У деда глаза побелели:
— Окстись, беспутная!..
А меня словно бы прорвало: засыпала деда я жало-
бами! И о Семиполье вспомнила, и о попе своем, на кого
в детстве мучилась,— о всех своих притеснителях... Все
ведь они на бога уповали, с богом в ладу, как с урядни-
ком, жили...
— А, так вот ты как!—заорал старик, ногами зато-
пал.— Вон! Вон из моего дома! У социалистов обучалась?
У цареотступников? У еретиков?!
Накинула я одежонку на плечи, хлопнула дверью и
ушла до позднего часа. С того дня еще пуще к людям
275
стала присматриваться. Запали в башку мне слова деда...
Кто же такие социалисты эти?.. Заодно, вишь, со мной
думают,— значит, близкие мне. И долго искала я их, со-
циалистов, еретиков. Да все напрасно!
Потом уже сообразила, что таким напоказ нельзя.
Работать мне приходилось все больше, а тут приказ-
чик приставать стал. Мысль неотвязная угнетала меня:
«Ужли так, без радости, без проблеска, в нужде тяж-
кой, всю жизнь проживу?»
И в отчаянии готова была ко всем с вопросом прили-
пать:
«Как выйти, как выбраться из положения? Люди доб-
рые, укажите!..»
Видела я, что не мне одной, всем вокруг тяжело. Не я
одна, все вокруг ищут и не находят, стучатся, и никто им
не открывает.
Передо мной тогда, прямо сказать, два только пути
было: первый — с собой покончить, второй — разделить с
другими, такими же, как я, бездольными, судьбу, что-то
вместе придумать, на что-то решиться...
Но на что и как — вот загвоздка...
Наши фабричные все еще на манер сурков жили:
иной раз поворчат, потревожатся, мастеру вслед ругань
бросят, а дальше — ни шагу. Иной штрафу опасается,
иной на другое, что повыгодней, место трафит, и все как
один страшились расчета.
Я уж говорила, что на фабрике сколько-то при рабо-
те, а за фабрикой сотни без куска... Каждый день у кон-
торы безработные толкались, умоляли хоть что-нибудь
дать им.
— Петлю накинь, в цепи закуй,— только дай ра-
боты!..
Где уж тут фабричному голос поднять, на мастера по-
жаловаться, об участи своей подумать?! Сиди, не дыши,
спасибо, что держат...
Прослышала я как-то, что на Васильевском острове
собираются рабочие, обсуждают дела свои и никто их
будто бы не преследует.
Спросила у Вари, ткачихи-соседки, шустрая была. За-
смеялась:
— Поди-ка сунься! Живо угодишь на тигулевку...
Потом, прихмурившись, объяснила:
— Ходят некоторые в отделение Общества... Как бишь
его, Общество это?..
276
Покричала Быстрову, подручному механика, — про-
ходил мимо:
— Яшенька! Слышь-ка... Как это Общество прозыва-
ется?..
Поглядел на обеих на нас Быстров — из себя хмурый
был, в глазах вечно холодок таил,— поглядел, ответил:
— Общество русских фабрично-заводских рабочих.
А что?
— Да вот девка любопытствует.
Еще раз взглянул на меня,— вспыхнула я,— отвернул-
ся, молча пошел своей дорогой. Потом уж, через день или
два, захватил меня у ворот, рассказал обо всем. И узна-
ла я тут, что в Общество записываются целыми завода-
ми — мужчины и женщины; что там, на собраниях, гово-
рят о нуждах рабочих, читают книжки, спорят.
Но самое важное узнала я — этого было мне за глаза
довольно: главным у них — священник Гапон.
«Поп! Что ж от попа путного быть может?..»
В сто первый раз стало у меня на пути обличье дере-
венского попа, озорного да пьяного.
«Ну, уж бог с ним, и с Обществом!..»
А тоска грызла бедную мою голову, и все чаще стала
я по ночам покрикивать, сны всякие меня мучили, рабо-
та вон из рук валилась.
Но тут вскоре произошло со мною такое, что... еле оп-
равилась я.
БЕДА
Прихватил меня однажды приказчик на складе, об-
лапил и ну кости ломать! Сильный был, дьявол, звери-
ною силой, а людей вокруг, как на грех, никого... Я в
крик да в рев, а он совсем бешеный... На прощанье цел-
ковый мне в руку. Взяла я, не помня себя, а как вышла
во двор — невзвидела белого света. Целковый тот Кузь-
мина швырком в бурьян, сама наземь — и ну вопить.
Все еще жил в сердце у меня Васята, и не за себя, за
него рвалась душа моя в клочья.
Сбежались на крик мой, один за другим, люди, а во
мне, как под ножом в больнице, никакого стыда: на го-
лос всем о сраме своем кричу.
Дальше да больше — полдвора, вижу, в людях. Бабы
округ меня возятся, мужчины дежурного зовут, требуют
протокола. Инженер прибежал.
277
— Тише! — кричит. — Расходись...
А сам, поганый, на меня пялится. Из-за слез поймала
я склизкий его глаз.
— Тише, ребята!..
А где там «тише». Гудят вокруг люди, приказчика на
чем свет клянут, кулаками в небо сучат.
И явилась Варвара, ткачиха, взобралась на ворох
хлопка, орет:
— Убить его, зверя! Седьмую портит...
С кулаками толпа вся — к конторе. Слышу свистки
полицейских, бегут отовсюду прислужники хозяйские.
Подошел ко мне парень, подмастерье механика, Быст-
ров тот.
— Нельзя вам тут...— говорит ласково.— Не обес-
судьте проводить вас отсюда...
Уцепилась я за него, как утопленница, да ни с ме-
ста, причитаю свое.
Кое-как приподнял он меня, к воротам отвел, извоз-
чика крикнул. Вертелась земля в глазах, и било меня
всю в студеной икоте.
У дома отпустил Быстров извозчика, пособил мне на
ноги стать.
— Ничего, — говорит, — товарищ!..
Как ни горько мне было, но услышала я это слово —
товарищ, и будто зарница полыхнула во мне.
— Спасибо, спасибо!
Припала я к парню, плачу навзрыд, руки ему, как ду-
рочка, целую, причитаю:
— Спасибо, Васенька, Вася, Васята!..
А и впрямь величали его так, потом уж узнала.
С час просидела одна за воротами, пока в ум не во-
шла. Буран зачинался, снега с неба сыпались.
Дедушка мой второй день прихварывал, на фабрике
не был. Думала — спит, а он у икон на коленях ползал...
Молчком к себе в угол забралась я, лежу, слушаю.
И слышу слова такие:
— Помилуй мя, господи, по велице милости твоея...
Прииди ко мне, окаянному, склонись ко сердцу мому,
усыпи боли мои. Помилуй, помилуй, помилуй...
Ночь была, тишина кругом, как в гробу.
— Помилуй, помилуй, помилуй...
И жутко, и гадко, и злобно мне стало: к кому взыва-
ет, на кого уповает, кто там над ним, стариком, в ка-
рауле?..
278
А дед свое:
— Немощен, господи, дух мой... Хожу по земле, раб
твой, темный от скорби... Помилуй, помилуй, помилуй!
Чувствую я — клокочет во мне злющий-презлющий
смех, как бес. Я рукою за рот ухватилась, в подушку —
зубами, а смех все сильнее — клубится в груди, под са-
мым сердцем... И не вынесла, вскочила с постели я,
свернулась лисицей, с визгом хохотать принялась. Хохо-
тала и плакала, словно в волне какой, захлебнувшись,
барахталась.
Испугала я деда. Закрестил он меня, задрожал боро-
денкой, водой в меня брызжет.
— Помилуй, помилуй!..
НА ШАГ ОТ СМЕРТИ
Наутро, сказавшись больною, проводила я деда,
а двери скорее на крюк. Хожу по горнице, как тень в не-
погоду. Скрипнет ли половица, крикнет ли кто в коридо-
ре, схолодею вся до липкого пота. А забылась на час,
прикорнув на лавчо-нке, вовсе душа заметалась во мне,
и причудилось: стоит на пороге Васята, бороденка
всклокочена, из глаз слезы ручьем.
— Груня! — говорит.— Грунюшка...
Хмычет хлипко Васята да ближе ко мне, шаг за ша-
гом, псом побитым:
— Прикрой живот свой, живот!..
Толкнула я в грудь ему, вскочила на лавке, гляжу на
себя — одеться с утра позабыла.
Принялась вздевать я чулки, юбчонку, и тошно мне
себя касаться, как к заразе какой.
Вдруг застыла я при мысли, что завтра, через день
ли, через два ли, придется опять на люди идти, начинать
все сначала. И опять, как с месяц назад,— только не
робко, а как гостья богатая,— постучала ко мне смерть:
«Вон он, крючок-то, бечева в углу!..»
Но... чудное дело! Бечеву я сыскала и петлю смасте-
рила, а на крюк глаз поднять не могу. Прошла к посте-
ли, осела, сижу. Сижу, и видится мне, как буду лежать
в гробу я, как сложат мне руки на груди и каким лицо
у меня станет — белым да скорбным...
И принялась я плакать. Плакала о себе, как о ком-то
чужом, перебирала в памяти все дни, все дела, все мы-
тарства Груняшки, сироты круглой.
279
Застучали в дверь.
«Дед».
Молча вошел старик, зорко окинул горенку, про себя
хмыкнул.
Как сейчас помню: стояла я, прижавшись к кровати,
вся исходила дрожью, а старик, не крестясь,— в первый
раз, входя, не крестился — подошел к столу, суетливо
сдунул соринки.
— И-ах, лежебока, целый день сидела, со стола не уб-
рала. Полы-то, полы! И печь холодная...
Говорил так бранчливо, а в голосе — ржа, и глаза на
меня не глядят.
— Без обеда осталась? Да и ах ты, дурашенька!.. Вот,
поешь тут... Припас кое-что... Ситник, видишь? Колбаса
краковская, с перцем... А это что? Почто бечеву-то на
крюк? Умная голова! Кто же белье в избе сушит... Тебе
бы на чердак, на чердак снести, 1на мороз-то белье-то...
И, ко мне в лицо заглянув, голосом новым:
— Сядь-ка сюда!..
Сам — на постель, руку на плечо мне:
— Слышь, Груняха, дело какое: забастовка у нас...
Вся фабрика стала!..
— То есть как это стала?— вскинулась к деду я. —
Почему такое?
— Известно почему!.. Прибавки просят... Расчет пра-
вильный чтоб... Штрафы поскинуть... Обыски прочь...
Сокращенье рабочего дня...
Проглотил старик слюну и дальше:
— А этого, слышишь, диколома этого, приказчика...
убрать в одночасье требуют, чтоб и духу его не было...
Пунктом проставлено, неукоснительно...
Посмелей заглянула в глаза старику я, вижу: близкие,
родные!
— Ужели... поднялись?..
— Все, внучка, все!
— И этот, как его, Опарин Ванятка?
Был такой во дворе, на складах у нас, юла и угод-
ник, забитый вовсе.
— И он, а то как же? Коль лед пошел, всем льдин-
кам плыть...
— А что же дальше-то будет?
Сразу о себе позабылася, и до полночи говорили мы
с дедом, о людях тревожились.
280
СООБЩА НИЧТО НЕ СТРАШНО
Нет такого у человека горя, чтоб оно не растопилось
в тревоге, в борьбе, в горе общем.
С вечера думалось мне, что вовек не посмею выйти на
люди, а утро пришло, потянуло к ним без оглядки.
— Идем, идем...—одобрил и дед.— Узнаем по край-
ности, что и как!..
Шли мы вовсю, но, завидев вдали у фабричных во-
рот толпу,запнулась я.
— Ты чего?
Покосился дед, понял меня, рукой махнул.
— Вот-то дура! Не купецкая дочь — на себя все гля-
дишься... Эвон, чего у ворот, смотри!..
Стыдно мне стало, побыстрее пошли, и сразу, как
только воткнулись в толпу, спокойно за себя мне стало.
Да уж и некогда было глядеть на себя.
— Это кто говорит-то? — спросила соседа я, указав
на оратора: взобрался на скамью у самых ворот.
Сосед — в картузе с козырьком подгрызанным — уз-
нал, руку пожал мне «Аграфене Петровне». Объяснил:
— Гришка Подморов речь держит, из трепальной,
знаешь?..
А Подморов выкрикивал густо да злобно, распекал
будто кого:
— Не уступим чертям! Стоять так стоять! Будет, по-
терпели!
На место его взобралась на скамью Варвара, ткачи-
ха, и с удивленьем слушала я знакомую бабу: та и не
та, какая-то новая... Да и все вокруг новые, пораспрями-
лись как-то, зацвели.
— Товарищи! — говорила Варвара.— Мы шлем депу-
тацию на бумагопрядильню Штиглица и к другим тоже...
Пусть присоединяются! Сообща ничто не страшно! Сооб-
ща одолеем! Так говорю?..
— Так, так!.. Верно!..— ревели вокруг, и я не сдержа-
лась, подняла свой голос:
— Чего требуем?..
Варвара услышала.
— Восемь часов! — начала она зычно выкладывать.—
Отмена ночных! Отмена сверхурочных! Повышение опла-
ты! Полная плата за время болезни...
Люди подхватывали каждое слово, точно в мяч иг-
рали:
281
— Так! Верно!
Иные заливались ребячьим смехом, подталкивали
друг дружку: вот, мол, как у нас!
— Не больно ли много?..— раздался вдруг возглас.
И все повернули на голос головы, зашикали дружно:
— Эй, помолчи там!..
А Варвара прибауткой — свое:
— Проси больше, купцам горше!..
— Правильно!..— грохнули в передних рядах, заулы-
бались, задвигались.
В эту минуту поднялся подле Варвары человек из чу-
жих, в пиджаке с отворотами. Вскинул он руки и начал:
— Товарищи! Социал-демократы готовы вместе с ва-
ми на борьбу, на смерть!..
При первых же словах человека этого взыграло у ме-
ня под сердцем.
«Так вот они, социалисты, еретики...»
А человек продолжал:
— Товарищи! Вы не одни... Позавчера на Путилов-
ском объявлена забастовка. Рабочие требуют возвраще-
ния уволенных... Мы, социал-демократы...
Он не закончил.
От заборов с воплями ринулись подростки:
— Полиция!..
В толпе забурлило, а я, как шальная, челноком —
к воротам: хотела вблизи увидать «социалиста, ерети-
ка»... Столько искала!..
Но люди хлынули от ворот, еле на ногах устояла я.
Социал-демократ пропал, и мы, как горох, в разные сто-
роны.
— Спокойней, спокойней! — командовал кто-то.
— Из Общества человек! — пояснил мне сосед, ука-
зав в сторону голоса.
Первый раз в жизни, возвращаясь домой на покой,
чувствовала я себя как бы на корабле в море: двигаюсь
вместе с другими, идем на всех парусах в новый, светлый
край.
И главное, не одна я! Нас много, нас столько, что вот
могли бы запрудить весь Невский, опрокинуть дворцы,
обратить в бегство всех расфранченных господ и... Но
еще не знала я, что могли бы мы сделать в завершенье
всего.
Дедушка вечером по-обычному ползал у икон, причи-
282
тал что-то свое о небесном, а мне было и сумно и тре-
вожно, но от прежней горечи след простыл.
Ложась спать, сказала я деду, чтобы быть по душе
ему:
— В это воскресенье почищу вам Спаса...
Так бы, может, и сделала, да случилось в воскресе-
нье такое, что не то что об иконах — о всем своем прош-
лом забыла я: сызнова в муках на свет рождалась, с ты-
сячами единоутробных вступала на путь новый.
К ЦАРЮ С ГРАМОТОЙ
Много лет прошло с тех памятных дней, а и теперь
вижу, какие тогда были мы безглазые.
Как тулово без головы: сил-то в нас много, и чуяли
правду где-то, а где — не видели. Так, зажмурившись,
шли мы вперед, без разбору, как ноги несли.
Шестого января вечером дед мой, покончив с молит-
вой, не лег, как обычно, в постель, а присел у стола и
начал:
— Груня! Сорок лет с фабрики на фабрику мыкался
я... Искал все, где лучше... Насмотрелся дотемна в очах,
понатерпелся до ломи в костях... А лучшего не нашел...
Видел людей я всяких, видел заводчиков многих: буйных
и хитрых, хитрых, как змеи... И вот говорю: все они, чер-
ти, на один манер, и дух их признаю за десять верст!..
Говорил старый долго, а кончил ничем: принялся вы-
считывать, сколько теперь, если дадут нам восемь часов,
должны вернуть нам за лишки в давнее время.
И, помолчав:
— Наши завтра гуртом идут на собрание энто... Ца-
рю грамоту вырабатывать будем... А ты... не ходи!.. Бог
ее знает, что станется... Не бабье то дело!..
Смолчала я деду, а на другой день, только-только
стемнело, хвост в зубы — и айда!..
Дом двухэтажный. От дверей вдоль улицы лентою лю-
ди: и чужие и наши. Прилипла к одной артели я. Слышу,
говорят:
— А почто пришли? Нам студентов, курсисток не
надо!..
— Голову только морочат!..
Вижу — двое в сторонке: он в пальтишке, в рваной
фуражке, она — под платочком, глаза у обоих не наши —
больно смышленые.
283
— Ай вам места жалко? — говорит та, чужая, бойко.
— Не жалко, а только от вас, социалов, беда одна!..
Вот оно что... Придвинулась я ближе к тем двум, ло-
коть об локоть стою, не дышу.
— Молодушка! — говорит мне тот, что в фуражке.—
Что тут такое?..
«Ну, чего притворяешься?» — подумала я и — вслух:
— Нешто не знаете? Царю составляют грамоту... На-
счет правов!..
— Царю? — вмешалась девица, посдвинув платочек.—
О правах?.. Их-хо! права-то не просят, права добывают...
своими руками!..
Но тут задвигались вокруг люди.
— Входи!..
Впихнулись и мы. Я от парочки той ни на шаг, как
магнитом тянуло. Теснота, давка! Духота такая, хоть то-
пор вешай. Барышня в платочке взобралась у стены на
скамейку, парень ее — подле, внизу. Слушаем, ждем, за-
таив дыханье. Ах, как весело быть с людьми, со своими
вместе, плечо в плечо, локоть об локоть: тут хоть смерть!..
Вышел человек на подмостки. Нет, не поп! Поп при
рясе, а этот в поддевке, и легче мне стало.
Начал:
— Братцы, сестры! Зачитаю прошение к самому ца-
рю. Станем перед ним на колена, будем рыдать и пла-
кать... Братцы, слушайте...
Народ в один голос:
— Читай, читай...
А у той, что за моей спиной, глаза в огне, и зубами
вцепилась в губы.
— «Государь! — начал человек.— Мы, рабочие, на-
ши жены и дети пришли к тебе искать правды, защиты...»
— Нет у царя правды! — шепчут у меня за спиной.
Оглянулась я: она!..
Человек в поддевке зычно зачитывал, люди молчали,
иные плакали. Лица — как на молитве в церкви. Меня
подняло, словно пушинку: чую, свербят от слез и мои
глаза. Оттого с досадой бросила я той паре, чужой, не-
спокойной:
— Тише!
Девушка под платочком повела глазами, глаза в сле-
зах, только сразу же видно, что слезы у нее от иного.
И дивно и жутко мне за нее!
Кто-то в конце предложил добавить?
284
— И чтобы войну поскорее кончали...
А за спиной у меня девичий голос, уже криком:
— И чтобы — свободу! Царя ограничить!
Ох, что только поднялось тут вокруг!
Сразу в сто глоток:
— Кто там такое?..
— Кто супротив царя?!
— Давай эту супостатку!
Закипело вокруг, как в котле над огнем. Сорвала я
деваху со скамьи и ну напирать, спиной ее от людей за-
тираю. Выбрались из гущи мы кое-как под небо, а там —
тьма, зги не видать. Не помня себя, волоку девицу даль-
ше по улице, а за нами рычат, как звери из клетки.
— Ну пошто же так? — говорю я барышне.— Ведь
убить могли...
А она молчит. Пригляделась я — все лицо в слезах.
Говорит, губами, как дитя, шлепает:
— Пусть бы убили...
Довела я Наташу (так звали девицу) к двери ее до-
ма, а она меня просит:
— Зайдите, товарищ... Мне так тяжело... Вы ведь ра-
ботница?
Вот тут и пошло. Начались мои роды. А бабушкой-по-
витухой при мне она была, Наташа, курсистка.
Комната у нее крошечная, а в углу — пианино, и кни-
ги кругом.
— Слушайте, Груня! — говорила мне хозяйка.— Они
там просят царя освободить борцов за свободу... А ведь
это мы!.. Я уже вот отведала тюрьмы и завтра, может,
снова под замок... А они... на меня... как чужие!
И пошла и пошла. Стало мне страшно от слов, от
правды ее, будто стою я на тоненьком льду, а подо
мною — глубь безо дна.
— Кто такой царь? Царь — первый помещик! Прави-
тельство царское у дворян перекупило крестьян... Царь —
первый чиновник среди чиновников! Царь — главный ка-
питалист между капиталистами... И к нему идти? Его
просить?!
Под конец услышала я совсем жуткое:
— Они пойдут, а их шашками встретят!
— Что вы, барышня! Как можно? Мирно пойдут...
— Не может быть мира у народа с царем!
Всю дорогу к себе была я как безумная. Что-то ду-
шило меня, спирало горло. «Их встретят шашками! Шаш-
285
ками — наших?! Варвару, деда, Быстрова, всех, всех...»
Голова пылала. Кругом, как в ямище, черно, зябко,
и ни души кругом.
Ударить бы в колокол, поднять весь город:
— Товарищи, братья! Не ходите ко дворцам, бере-
гитесь...
Так вот в тяжком беспокойстве прошла у меня суб-
бота.
КРОВЬ
Проснулась я в восемь. В горенке пусто. Озлилась на
деда: не сказал, ушел. Проворно оделась, шмыгнула во
двор — и дальше, на улицу.
На улице топот коней: казачье — эскадроном...
«Ах, вот, началось!..»
Бегу, сама не своя. Там, у Дома Собрания, кучка лю-
дей. Среди них Быстров. Перекинулись словом:
— Говорят, пошли уж?
— Куда там пошли! Мосты оцеплены... Дворцовый
разведен!..
— Так, значит, правда?
В глазах у меня почернело.
— Спокойней, товарищ!
Голос знакомый, ее голос, голос Наташи, курсистки.
— Да как же теперь? — уцепилась я за нее.— Надо
же упредить, остановить!..
— Поздно, товарищ! Вы... слышите?..
Лицо у Наташи будто в мелу, губы посинели, а в гла-
зах — огонь.
— Слышите?..
И все мы — я, и Наташа, и Быстров, и еще кто-то в
чуйке,— все мы вскидываем вверх головы.
— Да, да... стреляют. Но как же так? Стреляют в лю-
дей? Среди белого дня?
Из-за перекрестка вырвались люди, бегут в нашу сто-
рону. На лицах суета, испуг и еще, совсем не похожее
на то, что было тут два дня назад, у Собрания: гнев про-
бивался на лицах. Другие люди, новые — не узнать их!..
Один, бородатый, саженного роста, поднял к нам ру-
ки, лицо в крови.
— Товарищи! Вот чем потчует нас царь-государь!
А люди бегут и бегут. Скоро вся улица — в народе.
— Братцы, айда за оружием, к магазину!
286
— Оружие, братцы, оружие!..
Выстрелы щелкают где-то поблизости. Глядь — из-
возчик.
— Стой!.. Распрягай!..
Кто-то вскочил на коня — ноги болтаются врозь, го-
лова угибается к гриве... Скачет!.. Куда, зачем?..
— Поленья давай!..
— Каменьев поболе, каменьев!..
Тут же, кряхтя, выворачивают люди булыжник из сне-
га. Сопатый подросток с визгом тащит за собой шкво-
рень.. Бородач в крови вырывает у мальца, подымает
железо, кричит:
— Долой кровопийцу-царя! Не надо убивца нам!..
«Дзинь, дзинь, дзинь»,— конка.
— Тпру, стой!
Десятки рук хватают коней:
— Распрягай!.
К публике — в вагон:
— Выходи!..
«Эх, дубинушка, ухнем...»
Ухватились во сто рук, понажали грудью: вагон, как
объевшийся боров, набок.
— Готово!..
Я гляжу на всех, никого не узнаю, и все — свои! Во
мне, как внутри колокола: гудит, стонет. Что-то кричу
и плачу, но это буйные слезы. И так, в слезах, с переко-
сившимся ртом, бегу куда-то, бегу за всеми.
— Ой-ой-ой... То-ва-ри-щи!..
Обронила платок я, кто-то поднял на бегу, сунул мне,
ухватила рукой кумач я, вверх подняла, кричу, безумея,
как все:
— Долой царя, смерть кровопийце!..
Люди в сторону от нас шарахаются, к стенам жмутся,
к заборам льнут. Собачонка из фокстерьеров, сорвавшись
от барыни, с визгом к нам, с лаем. Кто-то сшиб у тор-
говки рундук. Мнут, топчут карамель, апельсины: хряс,
хряс... Воет, причитает торговка. А выстрелы ближе... Вот
у меня над головою, точно в бреду все, лопается стекло,
летит штукатурка. Шальная пуля разит на углу женщи-
ну: взмахнула руками, свалилась вниз лицом.
— Сюда, ко мне, товарищи!..
Оглянулась я: бородач, лицо сплошь в крови. Милый,
родной, это он командует:
— Сюда, ко мне, живо!
287
С грохотом бьем в зеркальные окна оружейного ма-
газина. Кто-то запустил голым кулаком — кровь брызжет,
струится по пальцам, но пальцы пиявками впиваются в
дуло револьвера.
— Ого-го!..
Давим друг друга.
— Тише, патроны!..
Тянусь руками, но напрасно: из-под самых рук у ме-
ня люди хватают оружие. Вот, наконец! Вцепилась я в
шпагу.
— Рра-а-а!..
Буйными криками оглашается улица. Тащат ворота,
ящики, поленья.
— Ложись!..
«Трах-та-та... тах...»
Цепь впереди городовых: куклы в бабьих юбках, зу-
бы в оскале.
«Трах-та-та... тах...»
— Убили, убили! — вскрикивает кто-то впереди и па-
дает мне в ноги; кровь брызжет на мой подол.
У меня в руке чиновничья шпага, да и та тупая.
— Ложись! — опять голос.— Ложись, дура!
Оглядываюсь: мне! Машет бородач рукою. Ага, лад-
но... Падаю на колена, опускаюсь в снег грудью и тут,
рядом, вижу ее, Наташу. Лежит лицом к небу, зубы още-
рены и сжаты так крепко, как у ребенка от боли, и ни
звука на мой оклик...
Выстрелы ближе. Люди ползут в подворотни ужами.
Парень без шапки, не выдержав, вскочил и бежит куда-
то. Сделав десяток швырков ногами, вдруг тычется носом
в булыжник.
Кто-то хрипит, как ржавые часы перед боем. Кто-то
визжит, стонет: сотнею острых ножей режут кому-то тело.
«Господи, царь небесный!» — слышу я шепот; хочу
поднять голову, но впереди затихло, и прямо, в несколь-
ких шагах от себя, вижу чужие и злые, как у пса, глаза:
чужой крадется, тыркая черным бульдогом. А подле еще,
и у всех на фуражках алые канты.
«Враги! Смерть...» — вспыхивает в моем сознании и,
вдруг позабыв обо всех, угнувшись хорьком, бегу к близ-
ким воротам.
«Трах... тах... тах...»
Бегу сломя голову, крепко зажав в руке шпагу: кто-
то в лисьей ротонде, завидя меня, бросается к плахам и
288
падает ниц. Двор, как пропасть, оглох, ослеп, и стук
сердца слышен до самых, кажется, крыш.
Прорвалась через двор в калитку я. Новая улица. Ли-
цо задает снежными шматками: казаки! Проскакали. На-
конец, догадалась, бросила шпагу я. Но стало жалко,
вернулась, сунула куда-то в подворотню.
— Ты... кто? — окрик над ухом.
Солдат с винтовкой, сер, как зимняя белка, и губы,
как студень, дрожат. Почему-то один, почему?
Молча налетаю на него и чую: зубы мои, как у вол-
чицы, ощерились.
— Палач! — кричу в лицо солдату.— Людей... людей
убивать?! Братьев своих!
Он пятится, таращит на меня глаза. Плюю с маху в
рожу ему — и дальше, дальше.
Влетаю к себе в коридор. В соседнем углу женские
вопли. А у нас в горнице...
Дед мой, дедушка Панкрат Максимыч! Сидит старик
на скамье, качается из стороны в сторону, и у ног его...
распластанный Спас.
Борода у деда в темных сгустках крови — его, чужая?
Лицо, как кумач, а лоб снежится и потный, в потной сту-
деной росе. Что-то про себя шепчет, а что — не понять,
и в глазах истошная жуть... Молча кидаюсь к нему,
тормошу, обнимаю. Потом, выпрямляясь, кричу сама
не своя:
— Ну, попадись теперь!..
Это угроза. Тогда вся грудь моя будто динамитом бы-
ла начинена, чудилось, стоило лечь мне под дворец, и гра-
нитный дворец на Неве взлетел бы, как хлопок из-под
валиков.
Но так сгоряча казалось мне вечером девятого янва-
ря подле старика с его поздним прозрением.
На рассвете следующего дня, проходя по улицам, ус-
тавленным патрулями, поняла я: нет, нет, какой там ди-
намит! Мышь я, но у этой мыши острые зубы, такие зу-
бы, что и динамиту не уступят...
И вот принялась я за работу, я, мышь, вместе с ты-
сячами других... Точили и грызли мы под царем сиденье
его годами, пока... не рухнуло!
Бармашева смолкла, упершись глазами в черный, ды-
шавший соленою влагою морской простор.
Затем поднялась с гранита:
10. В. Бахметьев
289
— Однако идем, поздно... Когда-нибудь расскажу о
годах подполья... Ну, да тебе это не внове... Эх, суро-
вое было времечко, а вспомнить радостно!..
[1910—1923, 1954]
НА ЗЕМЛЕ
1
Когда-то весь Заволок, хотя и слыл он па Алтае за
деревню, в горсть собрать можно было. Заседатель, заг-
лядывая сюда, так и говорил заволокцам: «Да я вас,
таких-сяких, в кулак всех и — по ветру!» Не ядреное бы-
ло селение, но за себя постоять могло. Даже перед на-
чальством. По другим местам старцы-начетчики только
и знали, что от вражеского ока книги старого обряда
прятали, а в Заволоке все на виду.
Примчится кто-нибудь из начальства, пошумит для
порядка, пугнет попом-миссионером и — прочь. Знали за-
волокинские, как гнев власть имущих в ласку обращать:
покой-то дороже золота.
Жители тутошние считали хозяевами себя. «Наши
предки,— повествовали они,— еще при царице Катерине
земли эти заняли. Жители мы что ни на есть коренные!»
Самым почетным человеком в Заволоке был старец
Анисим Бирюков. Двор Бирюкова — хоромы, а в хоро-
мах тех — молельня, а в молельне — все богатства старо-
верья: крест осьмиконечный литого серебра; чаша в зо-
лоте, четьи минеи времен незапамятных; апостолов пос-
лания, киноварью расписанные.
Старший сын у старца — богатырь. Павлу под пять-
десят, а он дедову соху — парой кони еле тянут — так и
пошвыривает на пашне. С медведем такому повстречать-
ся не страшно.
Поднялись годков этак пяток тому назад алтайцы про-
тив Заволока. Горько стало инородцам: затеснили их
мужики, с самых тучных пастбищ изгнали, к матери Ка-
туни на локоть 1не подпускали. И вот собрались с духом
алтайцы, вооружились батожками, да и нагрянули к За-
волоку. Тут и отличился Павел, сын Анисима. Первым к
косоглазым вышел.
— Пошто пришли, н-но?!
290
Так взревел, что и заседателю завидно стало бы.
Смутились алтайцы.
— Гости пришли, гости! — закричали передние.
— В гости? — ухмыльнулся Павел.— А для чо же, ба-
сурмане, оружие с вами?..
Выскочил из толпы один, тощегрудый, старенький. Не
выдержал: плачет, косички крутит, кричит Павлу на-
голос:
— Жюлики ваша, жюлики!.. Землю грабил, Катунь
брал, к шишам гнал... Жюлики!..
Дрогнули алтайцы, ощетинились, и быть бы тут по-
боищу, да нашелся в одночасье Павел.
«Господе Исусе!» — покрестился, крякнул и со всей
силы отпустил старику оплеуху.
«А, кудайым!» — вырвалось у толпы, а Павел, сбоче-
нившись, как есть один, не оглянувшись даже, пошел на
врагов. Двинулась за ним и вся громада заволокская.
Тут и разбежались алтайцы кто куда без крика. Ута-
щили за собой и старика полумертвого.
Говорили с той поры о Павле:
— Орел у нас Павел... Как войнишка с Алтаем была,
первым за мир постоял!..
Павел долговяз, нескладен. Длиннорук он, буен воло-
сом, тяжел и угрюм в слове, а глаза отцовские: сини, мо-
лоды. Все в них по-ребячьи открыто. Кажется, загляни
хорошенько, так и донышко увидишь. Только в сердцах,
злобясь, темнели, колючим огнем наливались глаза Пав-
ла. Так было и в тот раз, на зимнего Николу, как прибыл
из Бийска за пушниной Прокл Кучурла и разговорился
о всяких недобрых новостях.
Раз в год гостевал купец в Заволоке, и народу стека-
лось к Бирюковым пропасть: каждому охота послушать,
что на белом свете деется. Собрались и тут. Долго о вся-
кой всячине молол гость, а на закуску, прищурившись,
выпалил:
— Ну, братцы, теперь доржись за грядушку!
Притихли вокруг.
— Чего еще, выкладывай,— попросил Анисим.
— А и выложу, за мной не станет... Только худое сло-
во у меня!
Отпил Прокл кваску, обсосал не спеша усы, да и опо-
вестил:
— Так что гостенечки к нам из-за Каменного Пояса
жалуют, на земли наши садятся, деревни свои обосновы-
вают.
291
Загудели люди:
— Каки-таки гости, где садятся, по чьему приказу?..
Торговый человек закачал головою.
— Эх вы, глухари! Сидите, как ведмеди в берлоге, а
у Сросток две заимки построились, да и повыше, бают,
селение налаживается... Люди идут дошлые, начальство
же не сильно, похоже, обижает их... Почему так? А пото-
му, что много от них, мужиков тех, беспокойства на род-
ных-то землях... Кому? Известно кому: господам помещи-
кам!.. Слышали, чай, чего натворило крестьянство-то
там... опосля войны с японцами?!
— Как не слыхать, слыхали! — подал голос Анисим.—
У нас тож происшествия всяки были с суседями нашими,
алтайцами... Вон он, Павел-то, сынок-то мой, первый о
ту пору за мир постоял... Ну, ин ладно! Ты вот, Прокл
Ермолаич, насчет Сросток помянул... А не слыхал ли,
какой они, тамошние-то новоселы, веры доржатся?..
— Веры христианской, а только не вашей... Из Бийска
попа просят... Однако ж не в том беда!
— Ав чем?
— Да вить их тыщи прет! — воскликнул Кучурла.—
Поймите вы — тыщи! Всю вашу Катунь полонят...
— Но? — поднялся в углу Павел.
— Скрозь все погрызут!..
Воззрились мужики на Павла и видят: потемнели яс-
ные глаза его, колючим огнем брызнули.
— Чего зря болтать... Не бывать этому!..
Громыхнул, как камень повернул.
И примолк торговый человек Прокл Кучурла.
2
Минуло с того разговора около двух лет. Стоял май
на дворе. С пахотой эту весну управились рано: вольгот-
ничали заволокцы. У Аввакумовых дочку сводом свели с
Яковом Устиновым из Бухтармы. Старец Анисим обряд
совершал, был в ударе, много по книгам читал,— разом-
лели гостенечки вовсе.
Праздновали три дня свадьбу. Пили годовалую тра-
вянуху, скакали по долу на рысаках, пели вечерами
хором об Исусе Христе, ходящем по земле в белых
ризах.
Мутило у Павла после гулянки всю ночь под ложеч-
кой. Встал наутро поздно — солнце к Синь-Погромых
292
взодрало,— вышел босой за ворота. Стоял, позевывал,
выбирал из лохматой бороды дудочки соломы.
В раскрытых оконцах солнце на стеклах плескалось.
Рдел воздух от зноя. Высунув язык, томилась под лест-
ницей Зимуха.
Огляделся Павел, вобрал в синюю заводь глаз всю
улицу, сказал:
— Эн как парит!.. Быть к полудням грозе...
Вспомнил: до света молодая чета Аввакумовых выеха-
ла в Бухтарму.
— Неисходно ливень на перевале прихватит... Задаст
Наталье с Яковом!..
И улыбнулся в бороду.
— Кажет молодухе господь плодородье...
Повернул ко двору, да заметил вдали человека, при-
ложил руку к глазам:
— Не здешний человек.
У заплота, заросшего сурепицей, шел спрохвала ста-
ричок. Был он в лапотках, в холщовой, по колена, руба-
хе, с котомкой за плечами.
Яро кинулась на странника Зимуха. Павел рукой не
пошевелил. Сразу, с первого огляда, не по душе показал-
ся ему чужак этот.
— Здорово живешь, мил человек, не знаю, как тебя
по имени-отцу величать...— запел гость, снимая шапчон-
ку; жемчугом блестели на лысине капельки пота.— Из-
маялся я, хозяюшко, затрудился... Разреши ты мне после
пути долгова вздохнуть малость...
Теплилось древнее испитое лицо улыбкой. По-особому,
по-стариковски, путался в оттопыренных усах печерич-
ный нос.
— Проходи! — сказал угрюмо хозяин.
— А и спасибо ж тебе, золотая душа!—ожил ста-
рик.— Сам Христос повелел странного принять...
Холстина, темная от горючего пота, прихлестнулась к
острым лопаткам странника. Шел он, рассыпая легкие
слова и все поддергивал на ходу набивчатые штаны.
— Прийми, что ли!..— кинул Павел жене, пропуская
гостя в избу.
Усадили бабы странника у краешка стола. Пошушука-
лись, достали запасную миску, принялись угощать.
— Скусное печенье-варенье ваше,— хвалил захожий
человек.— Не ел бы, да съешь!..
293
Кончив с пятой шаньгой, вытер пальцы о седые со-
сульки на затылке, отрыгнул в сторонку и повеселевшим
голосом молвил:
— Эхма! Теперича чайку бы...
Улыбнулась Викторовна, жена Павла, переглянулась
с младшей снохой.
— Ох, божий человек, не потребляем мы этого зелья...
— За грех считаем,— вставил Павел.— И тебе не
усоветуем, как звать-величать, не знаю...
— Так, так...— протянул гость.— Епифаном зовусь!..
Он полез было рукой за пазуху, да заколебался:
— Может статься, и табачок у вас в отлучении...
— Кто табак курит, тот духа святого от себя турит,—
уже сурово сказал Павел.
— Так, так... Ну, спаси вас богородица! Накормили,
насытили...
3
В полдень и впрямь понадвинулась с запада туча. Гро-
зовая. Сила в ней огненными стрелами так и хлестала.
Принахмурились ближние сопки. Седой лудою поблес-
кивала в просветах лиственниц Катунь. Потемнела
сплошь заволокская долина, насупилась. Только на за-
дворках, как всегда, мирно и уютливо булькал Уй-су.
И вот будто весь мир со страха онемел: полоснуло по
туче, грохнуло и покатилось за горные хребты тугим гу-
лом.
— Свят-свят-свят, господь бог саваох! — кинулась
молодуха младшего, Василья, к раскрытым оконцам.
И снова, осенив все вокруг синим полымем, тарарах-
нуло в небе.
Распушив хвост под ветром, с визгом пробежала по
двору Зимуха.
Сидели с минуту молча люди, отененные близкой ту-
чей. Столы, гора подушек на кованом сундуке, темные,
старого письма иконы в углу, казалось, ожили и притаи-
лись до поры, выжидая, что будет впредь.
— Ты, Епифан, божий гнев нам накликал,— сказал
Павел, не глядя на старика.
— Божье дело, милай, божье...
Вошел промокший Анисим. Мерный, тягучий шум
дождя ворвался за ним. Повеяло знойной, отдувающейся
под ливнем, землей.
294
— 0-т так дожжок!—обронил, встряхиваясь, хо-
зяин.
Жилистый и долгий, белый с ног до головы, похожий
обликом на апостола, принялся он креститься, истово вы-
тянув пальцы. Потом, чуть-чуть сощурив глаза, оглядел
всех и нежданно твердым, молодым голосом молвил не-
вестке:
— Анна! Забыла?!.
— Чо, батюшка? — метнулась к нему молодуха.
— Чо, чо... Свечу затепли! Вон чего на дворе-те...
— Головушка горькая... Запамятовала!..
Епифан поднялся навстречу.
— О! Никак гость?..— сказал Анисим.
— Гость, родимый, гость!..— запел старик.— Сынок-
от твой, дай ему боже, принял...
— Отдыхай, коли во имя господне...
Как был в мокрой рубахе, присел Анисим у стола, по-
молчал, спросил:
— Откуда, брат, будешь?
— Я-то? — вскинулся Епифан.— Издалечка, роднень-
кий, издалечка... Брожу вот, белый свет гляжу... Ох-
хи-хо!..
— Странствуешь?..
— Да как сказать... И странствую и дельце есть...
— Дело?.. Свят-свят-свят...
В грохоте удара не было слышно Епифана. Только
видно было, как бороденка шевелилась. Бледный язычок
свечи у икон дрогнул, распух, закраснелся.
Ливень повернул вместе с ветром и теперь хлестал в
самые стекла, размазывая по ним глину.
— Пойдем не то в горницу,— позвал Анисим гостя.—
Посидим.
— Строго вы туто живете,— сказал Епифан, опуска-
ясь на табурет и оглядывая горенку.—Строгость во всем.
Даже китайской травкой не балуетесь...
— Вера наша... как те?..
— Епифан, родной...
— Вера, Епифаний, така наша!..— подбираясь, про-
изнес хозяин.— Вера наша старая...
— Вера — оно, конешно...—Епифан опустил глаза.—
А только правду сказать, и веру не всякому блюсти да-
дено...
— Вера всем человекам закон!..
295
— Закон-то закон, да вить и закон в меру сил испол-
няем... Ох-хо-хо! Иной бы и рад в рай, а средствов не
хватает...
— Ой, не годится так!..
Хозяин не спеша разгладил бороду.
— Я вот чо скажу тебе... Охота послушать, Епифа-
ний?
— Как сказать...— нерешительно отозвался гость и
поднялся на ноги.— Полежал бы я с дороги, побаловал
бы старые кости...
— И то ладно... С пути отдохнуть баско!..— согласил-
ся Анисим.— Ступай, брат, ужо Василий, младший мой,
в бане устроит тебя...
Оставшись один в предбаннике, Епифан разостлал
зипунишко, скрутил цигарку и лег.
— Староверы, значит,— сказал он вслух, затягиваясь
горьким дымком.— Ничего... Нам это все едино!..
Ощерил в улыбке жухлые зубы.
— При таком добре всякая вера хороша!
Уснул Епифан скоро и сразу поднял храп на весь би-
рюковский двор.
И пока спал, весть о том, что пришел в Заволок неве-
домый человек, разнеслась по всем избам.
Кто он, этот пришелец? Уж не из Ползуновой ли?..
4
Еще только надувало золотом небесный парус, а со
двора подымались уже голоса хозяек, совсем как клекот
наседок.
Напряг Павел, потягиваясь, широкую грудь, ровно
кедровище погнул. По тому, как весело чивиликали у
застрехи воробьи, сразу почуял: утро разгорается по-
гожее.
Непочатые силы хмелем наполняли голову. Дыбились,
табунились мысли: о заимке, заново слаженной, б новом
приплоде в отаре, о Сеньке-стригунке... Такой будет
конь—под князя впору!
И вдруг зачадило на душе у Павла:
«Странник энтот... Епифан!..»
Вспомнил, повел желваками скул.
«Каков-таков человек, зачем, чего ему надо?..»
Пришел незваный, непрошеный и хоть бы слово —
зачем пришел. Уж не из Ползуновой ли?..
296
Ох, это Ползуново... Жили издавна беспоповцы там,
семьи степенные, стародавние. Павел и жену себе оттуда
взял. Добротно жили люди. И вот пришли-явились изда-
лека навозники, лапотники, вшивцы. Налетели, как са-
ранча, уселись, вцепились и ну — сосать!.. В три годочка
все к рукам прибрали... Раздобрели, всю сласть у земли
забрали, старосту из своих поставили. Поплевывают на
старожилов, насмехаются: и пахота не так, и избы не по-
ихнему!.. Начали стародавние семьи, кто куда, в разные
стороны расползаться... Одни — на Катанду, другие —
в Бухтарму: подальше от дьявольского семени, от водки,
от табаку, от попов-выжиг... Пропал куток!..
Вышел Павел, шлепая босыми ногами, на крылечко.
Покричал засыревшим голосом:
— Ванятша!..
Сынишка тут как тут, бурундук остроглазый.
— Где энтот... старик... странник вчерашний?..
Свистнул Ванятша:
— Вона!.. До свету к полям убрел...
Заспешил Павел:
— Обряди-ка, сынок, буланку!..
Встал Епифан и впрямь еще до света, поплескал в
лицо студеной водой из бочонка, покрестился на про-
хладный восток и пошел к полям.
Острым взором провожали заволокцы нового челове-
ка. Шел тот налегке, без опояски, засучив штанины: в
росе не мочило бы. Встретилась девонька с полными вед-
рами, крепкая да статная, как сохатый зверь. «Вот бы
Герасиму моему в жены,— подумал Епифан.— Нарожа-
ла бы внуков целый косяк, а земли туто на всех хватит...»
Долго шел подолом горным, по тропинке, и все за-
рился на стороны, будто впервой белый свет увидел!
— Травушка-то, травушка...
Попалась одинокая лиственница, прямая, ядреная,
камень — не дерево.
— Кедра ливанская, древа перемытная!..
Глянул налево, в горную щеку, темную от леса... По-
крутил, ощерившись, головой:
— Сила, сила-то какая!..
Направо, налево и прямо, по долу, зеленели, синели,
дымились горы. Прыгали у ног кузнечики, крутил тугим
кругом беркут в набухшем за ночь небе и где-то совсем
близенько позвякивали колокольцы: не иначе—паслось
тут овечье стадо.
297
— Чаша алмазная, кладовка несметная! — бормотал,
умиляясь, старик.— Богатства-те, богатства-а!..
Ударил руками по кострецам, произнес громко, напе-
вом:
— Епифан, Епифан! Ужели доведется тебе людей об-
радовать?!
Поднялись в памяти полынные земли, люди на при-
вязи, с рабьими ликами, и над всем брюхатый урядник
со старшиною: дай-подай им подати, а не то последнюю
овцу утащат... Да что овца! Они и коня со двора сведут,
у кого только он, конь-то, имеется.
«Ой, загинет, загинет навовсе народушко, коль ты,
Епифан, пустопорожним воротишься!»
Издалека приметил гостя Павел. Шагал старик у зе-
леной пашни, клонил низко голову, приглядывался.
«Эк как охаживает, язва!» — выругался Павел, смах-
нул с коня и — размашистой поступью к Епифану.
А тот, присев на корточки, разминал в ладошке кусок
жирного чернозема, пьяно улыбался.
— Раненько поднялся!..— начал Павел.— Пошто
этак-то?..
Старик разогнул спину.
— Эх, милый! Время — золото...
— Да у те кака-така спешка-то?..— Голос Павла ба-
совито напрягся.— Ровно бы ты отмерщик какой... Хо-
дишь тут!..
— Хожу, белый свет гляжу! — увернулся Епифан.—
Кому от того худо?..
— Надо знать, где ходить! — процедил сквозь зубы
Павел.
— По земле хожу, по божьей...— улыбнулся ста-
рик.— Ходи всякой, всякому места хватит...
И по-другому, уступчиво спросил:
— Пошеничка, гляжу, засеяна... Ржицу-то, ярицу, то-
же, чай, сеете?..
— Сеем!.. Да ты кто таков, но?!. Пошто таишься-то!..
Стояли лицом к лицу. Один большой, плечистый, тя-
желорукий, другой сухонький, легкий, похожий на оза-
даченного бурундука.
— Нам, милай, скрывать нечего... Крестьяне мы...
А пришли из Россеи. От обчества... А што?..
Заглянул пытливо в глаза Павла, ничего не разгля-
дел, смутился старик. Продолжал дрогнувшим голосом:
298
— Ходоком я... от мира... Из голодных, сказать, мест...
Из самых пропадащих...
Павел молчал, посапывая. И вдруг — глухо:
— Так ты не из Ползунова ли?.. Ползуново тут, в ни-
зах реки...
— Был, милай, был...— ожил Епифан.— Наших там,
курских, содом!.. Танбовские тоже... Танбовских, гляди,
больше... Ну, доложу, нар-р-род!.. Трое дён охаживал так
и этак: по приговору просился... Хоть бы тебе што!..
В ус, анафемы, не дуют...
Павел молча повернул к коню, старик за ним, продол-
жая о своем:
— Ты, говорят мне, беззаконное, землячок, просишь.
Ты должен то унять: земли здешни кабинецкие!.. Слы-
хал? Ка-а-аби-нецкие!.. Да што ж, кричу я, не стерпел —
кричу: што ж вы, сукины вы сыны, этакое мне гуторите?..
Вы-то на какой земле уселились?.. Нар-р-род!.. Слопать
готовы, ей-ей! А земляки... Ихняя, понимаешь, губерния
к нашей — рукой подать... Плюнул, ушел я!.. Свой один,
курокой, направил... Ты, говорит, выше иди по реке. Там,
говорит, пустопорожних земель... ай-яй-яй!
Молча отвязал Павел чумбур, пнул коня в бок, вско-
чил в седло.
— Куда ж ты, родной?
— Во кудыкино поле!..— крикнул Павел и так взгля-
нул на старика, словно собирался пристукнуть его.— Да
ты што, язви твою бабушку! Проследчик мой?..
Опешил старик, а Павел хватил плеткой буланую и —
вскачь напрямки, травами.
б
Хлестал ветер по двору, плыла над небом муть, го-
ры— в туманах. За банею — лихая брань.
Кричал Василий, младший:
— Твово тут ничего нет!.. Сказали тебе старики: «Ба-
ста», ну и убирайся на все четыре!..
Захлебывался визгливый старческий голос:
— Куда, куда-а-а я пойду?.. Я все земли... выходил!..
«Ага, накололся, запел!..» — ворчал про себя Павел,
подвигаясь на крики.
Старик Епифан наступал на Василия, топтался, от-
прянув, на месте, хватал себя за живот. Трепалась под
ветром бороденка, тускло поблескивал череп, голый, с
t t
299
седыми завитушками на затылке. Увидя Павла, метнул-
ся к нему.
— Слухай! Куда я пойду?.. С чем?!. Чем людей об-
радую?.. «Наше... Все наше!..» Ой, умирать будете, в мо-
гилу всего не возьмете...
Чуял Павел: кричал кто-то, кому не было выхода,
и нельзя крику тому помешать.
— Сели тут, завладели всем!.. Много ли прошу!.. По-
гибать нам, а?.. Люди вы, нет?!.
Молчание Павла ярило, подхлестывало старика.
— Навроде наших бар, все под себя подмяли! — во-
пил он.— Ли это правильно, ли это по-человечьи?! Па-
вел, тебя спрашиваю!
Молчал, как воды в рот набрал, Павел, и тут ухва-
тил его Епифан за полу:
— Ага, язык отнялся!.. Ну, так знайте же, ироды, не
будет по-вашему... Придем!.. Все одно — придем!..
Сломалась у Павла бровь, бросил хлестко:
— Придешь, так ни с чем и уйдешь!..
— А вот не уйдем!
— Уйдешь!..
Заревом вспыхнул Павел, взглянул на него старик,
отшатнулся.
— Василей...— выронил, пятясь.
Но сдержал себя Павел, опустил зажатую в кулак
руку.
6
Каждое утро собирался Епифан в путь, да все откла-
дывал: ждал чего-то, на что-то надеялся.
Уже не звали его ни к полудню, ни к ужину. Выходи-
ла молодайка, Васильева жена, на крылечко, кричала
ребятам, шли бы к трапезе, а старика как бы вовсе не
замечала.
Только Анисим посылал кое-когда с мальчонкой съе-
доби гостю. Но однажды и Ванятша заартачился.
— Не! — покрутил он головой.— Неси сам...
И не принял для Епифана хлеба.
Соседи окликали Павла на улице:
— Ну, чо? Сидит... этот?..
— Сидит!..
— Ха! Да он пошто ж так-то?..
Павел молчал.
300
— Уж не поджидает ли, старый, кого?.. Дать бы ему
по маковке!..
— Дай! Кто тебя держит? Дай!..
И уходил, не слушая соседа.
Волшебным колобком катились догадки со двора во
двор, из избы в избу.
Не Епифан был страшен. Страшны были те, неведо-
мые, которых гнал голод из-за Каменного Пояса. Вот
уйдет старик, разнесет по свету весть о заволокских зем-
лях, и тогда прости-прощай вольготная жизнь.
7
Заволокло небо мокрой овчиной. Подул с севера ярый
ветер. Насупились, как верблюды без жвачки, горы. Ка-
залось, этого-то и ждал Епифан.
— Да ты чо, бог с тобою, в этакую-то погоду? — го-
ворил Анисим, видя старика одетым по-дорожному.— Ку-
да спешишь?.. Дольше сидел...
— Нет уж, пойду! — мотнул головой Епифан.— Сон
я дурной видел...
— Сон, брат, от дум дурных... Пережди!..
— Пойду, не держи!..
Поклонился старик хозяину в пояс:
— За хлеб, за соль!..
Сморгнул Анисим:
— Прости, коли что... Куда теперь?..
Промолчал старик. Обернулся ко всем домашним:
— Прощайте, хозяюшки!.. Хлебца бы мне на до-
рожку...
Кинулась Викторовна за караваем.
— Зря ты, на ночь глядя...
— Чего уж!..— махнул Епифан рукою.— За Катунь
переберусь, по заимкам пойду...
Сунул каравай в суму, поклонился еще раз низенько
и вышел.
И впрямь вечер недобрый выдался. Шумел и шумел
тальник. Волновалось сизое небо.
Услышал старик за околицей:
— Эй, погоди!..
Оглянулся:
— Пал Анисимович?..
301
Тяжело дышал Павел. В сумерках голова у него, как
болотная кочка. Руки ниже колен — сучья у кедра. Бух-
лым заговорил голосом:
— Зря ты к парому... Кто те паром об эту пору даст?..
Голова!..
— Ой ли?..— растерялся старик.— Не подумал я!..
— Ладно, иди... Подсоблю!..
— Ты?..
Дрогнул у Епифана голос:
— Зря беспокойство тебе... Заночую не то!..
— Айда, идем! — шагнул вперед Павел.— Челнок у
нас свой...
Лежал путь лугами, серыми под заглохшим небом.
Ветер метался раненой лосью. Едва поспевал Епифан за
Павлом.
— Потише бы ты!..
Не оглядывался Павел. Бормотал старик в спину
ему:
— Эка ветряга... Дух перенимат... Батюшка Павел!..
— Но?
— Не серчай ты на меня... Не по воле пошел... Глав-
ное, баре... И это, как его... До бога высоко, до царя да-
леко... Ложись, помирай!..
Не слушал Павел. Рвал, метал стариковы слова ветер.
— Сынок у меня: ступай да ступай! Послужи обче-
ству...
Гудел кедрач. Катунь — как бубен шаманский: сто-
нут, звенят, грохают волны. Черен тот берег, зги не ви-
дать.
Вдруг остановился старик:
— Паша!.. Эвон чего по реке-то...
— Уплывем!..— оттолкнул его Павел.— Верхом идет...
— Ой, милай... Не вышло б беды!..
— Жидок ты, язви тебя!..
Прошли к самой воде, потянул Павел лодчонку-ду-
шегубку на булыжник. Епифан присел вдруг на корточ-
ки, завернулся полой зипуна.
— Ты... чо там?
Молчал старик.
— Ты чо, лешак те дави?!.
Отряхнул Епифан полы. В зубах — цигарка прыгала,
рассыпала по ветру искры.
— Сичас я, сичас!.. Курну разок...
302
Совал дрожащей рукой ко рту цигарку, затягивался
дымком, сплевывал.
— Лезь! — зыкнул Павел.— Изгиляешься надо
мной?..
— Иду я, иду...
Споткнулся Епифан о весло, грузно осел на дно чел-
нока, а Павел, одно за другим, под мышку себе весла.
— Доржись!
— А ты? — вскрикнул старик.
— Управлять буду.
Навалился Павел на нос челнока, наддал с берега,
двинул в волны.
— Што ты дела-а-а...
Вцепился старик в борты. Изо рта — диким воплем:
— А-а-а!..
Крутануло душегубку и понесло на волнах. Гудел
кедрач, дыбились волны медведицами, скакали волчьим
скоком. И уж не слышно было голоса старика, только
видно было, как рвануло из стороны в сторону челнок и
закрутило.
Пробормотал что-то про себя Павел, повернулся рыв-
ком и зашагал под ветер, не оглядываясь.
8
Выбирали по осени в Заволоке старосту. В один голос
сходка: Павла Бирюкова!
Отказывался Павел от мирской чести:
•— Не способен я, старики... Куда мне!..
Слышать не хотели заволокцы:
— Да ты у нас, Пал Анисимыч, щит!.. Иного такого
нету и не было...
— Недостоин я! — вздыхал Павел.— Нет на мне
божьего благословения... Грехи давят!..
— Бог те, Павел, простит!..— гудели мужики.— Кто
для ради мира грешит, не его то грех... Становись, правь!..
Отвесил Павел земной поклон старикам, принял по-
сошок вожака. Годовалую пили по тому случаю травя-
нуху всем миром, а вечером, в час поздний, пели хором
об Исусе Христе, ходящем по земле в белых ризах.
И песни эти слышали с той стороны Катуни чужие
мужики. Было их трое. Все как на подбор: долговязы,
тощи, косматы. На плечах черных, изъязвленных — ты-
сячеверстный груз. Спросил один у паромщика:
303
— О чем поют там?
Глянул паромщик, прихмурился:
— А вы откуда?
— Рязанские мы...
— Эх-ха! А пошто сюда?..
Старший в онучах, посошок в руке,— отвечал без на-
мека на улыбку:
— Блох ваших отведать охота...
1913
МАШИНА
I
Не один день сидит Петрунька дома. Кругом подобра-
лись со спешными работами, и соседские ребята, освобо-
дившись пока что до жатвы, уходят с полудня к озеру, на
рыбалку, на всю ночь... Там, за стенами — теплые тени по
задворкам, негаснущий румянец над щетиною сосняка,
зеленый полумрак вспотевших в дремоте овражков, а за
овражками — тихая гладь озера... Так и подмывает вско-
чить, проскользнуть в двери и бежать — бежать за поско-
тину, к озеру, к ласкам ночи... Но юное любопытство Пет-
руньки крепко, крепче всех искушений. То необычное, за-
таенное, важное, что происходит между его отцом и де-
дом, неодолимо тянет к себе и усаживает дома, точно на
цепь привязывает.
Едва сумерки окутают двор, пробирается Петрунька в
свой угол и там затихает. А когда большие улягутся по
своим местам, он неслышно приподымает с головы зипу-
нишко и весь отдается ожиданию.
«Скоро ль?» Петрунька терпелив. Он таращит глаза,
чтобы не уснуть невзначай, и порою легонько щиплет се-
бя за ляжку.
Ночь шепчет что-то у оконца в бледных листьях оси-
ны, да за припечьем поет сверчок: поскрипит-поскри-
пит — смолкнет, будто прислушается, и опять за свое.
Мысли, легкокрылые, уносят Петруньку к друзьям.
Перед глазами, как наяву, встает озеро... Трещит на бе-
режку костер, и тянутся красные лапы, шарят в темноте,
что-то нащупывают... Черная густая гладь озера вспыхи-
вает матовым багрянцем. У костра светятся чумазые ли-
304
ца. Из близкого леса веет ароматом сосны, с воды — теп-
лой сыростью. Тихо кругом...
Дёмка, самый старший в кругу, вполголоса рассказы-
вает про лешего. Но не страшно Петруньке... Лешего да-
же немножечко жаль — старый, весь пегий, бродит он по
лесу и тоскует по былой таежной глуши: тесно стало ему,
тесно,— разгуляться негде.
— Тятенька!..
Петрунька вздрагивает. Зашуршала отцовская ко-
шомка, слышится деланно протяжная позевота, и снова
осторожное, хриповатое:
— Тятенька!..
Это Аким зовет деда.
— Э? — доносится чуть погодя с голбчика глухой
старческий голос.
— Так как же... надумал, что ли?..
Слышно, как дед, поскрипывая голбчиком, поворачи-
вается на бок.
— А! Тятенька! — опять, уже более настойчиво, зовет
Аким.
Долгое томительное молчание. Вытянувшись в струн-
ку, Петрунька таит дыхание. Хочется почесать спину, да
нельзя — еще услышат. Где-то за огородами явственно
кричит перепел.
— Тятенька-а!..
— Во-осподи, праведный!..— стонет дед.— Дай ты мне
покою, старому... Аким! Дай, мол, покою...
Аким покорно смолкает, но не надолго.
— Главное дело,— бормочет он как бы про себя,—
главное дело, никакого, то-ись, ращоту нет... Позови че-
ловека с жаткой, дай ему пару целкашей... с десятины...
Сорок десятин — восемьдесят целкашей... Эвон куда въе-
дет! А ежели три года да по восьмидесяти... два ста со-
рок... Сумма!.. Опять же, поденщики, бабы... Быка стра-
вишь, пару баранов... А народ какой пошел... Его — не
шевели, а чуть што — недовольство!..
Дед упорно молчит.
— Весной наймывай, к страде наймывай,— продол-
жает Аким,— да это чо же такое, а?..
И, помолчав, начинает вкрадчивым, умоляющим голо-
сом:
— Тятенька, слышь?.. Ты бы не того... не сумлевал-
ся... Похоронить тебя — похороню, не хуже других... Сын
305'
я, поди, да и достатку хватит... А тут, главное, ждать не-
когда. Утресь глядел — доспеват!
Скрипит голбчик, и идет оттуда раздумчивое:
— Ка-ак? доспеват, го-во-ришь?
— Как же1 — оживает голос Акима.— Зерно-то вовсе
зарумянилось!..
Дед вздыхает и что-то шепчет про себя.
«Забирает старого хрыча,— думает Петрунька.— Сда-
ется-таки, упористый...»
Сверчок тренькает где-то над самым ухом. Из пригона
подает заспанный голос корова.
«Сгрезилось бурой...» — сладко улыбается Петрунька
и забывается коротким, чутким сном... Будто посветлело
над озером. Дёмка сидит у костра на корточках...
И опять — о лешем... Старый, пегий весь, плетется он к
утру в Синий Лог, на самое днище — от людей подаль-
ше, а как ночь — ходит по лесу, глядит на чащу звездную
и плачется: «Эх, все запахали мужики, раскряжили та-
ежное, оголили дернистое, а мне куда?» — «Ку-у-да...» —
тянет жалостливо в лесу ночная птица. И трещит костер,
и мечутся красные лапы... «Так... так...» — говорит кто-то
протяжно да горестно.
Петрунька открывает глаза.
— Так-то, сынок...— слышится тугой голос деда.—
Бывало, в топоре — все хозяйство: туды топор, сюды то-
пор... Топор — всему делу голова... Жили, сынок, корми-
лись!..
— Кака уж жисть-то! — тихо откликается Аким.
— Нынче у каждого,— продолжает свое дед,— и то, и
се... Молотилка не молотилка! Косилка не косилка! Плуг
не плуг... Все подай... А мы с серпами ее, матушку, да с
сошенькой!.. А у сошеньки-то, сынок, донышко зо-ло-тое...
Кто-то возится на потолке и шлепает мягким, точно
рукавичками... «У-у... е-е... у-у...»— доносится глухое,
тревожное... И ночь кругом откликается тихими голо-
сами.
«Петушиное утро, а наши брунчат все...» — мелькает
в голове Петруньки. Ласковая теплота льнет к его гла-
зам, и они сами собой закрываются... Но просыпается
вновь от тяжелого возбужденного голоса отца.
— Ну-у!.. Теперь, как поглядишь на старое-то — мука
одна...
— Мука муку любит, сынок!.. Так-то...
306
Дед говорит тихо, и в ответе его слышится скрытая
покорность. Аким взволнованно сопит носом.
— А ты, сынок, не горячи... сердца свово! — скрипит
старик.— Я не супротив, к слову сказывал... Жили, мол,
ранее.
Старый спокойный голос убаюкивает Петруньку. За-
тихают осиновые листья за оконцами, смолкает сверчок
у припечья.
И снова, уже далеко за полночь, Петрунька, как от
толчка, открывает глаза, настораживается. Ему кажется,
что спал он всего минутку, и в ушах еще стояли голоса
отца и деда. Но уже алел угол печи, и из ближнего рас-
пахнутого оконца шло свежее дыхание утра.
Петрунька приподнял голову, огляделся. Сонно колы-
халась пушистая борода отца. «Спит... А дед?..»
Чуть не вскрикнул от неожиданности, плотно сжал
веки и замер.
Сутулый, в длинной холщовой рубахе, с обнаженны-
ми, остро выпирающими ключицами, осторожно спускал-
ся дед с голбчика. Ступил на пол, половица скрипнула...
Кашлянул в руку.
Петрунька, не выдержав, приподнял вздрагивавшие
веки.
Дед стоял у печи, глядел в сторону Акима. В запав-
ших глазах старика теплилось что-то такое мягкое и
уютливое, отчего у Петруньки радостно заколотилось
сердце.
В сенях, овлажневших за ночь, пахло гарью, вверху,
должно быть, на крыше, бодро чирикал воробей.
Дед шел по двору к амбару. Петрунька тенью мельк-
нул по завалинке. Спугнул из пыльной ямы квохчущую
курицу и, щуря глаза от светящегося воздуха, побежал у
прясел, купая босые ноги в густой росе. Вот и грузный,
осевший зад амбара.
Припал к щели между бревен. Замер, глубоко вды-
хая в себя запах лежалого зерна. Гулко колотилось
сердце.
В теплом сумраке амбара дед не спеша прошел в
дальний угол. Полоса розового света, бьющего из дыр на-
веса, легла на лысину, на пучковатые брови, широкий
нос и жилистый коричневый загривок, покрытый сереб-
ристым пушком.
Непослушно оттопыренными пальцами долго нащупы.
вал старик стену. Кряхтя, вытащил клин из бревна, про*
307
сунул в дыру пальцы, достал тряпицу. Перекрестился
мелкими взмахами руки.
«Ага, сдался-таки!» — пронеслось в голове парнишки.
Оглянулся — не смотрит ли кто, и снова приник к щели.
Дед одул кошель, осмотрел его и бережно засунул в
карман портов.
Юлою завертелся на месте Петрунька.
Упругий, сочный небосклон наливался золотом, и чу-
дилось, что это от него пали на зелень крупные сверкаю-
щие капли. Распластав книзу грузные ветви, пела голо-
сами пичужек старая медностволая сосна... Близилось
солнце.
С пронзительным посвистом бросился Петрунька к
пряслам. Ухватившись за кол, перескочил на другую
сторону. Обжег в крапиве голую ляжку. Прыгая на од-
ной ноге, тер некоторое время больное место рукою. На-
конец что было духу пустился бежать по теплому пуху
дорожной пыли, оставляя следы пяток. Взбудораженная,
выскочила из подворотни собачонка и хрипло залаяла.
Забытый с вечера на перекрестке пестрый и шершавый
телок недоуменно, позвякивая боталом, поднял голову.
«Под-по-лю... под-по-лю...» — выкрикивали перепела
из светящейся чащи пшеницы. В густой и свежей, точно
омытой ночными росами синеве четко кружил первый
коршун.
— Шу-гу-у!..— послал вверх Петрунька, ухватил рас-
сыпающийся ком земли, бросил его к небу и снова, то и
дело поддергивая штанишки, засверкал пятками.
Вот и последний клин молочной гречихи. Пчелы пели
ей свои утренние песни... И вдруг пахнуло пьяным духом:
то конопля курилась под первым горячим лучом.
— Ребята!..— закричал Петрунька неистово.— Де-д-
ка на ма-ши-ну да-а-ал!..
...Когда, усталый, вернулся он с поля в избу и увидел
сосредоточенно-радостные лица отца, матери и деда, по-
нял, что тут все уже покончено.
Чаевали, и особенно весело шумел самовар, особенно
задорно звенели чашки.
— Ты куда, пострел, запропастился! — спросила мать,
но в голосе ее не было сердца. Помолчав, она ласково
сказала:
— Ну, Петруша, кланяйся дедушке в ножки... Он те
на машину дал!..
308
II
На той же неделе Аким и Петрунька были в городе.
Дед отказался ехать с ними: «чего он там не видал!» —
а Матвей, батрак, остался дома.
На постоялом дворе, грязном, вонючем от ржавых на-
возных луж, распрягли лошадей, задали им корму. Дро-
ги вдвинули под навес.
Аким проделывал все не спеша, впрохладку. Важное
замысловатое дело требовало вдумчивости на каждом
шагу.
Петрунька же хлопотал, как юла. Натужась, тащил в
амбар дугу, торопясь, подбирал сбрую, бойко сматывал
вожжи. На ходу смахивал с лица рукавом пот и сморкал-
ся, притыкая ноздрю большим пальцем.
Пошли пить чай. В заезжей было людно и шумно, си-
зыми клочьями плавал у потолка табачный дым, и под
кругом, накопченным висячей лампой, кружилась стая
пьяных мух.
— Ты, тятенька, попроворней бы,— советовал Пет-
рунька. Сам он, обжигаясь, тянул чай из блюдца и то и
дело поглядывал за окно на улицу.
Но Аким, сморщив лоб, надув потные, густо заросшие
щеки, как назло, медленно дул в блюдечко и, купая в
горячей влаге усы, делал маленькие, сочные, с перерыва-
ми глотки. Наконец поднялся из-за стола. Долее обыкно-
венного крестился в угол. Откашлялся, перепоясался и,
скрытым жестом руки пощупав за пазухой, где были
деньги, сказал.
— Ну, айда!
У Петруньки тревожно екнуло сердце. Он огляделся,
и все люди, толпившиеся в заезжей, показались ему чу-
жими, подозрительными. «Ишь, глазами-то тыркают...
Народ!» — подумал Петрунька, и тут вспомнился ему
дед, провожавший их за околицу. «Город...— говорил ста-
рик,— с ним ухо держи востро!..»
На улице, обдав горячим облаком пыли, чуть не зада-
вила Петруньку извозчичья пролетка. Аким вовремя от-
дернул парнишку за локоть:
— Не распускай ворон!
За высокой решеткой желтели, горя под солнцем,
крылья жаток.
— Чья торговля-то? — не останавливаясь, кинул
Аким.
309
— То-варищ-ество Сто...толь... и Ко... ком-па-ния...—
прочитал Петрунька вслух, воззрясь на огромную голу-
бую вывеску.
— Ладно, пойдем дальше...
Но их заметили.
Аким, не отвечая, прибавил шагу.
— Эй! послушай-ка!..— кричали вслед.
— Тятенька, нам ведь...
— Иди, знай,— пробурчал Аким, упорно глядя перед
собою. Когда завернули за угол, отец перевел дух и стро-
го сказал:
— А ты помалкивай!.. Сам слышу...
— Да ведь склад там... машинный...— недоуменно
отозвался Петрунька.
— Скла-а-ад... Складов, брат, тутотка немало, толь-
ко, язви их, не всякому верь!.. Исподволь надо... с огляд-
кой... Казенный-то не прошли?..
— Нет...
Спустились по песчаной улице, мимо целого ряда зем-
ледельческих складов, мимо пивной и какого-то амбара.
— Теперь можно... В энтот вон зайдем!..
Петрунька, стараясь оставаться за спиной отца, про-
шел в раскрытые ворота.
Глаза его впились в грузный остов машины, с полот-
нами на широкой платформе, с десятками валиков, це-
пей, зубчатых колесиков и щитов.
«Она!»
— Гм... На всем дворе — одна-одинешенька...— ска-
зал Аким, зорко оглядывая из-под своих пучковатых
бровей широкий двор.
Вышел кряжистый чернобородый человек в картузе и
лаковых сапогах.
— Здорово, братец, чего хотел купить?..
Ласковый, щурил влажными глазками, точно прице-
ливаясь.
Аким крякнул.
— Так мы... мимоходом...
Петруньке машипа не понравилась: жидкая какая-то,
и краска местами слезла.
— Пойдем,— сказал он тихо, толкая отца в бок,—
слышь, пойдем!
— Да вам чего, собственно? — допрашивал чернобо-
родый.— Может, жаточку хотели?..
310
— Нам-то? Не-ет! — заторопился Аким, кося глаза-
ми.— Кака там жатка! Так-мы... невзначай зашли.
— Ну, бог с тобой,— вздохнул чернобородый.— Толь-
ко напрасно... Магарычу бы выпили... На вот, возьми!..
Он протянул пачку книжек в радужных обложках и
картон, свернутый трубкой.
— Да на што нам? — отговаривался Аким, но взял,
спрятал книжечки за пазуху, а трубку передал Пе-
труньке.
Через час книжечки и трубочки разных размеров и
цветов торчали у Акима и Петруньки отовсюду: из-за па-
зухи, из-за кушака, из-за голенищ и обуток.
Подымаясь по улице, они не пропустили ни одного
склада. Глядели, щупали, толковали, а толку все не бы-
ло... То в цене не сходились, то в сроках кредита, то ма-
шина не нравилась. От быстрой смены машин у Петрунь-
ки рябило в глазах и голова кружилась. Аким хмуро же-
вал пересохшими губами и то и дело скорбно сплевывал
слюну. Оба были в пыли. Горячая песчань забиралась в
рот, нос, уши и серым налетом покрывала лица. У Пет-
руньки, как из-под маски, ярко сверкали зубы. В сердце
парнишки была растерянность; думалось, что сноповя-
залки не купить им никогда.
— Ба-ать,— ныл он,— давай, чо ли, у этих возьмем!..
— Поговори еще!..— рычал Аким. Но уже и сам те-
рялся. В городе он был не впервой, еще прошлой осенью
покупал двухлемешку, и каждую зиму, обычно по не-
скольку раз, возил на продажу зерно, но до сих пор не
мог свыкнуться... Было такое чувство, точно кругом рас-
ставлены сети и капканы, и надо было идти осторожно,
оглядываясь... «Шутка сказать,— стойло в голове настой-
чивое, тревожное,— четыре ста целковых... Не грибы
ведь — четыре ста!»
В казенном окладе чуть не порешили купить: про-
шлую осень плуг тут взяли... Но спохватились. «Купить-
то купишь, да потом как? Кабы за наличные, а то часть
отдай, остальные по срокам... А казна — казна и есть:
чуть в срок недодал, сейчас за хребет... Волостной там...
урядник... Давай!..»
Наконец, уже в полдень, когда вся улица, как боль-
шая, жарко натопленная печь, дышала пыльным зноем,
снова пришли к большой голубой вывеске.
— Сто... то-о-оль! — прочитал Петрунька.— Немцы,
должно...
311
— А ты не болтай-ка!..— досадливо отозвался Аким.
Вошли на просторный двор, и у Петруньки снова раз-
бежались глаза. Пока отец толковал с приказчиком,
мальчонка глядел по сторонам и никак не мог наглядеть-
ся. Чего тут только не было!.. Голубые плуги с стройно
поднятыми грядилями; грузные молотилки на зубчатых
колесах; белые, как кипень, жернова, огромными калача-
ми грудившиеся у стены; гора ящиков под навесами, це-
лый ряд золотых жаточных крыльев, и над всем, как
большой черный палец, подняла вверх свою трубу паро-
вая машина... А вот и сноповязки: одна, другая, третья...
Уйма!..
«Склад ахтительный,— решил Петрунька,— сурьез-
ный склад». И когда увидел отца, снова направлявшего-
ся к выходу, чуть не заплакал от досады.
— Ты куды?— нагнал он его и заныл: — Опя-ять
трекнулся!
— Поговори у меня!..
Приказчик, начиная от сапог и кончая бороденкою,
пыльный, держал Акима за рукав и причитал, видимо,
теряясь:
— Да ты постой! Хоть ног-то своих пожалей! Слу-
шай, вот что... Эх, да и бестолочь, право!
В конторе распахнулась дверь, на крылечко выскочил
простоволосый человек в пиджаке и, взмахивая рукой,
зычно закричал:
— Эй, милый человек! Зайди-ка в контору! Эй, слышь,
на минутку!
— Да пошто?— отбивался Аким, но уже неуверен-
но, вяло.— Пошто нам контора?..
— А ты зайди, не съедим!..— приговаривал простово-
лосый человек. Он сбежал с крылечка и подхватил Аки-
ма под руку.— Чего уперся-то быком?..
Аким покорился, но в голове его ныла мысль: «При-
ехать бы через день... Деда взять, чего ли? Все-таки —
старик бывалый!..»
Ill
Косые лучи солнца, заглядывая в контору, играли на
грязном полу, на пестрых плакатах, развешанных по сте-
нам, на железном ржавом болтике, брошенном на подо-
конник.
ai2
Аким истово перекрестился на образок, висевший в уг-
лу над ящиком кассы.
— Здравствуйте-ка...
— Присаживайтесь, гостями будете!— звонко заго-
ворил человек в пиджаке, таща гостей к скамье.— Са-
дись-ка, молодой человек...
Петрунька опустился на кончик скамьи, за ним —
Аким, бегая глазами по сторонам.
— Я заведующий складом,— ласково и внушительно
начал человек в пиджаке.— В чем же вышло у вас де-
ло? Зачем обижать нас? Даже зайти не хотели...
— Пошто не хотели? Торопимся мы...— сказал Аким,
сгребая пышную свою бороду в кулак и зорко вглядыва-
ясь в заведующего: сутулый, голова и бородка с про-
седью, усы этакие представительные, пегие; лоб, как у
важного барина, крутой, а глаза хоть и поношенные, но
вполне обстоятельные.
— Вам сноповязочку?..— голос у заведующего был то
зычен и суров, то вдруг падал, мягчал, становился крот-
ко заискивающим.
— Ее,— угрюмо отвечал Аким и вдруг снова забес-
покоился, поднялся на ноги. «Старика бы надо»,— метну-
лось в голове.
— Да ты сиди! Чай будем пить... Андрей! поставь-ка
самовар... скорее!..
— Мы попили...
— Ничего, нас не разоришь, денег за чай не возь-
мем... Хе-хе!
Приказчик бросился за дверь, а заведующий потер
руки и, как ни в чем не бывало, спросил:
— Как же звать-то тебя, милый человек?
— Акимом звали, Федосеевым,— хмуро отозвался
Аким.
— Так что же, Аким Федосеич,— возьми у нас сно-
повязочку!..
— Успеем еще, завтра зайдем!..— заговорил Аким,
снова подымаясь.— Сегодня только поглядеть хотели...
— Чего завтра! — заторопился заведующий, усажи-
вая вновь Акима.— Товар — лицом... Тебе говорил при-
казчик: американские у нас машины... Понимаешь? Мак-
Кормик! Фирма такая... заграничная! Мак-Кормик — на
весь свет!.. Вы откуда будете?..
— Из Плосской мы... Косихинской волости! — бойко
отвечал приободрившийся Петрунька.
313
— Господи! — заведующий ударил себя в грудь. —
Да ведь у нас все ваши берут!..
— Чьи таки? — заинтересовался Аким и поднял
глаза.
— А вот сию минуту-с!..
Заведующий бросился к столу, захватил кипу крас-
ных ордеров и, кинув на нос пенсне, принялся перелисты-
вать.
— Андреевская волость... Мочищенская... Заселок То-
порков, Косихинской волости... Вот!
— Далеко это от нас,— заметил Аким.
— Найдем поближе...
Деревня — за деревней, имя — за именем. При этом
назывались покупки: то плуг, то молотилка, то жатка...
Наконец, добрались до Плосской. Сияющий подхватил
заведующий пачку ордеров и поднес ее Акиму.
— Читай!
— Петрунька, глянь-ко...
— Деревня Плосская, Косихинской волости, — раз-
дельно и зычно читал заведующий перед Петрунькой, ты-
ча пальцем по строке.— Гляди... Плос-ска-я... Семен Те-
рентьич По-пыл-кин!..
— Знаю,— улыбнулся Аким.— Што взял-то?
— Плужок, номер третий... Десять рублей задатку
дал!..
— Этого знаем!..
— То-то же... Доволен плужком?
— Кабыть, ничего!..
— Вот видишь!.. Да у пас весь товар в славе! По Си-
бири наших более ста складов, и всюду народ доволен!..
А сноповязки теперь на роличном ходу, усовершенство-
ванные! Запас к ним всегда есть! Монтера дадим... Все
честь честью... Наша фирма, милый человек...
— Наша фирма, слава богу!..— подхватил контор-
щик, выходя из-за стола и развертывая перед Акимом пе-
стрый плакат.— Вот, гляди... Большая золотая медаль —
в Орле дали за плуги! Большая серебряная —
в Кургане!.. Еще серебряная — в Омске!.. И орла имеем!
Видишь? Орел!..
— Я не хулю,— нетерпеливо отозвался Аким и ти-
хонько поднялся с места.— Каждый себе не враг — все
хвалят!..
— Не похвалишь — не продашь,— примирительно
вставил заведующий.— Ну, так как же?..
314
— Да никак!..— сказал Аким. Он снова встревожил-
ся, поняв, что дело идет к концу.— Вот завтра утречком
заглянем... Посмотрим, как и что... Сообразим...
— Значит,— повысил голос заведующий,— значит,
тебя никаким словом не проймешь, а?
— Птицу кормом, человека словом обманывают! —
твердо сказал Аким и, угнув спину, направился к две-
ри.— Завтра придем...
Заведующий сплюнул.
— Черти... Гортанью кровь пойдет, а вас не угово-
ришь... Разве вы люди!
Аким, насупясь, взялся за ручку двери.
— Петрунька, идем...
— Иди, иди!..— уже кричал заведующий.— Пожа-
луйста!.. Иди!.. Бестолочь, овца!..
Но когда Аким ступил за порог, заведующий подле-
тел к нему, ухватил за рубаху и снова потащил в кон-
тору.
— Тебе хоть кол теши на голове, ты все свое — пой-
ду, пойду! Да куда тебя шут несет?.. В свой склад,
что ли!
Он приходил в раж:
— Вчера явился один болван! Толковали, толкова-
ли... ушел! У Теминых молотягу взял, а она — старье!..
Плачется... А горго-то уж и не помочь... Близок локоть, да
не укусишь:.. вы понимаете слово человечье!.. Гля-
ди ж, уйдешь кулаком слезы утрешь... Иди!
— А ты не кричи,— сказал глухо Аким, растерянно
бегая глазами, и нерешительно опустился на скамью.
— Как же на вас не кричать! — не унимался заведу-
ющий.— Кабы ты толком что сказал, а то заладил свое:
завтра да ужо!.. Ну, что тебе у нас не нравится?
— Цена высока,— угрюмо ответил Аким.
— Триста девяносто? С передком-то?!.
— В казенном... на восемь ниже...
— Что-о?.. Да ты...
— А шпагат у вас почем?—заторопился Аким, пред-
отвращая новый взрыв хозяйского негодования.
— Тринадцать с полтиной... Ка-азенный!.. Да ты...
— А сроки уплаты у вас каки?— продолжал Аким,
видимо, уже что-то решая про себя.
— Чего сроки! Сойдемся... Это — не толк,— вдруг
смягчаясь, заговорил заведующий.— Как людям, так и
вам... А чай-то, Аким Федосеич, готов!..
315
— Лошадей сколько в упряжь требуется?— допраши-
вал Аким.
— Три, больше не надо...
— Поди, и четыре впрягешь?.. Посмотреть бы еще,
машину-то...
Пили чай. Петрунька шумно тянул из блюдечка и со
вниманием вслушивался в то, о чем с жаром рассказы-
вал заведующий. Тут была и Америка, и необыкновен-
ные американские машины, и многое другое... Когда до-
пит был пятый стакан, Аким, распоясываясь и называя
заведующего по имени и отчеству, заговорил:
— Ты вот, Гордей Лександрыч, обижашься: пош-
то, мол, человек толкует долго... то-ись, мы-то! А как
сразу?
— Это верно,— соглашался тот, похлопывая Акима
по колену.— Еще стариками заказано: семь раз отмерь—
раз отрежь... А все же подоверчивей бы к нам... Трудно с
вами!
— Трудов много,— согласился Аким.— Да и купить
нелегко...
— Э, нет!.. Купить, брат, что вошь убить, а вот про-
дать, вроде как... блоху поймать!..
— Правильно,— осклабился Аким.— Ну, так, давай,
чего ли?.. Шибко ты, Гордей Лександрыч, цепок: от те-
бя не уйдешь... Дак, значит, на три срока? К Зимнему
Николе первой?..
— От своих слов не отопремся...
— Ну, дак, господи благослови!..
Встали и оба истово перекрестились в угол.
— Пиши!..
Заведующий кинулся к столу.
— Ну, Петрунька, теперь, что бог пошлет,— сказал
Аким трепетным голосом.— Купили!..
— Не беспокойтесь,— отозвался заведующий, подни-
мая над бумагой голову и поправляя пенсне,— друзьями
будем!..
— Фальши бы какой не вышло, Гордей Лександрыч...
Опять же, монтера не задержи...
Аким каракулями подписал долговое обязательство,
вынул из-за пазухи платок, развязал бережно и отсчитал
полтораста рублей.
— Стариковы денежки, батьки мово... На похороны
копил, а вишь, куда приспели!..
316
IV
Аким ждал из города монтера. Народ поговаривал о
жатве.
Мужики, чертыхаясь в сторону нерасторопных баб,
готовились к работам: насаживали на литовки ручники,
чинили грабли и вилы. Сидор Лукич и с ним еще трое,—
все они имели жатки,— уехали в город за частями, обно-
сившимися в прошлое лето. За воротами Акимовой из-
бы с утра до вечера кто-нибудь дежурил: то сам Аким,
то дед, то Петрунька, забиравшийся на верею, чтобы
виднее было. Матрена хмуро приговаривала:
— Купили деймона! Вот и охай, вот и жди всяка там...
ремонтера!..
Стоял конец июля, когда солнце уже не пылает ог-
ромным знойным костром, а покорно, текуче, золотою
пылью расходится в бледной синеве неба. Воздух тонок,
но тускл; все чудится, что где-то там, за синеющим ува-
лом, горит лес, и до самого вечера невидимые руки пле-
ли под небом искристые нити паутины; одна за другою,
нежно колыхаясь, летели они над узорными нивами, се-
рыми дорогами, по улицам деревень, пока не хватала их
цепкая ветвь сосны или коричневый махор бурьяна.
Хорошо было за околицей, на просторе, и туда тянуло
Петруньку. Только страх, что монтер приедет в его, Пет-
руньки, отсутствие, усаживал дома. Чтобы не скучать,
Петрунька сманивал ребят к себе на огород и оттуда, че-
рез прясла, показывал им коробы машины, сложенные
под сараем. Хотелось ближе, да не позволял отец.
— Неча глазеть, пшли! — гнал он со двора надоев-
ших ему парнишек.
Не в духе был. Шутка ли, кое-кто уже в поле, на рабо-
те, а у него «ни тпру, ни ну»...
«Милей бы и не покупать вовсе»,— приходили порою
горькие мысли к Акиму, и тогда он избегал глядеть де-
ду в глаза, рычал на Матвея, а Матрене ни с того Ии с
сего говорил, что она дармоедка и такою ее маменька
родила... Та испытующе взирала на него и невозмутимо
кидала:
— Хороша и дармоедка, а с умом!..
— Это ты... к чему?— настораживался Аким.
— К тому-то!.. Поди, поди за ворота, никак, ремон-
тер...
317
— У, змея! — шипел Аким и уходил в поле. Часами
стоял он тут у пшеницы. Тихо под ветром коренились,
точно из золота сложенные, колосья и легохонько звене-
ли... Слушал Аким, и что-то смутное, тревожное подни-
малось в его душе: как будто бы затеял он не то, что нуж-
но было здесь, среди этого моря звенящего золота, под
этим бледным синим небом. И выползал страх, недоверие
к железному чуду, недвижно покоящемуся у него под
сараем.
Однажды лопнуло терпение Акима. Велел он запря-
гать чалую, позавтракал и, не проронив слова, уехал с
работником в город.
Это было утром, а в сумерках того же дня, когда поля
наполнились тихими, идущими из леса вздохами, а в уга-
сающем небе, над дальнею избою, показался нежный серп
месяца, Петрунька вышел за двор и свистнул.
Из-за прясел вынырнула белая голова с шустрыми
глазенками. За нею — другая, слегка наклоненная в сто-
рону, прислушивающаяся.
— Айдате скорее...— прошипел Петрунька, взмахивая
рукой.
— Уехал? — отозвалась голова, не трогаясь с места.
— Прыгай, давай!..
Легкий треск, и через прясла, один за другим, пере-
лезают четверо. В сером сумраке навеса, как осиновые
листья, шелестят голоса:
— Да где же?
— Нешто не видишь... Во-о!
— Уй-ей-е-ей!..
Проворные ручонки нащупывают ящики.
— Дерево-то... гла-а-адкое!..
— Што тебе сундуки-и!
— В этом вот — полотнища...— тыкал пальцем в ящи-
ки Петрунька.— А тут снопонос, а тута — колеса, а вот
те... гляди!..
Одна голова приникает к расщелине в ящике. Другие
ждут очереди, нетерпеливо просовываясь вперед.
— Ну, видишь?..
Голова молча пыхтит, потом нерешительно отзыва-
ется:
— Вижу...
— Чо видишь-то?
— Дык усы каки-то... на манер ухвата...
318
— Дуралей! Аппарат то, вязальный... Сам снопы ко-
торый вяжет...
— О?
— Вот те и о!..
— Сама?
— Хи! Сказывал, поди, я... Сама!.. Сама косит, сама
ложит, сама связывает... Мудреная!.. Да ты... давай сю-
ды... ту!..
Вторая голова, с косичкой на затылке, осторожно при-
ближается.
— Боюсь я...
— Мертвая она... дуреха!..
Ощупали все, постучали кое-где кулаком. Насмотре-
лись, стоят, не шелохнутся...
— Сто тыщ верст перли машину,— горячим шепо-
том рассказывает Петрунька.— Из-за грани... Дошлый
народ пошел на стороне... В городу купец сказывал: там,
говорит, все машинами робят... А руками ничего!..
— Ленивые, чо ли?..
— Ленивые!.. Сказал тоже... У них, вишь ты, у мери-
канцев-то, и пахота машиной идет: заведут ее, а она и
пошла, и пошла! Смаху сто десятин... за день!..
— Ух ты!
— То-то!..— Петрунька повышает голос.— Живы-здо-
ровы будем, на следующий год себе таку купим... пахать
чтобы...
— Денег-то де возьмете?..
— Ха!.. У деда еще три корчаги есть... Хватит. Да и
сам выправлюсь... робить буду!
Слушатели подавленно молчат.
— А то есчо така машина есть,— продолжает шепо-
том Петрунька.— Сама, вишь ты, жнет, сама молотит, са-
ма мелет... все зараз! Прямо на поле мешки с мукой бро-
сом выбрасывает... Во как!
И еще долго слышится возбужденное повествование
Петруньки, прерываемое несдержанно звонкими голоса-
ми: «Ой ли!.. Здо-о-орово!.. Ой-ей-ей!..»
Воздух наливается мглой, острый серп кротко мерца-
ет над дальней избой. Крылатый ушан реет под сосной,
а со двора доносятся тяжелые вздохи домового: скучает,
видно... Где-то в конце улицы скрипит не то колодезный
журавль, не то телега.
— Петрунька-а-а! Де-е... ты-ы-и!..
Под навесом переполох.
319
— Па-а-аршивай!.. Воро-о-ота!..
Петрунька стремительно бежит вперед, а позади —
дробный топот босых ног и торопливый треск гнилых пря-
сел.
Петрунька открыл глаза и видит: за столом, в крас-
ном углу, под образами, обвитыми узорным ручником, си-
дит незнакомый парень в замасленной тужурке и жадно
уписывает блины, горою возвышающиеся перед ним на
миске. Подле дед трясущимися руками наливает из пар-
ного самовара праздничные расписные стаканы. Отец,
должно быть, выпил только что водки, морщится, утирает
бороду концом рубахи, подносит гостю чашку, налитую
через край, и приговаривает:
— Кушай, паря... Одолжай, миляга!..
У гостя лоснится от пота круглый угреватый лоб, смуг-
лые, в темном пушку, щеки расплываются в улыбку:
— Да будет бы!..
Но уступает, водит рукавом тужурки по толстым мас-
ляным губам и, подняв сытые карие глазки, берет из хо-
зяйских рук чашку:
— Много лет вам...
— Кушай-ка на здоровье! — отзываются в один голос
отец и мать. Мать стоит, опираясь на ухват, у печи и улы-
бается. Половина ее лица, белый платочек на голове,
край высоко подоткнутого подола отсвечивает заревом из
печной пасти.
Петрунька вскакивает с сундука и проворно натяги-
вает штанишки... Не опоздать бы!..
Из окон, через сетку герани и цветного мака, льется
солнце, играет на самоваре и в волосах деда, прыгает
зайцами по конику, по домотканому бордовому поло-
вику.
Вскоре все на дворе. Незнакомый парень, оказавшийся
монтером из города, ловко разбивает под навесом ящи-
ки, достает и раскладывает в порядке по земле железные
рамы, зубчатые колеса, трубки и болтики.
Вокруг толпятся бабы, девки, мальчишки с разинуты-
ми ртами. Аким оставил их в покое, сосредоточенно сле-
дя за каждым движением монтера.
Тот, подмигивая девкам, то и дело покрикивает на ра-
ботника.
320
— А ну, ты, подай-ка стойку!..
Матвей вспотел, скраспел в лице и растерянно лапа-
ет то ту, то другую машинную часть.
— Да не ту! Видишь, с краю!..
Девки прячут лица за спины подруг, хихикают над
Матвеем и обжигают монтера лукавыми глазами.
— Ишь, хахаль какой!..
— Бастенький!..
Работа разгорается. Час за часом из разбросанных
стальных частей растет машина. Монтер сбросил тужур-
ку, засучил рукава и звонко стучит молотком. Порою он
выпрямляет спину, отдувается, утирает с лица ребром
чумазой руки пот и просит квасу.
Девки наперебой бегут в избу и тащат жбан. Мон-
тер, осклабясь, хватает вместе со жбаном протянутую
руку; девка отбивается, звонко смеется.
Порою он, обращаясь к Акиму, внушительно го-
ворит:
— Смотри, эту гайку — в порядке надо, чтобы по-
всегда на месте...
— Слушаем,— покорно отвечает Аким и вздыхает.
— Ничего себе, обвыкнешь! — ободряет его мон-
тер.— Тут, главное, насилом не надо! Машина — вещь
нежная!..
— Больно мудрено чо-то...
— Пошто мудрено?.. Один гаечный ключ, немного
масла и смекалки... вот и все!
Приходи, милой, в ограду,
Подарю тебе отраду!..—
негромко напевают девки.
Растет машина... Уже на колесах платформа, уже гре-
мят цепи при поворотах зубчаток, уже посверкивает на
солнце тонкое мотовило, похожее на игрушечный остов
мельничного колеса.
Погожим утром, когда над избами еще висел молоч-
ный пухлый туман, из распахнутых ворот Акимова дво-
ра, величаво покачиваясь, двинулась на тонких транс-
портных колесах сноповязалка.
Монтер, откинувшись на гибком сиденье, уверенно
кричал на лошадей:
— Эге-е, ше-елу-удивые-е!.. z
11. В. Бахметьев
321
Пестрая шумная толпа из подростков, баб и мужиков,
во главе с Акимом и дедом, спешила вслед. Позади, вер-
хом на чалой, ехал Петрунька, держа под уздцы другую
лошадь. Он свысока поглядывал на людей, нетерпеливо
бил голыми пятками в бока чалой и кричал:
— Береги-ись!..
Торопливо хлопали калитки, скрипели ворота. Из гу-
стых косм тумана выплывали новые и новые лица. По-
дошел толстый, краснощекий староста и долговязый ла-
вочник, облаченный в жилет поверх рубахи, с длинною,
болтающейся на животе цепочкой от часов. Оба как-то
особенно почтительно поздоровались с Акимом и при-
мкнули к толпе. Те, что шли у самой машины, косились
на нее и вполголоса толковали:
— Хитро, надо быть, все... Забава!..
— Будет ли толк-то?
— Знамо, будет! На то — вершат...
— Не скажи...
Мальчишки бежали впереди и первые распахнули во-
рота поскотины.
Всходило солнце, ломкие лучи вязли в тумане, зажи-
гая его там и сям вишневым соком.
Алая пыль воскурилась по дороге, бессильно падая
в толпу.
Стали у грузно кренившейся под росою пшеницы.
— Ну, вороти на сторону! — закричал монтер.— Гей,
нечего лезть под ноги!..
В его руках зазвенел ключ, забелели полотна. Он при-
говаривал:
— Гляди, хозяин, чтобы полотна у тебя в аккурате
были... За пряжками следи, слышь?..
Потянулись томительные минуты молчания.
— Пошто не приступит? — слышались нетерпеливые
голоса.
— У вас не спросились! — откликался из-под плат-
формы монтер.
— Нельзя,— рокотал осипший бас старосты,— вишь,
роса, а по росе жать негоже!..
— Верно!..
— Пошли, вы! — кричал на окруживших машину
мальчишек остролицый, сухонький и проворный Степан,
переселенец.
— Леонафту-то припасли? — слышался его голос,
полный тона знатока. Степан «видал виды» и в Орлов-
322
ской губернии сам робил у помещика на «этакой-то».
— Поди, припасли,— тихо замечал лавочник, косясь
в сторону монтера.
— То-то!.. Ножи-то поднять надо!..
— Эк, без тебя-то не знают!..— кричал монтер.
— Нам што...— обиделся Степан.— Мы только...
— Тпру, стой!..
— Затяни постромки! — звенел уже в другом конце
голос монтера.— Подай шпагат!..
Несколько человек, толкая друг друга, услужливо
бросились к нему.
— Она у тебя, Аким, не пужлива?
— Нет...
— То-то! Разнести может... впервой-то...
— Винт, однако, не на ту... сторону...— встревожился
опять Степан.
— К бабе своей ступай! — советовал монтер.— Ей ука-
зывай!..
— И старики сюда же приперлись,— скалил зубы
безусый парень.
— Антиресно!..
— Отойди, ребята! Не напирай!..
— Пшел, Ваньша! Угодишь, чертенок, под косу...
Дрогнул, потянулся вверх туман: осилили его острия
лучей. Зачернел лес в стороне, и вспыхнул пшеничный
клин.
— Уйди, брюхо про-о...
Вдруг затихли людские голоса.
— ...по-о-ррю!..— угрожающе предупредил монтер,
косясь на ребятишек.
Стали полукругом, тесно сомкнулись. Ребята молча-
ливо, скользкие, как угри, протискивались наперед. Бабы
ловили их за руки и не пускали от себя. Лишь беспокой-
но, невидимый в тумане, кричал чибис, да насвистывал
где-то в стороне, шныряя в кочках, куличок.
Монтер постучал ключом под снопоносом, покрутил
ручку у платформы, и она, дрогнув, тихо подняла зад,
уставивши острые свои зубья к коричневому корневищу
пшеницы.
Петрунька горящими глазами следил за каждым дви-
жением монтера. Вот надвинул тот покрепче картуз, взял
В руки бич, подержал, бросил его и полез на сиденье.
'Аким торопливо подал концы вожжей.
— Ну, го-о-споди благослови!..
323
Аким первый снял кошемную шапку, и все, у кого го-
ловы были покрыты, сделали то же. Притаили дыхание.
Теперь было слышно, как густо сопит толстый староста.
Монтер тронул вожжи, заглянул вперед.
Петрунька перегнал отца и вскочил верхом на перед-
нюю лошадь.
— Пош-е-л!..
Лошади рванули, машина вздрогнула и с сухим шоро-
хом, прищелкивая, как большая птица, плавно двинулась
вперед.
Люди, толкая друг друга, давя и напирая, бросились
вслед.
— Но-но-о! — кричал монтер, упруго откинувшись и
с силою двигая рычагом.
— Но-о-о!.. О-о-о!..— дружно, восторженно взмахивая
руками и стремительно наступая, ревела вслед толпа.
В первую минуту, из-за облака пыли, поднявшейся от
платформы, видна была лишь напряженная спина монте-
ра, да то, как плавно, сверкая на солнце, подымались
планки мотовила.
«Ш-ш... Ш-ш...» — непрерывно, врезаясь в людской го-
мон, шло сухое и жесткое от мотовила.
И вдруг передние ряды в толпе ахнули: звякнув, сно-
понос сбросил первую пару снопов. Кинулись люди, под-
хватили на руки.
— Ах, яз-зви ее!..
— Скрутила-то ка-ак!..
А впереди желтела уже новая связка, и еще, и еще...
Бежали по щетине жнитва, спотыкаясь о комья бо-
розды.
— Ай да самогон!..
— Ка-а-ки штуки выделыват!..
Теперь было видно все. Мотовило бережно пригибало
высокие ряды пшеницы; срезанные у корня, покорно, гу-
стым пластом ложились на полотно стебли, и непрерыв-
ным золотым потоком влекло их вверх, к вязальному
столбу; проворные кучки, сверкающее острие замыкалось,
и сноп трепетал уже в железных лапах снопоноса. Глад-
ко подстриженная щетина дорожкою стлалась позади.
— Ах-ха-ха!.. Ну, машина!.. Ха-х-ха-а...
— Ну и зве-ер-рь!..
— Оборотень!.. Черт ё дери!..
— Теперича жатки — фи-ю!.. Никуда супротив этой!..
Охали, гикали, и многие не могли сдержать буйного,
324
восторженного взрыва хохота. Один Степан, переселенец,
«видавший виды», молча шагал у самого полевого колеса,
но видно было, что равнодушие его стоило ему недешево.
Лавочник подбежал к Акиму, у которого красное и пот-
ное лицо расплылось, как сдобренное тесто.
— Молодец ты, Федосеич!..
— Чего там? — рассеянно поднял тот сладко побле-
скивающие глазки.
— Молодец, мол... Беспременно заведу себе!..
К ним подкатился тощий, корявый, с суковатым но-
сом, Омелька-кузнец, чинивший на деревне плуги.
— Спрыснуть надо, машину-те!..— визгливым голосом
заговорил он.— Эй, слышь, Федосеич!..
— Правильно, без этого нельзя!..— подхватили во-
круг.
— Ладно...
— Посылай!
— Четвертную, што ли?..
— Ведер-ку, яс-сно мор-ре!..
— Ге-эй, Ма-атвей!..
Но людская волна подхватила и увлекла за собою и
Омельку, и лавочника, и Акима.
— Гляди, гляди!
— По три зачала!..
— По три!., по три!..
Пышными гроздьями ложились снопы по три в ряд,
как по линии. Бабы охали над тугими связками, тыкали
в них кулаком, тщетно пытались разорвать шпагат.
— Не разомкнешь!..
— Ловче рук!..
— Ах, она, лихоманка!..— кричал Омелька.— Эй,
слышь, дедка!.. Смотри-ка чо... Вот дак язва!..
Дед все время шел рядом с Акимом, но утомился, от-
стал и одиноко стоял, склонившись над связкою снопов.
На окрик Омельки он поднял голову и долго вглядывался
в пьяного кузнеца, как бы соображая, о чем идет речь.
Отозвался не сразу.
— Не дури, Омельян!..— Голос у деда дрожал.— Туте
молитвой надо, а ты...
Дед выпрямился и молча стал следить за удалявшей-
ся сноповязалкой. Пыль крутилась по жнивью, челове-
чий гомон гулким эхом отдавался в полях. Дед поднял
влажные глаза к ясной сини неба, напитанной солнцем,
325
и тихонько крякнул, как бы осиливая навалившуюся на
него тяжесть.
В сторону деревни скакал работник Матвей, погоняя
взмыленную лошадь ребром руки.
— За магар... чом бегу!..— крикнул он на лету деду.
— Че-о?..
— Магарыч-ч...
Ускакал. Дед двинулся к людям. Шел не спеша. По-
кряхтывая, подымал выброшенные колосья, складывал в
пучок и улыбался:
«Машина — не рука человечья: ронят...»
VI
Пришел вечер, задымились поля, двинулись тени по
улице, в темном остывающем небе повис остророгий
месяц.
Петрунька сидел в избе, припав к подоконнику рас-
крытого оконца.
Среди двора, в полумраке, насыщенном серебристой
пылью молодого месяца, возились над сноповязалкою
Аким, Матвей и дед.
— Смотри, не зацепи! — подавал голос Аким, и слы-
шалась его натужная одышка.
— За-адом ее!..
Петруньку разморило за день. Сладко ныли ноги, го-
рело лицо, и глаза слипались сами собою.
Мать, хлопотавшая у стола, подошла к окну, наклони-
лась.
— Скоро вы там? — крикнула она.
Ей не ответили. Сноповязалку вдвинули под навес и
загородили пряслами, чтобы не потревожила скотина.
Аким стоял посреди двора и оглядывал машину с чувст-
вом хозяйского удовлетворения.
— На стол накрыла, слышь! — снова, теряя терпение,
покричала Матрена.
— Идем!..
Пришли, принесли с собою крепкий запах навоза и по-
та. Такие большие, бородатые, и тени от них по стенам —
надвое ломаются.
— А ремонтер-то наш де?.. — обеспокоилась Матрена.
— Ищи ветра в поле...— осклабился Матвей.— К дев-
кам залился.
326
Уселись кругом за стол. У Петруньки от устали ложка
из рук падала, а отец, коренастый, волосатый, весь по-
том смоченный, бороду разгладил, выпростал рот, пере-
крестил его и зачавкал сочно, убористо. И Матвей не от-
ставал от него, только дед не спешил чего-то.
— Спать бы,— проронил Петрунька, но никто не ото-
звался. Вели свой разговор.
— Митюшкин парень просил...— бросил Аким между
чавканьем.— Шесть рублев давал... со шпагатом... Я ему:
дешевенько, малый, прибавь... Не дорожись, говорит...
А тут голытьба новоселая подошла... Давай нам маши-
ну... Мы, грят, за шпагатом не постоим... Эвона! Я им:
ладно, мол, наперво свое уберу... Д-да... Заутро, всамде-
ле, к Синему Логу надобно... Ден пять провозишься!..
Голос отца все затихал, удалялся и уже как будто из-
за стены слышался, и уже не отец то, а большой шмель
жужжит.
Прикорнул Петрунька к плечу деда и затих.
— Никак, готов! — сказала Матрена.
•— О?..
— Ей-же-ей...
Аким взял сына на руки.
— П-пусти... — процедил Петрунька, когда мать та-
щила с его ног обутки...— Мотовило... прикре... пи...
И будто смеялся кто-то над ним... А потом загомонили
вокруг люди... Ой-ей, сколько их! Вся улица черна-чер-
нешенька от народа... И ворота кругом: тыр-тыр... Прет
отовсюду стар и мал... Пыль клубится над горячими от
солнца пряслами, и жмутся к ним бабы — непротолк по
улице. Река-рекою льется люд через ворота поскотины на
выгон и далее, по полям... Поля... Ничего нет, кроме жел-
теющей вокруг пшеницы да упружистой небесной сини
над ней... «Поше-ел!» — звонко кричит Петрунька и чув-
ствует, как мягко колышется под ним сиденье снопо-
вязки. Лошади рвут, чалая спотыкается на ходу, а Пет-
рунька кричит: «Валя-яй!» Кланяются колосья и падают
на белые полотна, как в постель... И видит Петрунька —
не один он: по праву сторону Дёмка, тоже на сноповязке
покачивается, по леву — Тишкин крестник. «А врете,
я скорее вас полосу пройду»,— думает Петрунька и бод-
рит лошадей—бичом к ним тянется. А сам оглядыва-
ется... Господи!.. Покуда глаз берет — движутся по полю
сноповязки, и нет им счету... «А вот вас сколько! — мель-
кает в голове Петруньки.— Погоди ж, я вам по-о-ка-
327
жу...» И вот уже не на сноповязке он, а подле чудной ма-
шины, и труба у нее, как та, что в городе — на дворе
склада, черным пальцем в небо уставилась. И гудит, и
пыхтит машина, и столбом мякина летит, а зерно сып-
лется, сыплется... Глядит по сторонам Петрунька, а тол-
па вокруг — без шапок. «Ай, да Петр Акимыч! — говорят
вокруг.— Вот это — мужик!» А зерно сыплется, горою
растет... Радостно Петруньке и страшно: ну как рухнет
гора да зерном сыпанет,— затопит все поле, всю поско-
тину, всю деревню. Сердце сжимается, кровь стучит в
висках. «У-ух!» — отдуается Пентрунька и просыпается.
— Го-осподь с тобой! Чего ты орешь?
Голос деда с голбчика. Сизая муть крутилась в углу,
и дрожало блеклое оконце.
— Як тебе, деданыка...— попросился Петрунька, при-
подымая голову.
— Ладно, иди!
Крепко прижался к костистому плечу деда и опять
уснул.
На дворе чуть брезжил рассвет, а деду не спалось.
Старому и дня и ночи мало, чтобы перебрать в памяти
прожитое, осмыслить конец. Пройдена дорога длинная,
такая длинная, что даже память о ней теряется.
Лежит дед на полатях, к сладкому дыханию внука
прислушивается, и хочется ему все по порядку припом-
нить, от малых лет, да где уж!..
Одно крепко знает он: сомутилась жизнь, вихрем
вскрутилась, непонятная стала. Раньше совсем по-друго-
му жили, попросту... И крепкий народ был, упористый.
По весне, бывало, за соху возьмутся — земля-то цель дер-
нистая...
А потом, глядь-поглядь, в двадцати верстах село воло-
стное объявилось, повалил всякий народ, как вода полая.
И вот уже трудно теперь узнать старое: и люди другие,
и сноровка иная, и о сохах запамятовали.
Всякий норовит рубль в землю вложить, а десять спро-
сить... И ко всему машины приноравливают.
— Эх-ха-а...
Петрунька промычал во сне, повернулся на бок.
— Ась? — наклонился к нему дед.
Мальчонка тихо и ровно посвистывал носом.
1914
МАТЬ
1
Бабушка Савелиха наперед взяла с Натальи пять руб-
лей: рубль за харчи, рубль за свое повивальное мастерст-
во и три за сохранение в нерушимом секрете того, что
должно было произойти с нею, Натальей Рябковой, деви-
цей двадцати одного года от роду, проживавшей до по-
следнего времени при номерах Зайкина, у старого бара-
хольного базара. На все согласилась Наталья, даже об-
радовалась, что есть на свете такие бабушки-благоде-
тельницы. Правда, отданная старухе пятерка была, если
не считать мелочи, последнею в сбережении Рябковой, но
ничего не поделаешь! Много испытала она горя в недол-
гой своей жизни, а такого злосчастья, как нынешнее, еще
не приключалось с нею.
Савелиха возилась у печи над облупленным, в ссади-
нах, самоваришком, когда явилась Наталья. Только что
светало, и под низким потолком еще держался в горнице
сизый сумрак.
— Бабынька...
Старуха разогнула спину, зорко взглянула из-под бе-
лесых жестких бровей на гостью, деловито спросила:
— Ай началось?..
Исхудавшее, с темными впадинами на щеках, лицо
Натальи было бело, и тупым недоумением светились ее
серые, широко открытые глаза. В одной руке держала
она узелок, другою теребила на выпуклом круглом живо-
те концы шали.
— Ночью... во... воды прошли!..
— Эвона!.. Ну, давай, разболокайся.
До обеда Наталья сидела на табуретке у стола, кусая
губы и не сдерживая крупных, обильно сочившихся по
щекам слез. Старуха копалась по хозяйству, что-то сти-
рала в деревянном корыте и заговаривала с гостьей.
Из корыта шел вонючий пар, клубился у темного потол-
ка, туманил стекла оконца.
Наталья отвечала хозяйке глухо и коротко, вся отдав-
шись болям, которые терзали ее молодое, непривычное к
ним тело. Порою досада закипала у Натальи на старуху
из-за назойливой ее болтовни. Хотелось вскочить из-за
стола, закричать на нее благим матом, но сдерживалась,
до крови закусывая губы. От пищи отказалась... Савели-
329
ха долго жевала кашу, прихлебывая щами; от жирных
щей распространялся тухлый запах. Наталью невыноси-
мо тошнило... Потом старуха куда-то ушла, сказавши, что
«|ко времю» она ужо возвратится. И как только хлопнула
за нею дверь, Наталья с воем повалилась на скрипучую
деревянную кровать.
Плохо помнила Наталья, что было далее. Может быть,
прошел один день, может быть — два. Каморка налива-
лась серыми тенями, потом за оконцем снова белело, и
опять надвигались сумерки, а она билась в кровати, ца-
рапала себе лицо, грудь и тянула часами дикое, истошное
«у-у-у»...
Были минуты, когда ей казалось, что тело распадает-
ся на части и что она умирает. Тогда, напрягая последние
силы, Наталья вскакивала на ноги и стремилась бежать,
но цепкие старушечьи руки охватывали ее, толкали на-
зад, к постели, и пригибали на подушку. И вдруг она сти-
хала: немели руки и ноги, сердце вздувалось большим пу-
зырем, и чудилось, что все оно полно режущих осколков
стекла. Тогда к самым ее глазам наклонялась косматая
пегая голова с острым носом и острыми, светящимися из-
под белесых бровей искорками.
— Крепись, бабынька, крепись...
— Хоть бы помереть...— охрипшим голосом произно-
сила Наталья, упираясь мутными глазами в потолок.
— Ишь ты, жидка на расправу! — говорила Савели-
ха, вытирая ладонью капли пота на лбу у Натальи и под-
бирая влажные локоны темных ее волос.
И потом, за минутами облегчения, новые, еще не ис-
пытанные боли с новою силою охватывали тело, и опять
металась Наталья на кровати, рвала зубами подушку,
принималась хохотать визгливо, бессмысленно, несконча-
емо. Много видела Савелиха рожениц, и уже одеревенело
ее сердце к этим воплям, но муки Натальи, длящиеся вто-
рые сутки, разбудили тревогу в старой груди.
— Святый боже, святый крепкий!..— шептала стару-
ха, вглядываясь в землистое лицо Рябковой.— Вот она,
бабья-то доля. Энтот-то вроде пса какого. Ему что?.. Ги-
ги да го-го, а бабыньке смертушка!..
Когда миновали вторые сутки и за оконцем сгустились
сумерки, Наталья уже не вопила, глухо и хрипло стонала,
недвижно лежа в кровати. Старуха накинула шубейку и
побежала в дворницкую.
— Касьян Митрич! Раствори, сокол, воротца...
330
— Это ж с какой стати? — сурово спросил дворник,
большой, рыжебородый, с серьгою в мочке правого уха.
— И-их, Митрич...— жалобно отозвалась Савелиха.—
Мается у меня одна...
И сунула в волосатую руку мужика гривенник.
— Раствори, милый... Знаешь, бабье дело... Впервой
эта... А по приметам, как распахнешь воротца-то, враз
ослобонение плоти учнется...
— Эх, коноводишься ты, Савельна, с этими...— вор-
чал дворник, направляясь к выходу.— Их, непутевых, роз-
гами надо!..
Во дворе, звякая ключами, он снял замок с ворот и по-
тянул на себя тяжелые их половинки.
Старуха закрестилась.
— Пошли тебе бог здоровьица!
Дворник махнул рукой.
— Ладно, чего там... А это возьми!..— сказал он, воз-
вращая Савелихе гривенник.
В горнице старуху точно бичом ударил тягучий бабий
вопль, похожий на вой прибитого животного. Потом все
стихло. Началось новое: казалось, что кто-то осиливал тя-
жесть и отдувался в сосредоточенном напряжении.
— О мать пресвятая!..
Савелиха склонилась к Наталье и облегченно вздох-
нула.
— Ну, пошло!.. Помогай, владычица...
В полночь Наталья родила мальчика.
2
— На вот твово, покорми... разок-другой!..
С такими словами на рассвете следующего дня Саве-
лиха подала Наталье беленький сверток с торчащим из-
под холстины сморщенным и красным, в кулачок, личи-
ком.
Наталья приложила ребенка к упругой набухшей гру-
ди, почувствовала теплоту, идущую от сына, и залилась
тихим смешком.
— Чего рада-то? — окликнула ее старуха.— Чать, не-
долго миловаться будешь!..
В голосе Савелихи зазвучало хмурое предостереже-
ние, но не слышала этого Наталья. Бережно прижимала
она к себе ребенка, вздрагивала и улыбалась при каждом
крепком, чмокающем звуке жадных, теплых уст. Порою
331
ребенок терял грудь и легохонько шевелил личиком, на-
поминая щенка у сосцов матери. Тогда Наталья, широко
отпахнув свои глубокие, поблескивающие влагой глаза,
приподнимала плечо и пальцами свободной руки направ-
ляла сосок. В измученном ее теле с юной силой оживала
кровь, пьянила голову, звучала музыкой в сердце. И чу-
дилось Наталье, будто не было у нее позади в жизни зло-
го девичьего горя и не ждало ее впереди новое горе, горе
матери.
Уже на третий день Наталья поднялась с постели, но
почувствовала головокружение и присела у стола.
Савелиха пытливо окинула глазками ее пожелкнув-
шее от перенесенных страданий лицо с запекшимися гу-
бами и сказала:
— Ну-ну, оправляйся... А там и о младенце посмекать
надобно!
Наталья испуганно, как при напоминании о чем-то
жутком, взглянула на старуху, замигала виновато ресни-
цами, тихо выронила:
— Успеется!
— То-то! Сама должна управиться... Уговору с тобой
на этот счет не было.
— Знаю.
— Как не знать... Да ты поспешала бы!
Наталья потупилась.
— Еще денек-другой, Савельна!
— Зря! Сразу-то, не обвыкши-то к нему, легче!..
Наталья молчала.
— Ты вот чего,— продолжала Савелиха,— ты брось
кормить его... грудью-то... Молочка купим, соску резино-
вую...
Уловив во взоре Натальи выражение робкого недо-
умения, старуха пояснила:
— Дело такое: ему и тебе посвычней будет.
И подвинула чашку с чаем:
— Согрей живот-от...
В конце недели, утром, Наталья обрядилась в свою
ватную, порыжевшую от времени кофтенку, закуталась
поверх в шаль и ушла. До сумерек бродила по городу, за-
ходила в гостиницы, в частные квартиры, даже в бани.
И всюду, как только узнавали о том, что она с грудным
ребенком, отказывали ей.
— Кому нужна! — говорили ей.— Посуди сама: не то
тебе дело делать, не то с отродьем своим возиться!-
332
Покорно выслушивала она отказ и, поворачиваясь к
двери, долго не находила ручки. Обернувшись, не подни-
мая глаз, еще раз просила вполголоса:
— А, может, взяли бы, а?.. Уж я постаралась бы!..
Побывала она и в номерах, где работала до самых ро-
дов, но здесь отказали ей в приюте, а сам Зайкин, хозяин,
даже прикрикнул на нее:
— Пошла вон, потаскуха! Спасибо скажи, что рань-
ше тебя, брюхатую, не выгнали...
Весь день с холодного серого неба сыпался сырой
липкий снег, и от него пестрели панели, крыши домов,
спины прохожих. А когда немощными язычками вспых-
нули среди хмурых улиц вечерние огни, Наталья почув-
ствовала, что ей непереносимо душно. Душно от хмурых
улиц, от подслеповатых уличных огней, от чужих, замк-
нутых в себя пешеходов. Она распахнула шаль и, часто
дыша, опустилась на скамью у попутных ворот. Глубокое
равнодушие охватило ее. Не хотелось ни думать, ни дви-
гаться. Так бы вот и осталась тут, в этом глухом переул-
ке, на всю ночь, на всю... жизнь!..
Напротив, через улицу, тускло светилась остекленная
дверь лавчонки, и видно было, как, вырываясь белесыми
пушинками из мрака, сыпался сверху снег. Одиночки
заходили в лавочку, звякали дверью, и тогда круглые
тени метались по стеклу. На углу чернела пролетка с по-
нуро сбоченившимся на козлах извозчиком, а рядом тор-
чала долговязая фигура городового с накинутым на го-
лову капюшоном шинели.
Наталье начинало казаться, что когда-то так же вот
сидела она вечером у чужих ворот, и тот же был переулок,
и так же светились двери лавочки, сыпался снег, жа-
лась темною вороной к забору извозчичья пролетка, а во-
круг было тихо-тихо, как на кладбище. Крепко стиснув
веки, силилась она припомнить, когда это было, и не мо-
гла. А вместо того перед глазами замаячило иное видение,
но было оно такое же унылое, сумеречное.
Крутой изгиб дороги. Осенний ветер шепчется в голых
ветвях придорожного ивняка. Тускло желтеет глинистая
слякоть под скрипучими колесами, натужно перебирает
копытами чалая лошаденка, вспугивая с пути галок, и
отец Натальи шагает подле, держась за грядушку, а в
задку телеги покряхтывает на ухабах старенькая бабка.
Это везли пятнадцатилетнюю Наталью до полустан-
ка, с которого отец должен был доставить ее железной
333
дорогою в город, а там устроить к кому-либо из господ
прислужкою. Прощаясь на полустанке с бабкою, возвра-
щавшейся на чалой домой, в Ольховатку, Наталья раз-
рыдалась и не осушала глаз до самого города. Расстава-
лась-то она не только с бабкою, а и с малолетними се-
стренками, потерявшими в прошлом году мать, а в ны-
нешнем, по весне, дядюшку. Мать умерла от какой-то
сердечной болезни, а дядя Иван, призванный из запаса в
армию по случаю войны с японцами, погиб на фронте...
Пятеро душ, считая старуху, оказалось на иждивении
родителя Натальи, а все богатство семьи заключалось в
двух десятинах пашни. На девчонок-то земля не наделя-
лась... Все же, как ни тяжка была жизнь Рябковых под
гнетом малоземелья, податей, недородов, отец не решил-
ся бы отправить отроковицу в город, на заработки, если
бы не гибель брата. Находясь в холостом положении,
Иван все свои заботы сводил к обеспечению куском хле-
ба семьи брата. Он не только был правой его рукою
в хозяйстве, а еще и подрабатывал в поле у соседнего
помещика.
В городе, сняв за четвертак в сутки угол на постоя-
лом дворе, отец не один день таскался с Натальей по
господским домам, пока, наконец, не сыскали они подхо-
дящей семьи и мало-мало терпимой оплаты за труд. Это
была семья нотариуса, где Наталья досматривала за дву-
мя барчуками-подростками, стирала белье, мыла полы,
ходила с барыней на базар за съестными продуктами.
После нотариуса, которого перевели на службу в другой
город, Наталья нанялась нянькою к члену окружного су-
да, затем довелось ей прислуживать в доме купца-хлебо-
торговца. Сбежав отсюда из-за назойливого ухаживания
юного купеческого сынка, устроилась она на работу в
трактир, подавальщицей при буфете. Так в нелегком
житье-бытье у чужих людей минуло пять лет. А годы те
были необычные. Еще когда у нотариуса Служила На-
талья, за столом у хозяев, да и на всех перекрестках в
городе только и разговора было, что о всяких бедах-по-
ражениях на войне с японцами. И потом, как грозовой
удар с неба, прокатился слух о страшной расправе царя
в Питере с простым народом: шли заводские люди со
своими женами, малышами к царю с челобитной насчет
тяжкой своей доли, а у дворца — войско с оружием, и ну
палить по народу... Многие сотни невинных душ из-за
царской свирепости загинули тут. После этого страшного
334
происшествия не осталось у народа и капли веры в царя,
и вот в том же пятом году, осенью, провели рабочие лю-
ди по всему государству забастовку на железных доро-
гах, а в декабре месяце поднялись в первопрестольной
Москве против царской власти с оружием в руках. Не-
спокойно было и по деревням, захватывали крестьяне
землю у помещиков, пастбища, лес, а кое-где даже пре-
давали огню барские поместья. Тревожилась Наталья за
родную Ольховатку, но там произошла лишь летучая по-
рубка в помещичьей роще, и никто при этом не постра-
дал, о чем Наталье писала каракулями старшая сестрен-
ка, закончив свое сообщение так: «А нас энто вовсе не
касаемо».
Ко времени бегства Натальи от купца на иную рабо-
ту царское правительство успело не только оправиться
от перепуга перед волнениями в народе, а и само перейти
в наступление. Заключив мир с внешним врагом, царь и
не помышлял мириться с внутренним, надеясь здесь
полностью одержать верх. Суд и расправу чиня над ра-
бочими людьми, он попутно разогнал, одну за другой, Го-
сударственные думы, а депутатов, которые стояли за на-
род, отправил в тюрьму и на каторгу. О всем этом тол-
ково обсказал Наталье молодой слесарь Симаков,
с которым она познакомилась в трактире при разносе за-
кусок к чаю. Враз приглянулись они друг другу, да так,
что Наталья начинала уже тосковать, ежели слесарек
долго не забегал в трактир перекусить, а вскоре с его
помощью она устроилась к нему на завод чернорабочей
по двору. Нелегка была тут работка по всякой нагрузке-
выгрузке у склада, а все же не сравнить с мыканьем до
позднего ночного часа у трактирной стойки, где только
и слышишь ругань буфетчика да всякую похабщину под-
выпивших посетителей. Особенно жутко было в тракти-
ре, когда оба его этажа наполнялись ватагами черносо-
тенцев с их пьянкою, ревом «боже, царя храни» и кулач-
ной расправою с теми, кто осмеливался при этом не
вставать за столом... Поприглядней был и заработок на
заводе, так что начала Наталья посылать родителю по
целой трешнице в получку. А главное, чем прельщал ее
завод, это близость к слесарю Симакову, возможность
видеть его ежедневно и не только там, на заводе, айв
рабочей казарме, где он, круглый сирота, занимал угол
и где предоставлено было также место ей на женской
половине. Уже спустя месяц после знакомства оба они
335
убедились во взаимной любви, и счастье Натальи было
тем более велико, что он, ее Михаил, оказался не каким-
нибудь там пареньком-попрыгунком, а настоящим, креп-
кого сердца, человеком. Единственно, что вселяло трево-
гу в ее сознание и даже пробуждало порой смутное чув-
ство ревности, это неугасимый его интерес не только к
тому, что происходило у них на заводе и в городе, а и во
всем свете. В своих беседах с нею о горькой доле рабочего
народа и о задачах его в борьбе за всеобщее счастье на
земле он так увлекался, с таким говорил пылом, что, ка-
залось, вовсе забывал о ней, своей любимой. Между тем
она плохо еще разбиралась в том, что так захватывало
его и во что веровал он сильнее, видимо, чем она в гос-
пода бога. Не по силам ей, малограмотной, были и кни-
жонки, какими снабжал он ее кое-когда. Примечая,
сколь огорчена она своим недомыслием, Михаил прини-
мался утешать ее: «Ничего, Наташенька, не все враз и
мне давалось... Ужо и ты со всем справишься!» Может
быть, и впрямь она сумела бы в будущем перенять у него
его знания, но нежданно-негаданно разразились на заво-
де такие события, которые, подобно страшной буре, сме-
ли, сломали их счастье, и не стало у нее ее возлюбленно-
го, вновь оказалась она одна-одинешенька в чужом го-
роде и притом безработной. Правда, по счастливой слу-
чайности ей удалось вскоре устроиться уборщицей в но-
мера Зайкина, у барахольного базара, но горе ее оттого
не убыло, а тут еще выпало на ее долю новое испытание:
она должна была стать матерью. Находись по-преж-
нему при ней Михаил, это лишь радостно взволновало бы
их обоих, теперь же принято было Натальей как новый
удар злосчастной судьбы... Всячески скрывая от окружа-
ющих свою беременность, она продолжала выполнять
труд уборщицы в номерах, но в конце концов тайна ста-
ла зримою явью, и хозяин угрожал ей немедленным
увольнением. Так оно и сталось бы, не окажи ей помощь
пожилая повариха, утерявшая мужа, как Наталья своего
дядю, на фронте в этой проклятой войне с японцами; по-
вариха упросила хозяина перевести уборщицу в помощь
ей, на кухню. У печи, за квашней и мытьем посуды На-
талья и провела последний месяц беременности.
И вот она уже мать своего незаконнорожденного ре-
бенка... Да, незаконнорожденного, не знающего отца,
пригульного, как говорят о таких младенцах в Ольхо-
ватке!.. Ох, если бы знал ее возлюбленный, какая участь
336
ожидала его, не стал бы, глядишь, он отмахиваться от
церковного обряда венчания... «Наташенька,— говорил
он,— любовь моя крепче поповского венца... Обойдемся
без божьего вмешательства». Вот тебе и обошлись! Ка-
ково-то теперь ей, безмужней матери, и ему, безотцовско-
му ее ребенку...
8
О всем этом вспомнила, все это перебрала в памяти
Наталья, сидя в сумерках у чужих ворот после мыканья
с утра по городу в поисках угла и работы.
Сгущались бурые тени по переулку, падали сверху
сырые снежинки, звякала напротив освещенная изнутри
дверь лавчонки, темнела на углу извозчичья пролетка, а
рядом — постовой городаш с накинутым на голову ка-
пюшоном шинели. Поглядывая на него, Наталья шепта-
ла: «Прибить бы тебя, окаянного, на месте!»
И вдруг, порывисто вскочив со скамьи, всею грудью,
с надрывом:
— Ребенок-то... голодный ведь... С утра не кормила...
О господи!
Замерещилась перед глазами деревянная кровать Са-
велихи и на ней — беспомощно шевелится белый свер-
ток... Забыла, совсем забыла, подлая, о младенце!
«Мишенька, родненький!» — бормотала на бегу На-
талья, кого-то с налета толкая, у кого-то выбив ридикюль
из рук. С первого же дня назвала она мысленно сына
именем его отца, и не было у него и не должно было быть
иного имени.
«Мишенька, ненаглядный мой, прости дуру мать
свою!» Сколько домов обежала за день, в каждом гово-
рила о сыне, и ни однажды не пришло в голову, что без
пищи малютка остался... Затмили люди материнскую
память, только о том и толковали, что помеха да помеха
он, ее ребенок... Господи, все против ее Мишутки, весь,
как есть, город, и она с людьми заодно была, выходит,
как чужая ему.
На поворотах в потемках Наталья чуть не падала, но
не отрывала рук от груди, крепко прижимая их, будто
тащила под шалью невесть какое богатство.
У калитки столкнулась она со сгорбленною фигурою
женщины и едва не пробежала мимо, но что-то знакомое
бросилось ей в глаза. Задыхающимся голосом окликнула:
337
— Савельна?!
Темная фигура слегка подалась к ней:
— Ну, ты, не шуми...
Оттого, как было это произнесено старухой, у Натальи
сжалось в жутком предчувствии сердце. Торопливо заго-
ворила:
— Миша... Дитятко мое... Чего с ним?..
Савельиха пошлепала рукой у себя по груди.
— Тут он, при мне... Жвачкой маленько уважила!..
Наталья онемела на месте.
— Пожалела я тебя...— зашептала старуха.— Молода
ты — духу в тебе нет... Трудно тебе... Да ну уж ладно,
сама снесу... Жива-здорова будешь, вспомнишь старуху,
попроведаешь когда, и на том спасибо!..
Не дослушав, Наталья ухватилась руками за платок
Савелихи, но та толкнула ее и непривычно ласковым
голосом вымолвила:
' — Иди, иди...
Даже хихикнула.
— Постараюсь я... Хорошее, слышь, на примете у ме-
ня крылечко!.. Купец один с супругой... бездетные... Ве-
зет твоему ублюдку!..
Захлебывайсь, точно недоставало ей воздуха, Наталья
подняла голос:;
— Устроилась я, Савельна, устроилась... Приняли ме-
ня с ребеночком!.. Жалованье положили...
— О? Ну, нагорюешься ты со щенком своим!..— пе-
чально заметила Савелиха, но не стала спорить, обещала
даже подержать у себя Наталью еще денька два.— По
мне,— говорила она,— жила бы и еще у меня... Да вот
одна, тоже вроде тебя, просится... Из благородных,
вишь... Скрывает положение!..
На следующий день Наталья опять бродила по горо-
ду, и не было, казалось, такой улицы, где она не побыва-
ла бы. Отчаянье росло в ее душе, и, когда к вечеру воз-
вращалась домой, ей чудилось, будто невесть сколько
времени без отдыха ходила она по городу... Видела де-
сятки людей, молодых и старых, богатых и просто зажи-
точных, купцов и чиновников, и ни один не пожалел ни ее,
ни ее ребенка. И вот, склонившись в этот вечер над сы-
ном, она впервые с сердцем запричитала:
— Да замолчи же ты!.. Ох, и что только я с тобой бу-
ду делать? Не берут нигде нас, разнесчастненький... Оста-
немся мы, видно, с тобой, без угла, без крова...
338
Ребенок не унимался, сучил ножонками, всхлипывал.
— О-ох, наказанье мое!.. — рванула она его к себе, и,
жестоко встряхнутый, залился он высоким натужным
криком. Тогда, в порыве раскаяния, Наталья бросилась
перед постелью на колени, принялась целовать ручонки,
живот, пушок на голове.
— Ро-однень-кой мой, звереночек мой!.. Стыдобушка
ты моя болезная!..
Кричал ребенок, и причитала мать, прижимаясь к не-
му грудью.
Старухи дома не было. В горнице сгущались вечерние
тени, и в угублении каменной стены мутнело оконце, по-
хожее на одинокий незрячий глаз. А в углу, из-за стекла
божницы, в мерцающем свете лампадки проступал облик
божьей матери с младенцем на руках, и такая счастливая
кротость лучилась в глазах матери и ребенка, что, взгля-
нув на них, Наталья ощутила холодок неприязни на серд-
це... Этим, известно, заботиться о куске хлеба, о приста-
нище не приходится, для них все райские блага открыты,
а вот до нас, несчастных, им дела нет! Не она ли, На-
талья, ежевечерно с рвением, до устали, молитвы твори-
ла, а что толку? «Молись, хоть лоб расшиби, все одно не
услышат! — говорил, бывало, Михаил.— Потому что и
слышать-то некому... Богов-то с их «тем светом» они же,
богачи-владыки, придумали... Терпи-де, голытьба несча-
стная, на этом свете и обрящешь на том вечное счастье в
царствии божьем».
Эти слова сердечного ее друга вызывали у Натальи
еще недавно скорбное недоумение, а теперь вот... Теперь,
после всего перенесенного, она готова была верить ему и
переживала скорбь, раскаяние при одной мысли о том,
что смела сомневаться в его словах!
В диком смятении, не обращая уже внимания на плач
ребенка, рванулась она с кровати к божнице, с силою ду-
нула на лампадку и только тогда почувствовала облегче-
ние на сердце, словно он, Михаил, мог видеть ее.
А на рассвете, оставив снова младенца на попечение
Савелихе, она направилась к окраине города с внезапно
возникшим решением проникнуть в контору завода и...
попроситься на старую работу во дворе при складе... Од-
нако, завидя вдали над темными корпусами цехов завод-
ские трубы, она остановилась и в изнеможении оперлась
спиною о попутный дощатый забор... Ну, не дурость ли с
ее стороны надеяться, что после всего происшедшего на
339
заводе, откуда ее вместе с многими и многими просто-на-
просто выбросили на улицу, вновь допустят к работе!
И потом, если бы так и случилось, если бы, несмотря ни на
что, ее взяли на склад чернорабочей, разве у нее самой
хватит духу бывать изо дня в день там, где уже не было
ее любимого и не осталось никого из близких ему това-
рищей! Да и как бы принял он, Михаил, этакий шаг сво-
ей Натальи?! Чем бы в его глазах отличалась она от пре-
дателей, от угодливой перед хозяевами шпаны! Не озна-
чал бы, наконец, такой ее поступок примирение с тем, что
по их, хозяев, вине произошло с ним, Михаилом? С ним
и многими его друзьями... Нет и нет! Она скорее согла-
сится подохнуть с голоду, чем отдать себя, свою совесть
под пяту, под гнет «темных сил»... Это ведь о них, капи-
тальщиках, хозяевах завода, поется в перенятой ею у Ми-
хаила красной песенке: «Вихри враждебные веют над на-
ми, темные силы нас злобно гнетут»...
Под ожившее в памяти многоголосое звучание этой
песни Наталья повернулась спиной к заводу и неровной по-
ступью направилась прочь от него, преследуемая видени-
ем того страшного, что разразилось там минувшей вес-
ною.
Это была 1йжелая, мрачная весна в жизни рабочих
завода, когда йх положение, ухудшаясь из года в год пос-
ле разгула темных, враждебных сил, стало нестерпимым.
Тут и бесшабашная, ни с чем не считающаяся урезка рас-
ценок по работам, и разбойные обсчеты при расплате, и
зверское, вплоть до кулачных пинков, обращение хозяй-
ских барбосов-мастеров с подростками... Поголовное воз-
мущение по цехам, готовое обернуться в открытый мятеж
против администрации, побудило рабочих вожаков со-
звать всеобщую сходку, на которой и было заявлено вла-
дельцам завода о прекращении по всем цехам работы до
полного удовлетворения всех выставленных на сходке
требований. Завод остановился, но уже через неделю его
владельцами было объявлено, что предприятие закрывает-
ся, что все без исключения рабочие считаются уволенны-
ми и что с такого-то дня и часа будет производиться на-
бор новых рабочих, а желающие из бывших продолжать
работу подлежат приему по выбору администрации... Та-
кой маневр хозяев вызвал неистовое негодование рабочих
от стара до мала, и вот, как по сигналу набата при пожа-
рище, к заводским воротам ранним утром начали сте-
каться стачечники, а к полудню вся площадь перед заво-
340
дом стала черным-черна от заполнившего ее народа. Яви-
лась сюда и Наталья вместе со всеми жильцами рабочей
казармы, и первым, кого она увидела на выросшем у во-
рот помосте, был ее Михаил. Обычно ласковые, цвета не-
бесной сини, глаза его были полны хмурого огня, льня-
ные кудри при каждом стремительном повороте головы
развевались как под буйным ветром. Он говорил, да так,
что каждый его выкрик с призывом ни в чем не уступать
варварам-хозяевам сопровождался ревом одобрения...
Слушая с гулко бьющимся сердцем своего милого, На-
талья диву давалась, откуда, когда набрался он этакого
умения полонить своим словом столько народа? Правда,
еще служа нянькою у нотариуса, она слышала от хозяев
о смуте на заводе и сама видела с третьего этажа, из ок-
на хозяйской квартиры, как в октябре пятого года прохо-
дили заводские маршем по улице под красными флагами,
с пением запрещенных песен. И потом, много позже, ко-
гда обслуживала она семью члена окружного суда, в го-
стиной хозяев немало толковали об арестах на заводе
главарей бунта. Значит, было у кого Михаилу набраться
уму-разуму, хотя о ту пору и состоял он, совсем еще юный
годами, невидным учеником при верстаке, в слесарной...
После Михаила с помоста у ворот говорил# еще какие-то,
ранее Натальей невиданные люди, и корда заканчивал
свое слово один из них, седоусый, в летнее пальто город-
ского покроя, вокруг поднялось внезапно смятение.
В устье улицы, примыкавшей к заводской ллощади, пока-
зались солдаты с винтовками на плечах,:а с другой сто-
роны мчались полем казаки, и как-то вра^.народ на пло-
щади оказался окруженным цепью пехоты/И конницы. Ра-
бочие, что находились вблизи помоста, начали ломиться
в ворота, над толпою остальных вздыбились там и сям
колья, железные дротики, огрызки чугуна. А по цепи сол-
дат уже поблескивали взятые наизготовку ружья, и зыч-
ный голос конного со вскинутой над головой у себя шаш-
кою вопил на всю площадь: «Ни с места! Давай сюда
смутьянов, зачинщиков! Сюда зачинщиков!..»
Что было дальше, вспоминается Наталье смутно, как
в жутком сне. Опять, обращаясь к своим, выкрикивал
что-то с помоста Михаил, и, будто по команде, люди на-
чали строиться в ряды под дружно подхваченную песнь:
Вихри враждебные веют над нами, темные силы...
341
И снова орал всадник с коня: «Замолчь! Ни с места!*
Но уже подвигались ряды рабочих к цепи солдат, и он,
Михаил, шагая плечом к плечу с седоусым незнакомцем,
голосисто взывал: «Товарищи солдаты! Мы ваши
братья... Хозяева обрекли нас на голод... С детьми, жена-
ми, стариками... Дорогу, братья!..» А песнь все нарастала:
Но мы подымем гордо и смело...
Цепь солдат дрогнула, расступилась, давая дорогу
маршу рабочих, но тут рванулся вперед конный всадник,
а за ним казаки с обнаженными шашками... Не помня се-
бя, Наталья бросилась в сторону Михаила, но было уже
поздно: в толпу, с гиком, с посвистом взмахивая шашка-
ми, вломились казаки. Послышались вопли, стоны во-
круг, люди метались из стороны в сторону, лезли через
тын на заводской двор, иные приникали плашмя к земле.
Упала и Наталья, теряя под жгучими ударами в спину со-
знание... Опомнилась она, когда на площади не было уже
ни солдат, ни казаков. Не видно было и своих. Лишь оди-
ночки с зловещим багрянцем шрамов на лицах отлежива-
лись в травах, постанывали, слали проклятия. Не найдя
среди них Михаила, она кое-как выбралась с площади и
поплелась улицей к рабочей казарме, но и там его не ока-
залось. На расспросы о нем люди сообщили ей только то,
что слесаря Семакова вместе с другими пострадавшими
при налете казаков захватили полицейские и увезли, а
куда — неведомо, вернее всего в тюрьму. Превозмогая
немощь из-за побоев плетьми, Наталья весь следующий
день таскалась1 по полицейским участкам, прошла она и
к тюрьме, на окраину города, и всюду гнали ее прочь, из-
девались над йёю, а часовой у тюрьмы пригрозил штыком
ей: «Отваливай подобру-поздорову, дура стоеросовая!»
В начале новой недели она заодно с другими была выдво-
рена из казармы, остались там лишь немногие, чем-то уго-
дившие администрации и вновь допущенные к работе на
заводе.
Не покидала Наталья поисков своего суженого и поз-
же, работая в номерах Зайкина, особенно с того дня, как
убедилась, что затяжелела. Но все ее старания были
тщетными: как в воду канул Михаил. Осмелилась она по-
бывать даже в квартире члена окружного суда, где ко-
гда-то служила нянькою. Как-никак, важный чиновник,
да еще по судебной части! Барыня к «самому» не допу-
стила ее, однако после слезной мольбы бывшей своей при-
342
слуги обещала ей разузнать об участи рабочего Симако-
ва, доводившегося будто бы Наталье двоюродным брат-
цем. И вот обещание свое барыня выполнила, но в конце
концов ничего путного от нее не довелось узнать. Выхо-
дило с ее слов так, что тогда, при «бунте заводских», ка-
заки, защищаясь, пустили в ход нагайки и шашки, при-
чем из двух десятков арестованных бунтовщиков многие
были ранены, но все двадцать душ, в том числе и ране-
ные, подверглись тюремному заключению и ссылке: од-
них угнали к Белому морю, других в далекую Сибирь.
С того разговора у супруги члена окружного суда ми-
нуло более полугода, и по настоящее время о Симакове
ни слуху ни духу... Неужели загинул он тогда от побоев?
Ведь если бы в живых был, неужели не дал бы о себе
знать своей любимой?.. Правда, барыня говорила, что из
дальней-то дали, где и почты нет, невозможно ожидать
весточки. К тому же и то надо иметь в виду, что ведь под
лютым надзором они там, в ссылке-то: не допустят, поди,
писем от них на волю.
Еще раз оглянувшись на заводские, в клубах сизого
дыма, трубы, Наталья угрожающе вскинула в ту сторону
руку, зажатую в кулак, но вслед горестно завсхлипывала.
— Мишенька, Миша, где ты, родненький мой?! Отзо-
вись, подай о себе весточку... Сыночек у тебя, сыночек!..
Выйдя на большую, в огнях, улицу, она приставала
теперь чуть ли не к каждому встречному:
— Барин... барыня! Не надо ль прислуги вам? Чест-
ная я, работящая...
Отчаяние — завтра она должна была покинуть Саве-
лиху, уступая место другой,— убило в ней стыд, и на от-
каз бросала прохожим вдогонку:
— Черти бессердечные!..
И заливалась опять слезами.
— Мишенька, Мишенька, на кого же ты нас покинул...
Ребеночек ведь у тебя, ребенок!..
Возвратившись к Савелихе, она, не раздеваясь, присе-
ла у стола. Ребенка не было слышно. На столе тускло по-
мигивала лампочка, и что-то ныло, присвистывало в ее
горелке.
— К непогоде поет,— подала голос Савелиха и кивну-
ла на лампочку, не спуская глаз с поблескивающих в ру-
ках чулочных спиц.— Где пропадала-то?.. А твоего я три-
жды жвачкой с молочком потчевала...
343
Наталья молчала.
— Ну, милая, значит, на работу завтра, а? — продол-
жала, не поднимая головы, старуха.— Да ты чего ж этак-
то! Разболокайся...
— За соском... в аптеку... сбегаю! — откинулась На-
талья, подымаясь.
— Ай раздумала грудью-то?
— Раздумала!
Савелиха покачала головой, но расспрашивать не
стала.
Позже, когда Наталья, вернувшись, прилаживала ре-
зиновый сосок к пузырьку с молоком и затем возилась с
ребенком, старуха, лежа на скамье, до позднего часу рас-
сказывала о своей работе, о всяких случаях из своей
практики бабки-повитухи.
— Сколько я на своем веку молоденцев этих опреде-
лила— не перечесть! — говорила она, позевывая и скре-
щивая рот щепоткою скрюченных пальцев.— Вот живу,
старая, и думаю: «Мать пречистая! И когда же это запрет
выйдет на девок... Сыпят и сыпят, чисто из ямы какой!»
Конечно, питание мое в том, а все же думаешь: «Остепе-
ни ты их, пречистая, греховодниц!» Да где там... Что ни
год, то вдвое! Что ни год, то вдвое... Ох-хо-хо... Летом
уложишь иного новорожденного у чужих дверей... При-
греется, лежит себе, пока не узрят люди... Ну, случаются
сердобольные, к себе на иждивение берут, а всего чаще в
воспитательный... Сичас на извозчика да в полицию, а по-
лиция в воспитательный, а уж из воспитательного, изве-
стно, один путь — в могилу... Из ста душ треть и та не вы-
живает... Особливо худо с ними, беспризорными, в зим-
нюю пору... Стужа, холода! Сунешь это его на крылечко
и ждешь: скоро ли приметят?! Не ровен час, на морозе-то
и околеть, прости господи, может... Много ли духу в ём,
во младенце-то?.. Позапрошлый год о рождестве., девица
одна, из портняжной мастерской... Так я за ее счет при-
плод-то поездом два пролета везла, да в вагоне и оста-
вила!..
— В вагоне? — переспросила Наталья, все время мол-
чавшая.
— В нем... Вагон — первое удобство... Потому — на
людях и в тепле... Оно, скажем, некрещеная душа, а все
ж на морозе-то жутко!..
Ночью дважды просыпалась Савелиха. Тускло мига-
ла лампочка, за окном свистал ветер... «Ишь, керосин из-
344
водит»,— ворчала старуха в сторону Натальи и собира-
лась сказать это вслух, погромче, но дрема сомкнула ей
уста. Другой раз разбудил старую отчаянный крик ребен-
ка. Горела лампочка, у кровати по серой стене металась
тень. Наталья стояла над постелью, перевивая ребенка,
и шипела на него:
— Ух, так бы тебя и пришибла!
За окном шумел ветер, царапал о стекла снегом. «Бу-
ря... лампа-то недаром пела»,— выцедила сквозь зубы Са-
велиха и вслед снова забылась.
4
Зал ожидания был переполнен. У цветисто расписан-
ного потолка помигивали электрические лампочки, звене-
ла посуда за буфетной стойкой, носильщики, обряженные
в бурые фартуки с медными бляхами на груди, таскали
куда-то пузатые чемоданы, корзины, узлы в ремнях.
— Чего ты трешься тут на ходу! — бросил один На-
талье, задев локтем ношу в ее руках, под шалью.
Сгорбившись, она отошла к стене, заваленной дорож-
ным скарбом, искоса оглянулась и уловила пытливый чу-
жой взор, словно человек с номерною бляхою поверх фар-
тука догадывался о том жутком, что мучило ее.
Утеряв надежду на возможность выхода из своего по-
ложения, Наталья еще минувшей ночью там, у Савелихи,
решила отвезти ребенка к отцу в Ольховатку, развязать
себе этак руки и устроиться в городе на работу. В семье
родителя окажется лишний рот, новая свалится на его го-
лову забота, но зато она, как и раньше, будет слать день-
ги, и с дитятей займется старшая сестренка. Могла бы и
бабушка, да она, как писала сестренка, совсем расхвора-
лась и в последнее время даже с печи сама сползти не в
силах. Выходило, что у Параньки окажется на досмотре
двое душ: старая да малая. И нелегко, конечно, девчонке
придется, но— ничего, потерпит, выдюжит! Была бы сыта,
одета, обута.
Убаюкав себя такими обиходными соображениями,
Наталья сбегала утром на барахолку, что у места послед-
ней ее службы, всучила за четыре целкаша какому-то бо-
родатому дядьке-лоточнику подарок Михаила на имени-
ны ей — полусапожки с цветистой оторочкой, купила
связку кренделей сестренкам, запаслась молоком для ма-
лютки и распрощалась с бабкою-повитухой.
345
На пути к вокзалу ей уже грезилась родная Ольховат-
ка, ласковое деревенское солнце, избы в рядок с засне-
женными кровлями, мирное клокотанье кур, и себя она
видела, но не теперешнею, бледнолицей, с глубоко впав-
шими карими, как у матери, глазами, а такой, какою бы-
ла много лет назад: светлокудрой девчонкой, босоногим
сорванцом. Не пышно, а в годы недорода и вовсе впрого-
лодь жилось Рябковым, да ведь в детстве-то и горе —
с полгоря. Помнится, одно лишь злополучье надолго по-
дорвало детские радости Наташутки. Это когда д®ое сот-
ских с урядником увели с их двора за недоимки по пода-
тям любимого всеми меринка и мать с бабкою голосили
целыми днями, пока отцу с дяденькой Иваном не удалось,
понатужившись на барском поле, скопить деньжат на но-
вую лошаденку. Но самую большую, ни с чем не сравни-
мую кручину довелось испытать ей, Наталье, там, в Оль-
ховатке, уже подростком, когда нежданно-негаданно по-
среди жнивья, в разгар работы, свалилась с серпом в ру-
ках мать... Свалилась и уж не поднялась!..
«Ой, была бы жива мамонька, было бы на кого и Ми-
шутку моего разнесчастненького оставить»,— думала по
дороге на вокзал Наталья, вспомнив о матери.
И тут как бы оборвалось что-то в ее помыслах о по-
ездке к родителю.
«Полно, Наталья! — мысленно говорила она себе, не-
вольно сдерживая шаг.— Ну, кому, кому нужен он там,
твой недокормок? Чистое ведь наказанье с ним старому
и малому!..»
Настроение ее круто менялось, и то, что поутру пред-
ставлялось таким простым, не вызывающим будто бы
особой тревоги, теперь, когда она была уже на вокзале
и, закупив билет до полустанка Ольховатка, поджидала
поезда, переполняло ее сердце предчувствием чего-то не-
доброго... И уже колебалась она, не зная, как быть, что
предпринять, а минутами, при одной мысли о нежданно-
негаданном появлении у отца с младенцем в руках, тя-
нуло ее прочь отсюда, с вокзала... Но куда, куда?..
«Ох, горе мое, горюшко! — шептала она про себя, по-
качивая неприметно живую свою ношу под шалью.— Ну,
куда мне с тобой? Оба без приюта, с голодухи подохнем...
Разве ж послушаться бабки, а?»
И умолкала, будто поджидая ответа от него, безго-
лосого. Но мирно, доверчиво посапывал тот под шалью,
346
и в порыве жалости к нему, как бы уж обреченному, она
вся холодела.
Поезд, похоже, запаздывал. Многие из ожидающих,
устроившись — одни на своей поклаже, другие — прямо
на полу, в сидячем положении, дремали, устало позевы-
вали. Но вот за просторными, ярко освещенными окнами
ударили в колокол.
— Первый... товаро-пассажирскому! — прозычал у
дверей в тоне команды голос дежурного по станции.
В зале ожили, послышался гул отодвигаемых скамей.
Наталья прижалась к стене, защищая грудь от толчков.
Сердце ее замирало, будто тянулась к нему чья-то силь-
ная и жесткая рука.
Подходил поезд, гудели стены зала, тихонько позвя-
кивали окна.
Наталья отдалась потоку пассажиров и вскоре заня-
ла место в вагоне.
На перроне трижды прозвучал колокол, раздалась
трель кондукторского свистка, паровоз глухо рявкнул,
рванул вагоны, и за серыми, запушенными морозом ок-
нами поплыли радужные пятна фонарей.
Наталья уложила подле себя на скамье ребенка, до-
стала из-за пазухи пузырек с молоком, дрожащей рукой
долго не находила детских губ... Против, на верхней пол-
ке и направо, у окна, сидели, лежали люди. Черная ночь
заглядывала в окна вагона, дзинькали стекла, стучали
хрустко колеса.
Еще двое вошли в вагон с площадки, держа на пле-
чах мешки.
— Присесть бы нам тут,— сказал один в овчинной
шапке, теребя пятерней бороду, заиндевевшую на моро-
зе.— Нам близехонько.
Наталья торопливо подвинулась, освобождая место.
— Далеко ль едете? — спросил бородатый в овчинной
шапке.— Никак, с дитем?
— С дитем,— едва слышно откликнулась она и насто-
рожилась, ощутив на себе тяжелый взор чужих глаз.
Только бы не услышал сосед, как гулко стучит ее
сердце.
— В город ездила? — не унимался тот.
— В город...
— К муженьку, надо быть?
347
Она молчала, склонившись к ребенку и принимая вид,
что занята им. Вмешался с другой стороны сосед в дыря-
вом зипуне, опоясанном цветастым кушаком.
— Из железнодорожников муж-то?..
— На заводе работает...— не оборачиваясь, вымолви-
ла Наталья.
Еще задал какой-то вопрос бородатый, что-то насчет
заработка ее мужа, но она отмахнулась, охваченная сво-
им, мучительно тягостным раздумьем... Эх, что бы ска-
зали эти люди, знай они правду?.. И что подумают, что
скажут о ней, Наталье, там, в Ольховатке, соседи, вся
деревня?.. И каково-то будет отцу перед людьми за свою
дочь-потаскуху, стыдобушку всей семьи?.. Не он ли, про-
вожая ее в город, на заработки, говорил о ней всем
встречным как о единственной после гибели дядюшки
помощнице! С нею, старшей доченькой, были связаны его
лучшие надежды... А что вышло на поверку? Да ведь из-
за нее ему, седовласому, тошно с народом будет встре-
чаться... И, наконец, что станется с подрастающими ее
сестренками! Ведь им проходу не будет от ребят: осви-
стят, высмеют за позор сестрин... Не на ее ли, Натальи,
памяти такая же вот напасть приключилась с Дашкою,
дочерью барокого пастуха, прижившей с приказчиком де-
теныша: охаяли, с грязью смешали девку злые языки,
родной отец и тот не признал ее за дочь... Так и загинула,
невесть куда скрылась с наследником своим Дарья.
Конечно, друг сердечный Натальи не то, что забул-
дыга— приказчик помещичий! И любовь их взаимная —
не баловство какое-то... Но разве расскажешь народу о
всем, что было и как было и какое злосчастье обруши-
лось на ее Михаила... А ежели и расскажешь, так не по-
верят... Еще наплетут, измыслят невесть что на ее мило-
го, родного, желанного по темноте своей беспросветной...
Нет, никому и слова не вымолвит она о своем единствен-
ном на свете!..
Задержав глаза на ребенке, Наталья как бы в эту
лишь минуту разглядела, что одет, упрятан он совсем
плохо и что... останься он один, без нее, не миновать ему
простуды. «Как же быть? Замерзнет этак!» — мелькало
в ее сознании. И вдруг вспомнила о своей шали. «Госпо-
ди! Вот дура-то... Ну, на что мне добро это?..» Сорвала
с себя давнюю, от матери оставшуюся шаль и принялась
кутать в нее сына.
Теперь никто из соседей не обращал на нее внимания.
348
Разгоралась шумная беседа, говорили о своем, мужичь-
ем, житье-бытье, о недороде этого года, о выходе многих
по деревням из общества на отруба, о запродаже иными
своих земельных участков справным хозяевам и об уходе
в города на заработки.
Наталья просунула руку через лохмотья, нащупала
ножонку ребенка. Только теперь, когда люди вокруг за-
нялись своим, а ее рука касалась теплого детского тела,
Наталья вполне осознала: к отцу она не поедет и то
страшное, о чем до последней минуты не смела думать,
случится.
Вот она сидит здесь, на подрагивавшей скамейке,
и стучат колеса, и звенят стежла в окнах, и бежит, бежит
вагон вперед,— еще какой-нибудь час и... она покинет на
чужих людей своего Мишутку, сядет на встречный поезд,
умчится прочь, навсегда!..
Отчаянье сжало сердце Натальи. «Господи, хоть бы
кто-нибудь распознал, дал бы совет...» Но никто не заме-
чал ее волнения, у всех было свое горе, своя нужда, о чем
и шел разговор.
Чувствуя, что рыдания подступают к ее горлу, душат
и готовы вылиться воплем, она приникла к ребенку, вби-
рая в рот кусок тряпья.
— Эге, а молодушка-то наша носом заклевала,— ска-
зал, улыбаясь, человек в рваном зипунишке.
— Натрепалась в городу-то! — отозвался другой.
Наталья вскочила со скамьи и, давясь слезами, по-
шла прочь. В уборной, прислонившись спиною к холодной
стенке, пошатываясь от толчков, зажала рукою рот и
долго билась в неистовом, придушенном плаче. Поезд
стал. Наталья бросилась к своему месту, на бегу выти-
рая подолом юбки мокрое лицо.
— Ты чего же, бабынька, ребенка-то бросаешь? —
пробурчал ей бородатый сосед.
Наталья замерла на месте.
— Как так бросаю?!
Сосед заглянул ей в лицо.
— А так... Малый тут без тебя криком изошел... Еле
уняли мы его соской...
На одно мгновение что-то тревожное, всматривающе-
еся проступило в лице мужика. «Вот сейчас!» — вспых-
нуло в голове Натальи, и она крепко стиснула губы. Но
мужик встал и направился к выходу. И вдруг ее с силой
потянуло за ним. Не сознавая, что делает, метнулась впе-
349
ред... Но позади забился высокий крик ребенка. Она
круто повернула, подхватила сына на колени, крепко
прижала к себе и, тряся его из стороны в сторону, нача-
ла причитать:
— Бай, ба-ай, бай!
— Ольховатка! — возгласил кондуктор, входя в вагон
и направляя на Наталью фонарь.— Остановка — пять
минут.
— Мне... дальше, до разъезда! — сказала она громко,
хотя никто ее об этом не спрашивал.
Кондуктор прошел мимо, а Наталья низко-низко при-
никла к ребенку и, затаившись, не подымала головы все
время, пока поезд стоял у Ольховатки.
Но вот вновь затарахтел вагон, поплыли по морозно-
му мату стекол узорчатые тени то ли от решет моста, то
ли от попутных ив — вековых богатырей.
Опять вскоре появился кондуктор:
— Кому там до разъезда... собирайтесь!
Наталья толкнулась со скамьи, огляделась и—назад,
к ребенку. У нее вспыхнуло неодолимое желание, в кото-
ром захлебнулись все ее мысли и чувства.
Дрожащими руками, с лихорадочной поспешностью,
точно кто-то сильный и враждебный мог помешать ей,
рвала она на груди у кофточки пуговки, расправляла
разрез рубахи, и, вся замирая, в бессознательном упое-
нии, уложила сосок оголенной груди к розовым, тихо ше-
велящимся устам ребенка.
И вот он нащупал, вцепился, потянул, звонко чмокнул.
Наталья хихикнула, как там, после родов, когда впервые
приложила к груди младенца.
Озираясь по сторонам, поблескивая мокрыми от слез
глазами, она отдалась этой последней минуте материн-
ского счастья.
Поезд, судорожно лязгая буферами, остановился, за
окном прозвучал колокол.
Наталья охнула, оторвала ребенка от груди и расте-
рянно заметалась. Зачем-то переложила младенца к са-
мому краю, оправила на нем шаль и начала искать гла-
зами бутылку с запасом молока. Люди двигались мимо,
входя и выходя, гремели чайниками, стучали дверью,
впуская в вагон струю холода, а Наталья шарила рука-
ми по полке, у окна и вверху. Вскочила на скамью, за-
глянула на самую верхнюю полку и неожиданно нащупа-
ла то, что искала, у себя в ногах. Взболтнула молоко, по-
350
ставила бутылку у изголовья малютки, но сейчас же пе-
реставила ее к краю... «Так виднее». Уже не сдержива-
ясь, знобко цавкая зубами, принялась перевивать. Ребе-
нок молчал... Крепко завязала концы, отшатнулась. И тут
же увидела, что сделала все плохо. Наклонилась, хо-
тела снова перепеленать и не могла оторвать глаз от
крошечных пальчиков с прозрачными ноготками... За ок-
ном ударили третий. Она кинула на оголенные ножонки
конец шали, но шаль сорвалась, и, пятясь к дверям, тол-
кая кого-то в бок, Наталья еще раз увидела розовые но-
жонки сына.
Она едва успела соскочить с площадки вагона. Отша-
тнулась в сторону, в черную тень, вцепилась рукой в
прясла и напряженно подалась вперед, будто собираясь
бежать. Стояла так все время, пока, вздрагивая, позвя-
кивая буферами, двигались мимо вагоны, а когда в глаза
ударил красный фонарь последнего, почувствовала, что
от нее с бешеной быстротой увозят в черную дыру ночи
ее счастье, ее последнюю радость, все то, что могло еще
держать ее и дальше в жизни.
— А-а-а-а! — закричала она и рванулась за вагонами,
но уже далеко впереди маячил фонарь. Тогда, не помня
себя, она повернула назад, поскользнулась, пала плашмя
на дощатой платформе и, когда вскоре со стороны горо-
да, пронзительно ревя, показался паровоз нового поезда,
бросилась навстречу ему с тою решимостью, с какой че-
ловек кинулся бы с вышки объятого пламенем здания.
5
X
В темной глубине неба крепли хрустальные волны мо-
роза. Зябко вздрагивали звезды, напряженно всматрива-
лись во что-то, еще невидимое человеку.
Как только снова тронулся поезд, завизжали натуж-
но рельсы, заскрипели стены вагона. На востоке уже але-
ла полоска зари, тонкая и прозрачная, будто отточенная
из льда.
— От-тэк м-о-о-роз!..— бросил кто-то, входя в вагон.
В голосе было ребяческое восхищение. Вокруг как-то
все враз заговорили:
— Теперь... гык... не зевай, топи!..
— Эвона, пощелкивает как!..
— Ядр-реный мороз!..
351
От дощатых стен шло студеное, пронизывающее. Точ-
но ледяные лапы шарили у колен пассажиров, пробива-
лись за спину.
А под полом, близко-близко, верещали рельсы, и было
похоже на то, что кто-то грыз стальными клыками, хва-
тал и грыз колеса, пытаясь затормозить стремительный
их бег.
— Братцы,— взбросил руку мужик в овчинной шап-
ке.— Гляди-ка сюда! Робенок...
Отовсюду потянулись к скамье, возбужденно загово-
рили:
— Ишь ты... дело какое!
— Гляди! Молоко про запас оставлено...
На скамье одиноко темнело что-то закутанное в шаль,
подле — бутылка с молоком.
— Телеграфировать надо,— сказал кто-то в пальто и
очках, подходя с другого конца вагона.— Высадим ребен-
ка на станции и телеграфируем...
К нему повернулось косматое широкоскулое лицо, за-
крытое до самых бровей шапкою.
— Сказал тож: телеграфировать!.. Кому это? Да ты
ее, анафему, теперича днем с огнем не сыщешь!..
Человек в очках недоуменно смолк.
— Подкинутый ребенок-то, не иначе!..— пояснили с
верхней полки.
— Подкидыш?
— Как есть... Ах, распроклятая сука!
Сверток зашевелился.
— Стынет, поди, малец-то.
Над скамьей склонилось бородатое лицо с беспомощ-
но мигающими глазками, Непослушно оттопыренными
пальцами кто-то осторожно потрогал шаль.
— Одначе застыл!.. Ишь топливо-то здеся какое...
Казна!..
— А ты бы, голова, одеяло свое на прикрытие дал, а!..
— Что там одеяло... Шубу надобно!..
— А и верно!..
— Давай шубу... Эй, у кого имеется?..
Притащили полушубок.
— Да-ка я!..— сказал бородач, взял полушубок и,
кряхтя, наваливал его на ребенка.
— Не удави гляди!..
Окутали шевелящийся комочек так, что осталось по-
луоткрытым лишь то место, где предполагалась голова.
352
— Теперь ничаво...
— Пригреется!..
— Бабу бы к нему, каку ни на есть!..
— Из соседска вагона просить надобно... Шлялась
там одна...
— Митрий! Беги, кличь... Человек, мол, тут брошен-
ный!..
Митрий, мужичонка с острой пеньковатой бородкой,
бросился к двери.
Явилась проворная, быстроглазая молодайка в домо-
тканой стеганке на вате.
— Де он тут?..
— Эвой... в углу-то.
Подбирая выбившиеся из-под платка волосы, моло-
дайка принялась возиться с ребенком.
— Эх, ты... разнесчастненький!.. Ну, ну, не реви...
Этак вот... Ишь те как закутали... И подгузок-то мокрень-
кой...
На молодайке, сбросившей стеганку, оказалась сит-
цевая, распущенная поверх юбки кофта в заплатах. Лицо
ее раскраснелось, улыбчиво подрагивал вздернутый нос,
посверкивали ядреные зубы.
— Молочка тебе... молочка!..
Ребенок затих. У скамьи скучились люди, следя за
каждым движением бабьих рук. Слышались отдельные
замечания:
— Недельный, должно?..
— Не иначе...
— Ах, паскуда!..
— А худящий-то какой!
— Гляди, с гривой головенка-то у него!..
Подошел кондуктор с фонарем в руках, потянулся к
ребенку, но молодайка отстранила его.
— Холодный ты... Свечу дал бы нам...
Кондуктор отошел к окну, его обступили.
— Вот так происшествие!..
Наперебой рассказывали:
— Сидит это она, а сама ни слова...
— Ни гугу!..
— А на станции — прыск!.. Думали, за кипятком по-
шла...
— Этакая сурьезная из себя...
— Глядь-поглядь, поезд идет, а ее нету!..
— Куда ж теперь его?..
12. В. Бахметьев
353
Кондуктор обещал высадить ребенка на первой же
станции и доложить по начальству. Уходя, он достал из
кармана огарок свечи, зажег, подал молодайке.
— Держи, вот!..
Понемногу в вагоне начали успокаиваться. Расселись
по местам, но разговор не умолкал.
— А куды ж его теперича, ну?..
— А куды... их, таковских, много!..
— Пропадет ни за грош!..
— Не иначе... Участь ихняя, выметков-то, этакая!
— Ах злодейка! — повысил кто-то голос.— Наблудит,
окаянная, да и хвост на сторону...
— Это еще что... Иная родит, да тут же и придушит
младенца...
— Случается... Одначе не с жиру грех этакий бабица
примает...
— Известно, не от сытости... Да что там! Тыщи их,
молоденцев-то, и при матерях гибнет... Взять хотя бы
вдов наших, которы, скажем, в японску-то войну без му-
жей остались. Сами еле ноги носят, а на руках — пятеро,
один другого меньше... Ну, и мрут детки, что мушки по
осени...
Послышался тяжелый вздох, водворилось молчание,
и тогда слышны стали голоса в другом углу:
— А ты, кум, возьми мальца-то да присынови! От та-
ких, брат, счастье в дом.
— Взял бы, да своим жрать нечего... По весне-то —
думка у меня — к свату в Сибирь махну, на поселение...
— Ну и что? На приемыша надел заполучишь... А на
сторону соберешься,— запродашь... Что, не так?
— Пожалуй, так... Только, может, он, безнадельный,
не мужеска, тоись, пола...
— Узнать, коли чо!..
Из-за перегородки ввалилось трое: все на одно лицо,
в распахнутых полушубках, темные, заветренные, косма-
тые. Один был навеселе. Он приблизился к бабе и, све-
тясь улыбкою, попросил:
— Покажь-ка!..
— Это еще чего? — вскинулась молодуха.— Представ-
ление вам?
— А ты, тетенька, не сурьезься,— заговорил другой
учтиво.— Он, видишь ты, кум, тоись, мой... насчет усы-
новления!..
— Дык уснул ребенок-то!..
354
— Ну, ин пускай спит! Ты только объясни, которого
будет пола?..
— А мужик!..—улыбнулась баба.
— Мужик?!.
— Самый настоящий!..
— Паря, слышь? Сын!..
Тот, которого подвыпивший именовал кумом, крякнул,
поглядел торжественно на людей, сказал:
— Ну, господи, благослови!..
— Кондуктора сюды! — прокричал кто-то с верхней
полки.
Чуть погодя пришел кондуктор.
— Нельзя!..— сказал он, помолчав.— Чудачье! Мы не
можем его передавать. Теперь он вроде как неприкосно-
венный... Жандарму вручим, жандарм — начальству, и в
сиротский дом... А оттуда всякий может... по заявлению...
Поняли?..
— М-м-м... Пошто же так?
— А так уж заведено!
— Ладно, идем,— сказал глухо кум своему дружку.—
Нельзя так нельзя!..
Мало-помалу вагон затих. Кое-кто легонько, точно
приноравливаясь, всхрапнул. Отозвались более уверенно
в другом конце.
Щелкали топочные трубы, визжали рельсы, потрес-
кивали дощатые стены.
— Шкура ты барабанная... Безжалостная зверю-
ка!..— покачивая на коленях ребенка, тихонько ворчала
молодка на ту, другую, что ушла в темную морозную
ночь, унося с собой страшную загадку материнского
сердца.
За окном светало. Уже выступали из мрака разбро-
санные по скамьям тела, и пламя свечи беспомощно по-
блекло.
Кто-то проснулся от томительного удушливого кашля,
кто-то бормотал про себя утреннюю молитву:
«К тебе, владыко, человеколюбие... прибегаю... Помо-
ги мне...»
Вагон просыпался, в спертом воздухе потянуло махор-
кою.
Окно заалело, и оттого, что мимо проносились клубы
серого дыма, оно то темнело, то вдруг все вспыхивало.
Подходили к молодайке, участливо кивали на ре-
бенка:
355
— Ну 40, жив?
Заглянул усатый старик в бравой казацкой шапке.
— Що, щебече немовлятко?..
И, присев сторожко на скамью, принялся сворачивать
темными дубовыми пальцами козью ножку.
Глухо заревел паровоз.
— Станция Лиски! — протянул кондуктор, входя в
вагон.
Пассажиры закопошились, как встревоженные пчелы
в улье, звякали чайники, бухала сбрасываемая с верхних
полок поклажа.
Поезд остановился, и чуть погодя, как бы преследуя
его, с оглушительным ревом подошел и встал на втором
пути почтово-пассажирский.
— Ишь ты, нагнал! — сказала, заглянув в окно, мо-
лодайка.— Теперь, поди, начальству-то не до нашего
подкидыша.
— А вот оно, начальство твое...— подал кто-то голос
от двери.
В вагон вслед за кондуктором вошли: начальник
станции, жандарм, долговязый сторож в затрепанной
солдатской шинели.
— Крещеный, нет? — обратился к столпившимся у
скамьи усатый жандарм.
— А кто ж его знает! — бойко отвечала за всех моло-
дайка.— Креста на ём нету...
— Беспаспортный, значит! — сострил жандарм —
и к сторожу: — Ну, давай, бери!..
Тот отвернулся, высморкался в угол и принял ребенка
на неуклюже растопыренные руки.
— Прикройте ему головеньку-то: мор-р-роз на дво-
ре! — пробасил пожилой, с белесой бородкой начальник
станции.
Молодайка подхватила со скамьи холщовую пеленку,
оправила ее на ребенке, сунула в карман сторожу бутыль
с молоком.
— Сохрани тебя матерь божия, заступница всех скор-
бящих...— пролепетала она и окрестила живую кладь на
руках сторожа.
Из окна вагона было видно, как шагал тот к зданию
вокзала, бережно держа на руках «беспаспортного» и с
такою осторожностью ступая по асфальту, точно шел по
льду. За ним не спеша, с уныло скучливыми лицами сле-
довали начальник станции и жандарм.
356
— Неси на чистую половину! — приказал начальник
сторожу.— Там потеплей.
И в эту самую минуту от заднего вагона почтово-пас-
сажирского поезда на платформу вбежала молодая жен-
щина.
— Господа начальство, господа начальство! — крича-
ла она, настигая жандарма и начальника станции.
Те приостановились.
— Мой это ребеночек, мой! — проговорила, захлебы-
ваясь от волнения, женщина и, не ожидая отклика, устре-
милась вслед за сторожем к распахнутой двери вокзала.
Миновав людное замусоренное зальце, сторож успел
пройти за перегородку, на половину «чистой» публики, и
тут его нагнала женщина. Она выхватила из его рук ре-
бенка, крепко прижала к себе и запричитала, всхлипы-
вая:
— Мишенька, касатик мой ненаглядный!..
То была Наталья.
— Ничего, ничего, родненький мой! — в страстном
упоении ворковала она, уложив сына на скамью.
И, опустившись на колена, принялась напевать над
ним, как там, у ворот завода, вторя заодно с народом го-
лосу своего милого, любимого, единственного во всем
свете:
— ...Вихри враждебные веют над нами... Но мы по-
дымем...
Кто-то ворчливо хмыкнул позади, Наталья вздрогну-
ла, оглянулась: усатый жандарм, за ним — человек
в форме железнодорожника, какие-то господа в мехах
с любопытно выжидающими щекастыми лицами.
— Слушай... ты,— заговорил хрипло жандарм.— Кто
такая? Откуда взялась? Чей младенец?..
— Мой! — выкрикнула Наталья, прянув с колен и за-
щищая собою ребенка.— Мой, новорожденный...
— А чем докажешь? — поднял в свою очередь голос
жандарм.— Метрику, паспорт имеешь? Протокол писать
будем...
— Какой протокол?.. Мой он, мой, кровный!..
— Ну, насчет кровей помолчи... Знаем мы вас, куку-
шек...— проворчал жандарм и попнулся к скамье.
Наталья, отшатнулась, взглянула на тех, что скучи-
лись вокруг, вскинула даже руку к ним, как бы ища за-
щиты, но поймала у ближнего брезгливую улыбочку в
357
глазах и, уже не владея собою, голосом жгучей ненави-
сти завопила:
— Чего собрались? Люди вы, нет?!
— Но, но... потише! — оборвал ее жандарм и — к ко-
му-то через головы любопытных: — Эй, Сидоренко, сюда!
Подхватив на руки плачущего ребенка, Наталья по-
далась в сторону, но кто-то, дюжий, сгреб ее за плечи и,
пиная в спину, потащил к выходу за перегородку.
Отбиваясь, она споткнулась на пороге и едва не вы-
ронила ребенка. На крик ее из всех углов зала для про-
столюдинов потянулись пассажиры в зипунах, полушуб-
ках, дырявых шапчонках. От буфета, расталкивая народ,
шаговито подвигались двое молодых парней в замызган-
ных ватниках, видом своим напомнивших Наталье завод-
ских ребят.
— Стоп! — прокричал один из них, сбросил с плеча
Натальи руку того, кто пинал ее, и вплотную подступил
к жандарму.— Постыдись, ваш-ш-ш благородь! С кем
связался-то? Не видишь — мать, с ребенком...
— А тебе какое дело? — процедил в усы жандарм, за-
нося руку к кобуре у пояса.— Кто такой?
— Не признал? Деповские мы! — подал голос другой
парень и под одобрительный гул окружающих выпалил:—
Да кто бы мы ни были, а эту с дитятей не тронь!..
Снаружи в зал торопливо входили новые и новые лю-
ди, и с первого же взгляда на них Наталья убеждалась,
что эти тоже деповские.
— Братцы! — рванулась она от жандарма.— Оборо-
ните! Не дайте загинуть с ребенком!..
Начальник станции склонился к жандарму и что-то
шептал ему на ухо, а живое кольцо вокруг становилось
все плотнее и плотнее. Суровый ропот прокатывался по
залу, и уже слышалось в нем что-то угрожающее.
— А ну, черт с вами! — махнул жандарм рукою. —
Нашли тож кого под защиту брать...
И отступил вслед за начальником станции к двери,
скрылись оба за нею.
Вскоре, окруженная рабочими из депо, Наталья сиде-
ла за столом у буфета, жадно управлялась с разложен-
ной перед нею закускою и рассказывала о всех своих на-
пастях. Не скрыла она и об участи слесаря Михаила Си-
макова, отца своего ребенка.
— Ты вот что, голубушка,—прервал ее пожилой се-
добородый человек в фуражке со значком железнодо-
358
рожника на околыше.— Ты относительно Симакова-то
ужо вечерком выложишь поподробней, а здесь...— Он ог-
ляделся.— Здесь, милушка, того-этого... не стоит! — И до-
бавил вполголоса: — Я тебе приют могу предоставить...
Семья у меня — старуха да доченька, в депо же нашем
работает...
— Да мы, коль пожелаешь, и работенку тебе поды-
щем! — вмешался в разговор тот, молодой, кто первым
жандарма одернул.— Вон у него в цеху,— указал он на
старика,— женский труд в чести...
— Ох, родные мои! — воскликнула Наталья с загорев-
шимися надеждой глазами.— Не знаю, как мне и благо-
дарить вас... У меня вить такое, что хоть под бегун-паро-
вик ваш ложись...
— Ну, это, сестрица, не к лицу нашему брату! — за-
говорил старик живо.— Пускай под паровик-то те вон
одры укладываются! — взмахнул он рукою в сторону
двери на чистую половину.
— Правильно! — поддержали за столом дружно.—
Придет час — не миновать им если не под паровик, то на
нем к черту на кулички!..
— Так оно и будет,— подал голос старик.— Ну,— по-
дымаясь из-за стола, обратился он к Наталье,— идем,
голубушка... Пора мне к паровикам своим... По пути я и
на квартирку тебя заведу. А насчет малютки... того-это-
го... не беспокойся! Старуха моя завсегда поможет.
Укутав старательно сына, Наталья бодрым шагом вы-
шла со стариком на платформу. Вышла, оглянулась и во-
сторженно, как когда-то в ранней юности, заулыбалась.
Над вокзалом буйно рассветало зимнее утро, все во-
круг было подернуто серебряной чешуей инея, одинокие
тополя за рельсовым путем, у паровозного депо, походи-
ли в белоснежных своих кудрях на внезапно замерзшие
фонтаны, а на востоке, за неоглядными волнами сугро-
бов, подымалось солнце и два грозных огневых меча вы-
сились по обе его стороны.
[1916, 1956]
КАНДАЛЬНИК
Стоит она среди базарной площади, толстобрюхая,
грузная,— тюрьма. Слева — полицейское управление с
двуглавым орлом над парадным входом. Справа — собор,
359
старый, темный, с окнами в железных, как у тюрьмы, ре-
шеткахч Сто лет тому назад уткнул он золоченый шпиль
свой в небо, будто указывая, где счастье человеку искать,
да так и зацепенел с немым перстом своим, обращенным
в пустую бездну.
А вокруг лабазы, лавчонки, двухэтажный трактир с
питейным заведением. С утра до ночи торговый шум тут,
надсадные выкрики, пьяная ругань... А подальше—кри-
вой строй замызганных домишек мещан, тухлый, на вы-
езде, пруд и кладбище в зеленых березках. Парочками
гуляют среди могил молодые горожане, любятся, обза-
водятся семьями, а потом, выполнив незатейливый долг
свой перед матерью природой, укладываются в старости
под березками — навеки.
Жил кузнец Архип Софроныч, как все его земляки:
гулял смолоду с девицами у могил, подыскал себе же-
ну там, сколотил кое-какое домашнее хозяйство, сына на
свет произвел и — почивать бы ему под березками на
кладбище сном праведника, да вышло так, что стал он
на старости лет... кандальником! Собственно говоря, куз-
нецом он и остался, только не в своей кузнице, а в тю-
ремной: подковывал коней тюремных, чинил всякую ут-
варь, а случалось, и арестантов по приказу начальника
заковывал. С того и пошло: кандальник да кандальник!..
Зря, коль степенно разобраться, привязались люди: надо
же кому-нибудь помогать закону. Опять же и то сказать:
не будь на свете тюрьмы с кандалами, весь бы свет бо-
жий лиходеи со смутьянами разворотили, обкорнали...
Так нет же! Иной малыш ростом с наперсток, а приметит
на улке Архипа — и ну орать на весь околоток: «Кан-
дальник»...
Раз как-то родной сынишка, возвратясь из школы, в
свой черед к отцу с вопросом:
— А зачем ты, батя, в кандальниках?
— Как так? — вскинулся к мальчонке кузнец.— Кто
сказал?
Прибить бы озорника за этакую обиду, а родитель
лишь пятерней отмахнулся.
Был Архип Софроныч собой благообразный. Ростом
хотя и невелик, зато плечист, борода с серебринкой, колеч-
ками, округ лысины венчик из инея седин — совсем апо-
стол. И сердце имел он доброе, с женой обходительный,
до соседей приветливый.
360
Лелеял старик сладкую думку: встанет на ноги сын,
в работу почнет входить,— передохнут тогда старые ко-
сти, только и заботы будет, что в церковь сходить да по
дому управиться, а с тюрьмой — капут!
Сколько лет носил кузнец желанные эти мысли, а вы-
шло по-иному. Недаром говорится, что не всякий молодец
счастья своего кузнец.
Вот что приключилось у Архипа.
С отроческих лет устроился его сынишка на завод,
в большой город. Там и дозрел Петр, ума-разума набрал-
ся, своей, отличной от родных, зажил жизнью. Однако
отца с матерью не забывал, высылал из месяца в месяц
им по пятерке, писал кое-когда, заглядывал к ним на
побывку.
Как-то явился Петруха на пасху. Шел ему о ту пору
двадцатый год. Из себя бравый, нарядный, в сапогах бу-
тылками. Одно не по душе в нем отцу было: книжки чи-
тал запоем — зрящее занятие! — и о боге нелестно от-
зывался.
— Ты вот чего...— сказал ему тогда Архип Софро-
ныч.— Ты бога не тронь... Людей, кого хошь, хоть самого
царя, полосуй, а господа бога не смей!..
Второй раз, много позже, прибыл Петр на родину по
случаю смерти матери. Хоронили старуху честь честью,
денег на похороны сын не жалел, ничего не сказал он
и о попике с дьячком, пировавших на тризне. Только
ночью, оставшись один на один с отцом, заговорил
Петр о таких вещах, что лучше бы и вовсе не слушать
его.
А не слушать нельзя было: свое, как-никак родное ди-
те, и усишки у него вполвершка уж, и морщинки округ
рта, как у солидного человека: не просто жил парень —
много всяких людей перевидал, сколько дорог истоптал,
не в одном, вишь, городе побывал.
— Господе Иисусе! — заохал Архип.— Да откуда ж
это у тебя? Да в кого же ты уродился, беспутный?!
Улыбался Петр, говорил:
— В тебя, батя, в кузнеца Архипа Софроныча!
И опять скрылся-залился невесть куда сынок.
Тысяча девятьсот пятый шел год. Разбуянилась зем-
ля русская, полымем занялась по заводам, по фабри-
кам, на тысячи верст мужичьими глотками раскричалась,
из ночи в ночь огню барские поместья предавала.
361
И вот лихая разразилась гроза... Ну, можно ли было
противу закона идти? И на какие только силы рассчиты-
вал народушко?..
Озлились, волчищами разъярились баре. Понагнали
в села казачишек, стражников да жандармов. Засвисте-
ли в деревнях розги, застонали поля, облились кровью.
Не уступали барам в лютом гневе и заводчики с фабри-
кантами... Вот уж когда нажралась-насытилась тюрьма:
во веки веков, кажется, приплода этакого не видывала...
Все камеры и подвалы битком набиты! Из сел, из горо-
дов, по месту прописки эшелонами гнали людей...
Однажды в полдень трудился Архип в тюремной куз-
не, глядь-поглядь, Степан, городаш. Поманил кузнеца к
себе, выцедил торопливо сквозь зубы:
— Иди-ка, старче, к начальству, дело есть!..
Толстенький начальник тюрьмы — оплыл весь, как све-
ча запрестольная, взбросил встречу кузнецу лапу:
— Работка тебе срочная... Тринадцать, понимаешь,
политиков у нас, на хранении, вчера доставлены... Пяте-
ро под военный суд... И приказ имею: переслать пятерых
этих в губернский, оковав каждого... Можешь?
Вздрогнул Архип, насупился.
— Увольте, господин начальник... Стар я!..
— Что такое?! — вспылил начальник.— Да как ты
смеешь! Да я тебя, сыча старого...
И — бух о стол, по бумагам промокашкой в мраморе.
Помялся Архип, чесанул загривок, высчитал мель-
ком, забыв о всем прочем: пять пар ног, по целковому с
пары, вот тебе, Софроныч, и обутки... Старые-то едва
держатся.
— Эх, куда ни шло! Послужу, господин начальник...
Мимоходом спросил в конторе у писаря:
— Кто такие рестанты эти... в губернскую тюрягу ко-
торых?
— А шут их знает...— отозвался писарек из-за сто-
ла.— Именуют себя повсяко, а на деле — невесть кто...
Казну, вишь, на большаке ограбили... Экспроприаторы!..
— Екс... про... про...
Поперхнулся Архип и — глаза к полу. А когда выбрал-
ся во двор, к кузнице, и встал перед ним первый из тех
пятерых, заглянул он в сизое, отощавшее лицо арестан-
та... Заглянул и смутился... Столько горечи, обиды, не-
приязни было в чужих глазах, что не выдержал Архип,
к самым кандалам, чуть не впритык, склонил голову и
362
уже вовсе не глядел на следующего, очередного. Только
покрикивал:
— Крепче стой, не барин! Да копыта, копытца-то
свои пошире, господин екс-про-про!..
А уже смеркалось, бурые тени укладывались у высо-
кой кирпичной ограды, и каждый лязг молота о металл
вонзался сабельным ударом в сумеречную глухомань тю-
ремного двора.
— Давай сюда последнего! — покричал кузнец, не
подымаясь с колен.
Подвел тюремщик последнего, а сам к часовому у во-
рот— с табачным кисетом в руке:
— Закурим, служивый... Серники имеются?..
Уклюнулся кузнец в цепи железные, позвякивает ими,
ворчит:
— Копайся тут с вами на старости лет...
И вдруг над головой родное, издавна знакомое:
— Здорово, папанька...
Глянул Архип и замлел. Стоял над ним Петруня, ску-
ластый, худой, бородища, как у отца, в колечках.
— Ша, папань. Виду не давай, не то вконец загу-
бишь...
Дрогнул Архип, звякнул кандалами: с места на ме-
сто переложил, Петруха же свое, шепотом еле слышным.
— Шевелись, орудуй, виду не подавай...
И вслух, голосом равнодушия:
— Притомился, дед?
— Есть маленько...
Вслед струною ржавой, жалобной:
— Петрушенька...
А тот свое, холодно, твердо:
— Нишкни, папань... Васильем зовусь...
Да вслух, как чужому:
— Ну-ка, старик, кажи браслетки свои...
Поднял Архип кандалы, а руки долу клонятся, будто
невесть какую тяжесть держали.
— Сынушка...— шепотом.— Ужели и ты... на казну...
посягнул?..
Петруха весело, голосом полным:
— Вот так браслетики... Цены им нет!
И — вниз, к родителю, шелестом листвы:
—• Не себе в карман — для народа... За народ я, ба-
тя, за рабочий класс.
363
Приладил, как надо, кольца Архип, вскинул молот,
ударил в заклепку.
«Гах-гах... гах-гах...»
Бил, ковал кузнец, звенели кандалы, и в звон тот
вплеталось слово за словом старика:
— Что ж с тобой... будет... теперь?
— Вывернусь как-нибудь...
— Казнят, сынок...
— Всех не казнить... Тысячи нас!
«Гах-гах... гах-гах...»
Залепило слезами старые глаза, руки ходуном ходят.
— Простишь ли, сынок?
— Э, чего там... Вскормил, вспоил... На том спаси-
бо... Думалось проведать тебя по весне, на могилку к ма-
меньке тянуло, да вот...
Заглянул, приподнявшись, отец в глаза арестанта,
и замерещился ему Петруня мальцом белоголовым...
у подола матери... с бубликом в ручонке.
— Сынушка, родимый ты мой! — завопил истошно
старик и седыми космами в ноги арестанту.
Просвиристел свисток часового, гаркнул надзиратель,
сбежались люди, уволокли кузнеца.
На той же неделе отправили арестантов в губернский
город. Был там суд. Тех, пятерых, к смертной пригово-
рили казни через повешение. В их числе и Петра.
Прослышал об участи сына Архип, запил горькую,
бродил по улицам целыми днями, страшный, косматый,
в разодранной рубахе, и голоса ребят преследовали его:
— Кандальник... кандальник...
По осени, вытрезвившись, ходил Архип Софроныч с
неделю к покойной старухе на могилу; в слезах, на коле-
нях подолгу стоял там, за молитву принимался, а в го-
лове, как в потревоженном пчелином улье, мысли всякие,
небывалые, зудом зудели... И было в тех мыслях немало
родного, знакомого, от сына не раз, в приезды его, слы-
шанное. Так вот, в муках искания, в борьбе старых, при-
вычных дум с новыми, негаданными, но властными, как
голос самой земной правды, дождался старик зимы. А как
выпал первый снежок, обрядился Архип в давний свой зи-
пунишко, взвалил на плечо котомку и пошагал прочь из
городка с его бокастою тюрьмою, позолоченным шпи-
лем собора, каменным трактиром купца-кабатчика.
Повстречал кузнеца на околице приятель — сосед, зво-
нарь Кузьмич.
364
— Куда собрался, Софроныч?
Взглянул тот на соседа из-под косматой брови, вымол-
вил глухо:
— Иду, куда глаза глядят...
— Странствовать, а?
— Людей будить, Кузьмич...
— Эвон чего... Ну, бог в помощь!
Стемнел тут в лице Архип, выкрикнул зычно:
— Мать вашу... с богом вашим!..
И, не оглядываясь, двинулся дальше.
Так и скрылся, исчез неведомо где старый кузнец Ар-
хип Софроныч.
[1916, 1956]
ТАЕЖНОЕ
Решено — сделано, и вот Петр Данилов, а по самому
новейшему паспорту — Иван Хохряков, старожил Ир-
кутской губернии,— на вокзале, в очереди за билетом.
Очередь как очередь: рядно, сапоги, опорки, сумы и —
свирепый потный дух под самый потолок.
У кассы жандарм. Важный, строгий, брови рыжие,
а глаза как у стервятника: за версту в бурьяне видит.
— До станции Зима... один... на Максима!..
Сказал Хохряков, протянул руку на выступ кассы и —
похолодел весь: прыгает глаз стервятника с волосатого
лица его, с рваной его жилетки — на руку, с руки опять
на лицо.
Что такое? Разве подозрителен старожил Иван Хох-
ряков: мужик мужиком, и рожа в волосах... Нарочно рот
разинул пошире,— совсем, мол, глуп.
— Послушай-ка, ты!..
Голос у жандарма пискливый... Просто удивительно,
что такой голос у такого большого, тучного человека.
— Ась?..
Вдруг позади возня, охи и крики. Жандарм — туда.
— Эй-эй, вы...
Хохряков билет в кулак, сам, как крыса под дубиной,
голову угнул и — драла.
Тыркнулся в вагон, влип в людскую кашу, посунул-
ся в самый угол. Ух ты, черт!.. Даже в пот ударило.
365
Глядит в лицо Хохрякову усатый человек. Нос бура-
ком, глаза — кисель какой-то, и на голове дворянская фу-
ражка с линючим околышем.
— Ты, дядя, чего?
— Да чего...— отвечает Хохряков негромко.— Чуть у
кассы архангел не сцапал... И что во мне такого... ась?..
Кисельные глаза туда-сюда, вцепились Хохрякову в
руку.
— Ха, дядя!.. Задница у тебя босяцка, а лапа из
замши... Понял?..
Глянул себе на руку: обомлел. Вот так дурак!
— М-да... Это у меня от мыла... белая...
Звонок. Трель кондуктора. Тронулись. Дворянская фу-
ражка сворачивает цигарку, серник ищет, говорит Хох-
рякову:
— Из политицких?..
— Да как сказать...
— Ладно, молчи, вижу... Куда летишь-то?..
— Я-то?.. А вот на станцию Зима... Топографы там...
Наем у них... по нарезкам...
— Ой ли?..
— Сказывали, рупь в сутки платят...
— Подходя... Махну-ка и я с тобой!..
— Что ж, дело твое...
— Обязательно мое!..
Приехали. На станции у крылечка въезжей шерша-
вая толпа: к топографам по найму.
— Где же они тут?..— спрашивает дворянская фу-
ражка.
— Начальство-то? А где ж ему быть... Пьянствует...
Ночь провели у крылечка, свалившись в молодую,
хрупкую зелень.
В небе звезды. Переливались, как угли в ночном
костре, а воздух студеный.
Кто-то до полночи рассказывал о своих мытарствах.
Кто-то сочувственно вторил:
— Рассея — она кому мать, кому мачеха!..
Утром галдеж, божба, матерщина. На крылечке —
топограф. Молодой, в болотных сапогах, в тужурке с
иголочки: пуговки жаром горят. Похож на барского сын-
ка. Сам с аршин, а пыжится взрослым дядей.
— Тебя нам не надо...— говорит он дворянской фу-
ражке.— У тебя склад не тот!..
366
— Как так?..— хорохорится фуражка.— Да я сы-
змальства в труде!
— Труд труду рознь... У нас — в тайге... Путь зано-
во... Без топора ни шагу!..
— А я что?..— хрипит фуражка.— Белоручка я?.. Мне
пила — пила, топор — топор... Какое дерево топором не
возьму, за вершину его, да хрясь об земь!..
Вокруг хохот.
— Ну, ладно, ладно...— краснеет топограф.— Давай
паспорт...
Из двухсот голов взято полсотни. Хохряков в счаст-
ливцах. Руки держал за спиною, грудь напоказ, колесом:
грудь у него мужичья.
Заложили двуколки. Свалили инструмент, провизию,
палатки. Двинулись, затянули впроголосную:
Славное море, священный Байкал,
Славный корабль, омулевая бочка...
Гей, баргузин, пошевеливай...
Небо бледное, в проталинах: последний день апреля
не жарок. Зелень — гусиный пух. Справа овражки, сле-
ва река, в мути, в пене, гремучая, крикливая, и чайки по
ней, как хлопотливые хозяйки на гумнах.
— Эх ты, Сибирь-матушка... холодная сторона!..
Голос унылый, хлипкий, а человек из себя надежный.
Руки в мозолях. Ворот нараспашку, грудь в темном во-
лосе. На скуластом лице крученая улыбка.
— А ты ее видел, Сибирь-то?..— вступается фуражка.
— Я? Скрозь изрезал...— Вздохнул.— Эх, где-где я не
был, а вот труда не нашел.
Дворянская фуражка ухмыляется.
— Как зовут?..
— Звали Андреем...
— Дурак ты, Андрей!.. Труда не ищи, он те сам
сыщет.
Андрей круто глядит на фуражку.
Хохряков слушает, хмурится: народу много, а толку —
ни на грош. Идут, посапывают, невесть что болтают.
Всякие. Из шахтеров. Плотники. Босяки. Переселен-
цы: пермяки — соленые уши, орловцы — поддубники, во-
ронежцы— хлебный дух... Бурьян пашенный!..
Еще ночевка. Последнее селение. И — тайга. Обступи-
ла бескрайняя, темная, туча тучей. Смоль от нее — за
версту слышно. Тронулись на рассвете. В двуколке с то-
367
пографом — урядник: увязался по своему делу, на заим-
ки, дань собрать, бражки попить... Подвигались ватагой
без дороги. Впереди — провожатый, бурят. Кричит гор-
лом, подрагивая козлиной бородкой: «Моя — вперед, ва-
ша — слушай»...
Прыгают колеса с*кочки на кочку, цепляются о пни,
бьют чекою в шершавые ели. Под ногами торф, смачь.
Стучат топоры: кладут затесы, суки подрубают, а там,
вон, на пути березку — вниз головой,— не мешала бы.
Вдруг взвизгнула, ошершавилась, сжалась в комок,
хвост под ноги,— сука бурятская, Ходелька.
— Пси, ты, лешева!..
Стали, обступили люди: что за штука? Бурят, Иван
Иваныч, сюда бежит, на ходу выкрикивает горлом:
— А пошто стал? Дурак ваша... Медведь-батюшка ту-
то шел, след ложил, пужается психа... Эй-гей-гой!..
Дальше запрыгали таратайки. Руки у людей ноют.
На плечах — тягота. В ногах — мерзлота, сырь.
— Это ничто...— говорит дворянская фуражка.— Мы
раз под Красноярском втроем всю зиму в кирпичном жи-
ли,— кирпичный завод там был брошенный... Заберешь-
ся, бывало, в печь и сидишь... На улке под сорок, а мы
все трое босые... Во!..
— Жрали-то что?..— интересуется безусый пермяк.
— А что? Что черт пошлет!.. Были у нас на троих од-
ни опорки... По очереди в город ходили, добывали... Ни-
чо!.. Только раз ушел один в опорках, да и не вернул-
ся... Вот, язви его, озадачил нас!..
Хохряков, улыбаясь, замечает, как краснеют, покры-
ваются грязью его руки: теперь и жандарм не страшен.
Идет нога в ногу с Андреем. Андрей снял с головы
просаленный картуз, рассказывает:
—Я Рассею вдоль и поперек изрезал... В Архангель-
ске сколько-то жил, на Урале... В Екатеринославе на ма-
шиностроительном орудовал, в Одессе перебивался, в Ро-
стове тоже... Эх-ха!.. Теперь я, можно сказать, нуль... По-
тому— без труда... А в те поры и я человеком был...
Большая вещь — труд... Рабочий человек — главный че-
ловек на земле... Хозяин!..
— Ну уж, хозяин!..— откликается Хохряков.— Будет
когда-нибудь — это точно, а пока...
— Чего там «пока»!.. Рабочему человеку только рас-
кусить надо, что к чему, а уж прочее само все придет...
И, допрежде всего, в дружбе друг с другом должен быть
368
рабочий человек... Когда он вместе, его пушкой не возь-
мешь... Не так?.. Я тебе вот что расскажу... В Тифлисе де-
ло было... Собрались это мы за городом... С полтыщи на-
роду было... За нами — войско... Целый день по горам с
артиллерией гонялись,— не взяли... Они — пах-пах, а мы
свое! Песни орем и прочее... Первое мая было... Вот!..
Вдруг он стал.
— Ух ты, черт!..— ударил себя рукой по затылку.—
Стой!.. Какой севодни день, а?..— Лицо его медленно
осветилось.— Первое севодни мая... Понял?.. Вот так
штука!..
Вдруг он натужился, заорал людям:
— Братцы, стой!.. Поздравляю... С первым мая позд-
равляю!..
Одни за другим остановились люди. Стали и дву-
колки.
— Вот так штука!..— волновался Андрей.— Совсем из
головы выскочило...
Топограф поднялся в двуколке на колена, закричал:
— Чего там?.. Айда!..
— Праздничек севодни...— подлетела к нему дворян-
ская фуражка.— Первое мая... На чаек бы с вас, барин...
Угостили бы народ!..
И покосился на кузов таратайки.
Топограф взглянул на урядника. Тот, тяжелый, встал
с одышкой на ноги, заорал:
— Я те, мать твою, покажу праздник... Ты кто? Дев-
ка дырявая... Венки завивать охотишься!..
— Кше! — крикнул ему Андрей.— Братцы! — обра-
тился он ко всем.— Севодни весь, какой ни на есть, ра-
бочий народ празднует свою битву... Братцы! Кто мы та-
кие?.. Рабочий народ. Должны мы почитать праздник
али нет?!.
Вокруг молчали. Тогда урядник соскочил с двуколки,
подлетел к Андрею.
— Это вот видел?..— сунул он в самое его лицо ку-
лак.— Болван!..
Потом — к толпе:
— Чего рты разинули... а?.. Где вы находитесь?.. А?!
Молчали. Темнела тайга. Бледно голубело в просве-
тах небо.
— Ш агом ма-а-арш!..— заревел урядник.— Нам к но-
чи до заимки обязательно надо...
369
Возницы зацокали на лошадей. Кто-то тронулся впе-
ред, плюнув в руку, покрепче зажав топорище. Но засту-
пил дорогу Андрей.
— Стой!..— поднял он голос.— Стой, братцы!..
Дворянская фуражка услужливо подхватила коня под
уздцы.
— Слушай!..
Андрей взобрался на пень.
— Братцы, товарищи! Эти вот наймовали нас за
рупь-деньги и гонят в тартарары... Они ляжки на колесах
греют, а мы пешедралом... Они с утра жрут и пьют, а мы,
окромя хлеба, ничего не видели...
— Правильно...— отозвались вокруг.
— У них ручки в перстнях...— продолжал Андрей.—
А у нас мозоль на мозоле!.. Так я говорю?
— Так, так!..— ухнуло в кругу.
— Вот!—Андрей отер с лица пот.— Выходит, брат-
цы, мы — пролетарии, они — эксплуататоры... Им, знай
вали, вперед, а у нас эта дороженька вот игде...— Он
шлепнул себя по загривку.— Я, братцы, так обращаю:
становись тут на ночевку — баста... Привал!..
Подкатил урядник. Лицо у него — бурыми пятнами.
— Это что ж такое?..— взревел он.— Народ бунтить?!.
Да я тебя, сукина сына, в тюрьме сгною...
— Ну-ну!..— зыкнул на него Андрей.— Не больно рас-
ходись... Небось, ты не в городу...
— Ка-ак?..
Урядник хватил за кобуру. Хохряков его за руку:
— Стой, ваше благородие...
И, вырвав револьвер, с силою бросил на деревья,
в чащу.
— Ребята! — закричал он людям.— Кто вы такие? Ра-
бочие, крестьяне!.. У всех на отшибе семьи... Голодные,
холодные... Мужики — без земли... Рабочие — без труда:
а какой есть, лучше б его и не было!..
— Правильно, правильно!
— Замолчать!..— заорал урядник.— Сбесились вы?!.
— Ша! — поднял к нему Хохряков руку.— Объявля-
юсь: революционер, пять лет в тюрьмах сидел, бежал из
ссылки... Слышите, братцы?..
— Слышим!..
Голос у Хохрякова напрягся, задрожал.
— Этот человек говорит истинную правду...— Он ука-
зал пальцами на Андрея.— Ныне вся Россия, весь тру-
370
довой народ празднует... Против капитала, против поме-
щика, против... царя, братцы!..
— У-ю-й, стерва!..— захрипел урядник и рванулся к
Хохрякову, но тот даже не взглянул на него.
Толпа молчала. Урядник стоял, шумно дыша, и был
нем.
— На отдых, ребята!—скомандовал Андрей.— Ко-
стры!..
Люди шумно завозились. Выскочила дворянская фу-
ражка.
— Братушки! Ужли мы всю ночь дрогнуть будем, а у
господина топографа — пять четвертей... Сам видел!..
— Верно!..— оживились люди.— Пускай угостят для
праздничка...
Топограф, бледный, умоляюще глядел на урядника.
Тот молча жевал бороду.
— Товарищи!..— вмешался Хохряков.— Негожее заду-
мали... К чему нам пьянка?!.
— Как так к чему?..— влип в него безусый пермяк.—
С устали!..
— Правильно!..— заволновались люди.— Да кому не-
охота, пускай не пьет...
— Верно, чего там!..
Урядник сощурил один глаз, другим подмигнул топо-
графу, влез на таратайку, вырвал из кузова четвертную,
закричал:
— Видите? Каждому — по полстакашка... Идет?..
— Просим, обязательно...— толкнулись к нему кучей.
— Не спеши...— Урядник протянул к Хохрякову ру-
ку.— Это — кто такой есть?.. Смутьян!.. Бунтарь!.. Царе-
продавец!..
Вокруг смолкли, набычившись в сторону Хохрякова.
— Царепродавец и есть...— негромко, но так, что все
слышали, обронила дворянская фуражка.
— Братцы!..— завопил Андрей.— Не слухайте крово-
пийца...
Но урядник взболтнул четвертную и снова поднял
голос:
— Вот она, вот... Огонь — не водка!.. Подходи, кто
первый? Давай чашки!..
— Ребята!..— загородил людям дорогу Хохряков.—
Ужли примете... Из погамых-то рук?..
— Ха! — взвизгнула дворянская фуражка.— Да с дур-
ной собаки хоть шерсти клок!..
371
— Хы-хы, хо-хо...— грохнули все враз.— Айда за чаш-
ками!..
И уже тянулся к уряднику с чашкой в руке один, чер-
нобородый, кряжистый, плечи — в сажень.
— Сыпь, ваш-благородь!..
— Стой, обожди!..— Урядник достал еще четверт*
ную и злобно ощерился.— Слушай, эй, там!..
Затихли.
— Каждому на рыло полной чашкой... Поняли?..
— Благодарствуем...
— Чашки будет мало, еще надбавим... Мы тоже в по-
ложение входим...
— Спасибо, чего там... Давай!..
— Нет, постой... Не все еще...
Урядник швырнул глазами в Хохрякова, потом в
Андрея.
— Вяжи их!..— внезапно закричал он визгливо, про-
тяжно.— Вяжи царепродавцев!..
Молча повернули головы в сторону Хохрякова. Тот
чуть-чуть склонился вперед, как бы приготовившись за-
щищаться. Глаза его горели.
Урядник сорвался с двуколки, подбежал к нему, но,
встретив угрожающий локоть, отшатнулся.
— Не лезь, сволочь!..— зыкнул Хохряков.
И — к народу:
— Пошто стали? Вяжите, коли так... Сколько лет си-
дел, еще посижу!..
Но никто с места не трогался.
Вдруг с двуколки завопил топограф:
— Не смей, язви тебя!..
Но было уже поздно: человек в дворянской фуражке
отпрянул в сторону, высоко подняв над головой бутыль.
— Наша, ребята!..
Началось пиршество. Топограф с урядником молча ле-
жали под двуколкой, укрывшись шубами. Трещали кост-
ры. Гремели песни. Быстро, по-северному, темнела, сты-
нула тайга.
А наутро недосчитались двоих. Ночью, под шумиху,
Хохряков и Андрей скрылись.
Шли они назад, к поселку, в непроглядной тьме,
ощупью, то и дело спотыкались о пни, и один говорил
другому:
— Ничего, браток... Нам только бы до рассвета про-
биться!..
1917
372
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА
1
Его превосходительство, почтенных лет камергер дво-
ра и кавалер Анны 1-й степени, только что принял ван-
ну и лежал в постели. Из-за тяжелых портьер просуну-
лась седая голова Петра.
— Ваше превосходительство, пожалуйте к телефо-
ну... По экстренному делу!..
Губернатор сделал гримасу. Он поджидал бонну
своей дочери и, греясь в постели, уже предвкушал слад-
кие утехи.
— Остолоп!—бросил камердинеру.— Не видишь?..
Старик скрылся, сдвинув за собою портьеры, а губер-
натор, вдруг забеспокоившись, встал. Подозрительно гля-
дел на огромные окна в волнах бархата и торопливо ело-
зил ногою по ковру, нащупывая туфли.
Когда же, хлипко и часто дыша, кутаясь в халат, вы-
шел он в сырой и сумрачный кабинет, к нему в спальню,
неслышно ступая по бухарскому ковру, проскользнула
бонна. В опочивальне губернаторши она перекрестила
двенадцатилетнюю Софочку, оправила на ней розовое
одеяльце, подала стакан с ландышевыми каплями ее пре-
восходительству и удалилась. Видя, что губернатора нет,
она поспешно сбросила с себя платье и, дебелая, похожая
на гусыню, уплыла под мягкое, пахнущее имбирем
одеяло.
Из кабинета доносился тяжелый генеральский бас:
— Что, что? не слышу!.. А-а-а!.. Как вы сказали? Не
может быть!.. Проверяли?.. Ерунда, профанация!..
И совсем резко:
— Лично, лично!.. Когда?.. Немедленно!..
Почуяв недоброе, Розалия вдруг заторопилась, сбро-
сила с себя одеяло, метнула на пол голые, цвета молока,
ноги. Но было уже поздно. Губернатор, пошатываясь,
ступил на порог. Он был гладко выбрит, на бледной лы-
сине стояли штопором остатки сизых, густо напомажен-
ных волос.
— Невероятно, невероятно...— твердил он вслух глу-
хо и желчно, не замечая окружающего.
Бонна с испугом следила за ним и ждала, прикрыв
рукою груди.
373
А в это самое время по городу, большому и неуклю-
жему, упирающемуся головою в степь, ногами — в сту-
деную реку, уже излучалась первая, еще слепая и неяс-
ная, но остро волнующая весть.
Вихрем забирая пригорок, мчалась под дымчатыми
фонарями главной улицы пара полицеймейстерских во-
роных. И этот хлесткий бег, говорящий о силе животных
и о тревоге куда-то спешащего чиновного человека, гул-
ко отзывался в сердцах прохожих.
Жизнь, окутанная буднями, сходила со своих ржа-
вых петель, дул поперек земли косматый вешний ветер,
мостовая — тут, под ногами, звенела и булькала, а высо-
ко вверху, за пухлыми облаками, похожими на кучи
вербочных цветов, густел и креп животворящий
рассвет.
2
У дверей редакции, на темной мокрой мостовой, не-
званые, собирались с разных концов прохожие, терпели-
во стояли тут и жадно ловили невнятный голос репорте-
ра. И когда тот, набравшись духу, четко и громко наз-
вал событие своим именем, кто-то крикнул «ура»,
все подхватили,— гулкое эхо проникло в кабинет редак-
тора.
Там, окруженный со всех сторон сотрудниками, блед-
ный, напряженный, напоминая волка у капкана, Алек-
сандр Семеныч, старый редактор из народовольцев, пос-
пешно раскрывал телеграммы.
— Вслух, вслух! — кричали вокруг, и один, сбросив
пальто, пытался перенять из рук редактора серые ли-
сточки.
Александр Семеныч откашлялся, начал. Сначала
хрипло и сухо, но чем дальше, тем зычнее и торжествен-
нее становился его голос. Румянец пятнами выступил на
его серых щеках, руки дрожали. На одну минуту он за-
был об окружающем, о редакции, прислуживающей име-
нитым гражданам города, вспомнил себя, каким был
двадцать пять лет назад, свои тогдашние упования, стра-
стную веру в народ, в себя, в великое дело борьбы.
И стал давиться, гукая горлом, тщетно ловя глазами
расплывавшиеся во влажном блеске строки.
Снизу, с черных, шуршащих дождем панелей поды-
мались глухие, буйные голоса.
374
3
На площади, запруженной народом, войска приноси-
ли присягу новому правительству. Стояли шпалерами —
ружья на караул, звучала марсельеза. Старый полков-
ник, бородатый, в папахе, держал у носа обнаженную
шпагу. Потом, по команде, рота за ротой, взвод за взво-
дом, шли назад, в казармы. Мальчишки, обгоняя друг
друга, скакали у ног командирских коней.
Весь день над городом, озаренным непогожим солн-
цем, бумбумкали колокола,— в церквах служили не то
молебны, не то панихиды: паникадила теплились за ржа-
выми решетками. По тротуарам взлохмаченным потоком
двигались люди, сумные и злые,— ремесленники в чуй-
ках, приказчики, сутулые канцеляристы, солдаты.
Глядя на них сверху, из окон степенных каменных до-
мов, морщились и грустили. В больших залах торжест-
венно и чинно говорили о судьбах народа, перечисляли
заслуги именитых граждан и морщились, поглядывая на
улицу.
А на окраине, за частоколом чугунолитейного завода
Белоусовых, не спеша и деловито собирались рабочие,
строились в колонну, запевали гимн. Дорогой, кучами
и в одиночку, к ним присоединялись люди с мельницы, из
мастерских интендантства, с завода парфюмерии. На ули-
цах, меняя направление, текли за манифестантами кан-
целяристы и приказчики, ремесленники и солдаты.
В кабинете редактора, за большим столом сидел че-
ловек с пышной пегой гривой. Он курил папироску «Ада»,
скрипел пером и вслух, театрально жестикулируя, пере-
читывал написанное. Горбатые слова, полные самоуве-
ренности, строились в колонны, колонны — в полки, все
это устремлялось вперед, против «улицы», на защиту
правопорядка и разума.
Иногда, прерывая тишину, за спиной редактора зво-
нил телефон; тяжелый, жирный голос шамкал из трубки;
под львиной гривой caxapiHo улыбались, поддакивали:
— Угу! Совершенно верно! Обязательно...
И тот, чей голос вызывал у редактора сахар на устах,
небрежно поворачивал, отзванивая, ручку телефона, раз-
глаживал в лице морщины и шел не спеша, животом впе-
ред, к себе в гостиную.
В гостиной посвистывал спиртовый кофейник, за бе-
лым столом сидели люди в черных сюртуках, чуть-чуть
возбужденные, но верящие в себя и потому ленивые и
375
важные в движениях. Говорили о России, о близких по-
бедах на фронте, о расцвете после войны отечественной
промышленности и культуры. Хозяин дома, член Государ-
ственной думы, бывший профессор и крупный пайщик
«Нашего края», всем поддакивал, подвигая дамам сласти,
и улыбался в густую бороду. Дамы болтали о своем, бо-
лее им близком, особенно много о губернаторском доме,
о неладах в губернаторской семье, о загадочной роли го-
лубоглазой бонны и о том, как теперь-то быть с «самим».
Одни находили, что «старика» следует отпустить с миром
и пенсией, другие стояли за полное разжалование, без
всяких чинов и пенсий. И самая молодая среди дам, суп-
руга губернского архитектора, горя румянцем, доказыва-
ла, что губернатор отныне только гражданин, и пусть он
сам устраивает свою судьбу.
А тот, о ком шла речь, в эту самую минуту, развалив-
шись в кресле в своем кабинете, слушал колючий и злой
голос Алкаирова, непременного члена губернского при-
сутствия.
В кабинете спущены были все шторы, и лица друзей
его превосходительства в полумраке казались чужими,
загадочными.
Алкаиров, несдержанный в слове, сыпал каленые оре-
хи на голову жандармского полковника.
— Уехать в уезд! — восклицал он.— Уехать, не доло-
живши никому! Я считаю подобный образ действий сверх-
трусостью и сверхсвинством...
Вице-губернатор, старший советник губернского прав-
ления, прокурор, управляющий казенной палатой и си-
девший в сторонке, подбоченившись, полицеймейстер —
все они подавленно молчали.
Пустые белесые глаза губернатора ничего не выра-
жали, но в его большом, оплывшем, как сальный огарок,
теле чувствовалась тупая тревога. Он густо сопел носом,
протяжно отдувался и думал так:
«Алкаиров — зоил и болтун... Доверять ему нельзя...
Завтра в гостиной городского головы он будет распекать
меня так же, как сегодня распекает полковника... И во-
обще— кому теперь доверишься?..»
— Постойте, уважаемый! — прервал Алкаирова стар-
ший советник, человек с пышными гетманскими усами.—
Давайте говорить о вещах более серьезных... Полковник
от нас не уйдет...
376
— То есть, как это не уйдет, если он уже... сбежал!..—
вскипел Алкаиров и даже привстал у стола.
Губернатор поморщился, застучал о стол двумя паль-
цами.
В кабинете повисло тяжелое молчание. Стало слыш-
но, как трещат в соседней комнате дрова в камине и тихо
отсчитывают секунды старинные бронзовые часы на мра-
морном постаменте.
— Итак, господа, приступим к делу...
В голосе губернатора звучало раздражение, но было в
нем и еще что-то новое, близкое к надсаду, к отречен-
ности.
— По-моему, картина ясна,— заговорил прокурор, от-
кидывая тонкими пальцами крылья своей седеющей бо-
роды.— На Петроград мы рассчитывать не можем, а дей-
ствовать надо... Значит, необходимо принять меры самим,
на свой страх... по своему разумению!..
— То есть? — вскинулся управляющий казенной па-
латой, и по его круглому, с добродушными залысинами,
лицу мелькнула тревога.
— Как вам сказать,— уже нетвердо продолжал про-
курор,— действовать — это ясно, но в какой именно фор-
ме и с чего начать — тут, извините... следует подумать...
— Так!— поднял губернатор голову.— Дальше?..
Трудно было понять, чего хочет губернатор, всем бы-
ло неловко и тягостно.
Со своего стула поднялся полицеймейстер.
— Извините, ваше превосходительство! — произнес
он.— Тысячу извинений! Но, ей-богу, время не терпит...
Он стоял, почтительно склонившись, и требовательно,
как слуга, подсаживающий больного господина в крес-
ло, взирал на губернатора.
— О да, конечно!..— отозвался тот, помолчал и до-
бавил, обращаясь ко всем: — Итак...
Слышно было, как где-то вдали, за стенами, цокали о
мостовую подковы.
— Разрешите! — подался вперед полицеймейстер.—
Я человек простой, солдат, больших планов не предло-
жу... У меня был дед, служил полковым командиром на
Кавказе, а служба там была в те годы беспокойная: Чеч-
ня и прочее. Так вот он всегда нам говаривал: «Никакой
враг не страшен, ежели солдата на изготовке держать
будем». Вот-с!.. Исходя из вышеуказанного, я и посмел
бы теперь предложить следующее... Понятно, при усло-
377
вии, ежели их превосходительство найдут уместным от-
крыть, так сказать, наступление немедленно...
Что-то беспокойное, колючее, как искра разомкнуто-
го тока, прошло по креслам. Советник нахмурился, вице-
губернатор полез за новой папиросой, а прокурор захва-
тил в щепотку клок бороды и сунул в рот-
— Да ты не тяни,— желчно бросил полицеймейстеру
Алкаиров.
— Я предлагаю...— Полицеймейстер понизил голос.—
Немедленно предписать всем чинам полиции оставаться
негласно на своих постах... Это во-первых! — Он загнул
при помощи правой руки палец на левой.— Затем, сего-
дня же вывести из казарм за город, в дачные места, всю
дружину стражников... Это во-вторых! — Он загнул вто-
рой палец.— Затем, через кого следует, в ближайшие же
дни привлечь бригадного начальника, а через оного вер-
ное долгу офицерство...
— Все? — опросил губернатор, видя, как глаза окру-
жающих с плохо скрытым томлением обратились к нему.
— Пока что... все!—отчеканил полицеймейстер.
Губернатор густо сопел носом.
— Слабо,— сказал он, закрыл глаза и забарабанил о
стол старческими, в узлах, пальцами.— Слабо...
Вокруг оживленно и ласково, как бы стряхивая с себя
тяжесть, закивали ему: так, так.
Но это молчаливое поддакивание, сопровождаемое
улыбочками, изменило настроение губернатора.
В дверях показался камердинер.
— Ваше превосходительство, кофе!
Брезгливо отмахнувшись, губернатор встал.
— Полицеймейстер прав! Нельзя сидеть сложа руки...
Понимаете, нельзя! Нельзя!..— Голос его метался и по-
хрипывал, в глазах прыгал испуг, а вокруг молчали.
К вечеру, когда из белого губернаторского дома выхо-
дили, подняв воротники, гости,— за городом, у желтых
казарм, похожих на остров среди темнеющих степей,
бурлило бесшабашное солдатское веселье.
Сотни мужиков, одетых в шинели, почуяв земляной
дух весны, с мрачным остервенением драли глотку, ба-
рахтались на грязных лужайках и выбивали ногами, под
гулкую дробь барабана, извечную «сударыню-барыню».
Тут были краснощекие, гибкие, как язи, допризывники и
бородачи-второразрядники, кряжистые и мешковатые.
Одни, как бы хвастаясь друг перед другом, задорно и
378
пьяно носились в кругу; другие степенно стояли в сторон-
ке,— но все чувствовали, что сейчас для них нет ни
фельдфебеля, ни ротного командира.
У больших полуразрушенных ворот грызли семечки.
Торговались с лоточницами. Мяли у заборов гулящих
девок, этих беззаботных и жалостливых подвижниц сре-
ди моря буйной людской плоти.
Эх, жарь, говори,
Ничего не доноси
Изуверу моему,
Командиру ротному...—
заливался в кругу голос запевалы.
Ничего не доноси,—
Все в могилу унеси...—
вторил хор весело и угрюмо.
Многоголосый густой стон, дикие выкрики, камарин-
ский гул барабана, хохот и плачущий визг женщин —
все это сливалось в жуткий, лохматый гам, и издали
было похоже, будто там, у казармы, во мраке, кто-то
большой и могучий, высвобождаясь, бьется на вешней
земле.
Так это чудилось и репортеру «Нашего края», прислу-
шивавшемуся к гулкому сумраку.
Ехал он с рабочим чугунолитейного завода на митинг
к казармам. Извозчичья пролетка ныряла в ухабах, за-
моренная лошаденка, исходя паром, то и дело останавли-
валась, извозчик бранился на седоков:
— И куда вас, так вашу, несет... Гляди, ночь вить на
дворе!
Репортер ежился, окликал соседа:
— И впрямь, Егор Андреич, не поздно ли?..
Егор Андреич молчал, глядя перед собой в степь не-
терпеливо поблескивающими глазами. Губы его были
сомкнуты, над бровями вырезывалась глубокая борозда,
и во всем лице, сухом и скуластом, застыло напряжение
неукротимой мысли.
4
Было условлено, что второе совещание состоится на
другой день утром, но прошло утро, приближался обеден-
ный час, а из приглашенных никто к губернатору не шел.
379
Около семи губернатора вызвали к телефону, и кто-то,
чей голос показался ему знакомым, сообщил, что поли-
цеймейстер только что арестован на квартире.
— Как, как? — переспросил губернатор, но услышал
в трубке хриплый отбой и, чувствуя немоту во всем теле,
опустился тут же у аппарата на диван.
— Отлично! — произнес он вслух и не узнал своего
голоса. Сердце билось часто, гулко; на бледной лысине
росою выступила испарина; глаза в изнеможении за-
крылись.
В таком положении нашел его старый камердинер
Петр.
— Ваше-ство... батюшка-барин!..— наклонился к не-
му слуга и потрогал за плечо.— Там тебя спрашивают
какие-то...
Губернатор вздрогнул, открыл глаза, увидел в лице
Петра жалостливый испуг и замахал руками.
— Не пускай, не пускай!..
— Да уж тут они, в кабинете...— все с тем же талым
испугом проговорил старик, беря губернатора под руку.
Тот подозрительно взглянул на него.
— Поди скажи, сейчас буду...
И направился к буфету.
Достал там из шкафчика графин с янтарной жид-
костью, налил с четверть стакана, выпил и сплюнул.
И вдруг горючая злоба охватила его. Шумно дыша,
с налившимися кровью глазами вышел в кабинет.
Сейчас же навстречу ему поднялись с кресел чужие
люди в серых шинелях, с винтовками в руках, и один
штатский, в кургузой замасленной жакетке, с глубокой
бороздой над бровями, выступив вперед, произнес сурово:
— Попрошу вас одеться и следовать за нами... Вы
арестованы!..
Это был тот самый Егор Андреич, рабочий, который
вчера с репортером «Нашего края» ездил в казармы на
митинг. Глядя в упор на губернатора, он бессознательно
повторил те самые слова, с которыми не раз в прошлом
обращались к нему после обысков: «Прошу вас одеться и
следовать за нами... Вы арестованы!..»
Губернатор молча грыз его выпученными глазами, по-
том внезапно, точно внутри грузного тела прорвалась
плотина, выкрикнул:
— Кто вы такой? Как смеете? По какому праву?..
— Т-с-с! — Егор Андреич спокойно поднял руку.
380
— Что? — заорал губернатор, совсем теряясь.— Вон
отсюда, вон, вон!..
Должно быть, в губернаторе было что-то нелепое. На
губах Егора Андреича показалась острая улыбка. Затем
прозвучало короткое:
— Прошу не кричать!..
Крепкий голос, как ушат холодной воды, привел гу-
бернатора в себя. Он вдруг осел, поднес руку к своему
неудержимо прыгающему подбородку и молча, волоча
правую ногу, спружинив багровые складки затылка, по-
вернулся к двери.
Солдаты тронулись за ним, но Егор Андреич остано-
вил их:
— Не уйдет!..
Солдаты стали. Один, отмахнув полу шинели, полез
за табаком.
— Вон какой у него норов-то...— сказал он.
Бородач в серой, с кокардой, шапчонке подхватил:
— Теперича отноровился!..
Парень с круглым бабьим лицом проговорил сердито:
— Ране бы надо спесь ему выбить, а то вон сколько
делов наделал...
— Ай наделал?..
— Ого! Он вить, бают, в шестом году видимо-невиди-
мо людей истребил.
— Завсе просто,— угрюмо отозвался бородач.— На
том стояли!..
В спальне губернатор, привлеченный неугасимой лам-
падой, опустился на колена, крестился мелкими взмаха-
ми дрожащей руки, бормотал невразумительные слова и
тоненько, подергиваясь, икал. Таким нашла своего мно-
говластного супруга, камергера двора и кавалера Ан-
ны 1-й степени, ее превосходительство, сухонькая старуш-
ка с облезлой, без парика, головою, похожая в своем
старомодном кашемировом бурнусе на сиделку. Она взя-
ла мужа под руки, повела, покорного, в гардеробную,
сама натягивала на него платье, оправляла на обрюзг-
ших ногах пуховые чулки и приговаривала:
— Ты их слушайся, Алек... Так лучше будет, лучше...
Через час губернатор, кутаясь в плед, сидел под стра-
жей в вагоне. Скорый поезд уносил его в сизые простран-
ства, навстречу неведомому будущему. А еще через час,
в густых лохматых сумерках, около губернаторского до-
ма кипели людские волны. Волны бились о толстые сте-
381
ны, затопляли просторный двор, таинственный и мрачный
от стоявших здесь черных лип, и с шумом плескались у
тяжелых парадных дверей.
Из уст в уста неуловимые змеились слухи, калили
кровь. Говорили о окладе оружия, будто бы найденного
у полицеймейстера, о стражниках, запрятанных в губер-
наторских подвалах, о том, что кто-то, близкий к старой
власти, защищает губернатора, прячет его — не хочет
выдать народу.
На каменную вазу массивного ступенчатого крыльца,
невидимый в темноте, взобрался человек. Оправив фу-
ражку, он закричал высоким тенорком:
— Граждане!..
Сначала смолкли впереди. Задние повалили ближе к
крыльцу. Стало тихо. Густой и хлесткий ветер носился по
темной, насыщенной влагой площади, рвал в толпе полы
платья и предостерегающе, скорбной октавой гудел в го-
лых деревьях за серым, в подтеках, забором.
— Граждане!..— кричал с крылечка, захлебываясь
под ветром, человек.— Предлагаю... разойтись... Губерна-
тор арестован... Отправлен на суд, в Петроград... Дом...
народу... неприкосновенен...
Толпа медленно колыхалась, похожая на жидкую ка<
шу, подогреваемую со дна. Кто-то гулко, с надрывом
бросил:
— Подайте его нам! Где он?..
— Кто? — выкрикнул, прерывая себя, человек с ка-
менной вазы.
— Губернатор!.. Зачем прячете?..
— У-а-а...— застонало вокруг, и живая каша в огром-
ном черном котле забулькала и заворочалась, точно под
него брошена была новая связка пылающего хвороста.
Во дворе толкались серые шинели, чуйки; щупали
десятифунтовые замки на погребах, галдели.
Кто-то из штатских, стоя в куче солдат у стены, под
ветром, голосом обиды и желчи говорил во все легкие:
— Теперь, к примеру, у меня их пятеро! Один другого
меньше, и все в золотухе... У среднего, Кольки, без оби-
няков сказать, вся рожа в пузырях... Ажно ребята от ево
бегут... А пошто такое, а? Я вспрашиваю, пошто такое?..
— А пошто ты их нарожал?..— крикнули в куче с до-
садой.
— Как так? — взъерошился штатский, наваливаясь
382
вперед.— Что же мне, по-твоему, из-под венца да к коно-
валу?..
Солдаты поддержали его.
— Чего зря болтать! Нельзя человеку из природы
выскочить...
— Знамо дело...
— От Адама заведено...
— Вот, вот!—поднял голос ободранный штатский,
и в темноте было видно, как вскинулась его голова с
козлиной бороденкой.— Нет, ты о другом, мастак, рас-
суди... У меня их, говорю, пятеро при одном горшке, а
у них на каждую шлюху по три жеребца, бездетных...
А шлюхе той—подай... Мой Колька в школу бежит,
в животе у ево — воздух, а той шлюхе — подай... Ей ко-
фий не кофий, бруслет не бруслет...
— Верно...
— Дык как же не верно-то!..
Со стороны каретника, у входа на кухню ударила
брань. Бабий голос, замороженный отчаянием, звенел,
ломаясь, как лед в лужах под ступней.
— Пустите, пустите... Окаянные!..
Шинели и чуйки бежали на крик с разных концов дво-
ра. Им навстречу, выдираясь из свалки, гудел бородач:
— Будешь знать, драная стерва!..
— Што там такое? — потянулись к нему.
— Што, што! — рванул бородач.— Куфарка с ложка-
ми засыпалась... Вышла павой, а под подолом у ней се-
ребро!..
А у парадной, на улице, под самым навесом крыльца
вдруг вспыхнул голубой шар, залил молоком черную гро-
маду людей, и перед всеми встала, как на ладони, фигур-
ка оратора.
В толпе ахнули.
— Сидорчук! Квартальный! Харя полицейская!.. — за-
орали, точно камни рассыпали по железу.— Под жабры
его... Лови!.. Бей!..
Человек, как сноп, подброшенный вилами, описал ду-
гу и пал на ступени. Вокруг закипели в волчьей свалке.
С гиком и ревом, прыгая через клубок сцепившихся тел,
устремились к двери.
— Ура! — грохнуло из сотен глоток. Дверь распахну-
лась.
В огромном вестибюле, жутком от мрака, люди смолк-
ли, но неудержимо подвигались вперед.
383
У самого входа в переднюю, полную светящегося ту-
мана, кто-то, наступив на полу своего бешмета, упал брю-
хом вниз и закричал в страхе.
Это вызвало дружный хохот. Парень в бешмете под-
нялся на ноги и злобно закричал:
— Ти-ш-ша-а!..
— Грах-ха-хо!..— раздалось в ответ пуще прежнего.
Первым, утирая слезы, выдавленные хохотом, вошел в
зал извозчик в валяной владимирской шляпе. Юркий под-
росток в опорках, с натыканной в них соломой, щелкнул
электрической кнопкой. В зале вспыхнула, вся в золоте
и стеклянных сосулях, парадная люстра.
Ослепленные светом, смолкли. Белое пламя полыхало
на лепном, в бронзе, потолке, в зеркалах, в золоченых
рамах картин и на паркете, ярком, как ледяное озеро.
— Эх, тудыть твою мать! — не выдержал извозчик и
ударил концом сложенного вдвое бича по голенищу.
Изумление, горечь и злобная несыть плеснули в коря-
вом его голосе.
Стоявший подле маляр в подвернутом у пояса фарту-
ке крякнул, протянул: «Н-да», и с потемневшим лицом
пошел вперед, оставляя на паркете комки грязи.
Баба в рваной шали, завязанной концами под боль-
шим животом, бросилась к маляру.
— Да куды ж ты прешь-то?.. С этакими-то ножища-
ми-то?..
Маляр, озадаченный, остановился, невольно заглянул
под ноги. Баба не унималась.
— Ножищи-то, ножищи вытрите!..— кричала она на
всех.
Молодой солдат, затянутый туго ремнем, с винтовкой
в руках, торопливо пролез из двери, толкнул бабу, цык-
нул:
— Уди, тетка! Не твово тут ума дело...
И, не оглядываясь, пошел вперед.
— Айдате, робята!..
За ним хлынули без удержу.
Перед саженным зеркалом солдат вдруг стал, взмах-
нул прикладом и ахнул,— осколки, звеня, полетели во-
круг.
— Да ты что же это? — рванулся к нему изумленный
маляр.
Опуская приклад, солдат повернул к маляру лицо, бе-
384
лое, с дрожащими, как бы плачущими губами, и произ-
нес хлипко, спекшимся голосом:
— Пускай теперь... поглядятся!..
В ту же минуту в другом конце зала зазвенела, рас-
сыпаясь вдребезги, японская ваза.
Невидимые токи ненависти струились по залу, пья-
ня и зажигая головы.
Бронзовый постамент с хрустальным аквариумом за-
шатался и грохнул на пол. Покачнувшись на месте, пала
е мрамора Великая Екатерина, и куски ее алебастрово-
го тела вместе с пылью осыпали плюшевый ковер у
рояля.
В глубоком молчании люди подвигались вперед и на
ходу, без звука, без единого слова, сеяли разрушение.
Тогда, не выдержав этой жадной, взрывающейся изну-
три тишины, баба снялась с места и визгливо закричала:
— Ах вы, паралитики, ах вы, разбойники!..
На нее сквозь зубы отовсюду цыкали...
— Уди, уди!..
Но момент жуткого очарования, надсада и боли уже
таял.
Рыжебородый шорник, известный в Заречье буян, три-
жды сидевший по тюрьмам, охватил бабу за поясницу,
кинул ее в кресло, весело крикнул:
— Сиди, барыня!..
И сейчас же, как по знаку, в зале стали перекликать-
ся и матерщинничать.
Проходивший мимо кузнец с Зеленого базара, кривой
на правый глаз, плечистый и непомерно длинный в туло-
ве, наставительно сказал:
— Ты, тетка Марфа, не жалей: севодни ты их пожа-
леешь, завтра они тебе голову долой!..
И, отфыркиваясь, поднял дубовую из-под пальмы тум-
бочку.
— Во!..
Грохнул о пол.
Баба горько взмахнула головой, всхлипнула и запри-
читала: ,
— Лютуйтесь, лютуйтесь на свою головушку...
Кривой, протискиваясь к двери губернаторского каби-
нета, объяснил соседу в шинели:
— ДАужа у ейной женщины на войне убили...
— Видать! — откликнулся угрюмо солдат.
13. В. Бахметьев
385
За кабинетом, куда уже ввалились люди, в ужасе ме-
тались две женщины — старая губернаторша и голубо-
глазая бонна Розалия.
— Петр, Петр... Где Петр? — задавленным, как во сне,
голосом твердила губернаторша.
Губернаторская дочка, Софочка, в беленьком кисей-
ном платьице, приставала к матери:
— Мамочка! Позови солдат... Солдат, солдат!..
Ее слушали и не понимали, а она продолжала свое:
— Мамочка! Хочешь, я побегу к телефону?.. Хочешь?..
Губернаторша ловила дочь руками, тискала, прижи-
мала к себе.
Первыми показались в дверях молодой солдат с вин-
товкой и маляр. Губернаторша упала в кресло. Розалия
с воплем бросилась в угол, а девчонка, сжав кулаки,
прыгнула, как мяч, навстречу людям.
— Прочь! — закричала она исступленно.— Прочь,
прочь!..
Солдат насупился.
— Ишь, змееныш...
Маляр, завидя растерзанную, с оголенными плечами
бонну, потянул солдата назад.
— Тетку бы сюда...— обронил он в замешательстве и
оглянулся.— Марфу!..
— Тетку, тетку зовут!..— подхватили сзади, и этот
крик, от плеча к плечу, пошел в глубину зала.
— Меня!..— сорвалась с кресел брюхатая баба, вы-
сморкалась пальцами и устремилась вперед.
— Лешманы! Паралитики! — бранилась она на хо-
ду.— Чтоб вам ни дна, ни покрышки!..
В спальне тетка отстранила от себя губернаторскую
дочь, сбросила на ночной столик, прямо на фарфоровые
безделушки, рваную шаль и полезла сначала под кро-
вать, потом в платяной шкаф, потом под дубовый стол,
крытый бархатом.
Заметив в дверях солдата, махнула ему рукой: «Чего
рот-от разинул»,— и прикрыла у самого его носа дверь.
— Твово ищем! — сказала она губернаторше, выле-
зая из-за ширмочек у кровати.— Ай взаправду уехал?..
Губернаторша, завалившись в кресле, ловила ртом
воздух.
— А и стара ж ты, погляжу я на тебя.,.-—продолжала
баба.— Тебе бы богу молиться, а ты... вон чего....
Дочь налетела на нее.
386
— Уйди отсюда! — визгливо закричала она.— Вон,
вон!..
— Да ладно уж, ладно, уйдем...— говорила баба, по-
вязывая шалъ.
За дверью торжественно провозгласила:
— Нетути самого! Одни женщины...
Кто-то откликнулся живо:
— Известно, нету. Наши ж и увезли его... Сам видел!..
— А видел, так пошто же молчал? — зыкнул куз-
нец.— Сопля, право, сопля!..
т— Говорил я, не слухали,— оправдывался человек.
В зале, в кабинете, в гостиной и дальше к буфету про-
должался погром.
Старый екатерининский дом, державший в страхе де-
сятилетиями огромный и многолюдный край, расплачи-
вался за все свое прошлое.
5
Скорый поезд уносил губернатора в великие степные
просторы.
У дверей столовой дежурил, скучая, часовой из опол-
чения, в австрийской синей шинели, с винтовкой без
штыка.
За столом, сгорбившись, сидел долговязый человек.
Левую руку он запустил в свалявшиеся космы пегих с про-
седью волос, а правою держал у нижней отвисшей губы
цигарку, и щурил от дыма водянисто-светлые сонливые
свои глаза.
Егор Андреич, сопровождавший губернатора во главе
отряда, стоял у окна.
За окном, большим и светлым, проносились в метель-
ном беге вешние поля, то — густо-черные, смолистые, с
синими дымками испарины, то — бледно-зеленые, окрап-
ленные нежным гусиным пушком озимых.
Там и сям в горбатых далях, под серым набухшим не-
бом выплывали деревни с соломенными крышами — сол-
нечными без солнца.
У самого полотна вприпрыжку скакали молодые елоч-
ки; верстовые столбы гнались за вагоном и не могли на-
гнать; звенели, кружа голову, попутные мосты с просты-
нями вод под ними.
Солдат, кашлянув в руку, окликнул человека за сто-
лом:
387
— Слухайте-ка... Я об чем...
— Ну? — поднял человек голову.
Это был сподручный Егора Андреича по отряду, сто-
ляр Герасимов.
— Что же теперь ему будет? — спросил солдат, кивая
головой в сторону губернаторского купе.
— А ничего...— отвечал Герасимов сонно, в нос, гну-
саво.— С мертвого, дядя, спросить нечего!..
Солдат не понял.
— Оно, конешно...— неопределенно протянул ом.
Егор Андреич резко повернулся от окна.
— Слушай, философ,— сказал он Герасимову,— бро-
сил бы ты свои загадки... ей-ей!.. А кстати и цигарку!..
Накурил тут, дышать нечем...
— Говорю, как думаю...— тем же сонным голосом от-
кликнулся столяр и покорно приткнул цигарку о ножку
стола.— Думаю и говорю...
— Думал бы раньше,— рассердился Егор Андреич.—
Теперь, брат, думать некогда... Дело надобно делать...
— Делать будешь ты...
— А ты?..
— Я? — голос столяра дрогнул.— Я, друг, за тобой...
трусцою...
— Эх ты, революционер!..
— Я! Какой уж есть... Да мы тут, Егор Андреич, ни
при чем... Соки-то из нас, мужиков, сиятельные господа
не даром тянули... Сто лет... Ты вот уцелел, а я проржа-
вел... Соку не хватило!..
— Ладно уж, молчи!..— прервал его Егор Андреич и
отвернулся к окну.
Стоял и думал, поводя желваками скул, точно проже-
вывая что-то жесткое, неподатливое.
Зеленели нежные, за окном, озими, плыли из синих да-
лей, как неведомые корабли в море, деревни, бежали,
слом^ голову, у самого полотна молодые елочки.
— Слушай, брат,— повернулся снова Егор Андреич и
опустился подле Герасимова.— Слушай... Не тужи!.. За-
чтутся им все наши уроны... Встряхнем мы их, брат, так,
что... ой-ей-ей!..
Ударил крепко ладонью о стол.
— Праведно, чего там!..— откликнулся повеселевший
солдат.
— Эх, ребята! — заломил Егор Андреич руки и потя-
388
нулся, выпятив грудь колесом.— Ей-ей, терпения нет...
Так бы вот взял и все враз перевернул!..
Пригретый возбуждением товарища, столяр хихикнул:
— Бодливой-то корове бог рог не дал.. Слыхал?..
— Ничего... отрастим!..
Губернатор лежал в купе на пружинном, мягко пока-
чивающемся тюфяке и никак -не мог собраться с мыслями.
События развернулись столь неожиданно и так стре-
мительно, что все казалось сном: и то, что там, в Петро-
граде, бунтовали, и то, что его самого везут теперь ку-
да-то под штыками.
Надо бы что-нибудь предпринять, уяснить, вникнуть...
Но как и что?
Как и что?
Часы летели, и летел навстречу неведомому поезд.
На станциях было по-необычному шумно. Играли гор-
ластые оркестры, вздувались парусами в вешнем ветре
красные полотна, на базарах и площадях, примыкавших
к вокзалам, бурлил праздничный водоворот.
Но грохот медных труб, и кровавая пена в воздухе,
и взбаламученное море косматых голов — все это было не
настоящее.
Настоящее, близкое, понятное губернатору, осталось
позади, там, за вчерашним днем.
Настоящее — это белый екатерининский дом в колон-
нах, мирная площадь с собором, похожим на просфору, и
тихие поля за городом.
Если сесть в карету летним утром, до солнца проехать
сонные улицы в колбасах и кренделях на вывесках, вы-
браться за пустую, пахнущую дыней, площадь, то тут и
пойдут поля.
Сидеть, откинувшись к пахнущему нафталином зад-
ку, дремать сладко и в дреме слушать, как поют коло-
кольчики, как гикает робко ямщик, сдерживаемый ста-
рым камердинером,— это и есть настоящее.
В первом большом селении,— когда-то здесь выси-
лась бревенчатая крепость, а теперь желтеет веселый
трактир,— карета станет на отдых, губернатор выйдет
к волостному правлению и пройдет в толпе праздничных
рубах к крылечку, а на крылечке — бородатый старшина
с хлебом и солью.
И опять тихие поля, нарядные под солнцем ветряки,
пыльная, в дурманах полыни дорога... Карета ныряет
389
в уемах, позади трещит исправничья пролетка, и гикает,
лихо заломив фуражку, урядник на своем бойком коне.
К вечеру, в закатном солнце, встанет на взгорье уезд-
ный город. Здесь на площади, зеленой, не утоптанной,
перешептывается в ожидании толпа мещан.
Исправник распахнет дверцы кареты, губернатор вый-
дет и величаво раскланяется. На ступенчатой паперти
ждет залитое золотом духовенство. Торжественно и бла-
гоговейно бухает колокол... А потом — легкая закуска
в просторном доме предводителя дворянства, банчок и
жирный ужин под свечами, у раскрытых окон, выходя-
щих в сумрачные аллеи.
Губернатор не помнит, как и когда стал он сановни-
ком: в то ли еще время, когда молодым чиновником но-
сился в вихре придворного бала, или позднее, когда в его
руках шуршал голубой пергамент высочайшего приказа.
Нелегкое это было дело — губернаторство. В присутст-
вии накоплялись горы кассаций, и надо было распружать
их; жандармское управление ссорилось с полицией, и на-
до было мирить; земство строило школы и отмахивалось
от этапных тюрем: надо было вводить в рамки горячих
земцев... А там скандал в уезде с исправ>ником, оступив-
шимся с купцами; эпизоотии в Волчанской волости; само-
убийство шелудивого мальчишки, изгнанного из гимна-
зии и оказавшегося внуком шталмейстера; уколы, тихие,
исподтишка, уколы «Нашего края», и неожиданное зага-
дочное убийство в селе Подлужном урядника: одни го-
ворили— пил и в беспамятстве попал головой в пруд,
другие утверждали, что был тут политический умысел.
Незаметно подкрался и отгремел пятый год.
Тогда же родилась в белом екатерининском доме гу-
бернаторская дочь. Губернатор сидел у себя, в губерн-
ском правлении, над проектом об усиленной охране, и его
спешно вызвали по телефону.
В спальне жены было как в лазарете во время сра-
жения: мебель спутана, толкались люди в белых халатах,
пахло чем-то терпким и дурманным. Роженица лежала
в подушках, с черными, остановившимися глазами, и
крупные капли слез сползали по ее восковому лицу. Она
не узнала его; у него тоскливо сжалось сердце. «Что
с нею?» — спросил он у акушера упавшим голосом,
покорно идя за ним в кабинет. Его успокоили: «Тяже-
лый случай, ваше превосходительство, (но вы не волнуй-
тесь!»
390
Остался один в кабинете. В голове путались обрывки
проекта об усиленной охране, а сердце полно было острой
тревоги... Эти нехорошие недели, смута, разгул черни,—
разве не он бегал по спальне больной жены, хватая себя
за голову, бередя ее душу... И вот — результаты!.. Кто
будет повинен в ее смерти?..
Ненависть к бунтовщикам разгоралась с новой силой,
затопляла тревогу за жену. Он присел было к телефону,
чтобы соединить себя с жандармским управлением, но
тут показалась сияющая горничная.
— Пожалуйте!..
Губернатор сорвался с места, крупным шагом прошел
в спальню, увидел в колыбели красный комочек на про-
стынях и приник к холодной руке жены.
На один момент забыл вовсе о революции, о рабочих,
бастующих на заводах, и о мужиках, громящих по-
местья.
— Лялечка, Лялечка,— горячо бормотал он и, всхли-
пывая, осыпал поцелуями холодную, беспомощную руку.
Потом, конфузясь чужих людей, неслышно прошел к
себе, долго говорил по телефону с жандармским полков-
ником и, улыбаючись, сделал тс, над чем, не решаясь, про-
вел долгие часы: подписал проект об усиленной охране.
Наступали суровые месяцы борьбы, тревог и первых
побед.
Вся губерния стонала под топотом казачьих отрядов,
тюрьмы ломились, день и ночь работали чрезвычайные
суды, а он, как молодой дуб после грозы и ливня, пышно
цвел в своем екатерининском доме, и все, кто видел тогда
губернатора, заражались его необычайной бодростью и
неутомимостью. Губернские дамы наперебой ухаживали
за ним, чиновные люди, почувствовав прилив изумленной
благодарности, с раннего утра и до поздней ночи жуж-
жали в его гостиной, столпы дворянства подносили по-
дарки «спасителю», и сам архиепископ Мефодий в слове
к смиренной пастве совсем не двусмысленно назвал его
архангелом, опоясанным мечом огненным.
А вскоре последовала высочайшая грамота о награж-
дении начальника губернии за отличное усердие и особо
выдающееся рвение орденом св. Анны 1-й степени.
В залах дворянского собрания был по тому поводу
бал. Съехалось все именитое, что было в губернии. Игра-
ли три оркестра, и медноголосые звуки вальса всю ночь
напролет разливались по площади.
391
Утром, на заре, за желтой стеною, пахнущей со сто-:
роны базара мочой, удавили еще трех мужиков-аграр*
ников.
Полицеймейстер, бывший при казни, возвратился на
бал, нашел в карточной игроков, подсел к ним и пошел
на весь банк. Был он как пьяный, хохотал и дрыгал но-
гами.
Никто не понимал полицеймейстера, с брезгливостью
взирая на его веснушчатые руки, сгребавшие выигрыш.
Но то были последние виселицы в губернии. Жизнь,
выбитая из седла, водворена была на место, и конь, на-
глухо заузданный, в стальных латах, привычною по-
ступью потащил свою ношу дальше по проторенной до-
роге.
6
В эту ночь не спалось губернатору. Заснул под утро
и встал поздно, обрюзгший, желтый в лице, с коликами
в печени.
Поезд стоял у самарского вокзала. За окном гудели
человеческие голоса, звенели вразброд буфера, пиликала
где-то гармоника. Назойливый бабий крик бился о дос-
чатые стены вагона: «Молока, молока, молока...»
Губернатор вымылся, натянул пальто тяжелого сине-
го сукна, достал из саквояжа пустую бутылочку и напра-
вился к выходу.
В салоне сидел столяр и, сладко посапывая, разби-
рал с помощью перочинного ножа карманные часы.
Солдат (часы были его) стоял над ним, бубнил ему
в ухо:
— Ой, не было б хуже!..
Столяр подбирал слюну, помалкивал: возиться внут-
ри незнакомого и сложного механизма было всегдашней
его страстью.
Завидя губернатора, солдат обеспокоился:
— Куды? Нет начальника!..
— Да мне он не нужен,— вежливо произнес губерна-
тор.— Схожу молока купить...— И пошел к двери.
— Постой!..—г крикнул солдат, но было видно, что не
знал он, как быть: и губернатора боялся отпустить, и не
хотел покидать в недобрых руках часы.
— Пускай идет,— буркнул столяр.— Из окна после-
дим!..
392
Ночью выпал дождь со снегом, и теперь в тугом све-
жем воздухе было бело и сине. Снег таял, выпячивая
мокрый асфальт, с крыш капало, чирикали воробьи, в зе-
леноватом, свежеомытом небе бродили лохмотья обла-
ков.
По всему перрону, на площадке, у будки, и дальше,
по мокрой и снежной, точно обрызганной сметаной, линии
были солдаты. Сидели кучами, вразвалку, пили дымя-
щуюся бурду из жестяных кружек, жевали хлеб. Тут же
искали вшей в портках, стоя в исподнем.
Перекликались и весело гоготали, будто для них не
существовало долгопутного изнурения, точно грязь и
вши, забота о семьях и тревога за будущее не мучили их.
Проходили молодые, безусые, только вчера испечен-
ные офицеры, и никто не обращал на них внимания. Сол-
даты потоком выливались из раскрытой пасти вокзала,
бежали в одиночку по путям, гремя манерками, торгова-
лись на углу, у лавочек, с бабами, привлекали их к себе,
ощерив зубы, и напевно ругались.
Как всегда среди сотен оторванных от семьи людей,
было тут шумно, бесшабашно и весело.
Налив молока в бутылку и сунув озадаченной торгов-
ке десятку, губернатор поплелся назад, к вагону.
От пестрого гама и воздуха, отливающего атласом,
у него закружилась голова. Он остановился, закрыл гла-
за и слушал, как что-то острое, сосущее приникло к его
печени.
— Ну, проходи, проходи! — крикнули ему из кучи
солдат.— Замечтался... папаша!..
Губернатор остановил тяжелые бесцветные глаза на
курносом лице парня, поморщился и шагнул вперед.
— Эх, яз-зви его! — выругался парень, отряхивая
руку.— Пошто на живого ступаешь?..
Губернатор шел, спотыкаясь о тела, ступая на ноги
и руки.
— Мать твою пречистую! — гудело вокруг.— Ды стой
же ты, обормот!..
— Стой, тебе говорят!..
Растерянный губернатор замер на месте.
— Ишь, рыло наел!..— посыпались отовсюду едкие
замечания.— Интендант брюхатый...
— В окопы бы его!..
— Тоже, жгутами обрядился!..
— Фря поганая!..
393
Кто-то больно толкнул губернатора в ляжку. Кто-то
сплюнул ему на сапог. Темное бешенство прянуло в его
сердце.
— Дорогу! — рявкнул он, закатывая глаза.— Мер-
завцы!
И пристыл к месту, шумно дыша, выкатив бусые гла-
за. Одною рукой крепко прижимал к животу бутылку
с молоком, а другою поспешно и вызывающе шарил в
пустом кармане пальто.
На один миг вокруг смолкло. Затем раздался пронзи-
тельный голос:
— Ребята, леворвер у ево!..
Повскочили на ноги, охватили губернатора, навали-
лись.
— А-а-а!..— закричал он, барахтаясь и отбиваясь.
Солдат караула бежал от поезда.
— Стой, стой! — кричал он, размахивая винтовкой.
Бутылка выскочила из губернаторской руки, описала
дугу и, упав на асфальт, разбилась.
— Стой, черти! — орал, прыгая через тела, карауль-
ный.— Стой!..
Губернатор вырвался и побежал прочь, в сторону от
вагона. Караульный поймал его. Он дико взглянул, узнал,
стих и, дрожа всем своим грузным телом, захлипал ртом.
Его пальто с красными отворотами было распахну-
то; один погон, старый, позеленевший, болтался на нитке;
над обнаженной лысиной штопором торчали сизые завит-
ки волос. Караульный взял губернатора под руку. Солдат
с рыженькой бороденкой, рябой и тощий, поднял фураж-
ку, отряхнул и, подмигнув кому-то, нагнал губернатора.
— Покрышку-то возьми!—сказал, подавая фуражку
нарядную, с белой кокардой и красным околышем.
— Енерал, ребята... из статских! — крикнул, возвра-
щаясь к своим, солдат.
— А черт с ним, с твоим генералом! —отозвались во-
круг.— Будет знать, как солдата ворошить...
— Мало мы его!..
— Ничего, хватит!..
Кто-то, пробравшись от поезда, громко сообщил:
— Товарищи, а вить этот-то в губернаторах ходил!..
— Ды ну-у?..— откликнулись хором.
— Ей-ей!.. Солдат в поезде сказывал... В Питер его
прут, на суд!..
394
— Эх, жалко!..— почесал в затылке курносый па-
рень.— Кабы знать, не так поучили бы...
— Учитель какой! — неодобрительно бросил рябой
с рыженькой бороденкой.— Чай, он арестант теперь...
— Арестант и есть! — поддержали вокруг.'
Рыжебородый ефрейтор в мерлушковой шапчонке
поднял руку.
— А молоко-то мы ему того... раструсили! — сказал
он, указывая пальцем на белевшую в осколках лужу.
— Молоко зря! — отрезал высокий детина с шинелью
в накидку.— Молоко — не причина!..
— А ты купи ему молоко-то, ежели зря! — насмеш-
ливо кинули из кучи.
— А и куплю! — огрызнулся детина.— Почему не
так?.. Куплю!..
Поезд тронулся. Со стороны депо ахнул оркестр. Сол-,
даты бросились туда. Заволновалось все серое море.
Столяр Герасимов высунулся в открытое окно вагона
навстречу оркестру, знаменам, толпе деповских рабочих.
Прямо за медными трубами, под красным полотни-
щем, лицом к народу, шел человек в замызганной жакет-
ке. Лицо его горело. Он плавно, как регент в хоре, пома-
хивал руками и пел.
Пели все, ладя в ногу, простоволосые, сосредоточенно
важные, озаренные чудесным внутренним светом.
Кинул Егор Андреич глазом, сорвался с места, хватил
со стола губернаторской пальто и замахал им в окно ва-
гона— яркой генеральской подкладкой.
— Ура-а!..
— P-а... р-р-а...— грохнуло в толпе ответно, и сотни
рук—черных, мозолистых — поднялись вверх, точно воз-
несли готовность свою жить, бороться, умереть.
Заревел паровоз, бросил паром и закутал в белом об-
лачке красное полотнище.
Отходя от окна, плакал столяр Герасимов. Его серое,
обветренное муками лицо морщилось, как у ребенка,
и нижняя губа прыгала.
Часовой взглянул на него, крякнул и перестал жалеть
о карманных часах, разобранных этим человеком.
Губернатор лежал в своем купе, укрывшись в плед с
головой. Он не слышал криков за окном. Его трясло в го-
рючем ознобе.
1918
395
КОНЕЦ ВОРОШИЛИНА
I
Над городом ронял последние золотые дни свои сен-
тябрь. Небо еще голубело и теплилось, но в тени, на тро-
туарах, до полудня держался матовый иней, и из пали-
садников веяло терпкою свежестью увядания.
Когда Ворошилин, проведя неспокойную, в странных
тревожных снах, ночь, вышел из квартиры, на ближай-
шей колокольне било десять. Утро стояло погожее, звон-
кое. У заборов в синем хрустале сумрака падали клено-
вые листья цвета сусального золота. Курился вспотевший
с подсолнечной стороны булыжник.
Неподалеку от угла безгласно и хмуро стояли люди.
Над ними, на белом афишном листе, пламенело воззва-
ние. Приостанавливаясь, Ворошилин охватил глазами
первые строки:
«Товарищи, граждане! Враги революции сеют в горо-
де дикие, ложные слухи. Опираясь на темные слои насе-
ления, они пытаются вызвать поход против Пролетарской
Власти».
Тревога сквозняком подула в сердце Ворошилина. Он
тронул длинными вздрагивающими пальцами шелковое
кашне, кашлянул и заспешил.
Пролетел, крякая уткою, автомобиль. Бежали куда-то
мастеровые, мальчишки, парни в серых шинелях. У мага-
зина, с пестрою вывескою по всему фасаду, топотали на
холодном асфальте приказчики, и видно было, как неохот-
но принимаются они за свое будничное дело.
Несколько раз, отвечая на приветствия, Ворошилин
снимал свою фетровую шляпу; машинально сделал это,
проходя мимо низко кланяющегося нищего, потом улы-
бался бледно и мутно. Мысли его паутинились, глаза рас-
сеянно плавали по сторонам и вдруг дрогнули, обожжен-
ные чужим, чуть-чуть насмешливым взором.
— Пронин!..—обронил он.— Доброе утро...
Усатый и хмурый человек с силой пожал ему руку.
— Просветителю пролетарскому...
В голосе Пронина звучал скрипучий смешок.
— Что слышно? — спросил Ворошилин мягко и заис-
кивающе, как всегда в беседах с людьми, выдвинутыми
революцией. Было это от особого преклонения перед
сильными, самобытными натурами.
396
— Что же — ничего особенного,— небрежно сказал
Пронин и покосился на прохожего.
— Так, так,— проронил Ворошилин, уже пугаясь, что
задал неуместный здесь, на улице, вопрос.
Но, подумав, Пронин заговорил сам.
— Пойдем-ка сюда... Так... Неважные дела, това-
рищ... Белые играют в открытую... На мобилизованных —
никакой надежды... Необходима помощь со стороны.
Иначе...
Он оглянулся, махнул рукой.
— Вы, Ворошилин, семейный?
— Нет, а что?..
— Так... Пушку имеете?.. Я могу снабдить вас отлич-
ным, бельгийским... Заходите...
В солнечной дымке уличной дали, как в клубах лада-
на, белели колонны собора, высился к небу острый свер-
кающий шпиль. Над кровлею водопроводной башни, сы-
рой и серой, похожей на крепостную, стригли воздух си-
ницы.
Заложив руки за спину, уже вдали шоркал рыжими
сапогами Пронин, а Ворошилин продолжал стоять, рас-
сматривая улицу, как будто впервые видел ее. Он думал,
что тот вон собор, и эта башня, и жадные синицы над нею,
и весь город, с его шумом пролеток, звоном трамвая и
базарными бабами на углах,— все это вечно и будет жить
изо дня в день, из года в год, а его, Ворошилина, может
быть, не будет уже завтра.
Чувство, похожее на зависть к бесстрастным вещам,
окружающим непрочного на земле человека, овладело им.
Встряхиваясь и приосаниваясь, он крепко прижал под
мышкой портфель и зашагал дальше, длинный, сутулый,
косоплечий.
Старый Лукич, уцелевший от свергнутого директора
народных училищ, с привычным подобострастием раск-
рыл перед ним тяжелую парадную дверь: «Пожалуйте».
И в сотый раз у Ворошилина мелькнула мысль, что этот
старик у двери — стыд.
А в просторном, деловито обставленном кабинете
ожидали посетители, и некоторые, подобно Лукичу, угод-
ливо поднялись с мест.
— Пожалуйста, пожалуйста,— сказал он.— А впро-
чем...
397
Голос его напрягся.
— Видите ли... Сегодня я не могу принять вас... Нет,
нет, не могу...
п
Оставшись один, Ворошилин достал из портфеля бу-
маги, покопался в них, взял перо и замер, как бы задре-
мав с ним. На бледном одутловатом лице его тихонько
теплилась тревога.
К чему все эти бумаги, проекты и планы, если... кто-
то, безглазый и страшный, уже готовит свой удар?
Пришел секретарь, старый чиновник, судорожно це-
пляющийся за насущный кусок хлеба, лукавый и хлип-
кий.
— Можно? — негромко произнес он, держа впереди
себя пачку бумаг и всем своим видом изображая готов-
ность.
— Входите...
Рассеянно Ворошилин говорил о деле, и все время в
его глухом, расслабленном голосе было слышно, как та-
рахтит по немощеным уличкам телега, воет дворняжка за
воротами, кто-то одиноко, задыхаясь буднями, пиликает
на гармонике. И из серых глаз его глядели проглоченные
обиды уездного учителя, хихикающий стыд оскорбленно-
го своею никчемностью человека.
Секретарь с участием поглядывал на начальство и ду-
мал: «До действительного статского тебе так же далеко,
как коммивояжеру — до коммерции советника...» И пред-
ставлялся чиновнику директор училищ, генерал с льви-
ной поступью, с громовым голосом, жутко и весело было
глядеть.
— Вы меня слушаете? — прервал себя Ворошилин,
поймал на себе неприкрытый взгляд чиновника, помор-
щился, резко сказал:
— Впрочем, не надо... Позовите Никитина!..
Никитин еще недавно стоял за токарным станком. Те-
перь он возился в губернском книжном складе. Косола-
пый и вихрастый, но с чисто выбритыми алыми щеками,
молча подсел к столу.
— Вот что, товарищ...— сказал Ворошилин, отодвигая
в сторону бумаги.— Я решил... того... чинушу этого к чер-
ту!.. Жаль, конечно, у человека семья... Но, право же, что
нам с таким делать?
398
— Правильно,— охотно отозвался Никитин.— Давно
следовало бы!..
— Руки не доходили!..
Ворошилин передохнул.
— Нам еще с инспекторами посчитаться придется...—
продолжал он живее.— Они там преподавателями устро-
ились, а пакостят по-старому... Притом иные из них,
черт их драл, в союзе русского народа околачивались...
— Дрянь известная!..
— Вот... А как вы с духовной семинарией?.. Библио-
теку приняли?.. Ректора вытряхнули?..
— В тот же день...
— Молодчага... Я вам, Никитин, завидую... Настой-
чивый вы и не разбрасываетесь, умеете побеждать мело-
чи... У меня этих качеств нет... Вообще, говоря по сове-
сти, не на месте я... не ко времени!..
Никитин насупился.
— Партии лучше знать, кто к чему пригоден...
— Чего там партия... Я же чувствую... Ну, скажите,
ради бога, кто я такой?..
— Во-первых, партиец... Во-вторых, заведующий на-
родным образованием...
Ворошилин перебил его:
— Интеллигентишко я, чулок, вот кто!..
И он горячо, с особым удовольствием, стал жаловать-
ся на себя, на свою расхлябанность, на то, что давно по-
терял чутье к целине, к стихийным началам жизни.
И все это была правда. Стоял Виктор Сергеевич в ря-
дах героической партии. Вокруг него кипела не бывавшая
еще на земле борьба классов, борьба на жизнь и смерть.
Он не чувствовал себя здесь чужим, но и своим не был,
своим, по-настоящему, до конца.
— Не возражайте, Никитин, я же знаю себе цену...—
поспешно, как бы боясь, что его перебьют, говорил он.—
В моих жилах течет нехорошая барская кровь... И зна-
ете, дружище, порою мне начинает казаться, что праде-
ды мои предчувствовали, какому классу буду я служить,
и выпили мою силу... Ах, Никитин, я ведь преклоняюсь
перед партией и много люблю, но... как мало я умею!..
Никитин все это знал. Он знал, что Ворошилин, по-
добно юноше, предан своему делу, любит его, но в этой
любви его есть много сентиментального, мертвого, поту-
стороннего. Когда Виктор Сергеевич на шумных собрани-
ях выкрикивал: «Мы раздавим их, мы не должны щадить
899
их»,— было в нем что-то такое, отчего хотелось смеяться:
столь кичливо-беспомощным казался он.
И знал Никитин особую, мягкотелую двуликость Во-
рошилина. Нет нужды, что сегодня он сражался с реак-
ционной коллегией средней школы, завтра грозил Ерми-
лову, инспектору гимназии, черным списком, послезавтра
отчаянно стучал ладонью о стол в беседе с представите-
лями учительского союза,— старая Агриппина, хозяйская
кухарка, каждый божий день проводит к нему в его до-
машний кабинет чахоточных чиновников, хлопочущих о
пенсии. И тут залетным соловьем разливается он о тер-
ниях годины, о муках непонятых тружеников, о том,
что в заботах о человечестве не трудно забыть чело-
века.
Никитин хмурился, но в его глазах, дышащих уютом
силы, светилась ласка. Наконец, он встал, потянулся и
заявил скучливо:
— Ну, Ворошилин, поворошил свою душеньку,— ба-
ста!.. Давай папироску...
Взволнованный, разогретый Виктор Сергеевич долго
не мог отыскать портсигара. Никитин сказал:
— Слышали? В городе неладно!
— А, да, да...
Свое, внутреннее, только что поднятое из тайников,
хмелем заволакивало сознание Ворошилина.
— Слышал, как же...
III
Как всегда после приятельской беседы, в которой не
щадил себя, Ворошилин почувствовал облегчение. В гру-
ди разлилась теплота, стало жаль себя, хотелось верить
в лучшее, и теперь он уж не знал, следовало ли быть ему
столь жестоким к старому служаке, о котором только что
говорил с Никитиным. «Разве виноват человек, что ро-
дился рабом? С кого и что я требую?..»
Дверь скрипнула.
— Як вам, Виктор Сергеевич...— послышался жен-
ский голос.— Можно?..
Ворошилин привстал.
— Входите, Нина Петровна. Что скажете?..
Она торопливо опустилась на стул, подала листок бу-
маги.
400
— Вот, полюбуйтесь!
Была взволнована. В пушистых серых глазах ее, на-
поминавших мартовский цвет вербы, поблескивали влаж-
ные огоньки.
Виктор Сергеевич заглянул в бумажку.
Все то же. Разваливается художественный совет.
Группа участников заявляет о своем выходе по принци-
пиальным соображениям.
Ворошилин откинул с белого лба прядки, и вдруг кра-
ска залила его лицо.
— Удивительный народ, удивительный!..
Голос его задрожал.
— И на что они надеются? Чего, скажите вы мне, до-
биваются?..
Вспомнил вдруг уличное воззвание, слова усатого
Пронина, свое недавнее острое ощущение тревоги и —
смолк. Молчала, не понимая его, девушка.
И в эту минуту из открытого окна, вместе с потоками
осеннего солнца, подымающегося над соседней стеной,
пролился в кабинет густой звук далекой сирены.
— Как же, однако, нам быть? — сказала Нина Пет-
ровна.— Ведь дело-то станет!..
— А, ладно! — Ворошилин порывисто встал.— Мы с
вами тут не поможем... Эти господа, эти люди пойдут
только за силой...
Он шагнул к окну, прислушиваясь.
— Кажется, на сталелитейном... Не тревога ли?..
Тяжелым, жирным потоком, давясь и харкая, разли-
вался над городом мощный стон медной глотки: «О-о-о...
О-о-о...»
— Похоже, неспроста!..
В коридоре Виктор Сергеевич остановил Никитина.
Тот на бегу натягивал кожаную тужурку.
— Вы куда?..
— Не слышите разве? Бегу в район!..
Ворошилин обмяк, смолк и долго следил за Никити-
ным, пока тот не скрылся за колоннами.
Обернувшись, увидел вдоль коридора ряд открытых
дверей и просунувшиеся из-за них головы. Тут были се-
рые женские лица, с трепетом любопытства в глазах, и
пегие головы присяжных чиновников, уцепившихся воло-
сатыми, в веснушках, руками за дверные скобки, а вда-
ли торчал Лукич, похожий па куклу из папье-маше.
401
— Прошу за работу!..— крикнул он с силой и хлопнул
за собой дверью кабинета. Здесь он, поеживаясь, стал у
открытого окна.
Персидским ковром отливали под бледным испитым
небом пестрые кровли. А над ними, задыхаясь в злой тре-
воге, ревела заводская сирена. Рой образов, картины
движения и борьбы вспыхнули в мозгу Ворошилина.
Он содрогнулся.
Где-то там, в черных от копоти подвалах, под затиха-
ющий рев вагранок, развертывается сейчас одна из стра-
ниц великой драмы. И кто-то, защищая новую правду,
подобно архангелу, восставшему на древнего бога, зано-
сил своею кровью в книгу жизни неповторяемые челове-
ческие дела.
А он стоял тут, одинокий, белый в лице, с каплями хо-
лодного пота на лбу... он — Ворошилин, проглотивший
гору мудрых книг и — бессильный.
В бессмысленных радостях дикой сытой жизни, под-
личая и пригибаясь перед более сильным, растеряли стол-
бовые его предки все силы. И вот теперь, когда жизнь
зовет к решительной борьбе, одни из последышей этого
барства обагряют руки в крови революции. Другие, по-
добно ему, Ворошилину, в бессилии простирают их на-
встречу победным зовам.
Басистый медный рев дышал в окно, и с разных кон-
цов присоединялись к нему белые от страха тенора де-
повских сирен.
IV
В коридоре, теперь уже не стесняясь, топотали спе-
шившие на улицу люди. Ворошилин смял в руках шляпу.
— Все расходятся,— бросил ему, приостанавливаясь,
бухгалтер.
— Как так? Кто распорядился?..
— Сами...— Бухгалтер нетерпеливо переминался на
месте.— Не слушают... Пальба, видите ли, началась, а те-
лефон у нас не работает...
Он кашлянул в руку и, не выдержав, побежал к вы-
ходу.
В зале от зеркального, настежь распахнутого окна
метнулась навстречу Ворошилину Нина Петровна.
— Виктор Сергеевич! Стреляют...
Он молча припал к окну, но ничего не услышал. -
— Идите домощ Нина Петровна...
402
— А вы?..
Девушка глядела на него ясными, еще не опаленными
жизнью глазами, и Ворошилин прочитал в них тот испуг,
который рождается в женщине чувством недоверия к си-
ле и изворотливости близкого человека. Ему стало не-
ловко.
— Я? Я что же... Поеду в Дом Революции...
Она протянула ему руку. В глазах ее зацвела ласка.
Что-то дрогнуло ответно в груди Ворошилина. Он быстро
взглянул на нее, как бы собираясь сказать ей что-то зна-
чительное и важное, но ничего не сказал и, опустив голо-
ву, направился к выходу.
На улице голоса сирен звучали гуще, тревожнее.-
Все вокруг по-старому стояло на своих местах: витри-
ны реклам, телефонные столбы, будки торговцев... Но лю-
дей не было, и вся улица — пустынная, покуда хватал
глаз — походила на белый коридор заброшенного дворца.
И в этой пустоте белые громоздкие здания, казалось,
ожили, насторожились, приобрели особую значитель-
ность.
На углу показался извозчик.
— Эй, эй!..— закричал ему Ворошилин, но длинно-
полая кукла на козлах, не обернувшись, скрылась за
поворотом.
На большой улице с цоканьем и звоном пронеслись
конные красногвардейцы. Прошипел стремглав мчавший-
ся куда-то велосипедист. Неторопливо, кучками и в оди-
ночку, шли рабочие с винтовками за плечами. Баба в
белом фартуке, с круто засученными рукавами, выгля-
дывала из ворот, крестилась, что-то бормотала про себя.
Закрывали последние магазины, с грохотом падали
железные жалюзи.
Где-то в стороне, царапая тягучую пелену гудков, тре-
щали ружейные выстрелы.
У аптеки бурлил автомобиль с красным крестом на
дверце. Виктор Сергеевич окликнул шофера:
— Скажите, где стреляют?..
Шофер молчал.
— Товарищ, я у вас спрашиваю!..
— Мы — за материалами для перевязок,— деревян-
ным голосом откликнулся из глубины каретки человек в
белом халате.
«Ах, раненые!» — тоненько и остро запело в голове
Ворошилина. Он рванулся и почти побежал вперед. Над
403
ним со звоном захлопывали окна. Чьи-то непослушные
руки пытались освободить прищемленную занавесь.
У зеркальной двери красного особняка, повизгивая, выла
дворняжка.
В вестибюле Дома Революции Ворошилину прегради-
ли дорогу двое с винтовками в руках. Тут же стоял пуле-
мет, прикрытый шинелью, и оттого похожий на животное,
с мордой, вытянутой к выходу.
— Проходите! — бросил пулеметчик, не взглянув на
билет Ворошилина.— Я вас знаю...
Это короткое «я вас знаю» привело в себя Виктора
Сергеевича. Ему стало неловко. Неловко оттого, что дру-
гие, знающие его, могли видеть в нем неприкрытый страх.
Он плотно сжал губы, кашлянул и не торопясь стал под-
ниматься.
В сумрачном коридоре, напоминавшем туннель, тол-
пились люди. Были тут серые шинели, замызганные кепи
рабочих, рваные куртки подростков. Переговаривались,
покрикивали, щелкали спусками винтовок. Горячее дыха-
ние тревоги трепетало на лицах, в голосах, в каждом дви-
жении.
Где-то звенел телефон, кто-то, надсаживаясь, кричал
в трубку; из полуоткрытых в коридор дверей вырывался
заглушенный шум спора.
Показался юноша в блузе, с наганом и трубчатой
бомбой за поясом, прищурился, закричал:
— Слободские, на дежурство!.. Из отряда Пахомо-
ва — в угловую комнату!..
Заметив Ворошилина, юноша и ему скомандовал:
— В угловую, живо!..
Виктор Сергеевич бледно улыбнулся.
— Товарищ Осипов, как дела?..
— Ворошилин? — Юноша взял его под руку.— А я
вас не узнал... Дела?! — подхватил он другим, придавлен-
ным голосом.— Белые засели на Успенском кладбище и в
Сенном ряду... Мы пока тесним их... Они переходят к пар-
тизанским налетам...
— А их много?..
Парень фыркнул.
— Об этом не докладывались...
— Конечно, но... все же?..
Виктор Сергеевич смутился.
— Главное, на сталелитейном неважно,— продолжал,
торопясь, юноша.— Провокация за провокацией!..
404
В угловой комнате, где происходило заседание, было
так накурено, что в первую минуту Виктор Сергеевич ви-
дел тольйо головы, спины и вытянутые с кресла на крес-
ло ноги. На ломберном столе пыхтел самовар. Кисли не-
допитые стаканы с окурками на блюдечках.
Косой и дымный сноп солнца упирался в спину пред-
седателя, запорошив ему золотом кудри и утыкав игла-
ми колокольчик в жилистой, твердой руке.
Опускаясь на диван, Виктор Сергеевич хотел остать-
ся незамеченным, но глаза председателя отыскали его.
— Виноват,— перебил он кого-то из говоривших.—
Товарищ Ворошилин! Идите скорее в агитаторскую и со-
ставьте листовку... Там расскажут, о чем и как!
В агитаторской Ворошилин узнал, что из Приволжска
по телефону вызвана помощь и что к вечеру оттуда дол-
жен быть поезд.
v
Позже, когда летели с Никитиным в автомобиле на
вокзал, чтобы встретить там военный поезд, Виктор Сер-
геевич вдруг наклонился к товарищу и крикнул ему
на ухо:
— У меня ощущение, будто я сплю и вот-вот про-
снусь...
Никитин засмеялся.
— Спать, брат, теперь не годится...
На вокзале, после хлопот, Никитин потащил Вороши-
лина к буфету.
— Хлебнем-ка пока что чаю...
— Я, право, не хочу... А впрочем, идем...— согласил-
ся Виктор Сергеевич и неожиданно добавил: — Знаешь, я
сейчас понял... Не понял, а почувствовал: скоро — конец!
— Умрешь?..
— Может быть...
За столом, обжигаясь чаем, Ворошилин продолжал
тугим, напряженным голосом:
— Ты меня, Никитин, прости, но сегодня настроен я
прескверно... Гляжу все в прошлое, туда, в столетие...
Представь себе, что за плечами у тебя живая гирлянда
из твоих предков: дела их, мысли, настроения...
— Ну-с?..— Никитин нахмурился.
— И вот ты глядишь перед собою и видишь,— не ви-
дишь, а чувствуешь холодное дыхание: впереди черная
405
пустота, ты заглядываешь в нее, ты как бы повис над
нею... Момент,— понимаешь — момент, и... все прошлое
твое — это ниточка, которая держит тебя, обрывается, ты
летишь в пропасть, в бездну...
— Все? — опять засмеялся Никитин.— Ну, знаешь, не
ожидал я от тебя!..
И совсем серьезно добавил:
— Надо, брат, того... подобраться, подтянуться!..
Ворошилин уныло откликнулся:
— Я, Никитин, все время тянусь...
Часто и тревожно, приглушая эхо далеких выстре-
лов, зазвучал снаружи колокол.
Никитин вскочил.
— Поезд! — воскликнул он.— С разъезда вышел...
И оба, торопясь, направились к выходу.
Никитина сейчас же поймал комиссар вокзала и по-
влек за собою.
Ворошилин остался один.
За путями, над водокачкой глохла лохматая заря, а с
востока уже надвигалась по-осеннему хмурая синь.
Вдоль полотна, тянувшегося навстречу ночи, мерцали
фонари, их свет боролся с отблесками дня, был хрупок,
чист и наивно-беспомощен, как первый снег. В стороне,
тяжело грохоча, двигались темные локомотивы. Угрюмо,
бряцая винтовками, шагали вдали по асфальту стороже-
вые в пальто и куртках. Кроме них, никого вокруг не бы-
ло. Ворошилин огляделся, закурил папироску и шагнул
вперед к скверу.
Он не знал, куда девать себя, какая тут его роль, и
чувствовал себя лишним, ненужным. В сквере было тихо
и сумрачно. Вверху, в черных ветвях липы, тихонько гу-
дел сквозной ветер. Под ногами, покорные, стлались на-
бухшие сыростью листья. Краснела клумба вдали, от-
цветшая, полусмятая, с гнездами жирной земли по
краям.
Он присел на кончик скамьи, увидел в ветвях над кры-
шей амбара осколок месяца и, незаметно для себя,
полетел мыслями к прошлому, понятному и близко-
му ему.
Только тут, в заброшенной вокзальной аллее, ожидая
вооруженного поезда и не зная, что будет с ним через
час, понял Виктор Сергеевич, как близко и мило ему бы-
ло все, что лежало позади нынешнего дня, там, в тума-
нах юности.
406
Чувствуя крутую тоску под ложечкой, он встал и дви-
нулся дальше, плохо соображая, куда и зачем.
За сквером лежала пустынная площадь. Серые об-
ветренные дома, серой шеренгой вытянувшиеся в глубь
города, дышали терпкою скукою, за которой не было ни
мыслей, ни жизни.
Виктор Сергеевич невольно остановился.
И прямо перед собой, за черной решеткой дома уви-
дел темные фигуры людей.
Не спеша, согнувшись дугой, продвигались они, а вда-
ли, в сером жерле улицы, один за другим, безгласными
тенями бежали новые настороженные люди, и все это бы-
ло так странно и дико, точно Виктор Сергеевич видел тя-
желый сон.
Он стоял среди голой площади, и поблескивающие
винтовки глядели на него издали черными дырами. Кто-
то, долговязый, с подсумком у пояса, поднялся у решет-
ки, замахал рукой.
«Засада!» — вспыхнуло в сознании Ворошилина. Он
круто повернул к вокзалу, но тотчас же раздался заглу-
шенный жесткий голос:
— Назад!..
Слыша, как все в нем скрипит, тихо, крадучись, по-
ступью собаки, стал Ворошилин подвигаться по улице,
прочь от вокзала, и тут услышал за спиною гул прибли-
жавшегося поезда.
Стыд и отчаяние поднялись в нем. Он остановился и,
угнув голову в плечи, повернул обратно.
— Назад!..— опять закричали ему.
Тогда, борясь с собою и не находя в себе решения, он
стал на месте, колеблясь всем телом из стороны в сторо-
ну, как маятник.
А шум поезда все нарастал. Слышно было, как пых-
тит паровоз, как звонко стучат каблуками там, на перро-
не, спешившие навстречу люди.
Поняв, что силы окончательно покидают его, Вороши-
ли|н запрокинул голову, как бы ища в черных звездных
высотах опоры.
И в третий раз полоснул по нему окрик, злой, зада-
вленный. Тогда, теряя сознание, подняв вверх руки, он
закричал дико, пронзительно,— так кричат сохатые, за-
чуяв кровь подстреленной самки.
407
Никитин бежал к паровозу, когда со стороны сквера
донесся выстрел. Он вздрогнул и замер на месте, сооб-
ражая, а из вагонов уже выходили люди, вытянув вверх
винтовки.
Услышал выстрел и комиссар вокзала, вспомнил, что
не поставил охраны в тылу, закричал не своим голосом:
— Стой! Стройся!..
Этот крик мгновенно укрепил решение Никитина.
Подняв руку, он бросился вдоль перрона.
— За мной, за мной!
Не понимая, в чем дело, но повинуясь призыву, люди
бросились за вагоны, к водокачке, к грудам шпал. Вслед
им загремел залп, пули со свистом пронеслись вдоль стен
вокзала, осыпая штукатурку.
Еще раз поднялся из темноты голос Никитина:
— Ложись!..
Затем все потонуло в беспрерывных гулких залпах.
Когда же, разрывая бурую овчину мрака, на площа-
ди, за вокзалом, вспыхнули электрические фонари, те,
что наступали от вокзала к улице, увидели вдали, в зоне
ружейного огня, распростертого на мостовой человека.
Он лежал лицом вниз, одна рука его вытянута была
вперед, другая покоилась под самой грудью,— торчал
локоть.
Так кончил свое существование один из последышей
старого белотелого рода, в годы революции поднявшийся
над своим прошлым,— милый, добрый Ворошилин, но-
сивший при себе партийный билет и заведовавший в крае
народным образованием.
1919
ОШИБКА
Разведка, зарвавшись, столкнулась с правым крылом
конного полка белых и была растрепана.
Фроське удалось бежать. Была она молода, ловка, от-
важна и скорее наложила бы на себя руки, чем сдалась
бы на потеху врагу.
По степи бродили свои и чужие, беглые шатуны и ра-
неные, голодные и злые, как волки. Фроська шла глушью,
ныряла лисою в овражки, отдыхала по глубоким балкам,
у студеных ключей. К вечеру она добралась к пологому
лесистому холму, за которым расположилась станция
Лиски, но идти дальше, к самому селению, не посмела.
408
На рельсах в поле стоял товарный поезд, изувеченный,
обугленный. Был он недавно спален белыми, и от него
еще несло гарью. В сумраке вагоны походили на туши,
обглоданные до ребер степными хищниками. Паровоз, по-
догнув колени, уклюнулся в насыпь, труба висела на же-
лезной жиле и легонько покачивалась под ветром. Гли-
няные скаты насыпи сплошь заслежены людской и кон-
ской поступью, но вокруг, куда ни кинь глазом, ни души.
Фроська приглядела вагон поцелее, заползла в него,
уложила под себя кожаную тужурку и немедля погрузи-
лась в забытье. Накрапывал шалый, проносный дождик,
поскрипывал деревянный щиток в соседнем, приплюсну-
том к шпалам вагоне.
Шум — не то отдирали где-то доску, не то ворошили
горелым железом — пробудил Фроську. Она вскинула го-
лову, привычно ухватилась за пояс, но вслед вспомнила,
что в переполохе скорострел свой утеряла, и от досады на
себя больно прикусила нижнюю губу.
Шум заглох, так что нельзя было понять — то ли на-
яву было, то ли во сне почудилось. Степь щедро веяла в
дыры вагона полынным духом. Над решетником горелой
крыши плескались во влажной теми синие звезды.
Вдруг у самого вагона под чьей-то тугой подошвой за-
шуршал песок.
— Эг-гой! — крикнула, устрашая непрошеного гостя,
Фроська: ведь это только ей известно, что оружие-то свое
она посеяла.
Окрик пошевелил мрак и увяз в тягучей, как смола,
тишине. Где-то далеко-далеко хлопнул выстрел.
Поднявшись на ноги, Фроська припала к дыре в про-
стенке.
Темная ширь степи чувствовалась безглазо на десят-
ки верст. И снова ни звука кругом, ни шороха! Тревога
охватила Фроську. Изогнув спину, она подалась назад и
бесшумно, похожая на большую кошку, сползла к насы-
пи. С противоположной стороны заскрипела доска, кто-то
проворно поднялся к дыре.
— Эй, живая душа!
От этого мирного, узывчивого голоса на сердце у
Фроськи отлегло, и почему-то замерещились давние обра-
зы: ткацкая, угретая июльским зноем; голая, в золоти-
стом пушку, грудь соседа по станку, Петруши Ознайко}
его голос, такой же вот мягко рокочущий,, ласковый.
409
Не получив ответа, человек махнул в вагон, и оттого,
как легко это далось ему, Фроська вновь насторожилась.
— Эй, гостенек! — окликнула она, попнувшись к две-
ри.— Тужурку-то не замай: моя!
Тот же приятный, не раз, казалось, слышанный голос
обогрел ее, как летний вьюн-ветерок:
— Мне твоего не надо!
— То-то,— более миролюбиво продолжала она.—
А ты... Кто такой?
— А кто бы ни был, слабый пол не обижаю... Лезь об-
ратно!
Человек неторопливо укладывался на полу.
— Оружие есть? — спросила, помолчав, Фроська, все
еще оставаясь у насыпи.
— Есть.
— Клади в угол.
— Тце, тце! Да ты, я вижу, дошлая...
И, лежа, потянулся на локтях к двери:
— Ну-ка!
Фроська не шелохнулась, от широкого лица ее, как от
земли, нагретой за день, веяло теплом, поблескивали бе-
локипенные зубы.
— Вон ты краля какая,— похвалил он.— Ладно же,
залезай...
Фроська подтянулась, перемахнула через порог. Он
придержал ее. Она откинула его руку и поползла в угол.
Оттуда, со свистом прихлебывая воздух, произнесла су-
рово:
— Здрасте пожалуйста! Звала я тебя?
Некоторое время молча косили в темноте глаза друг
на друга: она — настороженная, чуть-чуть, по-птичьи
склонившись вперед; он — заломив руки за голову, спо-
койный, уверенный в себе.
Темнота была тут беспросветная, и от темноты этой,
густой, пахучей, Фроська плотно закрыла глаза.
И опять всплыли видения, путая прошлое с недавним,
ткацкую — с госпитальной палаткой, счастливый любов-
ный лепет Петруши Ознайко — с горячим бредом ранено-
го красноармейца: «Фрося, Фросенька, сестрица...»
— Полынный-то дух, как хлодоформ,— проговорила
она, следуя за своими мыслями, и облизнула губы.
— Хлороформ! — поправил он.— А ты, видно, из сест-
ричек?..
— Кто, я? — хмыкнула она в нос.— Я... на все руки!
410
И по-иному, насупившись, спросила:
— Лиски-то в чьих руках?
— А тебе как бы хотелось?
Она подалась к нему ближе, заглянула в лицо ему и
только теперь заметила темную повязку — от уха через
всю гладко выбритую голову.
— Ой, раненый ты?
— Пустяки, пустяки, сестрица... Царапина!
Сказал и осторожно положил руку на ее колено.
— Раненых нынче много...— заспешила вдруг Фрось-
ка, стараясь не замечать его руки.— Вроде как горох в
урожай... Убитых — один, два, а раненых — хоть отбав-
ляй... В германскую войну крошили насмерть!..
— О, тогда не баловались,— согласился он.
Глядел вверх, на звезды, а рука ласковым зверьком
возилась на упругом колене, поглаживала.
— Поначалу я шибко до недужных охотилась,— от-
странив его руку, проговорила Фроська.— А теперь вот
стрелком больше норовлю... Уж больно тяжко с ними,
увечными, лазаретными!.. А ты кто такой есть? — как бы
спохватившись, спросила она.
— Не видишь? Двуногий... как все!
— В разведке был, что ли? — не унималась она.— Из
какой части?..
— Ишь ты, любопытная какая! — Голос его посуро-
вел.— Да разве ж полагается свои части открывать?!.
Он помолчал, как бы прикидывая про себя, можно ли
довериться ей.
— Из кадрового пополнения я, сестрица! В комбатах
состою, да вот не повезло нынче нам: в клещи угодили...
— И сыпь, значит, кто куда? Так, что ли?..— закон-
чила она за него хмуро.— Эх вы... вояки!..
— С кем грех да беда не случается! — вымолвил он
со вздохом.— И храбрость иной раз перед силою отсту-
пает... Ты вот тоже небось того... Где часть-то твоя на-
ходилась?..
— Где бы ни находилась, там теперь ее нету! — отмах-
нулась она и вдруг, насторожившись, затаила дыхание.
— Ты что?
— Почудилось мне...
— Почудилось! — кинул он насмешливо.—Видать, не
из храбрых птичка... Эх, ты! А еще в штанах...
— Дык что? — воскликнула она хмуро, задетая его
замечанием.— Небось под огнем раком не пойду!
411
— Ой ли? Ну, а если... к врагу в лапы угодишь... Тог-
да что?!
— Так я и далась ему!
— Как так не дашься?.. Схватит тебя этак вот, под
микитки да наземь!
— Не балуй!
— Из ваты, что ли?..— Он перехватил ее за плечи.—
Давно воюешь, красавица? Небось опостылело?!.
— Всяко бывает...— талым голосом отозвалась она.—
Иной раз ничего, а иной и впрямь тоскливо станет...
Особливо когда от своих отобьешься, вроде тепереш-
него... С людьми-то черт нипочем, а одной — худо: об
себе вспоминаешь...
— Экое горе,— усмехнулся он.— О себе тоже забы-
вать не след... Забыл цыган, что конь еды просит, да и
уморил скотину... Авось и ты не каменная!.. Вон у тебя
на губах-то... огонь... Дай-ка приложусь!
— Богородица я?..
4 Заулыбалась Фроська, мысленно озирая себя, а он
привалился к ней, облапил, потянул к себе.
— Богородица в штанах...— бубнил, как в хмелю.—
Святая с Лысой горы...
— Пусти, черт! — вскрикнула она, вскочила на коле-
ни, с силою толкнула его в грудь-
— Полегче! — выронил он хрипло.
Лежал молча, безразлично оцепенелый. А за дверью
немо, в блаженном упоении, ночь прожевывала свою ме-
довую кашу, и вверху сине и сыто щурились звезды.
Чуть погодя, оживая, спросил он:
— Слушай, пожрать у тебя нечего?
— Кабы было...
— Жалко! С полудня не ел...
— А ты не думай про еду-то,— посоветовала она уча-
стливо.
— Рад стараться! — рассмеялся он.
И опять его голос стал простым, понятным, когда-то
слышанным. Потянулся грудью хрустнули добротно
кости.
— Эх, сестрица!..
Тихонько взял ее за руку. Рука у нее шершавая, объ-
емистая, неповоротливая.
— Сидели б мы с тобой по домам, в уюте... На столе-
то — чик-брик — самоваришко, закусочка... Тишь, да
гладь, да божья благодать вокруг...
41,2 г
— Какая уж гладь-благодать! — резко тряхнула она
головою.— Вон чего округ-то деется... Гром и молния!
— А шут с нею и с молнией! — вскинул он голос.—
Глаза закрой, уши приткни!
— Ого! Тут он и долбанет тебя, Деника-то, со своими
заморскими дружками!.. Нет уж, не до покоя нам, раз
они, проклятые, внове норовят народ зауздать...
— М-да-а,— протянул он раздумчиво и добавил, то
ли спрашивая, то ли утверждая: — А ведь, пожалуй, то-
го... зауздают-таки...
— Они... нас?! — всколыхнулась она вся.— Да не в
жисть!.. Опять — в петлю к ним?!. Нет уж, дудки!..
— Ладно, ладно, не ярись,— проворчал он, занося на
плечо ей руку.— К слову сказал... того-этого...
Она умолкла и вслед почувствовала, как отяжелела,
обвисла плетью чужая рука, а чуть погодя послышалось
безмятежно ровное дыхание соседа. Подумала:
«Умаялся комбат! Видно, и впрямь денек-то не из лег-
ких выдался...»
Некоторое время глаза ее, обращенные к звездной рос-
сыпи над кровельной прорехою, оставались широко рас-
пахнутыми. В голове роились тревожные мысли... Что-то
сталось с товарищами по разведке и куда теперь двинется
полк? Задача у него одна была: пробиться к Лискам, за-
хватить узел, расчистить путь дивизии к Дону! А тут
вдруг... белая гнусь!.. И откуда взялась? С какого рубе-
жа нагрянула?..
Вот тоже комбат этот... Так и не сказал, дурной, с ка-
кого полка отбился!.. Уж не из той ли бригады, что под-
жидалась с правого фланга, из-под Задонья?.. Но в та-
ком случае где же нынче враг?..
Стараясь смять, притушить тревогу, она вновь, какой
уж раз за последние страшные часы, толкнулась па-
мятью к своему Ознайко... С тех самых пор, как оба они
покинули фабрику и разлетелись в разные по фронту
стороны, прошло немало времени, а от него, Петрована,
ни единой весточки! В живых ли еще он?
Она рывком повернулась на бок и плотно сомкнула
веки, шепча про себя: «Жив, жив! Таких удалых да лов-
ких пуля не берет, шашка не сечет...» Шептала забывчи-
во, ощущая сладкую истому под сердцем, и этой-то ми-
нутки, казалось, только и поджидала ее цепкая, все по
беждающая дрема: враз навалилась, закачала, понесла,
как на волнах, усталое тело.
413
Очнулась Фроська первою. Гибкий, мускулистый ве-
тер-сверкун степи, разыгравшись на заре, вскакивал че-
рез дыры в вагон, юлил по дощатому полу и, как донской
пескарь на водной глади, плескался на горячих щеках,
шевелил пушистые пряди волос у висков, свежими брыз-
гами обдавал нагое плечо.
Ночной гость лежал, не шевелясь, рядом. Одну ногу
он вытянул наотмашь, другую держал обручем, согнув
в колене. Под отворотами темно-желтого, иноземного об-
разца, френча мерно вздымалась грудь.
Вон он какой!
На шее ободком — ржавчина от знойных ветров, по
бритым щекам синий, в золоте, налет и — ямочка на под-
бородке... Совсем как у Петра Ознайко!
— Голубь мой сизокрылый...— шептала она, не сводя
с него глаз, чувствуя сладкую истому во всем теле.—
Миленочек мой...
Вдруг, сморгнув, вздрогнула, метнулась на колени.
Глаза мышатами бегали по желтым рейтузам, с фураж-
ки у изголовья на френч, с френча к лицу, к темной по-
вязке на стриженой голове...
Встала, тяжело дыша, облизнула пересохшие губы,
туго-натуго стянула ремень у пояса... И тут открыл он,
незваный гость, глаза. Взблеснуло синью под веками,
дрогнула мышца у скулы, и вот — поднялся на ноги, на-
тянул, откинувшись, грудь тетивою, стукнул сапогом о
сапог по-военному, улыбнулся, сказал заспанным голо-
сом:
— Чего уставилась?..
Сурово, жестко, по-чужому глядела на него Фроська.
Лицо у нее студеное, без пятнышка румянца, только на
влажных зубах теплилась еще ночь, да легонько, по-мир-
ному шевелилась под ветерком пушистая прядка волос
у виска.
— Слышь — чего уставилась?..— повторил он, още-
рив зубы, и — к ней, шаг за шагом, боком.
— Не тронь! — бросила камнем.
— Что та-кое-е? — выдавил сквозь зубы, следя за
тем, как тянулись, будто примеряясь, глаза ее к его на-
гану у пояса, от нагана — в угол, к кожаной суме, и об-
ратно — к нагану.
— Тэк-с...— понимающе кивнул он, коснулся ладонью
оружия, оправил повязку над ухом.
414
Она стояла перед ним, плечистая, дюжая, откинув на-
отмашь голову. Солдатская рубаха на ней — парусом,
обмотки на ногах — в глинистых расплывах, а со щек,
просторных, обветренных, целились глаза, и было в них,
сумрачно темных, столько ненависти, что невольно по-
дался он назад.
— Да ты чего это, а? — проговорил глухо, мутно улы-
баясь.— Сдурела?..
И протянул к ней руки.
— Уйди! — жестко выдохнула она и, уже не владея
собою, вспыхивая жарким румянцем, закричала:—Сво-
лочи вы — белая кость! Гнусы распроклятые! Из-за вас
вить, поганых, вся нечисть на земле...
— Цыц!—прикрикнул он, топнув ногою.— Не ви-
дишь, с кем имеешь дело?..
— Вижу, вижу! Всю печать твою иродову вижу...
И это вот и это!..
Она тыкала пальцем в белый кант рейтуз его, в галун
по вороту, в широкодонную фуражку с темным кружком
на околышке, где когда-то красовалась кокарда.
— Ну-ну, хватит! — отмахнул он ее руку.— Не ца-
паться!..
Последнее слово походило у него на команду, и под
густыми его ресницами проступила, как на лезвии, ост-
рая брезгливость.
Отпрянув, Фроська подхватила с пола свою тужурку,
рывком натянула на себя и бросилась к двери.
— Стой! — услышала за собою, но не оглянулась, от-
пихнула створку двери и прыгнула за порог.
Крепкий, жилистый ветер, последний у зари, охватил
ее с ног до головы и понесся дальше вдоль насыпи. Уны-
ло, тревожно звучала вокруг степь. Над рыжим курганом,
в чаду, в сизом зное, вылупливалось багровое солнце.
Обойдя железную тушу паровоза, распластанную на
залитых багрянцем шпалах, Фроська крутым, твердым
шагом направилась в сторону кудлатого зеленого холма,
за которым лежали Лиски.
Начинало пригревать, медово рдел воздух, светились
в заревой пыли рельсы.
— Эй-эй!..
Услышала, оглянулась: от обгорелых вагонов бежал
человек в желтом френче, ночной ее гость. В одной руке
держал он свою кожаную сумку, другою оправлял на бе-
гу портупею. Фроська прибавила шагу.
415
— Стой, стой! — снова завопил он, и тогда Фроська,
измерив взглядом расстояние между собою и своим пре-
следователем, перешла на рысь.
Вдруг он замер на месте, постоял, вслушиваясь во
что-то, одному ему доступное, и затем круто повернул
влево от насыпи, к рыжему кургану.
Бежал целиною, среди ковыля, угнув голову, поджав
по-волчьи живот, как при опасности.
Торопливо оглядевшись, Фроська ничего особого не
приметила, но что-то изнутри, от самого сердца идущее,
подсказало ей: да, опасность! Разбрызгивая песок под но-
гами, скатилась она вниз по насыпи и вот услышала: где-
то далеко-далеко пела труба горниста.
— Ар-ра! — голосисто вскрикнула Фроська и повер-
нула вслед за френчем к кургану.
Ничто уже не пугало ее, одно было в мыслях: поско-
рей добраться туда, на вышку, чтобы видеть с нее как
можно дальше!
Хрупко, подобно истлевшей ветоши, коробились, пы-
лили под ногами сухие травы, неуклюже вскидывалась
толстобрюхая саранча, и долгий писк сусликов незримы-
ми нитями оплетал каждый шаг. А впереди, удаляясь,
скакал, прыгал желтый френч, волочилась за ним, под-
рагивая, жидкая тень. Солнце натужно — краснорожий
богатырь в челне — разгребало чадные туманы над
степью.
Курган — как огромная нагретая печь. Из всех пор
ее сочился, дурманя голову, едкий пахучий зной. Фрось-
ка карабкалась туго, упрямо, сползала и вновь подыма-
лась вверх, а френч внезапно куда-то исчез, словно про-
валился сквозь землю.
Озираясь по сторонам, взобралась она, наконец, на
самую маковку кургана, привалилась, изнемогая, плечом
к огромной, в рост человека, каменной глыбе и впилась
глазами в степные просторы.
Из-за холма, залитого расплавленным янтарем, как со
дна озера, подымались Лиски: млели там и сям в жар-
ком воздухе кровли, тихонько покачивался темный хобот
водокачки, рыбьей чешуей отливала черепица мастерских.
А по эту сторону холма, в какой-нибудь полуверсте от
кургана, из-за рощи медленным шагом, шеренга за ше-
ренгой, выходили стрелки, и впереди их гарцевал верхо-
вой.
416
— Мать честная! — выкрикнула, не помня себя от
волнения, Фроська.— Наши!..
И вдруг услышала над самым ухом:
— Наши, говоришь?..
Это был он, беляк во френче. Вывернулся из-за ка-
менной глыбы и вот, склонясь к ней, Фроське, скалил
зубы.
— Наши?! — повторил он едко, вцепившись рукою
за ее пояс.— Где это?
С неистовством гнева, презрения к нему, она взбро-
сила руку туда, к роще:
— Не видишь?! Вон оно, вон, знамя-то красное...
— Красное, красное...— цедил он сквозь зубы.— А ну-
ка, зыркни, сестричка, буркалами-то своими туда вон, к
Лискам... Правей, правей!
Она метнула взором, следуя за его рукою с зажатым
в кулак биноклем, и охнула.
Плешивый скат холма сплошь ощетинился острыми
дротиками, и белый флажок, трепыхаясь, развевался над
ними. «Казаки! Засада...» — едва не закричала Фроська
и, по-дикому плеснув взором в чужое лицо, рванулась
вперед.
— Стой, не торопись! Не торопись, сестрица, без тебя
каша доварится...— рокотал он над нею, охватывая ее
обеими руками.
Стояли в крепком обхвате, как любовники после раз-
луки, и глаза его полны были злорадства, а у Фроськи
трепетал каждый мускул, подобно степному хорьку в кап-
кане.
— У-ах!..
Она скользнула вниз, к его ногам, прянула в сторо-
ну. Ярче вспыхнуло солнце, поплыло навстречу неудер-
жимо.
Бежала что было силы, и при каждом прыжке земля
как бы подбрасывала ее вверх. Воздух, взвихряясь, бил
в глаза, в уши, в самое сердце Фроськи.
«Враг с фланга! С фланга, с фланга... Засада!»
А человек во френче скакал вслед, и в тот момент, ко-
гда трухлявая кочка, рассыпавшись под ногою, рванула
Фроську вниз, он на лету подхватил ее, смял, и оба, сце-
дившись, грохнули под откос, вспахивая пыльные бо-
розды.
Из чертополоха взмыл стервятник, косым взлетом
окунулся в небо и тревожно закрутил над курганом.
14. В. Бахметьев
417
Чужое, тяжелое тело связало, опутало, придавило к
земле. Фроська била руками в грудь ему, царапала ску-
лы, всаживала зубы в подбородок, в плечо его... Но си-
лы покидали ее.
— Сдавайсь... сестричка!..
Что-то новое послышалось в его хриплом прерывистом
голосе. Крепкие, злые рывки мужских рук сменились ту-
гими объятиями. Еще он упирался в ее колени своими —
жесткими и беспощадными, а пальцы уже по-иному, не-
отвязно и жадно, нащупывали ей плечи, и в синих влаж-
ных глазах его загорелись безумные огоньки.
— Моя, не уйдешь...
Внезапно одним ударом локтя он запрокинул ей го-
лову, припал к ней, вдавил губы в окровавленную ее
щеку.
— Ы-ой...— вскрикнула она задыхаясь.
Остроухий зверек услышал голос, вскинулся на лап-
ки и замер. Знойная тень, шелестя, накрыла его, брызну-
ла кровь, могучие крылья рассекли воздух, и долгий писк,
похожий на звук разорванной струны, потянулся от зем-
ли к солнцу.
— Пусти!..— простонала глухо Фроська и вдруг, вся
выгнувшись, рванула у него из кожанки наган. Он пере-
хватил ее локоть, сцапал, кинул наган в траву.
— Сдавайсь...
— Нет... сволочь!..
Тогда, подхватив за поясницу, он приподнял ее, кач-
нул из стороны в сторону и пал на нее всей своей тя-
жестью. Камень-голыш уперся ей в спину, и от боли она
застонала.
— Пусти...
Но уже не слышал ее голоса желтый френч. Был он
близок к цели, жаркий, жадный, ослабевающий.
Глотая кровь и слезы, Фроська изогнулась в послед-
нем усилии, запрокинула руку и, вырвав из-под спины тя-
желый голыш, с силой ударила им в бритый висок.
Он взвыл, дико, по-волчьи, шарахнулся прочь. Проти-
рая глаза от хлестнувшей по ним крови, Фроська подня-
лась на ноги и кинулась прочь.
Оглянувшись, приросла к месту. Френч стоял на ко-
ленях. Голова его, залитая кровью, ходила ходуном, как
у огородного чучела под ветром, темная повязка, разо-
дранная, колыхалась над кривым плечом, правая рука
вытянута вперед, и в ней — наган!
418
На бегу слышала за собою Фроська выстрел — один,
другой... Еще и еще!.. Что-то обожгло ей плечо, вонзилось
каленым острием в лопатку... Опа уже не бежала, а не-
слась вихрем, ничего не ощущая, ни о чем не думая, кро-
ме одного: «Засада, засада!»
Перемахнула через ручей, чуть не свалилась в лож-
бинку и вновь — вперед, вперед, туда, где, подобно теням
на белой лучистой стене, маячили в солнечном зареве
фигуры стрелков...
Ближе, ближе! Вот уже различала она стволы винто-
вок за плечами в переднем ряду и то, как мерно, будто
на смотру, вышагивал конь под бравым седоком.
Напрягши силы, Фроська собиралась поднять руку,
прокричать всею грудью: «Стой! Засада...» Но голос вы-
рвался у нее стоном и рука беспомощно повисла, словно
свинцом налитая. Сверлящая боль прорезала ей грудь,
сперла дыхание, подкосила ноги... Только бы не свалить-
ся!.. Перед глазами то вспыхивали солнечные зайчики, то
вовсе темнело.
Стиснув зубы, шатаясь, зыбче перебирая ногами, она
подвинулась вперед... Наконец, ее заметили. Взмахнув
бичом, всадник круто повернул коня в ее сторону.
В полусознании, обливаясь кровью, она вдруг почув-
ствовала чьи-то крепкие руки, бережно охватившие ее,
раскрыла глаза, увидела склоненную к ней голову в фу-
ражке с красной звездою на околыше.
— У Лисок... за холмом... казаки!..
Произнесла внятно, четко, чувствуя, как с каждым
словом сваливалась давящая тяжесть с плеч.
И позже, осиливая забытье, с улыбкою на устах, с
улыбкой никогда ранее не испытанного счастья, слышала
Фроська звонкие сигналы горниста, чью-то голосистую
команду, размеренно крепкий многоногий топот марша...
И чудилось ей при этом, что где-то совсем, совсем близ-
ко, чеканя боевой шаг, проходил об руку со стрелками
Ознайко, ее Петруша Ознайко.
«Вот и свиделись...— роняла она шепотком.— Свиде-
лись...»
Подле, у самых носилок, стоял седоусый человек с
красным крестом на рукаве, вслушивался в невнятный
лепет раненой и дивился блаженной улыбке, не сходив-
шей с мертвенно-бледного девичьего лица.
419
«Вызволится, вызволится...»— ронял про себя седоу-
сый и оборачивался в сторону холма, откуда вперемежку
с винтовочными залпами доносилось гремучее «ура».
1920, 1952
МИХЕЙ КУЗЬМИЧ
НА КУРОРТЕ
I
Трудно найти человека, не слыхавшего о наших юж-
ных курортах, о том лечении, которое там проводится:
море, солнце, целебные источники, воздух. Но было вре-
мя, когда в глухих уголках страны обо всем этом и по-
нятия не имели. Желая предоставить широким слоям
трудящихся курортное лечение, Центральное Управле-
ние Социального Страхования, в ведении которого
находились санатории юга, прибегало к разверстке
путевок по областям, губпрофсоветам, месткомам пред-
приятий.
Причем были случаи, когда путевки оставались неис-
пользованными из-за отсутствия желающих ехать на ку-
рорт за тысячу верст, «к черту на кулички».
К тому времени и относится мой шутейный рассказ
о событиях, разыгравшихся в одном из глухих уголков,
до которых, как говорится, неделю скачи — не доска-
чешь.
Стояла горячая рабочая пора. Председатель завкома
паровой мельницы получил из города бумагу. При помо-
щи конторщика ознакомившись с ее содержанием, пред-
седатель собрал рабочих. Было их с полсотни. Народ все
обстоятельный, хозяйственный. У каждого одна нога на
мельнице, другая — в деревне, на пашне, и та, что в паш-
ню упиралась, крепко держала человека у земли, у леса,
у всей тамошней глухомани.
— Вот чего, граждане! — обратился к собравшимся
председатель.— Пришла из союза бумага... читать али
словесно обсказать?.. Бумага длинная — до обеда
хватит...
— Словесно, чего там! — загудели голоса.
Председатель заглянул для приличия в бумагу, кряк-
нул и заговорил:
420
— Дело, братцы, такое: требуют от нас по разверстке
человека на курорт... Сначала к осмотру на комиссию,
а опосля на самый курорт... Для бесплатного излечения...
По всем правилам плоцедур!..
В толпе зашумели:
— Еще чего выдумали? Каки-таки куроры?!. Рабочая
пора у людей, а он с повинностью.
— Ша! — поднял председатель руку.— Запамятуйте:
мы есть часть всей есесер и отпираться не должны! Ка-
кие вы есть пролетарии, ежели будете пятиться по тако-
му случаю в дезертиры?.. Обратите ваше внимание: пол-
ное иждивение при бесплатном проезде чугункою... Но-о?
В толпе молчали... Эх, не было печали!.. Ни дня, ни
часу покоя: то с Деникою возись — повинность всякая,
то на курорт высылай... Беда!
Тут вышел в круг Микита, Мукоет, по всем статьям
головастый человек.
— Вот чего, братцы! Давайте с полным нашим рас-
положением Михея Кузьмича просить... Мужчина он ста-
рый, дряхлый!..
— Правильно! — отозвалось собрание в полсотни гло-
ток...
— Ему, братцы, все одно, этакому-то: годом раньше,
годом позже...
— Верно, чего там!
— Опять же есть он герой труда!..
— И пашни под им нет... Вовсе слободный...
— Кузьмича, Кузьмича... желаем!..
Михей Кузьмич выступил вперед, потрогал седенькую
бороденку, снял картузишко, жалобно заговорил:
— Ребята, ослобоните! Всякому вить на этом свете
пожить хочитца...
— А ты не супротивься! — зашумели вокруг.— Для
мира, для обчества старайся...
— Имей, Кузьмич, в виду...— подхватил председа-
тель,— ежели, упаси бог, неладное что на курорте вый-
дет, так вить ужли мы звери? Старуху твою оберегем, по
миру не пустим!..
— Просим, просим!..
Михей Кузьмич отер пот, горохом выступивший на
лысине.
— А далеко, милые, ехать-то?..
— Пошто далечко? Единым духом домчат... Ты не
стесняйся!..
421
Долго улещивали Кузьмича. Под конец согласился
старый.
— Видно, на роду у меня так написано,— сказал он.—
Китай бунтовал — я из всей деревни ходил! И теперь,
выходит, мне!..
В тот же день вечером Михея Кузьмича повезли в го-
род, а город — за шестьдесят верст. Возвратился он на
третьи сутки к полудню, скорбным, но обреченно спокой-
ным.
— Ну, братцы! — объявил он людям.— Ехать в Кис-
ловодск, за тыщу аж верст, на самые кислые воды...
— С богом, что там! — дружно отозвались вокруг.—
Ты не робей... Вода — первый сорт!
Эх, кому-кому, а старухе Кузьмича досталось хлопот:
сухарей мужу изготовила (одной водицей да еще кислой,
не проживешь!), в церковь сбегала — молебствие заказа-
ла о здравии раба божия Михея путешествующего. И к
ворожейке заглянула — не будет ли каких предвидений...
Все бы ничего, да перехватила старуху на улице вдова
покойного владельца мельницы.
— Слыхала, слыхала, Акулинушка!..— начала купчи-
ха.— Слыхала!.. Да ты что... Сдурела на старости лет?
В такое приключение супруга пускаешь?!. Большевицкие
все это выдумки, на погибель на рабочую!..
— Авось господь спасет!..— закрестилась Акулина.—
Пущай едет...
— А вот погоди, погоди! — зашипела мельничиха.—
Узнаешь, чем он, курорт этот, пахнет... Мой-то, покойник,
ездил!.. Бывало с собой — полтыщи, а назад — с одними
шальварами... Послушай, не зря говорю: держи старика!
Закрутит его на курорте мармудка какая-нибудь — поте-
дова ты муженька и видела...
Акулина усомнилась:
— И-и, милая! Да кто ж на ево, на лысого моего,
польстится-то? И с пороком он тоже... Порок у ево в го-
роде определили... сердечный!
— Дура ты энтакая! — вышла из себя мельничиха.—
Мужик нынче вон в какой цене, а большевицкой девке
хучь какой порок, лишь бы в штанах.
Прибежала домой Акулина сама не своя.
— Не пущу, старый! Знаем теперь, куда твои гла-
зыньки целят... У, бесстыжий!..
Пришлось народу уговаривать бабку. На трех пудах
422
пшеничной муки помирились: от завкома обещали, на
поддержание в холостом ее положении.
Провожали Михея Кузьмича всей мельницей.
Председатель речь пустил, с перечислением заслуг
отъезжающего. Закончил он так:
— Желаем тебе, Михей Кузьмич, дорогой ты наш
гражданин, полного изничтожения всех твоих недугов и
воопче... здоровья... чтобы, значит, возвратился ты к нам
навовсе беспорочным по всем, значит, статьям, в полном
боевом виде!.. А что касаемо решимости твоей, то все мы
очень даже понимаем и сочувствуем... Да здравствует
Советская власть, третий тернационал и дорогой наш
ерой Михей Кузьмич Заволокин... ура!
Все обнажили головы, закричали «ура!».
Обнимая в последний раз старика, Акулина всхлипы-
вала:
— Клятву-то, клятву-то супружеску не переступай!..
Наконец, покряхтывая, пошатываясь, Михей Кузьмич
выбрался из толпы и полез в таратайку.
Кони тронулись, люди замахали фуражками, опять
закричали «ура»; бабы под руки повели Акулину, соло-
менную вдовицу, прочь!
II
Много лет сиднем сидел Михей Кузьмич среди леса
при мельнице. Можно сказать, одичал даже. Но, видно,
на то он и человеком был, чтобы махом одним все труд-
ности одолеть.
В вагоне он моментально в курс мировых событий
вошел, клял на чем свет стоит всесветных разбойников и
вообще высказывал необычайную храбрость. Но курорт
все еще пугал его: вспомнит невзначай — и засосет под
ложечкой. Впрочем, и с этим он справился: люди разго-
варивали. В один голос все:
— Отличное дело — курорт!.. Так что которые вовсе в
лежачем положении находились, начали вертикалем хо-
дить...
А когда на одной из больших стоянок паренек быва-
лый все честь по чести разъяснил, Михей Кузьмич окон-
чательно повеселел.
— Вон — гляди!..— говорил паренек.— Стоит у буфе-
та гражданин пузатый... Воду он пьет по прозванию нар-
зан... Гражданин этот не иначе как богатей, воду пьет и
423
денежку за нее платит, а ты в ей без всякой даже платы
купаться будешь...
— Да ну? — осклабился Кузьмич.— Ах, ты, ястри-те!
Купаться, говоришь?..
— Обязательно! Нынче что буржую в нутро, пролета-
рию— заместо бани! Потому времена теперь, дед, как по
писанию: последний да будет первым. Ты весь свой орга-
низм промывать будешь, а «он» обмывки твои пить...
Понял?..
На пятые сутки вылез Михей Кузьмич из вагона. Не
успел он на асфальт ступить, подлетел к нему человек:
— Вы — санаторный?..
— А тебе что?..— скосил на него глаза Кузьмич и по-
крепче прихватил локтем гашннк с зашитою пятеркою.
А человек свое:
— Если санаторный, провожу!.. Я — агент...
— Провожай свою мать! — буркнул про себя Кузь-
мич.— Ангел какой нашелся...— и в сторону, а человек за
ним — боком-боком. Ну, просто юла!
Рассердился Кузьмич.
— Отойдите, господин, честью прошу!..
Отбежал тут человек, к другим кинулся, а Михей
Кузьмич с мешком своим и туда и сюда... Шут их знает,
где они тут — кислые воды... Толкнулся к носильщику.
— А тебе,— говорит,— по всем видимостям, к Цустра-
ху надо... Вон энтот человек, видишь? Иди в полное его
усмотрение!..
Глянул Кузьмич, а это все он же, человек тот юркень-
кий. Поскреб Кузьмич бороденку, подошел, снял на вся-
кий случай картуз: тоже, поди, комиссар какой.
— Честь имею в полное ваше усмотрение!
— Санаторный?..
— Вроде того...
Подхватил агент мешок Кузьмича на плечо — и ну
шагать.
— Следуйте за мною!
Кузьмич следует, а сам разговор ведет:
— А я тебя, Чустрах Моисеич, за жулика принял...
Вид у тебя такой... Ты уж не обессудь... Семейный бу-
дешь?..
Тут народ всякий повалил, просто как в губернии.
Поспешает Кузьмич за Цустрахом Моисеичем, а у са-
мого опять сердце поджимается: «Сбежит! Обязательно
с сухарями сбежит!»
424
Ну, ничего! Не сбежал. Подвел к белым хоромам,
дверь распахнул.
— Пожалуйте,— говорит,— честь и место!..
— С полным нашим удовольствием! — повеселел ста-
рик и ступил, все же озираючись, за порог. Приняли его,
да еще как! И впрямь — по-генеральски... Только дамо-
чек вокруг много что-то и все в белом, вроде как на упо-
койниках.
III
Отвели Михея Кузьмича в палату. В палате три коеч-
ки, а коечки такие, что хоть начальника какого укла-
дывай.
— Ну-ну, это ничего! — одобрил Кузьмич, ощупывая
одеяло и простыни.— Даже очень прилично!
Разостлав поверх одеяла чистоты ради зипунишко
свой, прилег и — к соседям с расспросами.
Соседи ничего — свои, рабочие же люди, с обхожде-
нием.
А тут — дзинь, дзинь: звонок!
— На жратву, отец!
— А дают? — насторожился Кузьмич.
— Дают помаленьку.
Сел Михей Кузьмич за стол и рту своему не верит:
совал-совал добра всякого, а бабочки в белом подносят
и подносят.
Оправил Кузьмич бороду, отрыгнул и думает: «Этак
кормить будут, сухарей мне нипочем не надо... Ну, да
поглядим: может, попервоначалу ублажают!»
Покрестился мысленно в угол и — к двери, хотел в сад
пройти, разгуляться, а у дверей — сестрица в белом.
— Куда же вы? Идите, ложитесь: мертвый час!..
— Чего? — насторожился Кузьмич.
— Идите к себе, ложитесь!..
— Да что ты меня укладываешь? — поднял Кузьмич
голос.— Еще, поди, не подох!
— Нельзя, нельзя, говорю вам — мертвый час!..
«Вот тебе и фунт изюму! — думает Кузьмич, направ-
ляясь к балкону.— Кормили, кормили, а потом за упокой
отпевать». Прошел он тихонько на балкон, сел за дверью
и ждет, что будет дальше, а на сердце — нехорошо и в
голову мысли всякие лезут.
425
«Какой такой мертвый час? Смеется бабочка али вза-
правду у них тут... над живыми изгиляются!»
Слышит Кузьмич — затих весь дом, совсем как вы-
мер.
— Вот тебе и фунт изюму! Кормили-кормили, а по-
том... пожалуйте! Что же им люди-то... заместо кролика,
что ли?»
Просидел Кузьмич на балконе до самого звонка,
а там снова весь дом ожил.
Вышел он из своего угла, навстречу ему сосед из па-
латы — потягивается, позевывает.
— Где же ты, дедка, был? Почему не спал?..
— А зачем? — развел Кузьмич руками.
— Полагается так... для пищеварения. Хочешь не хо-
чешь— ложись: мертвый час это называется.
Понял Кузьмич свою оплошность, но ничего не ска-
зал. Идет коридором, со встречными пошучивает:
— С воскресеньем из мертвых вас!..
На пороге — сестрица. К нему:
— Пожалуйте на осмотр!
— А чего меня осматривать? — крякнул Кузьмич.—
Все при мне, что полагается...
Однако пошел. Навстречу от стола женщина, в том же
упокойном наряде — в халате белом, с трубочкой в руке.
«В моих летах барынька, ничего!» — успокоил себя
Михей Кузьмич и протянул ковшиком руку.
— Очень даже отлично кормите, благодарствую!..
— Я— доктор, ординатор здешний... Раздевайтесь,
ослушаем вас!..
— Что ж, можно! — согласился Кузьмич.— Только уп-
реждаю: деколон во мне гнилой, потный...
— Ничего, ничего. Раздевайтесь!
А сама в бумагу уклюнулась.
— Ваша фамилия, профессия?..
— Из мужиков мы, по мельничному делу...
— Сколько лет?
— Лет-то? А кто их считал! Пиши — полсотни... с хво-
стиком.
Подошла докторица к Кузьмичу, приткнула трубочку
в спину ему.
— Ну-те-ка, дышите... Глубже, глубже... Теперь ляг-
те... сюда... вот...
Ложится Кузьмич на одер, а сам из-под косматой
426
брови глазом косит и в голове неладное: «стара-стара,
а туда же себе!..»
Докторица остучала ему грудь, поцарапала кожу, да
как хватит по пятке.
— Ух, ядрит твою корень! — вскочил Кузьмич.— Да
ты, барыня, в уме?
— Что такое? — встревожилась докторица.
— А то! Не щекочи... ни к чему это вовсе!.. Сыздетст-
ва не балованы...
— Ах, какой вы, право...
Успокоила его докторица (это, говорит, для определе-
ния ваших нервов), опять уложила, опять стукать при-
нялась, то в грудь, то по животу — и вроде как не жи-
вот ей человеческий, а барабан.
— А ну-ка, закройте глаза... так!.. А подымите-ка эту
руку... Так!.. А ну попадите пальцем в нос... Вот этак...
Да вы сразу, сразу!..
Кузьмич крякнул, с силой отстранил докторицу и мол-
ча, посапывая, накинул на себя рубаху.
— Стойте, куда же вы?
— Будя! — отмахнулся Кузьмич.— Хватит с нас!
Докторица и сердится и улыбается.
— Ну, ладно,— говорит.— Будет, так будет!.. Вот вам
книжечка процедурная, сестра все объяснит...
Вышел Михей Кузьмич за дверь, а больные к нему.
— Ну что, дедка, как?
— Да, что! — сплюнул Кузьмич.— Не то лечит старая,
не то играется...
— В чем дело, чем недоволен?
Расспросили все по порядку, стали объяснять. Отлег-
ло маленько у Кузьмича от сердца.
— Дык, значит, со всеми она так? А насчет щекотки
и за нос?!.
— Со всеми, дедка, со всеми... По медицине требуется,
по науке!..
— Ну, ежели по науке, статья иная! Известно, мы
люди темные, несвычные... Есть, скажем нос, а что к че-
му — неизвестно...
Огляделся, попривык Михей Кузьмич на курорте, со
всеми перезнакомился. Главврач санатория за ручку с
ним, о здоровье справляется, кастелянша одежду-обувку
выдала, няни о старухе, родных местах расспрашивают...
427
Все честь честью, вежливенько, смирно, без обиды, а на
другой день по приезде — та же сытая кормежка.
«Вот те и сухари»,— думает Кузьмич и над старухой
своей, что наготовила ему сухого хлеба, посмеивается:
«известно, где ей, темной».
Книжечку процедурную бережно на груди носил, под
поясом.
— Ну-ка, дед, давай, читанем, чего там у тебя!
Сосед по койке — очень острый в грамоте, а из себя
пшибжик, из мелкопоместного класса.
— A-а... меокордит, расширение, недостаток двуст-
ворчатого клапана... Да у тебя, дед, как у заправского
генерала!..
— А что же нам! — хорохорится Кузьмич.— Мы тоже
не тяп да ляп исделаны...
— Да ты, дед, не шути! — пшибжик говорит.— Дело
твое пиковое!
— Эка! До самой смерти жить будешь.
— Так-то оно так, а вот у тебя двустворчатого клапа-
на недостает... Понимаешь ты это?
— Недостает, так и не надо! Где ж его узять?
За обедом, похихикивая, рассказывал Кузьмич своей
соседке — ткачихе:
— У меня, мать моя, похлеще твово будет! Перво-
наперво сердце с корды соскакивает... Опять же — в рас-
тяжении... Во! — развел он руками.— Окромя того, двух-
створчатого кляпа в ем не хватает.
— Клапана, отец!..
— Ну, клапана... это все едино!..
— Лечиться тебе надо! — вздыхает соседка.— Серьез-
ная болезнь!..
— Чего там! Для нас, трудового, это все — тьфу, бо-
ле никаких! Мы же одностворчатым проживем... Не
штемберлены какие-нибудь... Пускай буржуй двухствор-
чатыми ходют, а мы и с одним хороши... Очень даже
просто!..
Совсем веселый Михей Кузьмич сделался. Сестра-хо-
зяйка блюдо подаст — он не просто примет, а еще боро-
дой тряхнет да словечко бросит:
— Благодарствуем! С нашим пролетарским удоволь-
ствием...
Ел он обстоятельно, все до капельки, только сладкое
ему не нравилось.
428
— Ты мне, сестрица, заместо фентиклюшек этих шец
подавай две плепорции!..
И жаркого не всегда хватало Кузьмичу. Просил:
— Сестрица, накинь-ка...— И пояснил в самооправда-
ние:— При одностворчатом нашем положении еда нам
во как пользительна!
IV
— Завтра вам ванна нарзановая. В шесть двадцать
утра!..— сказала с вечеру Михею Кузьмичу сестра.— Гля-
дите не проспите!..
— Что ж я — спать сюда прислан?..
Чуть свет вскочил Михей Кузьмич, оделся, прихватил
с собою все, что полагается, и полотенце также (просты-
ню, что выдали ему, пожалел: больно чиста, хоть на стол
в престолпраздник стели!)
У кабинки — ванщица, из себя востроглазая, быстрая,
белым передником — виль, виль.
«Тьфу ты, пропасть какая! И тут — бабочки!»
Однако стерпел, даже о жалованье спросил:
— По какому разряду состоите, барышня?..
Ванщица не в духе была, на вопрос — вопросом:
— Цельную вам?
Кузьмич тоже прихмурился.
— А то как? Знамо, не половинку!
— А градусов сколько?
— То-ись, как это?
— Теплоты какой?
— А сыпь погорячей! Мы это любим...
Барышня выхватила из его рук книжку, заглянула,
фыркнула.
— Что ж это вы городите? Четверть вам... нарзана на
всю ванну!
— Четверть? Ну, ин, давай четверть. Тебе видней при
своем деле...
Когда ванна была готова и Кузьмич уже разоблачил-
ся, вдруг он вспомнил... Ах, ты, нелегкая!
Просунул голову в коридор:
— Гражданочка! А нет ли у вас тут мочалишки?..
Мне хочь бы старенькую.
Ванщица опять фыркнула:
— У нас, дед, не баня!..
429
«Ну, это уж как ты хочешь...— думал про себя Кузь-
мич, залезая в ванну.— Баня ли, нет ли, а без мыла
нам нельзя... Вовсе с вами окоростишь тут!»
И принялся, пофыркивая, намыливать голову.
«Эх, знатно бы теперь спину потереть!»
Ванной Михей Кузьмич остался недоволен: не горяча
и без мочалки. А тут еще — пришел в зал отдыхать,
улегся и только-только всхрапнуть собрался, барыня ка-
кая-то явилась: «очистите,— говорит,— место». Хотел
было Кузьмич барыне той настоящее слово сказать, да
махнул рукою — не стоит путаться. Зато у себя в палате
до обеда спал.
Вечером прогуливался он по парку, слушал музыку.
Музыка, по правде сказать, плевая, ни одной гармоньи.
А народу кругом как на ярмарке!
Попался человек — земляк, из одной губернии. То-
же— в санатории, только в другой. Разговорились о том,
о сем.
— У тебя что?
— А сердце же, земляк, расширено!
— У меня, браток, тоже...
Из соседней санатории похваляется:
— У нас — говорят — со всех концов лечат... Ты вот на
одном этом нарзане сидишь, а меня, к примеру, и гидро-
патом и электричеством жучат... Вот как!
— Те-те-те...— протянул Кузьмич.— Ну, у нас — по-
скупей!
— А чего там поскупей! Сам ты, земляк, разиня...
Докторов подхлестывать надо... Так и так, мол, давай!..
Перво-наперво, душу проси — шарко!..
— Чавой-та? — переспросил проворно Кузьмич.
— А струмент такой есть—из кишки водой по всему
телу шаркают... Шарко, понимаешь? Дюже при рев-
матизме помогает... Опять же у кого кровь дурная!..
— Ишь ты! — прихмурился Кузьмич.— У нас это дело
притаили... Спасибо, сват, что упредил!..
Наутро Кузьмич по горячим следам к докторице:
— Пропиши ты мне, милостивица, плепорцию душа,
шаркот, что ли, по-вашему?..
Улыбнулась докторица:
— Что ж, можно! Отведай...
Прописала.
Сыскал Кузьмич гидропатию, разделся, вошел.
—. Фу ты, мать честная, опять дамочки!.. Ну-т, делать
430
нечего.— Прихватил конфузное место рукою и — ждет,
что будет. Глядь-поглядь, берет кишку... дамочка!
— Отвернись, бесстыжая!— крикнул Кузьмич и под-
ставил спину.
А она хоть бы что: знай себе из кишки зажаривает,
да еще командует:
— Грудь... Спину... Боком!..
«Ну, нет!..— думал Кузьмич, одеваясь.— Что-что, а это
нам ни к чему... И земляк тоже хорош — бабьей кишкой
угощает!..»
И больше в гидропатию — ни ногой! А жалко... «Что
бы такое взамен испросить?»
Стал у больных допытываться.
— Тет-те-те електрификация! Это — по нас...
И опять — к докторице.
— Ты уж не обижайся! — начал он.— Шаркот мы от-
менили... ни к чему нам! Пропиши ты, будь матерью, Ста-
сов мне душ...
— Статический? — откликнулась докторица.— Да вам
зачем же? Это ведь при известной болезни можно...
— Эх-хо! — вздохнул Кузьмич.— А почем ты, мать,
знаешь, состоит во мне известная эта болезнь али нет...
Да и то сказать: севодни ее нету, а там, глядь-поглядь,
она и объявится... Ты уж не жидуй — пропиши!..
— Экий ты,— говорит докторица,— настойчивый!..
Ну, хорошо... На голову жалуетесь?
— Голова? А что ей? Об камень не расшибешь! Ране,
точно что болела... Так то в старом еще. прижиме когда,
при монополии!..
— Ну, вот видите... А сон, как у вас... спите хорошо?..
— Да как сказать...— зачесался Кузьмич.— Дома
спал за троих, а у вас худовато! Ну, известно, дома-то —
при труде... За день намотаешься, придешь домой, под
бок к старухе завалишься и никаких!.. А тут — худовато!..
Это точно — что...
— Ну, ладно, пропишу! — согласилась докторица.—
Только больше ничего уж не просите...
— И-и, что ты, мать, нешто мы не понимаем? Да я
теперь к тебе — ни ногой!..
Однако слова своего Михей Кузьмич не сдержал. Ста-
са душ ему приглянулся. Штука аккуратная: сидишь се-
бе спокойненько, ветерок по лысине гуляет и вроде как в
пояснице легче.
— Насморком страдали мы...— рассказывал он потом
431
больным.— Так вить что ж вы думали? С тех разов в но-
су прочистило... ей-ей!..
Все было хорошо, да новая затея умучила Кузьмича.
Нет, видно, предела человеческой зависти!
v
Сидел раз Михей Кузьмич во дворе санатория с моло-
дым пареньком из слесарей. А дело было вечернее. Ве-
чера в тутошних местах удивительные, особливо когда
луна. По деревьям ртуть струится, а воздух... ну, прямо,
мед липовый!
— Спать бы пора, да жалко!..— позевнул Кузьмич.
— А чего жалко-то, дед?
— А вот погоди, состаришься — узнаешь... Тут у те —
каждый час жизни на счету, а он, сон-от, ведмедем нава-
ливается.
— А ты... не спи!..
— Дык как же не спать, ежели от природы это поло-
жено... идем, паренек, идем в палатки!..
— Ну, нет... Мне рано, дед... Я еще процедуриться
пойду, на лунные ванны!..
— Чавой-та? — навострил Кузьмич ухо.
— Лунные, мол, ванны примать побегу... с сосновым
экстратом... Здорово, дед, кровь полируют ванны эти!
И с хохотом убежал слесарек.
А Михей Кузьмич затуманился.
«Опять притаили... Ну и скупеньки же! И чего, ска-
жем, докторица эта казенных денег жалеет?»
Долго ворочался Кузьмич в постели. «Пареньку про-
писали, а мне — ни гугу! А еще намеднись говорила, как
честная: «мы,— говорит,— с вами, Михей Кузьмич, все
лечения превзошли...» Вот те и превзошли... Нет, видно,
не всех еще переделала Советская власть... Он, не всех
еще! Докторов этих ломать да ломать надобно... A-а! Мо-
лодому прописала, старому не надобно... А чего ему, мо-
лодому-то, полировать, у его и так кровь-то полирован-
ная!..»
Весь следующий день беспокоился Михей Кузьмич.
К беседам прислушивался — не заговорят ли о лунни-
цах?.. Нет, все как в рот воды набрали... Известно, кото-
рому и прописано, так он затаит... Дороже они, надобыть,
ванны эти, лунницы то-ись... Ох-хо, на весь-то протек
дня!..
432
По двору, по саду бродил, в людей вглядывался, а лю-
ди как будто те и не те: вроде как обходят старика, сто-
ронятся.
— Эх, человеки! Все бы себе, все бы себе...
Перехватил паренька, слесарька того самого.
— Опять... на лунницах?
— Что ты, дед? Каждый-то день трудно!..— А сам бе-
жать.
— Погодь-ка!
Где там — удержишь ли молодого!
Поднялся Кузьмич к себе в палату, лег, а луиницы из
головы не выходят. И докторицу просить неловко — обе-
щал больше не надоедать... И без лунниц уезжать нелов-
ко, даже совестно вовсе... Может, в них-то вся сила и
есть! Опять же — с какими глазами домой явишься?.. На-
род нынче пошел дошлый... Спросит иной: «Был на ку-
рорте?» — «Был!» — «В нарзане купался?» — «Ого-го!» —
«Стасов душ принимал?» — «Еще как!» — «Шарков душ
отведал?» — Тут-то вот и тпру... «Эх,— скажут,— посы-
лай тебя, дурака, на куроры!..»
И не выдержал Михей Кузьмич, опять к докторице
пошел: будь что будет, а положенного упускать не го-
дится.
— Последняя моя старикова к тебе просьба... Кровь
ты мою знаешь... Без полировки — вовсе никуда! Иной
раз аж занемеет все... Ни рукой, ни ногой не пошевель-
нуть! Пропиши ты мне, за ради Христа, последний раз
прошу... Старуха у меня — знаешь какая: запалит!
«А что,— спросит,— полировку в кровях прошел?» —
Нет! — «Ну,— скажет,— на кой ты ляд мне сдался та-
кой!» И пойдет, и пойдет... Пропиши, будь милостива...
— Да об чем просишь-то? — затревожилась доктори-
ца.— Чего еще?..
— Сама знаешь — чего... Нешто ты кровь мою не ви-
дишь?.. Коль уж молодым прописываешь, ужли старику
откажешь? Об лунных ваннах прошу...
— Чего-о? — обмерла докторица.— Лунных ванн
тебе?
— Лунницы, то-ись...— смешался Кузьмич.— Кото-
рые... этого... Ты мне хоть без екстрахта дай... Поде-
шевле!..
А докторица как прыснет, да как закатится. На стол
грудью припала, отдышаться не может.
433
— Ну, старик, да ты знаешь, что такое — ванны эти?
Да кто ж тебя надоумил-то?..
А сама заливается.
Кузьмич совсем обиделся.
— А ты, мать, вот чего... Жалко — не надо, а над-
смехаться над старым тоже не годится!..
И ушел. Дней пять хмурым ходил! Никому ни слова.
«Ладно,— думает,— обойдемся... А к себе прибуду —
обязательно жалобу составим: самую главную процеду-
ру— и под сукно!.. Нет, шалишь! Это дело так не оста-
вим... К самому Калинину оборотимся — ей, ей! И в суюз
тоже... Пускай знают, на чем денежки-то суюзные приго-
рают».
Впрочем, к концу лечения Михей Кузьмич успокоил-
ся. Опять веселым стал. А тут из деревни, с родины, от
старухи письмо пришло. Писал конторщик под старухину
диктовку.
«Любезный супруг наш, Михей Кузьмич! У нас все
благополучно, не знаю, как ты — жив ли, здоров ли?
Ежели еще в дыхании, отпиши про себя в подробности,
и скоро ли тебе будет возворот... Мельничные наши не
хотели было слово держать: обещанную мучку прижи-
лить хотели... Ну, я их поприжала! Ежели, говорю, люди
добрые, вы на обман идете, так у меня исход есть: сейчас
же старику пропишу, чтобы допрежь срока назад ехал...
Ничего, отыскали совесть: мучицу отдали да еще в при-
дачу пообещали поросеночка. В последних строках про-
шу сохранять себя и на легкие утехи не льститься. Вер-
ная тебе по гроб жизни Акулина Заволокина».
Вскоре и срок пришел Кузьмичу. Собрался он в доро-
гу, докторицу свою поклоном отблагодарил, а главврачу
мешок сухарей преподнес (все одно бросать!).
— Это тебе за лучшее к нам обхождение!..
Главврач долго ломался — не хотел принять, а когда
Кузьмич попрекнул его (али, дескать, серым нашим по-
дарком гнушаетесь?),— принял.
Увязывая пожитки, загляделся Кузьмич на казенный
халат — отличный халат, прихватить разве на память?
Однако постеснялся.
А через сколько-то дней, жив-невредим, сидел Михей
Кузьмич на родине, во дворе мельницы, и рассказывал
о кислых водах.
434
— Только это я, братцы мои, из вагуну вылез, глядь-
поглядь, сам Цустрах Моисеич бежит: агент, то-ись... Из
себя — беспокойный: вроде как мешком из-за угла попу-
ганный, а видать, в чине. «Пожалуйте,— говорит,— дав-
но вас ожидаючи... Хорошо ли доехали?» И сичас — ах-
томобиль под меня. «Хотите,— говорит,— на ахтомобиле
предоставим, хотите... так!» Отправились мы — так,, без
головокружения чтобы. Гляжу, ух-ты-и-и хоромы! Мель-
ница эта наша, скажем... Ну, так тьфу наша мельница!..
Астибюль — во-о! Порожки — во-о!.. А сустречу — да-
мочки... Дамочки там — сквозь, куда не повернись!.. То-
ись, ни в каких там, скажем, смыслах, а для обслужива-
ния... кому что полагается!.. Вот, ладно... отдохнул это я с
дороги и айда-те — в кислые воды... А вода эта, ребятуш-
ки, прямо шимпанское!.. Зайдешь в кибитку, сядешь в ко-
рыто, а она, шельма, во все места так и бьет!.. Буржуй по
пятаку за стакан платит, а мы в ей, прости господи, на
манер свинушек хлестались... А кормили нас... и-и-и, ба-
тюшки мои! Аж до отяжеления... Ну, это тоже не страш-
но там — на то вода особая имеется... Как, бишь, ее?
Штурмовая, что ли? Из военных какая-то...— Баталин-
ская. На ночь выпьешь, а к утру — пожалуйте!.. И опять
за стол... Поел — да на боковую! Мертвый час по-ихне-
му... А нет охоты в мертвых играть — валяй на прогулку.
Хочешь в парк, хочешь за парк: храмы там разные —
которые для чаепития, которые для воздуха!.. А храмы
тебе надоели — на самую главную горку иди: Эльбрус
прозывается... Солнце с той горки рукой подать, зимой
и летом снег на ей... А лечили как нас — и-и-и, не при-
веди господь! Одних дохторов — не перечесть... Наболь-
ший — главврач, а при ем — ординарцы, да прохвесторов
сколько-то. Это заместо хвельшеров, ежели по-нашему...
А дальше сестры идут, няньки, завхозы, костелянки, бан-
щицы... Прямо сказать, чертова их дюжина... Ну, это,
скажу вам, лечение! Мертвого подымут... Ванна за ван-
ной — в разных градусах... Потом из кишки льют-поли-
вают,— Шарков душ называется... Потом електричество
в мозги пущают,— Стасов душ прозывается... А то еще
инголяция есть — супротив наростов всяких и при мозо-
лях тоже... Тут уж, братишки мои, по-настоящему над че-
ловеком стараются... Запрут это тебя, милого дружка,
в ароматную комнату, а ты и сиди тут, да чох из ноздри
пущай...
435
А то еще — для барынь больше — в мокрые простыни
укутывают: спеленуют тебя, в чем мать родила, с ручка-
ми, с ножками, на манер дитю малого, а ты и лежи час-
другой... хоть маму зови!..
А то еще гальванизация есть, четырехкамерная... Тут
тебя гонять примутся из камеры в камеру, по всем четы-
рем, пока пот не прошибет... Ну, этих штук меня бог ми-
ловал!.. А все прочее имел... Ни в чем отказу не видел!
Аж даже лунные ванны превзошел... ей-ей! Вострономы
над ванными этими сколько годов сидели, выдумывали.
Ну, действительно, выдумали! Это, скажу я вам, ва-а-
анны! Каждая по пять рублей есесер обходится, нам
же — на, получи, без единой копеечки!
И добавлял, передохнув:
— Эх, на следующий год, товарищи, ежели опять че-
ловека требовать будут, катану... Обязательно катану!..
Я таперь, можно сказать, за всех вас постоять готов. Си-
дите себе по избам, хозяйствуйте в полном вашем спо-
койствии, а мне, старому, все едино... Ехать, так ехать!
Хучь на кислые, хучь на серные, хучь даже к самому
Черному морю... Можно, голубчики, можно!
1925
ЕЕ ПОБЕДА
I
Окончив начальную школу, Анфиса пошла по прото-
ренной в семье дорожке — на завод. Еще будучи подро-
стком, она задалась целью добиться квалификации прово-
лочницы-тянульщицы и теперь, устроившись к станку, на
место покойной матери, обогнала в мастерстве и в зара-
ботке своих сверстниц.
Толкала Анфису вперед неуемная жажда преодоле-
вать, познавать, достигать. Мастерская для нее — поле
сражения: в работе мчалась во весь дух, будто кого-то
нагоняла, кому-то, невидимому, мстила за старые
обиды.
— Нам, девочки, рот разевать некогда! — покрикива-
ла она товаркам.— Взялись за груз — тяни!..
Избранная делегаткой, Анфиса и тут выказала себя
ретивой. Даже удивлялись на нее: откуда что берется у
такой неказистой, малограмотной.
436
Возвратившись домой — всегда поздним часом, она
успевала почитать газетку и выспаться, а па заре, еще до
гудков, мыла и чистила в квартире, готовила, пока ста-
рая тетка спала, дров на истопку и еще ухитрялась за-
глянуть в общий коридор: шаркала там шваброю, обме-
тала в углах паутину.
В числе первых подходила Анфиса к оконцу табель-
щика и, кинув свой номерок, здоровалась:
— Касьянычу привет!
Грузный, щекастый, с лысиной, отполированной года-
ми, табельщик весело, по-молодому следил за нею, пока
она проходила у перил, проворная и опрятная, в пунцо-
вой косынке на густо-темной, как чернозем, голове.
— Вот это девка! — говорил он, подмигивая вслед Ан-
фисе.— Отличная девка...
Кажется, он первый обратил на Анфису внимание и
слесаря Карпухина.
— Чего, парень, счастье упускаешь? — заметил он ему
однажды поутру, пропуская мимо себя.— Лови птичку,
пока не усватана...
Он говорил это и другим, но Максиму Карпухину сло-
ва старика были как зерна, брошенные в готовую почву.
Жил Карпухин одиноко, был в степенном возрасте. Не-
обычной показалась ему Анфиса: делала все быстро, го-
ворила резонно и при этом озирала человека так пытли-
во, будто доискивалась самой изнанки его сердца.
С самого начала она ему даже не понравилась: было
в ней что-то мальчишеское, грубоватое, и плечи ее пока-
зались чересчур сухими. Но потом пригляделся, пообвык
и потянулся к ней.
Был он начитанным, особенно любил серьезные книги,
знал, где какая звезда в небе, не пил, не таскался с ва-
тагами ребят по улицам, зато часто хаживал на спектак-
ли в большие театры; свои, клубные, за рабочей заставой,
казались ему слишком простенькими. С годами выработа-
лось у Максима торжественное отношение к миру. О всех
вещах и явлениях, не исключая малых, говорил он в по-
вышенном тоне, с велеречием.
Анфису, когда впервые она заглянула к Карпухину,
поразила обстановка его комнаты: письменный стол, как
у директора, в углу обширная этажерка, полная книг,
а по стенам портреты вождей и ученых. Став его женою,
она была счастлива, что он у нее «не как все»!..
437
Первая размолвка произошла у супругов в разговоре
о партии. Анфиса настаивала, что ему давно пора «в ря-
ды», Максим — в ответ:
— Успеется! — и с сердцем добавил: — Я смотрю так,
что вступать без полной подготовки — одно недоразуме-
ние...
Она не совсем поняла его и не согласилась с ним, но
спорить особенно не стала. Быть может, он и прав, если
принять во внимание, что партиец должен быть «подко-
ван» вполне и основательно.
Он водил ее в театры, но она не выказала особого к
ним любопытства и этим огорчила его.
— Тебе до настоящего искусства хромать да хро-
мать! — говорил он.— Тут тоже прививка нужна.
Разошлись они в оценке и некоторых книжек беллет-
ристов. Так роман «Китай-город» Боборыкина показался
ей скучным-прескучным, а о толстенной книге с какими-
то заумными сказаниями Мережковского она выразилась
так: «Плита могильная»... Не по душе пришлись ей и пи-
сания Потапенко.
— И откуда, Максимушка, понабрал ты столько эта-
ких сочинителей? — удивлялась она.
— А вот понабрал! — откликался он самодовольно.—
В девятнадцатом, как голодуха у нас гуляла, иные каж-
дый целковый — на жратву, а я — на это самое добро! —
кивал он в сторону этажерки.— Вот жалею, что не дове-
лось мне знаменитого Горького перехватить у одного ад-
воката... Больно уж дорого запросил адвокат, невзирая,
что я ему в разруху-то «буржуйку» в квартире оборудо-
вал... А то еще в нашем же домине о ту же пору бывшая
одна барынька собрание сочинений Гоголя предлагала,
да опять в цене не сошлись. Впрочем, требовала барынь-
ка не деньгами, а продовольствием... За меру картофеля
она и спустила кому-то Гоголя...
— Да ты что же... по всем квартирам мыкался за кни-
жицами-то? — интересовалась Анфиса.
— Работа моя была такая...— объяснил он.— Я ведь,
как в гражданскую-то завод наш приглох, слесарем в од-
но домоуправление подался... Три, почитай, года провел
там. Работка хоть и бестолковая, галантерейная, так ска-
зать, зато насмотрелся я людей всякого звания... У одно-
го жильца почтенного — из профессоров в отставке — пли-
ту ремонтировал я... Ну, и наговорились же мы со стари-
438
ком... Он, видишь ли, из астрономов... И в божественные
силы мироздания веровал...
— Из ума, видно, старичина выжил! — ввернула пред-
положительно Анфиса.
— Вроде того,— согласился он.— А все же завлека-
тельно излагал старик... У него я и ту вон книгу по астро-
номии раздобыл...
В ожидании, когда перед нею откроется мир науки и
искусства, Максим усаживал жену за многотомного Рек-
лю, приобретенного им еще при нэпе, проводил беседы с
нею по географии и астрономии и вообще делал все, что
было в его силах, чтобы поставить свою подругу, как он
выражался,— на большак жизни.
Она отличалась смышленостью, неожиданные ее во-
просы приводили порою учителя в смущение. Не зная, как
отвечать, он говорил обычно:
— А ты, Фиса, вперед отца в пекло не лезь... Сначала
элементы обмозгуй, а потом уж и к целому подбирайся...
Вот!..
И, сознавая свое превосходство, гладил ее по плечу,
как школьницу.
— Так-то, друг... К примеру, прошли мы с тобой ста-
дии первого материализма, но как ты ответишь на вопрос:
какое есть уравнение между человеком и обществом?..
Молчишь и будешь молчать еще сколько-то времени... Тут
тебе не женотдельская арифметика,— почешешься!..
Она сначала радовалась этим занятиям, потом резвый
ее характер стал мешать ей. Слушает, а сама пыль тря-
почкой с книг сметает, пепел ладошкой со стола — в сто-
ронку, за карандаш вцепится — до остроты очинит его.
Но все еще была послушна и терпеливо просиживала
дни отдыха вместе с Максимом над книгами, а среди них
и над Реклю.
Давал он ей также советы и по делегатской ее рабо-
те, был мастер прикрасить каждое дело и повернуть его
с неожиданной стороны. Тогда она бурно выражала во-
сторг, чмокала его в лоб, высокий и чистый, как у «насто-
ящего книжника», и принимала при этом вид, что не за-
мечает его самодовольства.
В общем Максим Карпухин оказался спокойным и
симпатичным сожителем, с недостатками, конечно, но по-
ка что лучшее в нем заслоняло собою то, что огорчало
Анфису: например, его равнодушие к общественной ра-
боте. Он все еще только намеревался, планировал, а за
дело не брался.
439
II
И вдруг все круто переменилось.
Началось с того, что, захваченная общим подъемом,
Анфиса выступила на одном из заводских собраний с на-
падками на неповоротливых хозяйственников. Максим
про себя был согласен с женою, но что-то, когда она вста-
ла у ораторского стола, неприятно взволновало его.
Прежде всего, не предупредив его (хотя и сидела рядом),
она вдруг подняла руку и, получив голос, сорвалась с ме-
ста. Он даже вспотел и спрятал голову за чью-то спину,
когда Анфиса пробиралась к сцене. Была уверенность, что
наговорит она чепухи и ему долго потом будет неловко
перед людьми. «Ну, куда ее понесло! — думал он, весь
внутренно сжимаясь.— Тоже лезет...»
Затем, когда Анфиса, освоившись перед людьми, раз-
говорилась и не только не срезалась, а даже вызвала
оживленные аплодисменты, Максим почувствовал завист-
ливую неприязнь к этой, близкой ему, женщине.
Возвратившись на скамью, она, вся еще горячая от
возбуждения, прильнула к его плечу и зашептала на ухо
что-то, о чем не успела сказать публично. Он резко ото-
двинулся и молчал до конца собрания.
По пути домой она не выдержала:
— Ксимушка, ты чего же, миленок, дуешься?
В ее голосе почудилась ему насмешливая игривость:
«вижу, мол, чем ты не доволен»,— и он, не откликнув-
шись, зашагал вперед.
— Родненький, ты что же это? — крикнула она, насти-
гая мужа и просовывая руку под его локоть.
Тогда, сдерживая себя, чтобы не казаться совсем
смешным, и от того еще пуще злобясь на жену, Максим
заговорил. Говорил он долго, сбивчиво и неубедительно.
Выходило у него так, что хозяйственники вполне справ-
лялись со своею работою, а если в их работе и были
грешки, то исключительно из-за темноты и расхлябанно-
сти заводской массы.
Она вступилась за своих, он продолжал настаивать,
и вот, впервые за совместную Ж1из'нь, они провели оста-
ток вечера в настроении взаимного отчуждения, почти
вражды.
Следующая стычка произошла из-за отказа Максима
от работы профуполномоченного. На ее вопрос о причине
отказа он несколько дней отмалчивался. Наконец, выве-
денный из себя, раскричался:
440
— Не хочу и не хочу! Тебе-то что?.. Желаешь, чтобы
люди обвиняли нас в семейственности?!.
Она не поняла его, и тогда, захлебываясь от темного,
тяготившего его чувства, он выложил перед ней все на-
чистоту.
Оказывается, Максим не прочь был бы походить из-
вестный срок уполномоченным, более того — он давно
мечтал о таком доверии цеха, но... как же ему быть, если
его собственная жена в одном с ним цеху, да еще в поло-
жении начальства. Он намекал на недавнее избрание ее
цеховым женорганизатором.
— Вот ерунда-то! — проговорила она, меняясь в лице.
— Извиняюсь, не ерунда!—оборвал он ее.— Ты чего
хочешь? Чтобы в нас пальцами тыкали?
— Да с чего же будут тыкать, кто посмеет? — завол-
новалась она, не скрывая при этом слез в глазах.
Он не нашел нужным отвечать ей. Он продолжал мол-
чать и после того, как она, почувствовав в его придирках
что-то нехорошее, принялась всхлипывать.
Ночью, уже в постели, Анфиса потянулась к нему с
ласкою.
— Слушай, Ксимушка! Если и впрямь из-за меня от-
казался ты, то... что ж... я ведь и снять с себя могу жен-
скую-то работу...
Эти ее слова, произнесенные шепотом, были для него
нестерпимы.
— А подь ты...— прошипел он и толкнул ее в плечо.—
Подумаешь, героиня какая... Дура ты... вот что...
Он осыпал ее воркотнею, припомнил все ее слабости,
представил, как она ходит по цеху: «не ходит, а прыгает
сорокою»...
Она опять расплакалась, но когда он, почувствовав
себя виноватым, смолк и протянул было к ней руку, она
отстранила ее. Он вновь протянул руку, и она вновь от-
странила.
— Играешься! — с беспомощной едкостью прошеп-
тал он.
Тогда, не произнося ни слова, она выбралась из по-
стели и начала устраиваться в стороне, на теткином сун-
дуке.
С этого времени не проходило дня без ссоры между
ними, а самое мрачное здесь было то, что, как поняла это
сразу Анфиса, в непримиримой их склоке проигрывал, па-
дал, скатывался в яму он — Максим. Ей было досадно за
441
него и жаль его, но она уже не в силах была помочь ему.
Что-то мелкое и нудное встало между ними, ослепило их,
вгрызлось в их кровь, и этому нельзя было помочь. И она
видела, как он, лишь из-за того, чтобы не походить на нее
и не соглашаться с нею, вживался в иной, чуждый ей и
ему мир.
Только потому, например, что она убеждена была в
необходимости большой и жестокой самокритики среди
работников, он решительно восставал против. И потому
только, что она, в числе первых, хлопотала об организа-
ции в цеху новых форм труда, он оказался в числе про-
тивников всех вообще новшеств.
Если Максим не смел еще высказаться на людях, то
наедине с нею кричал о таких вещах, что ее бросало в
жар и холод.
Как-то, наслушавшись его, она не выдержала, подня-
ла голос:
— Ты рассуждаешь, Максим, как подкулачник...
ей-ей.
Он побледнел, встал из-за стола, где сидел над своим
Реклю, и, сжимая кулаки, процедил сквозь зубы:
— Пошла ты от меня... знаешь куда? Вот!
Но и в этот раз они не покинули друг друга. Что-то
удержало Анфису подле него. Может быть, тут сказалась
ее женская привязанность к нему. Вернее же всего, она
стерпела и в этот раз его грубость потому, что чувствова-
ла себя виноватою. Она все еще не верила в его падение,
разум подсказывал ей, что тут он не настоящий, что тут
он как бы во власти дурного сновидения и что, рано или
поздно, проснется же, наконец, человек!
Однако время шло, а он не просыпался, и вот в голо-
ву Анфисы запала мысль: да полно, не ошибается ли
она? А что, если и впрямь ее Максим был и есть... ретро-
град?
Это слово она переняла от него же и одно время пу-
тала с понятием «ветрогон»: ретроград значит, мол, лег-
комысленный, непутевый человек, вообще «ветрогон».
Но между ветрогоном и ретроградом была пропасть.
Ретроград оказался существом несравнимо более опас-
ным, чем целая ватага отъявленных ветрогонов. Это по-
няла она, наконец, всерьез оценив поведение мужа.
И этим словом, жутким по своему подлинному смыс-
лу, она нанесла Максиму последний удар в их соперни-
честве.
442
Ill
В ленинский день на открытом собрании ячейки Ан-
фису провели в кандидаты партии. Она возвращалась до-
мой в полночь без мужа, шла с заводскими девчатами,
и непюгожая зимняя ночь была ей радостна, ка;к в дет-
стве под большой праздник. С этим настроением она вбе-
жала на третий этаж и только тут, у двери квартиры,
протрезвела. Вдруг заныло под ложечкой, и беспокой-
ство охватило ее. С испугом она подумала, что сейчас
увидит Максима и должна будет рассказать ему о со-
бытии. Дело в том, что она даже не предупредила его
в свое время о заявлении в партию, и теперь надо было
начинать сначала. Она почти была уверена, что пред-
стояло выдержать тягостный разговор.
Закусив до боли губы, она постучала в дверь... Это
становилось невыносимым — их отношения! Если человек
не хочет понимать самых простых вещей, то как же мож-
но жить вместе?.. Наконец, время, когда женщина не мо-
гла шага ступить без своего благоверного, прошло невоз-
вратно, и разве Анфиса обязана отчитываться в своих
поступках перед кем бы то ни было, кроме партии?..
Тетка Анфисы, в квартире которой они жили, спала,
дверь открыл сам Максим.
— Поздновато! — обронил он, торопливо пройдя в
комнату, прикрыл оставленную на столе книгу. Анфиса
успела прочитать титул: «Бебель. Будущее общество».
«Эге, бросил своего Реклю»,— подумала она,снепри-
язнию взглянув на этажерку, уставленную темными то-
мами в золотом тиснении.
Она села у стола, щурясь под светом и положа руки
на колени, как в гостях. Он покосился на нарядную,
в обшлагах, кофточку и чуть-чуть коснулся взором лица,
пунцового от мороза и возбуждения.
— Ксима! — начала она, подавшись вперед.— А ме-
ня... сегодня... в партию проголоснули!..
Не глядя на нее, он потянулся за папиросой, взял, по-
стучал мундштуком о переплет Бебеля, но не закурил.
Пальцы его дрожали.
— Слышишь? — продолжала она.— Единогласно, ни
одного воздержания!.. Прокофий Андреич говорил речь...
Он нащупал спички, чиркнул о коробку и, набычив-
шись, пустил из ноздрей струю дыма.
— Теперь... дело... за тобой! — сказала она только за-
тем, чтобы не молчать.
443
Он вскинул голову, остро, вприщур взглянул на нее
из-за облака дыма и проговорил, делая вид, что не пони-
мает ее:
— Благодарствую... При чем тут я?
Он встал, с грохотом отодвинул стул и опустил на его
спинку руки: это не раз видел Максим на сцене больших
театров.
— Да-с, без меня, без единого словечка со мною вы
это дело начали, без меня и продолжайте!
Анфиса глядела на его взволнованное, с хорошим, чи-
стым лбом лицо. И она вспомнила, как нравился он ей в
первый год их жизни. Но теперь-то, теперь они уже ни-
когда, кажется, не поймут друг друга.
Она отвернулась, губы ее против воли запрыгали, а
под опущенными ресницами сверкнула влага.
Он смолк, озадаченный. Она прихватила ладонью
глаза, оставив напоказ губы, которые вдруг припухли и
продолжали прыгать, как бы разрывая невидимые, сдер-
живавшие их нити.
— Ага! — закричал он, охваченный неприязнью и жа-
лостью к ней в одно время.— Нашкодила, да и... реветь?..
Она отбросила с глаз ладошку.
— Как... как ты сказал? — крикнула она, вскакивая
со стула.— Я... нашкодила?.. Значит, по-твоему, партия...
Он пробормотал что-то невнятное и попытался поло-
жить руку на ее плечо. Она с силою оттолкнула его.
— Знаешь что! Ты... ты... настоящий ретроград!
Это было уже слишком! Он не знал слова более ос-
корбительного. Ретроград — это вершина людского паде-
ния... Капиталистический Запад кишел ретроградами, в
парламентах Англии, Германии, Франции заседали рет-
рограды— предатели рабочего класса. Если соединить
вместе кровожадного рабовладельца с царским палачом
да на придачу прирастить к ним евангельского Иуду, то
это и будет... ретроград!.. Маркс, Энгельс, Ленин — все
они не знали более постыдного слова, чем это.
— Замолчи! — проскрипел он, меняясь в лице.—
С ума ты спятила.
Но она продолжала выкрикивать:
— Да, да, да... ретроград!..
Он уже держал ее обеими руками за плечи, он тряс
ее, толкал из стороны в сторону, а она, захлебываясь,
твердила одно это непереносимое слово.
444
— Ах, так ты вот как! — выдохнул он всею грудью и,
рванув ее к себе, ударил в плечо.
Она вскинула руки, уперлась ими в его грудь, но не
смолкла. Тогда он принялся гнуть ее вниз, она царапала
ему скулы и кричала, пока оба они не упали на пол и ее
голова стукнулась при этом о ножку стола.
— Ой, ой, мать пречистая!..
На пороге, всклокоченная, в одной нижней рубахе
стояла тетка, Евдокия Поликарповна.
Он сразу разнял руки, поднялся с пола и, пошатыва-
ясь, отошел к койке.
Анфиса продолжала лежать, не шевелясь, обеими ру-
ками закрыв лицо.
IV
Популярность тянулыцицы Анфисы росла, Анфису
знал теперь не только цех,— имя ее звучало по всем за-
коулкам завода. Но далеко не все знали, как труден был
путь этой женщины, какие буераки и рвы лежали на ее
пути, сколько сил убила она уже на одно то, маленькое,
другими не видимое, из чего строилась личная ее жизнь.
После происшествия, свидетельницей которого была
тетка, Анфиса переселилась в комнату старухи. Тут как
раз подоспели дни, когда на заводе с новою силой забур-
лила полногрудая жизнь: развертывалось соревнование,
строились первые ударные бригады. Анфиса с головою
окунулась в работу и без особого замешательства пере-
несла разрыв с Максимом. Не то было с ним.
Чем глубже зарывалась в жизнь завода Анфиса, чем
приметней росла она на глазах всех и чем бодрее и воль-
готней становился каждый ее шаг, тем замкнутее казал-
ся Максим, тем раздражительней были его речи и тем не-
счастнее чувствовал он себя, непонятый, одинокий, почти
чужой всем.
У него обнаружилось явное женоненавистничество.
О всех без исключения активистках он высказывался как
об элементе ненадежном и даже подозрительном. Не
оставляя своей манеры думать и говорить глубокомыс-
ленно, он и в будничной обстановке (например, в кури-
тельной цеха) произносил длинные и пышные речи, на-
правленные против женщин.
Вот образчик такой речи:
— Козьма Петрович, и вы, Антон Гордеич, должен я
вам объяснить этот предмет... Обратимся, скажем, к пер-
445
вобытной истории, когда мы еще не имели прав назы-
ваться человечеством... Что там видим?.. Женский пол,
коротко говоря — самки, забрали, было, силу, но наши
праотцы восстали и свергли его... Читайте, пожалуйста,
знаменитых ученых, не исключая Реклю... Далее беру
аргументом капиталистическое управление, где женщи-
на допущена кой-где в парламенты, хотя и для близиру...
Что мы там, в парламентах, видим?.. Мы видим разврат,
подхалимство и предательство... Все это, понятно, не без
активности женского пола...
Оратора одергивали, стыдили... Все напрасно!
Однажды пожаловались Анфисе. Говорил табельщик
Касьяныч:
— Ваше благородие, Анфиса Сергеевна! Уйми ты
своего благоверного: сплошная контра женскому делу...
Ведь этак скоренько ему прохода от баб не будет: всех
противу себя восстановит!
Анфиса слушала и убегала прочь с припевом:
— Вашего брата учить — только время тратить...
Но втайне поведение Максима тяжко тревожило ее —
и не потому только, что для людей он еще продолжал
быть ее законным мужем.
Попав в предательские сети уязвленного самолюбия,
Максим уже бессилен был освободиться от недуга. В сле-
пой своей неприязни он поглупел, утерял чувство осто-
рожности. О его слабости проведали вскоре широкие
круги, над ним подсмеивались, его стали настраивать как
балалайку. А он сосредоточенно и угрюмо, все чаще и
настойчивей, впутывался в дурацкие затеи темных заско-
рузлых одиночек, направленные против работниц, моло-
дых и старых.
Началось с того, что принялся он открыто покрики-
вать на собраниях в сторону выступавших женщин.
— Довольно хвостом-то трепать! — гудел он из-за
спины соседа.
Или:
— Чего она там раззявилась? Хватит!..
Раза два его видели нетрезвым в клубе, и в один из
этих случаев он сцепился с комсомолками: резвые дев-
чата слишком усердно и незаслуженно, по его мнению,
аплодировали агитаторше профсоюза.
Слух о неприличиях Карпухина дошел в ячейку, се-
кретарь ячейки говорил с Анфисою, но та сурово заяви-
ла, что ей нет и не было дела до этого человека.
446
— Ну, знаешь...— сказал ей секретарь, опустив гла-
за.— Это, знаешь, не того... не по-коммунистически... Все-
таки не чужой он тебе.
И впервые за время своего партийного стажерства
Анфиса резко, почти грубо отвечала секретарю. Она ска-
зала:
— Повесь, пожалуйста, Карпухина себе на шею и
спасай!.. А меня оставь в покое.
Она поднялась от стола, за которым секретарь сидел,
уткнулась в окно и неожиданно завсхлипывала.
Ссора Максима в клубе с комсомолками была как бы
вступлением к подлинному скандалу. Скандал разыграл-
ся в прямой связи с Анфисою. Уже на второй месяц
после собрания, где она была принята в партию, среди
цехового актива заговорили о более решительном ее
выдвижении. К тому времени на заводе как раз возникли
цеховые комитеты профсоюза, и общественность всего
тянульного отделения высказалась за избрание в пред-
седатели комитета Анфисы Карпухиной. Тут-то и нача-
лась подлинная мука Максима.
Теперь его величали не иначе как — председательшам
муж.
И председательшин муж должен был выслушивать
комплименты работниц по адресу Анфисы Сергеевны.
Председательшин муж вынужден был мириться даже
с желанием некоторых проштрафившихся рабочих ис-
пользовать его: почему бы ему, мужу свой жены, не смяг-
чить суровый характер Анфисы Сергеевны... И так далее,
и тому подобное.
Словом, жила-была председательша Анфиса Сергеев-
на, которую знал весь завод, к мнению которой прислу-
шивался весь цех, и не было, как бы вовсе не существо-
вало на свете слесаря Максима Карпухина! И это в то
время, когда не у кого другого, а именно у него, Карпу-
хина, училась Анфиса кое-чему из науки.
Училась, но так и не доучилась... Кто-кто, а он, Ма-
ксим, знал неприкрашенную цену этой женщине! Ведь и
посейчас имя великого английского писателя она выго-
варивает как «Секспир», а Большая Медведица, извест-
ная всем школьникам, оказывалась у нее то вдруг на ме-
сте Стожаров, то вовсе исчезала с неба... Да мало ли
знал он фактов, свидетельствующих о полном невежест-
ве этой самой Анфисы Сергеевны. Из всего Дарвина она
освоила только то, что человек и обезьяна — родная мать.
447
Стыдно сказать, но если поставить сейчас председатель-
ницу цехкомитета к доске и заставить ее сложить пару
дробных чисел, она такую математику припустит, что ку-
рам на смех... А как держала себя его дражайшая в те-
атрах!.. На сцене разыгрывается трагедия, а она... позе-
вывает, прикрыв рот ладошкою, будто перед нею какая-
нибудь обыденная заводская история.
Все это было бы терпимо, если б хоть сколько-нибудь
Анфиса сознавала свою слабость. Но нет! Каждый ее
шаг, каждый жест руки обличали ее самоуверенность!..
Так по крайней мере это представлялось ему.
Достаточно было поглядеть на нее при обходе цеха,
чтобы раскусить ее: идет от станка к станку, как невесть
какая особа, в руках бюллетенчик с карандашиком, в
глазах — фейерверки. Прошлый раз заглянула к Макси-
му вместе с Федькой из ударной бригады, постояла, ско-
сила губы, говорит: «Эх, уж эти мне единоличники!» На-
мек на дикое состояние Карпухина в отношении ударно-
го движения.
Впрочем, выражала тут Анфиса общий взгляд. В пер-
вое время, как только что завелась мода на ударную ра-
боту, Максим имел немало еще единомышленников, но
потом единомышленники стали изменять и перебегать
один за другим в ударные бригады. Даже престарелый
токарь Иван Мосолитин, державшийся до последней
крайности, не выдержал — примкнул к общей заразе. Те-
перь Максиму и сердце отвести не с кем. Стоял он в сво-
ем углу, как лысый волк на привязи, и самый распослед-
ний мальчонка норовил брыкнуть его: «Эй, дядюшка Ма-
ксим, держи крепче портки, по-ударному...»
И вот взорвало-таки Максима. Дело сталось на обще-
заводском собрании, в присутствии по крайней мере пол-
тысячи голов. Шел отчет Анфисы по тянульному цеху,
выступали ораторы, отмечали неполадки в работе, хва-
лили. Больше — хвалили.
Вышел и он, да такого накричал, что и сам почувст-
вовал полный провал свой. Вдруг стало всем ясно, что
слесарь Максим Карпухин просто-напросто сводит счеты
с председательшей.
Кричали из залы гудом:
— Долой его!
— Хватит!
А он знай свое жарит, кулаками помахивает, в выра-
жениях совсем перестал стесняться. «Выскочка», «лахуд-
448
ра»,— вот как честил Максим Анфису Сергеевну. Вовсе
сбесился, забыл и о Реклю с Дарвином, и об астрономии,
и о театрах... А тут, на горе, вздумала Анфиса защищать
его, выбежала на кафедру, сама не своя, в лице ни кро-
винки.
— Товарищи! — кричит.— Не верьте ему, в умствен-
ном он расстройстве...
И, как услышал это Максим да вспомнил словечко
«ретроград», сорвался с места и хвать Анфису пятерней
за рукав... Эх, что тут только поднялось в зале, передать
трудно.
Возвратившись домой, Карпухин бросился, не снимая
сапог, в постель, вцепился зубами в подушку, руками —
в волосы. Пролежал так с час времени, вскочил и завер-
телся по комнате, да неспроста: попадет ему на глаза
стул — он стулом в стену, пепельница на столе — об пол...
За парадные томики Реклю принялся, под ноги их себе,
под ноги! Только к утру приглох, угомонился и весь сле-
дующий день не показывался на заводе. А на заводе, об-
судив происшествие и учтя все же заслуги (хороший,
умелый производственник), приняв также во внимание
объяснение Анфисы (не выдала она и тут его), пореши-
ли: вынесли Максиму Карпухину выговор, а вместе с тем
выждать — не исправится ли.
v
Было бы ошибкою как со стороны автора этого рас-
сказа, так и его читателей предполагать, что Максим
Карпухин, не один год переваривавшийся в заводском
котле, неисправно чуждый элемент. Правда, слабость
Карпухина к упадническому искусству буржуазной за-
кваски, почтительное его отношение ко всем, без разбо-
ру, зарубежным ученым — уже это говорило против него.
Еще более существенным для определения его воз-
зрений и поведения являлся отрыв от общего движения
на заводе, и здесь было бы непоследовательно как-либо
защищать нам слесаря. Скажем разве о том, что, перейдя
в годы гражданской войны с завода на кустарную работу
в одном из домоуправлений города, он исправил затем
эту свою глубочайшую ошибку: в послевоенный период
восстановления хозяйства он вновь встал в ряды завод-
ской армии и долгое время по целым суткам не выходил
с завода. Но, разумеется, прошлые заслуги человека не
15. В. Бахметьев
449
могут снять с него вину за пороки в настоящем... И одна-
ко, как мы еще увидим, Максим выправился. Он сумел
преодолеть тот недуг вздорного себялюбия, который
въелся в него вместе с пылом ревности к своей подруге.
Правда, помогла тут ему случайность, связанная с жен-
ской природою Анфисы. Но почему, спрашивается, ни од-
на из случайностей жизни не явилась для многих заблу-
дившихся товарищей того времени поводом к возрожде-
нию? Ясно, что дело не в случайности, а в самой натуре
Карпухина, которой нужен был только толчок, чтобы
вновь выказать себя во всех своих положительных чер-
тах.
Возвратимся, однако, от общих рассуждений о лич-
ности слесаря Карпухина к дням и делам его. Прежде
всего нам придется уделить некоторое внимание тетушке
Анфисы.
Евдокия Поликарповна совсем не походила на свою
племянницу. Анфиса суха телом, подвижна, порывиста.
Евдокия Поликарповна дородна, степенна, медлительна
в походке, и характером они разные: племянница пряма,
упориста, даже жестока порою; тетка, напротив, склонна
к лукавству, хотя и добродушному, не любит, когда ей
противоречат, не без особой борьбы уступает натиску со-
беседника. Вообще мирное состояние сердца тетушка це-
нила превыше всего.
Когда Анфиса после бурной сцены с Максимом пере-
селилась в комнату тетки, обеспокоенная Поликарповна
принялась было убеждать племянницу отказаться от сво-
ей строптивости, уступить мужу и вообще восстановить с
ним мирные отношения. Это был один из опасных момен-
тов, когда между теткой и племянницей могла образо-
ваться пропасть.
Но уже через короткое время, поняв, что разрыв с му-
жем ничем худым не отразился на заводской карьере
племянницы, тетка перестала ворчать и явно перешла на
сторону Анфисы.
— Тысячу лет изголялись над нашей сестрой, пускай
теперь попляшут обапол!—говорила она племяннице,
тем самым закрепляя связь с нею и в то же время декла-
рируя свое свободомыслие.
Однако свободомыслие Поликарповны дальше не по-
шло. Втайне она продолжала ценить старого слесаря
Карпухина. «Этакими кусками не разбросаешься»,— ду-
мала она о муже племянницы, и вскоре, лукавая от при-
450
роды, тетка заняла между враждующими буферную по-
зицию.
Рассуждала в этом случае умудренная жизненным
опытом женщина так:
«Слов нет, Анфиса устоит сама по себе, время нынче
для женщины сопутствующее... Но разве помеха челове-
ку— лишняя подпорка?..»
Однако все попытки Поликарповны примирить сторо-
ны оставались тщетными. Помог случай.
Однажды, уже перед весною, воспользовавшись от-
сутствием племянницы, тетка решительно прошла к Ма-
ксиму, уселась поблизости с ним у стола и сказала:
— Ну что, не бросил еще своего Реклина?..
Он хмуро провел ладонью по темени, как бы разгла-
живая спутанные мысли, и молчал.
— Так...— продолжала усмешливо Поликарповна.—
А по-моему, так: хоть и не по-ученому иной беседу дер-
жит, а все ж таки живой человек лучше бумажного ум-
ника... А про тебя одно скажу,— перешла она на серьез-
ный тон.— Не обижайся на старуху, прямо скажу: бессо-
вестный в тебе человек живет, скудный, антипатичный...
— Так...— вздохнул он и поднял глаза, в которых еще
не остыли тревога и стыд: только что в это утро, впервые
после скандала, завкомщики передали ему о строгом то-
варищеском выговоре и предупреждении.
— Нельзя ли, Евдокия Поликарповна, ближе к це-
ли,— попросил он.
Но она перебила его:
— Обожди! Не к тому пришла, чтобы без дела бала-
бонить... По-доброму пришла, по-серьезному|
И затем, вспотев и даже зарумянившись, она подняла
к его уху руку, прихватила ухо за кончик, потянула к се-
бе и — шепотом:
— Беременна Анфиска-то...
Он изменился в лице так, что тетка невольно отдер-
нула от его уха пальцы.
— То есть, как это... с чего это? — пролепетал он, и
тогда, поняв значение его испуга, она рассердилась.
— Третий месяц у нее это, рука дуралевич!.. Рассчи-
тай-ка, когда последний раз вместе были... Ну?..
Краска медленно залила ему лицо, он вытер ребром
руки пот со лба, опустил глаза.
— Ишь, чучело! — уже ласковее заговорила тетка.—
Небось племянница-то у меня не из ветрогонок...
451
Несколько придя в себя, но еще не совсем успокоен-
ный, он спросил:
— Как же так?.. Два года жили... не было...
— И двадцать, случается, живут, а на двадцать пер-
вом бог и подарит...
В другое время Максим непременно оговорил бы тет-
ку в отношении бога и, быть может, вспомнил бы к слу-
чаю о Реклю, но сейчас ему было не до того, и он, рас-
плывшись в мутной улыбке, повторял только одно:
— Как же так... однако... получилось...
Его охватил поток разноречивых чувств, а среди них
первейшим было ощущение чего-то нового, значимого,
опрокидывавшего прошлое. Он даже встал со стула и
прошелся по комнате, продолжая неопределенно улы-
баться и пряча глаза от тетушки, хотя та деликатно смот-
рела в сторону.
— Ну и что же, Евдокия Поликарповна, как же те-
перь будет, а?..— заговорил он, остановившись у стола и
с новым острым беспокойством поглядывал на тетку.
— А ты вот чего, Максимушка...— перешла та на вор-
кующий тон и накрыла его руку ладошкой своей руки.—
Ты слово-то мое в секрете подержи да потерпи... Понял?..
Неудовлетворенный, он промычал что-то в усы. Она
заторопилась.
— Анфиску знаю, как свои пять пальцев... Горда, но
отходчива... А тут, милый, дело такое, что зверь и тот
гнезда ищет... Понял? Опять же имела я с ней беседу.
Пока что слышать о тебе не хочет... «Потерянный, гово-
рит, человек... единоличник!..»
— Вот видите...
— А ты носа не вешай!.. Анфиска не верстак: ее за-
раз не подкрутишь, не подвинтишь... Понял?.. И нечего
вздыхать!.. Вздохи-то свои оставь, за ум-разум примай-
ся... Реклин-то твой чего теперь тебе скажет? А я скажу!
Он недоверчиво покосился на нее и опять зашагал
вдоль комнаты.
— На каком разряде сидишь? — неожиданно спро-
сила она.— По заработку-то?
— А что?
— А то! Стыдно — вот что... Ивашку, Икентьича
сынка, знаешь? Без году неделю на заводе, а по сотне
рубликов отцу носит: приспособился на скоростях в ра-
ботке.
Он махнул рукою.
452
— А ты... не маши ручкою-то. Концы-то сам обрезал,
теперь поищи — авось свяжешь!..
Помолчала, оглядывая комнату.
— Да прибрался бы вокруг маленько... Ишь как в
сам деле замусорился!
Она уже была у двери, когда он остановил ее:
— Тетушка!
— Аюшки?
— А как она, Анфиса... не сделает чего над собою?
Насчет, то есть, беременности... Ну, там... сами знаете,
ответработа у нее, а тут — ребенок, помеха!
— А, вон ты об чем! — догадалась тетка.— Поперво-
началу действительно ходили у ней мысли... Только ты не
беспокойся. На такое дело Анфиса моя не пойдет!
VI
Анфиса по-прежнему кипела, волновалась, перестра-
ивала и устраивала цех (ее уже метили в инструкторы по
всей женской работе завода), и по-прежнему сосредото-
ченно, но в одиночку стоял у своих тисков Карпухин.
Правда, в самое последнее время председательша нет-
нет да и запоздает на завод, нет-нет да и пропустит то
или иное заседание: природа напоминала о себе, одерги-
вала, звала к покою и осторожности, приготовляла! В то
же время Максим заметно приосанился, он зорче стал
посматривать вокруг себя и раза два подходил к столу
за номером тринадцатым, где хоровод девчат, еще толь-
ко в прошлом году окончивших фабзавуч, организовался
в производственную коммуну. В первый раз он только
поговор'ил с бригадиром коммуны, а при втором посеще-
нии вмешался в самую работу, кое-что досмотрел, испра-
вил, дал совет и удивил всех: слесарь, а в тянульном де-
ле смекает не хуже старых рабочих.
В коммуне — много энтузиазма и еще мало порядка,
участники сознавали это и за Максима ухватились. Но
как неожиданно он появился, так неожиданно и восвояси
убрался.
Время подвигалось, весна повернула на лето, и вот
Анфиса — в декретном отпуске. Эти недели выдались
жаркими, на заводе спешно готовились к большому ре-
монту, от суеты и забот духота в цехах казалась непере-
носимой. Как-то забежал к Максиму помощник заведу-
ющего по труду, Иван Дементьевич, и принялся убеждать
его отложить отпуск на осень: чтобы примкнуть теперь
453
же к ударникам по ремонту в прокатке. Иван Дементье-
вич не очень верил, что этот человек даст согласие, но
вдруг Максим согласился.
— Можно, Дементьич!
— Тогда заходи после смены, оформим...— обрадован-
но кивнул тот и скрылся.
Согласие свое Максим дал главным образом потому,
что срочная работа в прокатке была отличным поводом,
чтобы отложить отъезд в дом отдыха, за сотню верст от
города. Он думал, что будет пристойнее, ежели останется
на то время, когда в его доме готовились к необычайно-
му событию.
Узнав о решении Максима, Поликарповна сейчас же
передала об этом племяннице, но та ничем не выразила
своего отношения к делам Карпухина, только протянула:
— А-а-а...
На время вынужденной отлучки Анфисы из цеха обя-
занности ее по профкомитету выполнял Евграша Цыбик,
секретарь профкомитета, и в первую же неделю весь цех
приметил перемену.
В сложном союзном механизме все было как будто бы
на своем месте, и все шестеренки этого механизма, от
малых до самых значительных, продолжали размеренное
движение; по каждому сектору бегали свои организато-
ры, каждый организатор подгонял свой актив, и как всег-
да, без перебоя, в положенные дни комитетчики собира-
лись на заседания. И, однако, не было активиста в цехе,
который про себя не думал бы, что с уходом Анфисы Кар-
пухиной какие-то винтики не в ходу, какие-то болтики
разболтались. То да не то, те же щи, как говорится, да по-
жиже, и сравнивать их — Анфису с Цыбиком — невоз-
можно! Евграша расторопен, а та вдвое расторопней;
Евграша зорок, а у той и на затылке глаза; Евграша ре-
чист, а ту и с полслова понимали... Вот вам и женщина,
слабый пол!..
Странное творилось с Максимом в ту пору. Бывало,
стоит у своего верстака, за сетчатой оградой, в самом
хвосте цеха, и нет у него ни к чему интереса! Кто куда
спешит, кто о чем говорит, какие собрания полны, на ка-
ких пусто,— зачем все это слесарю Карпухину?.. Стоит
он у тисков, молоточком постукивает, рашпилем позвани-
вает, часть к части пригоняет, и нет ему ни до чего дела.
Человек он маленький, на каждом посту — свой ко-
мандир, и пусть каждый ответ за себя держит... Уселась,
454
к примеру, Анфиса на командное место, так и пусть ози-
рается на всех: одному угождает, другому глаза рвет,—
нет и не было тут заботы Максиму Карпухину.
И вдруг с уходом Анфисы все переменилось.
Прежде всего начали заглядывать к Максиму люди:
один насчет здоровья Анфисы Сергеевны справится, дру-
гой попросит бумажку ей передать, третий так, без oto-
бого повода, мимоходом. Больше было последних, притом
работниц.
И всем им Максим должен был как-то откликаться.
Сначала это не нравилось ему, затем, поняв, что говорят
с ним не ради зубоскальства, стал с людьми приветливей,
а потом его даже коробило, если человек, еще вчера мы-
кавшийся заодно с Анфисой, проходил мимо молча, как
будто и не было на свете ни председательницы цехкоми-
тета, ни ее мужа, Максима.
Он и на собрания принялся похаживать, особенно ес-
ли на повестке дня стояли вопросы, близкие работе Ан-
фисы. Приходил, правда, одним из последних, усаживал-
ся в уголку, подальше от президиума, и слушал ораторов
так, словно у него болели зубы. Но это все было только
снаружи, чтобы не подумали люди, что трепался Максим
из-за жениных интересов. Втайне, про себя, он прикиды-
вал каждое слово оратора и, если говорили о неполадках,
прямо или косвенно связанных с председательницей, на-
стораживался, а иногда и вскипал: хорошо-де вам бол-
тать, попробовали бы сами на месте Анфисы Карпухиной
посидеть, квасу с перцем похлебать.
Первое выступление Максима на большом собрании
вызвано было именно этим ревнивым отношением к пре-
стижу Анфисы. Однако не будем забегать вперед и, преж-
де чем перейти к полному перевороту в настроениях
слесаря Карпухина, остановимся еще раз на его
недостатках. Здесь необходимо будет включить в наш
рассказ беседу, имевшую место между Максимом и его
товарищами вскоре после ухода Анфисы в отпуск. Вот
он, этот довольно характерный для тогдашних пережи-
ваний Карпухина разговор.
Утром, у конторки табельщика.
Табельщик Касьяныч (к Максиму). Ну, как
там у тебя, чего председательница-то?..
Максим (довольно небрежно). Дело ее женское, го-
товится!
455
Токарь Мосолитин (вмешиваясь в беседу). Мо-
лодец, Максимка! Своего не упустил. И ведь вот что, ре-
бята, поразительно! Втихомолку, подлец, промфинплан-то
личный свой выполнил...
Пожилой тянульщик. Нашей бы дирекции сек-
рет такой открыть... А то вот она, дирекция, бьется-коло-
тится, а все ни тпру, ни ну!..
Токарь Мосолитин. Кабы у Максима столько
старателей было, как у нашей дирекции, небось и он не
достиг бы... Его дело чистое, без вредительства.
Общий смех.
Максим. У одного английского ученого, у Дарвина,
сказано: род человеческий есть поделка тысячи тысяч ве-
ков... Сначала инфузория, потом животный организм про-
стого вида, потом уж обезьяна и в конце концов человек...
До такой механики нашей дирекции хромать да хромать!...
Касьян ыч. А где он теперь, Дарвин твой? Пригла-
сить бы его к нам техноруком.
Токарь Мосолитин. По другой, вишь, линии он,
Дарвин, то есть... Больше насчет порчи председательш...
Так, что ли, Карпуха?
Максим. Вроде того! Но, между прочим, должен
вам объяснить. Дарвин-то Дарвином, а и мне тоже дове-
лось голову поломать... пока свою половину убедил...
насчет ребенка-то.
Ка сьяны ч. Ай не хотела?..
Максим. Главное — обременяться опасалась. «Как
же, говорит, Максим Антоныч, с работой будет, с заво-
дом, с цеховым комитетом?»
Токарь Мосолитин. Вот-вот... А ты?..
Максим. А я: «Завод, говорю, не провалится, а про-
тив дитяти бунтовать не смей!»
К а с ь я н ы ч. Правильно. Ну, и как же?
Максим. Сдала!..
Окружающие глядят на него с выражением одобре-
ния... Черт, мол, его знает, этого Максима: стоял себе че-
ловек за станком да помалкивал, а супруга всем цехом
командовала, и вдруг — нате вам! И над ней командир
сыскался.
VII
Из летучей этой беседы Максима с приятелями можно
было вывести заключение, что Анфиса только фасон
наводила относительно своей женской независимости, в
456
действительности же с мужем дело обстояло у нее, как
и у всех жен и мужей заводского поселка.
Пустив людям пыль в глаза, Максим оказался в до-
вольно неловком положении: стоило соседям хорошенько
вглядеться в жизнь Карпухиных, и все, от мала до вели-
ка, немедля обнаружили бы прискорбную неправду в ре-
чах слесаря: пустая похвальба!
Как это ни странно, Анфиса оставалась холодною и
глухою к бывшему своему мужу, как будто его и на све-
те не существовало. А он-то хвастался, что цеховой пред-
седатель перед своим благоверным — ниже травы, тише
воды... И ведь вот беда: поверили ему люди, а заскоруз-
лые старички, вроде токаря Мосолитина, так те стали да-
же подшучивать над комсомолками. Нечего, мол, вам нос
драть, придет час, и вы бабью свою долю признаете.
На что уж, мол, Карпухина—комиссар-баба, а и то
«сдала»...
Понял Максим, что отныне честь его висит на самой
тоненькой, браковой проволочке: проведают в цеху исти-
ну-правду — засмеют.
И вот вновь глухое раздражение против Анфисы нача-
ло терзать слесаря. Прохлаждаясь дома после работы,
Максим часто слышал, как хлопотала у себя за стеною
Анфиса, как она смеялась, перебрасывалась шуточками с
теткою, и в отяжелевшей ее поступи, в громком ее смехе
чудился слесарю суровый приговор: ничто не могло вер-
нуть ему прошлого — ни женская слабость Анфисы, ни
ее материнство, ни его, Максима, право на отцовство.
Был завод, тысячи рабочих на нем, и была среди них
остроглазая женщина, которая шла своей дорогой, мимо
Максима — и вопреки ему!
Как тут быть, где выход?.. Напрасно слесарь ломал
голову, доискивался в беседах с тетушкой ответа на му-
чившие его вопросы,— время шло, Анфиса не замечала
мужа, люди в цеху продолжали питаться догадками на-
счет положения в семье Карпухиных... Беда!
Беда, как говорится, беду родит. Прибыла на завод
профсоюзная бригада, порылась в делах, раскопала не-
поладки в работе, растормошила, вывернула наизнанку
прокатку, фасонку, прессовщиков, и вот уже в тянульном
цехе бригада: сегодня расспросы, завтра летучая беседа
с активом, а там и общецеховое собрание. Вышло так,
что как раз в тот день тетушка увезла Анфису в родиль-
457
ный приют, и на сердце Максима было неспокойно. Все
же он пошел на собрание. Уселся, как всегда, в сторонке.
Доклад бригады был пространен и жарок. Докладчик—
молодой парень, шустрый, ядовитый: говорил с издевоч-
кой, цифровыми данными прогромыхивал, цитатами из
вождей, как шрапнелью, осыпал собрание... И вдруг...
ушам своим не верит Максим: «склоняют» его Анфису
вдоль и поперек... Почему, по какой причине?.. Вслушал-
ся и похолодел: охаивает докладчик профсоюзную рабо-
ту, механизм весь по винтикам развинтил, разбросал: и
там, вишь, поломка и тут нехватка!
«Вот так штука!» — думает Максим и озирается по
сторонам, ища на лицах соседей разгадку, а соседи будто
и не замечают его.
Кончил докладчик, ответил на несколько вопросов с
мест, а потом:
— Кто желает высказаться? — кричит председатель.
Но... ни одна рука не поднялась: сидели люди, как оглу-
шенные.
«Неужели ж так-таки и промолчат?» — волнуется
Максим, даже привстал на месте, выжидая. Председатель
повторил приглашение. «Вот так оказия!—закипает у
Максима на сердце.— Хоть бы кто рот разинул, а ведь,
бывало, всяк к Анфисе со своей нуждой. Нечего сказать,
хороши товарищи!..»
Наконец, подшагал к столу Евграша Цыбик. Однако
с первых же его слов еще тягостней стало на сердце у
Карпухина: мямлит Цыбик что-то под нос, куда вся его
прыть девалась. А главное, не с того конца начал, отго-
ворочками норовит дело .замять, и лучше бы уж не вы-
ступать ему вовсе.
И впервые за эти годы пожалел Максим, что не было
в цеху Анфисы.
«Небось показала бы, как свое доброе имя пролетарии
берегут...»
И только так подумал Максим, вспомнил, где теперь
его Анфиса, какие женские муки должна она в этот час
испытывать.
Смолк Цыбик, потный, красный — как из бани, и опять
председатель вызывает желающих, и опять — глухое мол-
чание.
Тогда, будто поднятый кем-то, кому нельзя было про-
тивиться, вскинул Максим руку.
— Слово товарищу Карпухину!..
458
Шел он к столу с чувством обиды и раздражения, и это
чувство усиливалось по мере того, как проходил он среди
людей, ловил на себе их взгляды, не то удивленные, не то
хмуро-неприязненные. Только Туська Карева с трина-
дцатого стола да еще одна из коммуны, в пунцовой по-
вязке, взглянули на него с надеждою.
Перед тем как открыть рот, последнее, о чем подумал
Карпухин, это: что сказала бы на его месте Анфиса?
Он даже закрыл глаза, как бы ожидая, что вот-вот
услышит звонкий, торопливый голос, увидит голову, тем-
ную, как чернозем. И так как ничего такого не было, не
было Анфисы в зале,— чувство горечи и раздражения
еще сильнее охватило его.
Он стоял, ухватившись руками за спинку стула, как
держат себя в театре видные действующие лица, и те-
перь не сомневался, что напрасно попросился говорить.
Однако уже с первых слов, как ни корявы были они,
в зале почувствовалось оживление. И странно, в этом
оживлении Карпухин приметил сочувствие. Его голос
окреп, в то же время он подумал, что, быть может, оши-
бался, принимая молчание в зале за равнодушие людей
к судьбе Анфисы.
Он оторвал руки от стула, меняя театральную позу
на свою обычную, какую знал у себя за работой, и ему
стало еще легче. Теперь он говорил уверенно, и со скамей
начали поддакивать ему: «Верно! верно!..»
И вдруг понял Максим, что не один он, что весь, по-
жалуй, цех на его стороне, то есть на стороне Анфисы
Карпухиной. Мысли полились ровнее, в памяти сами со-
бою вставали факты за фактами, а там неожиданно Дар-
вин явился на подмогу, Бебель шепнул что-то на ухо о
«будущем обществе», Ленин встал за спиною, положив
на плечо оратора руку: «Без женщины, без этой полови-
ны рода нам социализм не построить...» Может быть, не
совсем так сказал учитель, да ведь дело не в точности
слов, а в самом смысле.
— Вот это жарит! — не выдержал, обронил кто-то в
зале, и видит Максим: довольны им люди, с ним они, по-
нимают его, разделяют его мысли. И тут исчезло у него
последнее, что еще мешало ему: не было мужа председа-
теля цехкомитета, не было никакого вообще родства, бы-
ла одна голая правда, такая прямая и крепкая, с такой
закалкой, что все это — привычное, будничное и косное —
вдруг исчезло. Остался только слесарь Карпухин, много-
459
летний его стаж у станка, прочный, проверенный в годах
житейский опыт, мужественное, выросшее в цеху сердце.
И вспомнили в зале, как он, этот Максим, дневал и
ночевал у станка в годы восстановления завода, как он,
один из первых, воевал со шкурниками, с мотовством и
лихоимством. Вспомнили все хорошее, что знали о Ма-
ксиме, и как бы вовсе выкинули из памяти его поведе-
ние на женских собраниях, скандалы с Анфисой, нечаян-
ные пьянки в клубе.
— Правильно, Карпухин... Сыпь, чего там!..
Эти голоса уже были лишними, оратор окреп, он дав-
но перестал различать, где высказывал свои мысли, а где
перекладывал мысли других, те самые, что ворохами
угольков вспыхивали в чужих глазах.
О чем была его речь? По совести говоря, трудно было
сыскать в ней стержень. Он говорил о работе в цеху, о
профсоюзе, о срыве промфинплана за последний квартал
и о своей жене Анфисе говорил, о заведующем цехом, о
Евграше Цыбике... О сотне вещей и явлений говорил Ма-
ксим, и слушали его на скамьях с напряжением, как если
бы решался вопрос о судьбе каждого из присутствовав-
ших.
Не скроем от читателей: речь Карпухина мы записа-
ли, израсходовав не одну страницу своего блокнота,—
но... что-то подсказывает нам теперь, что речь эту переда-
вать не надо, да ее и нельзя передать без ущерба для то-
го большого чувства, какое двигало в те минуты Карпу-
хиным и находило себе отклик в толпе слушателей.
Он и сам, мы уверены, не в состоянии был ни тогда,
когда говорил, ни позже понять всю значимость своей
речи. Ему все время казалось, что он говорит о весьма
обыденных, простых вещах, и это было так на самом де-
ле, но он чувствовал, что за простым, обыденным, о чем
он говорил, люди угадывали его большое, совсем необы-
денное чувство.
Рассматривая деятельность цехового комитета, отме-
чая ошибки и срывы в его работе, профсоюзная бригада
поступила правильно, как и следовало поступать всякой
бригаде рабочего контроля. Но при всем этом бригада
забыла кое-какие пустяки, а эти пустяки имели решаю-
щее значение, переворачивали с головы на ноги все де-
ло. Бригада не учла, что перед нею был заводской коми-
тет, какой в то время не так часто встречался на пред-
приятиях. Бригада упустила из виду, что комитет этот
460
сколочен женщиной, что во главе его стояла рядовая ра-
ботница, руку которой принял весь цех. Бригада не зна-
ла, что Анфиса Карпухина поднята на ноги цехом и до-
рога цеху, как все, во что человек труда вкладывает свои
силы.
И вот это, что не могла понять бригада, вдруг понял,
почувствовал и до конца оценил слесарь Максим Карпу-
хин. Выкрикивая в толпу жаркие слова о работе Анфисы,
о том, как шаг за шагом, крипич за кирпичом строилось
здание нового цехового комитета, Максим и сам удивлял-
ся силе события, тому чуду, какое расцвело в их цеху...
Трижды дурак он, что не замечал раньше, над чем и как,
с какою самоотверженностью билась эта едва грамотная,
скучавшая в больших театрах и над большими томами
Реклю тянульщица... Она вставала до зорьки, его Анфи-
са, и первая являлась к станку. У нее не было ни одного
прогула за все годы. У ее стола, за ее катушками, не
полагалось брака. Стараниями ее возникла в цеху
коммуна, усилиями ее ожила работа профсоюза, и разве
не чище любого мужчины подымала Анфиса Сергеевна
вопросы производства, брала на цугундер спецов,
заставляла самого директора, Петра Иннокентьевича,
настороживать ладошкою ухо.
Максим едва удержался, чтобы не сказать, не закри-
чать на весь зал также и о том, что в этот самый час жен-
щина, не знавшая усталости в работе, всю себя отдавав-
шая цеху, заводу, пролетариату... готовится стать ма-
терью!..
Он не сказал об этом, но это и без него знали все, и,
как только кончил он, в зале поднялся такой гул, что
только глухой мог усидеть на месте. Все спуталось в за-
ле, перемешалось, стало хаосом: люди двинулись прочь
от скамей, одни били в ладоши, другие что-то выкрики-
вали, и сильнее всех неистовствовал тринадцатый стол
во главе со своим бригадиром Туською Каревой.
К Максиму, обливавшемуся потом, подошел строгий
докладчик от бригады и сказал:
— Маху мы дали, ешь вас всех мухи с комарами!..
Был он молод и по-молодому взволнован и, чтобы вы-
разить свою солидарность с цехом, принялся колотить
ладонями о стол, потом перехватил у кого-то из рук га-
зету и завертел ею у себя над головою, как флагом.
461
VIII
КОЕ-ЧТО ИЗ ЗАПИСЕЙ КАРПУХИНА
...Наши в цеху приписывают слову соревнование не-
давнее время, между тем это слово древнее, потому что,
как подсмотрел великий ученый Дарвин, соревнование
кипит по всему космосу. Но, правда, соревнование сорев-
нованию рознь. Когда-то соревновались среди людей по
всяким пустякам, из-за одного, например, рыцарского
самолюбия, нынче это дело развертывается в масштабе
масс.
Третьего дня моя ремонтная бригада осилила бригаду
Якова Бороздина по всем показателям. Когда об этом
информировали Анфису, то она, несмотря на кормление
ребенка, запрыгала на месте: это ей — как масло в огонь,
потому что женщина она с большим пролетарским и се-
мейным самолюбием.
...Я ей говорю:
«Если, по-твоему, Реклю устарел, то почему же так
вышло, что ты записалась в ВКП(б), несмотря что вме-
сте мы его, Реклю, читали?»
И еще говорю:
«Дело, значит, не в Реклю, а в нашем высоком убеж-
дении, под которым рушится весь старый мир».
Она же говорит:
«Ты образованный и знаешь все главные звезды в не-
бе, а при чем тут звезды, если дело в показателях, при-
ведших Якова Бороздина к полному поражению?»
Это, между прочим, верно, но звезды ей понадобились
из-за одного намерения уколоть мужа. Она томится, бу-
дучи привязана отпуском по случаю ребенка, но я знаю,
что именно ей, такой женщине, нужно: ей нужен второй
партбилет в семье!
«Если, говорит, у нас теперь сын Владимир, то как его
рассматривать: мать — партийка, отец — без. Так что кто
же такой этот ребенок? Середка на половинку какая-то!
И, главное, стыдно будет Володьке, как подрастет, за ро-
дителя, пролетарий, а не в авангарде!»
Тоже правильно, хотя и не без задней цели ею выска-
зано, а цель одна — подстрекнуть мужа на вступление в
ряды сознательных.
Настоящего ответа я пока не дал ей, но она и сама
видит, что тут вопрос короткого времени.
[1930, 1952]
462
О ВЛАДИМИРЕ БАХМЕТЬЕВЕ И ЕГО ПРОЗЕ
Книги, написанные в давние времена, почти всегда требуют позд-
нейших переосмыслений и растолкований. Нередко это чувствуют
и сами писатели: тогда они начинают переписывать созданное в мо-
лодые годы. Это делал и В. Бахметьев, хотя не всегда, пожалуй, пе-
ределки шли на пользу его сочинениям. В дальнейшем разговоре о
В. Бахметьеве я буду поэтому брать текст, который вызвал наи-
больший интерес читателей, так сказать, в первозданном виде (на-
пример, его роман «Преступление Мартына» был на какое-то время
сенсацией — литературной и читательской). Хотелось бы, естествен-
но, опереться на первоначальный вариант текста, а не на тот, кото-
рый писатель переделывал десятилетия спустя в согласии со своим
изменившимся мировоззрением.
Оборачиваясь на минувшие десятилетия, и историк литературы,
иным, чем современник, взглядом видит прошлую жизнь, как бы за-
ново открывая ее.
Так мы по-новому знакомимся с писателем В. Бахметьевым
(1885—1963), которому—будем говорить прямо — не очень-то по-
везло с литературной славой: шумные толки, читательские диспуты,
урожай рецензий, несколько сломанных копий в критике — и все это
лишь однажды — вокруг романа «Преступление Мартына» — в 1928
году.
А перед этим и затем — долгие годы литературной работы в за-
тишье. Всего несколько книг, написанных в стороне от «моды» и мол-
вы, от «столбовой дороги».
Так стоит ли возвращаться к этому полузабытому писателю се-
годня, спустя четверть века после его смерти, более чем через полве-
ка после «пика» его литературной продуктивности?
Думается, стоит.
Конечно, не буду кривить душой: произведения В. Бахметьева
сегодня вряд ли выдержат сопоставление с такой «возвращенной
литературой», как проза М. Булгакова, А. Платонова, Е. Замятина
(называю здесь имена ныне общеизвестные). Но он — честный лите-
463
ратор, шедший своим определенным путем и всерьез пережив-
ший один из поворотных моментов истории. Такие, как В. Бахметьев,
позволяют нам объяснить нас тогдашних. И тем самым разо-
браться, понять, почему мы стали такими сегодня.
В наше время, время пересмотра многих ценностей и репутаций,
стоит вдуматься во все, что так или иначе определяло судьбы литера-
туры, что — пусть и не надолго — выражало «минуты роковые» в
нашем общественном и личном самосознании. Стоит всмотреться и в
лица тех, кто был — пусть в краткий момент—носителем этого само-
сознания: понять их пути, иной раз прямые и ясные, иной раз доволь-
но сложные, скрытые под слоями временных чувств и ложных мнений.
Тем более интересно, когда нестареющая истина вдруг сверкнет
сквозь все нагромождения преходящего, наносного. Мне кажется,
что с В. Бахметьевым дело обстоит именно так, хотя внешне пути
его — и жизненный, и писательский — кажутся прямыми и не заклю-
чающими в себе никакой сложности.
Но так ли? Начать хотя бы с его автобиографии, написанной в
середине 20-х годов.
Родился Владимир Матвеевич Бахметьев в 1885 году в малень-
ком уездном городке Землянске Воронежской губернии.
Вот как пишет он о своем детстве в автобиографии, и странные
чувства вызывают у н а с, сегодняшних, картины, им рисуемые.
Например, тогда писатель смотрел с печалью на удел родитель-
ской семьи: «Отец мой — маленький покорный труженик, мать— море
тоски над кучей неустроенных детей, а вот деды мои, оба — весьма
важные персоны...
От матери, зачитывавшейся Щедриным и Ренаном, от дядьев,
братьев ее, пьяниц и безбожников, с детства «задичал» я, к богу не
хаживал, начальству не поклонялся, рос сам по себе, в своем осо-
бом мире, населенном по началу сказками бабки, а затем всем тем,
огромным и страшным, прекрасным и чудовищным, что дали мне в
ранних годах книги».
Эти строки вызывают некоторое недоумение: чем же он не дово-
лен? Ему так повезло! Это надо же: мать — в глухой провинции —
зачитывается Щедриным и Ренаном! Где найдешь сегодня многодет-
ную мать («куча неустроенных детей»), которая зачитывалась бы
Щедриным и Ренаном (а так ли они несовременны?!). Щедрин и
Ренан —чтение серьезное, нелегкое, требует особого расположения
души, взяться за них современной женщине, придя с работы и измо-
тавшись в очередях и в дороге, ох, как нелегко! Некогда современной
женщине и тосковать над «кучей неустроенных детей». И «кучи» са-
мой нет...
А «маленький покорный труженик отец»? Так ли много настоящих
тружеников среди отцов? Честных, терпеливых, старательных,
464
знающих свое дело... Нет, зря Владимир Бахметьев, может, и не хотя
того, попрекнул отца своего, Матвея Бахметьева. «Маленький»? Хоро-
шо, если каждый на‘своем месте, каким бы скромным оно ни было:
дворник, водопроводчик, бухгалтер, шофер, продавец, тракторист,
учитель, врач, инженер — будет работать так, как работал отец Бах-
метьева. А что «покорный» — так пусть это тоже не смущает: если в
его семье жена читает великого бунтаря Щедрина и еретика Ренана,
если дети «к богу не хаживали», «начальству не кланялись», то, оче-
видно, не таким уж «покорным» был и он сам. Наверняка не пресмы-
кался, не гнался за карьерой, не приспосабливался, совесть не была
отдана в заклад видам начальства... «Покорный», то есть безотказно
тянущий свою трудовую лямку? Так это же прекрасно! На таких
людях только и держалась жизнь, и держится. До сих пор.
Короче говоря, я хотел бы не просто сообщить биографическую
информацию о Бахметьеве, но и подумать над нею, увидеть ее сквозь
всю толщу нашего опыта.
В. Бахметьев с детства жил среди людей честных, смелых, не бо-
ящихся говорить правду, не карьеристов, стяжателей и приспособлен-
цев. «Люди мастерового звания,— пишет Бахметьев,— не щадя во мне
ребенка, открыли мне глаза на грязь и пакость окружающей жизни,
научили ненавидеть купцов, земских начальников, исправников, ца-
ря... И неудивительно, что местные и проезжие революционеры всех
мастей привлекли потом мое внимание так же глубоко, как когда-то
привлекали меня прогулки в загородном бору, населенном сказочны-
ми существами».
«Тут наконец 1905 год, едва ли не самый чудесный в моей жиз-
ни. Было мне 19 лет, а вокруг весь мир бурлил, как в половодье...»
Потом «пора беспросветной реакции, когда тюрьмы были полны,
а на зорях у тюремных стен давили мужиков-«аграрников», когда
обыски и аресты становились бытовым явлением и полицейская пет-
ля уже замыкалась вокруг меня, в одну из зимних непогожих ночей
мне пришлось бежать из родных мест». Бежал он далеко, в Сибирь.
Там, пишет Бахметьев, «я окончательно связал свою судьбу е делом
рабочего класса» и его партии, партии большевиков. «А затем все
шло, как у сотен и тысяч моих товарищей-единомышленников: рабо-
тали и нас брали «в работу».
До 1921 года В. М. Бахметьев, в сущности, был почти целиком
поглощен далеко не писательским трудом: то он подпольщик-рево-
люционер, не раз преследовавшийся, вплоть до тюрем и ссылок; то
одновременно партийный журналист и пропагандист, редактор боль-
шевистских изданий, подпольных и полуподпольных... То, наконец,
уже после победы Октября,— общественный работник, организатор
Советской власти в Томске, где он был комиссаром по народному
просвещению: («разоружал» попечителя Западно-Сибирского учеб-
465
ного округа, «смыкал» высшую школу с рабочим классом»). Затем
близкая этому работа на Урале, потом в Татарской республике, в
Казани. Наконец, с 1921 года живет в Москве, находит близких себе
людей в литературной группе «Кузница».
...А ему уже под сорок лет. Литературная работа в эти годы ве-
лась от случая к случаю (например, в 1916 году В. Бахметьев, за-
ключенный в одиночную камеру, написал рассказ «Кандальник»),
Созданные впоследствии алтайские очерки, рассказы о событиях
1905 года рассматривались самим автором как своего рода разно-
видность общественно-политической работы: пропагандистские призы-
вы к борьбе рабочих против царизма. «Многое довелось мне видеть
и слышать, многое пережил и я сам; кажется, всего жизненного мо-
его «материала» хватило бы на десяток томов... А у меня (это к
середине 20-х годов — В. А.) всего три книжонки... Писал и пишу
мало, и не потому что не хотел или не хочу, а только потому, что
«некогда» было сидеть над рассказами, не до того было, да и теперь
работа беллетриста — все еще случайная моя работа: в часы «пере-
дышек», в дни «отдыха»...
Итак, писатель и революционер. Таким он предстает в автобио-
графии середины 20-х гг., так же характеризует себя В. Бахметьев
в выступлении по радио в 1940 году, когда отмечалось 25-летие его
работы в литературе: слишком большое место занимала в жизни пи-
сателя иная профессия — общественного, политического, редакцион-
ного работника... Лишь частицу времени, по признанию Бахметьева,
он отдал работе за письменным столом.
Вдумаемся в эти слова: а ведь тут, в сущности, исповедь о це-
лой писательской, да и человеческой драме. Жизнь текущая, день
насущный и «злоба его» противопоставляются «литературе» и воз-
вышаются над нею. Настоящая же литература всегда ценила иное,
что было сутью: внутренний мир свободного, одухотворенного чело-
века, поднявшегося над закабалением повседневными заботами. Но
само это противоречие Бахметьев умел делать плодотворным, за-
ставлял его работать в конечном итоге на литературу.
Перед нами своеобразный и характерный для того времени тип
литератора-общественника. В этом положении есть свои преимущест-
ва. И разве не интересно проследить, как же «один» влияет на «дру-
гого», как «один» пытается разобраться, порою полемически, в том,
что же такое дело и участь «другого»? Художник вдумывается и
вчувствуется в психологию и этику революционера, сознательно, а
иной раз и неосознанно выясняет, как она соотносится с психоло-
гией, нравственностью, всем народным образом жизни, с народными
и общечеловеческими представлениями.
Нужно сказать: В. Бахметьев-художник ощущал значение сво-
его жизненного опыта. Немало поскитавшийся по русской земле, про-
466
шедший через многие народные слои, писатель всегда стремился
жить среди «простых» людей, а не в обособленной секте «подполь-
щиков-профессионалов»; он неустанно впитывал впечатления, хотел
знать и многое знал о жизни рабочих и крестьян, женщин, стариков,
молодежи...
Отсюда, очевидно, у Бахметьева едва ли не постоянный, иной
раз, еле слышно, подспудно, но настойчиво звучащий мотив его про-
зы: переплетение в сознании и поведении людей главных и непре-
ходящих потребностей человеческой жизни и — внешнего, вынужден-
ного обстоятельствами, зависящего от временных увлечений и при-
страстий.
Обе эти силы сталкиваются внутри человека, иной раз остро и
даже безжалостно-непримиримо. Такой подход позволяет увидеть
довольно напряженную «драматургию» нравственных коллизий в про*
зе Бахметьева, начиная с его ранних рассказов, таких, как «Воскре-
сенье», а особенно «Мать», «Ошибка», «Ее победа»... Этот конфликт
между, так сказать, духовно-общечеловеческим «должным» и соци-
ально-конкретным сущим» в полную силу развернулся в «Преступле-
нии Мартына».
В свое время, 61 год назад, об этом романе спорили больше, чем
обо всех других сочинениях Бахметьева, вместе взятых.
Одни говорили, писатель показывает, как формируется в чело-
веке «большевистская фракция чувств». Другие хвалили романиста и
его героев за «действенный самоанализ». Третьим в романе импони-
ровала широкая картина жизни, человеческих судеб в буднях граж-
данской войны... Что стояло за этими спорами?
Сегодня, думается, мы на многое можем посмотреть совсем ины-
ми глазами. Ну, а в самом деле, что это за «действенный самоана-
лиз»? И почему нужно создавать какую-то особую «фракцию боль-
шевистских чувств»? Тем не менее тут писателем нащупываются не-
простые вопросы. Нередко серьезные проблемы жизни вообще высту-
пают в своего рода «масках», которые нужно снять, чтобы увидеть
подлинное лицо — людей и времени. Думаю, не ошибусь, говоря, что
для нынешнего читателя этот роман имеет двойную ценность: и не-
посредственного художественного переживания, и документа эпохи.
Как документ он, может, еще интереснее: сегодня так, как там и
тогда, люди не думают и не чувствуют, точнее, этот образ мыслей,
этот тип поведения уходит в прошлое, отслужив свое, сменяясь но-
выми душевными состояниями, иными ценностями. Роман, бывший
тогда жгуче современным, как бы переходит в разряд «историче-
ских», дающих «информацию» о том, что прошло. Но сегодняшние
размышления над ним не могут ни привести нас к вопросам: а поче-
му же те люди были такими, что происходило с их душами, умами,
чувствами?
467
Перед нами в «Преступлении Мартына» — целый характерней-
ший «блок» — психологический, этический, эмоциональный, создан-
ный тем временем и неповторимо с ним связанный.
Сам писатель в начале романа, рассказывая о детстве Мартына
Баймакова, запутывает его духовные «истоки», уводит нас, может,
сознательно, по обманному пути: отец Мартына — рыбак, трудя-
щийся человек, мать Мартына — помещичья дочь. Две «враждеб-
ные» классовые силы слились в крови Мартына, сошлись над его ко-
лыбелью, боролись за него в детстве. И антагонизмом этих сил объ-
ясняется якобы вся последующая судьба Мартына, в том числе и
вспышка индивидуалистических чувств, ставшая его «преступлени-
ем».
Это, конечно, выразительный пример психологической мистифи-
кации.
В те годы идеологи вульгарного социологизма действительно
искали «классовое» на уровне «крови», как сказали бы сегодня — в
«генах». Но человеческая кровь сама по себе не имеет классовой
окраски. «Голубая кровь», «белая кость» — это все метафоры. За
ними стоит совсем другое, исторически понятное содержание.
Не случайно эти метафоры, разделяющие людей по классовому
признаку, принадлежали тем, кто бунтовал против сложившегося
уклада, кто противопоставлял себя «старому» миру, кто называл се-
бя с гордостью и вызовом «новым человеком».
Таковы все основные герои первого плана в бахметьевском ро-
мане: Михаил Иванович Черноголовый, Мартын Баймаков, Зинаида
Кудрявцева.
По действию романа можно проследить, как психология и этика
«нового человека» во всем и всегда контрастно окрашивает их по-
ведение, противопоставляет всему «старому». Революция,— счита-
ли они,— «кованными обоймами колес своих попирала... прошлое,
рушила, равняла с придорожной пылью храмы вчерашних правд.
И новые, навстречу ей, неслыханные слова срывались с уст много
молчавших: неслыханные слова о человеке, о жизни, о вселенной.
И каждое слово, как семя цветения, сорванное бурей, летело и жад-
но никло к земле и там, где земля принимала, зачиналась борьба на
жизнь и смерть...
Борьба за нового человека, за гармонию в нем сознания и чув-
ства!
Борьба на годы».
В то время многим казалось, что революция требует обязатель-
ного разрушения «храмов вчерашних правд». «Храмы» эти взрывали
часто лишь потому, что они были «вчерашними».
А результат? Время показало, что далеко не все в этой борьбе
оправдано, что разрушения были подчас ненужными и даже опас-
468
ными. И самые сложные, неоднозначные процессы происходили тогда
в человеке, в его душе, в его психике, этике, в поведении. В романе
можно найти необычайно ценное литературное свидетельство о дра-
матизме и противоречивости рождения и «функционирования» «нового
человека».
Мартыну поручили сопровождать эшелон беженцев — детей,
стариков, женщин. Он воспринимает это поручение с неудовольстви-
ем: считает, что способен на большее, чем забота о безопасности
беженцев... Стоит ли? «Революция истекает кровью,— думает он,—
а эти... Эти женщины прячутся в наших вагонах... Кому они нужны?..
Товарищ ему отвечает: «Ты бредишь, Мартын!..» Мартын, действи-
тельно, болен, но слова его не бред, а привычный ход мысли: ре-
волюция превыше всего. Как мы помним, нечто в этом роде, в ро-
мане «Поднятая целина» М. Шолохова говорил Макар Нагульнов,
тоже противопоставляя «стариков, детишков и баб» интересам ре-
волюции. Тут не личная черта, а особенность психологии целой со-
циальной группы.
Интересно в связи с этим проанализировать отношение В. Бах-
метьева к «новым людям». До конца ли с ними писатель? Всегда ли
он разделяет их точку зрения? Мартын тяготится данным ему пору-
чением, нервничает, предается героической «рефлексии», а беженцы
заняты своими повседневными делами и заботами, которые не могут
остановить, или отменить никакие обстоятельства: нужно накормить
детей, присмотреть за стариками, облегчить страдания больных.
Писатель относится к этому с пониманием и симпатией. В гла-
зах же Мартына все это лишь «неистребимый бурьян забот и хло-
пот».
Вот Михаил Иванович размышляет о своих соратниках: «Почему
украшают его, героя, бумажными розами, в руки ему вкладывают
бестрепетный меч и сердце его, человеческое, подменивают льви-
ным?» Итак, Черноголовый не принимает бумажного украшательства.
Но он полон особой гордости: «Оттого мы и богатыри, что—малые,
что тянулись за нами проклятья прошлого, опутывали нас дурманом
седые века, падали мы и — поднимались: за пятьсот лет жили одним
днем и из всех смертных грехов не знали только одного — не огля-
дывались назад, как жена Лота».
К словам Черноголового стоит присмотреться.
Сила этих людей в том, что они умели противостоять всем сти-
хиям времени, жизни, умели, падая, подниматься. И — особенно —
не оглядываться назад. Тут их сила, но в этом же и их ограничен-
ность.
Это понимает и показывает Бахметьев.
Его герои — Мартын, Черноголовый и их соратники — люди то-
го склада мыс; ей, того образа жизни, который характерен крайним
469
максимализмом, доходящим до фанатизма, гнущего свою линию, не-
взирая на все. Они — воплощение воли, подчиняющей не только их
поведение, но и вообще жизнь вокруг них. О Мартыне, командире
отряда, говорят его бойцы: «Парень такой: вроде как у огня сто-
ишь — знай, с боку на бок поворачивайся!..»
Этих далеко не рядовых, во многом необычных, взрывных людей
революция выбрала изо всей народной массы, всей ее необозримой
многоликости и разнообразия. Они составили преимущественно один
тип, один напористый, железный характер. И в этом — объяснение,
по крайней мере одно из объяснений всего, что было — тогда и по-
том — в нашей послеоктябрьской истории. Революция отобрала лю-
дей по преимуществу одного «плана». Она притягивала, как магнит,
все железо, всю сталь народного характера, но не притягивала
и даже отталкивала очень многие другие слагаемые могучей и бога-
той народной породы. Да, большевики — сильнейшие и прочней-
шие из этой породы. Но как не может земля состоять из каких-то
отдельных, пусть самых ценных элементов, так и народная жизнь
требует многообразия.
Подчеркивая силу и несгибаемую волю большевиков, писатель
показывает, что им не чужды в чем-то утопические мечты: «Наша си-
ла прежде всего в том,— говорит Черноголовый Зинаиде Кудрявце-
вой,— что мы знаем иной, прекрасный, еще не созданный, но воз-
можный мир... И знаем точно, куда и как направить нашу волю, что-
бы овладеть этим миром. Вот такого знания у теперешней молодежи
мало... И меня немножечко беспокоит, что наша смена подымается в
слишком рационалистической обстановке...»
Впрочем, напрасно он укоряет молодежь. Девятнадцатилетняя
Зинаида тоже живет в этом мире мечты. Вспомним хотя бы ее по-
стоянные стычки с отцом, которого она считает отсталым, укоряет
в нерабочем поведении и мещанских настроениях, хочет, «наконец,
ему старому открыть глаза на правду». А ведь это ситуация, когда,
как говорится, яйца стали учить курицу. К тому же отец Зинаиды —
рабочий, железнодорожник. У него, безусловно, свой взгляд на жизнь,
основанный на народном здравом смысле, а недоучившаяся гимна-
зистка претендует на роль наставника!
Впрочем, со временем Зинаида Кудрявцева все же понимает, что
настоящей-то жизнью живут такие, как ее отец, как те продотрядов-
цы, которые, столкнувшись с тяжелым положением крестьян, пони-
мают, что дальше так продолжаться не может, нужно по-новому
строить отношения с деревней («Мужичок... как завидит нас, так в ту
минуту лошадь в упряжь: «Садись, да кати с глаз долой»).
Зинаида открывает для себя, что именно эти люди живут и де-
ло делают, а она пока еще «играет роль секретаря губкома, особен-
но, когда ее замечают окружающие. Ей нравится, например, сидеть
470
на больших собраниях рядом со старыми большевиками. Нравится
мчаться на автомобиле рядом с кем-нибудь из губкомовцев, мчаться
с холодным и жестким (непременно жестким) лицом. Нравится слы-
шать свое, шепотом произнесенное имя. Нравится возвысить голос
до окрика...» Что ж, признание это — себе самой в своих отнюдь не
безобидных слабостях — должно пойти на пользу юной большевич-
ке. И она действительно меняется: становится мягче, человечнее.
В романе происходит немало событий, дающих пищу уму и серд-
цу. И более всего интересны эпизоды споров, сшибок мнений, такие,
например, как картина собрания партийного актива, на котором об-
суждается поведение Мартына, на время в растерянности бросивше-
го вагоны с беженцами,— его «преступление».
Чем же этот эпизод интересен? А тем, что на наших глазах как
бы происходят рождение и проверка разных этических истин. Разно-
голосы и разнолики люди в этом споре. Бушуют страсти, каждый
откровенно говорит, что думает, не оглядываясь на отвергнутые
«обычаи» или «правила». Нет у нас еще какой-то общепринятой «нор-
мы», не установилась. Нет и кодекса, по которому можно судить
вину Мартына Баймакова; судили, как говорилось в те годы, «руко-
водствуясь революционным правосознанием». А оно нередко у каж-
дого свое. Самое произвольное, иной раз вообще отвергающее ка-
кую бы то ни было «норму».
Волюнтаристский, «левацкий» подход к жизни, в сущности, амо-
рализм, прикрытый личиной «революционной» морали, особенно от-
четливо ощущаешь, слушая оратора по фамилии Жданов, явного
книжника-начетчика.
Вот его точка зрения:
«Дело тут, товарищи, не в правде! Я не собираюсь заниматься
правдоискательством вообще, так как занятие это бессмысленное...
Правды, как постоянной, всегда жизненной истины нет, нет и не бы-
ло на белом свете... Необходимо определить правду и на наш день,
правду рабочую, классовую, боевую».
Какая же это его «боевая» правда? Что же в ней «рабочего»?
У Жданова она предполагает подавление всего человеческого,
ведет к жестокости и бездушию под видом защиты интересов проле-
тариата. Судите сами: «Наша революция,— излагает свои доводы
Жданов,— строится на подавлении эгоистических страстей. Мы, пе-
редовые кадры пролетариата, сами отказываемся от всего, что свя-
зано с личной жизнью, с мелкими ее радостями, и требуем того же
от других, от тысяч, от сотен тысяч окружающих нас. Мы воспиты-
ваем массы в духе жертвенности, в духе героизма, отказа от настоя-
щего и даже, если надо, от самой жизни — во имя будущего... во
имя коммунизма!»
471
Обратим внимание на характерные подмены и подстановки, ко-
торые Жданов допускает в своей речи (делает он это, конечно, не-
преднамеренно, и это тем более убеждает). Если люди будут дейст-
вовать по его, ждановским, установкам и принципам — в опасности
окажется сама жизнь. Правды нет, и искать ее бессмысленно. Рево-
люция — это подавление всего, связанного с личной жизнью; такого
же подавления революция требует от всех людей; героизм отождеств-
ляется с жертвенностью; вообще, революция — Молох, которому
нужны бесчисленные человеческие жертвы... В том числе и Мартын.
И ведь это, повторяю, не лицемерие, не притворство, а искренняя
убежденность, то, что Жданов называет «классовым инстинктом».
Но, к счастью, этот инквизиторский, иезуитский, а не «классо-
вый» подход не находит в романе поддержки как раз со стороны
рабочих.
Жданову многие возражают, лучше всех возражает литейщик
Остапенко.
И рассуждает-то он попросту, но попадает в самую точку. «Това-
рищ Жданов — без интересу к жизни,— говорил Остапенко.— Мо-
жет, он через край зачитался. Но... вот... который человек без инте-
ресу — самый разнесчастный человек... Вроде больного... Товарищ
Жданов хочет, чтобы сущая жизнь отказалась от самой себя... Вро-
де как, скажем, был я Тарасом Остапенко, а стал ничем... чтобы
Остапенко думал только о всевышнем потомке...»
Казалось бы, разговор этот ушел в дальнюю даль времен. Когда
это было?! А для нас многое в нем звучит очень современно. Тот
аскетический, жертвенный дух, который так агрессивно дает о себе
знать в рассуждениях Жданова, был причиной бесчисленных оши-
бок, заблуждений и бедствий. Да, Жданов говорит книжно, гладко,
ловко и — страшно. Другой — Тарас Остапенко, как говорится, от
станка. Но с ним — правда. И правда общая, большая, если угодно,
вечная общечеловеческая, и тем самым народная, рабочая, про-
летарская. Она — в защиту жизни, а «правда» Жданова ведет к
истреблению всего живого, к бесконечному «обострению классовой
борьбы».
Однако справедливости ради скажем, что аскетическая, изувер-
ская «философия» партийного начетчика Жданова нередко имела
по тем временам, да и впоследствии куда больший успех, чем про-
стые и сильные доказательства от реальной народной жизни («Рабо-
чий человек бьется за себя, а потомок радуется»).
Что же стоит за всеми этими спорами, что мы сегодня можем
«вычитать» из давней истории с «грехопадением» Мартына Байма-
кова? Человеческое «самоломание» не дается без тяжкого, мучитель-
ного терзания души. Мартын сам загоняет себя в безвыходные ту-
пики. «Старый» человек им отвергнут, а «новый» — такой, каким его
472
хотели бы видеть догматики типа Жданова,— не принят самой
жизнью.
А там дальше встает еще одна серьезная проблема, реальность,
не всегда учитываемая в спорах о человеке. Живой, обыкновенный
человек на самом деле вовсе не железный. Он очень часто оказыва-
ется незащищенным перед напором обстоятельств, особенно если у
него выбиты устои традиционной морали. Самоубийство, на которое
чуть не решился Мартын, во многом объясняется иллюзорностью его
«принципов», внушением себе самому однобоких истин, крушение ко-
торых он воспринимает как собственное крушение. Таким людям
сведение счетов с жизнью — своей или чужой — всегда кажется
слишком простым и легким делом.
Человек же, идущий от жизни, понимающий ее самоценность,
догадавшийся, что жизнь не средство, а цель,— подобный человек не
относится так легкомысленно и высокомерно и к жизни, и к смерти.
Мартыну Баймакову не удалось до конца излечиться от душев-
ной травмы. Позднее, в боях, на фронте он все время лезет на ро-
жон, отмаливая свой «грех». И правильно говорит ему простой сол-
дат, крестьянин Никита Голомедов: «Ты, Баймаков, смерти не ищи...
Она, братец, сама тебя сыщет... Понял?»
Объективно, может, сам того до конца не осознавая, В. Бахметь-
ев своим давним романом выступает против якобы классовой и про-
летарской, а на самом деле — сектантской морали, крайне далекой
от интересов трудящихся, самого народа. В романе В. Бахметьева
именно сами-то пролетарии, настоящие рабочие люди как раз не
принимают догматического аскетизма книжников и начетчиков от
революции, которые свои утопии выдают за мировоззрение рабоче-
го класса, навязывают людям труда свои фантазии, превращают их
в директивы, требующие неукоснительного исполнения...
Напомню еще раз, что роман писался в трудное время — в
1926—1927 годах, читался и обсуждался в трагические годы «вели-
кого перелома». К нему стягивались многие отнюдь не книжные
страсти, и в жизни вокруг было куда больше обжигающих вопросов,
чем на страницах романа. Ив тех боях догматики, люди «дирек-
тивной» этики, комадно-административного стиля нередко побежда-
ли, хотя жизнь им и сопротивлялась.
Воспринимаемый с этой точки зрения роман В. Бахметьева, на
мой взгляд, включается и в наши современные споры. Эпоха пере-
стройки, которую мы переживаем, время нового политического
мышления заставляет иначе оценить многое в нашем прежнем опы-
те — и политическом, и социальном, и этическом. Идея приоритета
общечеловеческих ценностей, сегодня ставшая одним из самых глав-
ных ориентиров, столь назревшая и, скажем прямо, спасительная в
самом буквальном смысле,— эта идея в т е годы прокладывала се-
473
бе путь с огромным трудом, а зачастую и просто-напросто отверга-
лась как «контрреволюционная» и «антипролетарская».
...И наконец, есть в «рефлексии» Мартына, в его «самоедстве»
и самобичеваниях еще одна непростая проблема: должен или нет
человек целиком принадлежать кому-то или чему-то? Вот в
разговоре с Зинаидой Кудрявцевой Мартын говорит «о своем внут-
реннем, единственно для него близком, понятном, заслуживающем
внимания». Принадлежа кому-то или чему-то, нужно от себя «внут-
реннего» отказаться, собою пренебречь. А ведь человек неисчерпаем,
он куда сложнее и богаче какой-либо одной функции, и нет ни у ко-
го права распоряжаться человеком и всеми его потенциями всевла-
стно, монопольно и до конца. Это одна из аксиом гуманизма, кото-
рая, впрочем, именно в те годы была предана забвению. Тогда по-
бедило в общественной практике другое представление — своего ро-
да «функциональное» и «ролевое»; главное не люди, а «кадры»: «кад-
ры решают все», «незаменимых у нас нет», «когда страна прикажет
быть героем — у нас героем становится любой» и т. п.
Этот подход очень дорого обошелся нашему обществу, нашей
духовной культуре, социальному развитию. Пренебрежение челове-
ческой самоценностью, как показал опыт истории, должно быть пре-
одолено, ибо за ним встает грозная опасность физического и духов-
ного подавления человека, его превращения в стандартный «вин-
тик»; а «винтику» самобытность, неповторимость, индивидуальность
просто-напросто не позволяются. За деградацией человека следует
общественный застой.
Роман В. Бахметьева показывает, как на самом деле трудно
было в переломное время не растерять в себе человеческое, как не-
обходимо было к «старому» добавить «новое», увидеть и воплотить
ту гармонию, которая позволила бы успешно и в полную силу че-
ловеческих возможностей действовать в любых критических обстоя-
тельствах.
Нужно было понять сложное единство человека, собрать
человека, а не дробить его на «старого» и «нового», превозносимого
«классового» и отвергаемого «абстрактного» и «общечеловеческого».
Так что, скажу в заключение, роман «Преступление Мартына»,
кое в чем несовершенный, в литературном отношении отнюдь не са-
мое яркое явление нашей прозы 20-х годов, все же сегодня вполне
обоснованно может претендовать на наше внимание. Мысль о само-
ценности жизни, глубокий интерес к человеческой личности, отстаи-
вание ее прав и утверждение ее незаменимости — вот что привлека-
ет нас сегодня в этом честном и выношенном произведении.
...Почти все рассказы, включенные в сборник, написаны на значи-
тельно более «локальном» материале, иные из них просто эскизны, но
все они привлекают каким-то остро ощутимым духом подлинности,
474
свежести. Это сколки с тех или иных обстоятельств жизни, выхва-
ченные из потока повседневности человеческие судьбы, «случаи»,
острые драмы жизни...
В книгу прозы В. Бахметьева вошла своего рода маленькая три-
логия о женских судьбах, трех похожих женских характерах в об-
стоятельствах — до, во время и после революции: «Мать» (1916),
«Ошибка» (1920) и «Ее победа» (1930).
В содержании каждого из рассказов есть и временное, преходя-
щее и сохранившее свою живую человеческую суть.
Возьмем «Мать»: перед нами муки и скитания молодой матери,
пришедшей из деревни в город, оставшейся без мужа, без жилья,
без средств к существованию, мечущейся в поисках работы, куска
хлеба... Есть в рассказе документально-исторический фон, связанный
с социальными условиями тех лет, забастовками, женским неравен-
ством, жизнью в прислугах... Но есть и то, что не отошло и сегодня,—
тоска одиночества, неприкаянность, поиски опоры в трудный момент,
умение собраться с силами и сделать выбор. Надежда на помощь лю-
дей, на человеческое милосердие, на простую и вечную человеческую
доброту...
Рассказ «Ошибка» еще до знаменитого «Сорок первого» Б. Лав-
ренева разрабатывает коллизию встречи мужчины и женщины, кото-
рых обстоятельства жизни и времени («красные» — «белые» в сра-
жениях гражданской войны) сделали непримиримыми врагами, за-
ставили стрелять друг в друга...
Мне кажется, наиболее интересен в этой «трилогии» рассказ «Ее
победа».
Героиня рассказа Анфиса — выразительный тип пролетарской
женщины 20-х годов. Сторонница женского равноправия и даже пре-
восходства, авангардистка и воительница, стремящаяся к полной сво-
боде от традиционной женской «роли». В те времена это было н о-
в ы м, стало шагом к свободе у миллионов тех, кого условия жизни
лишили полноты самовыражения. Тут мы встречаемся с достоверным
художественным свидетельством. «Толкала Анфису вперед неуемная
жажда преодолевать, достигать, познавать. Мастерская для нее —
поле сражения: к работе мчалась во весь дух, будто кого-то нагоня-
ла, кому-то, неведомому, мстила за старые обиды».
Стоит за этим сильный и самобытный, полный неизрасходован-
ных сил народный характер — «отличительная девка», как говорят
о ней на фабрике.
Но есть в рассказе и другая, глубже скрытая проблема: а выне-
сет ли женщина перегрузки своих новых социальных «ролей», на-
пор жизни с ее непривычными требованиями? Не станет ли ее «по-
беда» одновременно и ее поражением? Поражением в ней женщины:
утратой доброты, мягкости, заботливости, стремления исполнить
475
главное предназначение женщины — быть продолжательницей жиз-
ни? Поначалу Анфиса торжествует над «отсталым» мужем, который
предпочитает семейную жизнь производственным и общественным
успехам жены. Семья едва не распадается, а соединяет ее то, может,
единственное, что делает отношения женщины и мужчины браком, а
их союз — семьей. У них рождается ребенок. А когда возникла се-
мья, то решились и все остальные вопросы...
Произведения В. Бахметьева показывают, что художник он тон-
кий, владеющий многими секретами литературы, умеющий за внеш-
ним покровом события, за той или иной социальной «информацией»
выделить глубокие слои жизни и «уровни» характера. Это «двойное
зрение» писателя сохраняет для нас актуальность созданного им мно-
го лет назад и, казалось бы, всеми корнями связанного с тем, ушед-
шим временем.
Вот почему проза В. Бахметьева имеет полное право на внима-
тельное, заинтересованное отношение нашего современника, человека
другой эпохи.
В. Акимов
СОДЕРЖАНИЕ
Преступление Мартына. Роман............................... 3
РАССКАЗЫ
Воскресенье . . » . .....................................267
На земле.................................................290
Машина...................................................304
Мать.....................................................329
Кандальник...............................................359
Таежное..................................................365
Последние дни его превосходительства.....................373
Конец Ворошилина.........................................396
Ошибка...................................................408
Михей Кузьмич на курорте.................................420
Ее победа................................................436
В. Акимов. О Владимире Бахметьеве и его прозе............463
Бахметьев В« М.
Б 30 Преступление Мартына. Рассказы. / Послесл.
В. М. Акимова; Ил. А. К. Яцкевича.— М.: Правда,
1989.— 480 с., ил.
В сборник русского советского писателя В. М. Бахметьева
(1885—1963) вошли: роман «Преступление Мартына» (1928)
и рассказы о жизни сибирского крестьянства, о гражданской
войне.
Б
4702010200—1876
080(02)—89
1876—89
84 Р 7
Литературно-художественное издание
БАХМЕТЬЕВ Владимир Матвеевич
ПРЕСТУПЛЕНИЕ МАРТЫНА
РАССКАЗЫ
Редактор
Г. Н. Захарова
Художественный редактор
Г. О. Барбашииова
Технический редактор
Т. В. Мешкова
ИВ 1876.
Сдано в набор 30.11.88. Подписано к печати 01.03.89.
Формат 84x108732. Бумага типограф. № 2. Гарнитура «Литературная».
Печать высокая. Усл. печ. л. 25,20, Усл. кр.-отт. 25,62
Уч-изд. л. 26,70. Тираж 400 000 экз. (2-й завод: 200 001—400 000).
Заказ № 00106. Цена 2 р. 20 к.
Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП.
Москва, А-137, улица «Правды», 24.
— ---- - - - _ - -----------------------------------------—
Отпечатано в типографии издательства
Удмуртского обкома КПСС, 426000, г. Ижевск,
Воткинское шоссе, 10 й км.