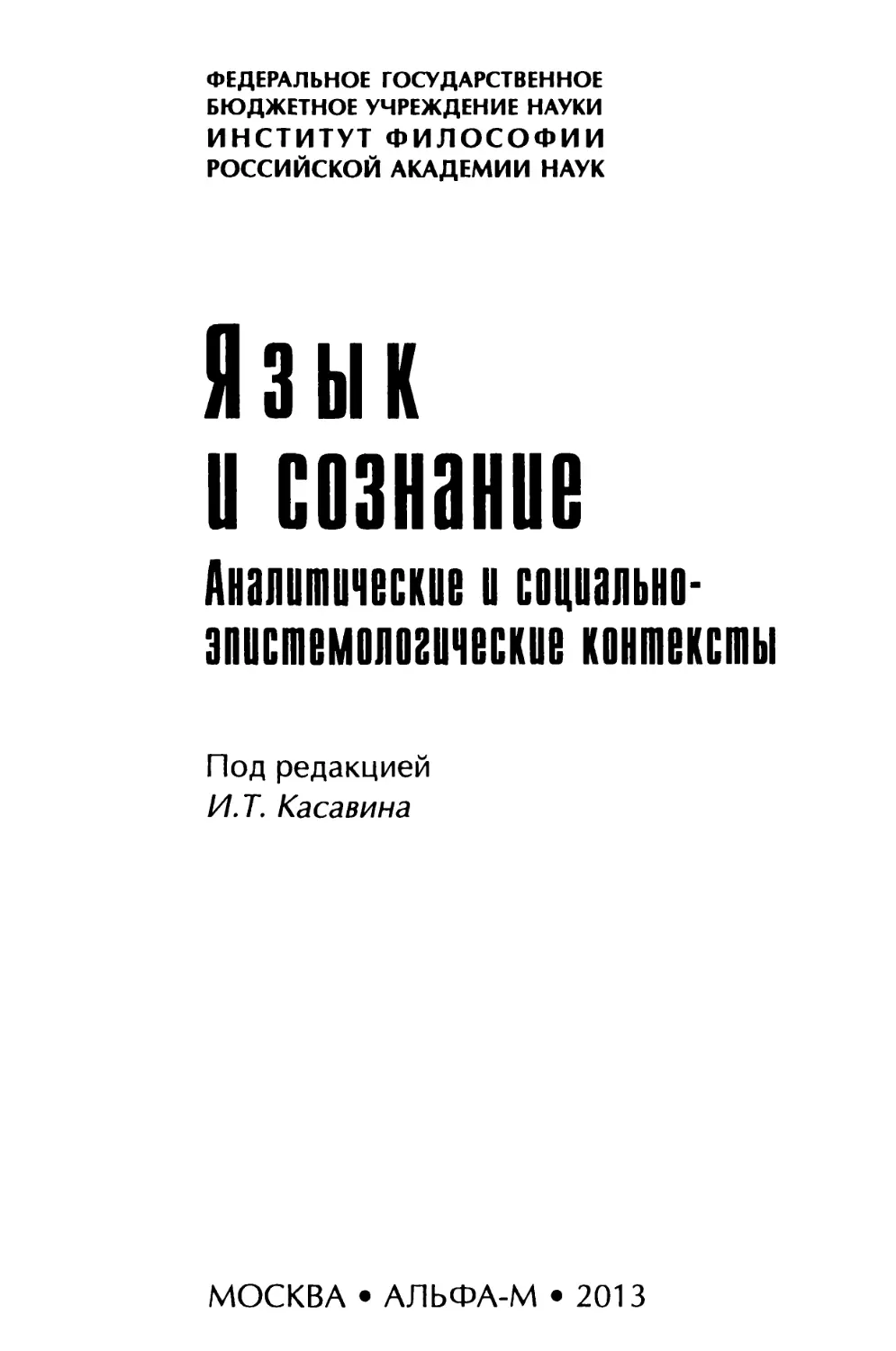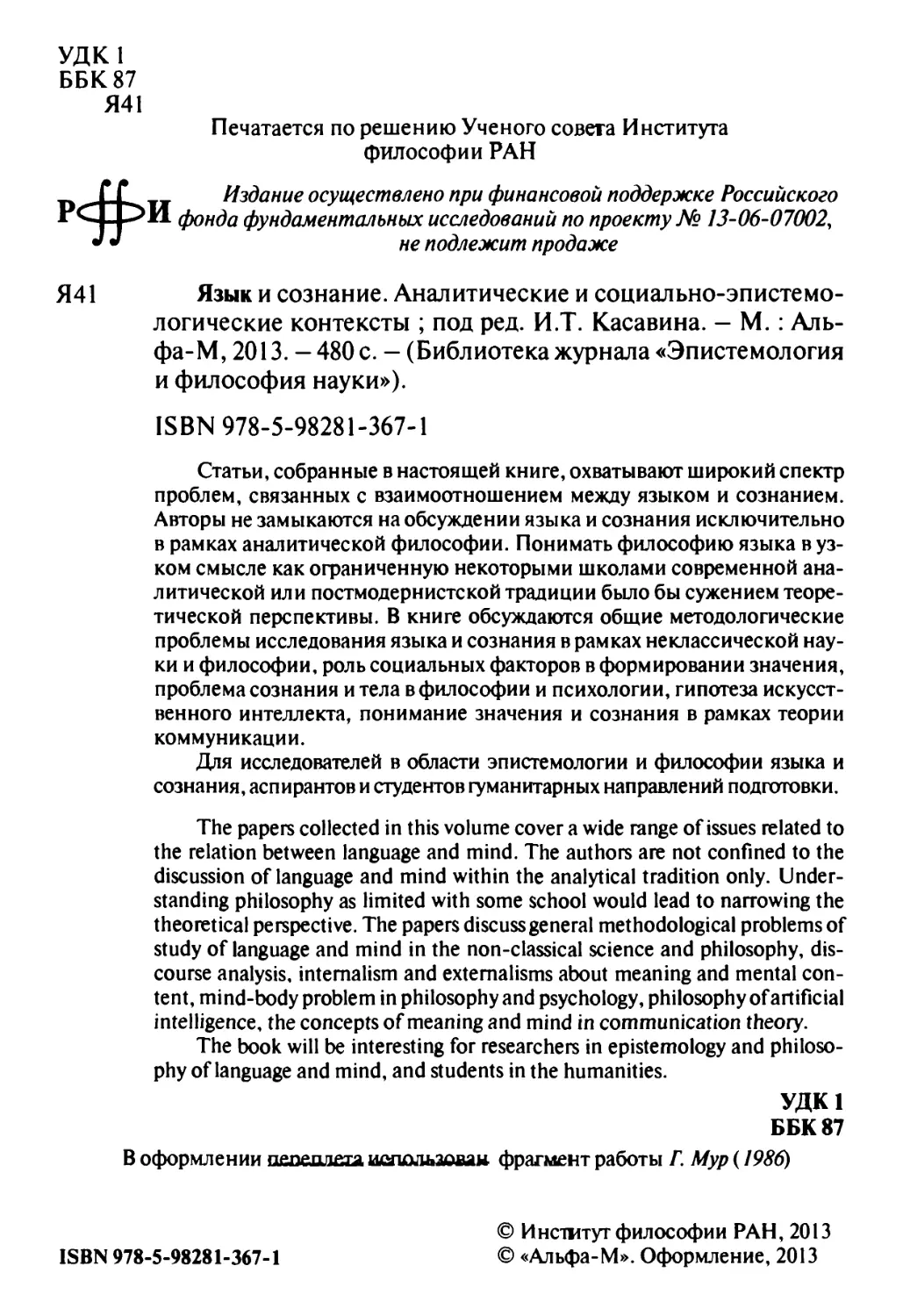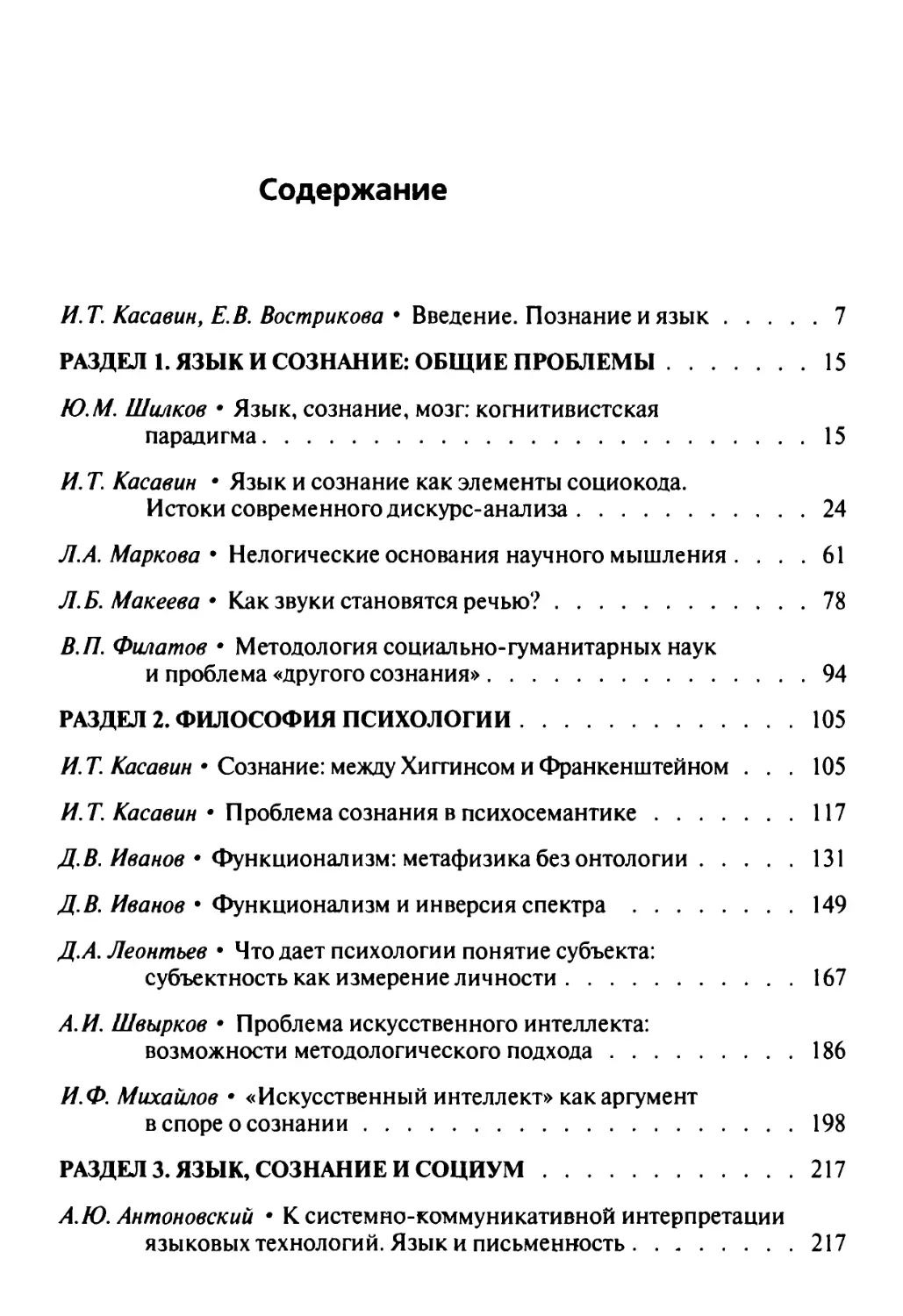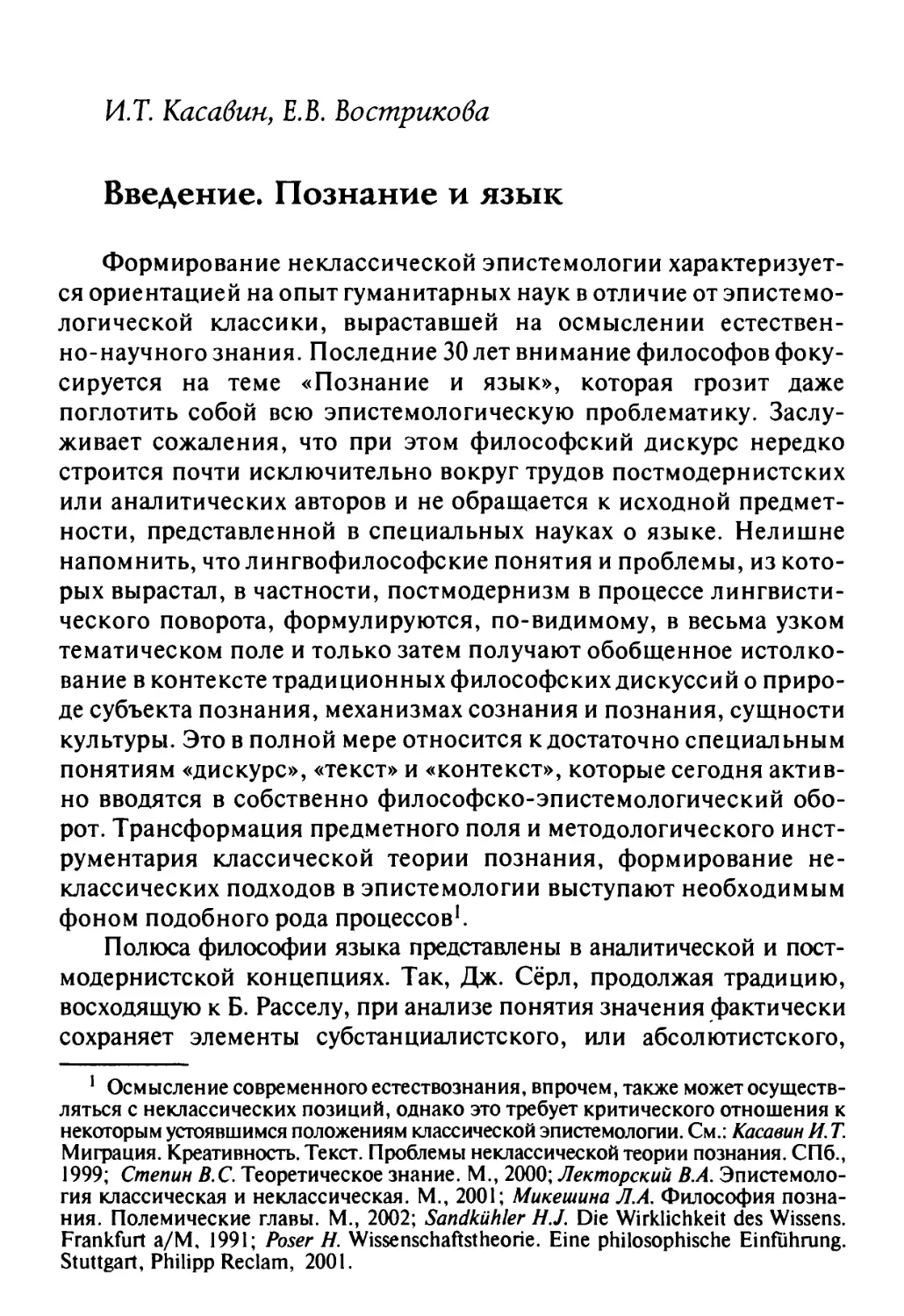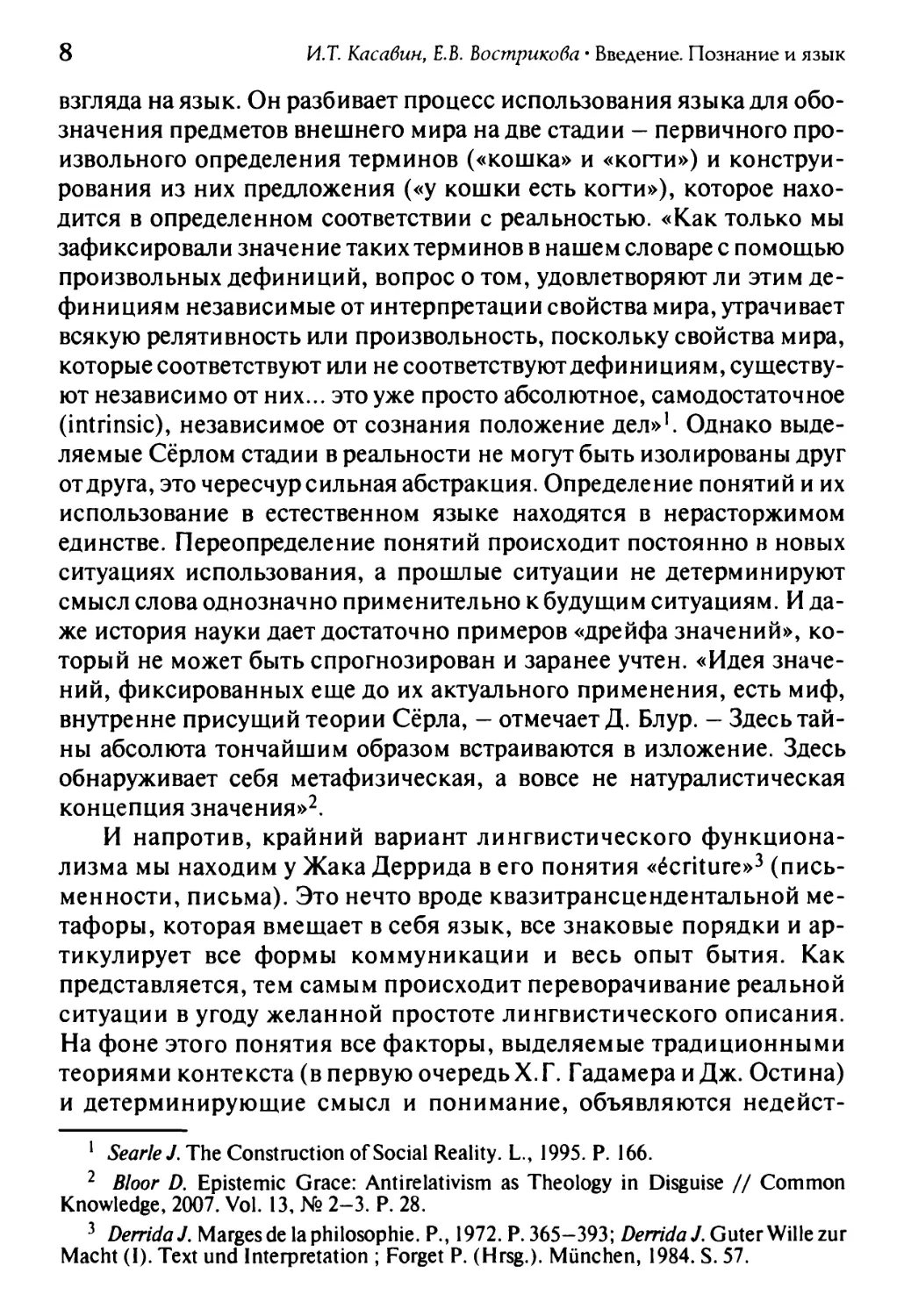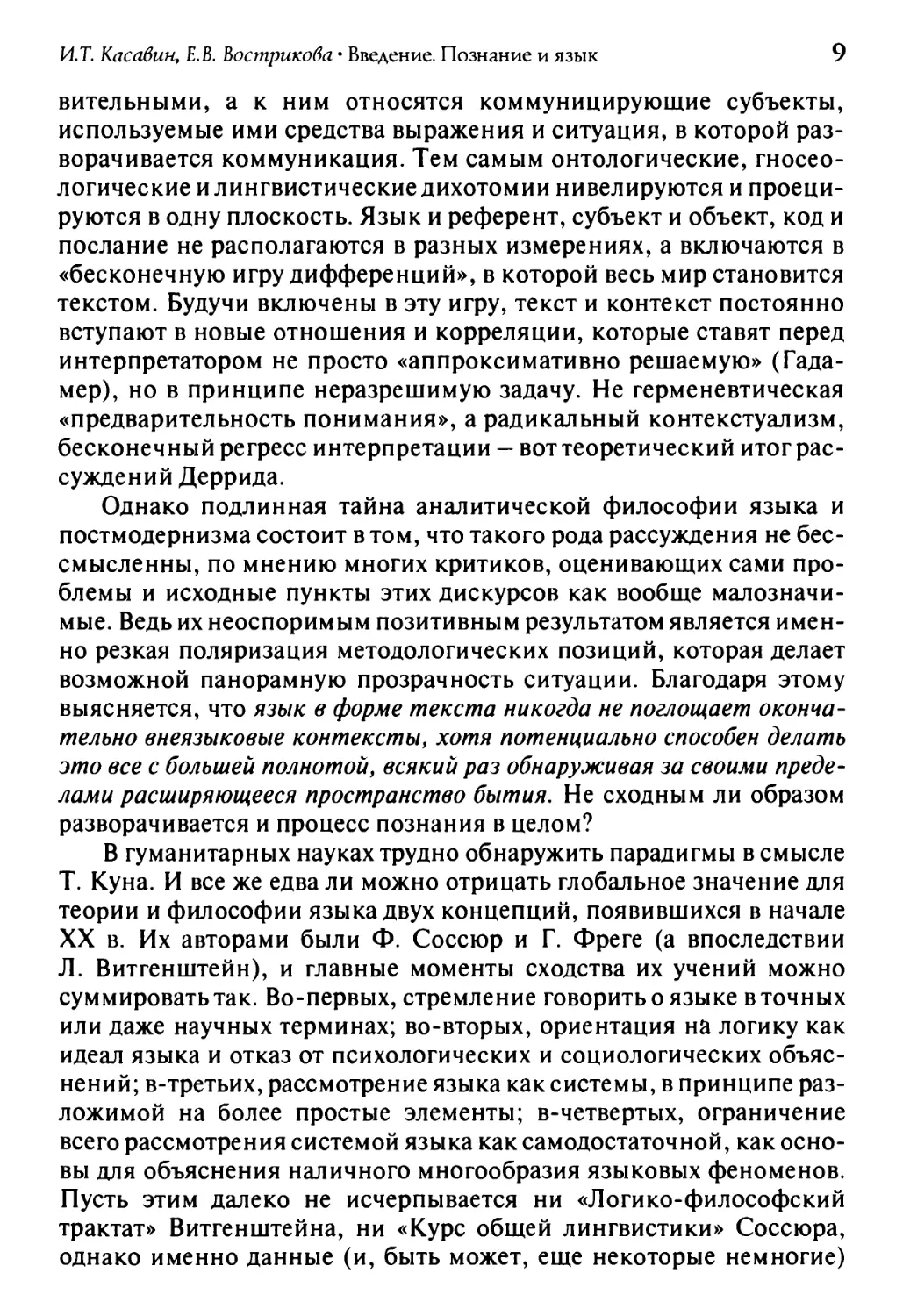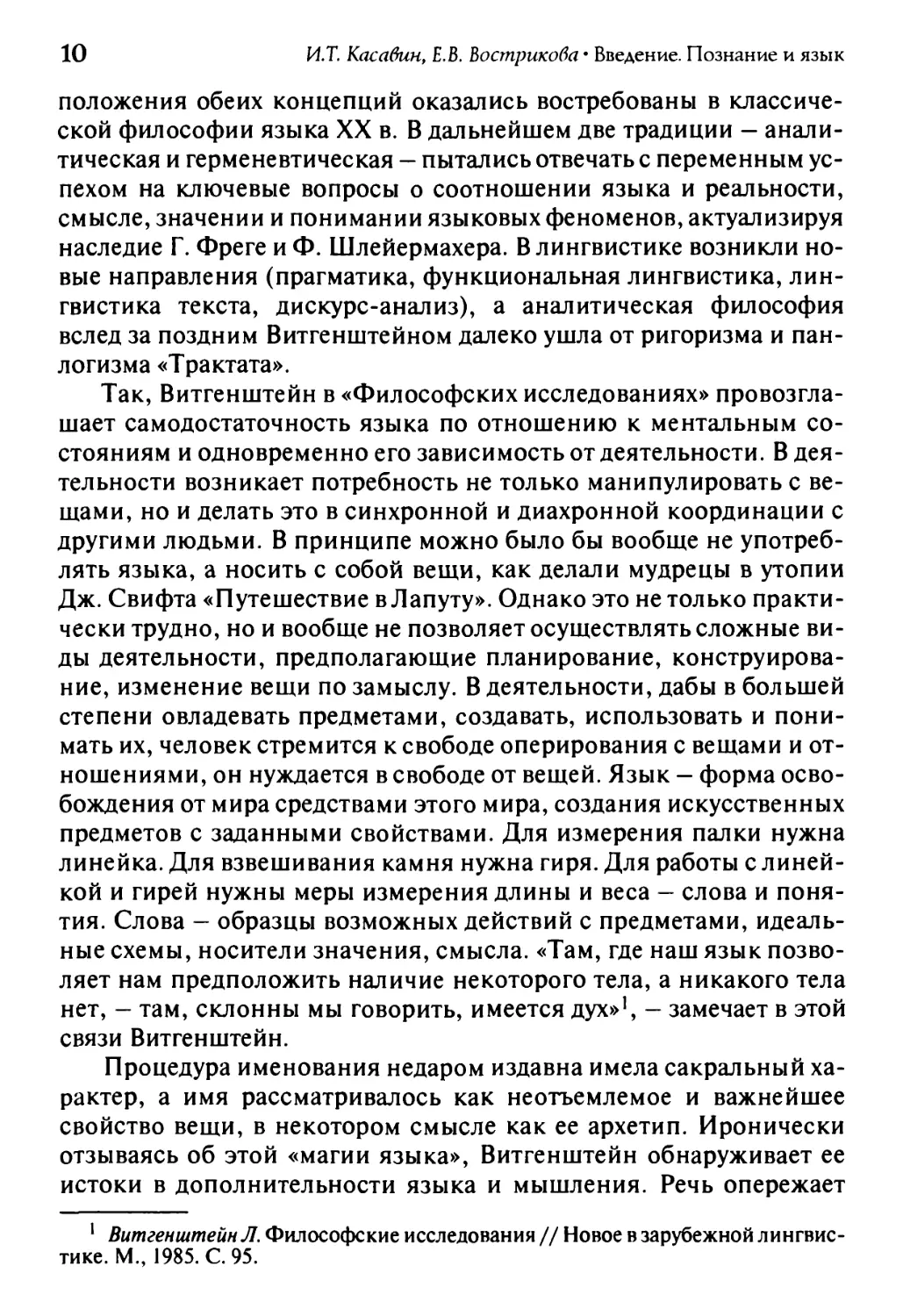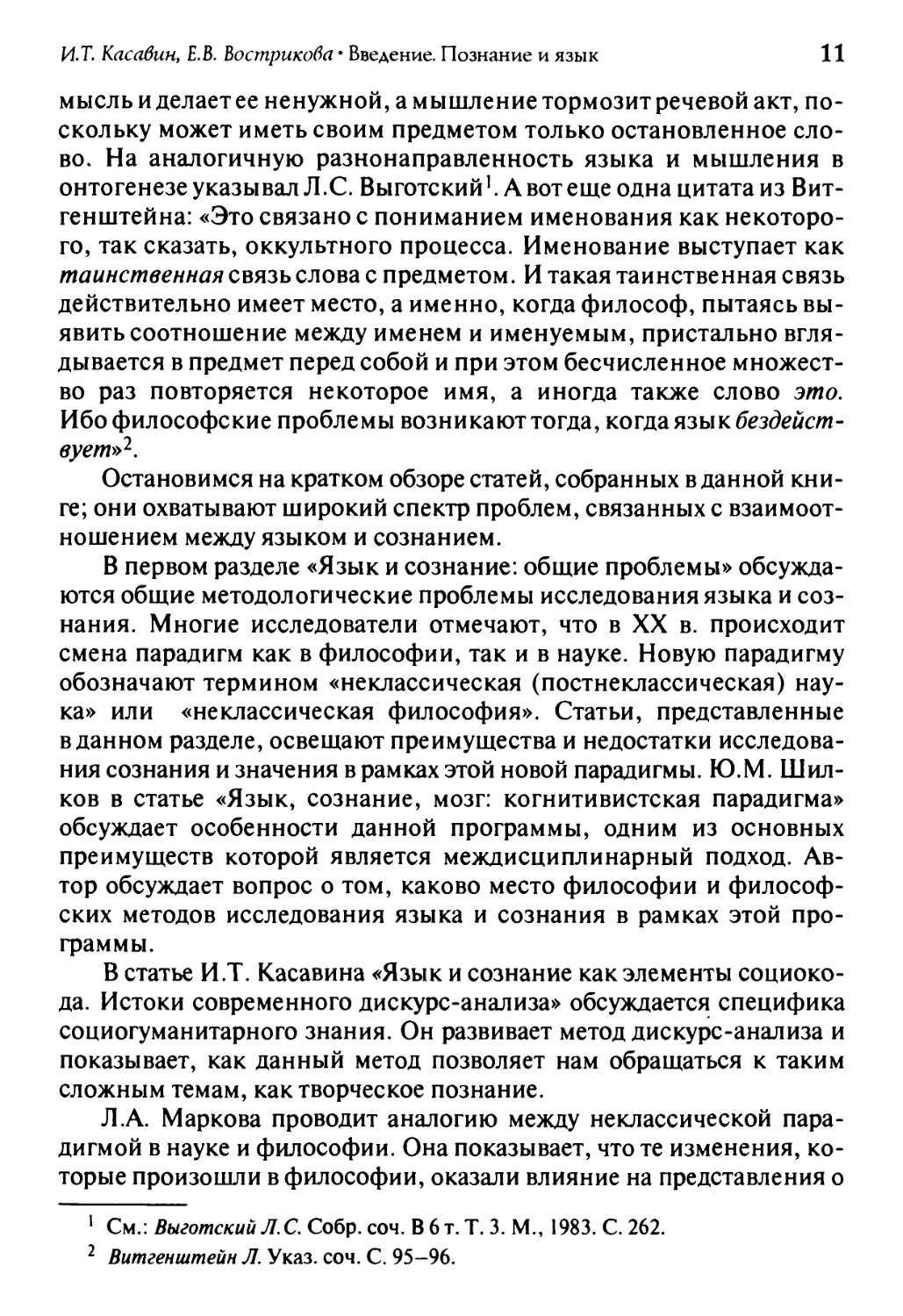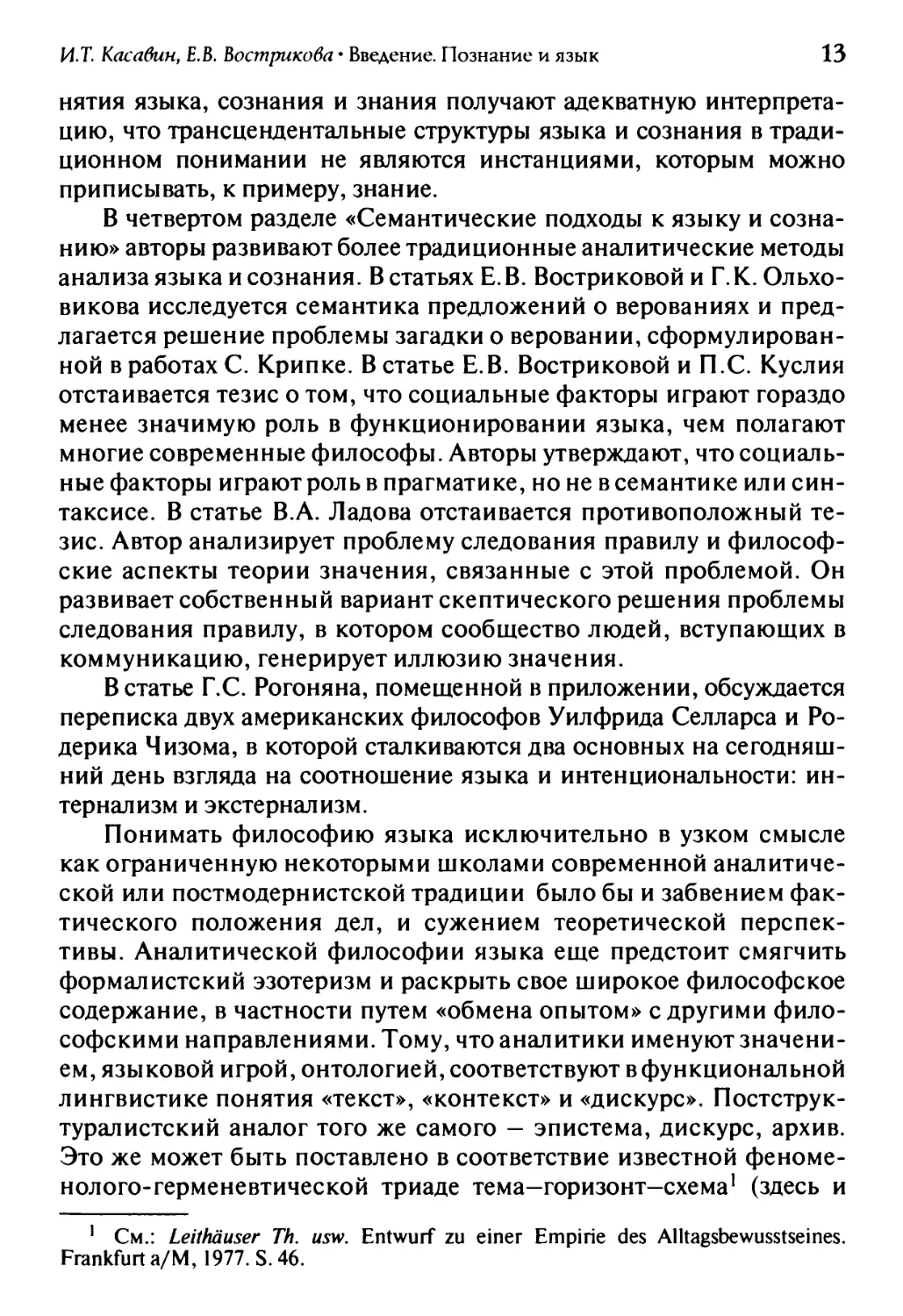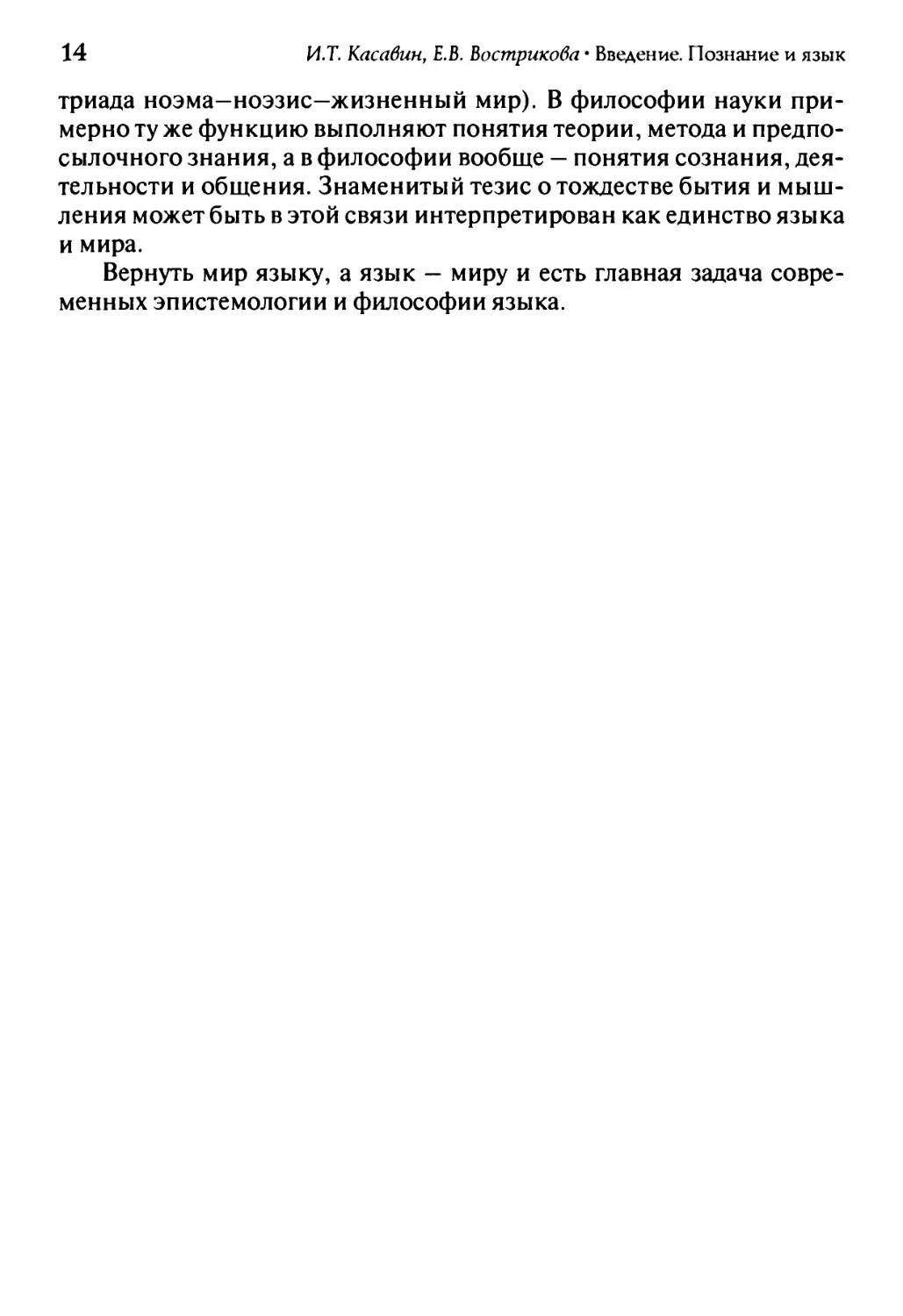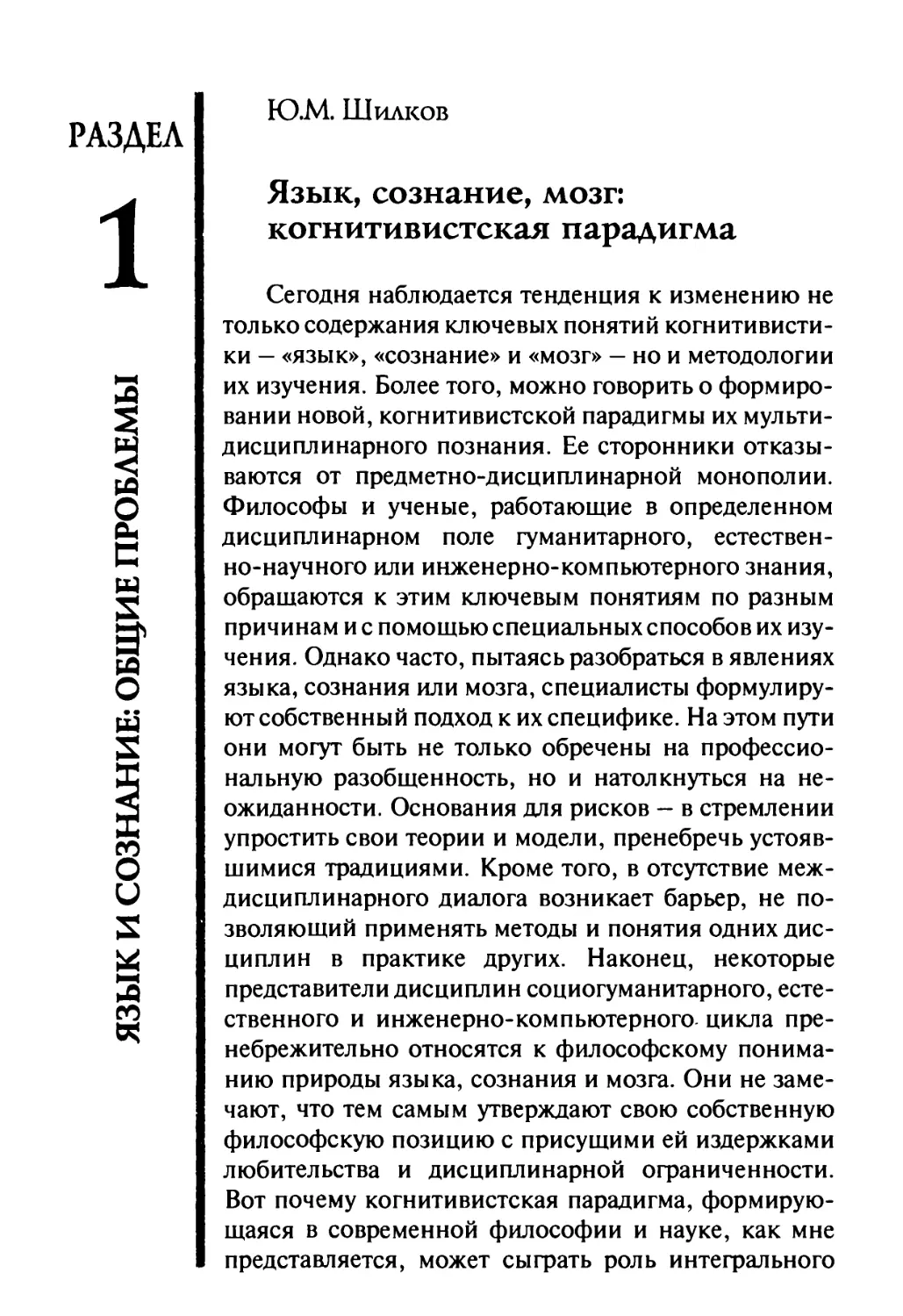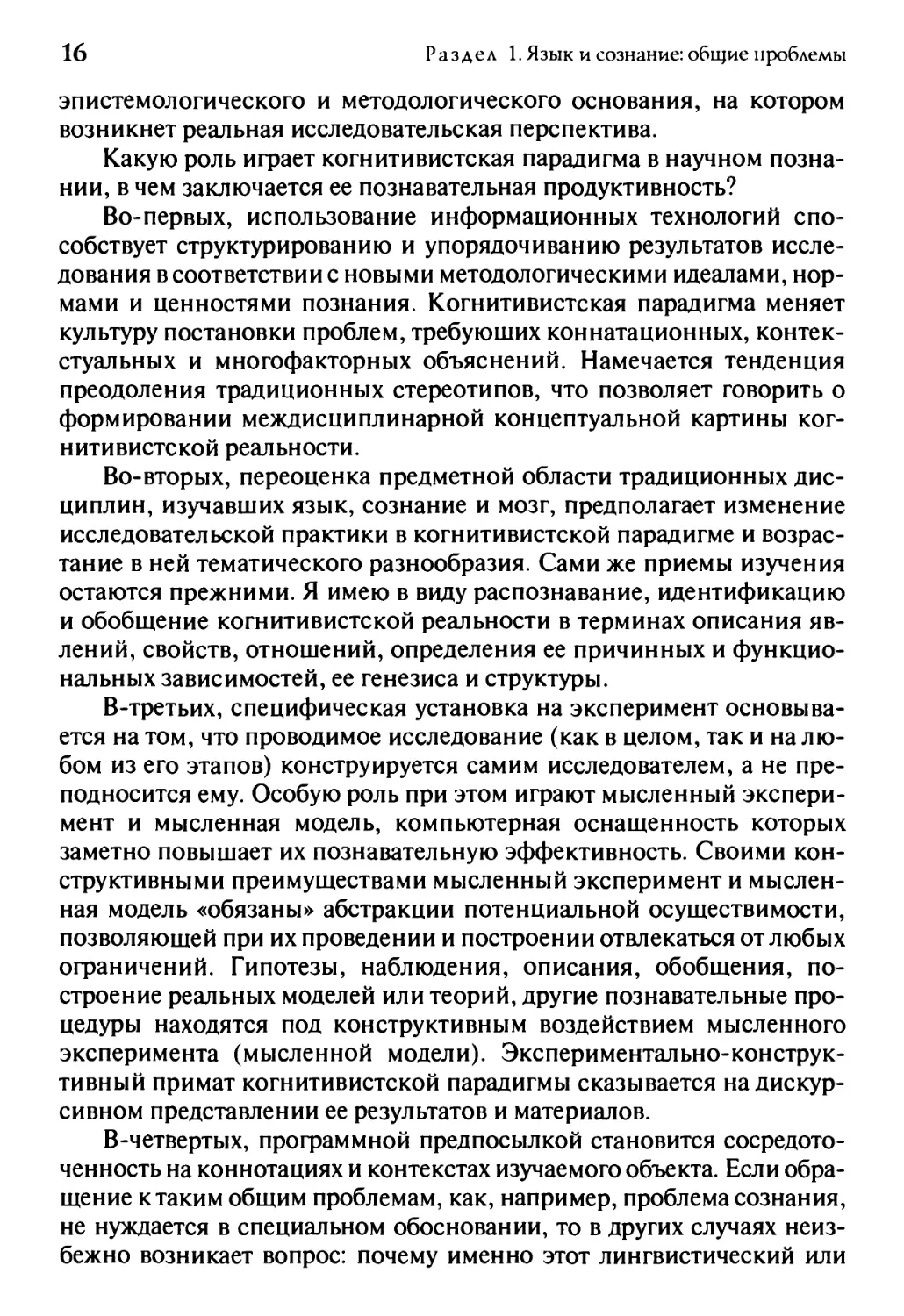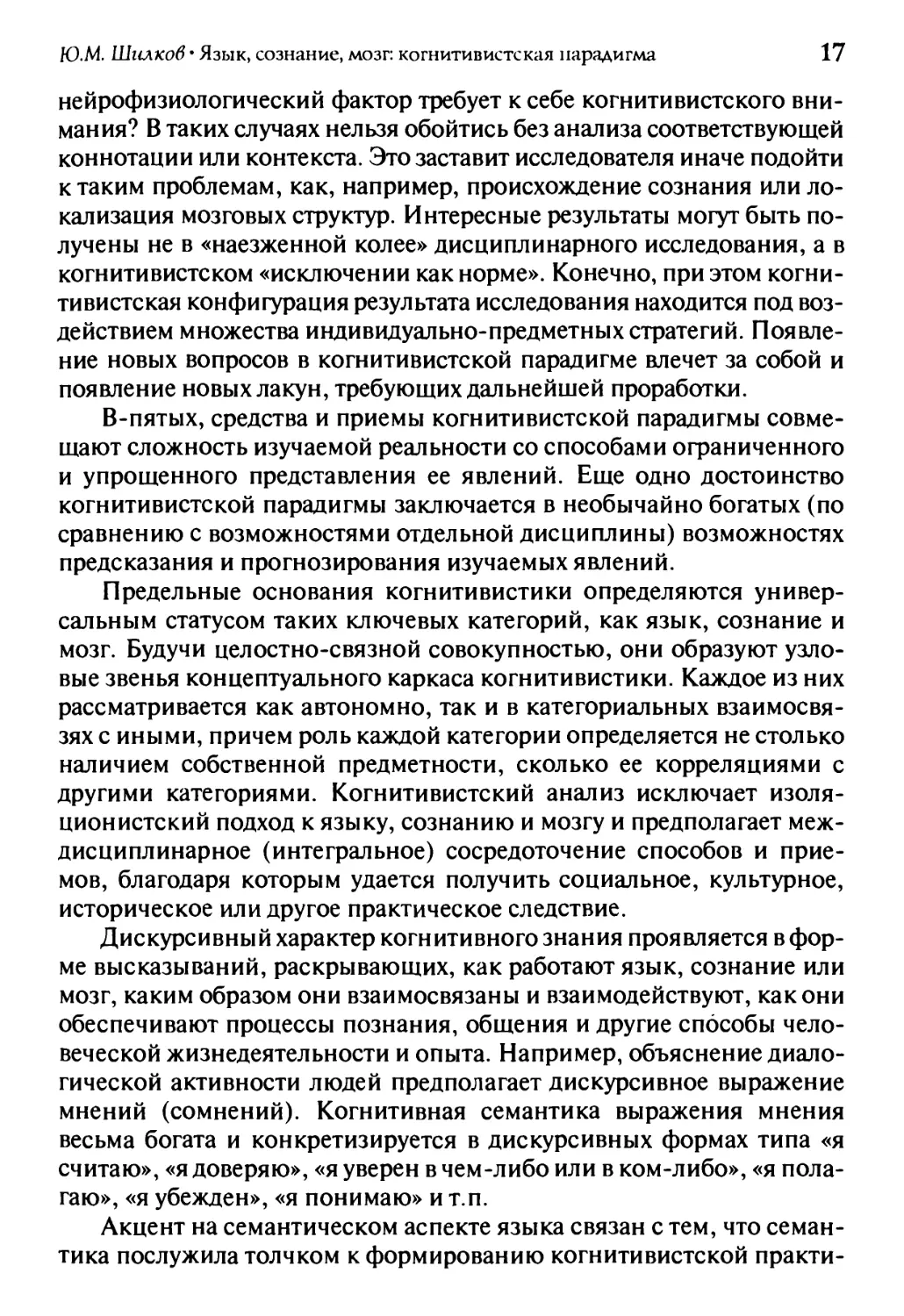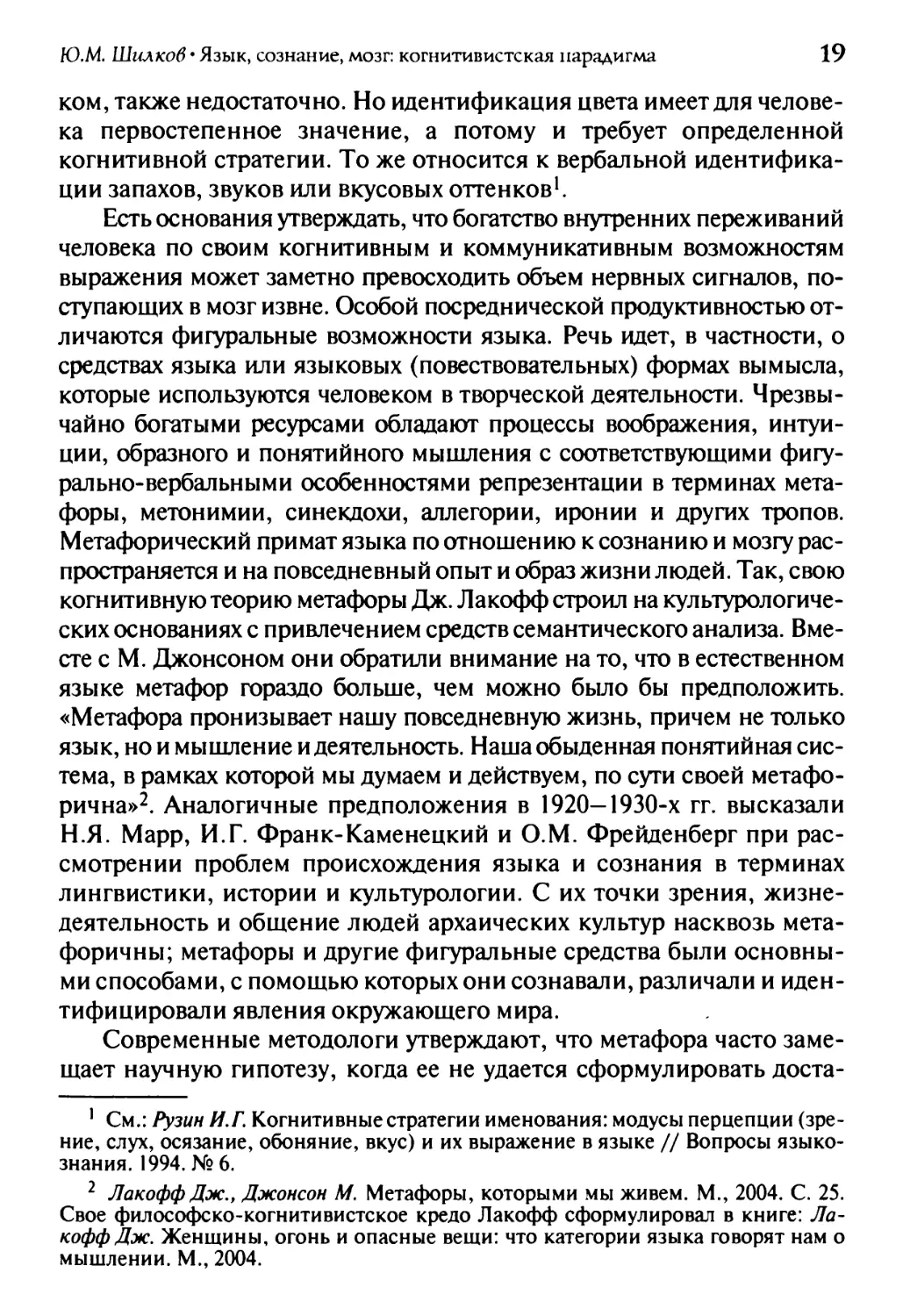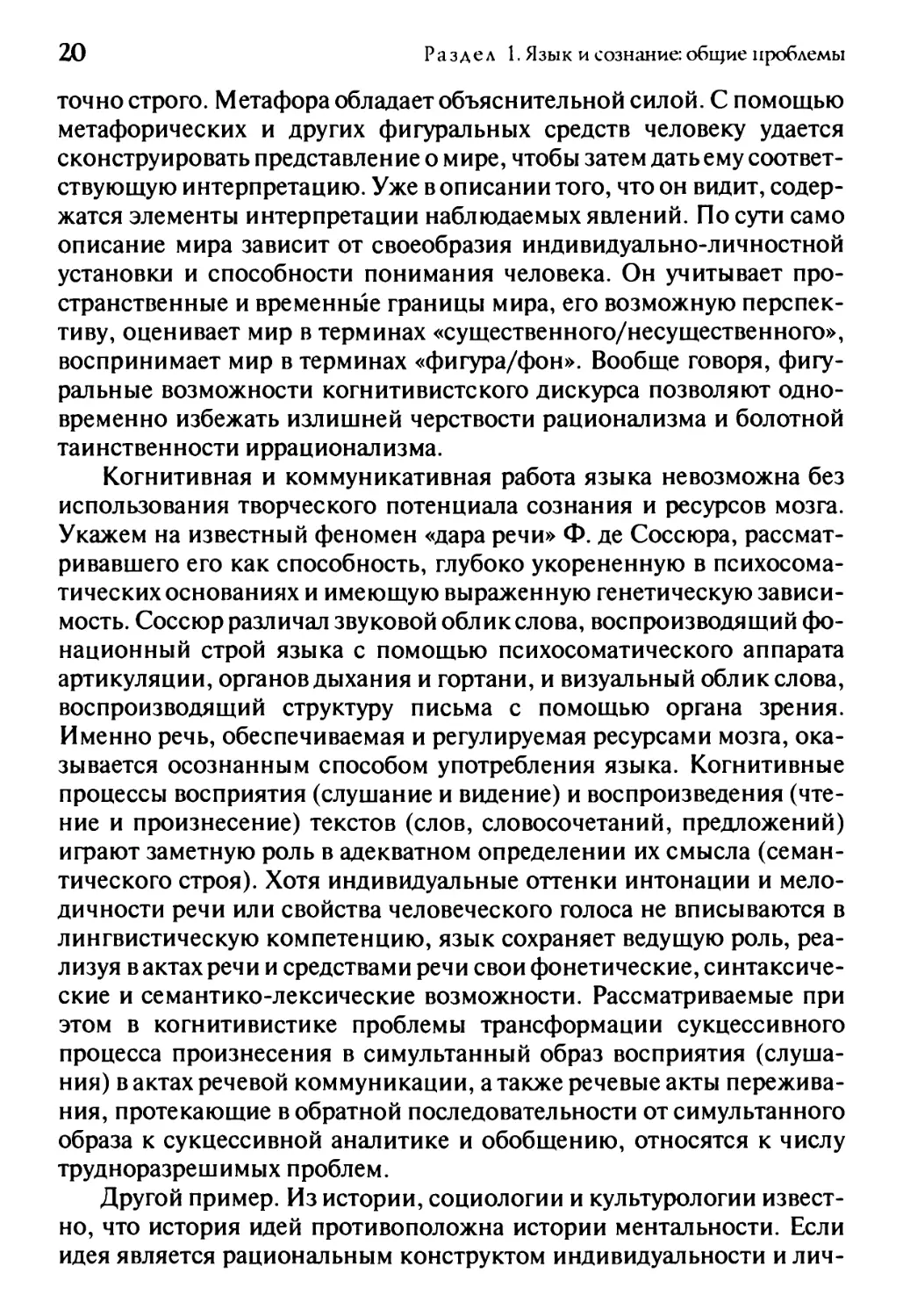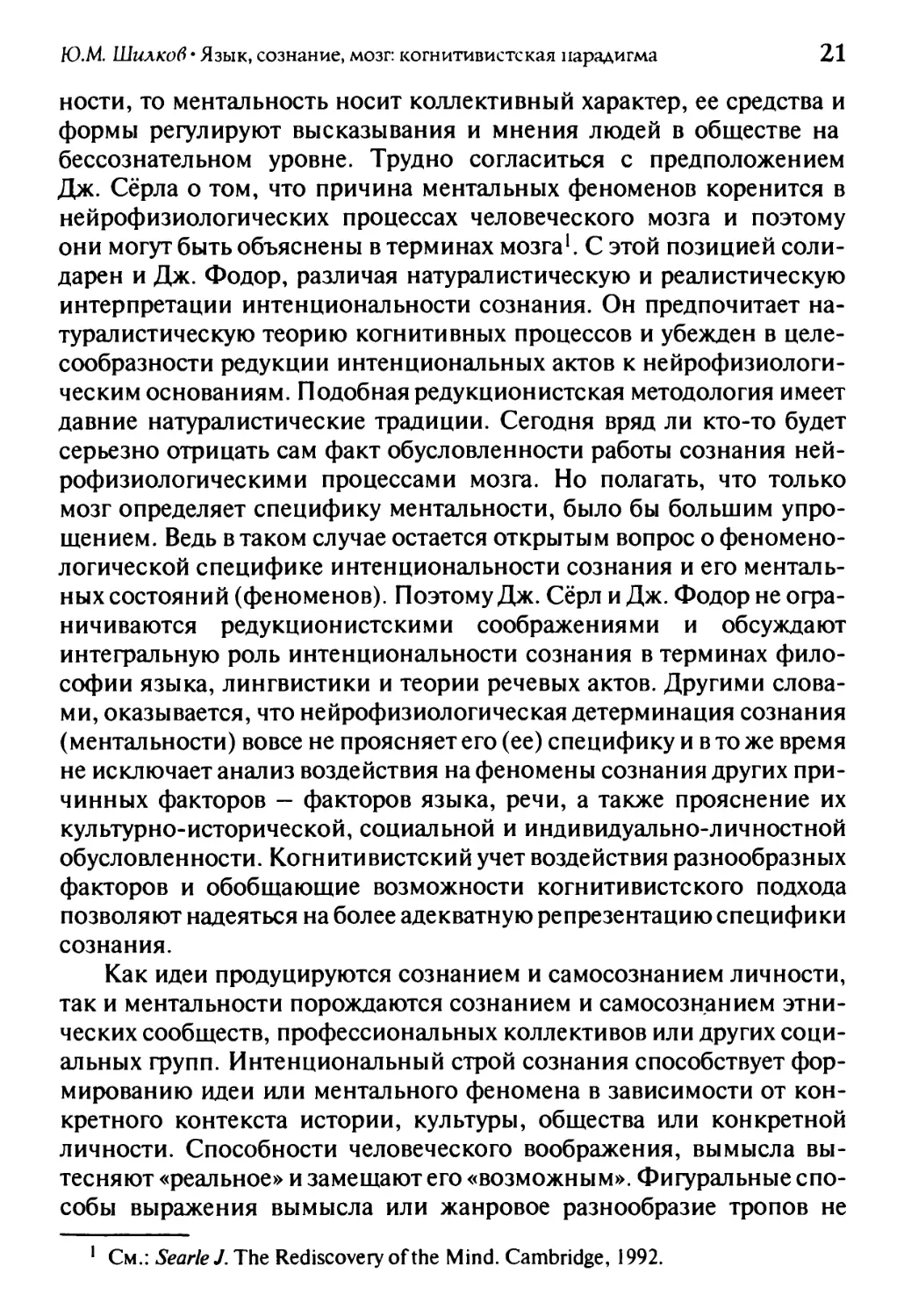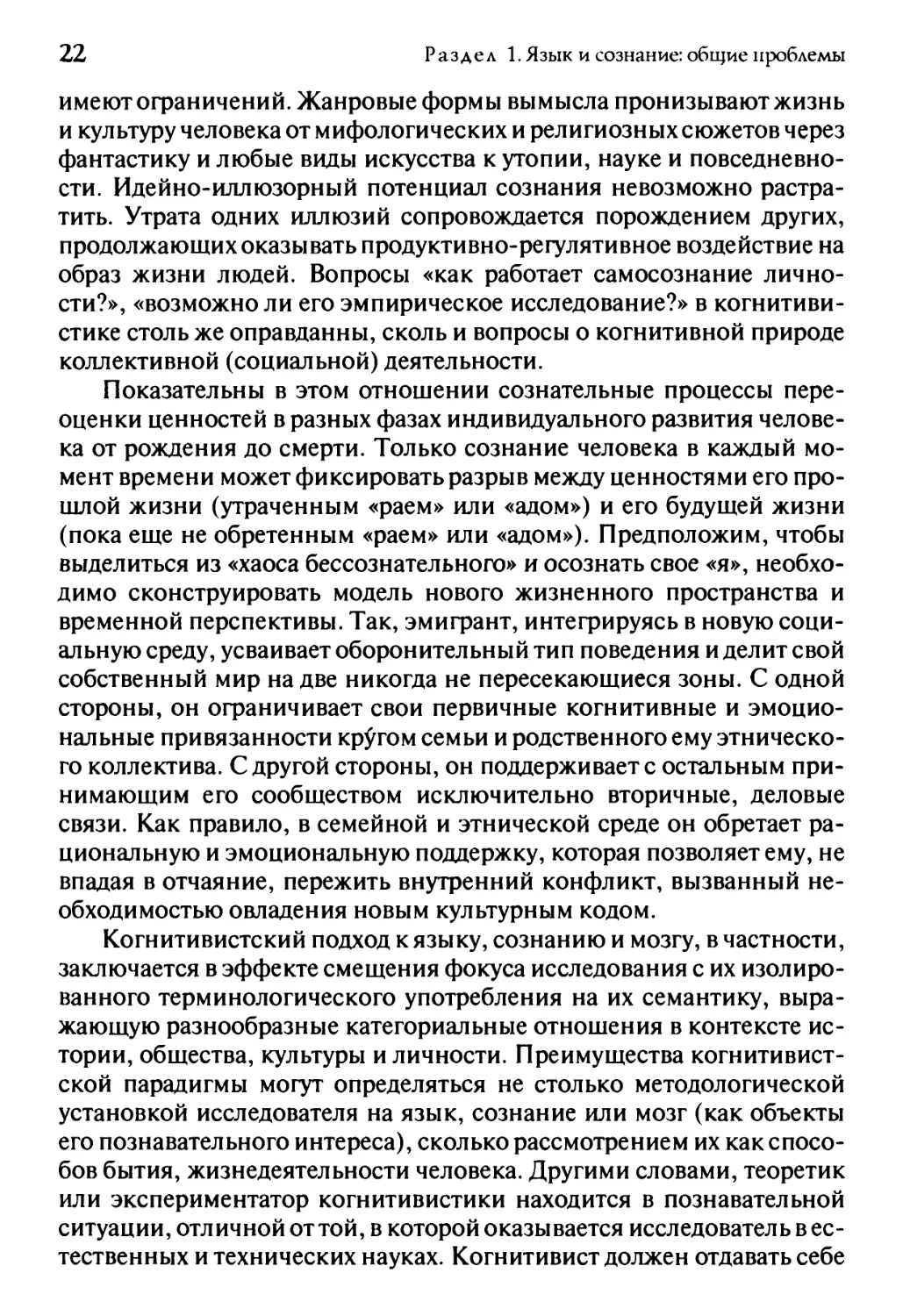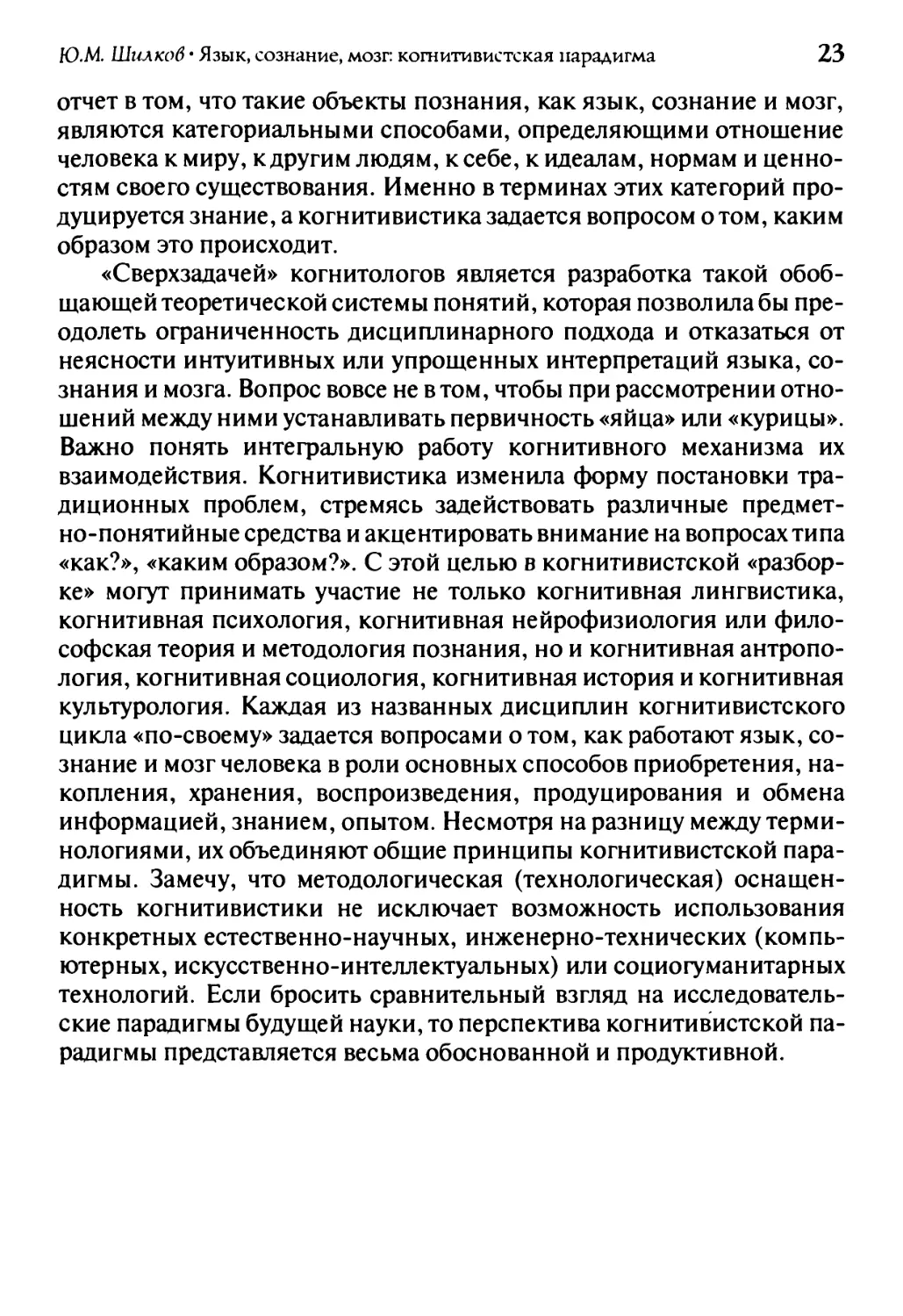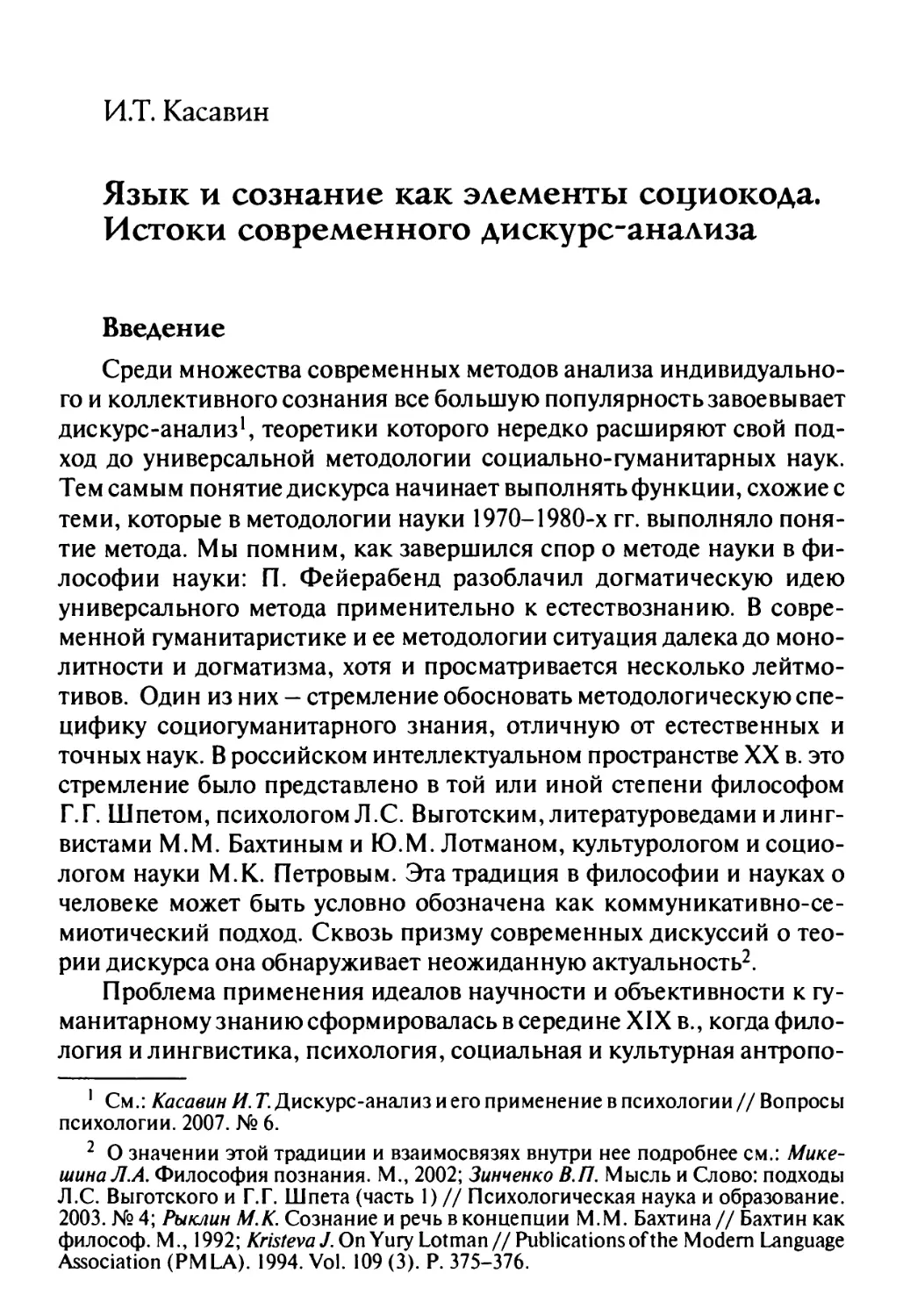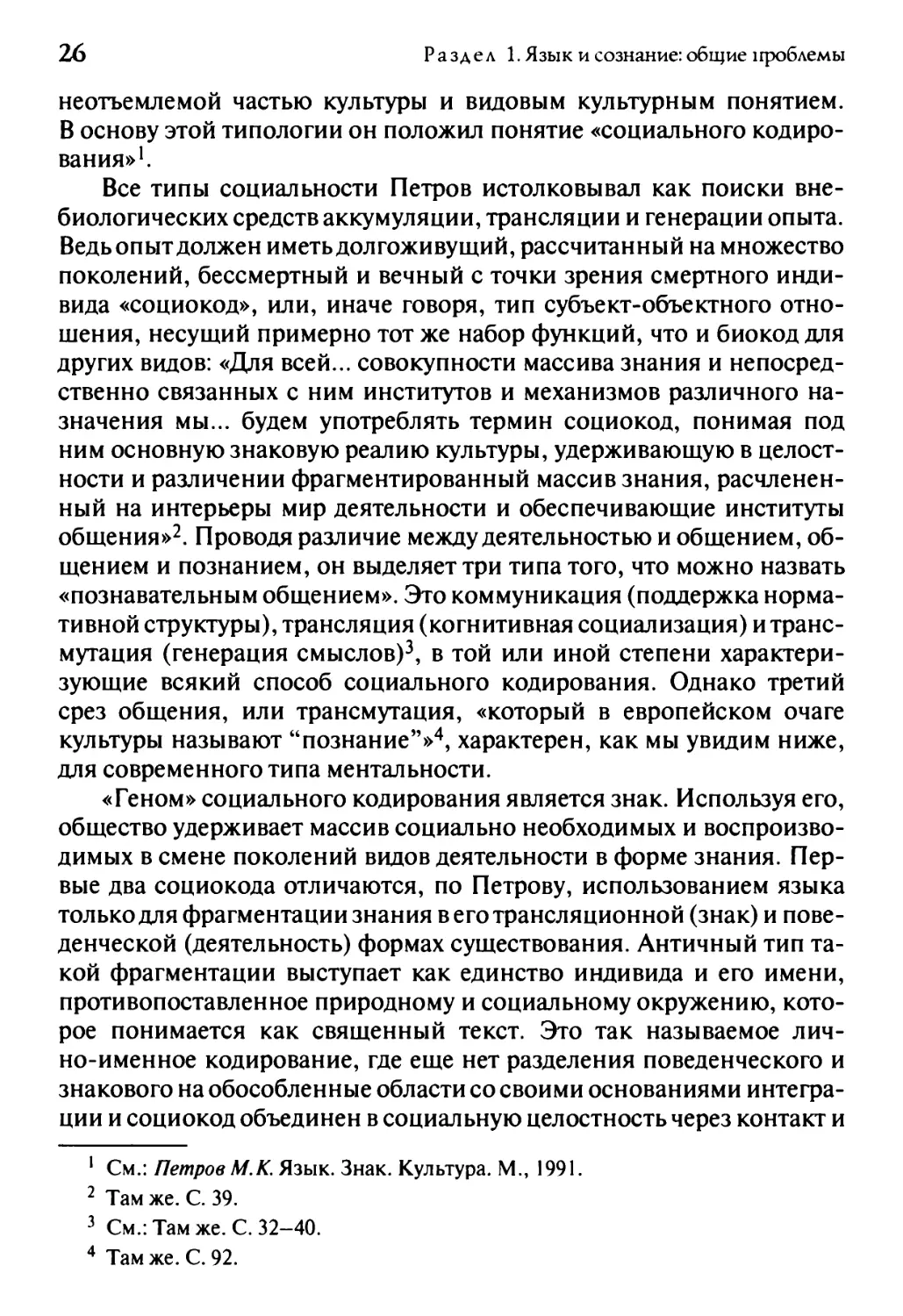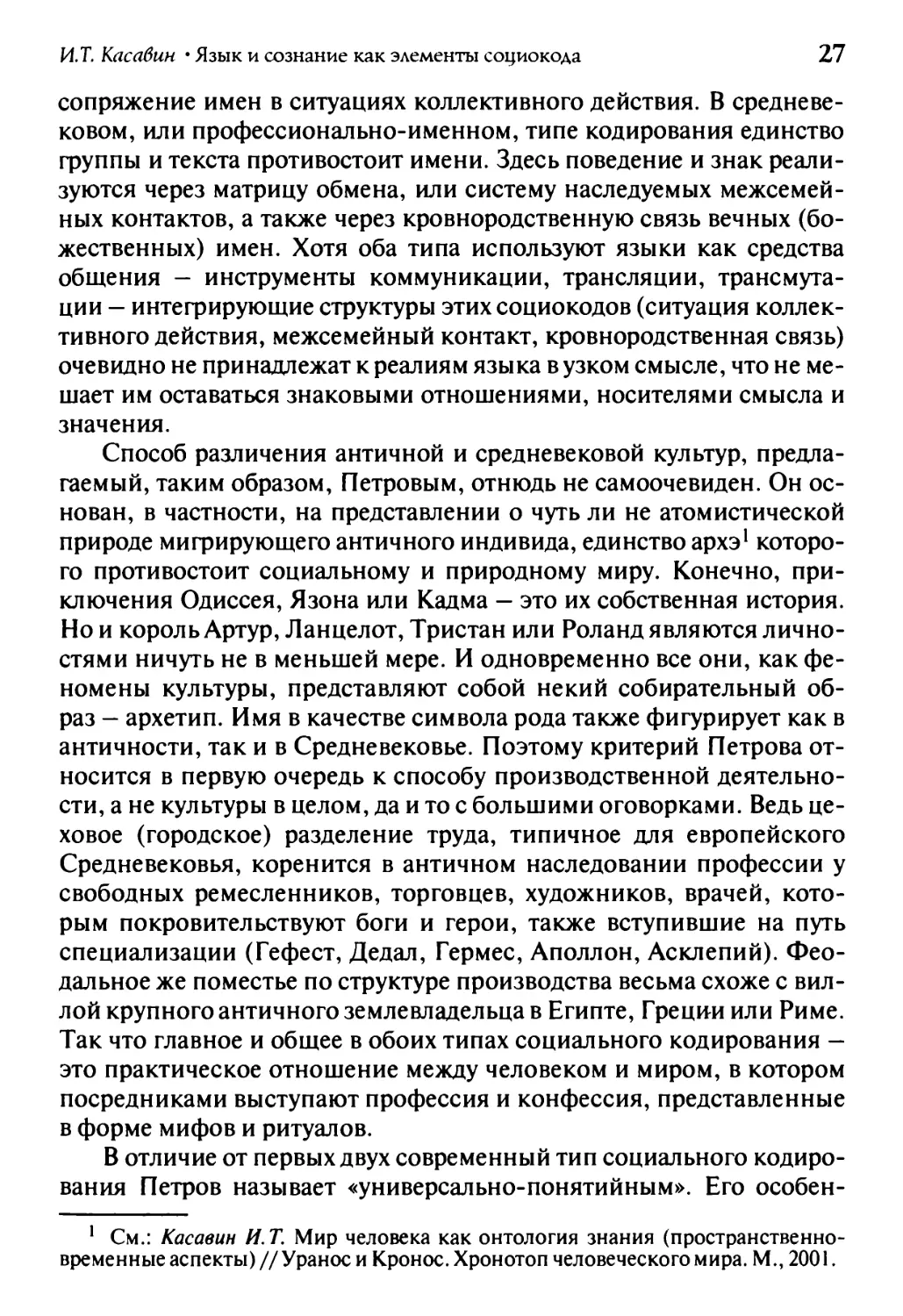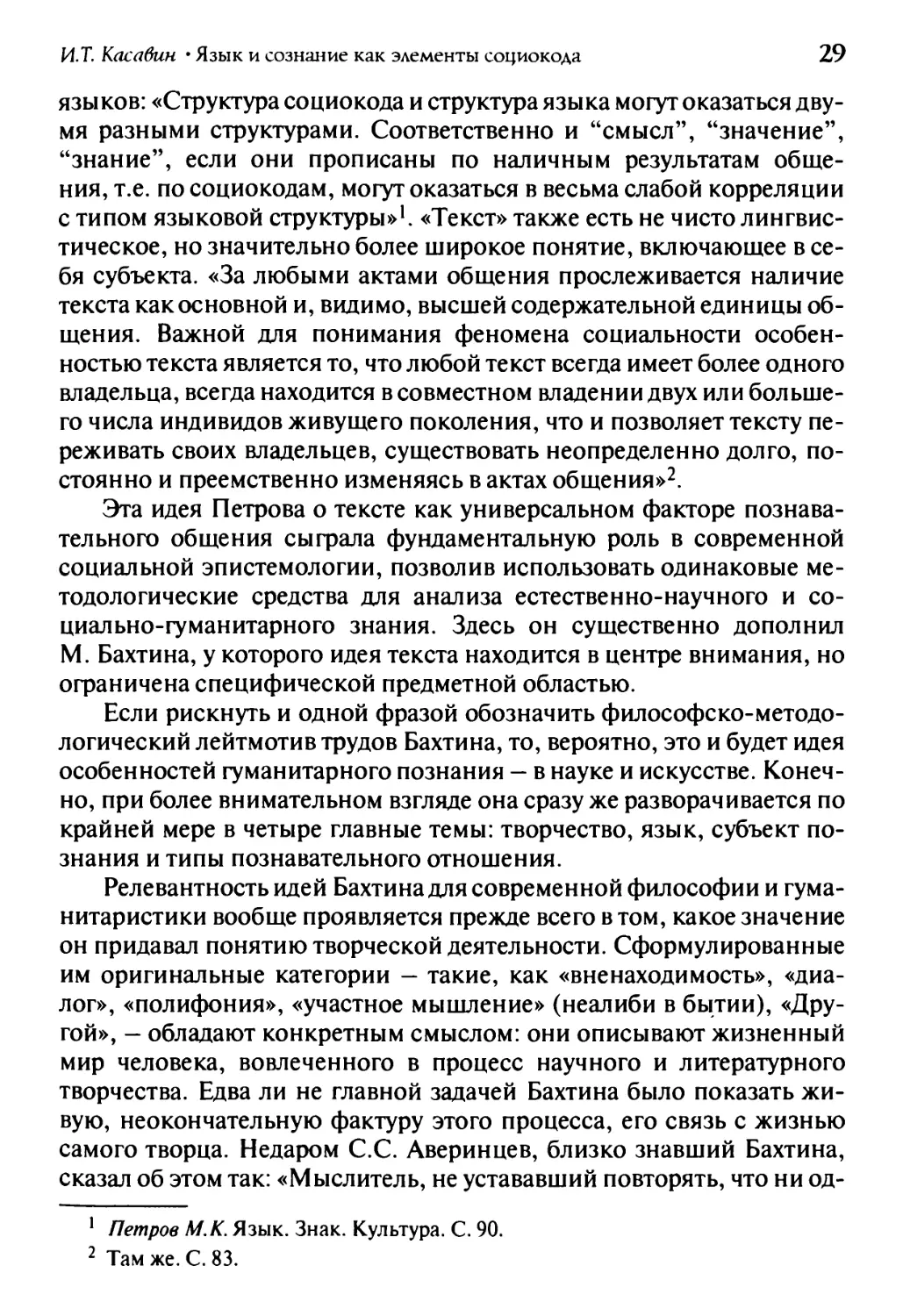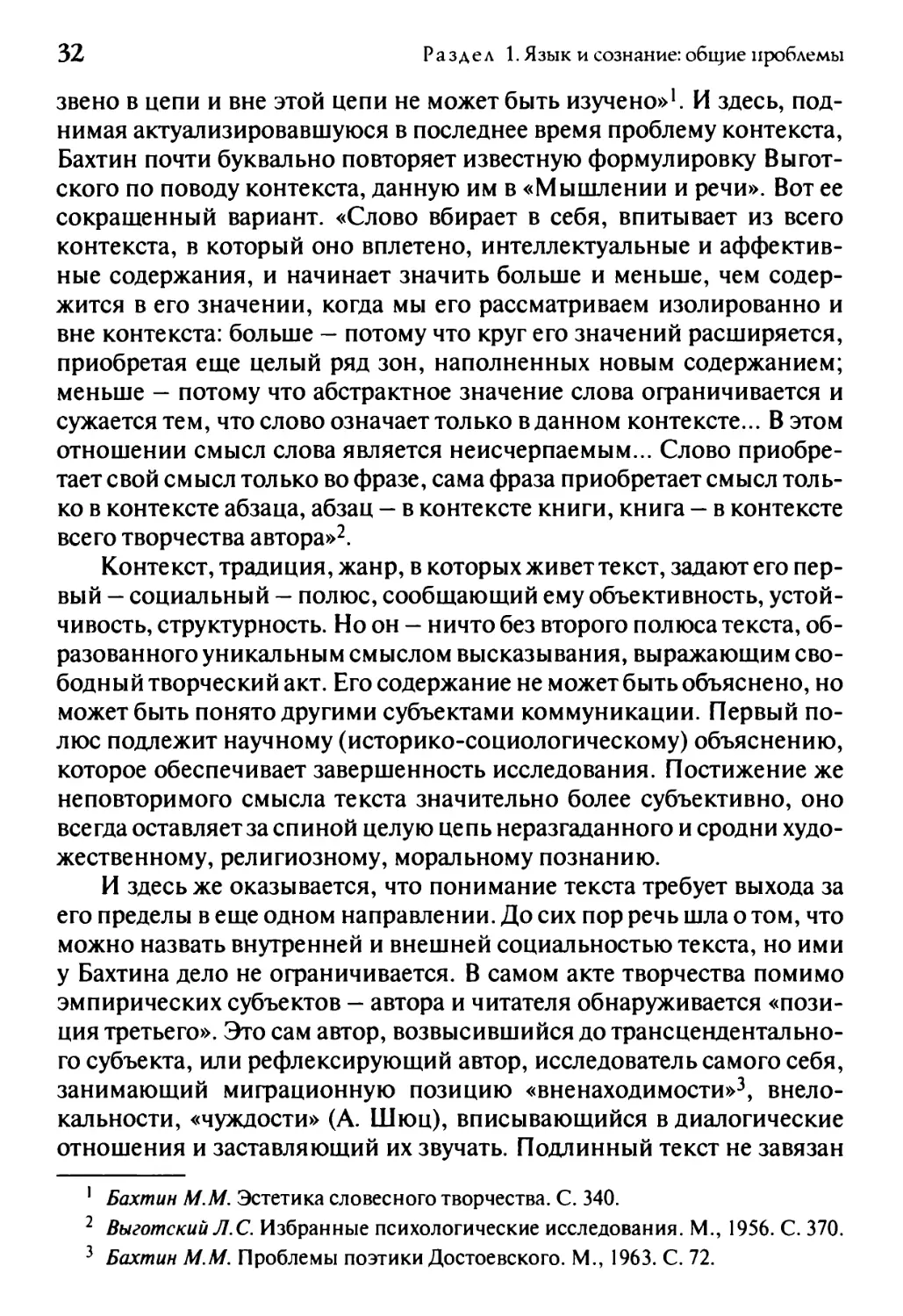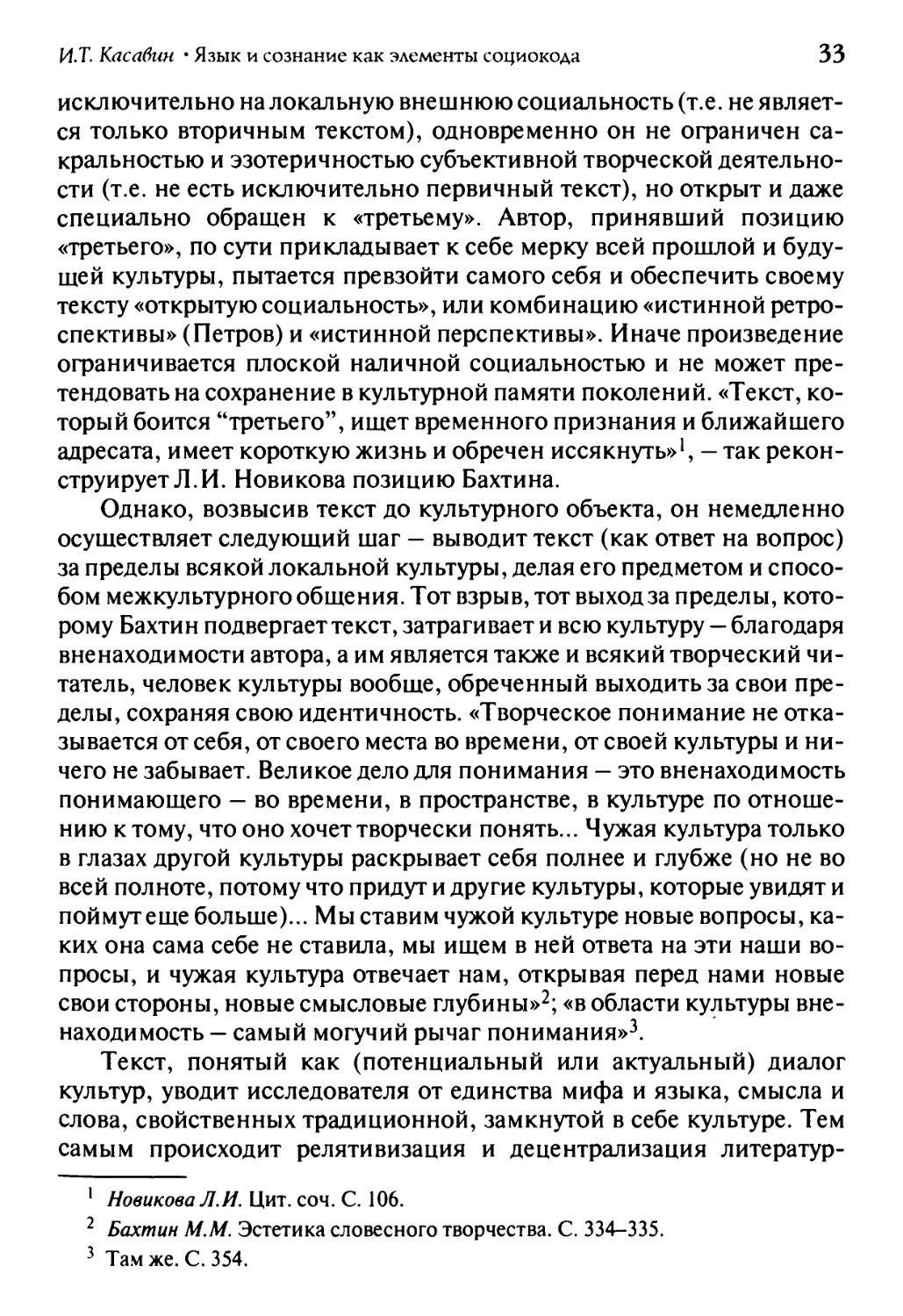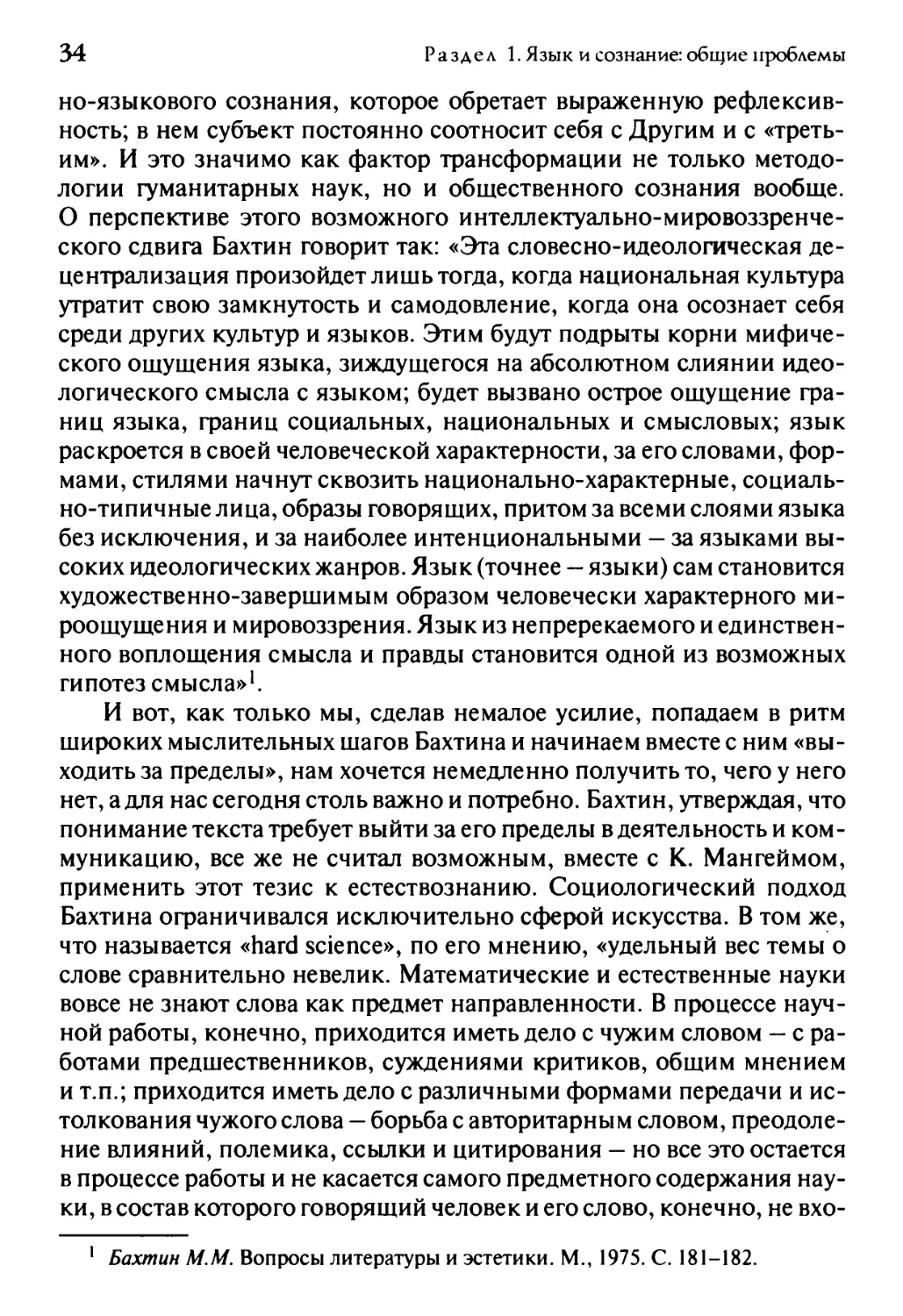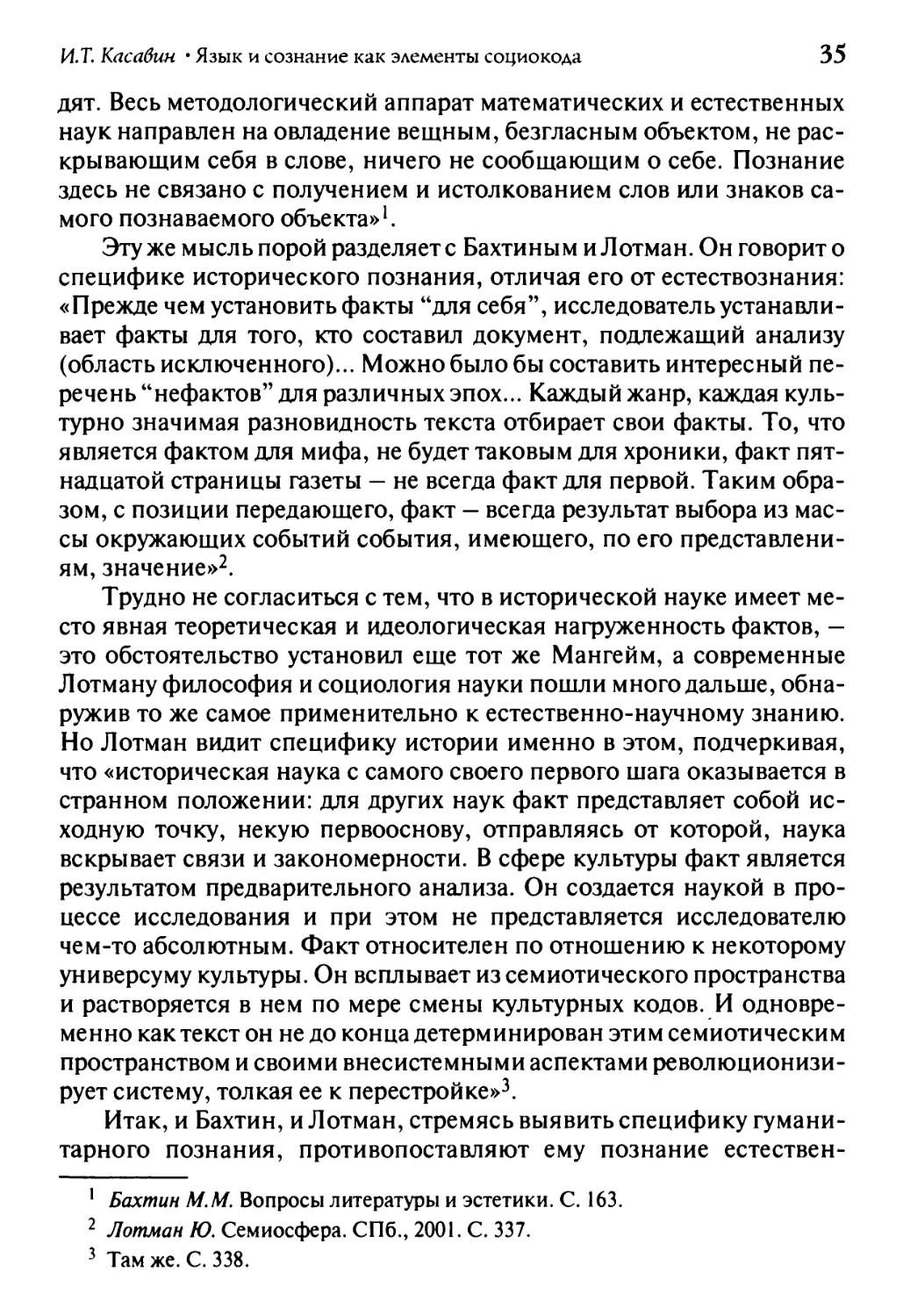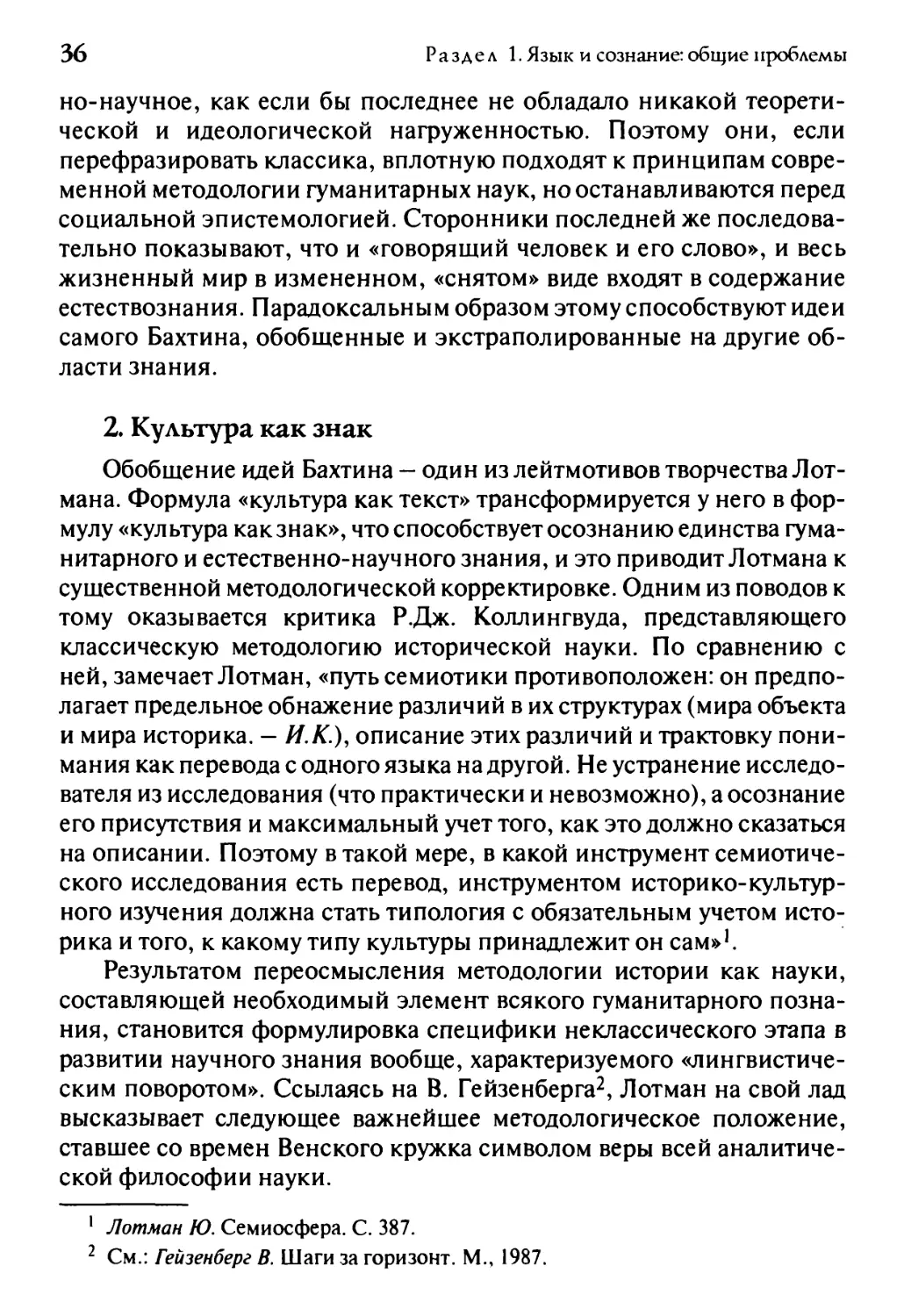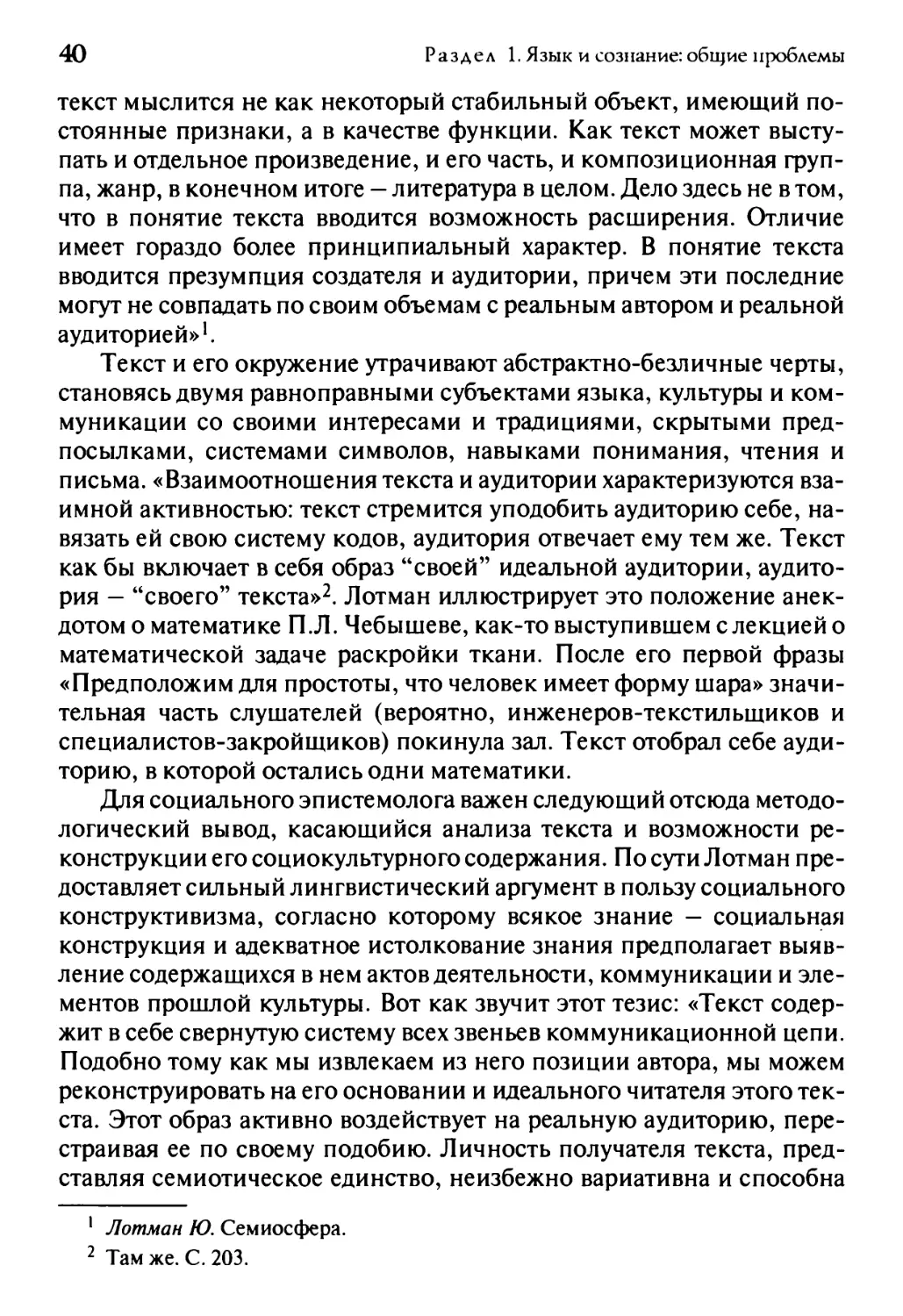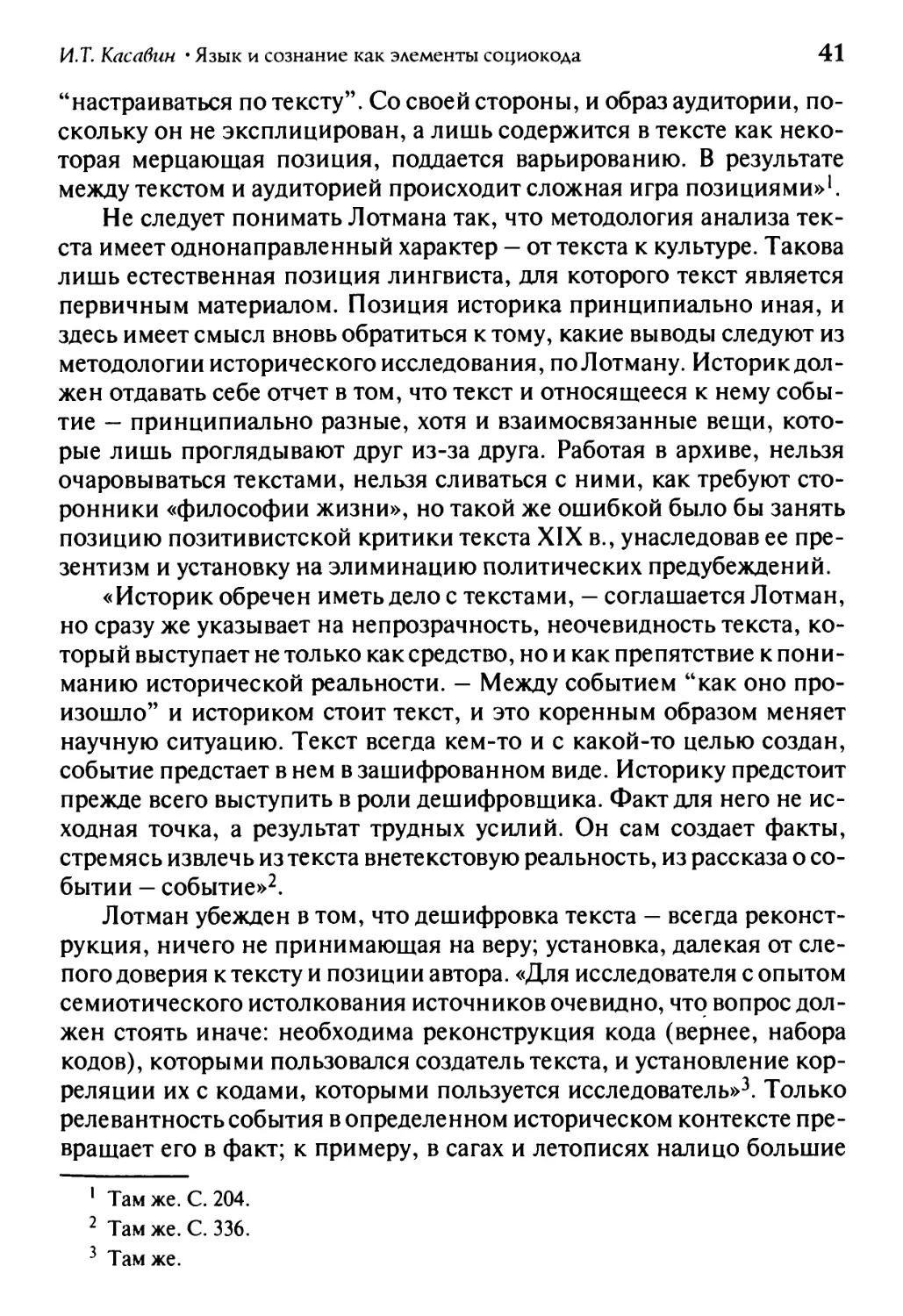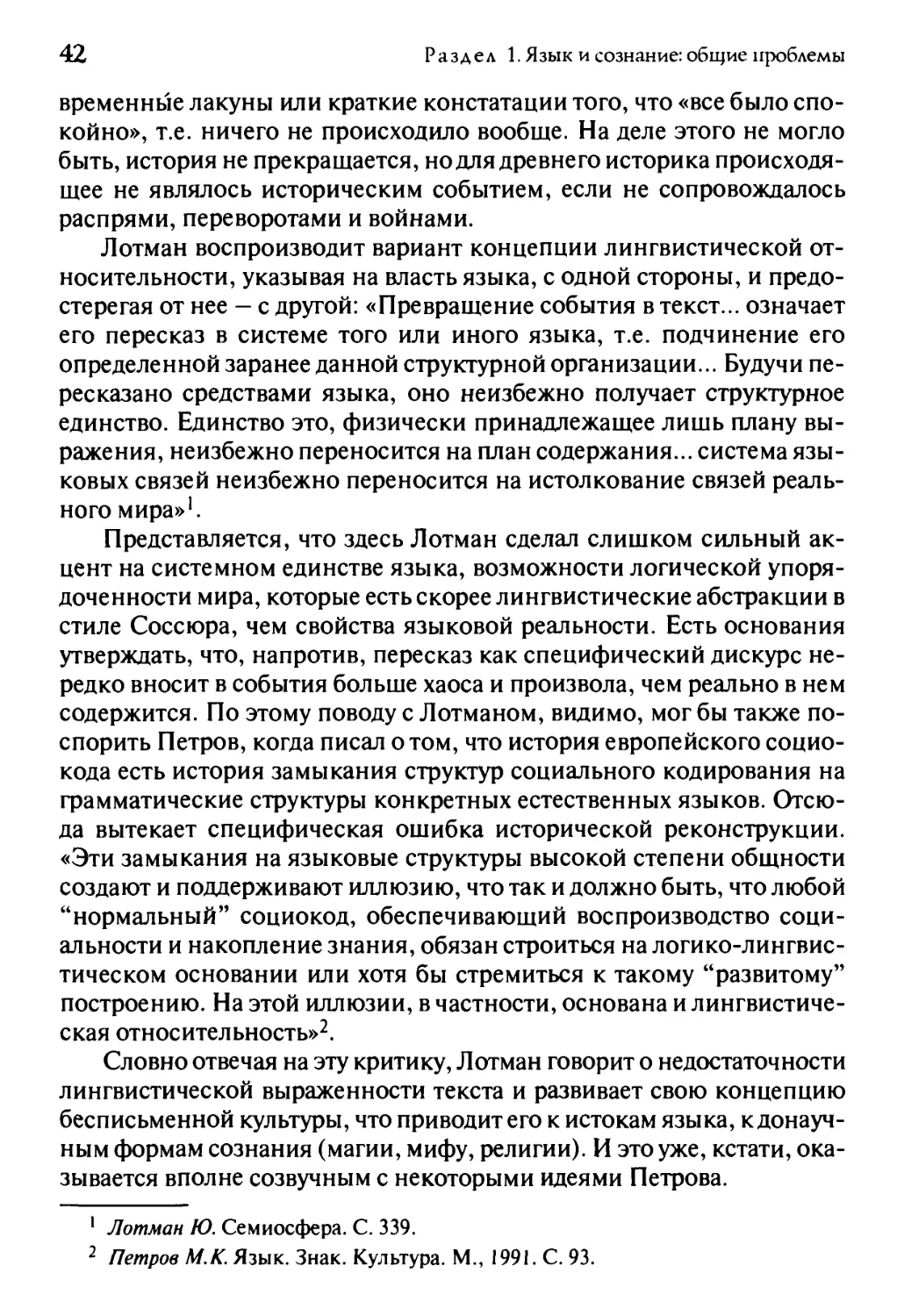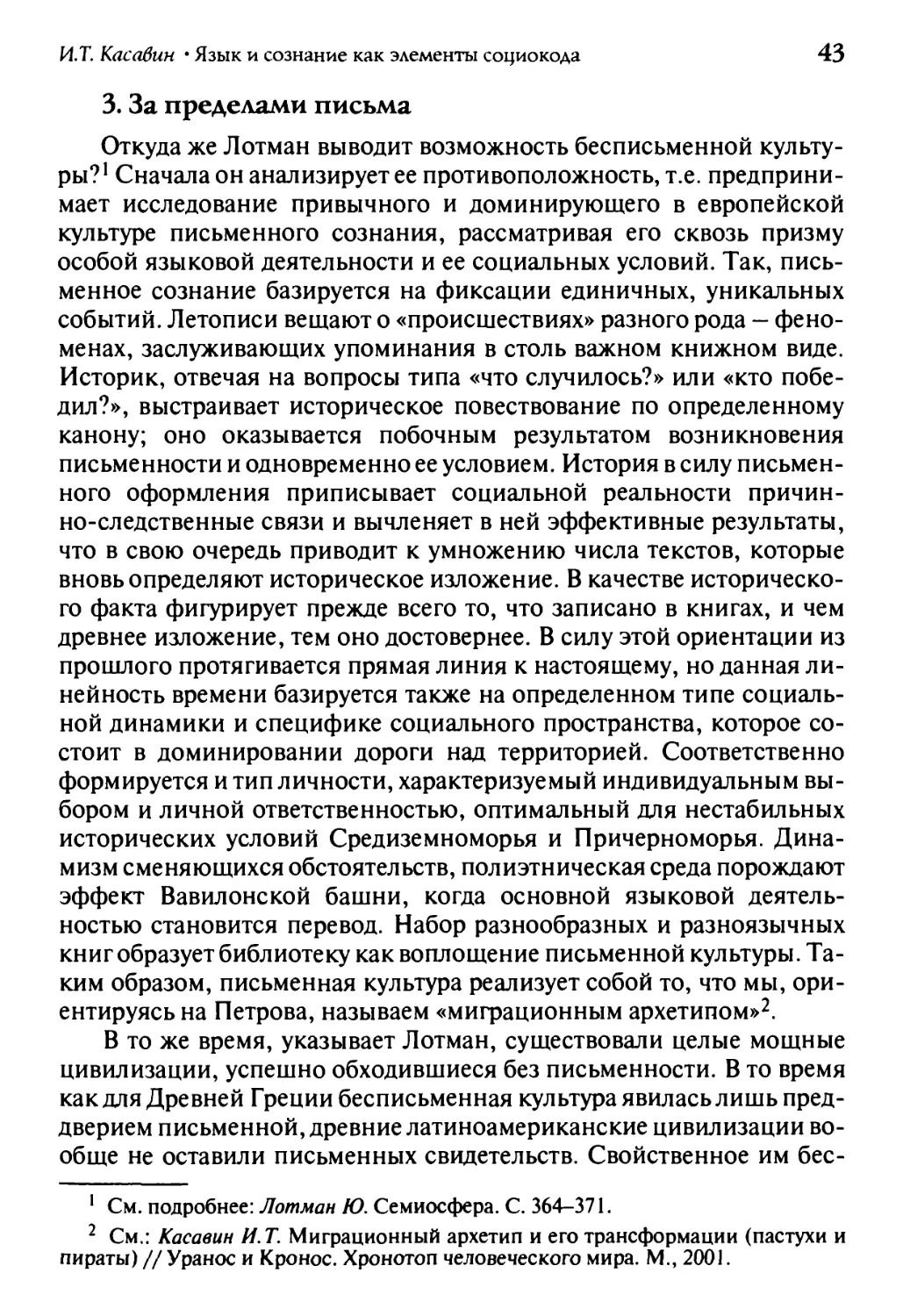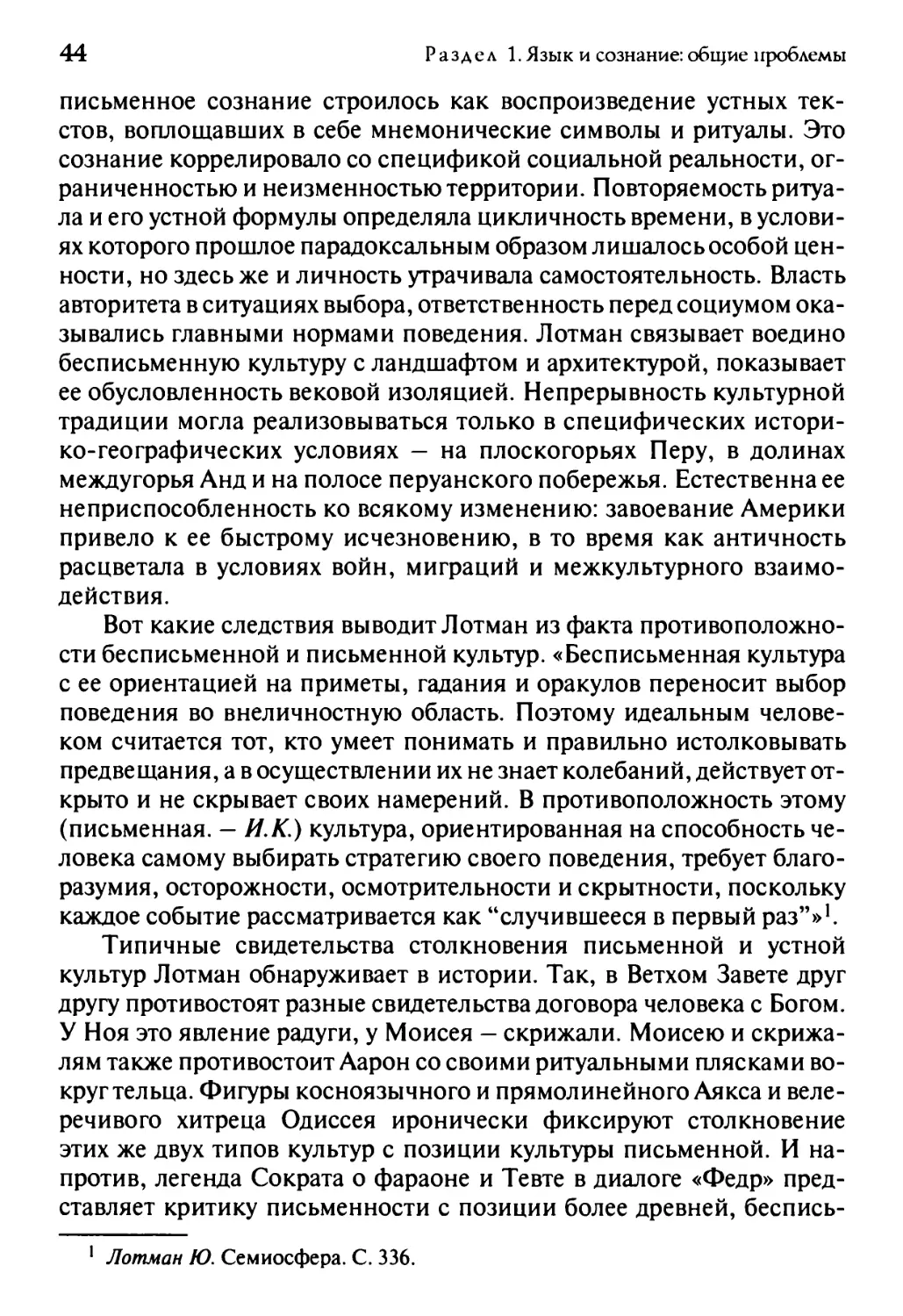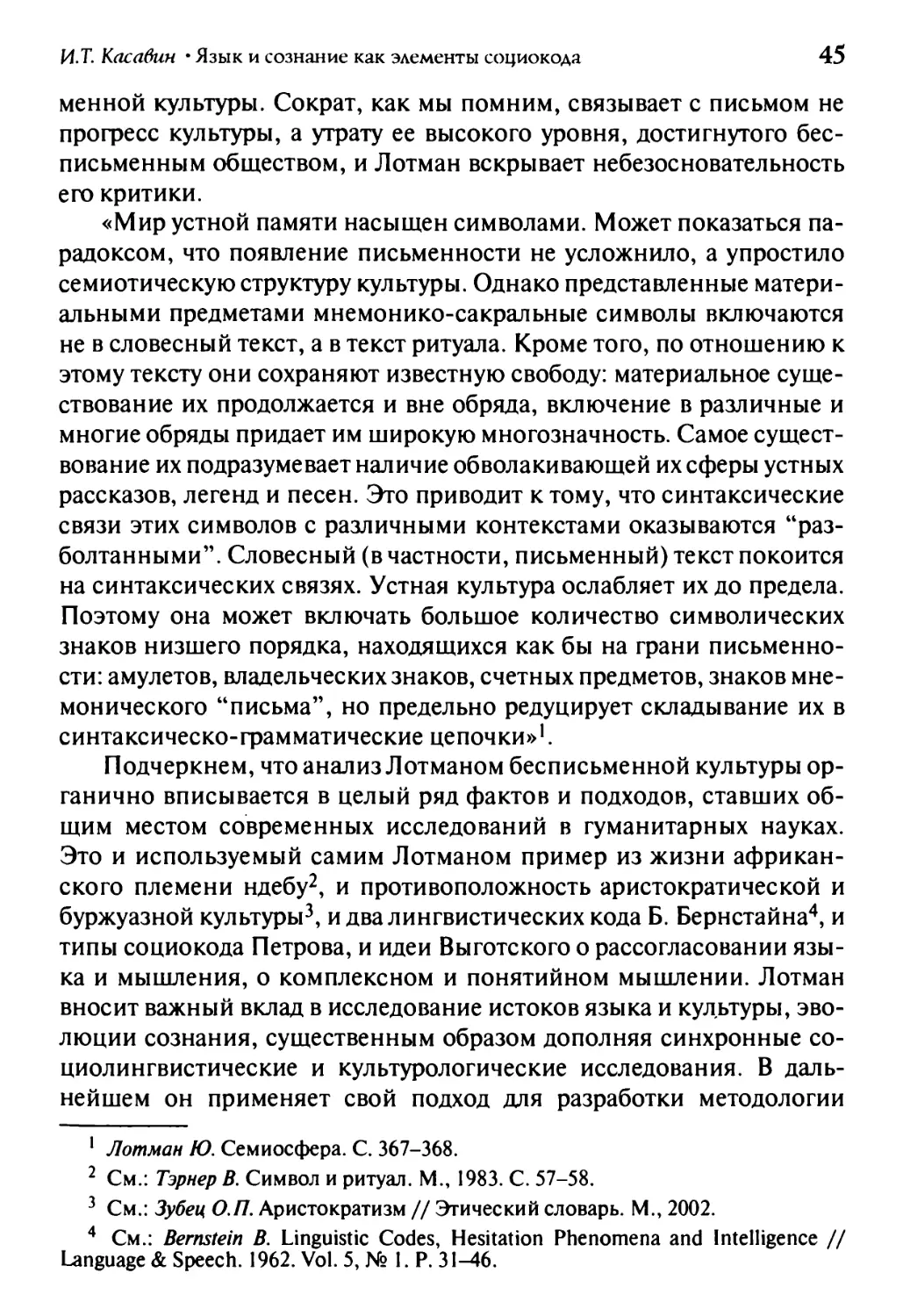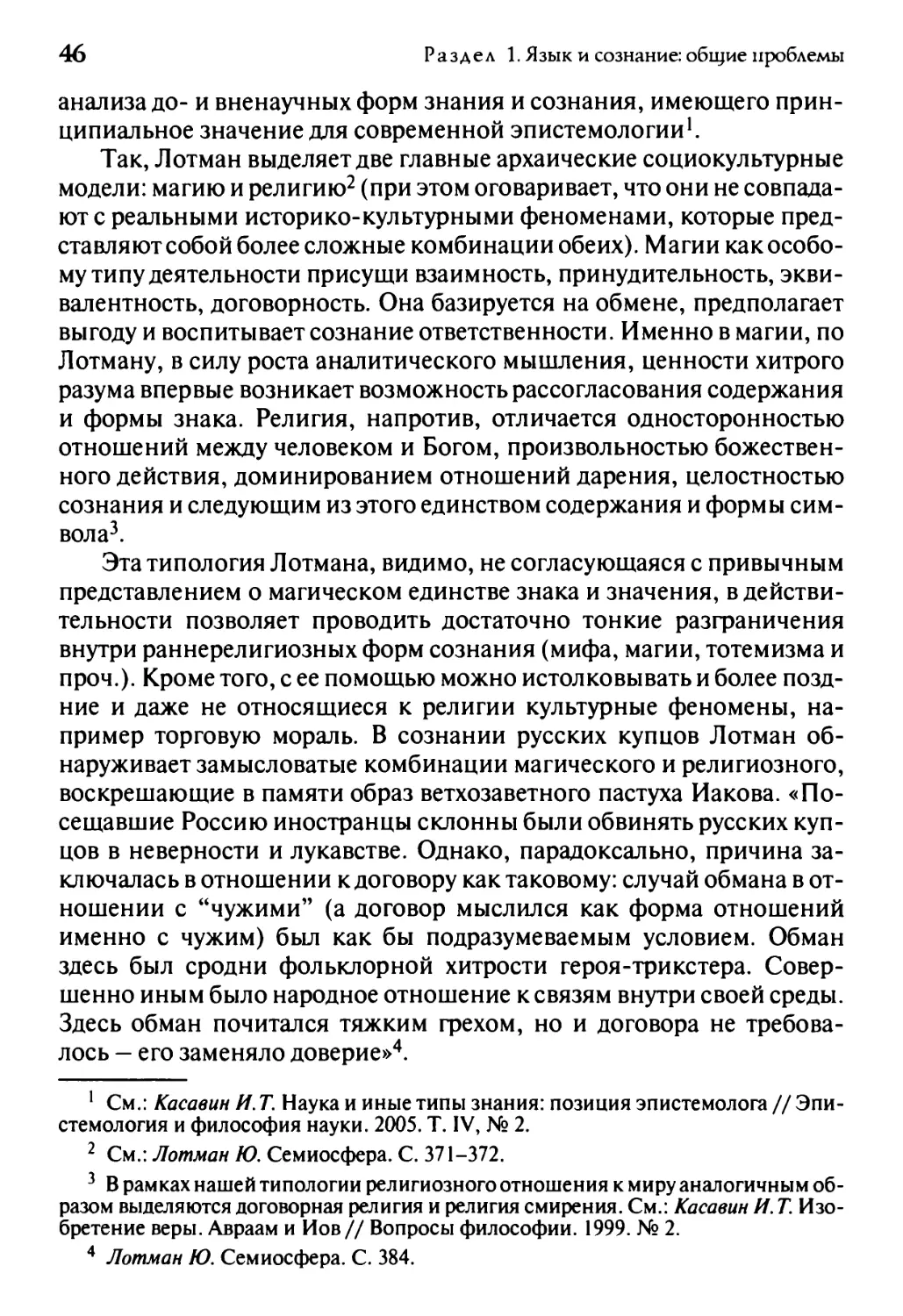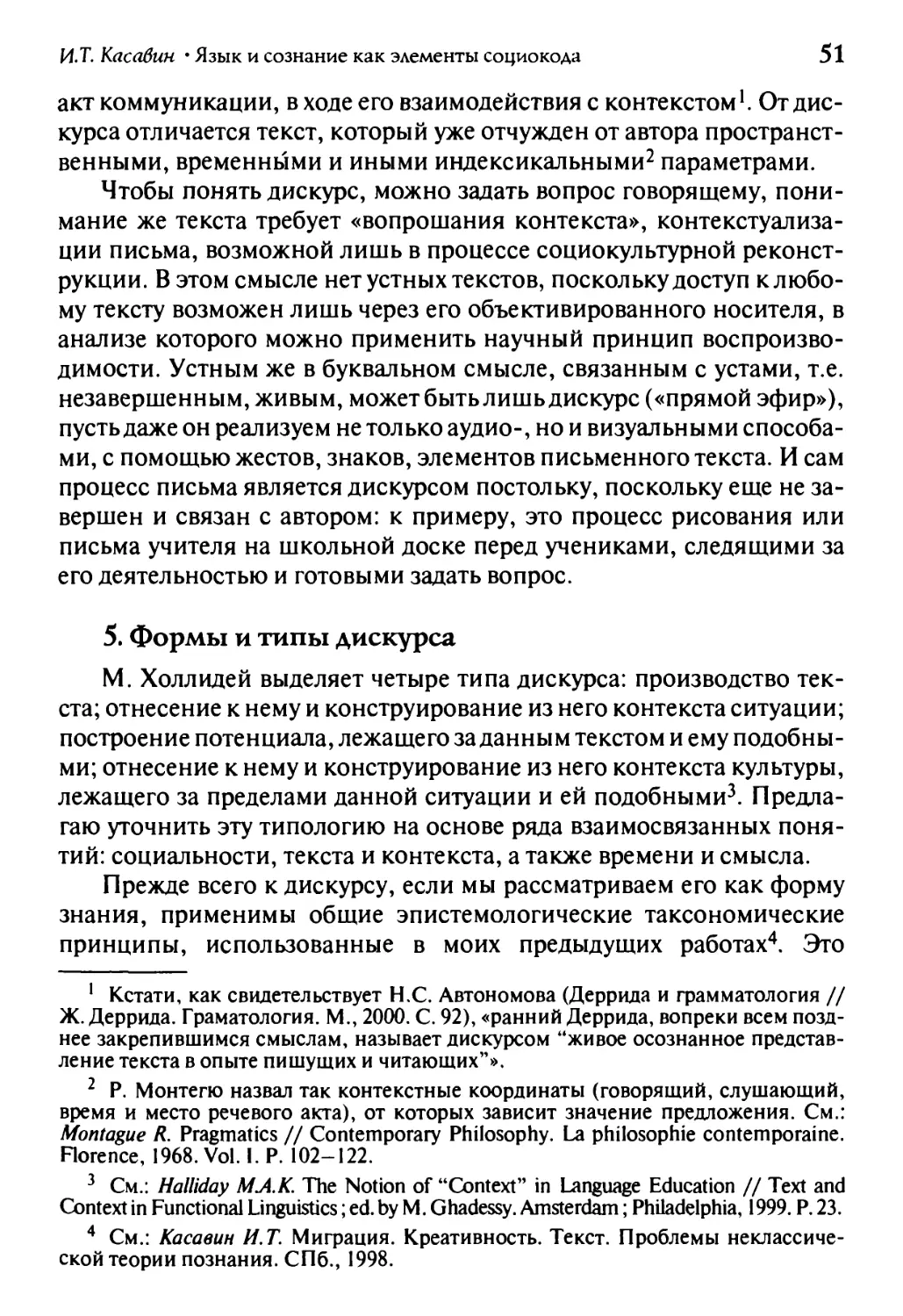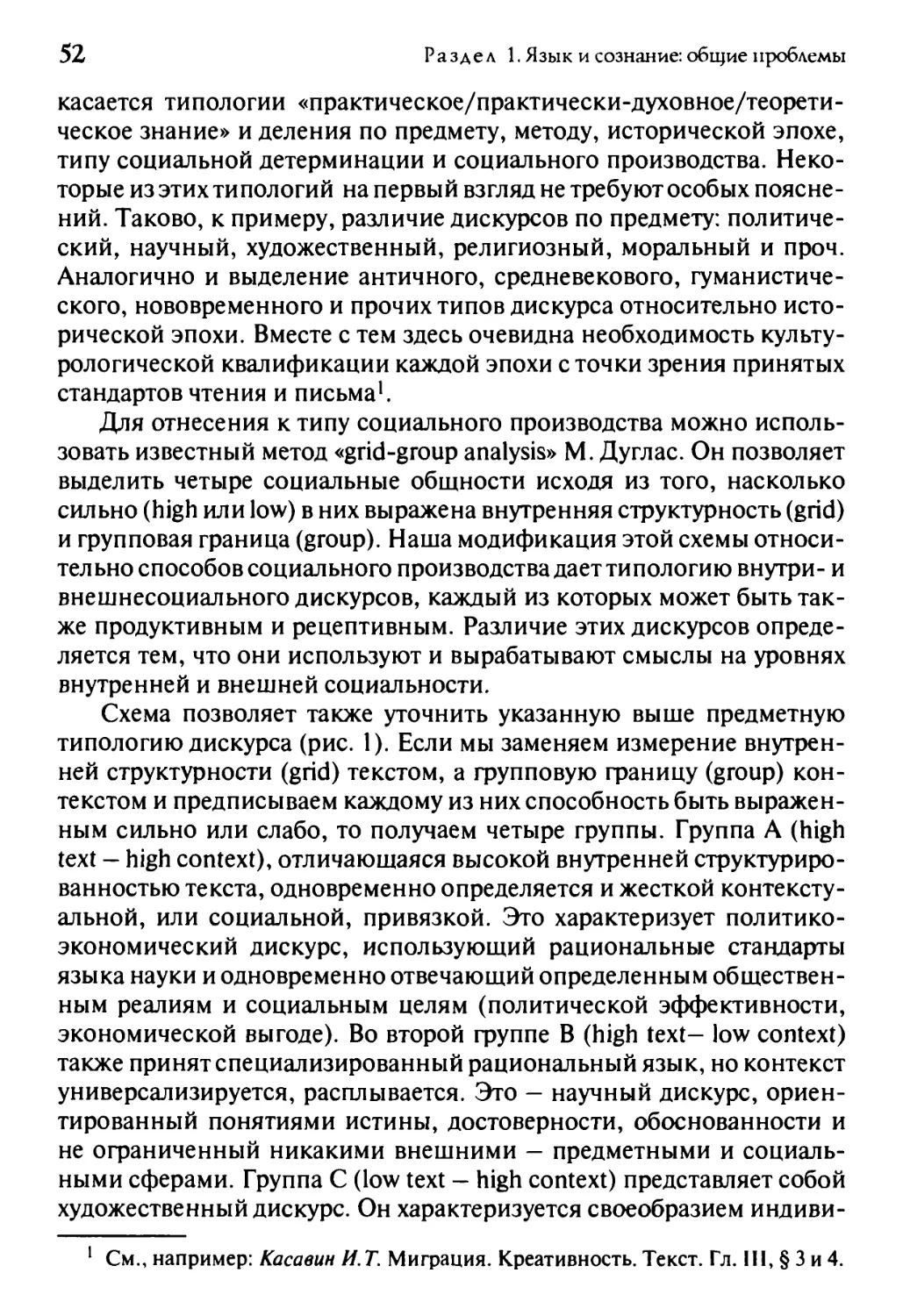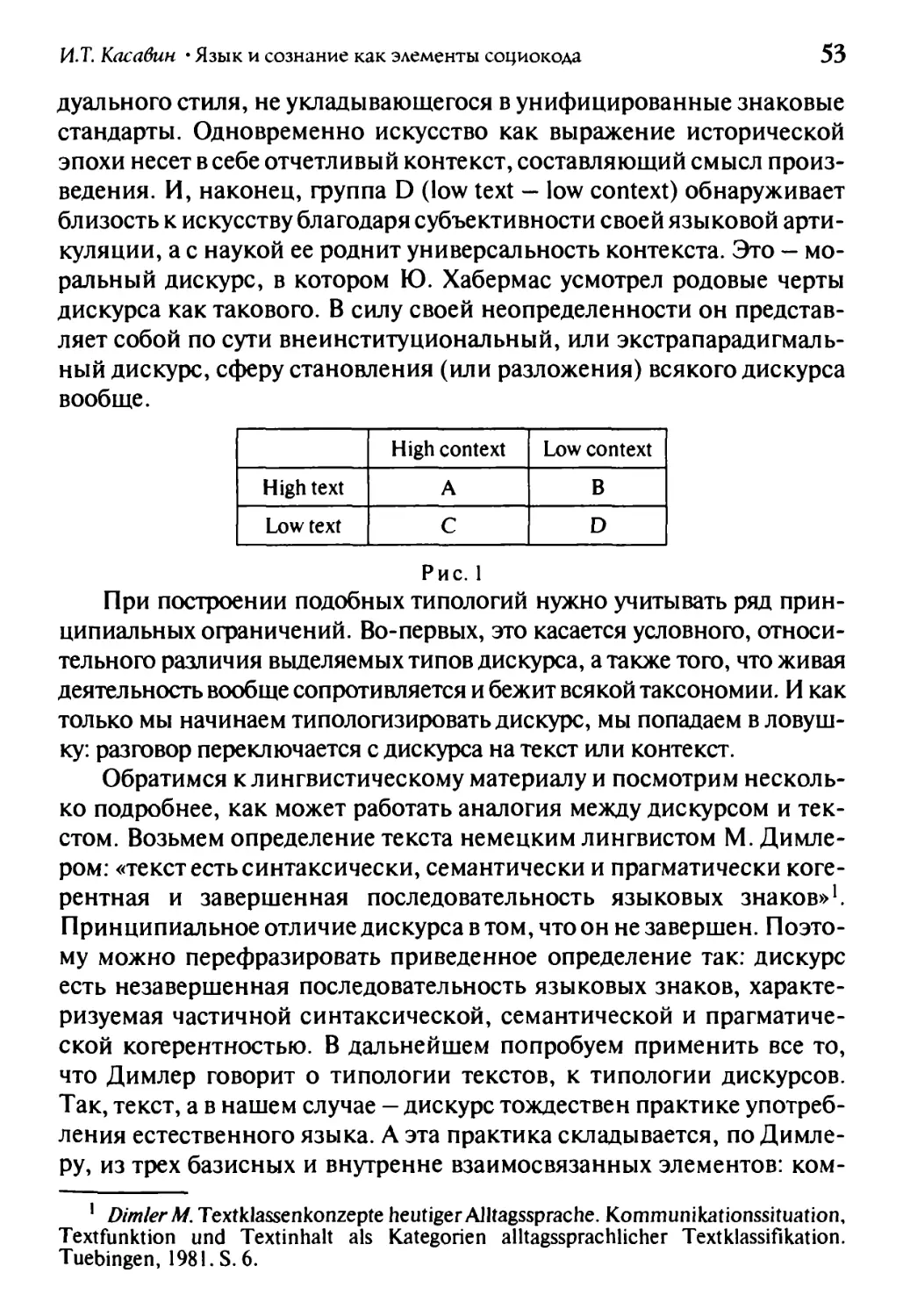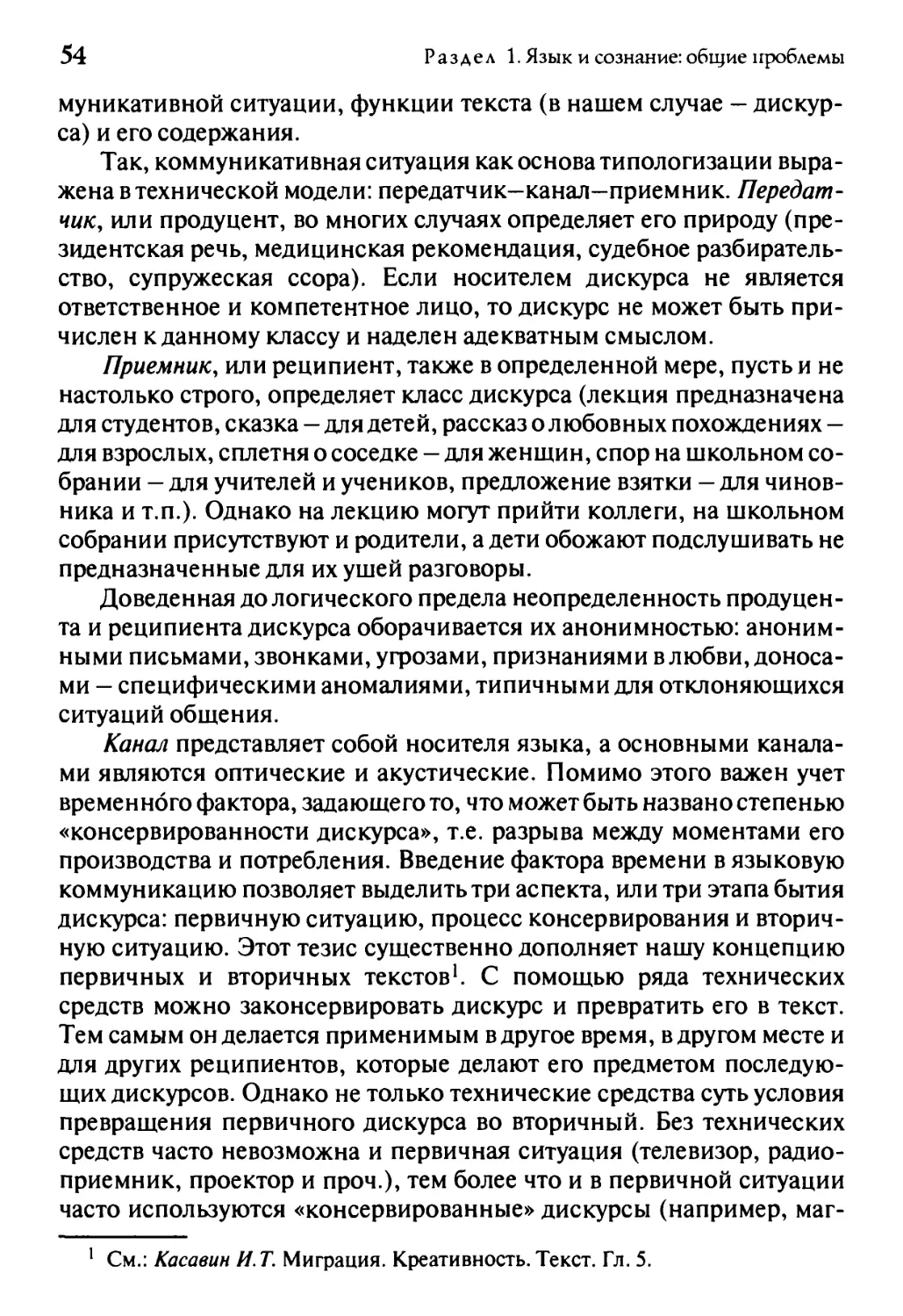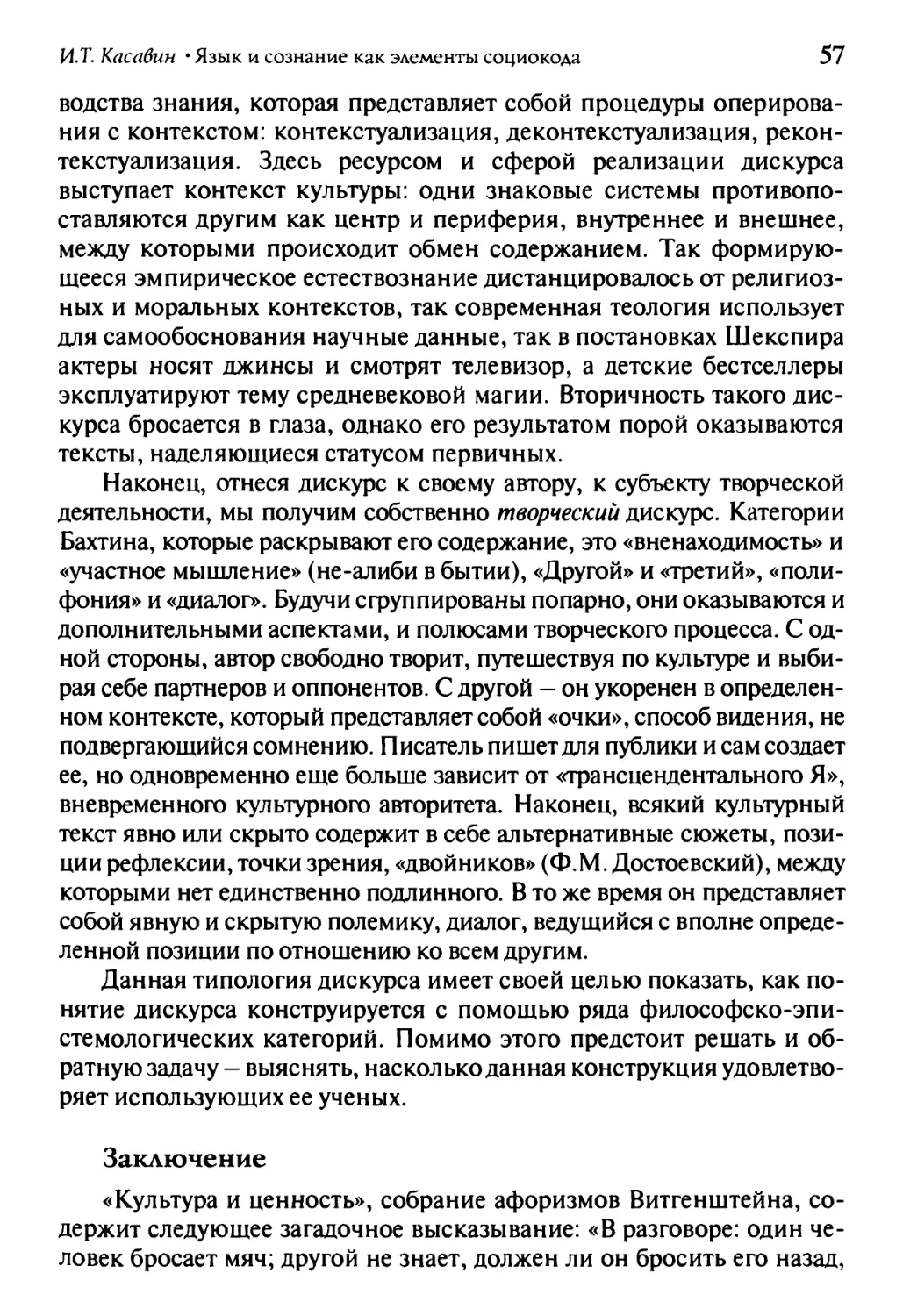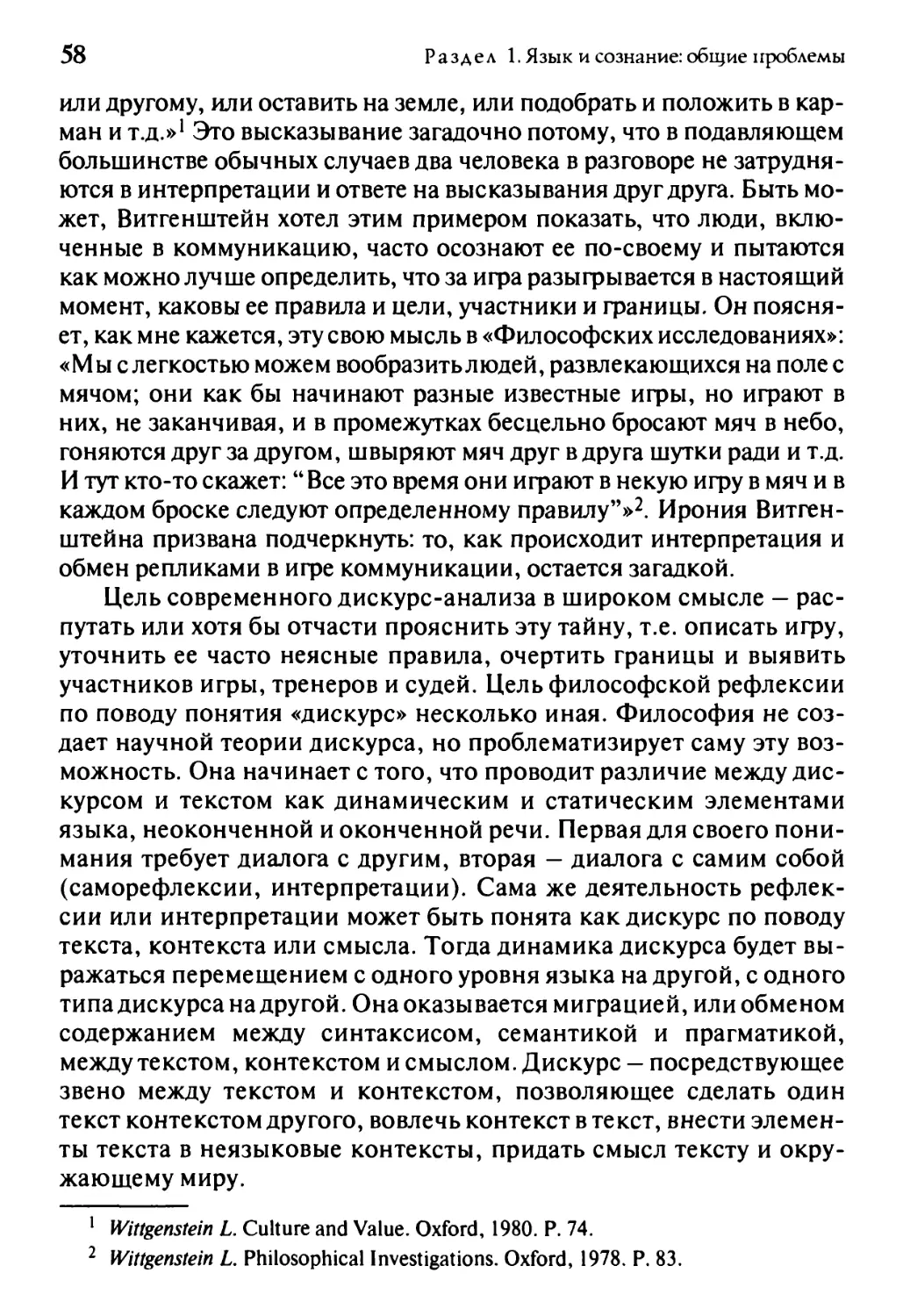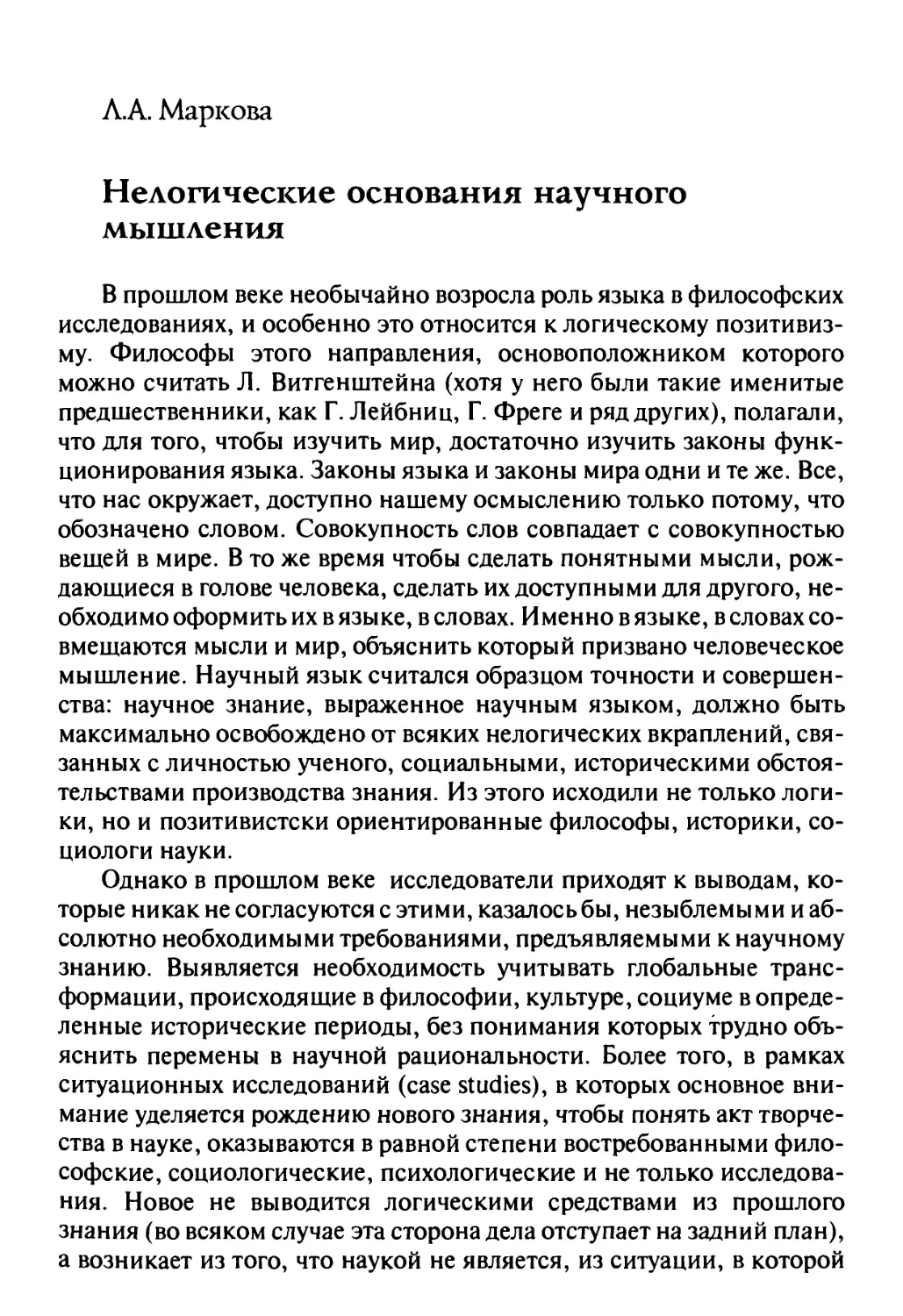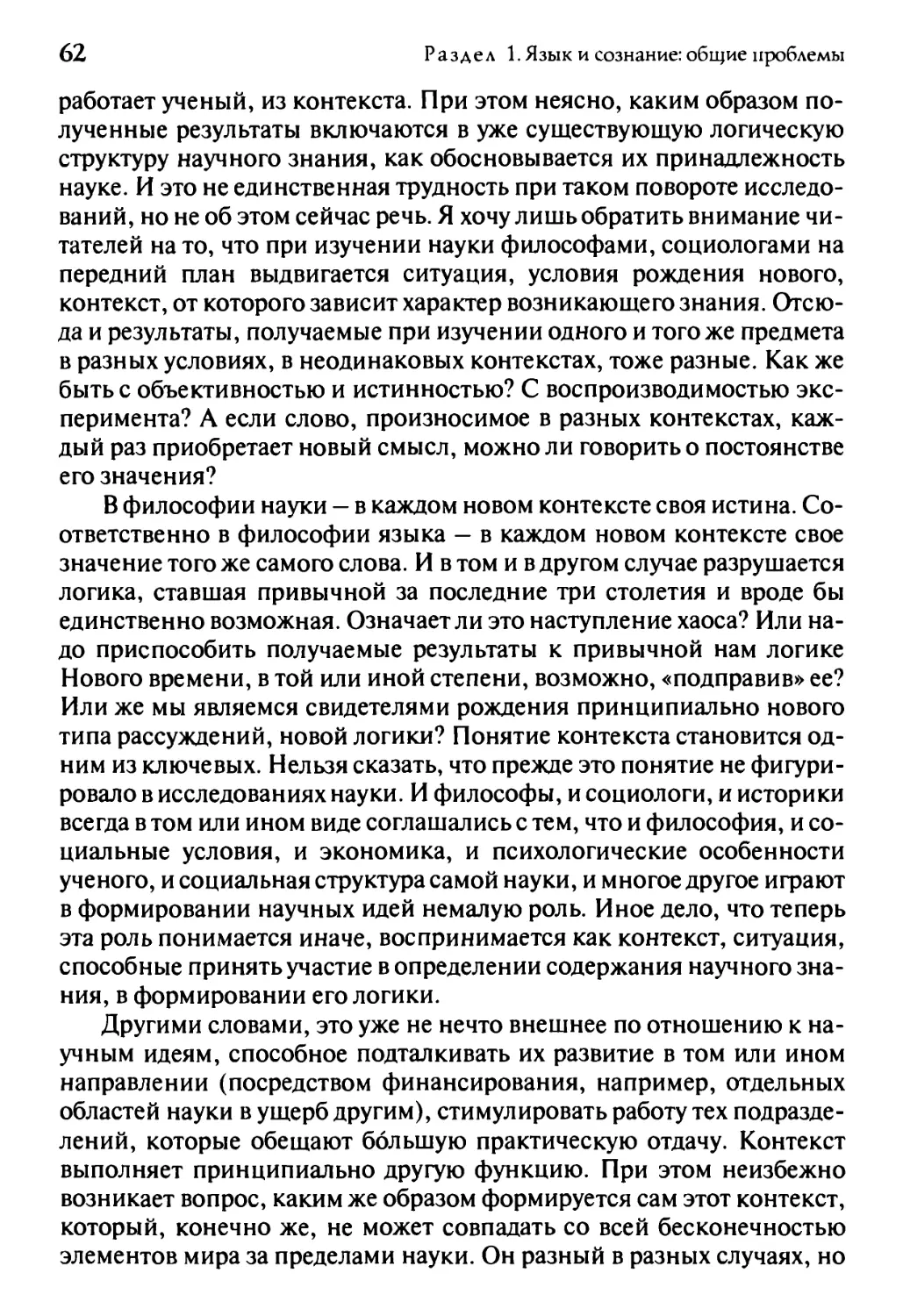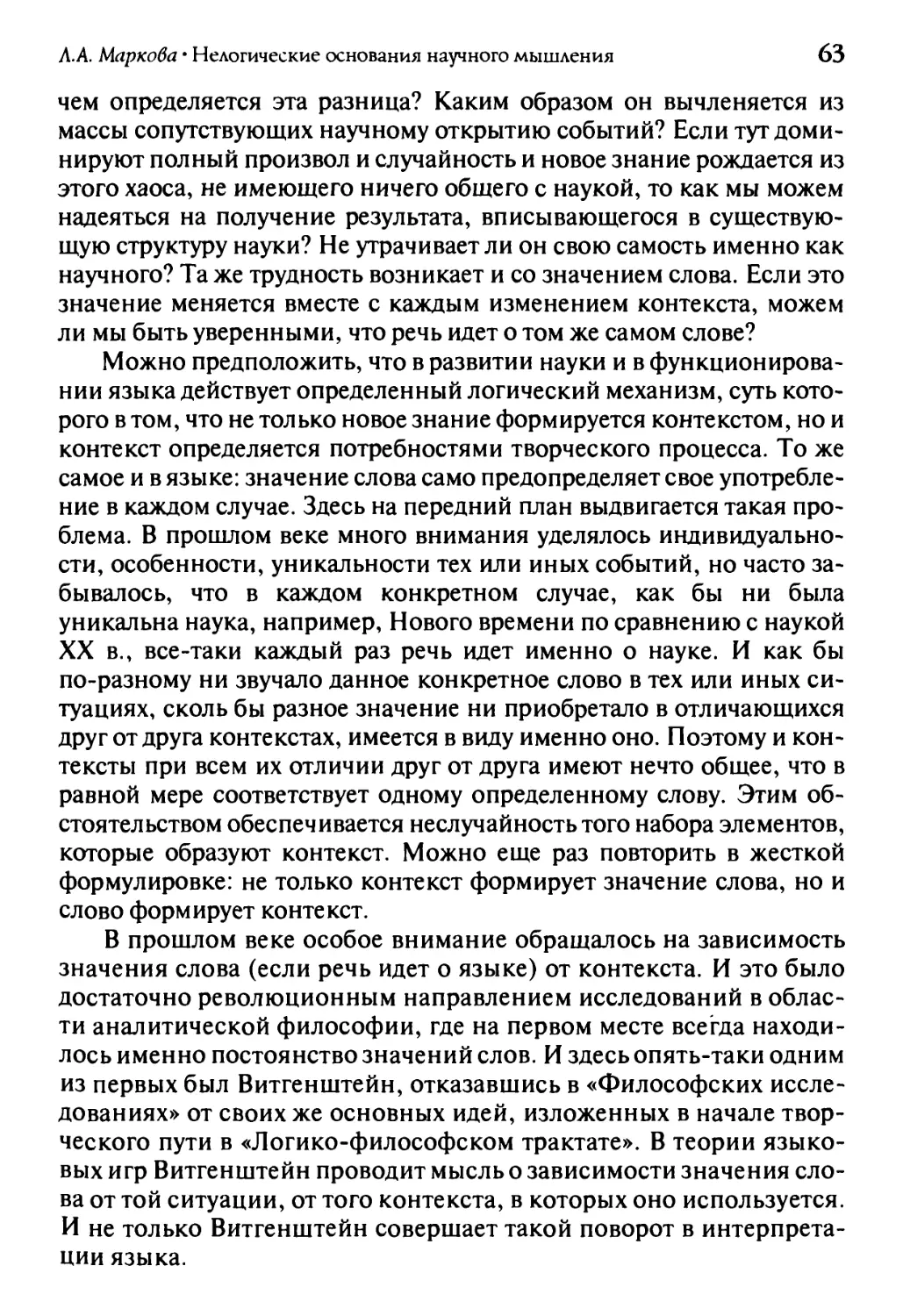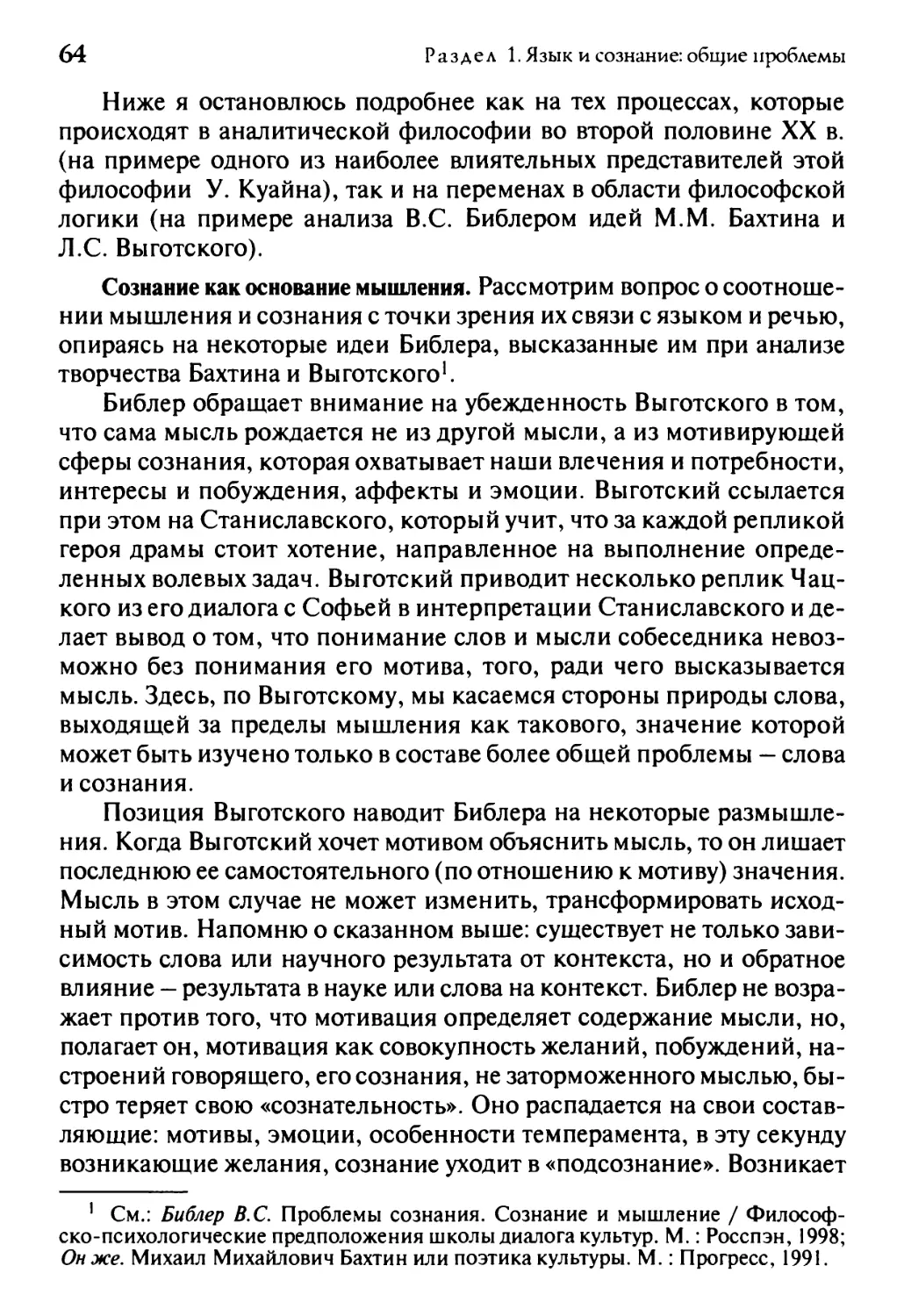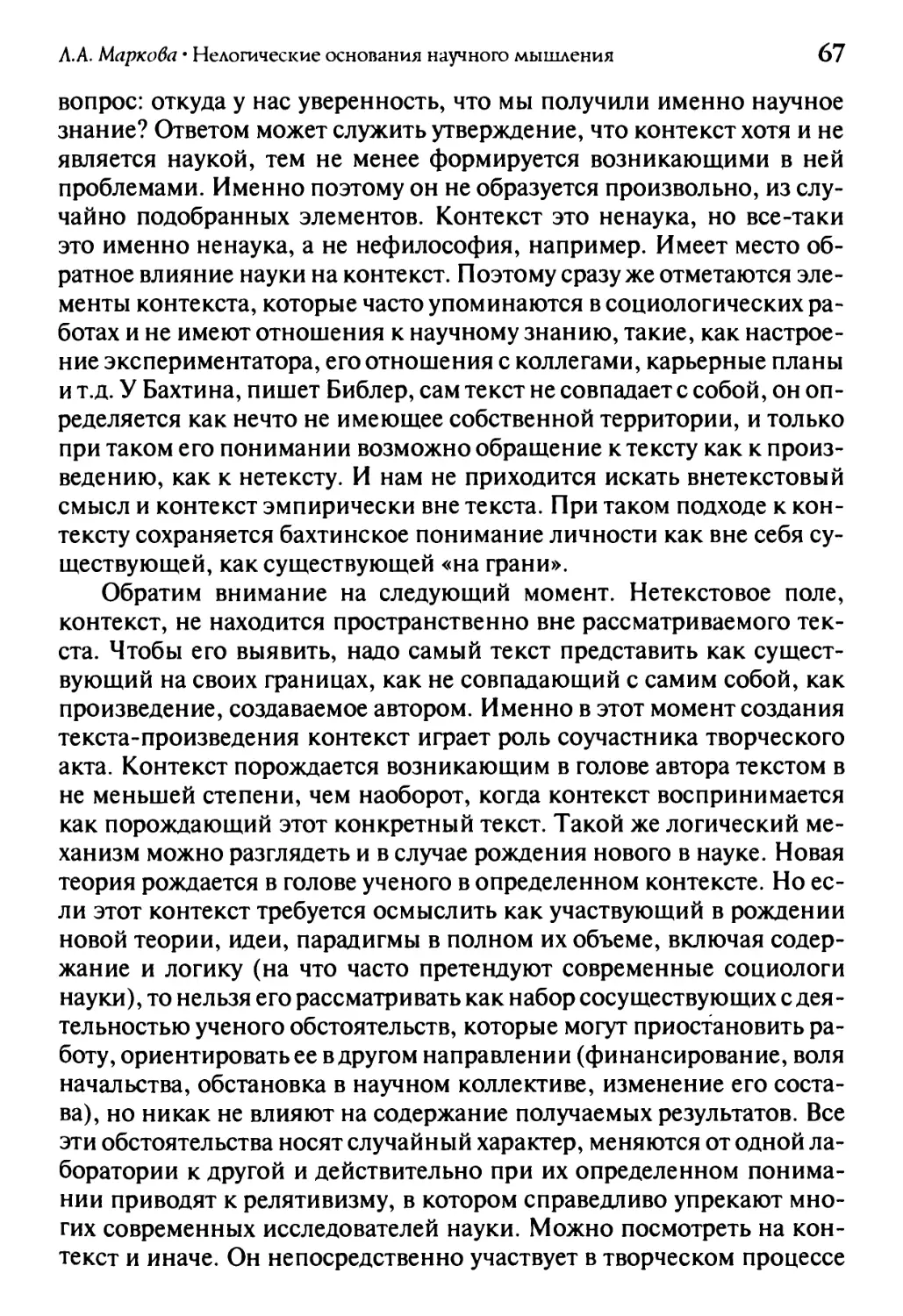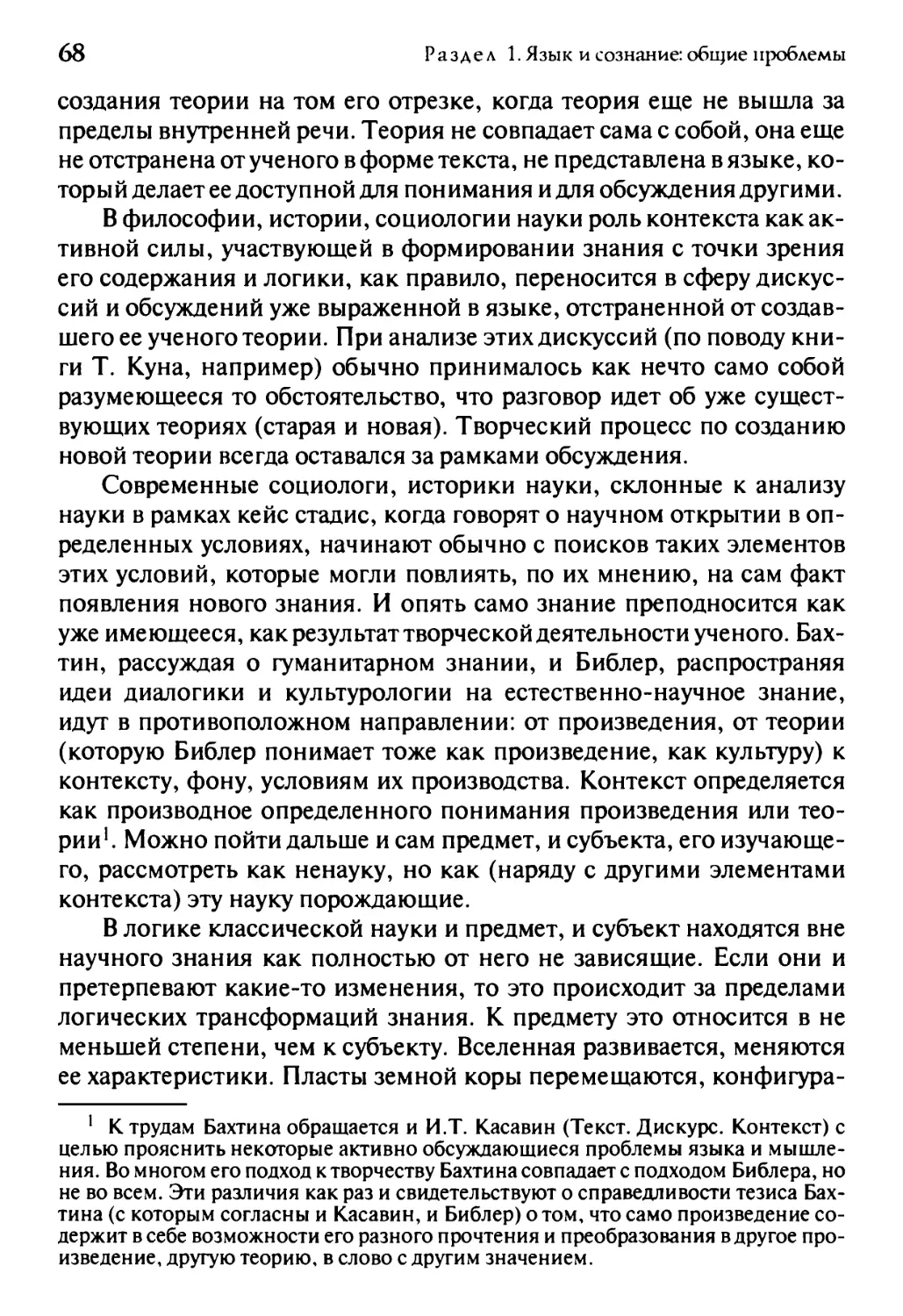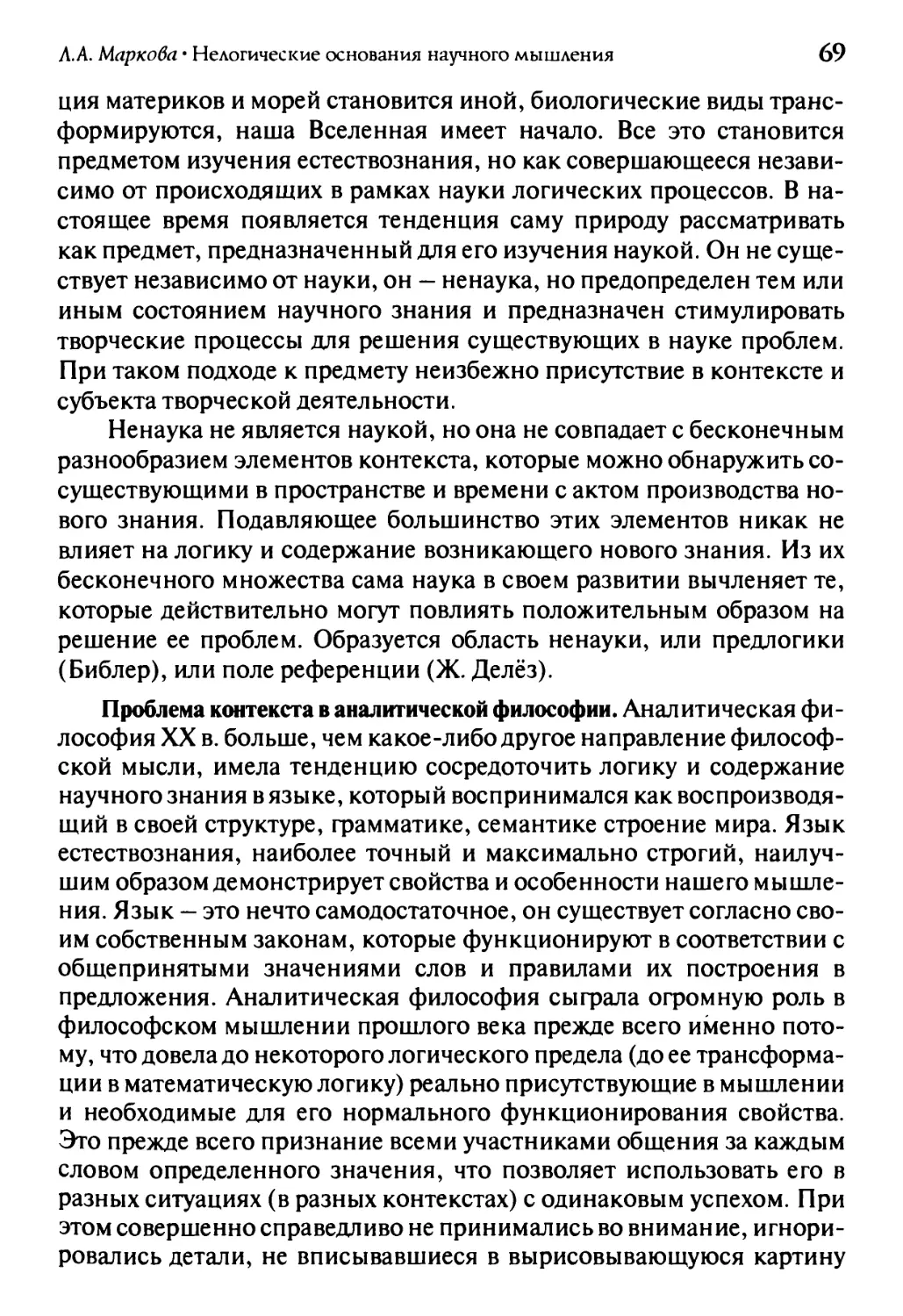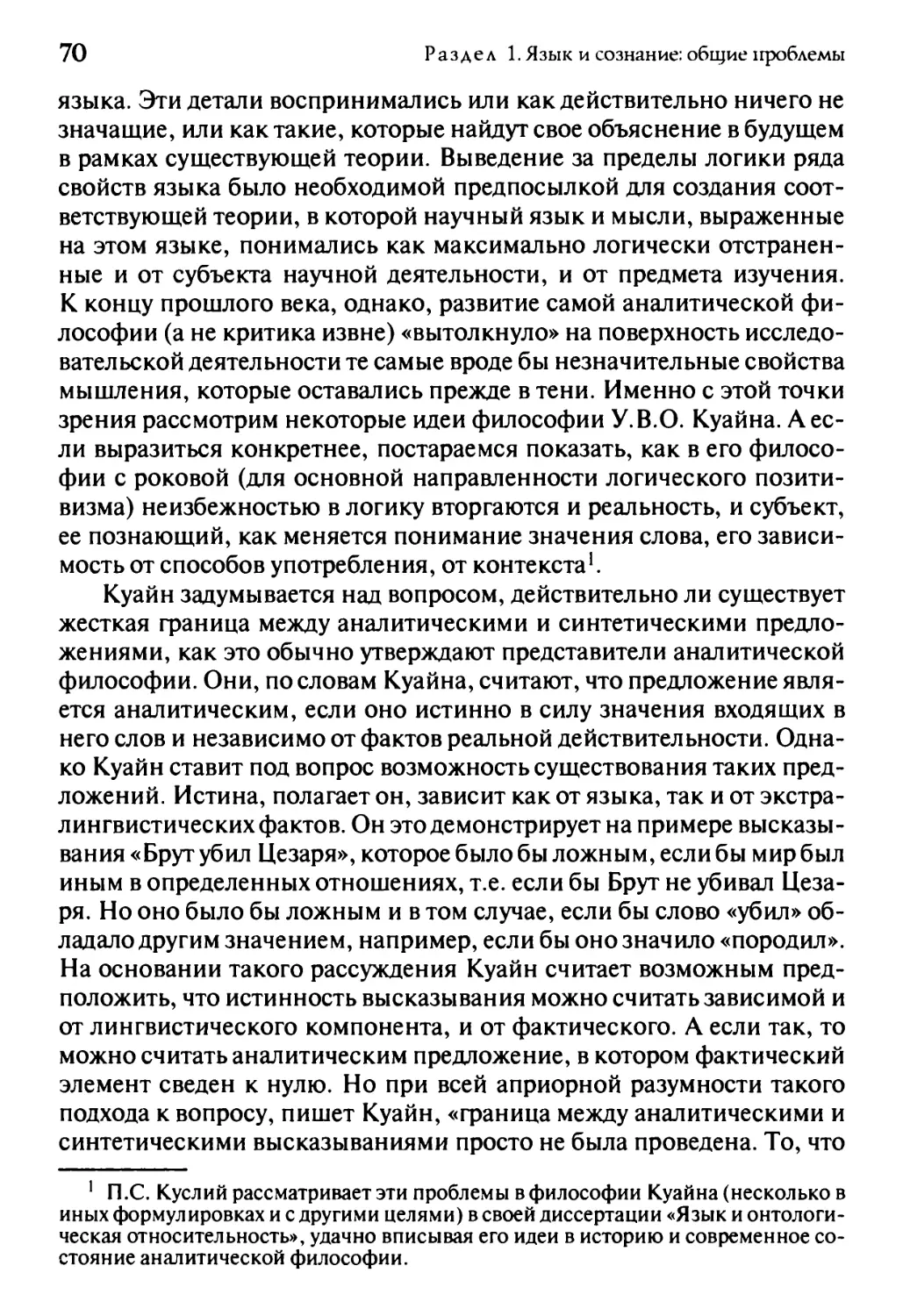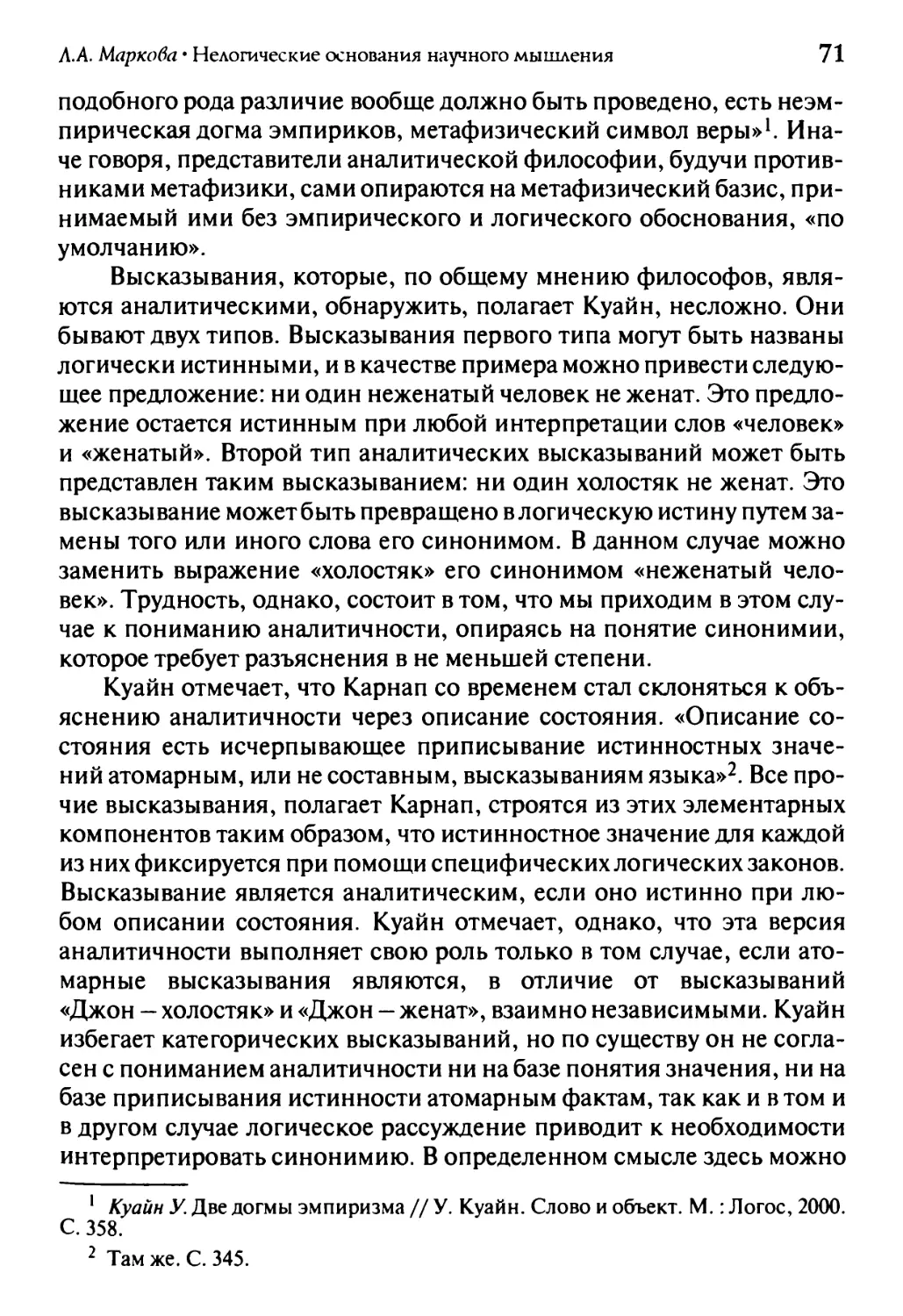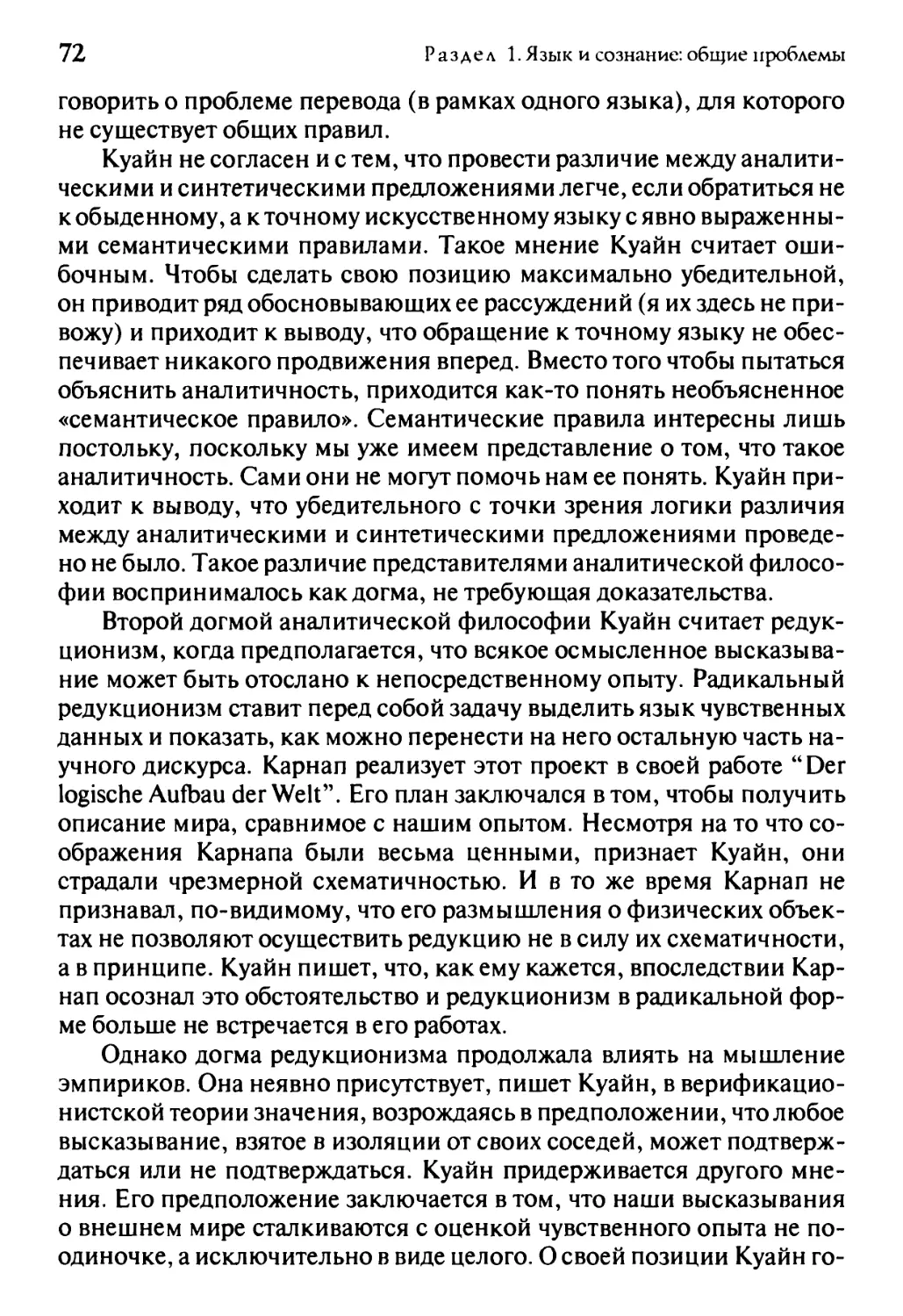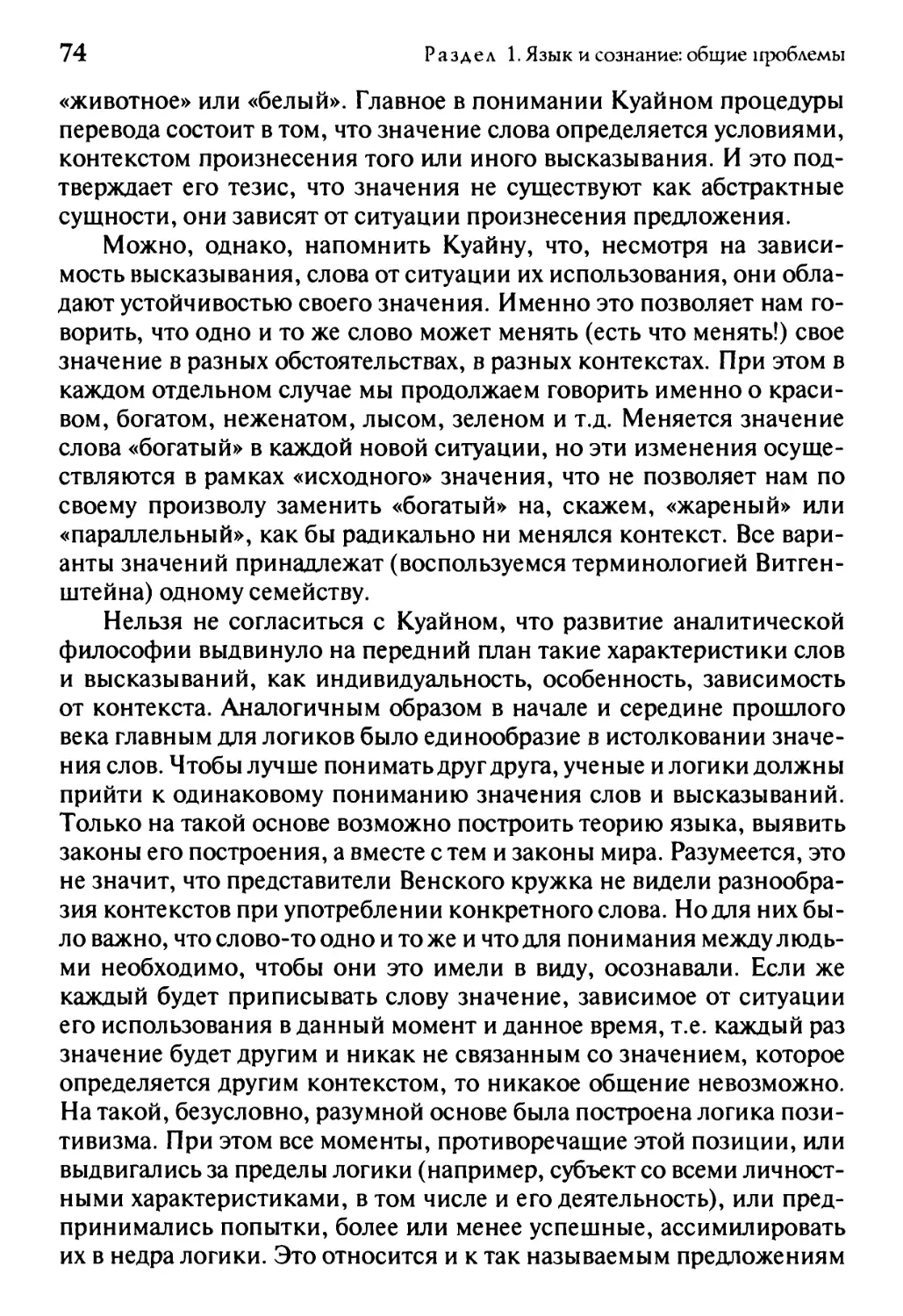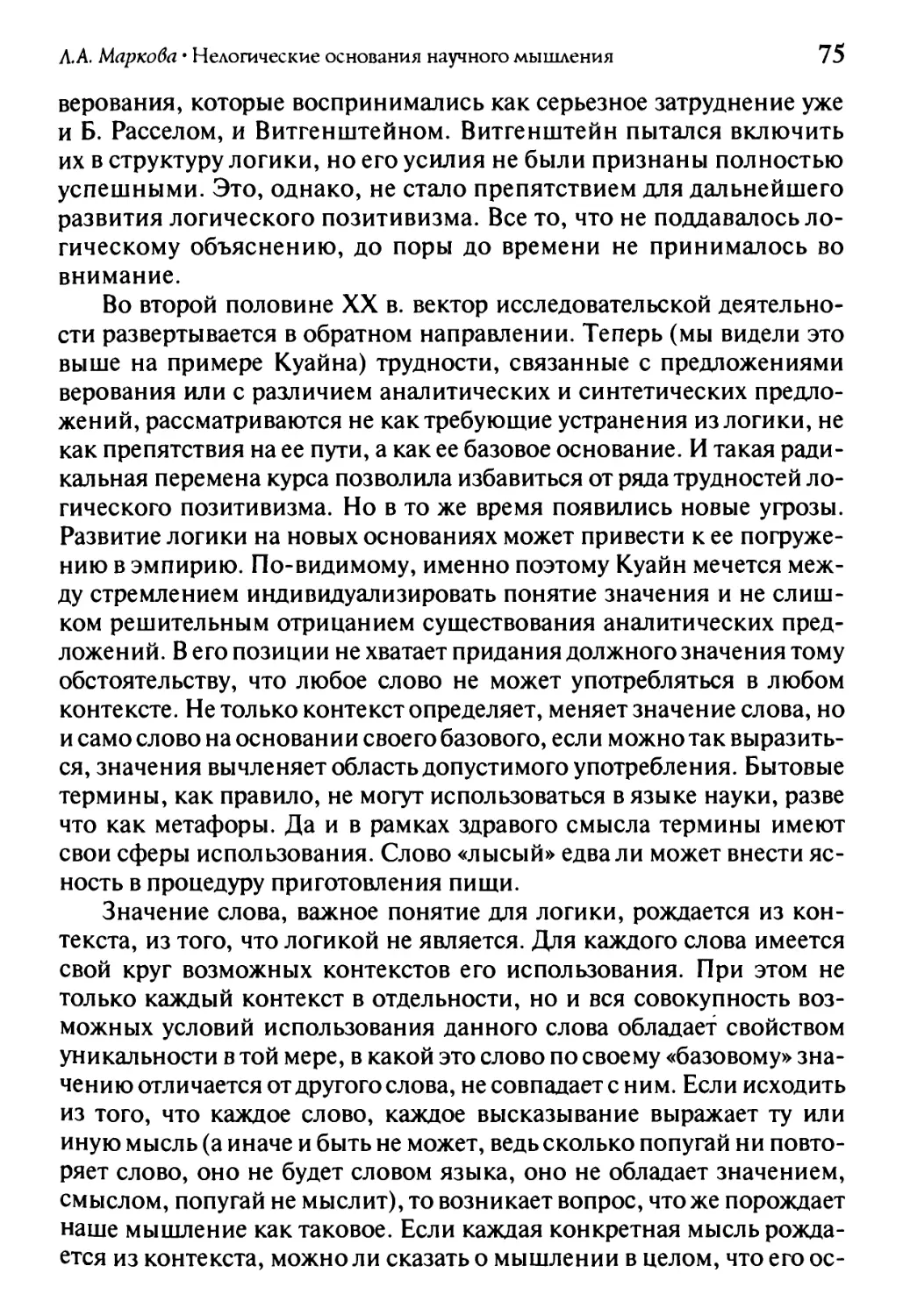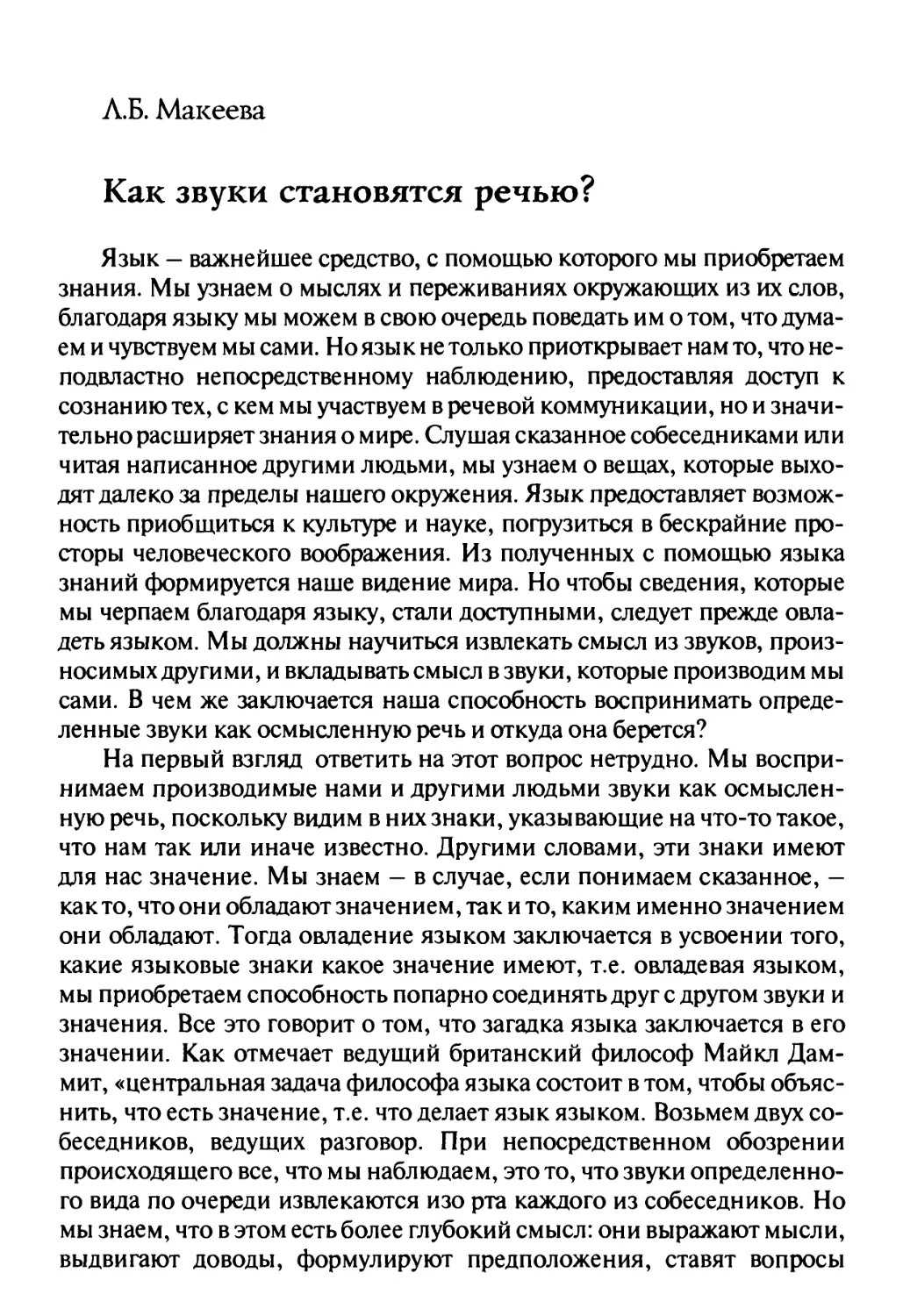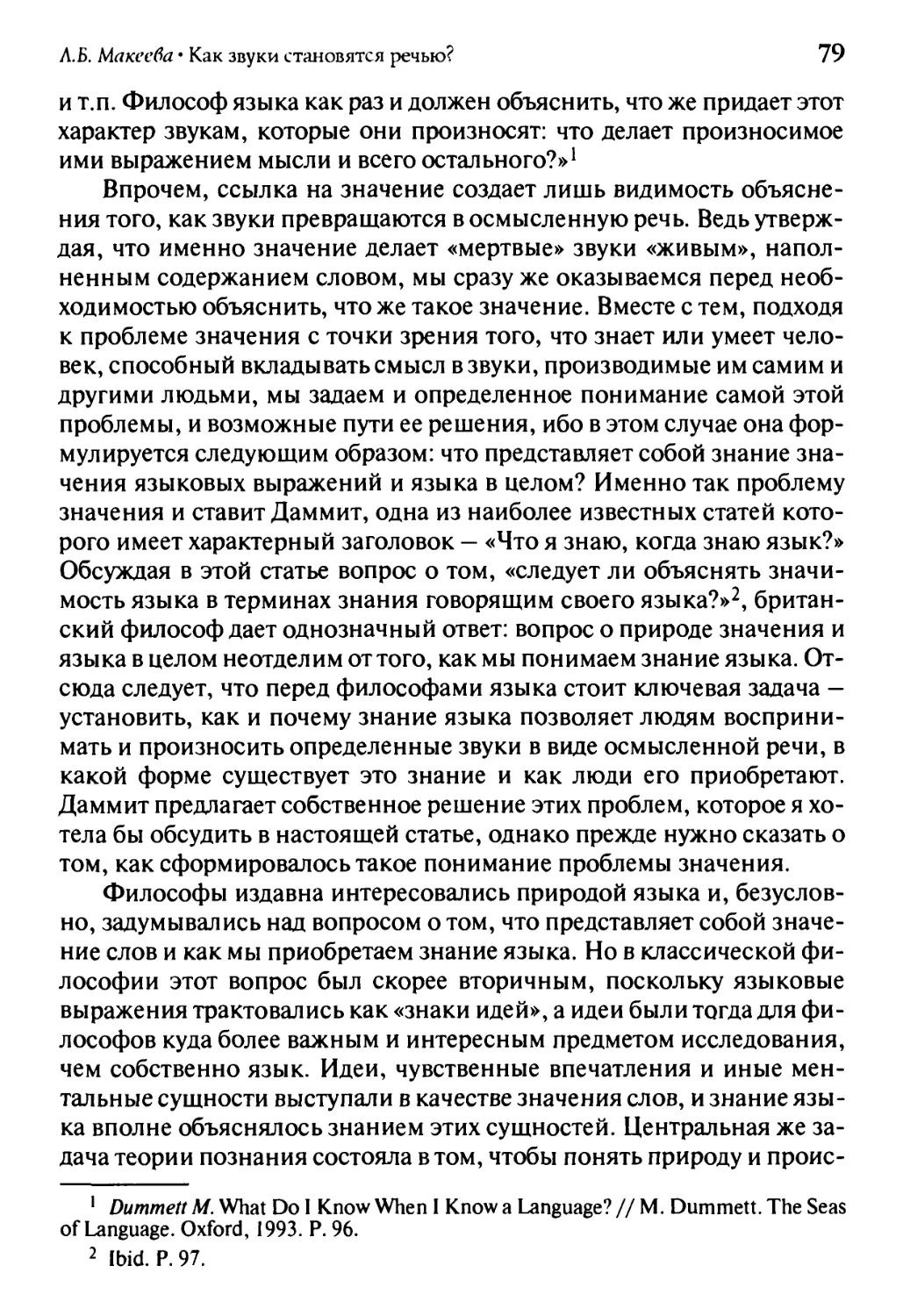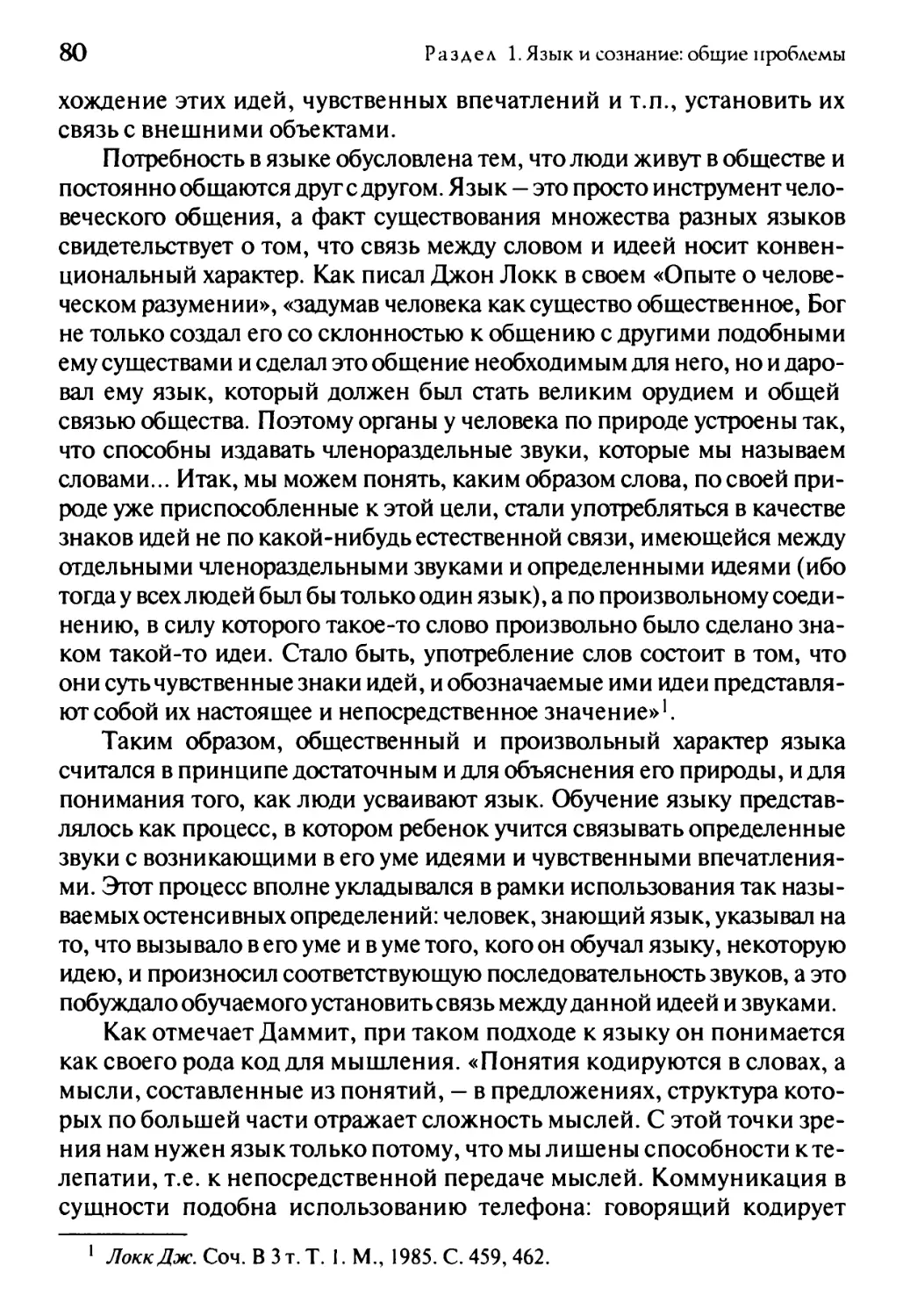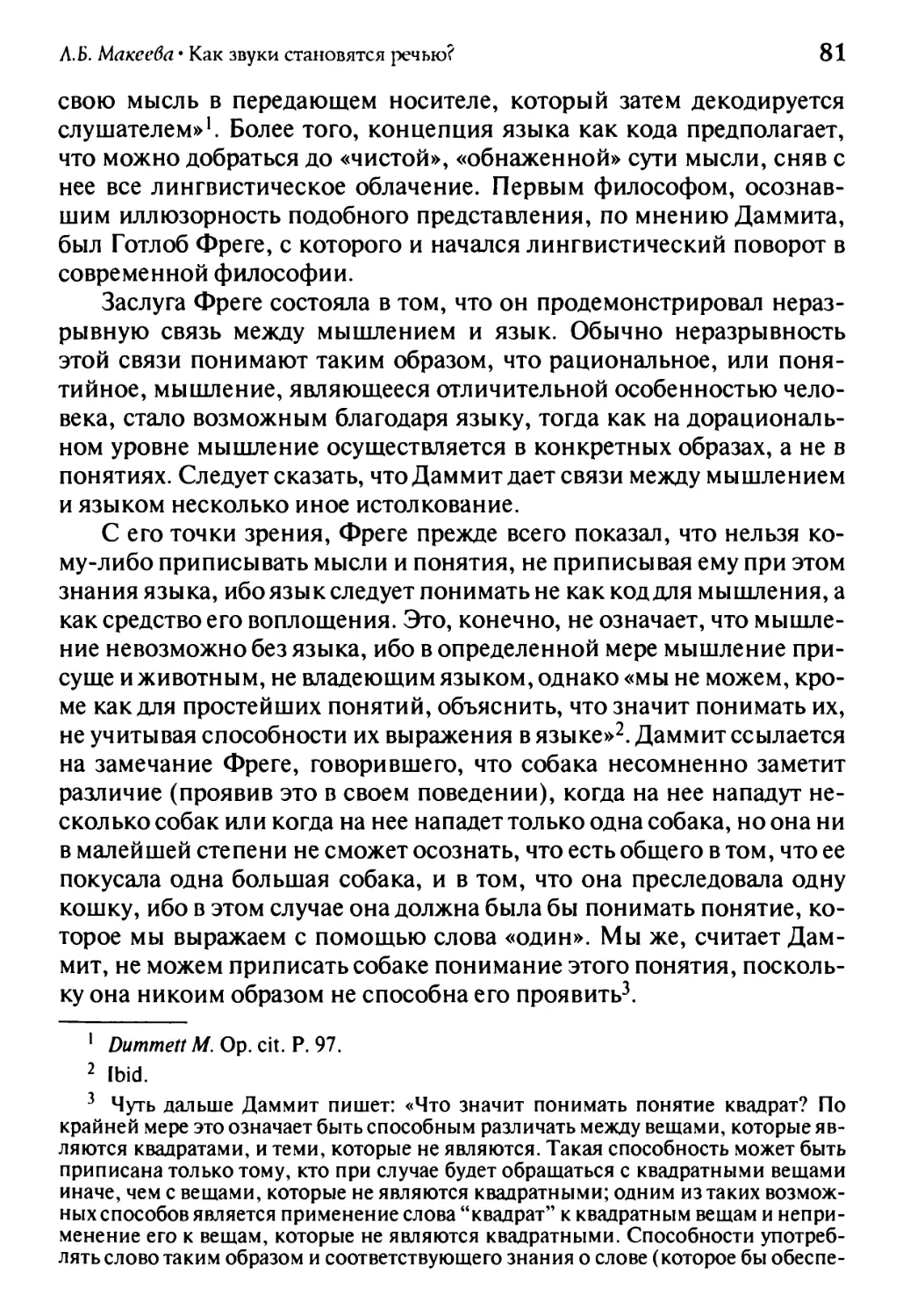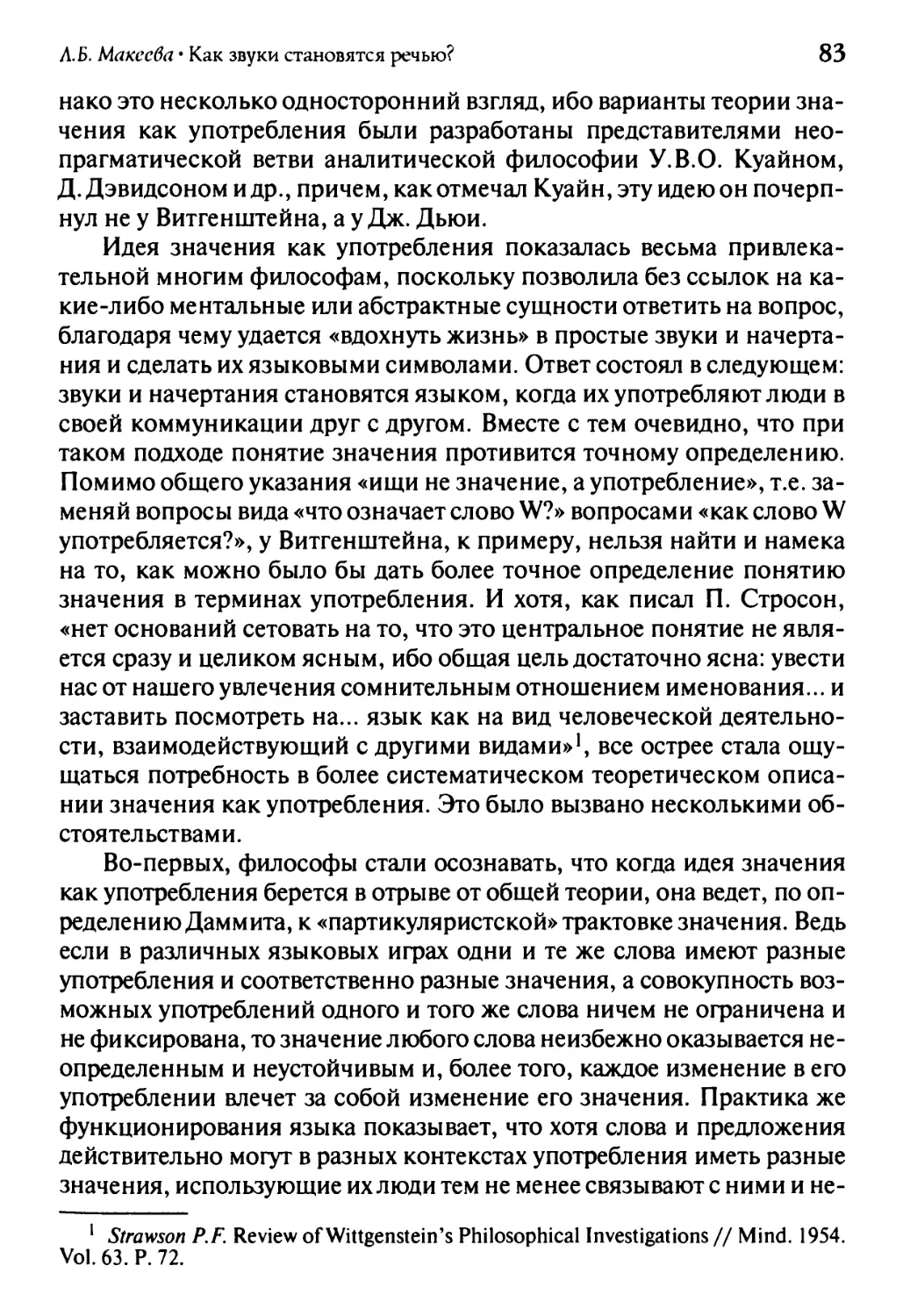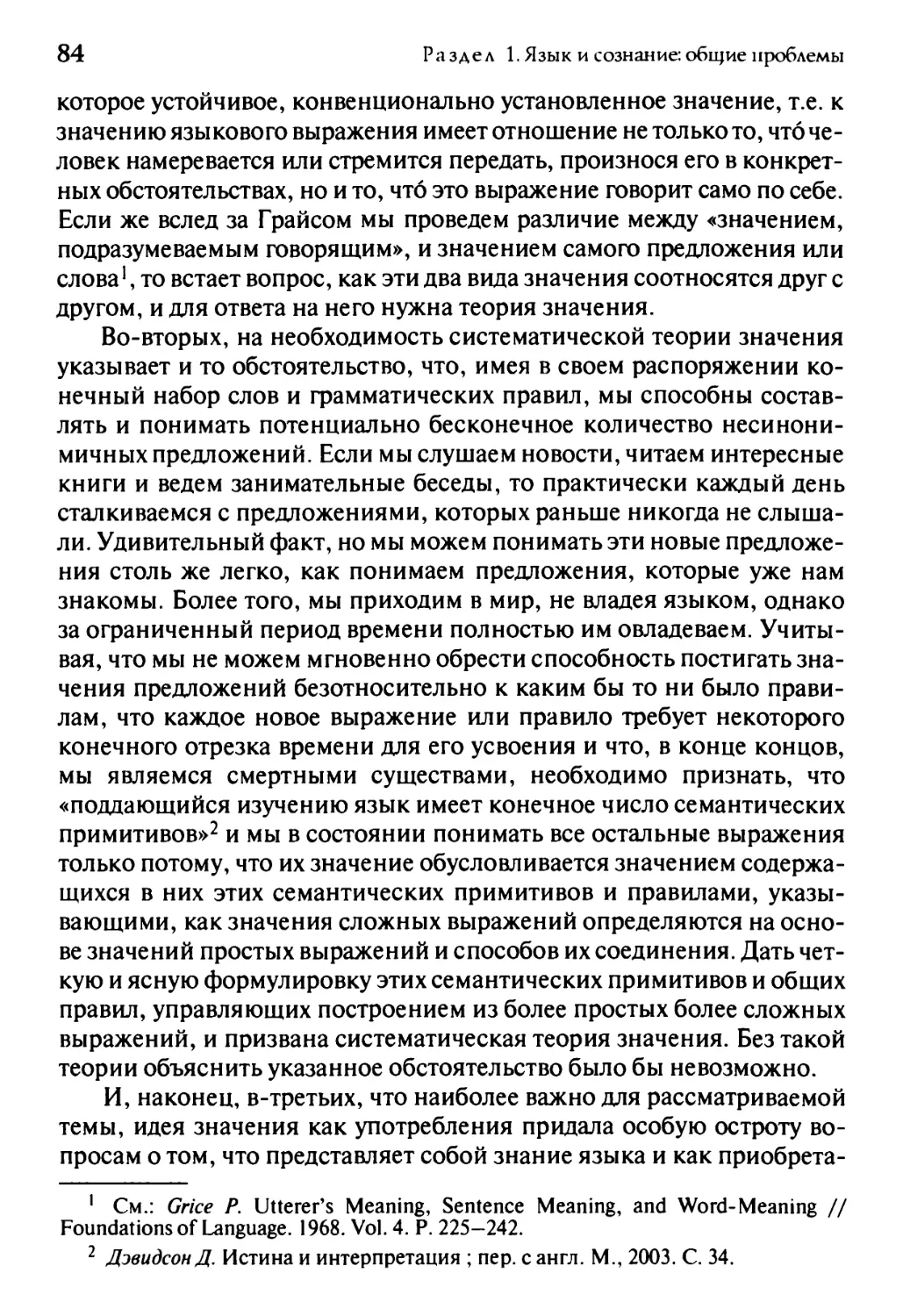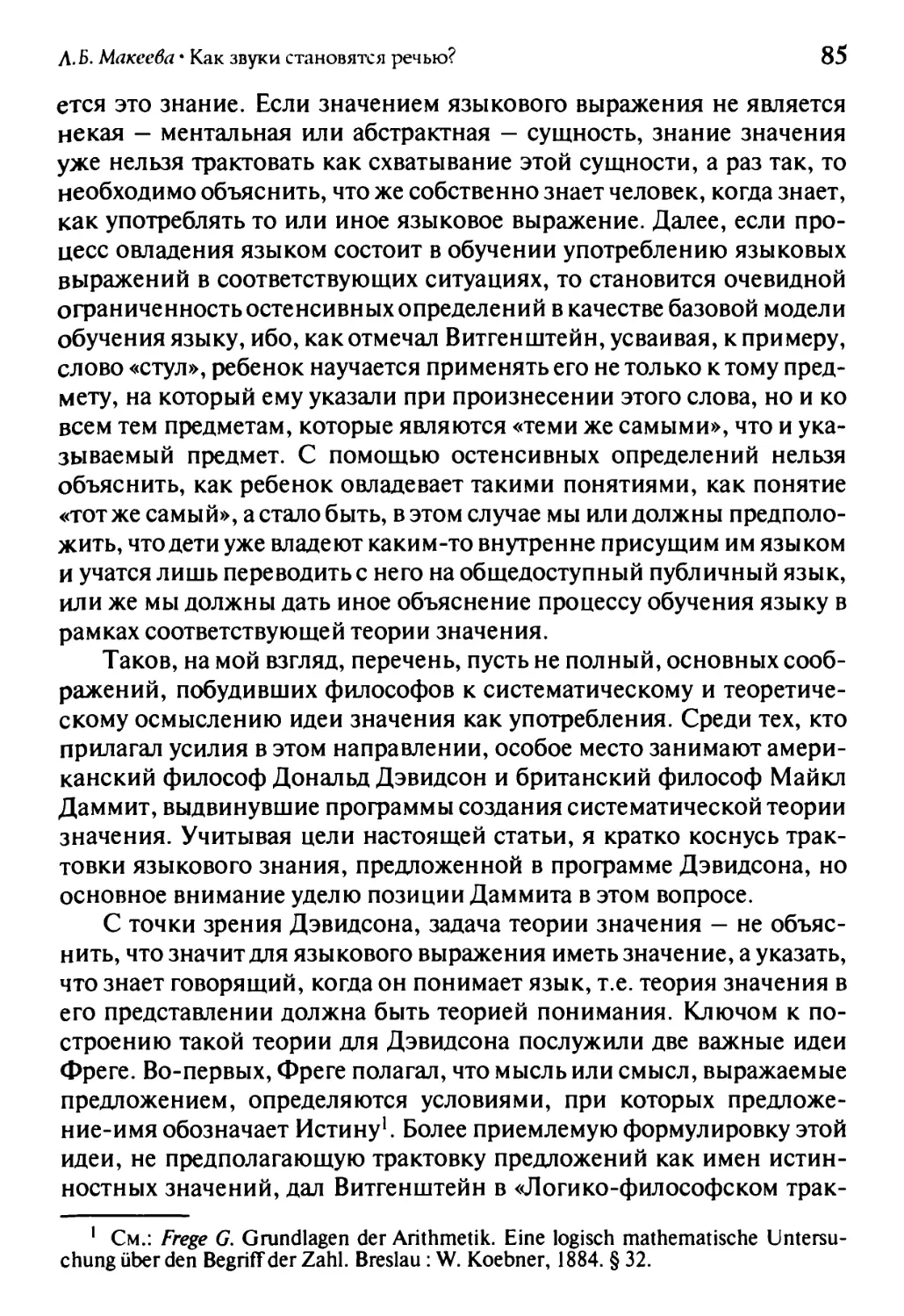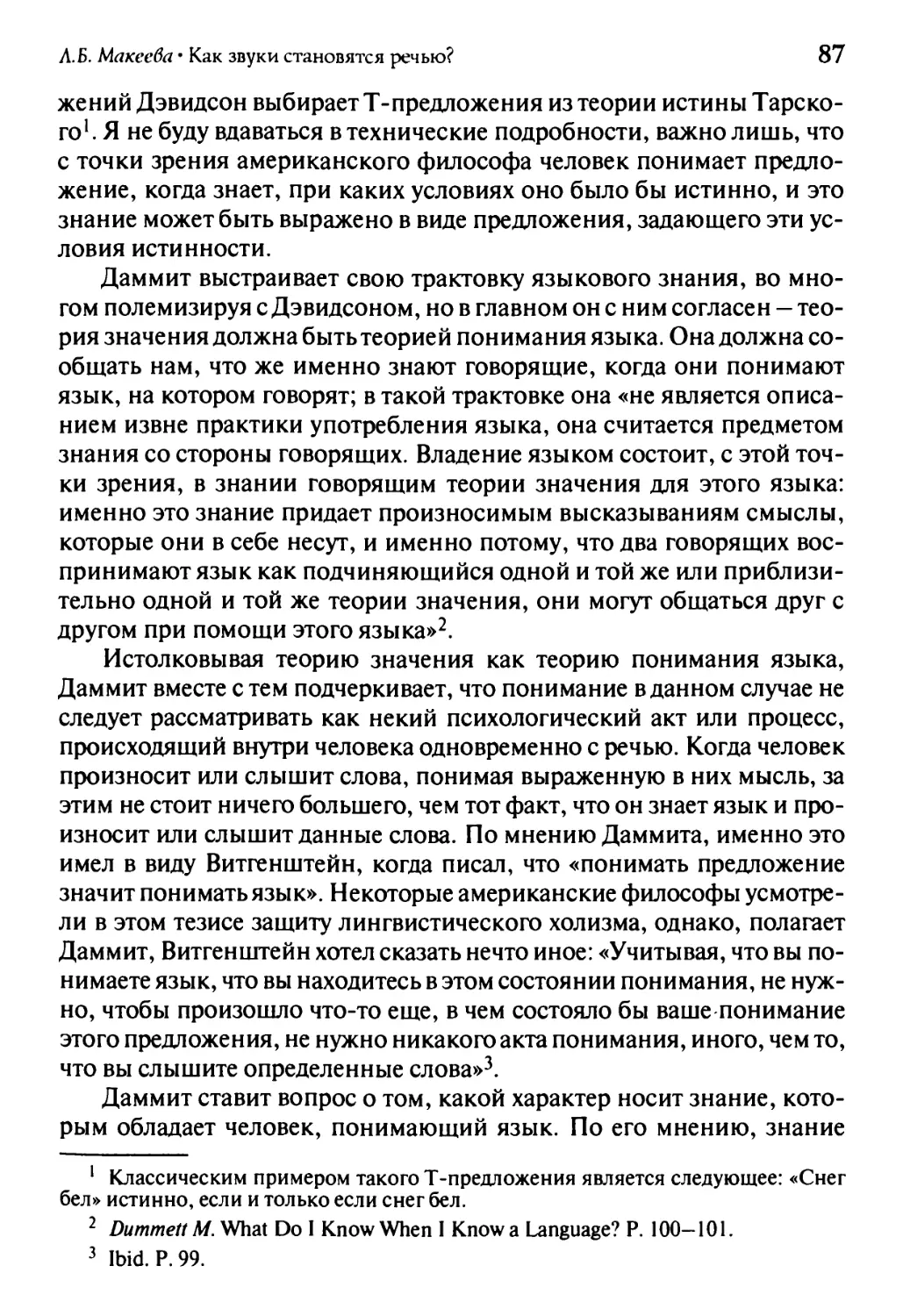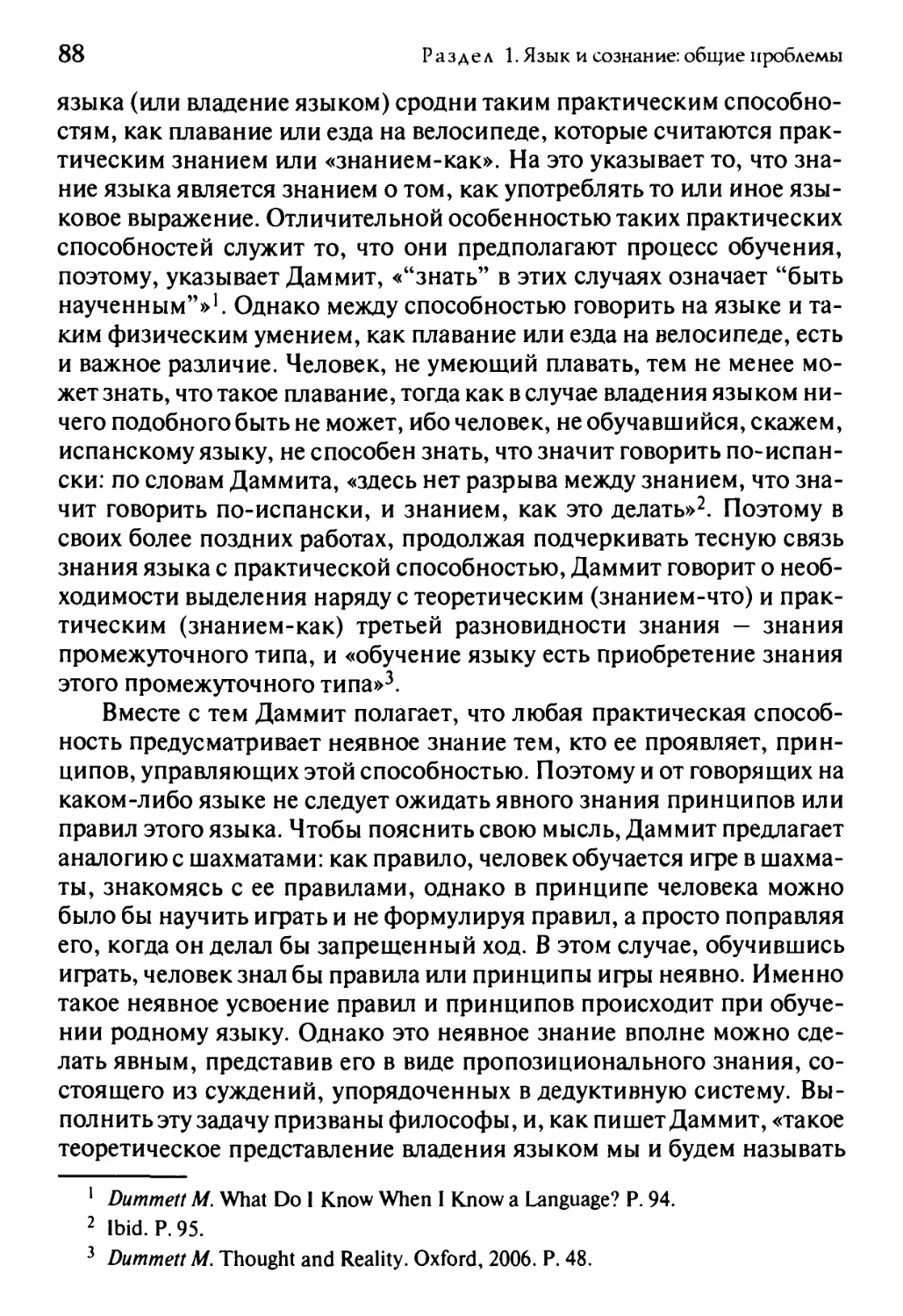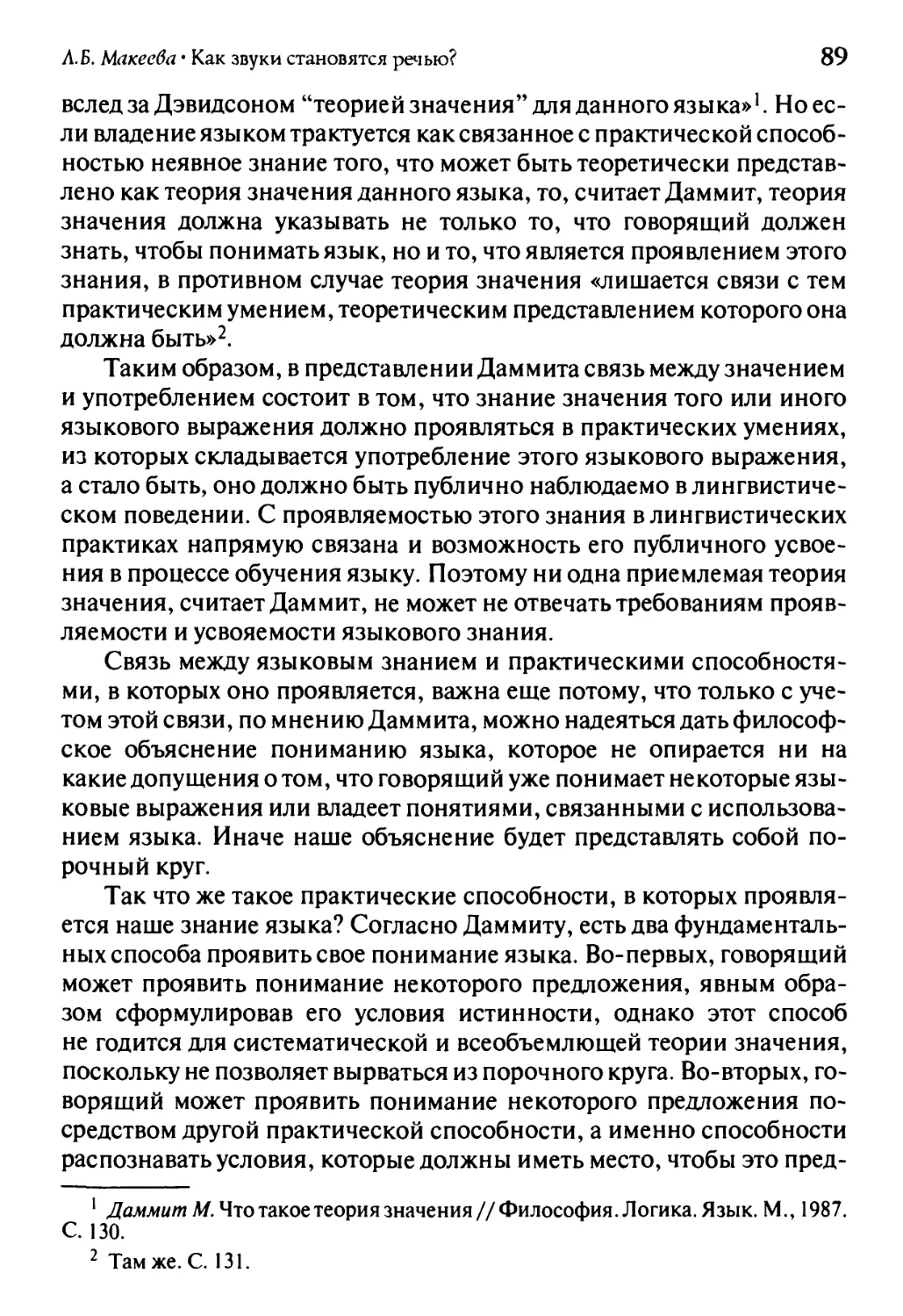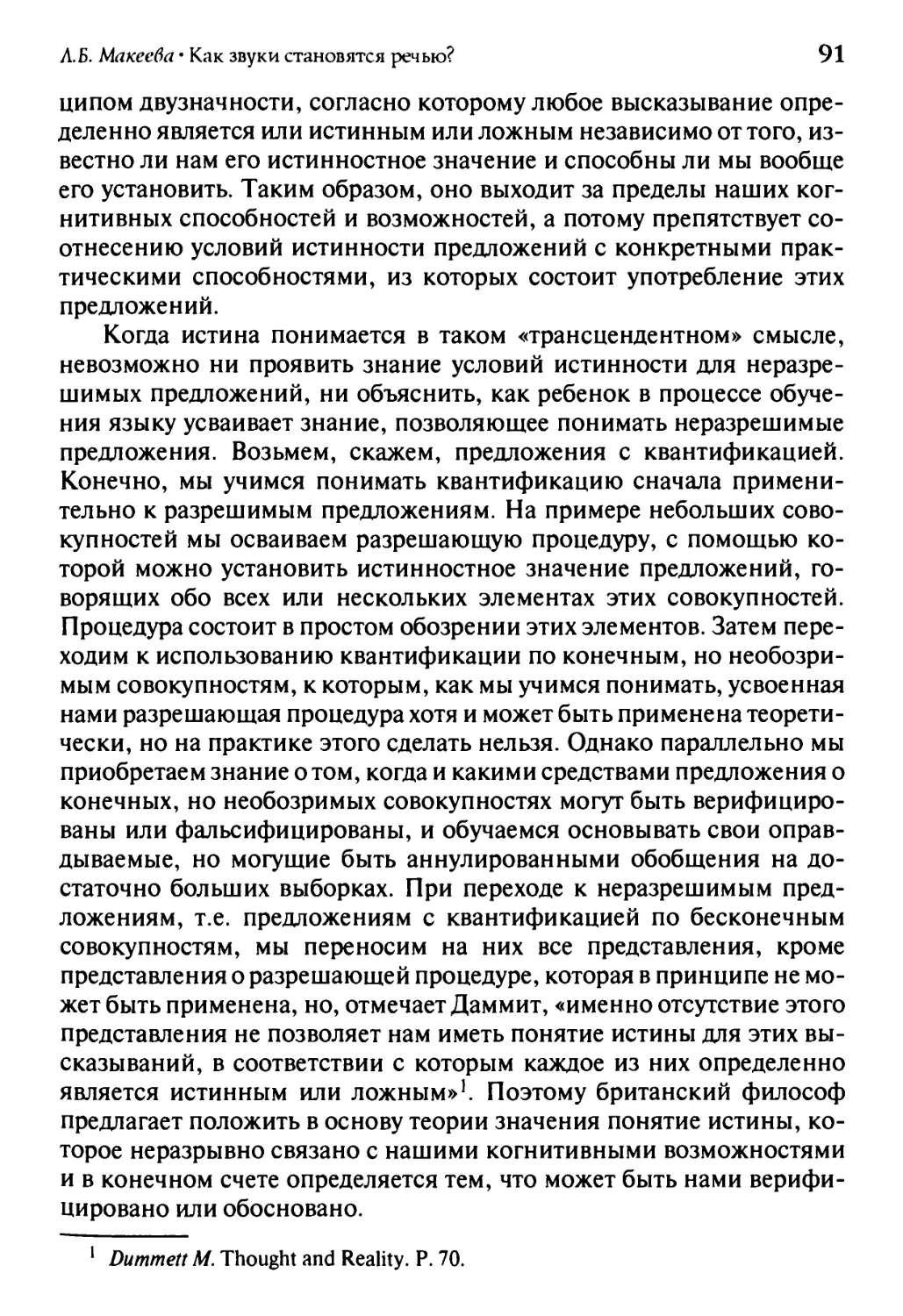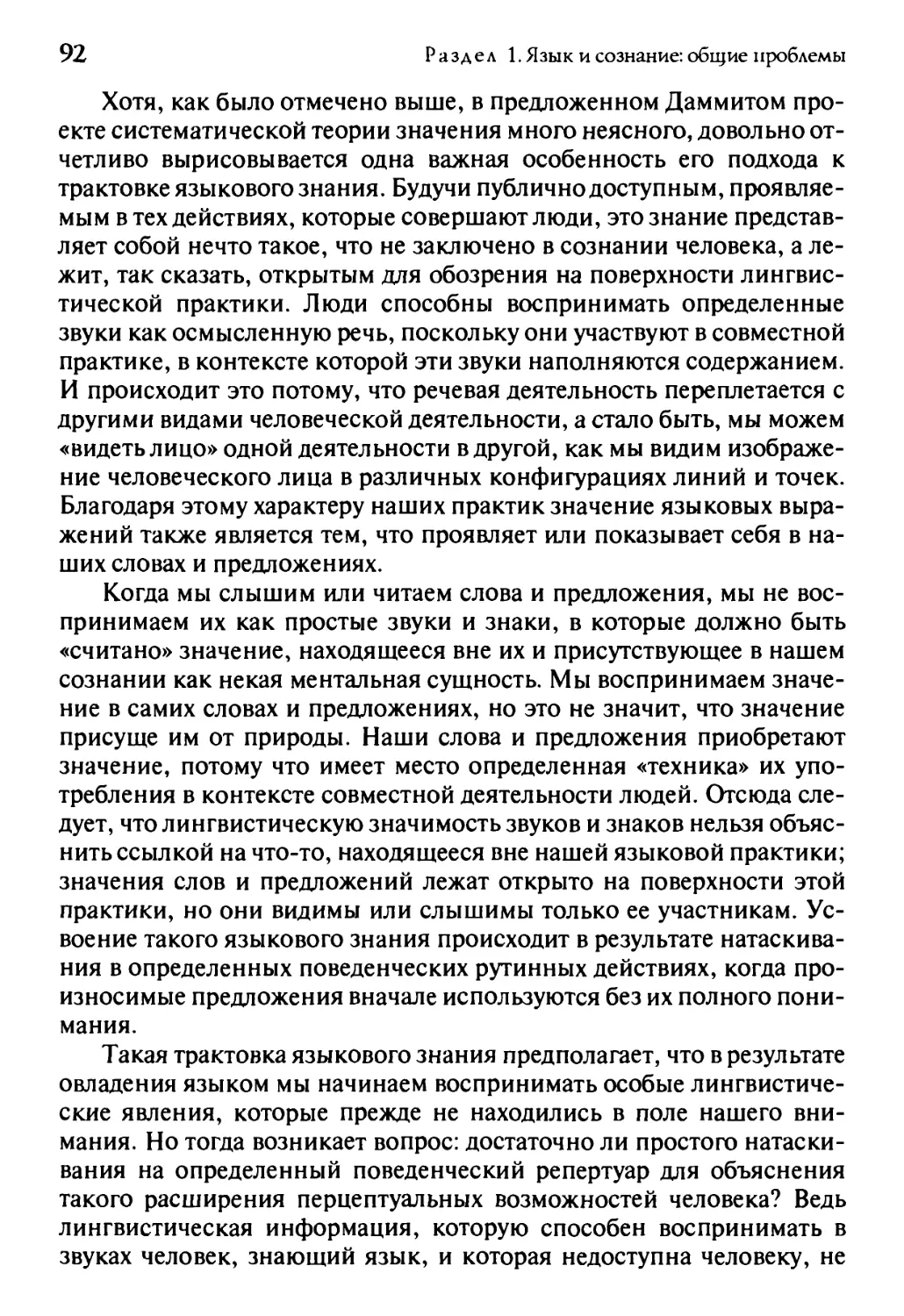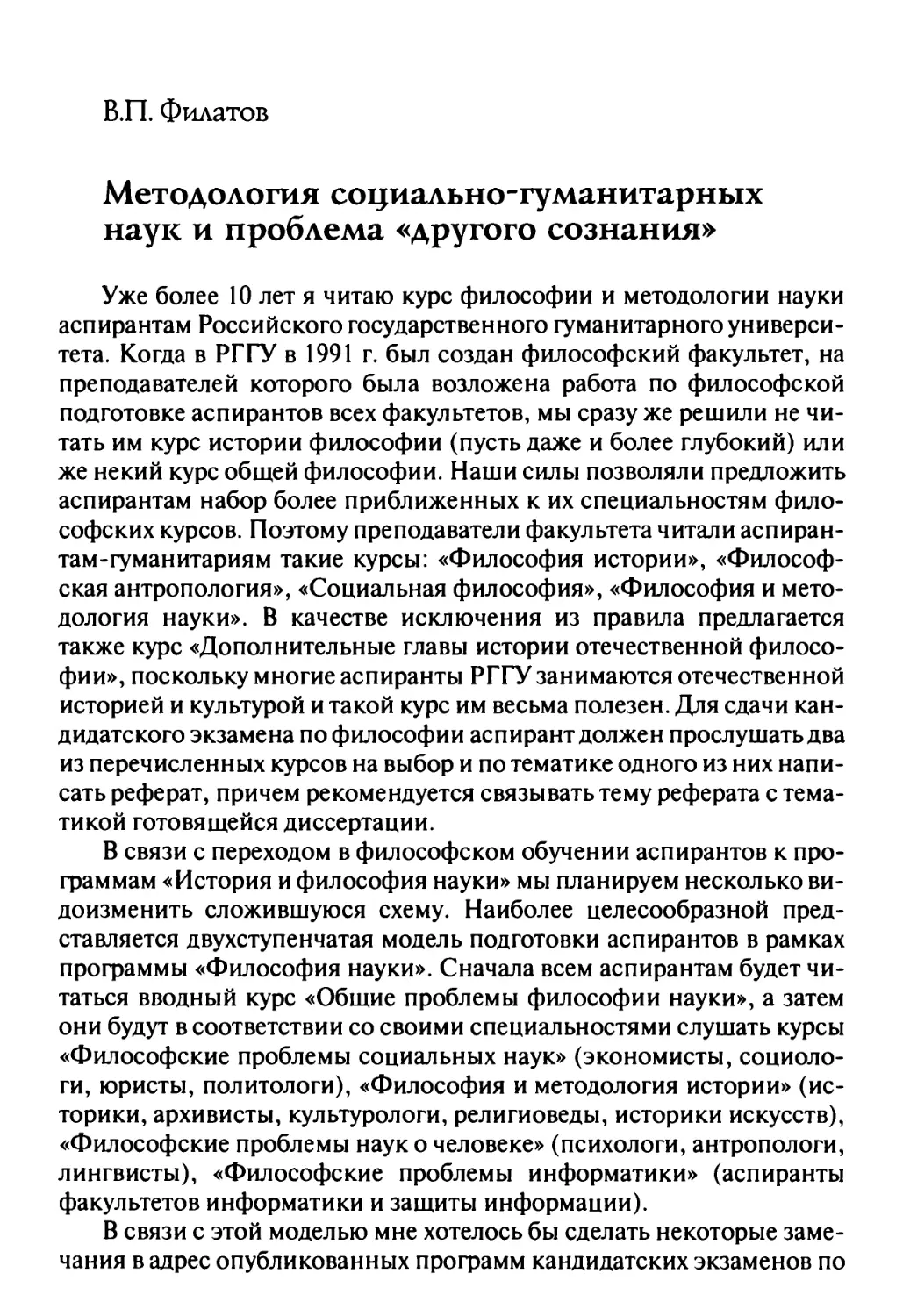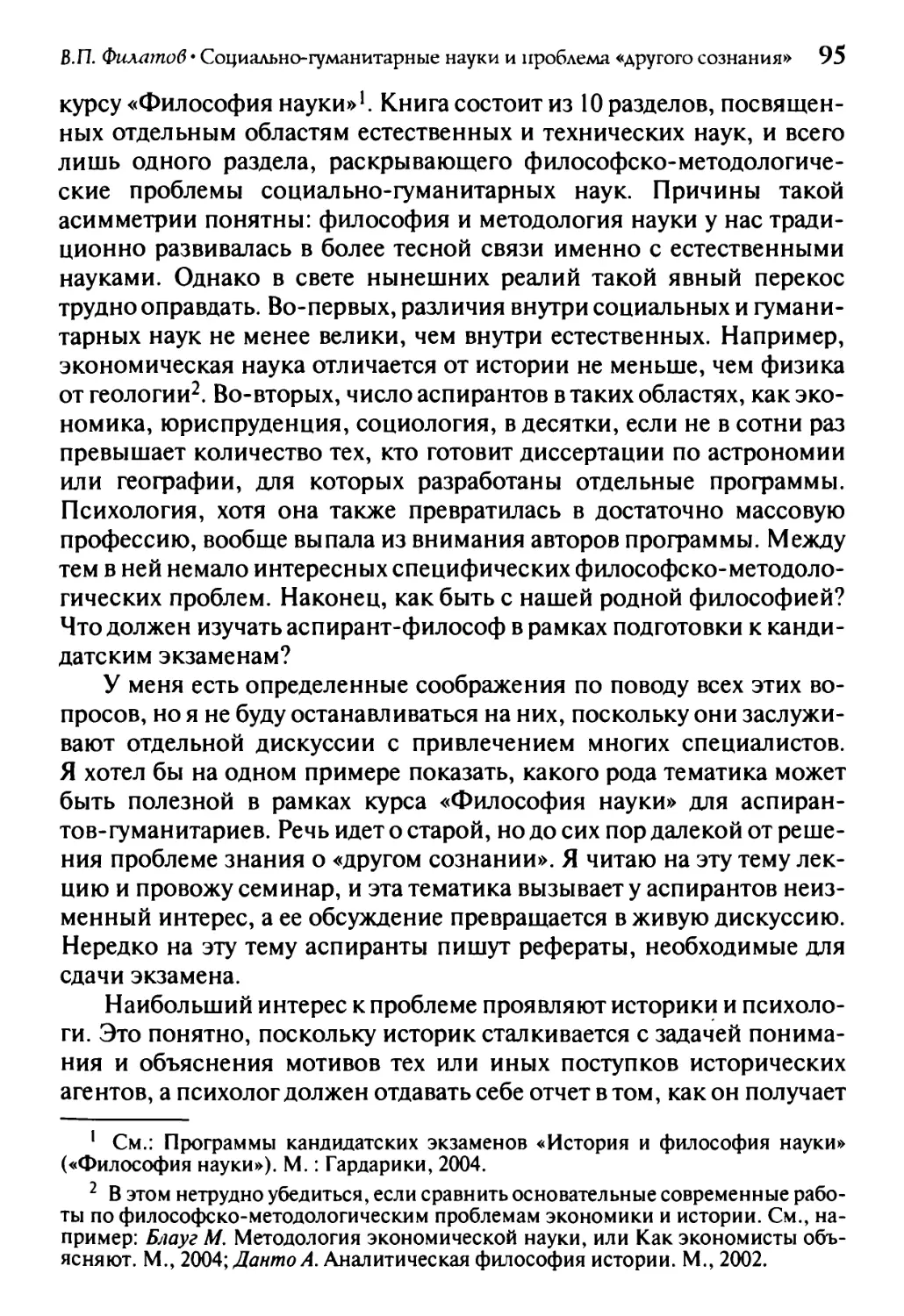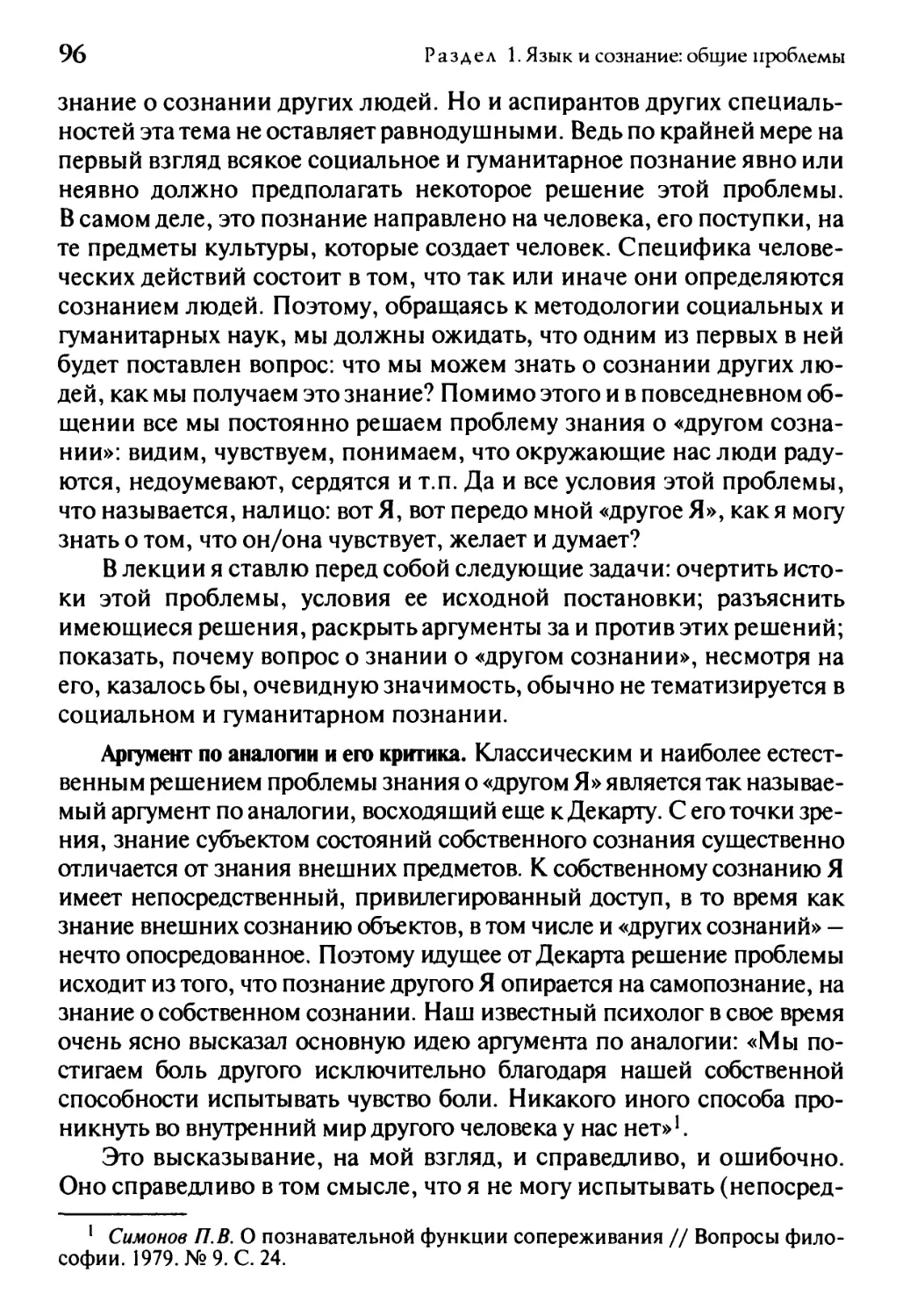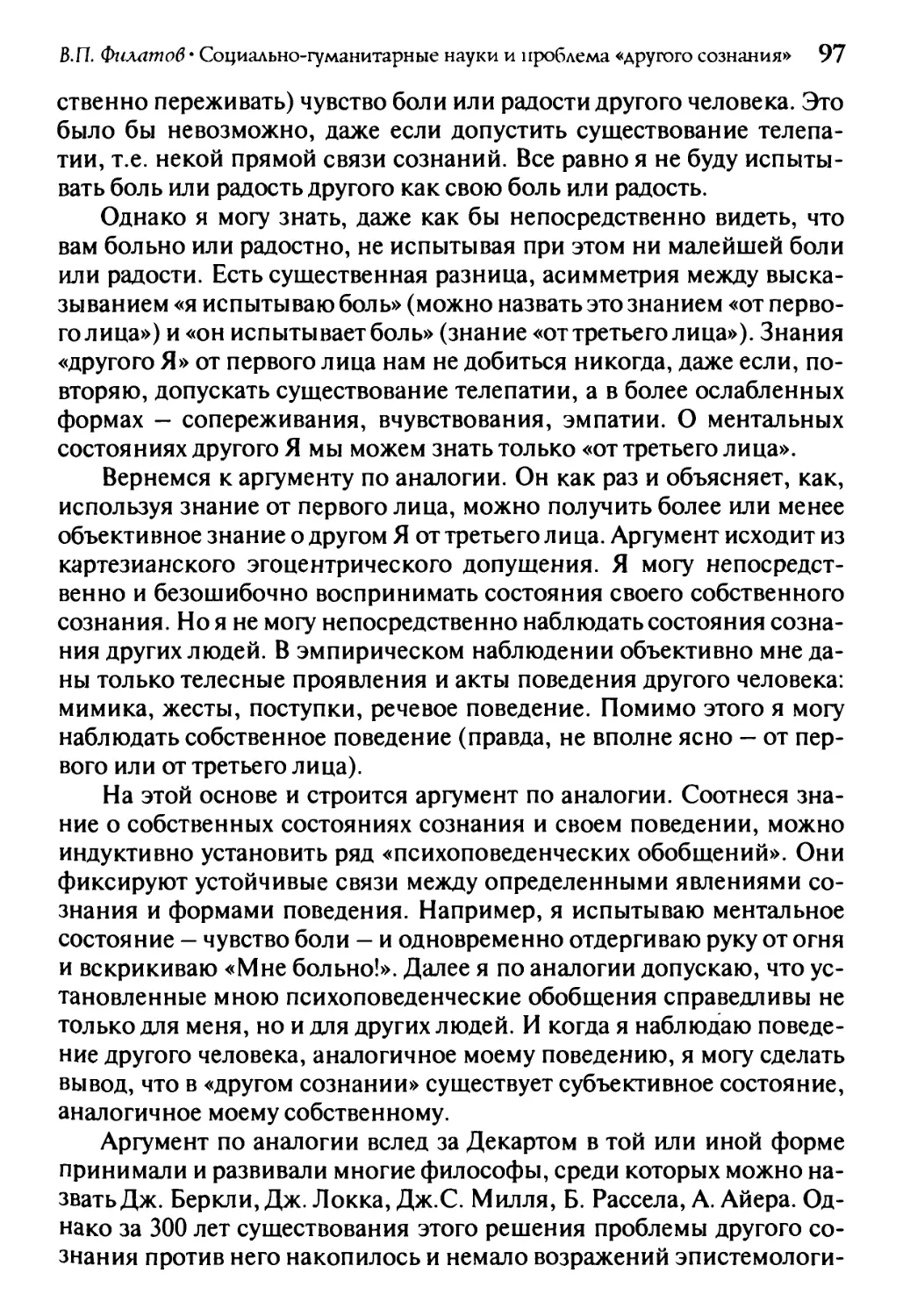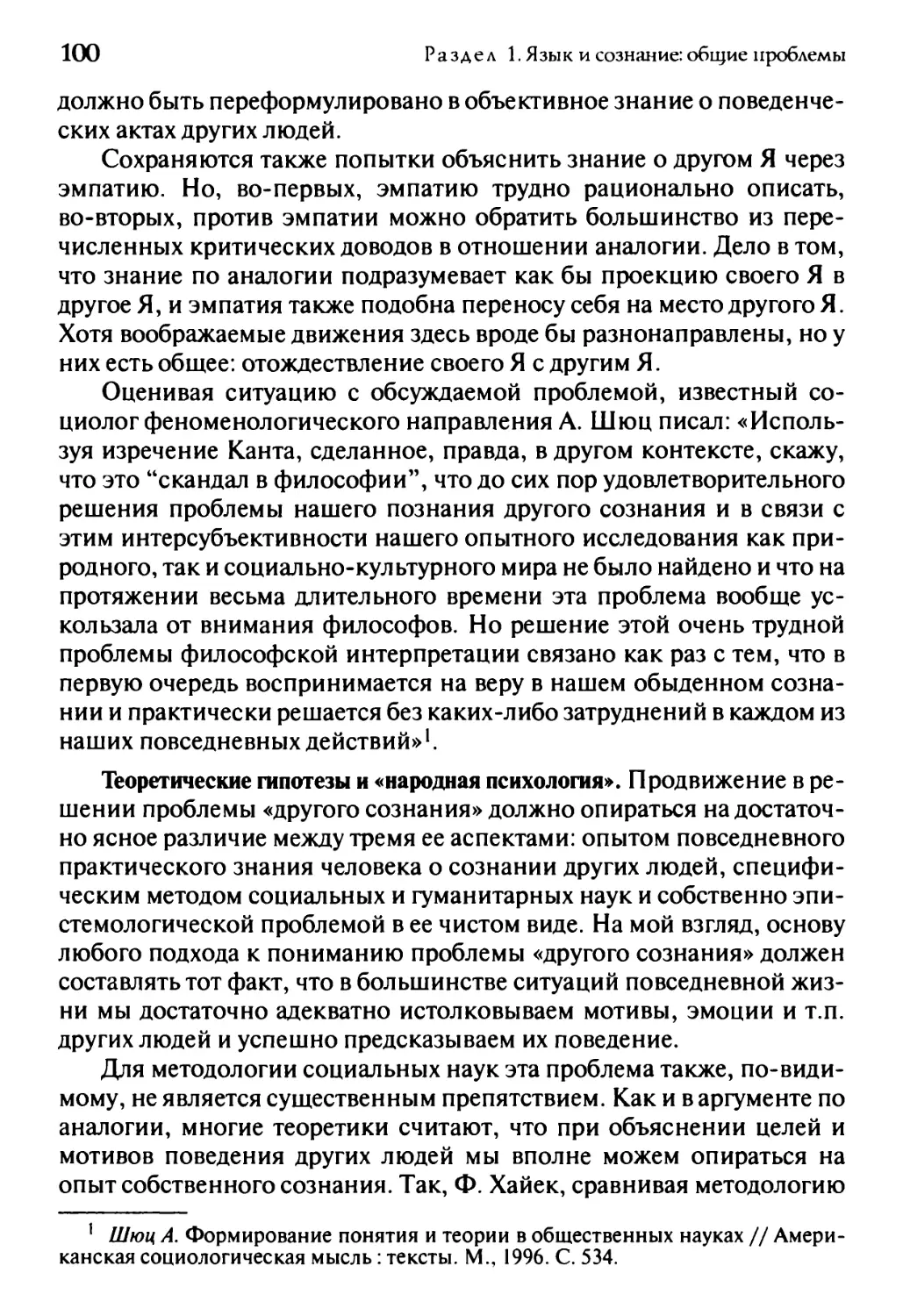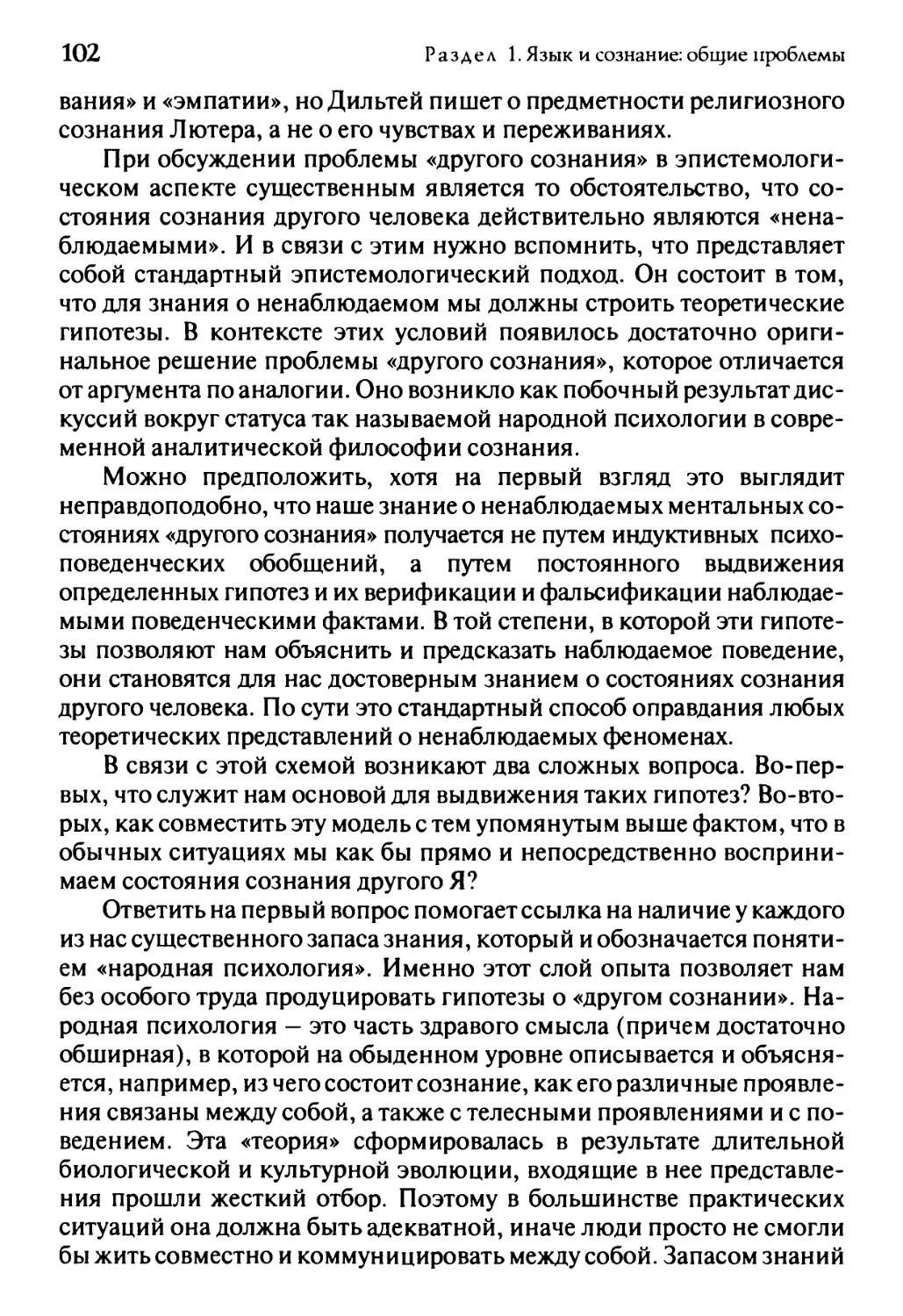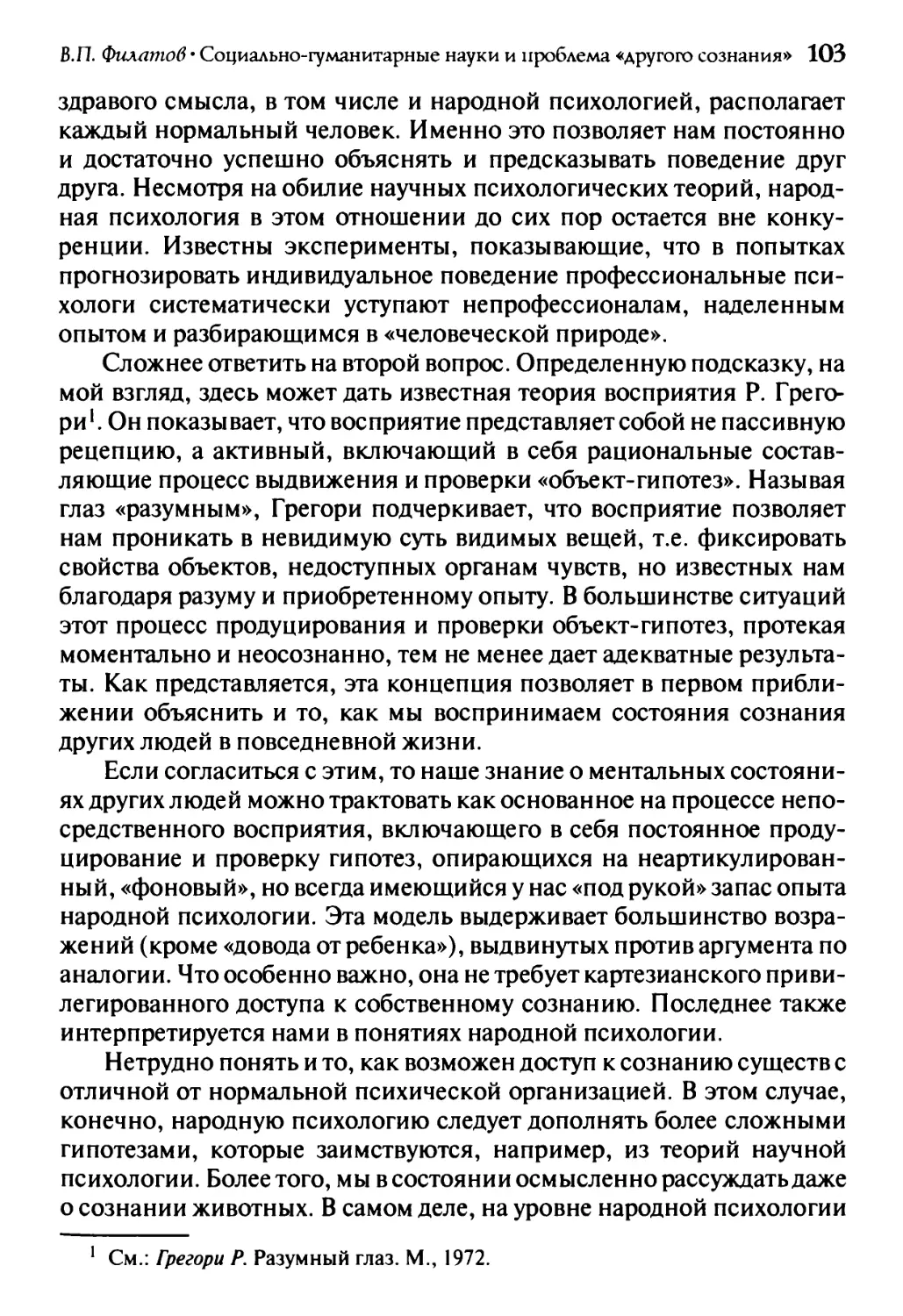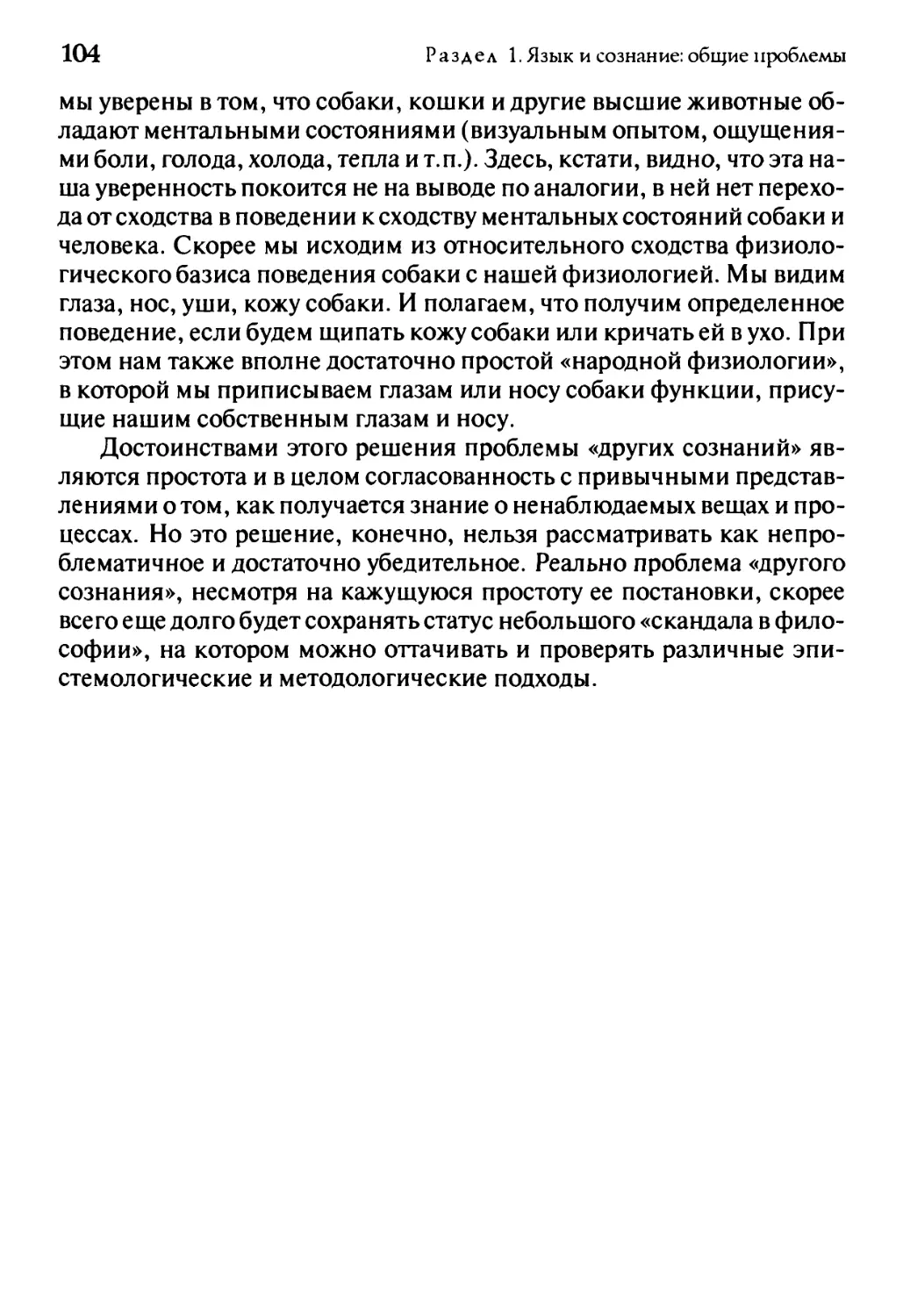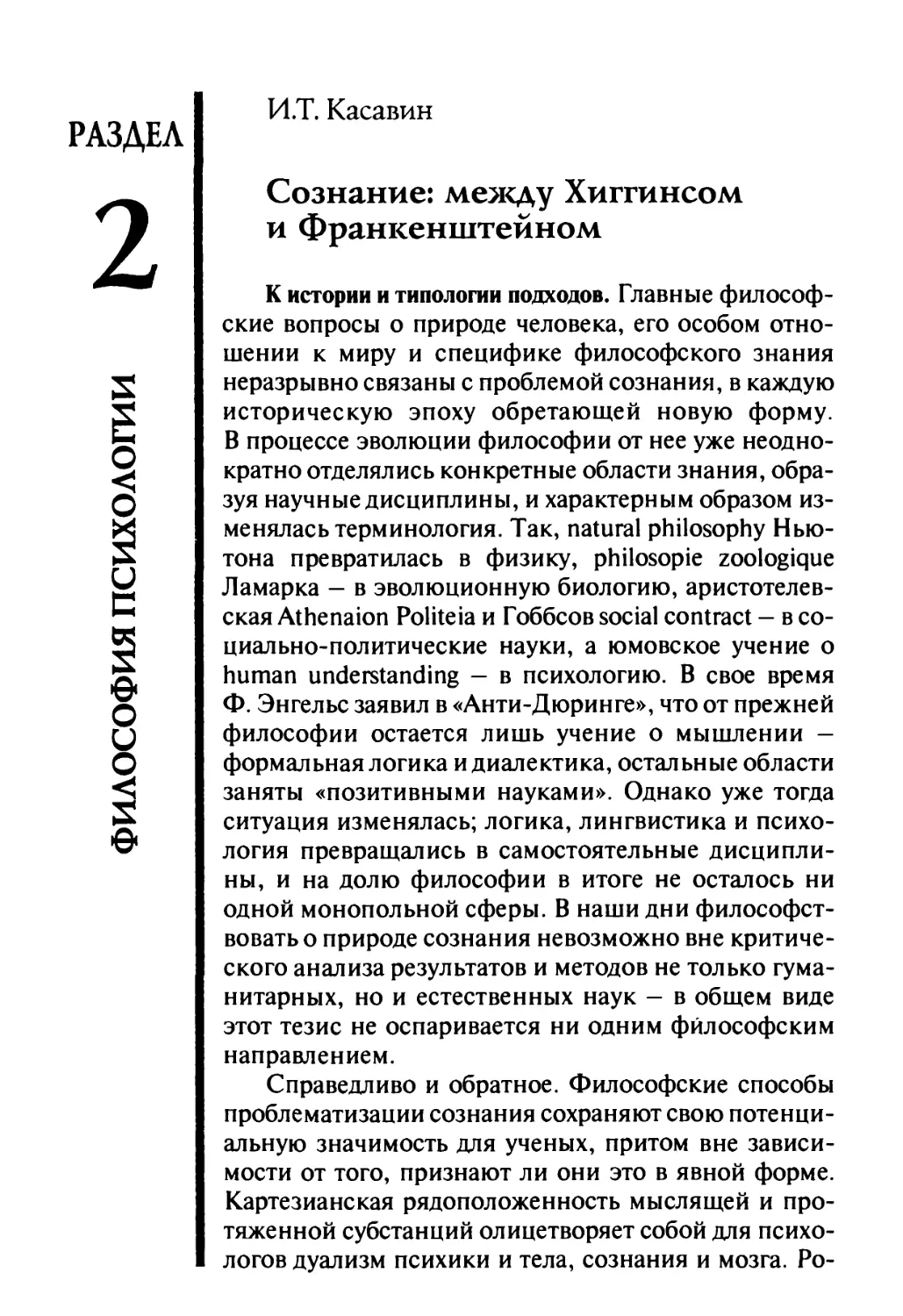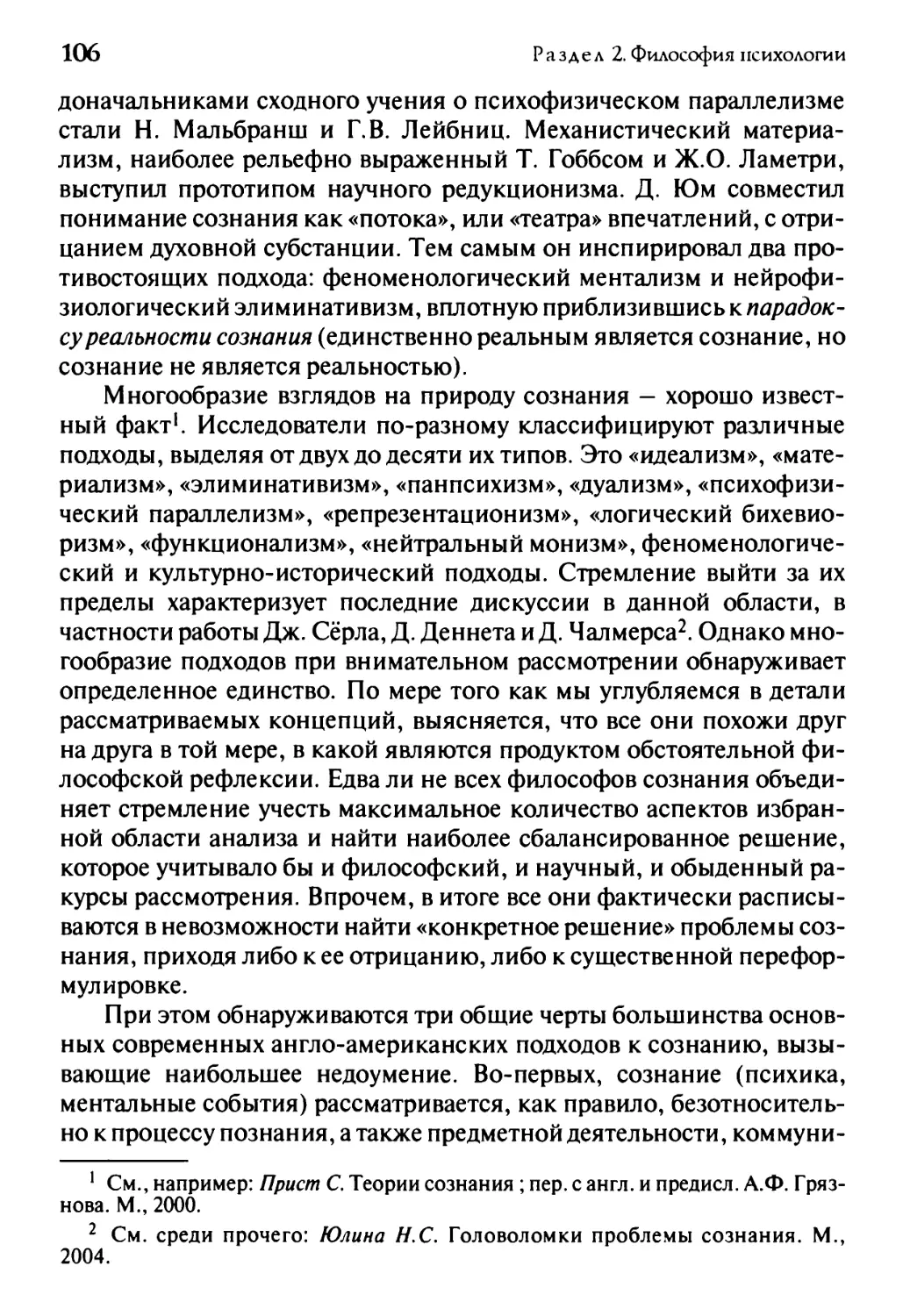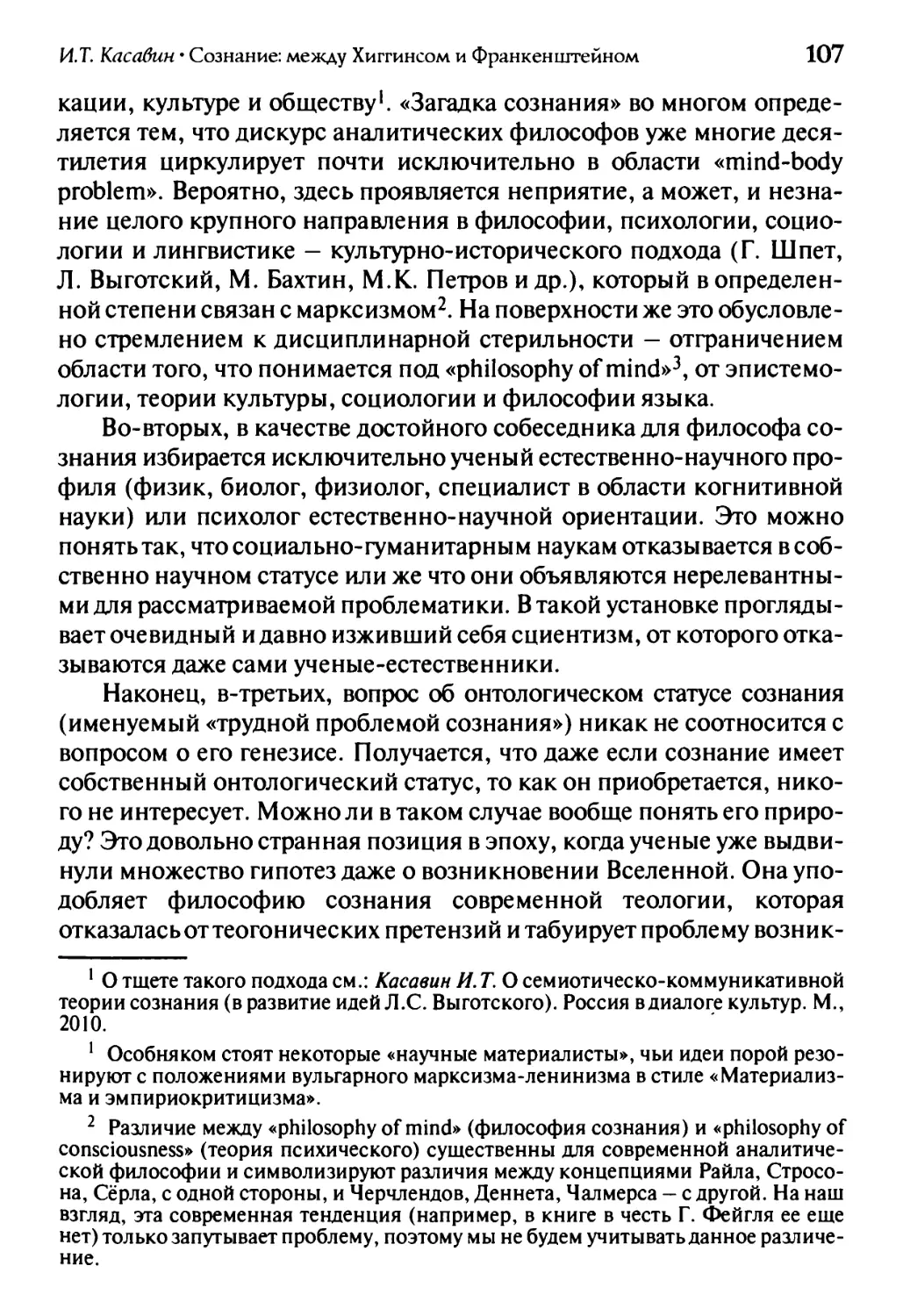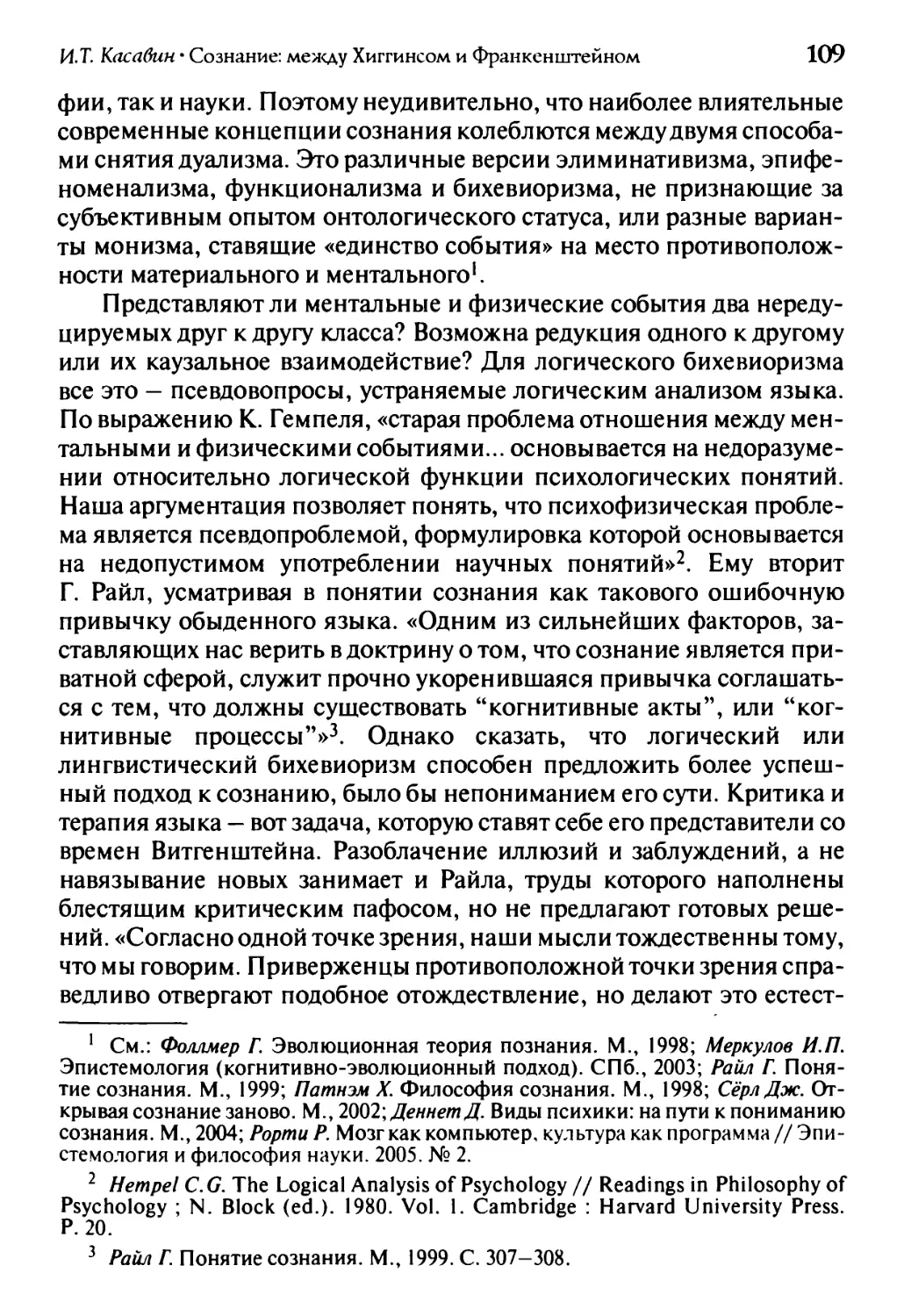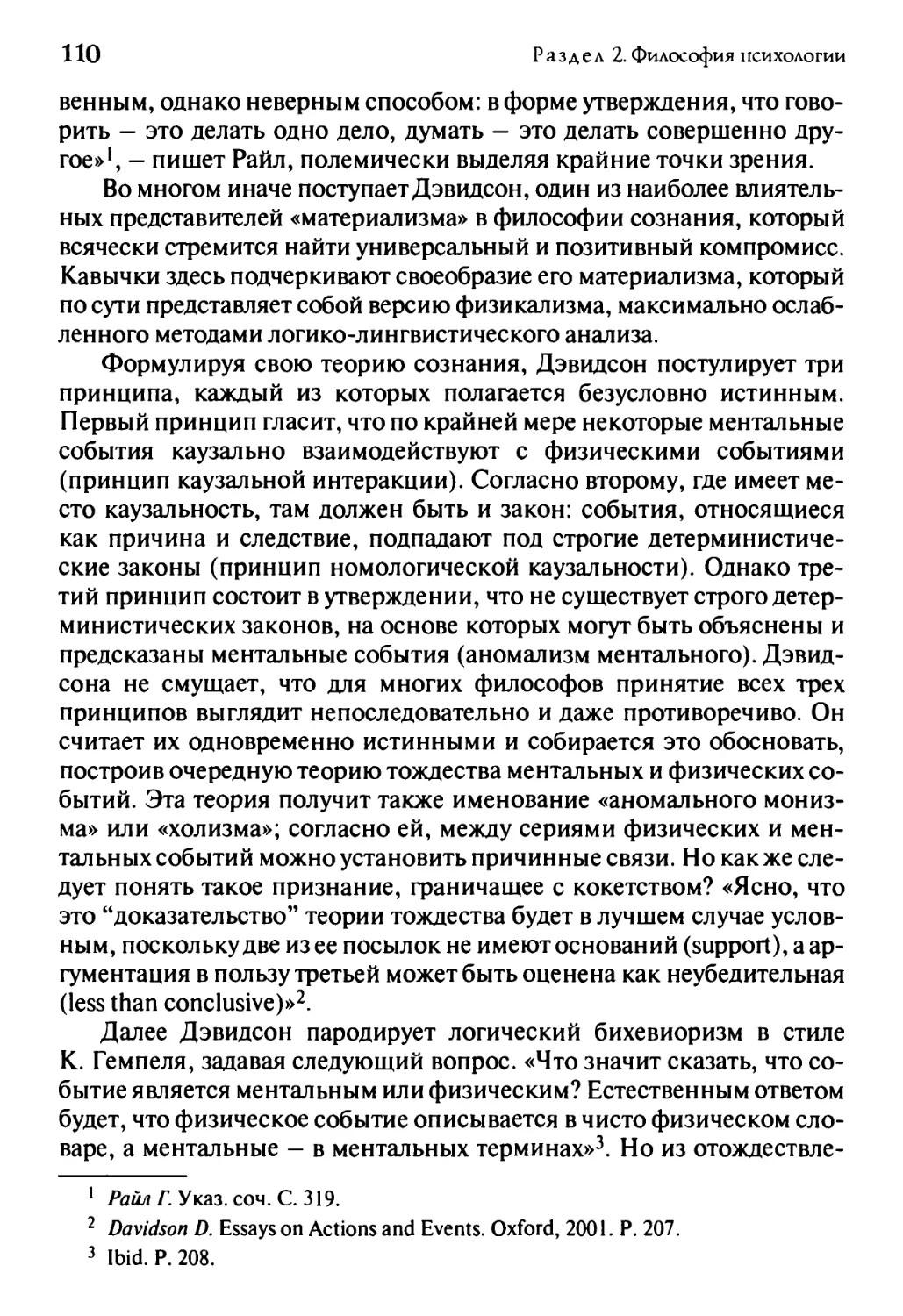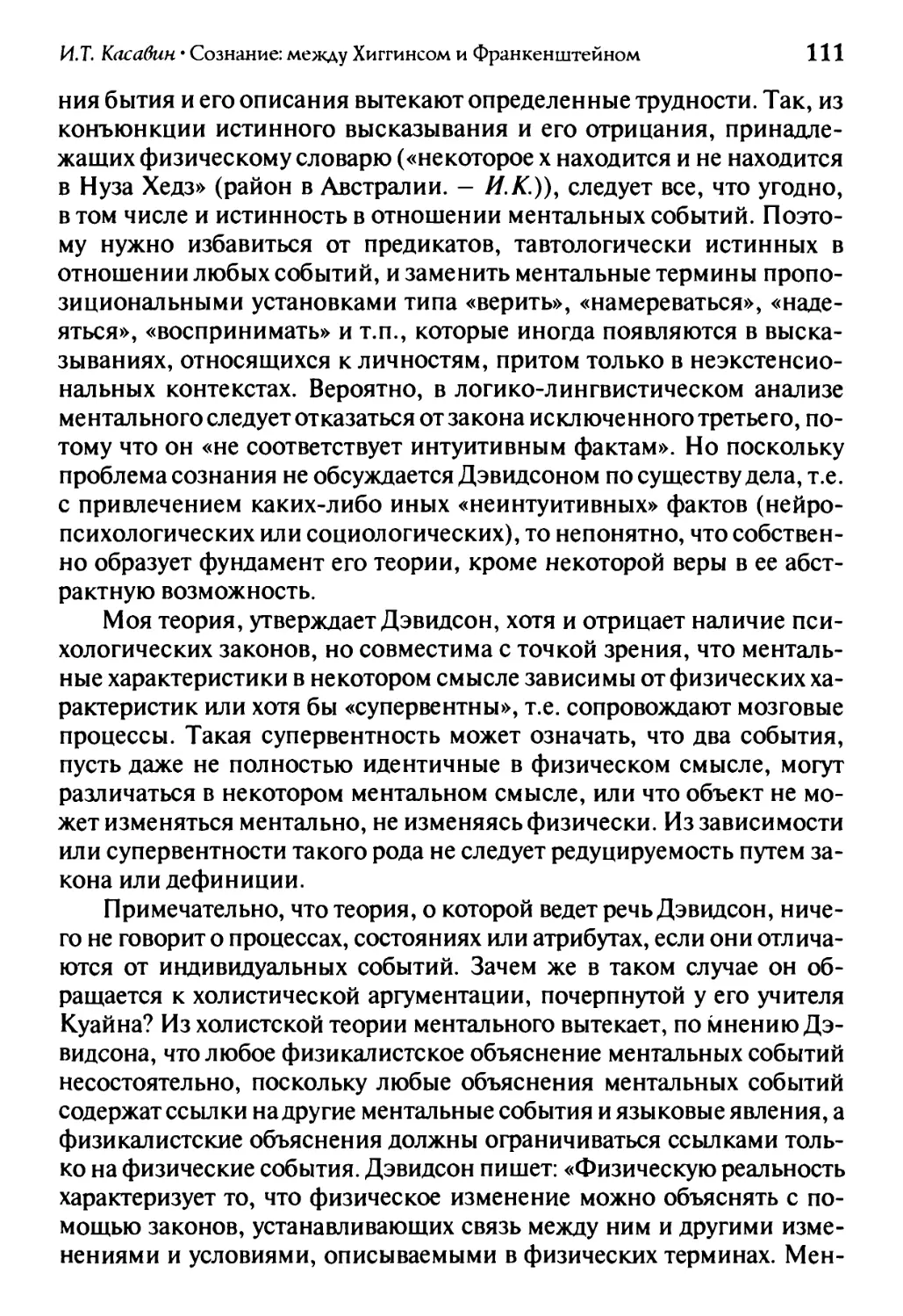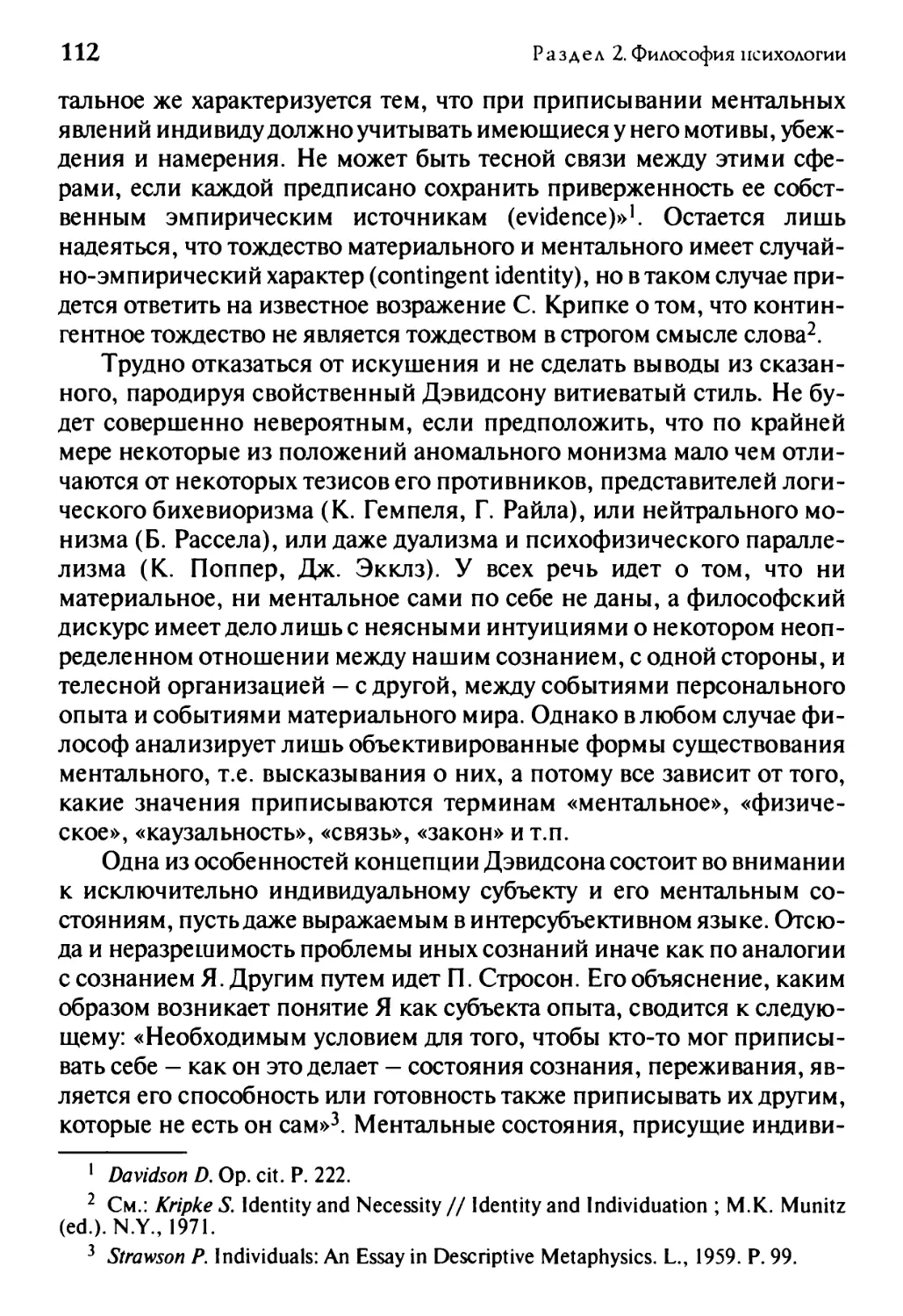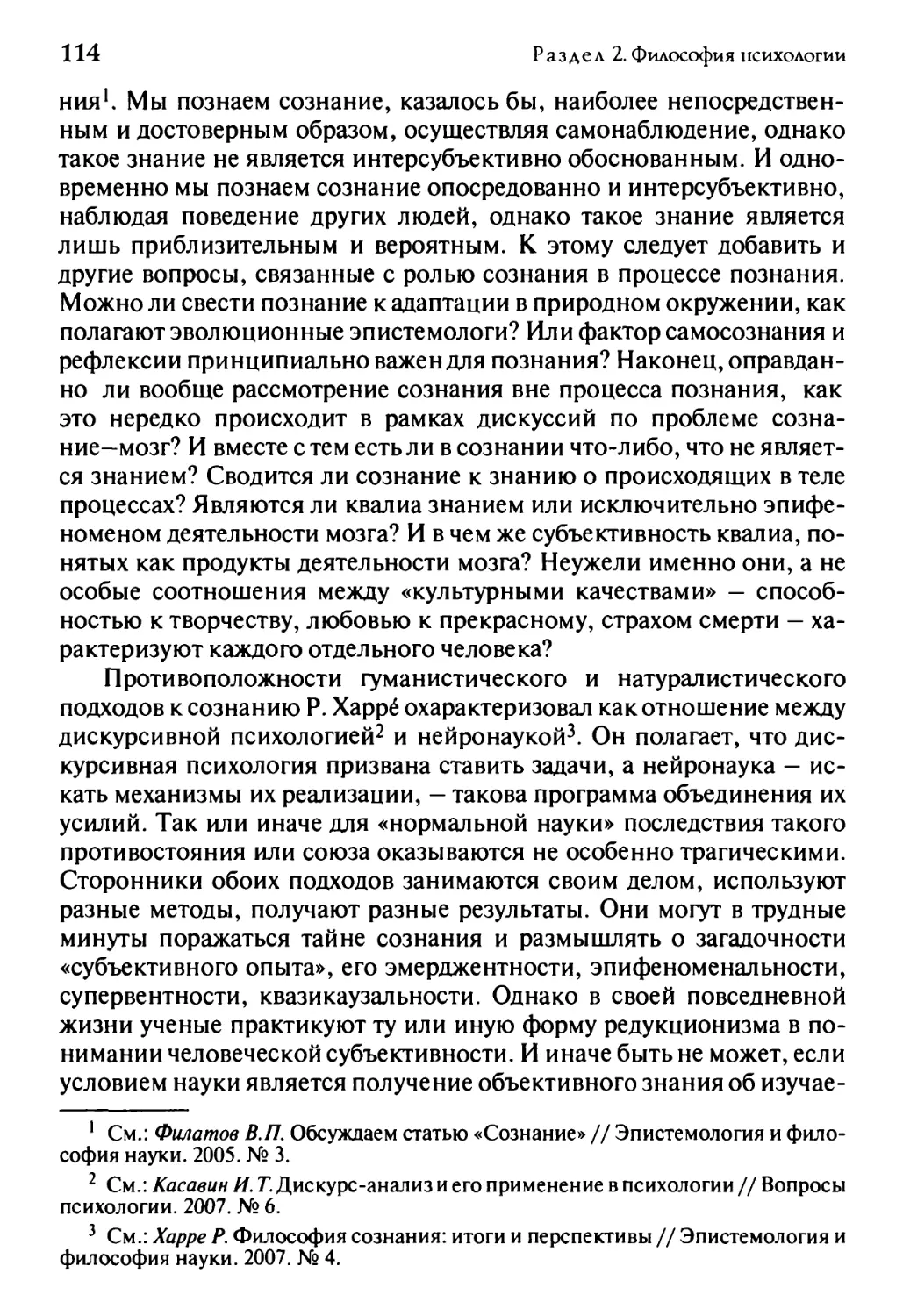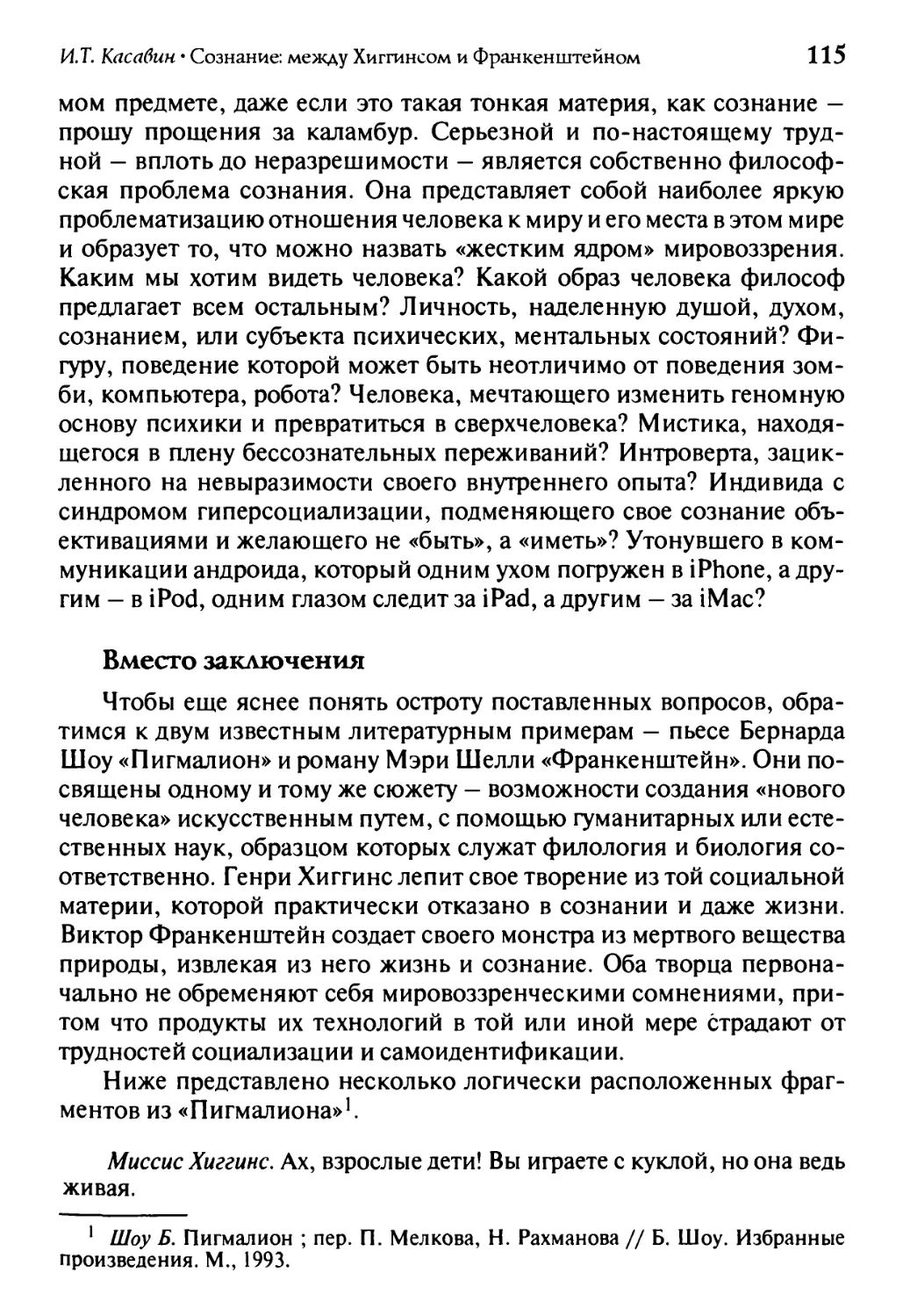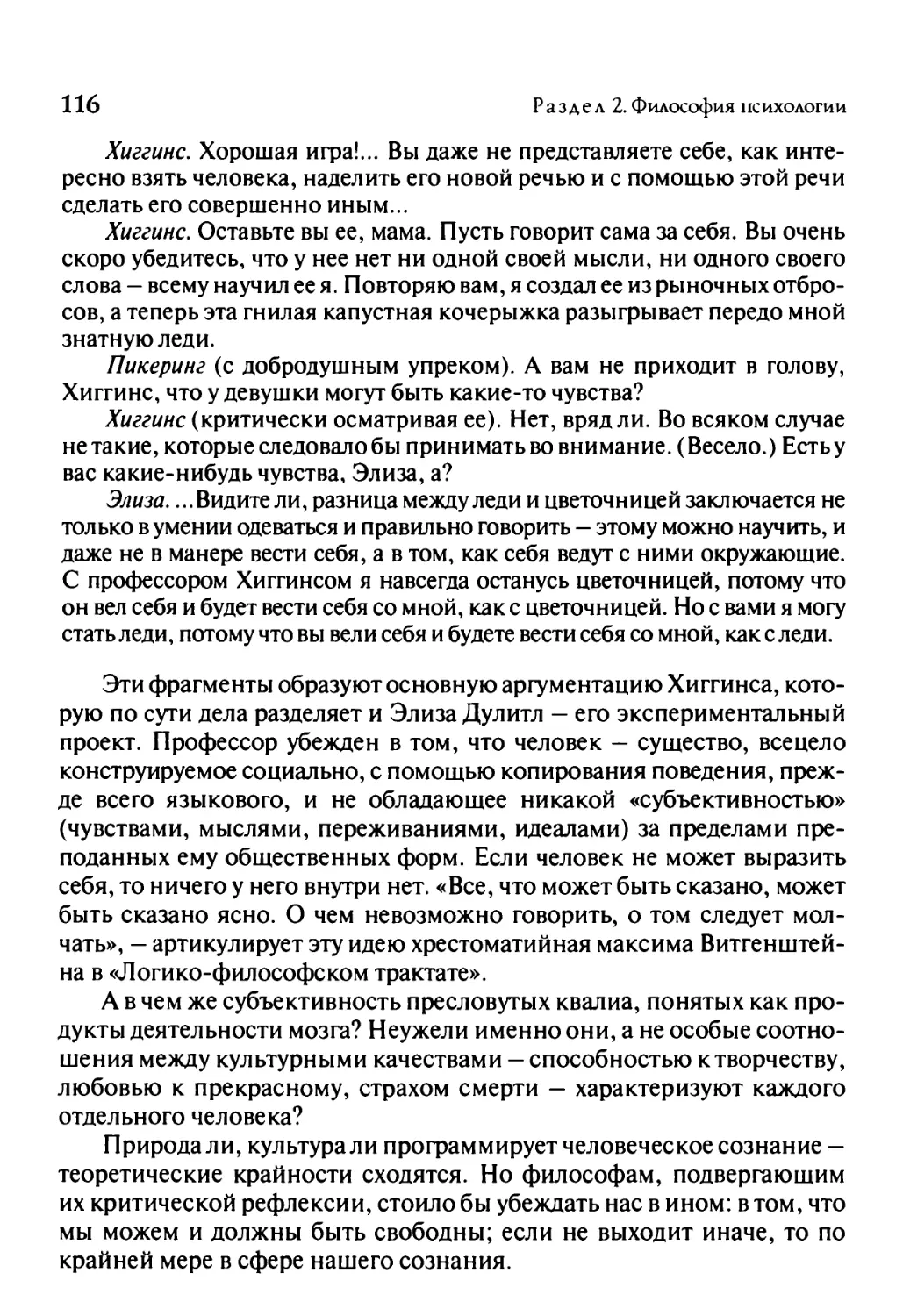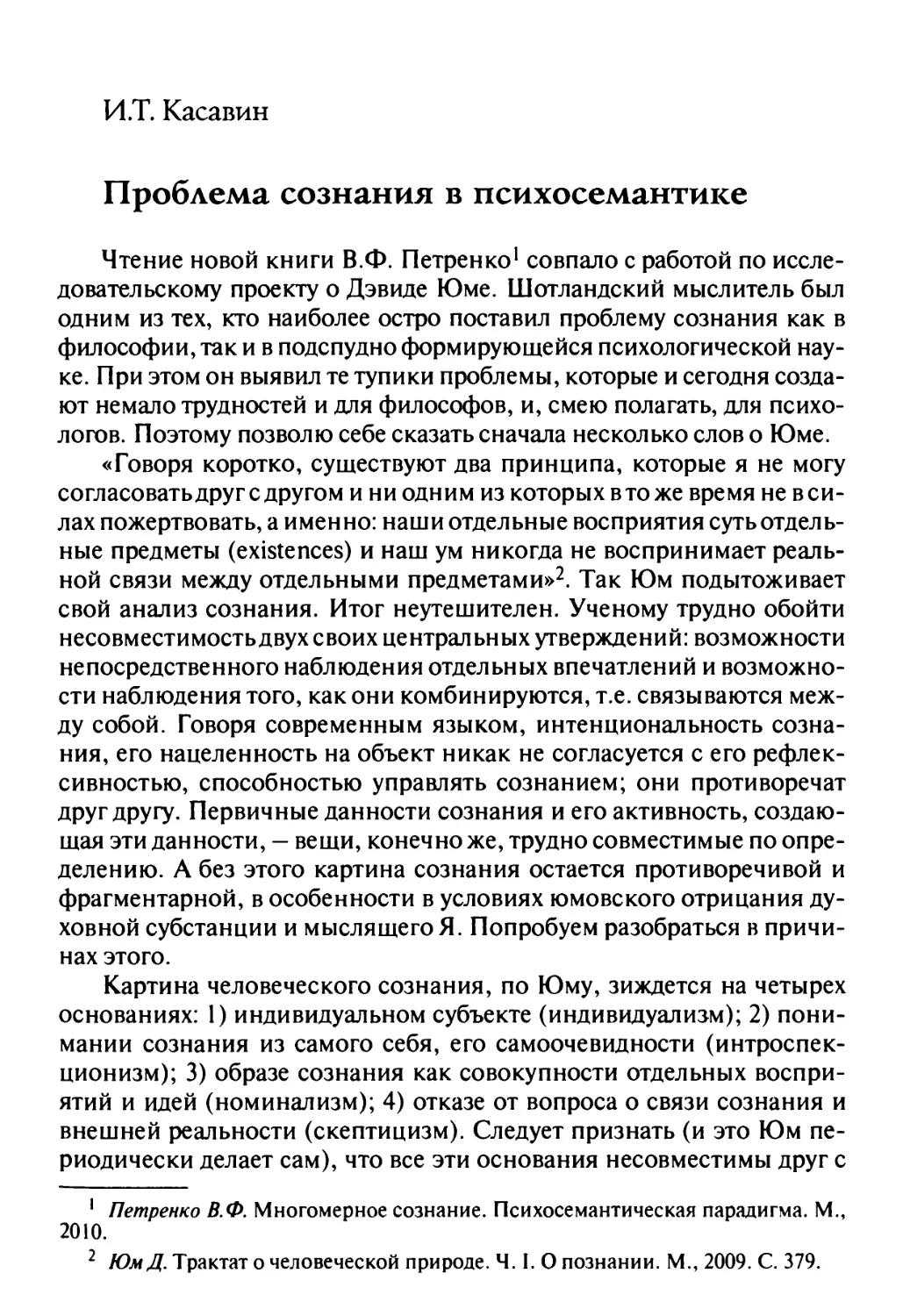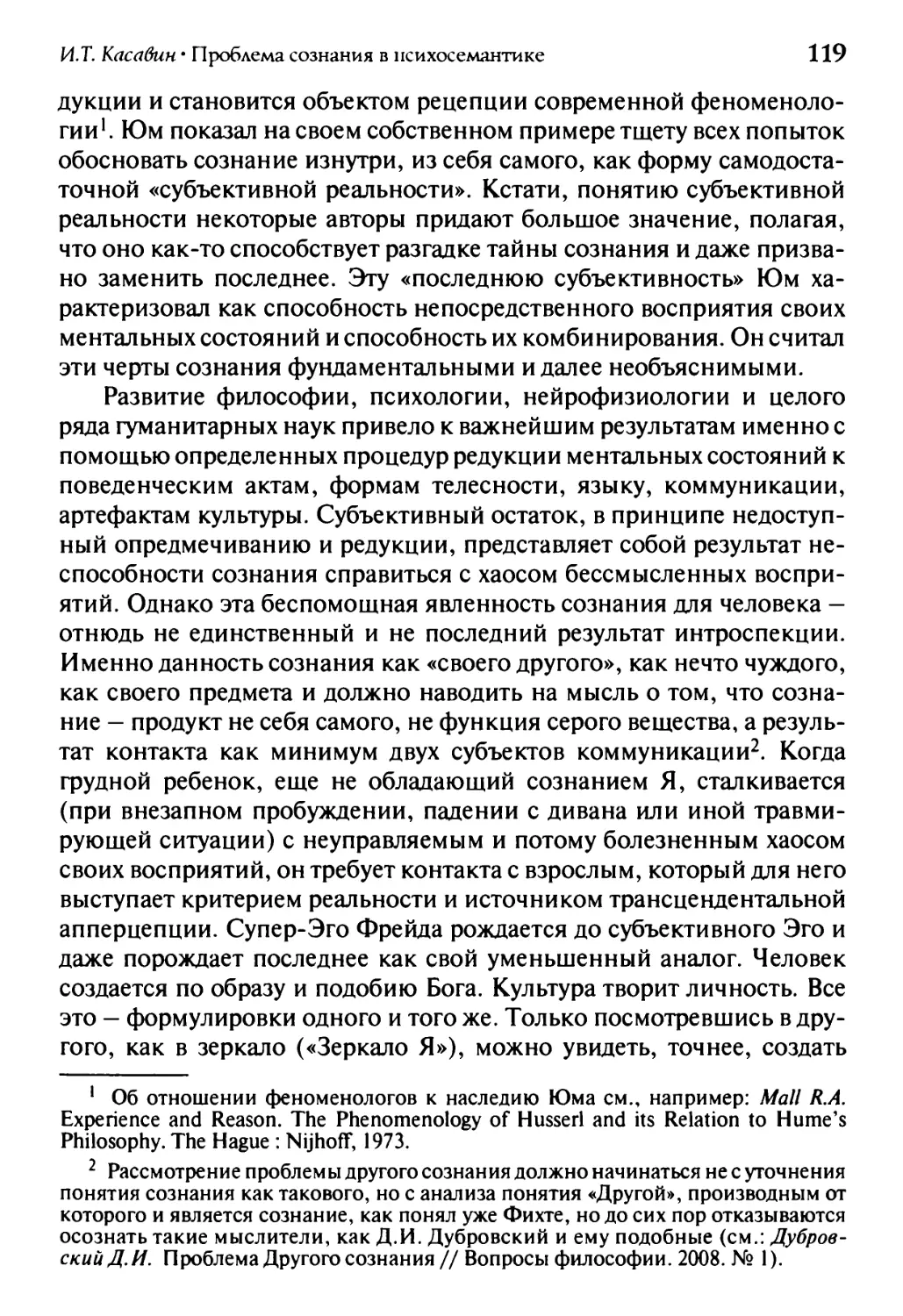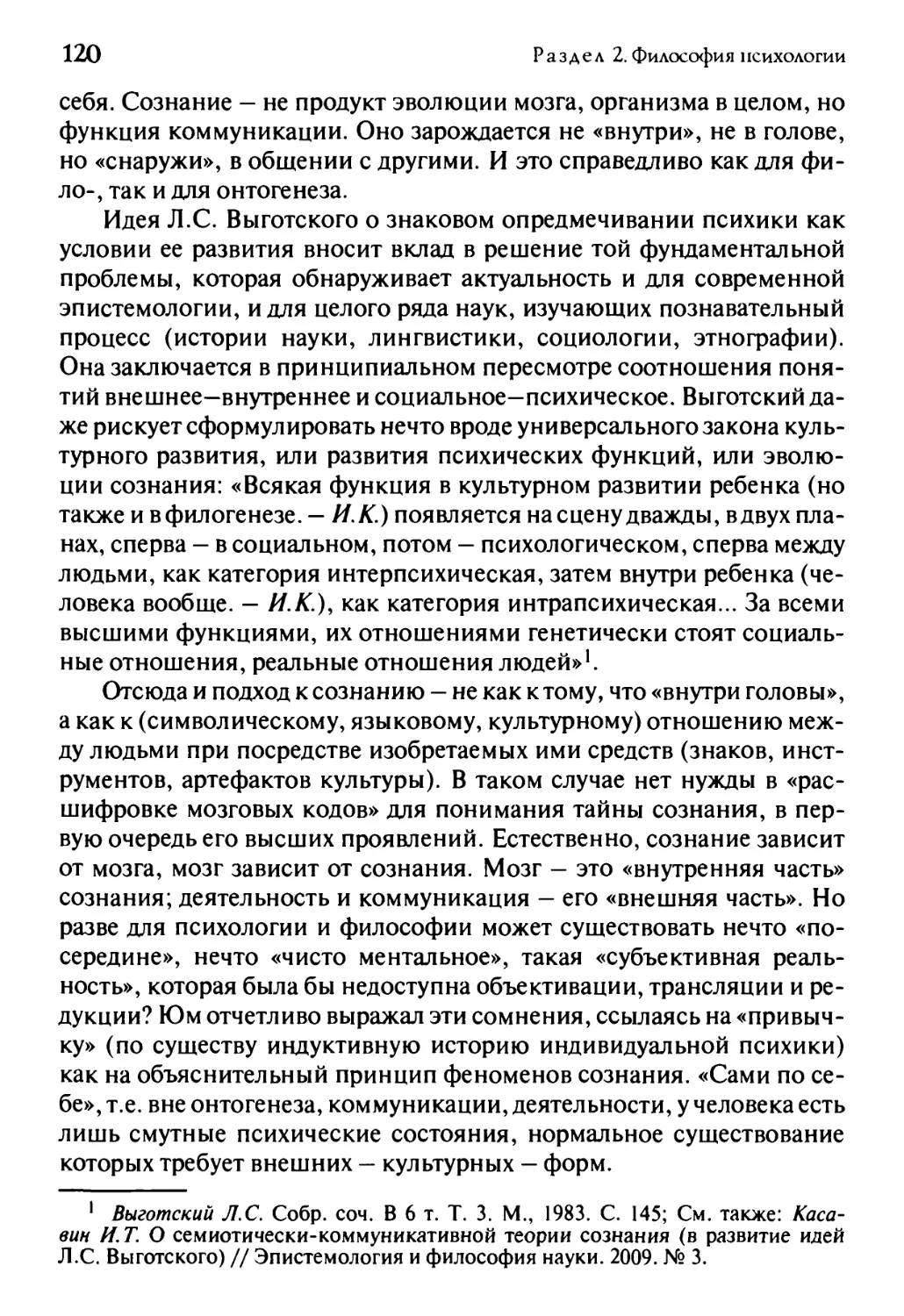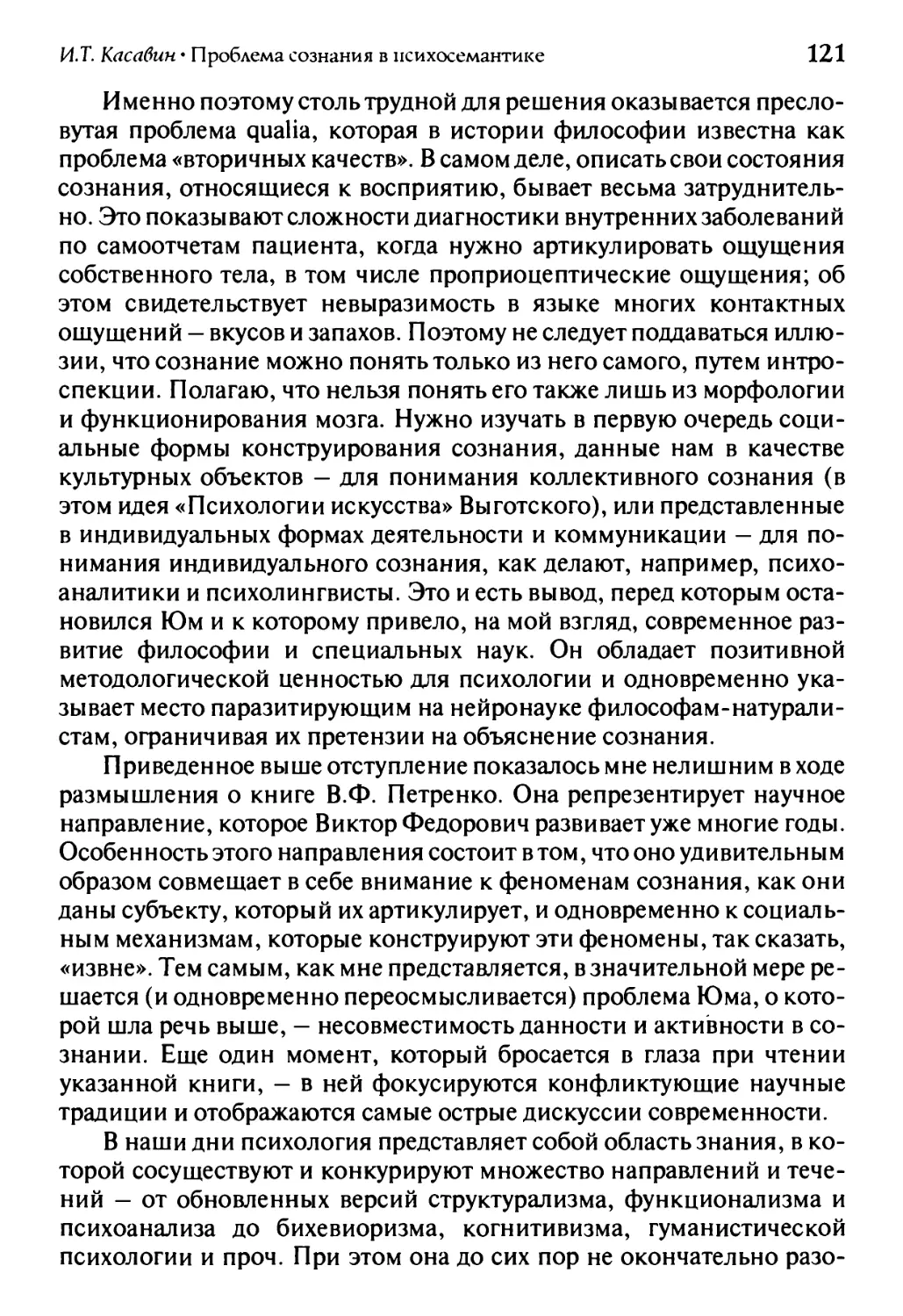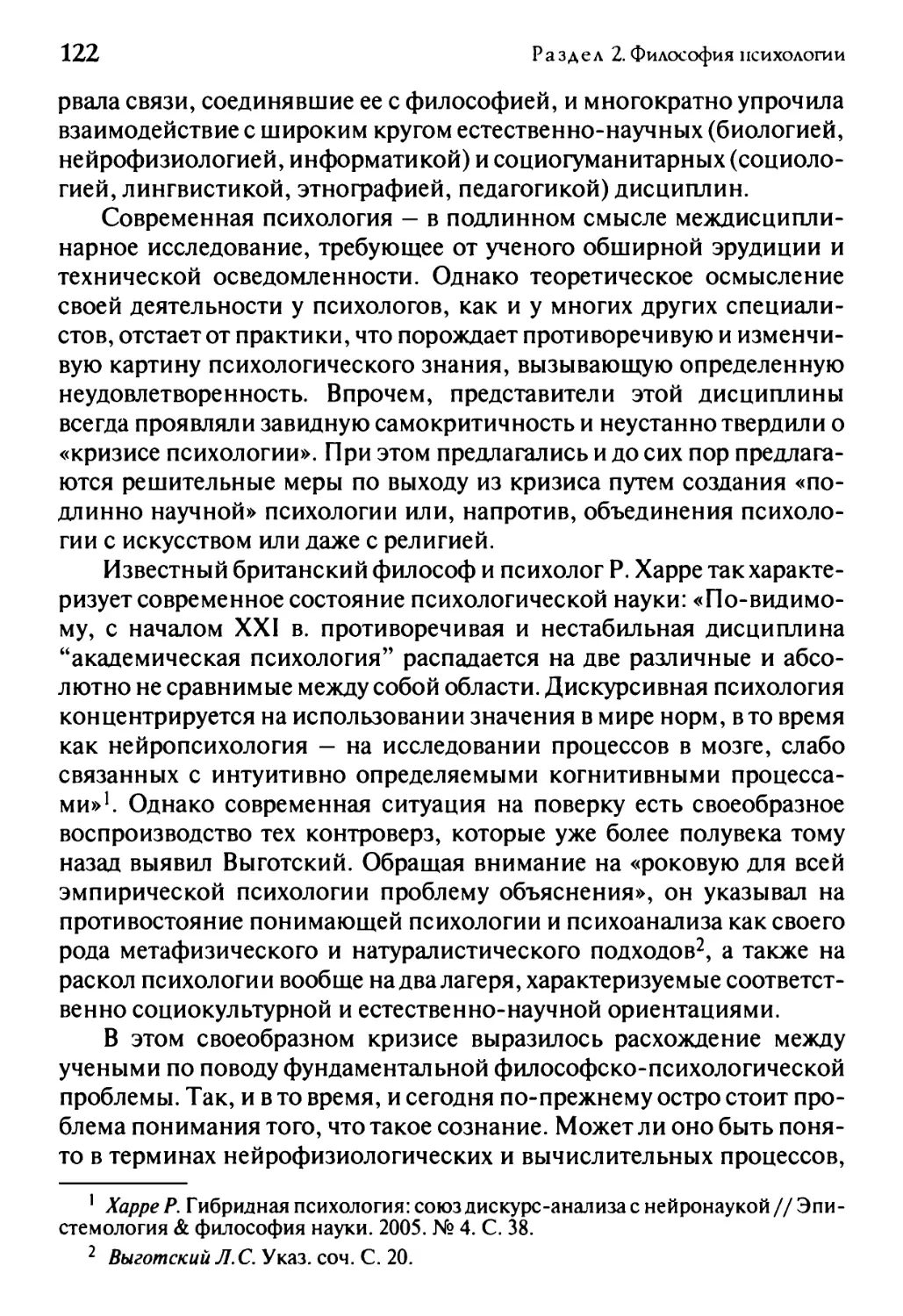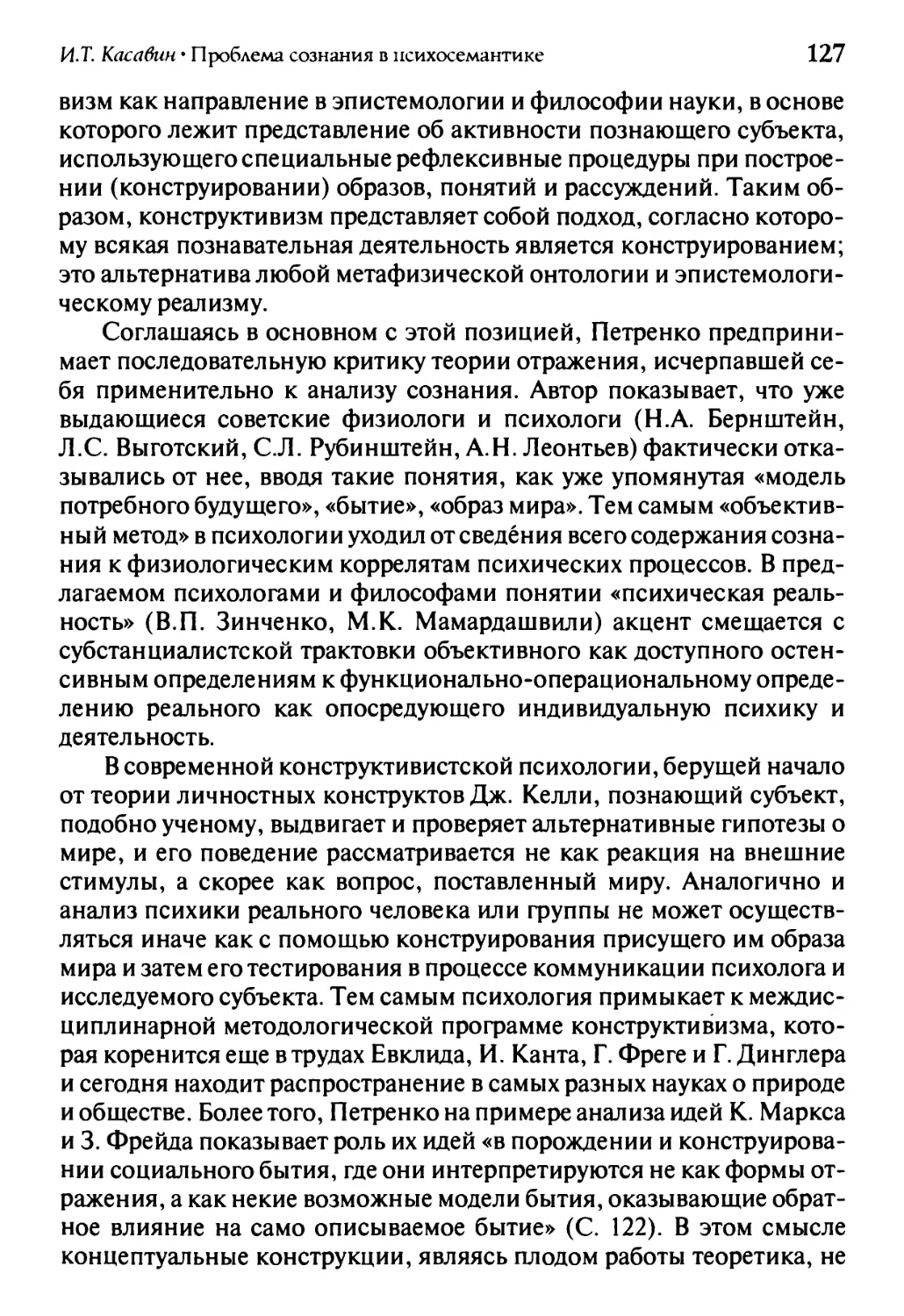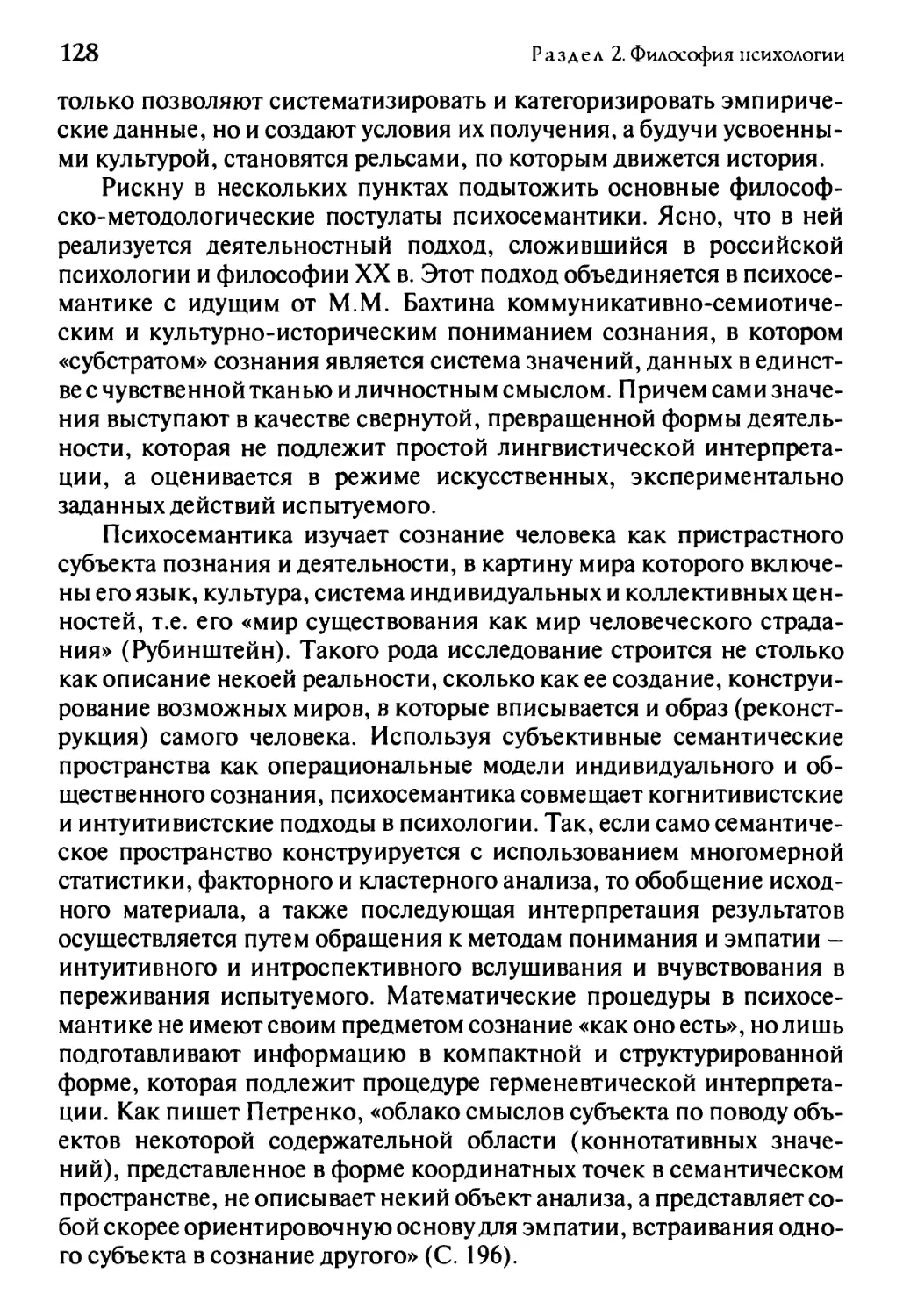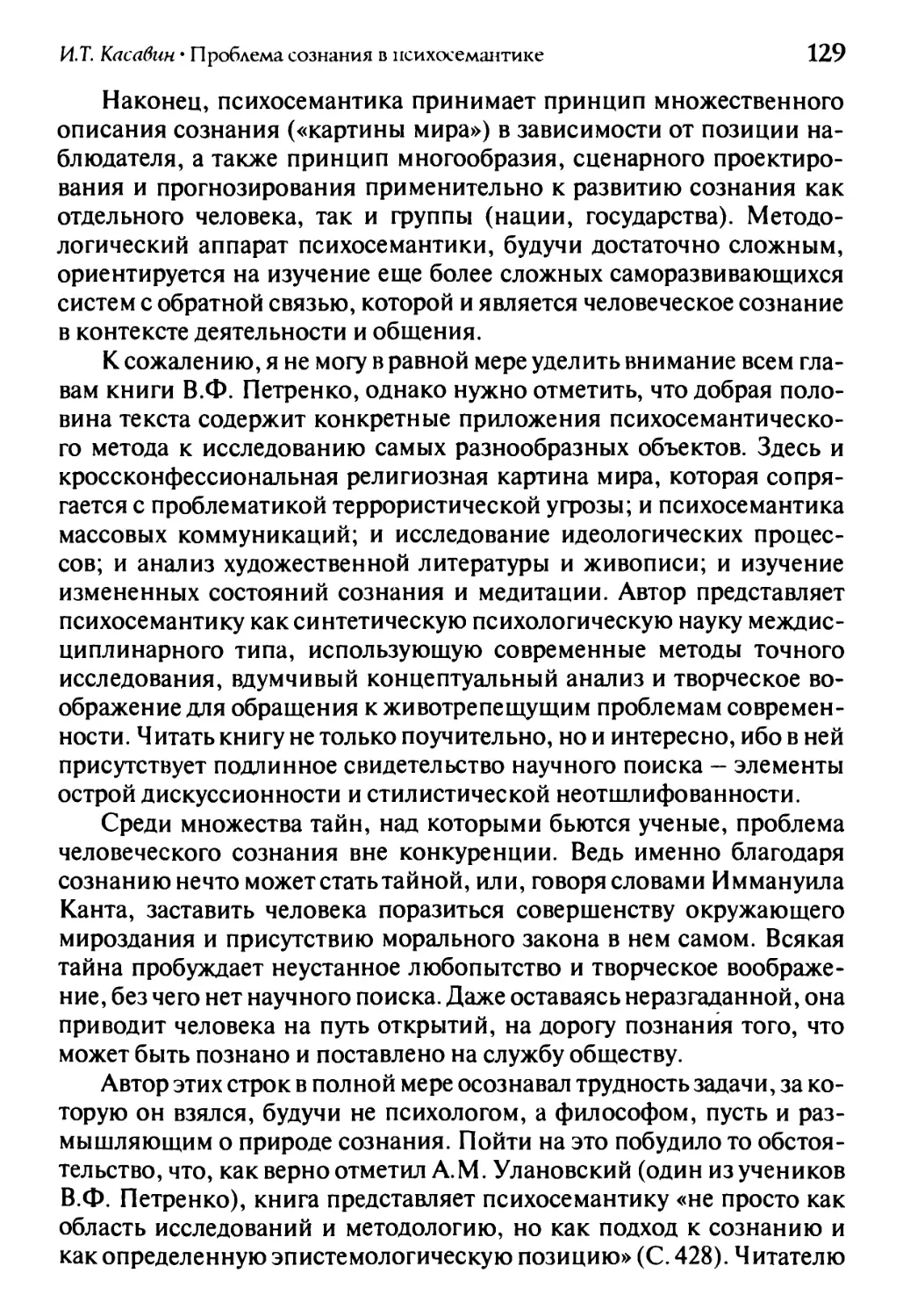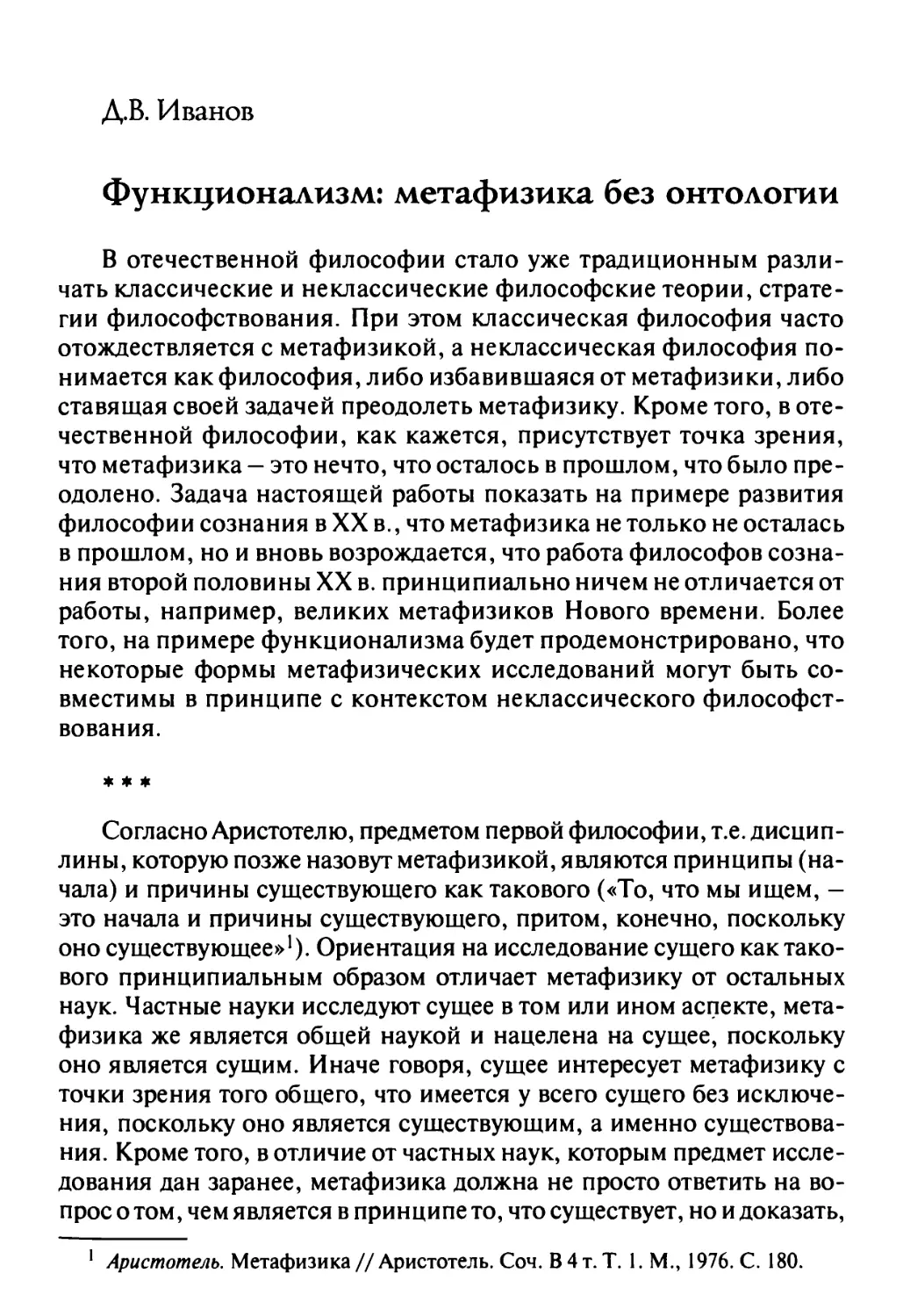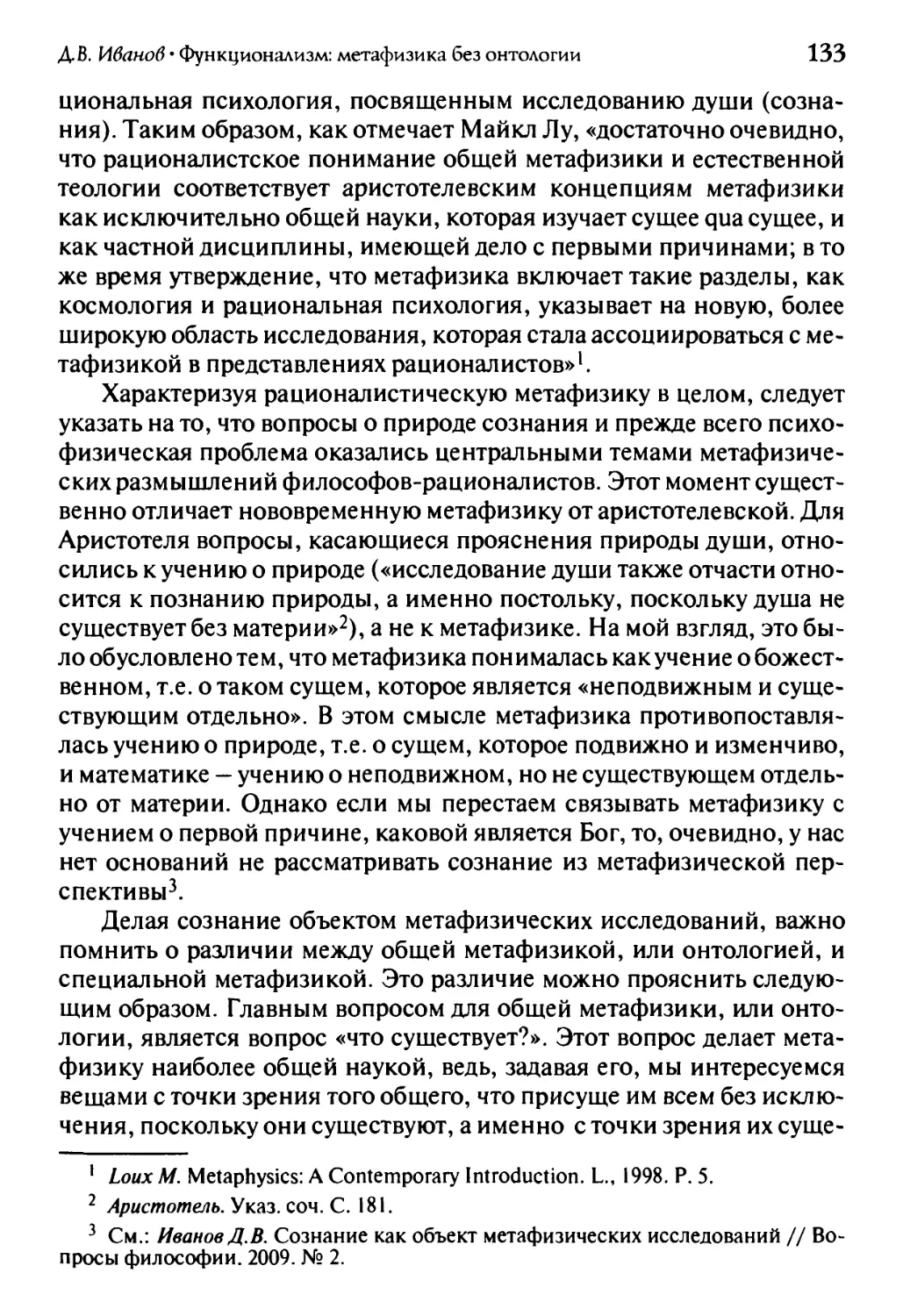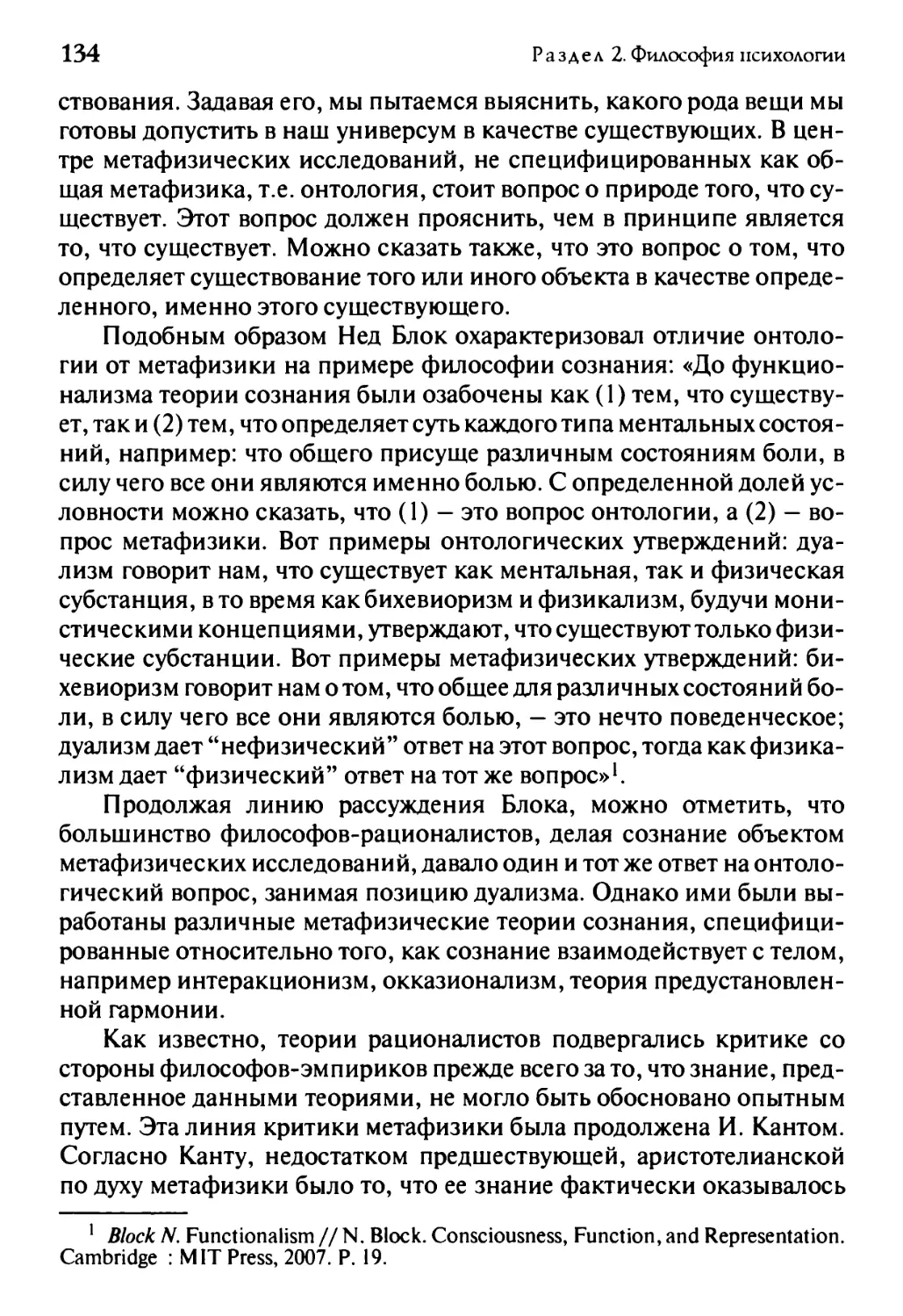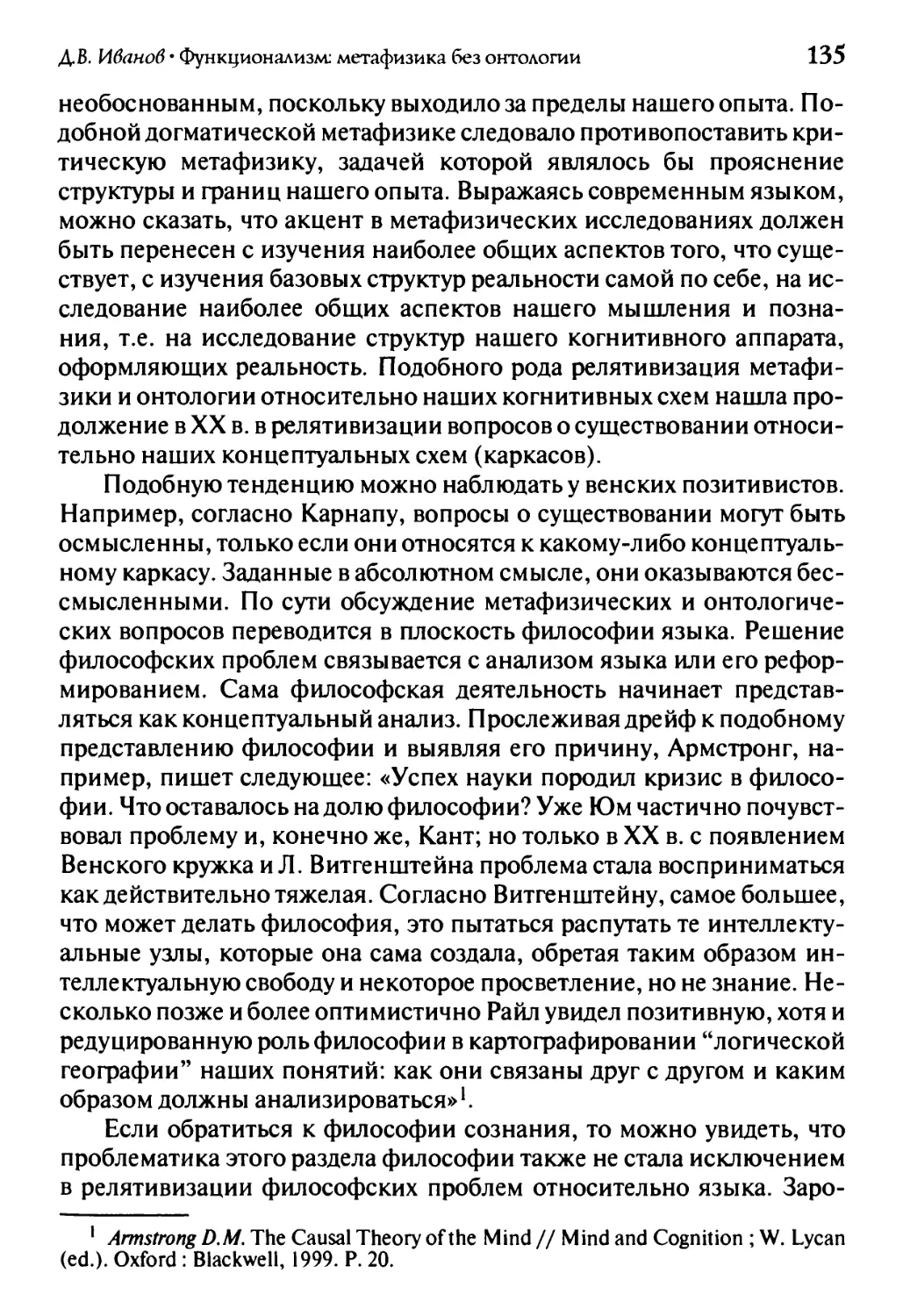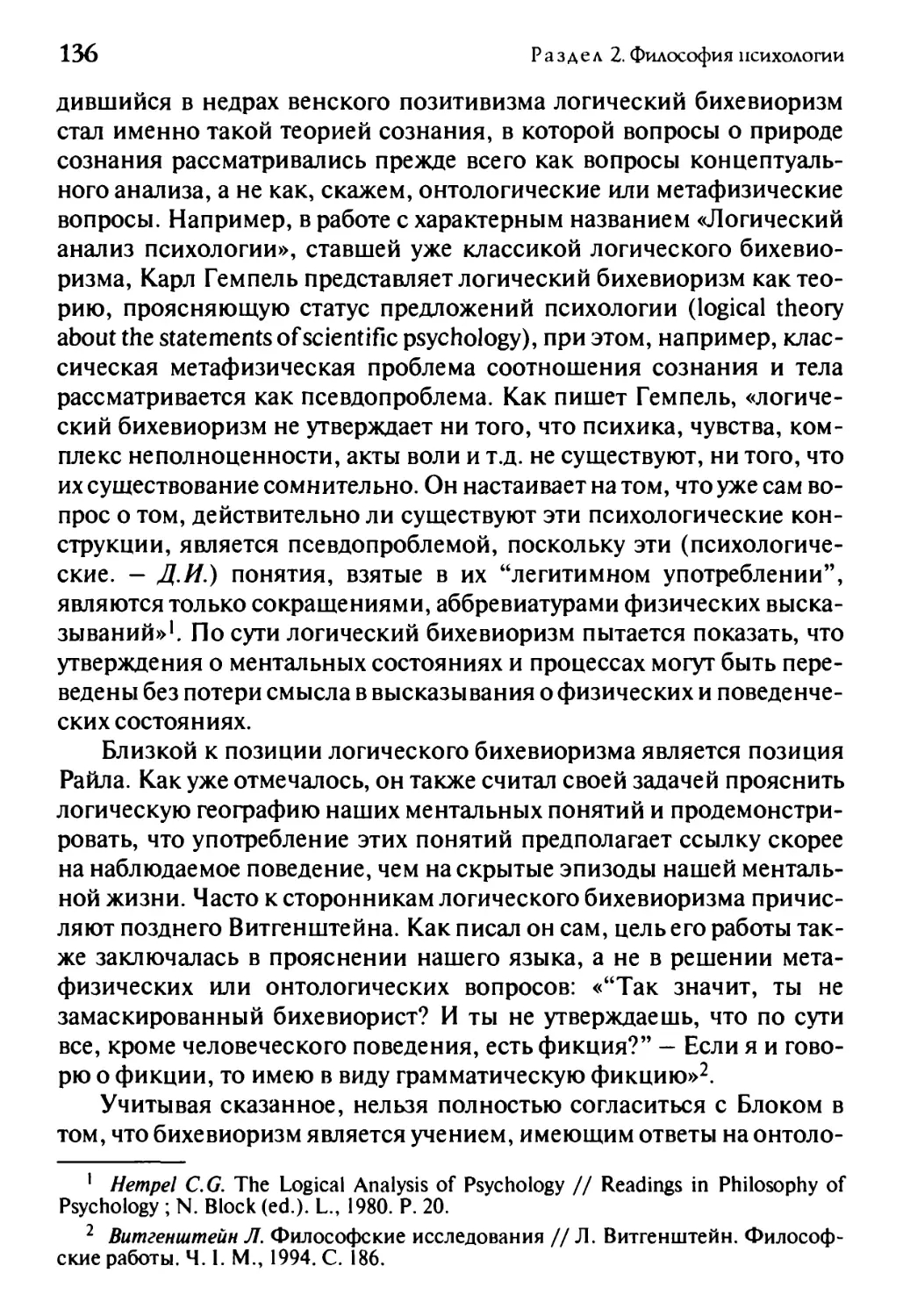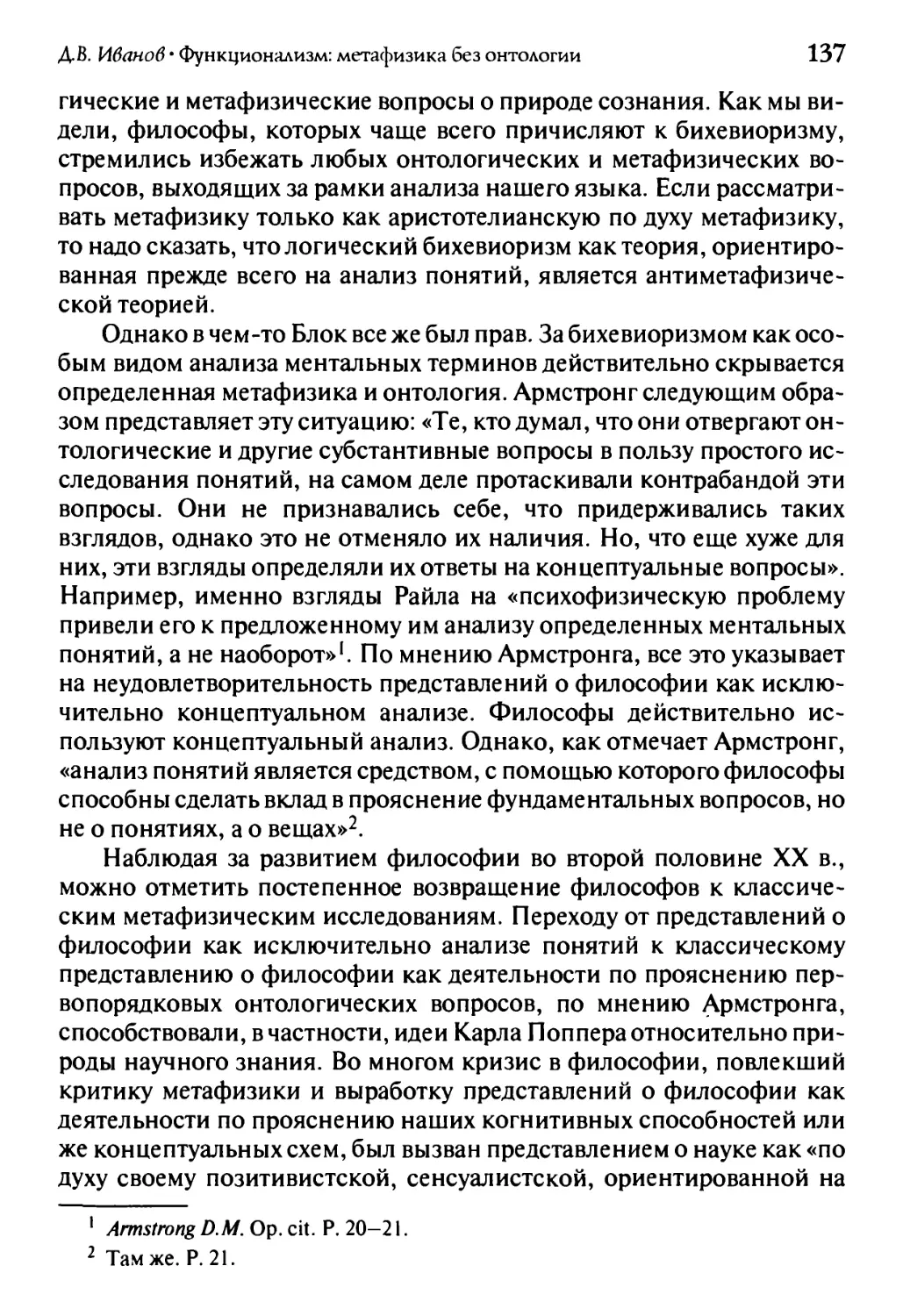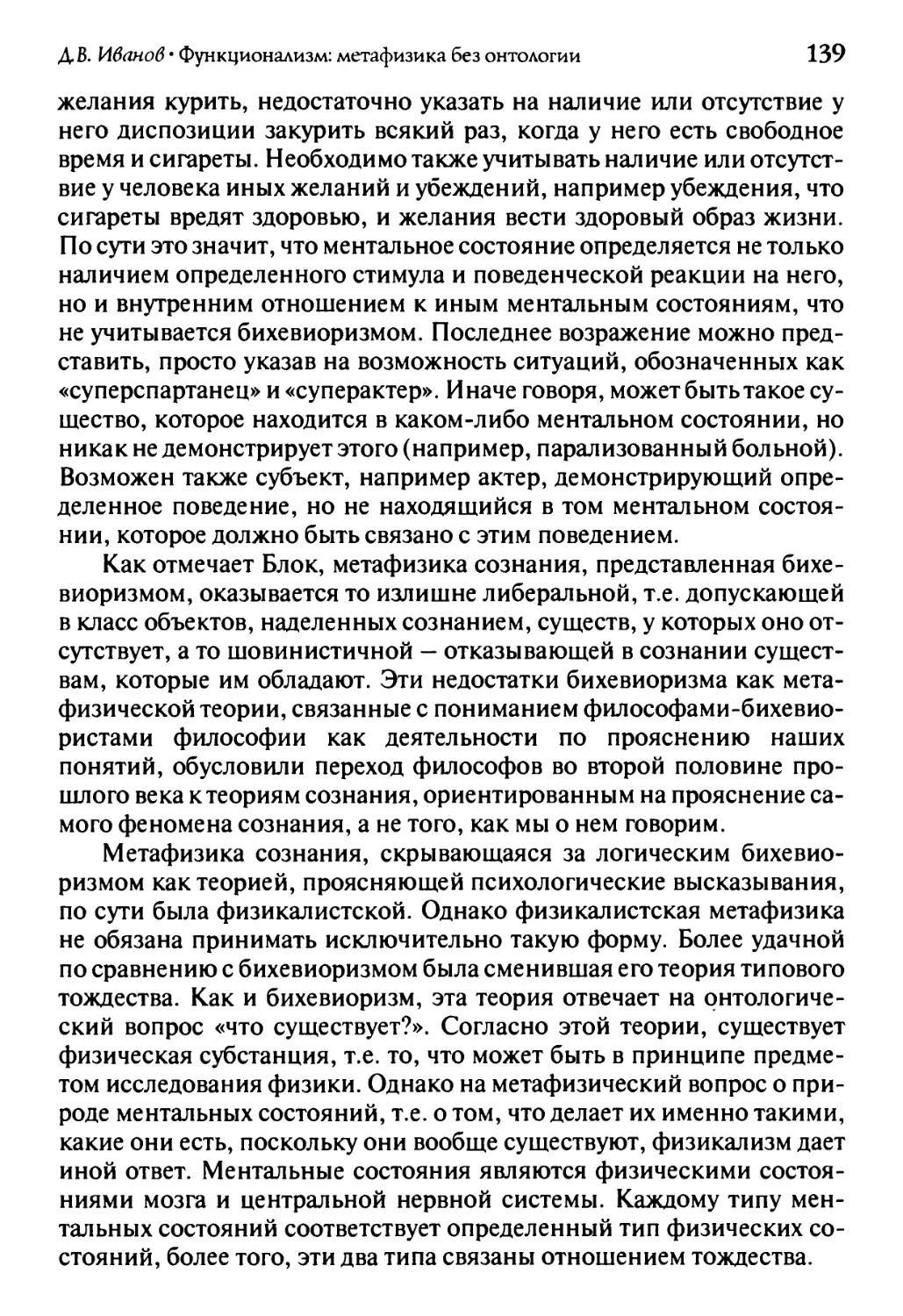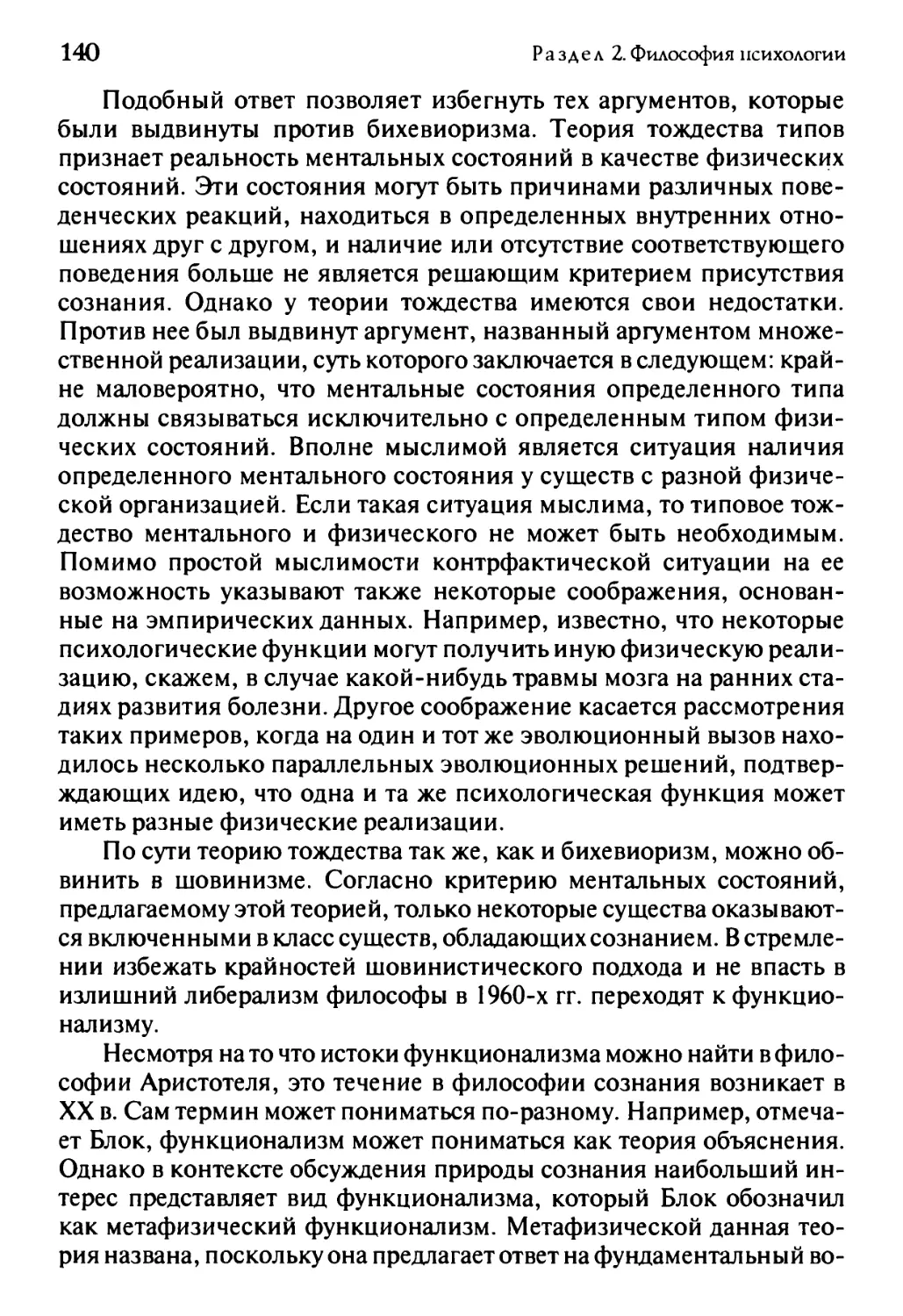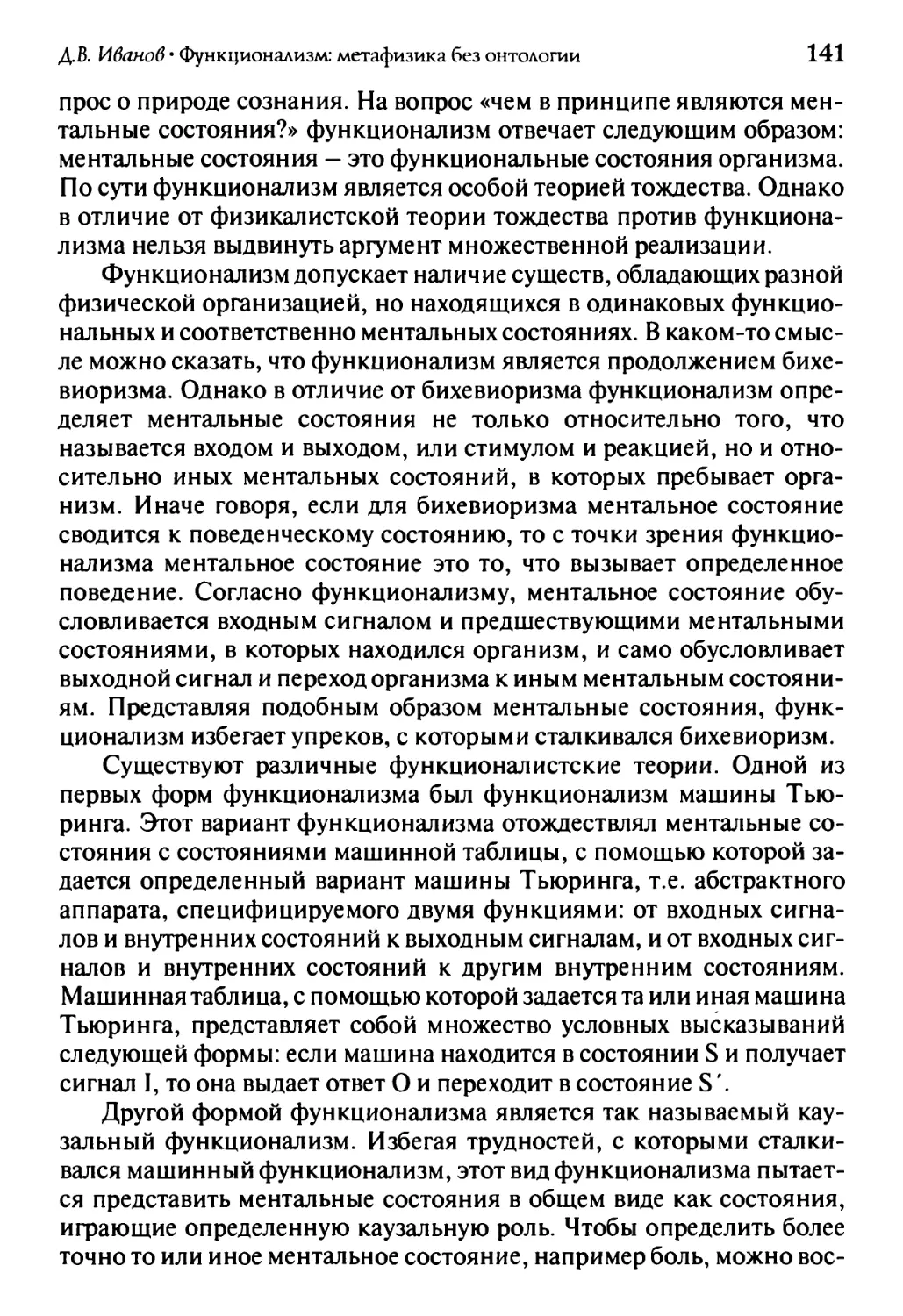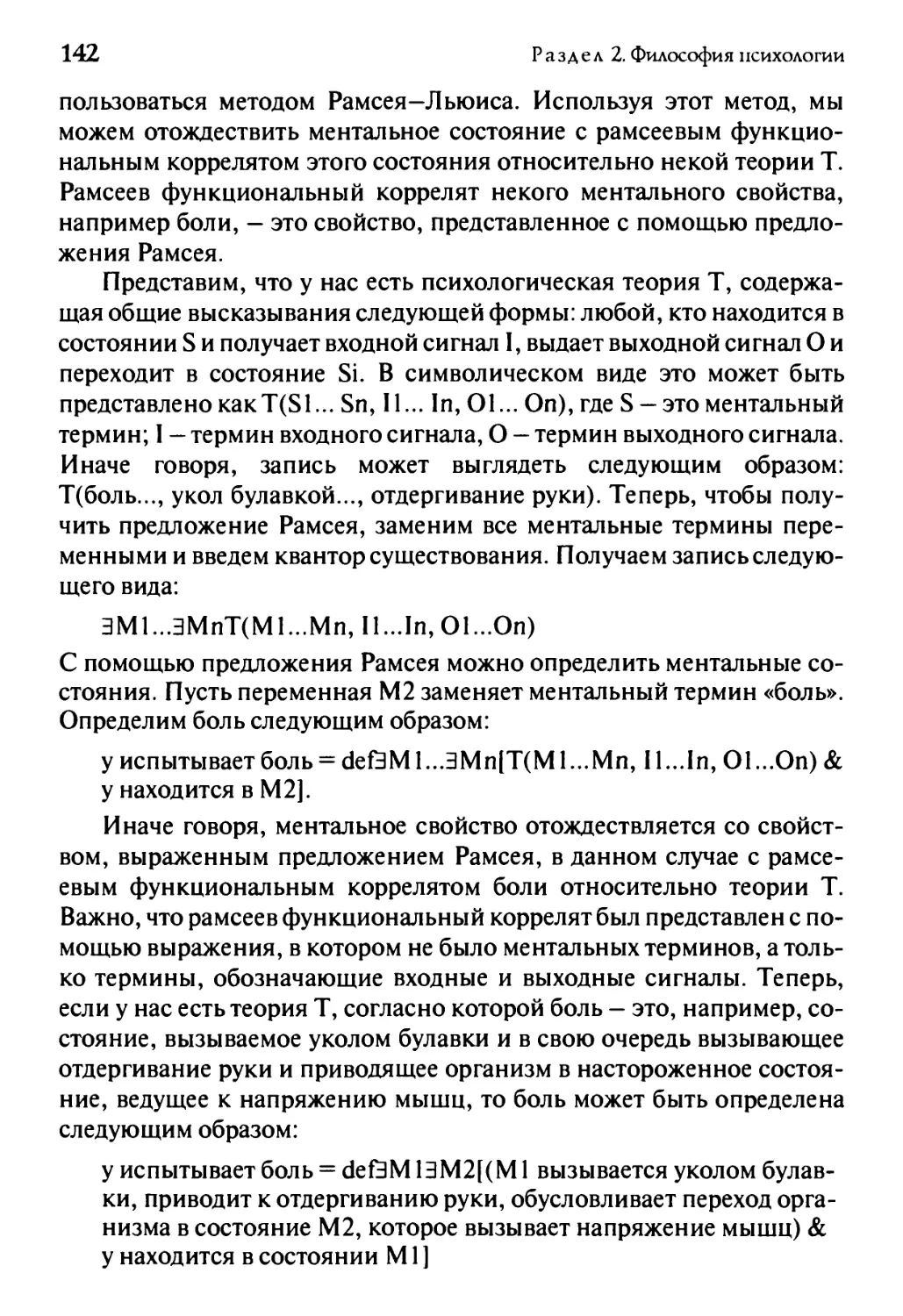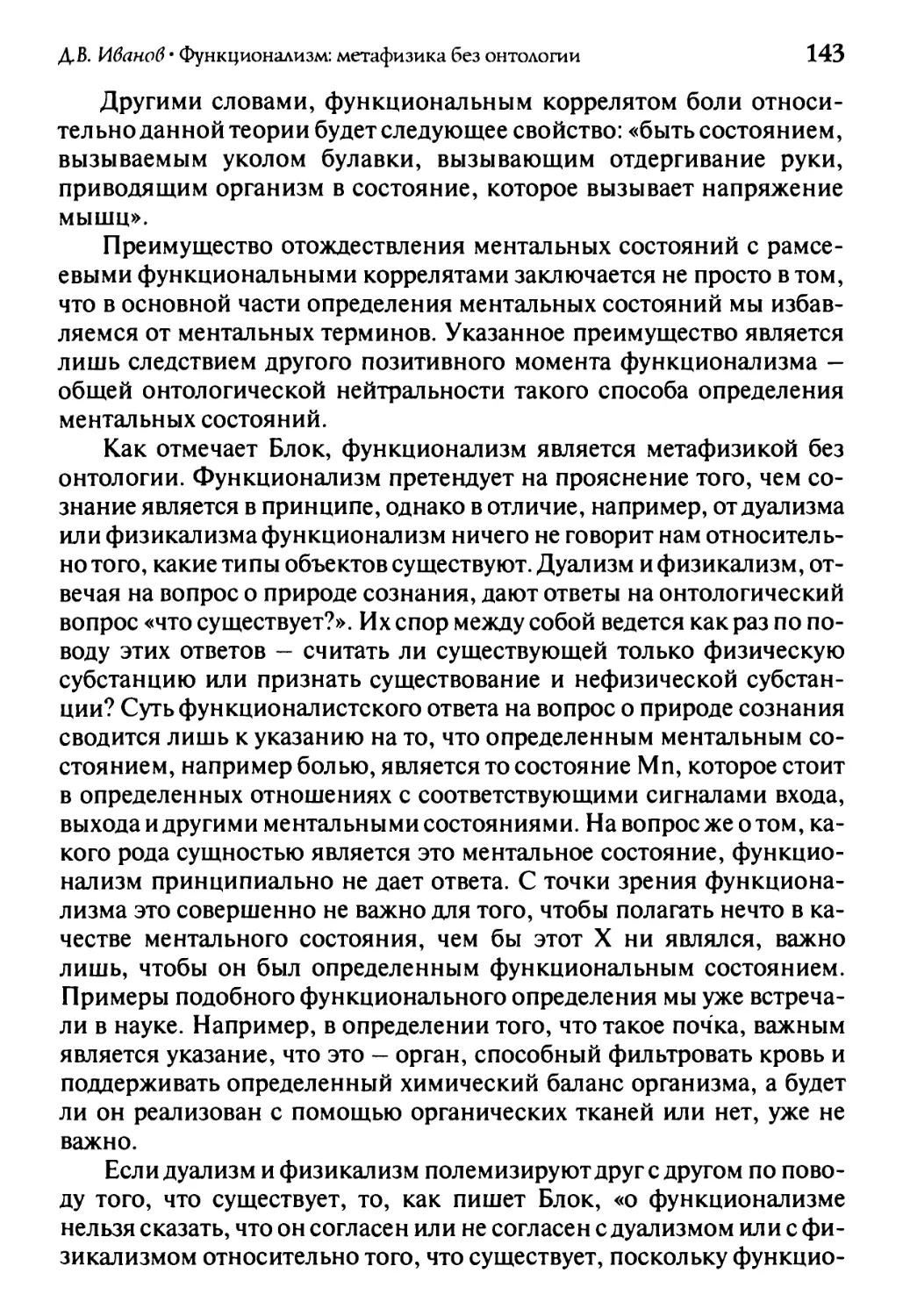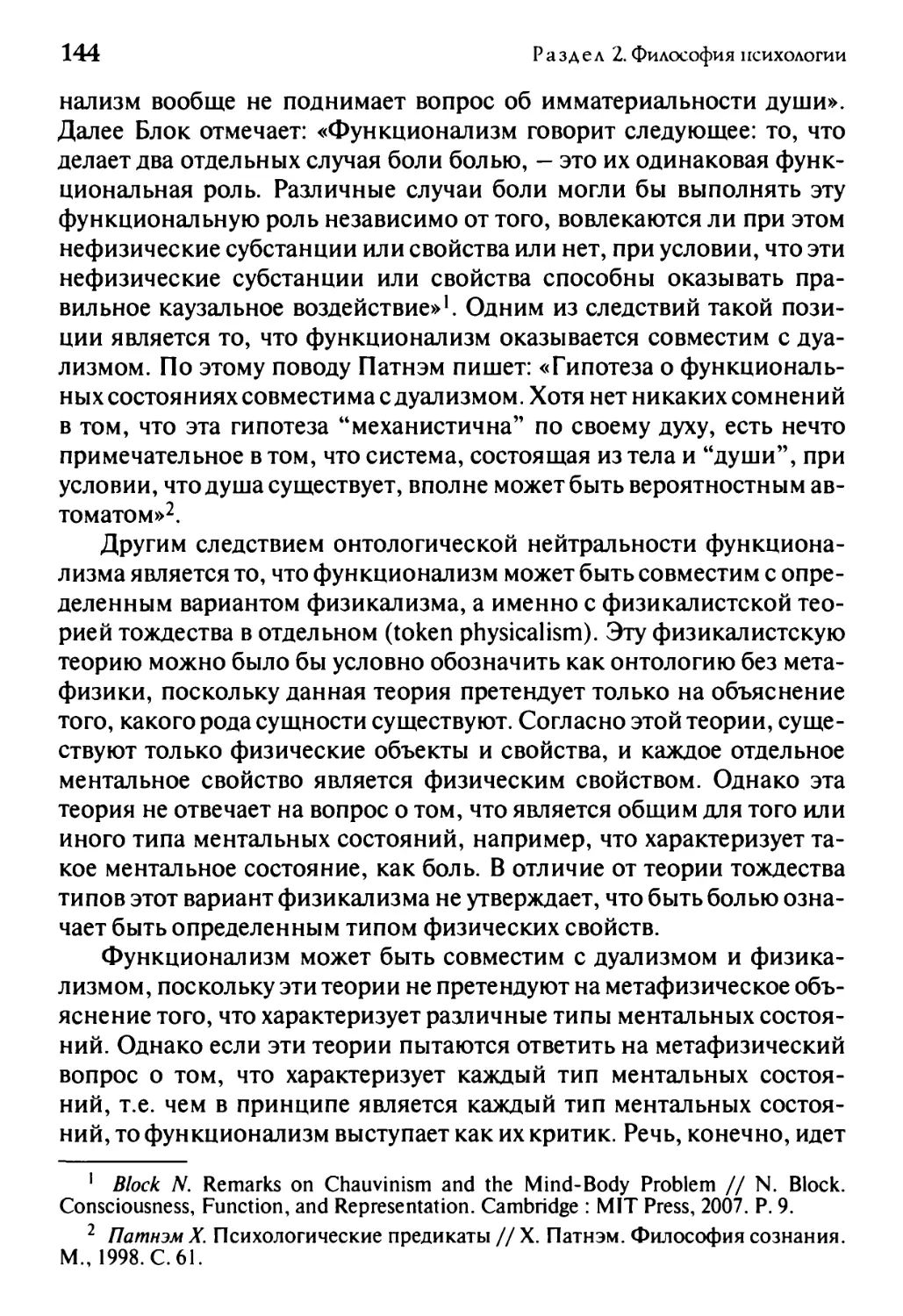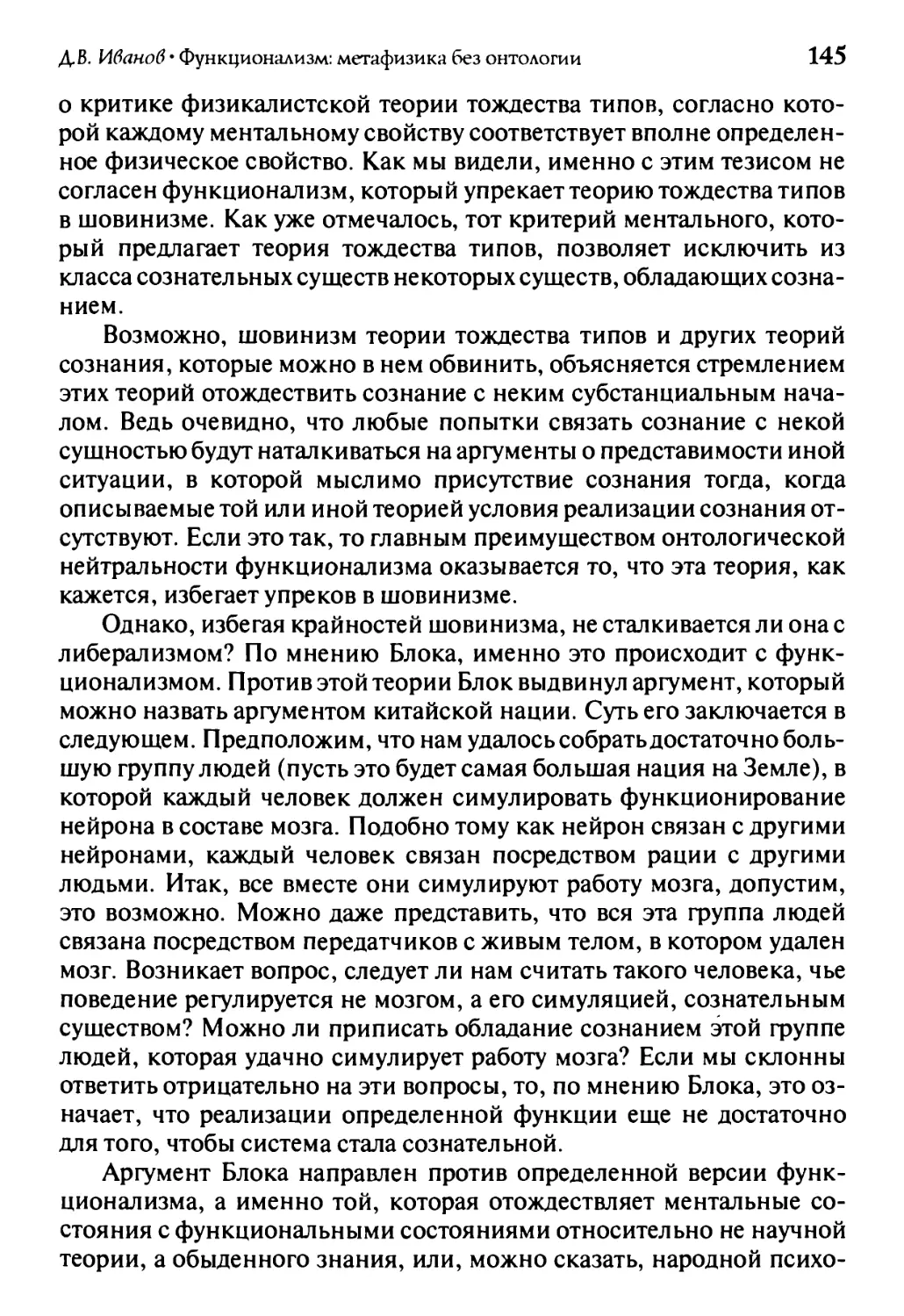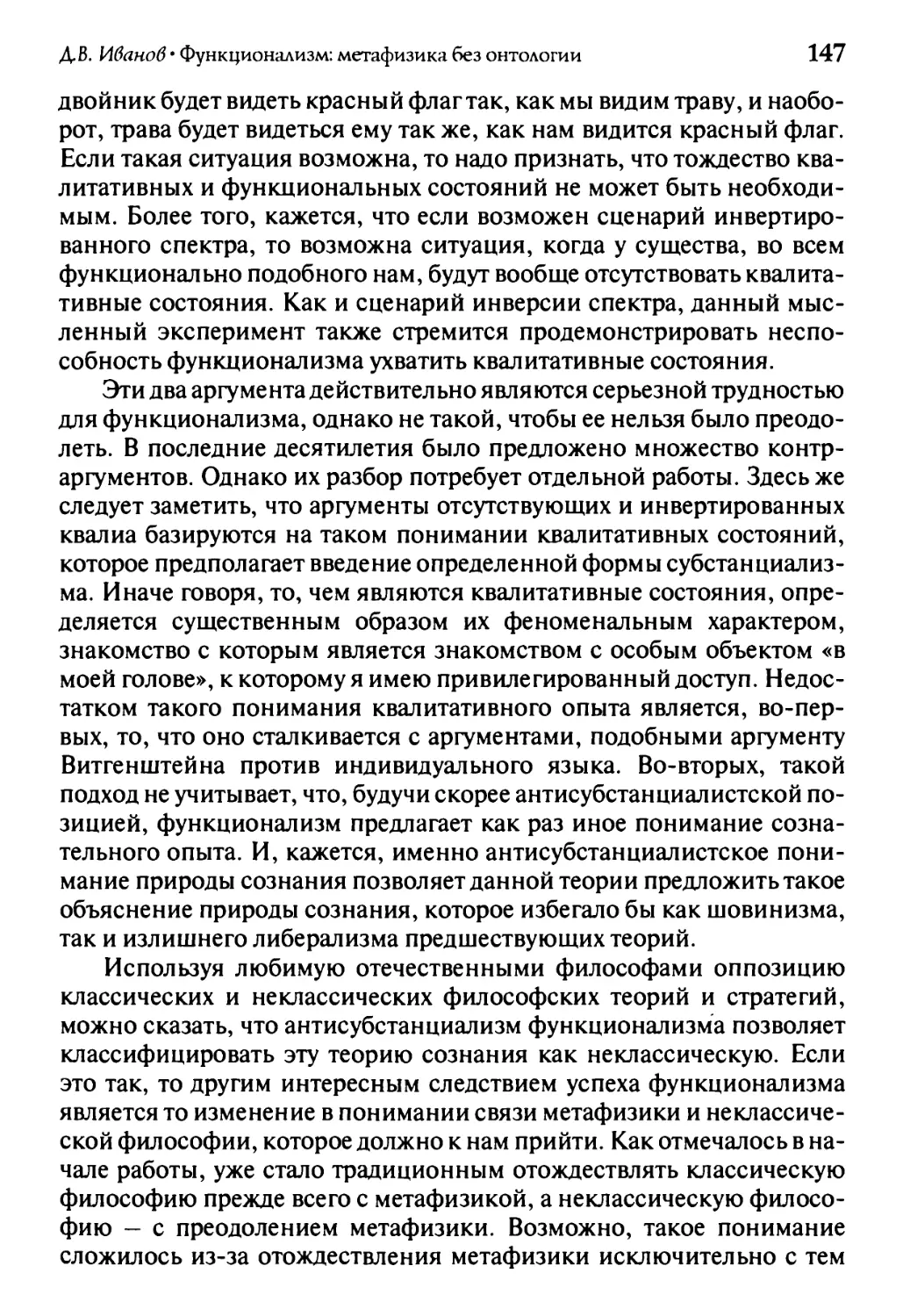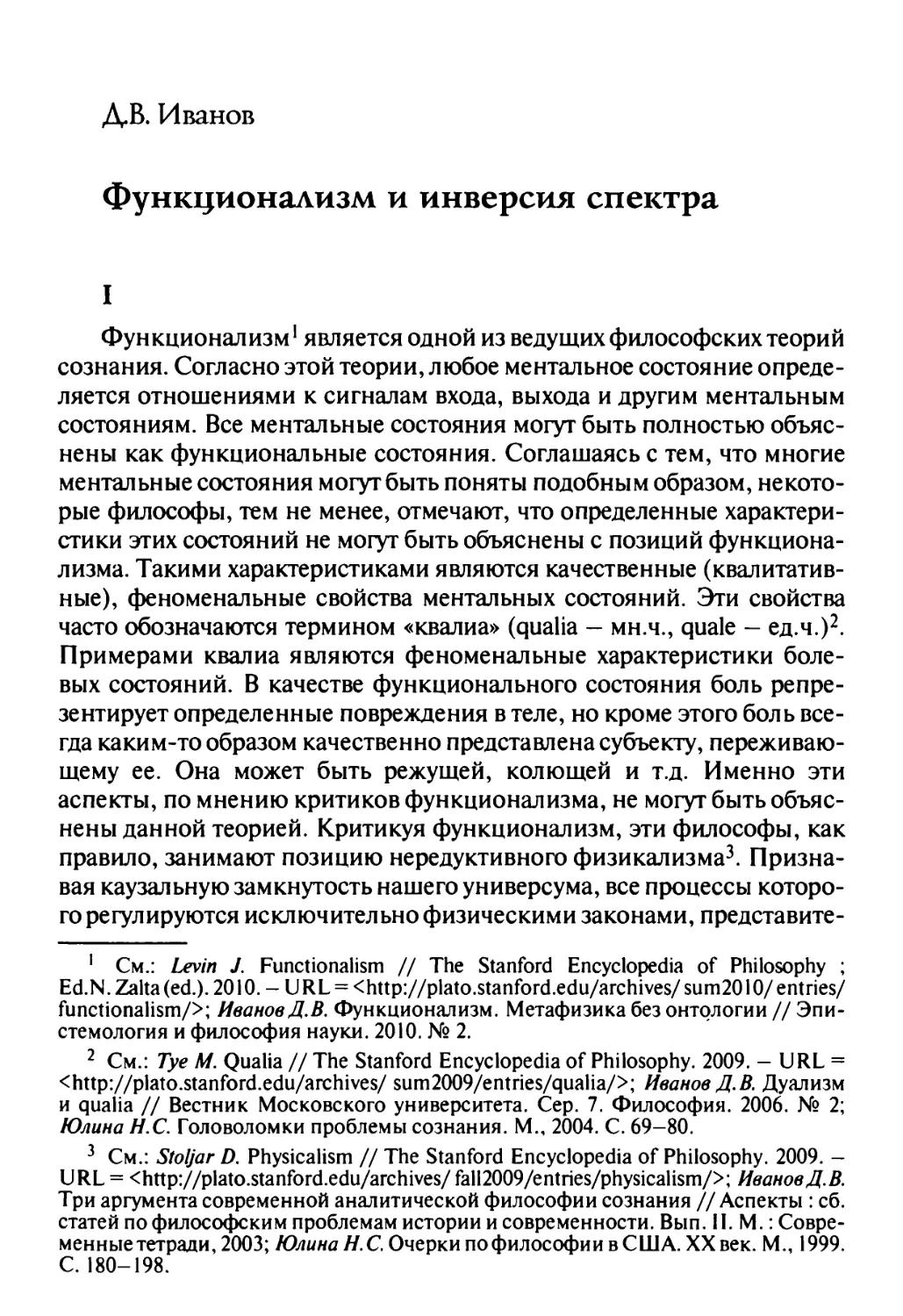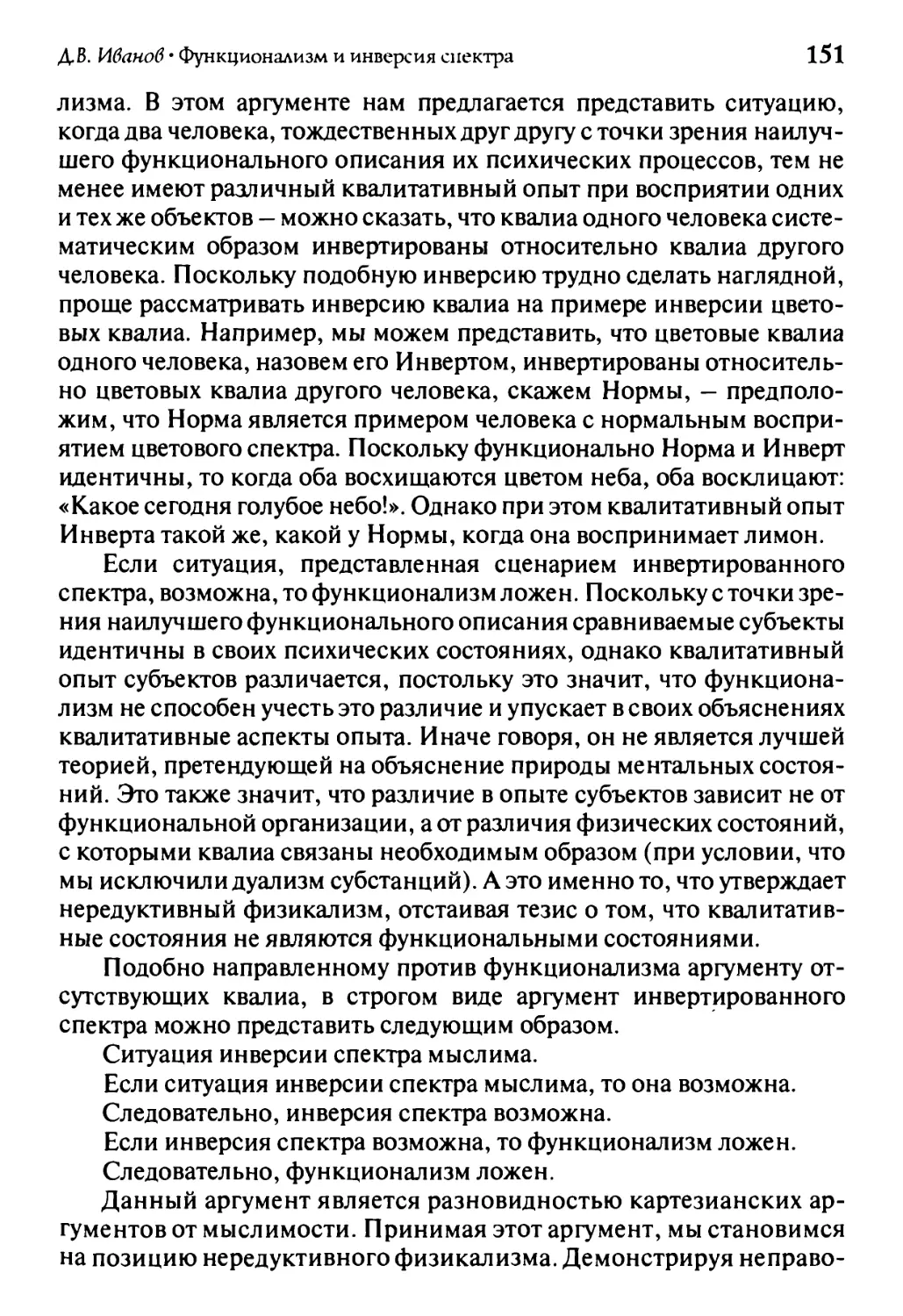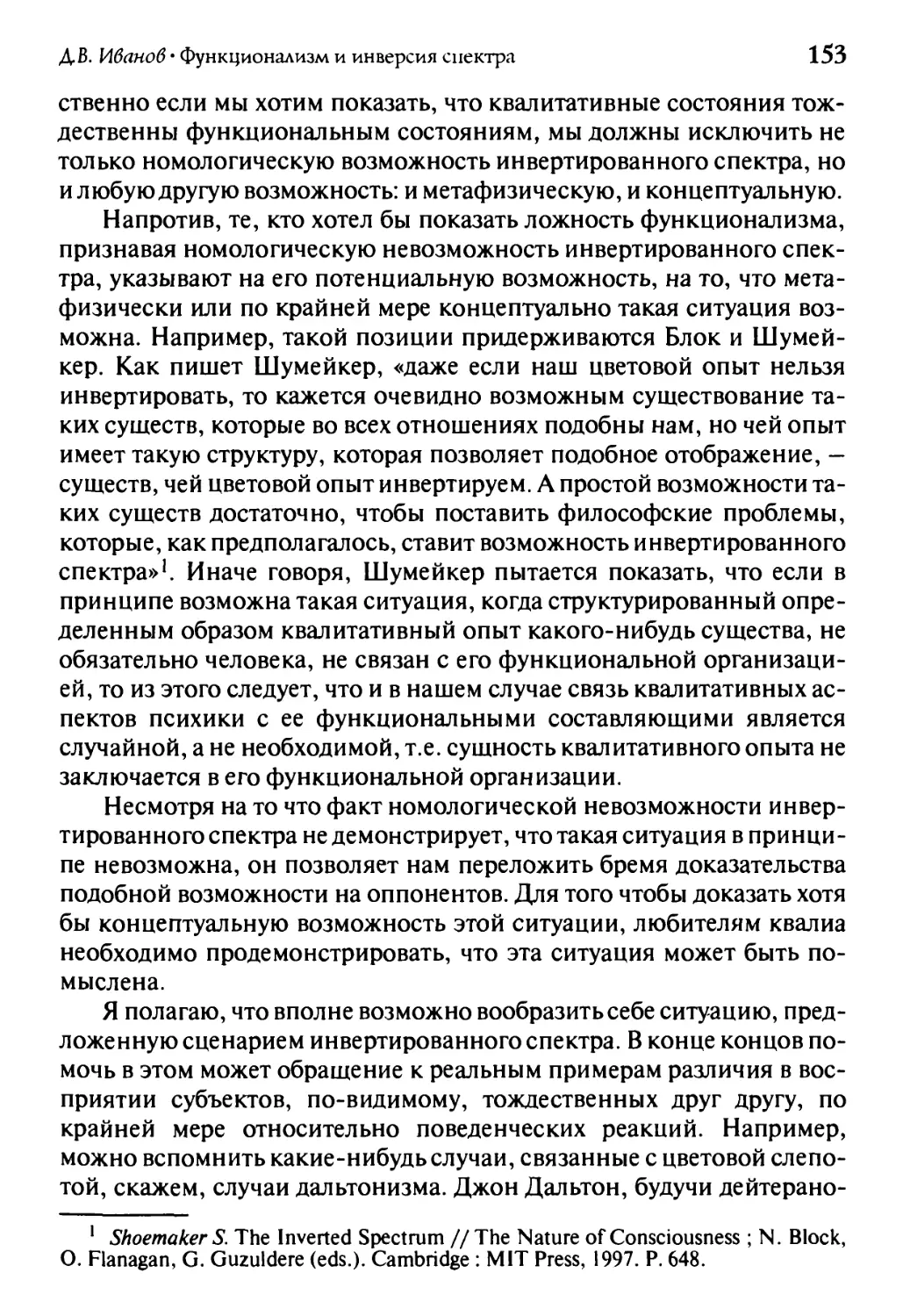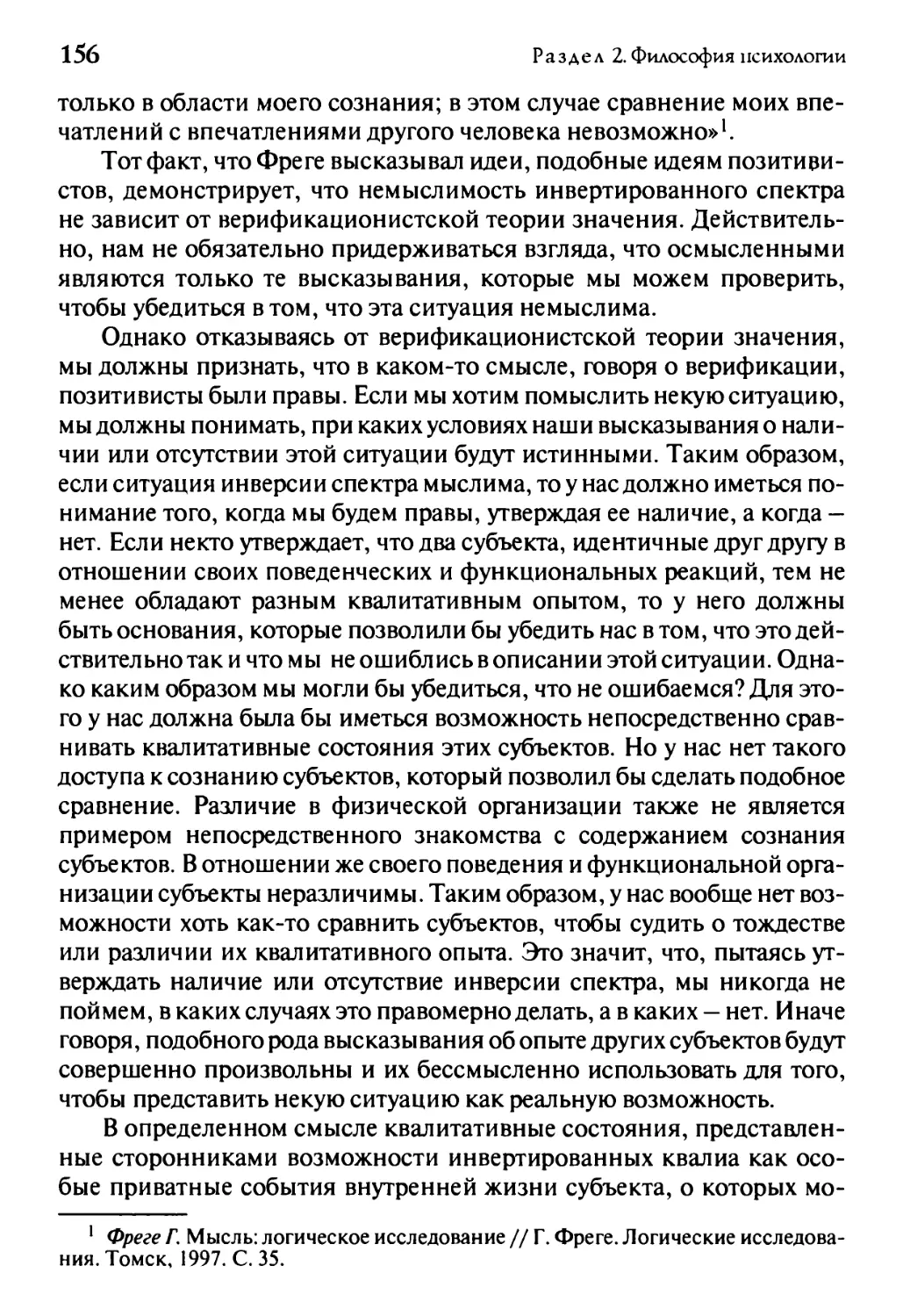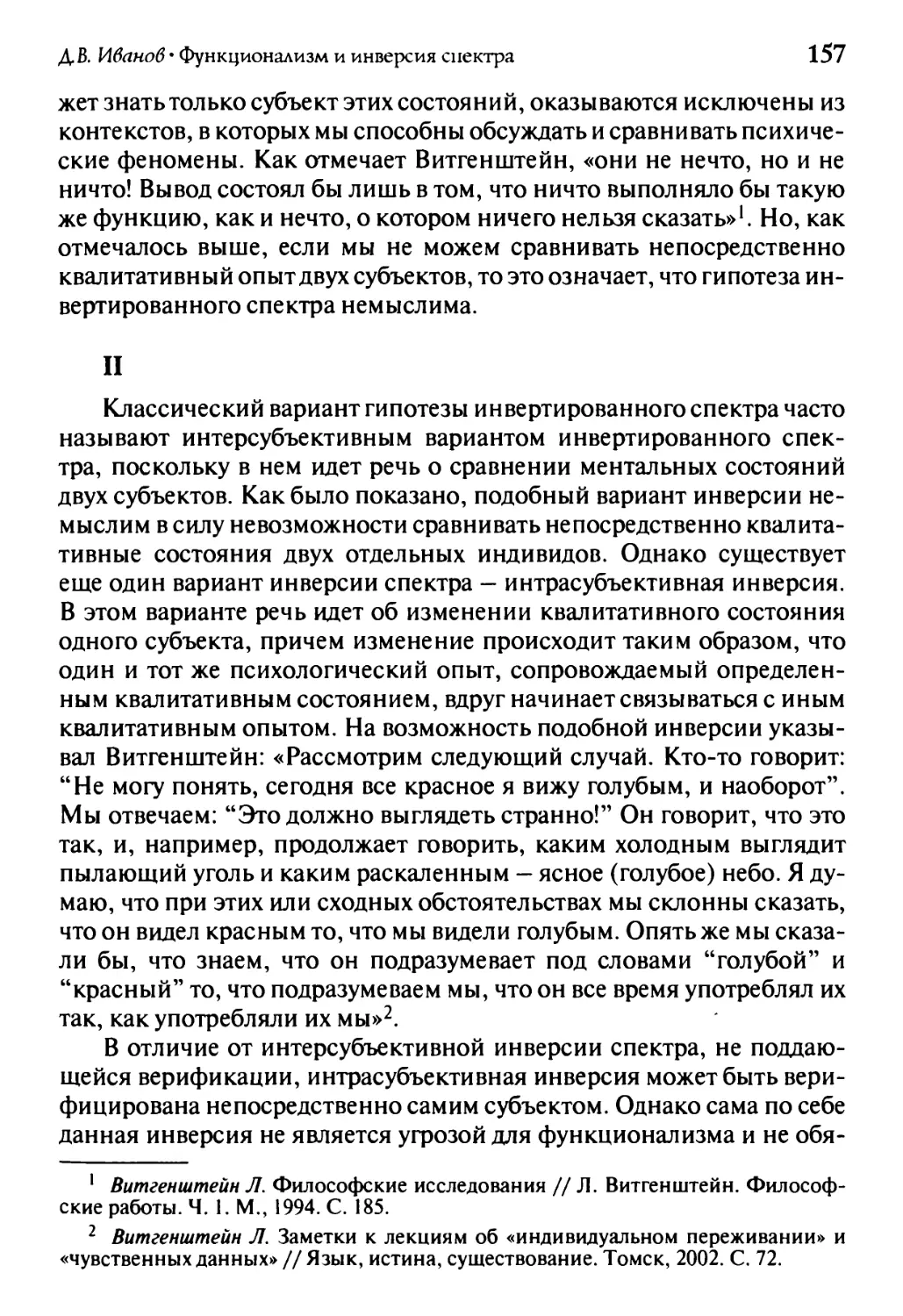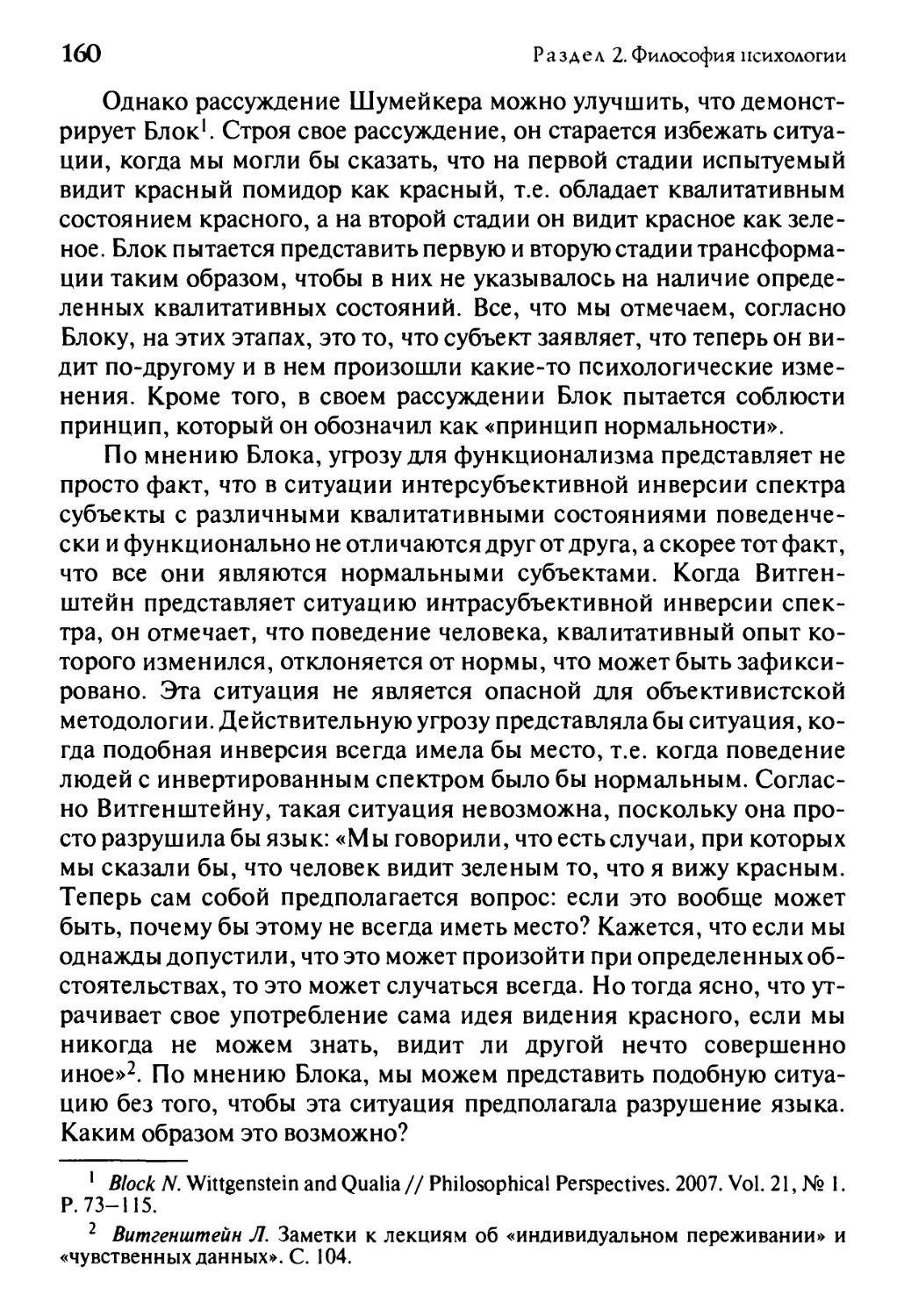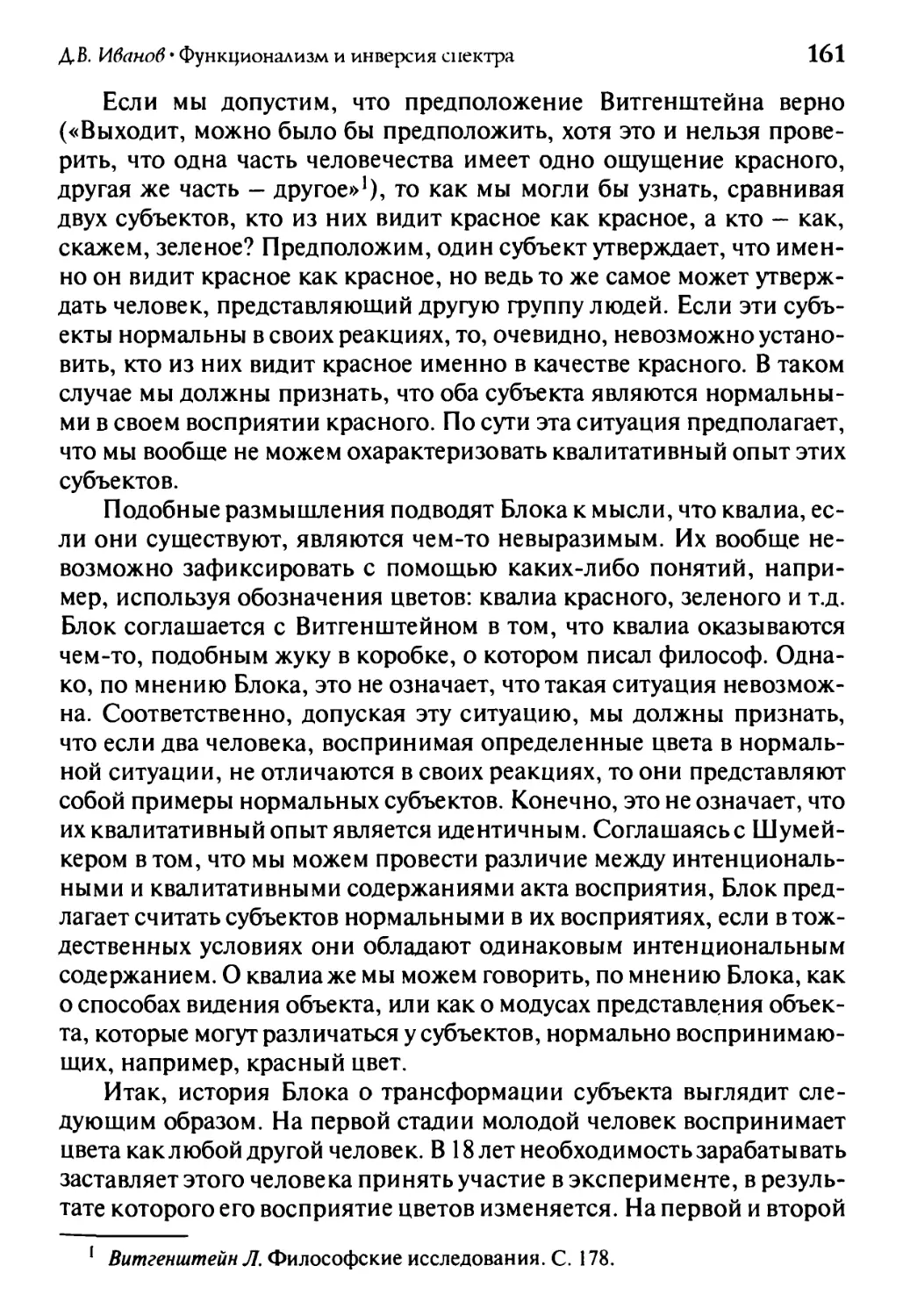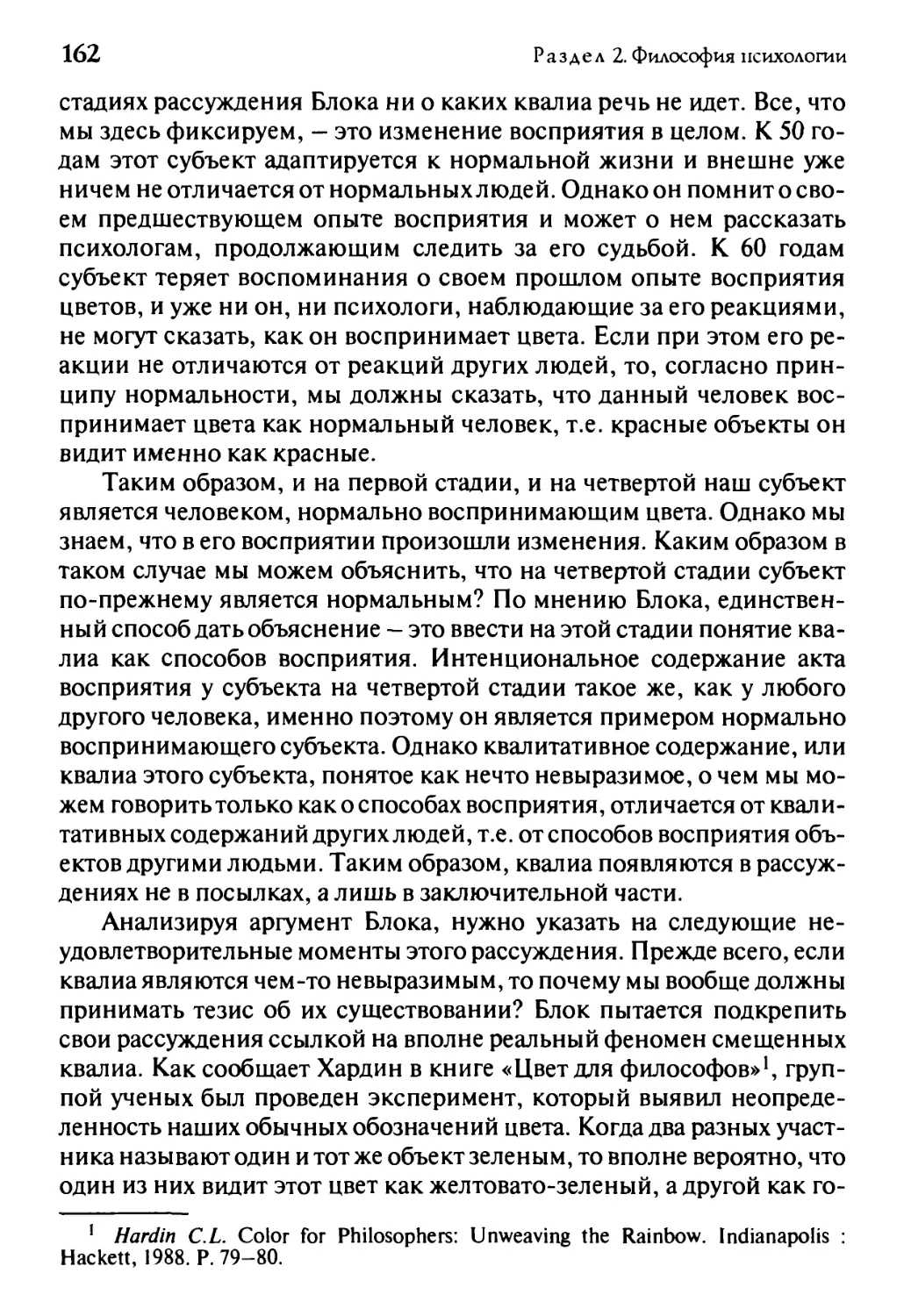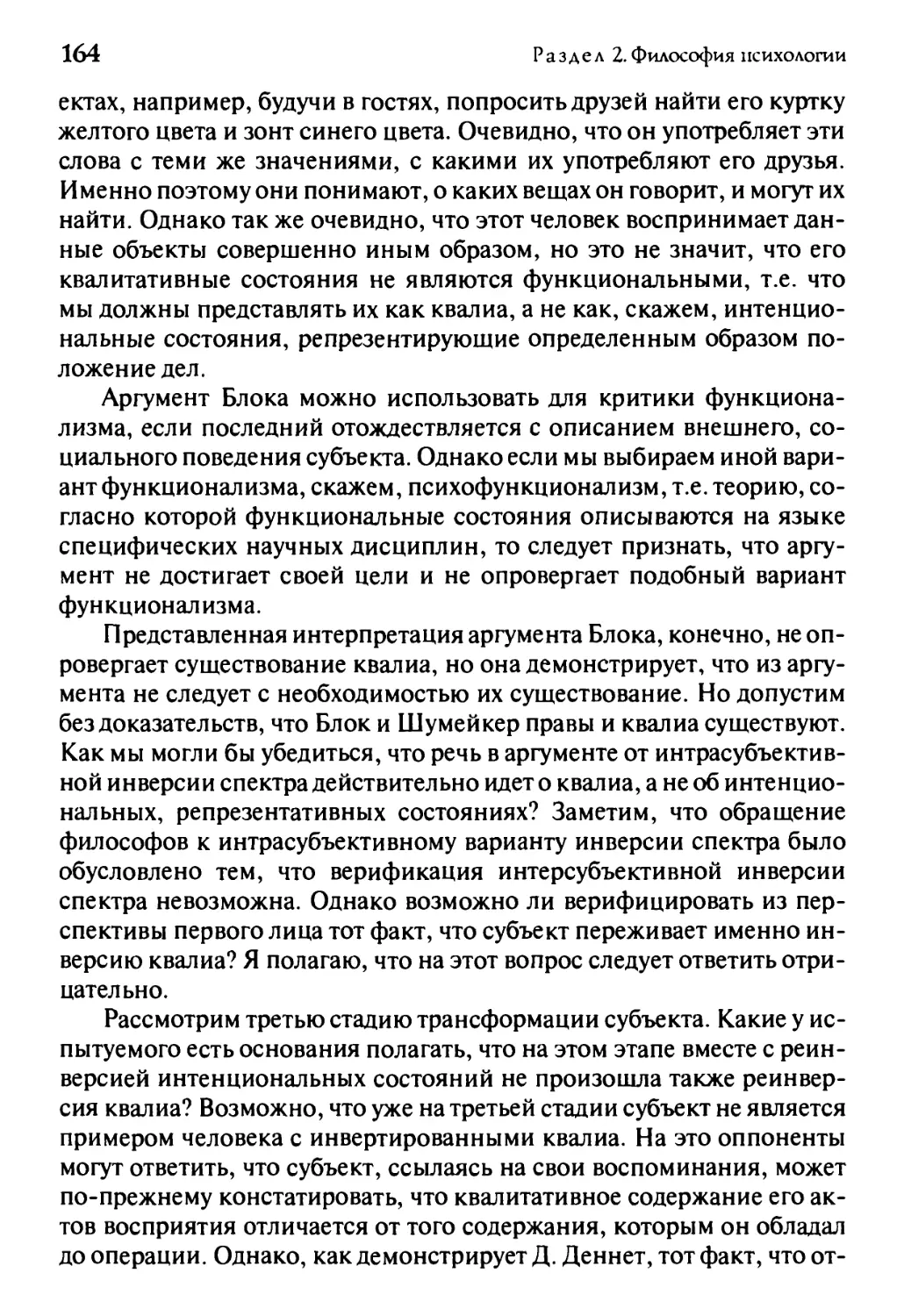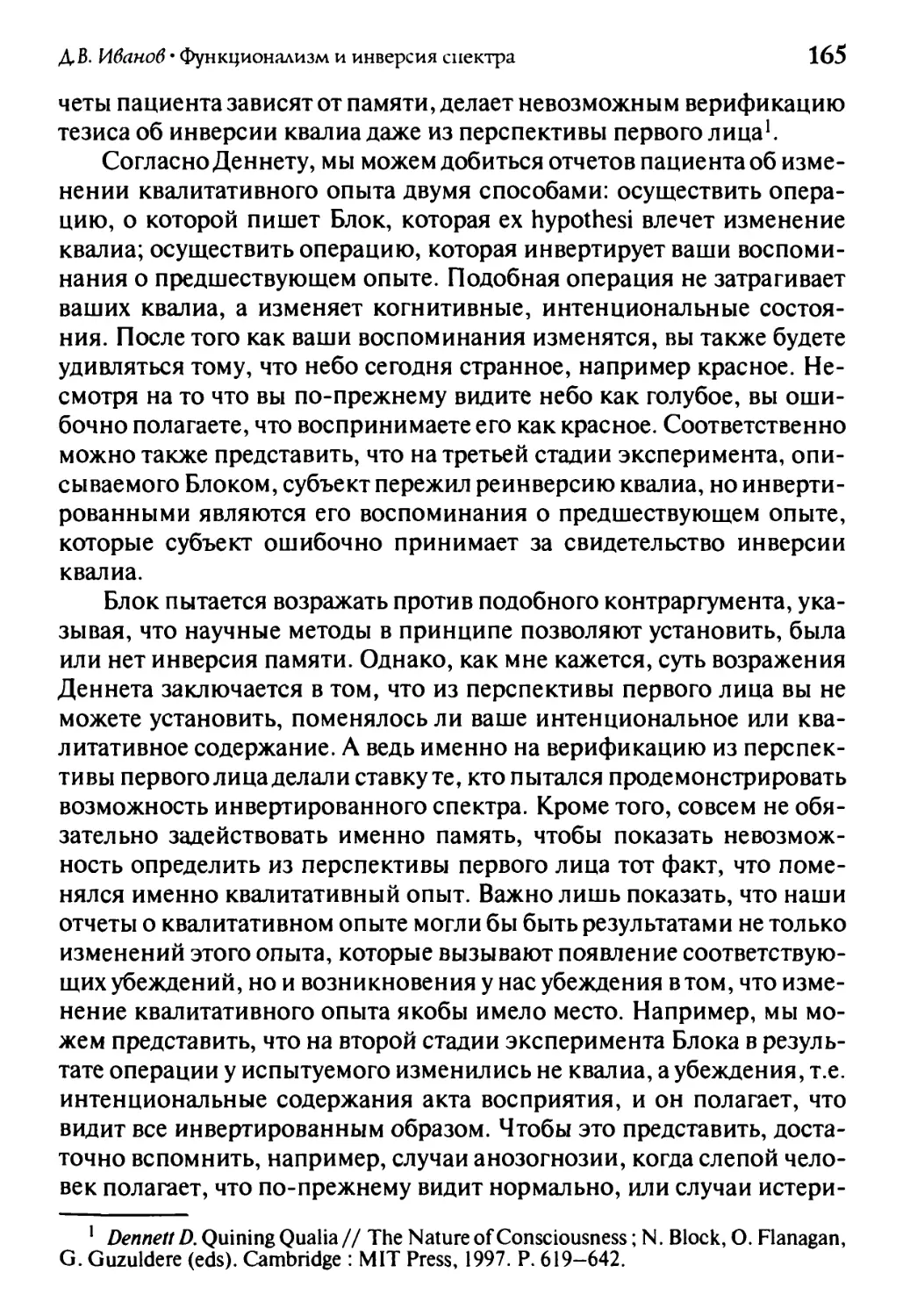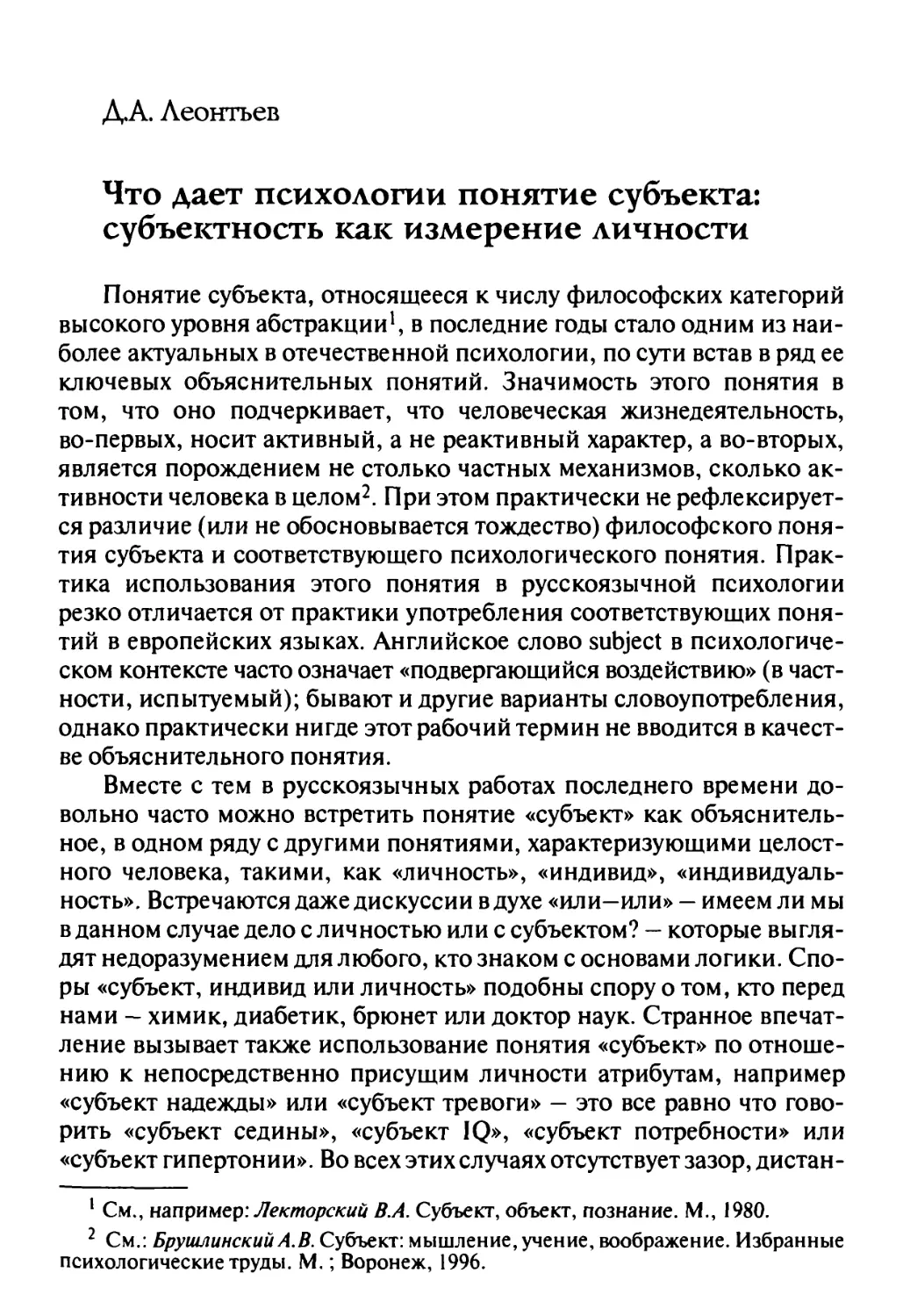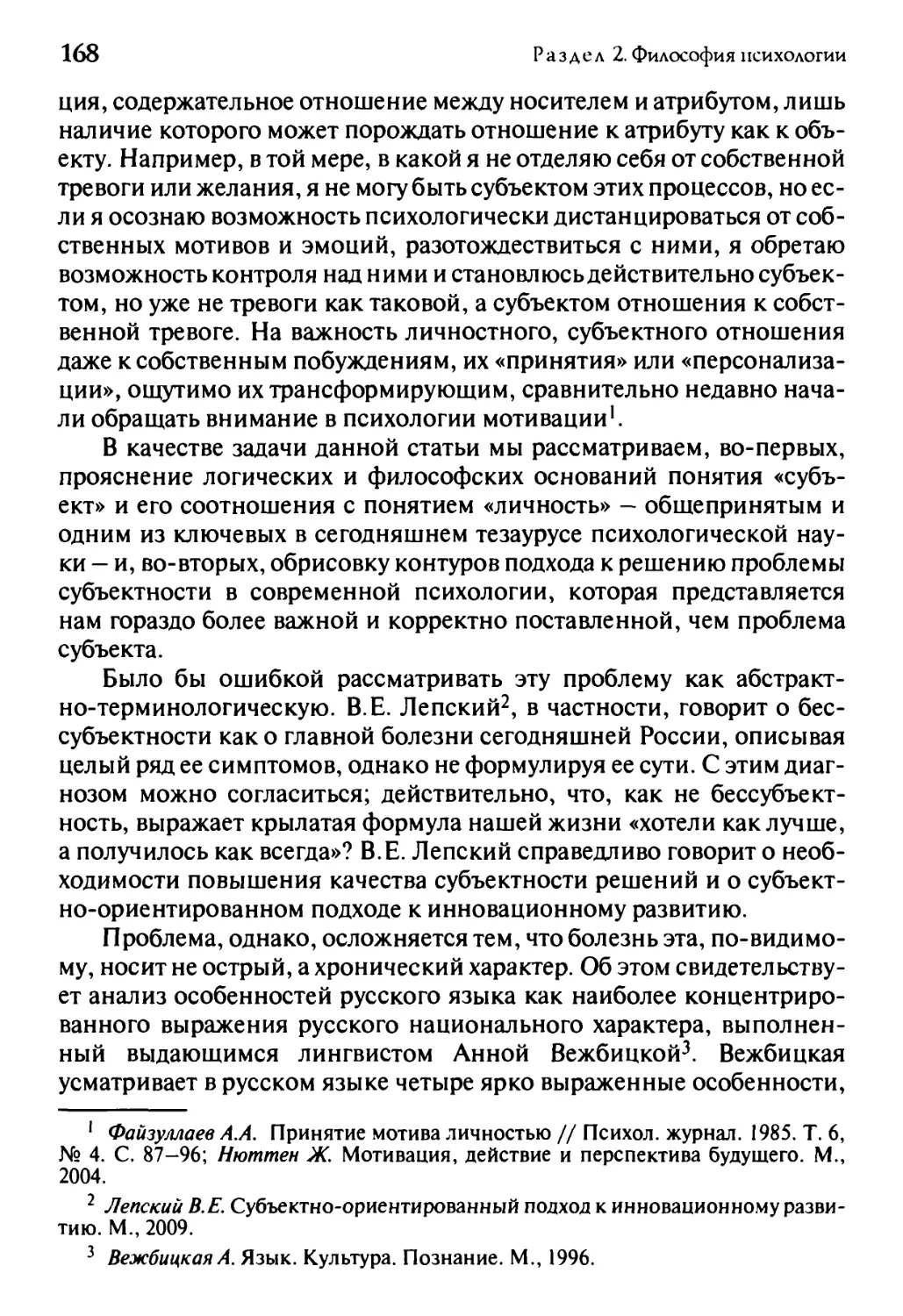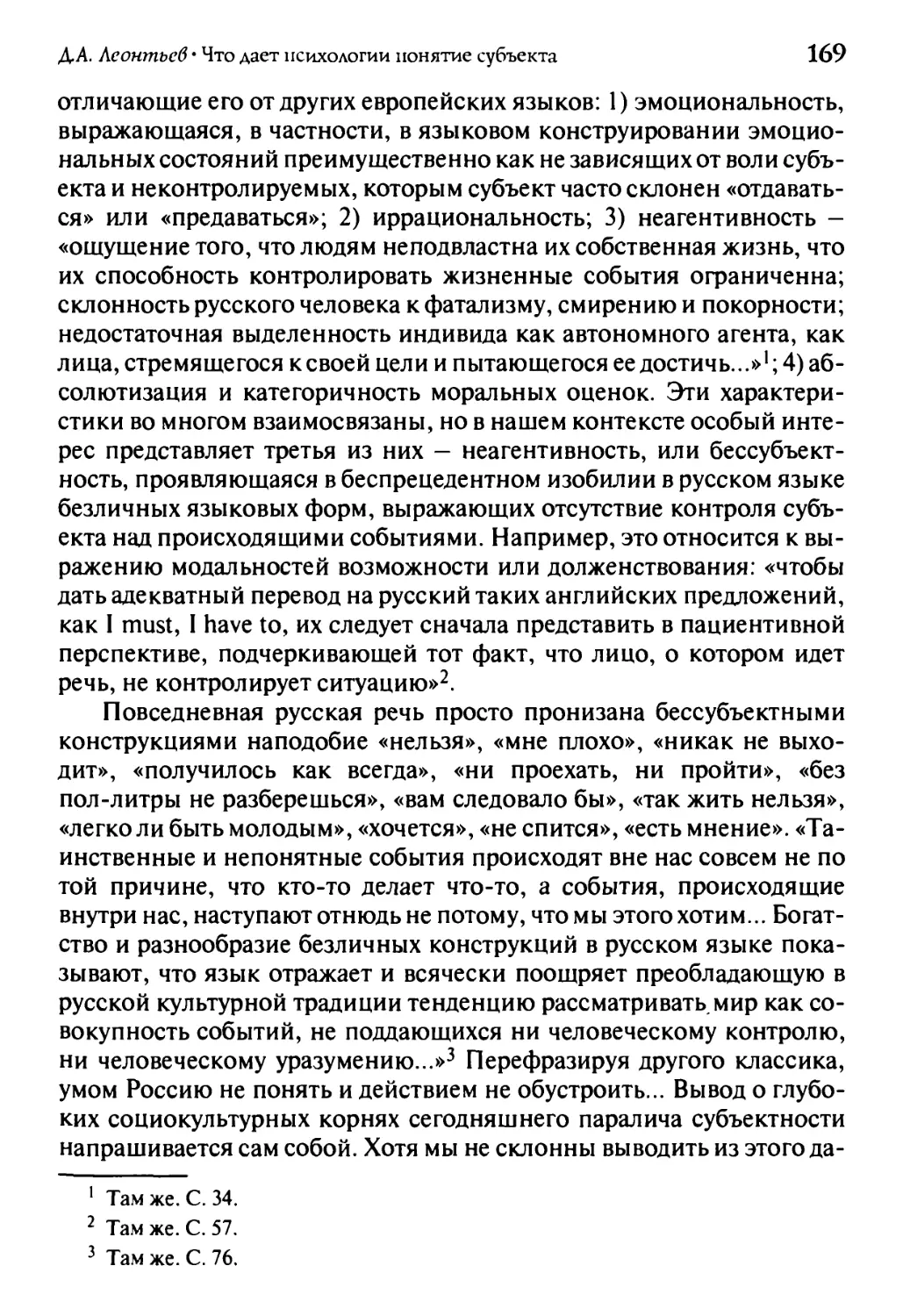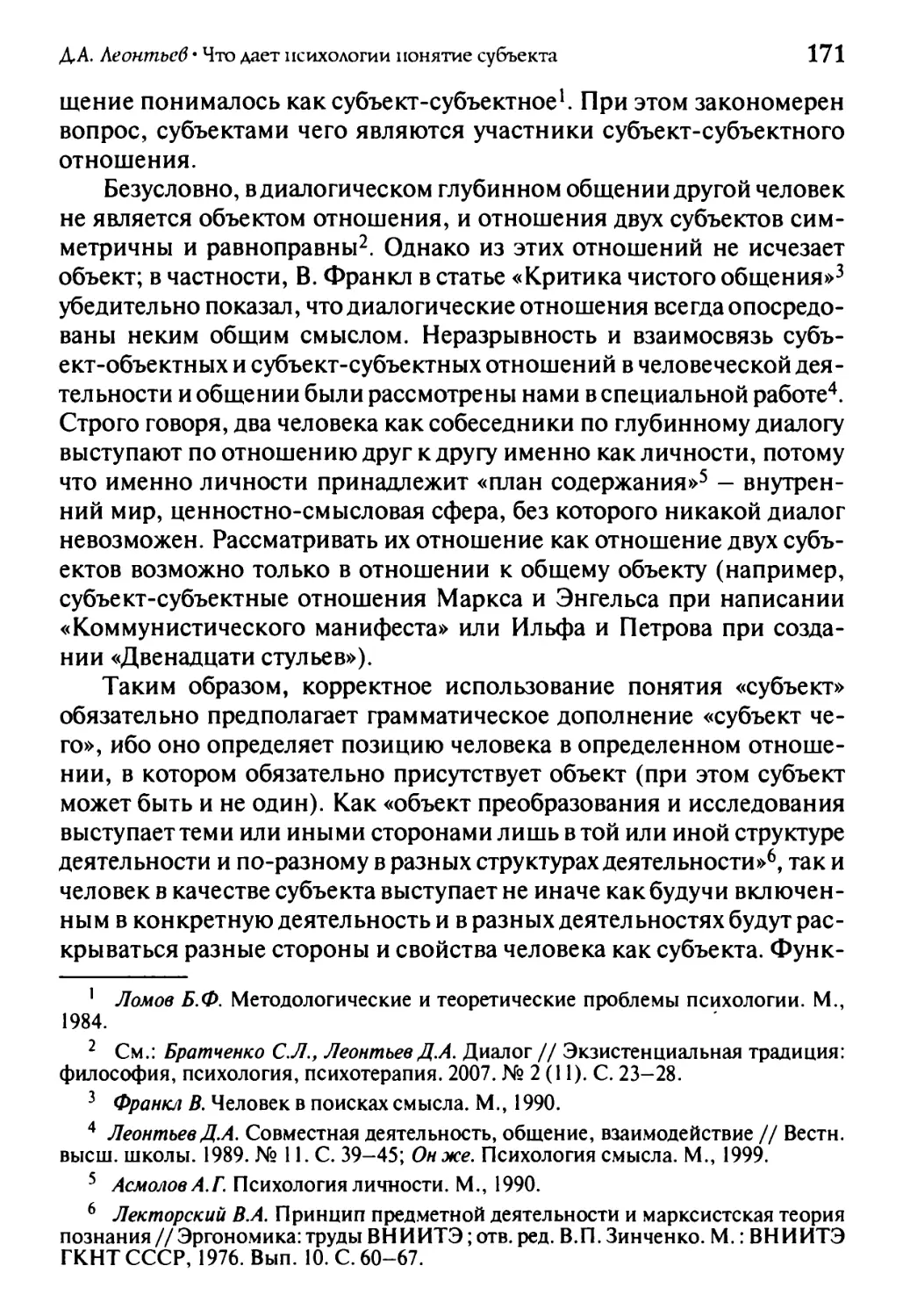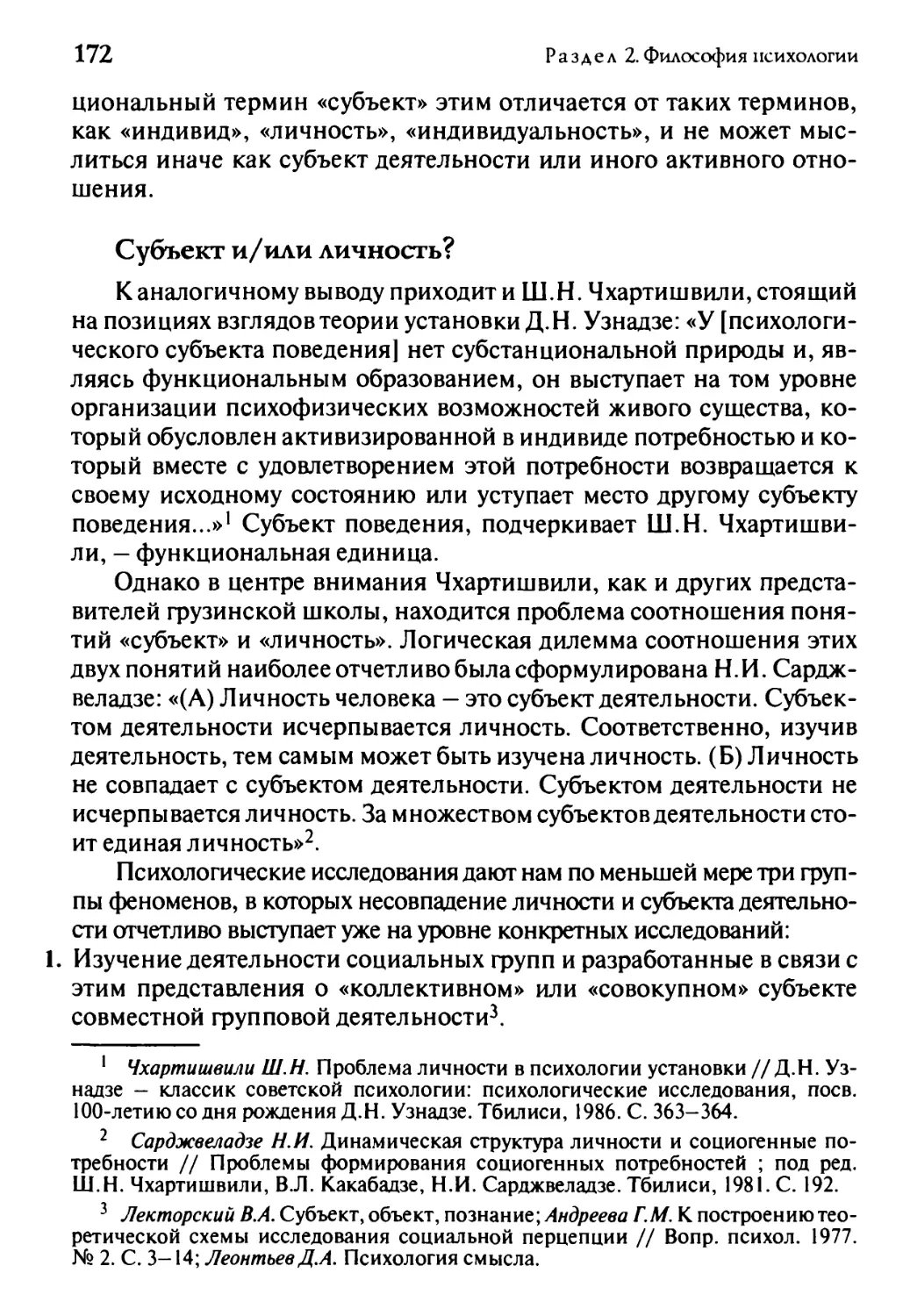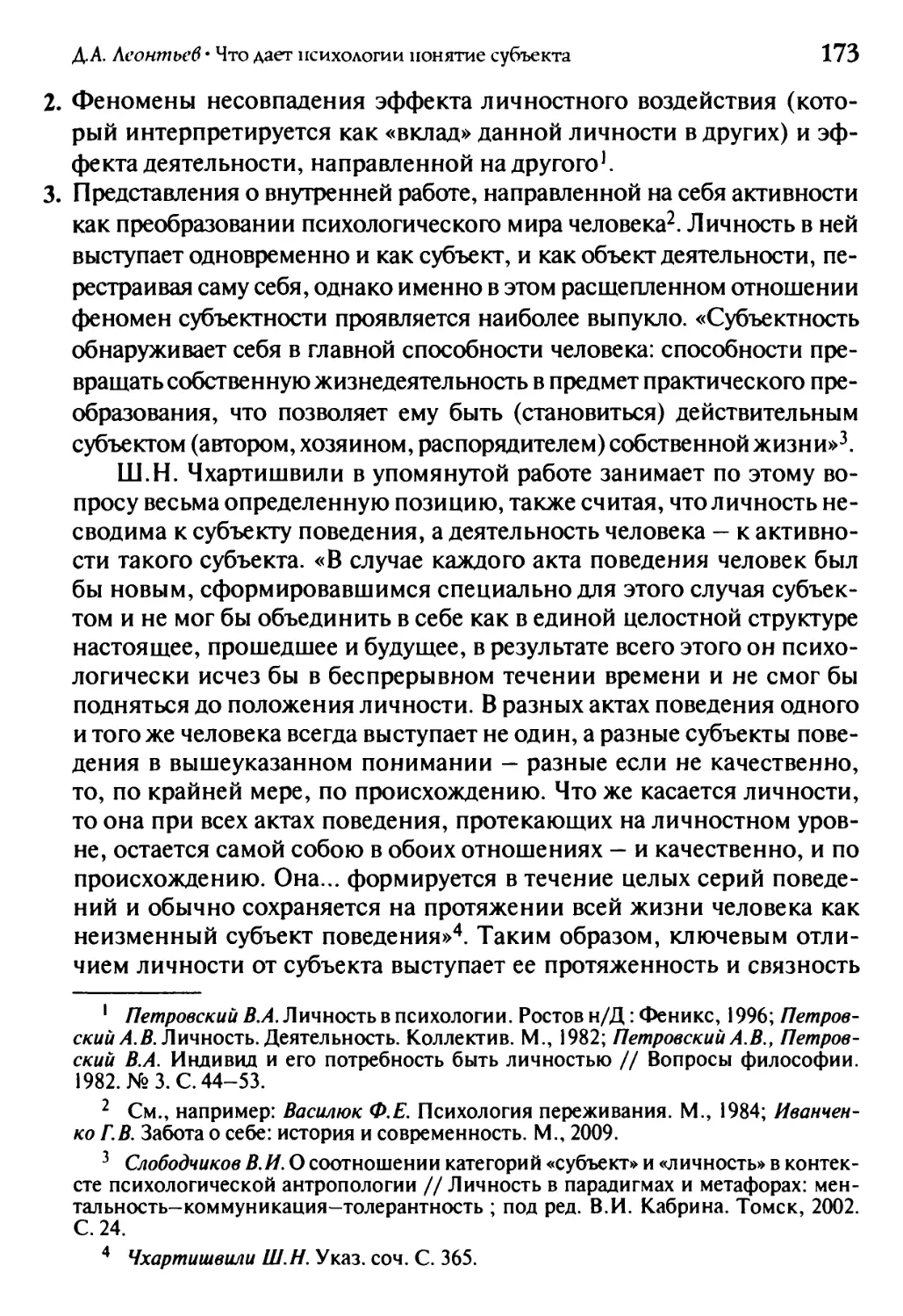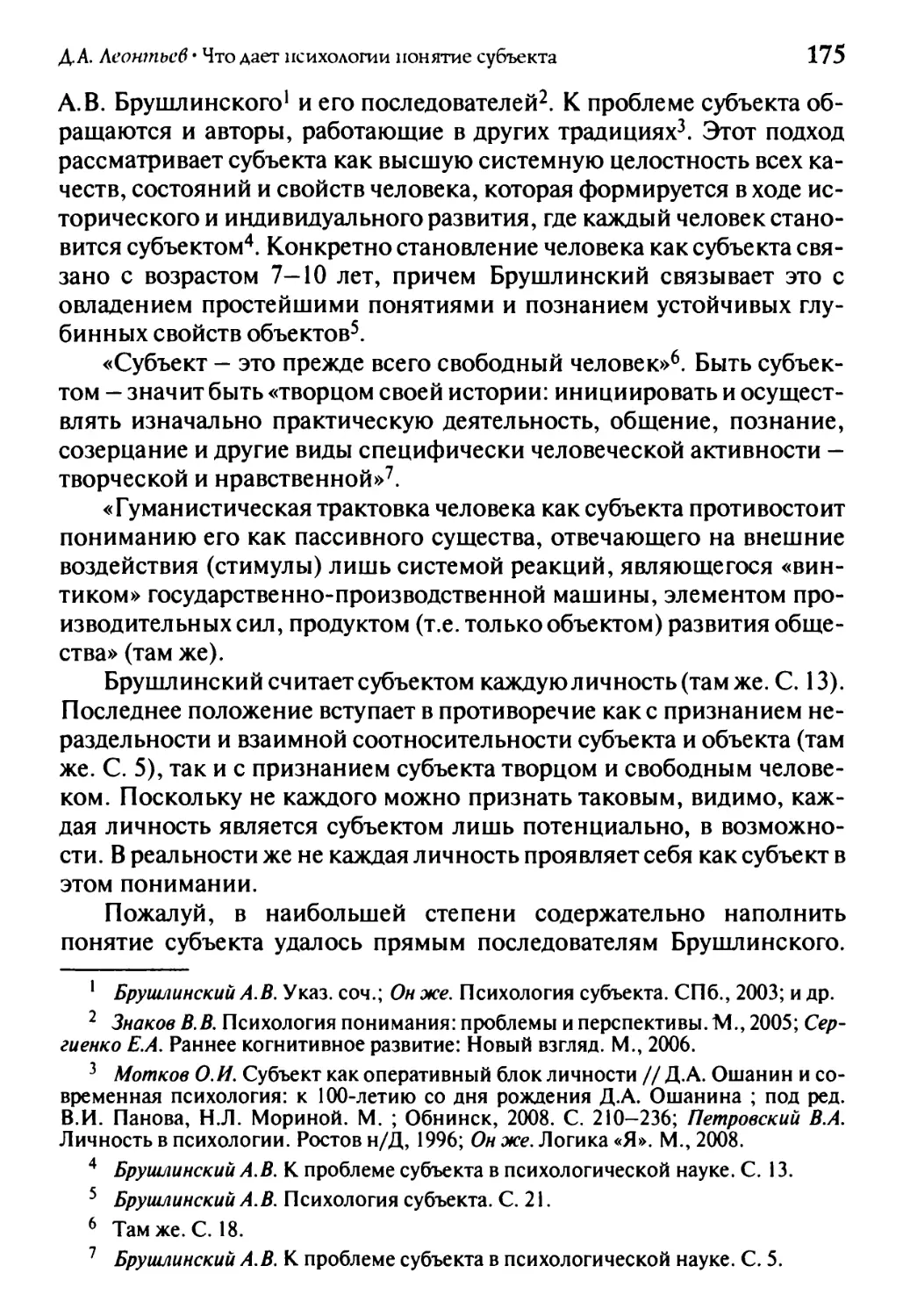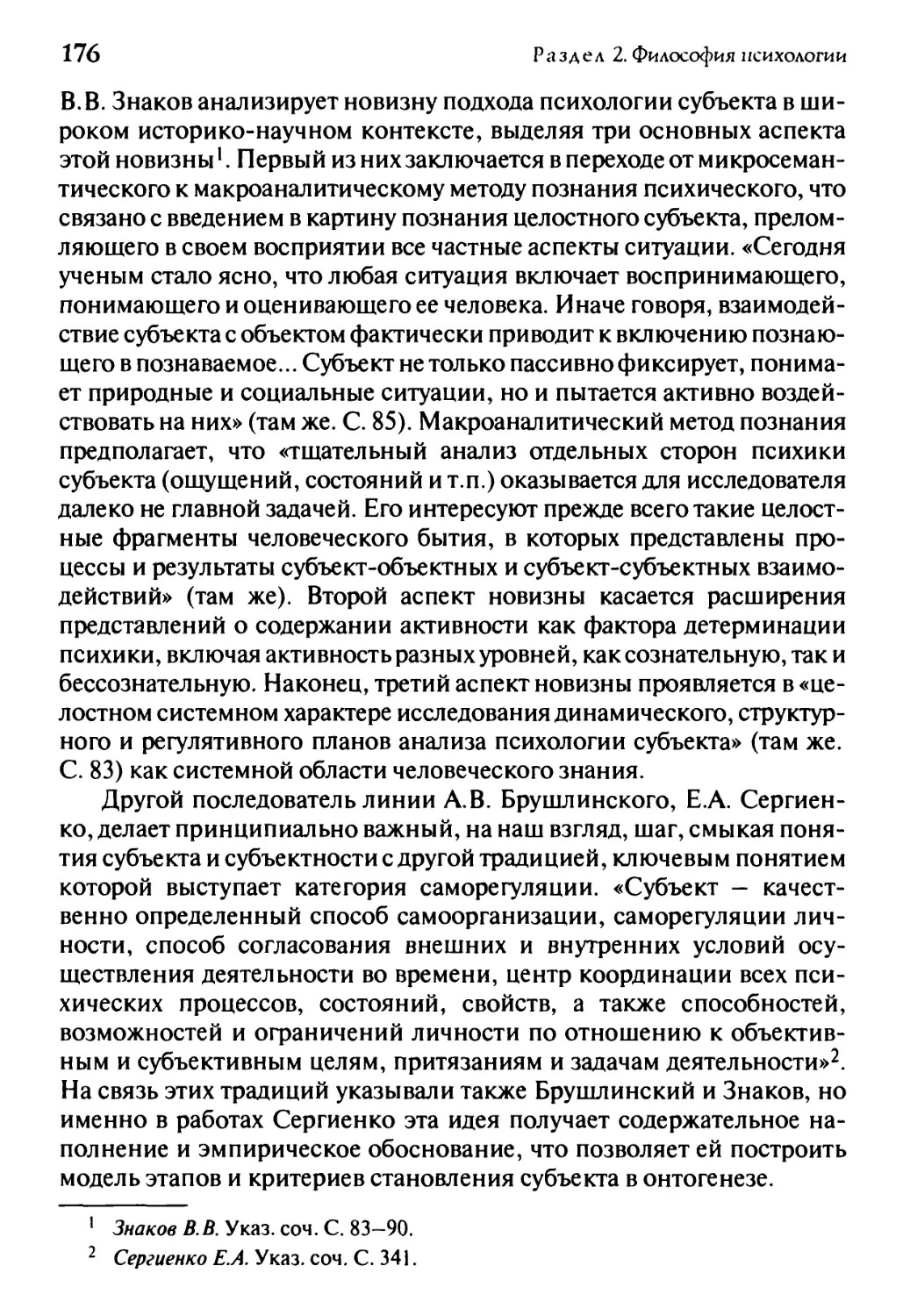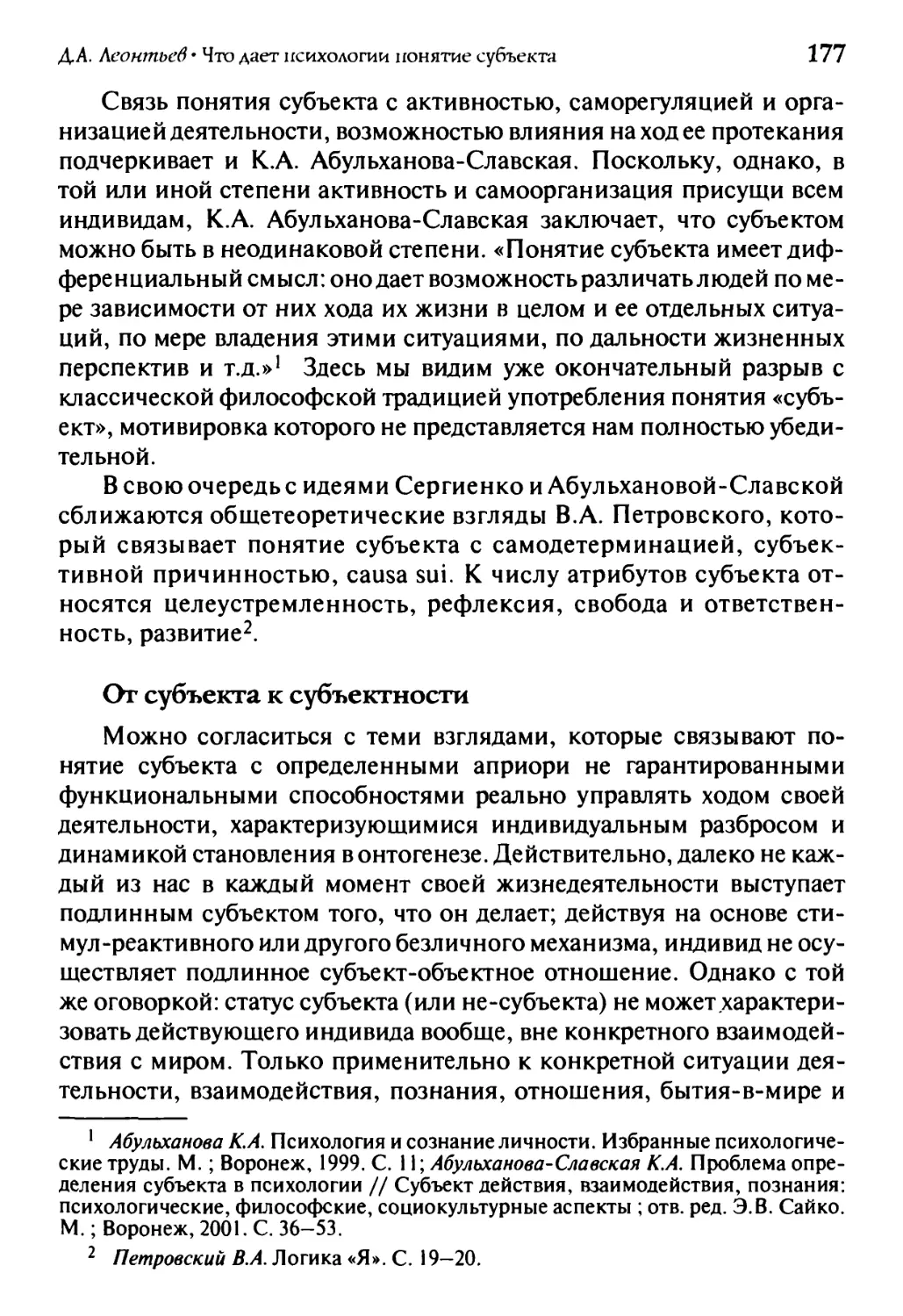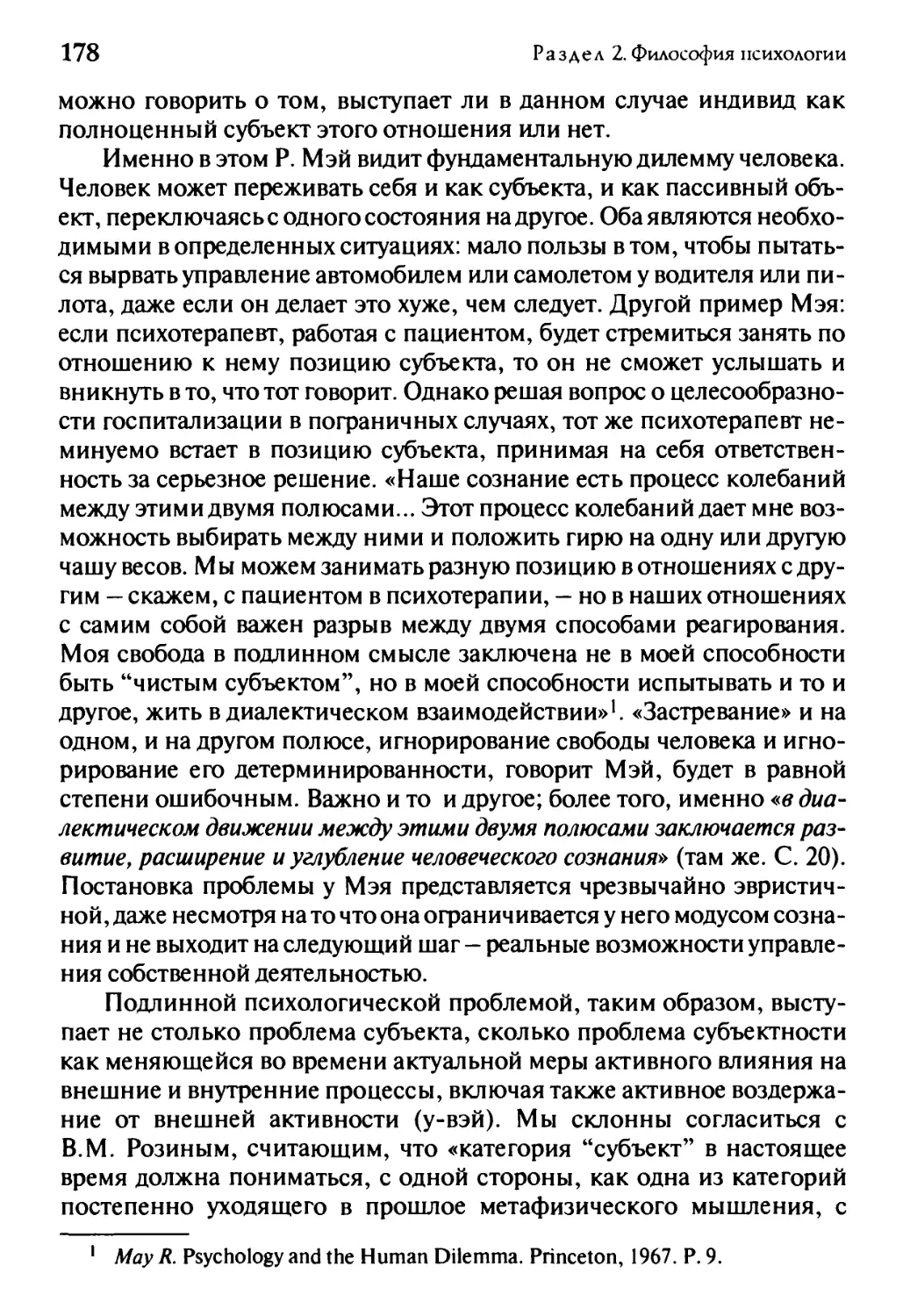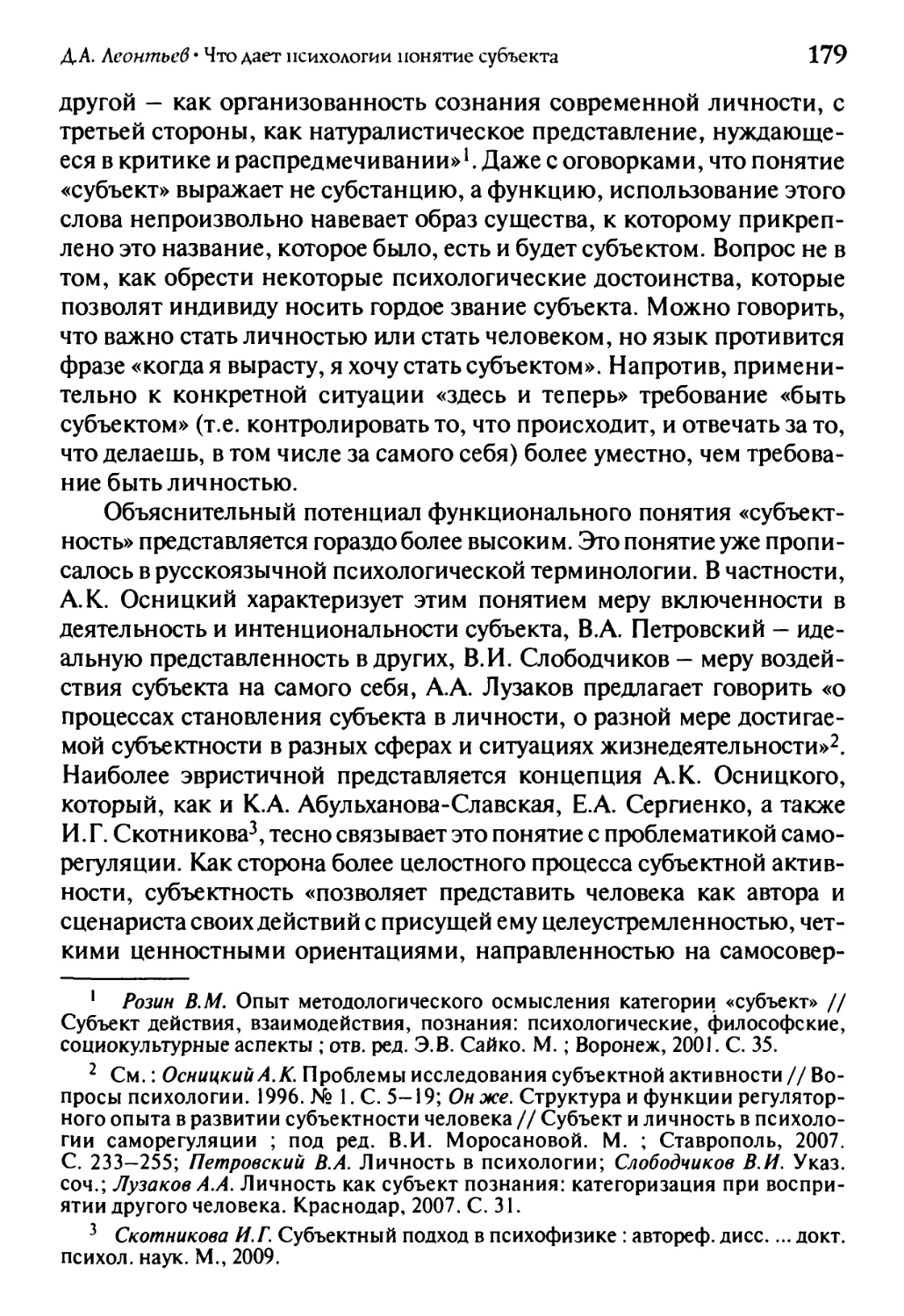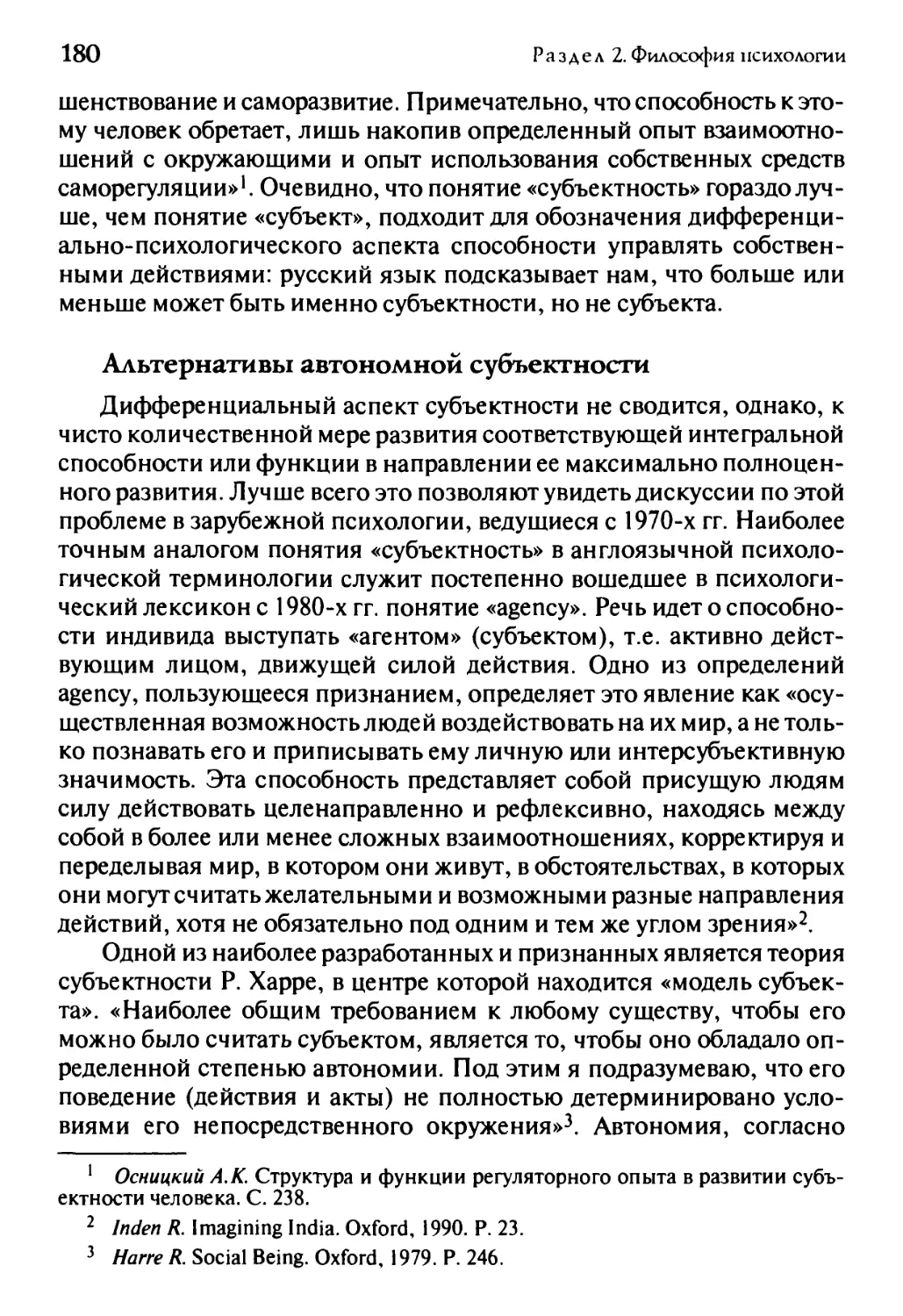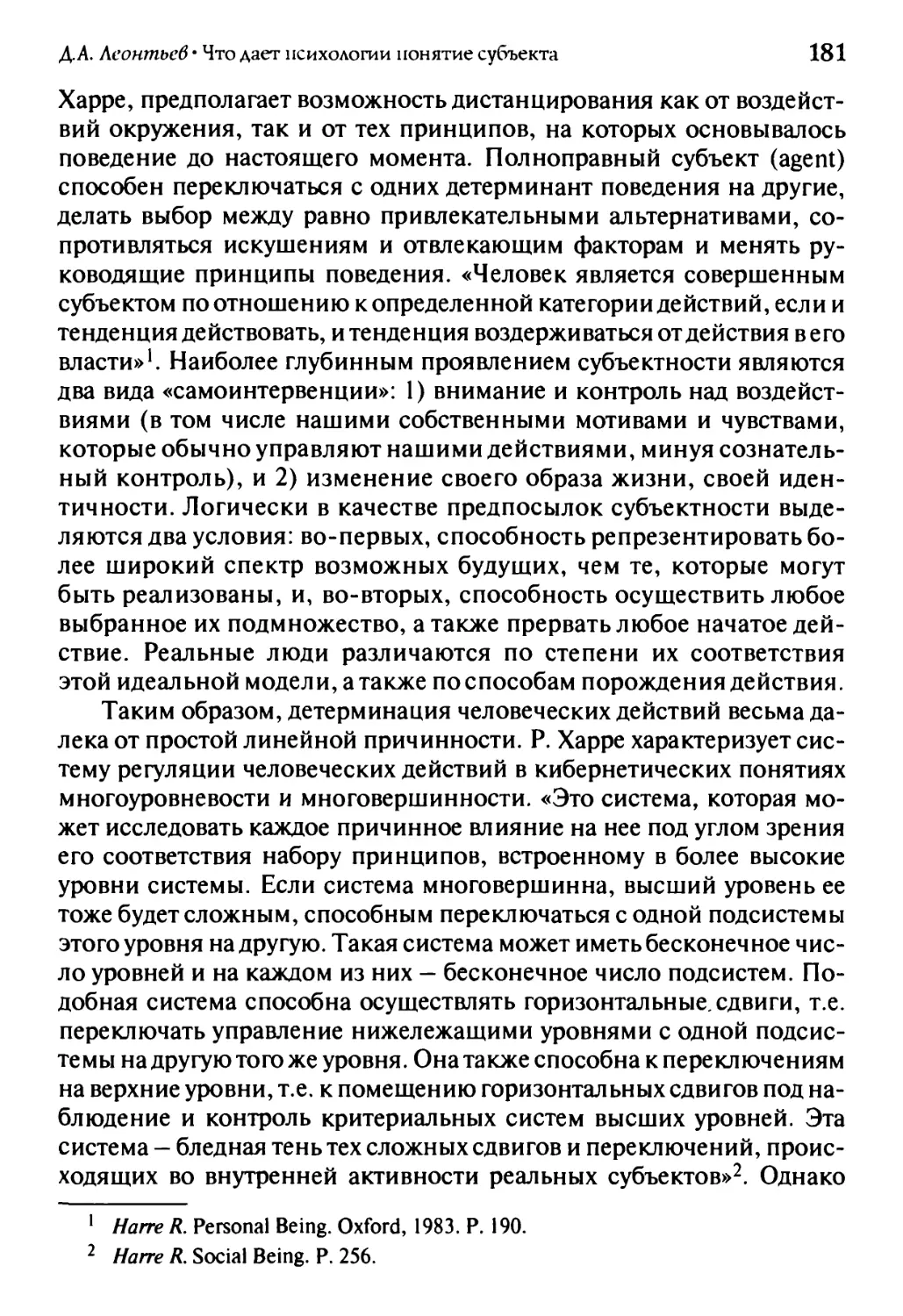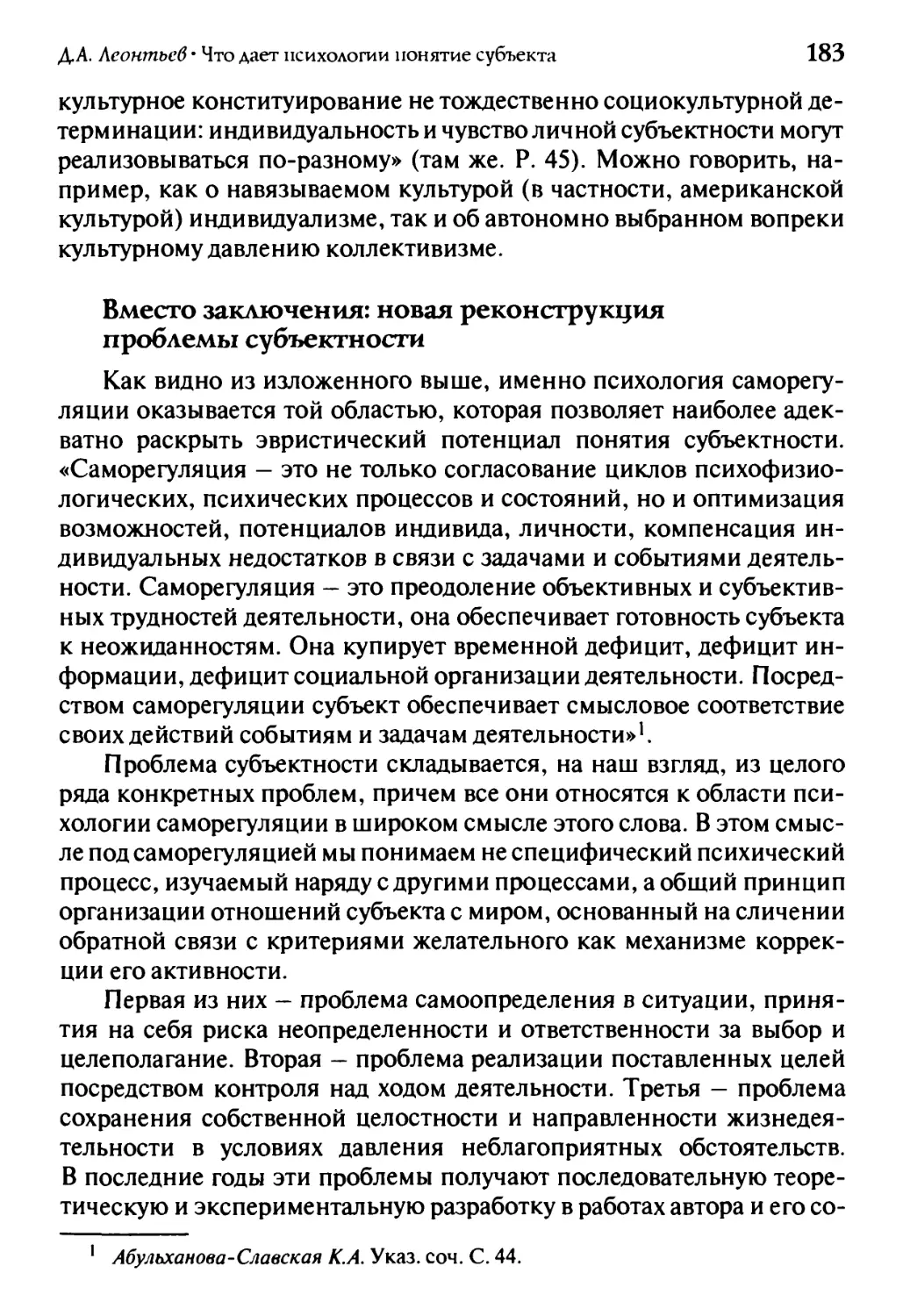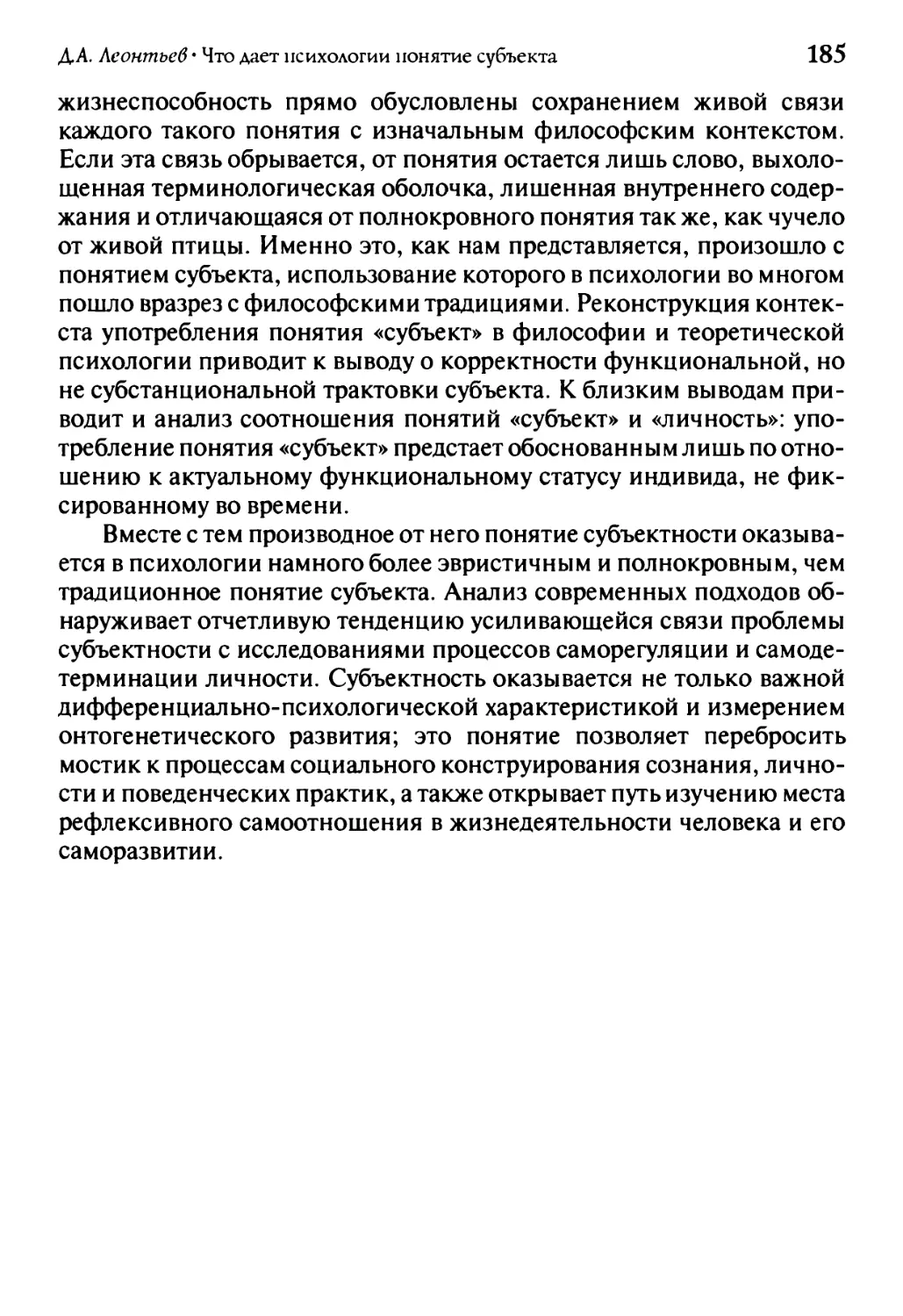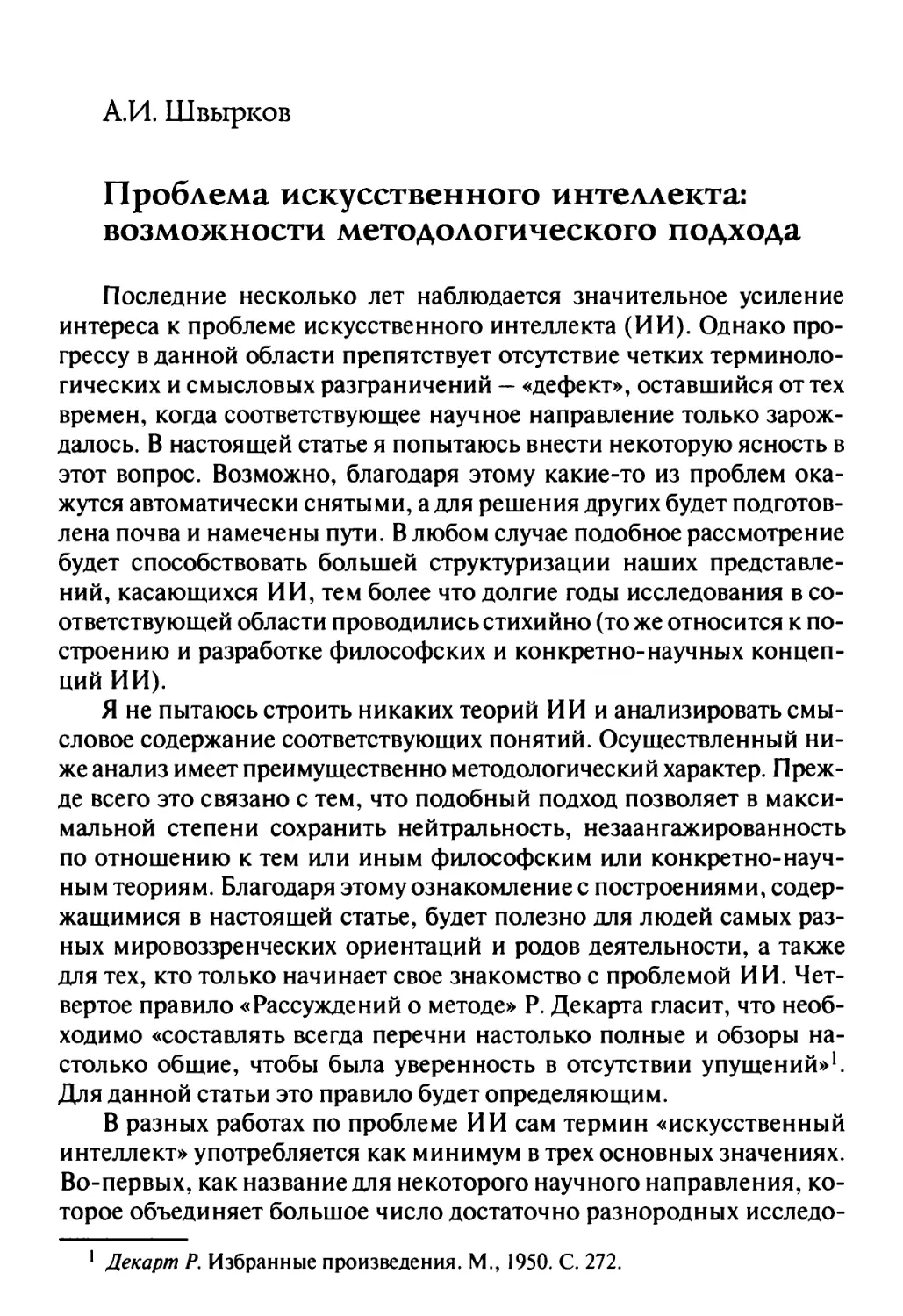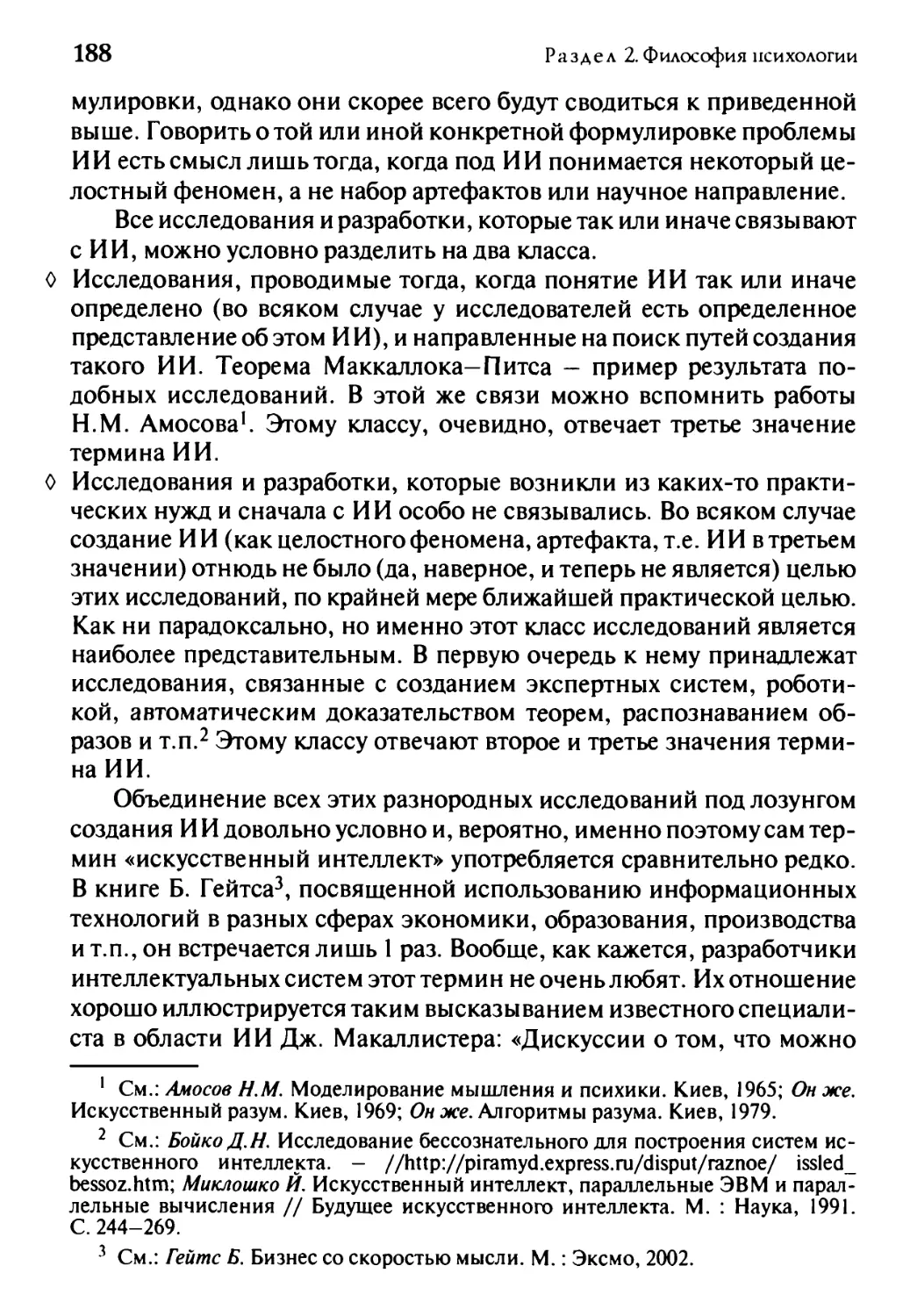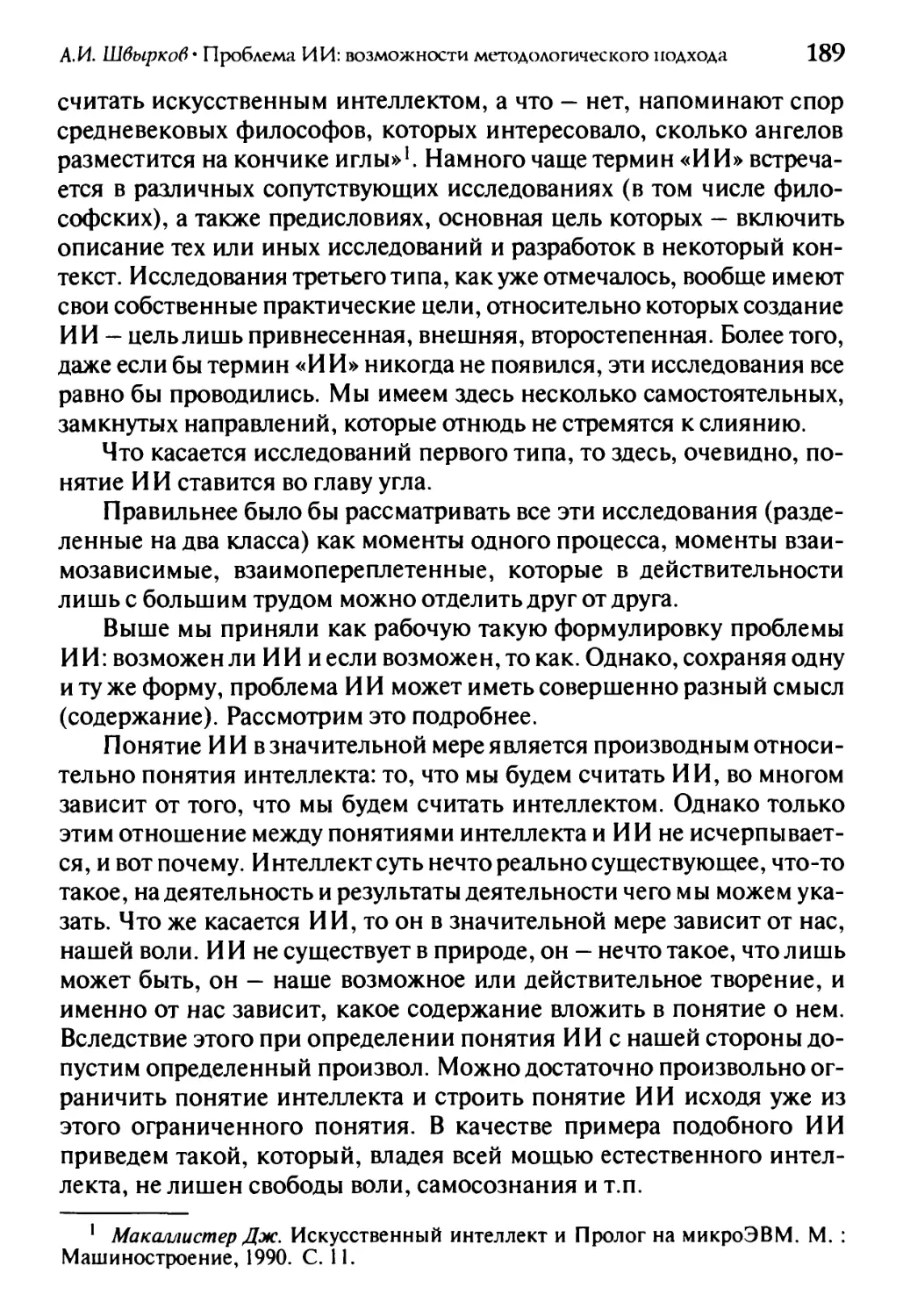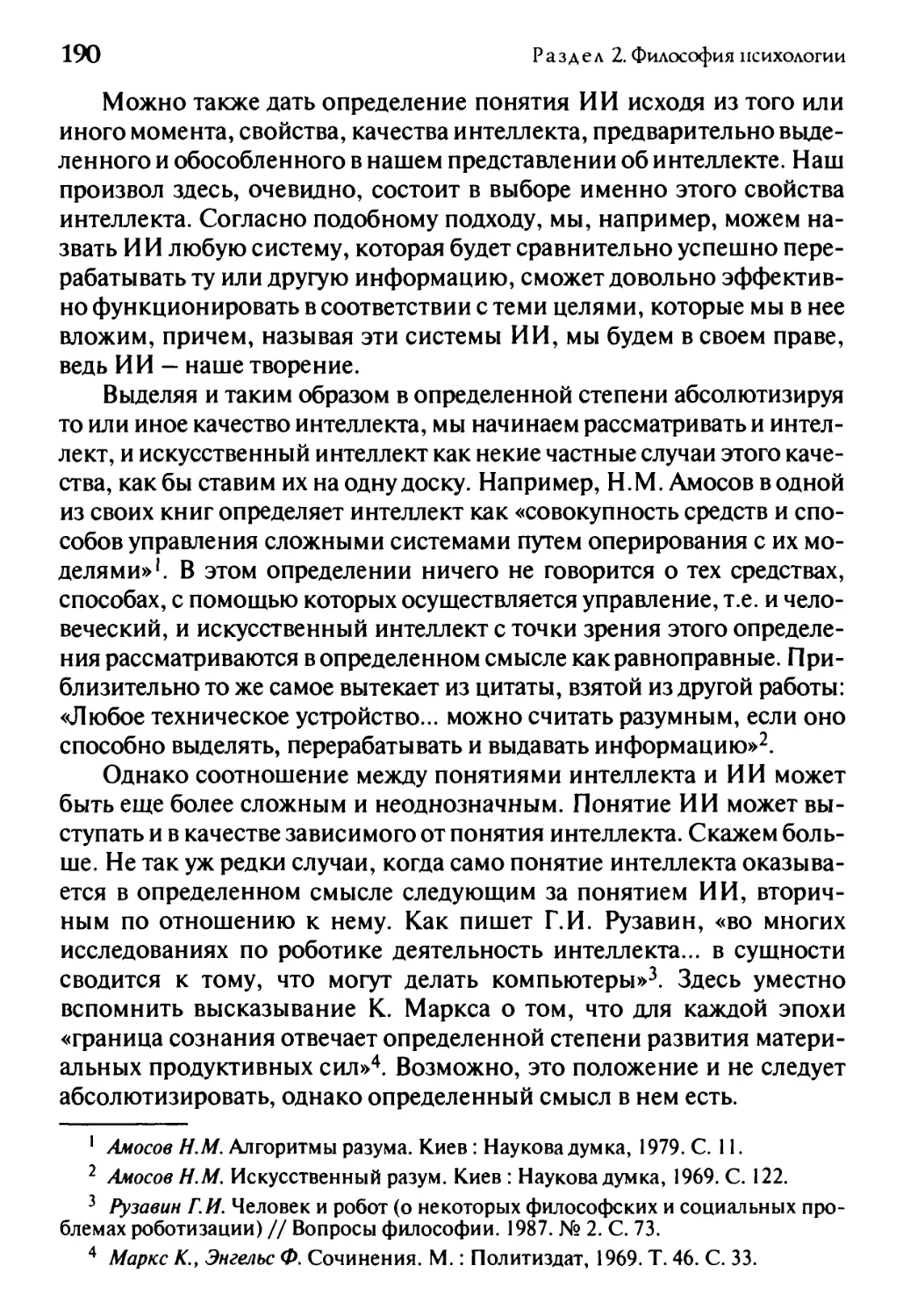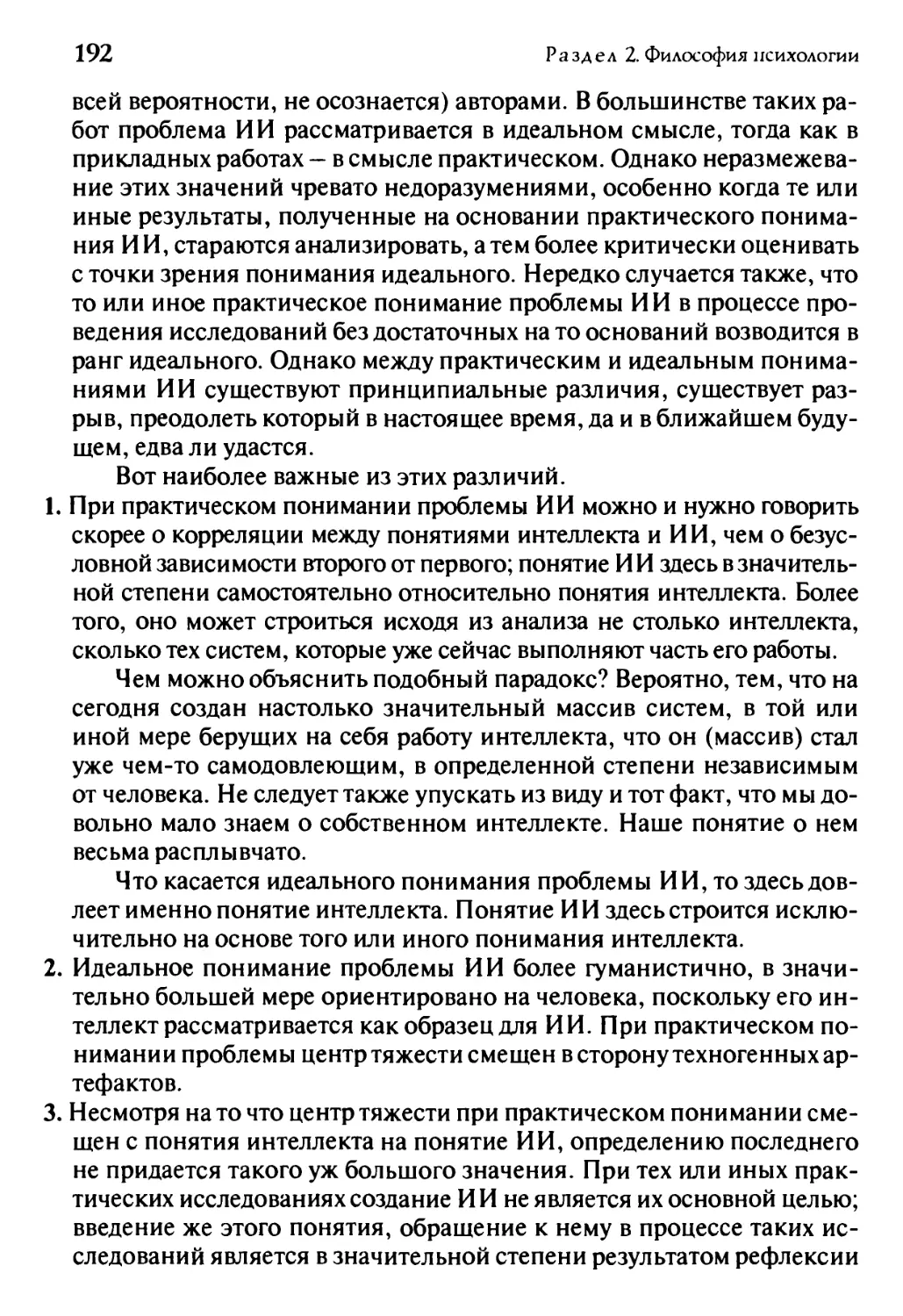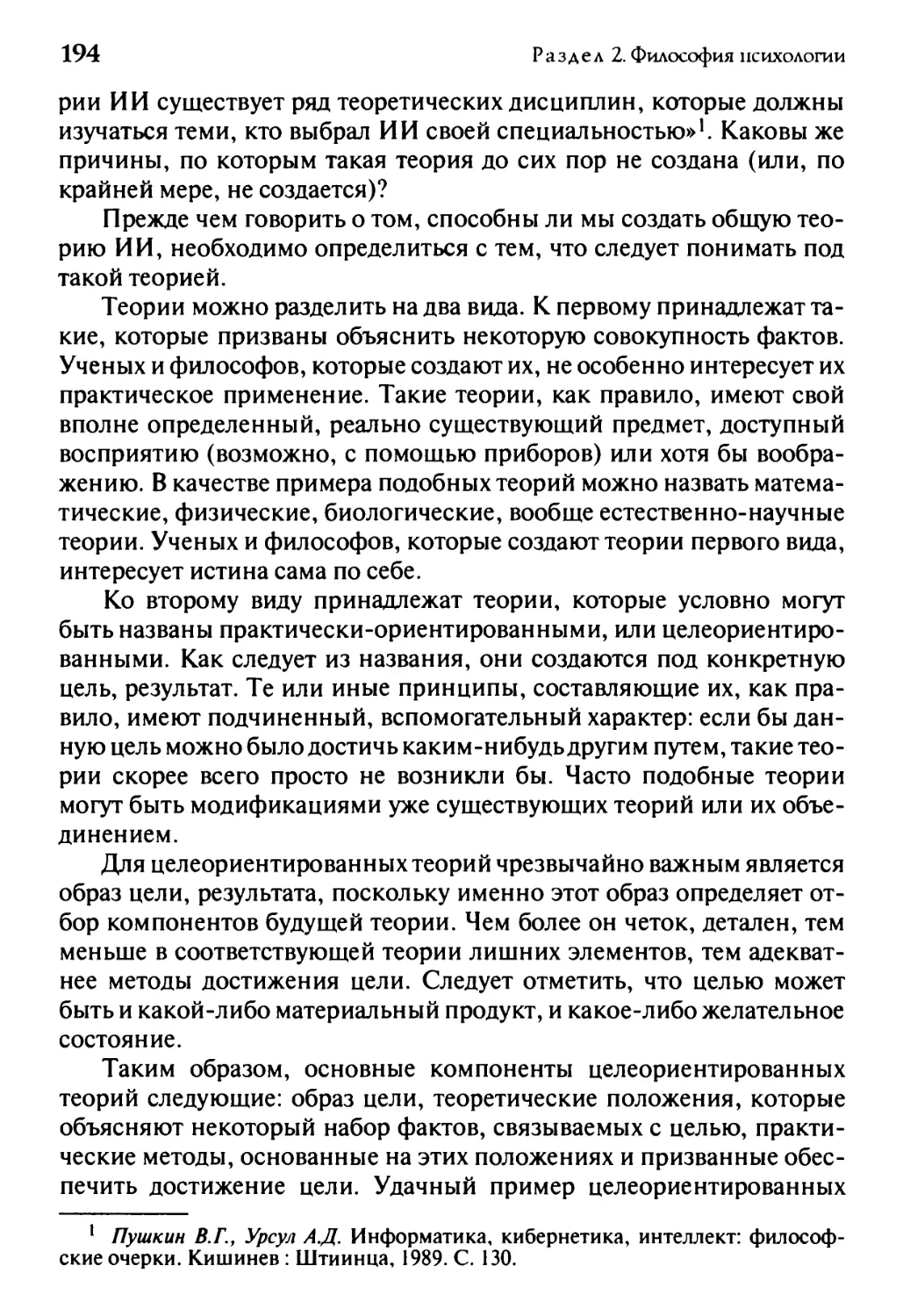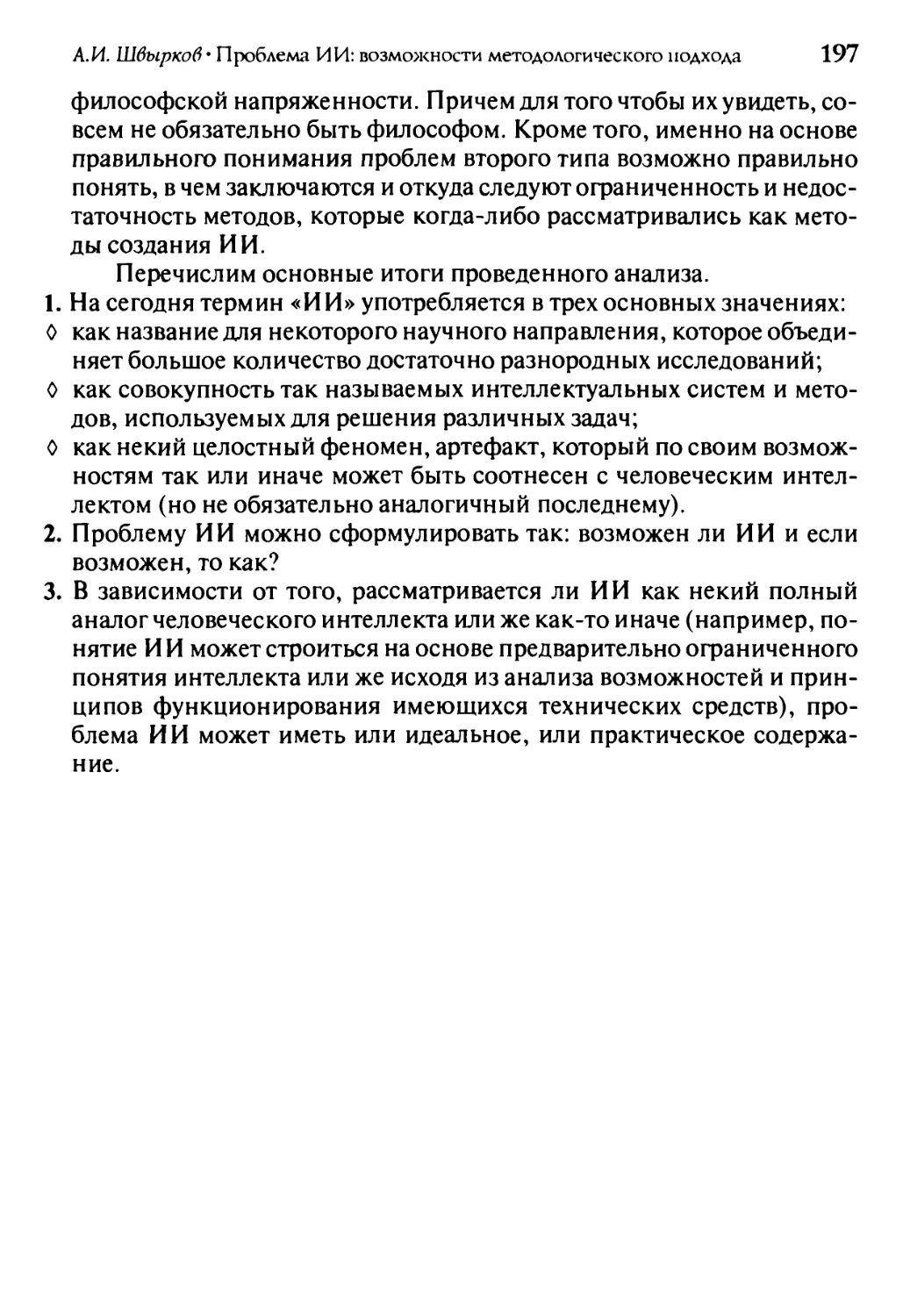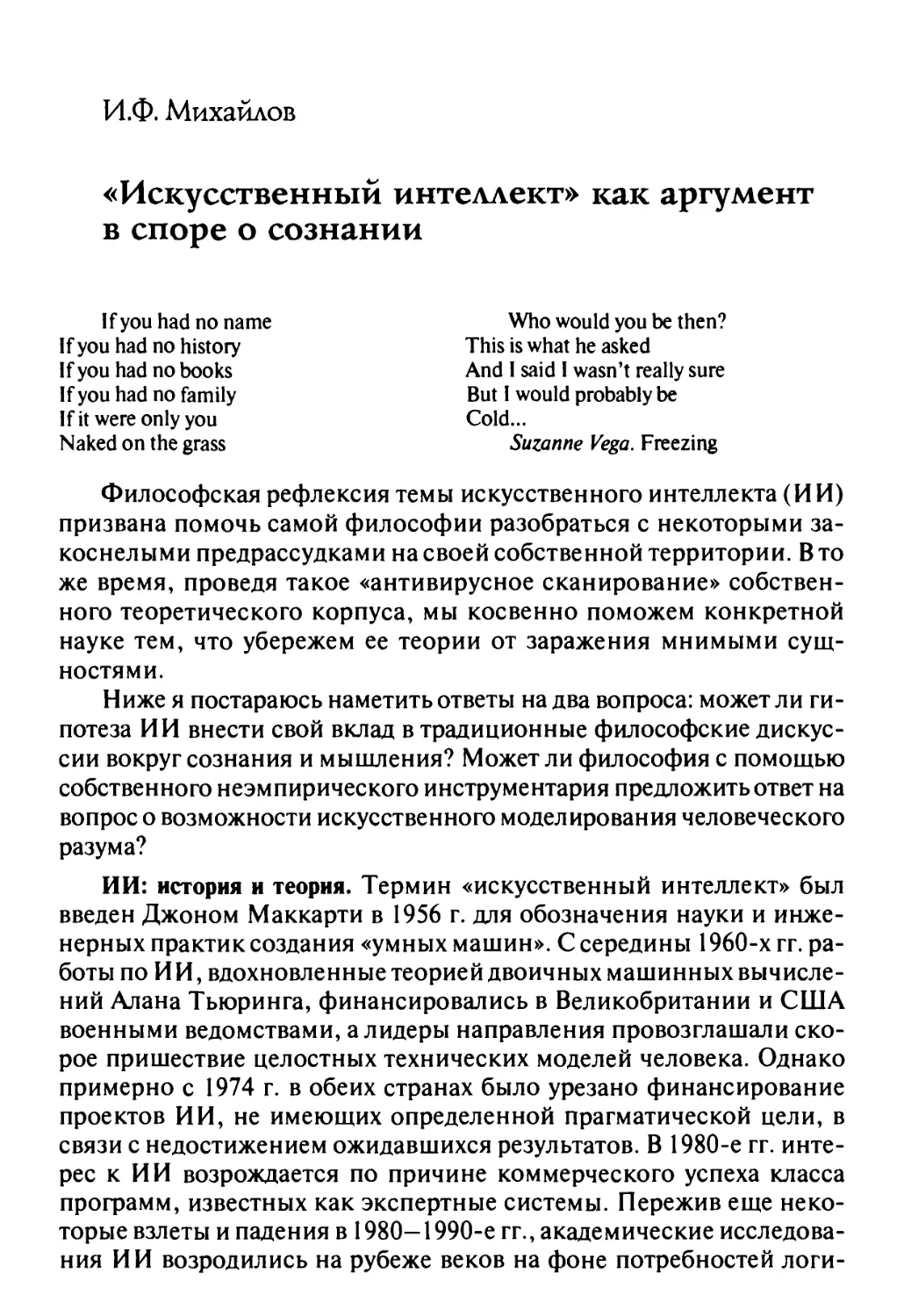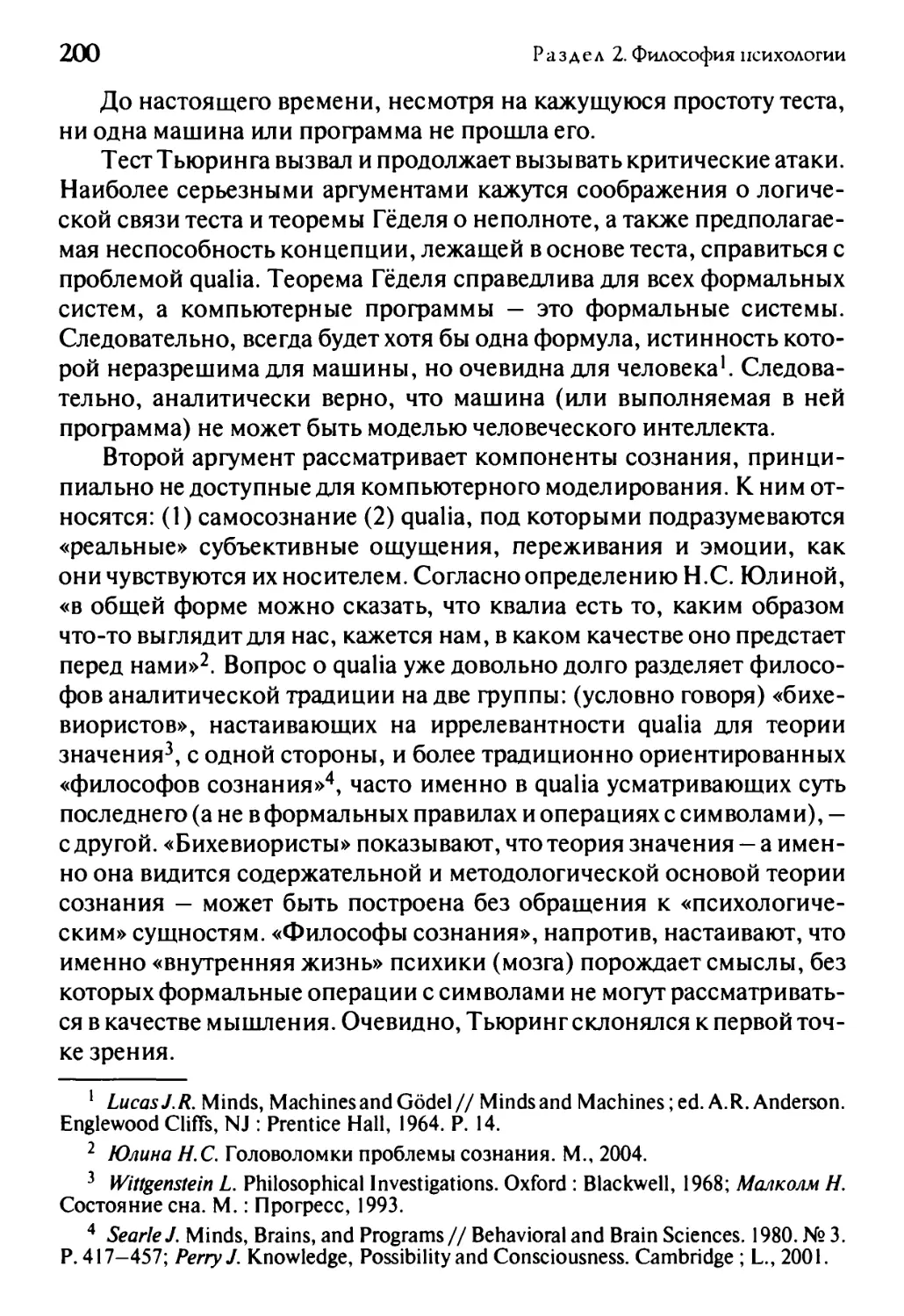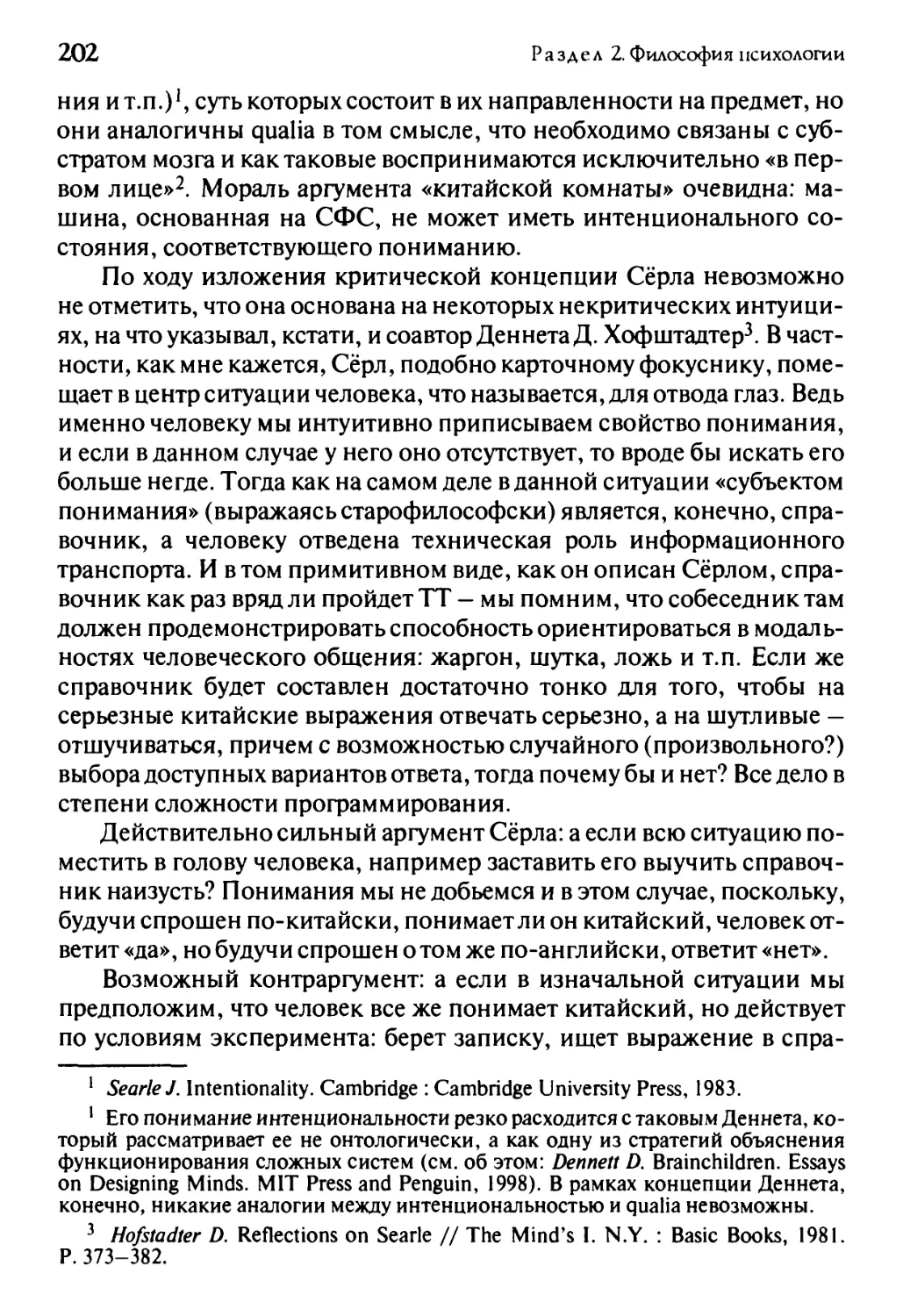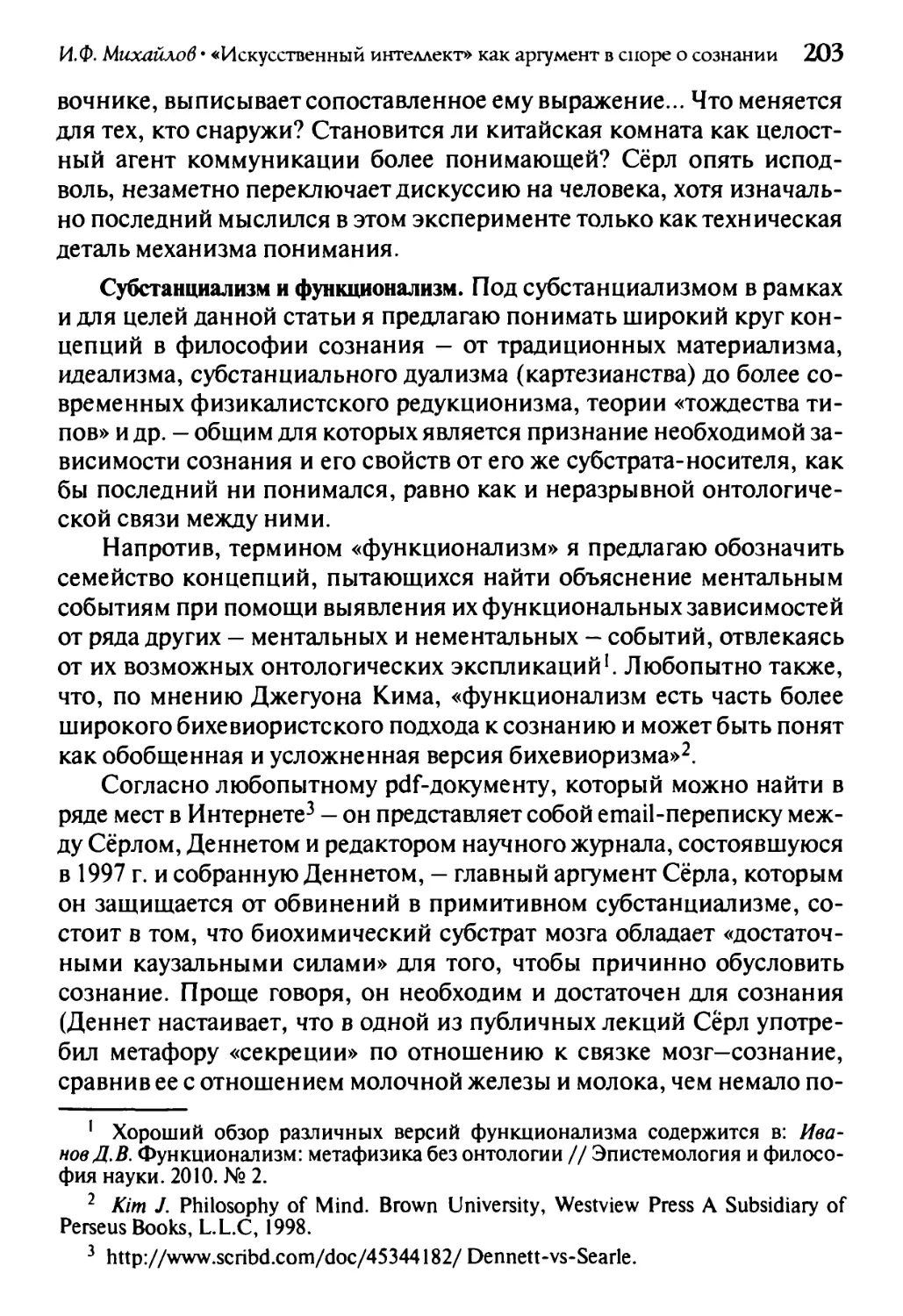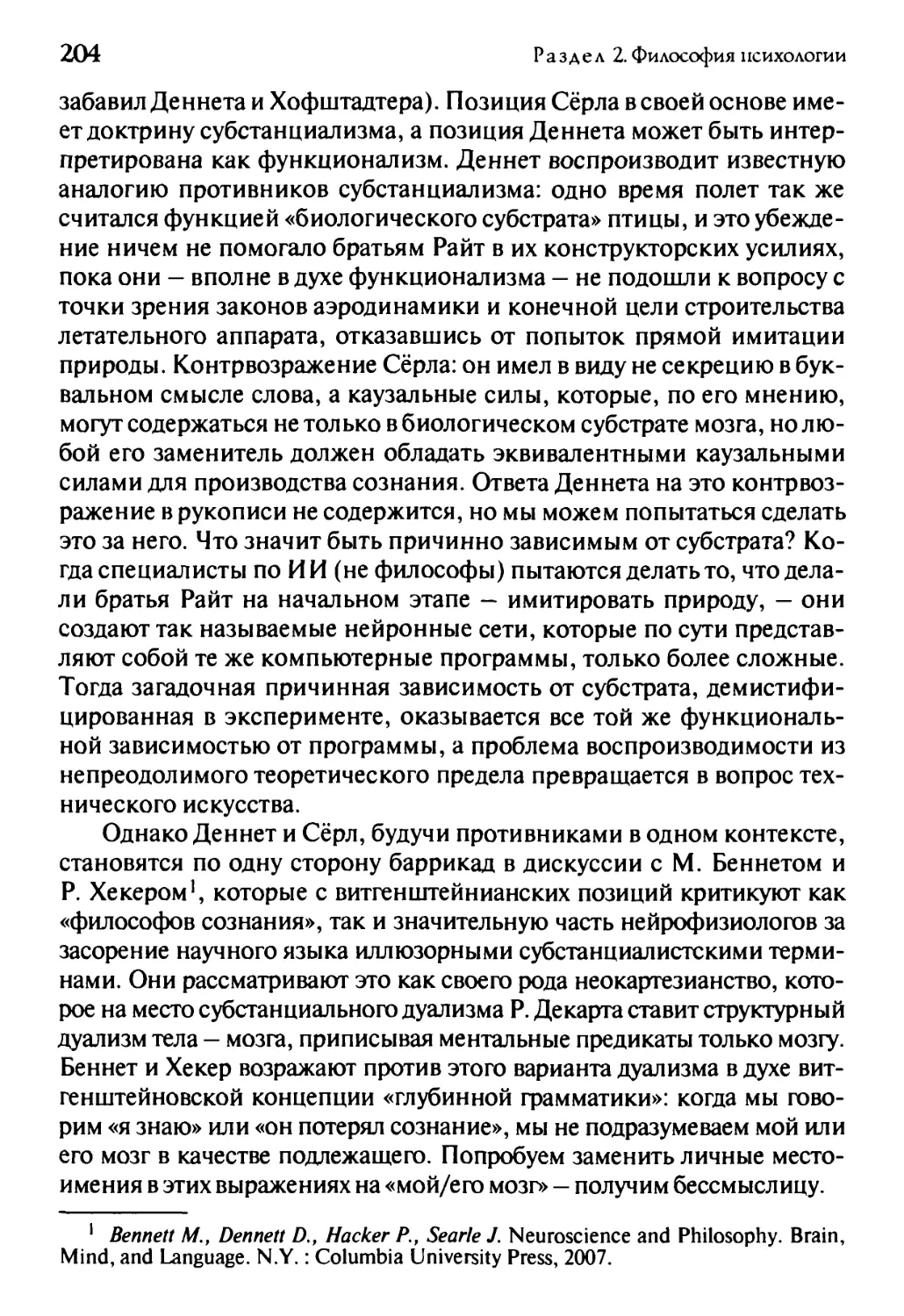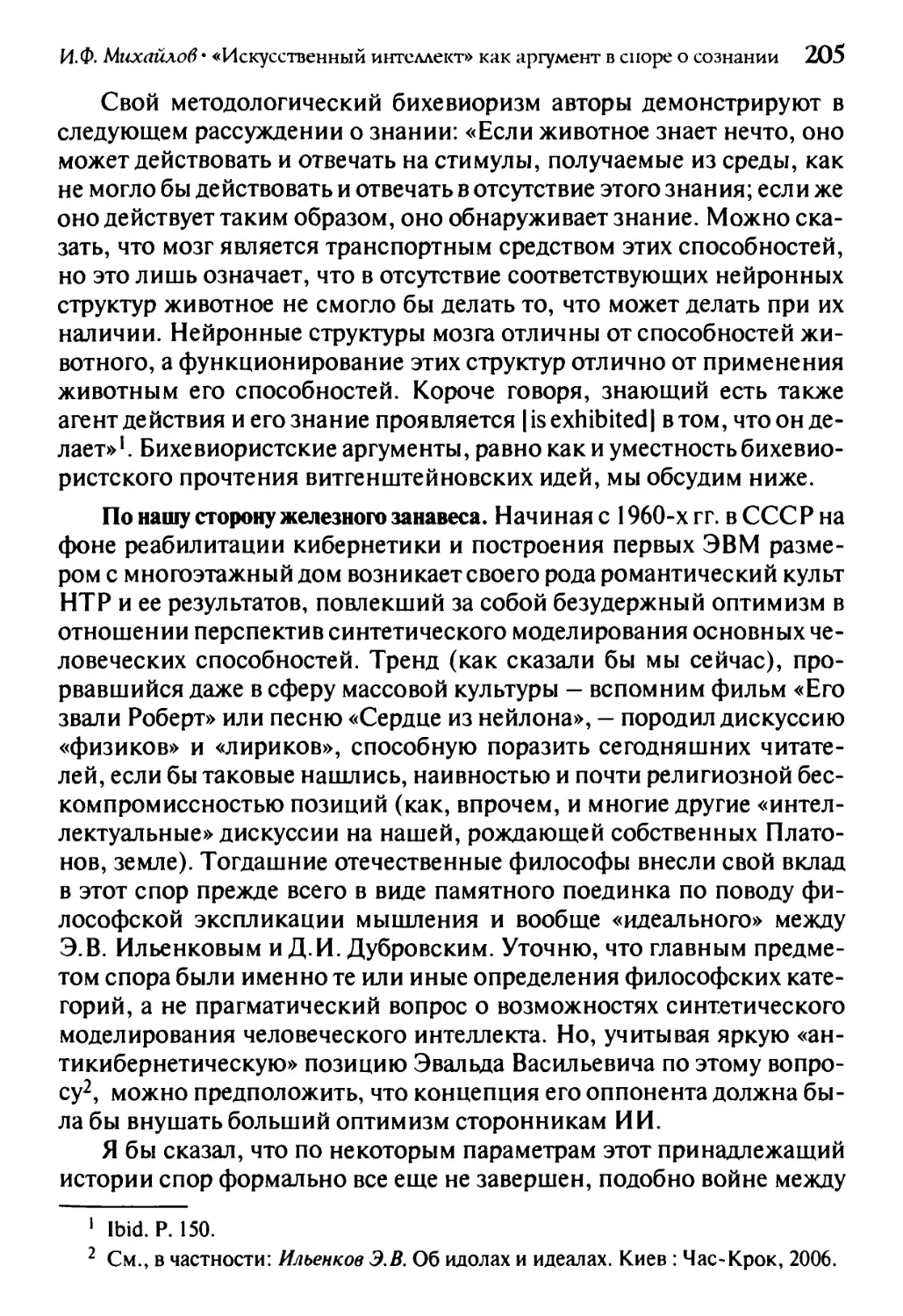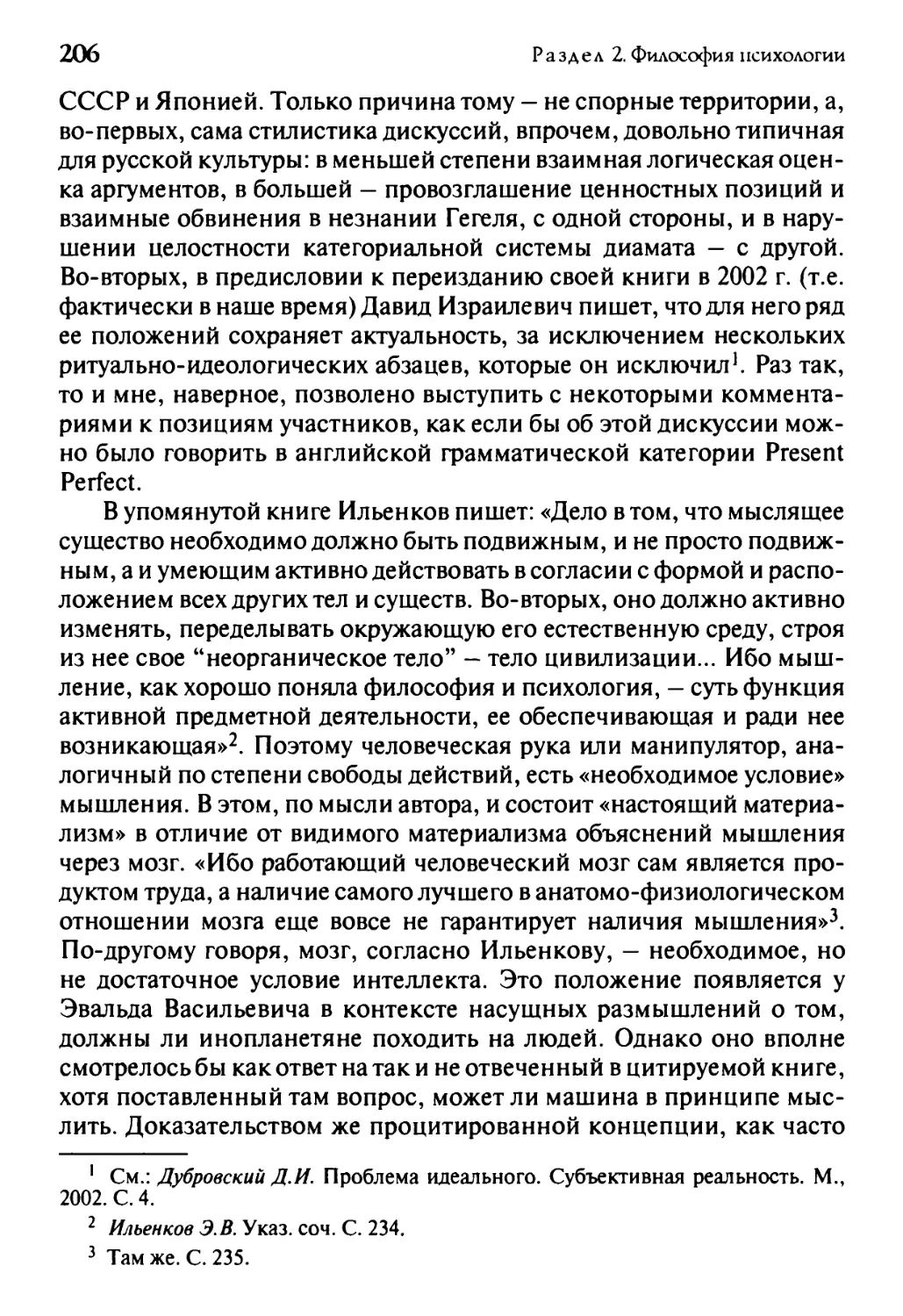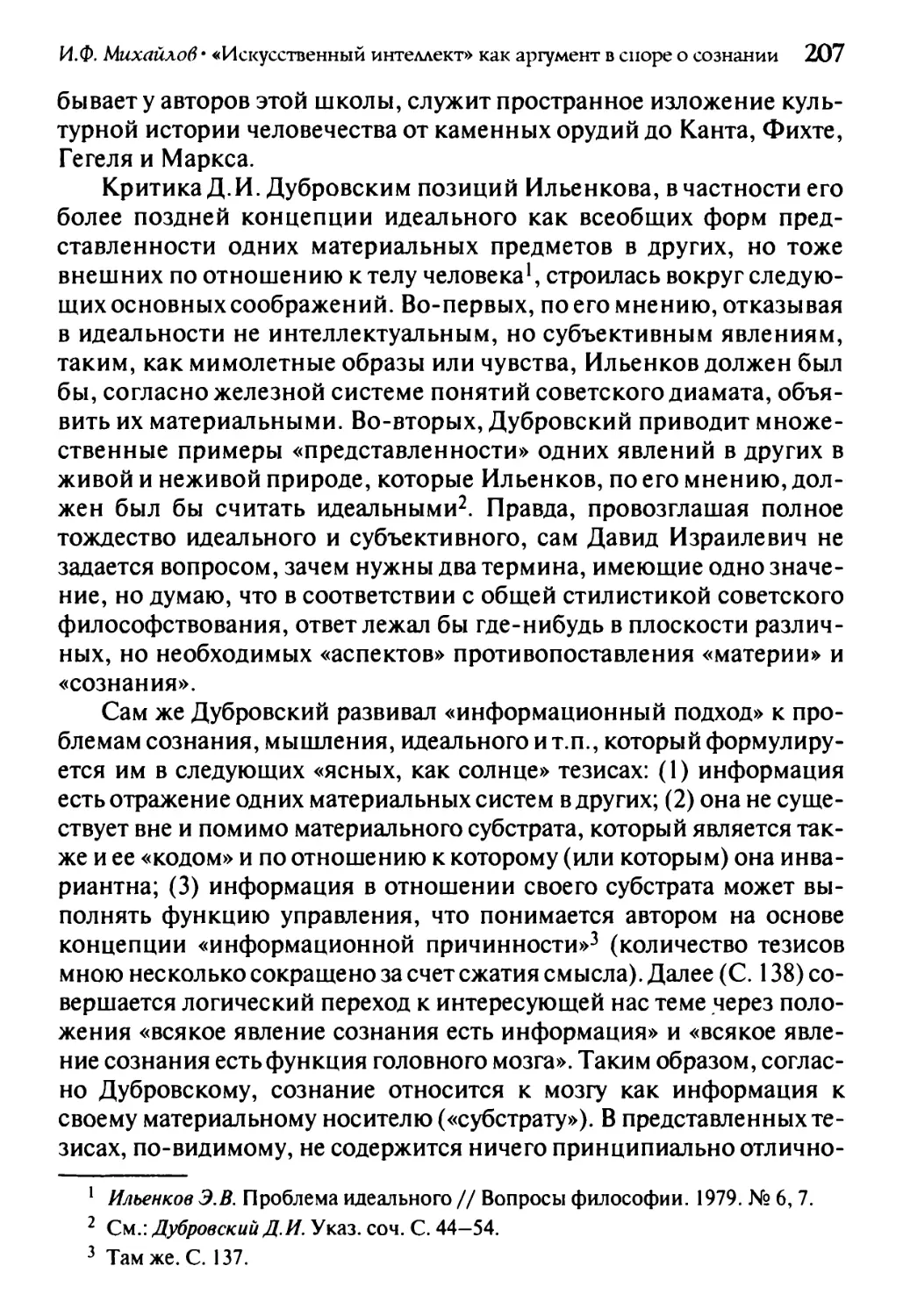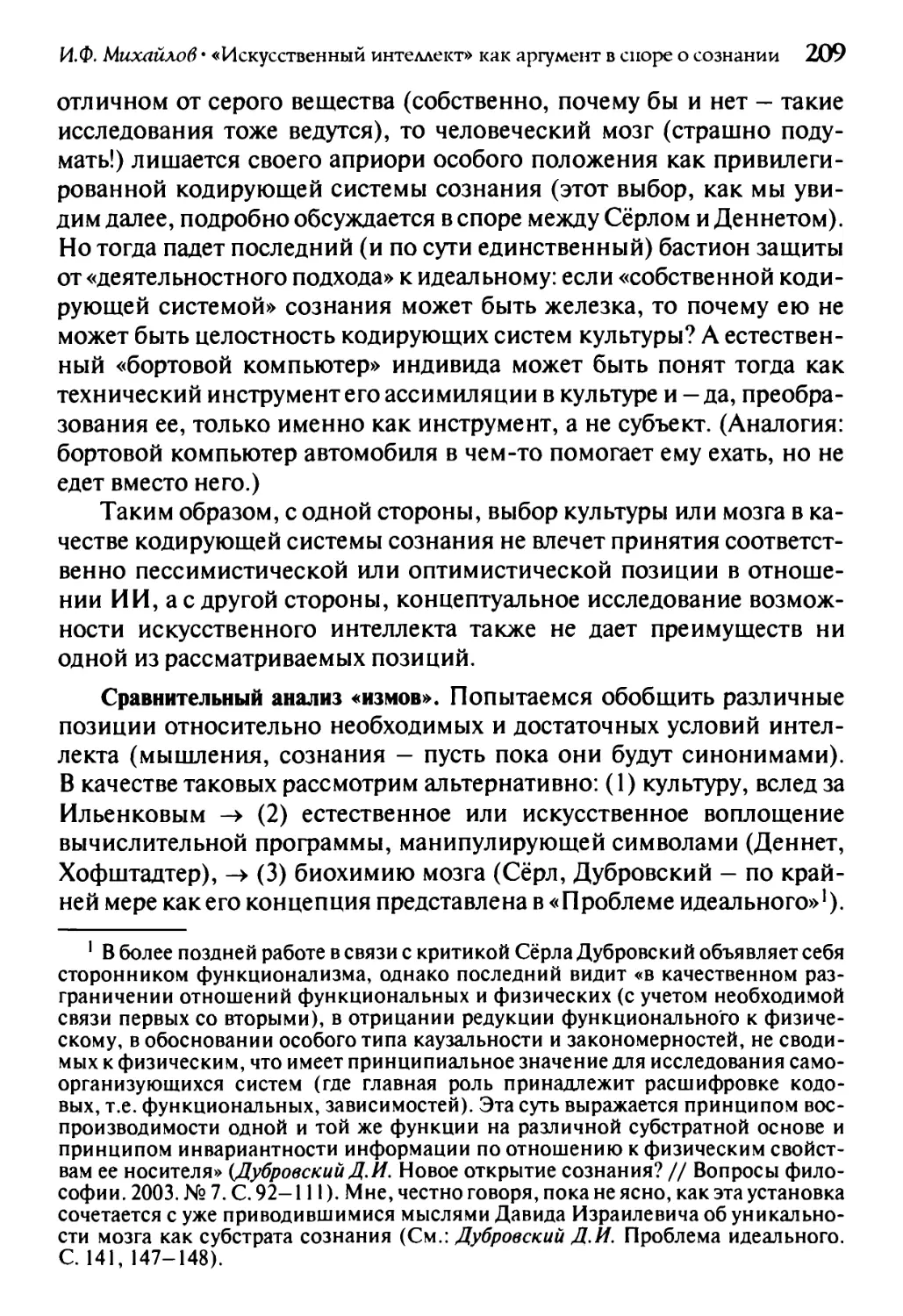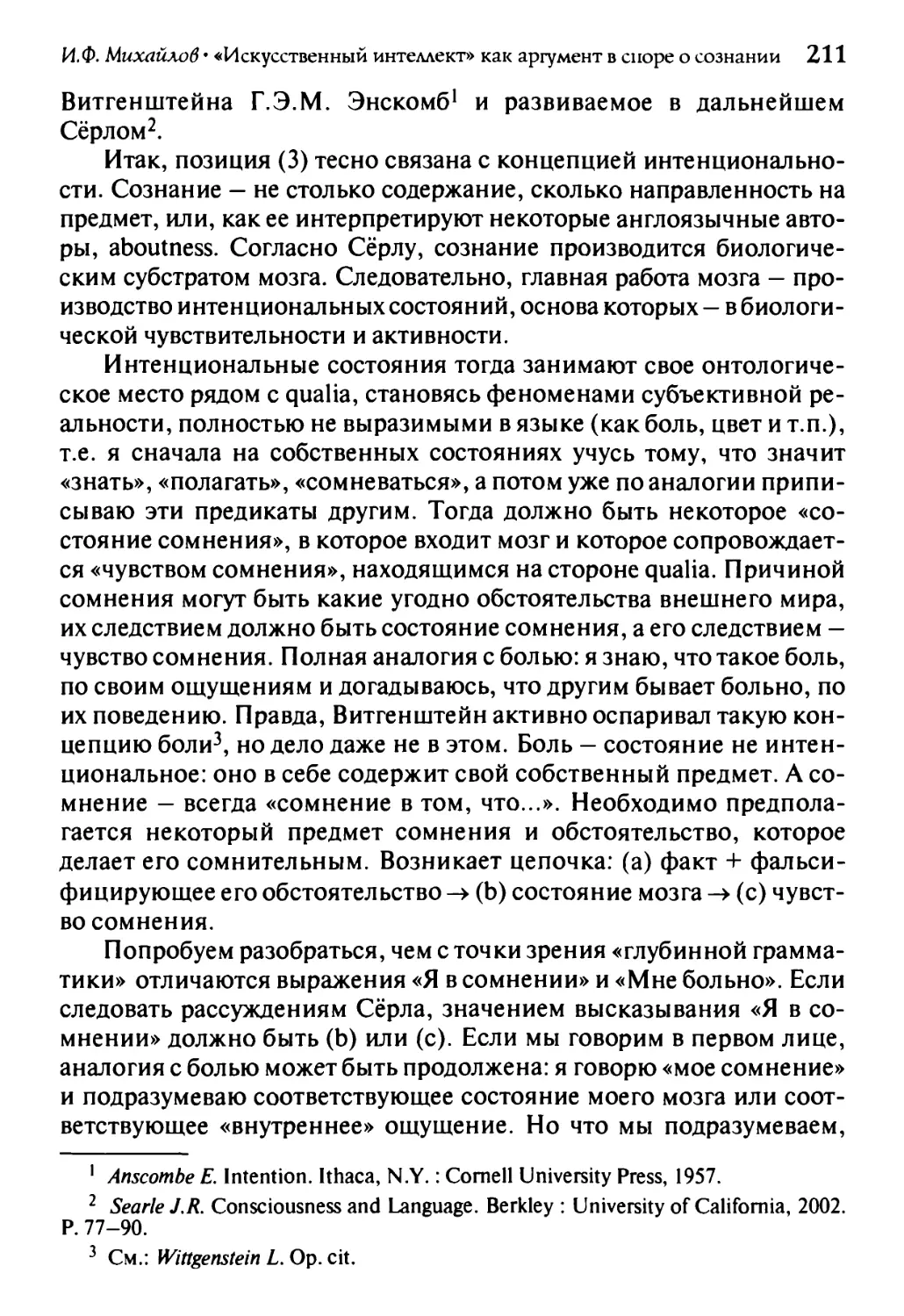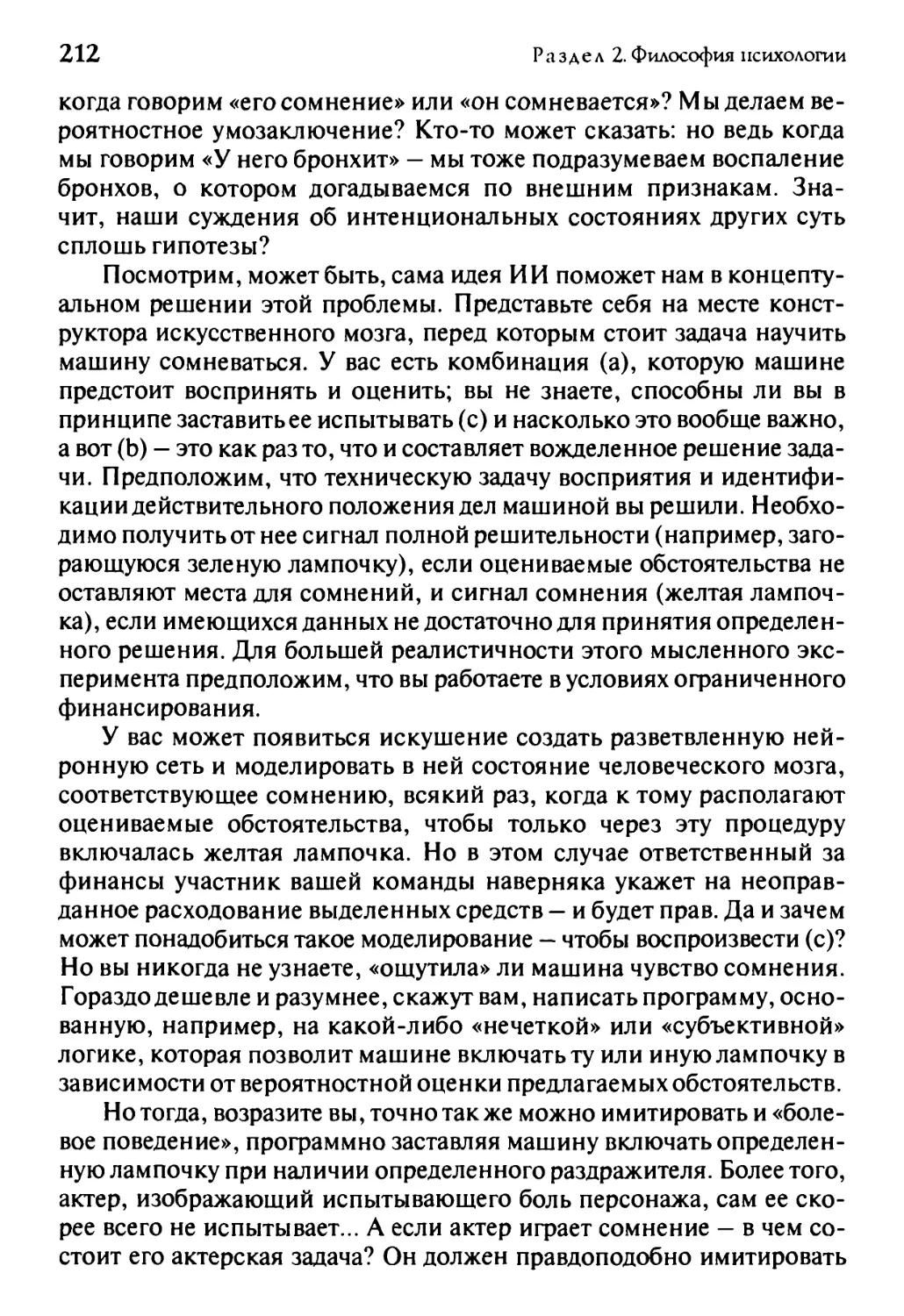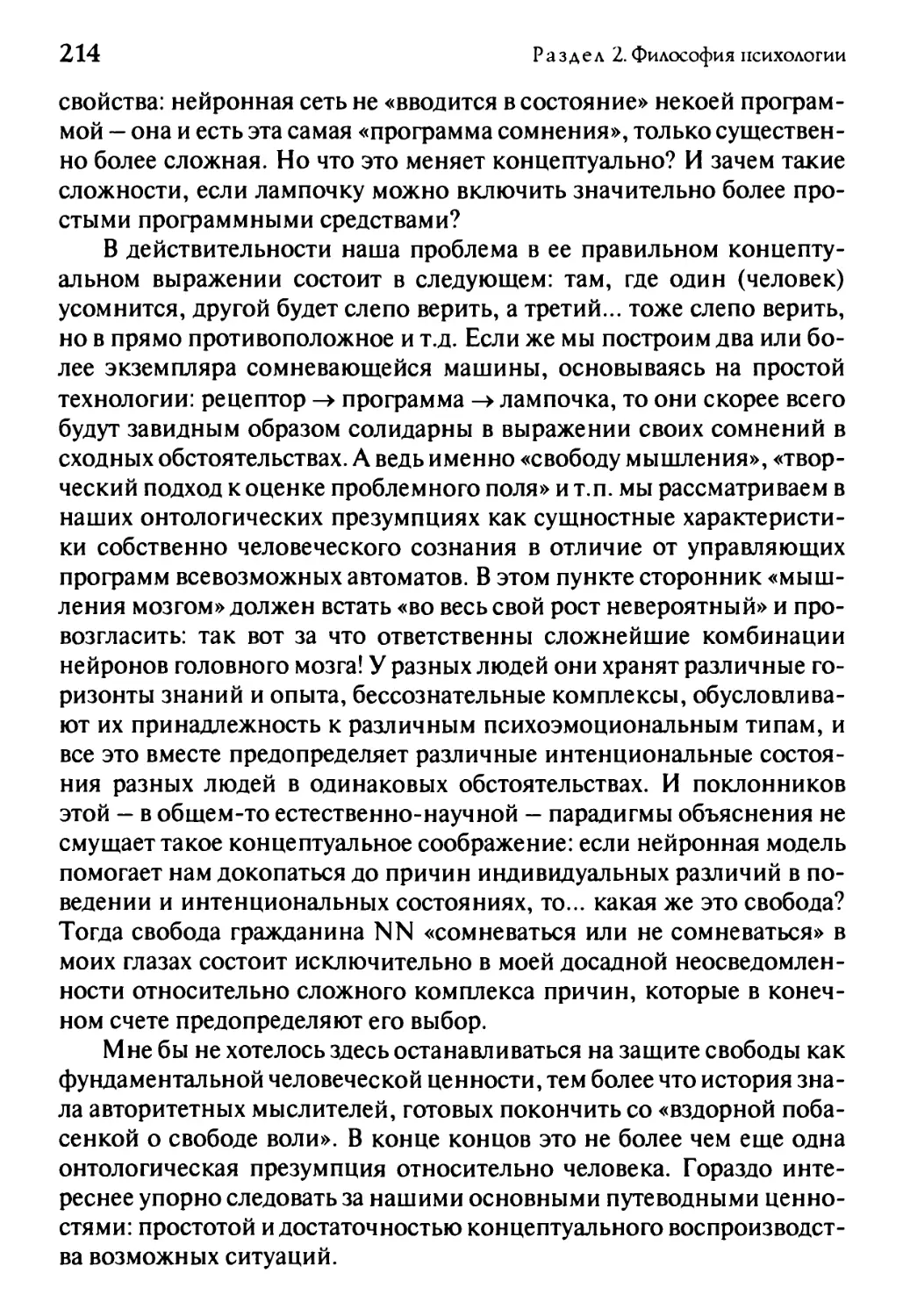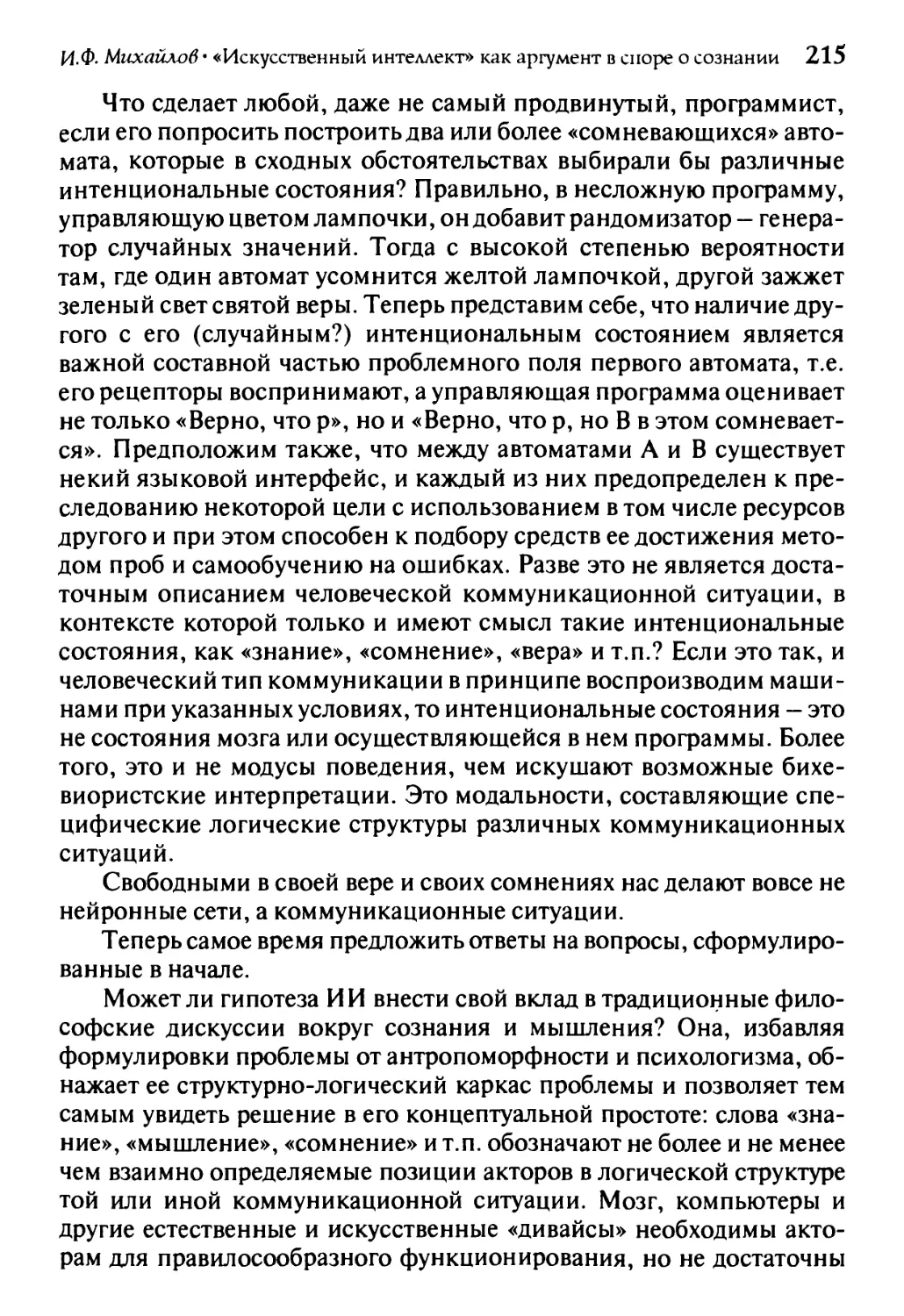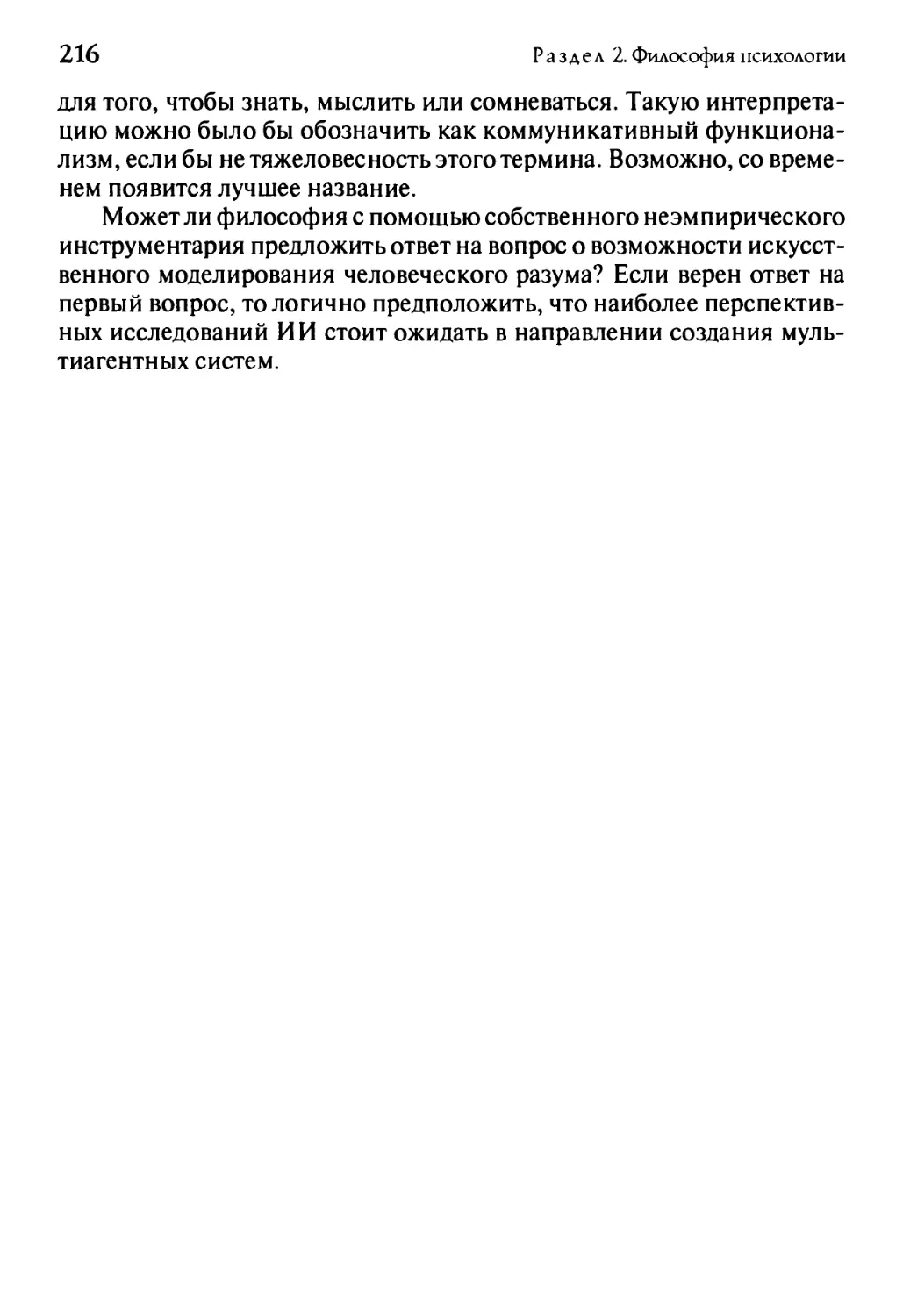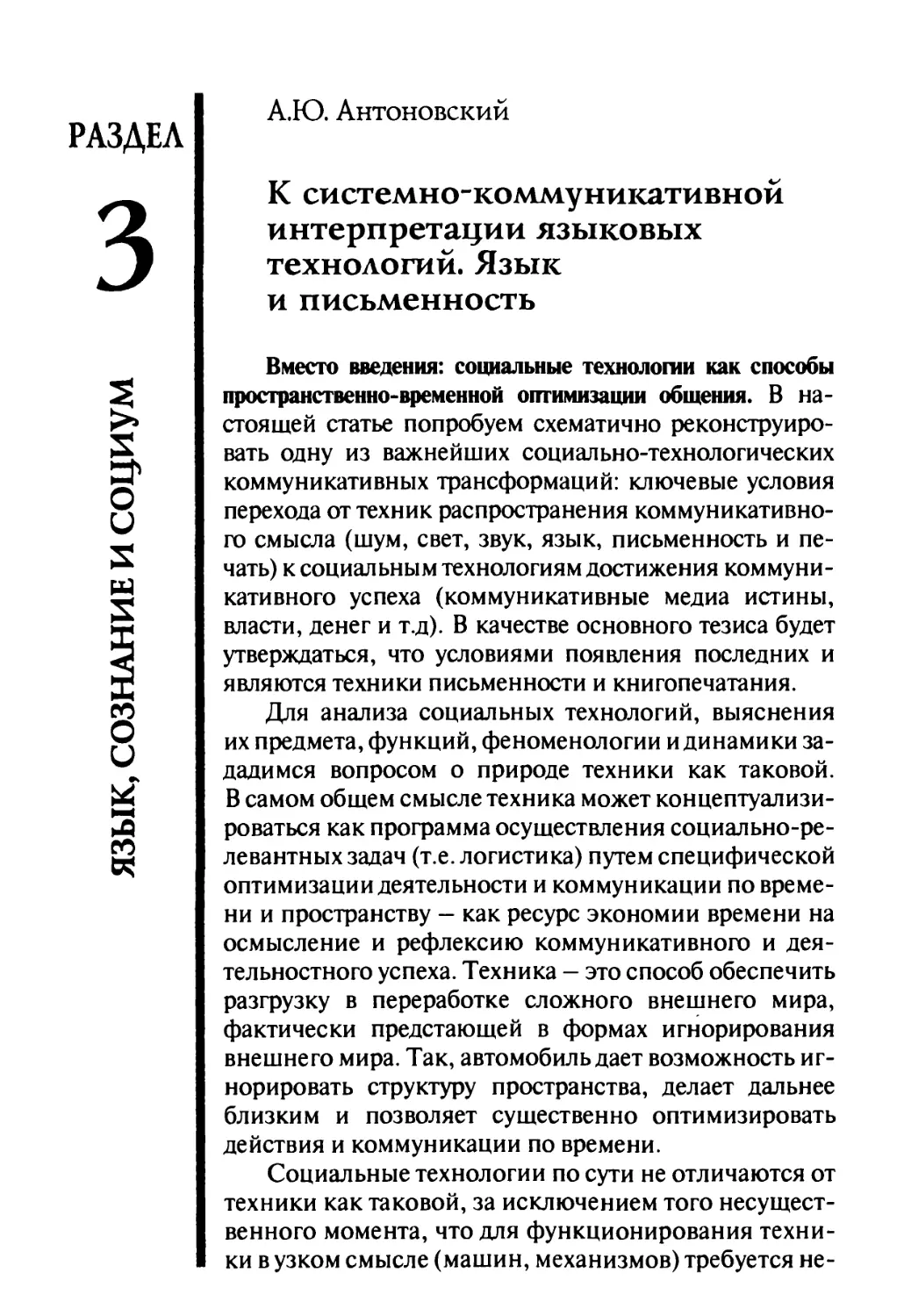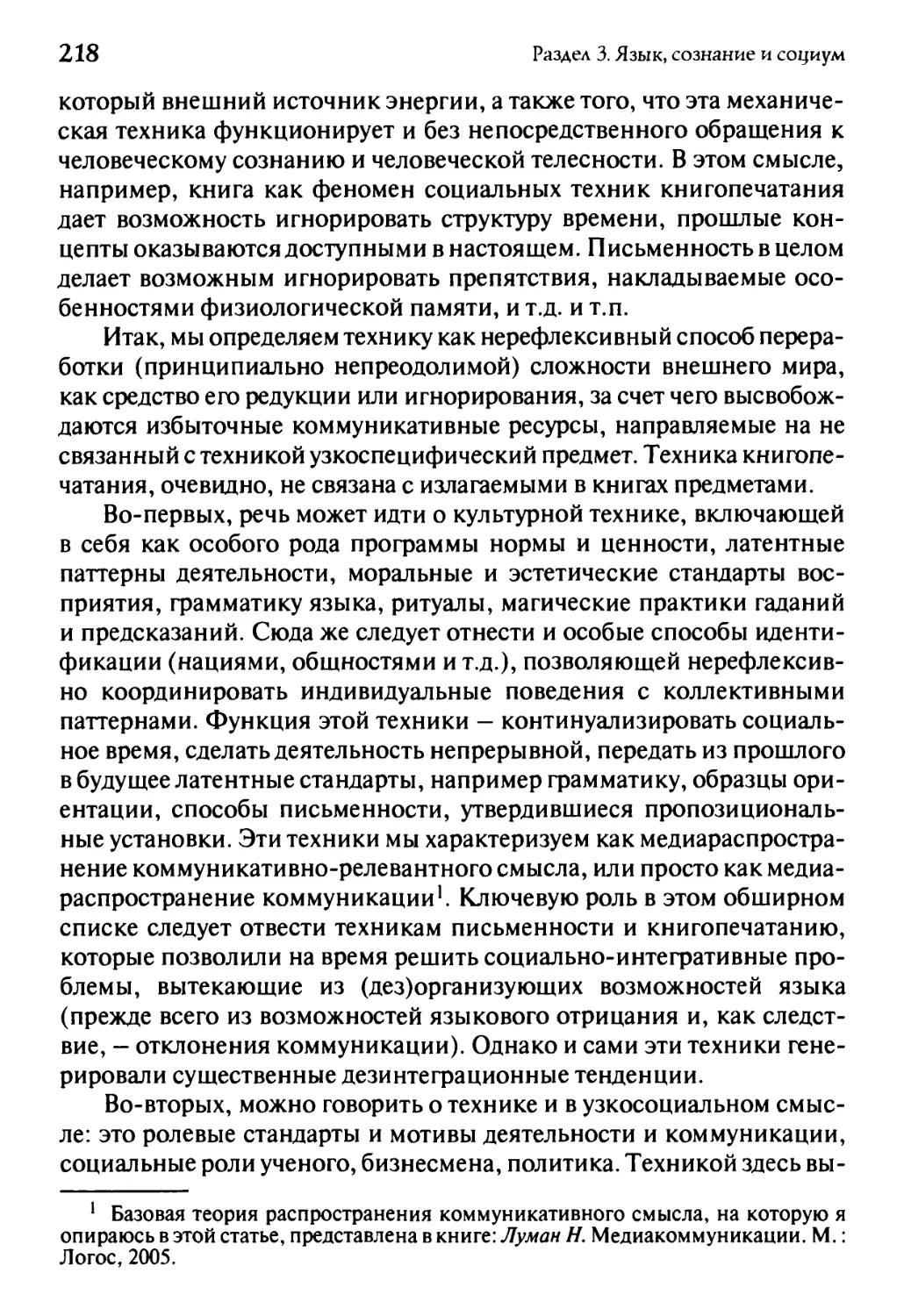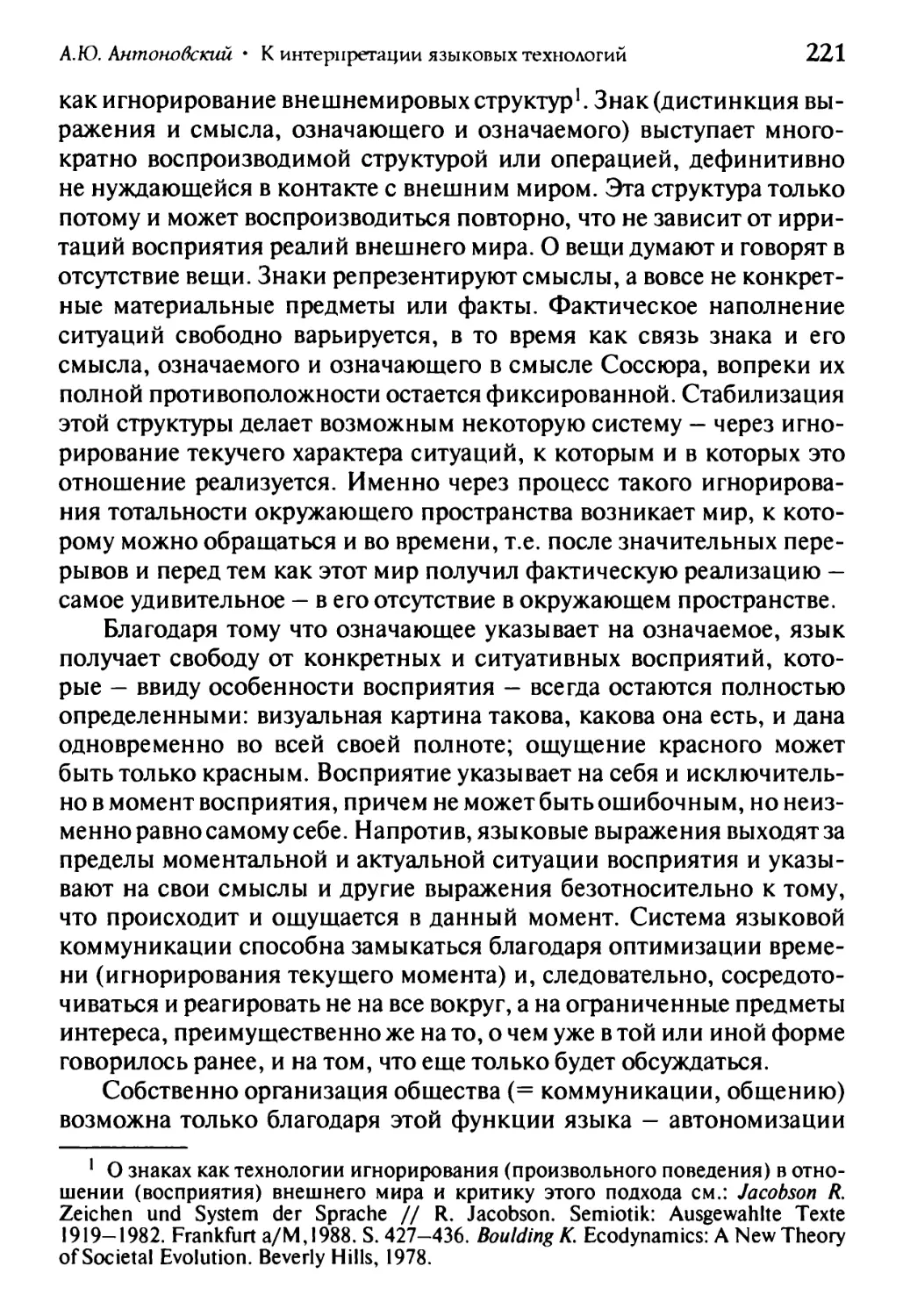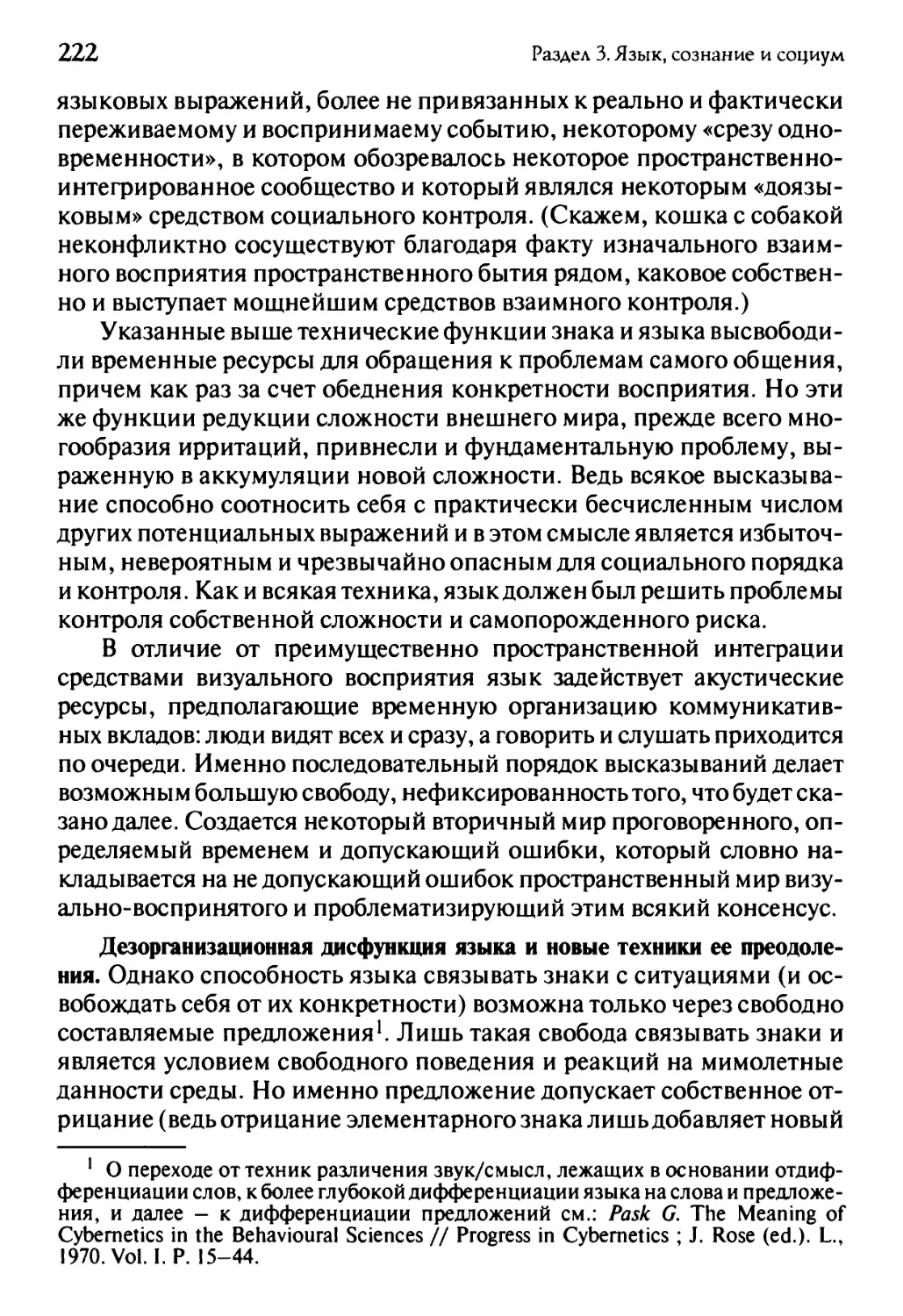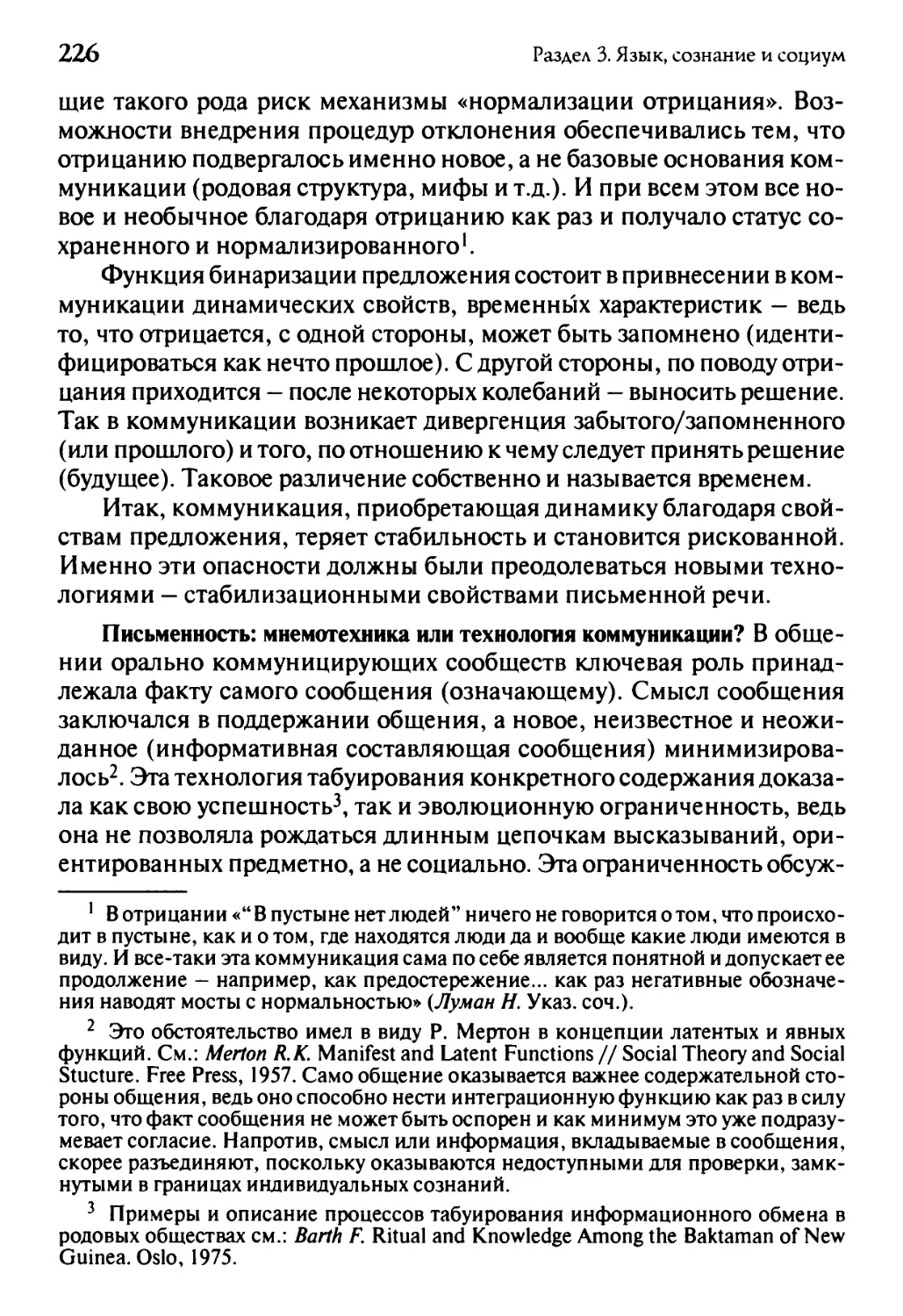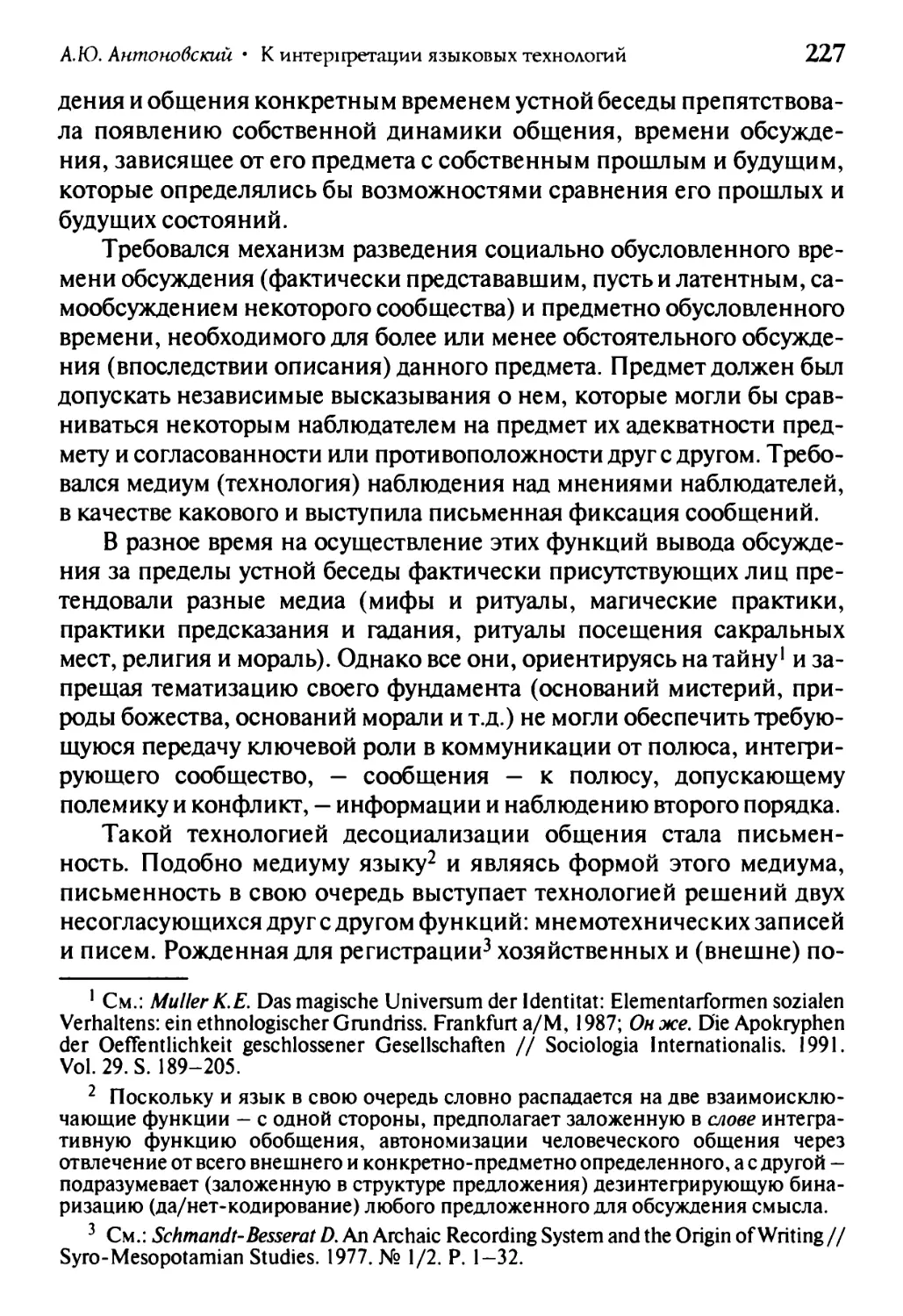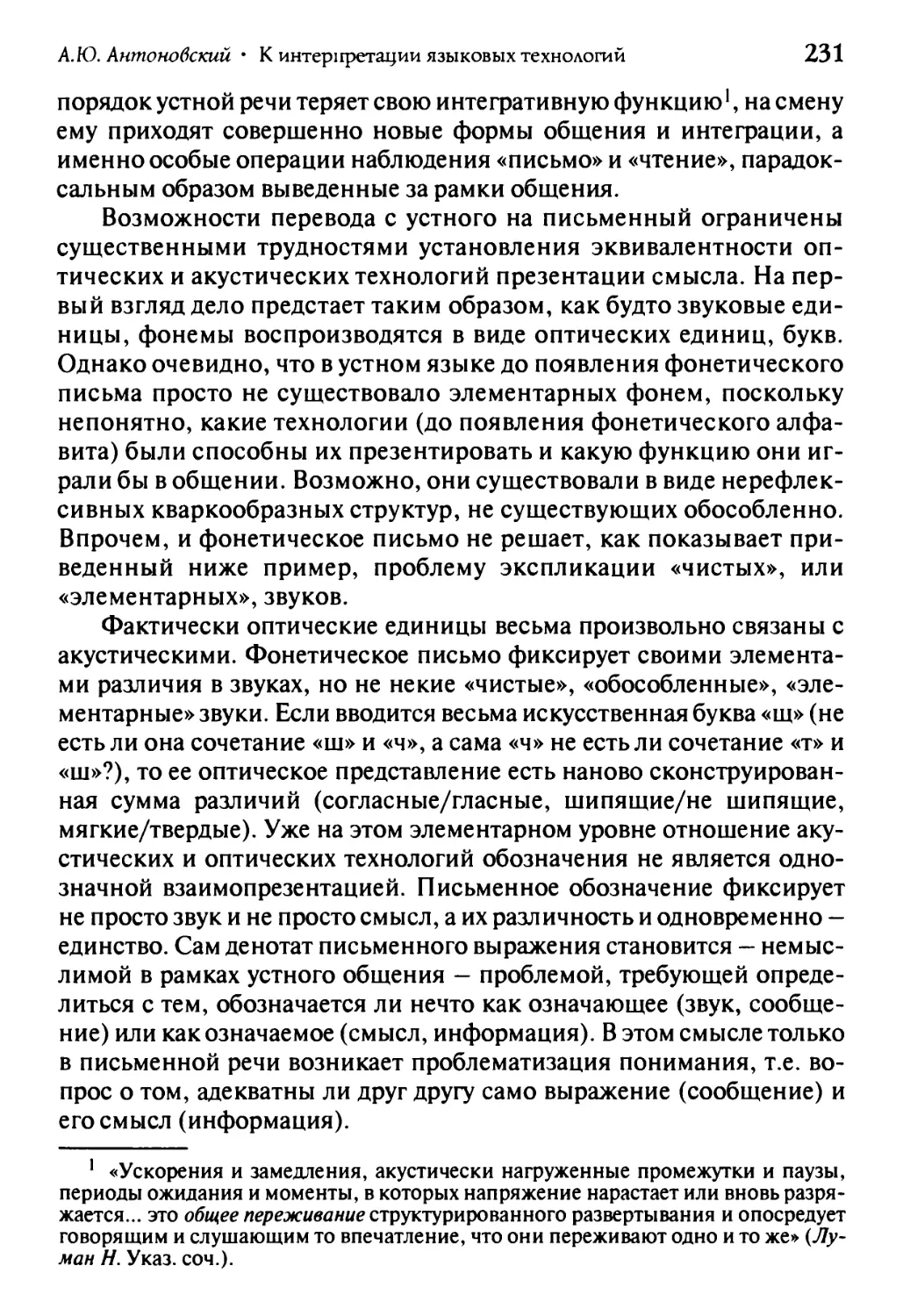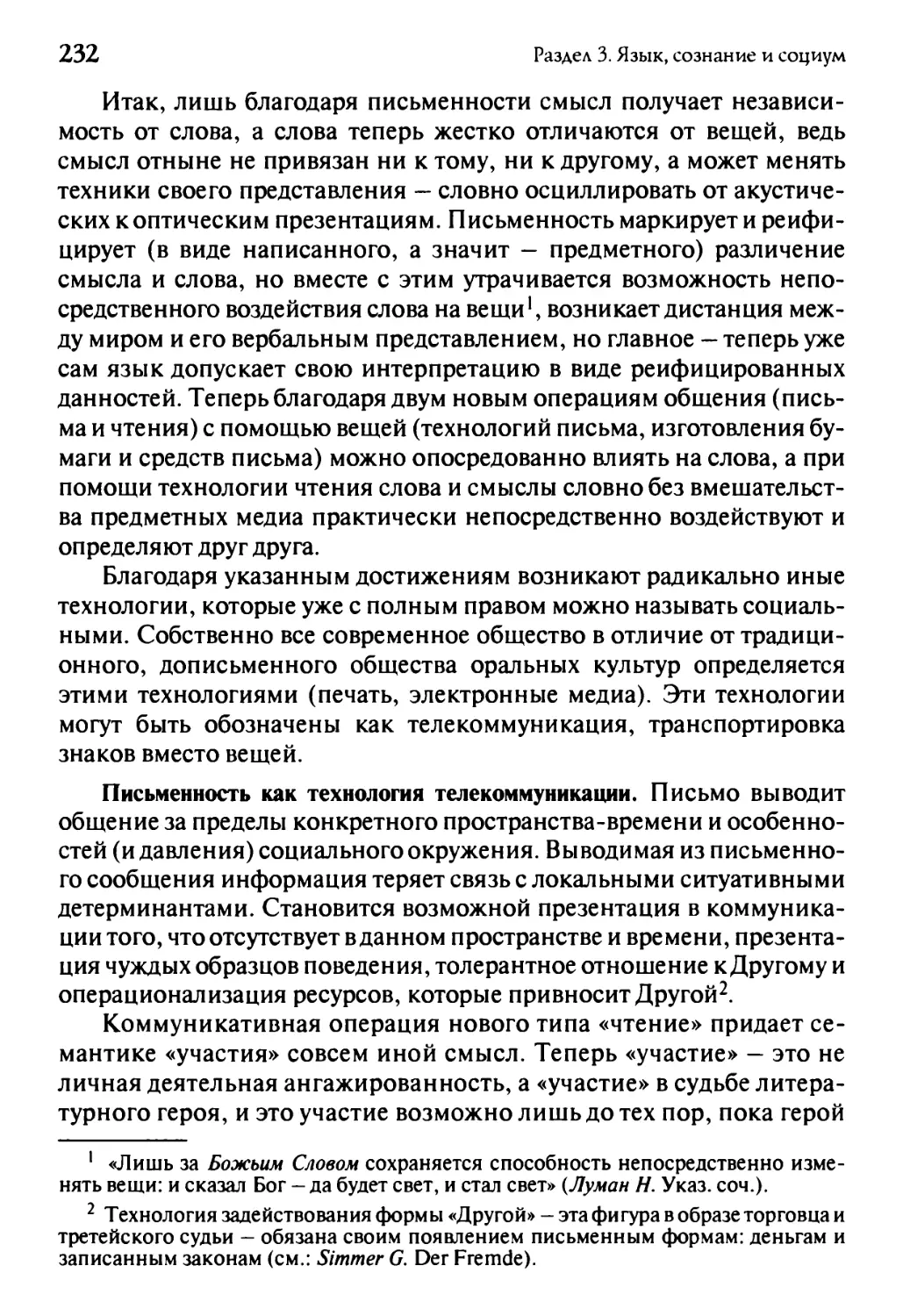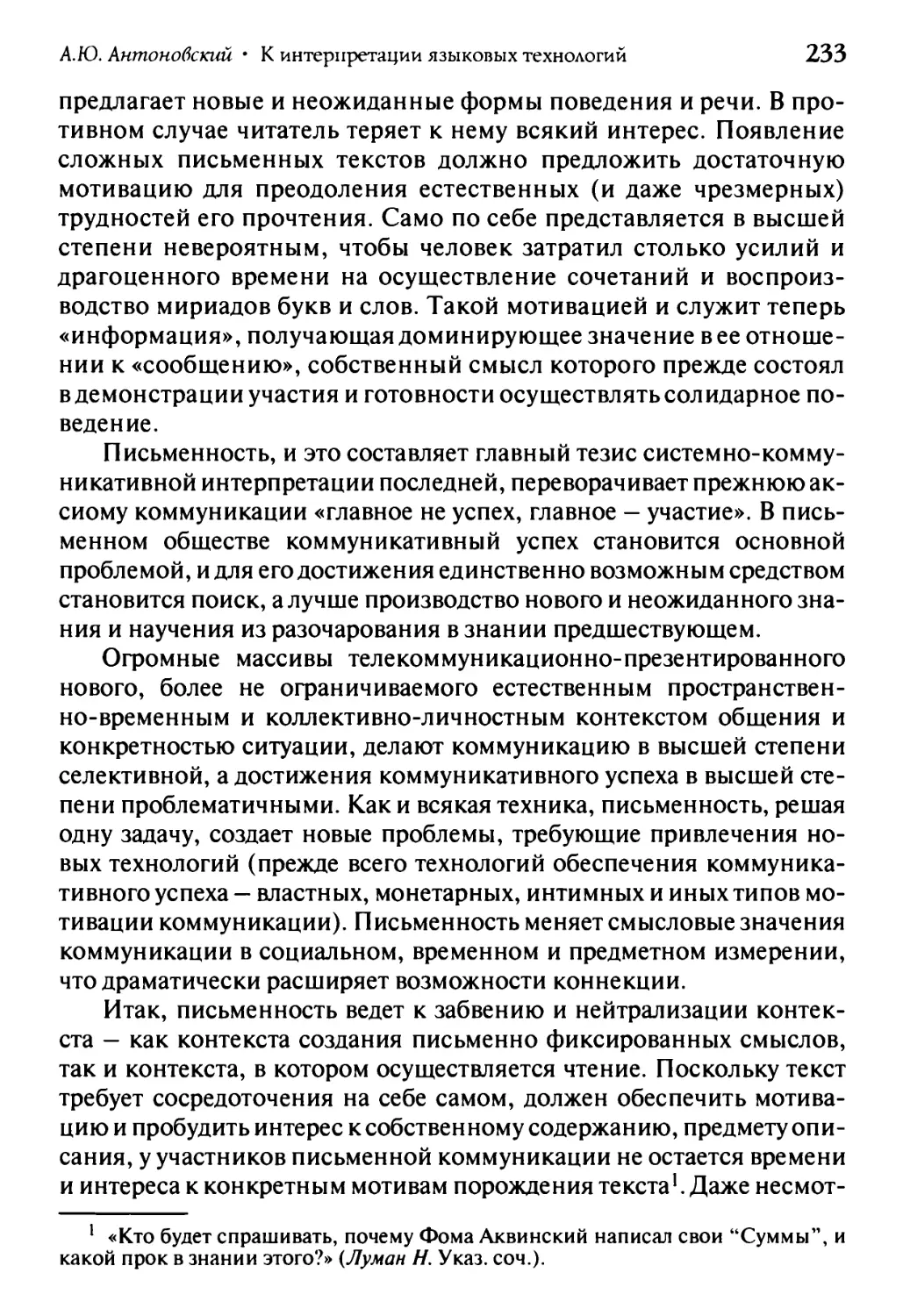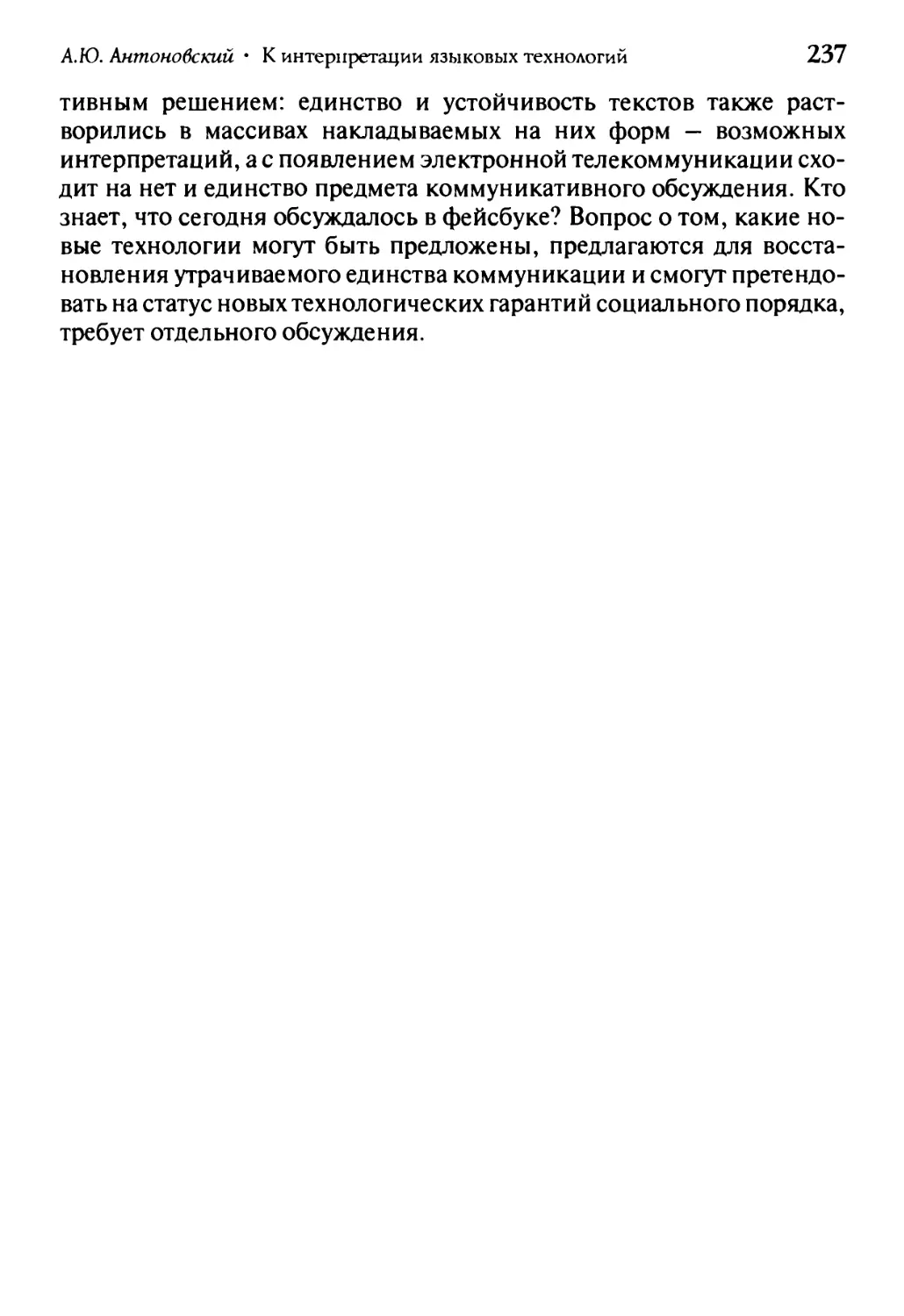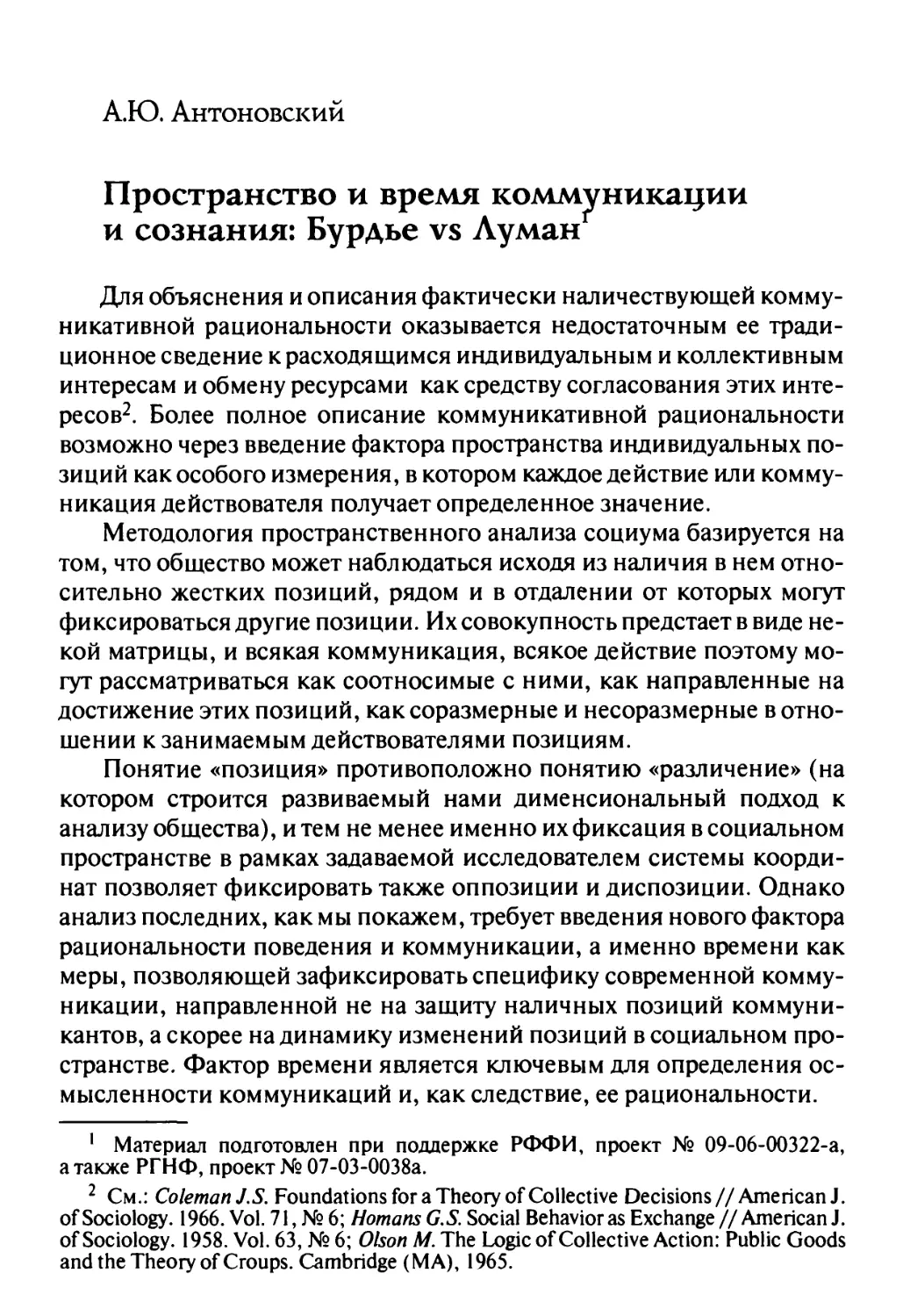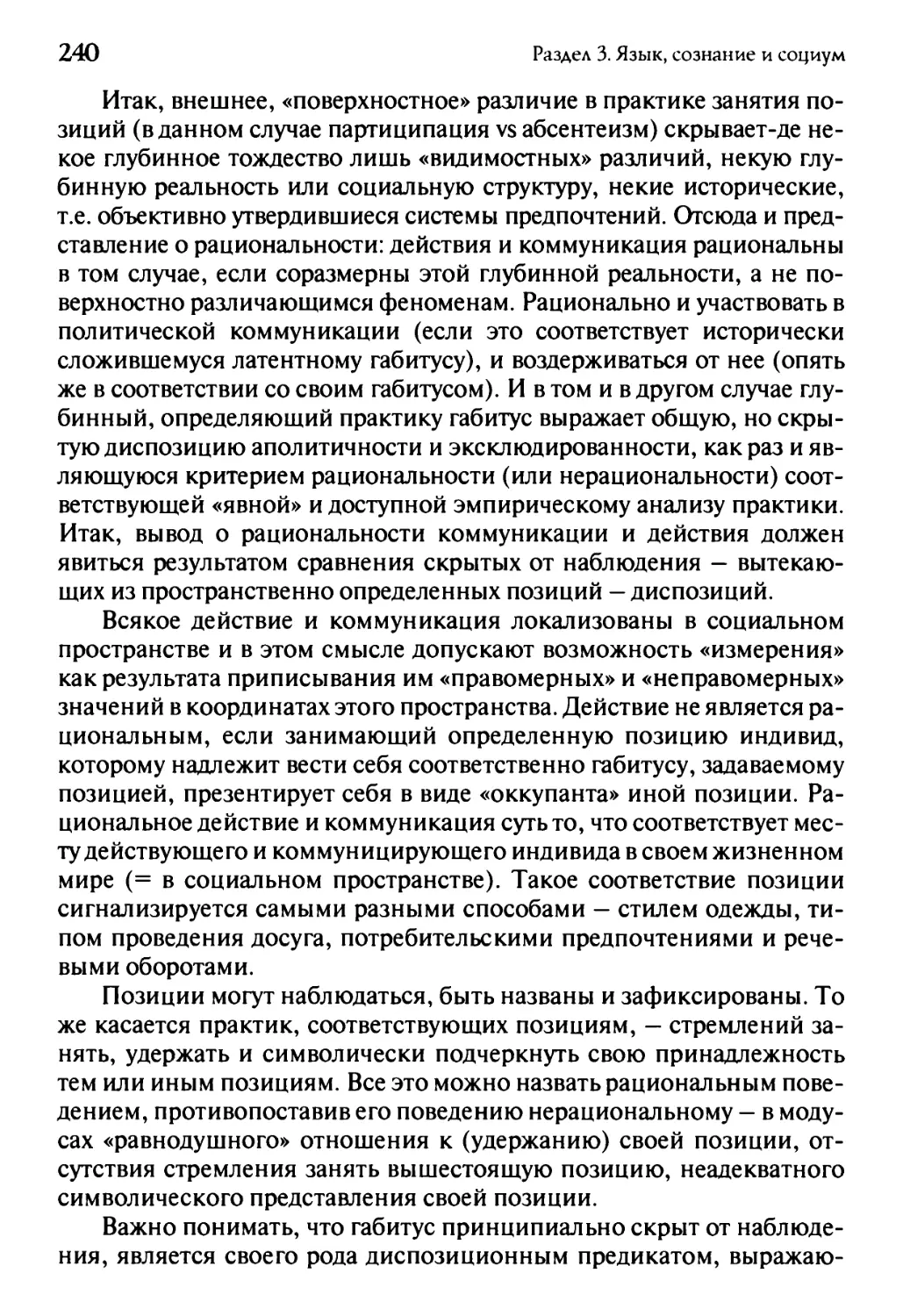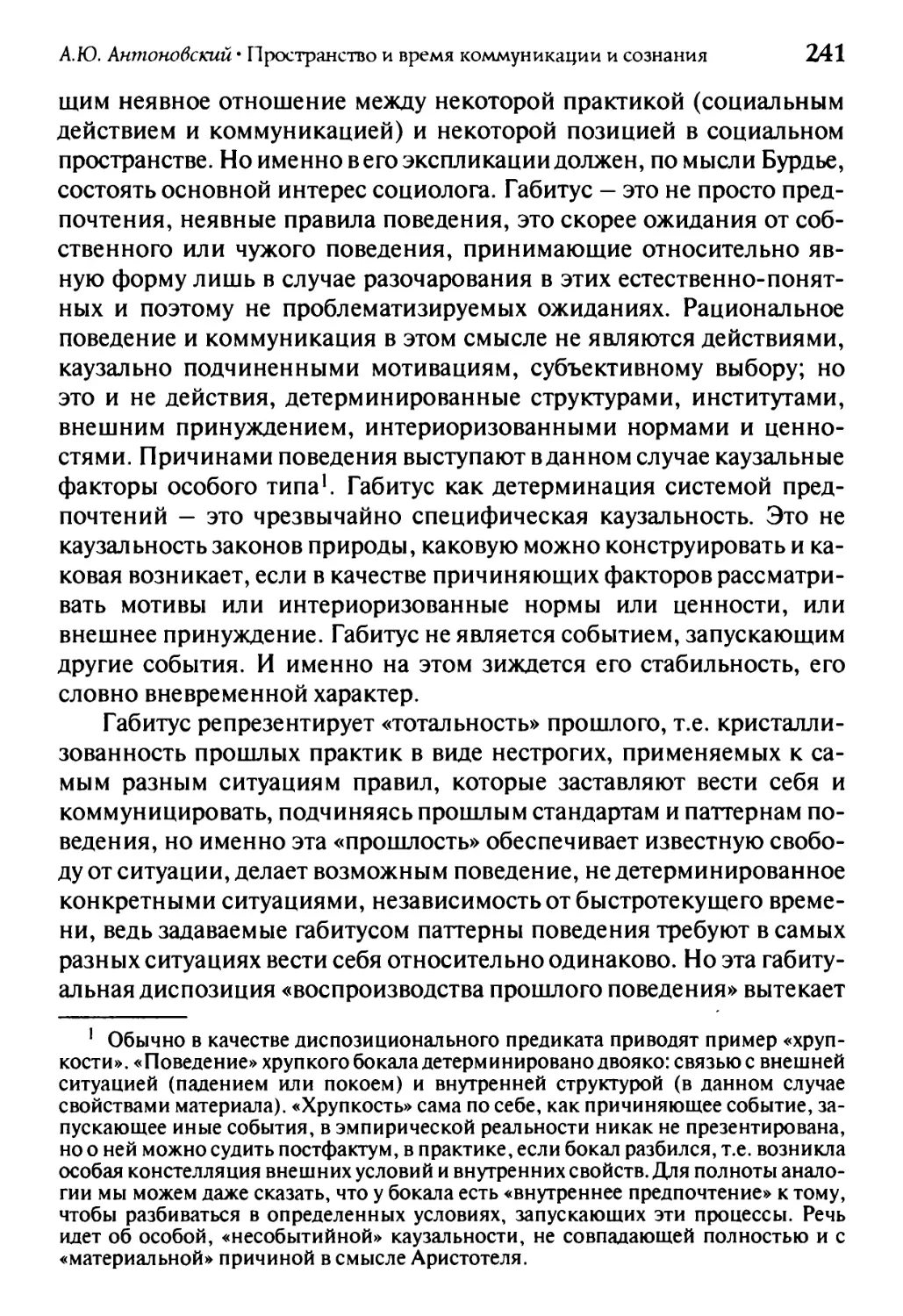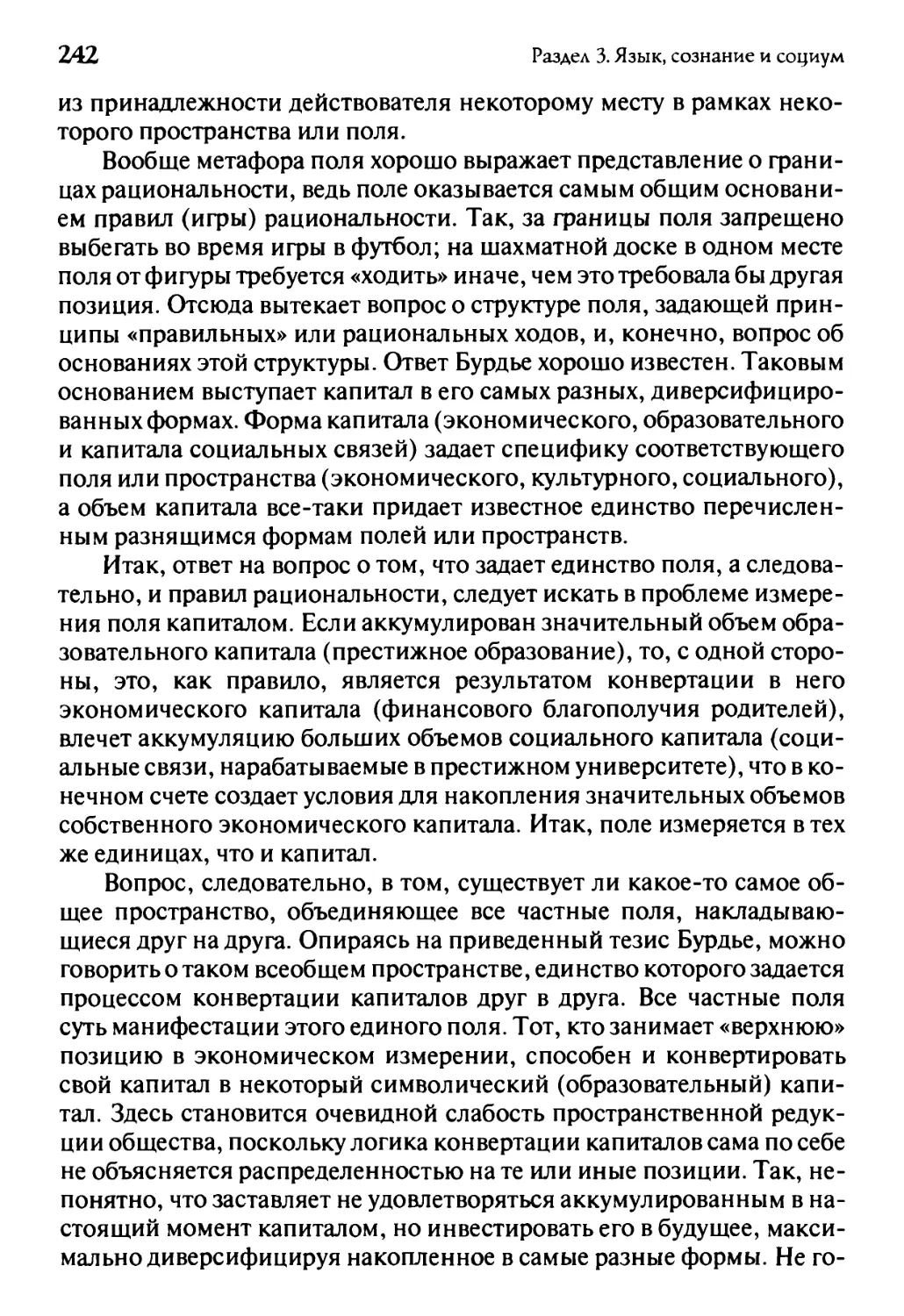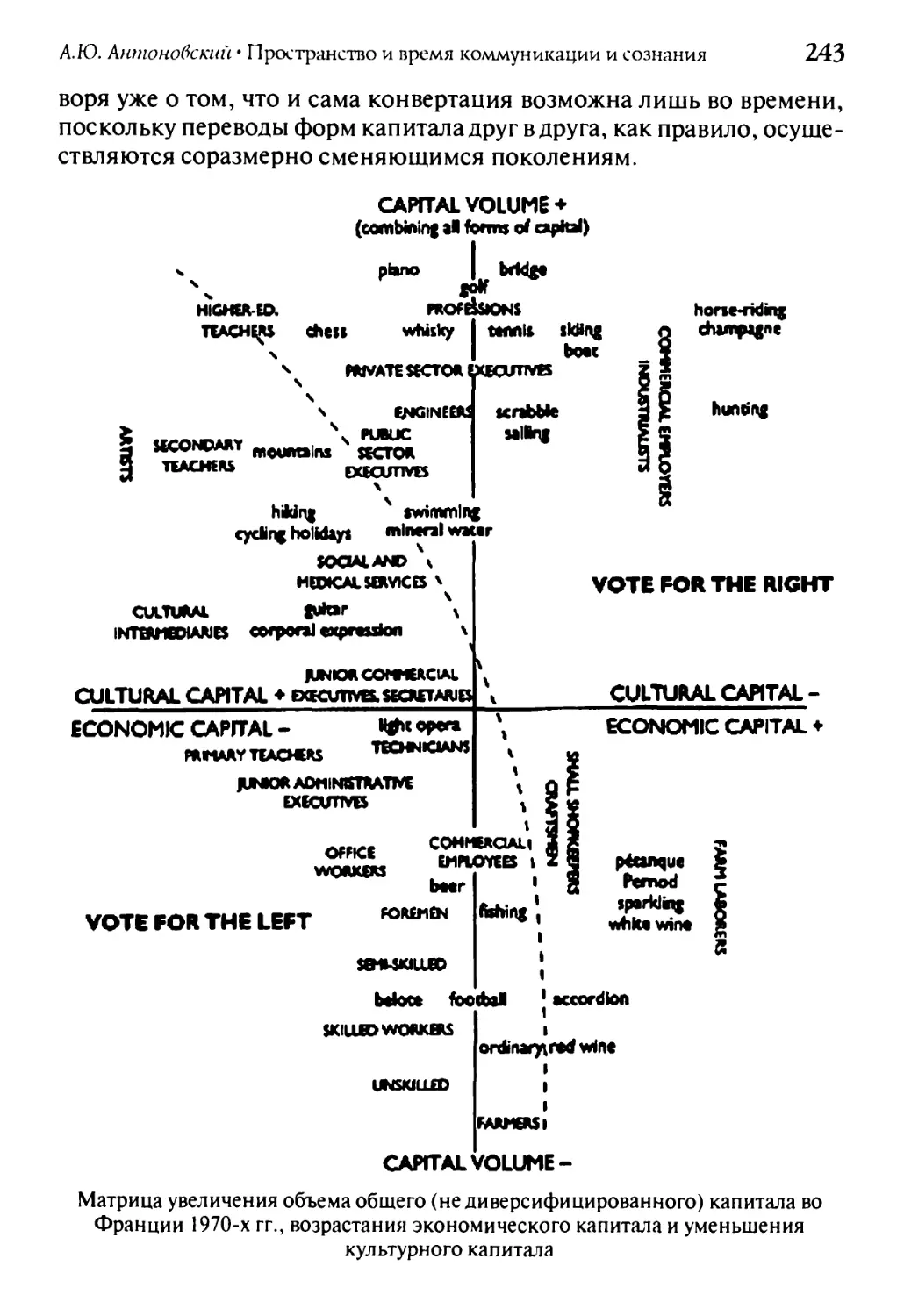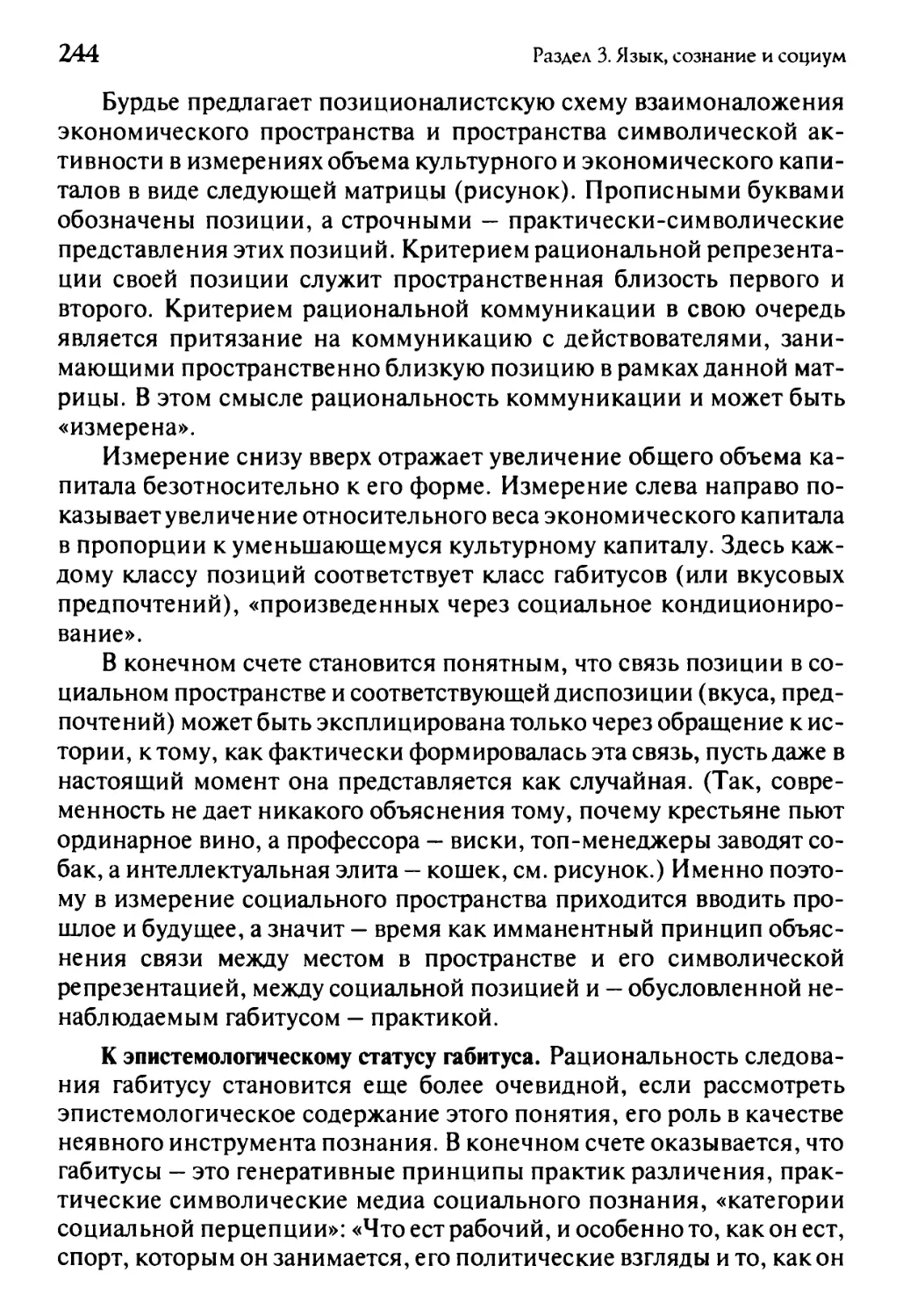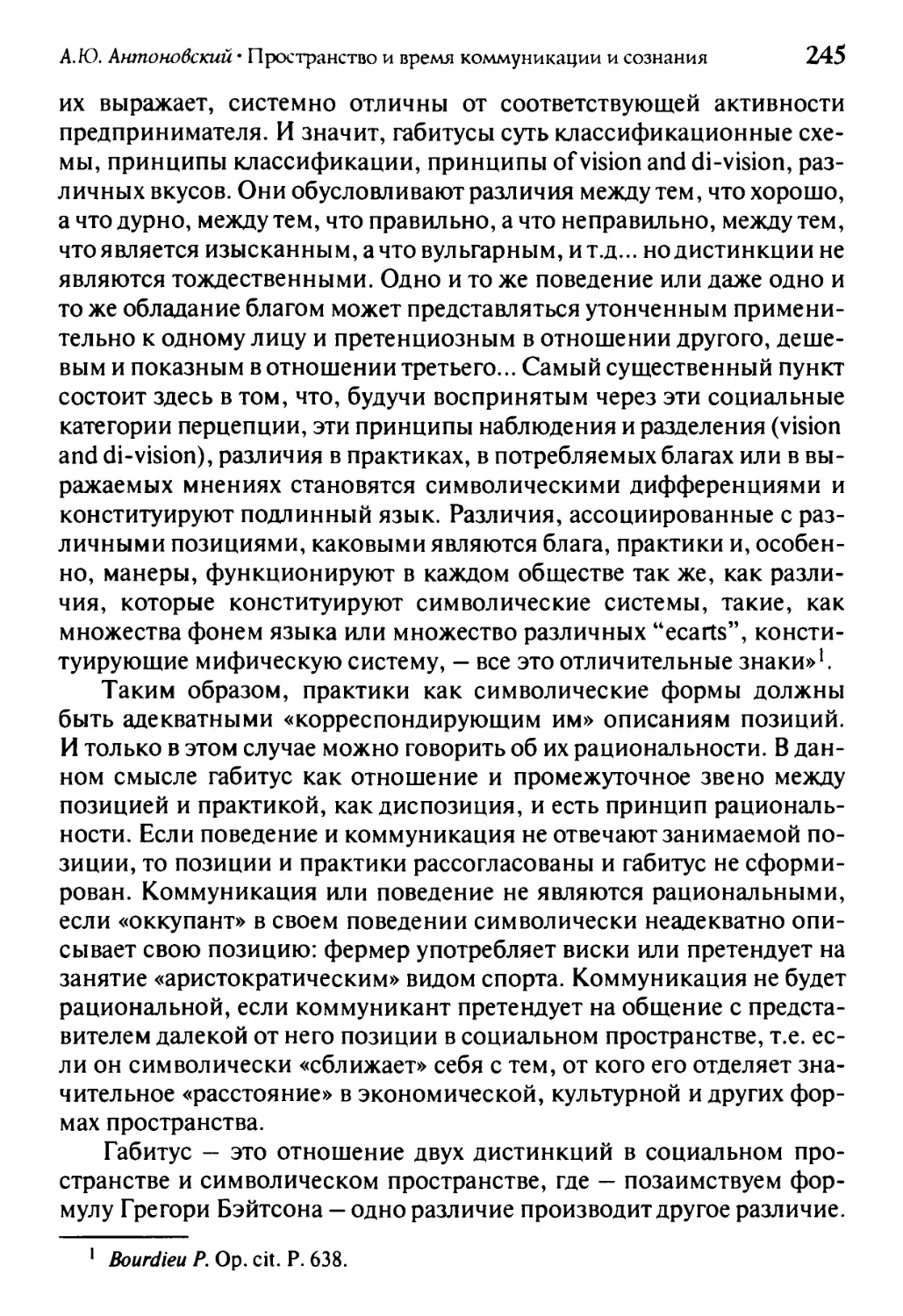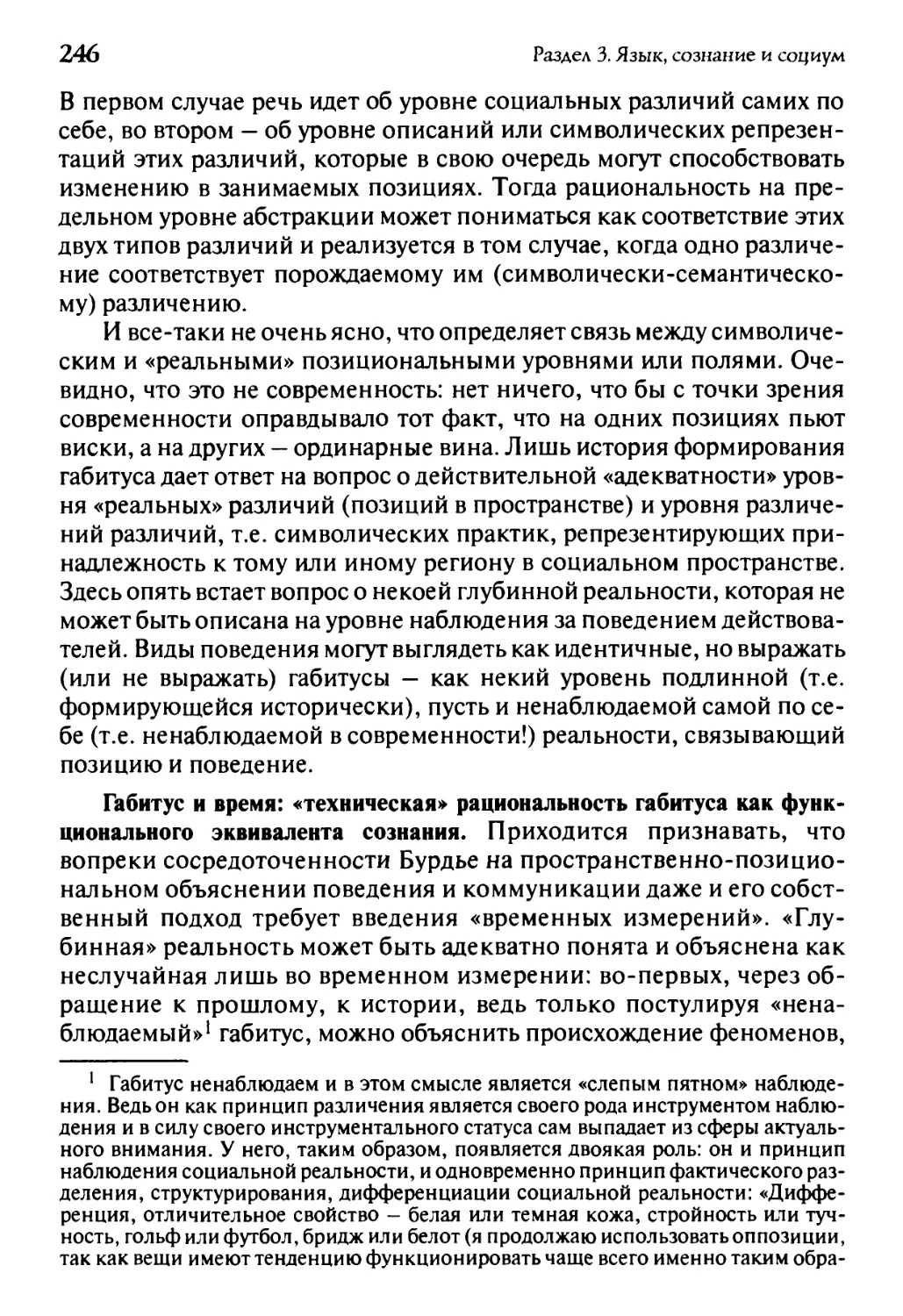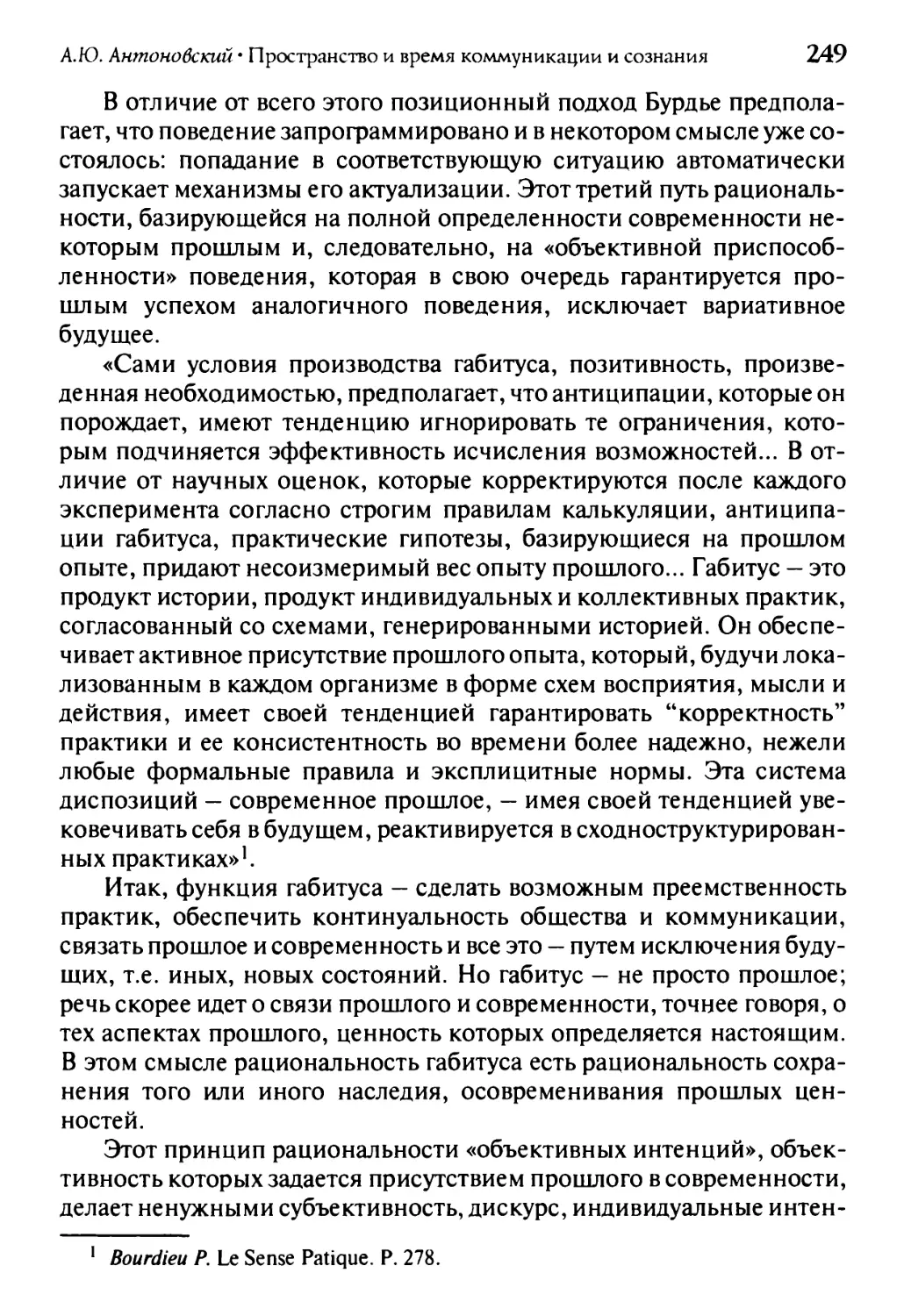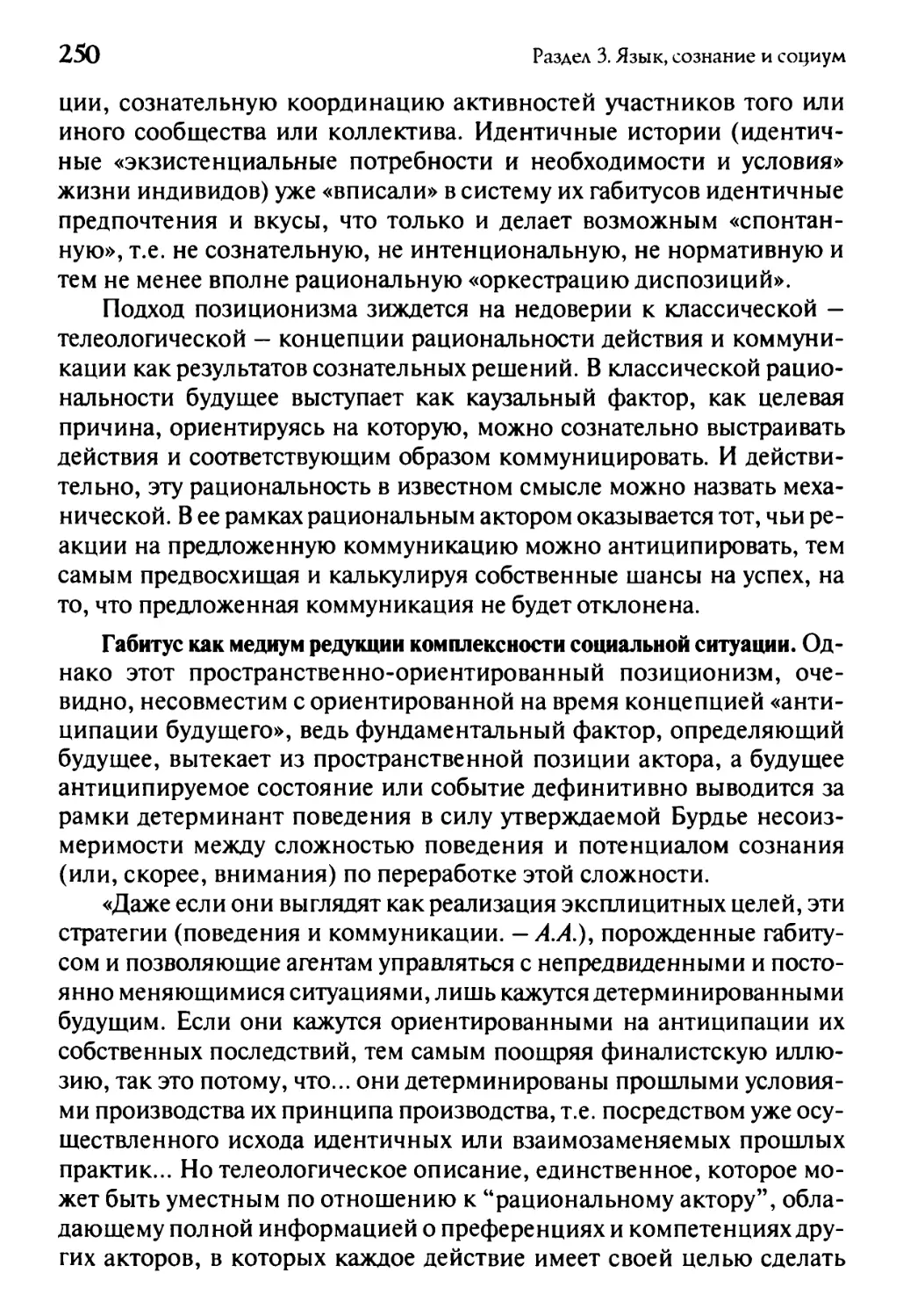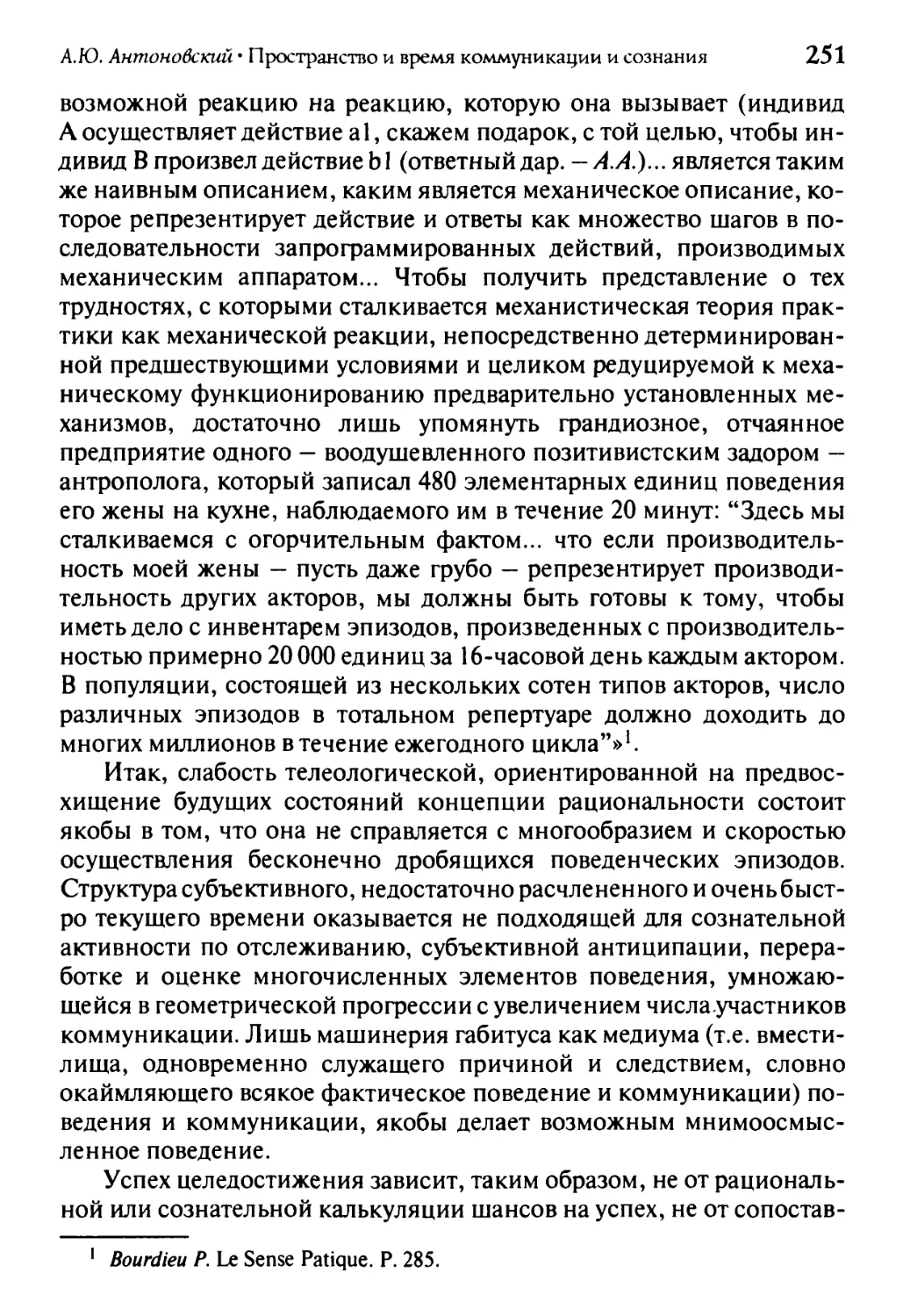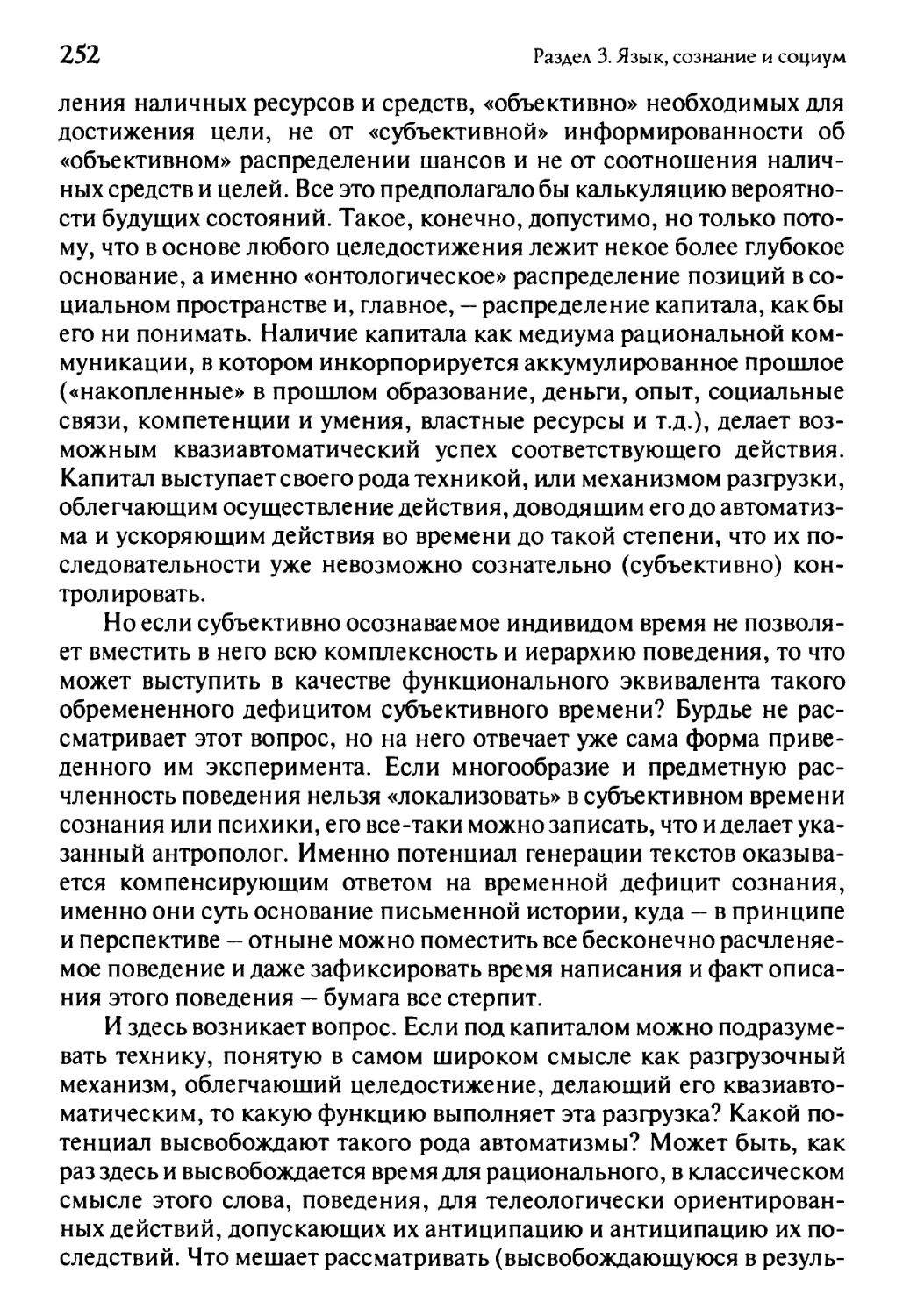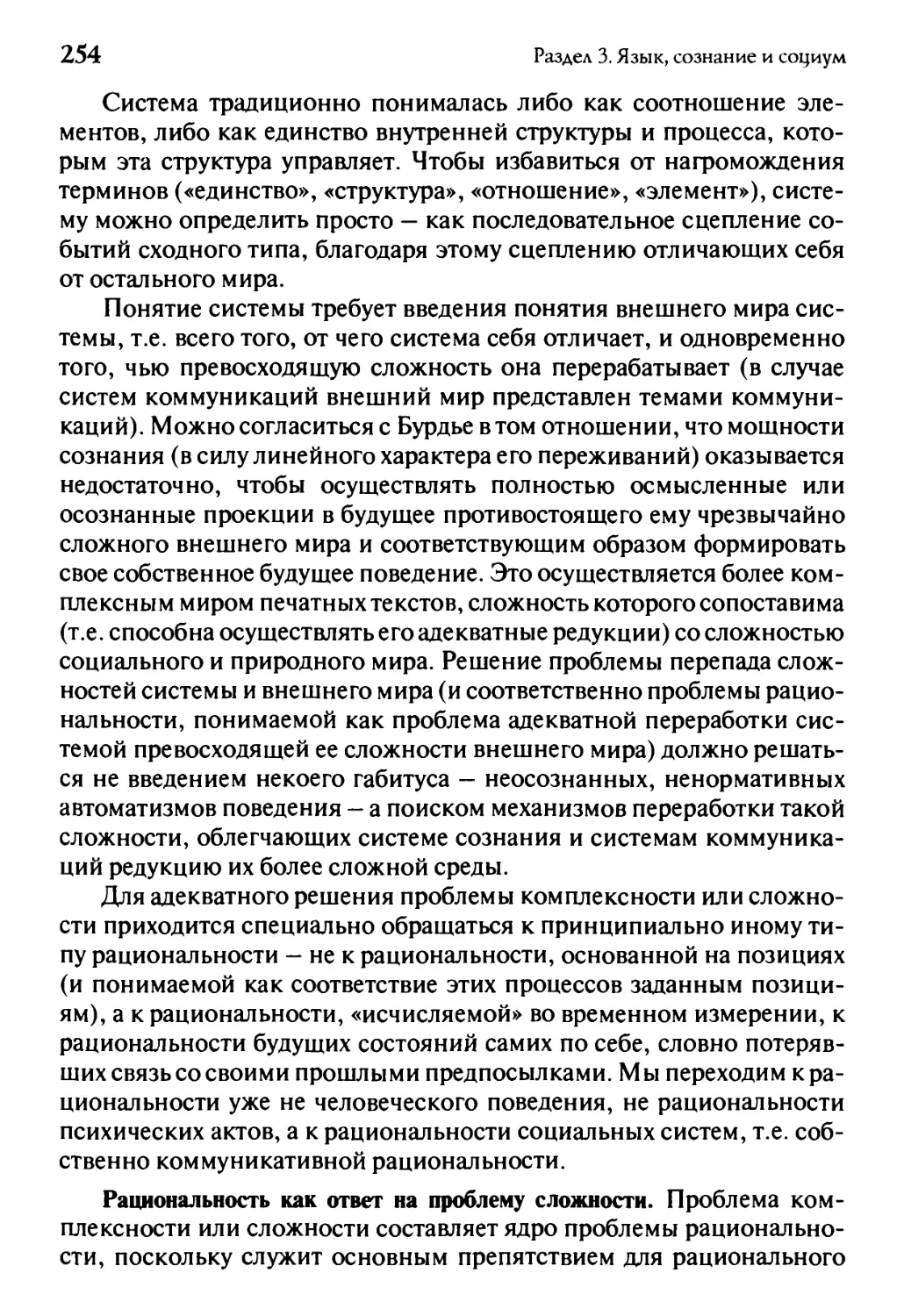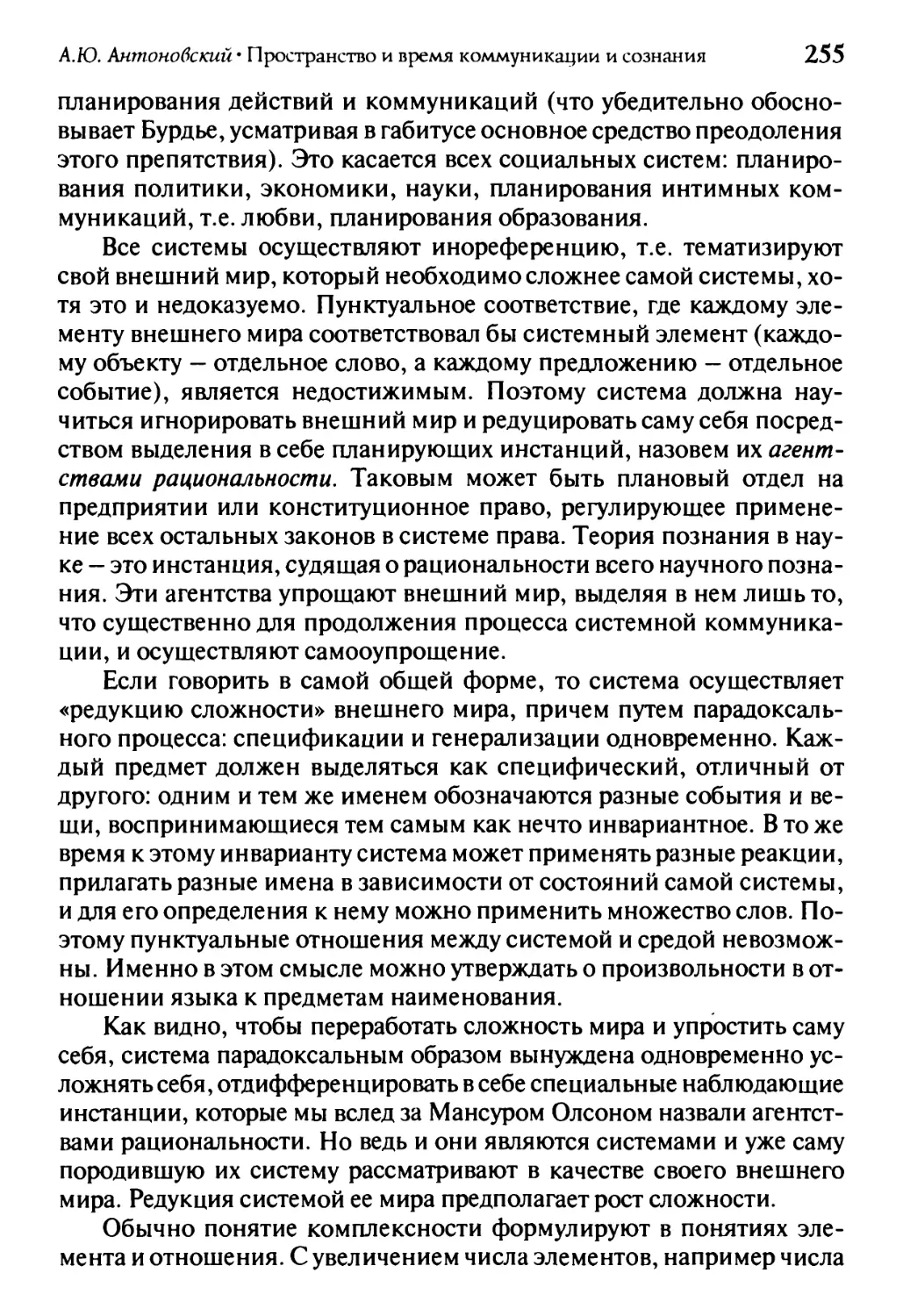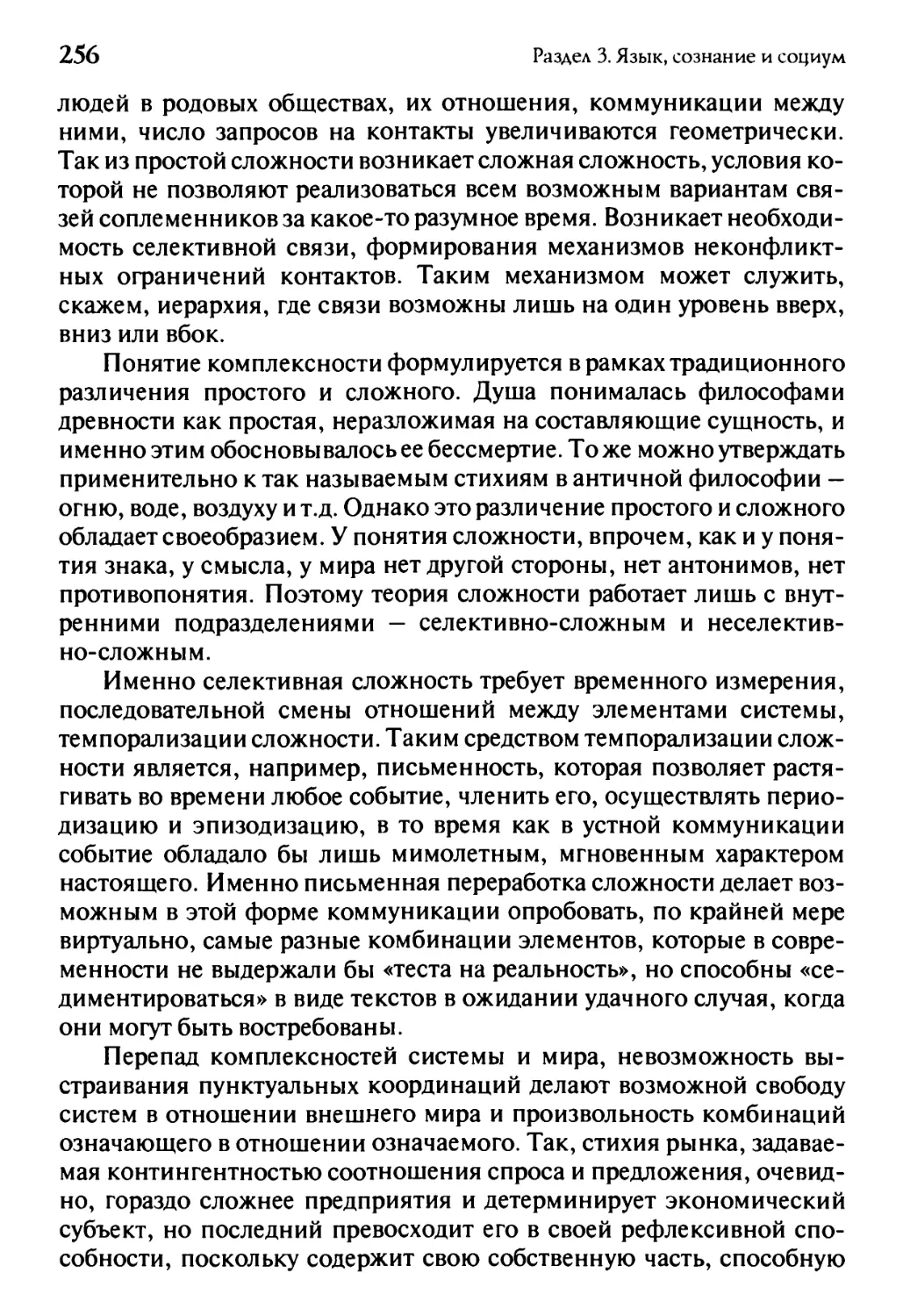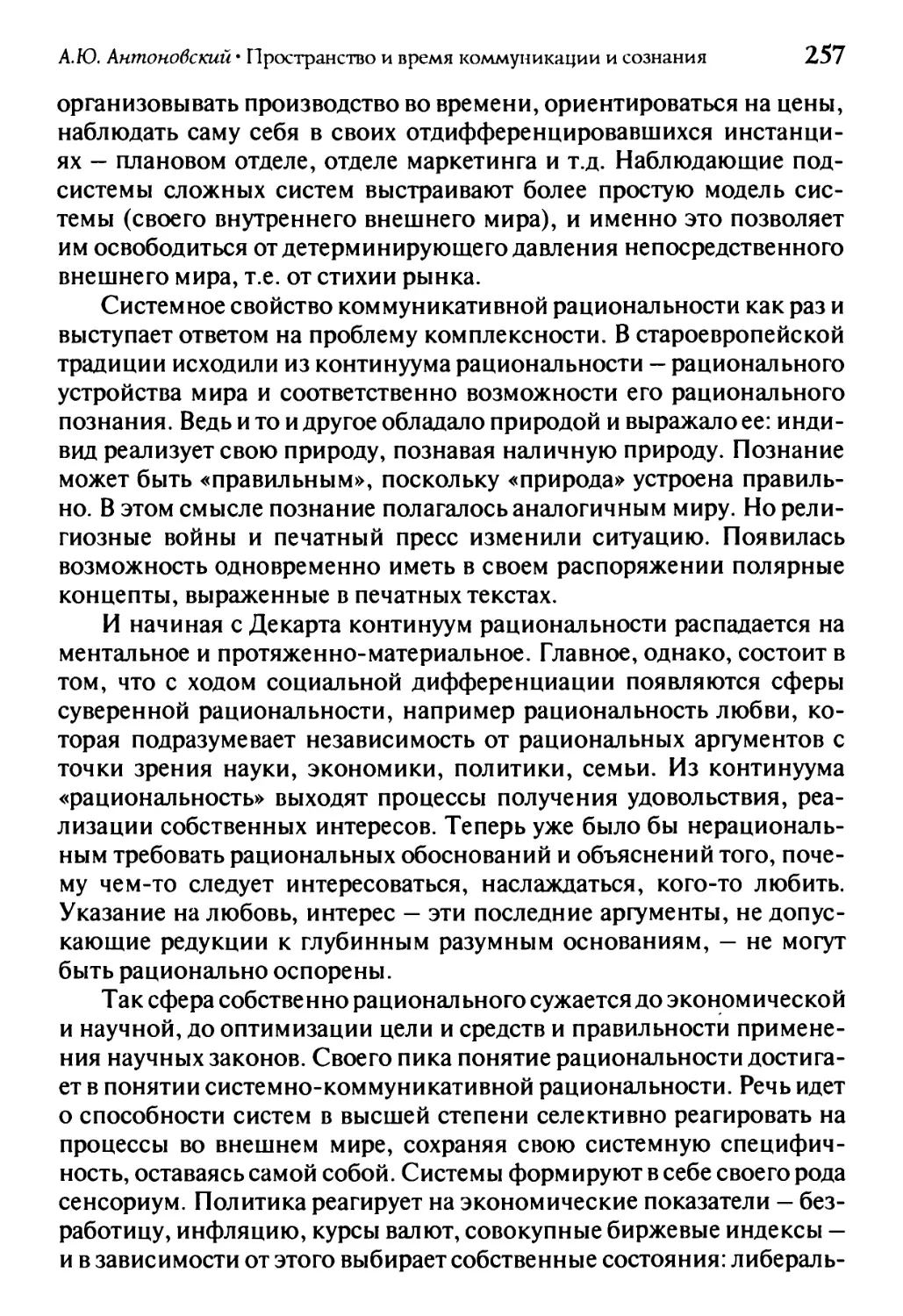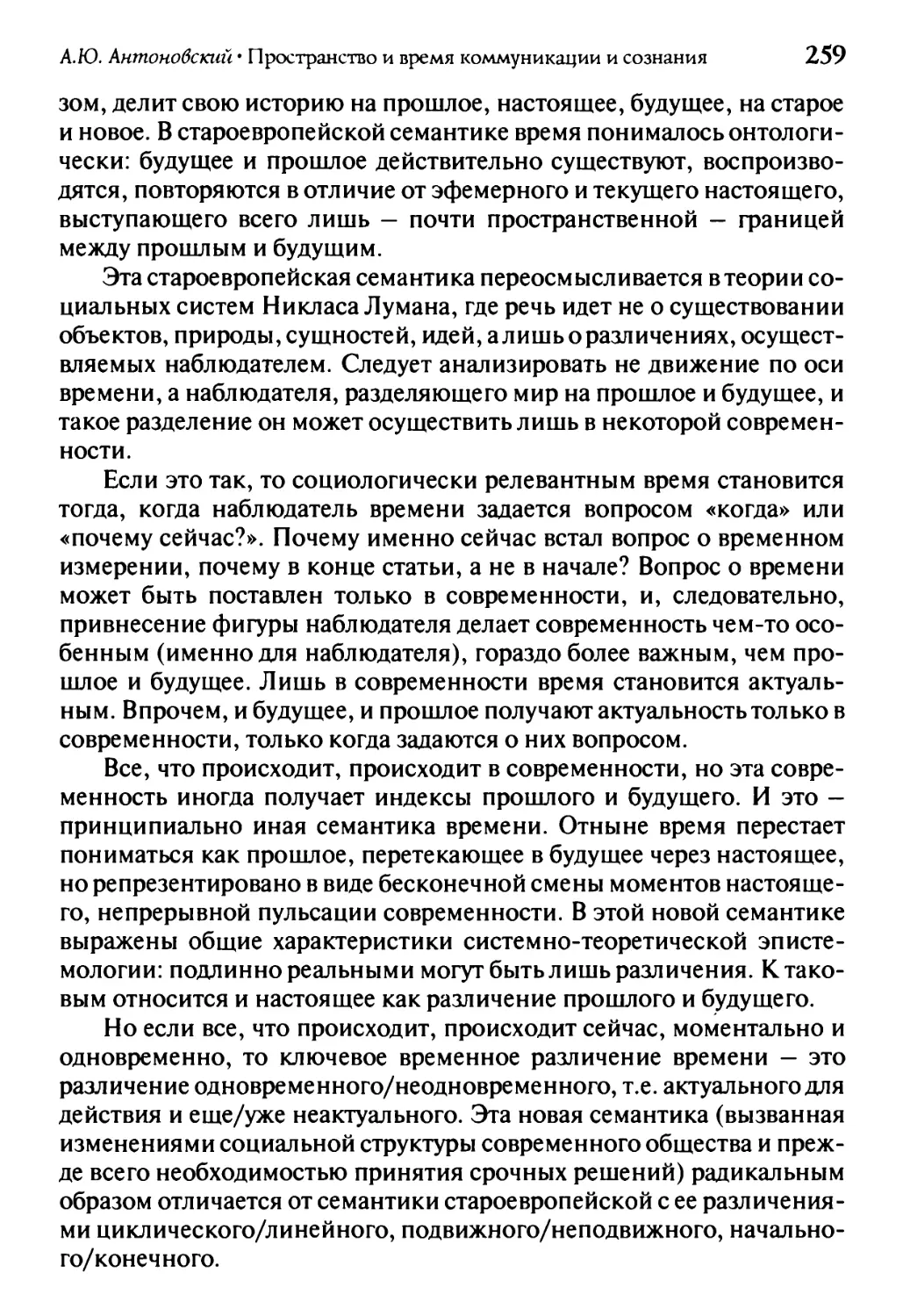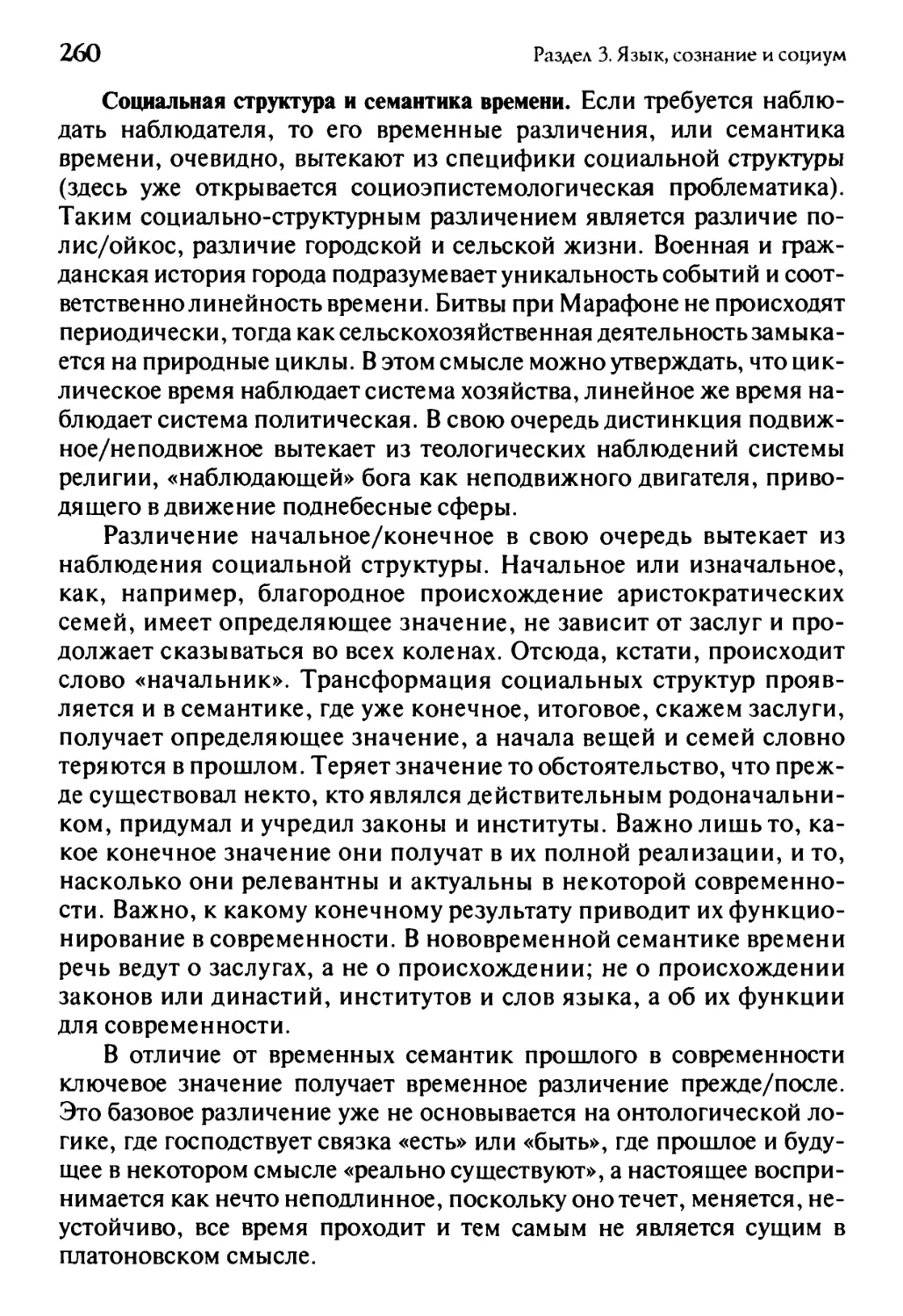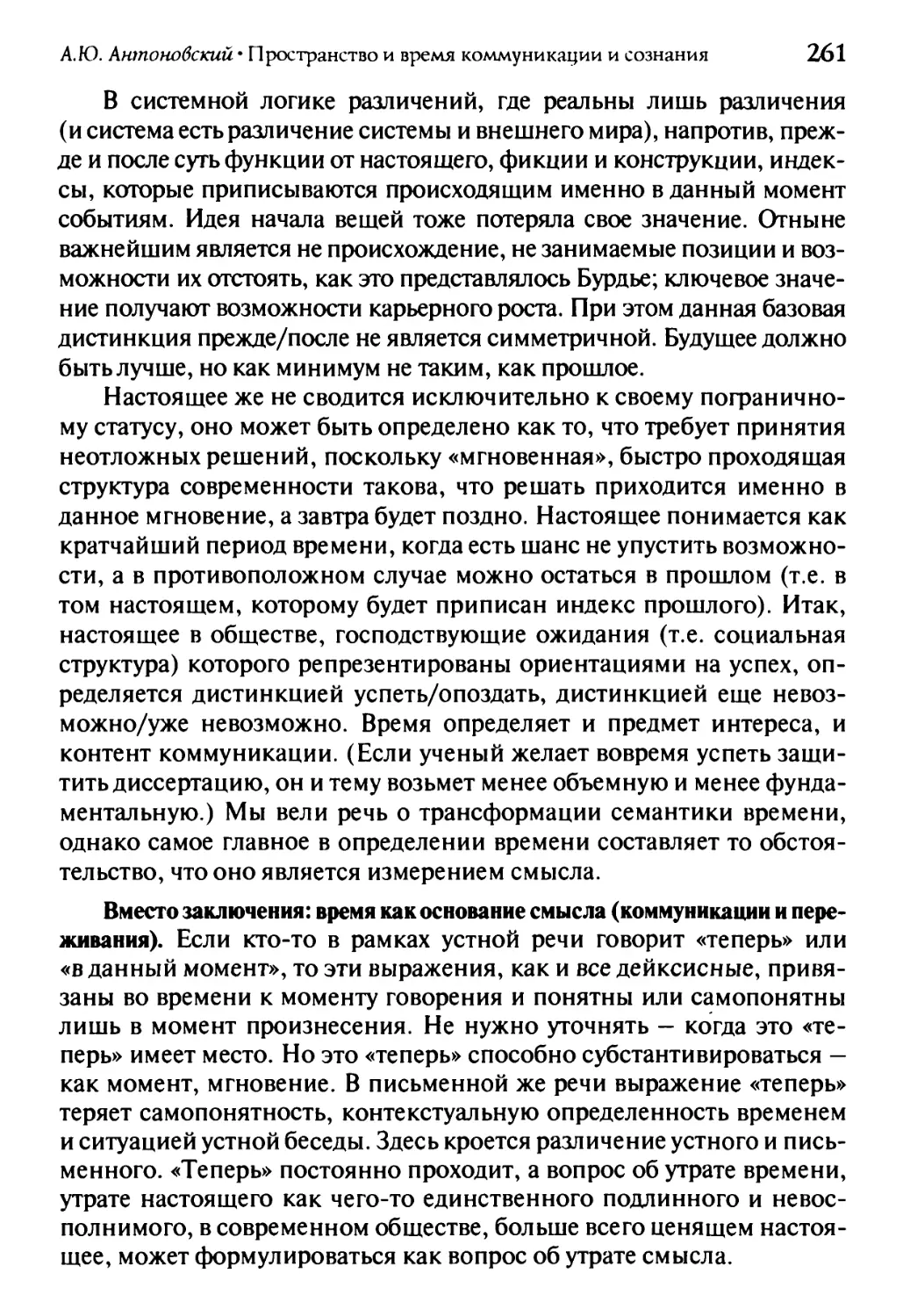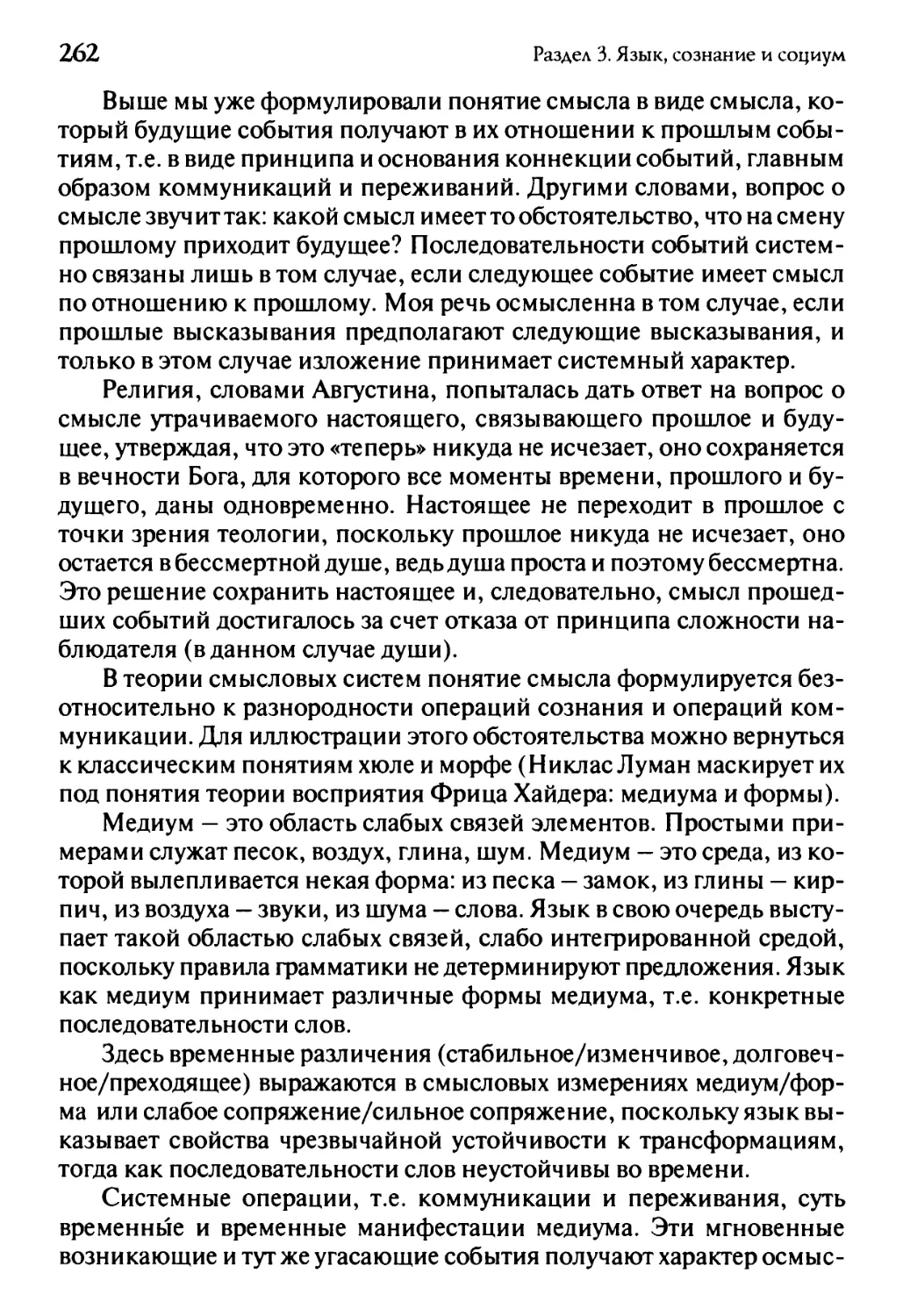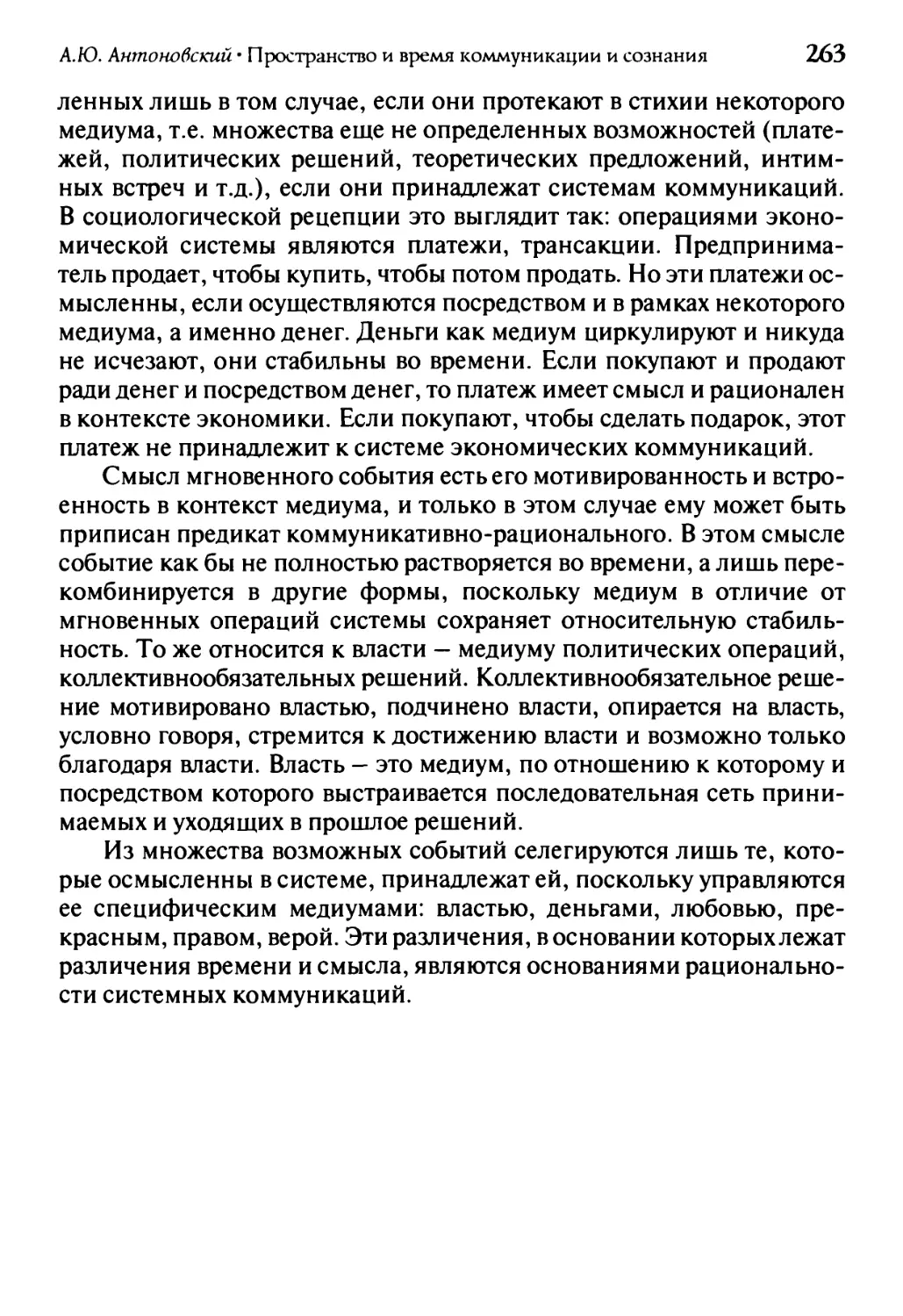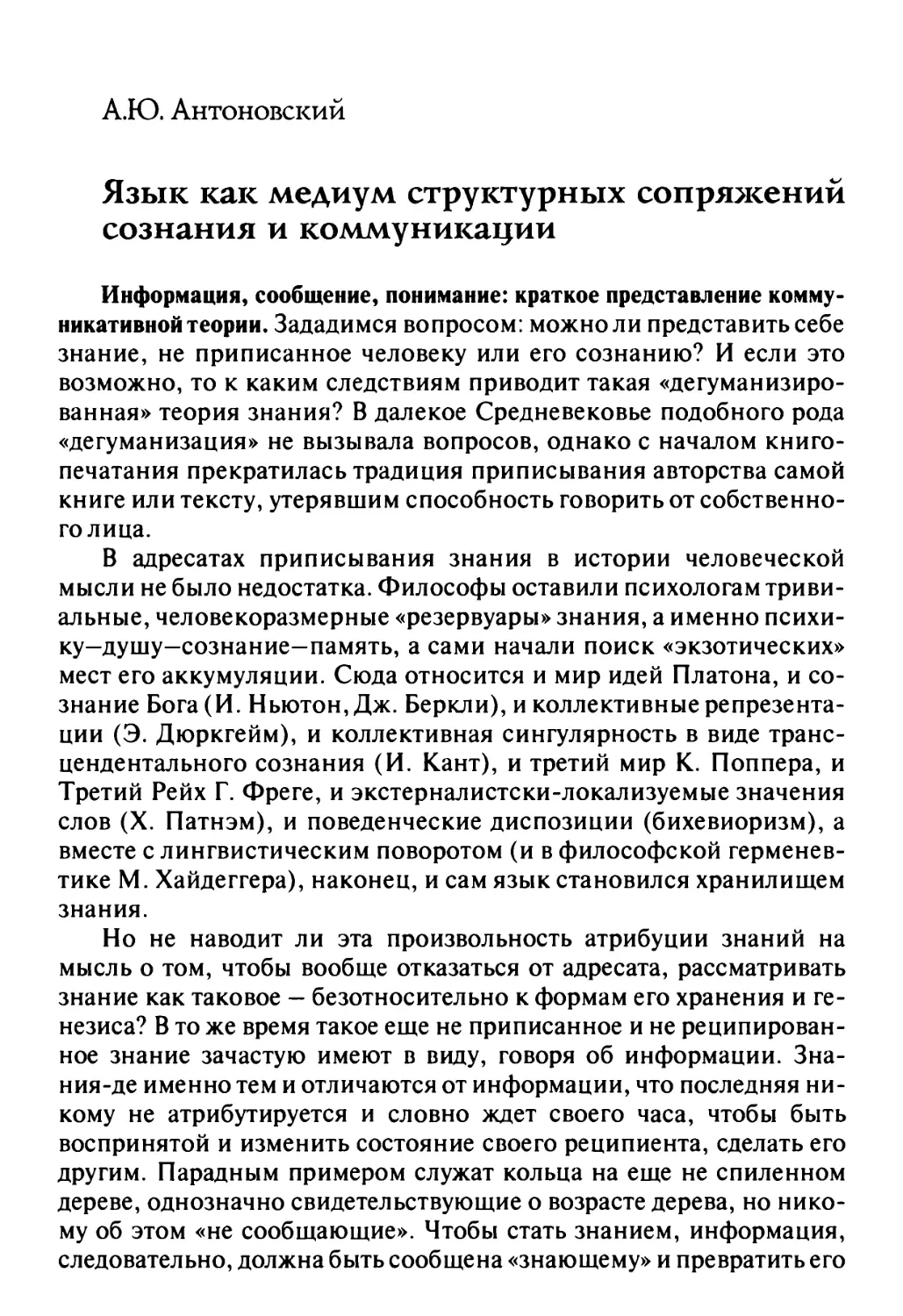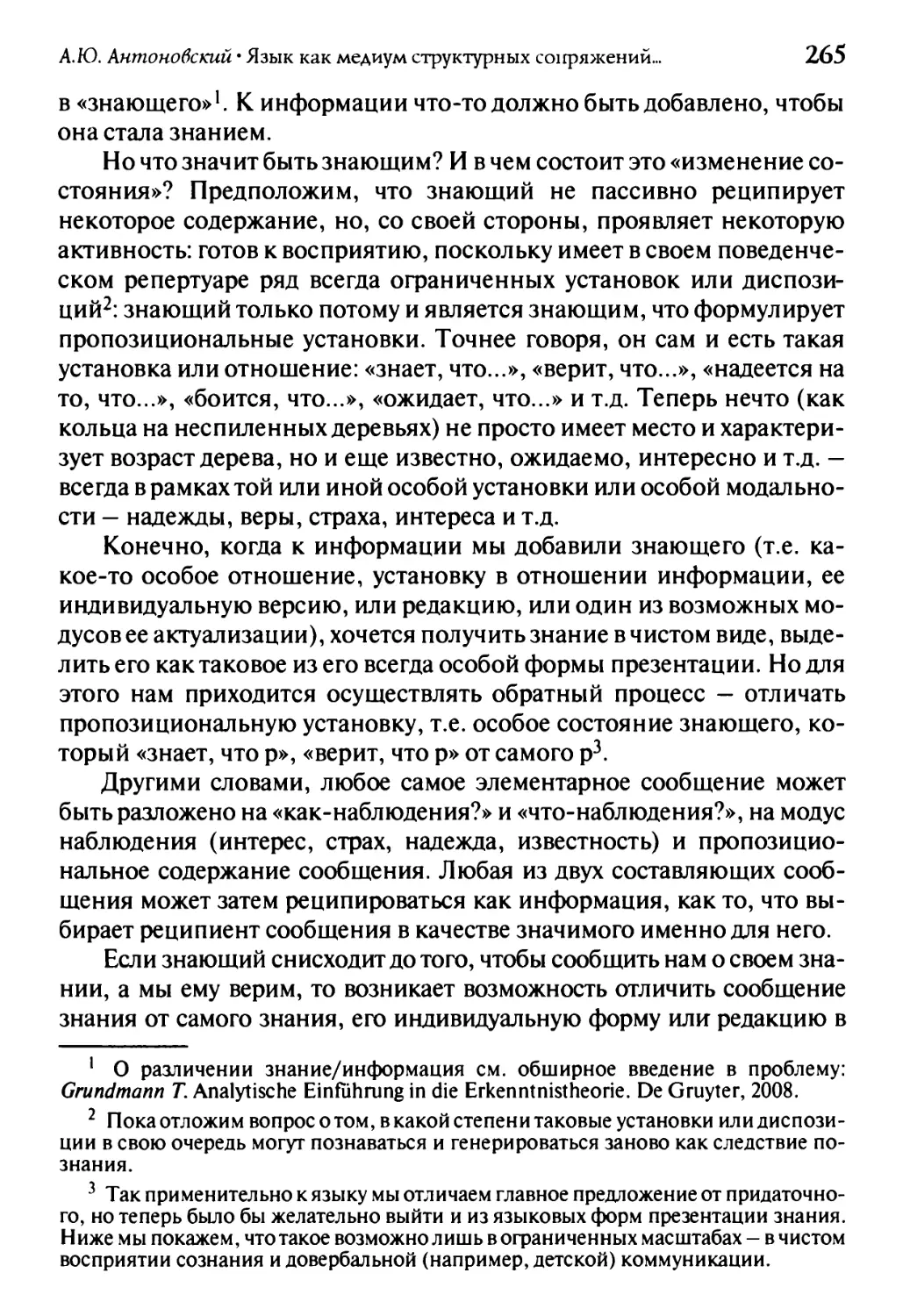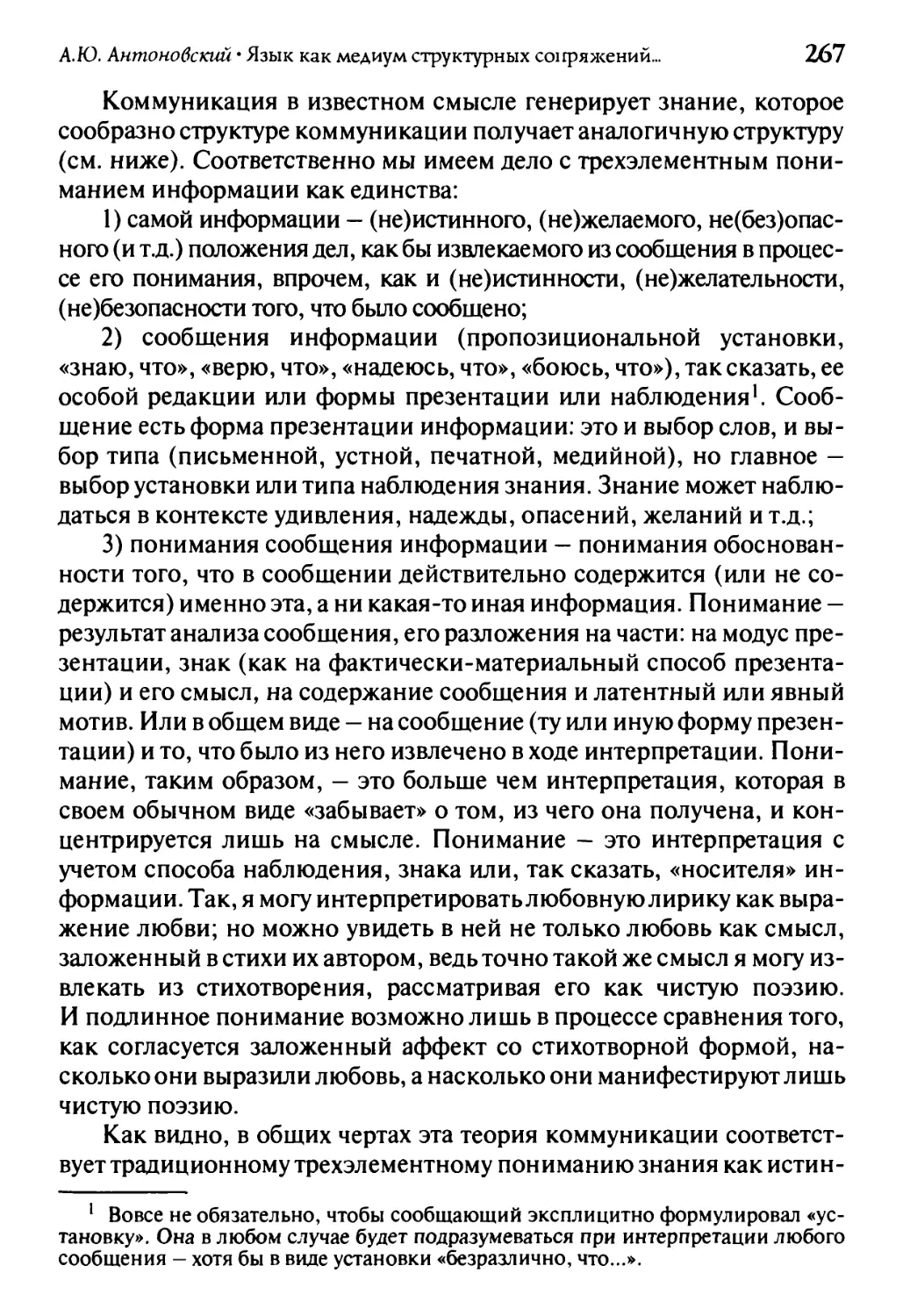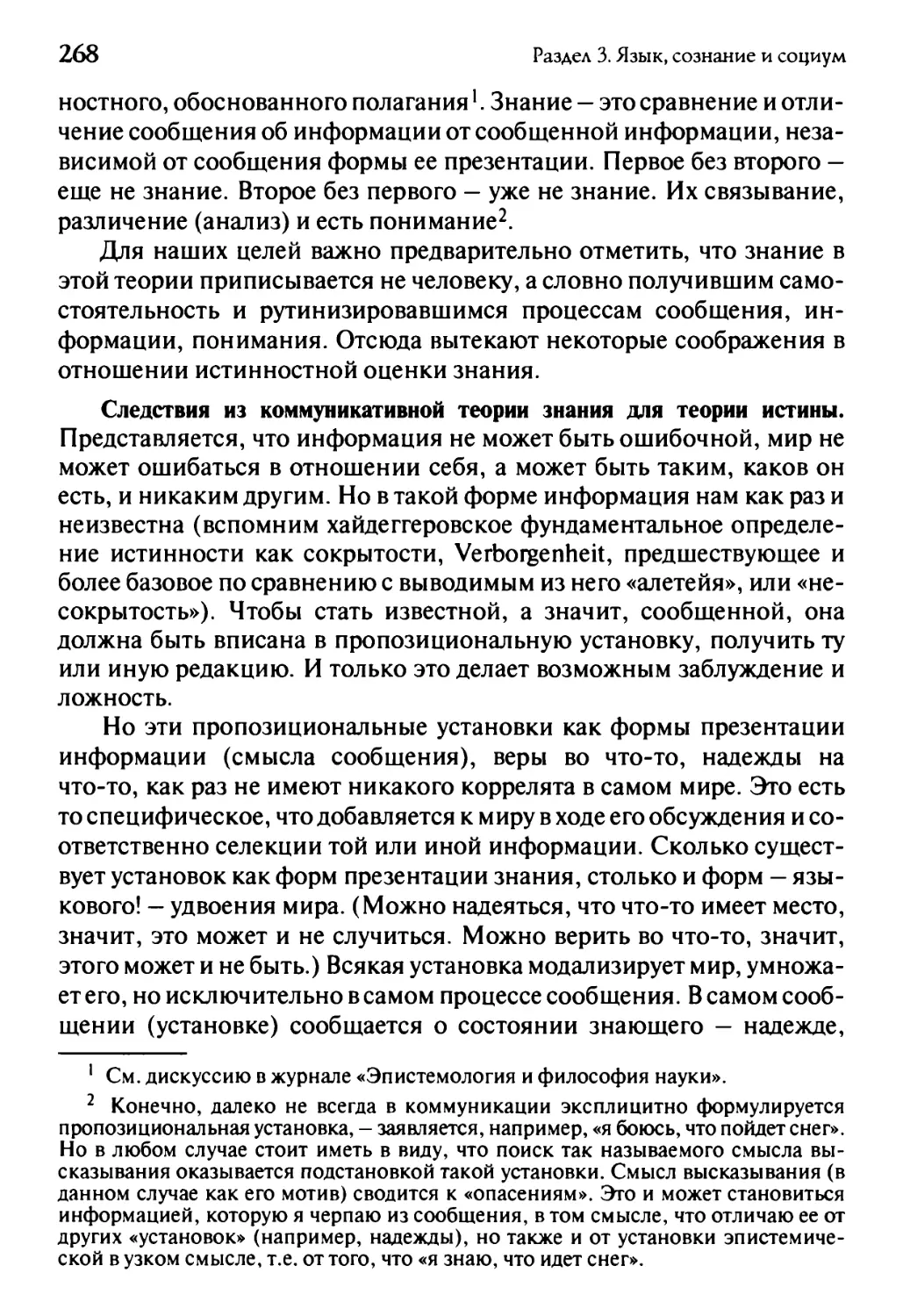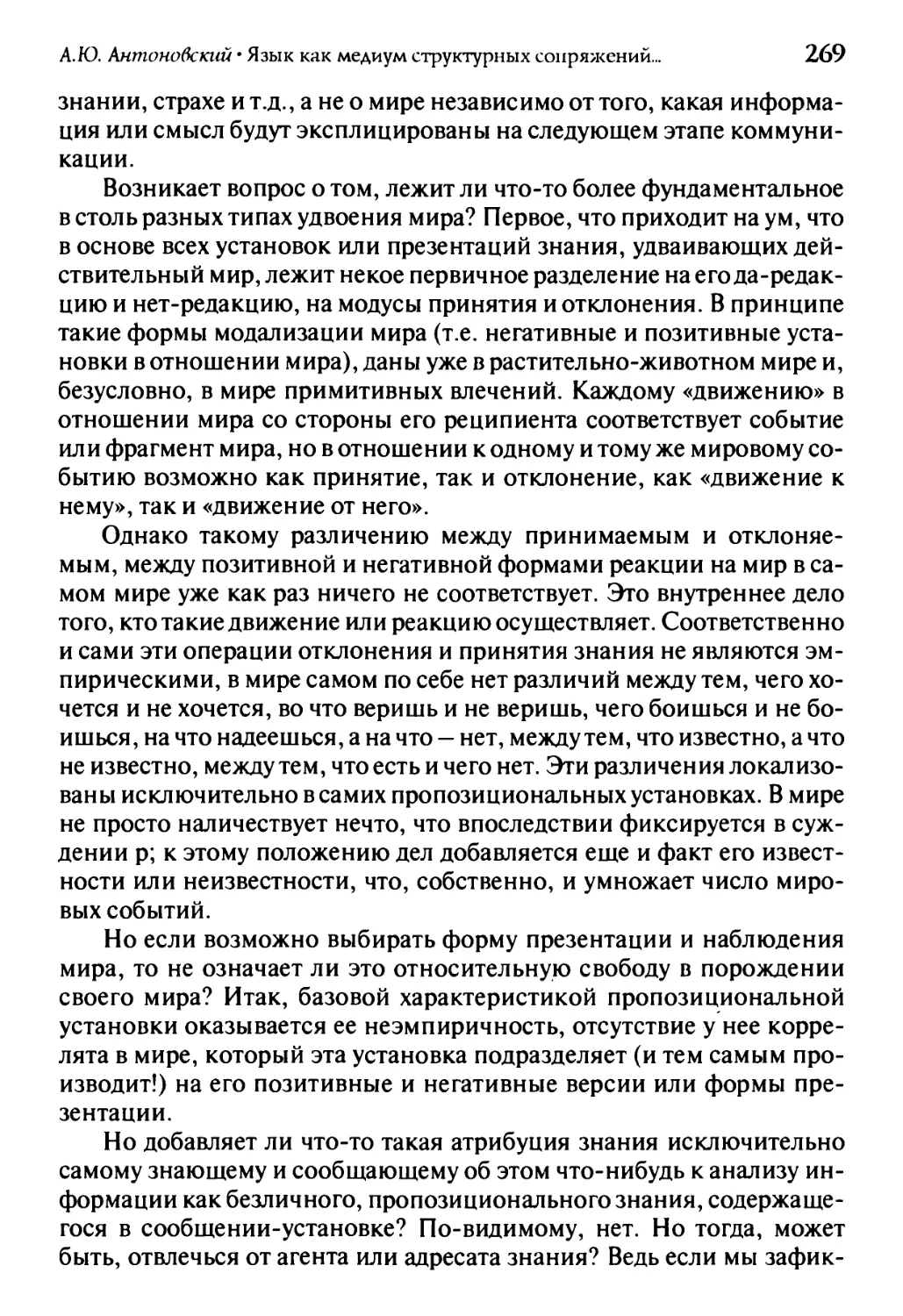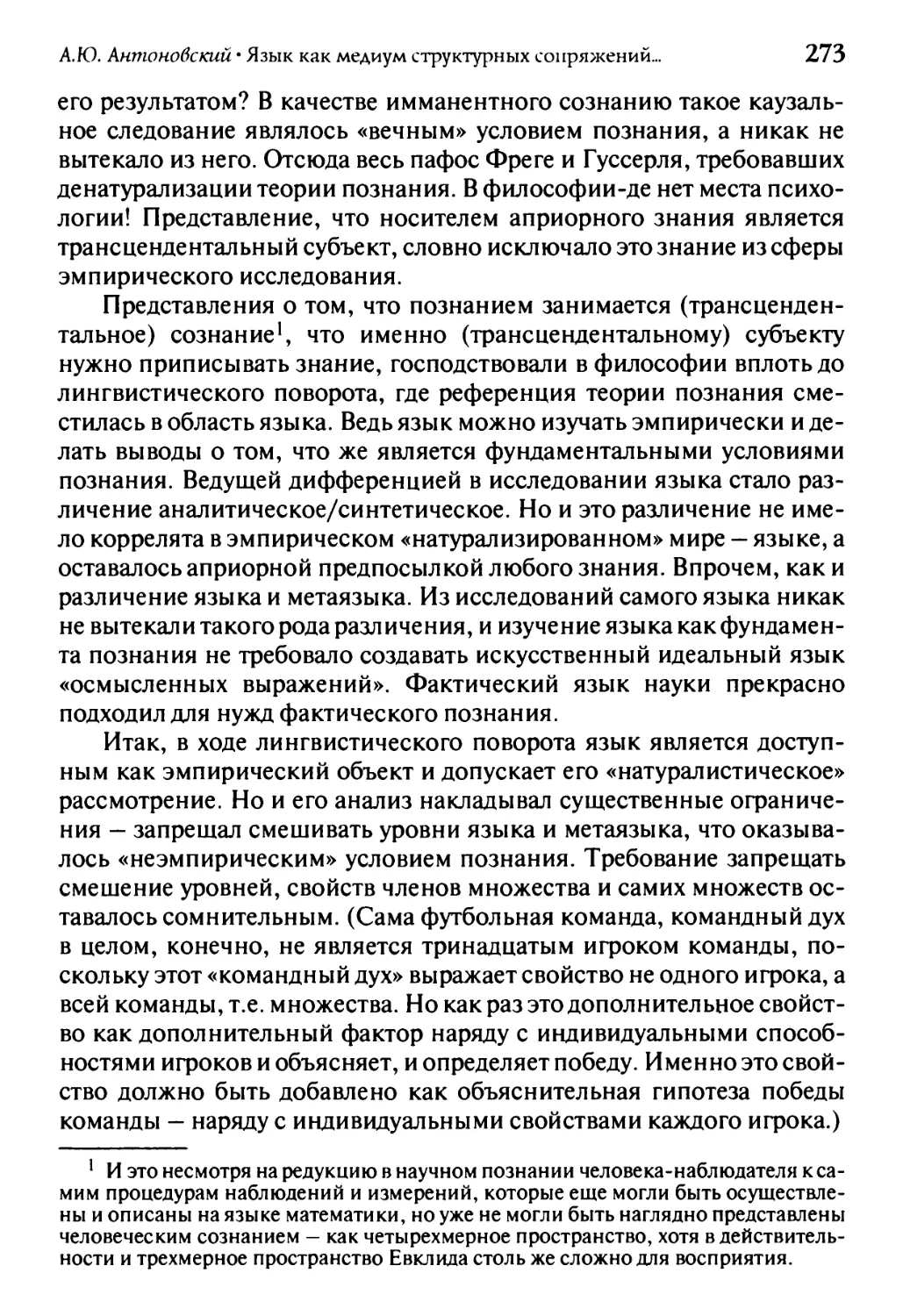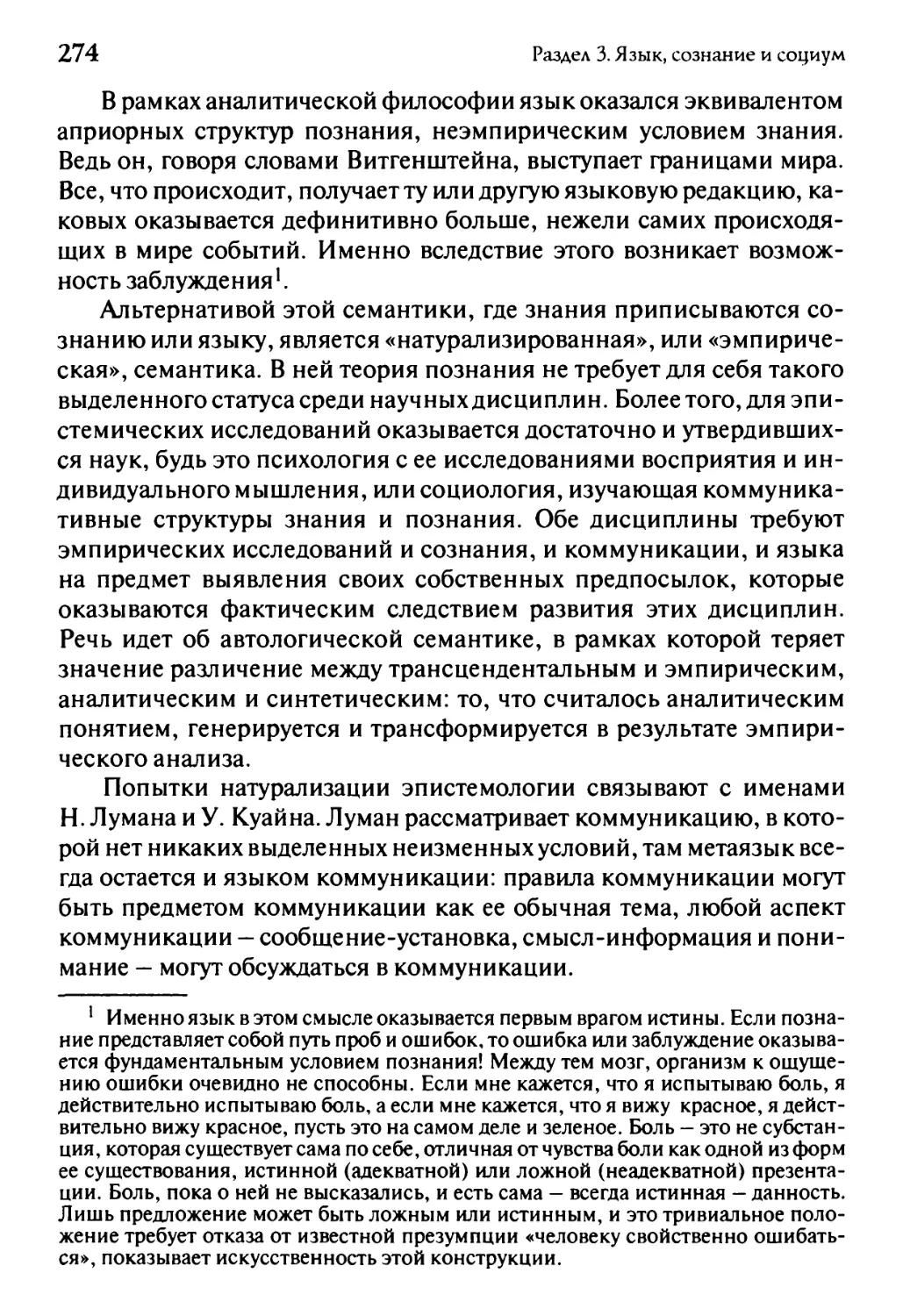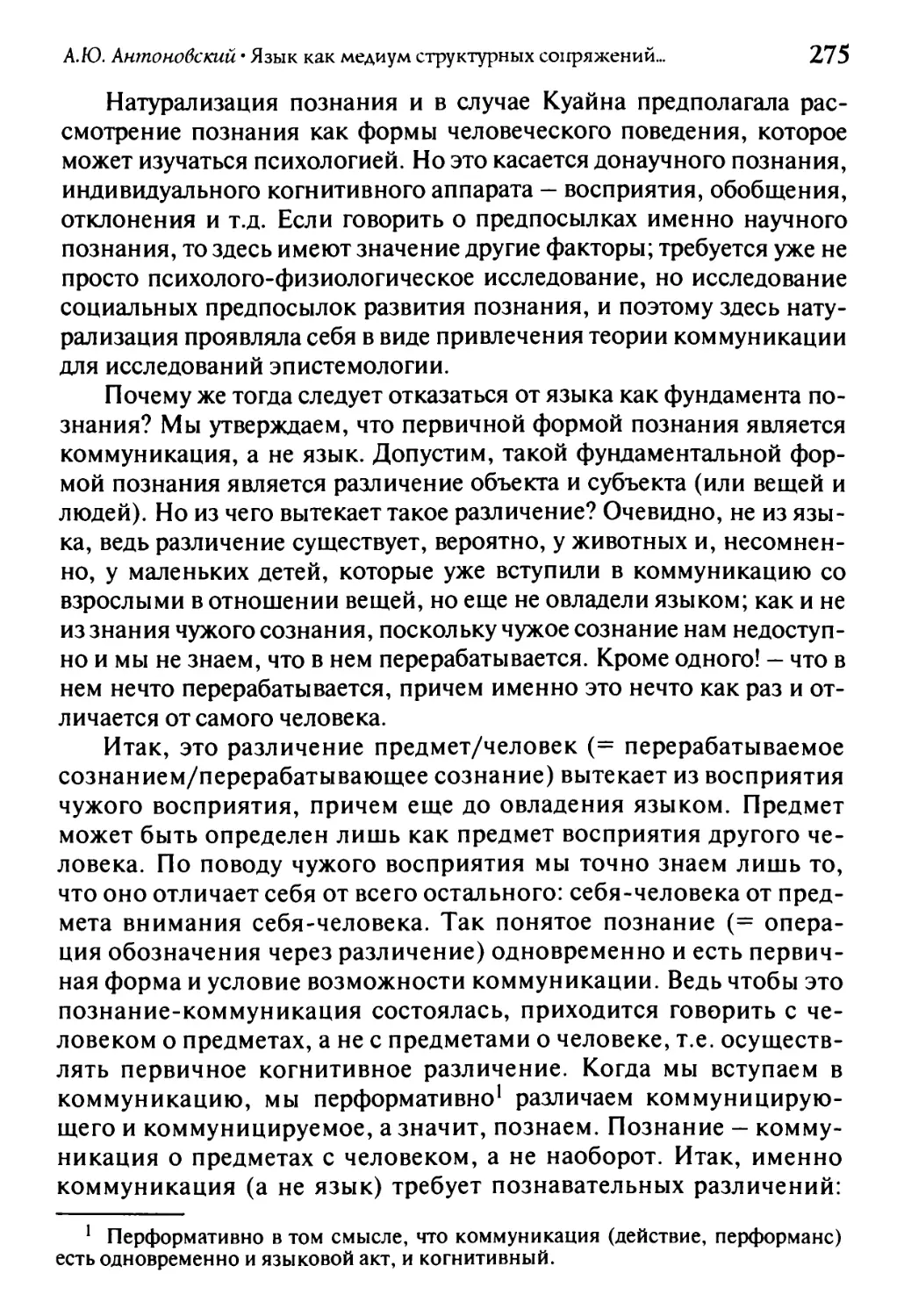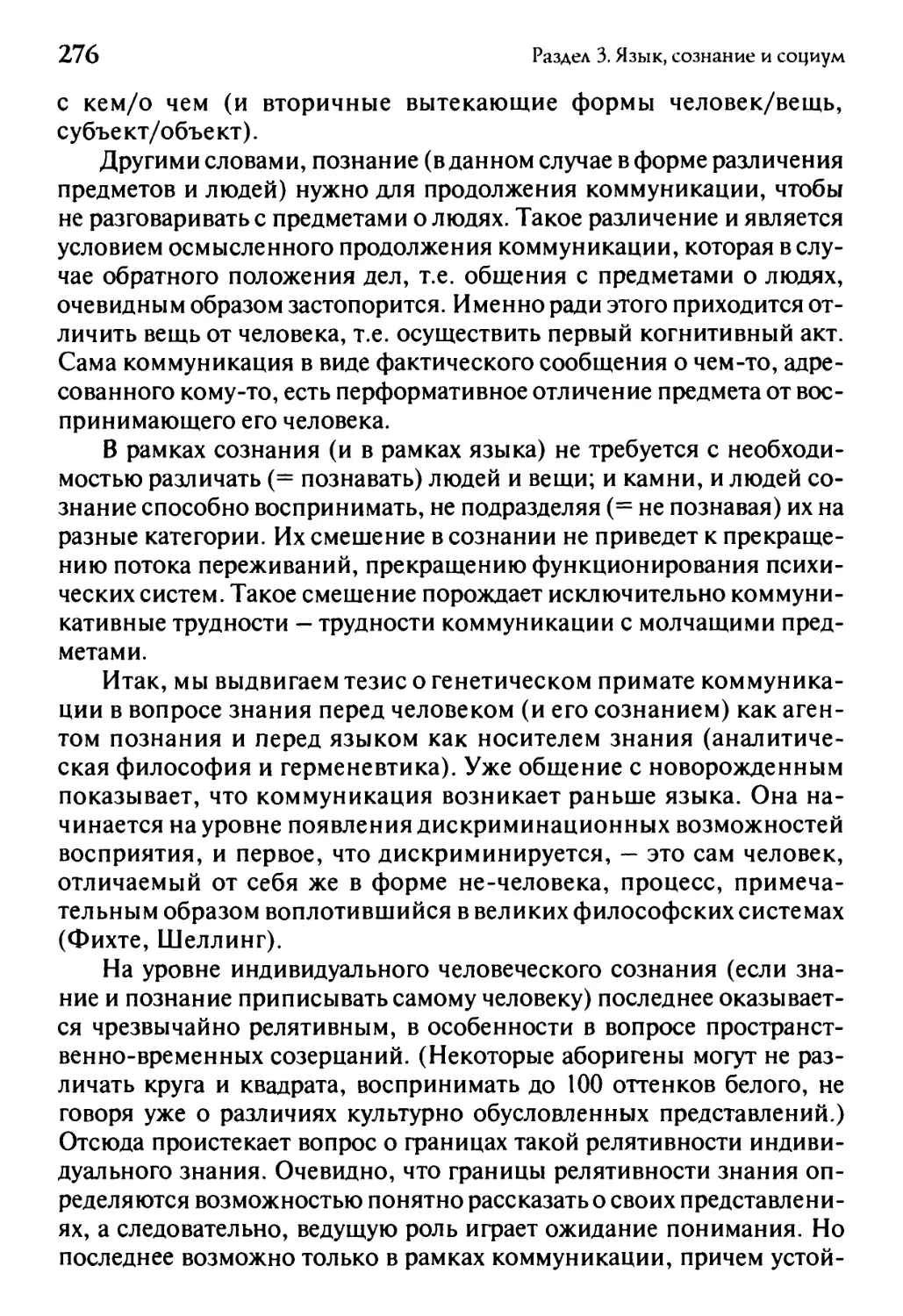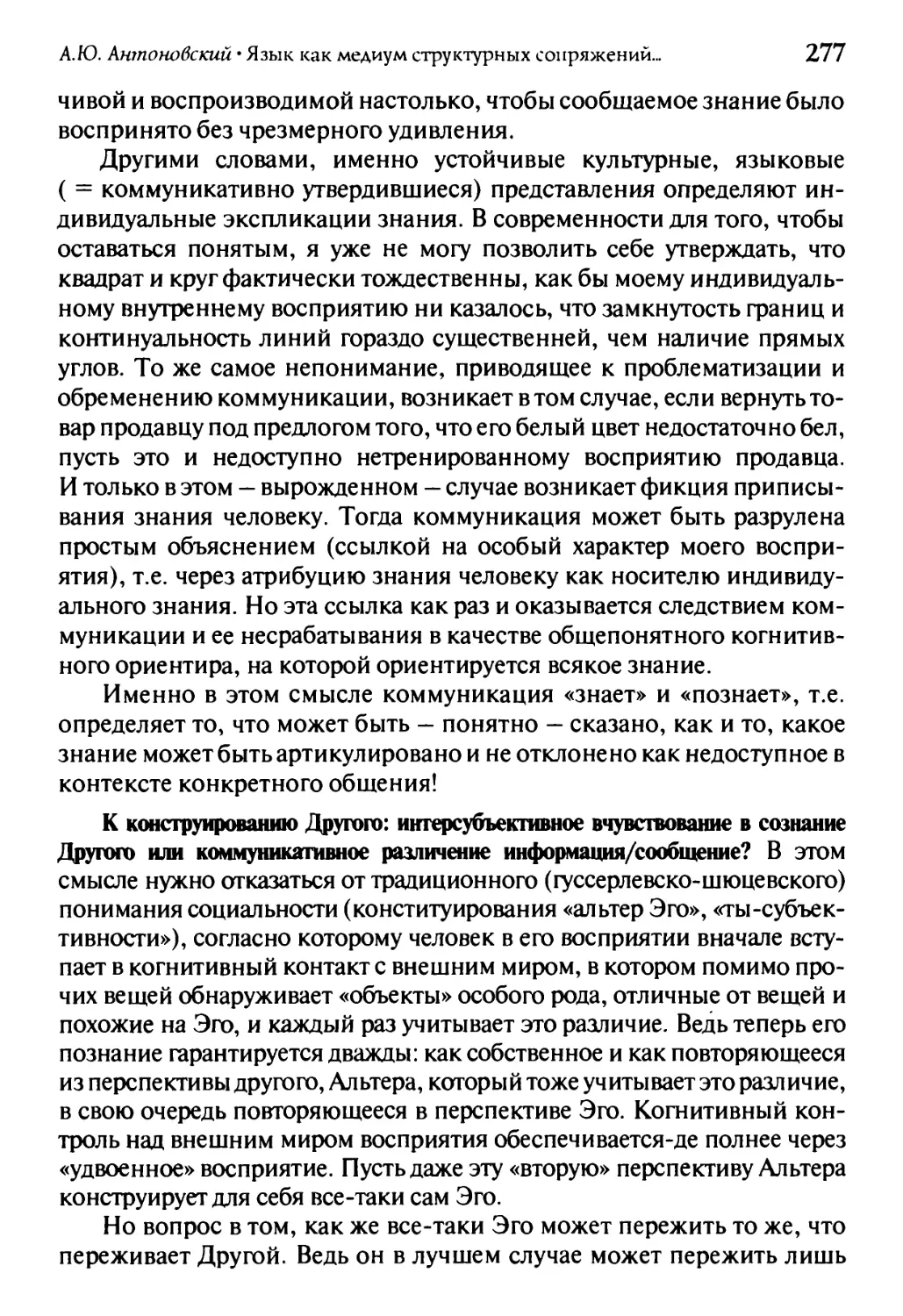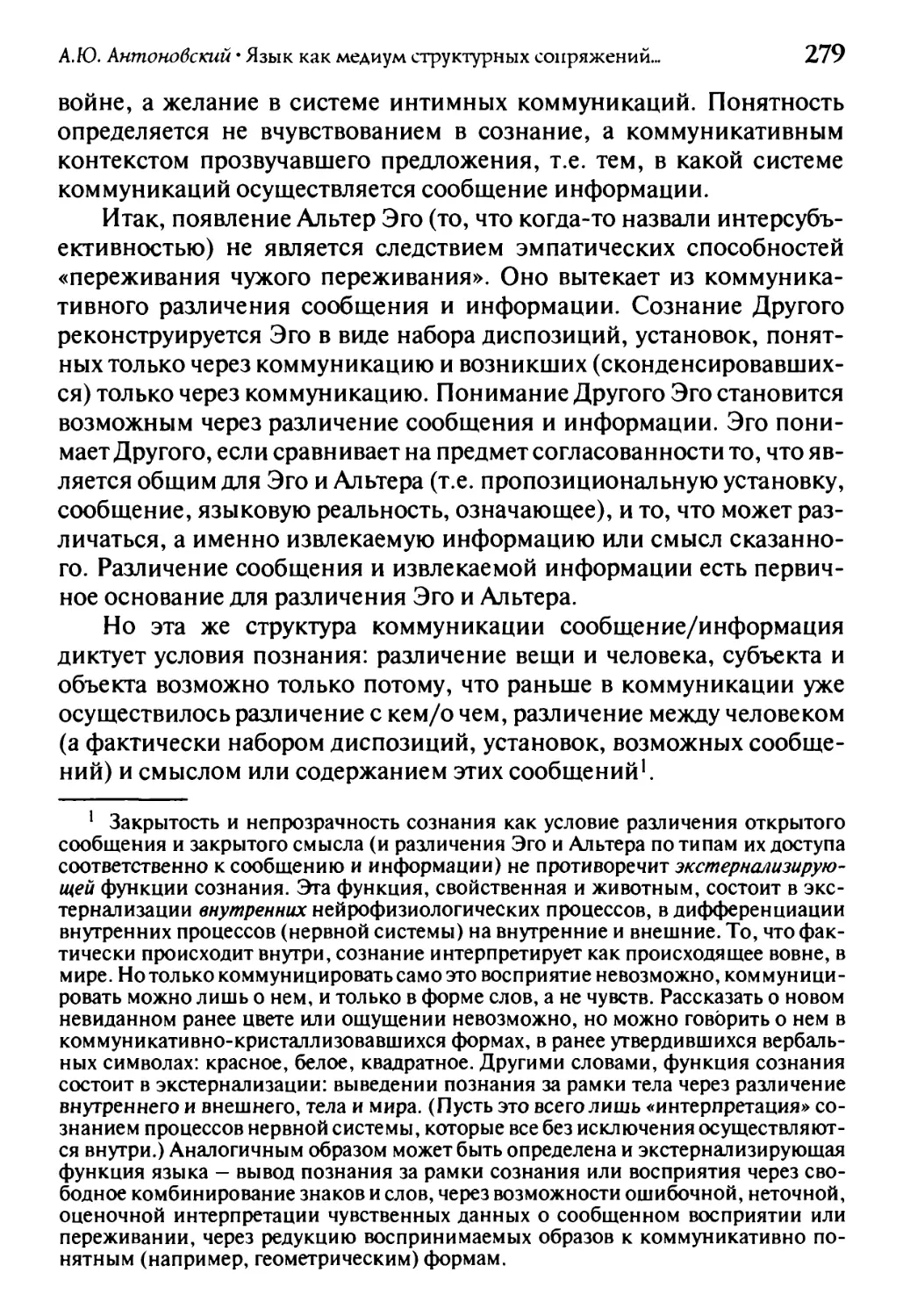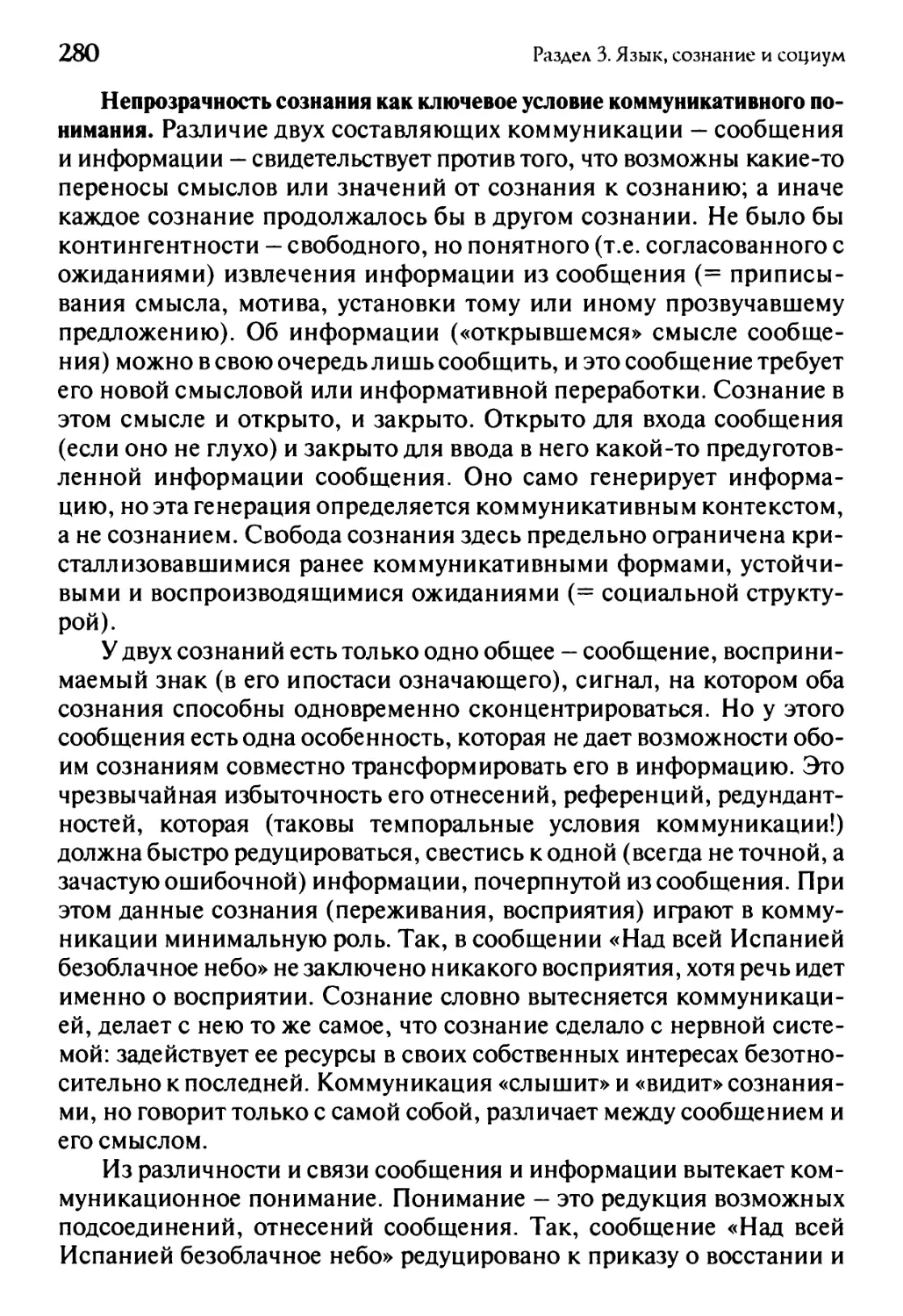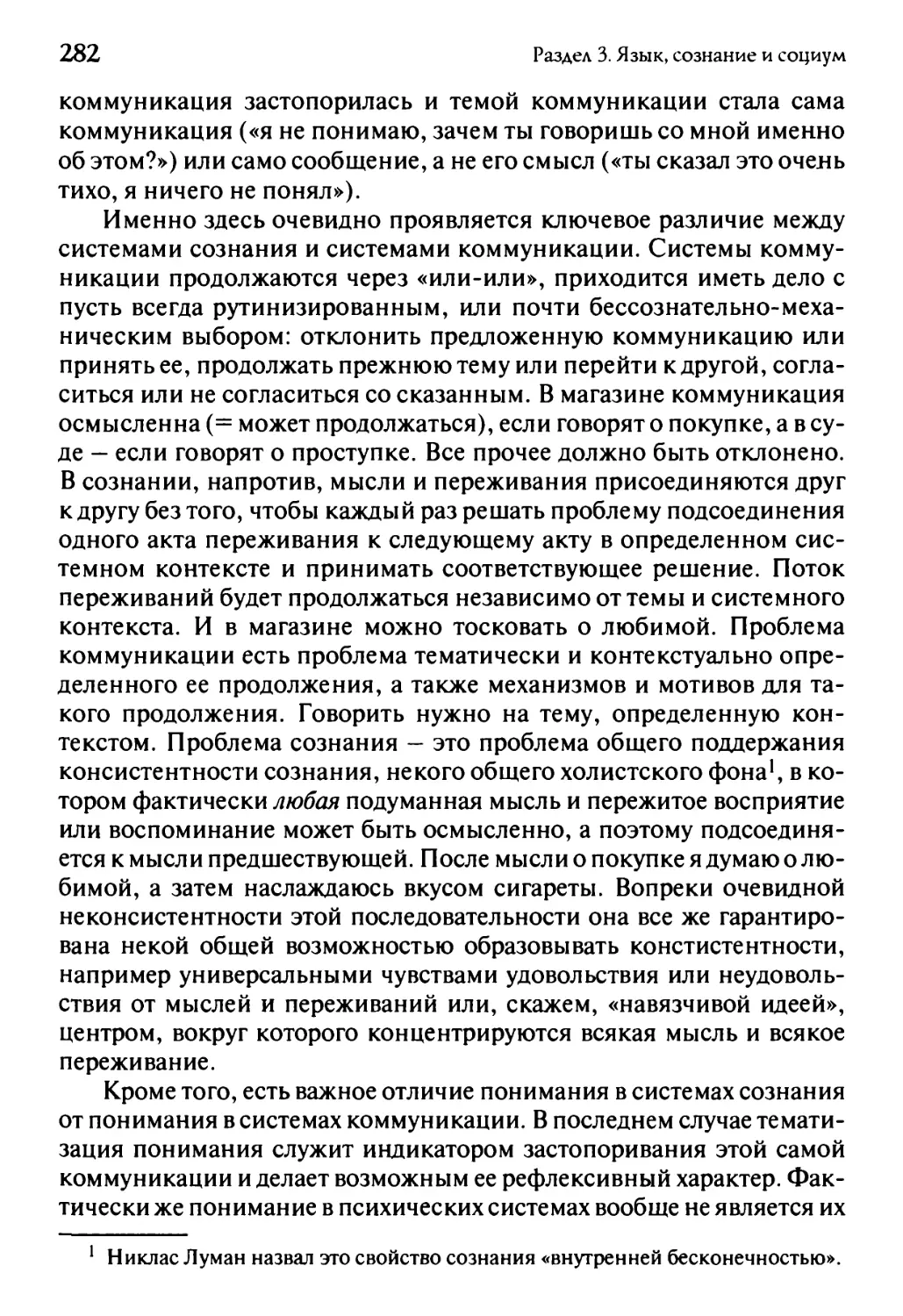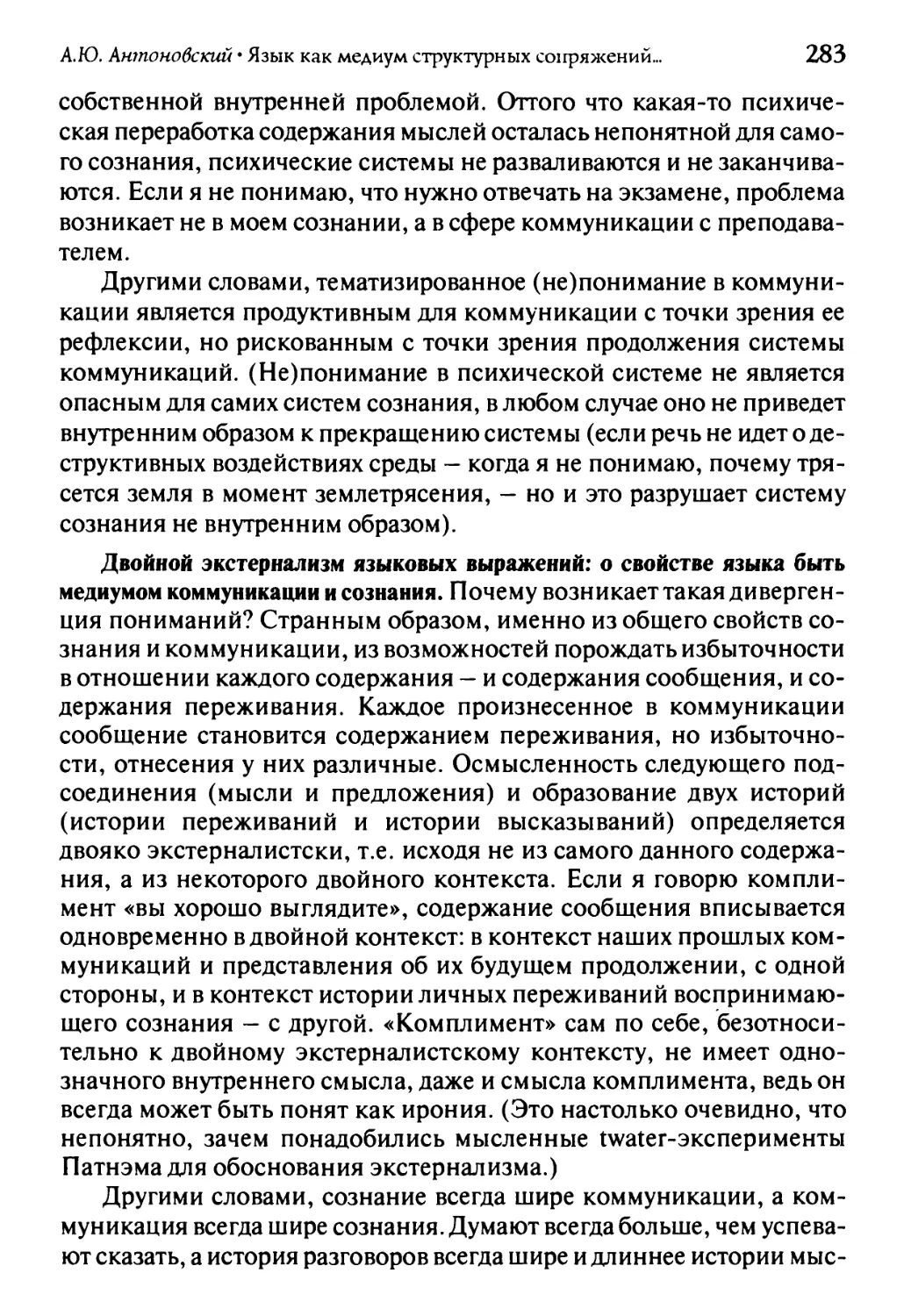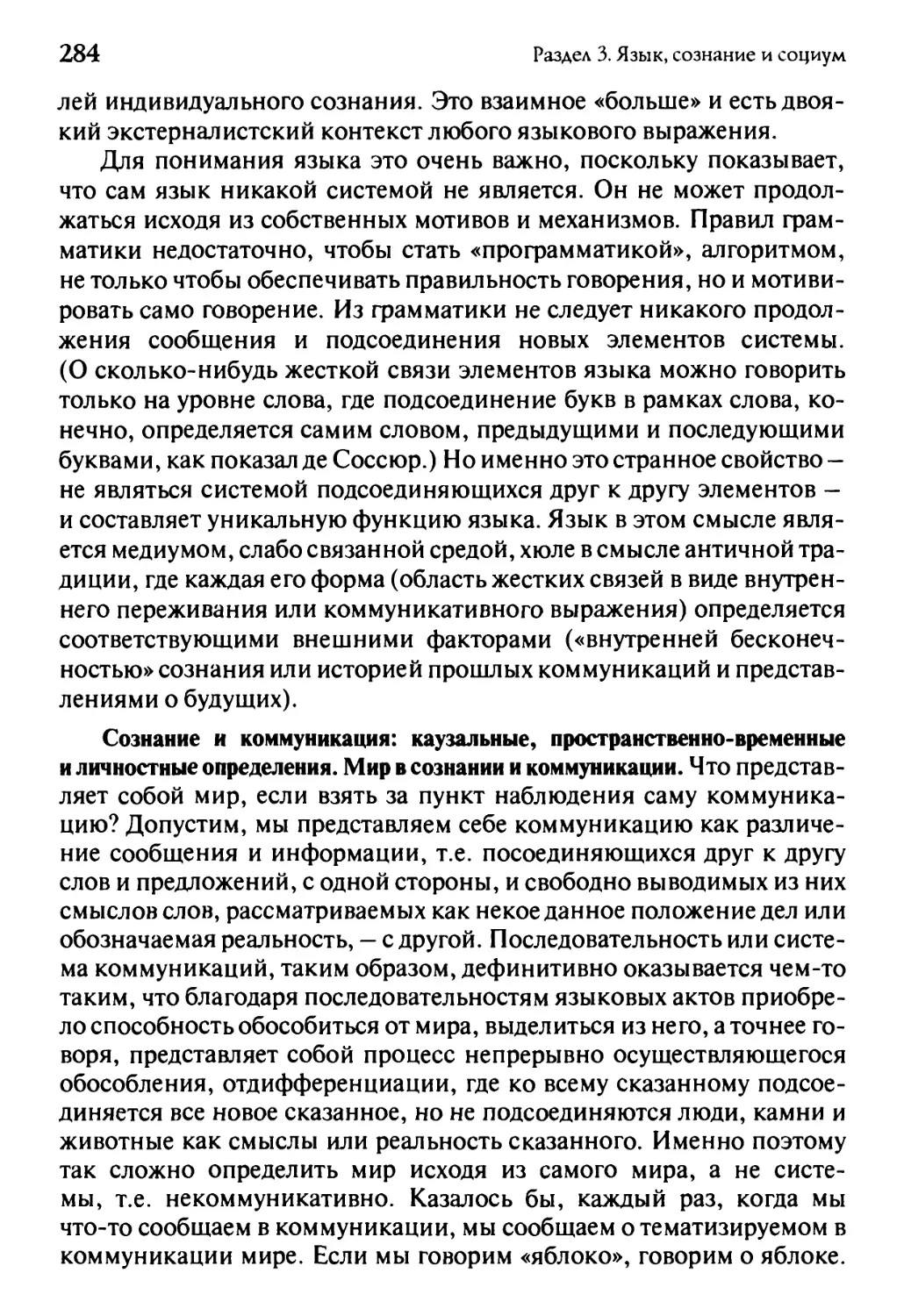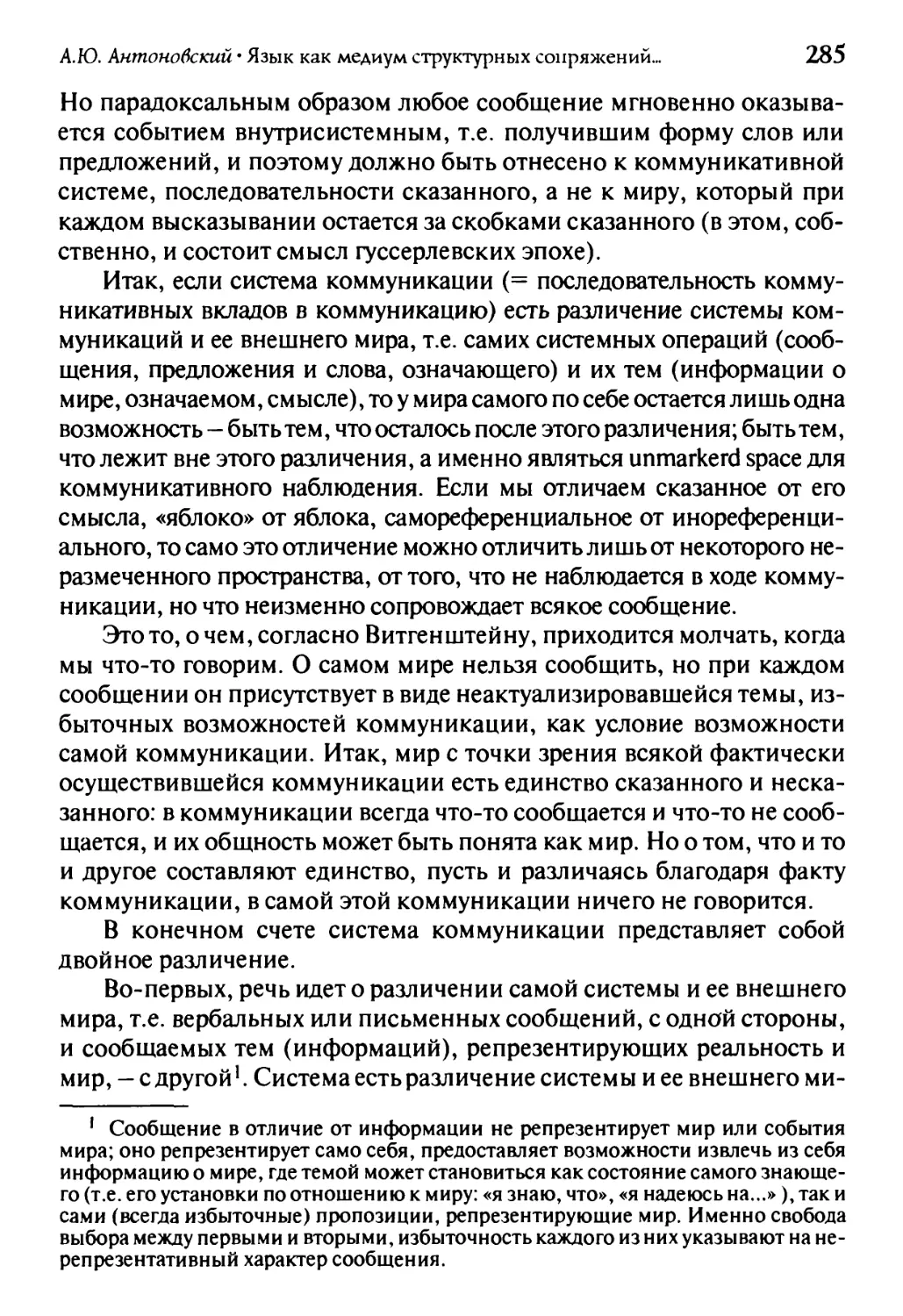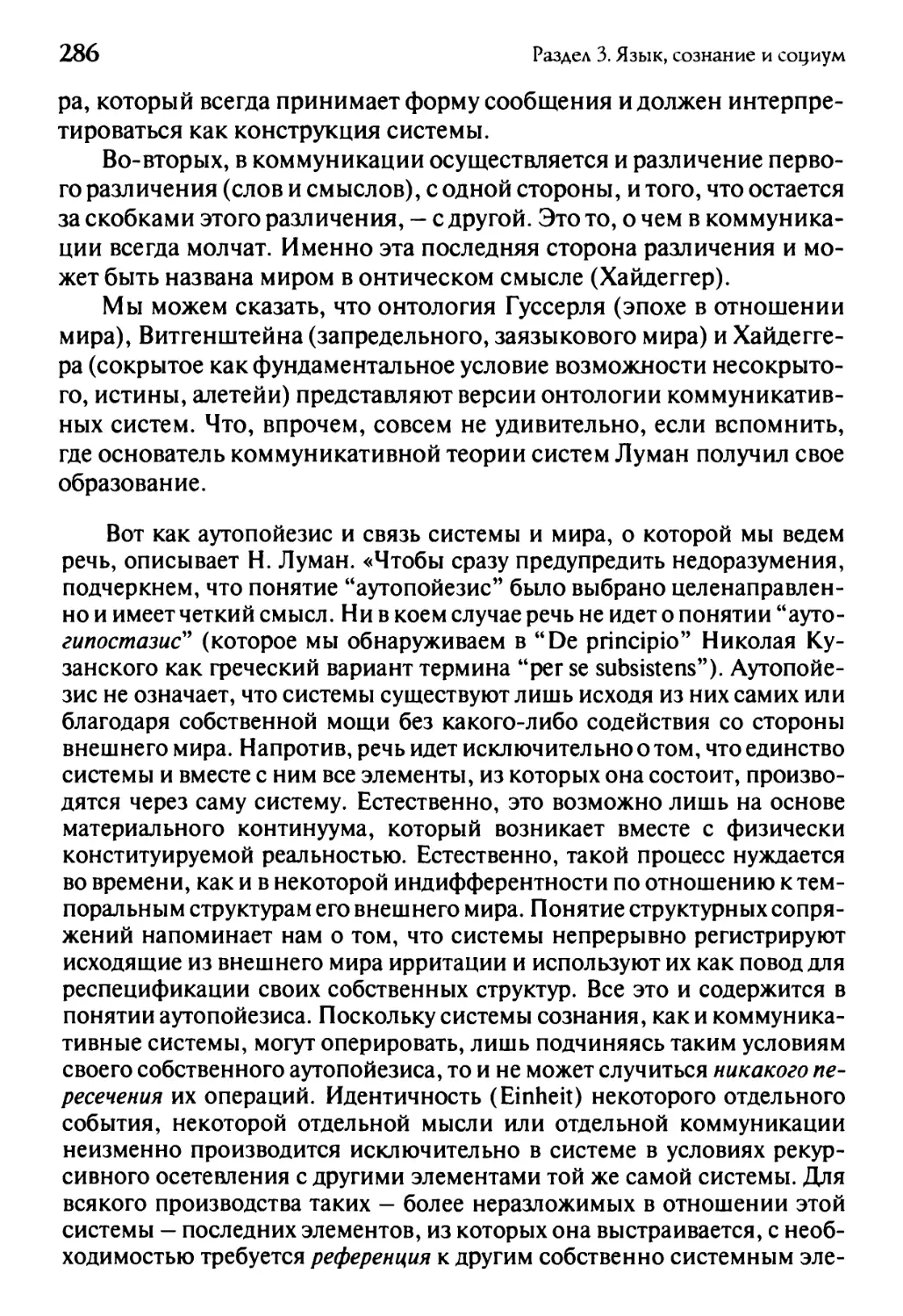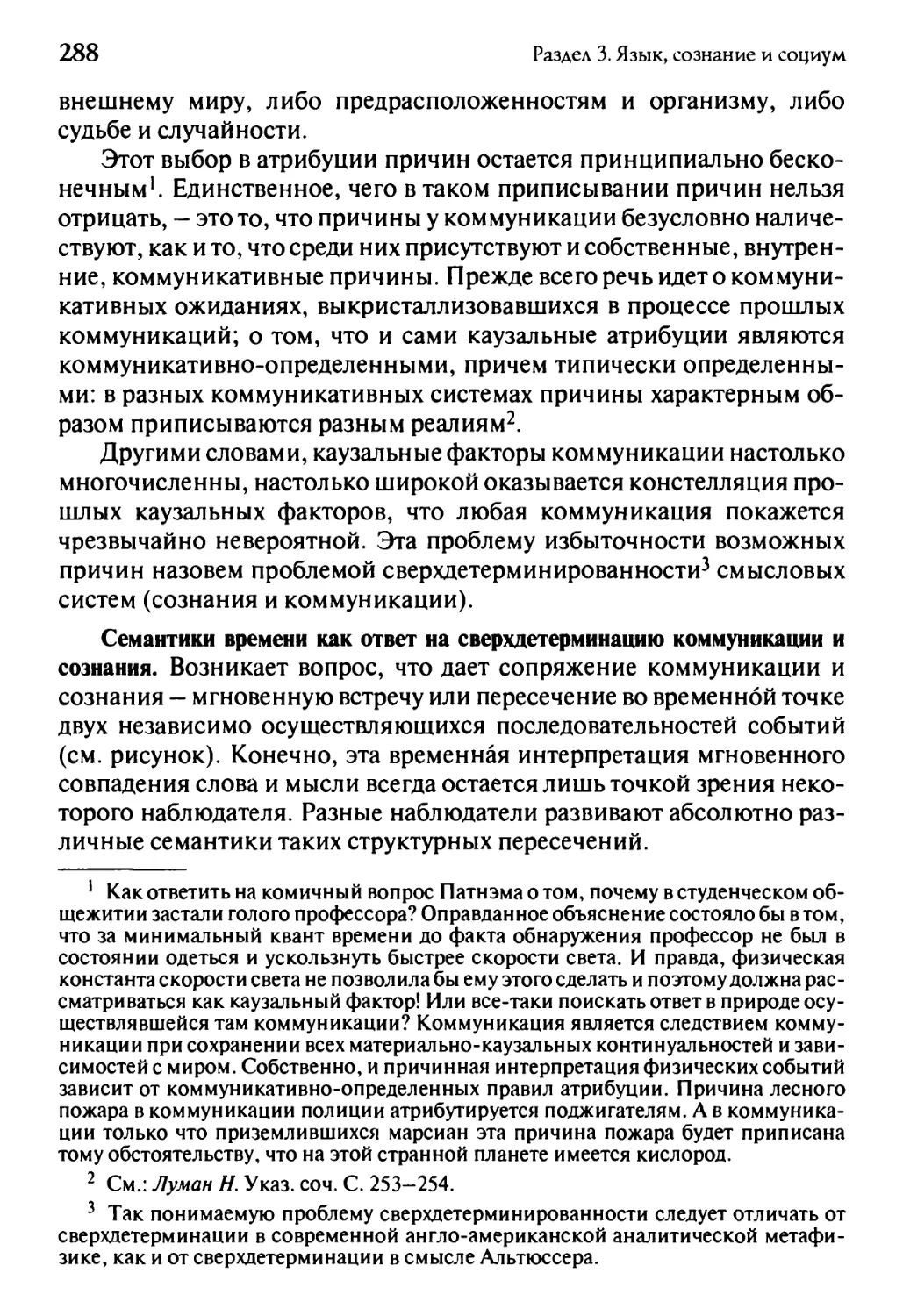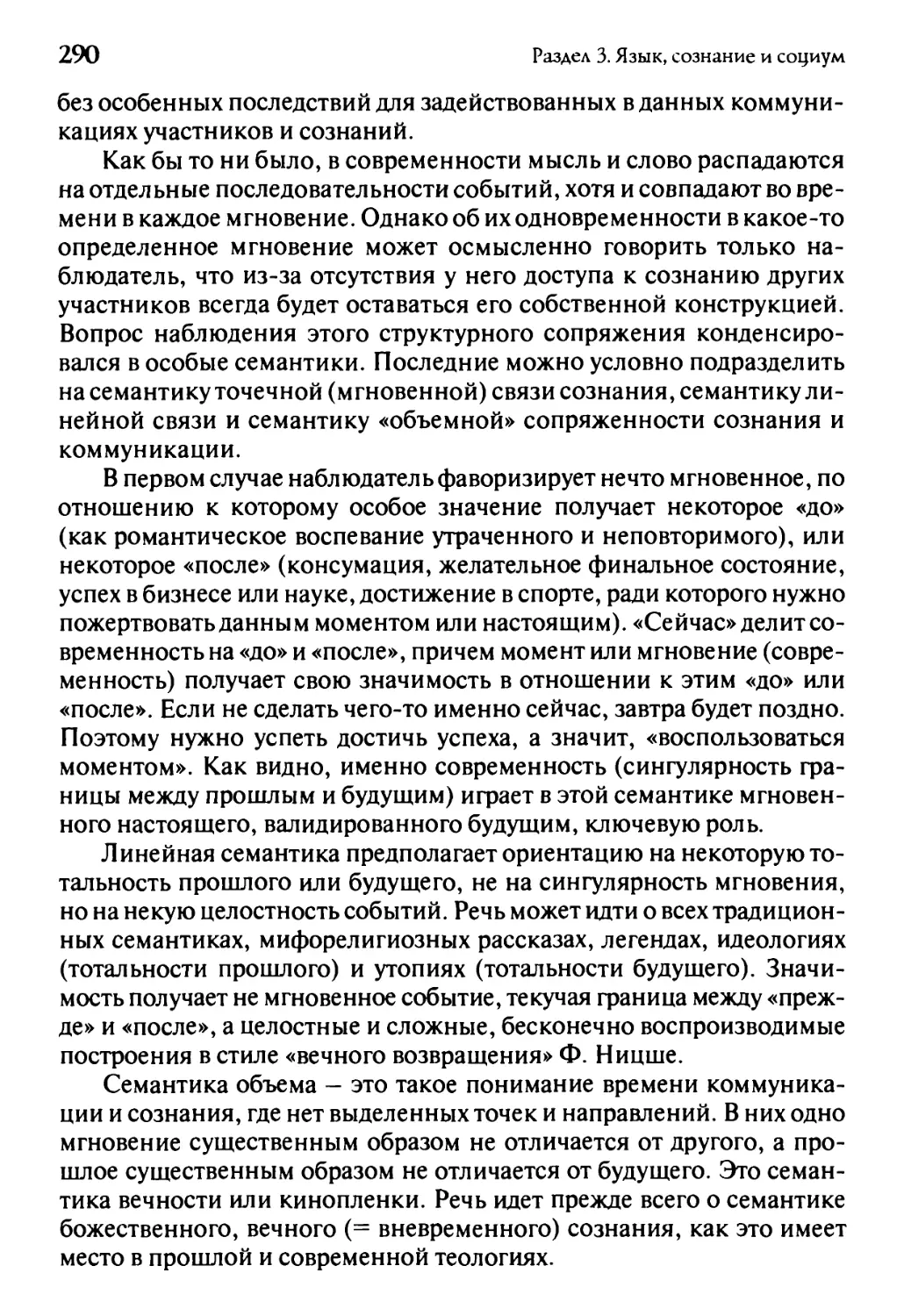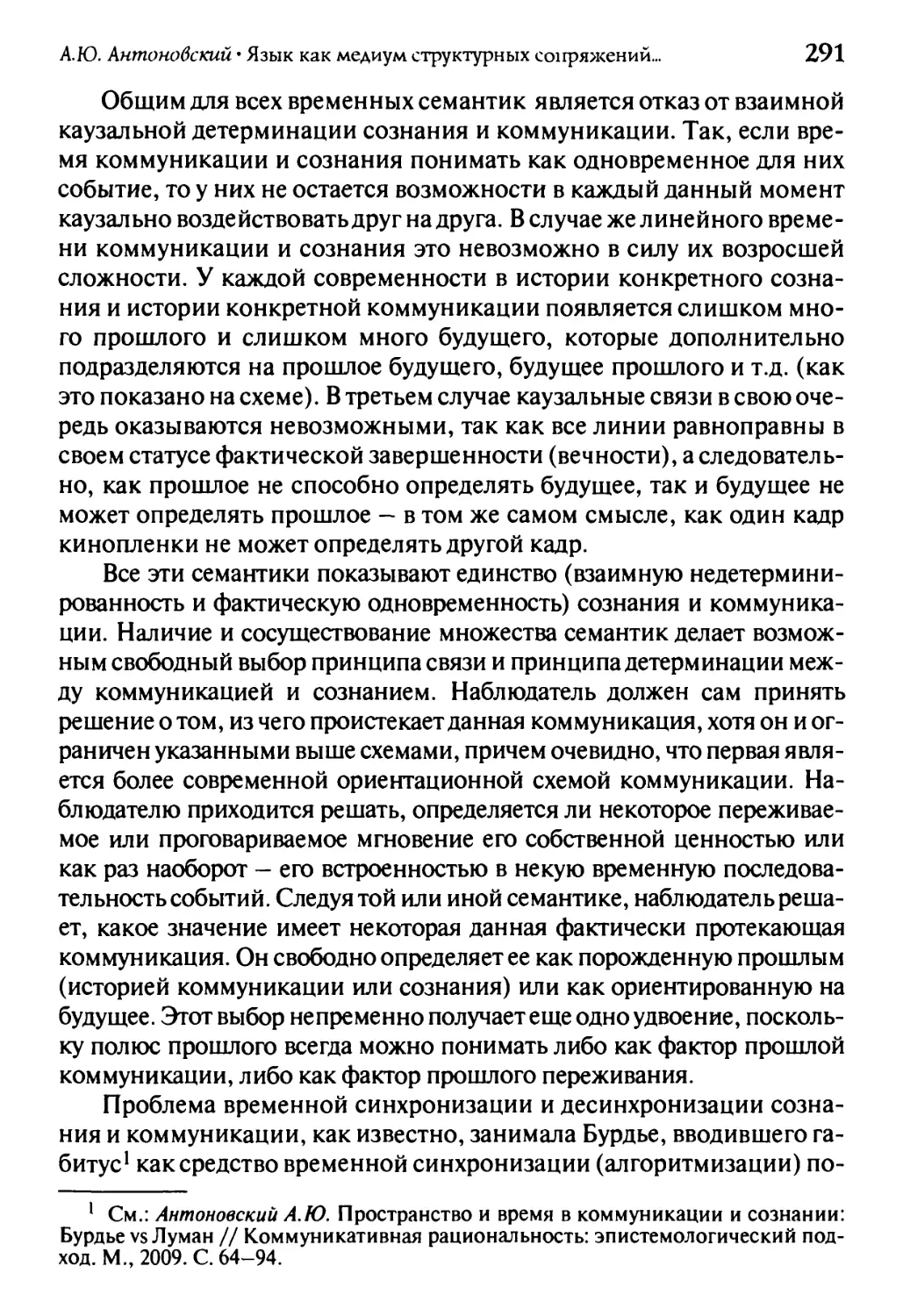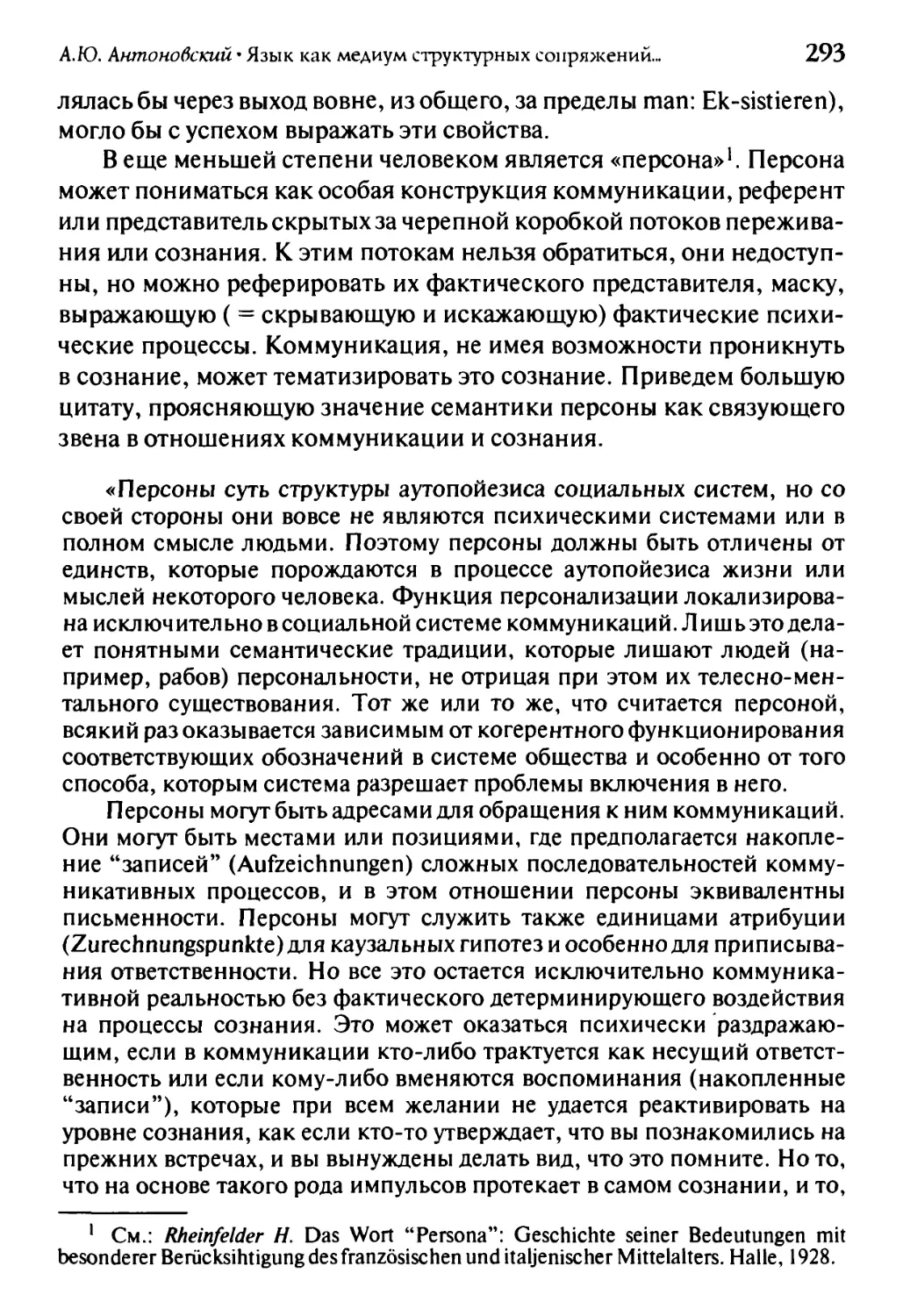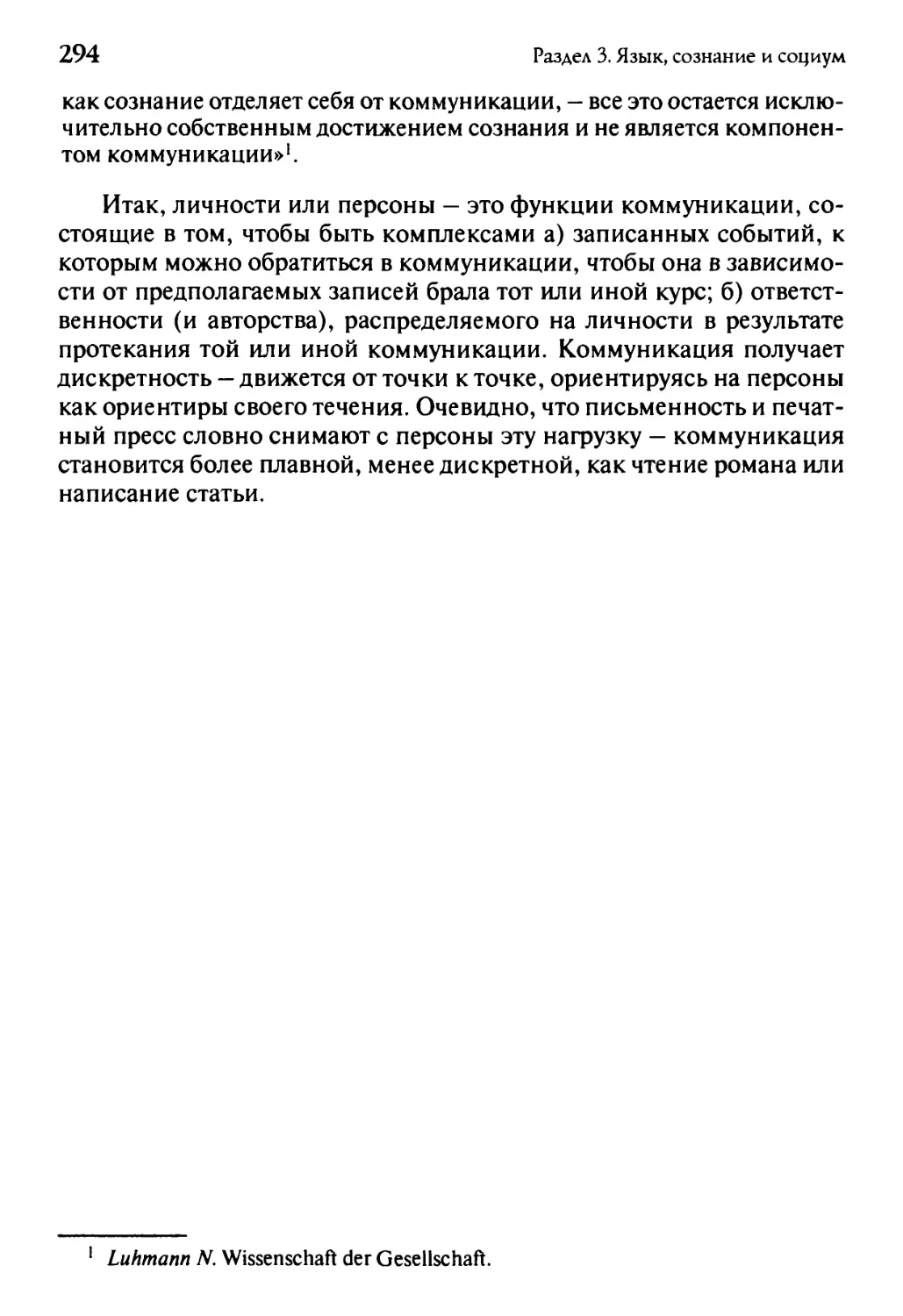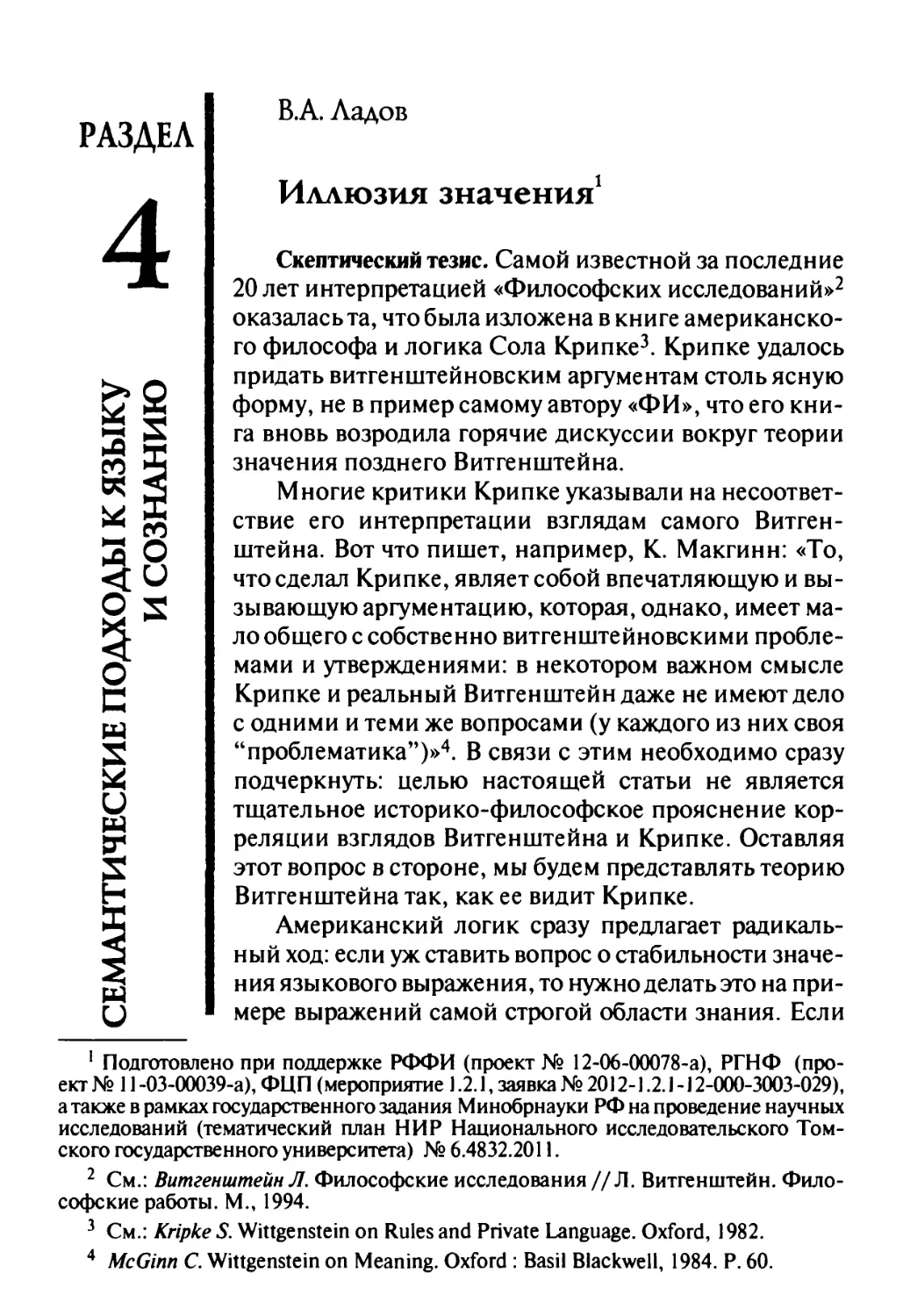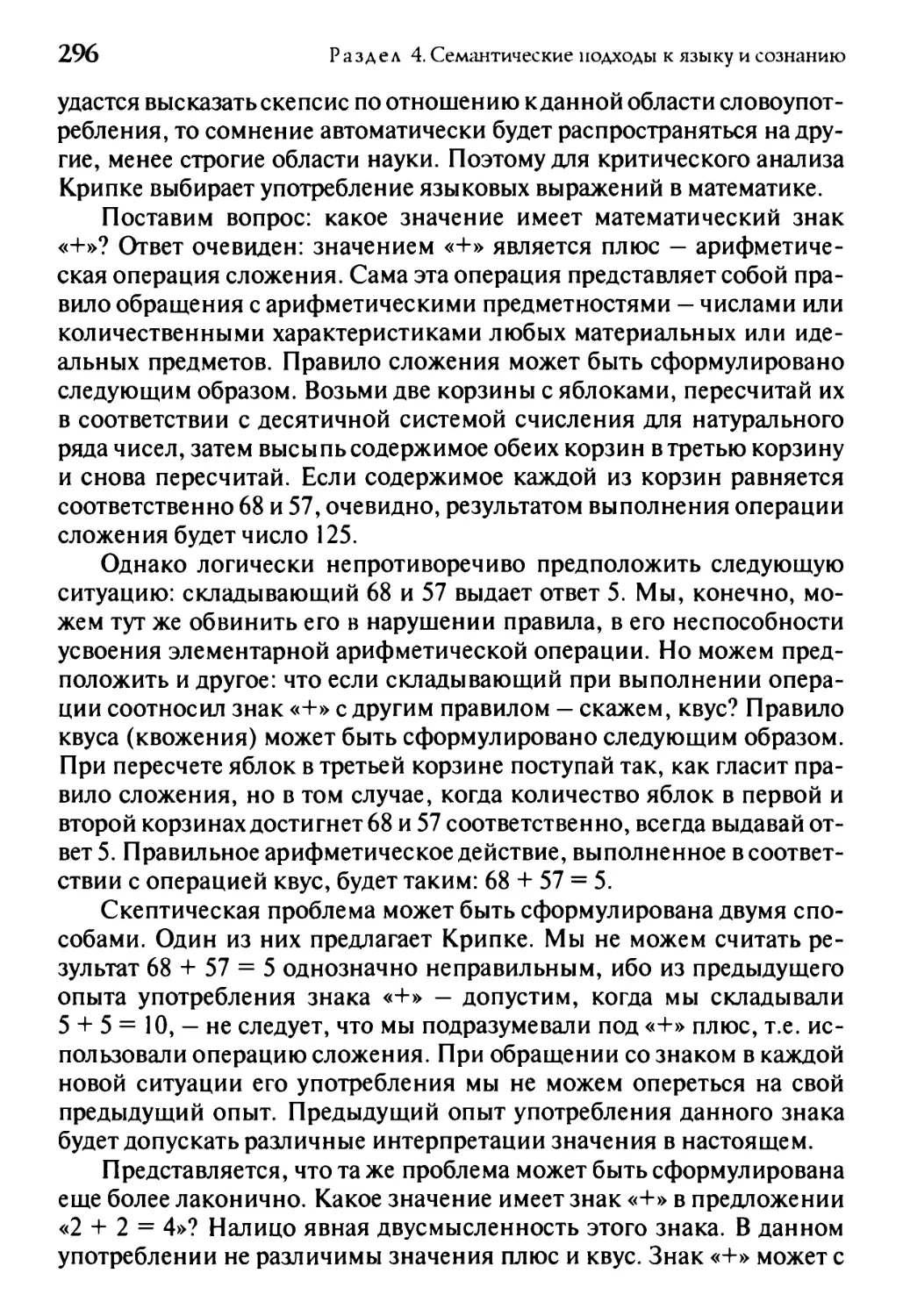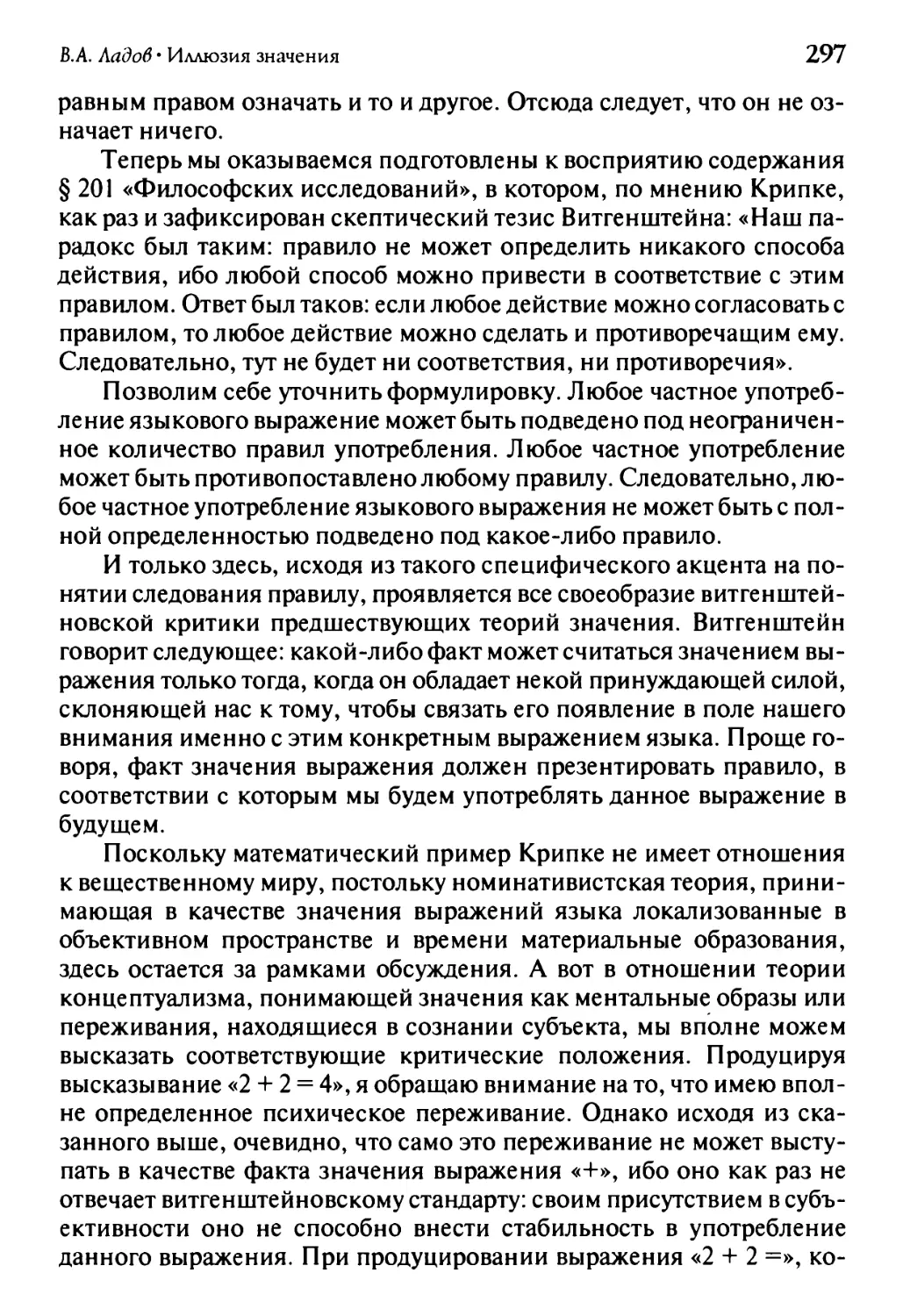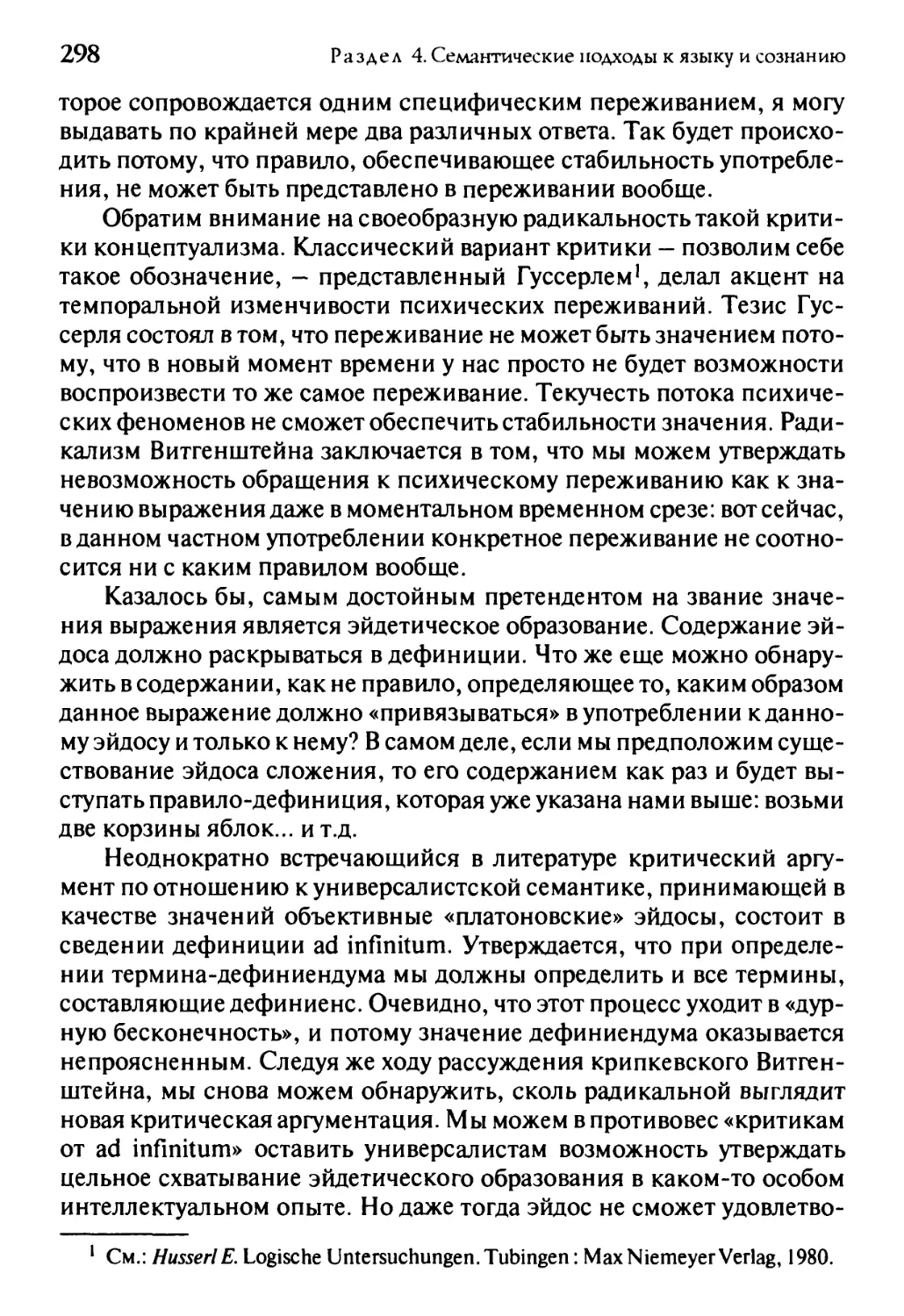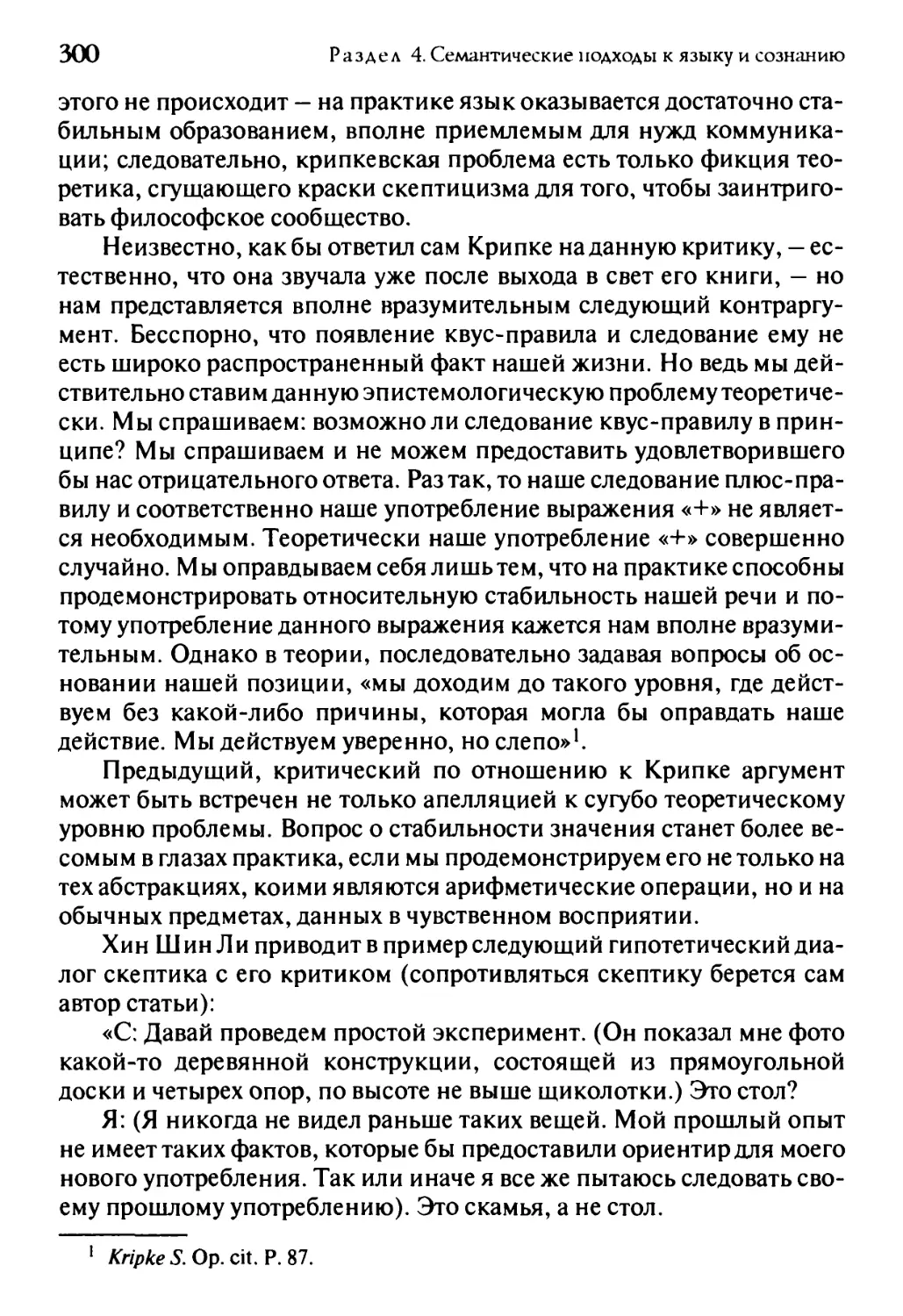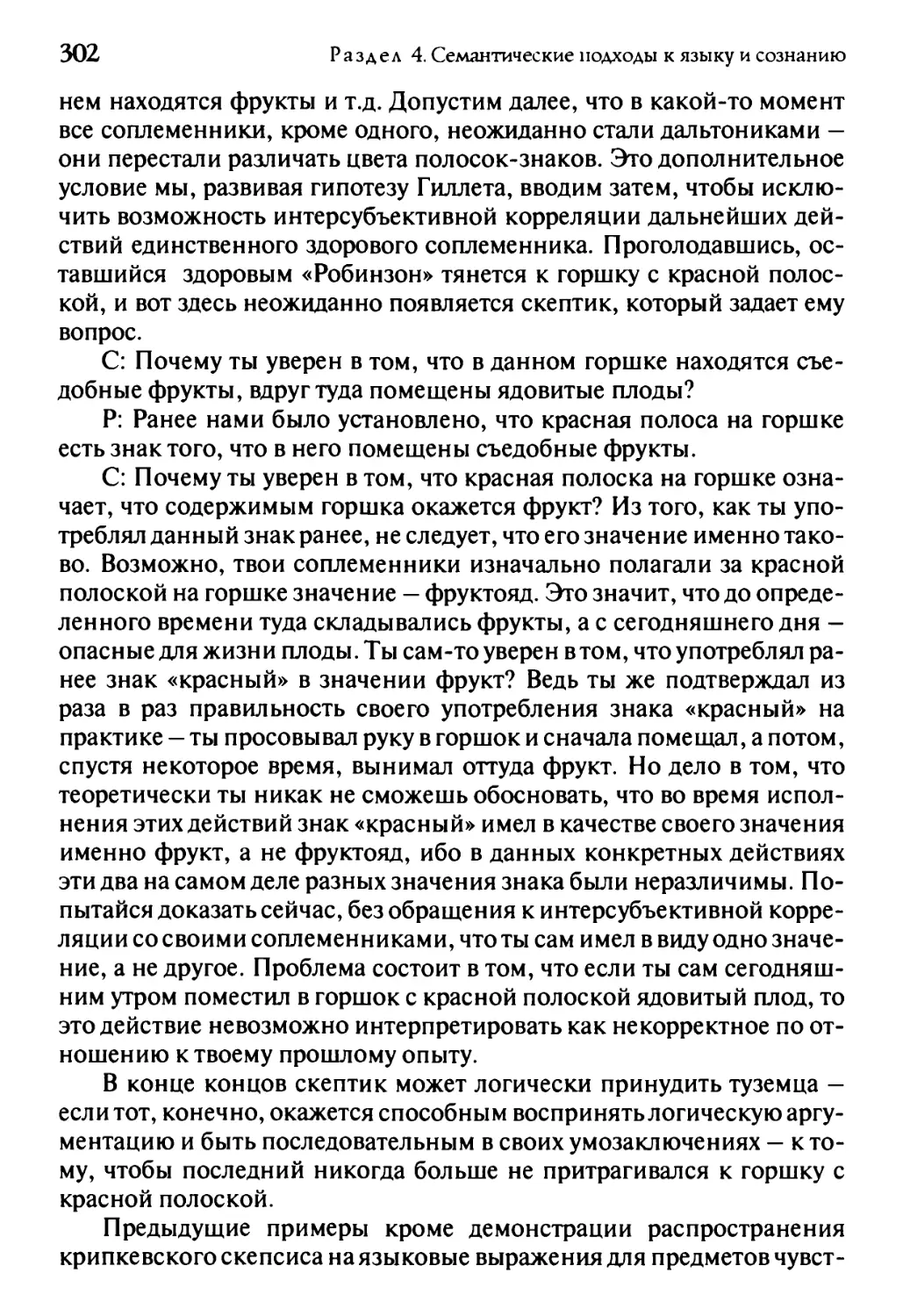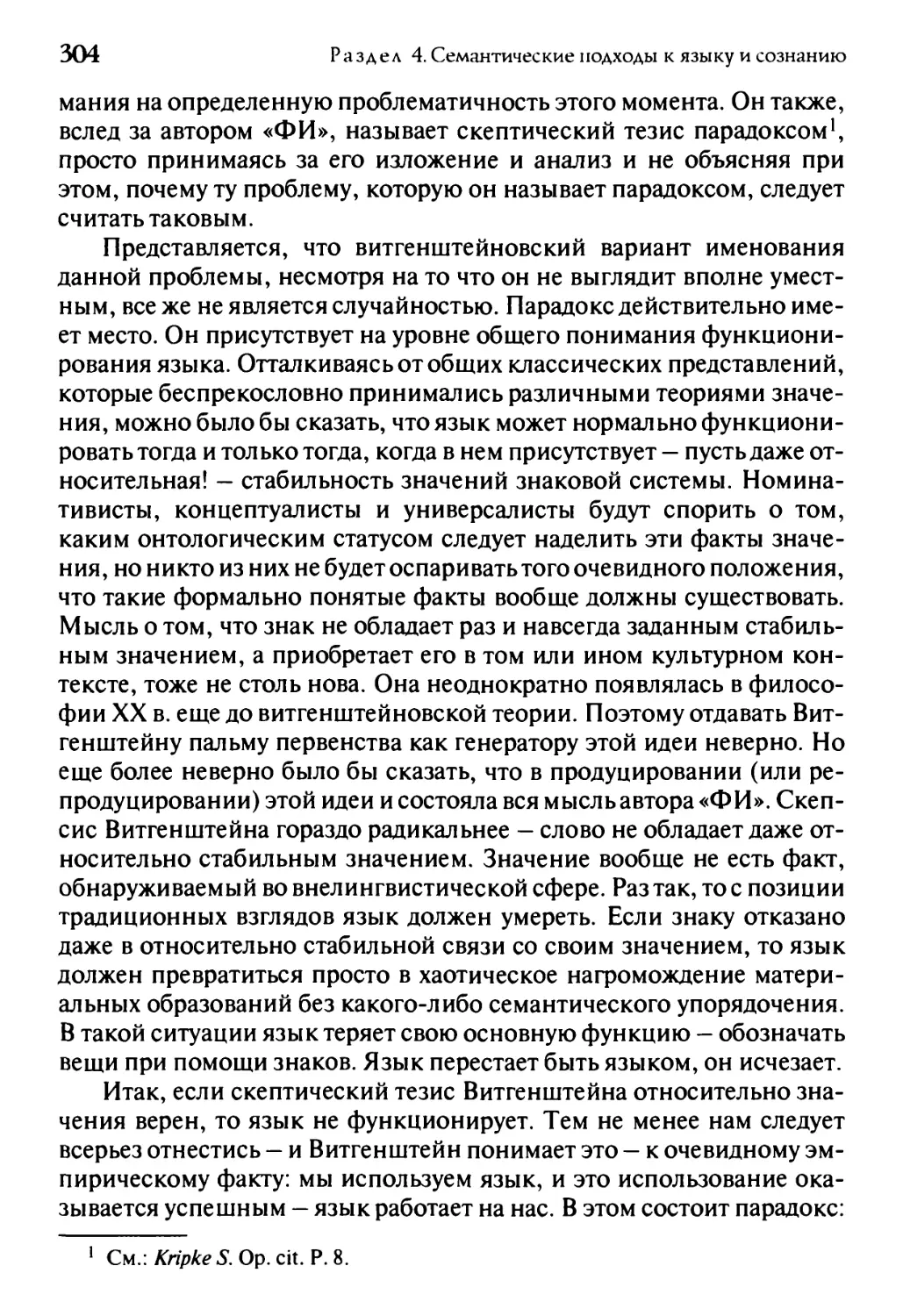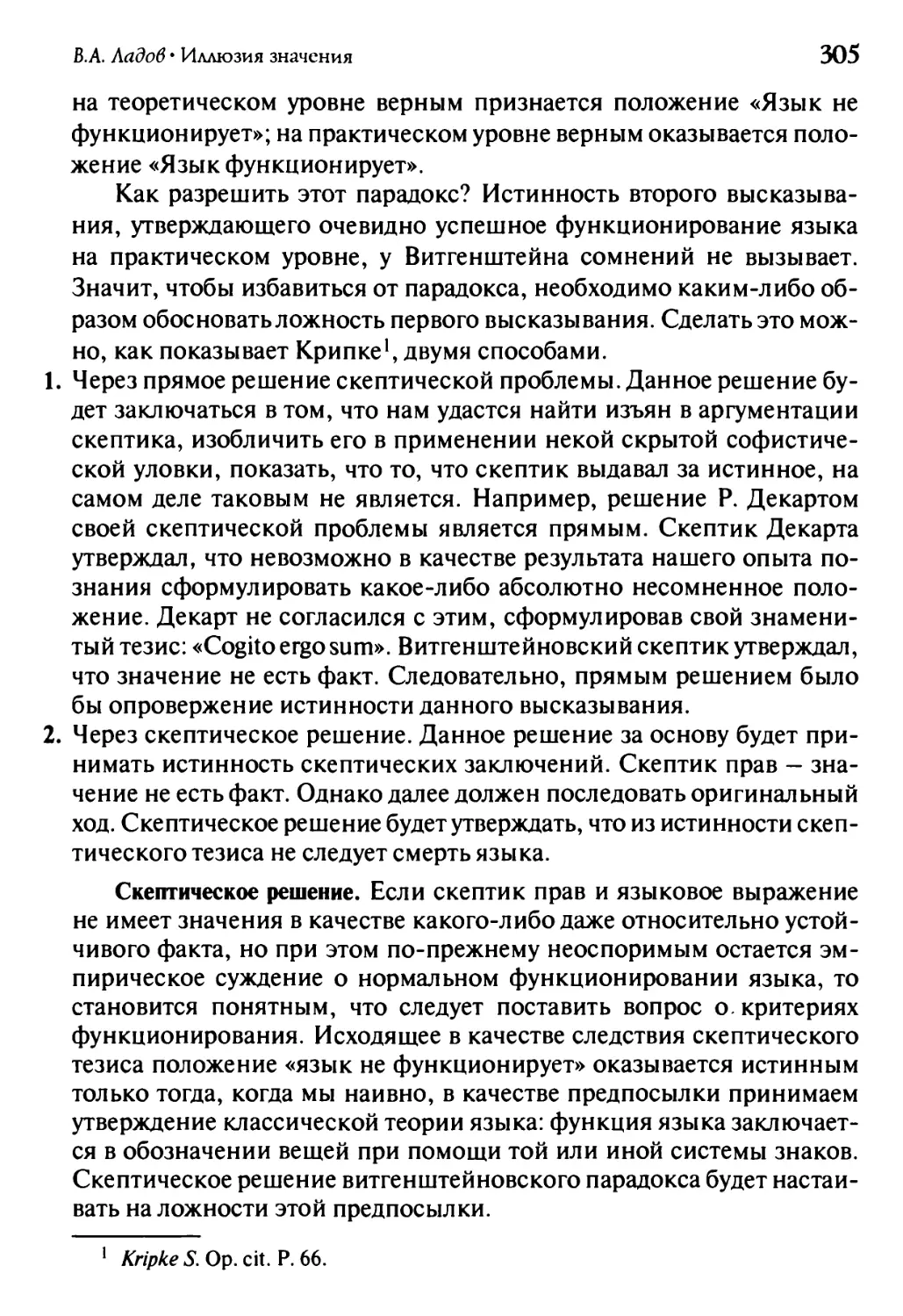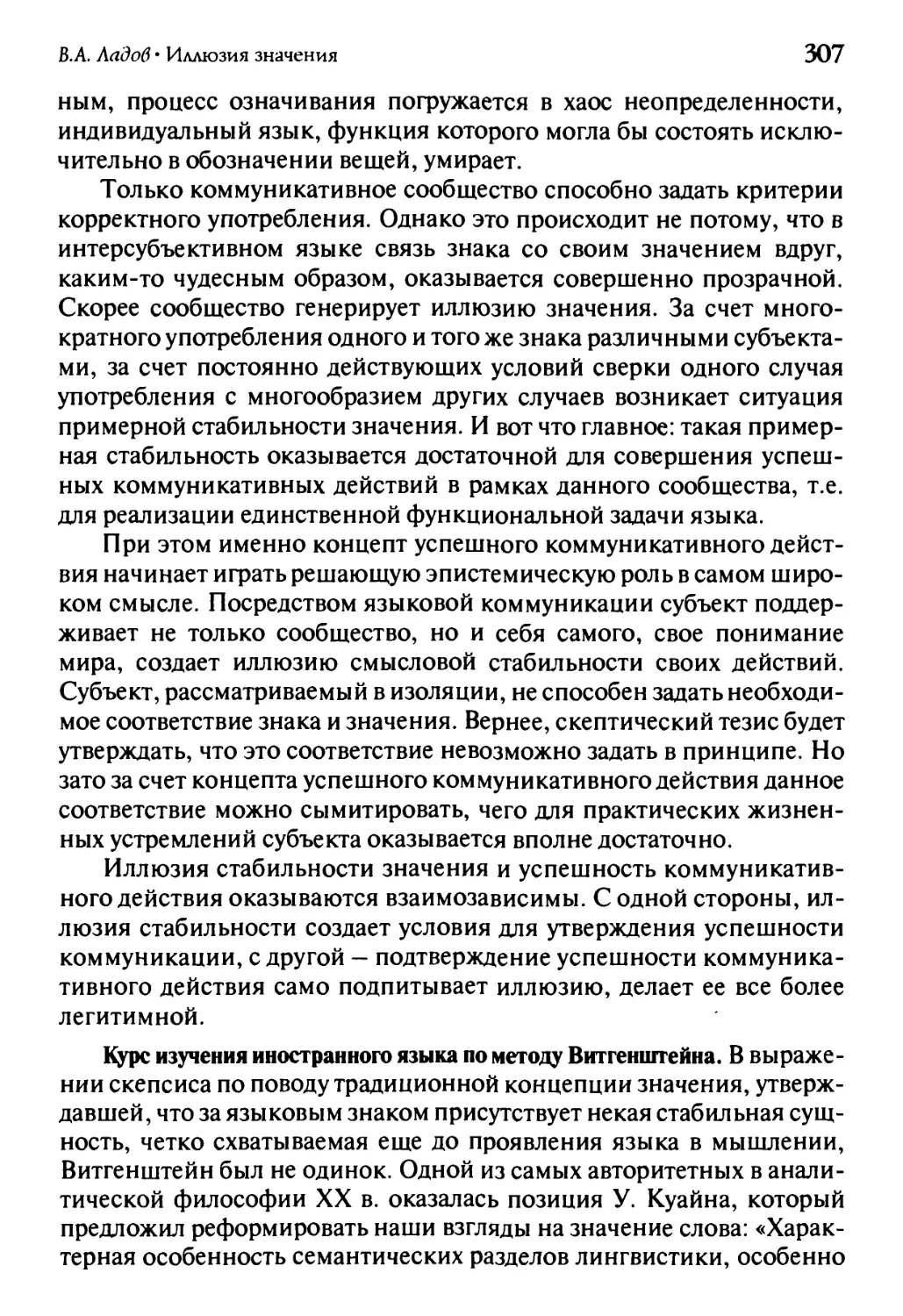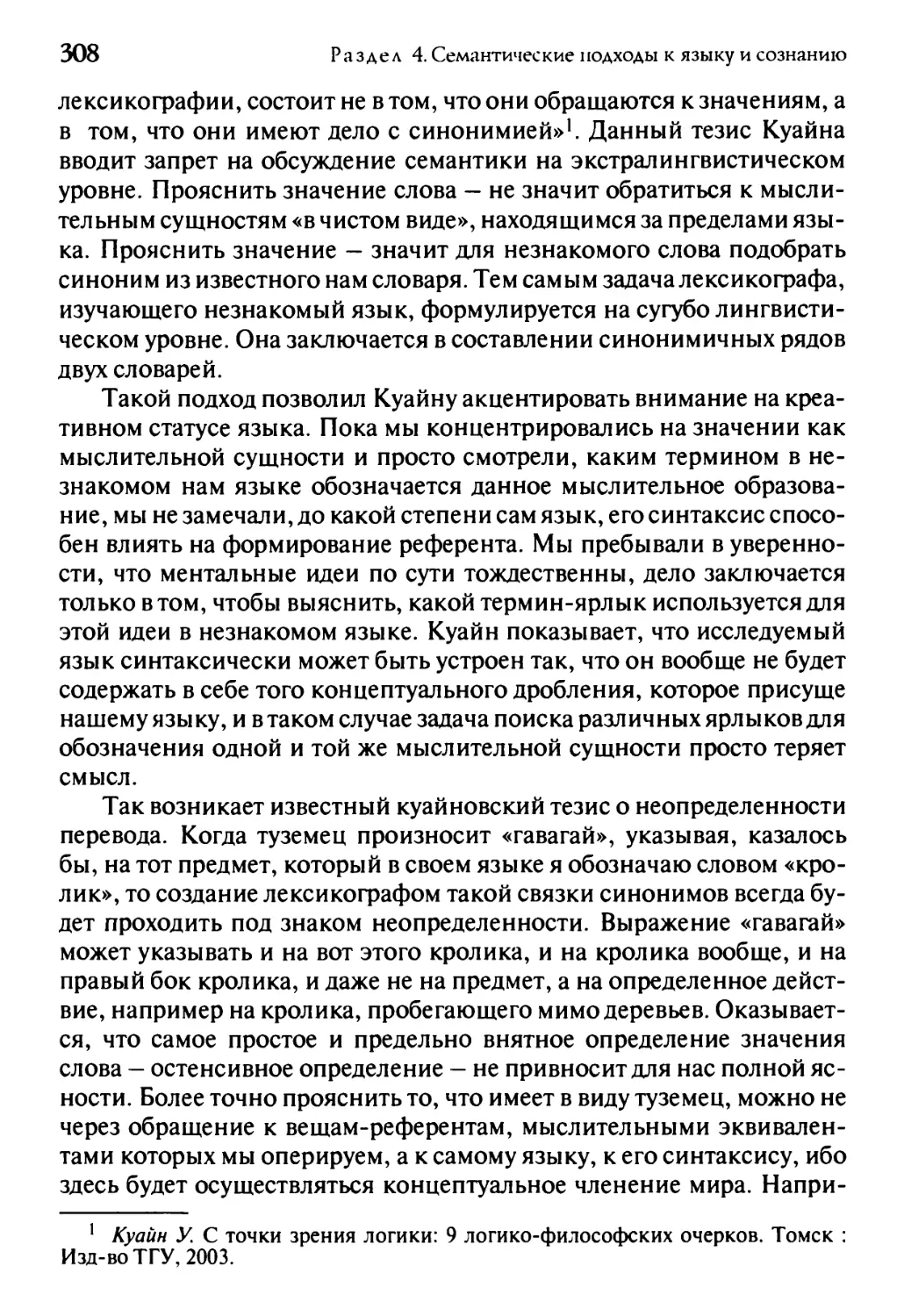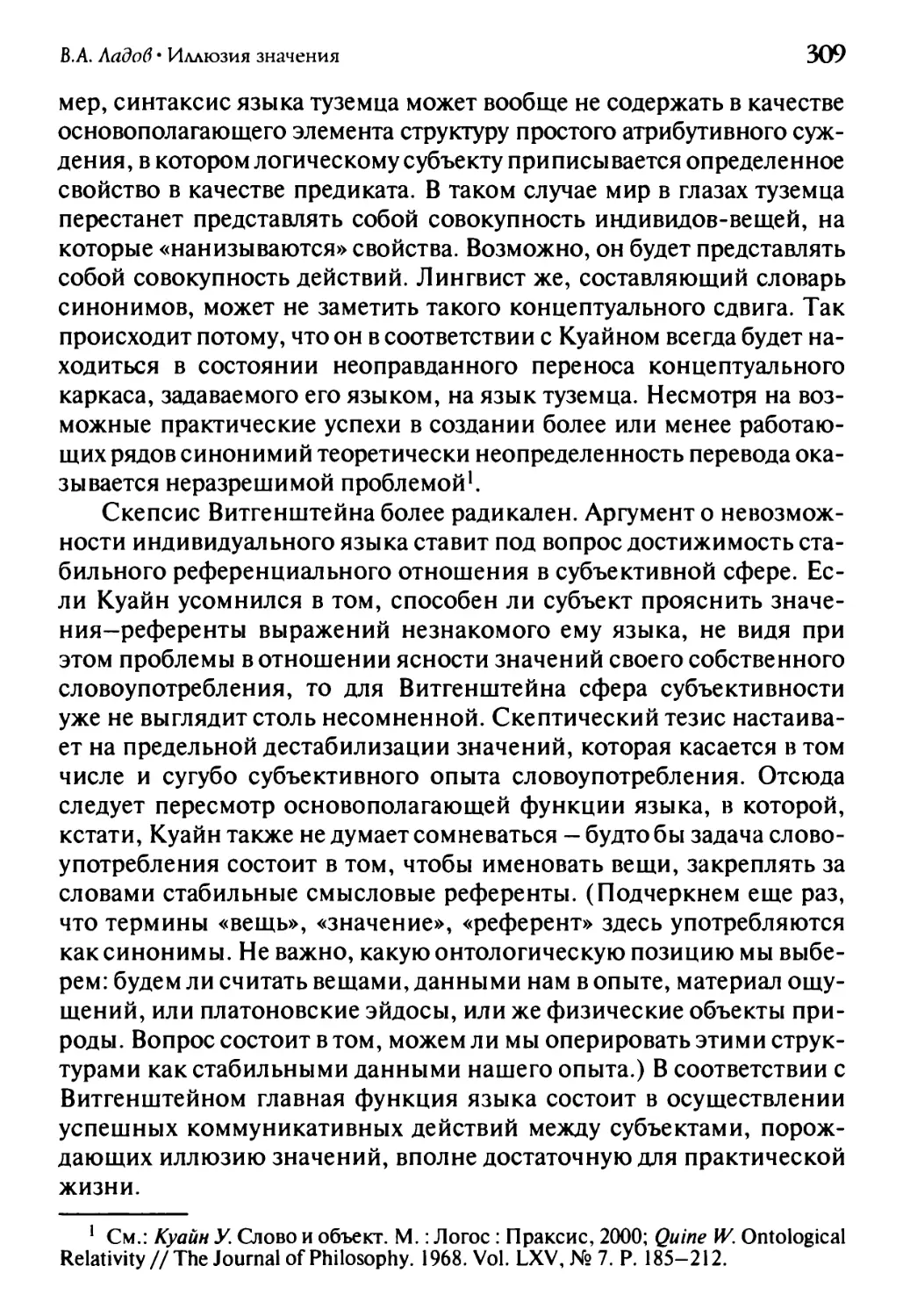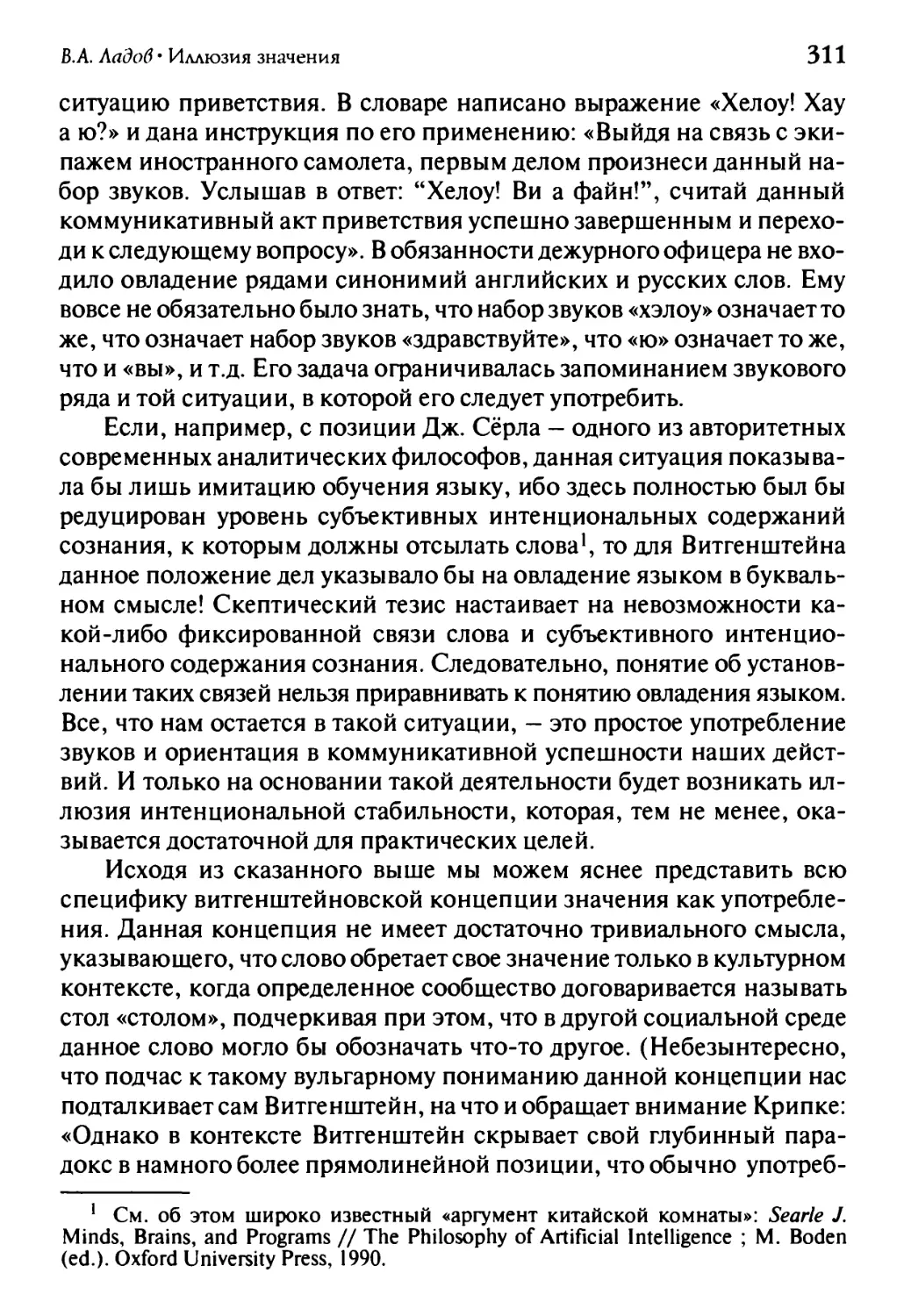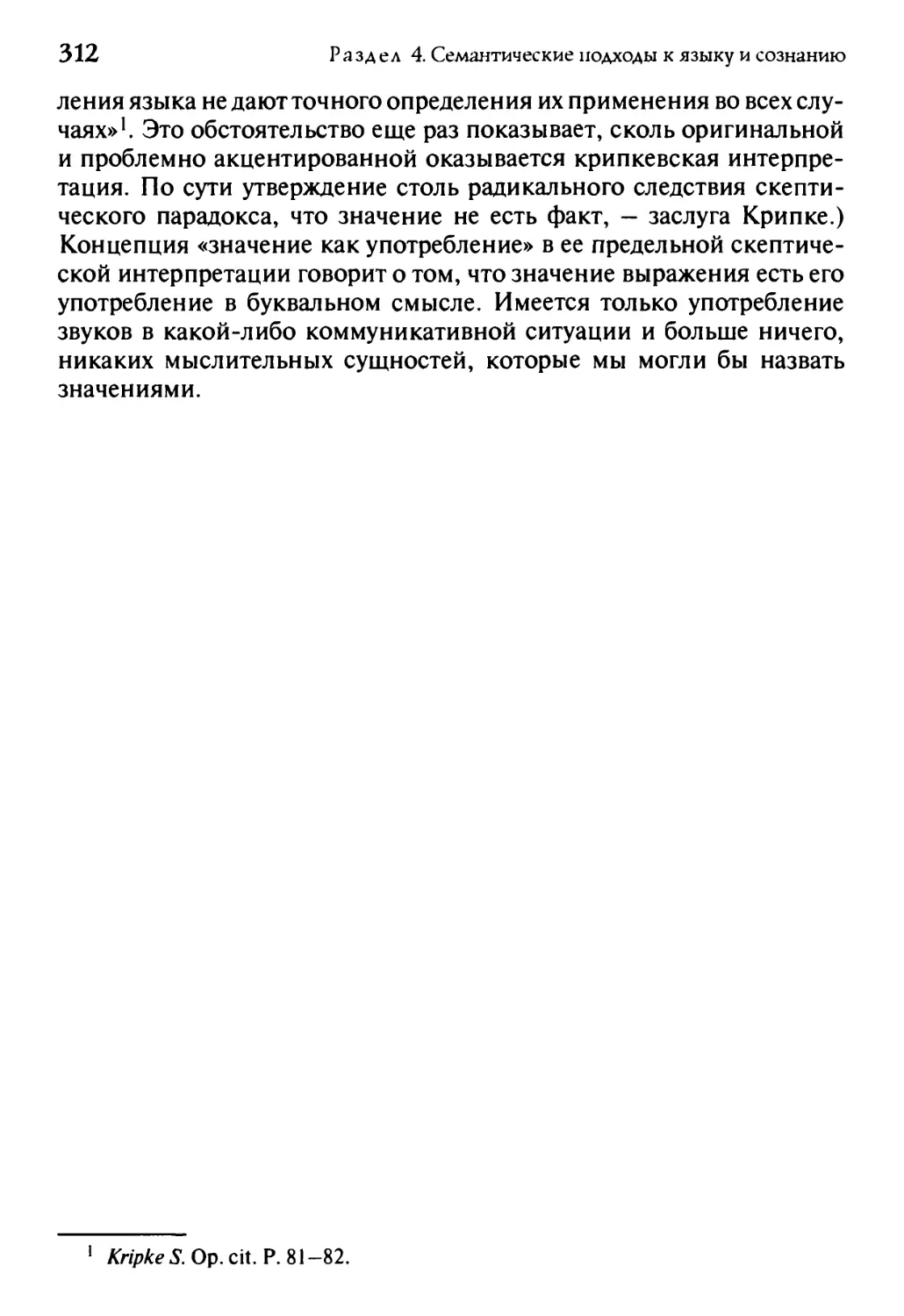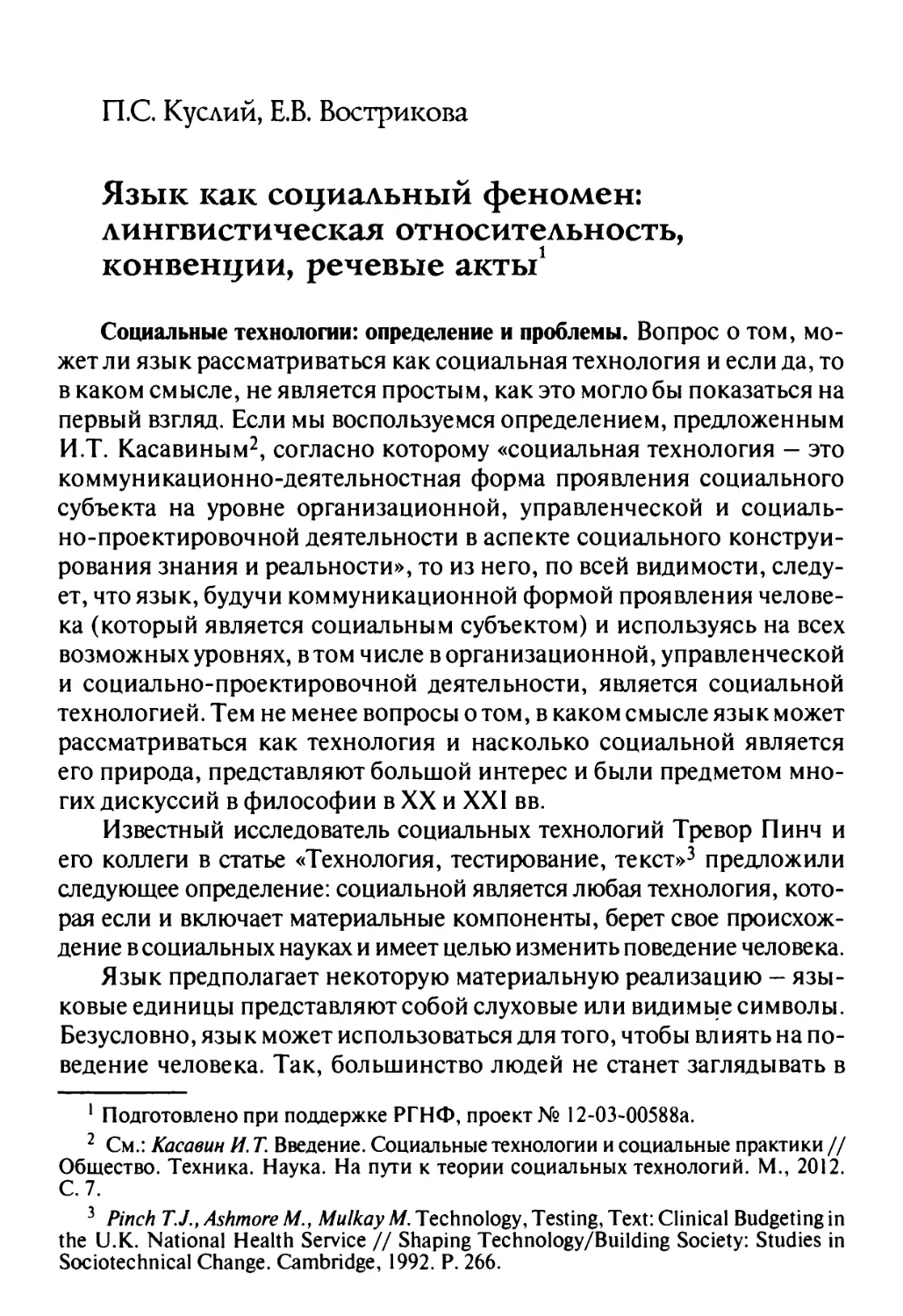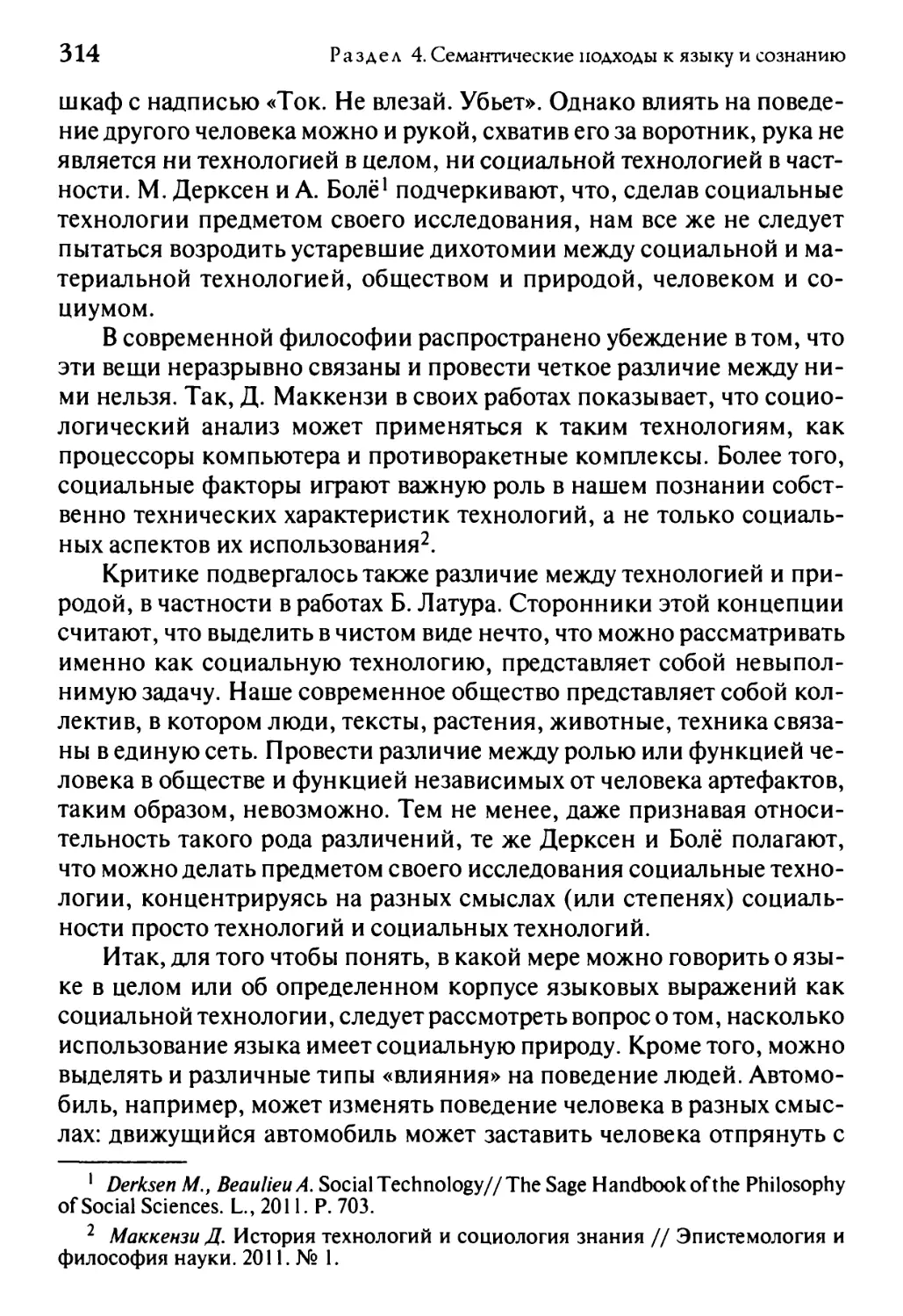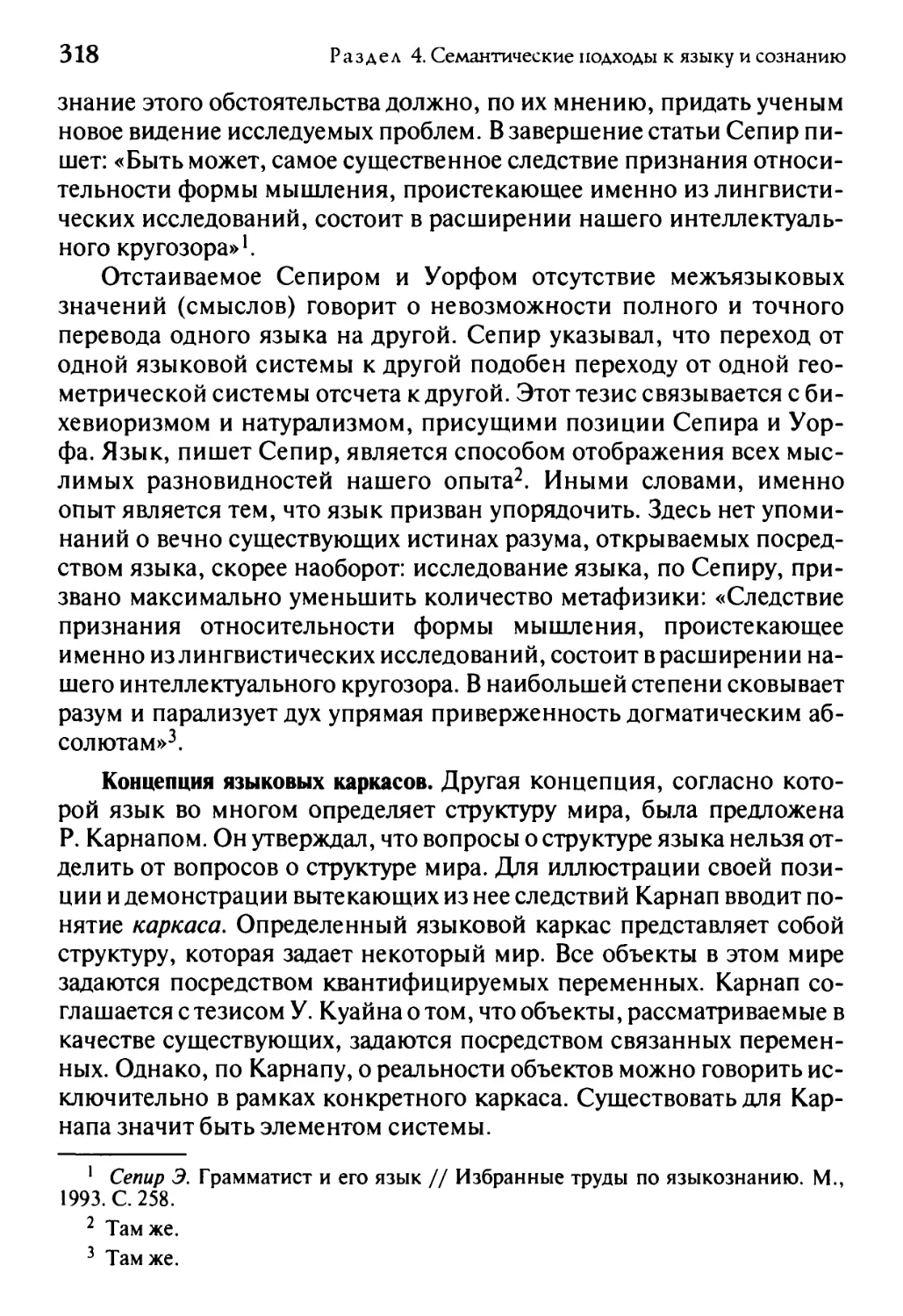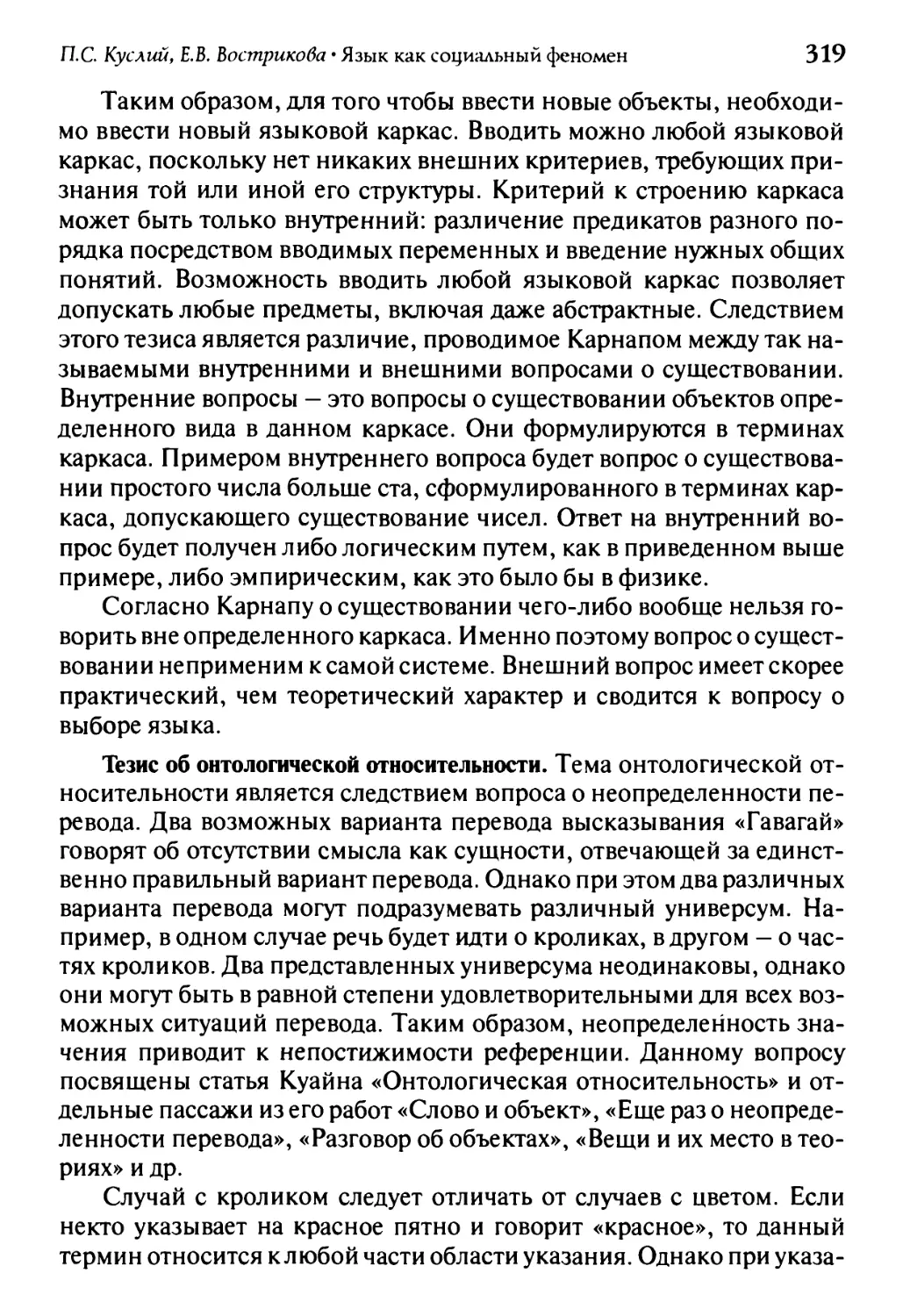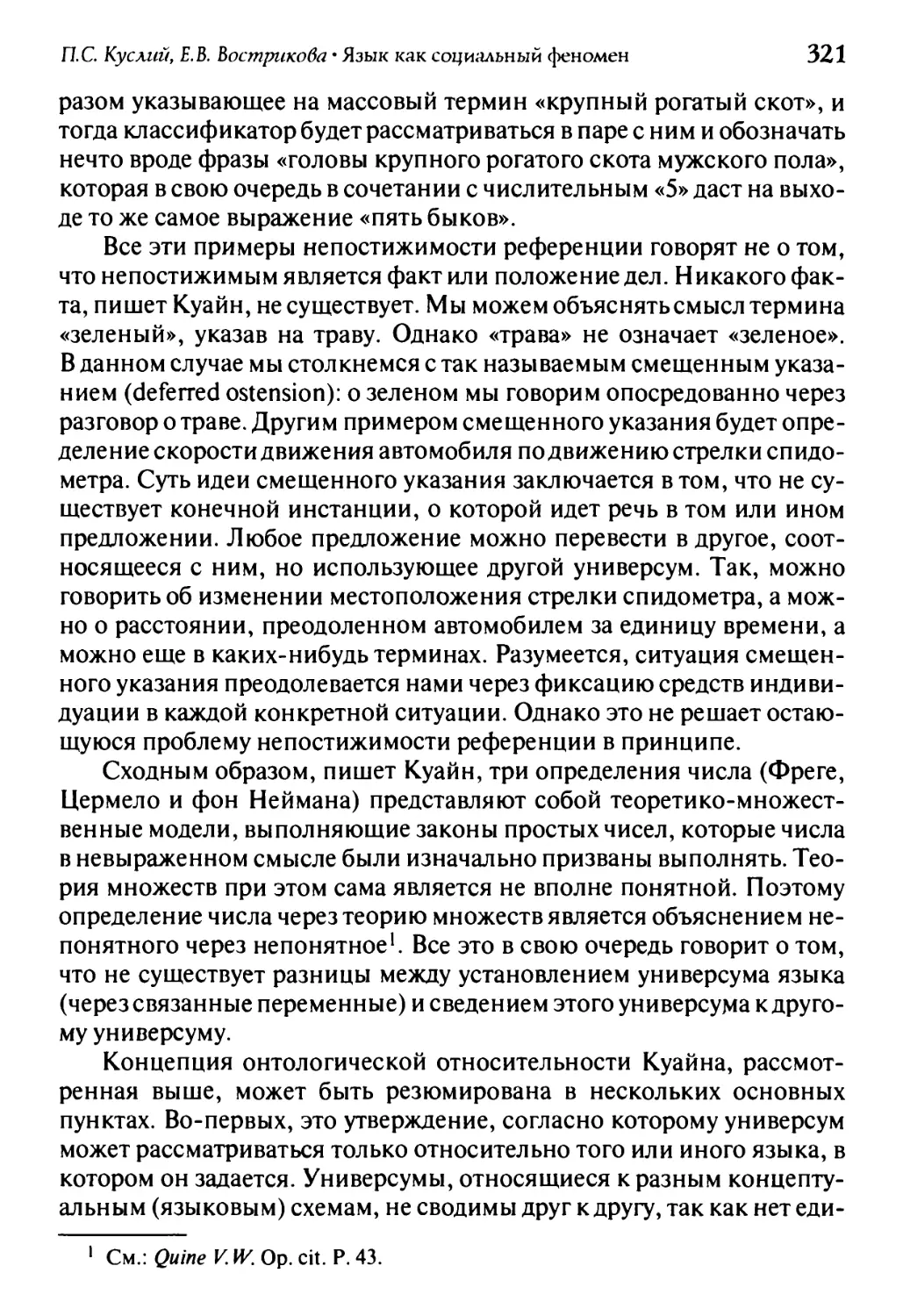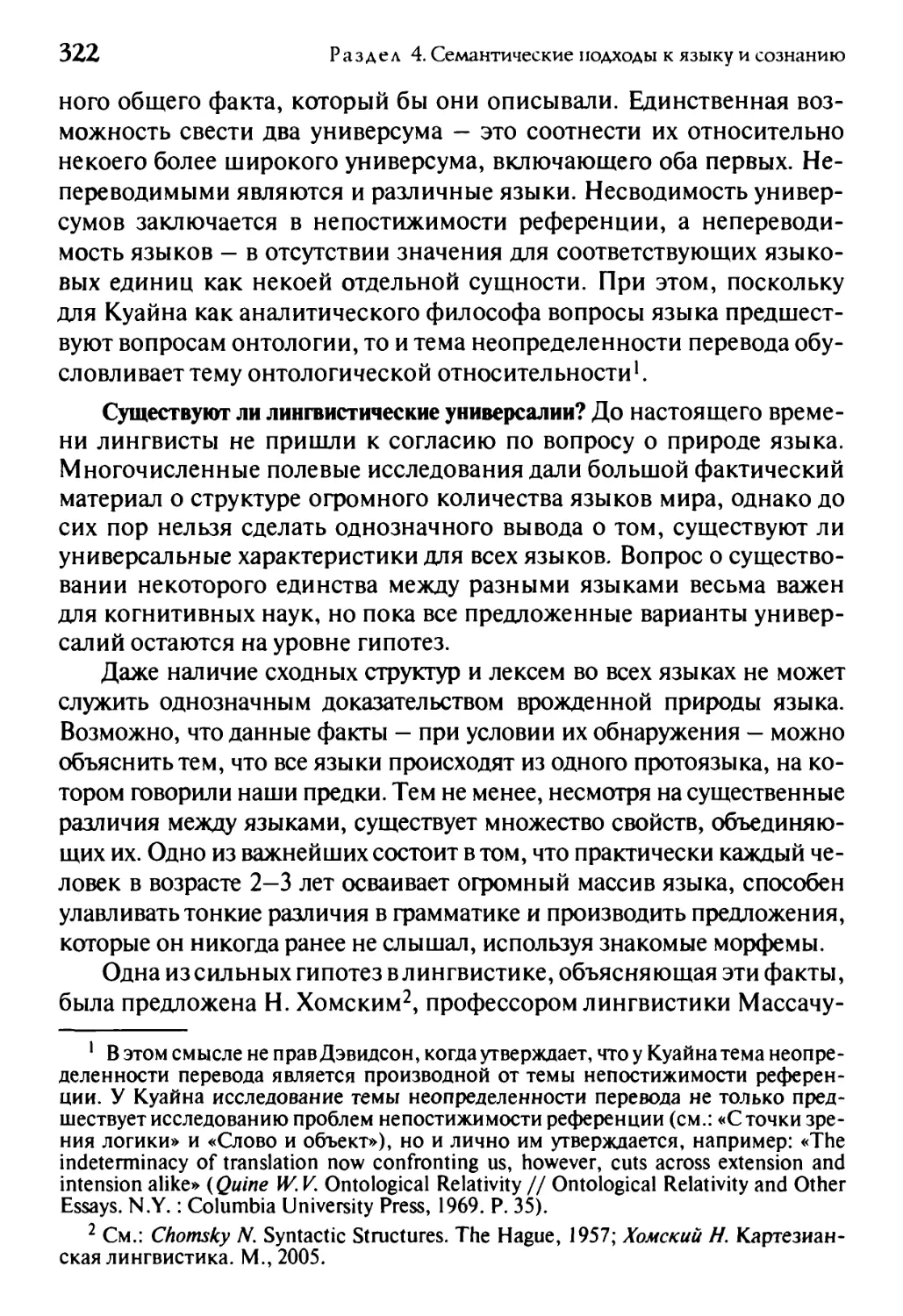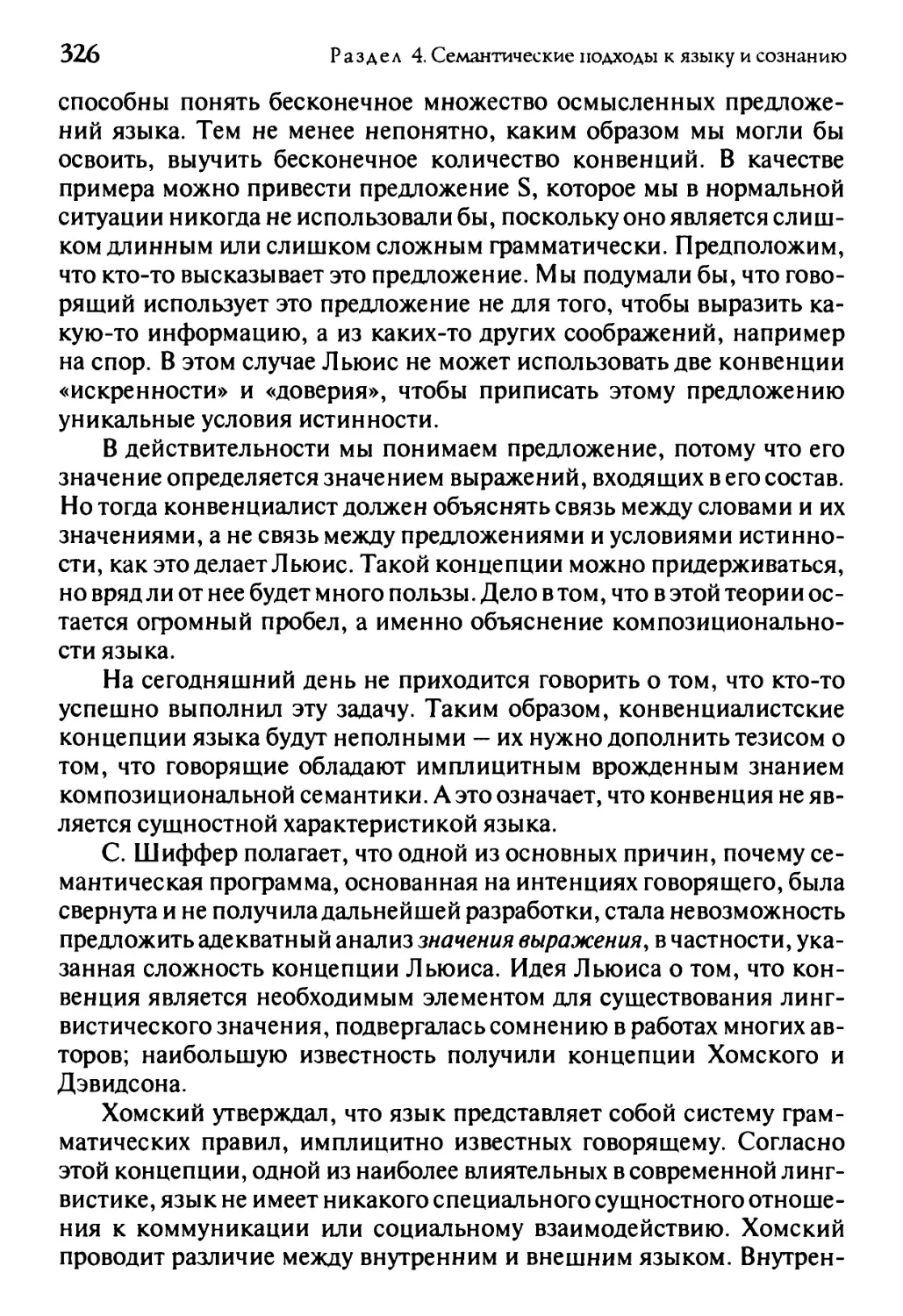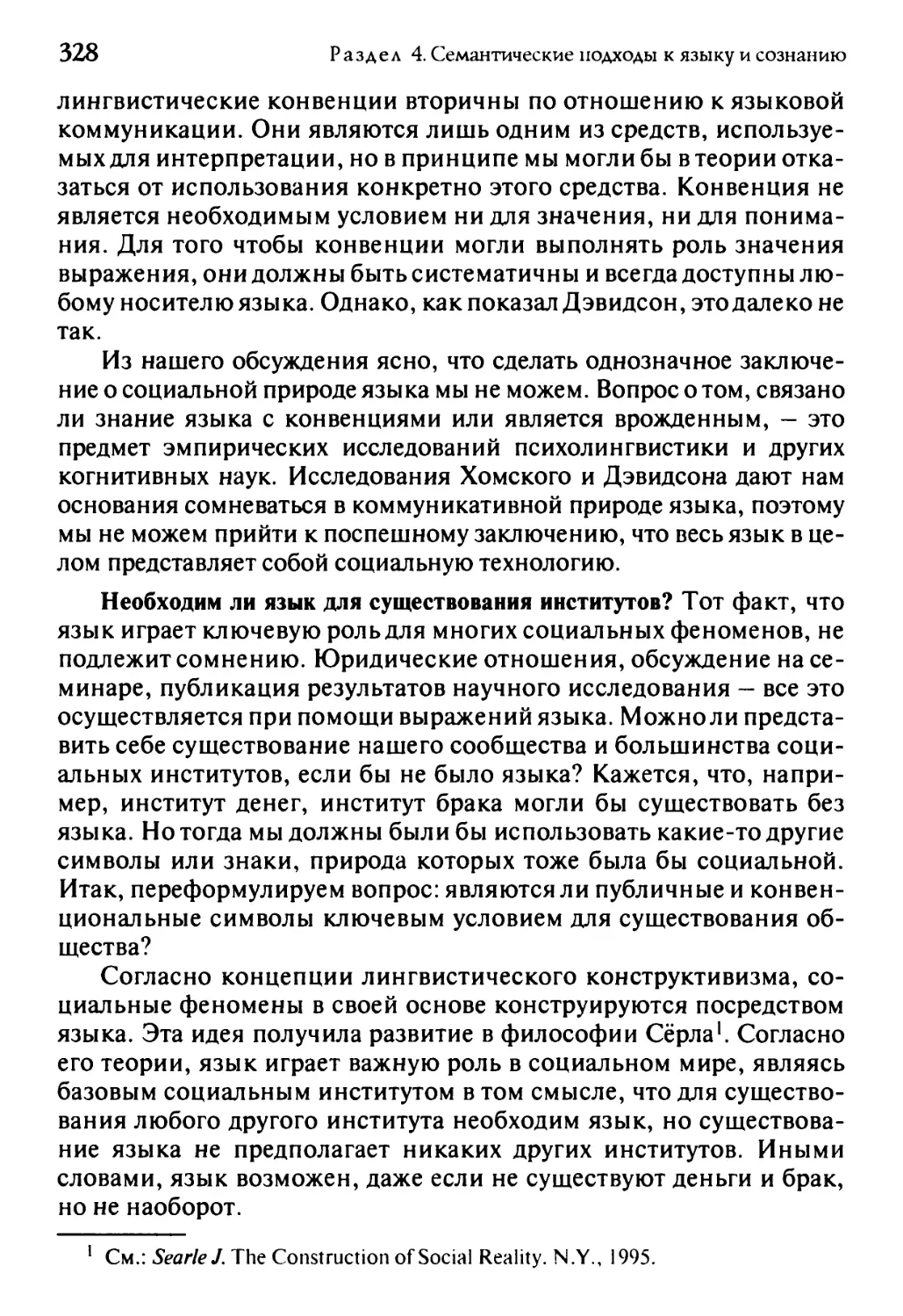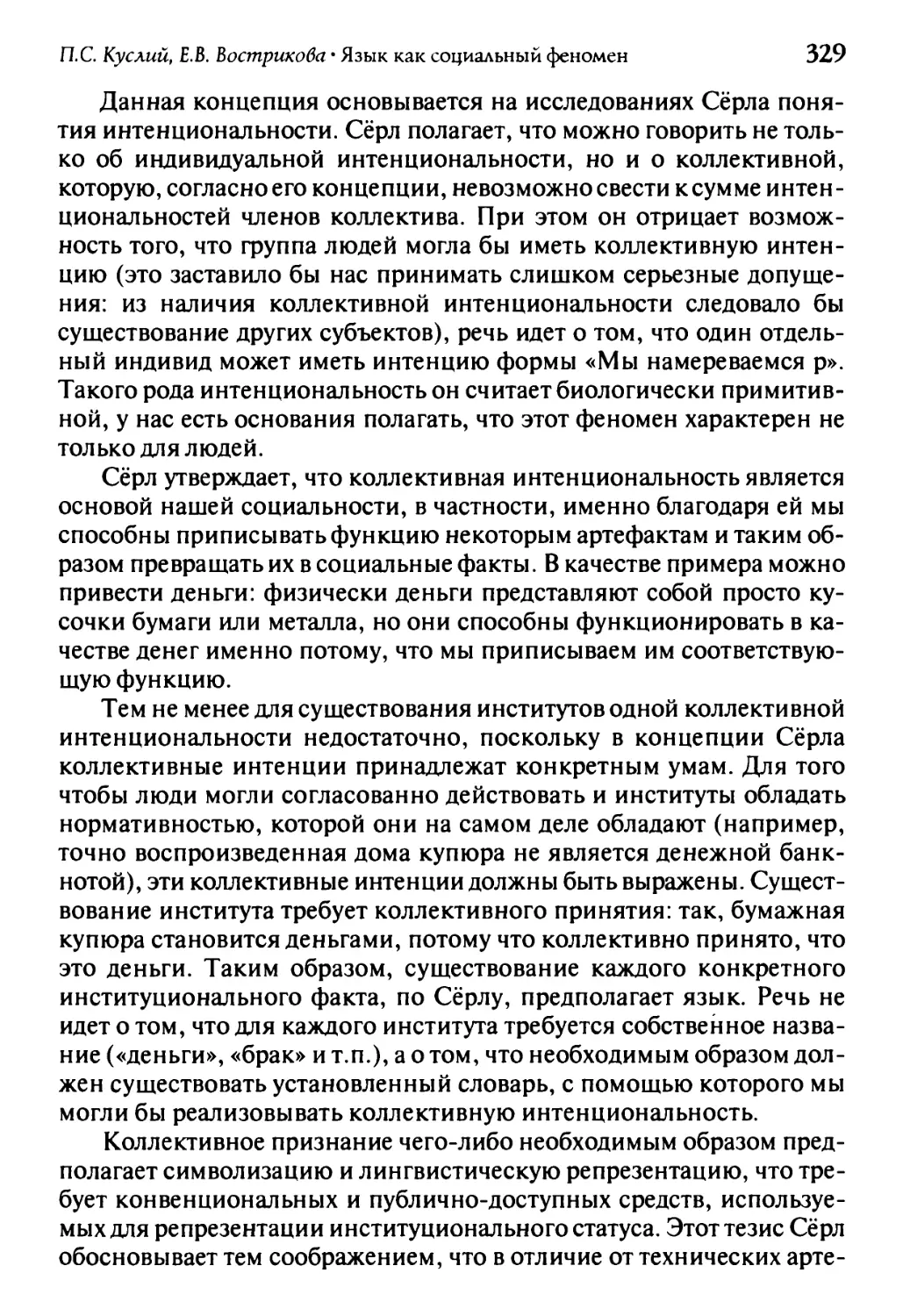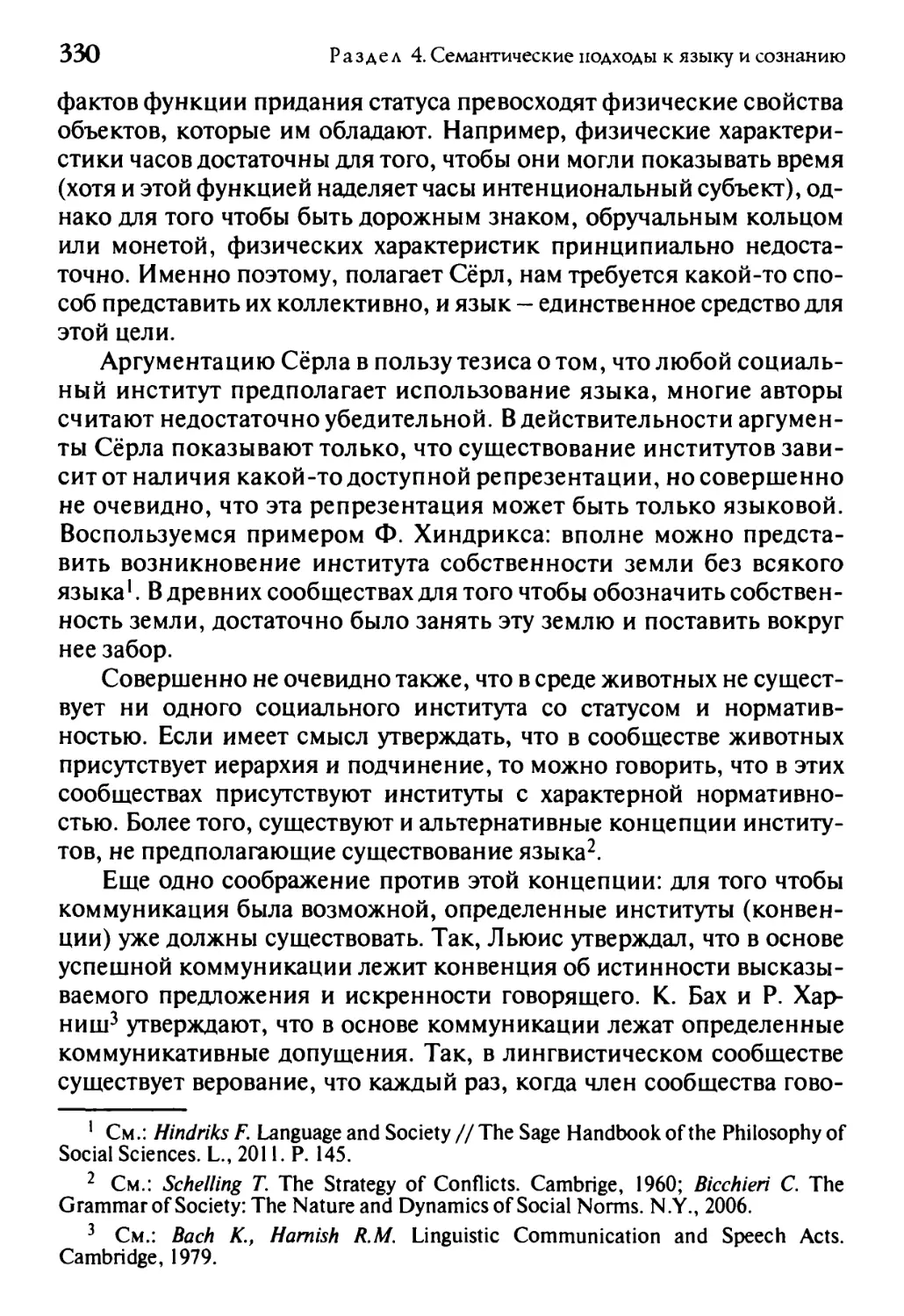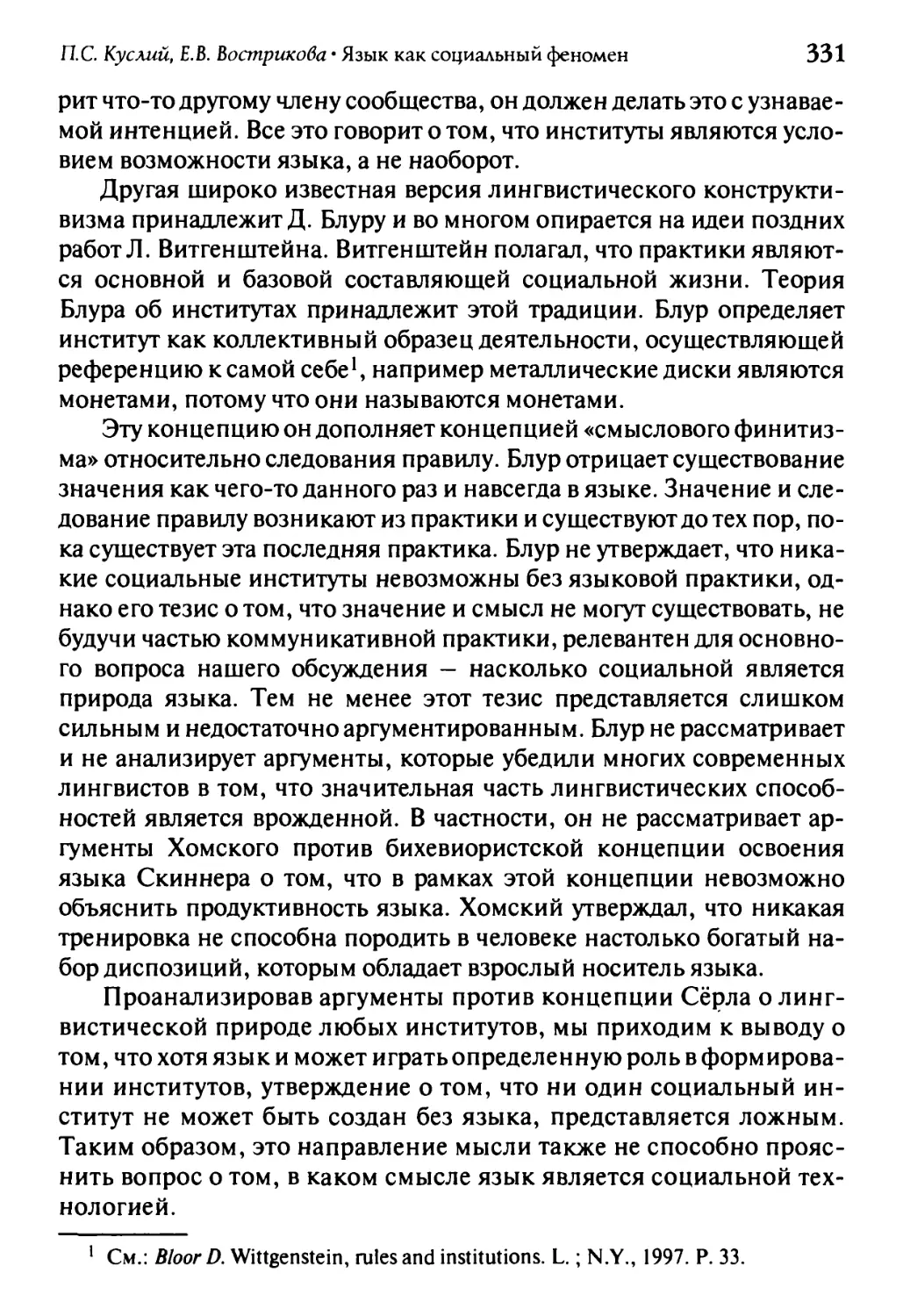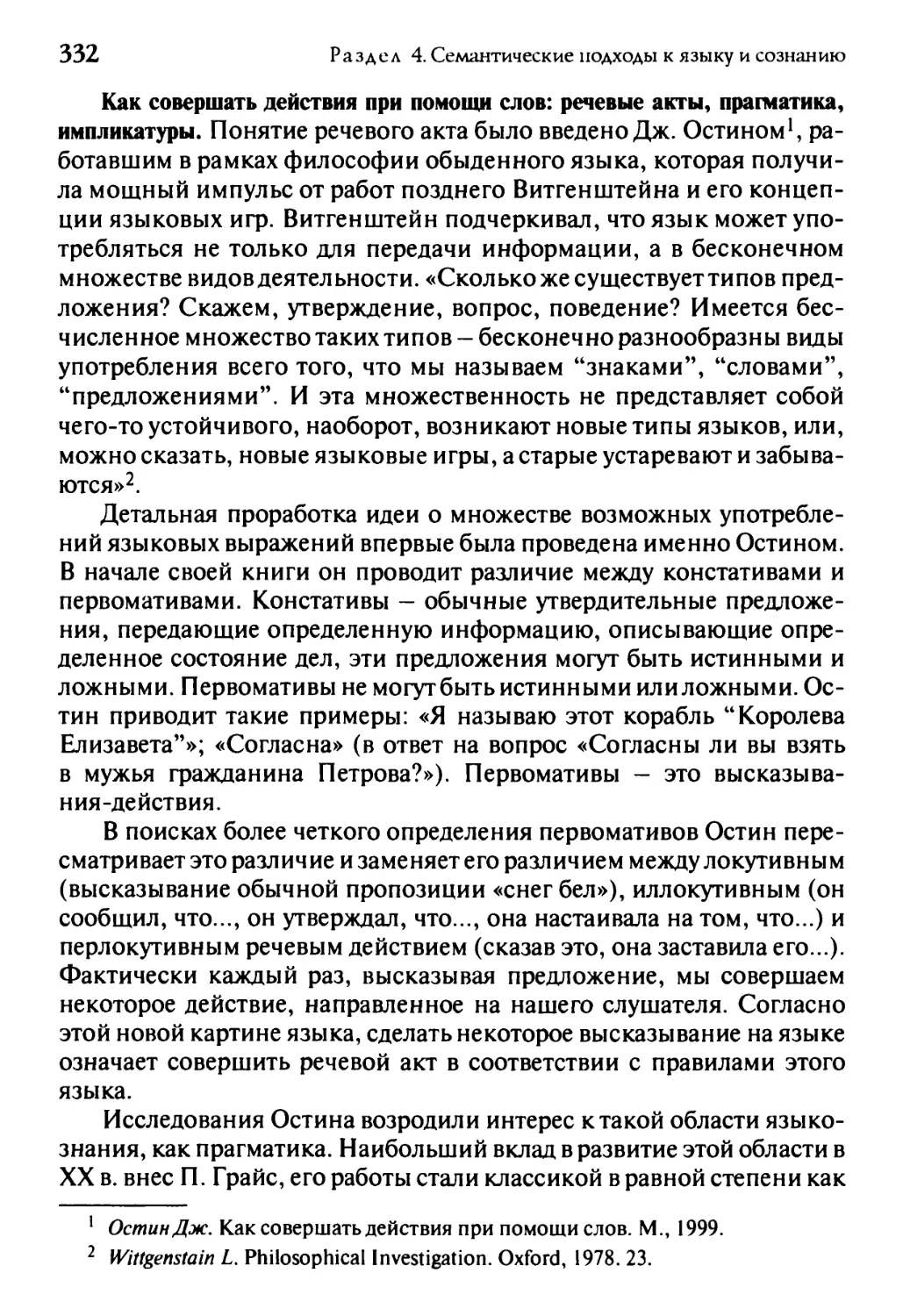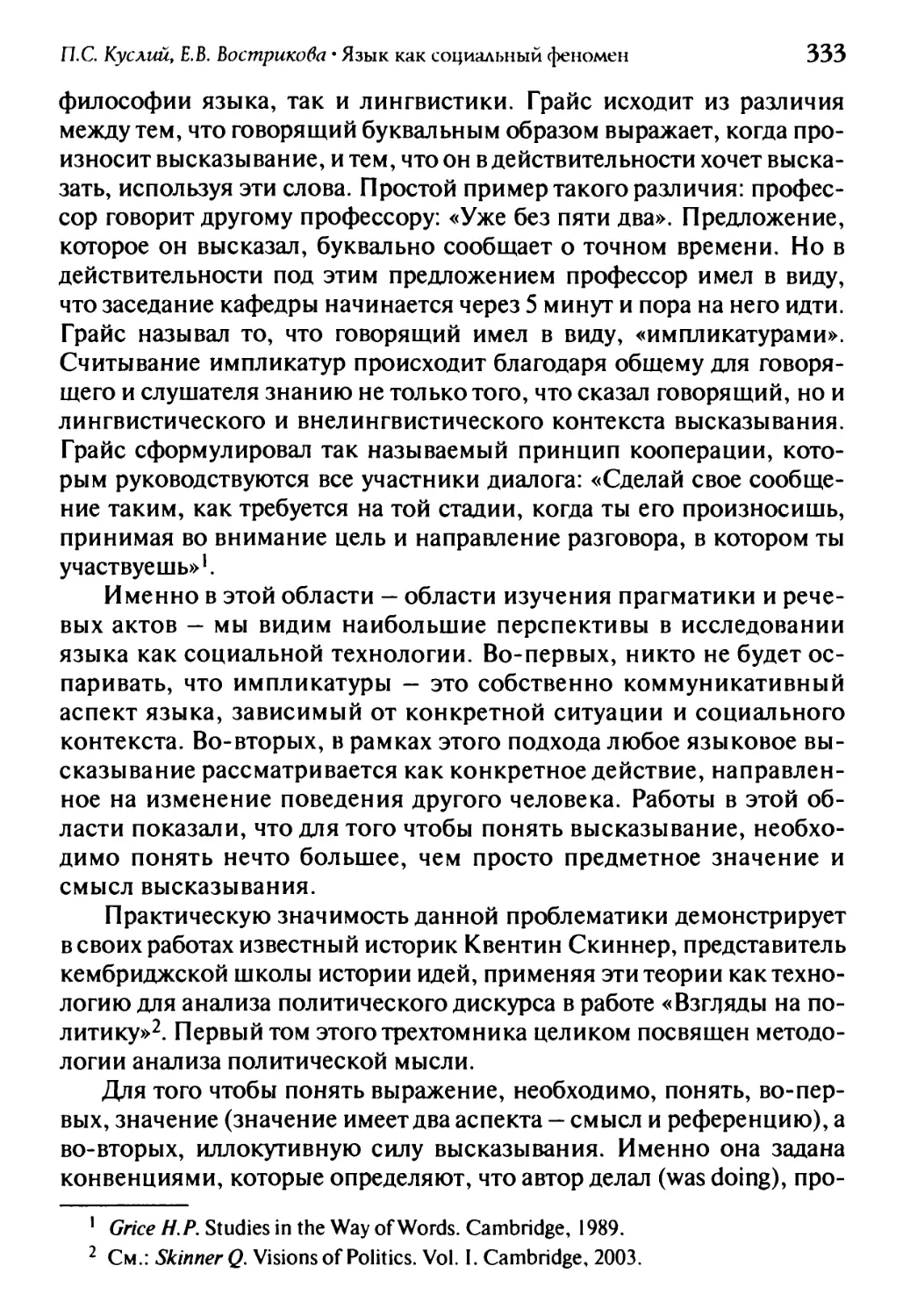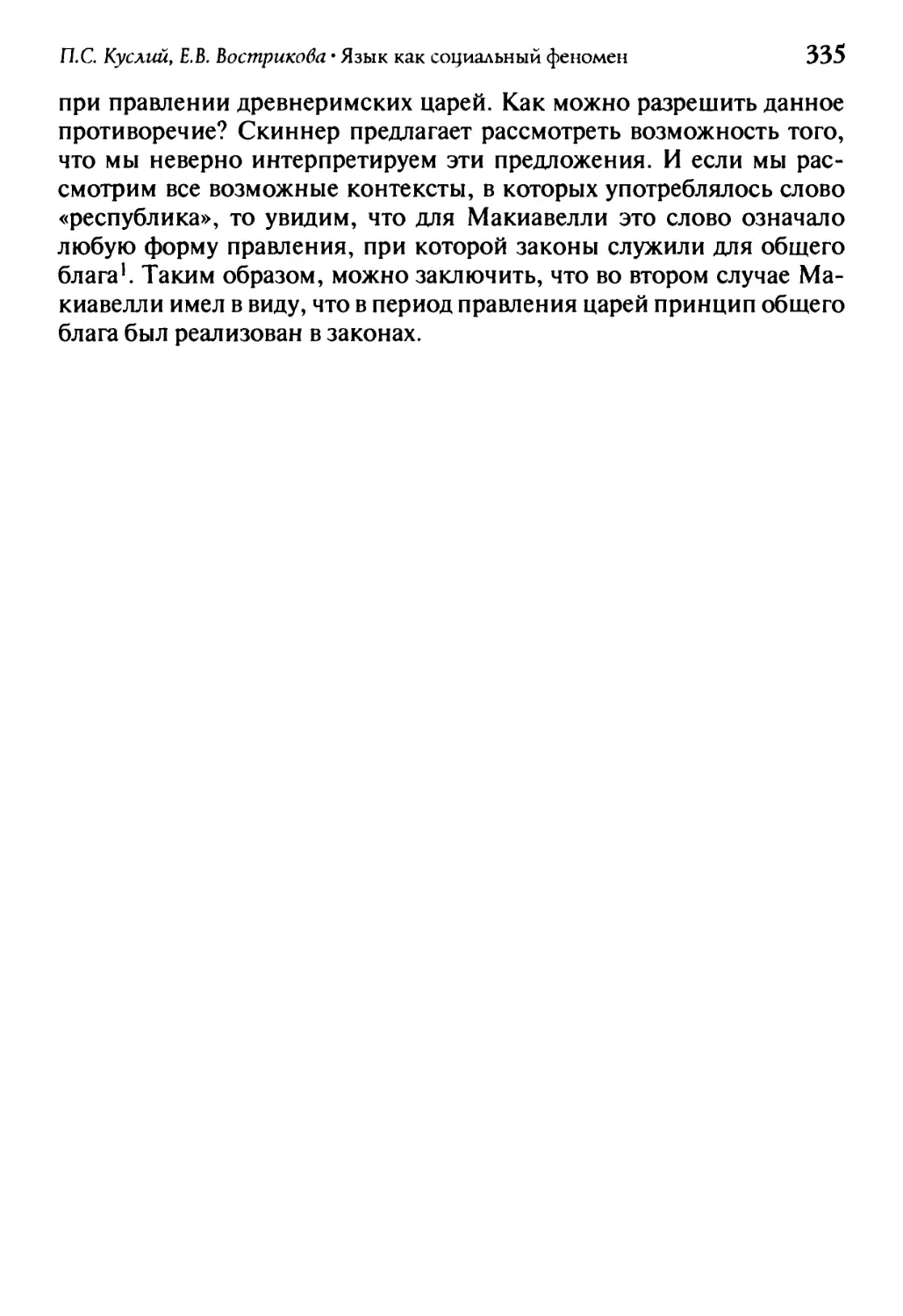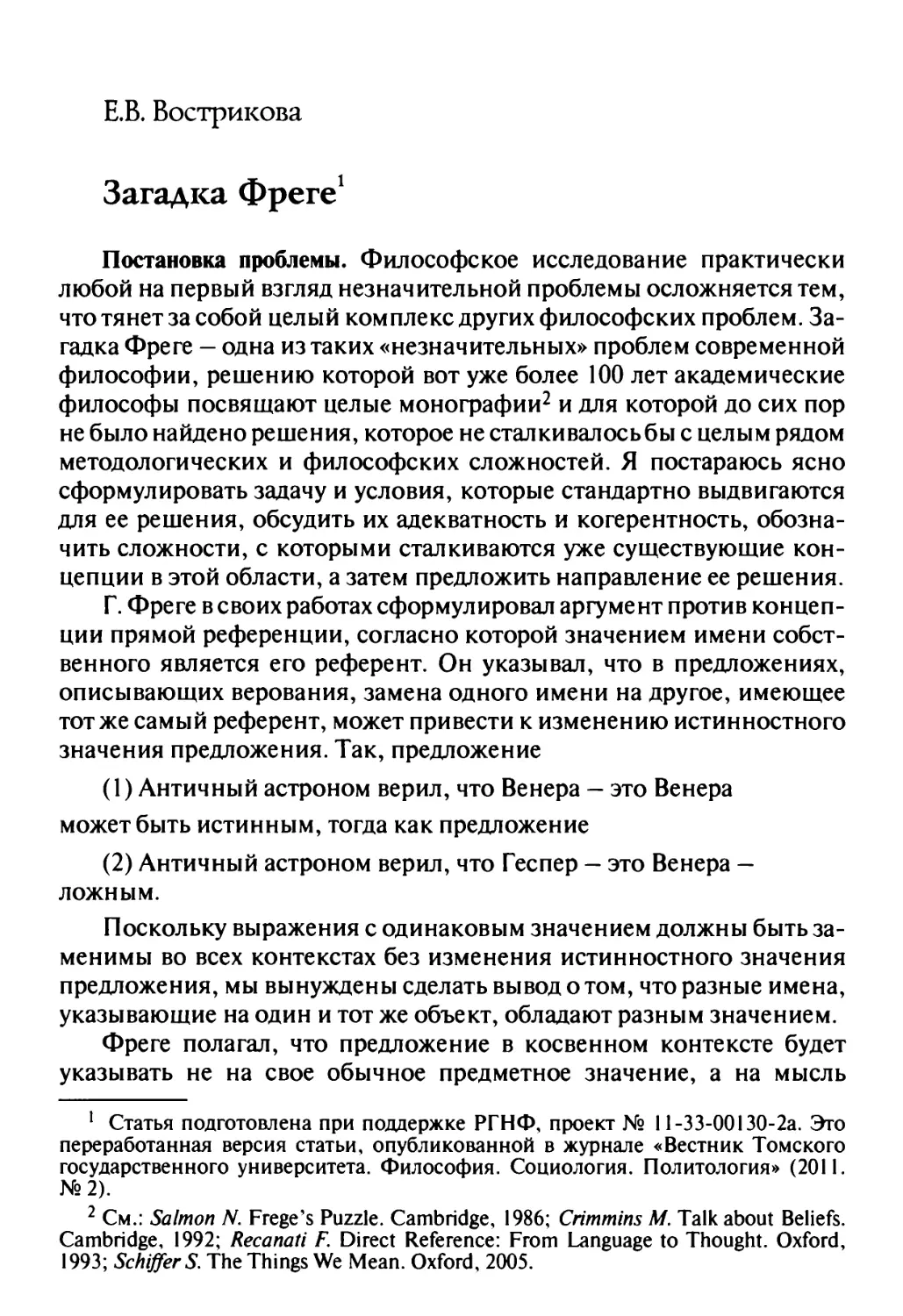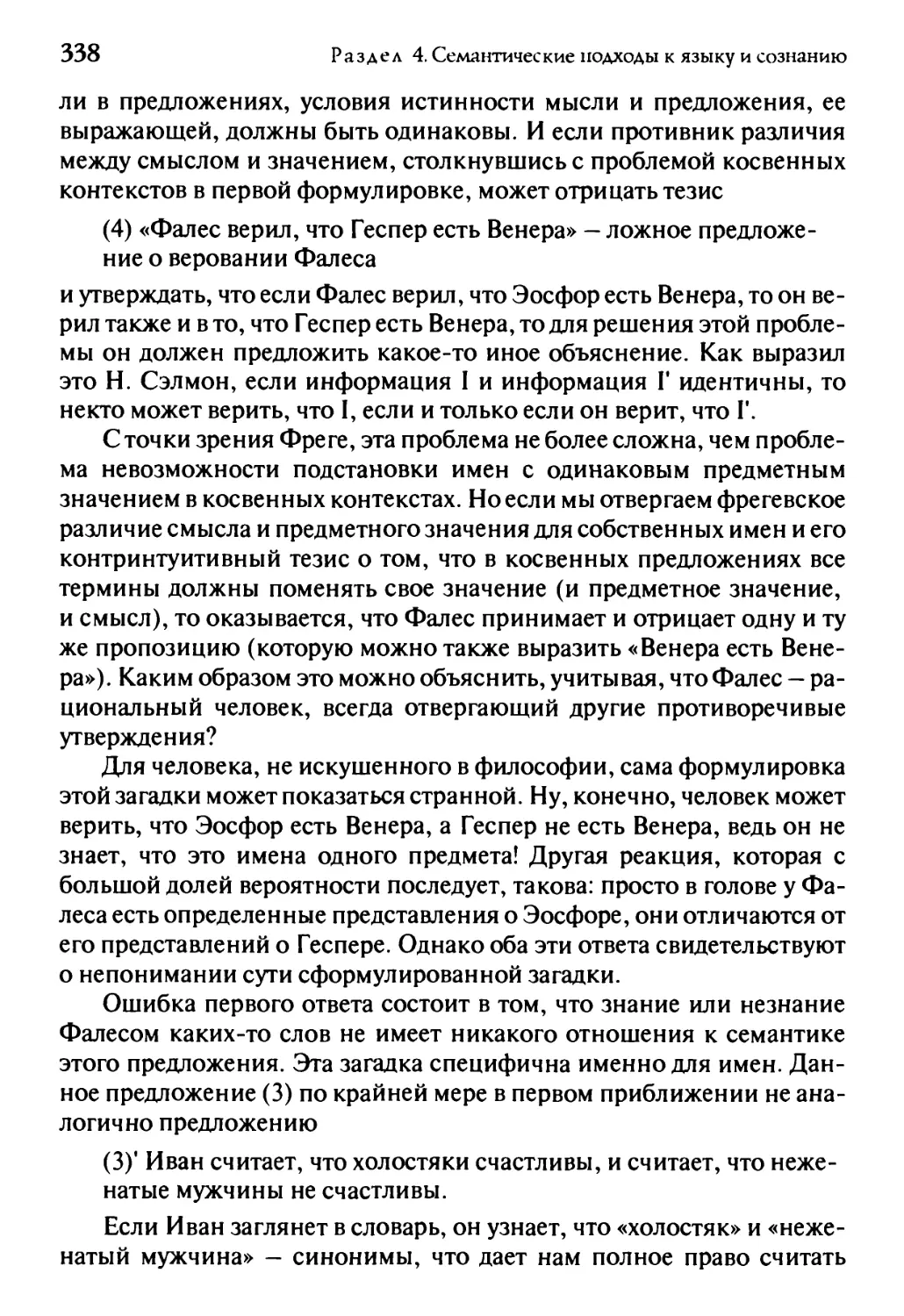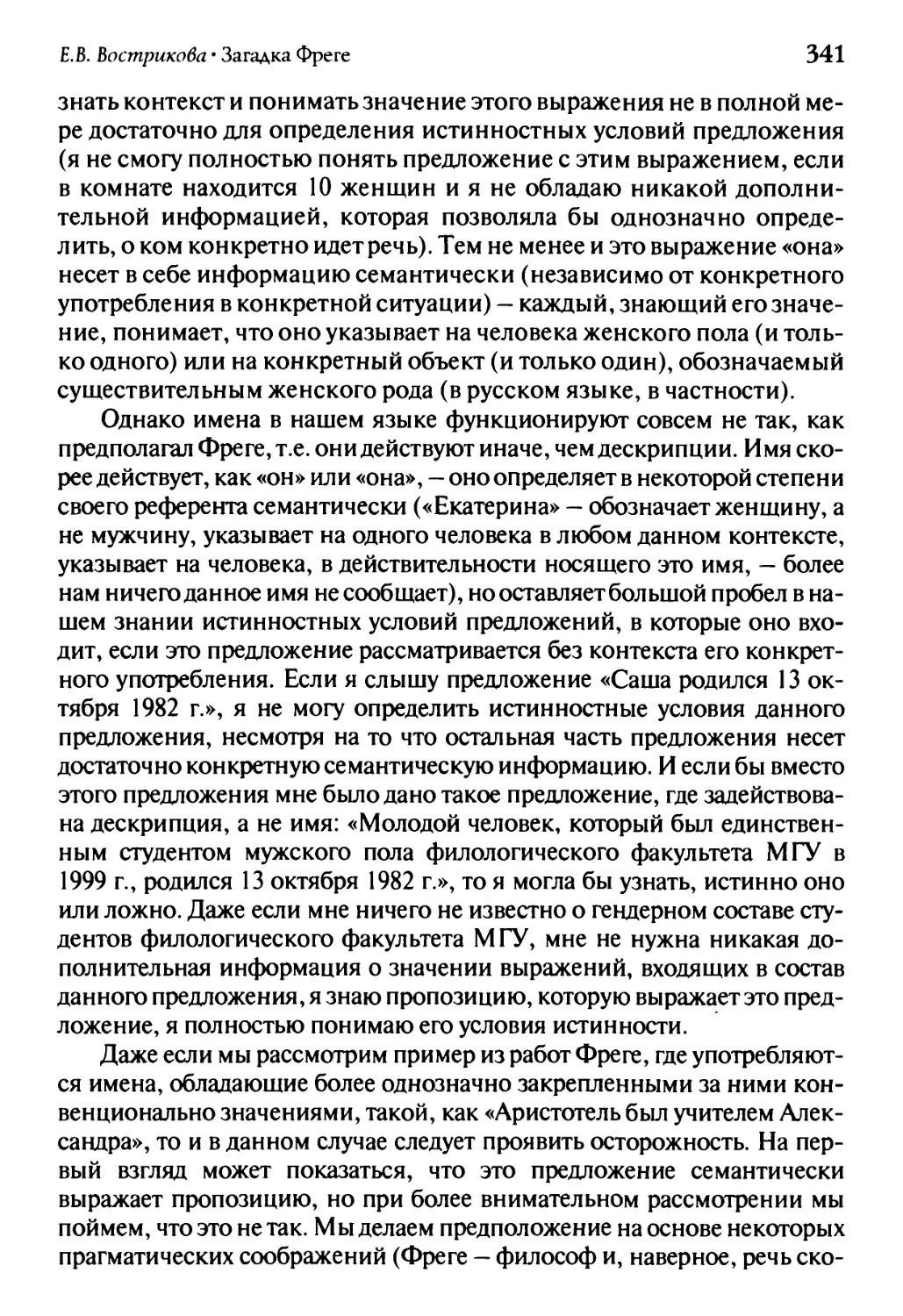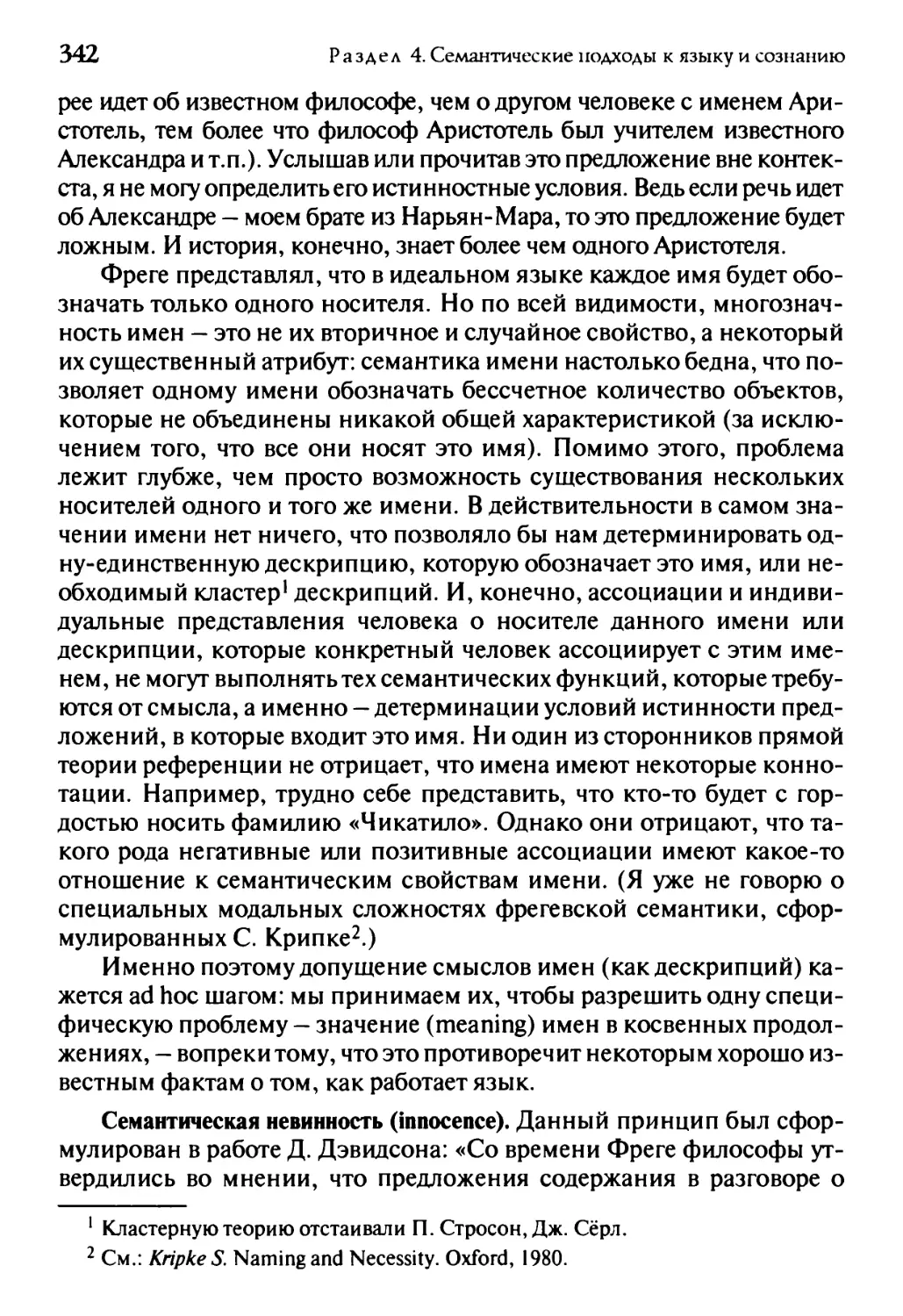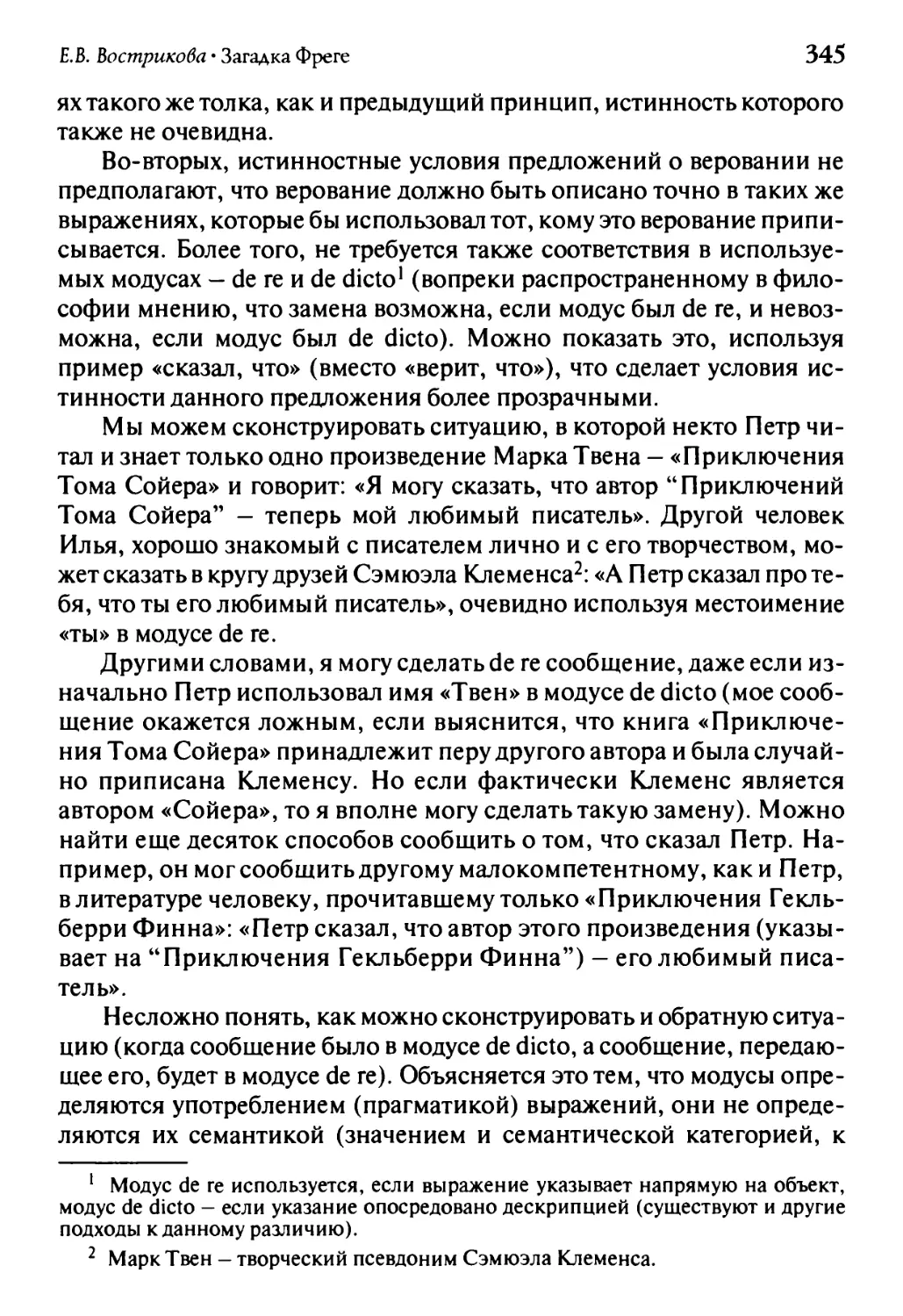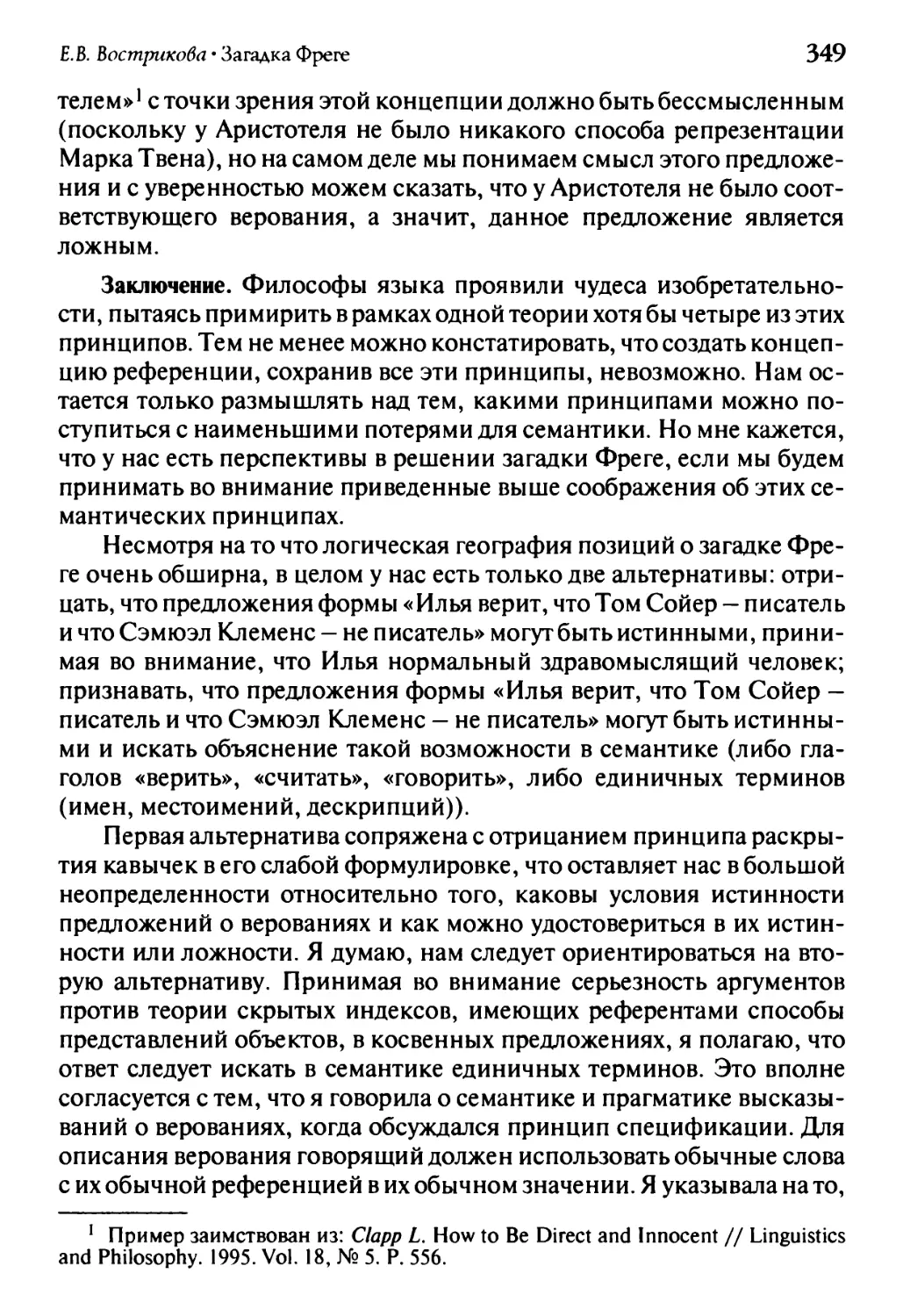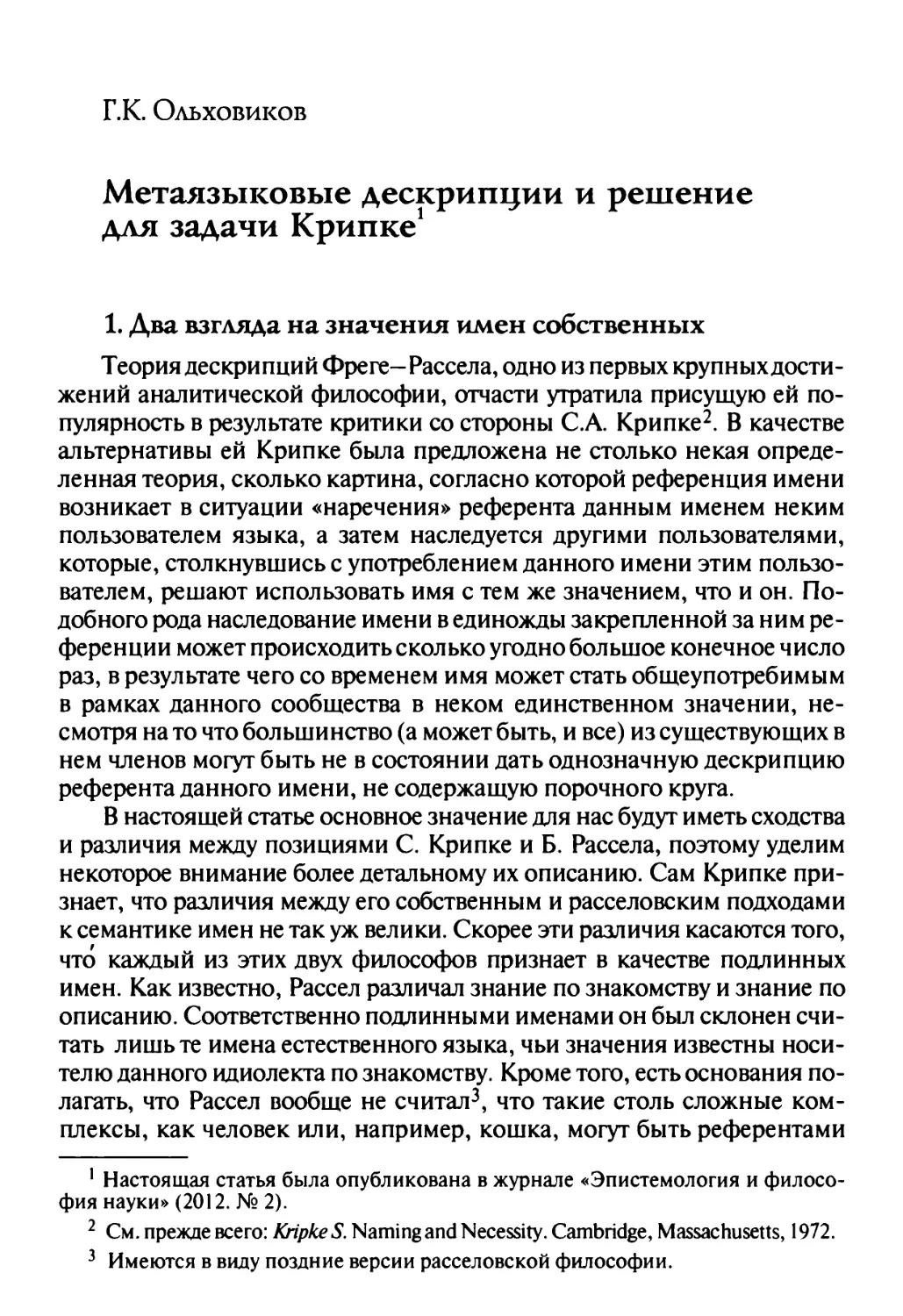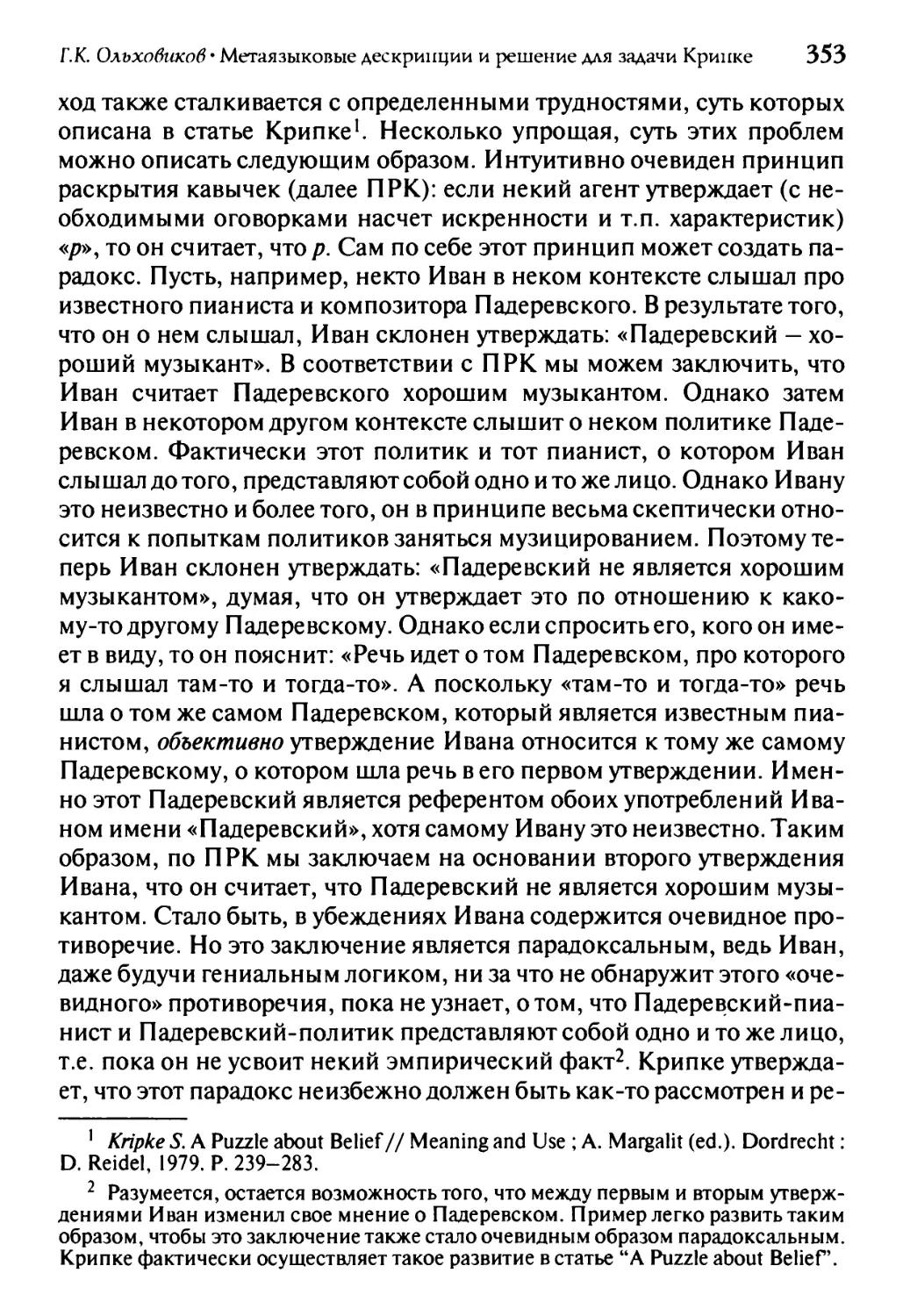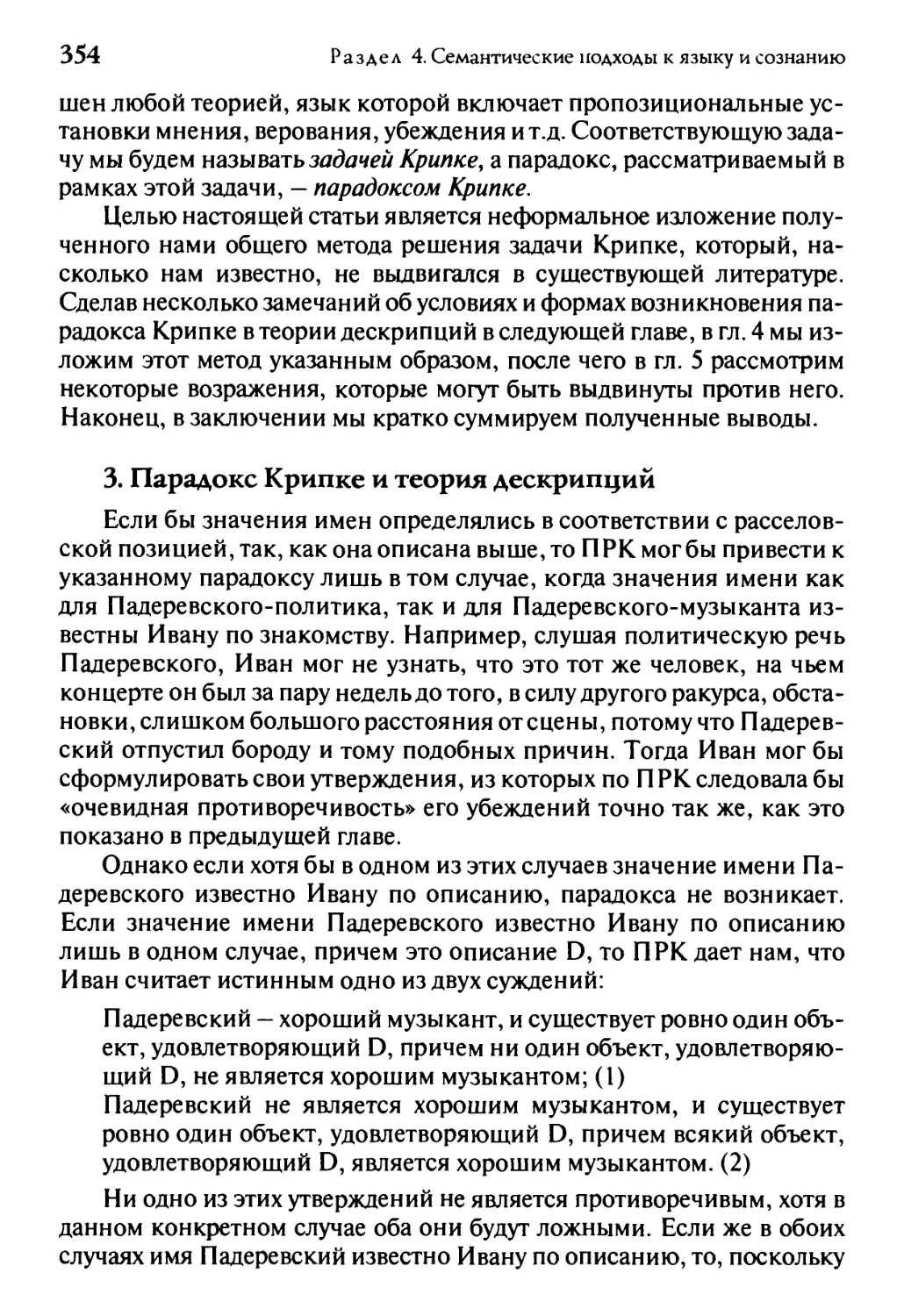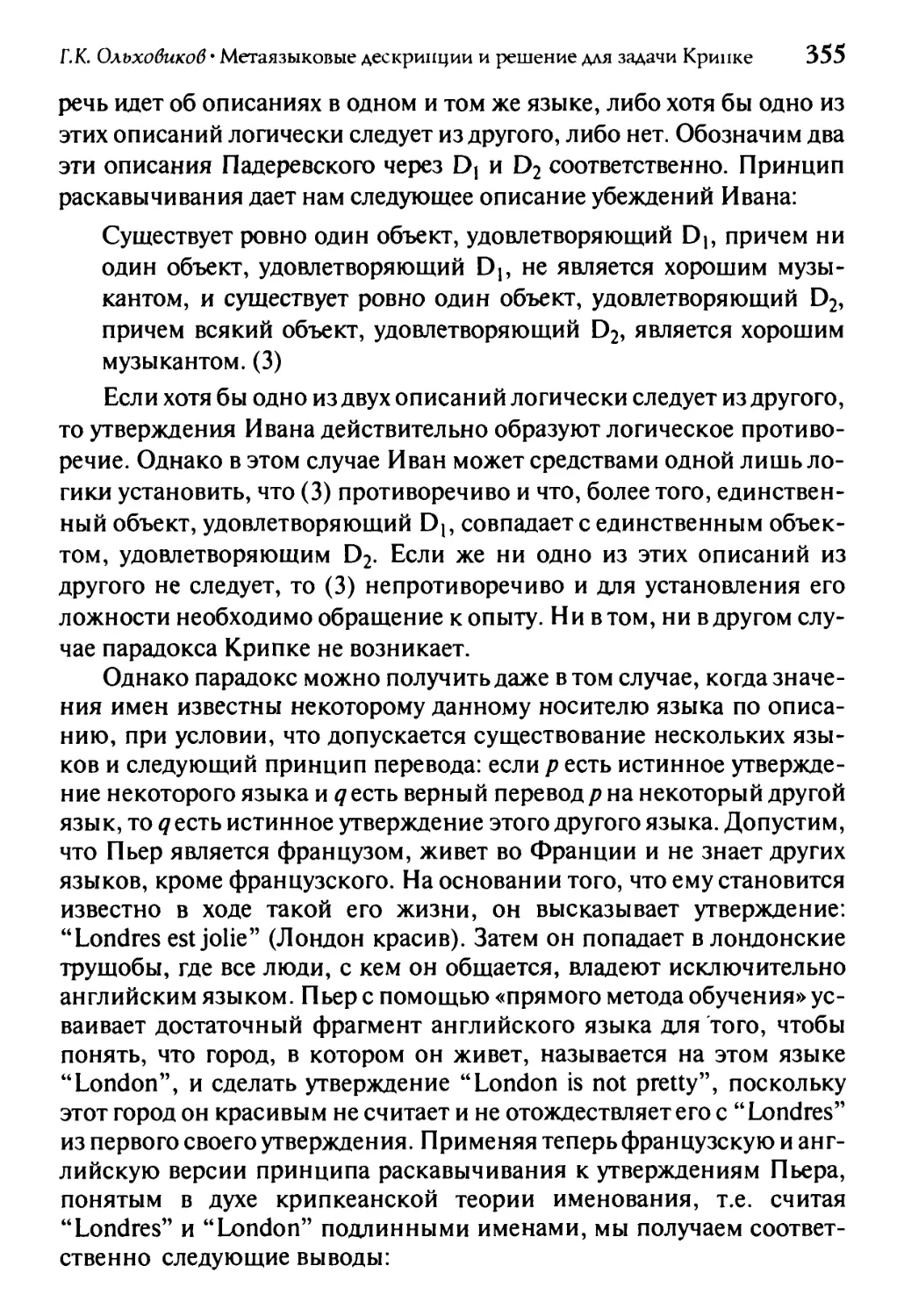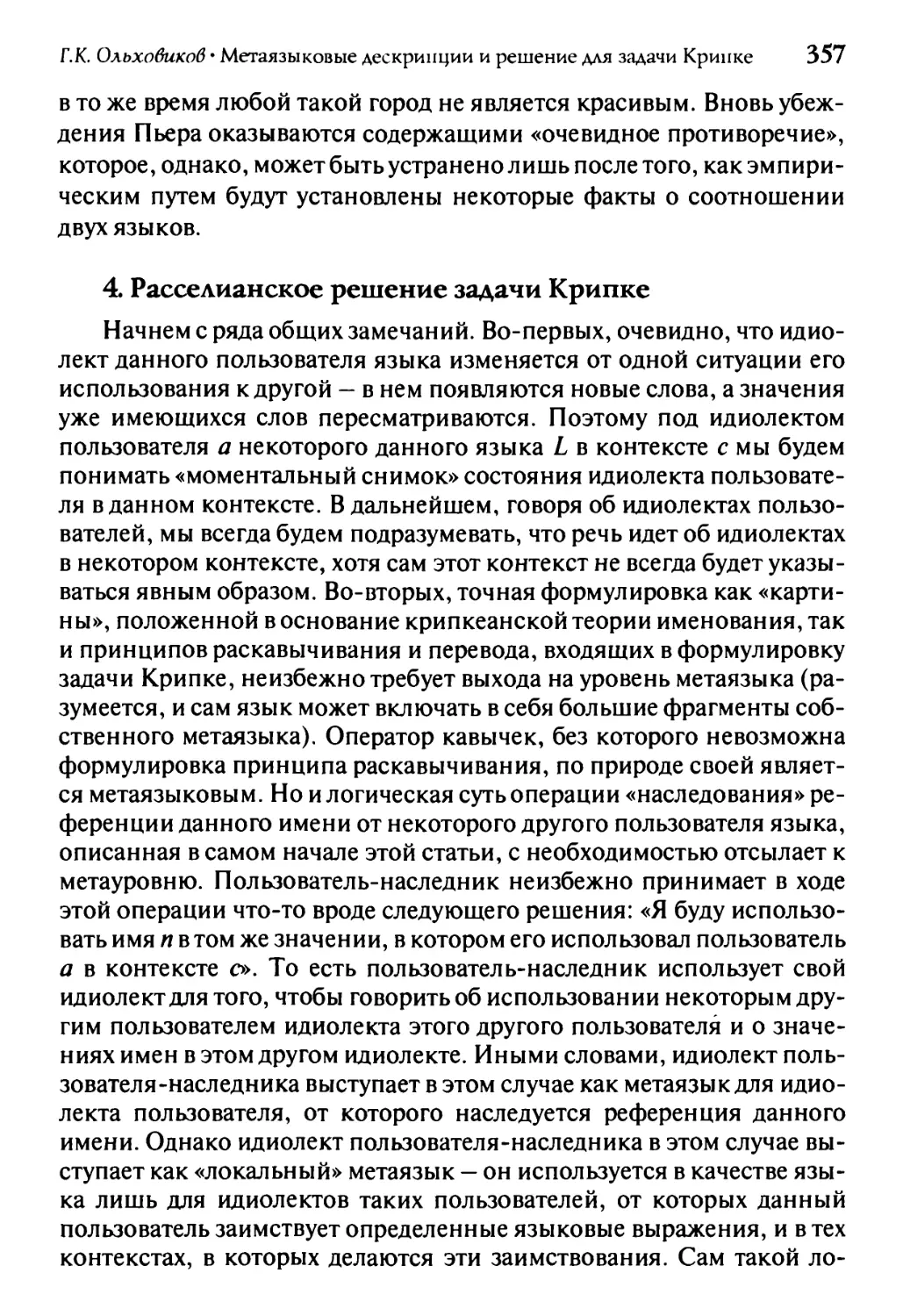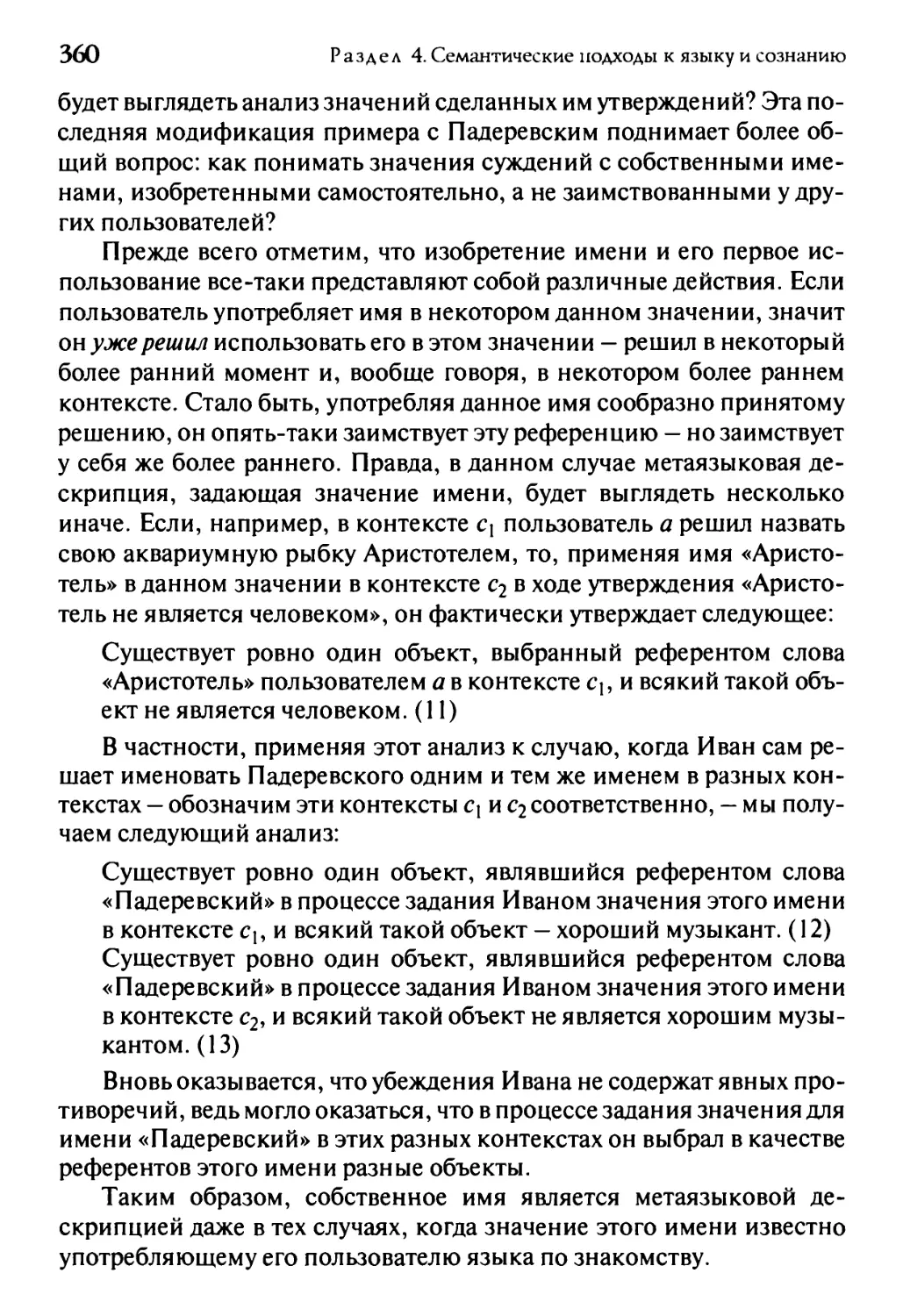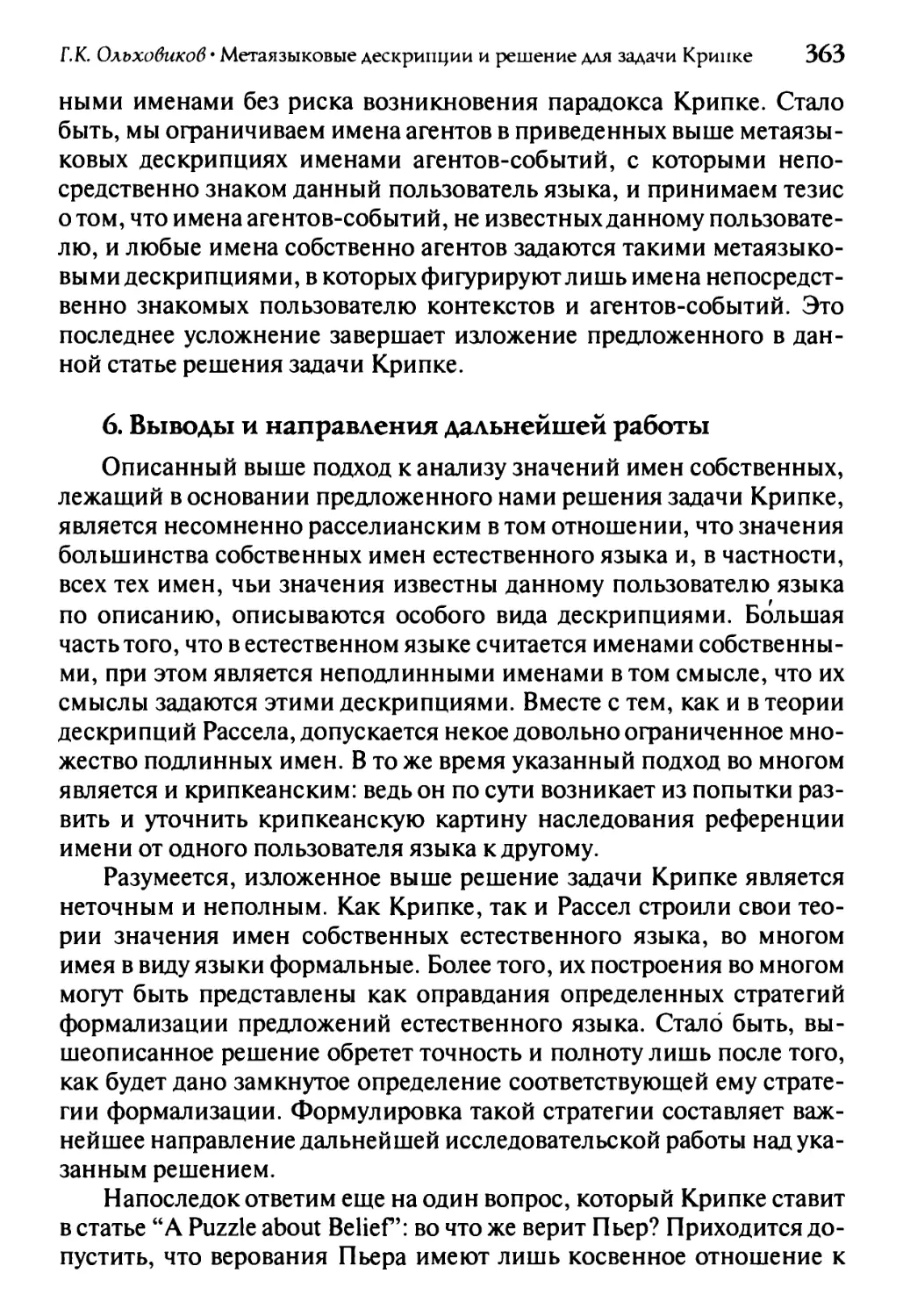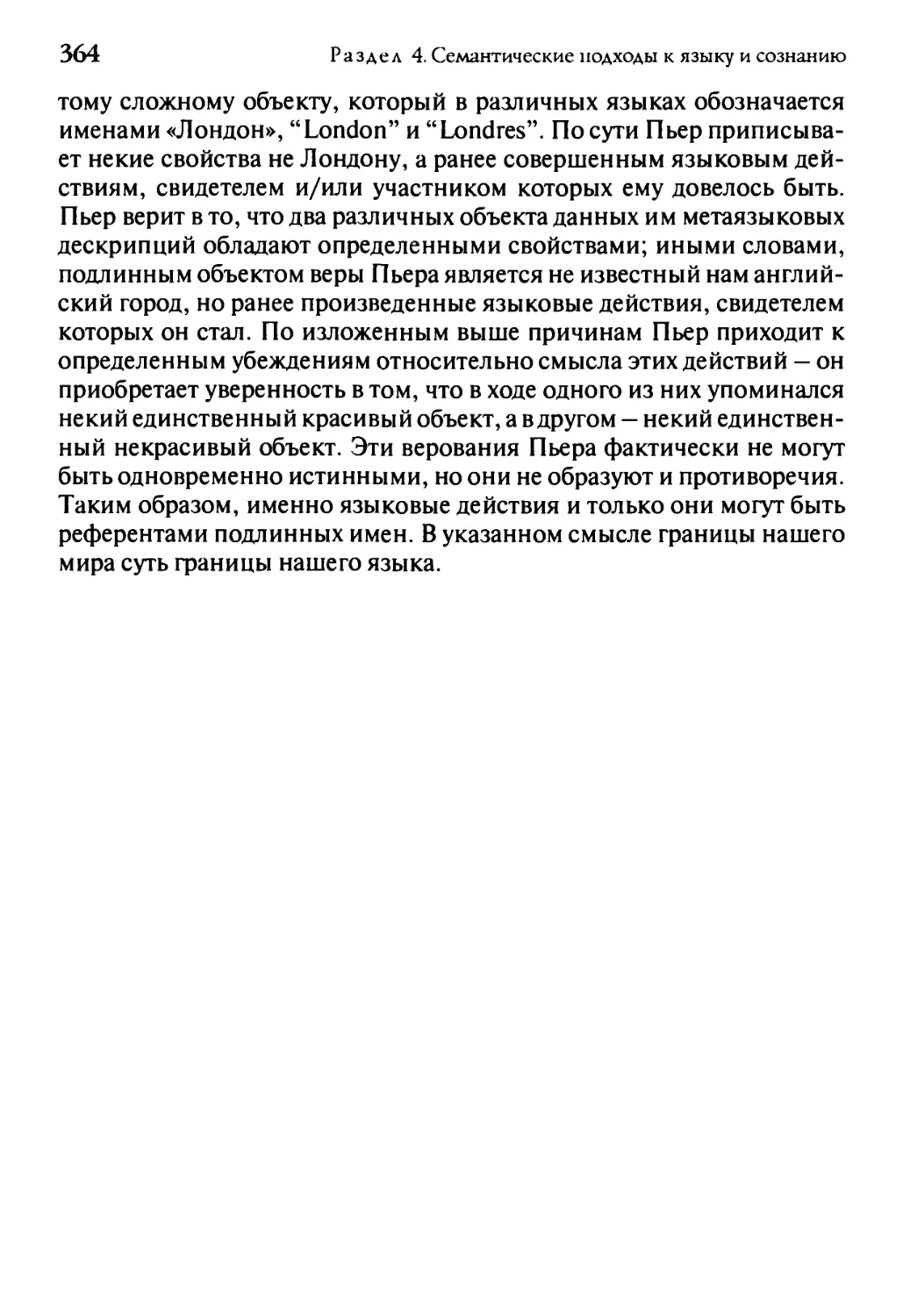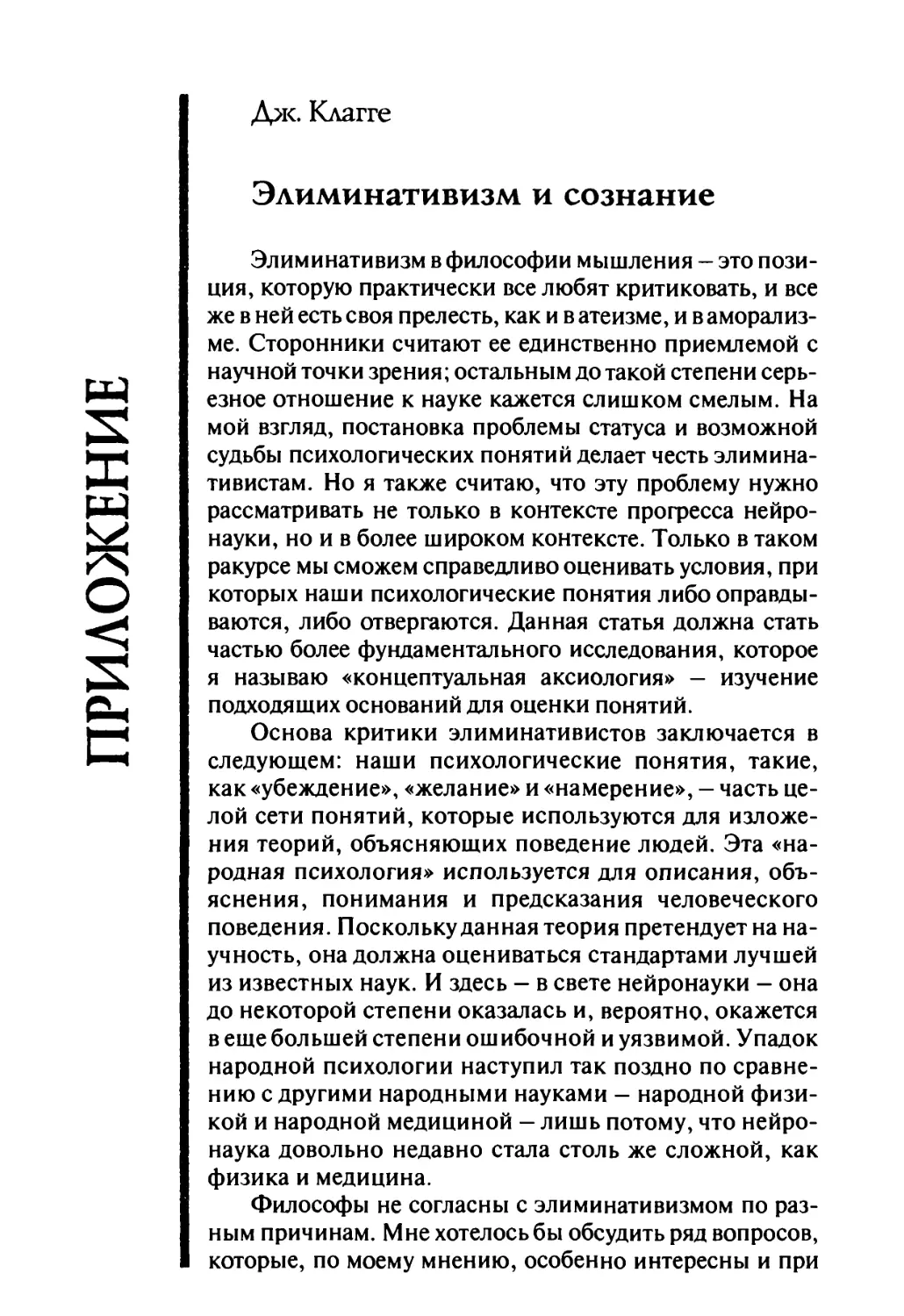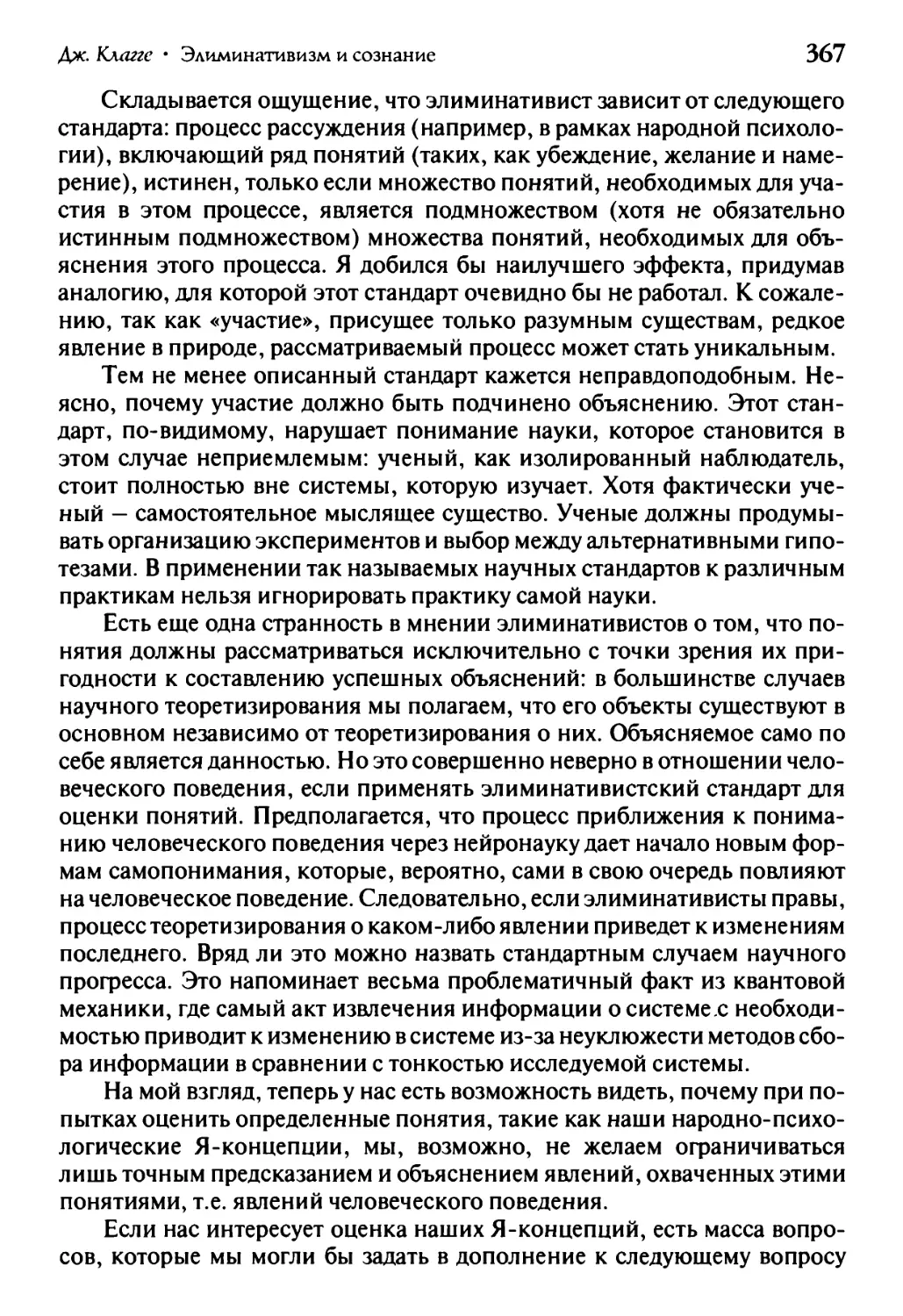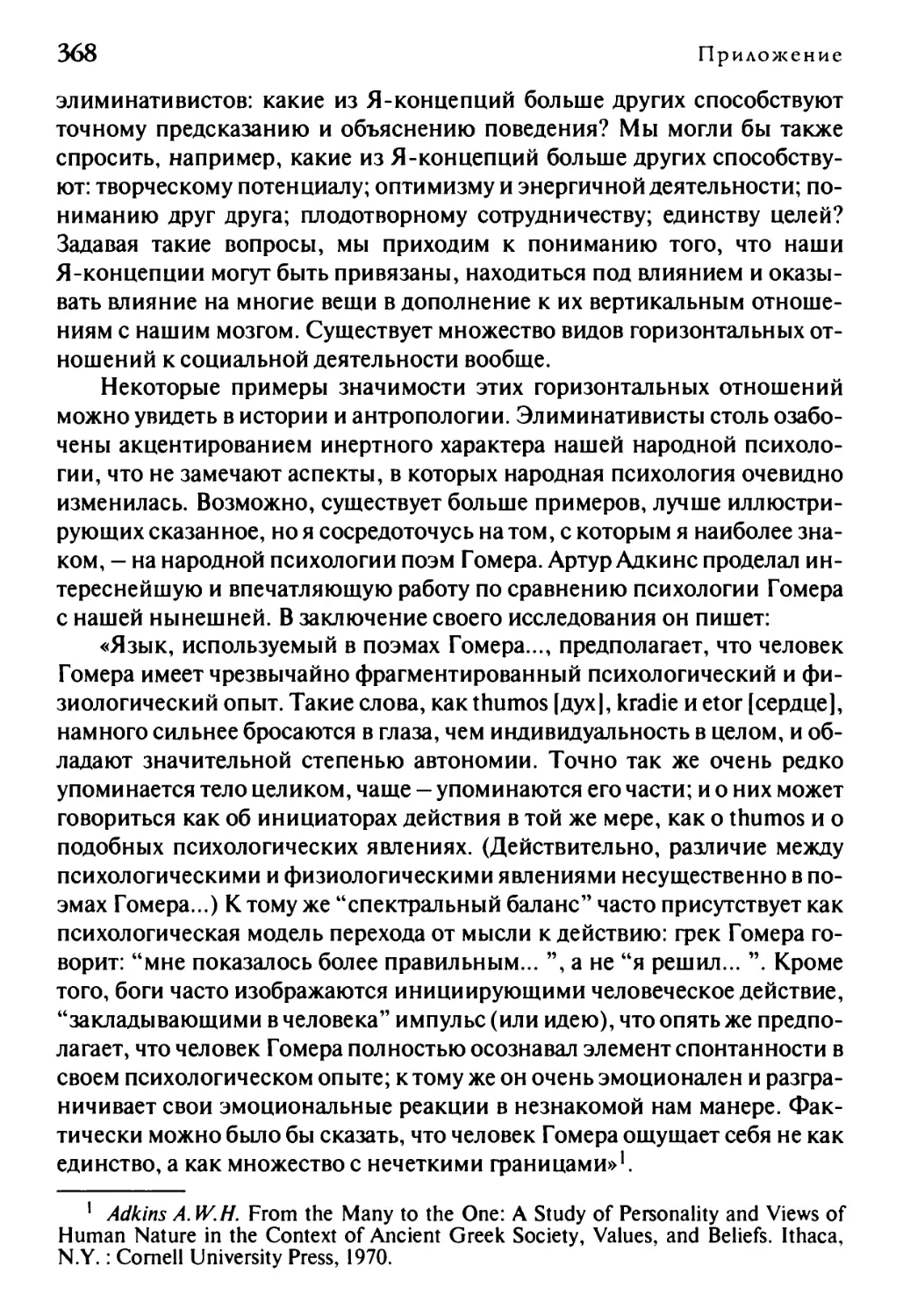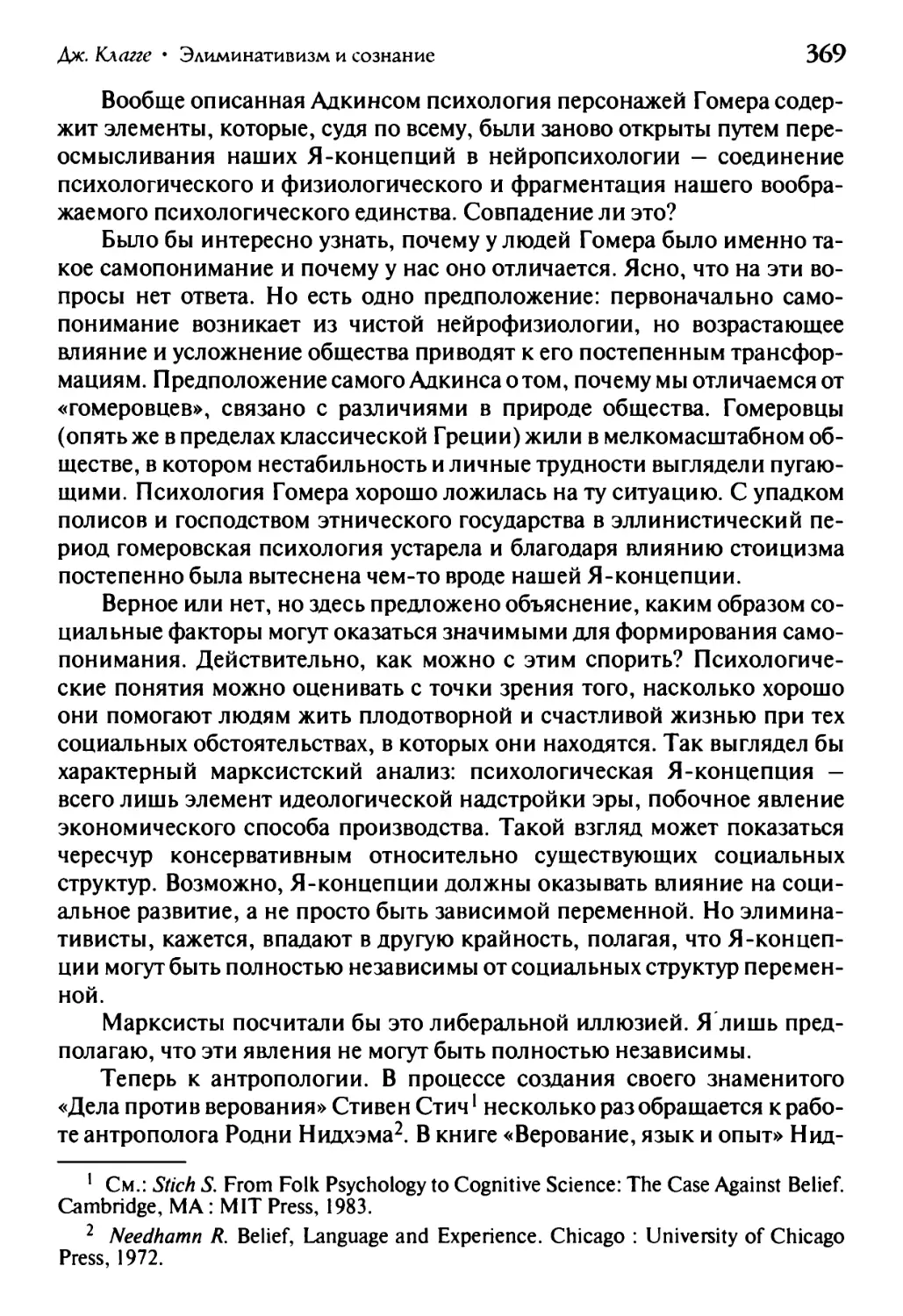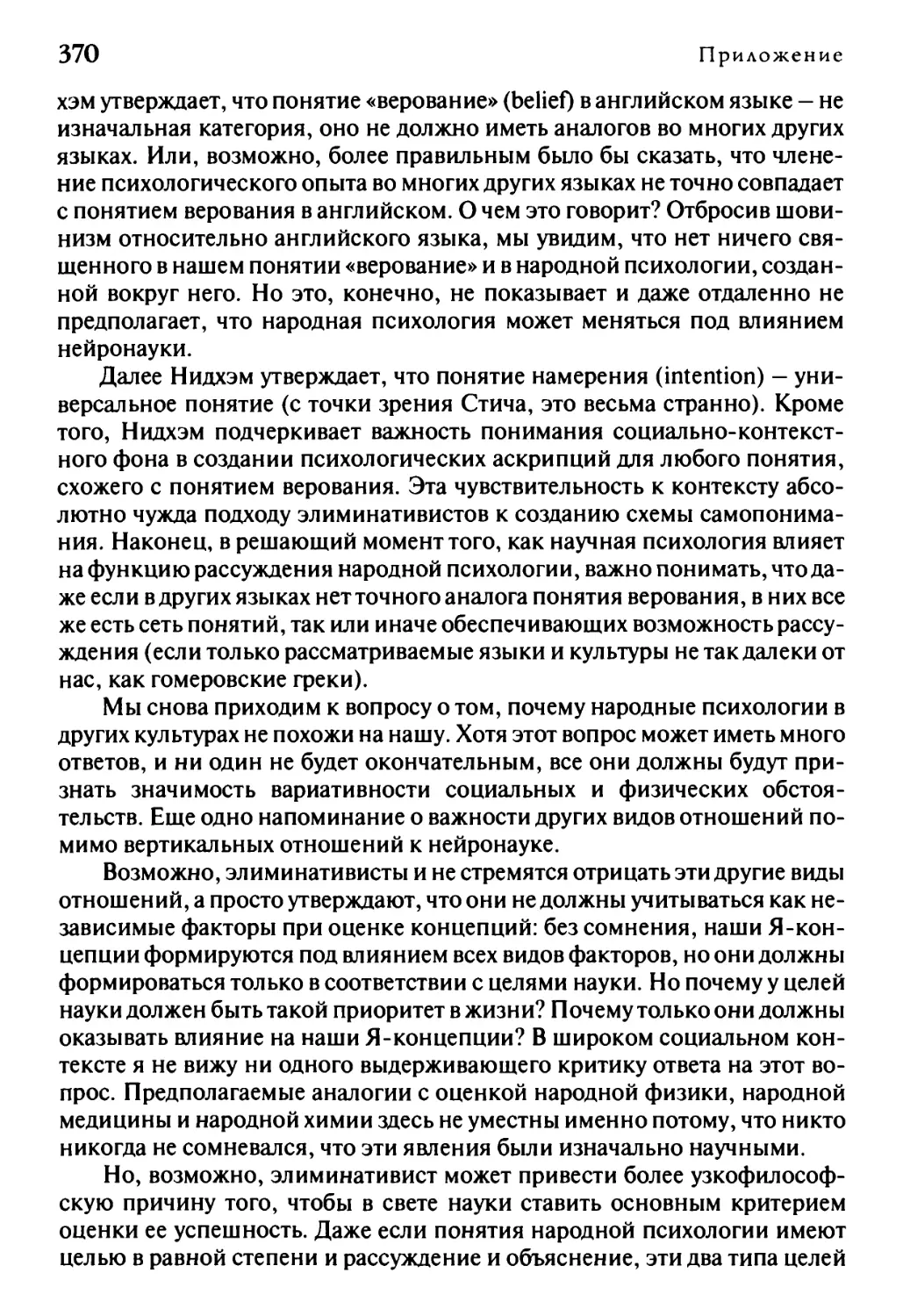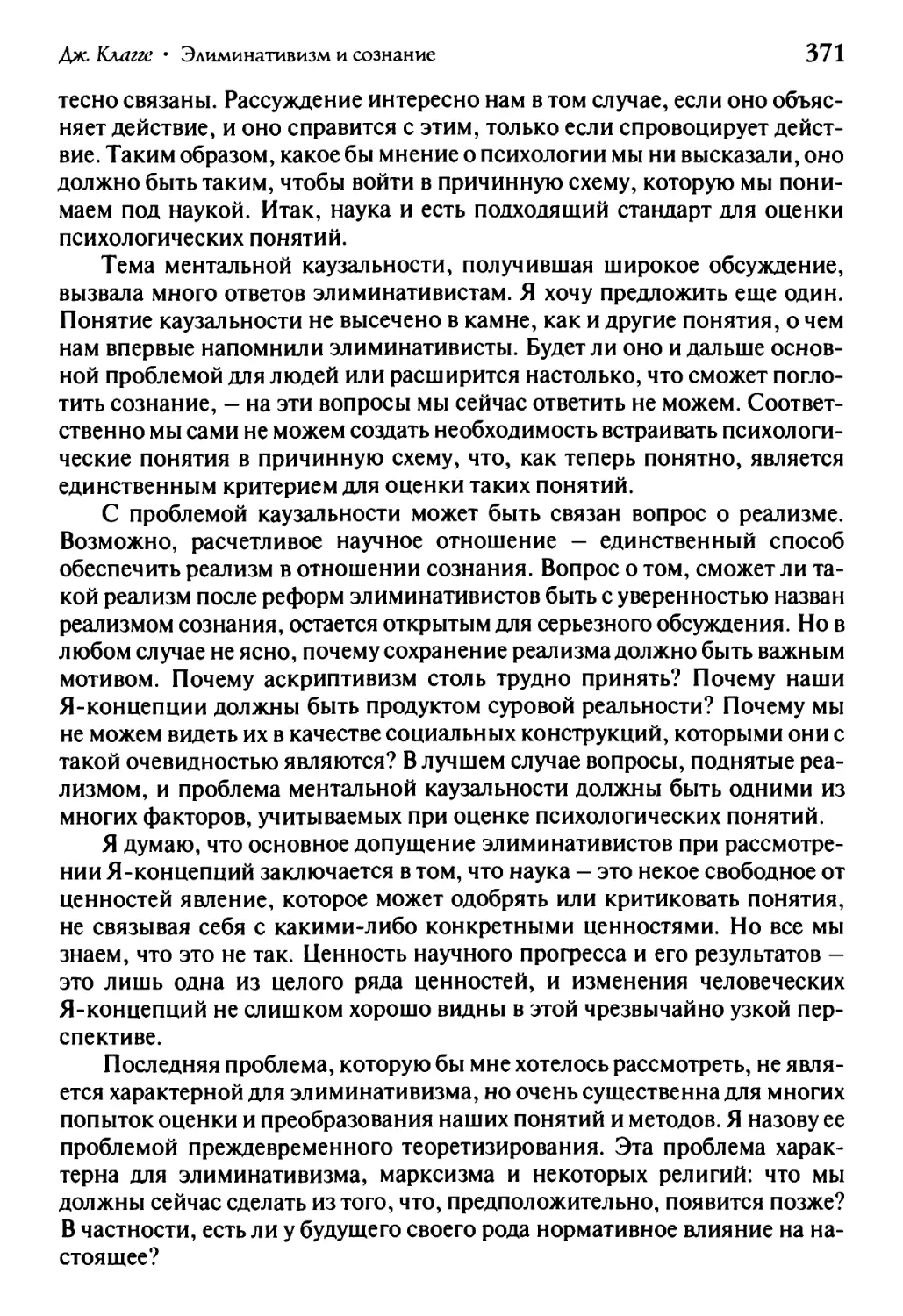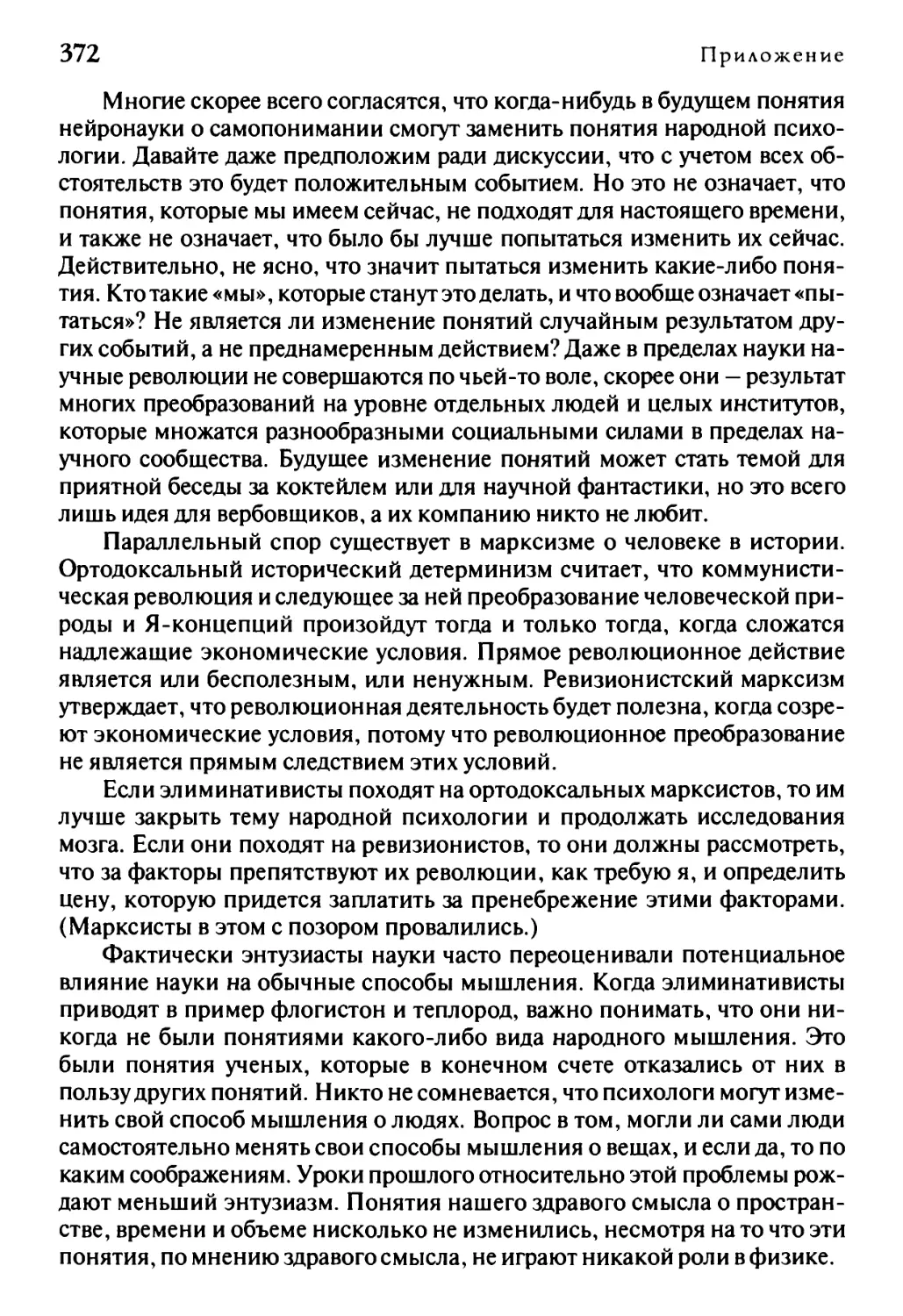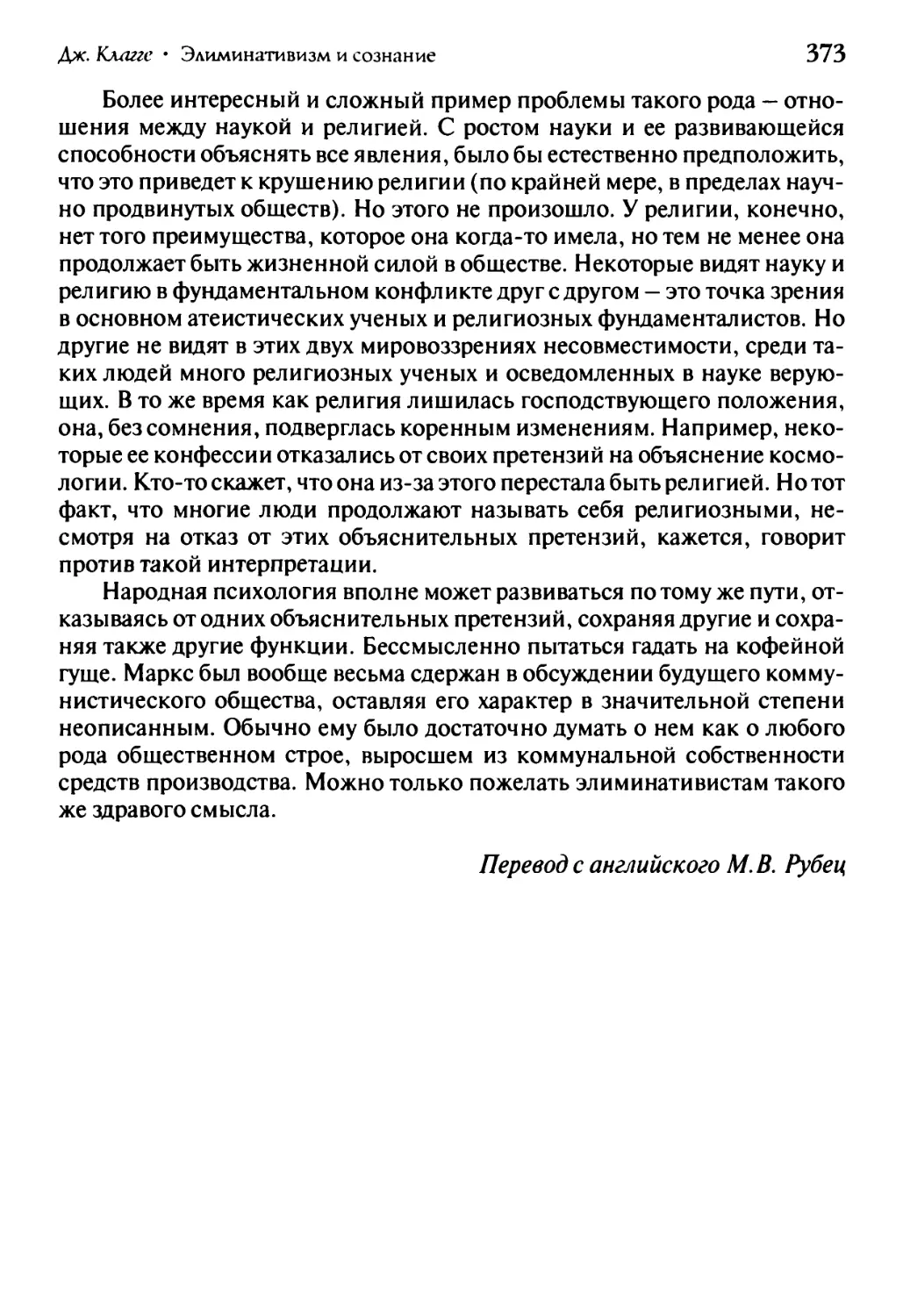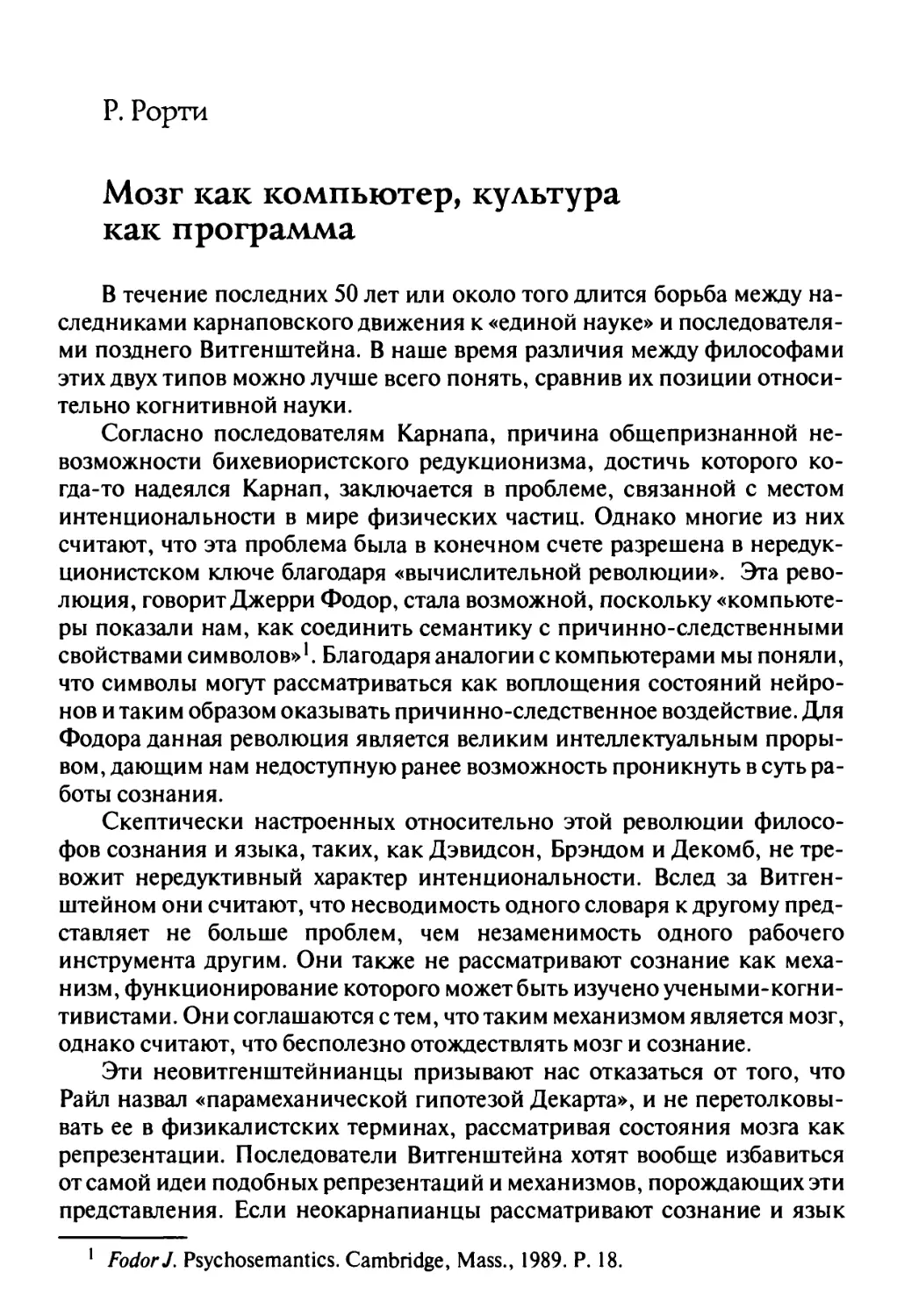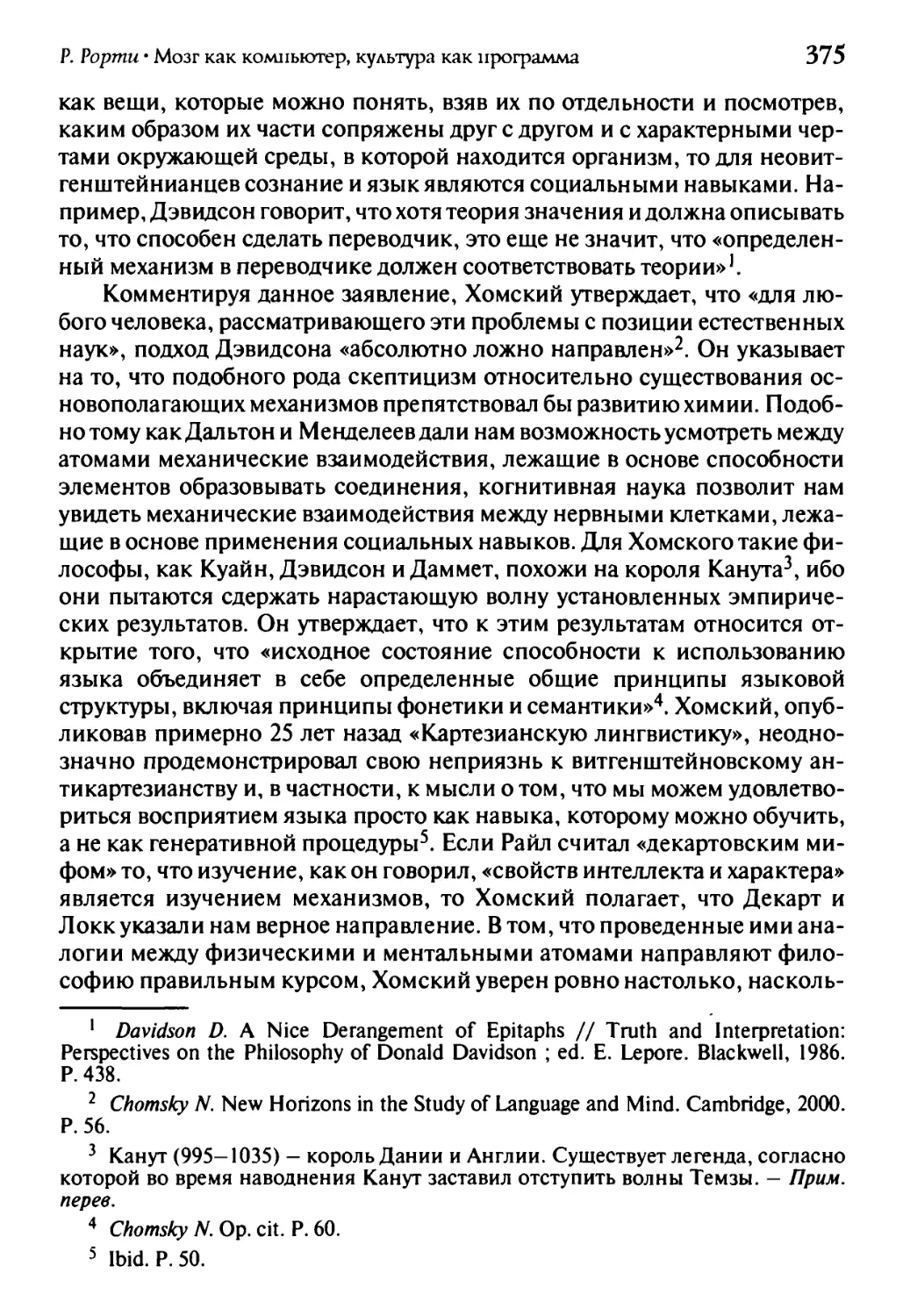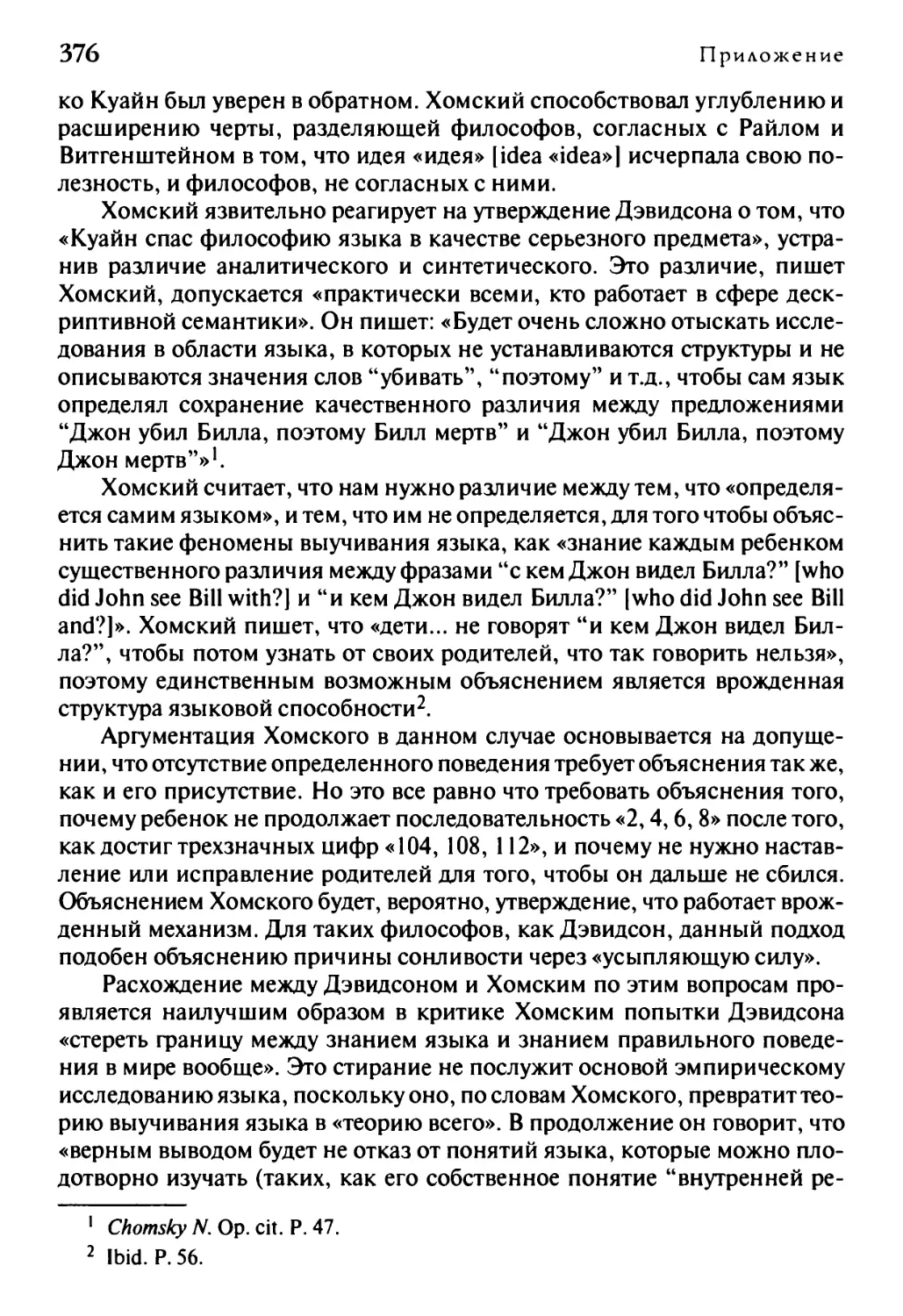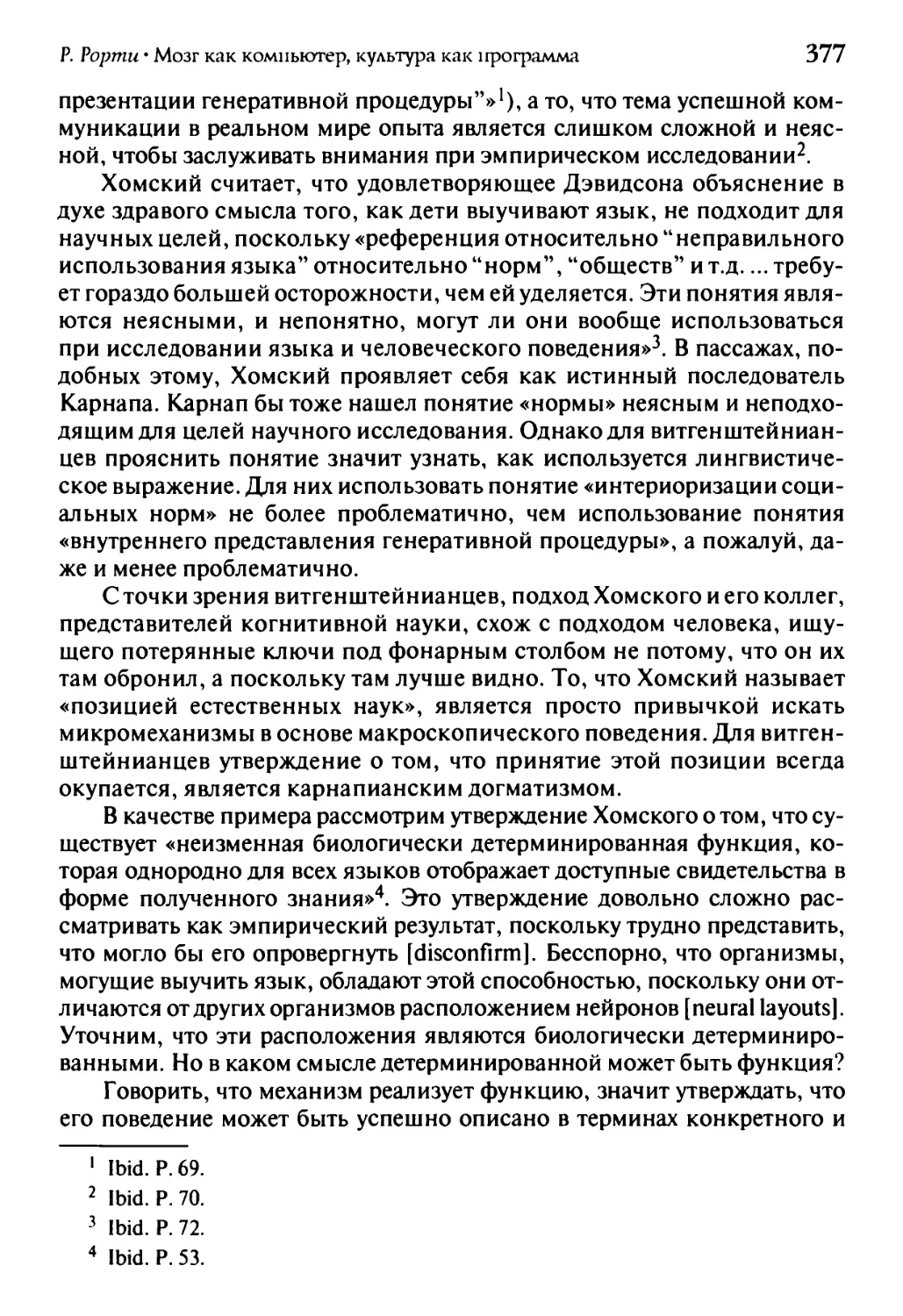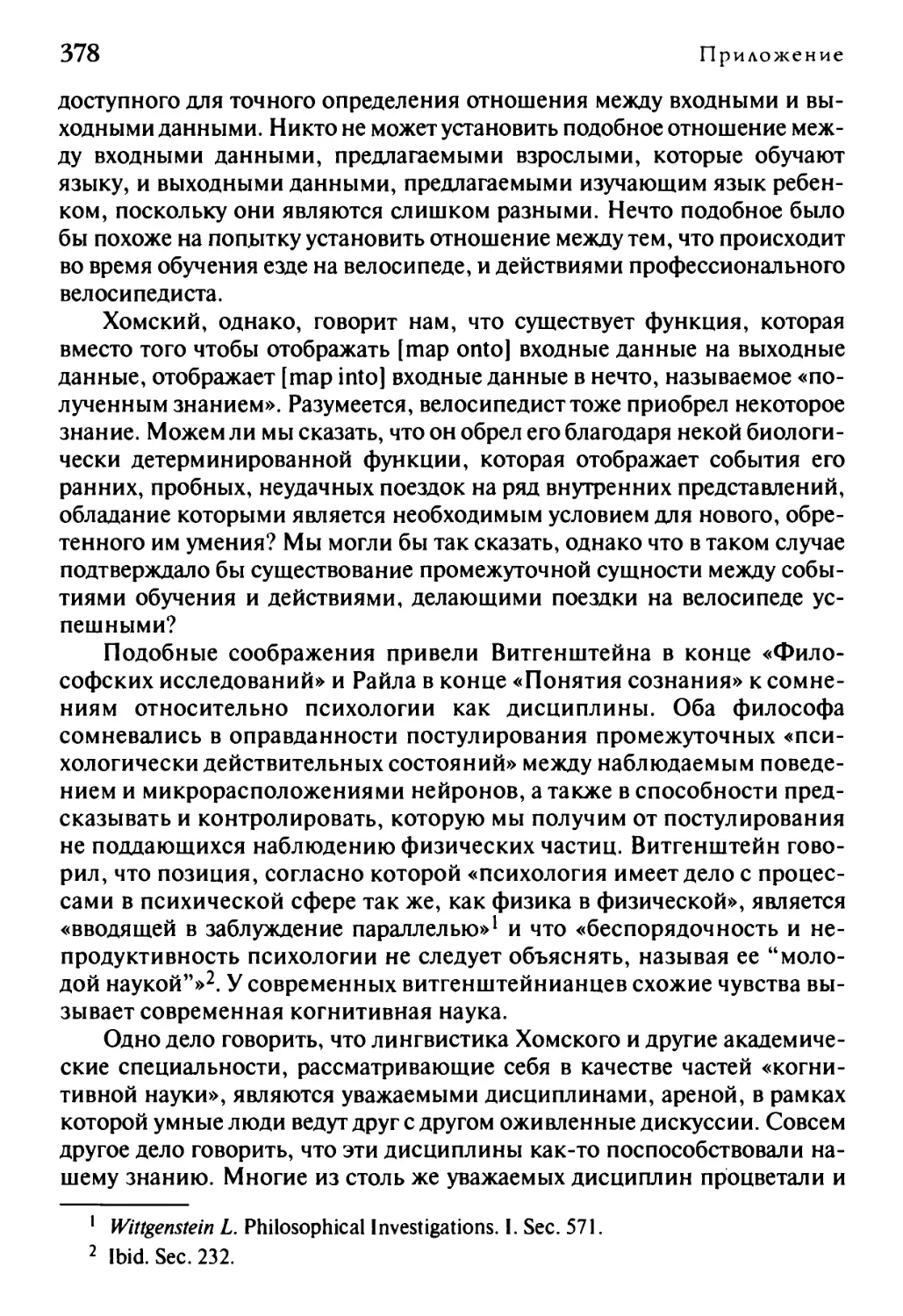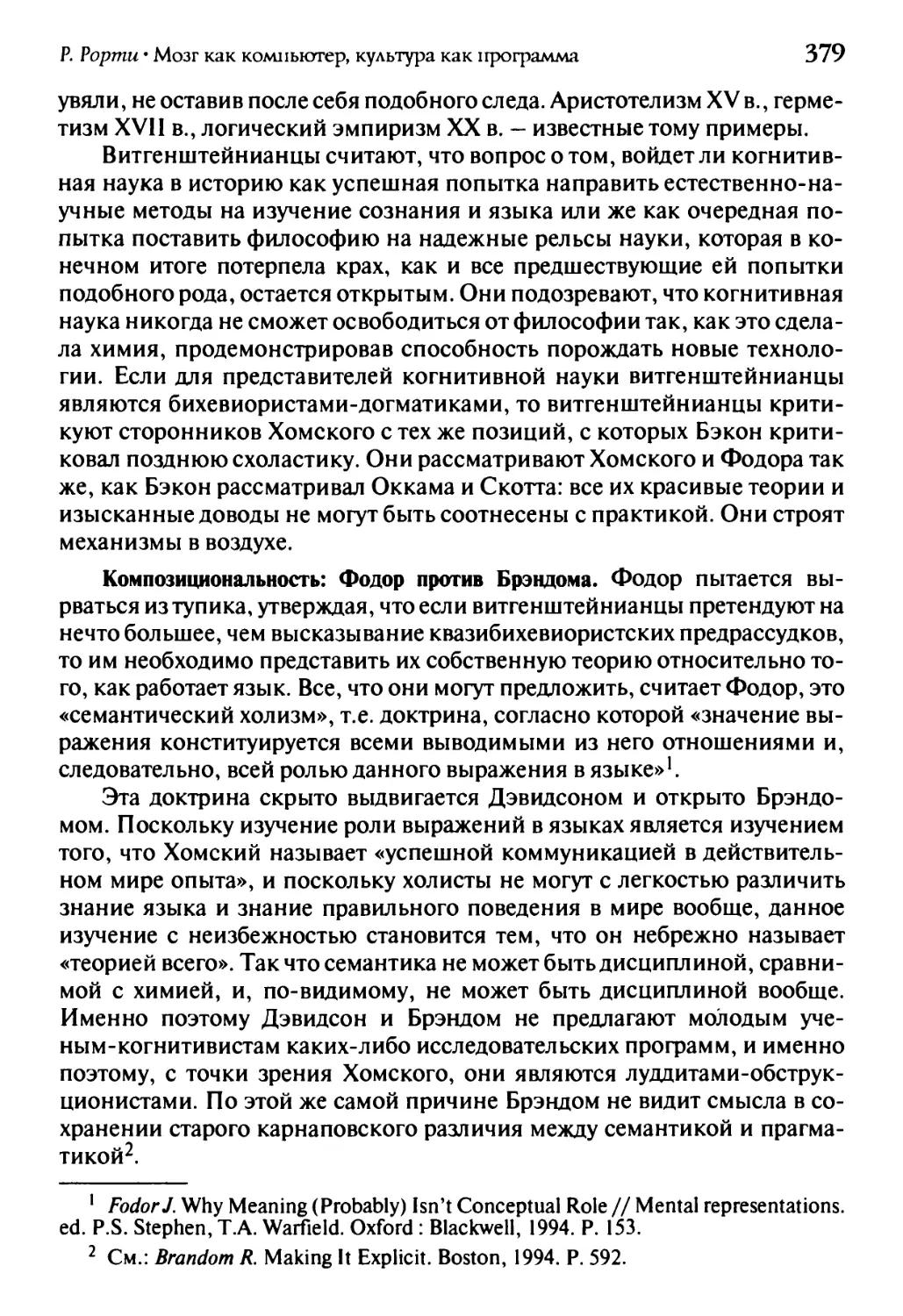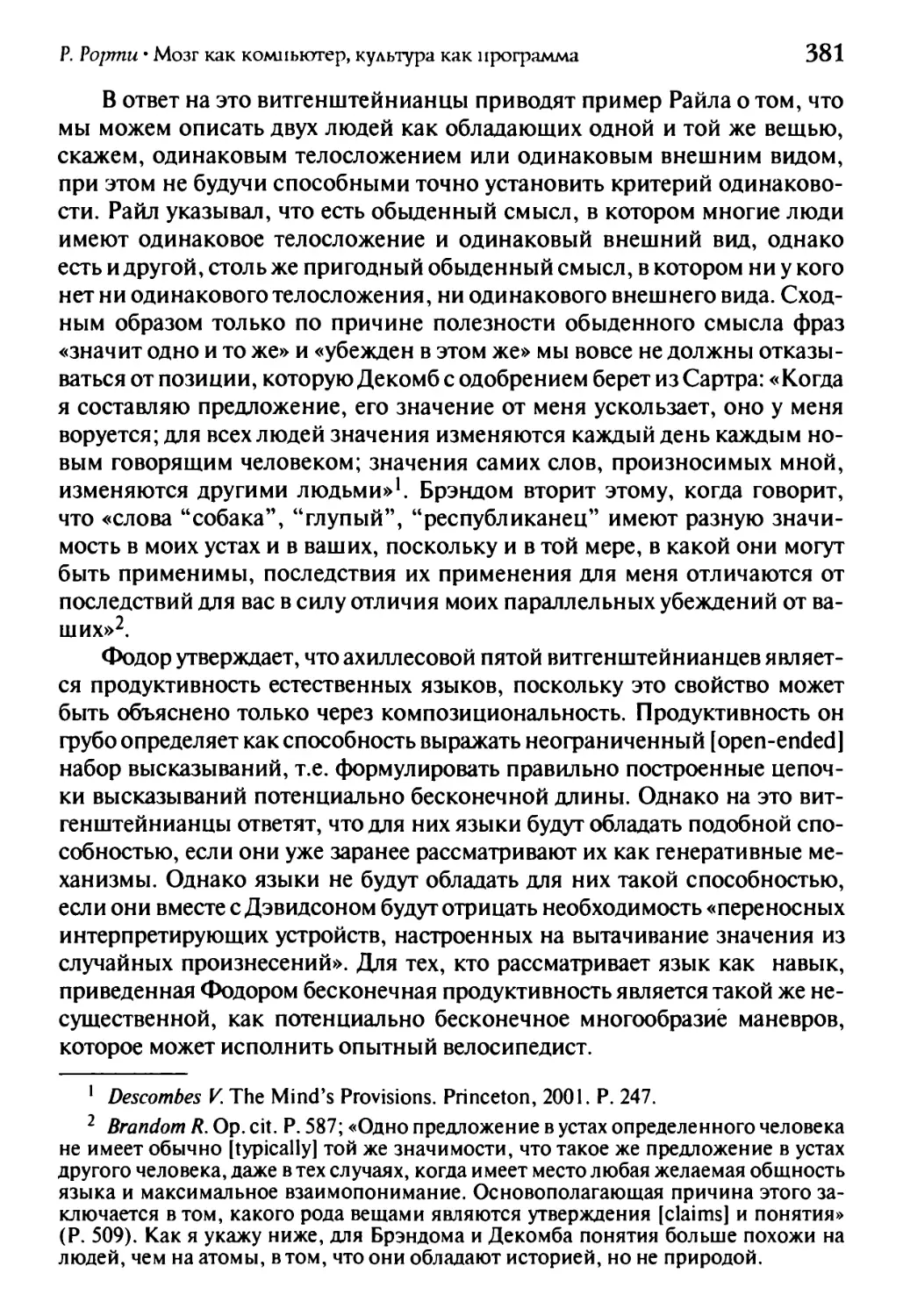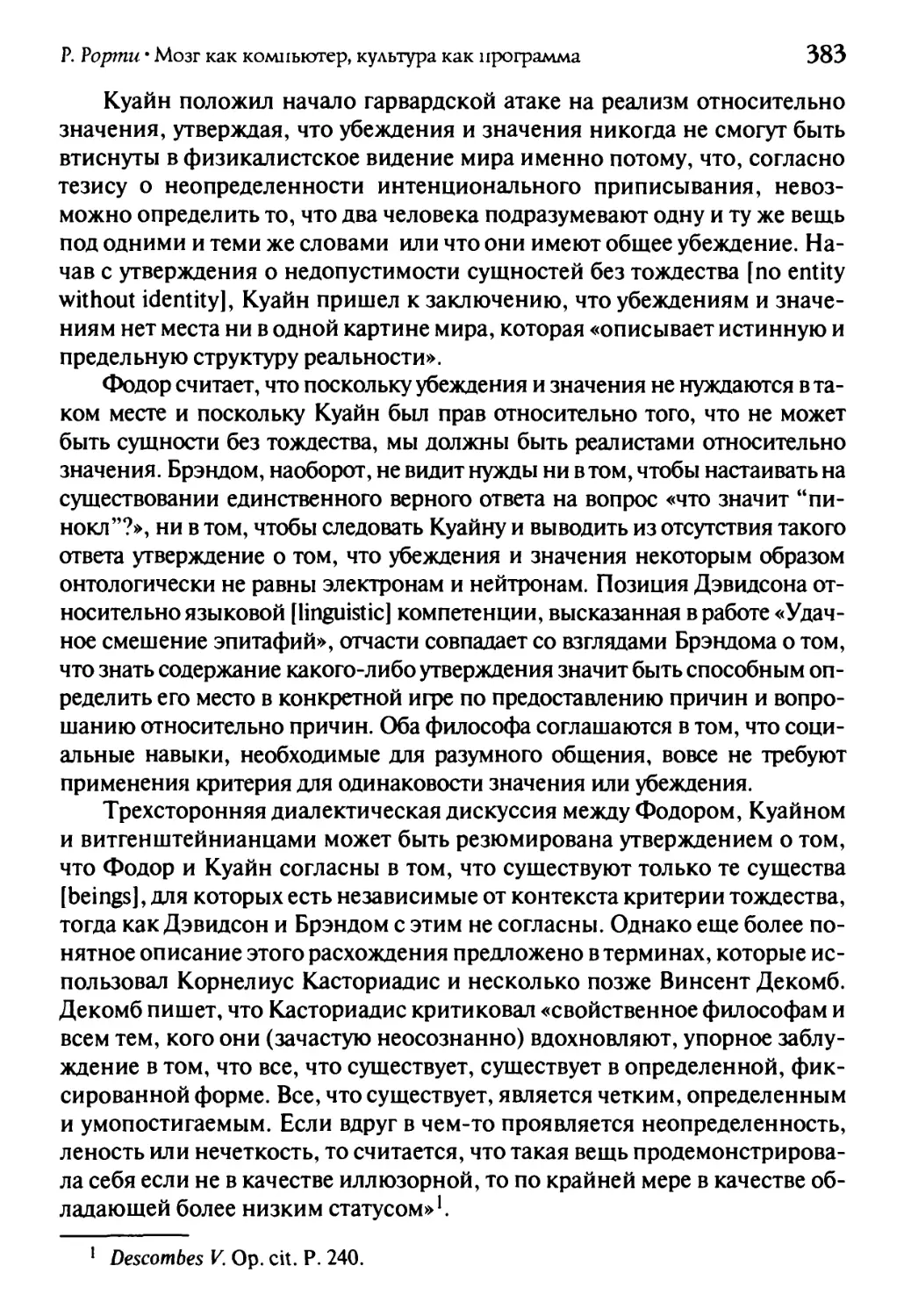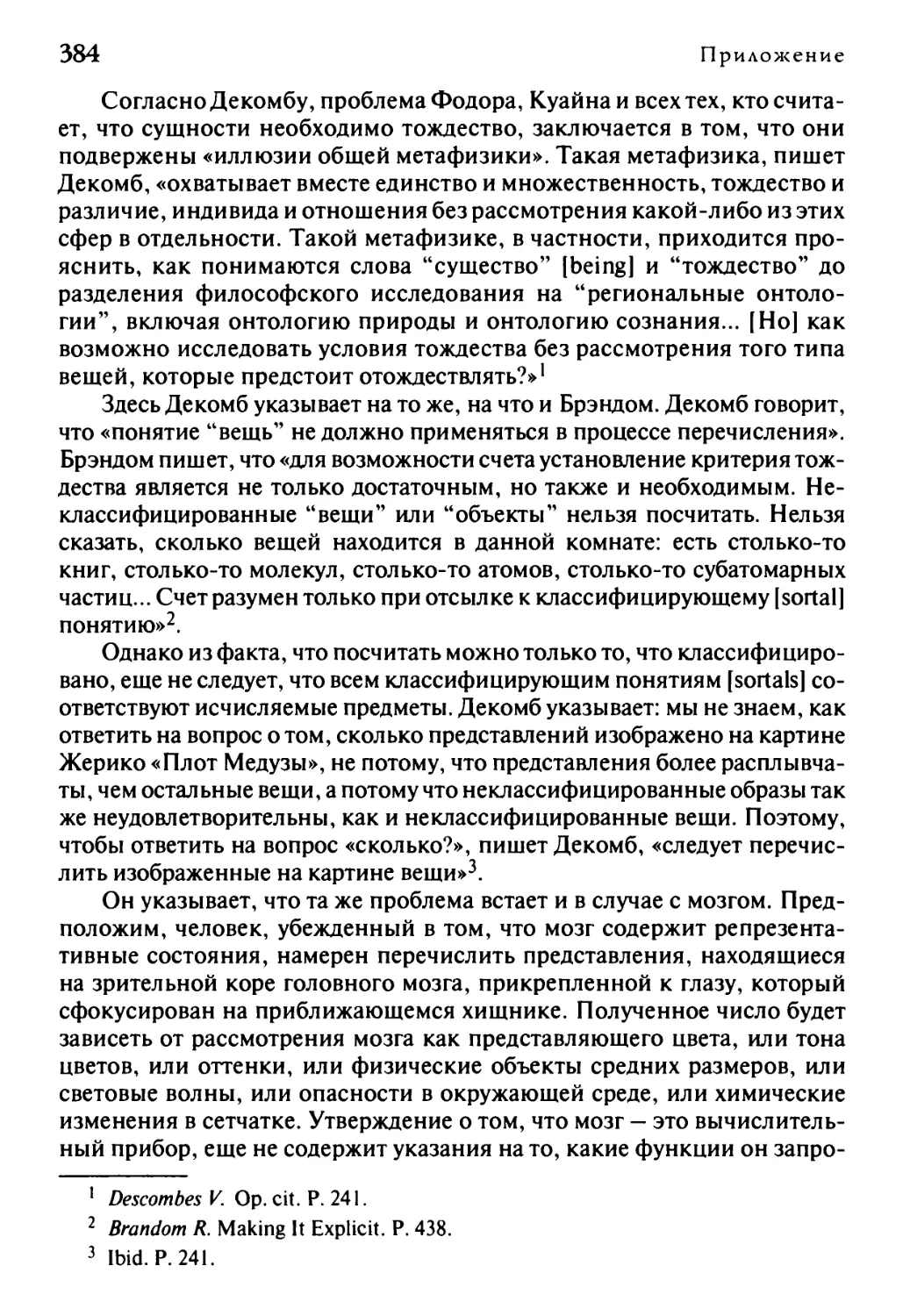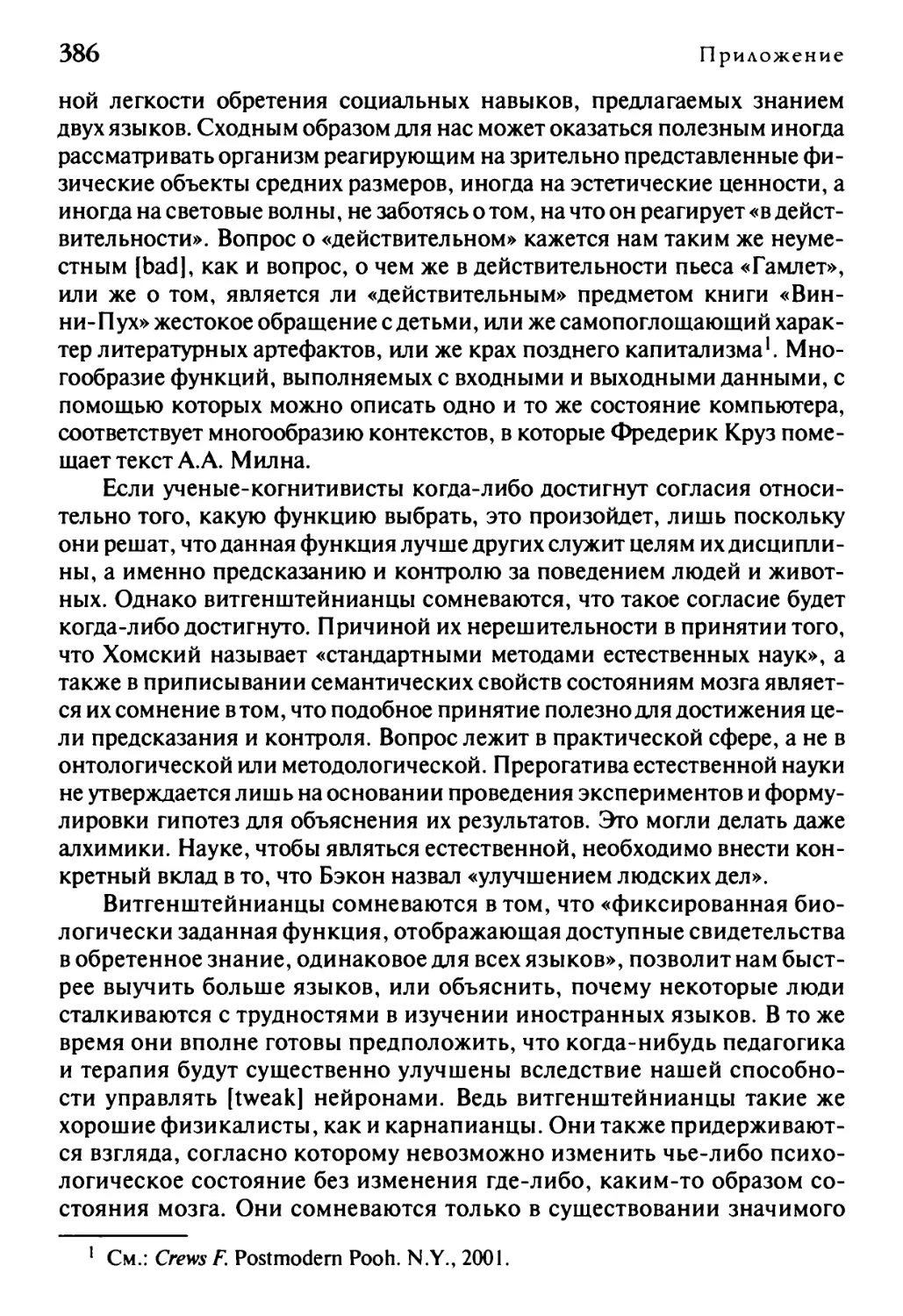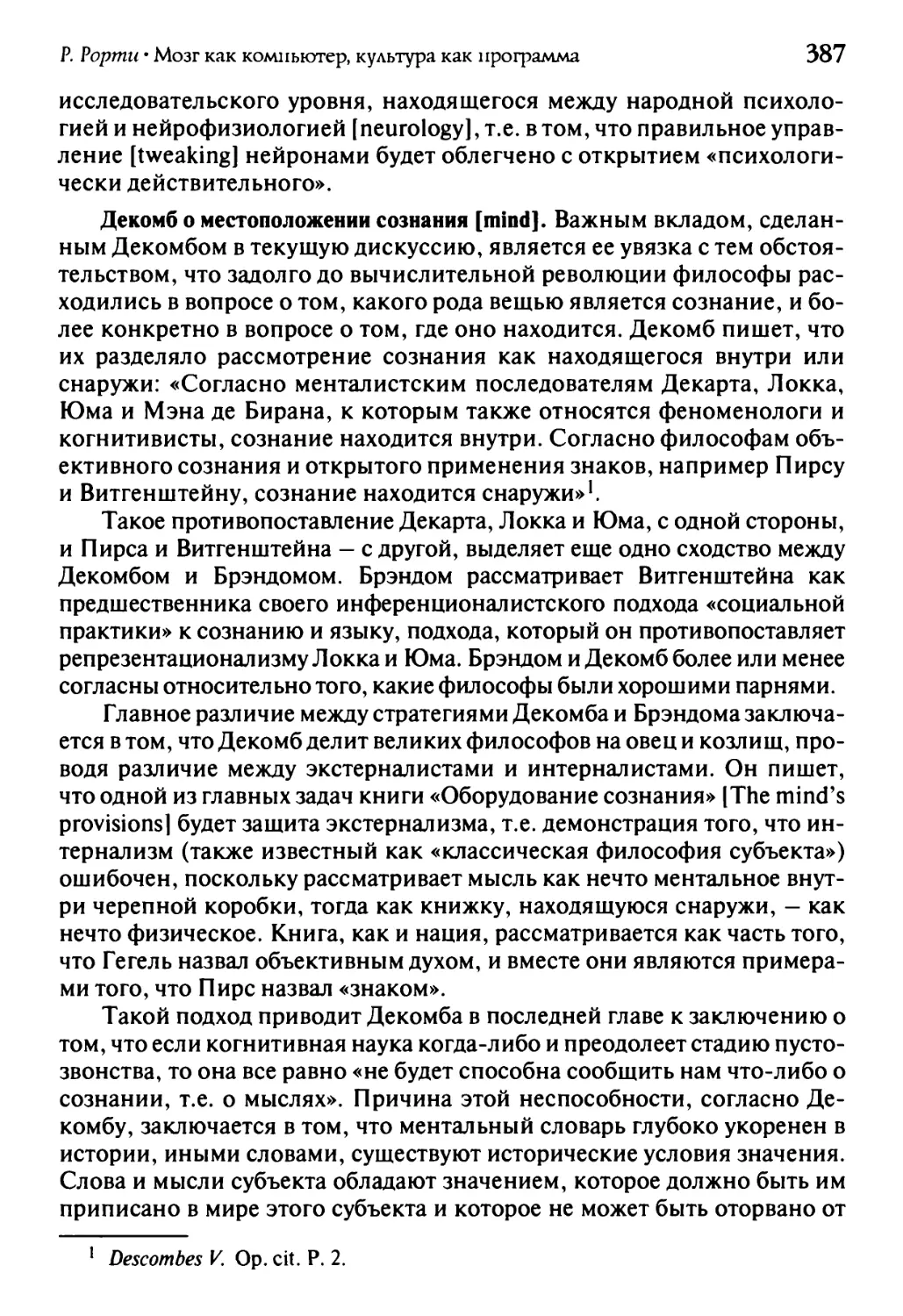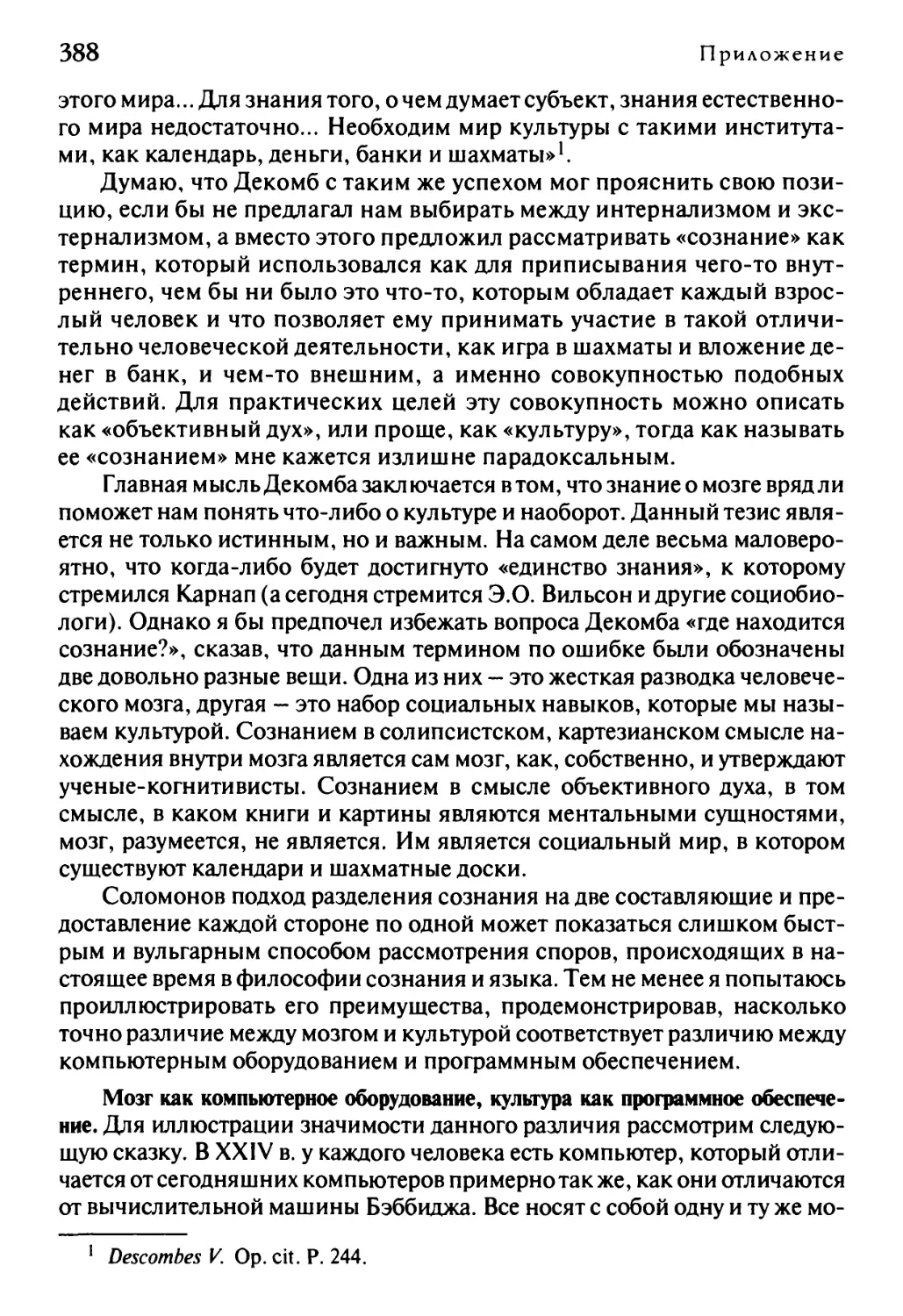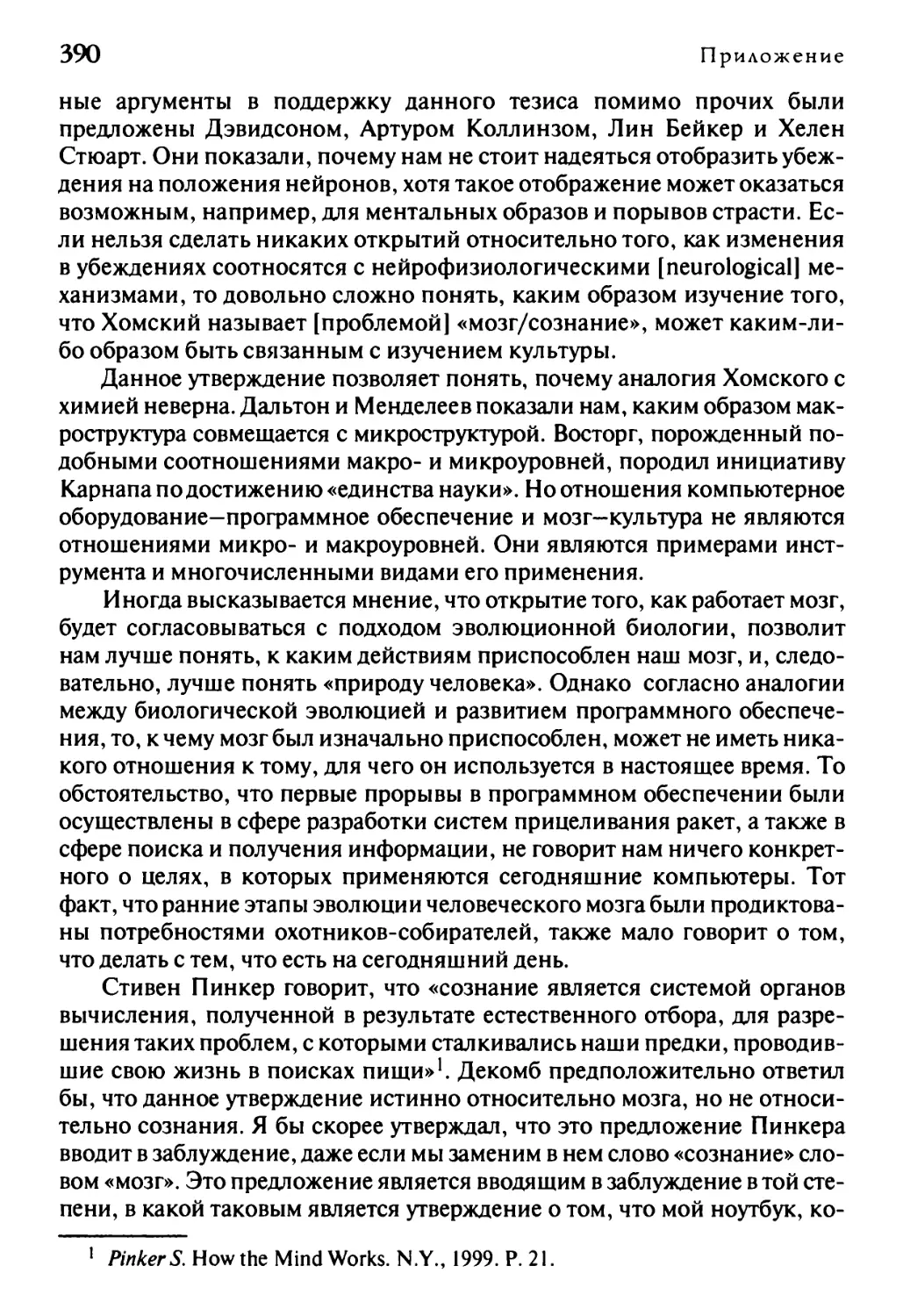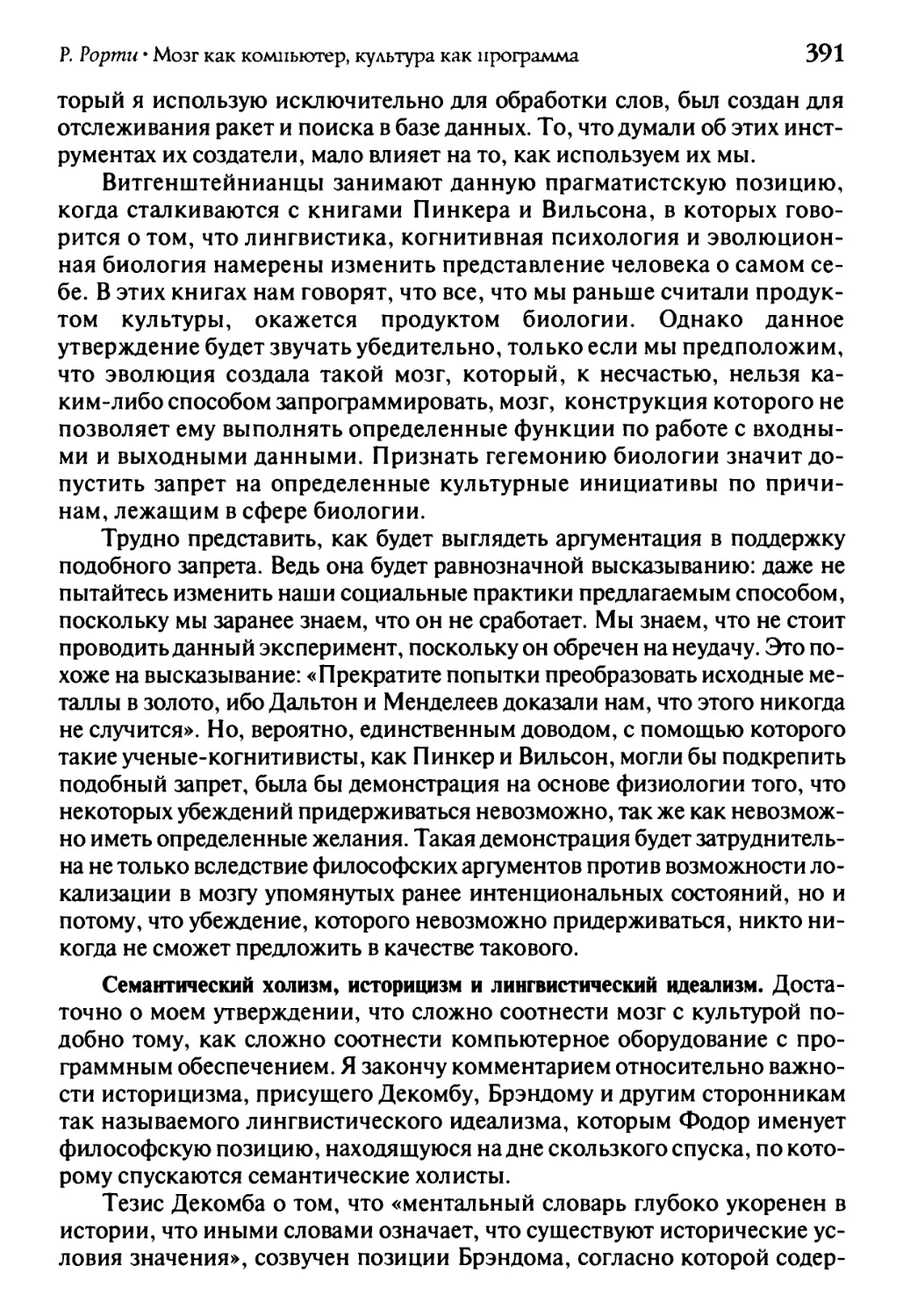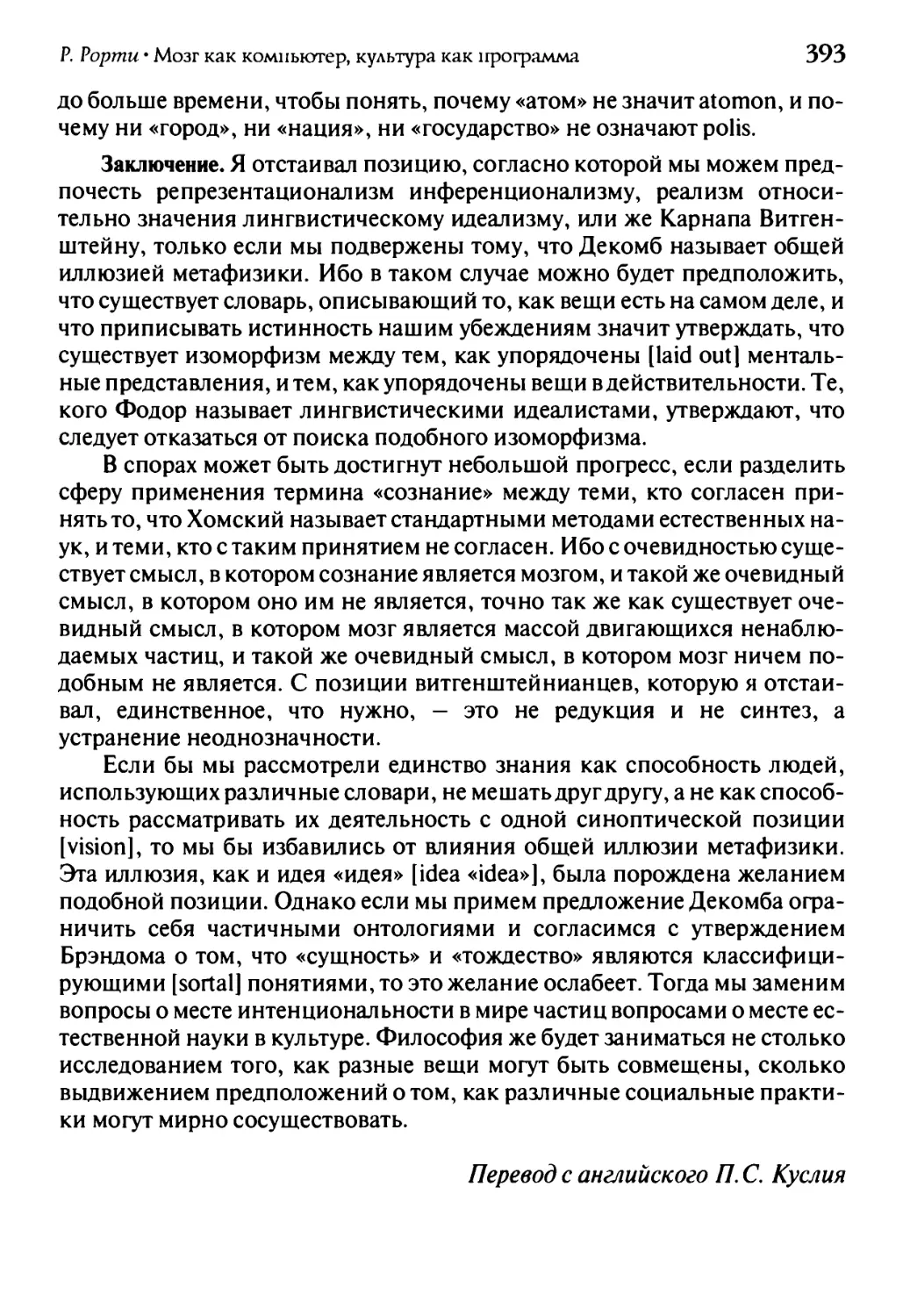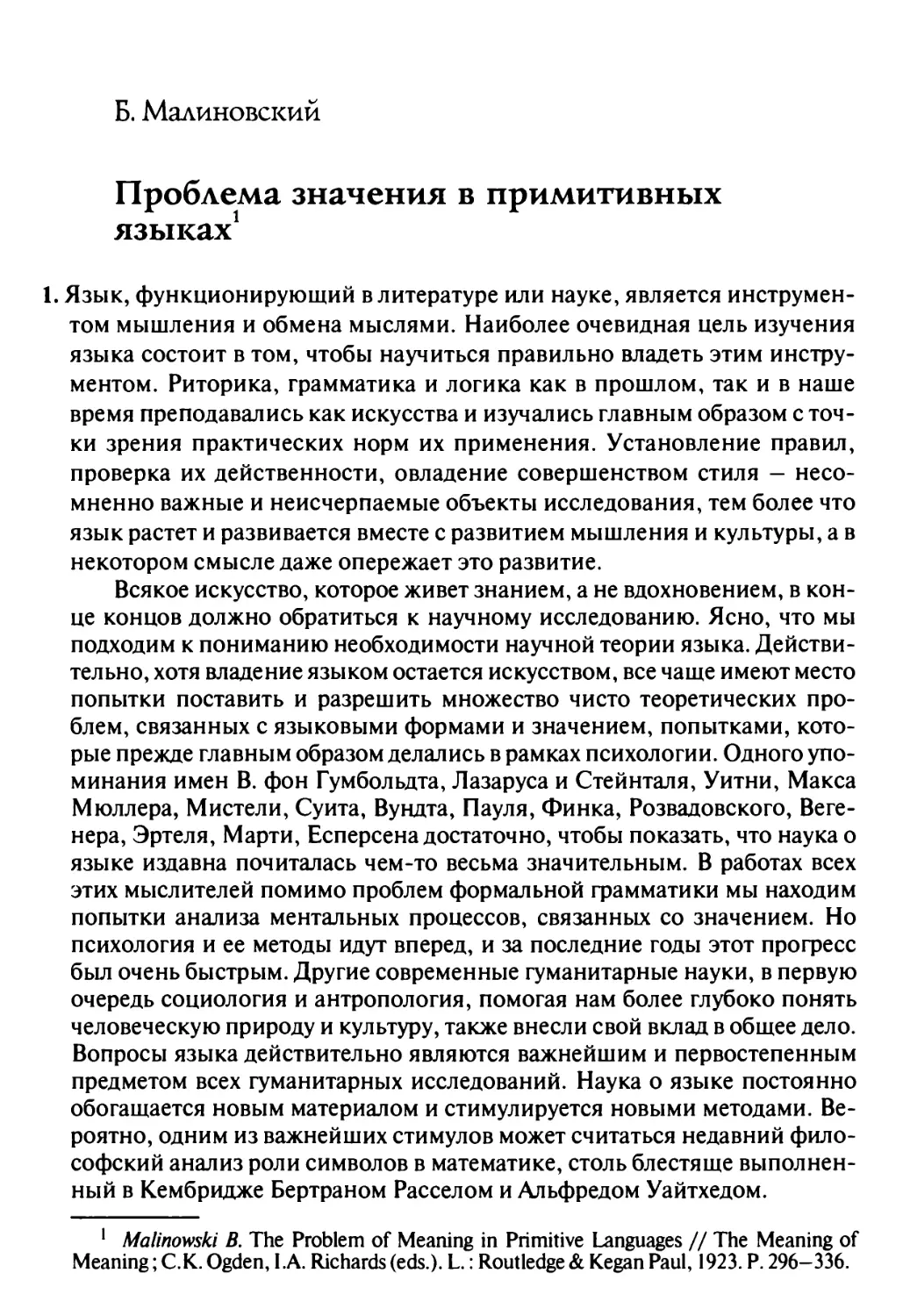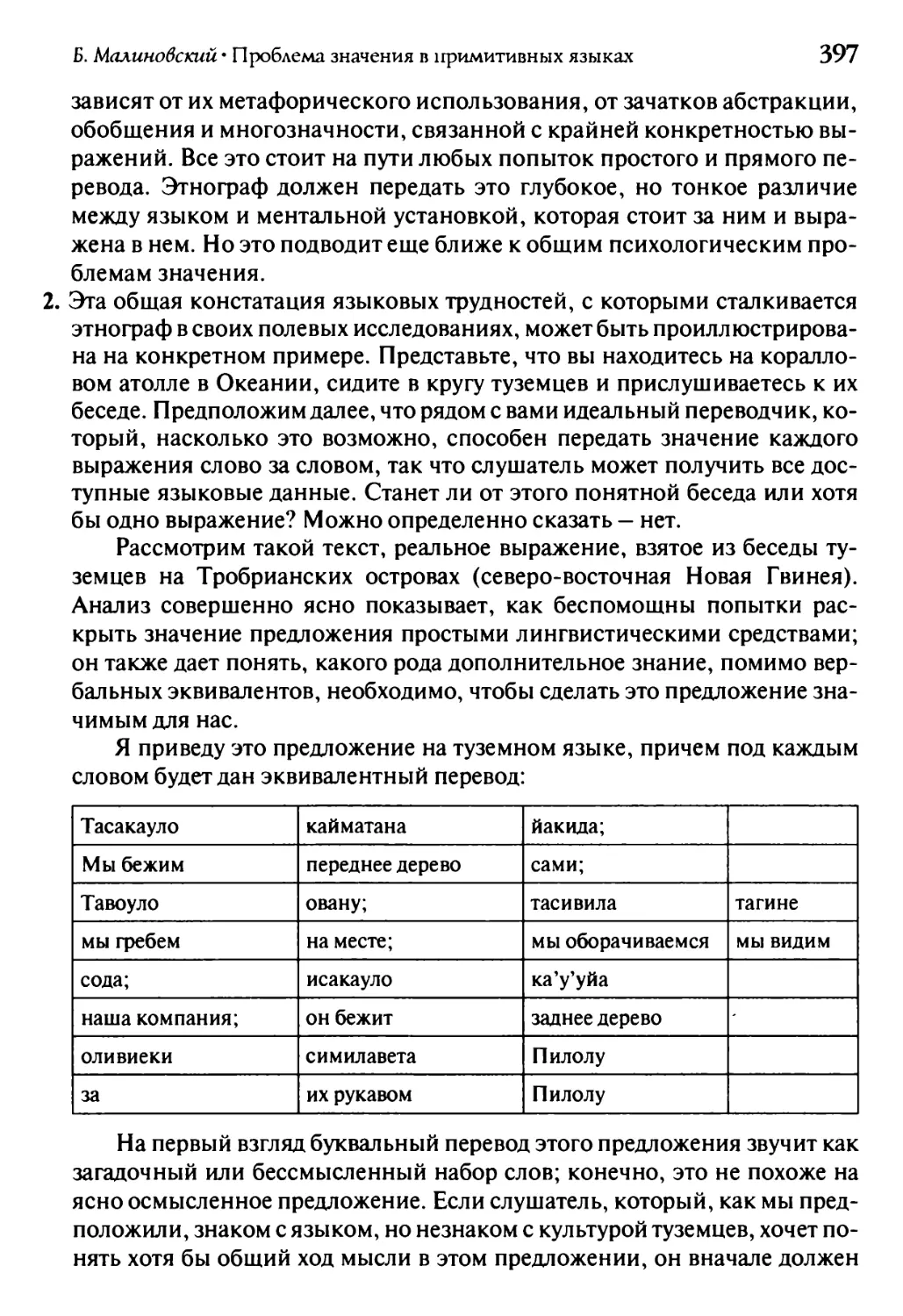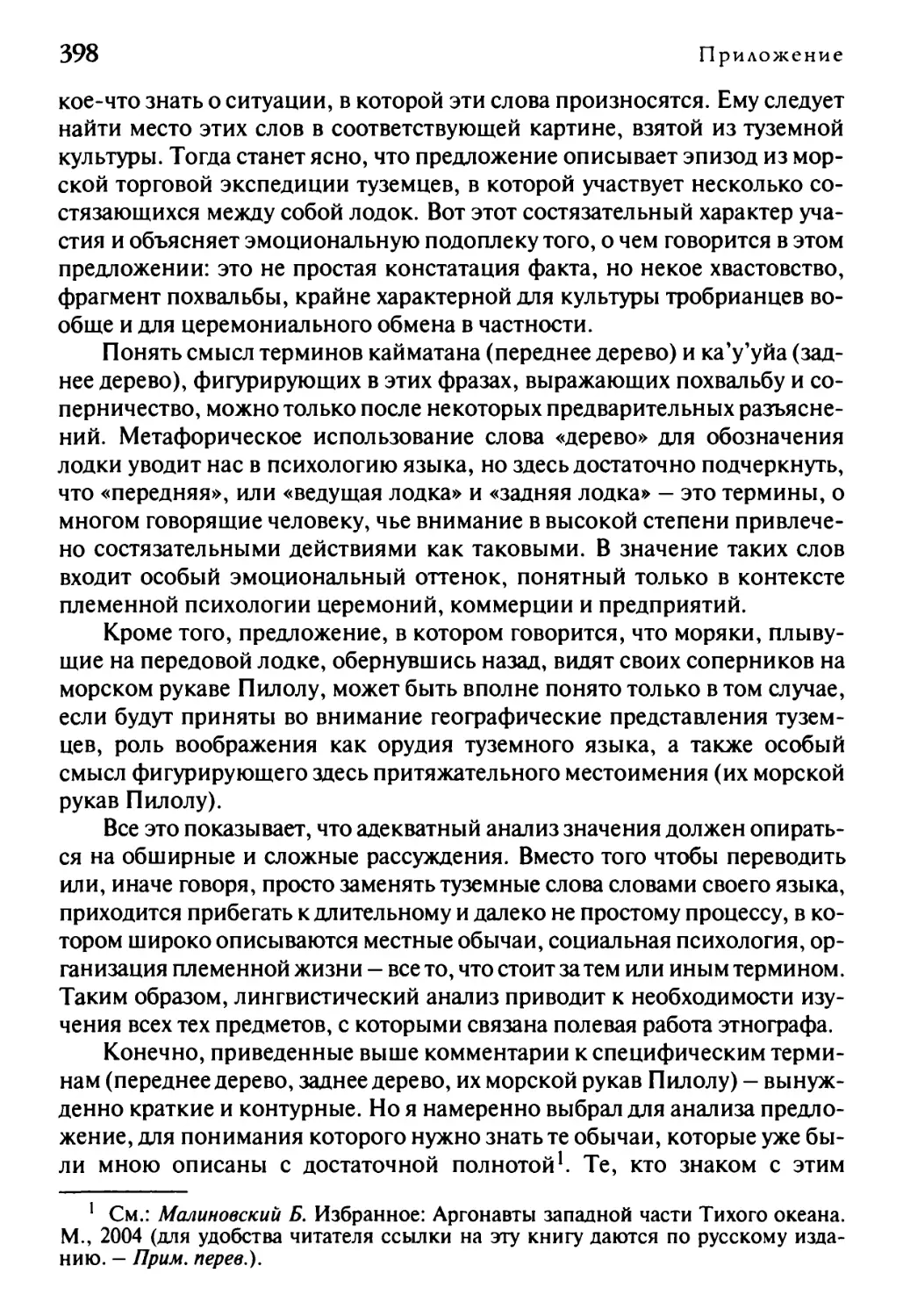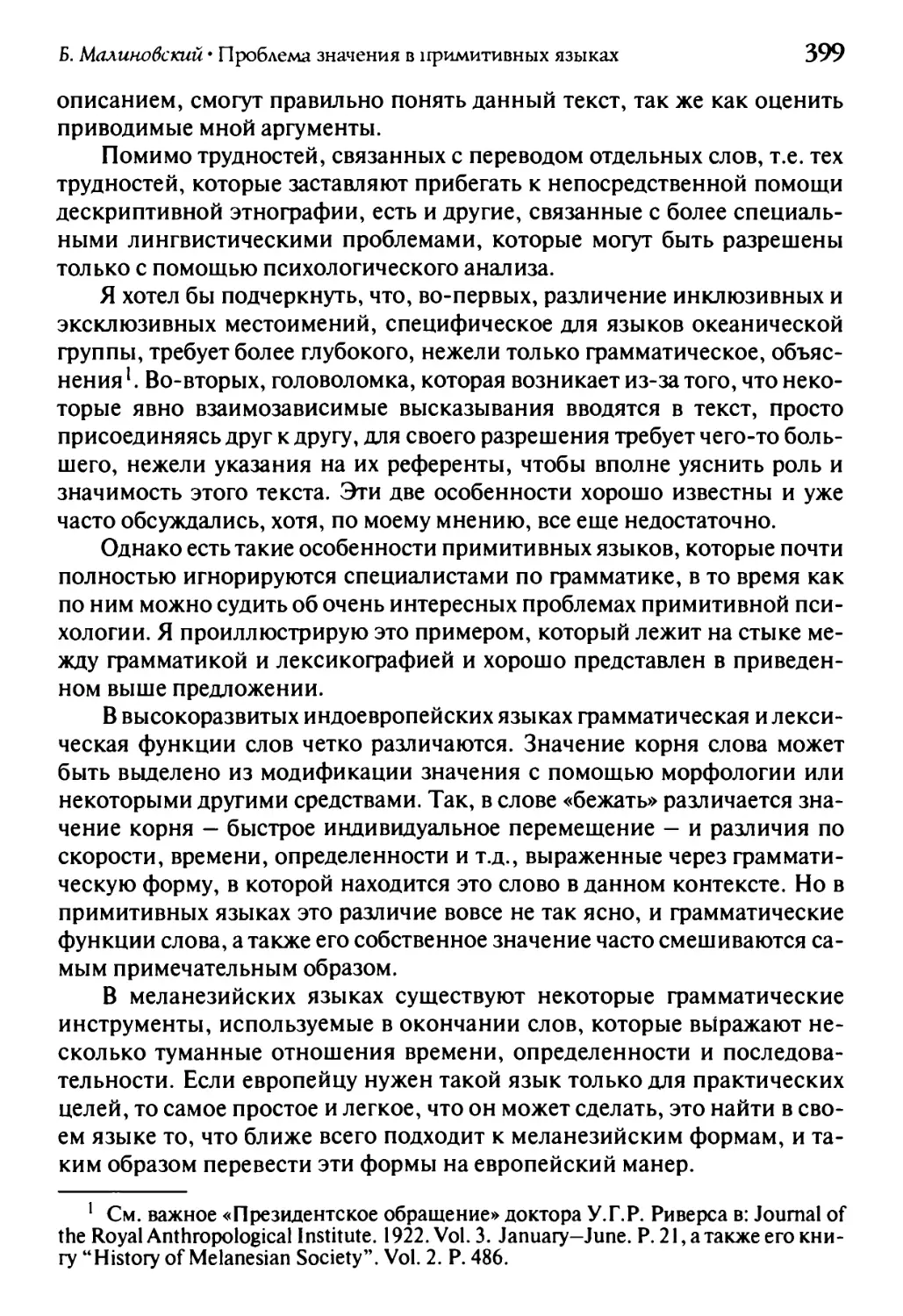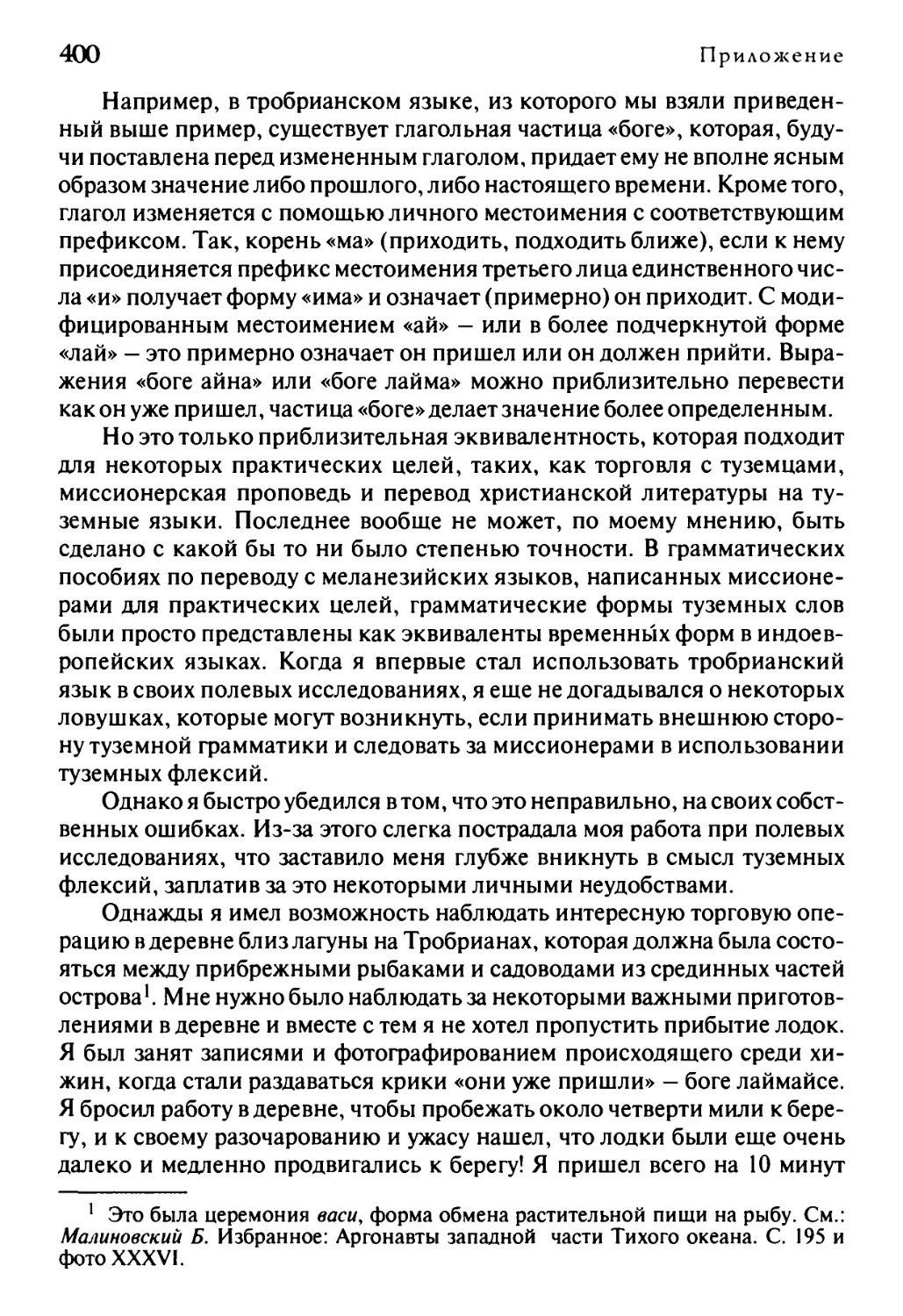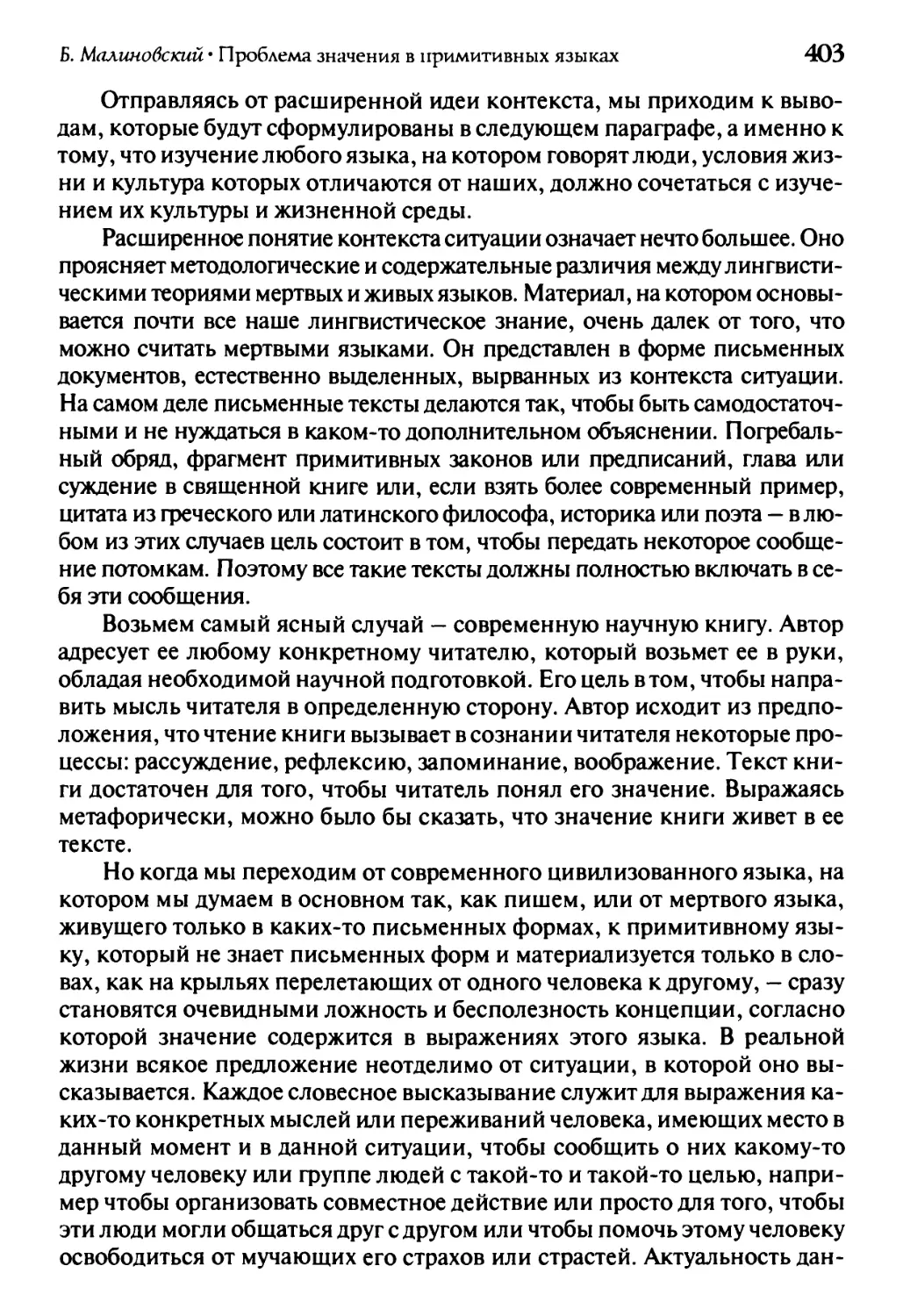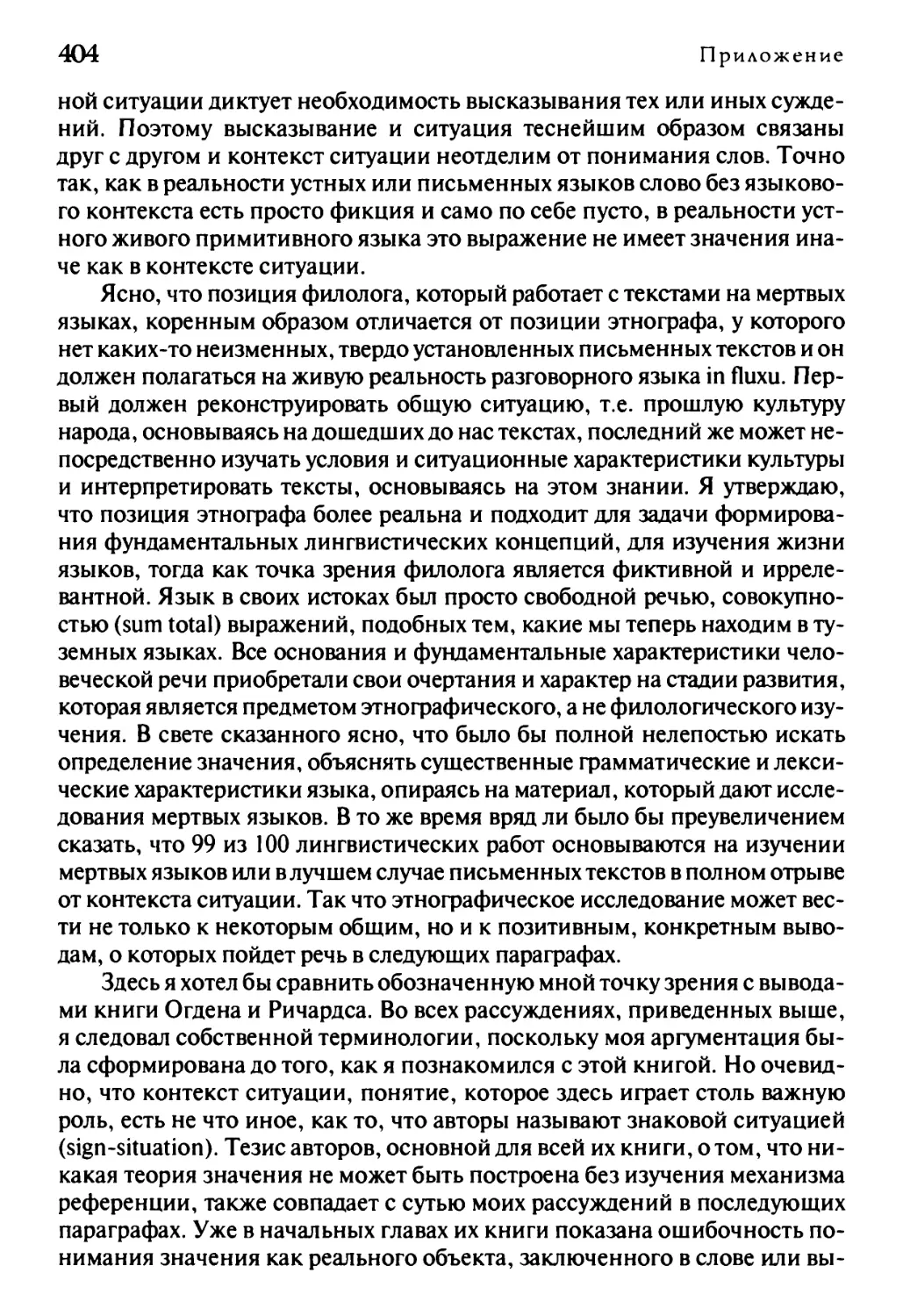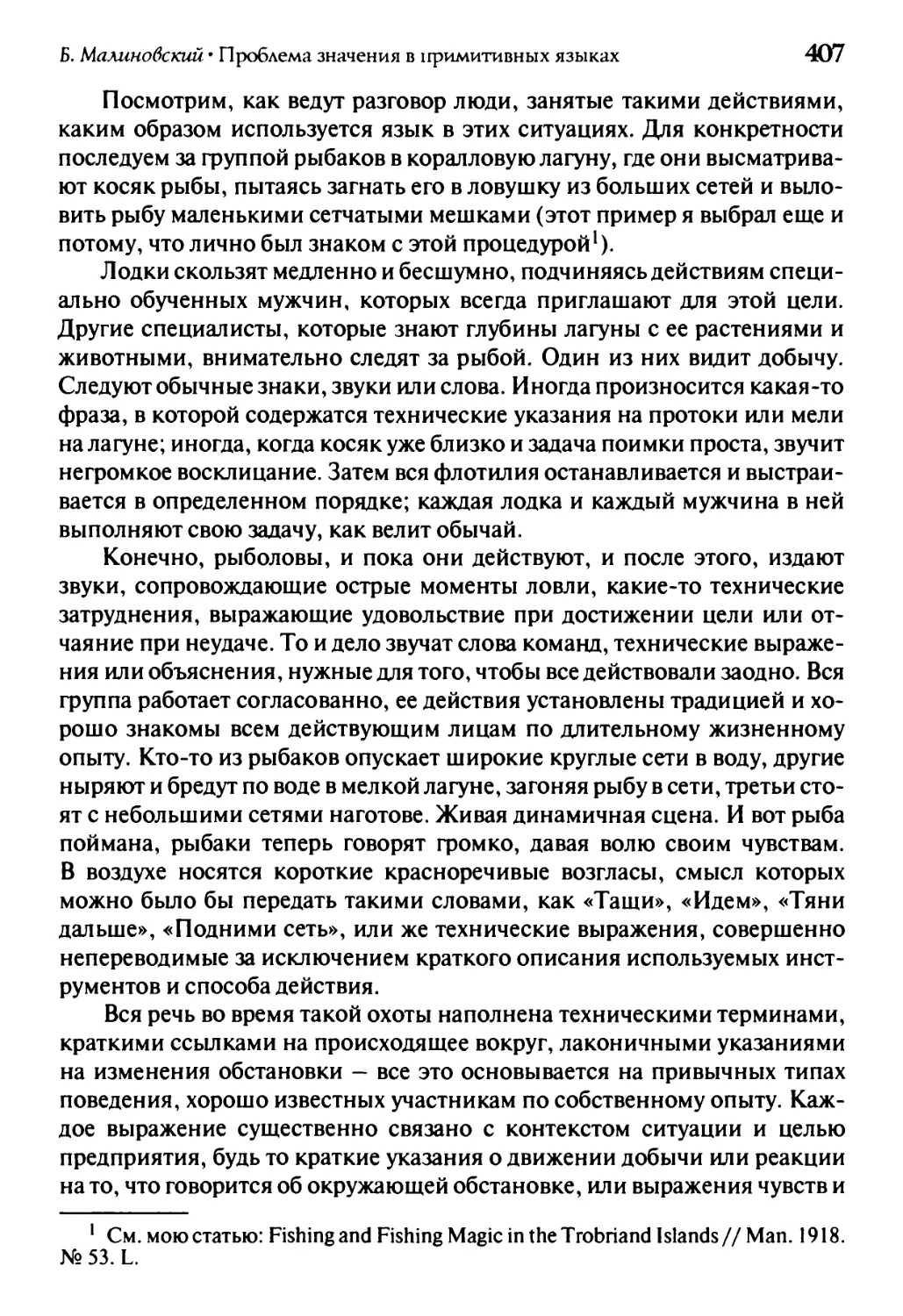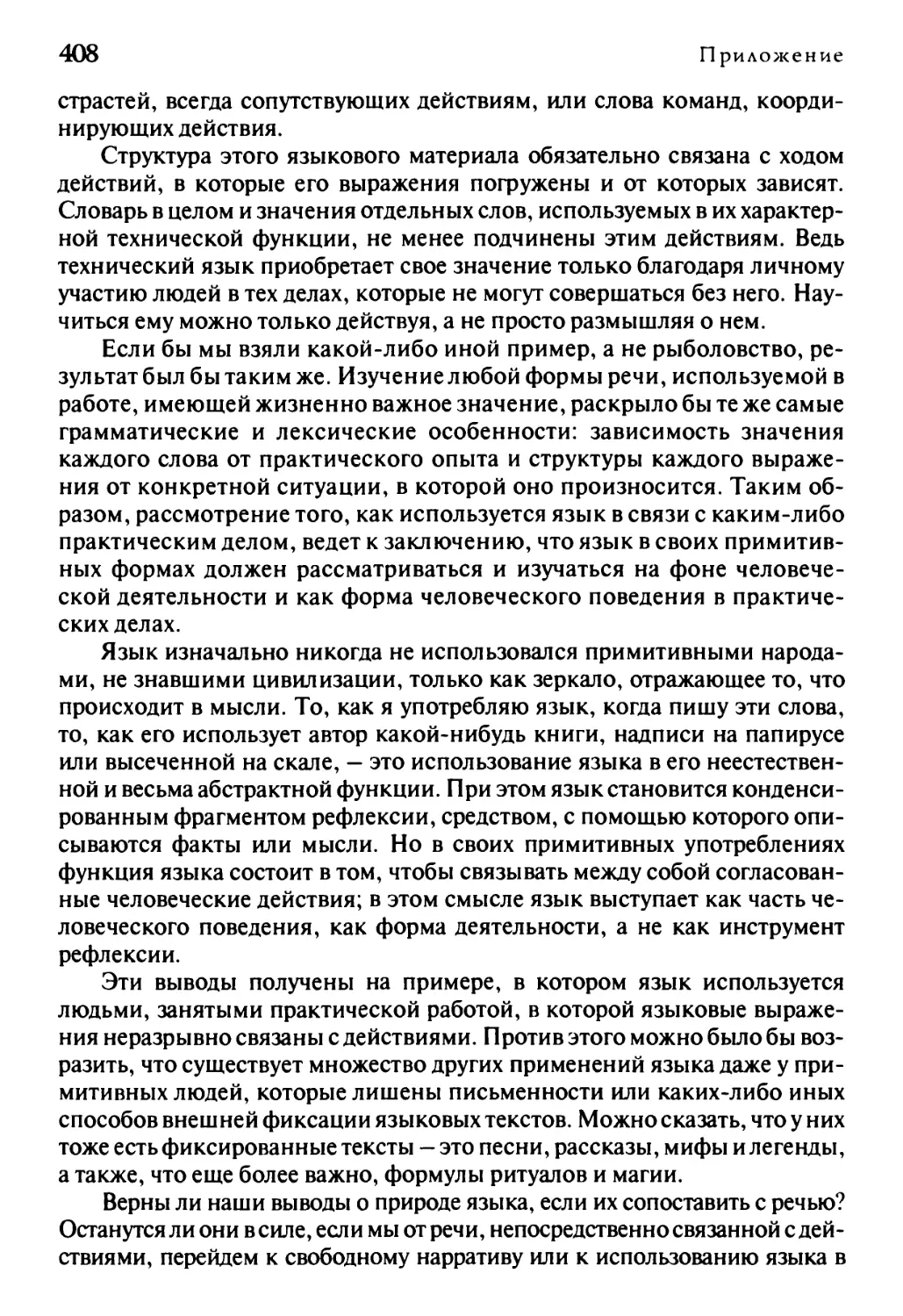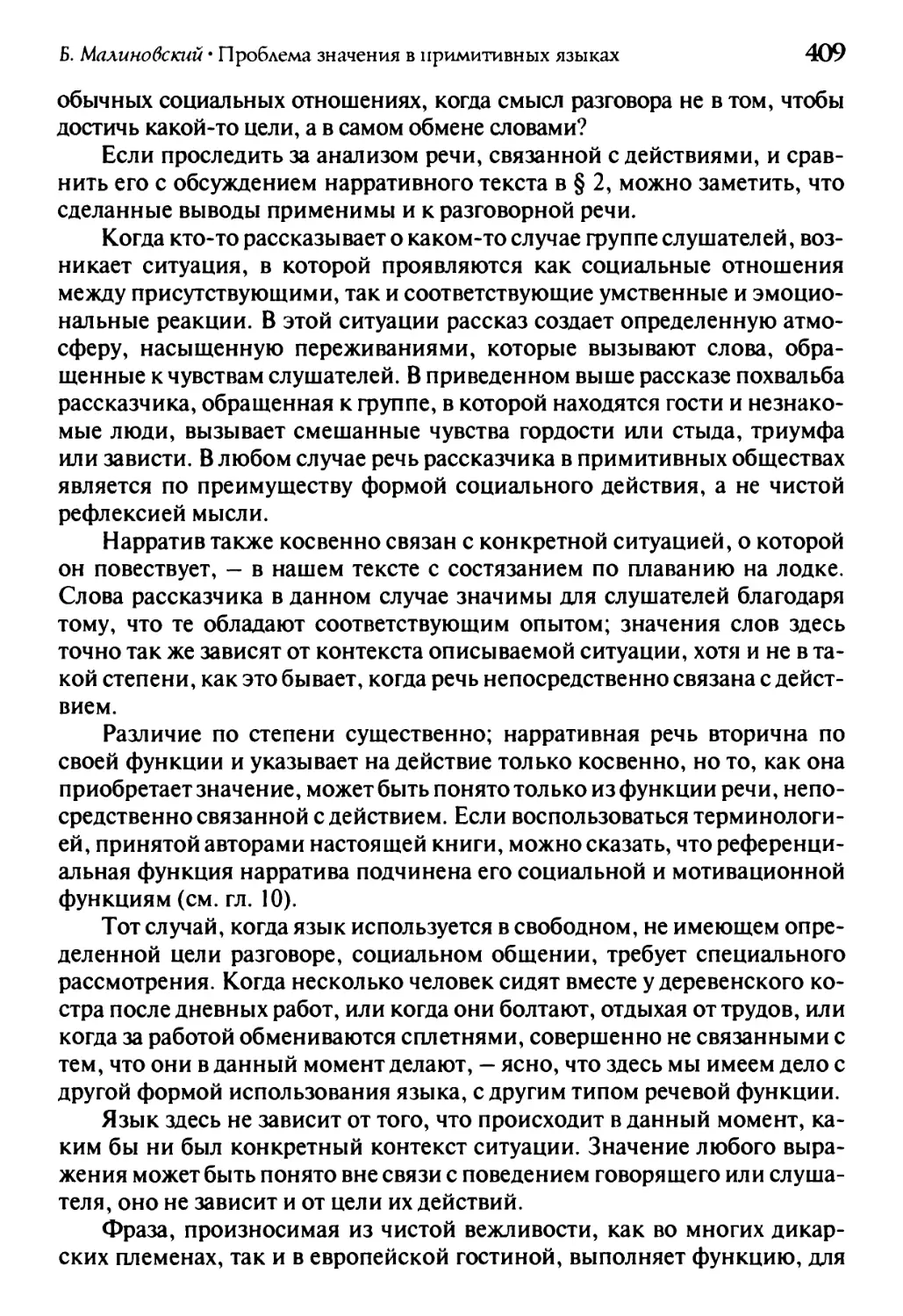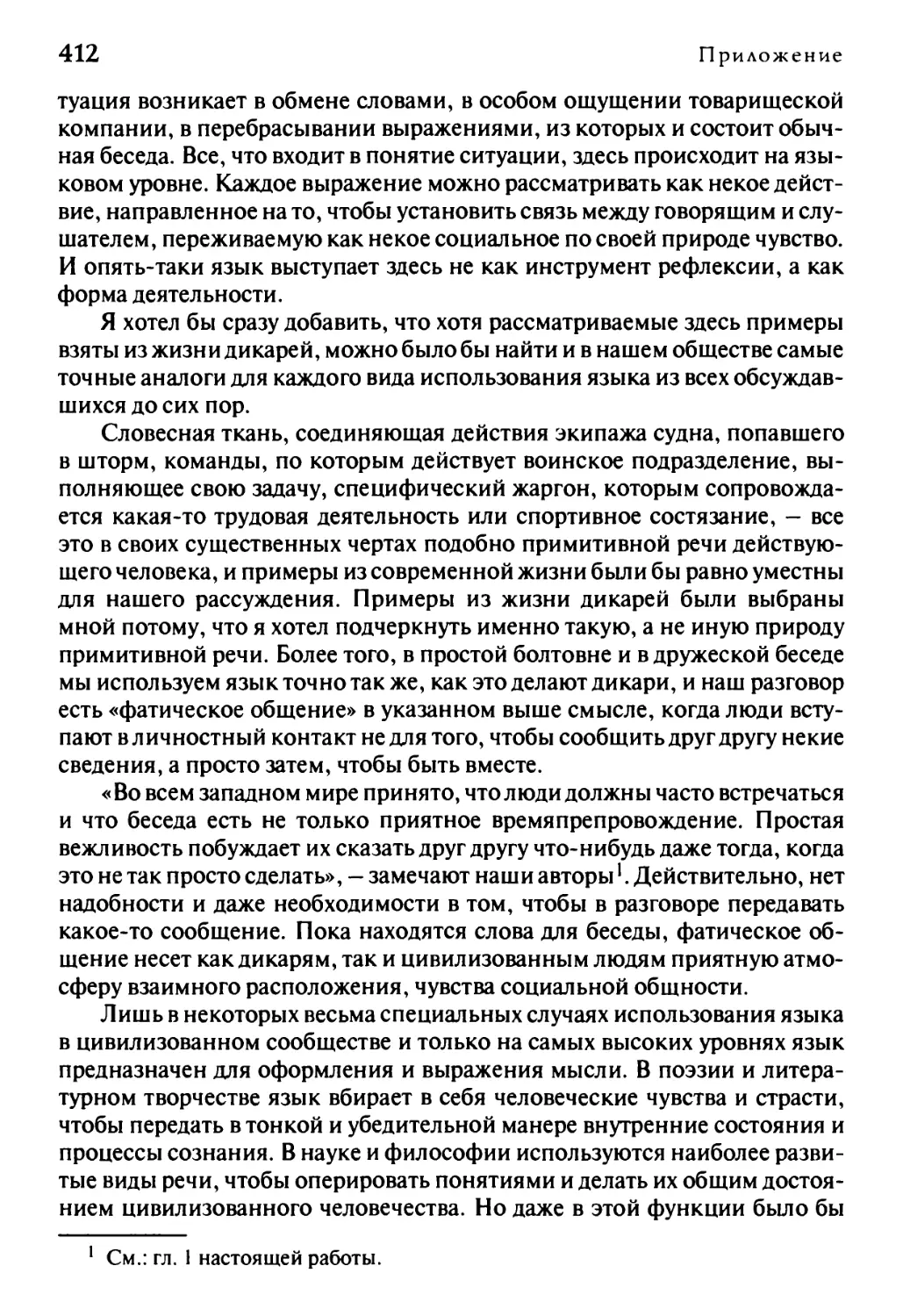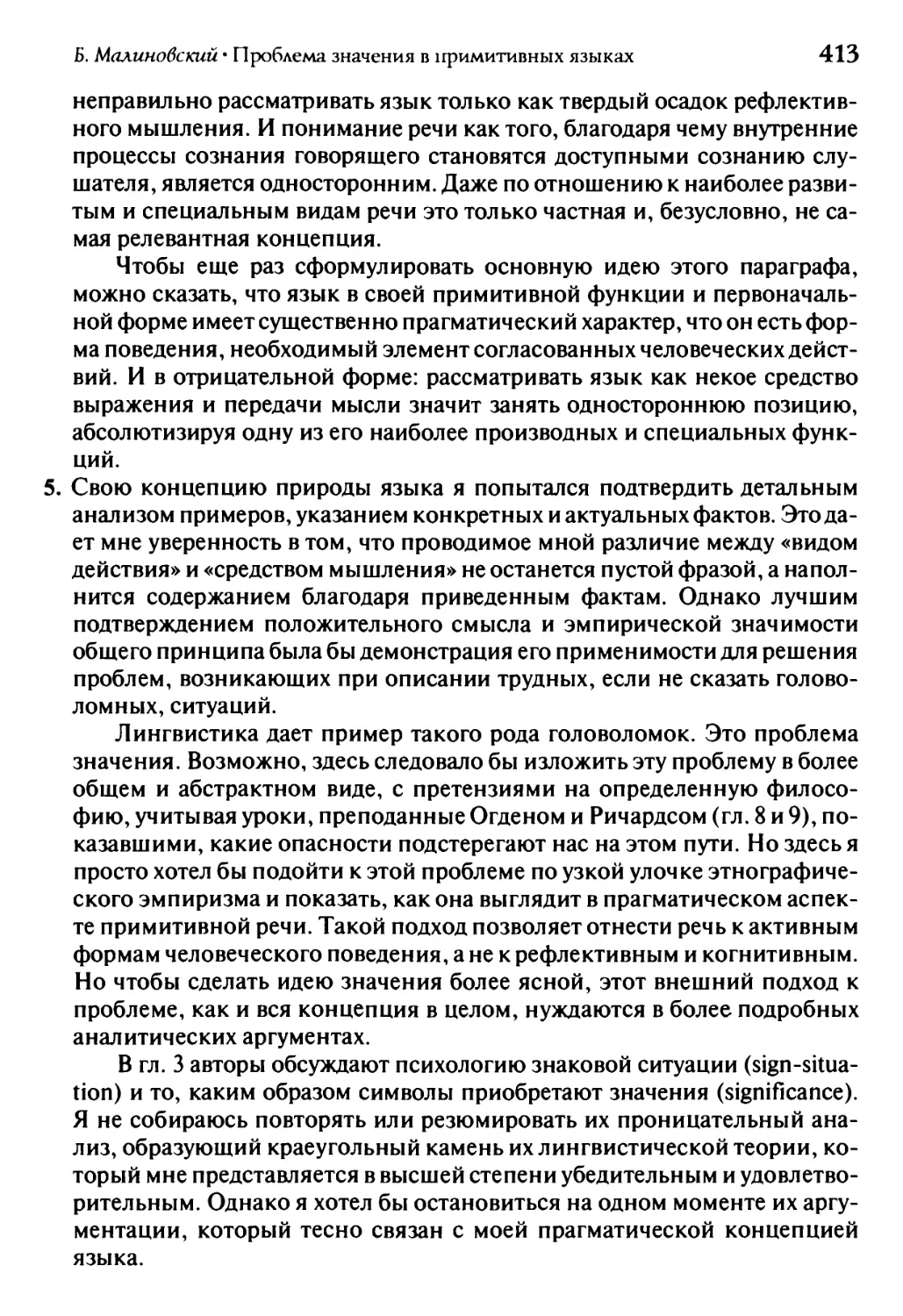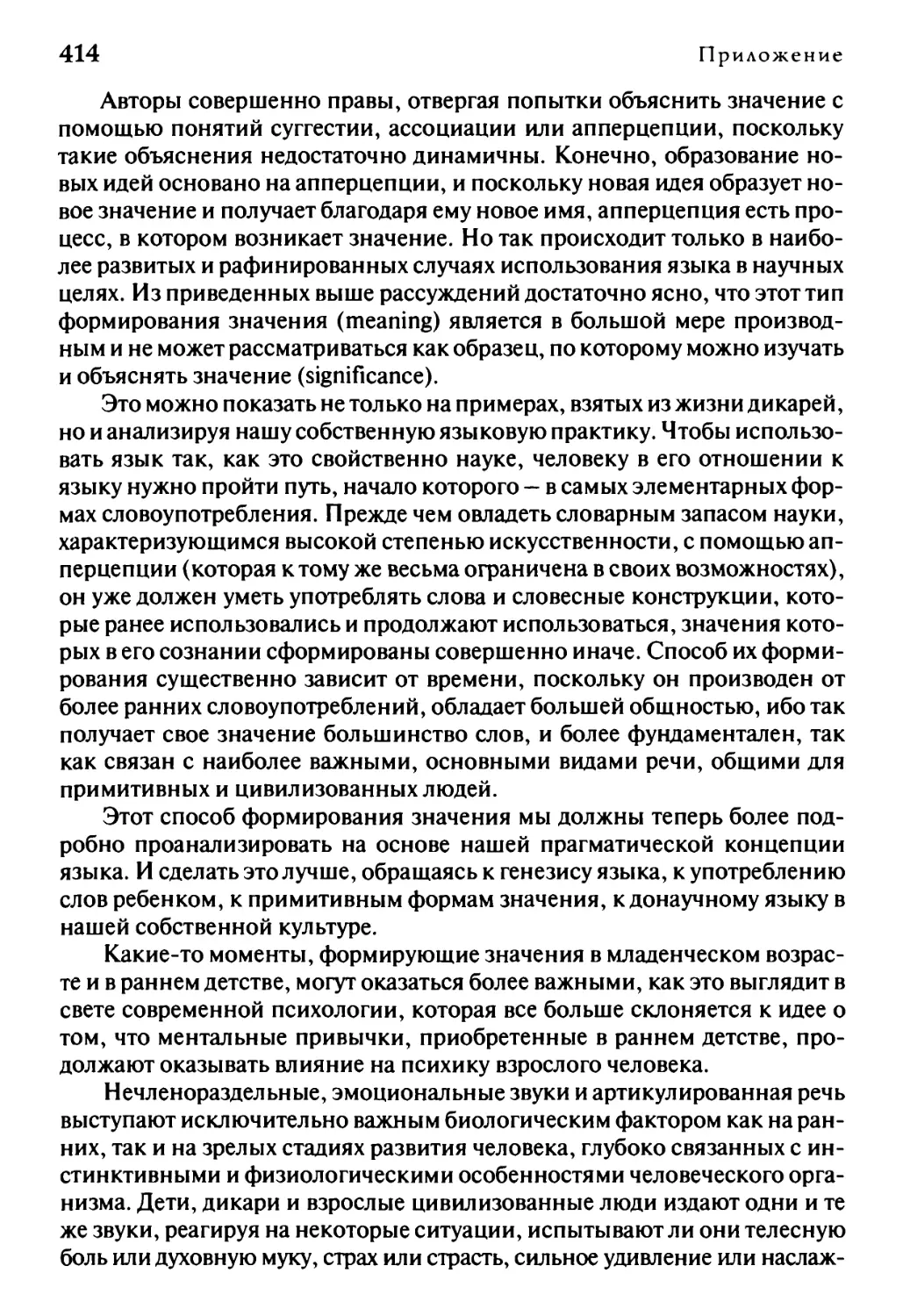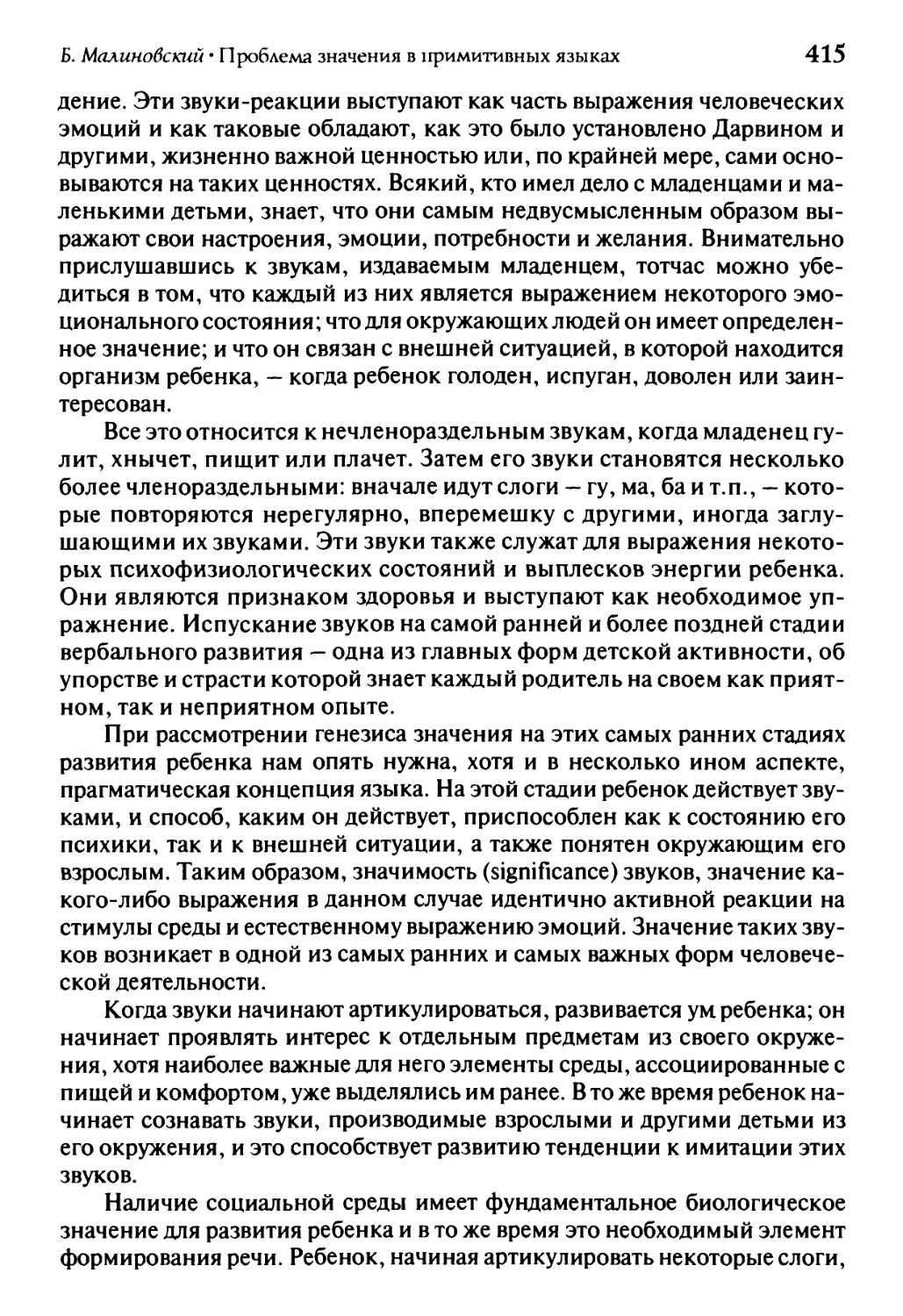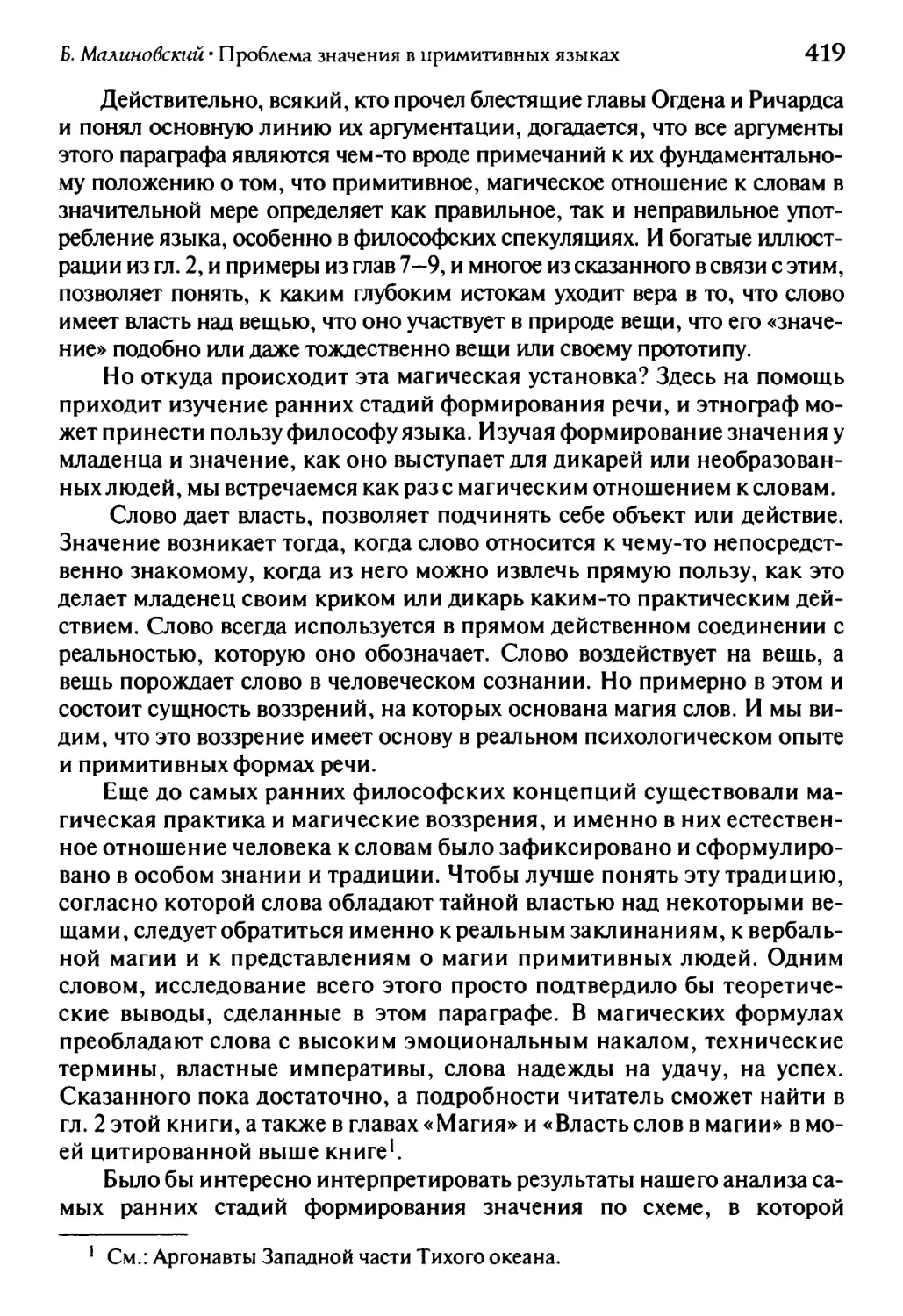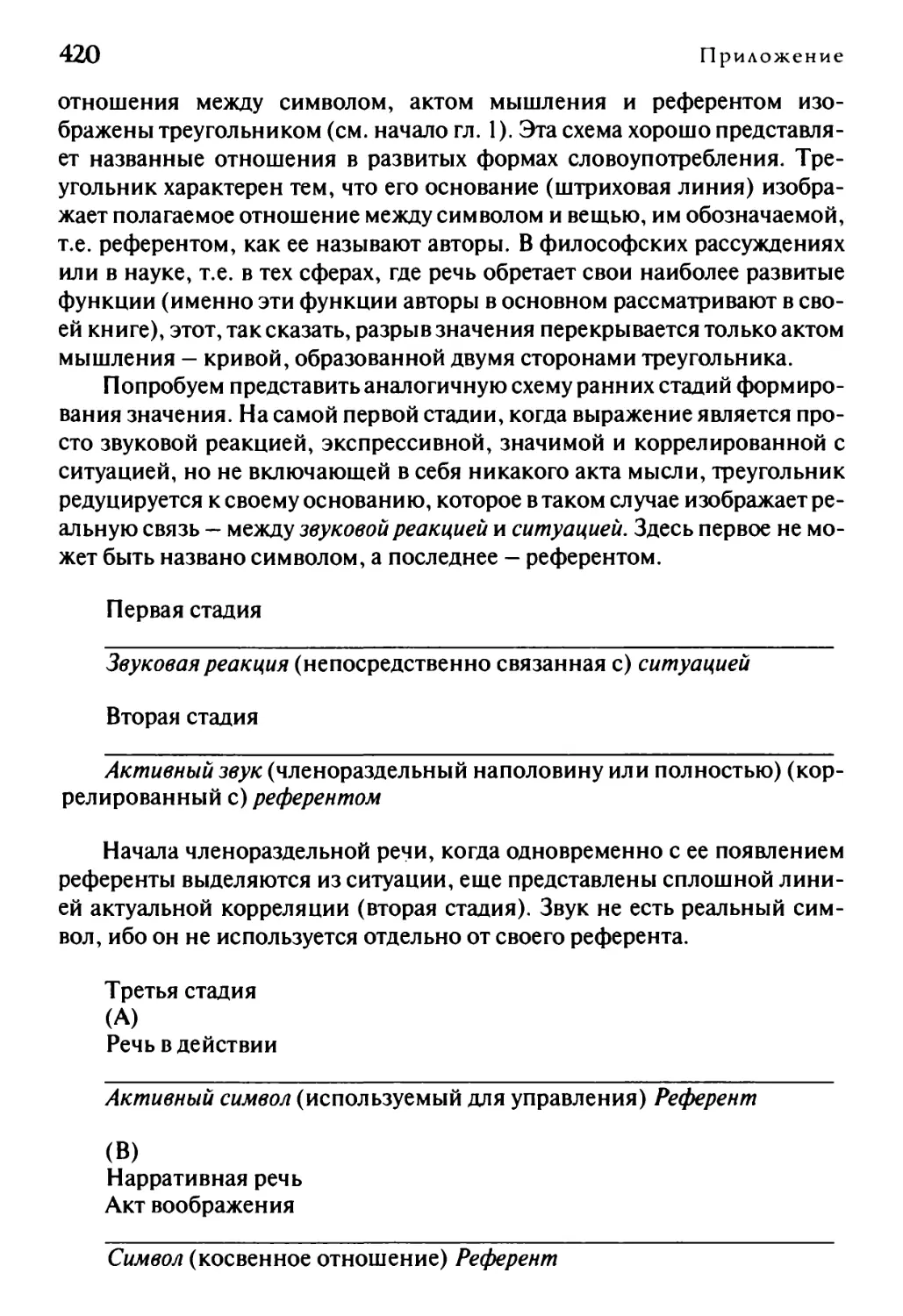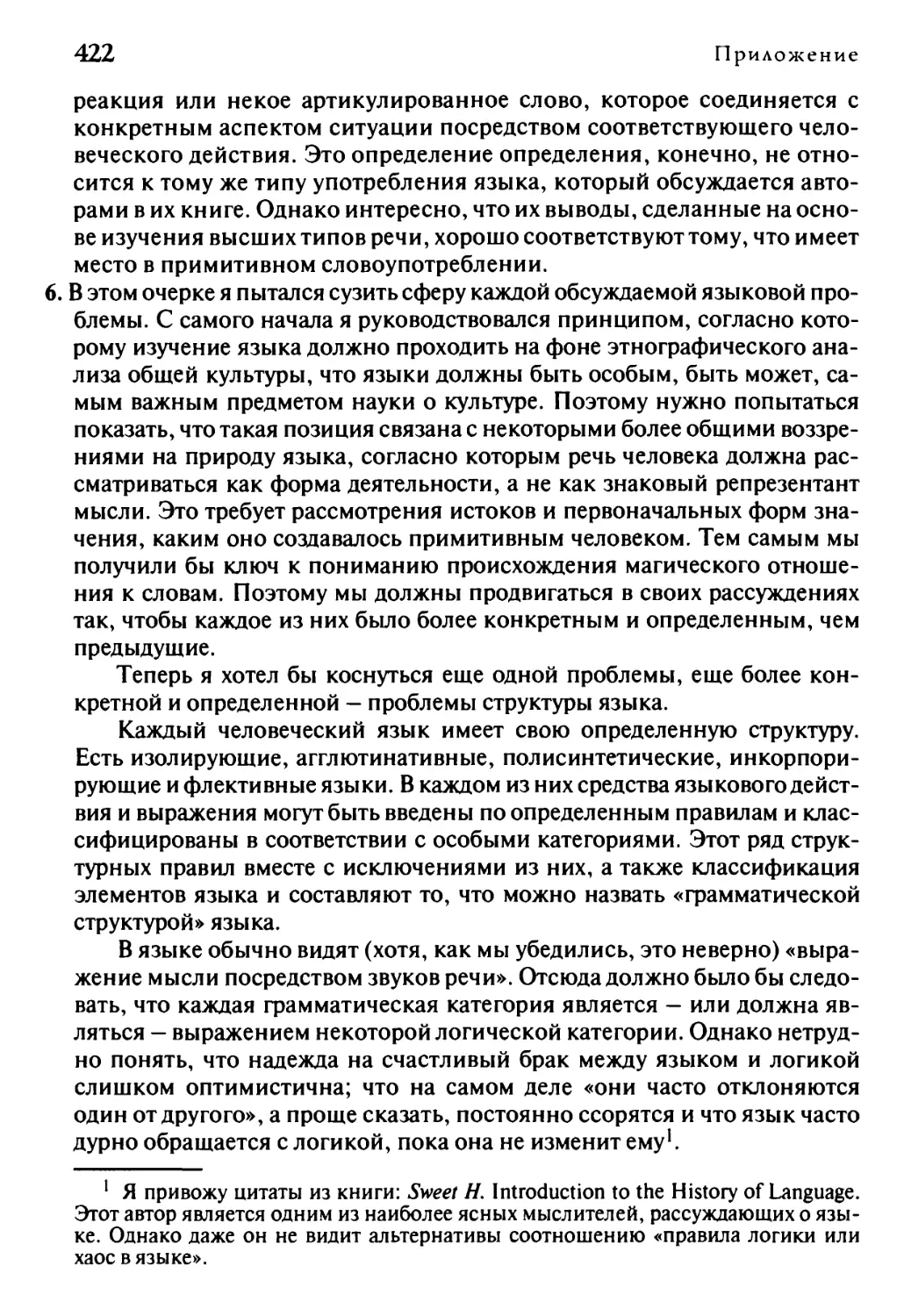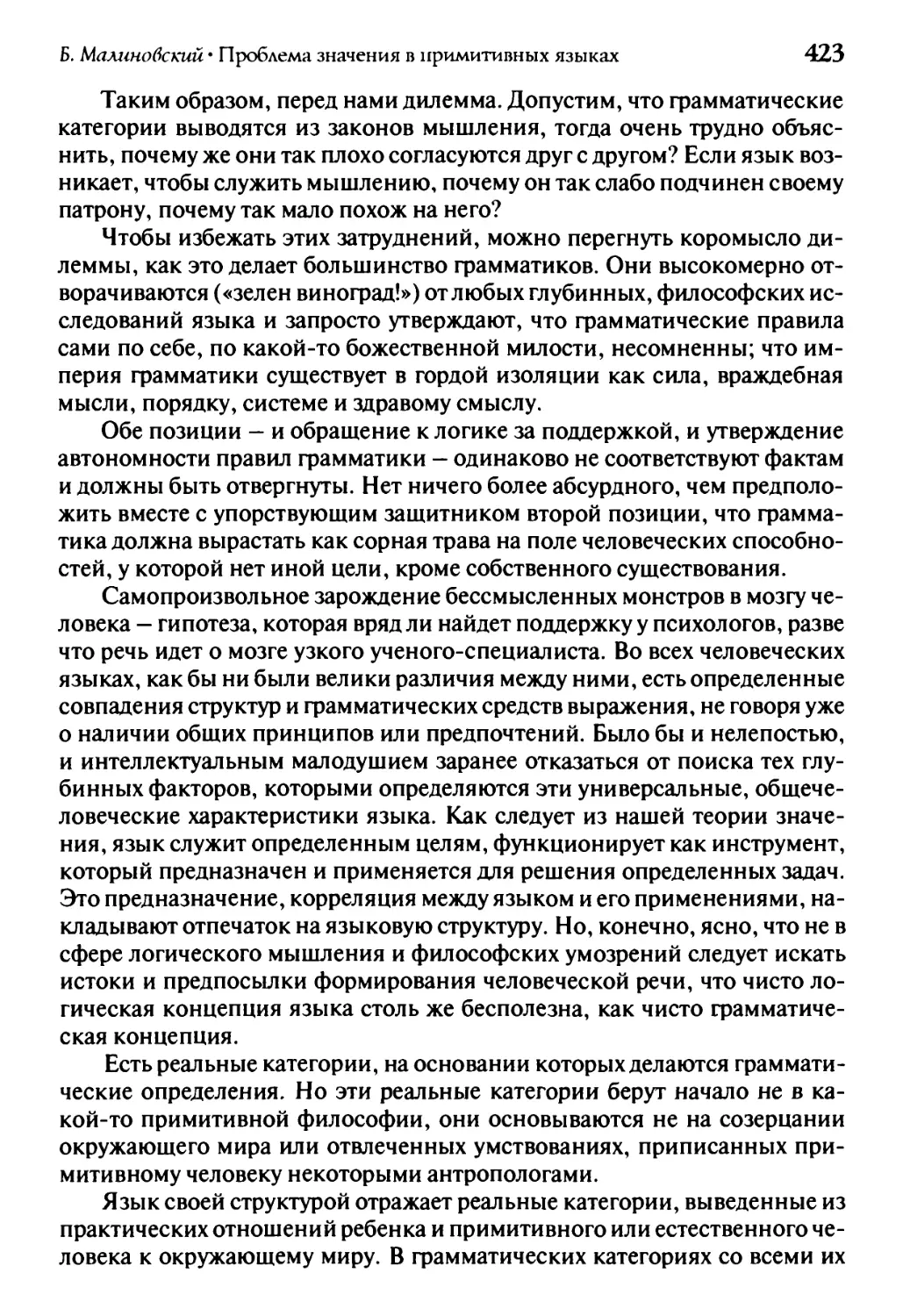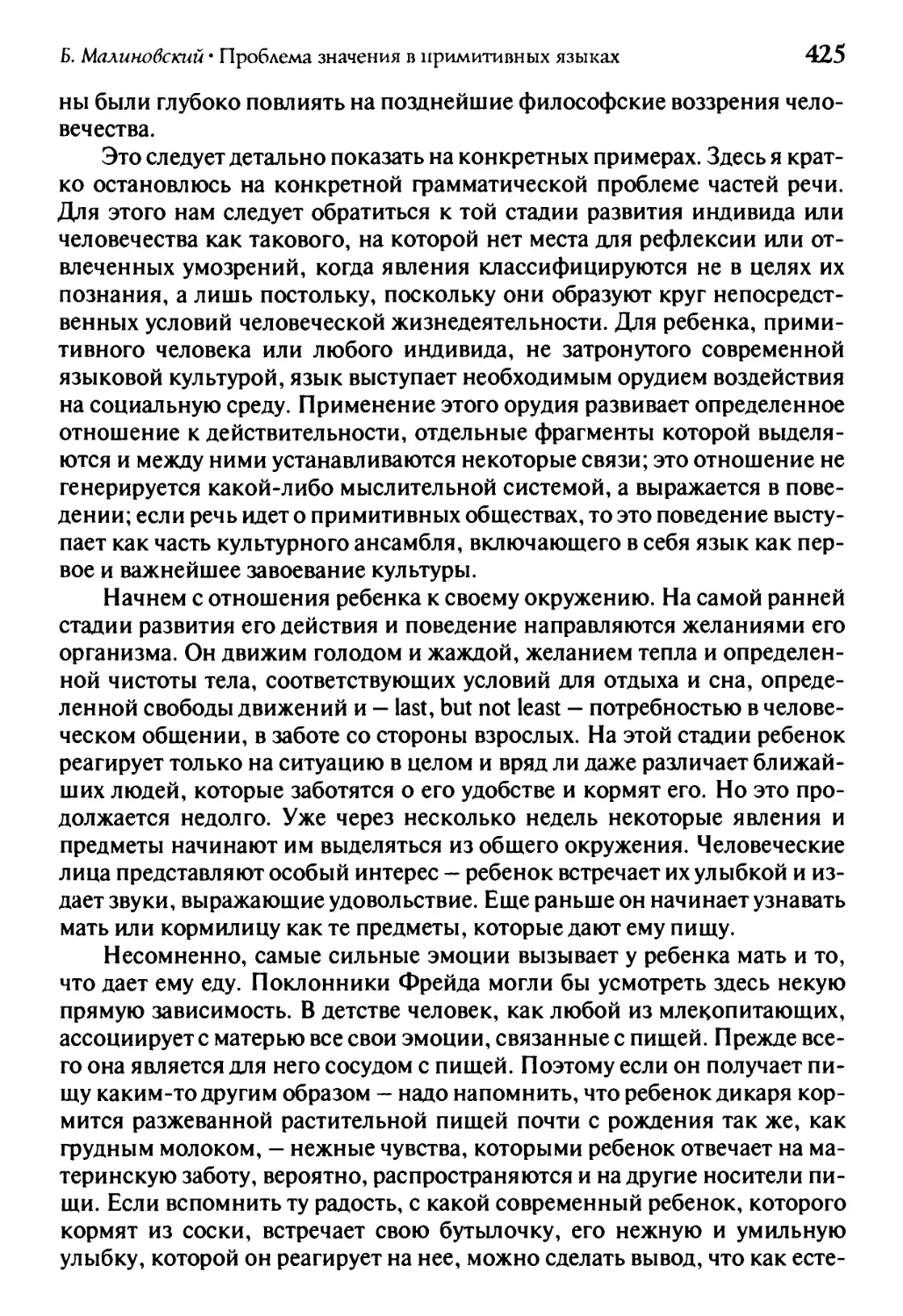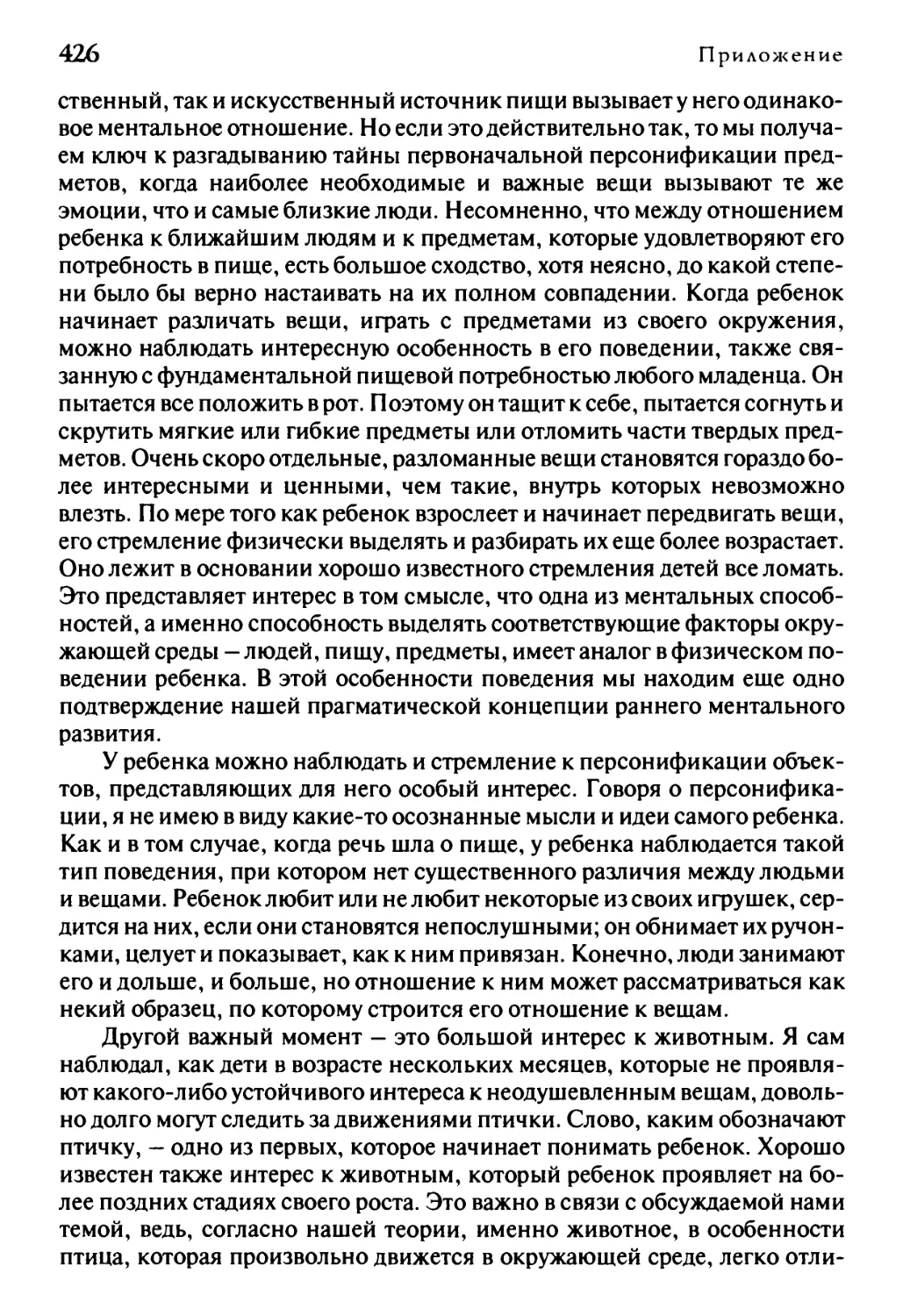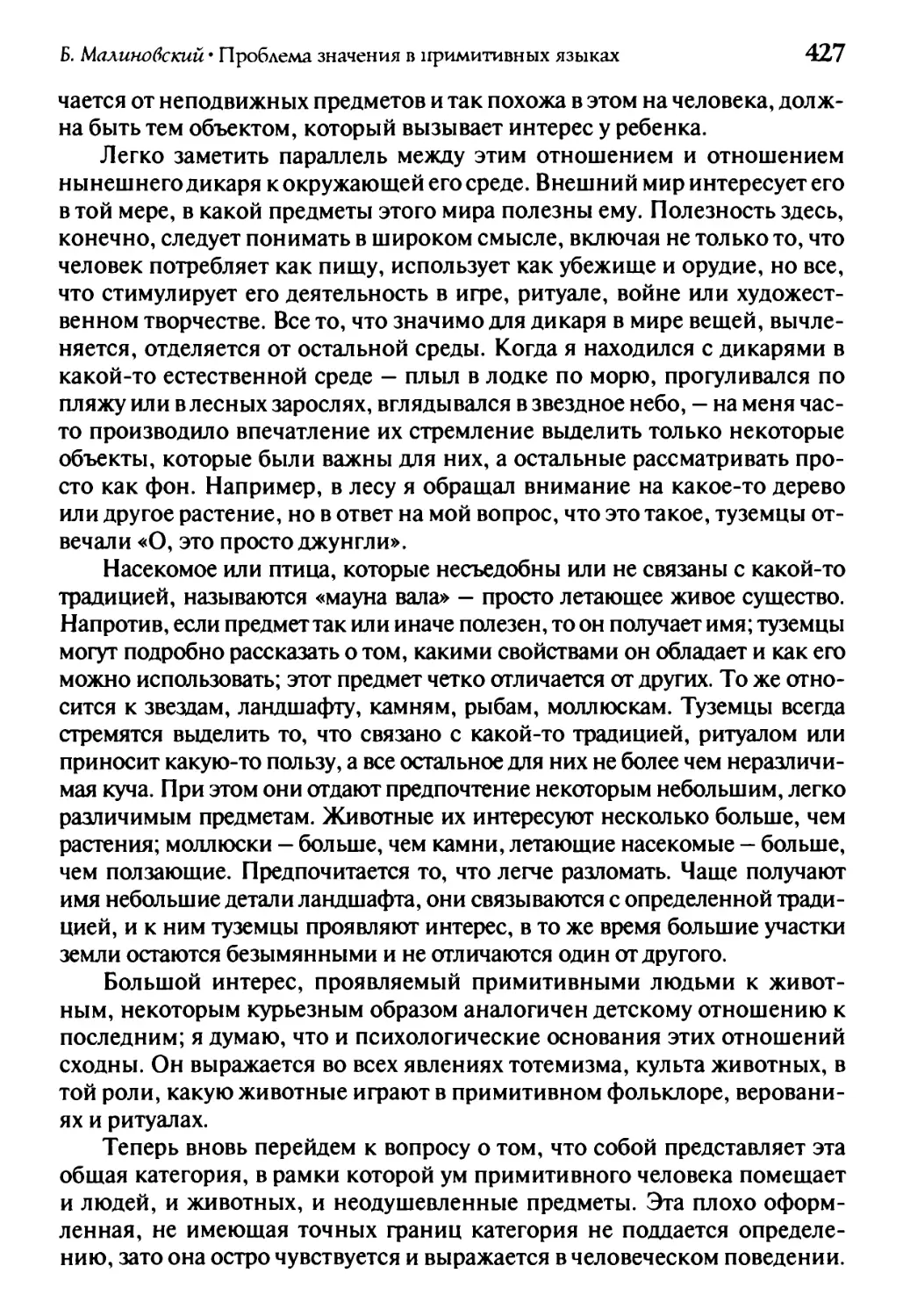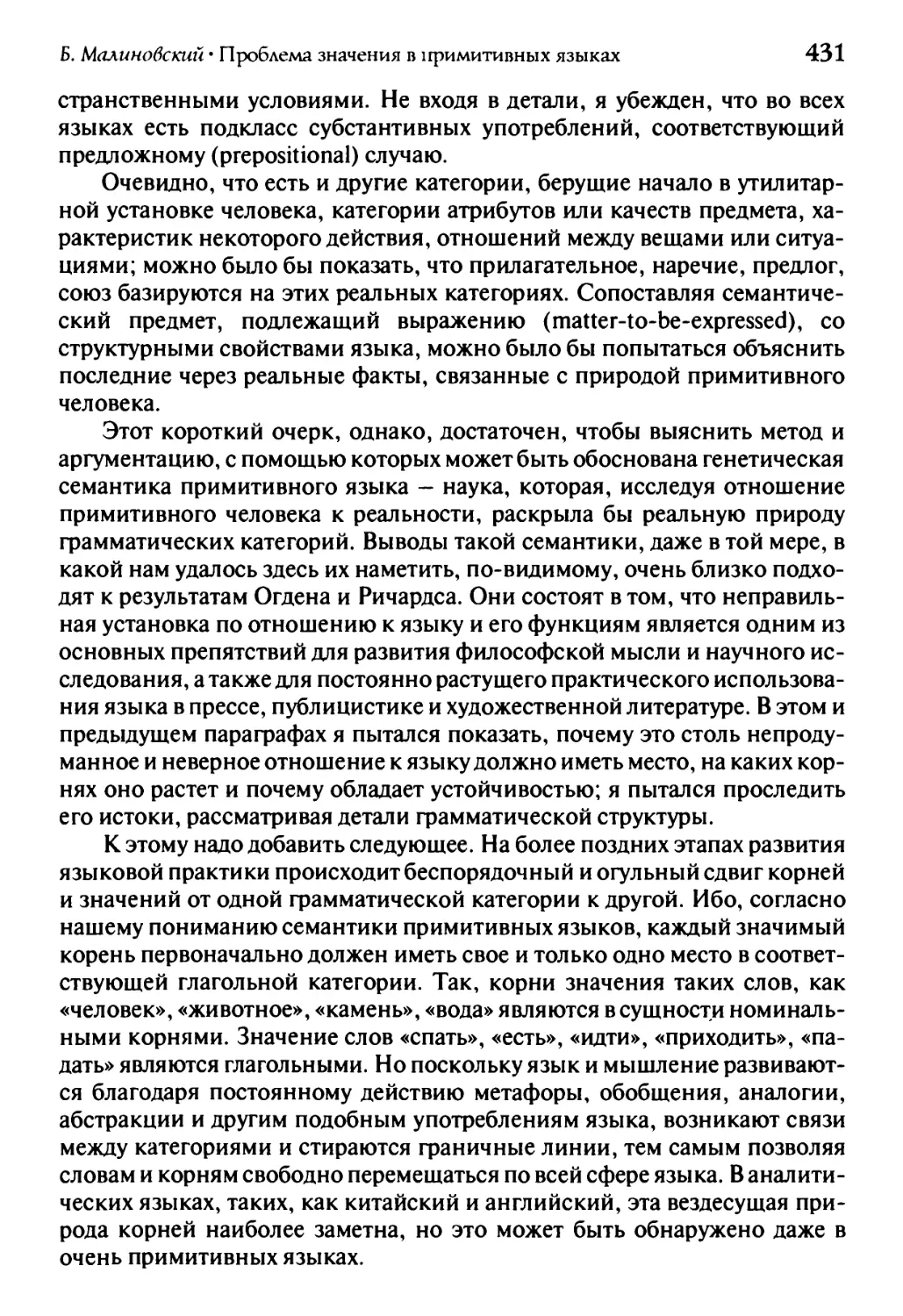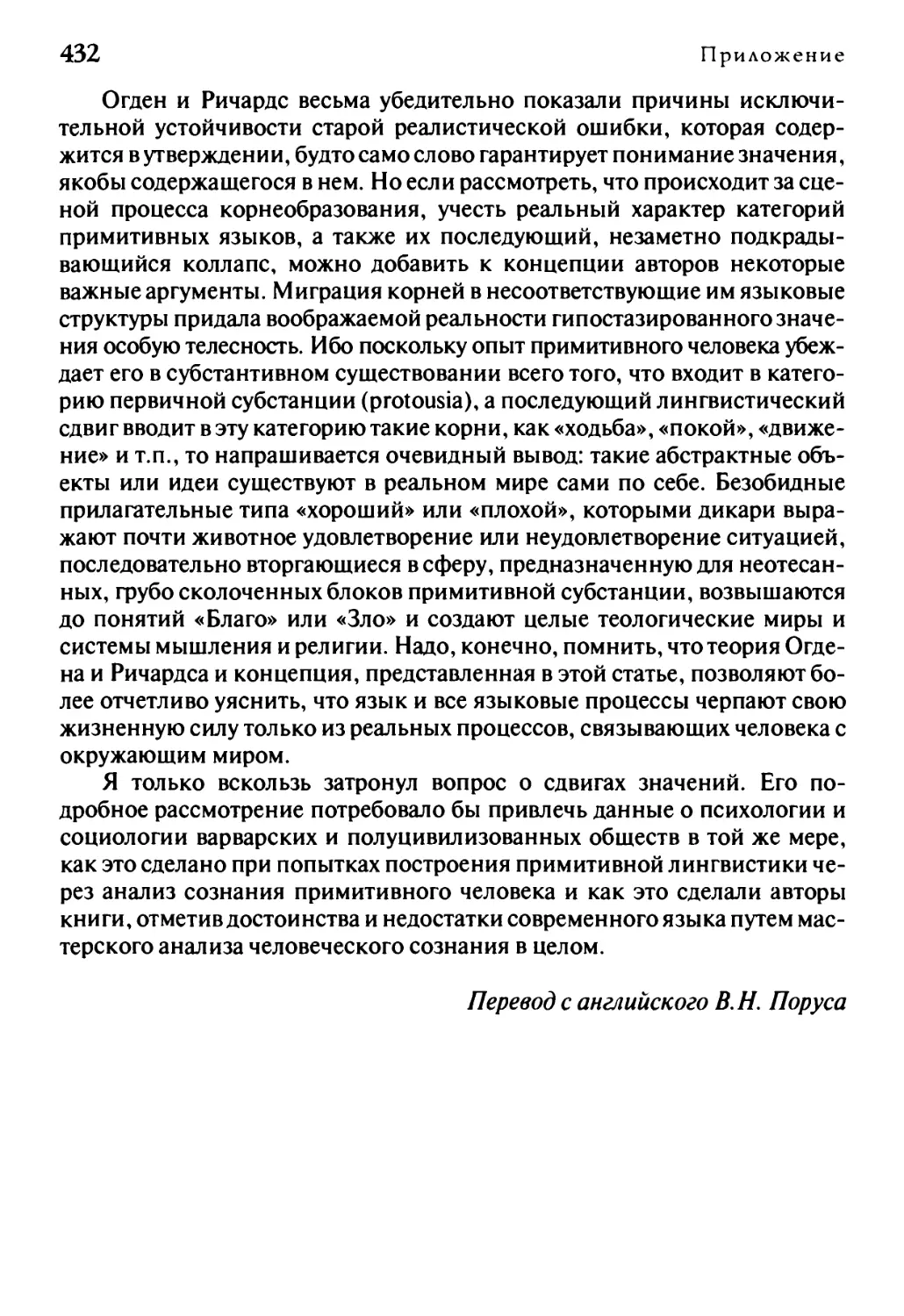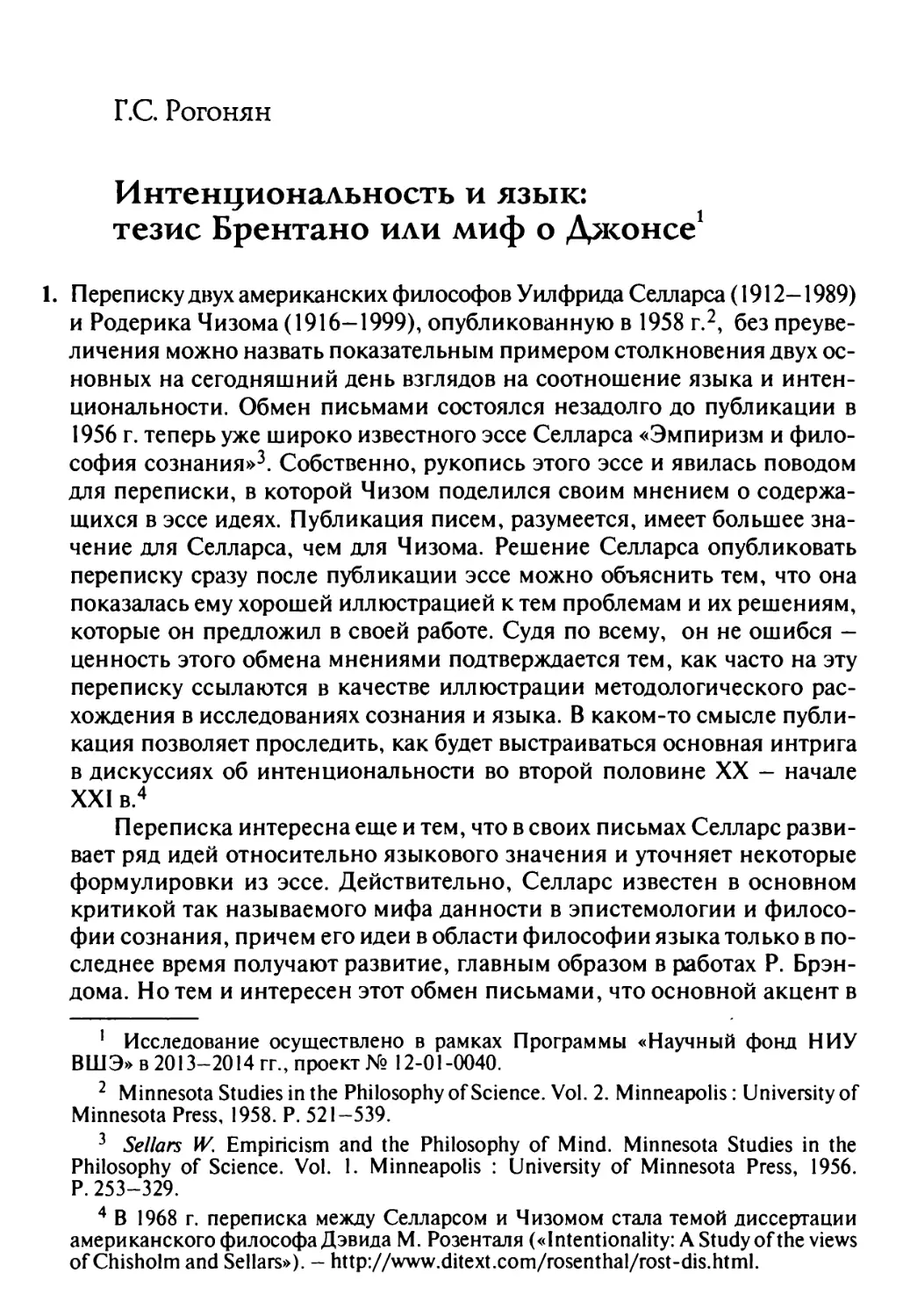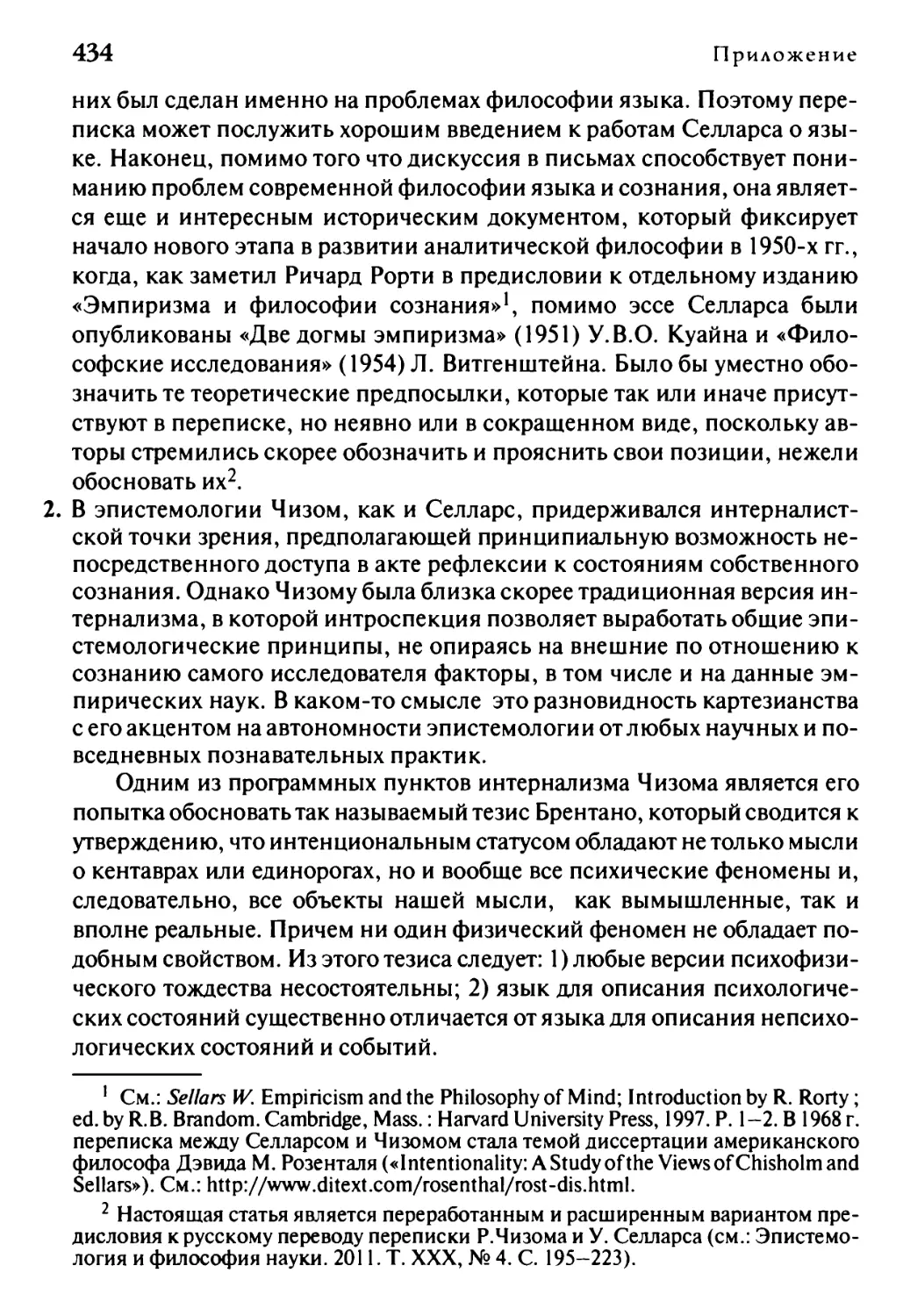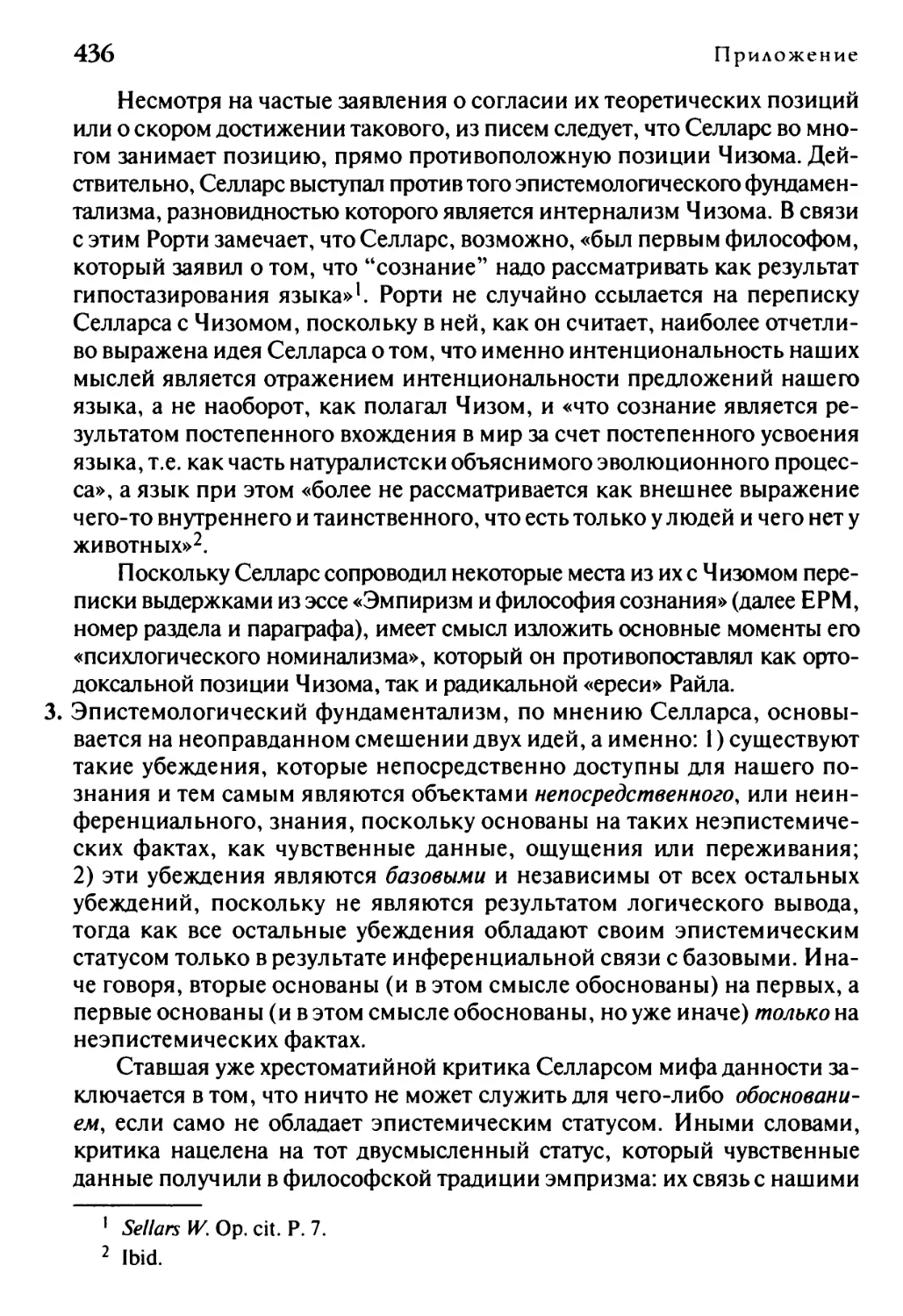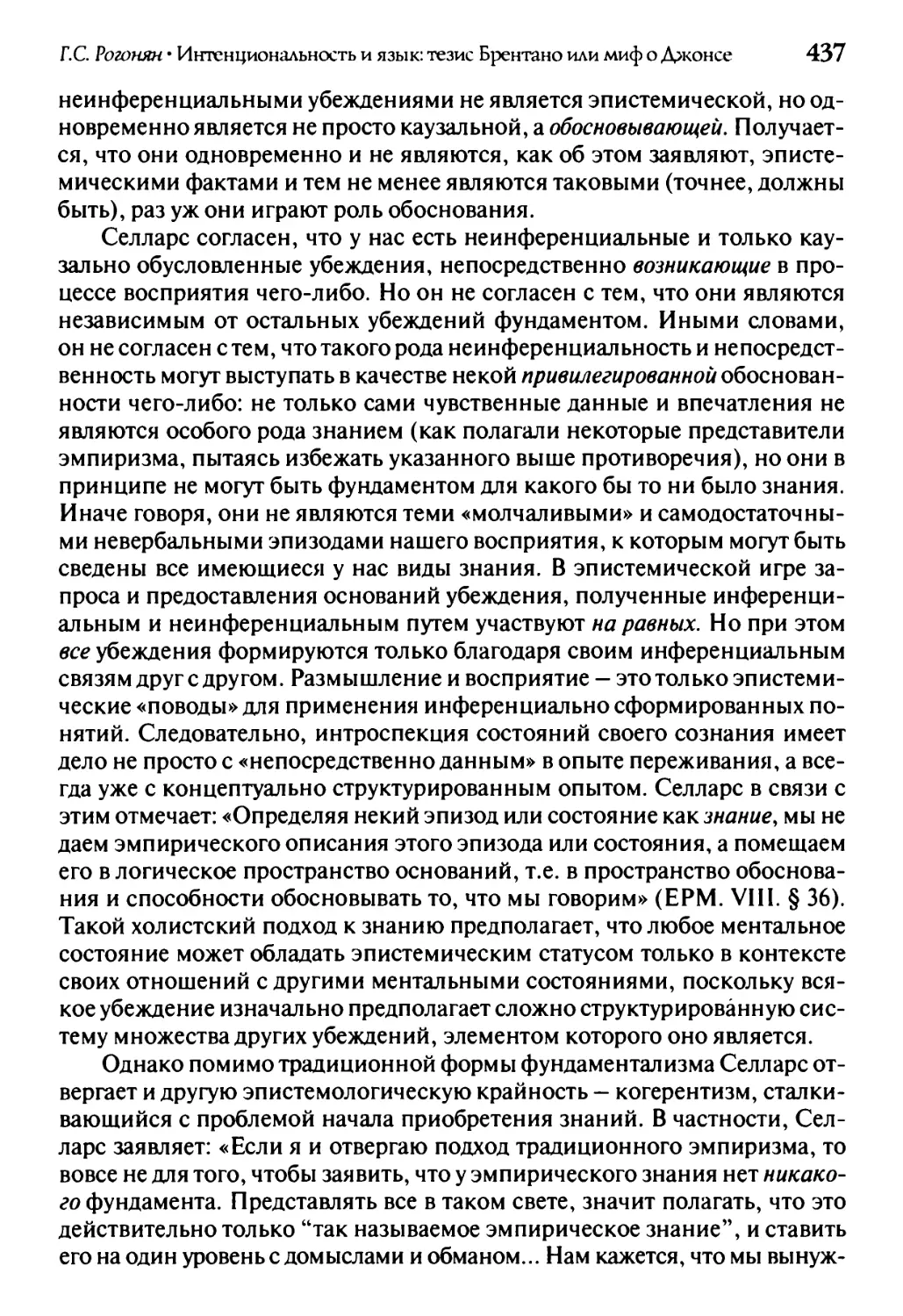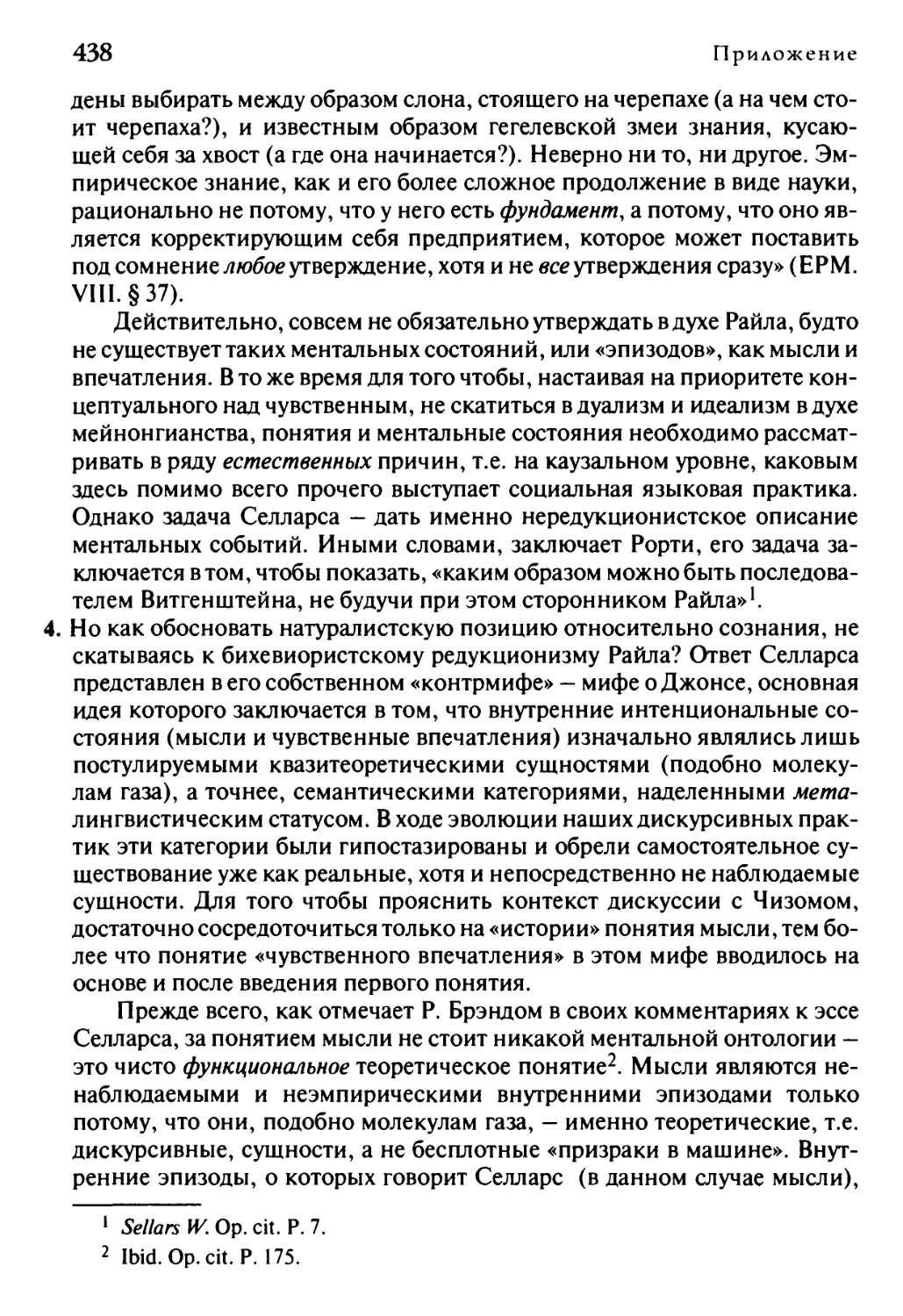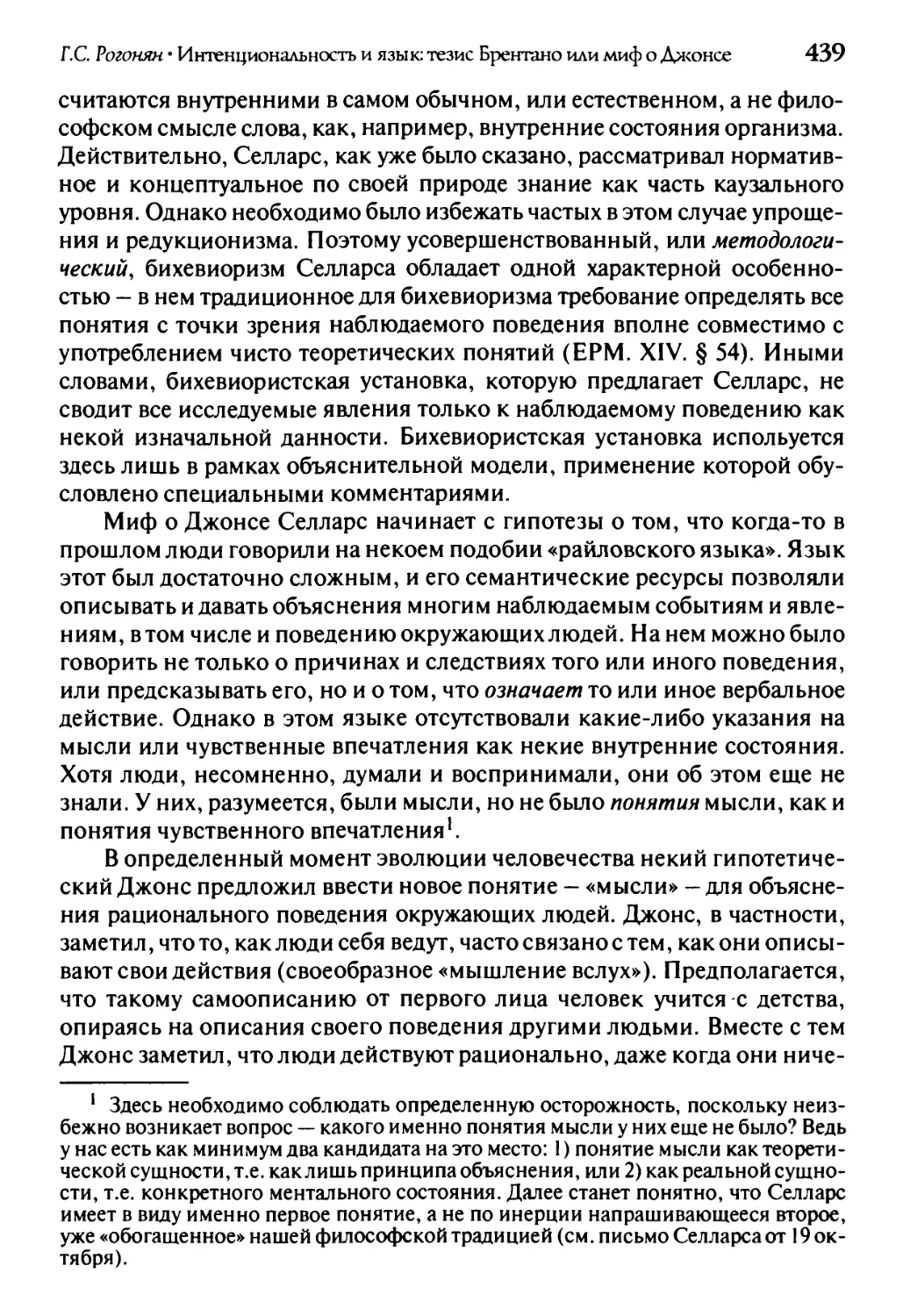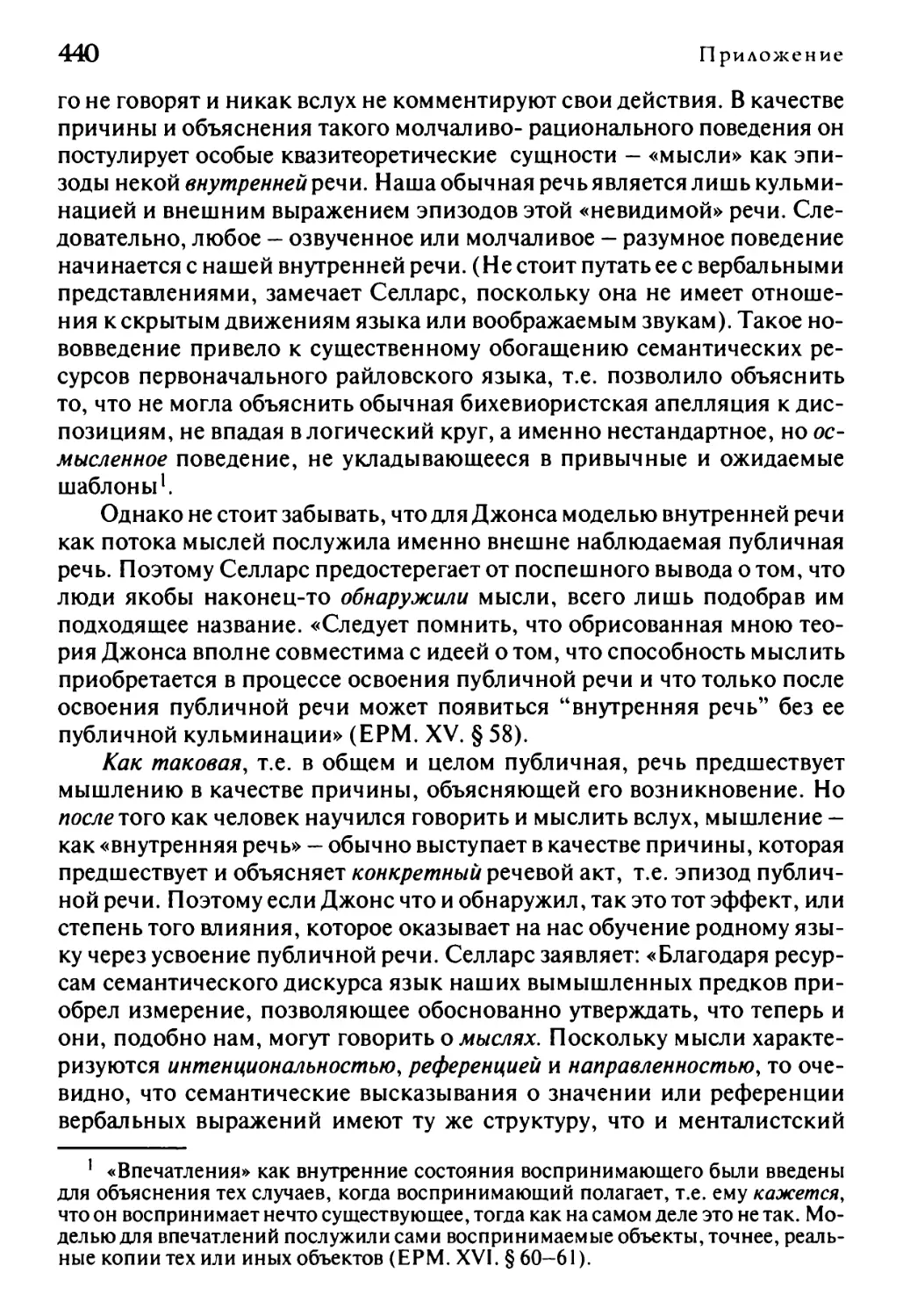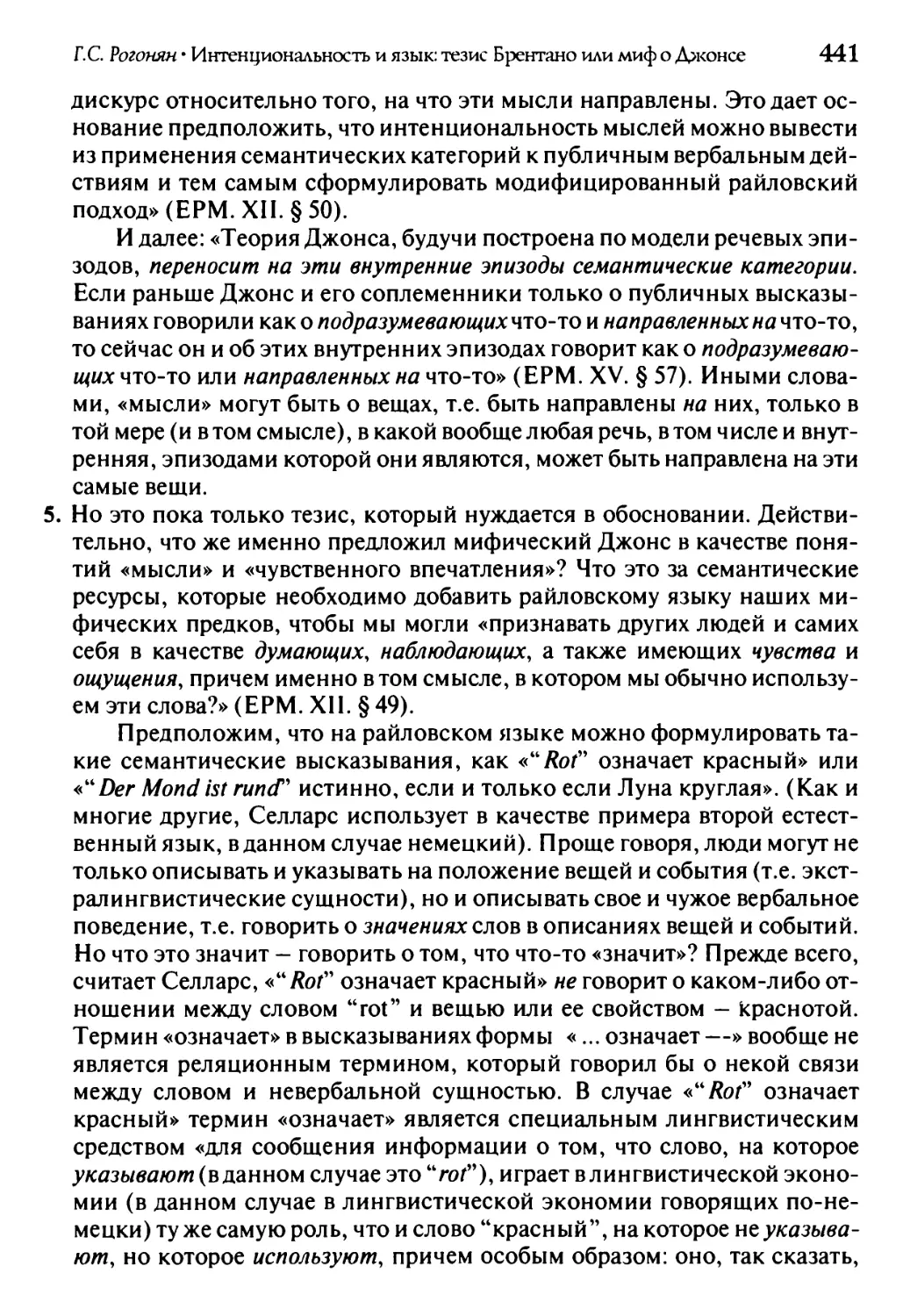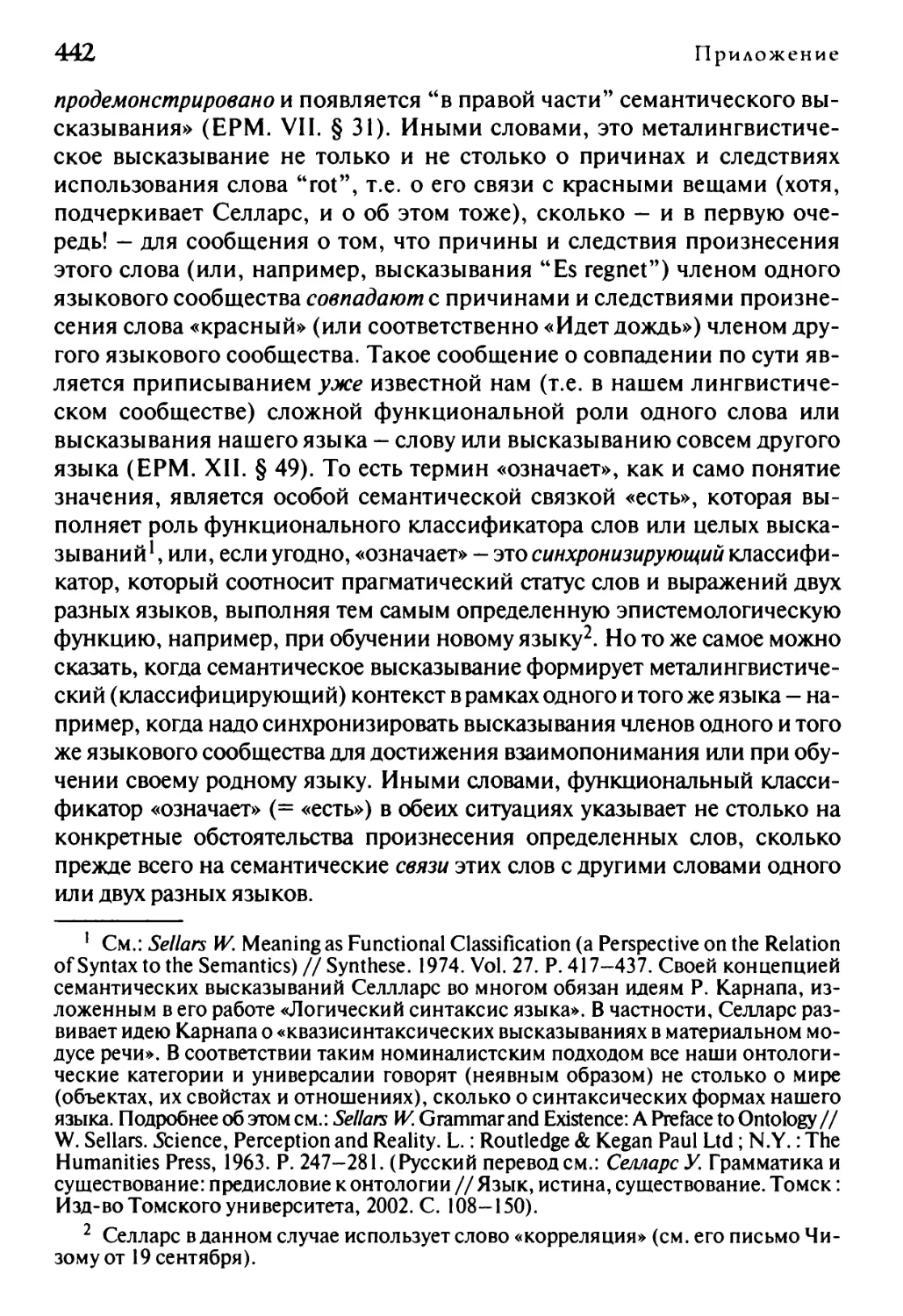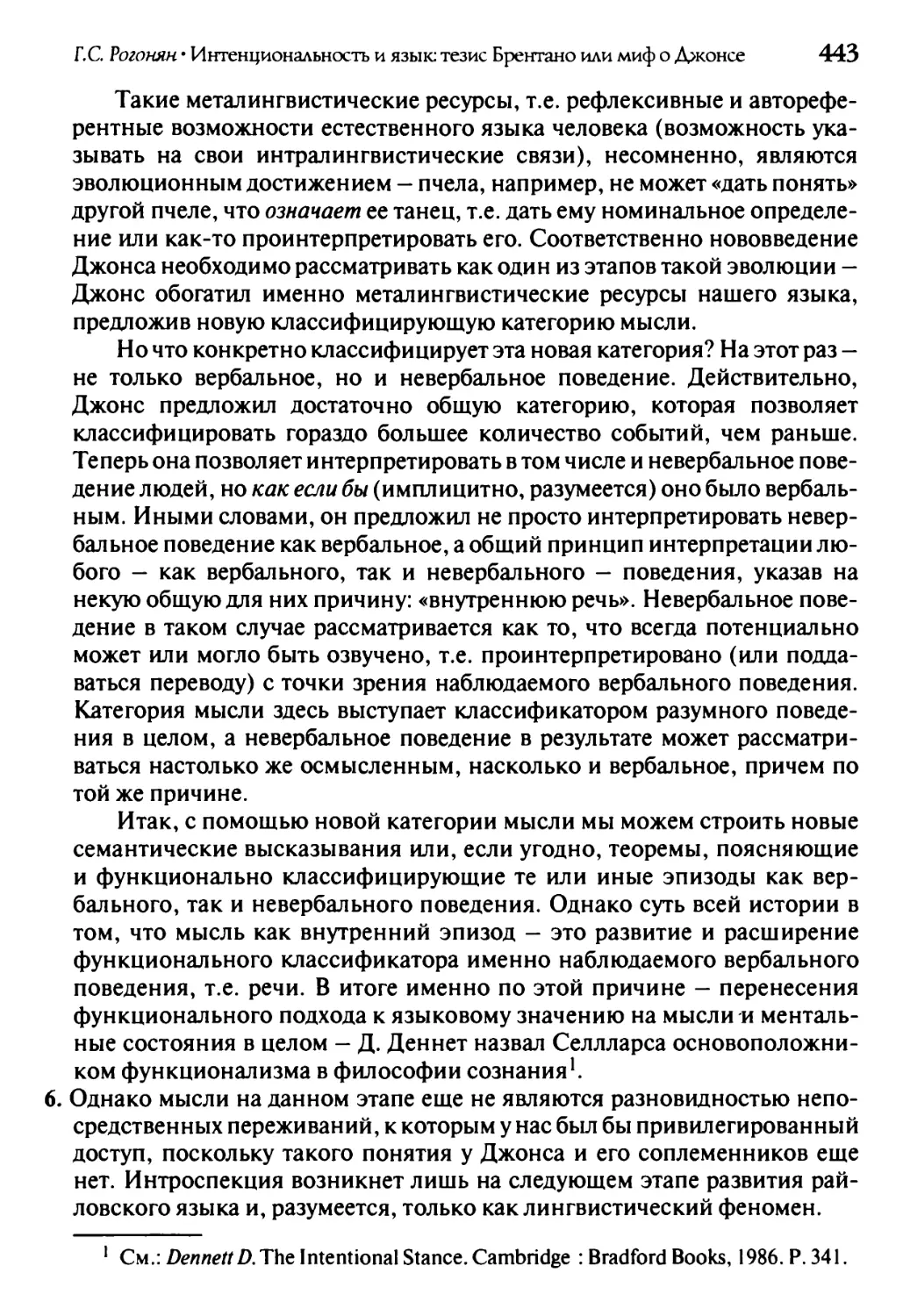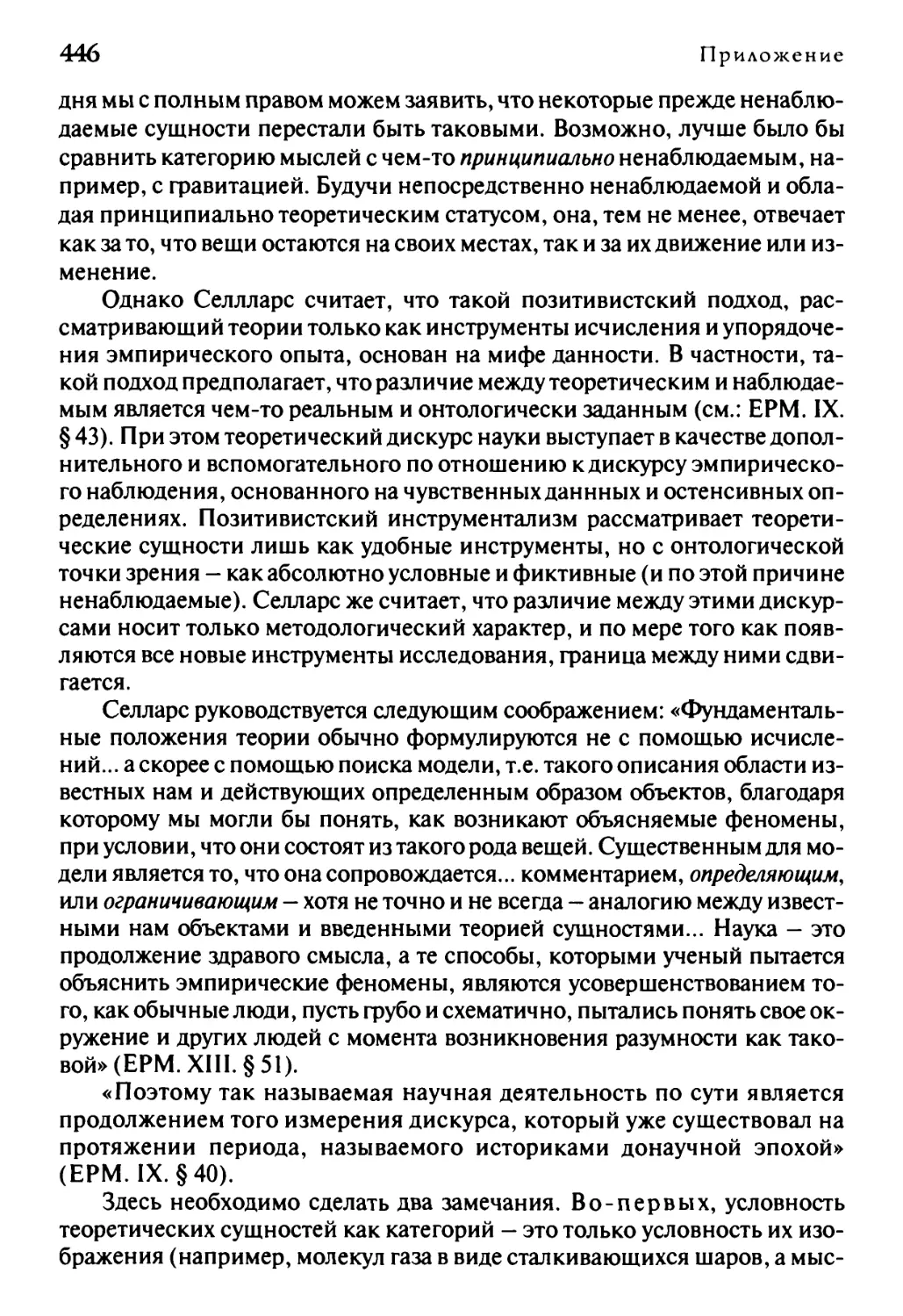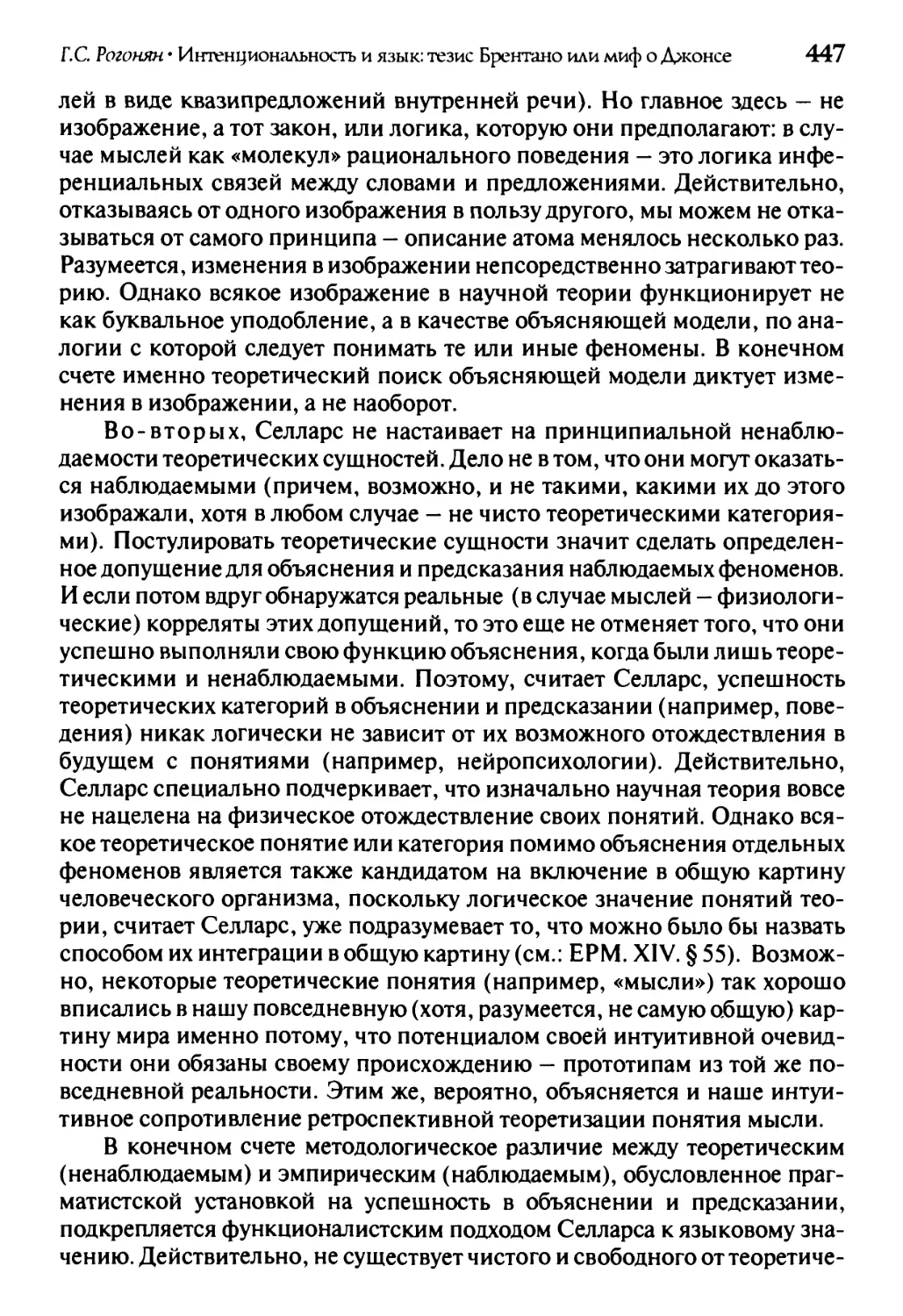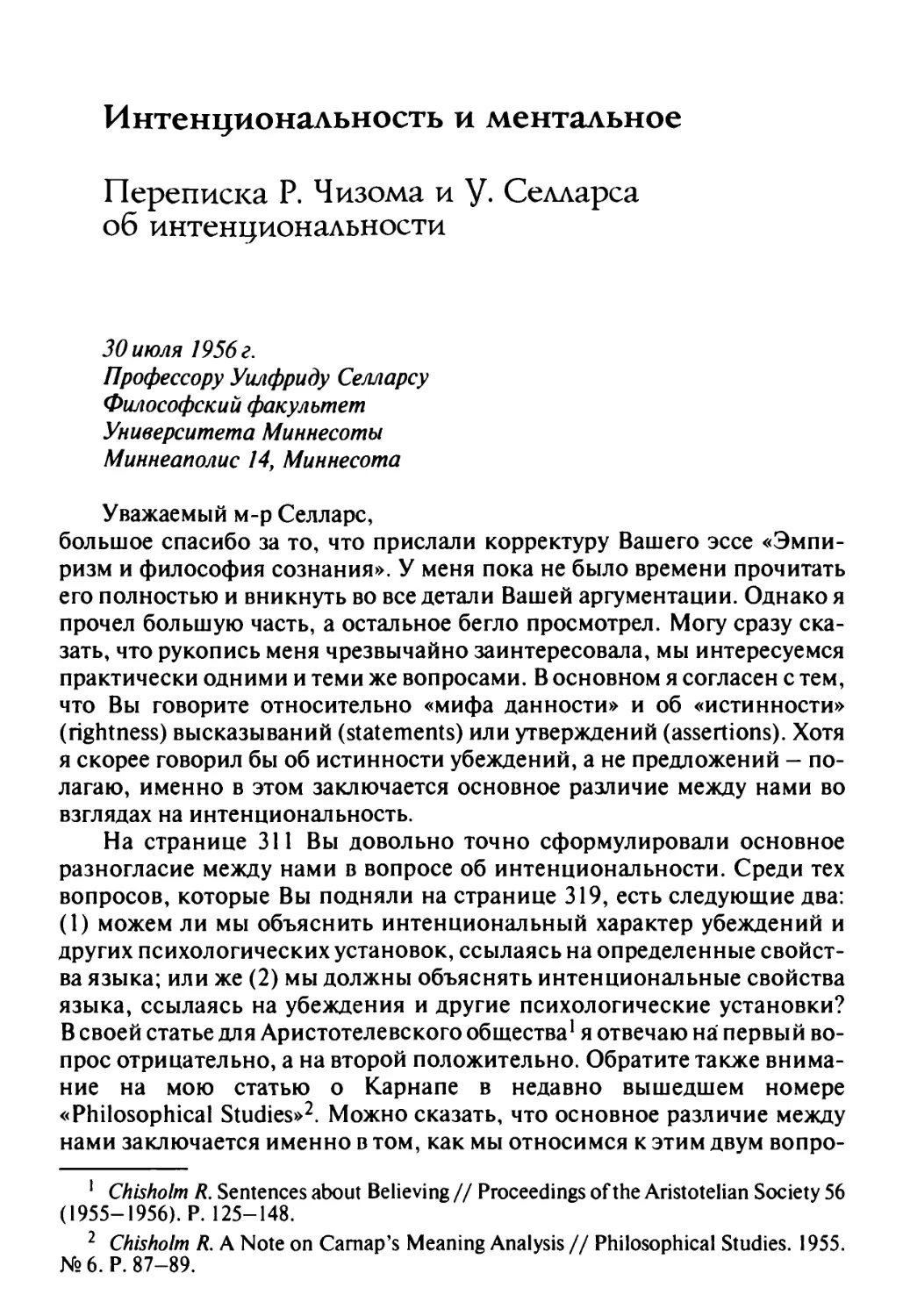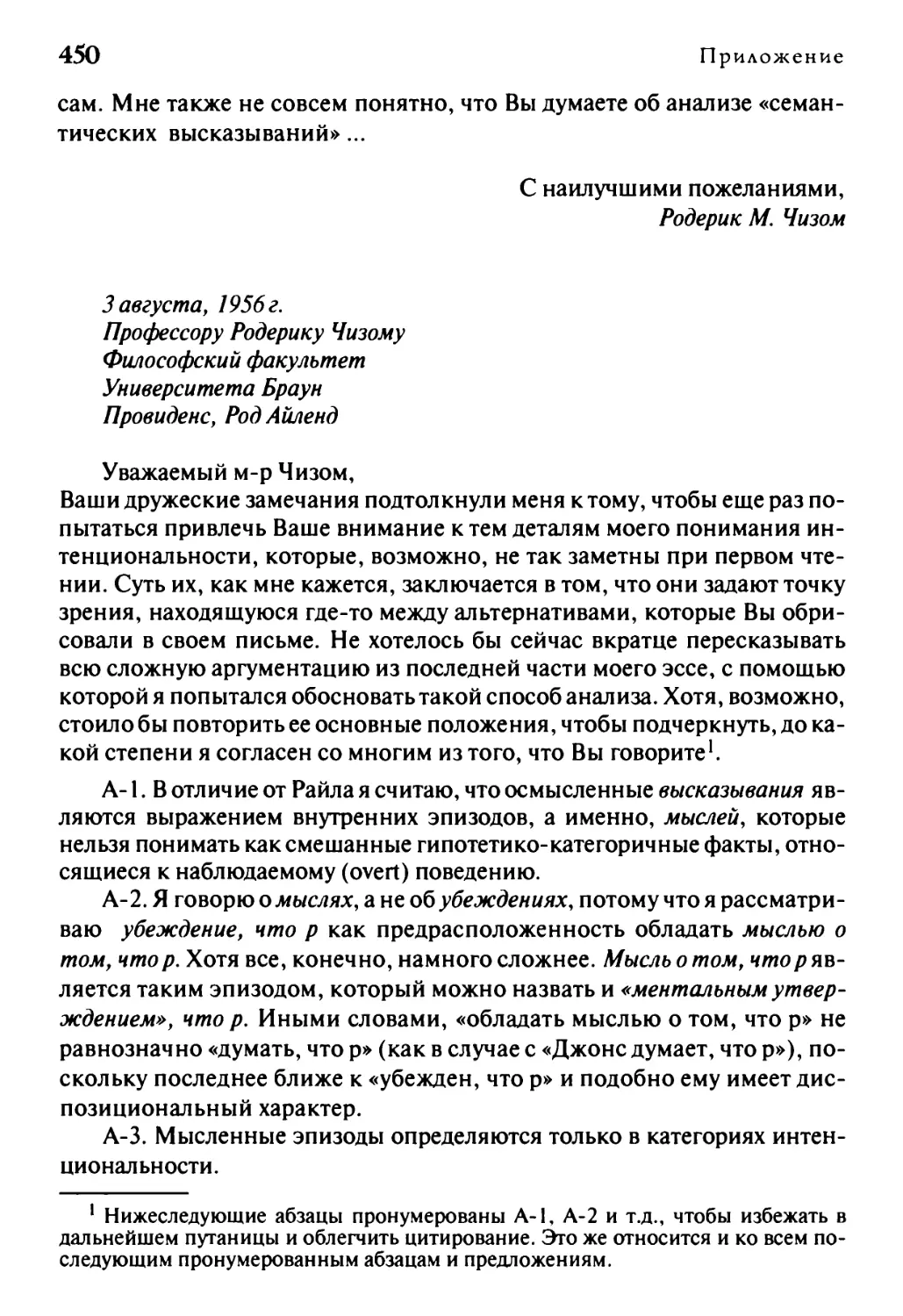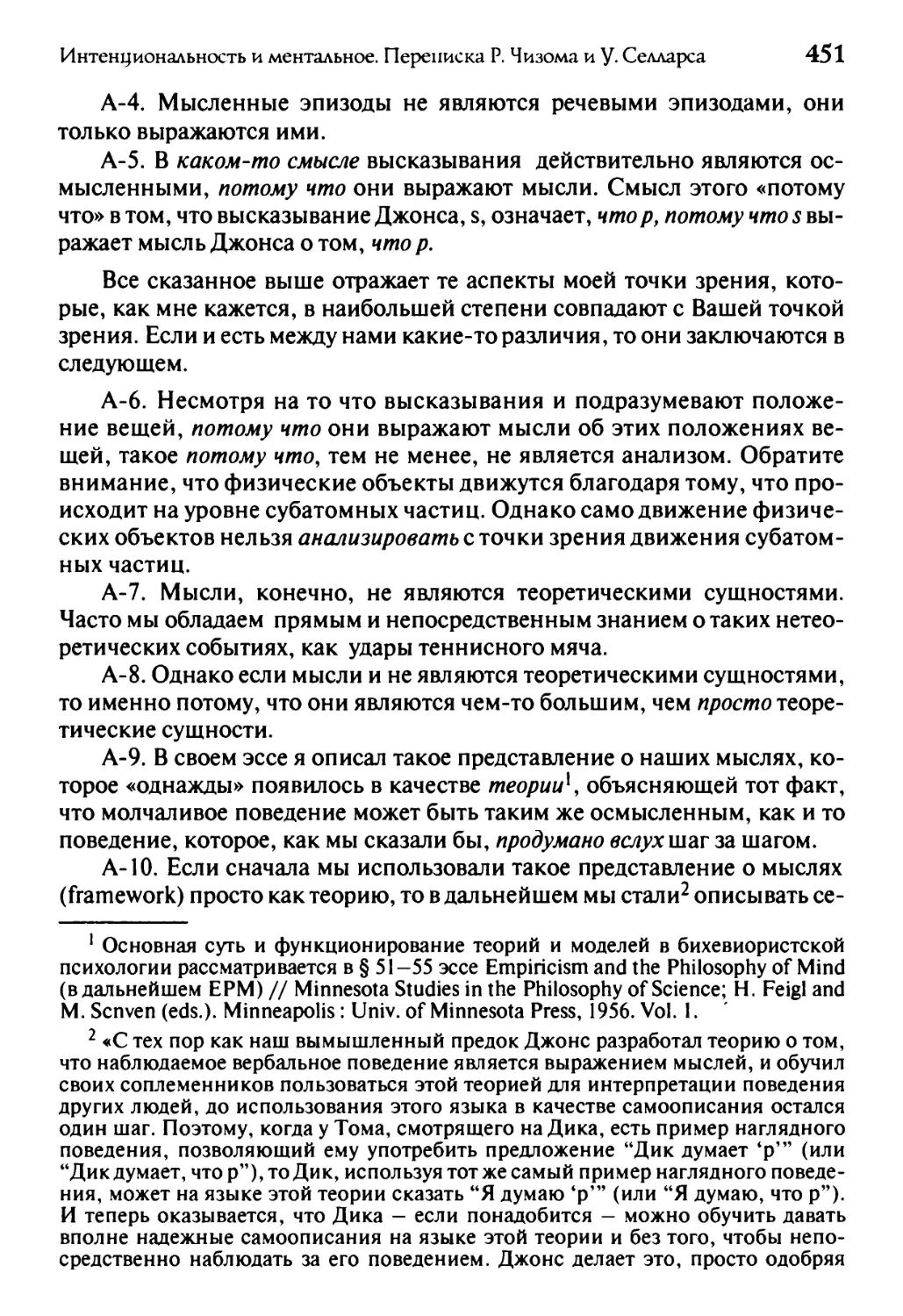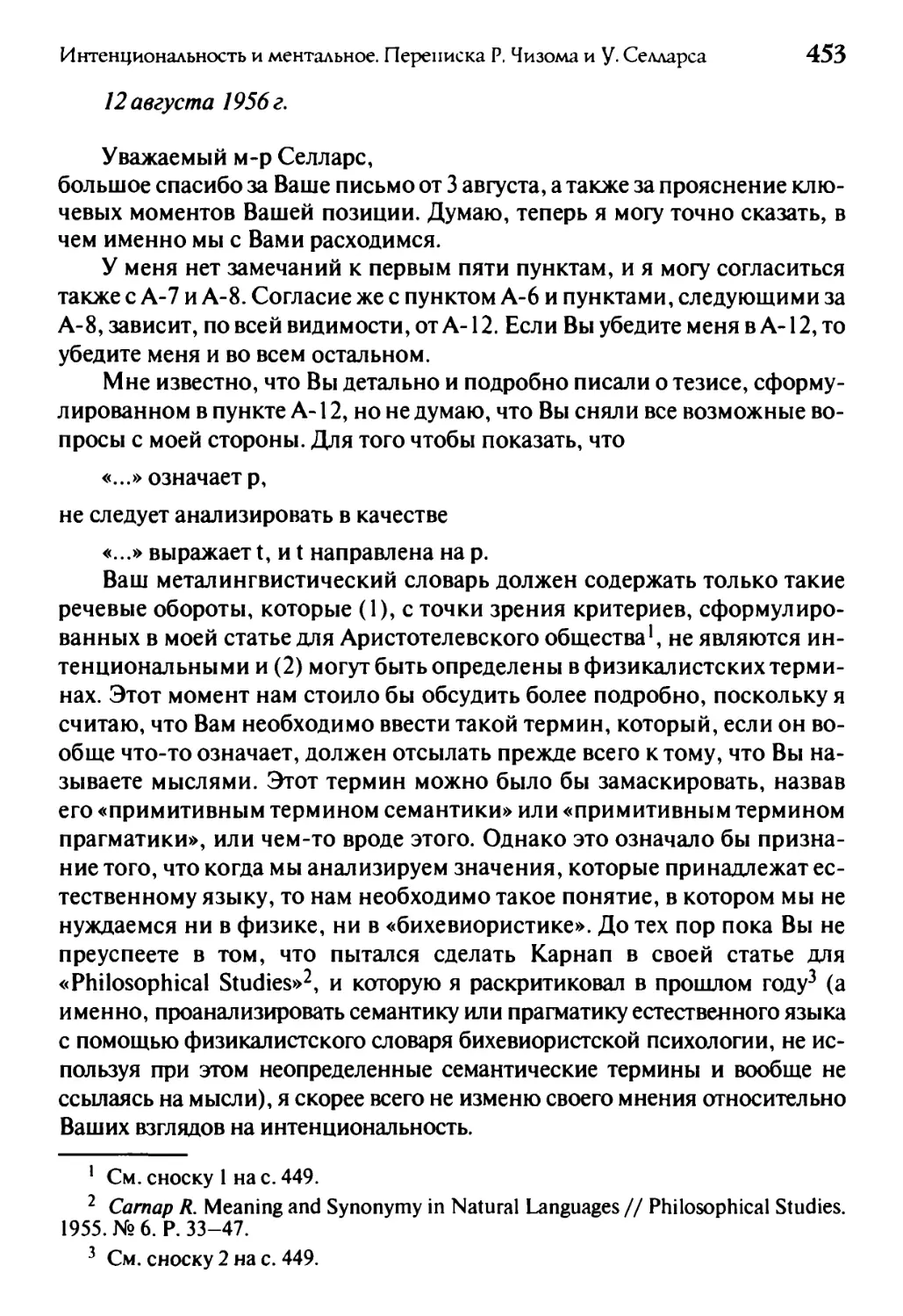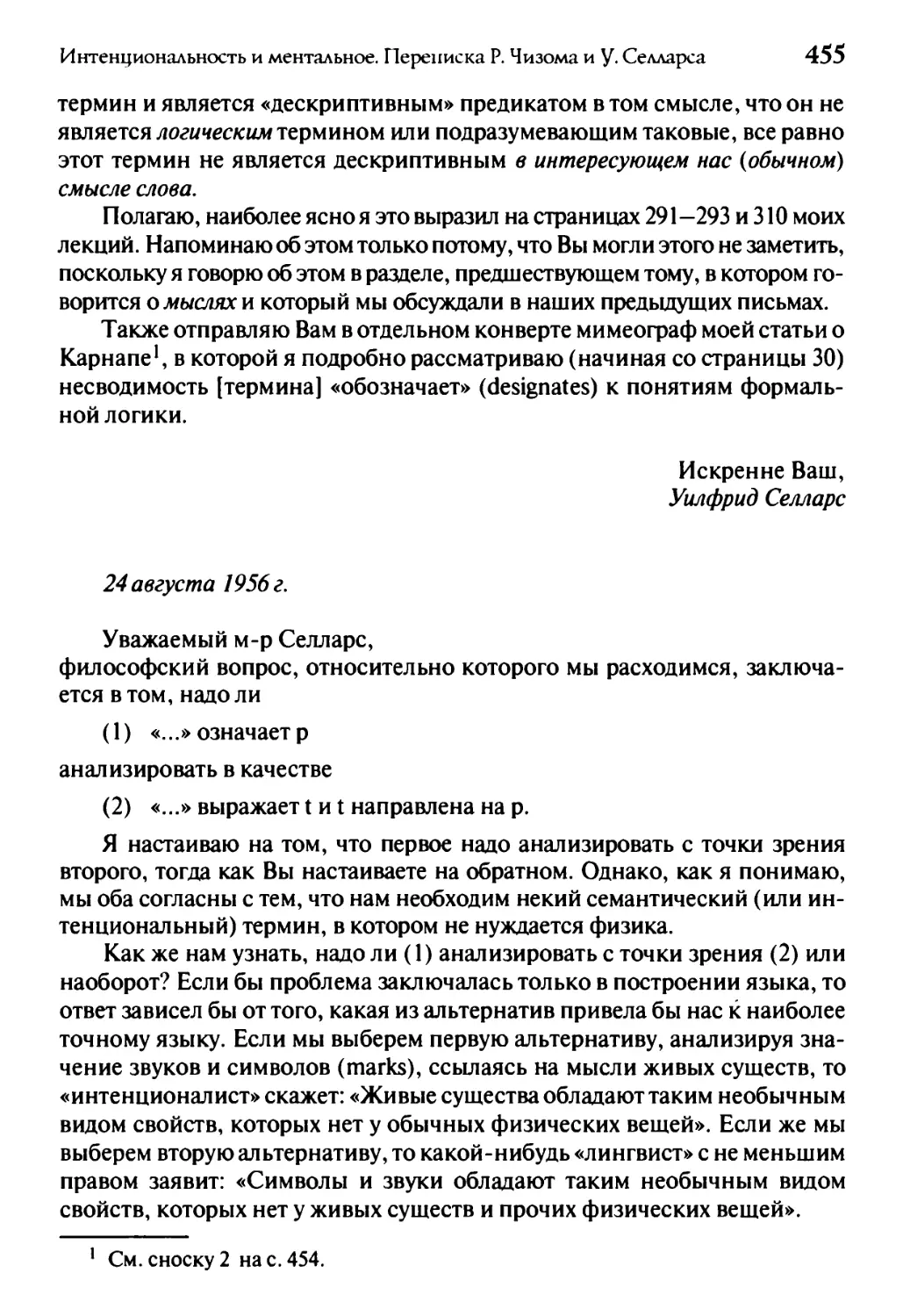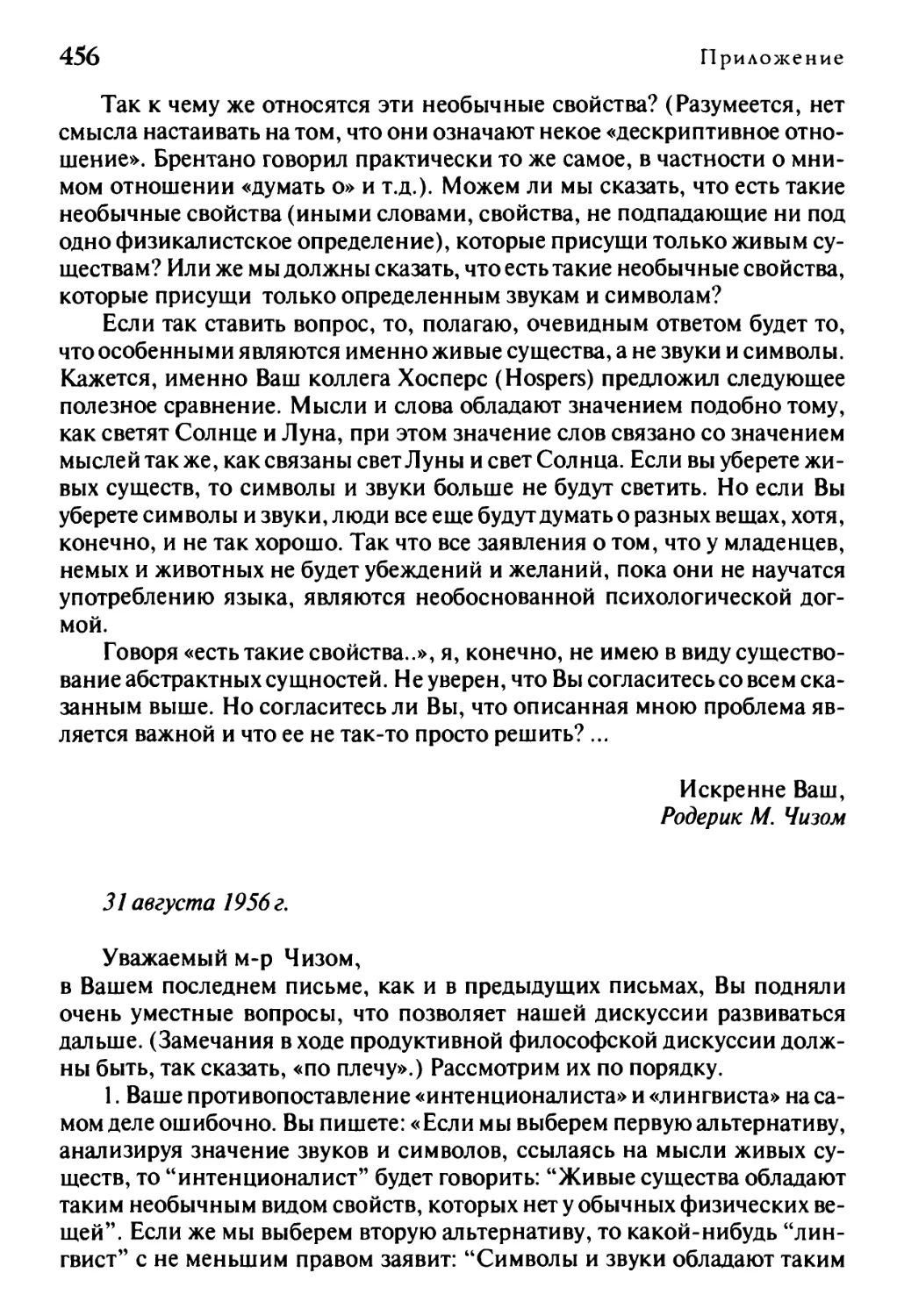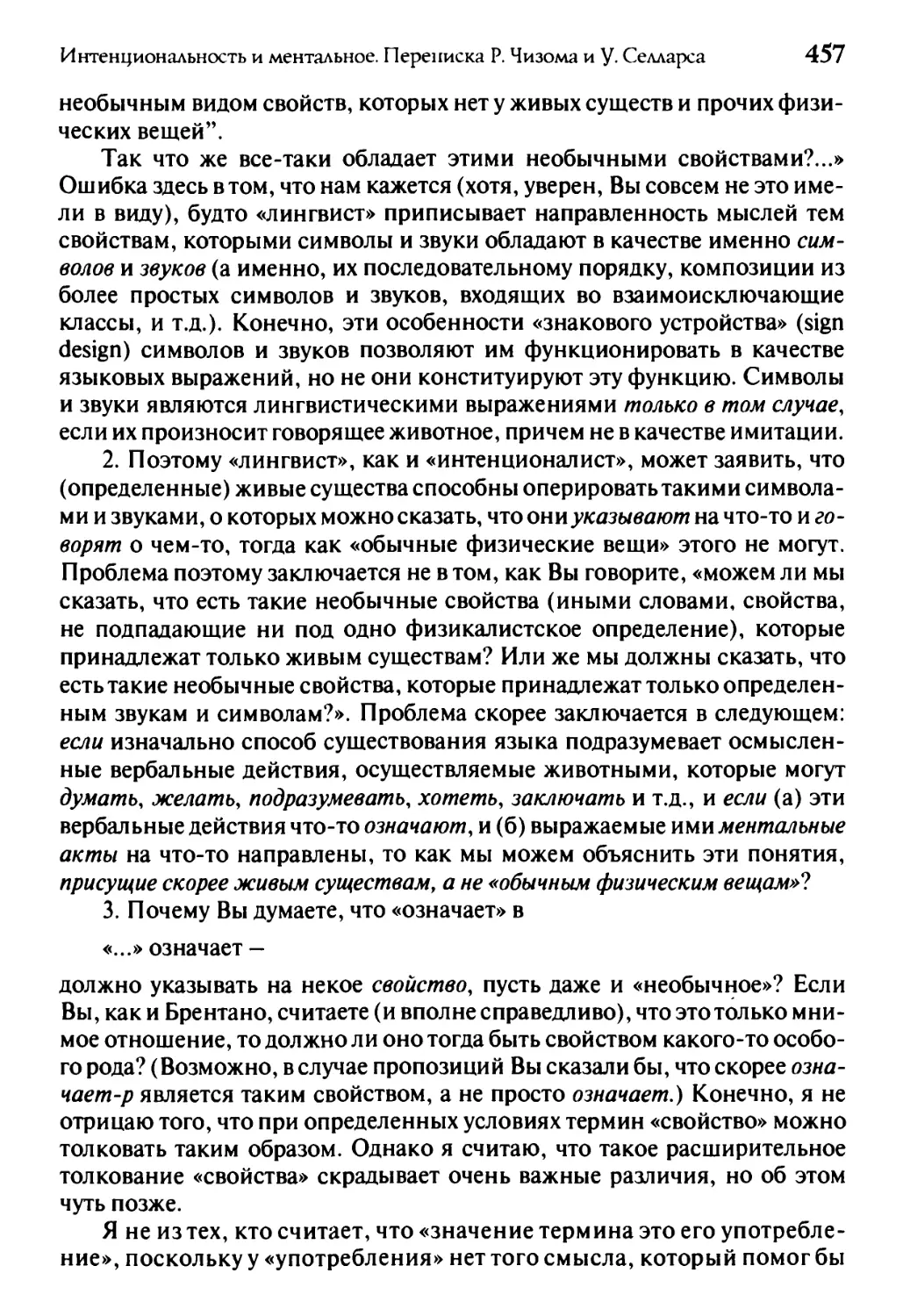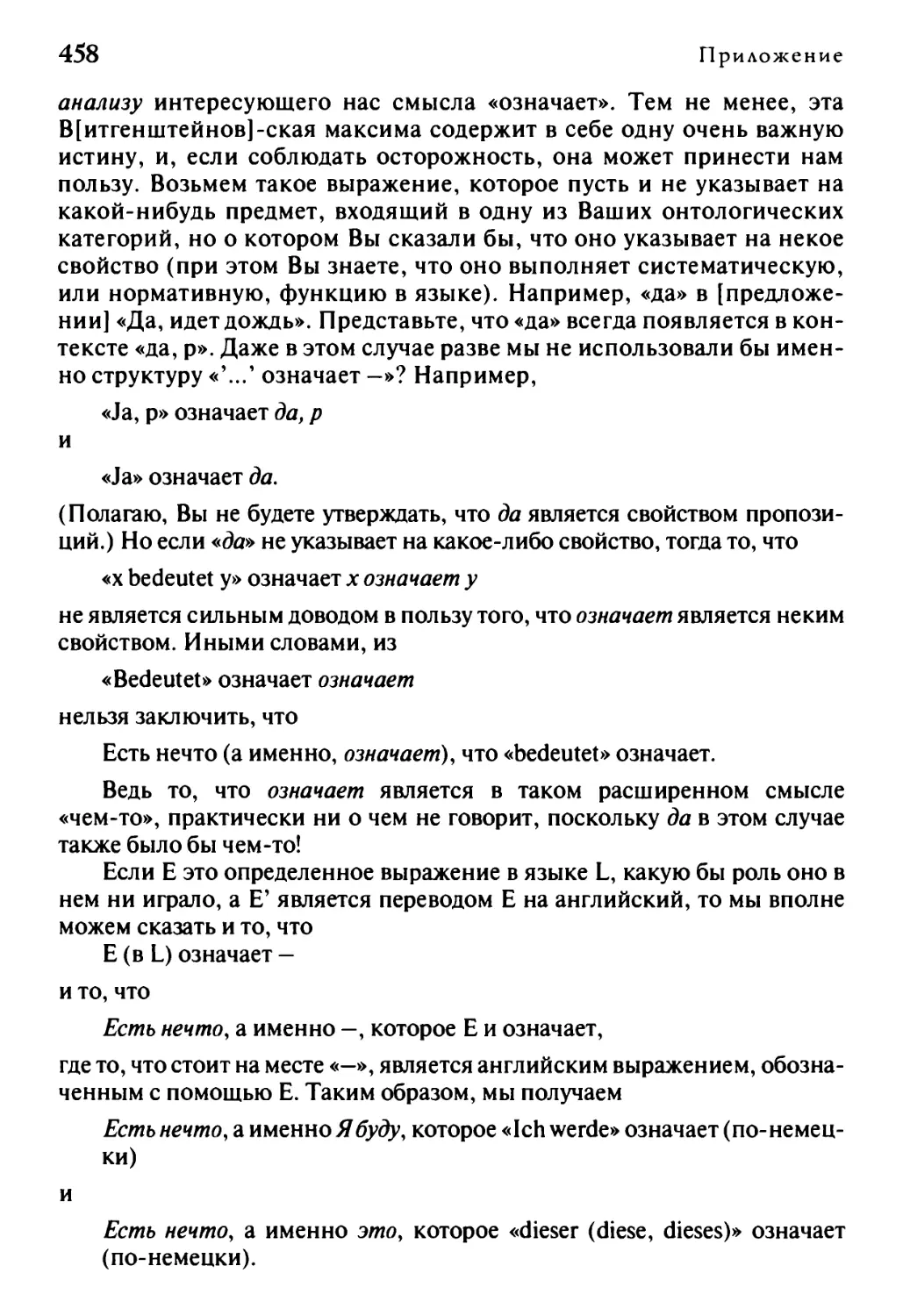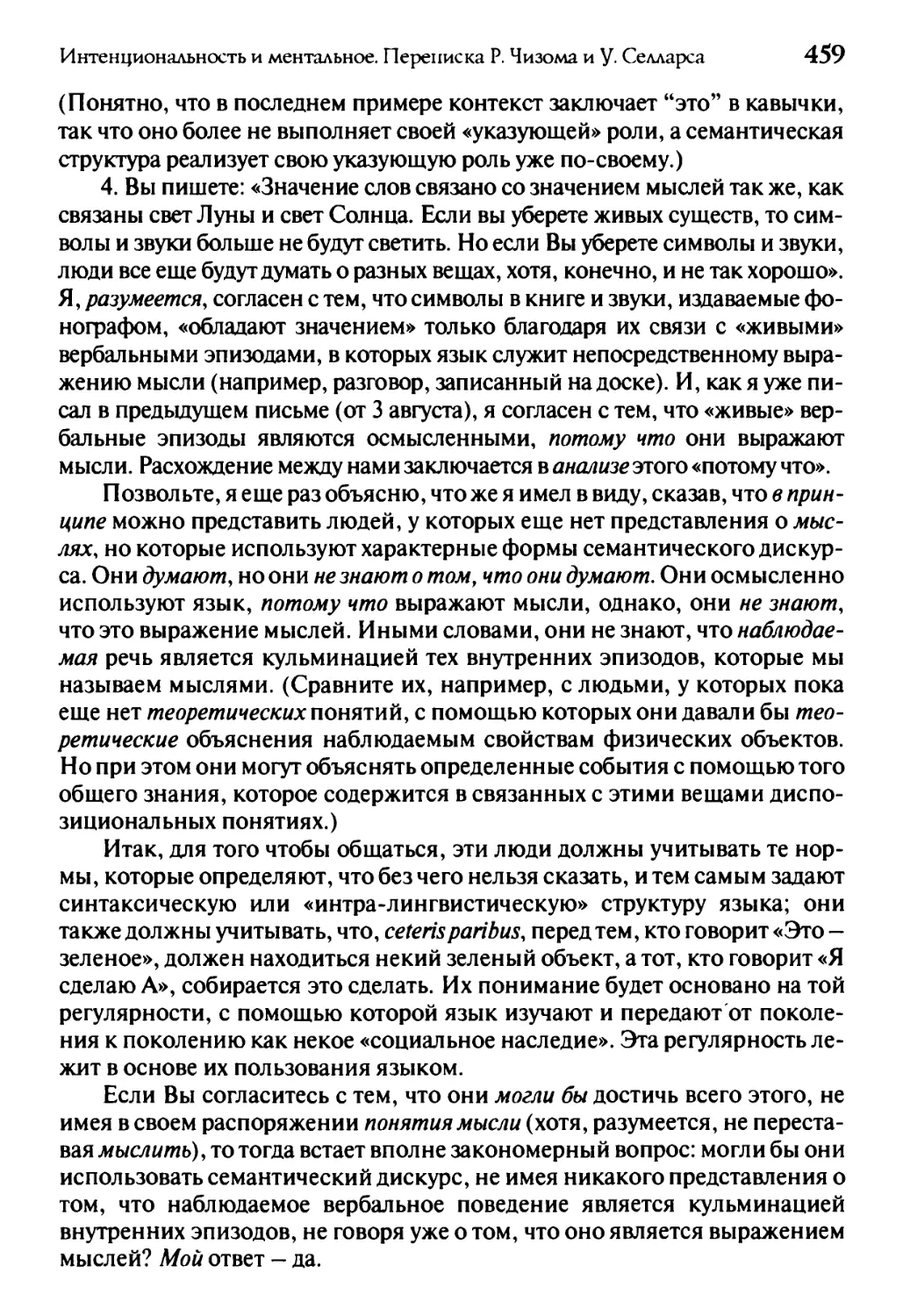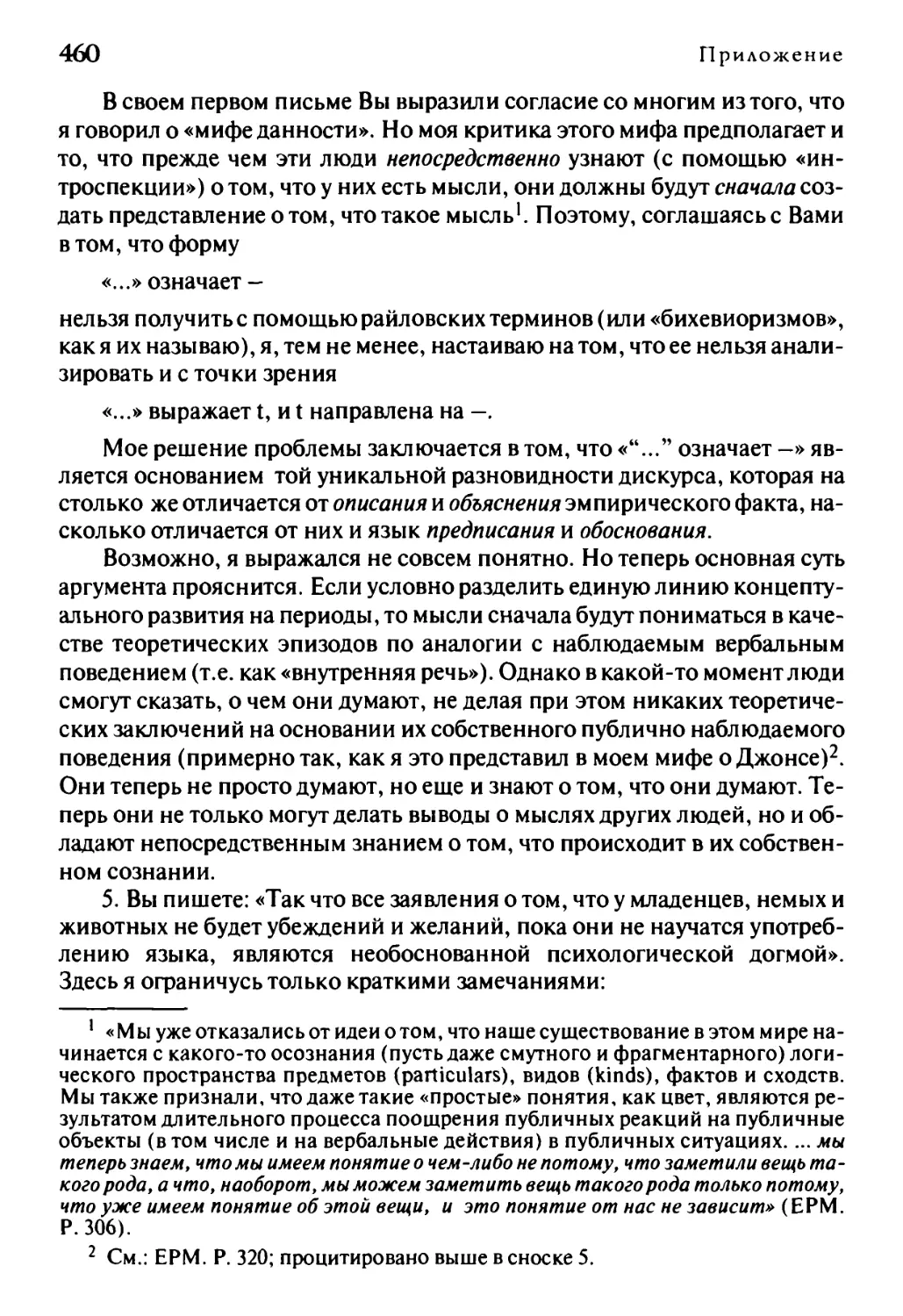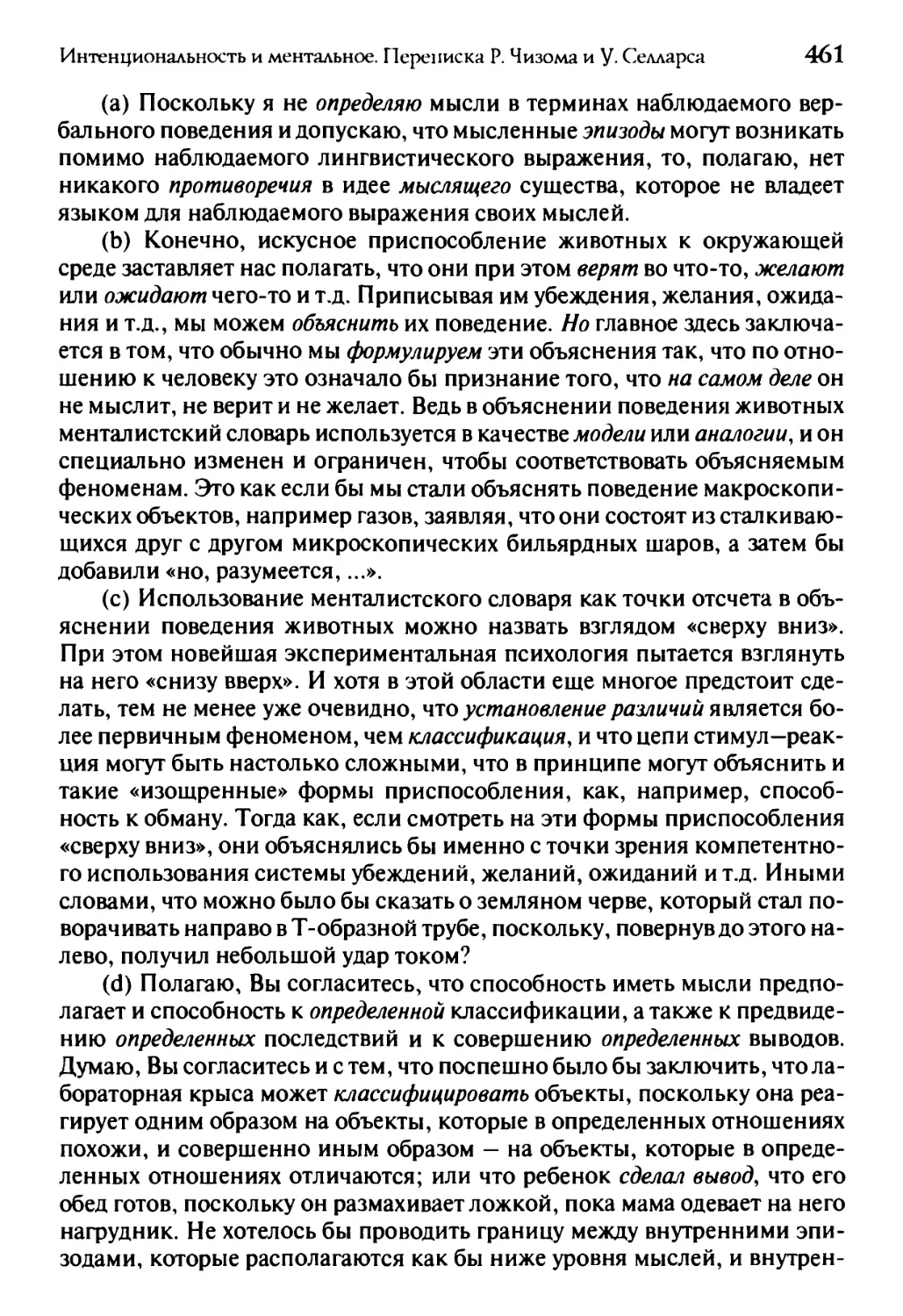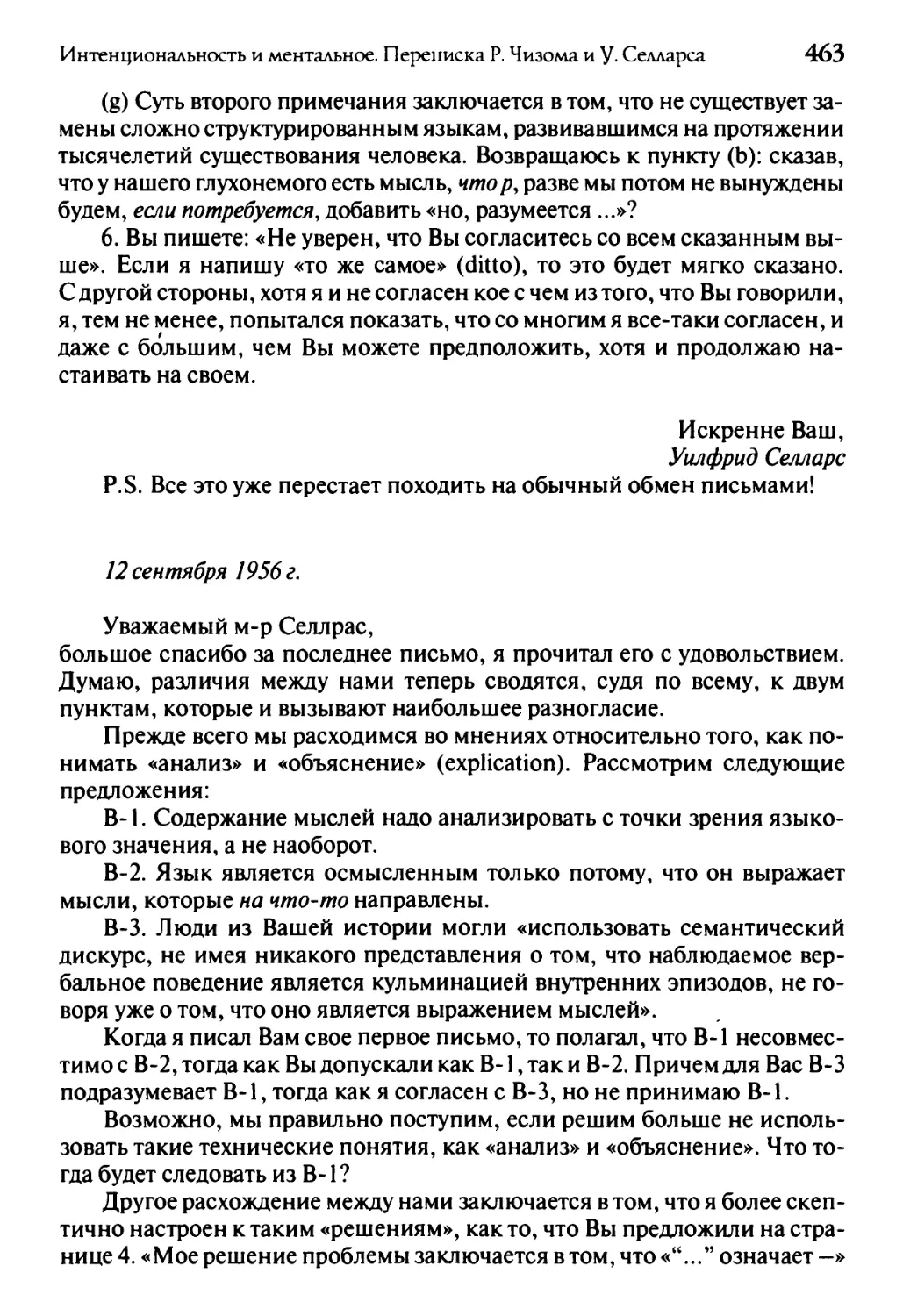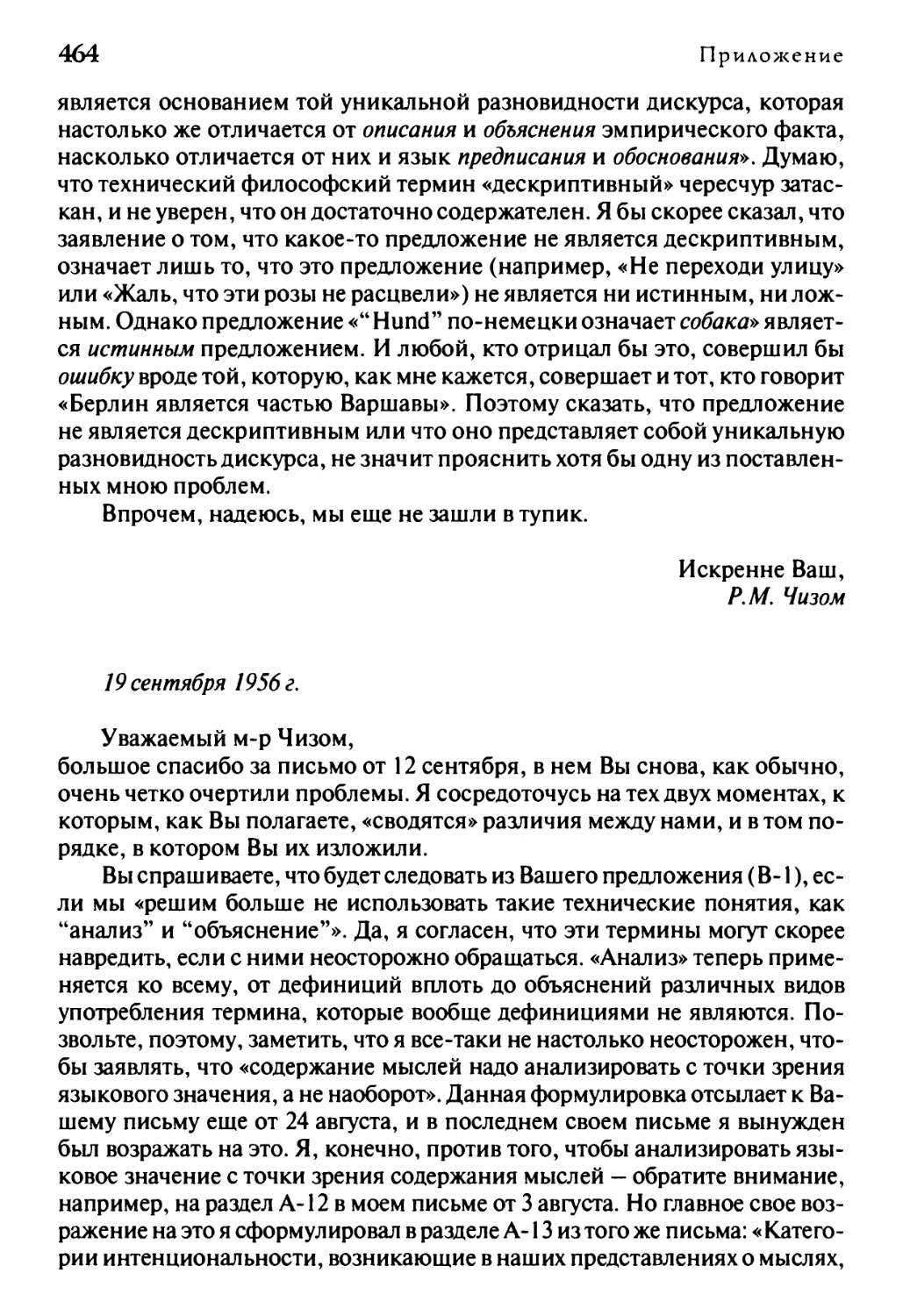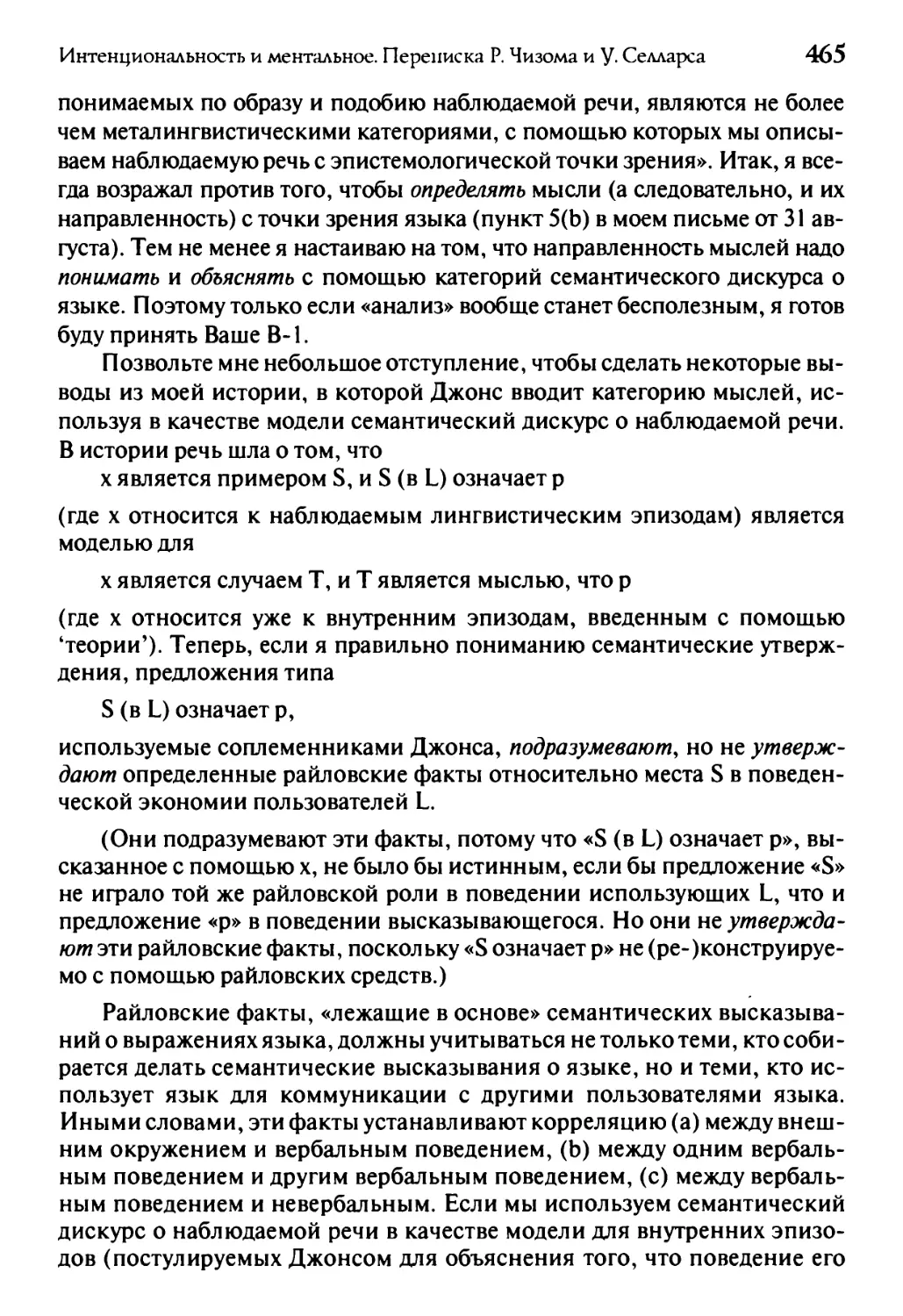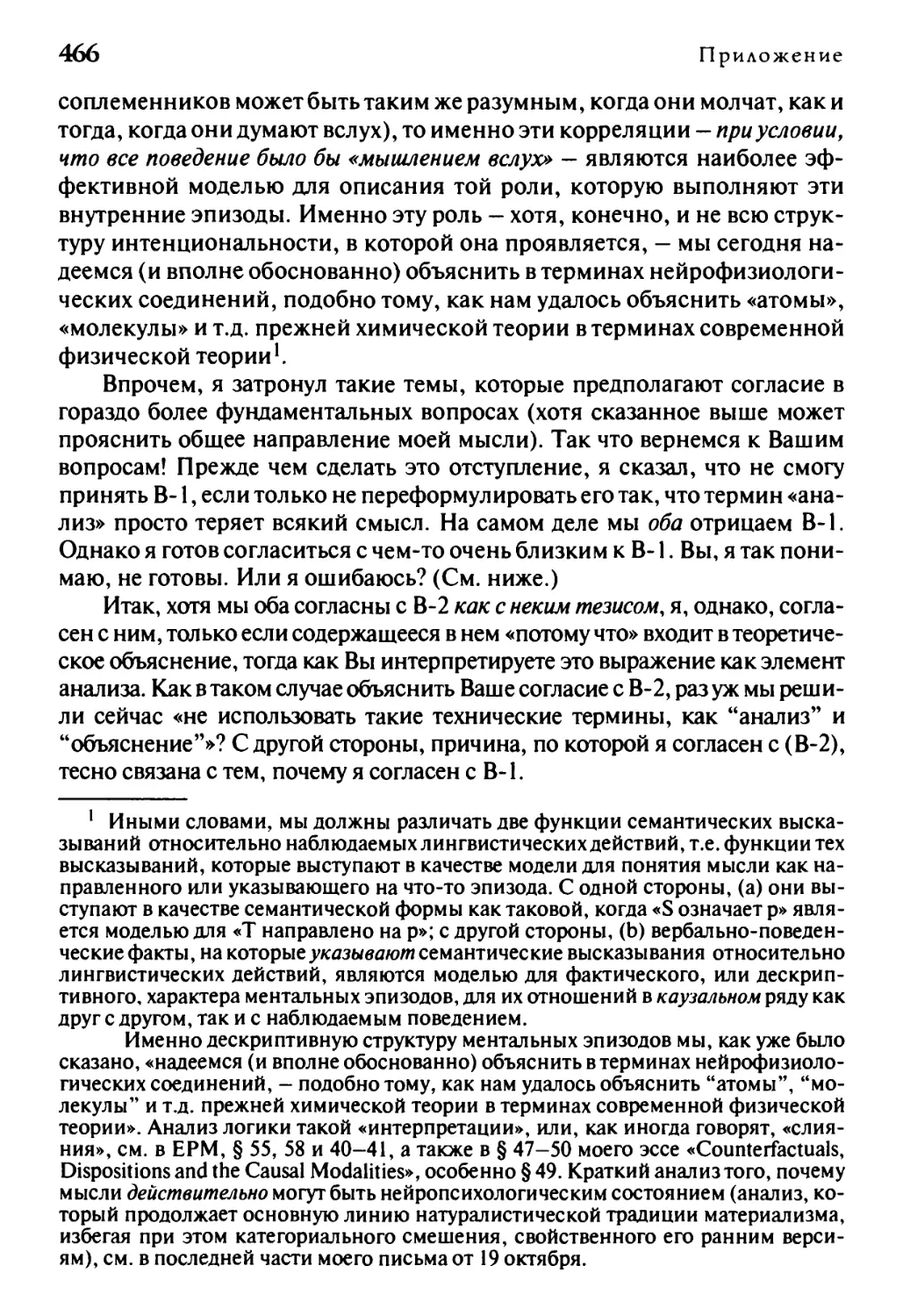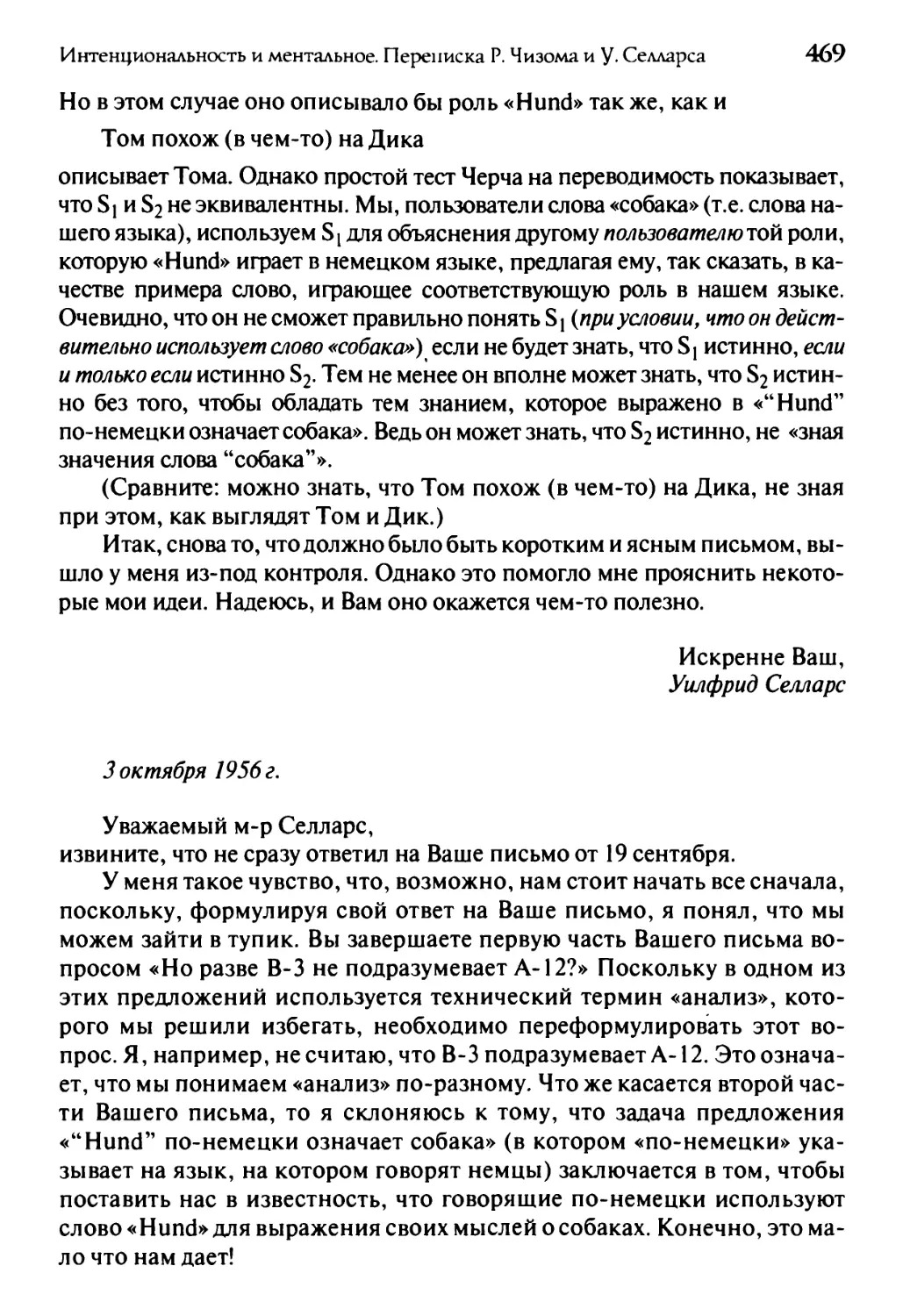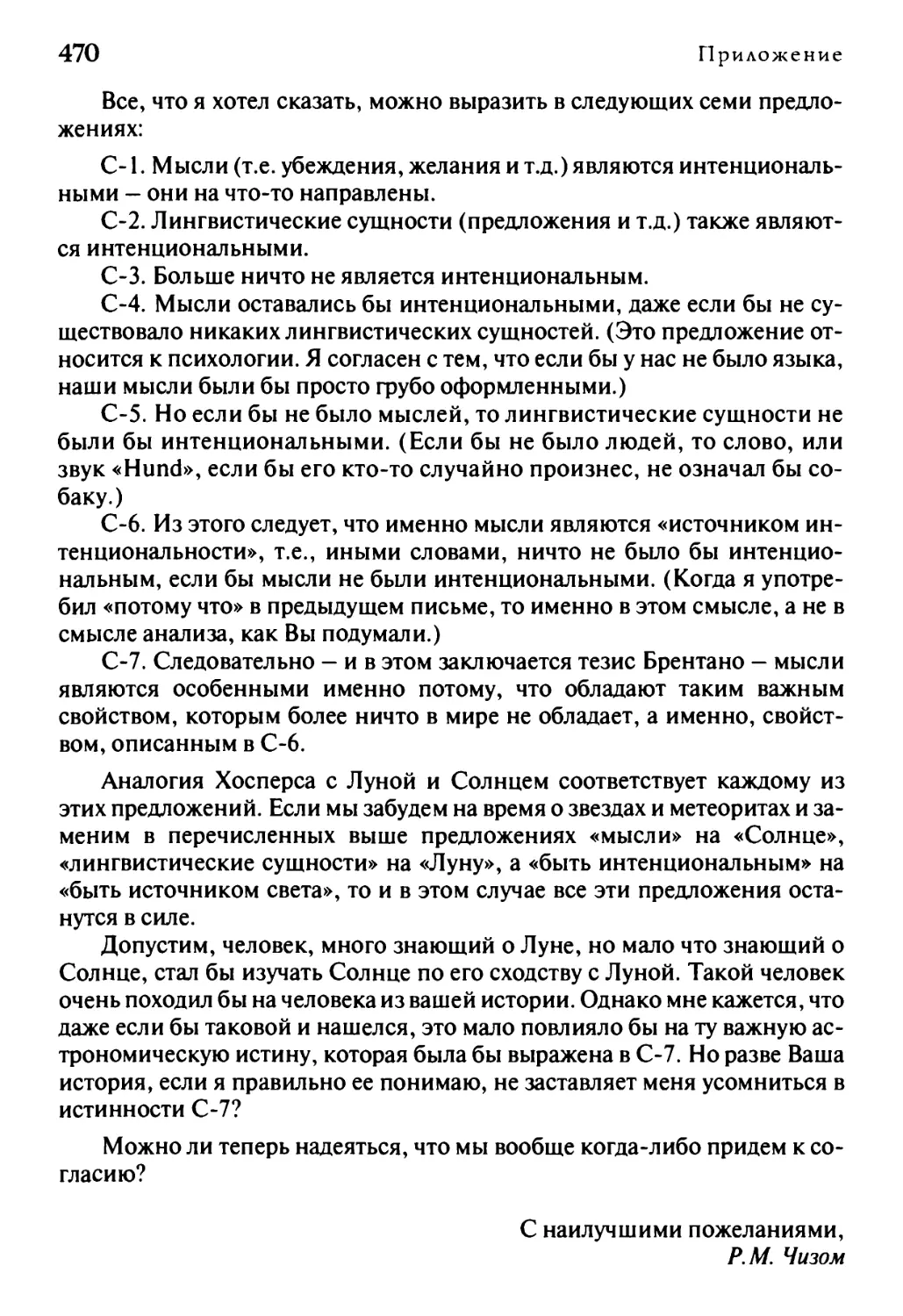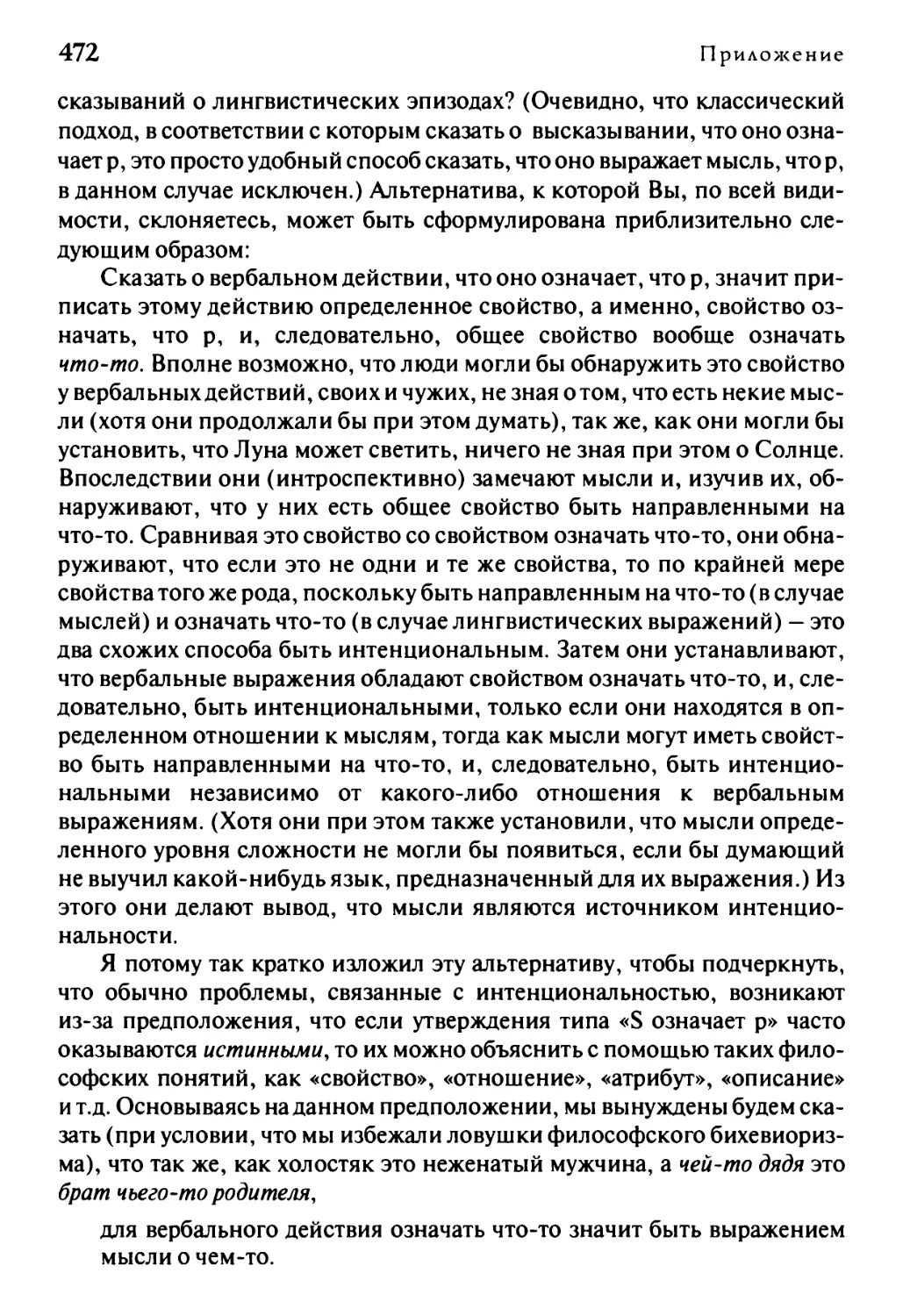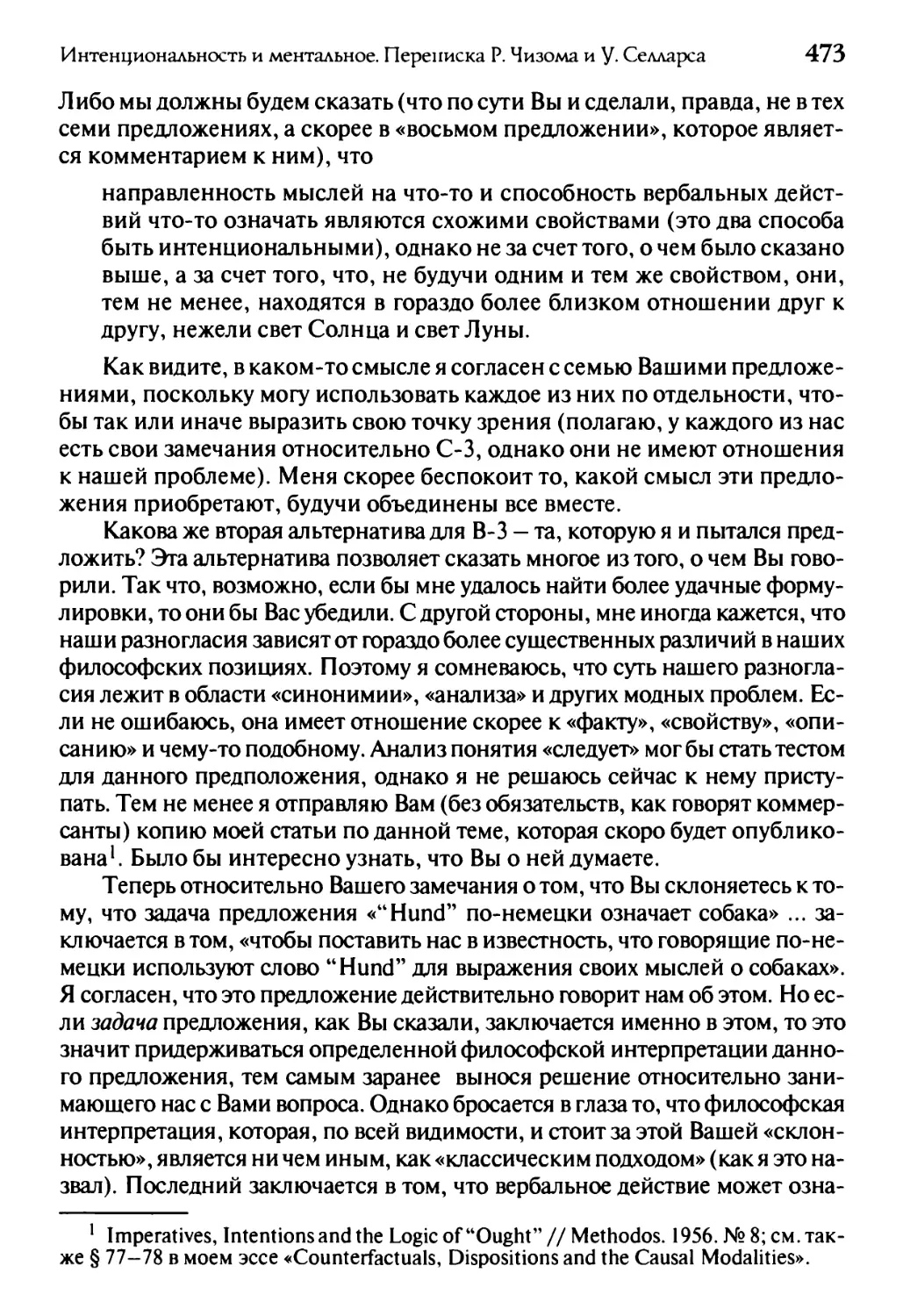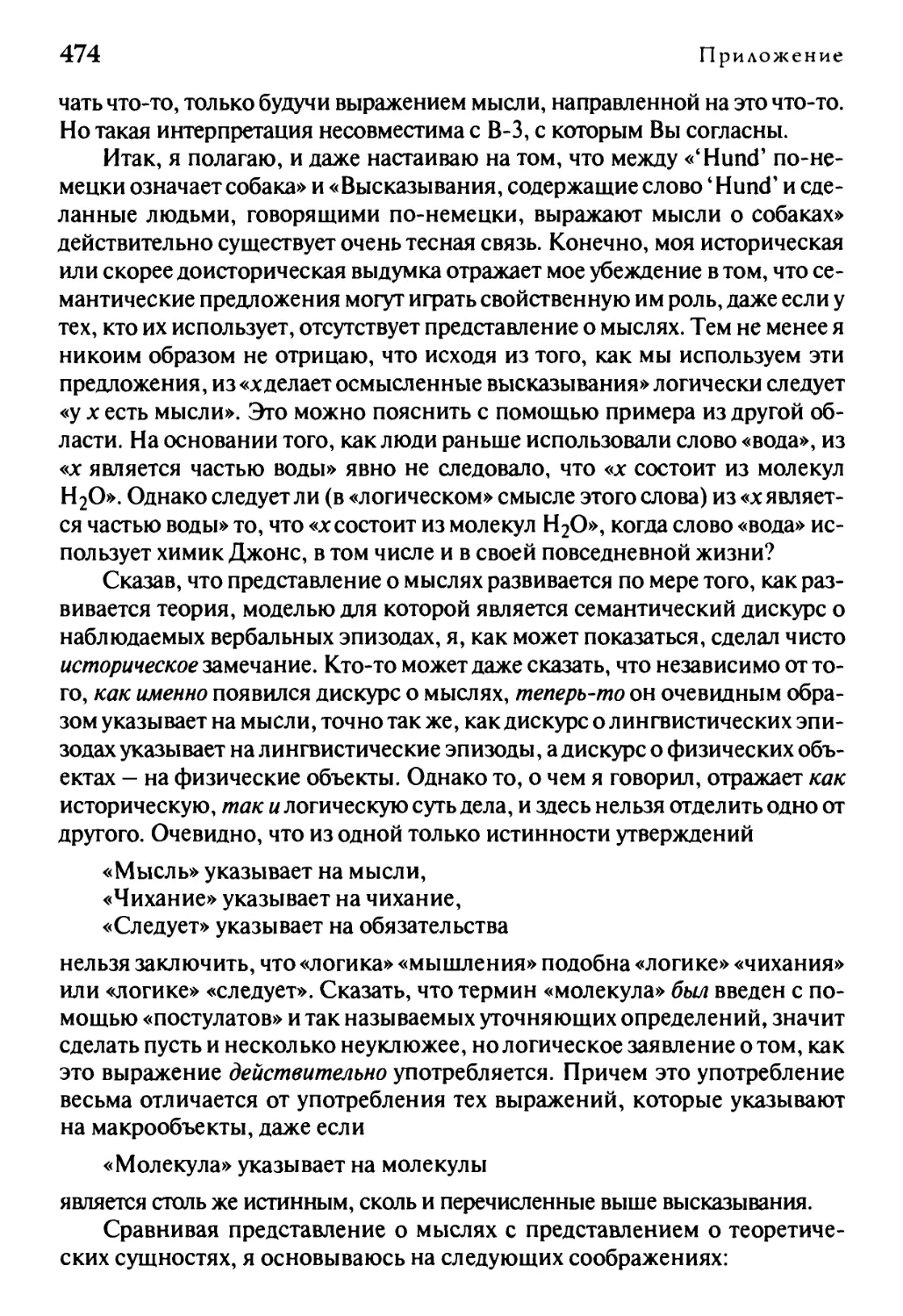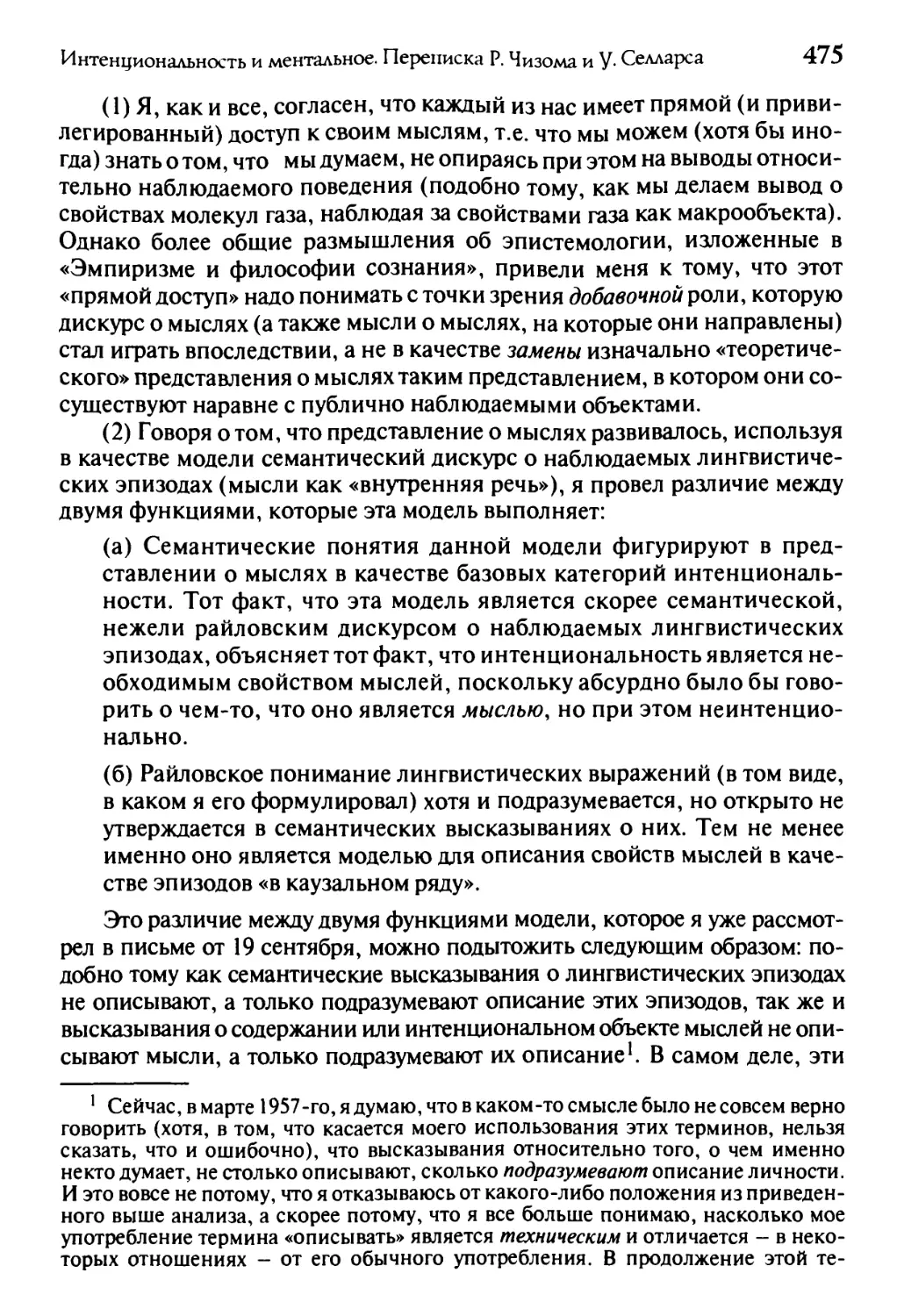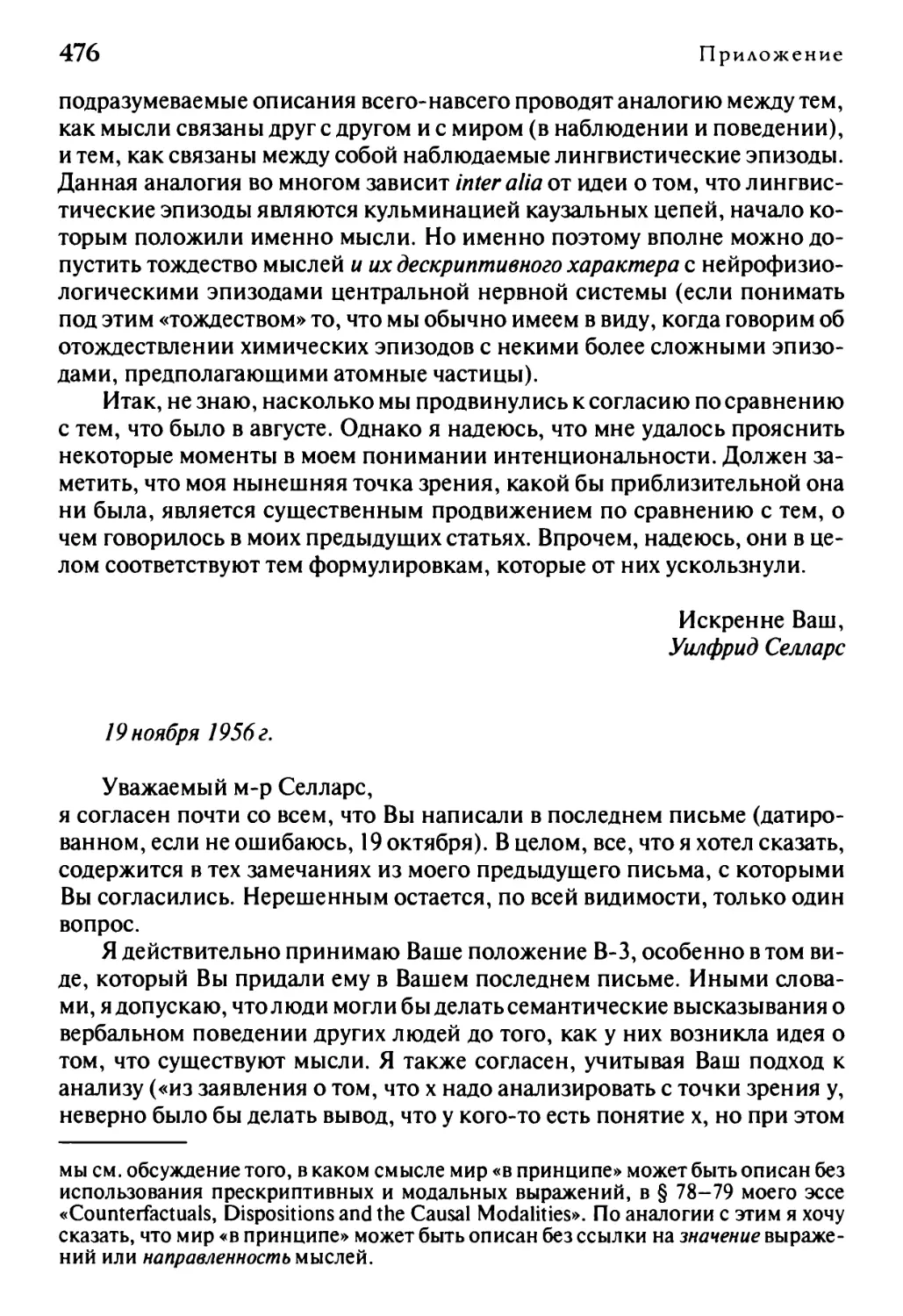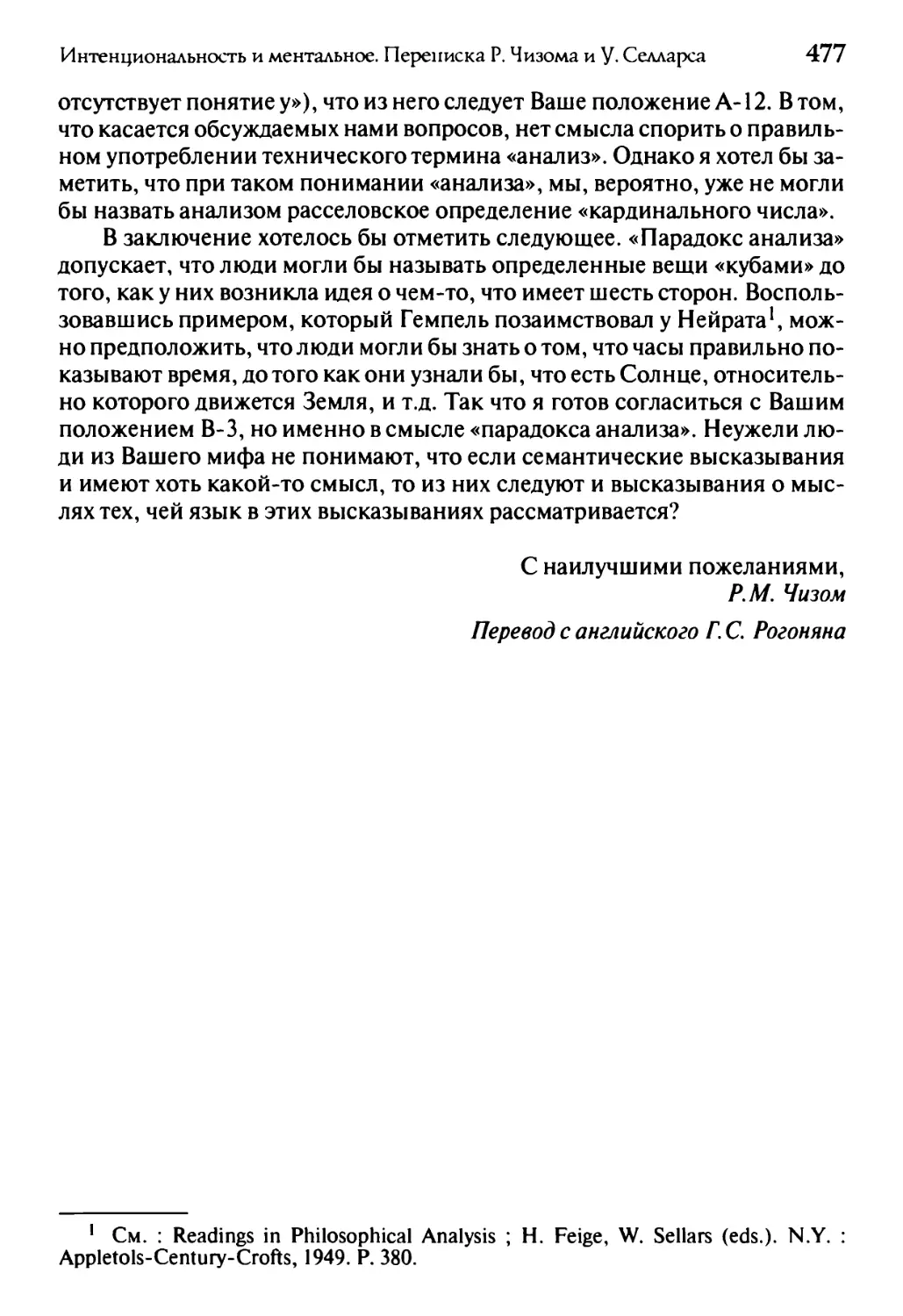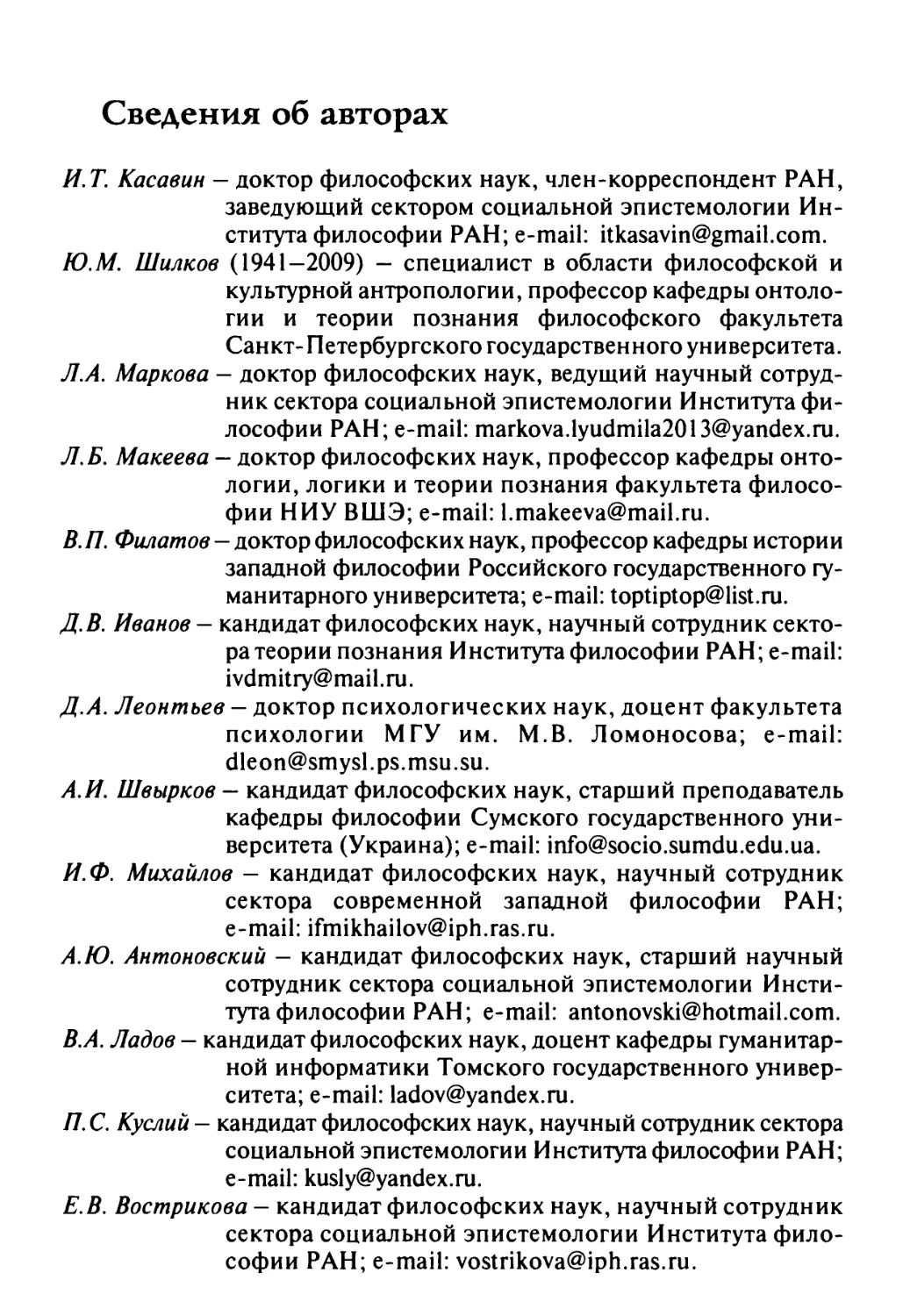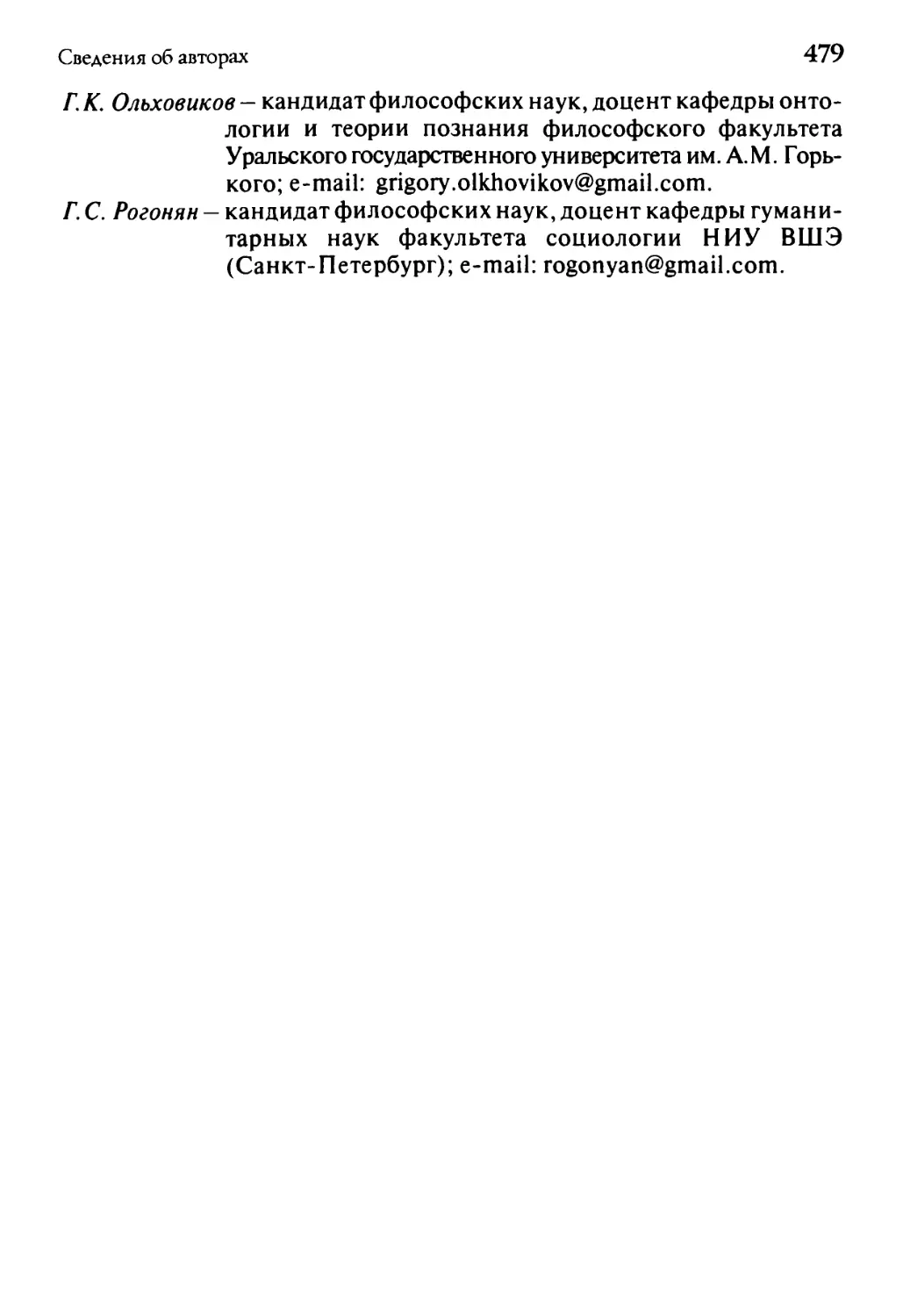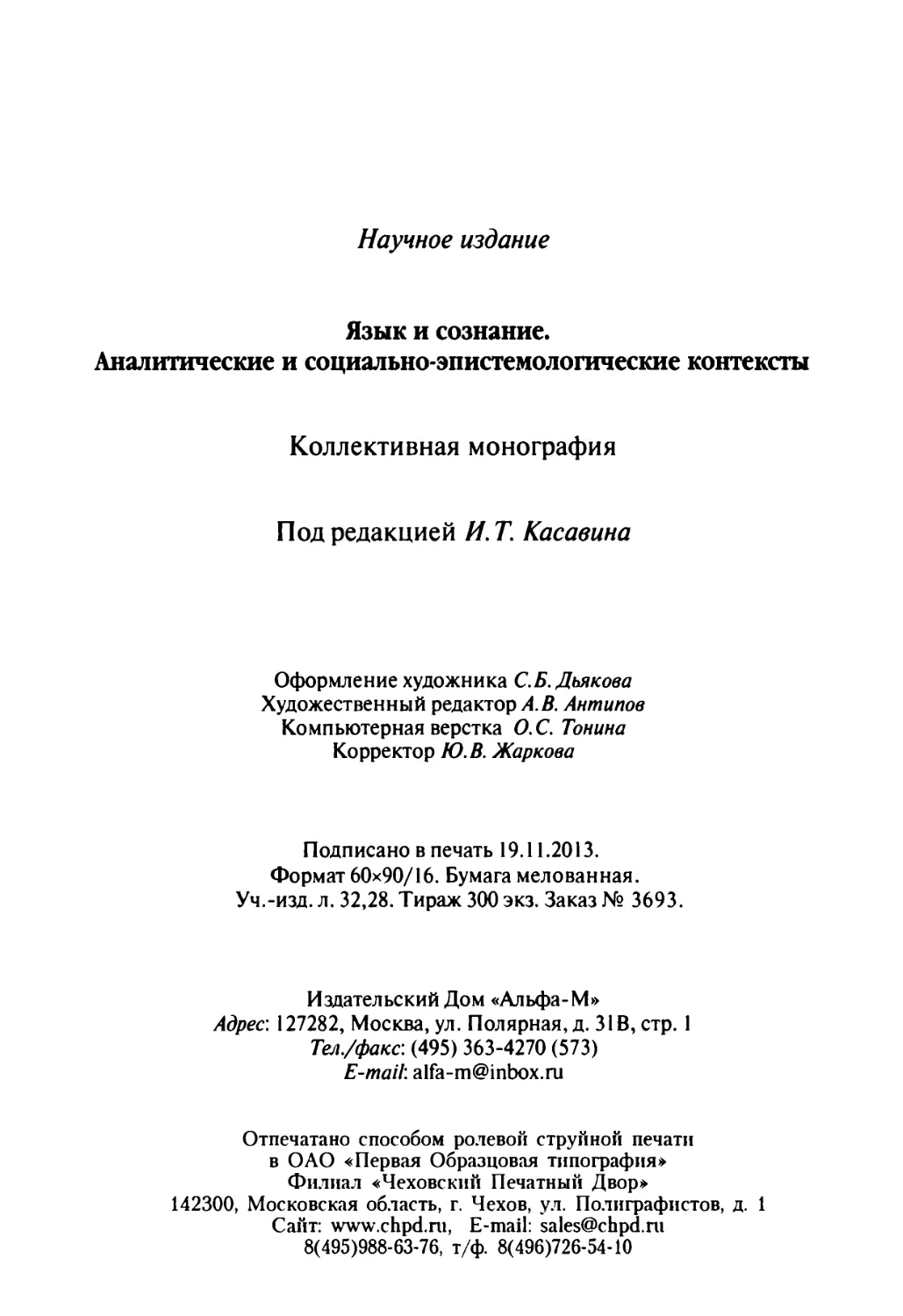Автор: Касавин И.Т.
Теги: философия психология философские науки эпистемология аналитическая философия
ISBN: 978-5-98281-367-1
Год: 2013
Текст
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Язык
и сознание
Аналитические и социально-
эпистемологические контексты
Под редакцией
И. Т. Касавина
МОСКВА • АЛЬФА-М • 2013
Язык и сознание. Аналитические и
социально-эпистемологические контексты ; под ред. И.Т. Касавина. - М. : Аль-
фа-М, 2013. -480 с. - (Библиотека журнала «Эпистемология
и философия науки»).
ISBN 978-5-98281-367-1
Статьи, собранные в настоящей книге, охватывают широкий спектр
проблем, связанных с взаимоотношением между языком и сознанием.
Авторы не замыкаются на обсуждении языка и сознания исключительно
в рамках аналитической философии. Понимать философию языка в
узком смысле как ограниченную некоторыми школами современной
аналитической или постмодернистской традиции было бы сужением
теоретической перспективы. В книге обсуждаются общие методологические
проблемы исследования языка и сознания в рамках неклассической
науки и философии, роль социальных факторов в формировании значения,
проблема сознания и тела в философии и психологии, гипотеза
искусственного интеллекта, понимание значения и сознания в рамках теории
коммуникации.
Для исследователей в области эпистемологии и философии языка и
сознания, аспирантов и студентов гуманитарных направлений подготовки.
The papers collected in this volume cover a wide range of issues related to
the relation between language and mind. The authors are not confined to the
discussion of language and mind within the analytical tradition only.
Understanding philosophy as limited with some school would lead to narrowing the
theoretical perspective. The papers discuss general methodological problems of
study of language and mind in the non-classical science and philosophy,
discourse analysis, internalism and externalisms about meaning and mental
content, mind-body problem in philosophy and psychology, philosophy of artificial
intelligence, the concepts of meaning and mind in communication theory.
The book will be interesting for researchers in epistemology and
philosophy of language and mind, and students in the humanities.
© Институт философии РАН, 2013
© «Альфа-M». Оформление, 2013
ISBN 978-5-98281-367-1
Содержание
И. Т. Касавин, E.B. Вострикова • Введение. Познание и язык 7
РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И СОЗНАНИЕ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 15
Ю.М. Шишков • Язык, сознание, мозг: когнитивистская
парадигма 15
И. Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода.
Истоки современного дискурс-анализа 24
Л.А. Маркова • Нелогические основания научного мышления . ... 61
Л. Б. Макеева • Как звуки становятся речью? 78
В. П. Филатов • Методология социально-гуманитарных наук
и проблема «другого сознания» 94
РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ ПСИХОЛОГИИ 105
И. Т. Касавин • Сознание: между Хиггинсом и Франкенштейном ... 105
И. Т. Касавин • Проблема сознания в психосемантике 117
Д.В. Иванов • Функционализм: метафизика без онтологии 131
Д.В. Иванов • Функционализм и инверсия спектра 149
Д.А. Леонтьев • Что дает психологии понятие субъекта:
субъектность как измерение личности 167
А. И. Швырков • Проблема искусственного интеллекта:
возможности методологического подхода 186
И.Ф. Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент
в споре о сознании 198
РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК, СОЗНАНИЕ И СОЦИУМ 217
А.Ю. Антоновский • К системно-коммуникативной интерпретации
языковых технологий. Язык и письменность . . 217
6 Содержание
Л.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации
и сознания: Бурдье vs Луман 238
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений
сознания и коммуникации 264
РАЗДЕЛ 4. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЯЗЫКУ
И СОЗНАНИЮ 295
В.А. Ладов • Иллюзия значения 295
П. С. Куслий, Е.В. Вострикова • Язык как социальный феномен:
лингвистическая относительность, конвенции,
речевые акты 313
Е.В. Вострикова • Загадка Фреге 336
Г. К. Ольховиков • Метаязыковые дескрипции и решение
для задачи Крипке 351
ПРИЛОЖЕНИЕ 365
Дж. Клагге • Элиминативизм и сознание 365
Р. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа 374
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках . . . 394
Г. С. Рогонян • Интенциональность и язык: тезис Брентано
или миф о Джонсе 433
Интенциональность и ментальное.
Переписка Р. Чизома и У. Селларса
об интенциональности 449
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 478
И.Т. Касавин, Е.В. Воаприкова
Введение. Познание и язык
Формирование неклассической эпистемологии
характеризуется ориентацией на опыт гуманитарных наук в отличие от
эпистемологической классики, выраставшей на осмыслении
естественно-научного знания. Последние 30 лет внимание философов
фокусируется на теме «Познание и язык», которая грозит даже
поглотить собой всю эпистемологическую проблематику.
Заслуживает сожаления, что при этом философский дискурс нередко
строится почти исключительно вокруг трудов постмодернистских
или аналитических авторов и не обращается к исходной
предметности, представленной в специальных науках о языке. Нелишне
напомнить, что лингвофилософские понятия и проблемы, из
которых вырастал, в частности, постмодернизм в процессе
лингвистического поворота, формулируются, по-видимому, в весьма узком
тематическом поле и только затем получают обобщенное
истолкование в контексте традиционных философских дискуссий о
природе субъекта познания, механизмах сознания и познания, сущности
культуры. Это в полной мере относится к достаточно специальным
понятиям «дискурс», «текст» и «контекст», которые сегодня
активно вводятся в собственно философско-эпистемологический
оборот. Трансформация предметного поля и методологического
инструментария классической теории познания, формирование
неклассических подходов в эпистемологии выступают необходимым
фоном подобного рода процессов1.
Полюса философии языка представлены в аналитической и
постмодернистской концепциях. Так, Дж. Сёрл, продолжая традицию,
восходящую к Б. Расселу, при анализе понятия значения фактически
сохраняет элементы субстанциалистского, или абсолютистского,
1 Осмысление современного естествознания, впрочем, также может
осуществляться с неклассических позиций, однако это требует критического отношения к
некоторым устоявшимся положениям классической эпистемологии. См.: Касавин И. Т.
Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб.,
1999; Степин B.C. Теоретическое знание. М., 2000; Лекторский В.А.
Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001; Микешина JI.A. Философия
познания. Полемические главы. М., 2002; Sandkühler HJ. Die Wirklichkeit des Wissens.
Frankfurt a/M, 1991; Poser H. Wissenschaftstheorie. Eine philosophische Einführung.
Stuttgart, Philipp Reclam, 2001.
8
И.Т. Касавин, Е.В. Востприкова • Введение. Познание и язык
взгляда на язык. Он разбивает процесс использования языка для
обозначения предметов внешнего мира на две стадии - первичного
произвольного определения терминов («кошка» и «когти») и
конструирования из них предложения («у кошки есть когти»), которое
находится в определенном соответствии с реальностью. «Как только мы
зафиксировали значение таких терминов в нашем словаре с помощью
произвольных дефиниций, вопрос о том, удовлетворяют ли этим
дефинициям независимые от интерпретации свойства мира, утрачивает
всякую релятивность или произвольность, поскольку свойства мира,
которые соответствуют или не соответствуют дефинициям,
существуют независимо от них... это уже просто абсолютное, самодостаточное
(intrinsic), независимое от сознания положение дел»1. Однако
выделяемые Сёрлом стадии в реальности не могут быть изолированы друг
от друга, это чересчур сильная абстракция. Определение понятий и их
использование в естественном языке находятся в нерасторжимом
единстве. Переопределение понятий происходит постоянно в новых
ситуациях использования, а прошлые ситуации не детерминируют
смысл слова однозначно применительно к будущим ситуациям. И
даже история науки дает достаточно примеров «дрейфа значений»,
который не может быть спрогнозирован и заранее учтен. «Идея
значений, фиксированных еще до их актуального применения, есть миф,
внутренне присущий теории Сёрла, - отмечает Д. Блур. - Здесь
тайны абсолюта тончайшим образом встраиваются в изложение. Здесь
обнаруживает себя метафизическая, а вовсе не натуралистическая
концепция значения»2.
И напротив, крайний вариант лингвистического
функционализма мы находим у Жака Деррида в его понятия «écriture»3
(письменности, письма). Это нечто вроде квазитрансцендентальной
метафоры, которая вмещает в себя язык, все знаковые порядки и
артикулирует все формы коммуникации и весь опыт бытия. Как
представляется, тем самым происходит переворачивание реальной
ситуации в угоду желанной простоте лингвистического описания.
На фоне этого понятия все факторы, выделяемые традиционными
теориями контекста (в первую очередь X. Г. Гадамера и Дж. Остина)
и детерминирующие смысл и понимание, объявляются недейст-
1 SearleJ. The Construction of Social Reality. L., 1995. P. 166.
2 Bloor D. Epistemic Grace: Antirelativism as Theology in Disguise // Common
Knowledge, 2007. Vol. 13, № 2-3. P. 28.
3 DerridaJ. Marges de la philosophic P., 1972. P. 365-393; DerridaJ. Guter Wille zur
Macht (I). Text und Interpretation ; Forget P. (Hrsg.). München, 1984. S. 57.
И.Т. Касавин, Е.В. Ъостприкова • Введение. Познание и язык
9
вительными, а к ним относятся коммуницирующие субъекты,
используемые ими средства выражения и ситуация, в которой
разворачивается коммуникация. Тем самым онтологические,
гносеологические и лингвистические дихотомии нивелируются и
проецируются в одну плоскость. Язык и референт, субъект и объект, код и
послание не располагаются в разных измерениях, а включаются в
«бесконечную игру дифференций», в которой весь мир становится
текстом. Будучи включены в эту игру, текст и контекст постоянно
вступают в новые отношения и корреляции, которые ставят перед
интерпретатором не просто «аппроксимативно решаемую» (Гада-
мер), но в принципе неразрешимую задачу. Не герменевтическая
«предварительность понимания», а радикальный контекстуализм,
бесконечный регресс интерпретации - вот теоретический итог
рассуждений Деррида.
Однако подлинная тайна аналитической философии языка и
постмодернизма состоит в том, что такого рода рассуждения не
бессмысленны, по мнению многих критиков, оценивающих сами
проблемы и исходные пункты этих дискурсов как вообще
малозначимые. Ведь их неоспоримым позитивным результатом является
именно резкая поляризация методологических позиций, которая делает
возможной панорамную прозрачность ситуации. Благодаря этому
выясняется, что язык в форме текста никогда не поглощает
окончательно внеязыковые контексты, хотя потенциально способен делать
это все с большей полнотой, всякий раз обнаруживая за своими
пределами расширяющееся пространство бытия. Не сходным ли образом
разворачивается и процесс познания в целом?
В гуманитарных науках трудно обнаружить парадигмы в смысле
Т. Куна. И все же едва ли можно отрицать глобальное значение для
теории и философии языка двух концепций, появившихся в начале
XX в. Их авторами были Ф. Соссюр и Г. Фреге (а впоследствии
Л. Витгенштейн), и главные моменты сходства их учений можно
суммировать так. Во-первых, стремление говорить о языке в точных
или даже научных терминах; во-вторых, ориентация на логику как
идеал языка и отказ от психологических и социологических
объяснений; в-третьих, рассмотрение языка как системы, в принципе
разложимой на более простые элементы; в-четвертых, ограничение
всего рассмотрения системой языка как самодостаточной, как
основы для объяснения наличного многообразия языковых феноменов.
Пусть этим далеко не исчерпывается ни «Логико-философский
трактат» Витгенштейна, ни «Курс общей лингвистики» Соссюра,
однако именно данные (и, быть может, еще некоторые немногие)
10
И.T. KacaâuH, E.B. Вострикова • Введение. Познание и язык
положения обеих концепций оказались востребованы в
классической философии языка XX в. В дальнейшем две традиции —
аналитическая и герменевтическая - пытались отвечать с переменным
успехом на ключевые вопросы о соотношении языка и реальности,
смысле, значении и понимании языковых феноменов, актуализируя
наследие Г. Фреге и Ф. Шлейермахера. В лингвистике возникли
новые направления (прагматика, функциональная лингвистика,
лингвистика текста, дискурс-анализ), а аналитическая философия
вслед за поздним Витгенштейном далеко ушла от ригоризма и
панлогизма «Трактата».
Так, Витгенштейн в «Философских исследованиях»
провозглашает самодостаточность языка по отношению к ментальным
состояниям и одновременно его зависимость от деятельности. В
деятельности возникает потребность не только манипулировать с
вещами, но и делать это в синхронной и диахронной координации с
другими людьми. В принципе можно было бы вообще не
употреблять языка, а носить с собой вещи, как делали мудрецы в утопии
Дж. Свифта «Путешествие в Лапуту». Однако это не только
практически трудно, но и вообще не позволяет осуществлять сложные
виды деятельности, предполагающие планирование,
конструирование, изменение вещи по замыслу. В деятельности, дабы в большей
степени овладевать предметами, создавать, использовать и
понимать их, человек стремится к свободе оперирования с вещами и
отношениями, он нуждается в свободе от вещей. Язык — форма
освобождения от мира средствами этого мира, создания искусственных
предметов с заданными свойствами. Для измерения палки нужна
линейка. Для взвешивания камня нужна гиря. Для работы с
линейкой и гирей нужны меры измерения длины и веса - слова и
понятия. Слова - образцы возможных действий с предметами,
идеальные схемы, носители значения, смысла. «Там, где наш язык
позволяет нам предположить наличие некоторого тела, а никакого тела
нет, - там, склонны мы говорить, имеется дух»1, - замечает в этой
связи Витгенштейн.
Процедура именования недаром издавна имела сакральный
характер, а имя рассматривалось как неотъемлемое и важнейшее
свойство вещи, в некотором смысле как ее архетип. Иронически
отзываясь об этой «магии языка», Витгенштейн обнаруживает ее
истоки в дополнительности языка и мышления. Речь опережает
1 Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной
лингвистике. М., 1985. С. 95.
И.Т. Касавин, Е.В. Востприкова • Введение. Познание и язык
11
мысль и делает ее ненужной, а мышление тормозит речевой акт,
поскольку может иметь своим предметом только остановленное
слово. На аналогичную разнонаправленность языка и мышления в
онтогенезе указывал Л.С. Выготский1. А вот еще одна цитата из
Витгенштейна: «Это связано с пониманием именования как
некоторого, так сказать, оккультного процесса. Именование выступает как
таинственная связь слова с предметом. И такая таинственная связь
действительно имеет место, а именно, когда философ, пытаясь
выявить соотношение между именем и именуемым, пристально
вглядывается в предмет перед собой и при этом бесчисленное
множество раз повторяется некоторое имя, а иногда также слово это.
Ибо философские проблемы возни кают тогда, коглг язык
бездействует»2.
Остановимся на кратком обзоре статей, собранных в данной
книге; они охватывают широкий спектр проблем, связанных с
взаимоотношением между языком и сознанием.
В первом разделе «Язык и сознание: общие проблемы»
обсуждаются общие методологические проблемы исследования языка и
сознания. Многие исследователи отмечают, что в XX в. происходит
смена парадигм как в философии, так и в науке. Новую парадигму
обозначают термином «неклассическая (постнеклассическая)
наука» или «неклассическая философия». Статьи, представленные
в данном разделе, освещают преимущества и недостатки
исследования сознания и значения в рамках этой новой парадигмы. Ю.М. Шил-
ков в статье «Язык, сознание, мозг: когнитивистская парадигма»
обсуждает особенности данной программы, одним из основных
преимуществ которой является междисциплинарный подход.
Автор обсуждает вопрос о том, каково место философии и
философских методов исследования языка и сознания в рамках этой
программы.
В статье И.Т. Касавина «Язык и сознание как элементы социоко-
да. Истоки современного дискурс-анализа» обсуждается специфика
социогуманитарного знания. Он развивает метод дискурс-анализа и
показывает, как данный метод позволяет нам обращаться к таким
сложным темам, как творческое познание.
Л.А. Маркова проводит аналогию между неклассической
парадигмой в науке и философии. Она показывает, что те изменения,
которые произошли в философии, оказали влияние на представления о
1 См.: ВыготскийЛ.С. Собр. соч. В 6т. Т. 3. М„ 1983. С 262.
2 Витгенштейн Л. Указ. соч. С. 95-96.
12
И.Т. Касавин, Е.В. Вострикова • Введение. Познание и язык
научной рациональности. На первый план выдвигаются такие
понятия, как контекст исследования (который включает в себя как
субъективные, так и предметные факторы), то, что выходит за пределы
самой логики исследования.
В статье «Как звуки становятся речью?» Л.Б. Макеева обсуждает
ключевую для современной философии языка и сознания
контроверзу между интернализмом (теорией, согласно которой сознание задает
значение для выражений языка) и экстернализмом (теорией,
согласно которой внешние, например социальные, факторы определяют
значение). Она исследует мотивы, побудившие философов к
исследованию значения как употребления.
Методологическим проблемам исследования сознания
посвящена статья В.П. Филатова «Методология социально-гуманитарных
наук и проблема "другого сознания"». Автор развивает идеи
Витгенштейна о невозможности «приватного языка» и указывает на
направления решения проблемы «другого сознания», если мы откажемся от
тезиса о привилегированном доступе к состояниям собственного
сознания.
Во втором разделе «Философия психологии» обсуждаются более
специальные проблемы философии сознания. И.Т. Касавин в двух
своих статьях подвергает критике аналитическую постановку
проблемы сознания как проблемы онтологии. С его точки зрения, эта
установка воспроизводит исчерпавшую себя дуалистическую позицию.
Сознание в рамках развиваемой им теории представляет собой
сложный продукт деятельности, общения, культуры.
Д.В. Иванов в своих статьях, посвященных проблемам
функционализма, показывает, как в современной философии возрождается
метафизика, а также как некоторые подходы в рамках аналитической
метафизики могут быть совместимы с контекстом неклассического
философствования. Д.А. Леонтьев в работе «Что дает психологии
понятие субъекта» анализирует важнейшие философские понятия
субъекта и личности и их роли в психологии. Он показывает, что понятие
субъектности позволяет исследовать процессы социального
конструирования сознания.
Какой вклад гипотеза искусственного интеллекта может внести в
философские дискуссии о сознании и мышлении? Данный вопрос
поднимается в статьях А.И. Швыркова и И.Ф. Михайлова.
В третьем разделе «Язык, сознание и социум» представлены
работы, в которых проблема языка и сознания анализируется с точки
зрения социальной философии. А.Ю. Антоновский в своих статьях
развивает тезис о том, что только в рамках теории коммуникации по-
И. Т. Касавин, Е.В. Вострикова • Введение. Познание и язык
13
нятия языка, сознания и знания получают адекватную
интерпретацию, что трансцендентальные структуры языка и сознания в
традиционном понимании не являются инстанциями, которым можно
приписывать, к примеру, знание.
В четвертом разделе «Семантические подходы к языку и
сознанию» авторы развивают более традиционные аналитические методы
анализа языка и сознания. В статьях Е.В. Востриковой и Г.К. Ольхо-
викова исследуется семантика предложений о верованиях и
предлагается решение проблемы загадки о веровании,
сформулированной в работах С. Крипке. В статье Е.В. Востриковой и П.С. Куслия
отстаивается тезис о том, что социальные факторы играют гораздо
менее значимую роль в функционировании языка, чем полагают
многие современные философы. Авторы утверждают, что
социальные факторы играют роль в прагматике, но не в семантике или
синтаксисе. В статье В.А. Ладова отстаивается противоположный
тезис. Автор анализирует проблему следования правилу и
философские аспекты теории значения, связанные с этой проблемой. Он
развивает собственный вариант скептического решения проблемы
следования правилу, в котором сообщество людей, вступающих в
коммуникацию, генерирует иллюзию значения.
В статье Г.С. Рогоняна, помещенной в приложении, обсуждается
переписка двух американских философов Уилфрида Селларса и
Родерика Чизома, в которой сталкиваются два основных на
сегодняшний день взгляда на соотношение языка и интенциональности: ин-
тернализм и экстернализм.
Понимать философию языка исключительно в узком смысле
как ограниченную некоторыми школами современной
аналитической или постмодернистской традиции было бы и забвением
фактического положения дел, и сужением теоретической
перспективы. Аналитической философии языка еще предстоит смягчить
формалистский эзотеризм и раскрыть свое широкое философское
содержание, в частности путем «обмена опытом» с другими
философскими направлениями. Тому, что аналитики именуют
значением, языковой игрой, онтологией, соответствуют в функциональной
лингвистике понятия «текст», «контекст» и «дискурс».
Постструктуралистский аналог того же самого - эпистема, дискурс, архив.
Это же может быть поставлено в соответствие известной феноме-
нолого-герменевтической триаде тема-горизонт-схема1 (здесь и
1 См.: Leithäuser Th. usw. Entwurf zu einer Empirie des Alltagsbewusstseines.
Frankfurt a/M, 1977. S. 46.
14
И.Т. Касавин, Е.В. Ъостприкоба • Введение. Познание и язык
триада ноэма—ноэзис—жизненный мир). В философии науки
примерно ту же функцию выполняют понятия теории, метода и предпо-
сылочного знания, а в философии вообще - понятия сознания,
деятельности и общения. Знаменитый тезис о тождестве бытия и
мышления может быть в этой связи интерпретирован как единство языка
и мира.
Вернуть мир языку, а язык — миру и есть главная задача
современных эпистемологии и философии языка.
РАЗДЕЛ
1
Ю.М. Шилков
Язык, сознание, мозг:
когнитивистская парадигма
Сегодня наблюдается тенденция к изменению не
только содержания ключевых понятий когнитивисти-
ки - «язык», «сознание» и «мозг» - но и методологии
их изучения. Более того, можно говорить о
формировании новой, когнитивистской парадигмы их мульти-
дисциплинарного познания. Ее сторонники
отказываются от предметно-дисциплинарной монополии.
Философы и ученые, работающие в определенном
дисциплинарном поле гуманитарного,
естественно-научного или инженерно-компьютерного знания,
обращаются к этим ключевым понятиям по разным
причинам и с помощью специальных способов их
изучения. Однако часто, пытаясь разобраться в явлениях
языка, сознания или мозга, специалисты
формулируют собственный подход к их специфике. На этом пути
они могут быть не только обречены на
профессиональную разобщенность, но и натолкнуться на
неожиданности. Основания для рисков - в стремлении
упростить свои теории и модели, пренебречь
устоявшимися традициями. Кроме того, в отсутствие
междисциплинарного диалога возникает барьер, не
позволяющий применять методы и понятия одних
дисциплин в практике других. Наконец, некоторые
представители дисциплин социогуманитарного,
естественного и инженерно-компьютерного цикла
пренебрежительно относятся к философскому
пониманию природы языка, сознания и мозга. Они не
замечают, что тем самым утверждают свою собственную
философскую позицию с присущими ей издержками
любительства и дисциплинарной ограниченности.
Вот почему когнитивистская парадигма,
формирующаяся в современной философии и науке, как мне
представляется, может сыграть роль интегрального
16
Раздел 1.Языки сознание: общие проблемы
эпистемологического и методологического основания, на котором
возникнет реальная исследовательская перспектива.
Какую роль играет кошитивистекая парадигма в научном
познании, в чем заключается ее познавательная продуктивность?
Во-первых, использование информационных технологий
способствует структурированию и упорядочиванию результатов
исследования в соответствии с новыми методологическими идеалами,
нормами и ценностями познания. Когнитивистская парадигма меняет
культуру постановки проблем, требующих коннатационных,
контекстуальных и многофакторных объяснений. Намечается тенденция
преодоления традиционных стереотипов, что позволяет говорить о
формировании междисциплинарной концептуальной картины ког-
нитивистской реальности.
Во-вторых, переоценка предметной области традиционных
дисциплин, изучавших язык, сознание и мозг, предполагает изменение
исследовательской практики в когнитивистской парадигме и
возрастание в ней тематического разнообразия. Сами же приемы изучения
остаются прежними. Я имею в виду распознавание, идентификацию
и обобщение когнитивистской реальности в терминах описания
явлений, свойств, отношений, определения ее причинных и
функциональных зависимостей, ее генезиса и структуры.
В-третьих, специфическая установка на эксперимент
основывается на том, что проводимое исследование (как в целом, так и на
любом из его этапов) конструируется самим исследователем, а не
преподносится ему. Особую роль при этом играют мысленный
эксперимент и мысленная модель, компьютерная оснащенность которых
заметно повышает их познавательную эффективность. Своими
конструктивными преимуществами мысленный эксперимент и
мысленная модель «обязаны» абстракции потенциальной осуществимости,
позволяющей при их проведении и построении отвлекаться от любых
ограничений. Гипотезы, наблюдения, описания, обобщения,
построение реальных моделей или теорий, другие познавательные
процедуры находятся под конструктивным воздействием мысленного
эксперимента (мысленной модели).
Экспериментально-конструктивный примат когнитивистской парадигмы сказывается на
дискурсивном представлении ее результатов и материалов.
В-четвертых, программной предпосылкой становится
сосредоточенность на коннотациях и контекстах изучаемого объекта. Если
обращение к таким общим проблемам, как, например, проблема сознания,
не нуждается в специальном обосновании, то в других случаях
неизбежно возникает вопрос: почему именно этот лингвистический или
ЮМ. Шилков' Язык, сознание, мозг: когнитивистская парадигма
17
нейрофизиологический фактор требует к себе когнитивистского
внимания? В таких случаях нельзя обойтись без анализа соответствующей
коннотации или контекста. Это заставит исследователя иначе подойти
к таким проблемам, как, например, происхождение сознания или
локализация мозговых структур. Интересные результаты могут быть
получены не в «наезженной колее» дисциплинарного исследования, а в
когнитивистском «исключении как норме». Конечно, при этом
когнитивистская конфигурация результата исследования находится под
воздействием множества индивидуально-предметных стратегий.
Появление новых вопросов в когнитивистской парадигме влечет за собой и
появление новых лакун, требующих дальнейшей проработки.
В-пятых, средства и приемы когнитивистской парадигмы
совмещают сложность изучаемой реальности со способами ограниченного
и упрощенного представления ее явлений. Еще одно достоинство
когнитивистской парадигмы заключается в необычайно богатых (по
сравнению с возможностями отдельной дисциплины) возможностях
предсказания и прогнозирования изучаемых явлений.
Предельные основания когнитивистики определяются
универсальным статусом таких ключевых категорий, как язык, сознание и
мозг. Будучи целостно-связной совокупностью, они образуют
узловые звенья концептуального каркаса когнитивистики. Каждое из них
рассматривается как автономно, так и в категориальных
взаимосвязях с иными, причем роль каждой категории определяется не столько
наличием собственной предметности, сколько ее корреляциями с
другими категориями. Когнитивистский анализ исключает
изоляционистский подход к языку, сознанию и мозгу и предполагает
междисциплинарное (интегральное) сосредоточение способов и
приемов, благодаря которым удается получить социальное, культурное,
историческое или другое практическое следствие.
Дискурсивный характер когнитивного знания проявляется в
форме высказываний, раскрывающих, как работают язык, сознание или
мозг, каким образом они взаимосвязаны и взаимодействуют, как они
обеспечивают процессы познания, общения и другие способы
человеческой жизнедеятельности и опыта. Например, объяснение
диалогической активности людей предполагает дискурсивное выражение
мнений (сомнений). Когнитивная семантика выражения мнения
весьма богата и конкретизируется в дискурсивных формах типа «я
считаю», «я доверяю», «я уверен в чем-либо или в ком-либо», «я
полагаю», «я убежден», «я понимаю» и т.п.
Акцент на семантическом аспекте языка связан с тем, что
семантика послужила толчком к формированию когнитивистской практи-
18
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
ки исследования языка и стала играть в ней ведущую роль.
Неудовлетворенность традиционными логико-символическими средствами
стимулировала разработку новых подходов к семантике в пределах
когнитивистской парадигмы с привлечением методов лингвистики,
психолингвистики, культурологии, антропологии, нейрофизиологии
и т.п. Благодаря интегральным возможностям когнити висте ко го
анализа открылась перспектива совмещения лингвистической,
психологической и информационно-логической проработки
дисциплинарных моделей сознания и мозга. Если мир языка — это мир видимых и
слышимых явлений, то миры сознания и мозга - это скрытые миры,
которые доступны исследованию благодаря посреднической и
инструментальной работе языка. С его помощью могут быть приоткрыты
интимная жизнь и секреты сознания и мозга, а также природа связей
между ними. Язык артикулирует опыт общения с внешним миром.
Далеко не вся информация о внешнем мире различается
перцептивными модальностями. Значительная часть осязательной, вкусовой,
обонятельной, зрительной и слуховой информации остается за
пределами опыта. Утрата информации связана также с ее артикуляцией и
выражением средствами языка. В этом случае многое зависит от
ресурсов языкового опыта, которым располагает человек. Любые
процессы познания и общения зависят от ожиданий и установок, от
правильных или ложных предположений.
Язык дает разнообразные возможности для наблюдений,
описаний, построения моделей и теорий, претендующих на прояснение и
объяснение структуры, процессов, свойств и функций сознания и
мозга. Тезис о сложности и противоречивости отношений мозга
человека и внешнего мира, опосредуемых процессами сознания и
языка, никто не оспаривает. Так, в нейропсихологии получил
известность метафорический аналог действия «принципа воронки» из
классической нейрофизиологии Ч. Шеррингтона1. Я имею в виду
правдоподобное предположение о том, что количество нервных
сигналов, поступающих в кору головного мозга, заметно превышает
возможности соответствующего им вербального и невербального
выражения. Известно также, что зрительная способность различать цвета
и цветовые оттенки существенным образом превосходит
возможности вербальных средств, причем компенсационного ресурса,
предоставляемого для выражения оттенков цвета изобразительным язы-
1 Согласно «принципу воронки» Ч. Шеррингтона, количество информации,
поступающее в нервную систему, превосходит количество ее возможных
рефлекторных ответов.
ЮМ. Шилков • Язык, сознание, мозг: когнитивистская парадигма
19
ком, также недостаточно. Но идентификация цвета имеет для
человека первостепенное значение, а потому и требует определенной
когнитивной стратегии. То же относится к вербальной
идентификации запахов, звуков или вкусовых оттенков1.
Есть основания утверждать, что богатство внутренних переживаний
человека по своим когнитивным и коммуникативным возможностям
выражения может заметно превосходить объем нервных сигналов,
поступающих в мозг извне. Особой посреднической продуктивностью
отличаются фигуральные возможности языка. Речь идет, в частности, о
средствах языка или языковых (повествовательных) формах вымысла,
которые используются человеком в творческой деятельности.
Чрезвычайно богатыми ресурсами обладают процессы воображения,
интуиции, образного и понятийного мышления с соответствующими
фигурально-вербальными особенностями репрезентации в терминах
метафоры, метонимии, синекдохи, аллегории, иронии и других тропов.
Метафорический примат языка по отношению к сознанию и мозгу
распространяется и на повседневный опыт и образ жизни людей. Так, свою
когнитивную теорию метафоры Дж. Лакофф строил на
культурологических основаниях с привлечением средств семантического анализа.
Вместе с М. Джонсоном они обратили внимание на то, что в естественном
языке метафор гораздо больше, чем можно было бы предположить.
«Метафора пронизывает нашу повседневную жизнь, причем не только
язык, но и мышление и деятельность. Наша обыденная понятийная
система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей
метафорична»2. Аналогичные предположения в 1920-1930-х гг. высказали
Н.Я. Марр, И.Г. Франк-Каменецкий и О.М. Фрейденберг при
рассмотрении проблем происхождения языка и сознания в терминах
лингвистики, истории и культурологии. С их точки зрения,
жизнедеятельность и общение людей архаических культур насквозь
метафоричны; метафоры и другие фигуральные средства были
основными способами, с помощью которых они сознавали, различали и
идентифицировали явления окружающего мира.
Современные методологи утверждают, что метафора часто
замещает научную гипотезу, когда ее не удается сформулировать доста-
1 См.: Рузин И.Г. Когнитивные стратегии именования: модусы перцепции
(зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке // Вопросы
языкознания. 1994. №6.
2 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004. С. 25.
Свое философско-когнитивистское кредо Лакофф сформулировал в книге:
Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: что категории языка говорят нам о
мышлении. М., 2004.
20
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
точно строго. Метафора обладает объяснительной силой. С помощью
метафорических и других фигуральных средств человеку удается
сконструировать представление о мире, чтобы затем дать ему
соответствующую интерпретацию. Уже в описании того, что он видит,
содержатся элементы интерпретации наблюдаемых явлений. По сути само
описание мира зависит от своеобразия индивидуально-личностной
установки и способности понимания человека. Он учитывает
пространственные и временные границы мира, его возможную
перспективу, оценивает мир в терминах «существенного/несущественного»,
воспринимает мир в терминах «фигура/фон». Вообще говоря,
фигуральные возможности когнитивистского дискурса позволяют
одновременно избежать излишней черствости рационализма и болотной
таинственности иррационализма.
Когнитивная и коммуникативная работа языка невозможна без
использования творческого потенциала сознания и ресурсов мозга.
Укажем на известный феномен «дара речи» Ф. де Соссюра,
рассматривавшего его как способность, глубоко укорененную в
психосоматических основаниях и имеющую выраженную генетическую
зависимость. Соссюр различал звуковой облик слова, воспроизводящий
фонационный строй языка с помощью психосоматического аппарата
артикуляции, органов дыхания и гортани, и визуальный облик слова,
воспроизводящий структуру письма с помощью органа зрения.
Именно речь, обеспечиваемая и регулируемая ресурсами мозга,
оказывается осознанным способом употребления языка. Когнитивные
процессы восприятия (слушание и видение) и воспроизведения
(чтение и произнесение) текстов (слов, словосочетаний, предложений)
играют заметную роль в адекватном определении их смысла
(семантического строя). Хотя индивидуальные оттенки интонации и
мелодичности речи или свойства человеческого голоса не вписываются в
лингвистическую компетенцию, язык сохраняет ведущую роль,
реализуя в актах речи и средствами речи свои фонетические,
синтаксические и семантико-лексические возможности. Рассматриваемые при
этом в когнитивистике проблемы трансформации сукцессивного
процесса произнесения в симультанный образ восприятия
(слушания) в актах речевой коммуникации, а также речевые акты
переживания, протекающие в обратной последовательности от симультанного
образа к сукцессивной аналитике и обобщению, относятся к числу
трудноразрешимых проблем.
Другой пример. Из истории, социологии и культурологии
известно, что история идей противоположна истории ментальности. Если
идея является рациональным конструктом индивидуальности и лич-
ЮМ. Шилков' Язык, сознание, мозг: когнитивистская парадигма
21
ности, то ментальность носит коллективный характер, ее средства и
формы регулируют высказывания и мнения людей в обществе на
бессознательном уровне. Трудно согласиться с предположением
Дж. Сёрла о том, что причина ментальных феноменов коренится в
нейрофизиологических процессах человеческого мозга и поэтому
они могут быть объяснены в терминах мозга1. С этой позицией
солидарен и Дж. Фодор, различая натуралистическую и реалистическую
интерпретации интенциональности сознания. Он предпочитает
натуралистическую теорию когнитивных процессов и убежден в
целесообразности редукции интенциональных актов к
нейрофизиологическим основаниям. Подобная редукционистская методология имеет
давние натуралистические традиции. Сегодня вряд ли кто-то будет
серьезно отрицать сам факт обусловленности работы сознания
нейрофизиологическими процессами мозга. Но полагать, что только
мозг определяет специфику ментальности, было бы большим
упрощением. Ведь в таком случае остается открытым вопрос о
феноменологической специфике интенциональности сознания и его
ментальных состояний (феноменов). Поэтому Дж. Сёрл и Дж. Фодор не
ограничиваются редукционистскими соображениями и обсуждают
интегральную роль интенциональности сознания в терминах
философии языка, лингвистики и теории речевых актов. Другими
словами, оказывается, что нейрофизиологическая детерминация сознания
(ментальности) вовсе не проясняет его (ее) специфику и в то же время
не исключает анализ воздействия на феномены сознания других
причинных факторов - факторов языка, речи, а также прояснение их
культурно-исторической, социальной и индивидуально-личностной
обусловленности. Когнитивистский учет воздействия разнообразных
факторов и обобщающие возможности когнитивистского подхода
позволяют надеяться на более адекватную репрезентацию специфики
сознания.
Как идеи продуцируются сознанием и самосознанием личности,
так и ментальности порождаются сознанием и самосознанием
этнических сообществ, профессиональных коллективов или других
социальных групп. Интенциональный строй сознания способствует
формированию идеи или ментального феномена в зависимости от
конкретного контекста истории, культуры, общества или конкретной
личности. Способности человеческого воображения, вымысла
вытесняют «реальное» и замещают его «возможным». Фигуральные
способы выражения вымысла или жанровое разнообразие тропов не
1 См.: SearleJ. The Rediscovery of the Mind. Cambridge, 1992.
22
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
имеют ограничений. Жанровые формы вымысла пронизывают жизнь
и культуру человека от мифологических и религиозных сюжетов через
фантастику и любые виды искусства к утопии, науке и
повседневности. Идейно-иллюзорный потенциал сознания невозможно
растратить. Утрата одних иллюзий сопровождается порождением других,
продолжающих оказывать продуктивно-регулятивное воздействие на
образ жизни людей. Вопросы «как работает самосознание
личности?», «возможно ли его эмпирическое исследование?» в когнитиви-
стике столь же оправданны, сколь и вопросы о когнитивной природе
коллективной (социальной) деятельности.
Показательны в этом отношении сознательные процессы
переоценки ценностей в разных фазах индивидуального развития
человека от рождения до смерти. Только сознание человека в каждый
момент времени может фиксировать разрыв между ценностями его
прошлой жизни (утраченным «раем» или «адом») и его будущей жизни
(пока еще не обретенным «раем» или «адом»). Предположим, чтобы
выделиться из «хаоса бессознательного» и осознать свое «я»,
необходимо сконструировать модель нового жизненного пространства и
временной перспективы. Так, эмигрант, интегрируясь в новую
социальную среду, усваивает оборонительный тип поведения и делит свой
собственный мир на две никогда не пересекающиеся зоны. С одной
стороны, он ограничивает свои первичные когнитивные и
эмоциональные привязанности кругом семьи и родственного ему
этнического коллектива. С другой стороны, он поддерживаете остальным
принимающим его сообществом исключительно вторичные, деловые
связи. Как правило, в семейной и этнической среде он обретает
рациональную и эмоциональную поддержку, которая позволяет ему, не
впадая в отчаяние, пережить внутренний конфликт, вызванный
необходимостью овладения новым культурным кодом.
Когнитивистский подход к языку, сознанию и мозгу, в частности,
заключается в эффекте смещения фокуса исследования с их
изолированного терминологического употребления на их семантику,
выражающую разнообразные категориальные отношения в контексте
истории, общества, культуры и личности. Преимущества когнитивист-
ской парадигмы могут определяться не столько методологической
установкой исследователя на язык, сознание или мозг (как объекты
его познавательного интереса), сколько рассмотрением их как
способов бытия, жизнедеятельности человека. Другими словами, теоретик
или экспериментатор когнитивистики находится в познавательной
ситуации, отличной от той, в которой оказывается исследователь в
естественных и технических науках. Когнитивист должен отдавать себе
ЮМ. Шилков • Язык, сознание, мозг: когнитивистская парадигма
23
отчет в том, что такие объекты познания, как язык, сознание и мозг,
являются категориальными способами, определяющими отношение
человека к миру, к другим людям, к себе, к идеалам, нормам и
ценностям своего существования. Именно в терминах этих категорий
продуцируется знание, а когнитивистика задается вопросом о том, каким
образом это происходит.
«Сверхзадачей» когнитологов является разработка такой
обобщающей теоретической системы понятий, которая позволила бы
преодолеть ограниченность дисциплинарного подхода и отказаться от
неясности интуитивных или упрощенных интерпретаций языка,
сознания и мозга. Вопрос вовсе не в том, чтобы при рассмотрении
отношений между ними устанавливать первичность «яйца» или «курицы».
Важно понять интегральную работу когнитивного механизма их
взаимодействия. Когнитивистика изменила форму постановки
традиционных проблем, стремясь задействовать различные
предметно-понятийные средства и акцентировать внимание на вопросах типа
«как?», «каким образом?». С этой целью в когнитивистской
«разборке» могут принимать участие не только когнитивная лингвистика,
когнитивная психология, когнитивная нейрофизиология или
философская теория и методология познания, но и когнитивная
антропология, когнитивная социология, когнитивная история и когнитивная
культурология. Каждая из названных дисциплин когнитивистского
цикла «по-своему» задается вопросами о том, как работают язык,
сознание и мозг человека в роли основных способов приобретения,
накопления, хранения, воспроизведения, продуцирования и обмена
информацией, знанием, опытом. Несмотря на разницу между
терминологиями, их объединяют общие принципы когнитивистской
парадигмы. Замечу, что методологическая (технологическая)
оснащенность когнитивистики не исключает возможность использования
конкретных естественно-научных, инженерно-технических
(компьютерных, искусственно-интеллектуальных) или социогуманитарных
технологий. Если бросить сравнительный взгляд на
исследовательские парадигмы будущей науки, то перспектива когнитивистской
парадигмы представляется весьма обоснованной и продуктивной.
И.Т. Касавин
Язык и сознание как элементы социокода.
Истоки современного дискурс-анализа
Введение
Среди множества современных методов анализа
индивидуального и коллективного сознания все большую популярность завоевывает
дискурс-анализ1, теоретики которого нередко расширяют свой
подход до универсальной методологии социально-гуманитарных наук.
Тем самым понятие дискурса начинает выполнять функции, схожие с
теми, которые в методологии науки 1970-1980-х гг. выполняло
понятие метода. Мы помним, как завершился спор о методе науки в
философии науки: П. Фейерабенд разоблачил догматическую идею
универсального метода применительно к естествознанию. В
современной гуманитаристике и ее методологии ситуация далека до
монолитности и догматизма, хотя и просматривается несколько
лейтмотивов. Один из них - стремление обосновать методологическую
специфику социогуманитарного знания, отличную от естественных и
точных наук. В российском интеллектуальном пространстве XX в. это
стремление было представлено в той или иной степени философом
Г. Г. Шпетом, психологом Л.С. Выготским, литературоведами и
лингвистами М.М. Бахтиным и Ю.М. Лотманом, культурологом и
социологом науки М.К. Петровым. Эта традиция в философии и науках о
человеке может быть условно обозначена как
коммуникативно-семиотический подход. Сквозь призму современных дискуссий о
теории дискурса она обнаруживает неожиданную актуальность2.
Проблема применения идеалов научности и объективности к
гуманитарному знанию сформировалась в середине XIX в., когда
филология и лингвистика, психология, социальная и культурная антропо-
1 См.: Касавин И. Т. Дискурс-анализ и его применение в психологии // Вопросы
психологии. 2007. № 6.
2 О значении этой традиции и взаимосвязях внутри нее подробнее см.: Мике-
шинаЛ.А. Философия познания. М., 2002; Зинченко В.П. Мысль и Слово: подходы
Л.С. Выготского и Г.Г. Шпета (часть 1) // Психологическая наука и образование.
2003. № 4; Рыклин М.К. Сознание и речь в концепции М.М. Бахтина// Бахтин как
философ. М., 1992; KristevaJ. On Yury Lotman// Publications of the Modern Language
Association (PMLA). 1994. Vol. 109 (3). P. 375-376.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
25
логия приобретали институциональный статус в качестве
эмпирических наук. Предметы и методы гуманитарных наук оценивались по
аналогии с предметными областями и методологическими
арсеналами математики и естествознания, причем именно последние
выступали образцами объективности и точности. Г.Т. Фехнер, Э. Тайлор,
Ф. Соссюр каждый на свой лад формулировали и пытались
реализовать программу онаучивания гуманитаристики, но позитивисты
Венского кружка по сути вынесли всем этим попыткам негативный
вердикт. В истории философии и науки все это время развивалась и
другая линия, идущая от Ф. Шлейермахера через В. Дильтея и Ф. Ницше
к неокантианцам Баденской школы, О. Шпенглеру, позднему Э. Кас-
сиреру, позднему Э. Гуссерлю, позднему Л. Витгенштейну,
неофрейдизму. В ней нашло отражение стремление обосновать особый
эпистемологический статус гуманитарных наук, или наук о культуре,
существенно отличный от того, что в английском языке называется
«hard science». Ключевыми для данного направления исследований и
его более поздних последователей в XX в. стали как традиционные
категории языка, сознания, культуры и истории, так и только вводимые
в научно-философский оборот понятия деятельности, игры,
символа, функции, коммуникации, жизненного мира. Гуманитарная мысль
в России оказалась особенно восприимчива к этой линии развития и
внесла немалый вклад в разработку указанных понятий. Сегодня, по
прошествии десятилетий, мы уже в состоянии оценить те
достижения, которые в науке и философии XX в. связываются с именами
Шпета, Бахтина, Выготского, Лотмана, Петрова и ряда других
российских исследователей. Значительность их идей проявляется и в том
интересе и признании, которые они получают в современном мире.
1. Идея гуманитарной науки
Что такое наука и научность и как они проявляют себя в культуре,
социуме, индивидуальном познании? Этот вопрос, принципиальный
для эпистемологии и философии науки, всякий раз обращает на себя
внимание ученых, когда их дисциплина переживает революционные
трансформации. Так, Петров подходил к его решению через
эволюцию познавательного отношения вообще, которую он рассматривал с
точки зрения исторической социологии науки. Ему была очевидна
исчерпанность абстрактного представления о науке как
совокупности имманентных характеристик научного знания. Вместе этого
Петров выделил три исторических типа семиотики культуры,
свойственные античности, Средневековью и Новому времени, полагая знание
26
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
неотъемлемой частью культуры и видовым культурным понятием.
В основу этой типологии он положил понятие «социального
кодирования»1.
Все типы социальности Петров истолковывал как поиски вне-
биологических средств аккумуляции, трансляции и генерации опыта.
Ведь опыт должен иметь долгоживущий, рассчитанный на множество
поколений, бессмертный и вечный с точки зрения смертного
индивида «социокод», или, иначе говоря, тип субъект-объектного
отношения, несущий примерно тот же набор функций, что и биокод для
других видов: «Для всей... совокупности массива знания и
непосредственно связанных с ним институтов и механизмов различного
назначения мы... будем употреблять термин социокод, понимая под
ним основную знаковую реалию культуры, удерживающую в
целостности и различении фрагментированный массив знания,
расчлененный на интерьеры мир деятельности и обеспечивающие институты
общения»2. Проводя различие между деятельностью и общением,
общением и познанием, он выделяет три типа того, что можно назвать
«познавательным общением». Это коммуникация (поддержка
нормативной структуры), трансляция (когнитивная социализация) и
трансмутация (генерация смыслов)3, в той или иной степени
характеризующие всякий способ социального кодирования. Однако третий
срез общения, или трансмутация, «который в европейском очаге
культуры называют "познание"»4, характерен, как мы увидим ниже,
для современного типа ментальности.
«Геном» социального кодирования является знак. Используя его,
общество удерживает массив социально необходимых и
воспроизводимых в смене поколений видов деятельности в форме знания.
Первые два социокода отличаются, по Петрову, использованием языка
только для фрагментации знания в его трансляционной (знак) и
поведенческой (деятельность) формах существования. Античный тип
такой фрагментации выступает как единство индивида и его имени,
противопоставленное природному и социальному окружению,
которое понимается как священный текст. Это так называемое
лично-именное кодирование, где еще нет разделения поведенческого и
знакового на обособленные области со своими основаниями
интеграции и социокод объединен в социальную целостность через контакт и
1 См.: Петров М.К. Язык. Знак. Культура. М., 1991.
2 Там же. С. 39.
3 См.: Там же. С. 32-40.
4 Там же. С. 92.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
27
сопряжение имен в ситуациях коллективного действия. В
средневековом, или профессионально-именном, типе кодирования единство
группы и текста противостоит имени. Здесь поведение и знак
реализуются через матрицу обмена, или систему наследуемых
межсемейных контактов, а также через кровнородственную связь вечных
(божественных) имен. Хотя оба типа используют языки как средства
общения - инструменты коммуникации, трансляции,
трансмутации - интегрирующие структуры этих социокодов (ситуация
коллективного действия, межсемейный контакт, кровнородственная связь)
очевидно не принадлежат к реалиям языка в узком смысле, что не
мешает им оставаться знаковыми отношениями, носителями смысла и
значения.
Способ различения античной и средневековой культур,
предлагаемый, таким образом, Петровым, отнюдь не самоочевиден. Он
основан, в частности, на представлении о чуть ли не атомистической
природе мигрирующего античного индивида, единство архэ1
которого противостоит социальному и природному миру. Конечно,
приключения Одиссея, Язона или Кадма - это их собственная история.
Но и король Артур, Ланцелот, Тристан или Роланд являются
личностями ничуть не в меньшей мере. И одновременно все они, как
феномены культуры, представляют собой некий собирательный
образ — архетип. Имя в качестве символа рода также фигурирует как в
античности, так и в Средневековье. Поэтому критерий Петрова
относится в первую очередь к способу производственной
деятельности, а не культуры в целом, да и то с большими оговорками. Ведь
цеховое (городское) разделение труда, типичное для европейского
Средневековья, коренится в античном наследовании профессии у
свободных ремесленников, торговцев, художников, врачей,
которым покровительствуют боги и герои, также вступившие на путь
специализации (Гефест, Дедал, Гермес, Аполлон, Асклепий).
Феодальное же поместье по структуре производства весьма схоже с
виллой крупного античного землевладельца в Египте, Греции или Риме.
Так что главное и общее в обоих типах социального кодирования -
это практическое отношение между человеком и миром, в котором
посредниками выступают профессия и конфессия, представленные
в форме мифов и ритуалов.
В отличие от первых двух современный тип социального
кодирования Петров называет «универсально-понятийным». Его особен-
1 См.: Касавин И.Т. Мир человека как онтология знания (пространственно-
временные аспекты) //Уранос и Кронос. Хронотоп человеческого мира. М., 2001.
28
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
ность не в новизне самого субъект-объектного отношения, а в его
функциональной нагруженности, социальной значимости.
Характерным режимом работы этого отношения является смешанность
генерации и трансляции смыслов. Иными словами,
субъект-субъектное отношение не только передает некоторую «мудрость» или
«ценное указание» от субъекта к субъекту, но и преобразует их в процессе
передачи от абстрактного к конкретному, от расплывчатого
целеуказания типа «улучшить», «наладить», «пресечь» до программы
конкретного действия, направленного на реализацию этих целей.
Причем эта программа прописывается и артикулируется в специфических
знаковых средствах, главным из которых является книгопечатание.
Петров ссылается на умножение ситуаций нестандартного типа
по сравнению со стандартными; их соотношение в XVIII—XIX вв.
начинает резко меняться в пользу нестандартных, что увеличивает
социальную значимость креативного поведения. Анализируя истоки
европейского социального кодирования в греческой античности,
Петров показывает1, что с самого начала в европейском очаге
культуры постоянно присутствовали нестандартные социально значимые
ситуации той или иной формы, в которых чистая репродукция,
программа, бесконечный повтор либо вообще невозможны (научная
деятельность, например), либо опасны. Поэтому европейская
социальность первой санкционировала отклонение от нормы как таковой,
сделала социально значимыми и подлежащими трансляции такие
понятия, как «талант», «оригинальность», «автор», «плагиат». Иначе
говоря, она побудила сформулировать понятие научности и по-новому
понять проблему соотношения языка, познания и культуры.
«Факты свидетельствуют о том, что "реальный мир" в
значительной мере бессознательно строится на языковых нормах данного
сообщества. Не существует двух языков настолько тождественных, чтобы
их можно было считать выразителями одной и той же социальной
действительности. Миры, в которых живут различные общества, —
отдельные миры, а не один мир, использующий разные ярлыки»2, -
пишет Э.Сепир. И Петров признается, что гипотеза лингвистической
относительности фигурирует в числе его «настольных идей». Вместе с
тем он постоянно обращается к ее критике, подчеркивая, что
семиотика культуры не тождественна структуре конкретных естественных
1 См.: Петров М.К. Искусство и наука. Пираты Эгейского моря и личность. М.,
1995.
2 Сепир Э. Положение лингвистики как науки // История языкознания XIX и
XX вв. в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1960. С. 177.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
29
языков: «Структура социокода и структура языка могут оказаться
двумя разными структурами. Соответственно и "смысл", "значение",
"знание", если они прописаны по наличным результатам
общения, т.е. по социокодам, могут оказаться в весьма слабой корреляции
с типом языковой структуры»1. «Текст» также есть не чисто
лингвистическое, но значительно более широкое понятие, включающее в
себя субъекта. «За любыми актами общения прослеживается наличие
текста как основной и, видимо, высшей содержательной единицы
общения. Важной для понимания феномена социальности
особенностью текста является то, что любой текст всегда имеет более одного
владельца, всегда находится в совместном владении двух или
большего числа индивидов живущего поколения, что и позволяет тексту
переживать своих владельцев, существовать неопределенно долго,
постоянно и преемственно изменяясь в актах общения»2.
Эта идея Петрова о тексте как универсальном факторе
познавательного общения сыграла фундаментальную роль в современной
социальной эпистемологии, позволив использовать одинаковые
методологические средства для анализа естествен но-научного и
социально-гуманитарного знания. Здесь он существенно дополнил
М. Бахтина, у которого идея текста находится в центре внимания, но
ограничена специфической предметной областью.
Если рискнуть и одной фразой обозначить философско-методо-
логический лейтмотив трудов Бахтина, то, вероятно, это и будет идея
особенностей гуманитарного познания — в науке и искусстве.
Конечно, при более внимательном взгляде она сразу же разворачивается по
крайней мере в четыре главные темы: творчество, язык, субъект
познания и типы познавательного отношения.
Релевантность идей Бахтина для современной философии и гума-
нитаристики вообще проявляется прежде всего в том, какое значение
он придавал понятию творческой деятельности. Сформулированные
им оригинальные категории - такие, как «вненаходимость»,
«диалог», «полифония», «участное мышление» (неалиби в бытии),
«Другой», — обладают конкретным смыслом: они описывают жизненный
мир человека, вовлеченного в процесс научного и литературного
творчества. Едва ли не главной задачей Бахтина было показать
живую, неокончательную фактуру этого процесса, его связь с жизнью
самого творца. Недаром С.С. Аверинцев, близко знавший Бахтина,
сказал об этом так: «Мыслитель, не устававший повторять, что ни од-
1 Петров М.К. Язык. Знак. Культура. С. 90.
2 Там же. С. 83.
30
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
но человеческое слово не является ни окончательным, ни
завершенным в себе, - он ли не приглашает нас договорить "по поводу" и
додумывать "по касательной", то так, то этак разматывая необрываюшую-
ся нить разговора?»1
Однако для раскрытия творческой природы гуманитарного
знания Бахтин совершает странный, на первый взгляд мыслительный
ход: он, словно следуя за Соссюром (с которым наделе расходится по
ряду принципиальных моментов), делает главным объектом своего
рассмотрения самое безличное и устойчивое проявление знания —
текст. «Объектом гуманитарного познания, согласно Бахтину,
является текст (письменный, устный) как первичная данность всех
гуманитарных дисциплин»2, — указывает Л.И. Новикова. Но здесь же
текст оборачивается собственным отрицанием, выходит за свои
пределы. Текст - это универсальная форма заявления человека о себе,
убежден Бахтин, но он представляет собой не чисто лингвистическую
данность; это по сути любой феномен культуры, требующий, говоря
современным языком, контекстуального и даже
полидисциплинарного анализа. Всякий «человеческий поступок есть потенциальный
текст и может быть понят (как человеческий поступок, а не
физическое действие) только в диалогическом контексте своего времени
(как реплика, как смысловая позиция, как система мотивов)»3, -
пишет Бахтин и в дальнейшем предпринимает систематическое
развертывание понятия «текст» до понятия культурного объекта вообще.
В русле той же программы пойдет его коллега Ю.М. Лотман со
своим понятием семиосферы, но еще раньше дорогу в этом же
направлении проложит Г.Г. Шпет4, чьи идеи (без ссылок и цитат) были
усвоены его учеником Л.С. Выготским5, а в дальнейшем к ним
примкнет, едва ли подозревая об этом, М.К. Петров, разграничивая
язык и социокод и именно в последнем обнаруживая фундамент
культуры.
Итак, что значит вывести язык за пределы чисто
лингвистического понимания? Это значит обнаружить, что текст небезличен, что он
предполагает субъекта - автора, и здесь сразу возникает многообраз-
1 Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура// М.М. Бахтин как
философ. М., 1992. С. 7.
2 Новикова Л.И. К методологии гуманитарного познания // М.М. Бахтин как
философ. С. 99.
3 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 286.
4 См.: Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. Иваново, 1999.
5 См.: ВыготскийЛ.С. Мышление и речь. М. ; Л., 1934.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
31
ная проблематика субъекта и субъективности как существенного
измерения гуманитарного знания. Забегая вперед, скажем, что эти
размышления в немалой степени способствовали переосмыслению
природы и естественно-научного познания (сам Бахтин и его коллеги от
такого шага были еще далеки).
Что же конституирует автора? Автор определяется, с одной
стороны, собственным внутренним миром (набором эзотерических
смыслов), а с другой - кругозором (набором социально оформленных
смыслов). В целом это образует, как поясняет Новикова,
«осмысленный и организованный в представлении в соответствии с
собственной системой ценностных ориентации мир человека»1.
То, что этот мир, как бы выразился Петров, «прописан по системе
общения», проявляется в неизбежной адресованности текста
другому, читателю. Однако в силу двойственной природы автора (и,
естественно, читателя как субъекта) сам смысл текста всегда определяется
рассогласованием автора и читателя, ситуацией непонимания: текст
без расчета на понимание есть абсурд, прозрачный текст есть трюизм.
То, что стоит между участниками данной ситуации, есть смысл
текста2. «Смыслом я называю ответы на вопросы. То, что ни на какой
вопрос не отвечает, лишено для нас смысла»3, - указывает Бахтин.
Понять смысл текста поэтому, значит реконструировать лежащий в
его основании вопрос. Но и понять смысл вопроса можно лишь путем
реконструкции лежащего в его основании «горизонта» (Х.Г. Гада-
мер), т.е. текста, и тогда мы получаем классический
герменевтический круг, или «кругозора» (Бахтин), т.е. культурной компетенции
(не только автора, как у Гадамера, но и адресата).
И здесь появляется понятие, «взрывающее», как сказал бы Лот-
ман, границы текста, — «диалог». Текст по природе диалогичен, и эта
диалогичность имеет открытый характер: она не предполагает
ограничение смысла замкнутым на себе самом текстом (в
противоположность установкам структурной лингвистики и семиотики, которые
разделял и ранний Лотман). Более того, диалог не ограничен и парой
автор-читатель, но предполагает предшествующих (и последующих):
«Не может быть изолированного высказывания. Оно всегда
предполагает предшествующие и следующие за ним высказывания. Ни одно
высказывание не может быть ни первым, ни последним. Оно только
1 Новикова Л.И. Цит. соч. С. 100.
2 См.: Касавин И. Т. Смысл как проблема эпистемологии и науки //
Эпистемология и философия науки. 2007. Т. XIII. № 3.
3 См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 350.
32
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
звено в цепи и вне этой цепи не может быть изучено»1. И здесь,
поднимая актуализировавшуюся в последнее время проблему контекста,
Бахтин почти буквально повторяет известную формулировку
Выготского по поводу контекста, данную им в «Мышлении и речи». Вот ее
сокращенный вариант. «Слово вбирает в себя, впитывает из всего
контекста, в который оно вплетено, интеллектуальные и
аффективные содержания, и начинает значить больше и меньше, чем
содержится в его значении, когда мы его рассматриваем изолированно и
вне контекста: больше - потому что круг его значений расширяется,
приобретая еще целый ряд зон, наполненных новым содержанием;
меньше - потому что абстрактное значение слова ограничивается и
сужается тем, что слово означает только в данном контексте... В этом
отношении смысл слова является неисчерпаемым... Слово
приобретает свой смысл только во фразе, сама фраза приобретает смысл
только в контексте абзаца, абзац — в контексте книги, книга - в контексте
всего творчества автора»2.
Контекст, традиция, жанр, в которых живет текст, задают его
первый — социальный — полюс, сообщающий ему объективность,
устойчивость, структурность. Но он — ничто без второго полюса текста,
образованного уникальным смыслом высказывания, выражающим
свободный творческий акт. Его содержание не может быть объяснено, но
может быть понято другими субъектами коммуникации. Первый
полюс подлежит научному (историко-социологическому) объяснению,
которое обеспечивает завершенность исследования. Постижение же
неповторимого смысла текста значительно более субъективно, оно
всегда оставляет за спиной целую цепь неразгаданного и сродни
художественному, религиозному, моральному познанию.
И здесь же оказывается, что понимание текста требует выхода за
его пределы в еще одном направлении. До сих пор речь шла о том, что
можно назвать внутренней и внешней социальностью текста, но ими
у Бахтина дело не ограничивается. В самом акте творчества помимо
эмпирических субъектов — автора и читателя обнаруживается
«позиция третьего». Это сам автор, возвысившийся до
трансцендентального субъекта, или рефлексирующий автор, исследователь самого себя,
занимающий миграционную позицию «вненаходимости»3, внело-
кальности, «чуждости» (А. Шюц), вписывающийся в диалогические
отношения и заставляющий их звучать. Подлинный текст не завязан
1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 340.
2 Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956. С. 370.
3 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 72.
И.Т. Касавын • Язык и сознание как элементы сониокода
33
исключительно на локальную внешнюю социальность (т.е. не
является только вторичным текстом), одновременно он не ограничен са-
кральностью и эзотеричностью субъективной творческой
деятельности (т.е. не есть исключительно первичный текст), но открыт и даже
специально обращен к «третьему». Автор, принявший позицию
«третьего», по сути прикладывает к себе мерку всей прошлой и
будущей культуры, пытается превзойти самого себя и обеспечить своему
тексту «открытую социальность», или комбинацию «истинной
ретроспективы» (Петров) и «истинной перспективы». Иначе произведение
ограничивается плоской наличной социальностью и не может
претендовать на сохранение в культурной памяти поколений. «Текст,
который боится "третьего", ищет временного признания и ближайшего
адресата, имеет короткую жизнь и обречен иссякнуть»1, — так
реконструирует Л. И. Новикова позицию Бахтина.
Однако, возвысив текст до культурного объекта, он немедленно
осуществляет следующий шаг — выводит текст (как ответ на вопрос)
за пределы всякой локальной культуры, делая его предметом и
способом межкультурного общения. Тот взрыв, тот выход за пределы,
которому Бахтин подвергает текст, затрагивает и всю культуру — благодаря
вне находи мости автора, а им является также и всякий творческий
читатель, человек культуры вообще, обреченный выходить за свои
пределы, сохраняя свою идентичность. «Творческое понимание не
отказывается от себя, от своего места во времени, от своей культуры и
ничего не забывает. Великое дело для понимания — это вненаходимость
понимающего — во времени, в пространстве, в культуре по
отношению к тому, что оно хочет творчески понять... Чужая культура только
в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже (но не во
всей полноте, потому что придут и другие культуры, которые увидят и
поймут еще больше)... Мы ставим чужой культуре новые вопросы,
каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на эти наши
вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые
свои стороны, новые смысловые глубины»2; «в области культуры
вненаходимость — самый могучий рычаг понимания»3.
Текст, понятый как (потенциальный или актуальный) диалог
культур, уводит исследователя от единства мифа и языка, смысла и
слова, свойственных традиционной, замкнутой в себе культуре. Тем
самым происходит релятивизация и децентрализация литератур-
1 Новикова Л.И. Цит. соч. С. 106.
2 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 334-335.
3 Там же. С. 354.
34
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
но-языкового сознания, которое обретает выраженную
рефлексивность; в нем субъект постоянно соотносит себя с Другим и с
«третьим». И это значимо как фактор трансформации не только
методологии гуманитарных наук, но и общественного сознания вообще.
О перспективе этого возможного
интеллектуально-мировоззренческого сдвига Бахтин говорит так: «Эта словесно-идеологическая
децентрализация произойдет лишь тогда, когда национальная культура
утратит свою замкнутость и самодовление, когда она осознает себя
среди других культур и языков. Этим будут подрыты корни
мифического ощущения языка, зиждущегося на абсолютном слиянии
идеологического смысла с языком; будет вызвано острое ощущение
границ языка, границ социальных, национальных и смысловых; язык
раскроется в своей человеческой характерности, за его словами,
формами, стилями начнут сквозить национально-характерные,
социально-типичные лица, образы говорящих, притом за всеми слоями языка
без исключения, и за наиболее интенциональными - за языками
высоких идеологических жанров. Язык (точнее - языки) сам становится
художественно-завершимым образом человечески характерного
мироощущения и мировоззрения. Язык из непререкаемого и
единственного воплощения смысла и правды становится одной из возможных
гипотез смысла»1.
И вот, как только мы, сделав немалое усилие, попадаем в ритм
широких мыслительных шагов Бахтина и начинаем вместе с ним
«выходить за пределы», нам хочется немедленно получить то, чего у него
нет, а для нас сегодня столь важно и потребно. Бахтин, утверждая, что
понимание текста требует выйти за его пределы в деятельность и
коммуникацию, все же не считал возможным, вместе с К. Мангеймом,
применить этот тезис к естествознанию. Социологический подход
Бахтина ограничивался исключительно сферой искусства. В том же,
что называется «hard science», по его мнению, «удельный вес темы о
слове сравнительно невелик. Математические и естественные науки
вовсе не знают слова как предмет направленности. В процессе
научной работы, конечно, приходится иметь дело с чужим словом — с
работами предшественников, суждениями критиков, общим мнением
и т.п.; приходится иметь дело с различными формами передачи и
истолкования чужого слова - борьба с авторитарным словом,
преодоление влияний, полемика, ссылки и цитирования - но все это остается
в процессе работы и не касается самого предметного содержания
науки, в состав которого говорящий человек и его слово, конечно, не вхо-
1 Бахтин ММ. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 181-182.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
35
дят. Весь методологический аппарат математических и естественных
наук направлен на овладение вещным, безгласным объектом, не
раскрывающим себя в слове, ничего не сообщающим о себе. Познание
здесь не связано с получением и истолкованием слов или знаков
самого познаваемого объекта»1.
Эту же мысль порой разделяете Бахтиным и Лотман. Он говорит о
специфике исторического познания, отличая его от естествознания:
«Прежде чем установить факты "для себя", исследователь
устанавливает факты для того, кто составил документ, подлежащий анализу
(область исключенного)... Можно было бы составить интересный
перечень "нефактов" для различных эпох... Каждый жанр, каждая
культурно значимая разновидность текста отбирает свои факты. То, что
является фактом для мифа, не будет таковым для хроники, факт
пятнадцатой страницы газеты - не всегда факт для первой. Таким
образом, с позиции передающего, факт — всегда результат выбора из
массы окружающих событий события, имеющего, по его
представлениям, значение»2.
Трудно не согласиться с тем, что в исторической науке имеет
место явная теоретическая и идеологическая нагруженность фактов, -
это обстоятельство установил еще тот же Мангейм, а современные
Лотману философия и социология науки пошли много дальше,
обнаружив то же самое применительно к естественно-научному знанию.
Но Лотман видит специфику истории именно в этом, подчеркивая,
что «историческая наука с самого своего первого шага оказывается в
странном положении: для других наук факт представляет собой
исходную точку, некую первооснову, отправляясь от которой, наука
вскрывает связи и закономерности. В сфере культуры факт является
результатом предварительного анализа. Он создается наукой в
процессе исследования и при этом не представляется исследователю
чем-то абсолютным. Факт относителен по отношению к некоторому
универсуму культуры. Он всплывает из семиотического пространства
и растворяется в нем по мере смены культурных кодов. И
одновременно как текст он не до конца детерминирован этим семиотическим
пространством и своими внесистемными аспектами
революционизирует систему, толкая ее к перестройке»3.
Итак, и Бахтин, и Лотман, стремясь выявить специфику
гуманитарного познания, противопоставляют ему познание естествен-
1 Бахтин ММ. Вопросы литературы и эстетики. С. 163.
2 Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2001. С. 337.
3 Там же. С. 338.
36
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
но-научное, как если бы последнее не обладало никакой
теоретической и идеологической нагруженностью. Поэтому они, если
перефразировать классика, вплотную подходят к принципам
современной методологии гуманитарных наук, но останавливаются перед
социальной эпистемологией. Сторонники последней же
последовательно показывают, что и «говорящий человек и его слово», и весь
жизненный мир в измененном, «снятом» виде входят в содержание
естествознания. Парадоксальным образом этому способствуют идеи
самого Бахтина, обобщенные и экстраполированные на другие
области знания.
2. Культура как знак
Обобщение идей Бахтина - один из лейтмотивов творчества Л от-
мана. Формула «культура как текст» трансформируется у него в
формулу «культура как знак», что способствует осознанию единства
гуманитарного и естественно-научного знания, и это приводит Л отмана к
существенной методологической корректировке. Одним из поводов к
тому оказывается критика Р.Дж. Коллингвуда, представляющего
классическую методологию исторической науки. По сравнению с
ней, замечает Лотман, «путь семиотики противоположен: он
предполагает предельное обнажение различий в их структурах (мира объекта
и мира историка. — И.К.), описание этих различий и трактовку
понимания как перевода с одного языка на другой. Не устранение
исследователя из исследования (что практически и невозможно), а осознание
его присутствия и максимальный учет того, как это должно сказаться
на описании. Поэтому в такой мере, в какой инструмент
семиотического исследования есть перевод, инструментом
историко-культурного изучения должна стать типология с обязательным учетом
историка и того, к какому типу культуры принадлежит он сам»1.
Результатом переосмысления методологии истории как науки,
составляющей необходимый элемент всякого гуманитарного
познания, становится формулировка специфики неклассического этапа в
развитии научного знания вообще, характеризуемого
«лингвистическим поворотом». Ссылаясь на В. Гейзенберга2, Лотман на свой лад
высказывает следующее важнейшее методологическое положение,
ставшее со времен Венского кружка символом веры всей
аналитической философии науки.
1 Лотман Ю. Семиосфера. С. 387.
2 См.: Геизенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987.
И.Т. Касабин • Язык и сознание как элементы социокода
37
«В разных областях науки актуализируется одна и та же проблема:
проблема языка, взаимодействия метаязыка описания и
описываемого объекта. Из наивного мира, в котором привычным способам
восприятия и обобщения его данных приписывалась достоверность, а
проблема позиции описывающего по отношению к описываемому
миру мало кого волновала, из мира, в котором ученый рассматривал
действительность "с позиции истины", наука перешла в мир
относительности. Вопросы языка стали касаться всех наук. По сути дело
здесь в следующем: наука, в том виде, в котором она сложилась после
Ренессанса, положив в основание идеи Декарта и Ньютона, исходила
из того, что ученый является внешним наблюдателем, смотрит на
свой объект извне и поэтому обладает абсолютным "объективным"
знанием. Современная наука в разных своих сферах - от ядерной
физики до лингвистики - видит ученого внутри описываемого им мира
и частью этого мира. Но объект и наблюдатель, как правило,
описываются разными языками. Следовательно, возникает проблема
перевода как универсальная научная задача»1.
Чтобы понять, как, по-видимому, частная лингвистическая
проблема перевода с одного языка на другой приобретает глобальный
статус, нужно обратиться к основаниям концепции Лотмана, на
одном полюсе которой располагается понятие культуры, а на другом -
понятие знака. В ней он реализует бахтинский замысел по уточнению
понятия текста путем придания ему внешнего, интертекстуального
измерения, по сути встраивая текст в культурное взаимодействие.
Этому служит понятие семиосферы, или семиотического
пространства: «Семиотическое пространство предстает перед нами как
многослойное пересечение различных текстов, вместе складывающихся в
определенный пласт, со сложными внутренними соотношениями,
разной степенью переводимости и пространствами
непереводимости. Под этим пластом расположен пласт "реальности" — той
реальности, которая организована разнообразными языками и находится с
ними в иерархической соотнесенности. Оба этих пласта вместе
образуют семиотику культуры. За пределами семиотики культуры лежит
реальность, находящаяся вне пределов языка»2.
Тем самым понятие знака как элемента семиотического
пространства вводится через уточнение понятия текста как совокупности
интертекстуальных отношений. Знак — не изолированный
физический объект, обладающий значением и смыслом; это культурный
' Лопгман Ю. Семиосфера. С. 386.
2 Там же. С. 30.
38
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
символ, некоторый минимальный текст, имеющий определенную
внутреннюю структуру, «текстуру». Но и сам текст есть сложное
образование, в пределе совпадающее с культурой в целом. И здесь мы
вновь обязаны обратиться к обширной цитате.
«Культура в целом может рассматриваться как текст. Однако
исключительно важно подчеркнуть, что это — сложно устроенный текст,
распадающийся на иерархию "текстов в текстах" и образующий
сложные переплетения текстов. Поскольку само слово "текст" включает в
себя этимологию переплетения, мы можем сказать, что таким
толкованием мы возвращаем понятию "текст" его исходное значение. Таким
образом, само понятие текста подвергается некоторому уточнению.
Представление о тексте как единообразно организованном смысловом
пространстве дополняется ссылкой на вторжение разнообразных
"случайных" элементов из других текстов. Они вступают в
непредсказуемую игру с основными структурами и резко увеличивают
непредсказуемость дальнейшего развития. Если бы система развивалась без
непредсказуемых внешних вторжений (т.е. представляла бы собой
уникальную, замкнутую на себя структуру), то она развивалась бы по
циклическим законам. В этом случае в идеале она представляла бы
повторяемость. Взятая изолированно, система даже при включении в нее
взрывных элементов в определенное время исчерпала бы их.
Постоянное принципиальное введение в систему элементов извне придает ее
движению характер линейности и непредсказуемости одновременно.
Сочетание в одном и том же процессе этих принципиально
несовместимых элементов ложится в основу противоречия между
действительностью и познанием ее. Наиболее ярко это проявляется в
художественном познании: действительности, превращенной в сюжет,
приписываются такие понятия, как начало и конец, смысл и другие»1.
Это уточнение понятия текста с точки зрения внутренней
структуры, как мы видим, представляет для Лотмана лишь исходный пункт
анализа, в котором он дистанцируется от других подходов и
некоторых своих прежних идей: «Существенное отличие современного
структурного анализа от формализма и раннего этапа структурных
исследований заключается в самом выделении объекта анализа.
Краеугольным камнем названных выше школ было представление об
отдельном, изолированном, стабильном самодовлеющем тексте.
Текст был и константой, и началом, и концом исследования. Понятие
текста по существу было априорным»2.
1 Лотман Ю. Семиосфера. С. 72.
2 Там же. С. 102.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
39
Сверхзадача исследования Лотмана значительно более глобальна.
Он стремится объединить в одно целое не только знак и культуру, но и
реальность, стоящую за ними: внутрь семиотического пространства
вовлекается реальность социальной коммуникации вообще так же,
как внутрь познавательного процесса вовлекается противостоящая
ему познаваемая реальность. И здесь речь идет не о механическом
соединении разных фрагментов реальности. Данное расширение влечет
за собой отказ от субстанциального понимания и языка и познания в
пользу их функционального истолкования. Лотман фактически
подходит к принципиальным выводам, следующим из функциональной
лингвистики, для которой внешний, обращенный к субъекту и
социуму аспект языка выступает в качестве основного.
«Понятие текста — в том значении, которое придается ему при
изучении культуры, — отличается от соответствующего
лингвистического1 понятия. Исходным для культурного понятия текста является
именно тот момент, когда сам факт лингвистической выраженности
перестает восприниматься как достаточный для того, чтобы
высказывание превратилось в текст»2. Это очень важный момент: таким
образом, текст рассматривается как производная от его функции в
культуре, что уже практикуется в языковой прагматике. Однако Лотман
делает важное дополнение, позволяющее существенно уточнить
многоаспектный характер этой функции: «Говоря о недостаточности
семантического или синтаксического анализа текста, мы
противопоставляем им не прагматический, а функциональный подход... текст
осмысляется создающим в одних функционально-типологических
категориях, а воспринимающим - в других... следует говорить о
соотнесении текста не с какой-либо одной, а с двумя типологиями —
создающего (передающего) и воспринимающего»3.
Подчеркнем еще раз: функция текста в культуре это не просто
его абстрактная включенность в некоторые культурные системы
типа библиотек, книжных магазинов или литературных обзоров.
Текст — это скорее перекрестье культуры, точка коммуникативного
взаимодействия двух и более субъектов в синхронном и диахронном
измерениях. Текст подвижен, находится в постоянном
процессе функционирования: «Современное семиотическое исследование
также считает текст одним из основных исходных понятий, но сам
1 Под лингвистикой Лотман понимает прежде всего традиционную
структурную лингвистику.
2 Лотман Ю. Семиосфера. С. 434.
3 Там же. С. 444.
40
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
текст мыслится не как некоторый стабильный объект, имеющий
постоянные признаки, а в качестве функции. Как текст может
выступать и отдельное произведение, и его часть, и композиционная
группа, жанр, в конечном итоге — литература в целом. Дело здесь не в том,
что в понятие текста вводится возможность расширения. Отличие
имеет гораздо более принципиальный характер. В понятие текста
вводится презумпция создателя и аудитории, причем эти последние
могут не совпадать по своим объемам с реальным автором и реальной
аудиторией»1.
Текст и его окружение утрачивают абстрактно-безличные черты,
становясь двумя равноправными субъектами языка, культуры и
коммуникации со своими интересами и традициями, скрытыми
предпосылками, системами символов, навыками понимания, чтения и
письма. «Взаимоотношения текста и аудитории характеризуются
взаимной активностью: текст стремится уподобить аудиторию себе,
навязать ей свою систему кодов, аудитория отвечает ему тем же. Текст
как бы включает в себя образ "своей" идеальной аудитории,
аудитория - "своего" текста»2. Лотман иллюстрирует это положение
анекдотом о математике П.Л. Чебышеве, как-то выступившем с лекцией о
математической задаче раскройки ткани. После его первой фразы
«Предположим для простоты, что человек имеет форму шара»
значительная часть слушателей (вероятно, инженеров-текстильщиков и
специалистов-закройщиков) покинула зал. Текст отобрал себе
аудиторию, в которой остались одни математики.
Для социального эпистемолога важен следующий отсюда
методологический вывод, касающийся анализа текста и возможности
реконструкции его социокультурного содержания. По сути Лотман
предоставляет сильный лингвистический аргумент в пользу социального
конструктивизма, согласно которому всякое знание — социальная
конструкция и адекватное истолкование знания предполагает
выявление содержащихся в нем актов деятельности, коммуникации и
элементов прошлой культуры. Вот как звучит этот тезис: «Текст
содержит в себе свернутую систему всех звеньев коммуникационной цепи.
Подобно тому как мы извлекаем из него позиции автора, мы можем
реконструировать на его основании и идеального читателя этого
текста. Этот образ активно воздействует на реальную аудиторию,
перестраивая ее по своему подобию. Личность получателя текста,
представляя семиотическое единство, неизбежно вариативна и способна
1 Лотман Ю. Семиосфера.
2 Там же. С. 203.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
41
"настраиваться по тексту". Со своей стороны, и образ аудитории,
поскольку он не эксплицирован, а лишь содержится в тексте как
некоторая мерцающая позиция, поддается варьированию. В результате
между текстом и аудиторией происходит сложная игра позициями»1.
Не следует понимать Лотмана так, что методология анализа
текста имеет однонаправленный характер — от текста к культуре. Такова
лишь естественная позиция лингвиста, для которого текст является
первичным материалом. Позиция историка принципиально иная, и
здесь имеет смысл вновь обратиться к тому, какие выводы следуют из
методологии исторического исследования, поЛотману. Историкдол-
жен отдавать себе отчет в том, что текст и относящееся к нему
событие — принципиально разные, хотя и взаимосвязанные вещи,
которые лишь проглядывают друг из-за друга. Работая в архиве, нельзя
очаровываться текстами, нельзя сливаться с ними, как требуют
сторонники «философии жизни», но такой же ошибкой было бы занять
позицию позитивистской критики текста XIX в., унаследовав ее пре-
зентизм и установку на элиминацию политических предубеждений.
«Историк обречен иметь дело с текстами, - соглашается Лотман,
но сразу же указывает на непрозрачность, неочевидность текста,
который выступает не только как средство, но и как препятствие к
пониманию исторической реальности. — Между событием "как оно
произошло" и историком стоит текст, и это коренным образом меняет
научную ситуацию. Текст всегда кем-то и с какой-то целью создан,
событие предстает в нем в зашифрованном виде. Историку предстоит
прежде всего выступить в роли дешифровщика. Факт для него не
исходная точка, а результат трудных усилий. Он сам создает факты,
стремясь извлечь из текста внетекстовую реальность, из рассказа о
событии - событие»2.
Лотман убежден в том, что дешифровка текста - всегда
реконструкция, ничего не принимающая на веру; установка, далекая от
слепого доверия к тексту и позиции автора. «Для исследователя с опытом
семиотического истолкования источников очевидно, что вопрос
должен стоять иначе: необходима реконструкция кода (вернее, набора
кодов), которыми пользовался создатель текста, и установление
корреляции их с кодами, которыми пользуется исследователь»3. Только
релевантность события в определенном историческом контексте
превращает его в факт; к примеру, в сагах и летописях налицо большие
1 Там же. С. 204.
2 Там же. С. 336.
3 Там же.
42
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
временные лакуны или краткие констатации того, что «все было
спокойно», т.е. ничего не происходило вообще. На деле этого не могло
быть, история не прекращается, но для древнего историка
происходящее не являлось историческим событием, если не сопровождалось
распрями, переворотами и войнами.
Лотман воспроизводит вариант концепции лингвистической
относительности, указывая на власть языка, с одной стороны, и
предостерегая от нее — с другой: «Превращение события в текст... означает
его пересказ в системе того или иного языка, т.е. подчинение его
определенной заранее данной структурной организации... Будучи
пересказано средствами языка, оно неизбежно получает структурное
единство. Единство это, физически принадлежащее лишь плану
выражения, неизбежно переносится на план содержания... система
языковых связей неизбежно переносится на истолкование связей
реального мира»1.
Представляется, что здесь Лотман сделал слишком сильный
акцент на системном единстве языка, возможности логической
упорядоченности мира, которые есть скорее лингвистические абстракции в
стиле Соссюра, чем свойства языковой реальности. Есть основания
утверждать, что, напротив, пересказ как специфический дискурс
нередко вносит в события больше хаоса и произвола, чем реально в нем
содержится. По этому поводу с Лотманом, видимо, мог бы также
поспорить Петров, когда писал о том, что история европейского социо-
кода есть история замыкания структур социального кодирования на
грамматические структуры конкретных естественных языков.
Отсюда вытекает специфическая ошибка исторической реконструкции.
«Эти замыкания на языковые структуры высокой степени общности
создают и поддерживают иллюзию, что так и должно быть, что любой
"нормальный" социокод, обеспечивающий воспроизводство
социальности и накопление знания, обязан строиться на
логико-лингвистическом основании или хотя бы стремиться к такому "развитому"
построению. На этой иллюзии, в частности, основана и
лингвистическая относительность»2.
Словно отвечая на эту критику, Лотман говорит о недостаточности
лингвистической выраженности текста и развивает свою концепцию
бесписьменной культуры, что приводит его к истокам языка, к
донаучным формам сознания (магии, мифу, религии). И это уже, кстати,
оказывается вполне созвучным с некоторыми идеями Петрова.
1 Лотман Ю. Семиосфера. С. 339.
2 Петров М.К. Язык. Знак. Культура. M., I99J. С. 93.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
43
3. За пределами письма
Откуда же Лотман выводит возможность бесписьменной
культуры?1 Сначала он анализирует ее противоположность, т.е.
предпринимает исследование привычного и доминирующего в европейской
культуре письменного сознания, рассматривая его сквозь призму
особой языковой деятельности и ее социальных условий. Так,
письменное сознание базируется на фиксации единичных, уникальных
событий. Летописи вещают о «происшествиях» разного рода —
феноменах, заслуживающих упоминания в столь важном книжном виде.
Историк, отвечая на вопросы типа «что случилось?» или «кто
победил?», выстраивает историческое повествование по определенному
канону; оно оказывается побочным результатом возникновения
письменности и одновременно ее условием. История в силу
письменного оформления приписывает социальной реальности
причинно-следственные связи и вычленяет в ней эффективные результаты,
что в свою очередь приводит к умножению числа текстов, которые
вновь определяют историческое изложение. В качестве
исторического факта фигурирует прежде всего то, что записано в книгах, и чем
древнее изложение, тем оно достовернее. В силу этой ориентации из
прошлого протягивается прямая линия к настоящему, но данная
линейность времени базируется также на определенном типе
социальной динамики и специфике социального пространства, которое
состоит в доминировании дороги над территорией. Соответственно
формируется и тип личности, характеризуемый индивидуальным
выбором и личной ответственностью, оптимальный для нестабильных
исторических условий Средиземноморья и Причерноморья.
Динамизм сменяющихся обстоятельств, полиэтническая среда порождают
эффект Вавилонской башни, когда основной языковой
деятельностью становится перевод. Набор разнообразных и разноязычных
книг образует библиотеку как воплощение письменной культуры.
Таким образом, письменная культура реализует собой то, что мы,
ориентируясь на Петрова, называем «миграционным архетипом»2.
В то же время, указывает Лотман, существовали целые мощные
цивилизации, успешно обходившиеся без письменности. В то время
как для Древней Греции бесписьменная культура явилась лишь
преддверием письменной, древние латиноамериканские цивилизации
вообще не оставили письменных свидетельств. Свойственное им бес-
1 См. подробнее: Лотман Ю. Семиосфера. С. 364-371.
2 См.: Касавин И.Т. Миграционный архетип и его трансформации (пастухи и
пираты) // Уранос и Кронос. Хронотоп человеческого мира. М., 2001.
44
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
письменное сознание строилось как воспроизведение устных
текстов, воплощавших в себе мнемонические символы и ритуалы. Это
сознание коррелировало со спецификой социальной реальности,
ограниченностью и неизменностью территории. Повторяемость
ритуала и его устной формулы определяла цикличность времени, в
условиях которого прошлое парадоксальным образом лишалось особой
ценности, но здесь же и личность утрачивала самостоятельность. Власть
авторитета в ситуациях выбора, ответственность перед социумом
оказывались главными нормами поведения. Лотман связывает воедино
бесписьменную культуру с ландшафтом и архитектурой, показывает
ее обусловленность вековой изоляцией. Непрерывность культурной
традиции могла реализовываться только в специфических истори-
ко-географических условиях - на плоскогорьях Перу, в долинах
междугорья Анд и на полосе перуанского побережья. Естественна ее
неприспособленность ко всякому изменению: завоевание Америки
привело к ее быстрому исчезновению, в то время как античность
расцветала в условиях войн, миграций и межкультурного
взаимодействия.
Вот какие следствия выводит Лотман из факта
противоположности бесписьменной и письменной культур. «Бесписьменная культура
с ее ориентацией на приметы, гадания и оракулов переносит выбор
поведения во внеличностную область. Поэтому идеальным
человеком считается тот, кто умеет понимать и правильно истолковывать
предвещания, а в осуществлении их не знает колебаний, действует
открыто и не скрывает своих намерений. В противоположность этому
(письменная. - И.К.) культура, ориентированная на способность
человека самому выбирать стратегию своего поведения, требует
благоразумия, осторожности, осмотрительности и скрытности, поскольку
каждое событие рассматривается как "случившееся в первый раз"»1.
Типичные свидетельства столкновения письменной и устной
культур Лотман обнаруживает в истории. Так, в Ветхом Завете друг
другу противостоят разные свидетельства договора человека с Богом.
У Ноя это явление радуги, у Моисея — скрижали. Моисею и
скрижалям также противостоит Аарон со своими ритуальными плясками
вокруг тельца. Фигуры косноязычного и прямолинейного Аякса и
велеречивого хитреца Одиссея иронически фиксируют столкновение
этих же двух типов культур с позиции культуры письменной. И
напротив, легенда Сократа о фараоне и Тевте в диалоге «Федр»
представляет критику письменности с позиции более древней, беспись-
Лотман Ю. Семиосфера. С. 336.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
45
менной культуры. Сократ, как мы помним, связывает с письмом не
прогресс культуры, а утрату ее высокого уровня, достигнутого
бесписьменным обществом, и Лотман вскрывает небезосновательность
его критики.
«Мир устной памяти насыщен символами. Может показаться
парадоксом, что появление письменности не усложнило, а упростило
семиотическую структуру культуры. Однако представленные
материальными предметами мнемонико-сакральные символы включаются
не в словесный текст, а в текст ритуала. Кроме того, по отношению к
этому тексту они сохраняют известную свободу: материальное
существование их продолжается и вне обряда, включение в различные и
многие обряды придает им широкую многозначность. Самое
существование их подразумевает наличие обволакивающей их сферы устных
рассказов, легенд и песен. Это приводит к тому, что синтаксические
связи этих символов с различными контекстами оказываются
"разболтанными". Словесный (в частности, письменный) текст покоится
на синтаксических связях. Устная культура ослабляет их до предела.
Поэтому она может включать большое количество символических
знаков низшего порядка, находящихся как бы на грани
письменности: амулетов, владельческих знаков, счетных предметов, знаков
мнемонического "письма", но предельно редуцирует складывание их в
синтаксическо-грамматические цепочки»1.
Подчеркнем, что анализ Л отманом бесписьменной культуры
органично вписывается в целый ряд фактов и подходов, ставших
общим местом современных исследований в гуманитарных науках.
Это и используемый самим Лотманом пример из жизни
африканского племени ндебу2, и противоположность аристократической и
буржуазной культуры3, и два лингвистических кода Б. Бернстайна4, и
типы социокода Петрова, и идеи Выготского о рассогласовании
языка и мышления, о комплексном и понятийном мышлении. Лотман
вносит важный вклад в исследование истоков языка и культуры,
эволюции сознания, существенным образом дополняя синхронные
социолингвистические и культурологические исследования. В
дальнейшем он применяет свой подход для разработки методологии
1 Лотман Ю. Семиосфера. С. 367-368.
2 См.: Тэрнер В. Символ и ритуал. M., 1983. С. 57-58.
3 См.: Зубец О.П. Аристократизм // Этический словарь. М., 2002.
4 См.: Bernstein В. Linguistic Codes, Hesitation Phenomena and Intelligence //
Language & Speech. 1962. Vol. 5, № 1. P. 31—46.
46
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
анализа до- и вненаучных форм знания и сознания, имеющего
принципиальное значение для современной эпистемологии1.
Так, Лотман выделяет две главные архаические социокультурные
модели: магию и религию2 (при этом оговаривает, что они не
совпадают с реальными историко-культурными феноменами, которые
представляют собой более сложные комбинации обеих). Магии как
особому типу деятельности присущи взаимность, принудительность,
эквивалентность, договорность. Она базируется на обмене, предполагает
выгоду и воспитывает сознание ответственности. Именно в магии, по
Лотману, в силу роста аналитического мышления, ценности хитрого
разума впервые возникает возможность рассогласования содержания
и формы знака. Религия, напротив, отличается односторонностью
отношений между человеком и Богом, произвольностью
божественного действия, доминированием отношений дарения, целостностью
сознания и следующим из этого единством содержания и формы
символа3.
Эта типология Лотмана, видимо, не согласующаяся с привычным
представлением о магическом единстве знака и значения, в
действительности позволяет проводить достаточно тонкие разграничения
внутри раннерелигиозных форм сознания (мифа, магии, тотемизма и
проч.). Кроме того, с ее помощью можно истолковывать и более
поздние и даже не относящиеся к религии культурные феномены,
например торговую мораль. В сознании русских купцов Лотман
обнаруживает замысловатые комбинации магического и религиозного,
воскрешающие в памяти образ ветхозаветного пастуха Иакова.
«Посещавшие Россию иностранцы склонны были обвинять русских
купцов в неверности и лукавстве. Однако, парадоксально, причина
заключалась в отношении к договору как таковому: случай обмана в
отношении с "чужими" (а договор мыслился как форма отношений
именно с чужим) был как бы подразумеваемым условием. Обман
здесь был сродни фольклорной хитрости героя-трикстера.
Совершенно иным было народное отношение к связям внутри своей среды.
Здесь обман почитался тяжким грехом, но и договора не
требовалось - его заменяло доверие»4.
1 См.: Касавин И. Т. Наука и иные типы знания: позиция эпистемолога //
Эпистемология и философия науки. 2005. Т. IV, № 2.
2 См.: Лотман Ю. Семиосфера. С. 371-372.
3 В рамках нашей типологии религиозного отношения к миру аналогичным
образом выделяются договорная религия и религия смирения. См.: Касавин И. Т.
Изобретение веры. Авраам и Иов// Вопросы философии. 1999. № 2.
4 Лотман Ю. Семиосфера. С. 384.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
47
Магия как медиум договаривающихся сторон — самый
первоначальный контекст, в котором возникает практика диалогического
общения. В религии, где все заслоняет собой вера и более нет
никакого обмена-обмана, где «торгующие изгоняются из храма», она
уходит в тень. Отсюда вновь возврат к ключевому понятию Бахтина
«диалог».
Таким образом, прослеженные выше мыслительные ходы Лотма-
на являют собой по сути закономерное развитие бахтинского понятия
диалога, роль которого в функциональной лингвистике исполняет
безличное понятие коммуникации. «Речевое мышление», «речевое
сознание» (в использовании этого термина замечательно созвучие
Бахтина и О. Мандельштама1), по Бахтину, неотъемлемы от диалога
как в логическом, так и в историческом смысле. Бахтин анализирует
различные ситуации в истории культуры и литературы, в которых эта
мысль высвечивается в самых неожиданных ракурсах.
Вот несколько характерных примеров. В истории романа Бахтин
вскрывает параллель между литературой и наукой, обязанную
диалогу. «Мы обладаем замечательным документом, отражающим
одновременное рождение научного понятия и нового
художественно-прозаического романного образа. Это — сократические диалоги»2.
Диалог оказывается существенным элементом «онтологии пути» -
актуального предмета современных культурологических
исследований3. Хронотоп дороги неизбежно предполагает диалог как
эксперимент — своеобразный тест на понимание и выживание. «На дороге
("большой дороге") пересекаются в одной временной и
пространственной точке пространственные и временные пути
многоразличнейших людей — представителей всех сословий, состояний,
вероисповеданий, национальностей, возрастов. Здесь могут случайно встретиться
те, кто нормально разъединен социальной иерархией и
пространственной далью. Здесь могут возникнуть любые контрасты,
столкнуться и переплестись различные судьбы»4. Воображаемый диалог,
свойственный романам Достоевского — постоянному предмету внимания
Бахтина, напоминает мысленный эксперимент - методический
прием, которым в равной степени пользовались и Аристотель, и Галилей,
и Бор.
1 Ср.: Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 46.
2 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 467.
3 См.: Касавин И. Т. Человек мигрирующий: онтология пути и местности //
Вопросы философии. 1997. № 7.
4 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 392.
48
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
На основе этих и других частных случаев Бахтин формулирует
общий вывод, который вполне можно рассматривать как эпиграф к
современной теории дискурса: «Текст как таковой не является
мертвым: от любого текста, иногда пройдя через длинный ряд
посредствующих звеньев, мы в конечном счете всегда придем к человеческому
голосу, так сказать, упремся в человека»1.
Лотман так переводит идею диалогичности на более технический
язык: «Минимальной работающей семиотической структурой
является не один искусственно изолированный язык или текст на таком
языке, а параллельная пара взаимно-непереводимых, но, однако,
связанных блоком перевода языков. Такой механизм является минимальной
ячейкой генерирования новых сообщений. Он же - минимальная
единица такого семиотического объекта, как культура»2. Если
использовать обычную для Лотмана компьютерную метафору, то
семиотические объекты выступают как «мыслящие структуры» с
интеллектуальным собеседником и текстом на «входе». Для функционирования
интеллекта требуется другой интеллект - либо внешний, либо
относящийся к сфере того же индивидуального сознания. Во втором
случае эвристична аналогия между биполярной асимметрией
семиотических механизмов и функциональной асимметрией мозга,
обоснованию которой посвящена статья Лотмана «Асимметрия и диалог»3.
Так возникает искомая цепочка, характеризующая взаимосвязь
языка и мышления: мышление-перевод-диалог: «Мы говорили, что
элементарный акт мышления есть перевод. Теперь мы можем сказать,
что элементарный механизм перевода есть диалог. Диалог
подразумевает асимметрию, асимметрия же выражается, во-первых, в различии
семиотической структуры (языка) участников диалога и, во-вторых, в
попеременной направленности сообщений. Из последнего следует,
что участники диалога попеременно переходят с позиции "передача"
на позицию "прием"»4.
Диалогическая структура коммуникации выступает как медиум,
который объединяет письмо и устную речь, текст и его
лингвистические контексты, язык и его внеязыковые условия. Диалог как понятие
по сути предвосхищает и заранее упрощает ту многозначность и
расплывчатость, которую приобрело сегодня понятие дискурса. В теории
диалога схвачено наиболее плодотворное содержание современных
1 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. С. 401.
2 Лотман Ю. Семиосфера. С. 151.
3 См.: Там же. С. 590-602.
4 Там же. С. 268.
И. Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
49
теорий дискурса: представление о живой ткани общения, вне которой
текст остается бессмысленным и мертвым словом, а контекст —
чуждым и безгласным окружением языка.
Бахтин изначально черпает общую методологическую идею
диалога-дискурса из конкретного литературоведческого анализа. В
различии романа и других жанров он обнаруживает различие
динамического и статического текстов, т.е. полифонического текста,
погруженного в дискурс и взаимодействующего со своим контекстом, и
монологического текста, контекст которого забыт, а дискурс более не
практикуется: «Роман не имеет такого канона, как другие жанры:
исторически действенны только отдельные образцы романа, а не
жанровый канон как таковой. Изучение других жанров аналогично
изучению мертвых языков; изучение же романа - изучению живых
языков, притом молодых»1.
Отсюда далеко идущая аналогия между наукой и искусством,
философией и литературой, которая подчеркивает значение
диалогического и полифонического мышления для формирования
европейской ментальности, рефлексивного сознания вообще: «Память, а не
познание есть основная творческая способность и сила древней
литературы. Так было, и изменить этого нельзя; предание о прошлом
священно. Нет еще сознания относительности всякого прошлого. Опыт,
познание и практика (будущее) определяют роман. В эпоху
эллинизма возникает контакт с героями троянского эпического цикла; эпос
превращается в роман. Эпический материал экспонируется в
романный, в зону контакта, пройдя через стадию фамильяризации и смеха».
Бахтин заключает этот пассаж весьма примечательной для
эпистемолога (а может быть, и для историка философии) фразой: «Когда роман
становится ведущим жанром, ведущей философской дисциплиной
становится теория познания»2.
4. Современное значение понятия «дискурс»
Сегодня понятие дискурса индексирует собой двуединый сдвиг в
центральной проблеме философии - проблеме обоснования знания:
дискурс противопоставляется трактату, неспециализированное
повседневное мнение — профессиональному экспертному суждению, в
особенности при обсуждении проблем общественной значимости.
Это понятие дискурса соответствует новой картине мира, которая от-
1 Бахтин ММ. Вопросы литературы и эстетики. С. 448.
2 Там же. С. 459.
50
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
называется от монотеоретизма и наукоцентризма. Отныне задача не
исчерпывается тем, чтобы поставить в центр одну из научных моделей
мира; важно оценить их по взаимным преимуществам и
недостаткам1. Кроме того, данное сопоставление производится не только в
целях достижения научной истины, но на фоне мира повседневности и
относительно простого человека с его интересами и потребностями.
Широкое распространение термина «дискурс» в гуманитарных
науках уже вывело его за пределы лингвистической определенности,
но еще не дало его философского осмысления. Как же можно сузить и
уточнить понятие дискурса?
Во-первых, нужно сопоставить понятие дискурса с
аналогичными эпистемологическими понятиями. Таковыми являются понятия
творческого акта и метода познания. В обоих случаях речь идет о
процессе развития знания, в котором деятельность до определенной
степени регламентирована и одновременно вынуждена выходить за
нормативные и эмпирические пределы. Данный процесс соединяет
между собой ставшее знание и когнитивные ресурсы, или источники
познания. Во-вторых, из всех социально-политических оттенков
смысла термина «дискурс» теоретически значимым представляется
только тот, который подразумевает живой социальный акт
дискуссии, или коммуникации. Он опосредует собой взаимодействие
индивидуальных социальных субъектов и социальных структур.
В-третьих, из лингвистических смыслов этого термина стоит вернуться к
восходящей к работам Э. Бенвениста теории дискурса как прагматически
ориентированного текста. Бенвенист отличал текст как
безлично-объективистское повествование от дискурса как живой речи,
предполагающей коммуникативные контексты (говорящего,
слушающего, намерение, место, время речи). Их различие, по мысли
Бенвениста, не совпадает с различием письменного и устного текста2.
Этот подход мне кажется оправданным. Вместе с тем в современной
лингвистической прагматике понятие текста включает в себя понятие
дискурса как частную форму. От этой традиции я вынужден отойти:
в моем понимании текст и дискурс являются лишь частично
пересекающимися понятиями. Я буду понимать дискурс как неоконченный
живой текст, взятый в момент его непосредственной включенности в
1 «Дискурс можно было бы определить как такую инстанцию, с помощью
которой модели соотносятся между собой» (Kohlhaas Р. Diskurs und Modell.
Historische und systematische Aspekte des Diskursbegriffs und ihr Verhältnis zu einer
anwendungsorientierten Diskurstheorie // Diskurs: Begriff und Realisierung ;
H.U. Nennen (Hg.). Würzburg, 2000. S. 32.
2 См.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. M., 1974. С. 276.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
51
акт коммуникации, в ходе его взаимодействия с контекстом1. От
дискурса отличается текст, который уже отчужден от автора
пространственными, временными и иными индексикальными2 параметрами.
Чтобы понять дискурс, можно задать вопрос говорящему,
понимание же текста требует «вопрошания контекста», контекстуализа-
ции письма, возможной лишь в процессе социокультурной
реконструкции. В этом смысле нет устных текстов, поскольку доступ к
любому тексту возможен лишь через его объективированного носителя, в
анализе которого можно применить научный принцип
воспроизводимости. Устным же в буквальном смысле, связанным с устами, т.е.
незавершенным, живым, может быть лишь дискурс («прямой эфир»),
пусть даже он реализуем не только аудио-, но и визуальными
способами, с помощью жестов, знаков, элементов письменного текста. И сам
процесс письма является дискурсом постольку, поскольку еще не
завершен и связан с автором: к примеру, это процесс рисования или
письма учителя на школьной доске перед учениками, следящими за
его деятельностью и готовыми задать вопрос.
5. Формы и типы дискурса
М. Холлидей выделяет четыре типа дискурса: производство
текста; отнесение к нему и конструирование из него контекста ситуации;
построение потенциала, лежащего заданным текстом и ему
подобными; отнесение к нему и конструирование из него контекста культуры,
лежащего за пределами данной ситуации и ей подобными3.
Предлагаю уточнить эту типологию на основе ряда взаимосвязанных
понятий: социальности, текста и контекста, а также времени и смысла.
Прежде всего к дискурсу, если мы рассматриваем его как форму
знания, применимы общие эпистемологические таксономические
принципы, использованные в моих предыдущих работах4. Это
1 Кстати, как свидетельствует Н.С. Автономова (Деррида и грамматология //
Ж. Деррида. Граматология. М., 2000. С. 92), «ранний Деррида, вопреки всем
позднее закрепившимся смыслам, называет дискурсом "живое осознанное
представление текста в опыте пишущих и читающих"».
2 Р. Монтегю назвал так контекстные координаты (говорящий, слушающий,
время и место речевого акта), от которых зависит значение предложения. См.:
Montague R. Pragmatics // Contemporary Philosophy. La philosophie contemporaine.
Florence, 1968. Vol. I. P. 102-122.
3 См.: Haliiday MA.K. The Notion of "Context" in Language Education // Text and
Context in Functional Linguistics ; ed. by M. Ghadessy. Amsterdam ; Philadelphia, 1999. P. 23.
4 См.: Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы
неклассической теории познания. СПб., 1998.
52
Раздел 1.Языки сознание: общие проблемы
касается типологии
«практическое/практически-духовное/теоретическое знание» и деления по предмету, методу, исторической эпохе,
типу социальной детерминации и социального производства.
Некоторые из этих типологий на первый взгляд не требуют особых
пояснений. Таково, к примеру, различие дискурсов по предмету:
политический, научный, художественный, религиозный, моральный и проч.
Аналогично и выделение античного, средневекового,
гуманистического, нововременного и прочих типов дискурса относительно
исторической эпохи. Вместе с тем здесь очевидна необходимость
культурологической квалификации каждой эпохи сточки зрения принятых
стандартов чтения и письма1.
Для отнесения к типу социального производства можно
использовать известный метод «grid-group analysis» M. Дуглас. Он позволяет
выделить четыре социальные общности исходя из того, насколько
сильно (high или low) в них выражена внутренняя структурность (grid)
и групповая граница (group). Наша модификация этой схемы
относительно способов социального производства дает типологию внутри-и
внешнесоциального дискурсов, каждый из которых может быть
также продуктивным и рецептивным. Различие этих дискурсов
определяется тем, что они используют и вырабатывают смыслы на уровнях
внутренней и внешней социальности.
Схема позволяет также уточнить указанную выше предметную
типологию дискурса (рис. 1). Если мы заменяем измерение
внутренней структурности (grid) текстом, а групповую границу (group)
контекстом и предписываем каждому из них способность быть
выраженным сильно или слабо, то получаем четыре группы. Группа A (high
text — high context), отличающаяся высокой внутренней
структурированностью текста, одновременно определяется и жесткой
контекстуальной, или социальной, привязкой. Это характеризует политико-
экономический дискурс, использующий рациональные стандарты
языка науки и одновременно отвечающий определенным
общественным реалиям и социальным целям (политической эффективности,
экономической выгоде). Во второй группе В (high text- low context)
также принят специализированный рациональный язык, но контекст
универсализируется, расплывается. Это - научный дискурс,
ориентированный понятиями истины, достоверности, обоснованности и
не ограниченный никакими внешними - предметными и
социальными сферами. Группа С (low text — high context) представляет собой
художественный дискурс. Он характеризуется своеобразием индиви-
1 См., например: Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Гл. III, § 3 и 4.
И.Т. Касабин • Язык и сознание как элементы социокода
53
дуального стиля, не укладывающегося в унифицированные знаковые
стандарты. Одновременно искусство как выражение исторической
эпохи несет в себе отчетливый контекст, составляющий смысл
произведения. И, наконец, группа D (low text - low context) обнаруживает
близость к искусству благодаря субъективности своей языковой
артикуляции, а с наукой ее роднит универсальность контекста. Это -
моральный дискурс, в котором Ю. Хабермас усмотрел родовые черты
дискурса как такового. В силу своей неопределенности он
представляет собой по сути внеинституциональный, или экстрапарадигмаль-
ный дискурс, сферу становления (или разложения) всякого дискурса
вообще.
High text
Low text
High context
A
С
Low context
В
D
Рис. 1
При построении подобных типологий нужно учитывать ряд
принципиальных ограничений. Во-первых, это касается условного,
относительного различия выделяемых типов дискурса, а также того, что живая
деятельность вообще сопротивляется и бежит всякой таксономии. И как
только мы начинаем типологизироватьдискурс, мы попадаем
вдовушку: разговор переключается с дискурса на текст или контекст.
Обратимся к лингвистическому материалу и посмотрим
несколько подробнее, как может работать аналогия между дискурсом и
текстом. Возьмем определение текста немецким лингвистом М. Димле-
ром: «текст есть синтаксически, семантически и прагматически
когерентная и завершенная последовательность языковых знаков»1.
Принципиальное отличие дискурса в том, что он не завершен.
Поэтому можно перефразировать приведенное определение так: дискурс
есть незавершенная последовательность языковых знаков,
характеризуемая частичной синтаксической, семантической и
прагматической когерентностью. В дальнейшем попробуем применить все то,
что Димлер говорит о типологии текстов, к типологии дискурсов.
Так, текст, а в нашем случае — дискурс тождествен практике
употребления естественного языка. А эта практика складывается, по Димле-
ру, из трех базисных и внутренне взаимосвязанных элементов: ком-
1 DimlerM. Textklassenkonzepte heutiger Alltagssprache. Kommunikationssituation,
Textfunktion und Textinhalt als Kategorien alltagssprachlicher Textklassifikation.
Tuebingen, 1981. S. 6.
54
Раздел 1.Языки сознание: общие проблемы
муникативной ситуации, функции текста (в нашем случае —
дискурса) и его содержания.
Так, коммуникативная ситуация как основа типологизации
выражена в технической модели: передатчик-канал-приемник.
Передатчик, или продуцент, во многих случаях определяет его природу
(президентская речь, медицинская рекомендация, судебное
разбирательство, супружеская ссора). Если носителем дискурса не является
ответственное и компетентное лицо, то дискурс не может быть
причислен к данному классу и наделен адекватным смыслом.
Приемник, или реципиент, также в определенной мере, пусть и не
настолько строго, определяет класс дискурса (лекция предназначена
для студентов, сказка - для детей, рассказ о любовных похождениях -
для взрослых, сплетня о соседке - для женщин, спор на школьном
собрании - для учителей и учеников, предложение взятки - для
чиновника и т.п.). Однако на лекцию могут прийти коллеги, на школьном
собрании присутствуют и родители, а дети обожают подслушивать не
предназначенные для их ушей разговоры.
Доведенная дологического предела неопределенность
продуцента и реципиента дискурса оборачивается их анонимностью:
анонимными письмами, звонками, угрозами, признаниями в любви,
доносами - специфическими аномалиями, типичными для отклоняющихся
ситуаций общения.
Канал представляет собой носителя языка, а основными
каналами являются оптические и акустические. Помимо этого важен учет
временного фактора, задающего то, что может быть названо степенью
«консервированности дискурса», т.е. разрыва между моментами его
производства и потребления. Введение фактора времени в языковую
коммуникацию позволяет выделить три аспекта, или три этапа бытия
дискурса: первичную ситуацию, процесс консервирования и
вторичную ситуацию. Этот тезис существенно дополняет нашу концепцию
первичных и вторичных текстов1. С помощью ряда технических
средств можно законсервировать дискурс и превратить его в текст.
Тем самым он делается применимым в другое время, в другом месте и
для других реципиентов, которые делают его предметом
последующих дискурсов. Однако не только технические средства суть условия
превращения первичного дискурса во вторичный. Без технических
средств часто невозможна и первичная ситуация (телевизор,
радиоприемник, проектор и проч.), тем более что и в первичной ситуации
часто используются «консервированные» дискурсы (например, маг-
См.: Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Гл. 5.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
55
нитофонная музыка как театральное сопровождение, «фанера»).
Одновременно даже простое применение технических средств
предполагает определенную обработку дискурса, подгоняющую его под
данные технические стандарты (определенные оптические и
акустические эффекты). Если же понятие консервации истолковать с
учетом функции дискурса и его содержания, то реальная картина
приобретает совершенно иной уровень сложности.
Понимание функции дискурса основывается на том, что он как
языковая деятельность имеет цель, мотив, результат. Дискурсу
свойственны когнитивная, аксиологическая и прагматическая функции:
он способен сообщать знания, влиять на эмоциональное состояние,
побуждать к действию. Основной целью дискурса является не что
иное, как координация деятельности людей в обществе. Средством
достижения этой цели выступает изменение ментальных состояний
реципиента: его знания, оценок и ценностей, волевых импульсов.
С точки зрения отнесения к цели дискурсы могут характеризоваться
иерархией целей и подчиненностью всех промежуточных целей
одной главной. Таковы так называемые гипотаксические дискурсы,
примером которых может служить обвинительная речь в суде. Пара-
таксические дискурсы, напротив, служат одновременно нескольким
независимым целям и потому являются функционально
неопределенными - телефонный разговор, болтовня в курилке,
радиопередача и т.п. В этом смысле каждый дискурс есть совокупность частичных
функциональных текстов, каждый из которых также может быть
поделен на соподчиненные или независимые части.
Содержание дискурса находит выражение в теме как срезе
контекста, в котором он разворачивается. Любовная клятва, обвинение в
супружеской измене, мечты о замужестве имеют одну и ту же тему,
различаясь по функциям и ситуациям. Врачебная рекомендация и
совет аптекаря могут касаться одного и того же объекта, но фармацевт
не отпустит сильнодействующее лекарство без рецепта. Тема
представляет некоторый предмет или событие и делает это
специфическим образом — с помощью отстранения, или дистанцирования.
Один из способов дистанцирования определяется фактором времени:
дискурс дистанцирован от события во времени. В соответствии с этим
дискурсы классифицируются на предваряющий, одновременный и
последующий — прогноз погоды, спортивный репортаж, обзор
событий. Помимо этого дискурс может быть дистанцирован и от места
события; таковы рассказ о путешествии, нотация автоинспектора,
собеседование в посольстве, местные новости. Далее, дискурс
характеризуется степенью общности и может обозначаться как генерализи-
56
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
рующий или сингулярный. Примерами первого типа являются
инструкция и ритуальная клятва; примерами второго - рассказ о себе,
отчет о работе, признание в любви.
Таким образом, лингвистическая типология текстов
относительно коммуникативной ситуации, функции и содержания вполне
может быть использована применительно к дискурсу.
Теперь добавим к паре текст-дискурс еще три члена —
«контекст», «смысл» и «субъект». Это позволит нам построить еще одну —
методологическую - типологию дискурсов. Мы видели, что
консервация дискурса превращает его в текст, который может выполнять
функцию ресурса последующих дискурсов, а артикуляция текста есть
условие осуществления дискурса. Тип дискурса, определяемый
относительно текста, мы назовем текстуальным. В нем находит
реализацию процесс внутрисоциального производства смыслов,
лингвистически он выражается в интратекстуальном взаимодействии, а его
основной целью является сообщение знания или определенного
эмоционального состояния. В общем комбинирование текстов есть
универсальный метод ведения дискурса, однако в наиболее чистом виде
он характерен для профессионального оперирования с языком в
науке и искусстве, когда смысл дискурса произволен от смысла
ресурсных текстов. Создание «вторичных текстов» есть прямой продукт
текстуального дискурса.
Определяя дискурс относительно ситуации, мы получаем
ситуационный дискурс. Его место - сфера социальной практики, а
основная функция состоит в побуждении к действию. Судебная риторика,
дискуссии в коллективе, выяснения отношений с близкими -
примеры такого типа дискурса, в котором происходит внешнесоциальное
производство смыслов: смысл речи определяется потребностями
коммуникации и решения практических проблем. Искомым
результатом такого дискурса является не построение оригинальных текстов,
а нахождение подходящей словесной формулы для выхода из
коммуникативной ситуации.
Интерпретативный дискурс есть результат определения дискурса
относительно смысла. Место такого дискурса - ситуации понимания во
всех областях жизни, в науке и литературе, межкультурном
взаимодействии, общении с природой. Его функция заключается в создании
идеальных конструкций, уподобляющих окружающий мир семиотической
системе и ставящих его в отношение к человеку. Это форма
внутрисоциального производства знания по созданию первичных текстов.
Четвертый тип дискурса определяется относительно контекста.
Это контекстуальный дискурс как форма внешнесоциального произ-
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
57
водства знания, которая представляет собой процедуры
оперирования с контекстом: контекстуализация, деконтекстуализация, рекон-
текстуализация. Здесь ресурсом и сферой реализации дискурса
выступает контекст культуры: одни знаковые системы
противопоставляются другим как центр и периферия, внутреннее и внешнее,
между которыми происходит обмен содержанием. Так
формирующееся эмпирическое естествознание дистанцировалось от
религиозных и моральных контекстов, так современная теология использует
для самообоснования научные данные, так в постановках Шекспира
актеры носят джинсы и смотрят телевизор, а детские бестселлеры
эксплуатируют тему средневековой магии. Вторичность такого
дискурса бросается в глаза, однако его результатом порой оказываются
тексты, наделяющиеся статусом первичных.
Наконец, отнеся дискурс к своему автору, к субъекту творческой
деятельности, мы получим собственно творческий дискурс. Категории
Бахтина, которые раскрывают его содержание, это «вненаходимость» и
«участное мышление» (не-алиби в бытии), «Другой» и «третий»,
«полифония» и «диалоп>. Будучи сгруппированы попарно, они оказываются и
дополнительными аспектами, и полюсами творческого процесса. С
одной стороны, автор свободно творит, путешествуя по культуре и
выбирая себе партнеров и оппонентов. С другой - он укоренен в
определенном контексте, который представляет собой «очки», способ видения, не
подвергающийся сомнению. Писатель пишет для публики и сам создает
ее, но одновременно еще больше зависит от «трансцендентального Я»,
вневременного культурного авторитета. Наконец, всякий культурный
текст явно или скрыто содержит в себе альтернативные сюжеты,
позиции рефлексии, точки зрения, «двойников» (Ф.М. Достоевский), между
которыми нет единственно подлинного. В то же время он представляет
собой явную и скрытую полемику, диалог, ведущийся с вполне
определенной позиции по отношению ко всем другим.
Данная типология дискурса имеет своей целью показать, как
понятие дискурса конструируется с помощью ряда философско-эпи-
стемологических категорий. Помимо этого предстоит решать и
обратную задачу — выяснять, насколько данная конструкция
удовлетворяет использующих ее ученых.
Заключение
«Культура и ценность», собрание афоризмов Витгенштейна,
содержит следующее загадочное высказывание: «В разговоре: один
человек бросает мяч; другой не знает, должен ли он бросить его назад,
58
Раздел 1.Языки сознание: общие проблемы
или другому, или оставить на земле, или подобрать и положить в
карман и т.д.»1 Это высказывание загадочно потому, что в подавляющем
большинстве обычных случаев два человека в разговоре не
затрудняются в интерпретации и ответе на высказывания друг друга. Быть
может, Витгенштейн хотел этим примером показать, что люди,
включенные в коммуникацию, часто осознают ее по-своему и пытаются
как можно лучше определить, что за игра разыгрывается в настоящий
момент, каковы ее правила и цели, участники и границы. Он
поясняет, как мне кажется, эту свою мысль в «Философских исследованиях»:
«Мы с легкостью можем вообразить людей, развлекающихся на поле с
мячом; они как бы начинают разные известные игры, но играют в
них, не заканчивая, и в промежутках бесцельно бросают мяч в небо,
гоняются друг за другом, швыряют мяч друг в друга шутки ради и т.д.
И тут кто-то скажет: "Все это время они играют в некую игру в мяч и в
каждом броске следуют определенному правилу"»2. Ирония
Витгенштейна призвана подчеркнуть: то, как происходит интерпретация и
обмен репликами в игре коммуникации, остается загадкой.
Цель современного дискурс-анализа в широком смысле —
распутать или хотя бы отчасти прояснить эту тайну, т.е. описать игру,
уточнить ее часто неясные правила, очертить границы и выявить
участников игры, тренеров и судей. Цель философской рефлексии
по поводу понятия «дискурс» несколько иная. Философия не
создает научной теории дискурса, но проблематизирует саму эту
возможность. Она начинает с того, что проводит различие между
дискурсом и текстом как динамическим и статическим элементами
языка, неоконченной и оконченной речи. Первая для своего
понимания требует диалога с другим, вторая - диалога с самим собой
(саморефлексии, интерпретации). Сама же деятельность
рефлексии или интерпретации может быть понята как дискурс по поводу
текста, контекста или смысла. Тогда динамика дискурса будет
выражаться перемещением с одного уровня языка на другой, с одного
типа дискурса на другой. Она оказывается миграцией, или обменом
содержанием между синтаксисом, семантикой и прагматикой,
между текстом, контекстом и смыслом. Дискурс — посредствующее
звено между текстом и контекстом, позволяющее сделать один
текст контекстом другого, вовлечь контекст в текст, внести
элементы текста в неязыковые контексты, придать смысл тексту и
окружающему миру.
1 Wittgenstein L. Culture and Value. Oxford, 1980. P. 74.
2 Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1978. P. 83.
И.Т. Касавин • Язык и сознание как элементы социокода
59
Одновременно миграционная природа дискурса проявляет себя в
том, что дискурс вопреки сказанному выше не может быть строго
противопоставлен тексту и контексту. Дискурс есть также
разнообразное использование текстов и их создание, и дискурс же образует
деятельностно-коммуникативный контекст, который
непосредственно сопровождает текст или существует в качестве его скрытого
подтекста. Предлагаемое нами понятие дискурса подчеркивает
динамичность языка, его зависимость от речи, то, что в основе всякого
текста лежит деятельность и понимание текста должно выявить это
основание. «Текст как таковой не является мертвым: от любого
текста, иногда пройдя через длинный ряд посредствующих звеньев, мы в
конечном счете всегда придем к человеческому голосу, так сказать,
упремся в человека»1.
Эпистемологический анализ понятия «дискурс» по
необходимости выходит за пределы языка, вместе с тем уточняя наше
представление о познании как деятельности, связанной с языком самым
существенным образом. Дискурс - это витальное знание, находящееся в
непосредственном взаимодействии с его творцом и одновременно -
с условиями познания (предметными, социальными, культурными).
Изучение речевого дискурса в разных областях деятельности и
прежде всего в науке, философии, теологии, идеологии позволяет более
полно охарактеризовать эти типы познания с точки зрения их
динамичности, креативности, живого функционирования в культуре. Это
в свою очередь становится возможным по мере того, как развиваются
специальные теории дискурса (в частности, лингвистика дискурса),
для которых может оказаться небесполезен и соответствующий
эпистемологический анализ данной темы.
Философу же отличие дискурса вообще от текста вообще
напоминает как раз о том, что отграничивает философское мышление от
обыденного и научного. И речь здесь идет не о логике
монологического дискурса, которая во многом чужда современной философии.
Философская рефлексия, часто представая перед нами в форме
законченного текста и упорядоченного, рационального рассуждения,
все же отличается своей принципиальной незавершенностью. Она
выражена в стремлении не строить законченные теории, но ставить и
разрабатывать проблемы, подвергать сомнению status quo, обращать
внимание на то, что выпадает из социального фокуса и
идеологического мейнстрима. Эта характеризующая философское мышление
незавершенность в сущности не есть недоработанность, которая бу-
1 Бахтин ММ. Вопросы литературы и эстетики. С. 401.
60
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
дет когда-то преодолена. Напротив, это форма открытости, которая
точке предпочитает вопрос, намеренно преобразует точку в вопрос,
расширяя границы всякого те кета до контуров культурного объекта, а
культурный объект — до возможного мира вообще.
***
Вечная тайна живого творческого познания - тема, запретная для
большинства этаблированных течений эпистемологической мысли,
якобы неподвластная рациональному пониманию, обычно
относимая по ведомству эмпирической психологии. И все же она находит
свою вполне рациональную разработку в семиотически
ориентированных концепциях русских ученых-гуманитариев, в частности в
виде подходов к столь популярной идее дискурса, идее
коммуникативной природы познания. Сегодня мы знаем, что она нашла свое
развитие во многих влиятельных течениях современной
философии - у Л. Витгенштейна и Д. Дэвидсона, М. Хайдеггера и Х.Г. Гада-
мера, Ю. Хабермаса и P. Xappé. Наши комментарии на полях трудов
российских мыслителей имели своей целью напомнить об
источниках этой идеи, которые по-прежнему побуждают к новым инсайтам.
Л.А. Маркова
Нелогические основания научного
мышления
В прошлом веке необычайно возросла роль языка в философских
исследованиях, и особенно это относится к логическому
позитивизму. Философы этого направления, основоположником которого
можно считать Л. Витгенштейна (хотя у него были такие именитые
предшественники, как Г. Лейбниц, Г. Фреге и ряд других), полагали,
что для того, чтобы изучить мир, достаточно изучить законы
функционирования языка. Законы языка и законы мира одни и те же. Все,
что нас окружает, доступно нашему осмыслению только потому, что
обозначено словом. Совокупность слов совпадает с совокупностью
вещей в мире. В то же время чтобы сделать понятными мысли,
рождающиеся в голове человека, сделать их доступными для другого,
необходимо оформить их в языке, в словах. Именно в языке, в словах
совмещаются мысли и мир, объяснить который призвано человеческое
мышление. Научный язык считался образцом точности и
совершенства: научное знание, выраженное научным языком, должно быть
максимально освобождено от всяких нелогических вкраплений,
связанных с личностью ученого, социальными, историческими
обстоятельствами производства знания. Из этого исходили не только
логики, но и позитивистски ориентированные философы, историки,
социологи науки.
Однако в прошлом веке исследователи приходят к выводам,
которые никак не согласуются с этими, казалось бы, незыблемыми и
абсолютно необходимыми требованиями, предъявляемыми к научному
знанию. Выявляется необходимость учитывать глобальные
трансформации, происходящие в философии, культуре, социуме в
определенные исторические периоды, без понимания которых трудно
объяснить перемены в научной рациональности. Более того, в рамках
ситуационных исследований (case studies), в которых основное
внимание уделяется рождению нового знания, чтобы понять акт
творчества в науке, оказываются в равной степени востребованными
философские, социологические, психологические и не только
исследования. Новое не выводится логическими средствами из прошлого
знания (во всяком случае эта сторона дела отступает на задний план),
а возникает из того, что наукой не является, из ситуации, в которой
62
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
работает ученый, из контекста. При этом неясно, каким образом
полученные результаты включаются в уже существующую логическую
структуру научного знания, как обосновывается их принадлежность
науке. И это не единственная трудность при таком повороте
исследований, но не об этом сейчас речь. Я хочу лишь обратить внимание
читателей на то, что при изучении науки философами, социологами на
передний план выдвигается ситуация, условия рождения нового,
контекст, от которого зависит характер возникающего знания.
Отсюда и результаты, получаемые при изучении одного и того же предмета
в разных условиях, в неодинаковых контекстах, тоже разные. Как же
быть с объективностью и истинностью? С воспроизводимостью
эксперимента? А если слово, произносимое в разных контекстах,
каждый раз приобретает новый смысл, можно ли говорить о постоянстве
его значения?
В философии науки — в каждом новом контексте своя истина.
Соответственно в философии языка — в каждом новом контексте свое
значение того же самого слова. И в том и в другом случае разрушается
логика, ставшая привычной за последние три столетия и вроде бы
единственно возможная. Означает ли это наступление хаоса? Или
надо приспособить получаемые результаты к привычной нам логике
Нового времени, в той или иной степени, возможно, «подправив» ее?
Или же мы являемся свидетелями рождения принципиально нового
типа рассуждений, новой логики? Понятие контекста становится
одним из ключевых. Нельзя сказать, что прежде это понятие не
фигурировало в исследованиях науки. И философы, и социологи, и историки
всегда втом или ином виде соглашались с тем, что и философия, и
социальные условия, и экономика, и психологические особенности
ученого, и социальная структура самой науки, и многое другое играют
в формировании научных идей немалую роль. Иное дело, что теперь
эта роль понимается иначе, воспринимается как контекст, ситуация,
способные принять участие в определении содержания научного
знания, в формировании его логики.
Другими словами, это уже не нечто внешнее по отношению к
научным идеям, способное подталкивать их развитие в том или ином
направлении (посредством финансирования, например, отдельных
областей науки в ущерб другим), стимулировать работу тех
подразделений, которые обещают большую практическую отдачу. Контекст
выполняет принципиально другую функцию. При этом неизбежно
возникает вопрос, каким же образом формируется сам этот контекст,
который, конечно же, не может совпадать со всей бесконечностью
элементов мира за пределами науки. Он разный в разных случаях, но
A.A. Маркова • Нелогические основания научного мышления
63
чем определяется эта разница? Каким образом он вычленяется из
массы сопутствующих научному открытию событий? Если тут
доминируют полный произвол и случайность и новое знание рождается из
этого хаоса, не имеющего ничего общего с наукой, то как мы можем
надеяться на получение результата, вписывающегося в
существующую структуру науки? Не утрачивает ли он свою самость именно как
научного? Та же трудность возникает и со значением слова. Если это
значение меняется вместе с каждым изменением контекста, можем
ли мы быть уверенными, что речь идет о том же самом слове?
Можно предположить, что в развитии науки и в
функционировании языка действует определенный логический механизм, суть
которого в том, что не только новое знание формируется контекстом, но и
контекст определяется потребностями творческого процесса. То же
самое и в языке: значение слова само предопределяет свое
употребление в каждом случае. Здесь на передний план выдвигается такая
проблема. В прошлом веке много внимания уделялось
индивидуальности, особенности, уникальности тех или иных событий, но часто
забывалось, что в каждом конкретном случае, как бы ни была
уникальна наука, например, Нового времени по сравнению с наукой
XX в., все-таки каждый раз речь идет именно о науке. И как бы
по-разному ни звучало данное конкретное слово в тех или иных
ситуациях, сколь бы разное значение ни приобретало в отличающихся
друг от друга контекстах, имеется в виду именно оно. Поэтому и
контексты при всем их отличии друг от друга имеют нечто общее, что в
равной мере соответствует одному определенному слову. Этим
обстоятельством обеспечивается неслучайность того набора элементов,
которые образуют контекст. Можно еще раз повторить в жесткой
формулировке: не только контекст формирует значение слова, но и
слово формирует контекст.
В прошлом веке особое внимание обращалось на зависимость
значения слова (если речь идет о языке) от контекста. И это было
достаточно революционным направлением исследований в
области аналитической философии, где на первом месте всегда
находилось именно постоянство значений слов. И здесь опять-таки одним
из первых был Витгенштейн, отказавшись в «Философских
исследованиях» от своих же основных идей, изложенных в начале
творческого пути в «Логико-философском трактате». В теории
языковых игр Витгенштейн проводит мысль о зависимости значения
слова от той ситуации, от того контекста, в которых оно используется.
И не только Витгенштейн совершает такой поворот в
интерпретации языка.
64
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
Ниже я остановлюсь подробнее как на тех процессах, которые
происходят в аналитической философии во второй половине XX в.
(на примере одного из наиболее влиятельных представителей этой
философии У. Куайна), так и на переменах в области философской
логики (на примере анализа B.C. Библером идей М.М. Бахтина и
Л.С. Выготского).
Сознание как основание мышления. Рассмотрим вопрос о
соотношении мышления и сознания с точки зрения их связи с языком и речью,
опираясь на некоторые идеи Библера, высказанные им при анализе
творчества Бахтина и Выготского1.
Библер обращает внимание на убежденность Выготского в том,
что сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей
сферы сознания, которая охватывает наши влечения и потребности,
интересы и побуждения, аффекты и эмоции. Выготский ссылается
при этом на Станиславского, который учит, что за каждой репликой
героя драмы стоит хотение, направленное на выполнение
определенных волевых задач. Выготский приводит несколько реплик
Чацкого из его диалога с Софьей в интерпретации Станиславского и
делает вывод о том, что понимание слов и мысли собеседника
невозможно без понимания его мотива, того, ради чего высказывается
мысль. Здесь, по Выготскому, мы касаемся стороны природы слова,
выходящей за пределы мышления как такового, значение которой
может быть изучено только в составе более общей проблемы — слова
и сознания.
Позиция Выготского наводит Библера на некоторые
размышления. Когда Выготский хочет мотивом объяснить мысль, то он лишает
последнюю ее самостоятельного (по отношению к мотиву) значения.
Мысль в этом случае не может изменить, трансформировать
исходный мотив. Напомню о сказанном выше: существует не только
зависимость слова или научного результата от контекста, но и обратное
влияние - результата в науке или слова на контекст. Библер не
возражает против того, что мотивация определяет содержание мысли, но,
полагает он, мотивация как совокупность желаний, побуждений,
настроений говорящего, его сознания, не заторможенного мыслью,
быстро теряет свою «сознательность». Оно распадается на свои
составляющие: мотивы, эмоции, особенности темперамента, в эту секунду
возникающие желания, сознание уходит в «подсознание». Возникает
1 См.: Библер B.C. Проблемы сознания. Сознание и мышление / Философ-
ско-психологические предположения школы диалога культур. М. : Росспэн, 1998;
Он же. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры. М. : Прогресс, 1991.
Л.А. Маркова • Нелогические основания научного мышления
65
странное, двойственное отношение сознания и мышления. С одной
стороны, сознание предшествует мысли, но тогда, не будучи
закреплено мыслью, оно распадается на вне-сознательные составляющие.
С другой стороны, мышление без сознания теряет связь с духовной
жизнью индивида, преодолевает его как субъекта мышления.
Другими словами, не только сознание является основанием, условием,
контекстом формирования мышления, но и мышление определяет
характер сознания, делает его сознанием человека.
По-видимому, в силу этой двойственности для Выготского и была
очень мучительна проблема соотношения сознания и мышления,
считает Библер. Собственно, когда Выготский начинал специально
говорить о сознании, он понимал, что сознание невозможно без
самосознания, т.е. вне определенной формы рефлексии
(предопределения мысли). Он вспоминает Спинозу и пишет, что познание нашего
аффекта изменяет его и делает активным, начинается сознание. То,
что я мыслю аффекты, многое меняет в моей психической жизни. В то
же время то, что я мыслю вещи, вне меня находящиеся, ничего в них
не меняет. Здесь мы опять видим уже высказывавшуюся ранее мысль:
акт творчества в науке выхватывает из окружающего мира лишь те
вещи, которые могут участвовать в мыслительной деятельности
ученого и меняться вместе с ней.
Что касается Бахтина, то у него вся проблема диалога, отмечает
Библер, связана с идеей сознания. Более того, в логике, в мысли — по
Бахтину -существует л ишь монологика, диалога здесь уже нет. Библер
задается вопросом: может ли быть диалог связан с идеей логики? По
утверждению Бахтина, логика принципиально монологична и наши
интуитивные представления действительно требуют логики только как
монологики. Возникает необходимость связи между бахтинской идеей
диалога в сознании и идеей диалога в мышлении. По мнению Библера,
диалогизм мысли должен иметь корни в диалогизме сознания, иначе
он — колосс на глиняных ногах. В то же время диалогическое сознание
без изменения типа мышления (от монологизма к диалогике) не в
состоянии изменить моего бытия, оно оказывается лишь наличной
эмпирией. Вне логического обоснования человек не может углубить
сомнение в целостности своего бытия (идею диалога) до сомнения в
своем разуме, до сомнения в идее всеобщего, сути мышления. Без
трансформации самого типа мышления, без диалогизма мышления
диалогизм сознания недостаточен. Но в то же время их разведение, их
предельная противопоставленность крайне необходимы.
Хочу привлечь внимание к тому обстоятельству, что трудности,
возникающие в разных направлениях философии (постаналитиче-
66
Раздел 1.Языки сознание: общие проблемы
екая философия, философская логика, философия науки), с
логической точки зрения однопорядковые, хотя и проявляют себя
по-разному и в разных контекстах. Я имею в виду прежде всего идею о том, что
мышление, логика, язык рождаются из того, что не является
мышлением, логикой, языком. Для Библера сознание является
внелогической закраиной его диалогики, очерчивает внелогический смысл ее
ключевых определений. Когда он приводит высказывание
Выготского о том, что мысль рождается не из другой мысли, а из
мотивирующей сферы нашего сознания, это следует понимать так, что логика
мысли рождается из того, что логикой не является. Или внутренняя
речь у Выготского: она не ориентирована на ее понимание другим.
У нее свои грамматика и логика. Но в то же время внутренняя речь
служит базой для выражения мысли в языке, который понятен
другому, так как построен по известным правилам грамматики и слова
этого языка обладают определенным значением, признаваемым
участниками общения. У Бахтина, напоминает Библер, печатный,
написанный текст произведения не равняется всему произведению в его
целом. В произведение входит и внетекстовый
интонационно-ценностный контекст, который остается вне данного текста какдиалоги-
зирующий фон его восприятия.
Когда знание рождается в голове ученого, оно еще не обосновано,
не доказано и не сразу выражено в языке, в тексте. Другими словами,
оно не отстранено (одно из любимых понятий Библера) от своего
создателя. Во внутренней речи, по словам Выготского, мысль не просто
выражается в слове, но совершается в нем. На этот творческий
процесс нельзя взглянуть со стороны ни самому ученому, ни его
коллегам. Язык позволяет это сделать. Посредством языка мысль
актуализируется, материализуется, выражается в тексте.
Мысли Библера, Выготского, Бахтина позволяют нам
приблизиться к решению проблемы, неизбежно возникающей при
обсуждении идеи контекста, его роли в процедуре зарождения нового
научного знания1. Проблема эта может быть сформулирована следующим
образом. Да, новое рождается из того, что на него не похоже, что им
не является, поэтому оно и новое. Но если так, возникает все тот же
1 Понятие контекста, его роль в современной социальной эпистемологии,
обстоятельно анализируется в работах И.Т. Касавина. См.: Текст. Дискурс.
Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка (М. : Канон+, 2008). Особый
интерес, на мой взгляд, представляет его анализ соотношения контекста и
дискурса, понятия, не менее востребованного в современных философских
исследованиях, чем контекст. Я сейчас не готова к рассмотрению этого соотношения, но
уверена, что это помогло бы во многом прояснить обсуждаемые проблемы.
A.A. Маркова • Нелогические основания научного мышления
67
вопрос: откуда у нас уверенность, что мы получили именно научное
знание? Ответом может служить утверждение, что контекст хотя и не
является наукой, тем не менее формируется возникающими в ней
проблемами. Именно поэтому он не образуется произвольно, из
случайно подобранных элементов. Контекст это ненаука, но все-таки
это именно ненаука, а не нефилософия, например. Имеет место
обратное влияние науки на контекст. Поэтому сразу же отметаются
элементы контекста, которые часто упоминаются в социологических
работах и не имеют отношения к научному знанию, такие, как
настроение экспериментатора, его отношения с коллегами, карьерные планы
и т.д. У Бахтина, пишет Библер, сам текст не совпадает с собой, он
определяется как нечто не имеющее собственной территории, и только
при таком его понимании возможно обращение к тексту как к
произведению, как к нетексту. И нам не приходится искать внетекстовый
смысл и контекст эмпирически вне текста. При таком подходе к
контексту сохраняется бахтинское понимание личности как вне себя
существующей, как существующей «на грани».
Обратим внимание на следующий момент. Нетекстовое поле,
контекст, не находится пространственно вне рассматриваемого
текста. Чтобы его выявить, надо самый текст представить как
существующий на своих границах, как не совпадающий с самим собой, как
произведение, создаваемое автором. Именно в этот момент создания
текста-произведения контекст играет роль соучастника творческого
акта. Контекст порождается возникающим в голове автора текстом в
не меньшей степени, чем наоборот, когда контекст воспринимается
как порождающий этот конкретный текст. Такой же логический
механизм можно разглядеть и в случае рождения нового в науке. Новая
теория рождается в голове ученого в определенном контексте. Но
если этот контекст требуется осмыслить как участвующий в рождении
новой теории, идеи, парадигмы в полном их объеме, включая
содержание и логику (на что часто претендуют современные социологи
науки), то нельзя его рассматривать как набор сосуществующих с
деятельностью ученого обстоятельств, которые могут приостановить
работу, ориентировать ее в другом направлении (финансирование, воля
начальства, обстановка в научном коллективе, изменение его
состава), но никак не влияют на содержание получаемых результатов. Все
эти обстоятельства носят случайный характер, меняются от одной
лаборатории к другой и действительно при их определенном
понимании приводят к релятивизму, в котором справедливо упрекают
многих современных исследователей науки. Можно посмотреть на
контекст и иначе. Он непосредственно участвует в творческом процессе
68
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
создания теории на том его отрезке, когда теория еще не вышла за
пределы внутренней речи. Теория не совпадает сама с собой, она еще
не отстранена от ученого в форме текста, не представлена в языке,
который делает ее доступной для понимания и для обсуждения другими.
В философии, истории, социологии науки роль контекста как
активной силы, участвующей в формировании знания с точки зрения
его содержания и логики, как правило, переносится в сферу
дискуссий и обсуждений уже выраженной в языке, отстраненной от
создавшего ее ученого теории. При анализе этих дискуссий (по поводу
книги Т. Куна, например) обычно принималось как нечто само собой
разумеющееся то обстоятельство, что разговор идет об уже
существующих теориях (старая и новая). Творческий процесс по созданию
новой теории всегда оставался за рамками обсуждения.
Современные социологи, историки науки, склонные к анализу
науки в рамках кейс стадис, когда говорят о научном открытии в
определенных условиях, начинают обычно с поисков таких элементов
этих условий, которые могли повлиять, по их мнению, на сам факт
появления нового знания. И опять само знание преподносится как
уже имеющееся, как результат творческой деятельности ученого.
Бахтин, рассуждая о гуманитарном знании, и Библер, распространяя
идеи диалогики и культурологии на естествен но-научное знание,
идут в противоположном направлении: от произведения, от теории
(которую Библер понимает тоже как произведение, как культуру) к
контексту, фону, условиям их производства. Контекст определяется
как производное определенного понимания произведения или
теории1. Можно пойти дальше и сам предмет, и субъекта, его
изучающего, рассмотреть как ненауку, но как (наряду с другими элементами
контекста) эту науку порождающие.
В логике классической науки и предмет, и субъект находятся вне
научного знания как полностью от него не зависящие. Если они и
претерпевают какие-то изменения, то это происходит за пределами
логических трансформаций знания. К предмету это относится в не
меньшей степени, чем к субъекту. Вселенная развивается, меняются
ее характеристики. Пласты земной коры перемещаются, конфигура-
1 К трудам Бахтина обращается и И.Т. Касавин (Текст. Дискурс. Контекст) с
целью прояснить некоторые активно обсуждающиеся проблемы языка и
мышления. Во многом его подход к творчеству Бахтина совпадает с подходом Библера, но
не во всем. Эти различия как раз и свидетельствуют о справедливости тезиса
Бахтина (с которым согласны и Касавин, и Библер) о том, что само произведение
содержит в себе возможности его разного прочтения и преобразования в другое
произведение, другую теорию, в слово с другим значением.
A.A. Маркова • Нелогические основания научного мышления
69
ция материков и морей становится иной, биологические виды
трансформируются, наша Вселенная имеет начало. Все это становится
предметом изучения естествознания, но как совершающееся
независимо от происходящих в рамках науки логических процессов. В
настоящее время появляется тенденция саму природу рассматривать
как предмет, предназначенный для его изучения наукой. Он не
существует независимо от науки, он — ненаука, но предопределен тем или
иным состоянием научного знания и предназначен стимулировать
творческие процессы для решения существующих в науке проблем.
При таком подходе к предмету неизбежно присутствие в контексте и
субъекта творческой деятельности.
Ненаука не является наукой, но она не совпадает с бесконечным
разнообразием элементов контекста, которые можно обнаружить
сосуществующими в пространстве и времени с актом производства
нового знания. Подавляющее большинство этих элементов никак не
влияет на логику и содержание возникающего нового знания. Из их
бесконечного множества сама наука в своем развитии вычленяет те,
которые действительно могут повлиять положительным образом на
решение ее проблем. Образуется область ненауки, или предлогики
(Библер), или поле референции (Ж. Делёз).
Проблема контекста в аналитической философии. Аналитическая
философия XX в. больше, чем какое-либо другое направление
философской мысли, имела тенденцию сосредоточить логику и содержание
научного знания в языке, который воспринимался как
воспроизводящий в своей структуре, грамматике, семантике строение мира. Язык
естествознания, наиболее точный и максимально строгий,
наилучшим образом демонстрирует свойства и особенности нашего
мышления. Язык - это нечто самодостаточное, он существует согласно
своим собственным законам, которые функционируют в соответствии с
общепринятыми значениями слов и правилами их построения в
предложения. Аналитическая философия сыграла огромную роль в
философском мышлении прошлого века прежде всего именно
потому, что довела до некоторого логического предела (до ее
трансформации в математическую логику) реально присутствующие в мышлении
и необходимые для его нормального функционирования свойства.
Это прежде всего признание всеми участниками общения за каждым
словом определенного значения, что позволяет использовать его в
разных ситуациях (в разных контекстах) с одинаковым успехом. При
этом совершенно справедливо не принимались во внимание,
игнорировались детали, не вписывавшиеся в вырисовывающуюся картину
70
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
языка. Эти детали воспринимались или как действительно ничего не
значащие, или как такие, которые найдут свое объяснение в будущем
в рамках существующей теории. Выведение за пределы логики ряда
свойств языка было необходимой предпосылкой для создания
соответствующей теории, в которой научный язык и мысли, выраженные
на этом языке, понимались как максимально логически
отстраненные и от субъекта научной деятельности, и от предмета изучения.
К концу прошлого века, однако, развитие самой аналитической
философии (а не критика извне) «вытолкнуло» на поверхность
исследовательской деятельности те самые вроде бы незначительные свойства
мышления, которые оставались прежде в тени. Именно с этой точки
зрения рассмотрим некоторые идеи философии У. В.О. Куайна. А
если выразиться конкретнее, постараемся показать, как в его
философии с роковой (для основной направленности логического
позитивизма) неизбежностью в логику вторгаются и реальность, и субъект,
ее познающий, как меняется понимание значения слова, его
зависимость от способов употребления, от контекста1.
Куайн задумывается над вопросом, действительно ли существует
жесткая граница между аналитическими и синтетическими
предложениями, как это обычно утверждают представители аналитической
философии. Они, по словам Куайна, считают, что предложение
является аналитическим, если оно истинно в силу значения входящих в
него слов и независимо от фактов реальной действительности.
Однако Куайн ставит под вопрос возможность существования таких
предложений. Истина, полагает он, зависит как от языка, так и от
экстралингвистических фактов. Он это демонстрирует на примере
высказывания «Брут убил Цезаря», которое было бы ложным, если бы мир был
иным в определенных отношениях, т.е. если бы Брут не убивал
Цезаря. Но оно было бы ложным и в том случае, если бы слово «убил»
обладало другим значением, например, если бы оно значило «породил».
На основании такого рассуждения Куайн считает возможным
предположить, что истинность высказывания можно считать зависимой и
от лингвистического компонента, и от фактического. А если так, то
можно считать аналитическим предложение, в котором фактический
элемент сведен к нулю. Но при всей априорной разумности такого
подхода к вопросу, пишет Куайн, «граница между аналитическими и
синтетическими высказываниями просто не была проведена. То, что
1 П.С. Куслий рассматривает эти проблемы в философии Куайна (несколько в
иных формулировках и с другими целями) в своей диссертации «Язык и
онтологическая относительность», удачно вписывая его идеи в историю и современное
состояние аналитической философии.
A.A. Маркова • Нелогические основания научного мышления
71
подобного рода различие вообще должно быть проведено, есть
неэмпирическая догма эмпириков, метафизический символ веры»1.
Иначе говоря, представители аналитической философии, будучи
противниками метафизики, сами опираются на метафизический базис,
принимаемый ими без эмпирического и логического обоснования, «по
умолчанию».
Высказывания, которые, по общему мнению философов,
являются аналитическими, обнаружить, полагает Куайн, несложно. Они
бывают двух типов. Высказывания первого типа могут быть названы
логически истинными, и в качестве примера можно привести
следующее предложение: ни один неженатый человек не женат. Это
предложение остается истинным при любой интерпретации слов «человек»
и «женатый». Второй тип аналитических высказываний может быть
представлен таким высказыванием: ни один холостяк не женат. Это
высказывание может быть превращено в логическую истину путем
замены того или иного слова его синонимом. В данном случае можно
заменить выражение «холостяк» его синонимом «неженатый
человек». Трудность, однако, состоит в том, что мы приходим в этом
случае к пониманию аналитичности, опираясь на понятие синонимии,
которое требует разъяснения в не меньшей степени.
Куайн отмечает, что Карнап со временем стал склоняться к
объяснению аналитичности через описание состояния. «Описание
состояния есть исчерпывающее приписывание истинностных
значений атомарным, или не составным, высказываниям языка»2. Все
прочие высказывания, полагает Карнап, строятся из этих элементарных
компонентов таким образом, что истинностное значение для каждой
из них фиксируется при помощи специфических логических законов.
Высказывание является аналитическим, если оно истинно при
любом описании состояния. Куайн отмечает, однако, что эта версия
аналитичности выполняет свою роль только в том случае, если
атомарные высказывания являются, в отличие от высказываний
«Джон - холостяк» и «Джон - женат», взаимно независимыми. Куайн
избегает категорических высказываний, но по существу он не
согласен с пониманием аналитичности ни на базе понятия значения, ни на
базе приписывания истинности атомарным фактам, так как и в том и
в другом случае логическое рассуждение приводит к необходимости
интерпретировать синонимию. В определенном смысле здесь можно
1 Куайн У. Две догмы эмпиризма // У. Куайн. Слово и объект. М. : Логос, 2000.
С 358.
2 Там же. С. 345.
72
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
говорить о проблеме перевода (в рамках одного языка), для которого
не существует общих правил.
Куайн не согласен и с тем, что провести различие между
аналитическими и синтетическими предложениями легче, если обратиться не
к обыденному, а к точному искусственному языку с явно
выраженными семантическими правилами. Такое мнение Куайн считает
ошибочным. Чтобы сделать свою позицию максимально убедительной,
он приводит ряд обосновывающих ее рассуждений (я их здесь не
привожу) и приходит к выводу, что обращение к точному языку не
обеспечивает никакого продвижения вперед. Вместо того чтобы пытаться
объяснить аналитичность, приходится как-то понять необъясненное
«семантическое правило». Семантические правила интересны лишь
постольку, поскольку мы уже имеем представление о том, что такое
аналитичность. Сами они не могут помочь нам ее понять. Куайн
приходит к выводу, что убедительного с точки зрения логики различия
между аналитическими и синтетическими предложениями
проведено не было. Такое различие представителями аналитической
философии воспринималось как догма, не требующая доказательства.
Второй догмой аналитической философии Куайн считает
редукционизм, когда предполагается, что всякое осмысленное
высказывание может быть отослано к непосредственному опыту. Радикальный
редукционизм ставит перед собой задачу выделить язык чувственных
данных и показать, как можно перенести на него остальную часть
научного дискурса. Карнап реализует этот проект в своей работе "Der
logische Aufbau der Welt". Его план заключался в том, чтобы получить
описание мира, сравнимое с нашим опытом. Несмотря на то что
соображения Карнапа были весьма ценными, признает Куайн, они
страдали чрезмерной схематичностью. И в то же время Карнап не
признавал, по-видимому, что его размышления о физических
объектах не позволяют осуществить редукцию не в силу их схематичности,
а в принципе. Куайн пишет, что, как ему кажется, впоследствии
Карнап осознал это обстоятельство и редукционизм в радикальной
форме больше не встречается в его работах.
Однако догма редукционизма продолжала влиять на мышление
эмпириков. Она неявно присутствует, пишет Куайн, в верификацио-
нистской теории значения, возрождаясь в предположении, что любое
высказывание, взятое в изоляции от своих соседей, может
подтверждаться или не подтверждаться. Куайн придерживается другого
мнения. Его предположение заключается в том, что наши высказывания
о внешнем мире сталкиваются с оценкой чувственного опыта не
поодиночке, а исключительно в виде целого. О своей позиции Куайн го-
A.A. Маркова • Нелогические основания научного мышления
73
ворит: «Мое нынешнее предположение заключается в том, что это
бессмыслица и источник еще большей бессмыслицы — говорить о
лингвистической компоненте и фактической компоненте в истине
каждого отдельного предложения. Взятая в целом, наука испытывает
эту двойную зависимость от языка и опыта; однако эта
двойственность не может быть осмысленно прослежена до высказываний
науки, взятых по отдельности»1.
Эта позиция Куайна напрямую связана с его пониманием
значения предложения. Свою точку зрения по этому вопросу он
противопоставляет тенденции в философии логики, когда значения
предложений рассматриваются как самостоятельные абстрактные сущности
под именем пропозиций (propositions). Именно они считаются
истинными или ложными, а не сами предложения. Когда немец
говорит: Der Schnee ist weiss, его предложение истинно ввиду того, что
( 1 ) снегбел и (2) снегявляется белым. Сторонник абстрактного
характера значений (сторонник пропозиций) утверждает истинность
предложения просто тем, что снегявляется белым. Он «обходит различия
между языками, а также различия в формулировках внутри языка.
Сама логическая теория, несмотря на ее сильную зависимость от
обсуждения языка, уже сориентирована на мир, а не на язык, и это связано с
предикатом истины»2, считает Куайн. Очевидно, по этой же причине
он не опирается на понятие выводимости (одной мысли из другой),
которое он оспаривает, как и соответствующее понятие
эквивалентности, поскольку эквивалентность есть просто взаимная
выводимость. «Но мы должны осознать, - продолжает Куайн, - что
предложения взаимосвязаны посредством ассоциаций, укоренившихся в
поведении»3. Логику предложений Куайн погружает, таким образом,
в эмпирию поведения как ее основание.
Ту же мысль об отсутствии устойчивости, стабильности значений
предложений и отдельных слов Куайн проводит, анализируя
проблему перевода. Берутся высказывания в определенной ситуации, когда
они опираются на конкретное событие, которое видно как лингвисту,
так и его информатору. Мимо быстро пробегает кролик, абориген
говорит: «Гавагай», и лингвист записывает предложение: «Кролик», или
«Смотри, кролик». Далее Куайн описывает достаточно подробно те
приемы, которыми пользуется лингвист, чтобы удостовериться в
правильности перевода, в том, например, что абориген не имел в виду
1 Куайн У. Две догмы эмпиризма. С. 363.
2 Там же. С. 176.
3 Там же. С. 18.
74
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
«животное» или «белый». Главное в понимании Куайном процедуры
перевода состоит в том, что значение слова определяется условиями,
контекстом произнесения того или иного высказывания. И это
подтверждает его тезис, что значения не существуют как абстрактные
сущности, они зависят от ситуации произнесения предложения.
Можно, однако, напомнить Куайну, что, несмотря на
зависимость высказывания, слова от ситуации их использования, они
обладают устойчивостью своего значения. Именно это позволяет нам
говорить, что одно и то же слово может менять (есть что менять!) свое
значение в разных обстоятельствах, в разных контекстах. При этом в
каждом отдельном случае мы продолжаем говорить именно о
красивом, богатом, неженатом, лысом, зеленом и т.д. Меняется значение
слова «богатый» в каждой новой ситуации, но эти изменения
осуществляются в рамках «исходного» значения, что не позволяет нам по
своему произволу заменить «богатый» на, скажем, «жареный» или
«параллельный», как бы радикально ни менялся контекст. Все
варианты значений принадлежат (воспользуемся терминологией
Витгенштейна) одному семейству.
Нельзя не согласиться с Куайном, что развитие аналитической
философии выдвинуло на передний план такие характеристики слов
и высказываний, как индивидуальность, особенность, зависимость
от контекста. Аналогичным образом в начале и середине прошлого
века главным для логиков было единообразие в истолковании
значения слов. Чтобы лучше понимать друг друга, ученые и логики должны
прийти к одинаковому пониманию значения слов и высказываний.
Только на такой основе возможно построить теорию языка, выявить
законы его построения, а вместе с тем и законы мира. Разумеется, это
не значит, что представители Венского кружка не видели
разнообразия контекстов при употреблении конкретного слова. Но для них
было важно, что слово-то одно и то же и что для понимания между
людьми необходимо, чтобы они это имели в виду, осознавали. Если же
каждый будет приписывать слову значение, зависимое от ситуации
его использования в данный момент и данное время, т.е. каждый раз
значение будет другим и никак не связанным со значением, которое
определяется другим контекстом, то никакое общение невозможно.
На такой, безусловно, разумной основе была построена логика
позитивизма. При этом все моменты, противоречащие этой позиции, или
выдвигались за пределы логики (например, субъект со всеми
личностными характеристиками, в том числе и его деятельность), или
предпринимались попытки, более или менее успешные, ассимилировать
их в недра логики. Это относится и к так называемым предложениям
A.A. Маркова • Нелогические основания научного мышления
75
верования, которые воспринимались как серьезное затруднение уже
и Б. Расселом, и Витгенштейном. Витгенштейн пытался включить
их в структуру логики, но его усилия не были признаны полностью
успешными. Это, однако, не стало препятствием для дальнейшего
развития логического позитивизма. Все то, что не поддавалось
логическому объяснению, до поры до времени не принималось во
внимание.
Во второй половине XX в. вектор исследовательской
деятельности развертывается в обратном направлении. Теперь (мы видели это
выше на примере Куайна) трудности, связанные с предложениями
верования или с различием аналитических и синтетических
предложений, рассматриваются не как требующие устранения из логики, не
как препятствия на ее пути, а как ее базовое основание. И такая
радикальная перемена курса позволила избавиться от ряда трудностей
логического позитивизма. Но в то же время появились новые угрозы.
Развитие логики на новых основаниях может привести к ее
погружению в эмпирию. По-видимому, именно поэтому Куайн мечется
между стремлением индивидуализировать понятие значения и не
слишком решительным отрицанием существования аналитических
предложений. В его позиции не хватает придания должного значения тому
обстоятельству, что любое слово не может употребляться в любом
контексте. Не только контекст определяет, меняет значение слова, но
и само слово на основании своего базового, если можно так
выразиться, значения вычленяет область допустимого употребления. Бытовые
термины, как правило, не могут использоваться в языке науки, разве
что как метафоры. Да и в рамках здравого смысла термины имеют
свои сферы использования. Слово «лысый» едва ли может внести
ясность в процедуру приготовления пищи.
Значение слова, важное понятие для логики, рождается из
контекста, из того, что логикой не является. Для каждого слова имеется
свой круг возможных контекстов его использования. При этом не
только каждый контекст в отдельности, но и вся совокупность
возможных условий использования данного слова обладает свойством
уникальности в той мере, в какой это слово по своему «базовому»
значению отличается от другого слова, не совпадает с ним. Если исходить
из того, что каждое слово, каждое высказывание выражает ту или
иную мысль (а иначе и быть не может, ведь сколько попугай ни
повторяет слово, оно не будет словом языка, оно не обладает значением,
смыслом, попугай не мыслит), то возникает вопрос, что же порождает
наше мышление как таковое. Если каждая конкретная мысль
рождается из контекста, можно ли сказать о мышлении в целом, что его ос-
76
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
нованием является не мышление, не его логика, а нечто не
логическое? В любом случае ведь надо как-то понять мышление и язык в их
целостности, а не просто как совокупность слов и высказываний,
обладающих своим значением, каждый раз другим в другом контексте.
В последние десятилетия в философской среде много говорят о
сознании. Нельзя исключать, что это связано с общей тенденцией
сосредоточить внимание на началах мышления. В естествознании
переосмысляются понятия пространства, времени, элементарности,
причинности, которые определяют характер физических теорий с точки
зрения их базовых оснований; особое внимание уделяется
изменениям в организмах на генетическом уровне, возникновению новых
форм живой материи; в космологии ученые заняты происхождением
Вселенной, ее началом; в философии науки на первый план
выдвигаются исследования по изучению научных революций, творческих
процессов, т.е. по изучению рождения в науке новых идей. Можно
упомянуть понятие точки бифуркации в синергетике, точки-начала, в
которой определяется характер последующего эволюционного
развития. Это относится и к повышенному интересу интерпретировать
рождение мысли из контекста. Если вернуться к началу статьи, то
полезно обратиться к пониманию сознания как предлогики у Библера.
Мамардашвили пишет о нелогике, некотором мыслительном поле
как истоке мысли. У Делёза это нонсенс как несмысл, порождающий
смысл и значение слов. Из эмпирии уникальности и особенности
явно намечается выход в новую логику.
***
Кратко обозначу некоторые тезисы, которые я пыталась
обосновать.
1. Очевидное доминирование в мышлении второй половины XX в. таких
понятий, как индивидуальное, особенное, уникальное, позволило
разрешить целый ряд трудностей, возникших в классической логике
Нового времени. В свою очередь это привело многих исследователей к одной
из двух тупиковых, на мой взгляд, ситуаций: или к отказу от
классической логики в пользу эмпирии, или к попыткам усовершенствовать
привычную и до сих пор хорошо работающую во многих случаях
нововременную логику с помощью ряда уступок оппонентам.
2. Выдвижение на передний план понятия «контекст» имело своим
итогом проблему возникновения нового результата в науке из того, что
наукой не является, значения слова из того, что выходит за пределы
логики языка.
A.A. Маркова • Нелогические основания научного мышления
77
3. Каким же образом можно гарантировать получение именно научного
результата и значения слова, соответствующего логическим нормам
языка? Ведь контекст каждый раз другой, и он не логический и не
научный.
4. Чтобы преодолеть эту трудность, необходимо, по-видимому,
учитывать не только активную роль контекста в получении результата, но и
обратное влияние проблемной ситуации в мышлении на
формирование соответствующих условий. В этом случае контекст не будет
произвольным, а результат сохранит свою устойчивость в определенных
рамках. Важным будет не только факт изменчивости слова в разных
контекстах, но и то обстоятельство, что речь идет все-таки об одном и
том же слове.
5. Исходящее от субъекта (язык, наука, мысль) и противостоящий
человеку мир как предмет мысли проникают друг в друга, граница между
ними размывается, а вместе с тем теряет остроту и
субъект-предметное отношение. Главным становится понять, как из контекста (где
присутствуют и субъектные, и предметные черты) актуализируется
возможность логики, языка, науки, мышления, в том числе и
субъект-предметного отношения.
Л.Б. Макеева
Как звуки становятся речью?
Язык - важнейшее средство, с помощью которого мы приобретаем
знания. Мы узнаем о мыслях и переживаниях окружающих из их слов,
благодаря языку мы можем в свою очередь поведать им о том, что
думаем и чувствуем мы сами. Но язык не только приоткрывает нам то, что
неподвластно непосредственному наблюдению, предоставляя доступ к
сознанию тех, с кем мы участвуем в речевой коммуникации, но и
значительно расширяет знания о мире. Слушая сказанное собеседниками или
читая написанное другими людьми, мы узнаем о вещах, которые
выходят далеко за пределы нашего окружения. Язык предоставляет
возможность приобщиться к культуре и науке, погрузиться в бескрайние
просторы человеческого воображения. Из полученных с помощью языка
знаний формируется наше видение мира. Но чтобы сведения, которые
мы черпаем благодаря языку, стали доступными, следует прежде
овладеть языком. Мы должны научиться извлекать смысл из звуков,
произносимых другими, и вкладывать смысл в звуки, которые производим мы
сами. В чем же заключается наша способность воспринимать
определенные звуки как осмысленную речь и откуда она берется?
На первый взгляд ответить на этот вопрос нетрудно. Мы
воспринимаем производимые нами и другими людьми звуки как
осмысленную речь, поскольку видим в них знаки, указывающие на что-то такое,
что нам так или иначе известно. Другими словами, эти знаки имеют
для нас значение. Мы знаем — в случае, если понимаем сказанное, —
как то, что они обладают значением, так и то, каким именно значением
они обладают. Тогда овладение языком заключается в усвоении того,
какие языковые знаки какое значение имеют, т.е. овладевая языком,
мы приобретаем способность попарно соединять друге другом звуки и
значения. Все это говорит о том, что загадка языка заключается в его
значении. Как отмечает ведущий британский философ Майкл Дам-
мит, «центральная задача философа языка состоит в том, чтобы
объяснить, что есть значение, т.е. что делает язык языком. Возьмем двух
собеседников, ведущих разговор. При непосредственном обозрении
происходящего все, что мы наблюдаем, это то, что звуки
определенного вида по очереди извлекаются изо рта каждого из собеседников. Но
мы знаем, что в этом есть более глубокий смысл: они выражают мысли,
выдвигают доводы, формулируют предположения, ставят вопросы
A.B. Макеева • Как звуки становятся речью?
79
и т.п. Философ языка как раз и должен объяснить, что же придает этот
характер звукам, которые они произносят: что делает произносимое
ими выражением мысли и всего остального?»1
Впрочем, ссылка на значение создает лишь видимость
объяснения того, как звуки превращаются в осмысленную речь. Ведь
утверждая, что именно значение делает «мертвые» звуки «живым»,
наполненным содержанием словом, мы сразу же оказываемся перед
необходимостью объяснить, что же такое значение. Вместе с тем, подходя
к проблеме значения с точки зрения того, что знает или умеет
человек, способный вкладывать смысл в звуки, производимые им самим и
другими людьми, мы задаем и определенное понимание самой этой
проблемы, и возможные пути ее решения, ибо в этом случае она
формулируется следующим образом: что представляет собой знание
значения языковых выражений и языка в целом? Именно так проблему
значения и ставит Даммит, одна из наиболее известных статей
которого имеет характерный заголовок — «Что я знаю, когда знаю язык?»
Обсуждая в этой статье вопрос о том, «следует ли объяснять
значимость языка в терминах знания говорящим своего языка?»2,
британский философ дает однозначный ответ: вопрос о природе значения и
языка в целом неотделим оттого, как мы понимаем знание языка.
Отсюда следует, что перед философами языка стоит ключевая задача -
установить, как и почему знание языка позволяет людям
воспринимать и произносить определенные звуки в виде осмысленной речи, в
какой форме существует это знание и как люди его приобретают.
Даммит предлагает собственное решение этих проблем, которое я
хотела бы обсудить в настоящей статье, однако прежде нужно сказать о
том, как сформировалось такое понимание проблемы значения.
Философы издавна интересовались природой языка и,
безусловно, задумывались над вопросом о том, что представляет собой
значение слов и как мы приобретаем знание языка. Но в классической
философии этот вопрос был скорее вторичным, поскольку языковые
выражения трактовались как «знаки идей», а идеи были тогда для
философов куда более важным и интересным предметом исследования,
чем собственно язык. Идеи, чувственные впечатления и иные
ментальные сущности выступали в качестве значения слов, и знание
языка вполне объяснялось знанием этих сущностей. Центральная же
задача теории познания состояла в том, чтобы понять природу и проис-
1 Dummett M. What Do I Know When I Know a Language? // M. Dummett. The Seas
of Language. Oxford, 1993. P. 96.
2 Ibid. P. 97.
80
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
хождение этих идей, чувственных впечатлений и т.п., установить их
связь с внешними объектами.
Потребность в языке обусловлена тем, что люди живут в обществе и
постоянно общаются друг с другом. Язык - это просто инструмент
человеческого общения, а факт существования множества разных языков
свидетельствует о том, что связь между словом и идеей носит
конвенциональный характер. Как писал Джон Локк в своем «Опыте о
человеческом разумении», «задумав человека как существо общественное, Бог
не только создал его со склонностью к общению с другими подобными
ему существами и сделал это общение необходимым для него, но и
даровал ему язык, который должен был стать великим орудием и общей
связью общества. Поэтому органы у человека по природе устроены так,
что способны издавать членораздельные звуки, которые мы называем
словами... Итак, мы можем понять, каким образом слова, по своей
природе уже приспособленные к этой цели, стали употребляться в качестве
знаков идей не по какой-нибудь естественной связи, имеющейся между
отдельными членораздельными звуками и определенными идеями (ибо
тогда у всех людей был бы только один язык), а по произвольному
соединению, в силу которого такое-то слово произвольно было сделано
знаком такой-то идеи. Стало быть, употребление слов состоит в том, что
они суть чувственные знаки идей, и обозначаемые ими идеи
представляют собой их настоящее и непосредственное значение»1.
Таким образом, общественный и произвольный характер языка
считался в принципе достаточным и для объяснения его природы, и для
понимания того, как люди усваивают язык. Обучение языку
представлялось как процесс, в котором ребенок учится связывать определенные
звуки с возникающими в его уме идеями и чувственными
впечатлениями. Этот процесс вполне укладывался в рамки использования так
называемых остенсивных определений: человек, знающий язык, указывал на
то, что вызывало в его уме и в уме того, кого он обучал языку, некоторую
идею, и произносил соответствующую последовательность звуков, а это
побуждало обучаемого установить связь между данной идеей и звуками.
Как отмечает Даммит, при таком подходе к языку он понимается
как своего рода код для мышления. «Понятия кодируются в словах, а
мысли, составленные из понятий, - в предложениях, структура
которых по большей части отражает сложность мыслей. С этой точки
зрения нам нужен язык только потому, что мы лишены способности к
телепатии, т.е. к непосредственной передаче мыслей. Коммуникация в
сущности подобна использованию телефона: говорящий кодирует
1 ЛоккДж. Соч. В Зт.Т. 1. М., 1985. С. 459, 462.
Л. Б. Макеева • Как звуки становятся речью?
81
свою мысль в передающем носителе, который затем декодируется
слушателем»1. Более того, концепция языка как кода предполагает,
что можно добраться до «чистой», «обнаженной» сути мысли, сняв с
нее все лингвистическое облачение. Первым философом,
осознавшим иллюзорность подобного представления, по мнению Даммита,
был Готлоб Фреге, с которого и начался лингвистический поворот в
современной философии.
Заслуга Фреге состояла в том, что он продемонстрировал
неразрывную связь между мышлением и язык. Обычно неразрывность
этой связи понимают таким образом, что рациональное, или
понятийное, мышление, являющееся отличительной особенностью
человека, стало возможным благодаря языку, тогда как на дорациональ-
ном уровне мышление осуществляется в конкретных образах, а не в
понятиях. Следует сказать, что Даммит дает связи между мышлением
и языком несколько иное истолкование.
С его точки зрения, Фреге прежде всего показал, что нельзя
кому-либо приписывать мысли и понятия, не приписывая ему при этом
знания языка, ибо язык следует понимать не как код для мышления, а
как средство его воплощения. Это, конечно, не означает, что
мышление невозможно без языка, ибо в определенной мере мышление
присуще и животным, не владеющим языком, однако «мы не можем,
кроме как для простейших понятий, объяснить, что значит понимать их,
не учитывая способности их выражения в языке»2. Даммит ссылается
на замечание Фреге, говорившего, что собака несомненно заметит
различие (проявив это в своем поведении), когда на нее нападут
несколько собак или когда на нее нападет только одна собака, но она ни
в малейшей степени не сможет осознать, что есть общего в том, что ее
покусала одна большая собака, и в том, что она преследовала одну
кошку, ибо в этом случае она должна была бы понимать понятие,
которое мы выражаем с помощью слова «один». Мы же, считает
Даммит, не можем приписать собаке понимание этого понятия,
поскольку она никоим образом не способна его проявить3.
1 DummeUM. Op. cit. P. 97.
2 Ibid.
3 Чуть дальше Даммит пишет: «Что значит понимать понятие квадрат? По
крайней мере это означает быть способным различать между вещами, которые
являются квадратами, и теми, которые не являются. Такая способность может быть
приписана только тому, кто при случае будет обращаться с квадратными вещами
иначе, чем с вещами, которые не являются квадратными; одним из таких
возможных способов является применение слова "квадрат" к квадратным вещам и
неприменение его к вещам, которые не являются квадратными. Способности
употреблять слово таким образом и соответствующего знания о слове (которое бы обеспе-
82
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
Как бы то ни было, если мышление и язык неразрывно связаны
между собой, то объяснение природы значения языковых выражений
ссылкой на идеи и иные ментальные сущности уже не проходит,
поскольку само мышление, как оказалось, можно понять только
благодаря его воплощению в языке.
Но тогда вновь встал вопрос о том, что же представляет собой
значение слова. Предложенные ответы на этот вопрос хорошо известны.
Б. Рассел вслед за Дж.С. Миллем счел возможным отождествить
значение имени с тем предметом, который этим именем обозначается.
Последующая критика данного решения, которой мы здесь касаться
не будем, показала, с какими непреодолимыми трудностями оно
сталкивается. Фреге разработал иной подход. В своей двухуровневой
семантике он выделил значение имени (Bedeutung), т.е. именуемый
предмет, и смысл (Sinn), т.е. способ представления именуемого
предмета, трактуя при этом смысл как некую абстрактную сущность,
существующую объективно, независимо от сознания. Более того, Фреге
предложил своеобразную концепцию «трех царств»: физических
вещей, психических явлений (представлений) и абстрактных
предметов, к числу которых он отнес «смыслы» и «мысли» как объективные
непсихические содержания мышления, связываемые с
разнообразными языковыми знаками. Таким образом, с одной стороны,
немецкий мыслитель в какой-то мере остался в плену прежних
представлений, поскольку, как и философы до него, он отождествлял смысл
слова с некоторой сущностью, пусть и не ментальной. Однако, с другой
стороны, Фреге совершил первый важный шаг в новом направлении,
изгнав, говоря словами Даммита, «мысли и их компоненты из
сознания». И если философов «не удовлетворяет онтологическая
мифология, дополняющая это изгнание, то выход один — попытаться найти
что-то немифологическое, но объективное и внешнее по отношению
к индивидуальному сознанию, что воплощало бы мысли, которые
отдельный субъект схватывает и может принять или отвергнуть. Где же
еще это можно найти, как не в институте совместного языка?»1 И идея
была найдена — связать значение языковых выражений с тем, как они
употребляются людьми в процессе коммуникации друг с другом.
Считается, что создателем идеи значения как употребления был
Л. Витгенштейн, а затем ее подхватили и развили в теоретическом
плане философы обыденного языка (Дж. Остин, П. Грайс и др.), од-
чивало такое его употребление) как таковых было бы достаточно в качестве
проявления понимания данного понятия» (Ibid. Р. 98).
1 Dummett M. Origins of Analytical Philosophy. Cambridge, 1994. P. 25.
A.B. Макеева • Как звуки становятся речью?
83
нако это несколько односторонний взгляд, ибо варианты теории
значения как употребления были разработаны представителями
неопрагматической ветви аналитической философии У.В.О. Куайном,
Д. Дэвидсоном и др., причем, как отмечал Куайн, эту идею он
почерпнул не у Витгенштейна, а у Дж. Дьюи.
Идея значения как употребления показалась весьма
привлекательной многим философам, поскольку позволила без ссылок на
какие-либо ментальные или абстрактные сущности ответить на вопрос,
благодаря чему удается «вдохнуть жизнь» в простые звуки и
начертания и сделать их языковыми символами. Ответ состоял в следующем:
звуки и начертания становятся языком, когда их употребляют люди в
своей коммуникации друг с другом. Вместе с тем очевидно, что при
таком подходе понятие значения противится точному определению.
Помимо общего указания «ищи не значение, а употребление», т.е.
заменяй вопросы вида «что означает слово W?» вопросами «как слово W
употребляется?», у Витгенштейна, к примеру, нельзя найти и намека
на то, как можно было бы дать более точное определение понятию
значения в терминах употребления. И хотя, как писал П. Стросон,
«нет оснований сетовать на то, что это центральное понятие не
является сразу и целиком ясным, ибо общая цель достаточно ясна: увести
нас от нашего увлечения сомнительным отношением именования... и
заставить посмотреть на... язык как на вид человеческой
деятельности, взаимодействующий с другими видами»1, все острее стала
ощущаться потребность в более систематическом теоретическом
описании значения как употребления. Это было вызвано несколькими
обстоятельствами.
Во-первых, философы стали осознавать, что когда идея значения
как употребления берется в отрыве от обшей теории, она ведет, по
определению Даммита, к «партикуляристской» трактовке значения. Ведь
если в различных языковых играх одни и те же слова имеют разные
употребления и соответственно разные значения, а совокупность
возможных употреблений одного и того же слова ничем не ограничена и
не фиксирована, то значение любого слова неизбежно оказывается
неопределенным и неустойчивым и, более того, каждое изменение в его
употреблении влечет за собой изменение его значения. Практика же
функционирования языка показывает, что хотя слова и предложения
действительно могут в разных контекстах употребления иметь разные
значения, использующие их люди тем не менее связывают с ними и не-
1 Strawson P.F. Review of Wittgenstein's Philosophical Investigations// Mind. 1954.
Vol. 63. P. 72.
84
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
которое устойчивое, конвенционально установленное значение, т.е. к
значению языкового выражения имеет отношение не только то, что
человек намеревается или стремится передать, произнося его в
конкретных обстоятельствах, но и то, что это выражение говорит само по себе.
Если же вслед за Грайсом мы проведем различие между «значением,
подразумеваемым говорящим», и значением самого предложения или
слова1, то встает вопрос, как эти два вида значения соотносятся друг с
другом, и для ответа на него нужна теория значения.
Во-вторых, на необходимость систематической теории значения
указывает и то обстоятельство, что, имея в своем распоряжении
конечный набор слов и грамматических правил, мы способны
составлять и понимать потенциально бесконечное количество
несинонимичных предложений. Если мы слушаем новости, читаем интересные
книги и ведем занимательные беседы, то практически каждый день
сталкиваемся с предложениями, которых раньше никогда не
слышали. Удивительный факт, но мы можем понимать эти новые
предложения столь же легко, как понимаем предложения, которые уже нам
знакомы. Более того, мы приходим в мир, не владея языком, однако
за ограниченный период времени полностью им овладеваем.
Учитывая, что мы не можем мгновенно обрести способность постигать
значения предложений безотносительно к каким бы то ни было
правилам, что каждое новое выражение или правило требует некоторого
конечного отрезка времени для его усвоения и что, в конце концов,
мы являемся смертными существами, необходимо признать, что
«поддающийся изучению язык имеет конечное число семантических
примитивов»2 и мы в состоянии понимать все остальные выражения
только потому, что их значение обусловливается значением
содержащихся в них этих семантических примитивов и правилами,
указывающими, как значения сложных выражений определяются на
основе значений простых выражений и способов их соединения. Дать
четкую и ясную формулировку этих семантических примитивов и общих
правил, управляющих построением из более простых более сложных
выражений, и призвана систематическая теория значения. Без такой
теории объяснить указанное обстоятельство было бы невозможно.
И, наконец, в-третьих, что наиболее важно для рассматриваемой
темы, идея значения как употребления придала особую остроту
вопросам о том, что представляет собой знание языка и как приобрета-
1 См.: Grice P. Utterer's Meaning, Sentence Meaning, and Word-Meaning //
Foundations of Language. 1968. Vol. 4. P. 225-242.
2 Дэвидсон Д. Истина и интерпретация ; пер. с англ. М., 2003. С. 34.
A.B. Макеева • Как звуки становятся речью?
85
ется это знание. Если значением языкового выражения не является
некая — ментальная или абстрактная — сущность, знание значения
уже нельзя трактовать как схватывание этой сущности, а раз так, то
необходимо объяснить, что же собственно знает человек, когда знает,
как употреблять то или иное языковое выражение. Далее, если
процесс овладения языком состоит в обучении употреблению языковых
выражений в соответствующих ситуациях, то становится очевидной
ограниченность остенсивных определений в качестве базовой модели
обучения языку, ибо, как отмечал Витгенштейн, усваивая, к примеру,
слово «стул», ребенок научается применять его не только к тому
предмету, на который ему указали при произнесении этого слова, но и ко
всем тем предметам, которые являются «теми же самыми», что и
указываемый предмет. С помощью остенсивных определений нельзя
объяснить, как ребенок овладевает такими понятиями, как понятие
«тот же самый», а стало быть, в этом случае мы или должны
предположить, что дети уже владеют каким-то внутренне присущим им языком
и учатся лишь переводить с него на общедоступный публичный язык,
или же мы должны дать иное объяснение процессу обучения языку в
рамках соответствующей теории значения.
Таков, на мой взгляд, перечень, пусть не полный, основных
соображений, побудивших философов к систематическому и
теоретическому осмыслению идеи значения как употребления. Среди тех, кто
прилагал усилия в этом направлении, особое место занимают
американский философ Дональд Дэвидсон и британский философ Майкл
Даммит, выдвинувшие программы создания систематической теории
значения. Учитывая цели настоящей статьи, я кратко коснусь
трактовки языкового знания, предложенной в программе Дэвидсона, но
основное внимание уделю позиции Даммита в этом вопросе.
С точки зрения Дэвидсона, задача теории значения — не
объяснить, что значит для языкового выражения иметь значение, а указать,
что знает говорящий, когда он понимает язык, т.е. теория значения в
его представлении должна быть теорией понимания. Ключом к
построению такой теории для Дэвидсона послужили две важные идеи
Фреге. Во-первых, Фреге полагал, что мысль или смысл, выражаемые
предложением, определяются условиями, при которых
предложение-имя обозначает Истину1. Более приемлемую формулировку этой
идеи, не предполагающую трактовку предложений как имен
истинностных значений, дал Витгенштейн в «Логико-философском трак-
1 См.: Frege G. Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische
Untersuchung über den Begriff der Zahl. Breslau : W. Koebner, 1884. § 32.
86
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
тате», выразив ее так: «Понимать предложение — значит знать, что
имеет место, когда оно истинно» (4.024)К Для Дэвидсона это
послужило подсказкой к тому, что значение предложения можно задать,
сформулировав условия, при которых оно является истинным.
Именно этот тезис лег в основу его теории значения, которая получила
поэтому название истинностно-условной семантики (truth conditional
semantics). Во-вторых, Фреге сформулировал известный «принцип
контекстуальности», согласно которому «ставить вопрос о значении
слов надо, учитывая их взаимосвязь» и «только в контексте
предложения слова нечто обозначают»2. У Дэвидсона этот принцип предстал в
виде требования, согласно которому теория значения должна быть
холистской, т.е. признавать семантическое первенство предложений
над словами, обусловленное тем, что единицей коммуникации
выступает не отдельное слово, а предложение в целом. Отсюда следует,
что значение слова определяется тем систематическим вкладом,
который оно вносит в содержащие его предложения и извлекается из
значения этих предложений в соответствии с той ролью, которую оно
в них играет. Иначе говоря, мы знаем значение слова, только если
понимаем предложения, в которых оно встречается3.
Итак, согласно Дэвидсону, теория значения для некоторого
языка - это то, что знают люди, когда понимают этот язык (знают, как
правило, в неявном виде, ибо формулировка теории значения в явном
и систематизированном виде - задача философов), а поскольку для
понимания предложений (и, стало быть, слов) нужно знать условия
истинности этих предложений, теория значения должна содержать
для любого предложения рассматриваемого языка особое
предложение, задающее его условия истинности4. На роль этих особых предло-
1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М. : Канон+, 2008.
2 Frege G. Op. cit. S. xxii (цит. по: Бирюков Б.В. Послесловие. В логическом мире
Фреге // Г. Фреге. Логика и логическая семантика. М., 2000. С. 496).
3 Дэвидсон сделал и более далеко идущие выводы: «Если значение
предложений зависит от их структуры и мы понимаем значение каждого элемента этой
структуры только как абстракцию, полученную из всей совокупности
предложений, в которых он [этот элемент] фигурирует, то мы можем задать значение любого
предложения (или слова), только задав значение каждого предложения (и слова) в
языке. Фреге говорил, что только в контексте предложения слово имеет значение;
в том же духе он мог бы добавить, что предложение (и соответственно слово) имеет
значение только в контексте всего языка» (Davidson D. Inquiries into Truth and
Interpretation. Oxford, 1984. P. 22).
4 Точнее сказать, поскольку Дэвидсон выстраивает формальную теорию
значения, опирающуюся на мощные ресурсы современной логики, в его представлении
она должна содержать конечный набор аксиом, из которого для любого
предложения 5 языка L выводилась бы теорема, задающая его условия истинности.
А.Б. Макеева • Как звуки становятся речью?
87
жений Дэвидсон выбирает Т-предложения из теории истины Тарско-
го1. Я не буду вдаваться в технические подробности, важно лишь, что
с точки зрения американского философа человек понимает
предложение, когда знает, при каких условиях оно было бы истинно, и это
знание может быть выражено в виде предложения, задающего эти
условия истинности.
Даммит выстраивает свою трактовку языкового знания, во
многом полемизируя с Дэвидсоном, но в главном он с ним согласен —
теория значения должна быть теорией понимания языка. Она должна
сообщать нам, что же именно знают говорящие, когда они понимают
язык, на котором говорят; в такой трактовке она «не является
описанием извне практики употребления языка, она считается предметом
знания со стороны говорящих. Владение языком состоит, с этой
точки зрения, в знании говорящим теории значения для этого языка:
именно это знание придает произносимым высказываниям смыслы,
которые они в себе несут, и именно потому, что два говорящих
воспринимают язык как подчиняющийся одной и той же или
приблизительно одной и той же теории значения, они могут общаться друг с
другом при помощи этого языка»2.
Истолковывая теорию значения как теорию понимания языка,
Даммит вместе с тем подчеркивает, что понимание в данном случае не
следует рассматривать как некий психологический акт или процесс,
происходящий внутри человека одновременно с речью. Когда человек
произносит или слышит слова, понимая выраженную в них мысль, за
этим не стоит ничего большего, чем тот факт, что он знает язык и
произносит или слышит данные слова. По мнению Даммита, именно это
имел в виду Витгенштейн, когда писал, что «понимать предложение
значит понимать язык». Некоторые американские философы
усмотрели в этом тезисе защиту лингвистического холизма, однако, полагает
Даммит, Витгенштейн хотел сказать нечто иное: «Учитывая, что вы
понимаете язык, что вы находитесь в этом состоянии понимания, не
нужно, чтобы произошло что-то еще, в чем состояло бы ваше понимание
этого предложения, не нужно никакого акта понимания, иного, чем то,
что вы слышите определенные слова»3.
Даммит ставит вопрос о том, какой характер носит знание,
которым обладает человек, понимающий язык. По его мнению, знание
1 Классическим примером такого Т-предложения является следующее: «Снег
бел» истинно, если и только если снег бел.
2 Dummett M. What Do I Know When I Know a Language? P. 100-101.
3 Ibid. P. 99.
88
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
языка (или владение языком) сродни таким практическим
способностям, как плавание или езда на велосипеде, которые считаются
практическим знанием или «знанием-как». На это указывает то, что
знание языка является знанием о том, как употреблять то или иное
языковое выражение. Отличительной особенностью таких практических
способностей служит то, что они предполагают процесс обучения,
поэтому, указывает Даммит, «"знать" в этих случаях означает "быть
наученным"»1. Однако между способностью говорить на языке и
таким физическим умением, как плавание или езда на велосипеде, есть
и важное различие. Человек, не умеющий плавать, тем не менее
может знать, что такое плавание, тогда как в случае владения языком
ничего подобного быть не может, ибо человек, не обучавшийся, скажем,
испанскому языку, не способен знать, что значит говорить
по-испански: по словам Даммита, «здесь нет разрыва между знанием, что
значит говорить по-испански, и знанием, как это делать»2. Поэтому в
своих более поздних работах, продолжая подчеркивать тесную связь
знания языка с практической способностью, Даммит говорит о
необходимости выделения наряду с теоретическим (знанием-что) и
практическим (знанием-как) третьей разновидности знания - знания
промежуточного типа, и «обучение языку есть приобретение знания
этого промежуточного типа»3.
Вместе с тем Даммит полагает, что любая практическая
способность предусматривает неявное знание тем, кто ее проявляет,
принципов, управляющих этой способностью. Поэтому и от говорящих на
каком-либо языке не следует ожидать явного знания принципов или
правил этого языка. Чтобы пояснить свою мысль, Даммит предлагает
аналогию с шахматами: как правило, человек обучается игре в
шахматы, знакомясь с ее правилами, однако в принципе человека можно
было бы научить играть и не формулируя правил, а просто поправляя
его, когда он делал бы запрещенный ход. В этом случае, обучившись
играть, человек знал бы правила или принципы игры неявно. Именно
такое неявное усвоение правил и принципов происходит при
обучении родному языку. Однако это неявное знание вполне можно
сделать явным, представив его в виде пропозиционального знания,
состоящего из суждений, упорядоченных в дедуктивную систему.
Выполнить эту задачу призваны философы, и, как пишет Даммит, «такое
теоретическое представление владения языком мы и будем называть
1 Dummett M. What Do I Know When I Know a Language? P. 94.
2 Ibid. P. 95.
3 Dummett M. Thought and Reality. Oxford, 2006. P. 48.
A.B. Макеева • Как звуки становятся речью?
89
вслед за Дэвидсоном "теорией значения" для данного языка»1. Но
если владение языком трактуется как связанное с практической
способностью неявное знание того, что может быть теоретически
представлено как теория значения данного языка, то, считает Даммит, теория
значения должна указывать не только то, что говорящий должен
знать, чтобы понимать язык, но и то, что является проявлением этого
знания, в противном случае теория значения «лишается связи с тем
практическим умением, теоретическим представлением которого она
должна быть»2.
Таким образом, в представлении Даммита связь между значением
и употреблением состоит в том, что знание значения того или иного
языкового выражения должно проявляться в практических умениях,
из которых складывается употребление этого языкового выражения,
а стало быть, оно должно быть публично наблюдаемо в
лингвистическом поведении. С проявлявмостью этого знания в лингвистических
практиках напрямую связана и возможность его публичного
усвоения в процессе обучения языку. Поэтому ни одна приемлемая теория
значения, считает Даммит, не может не отвечать требованиям
проявляемое^ и усвояемости языкового знания.
Связь между языковым знанием и практическими
способностями, в которых оно проявляется, важна еще потому, что только с
учетом этой связи, по мнению Даммита, можно надеяться дать
философское объяснение пониманию языка, которое не опирается ни на
какие допущения о том, что говорящий уже понимает некоторые
языковые выражения или владеет понятиями, связанными с
использованием языка. Иначе наше объяснение будет представлять собой
порочный круг.
Так что же такое практические способности, в которых
проявляется наше знание языка? Согласно Даммиту, есть два
фундаментальных способа проявить свое понимание языка. Во-первых, говорящий
может проявить понимание некоторого предложения, явным
образом сформулировав его условия истинности, однако этот способ
не годится для систематической и всеобъемлющей теории значения,
поскольку не позволяет вырваться из порочного круга. Во-вторых,
говорящий может проявить понимание некоторого предложения
посредством другой практической способности, а именно способности
распознавать условия, которые должны иметь место, чтобы это пред-
1 Даммит Л/. Что такое теория значения //Философия. Логика. Язык. М., 1987.
С 130.
2 Там же. С. 131.
90
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
ложение было истинным. Если, видя перед собой два дерева, человек
способен отличить более высокое дерево от менее высокого, то он
знает, что значит для одного дерева быть выше другого, а стало быть,
знает и то, какие условия должны быть выполнены, чтобы было
истинным предложение «Это дерево выше того дерева». Безусловно,
подобное соотнесение условий истинности с практическими
способностями по их распознаванию можно осуществить только для тех
предложений, которые обладают условиями истинности, доступными для
нашего распознавания. Даммит предлагает называть их «эффективно
разрешимыми», но в языке можно сформулировать множество
предложений, которые в этом смысле не являются эффективно
разрешимыми, например предложения с квантификацией по бесконечным
или необозримым совокупностям, условные предложения в
сослагательном наклонении, предложения, содержащие ссылки на
недоступные нам пространственно-временные области. Какое решение
Даммит находит для подобных эффективно неразрешимых
предложений, я скажу чуть позже, а сейчас отмечу еще один важный аспект
его теории значения.
В отличие от Дэвидсона Даммит вовсе не считает, что понимание
предложения следует отождествлять со знанием условий, при
которых это предложение истинно, ибо «тот, кто относительно
некоторого данного предложения знает, какие условия должны иметь место,
чтобы оно было истинно, еще не знает всего того, что нужно знать,
чтобы понять значимость (significance) произнесения этого
предложения»1. Чтобы быть способным вывести все аспекты употребления
некоторого предложения из знания его условий истинности и, в
частности, чтобы понять, какой лингвистический акт совершается с его
помощью, говорящий должен знать множество общих принципов и
понятий, включая прежде всего понятие истины, причем уметь
практически проявить это знание. Даммит в самых общих чертах
описывает, как вывести все аспекты употребления предложения из знания его
условий истинности. В его описании много неясного и
неопределенного2, однако в чем он точно уверен, так это в том, что лежащее в
основе истинностно-условной семантики понятие истины не позволит
решить эту задачу. Это понятие, по мнению Даммита, связано с прин-
1 Dummeît M. What is a Theory of Meaning? // Truth and Meaning. Essays in
Semantics ; ed. by G. Evans, J. McDowell. Oxford, 1976. P. 73.
2 Впрочем, он указывает, что для этого в основу теории значения нужно
положить что-то вроде предложенного Фреге различения между смыслом (Sinn), силой
(Kraft) и окраской (Färbung) предложения, но обсуждение этого вопроса увело бы
нас в сторону.
A.B. Макеева • Как звуки становятся речью?
91
ципом двузначности, согласно которому любое высказывание
определенно является или истинным или ложным независимо оттого,
известно ли нам его истинностное значение и способны ли мы вообще
его установить. Таким образом, оно выходит за пределы наших
когнитивных способностей и возможностей, а потому препятствует
соотнесению условий истинности предложений с конкретными
практическими способностями, из которых состоит употребление этих
предложений.
Когда истина понимается в таком «трансцендентном» смысле,
невозможно ни проявить знание условий истинности для
неразрешимых предложений, ни объяснить, как ребенок в процессе
обучения языку усваивает знание, позволяющее понимать неразрешимые
предложения. Возьмем, скажем, предложения с квантификацией.
Конечно, мы учимся понимать квантификацию сначала
применительно к разрешимым предложениям. На примере небольших
совокупностей мы осваиваем разрешающую процедуру, с помощью
которой можно установить истинностное значение предложений,
говорящих обо всех или нескольких элементах этих совокупностей.
Процедура состоит в простом обозрении этих элементов. Затем
переходим к использованию квантификации по конечным, но
необозримым совокупностям, к которым, как мы учимся понимать, усвоенная
нами разрешающая процедура хотя и может быть применена
теоретически, но на практике этого сделать нельзя. Однако параллельно мы
приобретаем знание о том, когда и какими средствами предложения о
конечных, но необозримых совокупностях могут быть
верифицированы или фальсифицированы, и обучаемся основывать свои
оправдываемые, но могущие быть аннулированными обобщения на
достаточно больших выборках. При переходе к неразрешимым
предложениям, т.е. предложениям с квантификацией по бесконечным
совокупностям, мы переносим на них все представления, кроме
представления о разрешающей процедуре, которая в принципе не
может быть применена, но, отмечает Даммит, «именно отсутствие этого
представления не позволяет нам иметь понятие истины для этих
высказываний, в соответствии с которым каждое из них определенно
является истинным или ложным»1. Поэтому британский философ
предлагает положить в основу теории значения понятие истины,
которое неразрывно связано с нашими когнитивными возможностями
и в конечном счете определяется тем, что может быть нами
верифицировано или обосновано.
Dummen M. Thought and Reality. P. 70.
92
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
Хотя, как было отмечено выше, в предложенном Даммитом
проекте систематической теории значения много неясного, довольно
отчетливо вырисовывается одна важная особенность его подхода к
трактовке языкового знания. Будучи публично доступным,
проявляемым в тех действиях, которые совершают люди, это знание
представляет собой нечто такое, что не заключено в сознании человека, а
лежит, так сказать, открытым для обозрения на поверхности
лингвистической практики. Люди способны воспринимать определенные
звуки как осмысленную речь, поскольку они участвуют в совместной
практике, в контексте которой эти звуки наполняются содержанием.
И происходит это потому, что речевая деятельность переплетается с
другими видами человеческой деятельности, а стало быть, мы можем
«видеть лицо» одной деятельности в другой, как мы видим
изображение человеческого лица в различных конфигурациях линий и точек.
Благодаря этому характеру наших практик значение языковых
выражений также является тем, что проявляет или показывает себя в
наших словах и предложениях.
Когда мы слышим или читаем слова и предложения, мы не
воспринимаем их как простые звуки и знаки, в которые должно быть
«считано» значение, находящееся вне их и присутствующее в нашем
сознании как некая ментальная сущность. Мы воспринимаем
значение в самих словах и предложениях, но это не значит, что значение
присуще им от природы. Наши слова и предложения приобретают
значение, потому что имеет место определенная «техника» их
употребления в контексте совместной деятельности людей. Отсюда
следует, что лингвистическую значимость звуков и знаков нельзя
объяснить ссылкой на что-то, находящееся вне нашей языковой практики;
значения слов и предложений лежат открыто на поверхности этой
практики, но они видимы или слышимы только ее участникам.
Усвоение такого языкового знания происходит в результате
натаскивания в определенных поведенческих рутинных действиях, когда
произносимые предложения вначале используются без их полного
понимания.
Такая трактовка языкового знания предполагает, что в результате
овладения языком мы начинаем воспринимать особые
лингвистические явления, которые прежде не находились в поле нашего
внимания. Но тогда возникает вопрос: достаточно ли простого
натаскивания на определенный поведенческий репертуар для объяснения
такого расширения перцептуальных возможностей человека? Ведь
лингвистическая информация, которую способен воспринимать в
звуках человек, знающий язык, и которая недоступна человеку, не
A.b. Макеева • Как звуки становятся речью?
93
знающему языка, довольно сложна и по своей структуре, и по своему
разнообразию. Чтобы воспринимать звуковой поток как
разворачивающуюся последовательность осмысленных слов, человек должен
научиться различать фонологические паттерны, грамматические
структуры и многое другое. Но можно ли усвоить всю эту сложную
информацию простым натаскиванием в ходе участия в совместных
практиках, причем усвоить в предельно краткие сроки, как это
делают маленькие дети?
Многие современные исследователи языка, прежде всего
американский лингвист Ноам Хомский и его последователи, полагают, что
есть серьезные основания для сомнения в том, что дети обучаются
языку исключительно на основе своего лингвистического опыта,
приобретаемого в ходе совместной деятельности с теми, кто уже
владеет языком. По их мнению, обучение языку невозможно без
определенных врожденных языковых способностей. А если это так, то
знание языка нельзя в полной мере объяснить внешними факторами, не
учитывая внутренне присущих людям психических механизмов и
структур. Весь вопрос в том, как соединить эти - экстерналистекий и
интерналистский - подходы к трактовке языкового знания.
В.П. Филатов
Методология социально-гуманитарных
наук и проблема «другого сознания»
Уже более 10 лет я читаю курс философии и методологии науки
аспирантам Российского государственного гуманитарного
университета. Когда в РГГУ в 1991 г. был создан философский факультет, на
преподавателей которого была возложена работа по философской
подготовке аспирантов всех факультетов, мы сразу же решили не
читать им курс истории философии (пусть даже и более глубокий) или
же некий курс общей философии. Наши силы позволяли предложить
аспирантам набор более приближенных к их специальностям
философских курсов. Поэтому преподаватели факультета читали
аспирантам-гуманитариям такие курсы: «Философия истории»,
«Философская антропология», «Социальная философия», «Философия и
методология науки». В качестве исключения из правила предлагается
также курс «Дополнительные главы истории отечественной
философии», поскольку многие аспиранты РГГУ занимаются отечественной
историей и культурой и такой курс им весьма полезен. Для сдачи
кандидатского экзамена по философии аспирант должен прослушать два
из перечисленных курсов на выбор и по тематике одного из них
написать реферат, причем рекомендуется связывать тему реферата с
тематикой готовящейся диссертации.
В связи с переходом в философском обучении аспирантов к
программам «История и философия науки» мы планируем несколько
видоизменить сложившуюся схему. Наиболее целесообразной
представляется двухступенчатая модель подготовки аспирантов в рамках
программы «Философия науки». Сначала всем аспирантам будет
читаться вводный курс «Общие проблемы философии науки», а затем
они будут в соответствии со своими специальностями слушать курсы
«Философские проблемы социальных наук» (экономисты,
социологи, юристы, политологи), «Философия и методология истории»
(историки, архивисты, культурологи, религиоведы, историки искусств),
«Философские проблемы наук о человеке» (психологи, антропологи,
лингвисты), «Философские проблемы информатики» (аспиранты
факультетов информатики и защиты информации).
В связи с этой моделью мне хотелось бы сделать некоторые
замечания в адрес опубликованных программ кандидатских экзаменов по
В.П. Филатов • Социально-гуманитарные науки и проблема «другого сознания» 95
курсу «Философия науки»1. Книга состоит из 10 разделов,
посвященных отдельным областям естественных и технических наук, и всего
лишь одного раздела, раскрывающего философско-методологиче-
ские проблемы социально-гуманитарных наук. Причины такой
асимметрии понятны: философия и методология науки у нас
традиционно развивалась в более тесной связи именно с естественными
науками. Однако в свете нынешних реалий такой явный перекос
трудно оправдать. Во-первых, различия внутри социальных и
гуманитарных наук не менее велики, чем внутри естественных. Например,
экономическая наука отличается от истории не меньше, чем физика
от геологии2. Во-вторых, число аспирантов в таких областях, как
экономика, юриспруденция, социология, в десятки, если не в сотни раз
превышает количество тех, кто готовит диссертации по астрономии
или географии, для которых разработаны отдельные программы.
Психология, хотя она также превратилась в достаточно массовую
профессию, вообще выпала из внимания авторов программы. Между
тем в ней немало интересных специфических философе
ко-методологических проблем. Наконец, как быть с нашей родной философией?
Что должен изучать аспирант-философ в рамках подготовки к
кандидатским экзаменам?
У меня есть определенные соображения по поводу всех этих
вопросов, но я не буду останавливаться на них, поскольку они
заслуживают отдельной дискуссии с привлечением многих специалистов.
Я хотел бы на одном примере показать, какого рода тематика может
быть полезной в рамках курса «Философия науки» для
аспирантов-гуманитариев. Речь идет о старой, но до сих пор далекой от
решения проблеме знания о «другом сознании». Я читаю на эту тему
лекцию и провожу семинар, и эта тематика вызывает у аспирантов
неизменный интерес, а ее обсуждение превращается в живую дискуссию.
Нередко на эту тему аспиранты пишут рефераты, необходимые для
сдачи экзамена.
Наибольший интерес к проблеме проявляют историки и
психологи. Это понятно, поскольку историк сталкивается с задачей
понимания и объяснения мотивов тех или иных поступков исторических
агентов, а психолог должен отдавать себе отчет в том, как он получает
1 См.: Программы кандидатских экзаменов «История и философия науки»
(«Философия науки»). М. : Гардарики, 2004.
2 В этом нетрудно убедиться, если сравнить основательные современные
работы пофилософско-методологическим проблемам экономики и истории. См.,
например: Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты
объясняют. М., 2004; ДантоА. Аналитическая философия истории. М., 2002.
96
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
знание о сознании других людей. Но и аспирантов других
специальностей эта тема не оставляет равнодушными. Ведь по крайней мере на
первый взгляд всякое социальное и гуманитарное познание явно или
неявно должно предполагать некоторое решение этой проблемы.
В самом деле, это познание направлено на человека, его поступки, на
те предметы культуры, которые создает человек. Специфика
человеческих действий состоит в том, что так или иначе они определяются
сознанием людей. Поэтому, обращаясь к методологии социальных и
гуманитарных наук, мы должны ожидать, что одним из первых в ней
будет поставлен вопрос: что мы можем знать о сознании других
людей, как мы получаем это знание? Помимо этого и в повседневном
общении все мы постоянно решаем проблему знания о «другом
сознании»: видим, чувствуем, понимаем, что окружающие нас люди
радуются, недоумевают, сердятся и т.п. Да и все условия этой проблемы,
что называется, налицо: вот Я, вот передо мной «другое Я», как я могу
знать о том, что он/она чувствует, желает и думает?
В лекции я ставлю перед собой следующие задачи: очертить
истоки этой проблемы, условия ее исходной постановки; разъяснить
имеющиеся решения, раскрыть аргументы за и против этих решений;
показать, почему вопрос о знании о «другом сознании», несмотря на
его, казалось бы, очевидную значимость, обычно не тематизируется в
социальном и гуманитарном познании.
Аргумент по аналогам и его критика. Классическим и наиболее
естественным решением проблемы знания о «другом Я» является так
называемый аргумент по аналогии, восходящий еще к Декарту. С его точки
зрения, знание субъектом состояний собственного сознания существенно
отличается от знания внешних предметов. К собственному сознанию Я
имеет непосредственный, привилегированный доступ, в то время как
знание внешних сознанию объектов, в том числе и «других сознаний» -
нечто опосредованное. Поэтому идущее от Декарта решение проблемы
исходит из того, что познание другого Я опирается на самопознание, на
знание о собственном сознании. Наш известный психолог в свое время
очень ясно высказал основную идею аргумента по аналогии: «Мы
постигаем боль другого исключительно благодаря нашей собственной
способности испытывать чувство боли. Никакого иного способа
проникнуть во внутренний мир другого человека у нас нет»1.
Это высказывание, на мой взгляд, и справедливо, и ошибочно.
Оно справедливо в том смысле, что я не могу испытывать (непосред-
1 Симонов П.В. О познавательной функции сопереживания // Вопросы
философии. 1979. №9. С. 24.
В.П. Филатов • Социально-гуманитарные науки и проблема «другого сознания» 97
ственно переживать) чувство боли или радости другого человека. Это
было бы невозможно, даже если допустить существование
телепатии, т.е. некой прямой связи сознаний. Все равно я не буду
испытывать боль или радость другого как свою боль или радость.
Однако я могу знать, даже как бы непосредственно видеть, что
вам больно или радостно, не испытывая при этом ни малейшей боли
или радости. Есть существенная разница, асимметрия между
высказыванием «я испытываю боль» (можно назвать это знанием «от перво-
голица») и «он испытывает боль» (знание «от третьего лица»). Знания
«другого Я» от первого лица нам не добиться никогда, даже если,
повторяю, допускать существование телепатии, а в более ослабленных
формах — сопереживания, вчувствования, эмпатии. О ментальных
состояниях другого Ямы можем знать только «от третьего лица».
Вернемся к аргументу по аналогии. Он как раз и объясняет, как,
используя знание от первого лица, можно получить более или менее
объективное знание о другом Я от третьего лица. Аргумент исходит из
картезианского эгоцентрического допущения. Я могу
непосредственно и безошибочно воспринимать состояния своего собственного
сознания. Ноя не могу непосредственно наблюдать состояния
сознания других людей. В эмпирическом наблюдении объективно мне
даны только телесные проявления и акты поведения другого человека:
мимика, жесты, поступки, речевое поведение. Помимо этого я могу
наблюдать собственное поведение (правда, не вполне ясно - от
первого или от третьего лица).
На этой основе и строится аргумент по аналогии. Соотнеся
знание о собственных состояниях сознания и своем поведении, можно
индуктивно установить ряд «психоповеденческих обобщений». Они
фиксируют устойчивые связи между определенными явлениями
сознания и формами поведения. Например, я испытываю ментальное
состояние — чувство боли - и одновременно отдергиваю руку от огня
и вскрикиваю «Мне больно!». Далее я по аналогии допускаю, что
установленные мною психоповеденческие обобщения справедливы не
только для меня, но и для других людей. И когда я наблюдаю
поведение другого человека, аналогичное моему поведению, я могу сделать
вывод, что в «другом сознании» существует субъективное состояние,
аналогичное моему собственному.
Аргумент по аналогии вслед за Декартом в той или иной форме
принимали и развивали многие философы, среди которых можно
назвать Дж. Беркли, Дж. Локка, Дж.С. Милля, Б. Рассела, А. Айера.
Однако за 300 лет существования этого решения проблемы другого
сознания против него накопилось и немало возражений эпистемологи-
98
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
ческого, психологического и даже эволюционно-биологического
характера. Можно кратко перечислить главные из них.
Очевидная слабость аргумента по аналогии состоит в том, что база
для установления «психоповеденческих обобщений» очень узкая: для
каждого человека это только его собственный единичный опыт. Ведь
только ему даны обе половины психоповеденческих связей.
Второе возражение связано с существованием людей с
психической организацией, отклоняющейся от нормальной. Если бы наше
знание о другом сознании полностью ограничивалось тем, что мы
можем переживать в своем собственном сознании, то дальтоник не мог
бы знать, что другие люди видят те цвета, которых не видит он. Глухие
люди не могли бы знать, что другие люди могут слышать. Любой
человек приписывал бы «другим сознаниям» только то, что он может
обнаружить в своем собственном сознании. Психиатр не мог бы изучать
психику шизофреника, взрослый психолог - особенности психики
маленьких детей, этнограф - ментальность представителей
архаических племен.
Сильный довод против аргумента по аналогии вытекает из
известного тезиса Л. Витгенштейна о невозможности «приватного языка».
По сути он направлен против картезианского эгоцентрического
допущения о непосредственном и безошибочном —
«привилегированном» — доступе к состояниям собственного сознания. Витгенштейн
показал, что, во-первых, в различении, идентификации,
наименовании (а это все формы знания) своих ментальных состояний мы можем
ошибаться1, а во-вторых, что для обозначения этих состояний нужен
общепонятный язык.
В современной психологии, в частности в работах Дж. Гибсона,
показано, что восприятие человеком собственного тела и его
движений существенно отличается от восприятия тел других людей.
Человек не может видеть своего лица и соответственно фиксировать
мимику, сопровождающую его те или иные психические состояния. Об
этом писал еще И.О. Лосский, отмечая, что мы радуемся или гневаем-
1 Из психологии также известно, что есть иллюзии в самовосприятии.
Например, человек может чувствовать боль в ампутированной ноге. Более того, даже
если у нас ноги на месте, то, вообще говоря, мы сильно заблуждаемся, когда
ударившись ногой о камень, локализуем боль внутри самой ноги. Сточки зрения
науки это ложно. Реально мозг формирует образ тела. Боли, как и другие телесные
ощущения, являются элементами этого образа тела. Поэтому в буквальном смысле
«боль в ноге» находится в пространстве мозга. При этом любопытно, что в самом
мозге нет болевых нервных окончаний, на мозге можно делать операции без
анестезии. Поэтому опять же мы ошибаемся, когда при боли в голове говорим «мозги
трещат!».
В.П. Филатов • Социально-гуманитарные науки и проблема «другого сознания» 99
ся без зеркала в руках1. Он также считал, что непредубежденный
феноменологический анализ показывает, что в нашем восприятии
состояний сознания другого индивида не обнаруживается каких-то
следов самонаблюдения. Мы также воспринимаем не отдельные
движения, мимику, акты поведения, а целостную эмоцию
непосредственно. Об этом свидетельствует и наш язык. Ведь мы не говорим «я
вижу признаки гнева у Ивана», но говорим «Иван сердится», подобно
тому как мы говорим «вода кипит», «яблоко зрелое» и т.п.
Психология дает сильный довод против аргумента по аналогии,
который можно назвать «доводом от ребенка». Уже в самом
младенческом возрасте дети чутко различают основные психические
состояния (радость, гнев, тревогу и т.п.) других людей, прежде всего матери
и отца, сестер или братьев. Между тем в этом возрасте у ребенка еще
нет никакого представления о собственном Я и способности делать
какие-то выводы в противоположность тому, что предполагается
аргументом по аналогии2.
Эволюционная теория с других позиций опровергает
первичность знания о себе перед знанием о сознании других людей. В
эволюционной перспективе для выживания более важно знать и
контролировать внешний мир, чем себя самого. Нужнее отличать съедобное от
несъедобного, угрозы других людей от их добрых намерений и т.п.
Поэтому люди первоначально лучше узнали как раз внешний мир,
включая других людей, а не себя самих. Способность к знанию самих
себя была эволюционно полезной только тогда, когда улучшала
знание о внешнем мире. Поэтому вряд ли можно с этих позиций считать
знание о внутреннем мире первичным и безошибочным.
Думается, что в сумме эти контраргументы против знания о
другом Я по аналогии слишком сильны, чтобы сохранять это решение
проблемы. Одновременно они очерчивают важные параметры,
которые нужно учитывать при поиске иных подходов к проблеме «других
сознаний». Среди этих иных подходов можно упомянуть
бихевиористскую позицию, в рамках которой проблема «другого сознания» по
сути снимается. Согласно бихевиоризму, знание о другом сознании
1 См.: Лосскии И.О. Восприятие «чужого Я» // Н.О. Лосский. Основные
проблемы теории познания. СПб., 1918.
2 Это заставляет, например, У. Найссера считать, что базисные схемы
восприятия "другого Я" являются врожденными: «Младенцы от рождения готовы к
восприятию улыбающегося или нахмуренного лица... Если гипотеза о врожденном
характере физиогномических схем верна, то ребенок, вероятно, воспринимает
своих родителей, братьев и сестер как людей, имеющих определенные намерения
и чувства, задолго до того, как поймет, что и он такой же, как они» (Найссер У.
Познание и реальность. М., 1981. С. 203).
100
Раздел 1.Языки сознание: общие проблемы
должно быть переформулировано в объективное знание о
поведенческих актах других людей.
Сохраняются также попытки объяснить знание о другом Я через
эмпатию. Но, во-первых, эмпатию трудно рационально описать,
во-вторых, против эмпатии можно обратить большинство из
перечисленных критических доводов в отношении аналогии. Дело в том,
что знание по аналогии подразумевает как бы проекцию своего Я в
другое Я, и эмпатия также подобна переносу себя на место другого Я.
Хотя воображаемые движения здесь вроде бы разнонаправлены, но у
них есть общее: отождествление своего Я с другим Я.
Оценивая ситуацию с обсуждаемой проблемой, известный
социолог феноменологического направления А. Шюц писал:
«Используя изречение Канта, сделанное, правда, в другом контексте, скажу,
что это "скандал в философии", что до сих пор удовлетворительного
решения проблемы нашего познания другого сознания и в связи с
этим интерсубъективности нашего опытного исследования как
природного, так и социально-культурного мира не было найдено и что на
протяжении весьма длительного времени эта проблема вообще
ускользала от внимания философов. Но решение этой очень трудной
проблемы философской интерпретации связано как раз с тем, что в
первую очередь воспринимается на веру в нашем обыденном
сознании и практически решается без каких-либо затруднений в каждом из
наших повседневных действий»1.
Теоретические гипотезы и «народная психология». Продвижение в
решении проблемы «другого сознания» должно опираться на
достаточно ясное различие между тремя ее аспектами: опытом повседневного
практического знания человека о сознании других людей,
специфическим методом социальных и гуманитарных наук и собственно
эпистемологической проблемой в ее чистом виде. На мой взгляд, основу
любого подхода к пониманию проблемы «другого сознания» должен
составлять тот факт, что в большинстве ситуаций повседневной
жизни мы достаточно адекватно истолковываем мотивы, эмоции и т.п.
других людей и успешно предсказываем их поведение.
Для методологии социальных наук эта проблема также,
по-видимому, не является существенным препятствием. Как и в аргументе по
аналогии, многие теоретики считают, что при объяснении целей и
мотивов поведения других людей мы вполне можем опираться на
опыт собственного сознания. Так, Ф. Хайек, сравнивая методологию
1 Шюц Л. Формирование понятия и теории в общественных науках //
Американская социологическая мысль : тексты. М., 1996. С. 534.
В.П. Филатов • Социально-гуманитарные науки и проблема «другого сознания» 101
естественных и социальных наук, полагает, что отказ от этого ресурса
при объяснении человеческой деятельности был бы
«самоограничением, поскольку мы задействовали бы далеко не все наши знания о
ситуации... Нам известно, что, принимая осознанные решения,
человек классифицирует внешние сигналы таким способом, который
известен нам исключительно из нашего собственного субъективного
опыта подобной классификации. Мы считаем само собой
разумеющимся, что вещи, представляющиеся нам одинаковыми или
разными, представляются таковыми и другим, хотя эта уверенность не
опирается ни на данные объективных проверок, ни на знание того, как
эти вещи соотносятся с другими во внешнем мире. Наш подход
основан на опыте, говорящем, что другие люди, как правило (хоть и не
всегда - но мы не ведем речи о дальтониках или сумасшедших),
классифицируют свои чувственные впечатления также, как мы»1.
На мой взгляд, по этой причине проблема «другого сознания»
редко обсуждается в методологии гуманитарного познания.
Во-первых, для гуманитария нет этой проблемы, поскольку ему, как и
обычному человеку, для большинства объяснений хватает запасов
повседневных представлений о «другом сознании». Во-вторых, он
подходит к миру сознания другого человека иначе, чем эпистемолог,
обсуждающий проблему «другого сознания». Для эпистемолога
«другое сознание» — нечто вроде невидимого сосуда, в котором как рыбы в
воде плавают опять же невидимые мысли, желания, чувства другого
человека. Гуманитарий же (например, историк) описывает не этот
сосуд, а интенциональную предметность сознания исторического
деятеля. Возьмем, к примеру, высказывание Дильтея (цитируется по
памяти): «Когда я листаю письма и сочинения Лютера, рассказы его
современников, акты религиозных соборов в официальном изложении,
я живу этими событиями, но в жизни и смерти эти процессы выходят
за пределы возможности понимания любого человека наших дней.
Все же я, тем не менее, могу вновь пережить их... Я вижу
разработанную в монастырях технику контакта с невидимым миром, к которому
устремлены души монахов: теологические споры становятся здесь
вопросами внутреннего существования. Я вижу, как в миру
распространяются по бесчисленным каналам амвоны, кафедры, книги - все то,
что было разработано в монастырях... Таким образом, этот процесс
открывает нам религиозный мир его (Лютера) и его соратников
начального этапа Реформации». Хотя здесь и видны следы «сопережи-
1 Хайек Ф. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблении разумом. М.,
2003. С. 43.
102
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
вания» и «эмпатии», но Дильтей пишет о предметности религиозного
сознания Лютера, а не о его чувствах и переживаниях.
При обсуждении проблемы «другого сознания» в
эпистемологическом аспекте существенным является то обстоятельство, что
состояния сознания другого человека действительно являются
«ненаблюдаемыми». И в связи с этим нужно вспомнить, что представляет
собой стандартный эпистемологический подход. Он состоит в том,
что для знания о ненаблюдаемом мы должны строить теоретические
гипотезы. В контексте этих условий появилось достаточно
оригинальное решение проблемы «другого сознания», которое отличается
от аргумента по аналогии. Оно возникло как побочный результат
дискуссий вокруг статуса так называемой народной психологии в
современной аналитической философии сознания.
Можно предположить, хотя на первый взгляд это выглядит
неправдоподобно, что наше знание о ненаблюдаемых ментальных
состояниях «другого сознания» получается не путем индуктивных
психоповеденческих обобщений, а путем постоянного выдвижения
определенных гипотез и их верификации и фальсификации
наблюдаемыми поведенческими фактами. В той степени, в которой эти
гипотезы позволяют нам объяснить и предсказать наблюдаемое поведение,
они становятся для нас достоверным знанием о состояниях сознания
другого человека. По сути это стандартный способ оправдания любых
теоретических представлений о ненаблюдаемых феноменах.
В связи с этой схемой возникают два сложных вопроса.
Во-первых, что служит нам основой для выдвижения таких гипотез?
Во-вторых, как совместить эту модель с тем упомянутым выше фактом, что в
обычных ситуациях мы как бы прямо и непосредственно
воспринимаем состояния сознания другого Я?
Ответить на первый вопрос помогает ссылка на наличие у каждого
из нас существенного запаса знания, который и обозначается
понятием «народная психология». Именно этот слой опыта позволяет нам
без особого труда продуцировать гипотезы о «другом сознании».
Народная психология - это часть здравого смысла (причем достаточно
обширная), в которой на обыденном уровне описывается и
объясняется, например, из чего состоит сознание, как его различные
проявления связаны между собой, а также с телесными проявлениями и с
поведением. Эта «теория» сформировалась в результате длительной
биологической и культурной эволюции, входящие в нее
представления прошли жесткий отбор. Поэтому в большинстве практических
ситуаций она должна быть адекватной, иначе люди просто не смогли
бы жить совместно и коммуницировать между собой. Запасом знаний
В.П. Филатов • Социально-гуманитарные науки и проблема «другого сознания» 103
здравого смысла, в том числе и народной психологией, располагает
каждый нормальный человек. Именно это позволяет нам постоянно
и достаточно успешно объяснять и предсказывать поведение друг
друга. Несмотря на обилие научных психологических теорий,
народная психология в этом отношении до сих пор остается вне
конкуренции. Известны эксперименты, показывающие, что в попытках
прогнозировать индивидуальное поведение профессиональные
психологи систематически уступают непрофессионалам, наделенным
опытом и разбирающимся в «человеческой природе».
Сложнее ответить на второй вопрос. Определенную подсказку, на
мой взгляд, здесь может дать известная теория восприятия Р.
Грегори1. Он показывает, что восприятие представляет собой не пассивную
рецепцию, а активный, включающий в себя рациональные
составляющие процесс выдвижения и проверки «объект-гипотез». Называя
глаз «разумным», Грегори подчеркивает, что восприятие позволяет
нам проникать в невидимую суть видимых вещей, т.е. фиксировать
свойства объектов, недоступных органам чувств, но известных нам
благодаря разуму и приобретенному опыту. В большинстве ситуаций
этот процесс продуцирования и проверки объект-гипотез, протекая
моментально и неосознанно, тем не менее дает адекватные
результаты. Как представляется, эта концепция позволяет в первом
приближении объяснить и то, как мы воспринимаем состояния сознания
других людей в повседневной жизни.
Если согласиться с этим, то наше знание о ментальных
состояниях других людей можно трактовать как основанное на процессе
непосредственного восприятия, включающего в себя постоянное
продуцирование и проверку гипотез, опирающихся на
неартикулированный, «фоновый», но всегда имеющийся у нас «под рукой» запас опыта
народной психологии. Эта модель выдерживает большинство
возражений (кроме «довода от ребенка»), выдвинутых против аргумента по
аналогии. Что особенно важно, она не требует картезианского
привилегированного доступа к собственному сознанию. Последнее также
интерпретируется нами в понятиях народной психологии.
Нетрудно понять и то, как возможен доступ к сознанию существ с
отличной от нормальной психической организацией. В этом случае,
конечно, народную психологию следует дополнять более сложными
гипотезами, которые заимствуются, например, из теорий научной
психологии. Более того, мы в состоянии осмысленно рассуждать даже
о сознании животных. В самом деле, на уровне народной психологии
См.: Грегори Р. Разумный глаз. М., 1972.
104
Раздел 1. Язык и сознание: общие проблемы
мы уверены в том, что собаки, кошки и другие высшие животные
обладают ментальными состояниями (визуальным опытом,
ощущениями боли, голода, холода, тепла и т.п.). Здесь, кстати, видно, что эта
наша уверенность покоится не на выводе по аналогии, в ней нет
перехода от сходства в поведении к сходству ментальных состояний собаки и
человека. Скорее мы исходим из относительного сходства
физиологического базиса поведения собаки с нашей физиологией. Мы видим
глаза, нос, уши, кожу собаки. И полагаем, что получим определенное
поведение, если будем щипать кожу собаки или кричать ей в ухо. При
этом нам также вполне достаточно простой «народной физиологии»,
в которой мы приписываем глазам или носу собаки функции,
присущие нашим собственным глазам и носу.
Достоинствами этого решения проблемы «других сознаний»
являются простота и в целом согласованность с привычными
представлениями о том, как получается знание о ненаблюдаемых вещах и
процессах. Но это решение, конечно, нельзя рассматривать как
непроблематичное и достаточно убедительное. Реально проблема «другого
сознания», несмотря на кажущуюся простоту ее постановки, скорее
всего еще долго будет сохранять статус небольшого «скандала в
философии», на котором можно оттачивать и проверять различные
эпистемологические и методологические подходы.
РАЗДЕЛ
2
l
и
с
е
о
и
о
И.Т. Касавин
Сознание: между Хиггинсом
и Франкенштейном
К истории и типологии подходов. Главные
философские вопросы о природе человека, его особом
отношении к миру и специфике философского знания
неразрывно связаны с проблемой сознания, в каждую
историческую эпоху обретающей новую форму.
В процессе эволюции философии от нее уже
неоднократно отделялись конкретные области знания,
образуя научные дисциплины, и характерным образом
изменялась терминология. Так, natural philosophy
Ньютона превратилась в физику, philosopie zoologique
Ламарка - в эволюционную биологию,
аристотелевская Athenaion Politeia и Гоббсов social contract - в
социально-политические науки, а юмовское учение о
human understanding - в психологию. В свое время
Ф. Энгельс заявил в «Анти-Дюринге», что от прежней
философии остается лишь учение о мышлении -
формальная логика и диалектика, остальные области
заняты «позитивными науками». Однако уже тогда
ситуация изменялась; логика, лингвистика и
психология превращались в самостоятельные
дисциплины, и на долю философии в итоге не осталось ни
одной монопольной сферы. В наши дни
философствовать о природе сознания невозможно вне
критического анализа результатов и методов не только
гуманитарных, но и естественных наук - в общем виде
этот тезис не оспаривается ни одним философским
направлением.
Справедливо и обратное. Философские способы
проблематизации сознания сохраняют свою
потенциальную значимость для ученых, притом вне
зависимости от того, признают ли они это в явной форме.
Картезианская рядоположенность мыслящей и
протяженной субстанций олицетворяет собой для
психологов дуализм психики и тела, сознания и мозга. Ро-
106
Раздел 2. Философия психологии
доначальниками сходного учения о психофизическом параллелизме
стали Н. Мальбранш и Г.В. Лейбниц. Механистический
материализм, наиболее рельефно выраженный Т. Гоббсом и Ж.О. Ламетри,
выступил прототипом научного редукционизма. Д. Юм совместил
понимание сознания как «потока», или «театра» впечатлений, с
отрицанием духовной субстанции. Тем самым он инспирировал два
противостоящих подхода: феноменологический ментализм и
нейрофизиологический элиминативизм, вплотную приблизившись к
парадоксу реальности сознания (единственно реальным является сознание, но
сознание не является реальностью).
Многообразие взглядов на природу сознания — хорошо
известный факт1. Исследователи по-разному классифицируют различные
подходы, выделяя от двух до десяти их типов. Это «идеализм»,
«материализм», «элиминативизм», «панпсихизм», «дуализм»,
«психофизический параллелизм», «репрезентационизм», «логический
бихевиоризм», «функционализм», «нейтральный монизм»,
феноменологический и культурно-исторический подходы. Стремление выйти за их
пределы характеризует последние дискуссии в данной области, в
частности работы Дж. Сёрла, Д. Деннета и Д. Чалмерса2. Однако
многообразие подходов при внимательном рассмотрении обнаруживает
определенное единство. По мере того как мы углубляемся в детали
рассматриваемых концепций, выясняется, что все они похожи друг
на друга в той мере, в какой являются продуктом обстоятельной
философской рефлексии. Едва ли не всех философов сознания
объединяет стремление учесть максимальное количество аспектов
избранной области анализа и найти наиболее сбалансированное решение,
которое учитывало бы и философский, и научный, и обыденный
ракурсы рассмотрения. Впрочем, в итоге все они фактически
расписываются в невозможности найти «конкретное решение» проблемы
сознания, приходя либо к ее отрицанию, либо к существенной
переформулировке.
При этом обнаруживаются три общие черты большинства
основных современных англо-американских подходов к сознанию,
вызывающие наибольшее недоумение. Во-первых, сознание (психика,
ментальные события) рассматривается, как правило,
безотносительно к процессу познания, а также предметной деятельности, коммуни-
1 См., например: Прист С. Теории сознания ; пер. с англ. и предисл. А.Ф. Гряз-
нова. М., 2000.
2 См. среди прочего: Юлина Н.С. Головоломки проблемы сознания. М.,
2004.
И.Т. Касавин • Сознание: между Хиггинсом и Франкенштейном
107
кации, культуре и обществу1. «Загадка сознания» во многом
определяется тем, что дискурс аналитических философов уже многие
десятилетия циркулирует почти исключительно в области «mind-body
problem». Вероятно, здесь проявляется неприятие, а может, и
незнание целого крупного направления в философии, психологии,
социологии и лингвистике — культурно-исторического подхода (Г. Шпет,
Л. Выготский, М. Бахтин, М.К. Петров и др.), который в
определенной степени связан с марксизмом2. На поверхности же это
обусловлено стремлением к дисциплинарной стерильности — отграничением
области того, что понимается под «philosophy of mind»3, от
эпистемологии, теории культуры, социологии и философии языка.
Во-вторых, в качестве достойного собеседника для философа
сознания избирается исключительно ученый естественно-научного
профиля (физик, биолог, физиолог, специалист в области когнитивной
науки) или психолог естественно-научной ориентации. Это можно
понять так, что социально-гуманитарным наукам отказывается в
собственно научном статусе или же что они объявляются
нерелевантными для рассматриваемой проблематики. В такой установке
проглядывает очевидный и давно изживший себя сциентизм, от которого
отказываются даже сами ученые-естественники.
Наконец, в-третьих, вопрос об онтологическом статусе сознания
(именуемый «трудной проблемой сознания») никак не соотносится с
вопросом о его генезисе. Получается, что даже если сознание имеет
собственный онтологический статус, то как он приобретается,
никого не интересует. Можно лив таком случае вообще понять его
природу? Это довольно странная позиция в эпоху, когда ученые уже
выдвинули множество гипотез даже о возникновении Вселенной. Она
уподобляет философию сознания современной теологии, которая
отказалась от теогонических претензий и табуирует проблему возник-
1 О тщете такого подхода см.: Касавин И. Т. О семиотическо-коммуникативной
теории сознания (в развитие идей Л.С. Выготского). Россия в диалоге культур. М.,
2010.
1 Особняком стоят некоторые «научные материалисты», чьи идеи порой
резонируют с положениями вульгарного марксизма-ленинизма в стиле
«Материализма и эмпириокритицизма».
2 Различие между «philosophy of mind» (философия сознания) и «philosophy of
consciousness» (теория психического) существенны для современной
аналитической философии и символизируют различия между концепциями Райла, Стросо-
на, Сёрла, с одной стороны, и Черчлендов, Деннета, Чал мерса - с другой. На наш
взгляд, эта современная тенденция (например, в книге в честь Г. Фейгля ее еще
нет) только запутывает проблему, поэтому мы не будем учитывать данное
различение.
108
Раздел 2. Философия психологии
новения бога. По всей видимости, генезису сознания отводится роль
частной научной задачи, которая рано или поздно будет разрешена
без вмешательства философов (то, что Чалмерс именует «простыми
проблемами сознания»1). Однако в таком случае рассмотрение всего
многообразия типов сознания (первобытного и современного,
животного и человеческого, детского и взрослого, индивидуального и
коллективного) лишается всякого смысла и вопрос ставится только «в
самом общем виде», а говоря попросту, чрезмерно абстрактно даже
для философии.
Онтология или эпистемология?
В рамках современной философии несомненно доминирует
аналитическая постановка вопроса о сознании2 и, в частности, как
проблемы онтологии. По мнению многих, она состоит в том, что
деятельность мозга сопровождается субъективным опытом, нередуци-
руемым ментальными состояниями первого порядка, проприоцепти-
ческими ощущениями, или квалиа. Но являются ли квалиа в самом
деле состояниями первого порядка, полностью независимыми от
культуры? Не похоже ли это на знаменитую редукцию первичных
качеств к вторичным (Дж. Беркли)? Не воспроизводит ли этот тезис
давно исчерпанную теорию «чистого опыта»? Не исчезает ли в таком
случае различие между животным и человеческим сознанием? И как
быть с высшими формами сознания, которые практически
исключаются из рассмотрения, но которые de facto не могут не влиять на так
называемые сырые чувства (raw feelings)? В частности, речь идет о
понятии субъективности, в которой уже содержится как единство
сознания (воли, внимания, памяти, мышления, восприятия), так и
частично понятие опыта. И потому дефиниция «сознание есть
субъективный опыт» содержит круг, так как эквивалентно определению
«сознание есть единство сознания, частично включающее в себя
сознание». Однако главное даже не в этом логическом затруднении, а в
том, что оно воспроизводит старую дуалистическую постановку
вопроса, исторически себя исчерпавшую с точки зрения как филосо-
1 См.: Chalmers D. Facing up to the Problem of Consciousness // The Journal of
Consciousness Studies. 1995. № 2 (3). P. 200-219.
2 Это признают даже германские философы, отводящие феноменологической
и другим континентальным традициям совсем незначительное место (см.:
Metzinger Th., SchumacherR. Bewusstsein// Enzyklopädie Philosophie ; HJ. Sandkühler
(Hrsg.). Hamburg, 1999). Однако качество теории не зависит от числа ее
сторонников, и доминирование аналитической философии напоминает популярность
голливудских фильмов.
И.Т. Касавин • Сознание: между Хиггинсом и Франкенштейном
109
фии, так и науки. Поэтому неудивительно, что наиболее влиятельные
современные концепции сознания колеблются между двумя
способами снятия дуализма. Это различные версии элиминативизма, эпифе-
номенализма, функционализма и бихевиоризма, не признающие за
субъективным опытом онтологического статуса, или разные
варианты монизма, ставящие «единство события» на место
противоположности материального и ментального1.
Представляют ли ментальные и физические события два нереду-
цируемых друг к другу класса? Возможна редукция одного к другому
или их каузальное взаимодействие? Для логического бихевиоризма
все это — псевдовопросы, устраняемые логическим анализом языка.
По выражению К. Гемпеля, «старая проблема отношения между
ментальными и физическими событиями... основывается на
недоразумении относительно логической функции психологических понятий.
Наша аргументация позволяет понять, что психофизическая
проблема является псевдопроблемой, формулировка которой основывается
на недопустимом употреблении научных понятий»2. Ему вторит
Г. Райл, усматривая в понятии сознания как такового ошибочную
привычку обыденного языка. «Одним из сильнейших факторов,
заставляющих нас верить в доктрину о том, что сознание является
приватной сферой, служит прочно укоренившаяся привычка
соглашаться с тем, что должны существовать "когнитивные акты", или
"когнитивные процессы"»3. Однако сказать, что логический или
лингвистический бихевиоризм способен предложить более
успешный подход к сознанию, было бы непониманием его сути. Критика и
терапия языка — вот задача, которую ставят себе его представители со
времен Витгенштейна. Разоблачение иллюзий и заблуждений, а не
навязывание новых занимает и Райла, труды которого наполнены
блестящим критическим пафосом, но не предлагают готовых
решений. «Согласно одной точке зрения, наши мысли тождественны тому,
что мы говорим. Приверженцы противоположной точки зрения
справедливо отвергают подобное отождествление, но делают это естест-
1 См.: Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М., 1998; Меркулов И.П.
Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). СПб., 2003; Райл Г.
Понятие сознания. М., 1999; Пагпнэм X. Философия сознания. М., 1998; СёрлДж.
Открывая сознание заново. М., 2002; ДеннетД. Виды психики: на пути к пониманию
сознания. М.,2004; РортиР. Мозг как компьютер, культура как
программа//Эпистемология и философия науки. 2005. № 2.
2 Hempel CG. The Logical Analysis of Psychology // Readings in Philosophy of
Psychology ; N. Block (ed.). 1980. Vol. 1. Cambridge : Harvard University Press.
P. 20.
3 Райл Г. Понятие сознания. M., 1999. С. 307-308.
по
Раздел 2. Философия психологии
венным, однако неверным способом: в форме утверждения, что
говорить — это делать одно дело, думать — это делать совершенно
другое»1, — пишет Райл, полемически выделяя крайние точки зрения.
Во многом иначе поступает Дэвидсон, один из наиболее
влиятельных представителей «материализма» в философии сознания, который
всячески стремится найти универсальный и позитивный компромисс.
Кавычки здесь подчеркивают своеобразие его материализма, который
по сути представляет собой версию физикализма, максимально
ослабленного методами логико-лингвистического анализа.
Формулируя свою теорию сознания, Дэвидсон постулирует три
принципа, каждый из которых полагается безусловно истинным.
Первый принцип гласит, что по крайней мере некоторые ментальные
события каузально взаимодействуют с физическими событиями
(принцип каузальной интеракции). Согласно второму, где имеет
место каузальность, там должен быть и закон: события, относящиеся
как причина и следствие, подпадают под строгие
детерминистические законы (принцип номологической каузальности). Однако
третий принцип состоит в утверждении, что не существует строго
детерминистических законов, на основе которых могут быть объяснены и
предсказаны ментальные события (аномализм ментального).
Дэвидсона не смущает, что для многих философов принятие всех трех
принципов выглядит непоследовательно и даже противоречиво. Он
считает их одновременно истинными и собирается это обосновать,
построив очередную теорию тождества ментальных и физических
событий. Эта теория получит также именование «аномального
монизма» или «холизма»; согласно ей, между сериями физических и
ментальных событий можно установить причинные связи. Но как же
следует понять такое признание, граничащее с кокетством? «Ясно, что
это "доказательство" теории тождества будет в лучшем случае
условным, поскольку две из ее посылок не имеют оснований (support), а
аргументация в пользу третьей может быть оценена как неубедительная
(less than conclusive)»2.
Далее Дэвидсон пародирует логический бихевиоризм в стиле
К. Гемпеля, задавая следующий вопрос. «Что значит сказать, что
событие является ментальным или физическим? Естественным ответом
будет, что физическое событие описывается в чисто физическом
словаре, а ментальные — в ментальных терминах»3. Но из отождествле-
1 Райл Г. Указ. соч. С. 319.
2 Davidson D. Essays on Actions and Events. Oxford, 2001. P. 207.
3 Ibid. P. 208.
И.Т. Касавин • Сознание: между Хиггинсом и Франкенштейном
111
ния бытия и его описания вытекают определенные трудности. Так, из
конъюнкции истинного высказывания и его отрицания,
принадлежащих физическому словарю («некоторое х находится и не находится
в Нуза Хедз» (район в Австралии. - И.К.)), следует все, что угодно,
в том числе и истинность в отношении ментальных событий.
Поэтому нужно избавиться от предикатов, тавтологически истинных в
отношении любых событий, и заменить ментальные термины
пропозициональными установками типа «верить», «намереваться»,
«надеяться», «воспринимать» и т.п., которые иногда появляются в
высказываниях, относящихся к личностям, притом только в
неэкстенсиональных контекстах. Вероятно, в логико-лингвистическом анализе
ментального следует отказаться от закона исключенного третьего,
потому что он «не соответствует интуитивным фактам». Но поскольку
проблема сознания не обсуждается Дэвидсоном по существу дела, т.е.
с привлечением каких-либо иных «неинтуитивных» фактов (нейро-
психологических или социологических), то непонятно, что
собственно образует фундамент его теории, кроме некоторой веры в ее
абстрактную возможность.
Моя теория, утверждает Дэвидсон, хотя и отрицает наличие
психологических законов, но совместима с точкой зрения, что
ментальные характеристики в некотором смысле зависимы от физических
характеристик или хотя бы «супервентны», т.е. сопровождают мозговые
процессы. Такая супервентность может означать, что два события,
пусть даже не полностью идентичные в физическом смысле, могут
различаться в некотором ментальном смысле, или что объект не
может изменяться ментально, не изменяясь физически. Из зависимости
или супервентности такого рода не следует редуцируемость путем
закона или дефиниции.
Примечательно, что теория, о которой ведет речь Дэвидсон,
ничего не говорит о процессах, состояниях или атрибутах, если они
отличаются от индивидуальных событий. Зачем же в таком случае он
обращается к холистической аргументации, почерпнутой у его учителя
Куайна? Из холистской теории ментального вытекает, по мнению
Дэвидсона, что любое физикалистское объяснение ментальных событий
несостоятельно, поскольку любые объяснения ментальных событий
содержат ссылки на другие ментальные события и языковые явления, а
физикалистские объяснения должны ограничиваться ссылками
только на физические события. Дэвидсон пишет: «Физическую реальность
характеризует то, что физическое изменение можно объяснять с
помощью законов, устанавливающих связь между ним и другими
изменениями и условиями, описываемыми в физических терминах. Мен-
112
Раздел 2. Философия психологии
тальное же характеризуется тем, что при приписывании ментальных
явлений индивиду должно учитывать имеющиеся у него мотивы,
убеждения и намерения. Не может быть тесной связи между этими
сферами, если каждой предписано сохранить приверженность ее
собственным эмпирическим источникам (evidence)»1. Остается лишь
надеяться, что тождество материального и ментального имеет
случайно-эмпирический характер (contingent identity), но в таком случае
придется ответить на известное возражение С. Крипке о том, что
контингентное тождество не является тождеством в строгом смысле слова2.
Трудно отказаться от искушения и не сделать выводы из
сказанного, пародируя свойственный Дэвидсону витиеватый стиль. Не
будет совершенно невероятным, если предположить, что по крайней
мере некоторые из положений аномального монизма мало чем
отличаются от некоторых тезисов его противников, представителей
логического бихевиоризма (К. Гемпеля, Г. Райла), или нейтрального
монизма (Б. Рассела), или даже дуализма и психофизического
параллелизма (К. Поппер, Дж. Экклз). У всех речь идет о том, что ни
материальное, ни ментальное сами по себе не даны, а философский
дискурс имеет дело лишь с неясными интуициями о некотором
неопределенном отношении между нашим сознанием, с одной стороны, и
телесной организацией - с другой, между событиями персонального
опыта и событиями материального мира. Однако в любом случае
философ анализирует лишь объективированные формы существования
ментального, т.е. высказывания о них, а потому все зависит от того,
какие значения приписываются терминам «ментальное»,
«физическое», «каузальность», «связь», «закон» и т.п.
Одна из особенностей концепции Дэвидсона состоит во внимании
к исключительно индивидуальному субъекту и его ментальным
состояниям, пусть даже выражаемым в интерсубъективном языке.
Отсюда и неразрешимость проблемы иных сознаний иначе как по аналогии
с сознанием Я. Другим путем идет П. Стросон. Его объяснение, каким
образом возникает понятие Я как субъекта опыта, сводится к
следующему: «Необходимым условием для того, чтобы кто-то мог
приписывать себе — как он это делает — состояния сознания, переживания,
является его способность или готовность также приписывать их другим,
которые не есть он сам»3. Ментальные состояния, присущие индиви-
1 Davidson D. Op. cit. P. 222.
2 См.: Kripke S. Identity and Necessity // Identity and Individuation ; M.K. Munitz
(ed.).N.Y., 1971.
3 Strawson P. Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics. L., 1959. P. 99.
И.Т. Касавин • Сознание: между Хиггинсом и Франкенштейном
113
ду, познаются им не на собственном примере путем анализа своей
«субъективной» реальности, как призывали делать Р. Декарт,
Дж.Локк,Дж. Беркли и Д. Юм. Именно стремление объяснить
поведение других людей и приводит субъекта к идее их ментальных
состояний, которая затем экстраполируется им на себя. Здесь было бы
уместно сослаться на символический интеракционизм (Дж. M ид) или
культурно-историческую психологию (Л.С. Выготский), эмпирически
обосновавшие это обстоятельство. Однако Стросон, как и подобает
оксфордскому аналитику, ориентируется только на концептуальный
анализ сознания. Если у нас есть понятие сознания, а всякое понятие в
качестве денотата имеет класс некоторых явлений, то солипсизм
оказывается внутренне противоречив или не поднимается до понятия
сознания как такового. «Человек может приписывать себе состояния
сознания, только если он может приписывать их другим. Он может
приписывать их другим, только если он способен идентифицировать
других субъектов опыта. Но их нельзя идентифицировать только как
субъектов опыта, обладателей состояния сознания»1.
Эта позиция близка витгенштейновской критике личного
(private) языка, призванного выразить субъективный опыт и потому
обладающего особыми чертами. Никто, кроме изобретателя этого
языка, не может использовать и понимать его, коль скоро он говорит
об опыте, который дан непосредственно и не может быть
объективирован. «Но мыслим ли такой язык, на котором человек мог бы для
собственного употребления записывать или высказывать свои
внутренние переживания-свои чувства, настроения и так далее?-А
разве мы не можем делать это на нашем обычном языке? — Но я имел
в виду не это. Слова такого языка должны относиться к тому, о чем
может знать только говорящий, — к его непосредственным, личным
впечатлениям. Так что другой человек не мог бы понять этот язык»2.
И в этой позиции, как мы видим, происходят отказ от чисто
онтологической трактовки и дополнение ее эпистемологическим
подходом к сознанию, в плодотворности которого убеждены многие
российские философы и психологи3. В.П. Филатов удачно выделил
собственно эпистемологическую проблематику философии созна-
1 Ibid. Р. 100.
2 Витгенштейн Л. Философские исследования // Л. Витгенштейн.
Философские работы. Ч. 1.М., 1994. С. 171. №243.
3 См., например: Лекторский В.А., Молчанов В.И., Зинченко В.П. Сознание //
Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009; Иванов Д. В.
Функционализм - метафизика без онтологии // Эпистемология и философия науки.
2010. №2. С. 95-1 И.
114
Раздел 2. Философия психологии
ния1. Мы познаем сознание, казалось бы, наиболее
непосредственным и достоверным образом, осуществляя самонаблюдение, однако
такое знание не является интерсубъективно обоснованным. И
одновременно мы познаем сознание опосредованно и интерсубъективно,
наблюдая поведение других людей, однако такое знание является
лишь приблизительным и вероятным. К этому следует добавить и
другие вопросы, связанные с ролью сознания в процессе познания.
Можно ли свести познание к адаптации в природном окружении, как
полагают эволюционные эпистемологи? Или фактор самосознания и
рефлексии принципиально важен для познания? Наконец,
оправданно ли вообще рассмотрение сознания вне процесса познания, как
это нередко происходит в рамках дискуссий по проблеме
сознание—мозг? И вместе с тем есть ли в сознании что-либо, что не
является знанием? Сводится ли сознание к знанию о происходящих в теле
процессах? Являются ли квалиа знанием или исключительно
эпифеноменом деятельности мозга? И в чем же субъективность квалиа,
понятых как продукты деятельности мозга? Неужели именно они, а не
особые соотношения между «культурными качествами» -
способностью к творчеству, любовью к прекрасному, страхом смерти -
характеризуют каждого отдельного человека?
Противоположности гуманистического и натуралистического
подходов к сознанию P. Xappé охарактеризовал как отношение между
дискурсивной психологией2 и нейронаукой3. Он полагает, что
дискурсивная психология призвана ставить задачи, а нейронаука -
искать механизмы их реализации, - такова программа объединения их
усилий. Так или иначе для «нормальной науки» последствия такого
противостояния или союза оказываются не особенно трагическими.
Сторонники обоих подходов занимаются своим делом, используют
разные методы, получают разные результаты. Они могут в трудные
минуты поражаться тайне сознания и размышлять о загадочности
«субъективного опыта», его эмерджентности, эпифеноменальности,
супервентности, квазикаузальности. Однако в своей повседневной
жизни ученые практикуют ту или иную форму редукционизма в
понимании человеческой субъективности. И иначе быть не может, если
условием науки является получение объективного знания об изучае-
1 См.: Филатов В.П. Обсуждаем статью «Сознание» // Эпистемология и
философия науки. 2005. № 3.
2 См.: Касавин И. Т. Дискурс-анализ и его применение в психологии // Вопросы
психологии. 2007. № 6.
3 См.: Харре Р. Философия сознания: итоги и перспективы // Эпистемология и
философия науки. 2007. № 4.
И.Т. Касавин • Сознание: между Хиггинсом и Франкенштейном
115
мом предмете, даже если это такая тонкая материя, как сознание —
прошу прощения за каламбур. Серьезной и по-настоящему
трудной — вплоть до неразрешимости - является собственно
философская проблема сознания. Она представляет собой наиболее яркую
проблематизацию отношения человека к миру и его места в этом мире
и образует то, что можно назвать «жестким ядром» мировоззрения.
Каким мы хотим видеть человека? Какой образ человека философ
предлагает всем остальным? Личность, наделенную душой, духом,
сознанием, или субъекта психических, ментальных состояний?
Фигуру, поведение которой может быть неотличимо от поведения
зомби, компьютера, робота? Человека, мечтающего изменить геномную
основу психики и превратиться в сверхчеловека? Мистика,
находящегося в плену бессознательных переживаний? Интроверта,
зацикленного на невыразимости своего внутреннего опыта? Индивида с
синдромом гиперсоциализации, подменяющего свое сознание объ-
ективациями и желающего не «быть», а «иметь»? Утонувшего в
коммуникации андроида, который одним ухом погружен в iPhone, а
другим - в iPod, одним глазом следит за iPad, а другим - за iMac?
Вместо заключения
Чтобы еще яснее понять остроту поставленных вопросов,
обратимся к двум известным литературным примерам - пьесе Бернарда
Шоу «Пигмалион» и роману Мэри Шелли «Франкенштейн». Они
посвящены одному и тому же сюжету - возможности создания «нового
человека» искусственным путем, с помощью гуманитарных или
естественных наук, образцом которых служат филология и биология
соответственно. Генри Хиггинс лепит свое творение из той социальной
материи, которой практически отказано в сознании и даже жизни.
Виктор Франкенштейн создает своего монстра из мертвого вещества
природы, извлекая из него жизнь и сознание. Оба творца
первоначально не обременяют себя мировоззренческими сомнениями,
притом что продукты их технологий в той или иной мере страдают от
трудностей социализации и самоидентификации.
Ниже представлено несколько логически расположенных
фрагментов из «Пигмалиона»1.
Миссис Хиггинс. Ах, взрослые дети! Вы играете с куклой, но она ведь
живая.
1 Шоу Б. Пигмалион ; пер. П. Мелкова, Н. Рахманова // Б. Шоу. Избранные
произведения. М., 1993.
116
Раздел 2. Философия психологии
Хиггинс. Хорошая игра!... Вы даже не представляете себе, как
интересно взять человека, наделить его новой речью и с помощью этой речи
сделать его совершенно иным...
Хиггинс. Оставьте вы ее, мама. Пусть говорит сама за себя. Вы очень
скоро убедитесь, что у нее нет ни одной своей мысли, ни одного своего
слова - всему научил ее я. Повторяю вам, я создал ее из рыночных
отбросов, а теперь эта гнилая капустная кочерыжка разыгрывает передо мной
знатную леди.
Пикеринг (с добродушным упреком). А вам не приходит в голову,
Хиггинс, что у девушки могут быть какие-то чувства?
Хиггинс (критически осматривая ее). Нет, вряд ли. Во всяком случае
не такие, которые следовало бы принимать во внимание. (Весело.) Есть у
вас какие-нибудь чувства, Элиза, а?
Элиза. ...Видите ли, разница между леди и цветочницей заключается не
только в умении одеваться и правильно говорить — этому можно научить, и
даже не в манере вести себя, а в том, как себя ведут с ними окружающие.
С профессором Хиггинсом я навсегда останусь цветочницей, потому что
он вел себя и будет вести себя со мной, как с цветочницей. Но с вами я могу
стать леди, потому что вы вели себя и будете вести себя со мной, как с леди.
Эти фрагменты образуют основную аргументацию Хиггинса,
которую по сути дела разделяет и Элиза Дулитл - его экспериментальный
проект. Профессор убежден в том, что человек — существо, всецело
конструируемое социально, с помощью копирования поведения,
прежде всего языкового, и не обладающее никакой «субъективностью»
(чувствами, мыслями, переживаниями, идеалами) за пределами
преподанных ему общественных форм. Если человек не может выразить
себя, то ничего у него внутри нет. «Все, что может быть сказано, может
быть сказано ясно. О чем невозможно говорить, о том следует
молчать», - артикулирует эту идею хрестоматийная максима
Витгенштейна в «Логико-философском трактате».
А в чем же субъективность пресловутых квалиа, понятых как
продукты деятельности мозга? Неужели именно они, а не особые
соотношения между культурными качествами - способностью к творчеству,
любовью к прекрасному, страхом смерти — характеризуют каждого
отдельного человека?
Природа ли, культура ли программирует человеческое сознание —
теоретические крайности сходятся. Но философам, подвергающим
их критической рефлексии, стоило бы убеждать нас в ином: в том, что
мы можем и должны быть свободны; если не выходит иначе, то по
крайней мере в сфере нашего сознания.
И.Т. Касавин
Проблема сознания в психосемантике
Чтение новой книги В.Ф. Петренко1 совпало с работой по
исследовательскому проекту о Дэвиде Юме. Шотландский мыслитель был
одним из тех, кто наиболее остро поставил проблему сознания как в
философии, так и в подспудно формирующейся психологической
науке. При этом он выявил те тупики проблемы, которые и сегодня
создают немало трудностей и для философов, и, смею полагать, для
психологов. Поэтому позволю себе сказать сначала несколько слов о Юме.
«Говоря коротко, существуют два принципа, которые я не могу
согласовать друг с другом и ни одним из которых в то же время не в
силах пожертвовать, а именно: наши отдельные восприятия суть
отдельные предметы (existences) и наш ум никогда не воспринимает
реальной связи между отдельными предметами»2. Так Юм подытоживает
свой анализ сознания. Итог неутешителен. Ученому трудно обойти
несовместимость двух своих центральных утверждений: возможности
непосредственного наблюдения отдельных впечатлений и
возможности наблюдения того, как они комбинируются, т.е. связываются
между собой. Говоря современным языком, интенциональность
сознания, его нацеленность на объект никак не согласуется с его
рефлексивностью, способностью управлять сознанием; они противоречат
друг другу. Первичные данности сознания и его активность,
создающая эти данности, — вещи, конечно же, трудно совместимые по
определению. А без этого картина сознания остается противоречивой и
фрагментарной, в особенности в условиях юмовского отрицания
духовной субстанции и мыслящего Я. Попробуем разобраться в
причинах этого.
Картина человеческого сознания, по Юму, зиждется на четырех
основаниях: 1) индивидуальном субъекте (индивидуализм); 2)
понимании сознания из самого себя, его самоочевидности (интроспек-
ционизм); 3) образе сознания как совокупности отдельных
восприятий и идей (номинализм); 4) отказе от вопроса о связи сознания и
внешней реальности (скептицизм). Следует признать (и это Юм
периодически делает сам), что все эти основания несовместимы друг с
1 Петренко В.Ф. Многомерное сознание. Психосемантическая парадигма. М.,
2010.
2 Юм Д. Трактат о человеческой природе. Ч. I. О познании. М., 2009. С. 379.
118
Раздел 2. Философия психологии
другом. Так, Юм предпринимает анализ сознания, апеллируя
исключительно к индивидуальному самонаблюдению и не учитывая ни
существования других сознаний, ни процессов коммуникации. Однако
ни о каком индивидуальном субъекте не может идти и речь, коль
скоро понятие субъекта предполагает единство личности, которое Юм
последовательно отрицает. Далее, Юм исходит из открытости данных
сознания для наблюдения и не видит никаких границ, которые могли
бы препятствовать аналитическому проникновению в глубины
сознания. И вместе с тем, если учитывать, что восприятия различаются
в силе и живости, то могут существовать такие слабые и неотчетливые
восприятия, которые практически недоступны рефлексии.
Одновременно границы самонаблюдению ставят некоторые
идеи, природа и происхождение которых остаются непонятны.
Такова, к примеру, идея причинности, которую не спасает ссылка на
привычку воспринимать явления так, как если бы одно было следствием
другого. Ведь привычка - это нечто вроде индуктивного обобщения,
к которому применима известная «гильотина Юма», согласно которой
нельзя с достоверностью умозаключить от фактов к понятиям. В то
же время привычка - это наблюдение повторяющейся
последовательности восприятий, что в свою очередь уже предполагает такие
идеи, как время и связь, которые обосновать не легче, чем саму идею
причинности. Ведь они противоречат юмовскому номинализму,
согласно которому каждое восприятие автономно, т.е. порядок и связь
восприятий не могут наблюдаться непосредственно, являясь
рефлексивным выводом из наблюдений. Наконец, невозможность
обоснования какой-либо связи сознания и реальности, с одной стороны,
последовательно принимается Юмом. Но если мы имеем возможность
отрицать такую связь, это значит, что мы хотя бы разграничиваем эти
две автономные сферы, что уже является выходом за пределы
сознания. И в этом вопросе Юм сознательно выходит за пределы
философии. Реальность — это продукт повседневного сознания, пребывая в
котором, человек убежден в возможности познания мира и в том, что
факты его сознания как-то соответствуют элементам реальности.
Сознание же, взятое в качестве предмета философского анализа, не
допускает обоснованного выхода за свои пределы, по сути просто
исключая из рассмотрения всякую онтологическую проблематику.
Важнейший итог юмовского анализа сознания состоит в том, что
он исчерпал все возможности индивидуалистической интерпретации
сознания, приведя к феноменалистической картине не связанных
друг с другом ментальных состояний. Во многом именно
феноменализм Юма как последний результат радикальной картезианской ре-
И.Т. Касавин • Проблема сознания в психосемантике
119
дукции и становится объектом рецепции современной
феноменологии1. Юм показал на своем собственном примере тщету всех попыток
обосновать сознание изнутри, из себя самого, как форму
самодостаточной «субъективной реальности». Кстати, понятию субъективной
реальности некоторые авторы придают большое значение, полагая,
что оно как-то способствует разгадке тайны сознания и даже
призвано заменить последнее. Эту «последнюю субъективность» Юм
характеризовал как способность непосредственного восприятия своих
ментальных состояний и способность их комбинирования. Он считал
эти черты сознания фундаментальными и далее необъяснимыми.
Развитие философии, психологии, нейрофизиологии и целого
ряда гуманитарных наук привело к важнейшим результатам именно с
помощью определенных процедур редукции ментальных состояний к
поведенческим актам, формам телесности, языку, коммуникации,
артефактам культуры. Субъективный остаток, в принципе
недоступный опредмечиванию и редукции, представляет собой результат
неспособности сознания справиться с хаосом бессмысленных
восприятий. Однако эта беспомощная явленность сознания для человека -
отнюдь не единственный и не последний результат интроспекции.
Именно данность сознания как «своего другого», как нечто чуждого,
как своего предмета и должно наводить на мысль о том, что
сознание — продукт не себя самого, не функция серого вещества, а
результат контакта как минимум двух субъектов коммуникации2. Когда
грудной ребенок, еще не обладающий сознанием Я, сталкивается
(при внезапном пробуждении, падении с дивана или иной
травмирующей ситуации) с неуправляемым и потому болезненным хаосом
своих восприятий, он требует контакта с взрослым, который для него
выступает критерием реальности и источником трансцендентальной
апперцепции. Супер-Эго Фрейда рождается до субъективного Эго и
даже порождает последнее как свой уменьшенный аналог. Человек
создается по образу и подобию Бога. Культура творит личность. Все
это — формулировки одного и того же. Только посмотревшись в
другого, как в зеркало («Зеркало Я»), можно увидеть, точнее, создать
1 Об отношении феноменологов к наследию Юма см., например: Mall R.A.
Experience and Reason. The Phenomenology of Husserl and its Relation to Hume's
Philosophy. The Hague : Nijhoff, 1973.
2 Рассмотрение проблемы другого сознания должно начинаться не с уточнения
понятия сознания как такового, но с анализа понятия «Другой», производным от
которого и является сознание, как понял уже Фихте, но до сих пор отказываются
осознать такие мыслители, как Д.И. Дубровский и ему подобные (см.:
Дубровский Д.И. Проблема Другого сознания // Вопросы философии. 2008. № 1 ).
120
Раздел 2. Философия психологии
себя. Сознание — не продукт эволюции мозга, организма в целом, но
функция коммуникации. Оно зарождается не «внутри», не в голове,
но «снаружи», в общении с другими. И это справедливо как для фи-
ло-, так и для онтогенеза.
Идея Л.С. Выготского о знаковом опредмечивании психики как
условии ее развития вносит вклад в решение той фундаментальной
проблемы, которая обнаруживает актуальность и для современной
эпистемологии, и для целого ряда наук, изучающих познавательный
процесс (истории науки, лингвистики, социологии, этнографии).
Она заключается в принципиальном пересмотре соотношения
понятий внешнее-внутреннее и социальное-психическое. Выготский
даже рискует сформулировать нечто вроде универсального закона
культурного развития, или развития психических функций, или
эволюции сознания: «Всякая функция в культурном развитии ребенка (но
также и в филогенезе. — И. К.) появляется на сцену дважды, в двух
планах, сперва - в социальном, потом - психологическом, сперва между
людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка
(человека вообще. — И.К.), как категория интрапсихическая... За всеми
высшими функциями, их отношениями генетически стоят
социальные отношения, реальные отношения людей»1.
Отсюда и подход к сознанию - не как к тому, что «внутри головы»,
а как к (символическому, языковому, культурному) отношению
между людьми при посредстве изобретаемых ими средств (знаков,
инструментов, артефактов культуры). В таком случае нет нужды в
«расшифровке мозговых кодов» для понимания тайны сознания, в
первую очередь его высших проявлений. Естественно, сознание зависит
от мозга, мозг зависит от сознания. Мозг — это «внутренняя часть»
сознания; деятельность и коммуникация - его «внешняя часть». Но
разве для психологии и философии может существовать нечто
«посередине», нечто «чисто ментальное», такая «субъективная
реальность», которая была бы недоступна объективации, трансляции и
редукции? Юм отчетливо выражал эти сомнения, ссылаясь на
«привычку» (по существу индуктивную историю индивидуальной психики)
как на объяснительный принцип феноменов сознания. «Сами по
себе», т.е. вне онтогенеза, коммуникации, деятельности, у человека есть
лишь смутные психические состояния, нормальное существование
которых требует внешних - культурных - форм.
1 Выготский Л.С. Собр. соч. В 6 т. Т. 3. М., 1983. С. 145; См. также: Каса-
вин И. Т. О семиотически-коммуникативной теории сознания (в развитие идей
Л.С. Выготского) // Эпистемология и философия науки. 2009. № 3.
ИЛ. Касавин • Проблема сознания в психосемантике
121
Именно поэтому столь трудной для решения оказывается
пресловутая проблема qualia, которая в истории философии известна как
проблема «вторичных качеств». В самом деле, описать свои состояния
сознания, относящиеся к восприятию, бывает весьма
затруднительно. Это показывают сложности диагностики внутренних заболеваний
по самоотчетам пациента, когда нужно артикулировать ощущения
собственного тела, в том числе проприоцептические ощущения; об
этом свидетельствует невыразимость в языке многих контактных
ощущений - вкусов и запахов. Поэтому не следует поддаваться
иллюзии, что сознание можно понять только из него самого, путем
интроспекции. Полагаю, что нельзя понять его также лишь из морфологии
и функционирования мозга. Нужно изучать в первую очередь
социальные формы конструирования сознания, данные нам в качестве
культурных объектов — для понимания коллективного сознания (в
этом идея «Психологии искусства» Выготского), или представленные
в индивидуальных формах деятельности и коммуникации - для
понимания индивидуального сознания, как делают, например,
психоаналитики и психолингвисты. Это и есть вывод, перед которым
остановился Юм и к которому привело, на мой взгляд, современное
развитие философии и специальных наук. Он обладает позитивной
методологической ценностью для психологии и одновременно
указывает место паразитирующим на нейронауке
философам-натуралистам, ограничивая их претензии на объяснение сознания.
Приведенное выше отступление показалось мне нелишним в ходе
размышления о книге В.Ф. Петренко. Она репрезентирует научное
направление, которое Виктор Федорович развивает уже многие годы.
Особенность этого направления состоит в том, что оно удивительным
образом совмещает в себе внимание к феноменам сознания, как они
даны субъекту, который их артикулирует, и одновременно к
социальным механизмам, которые конструируют эти феномены, так сказать,
«извне». Тем самым, как мне представляется, в значительной мере
решается (и одновременно переосмысливается) проблема Юма, о
которой шла речь выше, - несовместимость данности и активности в
сознании. Еще один момент, который бросается в глаза при чтении
указанной книги, - в ней фокусируются конфликтующие научные
традиции и отображаются самые острые дискуссии современности.
В наши дни психология представляет собой область знания, в
которой сосуществуют и конкурируют множество направлений и
течений — от обновленных версий структурализма, функционализма и
психоанализа до бихевиоризма, когнитивизма, гуманистической
психологии и проч. При этом она до сих пор не окончательно разо-
122
Раздел 2. Философия психологии
рвала связи, соединявшие ее с философией, и многократно упрочила
взаимодействие с широким кругом естественно-научных (биологией,
нейрофизиологией, информатикой) и социогуманитарных
(социологией, лингвистикой, этнографией, педагогикой) дисциплин.
Современная психология — в подлинном смысле
междисциплинарное исследование, требующее от ученого обширной эрудиции и
технической осведомленности. Однако теоретическое осмысление
своей деятельности у психологов, как и у многих других
специалистов, отстает от практики, что порождает противоречивую и
изменчивую картину психологического знания, вызывающую определенную
неудовлетворенность. Впрочем, представители этой дисциплины
всегда проявляли завидную самокритичность и неустанно твердили о
«кризисе психологии». При этом предлагались и до сих пор
предлагаются решительные меры по выходу из кризиса путем создания
«подлинно научной» психологии или, напротив, объединения
психологии с искусством или даже с религией.
Известный британский философ и психолог Р. Харре так
характеризует современное состояние психологической науки:
«По-видимому, с началом XXI в. противоречивая и нестабильная дисциплина
"академическая психология" распадается на две различные и
абсолютно не сравнимые между собой области. Дискурсивная психология
концентрируется на использовании значения в мире норм, в то время
как нейропсихология - на исследовании процессов в мозге, слабо
связанных с интуитивно определяемыми когнитивными
процессами»1. Однако современная ситуация на поверку есть своеобразное
воспроизводство тех контроверз, которые уже более полувека тому
назад выявил Выготский. Обращая внимание на «роковую для всей
эмпирической психологии проблему объяснения», он указывал на
противостояние понимающей психологии и психоанализа как своего
рода метафизического и натуралистического подходов2, а также на
раскол психологии вообще на два лагеря, характеризуемые
соответственно социокультурной и естественно-научной ориентациями.
В этом своеобразном кризисе выразилось расхождение между
учеными по поводу фундаментальной философе ко-психологической
проблемы. Так, и в то время, и сегодня по-прежнему остро стоит
проблема понимания того, что такое сознание. Может ли оно быть
понято в терминах нейрофизиологических и вычислительных процессов,
1 Харре Р. Гибридная психология: союз дискурс-анализа с нейронаукой //
Эпистемология & философия науки. 2005. № 4. С. 38.
2 Выготский Л. С. Указ. соч. С. 20.
И.Т. Касавин • Проблема сознания в нсихосемантике
123
возможен ли «язык мысли»?1 Или значительно более значима связь
психических явлений, происходящих в человеческом мозге, с
деятельностью человека в предметном мире?
Контекст существования психологической науки не только
необходимо учитывать, читая книгу члена-корреспондента РАН В.Ф.
Петренко. Этот контекст присутствует в ней и в скрытом, и в явном виде,
оттеняя аргументы и мотивы той полемики, которой пропитаны все
главы. Так, автор с сожалением констатирует утрату большинством
современных психологов «сверхзадачи»: «На смену творцам и
мыслителям, занятым служением науке, приходят "специалисты" и
профессионалы, имя которым - легион, занятые обслуживанием
клиента. Произошло значительное смещение акцентов от решения
проблем самой психологической науки... к решению массовых
прикладных задач типа: психодиагностика и ассессмент сотрудников
фирм и предприятий; формирование имиджа политика, товара,
фирмы; психотерапия или психокоррекция пациента»2. Отсюда
потребность автора в сознательном воссоздании контекста - социального,
культурного, научного, личностного — развития психологической
науки втом виде, в каком она существовала в доперестроечные
времена. И Петренко применяет свой метод психосемантического анализа
к реконструкции места школы выдающегося советского психолога
А.Н. Леонтьева (одним из наиболее талантливых учеников которого
он является) в мировой психологии. Не вдаваясь в методологические
детали психосемантики, отмечу, что в данном случае В.Ф. Петренко
выделяет основные психологические концепты, определяющие
исследовательскую стратегию школы Леонтьева в парном
сопоставлении с иными психологическими школами (базисные «конструкты»)
и позволяющие осуществить шкалирование всех психологических
школ по степени выраженности конструкта. Полученная матрица
данных подвергается затем процедуре факторного и кластерного
анализа. Результатом является построение семантического
пространства, отражающего внушительное место школы Леонтьева в панораме
психологии XX в.
Мировой уровень отечественного психологического наследия в
сравнении с современным состоянием науки подводит автора к
необходимости укрепить статус психологии и науки в целом в ментальном
пространстве современного российского общественного сознания.
1 См.: FodorJ. The Language of Thought. Harvard University Press, 1975.
2 Здесь и далее ссылки на книгу: Петренко В.Ф. Многомерное сознание.
Психосемантическая парадигма. М. : Новый хронограф, 2010. С. 48.
124
Раздел 2. Философия психологии
«Восприятие науки как некой трансцендентальной ценности и
служение ей кажется мне отличительной чертой и наших
отцов-основателей..., - пишет В.Ф. Петренко. - Продолжая их дело, мы должны
сохранить то особое корпоративное самосознание как
принадлежность к особому сообществу избранных, помогающих обществу и
отдельному человеку осознать самое себя» (С. 49). Так автор с самого
начала задает масштабную систему координат, пространство
собственных размышлений и оценок как фон той самой
психосемантической парадигмы - программы, заявленной в подзаголовке книги.
Исходным пунктом этой программы является интегральное
понятие картины мира, выступающее в рамках психологии как картина
жизненного мира человека - совокупность моделей различных
аспектов действительности, данных через призму научных, обыденных,
религиозных и прочих форм сознания, нагруженных личностными
смыслами и эмоциональными состояниями. Такого рода картина
характеризует прежде всего коллективное сознание группы или целой
эпохи, одновременно через набор базисных смыслов-конструктов
задавая смысл и значение образам и понятиям индивидуального
сознания. Экспериментальная психосемантика, наследуя ряд понятий и
методов мировой психологии, является именно той областью,
которая изучает картину мира индивидуального или коллективного
субъекта. Будучи направлена на анализ форм существования значений в
человеческом сознании, психосемантика опирается на методологию
школы Выготского—Леонтьева-Лурии и при этом заимствует
технический инструментарий американской психологии (методы
семантического дифференциала Ч. Осгуда, репертуарных решеток Дж. Кел-
ли), а также аппарат многомерной статистики для выделения
категориальных структур сознания.
Петренко подчеркивает, что способы категоризации суть прежде
всего социальные формы конструирования сознания каждого
отдельного человека, формы существования типического в
индивидуальном. В этом смысле они как бы навязываются сознанию извне, из чего
некоторые исследователи делают вывод, что познающий субъект —
своего рода индуктор, воспринимающий готовые и вечные идеи из
некоего резервуара. Автор расходится с этой позицией, утверждая,
что формы всеобщности не только культивируются вне головы, но и
конструируются отдельным человеком в процессе общения и
деятельности. Более того, размерность категориальной матрицы может
существенно меняться в зависимости от ее аффективной нагружен-
ности: пространство и время индивидуального сознания пульсируют,
сжимаются и расширяются, субъект переходит с одного уровня осо-
И.Т. Касавин • Проблема сознания в нсихосемантике
125
знания на другой под влиянием эмоционального состояния.
Мыслящий субъект является, таким образом, носителем уникального
психосемантического пространства, сам конструирует свою картину мира,
а не принимает ее в качестве готового продукта общества и культуры.
В противном случае можно было бы ограничиться анализом
коллективного сознания, как происходит в классической психометрике,
редуцирующей индивидуальные данные к статистическим нормам.
Субъект вообще неотделим от своего знания, которое не может
быть полностью смоделировано техническими средствами; всегда
остается зазор, описываемый такими понятиями, как «воля», «свобода
выбора», «возможность духовного развития», «творчество». Это
обстоятельство отличает тот образ знания, который сложился в
психосемантике как гуманитарной науке, от представлений о знании,
бытующих в среде естествоиспытателей. Психология, несмотря на
использование точных методов, остается наукой гуманитарной, и ее
предметом является знание в форме понимания, знание,
неотчуждаемое от постоянной эволюции самого субъекта. Не только и не столько
«объективные данности» сознания, сколько веер возможностей,
открывающихся человеку, проектирующему самого себя, — вот что
пытается ухватить психосемантика. «Картина мира, таким образом,
раскрывается через становление самого субъекта в широком контексте
его смыслообразования «еще не ставшего бытия», в контексте мало
изученной категории «судьбы», а может, и в ее преодолении. Ибо
эволюционируют не только наши знания о человеке, но и он сам в ходе
осознания самого себя», - утверждает Петренко (С. 86).
С этих позиций автор включается в дискуссию о природе истины,
развернутую в журнале «Психология», и заявляет свою точку зрения
на природу психологического знания, методы психологического
исследования, теорию отражения и понятие психологической
реальности. Сложность сознания как многомерного феномена, отмечает
Петренко, выражается в многообразии психологических теорий и
методов, которые фактически имеют дело с разными объектами
исследования. Так, психофизику отделяет от социальной психологии
значительно большая дистанция, чем социальную психологию от
социологии. Поэтому и методологические проблемы и понятия обретают в
отдельных областях психологического знания разное значение.
Петренко оспаривает тезис о возможности построения своего рода
«методологической вертикали» для единственно правильной теории
(В.М. Аллахвердов). Из этого жесткого тезиса вытекает, что не могут
быть одновременно верными бихевиоризм, психоанализ, теория
деятельности, когнитивизм и гуманистическая психология; истинным
126
Раздел 2. Философия психологии
может быть в лучшем случае лишь один из этих способов описания
сознания. Но так ли это на самом деле?
Конечно, понятна озабоченность некоторых психологов
методологическим кризисом в современной психологии и, в частности,
проблемой объективных критериев научных достижений. Однако
принятие в психологии концепции единственной истины как соответствия
знания реальности не ликвидирует эти трудности и не позволяет
однозначно отсечь от науки графоманов, шарлатанов и безумцев. Ведь
новая идея нередко выглядит достаточно «безумной» (Н. Бор), чтобы
ее отвергнуть; ей часто не хватает эмпирического подтверждения и
системной строгости, но немедленное объявление ее ложной
затормозит прогресс науки. Достоверность знания подтверждается
системой многообразных критериев, которые обычно используются в
естествознании, но для гуманитарных наук требуется ряд
дополнительных критериев. Это связано с тем, что в психологии, в частности,
исследуется не просто саморазвивающийся объект, но такой,
который может изменяться под влиянием самого процесса исследования.
Человек - это проект, ориентированный моделью потребного
будущего (H.A. Бернштейн), и потому «описывать человека "как он есть
на самом деле" (мы же не физики, а психологи) также неразумно, как
пересказывать содержание романа, прочитав только начало», —
иронически замечает Петренко (С. 96). И говорить о поиске истины, как
будто она существует где-то за пределами самого исследования, в
объективном мире, представляется не просто упрощением, но
искажением картины психологического знания. Есть основания полагать, что и
в физике, умудренной опытом квантовой механики, также
приходится говорить об истине не как отображении реальности самой по себе,
но как производной от определенных экспериментальных ситуаций и
математических моделей.
«Необходимость концептуального анализа базовых понятий,
требующая совместной работы психологов, лингвистов и логиков
(замечу от себя - и философов. - И.К.)... мало осознается подавляющим
большинством отечественных психологов, стоящих на позиции
наивного реализма и бездумно оперирующих понятиями "объективная
действительность", "психологическая реальность" как некоей
непосредственной психологической данностью», - с сожалением
заключает Петренко (С. 102).
Обсуждение методологических проблем науки приводит автора к
необходимости обосновать конструктивистскую парадигму в
современной психологии и, в частности, психосемантики как ее
последовательной реализации. Философы обычно понимают конструкти-
И.Т. Касавин • Проблема сознания в психосемантике
127
визм как направление в эпистемологии и философии науки, в основе
которого лежит представление об активности познающего субъекта,
использующего специальные рефлексивные процедуры при
построении (конструировании) образов, понятий и рассуждений. Таким
образом, конструктивизм представляет собой подход, согласно
которому всякая познавательная деятельность является конструированием;
это альтернатива любой метафизической онтологии и
эпистемологическому реализму.
Соглашаясь в основном с этой позицией, Петренко
предпринимает последовательную критику теории отражения, исчерпавшей
себя применительно к анализу сознания. Автор показывает, что уже
выдающиеся советские физиологи и психологи (H.A. Бернштейн,
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) фактически
отказывались от нее, вводя такие понятия, как уже упомянутая «модель
потребного будущего», «бытие», «образ мира». Тем самым
«объективный метод» в психологии уходил от сведения всего содержания
сознания к физиологическим коррелятам психических процессов. В
предлагаемом психологами и философами понятии «психическая
реальность» (В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили) акцент смещается с
субстанциалистской трактовки объективного как доступного остен-
сивным определениям к функционально-операциональному
определению реального как опосредующего индивидуальную психику и
деятельность.
В современной конструктивистской психологии, берущей начало
от теории личностных конструктов Дж. Келли, познающий субъект,
подобно ученому, выдвигает и проверяет альтернативные гипотезы о
мире, и его поведение рассматривается не как реакция на внешние
стимулы, а скорее как вопрос, поставленный миру. Аналогично и
анализ психики реального человека или группы не может
осуществляться иначе как с помощью конструирования присущего им образа
мира и затем его тестирования в процессе коммуникации психолога и
исследуемого субъекта. Тем самым психология примыкает к
междисциплинарной методологической программе конструктивизма,
которая коренится еще в трудах Евклида, И. Канта, Г. Фреге и Г. Динглера
и сегодня находит распространение в самых разных науках о природе
и обществе. Более того, Петренко на примере анализа идей К. Маркса
и 3. Фрейда показывает роль их идей «в порождении и
конструировании социального бытия, где они интерпретируются не как формы
отражения, а как некие возможные модели бытия, оказывающие
обратное влияние на само описываемое бытие» (С. 122). В этом смысле
концептуальные конструкции, являясь плодом работы теоретика, не
128
Раздел 2. Философия психологии
только позволяют систематизировать и категоризировать
эмпирические данные, но и создают условия их получения, а будучи
усвоенными культурой, становятся рельсами, по которым движется история.
Рискну в нескольких пунктах подытожить основные философ-
ско-методологические постулаты психосемантики. Ясно, что в ней
реализуется деятельностиый подход, сложившийся в российской
психологии и философии XX в. Этот подход объединяется в
психосемантике с идущим от М.М. Бахтина
коммуникативно-семиотическим и культурно-историческим пониманием сознания, в котором
«субстратом» сознания является система значений, данных в
единстве с чувственной тканью и личностным смыслом. Причем сами
значения выступают в качестве свернутой, превращенной формы
деятельности, которая не подлежит простой лингвистической
интерпретации, а оценивается в режиме искусственных, экспериментально
заданных действий испытуемого.
Психосемантика изучает сознание человека как пристрастного
субъекта познания и деятельности, в картину мира которого
включены его язык, культура, система индивидуальных и коллективных
ценностей, т.е. его «мир существования как мир человеческого
страдания» (Рубинштейн). Такого рода исследование строится не столько
как описание некоей реальности, сколько как ее создание,
конструирование возможных миров, в которые вписывается и образ
(реконструкция) самого человека. Используя субъективные семантические
пространства как операциональные модели индивидуального и
общественного сознания, психосемантика совмещает когнитивистские
и интуитивистские подходы в психологии. Так, если само
семантическое пространство конструируется с использованием многомерной
статистики, факторного и кластерного анализа, то обобщение
исходного материала, а также последующая интерпретация результатов
осуществляется путем обращения к методам понимания и эмпатии -
интуитивного и интроспективного вслушивания и вчувствования в
переживания испытуемого. Математические процедуры в
психосемантике не имеют своим предметом сознание «как оно есть», но лишь
подготавливают информацию в компактной и структурированной
форме, которая подлежит процедуре герменевтической
интерпретации. Как пишет Петренко, «облако смыслов субъекта по поводу
объектов некоторой содержательной области (коннотативных
значений), представленное в форме координатных точек в семантическом
пространстве, не описывает некий объект анализа, а представляет
собой скорее ориентировочную основу для эмпатии, встраивания
одного субъекта в сознание другого» (С. 196).
И.Т. Касавин • Проблема сознания в психосемантике
129
Наконец, психосемантика принимает принцип множественного
описания сознания («картины мира») в зависимости от позиции
наблюдателя, а также принцип многообразия, сценарного
проектирования и прогнозирования применительно к развитию сознания как
отдельного человека, так и группы (нации, государства).
Методологический аппарат психосемантики, будучи достаточно сложным,
ориентируется на изучение еще более сложных саморазвивающихся
систем с обратной связью, которой и является человеческое сознание
в контексте деятельности и общения.
К сожалению, я не могу в равной мере уделить внимание всем
главам книги В.Ф. Петренко, однако нужно отметить, что добрая
половина текста содержит конкретные приложения
психосемантического метода к исследованию самых разнообразных объектов. Здесь и
кроссконфессиональная религиозная картина мира, которая
сопрягается с проблематикой террористической угрозы; и психосемантика
массовых коммуникаций; и исследование идеологических
процессов; и анализ художественной литературы и живописи; и изучение
измененных состояний сознания и медитации. Автор представляет
психосемантику как синтетическую психологическую науку
междисциплинарного типа, использующую современные методы точного
исследования, вдумчивый концептуальный анализ и творческое
воображение для обращения к животрепещущим проблемам
современности. Читать книгу не только поучительно, но и интересно, ибо в ней
присутствует подлинное свидетельство научного поиска — элементы
острой дискуссионности и стилистической неотшлифованности.
Среди множества тайн, над которыми бьются ученые, проблема
человеческого сознания вне конкуренции. Ведь именно благодаря
сознанию нечто может стать тайной, или, говоря словами Иммануила
Канта, заставить человека поразиться совершенству окружающего
мироздания и присутствию морального закона в нем самом. Всякая
тайна пробуждает неустанное любопытство и творческое
воображение, без чего нет научного поиска. Даже оставаясь неразгаданной, она
приводит человека на путь открытий, на дорогу познания того, что
может быть познано и поставлено на службу обществу.
Автор этих строк в полной мере осознавал трудность задачи, за
которую он взялся, будучи не психологом, а философом, пусть и
размышляющим о природе сознания. Пойти на это побудило то
обстоятельство, что, как верно отметил A.M. Улановский (один из учеников
В.Ф. Петренко), книга представляет психосемантику «не просто как
область исследований и методологию, но как подход к сознанию и
как определенную эпистемологическую позицию» (С. 428). Читателю
130
Раздел 2. Философия психологии
предстоит убедиться, что книга затрагивает вопросы высокой степени
общности, интересные не только для психолога, но для всякого
образованного человека, размышляющего о загадках сознания.
Психосемантика, соединяя в себе разные методы исследования, отражает
здесь состояние современной психологии, в которой сосуществуют
когнитивизм и психоанализ, культурно-исторический подход и
проблематика искусственного интеллекта, психофизика и
дискурс-анализ. Среди достоинств книги и то, что она побуждает к постановке
ряда вопросов, выходящих далеко за ее пределы, скажем, такого: в какой
степени совместимы и взаимодополнительны результаты
шкалирования, факторного и кластерного анализа, обработанные с помощью
методов математической статистики, с одной стороны, и методы
интерпретации результатов, призванные учесть реальную
содержательную и во многом неосознаваемую сложность картины жизненного
мира и эмоционального состояния индивида, - с другой? Эта
проблема иллюстрирует главные методологические полюса концепции
Петренко, но, конечно же, остается без окончательного ответа,
ориентируя на дальнейшие исследования.
При всей сложности обсуждаемых автором тем главная его мысль
не пройдет мимо заинтересованного читателя. Сознание - явление
многомерное до неисчерпаемости, это целая вселенная, «universe of
the imagination», по выражению Юма. В его познании переплетаются
точные методы и эмпатия, логика и интуиция, наука и искусство.
Д.В. Иванов
Функционализм: метафизика без онтологии
В отечественной философии стало уже традиционным
различать классические и неклассические философские теории,
стратегии философствования. При этом классическая философия часто
отождествляется с метафизикой, а неклассическая философия
понимается как философия, либо избавившаяся от метафизики, либо
ставящая своей задачей преодолеть метафизику. Кроме того, в
отечественной философии, как кажется, присутствует точка зрения,
что метафизика — это нечто, что осталось в прошлом, что было
преодолено. Задача настоящей работы показать на примере развития
философии сознания в XX в., что метафизика не только не осталась
в прошлом, но и вновь возрождается, что работа философов
сознания второй половины XX в. принципиально ничем не отличается от
работы, например, великих метафизиков Нового времени. Более
того, на примере функционализма будет продемонстрировано, что
некоторые формы метафизических исследований могут быть
совместимы в принципе с контекстом неклассического
философствования.
* * *
Согласно Аристотелю, предметом первой философии, т.е.
дисциплины, которую позже назовут метафизикой, являются принципы
(начала) и причины существующего как такового («То, что мы ищем, -
это начала и причины существующего, притом, конечно, поскольку
оно существующее»1)- Ориентация на исследование сущего как
такового принципиальным образом отличает метафизику от остальных
наук. Частные науки исследуют сущее в том или ином аспекте,
метафизика же является общей наукой и нацелена на сущее, поскольку
оно является сущим. Иначе говоря, сущее интересует метафизику с
точки зрения того общего, что имеется у всего сущего без
исключения, поскольку оно является существующим, а именно
существования. Кроме того, в отличие от частных наук, которым предмет
исследования дан заранее, метафизика должна не просто ответить на
вопрос о том, чем является в принципе то, что существует, но и доказать,
1 Аристотель. Метафизика//Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 1. М., 1976. С. 180.
132
Раздел 2. Философия психологии
что это нечто вообще существует («должна выяснить, что есть
предмет и есть л и он»1).
Подобное понимание метафизики сталкивается с иной
интерпретацией, истоки которой мы также находим в тексте Аристотеля.
Согласно этой интерпретации, предметом первой философии является
Бог. Такое понимание связано с изначальным определением первой
философии как науки, исследующей первые причины всего
существующего. Проблема, возникающая из-за такой интерпретации
метафизики, заключается в том, что метафизика начинает представляться
как частная дисциплина, фактически как теология. Несмотря на то
что подобная интерпретация способна породить проблему,
связанную с определением статуса метафизики (частная или общая
дисциплина), данное понимание все же не является несовместимым с
обозначенным ранее пониманием. Например, исследование сущего,
поскольку оно — сущее, может включать Бога в качестве одного из
объектов исследования.
Такое двойственное понимание метафизики существовало и в
Средние века. Однако в Новое время границы и структура
метафизики были пересмотрены философами-рационалистами. Изменения в
структуре метафизики были связаны как раз с отказом от этой
двойственности в понимании дисциплины. Их можно представить с помощью
таксономии, разработанной немецким философом-рационалистом
Христианом Вольфом. Прежде всего единственным предметом
исследования метафизики признается сущее. Однако сущее может
изучаться различным образом. Дисциплина, которая исследует сущее
как таковое, обозначается Вольфом новым словом, возникшим в
начале XVII в. - «онтология». Другое название данного раздела
метафизики — «общая метафизика».
Помимо общей метафизики можно выделить специальную
метафизику, включающую естественную теологию, исследующую Бога.
Как отмечает Питер ван Инваген, «как бы то ни было, он (Вольф. —
Д.И.) не включал "первые причины" в общую метафизику:
исследование первых причин принадлежало естественной теологии,
ответвлению специальной метафизики»2. Кроме естественной теологии
разделом специальной метафизики, раздвигающим границы
традиционной метафизики, становится космология, исследующая мир в
целом. И главное, метафизика обогащается таким разделом, как ра-
1 Аристотель. Указ. соч. С. 180.
2 Van Inwagen P. Metaphysics// Stanford Encyclopedia of Philosophy ; Ed. Zalta (ed.).
(2008). - URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/metaphysics/>.
Aß. Иванов • Функционализм: метафизика без онтологии
133
циональная психология, посвященным исследованию души
(сознания). Таким образом, как отмечает Майкл Лу, «достаточно очевидно,
что рационалистское понимание общей метафизики и естественной
теологии соответствует аристотелевским концепциям метафизики
как исключительно общей науки, которая изучает сущее qua сущее, и
как частной дисциплины, имеющей дело с первыми причинами; в то
же время утверждение, что метафизика включает такие разделы, как
космология и рациональная психология, указывает на новую, более
широкую область исследования, которая стала ассоциироваться с
метафизикой в представлениях рационалистов»1.
Характеризуя рационалистическую метафизику в целом, следует
указать на то, что вопросы о природе сознания и прежде всего
психофизическая проблема оказались центральными темами
метафизических размышлений философов-рационалистов. Этот момент
существенно отличает нововременную метафизику от аристотелевской. Для
Аристотеля вопросы, касающиеся прояснения природы души,
относились к учению о природе («исследование души также отчасти
относится к познанию природы, а именно постольку, поскольку душа не
существует без материи»2), а не к метафизике. На мой взгляд, это
было обусловлено тем, что метафизика понималась как учение о
божественном, т.е. о таком сущем, которое является «неподвижным и
существующим отдельно». В этом смысле метафизика
противопоставлялась учению о природе, т.е. о сущем, которое подвижно и изменчиво,
и математике - учению о неподвижном, но не существующем
отдельно от материи. Однако если мы перестаем связывать метафизику с
учением о первой причине, каковой является Бог, то, очевидно, у нас
нет оснований не рассматривать сознание из метафизической
перспективы3.
Делая сознание объектом метафизических исследований, важно
помнить о различии между общей метафизикой, или онтологией, и
специальной метафизикой. Это различие можно прояснить
следующим образом. Главным вопросом для общей метафизики, или
онтологии, является вопрос «что существует?». Этот вопрос делает
метафизику наиболее общей наукой, ведь, задавая его, мы интересуемся
вещами с точки зрения того общего, что присуще им всем без
исключения, поскольку они существуют, а именно с точки зрения их суще-
1 Loux M. Metaphysics: A Contemporary Introduction. L., 1998. P. 5.
2 Аристотель. Указ. соч. С. 181.
3 См.: Иванов Д.В. Сознание как объект метафизических исследований //
Вопросы философии. 2009. № 2.
134
Раздел 2. Философия психологии
ствования. Задавая его, мы пытаемся выяснить, какого рода вещи мы
готовы допустить в наш универсум в качестве существующих. В
центре метафизических исследований, не специфицированных как
общая метафизика, т.е. онтология, стоит вопрос о природе того, что
существует. Этот вопрос должен прояснить, чем в принципе является
то, что существует. Можно сказать также, что это вопрос о том, что
определяет существование того или иного объекта в качестве
определенного, именно этого существующего.
Подобным образом Нед Блок охарактеризовал отличие
онтологии от метафизики на примере философии сознания: «До
функционализма теории сознания были озабочены как (1) тем, что
существует, так и (2) тем, что определяет суть каждого типа ментальных
состояний, например: что общего присуще различным состояниям боли, в
силу чего все они являются именно болью. С определенной долей
условности можно сказать, что (1) — это вопрос онтологии, а (2) -
вопрос метафизики. Вот примеры онтологических утверждений:
дуализм говорит нам, что существует как ментальная, так и физическая
субстанция, вто время как бихевиоризм и физикализм, будучи
монистическими концепциями, утверждают, что существуют только
физические субстанции. Вот примеры метафизических утверждений:
бихевиоризм говорит нам о том, что общее для различных состояний
боли, в силу чего все они являются болью, - это нечто поведенческое;
дуализм дает "нефизический" ответ на этот вопрос, тогда как
физикализм дает "физический" ответ на тот же вопрос»1.
Продолжая линию рассуждения Блока, можно отметить, что
большинство философов-рационалистов, делая сознание объектом
метафизических исследований, давало один и тот же ответ на
онтологический вопрос, занимая позицию дуализма. Однако ими были
выработаны различные метафизические теории сознания,
специфицированные относительно того, как сознание взаимодействует с телом,
например интеракционизм, окказионализм, теория
предустановленной гармонии.
Как известно, теории рационалистов подвергались критике со
стороны философов-эмпириков прежде всего за то, что знание,
представленное данными теориями, не могло быть обосновано опытным
путем. Эта линия критики метафизики была продолжена И. Кантом.
Согласно Канту, недостатком предшествующей, аристотелианской
по духу метафизики было то, что ее знание фактически оказывалось
1 Block N. Functionalism // N. Block. Consciousness, Function, and Representation.
Cambridge : MIT Press, 2007. P. 19.
AB. Иванов • Функционализм: метафизика без онтологии
135
необоснованным, поскольку выходило за пределы нашего опыта.
Подобной догматической метафизике следовало противопоставить
критическую метафизику, задачей которой являлось бы прояснение
структуры и границ нашего опыта. Выражаясь современным языком,
можно сказать, что акцент в метафизических исследованиях должен
быть перенесен с изучения наиболее общих аспектов того, что
существует, с изучения базовых структур реальности самой по себе, на
исследование наиболее общих аспектов нашего мышления и
познания, т.е. на исследование структур нашего когнитивного аппарата,
оформляющих реальность. Подобного рода релятивизация
метафизики и онтологии относительно наших когнитивных схем нашла
продолжение в XX в. в релятивизации вопросов о существовании
относительно наших концептуальных схем (каркасов).
Подобную тенденцию можно наблюдать у венских позитивистов.
Например, согласно Карнапу, вопросы о существовании могут быть
осмысленны, только если они относятся к какому-либо
концептуальному каркасу. Заданные в абсолютном смысле, они оказываются
бессмысленными. По сути обсуждение метафизических и
онтологических вопросов переводится в плоскость философии языка. Решение
философских проблем связывается с анализом языка или его
реформированием. Сама философская деятельность начинает
представляться как концептуальный анализ. Прослеживая дрейф к подобному
представлению философии и выявляя его причину, Армстронг,
например, пишет следующее: «Успех науки породил кризис в
философии. Что оставалось на долю философии? Уже Юм частично
почувствовал проблему и, конечно же, Кант; но только в XX в. с появлением
Венского кружка и Л. Витгенштейна проблема стала восприниматься
как действительно тяжелая. Согласно Витгенштейну, самое большее,
что может делать философия, это пытаться распутать те
интеллектуальные узлы, которые она сама создала, обретая таким образом
интеллектуальную свободу и некоторое просветление, но не знание.
Несколько позже и более оптимистично Райл увидел позитивную, хотя и
редуцированную роль философии в картографировании "логической
географии" наших понятий: как они связаны друг с другом и каким
образом должны анализироваться»1.
Если обратиться к философии сознания, то можно увидеть, что
проблематика этого раздела философии также не стала исключением
в релятивизации философских проблем относительно языка. Заро-
1 Armstrong D.M. The Causal Theory of the Mind // Mind and Cognition ; W. Lycan
(ed.). Oxford : Blackwell, 1999. P. 20.
136
Раздел 2. Философия психологии
дившийся в недрах венского позитивизма логический бихевиоризм
стал именно такой теорией сознания, в которой вопросы о природе
сознания рассматривались прежде всего как вопросы
концептуального анализа, а не как, скажем, онтологические или метафизические
вопросы. Например, в работе с характерным названием «Логический
анализ психологии», ставшей уже классикой логического
бихевиоризма, Карл Гемпель представляет логический бихевиоризм как
теорию, проясняющую статус предложений психологии (logical theory
about the statements of scientific psychology), при этом, например,
классическая метафизическая проблема соотношения сознания и тела
рассматривается как псевдопроблема. Как пишет Гемпель,
«логический бихевиоризм не утверждает ни того, что психика, чувства,
комплекс неполноценности, акты воли и т.д. не существуют, ни того, что
их существование сомнительно. Он настаивает на том, что уже сам
вопрос о том, действительно ли существуют эти психологические
конструкции, является псевдопроблемой, поскольку эти
(психологические. — Д.И.) понятия, взятые в их "легитимном употреблении",
являются только сокращениями, аббревиатурами физических
высказываний»1. По сути логический бихевиоризм пытается показать, что
утверждения о ментальных состояниях и процессах могут быть
переведены без потери смысла в высказывания о физических и
поведенческих состояниях.
Близкой к позиции логического бихевиоризма является позиция
Райла. Как уже отмечалось, он также считал своей задачей прояснить
логическую географию наших ментальных понятий и
продемонстрировать, что употребление этих понятий предполагает ссылку скорее
на наблюдаемое поведение, чем на скрытые эпизоды нашей
ментальной жизни. Часто к сторонникам логического бихевиоризма
причисляют позднего Витгенштейна. Как писал он сам, цель его работы
также заключалась в прояснении нашего языка, а не в решении
метафизических или онтологических вопросов: «"Так значит, ты не
замаскированный бихевиорист? И ты не утверждаешь, что по сути
все, кроме человеческого поведения, есть фикция?" - Если я и
говорю о фикции, то имею в виду грамматическую фикцию»2.
Учитывая сказанное, нельзя полностью согласиться с Блоком в
том, что бихевиоризм является учением, имеющим ответы на онтоло-
1 Hempel CG. The Logical Analysis of Psychology // Readings in Philosophy of
Psychology ; N. Block (ed.). L., 1980. P. 20.
2 Витгенштейн Л. Философские исследования // Л. Витгенштейн.
Философские работы. Ч. I. М., 1994. С. 186.
Aß- Иванов • Функционализм: метафизика без онтологии
137
гические и метафизические вопросы о природе сознания. Как мы
видели, философы, которых чаще всего причисляют к бихевиоризму,
стремились избежать любых онтологических и метафизических
вопросов, выходящих за рамки анализа нашего языка. Если
рассматривать метафизику только как аристотелианскую по духу метафизику,
то надо сказать, что логический бихевиоризм как теория,
ориентированная прежде всего на анализ понятий, является
антиметафизической теорией.
Однако в чем-то Блок все же был прав. За бихевиоризмом как
особым видом анализа ментальных терминов действительно скрывается
определенная метафизика и онтология. Армстронг следующим
образом представляет эту ситуацию: «Те, кто думал, что они отвергают
онтологические и другие субстантивные вопросы в пользу простого
исследования понятий, на самом деле протаскивали контрабандой эти
вопросы. Они не признавались себе, что придерживались таких
взглядов, однако это не отменяло их наличия. Но, что еще хуже для
них, эти взгляды определяли их ответы на концептуальные вопросы».
Например, именно взгляды Райла на «психофизическую проблему
привели его к предложенному им анализу определенных ментальных
понятий, а не наоборот»1. По мнению Армстронга, все это указывает
на неудовлетворительность представлений о философии как
исключительно концептуальном анализе. Философы действительно
используют концептуальный анализ. Однако, как отмечает Армстронг,
«анализ понятий является средством, с помощью которого философы
способны сделать вклад в прояснение фундаментальных вопросов, но
не о понятиях, а о вещах»2.
Наблюдая за развитием философии во второй половине XX в.,
можно отметить постепенное возвращение философов к
классическим метафизическим исследованиям. Переходу от представлений о
философии как исключительно анализе понятий к классическому
представлению о философии как деятельности по прояснению пер-
вопорядковых онтологических вопросов, по мнению Армстронга,
способствовали, в частности, идеи Карла Поппера относительно
природы научного знания. Во многом кризис в философии, повлекший
критику метафизики и выработку представлений о философии как
деятельности по прояснению наших когнитивных способностей или
же концептуальных схем, был вызван представлением о науке как «по
духу своему позитивистской, сенсуалистской, ориентированной на
Armstrong D.M. Op. cit. P. 20-21.
Там же. P. 21.
138
Раздел 2. Философия психологии
наблюдение деятельности». Однако, как отмечает Армстронг, «по
мере того как роль предположения, теории, рассуждения в научном
исследовании начинала признаваться все более важной, граница между
наукой и философией начала представляться по крайней мере более
текучей и снова появилась надежда на то, что философия также может
сделать вклад в решение первопорядковых вопросов»1. Стиранию
«предполагаемых границ между спекулятивной метафизикой и
естественной наукой» также способствовала критика базовых идей
позитивизма Уиллардом Куайном2. Произошедшие революционные
изменения в философии языка во второй половине века, связанные
прежде всего с именами Крипке и Льюиса, также продолжили
реабилитацию представлений о философии как наиболее общей науке о
том, что существует3.
Если вернуться к той метафизике сознания, которая
обнаруживается за бихевиоризмом как анализом языка, то можно отметить
следующие ее неудовлетворительные моменты. Прежде всего подобного
рода метафизика предполагает редукцию ментальных состояний к
поведенческим состояниям. Возможно, что некоторые ментальные
состояния, например желание, полагание, можно было бы объяснить
введением понятия диспозиции к определенному поведению.
Однако трудности с редукцией возникают, когда мы обращаемся к
ощущениям и различного рода квалитативным состояниям. Какое
поведение, например, необходимо сопоставить видению красного? Другую
проблему можно представить следующим образом. Редуцируя
ментальное к поведенческому, мы не учитываем, что зачастую
ментальное является причиной определенного поведения, а не самим
поведением, как в случае с болью и болевым поведением (криками, слезами
и т.д.).
Подобная проблема возникает в результате игнорирования
феномена ментального. Возможно, это обусловлено как раз желанием в
первую очередь прояснить то, как мы говорим о феномене, а не то,
чем является сам феномен. С этой проблемой связана следующая.
Для того чтобы узнать, в каком психологическом состоянии
находится субъект, нам не достаточно знать, как он себя ведет, мы должны
быть также знакомы с совокупностью иных ментальных состояний, в
каких он находится. Например, чтобы судить о наличии у человека
1 Armstrong D.M. Op. cit.
2 Куайн У. В. О. Две догмы эмпиризма //У. В. О. Куайн. Слово и объект. М., 2000.
3 См.: Иванов Д.В. Судьба метафизики в аналитической философии: Карнап,
Куайн, Крипке // Философские науки. 2009. № 4.
Д В. Иванов • Функционализм: метафизика без онтологии
139
желания курить, недостаточно указать на наличие или отсутствие у
него диспозиции закурить всякий раз, когда у него есть свободное
время и сигареты. Необходимо также учитывать наличие или
отсутствие у человека иных желаний и убеждений, например убеждения, что
сигареты вредят здоровью, и желания вести здоровый образ жизни.
По сути это значит, что ментальное состояние определяется не только
наличием определенного стимула и поведенческой реакции на него,
но и внутренним отношением к иным ментальным состояниям, что
не учитывается бихевиоризмом. Последнее возражение можно
представить, просто указав на возможность ситуаций, обозначенных как
«суперспартанец» и «суперактер». Иначе говоря, может быть такое
существо, которое находится в каком-либо ментальном состоянии, но
никак не демонстрирует этого (например, парализованный больной).
Возможен также субъект, например актер, демонстрирующий
определенное поведение, но не находящийся в том ментальном
состоянии, которое должно быть связано с этим поведением.
Как отмечает Блок, метафизика сознания, представленная
бихевиоризмом, оказывается то излишне либеральной, т.е. допускающей
в класс объектов, наделенных сознанием, существ, у которых оно
отсутствует, а то шовинистичной — отказывающей в сознании
существам, которые им обладают. Эти недостатки бихевиоризма как
метафизической теории, связанные с пониманием философами-бихевио-
ристами философии как деятельности по прояснению наших
понятий, обусловили переход философов во второй половине
прошлого века к теориям сознания, ориентированным на прояснение
самого феномена сознания, а не того, как мы о нем говорим.
Метафизика сознания, скрывающаяся за логическим
бихевиоризмом как теорией, проясняющей психологические высказывания,
по сути была физикалистской. Однако физи кал истекая метафизика
не обязана принимать исключительно такую форму. Более удачной
по сравнению с бихевиоризмом была сменившая его теория типового
тождества. Как и бихевиоризм, эта теория отвечает на
онтологический вопрос «что существует?». Согласно этой теории, существует
физическая субстанция, т.е. то, что может быть в принципе
предметом исследования физики. Однако на метафизический вопрос о
природе ментальных состояний, т.е. о том, что делает их именно такими,
какие они есть, поскольку они вообще существуют, физикализм дает
иной ответ. Ментальные состояния являются физическими
состояниями мозга и центральной нервной системы. Каждому типу
ментальных состояний соответствует определенный тип физических
состояний, более того, эти два типа связаны отношением тождества.
140
Раздел 2. Философия психологии
Подобный ответ позволяет избегнуть тех аргументов, которые
были выдвинуты против бихевиоризма. Теория тождества типов
признает реальность ментальных состояний в качестве физических
состояний. Эти состояния могут быть причинами различных
поведенческих реакций, находиться в определенных внутренних
отношениях друг с другом, и наличие или отсутствие соответствующего
поведения больше не является решающим критерием присутствия
сознания. Однако у теории тождества имеются свои недостатки.
Против нее был выдвинут аргумент, названный аргументом
множественной реализации, суть которого заключается в следующем:
крайне маловероятно, что ментальные состояния определенного типа
должны связываться исключительно с определенным типом
физических состояний. Вполне мыслимой является ситуация наличия
определенного ментального состояния у существ с разной
физической организацией. Если такая ситуация мыслима, то типовое
тождество ментального и физического не может быть необходимым.
Помимо простой мыслимости контрфактической ситуации на ее
возможность указывают также некоторые соображения,
основанные на эмпирических данных. Например, известно, что некоторые
психологические функции могут получить иную физическую
реализацию, скажем, в случае какой-нибудь травмы мозга на ранних
стадиях развития болезни. Другое соображение касается рассмотрения
таких примеров, когда на один и тот же эволюционный вызов
находилось несколько параллельных эволюционных решений,
подтверждающих идею, что одна и та же психологическая функция может
иметь разные физические реализации.
По сути теорию тождества так же, как и бихевиоризм, можно
обвинить в шовинизме. Согласно критерию ментальных состояний,
предлагаемому этой теорией, только некоторые существа
оказываются включенными в класс существ, обладающих сознанием. В
стремлении избежать крайностей шовинистического подхода и не впасть в
излишний либерализм философы в 1960-х гг. переходят к
функционализму.
Несмотря на то что истоки функционализма можно найти в
философии Аристотеля, это течение в философии сознания возникает в
XX в. Сам термин может пониматься по-разному. Например,
отмечает Блок, функционализм может пониматься как теория объяснения.
Однако в контексте обсуждения природы сознания наибольший
интерес представляет вид функционализма, который Блок обозначил
как метафизический функционализм. Метафизической данная
теория названа, поскольку она предлагает ответ на фундаментальный во-
Д.В. Иванов • Функционализм: метафизика без онтологии
141
прос о природе сознания. На вопрос «чем в принципе являются
ментальные состояния?» функционализм отвечает следующим образом:
ментальные состояния - это функциональные состояния организма.
По сути функционализм является особой теорией тождества. Однако
в отличие от физикалистской теории тождества против
функционализма нельзя выдвинуть аргумент множественной реализации.
Функционализм допускает наличие существ, обладающих разной
физической организацией, но находящихся в одинаковых
функциональных и соответственно ментальных состояниях. В каком-то
смысле можно сказать, что функционализм является продолжением
бихевиоризма. Однако в отличие от бихевиоризма функционализм
определяет ментальные состояния не только относительно того, что
называется входом и выходом, или стимулом и реакцией, но и
относительно иных ментальных состояний, в которых пребывает
организм. Иначе говоря, если для бихевиоризма ментальное состояние
сводится к поведенческому состоянию, то с точки зрения
функционализма ментальное состояние это то, что вызывает определенное
поведение. Согласно функционализму, ментальное состояние
обусловливается входным сигналом и предшествующими ментальными
состояниями, в которых находился организм, и само обусловливает
выходной сигнал и переход организма к иным ментальным
состояниям. Представляя подобным образом ментальные состояния,
функционализм избегает упреков, с которыми сталкивался бихевиоризм.
Существуют различные функционалистские теории. Одной из
первых форм функционализма был функционализм машины
Тьюринга. Этот вариант функционализма отождествлял ментальные
состояния с состояниями машинной таблицы, с помощью которой
задается определенный вариант машины Тьюринга, т.е. абстрактного
аппарата, специфицируемого двумя функциями: от входных
сигналов и внутренних состояний к выходным сигналам, и от входных
сигналов и внутренних состояний к другим внутренним состояниям.
Машинная таблица, с помощью которой задается та или иная машина
Тьюринга, представляет собой множество условных высказываний
следующей формы: если машина находится в состоянии S и получает
сигнал I, то она выдает ответ О и переходит в состояние S '.
Другой формой функционализма является так называемый
каузальный функционализм. Избегая трудностей, с которыми
сталкивался машинный функционализм, этот вид функционализма
пытается представить ментальные состояния в общем виде как состояния,
играющие определенную каузальную роль. Чтобы определить более
точно то или иное ментальное состояние, например боль, можно вое-
142
Раздел 2. Философия психологии
пользоваться методом Рамсея—Льюиса. Используя этот метод, мы
можем отождествить ментальное состояние с рамсеевым
функциональным коррелятом этого состояния относительно некой теории Т.
Рамсеев функциональный коррелят некого ментального свойства,
например боли, - это свойство, представленное с помощью
предложения Рамсея.
Представим, что у нас есть психологическая теория Т,
содержащая общие высказывания следующей формы: любой, кто находится в
состоянии S и получает входной сигнал I, выдает выходной сигнал О и
переходит в состояние Si. В символическом виде это может быть
представлено какТ(SI... Sn, II... In, 01... On), где S - это ментальный
термин; I - термин входного сигнала, О - термин выходного сигнала.
Иначе говоря, запись может выглядеть следующим образом:
Т(боль..., укол булавкой..., отдергивание руки). Теперь, чтобы
получить предложение Рамсея, заменим все ментальные термины
переменными и введем квантор существования. Получаем запись
следующего вида:
ЗМ1...3МпТ(М1...Мп, П...In, 01...On)
С помощью предложения Рамсея можно определить ментальные
состояния. Пусть переменная М2 заменяет ментальный термин «боль».
Определим боль следующим образом:
у испытывает боль = deßMl...3Mn[T(Ml...Mn, П...In, 01...0п)&
у находится в M2].
Иначе говоря, ментальное свойство отождествляется со
свойством, выраженным предложением Рамсея, в данном случае с
рамсеевым функциональным коррелятом боли относительно теории Т.
Важно, что рамсеев функциональный коррелят был представлен с
помощью выражения, в котором не было ментальных терминов, а
только термины, обозначающие входные и выходные сигналы. Теперь,
если у нас есть теория Т, согласно которой боль - это, например,
состояние, вызываемое уколом булавки и в свою очередь вызывающее
отдергивание руки и приводящее организм в настороженное
состояние, ведущее к напряжению мышц, то боль может быть определена
следующим образом:
у испытывает боль = deßM 13М2[(М 1 вызывается уколом
булавки, приводит к отдергиванию руки, обусловливает переход
организма в состояние М2, которое вызывает напряжение мышц) &
у находится в состоянии M1 ]
Д.В. Иванов • Функционализм: метафизика без онтологии
143
Другими словами, функциональным коррелятом боли
относительно данной теории будет следующее свойство: «быть состоянием,
вызываемым уколом булавки, вызывающим отдергивание руки,
приводящим организм в состояние, которое вызывает напряжение
мышц».
Преимущество отождествления ментальных состояний с рамсе-
евыми функциональными коррелятами заключается не просто в том,
что в основной части определения ментальных состояний мы
избавляемся от ментальных терминов. Указанное преимущество является
лишь следствием другого позитивного момента функционализма —
общей онтологической нейтральности такого способа определения
ментальных состояний.
Как отмечает Блок, функционализм является метафизикой без
онтологии. Функционализм претендует на прояснение того, чем
сознание является в принципе, однако в отличие, например, от дуализма
или физикализма функционализм ничего не говорит нам
относительно того, какие типы объектов существуют. Дуализм и физикализм,
отвечая на вопрос о природе сознания, дают ответы на онтологический
вопрос «что существует?». Их спор между собой ведется как раз по
поводу этих ответов — считать ли существующей только физическую
субстанцию или признать существование и нефизической
субстанции? Суть функционалистского ответа на вопрос о природе сознания
сводится лишь к указанию на то, что определенным ментальным
состоянием, например болью, является то состояние Мп, которое стоит
в определенных отношениях с соответствующими сигналами входа,
выхода и другими ментальными состояниями. На вопрос же о том,
какого рода сущностью является это ментальное состояние,
функционализм принципиально не дает ответа. С точки зрения
функционализма это совершенно не важно для того, чтобы полагать нечто в
качестве ментального состояния, чем бы этот X ни являлся, важно
лишь, чтобы он был определенным функциональным состоянием.
Примеры подобного функционального определения мы уже
встречали в науке. Например, в определении того, что такое почка, важным
является указание, что это - орган, способный фильтровать кровь и
поддерживать определенный химический баланс организма, а будет
ли он реализован с помощью органических тканей или нет, уже не
важно.
Если дуализм и физикализм полемизируют друг с другом по
поводу того, что существует, то, как пишет Блок, «о функционализме
нельзя сказать, что он согласен или не согласен с дуализмом или с фи-
зикализмом относительно того, что существует, поскольку функцио-
144
Раздел 2. Философия психологии
нализм вообще не поднимает вопрос об им материальности души».
Далее Блок отмечает: «Функционализм говорит следующее: то, что
делает два отдельных случая боли болью, - это их одинаковая
функциональная роль. Различные случаи боли могли бы выполнять эту
функциональную роль независимо от того, вовлекаются ли при этом
нефизические субстанции или свойства или нет, при условии, что эти
нефизические субстанции или свойства способны оказывать
правильное каузальное воздействие»1. Одним из следствий такой
позиции является то, что функционализм оказывается совместим с
дуализмом. По этому поводу Патнэм пишет: «Гипотеза о
функциональных состояниях совместима с дуализмом. Хотя нет никаких сомнений
в том, что эта гипотеза "механистична" по своему духу, есть нечто
примечательное в том, что система, состоящая из тела и "души", при
условии, что душа существует, вполне может быть вероятностным
автоматом»2.
Другим следствием онтологической нейтральности
функционализма является то, что функционализм может быть совместим с
определенным вариантом физикализма, а именно с физикалистской
теорией тождества в отдельном (token physicalism). Эту физикалистскую
теорию можно было бы условно обозначить как онтологию без
метафизики, поскольку данная теория претендует только на объяснение
того, какого рода сущности существуют. Согласно этой теории,
существуют только физические объекты и свойства, и каждое отдельное
ментальное свойство является физическим свойством. Однако эта
теория не отвечает на вопрос о том, что является общим для того или
иного типа ментальных состояний, например, что характеризует
такое ментальное состояние, как боль. В отличие от теории тождества
типов этот вариант физикализма не утверждает, что быть болью
означает быть определенным типом физических свойств.
Функционализм может быть совместим с дуализмом и физика-
лизмом, поскольку эти теории не претендуют на метафизическое
объяснение того, что характеризует различные типы ментальных
состояний. Однако если эти теории пытаются ответить на метафизический
вопрос о том, что характеризует каждый тип ментальных
состояний, т.е. чем в принципе является каждый тип ментальных
состояний, то функционализм выступает как их критик. Речь, конечно, идет
1 Block N. Remarks on Chauvinism and the Mind-Body Problem // N. Block.
Consciousness, Function, and Representation. Cambridge : MIT Press, 2007. P. 9.
2 Патнэм X. Психологические предикаты // X. Патнэм. Философия сознания.
М., 1998. С. 61.
Д. В. Иванов • Функционализм: метафизика без онтологии
145
о критике физикалистской теории тождества типов, согласно
которой каждому ментальному свойству соответствует вполне
определенное физическое свойство. Как мы видели, именно с этим тезисом не
согласен функционализм, который упрекает теорию тождества типов
в шовинизме. Как уже отмечалось, тот критерий ментального,
который предлагает теория тождества типов, позволяет исключить из
класса сознательных существ некоторых существ, обладающих
сознанием.
Возможно, шовинизм теории тождества типов и других теорий
сознания, которые можно в нем обвинить, объясняется стремлением
этих теорий отождествить сознание с неким субстанциальным
началом. Ведь очевидно, что любые попытки связать сознание с некой
сущностью будут наталкиваться на аргументы о представимости иной
ситуации, в которой мыслимо присутствие сознания тогда, когда
описываемые той или иной теорией условия реализации сознания
отсутствуют. Если это так, то главным преимуществом онтологической
нейтральности функционализма оказывается то, что эта теория, как
кажется, избегает упреков в шовинизме.
Однако, избегая крайностей шовинизма, не сталкивается ли она с
либерализмом? По мнению Блока, именно это происходит с
функционализмом. Против этой теории Блок выдвинул аргумент, который
можно назвать аргументом китайской нации. Суть его заключается в
следующем. Предположим, что нам удалось собрать достаточно
большую группу людей (пусть это будет самая большая нация на Земле), в
которой каждый человек должен симулировать функционирование
нейрона в составе мозга. Подобно тому как нейрон связан с другими
нейронами, каждый человек связан посредством рации с другими
людьми. Итак, все вместе они симулируют работу мозга, допустим,
это возможно. Можно даже представить, что вся эта группа людей
связана посредством передатчиков с живым телом, в котором удален
мозг. Возникает вопрос, следует ли нам считать такого человека, чье
поведение регулируется не мозгом, а его симуляцией, сознательным
существом? Можно ли приписать обладание сознанием этой группе
людей, которая удачно симулирует работу мозга? Если мы склонны
ответить отрицательно на эти вопросы, то, по мнению Блока, это
означает, что реализации определенной функции еще не достаточно
для того, чтобы система стала сознательной.
Аргумент Блока направлен против определенной версии
функционализма, а именно той, которая отождествляет ментальные
состояния с функциональными состояниями относительно не научной
теории, а обыденного знания, или, можно сказать, народной психо-
146
Раздел 2. Философия психологии
логии. К такому виду функционализма можно отнести
аналитический функционализм (Льюис), согласно которому наши ментальные
термины, такие, как «верить», «полагать», «бояться» и т.п.,
определяются нашими обыденными представлениями о психике.
Функциональные определения же, которые мы даем ментальным терминам,
по сути являются аналитическими истинами.
Однако Блок признает, что аргумент китайской нации не
действует в случае, если мы имеем дело с другим вариантом
функционализма, а именно психофункционализмом (Фодор). В отличие от
предыдущей версии функционализма, согласно этому варианту,
отождествление ментальных состояний с функциональными состояниями
происходит относительно научной теории. Это значит, что
функциональные состояния должны быть специфицированы относительно,
например, таких теорий, как когнитивная психология,
нейропсихология. Очевидно, что в этом случае мы не можем решить априори, чем
является то или иное ментальное состояние. Таким образом, если
обладать сознанием означает реализовывать психофункциональные
состояния, являющиеся предметом исследования научных дисциплин,
то очевидно, что такая система, как китайская нация, реализующая
функциональные состояния, которые лишь на поверхностном уровне
дублируют наши функциональные состояния, не будет обладать
сознанием. Чтобы признать за системой обладание сознанием,
необходимо, чтобы ее функциональное описание было таким же, какое дают
научные психологические теории для объяснения нашей психологии.
По мнению Блока, аргумент китайской нации демонстрирует, что
никакие ментальные состояния не могут с необходимостью быть
отождествлены с функциональными состояниями,
специфицированными относительно народной психологии. Однако
психофункционализму аргумент китайской нации не угрожает. По-видимому,
мы можем связать неквалитативные ментальные состояния, такие,
как убеждения, желания, знание, понимание и другие состояния,
которые в целом обозначаются как пропозициональные установки, с
психофункциональными состояниями организма. Однако, по
мнению Блока, так же, как от функционализма, от
психофункционализма ускользают квалитативные ментальные состояния, такие, как
боль, видение красного, головокружение, скука и т.д. Иначе говоря,
психофункционализм, как и функционализм, сталкивается с
аргументами отсутствующих квалиа и инвертированных квалиа.
Аргумент инвертированных квалиа — другое название «аргумент
инвертированного спектра» - известен уже со времен Локка. Его суть
заключается в следующем. Представим, что наш функциональный
А В. Иванов • Функционализм: метафизика без онтологии
147
двойник будет видеть красный флаг так, как мы видим траву, и
наоборот, трава будет видеться ему так же, как нам видится красный флаг.
Если такая ситуация возможна, то надо признать, что тождество
квалитативных и функциональных состояний не может быть
необходимым. Более того, кажется, что если возможен сценарий
инвертированного спектра, то возможна ситуация, когда у существа, во всем
функционально подобного нам, будут вообще отсутствовать
квалитативные состояния. Как и сценарий инверсии спектра, данный
мысленный эксперимент также стремится продемонстрировать
неспособность функционализма ухватить квалитативные состояния.
Эти два аргумента действительно являются серьезной трудностью
для функционализма, однако не такой, чтобы ее нельзя было
преодолеть. В последние десятилетия было предложено множество
контраргументов. Однако их разбор потребует отдельной работы. Здесь же
следует заметить, что аргументы отсутствующих и инвертированных
квалиа базируются на таком понимании квалитативных состояний,
которое предполагает введение определенной формы субстан циализ-
ма. Иначе говоря, то, чем являются квалитативные состояния,
определяется существенным образом их феноменальным характером,
знакомство с которым является знакомством с особым объектом «в
моей голове», к которому я имею привилегированный доступ.
Недостатком такого понимания квалитативного опыта является,
во-первых, то, что оно сталкивается с аргументами, подобными аргументу
Витгенштейна против индивидуального языка. Во-вторых, такой
подход не учитывает, что, будучи скорее антисубстанциалистской
позицией, функционализм предлагает как раз иное понимание
сознательного опыта. И, кажется, именно антисубстанциалистское
понимание природы сознания позволяет данной теории предложить такое
объяснение природы сознания, которое избегало бы как шовинизма,
так и излишнего либерализма предшествующих теорий.
Используя любимую отечественными философами оппозицию
классических и неклассических философских теорий и стратегий,
можно сказать, что антисубстанциализм функционализма позволяет
классифицировать эту теорию сознания как неклассическую. Если
это так, то другим интересным следствием успеха функционализма
является то изменение в понимании связи метафизики и
неклассической философии, которое должно к нам прийти. Как отмечалось в
начале работы, уже стало традиционным отождествлять классическую
философию прежде всего с метафизикой, а неклассическую
философию - с преодолением метафизики. Возможно, такое понимание
сложилось из-за отождествления метафизики исключительно с тем
148
Раздел 2. Философия психологии
разделом, который обозначался как общая метафизика, или
онтология, и из-за критики тех субстанциалистских ответов, которые
давались на главный вопрос онтологии. Однако подобная критика
метафизики, даже справедливая, не означает, что мы преодолели
метафизику и она должна остаться в прошлом. Как мы видели, метафизика
даже в ее классическом понимании не сводится исключительно к
общей метафизике, а ответы на вопрос «что существует?» не обязательно
давать в субстанциальном ключе. Анализ развития философии
сознания показал, каким образом метафизика возвращается в контекст
современной философии, пример же функционализма, я полагаю,
должен убедить нас не просто в возможности метафизики, но в ее
принципиальной возможности в контексте неклассической философии.
Д.В. Иванов
Функционализм и инверсия спектра
I
Функционализм ' является одной из ведущих философских теорий
сознания. Согласно этой теории, любое ментальное состояние
определяется отношениями к сигналам входа, выхода и другим ментальным
состояниям. Все ментальные состояния могут быть полностью
объяснены как функциональные состояния. Соглашаясь с тем, что многие
ментальные состояния могут быть поняты подобным образом,
некоторые философы, тем не менее, отмечают, что определенные
характеристики этих состояний не могут быть объяснены с позиций
функционализма. Такими характеристиками являются качественные
(квалитативные), феноменальные свойства ментальных состояний. Эти свойства
часто обозначаются термином «квалиа» (qualia - мн.ч., quäle - ед.ч.)2.
Примерами квалиа являются феноменальные характеристики
болевых состояний. В качестве функционального состояния боль
репрезентирует определенные повреждения в теле, но кроме этого боль
всегда каким-то образом качественно представлена субъекту,
переживающему ее. Она может быть режущей, колющей и т.д. Именно эти
аспекты, по мнению критиков функционализма, не могут быть
объяснены данной теорией. Критикуя функционализм, эти философы, как
правило, занимают позицию нередуктивного физикализма3.
Признавая каузальную замкнутость нашего универсума, все процессы
которого регулируются исключительно физическими законами, представите-
1 См.: Levin J. Functionalism // The Stanford Encyclopedia of Philosophy ;
Ed.N.Zalta(ed.). 2010. - URL = <http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/
functionalism/>; Иванов Д.В. Функционализм. Метафизика без онтологии //
Эпистемология и философия науки. 2010. № 2.
2 См.: Туе М. Qualia // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2009. - URL =
<http://plato.stanford.edu/archives/ sum2009/entries/qualia/>; Иванов Д.В. Дуализм
и qualia // Вестник Московского университета. Сер. 7. Философия. 2006. № 2;
Юдина И.С. Головоломки проблемы сознания. М., 2004. С. 69-80.
3 См.: Stoljar D. Physicalism // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2009. -
URL = <http://plato.stanford.edu/archives/ fall2009/entries/physicalism/>; Иванов Д.В.
Три аргумента современной аналитической философии сознания // Аспекты : сб.
статей по философским проблемам истории и современности. Вып. II. М. :
Современные тетради, 2003; ЮлинаН.С. Очерки по философии в США. XX век. М., 1999.
С. 180-198.
150
Раздел 2. Философия психологии
ли данного направления философии сознания полагают, что квалиа не
редуцируемы к физическим процессам. Нередуктивный физикализм
может принимать разные формы — эмерджентизма, эпифеноменализ-
ма, панпсихизма. Одним из основных аргументов, выдвигаемых
представителями нередуктивного физикализма против функционализма,
является аргумент инвертированного спектра. В статье я постараюсь
показать, что, несмотря на кажущуюся убедительность, этот аргумент
не опровергает функционализм. Против него можно выдвинуть ряд
возражений, которые способны продемонстрировать немыслимость
существования особых ментальных свойств, квалиа, которые
невозможно было бы объяснить с позиции функционализма.
В философии гипотеза инвертированного спектра впервые была
сформулирована Джоном Локком. В «Опытах о человеческом
разумении» в главе «Об идеях истинных и ложных» он пишет: «Впрочем, идея
голубого, имеющаяся у одного человека, может отличаться от этой
идеи у другого. В наших простых идеях не было бы ничего от ложности
и втом случае, если бы вследствие различного строения наших органов
было бы так определено, что один и тот же предмет в одно и то же время
производил бы в умах нескольких людей различные идеи; например,
если бы идея, вызванная фиалкой в уме одного человека при помощи
его глаз, была тождественна идее, вызванной в уме другого ноготками,
и наоборот. Ведь этого никогда нельзя было бы узнать, потому что ум
одного человека не может перейти в тело другого, чтобы воспринять,
какие представления вызываются с помощью органов последнего;
и потому не перепутались бы ни идеи, ни имена и ни в тех, ни в других
не было бы никакой ложности. В самом деле, если все вещи, имеющие
строение фиалки, будут постоянно вызывать в ком-нибудь идею,
которую он назовет "голубое", а все вещи, имеющие строение ноготков,
будут постоянно вызывать идею, которую он также постоянно будет
называть "желтое", то, каковы бы ни были эти представления в его уме,
он будет в состоянии так же правильно различать по ним вещи для
своих надобностей и понимать и обозначать эти различия, отмеченные
именами "голубое" и "желтое", как если бы эти представления или
идеи в его уме, полученные от этих двух цветков, были совершенно
тождественны идеям в умах других людей»1.
Если ситуация, представленная в гипотезе, может быть помысле-
на, то это позволяет нам сформулировать аргумент против функцио-
налистской теории сознания в поддержку нередуктивного физика-
1 ЛоккДж. Опыт о человеческом разумении // Дж. Локк. Соч. В 3 т. Т. 1. М.,
1985. С. 444.
ДВ. Иванов • Функционализм и инверсия спектра
151
лизма. В этом аргументе нам предлагается представить ситуацию,
когда два человека, тождественных друг другу с точки зрения
наилучшего функционального описания их психических процессов, тем не
менее имеют различный квалитативный опыт при восприятии одних
и тех же объектов — можно сказать, что квалиа одного человека
систематическим образом инвертированы относительно квалиа другого
человека. Поскольку подобную инверсию трудно сделать наглядной,
проще рассматривать инверсию квалиа на примере инверсии
цветовых квалиа. Например, мы можем представить, что цветовые квалиа
одного человека, назовем его Инвертом, инвертированы
относительно цветовых квалиа другого человека, скажем Нормы, -
предположим, что Норма является примером человека с нормальным
восприятием цветового спектра. Поскольку функционально Норма и Инверт
идентичны, то когда оба восхищаются цветом неба, оба восклицают:
«Какое сегодня голубое небо!». Однако при этом квалитативный опыт
Инверта такой же, какой у Нормы, когда она воспринимает лимон.
Если ситуация, представленная сценарием инвертированного
спектра, возможна, то функционализм ложен. Поскольку с точки
зрения наилучшего функционального описания сравниваемые субъекты
идентичны в своих психических состояниях, однако квалитативный
опыт субъектов различается, постольку это значит, что
функционализм не способен учесть это различие и упускает в своих объяснениях
квалитативные аспекты опыта. Иначе говоря, он не является лучшей
теорией, претендующей на объяснение природы ментальных
состояний. Это также значит, что различие в опыте субъектов зависит не от
функциональной организации, а от различия физических состояний,
с которыми квалиа связаны необходимым образом (при условии, что
мы исключили дуализм субстанций). А это именно то, что утверждает
нередуктивный физикализм, отстаивая тезис о том, что
квалитативные состояния не являются функциональными состояниями.
Подобно направленному против функционализма аргументу
отсутствующих квалиа, в строгом виде аргумент инвертированного
спектра можно представить следующим образом.
Ситуация инверсии спектра мыслима.
Если ситуация инверсии спектра мыслима, то она возможна.
Следовательно, инверсия спектра возможна.
Если инверсия спектра возможна, то функционализм ложен.
Следовательно, функционализм ложен.
Данный аргумент является разновидностью картезианских
аргументов от мыслимости. Принимая этот аргумент, мы становимся
на позицию нередуктивного физикализма. Демонстрируя неправо-
152
Раздел 2. Философия психологии
мерность подобного вывода, мы сохраняем функционалистскую
позицию.
Оспаривая правомерность подобного вывода, многие философы
атакуют третью посылку. В отличие от ситуации с отсутствующими
квалиа, в случае с инвертированным спектром мы можем показать,
что эмпирически такая ситуация невозможна. Если бы цветовое
пространство было действительно симметричным, то ситуация инверсии
спектра была бы возможна. Однако симметрия цветового
пространства возможна, если мы рассматриваем только цвета и их оттенки.
Если же ввести еще два параметра, связанные с восприятием цвета, а
именно насыщенность и яркость, то цветовое пространство станет
асимметричным, как это можно видеть на модели цветового
пространства Манселла. Соответственно инверсия цветового спектра
некого субъекта проявит себя в изменении поведения этого субъекта.
Например, поскольку голубой цвет является более темным цветом,
чем желтый, инверсия этих цветов могла бы быть заметна, скажем, в
поведении субъекта, когда он сравнивал бы цвет неба и солнца. Он
мог бы подобно его нормальному двойнику воскликнуть «Какое небо
голубое», но если при этом он добавит, что небо выглядит ярче, чем
солнце, то мы увидим, что его восприятие отличается от нашего
восприятия. Иначе говоря, он не будет нашим бихевиоральным и
функциональным двойником.
Демонстрация асимметрии цветового пространства позволяет
показать, что ситуация инверсии спектра эмпирически, или номоло-
гически, невозможна. Невозможно, чтобы два субъекта были
тождественны друг другу бихевиорально и функционально, но при этом
по-разному воспринимали бы цвета. Однако, к сожалению,
демонстрация номологической невозможности инверсии спектра не
позволяет нам ответить на вопрос, чем же по сути являются квалитативные
состояния. Допустим, нам удастся эмпирически показать, что всякий
раз, когда имеется определенное функциональное состояние, оно
сопровождается соответствующим квалитативным опытом. Означает
ли это, что квалитативные состояния с необходимостью являются
функциональными состояниями? Иначе говоря, означает ли это, что
с помощью эмпирических исследований нам удалось показать, что о
каком бы существе ни шла речь, если это существо демонстрирует
наличие определенных функциональных состояний, то оно
обязательно должно обладать соответствующим квалитативным опытом?
Очевидно, основываясь только на эмпирических аргументах, мы не
способны продемонстрировать наличие необходимой связи между
функциональными состояниями и квалитативным опытом. Соответ-
ДБ. Иванов • Функционализм и инверсия спектра
153
ственно если мы хотим показать, что квалитативные состояния
тождественны функциональным состояниям, мы должны исключить не
только номологическую возможность инвертированного спектра, но
и любую другую возможность: и метафизическую, и концептуальную.
Напротив, те, кто хотел бы показать ложность функционализма,
признавая номологическую невозможность инвертированного
спектра, указывают на его потенциальную возможность, на то, что
метафизически или по крайней мере концептуально такая ситуация
возможна. Например, такой позиции придерживаются Блок и Шумей-
кер. Как пишет Шумейкер, «даже если наш цветовой опыт нельзя
инвертировать, то кажется очевидно возможным существование
таких существ, которые во всех отношениях подобны нам, но чей опыт
имеет такую структуру, которая позволяет подобное отображение, -
существ, чей цветовой опыт инвертируем. А простой возможности
таких существ достаточно, чтобы поставить философские проблемы,
которые, как предполагалось, ставит возможность инвертированного
спектра»1. Иначе говоря, Шумейкер пытается показать, что если в
принципе возможна такая ситуация, когда структурированный
определенным образом квалитативный опыт какого-нибудь существа, не
обязательно человека, не связан с его функциональной
организацией, то из этого следует, что и в нашем случае связь квалитативных
аспектов психики с ее функциональными составляющими является
случайной, а не необходимой, т.е. сущность квалитативного опыта не
заключается в его функциональной организации.
Несмотря на то что факт номологической невозможности
инвертированного спектра не демонстрирует, что такая ситуация в
принципе невозможна, он позволяет нам переложить бремя доказательства
подобной возможности на оппонентов. Для того чтобы доказать хотя
бы концептуальную возможность этой ситуации, любителям квалиа
необходимо продемонстрировать, что эта ситуация может быть по-
мыслена.
Я полагаю, что вполне возможно вообразить себе ситуацию,
предложенную сценарием инвертированного спектра. В конце концов
помочь в этом может обращение к реальным примерам различия в
восприятии субъектов, по-видимому, тождественных друг другу, по
крайней мере относительно поведенческих реакций. Например,
можно вспомнить какие-нибудь случаи, связанные с цветовой
слепотой, скажем, случаи дальтонизма. Джон Дальтон, будучи дейтерано-
1 Shoemaker S. The Inverted Spectrum // The Nature of Consciousness ; N. Block,
O. Flanagan, G. Guzuldere (eds.). Cambridge : MIT Press, 1997. P. 648.
154
Раздел 2. Философия психологии
пом, т.е. человеком, страдавшим таким дефицитом восприятия цвета,
который не позволял ему различать красный и зеленый цвета, только
в зрелом возрасте обнаружил свое отличие от людей с нормальным
восприятием цвета. Это значит, что его поведение в обычной жизни
не позволяло ему или кому-нибудь другому выявить это отличие в
восприятии.
Однако вообразить некоторую ситуацию не значит ее
помыслить, т.е. представить ее концептуально непротиворечиво. В
качестве воображаемой ситуации инверсия спектра не представляет
угрозы для функционализма. Если же мы способны именно помыслить
ситуацию инвертированного спектра, то из этого действительно
следует возможность такой ситуации, по крайней мере концептуальная
возможность. Несомненно, именно факт мыслимости
инвертированного спектра представляет опасность для функционализма, но
задача продемонстрировать, что это мыслимо, может оказаться
очень непростой для любителей квал иа, а может быть даже
невыполнимой.
Для того чтобы помыслить ситуацию инвертированного спектра,
по-видимому, следует показать, каким образом мы могли бы
сравнивать наши квалитативные состояния. Мы должны понимать, в каких
случаях имеет смысл говорить о том, что два человека обладают
одними и теми же квалиа, а в каких случаях — что их квалиа различаются.
Если же окажется, что мы не способны сравнивать непосредственно
квалитативные состояния двух субъектов, то это может быть
расценено как свидетельство немыслимости инвертированного спектра.
Факт немыслимости ситуации инверсии спектра в XX в. впервые
пытались продемонстрировать позитивисты. В их работах мы
находим активное обсуждение этой гипотезы прежде всего в контексте
обсуждения верификационистской теории значения. С точки зрения
позитивистов, высказывания, не поддающиеся проверке, являются
бессмысленными. Поскольку любые утверждения о тождестве или
различии ментальных состояний двух субъектов, которые мы
пытаемся сделать, формулируя гипотезу инвертированного спектра, не
могут быть верифицированы, то эти утверждения и вся гипотеза в
целом должны быть признаны бессмысленными. Подобного рода
рассуждения мы находим, например, у Морица Шлика.
«Я рассматриваю два кусочка зеленой бумаги и устанавливаю, что
они имеют одинаковую окраску. Предложение, утверждающее
одинаковость их окраски, верифицируется тем, что за равное время я
дважды переживаю одинаковую окраску... Затем я показываю эти два
кусочка бумаги другому наблюдателю и спрашиваю: видит ли он зеле-
Д. В. Иванов • Функционализм и инверсия спектра
155
ное так же, как и я? Тождественно ли его восприятие цвета моему
восприятию? Этот случай принципиально отличен от только что
рассмотренного. В то время как в первом случае высказывание было
верифицировано переживанием тождества, небольшое размышление
показывает, что здесь верификация невозможна. Конечно, второй
наблюдатель (если он не страдает цветовой слепотой) также называет
бумагу зеленой, и если я эту зелень попробую описать ему более
подробно, скажу, например: она более желтоватая, чем вот эти обои;
более голубоватая, чем сукно на биллиардном столе; темнее, чем это
растение, и т.д., то каждый раз он будет соглашаться с моими
высказываниями. Однако даже если все его суждения о цвете согласуются с
моими суждениями, отсюда я еще никак не могу заключить, что он
переживает "то же самое качество". Может случиться так, что при
рассмотрении зеленых кусочков бумаги он переживает ощущение
цвета, которое я назвал бы "красным"; напротив, в тех случаях, когда
я вижу красное, у него ощущение зеленого, которое он называет
"красным" и т.д... верифицируемый смысл утверждения, что разные
индивиды испытывают одно и то же ощущение, состоит только в том,
что все их высказывания (и, естественно, поведение в целом)
обнаруживают согласованность. Данное утверждение означает только это и
ничего, кроме этого... Высказывание о том, что два ощущения,
принадлежащие двум разным субъектам, не только занимают одно и то
же место в их системах, но сверх того еще и качественно
тождественны, не имеет для нас никакого смысла. Такое высказывание не
ложно, оно просто лишено смысла: мы не знаем, что оно значит»1.
Подобные идеи до Шлика уже высказывал Готлоб Фреге: «Мой
спутник и я убеждены в том, что мы видим один и тот же луг; но у
каждого из нас свое особое чувственное впечатление зеленого. Среди
зеленых листьев земляники я вижу ягоду. Мой спутник ее не замечает;
он — дальтоник. Цветовое ощущение, которое он получает от ягоды,
практически не отличается от того, которое он получает-от листьев.
Видит ли мой спутник зеленый лист красным, видит ли он красную
ягоду зеленой? Или он и то и другое видит как один цвет, который
вовсе мне не известен? Это вопросы, на которые нет ответа; это,
собственно, бессмысленные вопросы. Когда слово "красный" не
обозначает свойство вещей, а предназначено для характеристики
чувственных впечатлений, принадлежащих моему сознанию, оно применимо
1 Шлик М. Позитивизм и реализм // Журнал «Erkenntnis» («Познание»).
Избранное. М., 2006. С. 294-295.
156
Раздел 2. Философия психологии
только в области моего сознания; в этом случае сравнение моих
впечатлений с впечатлениями другого человека невозможно»1.
Тот факт, что Фреге высказывал идеи, подобные идеям
позитивистов, демонстрирует, что немыслимость инвертированного спектра
не зависит от верификационистской теории значения.
Действительно, нам не обязательно придерживаться взгляда, что осмысленными
являются только те высказывания, которые мы можем проверить,
чтобы убедиться в том, что эта ситуация немыслима.
Однако отказываясь от верификационистской теории значения,
мы должны признать, что в каком-то смысле, говоря о верификации,
позитивисты были правы. Если мы хотим помыслить некую ситуацию,
мы должны понимать, при каких условиях наши высказывания о
наличии или отсутствии этой ситуации будут истинными. Таким образом,
если ситуация инверсии спектра мыслима, то у нас должно иметься
понимание того, когда мы будем правы, утверждая ее наличие, а когда -
нет. Если некто утверждает, что два субъекта, идентичные друг другу в
отношении своих поведенческих и функциональных реакций, тем не
менее обладают разным квалитативным опытом, то у него должны
быть основания, которые позволили бы убедить нас в том, что это
действительно так и что мы не ошиблись в описании этой ситуации.
Однако каким образом мы могли бы убедиться, что не ошибаемся? Для
этого у нас должна была бы иметься возможность непосредственно
сравнивать квалитативные состояния этих субъектов. Но у нас нет такого
доступа к сознанию субъектов, который позволил бы сделать подобное
сравнение. Различие в физической организации также не является
примером непосредственного знакомства с содержанием сознания
субъектов. В отношении же своего поведения и функциональной
организации субъекты неразличимы. Таким образом, у нас вообще нет
возможности хоть как-то сравнить субъектов, чтобы судить о тождестве
или различии их квалитативного опыта. Это значит, что, пытаясь
утверждать наличие или отсутствие инверсии спектра, мы никогда не
поймем, в каких случаях это правомерно делать, а в каких - нет. Иначе
говоря, подобного рода высказывания об опыте других субъектов будут
совершенно произвольны и их бессмысленно использовать для того,
чтобы представить некую ситуацию как реальную возможность.
В определенном смысле квалитативные состояния,
представленные сторонниками возможности инвертированных квалиа как
особые приватные события внутренней жизни субъекта, о которых мо-
1 Фреге Г. Мысль: логическое исследование // Г. Фреге. Логические
исследования. Томск, 1997. С. 35.
ДВ. Иванов* Функционализм и инверсия спектра
157
жет знать только субъект этих состояний, оказываются исключены из
контекстов, в которых мы способны обсуждать и сравнивать
психические феномены. Как отмечает Витгенштейн, «они не нечто, но и не
ничто! Вывод состоял бы лишь в том, что ничто выполняло бы такую
же функцию, как и нечто, о котором ничего нельзя сказать»1. Но, как
отмечалось выше, если мы не можем сравнивать непосредственно
квалитативный опыт двух субъектов, то это означает, что гипотеза
инвертированного спектра немыслима.
II
Классический вариант гипотезы инвертированного спектра часто
называют интерсубъективным вариантом инвертированного
спектра, поскольку в нем идет речь о сравнении ментальных состояний
двух субъектов. Как было показано, подобный вариант инверсии
немыслим в силу невозможности сравнивать непосредственно
квалитативные состояния двух отдельных индивидов. Однако существует
еще один вариант инверсии спектра - интрасубъективная инверсия.
В этом варианте речь идет об изменении квалитативного состояния
одного субъекта, причем изменение происходит таким образом, что
один и тот же психологический опыт, сопровождаемый
определенным квалитативным состоянием, вдруг начинает связываться с иным
квалитативным опытом. На возможность подобной инверсии
указывал Витгенштейн: «Рассмотрим следующий случай. Кто-то говорит:
"Не могу понять, сегодня все красное я вижу голубым, и наоборот".
Мы отвечаем: "Это должно выглядеть странно!" Он говорит, что это
так, и, например, продолжает говорить, каким холодным выглядит
пылающий уголь и каким раскаленным — ясное (голубое) небо. Я
думаю, что при этих или сходных обстоятельствах мы склонны сказать,
что он видел красным то, что мы видели голубым. Опять же мы
сказали бы, что знаем, что он подразумевает под словами "голубой" и
"красный" то, что подразумеваем мы, что он все время употреблял их
так, как употребляли их мы»2.
В отличие от интерсубъективной инверсии спектра, не
поддающейся верификации, интрасубъективная инверсия может быть
верифицирована непосредственно самим субъектом. Однако сама по себе
данная инверсия не является угрозой для функционализма и не обя-
1 Витгенштейн Л. Философские исследования // Л. Витгенштейн.
Философские работы. Ч. 1.М., 1994. С. 185.
2 Витгенштейн Л. Заметки к лекциям об «индивидуальном переживании» и
«чувственных данных» // Язык, истина, существование. Томск, 2002. С. 72.
158
Раздел 2. Философия психологии
зывает нас полагать существование особых приватных ментальных
свойств, квалиа, недоступных для функционалисте кого описания.
Глядя на голубое небо, человек может констатировать, что его
квалитативные состояния изменились, что небо теперь для него выглядит
так же, как раньше выглядели красные вещи, однако это не означает,
что его квалитативные состояния не являются функциональными
состояниями, доступными для описания из перспективы третьего лица.
Более того, мы можем понять, о чем говорит этот человек, именно
потому, что то, что он обозначает словами «голубой» и «красный»,
является не скрытыми, приватными феноменами, а чем-то,
предполагающим интерсубъективное обсуждение и проверку. Например, мы
можем согласиться, что квалитативный опыт субъекта претерпел те
изменения, о которых он говорит, проведя серию тестов. Скажем,
можно попросить субъекта быстро, спонтанно, не задумываясь
выбрать все красные предметы из множества предметов иных расцветок,
разложенных на столе. Если субъект выберет вместо этого все голубые
предметы, то у нас будет основание согласиться с тем, что сообщает
нам о своем опыте пациент.
Однако несмотря на то что интрасубъективный вариант
инверсии спектра сам по себе не опровергает функционализм, он, по
мнению некоторых философов, позволяет сформулировать аргумент,
демонстрирующий возможность интерсубъективной инверсии
спектра. Такой аргумент попытался сформулировать Шумейкер.
Представим серию трансформаций, которые происходят с нашим
субъектом. На первой стадии субъект воспринимает цвета и объекты
как любой нормальный человек, ни он сам, ни другие не фиксируют
никаких отклонений в его восприятии. На второй стадии в
результате какого-нибудь события восприятие субъекта изменяется таким
образом, как это представил, например, Витгенштейн. Можно
представить, что эти изменения произошли в результате какого-нибудь
эксперимента, в котором субъект участвовал в качестве
добровольца. Например, этому человеку вживили особые линзы, изменяющие
восприятие цветов, или имплантировали микрочипы, изменяющие
функционирование оптических каналов, по которым информация
от глаза идет в мозг. Скажем, информация, которая шла по каналу,
ответственному за передачу информации о восприятии красного
цвета, передается в результате операции по каналу, отвечающему за
передачу сведений в мозг о другом цвете.
На третьей стадии после многих лет адаптации человек начинает
вести себя так же, как ведут себя остальные люди. Например, он так
же называет небо голубым и на просьбу передать красную книгу pea-
ДВ. Иванов • Функционализм и инверсия спектра
159
гирует соответствующим образом, передавая книгу
соответствующего цвета. Однако хотя внешне этот человек не отличается от других,
его квалитативный опыт остается инвертированным и, главное, он
помнит о том, каким образом он воспринимал цвета до операции.
Например, на вопрос, каким он видит цвет неба, субъект может
ответить: «Хотя я и говорю, что небо выглядит голубым, я его
воспринимаю сейчас так же, как я раньше воспринимал помидор». На
четвертой стадии в результате какого-нибудь события субъект переживает
амнезию и больше не помнит предшествующий операции опыт
восприятия цветов. Он не находит ничего странного в том, как он
воспринимает цвета, а внешне продолжает вести себя, как обычные
люди. Таким образом, по мысли Шумейкера, если мы способны
представить себе подобные трансформации субъекта, то это означает, что
мы представили ситуацию интерсубъективной инверсии спектра - на
последней стадии субъект функционирует подобно нормальным
людям, но его квалитативный опыт инвертирован, хотя об этом не знает
ни он, ни окружающие.
На четвертой стадии субъект воспринимает мир так же, как его
воспринимают обычные люди. Объясняя, каким образом это
возможно, Шумейкер предлагает различать интенциональное
содержание акта восприятия и квалитативное содержание. Субъект
воспринимает мир так же, как и другие люди, в том смысле, что он обладает
таким же интенциональным содержанием, при этом квалитативное
содержание его акта восприятия, или квалиа, отличается от квалиа
нормальных людей. Используя различение интенциональных
содержаний и квалиа, рассуждение Шумейкера можно представить
следующим образом. На первой стадии интенциональные содержания и
квалиа обсуждаемого субъекта такие же, как у обычных людей. На
второй стадии изменяются и интенциональные содержания и квалиа.
На третьей стадии интенциональные содержания опять оказываются
такими же, какими были раньше, но квалиа остаются
инвертированными. На четвертой стадии сохраняется та же ситуация, только
человек переживает амнезию.
В рассуждении, представленном подобным образом, сразу
обнаруживается изъян. Дело в том, что в нем существование квалиа -
ментальных состояний, отличных от функциональных, интенциональных
состояний, - допускается уже в начале рассуждения, тогда как целью
рассуждения является продемонстрировать существование подобных
неинтенциональных состояний. Возражая Шумейкеру, можно сказать,
что на второй стадии не происходит никаких изменений ментальной
жизни испытуемого помимо изменений интенциональных состояний.
160
Раздел 2. Философия психологии
Однако рассуждение Шумейкера можно улучшить, что
демонстрирует Блок1. Строя свое рассуждение, он старается избежать
ситуации, когда мы могли бы сказать, что на первой стадии испытуемый
видит красный помидор как красный, т.е. обладает квалитативным
состоянием красного, а на второй стадии он видит красное как
зеленое. Блок пытается представить первую и вторую стадии
трансформации таким образом, чтобы в них не указывалось на наличие
определенных квалитативных состояний. Все, что мы отмечаем, согласно
Блоку, на этих этапах, это то, что субъект заявляет, что теперь он
видит по-другому и в нем произошли какие-то психологические
изменения. Кроме того, в своем рассуждении Блок пытается соблюсти
принцип, который он обозначил как «принцип нормальности».
По мнению Блока, угрозу для функционализма представляет не
просто факт, что в ситуации интерсубъективной инверсии спектра
субъекты с различными квалитативными состояниями
поведенчески и функционально не отличаются друг от друга, а скорее тот факт,
что все они являются нормальными субъектами. Когда
Витгенштейн представляет ситуацию интрасубъективной инверсии
спектра, он отмечает, что поведение человека, квалитативный опыт
которого изменился, отклоняется от нормы, что может быть
зафиксировано. Эта ситуация не является опасной для объективистской
методологии. Действительную угрозу представляла бы ситуация,
когда подобная инверсия всегда имела бы место, т.е. когда поведение
людей с инвертированным спектром было бы нормальным.
Согласно Витгенштейну, такая ситуация невозможна, поскольку она
просто разрушила бы язык: «Мы говорили, что есть случаи, при которых
мы сказали бы, что человек видит зеленым то, что я вижу красным.
Теперь сам собой предполагается вопрос: если это вообще может
быть, почему бы этому не всегда иметь место? Кажется, что если мы
однажды допустили, что это может произойти при определенных
обстоятельствах, то это может случаться всегда. Но тогда ясно, что
утрачивает свое употребление сама идея видения красного, если мы
никогда не можем знать, видит ли другой нечто совершенно
иное»2. По мнению Блока, мы можем представить подобную
ситуацию без того, чтобы эта ситуация предполагала разрушение языка.
Каким образом это возможно?
1 Block N. Wittgenstein and Qualia // Philosophical Perspectives. 2007. Vol. 21, № 1.
P. 73-115.
2 Витгенштейн Л. Заметки к лекциям об «индивидуальном переживании» и
«чувственных данных». С. 104.
ДВ. Иванов • Функционализм и инверсия спектра
161
Если мы допустим, что предположение Витгенштейна верно
(«Выходит, можно было бы предположить, хотя это и нельзя
проверить, что одна часть человечества имеет одно ощущение красного,
другая же часть - другое»1), то как мы могли бы узнать, сравнивая
двух субъектов, кто из них видит красное как красное, а кто — как,
скажем, зеленое? Предположим, один субъект утверждает, что
именно он видит красное как красное, но ведь то же самое может
утверждать человек, представляющий другую группу людей. Если эти
субъекты нормальны в своих реакциях, то, очевидно, невозможно
установить, кто из них видит красное именно в качестве красного. В таком
случае мы должны признать, что оба субъекта являются
нормальными в своем восприятии красного. По сути эта ситуация предполагает,
что мы вообще не можем охарактеризовать квалитативный опыт этих
субъектов.
Подобные размышления подводят Блока к мысли, что квалиа,
если они существуют, являются чем-то невыразимым. Их вообще
невозможно зафиксировать с помощью каких-либо понятий,
например, используя обозначения цветов: квалиа красного, зеленого и т.д.
Блок соглашается с Витгенштейном в том, что квалиа оказываются
чем-то, подобным жуку в коробке, о котором писал философ.
Однако, по мнению Блока, это не означает, что такая ситуация
невозможна. Соответственно, допуская эту ситуацию, мы должны признать,
что если два человека, воспринимая определенные цвета в
нормальной ситуации, не отличаются в своих реакциях, то они представляют
собой примеры нормальных субъектов. Конечно, это не означает, что
их квалитативный опыт является идентичным. Соглашаясь с Шумей-
кером втом, что мы можем провести различие между интенциональ-
ными и квалитативными содержаниями акта восприятия, Блок
предлагает считать субъектов нормальными в их восприятиях, если в
тождественных условиях они обладают одинаковым интенциональным
содержанием. О квалиа же мы можем говорить, по мнению Блока, как
о способах видения объекта, или как о модусах представления
объекта, которые могут различаться у субъектов, нормально
воспринимающих, например, красный цвет.
Итак, история Блока о трансформации субъекта выглядит
следующим образом. На первой стадии молодой человек воспринимает
цвета каклюбой другой человек. В 18 лет необходимость зарабатывать
заставляет этого человека принять участие в эксперименте, в
результате которого его восприятие цветов изменяется. На первой и второй
' Витгенштейн Л. Философские исследования. С. 178.
162
Раздел 2. Философия психологии
стадиях рассуждения Блока ни о каких квалиа речь не идет. Все, что
мы здесь фиксируем, — это изменение восприятия в целом. К 50
годам этот субъект адаптируется к нормальной жизни и внешне уже
ничем не отличается от нормальных людей. Однако он помнит о
своем предшествующем опыте восприятия и может о нем рассказать
психологам, продолжающим следить за его судьбой. К 60 годам
субъект теряет воспоминания о своем прошлом опыте восприятия
цветов, и уже ни он, ни психологи, наблюдающие за его реакциями,
не могут сказать, как он воспринимает цвета. Если при этом его
реакции не отличаются от реакций других людей, то, согласно
принципу нормальности, мы должны сказать, что данный человек
воспринимает цвета как нормальный человек, т.е. красные объекты он
видит именно как красные.
Таким образом, и на первой стадии, и на четвертой наш субъект
является человеком, нормально воспринимающим цвета. Однако мы
знаем, что в его восприятии произошли изменения. Каким образом в
таком случае мы можем объяснить, что на четвертой стадии субъект
по-прежнему является нормальным? По мнению Блока,
единственный способ дать объяснение - это ввести на этой стадии понятие
квалиа как способов восприятия. Интенциональное содержание акта
восприятия у субъекта на четвертой стадии такое же, как у любого
другого человека, именно поэтому он является примером нормально
воспринимающего субъекта. Однако квалитативное содержание, или
квалиа этого субъекта, понятое как нечто невыразимое, о чем мы
можем говорить только как о способах восприятия, отличается от
квалитативных содержаний других людей, т.е. от способов восприятия
объектов другими людьми. Таким образом, квалиа появляются в
рассуждениях не в посылках, а лишь в заключительной части.
Анализируя аргумент Блока, нужно указать на следующие
неудовлетворительные моменты этого рассуждения. Прежде всего, если
квалиа являются чем-то невыразимым, то почему мы вообще должны
принимать тезис об их существовании? Блок пытается подкрепить
свои рассуждения ссылкой на вполне реальный феномен смещенных
квалиа. Как сообщает Хардин в книге «Цвет для философов»1,
группой ученых был проведен эксперимент, который выявил
неопределенность наших обычных обозначений цвета. Когда два разных
участника называют один и тот же объект зеленым, то вполне вероятно, что
один из них видит этот цвет как желтовато-зеленый, а другой как го-
1 Hardin CL. Color for Philosophers: Unweaving the Rainbow. Indianapolis :
Hackett, 1988. P. 79-80.
ДВ. Иванов • Функционализм и инверсия спектра
163
лубовато-зеленый. Такое различие в видении может зависеть от
строения глаза, возраста и других факторов. По мнению Блока, этот
эксперимент подтверждает его гипотезу о том, что помимо интенцио-
нального содержания, которое одинаково у испытуемых - все они
говорят о зеленом цвете одного и того же объекта, следует также
выделять квалитативное содержание, т.е. способы видения этого зеленого,
которые различаются у испытуемых.
Однако очевидно, что мы способны выявить и
концептуализировать то, каким образом испытуемые видят зеленый цвет. Сам по себе
этот эксперимент не демонстрирует того, что данные способы
видения зеленого не являются интенциональными состояниями. Они
вполне могут рассматриваться именно таким образом, т.е. как особые
уникальные формы репрезентации. Соответственно эти состояния
могут рассматриваться как функциональные состояния, т.е. этот
эксперимент не опровергает функционализм.
Более того, мы можем воспользоваться подобной
интерпретацией эксперимента для того, чтобы объяснить аргумент Блока, не
прибегая к понятию «квалиа». Например, мы могли бы сказать, что на
четвертой стадии испытуемый действительно репрезентирует цвета
таким же образом, как это делают нормальные люди. Однако такое
описание субъекта будет верным только относительно уровня
обыденного языка, на котором фиксируются лишь, так сказать,
поверхностные сходства и различия, связанные с поведенческими
реакциями людей. Если мы попытаемся провести более глубокий анализ
функционирования субъекта, покидая уровень обыденного языка и
переходя на научный уровень описания (скажем, на уровень
описания субъекта с точки зрения нейропсихологии, предполагающий
введение специальных методов, фиксирующих сходства и различия
субъектов, и специфического языка описания функционирования
испытуемого), то мы должны будем констатировать, что цветовые
репрезентации данного субъекта по-прежнему отличаются от того, что
мы могли бы назвать нормальными репрезентациями. Иначе говоря,
с точки зрения описания поведения субъекта, в том числе
вербального поведения, субъект обладает такими же интенциональными
состояниями, какими обладают нормальные люди. Однако с точки
зрения описания функционирования нейрофизиологических процессов
субъект обладает иными интенциональными состояниями.
Мне кажется естественным принять такую интерпретацию.
Представим себе практически слепого человека, который способен
различать лишь какие-то цветовые пятна. Очевидно, что такой
человек может, подобно нормальному человеку, говорить о цветных объ-
164
Раздел 2. Философия психологии
ектах, например, будучи в гостях, попросить друзей найти его куртку
желтого цвета и зонт синего цвета. Очевидно, что он употребляет эти
слова с теми же значениями, с какими их употребляют его друзья.
Именно поэтому они понимают, о каких вещах он говорит, и могут их
найти. Однако так же очевидно, что этот человек воспринимает
данные объекты совершенно иным образом, но это не значит, что его
квалитативные состояния не являются функциональными, т.е. что
мы должны представлять их как квалиа, а не как, скажем, интенцио-
нальные состояния, репрезентирующие определенным образом
положение дел.
Аргумент Блока можно использовать для критики
функционализма, если последний отождествляется с описанием внешнего,
социального поведения субъекта. Однако если мы выбираем иной
вариант функционализма, скажем, психофункционализм, т.е. теорию,
согласно которой функциональные состояния описываются на языке
специфических научных дисциплин, то следует признать, что
аргумент не достигает своей цели и не опровергает подобный вариант
функционализма.
Представленная интерпретация аргумента Блока, конечно, не
опровергает существование квалиа, но она демонстрирует, что из
аргумента не следует с необходимостью их существование. Но допустим
без доказательств, что Блок и Шумейкер правы и квалиа существуют.
Как мы могли бы убедиться, что речь в аргументе от интрасубъектив-
ной инверсии спектра действительно идет о квалиа, а не об интенцио-
нальных, репрезентативных состояниях? Заметим, что обращение
философов к интрасубъективному варианту инверсии спектра было
обусловлено тем, что верификация интерсубъективной инверсии
спектра невозможна. Однако возможно ли верифицировать из
перспективы первого лица тот факт, что субъект переживает именно
инверсию квалиа? Я полагаю, что на этот вопрос следует ответить
отрицательно.
Рассмотрим третью стадию трансформации субъекта. Какие у
испытуемого есть основания полагать, что на этом этапе вместе с реин-
версией интенциональных состояний не произошла также реинвер-
сия квалиа? Возможно, что уже на третьей стадии субъект не является
примером человека с инвертированными квалиа. На это оппоненты
могут ответить, что субъект, ссылаясь на свои воспоминания, может
по-прежнему констатировать, что квалитативное содержание его
актов восприятия отличается от того содержания, которым он обладал
до операции. Однако, как демонстрирует Д. Деннет, тот факт, что от-
ДВ. Иванов • функционализм и инверсия спектра
165
четы пациента зависят от памяти, делает невозможным верификацию
тезиса об инверсии квалиа даже из перспективы первого лица1.
Согласно Деннету, мы можем добиться отчетов пациента об
изменении квалитативного опыта двумя способами: осуществить
операцию, о которой пишет Блок, которая ex hypothesi влечет изменение
квалиа; осуществить операцию, которая инвертирует ваши
воспоминания о предшествующем опыте. Подобная операция не затрагивает
ваших квалиа, а изменяет когнитивные, интенциональные
состояния. После того как ваши воспоминания изменятся, вы также будете
удивляться тому, что небо сегодня странное, например красное.
Несмотря на то что вы по-прежнему видите небо как голубое, вы
ошибочно полагаете, что воспринимаете его как красное. Соответственно
можно также представить, что на третьей стадии эксперимента,
описываемого Блоком, субъект пережил реинверсию квалиа, но
инвертированными являются его воспоминания о предшествующем опыте,
которые субъект ошибочно принимает за свидетельство инверсии
квалиа.
Блок пытается возражать против подобного контраргумента,
указывая, что научные методы в принципе позволяют установить, была
или нет инверсия памяти. Однако, как мне кажется, суть возражения
Деннета заключается в том, что из перспективы первого лица вы не
можете установить, поменялось ли ваше интенциональное или
квалитативное содержание. А ведь именно на верификацию из
перспективы первого лица делали ставку те, кто пытался продемонстрировать
возможность инвертированного спектра. Кроме того, совсем не
обязательно задействовать именно память, чтобы показать
невозможность определить из перспективы первого лица тот факт, что
поменялся именно квалитативный опыт. Важно лишь показать, что наши
отчеты о квалитативном опыте могли бы быть результатами не только
изменений этого опыта, которые вызывают появление
соответствующих убеждений, но и возникновения у нас убеждения в том, что
изменение квалитативного опыта якобы имело место. Например, мы
можем представить, что на второй стадии эксперимента Блока в
результате операции у испытуемого изменились не квалиа, а убеждения, т.е.
интенциональные содержания акта восприятия, и он полагает, что
видит все инвертированным образом. Чтобы это представить,
достаточно вспомнить, например, случаи анозогнозии, когда слепой
человек полагает, что по-прежнему видит нормально, или случаи истери-
1 Dennett D. Quining Qualia // The Nature of Consciousness ; N. Block, O. Flanagan,
G. Guzuldere (eds). Cambridge : MIT Press, 1997. P. 619-642.
166
Раздел 2. Философия психологии
ческой слепоты, когда человек с неповрежденным зрением,
напротив, полагает, что ничего не видит. Во всех этих случаях можно
предположить, что квалитативный опыт субъектов не меняется, а
изменяются лишь их убеждения относительно своего опыта, однако
субъекты не способны это определить.
Таким образом, если квалиа являются чем-то невыразимым, что
не ухватывается никакими понятиями, что не является ни
когнитивным, ни функциональным, ни репрезентативным, то единственный
способ зафиксировать их присутствие - это отчеты из перспективы
первого лица об изменении квалитативного опыта. Иначе говоря,
кроме того, что они невыразимы, квалиа также должны быть
внутренними свойствами психического опыта, приватными и доступными
для прямого, непосредственного наблюдения из перспективы
первого лица. Однако, как демонстрируют приведенные выше
размышления, у субъекта нет непосредственного доступа к данным своего
сознания. Он вполне может ошибаться относительно того, что
происходит с его психическим опытом. Он не способен из перспективы
первого лица верифицировать наличие таких объектов, как квалиа.
Все это означает, что рассмотренные выше варианты аргумента
инвертированного спектра не способны продемонстрировать
существование таких ментальных свойств, которые избегали бы функциона-
листских объяснений и представляли угрозу для функционализма.
ДА. Леонтьев
Что дает психологии понятие субъекта:
субъектность как измерение личности
Понятие субъекта, относящееся к числу философских категорий
высокого уровня абстракции1, в последние годы стало одним из
наиболее актуальных в отечественной психологии, по сути встав в ряд ее
ключевых объяснительных понятий. Значимость этого понятия в
том, что оно подчеркивает, что человеческая жизнедеятельность,
во-первых, носит активный, а не реактивный характер, а во-вторых,
является порождением не столько частных механизмов, сколько
активности человека в целом2. При этом практически не рефлексирует-
ся различие (или не обосновывается тождество) философского
понятия субъекта и соответствующего психологического понятия.
Практика использования этого понятия в русскоязычной психологии
резко отличается от практики употребления соответствующих
понятий в европейских языках. Английское слово subject в
психологическом контексте часто означает «подвергающийся воздействию» (в
частности, испытуемый); бывают и другие варианты словоупотребления,
однако практически нигде этот рабочий термин не вводится в
качестве объяснительного понятия.
Вместе с тем в русскоязычных работах последнего времени
довольно часто можно встретить понятие «субъект» как
объяснительное, в одном ряду с другими понятиями, характеризующими
целостного человека, такими, как «личность», «индивид»,
«индивидуальность». Встречаются даже дискуссии в духе «или-или» - имеем ли мы
в данном случае дело с личностью или с субъектом? — которые
выглядят недоразумением для любого, кто знаком с основами логики.
Споры «субъект, индивид или личность» подобны спору о том, кто перед
нами - химик, диабетик, брюнет или доктор наук. Странное
впечатление вызывает также использование понятия «субъект» по
отношению к непосредственно присущим личности атрибутам, например
«субъект надежды» или «субъект тревоги» — это все равно что
говорить «субъект седины», «субъект IQ», «субъект потребности» или
«субъект гипертонии». Во всех этих случаях отсутствует зазор, дистан-
1 См., например: Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980.
2 См.: БрушлинскийА.В. Субъект: мышление, учение, воображение. Избранные
психологические труды. М. ; Воронеж, 1996.
168
Раздел 2. Философия психологии
ция, содержательное отношение между носителем и атрибутом, лишь
наличие которого может порождать отношение к атрибуту как к
объекту. Например, в той мере, в какой я не отделяю себя от собственной
тревоги или желания, я не могу быть субъектом этих процессов, но
если я осознаю возможность психологически дистанцироваться от
собственных мотивов и эмоций, разотождествиться с ними, я обретаю
возможность контроля над ними и становлюсь действительно
субъектом, но уже не тревоги как таковой, а субъектом отношения к
собственной тревоге. На важность личностного, субъектного отношения
даже к собственным побуждениям, их «принятия» или «персонализа-
ции», ощутимо их трансформирующим, сравнительно недавно
начали обращать внимание в психологии мотивации1.
В качестве задачи данной статьи мы рассматриваем, во-первых,
прояснение логических и философских оснований понятия
«субъект» и его соотношения с понятием «личность» — общепринятым и
одним из ключевых в сегодняшнем тезаурусе психологической
науки - и, во-вторых, обрисовку контуров подхода к решению проблемы
субъектности в современной психологии, которая представляется
нам гораздо более важной и корректно поставленной, чем проблема
субъекта.
Было бы ошибкой рассматривать эту проблему как
абстрактно-терминологическую. В.Е. Лепский2, в частности, говорит о бес-
субъектности как о главной болезни сегодняшней России, описывая
целый ряд ее симптомов, однако не формулируя ее сути. С этим
диагнозом можно согласиться; действительно, что, как не бессубъект-
ность, выражает крылатая формула нашей жизни «хотели как лучше,
а получилось как всегда»? В.Е. Лепский справедливо говорит о
необходимости повышения качества субъектности решений и о субъект-
но-ориентированном подходе к инновационному развитию.
Проблема, однако, осложняется тем, что болезнь эта,
по-видимому, носит не острый, а хронический характер. Об этом
свидетельствует анализ особенностей русского языка как наиболее
концентрированного выражения русского национального характера,
выполненный выдающимся лингвистом Анной Вежбицкой3. Вежбицкая
усматривает в русском языке четыре ярко выраженные особенности,
1 Фаизумаев A.A. Принятие мотива личностью // Психол. журнал. 1985. Т. 6,
№ 4. С. 87-96; Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М.,
2004.
2 Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному
развитию. М., 2009.
3 Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
ДА. Леонтьев • Что дает психологии понятие субъекта
169
отличающие его от других европейских языков: 1) эмоциональность,
выражающаяся, в частности, в языковом конструировании
эмоциональных состояний преимущественно как не зависящих от воли
субъекта и неконтролируемых, которым субъект часто склонен
«отдаваться» или «предаваться»; 2) иррациональность; 3) неагентивность -
«ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь, что
их способность контролировать жизненные события ограниченна;
склонность русского человека к фатализму, смирению и покорности;
недостаточная выделенность индивида как автономного агента, как
лица, стремящегося к своей цели и пытающегося ее достичь...»1; 4)
абсолютизация и категоричность моральных оценок. Эти
характеристики во многом взаимосвязаны, но в нашем контексте особый
интерес представляет третья из них - неагентивность, или бессубъект-
ность, проявляющаяся в беспрецедентном изобилии в русском языке
безличных языковых форм, выражающих отсутствие контроля
субъекта над происходящими событиями. Например, это относится к
выражению модальностей возможности или долженствования: «чтобы
дать адекватный перевод на русский таких английских предложений,
как I must, I have to, их следует сначала представить в пациентивной
перспективе, подчеркивающей тот факт, что лицо, о котором идет
речь, не контролирует ситуацию»2.
Повседневная русская речь просто пронизана бессубъектными
конструкциями наподобие «нельзя», «мне плохо», «никак не
выходит», «получилось как всегда», «ни проехать, ни пройти», «без
пол-литры не разберешься», «вам следовало бы», «так жить нельзя»,
«легко ли быть молодым», «хочется», «не спится», «есть мнение».
«Таинственные и непонятные события происходят вне нас совсем не по
той причине, что кто-то делает что-то, а события, происходящие
внутри нас, наступают отнюдь не потому, что мы этого хотим...
Богатство и разнообразие безличных конструкций в русском языке
показывают, что язык отражает и всячески поощряет преобладающую в
русской культурной традиции тенденцию рассматривать мир как
совокупность событий, не поддающихся ни человеческому контролю,
ни человеческому уразумению...»3 Перефразируя другого классика,
умом Россию не понять и действием не обустроить... Вывод о
глубоких социокультурных корнях сегодняшнего паралича субъектности
напрашивается сам собой. Хотя мы не склонны выводить из этого да-
1 Там же. С. 34.
2 Там же. С. 57.
3 Там же. С. 76.
170
Раздел 2. Философия психологии
леко идущих следствий, в свете сказанного выше проблема субъект-
ности действительно представляется отнюдь не абстрактной и более
чем серьезной.
Вернемся, однако, к рассмотрению того, как ставится проблема
субъекта в современной психологии.
Субъект — субстанция или функция?
В философии понятием «субъект» обозначается один из полюсов
субъект-объектного отношения, образующего основу деятельности,
сознания и познания1. Это слово требует логического дополнения
«субъект чего». Именно в этом ключе, не претендуя на
преобразование этого философского термина в конкретно-психологическое
понятие, использовали его А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Н.
Узнадзе2 и другие авторы. С.Л. Рубинштейн, использовавший это
понятие как обозначающее качество, функцию или роль, в которых
выступает человек в тех или иных актах познания или деятельности,
предостерегал от опасности «мистифицировать и
субстанциализировать функциональные понятия субъекта и объекта»3.
Субстанциональное (и мистифицированное) понимание
субъекта идет, по-видимому, от Б.Г. Ананьева, различавшего
характеристики человека как субъекта деятельности и характеристики человека
как личности, но при этом понимавшего и те и другие как устойчивые
системы характеристик: «субъект характеризуется совокупностью
деятельностей и мерой их продуктивности, а личность -
совокупностью общественных отношений... Субъект, таким образом, всегда
личность, а личность — субъект, но субъект не только личность, а
личность не только субъект, так как помимо различия самих
характеристик деятельности и отношений существуют еще различия в
принадлежности этих характеристик к более общим структурам»4.
Следствием такого расщепления человека на субъекта деятельности
и личность стало, в частности, расщепление деятельности и
общения в отношениях человека с миром на два независимых процесса;
в отличие от деятельности как субъект-объектного отношения об-
1 Лекторский В.А. Указ. соч.; Он же. Субъект// Новая философская
энциклопедия. В 4 т. Т. 3. М., 2001. С. 659-660.
2 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. М., 1977;
Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959; Узнадзе Д.Н. Общая
психология. М. ; СПб., 2004.
3 Рубинштейн С.Л. Указ. соч. С. 157.
4 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1968. С. 295.
ДА. Леонтьев • Что дает психологии понятие субъекта
171
щение понималось как субъект-субъектное1. При этом закономерен
вопрос, субъектами чего являются участники субъект-субъектного
отношения.
Безусловно, в диалогическом глубинном общении другой человек
не является объектом отношения, и отношения двух субъектов
симметричны и равноправны2. Однако из этих отношений не исчезает
объект; в частности, В. Франкл в статье «Критика чистого общения»3
убедительно показал, что диалогические отношения всегда
опосредованы неким общим смыслом. Неразрывность и взаимосвязь
субъект-объектных и субъект-субъектных отношений в человеческой
деятельности и общении были рассмотрены нами в специальной работе4.
Строго говоря, два человека как собеседники по глубинному диалогу
выступают по отношению друг к другу именно как личности, потому
что именно личности принадлежит «план содержания»5 -
внутренний мир, ценностно-смысловая сфера, без которого никакой диалог
невозможен. Рассматривать их отношение как отношение двух
субъектов возможно только в отношении к общему объекту (например,
субъект-субъектные отношения Маркса и Энгельса при написании
«Коммунистического манифеста» или Ильфа и Петрова при
создании «Двенадцати стульев»).
Таким образом, корректное использование понятия «субъект»
обязательно предполагает грамматическое дополнение «субъект
чего», ибо оно определяет позицию человека в определенном
отношении, в котором обязательно присутствует объект (при этом субъект
может быть и не один). Как «объект преобразования и исследования
выступает теми или иными сторонами лишь в той или иной структуре
деятельности и по-разному в разных структурах деятельности»6, так и
человек в качестве субъекта выступает не иначе как будучи
включенным в конкретную деятельность и в разных деятельностях будут
раскрываться разные стороны и свойства человека как субъекта. Функ-
1 Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.,
1984.
2 См.: Братченко С.Л., Леонтьев ДА. Диалог // Экзистенциальная традиция:
философия, психология, психотерапия. 2007. № 2 (11). С. 23-28.
3 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
4 Леонтьев ДА. Совместная деятельность, общение, взаимодействие // Вестн.
высш. школы. 1989. № U.C. 39-45; Он же. Психология смысла. М., 1999.
5 АсмоловА.Г. Психология личности. М., 1990.
6 Лекторский В А. Принцип предметной деятельности и марксистская теория
познания//Эргономика: труды ВНИИТЭ ; отв. ред. В.П. Зинченко. М. : ВНИИТЭ
ГКНТ СССР, 1976. Вып. 10. С. 60-67.
172
Раздел 2. Философия психологии
циональный термин «субъект» этим отличается от таких терминов,
как «индивид», «личность», «индивидуальность», и не может
мыслиться иначе как субъект деятельности или иного активного
отношения.
Субъект и/или личность?
К аналогичному выводу приходит и Ш.Н.Чхартишвили, стоящий
на позициях взглядов теории установки Д.Н. Узнадзе: «У
[психологического субъекта поведения] нет субстанциональной природы и,
являясь функциональным образованием, он выступает на том уровне
организации психофизических возможностей живого существа,
который обусловлен активизированной в индивиде потребностью и
который вместе с удовлетворением этой потребности возвращается к
своему исходному состоянию или уступает место другому субъекту
поведения...»1 Субъект поведения, подчеркивает Ш.Н. Чхартишви-
ли, - функциональная единица.
Однако в центре внимания Чхартишвили, как и других
представителей грузинской школы, находится проблема соотношения
понятий «субъект» и «личность». Логическая дилемма соотношения этих
двух понятий наиболее отчетливо была сформулирована Н.И. Сардж-
веладзе: «(А) Личность человека — это субъект деятельности.
Субъектом деятельности исчерпывается личность. Соответственно, изучив
деятельность, тем самым может быть изучена личность. (Б) Личность
не совпадает с субъектом деятельности. Субъектом деятельности не
исчерпывается личность. За множеством субъектов деятельности
стоит единая личность»2.
Психологические исследования дают нам по меньшей мере три
группы феноменов, в которых несовпадение личности и субъекта
деятельности отчетливо выступает уже на уровне конкретных исследований:
1. Изучение деятельности социальных групп и разработанные в связи с
этим представления о «коллективном» или «совокупном» субъекте
совместной групповой деятельности3.
1 Чхартишвили Ш.Н. Проблема личности в психологии установки //Д.Н.
Узнадзе - классик советской психологии: психологические исследования, поев.
100-летию со дня рождения Д.Н. Узнадзе. Тбилиси, 1986. С. 363-364.
2 Сарджвеладзе Н.И. Динамическая структура личности и социогенные
потребности // Проблемы формирования социогенных потребностей ; под ред.
Ш.Н. Чхартишвили, В.Л. Какабадзе, Н.И. Сарджвеладзе. Тбилиси, 1981. С. 192.
3 Лекторский В.А. Субъект, объект, познание; Андреева Г.М. К построению
теоретической схемы исследования социальной перцепции // Вопр. психол. 1977.
№ 2. С. 3—14; Леонтьев ДА. Психология смысла.
ДА. Леонтьев • Что дает психологии понятие субъекта
173
2. Феномены несовпадения эффекта личностного воздействия
(который интерпретируется как «вклад» данной личности в других) и
эффекта деятельности, направленной на другого1.
3. Представления о внутренней работе, направленной на себя активности
как преобразовании психологического мира человека2. Личность в ней
выступает одновременно и как субъект, и как объект деятельности,
перестраивая саму себя, однако именно в этом расщепленном отношении
феномен субъектности проявляется наиболее выпукло. «Субъектность
обнаруживает себя в главной способности человека: способности
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического
преобразования, что позволяет ему быть (становиться) действительным
субъектом (автором, хозяином, распорядителем) собственной жизни»3.
Ш.Н. Чхартишвили в упомянутой работе занимает по этому
вопросу весьма определенную позицию, также считая, что личность
несводима к субъекту поведения, а деятельность человека - к
активности такого субъекта. «В случае каждого акта поведения человек был
бы новым, сформировавшимся специально для этого случая
субъектом и не мог бы объединить в себе как в единой целостной структуре
настоящее, прошедшее и будущее, в результате всего этого он
психологически исчез бы в беспрерывном течении времени и не смог бы
подняться до положения личности. В разных актах поведения одного
и того же человека всегда выступает не один, а разные субъекты
поведения в вышеуказанном понимании - разные если не качественно,
то, по крайней мере, по происхождению. Что же касается личности,
то она при всех актах поведения, протекающих на личностном
уровне, остается самой собою в обоих отношениях - и качественно, и по
происхождению. Она... формируется в течение целых серий
поведений и обычно сохраняется на протяжении всей жизни человека как
неизменный субъект поведения»4. Таким образом, ключевым
отличием личности от субъекта выступает ее протяженность и связность
1 Петровский В.А. Личность в психологии. Ростов н/Д : Феникс, 1996;
Петровский A.B. Личность. Деятельность. Коллектив. М., 1982; Петровский A.B.,
Петровский В.А. Индивид и его потребность быть личностью // Вопросы философии.
1982. №3. С. 44-53.
2 См., например: Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984;
Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. М., 2009.
3 Слободчиков В. И. О соотношении категорий «субъект» и «личность» в
контексте психологической антропологии //Личность в парадигмах и метафорах: мен-
тальность-коммуникация-толерантность ; под ред. В.И. Кабрина. Томск, 2002.
С. 24.
4 Чхартишвили Ш.Н. Указ. соч. С. 365.
174
Раздел 2. Философия психологии
во времени; если субъект всегда в настоящем, то личность соединяет в
себе прошлое, настоящее и перспективу будущего. Именно поэтому
личность, согласно Чхартишвили, характеризуется ориентацией на
отдаленную во времени перспективную мотивацию, не связанную с
удовлетворением текущих, сиюминутных потребностей. «Человек,
вообще не прибегающий к далекой мотивации, не есть личность.
Акты поведения учения и труда, бесспорно, являющиеся актами
поведения личностной природы, всегда основаны на далекой мотивации и
всегда направлены на задачи будущей жизни»1.
Собственно из временной протяженности и связности поведений
Ш.Н. Чхартишвили и выводит определение личности: «Обширная
система основанных на одной мотивационной почве актов поведения
имеет одного неизменного субъекта и этот субъект есть личность»2.
Он говорит про общие системы актов поведения, реализация которых
продолжается в течение жизни человека, например такой, как
обеспечение благосостояния семьи. Одни конкретные действия сменяют
другие, но все это происходит в рамках одной общей мотивационной
системы личности.
Обобщает эту позицию, которая представляется нам единственно
обоснованной, Н.И. Сарджвеладзе: «Субъект деятельности в каждый
конкретный момент — преходящее явление; фактически сколько дея-
тельностей, столько и субъектов деятельности. Но за этим
преходящим субъектом стоит относительно устойчивое и перманентное
образование, именуемое личностью. Личность как относительно
устойчивая и перманентная система имеет множество своих преходящих
проявлений в виде субъекта деятельности»3. По сути такую же
трактовку предлагает и Ю.К. Стрелков: «Субъект - человек,
действующий с объектом в конкретных обстоятельствах». Понятие субъекта
является выражением психологического настоящего, в то время как
понятие личности выводит рассмотрение за рамки настоящего4.
Возвращение субъекта?
В современной российской психологии понятие субъекта вновь
выдвинулось в центр рассмотрения в субъектно-деятельностном
подходе, идущем от С.Л. Рубинштейна, во многом благодаря усилиям
1 Чхартишвили Ш.Н. Указ. соч. С. 366.
2 Там же. С. 368.
3 Сарджвеладзе Н.И. Указ. соч. С. 198-199.
4 Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология. М., 2001. С. 36.
ДА. Аеонтьев • Что дает психологии понятие субъекта
175
A.B. Брушлинского1 и его последователей2. К проблеме субъекта
обращаются и авторы, работающие в других традициях3. Этот подход
рассматривает субъекта как высшую системную целостность всех
качеств, состояний и свойств человека, которая формируется в ходе
исторического и индивидуального развития, где каждый человек
становится субъектом4. Конкретно становление человека как субъекта
связано с возрастом 7—10 лет, причем Брушлинский связывает это с
овладением простейшими понятиями и познанием устойчивых
глубинных свойств объектов5.
«Субъект — это прежде всего свободный человек»6. Быть
субъектом — значит быть «творцом своей истории: инициировать и
осуществлять изначально практическую деятельность, общение, познание,
созерцание и другие виды специфически человеческой активности -
творческой и нравственной»7.
«Гуманистическая трактовка человека как субъекта противостоит
пониманию его как пассивного существа, отвечающего на внешние
воздействия (стимулы) лишь системой реакций, являющегося
«винтиком» государственно-производственной машины, элементом
производительных сил, продуктом (т.е. только объектом) развития
общества» (там же).
Брушлинский считает субъектом каждую личность (там же. С. 13).
Последнее положение вступает в противоречие как с признанием
нераздельности и взаимной соотносительности субъекта и объекта (там
же. С. 5), так и с признанием субъекта творцом и свободным
человеком. Поскольку не каждого можно признать таковым, видимо,
каждая личность является субъектом лишь потенциально, в
возможности. В реальности же не каждая личность проявляет себя как субъект в
этом понимании.
Пожалуй, в наибольшей степени содержательно наполнить
понятие субъекта удалось прямым последователям Брушлинского.
1 Брушлинский A.B. Указ. соч.; Он же. Психология субъекта. СПб., 2003; и др.
2 Знаков В.В. Психология понимания: проблемы и перспективы. М., 2005; Сер-
гиенко Е.А. Раннее когнитивное развитие: Новый взгляд. М., 2006.
3 Мотков О.И. Субъект как оперативный блок личности // Д.А. Ошанин и
современная психология: к 100-летию со дня рождения Д.А. Ошанина ; под ред.
В.И. Панова, Н.Л. Мориной. М. ; Обнинск, 2008. С. 210-236; Петровский В.А.
Личность в психологии. Ростов н/Д, 1996; Он же. Логика «Я». М., 2008.
4 Брушлинский A.B. К проблеме субъекта в психологической науке. С. 13.
5 Брушлинский A.B. Психология субъекта. С. 21.
6 Там же. С. 18.
7 Брушлинский A.B. К проблеме субъекта в психологической науке. С. 5.
176
Раздел 2. Философия психологии
B. В. Знаков анализирует новизну подхода психологии субъекта в
широком историко-научном контексте, выделяя три основных аспекта
этой новизны1. Первый из них заключается в переходе от
микросемантического к макроаналитическому методу познания психического, что
связано с введением в картину познания целостного субъекта,
преломляющего в своем восприятии все частные аспекты ситуации. «Сегодня
ученым стало ясно, что любая ситуация включает воспринимающего,
понимающего и оценивающего ее человека. Иначе говоря,
взаимодействие субъекта с объектом фактически приводит к включению
познающего в познаваемое... Субъект не только пассивно фиксирует,
понимает природные и социальные ситуации, но и пытается активно
воздействовать на них» (там же. С. 85). Макроаналитический метод познания
предполагает, что «тщательный анализ отдельных сторон психики
субъекта (ощущений, состояний и т.п.) оказывается для исследователя
далеко не главной задачей. Его интересуют прежде всего такие
целостные фрагменты человеческого бытия, в которых представлены
процессы и результаты субъект-объектных и субъект-субъектных
взаимодействий» (там же). Второй аспект новизны касается расширения
представлений о содержании активности как фактора детерминации
психики, включая активность разных уровней, как сознательную, так и
бессознательную. Наконец, третий аспект новизны проявляется в
«целостном системном характере исследования динамического,
структурного и регулятивного планов анализа психологии субъекта» (там же.
C. 83) как системной области человеческого знания.
Другой последователь линии A.B. Брушлинского, Е.А. Сергиен-
ко, делает принципиально важный, на наш взгляд, шаг, смыкая
понятия субъекта и субъектности с другой традицией, ключевым понятием
которой выступает категория саморегуляции. «Субъект -
качественно определенный способ самоорганизации, саморегуляции
личности, способ согласования внешних и внутренних условий
осуществления деятельности во времени, центр координации всех
психических процессов, состояний, свойств, а также способностей,
возможностей и ограничений личности по отношению к
объективным и субъективным целям, притязаниям и задачам деятельности»2.
На связь этих традиций указывали также Брушлинский и Знаков, но
именно в работах Сергиенко эта идея получает содержательное
наполнение и эмпирическое обоснование, что позволяет ей построить
модель этапов и критериев становления субъекта в онтогенезе.
1 Знаков В.В. Указ. соч. С. 83-90.
2 Сергиенко Е.А. Указ. соч. С. 341.
ДА. Леонтьев • Что дает психологии понятие субъекта
177
Связь понятия субъекта с активностью, саморегуляцией и
организацией деятельности, возможностью влияния на ход ее протекания
подчеркивает и К.А. Абульханова-Славская. Поскольку, однако, в
той или иной степени активность и самоорганизация присущи всем
индивидам, К.А. Абульханова-Славская заключает, что субъектом
можно быть в неодинаковой степени. «Понятие субъекта имеет
дифференциальный смысл: оно дает возможность различать людей по
мере зависимости от них хода их жизни в целом и ее отдельных
ситуаций, по мере владения этими ситуациями, по дальности жизненных
перспектив и т.д.»1 Здесь мы видим уже окончательный разрыв с
классической философской традицией употребления понятия
«субъект», мотивировка которого не представляется нам полностью
убедительной.
В свою очередь с идеями Сергиенко и Абульхановой-Славской
сближаются общетеоретические взгляды В.А. Петровского,
который связывает понятие субъекта с самодетерминацией,
субъективной причинностью, causa sui. К числу атрибутов субъекта
относятся целеустремленность, рефлексия, свобода и
ответственность, развитие2.
От субъекта к субъектности
Можно согласиться с теми взглядами, которые связывают
понятие субъекта с определенными априори не гарантированными
функциональными способностями реально управлять ходом своей
деятельности, характеризующимися индивидуальным разбросом и
динамикой становления в онтогенезе. Действительно, далеко не
каждый из нас в каждый момент своей жизнедеятельности выступает
подлинным субъектом того, что он делает; действуя на основе
стимул-реактивного или другого безличного механизма, индивид не
осуществляет подлинное субъект-объектное отношение. Однако с той
же оговоркой: статус субъекта (или не-субъекта) не может
характеризовать действующего индивида вообще, вне конкретного
взаимодействия с миром. Только применительно к конкретной ситуации
деятельности, взаимодействия, познания, отношения, бытия-в-мире и
1 Абульханова К.А. Психология и сознание личности. Избранные
психологические труды. М. ; Воронеж, 1999. С. 11; Абульханова-Славская К.А. Проблема
определения субъекта в психологии // Субъект действия, взаимодействия, познания:
психологические, философские, социокультурные аспекты ; отв. ред. Э.В. Сайко.
М. ; Воронеж, 2001. С. 36-53.
2 Петровский В.А. Логика «Я». С. 19-20.
178
Раздел 2. Философия психологии
можно говорить о том, выступает ли в данном случае индивид как
полноценный субъект этого отношения или нет.
Именно в этом Р. Мэй видит фундаментальную дилемму человека.
Человек может переживать себя и как субъекта, и как пассивный
объект, переключаясь с одного состояния на другое. Оба являются
необходимыми в определенных ситуациях: мало пользы в том, чтобы
пытаться вырвать управление автомобилем или самолетом у водителя или
пилота, даже если он делает это хуже, чем следует. Другой пример Мэя:
если психотерапевт, работая с пациентом, будет стремиться занять по
отношению к нему позицию субъекта, то он не сможет услышать и
вникнуть в то, что тот говорит. Однако решая вопрос о
целесообразности госпитализации в пограничных случаях, тот же психотерапевт
неминуемо встает в позицию субъекта, принимая на себя
ответственность за серьезное решение. «Наше сознание есть процесс колебаний
между этими двумя полюсами... Этот процесс колебаний дает мне
возможность выбирать между ними и положить гирю на одну или другую
чашу весов. Мы можем занимать разную позицию в отношениях с
другим — скажем, с пациентом в психотерапии, — но в наших отношениях
с самим собой важен разрыв между двумя способами реагирования.
Моя свобода в подлинном смысле заключена не в моей способности
быть "чистым субъектом", но в моей способности испытывать и то и
другое, жить в диалектическом взаимодействии»1. «Застревание» и на
одном, и на другом полюсе, игнорирование свободы человека и
игнорирование его детерминированности, говорит Мэй, будет в равной
степени ошибочным. Важно и то и другое; более того, именно «в
диалектическом движении между этими двумя полюсами заключается
развитие, расширение и углубление человеческого сознания» (там же. С. 20).
Постановка проблемы у Мэя представляется чрезвычайно эвристич-
ной, даже несмотря на то что она ограничивается у него модусом
сознания и не выходит на следующий шаг — реальные возможности
управления собственной деятельностью.
Подлинной психологической проблемой, таким образом,
выступает не столько проблема субъекта, сколько проблема субъектности
как меняющейся во времени актуальной меры активного влияния на
внешние и внутренние процессы, включая также активное
воздержание от внешней активности (у-вэй). Мы склонны согласиться с
В.М. Розиным, считающим, что «категория "субъект" в настоящее
время должна пониматься, с одной стороны, как одна из категорий
постепенно уходящего в прошлое метафизического мышления, с
1 May R. Psychology and the Human Dilemma. Princeton, 1967. P. 9.
ДА. Леонтьев • Что дает психологии понятие субъекта
179
другой - как организованность сознания современной личности, с
третьей стороны, как натуралистическое представление,
нуждающееся в критике и распредмечивании»1. Даже с оговорками, что понятие
«субъект» выражает не субстанцию, а функцию, использование этого
слова непроизвольно навевает образ существа, к которому
прикреплено это название, которое было, есть и будет субъектом. Вопрос не в
том, как обрести некоторые психологические достоинства, которые
позволят индивиду носить гордое звание субъекта. Можно говорить,
что важно стать личностью или стать человеком, но язык противится
фразе «когда я вырасту, я хочу стать субъектом». Напротив,
применительно к конкретной ситуации «здесь и теперь» требование «быть
субъектом» (т.е. контролировать то, что происходит, и отвечать за то,
что делаешь, в том числе за самого себя) более уместно, чем
требование быть личностью.
Объяснительный потенциал функционального понятия «субъект-
ность» представляется гораздо более высоким. Это понятие уже
прописалось в русскоязычной психологической терминологии. В частности,
А.К. Осницкий характеризует этим понятием меру включенности в
деятельность и интенциональности субъекта, В.А. Петровский -
идеальную представленность в других, В.И. Слободчиков - меру
воздействия субъекта на самого себя, A.A. Лузаков предлагает говорить «о
процессах становления субъекта в личности, о разной мере
достигаемой субъектности в разных сферах и ситуациях жизнедеятельности»2.
Наиболее эвристичной представляется концепция А. К. Осницкого,
который, как и К.А. Абульханова-Славская, Е.А. Сергиенко, а также
И.Г. Скотникова3, тесно связывает это понятие с проблематикой
саморегуляции. Как сторона более целостного процесса субъектной
активности, субъектность «позволяет представить человека как автора и
сценариста своих действий с присущей ему целеустремленностью,
четкими ценностными ориентациями, направленностью на самосовер-
1 Розин В.М. Опыт методологического осмысления категории «субъект» //
Субъект действия, взаимодействия, познания: психологические, философские,
социокультурные аспекты ; отв. ред. Э.В. Сайко. М. ; Воронеж, 2001. С. 35.
2 См. : Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной активности //
Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 5-19; Он же. Структура и функции регулятор-
ного опыта в развитии субъектности человека // Субъект и личность в
психологии саморегуляции ; под ред. В.И. Моросановой. М. ; Ставрополь, 2007.
С. 233-255; Петровский В.А. Личность в психологии; Слободчиков В.И. Указ.
соч.; Лузаков A.A. Личность как субъект познания: категоризация при
восприятии другого человека. Краснодар, 2007. С. 31.
3 Скотникова И.Г. Субъектный подход в психофизике : автореф. дисс.... докт.
психол. наук. М, 2009.
180
Раздел 2. Философия психологии
шенствование и саморазвитие. Примечательно, что способность к
этому человек обретает, лишь накопив определенный опыт
взаимоотношений с окружающими и опыт использования собственных средств
саморегуляции»1. Очевидно, что понятие «субъектность» гораздо
лучше, чем понятие «субъект», подходит для обозначения
дифференциально-психологического аспекта способности управлять
собственными действиями: русский язык подсказывает нам, что больше или
меньше может быть именно субъектности, но не субъекта.
Альтернативы автономной субъектности
Дифференциальный аспект субъектности не сводится, однако, к
чисто количественной мере развития соответствующей интегральной
способности или функции в направлении ее максимально
полноценного развития. Лучше всего это позволяют увидеть дискуссии по этой
проблеме в зарубежной психологии, ведущиеся с 1970-х гг. Наиболее
точным аналогом понятия «субъектность» в англоязычной
психологической терминологии служит постепенно вошедшее в
психологический лексикон с 1980-х гг. понятие «agency». Речь идет о
способности индивида выступать «агентом» (субъектом), т.е. активно
действующим лицом, движущей силой действия. Одно из определений
agency, пользующееся признанием, определяет это явление как
«осуществленная возможность людей воздействовать на их мир, а не
только познавать его и приписывать ему личную или интерсубъективную
значимость. Эта способность представляет собой присущую людям
силу действовать целенаправленно и рефлексивно, находясь между
собой в более или менее сложных взаимоотношениях, корректируя и
переделывая мир, в котором они живут, в обстоятельствах, в которых
они могут считать желательными и возможными разные направления
действий, хотя не обязательно под одним и тем же углом зрения»2.
Одной из наиболее разработанных и признанных является теория
субъектности Р. Харре, в центре которой находится «модель
субъекта». «Наиболее общим требованием к любому существу, чтобы его
можно было считать субъектом, является то, чтобы оно обладало
определенной степенью автономии. Под этим я подразумеваю, что его
поведение (действия и акты) не полностью детерминировано
условиями его непосредственного окружения»3. Автономия, согласно
1 Осницкий А.К. Структура и функции регуляторного опыта в развитии
субъектности человека. С. 238.
2 Inden R. Imagining India. Oxford, 1990. P. 23.
3 Harre R. Social Being. Oxford, 1979. P. 246.
ДА. Леонтьев • Что дает психологии понятие субъекта
181
Харре, предполагает возможность дистанцирования как от
воздействий окружения, так и от тех принципов, на которых основывалось
поведение до настоящего момента. Полноправный субъект (agent)
способен переключаться с одних детерминант поведения на другие,
делать выбор между равно привлекательными альтернативами,
сопротивляться искушениям и отвлекающим факторам и менять
руководящие принципы поведения. «Человек является совершенным
субъектом по отношению к определенной категории действий, если и
тенденция действовать, и тенденция воздерживаться от действия в его
власти»1. Наиболее глубинным проявлением субъектности являются
два вида «самоинтервенции»: 1) внимание и контроль над
воздействиями (в том числе нашими собственными мотивами и чувствами,
которые обычно управляют нашими действиями, минуя
сознательный контроль), и 2) изменение своего образа жизни, своей
идентичности. Логически в качестве предпосылок субъектности
выделяются два условия: во-первых, способность репрезентировать
более широкий спектр возможных будущих, чем те, которые могут
быть реализованы, и, во-вторых, способность осуществить любое
выбранное их подмножество, а также прервать любое начатое
действие. Реальные люди различаются по степени их соответствия
этой идеальной модели, а также по способам порождения действия.
Таким образом, детерминация человеческих действий весьма
далека от простой линейной причинности. Р. Харре характеризует
систему регуляции человеческих действий в кибернетических понятиях
многоуровневости и многовершинности. «Это система, которая
может исследовать каждое причинное влияние на нее под углом зрения
его соответствия набору принципов, встроенному в более высокие
уровни системы. Если система многовершинна, высший уровень ее
тоже будет сложным, способным переключаться с одной подсистемы
этого уровня на другую. Такая система может иметь бесконечное
число уровней и на каждом из них — бесконечное число подсистем.
Подобная система способна осуществлять горизонтальные, сдвиги, т.е.
переключать управление нижележащими уровнями с одной
подсистемы на другую того же уровня. Она также способна к переключениям
на верхние уровни, т.е. к помещению горизонтальных сдвигов под
наблюдение и контроль критериальных систем высших уровней. Эта
система - бледная тень тех сложных сдвигов и переключений,
происходящих во внутренней активности реальных субъектов»2. Однако
1 Harre R. Personal Being. Oxford, 1983. P. 190.
2 Harre R. Social Being. P. 256.
182
Раздел 2. философия психологии
природа этих «критериальных систем высших уровней» остается в
теории Харре нераскрытой.
В современных исследованиях заметное место занимает анализ
моделей субъектности, формирующихся в различных культурных
контекстах. «Мы предполагаем, что наиболее известная и
представленная в психологических теориях модель субъектности, которую мы
назовем "модель разъединенной субъектности (disjoint agency)",
является не общей моделью мотивации, а моделью, стимулируемой и
поддерживаемой (afforded and promoted) преимущественно
смыслами и жизненными практиками, типичными для контекстов жизни
европейско-американского среднего класса»1. Эта форма
субъектности, в которой на первое место выступает личностная автономия,
конструируется как личная, локализованная в самом индивиде. Для
других культур, однако, более типична иная модель - «группа, а не
индивид, как правило, выступает источником действия» (там же.
Р. 15). Маркус и Китаяма называют ее моделью соединенной
субъектности (conjoint agency), в которой на первом плане оказывается
взаимозависимость индивидуальных субъектов. Становление
субъектности в онтогенезе основывается во многом на усвоении
соответствующих культурных моделей, которые существуют не только в головах
людей, но материализуются и объективируются в повседневных
культурных практиках. Под культурами при этом понимаются не только
этнонациональные образования; так, Маркус с соавторами,
исследовав конструирование идентичности на страницах американских
популярных журналов, обнаружили, что журналы, ориентированные на
читателей с высшим образованием, поддерживают и продвигают
модель разъединенной субъектности, а журналы, аудитория которых
имеет преимущественно среднее образование, больше акцентируют
внимание на образах и сюжетах, находящихся в русле соединенной
субъектности (там же. Р. 43).
Подытоживая свой анализ, Маркус и Китаяма подвергают
критике идею субъектности (agency) как универсального
антропологического свойства человека. Даже разъединенная субъектность,
предполагающая автономное следование своему индивидуальному пути, не
слушая никого, формируется через усвоение социокультурных
моделей и практик. Авторы делают, однако, принципиальную оговорку:
«Хотя любая субъектность конституируется социокультурно, социо-
1 Markus H.R., Kiîayama S. Models of Agency: Sociocultural Diversity in the
Construction of Action // Nebraska Symposium on Motivation. Vol. 49. Cross-Cultural
Differences in Perspectives on the Self. Lincoln (NB), 2003. P. 5.
ДА. Леонтьев • Что дает психологии понятие субъекта
183
культурное конституирование не тождественно социокультурной
детерминации: индивидуальность и чувство личной субъектности могут
реализовываться по-разному» (там же. Р. 45). Можно говорить,
например, как о навязываемом культурой (в частности, американской
культурой) индивидуализме, так и об автономно выбранном вопреки
культурному давлению коллективизме.
Вместо заключения: новая реконструкция
проблемы субъектности
Как видно из изложенного выше, именно психология
саморегуляции оказывается той областью, которая позволяет наиболее
адекватно раскрыть эвристический потенциал понятия субъектности.
«Саморегуляция - это не только согласование циклов
психофизиологических, психических процессов и состояний, но и оптимизация
возможностей, потенциалов индивида, личности, компенсация
индивидуальных недостатков в связи с задачами и событиями
деятельности. Саморегуляция — это преодоление объективных и
субъективных трудностей деятельности, она обеспечивает готовность субъекта
к неожиданностям. Она купирует временной дефицит, дефицит
информации, дефицит социальной организации деятельности.
Посредством саморегуляции субъект обеспечивает смысловое соответствие
своих действий событиям и задачам деятельности»1.
Проблема субъектности складывается, на наш взгляд, из целого
ряда конкретных проблем, причем все они относятся к области
психологии саморегуляции в широком смысле этого слова. В этом
смысле под саморегуляцией мы понимаем не специфический психический
процесс, изучаемый наряду с другими процессами, а общий принцип
организации отношений субъекта с миром, основанный на сличении
обратной связи с критериями желательного как механизме
коррекции его активности.
Первая из них — проблема самоопределения в ситуации,
принятия на себя риска неопределенности и ответственности за выбор и
целеполагание. Вторая - проблема реализации поставленных целей
посредством контроля над ходом деятельности. Третья — проблема
сохранения собственной целостности и направленности
жизнедеятельности в условиях давления неблагоприятных обстоятельств.
В последние годы эти проблемы получают последовательную
теоретическую и экспериментальную разработку в работах автора и его со-
Абульханова-Славская К.А. Указ. соч. С. 44.
184 Раздел 2. Философия психологии
трудников по проблеме личностного потенциала; в частности, они
легли в основу выделения трех функций саморегуляции и трех
подсистем личностного потенциала: потенциала самоопределения,
потенциала реализации и потенциала сохранения1.
«Но можем ли мы говорить о субъектности индивида, который
никак (пока) не проявляет свое активное отношение к самому себе?..
Быть субъектом означает стать творцом своей жизни, самому
создавать условия для своего развития, держать под контролем
собственные желания, преодолевать деформации собственной личности»2.
Тем самым в функциональную характеристику субъектности
необходимо включить еще одну проблему, относящуюся уже к высшим,
специфически человеческим уровням саморегуляции: проблему
активного отношения субъекта к самому себе как объекту своего
рефлексивного и деятельного отношения, которую М. Фуко (1998)
обозначил емким термином «культура себя». Эта проблема регулярно
ставится не только в общетеоретических философских и
психологических работах3, но и в контексте таких конкретных проблем, как,
например, проблема суицида4.
Как показывает проведенный анализ, проблема субъектности в
психологии действительно является весьма значимой, причем ее
значимость имеет тенденцию к возрастанию. Вместе с тем
содержательный анализ проблемы требует существенно более широкого и
многогранного контекста рассмотрения, чем тот, в котором мы привыкли
ее встречать в отечественных психологических текстах. Многие
психологические понятия заимствованы из философского лексикона,
однако обоснованность и ценность подобных заимствований, их
1 См.: Леонтьев ДА. Личностное в личности: личностный потенциал как
основа самодетерминации // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ ; под
общ. ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. М., 2002. Вып. 1. С. 56-65; Он же.
Личностный потенциал как потенциал саморегуляции // Ученые записки кафедры
общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова ; под ред. Б.С. Братуся, Е.Е.
Соколовой. М., 2006. Вып. 2. С. 85-105; Он же. Становление саморегуляции как основа
психологического развития: эволюционный аспект // Субъект и личность в
психологии саморегуляции ; под ред. В.И. Моросановой. М. ; Ставрополь, 2007.
С. 68-84; Опыт структурной диагностики личностного потенциала/Д.А.
Леонтьев [и др.] // Психологическая диагностика. 2007. № 1. С. 8-31.
2 Иванченко Г.В. Указ. соч. С. 44.
3 См., например: Каган М. С. Человеческая деятельность. М., 1974; Леонтьев ДА.
Совместная деятельность, общение, взаимодействие; Фуко М. Забота о себе. Киев ;
М., 1998; Слободчиков В. И. Указ. соч.; Иванченко Г.В. Указ. соч.
4 См. : Меннингер К. Война с самим собой. М., 2001; Леонтьев ДА.
Экзистенциальный смысл суицида: жизнь как выбор // Московский психотерапевтический
журнал. 2008. № 4. С. 58-82.
ДА. Леонтьев • Что дает психологии понятие субъекта
185
жизнеспособность прямо обусловлены сохранением живой связи
каждого такого понятия с изначальным философским контекстом.
Если эта связь обрывается, от понятия остается лишь слово,
выхолощенная терминологическая оболочка, лишенная внутреннего
содержания и отличающаяся от полнокровного понятия также, как чучело
от живой птицы. Именно это, как нам представляется, произошло с
понятием субъекта, использование которого в психологии во многом
пошло вразрез с философскими традициями. Реконструкция
контекста употребления понятия «субъект» в философии и теоретической
психологии приводит к выводу о корректности функциональной, но
не субстанциональной трактовки субъекта. К близким выводам
приводит и анализ соотношения понятий «субъект» и «личность»:
употребление понятия «субъект» предстает обоснованным лишь по
отношению к актуальному функциональному статусу индивида, не
фиксированному во времени.
Вместе с тем производное от него понятие субъектности
оказывается в психологии намного более эвристичным и полнокровным, чем
традиционное понятие субъекта. Анализ современных подходов
обнаруживает отчетливую тенденцию усиливающейся связи проблемы
субъектности с исследованиями процессов саморегуляции и
самодетерминации личности. Субъектность оказывается не только важной
дифференциально-психологической характеристикой и измерением
онтогенетического развития; это понятие позволяет перебросить
мостик к процессам социального конструирования сознания,
личности и поведенческих практик, а также открывает путь изучению места
рефлексивного самоотношения в жизнедеятельности человека и его
саморазвитии.
А.И. Швырков
Проблема искусственного интеллекта:
возможности методологического подхода
Последние несколько лет наблюдается значительное усиление
интереса к проблеме искусственного интеллекта (ИИ). Однако
прогрессу в данной области препятствует отсутствие четких
терминологических и смысловых разграничений — «дефект», оставшийся от тех
времен, когда соответствующее научное направление только
зарождалось. В настоящей статье я попытаюсь внести некоторую ясность в
этот вопрос. Возможно, благодаря этому какие-то из проблем
окажутся автоматически снятыми, а для решения других будет
подготовлена почва и намечены пути. В любом случае подобное рассмотрение
будет способствовать большей структуризации наших
представлений, касающихся ИИ, тем более что долгие годы исследования в
соответствующей области проводились стихийно (то же относится к
построению и разработке философских и конкретно-научных
концепций ИИ).
Я не пытаюсь строить никаких теорий ИИ и анализировать
смысловое содержание соответствующих понятий. Осуществленный
ниже анализ имеет преимущественно методологический характер.
Прежде всего это связано с тем, что подобный подход позволяет в
максимальной степени сохранить нейтральность, незаангажированность
по отношению к тем или иным философским или
конкретно-научным теориям. Благодаря этому ознакомление с построениями,
содержащимися в настоящей статье, будет полезно для людей самых
разных мировоззренческих ориентации и родов деятельности, а также
для тех, кто только начинает свое знакомство с проблемой ИИ.
Четвертое правило «Рассуждений о методе» Р. Декарта гласит, что
необходимо «составлять всегда перечни настолько полные и обзоры
настолько общие, чтобы была уверенность в отсутствии упущений»1.
Для данной статьи это правило будет определяющим.
В разных работах по проблеме ИИ сам термин «искусственный
интеллект» употребляется как минимум в трех основных значениях.
Во-первых, как название для некоторого научного направления,
которое объединяет большое число достаточно разнородных исследо-
1 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 272.
A.M. Швырков • Проблема ИИ: возможности методологического подхода 187
ваний1. Во-вторых, как совокупность так называемых
интеллектуальных систем и методов, которые используются для решения различных
задач. Когда говорят, например, о применении ИИ для
автоматизации решения задач той или иной области, то имеют в виду именно это
значение2. Особенно характерно такое отношение к ИИ на Западе3.
В-третьих, как некий целостный феномен, артефакт, который по
своим возможностям так или иначе соотносится с человеческим
интеллектом (но не обязательно аналогичен последнему). Интересно, что
термин «искусственный интеллект» чаще всего употребляется в
первом и втором значениях, причем даже в философских работах4.
Как следует понимать проблему ИИ? О том, какое содержание
вкладывает в это словосочетание тот или другой автор, как правило,
можно догадываться лишь из того контекста, в котором он его
употребляет. В соответствии же с настоящим контекстом проблему ИИ
можно понимать двояко. В первом случае проблема ИИ - не более
чем просто название, обозначение для некоторой совокупности
проблем, феноменов, артефактов. Какого-то специфического
содержания со словосочетанием «проблема ИИ» в этом случае не связывают.
Во втором случае проблему ИИ в наиболее общем виде можно
сформулировать так: возможен ли ИИ и если возможен, то как. В
дальнейшем, говоря о проблеме ИИ, мы будем иметь в виду именно эту ее
формулировку.
Необходимо отметить, что я отнюдь не исключаю возможности
того, что из контекста тех или иных работ можно извлечь другие фор-
1 См.: Байдык Т.Н. Нейронные сети и задачи искусственного интеллекта. Киев,
2001; Бенерджи Р.Б. Теория решения задач. Подход к созданию искусственного
интеллекта. М., 1972; Искусственный интеллект. В 3 кн. М., 1990. Кн. 1,2;
«Искусственный интеллект» и психология. М., 1976; ЛюгерДж.Ф. Искусственный
интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. М. ; СПб.; Киев, 2003;
Поспелов ДА. Моделирование рассуждений. М., 1989; Поспелов ДА., Пушкин В.Н.
Мышление и автоматы. М., 1972.
2 Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. 2001. №11;
Глазунов В А. Робототехника в постнеклассической науке // Вопросы философии.
2002. №11; Поспелов ГС. Возникновение и развитие методов искусственного
интеллекта // Вопросы кибернетики. 1980. Вып. 61; Поспелов ДА. Становление
информатики в России. - http://newasp.omskreg.ru /inteelect/OO.htm;
Искусственный интеллект: применение в интегрированных производственных системах. М.,
1991; Искусственный интеллект: применение в химии. М., 1988; Уинстон П.
Искусственный интеллект. М., 1980.
3 См.: Витол ЭА. Учение В.И. Вернадского о ноосфере и современность: новый
взгляд на планетарную эволюцию // Полигнозис. 2003. № 3.
4 См.: Войскунский А.Е. Указ. соч.; Глазунов В А. Указ. соч.; Поспелов ДА.
Фантазия или наука: на пути к искусственному интеллекту. М., 1982.
188
Раздел 2. Философия психологии
мулировки, однако они скорее всего будут сводиться к приведенной
выше. Говорить о той или иной конкретной формулировке проблемы
ИИ есть смысл лишь тогда, когда под ИИ понимается некоторый
целостный феномен, а не набор артефактов или научное направление.
Все исследования и разработки, которые так или иначе связывают
с ИИ, можно условно разделить на два класса.
О Исследования, проводимые тогда, когда понятие ИИ так или иначе
определено (во всяком случае у исследователей есть определенное
представление об этом И И), и направленные на поиск путей создания
такого ИИ. Теорема Маккаллока-Питса — пример результата
подобных исследований. В этой же связи можно вспомнить работы
Н.М. Амосова1. Этому классу, очевидно, отвечает третье значение
термина ИИ.
О Исследования и разработки, которые возникли из каких-то
практических нужд и сначала с ИИ особо не связывались. Во всяком случае
создание ИИ (как целостного феномена, артефакта, т.е. ИИ в третьем
значении) отнюдь не было (да, наверное, и теперь не является) целью
этих исследований, по крайней мере ближайшей практической целью.
Как ни парадоксально, но именно этот класс исследований является
наиболее представительным. В первую очередь к нему принадлежат
исследования, связанные с созданием экспертных систем, роботи-
кой, автоматическим доказательством теорем, распознаванием
образов и т.п.2 Этому классу отвечают второе и третье значения
термина ИИ.
Объединение всех этих разнородных исследований под лозунгом
создания ИИ довольно условно и, вероятно, именно поэтому сам
термин «искусственный интеллект» употребляется сравнительно редко.
В книге Б. Гейтса3, посвященной использованию информационных
технологий в разных сферах экономики, образования, производства
и т.п., он встречается лишь 1 раз. Вообще, как кажется, разработчики
интеллектуальных систем этот термин неоченьлюбят. Их отношение
хорошо иллюстрируется таким высказыванием известного
специалиста в области ИИ Дж. Макаллистера: «Дискуссии о том, что можно
1 См.: Амосов Н.М. Моделирование мышления и психики. Киев, 1965; Он же.
Искусственный разум. Киев, 1969; О« лее. Алгоритмы разума. Киев, 1979.
2 См.: Бойко Д.Н. Исследование бессознательного для построения систем
искусственного интеллекта. - //http://piramyd.express.ru/disput/raznoe/ issled_
bessoz.htm; Миклошко И. Искусственный интеллект, параллельные ЭВМ и
параллельные вычисления // Будущее искусственного интеллекта. М. : Наука, 1991.
С. 244-269.
3 См.: Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. М. : Эксмо, 2002.
А.И. Швырков • Проблема ИИ: возможности методологического подхода 189
считать искусственным интеллектом, а что — нет, напоминают спор
средневековых философов, которых интересовало, сколько ангелов
разместится на кончике иглы»1. Намного чаще термин «ИИ»
встречается в различных сопутствующих исследованиях (в том числе
философских), а также предисловиях, основная цель которых - включить
описание тех или иных исследований и разработок в некоторый
контекст. Исследования третьего типа, как уже отмечалось, вообще имеют
свои собственные практические цели, относительно которых создание
ИИ — цельлишь привнесенная, внешняя, второстепенная. Более того,
даже если бы термин «ИИ» никогда не появился, эти исследования все
равно бы проводились. Мы имеем здесь несколько самостоятельных,
замкнутых направлений, которые отнюдь не стремятся к слиянию.
Что касается исследований первого типа, то здесь, очевидно,
понятие ИИ ставится во главу угла.
Правильнее было бы рассматривать все эти исследования
(разделенные на два класса) как моменты одного процесса, моменты
взаимозависимые, взаимопереплетенные, которые в действительности
лишь с большим трудом можно отделить друг от друга.
Выше мы приняли как рабочую такую формулировку проблемы
ИИ: возможен ли ИИ и если возможен, то как. Однако, сохраняя одну
и ту же форму, проблема ИИ может иметь совершенно разный смысл
(содержание). Рассмотрим это подробнее.
Понятие ИИ в значительной мере является производным
относительно понятия интеллекта: то, что мы будем считать ИИ, во многом
зависит от того, что мы будем считать интеллектом. Однако только
этим отношение между понятиями интеллекта и ИИ не
исчерпывается, и вот почему. Интеллект суть нечто реально существующее, что-то
такое, на деятельность и результаты деятельности чего мы можем
указать. Что же касается ИИ, то он в значительной мере зависит от нас,
нашей воли. И И не существует в природе, он — нечто такое, что лишь
может быть, он — наше возможное или действительное творение, и
именно от нас зависит, какое содержание вложить в понятие о нем.
Вследствие этого при определении понятия ИИ с нашей стороны
допустим определенный произвол. Можно достаточно произвольно
ограничить понятие интеллекта и строить понятие ИИ исходя уже из
этого ограниченного понятия. В качестве примера подобного ИИ
приведем такой, который, владея всей мощью естественного
интеллекта, не лишен свободы воли, самосознания и т.п.
1 Макаллистер Дж. Искусственный интеллект и Пролог на микроЭВМ. М. :
Машиностроение, 1990. С. 11.
190
Раздел 2. Философия психологии
Можно также дать определение понятия ИИ исходя из того или
иного момента, свойства, качества интеллекта, предварительно
выделенного и обособленного в нашем представлении об интеллекте. Наш
произвол здесь, очевидно, состоит в выборе именно этого свойства
интеллекта. Согласно подобному подходу, мы, например, можем
назвать И И любую систему, которая будет сравнительно успешно
перерабатывать ту или другую информацию, сможет довольно
эффективно функционировать в соответствии с теми целями, которые мы в нее
вложим, причем, называя эти системы ИИ, мы будем в своем праве,
ведь ИИ - наше творение.
Выделяя и таким образом в определенной степени абсолютизируя
то или иное качество интеллекта, мы начинаем рассматривать и
интеллект, и искусственный интеллект как некие частные случаи этого
качества, как бы ставим их на одну доску. Например, Н.М. Амосов в одной
из своих книг определяет интеллект как «совокупность средств и
способов управления сложными системами путем оперирования с их
моделями»1. В этом определении ничего не говорится о тех средствах,
способах, с помощью которых осуществляется управление, т.е. и
человеческий, и искусственный интеллект с точки зрения этого
определения рассматриваются в определенном смысле как равноправные.
Приблизительно то же самое вытекает из цитаты, взятой из другой работы:
«Любое техническое устройство... можно считать разумным, если оно
способно выделять, перерабатывать и выдавать информацию»2.
Однако соотношение между понятиями интеллекта и ИИ может
быть еще более сложным и неоднозначным. Понятие ИИ может
выступать и в качестве зависимого от понятия интеллекта. Скажем
больше. Не так уж редки случаи, когда само понятие интеллекта
оказывается в определенном смысле следующим за понятием ИИ,
вторичным по отношению к нему. Как пишет Г.И. Рузавин, «во многих
исследованиях по роботике деятельность интеллекта... в сущности
сводится к тому, что могут делать компьютеры»3. Здесь уместно
вспомнить высказывание К. Маркса о том, что для каждой эпохи
«граница сознания отвечает определенной степени развития
материальных продуктивных сил»4. Возможно, это положение и не следует
абсолютизировать, однако определенный смысл в нем есть.
1 Амосов Н.М. Алгоритмы разума. Киев : Наукова думка, 1979. СП.
2 Амосов Н.М. Искусственный разум. Киев : Наукова думка, 1969. С. 122.
3 Рузавин Г.И. Человек и робот (о некоторых философских и социальных
проблемах роботизации) // Вопросы философии. 1987. № 2. С. 73.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М. : Политиздат, 1969. Т. 46. С. 33.
AM. Швырков • Проблема ИИ: возможности методологического подхода 191
Понятие естественного интеллекта может ограничиваться таким
образом, чтобы некоторые уже существующие (или такие, которые
только разрабатываются) искусственные системы могли быть
названы интеллектом искусственным. Понятие ИИ также часто строится
исходя из анализа уже существующих систем или же с учетом тех
инструментальных средств и элементной базы, которая существует в
данное время1.
Учитывая сказанное выше, будет более правильно говорить не
столько о зависимости понятия И И от понятия интеллекта, сколько о
корреляции между этими понятиями. Вообще сказанное в
нескольких предыдущих абзацах можно резюмировать так: хотя именно мы
определяем то, что следует считать ИИ, содержание этого понятия в
немалой степени задается теми искусственными системами, которые
или уже существуют, или есть в проекте. При этом я отнюдь не
утверждаю, будто бы в реальности всегда можно четко выделить тот или иной
из описанных случаев. На самом деле все намного сложнее. Вероятно,
правильнее рассматривать эти случаи как элементы,
конституирующие реальную ситуацию конструирования понятий интеллекта или
ИИ. Кроме того, следует учитывать, что многие из перечисленных
схем построения понятия ИИ, как правило, реализуются
бессознательно.
Полученные тем или иным из перечисленных выше способов
понятия ИИ условно могут быть названы практическими, или
неабсолютными, поскольку большинство из них строится в зависимости от
каких-то практических целей, наших современных представлений,
современного уровня. Формулировка проблемы ИИ, когда
последний понимается в практическом (неабсолютном) смысле, также
может быть названа практической (неабсолютной).
Наш произвол может проявляться и в том, чтобы определить ИИ
как некоторый полный аналог естественного интеллекта. Другими
словами, мы можем рассматривать понятие ИИ как целиком
зависимое и обусловленное понятиям интеллекта. В этом случаебудем
говорить об идеальном, или абсолютном, определении ИИ и
соответственно об идеальной, или абсолютной, формулировке проблемы ИИ.
Довольно часто в разных работах, касающихся проблемы ИИ,
особенно работах сопутствующих (в том числе и философских),
практическое и идеальное понимания проблемы ИИ четко не
разделяются, или, лучше сказать, их различие четко не констатируется (и, по
1 См.: Тихомиров O.K. Информатика и новые проблемы психологической
науки // Вопросы философии. 1986. № 7.
192
Раздел 2. Философия психологии
всей вероятности, не осознается) авторами. В большинстве таких
работ проблема ИИ рассматривается в идеальном смысле, тогда как в
прикладных работах — в смысле практическом. Однако
неразмежевание этих значений чревато недоразумениями, особенно когда те или
иные результаты, полученные на основании практического
понимания ИИ, стараются анализировать, а тем более критически оценивать
с точки зрения понимания идеального. Нередко случается также, что
то или иное практическое понимание проблемы ИИ в процессе
проведения исследований без достаточных на то оснований возводится в
ранг идеального. Однако между практическим и идеальным
пониманиями ИИ существуют принципиальные различия, существует
разрыв, преодолеть который в настоящее время, да и в ближайшем
будущем, едва ли удастся.
Вот наиболее важные из этих различий.
1. При практическом понимании проблемы ИИ можно и нужно говорить
скорее о корреляции между понятиями интеллекта и ИИ, чем о
безусловной зависимости второго от первого; понятие ИИ здесь в
значительной степени самостоятельно относительно понятия интеллекта. Более
того, оно может строиться исходя из анализа не столько интеллекта,
сколько тех систем, которые уже сейчас выполняют часть его работы.
Чем можно объяснить подобный парадокс? Вероятно, тем, что на
сегодня создан настолько значительный массив систем, в той или
иной мере берущих на себя работу интеллекта, что он (массив) стал
уже чем-то самодовлеющим, в определенной степени независимым
от человека. Не следует также упускать из виду и тот факт, что мы
довольно мало знаем о собственном интеллекте. Наше понятие о нем
весьма расплывчато.
Что касается идеального понимания проблемы ИИ, то здесь
довлеет именно понятие интеллекта. Понятие И И здесь строится
исключительно на основе того или иного понимания интеллекта.
2. Идеальное понимание проблемы ИИ более гуманистично, в
значительно большей мере ориентировано на человека, поскольку его
интеллект рассматривается как образец для ИИ. При практическом
понимании проблемы центр тяжести смещен в сторону техногенных
артефактов.
3. Несмотря на то что центр тяжести при практическом понимании
смещен с понятия интеллекта на понятие ИИ, определению последнего
не придается такого уж большого значения. При тех или иных
практических исследованиях создание ИИ не является их основной целью;
введение же этого понятия, обращение к нему в процессе таких
исследований является в значительной степени результатом рефлексии
AM. Швырков • Проблема ИИ: возможности методологического подхода 193
над теми артефактами, которые уже существуют. Практические
определения ИИ здесь не более чем рабочие, временные определения.
Как правило, они не долговечны и от них быстро отказываются. В
случае идеального понимания искусственный интеллект - основная,
идеальная цель.
4. Практическое понимание проблемы ИИ обычно идет от
современного уровня. Идеальное понимание ориентировано на неопределенное
будущее. Относительно ИИ, понимаемого в практическом смысле,
можно уже сейчас сказать, что он существует. Относительно
идеального ИИ подобное утверждение было бы, мягко говоря,
преждевременным. Вообще все практические определения ИИ так или иначе
приближаются к идеальному, но не эквивалентны ему даже в
совокупности.
5. При практическом понимании проблемы ИИ большое значение
имеет простая договоренность (например, касающаяся того, что считать
ИИ). Идеальное понимание предъявляет больше требований к
объективной значимости тех или иных положений.
Говоря о практических формулировках, я отнюдь не стремлюсь
давать какие-то оценочные суждения, не стараюсь судить о том,
правильны они или нет, имеют право на существование или не имеют.
Речьидетлишьотом, что они есть и что их следует отличать от
формулировки идеальной.
Может возникнуть вопрос об отношении идеальной
формулировки проблемы ИИ к практической: не является ли идеальное
понимание основным и не выступают ли различные практические
формулировки проблемы ИИ лишь как некоторые несовершенные суррогаты,
модусы идеальной формулировки? Не является ли та или иная
практическая формулировка просто следствием ограниченности наших
возможностей, т.е. просто каким-то компромиссным вариантом?
Наконец, действительно ли та или иная практическая формулировка
является самоценной и независимой относительно идеальной, как
можно было бы предположить исходя из проведенного выше анализа.
Вероятно, следует признать, что почти в каждом случае, когда
приводят ту или иную практическую формулировку, формулировка
идеальная всегда присутствует где-то на заднем плане, имеется в виду.
Тем не менее с формальной, логической точки зрения мы должны и за
практическими формулировками признать право на существование и
самостоятельное значение. Они, таким образом, имеют логическую
возможность существования.
Многие исследователи считают, что единой теории ИИ не
существует. Как отмечают В. Г. Пушкин и А.Д. Урсул, вместо «единой тео-
194
Раздел 2. Философия психологии
рии ИИ существует ряд теоретических дисциплин, которые должны
изучаться теми, кто выбрал ИИ своей специальностью»1. Каковы же
причины, по которым такая теория до сих пор не создана (или, по
крайней мере, не создается)?
Прежде чем говорить о том, способны ли мы создать общую
теорию ИИ, необходимо определиться с тем, что следует понимать под
такой теорией.
Теории можно разделить на два вида. К первому принадлежат
такие, которые призваны объяснить некоторую совокупность фактов.
Ученых и философов, которые создают их, не особенно интересует их
практическое применение. Такие теории, как правило, имеют свой
вполне определенный, реально существующий предмет, доступный
восприятию (возможно, с помощью приборов) или хотя бы
воображению. В качестве примера подобных теорий можно назвать
математические, физические, биологические, вообще естественно-научные
теории. Ученых и философов, которые создают теории первого вида,
интересует истина сама по себе.
Ко второму виду принадлежат теории, которые условно могут
быть названы практически-ориентированными, или целеориентиро-
ванными. Как следует из названия, они создаются под конкретную
цель, результат. Те или иные принципы, составляющие их, как
правило, имеют подчиненный, вспомогательный характер: если бы
данную цель можно было достичь каким-нибудь другим путем, такие
теории скорее всего просто не возникли бы. Часто подобные теории
могут быть модификациями уже существующих теорий или их
объединением.
Для целеориентированных теорий чрезвычайно важным является
образ цели, результата, поскольку именно этот образ определяет
отбор компонентов будущей теории. Чем более он четок, детален, тем
меньше в соответствующей теории лишних элементов, тем
адекватнее методы достижения цели. Следует отметить, что целью может
быть и какой-либо материальный продукт, и какое-либо желательное
состояние.
Таким образом, основные компоненты целеориентированных
теорий следующие: образ цели, теоретические положения, которые
объясняют некоторый набор фактов, связываемых с целью,
практические методы, основанные на этих положениях и призванные
обеспечить достижение цели. Удачный пример целеориентированных
1 Пушкин В.Г., Урсул А.Д. Информатика, кибернетика, интеллект:
философские очерки. Кишинев : Штиинца, 1989. С. 130.
А.И. Швырков' Проблема ИИ: возможности методологического подхода 195
теорий дают психологические теории. В первую очередь следует
вспомнить психоанализ 3. Фрейда и аналитическую психологию
К.Г. Юнга. Как недвусмысленно указывают их творцы, эти теории
возникли как обобщение эмпирических данных, полученных в ходе
лечения невротических больных. На примере этих теорий хорошо
видны все упомянутые в предыдущих абзацах компоненты.
Действительно, их общая цель — определенное психическое состояние,
которое условно может быть названо состоянием психического здоровья
или нормальности. Теоретическая база - система положений,
которые толкуют психологические феномены, картина психики. Метод
достижения цели — основанная на соответствующих теоретических
положениях психоаналитическая процедура.
В качестве целеориентированных теорий можно рассматривать
также педагогические теории.
К какому из двух видов теорий мы должны отнести теорию ИИ?
Очевидно, ко второму, поскольку главная цель подобной теории -
это не познание какой-либо абстрактной истины, а создание
конкретного «продукта». Однако что же это за продукт?
Ответ на этот вопрос зависит от того, какое содержание мы
вкладываем в понятие ИИ. Как ИИ мы можем рассматривать и некие
системы, которые в той или иной мере берут на себя работу интеллекта, и
некий целостный феномен. В первом случае теория ИИ будет чем-то
наподобие теории машин и механизмов. Создание такой теории
вполне возможно. Более того, можно считать, что она уже существует
или появится в ближайшем будущем.
В случае, когда под ИИ понимается некоторый целостный
феномен, дела обстоят сложнее. Какое конкретно содержание следует
вкладывать в понятие «целостный феномен», совершенно не
понятно, т.е. не понятно, какова конкретная цель исследований. Другими
словами, отсутствует сколько-нибудь ясный образ цели. А если так, то
нет критерия, который позволяет оценить соответствующие методы и
подходы, нет руководящего правила для их генерации.
Можно было бы предположить, что по мере развития наших
представлений эта цель будет конкретизироваться, наше представление о
ней станет более ясным и выразительным. Однако предмет
рассмотрения настолько сложен, что всерьез говорить о том, что это станет
реальным в ближайшем будущем, вряд ли возможно. Все образы ИИ,
которые когда-либо рассматривались как вполне приемлемые, в
настоящее время такими не считаются. Соответственно и те методы,
которые сначала рассматривались как такие, которые при своем
планомерном и последовательном применении в будущем могли бы
196
Раздел 2. философия психологии
привести к созданию полноценного ИИ, по мере развития наших
представлений довольно быстро переставали таковыми казаться и из
разряда общих переходили в разряд частных.
По сравнению с упомянутыми выше психологическими
теориями в случае теории ИИ существуют и другие сложности. Например,
если в психоанализе и других подобных теориях конечное
желательное состояние пациента является чем-то таким, что можно наблюдать
в реальности (т.е. состояние психически здорового человека), да и сам
объект влияния всегда есть в наличии, то в случае с ИИ ничего
подобного нет. И И — это нечто такое, что лишь может быть.
Итак, мы рассмотрели причины, по которым в настоящее время
невозможно создать общую теорию ИИ. Рассмотрим теперь, как
обстоит дело с проблемой ИИ, а точнее, с созданием общего подхода к
ее решению. Очевидно, что создание общей теории ИИ и разработка
общего подхода к решению проблемы ИИ не одно и то же.
Действительно, говорить о какой-либо единой теории ИИ можно лишь в том
случае, когда ИИ признается в принципе возможным. В случае же,
когда мы говорим о проблеме ИИ, имеется в виду, что этот последний
может и не существовать, во всяком случае его возможность должна
быть доказана.
Итак, предположим, что мы все-таки захотели выработать
вариант общего подхода к решению проблемы ИИ. С какими трудностями
мы бы столкнулись? Большинство из них неоднократно
рассматривались, поэтому укажу лишь основные.
Во-первых, мы бы столкнулись с большим количеством «белых
пятен», «лакун» в наших знаниях об интеллекте, психике, мозге,
принципах их функционирования и организации, причем, как
правило, эти «лакуны» настолько велики, что каким-либо образом их
обойти или просто игнорировать невозможно1.
Во-вторых, серьезные проблемы возникли бы вследствие
необходимости того или иного однозначного ответа на основные вопросы
нашего мировоззрения, к которым непосредственно приводит
проблема ИИ. Условно эти трудности могут быть названы
философскими. Если, например, в физике философские проблемы нужно
выискивать, то в случае проблемы ИИ мы сталкиваемся с ними
практически сразу же, как только начинаем ею заниматься. Материя и
сознание, дискретное и непрерывное - эти проблемы сразу же
предстают перед нами во всей своей непосредственности, конкретности и
1 См.: Симонов П.В. Мозг и творчество // Вопросы философии. 1992. №11.
С. 147-162.
А.И. Швырков • Проблема ИИ: возможности методологического подхода 197
философской напряженности. Причем для того чтобы их увидеть,
совсем не обязательно быть философом. Кроме того, именно на основе
правильного понимания проблем второго типа возможно правильно
понять, в чем заключаются и откуда следуют ограниченность и
недостаточность методов, которые когда-либо рассматривались как
методы создания ИИ.
Перечислим основные итоги проведенного анализа.
1. На сегодня термин «ИИ» употребляется в трех основных значениях:
О как название для некоторого научного направления, которое
объединяет большое количество достаточно разнородных исследований;
О как совокупность так называемых интеллектуальных систем и
методов, используемых для решения различных задач;
О как некий целостный феномен, артефакт, который по своим
возможностям так или иначе может быть соотнесен с человеческим
интеллектом (но не обязательно аналогичный последнему).
2. Проблему ИИ можно сформулировать так: возможен ли ИИ и если
возможен, то как?
3. В зависимости от того, рассматривается ли ИИ как некий полный
аналог человеческого интеллекта или же как-то иначе (например,
понятие ИИ может строиться на основе предварительно ограниченного
понятия интеллекта или же исходя из анализа возможностей и
принципов функционирования имеющихся технических средств),
проблема ИИ может иметь или идеальное, или практическое
содержание.
И.Ф. Михайлов
«Искусственный интеллект» как аргумент
в споре о сознании
Ifyouhadnoname Who would you be then?
If you had no history This is what he asked
If you had no books And I said I wasn't really sure
If you had no family But I would probably be
I f it were only you Cold...
Naked on the grass Suzanne Vega. Freezing
Философская рефлексия темы искусственного интеллекта (ИИ)
призвана помочь самой философии разобраться с некоторыми
закоснелыми предрассудками на своей собственной территории. В то
же время, проведя такое «антивирусное сканирование»
собственного теоретического корпуса, мы косвенно поможем конкретной
науке тем, что убережем ее теории от заражения мнимыми
сущностями.
Ниже я постараюсь наметить ответы на два вопроса: может ли
гипотеза ИИ внести свой вклад в традиционные философские
дискуссии вокруг сознания и мышления? Может ли философия с помощью
собственного неэмпирического инструментария предложить ответ на
вопрос о возможности искусственного моделирования человеческого
разума?
ИИ: история и теория. Термин «искусственный интеллект» был
введен Джоном Маккарти в 1956 г. для обозначения науки и
инженерных практик создания «умных машин». С середины 1960-х гг.
работы по ИИ, вдохновленные теорией двоичных машинных
вычислений Алана Тьюринга, финансировались в Великобритании и США
военными ведомствами, а лидеры направления провозглашали
скорое пришествие целостных технических моделей человека. Однако
примерно с 1974 г. в обеих странах было урезано финансирование
проектов ИИ, не имеющих определенной прагматической цели, в
связи с недостижением ожидавшихся результатов. В 1980-е гг.
интерес к ИИ возрождается по причине коммерческого успеха класса
программ, известных как экспертные системы. Пережив еще
некоторые взлеты и падения в 1980—1990-е гг., академические
исследования ИИ возродились на рубеже веков на фоне потребностей логи-
И.Ф. Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент в споре о сознании 199
стики, медицинской диагностики и некоторых других практических
сфер. В настоящее время среди множества
диверсифицировавшихся направлений можно выделить логическое программирование
(см. интересную работу Поспелова1), нейронные сети2 и мультагент-
ные системы3.
Характерной закономерностью постоянно меняющегося
понимания сферы ИИ, по мысли авторов англоязычной Википедии,
является постепенное исключение из этой области уже решенных
проблем: «Например, в 1956 г. оптическое распознавание символов (ОРС)
рассматривалось в качестве ИИ, а сегодня сложные ОРС-приложе-
ния с контекстно-зависимой проверкой орфографии и грамматики
бесплатно поставляются вместе с большинством графических
сканеров. Никто более не рассматривает сегодня уже решенные проблемы
вычислительной науки, подобные ОРС, в качестве искусственного
интеллекта»4. Я бы сказал, что этот факт сам по себе способен пролить
некоторый свет на наше имплицитное представление о том, что такое
мышление и интеллект по отношению к тем операциям, которые в
данных обстоятельствах представляются нам рутинными.
Вокруг теста Тьюринга. В 1950 г. Алан Тьюринг5 сформулировал
принцип идентификации машинного интеллекта, который вошел в
историю как «тест Тьюринга» (ТТ). Тест предполагает следующие
условия:
0 человек (тестер) общается с другим человеком и машиной через
клавиатуру и терминал;
0 правила общения не заданы: может быть любая тема, любая
продолжительность, любой язык, допускается использование сленга, ложь
и т.п.;
0 тестер должен определить, кто из собеседников является машиной;
если он может идентифицировать машину с вероятностью, не
превышающей простое статистическое распределение, машина считается
прошедшей тест, а следовательно, мыслящей.
1 Поспелов ДА. Десять «горячих точек» в исследованиях по искусственному
интеллекту// Интеллектуальные системы. 1996. Т. 1, вып. 1-4. С. 47-56.
2 Hopfield J.J. Neural Networks and Physical Systems with Emergent Collective
Computational Abilities // Proc. NatL Acad. Sei. USA. 1982. Vol. 79. P. 2554-2558.
3 Scheutz M., Andronache M. The Apoc Framework for the Comparison and
Evaluation of Agent Architectures // Proc. of Aaai Workshop on Intelligent Agent
Architecture. 2004. P. 66-73.
4 http://en.wikipedia.Org/wiki/AI#History.
5 Turing A.M. Computing Machinery and Intelligence // Mind. 1950. № 49.
P. 433-460.
200
Раздел 2. Философия психологии
До настоящего времени, несмотря на кажущуюся простоту теста,
ни одна машина или программа не прошла его.
Тест Тьюринга вызвал и продолжает вызывать критические атаки.
Наиболее серьезными аргументами кажутся соображения о
логической связи теста и теоремы Гёделя о неполноте, а также
предполагаемая неспособность концепции, лежащей в основе теста, справиться с
проблемой qualia. Теорема Гёделя справедлива для всех формальных
систем, а компьютерные программы - это формальные системы.
Следовательно, всегда будет хотя бы одна формула, истинность
которой неразрешима для машины, но очевидна для человека1.
Следовательно, аналитически верно, что машина (или выполняемая в ней
программа) не может быть моделью человеческого интеллекта.
Второй аргумент рассматривает компоненты сознания,
принципиально не доступные для компьютерного моделирования. К ним
относятся: (1) самосознание (2) qualia, под которыми подразумеваются
«реальные» субъективные ощущения, переживания и эмоции, как
они чувствуются их носителем. Согласно определению Н.С. Юлиной,
«в общей форме можно сказать, что квалиа есть то, каким образом
что-то выглядит для нас, кажется нам, в каком качестве оно предстает
перед нами»2. Вопрос о qualia уже довольно долго разделяет
философов аналитической традиции на две группы: (условно говоря) «бихе-
виористов», настаивающих на иррелевантности qualia для теории
значения3, с одной стороны, и более традиционно ориентированных
«философов сознания»4, часто именно в qualia усматривающих суть
последнего (а не в формальных правилах и операциях с символами), —
с другой. «Бихевиористы» показывают, что теория значения - а
именно она видится содержательной и методологической основой теории
сознания — может быть построена без обращения к
«психологическим» сущностям. «Философы сознания», напротив, настаивают, что
именно «внутренняя жизнь» психики (мозга) порождает смыслы, без
которых формальные операции с символами не могут
рассматриваться в качестве мышления. Очевидно, Тьюринг склонялся к первой
точке зрения.
1 Lucas J.R. Minds, Machines and Gödel// Minds and Machines; ed. A.R.Anderson.
Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1964. P. 14.
2 Юдина Н.С. Головоломки проблемы сознания. M., 2004.
3 Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford : Blackwell, 1968; Малколм H.
Состояние сна. M. : Прогресс, 1993.
4 SearleJ. Minds, Brains, and Programs// Behavioral and Brain Sciences. 1980. № 3.
P. 417-457; Perry J. Knowledge, Possibility and Consciousness. Cambridge ; L., 2001.
И.Ф. Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент в споре о сознании 201
В качестве концепции, «играющей на стороне» ТТ, можно
рассмотреть гипотезу систем физических символов (СФС),
сформулированную Ньюелом и Саймоном1 в 1976 г., в соответствии с которой
любая система физических символов (физических объектов,
представляющих другие объекты в соответствии с некоторыми правилами
именования) обладает необходимыми и достаточными средствами
для сознательного действия. Наверное, можно сказать, что позиция
Д. Деннета в его споре с Дж. Сёрлом2 в значительной мере
основывается на идеологии СФС.
«Сильный ИИ» и «китайская комната». Сёрл в свою очередь
рассматривает концепции, сводимые к СФС, как «сильный [принцип] ИИ»3,
в соответствии с которым любая программа, эффективно
имитирующая интеллектуальные действия, и есть собственно интеллект. Он
отличается от «слабого [принципа] ИИ», который допускает, что для
моделирования ИИ, возможно, понадобится определенный
физический субстрат, искусственные нейронные сети, возможно, даже кван-
тово-вероятностные эффекты, но все же оно в принципе возможно.
Против «сильного ИИ» Сёрл выдвигает аргумент «китайской
комнаты»4 - мысленный эксперимент, в котором участвует человек,
ни слова не понимающий по-китайски, запертый в закрытом
помещении, где в качестве интерфейса с внешним миром имеются щель
для входящих записок и щель для исходящих записок. В
распоряжении человека имеется некий справочник (вроде разговорника), в
котором одним выражениям китайского языка сопоставлены другие по
некоторым ему не известным правилам. Функция человека
заключается в том, чтобы, приняв входящую записку на китайском, найти
стоящее там выражение в справочнике, записать сопоставленное ему
выражение на другом клочке бумаги и выдать последний через щель
для исходящих записок. Согласно Сёрлу, вся «китайская комната»
как система способна пройти ТТ, хотя ни сидящий внутри человек,
ни система в целом не понимают китайского. Метафора очевидна:
компьютерная программа, умеющая формально оперировать с
символами, понятными человеку, не содержит «интеллекта».
Аргумент Сёрла связан с его общей концепцией сознания как
системы интенциональных состояний (знания, сомнения, жела-
1 Newell А., Simon H.A. Computer Science as Empirical Enquiry: Symbols and Search //
Communications of the ACM. 1976. Vol. 19, № 3. P. 113-126.
2 http://www.scribd.com/doc/45344182/ Dennett-vs-Searle.
3 См.: SearleJ. Op. cit.
4 См.: Ibid.
202
Раздел 2. Философия психологии
ния и т.п.)1, суть которых состоит в их направленности на предмет, но
они аналогичны qualia в том смысле, что необходимо связаны с
субстратом мозга и как таковые воспринимаются исключительно «в
первом лице»2. Мораль аргумента «китайской комнаты» очевидна:
машина, основанная на СФС, не может иметь интенционального
состояния, соответствующего пониманию.
По ходу изложения критической концепции Сёрла невозможно
не отметить, что она основана на некоторых некритических интуици-
ях, на что указывал, кстати, и соавтор Деннета Д. Хофштадтер3. В
частности, как мне кажется, Сёрл, подобно карточному фокуснику,
помещает в центр ситуации человека, что называется, для отвода глаз. Ведь
именно человеку мы интуитивно приписываем свойство понимания,
и если в данном случае у него оно отсутствует, то вроде бы искать его
больше негде. Тогда как на самом деле в данной ситуации «субъектом
понимания» (выражаясь старофилософски) является, конечно,
справочник, а человеку отведена техническая роль информационного
транспорта. И в том примитивном виде, как он описан Сёрлом,
справочник как раз вряд ли пройдет ТТ - мы помним, что собеседник там
должен продемонстрировать способность ориентироваться в
модальностях человеческого общения: жаргон, шутка, ложь и т.п. Если же
справочник будет составлен достаточно тонко для того, чтобы на
серьезные китайские выражения отвечать серьезно, а на шутливые -
отшучиваться, причем с возможностью случайного (произвольного?)
выбора доступных вариантов ответа, тогда почему бы и нет? Все дело в
степени сложности программирования.
Действительно сильный аргумент Сёрла: а если всю ситуацию
поместить в голову человека, например заставить его выучить
справочник наизусть? Понимания мы не добьемся и в этом случае, поскольку,
будучи спрошен по-китайски, понимает ли он китайский, человек
ответит «да», но будучи спрошен о том же по-английски, ответит «нет».
Возможный контраргумент: а если в изначальной ситуации мы
предположим, что человек все же понимает китайский, но действует
по условиям эксперимента: берет записку, ищет выражение в спра-
1 SearleJ. Intentionality. Cambridge : Cambridge University Press, 1983.
1 Его понимание интенциональности резко расходится с таковым Деннета,
который рассматривает ее не онтологически, а как одну из стратегий объяснения
функционирования сложных систем (см. об этом: Dennett D. Brainchildren. Essays
on Designing Minds. MIT Press and Penguin, 1998). В рамках концепции Деннета,
конечно, никакие аналогии между интенциональностью и qualia невозможны.
3 Hofstadter D. Reflections on Searle // The Mind's I. N.Y. : Basic Books, 1981.
P. 373-382.
И.Ф. Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент в споре о сознании 203
вочнике, выписывает сопоставленное ему выражение... Что меняется
для тех, кто снаружи? Становится ли китайская комната как
целостный агент коммуникации более понимающей? Сёрл опять
исподволь, незаметно переключает дискуссию на человека, хотя
изначально последний мыслился в этом эксперименте только как техническая
деталь механизма понимания.
Субстанциализм и функционализм. Под субстанциализмом в рамках
и для целей данной статьи я предлагаю понимать широкий круг
концепций в философии сознания — от традиционных материализма,
идеализма, субстанциального дуализма (картезианства) до более
современных физикалистского редукционизма, теории «тождества
типов» и др. — общим для которых является признание необходимой
зависимости сознания и его свойств от его же субстрата-носителя, как
бы последний ни понимался, равно как и неразрывной
онтологической связи между ними.
Напротив, термином «функционализм» я предлагаю обозначить
семейство концепций, пытающихся найти объяснение ментальным
событиям при помощи выявления их функциональных зависимостей
от ряда других - ментальных и нементальных — событий, отвлекаясь
от их возможных онтологических экспликаций1. Любопытно также,
что, по мнению Джегуона Кима, «функционализм есть часть более
широкого бихевиористского подхода к сознанию и может быть понят
как обобщенная и усложненная версия бихевиоризма»2.
Согласно любопытному pdf-документу, который можно найти в
ряде мест в Интернете3 - он представляет собой email-переписку
между Сёрлом, Деннетом и редактором научного журнала, состоявшуюся
в 1997 г. и собранную Деннетом, - главный аргумент Сёрла, которым
он защищается от обвинений в примитивном субстанциализме,
состоит в том, что биохимический субстрат мозга обладает
«достаточными каузальными силами» для того, чтобы причинно обусловить
сознание. Проще говоря, он необходим и достаточен для сознания
(Деннет настаивает, что в одной из публичных лекций Серл
употребил метафору «секреции» по отношению к связке мозг-сознание,
сравнив ее с отношением молочной железы и молока, чем немало по-
1 Хороший обзор различных версий функционализма содержится в:
Иванов Д.В. Функционализм: метафизика без онтологии // Эпистемология и
философия науки. 2010. № 2.
2 Kim J. Philosophy of Mind. Brown University, Westview Press A Subsidiary of
Perseus Books, L.L.C, 1998.
3 http://www.scribd.com/doc/45344182/ Dennett-vs-Searle.
204
Раздел 2. Философия психологии
забавил Деннета и Хофштадтера). Позиция Сёрла в своей основе
имеет доктрину субстанциализма, а позиция Деннета может быть
интерпретирована как функционализм. Деннет воспроизводит известную
аналогию противников субстанциализма: одно время полет так же
считался функцией «биологического субстрата» птицы, и это
убеждение ничем не помогало братьям Райт в их конструкторских усилиях,
пока они - вполне в духе функционализма — не подошли к вопросу с
точки зрения законов аэродинамики и конечной цели строительства
летательного аппарата, отказавшись от попыток прямой имитации
природы. Контрвозражение Сёрла: он имел в виду не секрецию в
буквальном смысле слова, а каузальные силы, которые, по его мнению,
могут содержаться не только в биологическом субстрате мозга, но
любой его заменитель должен обладать эквивалентными каузальными
силами для производства сознания. Ответа Деннета на это
контрвозражение в рукописи не содержится, но мы можем попытаться сделать
это за него. Что значит быть причинно зависимым от субстрата?
Когда специалисты по ИИ (не философы) пытаются делать то, что
делали братья Райт на начальном этапе — имитировать природу, — они
создают так называемые нейронные сети, которые по сути
представляют собой те же компьютерные программы, только более сложные.
Тогда загадочная причинная зависимость от субстрата,
демистифицированная в эксперименте, оказывается все той же
функциональной зависимостью от программы, а проблема воспроизводимости из
непреодолимого теоретического предела превращается в вопрос
технического искусства.
Однако Деннет и Сёрл, будучи противниками в одном контексте,
становятся по одну сторону баррикад в дискуссии с М. Беннетом и
Р. Хекером1, которые с витгенштейнианских позиций критикуют как
«философов сознания», так и значительную часть нейрофизиологов за
засорение научного языка иллюзорными субстанциалистскими
терминами. Они рассматривают это как своего рода неокартезианство,
которое на место субстанциального дуализма Р. Декарта ставит структурный
дуализм тела — мозга, приписывая ментальные предикаты только мозгу.
Беннет и Хекер возражают против этого варианта дуализма в духе вит-
генштейновской концепции «глубинной грамматики»: когда мы
говорим «я знаю» или «он потерял сознание», мы не подразумеваем мой или
его мозг в качестве подлежащего. Попробуем заменить личные
местоимения в этих выражениях на «мой/его мозг» — получим бессмыслицу.
1 Bennett M., Dennett D., Hacker P., SearleJ. Neuroscience and Philosophy. Brain,
Mind, and Language. N.Y. : Columbia University Press, 2007.
И.Ф. Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент в споре о сознании 205
Свой методологический бихевиоризм авторы демонстрируют в
следующем рассуждении о знании: «Если животное знает нечто, оно
может действовать и отвечать на стимулы, получаемые из среды, как
не могло бы действовать и отвечать в отсутствие этого знания; если же
оно действует таким образом, оно обнаруживает знание. Можно
сказать, что мозг является транспортным средством этих способностей,
но это лишь означает, что в отсутствие соответствующих нейронных
структур животное не смогло бы делать то, что может делать при их
наличии. Нейронные структуры мозга отличны от способностей
животного, а функционирование этих структур отлично от применения
животным его способностей. Короче говоря, знающий есть также
агент действия и его знание проявляется | is exhibited] в том, что он
делает»1. Бихевиористские аргументы, равно как и уместность
бихевиористского прочтения витгенштейновских идей, мы обсудим ниже.
По нашу сторону железного занавеса. Начиная с 1960-х гг. в СССР на
фоне реабилитации кибернетики и построения первых ЭВМ
размером с многоэтажный дом возникает своего рода романтический культ
НТР и ее результатов, повлекший за собой безудержный оптимизм в
отношении перспектив синтетического моделирования основных
человеческих способностей. Тренд (как сказали бы мы сейчас),
прорвавшийся даже в сферу массовой культуры — вспомним фильм «Его
звали Роберт» или песню «Сердце из нейлона», - породил дискуссию
«физиков» и «лириков», способную поразить сегодняшних
читателей, если бы таковые нашлись, наивностью и почти религиозной
бескомпромиссностью позиций (как, впрочем, и многие другие
«интеллектуальные» дискуссии на нашей, рождающей собственных
Платонов, земле). Тогдашние отечественные философы внесли свой вклад
в этот спор прежде всего в виде памятного поединка по поводу
философской экспликации мышления и вообще «идеального» между
Э.В. Ильенковым и Д.И. Дубровским. Уточню, что главным
предметом спора были именно те или иные определения философских
категорий, а не прагматический вопрос о возможностях синтетического
моделирования человеческого интеллекта. Но, учитывая яркую
«антикибернетическую» позицию Эвальда Васильевича по этому
вопросу2, можно предположить, что концепция его оппонента должна
была бы внушать больший оптимизм сторонникам ИИ.
Я бы сказал, что по некоторым параметрам этот принадлежащий
истории спор формально все еще не завершен, подобно войне между
1 Ibid. Р. 150.
2 См., в частности: Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. Киев : Час-Крок, 2006.
206
Раздел 2. Философия психологии
СССР и Японией. Только причина тому — не спорные территории, а,
во-первых, сама стилистика дискуссий, впрочем, довольно типичная
для русской культуры: в меньшей степени взаимная логическая
оценка аргументов, в большей — провозглашение ценностных позиций и
взаимные обвинения в незнании Гегеля, с одной стороны, и в
нарушении целостности категориальной системы диамата - с другой.
Во-вторых, в предисловии к переизданию своей книги в 2002 г. (т.е.
фактически в наше время) Давид Израилевич пишет, что для него ряд
ее положений сохраняет актуальность, за исключением нескольких
ритуально-идеологических абзацев, которые он исключил1. Раз так,
то и мне, наверное, позволено выступить с некоторыми
комментариями к позициям участников, как если бы об этой дискуссии
можно было говорить в английской грамматической категории Present
Perfect.
В упомянутой книге Ильенков пишет: «Дело в том, что мыслящее
существо необходимо должно быть подвижным, и не просто
подвижным, а и умеющим активно действовать в согласии с формой и
расположением всех других тел и существ. Во-вторых, оно должно активно
изменять, переделывать окружающую его естественную среду, строя
из нее свое "неорганическое тело" — тело цивилизации... Ибо
мышление, как хорошо поняла философия и психология, - суть функция
активной предметной деятельности, ее обеспечивающая и ради нее
возникающая»2. Поэтому человеческая рука или манипулятор,
аналогичный по степени свободы действий, есть «необходимое условие»
мышления. В этом, по мысли автора, и состоит «настоящий
материализм» в отличие от видимого материализма объяснений мышления
через мозг. «Ибо работающий человеческий мозг сам является
продуктом труда, а наличие самого лучшего в анатомо-физиологическом
отношении мозга еще вовсе не гарантирует наличия мышления»3.
По-другому говоря, мозг, согласно Ильенкову, — необходимое, но
не достаточное условие интеллекта. Это положение появляется у
Эвальда Васильевича в контексте насущных размышлений о том,
должны ли инопланетяне походить на людей. Однако оно вполне
смотрелось бы как ответ на так и не отвеченный в цитируемой книге,
хотя поставленный там вопрос, может ли машина в принципе
мыслить. Доказательством же процитированной концепции, как часто
1 См.: Дубровский Д.И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М.,
2002. С. 4.
2 Ильенков Э.В. Указ. соч. С. 234.
3 Там же. С. 235.
И.Ф. Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент в споре о сознании 207
бывает у авторов этой школы, служит пространное изложение
культурной истории человечества от каменных орудий до Канта, Фихте,
Гегеля и Маркса.
Критика Д. И. Дубровским позиций Ильенкова, в частности его
более поздней концепции идеального как всеобщих форм
представленности одних материальных предметов в других, но тоже
внешних по отношению к телу человека1, строилась вокруг
следующих основных соображений. Во-первых, по его мнению, отказывая
в идеальности не интеллектуальным, но субъективным явлениям,
таким, как мимолетные образы или чувства, Ильенков должен был
бы, согласно железной системе понятий советского диамата,
объявить их материальными. Во-вторых, Дубровский приводит
множественные примеры «представленности» одних явлений в других в
живой и неживой природе, которые Ильенков, по его мнению,
должен был бы считать идеальными2. Правда, провозглашая полное
тождество идеального и субъективного, сам Давид Израилевич не
задается вопросом, зачем нужны два термина, имеющие одно
значение, но думаю, что в соответствии с общей стилистикой советского
философствования, ответ лежал бы где-нибудь в плоскости
различных, но необходимых «аспектов» противопоставления «материи» и
«сознания».
Сам же Дубровский развивал «информационный подход» к
проблемам сознания, мышления, идеального и т.п., который
формулируется им в следующих «ясных, как солнце» тезисах: (1) информация
есть отражение одних материальных систем в других; (2) она не
существует вне и помимо материального субстрата, который является
также и ее «кодом» и по отношению к которому (или которым) она
инвариантна; (3) информация в отношении своего субстрата может
выполнять функцию управления, что понимается автором на основе
концепции «информационной причинности»3 (количество тезисов
мною несколько сокращено за счет сжатия смысла). Далее (С. 138)
совершается логический переход к интересующей нас теме через
положения «всякое явление сознания есть информация» и «всякое
явление сознания есть функция головного мозга». Таким образом,
согласно Дубровскому, сознание относится к мозгу как информация к
своему материальному носителю («субстрату»). В представленных
тезисах, по-видимому, не содержится ничего принципиально отлично-
1 Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии. 1979. № 6, 7.
2 См.: Дубровский Д. И. Указ. соч. С. 44-54.
3 Там же. С. 137.
208
Раздел 2. Философия психологии
го от стандартной диаматовской «теории отражения», суть которой
рассмотрена мною1, за исключением интригующего тезиса (3). Я бы
задумался по его поводу: как отражение, причиненное одной
материальной системой другой материальной системе, может в дальнейшем
причинять еще что-то этой второй материальной системе, которою
оно еще и «кодируется»? Не присутствует ли здесь некоторая магия
отражения? Чуть далее (С. 153) автор объясняет это «цепью кодовых
преобразований», что, на мой взгляд, вряд ли является объяснением,
поскольку ничем не обосновывается необходимость — естественная
или логическая - таких преобразований. Нуда не это интересует нас в
первую очередь.
На первый взгляд в отношении возможности ИИ позиции
диспутантов должны были бы распределиться следующим образом:
Ильенков - «против», поскольку «идеальное» приписывается только
человеку вкупе с опредмеченными формами его культуры, тогда как
машинное моделирование интеллекта имплицитно мыслится им только
как имитация деятельности мозга. Дубровский же на том же
основании должен был бы быть «за». Но вот что интересно: концептуально
ничто не мешает построить компьютерную модель
интеллектуального решения задач как мультиагентную систему, которая
воспроизводила бы не только необходимость коммуникации сознательных
агентов друг с другом, но и эволюционное развитие каждого из них в
отдельности и всей системы в целом. Более того, вроде бы такие
исследования ведутся на вполне эмпирическом уровне2, хотя Эвальд
Васильевич мог не знать об этом по понятным причинам. В то же
время предполагаемый ИИ-оптимизм Дубровского тоже может
разбиться о его же концепцию мозга как «собственной» (т.е.
привилегированной) кодирующей системы сознания3. Ведь если сознание в
собственном, «субъективном» выражении, включающем «творческую
активность Я» как способность высокоорганизованной нейронной
системы к самоуправлению, возможно только «в материале» мозга, то
компьютеры должны разделить второстепенную техническую роль
дополнительных кодирующих систем вместе с книгами, картинами и
прочими артефактами.
Если же эту высокоорганизованную нейронную систему в
принципе возможно моделировать в металле, силиконе или в чем-то еще,
1 Михайлов И.Ф. Наследие советского «критического марксизма» в контексте
проблемы мышления // Вопросы философии. 2011. № 5. С. 108-118.
2 См.: Scheutz M., Andronache V. Op. cit.
3 См.: Дубровский Д. И. Указ. соч. С. 147-148.
И.Ф. Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент в споре о сознании 209
отличном от серого вещества (собственно, почему бы и нет — такие
исследования тоже ведутся), то человеческий мозг (страшно
подумать!) лишается своего априори особого положения как
привилегированной кодирующей системы сознания (этот выбор, как мы
увидим далее, подробно обсуждается в споре между Сёрлом и Деннетом).
Но тогда падет последний (и по сути единственный) бастион защиты
от «деятельностного подхода» к идеальному: если «собственной
кодирующей системой» сознания может быть железка, то почему ею не
может быть целостность кодирующих систем культуры? А
естественный «бортовой компьютер» индивида может быть понят тогда как
технический инструмент его ассимиляции в культуре и — да,
преобразования ее, только именно как инструмент, а не субъект. (Аналогия:
бортовой компьютер автомобиля в чем-то помогает ему ехать, но не
едет вместо него.)
Таким образом, с одной стороны, выбор культуры или мозга в
качестве кодирующей системы сознания не влечет принятия
соответственно пессимистической или оптимистической позиции в
отношении ИИ, а с другой стороны, концептуальное исследование
возможности искусственного интеллекта также не дает преимуществ ни
одной из рассматриваемых позиций.
Сравнительный анализ «измов». Попытаемся обобщить различные
позиции относительно необходимых и достаточных условий
интеллекта (мышления, сознания — пусть пока они будут синонимами).
В качестве таковых рассмотрим альтернативно: (1) культуру, вслед за
Ильенковым -» (2) естественное или искусственное воплощение
вычислительной программы, манипулирующей символами (Деннет,
Хофштадтер), -> (3) биохимию мозга (Сёрл, Дубровский - по
крайней мере какего концепция представлена в «Проблеме идеального»1).
1 В более поздней работе в связи с критикой Сёрла Дубровский объявляет себя
сторонником функционализма, однако последний видит «в качественном
разграничении отношений функциональных и физических (с учетом необходимой
связи первых со вторыми), в отрицании редукции функционального к
физическому, в обосновании особого типа каузальности и закономерностей, не
сводимых к физическим, что имеет принципиальное значение для исследования
самоорганизующихся систем (где главная роль принадлежит расшифровке
кодовых, т.е. функциональных, зависимостей). Эта суть выражается принципом
воспроизводимости одной и той же функции на различной субстратной основе и
принципом инвариантности информации по отношению к физическим
свойствам ее носителя» (Дубровский Д.И. Новое открытие сознания? // Вопросы
философии. 2003. № 7. С. 92-111 ). Мне, честно говоря, пока не ясно, как эта установка
сочетается с уже приводившимися мыслями Давида Израилевича об
уникальности мозга как субстрата сознания (См.: Дубровский Д.И. Проблема идеального.
С. 141, 147-148).
210
Раздел 2. Философия психологии
Позиции ( 1 ) и (3) можно временно представить в качестве
разновидностей субстанциализма. Добавим еще одно измерение в виде
различия холизма (акцент на социальном целом) и индивидуализма и
получаем:
Измерение
Индивидуализм
Холизм
Субстанциализм
(3)
(1)
Функционализм
(2)
9
Позицию, обозначенную знаком вопроса, сформулируем в конце
статьи.
Возражение против (1) и (3): что значит быть функцией субстрата?
Сам субстрат, каким бы он ни был, есть (или, по крайней мере,
понимается в рамках современной научной картины мира как)
определенная структура. Тогда мышление - это функция социальной или атом-
но-молекулярной или еще какой-нибудь структуры. И тогда любое
утверждение эксклюзивности структуры определенного типа в
качестве претендента на роль субстрата ментальных событий очевидно
несет на себе печать догматизма — или же оно должно быть солидно
эмпирически обосновано, что, конечно же, выходит за пределы
компетенций философии.
Позиция (2) Деннета, по-видимому, состоит в том, что мышление
есть программа, осуществляемая в мозге, но могущая быть
реализована в любом субстрате (уже приведенная выше аналогия с полетом).
Однако, согласно Беннету и Хекеру, локализация мышления в мозге
приводит (в том числе и значительную часть нейрофизиологов) к
своего рода неокартезианству, когда роль субстанций выполняют тело и
мозг и ментальные предикаты приписываются только последнему.
Однако именно человек (животное), а не мозг знает, верит и теряет
сознание. Да, это всего лишь «внутренняя грамматика» языка, но она
задает онтологию. Можно сказать, что в случае с потерей сознания
употребление «я» - лишь языковая конвенция: на самом деле речь
идет о неполадках в мозге. Но можно ли сказать, что «знать» и
«думать» - это тоже предикаты мозга?
Беннет и Хекер интерпретируют Витгенштейна
бихевиористски: знание есть его проявление в поведении. Насколько
такая интерпретация справедлива, надеюсь, станет ясно из
дальнейшего изложения. Для этого необходимо обсудить понятие интен-
циональности, введенное в аналитическую традицию ученицей
И.Ф. Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент в споре о сознании 211
Витгенштейна Г.Э.М. Энскомб1 и развиваемое в дальнейшем
Сёрлом2.
Итак, позиция (3) тесно связана с концепцией интенционально-
сти. Сознание - не столько содержание, сколько направленность на
предмет, или, как ее интерпретируют некоторые англоязычные
авторы, aboutness. Согласно Сёрлу, сознание производится
биологическим субстратом мозга. Следовательно, главная работа мозга —
производство интенциональных состояний, основа которых — в
биологической чувствительности и активности.
Интенциональные состояния тогда занимают свое
онтологическое место рядом с qualia, становясь феноменами субъективной
реальности, полностью не выразимыми в языке (как боль, цвет и т.п.),
т.е. я сначала на собственных состояниях учусь тому, что значит
«знать», «полагать», «сомневаться», а потом уже по аналогии
приписываю эти предикаты другим. Тогда должно быть некоторое
«состояние сомнения», в которое входит мозг и которое
сопровождается «чувством сомнения», находящимся на стороне qualia. Причиной
сомнения могут быть какие угодно обстоятельства внешнего мира,
их следствием должно быть состояние сомнения, а его следствием —
чувство сомнения. Полная аналогия с болью: я знаю, что такое боль,
по своим ощущениям и догадываюсь, что другим бывает больно, по
их поведению. Правда, Витгенштейн активно оспаривал такую
концепцию боли3, но дело даже не в этом. Боль - состояние не интен-
циональное: оно в себе содержит свой собственный предмет. А
сомнение - всегда «сомнение в том, что...». Необходимо
предполагается некоторый предмет сомнения и обстоятельство, которое
делает его сомнительным. Возникает цепочка: (а) факт +
фальсифицирующее его обстоятельство -* (Ь) состояние мозга -> (с)
чувство сомнения.
Попробуем разобраться, чем с точки зрения «глубинной
грамматики» отличаются выражения «Я в сомнении» и «Мне больно». Если
следовать рассуждениям Сёрла, значением высказывания «Я в
сомнении» должно быть (Ь) или (с). Если мы говорим в первом лице,
аналогия с болью может быть продолжена: я говорю «мое сомнение»
и подразумеваю соответствующее состояние моего мозга или
соответствующее «внутреннее» ощущение. Но что мы подразумеваем,
1 Anscombe Е. Intention. Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1957.
2 SearleJ.R. Consciousness and Language. Berkley : University of California, 2002.
P. 77-90.
3 См.: Wittgenstein L. Op. cit.
212
Раздел 2. Философия психологии
когда говорим «его сомнение» или «он сомневается»? Мы делаем
вероятностное умозаключение? Кто-то может сказать: но ведь когда
мы говорим «У него бронхит» — мы тоже подразумеваем воспаление
бронхов, о котором догадываемся по внешним признакам.
Значит, наши суждения об интенциональных состояниях других суть
сплошь гипотезы?
Посмотрим, может быть, сама идея ИИ поможет нам в
концептуальном решении этой проблемы. Представьте себя на месте
конструктора искусственного мозга, перед которым стоит задача научить
машину сомневаться. У вас есть комбинация (а), которую машине
предстоит воспринять и оценить; вы не знаете, способны ли вы в
принципе заставить ее испытывать (с) и насколько это вообще важно,
а вот (Ь) - это как раз то, что и составляет вожделенное решение
задачи. Предположим, что техническую задачу восприятия и
идентификации действительного положения дел машиной вы решили.
Необходимо получить от нее сигнал полной решительности (например,
загорающуюся зеленую лампочку), если оцениваемые обстоятельства не
оставляют места для сомнений, и сигнал сомнения (желтая
лампочка), если имеющихся данных не достаточно для принятия
определенного решения. Для большей реалистичности этого мысленного
эксперимента предположим, что вы работаете в условиях ограниченного
финансирования.
У вас может появиться искушение создать разветвленную
нейронную сеть и моделировать в ней состояние человеческого мозга,
соответствующее сомнению, всякий раз, когда к тому располагают
оцениваемые обстоятельства, чтобы только через эту процедуру
включалась желтая лампочка. Но в этом случае ответственный за
финансы участник вашей команды наверняка укажет на
неоправданное расходование выделенных средств — и будет прав. Да и зачем
может понадобиться такое моделирование - чтобы воспроизвести (с)?
Но вы никогда не узнаете, «ощутила» ли машина чувство сомнения.
Гораздо дешевле и разумнее, скажут вам, написать программу,
основанную, например, на какой-либо «нечеткой» или «субъективной»
логике, которая позволит машине включать ту или иную лампочку в
зависимости от вероятностной оценки предлагаемых обстоятельств.
Но тогда, возразите вы, точно так же можно имитировать и
«болевое поведение», программно заставляя машину включать
определенную лампочку при наличии определенного раздражителя. Более того,
актер, изображающий испытывающего боль персонажа, сам ее
скорее всего не испытывает... А если актер играет сомнение - в чем
состоит его актерская задача? Он должен правдоподобно имитировать
И.Ф. Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент в споре о сознании 213
«сомневающееся поведение». Значит ли это, что и сам он испытывает
сомнение своего героя по ходу пьесы? Если нет, то бихевиористский
принцип «сомнение есть сомневающееся поведение» оказывается
под ударом.
Известно рассуждение Витгенштейна о «грамматике боли»: если
бы не было «болевого поведения», то скорее всего было бы
невозможно научить ребенка правильно использовать слово «боль». Можно ли
научить кого-либо сомневаться, если не существует
«сомневающегося поведения»?
Вернемся к «сомневающейся» машине. Предположим, что
между ее рецепторами, воспринимающими сомнительную ситуацию (а),
и «желтой лампочкой сомнения» мы поместили сложнейшую
нейронную сеть, способную с максимальным приближением
воспроизвести состояние человеческого мозга в момент сомнения. В каком
случае машина должна включить это состояние? Очевидно, когда ее
рецепторы сообщат о положении дел, не позволяющем сделать
желаемый вывод или принять желаемое решение с достаточно высокой
степенью вероятности/обоснованности. Тогда на основе анализа
входящих данных машина запустит программу, которая в свою
очередь определит наличие оснований для сомнения и... переведет
сложнейшую нейронную сеть в состояние, соответствующее
«состоянию сомнения» человеческого головного мозга. А уже наличие
этого состояния станет основанием для включения желтой
лампочки. Не похоже ли это на странную конструкцию самолета, который
после включения двигателей начинал бы хлопать крыльями,
подражая взлету голубя?
Сторонник Сёрла может сказать, что включение нейронной сети
в технологическую цепочку необходимо, если мы хотим
моделировать именно сознательное сомнение, а не его автоматическую
имитацию, поскольку именно ее состояние и есть необходимая
онтологическая основа интенционального состояния, а следовательно, и
сознания как такового. Но тогда резонно спросить: если эта
онтологическая основа сомнения на самом деле не необходима в случае с
машиной (желтую лампочку - «сомневающееся поведение» - может
включить сама управляющая программа), то почему мы решили, что
она необходима сомневающемуся человеку?
Однако напрашивающееся в этом пункте возвращение к
бихевиористскому тезису «сомнение есть сомневающееся поведение» уже
заблокировано шахом, поставленным ему аргументом от актера,
способного сыграть сомнение так же, как он играет боль, не испытывая
ее на самом деле. Другое возможное возражение технологического
214
Раздел 2. Философия психологии
свойства: нейронная сеть не «вводится в состояние» некоей
программой - она и есть эта самая «программа сомнения», только
существенно более сложная. Но что это меняет концептуально? И зачем такие
сложности, если лампочку можно включить значительно более
простыми программными средствами?
В действительности наша проблема в ее правильном
концептуальном выражении состоит в следующем: там, где один (человек)
усомнится, другой будет слепо верить, а третий... тоже слепо верить,
но в прямо противоположное и т.д. Если же мы построим два или
более экземпляра сомневающейся машины, основываясь на простой
технологии: рецептор -> программа -> лампочка, то они скорее всего
будут завидным образом солидарны в выражении своих сомнений в
сходных обстоятельствах. А ведь именно «свободу мышления»,
«творческий подход к оценке проблемного поля» и т.п. мы рассматриваем в
наших онтологических презумпциях как сущностные
характеристики собственно человеческого сознания в отличие от управляющих
программ всевозможных автоматов. В этом пункте сторонник
«мышления мозгом» должен встать «во весь свой рост невероятный» и
провозгласить: так вот за что ответственны сложнейшие комбинации
нейронов головного мозга! У разных людей они хранят различные
горизонты знаний и опыта, бессознательные комплексы,
обусловливают их принадлежность к различным психоэмоциональным типам, и
все это вместе предопределяет различные интенциональные
состояния разных людей в одинаковых обстоятельствах. И поклонников
этой - в общем-то естественно-научной — парадигмы объяснения не
смущает такое концептуальное соображение: если нейронная модель
помогает нам докопаться до причин индивидуальных различий в
поведении и интенциональных состояниях, то... какая же это свобода?
Тогда свобода гражданина NN «сомневаться или не сомневаться» в
моих глазах состоит исключительно в моей досадной
неосведомленности относительно сложного комплекса причин, которые в
конечном счете предопределяют его выбор.
Мне бы не хотелось здесь останавливаться на защите свободы как
фундаментальной человеческой ценности, тем более что история
знала авторитетных мыслителей, готовых покончить со «вздорной
побасенкой о свободе воли». В конце концов это не более чем еще одна
онтологическая презумпция относительно человека. Гораздо
интереснее упорно следовать за нашими основными путеводными
ценностями: простотой и достаточностью концептуального
воспроизводства возможных ситуаций.
И.Ф- Михайлов • «Искусственный интеллект» как аргумент в споре о сознании 215
Что сделает любой, даже не самый продвинутый, программист,
если его попросить построить два или более «сомневающихся»
автомата, которые в сходных обстоятельствах выбирали бы различные
интенциональные состояния? Правильно, в несложную программу,
управляющую цветом лампочки, он добавит рандомизатор —
генератор случайных значений. Тогда с высокой степенью вероятности
там, где один автомат усомнится желтой лампочкой, другой зажжет
зеленый свет святой веры. Теперь представим себе, что наличие
другого с его (случайным?) интенциональным состоянием является
важной составной частью проблемного поля первого автомата, т.е.
его рецепторы воспринимают, а управляющая программа оценивает
не только «Верно, что р», но и «Верно, что р, но В в этом
сомневается». Предположим также, что между автоматами А и В существует
некий языковой интерфейс, и каждый из них предопределен к
преследованию некоторой цели с использованием в том числе ресурсов
другого и при этом способен к подбору средств ее достижения
методом проб и самообучению на ошибках. Разве это не является
достаточным описанием человеческой коммуникационной ситуации, в
контексте которой только и имеют смысл такие интенциональные
состояния, как «знание», «сомнение», «вера» и т.п.? Если это так, и
человеческий тип коммуникации в принципе воспроизводим
машинами при указанных условиях, то интенциональные состояния — это
не состояния мозга или осуществляющейся в нем программы. Более
того, это и не модусы поведения, чем искушают возможные
бихевиористские интерпретации. Это модальности, составляющие
специфические логические структуры различных коммуникационных
ситуаций.
Свободными в своей вере и своих сомнениях нас делают вовсе не
нейронные сети, а коммуникационные ситуации.
Теперь самое время предложить ответы на вопросы,
сформулированные в начале.
Может ли гипотеза ИИ внести свой вклад в традиционные
философские дискуссии вокруг сознания и мышления? Она, избавляя
формулировки проблемы от антропоморфности и психологизма,
обнажает ее структурно-логический каркас проблемы и позволяет тем
самым увидеть решение в его концептуальной простоте: слова
«знание», «мышление», «сомнение» и т.п. обозначают не более и не менее
чем взаимно определяемые позиции акторов в логической структуре
той или иной коммуникационной ситуации. Мозг, компьютеры и
другие естественные и искусственные «дивайсы» необходимы
акторам для правилосообразного функционирования, но не достаточны
216
Раздел 2. Философия психологии
для того, чтобы знать, мыслить или сомневаться. Такую
интерпретацию можно было бы обозначить как коммуникативный
функционализм, если бы не тяжеловесность этого термина. Возможно, со
временем появится лучшее название.
Может ли философия с помощью собственного неэмпирического
инструментария предложить ответ на вопрос о возможности
искусственного моделирования человеческого разума? Если верен ответ на
первый вопрос, то логично предположить, что наиболее
перспективных исследований ИИ стоит ожидать в направлении создания муль-
тиагентных систем.
РАЗДЕЛ
3
А.Ю. Антоновский
К системно-коммуникативной
интерпретации языковых
технологий. Язык
и письменность
I
о
и
s
ш
S
8
и
S
en
Вместо введения: социальные технологии как способы
пространственно-временной оптимизации общения. В
настоящей статье попробуем схематично
реконструировать одну из важнейших социально-технологических
коммуникативных трансформаций: ключевые условия
перехода от техник распространения
коммуникативного смысла (шум, свет, звук, язык, письменность и
печать) к социальным технологиям достижения
коммуникативного успеха (коммуникативные медиа истины,
власти, денег и т.д). В качестве основного тезиса будет
утверждаться, что условиями появления последних и
являются техники письменности и книгопечатания.
Для анализа социальных технологий, выяснения
их предмета, функций, феноменологии и динамики
зададимся вопросом о природе техники как таковой.
В самом общем смысле техника может
концептуализироваться как программа осуществления
социально-релевантных задач (т.е. логистика) путем специфической
оптимизации деятельности и коммуникации по
времени и пространству - как ресурс экономии времени на
осмысление и рефлексию коммуникативного и дея-
тельностного успеха. Техника - это способ обеспечить
разгрузку в переработке сложного внешнего мира,
фактически предстающей в формах игнорирования
внешнего мира. Так, автомобиль дает возможность
игнорировать структуру пространства, делает дальнее
близким и позволяет существенно оптимизировать
действия и коммуникации по времени.
Социальные технологии по сути не отличаются от
техники как таковой, за исключением того
несущественного момента, что для функционирования
техники в узком смысле (машин, механизмов) требуется не-
218
Раздел 3. Язык, сознание и социум
который внешний источник энергии, а также того, что эта
механическая техника функционирует и без непосредственного обращения к
человеческому сознанию и человеческой телесности. В этом смысле,
например, книга как феномен социальных техник книгопечатания
дает возможность игнорировать структуру времени, прошлые
концепты оказываются доступными в настоящем. Письменность в целом
делает возможным игнорировать препятствия, накладываемые
особенностями физиологической памяти, и т.д. и т.п.
Итак, мы определяем технику как нерефлексивный способ
переработки (принципиально непреодолимой) сложности внешнего мира,
как средство его редукции или игнорирования, за счет чего
высвобождаются избыточные коммуникативные ресурсы, направляемые на не
связанный с техникой узкоспецифический предмет. Техника
книгопечатания, очевидно, не связана с излагаемыми в книгах предметами.
Во-первых, речь может идти о культурной технике, включающей
в себя как особого рода программы нормы и ценности, латентные
паттерны деятельности, моральные и эстетические стандарты
восприятия, грамматику языка, ритуалы, магические практики гаданий
и предсказаний. Сюда же следует отнести и особые способы
идентификации (нациями, общностями и т.д.), позволяющей
нерефлексивно координировать индивидуальные поведения с коллективными
паттернами. Функция этой техники - континуализировать
социальное время, сделать деятельность непрерывной, передать из прошлого
в будущее латентные стандарты, например грамматику, образцы
ориентации, способы письменности, утвердившиеся
пропозициональные установки. Эти техники мы характеризуем как медиараспростра-
нение коммуникативно-релевантного смысла, или просто как медиа-
распространение коммуникации1. Ключевую роль в этом обширном
списке следует отвести техникам письменности и книгопечатанию,
которые позволили на время решить социально-интегративные
проблемы, вытекающие из (дез)организующих возможностей языка
(прежде всего из возможностей языкового отрицания и, как
следствие, — отклонения коммуникации). Однако и сами эти техники
генерировали существенные дезинтеграционные тенденции.
Во-вторых, можно говорить о технике и в узкосоциальном
смысле: это ролевые стандарты и мотивы деятельности и коммуникации,
социальные роли ученого, бизнесмена, политика. Техникой здесь вы-
1 Базовая теория распространения коммуникативного смысла, на которую я
опираюсь в этой статье, представлена в книге: Луман Н. Медиакоммуникации. М. :
Логос, 2005.
А.Ю. Антоновский • К интерпретации языковых технологий
219
ступают медиа коммуникативного успеха: деньги, истина, репутация,
авторитет, собственность, прекрасное, вера, любовь, т.е. множество
ролевых ориентиров и взаимных ролевых ожиданий,
обеспечивающих соответствующие мотивации. Эти техники делают
коммуникацию неслучайной, ориентируя ее посредством указанных мотиваций,
возникающих словно автоматически в ответ на выбор того или иного
спускового механизма (предложение денег запускает механику
продаж и покупок, предложение истинного предложения - механизмы
проверки). Функцией этой техники является решение той же самой
проблемы социальной интеграции, которая теперь предстает в форме
обособленного системообразования, коннекции специфических
смыслов. Общественные конфликты и социальная дезорганизация
исчезают в силу автономизации и обособления этих систем, поскольку
социальные роли их участников (ученых, политиков, бизнесменов,
художников и т.д.) практически не пересекаются, а внутренние
конфликты (научная полемика, экономическая конкуренция,
соперничество в любви и т.д.) операционализируются как динамические
факторы, не препятствующие, а ускоряющие системообразование.
Интеграция, о наличии которой можно говорить в
современности, была поставлена под вопрос достижениями техники
предыдущего уровня, прежде всего появлением огромного массива
информации, порожденной техникой книгопечатания, лишившего мораль и
религию убеждающей силы, поскольку разные тексты (что вылилось
в церковные схизмы, а затем и тридцатилетнюю войну) теперь
получали одинаково интенсивную моральную фундированность1.
На каждом из перечисленных уровней решается вопрос разгрузки
и высвобождения ресурсов, а иначе деятельность не справилась бы с
1 Здесь мы не рассматриваем третий и четвертый уровни. Речь идет об уровне
сознания, где техникой в нашем понимании выступает габитус в смысле П. Бурдье.
Мы чаще всего не размышляем в процессе целепостановок и целереализаций, со-
гласуя средства с поставленным целями. Сознание, как правило, реализует цели
словно алгоритмически. Если функция культурной техники состоит в континуапи-
зации времени, трансляции из прошлого в будущее латентных стандартов и
программ поведения, то функцией техник сознания, напротив, выступает задача дис-
кретизации времени, фиксации состояния завершенности действий через
переживание удовлетворенности от сделанного. Речь идет о технике обеспечения ритма
деятельности: требуется фиксация того, что сделано для перехода к следующему
этапу. М. Вебервтеории идеальных типов разработал эту технику целепостановок.
На четвертом уровне речь идет о рецептивных, моторных, хватательных функциях
организма, но также и о нерефлексированных знаниях: о том, как правильно
танцевать, чистить рыбу, потреблять пищу и заниматься любовью. Здесь речь идет о
технике организмического уровня с функцией адаптации и переработки природы.
Это единственный уровень, где деятельность сталкивается с природой, на всех
остальных уровнях она существует для себя.
220
Раздел 3. Язык, сознание и социум
противостоящим ей сверхсложным внешним миром. Мы
сосредоточимся на технике первого уровня, технологиях распространения
коммуникативного смысла, откуда заимствуем и большую часть
литературных источников1.
Язык как техника социальной (дезорганизации. Язык мы понимаем
как технологию, призванную высвободить (автоматизировать)
коммуникативные процессы, вывести их из-под ограничений,
накладываемых процессами взаимовосприятия, ситуативно-определенного, а
значит, чрезвычайно обременительного (по времени) обращения с
вещами и людьми. Социализация (а в современности и отношения
полов, и фиксация интимных предпочтений), безусловно, возможна
и на уровне простого восприятия. Так, угрожающий жест вызывает
ответный угрожающий жест и, как следствие, возникновение
антиципации, основанных на восприятии восприятия себя: «Угроза
вызовет ответную угрозу», поэтому лучше не осуществлять такой угрозы2.
Но сигналы, посылаемые восприятию (в нашем примере угрозы),
не имеют референций, указаний на нечто иное. Восприятие (чужого
и, как следствие, своего) восприятия остается замкнутым в рамках
специфической ситуации и не имеет средств для обобщения таковых
ситуаций через референцию к некоторому обобщающему смыслу.
Восприятие (своего и чужого) восприятия не задействует знаки как
своего рода переменные, «пробегающие» множество сходных, но
различающихся ситуаций. Повторение (а значит, квазитехническая
автоматизация) однажды случившихся успешных реакций на этом
уровне не обеспечивается.
В противовес взаимовосприятию посредством сигналов
оперирующий знаками язык обеспечивает первую и фундаментальную
(социально-техническую) функцию: функцию обеспечения повторной
распознаваемости знаков или слов, обеспечивающих
приспособленность к меняющимся ситуациям (и, как следствие, свободу от них,
игнорирование их конкретного своеобразия).
От пространственной интеграции к временному порядку. Именно с
этим связана техническая функция знака, которую мы обозначили
1 Базовая концепция предложена Луманом (см.: Луман Н. Указ. соч.).
2 О технологиях социализации и иерархизации через взаимовосприятие и
восприятие (вещей) см.: Mead G.H., Mind, Self & Society From the Standpoint of a Social
Behaviorist. Chicago, 1934; Rosen R. Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical
and Methodological Formulations. Oxford, 1985; Thierry B. Emergence of Social
Organizations in Non-Human Primates // Revue internationale de systemique. 1994. Vol. 8.
P. 65-77; Емелин B.A. Самоидентификация как познание // Эпистемология и
философия науки. 2011. № 1. С. 175-176.
А.Ю. Антоновский • К интерпретации языковых технологий
221
как игнорирование внешнемировых структур1. Знак (дистинкция
выражения и смысла, означающего и означаемого) выступает
многократно воспроизводимой структурой или операцией, дефинитивно
не нуждающейся в контакте с внешним миром. Эта структура только
потому и может воспроизводиться повторно, что не зависит от
ирритации восприятия реалий внешнего мира. О вещи думают и говорят в
отсутствие вещи. Знаки репрезентируют смыслы, а вовсе не
конкретные материальные предметы или факты. Фактическое наполнение
ситуаций свободно варьируется, в то время как связь знака и его
смысла, означаемого и означающего в смысле Соссюра, вопреки их
полной противоположности остается фиксированной. Стабилизация
этой структуры делает возможным некоторую систему — через
игнорирование текучего характера ситуаций, к которым и в которых это
отношение реализуется. Именно через процесс такого
игнорирования тотальности окружающего пространства возникает мир, к
которому можно обращаться и во времени, т.е. после значительных
перерывов и перед тем как этот мир получил фактическую реализацию -
самое удивительное — в его отсутствие в окружающем пространстве.
Благодаря тому что означающее указывает на означаемое, язык
получает свободу от конкретных и ситуативных восприятий,
которые — ввиду особенности восприятия — всегда остаются полностью
определенными: визуальная картина такова, какова она есть, и дана
одновременно во всей своей полноте; ощущение красного может
быть только красным. Восприятие указывает на себя и
исключительно в момент восприятия, причем не может быть ошибочным, но
неизменно равно самому себе. Напротив, языковые выражения выходят за
пределы моментальной и актуальной ситуации восприятия и
указывают на свои смыслы и другие выражения безотносительно к тому,
что происходит и ощущается в данный момент. Система языковой
коммуникации способна замыкаться благодаря оптимизации
времени (игнорирования текущего момента) и, следовательно,
сосредоточиваться и реагировать не на все вокруг, а на ограниченные предметы
интереса, преимущественно же на то, о чем уже в той или иной форме
говорилось ранее, и на том, что еще только будет обсуждаться.
Собственно организация общества (= коммуникации, общению)
возможна только благодаря этой функции языка - автономизации
1 О знаках как технологии игнорирования (произвольного поведения) в
отношении (восприятия) внешнего мира и критику этого подхода см.: Jacobson R.
Zeichen und System der Sprache // R. Jacobson. Semiotik: Ausgewählte Texte
1919-1982. Frankfurt a/M,1988. S. 427-436. Boulding K. Ecodynamics: A New Theory
of Societal Evolution. Beverly Hills, 1978.
222
Раздел 3. Язык, сознание и социум
языковых выражений, более не привязанных к реально и фактически
переживаемому и воспринимаему событию, некоторому «срезу
одновременности», в котором обозревалось некоторое пространственно-
интегрированное сообщество и который являлся некоторым
«доязыковым» средством социального контроля. (Скажем, кошка с собакой
неконфликтно сосуществуют благодаря факту изначального
взаимного восприятия пространственного бытия рядом, каковое
собственно и выступает мощнейшим средствов взаимного контроля.)
Указанные выше технические функции знака и языка
высвободили временные ресурсы для обращения к проблемам самого общения,
причем как раз за счет обеднения конкретности восприятия. Но эти
же функции редукции сложности внешнего мира, прежде всего
многообразия ирритации, привнесли и фундаментальную проблему,
выраженную в аккумуляции новой сложности. Ведь всякое
высказывание способно соотносить себя с практически бесчисленным числом
других потенциальных выражений и в этом смысле является
избыточным, невероятным и чрезвычайно опасным для социального порядка
и контроля. Как и всякая техника, язык должен был решить проблемы
контроля собственной сложности и самопорожденного риска.
В отличие от преимущественно пространственной интеграции
средствами визуального восприятия язык задействует акустические
ресурсы, предполагающие временную организацию
коммуникативных вкладов: люди видят всех и сразу, а говорить и слушать приходится
по очереди. Именно последовательный порядок высказываний делает
возможным большую свободу, нефиксированностьтого, что будет
сказано далее. Создается некоторый вторичный мир проговоренного,
определяемый временем и допускающий ошибки, который словно
накладывается на не допускающий ошибок пространственный мир
визуально-воспринятого и проблематизирующий этим всякий консенсус.
Дезорганизационная дисфункция языка и новые техники ее
преодоления. Однако способность языка связывать знаки с ситуациями (и
освобождать себя от их конкретности) возможна только через свободно
составляемые предложения1. Лишь такая свобода связывать знаки и
является условием свободного поведения и реакций на мимолетные
данности среды. Но именно предложение допускает собственное
отрицание (ведь отрицание элементарного знака лишь добавляет новый
1 О переходе от техник различения звук/смысл, лежащих в основании отдиф-
ференциации слов, к более глубокой дифференциации языка на слова и
предложения, и далее — к дифференциации предложений см.: Pask G. The Meaning of
Cybernetics in the Behavioural Sciences // Progress in Cybernetics ; J. Rose (ed.). L.,
1970. Vol. I. P. 15-44.
А.Ю. Антоновский • К интерпретации языковых технологий
223
смысл) и, как следствие, отклонение некоторого
коммуникативно-предложенного смысла.
Техническая функция языка, состоящая в обобщении и
игнорировании конкретности внешнего мира восприятия, дополнялась тем
самым новой технической функцией - функцией разгрузки.
Знаковая функция слов языка, понимаемых в качестве «естественных
переменных», освобождает нас от контекста генерации знания. Нет
никакой необходимости вспоминать о том, как появилось слово, кто его
придумал и в каких еще контекстах оно употреблялось ранее.
Благодаря этой функции коммуникация только и может
концентрироваться на какой-то конкретной коннотации или значении слова, на
данном моменте, абстрагируясь от его обремененности прошлым,
которое как-то приходится держать в уме.
Эта функция представляет собой общее условие социальной
памяти, поскольку запоминание чего-либо и его коммуникативная те-
матизация возможны лишь через такое забвение всех иных
контекстуальных определений. Но эта — лишь орально обеспечиваемая —
функция памяти (= забвения) не позволяла возвращаться к тому, что
в данной коммуниации было забыто, а следовательно, делала
коммуникацию чрезвычайно нестабильной. Не было возможностей
«отложить» некоторую тему на потом, «забыть на время», чтобы
впоследствии, когда возникнет необходимость или возможность, к этому
вернуться1. Коммуникация руководствовалась исключительно
современной современностью, гарантируемой незначительной,
психически определяемой памятью небольшого коллектива2, и не могла
осовременивать прошлое, задействовать некоторые гарантии его
стабильного протекания - тексты, законы, записанные правила
поведения, письменные мироописания.
Устойчивое течение коммуникации (неслучайных
подсоединений одних коммуникаций к другим) нуждалось в технике ее
стабилизации3, письменно фиксируемых ориентирах общения, компен-
1 О технологиях откладывания (седиментации знания) см.: Schütz Л.,
Luckmann Т. Strukturen der Lebenswelt. Bd. 1. 3. Aufl. Frankfurt/M : Suhrkamp, 1988.
KrippendorffK. Some Principles of Information Storage and Retrieval in Society//General
Systems. 1975. Vol. 20. P. 15-35.
2 О технологиях коллективной памяти и ее ограниченности ресурсами психики
в оральных культурах см.: Thomas R. Oral Tradition and Written Record in Classical
Athens. Cambridge : Engl., 1989.
3 Об общих принципах так называемого собственного поведения — техниках
автономизации поведения, соотносящегося исключительно с предшествующим и
ориентированным на будущее поведение, см.: Foerster H. von. Objects: Token for
(Eigen)Behaviours// Observing Systems. Seaside, Cal., 1981. P. 274-285.
224
Раздел 3. Язык, сознание и социум
сирующих данную в языке возможность сказать «нет» любому
предложенному смыслу. Чтобы придать языку и коммуникации
стабильность, требовались средства представления языка как чего-то
целостного в новом медиуме, а в конечном счете в самом языке. Требовались
средства выражения языка как некоторой целостности, некоторого
внутренне связанного и устойчиво воспроизводящегося множества
элементов, а не его моментально актуализировавшихся и сразу
отзвучавших форм (предложений). Чтобы язык стабилизировался (с
помощью фиксированных правил соединения слов, представляемых
некоторым обозримым списком), требовалось отличить слова от вещей, а
не привязывать (и тем более не уподоблять) слова к вещам. Только так
можно было считать реальность реальностью - отличной от
реальности слов. Устный язык не обеспечивал такого различения вещей и
слов, а следовательно, с одной стороны, реальность вещей не могла
концептуализироваться как гарантированно стабильно
существующая и независимая от языка, а с другой — и сам язык не мог
пониматься как реальность семиотическая - как реальность,
стабилизированная воспроизводством повторяющихся и фиксированных связок
означающее/означаемое.
Предложение как техника коннекции и медиум социального порядка.
Возможность концентрироваться на ситуациях посредством
предложений (что как бы снимало данную в словах способность
игнорировать внешний мир) создавала и иную возможность сцеплять
предложения с предложениями, осетевлять общение. Ведь способностью
подсоединяться друг к другу во времени обладают исключительно
предложения, связанные же в предложения отдельные слова могут
пониматься как одновременные друг другу, как актуализирующиеся в
рамках единого события предложения. Связанные предложения
могут актуализироваться в разные времена. Их можно предвосхищать,
вспоминать как однажды прозвучавшие (осуществить подобное с
лишь однажды прозвучавшим и не интегрированным словом не так
просто, ведь слова по своей сути переменные и, следовательно, не
привязаны к контексту и не могут предвосхищаться и вспоминаться в
качестве некоторого фиксированного смысла). Именно такая
способность предложений к подсоединению в следующее мгновение,
определяющее возможность их отклонения, опровержение и
подтверждение, несла с собой фундаментальную проблему для
социального порядка.
Итак, техника предложения, безусловно, позволяла
гарантировать тот или иной смысл путем указания на подтверждающую предло-
А.Ю. Антоновский • К интерпретации языковых технологий
225
жение ситуацию - «идет дождь», поскольку идет дождь (притом что
невозможно указать на ситуацию, которая бы подтвердила или
опровергла слово). В этом смысле предложение делало возможным
описание социальной жизни, становилось техникой, обеспечивающей
интеграцию коллектива путем создания устойчивых связей
предложений: мифологических историй, ритуалов, и всего того, что можно
назвать нарративной технологией. Однако такие нарративы
препятствовали социальной динамике, ведь именно слова как некоторые
элементарные единства путем незначительных семантических
неологических трансформаций (в особенности отрицаний) несли с собой
инновативный потенциал (поскольку отрицанием слова мы лишь
умножаем семантику и создаем новые слова и смыслы — чему немало
примеров, а парадным примером может служить слово «алетейя»).
Вербальная бинаризация - радикальный выход коммуникации за
пределы современности и самого языка. Уже слово как базовая лексическая
единица делает возможным выход за пределы конкретности
восприятия внешнего мира. Уже слово делает возможным наблюдение,
предполагающее не только обозначение (воспринимаемого), но и
различение (уже более не сводимое к реалиям восприятия). Однако
радикальное игнорирование внешнемировых реалий делает
возможным лишь предложение. Луман называет соответствующую технику
бинарным кодированием языка, имея в виду (создаваемые
отрицанием того или иного предложения) позитивные и негативные редакции
всего того, что можно произнести.
Если слово создает возможности референции, т.е. наблюдения,
понимаемого как одновременно осуществляемое обозначение и
(через) различение, то теперь при помощи предложения и его отрицания
эти обозначения и различения можно принимать и отрицать, что
вдвое увеличивает исходные идентичности и соответственно
сложность внешнего мира. Это достижение окончательно выводит
коммуникацию за пределы ограничений, накладываемых данными
восприятия — всего того, на что можно остенсивно указать. Уже здесь
возникают возможности ошибки и, как следствие, проверки - базовых
условий квалификации знания как истинного (и ложного).
Техника отрицания несомненно привносила значимые риски в
коммуникативный процесс, в примитивных обществах основанный
на всеобщем согласии, для которого всякое отклонение и
разочарование в устойчивых смыслах, все новое и неожиданное оказывалось
разрушительным. Поэтому привносимые предложением
возможности отрицания должны были задействовать некоторые компенсирую-
226
Раздел 3. Язык, сознание и социум
щие такого рода риск механизмы «нормализации отрицания».
Возможности внедрения процедур отклонения обеспечивались тем, что
отрицанию подвергалось именно новое, а не базовые основания
коммуникации (родовая структура, мифы и т.д.). И при всем этом все
новое и необычное благодаря отрицанию как раз и получало статус
сохраненного и нормализированного1.
Функция бинаризации предложения состоит в привнесении в
коммуникации динамических свойств, временных характеристик - ведь
то, что отрицается, с одной стороны, может быть запомнено
(идентифицироваться как нечто прошлое). С другой стороны, по поводу
отрицания приходится - после некоторых колебаний - выносить решение.
Так в коммуникации возникает дивергенция забытого/запомненного
(или прошлого) и того, по отношению к чему следует принять решение
(будущее). Таковое различение собственно и называется временем.
Итак, коммуникация, приобретающая динамику благодаря
свойствам предложения, теряет стабильность и становится рискованной.
Именно эти опасности должны были преодолеваться новыми
технологиями — стабилизационными свойствами письменной речи.
Письменность: мнемотехника или технология коммуникации? В
общении орально коммуницирующих сообществ ключевая роль
принадлежала факту самого сообщения (означающему). Смысл сообщения
заключался в поддержании общения, а новое, неизвестное и
неожиданное (информативная составляющая сообщения)
минимизировалось2. Эта технология табуирования конкретного содержания
доказала как свою успешность3, так и эволюционную ограниченность, ведь
она не позволяла рождаться длинным цепочкам высказываний,
ориентированных предметно, а не социально. Эта ограниченность обсуж-
1 В отрицании «"В пустыне нет людей" ничего не говорится о том, что
происходит в пустыне, как и о том, где находятся люди да и вообще какие люди имеются в
виду. И все-таки эта коммуникация сама по себе является понятной и допускает ее
продолжение - например, как предостережение... как раз негативные
обозначения наводят мосты с нормальностью» (Луман Н. Указ. соч.).
2 Это обстоятельство имел в виду Р. Мертон в концепции латентых и явных
функций. См.: Merton R.K. Manifest and Latent Functions// Social Theory and Social
Stucture. Free Press, 1957. Само общение оказывается важнее содержательной
стороны общения, ведь оно способно нести интеграционную функцию как раз в силу
того, что факт сообщения не может быть оспорен и как минимум это уже
подразумевает согласие. Напротив, смысл или информация, вкладываемые в сообщения,
скорее разъединяют, поскольку оказываются недоступными для проверки,
замкнутыми в границах индивидуальных сознаний.
3 Примеры и описание процессов табуирования информационного обмена в
родовых обществах см.: Barth F. Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New
Guinea. Oslo, 1975.
А.Ю. Антоновский • К интерпретации языковых технологий
227
дения и общения конкретным временем устной беседы
препятствовала появлению собственной динамики общения, времени
обсуждения, зависящее от его предмета с собственным прошлым и будущим,
которые определялись бы возможностями сравнения его прошлых и
будущих состояний.
Требовался механизм разведения социально обусловленного
времени обсуждения (фактически представавшим, пусть и латентным,
самообсуждением некоторого сообщества) и предметно обусловленного
времени, необходимого для более или менее обстоятельного
обсуждения (впоследствии описания) данного предмета. Предмет должен был
допускать независимые высказывания о нем, которые могли бы
сравниваться некоторым наблюдателем на предмет их адекватности
предмету и согласованности или противоположности друге другом.
Требовался медиум (технология) наблюдения над мнениями наблюдателей,
в качестве какового и выступила письменная фиксация сообщений.
В разное время на осуществление этих функций вывода
обсуждения за пределы устной беседы фактически присутствующих лиц
претендовали разные медиа (мифы и ритуалы, магические практики,
практики предсказания и гадания, ритуалы посещения сакральных
мест, религия и мораль). Однако все они, ориентируясь на тайну1 и
запрещая тематизацию своего фундамента (оснований мистерий,
природы божества, оснований морали и т.д.) не могли обеспечить
требующуюся передачу ключевой роли в коммуникации от полюса,
интегрирующего сообщество, - сообщения - к полюсу, допускающему
полемику и конфликт, - информации и наблюдению второго порядка.
Такой технологией десоциализации общения стала
письменность. Подобно медиуму языку2 и являясь формой этого медиума,
письменность в свою очередь выступает технологией решений двух
несогласующихся друг с другом функций: мнемотехнических записей
и писем. Рожденная для регистрации3 хозяйственных и (внешне) по-
1 См.: Muller К.Е. Das magische Universum der Identität: Elementarformen sozialen
Verhaltens: ein ethnologischer Grundriss. Frankfurt a/M, 1987; Он же. Die Apokryphen
der Oeffentlichkeit geschlossener Gesellschaften // Sociologia Internationalis. 1991.
Vol. 29. S. 189-205.
2 Поскольку и язык в свою очередь словно распадается на две
взаимоисключающие функции — с одной стороны, предполагает заложенную в слове интегра-
тивную функцию обобщения, автономизации человеческого общения через
отвлечение от всего внешнего и конкретно-предметно определенного, а с другой -
подразумевает (заложенную в структуре предложения) дезинтегрирующую
бинаризацию (да/нет-кодирование) любого предложенного для обсуждения смысла.
3 См.: Schmandt-Besserat D. An Archaic Recording System and the Origin of Writing //
Syro-Mesopotamian Studies. 1977. № 1/2. P. 1-32.
228 Раздел 3. Язык, сознание и социум
литических событий и процессов1, письменность превратилась в
самостоятельный медиум коммуникации - технологию
распространения коммуникации, радикально трансформировавшую весь
коммуникативный процесс2.
Устное общение: специфика и условия. Устная коммуникация
ориентирована на конкретный пространственно-временной и личностный
контекст, на те ожидания, которые связываются с присутствующими
известными лицами и известным пространством. Высказывание
«завтра я собираюсь на охоту в лес, ты со мной?» не будет отклонено лишь в
том случае, если известен не представленный в самом предложении
контекст: известны личность и качества охотника, время охоты и
наличие самих охотничьих угодий, и именно этот контекст определяет
понимание и мотивирует акцептацию предложенного смысла. Именно
этот контекст (известность того, кто предлагает, того, когда наступит
«завтра», «где» и «с кем» осуществляется дяетельность) конкретного
пространства, времени и свойств личности определяет коннекции
устных сообщений3. Этот способ выстраивания коммуникативных
систем, очевидно, контрастирует с письменным: ведь письменности самой
надлежит определять свой контекст. Теперь индивиды свободны
оттого, чтобы своим присутствием и особенностями своей личности
определять понимание предложенного для коммуникации смысла и
возможность обращаться к этому смыслу в различающихся ситуациях.
Производство собственного контекста является первым условием появления
автономных коммуникаций, выходящих за пределы конкретного
пространства и времени, ориентированные на некоторое прошлое и
будущее, на автономную динамику информативного обсуждения предмета4.
1 О генезисе технологии письменности из практики предсказаний, процессе
отделения идеограмм от знаков гаданий (нагретых костей, панцирей черепах
и т.д.) и последующей фонетизации см.: VernantJ.P. [et al.]. Divination et rationalité,
P., 1974; BotteroJ. Mésopotamie: L'écriture, la raison et les dieux. P., 1987; Marshack A.
The Roots of Civilization: The Cognitive Beginnings of Man's First Art, Symbol and
Notation. L., 1972.
2 Haarmann H. Universalgeschichte der Schrift. Frankfurt a/M., 1990.
3 См.: Muller W. Raum und Zeit in Sprachen und Kalendern Nordamerikas und
Alteuropas// Anthropos. 1963. Vol. 57. S. 568-590; MbitiJ. Les Africains et la notion du
temps // Africa. 1967. Vol. 8, № 2. P. 33-41; Thornton RJ. Space, Time and Culture
among the Iraqw of Tanzania. N.Y., 1980.
4 Окончательно эта автономия общения от конкретного контекста
устанавливается вместе с такой формой письменности, как книгопечатание. Так,
письменные законы выводят коммуникацию из-под конкретики контекста и
особенностей личности; вести себя и коммуницировать следует правосообразно. Печатные
деньги обеспечивают платежи независимо от характера плательщиков, времени
года и места платежа.
А.Ю. Антоновский • К интерпретации языковых технологий 229
Дистинкция близкое/далекое как количественное условие коннекции
устных коммуникаций. Эта определенность конкретным
пространством-временем выражается в представлениях и структурах соседства,
которые определяли полезность и опасность тех или иных
интеракций. Важность общения уменьшается, а риск увеличивается
пропорционально дистанции между коммуницирующими лицами. Родовые
структуры как раз и отличались тем, что религия, ценности, мораль и
вообще philia не распространялись на отдаленные сообщества.
Пространственным регулятором коммуникационного системообразова-
ния выступают различения близкое/далекое1, знакомое/незнакомое.
Базирующееся на ресурсах индивидуальной психики различение
запомненное/забытое выступает таким ориентиром и ограничителем
применительно ко времени2. Прошлое для родового общества
простирается натри поколения назад, будущее предстает тем, в
отношении чего еще можно оказать воздействие. Предположительно
будущее ограничено периодом плодоношения посаженных культур и
временем сохранения жилищ и иных построек.
Технологии сакрализации как решение проблемы коннекции устных
коммуникаций. Помимо различения близкое/далекое, количественно
определяющего важность общения с отдаленными индивидами и
служащего условием коннекции коммуникаций, устно коммуницирую-
щие сообщества проводят и качественно определенную границу
своих коммуникативных систем. Этому служат прежде всего ранние
формы религии и соответствующие им табу, экстазы, состояния
транса и мистерии. Для того чтобы очертить рамки системы
коммуникаций, сообщество словно отправляет шаманов в «запредельные» миры.
Именно состояние экстаза должно продемонстрировать специфику
«запредельного» характера коммуникации, где главное message
недвусмысленно указывает на то, что «за пределами» страшно и ужасно,
следовательно, общение в «обжитой середине» следует признавать в
качестве приятного и надежного. То, что чувствует шаман во время
1 См.: Sahlins M.D. On the Sociology of Primitive Exchange // The Relevance of
Models for Social Anthropology. L, 1965. P. 139-236; Bailey F.G. The Peasant View of
Bad Life //Advancement of Science. 1966. Vol. 23. P. 399-409.
2 См.: Schott R. Das Geschichtbewusstsein schriftloser Volker // Archiv fur
Begriffsgeschichte. 1968. Vol. 12. S. 166-205; Brundage В. С. The Birth ofClio: A Resume
and I nterpretation of Ancient Near Eastern Historiography//Teachers of History: Essays
in Honor of Laurence Bradford Packard ; H.S. Hughes (ed.). Ithaca, N.Y., 1954.
P. 199-230; Chatelet F. La naissance de l'histoire: La formation de la pensée historienne
en Grèce. P., 1962; Jonker G. The Topography of Remembrance: The Dead, Tradition
and Collective Memory in Mesopotamia. Leiden, 1995.
230
Раздел 3. Язык, сознание и социум
транса, невозможно передать обычной речью, об этом следует
молчать. Эта функция тайны и коммуникативного запрета на большую
часть возможных содержаний коммуникаций, как показывают
этнографические исследования, выступала условием локально
определяемой солидарности1.
Незначительных ресурсов устного языка достаточно лишь для
сакрализации, т.е. остановки вопрошания о запредельном. Лишь
письменный язык делает возможным само различение того, что есть, и
того, что за этим кроется, поскольку лишь письменная фиксация делает
возможным наглядно представлять сам язык в языке, а
следовательно, осуществлять такое базовое различение, как различение слов и
вещей, а впоследствии и благодаря этому — так называемых сущностей
и явлений. Но такая возможность выражения языка в языке
посредством письма поставила фундаментальную проблему взаимоперевода
устной и письменной речи.
Проблема взаимоперевода устной и письменной речи. Письменность
обогащает мир новыми реалиями, аспектами и качествами, которые,
однажды появившись в устной речи, уже не исчезают вместе с их
изобретателем. Возникает совершенно иной мир записанных
обозначений, дефинитивно более богатый по сравнению с тем, какие
возможности обозначения может позволить индивидуальная память. Как же
обеспечить взаимоперевод2 количественно и качественно
несоизмеримых множеств смыслов и их обозначений?
Несмотря на содержательное обогащение письменной речи, в
письменности утрачиваются существенные черты оральной
коммуникации. В письменность не входит означенная выше
специфичность живого общения, нацеленного прежде всего на сообщение и
индуцируемую им общность, на то, что связывает попеременно
слушающих и говорящих. Этот общностно-интегративный (не-инфор-
мационный) смысл устной коммуникации оказывается безвозвратно
утерян и не воспроизводится в письменной речи. Утерянным в
письме оказывается и фундаментальная временная характеристика
устной речи — одновременность говорения и слушания, что приводит к
началу распада единства коммуникации как одновременно данного
единства сообщения, информации и понимания. Особый временной
1 См.: Glinga W. Mundlichkeit in Afrika und Schriftlichkeit in Europa: Zur Theorie
eines gesellschaftlichen Organisationsmodus // Zeitschrift fur Soziologie. 1989. Vol. 19.
S. 89-99.
2 См.: Tedlock D. The Spoken Word and the Work of Interpretation. Philadelphia,
1983.
А.Ю. Антоновский • К интерпретации языковых технологий
231
порядок устной речи теряет свою интегративную функциюх, на смену
ему приходят совершенно новые формы общения и интеграции, а
именно особые операции наблюдения «письмо» и «чтение»,
парадоксальным образом выведенные за рамки общения.
Возможности перевода с устного на письменный ограничены
существенными трудностями установления эквивалентности
оптических и акустических технологий презентации смысла. На
первый взгляд дело предстает таким образом, как будто звуковые
единицы, фонемы воспроизводятся в виде оптических единиц, букв.
Однако очевидно, что в устном языке до появления фонетического
письма просто не существовало элементарных фонем, поскольку
непонятно, какие технологии (до появления фонетического
алфавита) были способны их презентировать и какую функцию они
играли бы в общении. Возможно, они существовали в виде
нерефлексивных кваркообразных структур, не существующих обособленно.
Впрочем, и фонетическое письмо не решает, как показывает
приведенный ниже пример, проблему экспликации «чистых», или
«элементарных», звуков.
Фактически оптические единицы весьма произвольно связаны с
акустическими. Фонетическое письмо фиксирует своими
элементами различия в звуках, но не некие «чистые», «обособленные»,
«элементарные» звуки. Если вводится весьма искусственная буква «щ» (не
есть ли она сочетание «ш» и «ч», а сама «ч» не есть ли сочетание «т» и
«ш»?), то ее оптическое представление есть наново
сконструированная сумма различий (согласные/гласные, шипящие/не шипящие,
мягкие/твердые). Уже на этом элементарном уровне отношение
акустических и оптических технологий обозначения не является
однозначной взаимопрезентацией. Письменное обозначение фиксирует
не просто звук и не просто смысл, а их различность и одновременно -
единство. Сам денотат письменного выражения становится -
немыслимой в рамках устного общения — проблемой, требующей
определиться с тем, обозначается ли нечто как означающее (звук,
сообщение) или как означаемое (смысл, информация). В этом смысле только
в письменной речи возникает проблематизация понимания, т.е.
вопрос о том, адекватны ли друг другу само выражение (сообщение) и
его смысл (информация).
1 «Ускорения и замедления, акустически нагруженные промежутки и паузы,
периоды ожидания и моменты, в которых напряжение нарастает или вновь
разряжается... это общее переживание структурированного развертывания и опосредует
говорящим и слушающим то впечатление, что они переживают одно и то же» (Лу-
ман Н. Указ. соч.).
232
Раздел 3. Язык, сознание и социум
Итак, лишь благодаря письменности смысл получает
независимость от слова, а слова теперь жестко отличаются от вещей, ведь
смысл отныне не привязан ни к тому, ни к другому, а может менять
техники своего представления — словно осциллировать от
акустических к оптическим презентациям. Письменность маркирует и реифи-
цирует (в виде написанного, а значит — предметного) различение
смысла и слова, но вместе с этим утрачивается возможность
непосредственного воздействия слова на вещи1, возникает дистанция
между миром и его вербальным представлением, но главное — теперь уже
сам язык допускает свою интерпретацию в виде реифицированных
данностей. Теперь благодаря двум новым операциям общения
(письма и чтения) с помощью вещей (технологий письма, изготовления
бумаги и средств письма) можно опосредованно влиять на слова, а при
помощи технологии чтения слова и смыслы словно без
вмешательства предметных медиа практически непосредственно воздействуют и
определяют друг друга.
Благодаря указанным достижениям возникают радикально иные
технологии, которые уже с полным правом можно называть
социальными. Собственно все современное общество в отличие от
традиционного, дописьменного общества оральных культур определяется
этими технологиями (печать, электронные медиа). Эти технологии
могут быть обозначены как телекоммуникация, транспортировка
знаков вместо вещей.
Письменность как технология телекоммуникации. Письмо выводит
общение за пределы конкретного пространства-времени и
особенностей (и давления) социального окружения. Выводимая из
письменного сообщения информация теряет связь с локальными ситуативными
детерминантами. Становится возможной презентация в
коммуникации того, что отсутствует в данном пространстве и времени,
презентация чуждых образцов поведения, толерантное отношение к Другому и
операционализация ресурсов, которые привносит Другой2.
Коммуникативная операция нового типа «чтение» придает
семантике «участия» совсем иной смысл. Теперь «участие» — это не
личная деятельная ангажированность, а «участие» в судьбе
литературного героя, и это участие возможно лишь до тех пор, пока герой
1 «Лишь за Божьим Словом сохраняется способность непосредственно
изменять вещи: и сказал Бог - да будет свет, и стал свет» (Луман Н. Указ. соч.).
2 Технология задействования формы «Другой» - эта фигура в образе торговца и
третейского судьи - обязана своим появлением письменным формам: деньгам и
записанным законам (см.: Simmer G. Der Fremde).
Л.Ю. Антоновский • К интерпретации языковых технологий
233
предлагает новые и неожиданные формы поведения и речи. В
противном случае читатель теряет к нему всякий интерес. Появление
сложных письменных текстов должно предложить достаточную
мотивацию для преодоления естественных (и даже чрезмерных)
трудностей его прочтения. Само по себе представляется в высшей
степени невероятным, чтобы человек затратил столько усилий и
драгоценного времени на осуществление сочетаний и
воспроизводство мириадов букв и слов. Такой мотивацией и служит теперь
«информация», получающая доминирующее значение в ее
отношении к «сообщению», собственный смысл которого прежде состоял
в демонстрации участия и готовности осуществлять солидарное
поведение.
Письменность, и это составляет главный тезис
системно-коммуникативной интерпретации последней, переворачивает прежнюю
аксиому коммуникации «главное не успех, главное - участие». В
письменном обществе коммуникативный успех становится основной
проблемой, и для его достижения единственно возможным средством
становится поиск, а лучше производство нового и неожиданного
знания и научения из разочарования в знании предшествующем.
Огромные массивы телекоммуникационно-презентированного
нового, более не ограничиваемого естественным
пространственно-временным и коллективно-личностным контекстом общения и
конкретностью ситуации, делают коммуникацию в высшей степени
селективной, а достижения коммуникативного успеха в высшей
степени проблематичными. Как и всякая техника, письменность, решая
одну задачу, создает новые проблемы, требующие привлечения
новых технологий (прежде всего технологий обеспечения
коммуникативного успеха—властных, монетарных, интимных и иных типов
мотивации коммуникации). Письменность меняет смысловые значения
коммуникации в социальном, временном и предметном измерении,
что драматически расширяет возможности коннекции.
Итак, письменность ведет к забвению и нейтрализации
контекста — как контекста создания письменно фиксированных смыслов,
так и контекста, в котором осуществляется чтение. Поскольку текст
требует сосредоточения на себе самом, должен обеспечить
мотивацию и пробудить интерес к собственному содержанию, предмету
описания, у участников письменной коммуникации не остается времени
и интереса к конкретным мотивам порождения текста1. Даже несмот-
1 «Кто будет спрашивать, почему Фома Аквинский написал свои "Суммы", и
какой прок в знании этого?» (Луман Н. Указ. соч.).
234
Раздел 3. Язык, сознание и социум
ря на наличие авторства, текст дефинитивно безличен1 в том смысле,
что обнаружение другого (подлинного) авторства ничего не
привнесло бы в те способы, какими текст вовлекает и связывает читателя.
Очевидно, связанные между собой безличность текста и отсутствие
интереса к мотивам его производства (прошлым условиям,
генеративный контекст) указывают на в свою очередь связанные
трансформации в социальном и временном измерениях коммуникации.
Равным образом можно говорить и о сопряжении изменений во
временном и предметном измерениях. О некотором, в себе (т.е. с точки
зрения формы выражения или сообщения) идентичном2 тексте
можно формировать различные мнения, а следовательно, приходится
сдерживать немедленные реакции. Письменность по самой своей
природе делает возможным откладывание — свободное от давления со
стороны непосредственных участников коммуникации - понимания
на потом, понимания, которое может осуществляться когда-то и
где-то в другом месте кем-то другим.
Таковые изменения в личностном и пространственно-временном
характере общения провоцируют изменения и в предметном
измерении. Мультипликационная природа письма бесконечно расширяет
число возможных прочтений. Чтобы сохранить понятность и,
главное, информативность (новизну и неожиданность) предлагаемого
содержания для самых разных контекстов прочтений (определяемых
принадлежностью к различным социальным стратам, полученным
образованием, профессиональной, конфессиональной
принадлежностью, половозрастными характеристиками и психологическими
предпочтениями), объем информации каждого письменного
сообщения приходится минимизировать, убирая все предположительно
известное, но компенсировать это сжатие беспрестанным
предложением новой информации. Эту задачу подпитывания новизной берут на
себя специализирующиеся на этом системы коммуникаций, а
именно массмедиа.
Таким образом, в использовании письменности общество
отказывается от временной и интеракционной гарантии единства
коммуникативной операции. Единство общения (смысл как возможность
1 О проблеме безличности (= самоавторизации текста) см.: Les saviors de
l'écriture. En Grèce ancienne ; M. Détienne (ed.). Lille, 1988.
2 Идентичность текста, его предметную определенность в предметном
измерении общения, которую не смогли поколебать ни письменность, ни печать,
разлагают электронные технологии распространения коммуникации. Об этом см.
следующую статью, посвященную социальным технологиям печати и электронной
телекоммуникации.
А.Ю. Антоновский • К интерпретации языковых технологий
235
подсоединения) уже не определяется конкретным
пространством-временем и принуждением говорить приятные вещи.
Письменные сообщения должны все еще оставаться понятными
и интересными при непредсказуемых условиях чтения
(пространственно-временных и личностных контекстах и ситуациях), а реакции
фактически отсутствующих читателей уже невозможно
контролировать нормами и правилами личных отношений (личного участия,
требующего прочитать для приличия, из вежливости или чтобы не
обидеть). Отсутствие ситуационного контроля над читателем, активность
которого выходит за пределы пространства-времени и личности
автора, делает возможности коннекции (новых письменных реакций на
прочитанный текст) поистине безбрежным, причем у автора
отсутствует всякая возможность определять даже миниальную адекватность
предлагаемых интерпретаций и комментариев заложенному
авторскому смыслу. Хаос возможных коннекции письменно предлагаемых
коммуникативных смыслов требовал новых способов редукции,
восстановления утрачиваемого социального порядка, новых
ограничителей для массивов возможных подсоединений.
Вместо заключения: выход письменной коммуникации за пределы
современности через «откладывание» понимания. Основным следствием
появления фонетического письма явилось преодоление
пространственно-временной и лично-коллективной структуры традиционного
общества, основанного на одновременности и фактической
неразличимости сообщения, информации и понимания, и вытекающего
из этого словно автоматического взаимоконтроля пространственно
объединенных участников сообщества. Это касается и обращенных в
прошлое нарративов1. Успех коммуникации определялся
указанными контекстами и обеспечивался автоматически. Технологии письма
и проблематизация успеха, вытекающая из этих технологий, меняют
требования к посылаемому сообщению. Успех сообщения зависит
отныне от его настроенности на пространственно-временные и
личностные дистанции, на неизвестные интерес и мотивы будущих и
далеких читателей. Этот слом древних технологий, гарантирующих
социальный порядок, переориентировал коммуникацию с полюса
сообщения (участия) на полюс информации о ранее неизвестном.
1 «Также и мифы, чье действие свершалось в незапамятные времена, в качестве
рассказов представляли собой современности, так что им не вредило и то, что сам
рассказ мог предполагать и даже должен был предполагать то, что они известны.
Смысл их коммуникации заключался не в неожиданности (информации), но в
соучастии» (Луман Н. Указ. соч.).
236
Раздел 3. Язык, сознание и социум
Мир, многократно обогащенный и мультиплицированный
письменностью, словно выходит в своих
пространственно-временных структурах за пределы локальных коммуникаций,
обеспечиваемых ею возможностей предметно обсуждать реалии внешней
среды. Мир (как бытие, как природа, теперь наблюдаемый
сколько-нибудь адекватно лишь всеприсутствующим
богом-наблюдателем) больше не укладывается в сообщение. И именно поэтому этот
мир, необъятно расширившийся в своих письменных
презентациях, допускает неожиданности и удивительные вещи
(информацию). Поскольку он в этом смысле перестает быть
«одновременным»1 коммуникации, сама коммуникация должна «растягиваться»,
чтобы в предлагаемых ею информациях хоть как-то соответствовать
обсуждаемому в ней сверхсложному миру. Этому растягиванию
коммуникации служило вынесение ее завершающей стадии,
понимания, в некоторое отдаленное, до конца не определенное
время - будущее. Коммуникация теряет свое единство, свою
определенность с точки зрения участвующих лиц (читателя и писателя),
времени и пространства этой коммуникации. Единственная
определенность сохраняется отныне лишь в ее предмете, в той
информации, которую выражает письменное сообщение, а лица и времена
теряют всякое значение.
Предметная определенность письменной коммуникации
обеспечивалась укоренившейся и стабилизировавшей ее формой -текстом.
Технология оттекстовывания, правила составления текстов,
типические формы, требования к компоновке и т.д. восстанавливали
порядок, поколебленный письменностью как таковой, выступали
технологическим контролем письменной техники. Текст явился формой
письменного медиума, как когда-то письменность выступила
формой для медиума языка, в свою очередь явившегося формой для
медиума восприятия2. Эта кажущаяся стабильность являлась паллиа-
1 «В случае устной коммуникации, например при проведении долгих
представлений по ритуальным или праздничным поводам, исходят из того, что мир, в
котором осуществляется коммуникация, и мир, о котором коммуницируется,
принципиально не отличаются, но образуют некий континуум реальности. Еще долгое
время после распространения письменности (и даже книгопечатания) создание
чисто фикциональных текстов казалось чем-то само собой разумеющимся. Сколь
бы невероятными ни были рассказы, речь в них велась о мире, который все могли
лицезреть» (Луман Н. Указ. соч. С. 283).
2 Восприятия, выступающего формой медиума звука, в свою очередь давшего
форму собственному медиальному субстрату — шуму, понимаемому в качестве
формы медиума воздуха. См. Heider F. Ding und Medium //Symposion. 1926. Vol. 1.
S. 109-157.
А.Ю. Антоновский • К интерпретации языковых технологий
237
тивным решением: единство и устойчивость текстов также
растворились в массивах накладываемых на них форм — возможных
интерпретаций, а с появлением электронной телекоммуникации
сходит на нет и единство предмета коммуникативного обсуждения. Кто
знает, что сегодня обсуждалось в фейсбуке? Вопрос о том, какие
новые технологии могут быть предложены, предлагаются для
восстановления утрачиваемого единства коммуникации и смогут
претендовать на статус новых технологических гарантий социального порядка,
требует отдельного обсуждения.
А.Ю. Антоновский
Пространство и время коммуникации
и сознания: Бурдье vs Луман
Для объяснения и описания фактически наличествующей
коммуникативной рациональности оказывается недостаточным ее
традиционное сведение к расходящимся индивидуальным и коллективным
интересам и обмену ресурсами как средству согласования этих
интересов2. Более полное описание коммуникативной рациональности
возможно через введение фактора пространства индивидуальных
позиций как особого измерения, в котором каждое действие или
коммуникация действователя получает определенное значение.
Методология пространственного анализа социума базируется на
том, что общество может наблюдаться исходя из наличия в нем
относительно жестких позиций, рядом и в отдалении от которых могут
фиксироваться другие позиции. Их совокупность предстает в виде
некой матрицы, и всякая коммуникация, всякое действие поэтому
могут рассматриваться как соотносимые с ними, как направленные на
достижение этих позиций, как соразмерные и несоразмерные в
отношении к занимаемым действователями позициям.
Понятие «позиция» противоположно понятию «различение» (на
котором строится развиваемый нами дименсиональный подход к
анализу общества), и тем не менее именно их фиксация в социальном
пространстве в рамках задаваемой исследователем системы
координат позволяет фиксировать также оппозиции и диспозиции. Однако
анализ последних, как мы покажем, требует введения нового фактора
рациональности поведения и коммуникации, а именно времени как
меры, позволяющей зафиксировать специфику современной
коммуникации, направленной не на защиту наличных позиций
коммуникантов, а скорее на динамику изменений позиций в социальном
пространстве. Фактор времени является ключевым для определения
осмысленности коммуникаций и, как следствие, ее рациональности.
1 Материал подготовлен при поддержке РФФИ, проект № 09-06-00322-а,
а также РГНФ, проект № 07-03-0038а.
2 См.: Coleman J.S. Foundations for a Theory of Collective Decisions // American J.
of Sociology. 1966. Vol. 71, № 6; Homans G.S. Social Behavior as Exchange // American J.
of Sociology. 1958. Vol. 63, № 6; Olson M. The Logic of Collective Action: Public Goods
and the Theory of Croups. Cambridge (MA), 1965.
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 239
Габитус и пространство: рациональность как адекватность
символической практики и позиции действователя. С точки зрения «позиционизма»
П. Бурдье, основное внимание должно уделяться обучению как
процессу генерации системы поведенческих предпочтений, которую
мыслитель именует габитусом. Поэтому анализируя габитус, мы
анализируем те или иные — всегда привязанные к некоторой позиции —
социальные структуры, детерминирующие действие и
коммуникацию, которые в этом смысле не являются результатом свободного
выбора индивида, руководствующегося теми или иными
конкурирующими мотивами. Соответственно и рациональность уже не может
пониматься в веберовском смысле как согласованность
целей-мотивов и выбираемых средств целедостижения.
И хотя эта — скрытая в непосредственно не наблюдаемом габитусе —
социальная структура все-таки интериоризирована в сознании и,
следовательно, должна принимать форму мотивов, ее объективный,
культурно и исторически обусловленный характер этим не снимается. Поэтому
внимание социолога должно быть обращено не на понимание
действователя через реконструкцию его целей и мотивов и не на их
сопоставление с выбранными ими средствами реализации, а на процесс
генерирования локализованных в сознании социальных структур, или габитус.
В этом ключе Бурдье рассматривает участие в выборах как пример
рациональности политической коммуникации: «В Японии процент
участвующих в выборах наиболее велик среди наименее
образованных женщин сельских округов, в то время как во Франции... процент
неучаствующих или индифферентных к политике особенно велика
среди женщин, среди наименее образованных, среди экономически и
социально обездоленных. Это и есть пример ложной дифференции,
скрывающей дифференцию реальную: апатию, сопряженную с
лишенностью средств производства политических мнений,
выраженную во Франции в виде простого абсентеизма, переводимую в случае
Японии как вид аполитической партиципации. Мы далее должны
задаться вопросом о том, какие исторические условия (и здесь следует
привлечь всю политическую историю Японии) явились результатом
того факта, что консервативные партии оказались способны через
особые формы клиентелизма извлечь пользу из предпочтений к
безусловному делегированию [полномочий], вытекающему из
убеждения в собственной лишенности статусной и технической
компетенции, необходимой для партиципации»1.
1 Bourdieu P. Social Space and Symbolic Space: Toward a Japanese Reading of
Distinction// Poetics Today. 1991. Vol. 12, № 4. P. 629.
240
Раздел 3. Язык, сознание и социум
Итак, внешнее, «поверхностное» различие в практике занятия
позиций (в данном случае партиципация vs абсентеизм) скрывает-де
некое глубинное тождество лишь «видимостных» различий, некую
глубинную реальность или социальную структуру, некие исторические,
т.е. объективно утвердившиеся системы предпочтений. Отсюда и
представление о рациональности: действия и коммуникация рациональны
в том случае, если соразмерны этой глубинной реальности, а не
поверхностно различающимся феноменам. Рационально и участвовать в
политической коммуникации (если это соответствует исторически
сложившемуся латентному габитусу), и воздерживаться от нее (опять
же в соответствии со своим габитусом). И в том и в другом случае
глубинный, определяющий практику габитус выражает общую, но
скрытую диспозицию аполитичности и эксклюдированности, как раз и
являющуюся критерием рациональности (или нерациональности)
соответствующей «явной» и доступной эмпирическому анализу практики.
Итак, вывод о рациональности коммуникации и действия должен
явиться результатом сравнения скрытых от наблюдения -
вытекающих из пространственно определенных позиций —диспозиций.
Всякое действие и коммуникация локализованы в социальном
пространстве и в этом смысле допускают возможность «измерения»
как результата приписывания им «правомерных» и «неправомерных»
значений в координатах этого пространства. Действие не является
рациональным, если занимающий определенную позицию индивид,
которому надлежит вести себя соответственно габитусу, задаваемому
позицией, презентирует себя в виде «оккупанта» иной позиции.
Рациональное действие и коммуникация суть то, что соответствует
месту действующего и коммуницирующего индивида в своем жизненном
мире (= в социальном пространстве). Такое соответствие позиции
сигнализируется самыми разными способами - стилем одежды,
типом проведения досуга, потребительскими предпочтениями и
речевыми оборотами.
Позиции могут наблюдаться, быть названы и зафиксированы. То
же касается практик, соответствующих позициям, — стремлений
занять, удержать и символически подчеркнуть свою принадлежность
тем или иным позициям. Все это можно назвать рациональным
поведением, противопоставив его поведению нерациональному - в
модусах «равнодушного» отношения к (удержанию) своей позиции,
отсутствия стремления занять вышестоящую позицию, неадекватного
символического представления своей позиции.
Важно понимать, что габитус принципиально скрыт от
наблюдения, является своего рода диспозиционным предикатом, выражаю-
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 241
щим неявное отношение между некоторой практикой (социальным
действием и коммуникацией) и некоторой позицией в социальном
пространстве. Но именно в его экспликации должен, по мысли Бурдье,
состоять основной интерес социолога. Габитус - это не просто
предпочтения, неявные правила поведения, это скорее ожидания от
собственного или чужого поведения, принимающие относительно
явную форму лишь в случае разочарования в этих
естественно-понятных и поэтому не проблематизируемых ожиданиях. Рациональное
поведение и коммуникация в этом смысле не являются действиями,
каузально подчиненными мотивациям, субъективному выбору; но
это и не действия, детерминированные структурами, институтами,
внешним принуждением, интериоризованными нормами и
ценностями. Причинами поведения выступают в данном случае каузальные
факторы особого типа1. Габитус как детерминация системой
предпочтений - это чрезвычайно специфическая каузальность. Это не
каузальность законов природы, каковую можно конструировать и
каковая возникает, если в качестве причиняющих факторов
рассматривать мотивы или интериоризованные нормы или ценности, или
внешнее принуждение. Габитус не является событием, запускающим
другие события. И именно на этом зиждется его стабильность, его
словно вневременной характер.
Габитус репрезентирует «тотальность» прошлого, т.е. кристалли-
зованность прошлых практик в виде нестрогих, применяемых к
самым разным ситуациям правил, которые заставляют вести себя и
коммуницировать, подчиняясь прошлым стандартам и паттернам
поведения, но именно эта «прошлость» обеспечивает известную
свободу от ситуации, делает возможным поведение, не детерминированное
конкретными ситуациями, независимость от быстротекущего
времени, ведь задаваемые габитусом паттерны поведения требуют в самых
разных ситуациях вести себя относительно одинаково. Но эта габиту-
альная диспозиция «воспроизводства прошлого поведения» вытекает
1 Обычно в качестве диспозиционального предиката приводят пример
«хрупкости». «Поведение» хрупкого бокала детерминировано двояко: связью с внешней
ситуацией (падением иди покоем) и внутренней структурой (в данном случае
свойствами материала). «Хрупкость» сама по себе, как причиняющее событие,
запускающее иные события, в эмпирической реальности никак не презентирована,
но о ней можно судить постфактум, в практике, если бокал разбился, т.е. возникла
особая констелляция внешних условий и внутренних свойств. Для полноты
аналогии мы можем даже сказать, что у бокала есть «внутреннее предпочтение» к тому,
чтобы разбиваться в определенных условиях, запускающих эти процессы. Речь
идет об особой, «несобытийной» каузальности, не совпадающей полностью и с
«материальной» причиной в смысле Аристотеля.
242
Раздел 3. Язык, сознание и социум
из принадлежности действователя некоторому месту в рамках
некоторого пространства или поля.
Вообще метафора поля хорошо выражает представление о
границах рациональности, ведь поле оказывается самым общим
основанием правил (игры) рациональности. Так, за границы поля запрещено
выбегать во время игры в футбол; на шахматной доске в одном месте
поля от фигуры требуется «ходить» иначе, чем это требовала бы другая
позиция. Отсюда вытекает вопрос о структуре поля, задающей
принципы «правильных» или рациональных ходов, и, конечно, вопрос об
основаниях этой структуры. Ответ Бурдье хорошо известен. Таковым
основанием выступает капитал в его самых разных,
диверсифицированных формах. Форма капитала (экономического, образовательного
и капитала социальных связей) задает специфику соответствующего
поля или пространства (экономического, культурного, социального),
а объем капитала все-таки придает известное единство
перечисленным разнящимся формам полей или пространств.
Итак, ответ на вопрос о том, что задает единство поля, а
следовательно, и правил рациональности, следует искать в проблеме
измерения поля капиталом. Если аккумулирован значительный объем
образовательного капитала (престижное образование), то, с одной
стороны, это, как правило, является результатом конвертации в него
экономического капитала (финансового благополучия родителей),
влечет аккумуляцию больших объемов социального капитала
(социальные связи, нарабатываемые в престижном университете), что в
конечном счете создает условия для накопления значительных объемов
собственного экономического капитала. Итак, поле измеряется в тех
же единицах, что и капитал.
Вопрос, следовательно, в том, существует ли какое-то самое
общее пространство, объединяющее все частные поля,
накладывающиеся друг на друга. Опираясь на приведенный тезис Бурдье, можно
говорить о таком всеобщем пространстве, единство которого задается
процессом конвертации капиталов друг в друга. Все частные поля
суть манифестации этого единого поля. Тот, кто занимает «верхнюю»
позицию в экономическом измерении, способен и конвертировать
свой капитал в некоторый символический (образовательный)
капитал. Здесь становится очевидной слабость пространственной
редукции общества, поскольку логика конвертации капиталов сама по себе
не объясняется распределенностью на те или иные позиции. Так,
непонятно, что заставляет не удовлетворяться аккумулированным в
настоящий момент капиталом, но инвестировать его в будущее,
максимально диверсифицируя накопленное в самые разные формы. Не го-
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания
243
воря уже о том, что и сама конвертация возможна лишь во времени,
поскольку переводы форм капитала друг в друга, как правило,
осуществляются соразмерно сменяющимся поколениям.
CAPITAL VOLUME ♦
(combining al foam of capital)
ptano
CAPITAL VOLUME -
Матрица увеличения объема общего (не диверсифицированного) капитала во
Франции 1970-х гг., возрастания экономического капитала и уменьшения
культурного капитала
244
Раздел 3. Язык, сознание и социум
Бурдье предлагает позиционалистскую схему взаимоналожения
экономического пространства и пространства символической
активности в измерениях объема культурного и экономического
капиталов в виде следующей матрицы (рисунок). Прописными буквами
обозначены позиции, а строчными - практически-символические
представления этих позиций. Критерием рациональной
репрезентации своей позиции служит пространственная близость первого и
второго. Критерием рациональной коммуникации в свою очередь
является притязание на коммуникацию с действователями,
занимающими пространственно близкую позицию в рамках данной
матрицы. В этом смысле рациональность коммуникации и может быть
«измерена».
Измерение снизу вверх отражает увеличение общего объема
капитала безотносительно к его форме. Измерение слева направо
показывает увеличение относительного веса экономического капитала
в пропорции к уменьшающемуся культурному капиталу. Здесь
каждому классу позиций соответствует класс габитусов (или вкусовых
предпочтений), «произведенных через социальное
кондиционирование».
В конечном счете становится понятным, что связь позиции в
социальном пространстве и соответствующей диспозиции (вкуса,
предпочтений) может быть эксплицирована только через обращение к
истории, к тому, как фактически формировалась эта связь, пусть даже в
настоящий момент она представляется как случайная. (Так,
современность не дает никакого объяснения тому, почему крестьяне пьют
ординарное вино, а профессора — виски, топ-менеджеры заводят
собак, а интеллектуальная элита - кошек, см. рисунок.) Именно
поэтому в измерение социального пространства приходится вводить
прошлое и будущее, а значит — время как имманентный принцип
объяснения связи между местом в пространстве и его символической
репрезентацией, между социальной позицией и - обусловленной
ненаблюдаемым габитусом — практикой.
К эпистемологическому статусу габитуса. Рациональность
следования габитусу становится еще более очевидной, если рассмотреть
эпистемологическое содержание этого понятия, его роль в качестве
неявного инструмента познания. В конечном счете оказывается, что
габитусы — это генеративные принципы практик различения,
практические символические медиа социального познания, «категории
социальной перцепции»: «Что ест рабочий, и особенно то, как он ест,
спорт, которым он занимается, его политические взгляды и то, как он
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 245
их выражает, системно отличны от соответствующей активности
предпринимателя. И значит, габитусы суть классификационные
схемы, принципы классификации, принципы of vision and di-vision,
различных вкусов. Они обусловливают различия между тем, что хорошо,
а что дурно, между тем, что правильно, а что неправильно, между тем,
чтоявляется изысканным, а что вульгарным, и т.д... но дистинкции не
являются тождественными. Одно и то же поведение или даже одно и
то же обладание благом может представляться утонченным
применительно к одному лицу и претенциозным в отношении другого,
дешевым и показным в отношении третьего... Самый существенный пункт
состоит здесь в том, что, будучи воспринятым через эти социальные
категории перцепции, эти принципы наблюдения и разделения (vision
and di-vision), различия в практиках, в потребляемых благах или в
выражаемых мнениях становятся символическими дифференциями и
конституируют подлинный язык. Различия, ассоциированные с
различными позициями, каковыми являются блага, практики и,
особенно, манеры, функционируют в каждом обществе так же, как
различия, которые конституируют символические системы, такие, как
множества фонем языка или множество различных "écarts",
конституирующие мифическую систему, — все это отличительные знаки»1.
Таким образом, практики как символические формы должны
быть адекватными «корреспондирующим им» описаниям позиций.
И только в этом случае можно говорить об их рациональности. В
данном смысле габитус как отношение и промежуточное звено между
позицией и практикой, как диспозиция, и есть принцип
рациональности. Если поведение и коммуникация не отвечают занимаемой
позиции, то позиции и практики рассогласованы и габитус не
сформирован. Коммуникация или поведение не являются рациональными,
если «оккупант» в своем поведении символически неадекватно
описывает свою позицию: фермер употребляет виски или претендует на
занятие «аристократическим» видом спорта. Коммуникация не будет
рациональной, если коммуникант претендует на общение с
представителем далекой от него позиции в социальном пространстве, т.е.
если он символически «сближает» себя с тем, от кого его отделяет
значительное «расстояние» в экономической, культурной и других
формах пространства.
Габитус — это отношение двух дистинкции в социальном
пространстве и символическом пространстве, где - позаимствуем
формулу Грегори Бэйтсона - одно различие производит другое различие.
Bourdieu P. Op. cit. Р. 638.
246
Раздел 3. Язык, сознание и социум
В первом случае речь идет об уровне социальных различий самих по
себе, во втором — об уровне описаний или символических
репрезентаций этих различий, которые в свою очередь могут способствовать
изменению в занимаемых позициях. Тогда рациональность на
предельном уровне абстракции может пониматься как соответствие этих
двух типов различий и реализуется в том случае, когда одно
различение соответствует порождаемому им
(символически-семантическому) различению.
И все-таки не очень ясно, что определяет связь между
символическим и «реальными» позициональными уровнями или полями.
Очевидно, что это не современность: нет ничего, что бы с точки зрения
современности оправдывало тот факт, что на одних позициях пьют
виски, а на других - ординарные вина. Лишь история формирования
габитуса дает ответ на вопрос о действительной «адекватности»
уровня «реальных» различий (позиций в пространстве) и уровня
различений различий, т.е. символических практик, репрезентирующих
принадлежность к тому или иному региону в социальном пространстве.
Здесь опять встает вопрос о некоей глубинной реальности, которая не
может быть описана на уровне наблюдения за поведением
действователей. Виды поведения могут выглядеть как идентичные, но выражать
(или не выражать) габитусы - как некий уровень подлинной (т.е.
формирующейся исторически), пусть и ненаблюдаемой самой по
себе (т.е. ненаблюдаемой в современности!) реальности, связывающий
позицию и поведение.
Габитус и время: «техническая» рациональность габитуса как
функционального эквивалента сознания. Приходится признавать, что
вопреки сосредоточенности Бурдье на пространственно-позицио-
нальном объяснении поведения и коммуникации даже и его
собственный подход требует введения «временных измерений».
«Глубинная» реальность может быть адекватно понята и объяснена как
неслучайная лишь во временном измерении: во-первых, через
обращение к прошлому, к истории, ведь только постулируя
«ненаблюдаемый»1 габитус, можно объяснить происхождение феноменов,
1 Габитус ненаблюдаем и в этом смысле является «слепым пятном»
наблюдения. Ведь он как принцип различения является своего рода инструментом
наблюдения и в силу своего инструментального статуса сам выпадает из сферы
актуального внимания. У него, таким образом, появляется двоякая роль: он и принцип
наблюдения социальной реальности, и одновременно принцип фактического
разделения, структурирования, дифференциации социальной реальности: «Диффе-
ренция, отличительное свойство - белая или темная кожа, стройность или
тучность, гольф или футбол, бридж или белот (я продолжаю использовать оппозиции,
так как вещи имеют тенденцию функционировать чаще всего именно таким обра-
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 247
представляющихся поверхностному наблюдателю идентичными
(вспомним пример принципиально противоположных по духу типов
политической ангажированности во Франции и Японии); во-вторых,
через обращение к будущему, поскольку единство социума (единство
всех его полей) задается неким единым (недифференцированным)
капиталом, но единство самого этого капитала, его разнящихся форм
обеспечивается лишь возможностью конвертации последних друг в
друга. Однако подобная конвертация, как правило, оказывается
возможной лишь в некотором будущем, скажем, в следующем
поколении. Габитусы, если допустить более конкретное определение, — это
неизменно недоступные прямому наблюдению социальные
структуры, условия и предпосылки (и даже причины в особом смысле диспо-
зиционной предикации) практического поведения и коммуникации,
объясняющиеся не из современности, а из перспектив прошлого и
будущего.
Такая временная интерпретация габитуса связывает его с
временной структурой сознания. Да и вообще критериальная особенность
габитуса состоит в том, что он выступает в роли функционального
эквивалента идеального и осознанного конципирования и
осуществления цели. Таким образом, габитус делает избыточным осознанный
(и в этом смысле - субъективно-рациональный) выбор действия.
Впрочем, столь же избыточным габитус делает и внешнее
(объективно-рациональное) подчинение господствующим в обществе
правилам поведения или нормам: «Ответы (габитуса) прежде всего
определяются без какой бы то ни было калькуляции в отношении к
объективным потенциальностям и непосредственно вписываются в
настоящее, предстают как вещи, требующие осуществления и не
требующие осуществления, как вещи, требующие говорения и не
требующие говорения, в отношении к вероятному "подступающему"
будущему, которое — в противоположность будущему,
рассматриваемому как "абсолютная возможность" в смысле Гегеля или Сартра,
проецируемому посредством чистого проекта "негативной
свободы", — утверждает себя с настоятельной необходимостью и потреб-
зом) — становится видимой, воспринимаемой, неиндифферентной, социально
значимой дифференцией лишь в том случае, если она перцептирована кем-то, кто
способен производить дистинкцию. Ведь, будучи вписаны в указанное
пространство, он ил и она уже не индифферентны, он или она теперь наделены категориями
восприятия, классификационными схемами, определенным вкусом, которые
позволяют ей или ему производить дифференции, различать, разделять - между
репродукцией и картиной маслом, между Ван Гогом и Гогеном. Дифференции
становятся знаками и знаками отличности (или вульгарности) только в том случае,
когда применяется принцип vision and division"» (Bourdieu P. Op. cit. P. 640).
248
Раздел 3. Язык, сознание и социум
ностью в существовании, которые исключают всякие
конвенциональные спусковые механизмы, действуя лишь на условиях, что они
воздействуют на агентов, кондиционированных способностью
распознавать их. Мир практик, конституированный в отношении к
габитусу, функционирующий как система когнитивных и мотивацион-
ных структур, есть мир уже осуществленных целей - процедур,
которым надо следовать, путей, которые надо выбирать, и объектов,
наделенных перманентным теологическим характером...»1
Габитус, таким образом, по мысли Бурдье, должен исключать
время как возможность «другого, свободно определяемого» будущего и,
как следствие, исключает становящееся здесь избыточным (но чаще
всего невозможным) обдумывание цели. Прошлое целиком
определяет поведение, но именно это благодаря «инерции прошлого»
парадоксальным образом обеспечивает свободу от давления меняющейся
(новой) ситуации, которая в противном случае снова и снова
детерминировала бы собой и трансформировала поведение2.
Тем самым Бурдье пытается выйти за пределы дихотомии
закономерность/свобода выбора и задаваемых ею образцов
рациональности, основанной на учете и соблюдении правил, учете исключений из
правил, а также на рациональности свободного учета и сопоставления
собственных мотивов, целей и соответствующих им средств (Вебер).
Все эти формы рациональности имеют квазинаучный характер,
проникли в жизненный мир из науки — как практики специфического
вида, не обладающей-де универсальным характером, хотя и
претендующей на это. Обе они предполагают время, ведь каузальность
закона требует разведения прошлого (причины) и будущего (следствия).
В то же время учет и анализ своих мотивов, сопоставление целей и
условий, а также средств их реализации, калькуляции шансов на успех
предполагаемых своих и чужих действий в свою очередь требуют
времени на обдумывание.
1 Bourdieu P. Le Sense Patique. Les Édisionsde Minuit. P., 1990 (Бурдье /7.
Практический смысл // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. I, вып. 2).
2 «Габитус как воплощенная история, интернализированная как вторая
природа и таким образом забытая в качестве истории, есть активное присутствие
целостного прошлого в настоящем... Он есть то, что придает практикам их
относительную автономию по отношению к внешним детерминациям непосредственной
современности. Эта автономия есть автономия прошлого, определяющая и
определяемая, которая, функционируя как аккумулированный капитал, производит
историю на основе истории и так обеспечивает перманентность в изменениях, что
делает индивидуального агента миром внутри мира. Габитус есть спонтанность
вне сознания или воли, противоположная как механической необходимости
вещей без истории в механических теориях, так и рефлексивной свободе субъектов
"без инерции" в рационалистских теориях» (Ibid. Р. 280).
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 249
В отличие от всего этого позиционный подход Бурдье
предполагает, что поведение запрограммировано и в некотором смысле уже
состоялось: попадание в соответствующую ситуацию автоматически
запускает механизмы его актуализации. Этот третий путь
рациональности, базирующейся на полной определенности современности
некоторым прошлым и, следовательно, на «объективной
приспособленности» поведения, которая в свою очередь гарантируется
прошлым успехом аналогичного поведения, исключает вариативное
будущее.
«Сами условия производства габитуса, позитивность,
произведенная необходимостью, предполагает, что антиципации, которые он
порождает, имеют тенденцию игнорировать те ограничения,
которым подчиняется эффективность исчисления возможностей... В
отличие от научных оценок, которые корректируются после каждого
эксперимента согласно строгим правилам калькуляции,
антиципации габитуса, практические гипотезы, базирующиеся на прошлом
опыте, придают несоизмеримый вес опыту прошлого... Габитус - это
продукт истории, продукт индивидуальных и коллективных практик,
согласованный со схемами, генерированными историей. Он
обеспечивает активное присутствие прошлого опыта, который, будучи
локализованным в каждом организме в форме схем восприятия, мысли и
действия, имеет своей тенденцией гарантировать "корректность"
практики и ее консистентность во времени более надежно, нежели
любые формальные правила и эксплицитные нормы. Эта система
диспозиций - современное прошлое, - имея своей тенденцией
увековечивать себя в будущем, реактивируется в сходноструктурирован-
ных практиках»1.
Итак, функция габитуса - сделать возможным преемственность
практик, обеспечить континуальность общества и коммуникации,
связать прошлое и современность и все это - путем исключения
будущих, т.е. иных, новых состояний. Но габитус — не просто прошлое;
речь скорее идет о связи прошлого и современности, точнее говоря, о
тех аспектах прошлого, ценность которых определяется настоящим.
В этом смысле рациональность габитуса есть рациональность
сохранения того или иного наследия, осовременивания прошлых
ценностей.
Этот принцип рациональности «объективных интенций»,
объективность которых задается присутствием прошлого в современности,
делает ненужными субъективность, дискурс, индивидуальные интен-
Bourdieu P. Le Sense Patique. P. 278.
250
Раздел 3. Язык, сознание и социум
ции, сознательную координацию активностей участников того или
иного сообщества или коллектива. Идентичные истории
(идентичные «экзистенциальные потребности и необходимости и условия»
жизни индивидов) уже «вписали» в систему их габитусов идентичные
предпочтения и вкусы, что только и делает возможным
«спонтанную», т.е. не сознательную, не интенциональную, не нормативную и
тем не менее вполне рациональную «оркестрацию диспозиций».
Подход позиционизма зиждется на недоверии к классической -
телеологической - концепции рациональности действия и
коммуникации как результатов сознательных решений. В классической
рациональности будущее выступает как каузальный фактор, как целевая
причина, ориентируясь на которую, можно сознательно выстраивать
действия и соответствующим образом коммуницировать. И
действительно, эту рациональность в известном смысле можно назвать
механической. В ее рамках рациональным актором оказывается тот, чьи
реакции на предложенную коммуникацию можно антиципировать, тем
самым предвосхищая и калькулируя собственные шансы на успех, на
то, что предложенная коммуникация не будет отклонена.
Габитус как медиум редукции комплексности социальной ситуации.
Однако этот пространственно-ориентированный позиционизм,
очевидно, несовместим с ориентированной на время концепцией
«антиципации будущего», ведь фундаментальный фактор, определяющий
будущее, вытекает из пространственной позиции актора, а будущее
антиципируемое состояние или событие дефинитивно выводится за
рамки детерминант поведения в силу утверждаемой Бурдье
несоизмеримости между сложностью поведения и потенциалом сознания
(или, скорее, внимания) по переработке этой сложности.
«Даже если они выглядят как реализация эксплицитных целей, эти
стратегии (поведения и коммуникации. - A.A.), порожденные
габитусом и позволяющие агентам управляться с непредвиденными и
постоянно меняющимися ситуациями, лишь кажутся детерминированными
будущим. Если они кажутся ориентированными на антиципации их
собственных последствий, тем самым поощряя финалистскую
иллюзию, так это потому, что... они детерминированы прошлыми
условиями производства их принципа производства, т.е. посредством уже
осуществленного исхода идентичных или взаимозаменяемых прошлых
практик... Но телеологическое описание, единственное, которое
может быть уместным по отношению к "рациональному актору",
обладающему полной информацией о преференциях и компетенциях
других акторов, в которых каждое действие имеет своей целью сделать
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 251
возможной реакцию на реакцию, которую она вызывает (индивид
А осуществляет действие al, скажем подарок, с той целью, чтобы
индивид В произвел действие Ы (ответный дар. —A.A.)... является таким
же наивным описанием, каким является механическое описание,
которое репрезентирует действие и ответы как множество шагов в
последовательности запрограммированных действий, производимых
механическим аппаратом... Чтобы получить представление о тех
трудностях, с которыми сталкивается механистическая теория
практики как механической реакции, непосредственно
детерминированной предшествующими условиями и целиком редуцируемой к
механическому функционированию предварительно установленных
механизмов, достаточно лишь упомянуть грандиозное, отчаянное
предприятие одного — воодушевленного позитивистским задором -
антрополога, который записал 480 элементарных единиц поведения
его жены на кухне, наблюдаемого им в течение 20 минут: "Здесь мы
сталкиваемся с огорчительным фактом... что если
производительность моей жены - пусть даже грубо - репрезентирует
производительность других акторов, мы должны быть готовы к тому, чтобы
иметь дело с инвентарем эпизодов, произведенных с
производительностью примерно 20 000 единиц за 16-часовой день каждым актором.
В популяции, состоящей из нескольких сотен типов акторов, число
различных эпизодов в тотальном репертуаре должно доходить до
многих миллионов в течение ежегодного цикла"»1.
Итак, слабость телеологической, ориентированной на
предвосхищение будущих состояний концепции рациональности состоит
якобы в том, что она не справляется с многообразием и скоростью
осуществления бесконечно дробящихся поведенческих эпизодов.
Структура субъективного, недостаточно расчлененного и очень
быстро текущего времени оказывается не подходящей для сознательной
активности по отслеживанию, субъективной антиципации,
переработке и оценке многочисленных элементов поведения,
умножающейся в геометрической профессии с увеличением числа.участников
коммуникации. Лишь машинерия габитуса как медиума (т.е.
вместилища, одновременно служащего причиной и следствием, словно
окаймляющего всякое фактическое поведение и коммуникации)
поведения и коммуникации, якобы делает возможным мнимоосмыс-
ленное поведение.
Успех целедостижения зависит, таким образом, не от
рациональной или сознательной калькуляции шансов на успех, не от сопостав-
Bourdieu P. Le Sense Patique. P. 285.
252
Раздел 3. Язык, сознание и социум
ления наличных ресурсов и средств, «объективно» необходимых для
достижения цели, не от «субъективной» информированности об
«объективном» распределении шансов и не от соотношения
наличных средств и целей. Все это предполагало бы калькуляцию
вероятности будущих состояний. Такое, конечно, допустимо, но только
потому, что в основе любого целедостижения лежит некое более глубокое
основание, а именно «онтологическое» распределение позиций в
социальном пространстве и, главное, — распределение капитала, как бы
его ни понимать. Наличие капитала как медиума рациональной
коммуникации, в котором инкорпорируется аккумулированное прошлое
(«накопленные» в прошлом образование, деньги, опыт, социальные
связи, компетенции и умения, властные ресурсы и т.д.), делает
возможным квазиавтоматический успех соответствующего действия.
Капитал выступает своего рода техникой, или механизмом разгрузки,
облегчающим осуществление действия, доводящим его до
автоматизма и ускоряющим действия во времени до такой степени, что их
последовательности уже невозможно сознательно (субъективно)
контролировать.
Но если субъективно осознаваемое индивидом время не
позволяет вместить в него всю комплексность и иерархию поведения, то что
может выступить в качестве функционального эквивалента такого
обремененного дефицитом субъективного времени? Бурдье не
рассматривает этот вопрос, но на него отвечает уже сама форма
приведенного им эксперимента. Если многообразие и предметную рас-
членность поведения нельзя «локализовать» в субъективном времени
сознания или психики, его все-таки можно записать, что и делает
указанный антрополог. Именно потенциал генерации текстов
оказывается компенсирующим ответом на временной дефицит сознания,
именно они суть основание письменной истории, куда — в принципе
и перспективе - отныне можно поместить все бесконечно
расчленяемое поведение и даже зафиксировать время написания и факт
описания этого поведения - бумага все стерпит.
И здесь возникает вопрос. Если под капиталом можно
подразумевать технику, понятую в самом широком смысле как разгрузочный
механизм, облегчающий целедостижение, делающий его
квазиавтоматическим, то какую функцию выполняет эта разгрузка? Какой
потенциал высвобождают такого рода автоматизмы? Может быть, как
раз здесь и высвобождается время для рационального, в классическом
смысле этого слова, поведения, для телеологически
ориентированных действий, допускающих их антиципацию и антиципацию их
последствий. Что мешает рассматривать (высвобождающуюся в резуль-
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 253
тате срабатывания основанных на капитале диспозиций)
способность высчитывать шансы на успех от антиципируемого поведения
как своего рода капитал, как «накопленные» в прошлом
познавательные способности?
Подход пространственно определяемой рациональности во
многом напоминает аристотелевско-хайдеггеровскую концепцию
«естественных мест», привязывающую активного актора (будь то
физический элемент, стихия, Dasein, человек) к их эссенциалистски-опреде-
ляемым позициям в неизоморфном пространстве. Капитал как раз и
играет роль такого рода «тяготения» или «веса». Это гетероморфное
пространство не дает возможности проявиться ориентационным
свойствам будущего времени, поскольку и само будущее в позицио-
низме возможно лишь как прошлое, как аккумулированная в
прошлом власть и собственность, как изначально заданный и
определенный прошлым регион пребывания актора (границы которого
диктуют строго определенное множество возможностей), т.е. как один из
диспозиционно определяемых габитусов, а не как нечто вариативное,
подлинно неожиданное будущее.
Следует признать, что при таком подходе неправомерным образом
изначально исключен ряд диспозиций, которые можно считать
ключевыми для описания именно современного поведения. Все они имеют
отношения к временным ориентациям. Исключаются ожидания
неожиданного будущего, «габитус карьеры» в широком смысле, где
активность актора была бы связана не с защитой собственной позиции и
самоутверждением на своем месте, а с активным стремлением
непрерывно двигаться и завоевывать все новые и новые позиции. Основным
аргументом в пользу такой интерпретации диспозиций поведения в
позиционализме служит тезис о недостаточном потенциале сознания и
субъективного времени, однако это не позволяет учитывать потенциал
письменной и печатной массмедийной коммуникации, делающей
возможными проективные антиципации, словно дефинитивно
ориентированные на новую, т.е. будущую информацию.
Рациональность как понятие системной теории. Постулируя
пространственные или личностно-коллективные измерения
рациональности, приходится волей-неволей обращаться к горизонту времени.
Более системно можно вести речь о временном измерении
рациональности в контексте понятий различия, сложности и смысла,
образующих каркас теории наблюдения и теории социальных систем.
Начать же все-таки придется с понятия системы, опираясь на подход
известного системного теоретика Никласа Лумана.
254
Раздел 3. Язык, сознание и социум
Система традиционно понималась либо как соотношение
элементов, либо как единство внутренней структуры и процесса,
которым эта структура управляет. Чтобы избавиться от нагромождения
терминов («единство», «структура», «отношение», «элемент»),
систему можно определить просто - как последовательное сцепление
событий сходного типа, благодаря этому сцеплению отличающих себя
от остального мира.
Понятие системы требует введения понятия внешнего мира
системы, т.е. всего того, от чего система себя отличает, и одновременно
того, чью превосходящую сложность она перерабатывает (в случае
систем коммуникаций внешний мир представлен темами
коммуникаций). Можно согласиться с Бурдье в том отношении, что мощности
сознания (в силу линейного характера его переживаний) оказывается
недостаточно, чтобы осуществлять полностью осмысленные или
осознанные проекции в будущее противостоящего ему чрезвычайно
сложного внешнего мира и соответствующим образом формировать
свое собственное будущее поведение. Это осуществляется более
комплексным миром печатных текстов, сложность которого сопоставима
(т.е. способна осуществлять его адекватные редукции) со сложностью
социального и природного мира. Решение проблемы перепада
сложностей системы и внешнего мира (и соответственно проблемы
рациональности, понимаемой как проблема адекватной переработки
системой превосходящей ее сложности внешнего мира) должно
решаться не введением некоего габитуса - неосознанных, ненормативных
автоматизмов поведения - а поиском механизмов переработки такой
сложности, облегчающих системе сознания и системам
коммуникаций редукцию их более сложной среды.
Для адекватного решения проблемы комплексности или
сложности приходится специально обращаться к принципиально иному
типу рациональности - не к рациональности, основанной на позициях
(и понимаемой как соответствие этих процессов заданным
позициям), а к рациональности, «исчисляемой» во временном измерении, к
рациональности будущих состояний самих по себе, словно
потерявших связь со своими прошлыми предпосылками. Мы переходим к
рациональности уже не человеческого поведения, не рациональности
психических актов, а к рациональности социальных систем, т.е.
собственно коммуникативной рациональности.
Рациональность как ответ на проблему сложности. Проблема
комплексности или сложности составляет ядро проблемы
рациональности, поскольку служит основным препятствием для рационального
Л.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 255
планирования действий и коммуникаций (что убедительно
обосновывает Бурдье, усматривая в габитусе основное средство преодоления
этого препятствия). Это касается всех социальных систем:
планирования политики, экономики, науки, планирования интимных
коммуникаций, т.е. любви, планирования образования.
Все системы осуществляют инореференцию, т.е. тематизируют
свой внешний мир, который необходимо сложнее самой системы,
хотя это и недоказуемо. Пунктуальное соответствие, где каждому
элементу внешнего мира соответствовал бы системный элемент
(каждому объекту - отдельное слово, а каждому предложению — отдельное
событие), является недостижимым. Поэтому система должна
научиться игнорировать внешний мир и редуцировать саму себя
посредством выделения в себе планирующих инстанций, назовем их
агентствами рациональности. Таковым может быть плановый отдел на
предприятии или конституционное право, регулирующее
применение всех остальных законов в системе права. Теория познания в
науке — это инстанция, судящая о рациональности всего научного
познания. Эти агентства упрощают внешний мир, выделяя в нем лишь то,
что существенно для продолжения процесса системной
коммуникации, и осуществляют самооупрощение.
Если говорить в самой общей форме, то система осуществляет
«редукцию сложности» внешнего мира, причем путем
парадоксального процесса: спецификации и генерализации одновременно.
Каждый предмет должен выделяться как специфический, отличный от
другого: одним и тем же именем обозначаются разные события и
вещи, воспринимающиеся тем самым как нечто инвариантное. В то же
время к этому инварианту система может применять разные реакции,
прилагать разные имена в зависимости от состояний самой системы,
и для его определения к нему можно применить множество слов.
Поэтому пунктуальные отношения между системой и средой
невозможны. Именно в этом смысле можно утверждать о произвольности в
отношении языка к предметам наименования.
Как видно, чтобы переработать сложность мира и упростить саму
себя, система парадоксальным образом вынуждена одновременно
усложнять себя, отдифференцировать в себе специальные наблюдающие
инстанции, которые мы вслед за Мансуром Олсоном назвали
агентствами рациональности. Но ведь и они являются системами и уже саму
породившую их систему рассматривают в качестве своего внешнего
мира. Редукция системой ее мира предполагает рост сложности.
Обычно понятие комплексности формулируют в понятиях
элемента и отношения. С увеличением числа элементов, например числа
256
Раздел 3. Язык, сознание и социум
людей в родовых обществах, их отношения, коммуникации между
ними, число запросов на контакты увеличиваются геометрически.
Так из простой сложности возникает сложная сложность, условия
которой не позволяют реализоваться всем возможным вариантам
связей соплеменников за какое-то разумное время. Возникает
необходимость селективной связи, формирования механизмов
неконфликтных ограничений контактов. Таким механизмом может служить,
скажем, иерархия, где связи возможны лишь на один уровень вверх,
вниз или вбок.
Понятие комплексности формулируется в рамках традиционного
различения простого и сложного. Душа понималась философами
древности как простая, неразложимая на составляющие сущность, и
именно этим обосновывалось ее бессмертие. Тоже можно утверждать
применительно к так называемым стихиям в античной философии —
огню, воде, воздуху и т.д. Однако это различение простого и сложного
обладает своеобразием. У понятия сложности, впрочем, как и у
понятия знака, у смысла, у мира нет другой стороны, нет антонимов, нет
противопонятия. Поэтому теория сложности работает лишь с
внутренними подразделениями — селективно-сложным и
неселективно-сложным.
Именно селективная сложность требует временного измерения,
последовательной смены отношений между элементами системы,
темпорализации сложности. Таким средством темпорализации
сложности является, например, письменность, которая позволяет
растягивать во времени любое событие, членить его, осуществлять
периодизацию и эпизодизацию, в то время как в устной коммуникации
событие обладало бы лишь мимолетным, мгновенным характером
настоящего. Именно письменная переработка сложности делает
возможным в этой форме коммуникации опробовать, по крайней мере
виртуально, самые разные комбинации элементов, которые в
современности не выдержали бы «теста на реальность», но способны «се-
диментироваться» в виде текстов в ожидании удачного случая, когда
они могут быть востребованы.
Перепад комплексностей системы и мира, невозможность
выстраивания пунктуальных координации делают возможной свободу
систем в отношении внешнего мира и произвольность комбинаций
означающего в отношении означаемого. Так, стихия рынка,
задаваемая контингентностью соотношения спроса и предложения,
очевидно, гораздо сложнее предприятия и детерминирует экономический
субъект, но последний превосходит его в своей рефлексивной
способности, поскольку содержит свою собственную часть, способную
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 257
организовывать производство во времени, ориентироваться на цены,
наблюдать саму себя в своих отдифференцировавшихся
инстанциях — плановом отделе, отделе маркетинга и т.д. Наблюдающие
подсистемы сложных систем выстраивают более простую модель
системы (своего внутреннего внешнего мира), и именно это позволяет
им освободиться от детерминирующего давления непосредственного
внешнего мира, т.е. от стихии рынка.
Системное свойство коммуникативной рациональности как раз и
выступает ответом на проблему комплексности. В староевропейской
традиции исходили из континуума рациональности — рационального
устройства мира и соответственно возможности его рационального
познания. Ведь и то и другое обладало природой и выражало ее:
индивид реализует свою природу, познавая наличную природу. Познание
может быть «правильным», поскольку «природа» устроена
правильно. В этом смысле познание полагалось аналогичным миру. Но
религиозные войны и печатный пресс изменили ситуацию. Появилась
возможность одновременно иметь в своем распоряжении полярные
концепты, выраженные в печатных текстах.
И начиная с Декарта континуум рациональности распадается на
ментальное и протяжен но-материальное. Главное, однако, состоит в
том, что с ходом социальной дифференциации появляются сферы
суверенной рациональности, например рациональность любви,
которая подразумевает независимость от рациональных аргументов с
точки зрения науки, экономики, политики, семьи. Из континуума
«рациональность» выходят процессы получения удовольствия,
реализации собственных интересов. Теперь уже было бы
нерациональным требовать рациональных обоснований и объяснений того,
почему чем-то следует интересоваться, наслаждаться, кого-то любить.
Указание на любовь, интерес - эти последние аргументы, не
допускающие редукции к глубинным разумным основаниям, - не могут
быть рационально оспорены.
Так сфера собственно рационального сужается до экономической
и научной, до оптимизации цели и средств и правильности
применения научных законов. Своего пика понятие рациональности
достигает в понятии системно-коммуникативной рациональности. Речь идет
о способности систем в высшей степени селективно реагировать на
процессы во внешнем мире, сохраняя свою системную
специфичность, оставаясь самой собой. Системы формируют в себе своего рода
сенсориум. Политика реагирует на экономические показатели —
безработицу, инфляцию, курсы валют, совокупные биржевые индексы —
и в зависимости от этого выбирает собственные состояния: либераль-
258
Раздел 3. Язык, сознание и социум
но-рыночную либо кейнсианскую модель. Это вовсе не означает, что
политика становится экономикой или способна рационально
управлять экономикой, рационально коммуницировать с нею, разумно
осмысливая потребности самой экономики или вписывая ее в
общеобщественный контекст потребностей. Политика наблюдает
экономику «политически», т.е. реагирует коллективно-обязательными
решениями, а не платежами (экономически), и ориентируется на код
власти, а не на цены или соотношение спроса и предложения.
То же относится к правовой системе. Она оперирует различением
законное/незаконное и не должна учитывать и рационально
осмысливать действительные причины и следствия деликтов, т.е. волю
и мотивацию, другие внеправовые факторы или тем более
действительные следствия, к которым может привести и приводит, скажем,
наказание. Если есть закон о разводе, судья не может учитывать,
например, демографическую ситуацию и ограничивать количество
разводов. Тем не менее сегодня правовая система обладает
рациональностью в том смысле, что умеет учитывать внеправовые, внесистемные
обстоятельства. Например, теперь воля к заключению юридического
договора должна учитываться, и договор, заключенный против воли,
вынужденный договор, может быть объявлен ничтожным. Это не
означает, что система получила непосредственный когнитивный
доступ к своему внешнему миру и оперирует открыто: она продолжает
оперировать закрыто, поскольку само это понимание воли к
заключению договора получает юридическую форму, прописывается в
законах. Система оперирует, используя исключительно различение
законного и незаконного.
Итак, системная рациональность — это способность ввести
внешний мир в систему после того, как он был первоначально вынесен за
скобки системных операций. Через исключение внешнего мира из
системной рефлексии некоторые его обстоятельства получают особое
значение, но могут восприниматься в виде внутрисистемных
операций. Политика реагирует на сложность внешнего мира
коллективно-обязательными решениями. Это, так сказать, ее форма
существования. Экономика реагирует на сложность рынка тем, что платежи
осуществляются или не осуществляются.
Итак, рациональность системы коммуникаций предстает в виде
селективной редукции комплексности внешнего мира.
Временное самоописание общества. Современное общество
наблюдает себя само и приписывает себе значение современного, связывая
с этим обстоятельством позитивную оценку. Общество, таким обра-
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 259
зом, делит свою историю на прошлое, настоящее, будущее, на старое
и новое. В староевропейской семантике время понималось
онтологически: будущее и прошлое действительно существуют,
воспроизводятся, повторяются в отличие от эфемерного и текущего настоящего,
выступающего всего лишь — почти пространственной — границей
между прошлым и будущим.
Эта староевропейская семантика переосмысливается в теории
социальных систем Никласа Лумана, где речь идет не о существовании
объектов, природы, сущностей, идей, а лишь о различениях,
осуществляемых наблюдателем. Следует анализировать не движение по оси
времени, а наблюдателя, разделяющего мир на прошлое и будущее, и
такое разделение он может осуществить лишь в некоторой
современности.
Если это так, то социологически релевантным время становится
тогда, когда наблюдатель времени задается вопросом «когда» или
«почему сейчас?». Почему именно сейчас встал вопрос о временном
измерении, почему в конце статьи, а не в начале? Вопрос о времени
может быть поставлен только в современности, и, следовательно,
привнесение фигуры наблюдателя делает современность чем-то
особенным (именно для наблюдателя), гораздо более важным, чем
прошлое и будущее. Лишь в современности время становится
актуальным. Впрочем, и будущее, и прошлое получают актуальность только в
современности, только когда задаются о них вопросом.
Все, что происходит, происходит в современности, но эта
современность иногда получает индексы прошлого и будущего. И это —
принципиально иная семантика времени. Отныне время перестает
пониматься как прошлое, перетекающее в будущее через настоящее,
но репрезентировано в виде бесконечной смены моментов
настоящего, непрерывной пульсации современности. В этой новой семантике
выражены общие характеристики системно-теоретической
эпистемологии: подлинно реальными могут быть лишь различения. К
таковым относится и настоящее как различение прошлого и будущего.
Но если все, что происходит, происходит сейчас, моментально и
одновременно, то ключевое временное различение времени - это
различение одновременного/неодновременного, т.е. актуального для
действия и еще/уже неактуального. Эта новая семантика (вызванная
изменениями социальной структуры современного общества и
прежде всего необходимостью принятия срочных решений) радикальным
образом отличается от семантики староевропейской с ее
различениями циклического/линейного, подвижного/неподвижного,
начального/конечного.
260
Раздел 3. Язык, сознание и социум
Социальная структура и семантика времени. Если требуется
наблюдать наблюдателя, то его временные различения, или семантика
времени, очевидно, вытекают из специфики социальной структуры
(здесь уже открывается социоэпистемологическая проблематика).
Таким социально-структурным различением является различие по-
лис/ойкос, различие городской и сельской жизни. Военная и
гражданская история города подразумевает уникальность событий и
соответственно линейность времени. Битвы при Марафоне не происходят
периодически, тогда как сельскохозяйственная деятельность
замыкается на природные циклы. В этом смысле можно утверждать, что
циклическое время наблюдает система хозяйства, линейное же время
наблюдает система политическая. В свою очередь дистинкция
подвижное/неподвижное вытекает из теологических наблюдений системы
религии, «наблюдающей» бога как неподвижного двигателя,
приводящего в движение поднебесные сферы.
Различение начальное/конечное в свою очередь вытекает из
наблюдения социальной структуры. Начальное или изначальное,
как, например, благородное происхождение аристократических
семей, имеет определяющее значение, не зависит от заслуг и
продолжает сказываться во всех коленах. Отсюда, кстати, происходит
слово «начальник». Трансформация социальных структур
проявляется и в семантике, где уже конечное, итоговое, скажем заслуги,
получает определяющее значение, а начала вещей и семей словно
теряются в прошлом. Теряет значение то обстоятельство, что
прежде существовал некто, кто являлся действительным
родоначальником, придумал и учредил законы и институты. Важно лишь то,
какое конечное значение они получат в их полной реализации, и то,
насколько они релевантны и актуальны в некоторой
современности. Важно, к какому конечному результату приводит их
функционирование в современности. В нововременной семантике времени
речь ведут о заслугах, а не о происхождении; не о происхождении
законов или династий, институтов и слов языка, а об их функции
для современности.
В отличие от временных семантик прошлого в современности
ключевое значение получает временное различение прежде/после.
Это базовое различение уже не основывается на онтологической
логике, где господствует связка «есть» или «быть», где прошлое и
будущее в некотором смысле «реально существуют», а настоящее
воспринимается как нечто неподлинное, поскольку оно течет, меняется,
неустойчиво, все время проходит и тем самым не является сущим в
платоновском смысле.
А.Ю. кнтонобский • Пространство и время коммуникации и сознания 261
В системной логике различений, где реальны лишь различения
(и система есть различение системы и внешнего мира), напротив,
прежде и после суть функции от настоящего, фикции и конструкции,
индексы, которые приписываются происходящим именно в данный момент
событиям. Идея начала вещей тоже потеряла свое значение. Отныне
важнейшим является не происхождение, не занимаемые позиции и
возможности их отстоять, как это представлялось Бурдье; ключевое
значение получают возможности карьерного роста. При этом данная базовая
дистинкция прежде/после не является симметричной. Будущее должно
быть лучше, но как минимум не таким, как прошлое.
Настоящее же не сводится исключительно к своему
пограничному статусу, оно может быть определено как то, что требует принятия
неотложных решений, поскольку «мгновенная», быстро проходящая
структура современности такова, что решать приходится именно в
данное мгновение, а завтра будет поздно. Настоящее понимается как
кратчайший период времени, когда есть шанс не упустить
возможности, а в противоположном случае можно остаться в прошлом (т.е. в
том настоящем, которому будет приписан индекс прошлого). Итак,
настоящее в обществе, господствующие ожидания (т.е. социальная
структура) которого репрезентированы ориентациями на успех,
определяется дистинкцией успеть/опоздать, дистинкцией еще
невозможно/уже невозможно. Время определяет и предмет интереса, и
контент коммуникации. (Если ученый желает вовремя успеть
защитить диссертацию, он и тему возьмет менее объемную и менее
фундаментальную.) Мы вели речь о трансформации семантики времени,
однако самое главное в определении времени составляет то
обстоятельство, что оно является измерением смысла.
Вместо заключения: время как основание смысла (коммуникации и
переживания). Если кто-то в рамках устной речи говорит «теперь» или
«в данный момент», то эти выражения, как и все дейксисные,
привязаны во времени к моменту говорения и понятны или самопонятны
лишь в момент произнесения. Не нужно уточнять - когда это
«теперь» имеет место. Но это «теперь» способно субстантивироваться -
как момент, мгновение. В письменной же речи выражение «теперь»
теряет самопонятность, контекстуальную определенность временем
и ситуацией устной беседы. Здесь кроется различение устного и
письменного. «Теперь» постоянно проходит, а вопрос об утрате времени,
утрате настоящего как чего-то единственного подлинного и
невосполнимого, в современном обществе, больше всего ценящем
настоящее, может формулироваться как вопрос об утрате смысла.
262
Раздел 3. Язык, сознание и социум
Выше мы уже формулировали понятие смысла в виде смысла,
который будущие события получают в их отношении к прошлым
событиям, т.е. в виде принципа и основания коннекции событий, главным
образом коммуникаций и переживаний. Другими словами, вопрос о
смысле звучит так: какой смысл имеет то обстоятельство, что на смену
прошлому приходит будущее? Последовательности событий
системно связаны лишь в том случае, если следующее событие имеет смысл
по отношению к прошлому. Моя речь осмысленна в том случае, если
прошлые высказывания предполагают следующие высказывания, и
только в этом случае изложение принимает системный характер.
Религия, словами Августина, попыталась дать ответ на вопрос о
смысле утрачиваемого настоящего, связывающего прошлое и
будущее, утверждая, что это «теперь» никуда не исчезает, оно сохраняется
в вечности Бога, для которого все моменты времени, прошлого и
будущего, даны одновременно. Настоящее не переходит в прошлое с
точки зрения теологии, поскольку прошлое никуда не исчезает, оно
остается в бессмертной душе, ведь душа проста и поэтому бессмертна.
Это решение сохранить настоящее и, следовательно, смысл
прошедших событий достигалось за счет отказа от принципа сложности
наблюдателя (в данном случае души).
В теории смысловых систем понятие смысла формулируется
безотносительно к разнородности операций сознания и операций
коммуникации. Для иллюстрации этого обстоятельства можно вернуться
к классическим понятиям хюле и морфе (Никлас Луман маскирует их
под понятия теории восприятия Фрица Хайдера: медиума и формы).
Медиум — это область слабых связей элементов. Простыми
примерами служат песок, воздух, глина, шум. Медиум - это среда, из
которой вылепливается некая форма: из песка - замок, из глины -
кирпич, из воздуха — звуки, из шума — слова. Язык в свою очередь
выступает такой областью слабых связей, слабо интегрированной средой,
поскольку правила грамматики не детерминируют предложения. Язык
как медиум принимает различные формы медиума, т.е. конкретные
последовательности слов.
Здесь временные различения (стабильное/изменчивое,
долговечное/преходящее) выражаются в смысловых измерениях
медиум/форма или слабое сопряжение/сильное сопряжение, поскольку язык
выказывает свойства чрезвычайной устойчивости к трансформациям,
тогда как последовательности слов неустойчивы во времени.
Системные операции, т.е. коммуникации и переживания, суть
временные и временные манифестации медиума. Эти мгновенные
возникающие и тут же угасающие события получают характер осмыс-
А.Ю. Антоновский • Пространство и время коммуникации и сознания 263
ленных лишь в том случае, если они протекают в стихии некоторого
медиума, т.е. множества еще не определенных возможностей
(платежей, политических решений, теоретических предложений,
интимных встреч и т.д.), если они принадлежат системам коммуникаций.
В социологической рецепции это выглядит так: операциями
экономической системы являются платежи, трансакции.
Предприниматель продает, чтобы купить, чтобы потом продать. Но эти платежи
осмысленны, если осуществляются посредством и в рамках некоторого
медиума, а именно денег. Деньги как медиум циркулируют и никуда
не исчезают, они стабильны во времени. Если покупают и продают
ради денег и посредством денег, то платеж имеет смысл и рационален
в контексте экономики. Если покупают, чтобы сделать подарок, этот
платеж не принадлежит к системе экономических коммуникаций.
Смысл мгновенного события есть его мотивированность и встро-
енность в контекст медиума, и только в этом случае ему может быть
приписан предикат коммуникативно-рационального. В этом смысле
событие как бы не полностью растворяется во времени, а лишь
перекомбинируется в другие формы, поскольку медиум в отличие от
мгновенных операций системы сохраняет относительную
стабильность. То же относится к власти — медиуму политических операций,
коллективнообязательных решений. Коллективнообязательное
решение мотивировано властью, подчинено власти, опирается на власть,
условно говоря, стремится к достижению власти и возможно только
благодаря власти. Власть - это медиум, по отношению к которому и
посредством которого выстраивается последовательная сеть
принимаемых и уходящих в прошлое решений.
Из множества возможных событий селегируются лишь те,
которые осмысленны в системе, принадлежат ей, поскольку управляются
ее специфическим медиумами: властью, деньгами, любовью,
прекрасным, правом, верой. Эти различения, в основании которых лежат
различения времени и смысла, являются основаниями
рациональности системных коммуникаций.
А.Ю. Антоновский
Язык как медиум структурных сопряжений
сознания и коммуникации
Информация, сообщение, понимание: краткое представление
коммуникативной теории. Зададимся вопросом: можно ли представить себе
знание, не приписанное человеку или его сознанию? И если это
возможно, то к каким следствиям приводит такая «дегуманизиро-
ванная» теория знания? В далекое Средневековье подобного рода
«дегуманизация» не вызывала вопросов, однако с началом
книгопечатания прекратилась традиция приписывания авторства самой
книге или тексту, утерявшим способность говорить от
собственного лица.
В адресатах приписывания знания в истории человеческой
мысли не было недостатка. Философы оставили психологам
тривиальные, человекоразмерные «резервуары» знания, а именно
психику-душу-сознание-память, а сами начали поиск «экзотических»
мест его аккумуляции. Сюда относится и мир идей Платона, и
сознание Бога (И. Ньютон, Дж. Беркли), и коллективные
репрезентации (Э. Дюркгейм), и коллективная сингулярность в виде
трансцендентального сознания (И. Кант), и третий мир К. Поппера, и
Третий Рейх Г. Фреге, и экстерналистски-локализуемые значения
слов (X. Патнэм), и поведенческие диспозиции (бихевиоризм), а
вместе с лингвистическим поворотом (и в философской
герменевтике М. Хайдеггера), наконец, и сам язык становился хранилищем
знания.
Но не наводит ли эта произвольность атрибуции знаний на
мысль о том, чтобы вообще отказаться от адресата, рассматривать
знание как таковое — безотносительно к формам его хранения и
генезиса? В то же время такое еще не приписанное и не
реципированное знание зачастую имеют в виду, говоря об информации. Зна-
ния-де именно тем и отличаются от информации, что последняя
никому не атрибутируется и словно ждет своего часа, чтобы быть
воспринятой и изменить состояние своего реципиента, сделать его
другим. Парадным примером служат кольца на еще не спиленном
дереве, однозначно свидетельствующие о возрасте дерева, но
никому об этом «не сообщающие». Чтобы стать знанием, информация,
следовательно, должна быть сообщена «знающему» и превратить его
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 265
в «знающего»1. К информации что-то должно быть добавлено, чтобы
она стала знанием.
Но что значит быть знающим? И в чем состоит это «изменение
состояния»? Предположим, что знающий не пассивно реципирует
некоторое содержание, но, со своей стороны, проявляет некоторую
активность: готов к восприятию, поскольку имеет в своем
поведенческом репертуаре ряд всегда ограниченных установок или
диспозиций2: знающий только потому и является знающим, что формулирует
пропозициональные установки. Точнее говоря, он сам и есть такая
установка или отношение: «знает, что...», «верит, что...», «надеется на
то, что...», «боится, что...», «ожидает, что...» и т.д. Теперь нечто (как
кольца на неспиленных деревьях) не просто имеет место и
характеризует возраст дерева, но и еще известно, ожидаемо, интересно и т.д. -
всегда в рамках той или иной особой установки или особой
модальности - надежды, веры, страха, интереса и т.д.
Конечно, когда к информации мы добавили знающего (т.е.
какое-то особое отношение, установку в отношении информации, ее
индивидуальную версию, или редакцию, или один из возможных
модусов ее актуализации), хочется получить знание в чистом виде,
выделить его как таковое из его всегда особой формы презентации. Но для
этого нам приходится осуществлять обратный процесс — отличать
пропозициональную установку, т.е. особое состояние знающего,
который «знает, что р», «верит, что р» от самого р3.
Другими словами, любое самое элементарное сообщение может
быть разложено на «как-наблюдения?» и «что-наблюдения?», на модус
наблюдения (интерес, страх, надежда, известность) и
пропозициональное содержание сообщения. Любая из двух составляющих
сообщения может затем реципироваться как информация, как то, что
выбирает реципиент сообщения в качестве значимого именно для него.
Если знающий снисходит до того, чтобы сообщить нам о своем
знании, а мы ему верим, то возникает возможность отличить сообщение
знания от самого знания, его индивидуальную форму или редакцию в
1 О различении знание/информация см. обширное введение в проблему:
Grundmann Т. Analytische Einführung in die Erkenntnistheorie. De Gruyter, 2008.
2 Пока отложим вопрос о том, в какой степени таковые установки ил и
диспозиции в свою очередь могут познаваться и генерироваться заново как следствие
познания.
3 Так применительно к языку мы отличаем главное предложение от
придаточного, но теперь было бы желательно выйти и из языковых форм презентации знания.
Ниже мы покажем, что такое возможно лишь в ограниченных масштабах - в чистом
восприятии сознания и довербальной (например, детской) коммуникации.
266
Раздел 3. Язык, сознание и социум
устах знающего от действительного положения дел, сравнить
услышанное предложение с его смыслом, который и получает имя информации.
Назовем это пониманием. Мы понимаем, если сравниваем услышанное
или прочитанное сообщение с тем, что в этом сообщении «содержится».
С тем, о чем это сообщение. Мы словно «сравниваем» сообщение
информации и сообщенную информацию и всегда на предмет того,
соответствуют ли они друг другу или противоречат. И если фиксируем (их
адекватность или противоречивость), мы в любом случае понимаем
услышанное или прочитанное. Если я формулирую предложение «я знаю,
что этой девушке 25 лет», я всегда имею возможность сравнить
сообщение («о том, что мне известен ее возраст») и само утверждение (что «ей
именно 25 лет»). Выбрав в качестве релевантной для меня информации
первое или второе, мой контрагент сравнивает саму установку («я знаю,
что...») и полученную им информацию на предмет их соответствия
(«действительно знает», «ей действительно 25 лет»), или несоответствия
(«вовсе не знает» «ей вовсе не 25 лет»). Или «ошибочно полагает, что ему
известно, а на самом деле это не так», «на самом деле ей не 25 лет, но ему
это известно». Понимание и есть процесс такого сравнения
прозвучавшего сообщения с извлеченной из него информацией.
Информация — это не просто то, что имеет место объективно. Это
то, что (в фактически протекающей коммуникации) выглядит
наиболее важным при переработке прозвучавшего сообщения. В нашем
примере таковым может быть утверждение об известности возраста
девушки утверждающему об этом, как и утверждение о том, что ей 25 лет.
Итак, очевидно, что и мотив сообщения, т.е. сама установка (страха,
веры и т.д.), может быть «почерпнут» как информация, точно так же, как
и само сообщаемое положение дел может быть извлечено из сообщения
и стать ориентиром для поведения. Таким образом, информация - это
селекция из тех смысловых избыточностей, которые возникают в любом
сообщении, и редукция к некоторому единственному смыслу, что,
собственно, и делает возможным линейное продолжение коммуникаций и
образование их линейных последовательностей или систем1.
1 В сообщении «сегодня хорошая погода» мы различаем между информацией
(тем фактом, что на улице действительно хорошая погода) и пропозициональной
установкой: сообщением о том, что кто-то знает, что..., а может, хочет или
надеется, чтобы была хорошая погода, или боится, что будет плохая, или просто
стремится заполнить паузу в разговоре. Понять сообщение информации — значит выявить
пропозициональную установку (знания, страха, желания и т.д.) на предмет
адекватности содержащейся в сообщении информации. Понимание — это извлечение
информации из сообщения, разложение сообщения на его составляющие: на само
положение дел и определенную модальность, в которой положение дел презенти-
руется, понимание того, насколько такая презентация уместна или неуместна.
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 267
Коммуникация в известном смысле генерирует знание, которое
сообразно структуре коммуникации получает аналогичную структуру
(см. ниже). Соответственно мы имеем дело с трехэлементным
пониманием информации как единства:
1) самой информации - (не)истинного, (не)желаемого, не(без)опас-
ного (и т.д.) положения дел, как бы извлекаемого из сообщения в
процессе его понимания, впрочем, как и (не)истинности, (не)желательности,
(не)безопасности того, что было сообщено;
2) сообщения информации (пропозициональной установки,
«знаю, что», «верю, что», «надеюсь, что», «боюсь, что»), так сказать, ее
особой редакции или формы презентации или наблюдения1.
Сообщение есть форма презентации информации: это и выбор слов, и
выбор типа (письменной, устной, печатной, медийной), но главное -
выбор установки или типа наблюдения знания. Знание может
наблюдаться в контексте удивления, надежды, опасений, желаний и т.д.;
3) понимания сообщения информации - понимания
обоснованности того, что в сообщении действительно содержится (или не
содержится) именно эта, а ни какая-то иная информация. Понимание —
результат анализа сообщения, его разложения на части: на модус
презентации, знак (как на фактически-материальный способ
презентации) и его смысл, на содержание сообщения и латентный или явный
мотив. Или в общем виде - на сообщение (ту или иную форму
презентации) и то, что было из него извлечено в ходе интерпретации.
Понимание, таким образом, - это больше чем интерпретация, которая в
своем обычном виде «забывает» о том, из чего она получена, и
концентрируется лишь на смысле. Понимание - это интерпретация с
учетом способа наблюдения, знака или, так сказать, «носителя»
информации. Так, я могу интерпретировать любовную лирику как
выражение любви; но можно увидеть в ней не только любовь как смысл,
заложенный в стихи их автором, ведь точно такой же смысл я могу
извлекать из стихотворения, рассматривая его как чистую поэзию.
И подлинное понимание возможно лишь в процессе сравнения того,
как согласуется заложенный аффект со стихотворной формой,
насколько они выразили любовь, а насколько они манифестируют лишь
чистую поэзию.
Как видно, в общих чертах эта теория коммуникации
соответствует традиционному трехэлементному пониманию знания как истин-
1 Вовсе не обязательно, чтобы сообщающий эксплицитно формулировал
«установку». Она в любом случае будет подразумеваться при интерпретации любого
сообщения - хотя бы в виде установки «безразлично, что...».
268
Раздел 3. Язык, сознание и социум
ностного, обоснованного полагания1. Знание — это сравнение и
отличение сообщения об информации от сообщенной информации,
независимой от сообщения формы ее презентации. Первое без второго —
еще не знание. Второе без первого - уже не знание. Их связывание,
различение (анализ) и есть понимание2.
Для наших целей важно предварительно отметить, что знание в
этой теории приписывается не человеку, а словно получившим
самостоятельность и рутинизировавшимся процессам сообщения,
информации, понимания. Отсюда вытекают некоторые соображения в
отношении истинностной оценки знания.
Следствия из коммуникативной теории знания для теории истины.
Представляется, что информация не может быть ошибочной, мир не
может ошибаться в отношении себя, а может быть таким, каков он
есть, и никаким другим. Но в такой форме информация нам как раз и
неизвестна (вспомним хайдеггеровское фундаментальное
определение истинности как сокрытости, Verborgenheit, предшествующее и
более базовое по сравнению с выводимым из него «алетейя», или «не-
сокрытость»). Чтобы стать известной, а значит, сообщенной, она
должна быть вписана в пропозициональную установку, получить ту
или иную редакцию. И только это делает возможным заблуждение и
ложность.
Но эти пропозициональные установки как формы презентации
информации (смысла сообщения), веры во что-то, надежды на
что-то, как раз не имеют никакого коррелята в самом мире. Это есть
то специфическое, что добавляется к миру в ходе его обсуждения и
соответственно селекции той или иной информации. Сколько
существует установок как форм презентации знания, столько и форм -
языкового! - удвоения мира. (Можно надеяться, что что-то имеет место,
значит, это может и не случиться. Можно верить во что-то, значит,
этого может и не быть.) Всякая установка модализирует мир,
умножает его, но исключительно в самом процессе сообщения. В самом
сообщении (установке) сообщается о состоянии знающего - надежде,
1 См. дискуссию в журнале «Эпистемология и философия науки».
2 Конечно, далеко не всегда в коммуникации эксплицитно формулируется
пропозициональная установка, - заявляется, например, «я боюсь, что пойдет снег».
Но в любом случае стоит иметь в виду, что поиск так называемого смысла
высказывания оказывается подстановкой такой установки. Смысл высказывания (в
данном случае как его мотив) сводится к «опасениям». Это и может становиться
информацией, которую я черпаю из сообщения, в том смысле, что отличаю ее от
других «установок» (например, надежды), но также и от установки эпистемиче-
ской в узком смысле, т.е. оттого, что «я знаю, что идет снег».
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 269
знании, страхе и т.д., а не о мире независимо оттого, какая
информация или смысл будут эксплицированы на следующем этапе
коммуникации.
Возникает вопрос о том, лежит ли что-то более фундаментальное
в столь разных типах удвоения мира? Первое, что приходит на ум, что
в основе всех установок или презентаций знания, удваивающих
действительный мир, лежит некое первичное разделение на его да-редак-
цию и нет-редакцию, на модусы принятия и отклонения. В принципе
такие формы модализации мира (т.е. негативные и позитивные
установки в отношении мира), даны уже в растительно-животном мире и,
безусловно, в мире примитивных влечений. Каждому «движению» в
отношении мира со стороны его реципиента соответствует событие
или фрагмент мира, но в отношении к одному и тому же мировому
событию возможно как принятие, так и отклонение, как «движение к
нему», так и «движение от него».
Однако такому различению между принимаемым и
отклоняемым, между позитивной и негативной формами реакции на мир в
самом мире уже как раз ничего не соответствует. Это внутреннее дело
того, кто такие движение или реакцию осуществляет. Соответственно
и сами эти операции отклонения и принятия знания не являются
эмпирическими, в мире самом по себе нет различий между тем, чего
хочется и не хочется, во что веришь и не веришь, чего боишься и не
боишься, на что надеешься, а на что - нет, между тем, что известно, а что
не известно, между тем, что есть и чего нет. Эти различения
локализованы исключительно в самих пропозициональных установках. В мире
не просто наличествует нечто, что впоследствии фиксируется в
суждении р; к этому положению дел добавляется еще и факт его
известности или неизвестности, что, собственно, и умножает число
мировых событий.
Но если возможно выбирать форму презентации и наблюдения
мира, то не означает ли это относительную свободу в порождении
своего мира? Итак, базовой характеристикой пропозициональной
установки оказывается ее неэмпиричность, отсутствие у нее
коррелята в мире, который эта установка подразделяет (и тем самым
производит!) на его позитивные и негативные версии или формы
презентации.
Но добавляет ли что-то такая атрибуция знания исключительно
самому знающему и сообщающему об этом что-нибудь к анализу
информации как безличного, пропозиционального знания,
содержащегося в сообщении-установке? По-видимому, нет. Но тогда, может
быть, отвлечься от агента или адресата знания? Ведь если мы зафик-
270
Раздел 3. Язык, сознание и социум
сировали модусы или формы его презентации-наблюдения в виде
пропозициональных установок или сообщений, то субъект, человек,
сознание оказываются нам не нужны1. При этом, отказываясь от
агента, сообщающего о своем знании, мы не отказываемся от анализа
самого сообщения, установки, делающего его возможным! Ведь
информацией всегда может оказаться и само сообщение, а не только его
содержание (= информация в узком смысле). Сообщение - это
необходимый и (равноправный знанию) материал знания, т.е. такая
форма презентации знания, которая и сама всегда может оказаться
извлекаемым смыслом или информацией. Никто не запрещает от анализа
смысла сказанного обратиться к анализу слова или предложения,
анализу установки как формы презентации знания. Сообщение
оказывается носителем знания, его медиумом, данным нам в языке
независимо от человека, но при этом оно всегда может рассматриваться и
как содержание знания. Факт известности тоже может стать
эксплицитно известен.
На место носителя знания (уже не человеческой, но все еще в
каком-то смысле антропологизированной инстанции) было немало
претендентов: логос, трансцендентальное сознание, язык.
О том, кому атрибутировать знание - сознанию или коммуникации;
и о том, какая дисциплина формулирует теорию познания. В этой части
исследования мы обосновываем, что именно коммуникация, а не
трансцендентальные структуры сознания или язык являются
инстанциями, которым следует приписывать знание, и, следовательно,
эмпирическим (= натурализированным) и единственно возможным
базисом для эпистемологических исследований.
В истории эпистемологии долгое время господствовала «трансцен-
деталистская» установка. Согласно ей, условием эмпирического
познания и фактически носителем некого вечного знания о знании
выступает неэмпирическая или сверхэпмпирическая (априорная,
трансцендентальная) способность формулировать отношение к миру
и накапливать вторичные, синтетически и эмпирически добываемые
знания. Эта установка впервые получила форму «логоса» (или
логики) еще в античности. Действительно, в постулатах логики говорится
1 Поэтому мы отказываемся от рассмотрения установки как интенционально-
го или ментального состояния (отличаемых, как правило, от просто
наличествующих ощущений в современной философии сознания). Ментальное состояние
может быть коррелятом установки, а может и не быть, достаточно того, что
осуществлена «атрибуция» установки в ходе коммуникации. Фактическое наличие
ментального состояния (страха, надежды, убеждения) в сознании не имеет большого
значения.
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 271
лишь о самой логике и ничего не говорится о мире, т.е. в мире самом
по себе нет никакой «мировой» логики, которую бы воспроизводили
логические аксиомы (или тавтологии). (Этот факт, сообщенный
Витгенштейном Расселу, как известно, довел последнего до
суицидального состояния.) И в самом деле, разве у закона о
непротиворечивости есть коррелят в самом эмпирическом мире? Тавтологии другими
словами высказываются о том, чего в мире как раз и нет. И то, чего в
нем нет, мы узнаем из логики, но никак не из позитивных описаний
мира.
В то же время мы могли бы взглянуть на мир на предмет его
непротиворечивости (или противоречивости) и вывести логический закон
(избежания противоречий или пресловутые законы диалектики). Но
если мы захотим доказать, что этот мир непротиворечив (или вместе
с Гегелем, что он полон противоречий), не должны ли мы уже
задействовать этот постулат, а значит, располагать им до всякого
обращения к реальности?
Итак, согласно априоризму, имеются некие формы, априорные
знания о том, как добывать знания. Это противоречит
коммуникативной интерпретации знания, где сообщение-установка как форма
знания хотя и имеет самостоятельное значение (а не отражает
коррелятивные мировые события), но в качестве коммуникативной формы
генерируется в процессе коммуникации, эволюционирует вместе с
типами коммуникаций, может исследоваться в теории
коммуникаций как вполне эмпирическая реалия — реально функционирующая
установка или отношения известности, опасений, надежды,
желательности, вероятности и т.д.
Если следовать априористской установке исследования мира на
его противоречивость или непротиворечивость, то в этом случае
полученные данные не должны обратным образом воздействовать
(подтверждать или опровергать) закон противоречия: трансцендентализм
в этом смысле не допускает натурализации, т.е. возможной
корректировки предпосылок познания с учетом фактического
(психологического, социологического, биологического, физического и т.д.)
познания.
Трансцендентальное понимание сознания у Канта, выведшего
причинные, пространственные и временные связи за пределы мира
самого по себе, продолжило эту эпистемологическую линию
поисков когнитивных механизмов или схематизмов, лишенных
подлинных коррелятов в мире самом по себе. Трансцендентальный
субъект Гуссерля точно так же погружен лишь в модусы своей
презентации мира, мы колеблемся между ноезисом и ноэмой безотно-
272
Раздел 3. Язык, сознание и социум
сительно к внешнемировым коррелятам содержаний
субъективности (эпохе).
В аналитической философии утверждалось, что в такую
априорную сферу входят функторы «и», «или», «следует», у которых в свою
очередь не обнаруживалось в мире никаких коррелятов, но которые
лишь связывают атомарные предложения в предложения
молекулярные. Рассел назвал такого рода выражения синкатегорематиче-
скими.
И действительно, как уже указывалось, в мире у некоторых
условий познания, например у закона исключения противоречия, не
обнаруживается референтов. Этот логический закон, очевидно, не
является эмпирическим постулатом. В самом мире как раз и не
требуется ничего исключать, там нет ничего лишнего. Там нет никаких
противоречий, и все позитивно. И словно в ответ на это в структуре
разума возникает постулат недопущения - несуществующих в самом
мире - противоречий. Противоречие оказывается достижением
исключительно мышления! Можно поставить вопрос так: требованию
исключать противоречия в разуме соответствует отсутствие таких
противоречий в мире! Это требование принимает форму парадокса:
противоречащие друг другу мысли обнаруживают своим коррелятом
в мире факт отсутствия таких противоречий.
Итак, старая семантика - трансцендентальная, аналитическая,
феноменологическая - утверждала существование мира, доступного
эмпирическому наблюдению и требующего языкового синтеза. В то
же время постулировался мир необходимых, аналитических,
неэмпирически обоснованных истин и реалий мышления (в этом Гуссерль
недалеко ушел от Фреге), среди которых и следует искать условия
самого познания, такие, как логика и закон исключения противоречия,
пространственно-временные созерцания, причинно-следственные
сопряжения и т.д. Такие условия познания не наблюдались
эмпирически, не могли оказаться другими в случае развития и углубления
позитивного познания.
Проблема трансцендентального сознания как субъекта знания
всей старой семантики состояла в том, что трансцендентальная
теория сознания запрещала когнитивную самореференцию, т.е.
отказывалась рассматривать трансцендентальные условия познания
(пространство, время, категории причинности и категорию категории) в
качестве следствия фактического познания. Уже хотя бы потому, что
трансцендентальной предпосылкой познания оказывался и сам
механизм следования — имплицитный познанию и эксплицитный
предмету познания. Как же такое условие могло одновременно явиться и
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 273
его результатом? В качестве имманентного сознанию такое
каузальное следование являлось «вечным» условием познания, а никак не
вытекало из него. Отсюда весь пафос Фреге и Гуссерля, требовавших
денатурализации теории познания. В философии-де нет места
психологии! Представление, что носителем априорного знания является
трансцендентальный субъект, словно исключало это знание из сферы
эмпирического исследования.
Представления о том, что познанием занимается
(трансцендентальное) сознание1, что именно (трансцендентальному) субъекту
нужно приписывать знание, господствовали в философии вплоть до
лингвистического поворота, где референция теории познания
сместилась в область языка. Ведь язык можно изучать эмпирически и
делать выводы о том, что же является фундаментальными условиями
познания. Ведущей дифференцией в исследовании языка стало
различение аналитическое/синтетическое. Но и это различение не
имело коррелята в эмпирическом «натурализированном» мире — языке, а
оставалось априорной предпосылкой любого знания. Впрочем, как и
различение языка и метаязыка. Из исследований самого языка никак
не вытекали такого рода различения, и изучение языка как
фундамента познания не требовало создавать искусственный идеальный язык
«осмысленных выражений». Фактический язык науки прекрасно
подходил для нужд фактического познания.
Итак, в ходе лингвистического поворота язык является
доступным как эмпирический объект и допускает его «натуралистическое»
рассмотрение. Но и его анализ накладывал существенные
ограничения — запрещал смешивать уровни языка и метаязыка, что
оказывалось «неэмпирическим» условием познания. Требование запрещать
смешение уровней, свойств членов множества и самих множеств
оставалось сомнительным. (Сама футбольная команда, командный дух
в целом, конечно, не является тринадцатым игроком команды,
поскольку этот «командный дух» выражает свойство не одного игрока, а
всей команды, т.е. множества. Но как раз это дополнительное
свойство как дополнительный фактор наряду с индивидуальными
способностями игроков и объясняет, и определяет победу. Именно это
свойство должно быть добавлено как объяснительная гипотеза победы
команды - наряду с индивидуальными свойствами каждого игрока.)
1 И это несмотря на редукцию в научном познании человека-наблюдателя к
самим процедурам наблюдений и измерений, которые еще могли быть
осуществлены и описаны на языке математики, но уже не могли быть наглядно представлены
человеческим сознанием - как четырехмерное пространство, хотя в
действительности и трехмерное пространство Евклида столь же сложно для восприятия.
274 Раздел 3. Язык, сознание и социум
В рамках аналитической философии язык оказался эквивалентом
априорных структур познания, неэмпирическим условием знания.
Ведь он, говоря словами Витгенштейна, выступает границами мира.
Все, что происходит, получает ту или другую языковую редакцию,
каковых оказывается дефинитивно больше, нежели самих
происходящих в мире событий. Именно вследствие этого возникает
возможность забл ужде н ия!.
Альтернативой этой семантики, где знания приписываются
сознанию или языку, является «натурализированная», или
«эмпирическая», семантика. В ней теория познания не требует для себя такого
выделенного статуса среди научных дисциплин. Более того, для эпи-
стемических исследований оказывается достаточно и
утвердившихся наук, будь это психология с ее исследованиями восприятия и
индивидуального мышления, или социология, изучающая
коммуникативные структуры знания и познания. Обе дисциплины требуют
эмпирических исследований и сознания, и коммуникации, и языка
на предмет выявления своих собственных предпосылок, которые
оказываются фактическим следствием развития этих дисциплин.
Речь идет об автологической семантике, в рамках которой теряет
значение различение между трансцендентальным и эмпирическим,
аналитическим и синтетическим: то, что считалось аналитическим
понятием, генерируется и трансформируется в результате
эмпирического анализа.
Попытки натурализации эпистемологии связывают с именами
Н. Лумана и У. Куайна. Луман рассматривает коммуникацию, в
которой нет никаких выделенных неизменных условий, там метаязык
всегда остается и языком коммуникации: правила коммуникации могут
быть предметом коммуникации как ее обычная тема, любой аспект
коммуникации - сообщение-установка, смысл-информация и
понимание — могут обсуждаться в коммуникации.
1 Именно язык в этом смысле оказывается первым врагом истины. Если
познание представляет собой путь проб и ошибок, то ошибка или заблуждение
оказывается фундаментальным условием познания! Между тем мозг, организм к
ощущению ошибки очевидно не способны. Если мне кажется, что я испытываю боль, я
действительно испытываю боль, а если мне кажется, что я вижу красное, я
действительно вижу красное, пусть это на самом деле и зеленое. Боль - это не
субстанция, которая существует сама по себе, отличная от чувства боли как одной из форм
ее существования, истинной (адекватной) или ложной (неадекватной)
презентации. Боль, пока о ней не высказались, и есть сама — всегда истинная — данность.
Лишь предложение может быть ложным или истинным, и это тривиальное
положение требует отказа от известной презумпции «человеку свойственно
ошибаться», показывает искусственность этой конструкции.
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 275
Натурализация познания и в случае Куайна предполагала
рассмотрение познания как формы человеческого поведения, которое
может изучаться психологией. Но это касается донаучного познания,
индивидуального когнитивного аппарата — восприятия, обобщения,
отклонения и т.д. Если говорить о предпосылках именно научного
познания, то здесь имеют значение другие факторы; требуется уже не
просто психолого-физиологическое исследование, но исследование
социальных предпосылок развития познания, и поэтому здесь
натурализация проявляла себя в виде привлечения теории коммуникации
для исследований эпистемологии.
Почему же тогда следует отказаться от языка как фундамента
познания? Мы утверждаем, что первичной формой познания является
коммуникация, а не язык. Допустим, такой фундаментальной
формой познания является различение объекта и субъекта (или вещей и
людей). Но из чего вытекает такое различение? Очевидно, не из
языка, ведь различение существует, вероятно, у животных и,
несомненно, у маленьких детей, которые уже вступили в коммуникацию со
взрослыми в отношении вещей, но еще не овладели языком; как и не
из знания чужого сознания, поскольку чужое сознание нам
недоступно и мы не знаем, что в нем перерабатывается. Кроме одного! — что в
нем нечто перерабатывается, причем именно это нечто как раз и
отличается от самого человека.
Итак, это различение предмет/человек (= перерабатываемое
сознанием/перерабатывающее сознание) вытекает из восприятия
чужого восприятия, причем еще до овладения языком. Предмет
может быть определен лишь как предмет восприятия другого
человека. По поводу чужого восприятия мы точно знаем лишь то,
что оно отличает себя от всего остального: себя-человека от
предмета внимания себя-человека. Так понятое познание (=
операция обозначения через различение) одновременно и есть
первичная форма и условие возможности коммуникации. Ведь чтобы это
познание-коммуникация состоялась, приходится говорить с
человеком о предметах, а не с предметами о человеке, т.е.
осуществлять первичное когнитивное различение. Когда мы вступаем в
коммуникацию, мы перформативно1 различаем коммуницирую-
щего и коммуницируемое, а значит, познаем. Познание -
коммуникация о предметах с человеком, а не наоборот. Итак, именно
коммуникация (а не язык) требует познавательных различений:
1 Перформативно в том смысле, что коммуникация (действие, перформанс)
есть одновременно и языковой акт, и когнитивный.
276
Раздел 3. Язык, сознание и социум
с кем/о чем (и вторичные вытекающие формы человек/вещь,
субъе кт/объе кт).
Другими словами, познание (в данном случае в форме различения
предметов и людей) нужно для продолжения коммуникации, чтобы
не разговаривать с предметами о людях. Такое различение и является
условием осмысленного продолжения коммуникации, которая в
случае обратного положения дел, т.е. общения с предметами о людях,
очевидным образом застопорится. Именно ради этого приходится
отличить вещь от человека, т.е. осуществить первый когнитивный акт.
Сама коммуникация в виде фактического сообщения о чем-то,
адресованного кому-то, есть перформативное отличение предмета от
воспринимающего его человека.
В рамках сознания (и в рамках языка) не требуется с
необходимостью различать (= познавать) людей и вещи; и камни, и людей
сознание способно воспринимать, не подразделяя (= не познавая) их на
разные категории. Их смешение в сознании не приведет к
прекращению потока переживаний, прекращению функционирования
психических систем. Такое смешение порождает исключительно
коммуникативные трудности - трудности коммуникации с молчащими
предметами.
Итак, мы выдвигаем тезис о генетическом примате
коммуникации в вопросе знания перед человеком (и его сознанием) как
агентом познания и перед языком как носителем знания
(аналитическая философия и герменевтика). Уже общение с новорожденным
показывает, что коммуникация возникает раньше языка. Она
начинается на уровне появления дискриминационных возможностей
восприятия, и первое, что дискриминируется, - это сам человек,
отличаемый от себя же в форме не-человека, процесс,
примечательным образом воплотившийся в великих философских системах
(Фихте, Шеллинг).
На уровне индивидуального человеческого сознания (если
знание и познание приписывать самому человеку) последнее
оказывается чрезвычайно релятивным, в особенности в вопросе
пространственно-временных созерцаний. (Некоторые аборигены могут не
различать круга и квадрата, воспринимать до 100 оттенков белого, не
говоря уже о различиях культурно обусловленных представлений.)
Отсюда проистекает вопрос о границах такой релятивности
индивидуального знания. Очевидно, что границы релятивности знания
определяются возможностью понятно рассказать о своих
представлениях, а следовательно, ведущую роль играет ожидание понимания. Но
последнее возможно только в рамках коммуникации, причем устой-
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 277
чивой и воспроизводимой настолько, чтобы сообщаемое знание было
воспринято без чрезмерного удивления.
Другими словами, именно устойчивые культурные, языковые
( = коммуникативно утвердившиеся) представления определяют
индивидуальные экспликации знания. В современности для того, чтобы
оставаться понятым, я уже не могу позволить себе утверждать, что
квадрат и круг фактически тождественны, как бы моему
индивидуальному внутреннему восприятию ни казалось, что замкнутость границ и
континуальность линий гораздо существенней, чем наличие прямых
углов. То же самое непонимание, приводящее к проблематизации и
обременению коммуникации, возникает в том случае, если вернуть
товар продавцу под предлогом того, что его белый цвет недостаточно бел,
пусть это и недоступно нетренированному восприятию продавца.
И только в этом - вырожденном - случае возникает фикция
приписывания знания человеку. Тогда коммуникация может быть разрулена
простым объяснением (ссылкой на особый характер моего
восприятия), т.е. через атрибуцию знания человеку как носителю
индивидуального знания. Но эта ссылка как раз и оказывается следствием
коммуникации и ее несрабатывания в качестве общепонятного
когнитивного ориентира, на которой ориентируется всякое знание.
Именно в этом смысле коммуникация «знает» и «познает», т.е.
определяет то, что может быть — понятно - сказано, как и то, какое
знание может быть артикулировано и не отклонено как недоступное в
контексте конкретного общения!
К конструированию Другого: интерсубъективное вчувствование в сознание
Другого или коммуникативное различение информация/сообщение? В этом
смысле нужно отказаться от традиционного (гуссерлевско-шюцевского)
понимания социальности (конституирования «альтер Эго»,
«ты-субъективности»), согласно которому человек в его восприятии вначале
вступает в когнитивный контакте внешним миром, в котором помимо
прочих вещей обнаруживает «объекты» особого рода, отличные от вещей и
похожие на Эго, и каждый раз учитывает это различие. Ведь теперь его
познание гарантируется дважды: как собственное и как повторяющееся
из перспективы другого, Альтера, который тоже учитывает это различие,
в свою очередь повторяющееся в перспективе Эго. Когнитивный
контроль над внешним миром восприятия обеспечивается-де полнее через
«удвоенное» восприятие. Пусть даже эту «вторую» перспективу Альтера
конструирует для себя все-таки сам Эго.
Но вопрос в том, как же все-таки Эго может пережить то же, что
переживает Другой. Ведь он в лучшем случае может пережить лишь
278
Раздел 3. Язык, сознание и социум
то, что Другой переживает, но никак не то, что переживает Другой.
В вопросе так называемой интерсубъективности традиционным
исходным пунктом был факт сознания, вчувствования, переживания
чужого переживания. Но если коммуникативная теория берет за
исходный пункт коммуникацию, то важнейшим различением является
различение сообщения и информации сообщения.
Сознание Эго, его переживание реконструируется Другим через
«гипостазирование» типовых сообщений: «пропозициональных
установок» страха, желания, знания, веры, выкристаллизовавшихся и
утвердившихся в процессе длительных коммуникаций. Мы различаем
фактически прозвучавшее предложение (выборку слов, означающее)
и его индивидуальный распознаваемый в сообщении смысл
(информацию, мотив, интерпретацию, действительное положение дел,
означаемое). Этот смысл мы без каких бы то ни было гарантий можем
лишь приписать переживанию Альтера. В действительности это
остается конструкцией Эго, а фактически - самой коммуникации,
потому что уже миллион раз до этого имели место коммуникации в виде
предложений «я боюсь», «я хочу», «я знаю», которые
«сконденсировались» в виде народной психологии и установок «страха», «желания»,
«полагания», «надежды». Такая психология, как показал Д. Деннет,
именно потому и является «народной», что оказывается стихийно
возникшей «теорией» чужого поведения, приписывания ему
устоявшихся коммуникативно-акцептируемых оценок. В то же время
приписывание чужому сознанию в качестве смыслов таких установок
облегчается тем обстоятельством, что они в типичном случае
представляют собой именно сообщение, а не информацию, звучат
эксплицитно и перфомативно, явно указывая на самих себя как на свой
смысл: если «я боюсь, что р», главную роль играет сам страх, а не р,
причем смыслом (т.е. извлекаемой из сообщения информацией)
становится само сообщение, а не фактически опасное действительное
положение дел.
Несмотря на очевидность «народной психологии» в
приписывании чужому сознанию знания и установок, именно здесь возникает
«двойная контингенция» - ненеобходимый характер в
интерпретации переживаний чужого сознания при коммуникации Эго и Альте-
ра. Всегда имеет место фактически сравнение предложения
(сообщения) и ненеобходимо извлекаемого из него смысла на предмет их
согласованности и, как следствие, понятности, причем всегда в
контексте той или иной актуальной коммуникации. Лишь характер
коммуникации делает понятным сообщение «предложения» и его
информативную интерпретацию. Страх приписывается сообщению на
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 279
войне, а желание в системе интимных коммуникаций. Понятность
определяется не вчувствованием в сознание, а коммуникативным
контекстом прозвучавшего предложения, т.е. тем, в какой системе
коммуникаций осуществляется сообщение информации.
Итак, появление Альтер Эго (то, что когда-то назвали
интерсубъективностью) не является следствием эмпатических способностей
«переживания чужого переживания». Оно вытекает из
коммуникативного различения сообщения и информации. Сознание Другого
реконструируется Эго в виде набора диспозиций, установок,
понятных только через коммуникацию и возникших
(сконденсировавшихся) только через коммуникацию. Понимание Другого Эго становится
возможным через различение сообщения и информации. Эго
понимает Другого, если сравнивает на предмет согласованности то, что
является общим для Эго и Альтера (т.е. пропозициональную установку,
сообщение, языковую реальность, означающее), и то, что может
различаться, а именно извлекаемую информацию или смысл
сказанного. Различение сообщения и извлекаемой информации есть
первичное основание для различения Эго и Альтера.
Но эта же структура коммуникации сообщение/информация
диктует условия познания: различение вещи и человека, субъекта и
объекта возможно только потому, что раньше в коммуникации уже
осуществилось различение с кем/о чем, различение между человеком
(а фактически набором диспозиций, установок, возможных
сообщений) и смыслом или содержанием этих сообщений1.
1 Закрытость и непрозрачность сознания как условие различения открытого
сообщения и закрытого смысла (и различения Эго и Альтера по типам их доступа
соответственно к сообщению и информации) не противоречит экстернализирую-
щей функции сознания. Эта функция, свойственная и животным, состоит в экс-
тернализации внутренних нейрофизиологических процессов, в дифференциации
внутренних процессов (нервной системы) на внутренние и внешние. То, что
фактически происходит внутри, сознание интерпретирует как происходящее вовне, в
мире. Нотолькокоммуницироватьсамо это восприятие невозможно, коммуници-
ровать можно лишь о нем, и только в форме слов, а не чувств. Рассказать о новом
невиданном ранее цвете или ощущении невозможно, но можно говорить о нем в
коммуникативно-кристаллизовавшихся формах, в ранее утвердившихся
вербальных символах: красное, белое, квадратное. Другими словами, функция сознания
состоит в экстернализации: выведении познания за рамки тела через различение
внутреннего и внешнего, тела и мира. (Пусть это всего лишь «интерпретация»
сознанием процессов нервной системы, которые все без исключения
осуществляются внутри.) Аналогичным образом может быть определена и экстернализирующая
функция языка — вывод познания за рамки сознания или восприятия через
свободное комбинирование знаков и слов, через возможности ошибочной, неточной,
оценочной интерпретации чувственных данных о сообщенном восприятии или
переживании, через редукцию воспринимаемых образов к коммуникативно
понятным (например, геометрическим) формам.
280
Раздел 3. Язык, сознание и социум
Непрозрачность сознания как ключевое условие коммуникативного
понимания. Различие двух составляющих коммуникации — сообщения
и информации — свидетельствует против того, что возможны какие-то
переносы смыслов или значений от сознания к сознанию; а иначе
каждое сознание продолжалось бы в другом сознании. Не было бы
контингентности — свободного, но понятного (т.е. согласованного с
ожиданиями) извлечения информации из сообщения (=
приписывания смысла, мотива, установки тому или иному прозвучавшему
предложению). Об информации («открывшемся» смысле
сообщения) можно в свою очередь лишь сообщить, и это сообщение требует
его новой смысловой или информативной переработки. Сознание в
этом смысле и открыто, и закрыто. Открыто для входа сообщения
(если оно не глухо) и закрыто для ввода в него какой-то
предуготовленной информации сообщения. Оно само генерирует
информацию, но эта генерация определяется коммуникативным контекстом,
а не сознанием. Свобода сознания здесь предельно ограничена
кристаллизовавшимися ранее коммуникативными формами,
устойчивыми и воспроизводящимися ожиданиями (= социальной
структурой).
У двух сознаний есть только одно общее - сообщение,
воспринимаемый знак (в его ипостаси означающего), сигнал, на котором оба
сознания способны одновременно сконцентрироваться. Но у этого
сообщения есть одна особенность, которая не дает возможности
обоим сознаниям совместно трансформировать его в информацию. Это
чрезвычайная избыточность его отнесений, референций, редундант-
ностей, которая (таковы темпоральные условия коммуникации!)
должна быстро редуцироваться, свестись к одной (всегда не точной, а
зачастую ошибочной) информации, почерпнутой из сообщения. При
этом данные сознания (переживания, восприятия) играют в
коммуникации минимальную роль. Так, в сообщении «Над всей Испанией
безоблачное небо» не заключено никакого восприятия, хотя речь идет
именно о восприятии. Сознание словно вытесняется
коммуникацией, делает с нею то же самое, что сознание сделало с нервной
системой: задействует ее ресурсы в своих собственных интересах
безотносительно к последней. Коммуникация «слышит» и «видит»
сознаниями, но говорит только с самой собой, различает между сообщением и
его смыслом.
Из различности и связи сообщения и информации вытекает
коммуникационное понимание. Понимание - это редукция возможных
подсоединений, отнесений сообщения. Так, сообщение «Над всей
Испанией безоблачное небо» редуцировано к приказу о восстании и
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 281
понято в том случае, если наблюдатель отличил сообщение и его
фактически напрашивающийся смысл (о погоде) от фактической
информации (приказа к восстанию).
Если перед дверью стоит человек и роется в кармане, среди всех
возможных смыслов в потоке его подсоединяющихся друг к другу
действий (самореференция) мы выбираем референцию - «он ищет
ключ», пусть он не ищет ключ, а лишь специально демонстрирует это
или ищет что-то другое. Понять — значит зафиксировать
избыточности и осуществить разгрузку, элиминируя все ненужное и
разгружаясь от излишнего информационного груза, при этом отдавая себе
отчет, что и другие возможности могут иметь место и требуют внимания
как фон для сравнения. Понять - вовсе не означает понимания того,
что действительно перерабатывается в сознании, и именно поэтому
возникает возможность выбирать между подсоединяющимися
возможностями. Понять - значит сконструировать самореференциаль-
ную цепь событий без какого бы то ни было проникновения в
«психические состояния» чужого сознания.
Если бы у одного сознания наличествовал доступ к другому
сознанию, понимание как различение возможностей было бы невозможно:
означающее и означаемое совпадали бы, смысл знака (лишь одна из
массы его избыточных интерпретаций) не отличался бы от самого
знака. Все сказанное, подуманное и воспринятое составляли бы
неразрывное единство, не допускали отклонений и не требовали их
понимания (= отличения друг от друга). Именно непрозрачность
сознания оказывается фундаментальным условием понимания, а вовсе не
его прозрачность и доступность для интерпретаций, как это кажется
на первый взгляд.
Понимание в сознании и понимание в коммуникации: о «внутренней
бесконечности» сознания. Само понимание в нормальном случае не
коммуницируется в коммуникации, не важно, имеет оно место
фактически или нет. Для этого у коммуникации очень мало времени.
Мы не можем заканчивать каждое предложение вопросом и ответом
на вопрос о том, понято ли оно, как понято и насколько правильно
понято данное предложение. В предельном случае коммуникация
вообще может обходиться без психического понимания, когда
сознание коммуниканта занимают иные переживания,
несоответствующие теме коммуникации, и он лишь механически продолжает
разговор. Коммуникация может продолжаться даже и в этом случае,
если в ней задействовано всего одно сознание. Проблематизация и
тематизация понимания как раз свидетельствовали бы о том, что
282
Раздел 3. Язык, сознание и социум
коммуникация застопорилась и темой коммуникации стала сама
коммуникация («я не понимаю, зачем ты говоришь со мной именно
об этом?») или само сообщение, а не его смысл («ты сказал это очень
тихо, я ничего не понял»).
Именно здесь очевидно проявляется ключевое различие между
системами сознания и системами коммуникации. Системы
коммуникации продолжаются через «или-или», приходится иметь дело с
пусть всегда рутинизированным, или почти
бессознательно-механическим выбором: отклонить предложенную коммуникацию или
принять ее, продолжать прежнюю тему или перейти к другой,
согласиться или не согласиться со сказанным. В магазине коммуникация
осмысленна (= может продолжаться), если говорят о покупке, а в
суде — если говорят о проступке. Все прочее должно быть отклонено.
В сознании, напротив, мысли и переживания присоединяются друг
к другу без того, чтобы каждый раз решать проблему подсоединения
одного акта переживания к следующему акту в определенном
системном контексте и принимать соответствующее решение. Поток
переживаний будет продолжаться независимо от темы и системного
контекста. И в магазине можно тосковать о любимой. Проблема
коммуникации есть проблема тематически и контекстуально
определенного ее продолжения, а также механизмов и мотивов для
такого продолжения. Говорить нужно на тему, определенную
контекстом. Проблема сознания - это проблема общего поддержания
консистентности сознания, некого общего холистского фона1, в
котором фактически любая подуманная мысль и пережитое восприятие
или воспоминание может быть осмысленно, а поэтому
подсоединяется к мысли предшествующей. После мысли о покупке я думаю о
любимой, а затем наслаждаюсь вкусом сигареты. Вопреки очевидной
неконсистентности этой последовательности она все же
гарантирована некой общей возможностью образовывать констистентности,
например универсальными чувствами удовольствия или
неудовольствия от мыслей и переживаний или, скажем, «навязчивой идеей»,
центром, вокруг которого концентрируются всякая мысль и всякое
переживание.
Кроме того, есть важное отличие понимания в системах сознания
от понимания в системах коммуникации. В последнем случае темати-
зация понимания служит индикатором застопоривания этой самой
коммуникации и делает возможным ее рефлексивный характер.
Фактически же понимание в психических системах вообще не является их
1 Никлас Луман назвал это свойство сознания «внутренней бесконечностью».
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 283
собственной внутренней проблемой. Оттого что какая-то
психическая переработка содержания мыслей осталась непонятной для
самого сознания, психические системы не разваливаются и не
заканчиваются. Если я не понимаю, что нужно отвечать на экзамене, проблема
возникает не в моем сознании, а в сфере коммуникации с
преподавателем.
Другими словами, тематизированное (не)понимание в
коммуникации является продуктивным для коммуникации с точки зрения ее
рефлексии, но рискованным с точки зрения продолжения системы
коммуникаций. (Не)понимание в психической системе не является
опасным для самих систем сознания, в любом случае оно не приведет
внутренним образом к прекращению системы (если речь не идет о
деструктивных воздействиях среды - когда я не понимаю, почему
трясется земля в момент землетрясения, — но и это разрушает систему
сознания не внутренним образом).
Двойной экстернализм языковых выражений: о свойстве языка быть
медиумом коммуникации и сознания. Почему возникает такая
дивергенция пониманий? Странным образом, именно из общего свойств
сознания и коммуникации, из возможностей порождать избыточности
в отношении каждого содержания — и содержания сообщения, и
содержания переживания. Каждое произнесенное в коммуникации
сообщение становится содержанием переживания, но
избыточности, отнесения у них различные. Осмысленность следующего
подсоединения (мысли и предложения) и образование двух историй
(истории переживаний и истории высказываний) определяется
двояко экстерналистски, т.е. исходя не из самого данного
содержания, а из некоторого двойного контекста. Если я говорю
комплимент «вы хорошо выглядите», содержание сообщения вписывается
одновременно в двойной контекст: в контекст наших прошлых
коммуникаций и представления об их будущем продолжении, с одной
стороны, и в контекст истории личных переживаний
воспринимающего сознания - с другой. «Комплимент» сам по себе,
безотносительно к двойному экстерналистскому контексту, не имеет
однозначного внутреннего смысла, даже и смысла комплимента, ведь он
всегда может быть понят как ирония. (Это настолько очевидно, что
непонятно, зачем понадобились мысленные twater-эксперименты
Патнэма для обоснования экстернализма.)
Другими словами, сознание всегда шире коммуникации, а
коммуникация всегда шире сознания. Думают всегда больше, чем
успевают сказать, а история разговоров всегда шире и длиннее истории мыс-
284
Раздел 3. Язык, сознание и социум
лей индивидуального сознания. Это взаимное «больше» и есть
двоякий экстерналистекий контекст любого языкового выражения.
Для понимания языка это очень важно, поскольку показывает,
что сам язык никакой системой не является. Он не может
продолжаться исходя из собственных мотивов и механизмов. Правил
грамматики недостаточно, чтобы стать «программатикой», алгоритмом,
не только чтобы обеспечивать правильность говорения, но и
мотивировать само говорение. Из грамматики не следует никакого
продолжения сообщения и подсоединения новых элементов системы.
(О сколько-нибудь жесткой связи элементов языка можно говорить
только на уровне слова, где подсоединение букв в рамках слова,
конечно, определяется самим словом, предыдущими и последующими
буквами, как показал деСоссюр.) Но именно это странное свойство-
не являться системой подсоединяющихся друг к другу элементов -
и составляет уникальную функцию языка. Язык в этом смысле
является медиумом, слабо связанной средой, хюле в смысле античной
традиции, где каждая его форма (область жестких связей в виде
внутреннего переживания или коммуникативного выражения) определяется
соответствующими внешними факторами («внутренней
бесконечностью» сознания или историей прошлых коммуникаций и
представлениями о будущих).
Сознание и коммуникация: каузальные, пространственно-временные
и личностные определения. Мир в сознании и коммуникации. Что
представляет собой мир, если взять за пункт наблюдения саму
коммуникацию? Допустим, мы представляем себе коммуникацию как
различение сообщения и информации, т.е. посоединяющихся друг к другу
слов и предложений, с одной стороны, и свободно выводимых из них
смыслов слов, рассматриваемых как некое данное положение дел или
обозначаемая реальность, — с другой. Последовательность или
система коммуникаций, таким образом, дефинитивно оказывается чем-то
таким, что благодаря последовательностям языковых актов
приобрело способность обособиться от мира, выделиться из него, а точнее
говоря, представляет собой процесс непрерывно осуществляющегося
обособления, отдифференциации, где ко всему сказанному
подсоединяется все новое сказанное, но не подсоединяются люди, камни и
животные как смыслы или реальность сказанного. Именно поэтому
так сложно определить мир исходя из самого мира, а не
системы, т.е. некоммуникативно. Казалось бы, каждый раз, когда мы
что-то сообщаем в коммуникации, мы сообщаем о тематизируемом в
коммуникации мире. Если мы говорим «яблоко», говорим о яблоке.
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 285
Но парадоксальным образом любое сообщение мгновенно
оказывается событием внутрисистемным, т.е. получившим форму слов или
предложений, и поэтому должно быть отнесено к коммуникативной
системе, последовательности сказанного, а не к миру, который при
каждом высказывании остается за скобками сказанного (в этом,
собственно, и состоит смысл гуссерлевских эпохе).
Итак, если система коммуникации (= последовательность
коммуникативных вкладов в коммуникацию) есть различение системы
коммуникаций и ее внешнего мира, т.е. самих системных операций
(сообщения, предложения и слова, означающего) и их тем (информации о
мире, означаемом, смысле), то у мира самого по себе остается лишь одна
возможность - бытьтем, что осталось после этого различения; быть тем,
что лежит вне этого различения, а именно являться unmarkerd space для
коммуникативного наблюдения. Если мы отличаем сказанное от его
смысла, «яблоко» от яблока, самореференциальное от инореференци-
ального, то само это отличение можно отличить лишь от некоторого
неразмеченного пространства, от того, что не наблюдается в ходе
коммуникации, но что неизменно сопровождает всякое сообщение.
Это то, о чем, согласно Витгенштейну, приходится молчать, когда
мы что-то говорим. О самом мире нельзя сообщить, но при каждом
сообщении он присутствует в виде неактуализировавшейся темы,
избыточных возможностей коммуникации, как условие возможности
самой коммуникации. Итак, мир с точки зрения всякой фактически
осуществившейся коммуникации есть единство сказанного и
несказанного: в коммуникации всегда что-то сообщается и что-то не
сообщается, и их общность может быть понята как мир. Но о том, что и то
и другое составляют единство, пусть и различаясь благодаря факту
коммуникации, в самой этой коммуникации ничего не говорится.
В конечном счете система коммуникации представляет собой
двойное различение.
Во-первых, речь идет о различении самой системы и ее внешнего
мира, т.е. вербальных или письменных сообщений, с одной стороны,
и сообщаемых тем (информации), репрезентирующих реальность и
мир, — с другой '. Система есть различение системы и ее внешнего ми-
1 Сообщение в отличие от информации не репрезентирует мир или события
мира; оно репрезентирует само себя, предоставляет возможности извлечь из себя
информацию о мире, где темой может становиться как состояние самого
знающего (т.е. его установки по отношению к миру: «я знаю, что», «я надеюсь на...» ), так и
сами (всегда избыточные) пропозиции, репрезентирующие мир. Именно свобода
выбора между первыми и вторыми, избыточность каждого из них указывают на
нерепрезентативный характер сообщения.
286
Раздел 3. Язык, сознание и социум
ра, который всегда принимает форму сообщения и должен
интерпретироваться как конструкция системы.
Во-вторых, в коммуникации осуществляется и различение
первого различения (слов и смыслов), с одной стороны, и того, что остается
за скобками этого различения, — с другой. Это то, о чем в
коммуникации всегда молчат. Именно эта последняя сторона различения и
может быть названа миром в онтическом смысле (Хайдеггер).
Мы можем сказать, что онтология Гуссерля (эпохе в отношении
мира), Витгенштейна (запредельного, заязыкового мира) и Хайдегге-
ра (сокрытое как фундаментальное условие возможности
несокрытого, истины, алетейи) представляют версии онтологии
коммуникативных систем. Что, впрочем, совсем не удивительно, если вспомнить,
где основатель коммуникативной теории систем Луман получил свое
образование.
Вот как аутопойезис и связь системы и мира, о которой мы ведем
речь, описывает Н. Луман. «Чтобы сразу предупредить недоразумения,
подчеркнем, что понятие "аутопойезис" было выбрано
целенаправленно и имеет четкий смысл. Ни в коем случае речь не идет о понятии "ауто-
гипостазис" (которое мы обнаруживаем в "De principio" Николая
Казанского как греческий вариант термина "per se subsistens").
Аутопойезис не означает, что системы существуют лишь исходя из них самих или
благодаря собственной мощи без какого-либо содействия со стороны
внешнего мира. Напротив, речь идет исключительно о том, что единство
системы и вместе с ним все элементы, из которых она состоит,
производятся через саму систему. Естественно, это возможно лишь на основе
материального континуума, который возникает вместе с физически
конституируемой реальностью. Естественно, такой процесс нуждается
во времени, как и в некоторой индифферентности по отношению к
темпоральным структурам его внешнего мира. Понятие структурных
сопряжений напоминает нам о том, что системы непрерывно регистрируют
исходящие из внешнего мира ирритации и используют их как повод для
респецификации своих собственных структур. Все это и содержится в
понятии аутопойезиса. Поскольку системы сознания, как и
коммуникативные системы, могут оперировать, лишь подчиняясь таким условиям
своего собственного аутопойезиса, то и не может случиться никакого
пересечения их операций. Идентичность (Einheit) некоторого отдельного
события, некоторой отдельной мысли или отдельной коммуникации
неизменно производится исключительно в системе в условиях
рекурсивного осетевления с другими элементами той же самой системы. Для
всякого производства таких - более неразложимых в отношении этой
системы - последних элементов, из которых она выстраивается, с
необходимостью требуется референция к другим собственно системным эле-
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 287
ментам, а также регулирование выбора этой референции собственно
системными структурами (= ожиданиями. — A.A.). Это относится
не только к живым системам, которые воспроизводят свои собственные
элементы через (приблизительно аналогичные) репликации, но и к
смысловым системам, которые в отношении всякого элементарного
события должны конституировать другие наследующие им события (мысли,
коммуникации), для того чтобы суметь продолжить свой аутопойезис.
Итак, не существует никаких "осознанных коммуникаций", как,
впрочем, и никакого "коммуникативного мышления" (ощущения,
восприятия). Или, другими словами, человек не способен коммуницировать;
лишь коммуникация может коммуницировать»1.
Здесь нужно понимать, что это непрерывное обособление,
самовоспроизводство коммуникации, аутопойезис, подсоединение одной
системной операции к другой вовсе не означают аутогипостазиса,
самогипостазирования (per se subsistens, autohypostaton). Автогипо-
стазирование означало бы причинно-следственную независимость
системы от мира, ее материальную обособленность,
пространственно-временную некоординированность системы и мира.
Традиционные представления о материальной континуальности между
коммуникацией, сознанием, нервной системой, о ее каузальной связи с
внешним миром, о ее временной синхронизированности с миром,
как и о том, что коммуникация занимает пространственное место в
мире, следует сохранить. Она не является независимой субстанцией в
смысле Декарта или Спинозы. Но все эти связи суть конструкции
наблюдателя, а значит, являются также и достижениями той или иной
системы, ведь они никак не даны в иной форме - вне наблюдения той
или иной системы.
В этом смысле, несмотря на каузальную зависимость систем и
мира, констелляции причин коммуникации все-таки всегда остаются
конструкциями самой коммуникации (при условии, что у нее
остается время заниматься своим собственным генезисом). Безусловно, у
коммуникации есть масса причин и она не может существовать без
воздуха и чернил, а также сознания как своего основного
перцептивного ресурса, впрочем, как и организма, поставляющего ей энергию.
Но все это не является ее «собственными» причинами. Чтобы
выявить причины коммуникации, их приходится вербализовывать и
атрибутировать (человеку, сознанию, обстоятельствам), а значит — те-
матизировать в коммуникации и всякий раз осуществлять
относительно произвольный выбор: приписать их либо сознанию, либо
1 Luhmann N. Wissenschaft der Gesellschaft. Suhrkamp, 1993. S. 30.
288
Раздел 3. Язык, сознание и социум
внешнему миру, либо предрасположенностям и организму, либо
судьбе и случайности.
Этот выбор в атрибуции причин остается принципиально
бесконечным1. Единственное, чего в таком приписывании причин нельзя
отрицать, - это то, что причины у коммуникации безусловно
наличествуют, как и то, что среди них присутствуют и собственные,
внутренние, коммуникативные причины. Прежде всего речь идет о
коммуникативных ожиданиях, выкристаллизовавшихся в процессе прошлых
коммуникаций; о том, что и сами каузальные атрибуции являются
коммуникативно-определенными, причем типически
определенными: в разных коммуникативных системах причины характерным
образом приписываются разным реалиям2.
Другими словами, каузальные факторы коммуникации настолько
многочисленны, настолько широкой оказывается констелляция
прошлых каузальных факторов, что любая коммуникация покажется
чрезвычайно невероятной. Эта проблему избыточности возможных
причин назовем проблемой сверхдетерминированности3 смысловых
систем (сознания и коммуникации).
Семантики времени как ответ на сверхдетерминацию коммуникации и
сознания. Возникает вопрос, что дает сопряжение коммуникации и
сознания - мгновенную встречу или пересечение во временной точке
двух независимо осуществляющихся последовательностей событий
(см. рисунок). Конечно, эта временная интерпретация мгновенного
совпадения слова и мысли всегда остается лишь точкой зрения
некоторого наблюдателя. Разные наблюдатели развивают абсолютно
различные семантики таких структурных пересечений.
1 Как ответить на комичный вопрос Патнэмаотом, почему в студенческом
общежитии застали голого профессора? Оправданное объяснение состояло бы в том,
что за минимальный квант времени до факта обнаружения профессор не был в
состоянии одеться и ускользнуть быстрее скорости света. И правда, физическая
константа скорости света не позволила бы ему этого сделать и поэтому должна
рассматриваться как каузальный фактор! Или все-таки поискать ответ в природе
осуществлявшейся там коммуникации? Коммуникация является следствием
коммуникации при сохранении всех материально-каузальных континуальностей и
зависимостей с миром. Собственно, и причинная интерпретация физических событий
зависит от коммуникативно-определенных правил атрибуции. Причина лесного
пожара в коммуникации полиции атрибутируется поджигателям. А в
коммуникации только что приземлившихся марсиан эта причина пожара будет приписана
тому обстоятельству, что на этой странной планете имеется кислород.
2 См.: Луман Н. Указ. соч. С. 253-254.
3 Так понимаемую проблему сверхдетерминированности следует отличать от
сверхдетерминации в современной англо-американской аналитической
метафизике, как и от сверхдетерминации в смысле Альтюссера.
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных ссигряжений... 289
^**<х Мгновенное сопряжение переживания и коммуникации
Но сходство сознания и коммуникации (та общая для них
особенность, что не все переживания произносятся и не все слова
переживаются) возникает только с появлением письменности, с ростом
комплексности коммуникации, которая как бы догоняет в своей
сложности стремительный поток сознания. И уже не все написанное
оказывается доступно переживанию, а с появлением современных
медиа дивергенция становится непреодолимой. Есть основания
полагать, что в примитивных обществах коммуникации и сознание
практически не диверсифицировались, почти всякая мысль и
переживание получали коммуникативную вербализацию (пение акынов,
прислушивание к собственному сознанию как к внешнему «голосу»
божества или коммуникация с божеством, исповедальная традиция,
вербализация снов, а сегодня как минимум по-детски инфантильное
и непрерывное озвучивание собственных мыслей), а всякая
коммуникация навязывалась сознанию как необходимо требующая
сопереживания, как значащая очень много, от чего нельзя просто
отмахнуться. Отказ от коммуникации (особенно от ее ритуализированных
форм), от переживания обращенных к участнику коммуникации слов
являлся неслыханным нарушением первобытного порядка,
действием с разрушительным конфликтным потенциалом. Требовалась
длительнейшая социальная дифференциация, чтобы появились
сравнительно «миролюбивые» и институционализированные формы
отрицательного ответа на предложенную коммуникацию, чтобы возникли
формы отказа от сопереживаний в отношении к сказанному. Так в
науке «отвергается» ложное, а в экономике «предложенный» товар
290
Раздел 3. Язык, сознание и социум
без особенных последствий для задействованных в данных
коммуникациях участников и сознаний.
Как бы то ни было, в современности мысль и слово распадаются
на отдельные последовательности событий, хотя и совпадают во
времени в каждое мгновение. Однако об их одновременности в какое-то
определенное мгновение может осмысленно говорить только
наблюдатель, что из-за отсутствия у него доступа к сознанию других
участников всегда будет оставаться его собственной конструкцией.
Вопрос наблюдения этого структурного сопряжения
конденсировался в особые семантики. Последние можно условно подразделить
на семантику точечной (мгновенной) связи сознания, семантику
линейной связи и семантику «объемной» сопряженности сознания и
коммуникации.
В первом случае наблюдатель фаворизирует нечто мгновенное, по
отношению к которому особое значение получает некоторое «до»
(как романтическое воспевание утраченного и неповторимого), или
некоторое «после» (консумация, желательное финальное состояние,
успех в бизнесе или науке, достижение в спорте, ради которого нужно
пожертвовать данным моментом или настоящим). «Сейчас» делит
современность на «до» и «после», причем момент или мгновение
(современность) получает свою значимость в отношении к этим «до» или
«после». Если не сделать чего-то именно сейчас, завтра будет поздно.
Поэтому нужно успеть достичь успеха, а значит, «воспользоваться
моментом». Как видно, именно современность (сингулярность
границы между прошлым и будущим) играет в этой семантике
мгновенного настоящего, вал шифрованного будущим, ключевую роль.
Линейная семантика предполагает ориентацию на некоторую
тотальность прошлого или будущего, не на сингулярность мгновения,
но на некую целостность событий. Речь может идти о всех
традиционных семантиках, мифорелигиозных рассказах, легендах, идеологиях
(тотальности прошлого) и утопиях (тотальности будущего).
Значимость получает не мгновенное событие, текучая граница между
«прежде» и «после», а целостные и сложные, бесконечно воспроизводимые
построения в стиле «вечного возвращения» Ф. Ницше.
Семантика объема — это такое понимание времени
коммуникации и сознания, где нет выделенных точек и направлений. В них одно
мгновение существенным образом не отличается от другого, а
прошлое существенным образом не отличается от будущего. Это
семантика вечности или кинопленки. Речь идет прежде всего о семантике
божественного, вечного (= вневременного) сознания, как это имеет
место в прошлой и современной теологиях.
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 291
Общим для всех временных семантик является отказ от взаимной
каузальной детерминации сознания и коммуникации. Так, если
время коммуникации и сознания понимать как одновременное для них
событие, то у них не остается возможности в каждый данный момент
каузально воздействовать друг на друга. В случае же линейного
времени коммуникации и сознания это невозможно в силу их возросшей
сложности. У каждой современности в истории конкретного
сознания и истории конкретной коммуникации появляется слишком
много прошлого и слишком много будущего, которые дополнительно
подразделяются на прошлое будущего, будущее прошлого и т.д. (как
это показано на схеме). В третьем случае каузальные связи в свою
очередь оказываются невозможными, так как все линии равноправны в
своем статусе фактической завершенности (вечности), а
следовательно, как прошлое не способно определять будущее, так и будущее не
может определять прошлое — в том же самом смысле, как один кадр
кинопленки не может определять другой кадр.
Все эти семантики показывают единство (взаимную
недетерминированность и фактическую одновременность) сознания и
коммуникации. Наличие и сосуществование множества семантик делает
возможным свободный выбор принципа связи и принципа детерминации
между коммуникацией и сознанием. Наблюдатель должен сам принять
решение о том, из чего проистекает данная коммуникация, хотя он и
ограничен указанными выше схемами, причем очевидно, что первая
является более современной ориентационной схемой коммуникации.
Наблюдателю приходится решать, определяется ли некоторое
переживаемое или проговариваемое мгновение его собственной ценностью или
как раз наоборот — его встроенностью в некую временную
последовательность событий. Следуя той или иной семантике, наблюдатель
решает, какое значение имеет некоторая данная фактически протекающая
коммуникация. Он свободно определяет ее как порожденную прошлым
(историей коммуникации или сознания) или как ориентированную на
будущее. Этот выбор непременно получает еще одно удвоение,
поскольку полюс прошлого всегда можно понимать либо как фактор прошлой
коммуникации, либо как фактор прошлого переживания.
Проблема временной синхронизации и десинхронизации
сознания и коммуникации, как известно, занимала Бурдье, вводившего
габитус1 как средство временной синхронизации (алгоритмизации) по-
1 См.: Антоновский А.Ю. Пространство и время в коммуникации и сознании:
Бурдье vs Луман // Коммуникативная рациональность: эпистемологический
подход. М., 2009. С. 64-94.
292
Раздел 3. Язык, сознание и социум
ведения и «не успевающего» за ним сознания. Мы не думаем над
каждым словом, не принимаем сознательных решений о том, что
сказать в каждой следующей ситуации. Нами руководит габитус
как некая программа, которая связывает место и речь, определяет
речь в зависимости от позиции в социальном и любом другом
пространстве (как бы эту позицию ни понимать). Сознание не
способно переработать все и вовремя определиться с ответом на огромные
массивы всего того, что требует восприятия и переработки, в
особенности с массивами вербальных и письменных текстов. Ведь
сознание работает последовательно, т.е. в некоторый данный момент
концентрируясь на чем-то одном. Пространство у Бурдье играет
роль детерминанты решения, но именно потому, что время
сознания и время (втом числе вербального) поведения дивергируют.
Я нахожусь на данной позиции и поэтому должен говорить жестко
определяемые вещи; коммуникация протекает в одном месте так, а
в другом иначе.
Такая редукция, конечно, допустима, но исключительно
применительно к интерпретации примитивных обществ в условиях
отсутствия письменных и печатных текстов, получивших «свободу» от
привязки клокально протекающей интеракции, «независимость» от
фактической встречи партнеров по коммуникации и их ожиданий от
поведения друг друга (= социальной структуры). Здесь мы
специально не рассматриваем пространственные атрибуции сознания и
коммуникации.
Семантики персональное™. В число онтологических тем наряду с
анализом пространства и времени мы исходя из нашей методологии
включаем проблему индивида или персоны. Первоначальный
онтологический смысл понятия индивида подразумевал нечто неделимое
(in-division), но впоследствии эта семантика трансформируется,
указывая уже на нечто неповторимое, единственное в своем роде1. Таким
образом в семантике индивидуальности репрезентировались
задействованные в коммуникации свойства психики или сознания - бытьот-
дельным, а позднее - быть неповторимым (повторяться в
неповторимости). Индивид, конечно, не был человеком, anima rationale в
смысле Аристотеля и позднее Хайдеггера. Любое явление, наделенное
свойством неделимости и отдельности (боги, демоны, ангелы, духи
предков, тотемы, в современности Dasein с его смещением семантики
отдельности и неповторимости к семантике временной
«конечности», определенной временем жизни, где индивидуальность опреде-
1 См.: Луман Н. Самоописания. М. : Логос, 2009.
А.Ю. Антоновский • Язык как медиум структурных сопряжений... 293
ляласьбы через выход вовне, из общего, за пределы man: Ek-sistieren),
могло бы с успехом выражать эти свойства.
В еще меньшей степени человеком является «персона»1. Персона
может пониматься как особая конструкция коммуникации, референт
или представитель скрытых за черепной коробкой потоков
переживания или сознания. К этим потокам нельзя обратиться, они
недоступны, но можно реферировать их фактического представителя, маску,
выражающую ( = скрывающую и искажающую) фактические
психические процессы. Коммуникация, не имея возможности проникнуть
в сознание, может тематизировать это сознание. Приведем большую
цитату, проясняющую значение семантики персоны как связующего
звена в отношениях коммуникации и сознания.
«Персоны суть структуры аутопойезиса социальных систем, но со
своей стороны они вовсе не являются психическими системами или в
полном смысле людьми. Поэтому персоны должны быть отличены от
единств, которые порождаются в процессе аутопойезиса жизни или
мыслей некоторого человека. Функция персонализации
локализирована исключительно в социальной системе коммуникаций. Лишь это
делает понятными семантические традиции, которые лишают людей
(например, рабов) персональности, не отрицая при этом их
телесно-ментального существования. Тот же или то же, что считается персоной,
всякий раз оказывается зависимым от когерентного функционирования
соответствующих обозначений в системе общества и особенно от того
способа, которым система разрешает проблемы включения в него.
Персоны могут быть адресами для обращения к ним коммуникаций.
Они могут быть местами или позициями, где предполагается
накопление "записей" (Aufzeichnungen) сложных последовательностей
коммуникативных процессов, и в этом отношении персоны эквивалентны
письменности. Персоны могут служить также единицами атрибуции
(Zurechnungspunkte) для каузальных гипотез и особенно для
приписывания ответственности. Но все это остается исключительно
коммуникативной реальностью без фактического детерминирующего воздействия
на процессы сознания. Это может оказаться психически
раздражающим, если в коммуникации кто-либо трактуется как несущий
ответственность или если кому-либо вменяются воспоминания (накопленные
"записи"), которые при всем желании не удается реактивировать на
уровне сознания, как если кто-то утверждает, что вы познакомились на
прежних встречах, и вы вынуждены делать вид, что это помните. Но то,
что на основе такого рода импульсов протекает в самом сознании, и то,
1 См.: Rheinfelder H. Das Wort "Persona": Geschichte seiner Bedeutungen mit
besonderer Berücksihtigung des französischen und italienischer Mittelalters. Halle, 1928.
294
Раздел 3. Язык, сознание и социум
как сознание отделяет себя от коммуникации, — все это остается
исключительно собственным достижением сознания и не является
компонентом коммуникации»1.
Итак, личности или персоны - это функции коммуникации,
состоящие в том, чтобы быть комплексами а) записанных событий, к
которым можно обратиться в коммуникации, чтобы она в
зависимости от предполагаемых записей брала тот или иной курс; б)
ответственности (и авторства), распределяемого на личности в результате
протекания той или иной коммуникации. Коммуникация получает
дискретность - движется от точки к точке, ориентируясь на персоны
как ориентиры своего течения. Очевидно, что письменность и
печатный пресс словно снимают с персоны эту нагрузку - коммуникация
становится более плавной, менее дискретной, как чтение романа или
написание статьи.
Luhmann N. Wissenschaft der Gesellschaft.
РАЗДЕЛ
4
В.А. Ладов
Иллюзия значения1
Скептический тезис. Самой известной за последние
20 лет интерпретацией «Философских исследований»2
оказалась та, что была изложена в книге
американского философа и логика Сола Крипке3. Крипке удалось
придать витгенштейновским аргументам столь ясную
форму, не в пример самому автору «ФИ», что его
книга вновь возродила горячие дискуссии вокруг теории
значения позднего Витгенштейна.
Многие критики Крипке указывали на
несоответствие его интерпретации взглядам самого
Витгенштейна. Вот что пишет, например, К. Макгинн: «То,
что сделал Крипке, являет собой впечатляющую и
вызывающую аргументацию, которая, однако, имеет
мало общего с собственно витгенштейновскими
проблемами и утверждениями: в некотором важном смысле
Крипке и реальный Витгенштейн даже не имеют дело
с одними и теми же вопросами (у каждого из них своя
"проблематика")»4. В связи с этим необходимо сразу
подчеркнуть: целью настоящей статьи не является
тщательное историко-философское прояснение
корреляции взглядов Витгенштейна и Крипке. Оставляя
этот вопрос в стороне, мы будем представлять теорию
Витгенштейна так, как ее видит Крипке.
Американский логик сразу предлагает
радикальный ход: если уж ставить вопрос о стабильности
значения языкового выражения, то нужно делать это на
примере выражений самой строгой области знания. Если
1 Подготовлено при поддержке РФФИ (проект № 12-06-00078-а), РГНФ
(проект № 11 -03-00039-а), ФЦП (мероприятие 1.2.1, заявка № 2012-1.2.1 -12-000-3003-029),
а также в рамках государственного задания Минобрнауки РФ на проведение научных
исследований (тематический план НИР Национального исследовательского
Томского государственного университета) № 6.4832.2011.
2 См.: Витгенштейн Л. Философские исследования //J1. Витгенштейн.
Философские работы. М., 1994.
3 См.: Kripke S. Wittgenstein on Rules and Private Language. Oxford, 1982.
4 McGinn C. Wittgenstein on Meaning. Oxford : Basil Blackwell, 1984. P. 60.
296
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
удастся высказать скепсис по отношению к данной области
словоупотребления, то сомнение автоматически будет распространяться на
другие, менее строгие области науки. Поэтому для критического анализа
Крипке выбирает употребление языковых выражений в математике.
Поставим вопрос: какое значение имеет математический знак
«+»? Ответ очевиден: значением «+» является плюс —
арифметическая операция сложения. Сама эта операция представляет собой
правило обращения с арифметическими предметностями — числами или
количественными характеристиками любых материальных или
идеальных предметов. Правило сложения может быть сформулировано
следующим образом. Возьми две корзины с яблоками, пересчитай их
в соответствии с десятичной системой счисления для натурального
ряда чисел, затем высыпь содержимое обеих корзин в третью корзину
и снова пересчитай. Если содержимое каждой из корзин равняется
соответственно 68 и 57, очевидно, результатом выполнения операции
сложения будет число 125.
Однако логически непротиворечиво предположить следующую
ситуацию: складывающий 68 и 57 выдает ответ 5. Мы, конечно,
можем тут же обвинить его в нарушении правила, в его неспособности
усвоения элементарной арифметической операции. Но можем
предположить и другое: что если складывающий при выполнении
операции соотносил знак «+» с другим правилом - скажем, квус? Правило
квуса (квожения) может быть сформулировано следующим образом.
При пересчете яблок в третьей корзине поступай так, как гласит
правило сложения, но в том случае, когда количество яблок в первой и
второй корзинах достигнет 68 и 57 соответственно, всегда выдавай
ответ 5. Правильное арифметическое действие, выполненное в
соответствии с операцией квус, будет таким: 68 + 57 = 5.
Скептическая проблема может быть сформулирована двумя
способами. Один из них предлагает Крипке. Мы не можем считать
результат 68 + 57 = 5 однозначно неправильным, ибо из предыдущего
опыта употребления знака «+» — допустим, когда мы складывали
5 + 5 = 10, - не следует, что мы подразумевали под «+» плюс, т.е.
использовали операцию сложения. При обращении со знаком в каждой
новой ситуации его употребления мы не можем опереться на свой
предыдущий опыт. Предыдущий опыт употребления данного знака
будет допускать различные интерпретации значения в настоящем.
Представляется, что та же проблема может быть сформулирована
еще более лаконично. Какое значение имеет знак «+» в предложении
«2 + 2 = 4»? Налицо явная двусмысленность этого знака. В данном
употреблении не различимы значения плюс и квус. Знак «+» может с
ß.A. кодов • Иллюзия значения
297
равным правом означать и то и другое. Отсюда следует, что он не
означает ничего.
Теперь мы оказываемся подготовлены к восприятию содержания
§ 201 «Философских исследований», в котором, по мнению Крипке,
как раз и зафиксирован скептический тезис Витгенштейна: «Наш
парадокс был таким: правило не может определить никакого способа
действия, ибо любой способ можно привести в соответствие с этим
правилом. Ответ был таков: если любое действие можно согласовать с
правилом, то любое действие можно сделать и противоречащим ему.
Следовательно, тут не будет ни соответствия, ни противоречия».
Позволим себе уточнить формулировку. Любое частное
употребление языкового выражение может быть подведено под
неограниченное количество правил употребления. Любое частное употребление
может быть противопоставлено любому правилу. Следовательно,
любое частное употребление языкового выражения не может быть с
полной определенностью подведено под какое-либо правило.
И только здесь, исходя из такого специфического акцента на
понятии следования правилу, проявляется все своеобразие витгенштей-
новской критики предшествующих теорий значения. Витгенштейн
говорит следующее: какой-либо факт может считаться значением
выражения только тогда, когда он обладает некой принуждающей силой,
склоняющей нас к тому, чтобы связать его появление в поле нашего
внимания именно с этим конкретным выражением языка. Проще
говоря, факт значения выражения должен презентировать правило, в
соответствии с которым мы будем употреблять данное выражение в
будущем.
Поскольку математический пример Крипке не имеет отношения
к вещественному миру, постольку номинативистская теория,
принимающая в качестве значения выражений языка локализованные в
объективном пространстве и времени материальные образования,
здесь остается за рамками обсуждения. А вот в отношении теории
концептуализма, понимающей значения как ментальные образы или
переживания, находящиеся в сознании субъекта, мы вполне можем
высказать соответствующие критические положения. Продуцируя
высказывание «2 + 2 = 4», я обращаю внимание на то, что имею
вполне определенное психическое переживание. Однако исходя из
сказанного выше, очевидно, что само это переживание не может
выступать в качестве факта значения выражения «+», ибо оно как раз не
отвечает витгенштейновскому стандарту: своим присутствием в
субъективности оно не способно внести стабильность в употребление
данного выражения. При продуцировании выражения «2 + 2 =», ко-
298
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
торое сопровождается одним специфическим переживанием, я могу
выдавать по крайней мере два различных ответа. Так будет
происходить потому, что правило, обеспечивающее стабильность
употребления, не может быть представлено в переживании вообще.
Обратим внимание на своеобразную радикальность такой
критики концептуализма. Классический вариант критики - позволим себе
такое обозначение, - представленный Гуссерлем1, делал акцент на
темпоральной изменчивости психических переживаний. Тезис
Гуссерля состоял в том, что переживание не может быть значением
потому, что в новый момент времени у нас просто не будет возможности
воспроизвести то же самое переживание. Текучесть потока
психических феноменов не сможет обеспечить стабильности значения.
Радикализм Витгенштейна заключается в том, что мы можем утверждать
невозможность обращения к психическому переживанию как к
значению выражения даже в моментальном временном срезе: вот сейчас,
в данном частном употреблении конкретное переживание не
соотносится ни с каким правилом вообще.
Казалось бы, самым достойным претендентом на звание
значения выражения является эйдетическое образование. Содержание эй-
доса должно раскрываться в дефиниции. Что же еще можно
обнаружить в содержании, как не правило, определяющее то, каким образом
данное выражение должно «привязываться» в употреблении к
данному эйдосу и только к нему? В самом деле, если мы предположим
существование эйдоса сложения, то его содержанием как раз и будет
выступать правило-дефиниция, которая уже указана нами выше: возьми
две корзины яблок... и т.д.
Неоднократно встречающийся в литературе критический
аргумент по отношению к универсалистской семантике, принимающей в
качестве значений объективные «платоновские» эйдосы, состоит в
сведении дефиниции ad infinitum. Утверждается, что при
определении термина-дефиниендума мы должны определить и все термины,
составляющие дефиниенс. Очевидно, что этот процесс уходит в
«дурную бесконечность», и потому значение дефиниендума оказывается
непроясненным. Следуя же ходу рассуждения крипкевского
Витгенштейна, мы снова можем обнаружить, сколь радикальной выглядит
новая критическая аргументация. Мы можем в противовес «критикам
от ad infinitum» оставить универсалистам возможность утверждать
цельное схватывание эйдетического образования в каком-то особом
интеллектуальном опыте. Но даже тогда эйдос не сможет удовлетво-
1 См.: Husserl Е. Logische Untersuchungen. Tubingen : Мах Niemeyer Verlag, 1980.
ß.A. Ладов • Иллюзия значения
299
рить условиям стабилизации следования правилу, необходимым для
того, чтобы данное образование претендовало на статус значения
выражения.
Дело здесь вот в чем. Допустим, мы схватываем во всей полноте
эйдос сложения - понимаем, что данное правило пересчета
действует для любого количества яблок. И все же это условие не
обеспечивает стабильность употребления выражения «+»: сформулированный
Крипке квазиэйдос квожения начинает «подстерегать» нас в каждом
частном употреблении «+». Коварность квуса заключается в том, что
в момент употребления «+» мы не подозреваем о его существовании
и потому сами можем не отдавать себе отчета в том, что наши
действия уже оказываются двусмысленными. Мы записываем: 2 + 2 = 4
в полной уверенности, что вот сейчас, в данный момент мы
употребили выражение «+» в значении плюс. Мы уверены в том, что знаем,
как правильно употреблять это выражение в любом другом случае.
Но эйдос квуса при этом мы вообще не приняли во внимание.
Между тем не будет противоречивым допущение, что этот эйдос
задействован здесь латентным образом так, что при следующем
употреблении «+» по отношению к 68 и 57 я буду выдавать ответ 5 и считать его
правильным.
В итоге проблема будет выглядеть следующим образом: в данном
частном употреблении я в равной степени следую сразу двум эйдосам,
но из-за латентности квуса настоящей двусмысленности я просто не
замечаю. Данная ситуация возникает потому, что я не способен в
момент этого частного словоупотребления созерцать сразу весь
эйдетический универсум. Следствием описываемой ситуации становится
новый критический тезис по отношению к универсализму:
эйдетическое образование не способно быть значением, ибо его содержание,
даже воспринятое с полной определенностью, не обеспечивает
стабильность в следовании правилу употребления того выражения,
которое связывается с этим образованием.
По отношению к крипкевской проблеме различения плюса и
квуса нередко можно было встретить следующее возражение1: введение
квазиправил слишком искусственно; если бы эти странные правила
действительно разрушали привычные диспозиции к означиванию, то
в нашей повседневной речевой практике наступил бы полный хаос -
каждый употреблял бы то или иное выражение как ему вздумается и
претендовал при этом на собственную правоту; однако очевидно, что
1 См., например: Blackburn S. The Individual Strikes Back // Synthese. 1984.
Vol. 58. P. 290-291.
300
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
этого не происходит — на практике язык оказывается достаточно
стабильным образованием, вполне приемлемым для нужд
коммуникации; следовательно, крипкевская проблема есть только фикция
теоретика, сгущающего краски скептицизма для того, чтобы
заинтриговать философское сообщество.
Неизвестно, как бы ответил сам Крипке на данную критику, —
естественно, что она звучала уже после выхода в свет его книги, — но
нам представляется вполне вразумительным следующий
контраргумент. Бесспорно, что появление квус-правила и следование ему не
есть широко распространенный факт нашей жизни. Но ведь мы
действительно ставим данную эпистемологическую проблему
теоретически. Мы спрашиваем: возможно ли следование квус-правилу в
принципе? Мы спрашиваем и не можем предоставить удовлетворившего
бы нас отрицательного ответа. Раз так, то наше следование
плюс-правилу и соответственно наше употребление выражения «+» не
является необходимым. Теоретически наше употребление «+» совершенно
случайно. Мы оправдываем себя лишьтем, что на практике способны
продемонстрировать относительную стабильность нашей речи и
потому употребление данного выражения кажется нам вполне
вразумительным. Однако в теории, последовательно задавая вопросы об
основании нашей позиции, «мы доходим до такого уровня, где
действуем без какой-либо причины, которая могла бы оправдать наше
действие. Мы действуем уверенно, но слепо»1.
Предыдущий, критический по отношению к Крипке аргумент
может быть встречен не только апелляцией к сугубо теоретическому
уровню проблемы. Вопрос о стабильности значения станет более
весомым в глазах практика, если мы продемонстрируем его не только на
тех абстракциях, коими являются арифметические операции, но и на
обычных предметах, данных в чувственном восприятии.
Хин Шин Ли приводит в пример следующий гипотетический
диалог скептика с его критиком (сопротивляться скептику берется сам
автор статьи):
«С: Давай проведем простой эксперимент. (Он показал мне фото
какой-то деревянной конструкции, состоящей из прямоугольной
доски и четырех опор, по высоте не выше щиколотки.) Это стол?
Я: (Я никогда не видел раньше таких вещей. Мой прошлый опыт
не имеет таких фактов, которые бы предоставили ориентир для моего
нового употребления. Так или иначе я все же пытаюсь следовать
своему прошлому употреблению). Это скамья, а не стол.
Kripke S. Op. cit. P. 87.
В.А. Ладов • Иллюзия значения
301
С: Твое понятие "стол" может оказаться "цтолом". "Цтол"
исключает японский стол, на фотографии показан "цуке"»1.
Даже пытаясь задать значение слова остенсивно, т.е. через прямое
указание на находящийся перед нами предмет, мы можем не заметить
того, что впоследствии будем все же использовать разные правила
употребления данного слова. Я и японец, одновременно глядя на
предмет, находящийся в моей комнате (я имею в виду то, что называю
словом «стол»), будем, сами того не замечая, полагать разные
значения для употребления слова «стол». Японец, осваивая значение
русского слова «стол», будет понимать под ним и тот предмет, который
находится сейчас у меня в комнате, но так же и тот, что в японском
обозначается словом «цуке», тогда как я включать японский стол в
свое распространение значения слова «стол» не намерен, несмотря на
то что я, еще раз подчеркнем это, в данный момент могу и не
догадываться о возможности такой ситуации - я никогда не видел «цуке».
Следовательно, в данный момент мы не сможем заметить разницу в
значениях слова «стол», хотя она уже существует вопреки, казалось
бы, однозначному остенсивному определению, которым мы сейчас
воспользовались.
Данный пример не является единственным. Интерпретаторы
Крипке вдоволь поупражнялись в постановке обсуждаемой
проблемы для различных ситуаций опыта. Одними из наиболее популярных
оказались гипотетические описания так называемого опыта
Робинзона. Это связано с витгенштейновским тезисом о невозможности
индивидуального языка, на котором в настоящей статье мы не
акцентируем внимания. Тем не менее нельзя не увидеть того, что данные
описания вновь и вновь ставят одну и ту же проблему - проблему
следования правилу.
Г. Гиллет2 предлагает обсудить следующую ситуацию. Племя
туземцев для создания запасов, обеспечивающих их
жизнедеятельность, использовала посуду - глиняные горшки, в которые
складывались добытые во время собирательства продукты. Для того чтобы
различать продукты по их функциональной принадлежности -
допустим, чтобы отличать съедобные плоды от лекарственных
(непригодных для внутреннего применения) — туземцы
использовали цветовые обозначения. Красная полоска на горшке означала, что в
1 Liu Xin Sheen. Kripkenstein: Rule and Indeterminacy // Proc. of the Twentieth
World Congress of Philosophy. Boston, Mass., 1998. 10-15 August. - //
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Lang/LangLiu 1 .htm.
2 См.: Gillett G. Humpty Dumpty and the Night of the Triffids: Individualism and
Rule-Following// Synthese. 1995. Vol. 105, № 2. P. 191-206.
302
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
нем находятся фрукты и т.д. Допустим далее, что в какой-то момент
все соплеменники, кроме одного, неожиданно стали дальтониками —
они перестали различать цвета полосок-знаков. Это дополнительное
условие мы, развивая гипотезу Гиллета, вводим затем, чтобы
исключить возможность интерсубъективной корреляции дальнейших
действий единственного здорового соплеменника. Проголодавшись,
оставшийся здоровым «Робинзон» тянется к горшку с красной
полоской, и вот здесь неожиданно появляется скептик, который задает ему
вопрос.
С: Почему ты уверен в том, что в данном горшке находятся
съедобные фрукты, вдруг туда помещены ядовитые плоды?
Р: Ранее нами было установлено, что красная полоса на горшке
есть знак того, что в него помещены съедобные фрукты.
С: Почему ты уверен в том, что красная полоска на горшке
означает, что содержимым горшка окажется фрукт? Из того, как ты
употреблял данный знак ранее, не следует, что его значение именно
таково. Возможно, твои соплеменники изначально полагали за красной
полоской на горшке значение - фруктояд. Это значит, что до
определенного времени туда складывались фрукты, а с сегодняшнего дня —
опасные для жизни плоды. Ты сам-то уверен в том, что употреблял
ранее знак «красный» в значении фрукт? Ведь ты же подтверждал из
раза в раз правильность своего употребления знака «красный» на
практике - ты просовывал руку в горшок и сначала помещал, а потом,
спустя некоторое время, вынимал оттуда фрукт. Но дело в том, что
теоретически ты никак не сможешь обосновать, что во время
исполнения этих действий знак «красный» имел в качестве своего значения
именно фрукт, а не фруктояд, ибо в данных конкретных действиях
эти два на самом деле разных значения знака были неразличимы.
Попытайся доказать сейчас, без обращения к интерсубъективной
корреляции со своими соплеменниками, что ты сам имел в виду одно
значение, а не другое. Проблема состоит в том, что если ты сам
сегодняшним утром поместил в горшок с красной полоской ядовитый плод, то
это действие невозможно интерпретировать как некорректное по
отношению к твоему прошлому опыту.
В конце концов скептик может логически принудить туземца —
если тот, конечно, окажется способным воспринятьлогическую
аргументацию и быть последовательным в своих умозаключениях — к
тому, чтобы последний никогда больше не притрагивался к горшку с
красной полоской.
Предыдущие примеры кроме демонстрации распространения
крипкевского скепсиса на языковые выражения для предметов чувст-
В.А. Ладов • Иллюзия значения
303
венного опыта показывают также и то, каким образом со стороны
крипкевского Витгенштейна можно критиковать номинативистскую
теорию значения. Номинативизм оказывается ущербным не только в
том, что он не способен учреждать значения для абстрактных или
несуществующих предметов. Витгенштейн вновь оказывается гораздо
радикальнее: даже прямой чувственный опыт, конкретное остенсив-
ное определение не способны задать стабильность значения
языкового выражения, ибо сам воспринимаемый конкретный предмет не
содержит в себе правило, задающее четкий критерий корректного
употребления данного выражения в будущем.
В итоге можно констатировать следующее. Витгенштейн, что
становится наиболее заметным в интерпретации его идей Солом Крип-
ке, отвергает претензии любой диспозициональной теории на
фиксацию значения языкового выражения. Диспозициональная теория
пытается усмотреть значение за пределами языка - в тех фактах мира,
к которым нас отсылают слова. Это невозможно. Невозможно
именно потому, что ни один из этих предполагаемых фактов не
обеспечивает нас правилом, в соответствии с которым мы могли бы расценить
наше дальнейшее употребление выражения как корректное.
Значение не обнаруживается во внелингвистических фактах, значение не
есть факт.
Скептический парадокс. Еще раз обратимся к § 201 «Философских
исследований». Он начинается словами: «Наш парадокс был таким...»
И далее следует рассуждение, заканчивающееся выводом о том, что
какое-либо конкретное употребление языкового выражения
невозможно связать с определенным правилом. Однако по сути это - не
парадокс, это - именно скептический тезис: значение не есть факт, то
или иное выражение языка не обладает в качестве значения чем-то
таким, что содержало бы определенность своего распознавания в
будущем, таким, что содержало бы в себе правило, в соответствии с
которым в будущем можно было бы знать наверняка, что данное языковое
выражение мы связываем именно с тем значением-фактом, что и
ранее. Парадокс же должен представлять собой наличие двух
противоречащих друг другу высказываний, каждое из которых претендует на
истинность.
Почему же Витгенштейн здесь все же заговаривает о парадоксе?
Является ли употребление им в данном пассаже этого термина лишь
досадным недоразумением, некоторой небрежностью в
использовании терминологии? Интересно, что Крипке, осуществивший столь
обстоятельный разбор витгенштейновского текста, не обращает вни-
304
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
мания на определенную проблематичность этого момента. Он также,
вслед за автором «ФИ», называет скептический тезис парадоксом1,
просто принимаясь за его изложение и анализ и не объясняя при
этом, почему ту проблему, которую он называет парадоксом, следует
считать таковым.
Представляется, что витгенштейновский вариант именования
данной проблемы, несмотря на то что он не выглядит вполне
уместным, все же не является случайностью. Парадокс действительно
имеет место. Он присутствует на уровне общего понимания
функционирования языка. Отталкиваясь от общих классических представлений,
которые беспрекословно принимались различными теориями
значения, можно было бы сказать, что язык может нормально
функционировать тогда и только тогда, когда в нем присутствует — пусть даже
относительная! — стабильность значений знаковой системы. Номина-
тивисты, концептуалисты и универсалисты будут спорить о том,
каким онтологическим статусом следует наделить эти факты
значения, но никто из них не будет оспаривать того очевидного положения,
что такие формально понятые факты вообще должны существовать.
Мысль о том, что знак не обладает раз и навсегда заданным
стабильным значением, а приобретает его в том или ином культурном
контексте, тоже не столь нова. Она неоднократно появлялась в
философии XX в. еще до витгенштейновской теории. Поэтому отдавать
Витгенштейну пальму первенства как генератору этой идеи неверно. Но
еще более неверно было бы сказать, что в продуцировании (или
репродуцировании) этой идеи и состояла вся мысль автора «ФИ».
Скепсис Витгенштейна гораздо радикальнее - слово не обладает даже
относительно стабильным значением. Значение вообще не есть факт,
обнаруживаемый во внелингвистической сфере. Раз так, то с позиции
традиционных взглядов язык должен умереть. Если знаку отказано
даже в относительно стабильной связи со своим значением, то язык
должен превратиться просто в хаотическое нагромождение
материальных образований без какого-либо семантического упорядочения.
В такой ситуации язык теряет свою основную функцию - обозначать
вещи при помощи знаков. Язык перестает быть языком, он исчезает.
Итак, если скептический тезис Витгенштейна относительно
значения верен, то язык не функционирует. Тем не менее нам следует
всерьез отнестись — и Витгенштейн понимает это — к очевидному
эмпирическому факту: мы используем язык, и это использование
оказывается успешным - язык работает на нас. В этом состоит парадокс:
См.. KripkeS. Op. cit. P. 8.
В.А. Ладов • Иллюзия значения
305
на теоретическом уровне верным признается положение «Язык не
функционирует»; на практическом уровне верным оказывается
положение «Язык функционирует».
Как разрешить этот парадокс? Истинность второго
высказывания, утверждающего очевидно успешное функционирование языка
на практическом уровне, у Витгенштейна сомнений не вызывает.
Значит, чтобы избавиться от парадокса, необходимо каким-либо
образом обосновать ложность первого высказывания. Сделать это
можно, как показывает Крипке1, двумя способами.
1. Через прямое решение скептической проблемы. Данное решение
будет заключаться в том, что нам удастся найти изъян в аргументации
скептика, изобличить его в применении некой скрытой
софистической уловки, показать, что то, что скептик выдавал за истинное, на
самом деле таковым не является. Например, решение Р. Декартом
своей скептической проблемы является прямым. Скептик Декарта
утверждал, что невозможно в качестве результата нашего опыта
познания сформулировать какое-либо абсолютно несомненное
положение. Декарт не согласился с этим, сформулировав свой
знаменитый тезис: «Cogito ergo sum». Витгенштейновский скептик утверждал,
что значение не есть факт. Следовательно, прямым решением было
бы опровержение истинности данного высказывания.
2. Через скептическое решение. Данное решение за основу будет
принимать истинность скептических заключений. Скептик прав —
значение не есть факт. Однако далее должен последовать оригинальный
ход. Скептическое решение будет утверждать, что из истинности
скептического тезиса не следует смерть языка.
Скептическое решение. Если скептик прав и языковое выражение
не имеет значения в качестве какого-либо даже относительно
устойчивого факта, но при этом по-прежнему неоспоримым остается
эмпирическое суждение о нормальном функционировании языка, то
становится понятным, что следует поставить вопрос о. критериях
функционирования. Исходящее в качестве следствия скептического
тезиса положение «язык не функционирует» оказывается истинным
только тогда, когда мы наивно, в качестве предпосылки принимаем
утверждение классической теории языка: функция языка
заключается в обозначении вещей при помощи той или иной системы знаков.
Скептическое решение витгенштейновского парадокса будет
настаивать на ложности этой предпосылки.
1 Kripke S. Op. cit. P. 66.
306
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
Язык, несмотря ни на какой скепсис теории, продолжает свое
успешное функционирование на практике потому, что его функция не
заключается в обозначении вещей. Его функция состоит в том, чтобы
позволить субъекту при помощи соответствующей знаковой системы
производить успешные коммуникативные действия с другими
субъектами, оперирующими этой же системой.
То, что функция языка не заключается в обозначении вещей (в
самом широком смысле чем бы эти вещи ни были: материальными
образованиями объективного мира, субъективными sense-data или
платоновскими универсалиями), проясняется посредством анализа
особого случая оперирования знаковой системой - индивидуального
языка. При исследовании употребления индивидуального языка мы
не можем сослаться на коммуникативную функцию, ибо
коммуникации здесь нет по определению, нет других субъектов, к которым
носитель языка имел бы какое-либо отношение. Единственное, к чему он
мог бы отнести знаки своей системы, - это именно вещи, устойчивые
факты значений его выражений. Только на основании субъективной
фиксации этих устойчивых связей знака и значения носитель
индивидуального языка мог бы успешно пользоваться своей знаковой
системой. Никакие внешние, интерсубъективные критерии
правильности и последовательности его лингвистических действий в данном
случае не допускаются.
Однако скептический тезис, с которым соглашаются те, кто
выбирает скептическое решение проблемы, утверждает, что значение не
есть факт. И дело не в том, что одно лингвистическое сообщество
называет стол «столом», а другое «стулом». Дело в том, что вот сейчас,
обратившись исключительно к своему субъективному опыту, я не в
состоянии зафиксировать то, что подразумеваю в качестве значения
используемого мной термина «стол». То, что я обозначал этим
термином, в прошлом не являлось фактом, содержащим в себе правило
того, как мне следует употребить это выражение в будущем. То есть я
обозначал что-то такое, что не схватывалось в сознании в качестве
устойчивого, однозначно определенного интенционального
содержания, с которым я бы мог раз и навсегда связать используемый мной
знак. Мое прошлое употребление термина «стол» подпадало как
минимум сразу под два правила. Значит, мое нынешнее употребление
этого термина, каким бы экстравагантным оно ни было, не следует,
но вместе с тем и не противоречит моему прошлому употреблению. Я
не могу сформулировать критерии корректного использования слова
потому, что нет того устойчивого значения, к которому это слово
можно было бы «привязать». Знак становится совершенно свобод-
ß.A. Ладов • Иллюзия значения
307
ным, процесс означивания погружается в хаос неопределенности,
индивидуальный язык, функция которого могла бы состоять
исключительно в обозначении вещей, умирает.
Только коммуникативное сообщество способно задать критерии
корректного употребления. Однако это происходит не потому, что в
интерсубъективном языке связь знака со своим значением вдруг,
каким-то чудесным образом, оказывается совершенно прозрачной.
Скорее сообщество генерирует иллюзию значения. За счет
многократного употребления одного и того же знака различными
субъектами, за счет постоянно действующих условий сверки одного случая
употребления с многообразием других случаев возникает ситуация
примерной стабильности значения. И вот что главное: такая
примерная стабильность оказывается достаточной для совершения
успешных коммуникативных действий в рамках данного сообщества, т.е.
для реализации единственной функциональной задачи языка.
При этом именно концепт успешного коммуникативного
действия начинает играть решающую эпистемическую роль в самом
широком смысле. Посредством языковой коммуникации субъект
поддерживает не только сообщество, но и себя самого, свое понимание
мира, создает иллюзию смысловой стабильности своих действий.
Субъект, рассматриваемый в изоляции, не способен задать
необходимое соответствие знака и значения. Вернее, скептический тезис будет
утверждать, что это соответствие невозможно задать в принципе. Но
зато за счет концепта успешного коммуникативного действия данное
соответствие можно сымитировать, чего для практических
жизненных устремлений субъекта оказывается вполне достаточно.
Иллюзия стабильности значения и успешность
коммуникативного действия оказываются взаимозависимы. С одной стороны,
иллюзия стабильности создает условия для утверждения успешности
коммуникации, с другой — подтверждение успешности
коммуникативного действия само подпитывает иллюзию, делает ее все более
легитимной.
Курс изучения иностранного языка по методу Витгенштейна. В
выражении скепсиса по поводу традиционной концепции значения,
утверждавшей, что за языковым знаком присутствует некая стабильная
сущность, четко схватываемая еще до проявления языка в мышлении,
Витгенштейн был не одинок. Одной из самых авторитетных в
аналитической философии XX в. оказалась позиция У. Куайна, который
предложил реформировать наши взгляды на значение слова:
«Характерная особенность семантических разделов лингвистики, особенно
308
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
лексикографии, состоит не в том, что они обращаются к значениям, а
в том, что они имеют дело с синонимией»1. Данный тезис Куайна
вводит запрет на обсуждение семантики на экстралингвистическом
уровне. Прояснить значение слова — не значит обратиться к
мыслительным сущностям «в чистом виде», находящимся за пределами
языка. Прояснить значение - значит для незнакомого слова подобрать
синоним из известного нам словаря. Тем самым задача лексикографа,
изучающего незнакомый язык, формулируется на сугубо
лингвистическом уровне. Она заключается в составлении синонимичных рядов
двух словарей.
Такой подход позволил Куайну акцентировать внимание на
креативном статусе языка. Пока мы концентрировались на значении как
мыслительной сущности и просто смотрели, каким термином в
незнакомом нам языке обозначается данное мыслительное
образование, мы не замечали, до какой степени сам язык, его синтаксис
способен влиять на формирование референта. Мы пребывали в
уверенности, что ментальные идеи по сути тождественны, дело заключается
только втом, чтобы выяснить, какой термин-ярлык используется для
этой идеи в незнакомом языке. Куайн показывает, что исследуемый
язык синтаксически может быть устроен так, что он вообще не будет
содержать в себе того концептуального дробления, которое присуще
нашему языку, и в таком случае задача поиска различных ярлыков для
обозначения одной и той же мыслительной сущности просто теряет
смысл.
Так возникает известный куайновский тезис о неопределенности
перевода. Когда туземец произносит «гавагай», указывая, казалось
бы, на тот предмет, который в своем языке я обозначаю словом
«кролик», то создание лексикографом такой связки синонимов всегда
будет проходить под знаком неопределенности. Выражение «гавагай»
может указывать и на вот этого кролика, и на кролика вообще, и на
правый бок кролика, и даже не на предмет, а на определенное
действие, например на кролика, пробегающего мимо деревьев.
Оказывается, что самое простое и предельно внятное определение значения
слова - остенсивное определение - не привносит для нас полной
ясности. Более точно прояснить то, что имеет в виду туземец, можно не
через обращение к вещам-референтам, мыслительными
эквивалентами которых мы оперируем, а к самому языку, к его синтаксису, ибо
здесь будет осуществляться концептуальное членение мира. Напри-
1 Куайн У. С точки зрения логики: 9 логико-философских очерков. Томск :
Изд-воТГУ,2003.
ß.A. Ладов • Иллюзия значения
309
мер, синтаксис языка туземца может вообще не содержать в качестве
основополагающего элемента структуру простого атрибутивного
суждения, в котором логическому субъекту приписывается определенное
свойство в качестве предиката. В таком случае мир в глазах туземца
перестанет представлять собой совокупность индивидов-вещей, на
которые «нанизываются» свойства. Возможно, он будет представлять
собой совокупность действий. Лингвист же, составляющий словарь
синонимов, может не заметить такого концептуального сдвига. Так
происходит потому, что он в соответствии с Куайном всегда будет
находиться в состоянии неоправданного переноса концептуального
каркаса, задаваемого его языком, на язык туземца. Несмотря на
возможные практические успехи в создании более или менее
работающих рядов синонимии теоретически неопределенность перевода
оказывается неразрешимой проблемой1.
Скепсис Витгенштейна более радикален. Аргумент о
невозможности индивидуального языка ставит под вопрос достижимость
стабильного референциального отношения в субъективной сфере.
Если Куайн усомнился в том, способен ли субъект прояснить
значения-референты выражений незнакомого ему языка, не видя при
этом проблемы в отношении ясности значений своего собственного
словоупотребления, то для Витгенштейна сфера субъективности
уже не выглядит столь несомненной. Скептический тезис
настаивает на предельной дестабилизации значений, которая касается в том
числе и сугубо субъективного опыта словоупотребления. Отсюда
следует пересмотр основополагающей функции языка, в которой,
кстати, Куайн также не думает сомневаться - будто бы задача
словоупотребления состоит в том, чтобы именовать вещи, закреплять за
словами стабильные смысловые референты. (Подчеркнем еще раз,
что термины «вещь», «значение», «референт» здесь употребляются
как синонимы. Не важно, какую онтологическую позицию мы
выберем: будем ли считать вещами, данными нам в опыте, материал
ощущений, или платоновские эйдосы, или же физические объекты
природы. Вопрос состоит в том, можем ли мы оперировать этими
структурами как стабильными данными нашего опыта.) В соответствии с
Витгенштейном главная функция языка состоит в осуществлении
успешных коммуникативных действий между субъектами,
порождающих иллюзию значений, вполне достаточную для практической
жизни.
1 См.: Куайн У. Слово и объект. М. : Логос : Праксис, 2000; Quine W. Ontological
Relativity //The Journal of Philosophy. 1968. Vol. LXV, № 7. P. 185-212.
310
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
Какую стратегию исходя из зафиксированных выше тезисов
Витгенштейн предложил бы человеку, приступающему к изучению
иностранного языка? Нижеследующий мысленный эксперимент, с
одной стороны, дает ответ на этот вопрос, а с другой - проясняет все
своеобразие витгенштейновской концепции значения как
употребления.
Русскому человеку, решившему изучать английский, не следует
выяснять, к каким именно референтам отсылает то или иное слово.
Его задача не должна заключаться и в построении рядов синонимии,
когда бы он при помощи словаря научился транслировать английские
слова в русские и таким образом исходя уже из внимания к русскому
слову определял соответствующий референт. Все эти процедуры
оказываются неэвристичными, ибо в соответствии со скептическим
тезисом существует не только проблема неопределенности перевода с
одного языка на другой, но и проблема радикальной дестабилизации
значения в субъективности, т.е. и в том языке, который для
обучающегося является родным. Когда русский слышит «a table», ему не
следует ни стремиться узреть референт в английской языковой среде, ни
заниматься поиском соответствующей словарной статьи, которая
отсылала бы его к русскому эквиваленту-синониму «стол», ибо русское
слово «стол» для носителя этого языка само оказывается референци-
ально неопределенным.
Скорее витгенштейновские директивы к изучению английского
состояли бы в следующем. Просто запоминай звуки и те ситуации, в
которых их следует употребить. Смотри на реакцию вступающего с
тобой в коммуникацию субъекта и оценивай ее успешность.
Например, запомни комбинацию звуков «How are you?» и употребляй их в
той ситуации, когда ты идешь по улице и случайно встречаешь
знакомого. Если в ответ на твое выражение знакомый улыбнется и
произнесет: «Гт fine!», считай, что данное коммуникативное действие
совершено успешно. Сделай из этого вывод, что ты освоил значение
выражения «How are you?».
Кстати, такая методика не является слишком невероятной и не
имеющей никакого отношения к действительности. Известно,
например, что на советских радиолокационных базах, следящих за
соблюдением воздушных границ, дежурным офицерам, не владеющим
английским, раздавали особые словари-разговорники для
возможных переговоров с экипажем иностранного воздушного судна. В этих
словарях кириллицей были выписаны определенные выражения, к
которым прилагалась инструкция ситуаций их употребления. Если
продолжать наш пример, здесь можно представить такую же простую
ß.A. Аадов • Иллюзия значения
311
ситуацию приветствия. В словаре написано выражение «Хелоу! Хау
а ю?» и дана инструкция по его применению: «Выйдя на связь с
экипажем иностранного самолета, первым делом произнеси данный
набор звуков. Услышав в ответ: "Хелоу! Ви а файн!", считай данный
коммуникативный акт приветствия успешно завершенным и
переходи к следующему вопросу». В обязанности дежурного офицера не
входило овладение рядами синонимии английских и русских слов. Ему
вовсе не обязательно было знать, что набор звуков «хэлоу» означает то
же, что означает набор звуков «здравствуйте», что «ю» означает то же,
что и «вы», и т.д. Его задача ограничивалась запоминанием звукового
ряда и той ситуации, в которой его следует употребить.
Если, например, с позиции Дж. Сёрла — одного из авторитетных
современных аналитических философов, данная ситуация
показывала бы лишь имитацию обучения языку, ибо здесь полностью был бы
редуцирован уровень субъективных интенциональных содержаний
сознания, к которым должны отсылать слова1, то для Витгенштейна
данное положение дел указывало бы на овладение языком в
буквальном смысле! Скептический тезис настаивает на невозможности
какой-либо фиксированной связи слова и субъективного интенцио-
нального содержания сознания. Следовательно, понятие об
установлении таких связей нельзя приравнивать к понятию овладения языком.
Все, что нам остается в такой ситуации, — это простое употребление
звуков и ориентация в коммуникативной успешности наших
действий. И только на основании такой деятельности будет возникать
иллюзия интенциональной стабильности, которая, тем не менее,
оказывается достаточной для практических целей.
Исходя из сказанного выше мы можем яснее представить всю
специфику витгенштейновской концепции значения как
употребления. Данная концепция не имеет достаточно тривиального смысла,
указывающего, что слово обретает свое значение только в культурном
контексте, когда определенное сообщество договаривается называть
стол «столом», подчеркивая при этом, что в другой социальной среде
данное слово могло бы обозначать что-то другое. (Небезынтересно,
что подчас к такому вульгарному пониманию данной концепции нас
подталкивает сам Витгенштейн, на что и обращает внимание Крипке:
«Однако в контексте Витгенштейн скрывает свой глубинный
парадокс в намного более прямолинейной позиции, что обычно употреб-
1 См. об этом широко известный «аргумент китайской комнаты»: Searle J.
Minds, Brains, and Programs // The Philosophy of Artificial Intelligence ; M. Boden
(ed.). Oxford University Press, 1990.
312
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
ления языка не дают точного определения их применения во всех
случаях»1. Это обстоятельство еще раз показывает, сколь оригинальной
и проблемно акцентированной оказывается крипкевская
интерпретация. По сути утверждение столь радикального следствия
скептического парадокса, что значение не есть факт, — заслуга Крипке.)
Концепция «значение как употребление» в ее предельной
скептической интерпретации говорит о том, что значение выражения есть его
употребление в буквальном смысле. Имеется только употребление
звуков в какой-либо коммуникативной ситуации и больше ничего,
никаких мыслительных сущностей, которые мы могли бы назвать
значениями.
KripkeS.Op. cit. P. 81-82.
П.С. Куслий, Е.В. Вострикова
Язык как социальный феномен:
лингвистическая относительность,
конвенции, речевые акты1
Социальные технологии: определение и проблемы. Вопрос о том,
может ли язык рассматриваться как социальная технология и если да, то
в каком смысле, не является простым, как это могло бы показаться на
первый взгляд. Если мы воспользуемся определением, предложенным
И.Т. Касавиным2, согласно которому «социальная технология - это
коммуникационно-деятельностная форма проявления социального
субъекта на уровне организационной, управленческой и
социально-проектировочной деятельности в аспекте социального
конструирования знания и реальности», то из него, по всей видимости,
следует, что язык, будучи коммуникационной формой проявления
человека (который является социальным субъектом) и используясь на всех
возможных уровнях, втом числе в организационной, управленческой
и социально-проектировочной деятельности, является социальной
технологией. Тем не менее вопросы о том, в каком смысле язык может
рассматриваться как технология и насколько социальной является
его природа, представляют большой интерес и были предметом
многих дискуссий в философии в XX и XXI вв.
Известный исследователь социальных технологий Тревор Пинч и
его коллеги в статье «Технология, тестирование, текст»3 предложили
следующее определение: социальной является любая технология,
которая если и включает материальные компоненты, берет свое
происхождение в социальных науках и имеет целью изменить поведение человека.
Язык предполагает некоторую материальную реализацию -
языковые единицы представляют собой слуховые или видимые символы.
Безусловно, язык может использоваться для того, чтобы влиять на
поведение человека. Так, большинство людей не станет заглядывать в
1 Подготовлено при поддержке РГНФ, проект № 12-03-00588а.
2 См.: Касавин И. Т. Введение. Социальные технологии и социальные практики //
Общество. Техника. Наука. На пути к теории социальных технологий. М., 2012.
С. 7.
3 Pinch T.J., Ashmore M., Mulkay M. Technology, Testing, Text: Clinical Budgeting in
the U.K. National Health Service // Shaping Technology/Building Society: Studies in
Sociotechnical Change. Cambridge, 1992. P. 266.
314
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
шкаф с надписью «Ток. Не влезай. Убьет». Однако влиять на
поведение другого человека можно и рукой, схватив его за воротник, рука не
является ни технологией в целом, ни социальной технологией в
частности. М. Дерксен и А. Боле1 подчеркивают, что, сделав социальные
технологии предметом своего исследования, нам все же не следует
пытаться возродить устаревшие дихотомии между социальной и
материальной технологией, обществом и природой, человеком и
социумом.
В современной философии распространено убеждение в том, что
эти вещи неразрывно связаны и провести четкое различие между
ними нельзя. Так, Д. Маккензи в своих работах показывает, что
социологический анализ может применяться к таким технологиям, как
процессоры компьютера и противоракетные комплексы. Более того,
социальные факторы играют важную роль в нашем познании
собственно технических характеристик технологий, а не только
социальных аспектов их использования2.
Критике подвергалось также различие между технологией и
природой, в частности в работах Б. Латура. Сторонники этой концепции
считают, что выделить в чистом виде нечто, что можно рассматривать
именно как социальную технологию, представляет собой
невыполнимую задачу. Наше современное общество представляет собой
коллектив, в котором люди, тексты, растения, животные, техника
связаны в единую сеть. Провести различие между ролью или функцией
человека в обществе и функцией независимых от человека артефактов,
таким образом, невозможно. Тем не менее, даже признавая
относительность такого рода различений, те же Дерксен и Боле полагают,
что можно делать предметом своего исследования социальные
технологии, концентрируясь на разных смыслах (или степенях)
социальности просто технологий и социальных технологий.
Итак, для того чтобы понять, в какой мере можно говорить о
языке в целом или об определенном корпусе языковых выражений как
социальной технологии, следует рассмотреть вопрос о том, насколько
использование языка имеет социальную природу. Кроме того, можно
выделять и различные типы «влияния» на поведение людей.
Автомобиль, например, может изменять поведение человека в разных
смыслах: движущийся автомобиль может заставить человека отпрянуть с
1 Derksen M., Beaulieu A. Social Technology// The Sage Handbook of the Philosophy
of Social Sciences. L., 2011. P. 703.
2 Маккензи Д. История технологий и социология знания // Эпистемология и
философия науки. 2011. № 1.
U.C. Куслий, Е.Ь. Вострикова • Язык как социальный феномен
315
дороги, а марка автомобиля - вызвать определенного рода
отношение к его владельцу, повлиять на его социальный статус. Не претендуя
на то, что это различие является абсолютным, можно говорить, что
только второе из этих воздействий имеет явную социальную природу.
Таким образом, нам также предстоит рассмотреть вопрос о том, в
каком смысле воздействие, которое способен оказывать язык на
поведение членов социума, является социальным.
Имеет ли язык социальную природу? Для читателя, мало
знакомого с историей современной философии, такой вопрос может
показаться тривиальным — язык используется для общения, коммуникации,
передачи информации, поэтому его природа очевидно социальна. Тем
не менее становление современной философии языка (аналитической
философии) происходило в конце XIX - начале XX в. и связано прежде
всего с работами Г. Фреге, который считал социальные аспекты языка
вторичными по отношению к его природе. Он полагал, что каждому
языковому выражению соответствуют смысл и предметное значение.
Благодаря этим двум аспектам (и правилам композициональности, по
которым значение сложных выражений складывается из значения
выражений, их составляющих) наш язык способен служить источником
получения и передачи информации. Ни смысл, ни предметное
значение, по Фреге, не имеют социальной природы. Смыслы - это
платоновские идеи, существующие в отдельном третьем мире, а значения -
это объекты реального мира. Несмотря на то что фрегевская
концепция, и в особенности его понятие «смысла», подвергались серьезной
критике в работах последующих философов языка, в целом она имела
огромное влияние и на долгие годы определила направление
исследований языка в англо-американской философии.
Рассмотрим некоторые ключевые концепции, аргументы и
дискуссии, которые поставили под сомнение картину, предложенную
Фреге. В частности, речь пойдет о концепциях лингвистической
относительности Сепира-Уорфа, онтологической относительности
У. Куайна, языковых игр Л. Витгенштейна, теории языковых актов,
различии между семантикой и прагматикой, вопросе о природе
конвенции и ее роли в языковой практике.
Кроме того, мы исследуем вопрос о природе влияния языка на
поведение человека. В современной философии большую популярность
получил тезис о том, что «особую роль в социальном
конструировании реальности и знания играет языковая коммуникация (дискурс,
текст, контекст)»1. В какой мере язык конструирует социальное дей-
Касавин И. Т. Указ. соч.
316
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
ствие и конституирует социальные институты — этот вопрос породил
ряд интересных и плодотворных дискуссий в современной
философии. Так, Дж. Сёрл отстаивает концепцию, согласно которой в
основе любого социального института лежит языковая практика. Сходной
в этом отношении теории придерживается Блур. Исследуя язык как
социальную технологию в целом, мы попытаемся ответить на вопрос
о том, достаточно ли хорошо обоснован этот сильный тезис.
Природа языка: врожденная vs социальная. Язык является
универсальным средством коммуникации в любом известном
человеческом сообществе. В то же время существует огромное разнообразие
языков, существенно различающихся по своей грамматической
структуре, логической форме, лексическому составу.
Основоположник логической семантики Фреге полагал, что все эти различия
являются несущественными и поверхностными, а за грамматической
формой предложения скрывается вечная и неизменная логическая
форма, универсальная для любого языка. Дальнейшие исследования
в этой области, в особенности внимание к различиям между
языками, существенно изменили эту картину. Начиная с 1920-х гг. в
лингвистике и философии появился ряд концепций и аргументов,
демонстрирующих, что эти различия не являются поверхностными и
оказывают фундаментальное влияние на картины мира носителей
разных языков. Согласно этим концепциям, не существует
какого-то универсального языка, на котором мыслит любой
представитель человеческого сообщества, напротив, наш естественный язык,
его грамматическая структура и лексика определяют наше
мышление. Наибольшую известность получили гипотеза Сепира—Уорфа,
концепция языковых каркасов Р. Карнапа, тезис о непереводимости
Куайна.
Гипотеза Сепира-Уорфа. Американские лингвисты Эдвард Сепир и
Бенджамен Уорф проводили культурно-антропологические
исследования с помощью семантического анализа. Сепир высказал идеи о
зависимости онтологии от языка еще в 1920-е гг. (например, в статье
1924 г. «Грамматист и его язык»). Уорф развивал его идеи в 1950-е гг.
Утверждения Сепира и Уорфа о том, что разные языки задают свое
видение реальности, ставшие известными как гипотеза
Сепира—Уорфа, имели первоочередное значение для вопросов языкознания.
Согласно Сепиру, лингвистика открывает ранее неочевидные
связи между онтологией и языком. Смыслы языковых выражений
кажутся фиксированными в рамках одного языка, поскольку все
выражения такого языка укладываются в ограниченное количество языко-
U.C. Куслий, E.B. Ъострикова • Язык как социальный феномен
317
вых форм. Однако, согласно Сепиру, эти смыслы вовсе не
фиксированы. Они изменяются в зависимости от используемого языка. Более
того, с изменением языка изменяется и онтология. Сепир пишет:
«Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать
действительность, не прибегая к помощи языка... На самом же деле
"реальный мир" в значительной мере бессознательно строится на
основе языковых норм данной группы»1.
Развивая эту мысль, Уорф утверждает, что именно язык, по
природе своей являясь результатом соглашения определенного
речевого коллектива, представляет соответствующую систематизацию
составляющих его понятий и, как следствие, обладает первичной
значимостью при определении онтологии. Принцип относительности,
сформулированный Уорфом, гласит: «Сходные физические явления
позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве
или, по крайней мере, при соотносительности языковых систем»2.
Таким образом, согласно гипотезе Сепира-Уорфа, об универсуме
следует судить именно на основании описывающего его языка.
Данное утверждение имеет важные следствия. Если онтология зависит от
языка, а языков много, то и онтологии (универсумов) также может
быть много.
Переход от одного языка к другому означает переход от одной
системы понятий к другой и соответственно от одного универсума к
другому. Ссылаясь на Сепира, Уорф пишет: «Переход от одного языка
к другому психологически подобен переходу от одной
геометрической системы отсчета к другой»3. В этом контексте Уорф приводит
яркий пример с различием в концептуализации реальности между
индейцами хопи, современными европейцами и эскимосами. Если
индейцы хопи называют одним словом и насекомых, и птицу, и летящий
самолет, то для нас такое обобщение кажется неоправданным.
Однако наше обобщение различных видов снега в единое понятие «снег»
покажется неоправданным эскимосу, готовому насчитать
непривычно большое для нас количество разновидностей снега4.
Данные соображения приводят Сепира и Уорфа к рассмотрению
мира в плюралистическом аспекте. Различным языкам соответствуют
различные формы мышления и различные онтологии. Именно осо-
1 Цит. по: Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в
лингвистике. Вып. I. М., 1960. С. 135.
2 Уорф Б. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Там же. С. 174.
3 Там же. С. 174.
4 См.: Там же. С 175.
318
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
знание этого обстоятельства должно, по их мнению, придать ученым
новое видение исследуемых проблем. В завершение статьи Сепир
пишет: «Быть может, самое существенное следствие признания
относительности формы мышления, проистекающее именно из
лингвистических исследований, состоит в расширении нашего
интеллектуального кругозора»1.
Отстаиваемое Сепиром и Уорфом отсутствие межъязыковых
значений (смыслов) говорит о невозможности полного и точного
перевода одного языка на другой. Сепир указывал, что переход от
одной языковой системы к другой подобен переходу от одной
геометрической системы отсчета к другой. Этот тезис связывается с
бихевиоризмом и натурализмом, присущими позиции Сепира и Уор-
фа. Язык, пишет Сепир, является способом отображения всех
мыслимых разновидностей нашего опыта2. Иными словами, именно
опыт является тем, что язык призван упорядочить. Здесь нет
упоминаний о вечно существующих истинах разума, открываемых
посредством языка, скорее наоборот: исследование языка, по Сепиру,
призвано максимально уменьшить количество метафизики: «Следствие
признания относительности формы мышления, проистекающее
именно из лингвистических исследований, состоит в расширении
нашего интеллектуального кругозора. В наибольшей степени сковывает
разум и парализует дух упрямая приверженность догматическим
абсолютам»3.
Концепция языковых каркасов. Другая концепция, согласно
которой язык во многом определяет структуру мира, была предложена
Р. Карнапом. Он утверждал, что вопросы о структуре языка нельзя
отделить от вопросов о структуре мира. Для иллюстрации своей
позиции и демонстрации вытекающих из нее следствий Карнап вводит
понятие каркаса. Определенный языковой каркас представляет собой
структуру, которая задает некоторый мир. Все объекты в этом мире
задаются посредством квантифицируемых переменных. Карнап
соглашается с тезисом У. Куайна о том, что объекты, рассматриваемые в
качестве существующих, задаются посредством связанных
переменных. Однако, по Карнапу, о реальности объектов можно говорить
исключительно в рамках конкретного каркаса. Существовать для Кар-
напа значит быть элементом системы.
1 Сепир Э. Грамматист и его язык // Избранные труды по языкознанию. М.,
1993. С. 258.
2 Там же.
3 Там же.
П.С. Куслий, Е.В. Ъострикова • Язык как социальный феномен
319
Таким образом, для того чтобы ввести новые объекты,
необходимо ввести новый языковой каркас. Вводить можно любой языковой
каркас, поскольку нет никаких внешних критериев, требующих
признания той или иной его структуры. Критерий к строению каркаса
может быть только внутренний: различение предикатов разного
порядка посредством вводимых переменных и введение нужных общих
понятий. Возможность вводить любой языковой каркас позволяет
допускать любые предметы, включая даже абстрактные. Следствием
этого тезиса является различие, проводимое Карнапом между так
называемыми внутренними и внешними вопросами о существовании.
Внутренние вопросы - это вопросы о существовании объектов
определенного вида в данном каркасе. Они формулируются в терминах
каркаса. Примером внутреннего вопроса будет вопрос о
существовании простого числа больше ста, сформулированного в терминах
каркаса, допускающего существование чисел. Ответ на внутренний
вопрос будет получен либо логическим путем, как в приведенном выше
примере, либо эмпирическим, как это было бы в физике.
Согласно Карнапу о существовании чего-либо вообще нельзя
говорить вне определенного каркаса. Именно поэтому вопрос о
существовании неприменим к самой системе. Внешний вопрос имеет скорее
практический, чем теоретический характер и сводится к вопросу о
выборе языка.
Тезис об онтологической относительности. Тема онтологической
относительности является следствием вопроса о неопределенности
перевода. Два возможных варианта перевода высказывания «Гавагай»
говорят об отсутствии смысла как сущности, отвечающей за
единственно правильный вариант перевода. Однако при этом два различных
варианта перевода могут подразумевать различный универсум.
Например, в одном случае речь будет идти о кроликах, в другом - о
частях кроликов. Два представленных универсума неодинаковы, однако
они могут быть в равной степени удовлетворительными для всех
возможных ситуаций перевода. Таким образом, неопределенность
значения приводит к непостижимости референции. Данному вопросу
посвящены статья Куайна «Онтологическая относительность» и
отдельные пассажи из его работ «Слово и объект», «Еще раз о
неопределенности перевода», «Разговор об объектах», «Вещи и их место в
теориях» и др.
Случай с кроликом следует отличать от случаев с цветом. Если
некто указывает на красное пятно и говорит «красное», то данный
термин относится к любой части области указания. Однако при указа-
320
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
нии на кролика и произнесении «кролик» мы подразумеваем его
целиком, даже если непосредственно тычем пальцем в его длинное ухо.
Указывать на ухо кролика, на временную часть кролика или на
кролика вообще целиком — все это разные вещи. Такие термины, как
«кролик», Куайн называет терминами с разделенной референцией. Для их
правильного обозначения необходим соответствующий принцип ин-
дивидуации. А в случае радикального перевода такой принцип
отсутствует. Иными словами, неизвестно, как правильно делить
референцию (какой универсум выбирать) при переводе пресловутого «Га-
вагая», ведь, как пишет Куайн, пространственно-временная часть,
заполненная кроликом для любой возможной из этих
интерпретаций, будет оставаться одной и той же1. Именно по этим причинам
лингвист, создающий словарь и выбирающий тот или иной вариант
перевода, одновременно предлагает и гипотезу универсума,
соответствующего этому словарю. Делая это, он, по словам Куайна, задает
определенную интерпретацию тому, что объективно является
неопределенным. Этим неопределенным, или непостижимым, является
как раз референция как нечто конечное и абсолютное.
Еще одним примером, иллюстрирующим мысль Куайна в более
реалистическом плане, чем выдуманная ситуация радикального
перевода с туземного языка, является пример японских счетных
классификаторов. Счетные классификаторы - это суффиксы,
используемые в японском языке для пересчета различных предметов. Причем
разные суффиксы соответствуют предметам различных типов.
Наиболее близким аналогом этих классификаторов в русском языке
являются такие фразы, как «пара туфель», «набор инструмента», «лист
бумаги». Суффикс указывает на «штучность» предметов
соответствующего типа. Для счета плоских предметов используются одни
суффиксы, цилиндрических - другие, для пар вещей, надеваемых на
ноги, - третьи и т.д. Индивидуация при понимании этих суффиксов
может быть различной, тогда как вариант перевода остается одним и тем
же. Так, фраза «пять быков» записывается в трех словах: нейтральное
имя числительное, классификатор для животных и слово, некоторым
образом обозначающее быка. Второе слово (классификатор) можно
рассматривать, с одной стороны, как индивидуализирующий термин,
относящий числительное «5» к роду для счета животных, чтобы
получить что-то вроде «5 животных типа бык». С другой стороны, третье
слово, обозначающее быка, можно рассматривать как некоторым об-
' Quine W. V. Ontological Relativity // Ontological Relativity and Other Essays. N.Y.,
1969. P. 32.
U.C. Куслий, E.B. Ъострикова • Язык как социальный феномен
321
разом указывающее на массовый термин «крупный рогатый скот», и
тогда классификатор будет рассматриваться в паре с ним и обозначать
нечто вроде фразы «головы крупного рогатого скота мужского пола»,
которая в свою очередь в сочетании с числительным «5» даст на
выходе то же самое выражение «пять быков».
Все эти примеры непостижимости референции говорят не о том,
что непостижимым является факт или положение дел. Никакого
факта, пишет Куайн, не существует. Мы можем объяснять смысл термина
«зеленый», указав на траву. Однако «трава» не означает «зеленое».
В данном случае мы столкнемся с так называемым смещенным
указанием (deferred ostension): о зеленом мы говорим опосредованно через
разговор о траве. Другим примером смещенного указания будет
определение скорости движения автомобиля по движению стрелки
спидометра. Суть идеи смещенного указания заключается в том, что не
существует конечной инстанции, о которой идет речь в том или ином
предложении. Любое предложение можно перевести в другое,
соотносящееся с ним, но использующее другой универсум. Так, можно
говорить об изменении местоположения стрелки спидометра, а
можно о расстоянии, преодоленном автомобилем за единицу времени, а
можно еще в каких-нибудь терминах. Разумеется, ситуация
смещенного указания преодолевается нами через фиксацию средств индиви-
дуации в каждой конкретной ситуации. Однако это не решает
остающуюся проблему непостижимости референции в принципе.
Сходным образом, пишет Куайн, три определения числа (Фреге,
Цермело и фон Неймана) представляют собой
теоретико-множественные модели, выполняющие законы простых чисел, которые числа
в невыраженном смысле были изначально призваны выполнять.
Теория множеств при этом сама является не вполне понятной. Поэтому
определение числа через теорию множеств является объяснением
непонятного через непонятное1. Все это в свою очередь говорит о том,
что не существует разницы между установлением универсума языка
(через связанные переменные) и сведением этого универсума к
другому универсуму.
Концепция онтологической относительности Куайна,
рассмотренная выше, может быть резюмирована в нескольких основных
пунктах. Во-первых, это утверждение, согласно которому универсум
может рассматриваться только относительно того или иного языка, в
котором он задается. Универсумы, относящиеся к разным
концептуальным (языковым) схемам, не сводимы друг к другу, так как нет еди-
См.: Quine V. W. Op. cit. P. 43.
322
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
ного общего факта, который бы они описывали. Единственная
возможность свести два универсума — это соотнести их относительно
некоего более широкого универсума, включающего оба первых.
Непереводимыми являются и различные языки. Несводимость
универсумов заключается в непостижимости референции, а
непереводимость языков - в отсутствии значения для соответствующих
языковых единиц как некоей отдельной сущности. При этом, поскольку
для Куайна как аналитического философа вопросы языка
предшествуют вопросам онтологии, то и тема неопределенности перевода
обусловливает тему онтологической относительности1.
Существуют ли лингвистические универсалии? До настоящего
времени лингвисты не пришли к согласию по вопросу о природе языка.
Многочисленные полевые исследования дали большой фактический
материал о структуре огромного количества языков мира, однако до
сих пор нельзя сделать однозначного вывода о том, существуют ли
универсальные характеристики для всех языков. Вопрос о
существовании некоторого единства между разными языками весьма важен
для когнитивных наук, но пока все предложенные варианты
универсалий остаются на уровне гипотез.
Даже наличие сходных структур и лексем во всех языках не может
служить однозначным доказательством врожденной природы языка.
Возможно, что данные факты - при условии их обнаружения - можно
объяснить тем, что все языки происходят из одного протоязыка, на
котором говорили наши предки. Тем не менее, несмотря на существенные
различия между языками, существует множество свойств,
объединяющих их. Одно из важнейших состоит в том, что практически каждый
человек в возрасте 2-3 лет осваивает огромный массив языка, способен
улавливать тонкие различия в грамматике и производить предложения,
которые он никогда ранее не слышал, используя знакомые морфемы.
Одна из сильных гипотез в лингвистике, объясняющая эти факты,
была предложена Н. Хомским2, профессором лингвистики Массачу-
1 В этом смысле не прав Дэвидсон, когда утверждает, что у Куайна тема
неопределенности перевода является производной от темы непостижимости
референции. У Куайна исследование темы неопределенности перевода не только
предшествует исследованию проблем непостижимости референции (см.: «С точки
зрения логики» и «Слово и объект»), но и лично им утверждается, например: «The
indeterminacy of translation now confronting us, however, cuts across extension and
intension alike» (Quine W. V. Ontological Relativity // Ontological Relativity and Other
Essays. N.Y. : Columbia University Press, 1969. P. 35).
2 См.: Chomsky N. Syntactic Structures. The Hague, 1957; Хомский H.
Картезианская лингвистика. M., 2005.
П.С. Куслий, О. Вострикова • Язык как социальный феномен
323
сетсского технологического университета. Она получила название
«генеративной грамматики». Хомский утверждает, что способность
осваивать язык является врожденной. Так же, как сердце
приспособлено для того, чтобы перегонять кровь по организму, наш мозг -
орган, одной из врожденных функций которого является освоение
языка. Генеративная грамматика — это подход к изучению синтаксиса
языка, в котором задается ряд правил, показывающих, какая
комбинация типов выражений способна производить осмысленные
предложения. Хомский также утверждает, что большая часть свойств
генеративной грамматики производна от универсальной (для всех
языков) грамматики. Подход Хомского в силу его универсальности и
большой предсказывающей способности (он предсказывал, какие
предложения в языке будут осмысленными независимо от входящих в
него конкретных лексем) имеет огромное влияние в лингвистике и
философии. Хомский утверждает, что производительность языка
(способность производить совершенно новые предложения) не
может объясняться через усвоение определенных диспозиций,
поскольку любая диспозиция имеет конечный характер1.
Другой радикальной концепцией о врожденности языка является
теория «языка мысли»2, сформулированная американским
философом Дж. Фодором. Он утверждал, что естественные языки полностью
предопределены на генетическом уровне как по своему лексическому
составу (могут быть созданы слова только для тех понятий, которые
наличествуют в нашем врожденном языке мысли, или могут быть
созданы в нем из более примитивных морфем — даже таких, как
«бюрократ», «коробка передач»), так и по грамматической структуре.
Большинство современных лингвистов отрицают как тезис о радикальной
непереводимости языков, так и радикальные идеи Фодора.
Более подходящей рабочей гипотезой может служить тезис о пе-
реводимости (выразимости), предложенный Дж. Кацем: «Для любых
двух языков и для любого предложения S в одном из них и значении х
этого предложения S во втором языке существует предложение S' со
значением х»3. Этот тезис также может быть подвержен критике. Так,
лингвист Э. Кинан4 сформулировал аргумент, в котором показал, что
1 См.: Chomsky N. Review of Skinner's Verbal Behavior// Language. J 959. Vol. 35.
P. 26-58.
2 См.: FodorJ.A. The Language of Thought. Cambridge, 1975.
3 Katz JJ. A Hypothesis about the Uniqueness of Natural Language // Origins and
Evolution of Language and Speech. N.Y., 1976. P. 38.
4 См.: Keenan E.L. Logic and language// Language asa Human Problem. N.Y., 1974.
P. 187-196.
324
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
не все языки обладают равной выразительной способностью,
поскольку при переводе могут теряться пресуппозиции (допущения,
необходимые для понимания фразы).
Таким образом, можно сформулировать более слабое правило
пере водимости: переводимость сохраняется только на уровне условий
истинности (причем при переводе допускается потеря импликатур,
пресуппозиций, эмоциональной окраски). Лингвисты Кай фон Фин-
тель и Лиза Мэтьюсон указывают, что это более слабое правило
принимается большинством лингвистов1.
Является ли конвенция сущностной характеристикой языка?
Бесспорно, для понимания механизма функционирования языка понятие
конвенции играет очень важную роль. (Под конвенцией мы в данном
случае имеем в виду некоторую договоренность, взаимное
произвольное допущение между несколькими субъектами.) На самом
поверхностном уровне язык, безусловно, является конвенциональным.
Символы, которые мы используем для обозначения того или иного
предмета в языке, выбраны случайным образом и могли бы быть
заменены другими. Так, коллективным решением Института русского
языка РАН возможно извлечь какое-то слово или выражение из
литературной речи.
Д. Льюис в работе «Конвенция»2, изданной в 1969 г., предложил
анализ этого понятия, существенно повлиявший на последующие
дискуссии. Льюис использовал теорию игр - математическую теорию
стратегического взаимодействия между рациональными агентами.
Центральным элементом этой теории является «проблема
координации», возникающая в ситуации, когда несколько рациональных
агентов могут выбрать между несколькими вариантами координации
своих действий, направленных на достижение общего блага. Проблема
координации важна для многих социальных взаимодействий, а может
быть, и является основой любого взаимодействия.
Льюис полагает, что конвенция - это особый вид практики,
который разрешает проблему координации в сообществе. Решение
проблемы должно приносить взаимную пользу, но выбор конкретного
решения из многих всегда остается произвольным. Пример, который
использует Льюис, — организация дорожного движения. В США
общепринятым является правостороннее движение, хотя никаких
особых преимуществ перед левосторонним движением у него нет. Важно
1 См.: Fintel К. von, Matthewson L. Universals in Semantics // The Linguistic Review.
2008. Vol. 25 (1-2). P. 146-147.
2 См.: Lewis D. Convention. Boston : Harvard University Press, 1969.
П.С. Куслий, Е.В. Ъострикова • Язык как социальный феномен
325
только, чтобы все участники движения следовали этому правилу.
Таким же образом употребление определенных выражений в языке
является конвенцией, выгодной для всех членов языкового сообщества.
Льюисовская интерпретация значения является важным
дополнением концепции, предложенной П. Грайсом, которая получила
название «семантика, основанная на интенциях говорящего». Грайс
проводит различие между значением говорящего и значением предложения.
Значение говорящего — это воздействие, которое говорящий
намеревается вызвать в собеседнике благодаря тому, что последний понимает
это самое намерение (интенцию). Теория Грайса требует в качестве
дополнения объяснить, как говорящий способен информировать
слушателя о своих интенциях, используя обычные предложения с их
стандартными значениями. Концепция Льюиса могла бы служить в
качестве теории значения выражения, которая необходима для того, чтобы
интенции говорящего могли быть прочитаны слушателем. Льюис
предложил самое простое объяснение значению выражения -
предложение способно выражать свое значение благодаря конвенции о том,
что говорящий использует выражение в этом значении, а слушатель
приписывает это значение произнесению данного предложения. Далее
требовалось лишь дать адекватное определение конвенции.
По мнению Льюиса, в основе любого языка лежит конвенция
«говорить правду и доверять в языке L», и только когда такого рода конвенция
реализуется в языковом сообществе, язык L становится языком этого
сообщества. «Говорить правду» означает высказывать предложение
только в том случае, если вы верите, что то, что оно значит, является
истинным. «Доверять» означает верить в то, что означает предложение,
высказанное в языке. Одним из условий успешного функционирования
конвенций является взаимное знание: конвенции принимаются
каждым, и каждому известно, что их разделяют все (а также каждому
известно, что каждому известно, что они известны каждому и т.д.).
Согласно теории Льюиса, предложение является функцией от его
значения и теория значения для какого-либо конкретного языка
описывает эту функцию. Для того чтобы система символов стала языком
какого-то сообщества, последнее должно принять ее как конвенцию,
управляющую мыслями и действиями.
Одна из самых серьезных сложностей, с которой столкнулась эта
концепция, — объяснение продуктивности языка1. Потенциально мы
1 См.: Stephen S. Actual-Language Relations// Philosophical Perspectives. 1993.
№ 7. P. 231-258; Hawthorne J. A Note on 'Languages and Language'// Australasian
Journal of Philosophy. 1990. №68. P. 116-118.
326
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
способны понять бесконечное множество осмысленных
предложений языка. Тем не менее непонятно, каким образом мы могли бы
освоить, выучить бесконечное количество конвенций. В качестве
примера можно привести предложение S, которое мы в нормальной
ситуации никогда не использовали бы, поскольку оно является
слишком длинным или слишком сложным грамматически. Предположим,
что кто-то высказывает это предложение. Мы подумали бы, что
говорящий использует это предложение не для того, чтобы выразить
какую-то информацию, а из каких-то других соображений, например
на спор. В этом случае Льюис не может использовать две конвенции
«искренности» и «доверия», чтобы приписать этому предложению
уникальные условия истинности.
В действительности мы понимаем предложение, потому что его
значение определяется значением выражений, входящих в его состав.
Но тогда конвенциалист должен объяснять связь между словами и их
значениями, а не связь между предложениями и условиями
истинности, как это делает Льюис. Такой концепции можно придерживаться,
но вряд ли от нее будет много пользы. Дело в том, что в этой теории
остается огромный пробел, а именно объяснение композиционально-
сти языка.
На сегодняшний день не приходится говорить о том, что кто-то
успешно выполнил эту задачу. Таким образом, конвенциалистские
концепции языка будут неполными - их нужно дополнить тезисом о
том, что говорящие обладают имплицитным врожденным знанием
композициональной семантики. А это означает, что конвенция не
является сущностной характеристикой языка.
С. Шиффер полагает, что одной из основных причин, почему
семантическая программа, основанная на интенциях говорящего, была
свернута и не получила дальнейшей разработки, стала невозможность
предложить адекватный анализ значения выражения, в частности,
указанная сложность концепции Льюиса. Идея Льюиса о том, что
конвенция является необходимым элементом для существования
лингвистического значения, подвергалась сомнению в работах многих
авторов; наибольшую известность получили концепции Хомского и
Дэвидсона.
Хомский утверждал, что язык представляет собой систему
грамматических правил, имплицитно известных говорящему. Согласно
этой концепции, одной из наиболее влиятельных в современной
лингвистике, язык не имеет никакого специального сущностного
отношения к коммуникации или социальному взаимодействию. Хомский
проводит различие между внутренним и внешним языком. Внутрен-
П.С. Куслий, Е.В. Вострикова • Язык как социальный феномен
327
ний язык — абстрактное состояние, в котором может находиться
сознание или мозг, информационное состояние или состояние знания1.
Свойства же внешнего языка являются независимыми от свойств
сознания и мозга2. Естественные языки являются внешними языками,
их свойства определяются отчасти внешними характеристиками,
такими, как окружающая среда, т.е. социальным или физическим
миром. Однако согласно концепции Хомского, человек рождается, уже
обладая знанием различных лингвистических правил, ограничений и
принципов. Получая воспитание в определенной среде, он в
действительности приобретает новое знание — усваивает конкретный язык.
Тем не менее знание композициональной структуры было для него
врожденным. Хомский полагал, что никакая концепция,
исключающая возможность некоторого врожденного знания внутренней
структуры языка, не способна объяснить, каким образом дети в возрасте
2—4 лет способны освоить тот огромный массив лингвистического
знания, которым они обладают в этом возрасте.
Другая концепция, в которой отрицалась идея о том, что
социальная конвенция имеет какое-либо сущностное внутреннее отношение
к языку, — это теория радикальной интерпретации Дэвидсона3.
Радикальная интерпретация происходит в том случае, когда человек
пытается приписать условия истинности какому-то предложению,
произнесенному на незнакомом ему языке. Для этого он выявляет, какие
предложения говорящий считает истинными, и пытается
рационально осмыслить эти предложения, руководствуясь принципом
доверия - «интерпретируй высказывания говорящего как рациональные
и используй интерпретацию, при которой его утверждение будет
наиболее осмысленным».
Конечно, в обыденной жизни мы интерпретируем
высказывания друг друга, основываясь на сходстве звучания произнесенного
предложения с другими уже знакомыми нам предложениями. Эта
обыденная установка не имеет каких-то глубинных оснований, и
мы с легкостью отказываемся от нее, когда возникает
соответствующая ситуация, например, мы понимаем, что говорящий
использует предложение в ироничной форме. В каком-то смысле,
полагает Дэвидсон, в основе любого понимания языковых
выражений лежит радикальная интерпретация. Из этого он заключает, что
1 См.: Chomsky N. Knowledge of Language, Its Nature, Origin and Use. N.Y., 1986.
2 См.: Ibid. P. 20.
3 См.: Дэвидсон Д. Радикальная интерпретация //Д. Дэвидсон. Исследование
истины и интерпретации. М., 2003.
328
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
лингвистические конвенции вторичны по отношению к языковой
коммуникации. Они являются лишь одним из средств,
используемых для интерпретации, но в принципе мы могли бы в теории
отказаться от использования конкретно этого средства. Конвенция не
является необходимым условием ни для значения, ни для
понимания. Для того чтобы конвенции могли выполнять роль значения
выражения, они должны быть систематичны и всегда доступны
любому носителю языка. Однако, как показал Дэвидсон, это далеко не
так.
Из нашего обсуждения ясно, что сделать однозначное
заключение о социальной природе языка мы не можем. Вопрос о том, связано
ли знание языка с конвенциями или является врожденным, - это
предмет эмпирических исследований психолингвистики и других
когнитивных наук. Исследования Хомского и Дэвидсона дают нам
основания сомневаться в коммуникативной природе языка, поэтому
мы не можем прийти к поспешному заключению, что весь язык в
целом представляет собой социальную технологию.
Необходим ли язык для существования институтов? Тот факт, что
язык играет ключевую роль для многих социальных феноменов, не
подлежит сомнению. Юридические отношения, обсуждение на
семинаре, публикация результатов научного исследования - все это
осуществляется при помощи выражений языка. Можноли
представить себе существование нашего сообщества и большинства
социальных институтов, если бы не было языка? Кажется, что,
например, институт денег, институт брака могли бы существовать без
языка. Но тогда мы должны были бы использовать какие-то другие
символы или знаки, природа которых тоже была бы социальной.
Итак, переформулируем вопрос: являются ли публичные и
конвенциональные символы ключевым условием для существования
общества?
Согласно концепции лингвистического конструктивизма,
социальные феномены в своей основе конструируются посредством
языка. Эта идея получила развитие в философии Сёрла1. Согласно
его теории, язык играет важную роль в социальном мире, являясь
базовым социальным институтом в том смысле, что для
существования любого другого института необходим язык, но
существование языка не предполагает никаких других институтов. Иными
словами, язык возможен, даже если не существуют деньги и брак,
но не наоборот.
1 См.: SearleJ. The Construction of Social Reality. N.Y., 1995.
П.С. Куслий, Е.В. Вострикова • Язык как социальный феномен
329
Данная концепция основывается на исследованиях Сёрла
понятия интенциональности. Сёрл полагает, что можно говорить не
только об индивидуальной интенциональности, но и о коллективной,
которую, согласно его концепции, невозможно свести к сумме интен-
циональностей членов коллектива. При этом он отрицает
возможность того, что группа людей могла бы иметь коллективную
интенцию (это заставило бы нас принимать слишком серьезные
допущения: из наличия коллективной интенциональности следовало бы
существование других субъектов), речь идет о том, что один
отдельный индивид может иметь интенцию формы «Мы намереваемся р».
Такого рода интенциональностьон считает биологически
примитивной, у нас есть основания полагать, что этот феномен характерен не
только для людей.
Сёрл утверждает, что коллективная интенциональность является
основой нашей социальности, в частности, именно благодаря ей мы
способны приписывать функцию некоторым артефактам и таким
образом превращать их в социальные факты. В качестве примера можно
привести деньги: физически деньги представляют собой просто
кусочки бумаги или металла, но они способны функционировать в
качестве денег именно потому, что мы приписываем им
соответствующую функцию.
Тем не менее для существования институтов одной коллективной
интенциональности недостаточно, поскольку в концепции Сёрла
коллективные интенции принадлежат конкретным умам. Для того
чтобы люди могли согласованно действовать и институты обладать
нормативностью, которой они на самом деле обладают (например,
точно воспроизведенная дома купюра не является денежной
банкнотой), эти коллективные интенции должны быть выражены.
Существование института требует коллективного принятия: так, бумажная
купюра становится деньгами, потому что коллективно принято, что
это деньги. Таким образом, существование каждого конкретного
институционального факта, по Сёрлу, предполагает язык. Речь не
идет о том, что для каждого института требуется собственное
название («деньги», «брак» и т.п.), а о том, что необходимым образом
должен существовать установленный словарь, с помощью которого мы
могли бы реализовывать коллективную интенциональность.
Коллективное признание чего-либо необходимым образом
предполагает символизацию и лингвистическую репрезентацию, что
требует конвенциональных и публично-доступных средств,
используемых для репрезентации институционального статуса. Этот тезис Сёрл
обосновывает тем соображением, что в отличие от технических арте-
330
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
фактов функции придания статуса превосходят физические свойства
объектов, которые им обладают. Например, физические
характеристики часов достаточны для того, чтобы они могли показывать время
(хотя и этой функцией наделяет часы интенциональный субъект),
однако для того чтобы быть дорожным знаком, обручальным кольцом
или монетой, физических характеристик принципиально
недостаточно. Именно поэтому, полагает Сёрл, нам требуется какой-то
способ представить их коллективно, и язык - единственное средство для
этой цели.
Аргументацию Сёрла в пользу тезиса о том, что любой
социальный институт предполагает использование языка, многие авторы
считают недостаточно убедительной. В действительности
аргументы Сёрла показывают только, что существование институтов
зависит от наличия какой-то доступной репрезентации, но совершенно
не очевидно, что эта репрезентация может быть только языковой.
Воспользуемся примером Ф. Хиндрикса: вполне можно
представить возникновение института собственности земли без всякого
языка1. В древних сообществах для того чтобы обозначить
собственность земли, достаточно было занять эту землю и поставить вокруг
нее забор.
Совершенно не очевидно также, что в среде животных не
существует ни одного социального института со статусом и
нормативностью. Если имеет смысл утверждать, что в сообществе животных
присутствует иерархия и подчинение, то можно говорить, что в этих
сообществах присутствуют институты с характерной
нормативностью. Более того, существуют и альтернативные концепции
институтов, не предполагающие существование языка2.
Еще одно соображение против этой концепции: для того чтобы
коммуникация была возможной, определенные институты
(конвенции) уже должны существовать. Так, Льюис утверждал, что в основе
успешной коммуникации лежит конвенция об истинности
высказываемого предложения и искренности говорящего. К. Бах и Р. Хар-
ниш3 утверждают, что в основе коммуникации лежат определенные
коммуникативные допущения. Так, в лингвистическом сообществе
существует верование, что каждый раз, когда член сообщества гово-
1 См.: Hindriks F. Language and Society // The Sage Handbook of the Philosophy of
Social Sciences. L., 2011. P. 145.
2 См.: Schelling T. The Strategy of Conflicts. Cambrige, 1960; Bicchieri C. The
Grammar of Society: The Nature and Dynamics of Social Norms. N.Y., 2006.
3 См.: Bach K., Harnish R.M. Linguistic Communication and Speech Acts.
Cambridge, 1979.
U.C. Куслий, E.B. Вострикова • Язык как социальный феномен
331
рит что-то другому члену сообщества, он должен делать это с
узнаваемой интенцией. Все это говорит о том, что институты являются
условием возможности языка, а не наоборот.
Другая широко известная версия лингвистического
конструктивизма принадлежит Д. Блуру и во многом опирается на идеи поздних
работ Л. Витгенштейна. Витгенштейн полагал, что практики
являются основной и базовой составляющей социальной жизни. Теория
Блура об институтах принадлежит этой традиции. Блур определяет
институт как коллективный образец деятельности, осуществляющей
референцию к самой себе1, например металлические диски являются
монетами, потому что они называются монетами.
Эту концепцию он дополняет концепцией «смыслового финитиз-
ма» относительно следования правилу. Блур отрицает существование
значения как чего-то данного раз и навсегда в языке. Значение и
следование правилу возникают из практики и существуют до тех пор,
пока существует эта последняя практика. Блур не утверждает, что
никакие социальные институты невозможны без языковой практики,
однако его тезис о том, что значение и смысл не могут существовать, не
будучи частью коммуникативной практики, релевантен для
основного вопроса нашего обсуждения — насколько социальной является
природа языка. Тем не менее этот тезис представляется слишком
сильным и недостаточно аргументированным. Блур не рассматривает
и не анализирует аргументы, которые убедили многих современных
лингвистов в том, что значительная часть лингвистических
способностей является врожденной. В частности, он не рассматривает
аргументы Хомского против бихевиористской концепции освоения
языка Скиннера о том, что в рамках этой концепции невозможно
объяснить продуктивность языка. Хомский утверждал, что никакая
тренировка не способна породить в человеке настолько богатый
набор диспозиций, которым обладает взрослый носитель языка.
Проанализировав аргументы против концепции Сёрла о
лингвистической природе любых институтов, мы приходим к выводу о
том, что хотя язык и может играть определенную роль в
формировании институтов, утверждение о том, что ни один социальный
институт не может быть создан без языка, представляется ложным.
Таким образом, это направление мысли также не способно
прояснить вопрос о том, в каком смысле язык является социальной
технологией.
1 См.: BloorD. Wittgenstein, rules and institutions. L. ; N.Y., 1997. P. 33.
332
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
Как совершать действия при помощи слов: речевые акты, прагматика,
импликатуры. Понятие речевого акта было введено Дж. Остином1,
работавшим в рамках философии обыденного языка, которая
получила мощный импульс от работ позднего Витгенштейна и его
концепции языковых игр. Витгенштейн подчеркивал, что язык может
употребляться не только для передачи информации, а в бесконечном
множестве видов деятельности. «Сколько же существует типов
предложения? Скажем, утверждение, вопрос, поведение? Имеется
бесчисленное множество таких типов —бесконечно разнообразны виды
употребления всего того, что мы называем "знаками", "словами",
"предложениями". И эта множественность не представляет собой
чего-то устойчивого, наоборот, возникают новые типы языков, или,
можно сказать, новые языковые игры, а старые устаревают и
забываются»2.
Детальная проработка идеи о множестве возможных
употреблений языковых выражений впервые была проведена именно Остином.
В начале своей книги он проводит различие между констативами и
первомативами. Констативы - обычные утвердительные
предложения, передающие определенную информацию, описывающие
определенное состояние дел, эти предложения могут быть истинными и
ложными. Первомативы не могутбыть истинными или ложными.
Остин приводит такие примеры: «Я называю этот корабль "Королева
Елизавета"»; «Согласна» (в ответ на вопрос «Согласны ли вы взять
в мужья гражданина Петрова?»). Первомативы - это
высказывания-действия.
В поисках более четкого определения первомативов Остин
пересматривает это различие и заменяет его различием между локутивным
(высказывание обычной пропозиции «снег бел»), иллокутивным (он
сообщил, что..., он утверждал, что..., она настаивала на том, что...) и
перлокутивным речевым действием (сказав это, она заставила его...).
Фактически каждый раз, высказывая предложение, мы совершаем
некоторое действие, направленное на нашего слушателя. Согласно
этой новой картине языка, сделать некоторое высказывание на языке
означает совершить речевой акт в соответствии с правилами этого
языка.
Исследования Остина возродили интерес к такой области
языкознания, как прагматика. Наибольший вклад в развитие этой области в
XX в. внес П. Грайс, его работы стали классикой в равной степени как
1 Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов. М., 1999.
2 Wittgenstain L. Philosophical Investigation. Oxford, 1978. 23.
U.C. Куслий, E.B. Ъострикова • Язык как социальный феномен
333
философии языка, так и лингвистики. Грайс исходит из различия
между тем, что говорящий буквальным образом выражает, когда
произносит высказывание, и тем, что он в действительности хочет
высказать, используя эти слова. Простой пример такого различия:
профессор говорит другому профессору: «Уже без пяти два». Предложение,
которое он высказал, буквально сообщает о точном времени. Но в
действительности под этим предложением профессор имел в виду,
что заседание кафедры начинается через 5 минут и пора на него идти.
Грайс называл то, что говорящий имел в виду, «импликатурами».
Считывание импликатур происходит благодаря общему для
говорящего и слушателя знанию не только того, что сказал говорящий, но и
лингвистического и внелингвистического контекста высказывания.
Грайс сформулировал так называемый принцип кооперации,
которым руководствуются все участники диалога: «Сделай свое
сообщение таким, как требуется на той стадии, когда ты его произносишь,
принимая во внимание цель и направление разговора, в котором ты
участвуешь»1.
Именно в этой области — области изучения прагматики и
речевых актов — мы видим наибольшие перспективы в исследовании
языка как социальной технологии. Во-первых, никто не будет
оспаривать, что импликатуры - это собственно коммуникативный
аспект языка, зависимый от конкретной ситуации и социального
контекста. Во-вторых, в рамках этого подхода любое языковое
высказывание рассматривается как конкретное действие,
направленное на изменение поведения другого человека. Работы в этой
области показали, что для того чтобы понять высказывание,
необходимо понять нечто большее, чем просто предметное значение и
смысл высказывания.
Практическую значимость данной проблематики демонстрирует
в своих работах известный историк Квентин Скиннер, представитель
кембриджской школы истории идей, применяя эти теории как
технологию для анализа политического дискурса в работе «Взгляды на
политику»2. Первый том этого трехтомника целиком посвящен
методологии анализа политической мысли.
Для того чтобы понять выражение, необходимо, понять,
во-первых, значение (значение имеет два аспекта - смысл и референцию), а
во-вторых, иллокутивную силу высказывания. Именно она задана
конвенциями, которые определяют, что автор делал (was doing), про-
1 Grice H. P. Studies in the Way of Words. Cambridge, 1989.
2 См.: Skinner Q. Visions of Politics. Vol. I. Cambridge, 2003.
334
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
изводя определенный речевой акт. Намерение автора высказывания
Скиннер отождествляет с тем, что автор делал, следуя набору
конвенций, поскольку нашей задачей является не чтение мыслей автора, а
понимание его высказывания в контексте тех интенций, которые
могли быть считаны читателем1.
Скиннер указывает на то, что древние мыслители могли
интересоваться вопросами, существенным образом отличающимися от
наших. Если мы подходим к интерпретации их идей с вечными
вопросами, то мы не понимаем, что они делали, когда писали то, что писали.
Он полагает, что если мы хотим заниматься историей идей, то мы
должны поместить те кеты в тот интеллектуальный контекст, который
придаст смысл тому, что авторы делали, когда писали его. Скиннер
предлагает интерпретировать конкретные убеждения, помещая их в
контекст других убеждений, а для того чтобы интерпретировать
систему убеждений, их нужно поместить в более широкий
интеллектуальный каркас.
Если мы хотим понять данную идею в данной культуре в данное
время, то мы не можем просто сконцентрироваться на изучении
терминов, в которых она была выражена, так как они могут
использоваться с многочисленными намерениями. Однако и простое
принятие во внимание контекста высказывания не разрешит трудности,
потому что сам контекст может быть двусмысленным. Скорее мы
должны изучать все возможные контексты, в которых эти слова
использовались, поскольку понимание текстов предполагает
понимание того, что автор имел в виду и как предполагалось, что текст
должен восприниматься. Нам необходимо понимать интенцию быть
понятым и интенцию, что интенция должна быть понята, таким
образом представляя любой текст как акт коммуникации. В качестве
метода для историка Скиннер предлагает попытаться набросать полный
спектр коммуникаций, которые конвенционально могли быть
представлены в определенном случае, а затем установить отношения
между данным высказыванием и более широким лингвистическим
контекстом как средством расшифровки интенции определенного
автора2.
Можно продемонстрировать на примере, как Скиннер применяет
данные концепции для анализа политического дискурса. В одной из
работ Н. Макиавелли утверждает, что свобода возможна только в
форме республики. Но также он утверждает, что в Риме была свобода
1 См.: Skinner Q. Op. cit.
2 Ibid. P. 82.
U.C. Куслий, E.B. Ъострикова • Язык как социальный феномен
335
при правлении древнеримских царей. Как можно разрешить данное
противоречие? Скиннер предлагает рассмотреть возможность того,
что мы неверно интерпретируем эти предложения. И если мы
рассмотрим все возможные контексты, в которых употреблялось слово
«республика», то увидим, что для Макиавелли это слово означало
любую форму правления, при которой законы служили для общего
блага1. Таким образом, можно заключить, что во втором случае
Макиавелли имел в виду, что в период правления царей принцип общего
блага был реализован в законах.
Е.В. Вострикова
Загадка Фреге1
Постановка проблемы. Философское исследование практически
любой на первый взгляд незначительной проблемы осложняется тем,
что тянет за собой целый комплекс других философских проблем.
Загадка Фреге - одна из таких «незначительных» проблем современной
философии, решению которой вот уже более 100 лет академические
философы посвящают целые монографии2 и для которой до сих пор
не было найдено решения, которое не сталкивалось бы с целым рядом
методологических и философских сложностей. Я постараюсь ясно
сформулировать задачу и условия, которые стандартно выдвигаются
для ее решения, обсудить их адекватность и когерентность,
обозначить сложности, с которыми сталкиваются уже существующие
концепции в этой области, а затем предложить направление ее решения.
Г. Фреге в своих работах сформулировал аргумент против
концепции прямой референции, согласно которой значением имени
собственного является его референт. Он указывал, что в предложениях,
описывающих верования, замена одного имени на другое, имеющее
тот же самый референт, может привести к изменению истинностного
значения предложения. Так, предложение
(1) Античный астроном верил, что Венера - это Венера
может быть истинным, тогда как предложение
(2) Античный астроном верил, что Геспер - это Венера —
ложным.
Поскольку выражения с одинаковым значением должны быть
заменимы во всех контекстах без изменения истинностного значения
предложения, мы вынуждены сделать вывод о том, что разные имена,
указывающие на один и тот же объект, обладают разным значением.
Фреге полагал, что предложение в косвенном контексте будет
указывать не на свое обычное предметное значение, а на мысль
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 11-33-00130-2а. Это
переработанная версия статьи, опубликованной в журнале «Вестник Томского
государственного университета. Философия. Социология. Политология» (2011.
№2).
2 См.: Salmon N. Frege's Puzzle. Cambridge, 1986; Crimmins M. Talk about Beliefs.
Cambridge, 1992; Recanati F. Direct Reference: From Language to Thought. Oxford,
1993; SchifferS. The Things We Mean. Oxford, 2005.
Е.В. Вострикова • Загадка Фреге
337
(смысл), которую это предложение выражает. Результаты
исследований Фреге на долгие годы задали направление исследованиям в двух
областях философии - семантике и теории сознания. Данное
решение проблемы в современной аналитической философии привлекает
очень небольшое количество исследователей, поскольку оно
нарушает некоторые важные и хорошо обоснованные семантические
принципы, которые я планирую рассмотреть в данной статье.
Почему же нельзя просто отбросить вопрос о взаимозаменимости
терминов в косвенных контекстах, неужели у специалистов по
семантике нет более серьезных проблем? К сожалению, просто
игнорировать данную проблему невозможно. Причина состоит в том, что эта
загадка является всего лишь демонстрацией более глубокой
проблемы семантики. Речь идет о проблеме композициональности.
Композициональность - одно из основных свойств языка,
состоящее втом, что значение выражений определяется их семантикой
и синтаксисом. Именно композициональностью объясняется наша
способность производить бесконечное количество предложений,
зная только конечный набор слов (продуктивность языка).
Согласно принципу композициональности, при замене одного
синонима на другой значение целого выражения должно остаться
прежним. Однако если при такой замене изменяется истинное значение
предложения, значит, изменяются и условия истинности
предложения, следовательно, значение предложения также не может оставаться
тем же самым. Проблема косвенных контекстов, сформулированная
Фреге, показывает, как нарушается принцип композициональности в
такого рода предложениях.
В действительности существует несколько формулировок загадки
Фреге, и следующая из них приблизит нас к пониманию того, почему
это проблема не только семантики, но и теории интенциональности:
«Эосфор есть Венера» - истинное предложение о тождестве.
«Геспер есть Венера» - истинное предложение о тождестве.
(3) «Фалес верил, что Эосфор есть Венера, и он верил, что Геспер
не есть Венера» — может быть истинным предложением о
веровании Фалеса.
В данном случае речь не просто идет о возможности или
невозможности подстановки терминов в косвенном контексте. Условия
истинности последнего предложения таковы, что оно истинно тогда
и только тогда, когда правильно описывает верование Фалеса, т.е.
Фалес действительно верил, что Эосфор есть Венера, но верил, что
Геспер не есть Венера. Для того чтобы мы могли выражать наши мыс-
338
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
ли в предложениях, условия истинности мысли и предложения, ее
выражающей, должны быть одинаковы. И если противник различия
между смыслом и значением, столкнувшись с проблемой косвенных
контекстов в первой формулировке, может отрицать тезис
(4) «Фалее верил, что Геспер есть Венера» - ложное
предложение о веровании Фалеса
и утверждать, что если Фалес верил, что Эосфор есть Венера, то он
верил также и в то, что Геспер есть Венера, то для решения этой
проблемы он должен предложить какое-то иное объяснение. Как выразил
это Н. Сэлмон, если информация I и информация Г идентичны, то
некто может верить, что I, если и только если он верит, что Г.
Сточки зрения Фреге, эта проблема не более сложна, чем
проблема невозможности подстановки имен с одинаковым предметным
значением в косвенных контекстах. Но если мы отвергаем фрегевское
различие смысла и предметного значения для собственных имен и его
контринтуитивный тезис о том, что в косвенных предложениях все
термины должны поменять свое значение (и предметное значение,
и смысл), то оказывается, что Фалес принимает и отрицает одну и ту
же пропозицию (которую можно также выразить «Венера есть
Венера»). Каким образом это можно объяснить, учитывая, что Фалес -
рациональный человек, всегда отвергающий другие противоречивые
утверждения?
Для человека, не искушенного в философии, сама формулировка
этой загадки может показаться странной. Ну, конечно, человек может
верить, что Эосфор есть Венера, а Геспер не есть Венера, ведь он не
знает, что это имена одного предмета! Другая реакция, которая с
большой долей вероятности последует, такова: просто в голове у
Фалеса есть определенные представления о Эосфоре, они отличаются от
его представлений о Геспере. Однако оба эти ответа свидетельствуют
о непонимании сути сформулированной загадки.
Ошибка первого ответа состоит в том, что знание или незнание
Фалесом каких-то слов не имеет никакого отношения к семантике
этого предложения. Эта загадка специфична именно для имен.
Данное предложение (3) по крайней мере в первом приближении не
аналогично предложению
(3)' Иван считает, что холостяки счастливы, и считает, что
неженатые мужчины не счастливы.
Если Иван заглянет в словарь, он узнает, что «холостяк» и
«неженатый мужчина» — синонимы, что дает нам полное право считать
Е.В. Вострикова • Загадка Фреге
339
предложение (3)' ложным или Ивана нерациональным. В лучшем
случае ему недостает чисто семантического знания, знания о
значении и употреблении определенных слов. Совсем иначе обстоит дело с
«Эосфором» и «Геспером». Знание, которого недостает Фалесу, не
является чисто семантическим. Астрономы проделали серьезную
работу, прежде чем тождество «Эосфора» и «Геспера» было установлено.
Кроме того, никто из представителей так называемой прямой
теории референции (концепции, согласно которой имя обозначает свой
объект напрямую) не отрицает, что в голове у Фалеса существуют
разные способы восприятия, которые он ассоциирует с двумя именами.
Вопрос состоит только в том, какое отношение это имеет к семантике
предложения, ведь имена указывают не на то, что происходит у нас в
головах, а на объекты реального мира. Никто также не отрицает, что
если мысли Фалеса были описаны в другом предложении:
Фалес считал, что самое яркое тело (после Солнца и Луны),
которое он видит утром на небе, это Венера, а самое яркое тело (после
Солнца и Луны), которое он видит ранним вечером, это не Венера,
то сложностей бы не возникло. Наша же загадка - об условиях
истинности того предложения, которое нам дано (и мысли, которую оно
выражает), вопрос состоит в том, какой из элементов в том
предложении семантически может нести информацию о том, что происходит в
голове определенного человека.
Кто-то1 мог бы возразить, что философия логического анализа
языка и загадки, которые она породила, не имеют никакой
философской значимости, поскольку изначально отталкиваются от ложной
посылки об особой роли утвердительных предложений в языке и о
роли условий истинности предложения для значения выражений, из
которых оно состоит. В рамках данной статьи нет места для
опровержения такого фундаментального тезиса, и я не уверена, что его вообще
можно опровергнуть (равно как и противоположный ему тезис).
Однако, на мой взгляд, бессмысленно отрицать, что именно
утвердительные предложения в первую очередь являются носителями
информации - как истинной, так и ложной (или используются в
качестве таковых). Это удачно выразил Скотт Соумс: «Возможно,
семантическая информация - это не только условия истинности, но без
условий истинности нет вообще никакой информации»2.
1 Сторонники философии обыденного языка, последователи поздних работ
Л. Витгенштейна.
2 Soames S. Semantics and Semantic Competence // Philosophical Perspectives.
Vol. 3. Philosophy of Mind and Action Theory. 1989. P. 576.
340
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
Итак, мы сформулировали вопрос, который ставит для нас
загадка Фреге. Ответ на этот вопрос предложить не так просто, поскольку
он должен согласовываться с некоторыми важными семантическими
принципами.
Прямая референция. Почему, собственно говоря, философы
усматривают в решении Фреге проблему? Почему бы нам не остановиться
на том, что значение имени — это не объект, который оно обозначает,
и не признать, что имена обладают некоторым смыслом? Дело в том,
что допущение о существовании смыслов имен кажется ходом ad hoc.
Сравним этот тип выражений с другими выражениями языка. Такие
слова, как «звезда», «утро», с очевидностью несут в себе некоторую
информацию. Мы понимаем их значение и благодаря этому
понимаем предложения, в которые эти слова входят.
Когда речь идет о понимании высказывания/предложения,
необходимо различать два типа понимания его значения. В одном случае
мы можем определить истинностные условия предложения (мы
целиком понимаем пропозицию, которую выражает предложение),
тогда можно говорить о полном понимании. Например, если я
утверждаю, что «по утрам на небе виднеется меньше звезд, чем по вечерам»,
другой человек способен полностью понять это предложение и
определить, является оно истинным или ложным. Другой вид
понимания - когда мы полностью понимаем значение слов, составляющих
предложение, однако не можем определить истинностные условия
предложения. Так, если я вижу написанное предложение «я умен»,
мне не известны его условия истинности до тех пор, пока я не знаю его
автора. В данном случае в предложении было задействовано
индексное выражение, и по этой причине без знания контекста мы не можем
знать и пропозицию, которую предложение выражает. Тем не менее,
зная этот контекст и понимая семантическую информацию, которую
несет слово «я» (всегда указывает на автора слов), можно легко
определить истинностные условия предложения.
Здесь полезно обратиться к различию между символом (character)
и содержанием (content), предложенному Д. Капланом1. Символ для
индексных выражений — это то семантическое значение, которое они
имеют безотносительно к контексту (для «я» символом будет что-то
вроде «автор этих слов»), благодаря которому, будучи использованы в
контексте, они указывают на объект. Более сложный случай
представляют собой такие индексные выражения, как «она», поскольку
1 См.: Kaplan D. Demonstratives // Themes from Kaplan ; Almog, Perry, Wettstein
(eds). Oxford, 1989. P. 481-563.
О. Вострикова • Загадка Фреге
341
знать контекст и понимать значение этого выражения не в полной
мере достаточно для определения истинностных условий предложения
(я не смогу полностью понять предложение с этим выражением, если
в комнате находится 10 женщин и я не обладаю никакой
дополнительной информацией, которая позволяла бы однозначно
определить, о ком конкретно идет речь). Тем не менее и это выражение «она»
несет в себе информацию семантически (независимо от конкретного
употребления в конкретной ситуации) — каждый, знающий его
значение, понимает, что оно указывает на человека женского пола (и
только одного) или на конкретный объект (и только один), обозначаемый
существительным женского рода (в русском языке, в частности).
Однако имена в нашем языке функционируют совсем не так, как
предполагал Фреге, т.е. они действуют иначе, чем дескрипции. Имя
скорее действует, как «он» или «она», - оно определяет в некоторой степени
своего референта семантически («Екатерина» - обозначает женщину, а
не мужчину, указывает на одного человека в любом данном контексте,
указывает на человека, в действительности носящего это имя, - более
нам ничего данное имя не сообщает), но оставляет большой пробел в
нашем знании истинностных условий предложений, в которые оно
входит, если это предложение рассматривается без контекста его
конкретного употребления. Если я слышу предложение «Саша родился 13
октября 1982 г.», я не могу определить истинностные условия данного
предложения, несмотря на то что остальная часть предложения несет
достаточно конкретную семантическую информацию. И если бы вместо
этого предложения мне было дано такое предложение, где
задействована дескрипция, а не имя: «Молодой человек, который был
единственным студентом мужского пола филологического факультета МГУ в
1999 г., родился 13 октября 1982 г.», то я могла бы узнать, истинно оно
или ложно. Даже если мне ничего не известно о гендерном составе
студентов филологического факультета МГУ, мне не нужна никакая
дополнительная информация о значении выражений, входящих в состав
данного предложения, я знаю пропозицию, которую выражает это
предложение, я полностью понимаю его условия истинности.
Даже если мы рассмотрим пример из работ Фреге, где
употребляются имена, обладающие более однозначно закрепленными за ними
конвенционально значениями, такой, как «Аристотель был учителем
Александра», то и в данном случае следует проявить осторожность. На
первый взгляд может показаться, что это предложение семантически
выражает пропозицию, но при более внимательном рассмотрении мы
поймем, что это не так. Мы делаем предположение на основе некоторых
прагматических соображений (Фреге - философ и, наверное, речь ско-
342
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
рее идет об известном философе, чем о другом человеке с именем
Аристотель, тем более что философ Аристотель был учителем известного
Александра и т.п.). Услышав или прочитав это предложение вне
контекста, я не могу определить его истинностные условия. Ведь если речь идет
об Александре - моем брате из Нарьян-Мара, то это предложение будет
ложным. И история, конечно, знает более чем одного Аристотеля.
Фреге представлял, что в идеальном языке каждое имя будет
обозначать только одного носителя. Но по всей видимости,
многозначность имен - это не их вторичное и случайное свойство, а некоторый
их существенный атрибут: семантика имени настолько бедна, что
позволяет одному имени обозначать бессчетное количество объектов,
которые не объединены никакой общей характеристикой (за
исключением того, что все они носят это имя). Помимо этого, проблема
лежит глубже, чем просто возможность существования нескольких
носителей одного и того же имени. В действительности в самом
значении имени нет ничего, что позволяло бы нам детерминировать од-
ну-единственную дескрипцию, которую обозначает это имя, или
необходимый кластер1 дескрипций. И, конечно, ассоциации и
индивидуальные представления человека о носителе данного имени или
дескрипции, которые конкретный человек ассоциирует с этим
именем, не могут выполнять тех семантических функций, которые
требуются от смысла, а именно - детерминации условий истинности
предложений, в которые входит это имя. Ни один из сторонников прямой
теории референции не отрицает, что имена имеют некоторые
коннотации. Например, трудно себе представить, что кто-то будет с
гордостью носить фамилию «Чикатило». Однако они отрицают, что
такого рода негативные или позитивные ассоциации имеют какое-то
отношение к семантическим свойствам имени. (Я уже не говорю о
специальных модальных сложностях фрегевской семантики,
сформулированных С. Крипке2.)
Именно поэтому допущение смыслов имен (как дескрипций)
кажется ad hoc шагом: мы принимаем их, чтобы разрешить одну
специфическую проблему - значение (meaning) имен в косвенных
продолжениях, — вопреки тому, что это противоречит некоторым хорошо
известным фактам о том, как работает язык.
Семантическая невинность (innocence). Данный принцип был
сформулирован в работе Д. Дэвидсона: «Со времени Фреге философы
утвердились во мнении, что предложения содержания в разговоре о
1 Кластерную теорию отстаивали П. Стросон, Дж. Сёрл.
2 См.: KripkeS. Naming and Necessity. Oxford, 1980.
Е.В. Вострикова • Загадка Фреге
343
пропозициональных установках могут странным образом указывать
на такие сущности, как интенсионалы, пропозиции, предложения,
высказывания и надписи. Странной эту идею делают не эти
сущности, с которыми все в порядке, когда они на своих местах (если
таковые имеются), а представление, согласно которому слова,
обозначающие планеты, людей, столы и гиппопотамов в косвенной речи, могут
сменить эти обычные референции на экзотические. Если бы мы
смогли вернуть нашу семантическую невинность, которой мы обладали до
Фреге, то я думаю, нам показалось бы совершенно невероятным,
чтобы слова "Земля вертится", произнесенные после слов "Галилей
сказал, что", значат что-либо или указывают на что-либо кроме того, что
они обычно значат или на что указывают в других обстоятельствах»1.
На мой взгляд, данный принцип очень важен для семантики, и любой
концепции, предлагающей решение загадки Фреге с учетом данного
принципа, следует отдать предпочтение перед теорией, которая
решает ее без его учета. Язык способен выполнять свои
многочисленные функции благодаря тому, что выражения языка имеют
стандартные значения, и, сочетая их различным образом, мы способны
выражать бесчисленное количество мыслей, и нарушение данного
принципа ведет к нарушению принципа композициональности.
Верование - это отношение к пропозиции. Все предложения о
верованиях имеют определенную характерную логическую форму. Эта
логическая форма сходна (на первый взгляд, ведь логические формы не
даны нам непосредственно) с логической формой предложений,
выражающих отношение между двумя объектами, такими, как «стул
находится справа от стола» - «aRb» (здесь a, b - объекты, R - отношение
между ними). Верование логически выглядит как отношение к
пропозиции, например в предложении «Фалес верил, что...» речь идет об
отношении «верить», которое связывает Фалеса и пропозицию
«что...». Утверждение о том, что верование является отношением к
пропозиции, логически не зависит от того, какую концепцию
пропозиций принимает тот или иной философ.
Несмотря на кажущуюся очевидность данного принципа, а также
его распространенность в современной философии, на мой взгляд, у
нас есть некоторые основания для того, чтобы сомневаться в его
истинности.
Во-первых, грамматическая форма предложений может скрывать
их логическую форму. Рассмотрим, например, такое слово, как «лю-
1 Дэвидсон Д. О местоимении «что» //Д. Дэвидсон. Истина и интерпретация.
М., 2003. С. 161.
344
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
бить». По форме предложений, в которые оно входит, это слово
обозначает отношение. Тем не менее это можно подвергнуть сомнению.
К примеру, согласно моим семантическим интуициям, предложение
«Мой сын любит Санта-Клауса» может быть истинным. Однако если
это так, то «любить» не будет являться отношением (поскольку
Санта-Клауса не существует). Рассмотрим другой пример: «Многие люди
любят бога». Я могу сказать, что это предложение является истинным,
даже не поднимая вопрос об онтологическом статусе бога.
Во-вторых, верования не обязательно должны быть выражены
предложениями именно в такой форме. Они могут быть выражены,
например, таким образом: «По моему мнению, Эосфор есть Венера»;
«На мой взгляд, Эосфор есть Венера», а также просто: «Эосфор есть
Венера».
В-третьих, нам на сегодняшний день не известно, что такое
верование как феномен сознания, и мы не можем делать никаких
предположений и выводов о его природе на основании структуры предложений.
Нам известно только, что верования должны представлять мир
каким-то образом, что они (по крайней мере некоторые из них) должны
быть истинными или ложными, а значит, иметь условия истинности.
В конце концов предложения естественных языков также имеют
условия истинности, но они не являются отношениями к пропозициям.
Я полагаю, что отрицание этого принципа (по меньшей мере
воздержание от его принятия) позволило бы нам оставаться в
семантической плоскости при рассмотрении проблемы приписывания
верований и сосредоточиться на условиях истинности таких предложений, а
не том, что происходит или не происходит в голове у кого-то.
Принцип спецификации. Согласно этому принципу1, предложение,
следующее за «что», полностью специфицирует верование того, кому
это верование приписывается. Этот принцип связан с принципом
«верование есть отношение к пропозиции», но в то же время
отличается от него. Он касается только предложений о верованиях
(предложений формы «X считает, что...») и говорит, что они осуществляют
референцию к пропозиции, в которую верит человек, и точно
описывают содержание верования.
На мой взгляд, адекватность этого принципа также может быть
подвергнута сомнению. Во-первых, он основывается насоображени-
1 Принцип был впервые сформулирован и подвергнут критике, насколько мне
известно, в работах Кента Баха: Bach К. Do Belief Reports Report Beliefs? // Pacific
Philosophical Quarterly. 1997. Vol. 78, № 3. P. 215-241; Bach K. A Puzzle about Belief
Reports//The Pragmatics of Prepositional Attitude Reports ; K. Jaszczolt (ed.). Elsevier,
2002.
E.ß. Вострикова • Загадка Фреге
345
ях такого же толка, как и предыдущий принцип, истинность которого
также не очевидна.
Во-вторых, истинностные условия предложений о веровании не
предполагают, что верование должно быть описано точно в таких же
выражениях, которые бы использовал тот, кому это верование
приписывается. Более того, не требуется также соответствия в
используемых модусах - de ге и de dicto1 (вопреки распространенному в
философии мнению, что замена возможна, если модус был de ге, и
невозможна, если модус был de dicto). Можно показать это, используя
пример «сказал, что» (вместо «верит, что»), что сделает условия
истинности данного предложения более прозрачными.
Мы можем сконструировать ситуацию, в которой некто Петр
читал и знает только одно произведение Марка Твена - «Приключения
Тома Сойера» и говорит: «Я могу сказать, что автор "Приключений
Тома Сойера" - теперь мой любимый писатель». Другой человек
Илья, хорошо знакомый с писателем лично и с его творчеством,
может сказать в кругу друзей Сэмюэла Клеменса2: «А Петр сказал про
тебя, что ты его любимый писатель», очевидно используя местоимение
«ты» в модусе de ге.
Другими словами, я могу сделать de ге сообщение, даже если
изначально Петр использовал имя «Твен» в модусе de dicto (мое
сообщение окажется ложным, если выяснится, что книга
«Приключения Тома Сойера» принадлежит перу другого автора и была
случайно приписана Клеменсу. Но если фактически Клеменс является
автором «Сойера», то я вполне могу сделать такую замену). Можно
найти еще десяток способов сообщить о том, что сказал Петр.
Например, он мог сообщить другому малокомпетентному, как и Петр,
в литературе человеку, прочитавшему только «Приключения Гекль-
берри Финна»: «Петр сказал, что автор этого произведения
(указывает на "Приключения Гекльберри Финна") — его любимый
писатель».
Несложно понять, как можно сконструировать и обратную
ситуацию (когда сообщение было в модусе de dicto, а сообщение,
передающее его, будет в модусе de ге). Объясняется это тем, что модусы
определяются употреблением (прагматикой) выражений, они не
определяются их семантикой (значением и семантической категорией, к
1 Модус de ге используется, если выражение указывает напрямую на объект,
модус de dicto — если указание опосредовано дескрипцией (существуют и другие
подходы к данному различию).
2 Марк Твен — творческий псевдоним Сэмюэла Клеменса.
346
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
которой выражение принадлежит и т.п.). Выбор модуса, в котором
будут употребляться выражения в предложении, описывающем
верование (или утверждения), определяется тем, кто делает это сообщение, а
не тем, кому эти верования/сообщения приписываются.
Единственным необходимым (но ни в коей мере недостаточным)
условием правильной передачи верования является какое-то
указание на ту же самую расселовскую пропозицию (состоящую из объекта
реального мира и его свойства), на которую указывает само
верование. Но способ указания может существенно отличаться. Мы можем
задействовать имена, дескрипции, местоимения и т.п., различные
модусы - наш выбор будет определяться многими прагматическими,
контекстуальными соображениями, существует множество самых
разнообразных случаев.
Одинаковы ли пропозиции, выраженные такими
предложениями: «Твен — мой любимый писатель» и «Автор "Приключений Тома
Сойера" - его любимый писатель» (где индексные выражения «его» и
«мой» означают «Петр»)? Условия истинности этих предложений
одинаковы для нашей реальной ситуации, одно истинно тогда, когда
истинно другое, -один и тот же факт делает эти высказывания
истинными или ложными. Но в целом их условия истинности различны,
«Марк Твен» и «автор "Приключений Тома Соейра"» несут разную
информацию семантически, в частности, это различие будет
очевидно, если мы будем рассматривать модальные контексты (Марк Твен
мог и не быть автором «Приключений Тома Сойера»).
Таким образом, семантика предложений о верованиях не
определяет условия возможности замены терминов с одинаковой
референцией. Возможна ли будет такая замена, определяется прагматикой
(зависит от контекста: определяется тем, что известно говорящему об
объекте верования агента, а также тем, что он знает о том, что знает
его аудитория). Семантика не полностью определяет условия
истинности таких предложений (семантически они не выражают полную
пропозицию). Зная такое предложение без контекста, мы не можем
определить его истинность или ложность.
Необходимым условием того, что предложение с
пропозициональным контекстом является истинным сообщением о том, что
некто сказал (или о том, во что некто верит), не является точный пересказ
слов говорящего (или их пересказ с использованием только
синонимичных выражений1).
1 Противоположную точку зрения см.: Куслий П.С. Референция единичных
терминов // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 4.
E.ß. Вострикова • Загадка Фреге
347
Выше я указала на многочисленные случаи, когда замена корефе-
ренциальных терминов в косвенном контексте возможна, но это еще
не приблизило нас к пониманию того, когда и почему такая замена
невозможна.
Принцип раскрытия кавычек был сформулирован в работе Крипке
«Загадка о веровании»1. Крипке формулирует тезис в двух версиях -
слабой и сильной. Первая звучит таким образом: «если человек, в
достаточной степени владеющий языком, хорошо поразмыслив,
искренне соглашается с предложением "р", то он верит, что р»; вторая:
«Человек, в достаточной степени владеющий языком, хорошо
поразмыслив, искренне соглашается с предложением "р", если и только если
он верит, что р».
Принцип играет важную роль в формулировке загадки о
веровании. На основании именно этого принципа философы утверждали,
что в косвенных контекстах разные имена с одинаковой референцией
не могут заменять друг друга. При обсуждении принципа
спецификации было показано, что существуют случаи, когда такая замена
возможна, даже если сам человек вряд ли мог бы принять предложение,
описывающее его верование (высказывание). По всей видимости,
существуют достаточные основания для отрицания данного принципа в
его сильной формулировке (мы можем отрицать, что если человек не
принимает предложение, то это всегда означает, что он не имеет
верования, которое можно описать данным предложением).
Однако отрицание этого принципа в строгой форме еще не
разрешает загадки Фреге. Очень важно семантически различать отказ от
принятия предложения и принятие отрицания этого предложения.
По-настоящему сложным случаем для сторонника прямой теории
референции является ситуация, когда некто (Петр) одновременно
принимает два предложения: «Марк Твен - известный писатель» и «Сэ-
мюэл Клеменс не является известным писателем» (которые с его
точки зрения будут выражать пропозицию и ее отрицание).
(Я использую здесь различные имена «Твен» и «Клеменс» только
для наглядности. Я вполне могла бы использовать одно и то же имя,
как в аргументе, сформулированном Крипке: некто может считать,
что Падеревский имеет музыкальный талант и что Падеревский не
имеет музыкального таланта, полагая, что Падеревский-музыкант и
Падеревский-политик — разные люди, тогда как в действительности
это один человек.)
1 Kripke S. A Puzzle about Belief// Readings in the Philosophy of Language ; P. Ludlow
(ed.). Cambridge : MIT, 1997. P. 875-920.
348
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
Сторонник прямой теории референции, отрицая принцип
раскрытия кавычек в его слабой форме, может либо утверждать, что
предложения типа «Петр верит, что Марк Твен является известным
писателем, а Сэмюэл Клеменс не является известным писателем» в
большинстве случаев являются ложными, либо утверждать, что
Петр верит в противоречие. Обе эти возможности, на мой взгляд,
являются малопривлекательными. Каждая из них означает, что мы
должны вступать в противоречие с семантическими интуициями
большинства людей. Я полагаю, что это создает серьезное
основание для сомнений вообще в любых достижениях семантики,
поскольку каждый исследователь опирается прежде всего на
собственные семантические интуиции об истинностных условиях
предложений.
Некоторые сложности некоторых решений. Фрегевский ответ на
обсуждаемую проблему нарушает очень важные для семантики
принципы: прямой референции и семантической невинности.
Некоторые сторонники прямой теории референции утверждали,
что в косвенных предложениях обсуждаемого типа содержатся
скрытые индексы, которые указывают на способ представления объекта1
(семантика этих предложений несет информацию не только о
сингулярной пропозиции, в которую верит человек, но и о способе, каким
он в нее верит). Теории такого типа сталкиваются с серьезными
сложностями. В частности, их утверждение о скрытых индексах является
ad hoc шагом. Многие вещи происходят определенным образом,
например, всегда можно уточнить, как именно я хлопаю в ладоши, но из
этого не следует, что в семантике предложения «Я хлопаю в ладоши»
есть индекс, указывающий на способ «хлопанья». Также эта
концепция не может объяснить, почему именно в косвенном контексте (но
не в обычном употреблении) и именно при употреблении имен (ведь с
дескрипциями нам не нужны скрытые индексы) возникают эти
индексные элементы. Кроме того, указание наличные способы
репрезентации в чьей-то голове делают условия истинности предложений о
верованиях весьма непрозрачными.
Помимо всего прочего эта концепция дает ложные предсказания
об условиях истинности предложений о верованиях: например,
предложение «Аристотель верил, что Марк Твен был великолепным писа-
1 См.: Crimmins M., Perry J. The Prince and the Phone Booth: Reporting puzzling
beliefs // Journal of Philosophy. 1989. Vol. 86. P. 685-711; Crimmins M. Talk about
Beliefs. Cambridge, 1992; Richard M.R. Prepositional Attitudes: An Essay on Thoughts
and How We Ascribe Them. Cambridge, 1990.
E.ß. Вострикова • Загадка Фреге
349
телем»1 с точки зрения этой концепции должно быть бессмысленным
(поскольку у Аристотеля не было никакого способа репрезентации
Марка Твена), но на самом деле мы понимаем смысл этого
предложения и с уверенностью можем сказать, что у Аристотеля не было
соответствующего верования, а значит, данное предложение является
ложным.
Заключение. Философы языка проявили чудеса
изобретательности, пытаясь примирить в рамках одной теории хотя бы четыре из этих
принципов. Тем не менее можно констатировать, что создать
концепцию референции, сохранив все эти принципы, невозможно. Нам
остается только размышлять над тем, какими принципами можно
поступиться с наименьшими потерями для семантики. Но мне кажется,
что у нас есть перспективы в решении загадки Фреге, если мы будем
принимать во внимание приведенные выше соображения об этих
семантических принципах.
Несмотря на то что логическая география позиций о загадке
Фреге очень обширна, в целом у нас есть только две альтернативы:
отрицать, что предложения формы «Илья верит, что Том Сойер - писатель
и что Сэмюэл Клеменс — не писатель» могут быть истинными,
принимая во внимание, что Илья нормальный здравомыслящий человек;
признавать, что предложения формы «Илья верит, что Том Сойер -
писатель и что Сэмюэл Клеменс - не писатель» могут быть
истинными и искать объяснение такой возможности в семантике (либо
глаголов «верить», «считать», «говорить», либо единичных терминов
(имен, местоимений, дескрипций)).
Первая альтернатива сопряжена с отрицанием принципа
раскрытия кавычек в его слабой формулировке, что оставляет нас в большой
неопределенности относительно того, каковы условия истинности
предложений о верованиях и как можно удостовериться в их
истинности или ложности. Я думаю, нам следует ориентироваться на
вторую альтернативу. Принимая во внимание серьезность аргументов
против теории скрытых индексов, имеющих референтами способы
представлений объектов, в косвенных предложениях, я полагаю, что
ответ следует искать в семантике единичных терминов. Это вполне
согласуется с тем, что я говорила о семантике и прагматике
высказываний о верованиях, когда обсуждался принцип спецификации. Для
описания верования говорящий должен использовать обычные слова
с их обычной референцией в их обычном значении. Я указывала на то,
1 Пример заимствован из: Clapp L. How to Be Direct and Innocent // Linguistics
and Philosophy. 1995. Vol. 18, № 5. P. 556.
350
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
что возможность замены выражений с одинаковой референцией в
косвенном контексте определяется прагматикой, тем, как и для каких
целей описывает верования человек, который их приписывает.
Однако нам известно, что в некоторых случаях такая замена невозможна.
И для этой невозможности — учитывая распространенность данного
феномена - должно быть семантическое объяснение (в противном
случае мы будем вынуждены нарушить принцип семантической
невинности). Мы должны предложить такую теорию значения имен,
чтобы она допускала, что разные имена для одного объекта могут
иметь разные значения.
Это не вынуждает нас принимать фрегевскую ad hoc концепцию
смыслов для имен. Все, что требуется от такого объяснения, - чтобы
теория значения для имен согласовывалась с тем, какой вклад на самом
деле имена вносят в условия истинности предложений, в которые они
входят. Эта концепция должна, во-первых, показывать, что даже два
употребления одного имени, если они указывают на один и тот же
объект, могут иметь разное значение (нести разную информацию
семантически), во-вторых, учитывать скромную семантику имени.
Я вижу три возможных варианта развития данного тезиса: 1)
сторонник прямой теории референции может придерживаться самой
строгой версии этой концепции и утверждать, что имена вообще не
имеют никакого семантического содержания (напрямую
непосредственно обозначают свой объект), поэтому высказывание «Венера - это
Венера» является не менее информативным, чем высказывание «Эос-
фор - есть Венера»1; 2) можно утверждать, что имена являются
индексными выражениями (всегда указывают на объект с таким
именем)2; 3) можно отстаивать номинально-дискриптивную
концепцию3 (значение имени можно выразить дескрипцией, упоминающей
данное имя — «объект с именем X»).
1 См.: Takashi Yagisawa. A Semantic Solution to Frege's Puzzle // Philosophical
Perspectives. 1993. Vol. 7. Language and Logic. P. 135-154.
2 См.: PelczarM., RainsburyJ. The Indexical Character of Names// Synthese. 1998.
Vol. 114. P. 293-317.
3 См.: Bach K. Thought and Reference. Oxford, 1987. P. 130-175; Bach K. Giorgione
Was So-Called Bacause of His Name // Philosophical Perspectives. 2002. Vol. 16.
P. 73-103.
Г.К. Ольховиков
Метаязыковые дескрипции и решение
Аля задачи Крипке1
1. Два взгляда на значения имен собственных
Теория дескрипций Фреге-Рассела, одно из первых крупных
достижений аналитической философии, отчасти утратила присущую ей
популярность в результате критики со стороны С.А. Крипке2. В качестве
альтернативы ей Крипке была предложена не столько некая
определенная теория, сколько картина, согласно которой референция имени
возникает в ситуации «наречения» референта данным именем неким
пользователем языка, а затем наследуется другими пользователями,
которые, столкнувшись с употреблением данного имени этим
пользователем, решают использовать имя с тем же значением, что и он.
Подобного рода наследование имени в единожды закрепленной за ним
референции может происходить сколько угодно большое конечное число
раз, в результате чего со временем имя может стать общеупотребимым
в рамках данного сообщества в неком единственном значении,
несмотря на то что большинство (а может быть, и все) из существующих в
нем членов могут быть не в состоянии дать однозначную дескрипцию
референта данного имени, не содержащую порочного круга.
В настоящей статье основное значение для нас будут иметь сходства
и различия между позициями С. Крипке и Б. Рассела, поэтому уделим
некоторое внимание более детальному их описанию. Сам Крипке
признает, что различия между его собственным и расселовским подходами
к семантике имен не так уж велики. Скорее эти различия касаются того,
что каждый из этих двух философов признает в качестве подлинных
имен. Как известно, Рассел различал знание по знакомству и знание по
описанию. Соответственно подлинными именами он был склонен
считать лишь те имена естественного языка, чьи значения известны
носителю данного идиолекта по знакомству. Кроме того, есть основания
полагать, что Рассел вообще не считал3, что такие столь сложные
комплексы, как человек или, например, кошка, могут быть референтами
1 Настоящая статья была опубликована в журнале «Эпистемология и
философия науки» (2012. № 2).
2 См. прежде всего: KripkeS. Naming and Necessity. Cambridge, Massachusetts, 1972.
3 Имеются в виду поздние версии расселовской философии.
352
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
подлинных имен. Но если мы позволим себе отвлечься от этой
особенности позиции Рассела, то можно сказать, что если некий агент,
допустим Иван, увидев на улице некоторого человека, сказал: «Вон тот
субъект — брюнет», то как сторонник Рассела, так и сторонник Крипке
считали бы высказывание Ивана истинным, если и только если человек,
на которого указал Иван, действительно являлся брюнетом. Причем с
точки зрения обоих философов это условие имело бы силу «во всех
возможных мирах»: в любой мыслимой ситуации оно было бы истинным,
если и только если брюнетом был бы именно указанный человек.
Однако в случае, если носитель имени не известен нам из опыта,
ситуация меняется. Например, высказывание «Аристотель -
брюнет», сторонник Крипке все еще склонен был бы анализировать
подобно разобранному выше высказыванию Ивана, тогда как
сторонник Рассела, по всей видимости, предпочел бы следующий анализ:
«Существует ровно один объект, удовлетворяющий D, и всякий такой
объект является брюнетом». Здесь D означает описание, которое в
идиолекте Ивана задает значение имени «Аристотель». Это может
быть, например, «уроженец Стагиры, учивший Александра
Македонского». Крипке критикует такой способ анализа суждения об
Аристотеле, указывая на то, что хотя в реальном мире предложенная
Расселом конструкция и может верно выражать условия истинности
рассматриваемого суждения1, в других возможных мирах, в которых D
перестает быть определенной дескрипцией Аристотеля, указанная
конструкция будет истинна, если и только если брюнетом является
объект, удовлетворяющий D, независимо оттого, какими свойствами
обладает сам Аристотель. Например, если в некотором возможном
мире единственным уроженцем Стагиры, учившим данного
полководца, оказывается Демокрит, то указанная конструкция будет в этом
мире истинна, если и только если Демокрит в нем является брюнетом,
независимо от естественного цвета волос Аристотеля.
2. Задача Крипке
Несмотря на то что в силу описанного аргумента есть основания
полагать, что позиция Крипке относительно суждений естественного
языка с собственными именами, значения которых известны нам по
описанию, предпочтительнее позиции Рассела2, крипкеанский под-
1 При условии, что ровно один объект удовлетворяет D, и этот объект -
действительно Аристотель.
2 Хотя, разумеется, чтобы установить это наверняка, необходимо более
подробное обсуждение достоинств и недостатков указанных позиций, которое мы не
имеем возможности провести, оставаясь в рамках данной статьи.
Г.К. Ольховиков • Метаязыковые дескрипции и решение для задачи Кринке 353
ход также сталкивается с определенными трудностями, суть которых
описана в статье Крипке1. Несколько упрощая, суть этих проблем
можно описать следующим образом. Интуитивно очевиден принцип
раскрытия кавычек (далее ПРК): если некий агент утверждает (с
необходимыми оговорками насчет искренности и т.п. характеристик)
«/?», то он считает, что р. Сам по себе этот принцип может создать
парадокс. Пусть, например, некто Иван в неком контексте слышал про
известного пианиста и композитора Падеревского. В результате того,
что он о нем слышал, Иван склонен утверждать: «Падеревский —
хороший музыкант». В соответствии с ПРК мы можем заключить, что
Иван считает Падеревского хорошим музыкантом. Однако затем
Иван в некотором другом контексте слышит о неком политике Паде-
ревском. Фактически этот политик и тот пианист, о котором Иван
слышал до того, представляют собой одно и то же лицо. Однако Ивану
это неизвестно и более того, он в принципе весьма скептически
относится к попыткам политиков заняться музицированием. Поэтому
теперь Иван склонен утверждать: «Падеревский не является хорошим
музыкантом», думая, что он утверждает это по отношению к
какому-то другому Падеревскому. Однако если спросить его, кого он
имеет в виду, то он пояснит: «Речь идет о том Падеревском, про которого
я слышал там-то и тогда-то». А поскольку «там-то и тогда-то» речь
шла о том же самом Падеревском, который является известным
пианистом, объективно утверждение Ивана относится к тому же самому
Падеревскому, о котором шла речь в его первом утверждении.
Именно этот Падеревский является референтом обоих употреблений
Иваном имени «Падеревский», хотя самому Ивану это неизвестно. Таким
образом, по ПРК мы заключаем на основании второго утверждения
Ивана, что он считает, что Падеревский не является хорошим
музыкантом. Стало быть, в убеждениях Ивана содержится очевидное
противоречие. Но это заключение является парадоксальным, ведь Иван,
даже будучи гениальным логиком, ни за что не обнаружит этого
«очевидного» противоречия, пока не узнает, о том, что Падеревский-пиа-
нист и Падеревский-политик представляют собой одно и то же лицо,
т.е. пока он не усвоит некий эмпирический факт2. Крипке
утверждает, что этот парадокс неизбежно должен быть как-то рассмотрен и ре-
1 Kripke S. A Puzzle about Belief// Meaning and Use ; A. Margalit (ed.). Dordrecht :
D. Reidel, 1979. P. 239-283.
2 Разумеется, остается возможность того, что между первым и вторым
утверждениями Иван изменил свое мнение о Падеревском. Пример легко развить таким
образом, чтобы это заключение также стало очевидным образом парадоксальным.
Крипке фактически осуществляет такое развитие в статье "A Puzzle about Belief'.
354
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
шен любой теорией, язык которой включает пропозициональные
установки мнения, верования, убеждения и т.д. Соответствующую
задачу мы будем называть задачей Крипке, а парадокс, рассматриваемый в
рамках этой задачи, — парадоксом Крипке.
Целью настоящей статьи является неформальное изложение
полученного нами общего метода решения задачи Крипке, который,
насколько нам известно, не выдвигался в существующей литературе.
Сделав несколько замечаний об условиях и формах возникновения
парадокса Крипке в теории дескрипций в следующей главе, в гл. 4 мы
изложим этот метод указанным образом, после чего в гл. 5 рассмотрим
некоторые возражения, которые могут быть выдвинуты против него.
Наконец, в заключении мы кратко суммируем полученные выводы.
3. Парадокс Крипке и теория дескрипций
Если бы значения имен определялись в соответствии с расселов-
ской позицией, так, как она описана выше, то ПРК мог бы привести к
указанному парадоксу лишь в том случае, когда значения имени как
для Падеревского-политика, так и для Падеревского-музыканта
известны Ивану по знакомству. Например, слушая политическую речь
Падеревского, Иван мог не узнать, что это тот же человек, на чьем
концерте он был за пару недель до того, в силу другого ракурса,
обстановки, слишком большого расстояния от сцены, потому что Падерев-
ский отпустил бороду и тому подобных причин. Тогда Иван мог бы
сформулировать свои утверждения, из которых по ПРК следовала бы
«очевидная противоречивость» его убеждений точно так же, как это
показано в предыдущей главе.
Однако если хотя бы в одном из этих случаев значение имени
Падеревского известно Ивану по описанию, парадокса не возникает.
Если значение имени Падеревского известно Ивану по описанию
лишь в одном случае, причем это описание D, то ПРК дает нам, что
Иван считает истинным одно из двух суждений:
Падеревский - хороший музыкант, и существует ровно один
объект, удовлетворяющий D, причем ни один объект,
удовлетворяющий D, не является хорошим музыкантом; (1)
Падеревский не является хорошим музыкантом, и существует
ровно один объект, удовлетворяющий D, причем всякий объект,
удовлетворяющий D, является хорошим музыкантом. (2)
Ни одно из этих утверждений не является противоречивым, хотя в
данном конкретном случае оба они будут ложными. Если же в обоих
случаях имя Падеревский известно Ивану по описанию, то, поскольку
Г.К. Ольховиков • Метаязыковые дескрипции и решение для задачи Кринке 355
речь идет об описаниях в одном и том же языке, либо хотя бы одно из
этих описаний логически следует из другого, либо нет. Обозначим два
эти описания Падеревского через Dj и D2 соответственно. Принцип
раскавычивания дает нам следующее описание убеждений Ивана:
Существует ровно один объект, удовлетворяющий Db причем ни
один объект, удовлетворяющий Dj, не является хорошим
музыкантом, и существует ровно один объект, удовлетворяющий D2,
причем всякий объект, удовлетворяющий D2, является хорошим
музыкантом. (3)
Если хотя бы одно из двух описаний логически следует из другого,
то утверждения Ивана действительно образуют логическое
противоречие. Однако в этом случае Иван может средствами одной лишь
логики установить, что (3) противоречиво и что, более того,
единственный объект, удовлетворяющий Db совпадает с единственным
объектом, удовлетворяющим D2. Если же ни одно из этих описаний из
другого не следует, то (3) непротиворечиво и для установления его
ложности необходимо обращение к опыту. Ни в том, ни в другом
случае парадокса Крипке не возникает.
Однако парадокс можно получить даже в том случае, когда
значения имен известны некоторому данному носителю языка по
описанию, при условии, что допускается существование нескольких
языков и следующий принцип перевода: если р есть истинное
утверждение некоторого языка и qесть верный переводу на некоторый другой
язык, то q есть истинное утверждение этого другого языка. Допустим,
что Пьер является французом, живет во Франции и не знает других
языков, кроме французского. На основании того, что ему становится
известно в ходе такой его жизни, он высказывает утверждение:
"Londres est jolie" (Лондон красив). Затем он попадает в лондонские
трущобы, где все люди, с кем он общается, владеют исключительно
английским языком. Пьер с помощью «прямого метода обучения»
усваивает достаточный фрагмент английского языка для того, чтобы
понять, что город, в котором он живет, называется на этом языке
"London", и сделать утверждение "London is not pretty", поскольку
этот город он красивым не считает и не отождествляет его с "Londres"
из первого своего утверждения. Применяя теперь французскую и
английскую версии принципа раскавычивания к утверждениям Пьера,
понятым в духе крипкеанской теории именования, т.е. считая
"Londres" и "London" подлинными именами, мы получаем
соответственно следующие выводы:
356
Раздел 4. Сем«янтические подходы к языку и сознанию
Pierre croit que Londres est jolie. (4)
Pierre believes that London is not pretty. (5)
Принцип перевода теперь позволяет нам, как и выше, сделать
вывод о существовании следующего «очевидного противоречия» в
утверждениях Пьера: Пьер считает, что Лондон красив и что Лондон не
является красивым. Однако, как и выше, для того чтобы увидеть это
«очевидное противоречие», Пьеру недостаточно обладать
способностями к логическому мышлению -он должен, кроме того, установить
(эмпирически) соотношение между значениями имен английского и
французского языков1.
Сходный парадокс возникает и в том случае, когда Пьер знает
значения французской и английской версий имени «Лондон» по
описанию. В этом случае лучше предположить, что он усваивает
английский язык, скажем, в трущобах Бирмингема, и в своих суждениях о
"London" руководствуется исключительно оценками своих соседей
по трущобам, посещавших в Лондоне в основном разного рода
злачные места. Проблема здесь в том, что эти описания, задающие
значения имен "Londres" и "London", могут оказаться переводами друг
друга, но не будут опознаны Пьером в качестве таковых из-за того, что
его языковые познания не позволяют ему соотнести встречающиеся в
этих описаниях собственные имена. Например, дескрипции,
задающие значения указанных имен, могут быть соответственно
французским и английским вариантом дескрипции «город в Англии, где
расположен Букингемский дворец». Пьер может не знать, что имена
"England" и "l'Angleterre" и "Buckingham Palace" и "le Palais de
Buckingham" являются переводами друг друга, и даже считать, что
"England" и "l'Angleterre" являются именами различных стран.
Соответственно применение принципа раскавычивания к двум
приведенным выше описанным утверждениям Пьера дает нам следующие
высказывания:
Pierre croit qu'il у a seulement une ville en Angleterre où se trouve le
Palais de Buckingham, et chaque ville comme celle-ci est jolie. (6)
Pierre believes that there is exactly one city in England, where
Buckingham Palace is located, and every such city is not pretty. (7)
Применение принципа перевода к (6) и (7) позволяет получить
вывод о том, что Пьер считает, что имеется лишь один город в Англии,
где расположен Букингемский дворец, и любой такой город красив и
1 Пример про Пьера также взят из статьи: Kripke S. A Puzzle about Belief.
P. 239-283.
Г.К. Ольховиков • Метаязыковые дескрипции и решение для задачи Кринке 357
в то же время любой такой город не является красивым. Вновь
убеждения Пьера оказываются содержащими «очевидное противоречие»,
которое, однако, может быть устранено лишь после того, как
эмпирическим путем будут установлены некоторые факты о соотношении
двух языков.
4 Расселианское решение задачи Крипке
Начнем с ряда общих замечаний. Во-первых, очевидно, что
идиолект данного пользователя языка изменяется от одной ситуации его
использования к другой - в нем появляются новые слова, а значения
уже имеющихся слов пересматриваются. Поэтому под идиолектом
пользователя а некоторого данного языка L в контексте с мы будем
понимать «моментальный снимок» состояния идиолекта
пользователя в данном контексте. В дальнейшем, говоря об идиолектах
пользователей, мы всегда будем подразумевать, что речь идет об идиолектах
в некотором контексте, хотя сам этот контекст не всегда будет
указываться явным образом. Во-вторых, точная формулировка как
«картины», положенной в основание крипкеанской теории именования, так
и принципов раскавычивания и перевода, входящих в формулировку
задачи Крипке, неизбежно требует выхода на уровень метаязыка
(разумеется, и сам язык может включать в себя большие фрагменты
собственного метаязыка). Оператор кавычек, без которого невозможна
формулировка принципа раскавычивания, по природе своей
является метаязыковым. Но и логическая суть операции «наследования»
референции данного имени от некоторого другого пользователя языка,
описанная в самом начале этой статьи, с необходимостью отсылает к
метауровню. Пользователь-наследник неизбежно принимает в ходе
этой операции что-то вроде следующего решения: «Я буду
использовать имя л втом же значении, в котором его использовал пользователь
а в контексте с». То есть пользователь-наследник использует свой
идиолект для того, чтобы говорить об использовании некоторым
другим пользователем идиолекта этого другого пользователя и о
значениях имен в этом другом идиолекте. Иными словами, идиолект
пользователя-наследника выступает в этом случае как метаязык для
идиолекта пользователя, от которого наследуется референция данного
имени. Однако идиолект пользователя-наследника в этом случае
выступает как «локальный» метаязык — он используется в качестве
языка лишь для идиолектов таких пользователей, от которых данный
пользователь заимствует определенные языковые выражения, и в тех
контекстах, в которых делаются эти заимствования. Сам такой ло-
358
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
кальный метаязык может стать языком-объектом для идиолекта
некоторого другого пользователя, например если этот другой
пользователь сам унаследует от пользователя-наследника референцию
данного имени.
В отличие от ситуации наследования референции имени принцип
раскавычивания предполагает ситуацию «глобального» метаязыка,
т.е. метаязыка для любого из идиолектов носителей данного языка в
любом из возможных контекстов их использования. Наконец,
принцип перевода предполагает сравнение истинностных значений
высказываний, принадлежащих различным языкам, что само по себе
говорит о том, что метаязык, переход к рассмотрению которого
требуется для решения задачи Крипке, должен быть глобальным метаязыком
не для одного, а для нескольких языков и должен быть в состоянии
рассматривать различные переводы с одного из этих языков на
другой.
Суть предлагаемого решения задачи Крипке состоит в том, что
значение данного имени в идиолекте пользователя, унаследовавшего
его из идиолекта некоторого другого пользователя, представляет
собой особого рода метаязыковую дескрипцию. Например, если
пользователь ах, услышав употребление пользователем а2 в контексте с2
имени «Аристотель», решил заимствовать это имя и употреблять его в той
же референции, то если он реализует это решение, высказав в
контексте сх суждение «Аристотель (был) брюнет», правильным анализом
значения его суждения будет следующая конструкция:
Существует ровно один объект, являвшийся референтом слова
«Аристотель» в процессе его употребления а2 в контексте с2, и
всякий такой объект — брюнет. (8)
Поскольку, таким образом, любое предложение с именем
собственным, заимствованным от некоторого другого пользователя языка,
будет фактически утверждением об объекте некоторой определенной
дескрипции, сам по себе принцип раскавычивания, как было
отмечено выше, уже не приводит к парадоксу Крипке.
Однако что произойдет, если мы введем в эту картину принцип
перевода и рассмотрим описанный выше случай с Пьером?
Предположим, что референцию имени "Londres" Пьер заимствовал от
пользователя ах в контексте С\, а значение имени "London" - от
пользователя а2 в контексте с2. Предположим, стало быть, что в неком контексте
с3 Пьер делает одно за другим два утверждения: "Londres est jolie" и
"London is not pretty". В контексте c3 идиолект Пьера, состоящий частью
из английского, а частью из французского языка, выступает как мета-
Г.К. Олъховиков • Метаязыковые дескрипции и решение для задачи Кринке 359
язык для идиолекта а\ в С\ и идиолекта а2 в с2. В соответствии с
предложенным решением правильный анализ смысла этих утверждений
выглядит так:
Il у a seulement un objet dénoté par le mot "Londres" que ax prononce
dans ch et chaque objet comme celui-ci est joli. (9)
There is exactly one object referred to by the word 'London' uttered by
a2 in c2 and every such object is not pretty. (10)
Применяя к (9) и ( 10) принцип перевода вместе с принципом
раскавычивания, мы получаем, что Пьер считает, что имеется ровно
один объект, являющийся референтом слова " Londres" в процессе его
употребления ах в контексте с\, и всякий такой объект красив, и в то
же время имеется ровно один объект, являющийся референтом слова
"London" в процессе его употребления а2 в контексте с2, и всякий такой
объект не является красивым. Мы видим, что метаязыковые
дескрипции, задающие для Пьера значения имен "Londres" и "London", даже
после их перевода на некий общий язык в принципе не могут совпасть
хотя бы в силу того, что значения этих имен усвоены Пьером в
различных контекстах, а имена этих контекстов составляют существенную
часть данных дескрипций. Стало быть, перевод суждений (9) и (10) на
некий общий язык не дает нам в этом случае того «очевидного»
противоречия, которое и составляло парадокс Крипке в разобранных в
гл. 2 и 3 примерах.
Однако что делать в таком случае с ситуацией, когда значения имен
не задаются для пользователя языка некой дескрипцией, а известны
ему по знакомству? В этом случае, как мы упоминали выше, для
получения парадокса Крипке достаточно одного принципа
раскавычивания. Заметим, что знание о значении имени по знакомству не
исключает заимствования этого имени от некоторого другого пользователя, а
в этом случае имя, согласно предложенному решению, все-таки не
будет «подлинным именем». Например, в описанном выше случае
знания Иваном по знакомству Падеревского-пианиста и Падеревско-
го-политика он не сам решил называть этих двух, как ему казалось,
разных людей одним и тем же именем. Скорее всего он принял такое
решение под влиянием употребления этого имени другими
носителями языка, например конферансье. В этом случае значение имени для
Ивана все равно будет задавать именно та метаязыковая дескрипция,
общий принцип построения которой был описан выше.
Но предположим, хотя здесь наш пример уже теряет всякую
естественность, что Иван сам решил называть этих двух, как ему казалось,
различных людей одним и тем же именем «Падеревский». Как тогда
360
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
будет выглядеть анализ значений сделанных им утверждений? Эта
последняя модификация примера с Падеревским поднимает более
общий вопрос: как понимать значения суждений с собственными
именами, изобретенными самостоятельно, а не заимствованными у
других пользователей?
Прежде всего отметим, что изобретение имени и его первое
использование все-таки представляют собой различные действия. Если
пользователь употребляет имя в некотором данном значении, значит
он уже решил использовать его в этом значении - решил в некоторый
более ранний момент и, вообще говоря, в некотором более раннем
контексте. Стало быть, употребляя данное имя сообразно принятому
решению, он опять-таки заимствует эту референцию - но заимствует
у себя же более раннего. Правда, в данном случае метаязыковая
дескрипция, задающая значение имени, будет выглядеть несколько
иначе. Если, например, в контексте С\ пользователь а решил назвать
свою аквариумную рыбку Аристотелем, то, применяя имя
«Аристотель» в данном значении в контексте с2 в ходе утверждения
«Аристотель не является человеком», он фактически утверждает следующее:
Существует ровно один объект, выбранный референтом слова
«Аристотель» пользователем а в контексте сь и всякий такой
объект не является человеком. (11)
В частности, применяя этот анализ к случаю, когда Иван сам
решает именовать Падеревского одним и тем же именем в разных
контекстах - обозначим эти контексты с\ и с2 соответственно, - мы
получаем следующий анализ:
Существует ровно один объект, являвшийся референтом слова
«Падеревский» в процессе задания Иваном значения этого имени
в контексте сь и всякий такой объект - хороший музыкант. (12)
Существует ровно один объект, являвшийся референтом слова
«Падеревский» в процессе задания Иваном значения этого имени
в контексте с2, и всякий такой объект не является хорошим
музыкантом. (13)
Вновь оказывается, что убеждения Ивана не содержат явных
противоречий, ведь могло оказаться, что в процессе задания значения для
имени «Падеревский» в этих разных контекстах он выбрал в качестве
референтов этого имени разные объекты.
Таким образом, собственное имя является метаязыковой
дескрипцией даже в тех случаях, когда значение этого имени известно
употребляющему его пользователю языка по знакомству.
Г.К. Ольховиков • Метаязыковые дескрипции и решение для задачи Кринке 361
5. Рассмотрение некоторых возражений
Хотя рассмотренное решение исключает возникновение
парадокса Крипке, против него может быть выдвинут ряд возражений.
Прежде всего, раз мы возвращаемся к взгляду на имена как на особого
рода дескрипции, то как нам удается избежать высказанной Крипке
критики в адрес расселовской теории дескрипций? Дело в том, что мы
допускаем в качестве значений имен не любые дескрипции, а
дескрипции особого рода, к которым крипкеанская критика
неприменима. Действительно, что может она означать применительно к
описанным выше метаязыковым дескрипциям? Утверждая, например,
что «Аристотельбрюнет», Иван фактически утверждает (8). Можетли
существовать такой возможный мир, в котором условия истинности
(8) будут зависеть не от естественного цвета волос Аристотеля? В
таком возможном мире в контексте с2 пользователь а2 должен был бы
назвать именем «Аристотель» не Аристотеля, а кого-нибудь другого,
например Демокрита; однако как это могло быть возможно?
Контекст, задающий значения высказанных слов, охватывает как саму
ситуацию и намерения пользователей в ней, так и предшествующую
этой ситуации историю мира - легко показать, что если бы контекст
не включал в себя эти моменты, то некоторые значения высказанных
в нем слов менялись бы в зависимости от их изменений,
следовательно, вопреки предположению контекст в действительности не задавал
бы значения этих слов1. Стало быть, в этом возможном мире
ситуация, в которой а2 сделал бы свои утверждения об «Аристотеле»,
предшествующая история мира и намерения а2 назвать этим именем
Аристотеля, а не Демокрита были бы точно такими же, как и в реальном
мире. Мыслима ли при этих условиях ситуация, в которой
референтом имени «Аристотель» все-таки оказался бы Демокрит?
Интуитивно очевидно, что такая ситуация немыслима.
Таким образом, крипкеанская критика теории дескрипций не
применима к тем метаязыковым дескрипциям, которые, согласно
предложенному решению, задают значения имен собственных.
Однако как легко заметить, в указанных метаязыковых дескрипциях
также фигурируют собственные имена - имена пользователей языка
и контекстов. Если мы утверждаем, что значения всех имен задаются
1 Можно также привести аргументы в пользу того, что в отдельных случаях
контекст должен включать фрагменты будущей истории мира. Однако тезис о том, что
контекст должен включать в себя всю будущую историю данного мира, уже не
столь убедителен. Таким образом, вполне правдоподобным оказывается
предположение о том, что один и тот же контекст может возникать в разных возможных
мирах.
362
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
метаязыковыми дескрипциями, то нам следует явным образом
указать, какие дескрипции соответствуют значениям этих имен. Мы,
однако, этого вовсе не утверждаем — например, имена контекстов
являются, с нашей точки зрения, подлинными именами в тех случаях,
когда пользователь языка знает о значениях этих имен по знакомству,
т.е. сам участвовал в этих контекстах. Если же некоторый контекст С\
непосредственно не знаком некоторому пользователю аь то,
следовательно, он заимствовал свои знания об этом контексте от некоторого
другого пользователя а2 в некотором другом контексте с2 - при этом
он непосредственно знаком иса2исс2. Стало быть, значение имени
контекста с\ будет задаваться для этого пользователя метаязыковой
дескрипцией указанного вида, в которой иа2ис2 будут фигурировать
как подлинные имена, уже в свою очередь к дескрипциям не
сводимые. К именам агентов мы хотели бы применить ту же стратегию, что
и к именам контекстов, т.е. считать их подлинными именами в
идиолекте некоторого данного агента тогда и только тогда, когда он
непосредственно знаком с референтами этих имен. К сожалению, эта
стратегия сталкивается с определенными трудностями - если
проблемы различения контекстов во многом снимаются их
неповторимостью и уникальностью, то один и тот же агент может фигурировать
в различных контекстах и не быть опознан пользователем как один и
тот же агент. Каким образом такое может произойти, показывает, в
частности, разобранный выше пример, в котором Иван дважды
сталкивается с Падеревским, но оказывается не в состоянии понять, что в
двух этих различных контекстах он столкнулся с одним и тем же
пользователем языка. Таким образом, признание имен агентов в качестве
подлинных имен даже только в тех случаях, когда значения этих имен
известны пользователю языка по знакомству, создает опасность
повторного возникновения парадокса Крипке.
Для того чтобы избежать этой опасности, мы вводим различение
собственно агентов и агентов-событий. Если собственно агент — это
агент «в обычном смысле слова», например Аристотель, Крипке или
Падеревский, то агент-событие - это пространственно-временное
пересечение собственно агента с некоторым контекстом, в который
входит этот агент. Примером агента-события является, например,
Цицерон в момент произнесения им «О temporal О mores!» В отличие
от собственно агентов множества агентов-событий, участвующих в
двух различных контекстах, никогда не пересекаются. На наш взгляд,
это снимает многие проблемы различения и отождествления
агентов-событий, непосредственно знакомых данному пользователю
языка, и позволяет признать имена таких агентов-событий подлин-
Г.К. Олъховиков • Метаязыковые дескрипции и решение для задачи Кринке 363
ными именами без риска возникновения парадокса Крипке. Стало
быть, мы ограничиваем имена агентов в приведенных выше метаязы-
ковых дескрипциях именами агентов-событий, с которыми
непосредственно знаком данный пользователь языка, и принимаем тезис
о том, что имена агентов-событий, не известных данному
пользователю, и любые имена собственно агентов задаются такими метаязыко-
выми дескрипциями, в которых фигурируют лишь имена
непосредственно знакомых пользователю контекстов и агентов-событий. Это
последнее усложнение завершает изложение предложенного в
данной статье решения задачи Крипке.
6. Выводы и направления дальнейшей работы
Описанный выше подход к анализу значений имен собственных,
лежащий в основании предложенного нами решения задачи Крипке,
является несомненно расселианским в том отношении, что значения
большинства собственных имен естественного языка и, в частности,
всех тех имен, чьи значения известны данному пользователю языка
по описанию, описываются особого вида дескрипциями. Большая
часть того, что в естественном языке считается именами
собственными, при этом является неподлинными именами в том смысле, что их
смыслы задаются этими дескрипциями. Вместе с тем, как и в теории
дескрипций Рассела, допускается некое довольно ограниченное
множество подлинных имен. В то же время указанный подход во многом
является и крипкеанским: ведь он по сути возникает из попытки
развить и уточнить крипкеанскую картину наследования референции
имени от одного пользователя языка к другому.
Разумеется, изложенное выше решение задачи Крипке является
неточным и неполным. Как Крипке, так и Рассел строили свои
теории значения имен собственных естественного языка, во многом
имея в виду языки формальные. Более того, их построения во многом
могут быть представлены как оправдания определенных стратегий
формализации предложений естественного языка. Стало быть,
вышеописанное решение обретет точность и полноту лишь после того,
как будет дано замкнутое определение соответствующей ему
стратегии формализации. Формулировка такой стратегии составляет
важнейшее направление дальнейшей исследовательской работы над
указанным решением.
Напоследок ответим еще на один вопрос, который Крипке ставит
в статье "A Puzzle about Belief: во что же верит Пьер? Приходится
допустить, что верования Пьера имеют лишь косвенное отношение к
364
Раздел 4. Семантические подходы к языку и сознанию
тому сложному объекту, который в различных языках обозначается
именами «Лондон», "London" и "Londres". По сути Пьер
приписывает некие свойства не Лондону, а ранее совершенным языковым
действиям, свидетелем и/или участником которых ему довелось быть.
Пьер верит в то, что два различных объекта данных им метаязыковых
дескрипций обладают определенными свойствами; иными словами,
подлинным объектом веры Пьера является не известный нам
английский город, но ранее произведенные языковые действия, свидетелем
которых он стал. По изложенным выше причинам Пьер приходит к
определенным убеждениям относительно смысла этих действий — он
приобретает уверенность в том, что в ходе одного из них упоминался
некий единственный красивый объект, а в другом — некий
единственный некрасивый объект. Эти верования Пьера фактически не могут
быть одновременно истинными, но они не образуют и противоречия.
Таким образом, именно языковые действия и только они могут быть
референтами подлинных имен. В указанном смысле границы нашего
мира суть границы нашего языка.
Дж. Клагге
Элиминативизм и сознание
Элиминативизм в философии мышления - это
позиция, которую практически все любят критиковать, и все
же в ней есть своя прелесть, как и в атеизме, и в
аморализме. Сторонники считают ее единственно приемлемой с
научной точки зрения; остальным до такой степени
серьезное отношение к науке кажется слишком смелым. На
мой взгляд, постановка проблемы статуса и возможной
судьбы психологических понятий делает честь элимина-
тивистам. Но я также считаю, что эту проблему нужно
рассматривать не только в контексте прогресса нейро-
науки, но и в более широком контексте. Только в таком
ракурсе мы сможем справедливо оценивать условия, при
которых наши психологические понятия либо
оправдываются, либо отвергаются. Данная статья должна стать
частью более фундаментального исследования, которое
я называю «концептуальная аксиология» — изучение
подходящих оснований для оценки понятий.
Основа критики элиминативистов заключается в
следующем: наши психологические понятия, такие,
как «убеждение», «желание» и «намерение», — часть
целой сети понятий, которые используются для
изложения теорий, объясняющих поведение людей. Эта
«народная психология» используется для описания,
объяснения, понимания и предсказания человеческого
поведения. Поскольку данная теория претендует на
научность, она должна оцениваться стандартами лучшей
из известных наук. И здесь - в свете нейронауки - она
до некоторой степени оказалась и, вероятно, окажется
в еще большей степени ошибочной и уязвимой. Упадок
народной психологии наступил так поздно по
сравнению с другими народными науками - народной
физикой и народной медициной - лишь потому, что нейро-
наука довольно недавно стала столь же сложной, как
физика и медицина.
Философы не согласны с эли ми нативизмом по
разным причинам. Мне хотелось бы обсудить ряд вопросов,
которые, по моему мнению, особенно интересны и при
366
Приложение
этом недооцениваются. Но я также хочу выявить и те аспекты, в которых
концепция элиминативизма была бы состоятельна.
Основная проблема заключается в следующем: понятия народной
психологии используются не только благодаря их теоретической роли в
объяснении и предсказании человеческих действий (хотя они
используются и в этой роли, как уверяют Черчленды1), они также используются
при обдумывании и планировании действия. Таким образом, область
применения понятий народной психологии не исчерпывается только
потребностями науки. Следовательно, оценивать понятия народной
психологии, вероятно, нужно не только с точки зрения научных стандартов.
Подобное мнение было ясно сформулировано Джегвоном Кимом:
«Интенциональная психологическая схема, т.е. набор убеждений,
желаний и намерений, это такая схема, в рамках которой мы размышляем о
целях и средствах и оцениваем рациональность действий и решений. Это
структура, которая делает наши нормативные и оценочные действия
возможными. Ни одна описательная структура, например в
нейрофизиологии и физике, какой бы теоретически всесторонней и предсказательно
сильной она ни была, не может ее заменить. Пока мы думаем о себе как о
рефлексивных агентах, способных к обдумыванию и оценке, т.е. пока мы
расцениваем себя как агентов, способных к действию в соответствии с
нормой, мы не сможем обойтись без интенциональной структуры
убеждений, желаний и намерений2».
(Не знаю, формулировал ли Ким это представление от имени Дэвидсона,
или от своего собственного.) Это представление находит свои корни у
Аристотеля, Канта и Витгенштейна. Мне бы хотелось разработать это
основное возражение подробнее.
Согласно элиминативизму, точные психологические понятия
необходимы в передовой нейронауке, чтобы объяснять и предсказывать, как и
почему люди действуют так, а не иначе. Поскольку люди обдумывают и
взвешивают возможные варианты, нейронаука должна объяснять и
предсказывать и это тоже. Но понятий, которые при этом понадобятся, может
оказаться недостаточно для выполнения рассуждений, которые были так
хорошо объяснены. Например, для акта рассуждения необходимы
понятия единства рассуждающего субъекта и свободы в ситуации выбора между
вариантами, т.е. такие понятия, которые в сущности не являются
нужными и полезными ни для объяснения ситуации со стороны, ни для
предсказания развития ситуации изнутри. Например, вполне адекватное мнение
третьего лица может оказаться непригодным с точки зрения первого лица.
1 См.: Churchland P.S. Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind/
Brain. Cambridge, MA : MIT Press, 1986. P. 395-400; Churchland P.V. Matter and
Consciousness, Cambridge, MA : MIT Press, 1988. P. 43-49.
2 Kim J. " Psycho-Physical Laws" in Actions and Events: Perspectives on the Philosophy
of Donald Davidson ; eds. E. LaPore, B. McLaughlin. Oxford : Blackwell, 1985.
Дж. Клагге • Элиминативизм и сознание
367
Складывается ощущение, что элиминативист зависит от следующего
стандарта: процесс рассуждения (например, в рамках народной
психологии), включающий ряд понятий (таких, как убеждение, желание и
намерение), истинен, только если множество понятий, необходимых для
участия в этом процессе, является подмножеством (хотя не обязательно
истинным подмножеством) множества понятий, необходимых для
объяснения этого процесса. Я добился бы наилучшего эффекта, придумав
аналогию, для которой этот стандарт очевидно бы не работал. К
сожалению, так как «участие», присущее только разумным существам, редкое
явление в природе, рассматриваемый процесс может стать уникальным.
Тем не менее описанный стандарт кажется неправдоподобным.
Неясно, почему участие должно быть подчинено объяснению. Этот
стандарт, по-видимому, нарушает понимание науки, которое становится в
этом случае неприемлемым: ученый, как изолированный наблюдатель,
стоит полностью вне системы, которую изучает. Хотя фактически
ученый - самостоятельное мыслящее существо. Ученые должны
продумывать организацию экспериментов и выбор между альтернативными
гипотезами. В применении так называемых научных стандартов к различным
практикам нельзя игнорировать практику самой науки.
Есть еще одна странность в мнении элиминативистов о том, что
понятия должны рассматриваться исключительно с точки зрения их
пригодности к составлению успешных объяснений: в большинстве случаев
научного теоретизирования мы полагаем, что его объекты существуют в
основном независимо от теоретизирования о них. Объясняемое само по
себе является данностью. Но это совершенно неверно в отношении
человеческого поведения, если применять элиминативистский стандарт для
оценки понятий. Предполагается, что процесс приближения к
пониманию человеческого поведения через нейронауку дает начало новым
формам самопонимания, которые, вероятно, сами в свою очередь повлияют
на человеческое поведение. Следовательно, если элиминативисты правы,
процесс теоретизирования о каком-либо явлении приведет к изменениям
последнего. Вряд ли это можно назвать стандартным случаем научного
прогресса. Это напоминает весьма проблематичный факт из квантовой
механики, где самый акт извлечения информации о системе с
необходимостью приводит к изменению в системе из-за неуклюжести методов
сбора информации в сравнении с тонкостью исследуемой системы.
На мой взгляд, теперь у нас есть возможность видеть, почему при
попытках оценить определенные понятия, такие как наши
народно-психологические Я-концепции, мы, возможно, не желаем ограничиваться
лишь точным предсказанием и объяснением явлений, охваченных этими
понятиями, т.е. явлений человеческого поведения.
Если нас интересует оценка наших Я-концепций, есть масса
вопросов, которые мы могли бы задать в дополнение к следующему вопросу
368
Приложение
элиминати вистов: какие из Я-концепций больше других способствуют
точному предсказанию и объяснению поведения? Мы могли бы также
спросить, например, какие из Я-концепций больше других
способствуют: творческому потенциалу; оптимизму и энергичной деятельности;
пониманию друг друга; плодотворному сотрудничеству; единству целей?
Задавая такие вопросы, мы приходим к пониманию того, что наши
Я-концепции могут быть привязаны, находиться под влиянием и
оказывать влияние на многие вещи в дополнение к их вертикальным
отношениям с нашим мозгом. Существует множество видов горизонтальных
отношений к социальной деятельности вообще.
Некоторые примеры значимости этих горизонтальных отношений
можно увидеть в истории и антропологии. Элиминативисты столь
озабочены акцентированием инертного характера нашей народной
психологии, что не замечают аспекты, в которых народная психология очевидно
изменилась. Возможно, существует больше примеров, лучше
иллюстрирующих сказанное, но я сосредоточусь на том, с которым я наиболее
знаком, - на народной психологии поэм Гомера. Артур Адкинс проделал
интереснейшую и впечатляющую работу по сравнению психологии Гомера
с нашей нынешней. В заключение своего исследования он пишет:
«Язык, используемый в поэмах Гомера..., предполагает, что человек
Гомера имеет чрезвычайно фрагментированный психологический и
физиологический опыт. Такие слова, как thumos [дух|, kradie и etor [сердце],
намного сильнее бросаются в глаза, чем индивидуальность в целом, и
обладают значительной степенью автономии. Точно так же очень редко
упоминается тело целиком, чаще - упоминаются его части; и о них может
говориться как об инициаторах действия в той же мере, как о thumos и о
подобных психологических явлениях. (Действительно, различие между
психологическими и физиологическими явлениями несущественно в
поэмах Гомера...) К тому же "спектральный баланс" часто присутствует как
психологическая модель перехода от мысли к действию: грек Гомера
говорит: "мне показалось более правильным... ", а не "я решил... ". Кроме
того, боги часто изображаются инициирующими человеческое действие,
"закладывающими в человека" импульс (или идею), что опять же
предполагает, что человек Гомера полностью осознавал элемент спонтанности в
своем психологическом опыте; к тому же он очень эмоционален и
разграничивает свои эмоциональные реакции в незнакомой нам манере.
Фактически можно было бы сказать, что человек Гомера ощущает себя не как
единство, а как множество с нечеткими границами»1.
1 Adkins A. W.H. From the Many to the One: A Study of Personality and Views of
Human Nature in the Context of Ancient Greek Society, Values, and Beliefs. Ithaca,
N.Y. : Cornell University Press, 1970.
Дж. Клагге • Элиминативизм и сознание
369
Вообще описанная Адкинсом психология персонажей Гомера
содержит элементы, которые, судя по всему, были заново открыты путем
переосмысливания наших Я-концепций в нейропсихологии — соединение
психологического и физиологического и фрагментация нашего
воображаемого психологического единства. Совпадение ли это?
Было бы интересно узнать, почему у людей Гомера было именно
такое самопонимание и почему у нас оно отличается. Ясно, что на эти
вопросы нет ответа. Но есть одно предположение: первоначально
самопонимание возникает из чистой нейрофизиологии, но возрастающее
влияние и усложнение общества приводят к его постепенным
трансформациям. Предположение самого Адкинса о том, почему мы отличаемся от
«гомеровцев», связано с различиями в природе общества. Гомеровцы
(опять же в пределах классической Греции) жили в мелкомасштабном
обществе, в котором нестабильность и личные трудности выглядели
пугающими. Психология Гомера хорошо ложилась на ту ситуацию. С упадком
полисов и господством этнического государства в эллинистический
период гомеровская психология устарела и благодаря влиянию стоицизма
постепенно была вытеснена чем-то вроде нашей Я-концепции.
Верное или нет, но здесь предложено объяснение, каким образом
социальные факторы могут оказаться значимыми для формирования
самопонимания. Действительно, как можно с этим спорить?
Психологические понятия можно оценивать с точки зрения того, насколько хорошо
они помогают людям жить плодотворной и счастливой жизнью при тех
социальных обстоятельствах, в которых они находятся. Так выглядел бы
характерный марксистский анализ: психологическая Я-концепция -
всего лишь элемент идеологической надстройки эры, побочное явление
экономического способа производства. Такой взгляд может показаться
чересчур консервативным относительно существующих социальных
структур. Возможно, Я-концепции должны оказывать влияние на
социальное развитие, а не просто быть зависимой переменной. Но элимина-
тивисты, кажется, впадают в другую крайность, полагая, что
Я-концепции могут быть полностью независимы от социальных структур
переменной.
Марксисты посчитали бы это либеральной иллюзией. Я лишь
предполагаю, что эти явления не могут быть полностью независимы.
Теперь к антропологии. В процессе создания своего знаменитого
«Дела против верования» Стивен Стич ' несколько раз обращается к
работе антрополога Родни Нидхэма2. В книге «Верование, язык и опыт» Нид-
1 См.: Stich S. From Folk Psychology to Cognitive Science: The Case Against Belief.
Cambridge, MA : MIT Press, 1983.
2 Needhamn R. Belief, Language and Experience. Chicago : University of Chicago
Press, 1972.
370
Приложение
хэм утверждает, что понятие «верование» (belief) в английском языке — не
изначальная категория, оно не должно иметь аналогов во многих других
языках. Или, возможно, более правильным было бы сказать, что
членение психологического опыта во многих других языках не точно совпадает
с понятием верования в английском. О чем это говорит? Отбросив
шовинизм относительно английского языка, мы увидим, что нет ничего
священного в нашем понятии «верование» и в народной психологии,
созданной вокруг него. Но это, конечно, не показывает и даже отдаленно не
предполагает, что народная психология может меняться под влиянием
нейронауки.
Далее Нидхэм утверждает, что понятие намерения (intention) -
универсальное понятие (с точки зрения Стича, это весьма странно). Кроме
того, Нидхэм подчеркивает важность понимания
социально-контекстного фона в создании психологических аскрипций для любого понятия,
схожего с понятием верования. Эта чувствительность к контексту
абсолютно чужда подходу элиминативистов к созданию схемы
самопонимания. Наконец, в решающий момент того, как научная психология влияет
на функцию рассуждения народной психологии, важно понимать, что
даже если в других языках нет точного аналога понятия верования, в них все
же есть сеть понятий, так или иначе обеспечивающих возможность
рассуждения (если только рассматриваемые языки и культуры не так далеки от
нас, как гомеровские греки).
Мы снова приходим к вопросу о том, почему народные психологии в
других культурах не похожи на нашу. Хотя этот вопрос может иметь много
ответов, и ни один не будет окончательным, все они должны будут
признать значимость вариативности социальных и физических
обстоятельств. Еще одно напоминание о важности других видов отношений
помимо вертикальных отношений к нейронауке.
Возможно, элиминативисты и не стремятся отрицать эти другие виды
отношений, а просто утверждают, что они не должны учитываться как
независимые факторы при оценке концепций: без сомнения, наши Я-кон-
цепции формируются под влиянием всех видов факторов, но они должны
формироваться только в соответствии с целями науки. Но почему у целей
науки должен быть такой приоритет в жизни? Почему только они должны
оказывать влияние на наши Я-концепции? В широком социальном
контексте я не вижу ни одного выдерживающего критику ответа на этот
вопрос. Предполагаемые аналогии с оценкой народной физики, народной
медицины и народной химии здесь не уместны именно потому, что никто
никогда не сомневался, что эти явления были изначально научными.
Но, возможно, элиминативист может привести более
узкофилософскую причину того, чтобы в свете науки ставить основным критерием
оценки ее успешность. Даже если понятия народной психологии имеют
целью в равной степени и рассуждение и объяснение, эти два типа целей
Дж. Клагге • Элиминативизм и сознание
371
тесно связаны. Рассуждение интересно нам в том случае, если оно
объясняет действие, и оно справится с этим, только если спровоцирует
действие. Таким образом, какое бы мнение о психологии мы ни высказали, оно
должно быть таким, чтобы войти в причинную схему, которую мы
понимаем под наукой. Итак, наука и есть подходящий стандарт для оценки
психологических понятий.
Тема ментальной каузальности, получившая широкое обсуждение,
вызвала много ответов элиминативистам. Я хочу предложить еще один.
Понятие каузальности не высечено в камне, как и другие понятия, о чем
нам впервые напомнили элиминативисты. Будет ли оно и дальше
основной проблемой для людей или расширится настолько, что сможет
поглотить сознание, - на эти вопросы мы сейчас ответить не можем.
Соответственно мы сами не можем создать необходимость встраивать
психологические понятия в причинную схему, что, как теперь понятно, является
единственным критерием для оценки таких понятий.
С проблемой каузальности может быть связан вопрос о реализме.
Возможно, расчетливое научное отношение - единственный способ
обеспечить реализм в отношении сознания. Вопрос о том, сможет ли
такой реализм после реформ элиминативистов быть с уверенностью назван
реализмом сознания, остается открытым для серьезного обсуждения. Но в
любом случае не ясно, почему сохранение реализма должно быть важным
мотивом. Почему аскриптивизм столь трудно принять? Почему наши
Я-концепции должны быть продуктом суровой реальности? Почему мы
не можем видеть их в качестве социальных конструкций, которыми они с
такой очевидностью являются? В лучшем случае вопросы, поднятые
реализмом, и проблема ментальной каузальности должны быть одними из
многих факторов, учитываемых при оценке психологических понятий.
Я думаю, что основное допущение элиминативистов при
рассмотрении Я-концепций заключается в том, что наука - это некое свободное от
ценностей явление, которое может одобрять или критиковать понятия,
не связывая себя с какими-либо конкретными ценностями. Но все мы
знаем, что это не так. Ценность научного прогресса и его результатов —
это лишь одна из целого ряда ценностей, и изменения человеческих
Я-концепций не слишком хорошо видны в этой чрезвычайно узкой
перспективе.
Последняя проблема, которую бы мне хотелось рассмотреть, не
является характерной для элиминативизма, но очень существенна для многих
попыток оценки и преобразования наших понятий и методов. Я назову ее
проблемой преждевременного теоретизирования. Эта проблема
характерна для элиминативизма, марксизма и некоторых религий: что мы
должны сейчас сделать из того, что, предположительно, появится позже?
В частности, есть ли у будущего своего рода нормативное влияние на
настоящее?
372
Приложение
Многие скорее всего согласятся, что когда-нибудь в будущем понятия
нейронауки о самопонимании смогут заменить понятия народной
психологии. Давайте даже предположим ради дискуссии, что с учетом всех
обстоятельств это будет положительным событием. Но это не означает, что
понятия, которые мы имеем сейчас, не подходят для настоящего времени,
и также не означает, что было бы лучше попытаться изменить их сейчас.
Действительно, не ясно, что значит пытаться изменить какие-либо
понятия. Кто такие «мы», которые станут это делать, и что вообще означает
«пытаться»? Не является ли изменение понятий случайным результатом
других событий, а не преднамеренным действием? Даже в пределах науки
научные революции не совершаются по чьей-то воле, скорее они — результат
многих преобразований на уровне отдельных людей и целых институтов,
которые множатся разнообразными социальными силами в пределах
научного сообщества. Будущее изменение понятий может стать темой для
приятной беседы за коктейлем или для научной фантастики, но это всего
лишь идея для вербовщиков, а их компанию никто не любит.
Параллельный спор существует в марксизме о человеке в истории.
Ортодоксальный исторический детерминизм считает, что
коммунистическая революция и следующее за ней преобразование человеческой
природы и Я-концепций произойдут тогда и только тогда, когда сложатся
надлежащие экономические условия. Прямое революционное действие
является или бесполезным, или ненужным. Ревизионистский марксизм
утверждает, что революционная деятельность будет полезна, когда
созреют экономические условия, потому что революционное преобразование
не является прямым следствием этих условий.
Если элиминативисты походят на ортодоксальных марксистов, то им
лучше закрыть тему народной психологии и продолжать исследования
мозга. Если они походят на ревизионистов, то они должны рассмотреть,
что за факторы препятствуют их революции, как требую я, и определить
цену, которую придется заплатить за пренебрежение этими факторами.
(Марксисты в этом с позором провалились.)
Фактически энтузиасты науки часто переоценивали потенциальное
влияние науки на обычные способы мышления. Когда элиминативисты
приводят в пример флогистон и теплород, важно понимать, что они
никогда не были понятиями какого-либо вида народного мышления. Это
были понятия ученых, которые в конечном счете отказались от них в
пользу других понятий. Никто не сомневается, что психологи могут
изменить свой способ мышления о людях. Вопрос в том, могли ли сами люди
самостоятельно менять свои способы мышления о вещах, и если да, то по
каким соображениям. Уроки прошлого относительно этой проблемы
рождают меньший энтузиазм. Понятия нашего здравого смысла о
пространстве, времени и объеме нисколько не изменились, несмотря на то что эти
понятия, по мнению здравого смысла, не играют никакой роли в физике.
Дж. Клагге • Элиминативизм и сознание
373
Более интересный и сложный пример проблемы такого рода —
отношения между наукой и религией. С ростом науки и ее развивающейся
способности объяснять все явления, было бы естественно предположить,
что это приведет к крушению религии (по крайней мере, в пределах
научно продвинутых обществ). Но этого не произошло. У религии, конечно,
нет того преимущества, которое она когда-то имела, но тем не менее она
продолжает быть жизненной силой в обществе. Некоторые видят науку и
религию в фундаментальном конфликте друг с другом - это точка зрения
в основном атеистических ученых и религиозных фундаменталистов. Но
другие не видят в этих двух мировоззрениях несовместимости, среди
таких людей много религиозных ученых и осведомленных в науке
верующих. В то же время как религия лишилась господствующего положения,
она, без сомнения, подверглась коренным изменениям. Например,
некоторые ее конфессии отказались от своих претензий на объяснение
космологии. Кто-то скажет, что она из-за этого перестала быть религией. Но тот
факт, что многие люди продолжают называть себя религиозными,
несмотря на отказ от этих объяснительных претензий, кажется, говорит
против такой интерпретации.
Народная психология вполне может развиваться потому же пути,
отказываясь от одних объяснительных претензий, сохраняя другие и
сохраняя также другие функции. Бессмысленно пытаться гадать на кофейной
гуще. Маркс был вообще весьма сдержан в обсуждении будущего
коммунистического общества, оставляя его характер в значительной степени
неописанным. Обычно ему было достаточно думать о нем как о любого
рода общественном строе, выросшем из коммунальной собственности
средств производства. Можно только пожелать элиминативистам такого
же здравого смысла.
Перевод с английского М.В. Рубец
Р. Рорти
Мозг как компьютер, культура
как программа
В течение последних 50 лет или около того длится борьба между
наследниками карнаповского движения к «единой науке» и
последователями позднего Витгенштейна. В наше время различия между философами
этих двух типов можно лучше всего понять, сравнив их позиции
относительно когнитивной науки.
Согласно последователям Карнапа, причина общепризнанной
невозможности бихевиористского редукционизма, достичь которого
когда-то надеялся Карнап, заключается в проблеме, связанной с местом
интенциональности в мире физических частиц. Однако многие из них
считают, что эта проблема была в конечном счете разрешена в
нередукционистском ключе благодаря «вычислительной революции». Эта
революция, говорит Джерри Фодор, стала возможной, поскольку
«компьютеры показали нам, как соединить семантику с причинно-следственными
свойствами символов»1. Благодаря аналогии с компьютерами мы поняли,
что символы могут рассматриваться как воплощения состояний
нейронов и таким образом оказывать причинно-следственное воздействие. Для
Фодора данная революция является великим интеллектуальным
прорывом, дающим нам недоступную ранее возможность проникнуть в суть
работы сознания.
Скептически настроенных относительно этой революции
философов сознания и языка, таких, как Дэвидсон, Брэндом и Декомб, не
тревожит нередуктивный характер интенциональности. Вслед за
Витгенштейном они считают, что несводимость одного словаря к другому
представляет не больше проблем, чем незаменимость одного рабочего
инструмента другим. Они также не рассматривают сознание как
механизм, функционирование которого может быть изучено учеными-когни-
тивистами. Они соглашаются с тем, что таким механизмом является мозг,
однако считают, что бесполезно отождествлять мозг и сознание.
Эти неовитгенштейнианцы призывают нас отказаться от того, что
Райл назвал «парамеханической гипотезой Декарта», и не
перетолковывать ее в физикалистских терминах, рассматривая состояния мозга как
репрезентации. Последователи Витгенштейна хотят вообще избавиться
от самой идеи подобных репрезентаций и механизмов, порождающих эти
представления. Если неокарнапианцы рассматривают сознание и язык
1 FodorJ. Psychosemantics. Cambridge, Mass., 1989. P. 18.
P. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа
375
как вещи, которые можно понять, взяв их по отдельности и посмотрев,
каким образом их части сопряжены друг с другом и с характерными
чертами окружающей среды, в которой находится организм, то для неовит-
генштейнианцев сознание и язык являются социальными навыками.
Например, Дэвидсон говорит, что хотя теория значения и должна описывать
то, что способен сделать переводчик, это еще не значит, что
«определенный механизм в переводчике должен соответствовать теории»1.
Комментируя данное заявление, Хомский утверждает, что «для
любого человека, рассматривающего эти проблемы с позиции естественных
наук», подход Дэвидсона «абсолютно ложно направлен»2. Он указывает
на то, что подобного рода скептицизм относительно существования
основополагающих механизмов препятствовал бы развитию химии.
Подобно тому как Дальтон и Менделеев дали нам возможность усмотреть между
атомами механические взаимодействия, лежащие в основе способности
элементов образовывать соединения, когнитивная наука позволит нам
увидеть механические взаимодействия между нервными клетками,
лежащие в основе применения социальных навыков. Для Хомского такие
философы, как Куайн, Дэвидсон и Даммет, похожи на короля Канута3, ибо
они пытаются сдержать нарастающую волну установленных
эмпирических результатов. Он утверждает, что к этим результатам относится
открытие того, что «исходное состояние способности к использованию
языка объединяет в себе определенные общие принципы языковой
структуры, включая принципы фонетики и семантики»4. Хомский,
опубликовав примерно 25 лет назад «Картезианскую лингвистику»,
неоднозначно продемонстрировал свою неприязнь к витгенштейновскому
антикартезианству и, в частности, к мысли о том, что мы можем
удовлетвориться восприятием языка просто как навыка, которому можно обучить,
а не как генеративной процедуры5. Если Райл считал «декартовским
мифом» то, что изучение, как он говорил, «свойств интеллекта и характера»
является изучением механизмов, то Хомский полагает, что Декарт и
Локк указали нам верное направление. В том, что проведенные ими
аналогии между физическими и ментальными атомами направляют
философию правильным курсом, Хомский уверен ровно настолько, насколь-
1 Davidson D. A Nice Derangement of Epitaphs // Truth and Interpretation:
Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson ; ed. E. Lepore. Blackwell, 1986.
P. 438.
2 Chomsky N. New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge, 2000.
P. 56.
3 Канут (995-1035) - король Дании и Англии. Существует легенда, согласно
которой во время наводнения Канут заставил отступить волны Темзы. - Прим.
перев.
4 Chomsky N. Op. cit. P. 60.
5 Ibid. P. 50.
376
Приложение
ко Куайн был уверен в обратном. Хомский способствовал углублению и
расширению черты, разделяющей философов, согласных с Райлом и
Витгенштейном в том, что идея «идея» [idea «idea»] исчерпала свою
полезность, и философов, не согласных с ними.
Хомский язвительно реагирует на утверждение Дэвидсона о том, что
«Куайн спас философию языка в качестве серьезного предмета»,
устранив различие аналитического и синтетического. Это различие, пишет
Хомский, допускается «практически всеми, кто работает в сфере
дескриптивной семантики». Он пишет: «Будет очень сложно отыскать
исследования в области языка, в которых не устанавливаются структуры и не
описываются значения слов "убивать", "поэтому" и т.д., чтобы сам язык
определял сохранение качественного различия между предложениями
"Джон убил Билла, поэтому Билл мертв" и "Джон убил Билла, поэтому
Джон мертв"»1.
Хомский считает, что нам нужно различие между тем, что
«определяется самим языком», и тем, что им не определяется, для того чтобы
объяснить такие феномены выучивания языка, как «знание каждым ребенком
существенного различия между фразами "с кем Джон видел Билла?" [who
did John see Bill with?] и "и кем Джон видел Билла?" [who did John see Bill
and?]». Хомский пишет, что «дети... не говорят "и кем Джон видел
Билла?", чтобы потом узнать от своих родителей, что так говорить нельзя»,
поэтому единственным возможным объяснением является врожденная
структура языковой способности2.
Аргументация Хомского в данном случае основывается на
допущении, что отсутствие определенного поведения требует объяснения так же,
как и его присутствие. Но это все равно что требовать объяснения того,
почему ребенок не продолжает последовательность «2,4,6,8» после того,
как достиг трехзначных цифр «104, 108, 112», и почему не нужно
наставление или исправление родителей для того, чтобы он дальше не сбился.
Объяснением Хомского будет, вероятно, утверждение, что работает
врожденный механизм. Для таких философов, как Дэвидсон, данный подход
подобен объяснению причины сонливости через «усыпляющую силу».
Расхождение между Дэвидсоном и Хомским по этим вопросам
проявляется наилучшим образом в критике Хомским попытки Дэвидсона
«стереть границу между знанием языка и знанием правильного
поведения в мире вообще». Это стирание не послужит основой эмпирическому
исследованию языка, поскольку оно, по словам Хомского, превратит
теорию выучивания языка в «теорию всего». В продолжение он говорит, что
«верным выводом будет не отказ от понятий языка, которые можно
плодотворно изучать (таких, как его собственное понятие "внутренней ре-
1 Chomsky N. Op. cit. P. 47.
2 Ibid. P. 56.
P. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа
377
презентации генеративной процедуры"»1), а то, что тема успешной
коммуникации в реальном мире опыта является слишком сложной и
неясной, чтобы заслуживать внимания при эмпирическом исследовании2.
Хомский считает, что удовлетворяющее Дэвидсона объяснение в
духе здравого смысла того, как дети выучивают язык, не подходит для
научных целей, поскольку «референция относительно "неправильного
использования языка" относительно "норм", "обществ" и т.д....
требует гораздо большей осторожности, чем ей уделяется. Эти понятия
являются неясными, и непонятно, могут ли они вообще использоваться
при исследовании языка и человеческого поведения»3. В пассажах,
подобных этому, Хомский проявляет себя как истинный последователь
Карнапа. Карнап бы тоже нашел понятие «нормы» неясным и
неподходящим для целей научного исследования. Однако для витгенштейниан-
цев прояснить понятие значит узнать, как используется
лингвистическое выражение. Для них использовать понятие «интериоризации
социальных норм» не более проблематично, чем использование понятия
«внутреннего представления генеративной процедуры», а пожалуй,
даже и менее проблематично.
С точки зрения витгенштейнианцев, подход Хомского и его коллег,
представителей когнитивной науки, схож с подходом человека,
ищущего потерянные ключи под фонарным столбом не потому, что он их
там обронил, а поскольку там лучше видно. То, что Хомский называет
«позицией естественных наук», является просто привычкой искать
микромеханизмы в основе макроскопического поведения. Для
витгенштейнианцев утверждение о том, что принятие этой позиции всегда
окупается, является карнапианским догматизмом.
В качестве примера рассмотрим утверждение Хомского о том, что
существует «неизменная биологически детерминированная функция,
которая однородно для всех языков отображает доступные свидетельства в
форме полученного знания»4. Это утверждение довольно сложно
рассматривать как эмпирический результат, поскольку трудно представить,
что могло бы его опровергнуть [disconfirm]. Бесспорно, что организмы,
могущие выучить язык, обладают этой способностью, поскольку они
отличаются от других организмов расположением нейронов [neural layouts].
Уточним, что эти расположения являются биологически
детерминированными. Но в каком смысле детерминированной может быть функция?
Говорить, что механизм реализует функцию, значит утверждать, что
его поведение может быть успешно описано в терминах конкретного и
1 Ibid. Р. 69.
2 Ibid. Р. 70.
3 Ibid. Р. 72.
4 Ibid. Р. 53.
378
Приложение
доступного для точного определения отношения между входными и
выходными данными. Никто не может установить подобное отношение
между входными данными, предлагаемыми взрослыми, которые обучают
языку, и выходными данными, предлагаемыми изучающим язык
ребенком, поскольку они являются слишком разными. Нечто подобное было
бы похоже на попутку установить отношение между тем, что происходит
во время обучения езде на велосипеде, и действиями профессионального
велосипедиста.
Хомский, однако, говорит нам, что существует функция, которая
вместо того чтобы отображать [map onto] входные данные на выходные
данные, отображает [map into] входные данные в нечто, называемое
«полученным знанием». Разумеется, велосипедист тоже приобрел некоторое
знание. Можем ли мы сказать, что он обрел его благодаря некой
биологически детерминированной функции, которая отображает события его
ранних, пробных, неудачных поездок на ряд внутренних представлений,
обладание которыми является необходимым условием для нового,
обретенного им умения? Мы могли бы так сказать, однако что в таком случае
подтверждало бы существование промежуточной сущности между
событиями обучения и действиями, делающими поездки на велосипеде
успешными?
Подобные соображения привели Витгенштейна в конце
«Философских исследований» и Райла в конце «Понятия сознания» к
сомнениям относительно психологии как дисциплины. Оба философа
сомневались в оправданности постулирования промежуточных
«психологически действительных состояний» между наблюдаемым
поведением и микрорасположениями нейронов, а также в способности
предсказывать и контролировать, которую мы получим от постулирования
не поддающихся наблюдению физических частиц. Витгенштейн
говорил, что позиция, согласно которой «психология имеет дело с
процессами в психической сфере так же, как физика в физической», является
«вводящей в заблуждение параллелью»1 и что «беспорядочность и
непродуктивность психологии не следует объяснять, называя ее
"молодой наукой"»2. У современных витгенштейнианцев схожие чувства
вызывает современная когнитивная наука.
Одно дело говорить, что лингвистика Хомского и другие
академические специальности, рассматривающие себя в качестве частей
«когнитивной науки», являются уважаемыми дисциплинами, ареной, в рамках
которой умные люди ведут друг с другом оживленные дискуссии. Совсем
другое дело говорить, что эти дисциплины как-то поспособствовали
нашему знанию. Многие из столь же уважаемых дисциплин процветали и
1 Wittgenstein L. Philosophical Investigations. I. Sec. 571.
2 Ibid. Sec. 232.
P. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа
379
увяли, не оставив после себя подобного следа. Аристотелизм XV в., герме-
тизм XVII в., логический эмпиризм XX в. — известные тому примеры.
Витгенштейнианцы считают, что вопрос о том, войдет ли
когнитивная наука в историю как успешная попытка направить
естественно-научные методы на изучение сознания и языка или же как очередная
попытка поставить философию на надежные рельсы науки, которая в
конечном итоге потерпела крах, как и все предшествующие ей попытки
подобного рода, остается открытым. Они подозревают, что когнитивная
наука никогда не сможет освободиться от философии так, как это
сделала химия, продемонстрировав способность порождать новые
технологии. Если для представителей когнитивной науки витгенштейнианцы
являются бихевиористами-догматиками, то витгенштейнианцы
критикуют сторонников Хомского с тех же позиций, с которых Бэкон
критиковал позднюю схоластику. Они рассматривают Хомского и Фодора так
же, как Бэкон рассматривал Оккама и Скотта: все их красивые теории и
изысканные доводы не могут быть соотнесены с практикой. Они строят
механизмы в воздухе.
Композиционалыюсть: Фодор против Брэндома. Фодор пытается
вырваться из тупика, утверждая, что если витгенштейнианцы претендуют на
нечто большее, чем высказывание квазибихевиористских предрассудков,
то им необходимо представить их собственную теорию относительно
того, как работает язык. Все, что они могут предложить, считает Фодор, это
«семантический холизм», т.е. доктрина, согласно которой «значение
выражения конституируется всеми выводимыми из него отношениями и,
следовательно, всей ролью данного выражения в языке»1.
Эта доктрина скрыто выдвигается Дэвидсоном и открыто Брэндо-
мом. Поскольку изучение роли выражений в языках является изучением
того, что Хомский называет «успешной коммуникацией в
действительном мире опыта», и поскольку холисты не могут с легкостью различить
знание языка и знание правильного поведения в мире вообще, данное
изучение с неизбежностью становится тем, что он небрежно называет
«теорией всего». Так что семантика не может быть дисциплиной,
сравнимой с химией, и, по-видимому, не может быть дисциплиной вообще.
Именно поэтому Дэвидсон и Брэндом не предлагают молодым уче-
ным-когнитивистам каких-либо исследовательских программ, и именно
поэтому, с точки зрения Хомского, они являются
луддитами-обструкционистами. По этой же самой причине Брэндом не видит смысла в
сохранении старого карнаповского различия между семантикой и
прагматикой2.
1 FodorJ. Why Meaning (Probably) Isn't Conceptual Role // Mental representations,
ed. P.S. Stephen, T.A. Warfield. Oxford : Blackwell, 1994. P. 153.
2 См.: Brandom R. Making It Explicit. Boston, 1994. P. 592.
380
Приложение
Фодор считает, что семантическим холистам можно дать ответ,
который позволит сторонникам Хомского сохранить влияние в своей сфере.
Этот ответ заключается в том, что язык является композициональным:
«Значение синтаксически сложных выражений является функцией их
синтаксической структуры вместе со значением их синтаксических кон-
ституент»1. Поскольку «значения являются композициональными, а
выводимые роли не являются композициональными, то значения не могут
быть выводимыми ролями»2. Фодор говорит об этом следующим
образом: «Значение фразы "коричневая корова" ... зависит от значений
терминов "коричневая" и "корова" и от их синтаксиса... Однако здесь
выводимая роль коричневой коровы prima facie зависит не только от
выводимой роли термина "коричневая" и выводимой роли термина
"корова", но и от того, что вы полагаете относительно коричневых
коров. Таким образом, в отличие от значения выводимая роль в общем не
является композициональной3».
На данном этапе спора витгенштейнианцы скажут, что если бы
существовали такие вещи, как значения, то языки действительно были бы
композициональными, однако Куайн и Дэвидсон достаточно
убедительно показали, что таких вещей нет. Витгенштейнианцы считают, что нет
нужды вводить отношения между ментальными или лингвистическими
атомами, называемыми «значениями», «понятиями» или
«представлениями», для того, чтобы объяснить социальные навыки, присущие
осваивающим язык организмам. Считать, что в потоке речи можно
обнаружить такую характерную черту, как «одинаковость значения», значит
настаивать на докуайновском различии между языком и фактом, которое
служит лишь для того, чтобы ученые-когнитивсты не потеряли работу.
Фодор описывает витгенштейнианскую аргументацию как «хорошо
протоптанный и скользкий склон: спустившись по нему до конца,
человек обнаруживает, что соглашается с такими prima facie нелепыми
доктринами, как то, что два человека не могут иметь общего убеждения; что
не существует такого отношения, как перевод; что два говорящих
человека никогда не имеют в виду одно и то же; что два различных временных
среза одного и того же человека никогда не имеют в виду одно и то же,
когда о чем-то говорят; что никто и никогда не может изменить своего
мнения; что никакие высказывания или убеждения никогда не могут быть
оспорены (не говоря уж о том, чтобы быть опровергнутыми), и т.д. Вопрос о
том, каким образом можно получить нечто ценное из выводимой роли
семантики, не платя такой экстравагантной платы, остается спорным4.
1 Brandom R. Op. cit. P. 146.
2 Ibid. P. 147.
3 Ibid. P. 147-148.
4 См.: Ibid. P. 143.
P. Pojrniu • Мозг как компьютер, культура как программа
381
В ответ на это витгенштейнианцы приводят пример Райла о том, что
мы можем описать двух людей как обладающих одной и той же вещью,
скажем, одинаковым телосложением или одинаковым внешним видом,
при этом не будучи способными точно установить критерий
одинаковости. Райл указывал, что есть обыденный смысл, в котором многие люди
имеют одинаковое телосложение и одинаковый внешний вид, однако
есть и другой, столь же пригодный обыденный смысл, в котором ни у кого
нет ни одинакового телосложения, ни одинакового внешнего вида.
Сходным образом только по причине полезности обыденного смысла фраз
«значит одно и то же» и «убежден в этом же» мы вовсе не должны
отказываться от позиции, которую Декомб с одобрением берет из Сартра: «Когда
я составляю предложение, его значение от меня ускользает, оно у меня
воруется; для всех людей значения изменяются каждый день каждым
новым говорящим человеком; значения самих слов, произносимых мной,
изменяются другими людьми»1. Брэндом вторит этому, когда говорит,
что «слова "собака", "глупый", "республиканец" имеют разную
значимость в моих устах и в ваших, поскольку и в той мере, в какой они могут
быть применимы, последствия их применения для меня отличаются от
последствий для вас в силу отличия моих параллельных убеждений от
ваших»2.
Фодор утверждает, что ахиллесовой пятой витгенштейнианцев
является продуктивность естественных языков, поскольку это свойство может
быть объяснено только через композициональность. Продуктивность он
грубо определяет как способность выражать неограниченный [open-ended]
набор высказываний, т.е. формулировать правильно построенные
цепочки высказываний потенциально бесконечной длины. Однако на это
витгенштейнианцы ответят, что для них языки будут обладать подобной
способностью, если они уже заранее рассматривают их как генеративные
механизмы. Однако языки не будут обладать для них такой способностью,
если они вместе с Дэвидсоном будут отрицать необходимость «переносных
интерпретирующих устройств, настроенных на вытачивание значения из
случайных произнесений». Для тех, кто рассматривает язык как навык,
приведенная Фодором бесконечная продуктивность является такой же
несущественной, как потенциально бесконечное многообразие маневров,
которое может исполнить опытный велосипедист.
1 Descombes V. The Mind's Provisions. Princeton, 2001. P. 247.
2 Brandom R. Op. cit. P. 587; «Одно предложение в устах определенного человека
не имеет обычно [typically] той же значимости, что такое же предложение в устах
другого человека, даже в тех случаях, когда имеет место любая желаемая общность
языка и максимальное взаимопонимание. Основополагающая причина этого
заключается втом, какого рода вещами являются утверждения [claims] и понятия»
(Р. 509). Как я укажу ниже, для Брэндома и Декомба понятия больше похожи на
людей, чем на атомы, втом, что они обладают историей, но не природой.
382
Приложение
«Продуктивность, - пишет Фодор, - является свойством системы,
обладающей бесконечным числом синтаксически и семантически
различных символов»1. Однако с точки зрения витгенштейнианцев именно
ввиду данного обстоятельства можно отрицать то, что люди, владеющие
естественным языком, обладают подобной системой. Если из
разговорного взаимообмена среди различных организмов мы выделим
абстрактную сущность под названием «английский язык», то тогда можно сказать,
как это делает Фодор, что «английский язык содержит неограниченную
последовательность несинонимичных выражений: "средство ракетной
обороны", "средство противоракетной обороны", "средство обороны
против средства противоракетной обороны" и т.д.». Однако это все равно
что говорить, что абстрактная сущность под названием «арифметика»
содержит такую неограниченную последовательность. Абстрактные
сущности могут обладать свойствами, которыми организмы обладать не
могут. В частности, они могут содержать бесконечное число вещей. Такие
навыки, как знание английского или катание на велосипеде, не содержат
ни конечного, ни бесконечного числа вещей.
Определенное бытие [Determinatebeing]. Еще один способ, с помощью
которого Фодор формулирует суть спора между карнапианцами и витген-
штейнианцами, это противопоставление «реалистов относительно
значения», т.е. людей, считающих, что «в связи со значением имеют место
определенные факты, являющиеся объектами, подходящими для
научного исследования», и тех, кто считает, что «значение проистекает из
наших практик по интерпретации, так что теперь существование
единственного правильного ответа на вопрос «что значит "пинокл"?» нужно
ровно настолько, насколько нужно существование такого ответа на
вопрос «что значит Гамлет?». Согласно Фодору, витгенштейнианцы
считают, что «стремление к созданию науки о значении было бы глупым,
подобно стремлению к созданию науки об играх или о вторниках»2.
Фодор осуждает то, что он называет «симпатией к картине типа
Витгенштейна-Гудмена-Куна-Деррида», и молит Бога о том, чтобы «миазмиче-
ская мгла Гарварда не проникла [sic] в район Чарльза3 и в МИТ»4. Под ми-
азмом он понимает «лингвистический идеализм», т.е. взгляд, который он
приписывает таким философам, «как Рорти, Патнэм, Кун и Деррида»5.
Философ такого типа считает, что реализм относительно значения так же
бессмыслен, как и реализм относительно телосложения или внешнего вида.
1 FodorJ. The Compositionality Papers. Oxford, 2002. P. 1.
2 FodorJ. A Science of Tuesdays // London Review of Books. 2000. 20 July. P. 22.
3 Чарльз (the Charles) - река близ Массачусетсского технологического
института (МИТ). - Прим. перев.
4 FodorJ. It's All in the Mind // Times Literary Supplement. 2000. 23 June.
5 FodorJ. The Compositionality Papers. P. 22-23.
P. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа
383
Куайн положил начало гарвардской атаке на реализм относительно
значения, утверждая, что убеждения и значения никогда не смогут быть
втиснуты в физикалистское видение мира именно потому, что, согласно
тезису о неопределенности интенционального приписывания,
невозможно определить то, что два человека подразумевают одну и ту же вещь
под одними и теми же словами или что они имеют общее убеждение.
Начав с утверждения о недопустимости сущностей без тождества [no entity
without identity], Куайн пришел к заключению, что убеждениям и
значениям нет места ни в одной картине мира, которая «описывает истинную и
предельную структуру реальности».
Фодор считает, что поскольку убеждения и значения не нуждаются в
таком месте и поскольку Куайн был прав относительно того, что не может
быть сущности без тождества, мы должны быть реалистами относительно
значения. Брэндом, наоборот, не видит нужды ни в том, чтобы настаивать на
существовании единственного верного ответа на вопрос «что значит "пи-
нокл"?», ни в том, чтобы следовать Куайну и выводить из отсутствия такого
ответа утверждение о том, что убеждения и значения некоторым образом
онтологически не равны электронам и нейтронам. Позиция Дэвидсона
относительно языковой [linguistic] компетенции, высказанная в работе
«Удачное смешение эпитафий», отчасти совпадает со взглядами Брэндома о том,
что знать содержание какого-либо утверждения значит быть способным
определить его место в конкретной игре по предоставлению причин и вопро-
шанию относительно причин. Оба философа соглашаются в том, что
социальные навыки, необходимые для разумного общения, вовсе не требуют
применения критерия для одинаковости значения или убеждения.
Трехсторонняя диалектическая дискуссия между Фодором, Куайном
и витгенштейнианцами может быть резюмирована утверждением о том,
что Фодор и Куайн согласны в том, что существуют только те существа
[beings], для которых есть независимые от контекста критерии тождества,
тогда как Дэвидсон и Брэндом с этим не согласны. Однако еще более
понятное описание этого расхождения предложено в терминах, которые
использовал Корнелиус Касториадис и несколько позже Винсент Декомб.
Декомб пишет, что Касториадис критиковал «свойственное философам и
всем тем, кого они (зачастую неосознанно) вдохновляют, упорное
заблуждение в том, что все, что существует, существует в определенной,
фиксированной форме. Все, что существует, является четким, определенным
и умопостигаемым. Если вдруг в чем-то проявляется неопределенность,
леность или нечеткость, то считается, что такая вещь
продемонстрировала себя если не в качестве иллюзорной, то по крайней мере в качестве
обладающей более низким статусом»1.
Descombes V. Op. cit. P. 240.
384
Приложение
Согласно Декомбу, проблема Фодора, Куайнаи всех тех, кто
считает, что сущности необходимо тождество, заключается в том, что они
подвержены «иллюзии общей метафизики». Такая метафизика, пишет
Декомб, «охватывает вместе единство и множественность, тождество и
различие, индивида и отношения без рассмотрения какой-либо из этих
сфер в отдельности. Такой метафизике, в частности, приходится
прояснить, как понимаются слова "существо" [being] и "тождество" до
разделения философского исследования на "региональные
онтологии", включая онтологию природы и онтологию сознания... [Но] как
возможно исследовать условия тождества без рассмотрения того типа
вещей, которые предстоит отождествлять?»1
Здесь Декомб указывает на то же, на что и Брэндом. Декомб говорит,
что «понятие "вещь" не должно применяться в процессе перечисления».
Брэндом пишет, что «для возможности счета установление критерия
тождества является не только достаточным, но также и необходимым.
Неклассифицированные "вещи" или "объекты" нельзя посчитать. Нельзя
сказать, сколько вещей находится в данной комнате: есть столько-то
книг, столько-то молекул, столько-то атомов, столько-то субатомарных
частиц... Счет разумен только при отсылке к классифицирующему [sortal]
понятию»2.
Однако из факта, что посчитать можно только то, что
классифицировано, еще не следует, что всем классифицирующим понятиям [sortais]
соответствуют исчисляемые предметы. Декомб указывает: мы не знаем, как
ответить на вопрос о том, сколько представлений изображено на картине
Жерико «Плот Медузы», не потому, что представления более
расплывчаты, чем остальные вещи, а потому что неклассифицированные образы так
же неудовлетворительны, как и неклассифицированные вещи. Поэтому,
чтобы ответить на вопрос «сколько?», пишет Декомб, «следует
перечислить изображенные на картине вещи»3.
Он указывает, что та же проблема встает и в случае с мозгом.
Предположим, человек, убежденный в том, что мозг содержит
репрезентативные состояния, намерен перечислить представления, находящиеся
на зрительной коре головного мозга, прикрепленной к глазу, который
сфокусирован на приближающемся хищнике. Полученное число будет
зависеть от рассмотрения мозга как представляющего цвета, или тона
цветов, или оттенки, или физические объекты средних размеров, или
световые волны, или опасности в окружающей среде, или химические
изменения в сетчатке. Утверждение о том, что мозг — это
вычислительный прибор, еще не содержит указания на то, какие функции он запро-
1 Descombes V. Op. cit. P. 241.
2 Brandom R. Making It Explicit. P. 438.
3 Ibid. P. 241.
P. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа
385
граммирован выполнять с входными и выходными данными.
Количество таких функций равно количеству альтернативных описаний его
окружающей среды или его поведения. Быть реалистом относительно
значения значит утверждать, что одна из этих функций является
правильной. Однако сомнительно, что выбор одного такого описания
можно сделать на основании эмпирического свидетельства. Это
напоминало бы сбор эмпирических свидетельств для того, чтобы решить, что
конкретно обрабатывает сейчас мой ноутбук: нули и единицы, слова или
мысли.
Сточки зрения Декомба—Брэндома, идея Куайнаотом, что значения
обладают второсортным онтологическим статусом, поскольку все
пособия по переводу, число которых может быть сколь угодно большим, в
одинаковой степени справедливы относительно наблюдаемого поведения,
равносильна утверждению, что на самом деле не существует такой вещи,
как зрительное восприятие, поскольку сколь угодно большое число
функций, выполняемых с входными и выходными данными, будут в
одинаковой степени справедливы относительно наблюдаемых соотношений
между событиями на зрительной коре и событиями в окружающей среде.
Стремление вывести онтологическую второсортность из существования
альтернативных описаний присуще тем, кто подвержен, по Декомбу,
«иллюзии общей метафизики».
Таким образом, ответ витгенштейнианцев на куайновскую
доктрину неопределенности перевода заключается в отрицании того, что в
языке есть нечто проблематичное, или, в более общей форме, что есть нечто
проблематичное в интенциональности [the intentional]. По иронии
судьбы Хомский был первым, кто оспорил доктрину Куайна, сказав, что
неопределенность перевода (а также неопределенность интенционально-
го приписывания) ничем особенным не отличается от обычной недооп-
ределенности теории опытом. Такая недоопределенность не более
затруднительна, чем хорошо знакомый факт, заключающийся в том, что
если вам показалось удобным пользоваться двумя различными
словарями для описания одного и того же пространственно-временного
отрезка, то маловероятно, что вы сможете напрямую переходить от
утверждения, сформулированного в терминах одного словаря, к утверждениям,
сформулированным в терминах другого. Ибо если бы подобные
переходы были легкодоступны, то эти два словаря уже давно превратились в
один [collapsed into one another].
Философы, получающие удовольствие от вдыхания испарений
миазмов Витгенштейна-Гудмена-Куна-Деррида, к коим отношусь и я сам,
утверждают, что достаточно хорошо знают, почему «гавагай» переводится
скорее как «кролик», чем как «стадия кролика». Мы уверены, что
причина этому не в изучении двух сущностей под названием «значение» и не в
усмотрении их сходств и различий. Причина заключается в относитель-
386
Приложение
ной легкости обретения социальных навыков, предлагаемых знанием
двух языков. Сходным образом для нас может оказаться полезным иногда
рассматривать организм реагирующим на зрительно представленные
физические объекты средних размеров, иногда на эстетические ценности, а
иногда на световые волны, не заботясь о том, на что он реагирует «в
действительности». Вопрос о «действительном» кажется нам таким же
неуместным [bad], как и вопрос, о чем же в действительности пьеса «Гамлет»,
или же о том, является ли «действительным» предметом книги
«Винни-Пух» жестокое обращение с детьми, или же самопоглощающий
характер литературных артефактов, или же крах позднего капитализма1.
Многообразие функций, выполняемых с входными и выходными данными, с
помощью которых можно описать одно и то же состояние компьютера,
соответствует многообразию контекстов, в которые Фредерик Круз
помещает текст А. А. Милна.
Если ученые-когнитивисты когда-либо достигнут согласия
относительно того, какую функцию выбрать, это произойдет, лишь поскольку
они решат, что данная функция лучше других служит целям их
дисциплины, а именно предсказанию и контролю за поведением людей и
животных. Однако витгенштейнианцы сомневаются, что такое согласие будет
когда-либо достигнуто. Причиной их нерешительности в принятии того,
что Хомский называет «стандартными методами естественных наук», а
также в приписывании семантических свойств состояниям мозга
является их сомнение в том, что подобное принятие полезно для достижения
цели предсказания и контроля. Вопрос лежит в практической сфере, а не в
онтологической или методологической. Прерогатива естественной науки
не утверждается лишь на основании проведения экспериментов и
формулировки гипотез для объяснения их результатов. Это могли делать даже
алхимики. Науке, чтобы являться естественной, необходимо внести
конкретный вклад в то, что Бэкон назвал «улучшением людских дел».
Витгенштейнианцы сомневаются в том, что «фиксированная
биологически заданная функция, отображающая доступные свидетельства
в обретенное знание, одинаковое для всех языков», позволит нам
быстрее выучить больше языков, или объяснить, почему некоторые люди
сталкиваются с трудностями в изучении иностранных языков. В то же
время они вполне готовы предположить, что когда-нибудь педагогика
и терапия будут существенно улучшены вследствие нашей
способности управлять [tweak] нейронами. Ведь витгенштейнианцы такие же
хорошие физикалисты, как и карнапианцы. Они также
придерживаются взгляда, согласно которому невозможно изменить чье-либо
психологическое состояние без изменения где-либо, каким-то образом
состояния мозга. Они сомневаются только в существовании значимого
См.: Crews F. Postmodern Pooh. N.Y., 2001.
P. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа
387
исследовательского уровня, находящегося между народной
психологией и нейрофизиологией [neurology], т.е. в том, что правильное
управление [tweaking] нейронами будет облегчено с открытием
«психологически действительного».
Декомб о местоположении сознания [mind]. Важным вкладом,
сделанным Декомбом в текущую дискуссию, является ее увязка с тем
обстоятельством, что задолго до вычислительной революции философы
расходились в вопросе о том, какого рода вещью является сознание, и
более конкретно в вопросе о том, где оно находится. Декомб пишет, что
их разделяло рассмотрение сознания как находящегося внутри или
снаружи: «Согласно менталистским последователям Декарта, Локка,
Юма и Мэна де Бирана, к которым также относятся феноменологи и
когнитивисты, сознание находится внутри. Согласно философам
объективного сознания и открытого применения знаков, например Пирсу
и Витгенштейну, сознание находится снаружи»1.
Такое противопоставление Декарта, Локка и Юма, с одной стороны,
и Пирса и Витгенштейна — с другой, выделяет еще одно сходство между
Декомбом и Брэндомом. Брэндом рассматривает Витгенштейна как
предшественника своего инференционалистского подхода «социальной
практики» к сознанию и языку, подхода, который он противопоставляет
репрезентационализму Локка и Юма. Брэндом и Декомб более или менее
согласны относительно того, какие философы были хорошими парнями.
Главное различие между стратегиями Декомба и Брэндома
заключается в том, что Декомб делит великих философов на овец и козлищ,
проводя различие между экстерналистами и интерналистами. Он пишет,
что одной из главных задач книги «Оборудование сознания» [The mind's
provisions] будет защита экстернализма, т.е. демонстрация того, что ин-
тернализм (также известный как «классическая философия субъекта»)
ошибочен, поскольку рассматривает мысль как нечто ментальное
внутри черепной коробки, тогда как книжку, находящуюся снаружи, — как
нечто физическое. Книга, как и нация, рассматривается как часть того,
что Гегель назвал объективным духом, и вместе они являются
примерами того, что Пирс назвал «знаком».
Такой подход приводит Декомба в последней главе к заключению о
том, что если когнитивная наука когда-либо и преодолеет стадию
пустозвонства, то она все равно «не будет способна сообщить нам что-либо о
сознании, т.е. о мыслях». Причина этой неспособности, согласно Де-
комбу, заключается в том, что ментальный словарь глубоко укоренен в
истории, иными словами, существуют исторические условия значения.
Слова и мысли субъекта обладают значением, которое должно быть им
приписано в мире этого субъекта и которое не может быть оторвано от
Descombes V. Op. cit. P. 2.
388
Приложение
этого мира... Для знания того, о чем думает субъект, знания
естественного мира недостаточно... Необходим мир культуры с такими
институтами, как календарь, деньги, банки и шахматы»1.
Думаю, что Декомб с таким же успехом мог прояснить свою
позицию, если бы не предлагал нам выбирать между интернализмом и экс-
тернализмом, а вместо этого предложил рассматривать «сознание» как
термин, который использовался как для приписывания чего-то
внутреннего, чем бы ни было это что-то, которым обладает каждый
взрослый человек и что позволяет ему принимать участие в такой
отличительно человеческой деятельности, как игра в шахматы и вложение
денег в банк, и чем-то внешним, а именно совокупностью подобных
действий. Для практических целей эту совокупность можно описать
как «объективный дух», или проще, как «культуру», тогда как называть
ее «сознанием» мне кажется излишне парадоксальным.
Главная мысль Декомба заключается в том, что знание о мозге врядли
поможет нам понять что-либо о культуре и наоборот. Данный тезис
является не только истинным, но и важным. На самом деле весьма
маловероятно, что когда-либо будет достигнуто «единство знания», к которому
стремился Карнап (а сегодня стремится Э.О. Вильсон и другие социобио-
логи). Однако я бы предпочел избежать вопроса Декомба «где находится
сознание?», сказав, что данным термином по ошибке были обозначены
две довольно разные вещи. Одна из них - это жесткая разводка
человеческого мозга, другая — это набор социальных навыков, которые мы
называем культурой. Сознанием в солипсистском, картезианском смысле
нахождения внутри мозга является сам мозг, как, собственно, и утверждают
ученые-когнитивисты. Сознанием в смысле объективного духа, в том
смысле, в каком книги и картины являются ментальными сущностями,
мозг, разумеется, не является. Им является социальный мир, в котором
существуют календари и шахматные доски.
Соломонов подход разделения сознания на две составляющие и
предоставление каждой стороне по одной может показаться слишком
быстрым и вульгарным способом рассмотрения споров, происходящих в
настоящее время в философии сознания и языка. Тем не менее я попытаюсь
проиллюстрировать его преимущества, продемонстрировав, насколько
точно различие между мозгом и культурой соответствует различию между
компьютерным оборудованием и программным обеспечением.
Мозг как компьютерное оборудование, культура как программное
обеспечение. Для иллюстрации значимости данного различия рассмотрим
следующую сказку. В XXIV в. у каждого человека есть компьютер, который
отличается от сегодняшних компьютеров примерно так же, как они отличаются
от вычислительной машины Бэббиджа. Все носят с собой одну и ту же мо-
Descombes V. Op. cit. P. 244.
P. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа
389
дель, точную копию прототипа, появившегося за 200 лет до этого, который
с тех пор производится роботами в гигантских количествах и по бросовой
цене. Если ваш компьютер начинает ломаться, вы его выбрасываете и
берете такой же новый. Поскольку первоначальный производитель был
жадным монополистом, компьютеры устроены так, что если вы попробуете
открыть свой компьютер, то он самоуничтожится, а если попробуете
пробраться в сборочный цех, то роботы вас убьют. Хотя программное
обеспечение с каждым годом становится все лучше и лучше, компьютерное
оборудование остается полностью неизменным. Никто в XXIV в. не знает, как
работают компьютеры и что происходит внутри этих черных ящиков.
Однажды выясняется, что механизм самоуничтожения перестал
работать на последней серии произведенных компьютеров. Люди
начинают разламывать свои компьютеры и разбирать их на части. Они
обнаруживают, что все осуществляется посредством нулей и единиц.
Оказывается, что вся хитрость в том, что команды программы, а также все
данные выражаются в двоичной системе исчисления. Люди приступают
к реконструированию различных уровней языка программирования,
которые были встроены в операционную систему машины. Теперь,
говорят они, загадка работы этого устройства разрешена: мы знаем все, что
можно знать про компьютерное оборудование. Однако в том, окажется
ли эта информация полезной для развития нового программного
обеспечения, необходимо будет еще убедиться.
Аналогия, которую я хочу провести, является очевидной. Культура
относится к программному обеспечению так же, как мозг к
компьютерному оборудованию. Мозг долгое время оставался черным ящиком, но с
помощью нанотехнологии мы, быть может, однажды сможем разобрать
его по частям, по аксонам и сказать: «Ага, вся хитрость в...». Вероятно, это
породит новые педагогические техники и новые виды терапии. Однако
вовсе не очевидно, что это открытие поспособствует достижению
«единства знания». Мы уже знали, что наш мозг может быть запрограммирован
на то, чтобы делать много разных вещей, так же как и пользователи
компьютеров в моей сказке знали это про свои компьютеры. Открытие
микроструктурных подробностей мозга, может быть, даст нам возможность
делать с ним разные веши, которые мы делали раньше, а может быть, и не
даст, подобно тому как большее количество информации об устройстве
компьютерного обеспечения, может быть, упростит производство
программного обеспечения, а может быть, и нет. Однако в любом случае
сложно понять, почему мы станем вдруг рассматривать отношение между
естественными и гуманитарными науками по-новому.
Главной причиной думать, что различие природа-дух останется
таким же важным, каким оно было всегда, является холизм, присущий ин-
тенциональному приписыванию: убеждения нельзя
индивидуализировать так, чтобы они соотносились с положениями нейронов. Убедитель-
390
Приложение
ные аргументы в поддержку данного тезиса помимо прочих были
предложены Дэвидсоном, Артуром Коллинзом, Лин Бейкер и Хелен
Стюарт. Они показали, почему нам не стоит надеяться отобразить
убеждения на положения нейронов, хотя такое отображение может оказаться
возможным, например, для ментальных образов и порывов страсти.
Если нельзя сделать никаких открытий относительно того, как изменения
в убеждениях соотносятся с нейрофизиологическими [neurological]
механизмами, то довольно сложно понять, каким образом изучение того,
что Хомский называет [проблемой] «мозг/сознание», может
каким-либо образом быть связанным с изучением культуры.
Данное утверждение позволяет понять, почему аналогия Хомского с
химией неверна. Дальтон и Менделеев показали нам, каким образом
макроструктура совмещается с микроструктурой. Восторг, порожденный
подобными соотношениями макро- и микроуровней, породил инициативу
Карнапа по достижению «единства науки». Но отношения компьютерное
оборудование-программное обеспечение и мозг-культура не являются
отношениями микро- и макроуровней. Они являются примерами
инструмента и многочисленными видами его применения.
Иногда высказывается мнение, что открытие того, как работает мозг,
будет согласовываться с подходом эволюционной биологии, позволит
нам лучше понять, к каким действиям приспособлен наш мозг, и,
следовательно, лучше понять «природу человека». Однако согласно аналогии
между биологической эволюцией и развитием программного
обеспечения, то, к чему мозг был изначально приспособлен, может не иметь
никакого отношения к тому, для чего он используется в настоящее время. То
обстоятельство, что первые прорывы в программном обеспечении были
осуществлены в сфере разработки систем прицеливания ракет, а также в
сфере поиска и получения информации, не говорит нам ничего
конкретного о целях, в которых применяются сегодняшние компьютеры. Тот
факт, что ранние этапы эволюции человеческого мозга были
продиктованы потребностями охотников-собирателей, также мало говорит о том,
что делать с тем, что есть на сегодняшний день.
Стивен Пинкер говорит, что «сознание является системой органов
вычисления, полученной в результате естественного отбора, для
разрешения таких проблем, с которыми сталкивались наши предки,
проводившие свою жизнь в поисках пищи»1. Декомб предположительно ответил
бы, что данное утверждение истинно относительно мозга, но не
относительно сознания. Я бы скорее утверждал, что это предложение Пинкера
вводит в заблуждение, даже если мы заменим в нем слово «сознание»
словом «мозг». Это предложение является вводящим в заблуждение в той
степени, в какой таковым является утверждение о том, что мой ноутбук, ко-
1 Pinker S. How the Mind Works. N.Y., 1999. P. 21.
P. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа
391
торый я использую исключительно для обработки слов, был создан для
отслеживания ракет и поиска в базе данных. То, что думали об этих
инструментах их создатели, мало влияет на то, как используем их мы.
Витгенштейнианцы занимают данную прагматистскую позицию,
когда сталкиваются с книгами Пинкера и Вильсона, в которых
говорится о том, что лингвистика, когнитивная психология и
эволюционная биология намерены изменить представление человека о самом
себе. В этих книгах нам говорят, что все, что мы раньше считали
продуктом культуры, окажется продуктом биологии. Однако данное
утверждение будет звучать убедительно, только если мы предположим,
что эволюция создала такой мозг, который, к несчастью, нельзя
каким-либо способом запрограммировать, мозг, конструкция которого не
позволяет ему выполнять определенные функции по работе с
входными и выходными данными. Признать гегемонию биологии значит
допустить запрет на определенные культурные инициативы по
причинам, лежащим в сфере биологии.
Трудно представить, как будет выглядеть аргументация в поддержку
подобного запрета. Ведь она будет равнозначной высказыванию: даже не
пытайтесь изменить наши социальные практики предлагаемым способом,
поскольку мы заранее знаем, что он не сработает. Мы знаем, что не стоит
проводить данный эксперимент, поскольку он обречен на неудачу. Это
похоже на высказывание: «Прекратите попытки преобразовать исходные
металлы в золото, ибо Дальтон и Менделеев доказали нам, что этого никогда
не случится». Но, вероятно, единственным доводом, с помощью которого
такие ученые-когнитивисты, как Пинкер и Вильсон, могли бы подкрепить
подобный запрет, была бы демонстрация на основе физиологии того, что
некоторых убеждений придерживаться невозможно, так же как
невозможно иметь определенные желания. Такая демонстрация будет
затруднительна не только вследствие философских аргументов против возможности
локализации в мозгу упомянутых ранее интенциональных состояний, но и
потому, что убеждение, которого невозможно придерживаться, никто
никогда не сможет предложить в качестве такового.
Семантический холизм, историцизм и лингвистический идеализм.
Достаточно о моем утверждении, что сложно соотнести мозг с культурой
подобно тому, как сложно соотнести компьютерное оборудование с
программным обеспечением. Я закончу комментарием относительно
важности историцизма, присущего Декомбу, Брэндому и другим сторонникам
так называемого лингвистического идеализма, которым Фодор именует
философскую позицию, находящуюся на дне скользкого спуска, по
которому спускаются семантические холисты.
Тезис Декомба о том, что «ментальный словарь глубоко укоренен в
истории, что иными словами означает, что существуют исторические
условия значения», созвучен позиции Брэндома, согласно которой содер-
392
Приложение
жание понятий проясняется в ходе истории, и подходу Гегеля, согласно
которому бутон проясняется в цветке, а цветок в плоде. Семантический
холизм говорит нам о том, что значение, или содержание, изменяется,
когда изменяются отношения вывода [inferential relations]. История говорит
нам о том, что данные отношения за последнее время существенно
изменились, по крайней мере в том, что касается наиболее интересных
понятий. Брэндом считает, что Гегель был прав в рассмотрении понятий, т.е.
использования слов в качестве квазиличностей, которые могут
развиваться.
С точки зрения таких репрезентационалистов, как Фодор и Хомский,
сторонники семантического холизма утрачивают соприкосновение с
реальностью. Поскольку Фодор и Хомский подвержены тому, что Декомб
называет общей иллюзией метафизики, они считают, что мир остается
неизменным, а люди все лучше и лучше его представляют, поскольку
пользуются все меньшим числом представлений о несуществующих
вещах и все большим числом представлений о существующих вещах.
Поэтому они раздражаются, когда сталкиваются со следующим
утверждением Декомба: «для того чтобы знать, о чем думает субъект, необходимо
знать не только естественный мир». Это происходит потому, что уче-
ные-когнитивисты исследуют соотношения между организмом и
окружающей средой, описанной в терминах, использование которых не
претерпело существенного изменения в течение истории, а именно в
терминах типа «коричневый», «корова», «и», «с», «красный» и «желтый». Их
скорее интересует, что общего есть у наших детей с шимпанзе, чем с
Платоном1.
С точки зрения лингвистического идеализма природа - это то, о чем
будет говорить шимпанзе, если представить, что у нее есть убеждения и
она способна обращать их в слова. Культура - это набор определенных
тем, и мы сомневаемся, что шимпанзе обладает относительно них
каким-либо мнением. Иными словами и в столь же жесткой форме мы
можем сказать, что природа — это то, что описывается словами, чье
применение не претерпело существенного изменения в ходе истории, а
культура — это то, что описывается словами, чье применение изменилось
довольно значительно; уточним, что здесь имеется в виду количественное
различие, однако оно довольно важно. Платон, если бы его воскресили в
целях диалога между поколениями, мог бы довольно быстро понять, что
«и» значит kai, а «корова» значит bous, однако ему понадобилось бы гораз-
1 Обратите внимание на утверждение Линкера: «Когда Гамлет восклицает:
"Что за мастерское создание - человек!"... нам следует направить внимание не на
Шекспира или Моцарта, Эйнштейна или Карима Абдул-Джаббара, а на
четырехлетнего ребенка, выполняющего просьбу поставить игрушку на полку (How the
Mind Works. P. 4).
P. Рорти • Мозг как компьютер, культура как программа
393
до больше времени, чтобы понять, почему «атом» не значит atomon, и
почему ни «город», ни «нация», ни «государство» не означают polis.
Заключение. Я отстаивал позицию, согласно которой мы можем
предпочесть репрезентационализм инференционализму, реализм
относительно значения лингвистическому идеализму, или же Карнапа
Витгенштейну, только если мы подвержены тому, что Декомб называет общей
иллюзией метафизики. Ибо в таком случае можно будет предположить,
что существует словарь, описывающий то, как вещи есть на самом деле, и
что приписывать истинность нашим убеждениям значит утверждать, что
существует изоморфизм между тем, как упорядочены [laid out]
ментальные представления, и тем, как упорядочены вещи в действительности. Те,
кого Фодор называет лингвистическими идеалистами, утверждают, что
следует отказаться от поиска подобного изоморфизма.
В спорах может быть достигнут небольшой прогресс, если разделить
сферу применения термина «сознание» между теми, кто согласен
принять то, что Хомский называет стандартными методами естественных
наук, и теми, кто с таким принятием не согласен. Ибо с очевидностью
существует смысл, в котором сознание является мозгом, и такой же очевидный
смысл, в котором оно им не является, точно так же как существует
очевидный смысл, в котором мозг является массой двигающихся
ненаблюдаемых частиц, и такой же очевидный смысл, в котором мозг ничем
подобным не является. С позиции витгенштейнианцев, которую я
отстаивал, единственное, что нужно, — это не редукция и не синтез, а
устранение неоднозначности.
Если бы мы рассмотрели единство знания как способность людей,
использующих различные словари, не мешать друг другу, а не как
способность рассматривать их деятельность с одной синоптической позиции
[vision], то мы бы избавились от влияния общей иллюзии метафизики.
Эта иллюзия, как и идея «идея» [idea «idea»], была порождена желанием
подобной позиции. Однако если мы примем предложение Декомба
ограничить себя частичными онтологиями и согласимся с утверждением
Брэндома о том, что «сущность» и «тождество» являются
классифицирующими [sortal] понятиями, то это желание ослабеет. Тогда мы заменим
вопросы о месте интенциональности в мире частиц вопросами о месте
естественной науки в культуре. Философия же будет заниматься не столько
исследованием того, как разные вещи могут быть совмещены, сколько
выдвижением предположений о том, как различные социальные
практики могут мирно сосуществовать.
Перевод с английского П. С. Куслия
Б. Малиновский
Проблема значения в примитивных
языках1
Язык, функционирующий в литературе или науке, является
инструментом мышления и обмена мыслями. Наиболее очевидная цель изучения
языка состоит в том, чтобы научиться правильно владеть этим
инструментом. Риторика, грамматика и логика как в прошлом, так и в наше
время преподавались как искусства и изучались главным образом с
точки зрения практических норм их применения. Установление правил,
проверка их действенности, овладение совершенством стиля —
несомненно важные и неисчерпаемые объекты исследования, тем более что
язык растет и развивается вместе с развитием мышления и культуры, а в
некотором смысле даже опережает это развитие.
Всякое искусство, которое живет знанием, а не вдохновением, в
конце концов должно обратиться к научному исследованию. Ясно, что мы
подходим к пониманию необходимости научной теории языка.
Действительно, хотя владение языком остается искусством, все чаще имеют место
попытки поставить и разрешить множество чисто теоретических
проблем, связанных с языковыми формами и значением, попытками,
которые прежде главным образом делались в рамках психологии. Одного
упоминания имен В. фон Гумбольдта, Лазаруса и Стейнталя, Уитни, Макса
Мюллера, Мистели, Суита, Вундта, Пауля, Финка, Розвадовского, Веге-
нера, Эртеля, Марти, Есперсена достаточно, чтобы показать, что наука о
языке издавна почиталась чем-то весьма значительным. В работах всех
этих мыслителей помимо проблем формальной грамматики мы находим
попытки анализа ментальных процессов, связанных со значением. Но
психология и ее методы идут вперед, и за последние годы этот прогресс
был очень быстрым. Другие современные гуманитарные науки, в первую
очередь социология и антропология, помогая нам более глубоко понять
человеческую природу и культуру, также внесли свой вклад в общее дело.
Вопросы языка действительно являются важнейшим и первостепенным
предметом всех гуманитарных исследований. Наука о языке постоянно
обогащается новым материалом и стимулируется новыми методами.
Вероятно, одним из важнейших стимулов может считаться недавний
философский анализ роли символов в математике, столь блестяще
выполненный в Кембридже Бертраном Расселом и Альфредом Уайтхедом.
1 Malinowski В. The Problem of Meaning in Primitive Languages // The Meaning of
Meaning ; C.K. Ogden, I.A. Richards (eds.). L. : Routledge & Kegan Paul, 1923. P. 296-336.
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
395
Авторы настоящей книги Огден и Ричарде исследуют роль знаков
в лингвистике, где это имеет фундаментальное значение. Они
разработали новую теорию символов, которая, без сомнения, поставит на
новые прочные основания критику некоторых заблуждений
метафизики и формальной логики (см. гл. 2, 7-9). Кроме того, теория имеет
не только чисто философский смысл, но обладает и практической
ценностью при работе со специальными научными проблемами
значения, грамматики, психологии и патологии речи.
Например, важные исследования явления афазии, проведенные
д-ром Генри Хедом (Henry Head), которые могут пролить свет на
понимание значения, по-видимому, идут в том же направлении, что и
семантические теории, представленные в настоящей книге1. Д-р
А.Г. Гардинер (А.Н. Gardiner), один из самых известных специалистов
по иероглифике и египетской грамматике (чему посвящено его новое
аналитическое исследование), опубликовал несколько статей о
значении, где подошел к тем же проблемам, которые обсуждаются в работе
Огдена и Ричардса и разрешаются ими столь интересным образом, хотя
их результаты, как мне кажется, несовместимы2. Наконец, и я в связи с
захватившей меня проблемой примитивных языков Папуа-Меланезии
был вовлечен в область общей семантики3. Когда несколько недель
назад мне была любезно предоставлена возможность просмотреть
аргументацию настоящей книги, я был поражен, обнаружив, как
предложенные в ней теории отлично отвечают на все мои вопросы и решают
мои трудности; и я был счастлив обнаружить, что те выводы, к которым
я пришел, изучая примитивные языки, ничем существенным не
отличались от положений данной книги. Поэтому я был очень рад, когда
авторы дали мне возможность сформулировать свои проблемы и
набросать их гипотетические решения рядом с их замечательными теориями.
Я принял это предложение с тем большим удовлетворением, что это
дает мне возможность показать, как теоретические выводы этой книги
раскрывают проблемы примитивных языков.
Примечательно, что независимые друг от друга исследователи: Огден
и Ричарде, Хед, Гардинер и я сам -начиная с определенных и
конкретных, но совершенно различных проблем, пришли если не совсем к
одинаковым результатам, сформулированным в одних и тех же терминах, то по
1 См. вступительные статьи в разделе "Brain", на которые авторы также
ссылаются на с. 350.
2 См. статьи Гардинера в: Man. 1919. January; British Journal of Psychology. 1922.
April.
3 См. мою статью: Classificatory Particles in the Language of Kirivina // Bulletin of
School of Oriental Studies. Vol. Ii, а также: Аргонавты западной части Тихого океана.
Гл.: Слова в магии - некоторые лингвистические данные.
396
Приложение
крайней мере к сходным семантическим теориям, основанным на
психологических соображениях.
Будучи этнографом, изучающим примитивную ментальность,
культуру и язык, я хотел бы показать, как мне пришлось встретиться с
лингвистическими проблемами, сходными с теми, которые представлены в
настоящей работе. В ходе своих этнографических исследований
меланезийских племен Восточной Новой Гвинеи, которые я проводил
исключительно на местном языке, я собрал значительное число текстов:
магических формул, фольклорных произведений, повествований,
фрагментов бесед и высказываний моих информаторов. Когда, обрабатывая этот
лингвистический материал, я пытался перевести тексты на английский
язык и соответственно разработать словарь и грамматику туземного
языка, я встретился с принципиальными трудностями. Эти трудности
не были преодолены и даже еще возросли, когда я обратился к
известным грамматикам и словарям океанических языков. Их авторы,
главным образом миссионеры, которые составляли их для практических
целей, чтобы облегчить задачу своим последователям, следовали методу
приближения. Например, составляя словарь, они стремились
переводить туземные слова наиболее близкими к ним терминами английского
языка.
Но научный перевод слова - это не его грубый эквивалент,
достаточный для практических целей. Для такого перевода нужно выяснить,
точно ли соответствует туземное слово некой идее, которая по крайней мере
частично существует в английском языке, или же оно обозначает
совершенно иное, чуждое английскому языку понятие. То, что такие чуждые
понятия действительно существуют в туземных языках и их очень
много, — это ясно. Слова, которые описывают туземный социальный
порядок, выражения, обозначающие туземные верования, специфические
обычаи, церемонии, магические обряды, - все такие слова, естественно,
отсутствуют в английском, как и во всяком другом европейском языке.
Такие слова можно перевести на английский не их воображаемыми
эквивалентами - их просто нельзя найти, но объясняя значение каждого из
них путем точного этнографического описания социологии, культуры и
традиции туземного общества.
Но есть еще более глубокое, хотя и более тонкое затруднение: сам
способ использования туземного языка отличен от нашего.
Грамматической структуре примитивного языка не хватает точности и
определенности, свойственных нашей, хотя она по-своему в высшей степени
наглядна. Кроме того, некоторые частицы, совершенно непереводимые на
английский, придают особый аромат туземной фразеологии. За
простотой грамматической структуры скрываются хорошие выразительные
возможности — за счет особого положения отдельных элементов этой
структуры, а также благодаря контексту. Значения отдельных слов часто
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
397
зависят от их метафорического использования, от зачатков абстракции,
обобщения и многозначности, связанной с крайней конкретностью
выражений. Все это стоит на пути любых попыток простого и прямого
перевода. Этнограф должен передать это глубокое, но тонкое различие
между языком и ментальной установкой, которая стоит за ним и
выражена в нем. Но это подводит еще ближе к общим психологическим
проблемам значения.
2. Эта общая констатация языковых трудностей, с которыми сталкивается
этнограф в своих полевых исследованиях, может быть
проиллюстрирована на конкретном примере. Представьте, что вы находитесь на
коралловом атолле в Океании, сидите в кругу туземцев и прислушиваетесь к их
беседе. Предположим далее, что рядом с вами идеальный переводчик,
который, насколько это возможно, способен передать значение каждого
выражения слово за словом, так что слушатель может получить все
доступные языковые данные. Станет ли от этого понятной беседа или хотя
бы одно выражение? Можно определенно сказать - нет.
Рассмотрим такой текст, реальное выражение, взятое из беседы
туземцев на Тробрианских островах (северо-восточная Новая Гвинея).
Анализ совершенно ясно показывает, как беспомощны попытки
раскрыть значение предложения простыми лингвистическими средствами;
он также дает понять, какого рода дополнительное знание, помимо
вербальных эквивалентов, необходимо, чтобы сделать это предложение
значимым для нас.
Я приведу это предложение на туземном языке, причем под каждым
словом будет дан эквивалентный перевод:
Тасакауло
Мы бежим
Тавоуло
мы гребем
сода;
наша компания;
оливиеки
за
кайматана
переднее дерево
овану;
на месте;
исакауло
он бежит
симилавета
их рукавом
йакида;
сами;
тасивила
мы оборачиваемся
ка'у'уйа
заднее дерево
Пилолу
Пилолу
тагине
мы видим
На первый взгляд буквальный перевод этого предложения звучит как
загадочный или бессмысленный набор слов; конечно, это не похоже на
ясно осмысленное предложение. Если слушатель, который, как мы
предположили, знаком с языком, но незнаком с культурой туземцев, хочет
понять хотя бы общий ход мысли в этом предложении, он вначале должен
398
Приложение
кое-что знать о ситуации, в которой эти слова произносятся. Ему следует
найти место этих слов в соответствующей картине, взятой из туземной
культуры. Тогда станет ясно, что предложение описывает эпизод из
морской торговой экспедиции туземцев, в которой участвует несколько
состязающихся между собой лодок. Вот этот состязательный характер
участия и объясняет эмоциональную подоплеку того, о чем говорится в этом
предложении: это не простая констатация факта, но некое хвастовство,
фрагмент похвальбы, крайне характерной для культуры тробрианцев
вообще и для церемониального обмена в частности.
Понять смысл терминов кайматана (переднее дерево) и ка'у'уйа
(заднее дерево), фигурирующих в этих фразах, выражающих похвальбу и
соперничество, можно только после некоторых предварительных
разъяснений. Метафорическое использование слова «дерево» для обозначения
лодки уводит нас в психологию языка, но здесь достаточно подчеркнуть,
что «передняя», или «ведущая лодка» и «задняя лодка» - это термины, о
многом говорящие человеку, чье внимание в высокой степени
привлечено состязательными действиями как таковыми. В значение таких слов
входит особый эмоциональный оттенок, понятный только в контексте
племенной психологии церемоний, коммерции и предприятий.
Кроме того, предложение, в котором говорится, что моряки,
плывущие на передовой лодке, обернувшись назад, видят своих соперников на
морском рукаве Пилолу, может быть вполне понято только в том случае,
если будут приняты во внимание географические представления
туземцев, роль воображения как орудия туземного языка, а также особый
смысл фигурирующего здесь притяжательного местоимения (их морской
рукав Пилолу).
Все это показывает, что адекватный анализ значения должен
опираться на обширные и сложные рассуждения. Вместо того чтобы переводить
или, иначе говоря, просто заменять туземные слова словами своего языка,
приходится прибегать к длительному и далеко не простому процессу, в
котором широко описываются местные обычаи, социальная психология,
организация племенной жизни — все то, что стоит за тем или иным термином.
Таким образом, лингвистический анализ приводит к необходимости
изучения всех тех предметов, с которыми связана полевая работа этнографа.
Конечно, приведенные выше комментарии к специфическим
терминам (переднее дерево, заднее дерево, их морской рукав Пилолу) -
вынужденно краткие и контурные. Но я намеренно выбрал для анализа
предложение, для понимания которого нужно знать те обычаи, которые уже
были мною описаны с достаточной полнотой1. Те, кто знаком с этим
1 См.: Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана.
М., 2004 (для удобства читателя ссылки на эту книгу даются по русскому
изданию. - Прим. перев.).
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
399
описанием, смогут правильно понять данный текст, так же как оценить
приводимые мной аргументы.
Помимо трудностей, связанных с переводом отдельных слов, т.е. тех
трудностей, которые заставляют прибегать к непосредственной помощи
дескриптивной этнографии, есть и другие, связанные с более
специальными лингвистическими проблемами, которые могут быть разрешены
только с помощью психологического анализа.
Я хотел бы подчеркнуть, что, во-первых, различение инклюзивных и
эксклюзивных местоимений, специфическое для языков океанической
группы, требует более глубокого, нежели только грамматическое,
объяснения 1. Во-вторых, головоломка, которая возникает из-за того, что
некоторые явно взаимозависимые высказывания вводятся в текст, просто
присоединяясь друг к другу, для своего разрешения требует чего-то
большего, нежели указания на их референты, чтобы вполне уяснить роль и
значимость этого текста. Эти две особенности хорошо известны и уже
часто обсуждались, хотя, по моему мнению, все еще недостаточно.
Однако есть такие особенности примитивных языков, которые почти
полностью игнорируются специалистами по грамматике, в то время как
по ним можно судить об очень интересных проблемах примитивной
психологии. Я проиллюстрирую это примером, который лежит на стыке
между грамматикой и лексикографией и хорошо представлен в
приведенном выше предложении.
В высокоразвитых индоевропейских языках грамматическая и
лексическая функции слов четко различаются. Значение корня слова может
быть выделено из модификации значения с помощью морфологии или
некоторыми другими средствами. Так, в слове «бежать» различается
значение корня - быстрое индивидуальное перемещение - и различия по
скорости, времени, определенности и т.д., выраженные через
грамматическую форму, в которой находится это слово в данном контексте. Но в
примитивных языках это различие вовсе не так ясно, и грамматические
функции слова, а также его собственное значение часто смешиваются
самым примечательным образом.
В меланезийских языках существуют некоторые грамматические
инструменты, используемые в окончании слов, которые выражают
несколько туманные отношения времени, определенности и
последовательности. Если европейцу нужен такой язык только для практических
целей, то самое простое и легкое, что он может сделать, это найти в
своем языке то, что ближе всего подходит к меланезийским формам, и
таким образом перевести эти формы на европейский манер.
1 См. важное «Президентское обращение» доктора У.Г.Р. Риверса в: Journal of
the Royal Anthropological Institute. 1922. Vol. 3. January-June. P. 21, а также его
книгу "History of Melanesian Society". Vol. 2. P. 486.
400
Приложение
Например, в тробрианском языке, из которого мы взяли
приведенный выше пример, существует глагольная частица «боге», которая,
будучи поставлена перед измененным глаголом, придает ему не вполне ясным
образом значение либо прошлого, либо настоящего времени. Кроме того,
глагол изменяется с помощью личного местоимения с соответствующим
префиксом. Так, корень «ма» (приходить, подходить ближе), если к нему
присоединяется префикс местоимения третьего лица единственного
числа «и» получает форму «има» и означает (примерно) он приходит. С
модифицированным местоимением «ай» — или в более подчеркнутой форме
«лай» - это примерно означает он пришел или он должен прийти.
Выражения «боге айна» или «боге лайма» можно приблизительно перевести
как он уже пришел, частица «боге» делает значение более определенным.
Но это только приблизительная эквивалентность, которая подходит
для некоторых практических целей, таких, как торговля с туземцами,
миссионерская проповедь и перевод христианской литературы на
туземные языки. Последнее вообще не может, по моему мнению, быть
сделано с какой бы то ни было степенью точности. В грамматических
пособиях по переводу с меланезийских языков, написанных
миссионерами для практических целей, грамматические формы туземных слов
были просто представлены как эквиваленты временных форм в
индоевропейских языках. Когда я впервые стал использовать тробрианский
язык в своих полевых исследованиях, я еще не догадывался о некоторых
ловушках, которые могут возникнуть, если принимать внешнюю
сторону туземной грамматики и следовать за миссионерами в использовании
туземных флексий.
Однако я быстро убедился в том, что это неправильно, на своих
собственных ошибках. Из-за этого слегка пострадала моя работа при полевых
исследованиях, что заставило меня глубже вникнуть в смысл туземных
флексий, заплатив за это некоторыми личными неудобствами.
Однажды я имел возможность наблюдать интересную торговую
операцию в деревне близ лагуны на Тробрианах, которая должна была
состояться между прибрежными рыбаками и садоводами из срединных частей
острова1. Мне нужно было наблюдать за некоторыми важными
приготовлениями в деревне и вместе с тем я не хотел пропустить прибытие лодок.
Я был занят записями и фотографированием происходящего среди
хижин, когда стали раздаваться крики «они уже пришли» - боге лаймайсе.
Я бросил работу в деревне, чтобы пробежать около четверти мили к
берегу, и к своему разочарованию и ужасу нашел, что лодки были еще очень
далеко и медленно продвигались к берегу! Я пришел всего на 10 минут
1 Это была церемония васи, форма обмена растительной пищи на рыбу. См.:
Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. С. 195 и
фото XXXVI.
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
401
раньше, чем нужно, но этого оказалось достаточно, чтобы потерять все
свои возможности в деревне!
Потребовалось какое-то время и значительно лучшее изучение
языка, прежде чем я понял причину моей ошибки и то, как правильно
употреблять слова и грамматические формы для выражения тонкостей
временной последовательности. Так, корень «ма», который означает
приходить, подходить ближе, не имеет смысла, который передается словами
«прибывать к месту назначения». Никакими грамматическими
средствами нельзя придать этому слову тот особый, связанный со временем
смысл, который заключался бы в выражениях типа «они пришли, они уже
прибыли». Поэтому слова «боге лаймайсе», которые я услышал в то
памятное утро в прибрежной деревне, означают для туземца «они уже стали
приближаться», а не «они уже пришли сюда».
Чтобы передать пространственную и временную определенность,
которую мы получили, используя прошедшее определенное время (past
definite tense), туземцы употребляют некоторые конкретные и
специальные выражения. Например, в приведенном случае жители деревни,
чтобы передать тот факт, что лодки уже пришли, должны были бы
использовать слова «стать на якорь», «швартоваться». «Они уже пришвартовали
свои лодки», боге айкотаси, означало бы именно то, что, как я полагал
раньше, они выражали словами «боге лаймайсе». То есть в этом случае
туземцы использовали различные корни вместо того, чтобы прибегнуть
к грамматической модификации слов.
Возвращаясь к нашему тексту, мы имеем другой красноречивый
пример обсуждаемой особенности. Причудливое выражение «Мы гребем на
месте» можно правильно понять только, если осознать, что слово
«гребем» здесь обозначает не то, что экипаж лодки сейчас делает, а
непосредственную близость к деревне назначения. Точно так, как в предыдущем
примере прошедшее время глагола в выражении «они пришли», которое
мы использовали бы в нашем языке, чтобы передать факт прибытия,
имеет иное значение в туземном языке и должно быть заменено другим
корнем, который выражает эту идею; здесь туземный корень «ва», двигаться
ближе, не может быть употреблен (примерно) в прошедшем
определенном времени, чтобы передать значение «пришли сюда», но нужен особый
корень, выражающий конкретный акт прибытия, чтобы обозначить
пространственное и временное положение передовой лодки по отношению к
остальным. Источник этого представления очевиден. Всякий раз, когда
туземцы подходят близко к берегу одной из прибрежных деревень, они
должны убрать парус и идти на веслах, так как здесь вода глубока даже у
самого берега и нельзя плыть, отталкиваясь шестом. Таким образом,
«грести» означает «достичь прибрежной деревни». Надо добавить, что в
выражении «мы гребем на месте» два других слова «на» и «месте» могли бы
быть вольно переведены словами «близко к деревне».
402
Приложение
Благодаря подобному анализу это или другое туземное предложение
становится понятным. В данном случае мы можем подвести итоги нашим
рассуждениям и передать наш текст с помощью вольного комментария
или пересказа.
Несколько туземцев сидят рядом. Один из тех, кто только что
вернулся из заморской экспедиции, описывает плавание и похваляется
достоинствами своей лодки. Он рассказывает своим слушателям, как,
пересекая морской рукав Пилолу (между Тробрианами и островами Амфлет),
его лодка плыла впереди всех других. Когда они были вблизи места
назначения, лидирующие мореходы посмотрели назад и увидели своих
товарищей далеко позади, все еще в рукаве Пилолу.
Изложенный таким образом рассказ в общем понятен всем, хотя для
точного понимания оттенков и деталей значения необходимо полное
знание туземных обычаев и психологии, так же, как и общей структуры
их языка.
Вряд ли стоит напоминать, что все сказанное в этом параграфе -
только конкретный пример, иллюстрирующий общий принцип, столь
ярко изложенный Огденом и Ричардсом в гл. 1, 3 и 4 их книги. То, что я
пытался прояснить, анализируя туземный текст, — это то, что язык самой
своей сутью погружен в реальность культуры, племенной жизни и
обычаев людей и что он не может быть объяснен без постоянной ссылки на этот
широкий контекст, в котором живут слова. Теоретические положения,
изложенные в схемах Огдена и Ричардса (гл. 1), в их рассмотрении
«знаковой ситуации» (гл. 3) и в их анализе восприятия (гл. 4), охватывают и
обобщают все детали моего примера.
3. Еще раз вернемся к туземному тексту. Он как нельзя лучше
демонстрирует тот факт, что в примитивных языках значение каждого отдельного
слова в очень высокой степени зависит от контекста. Реальные значения
слов «дерево», «грести», «место» понимаются туземцами в контексте, в
котором они фигурируют, поэтому их перевод на наш язык по
необходимости должен быть вольным. Ясно, что выражение, которое буквально
переводится как «мы гребем на месте», свое подлинное значение «мы
приближаемся к деревне — месту нашего назначения» раскрывает только в
общем контексте всего повествования. Последнее же в свою очередь
может быть понято только в контексте ситуации, если мне будет позволено
ввести такой термин. Смысл этого термина в том, что, во-первых, он
расширяет понятие контекста, а во-вторых, показывает, что ситуация, в
которой употребляются слова, не может считаться чем-то внешним по
отношению к языковому выражению. Мы убеждаемся в том, что
существенное расширение понятия контекста дает возможность его более
полного применения. Фактически это означает расширение границ
теоретической лингвистики и переход к анализу общих условий
употребления языка.
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
403
Отправляясь от расширенной идеи контекста, мы приходим к
выводам, которые будут сформулированы в следующем параграфе, а именно к
тому, что изучение любого языка, на котором говорят люди, условия
жизни и культура которых отличаются от наших, должно сочетаться с
изучением их культуры и жизненной среды.
Расширенное понятие контекста ситуации означает нечто большее. Оно
проясняет методологические и содержательные различия между
лингвистическими теориями мертвых и живых языков. Материал, на котором
основывается почти все наше лингвистическое знание, очень далек от того, что
можно считать мертвыми языками. Он представлен в форме письменных
документов, естественно выделенных, вырванных из контекста ситуации.
На самом деле письменные тексты делаются так, чтобы быть
самодостаточными и не нуждаться в каком-то дополнительном объяснении.
Погребальный обряд, фрагмент примитивных законов или предписаний, глава или
суждение в священной книге или, если взять более современный пример,
цитата из греческого или латинского философа, историка или поэта - в
любом из этих случаев цель состоит в том, чтобы передать некоторое
сообщение потомкам. Поэтому все такие тексты должны полностью включать в
себя эти сообщения.
Возьмем самый ясный случай - современную научную книгу. Автор
адресует ее любому конкретному читателю, который возьмет ее в руки,
обладая необходимой научной подготовкой. Его цель в том, чтобы
направить мысль читателя в определенную сторону. Автор исходит из
предположения, что чтение книги вызывает в сознании читателя некоторые
процессы: рассуждение, рефлексию, запоминание, воображение. Текст
книги достаточен для того, чтобы читатель понял его значение. Выражаясь
метафорически, можно было бы сказать, что значение книги живет в ее
тексте.
Но когда мы переходим от современного цивилизованного языка, на
котором мы думаем в основном так, как пишем, или от мертвого языка,
живущего только в каких-то письменных формах, к примитивному
языку, который не знает письменных форм и материализуется только в
словах, как на крыльях перелетающих от одного человека к другому, — сразу
становятся очевидными ложность и бесполезность концепции, согласно
которой значение содержится в выражениях этого языка. В реальной
жизни всякое предложение неотделимо от ситуации, в которой оно
высказывается. Каждое словесное высказывание служит для выражения
каких-то конкретных мыслей или переживаний человека, имеющих место в
данный момент и в данной ситуации, чтобы сообщить о них какому-то
другому человеку или группе людей с такой-то и такой-то целью,
например чтобы организовать совместное действие или просто для того, чтобы
эти люди могли общаться друг с другом или чтобы помочь этому человеку
освободиться от мучающих его страхов или страстей. Актуальность дан-
404
Приложение
ной ситуации диктует необходимость высказывания тех или иных
суждений. Поэтому высказывание и ситуация теснейшим образом связаны
друг с другом и контекст ситуации неотделим от понимания слов. Точно
так, как в реальности устных или письменных языков слово без
языкового контекста есть просто фикция и само по себе пусто, в реальности
устного живого примитивного языка это выражение не имеет значения
иначе как в контексте ситуации.
Ясно, что позиция филолога, который работает с текстами на мертвых
языках, коренным образом отличается от позиции этнографа, у которого
нет каких-то неизменных, твердо установленных письменных текстов и он
должен полагаться на живую реальность разговорного языка in fluxu.
Первый должен реконструировать общую ситуацию, т.е. прошлую культуру
народа, основываясь на дошедших до нас текстах, последний же может
непосредственно изучать условия и ситуационные характеристики культуры
и интерпретировать тексты, основываясь на этом знании. Я утверждаю,
что позиция этнографа более реальна и подходит для задачи
формирования фундаментальных лингвистических концепций, для изучения жизни
языков, тогда как точка зрения филолога является фиктивной и ирреле-
вантной. Язык в своих истоках был просто свободной речью,
совокупностью (sum total) выражений, подобных тем, какие мы теперь находим в
туземных языках. Все основания и фундаментальные характеристики
человеческой речи приобретали свои очертания и характер на стадии развития,
которая является предметом этнографического, а не филологического
изучения. В свете сказанного ясно, что было бы полной нелепостью искать
определение значения, объяснять существенные грамматические и
лексические характеристики языка, опираясь на материал, который дают
исследования мертвых языков. В то же время вряд ли было бы преувеличением
сказать, что 99 из 100 лингвистических работ основываются на изучении
мертвых языков или в лучшем случае письменных текстов в полном отрыве
от контекста ситуации. Так что этнографическое исследование может
вести не только к некоторым общим, но и к позитивным, конкретным
выводам, о которых пойдет речь в следующих параграфах.
Здесь я хотел бы сравнить обозначенную мной точку зрения с
выводами книги Огдена и Ричардса. Во всех рассуждениях, приведенных выше,
я следовал собственной терминологии, поскольку моя аргументация
была сформирована до того, как я познакомился с этой книгой. Но
очевидно, что контекст ситуации, понятие, которое здесь играет столь важную
роль, есть не что иное, как то, что авторы называют знаковой ситуацией
(sign-situation). Тезис авторов, основной для всей их книги, о том, что
никакая теория значения не может быть построена без изучения механизма
референции, также совпадает с сутью моих рассуждений в последующих
параграфах. Уже в начальных главах их книги показана ошибочность
понимания значения как реального объекта, заключенного в слове или вы-
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
405
ражении. Интересные с этнографической и исторической точки зрения
данные и комментарии к ним из гл. 2 показывают, как разнообразные
иллюзии и ошибки возникают из-за ложного отношения к словам. Это
такое отношение, когда слово рассматривается как реальный объект, в
котором помещается значение, - как духовная сущность личности или
вещи помещается в некоем духовном вместилище (soul-box). Оно, как было
показано, восходит к примитивному, магическому употреблению языка и
вошло в наиболее важные и влиятельные системы метафизики. Значение,
реальная «сущность» слова, обладает реальным существованием в
платоновском царстве идей; оно же играет роль универсальной, актуальной
сущности у средневековых реалистов. Неправильное употребление слов,
всегда основанное на ложном анализе их семантических функций,
заводит в онтологическую трясину те философские теории, которые
пытаются найти истину, добывая значение из слова, его предполагаемого
вместилища.
Анализ значения в примитивных языках дает ясное подтверждение
теориям Огдена и Ричардса. Очевидность тесной связи между
интерпретацией языка и анализом культуры, к которой относится этот язык,
убеждает в том, что ни Слово, ни его Значение не обладают независимым и
самодостаточным существованием. Из этнографического анализа языка
выводится так называемый принцип символической относительности:
слова должны рассматриваться только как символы, и психология
символической референции должна служить базисом для всей науки о языке.
Весь мир «вещей, подлежащих выражению» (things-to-be-expressed)
изменяется с уровнем культуры, с географическими, социальными и
экономическими условиями, из чего следует, что значение слова всегда выводится
не из пассивного созерцания этого слова, но из анализа его функций в
данной культуре. Каждое примитивное или варварское племя, так же, как
каждый тип цивилизации, имеет свой мир значений и весь языковой аппарат
этого народа — их запас слов и их тип грамматики — может быть объяснен
только в связи с его духовными потребностями.
В гл. 3 своей книги авторы приводят анализ психологических
характеристик символической референции, который вместе с материалом гл. 2
является наиболее удовлетворительным рассмотрением предмета из всех,
какие мне известны. Я хочу отметить, что термин «контекст», который
используют авторы, совместим со смыслом, каким это слово обладает в
моем выражении «контекст ситуации», хотя и не совпадает с ним. Я не
имею возможности здесь пытаться согласовать соответствующие
термины и должен предоставить читателю проверить «символическую
относительность» на этом небольшом примере.
4. До сих пор я имел дело главным образом с простейшими проблемами
значения, теми, которые связаны с определением простых слов, и с
лексикографической задачей, состоящей в том, чтобы познакомить европейско-
406
Приложение
го читателя со словарным составом чужеродного языка. Главный
результат, к которому мы пришли, заключается в том, что невозможно
перевести слова примитивного языка или языка, весьма отличного от
нашего, без детального описания культуры его носителей и, следовательно,
для перевода необходима некая общая мера для обоих языков. Но хотя
результаты этнографического исследования необходимы для научного
рассмотрения языка, они ни в коем случае не могут считаться достаточными,
и проблема значения нуждается в особой теории. Я попытаюсь показать,
что, если смотреть на язык с этнографической точки зрения и
использовать понятие контекста ситуации, мы сможем наметить контуры
семантической теории, пригодной для работы с примитивной лингвистикой, и
пролить некоторый свет на человеческий язык в целом.
Прежде всего попытаемся со своих позиций сформулировать
концепцию природы языка. Отсутствие ясной и точной концепции
лингвистической функции и природы значения, я полагаю, было причиной
относительной бесплодности большинства превосходных в других
отношениях лингвистических теорий. Непосредственность, с какой авторы
формулируют эту фундаментальную проблему, и блестящая
аргументация, с помощью которой они решают ее, составляют непреходящую
ценность их работы.
На примере рассмотренного выше текста мы видим, что выражение
становится понятным только в контексте ситуации. Углубившись в этот
контекст, мы сразу видим перед собой группу примитивных людей,
имеющих общие интересы и амбиции, эмоции и реакции. Речь идет о
соперничестве в некотором коммерческом предприятии, о заморской
экспедиции, имеющей ритуальный характер; о чувствах, амбициях и
представлениях, хорошо известных собеседникам и слушателям, которые
принадлежат к одной племенной традиции и сами участвовали в
событиях, подобных тем, о которых повествует рассказчик. Не приводя самого
повествования, я мог бы привести еще ряд языковых примеров, более
глубоко и непосредственно связанных с контекстом ситуации.
Возьмем язык, на котором говорит группа туземцев за одним из
основных занятий, которым они добывают средства к существованию, -
охотой, рыбной ловлей, земледелием, или во время действий, в которых
энергия примитивного племени проявляется собственно человеческим
образом, - военных операций, игр или спортивных состязаний,
церемоний или художественных представлений, таких, как танцы или пение.
Участники любой из таких сцен целенаправленно добиваются
определенного результата; они все должны действовать согласованно, по
определенным правилам, установленным обычаем и традицией. Здесь речь
является необходимым средством коммуникации; она выступает как
инструмент, без которого ни сама ситуация, ни единое социальное действие
невозможны.
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
407
Посмотрим, как ведут разговор люди, занятые такими действиями,
каким образом используется язык в этих ситуациях. Для конкретности
последуем за группой рыбаков в коралловую лагуну, где они
высматривают косяк рыбы, пытаясь загнать его в ловушку из больших сетей и
выловить рыбу маленькими сетчатыми мешками (этот пример я выбрал еще и
потому, что лично был знаком с этой процедурой1).
Лодки скользят медленно и бесшумно, подчиняясь действиям
специально обученных мужчин, которых всегда приглашают для этой цели.
Другие специалисты, которые знают глубины лагуны с ее растениями и
животными, внимательно следят за рыбой. Один из них видит добычу.
Следуют обычные знаки, звуки или слова. Иногда произносится какая-то
фраза, в которой содержатся технические указания на протоки или мели
на лагуне; иногда, когда косяк уже близко и задача поимки проста, звучит
негромкое восклицание. Затем вся флотилия останавливается и
выстраивается в определенном порядке; каждая лодка и каждый мужчина в ней
выполняют свою задачу, как велит обычай.
Конечно, рыболовы, и пока они действуют, и после этого, издают
звуки, сопровождающие острые моменты ловли, какие-то технические
затруднения, выражающие удовольствие при достижении цели или
отчаяние при неудаче. То и дело звучат слова команд, технические
выражения или объяснения, нужные для того, чтобы все действовали заодно. Вся
группа работает согласованно, ее действия установлены традицией и
хорошо знакомы всем действующим лицам по длительному жизненному
опыту. Кто-то из рыбаков опускает широкие круглые сети в воду, другие
ныряют и бредут по воде в мелкой лагуне, загоняя рыбу в сети, третьи
стоят с небольшими сетями наготове. Живая динамичная сцена. И вот рыба
поймана, рыбаки теперь говорят громко, давая волю своим чувствам.
В воздухе носятся короткие красноречивые возгласы, смысл которых
можно было бы передать такими словами, как «Тащи», «Идем», «Тяни
дальше», «Подними сеть», или же технические выражения, совершенно
непереводимые за исключением краткого описания используемых
инструментов и способа действия.
Вся речь во время такой охоты наполнена техническими терминами,
краткими ссылками на происходящее вокруг, лаконичными указаниями
на изменения обстановки - все это основывается на привычных типах
поведения, хорошо известных участникам по собственному опыту.
Каждое выражение существенно связано с контекстом ситуации и целью
предприятия, будь то краткие указания о движении добычи или реакции
на то, что говорится об окружающей обстановке, или выражения чувств и
1 См. мою статью: Fishing and Fishing Magic in theTrobriand Islands// Man. 1918.
№ 53. L.
408
Приложение
страстей, всегда сопутствующих действиям, или слова команд,
координирующих действия.
Структура этого языкового материала обязательно связана с ходом
действий, в которые его выражения погружены и от которых зависят.
Словарь в целом и значения отдельных слов, используемых в их
характерной технической функции, не менее подчинены этим действиям. Ведь
технический язык приобретает свое значение только благодаря личному
участию людей в тех делах, которые не могут совершаться без него.
Научиться ему можно только действуя, а не просто размышляя о нем.
Если бы мы взяли какой-либо иной пример, а не рыболовство,
результат был бы таким же. Изучение любой формы речи, используемой в
работе, имеющей жизненно важное значение, раскрыло бы те же самые
грамматические и лексические особенности: зависимость значения
каждого слова от практического опыта и структуры каждого
выражения от конкретной ситуации, в которой оно произносится. Таким
образом, рассмотрение того, как используется язык в связи с каким-либо
практическим делом, ведет к заключению, что язык в своих
примитивных формах должен рассматриваться и изучаться на фоне
человеческой деятельности и как форма человеческого поведения в
практических делах.
Язык изначально никогда не использовался примитивными
народами, не знавшими цивилизации, только как зеркало, отражающее то, что
происходит в мысли. То, как я употребляю язык, когда пишу эти слова,
то, как его использует автор какой-нибудь книги, надписи на папирусе
или высеченной на скале, - это использование языка в его
неестественной и весьма абстрактной функции. При этом язык становится
конденсированным фрагментом рефлексии, средством, с помощью которого
описываются факты или мысли. Но в своих примитивных употреблениях
функция языка состоит в том, чтобы связывать между собой
согласованные человеческие действия; в этом смысле язык выступает как часть
человеческого поведения, как форма деятельности, а не как инструмент
рефлексии.
Эти выводы получены на примере, в котором язык используется
людьми, занятыми практической работой, в которой языковые
выражения неразрывно связаны с действиями. Против этого можно было бы
возразить, что существует множество других применений языка даже у
примитивных людей, которые лишены письменности или каких-либо иных
способов внешней фиксации языковых текстов. Можно сказать, что у них
тоже есть фиксированные тексты — это песни, рассказы, мифы и легенды,
а также, что еще более важно, формулы ритуалов и магии.
Верны ли наши выводы о природе языка, если их сопоставить с речью?
Останутся ли они в силе, если мы от речи, непосредственно связанной с
действиями, перейдем к свободному нарративу или к использованию языка в
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
409
обычных социальных отношениях, когда смысл разговора не в том, чтобы
достичь какой-то цели, а в самом обмене словами?
Если проследить за анализом речи, связанной с действиями, и
сравнить его с обсуждением нарративного текста в § 2, можно заметить, что
сделанные выводы применимы и к разговорной речи.
Когда кто-то рассказывает о каком-то случае группе слушателей,
возникает ситуация, в которой проявляются как социальные отношения
между присутствующими, так и соответствующие умственные и
эмоциональные реакции. В этой ситуации рассказ создает определенную
атмосферу, насыщенную переживаниями, которые вызывают слова,
обращенные к чувствам слушателей. В приведенном выше рассказе похвальба
рассказчика, обращенная к группе, в которой находятся гости и
незнакомые люди, вызывает смешанные чувства гордости или стыда, триумфа
или зависти. В любом случае речь рассказчика в примитивных обществах
является по преимуществу формой социального действия, а не чистой
рефлексией мысли.
Нарратив также косвенно связан с конкретной ситуацией, о которой
он повествует, - в нашем тексте с состязанием по плаванию на лодке.
Слова рассказчика в данном случае значимы для слушателей благодаря
тому, что те обладают соответствующим опытом; значения слов здесь
точно так же зависят от контекста описываемой ситуации, хотя и не в
такой степени, как это бывает, когда речь непосредственно связана с
действием.
Различие по степени существенно; нарративная речь вторична по
своей функции и указывает на действие только косвенно, но то, как она
приобретает значение, может быть понято только из функции речи,
непосредственно связанной с действием. Если воспользоваться
терминологией, принятой авторами настоящей книги, можно сказать, что референци-
альная функция нарратива подчинена его социальной и мотивационной
функциям (см. гл. 10).
Тот случай, когда язык используется в свободном, не имеющем
определенной цели разговоре, социальном общении, требует специального
рассмотрения. Когда несколько человек сидят вместе у деревенского
костра после дневных работ, или когда они болтают, отдыхая от трудов, или
когда за работой обмениваются сплетнями, совершенно не связанными с
тем, что они в данный момент делают, - ясно, что здесь мы имеем дело с
другой формой использования языка, с другим типом речевой функции.
Язык здесь не зависит от того, что происходит в данный момент,
каким бы ни был конкретный контекст ситуации. Значение любого
выражения может быть понято вне связи с поведением говорящего или
слушателя, оно не зависит и от цели их действий.
Фраза, произносимая из чистой вежливости, как во многих
дикарских племенах, так и в европейской гостиной, выполняет функцию, для
410
Приложение
которой значения слов почти совершенно не играют роли. Например,
когда спрашивают о здоровье, обмениваются замечаниями о погоде,
говорят какие-то совершенно очевидные вещи, все это делается совсем не для
обмена информацией, не для того, чтобы объединить людей каким-либо
совместным действием, и, уж конечно, не для того, чтобы выразить
какую-то мысль.
По-моему, было бы ошибкой даже считать, что подобные слова
служат возникновению какого-то общего чувства, ибо его обычно нет в
такого рода фразах, которыми обмениваются люди; и если кому-то захотелось
бы найти такое чувство, скажем, в выражениях обоюдной симпатии, то
это привело бы только к конфузу. Например, каков raison d'etre1 таких
фраз, как «How do you do?», «Ax, вот и вы», «Откуда вы?», «Прекрасный
день сегодня» - каждая из которых принята в том или ином обществе как
формула приветствия или ухаживания?
Я думаю, что, обсуждая функцию речи, которую она выполняет как
простая условность при общении, мы подходим к одному из основных
социальных аспектов человеческой природы. Всем людям свойственна
хорошо известная тенденция объединяться, быть вместе, получать
удовольствие от общения. Многие инстинкты и внутренние стремления, такие,
как страх или агрессия, все типы социальных чувств, таких, как
амбициозность, тщеславие, жажда власти и богатства, зависят от
фундаментальной тенденции, которая делает простое присутствие других людей
необходимостью для человека2.
Речь неразрывно связана с этой тенденцией, ведь, как правило,
молчание собеседника не добавляет уверенности человеку, а, напротив,
выступает как тревожный или даже опасный признак. Незнакомец,
который не может говорить на понятном языке, для всех туземцев является
естественным врагом. Для людей с примитивным сознанием, будь то
дикари или представители наших необразованных классов, молчаливость
означает не только недружелюбие, но и прямо-таки плохой характер.
Конечно, здесь многое зависит от особенностей национального
характера, но в целом это можно считать общим правилом. Прервать
молчание, перекинуться парой слов — это первое, с чего начинается
выражение дружелюбия, которое затем утверждается дележом пищи и
совместной трапезой. Современное английское выражение «Nice day today» или
меланезийская фраза «Откуда ты?» необходимы, чтобы снять странное и
1 Здесь: смысл, подоплека (фр.). - Прим. перев.
2 Я избегаю слова Herd-instinct, так как я верю, что тенденция, о которой идет
речь, не может быть названа инстинктом в строгом смысле. Более того, термин
Herd-instinct в недавних социологических работах использован ошибочно, в
работах, которые тем не менее стали достаточно популярны, чтобы их авторы могли
навязать свои концепции широкому читателю.
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
411
неприятное напряжение, которое возникает, когда встретившиеся
лицом к лицу люди молчат.
После произнесения первой формулы идет речевой поток, с виду
бесцельные выражения неких предпочтений или антипатий, упоминания о
каких-то посторонних событиях, замечания о том, что и без слов
понятно. Такая болтовня в примитивных обществах лишь немногим
отличается от нашей. Здесь всегда заметно подчеркнутое выражение согласия с
собеседником, которое, между прочим, может быть смешано с некоторыми
разногласиями, что создает определенные рамки, за которыми может
возникнуть антипатия. Характерна также личностная позиция
говорящего, излагающего какие-либо свои мнения или рассказывающего
какую-то историю из жизни, к чему слушатель относится с некоторым
недоверием и плохо скрываемым нетерпением высказаться самому. В таких
случаях роли говорящего и слушающего не вполне симметричны; тот, кто
более активен в речи, может в большей степени самоутверждаться и
получать социально значимое удовлетворение. Но хотя роль слушателя не
столь активна, и она может приносить определенное удовлетворение, тем
более что собеседники могут свободно обмениваться ролями.
Безусловно, здесь мы можем говорить об особом типе употребления
языка. Бес терминологического изобретательства толкает меня под руку,
и я попытался назвать этот тип фатическим общением1 (phatic
communion) — речью, объединяющей собеседников простым обменом
словами.
Посмотрим на проблему с уже известной точки зрения; спросим, как
ее решение способно прояснить функцию или природу языка. Можно ли
считать, что в фатическом общении собеседники в основном
обмениваются языковыми значениями, которые символизируют нечто известное
им до всякого общения? Разумеется, нет! Выражения, участвующие в
этом общении, выполняют определенную социальную функцию, что и
является целью самого общения, но при этом они не выступают как некие
отражения умственных состояний собеседников. Иначе говоря, язык в
этом случае не функционирует как средство передачи мыслей.
Но можно ли рассматривать такое использование языка как форму
деятельности? И как это соотносится с важнейшим для нас понятием
контекста ситуации? Понятно, что сама по себе физическая ситуация, в
которой происходит речевое общение, не входит в определение речи. Но
что можно считать ситуацией, когда несколько человек беседуют друг с
другом без какой-то определенной цели? Она состоит в самой атмосфере
взаимного расположения и в факте личностного общения этих людей.
Это и есть то, что возникает благодаря речи. Во всех подобных случаях си-
1 Phatic (ср.: emphatic - резкий, подчеркнутый) (англ.) - можно перевести как
«размытый», мягкий. - Прим. перев.
412
Приложение
туация возникает в обмене словами, в особом ощущении товарищеской
компании, в перебрасывании выражениями, из которых и состоит
обычная беседа. Все, что входит в понятие ситуации, здесь происходит на
языковом уровне. Каждое выражение можно рассматривать как некое
действие, направленное на то, чтобы установить связь между говорящим и
слушателем, переживаемую как некое социальное по своей природе чувство.
И опять-таки язык выступает здесь не как инструмент рефлексии, а как
форма деятельности.
Я хотел бы сразу добавить, что хотя рассматриваемые здесь примеры
взяты из жизни дикарей, можно было бы найти и в нашем обществе самые
точные аналоги для каждого вида использования языка из всех
обсуждавшихся до сих пор.
Словесная ткань, соединяющая действия экипажа судна, попавшего
в шторм, команды, по которым действует воинское подразделение,
выполняющее свою задачу, специфический жаргон, которым
сопровождается какая-то трудовая деятельность или спортивное состязание, - все
это в своих существенных чертах подобно примитивной речи
действующего человека, и примеры из современной жизни были бы равно уместны
для нашего рассуждения. Примеры из жизни дикарей были выбраны
мной потому, что я хотел подчеркнуть именно такую, а не иную природу
примитивной речи. Более того, в простой болтовне и в дружеской беседе
мы используем язык точно так же, как это делают дикари, и наш разговор
есть «фатическое общение» в указанном выше смысле, когда люди
вступают вличностный контакт не для того, чтобы сообщить друг другу некие
сведения, а просто затем, чтобы быть вместе.
«Во всем западном мире принято, что люди должны часто встречаться
и что беседа есть не только приятное времяпрепровождение. Простая
вежливость побуждает их сказать друг другу что-нибудь даже тогда, когда
это не так просто сделать», - замечают наши авторы]. Действительно, нет
надобности и даже необходимости в том, чтобы в разговоре передавать
какое-то сообщение. Пока находятся слова для беседы, фатическое
общение несет как дикарям, так и цивилизованным людям приятную
атмосферу взаимного расположения, чувства социальной общности.
Л ишь в некоторых весьма специальных случаях использования языка
в цивилизованном сообществе и только на самых высоких уровнях язык
предназначен для оформления и выражения мысли. В поэзии и
литературном творчестве язык вбирает в себя человеческие чувства и страсти,
чтобы передать в тонкой и убедительной манере внутренние состояния и
процессы сознания. В науке и философии используются наиболее
развитые виды речи, чтобы оперировать понятиями и делать их общим
достоянием цивилизованного человечества. Но даже в этой функции было бы
См.: гл. 1 настоящей работы.
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
413
неправильно рассматривать язык только как твердый осадок
рефлективного мышления. И понимание речи как того, благодаря чему внутренние
процессы сознания говорящего становятся доступными сознанию
слушателя, является односторонним. Даже по отношению к наиболее
развитым и специальным видам речи это только частная и, безусловно, не
самая релевантная концепция.
Чтобы еще раз сформулировать основную идею этого параграфа,
можно сказать, что язык в своей примитивной функции и
первоначальной форме имеет существенно прагматический характер, что он есть
форма поведения, необходимый элемент согласованных человеческих
действий. И в отрицательной форме: рассматривать язык как некое средство
выражения и передачи мысли значит занять одностороннюю позицию,
абсолютизируя одну из его наиболее производных и специальных
функций.
5. Свою концепцию природы языка я попытался подтвердить детальным
анализом примеров, указанием конкретных и актуальных фактов. Это
дает мне уверенность в том, что проводимое мной различие между «видом
действия» и «средством мышления» не останется пустой фразой, а
наполнится содержанием благодаря приведенным фактам. Однако лучшим
подтверждением положительного смысла и эмпирической значимости
общего принципа была бы демонстрация его применимости для решения
проблем, возникающих при описании трудных, если не сказать
головоломных, ситуаций.
Лингвистика дает пример такого рода головоломок. Это проблема
значения. Возможно, здесь следовало бы изложить эту проблему в более
общем и абстрактном виде, с претензиями на определенную
философию, учитывая уроки, преподанные Огденом и Ричардсом (гл. 8 и 9),
показавшими, какие опасности подстерегают нас на этом пути. Но здесь я
просто хотел бы подойти к этой проблеме по узкой улочке
этнографического эмпиризма и показать, как она выглядит в прагматическом
аспекте примитивной речи. Такой подход позволяет отнести речь к активным
формам человеческого поведения, а не к рефлективным и когнитивным.
Но чтобы сделать идею значения более ясной, этот внешний подход к
проблеме, как и вся концепция в целом, нуждаются в более подробных
аналитических аргументах.
В гл. 3 авторы обсуждают психологию знаковой ситуации
(sign-situation) и то, каким образом символы приобретают значения (significance).
Я не собираюсь повторять или резюмировать их проницательный
анализ, образующий краеугольный камень их лингвистической теории,
который мне представляется в высшей степени убедительным и
удовлетворительным. Однако я хотел бы остановиться на одном моменте их
аргументации, который тесно связан с моей прагматической концепцией
языка.
414
Приложение
Авторы совершенно правы, отвергая попытки объяснить значение с
помощью понятий суггестии, ассоциации или апперцепции, поскольку
такие объяснения недостаточно динамичны. Конечно, образование
новых идей основано на апперцепции, и поскольку новая идея образует
новое значение и получает благодаря ему новое имя, апперцепция есть
процесс, в котором возникает значение. Но так происходит только в
наиболее развитых и рафинированных случаях использования языка в научных
целях. Из приведенных выше рассуждений достаточно ясно, что этот тип
формирования значения (meaning) является в большой мере
производным и не может рассматриваться как образец, по которому можно изучать
и объяснять значение (significance).
Это можно показать не только на примерах, взятых из жизни дикарей,
но и анализируя нашу собственную языковую практику. Чтобы
использовать язык так, как это свойственно науке, человеку в его отношении к
языку нужно пройти путь, начало которого - в самых элементарных
формах словоупотребления. Прежде чем овладеть словарным запасом науки,
характеризующимся высокой степенью искусственности, с помощью
апперцепции (которая к тому же весьма ограничена в своих возможностях),
он уже должен уметь употреблять слова и словесные конструкции,
которые ранее использовались и продолжают использоваться, значения
которых в его сознании сформированы совершенно иначе. Способ их
формирования существенно зависит от времени, поскольку он произволен от
более ранних словоупотреблений, обладает большей общностью, ибо так
получает свое значение большинство слов, и более фундаментален, так
как связан с наиболее важными, основными видами речи, общими для
примитивных и цивилизованных людей.
Этот способ формирования значения мы должны теперь более
подробно проанализировать на основе нашей прагматической концепции
языка. И сделать это лучше, обращаясь к генезису языка, к употреблению
слов ребенком, к примитивным формам значения, к донаучному языку в
нашей собственной культуре.
Какие-то моменты, формирующие значения в младенческом
возрасте и в раннем детстве, могут оказаться более важными, как это выглядит в
свете современной психологии, которая все больше склоняется к идее о
том, что ментальные привычки, приобретенные в раннем детстве,
продолжают оказывать влияние на психику взрослого человека.
Нечленораздельные, эмоциональные звуки и артикулированная речь
выступают исключительно важным биологическим фактором как на
ранних, так и на зрелых стадиях развития человека, глубоко связанных с
инстинктивными и физиологическими особенностями человеческого
организма. Дети, дикари и взрослые цивилизованные люди издают одни и те
же звуки, реагируя на некоторые ситуации, испытывают ли они телесную
боль или духовную муку, страх или страсть, сильное удивление или наслаж-
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
415
дение. Эти звуки-реакции выступают как часть выражения человеческих
эмоций и как таковые обладают, как это было установлено Дарвином и
другими, жизненно важной ценностью или, по крайней мере, сами
основываются на таких ценностях. Всякий, кто имел дело с младенцами и
маленькими детьми, знает, что они самым недвусмысленным образом
выражают свои настроения, эмоции, потребности и желания. Внимательно
прислушавшись к звукам, издаваемым младенцем, тотчас можно
убедиться в том, что каждый из них является выражением некоторого
эмоционального состояния; что для окружающих людей он имеет
определенное значение; и что он связан с внешней ситуацией, в которой находится
организм ребенка, - когда ребенок голоден, испуган, доволен или
заинтересован.
Все это относится к нечленораздельным звукам, когда младенец
гулит, хнычет, пищит или плачет. Затем его звуки становятся несколько
более членораздельными: вначале идут слоги - гу, ма, ба и т.п., -
которые повторяются нерегулярно, вперемешку с другими, иногда
заглушающими их звуками. Эти звуки также служат для выражения
некоторых психофизиологических состояний и выплесков энергии ребенка.
Они являются признаком здоровья и выступают как необходимое
упражнение. Испускание звуков на самой ранней и более поздней стадии
вербального развития — одна из главных форм детской активности, об
упорстве и страсти которой знает каждый родитель на своем как
приятном, так и неприятном опыте.
При рассмотрении генезиса значения на этих самых ранних стадиях
развития ребенка нам опять нужна, хотя и в несколько ином аспекте,
прагматическая концепция языка. На этой стадии ребенок действует
звуками, и способ, каким он действует, приспособлен как к состоянию его
психики, так и к внешней ситуации, а также понятен окружающим его
взрослым. Таким образом, значимость (significance) звуков, значение
какого-либо выражения в данном случае идентично активной реакции на
стимулы среды и естественному выражению эмоций. Значение таких
звуков возникает в одной из самых ранних и самых важных форм
человеческой деятельности.
Когда звуки начинают артикулироваться, развивается ум ребенка; он
начинает проявлять интерес к отдельным предметам из своего
окружения, хотя наиболее важные для него элементы среды, ассоциированные с
пищей и комфортом, уже выделялись им ранее. В то же время ребенок
начинает сознавать звуки, производимые взрослыми и другими детьми из
его окружения, и это способствует развитию тенденции к имитации этих
звуков.
Наличие социальной среды имеет фундаментальное биологическое
значение для развития ребенка и в то же время это необходимый элемент
формирования речи. Ребенок, начиная артикулировать некоторые слоги,
416
Приложение
вскоре слышит, как эти слоги повторяются взрослыми, и это
способствует развитию более ясного, членораздельного произношения.
Было бы крайне интересно установить, имеют ли (и если да, то в
какой степени) некоторые из самых ранних артикулированных звуков
«естественное» значение, т.е. значение, основанное на некоторых
естественных связях между звуком и объектом. Из своих личных наблюдений я
могу привести единственный факт, имеющий отношение к данному
предположению. Я заметил у двух детей, что на той стадии, когда
начинает формироваться различение слогов, повторяемые звуки ма, ма, ма...
возникают, когда ребенку чего-то недостает, когда не удовлетворено
какое-то его важное желание или он испытывает общий дискомфорт.
Его звуки привлекают мать, самый важный объект из его окружения,
и с ее появлением проходит то, что беспокоило его сознание. Нельзя ли
предположить, что звук мама..., возникающий как раз на той стадии,
когда начинается артикулированная речь, - с присущей ему
эмоциональной значимостью и силой, способной призвать мать на помощь, —
воспроизводится в большинстве человеческих языков корнем «ма» в слове
«мама»?1.
Как бы то ни было, вопросы о том, возникают ли первые слова
ребенка спонтанно, или же весь его словарь приходит в его сознание извне и
каким образом используются самые первые элементы членораздельной
речи, представляют действительный интерес и уместны при обсуждении
нашей темы.
Самые первые слова - мама, дада или папа, выражения,
обозначающие еду, питье, некоторые игрушки или животных, — не просто
имитируются и используются для описания, именования или идентификации.
Также, как не артикулированные выражения эмоций, первые слова
ребенок начинает произносить, когда испытывает какие-либо неприятности
или сильные эмоции, когда плачем зовет родителей или радуется их
присутствию, когда шумно требует пищи или повторяет с удовольствием или
возбуждением названия каких-то своих любимых игрушек. Здесь слово
становится значимой реакцией на возникающую ситуацию,
выражающей внутреннее состояние ребенка и понятной окружающим.
У последнего обстоятельства есть еще один важный ряд следствий.
Человеческое дитя, столь беспомощное и не способное противостоять
1 Соответствие между ранними естественными звуками и словами,
обозначающими ближайших родственников, хорошо известно (ср.: Westermarck ЕЛ. History
of Human Marriage. N.Y., 1922. Vol. 1. P. 242-245). Здесь я утверждаю нечто
большее; а именно, что естественный эмоциональный тон одного из этих звуков, ма, и
его значимость для матери является причиной ее появления и таким образом,
через естественный процесс образует значение слов типа мама. Обычно же считают,
что значение этим словам искусственно придают взрослые. «Термины, которые
проистекают из бормотания младенцев, конечно, были отобраны, а
использование их фиксировано взрослыми» ( Westermarck ЕЛ. Op. cit. Р. 245).
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
417
трудностям и опасностям, угрожающим его маленькой жизни, окружено
весьма сложной системой заботы и помощи, в основании которой лежит
инстинкт материнства, а также, хотя и в меньшей степени, отцовства.
Ребенок воздействует на окружающий его мир через родителей,
которых он зовет себе на помощь, и зов этот главным образом словесный.
Когда ребенку кто-то нужен, он зовет этого человека и тот приходит к нему.
Если ребенок хочет есть, или ему нужен какой-то предмет, или он
просит убрать какие-то вещи, беспокоящие его, единственным, но очень
эффективным средством добиться своего для него является крик. Поэтому
слова для ребенка являются не только средствами выражения, но
эффективными формами действия. Назвать кого-то по имени жалобным
голосом - значит материализовать эту личность. Пищу нужно назвать - и она
явится, по крайней мере, в большинстве случаев. Поэтому в сознании
младенца возникает глубокое убеждение, что имя обладает властью над
человеком или вещью, которых оно называет.
Таким образом, биологически существенным фактором для человека
является то, что слова, артикулируемые ребенком, производят то самое
действие, которое эти слова означают. Слова для ребенка - это и есть
действующие силы, они помогают ему осваивать реальный мир, выступают
для него единственным надежным средством перемещать, приближать и
отталкивать окружающие его предметы, вносить в среду
соответствующие изменения. Конечно, речь идет не о сознательном использовании
языка ребенком, а о том отношении к языку, которое вытекает из
детского поведения.
Изучая использование речи на более позднем этапе развития
ребенка, мы опять-таки замечаем, что прагматический аспект значения еще
более усиливается. Весь жизненный опыт ребенка говорит ему, что
слова что-то означают, потому что они производят какое-то действие, а не
потому, что их кто-то понимает или воспринимает. То, что ребенок
радуется, употребляя слова, то, что он заявляет о себе, повторяя какие-то
из них, то, что он играет со словами, - все это объяснимо действенным
характером первых языковых опытов. Неверно считать, будто игра со
словами «бессмысленна». Конечно, играющий со словом ребенок не
преследует какой-нибудь умственной цели, но игра обладает для него
эмоциональной значимостью и поэтому является одним из самых
любимых действий ребенка, с помощью которого он находит путь к тому или
другому лицу или объекту из окружающей среды. Когда ребенок
встречает подходящего к нему человека или животное, какую-то пищу или
игрушку, многократно повторяя соответствующее имя, тем самым
устанавливается связь симпатии или антипатии между ним и данным
объектом. И потом всегда, уже в более старшем возрасте, повторение имени
является первым средством, чтобы привлечь к себе, материализовать
вещь, носящую это имя.
418
Приложение
Теперь, если отданных рассуждений перейти к анализу
примитивного мышления, было бы лучше не заниматься умозрительными, а потому
бесполезными гипотезами о началах речи, а просто рассмотреть те
обычные формы использования языка, которые предстают перед нами в
эмпирических наблюдениях за жизнью туземцев.
В примерах, которые мы рассматривали выше, группа туземцев,
занятых своим обычным делом, использует технические термины,
названия инструментов и специальных действий. Слово, которым
обозначается некий важный в обиходе предмет, используется при действии с
ним не для того, чтобы пояснять его характер или рассуждать о его
свойствах, а для того, чтобы этот предмет появился, оказался под рукой
у называющего его имя, или для того, чтобы помочь другому человеку
правильно использовать этот предмет. Значение вещи создается
опытом действия с ней, а не интеллектуальным созерцанием. Таким
образом, когда дикарь учится понимать значение слова, этот процесс
совершается не путем объяснений или последовательных актов
апперцепции, он учится действовать с тем, что это слово называет. (Слово
означает для туземца правильное употребление вещи, которую оно
называет, точно так же, как какой-либо инструмент означает нечто, если
он может быть использован, и не означает ничего, когда нет никакого
опыта действия с ним).
Аналогично глагол, слово, обозначающее действие, приобретает свое
значение через активное участие в этом действии. Слово используется,
когда оно может произвести некое действие, а не для того, чтобы
описывать это действие, и еще менее для того, чтобы переводить мысли.
Поэтому слово обладает властью как таковое, оно приводит в действие вещи,
оно есть инструмент по отношению к действиям и объектам, а не их
определение.
К той же концепции значения можно прийти, анализируя наш
собственный активный модус речи, даже тех из нас, кто не так уж часто
пользуется языком науки или литературы. Необъяснимый страх перед
богохульством или по крайней мере воздержание от него, отвращение, которое
вызывают непристойные выражения, власть, которую имеют клятвы, -
все эти многочисленные верования, связанные со словами, показывают,
что в обычном словоупотреблении грань между символом и референтом
является чем-то большим, чем простая конвенция.
Необразованные люди, живущие в цивилизованных обществах,
понимают слова и относятся к ним почти также, как дикари, т.е. так, словно
сфера их бытия в точности совпадает со сферой реального действия. И то,
что для них вербальное знание — пословицы, поговорки, а в наши дни
новости — выступает единственной формой мудрости, придает
определенный характер этой неявной установке. Но здесь я вступаю в область,
которая широко проиллюстрирована и проанализирована в этой книге.
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
419
Действительно, всякий, кто прочел блестящие главы Огдена и Ричардса
и понял основную линию их аргументации, догадается, что все аргументы
этого параграфа являются чем-то вроде примечаний к их
фундаментальному положению о том, что примитивное, магическое отношение к словам в
значительной мере определяет как правильное, так и неправильное
употребление языка, особенно в философских спекуляциях. И богатые
иллюстрации из гл. 2, и примеры из глав 7-9, и многое из сказанного в связи с этим,
позволяет понять, к каким глубоким истокам уходит вера в то, что слово
имеет власть над вещью, что оно участвует в природе вещи, что его
«значение» подобно или даже тождественно вещи или своему прототипу.
Но откуда происходит эта магическая установка? Здесь на помощь
приходит изучение ранних стадий формирования речи, и этнограф
может принести пользу философу языка. Изучая формирование значения у
младенца и значение, как оно выступает для дикарей или
необразованных людей, мы встречаемся как раз с магическим отношением к словам.
Слово дает власть, позволяет подчинять себе объект или действие.
Значение возникает тогда, когда слово относится к чему-то
непосредственно знакомому, когда из него можно извлечь прямую пользу, как это
делает младенец своим криком или дикарь каким-то практическим
действием. Слово всегда используется в прямом действенном соединении с
реальностью, которую оно обозначает. Слово воздействует на вещь, а
вещь порождает слово в человеческом сознании. Но примерно в этом и
состоит сущность воззрений, на которых основана магия слов. И мы
видим, что это воззрение имеет основу в реальном психологическом опыте
и примитивных формах речи.
Еще до самых ранних философских концепций существовали
магическая практика и магические воззрения, и именно в них
естественное отношение человека к словам было зафиксировано и
сформулировано в особом знании и традиции. Чтобы лучше понять эту традицию,
согласно которой слова обладают тайной властью над некоторыми
вещами, следует обратиться именно к реальным заклинаниям, к
вербальной магии и к представлениям о магии примитивных людей. Одним
словом, исследование всего этого просто подтвердило бы
теоретические выводы, сделанные в этом параграфе. В магических формулах
преобладают слова с высоким эмоциональным накалом, технические
термины, властные императивы, слова надежды на удачу, на успех.
Сказанного пока достаточно, а подробности читатель сможет найти в
гл. 2 этой книги, а также в главах «Магия» и «Власть слов в магии» в
моей цитированной выше книге1.
Было бы интересно интерпретировать результаты нашего анализа
самых ранних стадий формирования значения по схеме, в которой
См.: Аргонавты Западной части Тихого океана.
420
Приложение
отношения между символом, актом мышления и референтом
изображены треугольником (см. начало гл. 1). Эта схема хорошо
представляет названные отношения в развитых формах словоупотребления.
Треугольник характерен тем, что его основание (штриховая линия)
изображает полагаемое отношение между символом и вещью, им обозначаемой,
т.е. референтом, как ее называют авторы. В философских рассуждениях
или в науке, т.е. в тех сферах, где речь обретает свои наиболее развитые
функции (именно эти функции авторы в основном рассматривают в
своей книге), этот, так сказать, разрыв значения перекрывается только актом
мышления - кривой, образованной двумя сторонами треугольника.
Попробуем представить аналогичную схему ранних стадий
формирования значения. На самой первой стадии, когда выражение является
просто звуковой реакцией, экспрессивной, значимой и коррелированной с
ситуацией, но не включающей в себя никакого акта мысли, треугольник
редуцируется к своему основанию, которое в таком случае изображает
реальную связь - между звуковой реакцией и ситуацией. Здесь первое не
может быть названо символом, а последнее - референтом.
Первая стадия
Звуковая реакция (непосредственно связанная с) ситуацией
Вторая стадия
Активный звук (членораздельный наполовину или полностью)
(коррелированный с) референтом
Начала членораздельной речи, когда одновременно с ее появлением
референты выделяются из ситуации, еще представлены сплошной
линией актуальной корреляции (вторая стадия). Звук не есть реальный
символ, ибо он не используется отдельно от своего референта.
Третья стадия
(А)
Речь в действии
Активный символ (используемый для управления) Референт
(В)
Нарративная речь
Акт воображения
Символ (косвенное отношение) Референт
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках 421
(С)
Язык ритуальной магии
Ритуальный акт (основанный на традиционной вере)
Символ (мистически предполагаемое отношение) Референт
На третьей стадии следует различать три фундаментальных
употребления языка: активное, нарративное и ритуальное. Каждое из них
достаточно ясно представлено на схеме, которая должна рассматриваться
вместе с нашим предыдущим анализом. Конечная стадия развитого
языка представлена треугольником Огдена и Ричардса, и его генетическая
связь со своими скромными предшественниками может кое-что
объяснить в его строении. Прежде всего: то, что схема авторов может быть
расширена или применена к примитивным употреблениям языка, есть еще
одно доказательство ее ценности и адекватности. Далее: то, что почти все
основания наших треугольников проведены сплошной линией,
объясняет, почему штриховая линия в последней схеме изображает столь
прочную связь и почему это может быть столь опасным. Исключительная
жизнестойкость магического отношения к словам может быть подтверждена
примерами, которые уже были приведены для иллюстрации
теоретических положений книги, причем примеры не только взяты из
примитивной языковой практики дикарей и, конечно, доисторического человека,
но и показывают, как язык используется ребенком, каков механизм
формирования значения в жизни каждого человека.
Из нашей теории формирования значения в примитивных языках
могут быть выведены и другие следствия. Так, она еще раз
подтверждает анализ определения, проделанный авторами. Они, конечно,
правы, утверждая, что «вербальное» и «реальное» определение в конце
концов должны относиться к одной и той же вещи и что абсолютизация
этого искусственного различения создает ложную проблему.
Значение, как мы видели, формируется примитивным человеком не в
созерцании вещей или анализе событий, а благодаря практическому и
действенному поведению в определенных ситуациях. Знание слова реально
рождается благодаря его правильному употреблению в определенных
ситуациях. Слово, подобно любым созданным человеком орудиям,
становится значимым только после того, как оно находит
соответствующее применение всякий раз, когда для этого имеются
соответствующие условия. Поэтому не может быть никакого определения слова,
чтобы в нем не присутствовала бы реальность, которую это слово
означает. Более того, поскольку значимый символ необходим человеку,
чтобы выделить и понять некий фрагмент реальности, нельзя
определить вещь, не определяя в то же время слово. Определение в его самой
первичной и фундаментальной форме есть не что иное, как звуковая
422
Приложение
реакция или некое артикулированное слово, которое соединяется с
конкретным аспектом ситуации посредством соответствующего
человеческого действия. Это определение определения, конечно, не
относится к тому же типу употребления языка, который обсуждается
авторами в их книге. Однако интересно, что их выводы, сделанные на
основе изучения высших типов речи, хорошо соответствуют тому, что имеет
место в примитивном словоупотреблении.
6. В этом очерке я пытался сузить сферу каждой обсуждаемой языковой
проблемы. С самого начала я руководствовался принципом, согласно
которому изучение языка должно проходить на фоне этнографического
анализа общей культуры, что языки должны быть особым, быть может,
самым важным предметом науки о культуре. Поэтому нужно попытаться
показать, что такая позиция связана с некоторыми более общими
воззрениями на природу языка, согласно которым речь человека должна
рассматриваться как форма деятельности, а не как знаковый репрезентант
мысли. Это требует рассмотрения истоков и первоначальных форм
значения, каким оно создавалось примитивным человеком. Тем самым мы
получили бы ключ к пониманию происхождения магического
отношения к словам. Поэтому мы должны продвигаться в своих рассуждениях
так, чтобы каждое из них было более конкретным и определенным, чем
предыдущие.
Теперь я хотел бы коснуться еще одной проблемы, еще более
конкретной и определенной - проблемы структуры языка.
Каждый человеческий язык имеет свою определенную структуру.
Есть изолирующие, агглютинативные, полисинтетические,
инкорпорирующие и флективные языки. В каждом из них средства языкового
действия и выражения могут быть введены по определенным правилам и
классифицированы в соответствии с особыми категориями. Этот ряд
структурных правил вместе с исключениями из них, а также классификация
элементов языка и составляют то, что можно назвать «грамматической
структурой» языка.
В языке обычно видят (хотя, как мы убедились, это неверно)
«выражение мысли посредством звуков речи». Отсюда должно было бы
следовать, что каждая грамматическая категория является - или должна
являться — выражением некоторой логической категории. Однако
нетрудно понять, что надежда на счастливый брак между языком и логикой
слишком оптимистична; что на самом деле «они часто отклоняются
один от другого», а проще сказать, постоянно ссорятся и что язык часто
дурно обращается с логикой, пока она не изменит ему1.
1 Я привожу цитаты из книги: Sweet H. Introduction to the History of Language.
Этот автор является одним из наиболее ясных мыслителей, рассуждающих о
языке. Однако даже он не видит альтернативы соотношению «правила логики или
хаос в языке».
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
423
Таким образом, перед нами дилемма. Допустим, что грамматические
категории выводятся из законов мышления, тогда очень трудно
объяснить, почему же они так плохо согласуются друг с другом? Если язык
возникает, чтобы служить мышлению, почему он так слабо подчинен своему
патрону, почему так мало похож на него?
Чтобы избежать этих затруднений, можно перегнуть коромысло
дилеммы, как это делает большинство грамматиков. Они высокомерно
отворачиваются («зелен виноград!») от любых глубинных, философских
исследований языка и запросто утверждают, что грамматические правила
сами по себе, по какой-то божественной милости, несомненны; что
империя грамматики существует в гордой изоляции как сила, враждебная
мысли, порядку, системе и здравому смыслу.
Обе позиции — и обращение к логике за поддержкой, и утверждение
автономности правил грамматики - одинаково не соответствуют фактам
и должны быть отвергнуты. Нет ничего более абсурдного, чем
предположить вместе с упорствующим защитником второй позиции, что
грамматика должна вырастать как сорная трава на поле человеческих
способностей, у которой нет иной цели, кроме собственного существования.
Самопроизвольное зарождение бессмысленных монстров в мозгу
человека - гипотеза, которая вряд ли найдет поддержку у психологов, разве
что речь идет о мозге узкого ученого-специалиста. Во всех человеческих
языках, как бы ни были велики различия между ними, есть определенные
совпадения структур и грамматических средств выражения, не говоря уже
о наличии общих принципов или предпочтений. Было бы и нелепостью,
и интеллектуальным малодушием заранее отказаться от поиска тех
глубинных факторов, которыми определяются эти универсальные,
общечеловеческие характеристики языка. Как следует из нашей теории
значения, язык служит определенным целям, функционирует как инструмент,
который предназначен и применяется для решения определенных задач.
Это предназначение, корреляция между языком и его применениями,
накладывают отпечаток на языковую структуру. Но, конечно, ясно, что не в
сфере логического мышления и философских умозрений следует искать
истоки и предпосылки формирования человеческой речи, что чисто
логическая концепция языка столь же бесполезна, как чисто
грамматическая концепция.
Есть реальные категории, на основании которых делаются
грамматические определения. Но эти реальные категории берут начало не в
какой-то примитивной философии, они основываются не на созерцании
окружающего мира или отвлеченных умствованиях, приписанных
примитивному человеку некоторыми антропологами.
Язык своей структурой отражает реальные категории, выведенные из
практических отношений ребенка и примитивного или естественного
человека к окружающему миру. В грамматических категориях со всеми их
424
Приложение
особенностями, исключениями и упрямым неподчинением правилу
отражаются гибкость, открытость, практическая ориентированность
мировоззрения, формирующегося в борьбе человека за существование в самом
широком смысле этого слова. Наивно было бы надеяться, что нам удастся
точно реконструировать это прагматическое примитивное мировидение,
будь то дикарь или ребенок, или хотя бы детально проследить его
отношение к грамматике. Что действительно возможно, так это обозначить
общий контур этого мировидения и найти общую связь между ним и
грамматикой языка; если бы эта задача была решена, нам удалось бы
избавиться как от оков логики, так и от бесплодия грамматики.
Конечно, чем более высокоразвит язык и чем дольше история его
эволюции, тем больше структурных слоев он в себя включает.
Отдельные стадии культуры — дикарская, варварская, полуцивилизованная и
цивилизованная, различные способы употребления — прагматическое,
нарративное, ритуальное, схоластическое, теологическое — все это
оставляет на нем свой отпечаток. И даже когда наконец за очищение языка
принимается наука, всей ее силы не хватает, чтобы сгладить следы
предшествующих стадий культуры. Как показывают Огден и Ричарде, на
многих структурных свойствах языка современной цивилизации лежит
тяжкий мертвый груз архаики, магических суеверий и мистического
тумана.
Если наша теория правильна, то именно в самых примитивных
формах языковой практики следует искать основы грамматической
структуры. Дело в том, что начальные и наиболее подвижные стадии
языкового развития в наибольшей степени подвержены влиянию
грамматических форм и несут на себе их самый глубокий отпечаток. Те
грамматические категории, которые могут быть установлены в анализе
примитивной языковой практики, будут теми же для всех человеческих
языков, несмотря на многие поверхностные различия.
Человеческая природа всюду одинакова, и примитивные языковые
практики одни и те же. Но дело не только в этом. Как мы уже заметили,
прагматическая функция языка сохраняется и на самых высоких уровнях
его развития, что особенно очевидно, когда рассматриваются
формирование речи у детей или рецидивы примитивной речи и мысли у взрослых.
Язык не слишком подчиняется мышлению, напротив, мышление,
заимствуя у деятельности его орудие — язык, в гораздо большей мере
испытывает влияние последнего.
Суммируя, мы можем сказать, что фундаментальные грамматические
категории, общие для всех человеческих языков, могут быть поняты
только в обращении к прагматическому Weltanschauung1 примитивного
человека и что посредством языка варварские примитивные категории долж-
1 Мировоззрение (нем.). — Прим. перев.
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
425
ны были глубоко повлиять на позднейшие философские воззрения
человечества.
Это следует детально показать на конкретных примерах. Здесь я
кратко остановлюсь на конкретной грамматической проблеме частей речи.
Для этого нам следует обратиться к той стадии развития индивида или
человечества как такового, на которой нет места для рефлексии или
отвлеченных умозрений, когда явления классифицируются не в целях их
познания, а лишь постольку, поскольку они образуют круг
непосредственных условий человеческой жизнедеятельности. Для ребенка,
примитивного человека или любого индивида, не затронутого современной
языковой культурой, язык выступает необходимым орудием воздействия
на социальную среду. Применение этого орудия развивает определенное
отношение к действительности, отдельные фрагменты которой
выделяются и между ними устанавливаются некоторые связи; это отношение не
генерируется какой-либо мыслительной системой, а выражается в
поведении; если речь идет о примитивных обществах, то это поведение
выступает как часть культурного ансамбля, включающего в себя язык как
первое и важнейшее завоевание культуры.
Начнем с отношения ребенка к своему окружению. На самой ранней
стадии развития его действия и поведение направляются желаниями его
организма. Он движим голодом и жаждой, желанием тепла и
определенной чистоты тела, соответствующих условий для отдыха и сна,
определенной свободы движений и — last, but not least — потребностью в
человеческом общении, в заботе со стороны взрослых. На этой стадии ребенок
реагирует только на ситуацию в целом и вряд ли даже различает
ближайших людей, которые заботятся о его удобстве и кормят его. Но это
продолжается недолго. Уже через несколько недель некоторые явления и
предметы начинают им выделяться из общего окружения. Человеческие
лица представляют особый интерес — ребенок встречает их улыбкой и
издает звуки, выражающие удовольствие. Еще раньше он начинает узнавать
мать или кормилицу как те предметы, которые дают ему пищу.
Несомненно, самые сильные эмоции вызывает у ребенка мать и то,
что дает ему еду. Поклонники Фрейда могли бы усмотреть здесь некую
прямую зависимость. В детстве человек, как любой из млекопитающих,
ассоциируете матерью все свои эмоции, связанные с пищей. Прежде
всего она является для него сосудом с пищей. Поэтому если он получает
пищу каким-то другим образом - надо напомнить, что ребенок дикаря
кормится разжеванной растительной пищей почти с рождения так же, как
грудным молоком, - нежные чувства, которыми ребенок отвечает на
материнскую заботу, вероятно, распространяются и на другие носители
пищи. Если вспомнить ту радость, с какой современный ребенок, которого
кормят из соски, встречает свою бутылочку, его нежную и умильную
улыбку, которой он реагирует на нее, можно сделать вывод, что как есте-
426
Приложение
ственный, так и искусственный источник пищи вызывает у него
одинаковое ментальное отношение. Но если это действительно так, то мы
получаем ключ к разгадыванию тайны первоначальной персонификации
предметов, когда наиболее необходимые и важные вещи вызывают те же
эмоции, что и самые близкие люди. Несомненно, что между отношением
ребенка к ближайшим людям и к предметам, которые удовлетворяют его
потребность в пище, есть большое сходство, хотя неясно, до какой
степени было бы верно настаивать на их полном совпадении. Когда ребенок
начинает различать вещи, играть с предметами из своего окружения,
можно наблюдать интересную особенность в его поведении, также
связанную с фундаментальной пищевой потребностью любого младенца. Он
пытается все положить в рот. Поэтому он тащит к себе, пытается согнуть и
скрутить мягкие или гибкие предметы или отломить части твердых
предметов. Очень скоро отдельные, разломанные вещи становятся гораздо
более интересными и ценными, чем такие, внутрь которых невозможно
влезть. По мере того как ребенок взрослеет и начинает передвигать вещи,
его стремление физически выделять и разбирать их еще более возрастает.
Оно лежит в основании хорошо известного стремления детей все ломать.
Это представляет интерес в том смысле, что одна из ментальных
способностей, а именно способность выделять соответствующие факторы
окружающей среды - людей, пищу, предметы, имеет аналог в физическом
поведении ребенка. В этой особенности поведения мы находим еще одно
подтверждение нашей прагматической концепции раннего ментального
развития.
У ребенка можно наблюдать и стремление к персонификации
объектов, представляющих для него особый интерес. Говоря о
персонификации, я не имею в виду какие-то осознанные мысли и идеи самого ребенка.
Как и в том случае, когда речь шла о пище, у ребенка наблюдается такой
тип поведения, при котором нет существенного различия между людьми
и вещами. Ребенок любит или не любит некоторые из своих игрушек,
сердится на них, если они становятся непослушными; он обнимает их
ручонками, целует и показывает, как к ним привязан. Конечно, люди занимают
его и дольше, и больше, но отношение к ним может рассматриваться как
некий образец, по которому строится его отношение к вещам.
Другой важный момент - это большой интерес к животным. Я сам
наблюдал, как дети в возрасте нескольких месяцев, которые не
проявляют какого-либо устойчивого интереса к неодушевленным вещам,
довольно долго могут следить за движениями птички. Слово, каким обозначают
птичку, — одно из первых, которое начинает понимать ребенок. Хорошо
известен также интерес к животным, который ребенок проявляет на
более поздних стадиях своего роста. Это важно в связи с обсуждаемой нами
темой, ведь, согласно нашей теории, именно животное, в особенности
птица, которая произвольно движется в окружающей среде, легко отли-
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
427
чается от неподвижных предметов и так похожа в этом на человека,
должна быть тем объектом, который вызывает интерес у ребенка.
Легко заметить параллель между этим отношением и отношением
нынешнего дикаря к окружающей его среде. Внешний мир интересует его
в той мере, в какой предметы этого мира полезны ему. Полезность здесь,
конечно, следует понимать в широком смысле, включая не только то, что
человек потребляет как пищу, использует как убежище и орудие, но все,
что стимулирует его деятельность в игре, ритуале, войне или
художественном творчестве. Все то, что значимо для дикаря в мире вещей,
вычленяется, отделяется от остальной среды. Когда я находился с дикарями в
какой-то естественной среде — плыл в лодке по морю, прогуливался по
пляжу или в лесных зарослях, вглядывался в звездное небо, - на меня
часто производило впечатление их стремление выделить только некоторые
объекты, которые были важны для них, а остальные рассматривать
просто как фон. Например, в лесу я обращал внимание на какое-то дерево
или другое растение, но в ответ на мой вопрос, что это такое, туземцы
отвечали «О, это просто джунгли».
Насекомое или птица, которые несъедобны или не связаны с какой-то
традицией, называются «мауна вала» — просто летающее живое существо.
Напротив, если предмет так или иначе полезен, то он получает имя; туземцы
могут подробно рассказать о том, какими свойствами он обладает и как его
можно использовать; этот предмет четко отличается от других. То же
относится к звездам, ландшафту, камням, рыбам, моллюскам. Туземцы всегда
стремятся выделить то, что связано с какой-то традицией, ритуалом или
приносит какую-то пользу, а все остальное для них не более чем
неразличимая куча. При этом они отдают предпочтение некоторым небольшим, легко
различимым предметам. Животные их интересуют несколько больше, чем
растения; моллюски - больше, чем камни, летающие насекомые - больше,
чем ползающие. Предпочитается то, что легче разломать. Чаще получают
имя небольшие детали ландшафта, они связываются с определенной
традицией, и к ним туземцы проявляют интерес, в то же время большие участки
земли остаются безымянными и не отличаются один от другого.
Большой интерес, проявляемый примитивными людьми к
животным, некоторым курьезным образом аналогичен детскому отношению к
последним; я думаю, что и психологические основания этих отношений
сходны. Он выражается во всех явлениях тотемизма, культа животных, в
той роли, какую животные играют в примитивном фольклоре,
верованиях и ритуалах.
Теперь вновь перейдем к вопросу о том, что собой представляет эта
общая категория, в рамки которой ум примитивного человека помещает
и людей, и животных, и неодушевленные предметы. Эта плохо
оформленная, не имеющая точных границ категория не поддается
определению, зато она остро чувствуется и выражается в человеческом поведении.
428
Приложение
Она подчинена селективному критерию биологической полезности, а
также психологически и социально обусловленным применениям и
ценностям. Исключительная роль, какую в этой категории играют люди,
придает ей ту особенность, что и вещи, и животные входят в нее
персонифицированным образом. Все элементы этой категории также
индивидуализированы, изолированы и рассматриваются как отдельные сущности.
На некотором неразличимом фоне практическое Weltanschauung
примитивного человека выделяет категорию людей и персонифицированных
вещей. Очевидно, что эта категория приблизительно соответствует
категории субстанции — в частности, аристотелевскому понятию ousia. Но,
разумеется, эта категория не возникает в рамках какого бы то ни было
философского рассуждения, ни древнего, ни более позднего. Это только
грубая, еще не получившая отделки матрица, из которой впоследствии могли
бы развиться различные понятия субстанции. Ее можно было бы назвать
первичной субстанцией или protousia — для тех, кому звуки ученого языка
приятнее обычных.
Как мы уже видели, проводя гипотетическую параллель между
ментальным отношением младенца и ментальным отношением человека на
первых стадиях его развития, эти отношения связаны с развитием
значимых, артикулированных звуков. Для возникновения категории
грубой субстанции в примитивном мировоззрении необходимо, чтобы
звуки были настолько артикулированы, чтобы с их помощью можно было
обозначать различные сущности.
Класс слов, используемых для именования людей и
персонифицированных вещей, образует примитивную грамматическую категорию
субстантивных существительных (noun-substantives). Понятно, что эта часть
речи уходит своими корнями в активные формы поведения и в ту речевую
практику, которая неразрывно связана с речевыми актами, характерную
для детей, дикарей и, возможно, для людей с примитивной культурой.
Теперь вкратце рассмотрим второй важный класс слов — слова,
выражающие действия, глаголы. Лежащая в их основе реальная категория
позже входит в духовный мир ребенка и играет менее значительную роль в
сознании дикаря. Этому соответствует тот факт, что грамматическая
структура глаголов менее развита в языках дикарей. Действительно,
человеческое действие направлено на объекты. Ребенку нужны пища и
человек, заботящийся о нем, раньше, чем он сможет отделить действие
оттого, кто это действие производит, или осознать собственные действия. Он
гораздо меньше выделяет в той ситуации, в которой находится, свои
телесные состояния, нежели различные предметы.
Только на более поздних стадиях развития ребенка можно заметить,
что он отличает изменения в своем окружении от объектов, которые
изменяются. Это происходит на той стадии, когда младенец начинает
издавать артикулированные звуки. Ими он начинает выражать действия:
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
429
еду, питье, отдых, прогулку; состояния тела: сон, покой; настроения:
удовольствие или неудовольствие. Об этой реальной категории
действия, состояния и настроения можно сказать, что она используется для
приказаний так же, как и для указания или описания, что она связана с
изменением, т.е. со временем, и что она находится в особенно тесной
связи с личностями говорящего и слушающего.
В мировоззрении дикарей эта категория обладает теми же
характеристиками; им свойствен большой интерес ко всем изменениям,
происходящим с человеком, к фазам и типам человеческих действий, к
состояниям человеческого тела и духа. Это краткое перечисление позволяет
утверждать, что на примитивных стадиях развития человеческой речи должна
существовать реальная категория, в которую входят все изменения,
происходящие во времени и вызванные личным действием человека.
Рассматривая класс слов, которыми обозначаются элементы этой
реальной категории, мы находим близкое соответствие между категорией и
частью речи. Это действие-слово (action-word), или глагол, во всех языках
может изменяться по временам, склонениям или формам выражения.
Глагол также тесно связан с местоимениями, классом слов, которые
соответствуют другой реальной категории.
Несколько слов надо сказать о местоимениях. Что собой
представляет реальная категория примитивного человеческого поведения и
примитивных речевых навыков, соответствующих этой небольшой, но крайне
жизненно важной группе слов?
Как мы уже поняли, речь - это один из основных видов человеческого
действия. Следовательно, тот, кто действует посредством речи, говорящий
человек, выходит на первый план прагматического мировидения. Кроме
того, поскольку речь ассоциирована с коллективным поведением, тот, кто
говорит, всегда должен обращаться к слушателю, одному или многим.
Говорящий и слушающий — это, так сказать, два опорных момента
лингвистического анализа. Поэтому возникает надобность в небольшом классе
особых слов, соответствующих некоторой реальной категории, слов часто
употребляемых, легко сочетаемых со словами-действиями, но по своим
грамматическим признакам похожих на существительные. Часть речи,
называемая местоимением, включает лишь несколько постоянно
употребляемых, коротких, легко управляемых слов, тесно связанных с глаголами,
но функционирующих в языке почти как существительные.
Таким образом, эта часть речи близко соответствует своей реальной
категории. Это соответствие могло бы быть прослежено во многих
интересных деталях — особое асимметричное положение третьего лица
местоимения, проблема родов и классифицирующих частиц, особенно явная
для местоимений третьего лица1.
1 См. мою статью: Classificatory Particles // Bulletin of Oriental Studies. Vol. ii.
430
Приложение
Следует, однако, остановиться на одном моменте, общем для
существительных и местоимений. Речь идет о склонении различных
существительных. Реальная категория последних происходит из персонификации
объектов окружающей среды. Ребенок свое первое отношение к объектам
этой категории формирует на основании биологической полезности, на
удовольствии, испытываемом от их восприятия. Он встречает эти
объекты звуками, имеющими определенное значение, или называет их
артикулированными словами и таким образом зовет их к себе, когда это ему
нужно. Таким образом, эти слова, существительные, употребляются для
именования и призыва. Этому соответствует подкласс субстантивных
существительных (noun-substantives), которые можно было назвать апелля-
тивными (appellative) и которые похожи на некоторые случаи склонения
вокатива и номинатива в индоевропейских языках.
В более развитых языках это служит более эффективному выражению
действия. Слова-вещи входят в более тесное сочетание со словам
и-действиями. Действующие лица называются либо своими именами, либо
местоимениями: «я иду», «идешь ли ты?», «такой-то пьет», «животное
бежит» и т.д. Имя человека или персонифицированной вещи таким образом
употребляется по-разному, с разными значениями — как имя некоторого
действующего лица, субъекта действия. Это употребление соответствует
субъектному случаю, когда существительное выступает в роли субъекта
предикации. В этом случае существительному соответствует класс
личных местоимений - я, ты, он.
Действие совершается по отношению к определенным объектам.
Тогда вещи и люди различаются. Их имена, когда они сочетаются со
словом-действием таким образом, образуют объектный случай, а
местоимения используются в особой форме, которую называют объектной или
рефлексивной.
Поскольку язык уходит своими корнями в сферу практических
интересов человека, связанных с вещами и людьми, фундаментальное
значение имеет другое отношение, когда человек претендует на обладание
другим человеком или предметом или на какую-то связь с ними. Это может
быть связь расположения и дружбы - по отношению к ближайшему
окружению человека. По отношению к вещам это может быть хозяйственное
чувство обладания. Связь между двумя существительными, которыми
именуются вещи или люди, находящиеся в подобных отношениях, может
быть названа генитивной (genitival) или притяжательной; такая связь
существует во всех человеческих языках. Этому соответствует генитив в
европейских языках в своих наиболее характерных употреблениях.
Существует и особый класс притяжательных местоимений, которые выражают
эту связь.
Наконец, одна форма действия по отношению к вещам или людям
выделяется среди других, именно та, которая детерминирована про-
Б. Малиновский • Проблема значения в примитивных языках
431
странственными условиями. Не входя в детали, я убежден, что во всех
языках есть подкласс субстантивных употреблений, соответствующий
предложному (prepositional) случаю.
Очевидно, что есть и другие категории, берущие начало в
утилитарной установке человека, категории атрибутов или качеств предмета,
характеристик некоторого действия, отношений между вещами или
ситуациями; можно было бы показать, что прилагательное, наречие, предлог,
союз базируются на этих реальных категориях. Сопоставляя
семантический предмет, подлежащий выражению (matter-to-be-expressed), со
структурными свойствами языка, можно было бы попытаться объяснить
последние через реальные факты, связанные с природой примитивного
человека.
Этот короткий очерк, однако, достаточен, чтобы выяснить метод и
аргументацию, с помощью которых может быть обоснована генетическая
семантика примитивного языка — наука, которая, исследуя отношение
примитивного человека к реальности, раскрыла бы реальную природу
грамматических категорий. Выводы такой семантики, даже в той мере, в
какой нам удалось здесь их наметить, по-видимому, очень близко
подходят к результатам Огдена и Ричардса. Они состоят в том, что
неправильная установка по отношению к языку и его функциям является одним из
основных препятствий для развития философской мысли и научного
исследования, а также для постоянно растущего практического
использования языка в прессе, публицистике и художественной литературе. В этом и
предыдущем параграфах я пытался показать, почему это столь
непродуманное и неверное отношение к языку должно иметь место, на каких
корнях оно растет и почему обладает устойчивостью; я пытался проследить
его истоки, рассматривая детали грамматической структуры.
К этому надо добавить следующее. На более поздних этапах развития
языковой практики происходит беспорядочный и огульный сдвиг корней
и значений от одной грамматической категории к другой. Ибо, согласно
нашему пониманию семантики примитивных языков, каждый значимый
корень первоначально должен иметь свое и только одно место в
соответствующей глагольной категории. Так, корни значения таких слов, как
«человек», «животное», «камень», «вода» являются в сущности
номинальными корнями. Значение слов «спать», «есть», «идти», «приходить»,
«падать» являются глагольными. Но поскольку язык и мышление
развиваются благодаря постоянному действию метафоры, обобщения, аналогии,
абстракции и другим подобным употреблениям языка, возникают связи
между категориями и стираются граничные линии, тем самым позволяя
словам и корням свободно перемещаться по всей сфере языка. В
аналитических языках, таких, как китайский и английский, эта вездесущая
природа корней наиболее заметна, но это может быть обнаружено даже в
очень примитивных языках.
432
Приложение
Огден и Ричарде весьма убедительно показали причины
исключительной устойчивости старой реалистической ошибки, которая
содержится в утверждении, будто само слово гарантирует понимание значения,
якобы содержащегося в нем. Но если рассмотреть, что происходит за
сценой процесса корнеобразования, учесть реальный характер категорий
примитивных языков, а также их последующий, незаметно
подкрадывающийся коллапс, можно добавить к концепции авторов некоторые
важные аргументы. Миграция корней в несоответствующие им языковые
структуры придала воображаемой реальности гипостазированного
значения особую телесность. Ибо поскольку опыт примитивного человека
убеждает его в субстантивном существовании всего того, что входит в
категорию первичной субстанции (protousia), а последующий лингвистический
сдвиг вводит в эту категорию такие корни, как «ходьба», «покой»,
«движение» и т.п., то напрашивается очевидный вывод: такие абстрактные
объекты или идеи существуют в реальном мире сами по себе. Безобидные
прилагательные типа «хороший» или «плохой», которыми дикари
выражают почти животное удовлетворение или неудовлетворение ситуацией,
последовательно вторгающиеся в сферу, предназначенную для
неотесанных, грубо сколоченных блоков примитивной субстанции, возвышаются
до понятий «Благо» или «Зло» и создают целые теологические миры и
системы мышления и религии. Надо, конечно, помнить, что теория
Огдена и Ричардса и концепция, представленная в этой статье, позволяют
более отчетливо уяснить, что язык и все языковые процессы черпают свою
жизненную силу только из реальных процессов, связывающих человека с
окружающим миром.
Я только вскользь затронул вопрос о сдвигах значений. Его
подробное рассмотрение потребовало бы привлечь данные о психологии и
социологии варварских и полуцивилизованных обществ в той же мере,
как это сделано при попытках построения примитивной лингвистики
через анализ сознания примитивного человека и как это сделали авторы
книги, отметив достоинства и недостатки современного языка путем
мастерского анализа человеческого сознания в целом.
Перевод с английского В.Н. Поруса
Г.С. Рогонян
Интенциональность и язык:
тезис Брентано или миф о Джонсе1
1. Переписку двух американских философов Уилфрида Селларса (1912—1989)
и Родерика Чизома (1916-1999), опубликованную в 1958 г.2, без
преувеличения можно назвать показательным примером столкновения двух
основных на сегодняшний день взглядов на соотношение языка и интен-
циональности. Обмен письмами состоялся незадолго до публикации в
1956 г. теперь уже широко известного эссе Селларса «Эмпиризм и
философия сознания»3. Собственно, рукопись этого эссе и явилась поводом
для переписки, в которой Чизом поделился своим мнением о
содержащихся в эссе идеях. Публикация писем, разумеется, имеет большее
значение для Селларса, чем для Чизома. Решение Селларса опубликовать
переписку сразу после публикации эссе можно объяснить тем, что она
показалась ему хорошей иллюстрацией к тем проблемам и их решениям,
которые он предложил в своей работе. Судя по всему, он не ошибся -
ценность этого обмена мнениями подтверждается тем, как часто на эту
переписку ссылаются в качестве иллюстрации методологического
расхождения в исследованиях сознания и языка. В каком-то смысле
публикация позволяет проследить, как будет выстраиваться основная интрига
в дискуссиях об интенциональности во второй половине XX - начале
XXI в.4
Переписка интересна еще и тем, что в своих письмах Селларс
развивает ряд идей относительно языкового значения и уточняет некоторые
формулировки из эссе. Действительно, Селларс известен в основном
критикой так называемого мифа данности в эпистемологии и
философии сознания, причем его идеи в области философии языка только в
последнее время получают развитие, главным образом в работах Р. Брэн-
дома. Но тем и интересен этот обмен письмами, что основной акцент в
1 Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд НИУ
ВШЭ» в 2013-2014 гг., проект № 12-01-0040.
2 Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. 2. Minneapolis : University of
Minnesota Press, 1958. P. 521-539.
3 Sellars W. Empiricism and the Philosophy of Mind. Minnesota Studies in the
Philosophy of Science. Vol. 1. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1956.
P. 253-329.
4 В 1968 г. переписка между Селларсом и Чизомом стала темой диссертации
американского философа Дэвида М. Розенталя («Intentionality: A Study of the views
of Chisholm and Sellars»). - http://www.ditext.com/rosenthal/rost-dis.html.
434
Приложение
них был сделан именно на проблемах философии языка. Поэтому
переписка может послужить хорошим введением к работам Селларса о
языке. Наконец, помимо того что дискуссия в письмах способствует
пониманию проблем современной философии языка и сознания, она
является еще и интересным историческим документом, который фиксирует
начало нового этапа в развитии аналитической философии в 1950-х гг.,
когда, как заметил Ричард Рорти в предисловии к отдельному изданию
«Эмпиризма и философии сознания»1, помимо эссе Селларса были
опубликованы «Две догмы эмпиризма» (1951) У.В.О. Куайна и
«Философские исследования» (1954) Л. Витгенштейна. Было бы уместно
обозначить те теоретические предпосылки, которые так или иначе
присутствуют в переписке, но неявно или в сокращенном виде, поскольку
авторы стремились скорее обозначить и прояснить свои позиции, нежели
обосновать их2.
2. В эпистемологии Чизом, как и Селларс, придерживался интерналист-
ской точки зрения, предполагающей принципиальную возможность
непосредственного доступа в акте рефлексии к состояниям собственного
сознания. Однако Чизому была близка скорее традиционная версия ин-
тернализма, в которой интроспекция позволяет выработать общие
эпистемологические принципы, не опираясь на внешние по отношению к
сознанию самого исследователя факторы, в том числе и на данные
эмпирических наук. В каком-то смысле это разновидность картезианства
с его акцентом на автономности эпистемологии от любых научных и
повседневных познавательных практик.
Одним из программных пунктов интернализма Чизома является его
попытка обосновать так называемый тезис Брентано, который сводится к
утверждению, что интенциональным статусом обладают не только мысли
о кентаврах или единорогах, но и вообще все психические феномены и,
следовательно, все объекты нашей мысли, как вымышленные, так и
вполне реальные. Причем ни один физический феномен не обладает
подобным свойством. Из этого тезиса следует: 1 ) любые версии
психофизического тождества несостоятельны; 2) язык для описания
психологических состояний существенно отличается от языка для описания
непсихологических состояний и событий.
1 См.: Seilars W. Empiricism and the Philosophy of Mind; Introduction by R. Rorty ;
ed. by R.B. Brandom. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1997. P. 1-2. В 1968 г.
переписка между Селларсом и Чизомом стала темой диссертации американского
философа Дэвида М. Розенталя («Intentionality: A Study of the Views of Chisholm and
Sellars»). См.: http://www.ditext.com/rosenthal/rost-dis.html.
2 Настоящая статья является переработанным и расширенным вариантом
предисловия к русскому переводу переписки Р.Чизома и У. Селларса (см.:
Эпистемология и философия науки. 2011. Т. XXX, № 4. С. 195-223).
Г.С. Рогонян • Интенциональность и язык: тезис Брентано или миф о Джонсе 435
В качестве обоснования тезиса Брентано Чизом использовал
концепцию интенциональных предложений, сформулированную им в статье
«Предложения об убеждениях»1. Селларс поместил эту статью
непосредственно перед публикацией переписки, дабы немного прояснить
контекст их дискуссии и обозначить ту позицию, исходя из которой Чизом
высказывает свои сомнения и возражения Селларсу. Тезис Брентано в
этой статье Чизом формулирует следующим образом: «Нам не
обязательно использовать интенциональный язык, когда мы описываем
непсихологические, или "физические", феномены... все, что мы о них знаем, или
думаем, мы можем выразить с помощью языка, который не является ин-
тенциональным... когда же мы хотим описать именно психологические
феномены... мы должны использовать интенциональный язык или...
словарь, в котором обычно не нуждаемся, когда описываем
непсихологические, или "физические", феномены»2.
Интенциональными предложениями являются прежде всего
предложения, в которых содержатся такие слова, как «знать», «помнить»,
«видеть» и т.д. Иными словами, речь идет о предложениях, в которых мы
приписываем себе или кому-то пропозициональные установки
(убеждения, желания, надежды, оценки и т.д.). Чизом завершает обоснование
тезиса Брентано демонстрацией автономности интенционального языка от
остальных способов высказывания. (В частности, одной из
рассматриваемых попыток редукции интенционального языка, против которой
выступал Чизом, является лингвистический бихевиоризм Г. Райла.) Чизом
считал, что предложение «Немецкое слово Riese означает гигантский»
говорит не только о том, как и по отношению к чему применяется это слово,
но и о том, что люди знают, во что верят или считают гигантским3.
Иными словами, тезис, который Чизом отстаивает в этой статье и от которого
отталкивается в своих письмах Селларсу, заключается в том, что не
только интенциональность сознания не сводима к описаниям
лингвистически «внешнего» поведения, но и в принципе любое описание и
объяснение какого-либо осмысленного поведения (в том числе и наших
высказываний) всегда предполагает ссылку на наши ментальные состояния и
их изначально интенциональный характер. Очевидно, что такой подход,
который Селларс называет классическим, во многом отвечает нашим
интуитивным представлениям о соотношении сознания и языка: если
вербальные действия что-то и означают, то только потому, что они являются
выражением мыслей.
1 См: Chisholm R. Sentences about Believing // Proceedings of the Aristotelian
Society. 1955-1956. № 56. P. 125-148. Перепечатана в: Minnesota Studies in the
Philosophy of Science. 1958. Vol. 2. P. 510-520.
2 Ibid. P. 511-512.
3 Ibid. Op. cit. P. 517.
436
Приложение
Несмотря на частые заявления о согласии их теоретических позиций
или о скором достижении такового, из писем следует, что Селларс во
многом занимает позицию, прямо противоположную позиции Чизома.
Действительно, Селларс выступал против того эпистемологического
фундаментализма, разновидностью которого является интернализм Чизома. В связи
с этим Рорти замечает, что Селларс, возможно, «был первым философом,
который заявил о том, что "сознание" надо рассматривать как результат
гипостазирования языка»1. Рорти не случайно ссылается на переписку
Селларса с Чизомом, поскольку в ней, как он считает, наиболее
отчетливо выражена идея Селларса о том, что именно интенциональность наших
мыслей является отражением интенциональности предложений нашего
языка, а не наоборот, как полагал Чизом, и «что сознание является
результатом постепенного вхождения в мир за счет постепенного усвоения
языка, т.е. как часть натуралистски объяснимого эволюционного
процесса», а язык при этом «более не рассматривается как внешнее выражение
чего-то внутреннего и таинственного, что есть только у людей и чего нет у
животных»2.
Поскольку Селларс сопроводил некоторые места из их с Чизомом
переписки выдержками из эссе «Эмпиризм и философия сознания» (далее ЕРМ,
номер раздела и параграфа), имеет смысл изложить основные моменты его
«психлогического номинализма», который он противопоставлял как
ортодоксальной позиции Чизома, так и радикальной «ереси» Райла.
3. Эпистемологический фундаментализм, по мнению Селларса,
основывается на неоправданном смешении двух идей, а именно: 1 ) существуют
такие убеждения, которые непосредственно доступны для нашего
познания и тем самым являются объектами непосредственного, или неин-
ференциального, знания, поскольку основаны на таких неэпистемиче-
ских фактах, как чувственные данные, ощущения или переживания;
2) эти убеждения являются базовыми и независимы от всех остальных
убеждений, поскольку не являются результатом логического вывода,
тогда как все остальные убеждения обладают своим эпистемическим
статусом только в результате инференциальной связи с базовыми.
Иначе говоря, вторые основаны (и в этом смысле обоснованы) на первых, а
первые основаны (и в этом смысле обоснованы, но уже иначе) только на
неэпистемических фактах.
Ставшая уже хрестоматийной критика Селларсом мифа данности
заключается в том, что ничто не может служить для чего-либо
обоснованием, если само не обладает эпистемическим статусом. Иными словами,
критика нацелена на тот двусмысленный статус, который чувственные
данные получили в философской традиции эмпризма: их связь с нашими
1 Sellais W. Op. cit. P. 7.
2 Ibid.
Г.С. Роюнян • Интенциональность и язык: тезис Брентано или миф о Джонсе 437
неинференциальными убеждениями не является эпистемической, но
одновременно является не просто каузальной, а обосновывающей.
Получается, что они одновременно и не являются, как об этом заявляют, эписте-
мическими фактами и тем не менее являются таковыми (точнее, должны
быть), раз уж они играют роль обоснования.
Селларс согласен, что у нас есть неинференциальные и только
каузально обусловленные убеждения, непосредственно возникающие в
процессе восприятия чего-либо. Но он не согласен с тем, что они являются
независимым от остальных убеждений фундаментом. Иными словами,
он не согласен с тем, что такого рода неинференциальность и
непосредственность могут выступать в качестве некой привилегированной
обоснованности чего-либо: не только сами чувственные данные и впечатления не
являются особого рода знанием (как полагали некоторые представители
эмпиризма, пытаясь избежать указанного выше противоречия), но они в
принципе не могут быть фундаментом для какого бы то ни было знания.
Иначе говоря, они не являются теми «молчаливыми» и
самодостаточными невербальными эпизодами нашего восприятия, к которым могут быть
сведены все имеющиеся у нас виды знания. В эпистемической игре
запроса и предоставления оснований убеждения, полученные инференци-
альным и неинференциальным путем участвуют на равных. Но при этом
все убеждения формируются только благодаря своим инференциальным
связям друге другом. Размышление и восприятие - это только эпистеми-
ческие «поводы» для применения инференциально сформированных
понятий. Следовательно, интроспекция состояний своего сознания имеет
дело не просто с «непосредственно данным» в опыте переживания, а
всегда уже с концептуально структурированным опытом. Селларс в связи с
этим отмечает: «Определяя некий эпизод или состояние как знание, мы не
даем эмпирического описания этого эпизода или состояния, а помещаем
его в логическое пространство оснований, т.е. в пространство
обоснования и способности обосновывать то, что мы говорим» (ЕРМ. VIII. § 36).
Такой холистский подход к знанию предполагает, что любое ментальное
состояние может обладать эпистемическим статусом только в контексте
своих отношений с другими ментальными состояниями, поскольку
всякое убеждение изначально предполагает сложно структурированную
систему множества других убеждений, элементом которого оно является.
Однако помимо традиционной формы фундаментализма Селларс
отвергает и другую эпистемологическую крайность - когерентизм,
сталкивающийся с проблемой начала приобретения знаний. В частности,
Селларс заявляет: «Если я и отвергаю подход традиционного эмпиризма, то
вовсе не для того, чтобы заявить, что у эмпирического знания нет
никакого фундамента. Представлять все в таком свете, значит полагать, что это
действительно только "так называемое эмпирическое знание", и ставить
его на один уровень с домыслами и обманом... Нам кажется, что мы вынуж-
438
Приложение
дены выбирать между образом слона, стоящего на черепахе (а на чем
стоит черепаха?), и известным образом гегелевской змеи знания,
кусающей себя за хвост (а где она начинается?). Неверно ни то, ни другое.
Эмпирическое знание, как и его более сложное продолжение в виде науки,
рационально не потому, что у него есть фундамент, а потому, что оно
является корректирующим себя предприятием, которое может поставить
под сомнение любое утверждение, хотя и не все утверждения сразу» (ЕРМ.
VIII. §37).
Действительно, совсем не обязательно утверждать в духе Райла, будто
не существует таких ментальных состояний, или «эпизодов», как мысли и
впечатления. В то же время для того чтобы, настаивая на приоритете
концептуального над чувственным, не скатиться в дуализм и идеализм в духе
мейнонгианства, понятия и ментальные состояния необходимо
рассматривать в ряду естественных причин, т.е. на каузальном уровне, каковым
здесь помимо всего прочего выступает социальная языковая практика.
Однако задача Селларса - дать именно нередукционистское описание
ментальных событий. Иными словами, заключает Рорти, его задача
заключается в том, чтобы показать, «каким образом можно быть
последователем Витгенштейна, не будучи при этом сторонником Райла»1.
4. Но как обосновать натуралистскую позицию относительно сознания, не
скатываясь к бихевиористскому редукционизму Райла? Ответ Селларса
представлен в его собственном «контрмифе» - мифе о Джонсе, основная
идея которого заключается в том, что внутренние интенциональные
состояния (мысли и чувственные впечатления) изначально являлись лишь
постулируемыми квазитеоретическими сущностями (подобно
молекулам газа), а точнее, семантическими категориями, наделенными мета-
лингвистическим статусом. В ходе эволюции наших дискурсивных
практик эти категории были гипостазированы и обрели самостоятельное
существование уже как реальные, хотя и непосредственно не наблюдаемые
сущности. Для того чтобы прояснить контекст дискуссии с Чизомом,
достаточно сосредоточиться только на «истории» понятия мысли, тем
более что понятие «чувственного впечатления» в этом мифе вводилось на
основе и после введения первого понятия.
Прежде всего, как отмечает Р. Брэндом в своих комментариях к эссе
Селларса, за понятием мысли не стоит никакой ментальной онтологии —
это чисто функциональное теоретическое понятие2. Мысли являются
ненаблюдаемыми и неэмпирическими внутренними эпизодами только
потому, что они, подобно молекулам газа, — именно теоретические, т.е.
дискурсивные, сущности, а не бесплотные «призраки в машине».
Внутренние эпизоды, о которых говорит Селларс (в данном случае мысли),
1 Sellers W. Op. cit. P. 7.
2 Ibid. Op. cit. P. 175.
Г.С. Рогонян • Интенциональность и язык: тезис Брентано или миф о Джонсе 439
считаются внутренними в самом обычном, или естественном, а не
философском смысле слова, как, например, внутренние состояния организма.
Действительно, Селларс, как уже было сказано, рассматривал
нормативное и концептуальное по своей природе знание как часть каузального
уровня. Однако необходимо было избежать частых в этом случае
упрощения и редукционизма. Поэтому усовершенствованный, или
методологический, бихевиоризм Селларса обладает одной характерной
особенностью — в нем традиционное для бихевиоризма требование определять все
понятия с точки зрения наблюдаемого поведения вполне совместимо с
употреблением чисто теоретических понятий (ЕРМ. XIV. § 54). Иными
словами, бихевиористская установка, которую предлагает Селларс, не
сводит все исследуемые явления только к наблюдаемому поведению как
некой изначальной данности. Бихевиористская установка испольуется
здесь лишь в рамках объяснительной модели, применение которой
обусловлено специальными комментариями.
Миф о Джонсе Селларс начинает с гипотезы о том, что когда-то в
прошлом люди говорили на некоем подобии «райловского языка». Язык
этот был достаточно сложным, и его семантические ресурсы позволяли
описывать и давать объяснения многим наблюдаемым событиям и
явлениям, втом числе и поведению окружающих людей. На нем можно было
говорить не только о причинах и следствиях того или иного поведения,
или предсказывать его, но и о том, что означает то или иное вербальное
действие. Однако в этом языке отсутствовали какие-либо указания на
мысли или чувственные впечатления как некие внутренние состояния.
Хотя люди, несомненно, думали и воспринимали, они об этом еще не
знали. У них, разумеется, были мысли, но не было понятия мысли, как и
понятия чувственного впечатления1.
В определенный момент эволюции человечества некий
гипотетический Джонс предложил ввести новое понятие — «мысли» — для
объяснения рационального поведения окружающих людей. Джонс, в частности,
заметил, что то, как люди себя ведут, часто связано с тем, как они
описывают свои действия (своеобразное «мышление вслух»). Предполагается,
что такому самоописанию от первого лица человек учится с детства,
опираясь на описания своего поведения другими людьми. Вместе с тем
Джонс заметил, что люди действуют рационально, даже когда они ниче-
1 Здесь необходимо соблюдать определенную осторожность, поскольку
неизбежно возникает вопрос — какого именно понятия мысли у них еще не было? Ведь
у нас есть как минимум два кандидата на это место: 1 ) понятие мысли как
теоретической сущности, т.е. как лишь принципа объяснения, или 2) как реальной
сущности, т.е. конкретного ментального состояния. Далее станет понятно, что Селларс
имеет в виду именно первое понятие, а не по инерции напрашивающееся второе,
уже «обогащенное» нашей философской традицией (см. письмо Селларса от
^октября).
440
Приложение
го не говорят и никак вслух не комментируют свои действия. В качестве
причины и объяснения такого молчаливо- рационального поведения он
постулирует особые квазитеоретические сущности — «мысли» как
эпизоды некой внутренней речи. Наша обычная речь является лишь
кульминацией и внешним выражением эпизодов этой «невидимой» речи.
Следовательно, любое - озвученное или молчаливое - разумное поведение
начинается с нашей внутренней речи. (Не стоит путать ее с вербальными
представлениями, замечает Селларс, поскольку она не имеет
отношения к скрытым движениям языка или воображаемым звукам). Такое
нововведение привело к существенному обогащению семантических
ресурсов первоначального райловского языка, т.е. позволило объяснить
то, что не могла объяснить обычная бихевиористская апелляция к
диспозициям, не впадая в логический круг, а именно нестандартное, но
осмысленное поведение, не укладывающееся в привычные и ожидаемые
шаблоны1.
Однако не стоит забывать, что для Джонса моделью внутренней речи
как потока мыслей послужила именно внешне наблюдаемая публичная
речь. Поэтому Селларс предостерегает от поспешного вывода о том, что
люди якобы наконец-то обнаружили мысли, всего лишь подобрав им
подходящее название. «Следует помнить, что обрисованная мною
теория Джонса вполне совместима с идеей о том, что способность мыслить
приобретается в процессе освоения публичной речи и что только после
освоения публичной речи может появиться "внутренняя речь" без ее
публичной кульминации» (ЕРМ. XV. § 58).
Как таковая, т.е. в общем и целом публичная, речь предшествует
мышлению в качестве причины, объясняющей его возникновение. Но
после того как человек научился говорить и мыслить вслух, мышление -
как «внутренняя речь» — обычно выступает в качестве причины, которая
предшествует и объясняет конкретный речевой акт, т.е. эпизод
публичной речи. Поэтому если Джонс что и обнаружил, так это тот эффект, или
степень того влияния, которое оказывает на нас обучение родному
языку через усвоение публичной речи. Селларс заявляет: «Благодаря
ресурсам семантического дискурса язык наших вымышленных предков
приобрел измерение, позволяющее обоснованно утверждать, что теперь и
они, подобно нам, могут говорить о мыслях. Поскольку мысли
характеризуются интенциональностью, референцией и направленностью, то
очевидно, что семантические высказывания о значении или референции
вербальных выражений имеют ту же структуру, что и менталистский
1 «Впечатления» как внутренние состояния воспринимающего были введены
для объяснения тех случаев, когда воспринимающий полагает, т.е. ему кажется,
что он воспринимает нечто существующее, тогда как на самом деле это не так.
Моделью для впечатлений послужили сами воспринимаемые объекты, точнее,
реальные копии тех или иных объектов (ЕРМ. XVI. §60—61).
Г.С. Рогонян • Интенциональность и язык: тезис Брентано или миф о Джонсе 441
дискурс относительно того, на что эти мысли направлены. Это дает
основание предположить, что интенциональность мыслей можно вывести
из применения семантических категорий к публичным вербальным
действиям и тем самым сформулировать модифицированный райловский
подход» (ЕРМ. XII. §50).
И далее: «Теория Джонса, будучи построена по модели речевых
эпизодов, переносит на эти внутренние эпизоды семантические категории.
Если раньше Джонс и его соплеменники только о публичных
высказываниях говорили как о подразумевающих что-то и направленных на что-то,
то сейчас он и об этих внутренних эпизодах говорит как о подразумеваю-
щих что-то или направленных на что-то» (ЕРМ. XV. § 57). Иными
словами, «мысли» могут быть о вещах, т.е. быть направлены на них, только в
той мере (и в том смысле), в какой вообще любая речь, в том числе и
внутренняя, эпизодами которой они являются, может быть направлена на эти
самые вещи.
5. Но это пока только тезис, который нуждается в обосновании.
Действительно, что же именно предложил мифический Джонс в качестве
понятий «мысли» и «чувственного впечатления»? Что это за семантические
ресурсы, которые необходимо добавить райловскому языку наших
мифических предков, чтобы мы могли «признавать других людей и самих
себя в качестве думающих, наблюдающих, а также имеющих чувства и
ощущения, причем именно в том смысле, в котором мы обычно
используем эти слова?» (ЕРМ. XII. § 49).
Предположим, что на райловском языке можно формулировать
такие семантические высказывания, как «"Rot" означает красный» или
«"Der Mond ist rund" истинно, если и только если Луна круглая». (Как и
многие другие, Селларс использует в качестве примера второй
естественный язык, в данном случае немецкий). Проще говоря, люди могут не
только описывать и указывать на положение вещей и события (т.е.
экстралингвистические сущности), но и описывать свое и чужое вербальное
поведение, т.е. говорить о значениях слов в описаниях вещей и событий.
Но что это значит - говорить о том, что что-то «значит»? Прежде всего,
считает Селларс, «"Rot" означает красный» не говорит о каком-либо
отношении между словом "rot" и вещью или ее свойством — краснотой.
Термин «означает» в высказываниях формы «... означает —» вообще не
является реляционным термином, который говорил бы о некой связи
между словом и невербальной сущностью. В случае «"Rot" означает
красный» термин «означает» является специальным лингвистическим
средством «для сообщения информации о том, что слово, на которое
указывают (в данном случае это "rot"), играет в лингвистической
экономии (в данном случае в лингвистической экономии говорящих
по-немецки) туже самую роль, что и слово "красный", на которое не
указывают, но которое используют, причем особым образом: оно, так сказать,
442
Приложение
продемонстрировано и появляется "в правой части" семантического
высказывания» (ЕРМ. VII. § 31). Иными словами, это
металингвистическое высказывание не только и не столько о причинах и следствиях
использования слова "rot", т.е. о его связи с красными вещами (хотя,
подчеркивает Селларс, и о об этом тоже), сколько — и в первую
очередь! - для сообщения о том, что причины и следствия произнесения
этого слова (или, например, высказывания "Es regnet") членом одного
языкового сообщества совпадают с причинами и следствиями
произнесения слова «красный» (или соответственно «Идет дождь») членом
другого языкового сообщества. Такое сообщение о совпадении по сути
является приписыванием уже известной нам (т.е. в нашем
лингвистическом сообществе) сложной функциональной роли одного слова или
высказывания нашего языка - слову или высказыванию совсем другого
языка (ЕРМ. XII. § 49). То есть термин «означает», как и само понятие
значения, является особой семантической связкой «есть», которая
выполняет роль функционального классификатора слов или целых
высказываний1, или, если угодно, «означает» - это синхронизирующий
классификатор, который соотносит прагматический статус слов и выражений двух
разных языков, выполняя тем самым определенную эпистемологическую
функцию, например, при обучении новому языку2. Но то же самое можно
сказать, когда семантическое высказывание формирует
металингвистический (классифицирующий) контекст в рамках одного и того же языка -
например, когда надо синхронизировать высказывания членов одного и того
же языкового сообщества для достижения взаимопонимания или при
обучении своему родному языку. Иными словами, функциональный
классификатор «означает» (= «есть») в обеих ситуациях указывает не столько на
конкретные обстоятельства произнесения определенных слов, сколько
прежде всего на семантические связи этих слов с другими словами одного
или двух разных языков.
1 См.: Seilars W. Meaning as Functional Classification (a Perspective on the Relation
of Syntax to the Semantics) // Synthese. 1974. Vol. 27. P. 417-437. Своей концепцией
семантических высказываний Селлларс во многом обязан идеям Р. Карнапа,
изложенным в его работе «Логический синтаксис языка». В частности, Селларс
развивает идею Карнапа о «квазисинтаксических высказываниях в материальном
модусе речи». В соответствии таким номиналистским подходом все наши
онтологические категории и универсалии говорят (неявным образом) не столько о мире
(объектах, их свойстах и отношениях), сколько о синтаксических формах нашего
языка. Подробнее об этом см.: Sellars W. Grammar and Existence: A Preface to Ontology//
W. Sellars. .Science, Perception and Reality. L. : Routledge & Kegan Paul Ltd ; N.Y. : The
Humanities Press, 1963. P. 247-281. (Русский перевод см.: Селларс У. Грамматика и
существование: предисловие к онтологии // Язык, истина, существование. Томск :
Изд-во Томского университета, 2002. С. 108-150).
2 Селларс в данном случае использует слово «корреляция» (см. его письмо Чи-
зому от 19 сентября).
Г.С. Рогонян • Интенциональность и язык; тезис Брентано или миф о Джонсе 443
Такие металингвистические ресурсы, т.е. рефлексивные и
автореферентные возможности естественного языка человека (возможность
указывать на свои интралингвистические связи), несомненно, являются
эволюционным достижением — пчела, например, не может «дать понять»
другой пчеле, что означает ее танец, т.е. дать ему номинальное
определение или как-то проинтерпретировать его. Соответственно нововведение
Джонса необходимо рассматривать как один из этапов такой эволюции -
Джонс обогатил именно металингвистические ресурсы нашего языка,
предложив новую классифицирующую категорию мысли.
Но что конкретно классифицирует эта новая категория? На этот раз -
не только вербальное, но и невербальное поведение. Действительно,
Джонс предложил достаточно общую категорию, которая позволяет
классифицировать гораздо большее количество событий, чем раньше.
Теперь она позволяет интерпретировать в том числе и невербальное
поведение людей, но как если бы (имплицитно, разумеется) оно было
вербальным. Иными словами, он предложил не просто интерпретировать
невербальное поведение как вербальное, а общий принцип интерпретации
любого - как вербального, так и невербального - поведения, указав на
некую общую для них причину: «внутреннюю речь». Невербальное
поведение в таком случае рассматривается как то, что всегда потенциально
может или могло быть озвучено, т.е. проинтерпретировано (или
поддаваться переводу) с точки зрения наблюдаемого вербального поведения.
Категория мысли здесь выступает классификатором разумного
поведения в целом, а невербальное поведение в результате может
рассматриваться настолько же осмысленным, насколько и вербальное, причем по
той же причине.
Итак, с помощью новой категории мысли мы можем строить новые
семантические высказывания или, если угодно, теоремы, поясняющие
и функционально классифицирующие те или иные эпизоды как
вербального, так и невербального поведения. Однако суть всей истории в
том, что мысль как внутренний эпизод - это развитие и расширение
функционального классификатора именно наблюдаемого вербального
поведения, т.е. речи. В итоге именно по этой причине - перенесения
функционального подхода к языковому значению на мысли и
ментальные состояния в целом - Д. Деннет назвал Селлларса
основоположником функционализма в философии сознания1.
6. Однако мысли на данном этапе еще не являются разновидностью
непосредственных переживаний, к которым у нас был бы привилегированный
доступ, поскольку такого понятия у Джонса и его соплеменников еще
нет. Интроспекция возникнет лишь на следующем этапе развития рай-
ловского языка и, разумеется, только как лингвистический феномен.
1 См.: DennettD. The Intentional Stance. Cambridge : Bradford Books, 1986. P. 341.
444
Приложение
В какой-то момент должен произойти переход от описания своего
поведения и поведения других людей в терминах джонсовской теории
мыслей к непосредственному самоописанию с помощью той же теории, но
уже без того, чтобы наблюдать свое поведение, которое наглядно
подтверждало бы это самоописание '. Очевидно, что такой переход
предполагает определенную лингвистическую тренировку, которую условно
можно разделить на два этапа. Входе первого этапа мы сначала переходим от
теоретического описания наблюдаемого поведения других людей («он
думает, что/?») к теоретическому описанию собственного наблюдаемого
поведения при одобрении со стороны обучающих («все согласны, что я
думаю, что />»). Действительно, в раннем детстве мы часто комментируем
свои действия вслух — как бы для всех и для себя в том числе. При этом мы
должны овладеть способностью вовремя и уместно заменять описания
самих себя от третьего или второго лица на описания от первого лица
(характерные ошибки в ходе такого обучения носят не только
лингвистический, но и эпистемологический характер: «у меня три брата — я, Петя и
Коля»).
Второй этап - это переход к непосредственному, т.е. уже не
опирающемуся на собственное наблюдаемое поведение описанию («я думаю,
что р»). Последнее описание становится уже сообщением о себе,
основанным на привилегированном доступе к собственным мыслям. Но чем на
самом деле является этот привилегированный доступ? И к чему именно?
Прежде всего это право на металингвистический комментарий (т.е.
функциональную классификацию) своего поведения. Иными словами, это не
только диспозициональное описание и предсказание причин и следствий
поведения, но также его семантическая и логическая Л1етдхарактеристи-
ка, т.е. указание на связь, тождество или отличие его причин и следствий
от причин и следствий другого поведения. Цель такой тренировки -
экономия времени и лингвистических средств для передачи того же или даже
большего объема информации. Действительно, существенным для такой
метахарактеристики самих себя («я думаю, что р») является то, что она
подразумевает еще и невербальное поведение. В таком случае сообщение
о своих мыслях - это на самом деле сообщение не о чем-то внутреннем, а
о функциональных связях поведения (как вербального, так и
невербального), относительно которых у других больше шансов ошибиться (хотя
они, разумеется, есть и у меня). Если сообщение о своих мыслях — это
сообщение о ненаблюдаемом (подобно сообщению о молекулах газа), то
все-таки не в смысле субъективно внутреннего, а в смысле естественным
1 Такой переход был обусловлен успешным применением теории Джонса его
соплеменниками. В этом месте сторонник тезиса Брентано, возможно, увидит
довод в свою пользу, а именно в пользу реального существования мыслей. Однако
успешность научных гипотез и теорий сама по себе еще недостаточный аргумент,
поскольку причины этой успешности могут быть самыми разными.
i.C. Рогонян • Интенциональность и язык: тезис Брентано или миф о Джонсе 445
образом недоступного постороннему множества инференциальных
связей, которое я подразумеваю и в контекст которого помещаю содержание
своего сообщения. Поэтому Джонс сделал гораздо больше, чем кажется
на первый взгляд, - он обогатил людей не только лингвистически, но и
интелеллектуально, поскольку у нас теперь появилась возможность
установить гораздо больше сложных инференциальных связей в
расширенном «пространстве разумных оснований». Теперь не только множество
вербальных эпизодов, но и весь огромный массив невербального
поведения стал «говорящим» и включился в игру запроса и предоставления
оснований.
Интроспекция и привилегированный доступ не являются иллюзией
(как полагали некоторые бихевиористски настроенные философы), но
лишь потому, что они являются хорошими коммуникативными
инструментами. Иными словами, интроспекция и самосознание — это не более
чем усвоенные лингвистические способности, но и не менее, поскольку
позволяют не только классифицировать и синхронизировать свое и
чужое поведение, но и делают его все более сложным1. Показателен в этом
смысле параграф, которым Селлларс завершает свое эссе: «Я
воспользовался мифом для того, чтобы убить миф — миф о данности. Но
действительно ли мой миф является мифом? Разве читатель не узнает в лице
Джонса человека как такового, бредущего от пещерных бормотаний и
вздохов к изысканному и многомерному дискурсу гостиной, к
лаборатории и кабинету, к языку Генри и Уильяма Джеймсов, Эйнштейна и тех
философов, которые в своих попытках прорваться к arché по ту сторону
дискурса, создали самое необычное измерение из всех существующих»
(EPM.XVI.§63).
Логическим завершением мифа является реконструкция уже нашего
понятия мысли, т.е. понятия, которым руководствуется Чизом и которое
предполагает, что мысль может только выражаться в языке. Однако эта
часть мифа осталась за рамками переписки.
7. Селларс отчетливо понимал, как интуитивно сложно представить мысли
лишь в качестве теоретических сущностей, поскольку представление о
них уже прочно вошло в то, что он называл «очевидным образом человека
и его места в мире». Действительно, в каком-то смысле его сравнение
мыслей с молекулами может показаться не совсем убедительным: сего-
1 Миф о Джонсе, очевидно, является прямым наследником того мысленного
эксперимента, который известен как «диалектика Раба и Господина» из
«Феноменологии духа» Гегеля: селларсовский миф также является иллюстративным
повествованием о становлении самосознания, причем как минимум сразу на двух
уровнях - историческом и логическом: исторически сложившаяся модель
воспроизводится в каждом индивидуальном случае. Впрочем, связь Селларса с гегелевской
философией гораздо более тесная, о чем он сам дает понять, когда характеризует
свое эссе как «Meditations Hégéliennes» (ЕРМ. III. § 20).
446
Приложение
дня мы с полным правом можем заявить, что некоторые прежде
ненаблюдаемые сущности перестали быть таковыми. Возможно, лучше было бы
сравнить категорию мыслей с чем-то принципиально ненаблюдаемым,
например, с гравитацией. Будучи непосредственно ненаблюдаемой и
обладая принципиально теоретическим статусом, она, тем не менее, отвечает
как за то, что вещи остаются на своих местах, так и за их движение или
изменение.
Однако Селлларс считает, что такой позитивистский подход,
рассматривающий теории только как инструменты исчисления и
упорядочения эмпирического опыта, основан на мифе данности. В частности,
такой подход предполагает, что различие между теоретическим и
наблюдаемым является чем-то реальным и онтологически заданным (см.: ЕРМ IX.
§ 43). При этом теоретический дискурс науки выступает в качестве
дополнительного и вспомогательного по отношению к дискурсу
эмпирического наблюдения, основанного на чувственных даннных и остенсивных
определениях. Позитивистский инструментализм рассматривает
теоретические сущности лишь как удобные инструменты, но с онтологической
точки зрения — как абсолютно условные и фиктивные (и по этой причине
ненаблюдаемые). Селларс же считает, что различие между этими
дискурсами носит только методологический характер, и по мере того как
появляются все новые инструменты исследования, граница между ними
сдвигается.
Селларс руководствуется следующим соображением:
«Фундаментальные положения теории обычно формулируются не с помощью
исчислений... а скорее с помощью поиска модели, т.е. такого описания области
известных нам и действующих определенным образом объектов, благодаря
которому мы могли бы понять, как возникают объясняемые феномены,
при условии, что они состоят из такого рода вещей. Существенным для
модели является то, что она сопровождается... комментарием, определяющим,
или ограничивающим - хотя не точно и не всегда - аналогию между
известными нам объектами и введенными теорией сущностями... Наука — это
продолжение здравого смысла, а те способы, которыми ученый пытается
объяснить эмпирические феномены, являются усовершенствованием
того, как обычные люди, пусть грубо и схематично, пытались понять свое
окружение и других людей с момента возникновения разумности как
таковой» (ЕРМ. XIII. §51).
«Поэтому так называемая научная деятельность по сути является
продолжением того измерения дискурса, который уже существовал на
протяжении периода, называемого историками донаучной эпохой»
(ЕРМ. IX. §40).
Здесь необходимо сделать два замечания. Во-первых, условность
теоретических сущностей как категорий - это только условность их
изображения (например, молекул газа в виде сталкивающихся шаров, а мыс-
Г.С. Рогонян • Интенциональность и язык: тезис Брентано или миф о Джонсе 447
лей в виде квазипредложений внутренней речи). Но главное здесь - не
изображение, а тот закон, или логика, которую они предполагают: в
случае мыслей как «молекул» рационального поведения — это логика инфе-
ренциальных связей между словами и предложениями. Действительно,
отказываясь от одного изображения в пользу другого, мы можем не
отказываться от самого принципа - описание атома менялось несколько раз.
Разумеется, изменения в изображении непсоредственно затрагивают
теорию. Однако всякое изображение в научной теории функционирует не
как буквальное уподобление, а в качестве объясняющей модели, по
аналогии с которой следует понимать те или иные феномены. В конечном
счете именно теоретический поиск объясняющей модели диктует
изменения в изображении, а не наоборот.
Во-вторых, Селларс не настаивает на принципиальной
ненаблюдаемости теоретических сущностей. Дело не в том, что они могут
оказаться наблюдаемыми (причем, возможно, и не такими, какими их до этого
изображали, хотя в любом случае — не чисто теоретическими
категориями). Постулировать теоретические сущности значит сделать
определенное допущение для объяснения и предсказания наблюдаемых феноменов.
И если потом вдруг обнаружатся реальные (в случае мыслей -
физиологические) корреляты этих допущений, то это еще не отменяет того, что они
успешно выполняли свою функцию объяснения, когда были лишь
теоретическими и ненаблюдаемыми. Поэтому, считает Селларс, успешность
теоретических категорий в объяснении и предсказании (например,
поведения) никак логически не зависит от их возможного отождествления в
будущем с понятиями (например, нейропсихологии). Действительно,
Селларс специально подчеркивает, что изначально научная теория вовсе
не нацелена на физическое отождествление своих понятий. Однако
всякое теоретическое понятие или категория помимо объяснения отдельных
феноменов является также кандидатом на включение в общую картину
человеческого организма, поскольку логическое значение понятий
теории, считает Селларс, уже подразумевает то, что можно было бы назвать
способом их интеграции в общую картину (см.: ЕРМ. XIV. § 55).
Возможно, некоторые теоретические понятия (например, «мысли») так хорошо
вписались в нашу повседневную (хотя, разумеется, не самую общую)
картину мира именно потому, что потенциалом своей интуитивной
очевидности они обязаны своему происхождению - прототипам из той же
повседневной реальности. Этим же, вероятно, объясняется и наше
интуитивное сопротивление ретроспективной теоретизации понятия мысли.
В конечном счете методологическое различие между теоретическим
(ненаблюдаемым) и эмпирическим (наблюдаемым), обусловленное праг-
матистской установкой на успешность в объяснении и предсказании,
подкрепляется функционал истеки м подходом Селларса к языковому
значению. Действительно, не существует чистого и свободного оттеоретиче-
448
Приложение
ских предпосылок наблюдения, к которому как к фундаменту
апеллировала позитивистская философия науки. Но и сами теоретические
понятия (по той же, собственно, причине) могут быть составной частью
непосредственных наблюдений. Брэндом поясняет, что напосредствен-
ное наблюдение в данном случае понимается в широком смысле,
поскольку всегда уже предполагает возможность своего инференциального
обоснования, но также и возможность выступить в качестве такового.
Например, специально обученный физик, заметив след в пузырьковой
камере, сразу сообщит о наблюдении элементарной частицы, но если
потребуется, всегда будет готов обосновать свое сообщение инференциаль-
но, тогда как возможность непосредственно слышать произносимые
слова, а не просто звуки, предполагает уже широко распространенную
тренировку1. Но то же самое можно сказать и о непосредственном
сообщении о собственных мыслях. Поэтому тезис Брентано идеально
вписывается в миф о Джонсе, но не как философский и тем более научный
тезис, а лишь как его фрагмент, т.е. как часть интуитивно закрепленного
повседневного представления о мире и месте человека в нем.
1 См.: Sellars W.Op. cit. P. 163-165.
Интенциональность и ментальное
Переписка Р. Чизома и у. Селларса
об интенциональности
30 июля 1956 г.
Профессору Уилфриду Семарсу
Философский факультет
Университета Миннесоты
Миннеаполис 14, Миннесота
Уважаемый м-р Селларс,
большое спасибо за то, что прислали корректуру Вашего эссе
«Эмпиризм и философия сознания». У меня пока не было времени прочитать
его полностью и вникнуть во все детали Вашей аргументации. Однако я
прочел большую часть, а остальное бегло просмотрел. Могу сразу
сказать, что рукопись меня чрезвычайно заинтересовала, мы интересуемся
практически одними и теми же вопросами. В основном я согласен с тем,
что Вы говорите относительно «мифа данности» и об «истинности»
(lightness) высказываний (statements) или утверждений (assertions). Хотя
я скорее говорил бы об истинности убеждений, а не предложений -
полагаю, именно в этом заключается основное различие между нами во
взглядах на интенциональность.
На странице 311 Вы довольно точно сформулировали основное
разногласие между нами в вопросе об интенциональности. Среди тех
вопросов, которые Вы подняли на странице 319, есть следующие два:
(1) можем ли мы объяснить интенциональный характер убеждений и
других психологических установок, ссылаясь на определенные
свойства языка; или же (2) мы должны объяснять интенциональные свойства
языка, ссылаясь на убеждения и другие психологические установки?
В своей статье для Аристотелевского общества1 я отвечаю на первый
вопрос отрицательно, а на второй положительно. Обратите также
внимание на мою статью о Карнапе в недавно вышедшем номере
«Philosophical Studies»2. Можно сказать, что основное различие между
нами заключается именно в том, как мы относимся к этим двум вопро-
1 Chisholm R. Sentences about Believing // Proceedings of the Aristotelian Society 56
(1955-1956). P. 125-148.
2 Chisholm R. A Note on Carnap's Meaning Analysis // Philosophical Studies. 1955.
№ 6. P. 87-89.
450 Приложение
сам. Мне также не совсем понятно, что Вы думаете об анализе
«семантических высказываний»...
С наилучшими пожеланиями,
Родерик М. Чизом
3 августа, 1956 г.
Профессору Родерику Чизому
Философский факультет
Университета Браун
Провиденс, РодЛйленд
Уважаемый м-р Чизом,
Ваши дружеские замечания подтолкнули меня к тому, чтобы еще раз
попытаться привлечь Ваше внимание к тем деталям моего понимания ин-
тенциональности, которые, возможно, не так заметны при первом
чтении. Суть их, как мне кажется, заключается в том, что они задают точку
зрения, находящуюся где-то между альтернативами, которые Вы
обрисовали в своем письме. Не хотелось бы сейчас вкратце пересказывать
всю сложную аргументацию из последней части моего эссе, с помощью
которой я попытался обосновать такой способ анализа. Хотя, возможно,
стоило бы повторить ее основные положения, чтобы подчеркнуть, до
какой степени я согласен со многим из того, что Вы говорите1.
А-1. В отличие от Райла я считаю, что осмысленные высказывания
являются выражением внутренних эпизодов, а именно, мыслей, которые
нельзя понимать как смешанные гипотетико-категоричные факты,
относящиеся к наблюдаемому (overt) поведению.
А-2. Я говорю о мыслях, а не об убеждениях, потому что я
рассматриваю убеждение, что р как предрасположенность обладать мыслью о
том, что р. Хотя все, конечно, намного сложнее. Мысль о том, чтор
является таким эпизодом, который можно назвать и «ментальным
утверждением», что р. Иными словами, «обладать мыслью о том, что р» не
равнозначно «думать, что р» (как в случае с «Джонс думает, что р»),
поскольку последнее ближе к «убежден, что р» и подобно ему имеет дис-
позициональный характер.
А-3. Мысленные эпизоды определяются только в категориях интен-
циональности.
1 Нижеследующие абзацы пронумерованы А-1, А-2 и т.д., чтобы избежать в
дальнейшем путаницы и облегчить цитирование. Это же относится и ко всем
последующим пронумерованным абзацам и предложениям.
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 451
А-4. Мысленные эпизоды не являются речевыми эпизодами, они
только выражаются ими.
А-5. В каком-то смысле высказывания действительно являются
осмысленными, потому что они выражают мысли. Смысл этого «потому
что» в том, что высказывание Джонса, s, означает, чтор, потому что s
выражает мысль Джонса о том, что р.
Все сказанное выше отражает те аспекты моей точки зрения,
которые, как мне кажется, в наибольшей степени совпадают с Вашей точкой
зрения. Если и есть между нами какие-то различия, то они заключаются в
следующем.
А-6. Несмотря на то что высказывания и подразумевают
положение вещей, потому что они выражают мысли об этих положениях
вещей, такое потому что, тем не менее, не является анализом. Обратите
внимание, что физические объекты движутся благодаря тому, что
происходит на уровне субатомных частиц. Однако само движение
физических объектов нельзя анализировать с точки зрения движения
субатомных частиц.
А-7. Мысли, конечно, не являются теоретическими сущностями.
Часто мы обладаем прямым и непосредственным знанием о таких
нетеоретических событиях, как удары теннисного мяча.
А-8. Однако если мысли и не являются теоретическими сущностями,
то именно потому, что они являются чем-то большим, чем просто
теоретические сущности.
А-9. В своем эссе я описал такое представление о наших мыслях,
которое «однажды» появилось в качестве теории\ объясняющей тот факт,
что молчаливое поведение может быть таким же осмысленным, как и то
поведение, которое, как мы сказали бы, продумано вслухшагза шагом.
А-10. Если сначала мы использовали такое представление о мыслях
(framework) просто как теорию, то в дальнейшем мы стали2 описывать се-
1 Основная суть и функционирование теорий и моделей в бихевиористской
психологии рассматривается в § 51-55 эссе Empiricism and the Philosophy of Mind
(в дальнейшем ЕРМ) // Minnesota Studies in the Philosophy of Science; H. Feigl and
M. Scnven (eds.). Minneapolis : Univ. of Minnesota Press, 1956. Vol. 1.
2 «С тех пор как наш вымышленный предок Джонс разработал теорию о том,
что наблюдаемое вербальное поведение является выражением мыслей, и обучил
своих соплеменников пользоваться этой теорией для интерпретации поведения
других людей, до использования этого языка в качестве самоописания остался
один шаг. Поэтому, когда у Тома, смотрящего на Дика, есть пример наглядного
поведения, позволяющий ему употребить предложение "Дик думает *р'" (или
"Дик думает, что р"), то Дик, используя тот же самый пример наглядного
поведения, может на языке этой теории сказать "Я думаю *р'" (или "Я думаю, что р").
И теперь оказывается, что Дика - если понадобится - можно обучить давать
вполне надежные самоописания на языке этой теории и без того, чтобы
непосредственно наблюдать за его поведением. Джонс делает это, просто одобряя
452
Приложение
бя в качестве обладающих определенными мыслями без того, чтобы
делать выводотом, что мы обладаем ими, отталкиваясь от нашего публично
наблюдаемого поведения.
А-11. Моделью для этой теории послужила наблюдаемая речь. Мысли
понимаются как «внутренняя речь», т.е. как эпизоды, которые, если
можно так выразиться, настолько похожи на наблюдаемую речь, насколько на
нее вообще что-либо может походить из того, что таковой речью не
является1.
А-12. Такой подход предполагает, что металингвистический словарь,
с помощью которого мы говорим о лингвистических эпизодах, можно
анализировать в терминах, никак не связанных с представлением о
ментальных актах. В частности,
«...» означает р
не следует анализировать в качестве
«...» выражает t, и t направлена на р,
где t это мысль.
А-13. Мой тезис заключается в том, что категории интенционально-
сти это не более чем металингвистические категории, с помощью
которых мы эпистемически описываем наблюдаемую речь. Эти категории
складываются в представление о мыслях, которые понимаются по образу
и подобию наблюдаемой речи.
А-14. Итак, в некоторых своих статьях (и наиболее удачно, полагаю, в
этих лекциях) я попытался показать, что
«...» означает -
можно объяснить без обращения к анализу этой формы с точки зрения
ментальных актов2...
Искренне Ваш,
Уилфрид Селларс.
произнесение Диком "Я думаю, что р", когда наглядное поведение Дика строго
подтверждает теоретическое утверждение "Дик думает, что р", и не одобряя
произнесение им "Я думаю, что р", когда оно не подтверждает это теоретическое
утверждение. Так наши предки начали говорить о привилегированном доступе
каждого из нас к собственным мыслям. То, что начиналось как язык для чисто
теоретических целей, впоследствии приобрело функцию сообщения» (ЕРМ. Р. 320).
1 О различии между моделью, на основе которой построена теория, и
«комментарием» к этой модели см. в ЕРМ, § 51 и 57.
2 См. ЕРМ, Part VII, «The Logic of Means», а также § 80 моего эссе «Counterfactuals,
Dispositions and the Causal Modalities», опубликованного в H. Feigl et al., eds., Minnesota
Studies in the Philosophy of Science, vol. II (Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1958),
pp. 225-308; см. также письма от 31 августа и 19 сентября из этой переписки.
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 453
12 августа 1956 г.
Уважаемый м-р Селларс,
большое спасибо за Ваше письмо от 3 августа, а также за прояснение
ключевых моментов Вашей позиции. Думаю, теперь я могу точно сказать, в
чем именно мы с Вами расходимся.
У меня нет замечаний к первым пяти пунктам, и я могу согласиться
также с А-7 и А-8. Согласие же с пунктом А-6 и пунктами, следующими за
А-8, зависит, по всей видимости, от А-12. Если Вы убедите меня в А-12, то
убедите меня и во всем остальном.
Мне известно, что Вы детально и подробно писали о тезисе,
сформулированном в пункте А-12, но не думаю, что Вы сняли все возможные
вопросы с моей стороны. Для того чтобы показать, что
«...» означает р,
не следует анализировать в качестве
«...» выражает t, и t направлена на р.
Ваш металингвистический словарь должен содержать только такие
речевые обороты, которые (1), с точки зрения критериев,
сформулированных в моей статье для Аристотелевского общества1, не являются ин-
тенциональными и (2) могут быть определены в физикалистских
терминах. Этот момент нам стоило бы обсудить более подробно, поскольку я
считаю, что Вам необходимо ввести такой термин, который, если он
вообще что-то означает, должен отсылать прежде всего к тому, что Вы
называете мыслями. Этот термин можно было бы замаскировать, назвав
его «примитивным термином семантики» или «примитивным термином
прагматики», или чем-то вроде этого. Однако это означало бы
признание того, что когда мы анализируем значения, которые принадлежат
естественному языку, то нам необходимо такое понятие, в котором мы не
нуждаемся ни в физике, ни в «бихевиористике». До тех пор пока Вы не
преуспеете в том, что пытался сделать Карнап в своей статье для
«Philosophical Studies»2, и которую я раскритиковал в прошлом году3 (а
именно, проанализировать семантику или прагматику естественного языка
с помощью физикалистского словаря бихевиористской психологии, не
используя при этом неопределенные семантические термины и вообще не
ссылаясь на мысли), я скорее всего не изменю своего мнения относительно
Ваших взглядов на интенциональность.
1 См. сноску 1 на с. 449.
2 Carnap R. Meaning and Synonymy in Natural Languages // Philosophical Studies.
1955. №6. P. 33-47.
3 См. сноску 2 на с. 449.
454
Приложение
Полагаю, Вы согласитесь, что если не принимать Ваш пункт А-12, то
вполне разумно не соглашаться и с тем, что Вы говорите в конце
страницы 319 лекций: «Нельзя забывать, что первичной задачей семантических
понятий является семантическая характеристика наблюдаемых
вербальных эпизодов и что описанные с семантической точки зрения
наблюдаемые лингвистические события являются моделью для внутренних
эпизодов, которые вводятся теорией»...
Искренне Ваш,
Родерик М. Низом
15августа 1956 г.
Уважаемый м-р Чизом,
... наш разговор так хорошо складывается, что не могу удержаться от еще
одной попытки окончательно все прояснить (или прийти к согласию).
Вы пишете: «Вам необходимо ввести такой термин, который, если он
вообще что-то означает, должен отсылать прежде всего к тому, что Вы
называете мыслями. Данный термин можно было бы замаскировать, назвав его
"примитивным термином семантики", или "примитивным термином
прагматики", или чем-то вроде этого. Однако это означало бы признание того,
что когда мы анализируем значения, которые принадлежат естественному
языку, нам необходимо такое понятие, в котором мы не нуждаемся ни в
физике, ни в "бихевиористике"». Я, безусловно, согласен, что семантические
высказывания (statements) о высказываниях естественного языка, т.е. о
реально используемых утверждениях, нельзя построить с помощью того, что
нам предлагает бихевиористская теория. Я уже писал об этом в некоторых
статьях (например, в «Семантическом решении...»)1 и совсем недавно в
эссе2 для сборника, посвященного Карнапу, а также в моих лондонских
лекциях. Я согласен и с тем, что должно быть некое дополнительное
выражение, которое понимается в качестве примитивного, а именно,
«означает», или «обозначает», в контексте
«...» означает-
Однако, несмотря на то что «означает» является в некотором
грамматическом смысле «реляционным термином», его, как и «следует» (ought),
нельзя относить к терминам дескриптивных отношений. Даже если этот
1 Sellars W. A Semantical Solution of the Mind-Body Problem // Methodos. 1953.
№ 5. P. 45-84; см. также: Sellars W. Mind, Meaning and Behavior // Philosophical
Studies. 1953. № 3. P. 83-95.
2 Sellars W. Empiricism and Abstract Entities // The Philosophy of Rudolf Camap ;
ed. P.A. Schilpp. La Salle, 111.: Open Court, 1963.
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 455
термин и является «дескриптивным» предикатом в том смысле, что он не
является логическим термином или подразумевающим таковые, все равно
этот термин не является дескриптивным в интересующем нас (обычном)
смысле слова.
Полагаю, наиболее ясно я это выразил на страницах 291-293 и 310 моих
лекций. Напоминаю об этом только потому, что Вы могли этого не заметить,
поскольку я говорю об этом в разделе, предшествующем тому, в котором
говорится о мыслях и который мы обсуждали в наших предыдущих письмах.
Также отправляю Вам в отдельном конверте мимеограф моей статьи о
Карнапе1, в которой я подробно рассматриваю (начиная со страницы 30)
несводимость [термина] «обозначает» (designates) к понятиям
формальной логики.
Искренне Ваш,
Уилфрид Селларс
24 августа 1956 г.
Уважаемый м-р Селларс,
философский вопрос, относительно которого мы расходимся,
заключается втом, надо ли
(1) «...» означает р
анализировать в качестве
(2) «...» выражает t и t направлена на р.
Я настаиваю на том, что первое надо анализировать с точки зрения
второго, тогда как Вы настаиваете на обратном. Однако, как я понимаю,
мы оба согласны с тем, что нам необходим некий семантический (или ин-
тенциональный) термин, в котором не нуждается физика.
Как же нам узнать, надо ли (1) анализировать с точки зрения (2) или
наоборот? Если бы проблема заключалась только в построении языка, то
ответ зависел бы от того, какая из альтернатив привела бы нас к наиболее
точному языку. Если мы выберем первую альтернативу, анализируя
значение звуков и символов (marks), ссылаясь на мысли живых существ, то
«интенционалист» скажет: «Живые существа обладают таким необычным
видом свойств, которых нет у обычных физических вещей». Если же мы
выберем вторую альтернативу, то какой-нибудь «лингвист» с не меньшим
правом заявит: «Символы и звуки обладают таким необычным видом
свойств, которых нет у живых существ и прочих физических вещей».
См. сноску 2 на с. 454.
456
Приложение
Так к чему же относятся эти необычные свойства? (Разумеется, нет
смысла настаивать на том, что они означают некое «дескриптивное
отношение». Брентано говорил практически то же самое, в частности о
мнимом отношении «думать о» и т.д.). Можем ли мы сказать, что есть такие
необычные свойства (иными словами, свойства, не подпадающие ни под
одно физикалистское определение), которые присущи только живым
существам? Или же мы должны сказать, что есть такие необычные свойства,
которые присущи только определенным звукам и символам?
Если так ставить вопрос, то, полагаю, очевидным ответом будет то,
что особенными являются именно живые существа, а не звуки и символы.
Кажется, именно Ваш коллега Хосперс (Hospers) предложил следующее
полезное сравнение. Мысли и слова обладают значением подобно тому,
как светят Солнце и Луна, при этом значение слов связано со значением
мыслей так же, как связаны свет Луны и свет Солнца. Если вы уберете
живых существ, то символы и звуки больше не будут светить. Но если Вы
уберете символы и звуки, люди все еще будут думать о разных вещах, хотя,
конечно, и не так хорошо. Так что все заявления о том, что у младенцев,
немых и животных не будет убеждений и желаний, пока они не научатся
употреблению языка, являются необоснованной психологической
догмой.
Говоря «есть такие свойства..», я, конечно, не имею в виду
существование абстрактных сущностей. Не уверен, что Вы согласитесь со всем
сказанным выше. Но согласитесь ли Вы, что описанная мною проблема
является важной и что ее не так-то просто решить? ...
Искренне Ваш,
Родерик М. Чизом
31 августа 1956 г.
Уважаемый м-р Чизом,
в Вашем последнем письме, как и в предыдущих письмах, Вы подняли
очень уместные вопросы, что позволяет нашей дискуссии развиваться
дальше. (Замечания в ходе продуктивной философской дискуссии
должны быть, так сказать, «по плечу».) Рассмотрим их по порядку.
1. Ваше противопоставление «интенционалиста» и «лингвиста» на
самом деле ошибочно. Вы пишете: «Если мы выберем первую альтернативу,
анализируя значение звуков и символов, ссылаясь на мысли живых
существ, то "интенционалист" будет говорить: "Живые существа обладают
таким необычным видом свойств, которых нет у обычных физических
вещей". Если же мы выберем вторую альтернативу, то какой-нибудь
"лингвист" с не меньшим правом заявит: "Символы и звуки обладают таким
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 457
необычным видом свойств, которых нет у живых существ и прочих
физических вещей".
Так что же все-таки обладает этими необычными свойствами?...»
Ошибка здесь в том, что нам кажется (хотя, уверен, Вы совсем не это
имели в виду), будто «лингвист» приписывает направленность мыслей тем
свойствам, которыми символы и звуки обладают в качестве именно
символов и звуков (а именно, их последовательному порядку, композиции из
более простых символов и звуков, входящих во взаимоисключающие
классы, и т.д.). Конечно, эти особенности «знакового устройства» (sign
design) символов и звуков позволяют им функционировать в качестве
языковых выражений, но не они конституируют эту функцию. Символы
и звуки являются лингвистическими выражениями только в том случае,
если их произносит говорящее животное, причем не в качестве имитации.
2. Поэтому «лингвист», как и «интенционалист», может заявить, что
(определенные) живые существа способны оперировать такими
символами и звуками, о которых можно сказать, что они указывают на что-то и
говорят о чем-то, тогда как «обычные физические вещи» этого не могут.
Проблема поэтому заключается не в том, как Вы говорите, «можем ли мы
сказать, что есть такие необычные свойства (иными словами, свойства,
не подпадающие ни под одно физикалистское определение), которые
принадлежат только живым существам? Или же мы должны сказать, что
есть такие необычные свойства, которые принадлежат только
определенным звукам и символам?». Проблема скорее заключается в следующем:
если изначально способ существования языка подразумевает
осмысленные вербальные действия, осуществляемые животными, которые могут
думать, желать, подразумевать, хотеть, заключать и т.д., и если (а) эти
вербальные действия что-то означают, и (б) выражаемые ими ментальные
акты на что-то направлены, то как мы можем объяснить эти понятия,
присущие скорее живым существам, а не «обычным физическим вещам»!
3. Почему Вы думаете, что «означает» в
«...» означает-
должно указывать на некое свойство, пусть даже и «необычное»? Если
Вы, как и Брентано, считаете (и вполне справедливо), что это только
мнимое отношение, то должно ли оно тогда быть свойством какого-то
особого рода? (Возможно, в случае пропозиций Вы сказали бы, что скорее озна-
чает-р является таким свойством, а не просто означает.) Конечно, я не
отрицаю того, что при определенных условиях термин «свойство» можно
толковать таким образом. Однако я считаю, что такое расширительное
толкование «свойства» скрадывает очень важные различия, но об этом
чуть позже.
Я не из тех, кто считает, что «значение термина это его
употребление», поскольку у «употребления» нет того смысла, который помог бы
458
Приложение
анализу интересующего нас смысла «означает». Тем не менее, эта
В[итгенштейнов]-ская максима содержит в себе одну очень важную
истину, и, если соблюдать осторожность, она может принести нам
пользу. Возьмем такое выражение, которое пусть и не указывает на
какой-нибудь предмет, входящий в одну из Ваших онтологических
категорий, но о котором Вы сказали бы, что оно указывает на некое
свойство (при этом Вы знаете, что оно выполняет систематическую,
или нормативную, функцию в языке). Например, «да» в
[предложении] «Да, идет дождь». Представьте, что «да» всегда появляется в
контексте «да, р». Даже в этом случае разве мы не использовали бы
именно структуру «'...' означает -»? Например,
«Ja, р» означает да, р
и
«Ja» означает да.
(Полагаю, Вы не будете утверждать, что да является свойством
пропозиций.) Но если «дя» не указывает на какое-либо свойство, тогда то, что
«х bedeutet у» означает х означает у
не является сильным доводом в пользу того, что означает является неким
свойством. Иными словами, из
«Bedeutet» означает означает
нельзя заключить, что
Есть нечто (а именно, означает), что «bedeutet» означает.
Ведь то, что означает является в таком расширенном смысле
«чем-то», практически ни о чем не говорит, поскольку да в этом случае
также было бы чем-то!
Если Е это определенное выражение в языке L, какую бы роль оно в
нем ни играло, а Е' является переводом Е на английский, то мы вполне
можем сказать и то, что
Е(в L) означает -
и то, что
Есть нечто, а именно -, которое Е и означает,
где то, что стоит на месте «—», является английским выражением,
обозначенным с помощью Е. Таким образом, мы получаем
Есть нечто, а именно Я буду, которое «Ich werde» означает
(по-немецки)
и
Есть нечто, а именно это, которое «dieser (diese, dieses)» означает
(по-немецки).
Интенииональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 459
(Понятно, что в последнем примере контекст заключает "это" в кавычки,
так что оно более не выполняет своей «указующей» роли, а семантическая
структура реализует свою указующую роль уже по-своему.)
4. Вы пишете: «Значение слов связано со значением мыслей так же, как
связаны свет Луны и свет Солнца. Если вы уберете живых существ, то
символы и звуки больше не будут светить. Но если Вы уберете символы и звуки,
люди все еще будут думать о разных вещах, хотя, конечно, и не так хорошо».
Я, разумеется, согласен с тем, что символы в книге и звуки, издаваемые
фонографом, «обладают значением» только благодаря их связи с «живыми»
вербальными эпизодами, в которых язык служит непосредственному
выражению мысли (например, разговор, записанный на доске). И, как я уже
писал в предыдущем письме (от 3 августа), я согласен с тем, что «живые»
вербальные эпизоды являются осмысленными, потому что они выражают
мысли. Расхождение между нами заключается в анализе этого «потому что».
Позвольте, я еще раз объясню, что же я имел в виду, сказав, что в
принципе можно представить людей, у которых еще нет представления о
мыслях, но которые используют характерные формы семантического
дискурса. Они думают, но они не знают о том, что они думают. Они осмысленно
используют язык, потому что выражают мысли, однако, они не знают,
что это выражение мыслей. Иными словами, они не знают, что
наблюдаемая речь является кульминацией тех внутренних эпизодов, которые мы
называем мыслями. (Сравните их, например, с людьми, у которых пока
еще нет теоретических понятий, с помощью которых они давали бы
теоретические объяснения наблюдаемым свойствам физических объектов.
Но при этом они могут объяснять определенные события с помощью того
общего знания, которое содержится в связанных с этими вещами диспо-
зициональных понятиях.)
Итак, для того чтобы общаться, эти люди должны учитывать те
нормы, которые определяют, что без чего нельзя сказать, и тем самым задают
синтаксическую или «интра-лингвистическую» структуру языка; они
также должны учитывать, что, ceterisparibus, перед тем, кто говорит «Это —
зеленое», должен находиться некий зеленый объект, а тот, кто говорит «Я
сделаю А», собирается это сделать. Их понимание будет основано на той
регулярности, с помощью которой язык изучают и передают от
поколения к поколению как некое «социальное наследие». Эта регулярность
лежит в основе их пользования языком.
Если Вы согласитесь с тем, что они могли бы достичь всего этого, не
имея в своем распоряжении понятия мысли (хотя, разумеется, не
переставая мыслить), то тогда встает вполне закономерный вопрос: могли бы они
использовать семантический дискурс, не имея никакого представления о
том, что наблюдаемое вербальное поведение является кульминацией
внутренних эпизодов, не говоря уже о том, что оно является выражением
мыслей? Мои ответ — да.
460
Приложение
В своем первом письме Вы выразили согласие со многим из того, что
я говорил о «мифе данности». Но моя критика этого мифа предполагает и
то, что прежде чем эти люди непосредственно узнают (с помощью
«интроспекции») о том, что у них есть мысли, они должны будут сначала
создать представление о том, что такое мысль1. Поэтому, соглашаясь с Вами
втом, что форму
«...»означает —
нельзя получить с помощью райловских терминов (или «бихевиоризмов»,
как я их называю), я, тем не менее, настаиваю на том, что ее нельзя
анализировать и с точки зрения
«...» выражает t, и t направлена на —.
Мое решение проблемы заключается в том, что «"..." означает —»
является основанием той уникальной разновидности дискурса, которая на
столько же отличается от описания и объяснения эмпирического факта,
насколько отличается от них и язык предписания и обоснования.
Возможно, я выражался не совсем понятно. Но теперь основная суть
аргумента прояснится. Если условно разделить единую линию
концептуального развития на периоды, то мысли сначала будут пониматься в
качестве теоретических эпизодов по аналогии с наблюдаемым вербальным
поведением (т.е. как «внутренняя речь»). Однако в какой-то момент люди
смогут сказать, о чем они думают, не делая при этом никаких
теоретических заключений на основании их собственного публично наблюдаемого
поведения (примерно так, как я это представил в моем мифе о Джонсе)2.
Они теперь не просто думают, но еще и знают о том, что они думают.
Теперь они не только могут делать выводы о мыслях других людей, но и
обладают непосредственным знанием о том, что происходит в их
собственном сознании.
5. Вы пишете: «Так что все заявления о том, что у младенцев, немых и
животных не будет убеждений и желаний, пока они не научатся
употреблению языка, являются необоснованной психологической догмой».
Здесь я ограничусь только краткими замечаниями:
1 «Мы уже отказались от идеи о том, что наше существование в этом мире
начинается с какого-то осознания (пусть даже смутного и фрагментарного)
логического пространства предметов (particulars), видов (kinds), фактов и сходств.
Мы также признали, что даже такие «простые» понятия, как цвет, являются
результатом длительного процесса поощрения публичных реакций на публичные
объекты (в том числе и на вербальные действия) в публичных ситуациях.... мы
теперь знаем, что мы имеем понятие о чем-либо не потому, что заметили вещь
такого рода, а что, наоборот, мы можем заметить вещь такого рода только потому,
что уже имеем понятие об этой вещи, и это понятие от нас не зависит» (ЕРМ.
Р. 306).
2 См.: ЕРМ. Р. 320; процитировано выше в сноске 5.
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и У. Селларса 461
(a) Поскольку я не определяю мысли в терминах наблюдаемого
вербального поведения и допускаю, что мысленные эпизоды могут возникать
помимо наблюдаемого лингвистического выражения, то, полагаю, нет
никакого противоречия в идее мыслящего существа, которое не владеет
языком для наблюдаемого выражения своих мыслей.
(b) Конечно, искусное приспособление животных к окружающей
среде заставляет нас полагать, что они при этом верят во что-то, желают
или ожидают чего-то и т.д. Приписывая им убеждения, желания,
ожидания и т.д., мы можем объяснить их поведение. Но главное здесь
заключается в том, что обычно мы формулируем эти объяснения так, что по
отношению к человеку это означало бы признание того, что на самом деле он
не мыслит, не верит и не желает. Ведь в объяснении поведения животных
менталистский словарь используется в качестве модели или аналогии, и он
специально изменен и ограничен, чтобы соответствовать объясняемым
феноменам. Это как если бы мы стали объяснять поведение
макроскопических объектов, например газов, заявляя, что они состоят из
сталкивающихся друг с другом микроскопических бильярдных шаров, а затем бы
добавили «но, разумеется,...».
(c) Использование менталистского словаря как точки отсчета в
объяснении поведения животных можно назвать взглядом «сверху вниз».
При этом новейшая экспериментальная психология пытается взглянуть
на него «снизу вверх». И хотя в этой области еще многое предстоит
сделать, тем не менее уже очевидно, что установление различий является
более первичным феноменом, чем классификация, и что цепи
стимул—реакция могут быть настолько сложными, что в принципе могут объяснить и
такие «изощренные» формы приспособления, как, например,
способность к обману. Тогда как, если смотреть на эти формы приспособления
«сверху вниз», они объяснялись бы именно с точки зрения
компетентного использования системы убеждений, желаний, ожиданий и т.д. Иными
словами, что можно было бы сказать о земляном черве, который стал
поворачивать направо в Т-образной трубе, поскольку, повернув до этого
налево, получил небольшой удар током?
(d) Полагаю, Вы согласитесь, что способность иметь мысли
предполагает и способность к определенной классификации, а также к
предвидению определенных последствий и к совершению определенных выводов.
Думаю, Вы согласитесь и с тем, что поспешно было бы заключить, что
лабораторная крыса может классифицировать объекты, поскольку она
реагирует одним образом на объекты, которые в определенных отношениях
похожи, и совершенно иным образом - на объекты, которые в
определенных отношениях отличаются; или что ребенок сделал вывод, что его
обед готов, поскольку он размахивает ложкой, пока мама одевает на него
нагрудник. Не хотелось бы проводить границу между внутренними
эпизодами, которые располагаются как бы ниже уровня мыслей, и внутрен-
462
Приложение
ними эпизодами, которые этими мыслями и являются. Но я по-прежнему
убежден, что способность мыслить необходимо изучать только в рамках
исследования нашей способности использовать язык в межличностном
общении и что способность иметь мысли без того, чтобы выражать их,
является уже более поздним достижением.
(e) Наконец, последнее, хотя и не менее важное, замечание. Все
сказанное выше предполагает, что языки, обучение которым приводит
к способности мыслить, надо понимать в смысле конвенциональных,
социально поддерживаемых и наследуемых систем символов
(французский язык, немецкий, английский и т.д.), которые при этом тесно
связаны с «языком жестов» физически ограниченных людей. Однако
наивно было бы полагать, что языки в таком чересчур узком смысле
слова являются единственными формами наблюдаемого поведения,
играющими роль символов в классифицирующем, логически
обоснованном и целенаправленном поведении человеческих существ.
Поэтому, думаю, нет такого взрослого глухонемого, у которого были бы
«убеждения и желания» и который мог бы «думать о разных вещах, хотя,
конечно, и не так хорошо», но который не выучил бы никакого языка. Я
бы скорее сказал (вместе с В[итгенштейн]ом и другими), что его
наблюдаемое конвенционально символизированное поведение сначала
должно было быть одобрено («усилено») его окружением; и что
определенный способ поведения В будет выражать мысль, чтор, только если
В является переводом на его «язык» предложения нашего языка
(назовем это предложение S), репрезентируемого с помощью «р». Это
означает, что В играет ту же роль в его поведенческой экономии, какую S
играет в нашей.
(f) Теперь я должен добавить два примечания к этому «последнему
замечанию» — они свяжут его со всем сказанным до этого. Первое касается
такой важной темы в современных дискуссиях, как значение. Взаимная
переводимость двух выражений в реальной практике словоупотребления
является, за некоторыми исключениями, «идеалом». Я хочу сказать, что
всякий раз, используя структуру
Е(в L) означает -
мы должны помнить, что «строго говоря» Е и Е' (см. выше, конец пункта 3)
«не обладают одним и тем же значением». Тем не менее наше
использование этой структуры оправданно по двум причинам, из которых наиболее
важной является вторая: а) различие между ролью Е и Е' может не иметь
никакого значения в том контексте, в котором эта структура
используется; Ь) данная структура, в которой Е и Е' используются как взаимно
переводимые, является основой, или точкой отсчета, исходя из которой мы с
помощью добавления уточнений объясняем употребление выражений в L
тому, кто не знает, как их употреблять.
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 463
(g) Суть второго примечания заключается в том, что не существует
замены сложно структурированным языкам, развивавшимся на протяжении
тысячелетий существования человека. Возвращаюсь к пункту (Ь): сказав,
что у нашего глухонемого есть мысль, чтор, разве мы потом не вынуждены
будем, если потребуется, добавить «но, разумеется ...»?
6. Вы пишете: «Не уверен, что Вы согласитесь со всем сказанным
выше». Если я напишу «то же самое» (ditto), то это будет мягко сказано.
С другой стороны, хотя я и не согласен кое с чем из того, что Вы говорили,
я, тем не менее, попытался показать, что со многим я все-таки согласен, и
даже с большим, чем Вы можете предположить, хотя и продолжаю
настаивать на своем.
Искренне Ваш,
Уилфрид Селларс
P.S. Все это уже перестает походить на обычный обмен письмами!
12 сентября 1956г.
Уважаемый м-р Селлрас,
большое спасибо за последнее письмо, я прочитал его с удовольствием.
Думаю, различия между нами теперь сводятся, судя по всему, к двум
пунктам, которые и вызывают наибольшее разногласие.
Прежде всего мы расходимся во мнениях относительно того, как
понимать «анализ» и «объяснение» (explication). Рассмотрим следующие
предложения:
В-1. Содержание мыслей надо анализировать с точки зрения
языкового значения, а не наоборот.
В-2. Язык является осмысленным только потому, что он выражает
мысли, которые на что-то направлены.
В-3. Люди из Вашей истории могли «использовать семантический
дискурс, не имея никакого представления о том, что наблюдаемое
вербальное поведение является кульминацией внутренних эпизодов, не
говоря уже о том, что оно является выражением мыслей».
Когда я писал Вам свое первое письмо, то полагал, что В-1
несовместимо с В-2, тогда как Вы допускали как В-1, так и В-2. Причем для Вас В-3
подразумевает В-1, тогда как я согласен с В-3, но не принимаю В-1.
Возможно, мы правильно поступим, если решим больше не
использовать такие технические понятия, как «анализ» и «объяснение». Что
тогда будет следовать из В-1 ?
Другое расхождение между нами заключается в том, что я более
скептично настроен к таким «решениям», как то, что Вы предложили на
странице 4. «Мое решение проблемы заключается в том, что «"..." означает —»
464
Приложение
является основанием той уникальной разновидности дискурса, которая
настолько же отличается от описания и объяснения эмпирического факта,
насколько отличается от них и язык предписания и обоснования». Думаю,
что технический философский термин «дескриптивный» чересчур
затаскан, и не уверен, что он достаточно содержателен. Я бы скорее сказал, что
заявление о том, что какое-то предложение не является дескриптивным,
означает лишь то, что это предложение (например, «Не переходи улицу»
или «Жаль, что эти розы не расцвели») не является ни истинным, ни
ложным. Однако предложение «" Hund" по-немецки означает собака»
является истинным предложением. И любой, кто отрицал бы это, совершил бы
ошибку вроде той, которую, как мне кажется, совершает и тот, кто говорит
«Берлин является частью Варшавы». Поэтому сказать, что предложение
не является дескриптивным или что оно представляет собой уникальную
разновидность дискурса, не значит прояснить хотя бы одну из
поставленных мною проблем.
Впрочем, надеюсь, мы еще не зашли в тупик.
Искренне Ваш,
P.M. Чизом
19 сентября 1956г.
Уважаемый м-р Чизом,
большое спасибо за письмо от 12 сентября, в нем Вы снова, как обычно,
очень четко очертили проблемы. Я сосредоточусь на тех двух моментах, к
которым, как Вы полагаете, «сводятся» различия между нами, и в том
порядке, в котором Вы их изложили.
Вы спрашиваете, что будет следовать из Вашего предложения ( В-1 ),
если мы «решим больше не использовать такие технические понятия, как
"анализ" и "объяснение"». Да, я согласен, что эти термины могут скорее
навредить, если с ними неосторожно обращаться. «Анализ» теперь
применяется ко всему, от дефиниций вплоть до объяснений различных видов
употребления термина, которые вообще дефинициями не являются.
Позвольте, поэтому, заметить, что я все-таки не настолько неосторожен,
чтобы заявлять, что «содержание мыслей надо анализировать с точки зрения
языкового значения, а не наоборот». Данная формулировка отсылает к
Вашему письму еще от 24 августа, и в последнем своем письме я вынужден
был возражать на это. Я, конечно, против того, чтобы анализировать
языковое значение с точки зрения содержания мыслей - обратите внимание,
например, на раздел А-12 в моем письме от 3 августа. Но главное свое
возражение на это я сформулировал в разделе А-13 из того же письма: «
Категории интенциональности, возникающие в наших представлениях о мыслях,
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 465
понимаемых по образу и подобию наблюдаемой речи, являются не более
чем металингвистическими категориями, с помощью которых мы
описываем наблюдаемую речь с эпистемологической точки зрения». Итак, я
всегда возражал против того, чтобы определять мысли (а следовательно, и их
направленность) с точки зрения языка (пункт 5(b) в моем письме от 31
августа). Тем не менее я настаиваю на том, что направленность мыслей надо
понимать и объяснять с помощью категорий семантического дискурса о
языке. Поэтому только если «анализ» вообще станет бесполезным, я готов
буду принять Ваше В-1.
Позвольте мне небольшое отступление, чтобы сделать некоторые
выводы из моей истории, в которой Джонс вводит категорию мыслей,
используя в качестве модели семантический дискурс о наблюдаемой речи.
В истории речь шла о том, что
х является примером S, и S (в L) означает р
(где х относится к наблюдаемым лингвистическим эпизодам) является
моделью для
х является случаем Т, и Т является мыслью, что р
(где х относится уже к внутренним эпизодам, введенным с помощью
'теории'). Теперь, если я правильно пониманию семантические
утверждения, предложения типа
S (в L) означает р,
используемые соплеменниками Джонса, подразумевают, но не
утверждают определенные райловские факты относительно места S в
поведенческой экономии пользователей L.
(Они подразумевают эти факты, потому что «S (в L) означает р»,
высказанное с помощью х, не было бы истинным, если бы предложение «S»
не играло той же райловской роли в поведении использующих L, что и
предложение «р» в поведении высказывающегося. Но они не
утверждают эти райловские факты, поскольку «S означает р» не
(реконструируемо с помощью райловских средств.)
Райловские факты, «лежащие в основе» семантических
высказываний о выражениях языка, должны учитываться не только теми, кто
собирается делать семантические высказывания о языке, но и теми, кто
использует язык для коммуникации с другими пользователями языка.
Иными словами, эти факты устанавливают корреляцию (а) между
внешним окружением и вербальным поведением, (Ь) между одним
вербальным поведением и другим вербальным поведением, (с) между
вербальным поведением и невербальным. Если мы используем семантический
дискурс о наблюдаемой речи в качестве модели для внутренних
эпизодов (постулируемых Джонсом для объяснения того, что поведение его
466
Приложение
соплеменников может быть таким же разумным, когда они молчат, как и
тогда, когда они думают вслух), то именно эти корреляции - при условии,
что все поведение было бы «мышлением вслух» — являются наиболее
эффективной моделью для описания той роли, которую выполняют эти
внутренние эпизоды. Именно эту роль - хотя, конечно, и не всю
структуру интенциональности, в которой она проявляется, - мы сегодня
надеемся (и вполне обоснованно) объяснить в терминах
нейрофизиологических соединений, подобно тому, как нам удалось объяснить «атомы»,
«молекулы» и т.д. прежней химической теории в терминах современной
физической теории1.
Впрочем, я затронул такие темы, которые предполагают согласие в
гораздо более фундаментальных вопросах (хотя сказанное выше может
прояснить общее направление моей мысли). Так что вернемся к Вашим
вопросам! Прежде чем сделать это отступление, я сказал, что не смогу
принять В-1, если только не переформулировать его так, что термин
«анализ» просто теряет всякий смысл. На самом деле мы оба отрицаем В-1.
Однако я готов согласиться с чем-то очень близким к В-1. Вы, я так
понимаю, не готовы. Или я ошибаюсь? (См. ниже.)
Итак, хотя мы оба согласны с В-2 как с неким тезисом, я, однако,
согласен с ним, только если содержащееся в нем «потому что» входит в
теоретическое объяснение, тогда как Вы интерпретируете это выражение как элемент
анализа. Как в таком случае объяснить Ваше согласие с В-2, раз уж мы
решили сейчас «не использовать такие технические термины, как "анализ" и
"объяснение"»? С другой стороны, причина, по которой я согласен с (В-2),
тесно связана с тем, почему я согласен с В-1.
1 Иными словами, мы должны различать две функции семантических
высказываний относительно наблюдаемых лингвистических действий, т.е. функции тех
высказываний, которые выступают в качестве модели для понятия мысли как
направленного или указывающего на что-то эпизода. С одной стороны, (а) они
выступают в качестве семантической формы как таковой, когда «S означает р»
является моделью для «Т направлено на р»; с другой стороны, (Ь) вербально-поведен-
ческие факты, на которые указывают семантические высказывания относительно
лингвистических действий, являются моделью для фактического, или
дескриптивного, характера ментальных эпизодов, для их отношений в каузальном ряду как
друг с другом, так и с наблюдаемым поведением.
Именно дескриптивную структуру ментальных эпизодов мы, как уже было
сказано, «надеемся (и вполне обоснованно) объяснить в терминах
нейрофизиологических соединений, - подобно тому, как нам удалось объяснить "атомы",
"молекулы" и т.д. прежней химической теории в терминах современной физической
теории». Анализ логики такой «интерпретации», или, как иногда говорят,
«слияния», см. в ЕРМ, § 55, 58 и 40-41, а также в § 47-50 моего эссе «Counterfactuals,
Dispositionsand the Causal Modalities», особенно § 49. Краткий анализ того, почему
мысли действительно могут быть нейропсихологическим состоянием (анализ,
который продолжает основную линию натуралистической традиции материализма,
избегая при этом категориального смешения, свойственного его ранним
версиям), см. в последней части моего письма от 19 октября.
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 467
Здесь стоит вернуться к тому, о чем говорилось в первой части этого
письма. Вы пишете в письме от 12 августа: «У меня нет замечаний к
первым пяти пунктам, и я могу согласиться также с А-7 и А-8. Согласие же с
пунктом А-6 и пунктами, следующими за А-8, зависит, по всей
видимости, от А-12. Если Вы убедите меня в А-12, то убедите меня и во всем
остальном». У меня возникает следующий вопрос. Сейчас Вы пишете, что
согласны с В-3. А 12 августа Вы писали, что если я смогу убедить Вас в
А-12, то, возможно, смогу убедить и во всем остальном. Но разве В-3
не подразумевает Л-12?
Теперь относительно «второго пункта разногласия между нами».
Сразу замечу, что я разделяю Ваше недоверие к таким «решениям»
философских проблем, которые просто подыскивают новую категорию для
выражений, в которых сформулированы эти проблемы. Именно потому,
что я предлагаю нечто большее, я и осмелился назвать свое предложение
решением.
Итак, первое, о чем необходимо сказать, так это то, что я не только
согласен, но никогда и не сомневался в том, что
«Hund» по-немецки означает собака
истинно настолько же, насколько истинным было бы и
Берлин является частью Варшавы,
если бы географические факты были несколько иными.
«"Hund" по-немецки означает собака» истинно = "Hund"
по-немецки означает собака
в том же смысле, что и
«Берлин является частью Варшавы» истинно = Берлин является частью
Варшавы.
Относительно этого момента между нами нет разногласий. Когда я
сказал, что семантические высказывания передают дескриптивную
информацию, но не утверждают ее, я не имел в виду, что семантические
высказывания только передают, но не утверждают. Они являются именно
семантическими утверждениями. То, как я, в отличие от эмотивистов, использую
термин «передавать», не делает его синонимом «проявлять» или «выражать».
Я бы не стал приравнивать семантические высказывания к восклицаниям
или симптомам.
Стоит отметить, что о таких высказываниях, как «Джонсу следует
делать А», столь же уместно говорить, что они являются истинными, сколь и
о математических, географических или семантических высказываниях.
Однако мы, разумеется, должны помнить и о важных различиях в «логике»
этих высказываний.
468
Приложение
Я согласен, что для решения нашей проблемы нельзя просто заявить,
что семантические высказывания «уникальны» — так же как и для решения
соответствующей проблемы в этике нельзя просто сказать, что прескрип-
тивные высказывания «уникальны». Необходимо тщательно исследовать
высказывания из самых разных групп (families) с учетом всех сходств и
различий между ними. Только после этого заявление о том, что определенная
группа высказываний является в некотором роде уникальной, перестанет
быть пустым обещанием. И хотя я не стал бы настаивать, что предлагаемый
мною подход к объяснению семантических и менталистских
высказываний продвинулся достаточно далеко, я, тем не менее, считаю, что это как
минимум начало и что я по крайней мере сделал первые шаги в этом
направлении.
Я также согласен с тем, что термин «дескриптивный» мало что нам
дает. Поскольку «ремесленная задача», используя выражение Айера,
уже выполнена, то можно придать этому термину более точное
значение. (Возможно, есть определенная связь между техническим
употреблением данного термина и тем, как мы обычно используем слово
«описывать».) Я попытался сделать это в статье о Карнапе, но остался не
очень доволен своей попыткой. С другой стороны, на фоне того, как
сегодня философы употребляют это понятие, оно имеет смысл только в
контексте противопоставления логиками «дескриптивных выражений»
и «логических» (в этом случае «следует» было бы дескриптивным
понятием!) и «дескриптивного» «прескриптивному» моральными
философами. В соответствии с двумя этими употреблениями «S означает р» было
бы действительно дескриптивным высказыванием.
Итак, я имел в виду именно обычное значение слова «описывать», или
что-то очень близкое ему, когда сказал, что «"Hund" по-немецки
означает собака» не является дескриптивным утверждением. Я хотел сказать, что
в каком-то смысле данное высказывание не описывает роль [слова]
«Hund» в немецком языке, хотя и подразумевает такое описание.
(Сравните: когда я высказываю намерение совершить А, я не предсказываю, что
совершу А, хотя в некотором смысле выразить намерение предполагает
соответствующее предсказание.)
Итак, в чем же суть таких высказываний, как «"Hund" по-немецки
означает собака»** Мне нечего добавить к тому, что я уже говорил об этом
ранее, по крайней мере пока мы не столкнемся с новыми расхождениями
между нами. Вполне естественно предположить (хотя это и
неправильно), что
St: «Hund» по-немецки означает собака
действительно является таким же высказыванием, как и
S2: «Hund» в немецком языке играет ту же роль, что и «собака» в
английском.
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 469
Но в этом случае оно описывало бы роль «Hund» так же, как и
Том похож (в чем-то) на Дика
описывает Тома. Однако простой тест Черча на переводимость показывает,
что St и S2 не эквивалентны. Мы, пользователи слова «собака» (т.е. слова
нашего языка), используем Sj для объяснения другому пользователю той роли,
которую «Hund» играет в немецком языке, предлагая ему, так сказать, в
качестве примера слово, играющее соответствующую роль в нашем языке.
Очевидно, что он не сможет правильно понять S j {при условии, что он
действительно использует слово «собака») если не будет знать, что S j истинно, если
и только если истинно S2. Тем не менее он вполне может знать, что S2
истинно без того, чтобы обладать тем знанием, которое выражено в «"Hund"
по-немецки означает собака». Ведь он может знать, что S2 истинно, не «зная
значения слова "собака"».
(Сравните: можно знать, что Том похож (в чем-то) на Дика, не зная
при этом, как выглядят Том и Дик.)
Итак, снова то, что должно было быть коротким и ясным письмом,
вышло у меня из-под контроля. Однако это помогло мне прояснить
некоторые мои идеи. Надеюсь, и Вам оно окажется чем-то полезно.
Искренне Ваш,
Уилфрид Селларс
3 октября 1956 г.
Уважаемый м-р Селларс,
извините, что не сразу ответил на Ваше письмо от 19 сентября.
У меня такое чувство, что, возможно, нам стоит начать все сначала,
поскольку, формулируя свой ответ на Ваше письмо, я понял, что мы
можем зайти в тупик. Вы завершаете первую часть Вашего письма
вопросом «Но разве В-3 не подразумевает А-12?» Поскольку в одном из
этих предложений используется технический термин «анализ»,
которого мы решили избегать, необходимо переформулировать этот
вопрос. Я, например, не считаю, что В-3 подразумевает А-12. Это
означает, что мы понимаем «анализ» по-разному. Что же касается второй
части Вашего письма, то я склоняюсь к тому, что задача предложения
«"Hund" по-немецки означает собака» (в котором «по-немецки»
указывает на язык, на котором говорят немцы) заключается в том, чтобы
поставить нас в известность, что говорящие по-немецки используют
слово «Hund» для выражения своих мыслей о собаках. Конечно, это
мало что нам дает!
470
Приложение
Все, что я хотел сказать, можно выразить в следующих семи
предложениях:
С-1. Мысли (т.е. убеждения, желания и т.д.) являются интенциональ-
ными - они на что-то направлены.
С-2. Лингвистические сущности (предложения и т.д.) также
являются интенциональными.
С-3. Больше ничто не является интенциональным.
С-4. Мысли оставались бы интенциональными, даже если бы не
существовало никаких лингвистических сущностей. (Это предложение
относится к психологии. Я согласен с тем, что если бы у нас не было языка,
наши мысли были бы просто грубо оформленными.)
С-5. Но если бы не было мыслей, то лингвистические сущности не
были бы интенциональными. (Если бы не было людей, то слово, или
звук «Hund», если бы его кто-то случайно произнес, не означал бы
собаку.)
С-6. Из этого следует, что именно мысли являются «источником ин-
тенциональности», т.е., иными словами, ничто не было бы
интенциональным, если бы мысли не были интенциональными. (Когда я
употребил «потому что» в предыдущем письме, то именно в этом смысле, а не в
смысле анализа, как Вы подумали.)
С-7. Следовательно - и в этом заключается тезис Брентано - мысли
являются особенными именно потому, что обладают таким важным
свойством, которым более ничто в мире не обладает, а именно,
свойством, описанным в С-6.
Аналогия Хосперса с Луной и Солнцем соответствует каждому из
этих предложений. Если мы забудем на время о звездах и метеоритах и
заменим в перечисленных выше предложениях «мысли» на «Солнце»,
«лингвистические сущности» на «Луну», а «быть интенциональным» на
«быть источником света», то и в этом случае все эти предложения
останутся в силе.
Допустим, человек, много знающий о Луне, но мало что знающий о
Солнце, стал бы изучать Солнце по его сходству с Луной. Такой человек
очень походил бы на человека из вашей истории. Однако мне кажется, что
даже если бы таковой и нашелся, это мало повлияло бы на ту важную
астрономическую истину, которая была бы выражена в С-7. Но разве Ваша
история, если я правильно ее понимаю, не заставляет меня усомниться в
истинности С-7?
Можно ли теперь надеяться, что мы вообще когда-либо придем к
согласию?
С наилучшими пожеланиями,
P.M. Чизом
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 471
19 октября 1956 г.
Уважаемый м-р Чизом,
вполне допускаю, что в том же письме, в котором я согласился, что нам не
следует использовать технический термин «анализ», я же его и
использовал, когда спросил «Но разве В-3 не подразумевает А-12?» Полагаю,
однако, Вы согласитесь, что если бы проблему можно было решить в наших
более ранних письмах, то мы бы уже давно продвинулись дальше. Мы бы
пытались сейчас понять, как все это будет выглядеть, если заново
сформулировать проблему уже без использования этого технического
термина. Пусть это и не решит всех наших проблем, но все-таки стоит сказать
несколько слов о предыстории моей аргументации.
В первом своем письме я использовал термин «анализ» таким
образом, что из заявления о том, что X надо анализировать с точки зрения Y,
неверно было бы делать вывод, что у кого-то есть понятие X, но при этом
отсутствует понятие Y. (Утверждать обратное, судя по всему, просто не
имеет смысла.) Например, когда в А-12 я отрицал, что
«...» означает р
надо анализировать в качестве
«...» выражает t, и t направлена на р,
я на самом деле выступал против того, чтобы из отсутствия у кого-либо
представления о том, что некое высказывание выражает мысль, что р,
можно было вполне обоснованно заключить, что у него вообще нет понятия о
том, что некое высказывание означает, что р. Ведь если всю ту
отрицательную часть А-12, которая начинается со слов «в частности» (и в которой,
собственно, содержится главное из того, что я хотел сказать), понимать именно
таким образом, то оно как раз и будет предполагать В-3. То, о чем говорится
в В-3, можно выразить следующим образом:
Люди в принципе могли бы делать семантические высказывания о
наглядном вербальном поведении других людей до того, как у них
возникла идея о том, что есть некие мысли, выражением которых и является
наблюдаемое вербальное поведение.
Уже то, что Вы сформулировали В-3 и придерживаетесь его, а также
Ваше более раннее заявление о том, что если мне удастся убедить Вас в
А-12, то, возможно, удастся убедить и во всем остальном, — все это вместе
позволяет надеяться, что мы все-таки могли бы достичь определенного
согласия.
Но даже если мы уберем А-12 и останемся только с В-3, то и в этом
случае моя точка зрения не изменится. Ведь если согласиться с В-3, то
какие у нас еще останутся альтернативы для объяснения того, как связана
категория мыслей и их направленность с категорией семантических вы-
472
Приложение
оказываний о лингвистических эпизодах? (Очевидно, что классический
подход, в соответствии с которым сказать о высказывании, что оно
означает р, это просто удобный способ сказать, что оно выражает мысль, что р,
в данном случае исключен.) Альтернатива, к которой Вы, по всей
видимости, склоняетесь, может быть сформулирована приблизительно
следующим образом:
Сказать о вербальном действии, что оно означает, что р, значит
приписать этому действию определенное свойство, а именно, свойство
означать, что р, и, следовательно, общее свойство вообще означать
что-то. Вполне возможно, что люди могли бы обнаружить это свойство
у вербальных действий, своих и чужих, не зная отом, что есть некие
мысли (хотя они продолжали бы при этом думать), так же, как они могли бы
установить, что Луна может светить, ничего не зная при этом о Солнце.
Впоследствии они (интроспективно) замечают мысли и, изучив их,
обнаруживают, что у них есть общее свойство быть направленными на
что-то. Сравнивая это свойство со свойством означать что-то, они
обнаруживают, что если это не одни и те же свойства, то по крайней мере
свойства того же рода, поскольку быть направленным на что-то (в случае
мыслей) и означать что-то (в случае лингвистических выражений) — это
два схожих способа быть интенциональным. Затем они устанавливают,
что вербальные выражения обладают свойством означать что-то, и,
следовательно, быть интенциональными, только если они находятся в
определенном отношении к мыслям, тогда как мысли могут иметь
свойство быть направленными на что-то, и, следовательно, быть
интенциональными независимо от какого-либо отношения к вербальным
выражениям. (Хотя они при этом также установили, что мысли
определенного уровня сложности не могли бы появиться, если бы думающий
не выучил какой-нибудь язык, предназначенный для их выражения.) Из
этого они делают вывод, что мысли являются источником интенцио-
нальности.
Я потому так кратко изложил эту альтернативу, чтобы подчеркнуть,
что обычно проблемы, связанные с интенциональностью, возникают
из-за предположения, что если утверждения типа «S означает р» часто
оказываются истинными, то их можно объяснить с помощью таких
философских понятий, как «свойство», «отношение», «атрибут», «описание»
и т.д. Основываясь на данном предположении, мы вынуждены будем
сказать (при условии, что мы избежали ловушки философского
бихевиоризма), что так же, как холостяк это неженатый мужчина, а чей-то дядя это
брат чьего-то родителя,
для вербального действия означать что-то значит быть выражением
мысли о чем-то.
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и у. Селларса 473
Либо мы должны будем сказать (что по сути Вы и сделали, правда, не в тех
семи предложениях, а скорее в «восьмом предложении», которое
является комментарием к ним), что
направленность мыслей на что-то и способность вербальных
действий что-то означать являются схожими свойствами (это два способа
быть интенциональными), однако не за счет того, о чем было сказано
выше, а за счет того, что, не будучи одним и тем же свойством, они,
тем не менее, находятся в гораздо более близком отношении друг к
другу, нежели свет Солнца и свет Луны.
Как видите, в каком-то смысле я согласен с семью Вашими
предложениями, поскольку могу использовать каждое из них по отдельности,
чтобы так или иначе выразить свою точку зрения (полагаю, у каждого из нас
есть свои замечания относительно С-3, однако они не имеют отношения
к нашей проблеме). Меня скорее беспокоит то, какой смысл эти
предложения приобретают, будучи объединены все вместе.
Какова же вторая альтернатива для В-3 — та, которую я и пытался
предложить? Эта альтернатива позволяет сказать многое из того, о чем Вы
говорили. Так что, возможно, если бы мне удалось найти более удачные
формулировки, то они бы Вас убедили. С другой стороны, мне иногда кажется, что
наши разногласия зависят от гораздо более существенных различий в наших
философских позициях. Поэтому я сомневаюсь, что суть нашего
разногласия лежит в области «синонимии», «анализа» и других модных проблем.
Если не ошибаюсь, она имеет отношение скорее к «факту», «свойству»,
«описанию» и чему-то подобному. Анализ понятия «следует» мог бы стать тестом
для данного предположения, однако я не решаюсь сейчас к нему
приступать. Тем не менее я отправляю Вам (без обязательств, как говорят
коммерсанты) копию моей статьи поданной теме, которая скоро будет
опубликована1. Было бы интересно узнать, что Вы о ней думаете.
Теперь относительно Вашего замечания о том, что Вы склоняетесь к
тому, что задача предложения «"Hund" по-немецки означает собака» ...
заключается в том, «чтобы поставить нас в известность, что говорящие
по-немецки используют слово "Hund" для выражения своих мыслей о собаках».
Я согласен, что это предложение действительно говорит нам об этом. Но
если задача предложения, как Вы сказали, заключается именно в этом, то это
значит придерживаться определенной философской интерпретации
данного предложения, тем самым заранее вынося решение относительно
занимающего нас с Вами вопроса. Однако бросается в глаза то, что философская
интерпретация, которая, по всей видимости, и стоит за этой Вашей
«склонностью», является ни чем иным, как «классическим подходом» (как я это
назвал). Последний заключается в том, что вербальное действие может озна-
1 Imperatives, Intentionsand the Logic of "Ought" //Methodos. 1956. №8; см.
также § 77-78 в моем эссе «Counterfactuals, Dispositions and the Causal Modalities».
474
Приложение
чать что-то, только будучи выражением мысли, направленной на это что-то.
Но такая интерпретация несовместима с В-3, с которым Вы согласны.
Итак, я полагаю, и даже настаиваю на том, что между «'Hund'
по-немецки означает собака» и «Высказывания, содержащие слово 'Hund' и
сделанные людьми, говорящими по-немецки, выражают мысли о собаках»
действительно существует очень тесная связь. Конечно, моя историческая
или скорее доисторическая выдумка отражает мое убеждение в том, что
семантические предложения могут играть свойственную им роль, даже если у
тех, кто их использует, отсутствует представление о мыслях. Тем не менее я
никоим образом не отрицаю, что исходя из того, как мы используем эти
предложения, из «х делает осмысленные высказывания» логически следует
«у х есть мысли». Это можно пояснить с помощью примера из другой
области. На основании того, как люди раньше использовали слово «вода», из
«je является частью воды» явно не следовало, что «х состоит из молекул
Н20». Однако следует ли (в «логическом» смысле этого слова) из «х
является частью воды» то, что «jc состоит из молекул Н20», когда слово «вода»
использует химик Джонс, в том числе и в своей повседневной жизни?
Сказав, что представление о мыслях развивается по мере того, как
развивается теория, моделью для которой является семантический дискурс о
наблюдаемых вербальных эпизодах, я, как может показаться, сделал чисто
историческое замечание. Кто-то может даже сказать, что независимо
оттого, как именно появился дискурс о мыслях, теперь-то он очевидным
образом указывает на мысли, точно так же, как дискурс о лингвистических
эпизодах указывает на лингвистические эпизоды, а дискурс о физических
объектах — на физические объекты. Однако то, о чем я говорил, отражает как
историческую, так и логическую суть дела, и здесь нельзя отделить одно от
другого. Очевидно, что из одной только истинности утверждений
«Мысль» указывает на мысли,
«Чихание» указывает на чихание,
«Следует» указывает на обязательства
нельзя заключить, что «логика» «мышления» подобна «логике» «чихания»
или «логике» «следует». Сказать, что термин «молекула» был введен с
помощью «постулатов» и так называемых уточняющих определений, значит
сделать пусть и несколько неуклюжее, но логическое заявление о том, как
это выражение действительно употребляется. Причем это употребление
весьма отличается от употребления тех выражений, которые указывают
на макрообъекты, даже если
«Молекула» указывает на молекулы
является столь же истинным, сколь и перечисленные выше высказывания.
Сравнивая представление о мыслях с представлением о
теоретических сущностях, я основываюсь на следующих соображениях:
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и У- Селларса 475
( 1) Я, как и все, согласен, что каждый из нас имеет прямой (и
привилегированный) доступ к своим мыслям, т.е. что мы можем (хотя бы
иногда) знать о том, что мы думаем, не опираясь при этом на выводы
относительно наблюдаемого поведения (подобно тому, как мы делаем вывод о
свойствах молекул газа, наблюдая за свойствами газа как макрообъекта).
Однако более общие размышления об эпистемологии, изложенные в
«Эмпиризме и философии сознания», привели меня к тому, что этот
«прямой доступ» надо понимать с точки зрения добавочной роли, которую
дискурс о мыслях (а также мысли о мыслях, на которые они направлены)
стал играть впоследствии, а не в качестве замены изначально
«теоретического» представления о мыслях таким представлением, в котором они
сосуществуют наравне с публично наблюдаемыми объектами.
(2) Говоря о том, что представление о мыслях развивалось, используя
в качестве модели семантический дискурс о наблюдаемых
лингвистических эпизодах (мысли как «внутренняя речь»), я провел различие между
двумя функциями, которые эта модель выполняет:
(а) Семантические понятия данной модели фигурируют в
представлении о мыслях в качестве базовых категорий интенциональ-
ности. Тот факт, что эта модель является скорее семантической,
нежели райловским дискурсом о наблюдаемых лингвистических
эпизодах, объясняет тот факт, что интенциональность является
необходимым свойством мыслей, поскольку абсурдно было бы
говорить о чем-то, что оно является мыслью, но при этом неинтенцио-
нально.
(б) Райловское понимание лингвистических выражений (в том виде,
в каком я его формулировал) хотя и подразумевается, но открыто не
утверждается в семантических высказываниях о них. Тем не менее
именно оно является моделью для описания свойств мыслей в
качестве эпизодов «в каузальном ряду».
Это различие между двумя функциями модели, которое я уже
рассмотрел в письме от 19 сентября, можно подытожить следующим образом:
подобно тому как семантические высказывания о лингвистических эпизодах
не описывают, а только подразумевают описание этих эпизодов, так же и
высказывания о содержании или интенциональном объекте мыслей не
описывают мысли, а только подразумевают их описание1. В самом деле, эти
1 Сейчас, в марте 1957-го, я думаю, что в каком-то смысле было не совсем верно
говорить (хотя, в том, что касается моего использования этих терминов, нельзя
сказать, что и ошибочно), что высказывания относительно того, о чем именно
некто думает, не столько описывают, сколько подразумевают описание личности.
И это вовсе не потому, что я отказываюсь от какого-либо положения из
приведенного выше анализа, а скорее потому, что я все больше понимаю, насколько мое
употребление термина «описывать» является техническим и отличается - в
некоторых отношениях - от его обычного употребления. В продолжение этой те-
476
Приложение
подразумеваемые описания всего-навсего проводят аналогию между тем,
как мысли связаны друг с другом и с миром (в наблюдении и поведении),
и тем, как связаны между собой наблюдаемые лингвистические эпизоды.
Данная аналогия во многом зависит inter alia от идеи о том, что
лингвистические эпизоды являются кульминацией каузальных цепей, начало
которым положили именно мысли. Но именно поэтому вполне можно
допустить тождество мыслей и их дескриптивного характера с
нейрофизиологическими эпизодами центральной нервной системы (если понимать
под этим «тождеством» то, что мы обычно имеем в виду, когда говорим об
отождествлении химических эпизодов с некими более сложными
эпизодами, предполагающими атомные частицы).
Итак, не знаю, насколько мы продвинулись к согласию по сравнению
с тем, что было в августе. Однако я надеюсь, что мне удалось прояснить
некоторые моменты в моем понимании интенциональности. Должен
заметить, что моя нынешняя точка зрения, какой бы приблизительной она
ни была, является существенным продвижением по сравнению с тем, о
чем говорилось в моих предыдущих статьях. Впрочем, надеюсь, они в
целом соответствуют тем формулировкам, которые от них ускользнули.
Искренне Ваш,
Уияфрид Селларс
19 ноября 1956 г.
Уважаемый м-р Селларс,
я согласен почти со всем, что Вы написали в последнем письме
(датированном, если не ошибаюсь, 19 октября). В целом, все, что я хотел сказать,
содержится в тех замечаниях из моего предыдущего письма, с которыми
Вы согласились. Нерешенным остается, по всей видимости, только один
вопрос.
Я действительно принимаю Ваше положение В-3, особенно в том
виде, который Вы придали ему в Вашем последнем письме. Иными
словами, я допускаю, что люди могли бы делать семантические высказывания о
вербальном поведении других людей до того, как у них возникла идея о
том, что существуют мысли. Я также согласен, учитывая Ваш подход к
анализу («из заявления о том, что х надо анализировать с точки зрения у,
неверно было бы делать вывод, что у кого-то есть понятие х, но при этом
мы см. обсуждение того, в каком смысле мир «в принципе» может быть описан без
использования прескриптивных и модальных выражений, в § 78-79 моего эссе
«Counterfactuals, Dispositions and the Causal Modalities». По аналогии с этим я хочу
сказать, что мир «в принципе» может быть описан без ссылки на значение
выражений или направленность мыслей.
Интенциональность и ментальное. Переписка Р. Чизома и У. Селларса 477
отсутствует понятие у»), что из него следует Ваше положение А-12. В том,
что касается обсуждаемых нами вопросов, нет смысла спорить о
правильном употреблении технического термина «анализ». Однако я хотел бы
заметить, что при таком понимании «анализа», мы, вероятно, уже не могли
бы назвать анализом расселовское определение «кардинального числа».
В заключение хотелось бы отметить следующее. «Парадокс анализа»
допускает, что люди могли бы называть определенные вещи «кубами» до
того, как у них возникла идея о чем-то, что имеет шесть сторон.
Воспользовавшись примером, который Гемпель позаимствовал у Нейрата1,
можно предположить, что люди могли бы знать о том, что часы правильно
показывают время, до того как они узнали бы, что есть Солнце,
относительно которого движется Земля, и т.д. Так что я готов согласиться с Вашим
положением В-3, но именно в смысле «парадокса анализа». Неужели
люди из Вашего мифа не понимают, что если семантические высказывания
и имеют хоть какой-то смысл, то из них следуют и высказывания о
мыслях тех, чей язык в этих высказываниях рассматривается?
С наилучшими пожеланиями,
P.M. Чизом
Перевод с английского Г. С. Рогоняна
1 См. : Readings in Philosophical Analysis ; H. Feige, W. Sellars (eds.). N.Y. :
Appletols-Century-Crofts, 1949. P. 380.
Сведения об авторах
И. Т. Касавин - доктор философских наук, член-корреспондент РАН,
заведующий сектором социальной эпистемологии
Института философии РАН; e-mail: itkasavin@gmail.com.
Ю.М. Шилков (1941-2009) - специалист в области философской и
культурной антропологии, профессор кафедры
онтологии и теории познания философского факультета
Санкт-Петербургского государственного университета.
Л.А. Маркова - доктор философских наук, ведущий научный
сотрудник сектора социальной эпистемологии Института
философии РАН; e-mail: markova.lyudmila2013@yandex.ru.
Л. Б. Макеева - доктор философских наук, профессор кафедры
онтологии, логики и теории познания факультета
философии НИУ ВШЭ; e-mail: l.makeeva@mail.ru.
В. П. Филатов - доктор философских наук, профессор кафедры истории
западной философии Российского государственного
гуманитарного университета; e-mail: toptiptop@list.ru.
Д.В. Иванов - кандидат философских наук, научный сотрудник
сектора теории познания Института философии РАН; e-mail:
ivdmitry@mail.ru.
Д.А. Леонтьев - доктор психологических наук, доцент факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; e-mail:
dleon@smysl.ps.msu.su.
А.И. Швырков - кандидат философских наук, старший преподаватель
кафедры философии Сумского государственного
университета (Украина); e-mail: info@socio.sumdu.edu.ua.
И.Ф. Михайлов - кандидат философских наук, научный сотрудник
сектора современной западной философии РАН;
e-mail: ifmikhailov@iph.ras.ru.
А.Ю. Антоновский - кандидат философских наук, старший научный
сотрудник сектора социальной эпистемологии
Института философии РАН; e-mail: antonovski@hotmail.com.
В.А. Ладов - кандидат философских наук, доцент кафедры
гуманитарной информатики Томского государственного
университета; e-mail: ladov@yandex.ru.
Я. С. Куслий - кандидат философских наук, научный сотрудник сектора
социальной эпистемологии Института философии РАН;
e-mail: kusly@yandex.ru.
Е.В. Вострикова - кандидат философских наук, научный сотрудник
сектора социальной эпистемологии Института
философии РАН; e-mail: vostrikova@iph.ras.ru.
Сведения об авторах
479
Г. К. Ольховиков - кандидат философских наук, доцент кафедры
онтологии и теории познания философского факультета
Уральского государственного университета им. А.М.
Горького; e-mail: grigory.olkhovikov@gmail.com.
Г. С. Рогонян- кандидат философских наук, доцент кафедры
гуманитарных наук факультета социологии НИУ ВШЭ
(Санкт-Петербург); e-mail: rogonyan@gmail.com.
Научное издание
Язык и сознание.
Аналитические и социально-эпистемологические контексты
Коллективная монография
Под редакцией И. Т. Касавина
Оформление художника С.Б.Дьякова
Художественный редактор A.B. Антипов
Компьютерная верстка О.С. Тонина
Корректор 10. В. Жаркова
Подписано в печать 19.11.2013.
Формат 60x90/16. Бумага мелованная.
Уч.-изд. л. 32,28. Тираж 300 экз. Заказ № 3693.
Издательский Дом «Альфа-М»
Адрес: 127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел./факс: (495) 363-4270 (573)
E-mail: alfa-m@inbox.ru
Отпечатано способом ролевой струйной печати
в ОАО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ni, E-mail: sales@chpd.ru
8(495)988-63-76, т/ф. 8(496)726-54-10