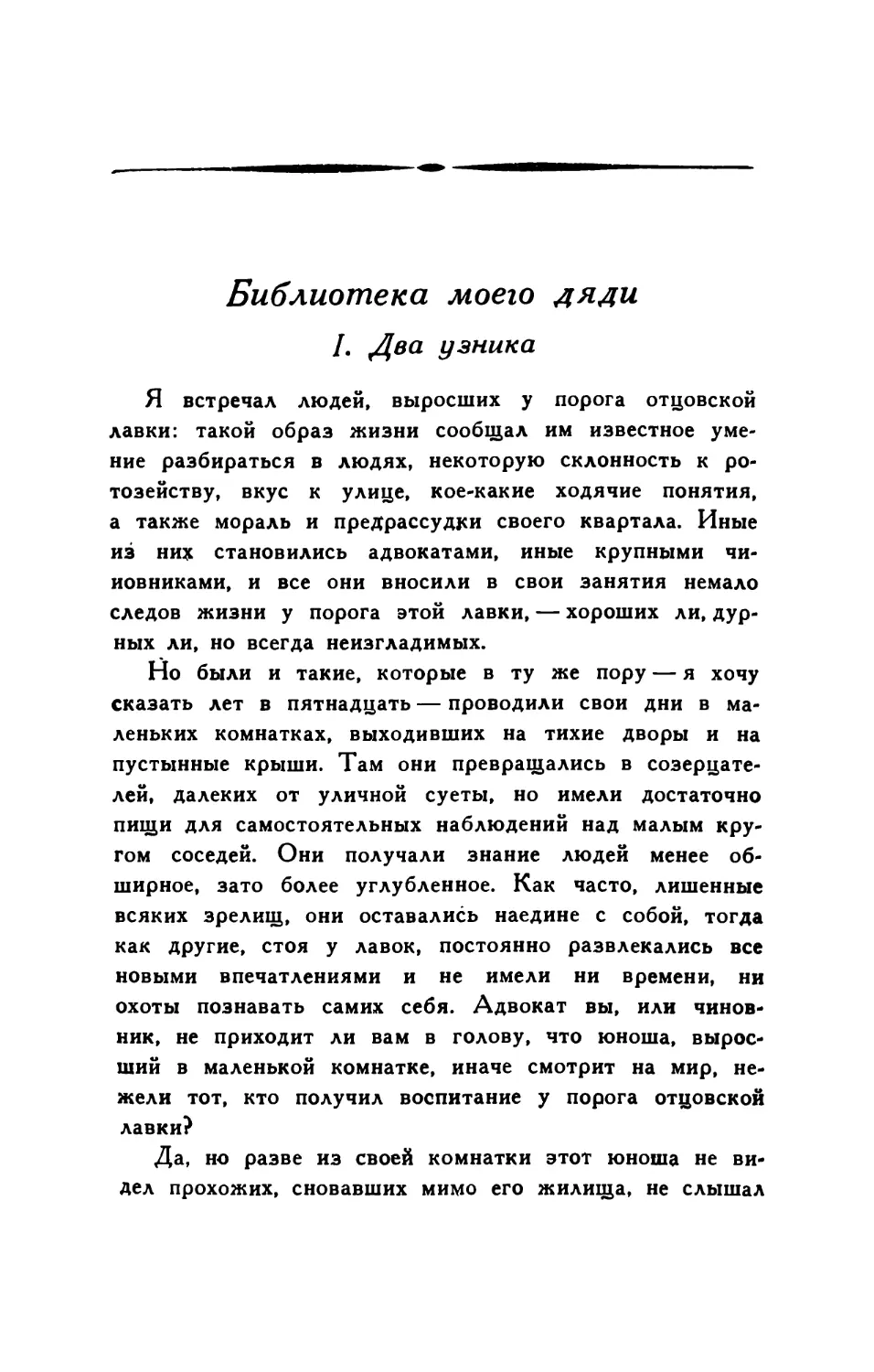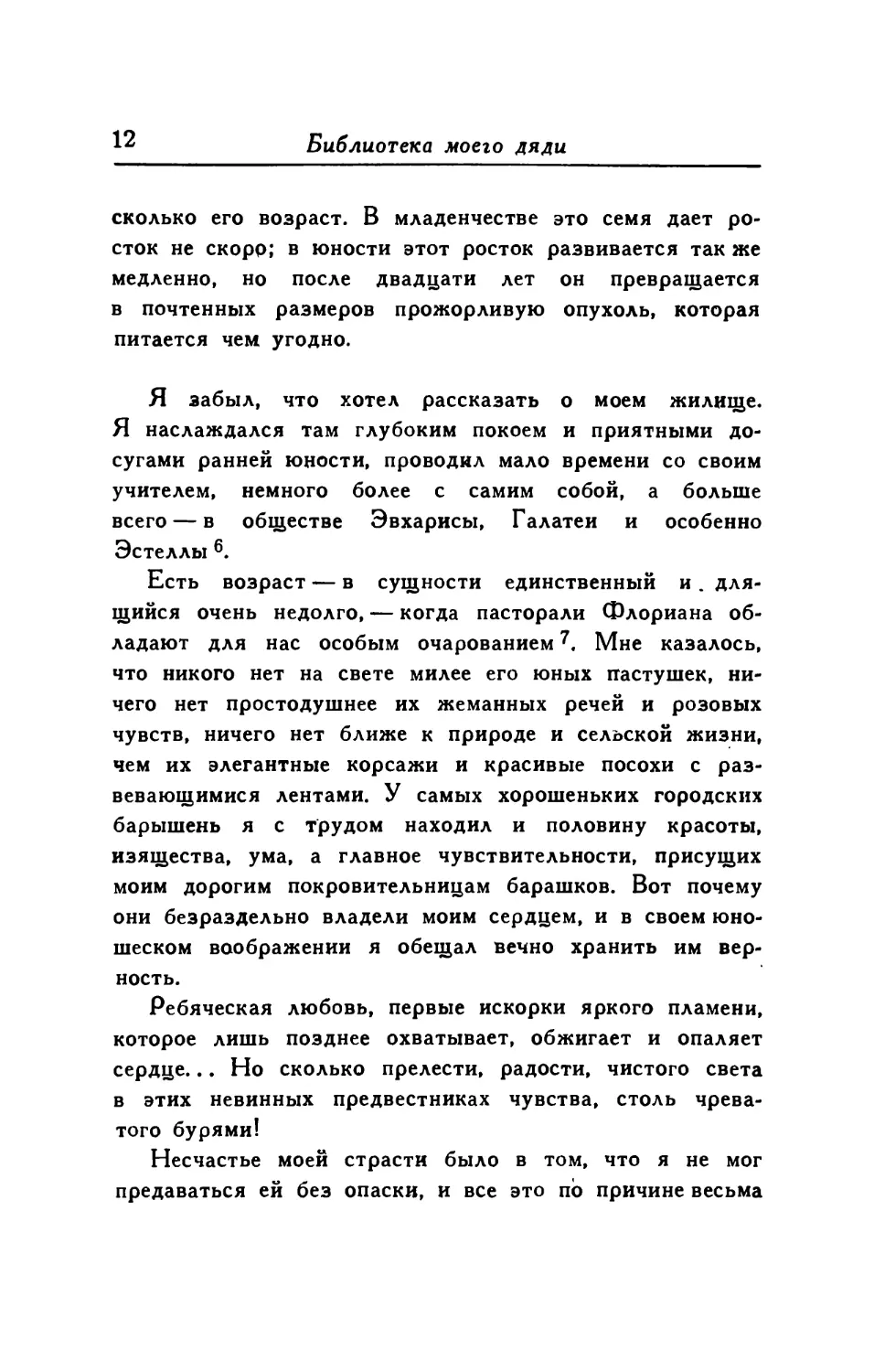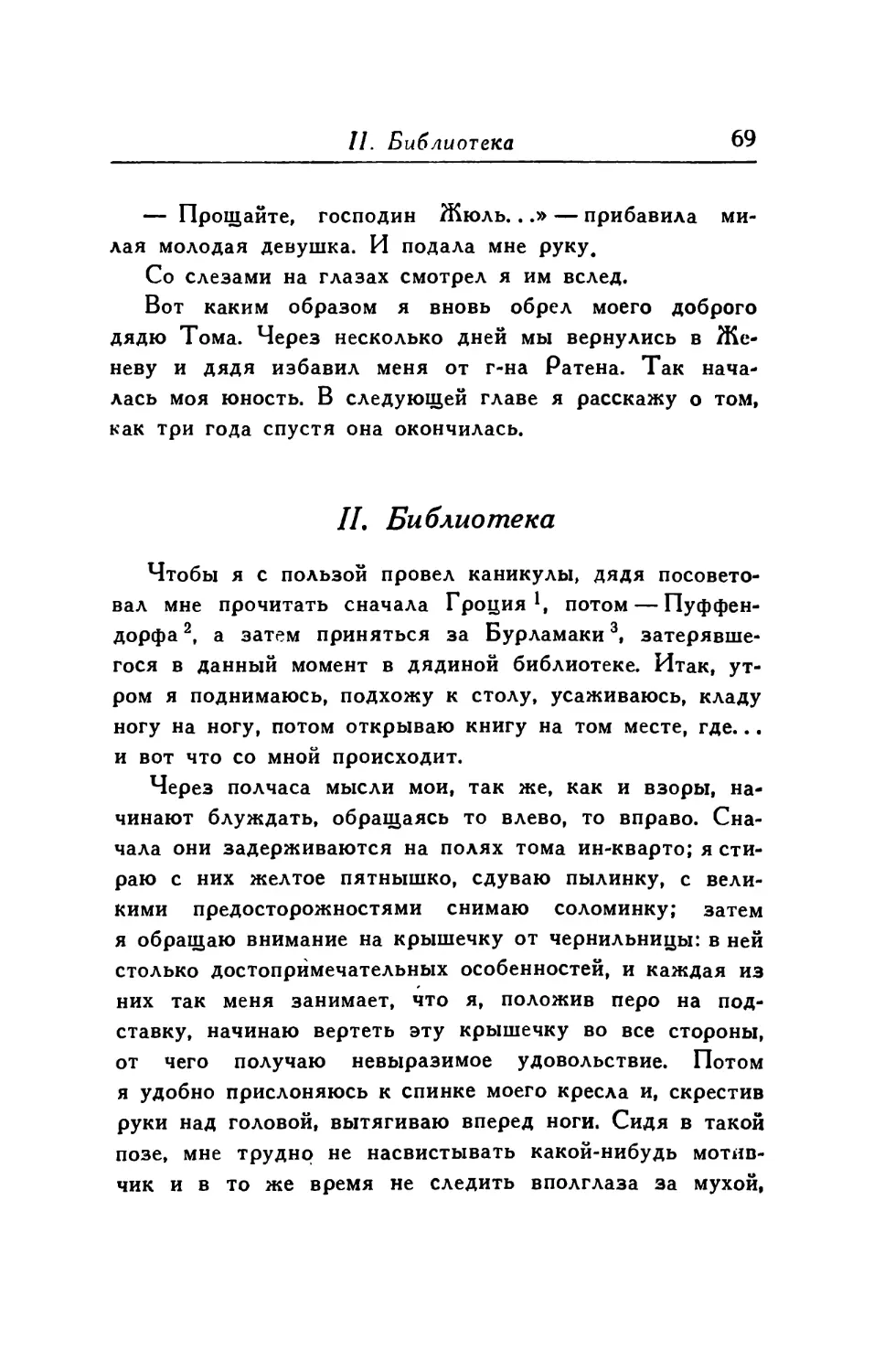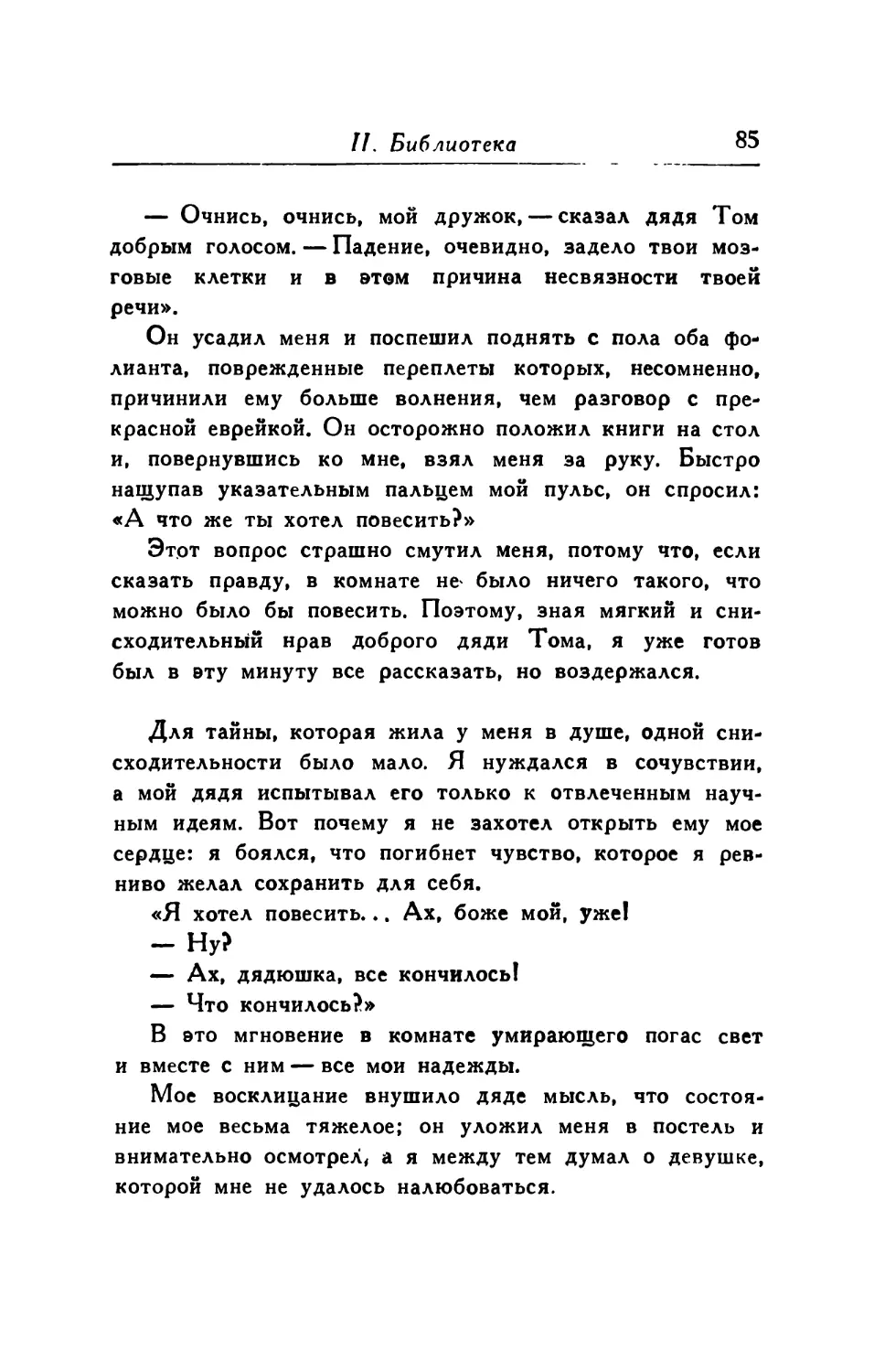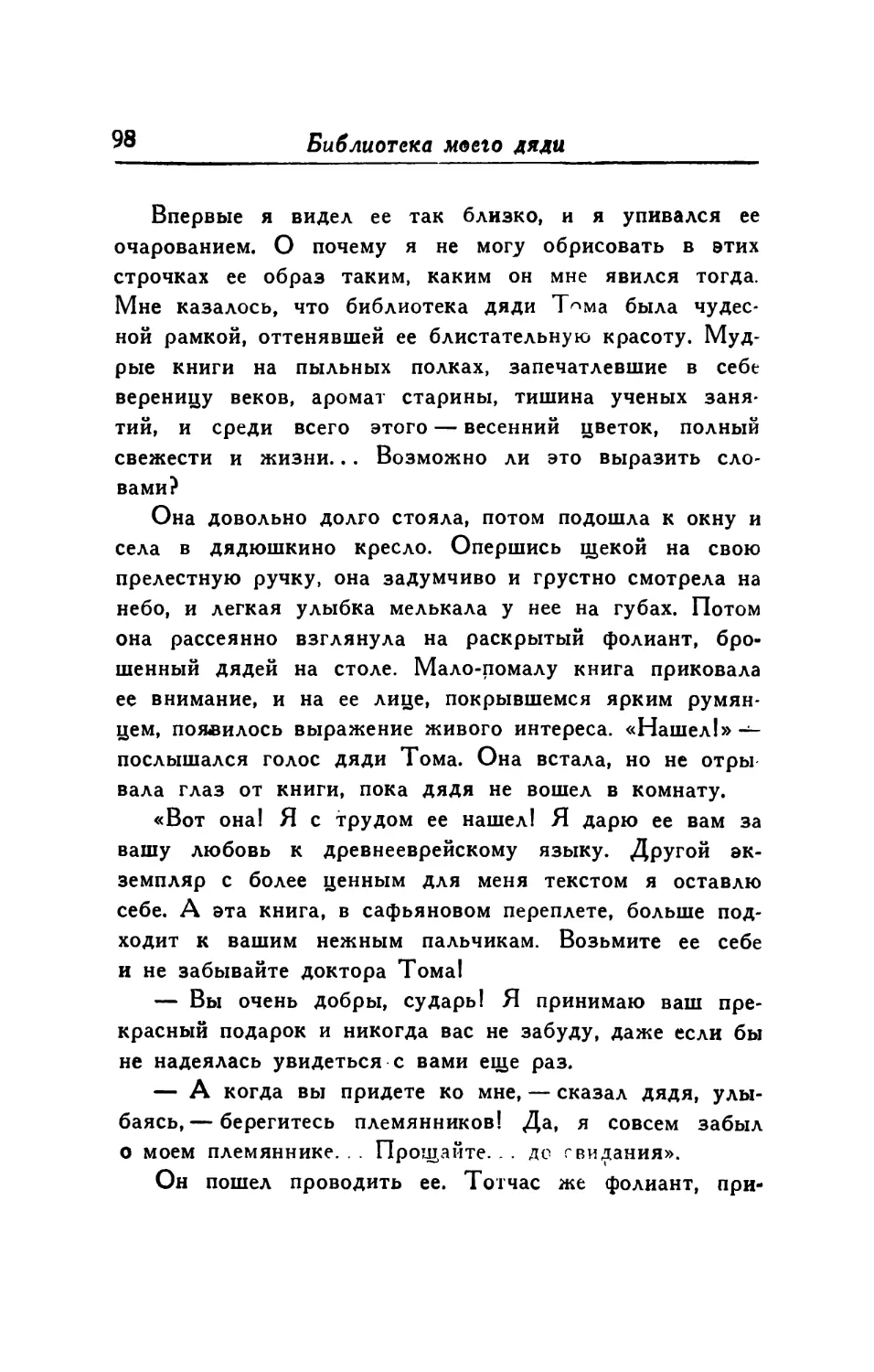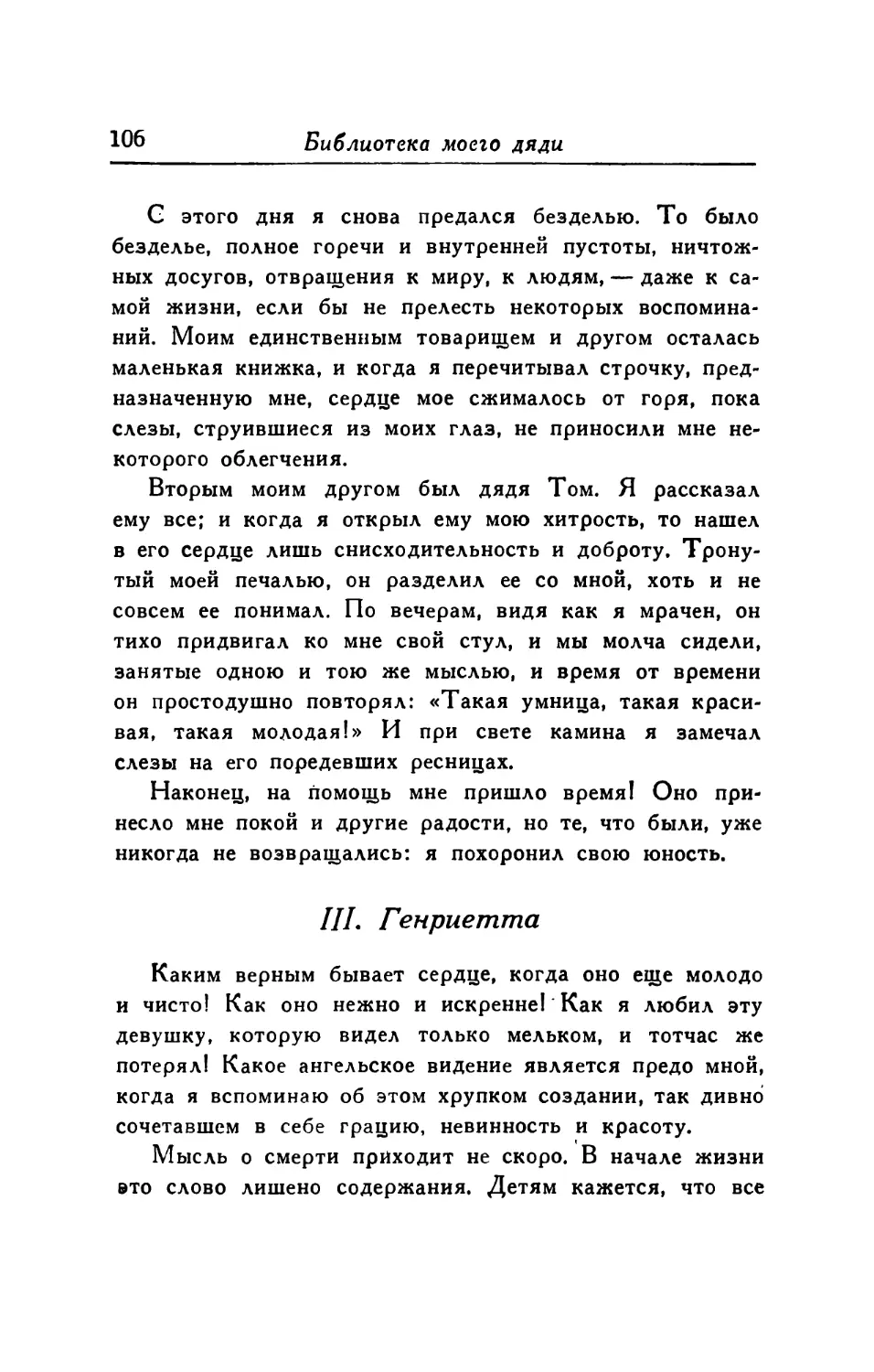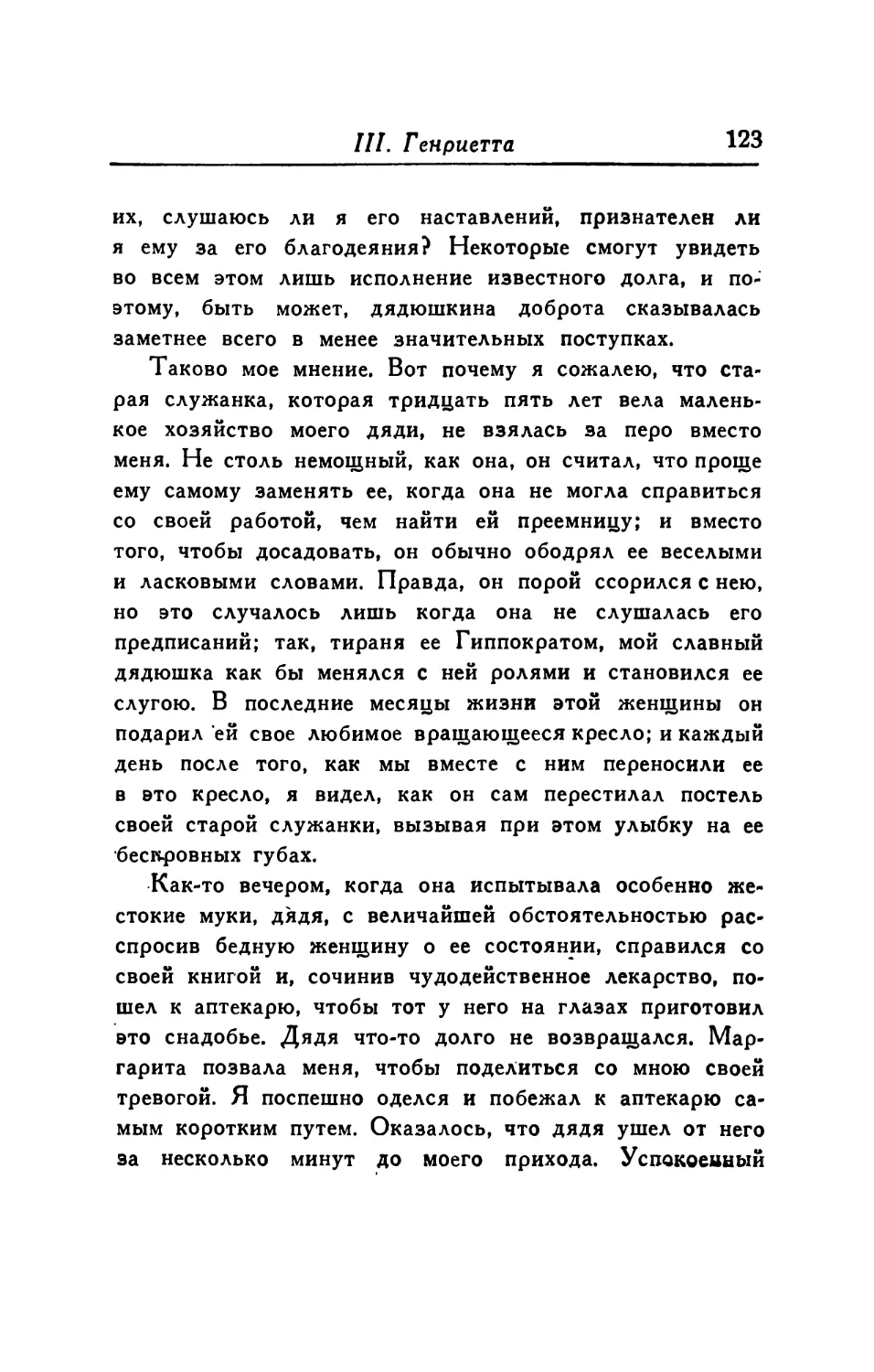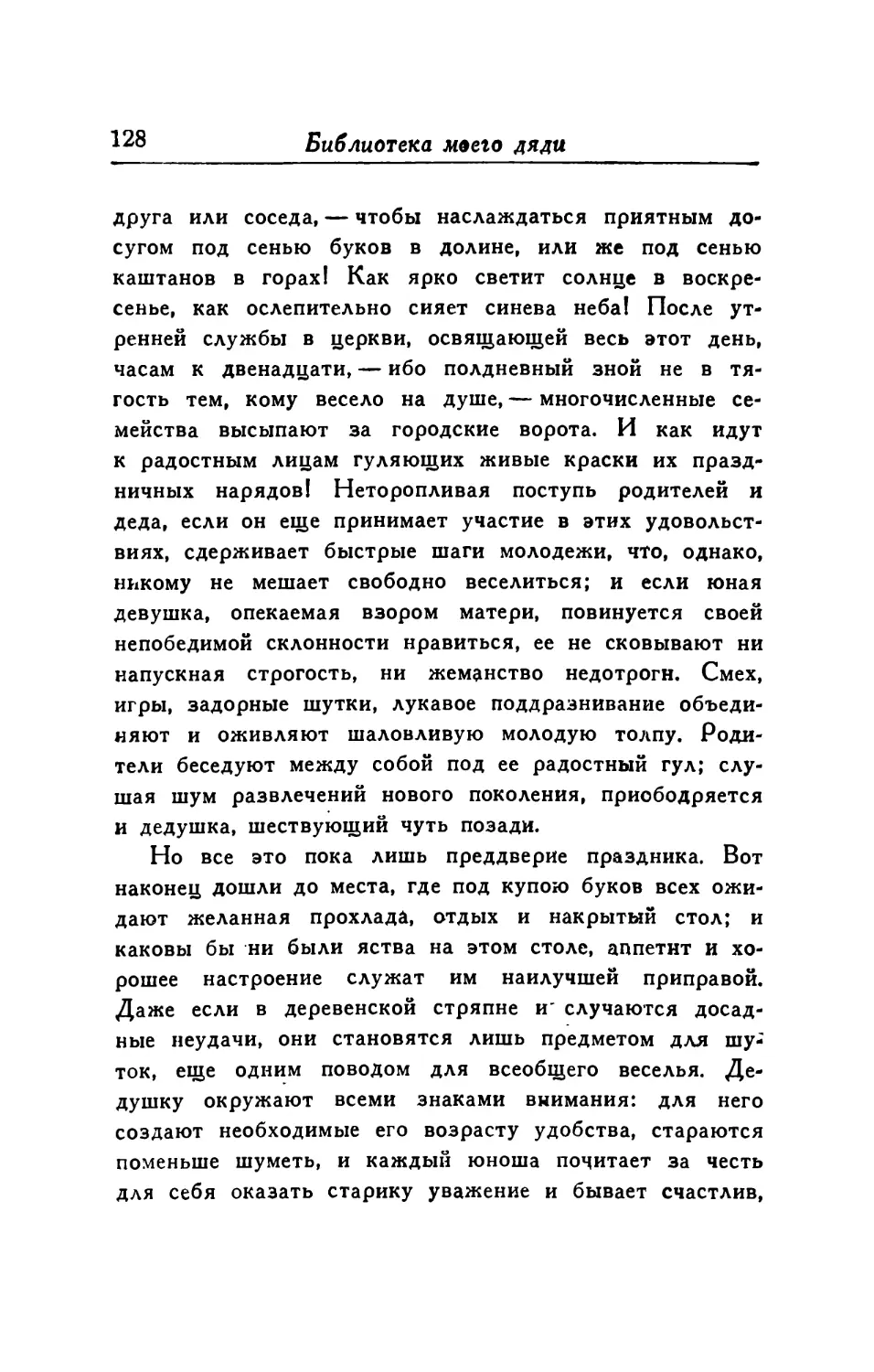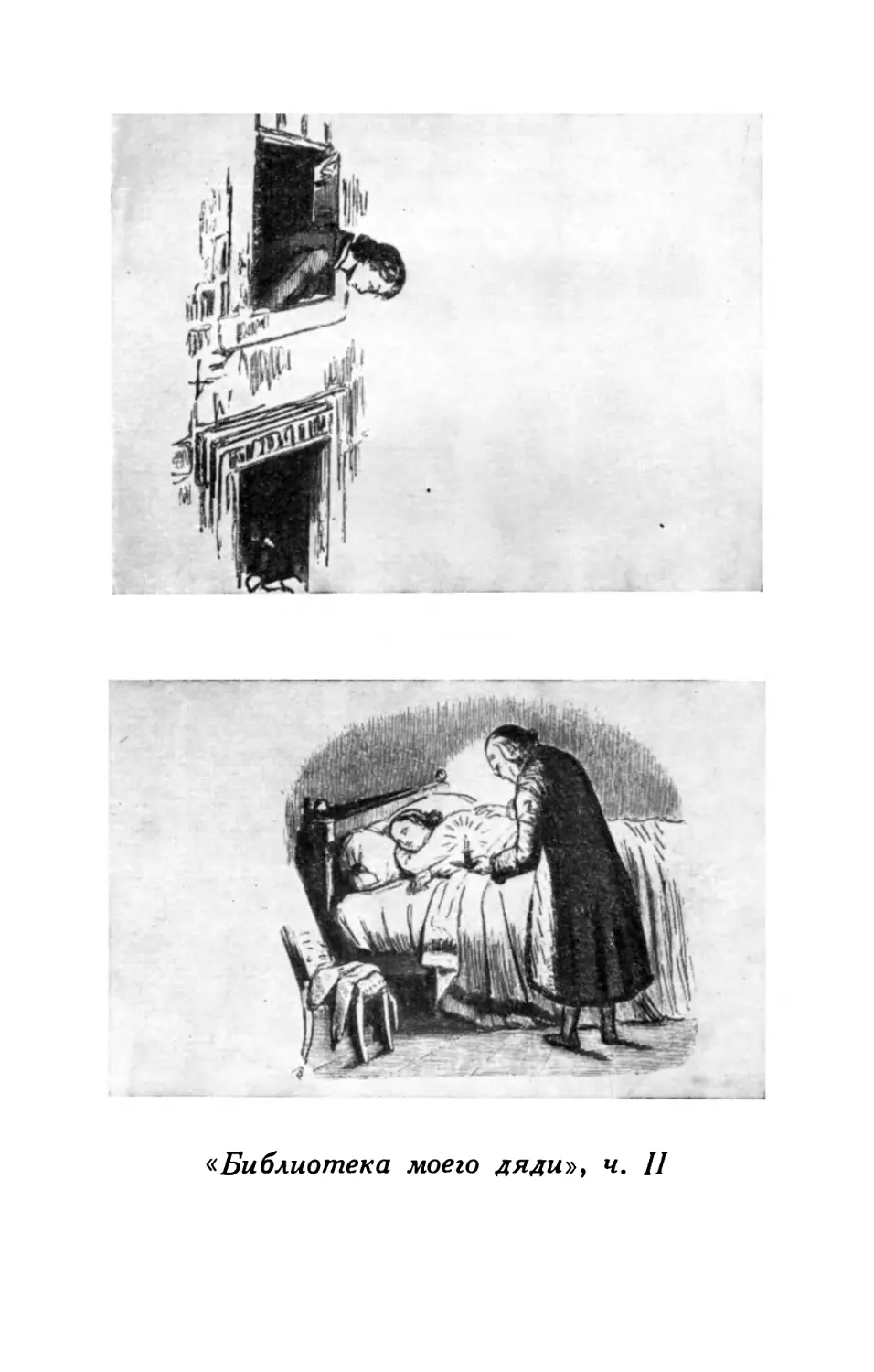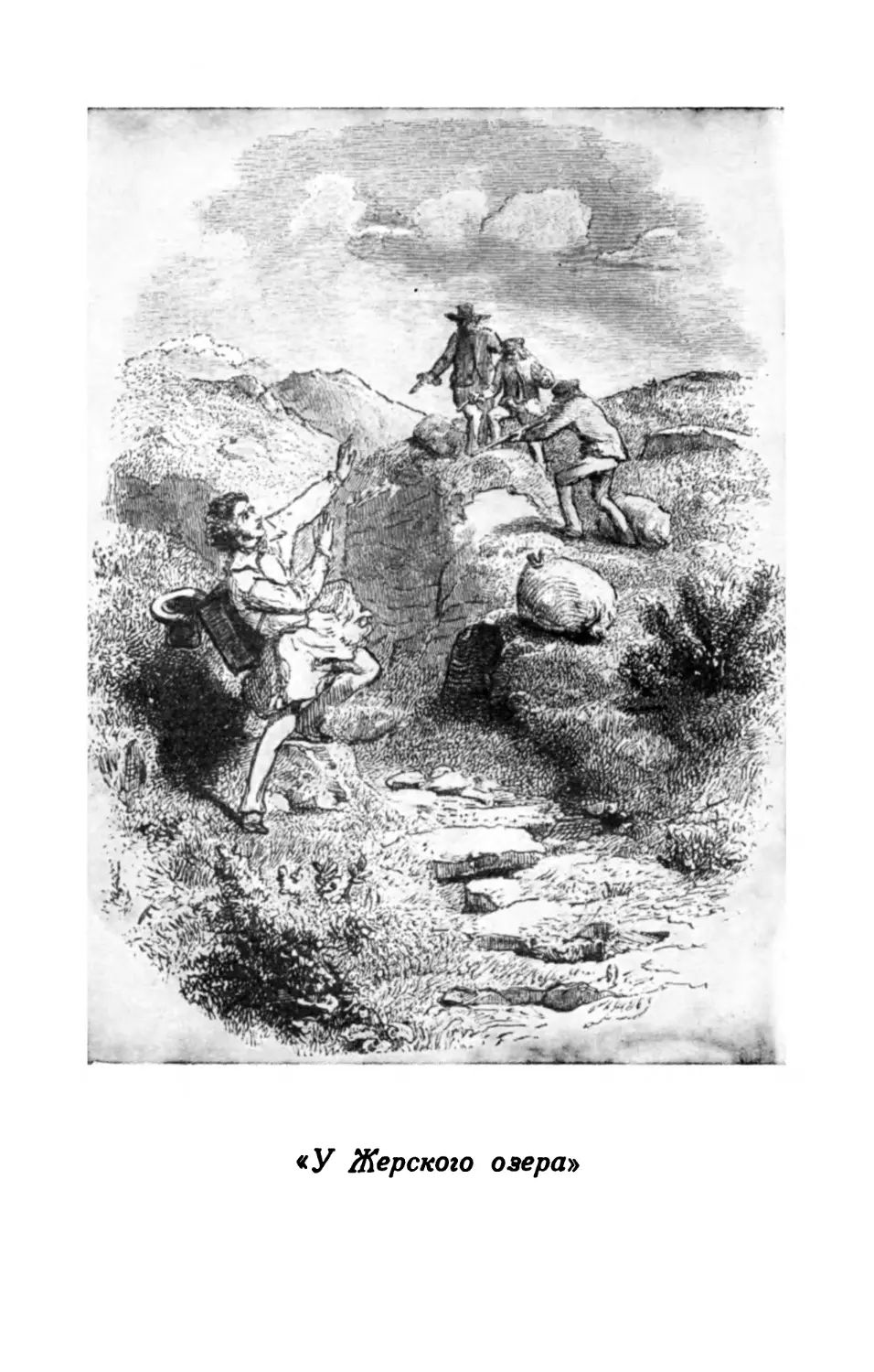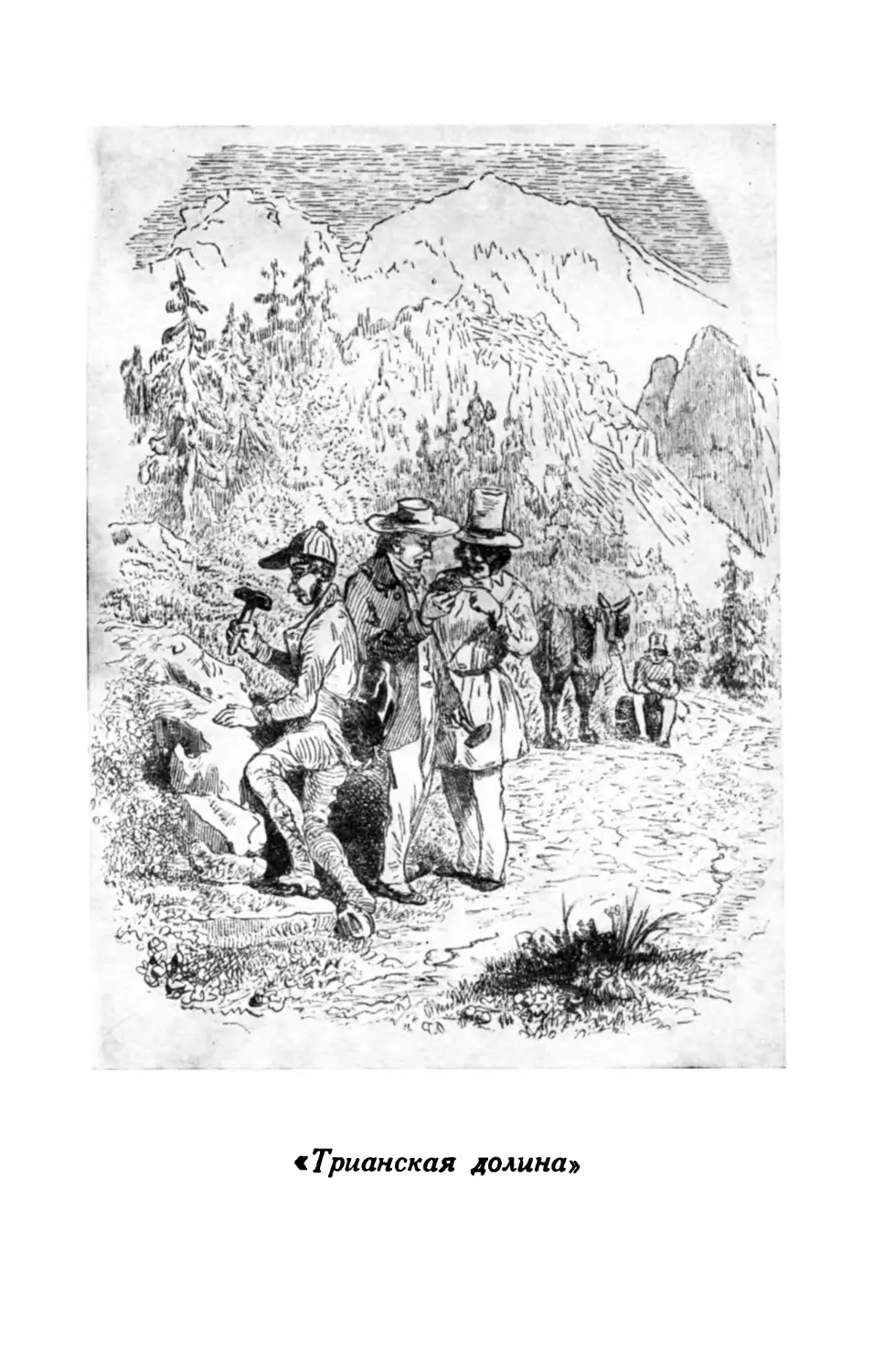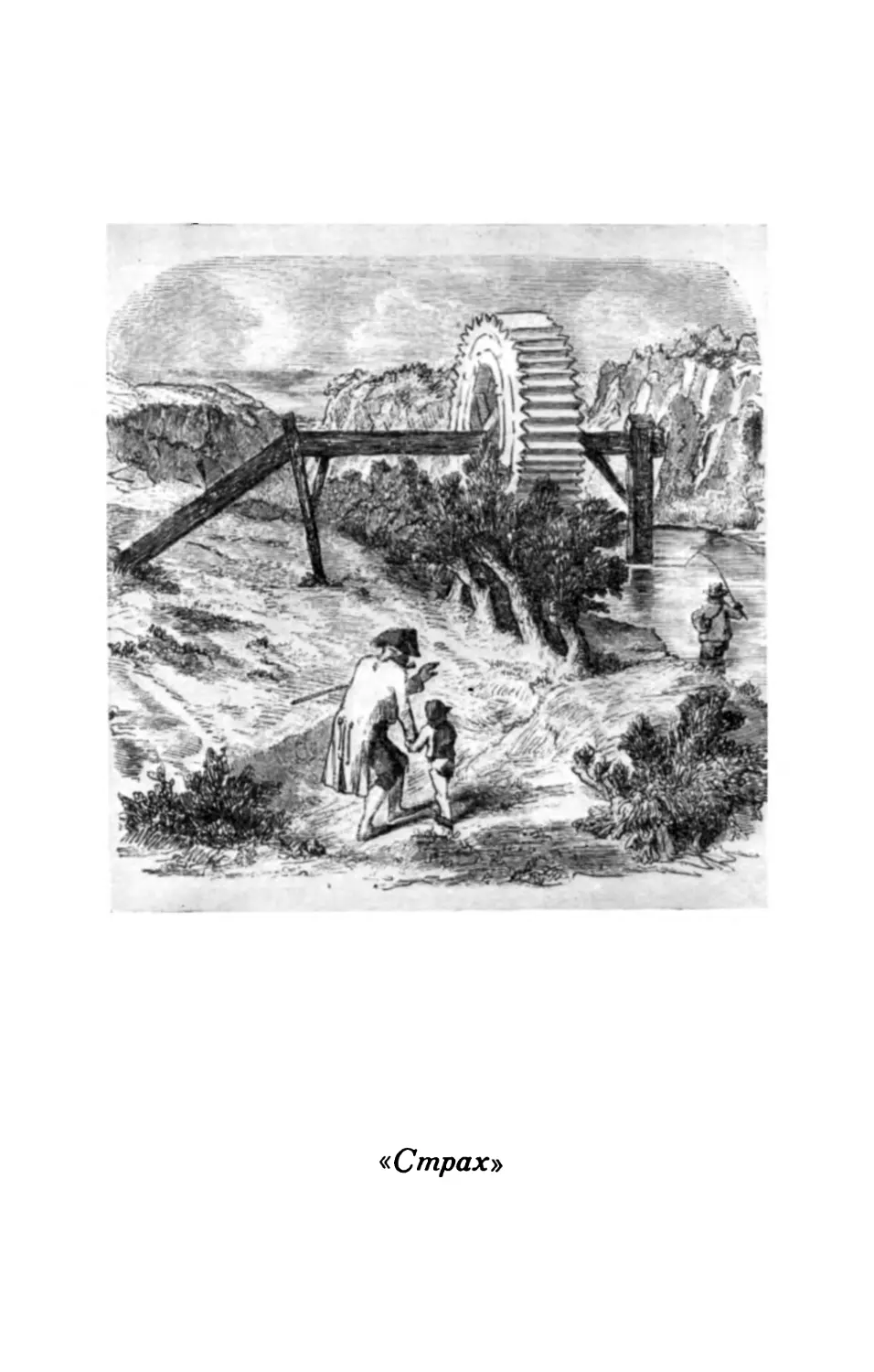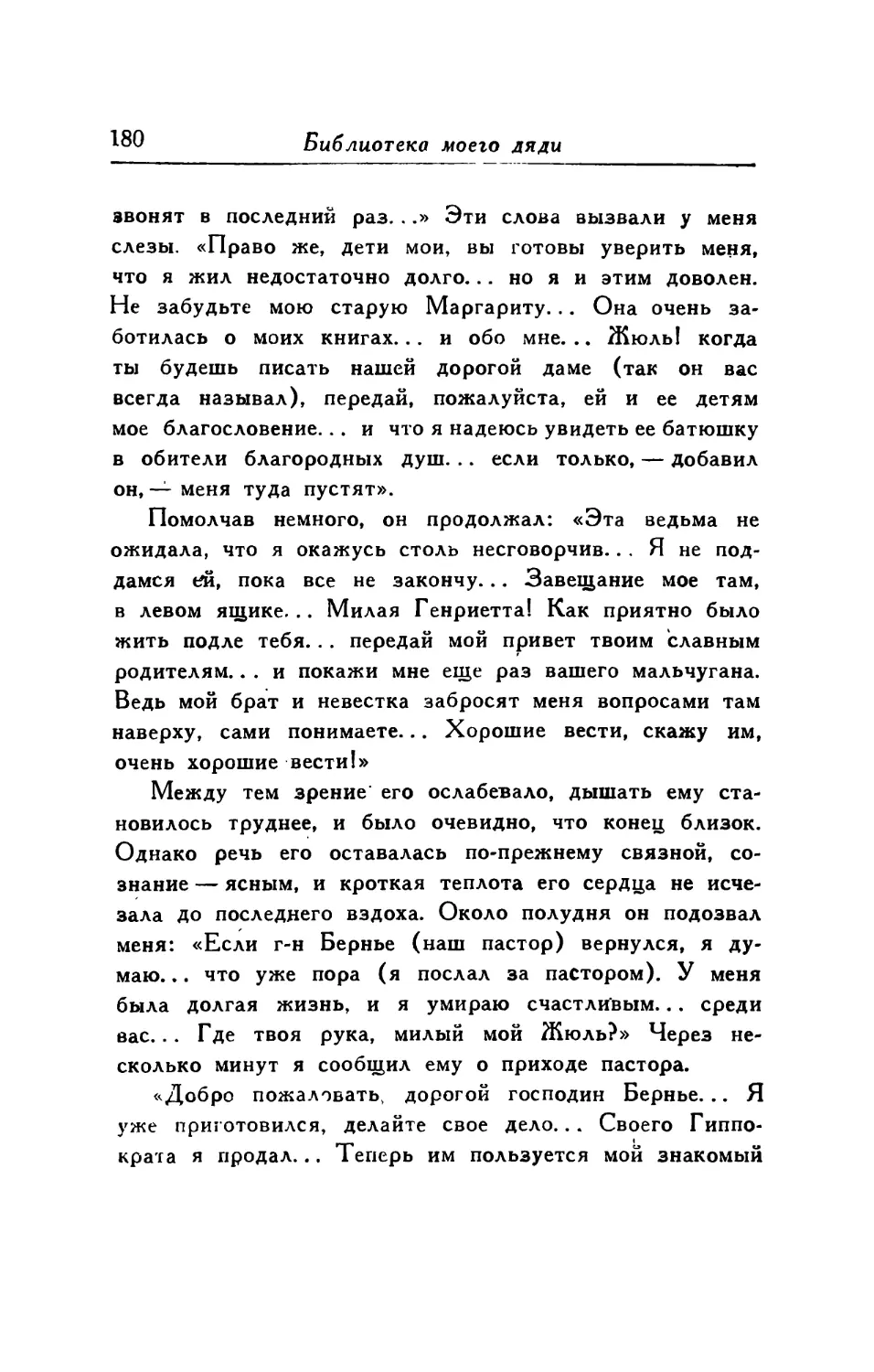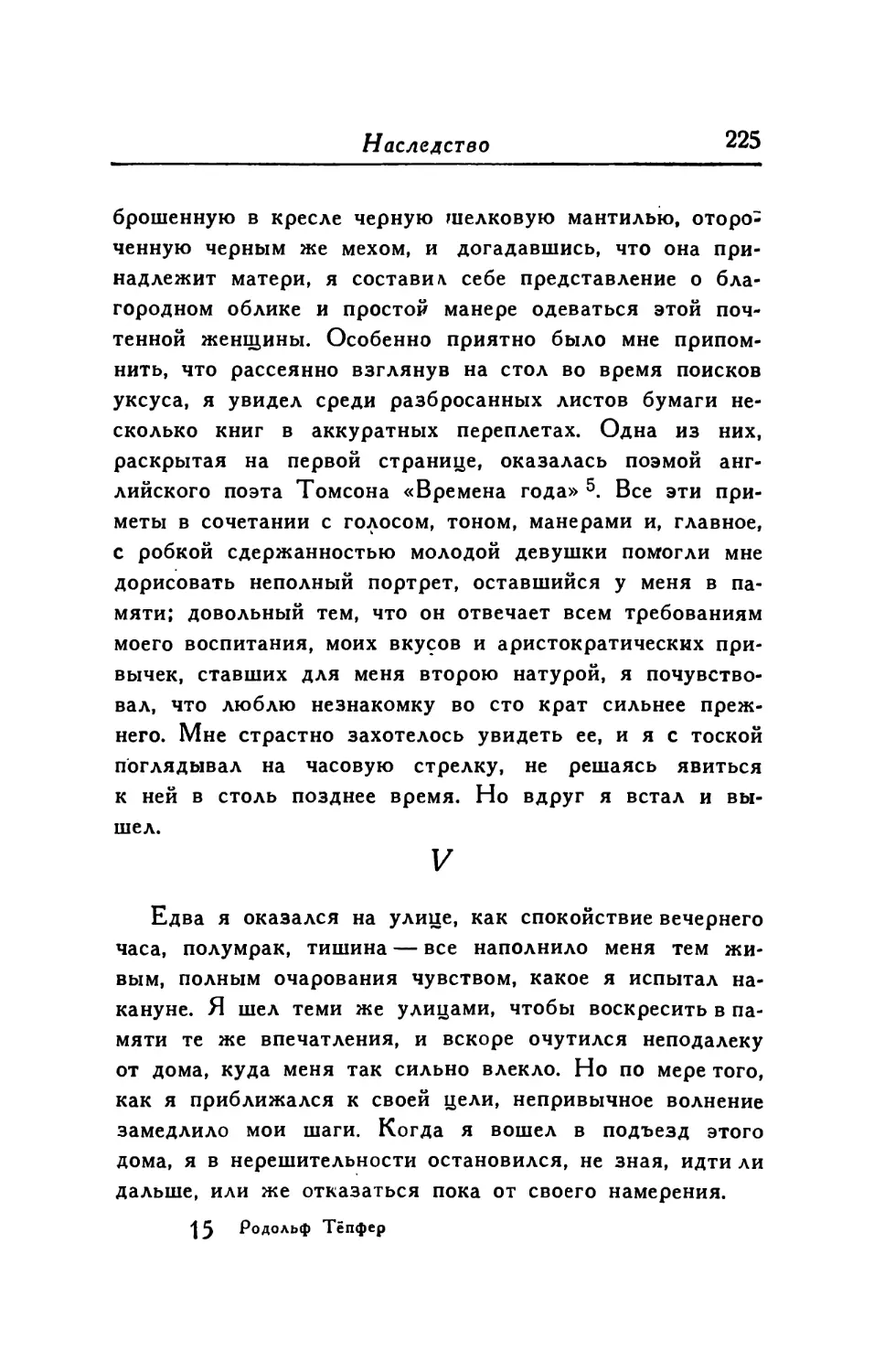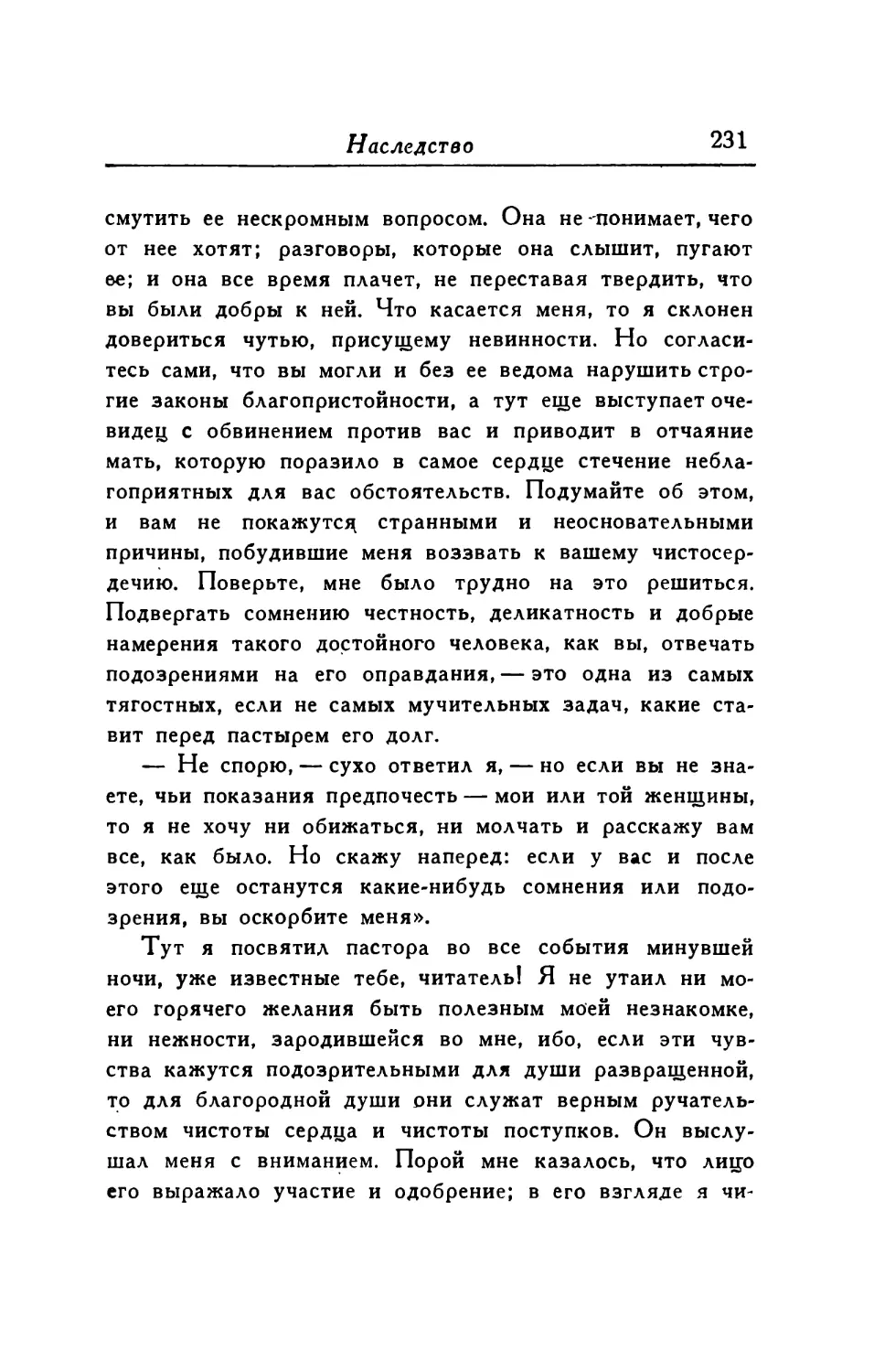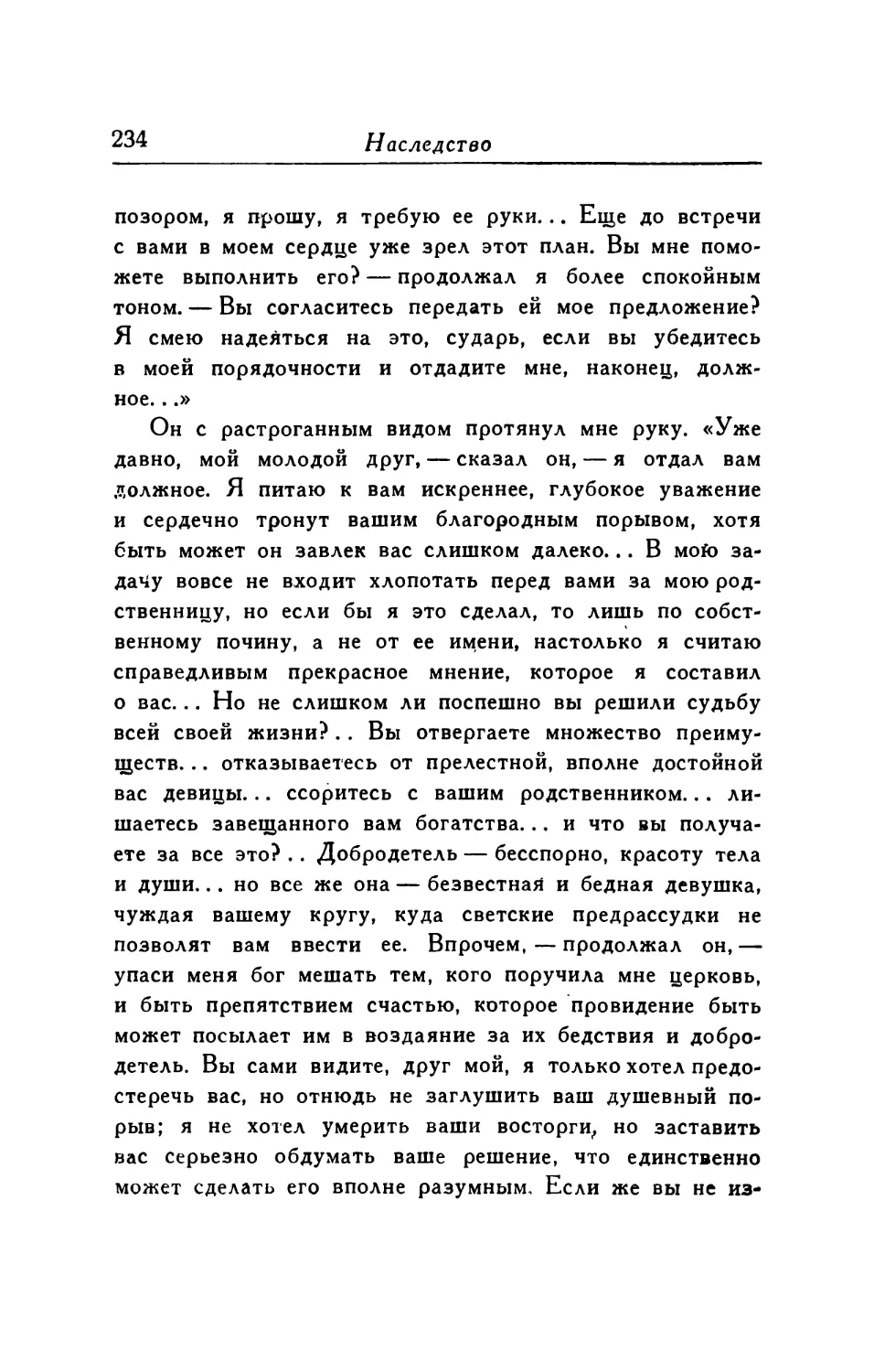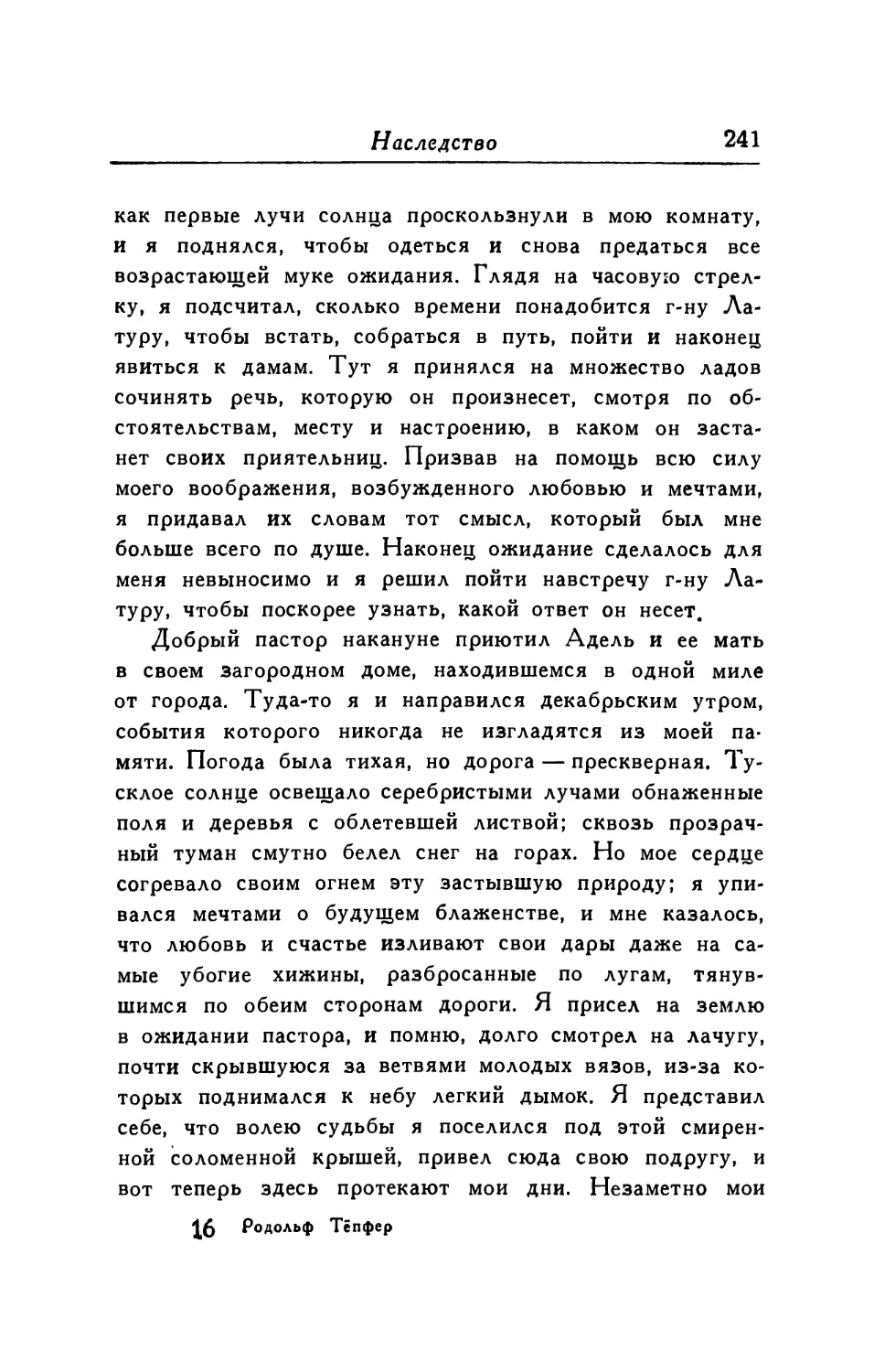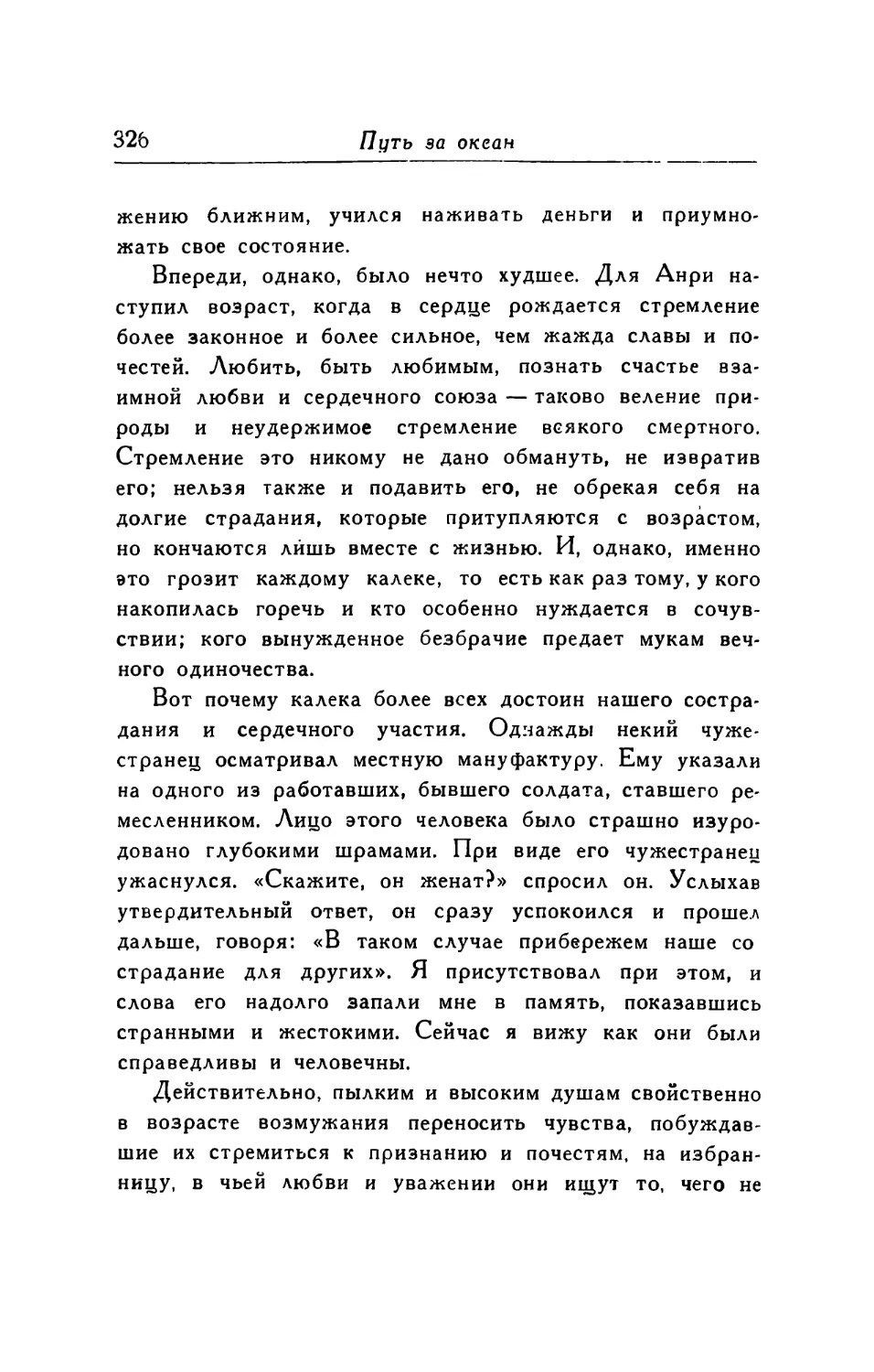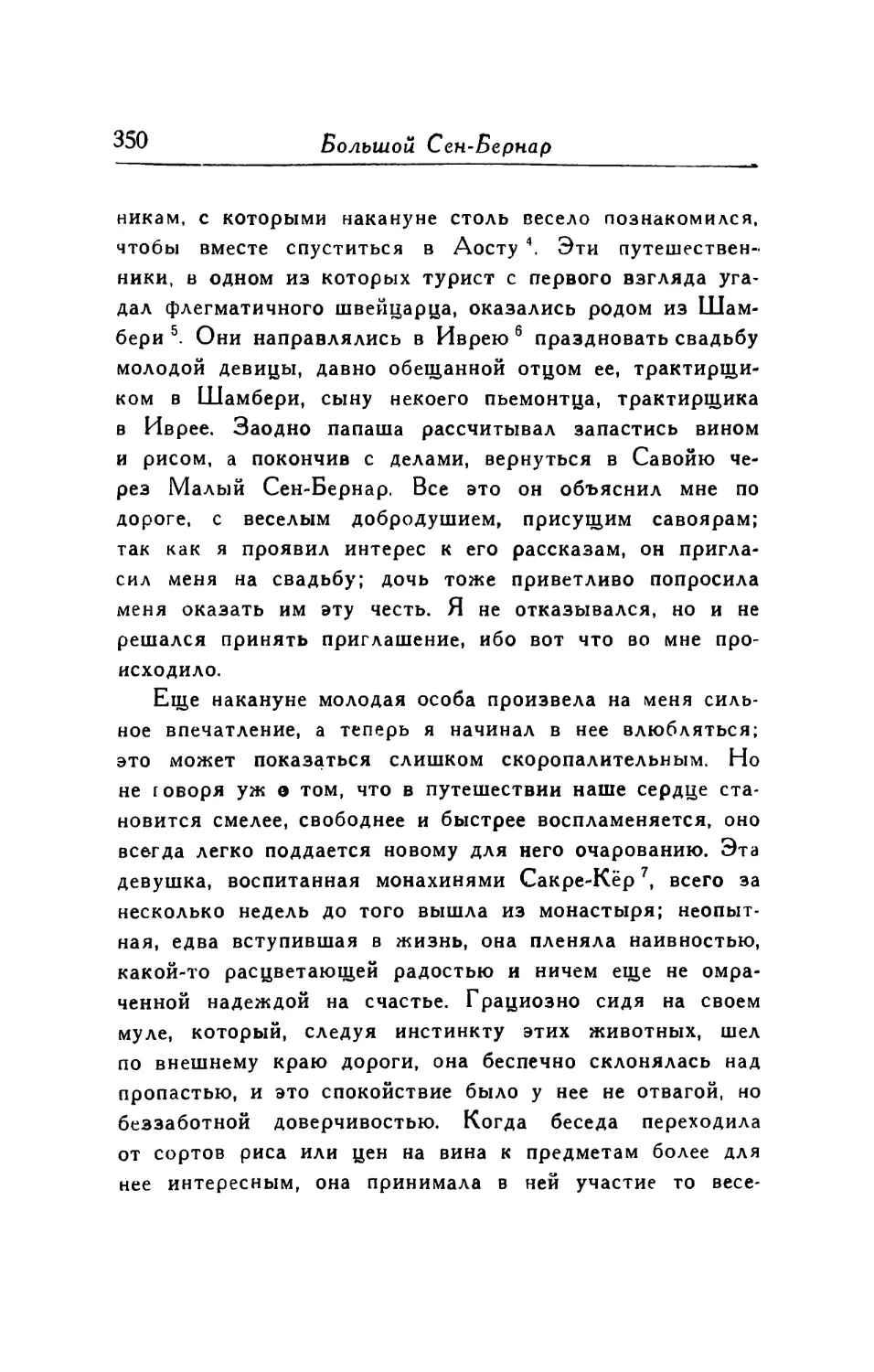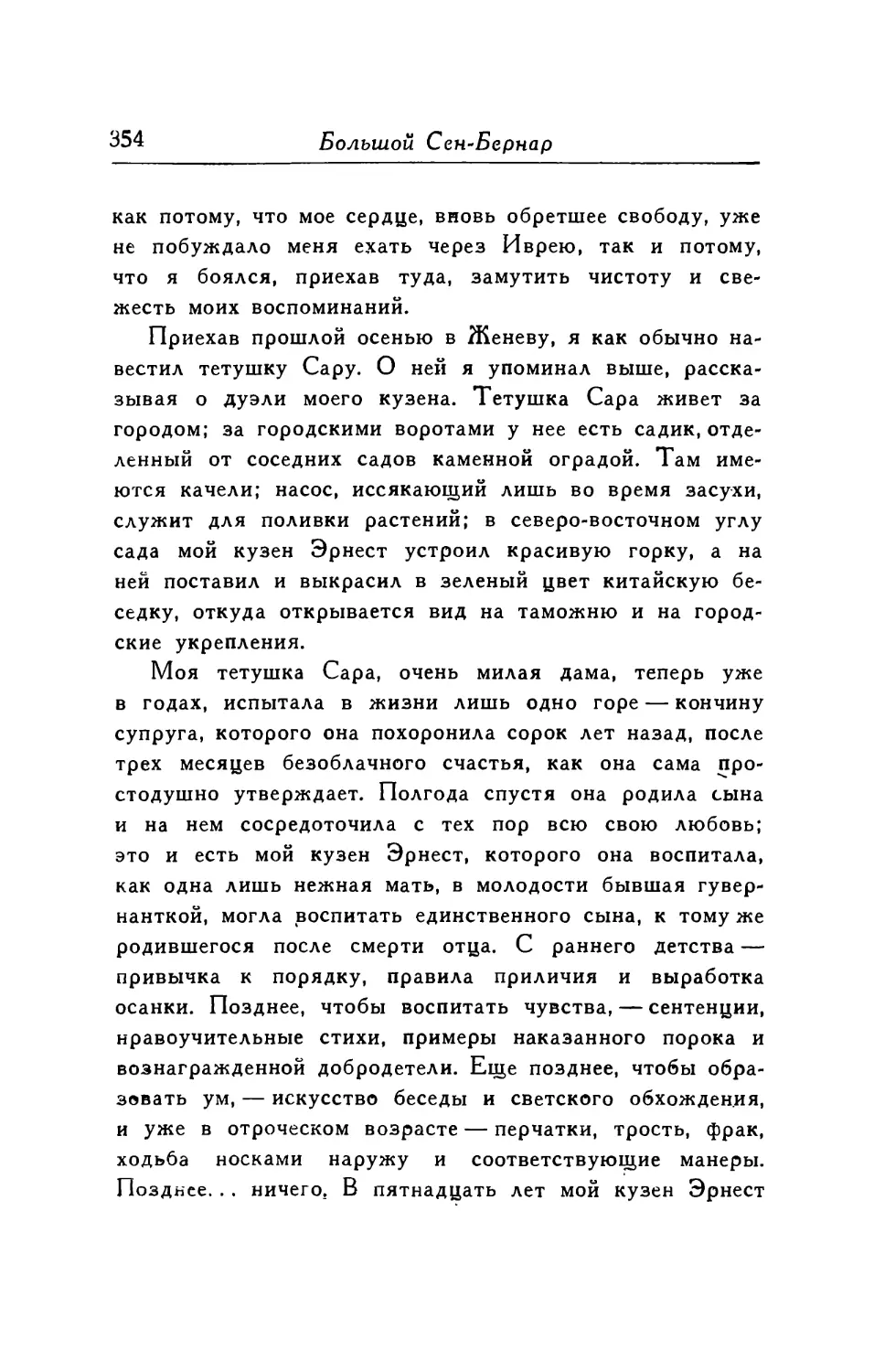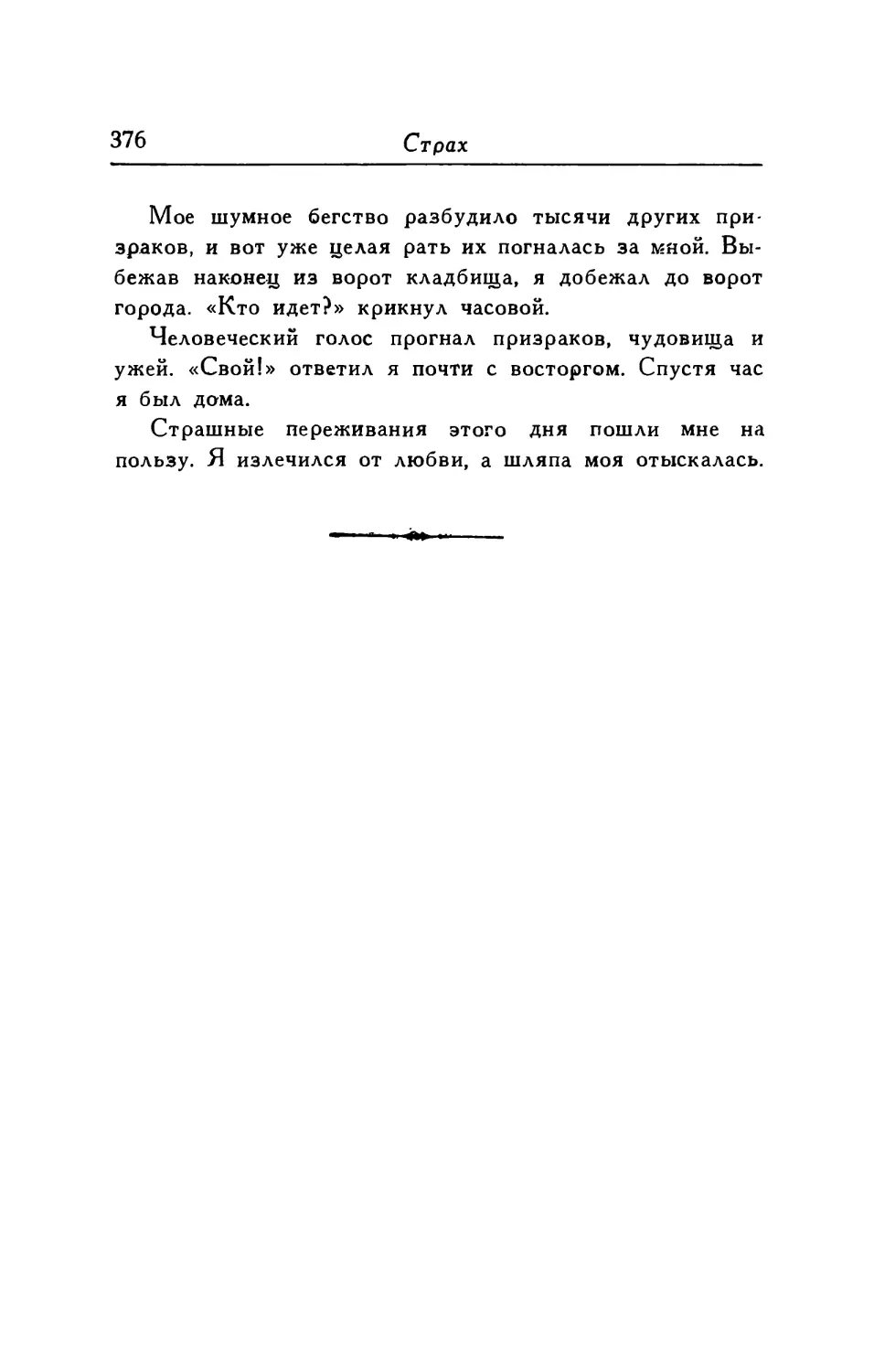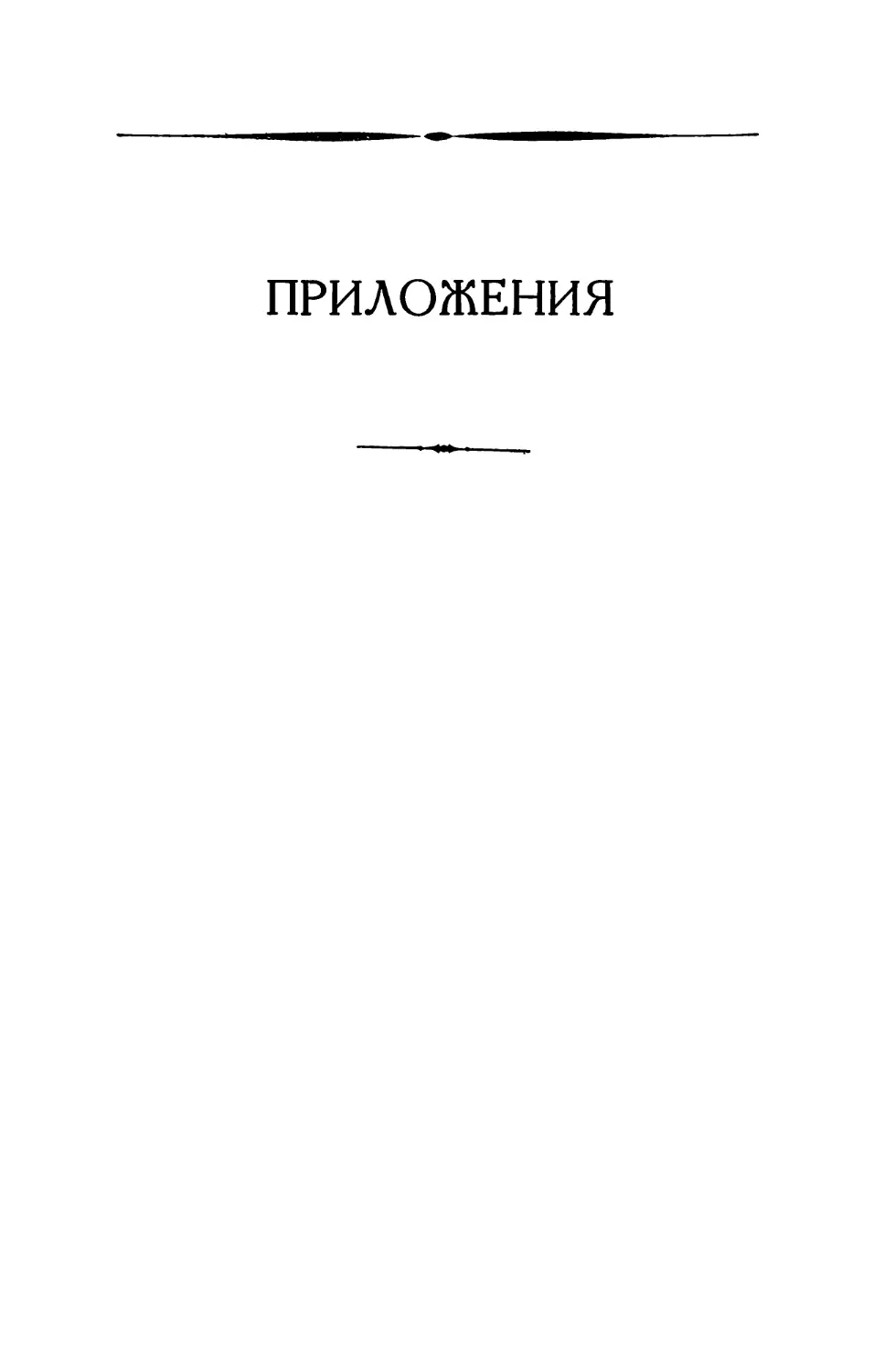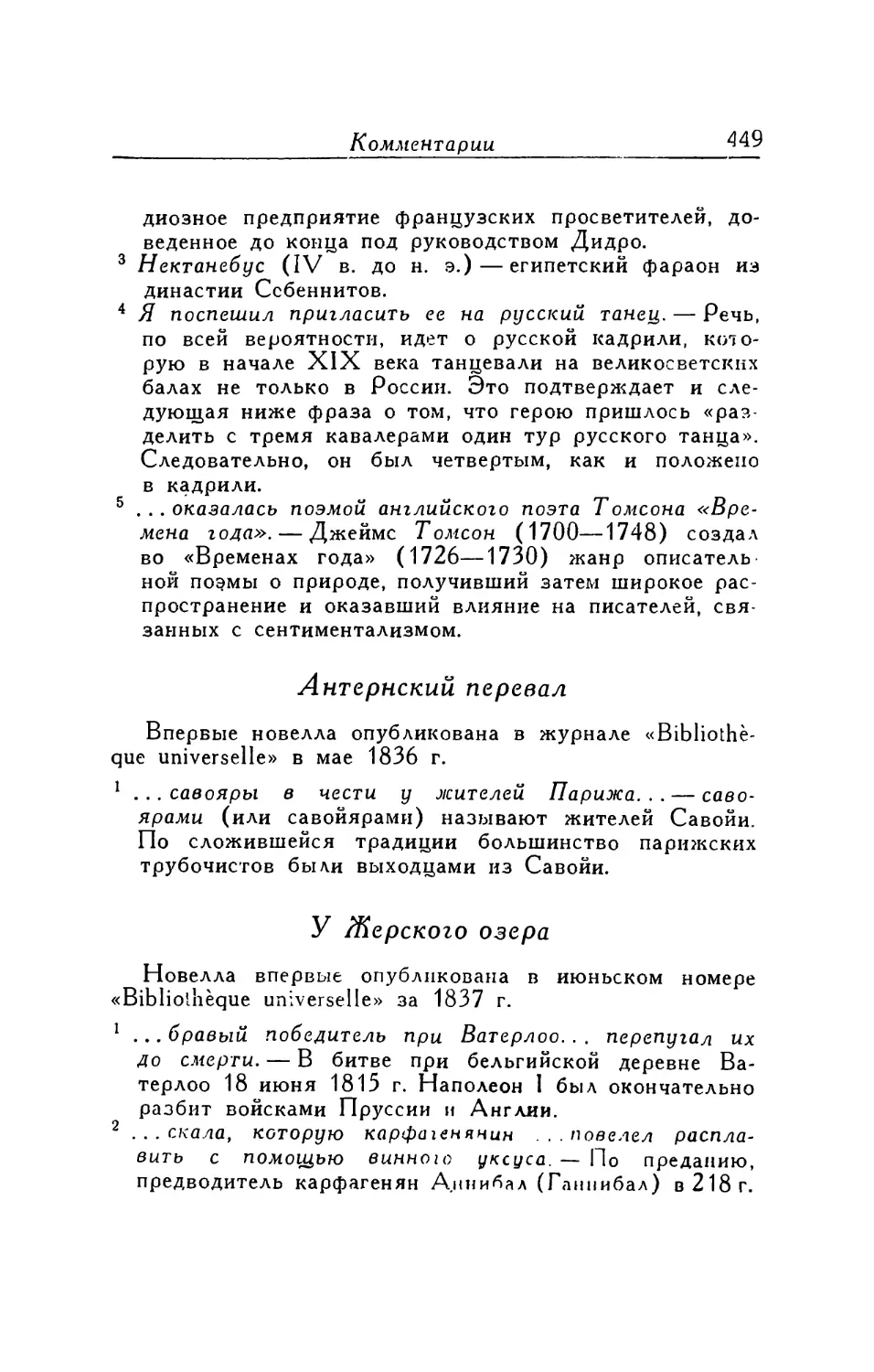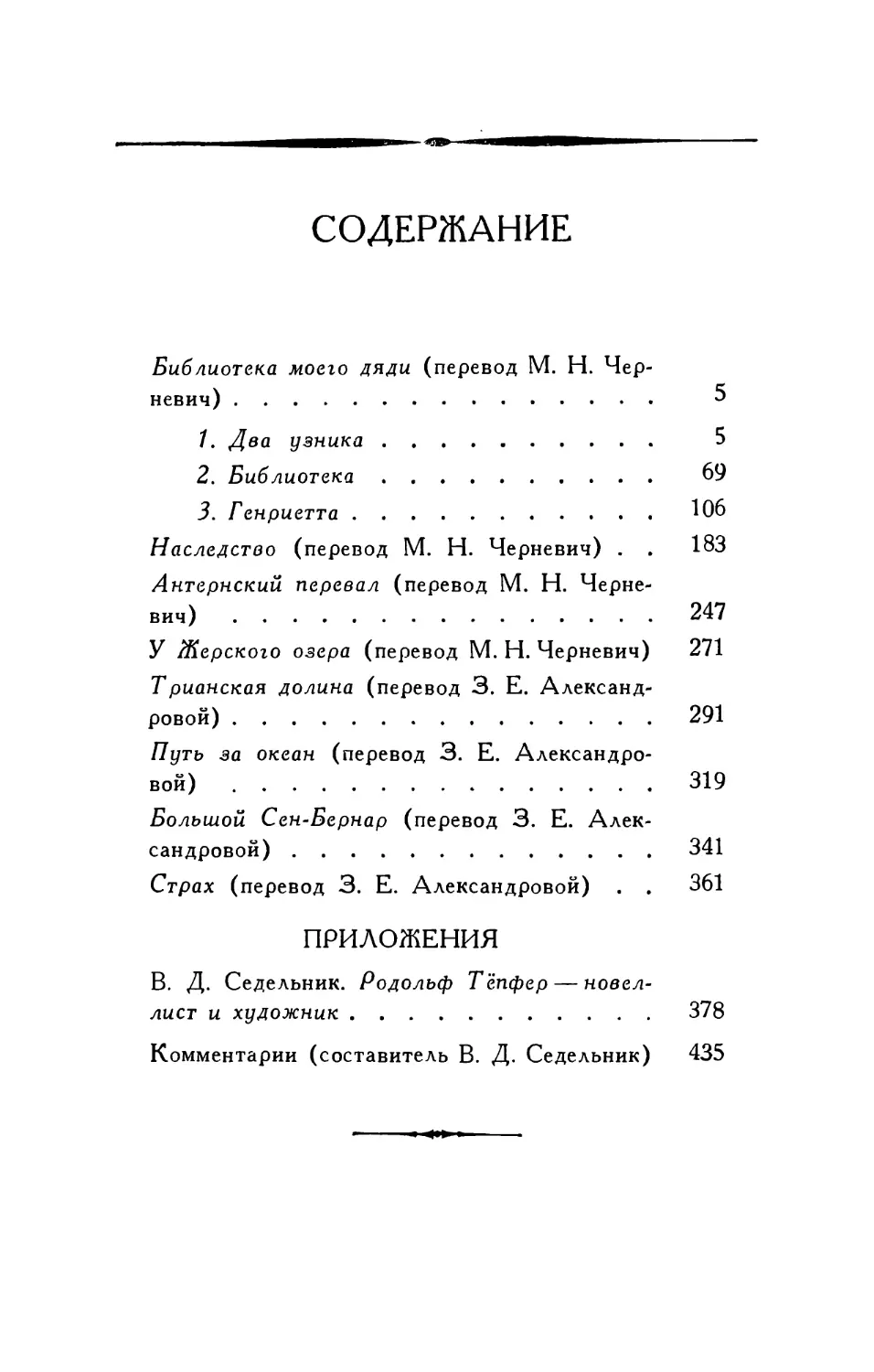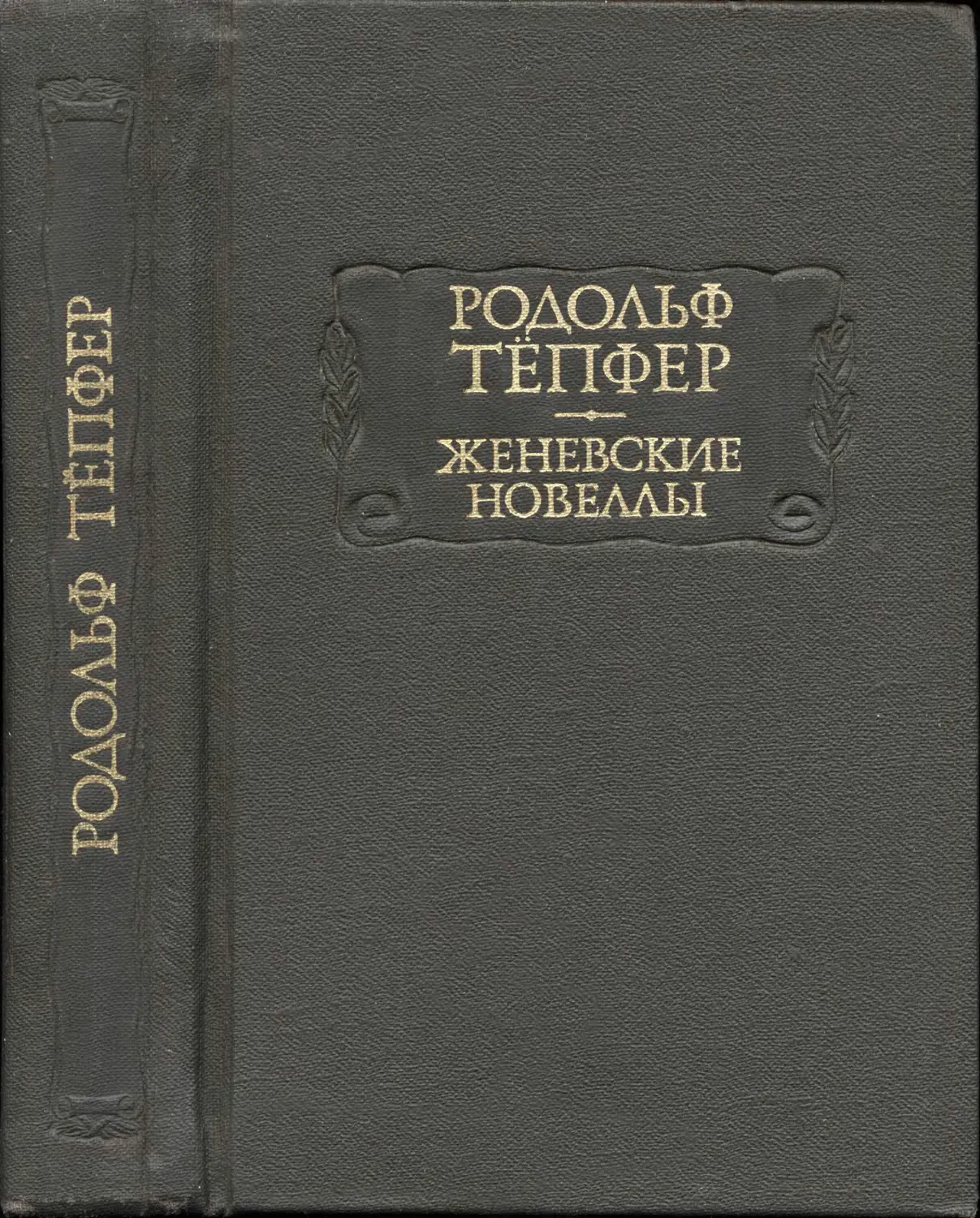Автор: Тёпфер Р.
Теги: художественная литература литературные памятники литературоведение швейцария
Год: 1982
Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
RODOLPHE
TÔPFFER
NOUVELLES
GENEVOISES
РОДОЛЬФ
ТЁПФЕР
ЖЕНЕВСКИЕ
НОВЕЛЛЫ
Издание подготовили
3. Е. АЛЕКСАНДРОВА, В. Д. СЕДЕЛЬНИК,
М. Н. ЧЕРНЕВИЧ
ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА"
Москва 19 8 2
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
♦ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Г. П. Бердников,
Д. Д Благой, И. С. Брагинский, А. С. Буш мин,
М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин,
Л. А. Дмитриев, Н. Я, Дьяконова,
Б. СР. Егоров (заместитель председателя),
Д. С. Лихачев (председатель), А. Д. Михайлов,
Д. В. Ознобишин (ученый секретарь),
Д. А. Олъдерогге, Б. И. Пуришев,
А. М. Самсонов (заместитель председателя),
М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Степанов,
С. О. Шмидт
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
С. И. ВЕЛИКОВСКИЙ
4703000000-030 ^
- 546-82, ка. X © Издательство .Наука-, 1982 г.
042 (02)-82 Перевод, статья, примечания
Родолъф Тёпфер.
Портрет работы Фирмена Массо
(1824 или 1825 г.)
Женевский музей искусств и истории
Библиотека моего дяди
I. Два узника
Я встречал людей, выросших у порога отцовской
лавки: такой образ жизни сообщал им известное
умение разбираться в людях, некоторую склонность к
ротозейству, вкус к улице, кое-какие ходячие понятия,
а также мораль и предрассудки своего квартала. Иные
из них становились адвокатами, иные крупными
чиновниками, и все они вносили в свои занятия немало
следов жизни у порога этой лавки, — хороших ли,
дурных ли, но всегда неизгладимых.
Но были и такие, которые в ту же пору — я хочу
сказать лет в пятнадцать — проводили свои дни в
маленьких комнатках, выходивших на тихие дворы и на
пустынные крыши. Там они превращались в
созерцателей, далеких от уличной суеты, но имели достаточно
пищи для самостоятельных наблюдений над малым
кругом соседей. Они получали знание людей менее
обширное, зато более углубленное. Как часто, лишенные
всяких зрелищ, они оставались наедине с собой, тогда
как другие, стоя у лавок, постоянно развлекались все
новыми впечатлениями и не имели ни времени, ни
охоты познавать самих себя. Адвокат вы, или
чиновник, не приходит ли вам в голову, что юноша,
выросший в маленькой комнатке, иначе смотрит на мир,
нежели тот, кто получил воспитание у порога отцовской
лавки?
Да, но разве из своей комнатки этот юноша не
видел прохожих, сновавших мимо его жилища, не слышал
6
Библиотека моего дяди
доносившийся до него с улицы шум, не замечал
веселые или грустные уличные сценки, жизнь соседей,
неожиданные происшествия, случавшиеся с ними?
О, сколь трудное дело воспитание! Исполненные самых
благих намерений, следуя советам друга или книги, вы
направляете ум и сердце вашего сына к избранной
вами цели, а в это время уличные сценки, уличный
шум, соседи, неожиданные происшествия вступают в
заговор против вас, или же играют вам на руку, и вы
бессильны против их враждебного влияния или
непрошенного содействия.
Правда, позднее — лет после двадцати, двадцати
пяти — жилище уже не играет такой роли. Оно может
быть мрачным или светлым, уютным или неубранным,
но теперь это школа, где учение кончилось. В этом
возрасте человек уже избрал себе поприще, достиг того
туманного будущего, которое еще недавно казалось ему
столь отдаленным. Душа его уже не столь мечтательна
и послушна: предметы отражаются в ней, но не
оставляют отпечатков.
Я жил в уединенном квартале *, в доме за собором
святого Петра, расположенном близ епископской тюрьмы.
Сквозь листья акации я видел стрельчатые церковные
своды, подножье приземистой башни, узкое тюремное
окошко, а вдалеке — в просвете между стенами — озеро
с его берегами. Какими превосходными уроками все это
* Это квартал, соседний с кафедральным собором. Дом,
о котором идет речь, известен под названием
«Дома французского благотворительного общества»,
так как он принадлежит обществу, помогающему
женевским протестантам французского ' происхождения
(прим автора).
/. Два узника
7
могло служить мне, если бы я сумел ими
воспользоваться! Как благосклонна была судьба, выделив меня
среди юнцов, моих сверстников! Но как ни мало пользы
извлек я из ее милостей, я горжусь тем, что вышел из
этой школы, — более благородной, чем порог мелочной
лавки, более щедрой поучениями, чем одинокая
комната, — школы, где я мог бы сделаться поэтом, будь
у меня лишь склонность к поэзии...
В сущности, все к лучшему, ибо я сомневаюсь, чтобы
когда-нибудь жили счастливые поэты. Знаете ли вы
хоть одного среди самых признанных поэтов, кто бы
мог утолить свою жажду славы и почестей? Назовите
мне. хоть одного среди самых великих, прежде всего
среди самых великих, кто был бы доволен своими
творениями, узнав в них небесные образы, открывшиеся
его гению? О, как много в жизни поэта обманчивых
обольщений, несбывшихся надежд, разочарований! Но
это лишь то, что лежит на поверхности. Сколько
видится мне мучений более тяжких, разочарований более
горьких, скрытых в тайниках его сердца! Поэт творит
образы неземного счастья, но жизнь каждодневно
ниспровергает их и рушит; он глядит в небеса, но
прикован к земле; он любит богинь, но встречает лишь
смертных женщин. Тассо, Петрарка, Руссо, — вы,
нежные, болезненные души, истекавшие кровью не знавшие
покоя сердца — скажите, какою ценой далось вам
бессмертие?
Тут и причина и следствие вместе. Они страдают,
потому что они поэты. Они поэты, потому что они
страдают. Но в глубине их душевных борений вдруг, как
молния в тучах, вспыхивает тот ослепительный свет, что
так поражает нас в их стихах. Страдания открывают им
радость; радость их учит страданиям. Желания их не-
8
Библиотека моего дяди
отделимы от боли утрат. И в этом бушующем хаосе,
в этих плодотворных мучениях рождаются
возвышенные страницы их поэзии. Так буйные ветры извлекают
столь сладостные звуки из струн одинокой арфы.
Вот почему я не очень удивился, услышав от
одного рассудительного человека, что лучше быть
владельцем бакалейной лавки на углу, чем прославленным
на весь мир поэтом, лучше быть господином Жиро *,
чем Данте Алигьери.
Думаю, что я составил себе верное представление
о поэте. Посудите сами, о чем прежде всего хлопочет
тот, кто притязает на это высокое звание! Не
правда ли, он пытается нас уверить, будто душа его
томится тревогами и волнениями, будто в ней бушует
хаос? Можно подделываться под язык добродетели,
произнося священные слова; так и этот поэт
подделывается под язык поэзии, изливаясь в словах, полных
печали, тоски, невыразимого горя. В своих стихах он
страждет, в своих стихах он вздыхает, к двадцати
годам оплакивает в них увядающий остаток своей жизни
и, наконец, он в них умирает. Так почти все начинают.
Полно, дружок мой! Не так-то легко, как ты
мнишь, быть несчастным, унылым, терзаться
желаниями, упиваться восторгами, не видеть красок жизни,
угасать как Мильвуа2! Сбрось же свою маску! Дай
нам поглядеть на твое веселое лицо! Почему, мой
славный толстяк, о почему не следуешь ты зову своей
природы?
Какая польза для тебя вечно стонать, вечно
скорбеть, чтобы прослыть мертвецом, лишенным навсегда
погребения?
Впрочем, когда я говорю о плодотворных мучениях,
я не хочу этим сказать, что каждый великий поэт не-
/. Два узника
9
пременно вздыхает и плачет в своих стихах. Напротив,
он скрывает свои самые горькие разочарования за
бурными выражениями ликования и восторга. И даже,
когда он увлекает нас за собой в счастливый Элизиум3,
когда он рисует небесными красками совершенную
красоту, он возносится к этим блаженным высотам, чтобы
оторваться от пустоты земной жизни. Поэт воспевает
здоровье, потому что он болен, — жаркое лето, потому
что он ощущает ледяной холод, — прохладную воду
ручьев, потому что вокруг него выжженная пустыня.
Недолго наслаждается несчастный своим опьянением:
он и нам дает испить из этой чаши, но мы получаем
нектар, а ему достается горький осадок на дне.
Однако тут я ловлю себя на постыдной мысли,
которая притаилась в одной из извилин моего мозга: как
хорошо, думаю я, что для моей утехи существовали эти
страждущие души... что эти несчастные мучились
долгие годы, чтобы оставить несколько строф, несколько
страниц, которые пленяют меня и на миг приводят
в волнение! ... О глубокий эгоизм человеческого
сердца, о жестокая потребность наслаждения, все
приносящая себе в жертву! Но с другой стороны...
Расин и—бакалейщик, Вергилий и — мелочной торговец!
Нет, я еще недостаточно рассудителен, над моей седой
головой еще не пронеслось достаточно лет. Придет
время и, быть может, еще ждать недолго, когда я, более
рассудительный и не менее эгоистичный, чем сейчас,
повторяю те же слова юношам... И моя вздорная мысль,
коснувшись их умов, ляжет тенью на их лица, но не
разомкнет их уста.
В нашем мозгу гнездится множество дурных мыслей,
которые прячут там из стыдливости и не высказывают
из боязни себя обесчестить. Но если они порой вы-
10
Библиотека моего дяди
рываются из своих тайников, скольких порядочных
людей бросает в краску! Однажды некий человек решил
обследовать свой собственный мозг. Он обшарил его
сверху донизу, вывернул извилины его наизнанку,
забрался в их самые темные закоулки и затем, собрав все
свои находки, сочинил целую книгу под названием
«Максимы» 4 — верное зеркало, в котором люди увидели,
что они гораздо безобразнее, чем сами о себе думали.
В данном случае герцог последовал за Сократом,
призывавшим людей заглядывать в свой мозг.
Tvaiui aeaoxov* (так по древнегречески) означает именно
это. Но я сомневаюсь, много ли пользы в таких
постоянных наблюдениях. Чаще всего бывает полезнее не
знать себя. Приглядевшись к себе попристальнее,
многие от этого стали бы хуже. Увидев, что на его поле не
произрастают добрые злаки,, кое-кто пришел бы к
мысли, что можно извлечь выгоду даже из сорняков.
Вот почему я не слишком-то часто всматриваюсь
в свой мозг. Но нет для меня занятия более приятного,
чем украдкой подглядывать за тем, что творится в
чужой голове. При этом я пускаю в ход лупу и
микроскоп, и вы не поверите, сколько любопытных мелких
особенностей я открываю, не говоря уже о крупных и
чудовищных несообразностях, которые видны простым
глазом и поражают нас еще издали. Как неумен был
Галль, пытавшийся убедить нас, будто можно судить
о содержимом по тому, в чем оно содержится5: о
вкусе апельсина — по неровности его корки, о качестве
мази — по баночке, в которой она хранится. Я
поступаю иначе: открываю и пробую, снимаю крышку и
нюхаю.
* Познай самого себя! (древнегреч.).
/. Два узника
11
Представьте себе, мозг у всех людей устроен
одинаково! Это значит, что у всех он имеет одинаковое
количество клеточек, которые содержат одинаковое
количество семян, наподобие апельсинов, состоящих из
равного числа одинаково расположенных долек с равным
числом заключенных в них зернышек. Но, смотрите!
Одни из этих семян погибают, не успев прорасти, в то
время, как другие чрезмерно разрастаются. Вот отсюда
и происходят те различия, которые создают
многообразие характеров и делают людей столь непохожими
друг на друга.
Любопытно, однако, что среди этих семян есть одно,
которое никогда не гибнет, питается чем угодно или
ничем, дает всходы одним из первых и исчезает
последним. Это — семя тщеславия. Когда росток
тщеславия отмирает, можно быть уверенным, что от человека
ничего не осталось. Я узнал об этом от одного лекаря,
который рассказывал мне, что, устанавливая факт
смерти, он полагался лишь на этот единственный
признак, считая его самым надежным. Когда лекаря
призывали к усопшему, он прежде всего убеждался, что
у того уже нет никакого желания кем-то казаться, нет
заботы, как он выглядит, в какой он позе лежит, что
о нем думают люди. В таком случае, даже не пытаясь
нащупать у него пульс, лекарь давал разрешение на
похороны. Поступая всегда таким образом, он не
сомневался, что ни разу в своей практике не предал земле
еще живого человека, что, по его словам, частенько
случалось с его собратьями, следившими за пульсом,
дыханием и прочими недостоверными признаками жизни.
Этот же лекарь утверждал, что на прорастание
семени тщеславия оказывают влияние не столько
положение человека в обществе, его богатство или занятия,
12
Библиотека моего дяди
сколько его возраст. В младенчестве это семя дает
росток не скорр; в юности этот росток развивается так же
медленно, но после двадцати лет он превращается
в почтенных размеров прожорливую опухоль, которая
питается чем угодно.
Я забыл, что хотел рассказать о моем жилище.
Я наслаждался там глубоким покоем и приятными
досугами ранней юности, проводил мало времени со своим
учителем, немного более с самим собой, а больше
всего — в обществе Эвхарисы, Галатеи и особенно
Эстеллы 6.
Есть возраст — в сущности единственный и.
длящийся очень недолго, — когда пасторали Флориана
обладают для нас особым очарованием7. Мне казалось,
что никого нет на свете милее его юных пастушек,
ничего нет простодушнее их жеманных речей и розовых
чувств, ничего нет ближе к природе и сельской жизни,
чем их элегантные корсажи и красивые посохи с
развевающимися лентами. У самых хорошеньких городских
барышень я с трудом находил и половину красоты,
изящества, ума, а главное чувствительности, присущих
моим дорогим покровительницам барашков. Вот почему
они безраздельно владели моим сердцем, и в своем
юношеском воображении я обещал вечно хранить им
верность.
Ребяческая любовь, первые искорки яркого пламени,
которое лишь позднее охватывает, обжигает и опаляет
сердце... Но сколько прелести, радости, чистого света
в этих невинных предвестниках чувства, столь
чреватого бурями!
Несчастье моей страсти было в том, что я не мог
предаваться ей без опаски, и все это по причине весьма
/. Два узника
13
серьезной беседы, которую недавно повел со мной мой
учитель. Речь шла о похвальном поведении Телемака на
острове Калипсо, где он во имя добродетели покинул
Эвхарису8, что мы и переводили на весьма дурную
латынь:
И он бросил Телемака в море ..
Et Telemachum in mare de гире praecipitavit,
едва я произнес эту строчку вслух, как г-н Ратен, —
так звали моего учителя — перебил меня, спросив, что
я думаю об этом поступке Ментора.
Вопрос поставил меня в тупик, ибо я знал, что при
моем учителе нельзя порицать Ментора. Однако в
глубине души я считал, что Ментор в данном случае
обошелся с Телемаком слишком круто. «Я думаю, —
ответил я, — что Телемак дешево отделался, напившись
морской воды.
— Вы не поняли моего вопроса, — возразил г-н
Ратен. — Телемак был влюблен в нимфу Эвхарису, а
любовь — самая пагубная, самая презренная и наиболее
противная добродетели страсть. Влюбленный юноша
предается распущенности и изнеженности; он годен
лишь на то, чтобы вздыхать у ног женщины, как
Геракл — у ног Омфалы9. Поступок мудрого Ментора,
удержавшего Телемака на краю пропасти, заслуживает
величайшего восхищения. Вот, как вы должны были
ответить на мой вопрос», — прибавил г-н Ратен.
Таким окольным путем я узнал, что сам тоже
повинен в тяжком грехе и далеко отклонился от стези
добродетели, ибо на мой взгляд я любил Эстеллу не
меньше, чем Телемак Эвхарису. И я тоже решил
побороть в себе столь преступное чувство, которое рано или
поздно может привести меня к гибели, судя по тому,
14
Библиотека моего дяди
с какой похвалой г-н Ратен отозвался о поступке
Ментора. Речь г-на Ратена произвела на меня большое
впечатление, правда, не столько потому, что она была мне
понятна, но скорее именно потому, что показалась
неясной и загадочной. Чтобы хорошо вести себя и не
упасть в пропасть, я старался погасить свой невинный
пыл, но в то же время беспрестанно возвращался
в мыслях к зловещим словам г-на Ратена, дабы
постигнуть их смысл и сделать для себя кое-какие открытия.
Такова была моя первая любовь. Она не имела
никаких последствий, существуя лишь в моем
воображении, но способ, каким я ее подавил, следуя
наставлению г-на Ратена, наложил известный отпечаток и на
другие мои увлечения, о чем можно будет узнать из
моего дальнейшего рассказа.
Тюрьма, о которой я упоминал, выходила на мою
сторону лишь одним своим окном. Вообще-то тюрьмы
не слишком богаты окнами.
Это окно было прорублено в стене, имевшей весьма
мрачный и унылый вид. Железная решетка не
позволяла узнику высунуть голову наружу, а щиток,
закрывавший от него улицу, пропускал очень мало дневного
света в его укрытие. Я теперь вспоминаю, что при
одном взгляде на это окно меня охватывали ужас и гнев.
Я находил постыдным, -тобы в обществе, которое
состояло, по моим понятиям, из одних только
порядочных людей, кто-то мог позволить себе быть убийцей
или вором. Правосудие, охраняющее безупречных
людей от этих чудовищ, рисовалось мне в образе строгой
святой матроны, чьи приговоры ie могли быть
слишком суровыми. Впоследствии я изменил свое мнение на
этот счет. Правосудие уже не казалось мне столь не-
/. Два узника
m
погрешимым, безупречные люди упали в моих глазах,
а в чудовищах я слишком часто находил жертв
нищеты, дурного примера, несправедливости. .. Итак
сострадание к ним умерило мой гнев.
Детский ум судит безоговорочно, потому что он
ограничен. Ему доступна лишь внешняя сторона вопроса,
и поэтому все они кажутся ему очень простыми;
решение их представляется прямолинейному и неопытному
детскому сознанию столь же легким, как и бесспорным.
Вот почему суждения самых кротких детей бывают
порою беспощадными, и самые сердобольные произносят
жестокие слова. Со мной это происходило нередко, тем
более, что я не принадлежал к числу подобных детей.
Когда я видел, как в тюрьму вели арестованного, я
проникался к нему отвращением. Все мои симпатии были
отданы жандармам. Это не было проявлением жестокости
или душевной низости: во мне говорило мое понимание
справедливости. Будь я менее непорочен, я бы
возненавидел жандармов и пожалел бы их пленников.
Как-то раз один человек, которого я увидел на
улице в сопровождении жандармов, возбудил во мне
крайнее негодование. Он был соучастником вопиющего
преступления. Вдвоем с товарищем он убил старика,
чтобы завладеть его деньгами; заметив, что их
преступление видит ребенок, они совершили еще одно убий-
г ство, пожелав избавиться от невинного свидетеля.
Товарища этого человека приговорили к смертной казни,
а его самого — то ли благодаря ловкому защитнику,
то ли в силу какого-то смягчающего обстоятельства, —
лишь к пожизненному заключению. Когда его вели
к воротам тюрьмы, он, проходя под моим окном, С
любопытством разглядывал соседние дома. Глаза eFo
16
Библиотека моего дяди
встретились с моими, и он улыбнулся мне, словно
знакомому!!!
Эта улыбка произвела на меня глубокое и тяжкое
впечатление. Неотвязная мысль о ней целый день
преследовала меня. Я решил поговорить об этом с моим
учителем, но он, воспользовавшись случаем, сделал мне
выговор за то, что я трачу столько времени, глазея на
улицу.
Какой же, право, чудак был, как я вспомню, мой
учитель! Человек высокой нравственности и педант;
почтенный и смешной, важный и комичный, он
одновременно внушал и уважение к себе, и желание подшутить
над ним. Однако, когда слово не расходится с делом,
власть строгой честности столь велика, действие твердых
убеждений столь сильно, что хотя г-н Ратен мне казался
забавным, он имел на меня большее влияние, нежели
мог бы иметь другой, гораздо более умелый и толковый
наставник, но способный вызвать малейшее подозрение,
что сам он не следует законам морали, которые
проповедует мне.
Г*н Ратен был целомудрен до крайности. Читая
«Телемака», мы пропускали целые страницы,
нарушавшие, по его мнению, приличия. Он всеми силами
стремился уберечь меня от сочувствия к влюбленной
Калипсо и предупреждал, что в жизни мне встретится
множество опасных женщин, похожих на нее. Он
терпеть не мог Калипсо; хоть и богиня, она была ему
ненавистна. Что же касается латинских авторов, то мы
их читали не иначе, как в извлечениях, сделанных
иезуитом Жувенси10; но мало этого: мы перескакивали
еще и через многие пассажи, которые даже сей
стыдливый иезуит считал безопасными. Вот почему у меня
/. Два узника
17
сложилось столь превратное представление о многих
предметах: вот почему я так ужасно боялся, как бы
г-н Ратен не разгадал моих невиннейших мыслей,
содержавших хотя бы намек на любовь, имевших хотя бы
самое отдаленное отношение к презираемой им Калипсо.
По этому поводу можно сказать немало. Такая
метода воспитания скорее воспламеняет чувства, чем
умеряет их; скорее подавляет, чем предотвращает; внушает
больше предрассудков, чем правил; но главное
следствие такого воспитания — почти неминуемая утрата
душевной чистоты: этот нежный цветок может увяйуть от
безделицы, и ничто уже не вернет ему жизнь.
Впрочем, г-н Ратен, напичканный латынью и
Древним Римом, был в сущности добряк и больше любил
ораторствовать, чем наказывать. По поводу чернильной
кляксы он цитировал Сенеку; укоряя меня за шалость,
он ставил мне в пример Катона Утического !1.
Единственное, чего он не прощал, это беспричинного смеха.
Чего только не чудилось этому человеку, когда меня
разбирал неудержимый смех: он видел в нем и дух
века, и мою раннюю испорченность, и предвестие моего
плачевного будущего. Тут он разглагольствовал страстно
и нескончаемо. Я же приписывал его гнев бородавке,
сидевшей у него на носу.
Эта бородавка, величиною с турецкую горошину,
была увенчана маленьким пучком очень тонких
волосков, имевших к тому же большое гидрометрическое
значение, ибо, как я заметил, они в зависимости от погоды
то выпрямлялись, то завивались. Во время уроков
я часто, — без всякой задней мысли, и без малейшего
желания посмеяться, — с любопытством разглядывал
этот пучок. В таких случаях г-н Ратен внезапно
окликал меня и сурово распекал за рассеянность. Иногда,—
2 Родольф Тёпфер
18
Библиотека моего дяди
впрочем, это случалось реже, — на бородавку упорно
норовила сесть муха, не взирая на то, что он
нетерпеливо и сердито отгонял ее; тогда он торопился с
объяснением урока, чтобы я, занятый текстом книги, не
заметил этой странной борьбы. Однако именно это. давало
мне знать, что происходит нечто интересное и, не в
силах победить непреоборимое любопытство, я украдкой
поднимал глаза на лицо учителя. Стоило мне взглянуть
на него, как меня начинало трясти от смеха, а если муха
становилась все более настойчивой, я и вовсе не мог от
него удержаться. Вот тогда-то г-н Ратен, не показывая
вида, что он понимает причину моего непристойного
поведения, начинал метать гром и молнии против
беспричинного смеха и его ужасающих последствий.
Тем не менее беспричинный смех — одно из самых
приятных удовольствий среди тех, что мне известны.
Ведь запретный плод так сладок! Меня излечили от
него не столько торжественные увещевания моего
учителя, сколько мои лета. Чтобы наслаждаться
беспричинным смехом, надо быть школьником и, если
возможно, иметь учителя с бородавкой на носу,
украшенной тремя волосками:
... Сей возраст жалости не знает! 12
Размышляя позднее об этой бородавке, я пришел
к выводу, что все обидчивые люди наверное наделены
каким-нибудь физическим или моральным недостатком,
какой-нибудь видимой или невидимой бородавкой,
которая заставляет их подозревать, что окружающие
смеются над ними. Не смейтесь в присутствии этих людей:
они подумают, что вы смеетесь над ними; никогда не
говорите при них ни о прыщах, ни о волдырях на лице:
они примут ваши слова за намек; никогда не упоми-
/. Два цзника
19
найте ни о Цицероне, ни о Сципионе Назике: 13 не
оберетесь неприятностей.
Наступила пора майских жуков. В свое время они
меня очень занимали, но я уже начинал терять к ним
интерес. Как быстро стареешь однако!
Все-таки, когда я оставался один в моей комнате и
смертельно скучал, корпя над уроками, я не гнушался
обществом этих насекомых. Правду говоря, дело шло
уже не о том, чтобы, привязав жука за ниточку,
заставлять его летать, или же запрягать его в маленькую
тележку; для таких ребяческих забав я был уже
слишком взрослым. Но если вы думаете, что больше ничего
нельзя добиться от майского жука, вы глубоко
ошибаетесь. Между детскими играми и серьезными занятиями
натуралиста есть еще много промежуточных ступеней.
Я держал одного майского жука под опрокинутым
стаканом. Насекомое с мучительным трудом взбиралось
на стеклянные стенки, чтобы тотчас же свалиться вниз,
а затем снова и снова начинать все сначала. Иногда жук
падал на спинку: это, как вы знаете, для него очень
большое несчастье. Прежде чем прийти к нему на
помощь, я наблюдал, с каким долготерпением он' медленно
шевелил всеми своими шестью лапками в несбыточной
надежде зацепиться за что-нибудь, чего не
существовало. «А верно, как глупы майские жуки!» — думал я.
Чаще всего я выручал жука из беды, протянув ему
гусиное перо, что и привело меня к величайшему,
замечательнейшему открытию. Можно и впрямь сказать
вместе с Беркеном 14, что доброе дело никогда не остается
без вознаграждения. Мой жук как-то вскарабкался на
бородку пера, и я оставил его в покое, пока он не
пришел в чувство, а сам я дописывал строчку, проявляя
2*
20
Библиотека моего дяди
больше внимания к действиям насекомого, чем к
подвигам Юлия Цезаря, которого я в данный момент
переводил. Улетит жук или спустится вниз вдоль пера?
Какая малость иногда решает дело! Если он изберет
первый путь, поминай, как звали, мое открытие! К счастью
он начал спускаться. Когда я увидел, что он
приближается к чернильнице, у меня появилось предчувствие, что
сейчас произойдет великое событие. Так Колумб, еще
не завидев берега, уже знал, что ои открыл Америку.
В самом деле, жук, добравшись до кончика пера,
погрузил хоботок в чернила. Скорее, скорее белый лист
бумаги. .. наступила самая решительная минута!
Жук вползает на бумагу, оставляет на ней
чернильный след и получаются восхитительные рисунки. Может
быть у него разыгралась фантазия, а может быть
чернила слишком жгут его, но жук ползет, то подымая, то
опуская хоботок, и в результате получается множество
узоров удивительно тонкой работы. Иногда, изменив
свое намерение, жук поворачивает назад; потом, снова
передумав, возвращается на прежнее место: так
появляется буква S! .. При взгляде на иее меня осеняет
блестящая мысль.
Я сажаю удивительное насекомое на первую
страницу моей тетради; хоботок его наполнен чернилами;
затем, вооружившись соломинкой, чтобы руководить
работой жука и, когда это нужно, преграждать ему путь,
я заставляю его прогуливаться таким образом, чтобы он
самостоятельно написал мое имя. На это ушло два часа
времени, но зато какой получился шедевр!
Самое благородное завоевание человека, как сказал
Бюффон.. 15 это несомненно—майский жук.
Чтобы провести, как следует, эту операцию, я
подошел поближе к свету. Мы заканчивали вырисовывать
/. Два цэника
21
последнюю букву, как вдруг меня кто-то тихо позвал:
«Друг мой!»
Я тотчас же выглянул на улицу. Никого не было.
«Я тут! — произнес тот же голос,
— Где? — спросил я.
— В тюрьме».
Я понял, что это окликнул меня из тюремного окна
тот самый злодей, чья страшная улыбка так потрясла
меня. Я отскочил в глубь комнаты.
«Не бойся!—продолжал тот же голос, — с тобой
говорит честный человек...
— Негодяй! — закричал я ему, — если вы еще будете
говорить со мной, я позову часового!»
На мгновение узник умолк.
«Несколько дней назад, проходя по улице, — снова
начал он, — я увидел ваше лицо и подумал, что у вас
должно быть сердце, способное пожалеть несчастную
жертву людской несправедливости.
— Замолчите! — опять крикнул я, — вы элодей, вы
убили старика, убили ребенка! ..
— Я вижу, что и вы ослеплены, как другие. Однако
вы слишком молоды, чтобы так верить во зло».
Он замолчал, услышав на улице чьи-то шаги:
прошел господин в черной одежде. Потом я узнал, что это
был служащий погребальной конторы.
Когда тот удалился, узник сказал:
«Вот прошел почтенный тюремный священник.
Благодарение богу, он знает, что сердце мое чисто и душа
не запятнана!»
Он опять замолчал. На этот раз прошел жандарм.
Я колебался, позвать ли его, чтобы передать ему слова
узника. Но слова эти уже возымели свое действие на
мою легковерную душу, и я не поддался первому по-
22
Библиотека моего дяди
рыву. К тому же мне казалось, что это было бы
предательством по отношению к человеку, который доверился
чистосердечию, написанному на моем лице. Это
значило бы не заслужить похвалы, польстившей моему
самолюбию. Я уже говорил, что росток тщеславия
питается чем угодно; нет такой подлой руки, которая не
сумела бы приятно пощекотать его.
После этого разговора, привлекшего меня к окну,
узник уже больше не нарушал молчания, и я вернулся
к моему жуку.
Я уверен, что побледнел, как смерть. Произошло
невероятное, непоправимое бедствие! Прежде всего я
схватил его виновника и выбросил в окно. Потом я с
ужасом начал обдумывать свое отчаянное положение.
На странице четвертой главы «De bello gallico»* 16
протянулась прямо до левого поля длинная черная
полоса; здесь насекомое убедилось, что по крутому
обрезу книги трудно спуститься, и повернуло назад,
к правому полю; затем, поднявшись по направлению
к северу, оно решило переползти на горлышко
чернильницы, откуда на свою и мою беду скользнуло по
гладкому и покатому склону прямо в бездну, в геену
огненную, — в чернила!
Тут, сообразив к несчастью, что он сбился с пути,
жук решил пуститься в обратный путь; облаченный
в траур с ног до головы, он выкарабкался из
чернильницы и снова попал на четвертую главу «De bello
gallico», где я и нашел его уже в полуобморочном
состоянии.
Какие чудовищные кляксы! целые реки, целые озера
* «О галльской войне» (лат.).
/. Два уяяика
23
чернил! длинный ряд бездарных, безвкусных
закорючек. .. какое черное и страшное зрелище!
Увы! эта книга была Эльзевиром моего учителя,17
Эльзевиром ин-кварто, редчайшим, дорогим,
невосстановимым экземпляром, врученным мне под мою
ответственность со строжайшим наказом беречь его как
зеницу ока. Сомнений не было: я погиб!
С помощью промокашки я собрал чернила, потом
просушил страницу, после чего стал размышлять о том,
что меня ожидает.
Я испытывал скорее тревогу, чем раскаяние. Больше
всего меня пугала необходимость признаться, что во
всем этом деле принимал участие майский жук. Каким
грозным взглядом окинет меня мой учитель, узнав,
что я, достигший по его мнению сознательного
возраста, так постыдно тратил время на ребяческие забавы,—
опасные и весьма вероятно безнравственные! При
одной этой мысли меня бросало в дрожь.
Сатана, которого я в эту минуту не остерегся,
начал нашептывать мне спасительные выходы из
положения. В час искушения он всегда тут как тут. Он
советовал мне пойти на совсем небольшой обман. Мерзкий
кот соседки мог забраться в мою комнату, когда меня
не было и опрокинуть чернильницу на четвертую главу
«De bello gallico». Выходить из дому в часы занятий
мне не разрешалось, значит придется объяснить мое
отсутствие необходимостью купить перо. Перья лежали
в шкафу и были у меня всегда под рукой, значит
придется сознаться, что ключ от шкафа я вчера потерял
в бане. Правда, у меня не было разрешения пойти вчера
в баню, — я и в самом деле там не был, — значит
придется сказать, что я пошел туда без разрешения, и это
признание придаст оттенок правдоподобия всему моему
24
Библиотека моего дяди
сложному построению и в то же время смягчит
угрызения совести, поскольку великодушно взяв на себя вину,
я почти оправдаюсь в собственных глазах...
Этот шедевр хитроумия был совсем готов, когда
я услышал шаги г-на Ратена, поднимавшегося по
лестнице.
В смятении я захлопнул книгу, потом открыл ее и
опять закрыл, потом снова открыл в надежде, что
кляксы сами заговорят о себе и избавят меня от
тягостного затруднения первых признаний...
Г-н Ратен пришел дать мне урок. Не взглянув на
книгу, он положил на обычное место свою шляпу,
придвинул к себе стул, сел и высморкался. Чтобы набраться
храбрости, я тоже высморкался, и г-н Ратен
пристально на меня посмотрел, так как мое поведение уже
намекало на его нос.
Сначала я не понял, что г-н Ратен пытался
проникнуть в мой замысел высморкаться почти одновременно
с ним, и поэтому, вообразив, что он заметил кляксы,
я опустил глаза, растерявшись больше от его
испытующего молчания, чем от вопросов, которые он мог бы
задать, и на которые у меня были готовы ответы.
Наконец он сказал торжественным тоном:
«Сударь, я читаю на вашем лице...
— Нет, сударь...
— Я читаю, говорю вам...
— Нет, сударь, это кот...» — перебил я его.
Тут г-н Ратен изменился в лице, настолько мой
дерзкий ответ показался ему перешедшим все границы
дозволенного; он уже собрался дать мне суровую отповедь,
как вдруг его взгляд упал на чудовищные кляксы. Он
подскочил, с ним вместе подскочил и я.
/. Два узника
25
Наступила минута отвратить бурю. «Сударь... в то
время, когда я вышел... кот... чтобы купить перо...
кот... потому что я потерял ключ... вчера в бане...
кот...»
По мере того как я говорил, взгляд г-на Ратена
становился все бо(\ее страшным, так что я в конце концов
не выдержал и без всякого перехода сознался в своем
преступлении. «Я солгал... господин Ратен... в этом
несчастье виноват я».
Наступило глубокое молчание.
«Не удивляйтесь, сударь, — сказал наконец г-н
Ратен торжественным тоном, — что чрезмерная степень
моего негодования помешала мне выразить его сразу.
Более того: у меня нет слов, чтобы назвать»... Тут
муха. .. и на меня напал неудержимый смех.
Снова наступило глубокое молчание.
Наконец г-н Ратен встал.
«Вы не выйдете, сударь, из вашей комнаты в
продолжение двух дней и поразмыслите о своем
поведении; я же со своей стороны тоже подумаю, как мне
поступить при столь серьезных обстоятельствах...»
Вслед за этим г-н Ратен вышел, запер дверь и унес
с собой ключ.
Искреннее признание в своей внне принесло мне
облегчение; уход г-на Ратена избавил меня от чувства
стыда, так что первые минуты моего плена очень
походили на счастливое освобождение, и если бы не
обязанность размышлять в продолжение двух дней о моих
проступках, я бы воспрянул духом, как это обычно
бывает после крутых поворотов судьбы.
Итак я начал размышлять, но ни одна мысль не
приходила мне в голову. Как ни пытался я глубже
осознать свою вину, я не находил в ней ничего страшного,
26
Библиотека моего дяди
кроме лжи,, которую я, впрочем, искупил признанием,
приятным мне тем, что оно вырвалось непроизвольно.
Все же для порядка, я старался раскаяться, но, видя,
как это трудно дается, я начал опасаться, не стало ли
мое сердце поистине дурным, — безнравственным, как
говорил г-н Ратен; и с сокрушением душевным я
вознамерился с этого же дня бороться с беспричинным
смехом.
В это время по улице прошел пирожник. Он всегда
появлялся в этот час. Мне естественно пришла мысль
полакомиться пирожками; но совесть не позволяла мне
поддаться плотскому соблазну, когда мне велено было
размышлять о душе. Продавец напрасно ожидал,
взывая ко мне во все горло: я сидел в глубине комнаты, не
двигаясь с места.
Но те, кто наблюдал нравы и обычаи продавцов
пирожков, знают, как цепко они держатся за своих
покупателей. Видя, что я не показываюсь, мой продавец не
сделал из этого для себя прискорбных выводов;
напротив, он продолжал громко кричать, полный
непоколебимой веры в мое чревоугодие. Он лишь прибавил к слову
«пирожки» волнующий эпитет «горяченькие», который
подверг мою нравственность серьезной опасности. К
счастью, я спохватился и призвал себя к порядку.
Я подумал, однако, что не следует оставлять в
заблуждении честного труженика и отнимать у него
драгоценное время. Я подошел к окну, чтобы сообщить ему,
что сегодня не возьму пирожков. «Поскорее, — сказал
он, — я спешу. . .»
Я уже говорил, что он верил в меня больше, чем
я в самого себя.
«Нет, — отвечал я, — у меня нет денег.
— Поверю в долг.
— Да я и не голоден.
— Неправда!
— Я очень занят.
— Ну, живее!
— Ко всему еще я сижу взаперти.
— Ах, вы мне надоели», *— сказал он и приподнял
свою корзину, словно собираясь уходить.
Этот жест произвел на меня неотразимое
впечатление. «Подождите!» — закричал я.
Через несколько мгновений в шапке, искусно
привязанной к веревочке, поднимались вверх два пирожка. ..
совсем «горяченькие».
«Ну и дурак этот жук! — думал я, жуя пирожск.—
Имеет четыре крыла, чтобы летать, и падает в
чернильницу. Если бы не его непостижимая глупость, я бы
спокойно делал уроки, хорошо бы вел себя, г-н Ратен
был бы доволен, и я тоже; не надо было бы лгать, меня
не заперли бы на ключ. . . Дурак этот жук!»
Ба! да ведь эта мысль недурна! Я нашел козла
отпущения, свалил на него все свои грехи, и мало-помалу
моя совесть вновь обрела блаженный покой. Этому, как
я полагаю, способствовало и то, что г-н Ратен в крайнем
пылу негодования совершенно забыл задать м«е уроки.
Два дня и ни единого урока!... Из всех возможных
наказаний я бы, вероятно, выбрал именно это, как самое
восхитительное.
Примирившись со своей совестью и имея в запасе
два праздничных дня, я задумал привести в порядок
свою комнату, для чего предпринял кое-какие меры,
которые мне очень понравились. Первым делом я убрал
с глаз долой Эльзевир, словарь, учебники и тетради.
28
Библиотека моего дяди
Проделав все это, я ощутил не только приятное, но и
совершенно новое для себя чувство: с меня точно сняли
оковы. Итак, я должен был попасть в заключение, чтобы
впервые познать всю прелесть свободы.
Как это было чудесно! Иметь законное право спать,
бездельничать, мечтать... И это в том возрасте, когда
собственное общество так сладко, когда в сердце
неумолчно звучат пленительные речи, а ум так легко
находит наслаждения, когда воздух, небо, поля, стены — все
о чем-то говорит, все чем-то волнует, когда дерево
акации представляется целым миром, а майский жук —
сокровищем. Ах, почему я не могу вернуть ту счастливую
пору, не могу вновь пережить волшебные часы! Как
тускло светит сейчас солице! Как медленно тянется
время, как безрадостен досуг!
Эта мысль беспрестанно возникает у меня под
пером. Всякий раз, как я начинаю писать, она торопит
меня выпустить ее на волю. Я это делал множество раз,
делаю и сейчас. Хотя счастье сопутствует мне и каждый
год приносит "мне радости, хотя дни мои безмятежны и
ясны, ничто не может изгладить из моего сердца память
о прошлом. Чем старее я становлюсь, тем моложе
становятся мои воспоминания, и тем больше я в них
нахожу печальной услады. В настоящем я владею гораздо
большим, чем желал в те времена; но я тоскую по
возрасту, когда мы полны желаний. Реальные блага не
кажутся мне столь заманчивыми, как те воздушные замки,
что сияли мне в заоблачной дали, всегда опьяняя меня.
Свежее майское утро, голубое небо, тихое озеро, —
вы и сейчас еще предо мною, но... куда девался ваш
блеск, что сталось с вашей чистотой? Где ваша
неизъяснимая прелесть, полная радости, тайн и надежд? Вы
ласкаете мой взор, но уже не трогаете душу; я холоден
/. Два узника
29
к вашему веселому зову; чтобы так нежно любить вас,
как прежде, надо возвратить невозвратимое прошлое,
повернуть время вспять. Какое грустное и горькое
чувство!
Это чувство мы находим во всех творениях поэзии,
и не оно ли является их главным источником? Нет
поэта, которого вдохновляло бы настоящее; все они
обращают свои взоры к прошлому. Более того:
разочарованные в жизни, они влюбляются в прошлое, видят в нем
прелесть, которой не находят в действительности. Свои
сожаления они преображают в красоту и наделяют ею
свои воспоминания. Так, создавая по своему произволу
прекрасный призрачный мир, поэты оплакивают то, чего
никогда не имели.
Собственно, юность — это возраст, когда поэзия
копит свои сокровища. Но этот возраст, вопреки мнению
иных, еще не знает, что с ними делать. Юность ничего
не может извлечь из груды чистого золота, которое
громоздится вокруг нее. Но вот приходит время, и оно
понемногу уносит это золото с собой; юность, вступая
в бой за свое достояние, начинает понимать, чем она
обладала. По потерям она судит о былом своем богатстве,
по сожалениям — об утраченных радостях. Тогда-то и
полнится сердце, воспламеияется воображение,
освобожденная мысль воспаряет ввысь... Тогда-то и поет
Вергилий!
Но что сказать о безбородых поэтах, что поют в
таком возрасте, когда они — даже если они и настоящие
поэты — еще не успели раскрыть себя, еще не научились
чувствовать и упиваться в тиши благоуханием, которое
лишь позднее смогли бы разлить в своих стихах!
Бывают рано созревшие математики, примером тому
служит Паскаль 18. Но поэтов таких не бывает. Скорее
30
Библиотека моего дяди
можно представить себе Гомера шестидесятилетним
старцем, чем Лафонтена — дитятей 19. До
двадцатилетнего возраста еще могут проявиться вспышки таланта;
но ни раньше, ни чуть позже ни один гениальный поэт
не достигал своей вершины. Многие, однако,
расправляют свои крылья значительно раньше; но когда крылья
слабы, падение неизбежно. Начав прежде времени свой
полет, эти поэты скоро падают на землю. Газеты,
кружки, группировки, это ваше дело! 20 Поднимайте же
их!
Лафонтен не знал самого себя до позднего возраста,
быть может, даже до конца своих дней. Не в этом ли
был его секрет? Прочитайте, прошу вас, его
предисловия! Приходило ли ему в голову, что он отличается от
всех остальных? И тут дело не в скромности: для
скромности у него не хватало тщеславия. Это была
натура бесхитростная и наивная, само простодушие! Он
пел для своего удовольствия, а не затем, чтобы
выполнить долг или достигнуть какой-нибудь цели; он пел, и
поэзия струилась из его уст.
Вы знаете, как он был неразумен. Он воображал,
будто Федр его учитель;21 он забывал воздавать хвалу
Людовику Великому;22 сам того не сознавая, он
задевал самолюбие маркизов, и его обходили пенсиями.
Воистину он был простак по сравнению со столькими
хитроумными поэтами!
Забросив в дальний угол все учебники и тетради,
я немного растерялся, не зная, что же мне делать
дальше. Едва я начал об этом раздумывать, как из
соседней комнаты донесся шум. Я заглянул в замочную
скважину: кот моей соседки сражался с огромной
крысой.
/. Два узника
31
Сначала я принял сторону кота: он принадлежал
к числу моих друзей, и я видел, что моя помощь
могла быть ему полезна. С израненной мордой, он уже
не так рьяно нападал на чрезвычайно смелого
неприятеля. Однако, следя за ходом этой борьбы, я вскоре
проникся сочувствием к более слабому противнику, к его
мужеству и ловкости перед лицом столь грозного врага;
поэтому я решил соблюдать строгий нейтралитет.
Но скоро я понял, что мне будет очень трудно
сохранять такую позицию, то есть оставаться безучастным
свидетелем борьбы между котом и крысой, тем более, что
крыса разделяла мое мнение насчет Эльзевиров. Теперь
она окопалась в углублении, проделанном ее зубами
в толстом фолианте, валявшемся на полу. Я решил
спасти ее: чтобы испугать кота, я изо всей силы ударил
ногой в дверь, и сделал это так успешно, что замок
отскочил, и дверь распахнулась.
На поле битвы остался лишь фолиант. Враг исчез,
мой союзник — также. Но сам я попал в переделку.
В этой запыленной клетушке, уставленной полками
со старыми книгами, помещалась часть библиотеки
моего дядюшки, бывшего в это время в отъезде.
Посредине стояла полуразвалившаяся электрическая машина,
рядом с ней — несколько ящиков с минералами, у
окошка — старинное кресло. Чтобы я не добрался до книг,
эту комнату держали всегда под замком. Когда г-н Ра-
тен заговаривал о ней, он принимал таинственный вид,
словно речь шла о каком-то подозрительном месте. И вот
сейчас только случай чудесно помог удовлетворить мое
любопытство.
Сначала я принялся за физические опыты, но ма-
lur'iia не действовала; я занялся минералогией, но
вскоре вернулся к фолианту. Крыса изрядно над ним
32
Библиотека моего дяди
поработала; на заглавном листе можно было прочитать
лишь Слов... «Словарь 23! — подумал я — это книга
неопасная. Но словарь чего?»... Я приоткрыл книгу.
Вверху я увидел женское имя; под ним — какую-то
тарабарщину, смешанную с латынью; еще ниже —
примечания. Речь шла о любви.
Я очень удивился. В словаре! Кто бы мог подумать?
В словаре — о любви! Я не мог опомниться. Но тома
фолиантов тяжеловесны; я поудобнее устроился в кресле,
равнодушный сейчас даже к великолепному виду,
открывавшемуся из окна.
Женское имя было — Элоиза24. Она была женщина
и писала по-латыни; она была аббатисса и имела
любовника! Столь странные противоречия совсем сбили меня
с толку. Женщина — и любит по-латыни. Аббатисса и
имеет любовника! Я понял, что мне в руки попала очень
дурная книга, и мысль, что словарь может позволить
себе заниматься подобными историями, ослабила мое
всегдашнее уважение к этого рода трудам, обычно столь
почтенным. Ну все равно, как если бы г-н Ратен начал
вдруг воспевать вино и любовь, любовь и вино.
Но все же я не отложил книгу в сторону, как это
следовало бы сделать. Напротив, увлеченный началом,
я прочитал всю статью; с еще большим увлечением
я прочитал примечания, разобрал и латинский текст.
Тут было много удивительного: кое-что трогательно, кое-
что таинственно, однако части истории не хватало.
Теперь я уже не был всецело на стороне крысы; мне
показалось, что не мешало чем-то помочь и коту.
В изорванных книгах всегда не хватает как раз
самого интересного. Пропуски в тексте возбуждают больше
любопытства, чем уцелевшие страницы. Я редко
поддаюсь искушению раскрыть какую-нибудь книгу, но все-
/. Два узника
33
гда разворачиваю бумажные фунтики, чтобы прочитать,
что там напечатано. Словом, я нахожу, что для автора
менее печально, когда его книга кончает жизнь у
бакалейщика, чем пылится на полке у книгопродавца.
Элоиза жила в средние века. В моем представлении
это было время монастырей, келий, колоколов,
красивых монахинь, бородатых монахов, рощиц на берегах
озер и в долинах, чему свидетели Поммие и тамошнее
аббатство у подножия горы Салев25. Мои познания
о средних веках дальше не шли.
Элоиза была племянница каноника. Прекрасная и
благочестивая, эта юная девушка очаровала меня
столько же своими природными достоинствами, сколько
и монашеской одеждой, в которой я себе ее представлял.
Я как-то видел в Шамбери сестер Сакре-Кёр 26, и по их
образцу рисовал себе всех послушниц, всех монахинь и
даже — если понадобилось бы — папессу Иоанну 27.
В то время как в глубоком уединении расцветала
никому неведомая прелесть Элоизы, кругом только и
говорили, что о знаменитом ученом по имени Абеляр.
Он был молод и мудр, обладал обширными познаниями
и смелостью мысли. Его внешность привлекала к себе
не меньше, чем его речи; красота его не уступала его
славе, затмившей славу всех других ученых. Абеляр
участвовал в диспутах, которые устраивали различные
ученые школы по, вопросам, живо трогавшим людей
того времени. В этих словесных турнирах он побеждал
своих противников на глазах у толпы, на глазах у
женщин, теснившихся в амфитеатре, чтобы получше
разглядеть красивого оратора.
В этой толпе бывала и племянница каноника.
Наделенная выдающимся умом и горячим сердцем, она с вол-
3 Родольф Гепфер
34
Библиотека моего дяди
нением слушала Абеляра. Не сводя глаз с юноши, она
ловила каждое его слово, следила за каждым его
движением, сражалась и побеждала вместе с ним,
упивалась его триумфами и сама того не сознавая пила
жадными глотками из чаши пылкой и неугасимой любви.
Она верила, что полюбила науку, и дядя, радуясь, что
сможет развить ее природные дарования пригласил
Абеляра руководить ее занятиями Счастливые
любовники! Безрассудный каноник! ..
Здесь начиналась работа крысы.
Я перевернул страницу; но как все переменилось!
Элоиза постриглась в монахини... Я был потрясен,
потому что полюбил ее и сочувствовал ее страсти. Под
сводами монастыря Аржантейль28 она, в своей печали,
казалась мне еще прекраснее, еще моложе. Когда,
изнемогая от страданий, Элоиза припадала к подножью
алтаря, она умиляла меня еще больше... Книга вела
свой рассказ старинным языком; от ветхих страниц
веяло ароматом давно минувших лет; ожившее очарование
прошлого сливалось с юношеской свежестью моих чувств.
Укрывшись в монастыре, Элоиза пыталась погасить
в потоке молитв еще пылавший огонь своего сердца; но
религия, бессильная исцелить эту больную душу, лишь
умножала ее скорбь. Тоска, горькие сожаления, муки
совести, неодолимая любовь терзали жизнь бледной
затворницы. Ее глаза не просыхали от слез; она плакала
о далеком Абеляре, плакала о днях его славы, о днях
своего счастья. Преступная, но какая трогательная
женщина! Прекрасная и нежная грешница; ее несчастье
озарило лучом поэзии весь тот далекий век!
«Абеляр, — с волнением переводил я письмо, в
котором она молкла возлюбленного придать ей силы, —
как много надо бороться, чтобы успокоить заблудшее
/. Два узника
35
сердце! Сколько раз надо каяться, чтобы снова упасть,
сколько раз побеждать, чтобы тотчас же вновь
покориться, сколько раз отрекаться, чтобы сразу же в
упоении начинать все сначала!..
Счастливые времена! Дорогие воспоминания! Они
лишают меня мужества, сокрушают мои силы. Порою
слезы раскаяния приносят мне отраду, я падаю ниц
перед божьим престолом, и благодать, торжествуя победу,
уже готова низойти в мое сердце.., но вот... предо
мною встает твой образ, Абеляр. .. Я хочу отогнать его,
но он преследует меня, он отнимает у меня покой,
который был так близок, он погружает меня в мучения,
которые я ненавижу, но страстно люблю. О,
непобедимое очарование! О, вечная борьба без надежды на
победу! Когда я плачу над гробницами, когда молюсь
в своей келье, когда ночами брожу под сенью деревьев, —
твой образ повсюду со мной. Он исторгает из очей моих
слезы, терзает мою душу тревогой и угрызениями
совести! .. Курится ли ладан под сводами храма,
слышатся ли священные гимны, звучит ли орган, или же
воцаряется молчание... Твой образ снова здесь,
нарушает это молчание, разрушает это благолепие, манит
меня, увлекает меня за пределы обители. Так среди
непорочных дев, принятых господом в его убежище,
живет твоя грешная Элоиза, разбитая бурями, утопающая
в пучине жгучих мирских страстей...»
Насладившись могучим очарованием этих печальных
строк, я обратился к Абеляру. Где-то я найду его? Увы!
Над его головой пронеслась гроза. Он, чье имя eige так
недавно блистало, был повержен в прах. Он стал
изгнанником. Скитаясь в поисках пристанища, скрываясь от
ярости завистников и преследователей, Абеляр влачил
жалкое существование. Саятоши писали на него доносы,
3*
36
Библиотека моего дяди
монахи пытались отравить его, церковные соборы
сжигали его книги. Измученный бедами, он поселился
в глуши.
«В дни моего счастья, — писал он, — я посетил
никому не ведомую необитаемую местность, где жили лишь
дикие звери и раздавался хриплый клекот хищных
птиц. Здесь я теперь нашел себе пристанище. Из
тростника я выстроил молельню, покрыл ее крышу соломой и,
стараясь забыть Элоизу, искал покоя в лоне господнем».
На том месте книги, где Абеляр представил мне
картину своей пустыни, я прервал чтение. Меня поразили
эти странные события давних лет, страстная сила двух
человеческих жизней, поэтическое слияние любви и
благочестия, славы и горести. И как это бывает, когда что-
нибудь трогает сердце и пленяет воображение, я
забывал о бедствиях несчастных влюбленных и думал лишь
о их горячей взаимной любви, внушавшей мне зависть.
Абеляр молился в своем уединенном убежище. Но
современники сожалели о его мощном голосе, скорбели
о его несчастьях, и весть о его внезапном бегстве
привлекла всеобщее внимание. Благодаря рвению друзей
удалось напасть на его след; несколько паломников, его
бывших учеников, добрались до него; вскоре толпы
почитателей, нагруженные подношениями, отправились
к нему в пустыню. На эти средства Абеляр воздвигнул
прекрасное аббатство Параклет29, на том самом месте,
где недавно возвышалась молельня с соломенной
крышей. Между тем Абеляр узнал, что монахи из
аббатства Сен-Дени 30, захватив монастырь Аржантейль,
изгнали из него монахинь. Тотчас же, уступив им свое
убежище, Абеляр призвал туда свою дорогую Элоизу.
Молодая аббатисса прибыла в Параклет со своими
подругами. Абеляр незадолго до этого удалился, и мо-
/. Два узника
37
настырь святого Гильдазия Рюиского в Ваннском
епископстве стал приютом его горестной судьбы.
Монастырь этот высится на утесе, о который
беспрестанно разбиваются морские волны. Ни леса, ни луга,
лишь широкая бесплодная равнина вокруг, да кое где
разбросанные камни на ней. Только белесая линия
крутых берегов с голыми потрескавшимися скалами
нарушает однообразие угрюмого ландшафта. Из окна своей
кельи отшельник видел, как эта длинная линия то
огибала заливы, то вновь взбегала на высокие мысы, и,
опоясывая далекое побережье, терялась за необъятным
горизонтом.
Эта мрачная местность не казалась Абеляру
слишком печальной: в душе у него было еще больше печали.
В его душе иссякли все источники радости; дым былой
славы давно от нее отлетел; даже образ Элоизы,
казалось, запечатлелся в ней лишь для горьких сожалений и
скорбного раскаяния. Однако в своем уединении, унылое
однообразие которого не нарушалось ни одним мирским
звуком, прославленный кающийся грешник беспрестанно
обращался к самому себе, воскрешая в своей памяти
заблуждения прошлой жизни; мало-помалу он постиг
всю тщету земной славы, всю пустоту земных утех и все
больше проникался сознанием ничтожества дел
человеческих. Затем, тревожась за Элоизу, чьи пламенные
письма говорили о том, что она не раскаялась, он стал
вновь обретать свой благочестивый пыл; священная
боязнь за нее пробудила в нем былую стойкость,
восстановила угасавшие силы. И этот человек, столь же
великий, сколь и несчастный, поставил перед собой
трудную задачу: очистить свою душу, разорвать узы, еще
привязывающие его к земле, и вознестись к небесным
высотам, увлекая за собой свою подругу. Вот тогда-то
38
Библиотека моего дяди
Абеляр написал Элоизе свое знаменитое письмо, в
котором, — выйдя победителем в трудной борьбе, —
протянул ей руку помощи, ободрил ее усилия, поддержал ее
первые шаги и сквозь пыльную завесу, нависшую над
гробницами, открыл перед ее взором сияющий отрадный
свет небес.
«Элоиза, в этом мире я больше не увижу тебя, — так
пишет он в заключение своего письма, — но, когда
предвечный, в чьих руках находятся наши дни, оборвет нить
моей несчастной жизни, что по всей вероятности
случится раньше, чем закончится твой земной путь. ..
тогда, я прошу тебя, где бы ни нашел я свою смерть,
сделай так, чтобы мои останки перевезли в Параклет и
похоронили подле тебя. Тогда, Элоиза, после стольких
страданий мы с тобой соединимся навек1, не зная ни
греха, ни опасностей, ибо страх, надежды,
воспоминания, угрызения совести — все исчезнет, как летящая
пыль, как дым, растаявший в воздухе, и от наших
былых заблуждений не останется и следа. Взирая на мое
мертвое тело, ты сама, Элоиза, з&глянешь в свою душу
и поймешь, сколь безрассудно ради греховной страсти
предпочесть горстку праха, бренную плоть —
презренную добычу червей — всемогущему вечному богу,
который один лишь может ниспослать нам блаженство и
жизнь бесконечную».
Я давно кончил чтение этой истории, но она не
выходила у меня из головы. С раскрытою книгой на
коленях, глядя на пейзаж, озаренный золотыми лучами
заходящего солнца, я мыслями был в Параклете,
бродил вокруг его стен, следил взором за мелькавшей
в темных аллеях печальной Элоизой, и, полный
сочувствия к Абеляру, вместе с ним всею душой любил его
/. Два узника 39
несчастную возлюбленную. Эти образы вскоре слились
со зрелищем природы, поразившим мой взор, так что,
не покидая старинного кресла, я перенесся в лучезарный
мир нежных и поэтических чувств.
К мечтаниям, навеянным чтением, знойным вечерним
воздухом и прекрасным видом, открывавшимся из моего
окна, примешивались и другие впечатления. Сквозь
невнятный шум города — шум улиц, ремесленных
мастерских и порта — ветер доносил до моего слуха
замирающие звуки шарманки. Очарование этой далекой
мелодии обострило мои чувства: все, что я видел, обрело
более отчетливые черты, а вечер — особенную
прозрачность и чистоту; какая-то необыкновенная свежесть
разлилась во всем мироздании и, воспарив в небесной
лазури, я наслаждался в своем воображении ароматом
тысячи разнообразных цветов.
Незаметно я отдалился от Элоизы; я покинул ее
тень под старыми буками и готическими сводами;
переплыв через века и потеряв из виду голубые вершины
прошлого, я приблизился к более знакомым берегам,
к своему времени, к людям, живущим рядом со мной.
И, когда шарманка умолкла, я вернулся к
действительности; увесистый том, лежавший на моих коленях,
утратил для меня свой интерес и, поднявшись с кресла, я
машинально поставил книгу на полку...
Как уныло тянутся часы после сильных душевных
волнений, как горестно возвращаться из ослепительной
страны вымысла к постылым берегам действительности!
Вечер показался мне печальным, моя
тюрьма—ненавистной, моя праздность — тяжким бременем.
Бедное дитя, ты жаждешь чувствовать, любить и
жить, дыша воздухом поэзии, но, изнемогая от
собственных усилий, ты падаешь с облаков. Как мне жаль тебя!
40 Библиотека моего дяди
как много разочарований тебя ждет! много раз душа
твоя, чувствуя в сладостном упоении, будто у нее
выросли крылья, устремится прочь от земли, чтобы
взлететь в небеса; но всякий раз тяжелая цепь остановит
твой полет, и так будет всегда, покуда душа твоя,
наконец, не смирится и, покорившись ярму, не
поплетется дальше своею житейской тропой.
К счастью, я былкеще далек от этого, ибо не сойдя
со своей житейской тропы, я встретил на ней молодую
особу, которая, затронув все мои чувства, продлила
очарование моей мечты. Я не замедлил превратить ее
в мою Элоизу, но не мятущуюся, а безмятежную, не
грешную, но столь же чистую, сколь и прекрасную.
И словно она была рядом со мной, я обращался к ней
с самыми красноречивыми и самыми пылкими
тирадами. ..
Читатель понял, что я был влюблен. Влюблен уже
целую неделю, но вот уже шесть дней, как я не видел
предмета моей любви.
Как все несчастливые влюбленные, я в первые дни
тешил себя надеждами. Потом я пытался развлечься, но,
как это можно было заметить, весьма неудачно. Затем,
попав в заточение, я с самого начала моей праздной
жизни отнюдь йе забывал о своих сердечных делах. Но
в этот вечер моя страсть, разгоревшись под действием
прочитанной мной романтической истории, не могла
удовольствоваться пылкими тирадами и толкнула меня на
отчаянный шаг.
Надобно знать, что мне стоило лишь проникнуть
в комнату, которая была надо мной, и я мог увидеть
свою любимую! .. В этот час она была там одна. . . Окно
открывало мне путь к ней по крыше.
/. Два узника
41
Соблазн был неодолим, тем более, что я уже был
на крыше. Я присел, чтобы набраться храбрости и
освоиться со своим планом, ибо начало его исполнения
так сильно меня взволновало, что я готов был вернуться
обратно. Но в эту минуту самым срочным делом для
меня было стать совсем незаметным, и я лег на
крышу. .. Я увидел на улице г-на Ратена!
Немного придя в себя после этого сокрушительного
удара, я осмелился поднять голову, чтобы хоть
что-нибудь увидеть за выступом крыши... Г-на Ратена не
было и в помине! .. Верно, он поднимается сейчас по
лестнице и через минуту застанет меня в поисках
любовной интрижки. Ах, как я раскаивался, как огорчался,
как глубоко сознавал всю чудовищность моей вины! .,
Но едва г-н Ратен опять показался на улице, как
исчезли и мои муки совести и сознание моей
чудовищной вины. Г-н Ратен перешел дорогу и спокойно
зашагал, удаляясь от меня.
Скоро я потерял его из вида, но я понял, что мне
нельзя оставаться на месте, не рискуя быть
замеченным из тюремного окошка, куда я со страхом
заглядывал со своей высоты. Итак, торопясь, пока еще не
стемнело, я снова продолжал свой путь и, сделав
несколько шагов, очутился у желанного окна. Оно было
открыто...
Сердце мое сильно билось, ибо я все-таки был не
вполне уверен, что моя возлюбленная сейчас одна. Я
еще колебался, как вдруг услышал: «Входите! не
бойтесь, вас не выдадут, славный юноша!»
Это был голос узника. После первого его слова, я,
совершенно растерявшись, быстро прыгнул в окно и
упал на плечи красивой, богато одетой дамы, которая
вместе со мной грохнулась на пол.
42
Библиотека моего дяди
Не могу описать, что произошло в первую минуту
после нашего падения, ибо я был потрясен. Когда я
пришел в себя, меня поразило прежде всего то, что
дама, распростертая лицом вниз на полу, не издала ни
крика, ни стона. Я приблизился к ней почти ползком:
«Сударыня», — тихо сказал я ей изменившимся
голосом. ..
Ответа не последовало.
«Сударыня!!!»
Молчание.
Вот какое страшное произошло событие! Почтенная
дама мертва. ., и убил ее школьник! Мой критик
скажет, что я умышленно сгущаю краски в угоду ложному
новейшему вкусу. Не спеши высказываться, критик!
Дама эта была манекеном. Я был в мастерской
живописца. Скажи что-нибудь другое, критик!
Я начал с того, что поднял даму, но прежде,
естественно, встал на ноги сам. Глупейшая улыбка не
сходила с ее румяного лица, хотя нос ее серьезно
пострадал. Я кое-как. подправил его, но бедствие было
слишком велико, чтобы я мог долго останавливаться на
такой малости.
Дело в том, что дама стукнулась носом о горшок
с масляной краской; потеряв равновесие, горшок упал,
и по комнате рассыпались кисти, пузырьки, палитра,
растеклась масляная краска. Я хотел было навести
порядок среди всего этого, но бедствие было слишком
велико, чтобы я мог долго останавливаться на такой
малости.
В самом деле горшок с масляной краской, падая,
задел за ножку дуралея-мольберта, который сначала
закачался и в конце крнцов тоже решил упасть, угодив
прямо в грудь красавцу-мужчине, висевшему на гвоз-
/. Два узника
43
дике и глядевшему на нашу суету. Гвоздик полетел
вслед за мужчиной, а тот — вслед за мольбертом, и
все они вместе обрушились на лампу, которая разбила
зеркало и опрокинула чайник.
Разгром был ужасающий, сущее столпотворение, а
дама все улыбалась.
Во время этой катастрофы под воздействием столь
сильных и столь неожиданных потрясений моя любовь
претерпела некоторый ущерб. Пока я обдумываю свое
положение, воспользуемся этим временем, чтоб
рассказать, в кого я был4 влюблен, и как это со мной
случилось.
Над моей комнатой, этажом выше, проживал
живописец, весьма искусно писавший портреты. Он
отличался большим талантом изображать людей похожими
на себя и в то же время — красивыми. О, как хорошо
тому, кто так умеет работать! Какою чудесной
приманкой он обладает! На эту приманку попадаются карпы,
щуки, караси и даже выдры и тюлени, попадаются по
доброй воле, не жалуясь на крючок и испытывая
благодарность к рыболову!
Вспомните о ростке тщеславия! Как только вы
сколотили себе состояние и разбогатели, одним из первых
советов, какой он вам подаст, это — не правда ли? —
воспроизвести на полотне вашу интересную,
оригинальную, одним словом, весьма приятную физиономию. Не
говорит ли он вам, что вы должны сделать сюрприз вашей
матушке, вашей супруге, вашему дяде, вашей тетке? Если
их нету в живых, не говорит ли он вам, что надобно
поощрять искусство и помочь бедняку заработать? Ежели
бедняк этот богат, разве нельзя найти тысячу других
подходящих предлогов? Украсить стену, повесить что-нибудь
44
Библиотека моего дяди
для симметрии. .. Чего же в конце концов хочет этот
росток? Он хочет, чтобы вы увидели себя на картине
красивым, завитым, нарядным, в тонком белье, в
лайковых перчатках; но больше всего он хочет, чтобы на
вас смотрели, вами любовались, узнавали ваши черты,
а по ним — и ваше богатство, и ваше знатное
происхождение, и ваш талант, и вашу чувствительность, и ваш ум,
и вашу проницательность, и вашу щедрую
благотворительность, и ваш умелый выбор чтения, и ваш тонкий
вкус и множество других превосходных качеств,
которые делают вас совершенно особенным существом,
наделенным уймою замечательных достоинств, не считая
недостатков, но даже и они являются вашими ,дост"оин-
ствами.
Всего этого желает росток тщеславия, и нужно ли
удивляться, что ради вашего отца, вашей матери, вашей
супруги и ваших детей он настаивает, чтобы вы
позировали, снова позировали и еще раз позировали
живописцу? Я бы скорее удивился, если бы дело обстояло
иначе.
Искусство портрета теснейшим образом связано
с теорией ростка тщеславия, и многие живописцы,
незнакомые с ней, кончали жизнь на больничной койке.
Они изображали щуку щукой, кита — китом. Великие
живописцы, но плохие портретисты. Публика
отворачивалась от них, и они умирали с голоду.
Мой живописец писал портреты всякого рода важных
особ, и не проходило дня, чтобы у его дома не останав-
ливались роскошные экипажи, подолгу дожидаясь своих
хозяев. Я восхитительно проводил время, разглядывая
великолепных лошадей, отгонявших от себя мух, и
слушая как кучера свистят или щелкают бичами. Хотя из
&UC10 окна я не мог видеть лиц особ, выходивших из
/. Два узника
45
экипажей, но мне было точно известно, что дня через
два или три, я смогу любоваться их чертами, сколько
мне будет угодно.
Дело в том, что живописец имел обыкновение
между сеансами выставлять портреты на солнце,
подвешивая их к двум железным прутьям, специально для этого
прибитым к его окну. Как только портреты туда
попадали, мне стоило поднять глаза, чтобы оказаться в
прекраснейшем обществе лордов и баронов, герцогинь и
маркиз. Все эти господа, висевшие на гвоздях, смотрели
друг на друга, смотрел на них и я, и все они смотрели
на меня.
. В прошлый понедельник, заслышав стук колес
подъехавшего экипажа, я прибежал на свой пост. Это была
щегольская карета: четверка лошадей, нарядная упряжь,
ливрейные лакеи. Экипаж остановился, и из него вышел
немощный старец, почтительно поддерживаемый двумя
слугами. Чтобы узнать его, когда он попадет в
картинную галерею, я отметил, что у него голая макушка и
серебристые волосы.
Вслед за стариком из кареты вышла молодая
девушка. Оба лакея посторонились, и старик, опираясь на
руку девушки, медленно вошел в парадный подъезд; за
ними вприпрыжку побежал большой спаньель.
Эта сцена взволновала меня, однако не столько
потому, что вид юной и красивой девушки, служащей
опорой старости, сам по себе трогателен, сколько потому,
что в этой юной нимфе, украшенной всем, что выгодно
обрамляет красоту и грацию, я, — постоянно думавший
о нежных чувствах, — увидел воплощение своей смутной
мечты о той, к кому влеклись неясные желания и
безотчетные порывы, с недавних пор тревожившие мое
сердце.
46
Библиотека моего дяди
Еще одна особенность, пленившая меня в этой
молодой девушке, придавала ей необычное очарование: она
была чрезвычайно скромно одета. Простая соломенная
шляпка, простое белое платье — таков был ее наряд,
хоть она и была окружена всеми признаками роскоши.
Тем не менее она была так изящна и грациозна, что
я думаю, очутись она где-нибудь в глуши, без этого
пышного обрамления, я бы не ошибся, признав по ее
осанке, походке и всему ее облику, что она богата и
знатна, и даже догадался бы о самоотверженности,
заставившей ее пренебречь поклонением молодых людей,
чтобы заботливо водить под руки старика.
К тому же, сказать ли? Я был уже избалован тем
обществом, на которое смотрел из своего окна: высокие
чины, богатство, изящество, тонкий вкус, хорошие
манеры, умение одеваться — все это неотразимо привлекало
меня. Глядя на этих особ, я утратил всякую приязнь
к обыкновенному, заурядному, к людям моего класса,
к себе подобным; и если, говоря по правде, любая
молодая девушка могла взволновать меня в каком бы
платье она ни явилась, то внешний вид именно этой
девушки должен был вдохнуть в меня пламенную,
безграничную страсть.
Так оно и случилось, и я сразу влюбился в эту
юную Антигону 31. Впрочем моя страсть была столь
чистой и невинной, что мне и в голову не приходило
спросить себя, не была ли эта девушка одной из тех
Калипсо, о которых мне постоянно толковал г-н Ратен.
Как ошибаются те, кто думает, будто любовь школьника,
лишенная надежды и цели, не может быть пылкой и
преданной.
Такие люди никогда не были школьниками, а если и
были, то сильными только в знании неизменяемых ча-
/. Два узника
47
стей речи и относительных местоимений; они были
школьниками с отличной памятью, весьма понятливыми,
благоразумными, со спокойным сердцем, ограниченным
воображением и трижды в году получали награды; они
были образцовыми школьниками, образцовыми по
мнению г-на Ратена, и обещали в будущем стать господами
Ратенами.
Теперь они стали чиновниками, адвокатами,
бакалейщиками, поэтами, учителями, продавцами табака, и
где бы они ни были — в табачном ли киоске, на кафедре,
в банке, или на Парнасе — они всегда являются
образцовыми чиновниками, образцовыми бакалейщиками,
образцовыми поэтами, образцами для подражания, только
лишь образцами, не больше и не меньше, и одно это
уже превосходно!
Если вы думаете, что любовь моя не была пылкой
и преданной, потому что не сулила мне ничего, кроме
безумных восторгов; если вы думаете, что я не
пожертвовал бы для нее всем, хотя не мог ждать от нее
ничего, ах! как глубоко вы ошибаетесь! За один взгляд
этой прелестной девушки я бы отдал г-на Ратена; за
одну ее улыбку я бы швырнул в огонь четыре
экземпляра Эльзевиров, хранящихся в библиотеке Ватикана.
Они поднимались по лестнице; когда они прошли
мимо моей двери, я потихоньку ее приоткрыл, и в мою
комнату тотчас же устремился веселый,
жизнерадостный, ласковый спаньель.
Это было чудесное животное! Не только красота и
поразительной чистоты шелковистая шерсть этой
собачки, все в ней — повадка, движения и даже нрав —
имело в себе нечто изящное и милое; так что, позабыв
о различии нашей природы, я поймал себя на том, что
48
Библиотека моего дяди
смотрел на нее с некоторой завистью; я смотрел на нее,
как на собачку из светского общества, как на собачку,
близко знакомую с особами столь высокого ранга, что
они могли лишь снисходительно принимать знаки моего
уважения, и, самое главное, я смотрел на нее, как на
собачку, любимую прекрасной девицей, для которой
я был никем. По имени, вырезанном на ошейнике, я
понял, что хозяйка спаньеля была англичанка.
Когда спаньель убежал, мне осталось только
прислушаться к тому, что происходило наверху, и я тихонько
подошел к окну. Живописец и старик вели беседу
между собой, а юная мисс молчала.
«Вам придется, сударь, — сказал старик, —
изобразить очень грустное лицо, и так как этой копии
суждено в довольно скором времени пережить свой
оригинал, было бы желательно придать ей менее мрачное
выражение, ибо мне не хотелось бы пугать моих внуков.
Разумеется, — продолжал он с доброй улыбкой, —'Я не
из тщеславия вздумал заказать свой портрет в том
возрасте и в том состоянии, в каком я сейчас нахожусь; но
я думаю, что большинство ваших заказчиков избирает
для этого более подходящее время.
— Не всегда, сударь,— возразил живописец.—
Лицо, внушающее столько почтения, как ваше,
встречается быть может более редко, чем юные и свежие лица.
— Вы мне делаете комплимент, сударь, я его
принимаю. Мне уже недолго осталось их выслушивать...
Люси, я тебя огорчаю, мое дорогое дитя, но неужели ты
не можешь смотреть в будущее так же спокойно, как
твой отец. Ну, скажи, пожалуйста, кого из нас двоих
придется больше жалеть, когда мы расстанемся?
Призываю вас в судьи, сударь!
/. Два узника
4P
— Прошу прощения, сударь, но мне как и вашей
дочери кажется, что разлука должна пугать вас обоих,
так что лучше стараться не думать о ней.
— Вот именно это я называю слабостью, и от нее
то и хотел бы исцелить мою дочь. Я извиняю эту
слабость, когда смерть, обманывая законные надежды,
поражает цветущую юность, похищая у нее лучшие годы.
Но, когда смерть настигает нас в назначенный срок...
когда она подобна сну после дневных трудов... когда
отец до последнего вздоха наслаждается нежностью
любимой дочери и мечтает лишь о том, чтобы заснуть
у нее на руках, такая ли уж это печальная картина,
чтобы стараться о ней не думать, и так ли уж
требуется много сил, чтобы ее созерцать? .. Люси, ну зачем
эти слезы? .. Постарайся, дитя мое, смотреть на все это,
как я... и наши дни будут спокойны, и мы будем
получать от них радость до последней минуты... и горе
покажется нам не столь страшным, если посмотреть ему
прямо в лицо, не отягощая его еще более всем тем
зловещим и ужасным, что способны придать ему
воображаемые страхи и тщетное сопротивление. Простите,
сударь, — прибавил он, — но это предмет нашего вечного
спора с Люси, и если бы не портрет, который опять
навел меня на эти мысли, я бы не позволил себе
возобновлять здесь военные действия».
Я с восторгом прислушивался к этим словам, столь
поучительным для меня, и в то же время придававшим
еще больше прелести молодой девушке, окружая ее
ореолом печали и дочерней нежности. «Как! — думал я. —
Превосходные лошади, важные лакеи, карета, — вся эта
роскошь, способная удовлетворить самое непомерное
тщеславие, а царица, владеющая этим богатством,
проливает слезы и грустит при мысли, что она не всегда
4 Родольф Тёпфер
50
Библиотека моего дяди
будет преданно заботиться о своем престарелом отце!»
В тот же день портрет висел в картинной галерее.
Это был всего лишь набросок, но я без труда узнал
лицо благообразного старца... Оно занимало левую сто
рону полотна, с правой же стороны оставалось много
свободного места, и это произвело на меня плохое
впечатление.
Но когда во время второго сеанса картина исчезла
с выставки, хотя на этот раз юная мисс пришл'а одна,
я заключил, что свободное место оставлено для нее, и
теперь-то наконец мне удастся увидеть ее черты.
«Вы мне обещали, мадемуазель* — сказал
живописец, — принести эскиз той части парка, на фоне
которого ваш отец хотел видеть свой портрет.
— Я об этом не забыла, — ответила она, — эскиз
в карете».
Она подошла к окну: «John, bring me my album, if
you please! * ... Но я вижу, что Джона здесь нет», —
добавила она, улыбаясь.
Действительно, ее слуги, оставив лошадей на
попечении какого-то бедного малого, отправились перекусить
в соседнюю кофейню.
«Позвольте, я принесу!» — сказал живописец.
Но я его опередил и уже поднимался по лестнице,
прижимая к губам альбом юной мисс. Я надеялся
добежать до мастерской и хоть с порога взглянуть на ее
лицо, но по дороге встретил живописца. «Большое
спасибо! право, ты самый чудесный мальчик на свете:
такого я еще не видал». И он взял альбом у меня из
рук.
* Джои, принесите мне, пожалуйста, мой альбом {англ.).
/. Два узника
51
Я вернулся на свой пост менее поспешно, чем
покинул его и совершил большую сшшбку: я пропустил
слова, каждое из которых было для меня бесценно.
«... Какой любезный мальчик! Так он знает
английский язык?
— Очень хорошо. Обычно он служит мне толмачом
в переговорах с вашими соотечественниками. . . Славный
юноша! Жаль, что ему не суждено стать художником,
это так бы ответило его склонностям и дарованиям. . .»
Живописец встал. «Я хочу вам показать... —
продолжал он,— вот! Это эскиз, который он однажды
набросал из моего окна. . . взгляните: озеро, часть здания
тюрьмы. .. истрепанная шляпа, вывешенная, чтобы
прохожие бросали в нее милостыню, напоминает о
несчастном узнике, для которого эта прекрасная природа
невидима.
— Отличная композиция!—сказала она, — и сколько
в ней чувства! .. Но зачем подавляют склонность, столь
ярко выраженную?
— Это его опекуны: они хотят сделать из него
юриста.
— Опекуны! .. Значит он сирота?
— С давних пор. Кроме старого дяди, который взял
на себя заботу о его воспитании, у него никого нет.
— Бедное дитя!» — промолвила молодая англичанка
голосом, полным сочувствия.
Ее слова опьянили меня. Она меня пожалела; этого
было достаточно, чтобы я возгордился тем, что я
сирота, и самое большое горе моей жизни превратилось
для меня в блаженство.
О как бы я хотел еще задержать на себе ее
внимание! Но вместо этого высшего счастья она переменила
предмет разговора, и я узнал из нескольких слов, что
4*
52
Библиотека моего дяди
через неделю она возвращается в Англию. Что будет
со мной, когда я останусь с глазу на глаз с г-ном Ра-
теном? Я предался безутешной печали.
«Англия! чудесная страна, к которой плывут
корабли! Свежая зелень берегов, тенистые парки, куда
приходят юные мисс развеять свою грусть! .. А здесь
ничего не чарует моих глаз, здесь все так немило!»
И я равнодушно смотрел на озеро.
«Когда она будет далеко отсюда! .. . Когда ее
увидят другие страны! Когда в полуденный час она будет
ехать по пыльным дорогам, глядя на зеленые деревья,
на луга... о почему не будет меня ни на этих лугах, ни
под этими деревьями? .. Юная мисс, вы уезжаете? Ах,
почему я не держу под уздцы ее лошадей, и мне не
грозит опасность быть ими растоптанным? Она бы
испугалась за меня, она бы опять пожалела4 меня!» Мне
казалось, что без ее сочувствия не стоило и жить.
Сеанс закончился. Все время думая о ней, я с
жадным нетерпением ожидал, когда портрет появится в
галерее; но наступил вечер, а портрета все не было, и
следующие дни прошли в таком же бесплодном
ожидании. И вот, очутившись однажды у окна, я не смог
устоять перед желанием проникнуть в мастерскую
живописца, чтобы разглядеть черты той, которая царила
в моем сердце. Читатель видел, какая за этим
последовала катастрофа, и как я оказался среди всех
разрушений, погруженный в раздумье. Я продолжаю свой
рассказ.
На этот раз я отчетливо сознавал, что погиб
безвозвратно. Мало того, что я повинен во лжи и в порче
Эльзевира, я вдобавок взломал дверь, читал
запрещенные книги, убежал из своего заключения, вылез на
крышу, учинил разгром в мастерской живописца, пова-
/. Два узника
53
лил манекен, продырявил картину! .. Ужасная цепь
преступлений, первое звено которой держал в своих руках
г-н Ратен, а именно — мой беспричинный смех.
Что делать? Навести порядок, все исправить,
поставить на место? Невозможно: содеянное зло было
слишком велико. Сочинить какую-нибудь басню? Только что,
когда дело коснулось майского жука, я убедился, что
это не так просто. Покаяться? ни за что на свете!
Пришлось бы сознаться, что я влюблен, и я уже видел, как
при малейшем подозрении в подобной
безнравственности, вся стыдливость г-на Ратена ударит ему в голову,
и он уничтожит меня одним взглядом.
Я принял решение вернуться в свою комнату,
запереть за собой дверь и приняться за учение с большим,
чем когда-либо, рвением, как для того, чтобы отогнать
мой навязчивый страх, так и для того, чтобы изменить
о себе мнение г-ка Ратена. Он, бесспорно, будет
доволен моей нравственностью, если я представлю ему
обильную порцию тщательно выполненных уроков,
написанных хорошим почерком и говоривших об
отменном прилежании. Однако день клонился к вечеру, и я
решил отложить на несколько минут мой уход, чтобы
в темноте ускользнуть от взглядов узника, когда мне
придется снова пройти по крыше.
Я воспользовался этими минутами, чтобы
удовлетворить свое любопытство. После недолгих поисков я
нашел ее портрет; он был приставлен лицом к стене;
я приподнял его и поднес поближе к свету.
Портрет был почти закончен. Юная мисс сидела
в грациозной позе рядом с отцом, и ее нежная ручка
небрежно покоилась на шее красивого спаньеля. Древние
буки бросали тень на эту сцену, а в просвете между де-
54
Библиотека моего дяди
ревьями, высоко над морем, среди зелени газонов
виднелся прекрасный замок.
При виде этих изящных черт, одухотворенных
трогательным выражением кротости и печали, мной
овладели самые нежные чувства, но я тотчас же предался
горьким сожалениям о том, что я ничто для нее, и что
она скоро уедет. Не отводя от нее очарованного
взгляда, я твердил ей: «Почему, почему ты не моя
сестра? Какого нежного и покорного брата ты бы нашла
во мне! Вместе с тобой я бы нежно заботился об этом
старике! Как прекрасна зелень там, где ты! .. Как
чудесны были бы пустыни, если бы мы были вместе
с тобой!.. Люси!.. Моя Люси!.. Любимая моя!»
Стемнело. Я с грустью расстался с портретом и
мигом очутился в своей комнате, как раз в ту минуту,
когда мне принесли ужин и свечу.
В том состоянии возбуждения, в каком я
находился, я не чувствовал ни голода, ни желания спать;
я хотел лишь поскорей засесть за работу, чтобы
представить г-ну Ратену — в какой бы момент он меня ни
застал — явные доказательства моего трудолюбия и
полного исправления.
После Цезаря Вергилий; после Вергилия Бурдон32;
после Бурдона три страницы сочинения; после трех
страниц. .. я заснул.
Я был очень удивлен, когда на рассвете меня
разбудил чей-то голос, громко распевавший псалмы. Я
прислушался.., это был узник. ' Он продолжал петь уже
несколько тише и наконец умолк. Это благочестивое
занятие почти изменило мое мнение о нем в лучшую
сторону. «Вы хорошо поработали этой ночью?. . . — спросил
он меня после некоторого молчания.
Л Два цяника
55
— Вы так поете каждое утро? — перебил я его.
— С детства.. . как вы думаете, разве бы я мог без
утешения религии вынести мое несчастье?
— Нет. Я только удивляюсь, что религия не
удержала вас от преступления, которое привело вас
в тюрьму.
— В этом преступлении я не повинен. Бог допустил,
чтобы мои судьи впали в заблуждение; да свершится
воля божья! Я бы покорился судьбе, — прибавил он,—
если бы кроме пищи телесной у меня был бы и хлеб
для души. ., но yv меня нет Библии!
— Как! — воскликнул я.— Вам не позволяют иметь
Библию?
— Ничего не позволяют тому, кого считают
достойным презрения.
— Вы должны иметь Библию! Я хочу, чтобы у вас
была Библия! Я готов принести вам свою!
— Добрый юноша, — сказал он тоном, полным
признательности, — проникнуть ко мне? Невозможно. Да
я бы не согласился на это. Вид моего отвратительного
жилища не должен омрачить ваш взор... Но сказать ли,
что побудило меня к вам обратиться? Вчера, видя, как
поднимаются к вам на веревке пирожки, я подумал
с завистью: «Неужели не найдется сердобольной души,
которая таким же образом доставила бы хлеб жизни
бедному узнику?»
И вдруг меня осенила мысль: «У вас есть веревка?
— Провидение, — подхватил он, — позволило мне
иметь веревку, которую я сохранил лишь для этой
единственной цели...
— У вас будет Библия! — закричал я, перебив его,—
у вас будет Библия!!!»
56
Библиотека моего дяди
И, ликуя при мысли, что я в самом деле могу быть
полезен несчастному, я стал торопливо искать свою
Библию среди книг, которые накануне затолкал в шкаф.
В то время, как я занимался поисками, мне
показалось, что из тюрьмы до меня доносятся приглушенные
стоны. Я прислушался. «Это вы?» — спросил я узника.
Он ничего не ответил, но стоны становились все
громче и жалобнее.
«Что такое? Что с вами? — волнуясь, крикнул я.
— Ужасно больно. .. — отвечал он, — и ничем нельзя
помочь. Кандалы на одной ноге слишком тесны, и на
ней появилась опухоль. Железо врезается в - нее...
Ай,— вскричал он, прервав себя.
— Ну и как же вы, как же вы, бедняга?
— ... и причиняет мне ужасную боль. Я не спал
всю ночь и потому видел, как вы работали.
— Несчастный, и вы не попросили, чтобы вам.
помогли?
— Меня посещают только раз в пять дней...
Ай! .. еще три дня... и я попрошу их...
— О, как мне вас Жалко! А не могу ли я
чем-нибудь? ..
— Ничем! ничем! бедное дитя... Надо было бы...
но мне уже легче от того, что бы меня пожалели...
надо было бы... О! Ай! Ай! ..
— Что надо было бы?
— О боже милосердный! .. Кровь так и льется!
Если бы подпилить немного железо... ослабить...
— Напильник! — закричал я,— нужен напильник!
Подождите! в моей Библии»...
У меня был напильник (при моем знании латыни
я еще и столярничал подобно Эмилю)33, и я быстро
вложил его в Библию. Но, перевязав книгу бичевкой,
/. Два узника
57
я с отчаянием вспомнил, что я — взаперти. Между тем
узник продолжал причитать самым жалобным образом,
и его стоны раздирали мне сердце. Я уже подумывал
взломать замок моей двери, как вдруг увидел
старьевщика, проходившего по улице, и очень обрадовался.
«Слушай! — закричал я ему, — привяжи все это к
веревке, ты видишь, она висит на стене. Живее! живее!
надо помочь одному бедняге».
Старьевщик привяэдл сверток к веревке, и она
быстро поднялась вверх. В это мгновение отворилась дверь.
Это был г-н Ратен. Он застал меня за работой.
«Вчера, сударь, — сказал он мне, — я был так
возмущен вашим поведением, что забыл задать вам уроки на
эти. два дня...
— Я их сделал», — сказал я весь дрожа.
Г-н Ратен просмотрел сделанные мною уроки с
некоторым недоверием: уж очень это было неожиданно.
Затем, убедившись, что я действительно поработал
в моем заточении, он сказал:
«Я хвалю вас за то, что вы по собственному почину
избежали пагубного влияния праздности. Праздный
юноша способен на самые скверные поступки, ибо
находится во власти дурных мыслей, которые в вашем
возрасте осаждают ленивые умы. Вспомните Гракхов,
которые доставляли радость их матери34 потому лишь, что
с ранних лет были благонравны и прилежны.
— Да, сударь! — сказал я.
— Вы даже не нашли времени поесть? — продолжал
г-н Ратен, заметив, что моя пища осталась нетронутой.
— Нет, сударь!
— Я с радостью вижу действие глубокой печали,
которую вы должны были испытывать, вспоминая о вашем
вчерашнем поведении.
58
Библиотека моего дяди
— Да, сударь!
— И вы серьезно размышляли по этому поводу?
— Да, сударь!
— Вы хорошо поняли, что беспричинный смех довел
вас до забвения всякой почтительности?
— Да, сударь! (В эту минуту кто-то поднимался по
лестнице!)
— А потом и до греха лжи... (Дверь в мастерскую
живописца отворилась!)
— Да, сударь! (Послышался возглас изумления!!!)
— Что это за шум? ..
— Да, сударь!» (Раздались восклицания, громкие
крики, проклятия; я был близок к обмороку!!!)
Собрав, однако, все свои силы, чтобы отвлечь
внимание г-на Ратена от проклятий, доносившихся сверху,
я сказал ему:
«Когда вы покинули меня вчера...
— Подождите!» — перебил он меня, все
внимательнее прислушиваясь к тому, что происходило в
мастерской.
И верно: шум был ужасный.
— «Погибло! все погибло! — вопил живописец.—
Кто-то влез в окно»... Живописец подошел к окну.
«Жюль, ты со вчерашнего дня не выходил из своей
комнаты?
— Нет, сударь! — ответил, выступив вперед, г-н Ра-
тен, — и по моему приказанию.
— Черт побери! мою мастерскую разгромили,
картины уничтожили, мольберт поломали! .. ваш ученик
должен был все эт' слышать. ..
— Не откажитесь выслушать бедного
заключенного? — послышался голос из окошка епископской
тюрьмы, — я вс« видел, я все вам расскажу.
/. Два узника
59
— Говорите. ..
— Так знайте, сударь, вчера вечером на крыше
как раз перед вашим окном собралось большое
общество. Четыре кота и одна кошка. Вам известно, что
когда господа коты жаждут любовных утех...
— Покороче! — сказал г-н Ратен.
— ... они очень громко мяукают. А кошечка .была
кокетлива. ..
— Покороче, говорю вам, — повторил г-н Ратен, —
это к делу не относится.
— Прошу прощения, сударь, но если бы не кокетство
этой дамы и не ревность четырех кавалеров. ..
— Жюль, — сказал мне г-н Ратен, — выйдите на
минуту на лестницу!»
Я не заставил себя просить.
«... Все было бы тихо и мирно, — продолжал
узник. — Они как нельзя более нежно мяукали, но дама
никого не слушала и бархатной лапкой наводила лоск
на свою мордочку. Ни дать, ни взять Пенелопа среди
женихов. . .35
— А что потом? — спросил живописец. — Немного
побыстрее...
— А потом один из котов вдруг позволил себе
вцепиться когтями в морду другого поклонника, тому это
не понравилось, остальные вмешались, бах, трах! это
был сигнал: началась война не на жизнь, а на смерть!
Все слилось в сплошной шерстяной клубок, из которого
торчали когти и зубы. Это был, черт побери,
настоящий кошачий концерт. Пока коты дрались, Пенелопа
прыгнула в мастерскую, весь клубок за ней... Больше
я ничего не видел. Но слыша, какой шабаш там
происходил, я понял, что они должно быть опрокинули какой-
60
Библиотека моего дяди
то предмет, затем еще что-то свалили. Это было около
восьми часов вечера».
Меня очень унизила услуга, которую оказал мне
узник, тем более, что его наглая ложь после стольких
благочестивых фраз, его шутовской тон после стольких
жалоб на страдания сразу уничтожили сочувствие,
которое вызвал во мне этот человек. Я уверен, что если бы
не присутствие г-на Ратена, я бы нашел в себе силы
тут же изобличить его и во всем признаться живописцу.
Но в моем преступлении была замешана любовь, и
высокая добродетель г-на Ратена казалась мне огромным
зловещим утесом, о который при малейшем подозрении
с его стороны, я разобьюсь вдребезги.
В то время, как все это происходило, к дому
подкатила коляска; юная мисс и ее отец уже поднимались
по лестнице. «Сейчас у меня должен быть сеанс! —
в отчаянии вскричал живописец. — Узник, вы нам
рассказываете басни! Вот этот портрет я поставил лицом
к стене, а сейчас он повернут к свету. По вашему
мнению коты поворачивают портреты? Ко мне влезли, ко
мне влезли в окно! . . Жюль, ты что-нибудь видел?
— Жюль, прогоните собаку!» — приказал мне г-н Ра-
тен. Надобно вам сказать, что в это мгновение
прекрасный спаньель обнюхивал новый дождевой зонтик г-на
Ратена. Я поспешил прогнать собаку на чердак и таким
образом дать живописцу время забыть его роковой
вопрос.
Когда я вернулся, он и в самом деле был занят
своими посетителями, извиняясь перед ними за то, что
принимает их среди такого чудовищного беспорядка.
«Если бы вы не уезжали завтра, — сказал он, —
я попросил бы вас отложить на следующий раз
последний сеанс.
/. Два узника
61
— К сожалению мы не можем отложить наш
отъезд, — ответил старик, — но, ради бога, не стесняйтесь,
пусть наше присутствие не помешает вам в розысках
преступника». Тогда живописец сам поднялся на
крышу, желая оглядеться вокруг.
К счастью г-н Ратен, — бесконечно далекий от
мысли, что я мог принимать участие в этом деле, —
тщательно упаковав свой зонтик в чехол, снова подошел
к столу и стал перелистывать мои книги, отмечая
места, которые я должен был выучить. «Принимая во
внимание работу, которую вы мне представили, — сказал
он, — и ваше очевидное желание исправиться...» Тут
вошел живописец и, весь поглощенный своей м-ыслью,
спросил:
«У вас есть, кажется, еще одна комната, сударь?. .
А, вот она! Не были бы вы так добры открыть ее мне?
Вылезть на крышу можно только оттуда, и сейчас мы
посмотрим, как смогли проникнуть в мою мастерскую.
— Охотно, сударь», — ответил г-н Ратен. И, взяв
ключ из ящика, он вставил его в замочную скважину,
кое-как приведенную в порядок моими стараниями,
тогда как я, замирая от страха, делал вид, что усердно
тружусь.
В то время, как они приступили к осмотру, до меня
донесся шум из тюрьмы. Раздавались возбужденные
голоса, и моего слуха коснулось несколько зловещих слов;
часовой стоял на страже, двое прохожих остановились
узнать, чем кончится эта сцена.
«Вот веревка, — послышался чей-то голос.
— Напильник! напильник!—закричал кто-то еще.—
Смотрите, вот он под камнем.
— Да, это его носовой платок! — произнес в ту же
минуту г-н Ратен. — Возможно ли?.. Жюль!»
62
Библиотека моего дяди
Дверь была открыта. Я выбежал, спотыкаясь, желая
в эту минуту лишь одного — избавиться от
невыносимых мук стыда и страха. Пробежав шагов сто по улице
и, оглянувшись, я увидел честного старьевщика,
который входил в наш дом, показывая судебному чиновнику
дорогу в мое жилище; тут я ускорил свой бег, и,
свернув на соседнюю улицу, изо всех сил помчался к
городским воротам, через которые проскользнул не без
тайного трепета перед Жандармами, спокойно стоявшими
на своем посту.
Удаляясь все дальше от города, я имел время
поразмыслить о своем положении, которое казалось мне
безысходным. Возвратиться назад, значило наверняка
попасть не только в руки г-на Ратена, но и — жандармов,
и эта мысль внушала мне .панический ужас.
Подгоняемый этими размышлениями, я, не останавливаясь, достиг
луга, граничившего с Коппе, и присел, наконец, на
чужой земле 36.
Но даже в этом уединенном месте я не чувствовал
себя в безопасности от преследований правосудия.
Я беспрестанно поглядывал на большую дорогу и
каждый раз, когда коровы, осел или телега поднимали на
ней пыль, я воображал, что по моим следам уже
брошена во все стороны жандармерия. Тревога моя
возрастала, и я принял окончательное решение продолжать
свой путь до Лозанны, где жил тогда мой дядя.
И я снова пустился в дорогу.
В любом возрасте грустно быть изгнанником, но
каково это для ребенка, который находится так близко от
отчих мест! Не более трех миль отделяло меня от
родного города, но мне казалось, что затерявшись в
беспредельной вселенной, я навеки лишился всякой
поддержки, всякого пристанища. Итак я шёл с тяжелым
/. Два узника
63
сердцем по берегу озера, которое так недавно
улыбалось мне, когда я глядел на него из окна. Тоскливое
чувство все больше и больше овладевало мной по мере
того, как я продвигался вперед и страх мой ослабевал*
Раза два или три я присаживался на обочине дороги;
грусть моя была так велика, что я чуть было не
поддался искушению вернуться обратно и вымолить
прощение у моего учителя.
Но было слишком поздно. К тому же я прошел
столько, что был уже ближе к Лозанне, чем к Женеве,
ближ; к *гоему дяде, чем к моему учителю. Последнее
обстоятельство сильно меня ободрило; я успокоился и
снова начал думать о юной мисс и плести кружево
сладостных мечтаний, которые так пленяли меня еще вчера
в тот же самый час. Среди этой волшебной природы
образ моей возлюбленной казался моему сердцу еще
милее; он сливался с чистотой неба, нежными красками
гор, свежей прелестью берегов, и изгнание уже не
казалось таким печальным.
Сколько жизненной силы у юности! Нез'жели это
я о себе рассказал? Неужели это я был тем мальчиком,
который так легко шагал по берегу озера, глядя с
любовью на лазурные волны, на зеленые склоны Савой-
ских гор, на старинный замок Эрманс37 и наполнял
своим живым чувством все окружающее?
Когда наступили сумерки, я свернул с дороги в
поисках приюта у крестьян и получил его взамен
единственной монеты, которая у меня нашлась. Я разделил
с ними ужин н ночлег под деревенской крышей, а на
рассвете покинул их, чтобы продолжать дальше мой
путь.
Я убежал из дому без фуражки. Лучи восходящего
солниа обжигали мне лицо. Я останавливался под кры-
64
Библиотека моего дяди
тыми входами в дома подышать немного прохладой, но
взгляды фермеров и прохожих изгоняли меня из этих
убежищ. Я все время опасался, как бы причиною их
любопытства не было подозрение, что я совершил нечто
преступное, однако единственным поводом для этого
были мой возраст и мой странный наряд.
Пройдя тихую деревеньку под названием Алламан,
видишь слева великолепные дубы, образующие опушку
обширного леса. Если посмотреть, сидя в тени этих
деревьев, на гладь озера, то со стороны Валлиса38 взор
встречает величественные отроги Альп; если же
обратиться в сторону Женевы, то видишь мягкие очертания-
отдаленных вершин, в конце концов сливающихся с
небесною далью. Я не смог устоять перед очарованием
этого тенистого уголка и присел, чтобы съесть кусок
хлеба, который мне дали крестьяне.
Я думал о том, с какой радостью я скоро обниму
дядю. Это желание было так велико, так сильно, что
при одной мысли, что оно может не сбыться, я впадал
в отчаяние.
«Дядюшка, добрый мой дядюшка! — говорил я себе,
растроганный до глубины души, — только бы мне вас
увидеть, только бы поговорить с вами. .. быть с вами
вместе!»
В это мгновение по большой дороге проехала карета,
запряженная шестеркой почтовых лошадей, подымавших
своим галопом вихрь пыли. Кучер хлопал бичом, слуги
безмятежно спали на своих сиденьях. Карета, проехав
мимо, вдруг остановилась шагах в двустах от меня, и
слуга, выйдя из нее, направился в мою сторону.
Я уже собрался удирать, но узнал Джона, слугу
юной мисс. «Это вы тот самый молодой человек, —
/. Два узника
65
спросил он, — который исчез вчера из дома, что
находится близ собора святого Петра?
— Да, — сказал я.
— В таком случае, следуйте за мной!
— Куда?
— К карете. Нечего сказать, напугали же вы
вашего учителя! Идите!
— А где мой учитель?
— Он вас ищет на всех дорогах. Эх вы, озорник!»
Услышав это, я заподозрил, что в числе других
пассажиров в карете едет и г-н Ратен; я уже было
отказался пойти за Джоном, как вдруг увидел издалека
белое платье, выходившее из кареты. Я тотчас же побежал
навстречу к юной мисс, чтобы ей не пришлось идти по
пыльной дороге; но когда я приблизился к ней, стыд и
волнение замедлили мои шаги, и я остановился на
некотором расстоянии от нее.
«Вы господин Жюль, не правда ли? — приветливо
спросила она.
— Да, сударыня!
— О! как обожгло вас солнце! Садитесь, прошу вас,
в карету.. . Ваш учитель очень встревожен, и я так
рада, что мы вас встретили. . .
— Садитесь с нами, дружок, — сказал старик,
высунув голову в дверцу кареты, — садитесь! мы немного
поговорим о вашем деле... Вы наверное устали?»
Я сел в карету, и она тотчас понеслась дальше.
Я был в упоении, которое лишило меня дара речи.
Счастье, замешательство, стыд заставили сильнее биться
мое сердце, и мое обожженное солнцем лицо
заливалось краской. В руке я еще держал ломоть черного
хлеба.
3 Родольф Гёпфер
66
Библиотека моего дяди
«Как вижу, вы, наверное, не очень-то плотно
поели, — сказал мне старик. — В какой гостинице вы
переночевали?
— У крестьян, сударь, они меня приютили прошлой
ночью.
— А куда собрались вы идти сегодня вечером?
— В Лозанну, сударь!
— Так далеко! — воскликнула юная мисс. — Да еще
с непокрытой головой?
— Я бы пошел еще дальше! Пошел бы куда угодно,
лишь бы увидеть моего дядю!» И слезы выступили
у меня на глазах.
«У него больше никого нет», — сказала она своему
отцу. И она остановила на мне ласковый взгляд, в
котором воплотились все самые смелые мечты, каким я
предавался, сидя у моего окна.
«Дитя мое, — сказал добрый старик, — вы поедете
с нами до Лозанны, и там мы сдадим вас с рук на
руки вашему дяде. Вы совершили безрассудный
поступок, но почему вы так испугались?
— Ведь это я, сударь, дал арестанту напильник.
Он ужасно мучился, поверьте мне! Я дал ему
напильник только для того, чтобы он немного расслабил
кандалы на ноге.
— Ну что же! Я вижу в этом лишь побуждение
доброго сердца. В вашем возрасте не обязательно знать,
что арестант просит напильник лишь для одной
надобности. Но вы ничего не говорите о мастерской
живописца. А ведь это были вы, не правда ли?
— Да, сударь. Я бы признался в1 этом живописцу,
дяде, вам... но я боялся г-на Ратена.
/. Два узника
67
— Г-н Ратен такой страшный человек? Но все-таки,
что вы сооирались там делать? Это вы повернули
портрет моей дочери?»
Я покраснел до ушей. Он засмеялся: «Ого, дело
принимает серьезный оборот! Ведь не на мой же портрет
вы хотели посмотреть! Люси, тебя это должно
рассердить!
— Нисколько, отец!—сказала она, улыбаясь своей
пленительной улыбкой. — Я знаю, что господин Жюль
любит искусство. Он сам талантливо рисует. Вполне
естественно, что ему захотелось посмотреть работу
искусного живописца.
— Люси, — возразил старик с лукавой ноткой в
голосе, — тебе тоже не обязательно знать, что когда
поворачивают картину с твоим изображением, то скорее
всего для того, чтобы посмотреть на тебя. ..»
Заметив, как я застыдился, он прибавил: «Не
краснейте, дитя мое, поверьте, я уважаю вас от этого не
меньше, а моя дочь прощает вас. Не правда ли Люси?»
Эти слова вызвали легкое замешательство кое у кого
в карете и больше всего у меня. Но вскоре я сумел
ответить на все вопросы этих славных людей. После всего
сказанного, я заметил, что старик проникся еще
больше сердечной веселостью, а юная мисс стала несколько
сдержанней, но не утратила сочувствия к моей судьбе.
Я же не сводил с нее глаз и, глядя на нее в упоении,
был на седьмом небе от восторга.
Мы приблизились к городу: «Ваш дядюшка станет
бранить вас? — спросил меня старик.
— О, нет, сударь! .. И потом, я буду так счастлив,
увидев его, что меня это не огорчит.
— Милый ребенок!—сказала Люси по-английски.
5»
68
Библиотека моего дяди
— Тем не менее я сам хочу сдать вас ему с рук на
руки! Улица Дубов, вы говорите? Джон! Остановите
на улице Дубов, № 3!»
Больше всего я боялся, что мы не застанем моего
дядю Тома. Но, когда карета остановилась, маленький
мальчик, стоявший на улице, сообщил, что он сейчас
дома. «Попроси его спуститься к нам, — сказал я
мальчику.
— Нет, мы сами поднимемся к нему, — возразил
старик.
— Это высоко?
— На втором этаже», — ответил мальчик.
И так же, как это было у жилища живописца, юная
мисс взяла отца под руку и вошла с ним в подъезд.
Я же в это мгновение готов был целовать следы ее ног.
Мой дядя только что вернулся домой. Едва увидев
его, я подбежал к нему и бросился в его объятия. «Это
ты, Жюль!» — воскликнул он. Но, осыпая его ласками,
я не в силах был ответить.
«Ты явился без фуражки, дитя мое, но, как я вижу,
в хорошем обществе. Сударыня и сударь, соблаговолите
присесть!» Я отпустил руку дядюшки, чтобы
придвинуть гостям стулья.
«Мы хотим лишь, сударь, — сказал старик, — с
почтением передать в ваши руки этого ребенка, виновного,
по правде говоря, в легкомыслии, но чистого душой.
Он сам вам расскажет, благодаря каким
обстоятельствам он стал, к нашему удовольствию, нашим дорожным
товарищем, и почему мы взяли на себя смелость
представиться вам. Прощайте, мой друг, — сказал он,
протянув мне руку, — вот вам моя визитная карточка, чтобы
вы знали, где меня найти, если когда-нибудь доставите
мне удовольствие, прибегнув к моей дружбе.
//. Библиотека
69
— Прощайте, господин Жюль. ..» — прибавила
милая молодая девушка. И подала мне руку.
Со слезами на глазах смотрел я им вслед.
Вот каким образом я вновь обрел моего доброго
дядю Тома. Через несколько дней мы вернулись в
Женеву и дядя избавил меня от г-на Ратена. Так
началась моя юность. В следующей главе я расскажу о том,
как три года спустя она окончилась.
//. Библиотека
Чтобы я с пользой провел каникулы, дядя
посоветовал мне прочитать сначала Гроция *, потом — Пуффен-
дорфа2, а затем приняться за Бурламаки3,
затерявшегося в данный момент в дядиной библиотеке. Итак,
утром я поднимаюсь, подхожу к столу, усаживаюсь, кладу
ногу на ногу, потом открываю книгу на том месте, где...
и вот что со мной происходит.
Через полчаса мысли мои, так же, как и взоры,
начинают блуждать, обращаясь то влево, то вправо.
Сначала они задерживаются на полях тома ин-кварто; я
стираю с них желтое пятнышко, сдуваю пылинку, с
великими предосторожностями снимаю соломинку; затем
я обращаю внимание на крышечку от чернильницы: в ней
столько достопримечательных особенностей, и каждая из
них так меня занимает, что я, положив перо на
подставку, начинаю вертеть эту крышечку во все стороны,
от чего получаю невыразимое удовольствие. Потом
я удобно прислоняюсь к спинке моего кресла и, скрестив
руки над головой, вытягиваю вперед ноги. Сидя в такой
позе, мне трудно не насвистывать какой-нибудь
мотивчик и в то же время не следить вполглаза за мухой,
70
Библиотека моего дяди
которая бьется об оконное стекло, стремясь вылететь на
свободу.
Однако, когда мои суставы начинают деревянеть,
я встаю и, заложив руки в карманы, совершаю
прогулку, которая заводит меня в глубь комнаты.
Натолкнувшись на темную стенку, я, естественно,
направляюсь обратно к окну и необыкновенно искусно выбиваю
кончиками пальцев барабанную дробь на стекле. Вон
проехала телега, залаяла собака, или же вообще ничего
не произошло; но я должен все видеть. Я открываю
окно. .. Очутившись у окна, я остаюсь там надолго.
Смотреть в окно! Вот подходящее занятие для
студента! Я имею в виду — прилежного студента, который
не посещает кабачков, не якшается с лоботрясами. О
какой это славный студент! Он — надежда своих
родителей, они знают, как он благоразумен, как усидчив; он
не мозолит глаза своим учителям, шатаясь по улицам и
площадям, они не видят его за карточным столом и
с удовлетворением предсказывают, что этот юноша
пойдет далеко. В ожидании этого будущего, он не отходит
от окна.
Он... скажу без ложной скромности, это — я.
У окна я провожу целые дни, и если бы я посмел
утверждать. . . Нет, ни мои учителя, ни Гроций, ни Пуф-
фендорф не дали мне и сотой доли того, чему я
научился вот здесь, глядя на улицу.
Тем не менее и здесь, как и повсюду, все делается
не сразу, а постепенно. Сначала просто бездельничаешь,
глазеешь вокруг, обращаешь внимание на соломинку,
дуешь на перышко, любуешься паутиной или метишь
плевками в какую-нибудь из плит мостовой. Эти
занятия отнимают, смотря на степени их значительности,
целые часы. Я не шучу. Представьте себе человека, кото-
//. Библиотека
71
рый через это не прошел. Кто он? Кем он может стать?
Глупцом, расчетливым материалистом, лишенным мысли
и чуждым поэзии, который идет без остановки по
жизненному пути, никогда с него не сбиваясь, ни разу не
оглянувшись, не свернув в сторону. Это автомат,
шагающий от колыбели до могилы, подобно паровой
машине, которая движется от Ливерпуля до Манчестера 4.
Да, проводить время в безделии необходимо, хоть бы
раз в жизни, особенно в восемнадцать лет, когда
только что кончил школу. Это занятие освежает душу,
иссохшую над книгами. Душа делает остановку, чтобы
заглянуть в себя; она перестает жить чужой жизнью,
чтобы начать жить своей собственной. Да, лето,
проведенное таким образом, не кажется мне бесполезным
в системе заботливого воспитания. Возможно даже, что
одного лета недостаточно, чтобы стать великим
человеком. Сократ бездельничал годами; Руссо — до сорока
лет; Лафонтен — всю жизнь.
Однако я не нашел этого правила ни в одном труде,
посвященном делу воспитания.
Занятие, о котором я говорил, является основой
всякого солидного, хорошо поставленного обучения. В
самом деле, чувства находят в нем свою невинную пищу,
ум сначала обретает успокоение, а потом — склонность
наблюдать.
Что же делать, глазея, если не наблюдать} 5
Затем мало-помалу, сам того не ведая, ум усваивает
привычку классифицировать, согласовывать, обобщать.
И вот он самостоятельно вступает на путь философии,
рекомендованный Бэконом6, и по которому последовал
Ньютон, когда, прогуливаясь без цели по саду, он
увидел падающее яблоко и открыл закон всемирного
тяготения.
72
Библиотека моего дяди
Студент, стоя у окна, поступает таким же образом;
он не открывает закона всемирного тяготения, но когда
он смотрит на улицу, ему приходит в голову множество
идей, и какие бы они ни были, — новые или уже всем
известные, — для него по крайней мере они новые,
следовательно, он не потерял времени даром.
И когда они сталкиваются со стдрыми,
заимствованными идеями, в голове у студента рождаются открытия;
и так как по самой натуре своей он не может долго
колебаться между всеми, особенно между
противоречивыми идеями, он, все еще уставясь на соломинку,
сравнивает, выбирает и прямо на глазах становится умнее.
Что за чудесный способ трудиться, теряя таким
образом время!
Но, хотя на худой конец достаточно и соломинки,
чтобы с пользой бездельничать, я должен сказать, что
никогда этим не ограничиваюсь: мое окно дает мне
превосходное поле обзора.
Напротив меня находится больница. Это огромное
здание, откуда никто не выходит и куда никто не
входит, не заплатив мне дани. Я занимаюсь исследованием
людских намерений, догадываюсь об их причинах и
вникаю в их следствия. Я редко ошибаюсь, ибо,
вглядываясь в физиономию привратника, я в каждом
отдельном случае читаю на ней множество интересных
сведений о посетителях больницы. Ничто так верно не
отмечает тонкие социальные различия, как лицо
привратника. Это удивительное зеркало, где отражаются все
оттенки низкого раболепства, угодливой любезности
или же грубого презрения, смотря по тому, кто перед
ним: могущественный ли начальник, мелкий служащий,
//. Библиотека
73
или же нищий найденыш. Поминутно изменяющееся, но
какое верное зеркало!
Напротив моего окна, но чуть повыше, одна из
больничных палат. С того места, где я работаю, мне виден
лишь темный потолок, а иногда и угрюмый санитар,
который, прижав нос к оконному стеклу, смотрит на
улицу. Если я взбираюсь на стол, я вижу скорбное
убежище, где страдания, агония и смерть уложили свои
жертвы на два ряда постелей. Мрачное зрелище, но
меня влечет к нему какое-то унылое сочувствие, и при
виде несчастного умирающего воображение мое витает
вокруг его изголовья, то погружаясь в прошлое этой
угасающей жизни, то в ее неведомое будущее, и,
проникаясь меланхолическим очарованием, всегда
сопутствующим тайне человеческой судьбы.
Слева, в конце улицы я вижу церковь, пустую в
будни и переполненную по воскресеньям, когда в ней
звучат божественные песнопения. И здесь я также вижу
всех, кто входит туда и выходит оттуда, и также строю
догадки, но с меньшей уверенностью. Здесь нету
привратника, но если бы он даже и был, он бы мне
немногим помог. Ведь привратник судит людей по одежде: вне
этого он слеп, глух и нем, и на его физиономии ничего
не отражается. Меня же интересуют души тех, кто
посещает церковь; к несчастью их души прячутся под
одеждой: под жилетом, под рубашкой, а то и — под
кожей. А часто бывает, что душ-то вовсе здесь нет: они
где-то странствуют, пока священник читает проповедь.
Но я все-таки ищу, спотыкаюсь, колеблясь, но
чувствую себя от этого не хуже: ведь именно неясное,
туманное, зыбкое придает прелесть бездельничанью.
Справа виден источник; собравшись у его голубых
струй, судачат служанки, подмастерья булочника, слуги,
74
Библиотека моего дяди
кумушки. Наполняя ведра водой, здесь нашептывают
друг другу любезности, жалуются на грубое обращение
хозяев, на постылую службу, выбалтывают семейные
тайны. Это моя газета, тем более занимательная, что
я не все слышу и вынужден о многом только
догадываться.
Наверху между крышами я вижу небо, то глубокое
и синее, то серое, покрытое бегущими облаками. Порой
его пересекают длинные вереницы перелетных птиц: они
летят над нашими селами и городами в далекие края.
Небо соединяет меня с внешним миром, с бесконечным
пространством. Подперев кулаком подбородок, я
погружаюсь взором и мыслью в эту бездонную глубину.
Когда я устаю смотреть ввысь, я перевожу взгляд
на крыши. Здесь в сезон любви мяукают тощие
страстные коты; здесь, ленивые и жирные, они моют рыльца
на августовском солнце. Под крышей ютятся ласточки
со своими птенцами; они улетают осенью, возвращаются
весной и неустанно порхают взад и вперед в поисках
пищи для своих крикливых выводков. Я их всех знаю,
и они знают меня; они боятся меня не больше вазы
с настурциями, стоящей на окне ниже моего этажа.
Наконец, улица — это всегда новое, беспрерывно
меняющееся зрелище: миловидные молочницы, почтенные
члены муниципального совета, проказливые школьники;
собаки, которые ворчат, или неистово весело скачут;
быки, которые жуют и пережевывают сено, меж тем как
их хозяин ушел пропустить стаканчик. А вы думаете,
что я теряю время, когда идет дождь? Ничуть не
бывало: никогда нет у меня больше дела. Множество
мелких ручейков сливаются в один мощный ручей; он
растет, раздувается, ревет и увлекает в своем быстром
течении всяческий сор, за прыжками которого я с преве-
//. Библиотека
75
ликим интересом слежу. А вот какой-то старый
разбитый горшок, собравший за своим широким брюхом все,
что бежит по волнам, вздумал сопротивляться ярости
потока. Камешки, кости, щепки запрудили середину
ручья, но с боков прибывает вода, образуется море и
начинается борьба. Я почти всегда принимаю сторону
разбитого горшка; я смотрю в даль, не плывет ли
подкрепление, трепещу за его правый фланг, уже готовый
сдаться, дрожу за его левый фланг, в котором
появилась брешь.. . а в это время бравый ветеран,
окруженный отборными войсками, все еще держится, хотя вода
уже заливает его по макушку. Но кто может бороться
с разверзшимися хлябями небесными? Дождь удваивает
свою силу и ливень. .. Ливень! минуты,
предшествующие ливню, вот самбе замечательное, самое лучшее из
всех моих невинных удовольствий! Однако, когда дамы
перешагивают через ручей, показывая свои стройные
ножки, я оставляю ливень без внимания и не свожу
глаз с белых чулок, пока они не повернут за угол.
А ведь это лишь малая доля всех чудес, какие можно
увидеть из моего окна.
Вот почему я нахожу, что дни очень коротки, и за
недостатком времени я очень много теряю.
Над моей комнатой находится кабинет дяди Тома.
Сидя в своем вращающемся кресле, согнув спину над
столом, он — покд дневной свет скользит по его
серебристым волосам — читает, составляет примечания,
компилирует, формулирует свои соображения и собирает
в своем мозгу квинтэссенцию тысячи томов, которыми
уставлена его комната.
Не в пример, своему племяннику, мой дядя знает
все, чему учат книги, и не знает ничего, чему учит улица.
76
Библиотека моего дяди
Поэтому он больше верит наукам, чем жизни. Он скорее
готов усомниться в собственном существовании, чем
в безоговорочно принятой им какой-нибудь туманной
философской доктрине. Впрочем, он добр и наивен как
ребенок, потому что никогда не жил среди людей.
Три вида звуков извещают меня почти обо всем, что
делает мой дядя. Когда он поднимается с кресла,
визжит винт; когда он хочет достать книгу с полки, к ней
подкатывает лесенка на колесиках; когда он
развлекается понюшкой табака, его табакерка стучит об стол.
Эти звуки обычно следуют один за другим, и я так
с ними свыкся, что они не отрывают меня от работы,
но однажды...
Однажды винт завизжал, но лесенка не подкатила,
стука табакерки я не дождался. Я очнулся от своих
мечтаний, подобно мельнику, который просыпается,
когда умолкает мельничное колесо. Я прислушиваюсь: мой
дядя Том разговаривает, мой дядя Том смеется. ..
слышен чей-то другой голос. .. «Вот оно как», — говорю
я себе, очень взволнованный.
Надобно вам сказать, что, когда я работаю у окна,
я не всегда занимаюсь общими вопросами. С некоторых
пор меня особенно увлекает один предмет, и он очень
ослабил мой интерес ко всему остальному. Появились
даже известные признаки, которые говорят о том, что
изменилось направление моих трудов.
С утра я жду. В два часа пополудни у меня
начинает биться сердце. Она прошла мимо, и день для меня
кончился.
Раньше мне никогда не приходило в голову, что
я один; да разве не были мы вместе: мой дядя, и я, и
ручей, и ласточки, и весь белый свет? А сегодня я чув-
/Л Библиотека
77
ствую, что я один, совсем один, но только не в три часа
дня, когда все оживает вокруг меня и во мне.
Я уже говорил вам, как сладко текли мои часы
раньше, а сегодня я не могу ни чем-нибудь заняться, ни
праздно проводить время, ни бездельничать, что вовсе
не одно и то же. Ведь вот до чего дошло: как-то на
днях перед самым моим носом медленно кружилось
пушистое перышко, а мне даже не пришло в голову
подуть на него.
Подобных примеров я могу привести сотни. Вместо
этого я вижу сны наяву. Я мечтаю о том, что она
знакома со мной, улыбается мне, благоволит ко мне; найдя
путь и возможность кем-то стать для нее, я с ней
встретился; мы с ней путешествуем, я забочусь о ней,
охраняю и спасаю от опасности, держа в своих объятиях;
я глубоко сожалею, что мы не находимся с ней вдвоем
в темном лесу, где на нас напали страшные разбойники,
которых я обратил в бегство, хотя получил рану,
защищая ее.
Но пора рассказать, кто он — предмет моей любви.
Я не знаю, как я справлюсь с этой задачей, ибо
словами так трудно описать первую девушку, заставившую
биться ваше сердце. Для этих свежих и живых
впечатлений нужен совсем особый, совсем юный язык.
Скажу только, что каждый день около трех часов
она выходит из соседнего дома, спускается по улице и
проходит мимо моего окна.
На ней голубенькое платье, и оно такое простое, что
никто, даже я, не смог бы его различить среди
стольких голубых платьев, проходящих по улице, но я
нахожу, что оно с необыкновенным изяществом облегает
ее юную талию; и.мне кажется, что именно скромность
этой девушки, на которую так приятно смотреть, при
78
Библиотека моего дяди
дает особую прелесть ее облику. И я не могу поверить,
чтобы какое-нибудь другое платье, даже сшитое самой
искусной портнихой на сто миль в окружности,
пришлось бы мне больше по вкусу.
Итак, когда это платье появляется на моем горизонте,
все вокруг меня улыбается и становится прекрасным.
Когда же оно исчезает, для моих грез о счастье не
хватает именно этого голубенького платья.
В тот день я увидел, как она, по своему
обыкновению, шла по улице, приближаясь к моему окну, и уже
приготовился следовать за ней глазами до угла, а в
мыслях — еще дальше, но она вдруг сделала поворот и
вошла в подъезд, находившийся подо мной. Я был так
поражен, что отдернул голову, словно она вошла прямо
в мою комнату. Только я было подумал, что она
прошла на другую улицу, как в библиотеке дяди Тома
случилось нечто невероятное, возбудившее во мне волнение,
о котором я уже упоминал: «Как? Она говорит с
дядей! ..» Я делал необычайные усилия, чтобы уловить
хоть несколько слов из их разговора, как вдруг
неожиданное событие потрясло вселенную, уже начавшую
создаваться вокруг меня.
Это столь важное событие было в сущности
пустяковым. К полкам подкатила лестница, и я услышал, как
дядя, продолжая говорить, поднимался по ступенькам.
Я расслышал даже, как с его уст слетело слово
«древнееврейский». Из этого явственно следовало, что мой
дядя беседовал с каким-то ученым гебраистом,
подвергавшим разбору вместе с ним какую-то мелочь
древней премудрости. Ибо невозможно было вообразить,
чтобы ее молодая головка была занята ученым вздором,
а хорошенькая ручка перелистывала пыльный фолиант.
Нет, это было немыслимо!
/У. Библиотека
79
Глубоко разочарованный, я машинально вернулся
к окну, и смотрел, ничего не видя, как это бывает, когда
какая-нибудь мысль выбивает вас из колеи. Но прямо
напротив меня на солнцепеке философствовали два осла,
привязанные вместе к железному крюку. После довольно
продолжительного времени одному из них пришло в
голову весьма важное соображение, что можно было
узнать по едва заметной дрожи его левого уха; затем он
вытянул голову и с влюбленным видом показал другому
ослу свои старые зубы. Тот понял знак, сделал то же
самое, и оба принялись за дело. Они чесали друг другу
шеи с такой готовностью оказать товарищу услугу, с
такой беспечной нежностью и так пленительно лениво,
что я не мог не проникнуться к ним симпатией и не
пожелать присоединиться третьим к их компании. Со мной
такое случилось впервые с тех пор, как меня стал
занимать исключительно один предмет. В наивности
некоторых зрелищ есть какая-то неотразимая
трогательная сила; она как бы поднимает душу над самою
собой и заставляет изменять своим самым сладостным
мыслям. Я уже готов был увлечься тем, что увидел, как
вдруг из двери моего дома вышло голубенькое платье.
Это была она. «Ах!» — невольно воскликнул я.
Услышав это, девушка подняла голову и из-под
полей шляпки устремила на меня свои прекрасные глаза,
которые привели меня в замешательство, наполнили
стыдом и быстрой, как молния, радостью. Она покраснела
и пошла дальше.
Особая прелесть этого возраста заключается в том,
ч.то можно покраснеть от дуновения ветерка и шороха
былинки; но покраснеть из-за меня — казалось мне He-
сказанною милостью, обстоятельством, круто меняющим
80
Библиотека моего дяди
мое положение; впервые между мною и ею что-то
произошло.
Моя радость, однако, скоро уменьшилась, потому что
я тотчас же оглянулся на себя. Когда я воскликнул
«Ах!», она увидела мой разинутый рот, мои одурелые
глааа и выражение идиота, уронившего шапку в реку.
Мысль о первом впечатлении, которое я должен был
произвести на нее, меня очень огорчила.
Но как вы думаете, что она держала под мышкой?
Том ин-октаво в пергаментном переплете с серебряной
застежкой — жалкую старую книгу, которую я сотни
раз видел где угодно в комнате моего дяди, но теперь
казавшуюся мне книгою книг, когда она несла ее, легко
прижав к себе... Я впервые понял, что старая книга
может быть на что-нибудь пригодна. Как мудр был
дядя Том, собиравший их всю свою жизнь! Каким
глупцом оказался я, не обладавший этой
благословенной книгой, названия которой я не знал.
Она перешла улицу, направляясь к больнице.
У входа она сказала несколько слов привратнику,
который, как мне показалось, знал ее и уделил ей не
больше внимания, чем это требовалось, чтобы она
осмелилась войти в здание. Хоть меня и возмутило
поведение этого грубияна, я все же был доволен, что девушка,
о которой я мечтал, не настолько богата и знатна, чтобы
желания, зарождавшиеся в моем сердце, не делали меня
смешным в моих собственных глазах.
Я испытывал большое удовольствие от сознания, что
она находится так близко от меня, потому что боялся,
что потеряю ее до завтрашнего дня. Я страстно хотел
узнать, что привело ее к моему дяде и что ей было надо
в больнице. Охваченный желанием увидеть ее, когда она
выйдет оттуда, я решил дожидаться ее у окна, но на-
//. Библиотека
81
ступила ночь, и, потеряв на это всякую надежду, я
поспешил подняться к дяде Тому.
Он уже зажег лампу и внимательно разглядывал на
свет склянку с голубоватой жидкостью.
«Добрый вечер, Жюль, — сказал он, не прерывая
своего занятия, — садись вот тут, я сейчас кончу».
Я сел, с нетерпением ожидая, когда смогу
расспросить дядю, и оглядывал библиотеку, показавшуюся мне
теперь совсем иной. С величайшим уважением смотрел
я на почтенные книги, на сестер той, которую я увидел
у нее под мышкой, и все предметы вокруг и самый
воздух, каким я дышал, показались мне совсем другими,
словно, девушка, побывавшая здесь, оставила на всем
свой след.
«Ну вот! — сказал дядя, — кстати, ты не знаешь...
— Нет, дядюшка!..
— Поблагодари девушку, которая приходила
сюда. ..» с этими словами он подошел к столу, меж тем.
как у меня в ожидании забилось сердце.
«Догадайся!..» — сказал он, повернувшись ко мне,
словно наслаждаясь моим удивлением.
Я ни о чем не способен был догадаться.
«Она говорила вам что-нибудь обо мне? — спросил
я, все больше волнуясь.
— Лучше того, — возразил дядюшка с лукавой
миной.
— Что же это, дядюшка, умоляю вас!
— Ну, гляди, нашелся мой Бурламаки!»
Я упал с облаков, но из почтения к дядюшке
внутренне посылал проклятия не ему, а Бурламаки.
«Я искал для .нее книгу и нашел другую, которую
считал уже утеряшгой... Что за милая девушка! — про-
(у Родольф Тёпфер
82
Библиотека моего дяди
должал он, — право, она стоит по крайней мере дюжины
твоих учителей».
Я был того же мнения, и восклицание дяди Тома
несколько примирило меня с ним.
«Она читает по древнееврейски, как ангел!»
Я опять ничего не понимал. «Она читает по
древнееврейски? Но, дядюшка...» Мысль о подобной учености
была мне неприятна.
«Я получил истинное удовольствие, заставив ее
прочитать XLVIII псалом в издании Буксторфа 7. Я ей
объяснил, сравнивая с ним варианты того же псалма в
издании Крезия8, насколько текст Буксторфа
предпочтительнее.
— И вы ей это сказали?
— Ну, конечно, раз я с ней говорил.
— Она была здесь с вами, и вы могли с ней об этом
говорить?
— Ну да, впрочем, вряд ли это можно сказать кому-
нибудь, кроме еврейки.
— Значит она еврейка?»
Неужели и с другими бывает такое? Еврейка!
красавица и еврейка! Мне она от этого показалась в десять
раз красивее, и я полюбил ее в десять раз сильнее.
Это не слишком-то по-христиански; однако, уверяю
вас, очарование, какое я в ней находил, стало для меня
еще более живым, словно достоинства, за которые я ее
полюбил, озарились совсем новым светом.
Я знаю, что в моих рассуждениях было мало
смысла, и что всякий человек, наделенный самым слабым
умением логически мыслить, доказал бы мне всю их
нелепость, а тем более—дядя Том; поэтому я ему ничего
не сказал: мои заблуждения были мне дороже, чем
логика.
//. Библиотека
83
Но чувства мои были именно таковы... К тому же...
Можно ли влюбиться в сестру? Нет. В
соотечественницу? Скорее. А в чужестранку? Еще скорее. А в
прекрасную еврейку? Быть может она всеми покинута?
Быть может на нее косо смотрят добрые люди?..
В моих глазах это было ее преимуществом и словно
приближало ее ко мне.
«Она хочет изучать древнееврейских авторов? —
спросил я дядю Тома.
— Нет, хотя я ее всячески уговаривал. Речь идет
о бедном умирающем старике. Она взяла у меня
Библию на древнееврейском языке, чтобы почитать ему что-
нибудь благочестивое.
— И она больше не придет сюда?
— Придет завтра в десять часов утра, чтобы
вернуть мне книгу».
И дядюшка опять начал рассматривать склянку,
а я погрузился в свои мысли. «Завтра она будет здесь,
она будет в этой комнате, так близко от меня. А я для
нее ничего не значу, меньше даже, чем дядя Том и его
склянка». И я с грустью спустился к себе.
К моему большому удивлению моя комната оыла
озарена слабым светом! Я сообразил, что это был
отблеск огня, зажженного напротив в больничной палате,
где в этот час бывало обычно темно. Я поднялся на
стул и сначала увидел тень на стене в глубине палаты.
Любопытство мое было возбуждено: вытянув голову и
выглянув в окно с высоты моего стула, я смог
различить женскую шляпку, висевшую на стене. «Это она!» —
закричал я. Поставить стул на стол, подложить под
стул Гроция и Пуффендорфг и самому влезть на все это,
6*
84
Библиотека моего дяди
было делом одной минуты. И я затаил дыхание, чтобы
насладиться открывшимся мне зрелищем.
У изголовья бледного больного старика сидела она,
сосредоточенная, задумчивая, благочестивая, — сияющая
юностью и свежестью рядом с болезнью и старостью.
Она опустила прекрасные ресницы на книгу моего
дядюшки и читала вслух слова утешения. Порой она
останавливалась, чтобы дать отдых больному, поправляла
ему подушку или же с любовью брала его за руку,
глядя на него с состраданием, казавшимся мне
ангельским.
«Счастливый умирающий старик!—говорил я себе.—
Как должны быть ласковы ее слова, как сладостны ее
заботы! .. О! с какой радостью я бы отдал мою юность
и мои силы за твой преклонный возраст и твои
страдания! ..»
Я не знаю, громко ли я высказал свои пожелания,
или же это произошло случайно, но девушка, прервав
чтение, подняла в эту минуту голову и пристально
посмотрела в мою сторону. Я был так взволнован, словно
она могла увидеть меня в темноте, что, резко
повернувшись, упал, увлекая за собой стул, стол, Гроция и Пуф-
фен дорфа.
Раздался страшный шум, и некоторое время,
оглушенный падением, я не двигался с места. Едва я собрался
встать, как появился дядя Том со свечою в руке.
«Что случилось, Жюль? — с испугом спросил он
меня.
— Ничего, дядюшка, это потолок. .. (дядя взглянул
на потолок). Я хотел повесить. .. (дядя посмотрел
вокруг, чтобы увидеть, что именно я хотел повесить)...
а потом, в то время как. , . тогда я упал.'.. а затем. ..
я упал.
//. Библиотека 85
— Очнись, очнись, мой дружок, — сказал дядя Том
добрым голосом. — Падение, очевидно, задело твои
мозговые клетки и в этом причина несвязности твоей
речи».
Он усадил меня и поспешил поднять с пола оба
фолианта, поврежденные переплеты которых, несомненно,
причинили ему больше волнения, чем разговор с
прекрасной еврейкой. Он осторожно положил книги на стол
и, повернувшись ко мне, взял меня за руку. Быстро
нащупав указательным пальцем мой пульс, он спросил:
«А что же ты хотел повесить?»
Этот вопрос страшно смутил меня, потому что, если
сказать правду, в комнате не^ было ничего такого, что
можно было бы повесить. Поэтому, зная мягкий и
снисходительный нрав доброго дяди Тома, я уже готов
был в эту минуту все рассказать, но воздержался.
Для тайны, которая жила у меня в душе, одной
снисходительности было мало. Я нуждался в сочувствии,
а мой дядя испытывал его только к отвлеченным
научным идеям. Вот почему я не захотел открыть ему мое
сердце: я боялся, что погибнет чувство, которое я
ревниво желал сохранить для себя.
«Я хотел повесить... Ах, боже мой, уже!
— Ну?
— Ах, дядюшка, все кончилось!
— Что кончилось?»
В это мгновение в комнате умирающего погас свет
и вместе с ним — все мои надежды.
Мое восклицание внушило дяде мысль, что
состояние мое весьма тяжелое; он уложил меня в постель и
внимательно осмотрел, а я между тем думал о девушке,
которой мне не удалось налюбоваться.
86
Библиотека моего дяди
Дядя Том не подозревал о причине моей болезни.
Однако, прощупав и выстукав меня, он проникся
убеждением, делающим честь его медицинским познаниям, что
мои кости в полном порядке. Успокоившись на этот
счет, он занялся исследованием моего дыхания,
кровообращения и прочих жизненных отправлений; перейдя
к внешним симптомам, он, казалось, удовлетворил свое
любопытство и с видом человека, которому есть о чем
подумать, покинул меня.
Было около полуночи. Я остался один, весь уйдя
в свои мысли, как вдруг стук лесенки, подкатившей
к книжным полкам, заставил меня встрепенуться.
Немного погодя, я заснул.
Я был очень возбужден. Перед моими Глазами, без
всякой связи с предметом моих дум, проносились
тысячи образов, кружась и обгоняя друг друга. Это не
было ни сном, ни явью, и меньше всего — покоем.
Наконец волнение сменилось дремотой. Вскоре мои
сновидения, на время прервавшись, снова вернулись ко мне,
однако, приняв совсем иную окраску.
Мне снилось, будто я, печальный, но спокойный,
проникнутый каким-то неведомым мне пленительным
чувством, брожу по безмолвному лесу. Кругом ни
души, — ничего, что могло бы напомнить об обыденной
жизни. Это, конечно, был я, но наделенный красотою,
изяществом и всем, о чем я мечтал наяву.
Усталый, я присел на пустынной поляне. Ко мне кто-
то приблизился; незнакомые черты дышали грустью и
добротой. Постепенно я стал узнавать это лицо. ..
наконец передо мной оказалась моя дорогая еврейка. Она
тоже была наделена всем, чем я желал ее наградить;
казалось, ей было приятно смотреть на меня, и хоть она
//. Библиотека
87
и молчала, взгляд ее говорил языком, который
затрагивал самые нежные струны моего сердца. Я видел, как ее
красивая головка склонилась надо мной, я почувствовал
ее свежее дыхание и, наконец, рука ее очутилась в моей
руке.
Волнение мое возрастало, мой сон мало-помалу стал
неспокоен. Видения сделались неясными, неуловимыми,
и среди множества мелькавших предо мною лиц, я
различил лишь лицо дяди Тома: он держал мою руку,
щупал мне пульс и, наклонившись, внимательно
разглядывал меня сквозь очки.
О, каким ужасным показалось мне в это мгновение
его лицо. Я люблю его, я очень люблю моего дядю
Тома. Однако увидеть дядю вместо любимой девушки
и вернуться из страны сладостных снов к холодной
действительности! Этого более, чем достаточно, чтобы
опротивели и жиз*нь, и даже дядюшка.
«Успокойся, Жюль, — сказал он, — я напал на след
твоей болезни». И, пристально всматриваясь в меня,
он листал при этом старый ин-кварто, видимо, в
поисках лекарства, которое соответствовало бы симптомам
моего недуга.
«О я вовсе не болен, вы ошибаетесь, дядюшка! Плохо
только то, что вы меня разбудили. Ах, я был так
счастлив!
— Значит тебе было хорошо, ты был спокоен,
счастлив?
— Да, я был на небесах! Но зачем вы меня
разбудили?»
На лице моего дяди появилось выражение живой
радости, смешанной с гордостью и удовлетворенным
самолюбием ученого, и я услышал, как он сказал:
«Вот и хорошо! значит лекарство действует.
88
Библиотека моего дяди
— Что вы со мной сделали? — спросил я у него.
— Узнаешь после. Вот здесь описан твой случай:
Гиппократ, страница 64, Гаагское издание9. А сейчас
тебе необходим только покой!
— Но, дядюшка...
— Что, Жюль?»
Я не знал, как вызвать дядюшку на разговор о
молодой еврейке, и в то же время не выдать моих чувств
к ней. Я решил осторожно навести его на этот путь.
«Вы мне сказали, что завтра. .. — и я умолк.
— Что завтра?
— Она к вам придет.
— Кто она?»
Я испугался, что слишком много сказал. «Горячка. ..
— Горячка?»
Мои вопросы и ответы показались ему до крайности
бессвязными и, пробормотав «он бредит», дядюшка
удалился. Вскоре послышался стук подкатившей лесенки,
и это было все, что напоминало мне о только что
пережитом. Я делал невероятные усилия, чтобы заснуть и
снова увидеть мой сон, но тщетно. Я не мог даже
вызвать в воображении ту действительность, какой я
довольствовался раньше. Сон все стер из памяти и ничего
нельзя было сделать. Кругом стало пусто. И только
мысль о завтрашнем утре помогла мне воскресить
прежний образ молодой еврейки, являвшийся мне до моего
сна. На всевозможные лады я представлял себе, как
она придет к дяде, и беспрестанно думая, каким образом
увидеть ее и познакомиться с ней, я составил до
безрассудства смелый план.
Увести куда-нибудь дядюшку, встретить ее...
поговорить с ней,.. Но о чем? Надобно знать, о чем с ней
говорить — это главное условие выполнения моего плана.
//. Библиотека
89
Я был в большом затруднении, впервые мне предстояло
объясняться в любви. У меня не было других
руководств, кроме двух-трех прочитанных романов, но в них,
на мой взгляд, так замечательно говорилось о любви,
что я не мог и мечтать о подобном совершенстве.
«О если бы я сумел открыть ей мое
сердце!—думал я. — Мне кажется, что нет на свете девушки,
которая не ответила бы на мое чувство». И я вскочил с
постели, чтобы подготовиться к объяснению.
Я зажег свечу, сосредоточился на мгновение и,
обратившись к стулу, который я поставил перед собой, начал
так:
«Мадемуазель!»
Мадемуазель? Мне не понравилось это обращение.
Ну, а как обратиться к ней иначе? Я не знал. По
имени? Я не знал ее имени. Я решил, что надо как следует
подумать... Я думал долго, но ничего не мог
придумать, кроме «мадемуазель». Вот уже сразу и появилось
затруднение.
А принадлежит ли она к тому кругу, где девиц
обычно так величают? Да полно, разве она для меня
такая же девица, как все? Мадемуазель! О нет,
невозможно! Не достает только снять шляпу и
представиться: «Честь имею...» и так далее. Обескураженный,
я опустился на постель.
Раз десять я вновь принимался за свой монолог, но
другого начала так и не сумел найти. Наконец, я решил
вовсе убрать обращение и тем самым обойти первую
трудность.
«Перед вами тот, — продолжал я пылко, — кто живет
только вами, кто к вам пылает любовью, чье сердце
клянется вечно.. е
90
Библиотека моего дяди
Господи, боже мой! да это же получится
четверостишие, того и гляди на крыльях прилетит подходящая
рифма». В сильном смущении я снова сел на постель.
«Как все-таки трудно выразить словами то, что
чувствуешь! — с горечью думал я. — Что же со мной
будет? Она станет смеяться надо мной, а еще, пожалуй,
пожалеет меня за глупость, и тогда я погиб!» Мысль
эта терзала меня, и я чуть было не отступился от моего
плана.
Между тем самые разнообразные чувства теснили
мою грудь точно в поисках выхода. Множество пылких
фраз, возражений, уверений в беспорядке громоздились
у меня в голове. Мучимый этим кошмаром, я совсем
ослабел.
Чтобы найти какое-то облегчение, я встал. и заходил
по комнате, изредка роняя отрывистые фразы и слова:
... «Вы не знаете меня, но я живу только вами...
только ваш образ. .. Зачем я пришел сюда?.. Я хотел
вас увидеть... Я хотел, даже рискуя навлечь на себя
ваше неудовольствие, рассказать вам, что есть юноша,
который думает только о вас... Зачем я пришел сюда?
Я хотел сложить к вашим ногам мою любовь, мою
судьбу, мою жизнь. ; . Вы еврейка? Что из того! Вы
еврейка, но я буду вас обожать; вы еврейка, но я буду
всюду следовать за вами.. . О, моя дорогая! Где вы
еще найдете человека, который будет любить вас, как я?
Где вы еще найдете столь нежное и преданное сердце,
способное дать вам счастье? Ах, если бы вы могли хоть
наполовину разделить мои чувства, вы благословили бы
день, когда увидели меня у ваших ног. Вы подарили бы
мне надежду, что я не напрасно говорил с вами!»
Я замолчал и вздохнул свободнее. Я излил почти все,
что накопилось у меня в душе. В пылу своих признаний
//. Библиотека
91
я уже представил себе, как молодая девушка краснеет
и волнуется, мне уже казалось, что мои слова доходят
до ее сердца. Затем, приложив руку к своему сердцу,
я прибавил: «О, сжальтесь над несчастным, не
повергайте меня, не толкайте меня в бездну. Я могу жить
только там, где вы! Ах! .. Что это, черт побери? О,
дядюшка, дядюшка!»
Все погибло, погибло безвозвратно, и я чуть не
заплакал горькими слезами. Моя страсть возвысила меня
в собственных глазах; на некоторое время исчезло все,
что отравляло мои мечты: неуверенность в себе,
недовольство собой, вечные страхи. Я уже чувствовал себя
почти равным моему божеству.
Когда я произнес последние слова признания, я снова
приложил руку к сердцу, горевшему так сильно, что
оно, казалось, прожигало мою кожу, как вдруг.. . Нет,
я с меньшим отвращением дотронулся бы до холодной
змеи, до мокрой жабы... Я оторвал чудовище от моей
груди и отбросил его подальше от себя.
В эту минуту, невозмутимый как само Время, в
комнату вошел дядя Том. В руке он держал пузырек,
подмышкой— книгу. «Да будет проклят ваш Гиппократ! —
закричал я в ярости. — Да будут прокляты ваши книги
и все, кто... Что вы со мной сделали? .. Вы дважды
испортили лучшие минуты моей жизни! Чего еще вам
надо? Вы пришли отравить меня?»
Ничуть не рассердившись на мою гневную тираду,
дядя Том погрузился в свои умозаключения, цепочку
которых он оборвал в прошлый раз. Снова убедившись,
что я продолжаю бредить, он принял вид тонкого и
зоркого наблюдателя. Не придавая значения смыслу моих
слов, он стал пристально следить за мной. По моим
92
Библиотека моего дяди
жестам, срывающемуся голосу и горящим глазам он
изучал характер и ход моей болезни, отмечая про себя
ее малейшие симптомы, чтобы как можно скорее
победить ее.
«Он сорвал пластырь! — прошептал дядя. — Жюль!
— Что, дядя?
— Ложись, мой дружок, ложись, Жюль! Сделай мне
одолжение!»
Поразмыслив, я лег в постель; не мог же я доказать
дяде, что я не безумец, не открыв ему мой секрет: ведь
это разрушило бы мой план, нисколько не убедив его,
что я в здравом уме.
«Вот я принес тебе питье. Выпей, дружок!» Я взял
пузырек и, притворившись, будто пью из него, вылил
лекарство в промежуток между стеной и кроватью.
Дядюшка повязал мне голову своим платком, укрыл до
самых глаз одеялом, задернул полог над кроватью,
закрыл ставни и, вынув часы, сказал: «Сейчас три Часа
ночи, он должен спать до десяти утра; я приду к нему
без четверти десять». И он оставил меня.
Изнемогая от усталости, я на несколько минут
задремал. Но возбуждение мое было так велико, что я
тотчас проснулся. Я вскочил и стал готовиться к
выполнению моего плана. Я смастерил из простыни чучело,
по возможности напоминавшее своими очертаниями мою
фигуру, повязал ему голову дядюшкиным платком и
укрыл одеялом. Затем я вновь задернул полог над
кроватью, так как я твердо был уверен, что дядюшка, не
отдернет его до десяти утра, как того требовал
авторитет Гиппократа. Проделав все это, я подошел к окну.
На улице уже показались молочницы; привратник
открыл двери больницы; ласточки принялись за работу.
Утренний свет, прохлада, знакомые предметы — все это
//. Библиотека
93
немного отрезвило меня. Моя затея уже не казалась мне
столь заманчивой, и я заколебался. Однако, вспомнив
свой сон, я подумал, что, отказавшись от моего
замысла, я навсегда потеряю то, чего нет прекраснее на
свете, и прежняя решимость вернулась ко мне.
Между тем время шло, послышался скрип
дядюшкиного кресла. Я вынул часы: было без четверти десять.
Я опрометью выбежал из комнаты, предоставив дяде
остаться наедине с чучелом, пока я буду находиться
в тиши библиотеки.
Я тихонько вошел в библиотеку и кинулся к окну.
Глядя сквозь оконные стекла на тот конец улицы, где
должна была появиться она, я почувствовал, что меня
трясет лихорадка. К довершению этой беды, я заметил,
что заготовленная речь почти вся вылетела у меня из
головы. Стараясь удержать кое-какие клочки моего
красноречия, я составил в уме нечто столь нелепое, что от
волнения у меня перехватило дыхание. Было ясно: я
пропал. В страшном испуге я принялся насвистывать,
словно желая вдохнуть в себя бодрость. В эту минуту
начали бить часы. У меня появилась надежда, что
сегодня она не придет в назначенное время. Я принялся
считать удары часов, и каждый из них заставлял себя
ждать целую вечность. Наконец пробил десятый удар,
и мне стало легче.
Мало-помалу я приходил в себя, как вдруг
показалось голубенькое платье. Это была она!!! Сердце мое
подпрыгнуло, речи моей и след простыл. Всеми силами
души я желал лишь одного: чтобы она шла не сюда.
В неописуемой тревоге я ожидал, пройдет ли она мимо
моего дома, или же повернет и войдет в него. Я зорко
следил за каждым ее шагом, и выводы, которые я из-
94
Библиотека моего дяди
влекал из моих наблюдений, то успокаивали, то
ужасали меня. Слабую надежду мне внушало лишь то, что
она шла по другую сторону ручья.
Она перебралась через ручей! Я не мог следить за
ней дальше из закрытого окна и потерял ее из виду.
Но тотчас же я почувствовал, что она вошла в дом, и
утратив всякое присутствие духа, я ринулся к двери,
чтобы спастись бегством. Однако, услышав ее шаги
в прихожей, отдававшиеся эхом в пустынном дворе, я
сообразил, что бегу ей навстречу. Я остановился. Она
была здесь... Когда звякнул колокольчик, в глазах
у меня помутилось; я зашатался и сел, твердо решив не
отпирать дверь.
В эту минуту дядюшкина кошка, выскочив из
слухового окна, вспрыгнула на подоконник. Я задрожал всем
телом, как будто внезапно отворилась дверь. Кошка
узнала меня, и я в страхе ожидал, что она замяукает;
она замяукала... Я не сомневался: тайна моего
появления здесь немедленно будет открыта. Я опустил глаза
и почувствовал, что краска заливает мне лицо.
Колокольчик прозвенел еще раз и добил меня окончательно.
Я то вставал, то садился, потом снова вставал и не
сводил глаз с колокольчика, с трепетом ожидая, что он
вот-вот опять зазвенит. Я слушал внимательно, надеясь,
что она уйдет. Но тут мой слух поразили другие звуки:
то были шаги дяди Тома, который расхаживал по моей
комнате. Больше всего на свете я боялся, что он
обнаружит мой обман в присутствии молодой девицы, и
в своей тревоге я предпочел скорее устремиться
навстречу опасности, нежели дожидаться ее. Я тихонько
пошел обратно и, сделав вид, будто выхожу из
библиотеки, сначала кашлянул, потом твердым шагом прибли-
//. Библиотека
95
зился к двери и отворил ее.. . В полусвете лестницы
вырисовывались очертания ее грациозной фигуры.
«Г-н Том дома?» — спросила она.
Это были первые слова, которые я услышал из уст
прекрасной еврейки. Они до сих пор еще звучат в моих
ушах: столько прелести было для меня в ее голосе!
Хотя она задала мне не слишком трудный вопрос, я
ничего не ответил, — конечно, от смущения, а не намеренно.
Я неловко прошел вперед в библиотеку, она последовала
за мной.
Не оглядываясь, я направился к дядюшкиному
письменному столу. Мне хотелось, чтобы он стоял в самом
дальнем углу комнаты, так я боялся встретиться с ней
взглядом. Наконец я посмотрел на нее. Она узнала меня
и покраснела. Куда девалась моя речь? Умчалась за
тридевять земель. Я молчал, покраснев еще сильнее, чем
она; положение становилось невыносимым, и я начал
так:
«Мадемуазель... — и остановился.
— Г-н Том... — подхватила она. — Если его нет
дома, — стараясь преодолеть свое замешательство,
продолжала она, — я приду в другой раз».
Слегка кивнув мне головой, она ушла, а я так
оробел, что догадался пойти проводить ее, лишь когда она
переступила через порог библиотеки. Она была смущена,
и я тоже; когда мы в темной прихожей искали вместе
выходную дверь, наши руки на мгновение встретились,
и приятная дрожь пробежала по моему телу. Она
вышла, и я остался один, один в целом свете.
Как только она удалилась, моя речь целиком
вернулась ко мне. Я проклинал мою неловкость, глупость и
застенчивость. Я еще не знал тогда, что с некоторыми
96
Библиотека моего дяди
женщинами неловкость и застенчивость говорят своим
красноречивым языком, который труднее всего
подделать. Вскоре, однако, вспомнив выражение ее лица, ее
взгляд и смущение, я уже не так был недоволен собой.
Я собирался снова занять свое место у окна, чтобы еще
раз увидеть ее на улице, как вдруг услышал, что
отворилась дверь. Я едва успел вскочить на дядину кровать
и спрятаться за старым зеленым пологом.
«— Но, мое милое дитя, то, что вы мне говорите...
— Молодой человек, уверяю вас, господин Том!
— Молодой человек? Здесь! Ах, бесстыдник! А
какой у него вид?
— У него вид... он не показался мне бесстыдником,
сударь!
— А как же иначе назвать его?.. подумать только!
пробраться сюда. . .
— Быть может, это кто-нибудь из ваших знакомых?
— Кроме меня и моего племянника, здесь никого не
могло быть.
— Я думаю все-таки, что это был он... — тихо
сказала она, опустив глаза.
— Он? да я сию минуту оставил его внизу, в его
комнате... А разве вы знаете моего племянника?»
Наступила пауза, показавшаяся мне вечностью.
«Вы краснеете, милое дитя! Поверьте: вы могли
встретить не такого порядочного, не такого вежливого
молодого человека... Но скажите, откуда вы его
знаете?..
— Сударь... вы сказали, что он живет в комнате
под вами. Я видела его несколько раз у окна.. . вот
эгот самый молодой человек и встретил меня здесь.
— Это невозможно, говорю вам. Да, конечно, вы
видели моего племянника у окна: он всю свою жизнь про-
II. Библиотека
97
водит у окна. Но мой милый Жюль на этот раз ни при чем.
Он не мог пробраться сюда, и я вам скажу почему.
Вчера, около девяти вечера этот ветрогон взобрался на
возвышение, которое он соорудил на столе, не пойму для
какой цели, разве только он захотел выкинуть штуку,
заглянув в больничную палату напротив (тут молодая
девушка, смутившись еще больше, повернула голову
в мою сторону, чтобы скрыть от дядюшки краску»
залившую ее лицо). А потом я вдруг услышал страшный
шум и треск! Я прибежал и увидел Жюля на полу
в таком состоянии, что сразу уложил его в постель, он
лежит еще и сейчас... Но позвольте, вот что я
подозреваю. За молодой особой с вашей внешностью часто
ходят по пятам молодые люди. .. Кто-нибудь из них,
наиболее дерзкий... вы меня понимаете... мог оперег
дить вас. Не надо стыдиться, дочь моя, не надо
стыдиться того, что вы так хороши собой... Ну оставим
этот разговор, если он вас так смущает. В другой раз
я буду лучше запирать дверь. Поговорим о другом. Вы
принесли мою книгу! Что вы скажете об этом тексте?
Ну хорошо! Положите книгу вот сюда и подождите
минутку. Я хочу... подождите».
И он вошел в кабинет, смежный с библиотекой. Я
задрожал, ибо этот кабинет, обычно запертый,
сообщался с моей комнатой внутренней лестницей.
Я остался с ней наедине. Я был единственным
свидетелем, видевшим ее в эти минуты, и мне казалось, что
благодаря бесценному дару судьбы, я словно
приобщился к ее тайне. В ее чертах, в ее позе, во всех ее
движениях мне чудилось нечто подобное тому, что
испытывал я сам. О полные загадочности минуты! О
минуты блаженного покоя, когда сердце вновь обретает
наяву то, что привиделось ему во сне!
7 Родольф Тёпфер
98
Библиотека моего дяди
Впервые я видел ее так близко, и я упивался ее
очарованием. О почему я не могу обрисовать в этих
строчках ее образ таким, каким он мне явился тогда.
Мне казалось, что библиотека дяди Т^ма была
чудесной рамкой, оттенявшей ее блистательную красоту.
Мудрые книги на пыльных полках, запечатлевшие в себе
вереницу веков, аромат старины, тишина ученых
занятий, и среди всего этого — весенний цветок, полный
свежести и жизни... Возможно ли это выразить
словами?
Она довольно долго стояла, потом подошла к окну и
села в дядюшкино кресло. Опершись щекой на свою
прелестную ручку, она задумчиво и грустно смотрела на
небо, и легкая улыбка мелькала у нее на губах. Потом
она рассеянно взглянула на раскрытый фолиант,
брошенный дядей на столе. Мало-помалу книга приковала
ее внимание, и на ее лице, покрывшемся ярким
румянцем, появилось выражение живого интереса. «Нашел!» —
послышался голос дяди Тома. Она встала, но не отры
вала глаз от книги, пока дядя не вошел в комнату.
«Вот она! Я с трудом ее нашел! Я дарю ее вам за
вашу любовь к древнееврейскому языку. Другой
экземпляр с более ценным для меня текстом я оставлю
себе. А эта книга, в сафьяновом переплете, больше
подходит к вашим нежным пальчикам. Возьмите ее себе
и не забывайте доктора Тома!
— Вы очень добры, сударь! Я принимаю ваш
прекрасный подарок и никогда вас не забуду, даже если бы
не надеялась увидеться с вами еще раз.
— А когда вы придете ко мне, — сказал дядя,
улыбаясь,— берегитесь племянников! Да, я совсем забыл
о моем племяннике. . . Прощайте. . . до гвидания».
Он пошел проводить ее. Тотчас же фолиант, при-
//. Библиотека
99
влекший ее взор, очутился у меня в руках, но я
трепетал, боясь, что дядюшка не даст мне времени скрыться.
К счастью он оставил дверь в кабинет открытой. Я
бросился туда. В мгновение ока книга была надежно
спрятана, чучело оказалось под кроватью, а я, в
ожидании моего доброго дядюшки Тома — в кровати.
«О, да ты уже встал! — сказал он, — в котором часу
ты проснулся?
— Ровно в десять, дядюшка!»
На его лице выразилось полное удовлетворение. Он
был очень рад моему выздоровлению, но еще больше
тому, что оно принесло честь его науке. «Жюль, —
произнес он торжественным тоном, — теперь я скажу тебе,
чем ты был болен: гемицефалыией] 10
— Вы так думаете, дядюшка?
— Не думаю, а знаю, Жюль! И знаю точно, ибо ни
на йоту не отступил от Гиппократа. Твое падение
произвело сотрясение мозжечка и вызвало излияние
внутренних секретов мозговой оболочки. А знаешь, в каком
состоянии я тебя нашел? учащенный пульс,
неподвижный взгляд и совершеннейший бред. Тут я применил...
пластырь. ..
— Ах, дядюшка, не говорите больше о нем и
никому не рассказывайте!
— Пластырь вызвал легкую транссудацию и
наступило улучшение. Однако бред продолжался, и тогда я
прибегнул к микстуре.
— Да, дядюшка!
— А затем — спокойный сон.
— О, конечно, дядюшка, восхитительный сон!
— Сон, заранее предвиденный, предугаданный,
предсказанный: от часу пополуночи до десяти утра. И вот
теперь ты выздоравливаешь!
7»
100
Библиотека моего дяди
— Я уже выздоровел, дядюшка!
— Еще не совсем. Особенно надо остерегаться
рецидива. Лежи спокойно, я тебе поставлю горчичник, а там
мы посмотрим. Отдыхай и не работай сегодня.
Обещаешь?
— Можете не сомневаться, дядюшка!»
Как только дядюшка вышел, я набросился на книгу
и сразу натолкнулся на новое затруднение. В книге
было две тысячи страниц, а я впопыхах забыл
отметить одну страницу, единственную, которая могла мне
быть интересна. Что делать? Перелистать всю эту
гору! Там быть может скрывается лишь одна фраза, одно
слово, которое ее тронуло. Как отыскать это слово среди
миллионов других? Однако непобедимое любопытство
толкало меня на поиски, словно от этого зависела моя
судьба.
Я принялся за работу. О какая тарабарщина
замелькала перед моими глазами! Но зато какая охота
появилась у меня к ученым занятиям! Если бы меня увидел
сейчас мой дядя, или хотя бы мой учитель!
«Прилежный юноша!—заявил бы он мне, — пощадите себя, вы
слишком усердно трудитесь!»
Это был сборник средневековых хроник, в которых
рассказывалось о многих любовных и сказочных
приключениях; там же приводились сведения о геральдике,
разного рода статьи законов, всякие документы, одним
словом, — пестрая смесь во вкусе моего дяди. Впрочем,
я нашел там много такого, что можно было бы
применить и к ней и ко мне, правда, не больше, чем ко всем
остальным людям. Таким образом я добрался до
двухсотой страницы.
Между тем заскрипело кресло, покатилась лесенка,
в дядиной комнате происходило нечто небывалое. Оче-
//. Библиотека
101
видно,, пока я предавался ученым занятиям, дядя
попусту тратил время. Вдруг мне пришла в голову
мысль... Я побежал наверх.
Так оно и было: дядя был в состоянии крайнего
отчаяния, подобно львице, у которой... Он метался по
комнате в поисках какой-то книги, обращаясь то к
ящикам, то к столу, то взывая к небесам; в его спокойных,
тихих владениях царил полный разгром.
«Меня ограбили! Жюль, меня ограбили! .. Я погиб
(он объяснил мне, в чем было дело). Это бесценная
книга, редчайшая книга. Я уже был почти у цели; на
той самой странице... но теперь мне не на что
сослаться. О Либаний! Ты будешь торжествовать! п
— Быть не может! Надо непременно.., но
погодите. . . а на какой странице, дядя?
— Ах, да разве я помню? Три года заниматься
дискуссией по поводу буллы Unigenitus *12 и потерпеть
крушение почти достигнув цели!
— Булла? вы говорите...
— Unigenitus.
— Unigenitus! Правда, это ужасно! А что там
такое на этой странице?
— Изложение буллы в таком варианте, какого
больше нигде не найдешь!
— И это все?
— А ты считаешь, что этого мало! Я бы отдал все,
что у меня есть, за одну эту страницу. Но я найду эту
книгу: только один человек мог совершить такое
преступление. Она должна мне сказать, кто этот негодяй,
который ворует книги. Я иду.»
* Единорожденный (лаг.).
102
Библиотека моего дяди
И мой добрый дядюшка поправил свой парик, взял
в руку старую трость, надел треуголку и вышел. Я
тотчас спустился вниз, все время тихо повторяя, чтобы
не забыть: «Булла Unigenitus, булла Unigenitus».
«Булла Unigenitus, булла Unigenitus, — бормотал я,
роясь в моей книге, — булла Unigenitus... А вот она,
большими буквами». Но она была напечатана по латыни.
Какое ужасное разочарование! С этой минуты я
навсегда получил отвращение к латыни, хотя, по правде
сказать, не очень любил ее и раньше. Заметив, однако,
что булла начинается на середине страницы, я бросил
взгляд на первую половину, и вот что я прочитал:
«Каким образом владения д'Ангривуа стали
достоянием рода Шовэнов, благодаря браку мессира де Сентре
с Генриеттой дАнтраг».
«Юный дворянин еще никогда не любил13. Но
однажды, когда у него едва начал пробиваться пушок на
подбородке, случилось ему увидеть во дворе замка
Генриетту, и он не мог налюбоваться ею — так она была
мила, так прелестно было ее лицо. Любовь сразила
его, и с тех пор он денно и нощно думал только о ней.
Но будучи неопытен в языке любви, он не знал, как
ей открыться в этом. Ловкий и отважный среди
юношей, он с ней становился робок и застенчив. Итак,
влюбляясь все больше и больше, он как-то раз набрался
храбрости и спрятался в горнице ее деда, через
которую она должна была пройти. В руках он держал
букет цветов — чудесный гнак его пламенной любви,
зажженной ее прекрасными очами. И пока ее не было,
он с удивительным красноречием говорил с ней, изящно
преподнося ей букет. Но как только Генриетта вошла
в горницу, он поспешно бросил цэеты под стол, а сам
онемел и окаменел, словно виноватый слуга,
застигнутый хозяином врасплох на месте преступления.
Генриетта же, увидя рассыпавшийся букет, покраснела до
корней волос, и стоя друг перед дружкой, оба алые, как
//. Библиотека
103
полевые маки, не могли вымолвить ни слова. И так они
стояли, покуда не вошел ее дед и не спросил: «Что
вы здесь делаете? ..» И т. д.
Я без конца читал и перечитывал эту страничку. Я
был вне себя от восторга. Сравнивая наивные события,
рассказанные в этой истории, с тем, что я прочитал на
лице моей еврейки, я имел основание думать, что мои
робость и неловкость не были ей противны; я также
мог заключить из ее разговора с дядюшкой, что моя
физиономия и мои занятия у окна не остались
незамеченными ею. Итак, мы понимали друг друга; итак, мои
надежды на успех были неизмеримо большими, чем я
предполагал, и я мог свободно предаваться своей
сердечной склонности, не опасаясь трудности первого шага, и
того, что я ей совсем чужой. Первым делом я
переписал дорогие для меня строчки; потом, чувствуя свою
вину перед дядюшкой, которого я так сильно огорчил,
я воспользовался его отсутствием и поставил книгу на
полку в такое место, чтобы он подумал, будто сам ее
туда засунул.
Я заперся у себя в комнате, чтобы без помех
насладиться необычайно приятными для меня мыслями; я
неустанно перебирал в уме одни и те же события,
рассматривая их все с новой и новой стороны, пока,
наконец, не утомился и стал думать не о том, что
произошло, а о том, что будет дальше, ибо отныне
единственной целью моей жизни стало соединить мою судьбу с ее
судьбой.
Мне было восемнадцать лет. Я был студентом, не
имел положения в обществе, а средствами к
существованию был обязан лишь доброте моего дядюшки. Но
эти трудности меня не пугали; в мыслях я легко рас-
104
Библиотека моего дяди
правлялся с ними, черпая мужество в силе первой
любви. Честолюбие* самоотверженность, неясное желание
славы — все это поднимало меня в собственных глазах,
возвышало до уровня моей еврейки, и я получал ее руку
и сердце, предлагая ей судьбу, достойную ее. Или же,
сознавая, как я далек от столь блестящего будущего, я
желал, чтобы она была бедна, никому не известна,
всеми покинута, и в таком случае наш союз был бы для
нее счастьем. Презрительная мина привратника,
приходившая мне на память, становилась единственной моей
надеждой.
Было воскресенье. Колокола призывали верующих
к молитве, и равномерный церковный звон вселял мир
в мою душу. Колокола стихли, и безмолвие улиц,
побуждая к мечтаниям, уносило меня далеко от
житейских тревог и волнений. Вскоре гармоничные звуки
божественных песнопений и торжественной музыки органа
неприметно слились с моими грезами, и я вообразил
себя в толпе верующих; я наслаждался спокойным
счастьем рядом с подругой, опустившей прекрасные
ресницы нЬ. молитвенник; мы с ней вместе читали один и
тот же псалом и, смешивая наши дыхания, разделяли
блаженство на этой земле в ожидании блаженства
в ином мире.
Как? Еврейка и в церкви! .. Мысль, что это
невозможно, не приходила мне в голову. Влюбленное
сердце допускает в своих мечтах лишь то, к чему влекут
его желания и воображение — эти нежные
снисходительные друзья, которые никогда не нарушают его радости.
Увы! Я давно уже вернулся на землю и шагаю по
дороге жизни под строгим надсмотром здравого смысла и
холодного рассудка; но никто из этих непреклонных
наставников не подарил мне ни одного мгновения, которое
II. Библиотека
105
можно было бы сравнить с восхитительными волнениями
прошлого. Зачем они так быстротечны, зачем нельзя
их вернуть?
Я не знал ни имени, ни дома, где жила та, что
завладела всей моей жизнью. Все с большим нетерпением
ожидал я понедельника. Но она не пришла; не пришла
ни во вторник, ни в среду. Я узнал, что больной, за кем
она ходила, два дня тому назад умер. В пятницу,
потеряв терпение, я поднялся к дяде. В дверь постучался
незнакомец и протянул ему пакет.
«Распечатай, Жюль!» -*- сказал мне дядя.
Я распечатал пакет. Там была книга. На внутренней
стороне сафьянового переплета были написаны
следующие слова:
«Если я умру, то прошу передать эту книгу
г-ну Тому, от которого я ее получила».
И ниже:
«Г-н Том сделает мне одолжение, если отдаст эту
книгу своему племяннику на память о той, кого он
встретил в библиотеке».
«Если она умрет! — воскликнул я. — Ей умереть!
— Бедное дитя! — сказал дядя Том. — Что могло
с ней случиться?
— Дядя, где она живет?
— Пойдем вместе, узнаем, что с ней».
Через минуту мы были на улице. Шел дождь. Кроме
нас почти никого не было. На повороте улицы мы
увидели толпу. Дядюшка замедлил шаг...
«Что это значит? — спросил я. — Не идем ли мы
на...
— Бедный Жюль, мы пришли слишком поздно»...
То была похоронная процессия: два дня назад ее
унесла черная оспа.
106
Библиотека моего дяди
О этого дня я снова предался безделью. То было
безделье, полное горечи и внутренней пустоты,
ничтожных досугов, отвращения к миру, к людям, — даже к
самой жизни, если бы не прелесть некоторых
воспоминаний. Моим единственным товарищем и другом осталась
маленькая книжка, и когда я перечитывал строчку,
предназначенную мне, сердце мое сжималось от горя, пока
слезы, струившиеся из моих глаз, не приносили мне
некоторого облегчения.
Вторым моим другом был дядя Том. Я рассказал
ему все; и когда я открыл ему мою хитрость, то нашел
в его сердце лишь снисходительность и доброту.
Тронутый моей печалью, он разделил ее со мной, хоть и не
совсем ее понимал. По вечерам, видя как я мрачен, он
тихо придвигал ко мне свой стул, и мы молча сидели,
занятые одною и тою же мыслью, и время от времени
он простодушно повторял: «Такая умница, такая
красивая, такая молодая!» И при свете камина я замечал
слезы на его поредевших ресницах.
Наконец, на помощь мне пришло время! Оно
принесло мне покой и другие радости, но те, что были, уже
никогда не возвращались: я похоронил свою юность.
///. Генриетта
Каким верным бывает сердце, когда оно еще молодо
и чисто! Как оно нежно и искренне! Как я любил эту
девушку, которую видел только мельком, и тотчас же
потерял! Какое ангельское видение является предо мной,
когда я вспоминаю об этом хрупком создании, так дивно
сочетавшем в себе грацию, невинность и красоту.
Мысль о смерти приходит не скоро. В начале жизни
это слово лишено содержания. Детям кажется, что все
III. Генриетта
107
кругом родилось, расцвело и возникло только вчера;
юношам кажется, что все исполнено силы, молодости,
жизни, бьющей через край; правда, некоторые люди
исчезают из их глаз, но не умирают... умереть! Это
значит навсегда утратить радость, не видеть больше
благодатных полей, неба! Утратить даже мысль об этом,
мысль, таящую в себе столько блестящих надежд, хоть
порою и призрачных, но таких близких и живых.
Умереть! Это значит видеть, как твое тело, налитое
силой, согретое жизнью, напоенное алой кровью,
струящейся в жилах, начинает слабеть, холодеть,
покрываться ужасающей бледностью.
Проникнуть внутрь земли, приподнять погребальный
покров, бросить взгляд на разложившуюся плоть, на
рассыпавшиеся в прах кости.. . Старцам знакомы такие
картины, они отгоняют их от себя; но юношам они даже
не приходят в голову.
Он потерял ту, которую любил; он знает, что
никогда ее не увидит; он встречает похоронную
процессию; он знает, что любимая здесь, под этой гробовой
доской, но это еще она, она ничуть не изменилась; она,
как всегда, прекрасна и чиста, она чарует своей
стыдливой улыбкой, своим робким взором, своим волнующим
голосом.
Он потерял ту, которую любил; сердце его сжимается
и содрогается в бурных рыданиях; он ищет, он зовет
ту, которой лишился; он говорит с ней и, наделив ее
тень своей жизнью, согрев ее своей любовью, он видит
ее перед собою.. . это еще она, она ничуть не
изменилась, она, как всегда, прекрасна и чиста, она чарует
своей стыдливой улыбкой, своим робким взором, своим
волнующим голосом.
108
Библиотека моего дяди
Он потерял ту, которую любил; нет, он с ней лишь
расстался, она где-то в другом месте, и это место
украшено ее присутствием; оно
освящено ее шагами, озарено её очами !
Там все сияет красотой и нежностью, залито мягким
светом, исполнено целомудренной тайны...
И все же там, где она, — царство ночи, холода,
сырости, и смерть со своими гнусными приспешниками
делает свое дело.
Мысль о смерти приходит не скоро. Но, проникнув
однажды в сознание человека, уже не покидает его. До
этого будущим была для него жизнь; теперь все его
планы завершаются смертью. Теперь смерть
вмешивается во все его дела; он думает о ней, когда наполняет
зерном свои амбары; он совещается с ней, когда
покупает имение; она сопровождает его, когда он заключает
договор на аренду; она запирается вместе с ним в
уединенном кабинете и вместе с ним ставит свою подпись
на завещании.
Юность великодушна, чувствительна, смела... а
старики говорят, что она расточительна, легкомысленна,
дерзка.
Старость бережлива, благоразумна, осторожна.,,
а юноши говорят, что она скупа, себялюбива, труслива.
Но зачем же они судят друг друга? И как могут, они
друг друга судить? Ведь у них нет общего мерила.
Одни принимают свои решения, располагая жить,
другие — собираясь умереть.
Трудно приходится человеку, когда изменяются его
взгляды на мир. Эти необъятные, некогда столь далекие
воздушные дали теперь словно бы сблизились. Эти
волшебные блистающие облака стали непроницаемыми и не-
III. Генриетта
109
подвижными; небеса, усеянные золотом, означают лишь
то, что короткие сумерки сменились ночью. О как
преобразилось пребывание человека на земле! Как мало
смысла он находит в том, что делал когда-то! Как он
понимает теперь своего задумчивого отца и строгого
деда, когда он по вечерам уходит оттуда, где
начинаются игрища!
Он становится беспокойным. Непривычная мысль о
смерти тревожит его душу, будит воспоминания о
стольких речах и поступках; лишь теперь постигает он их
мрачный смысл или *же утешительное очарование.
Как-то раз в ранней юности, в один из воскресных
дней, он увидел в беседке, увитой виноградными
листьями, пирующую компанию друзей. Они славили
жизнь и издевались над смертью. Они пили и
смеялись, празднуя быстротечные мгновения радости, и
песня, доносившаяся из беседки, весело взлетала ввысь:
Ждет нас темная могила — смертен каждый человек.
Попадешь туда, друг милый, и останешься навек.
А раз так — грустить не станем: как умрем — не все ль
равно?
Будем пить и веселиться, и да здравствует вино!
А коль смерть в кабак заглянет, мы безносой скажем:
«Стой!
Вот допьем свою бутылку и отправимся с тобой.
Из подвальчика в могилу путь и прям, и недалек.
А пока, друзья, за кружку — пусть один, да наш денек!»
И хор подхватывал мужественную и залихватскую
мелодию:
А коль смерть в кабак заглянет, мы безносой скажем:
«Стой!
по
Библиотека моего дяди
Вот допьем свою бутылку и отправимся с тобой.
Из подвальчика в могилу путь и прям, и недалек.
А пока, друзья, за кружку — пусть один, да наш денек!»
В другой раз, задолго до того дня, он увидел, как
немощный старец, согнувшись под тяжестью труда,
обрабатывал клочок каменистой земли. Под палящими
лучами солнца, он вскапывал бесплодную почву. Пот
ручьями лился с его лысого лба, кирка дрожала в его
иссохших руках.
В это время вдоль ограды проезжал всадник.
Заметив старика, он придержал своего коня. «Тебе, верно,
очень тяжело, дружище?» — спросил он. Старик,
остановившись, знаком показал, что ему тяжело, но тотчас же
снова взялся за кирку. «Чтобы попасть на небо, —
сказал он, — надо иметь терпение».
Далекие, но какие яркие воспоминания! И в каждом
из них таится свой особый росток. Какому же из них
было суждено распуститься? ..
Но вечно ли длится ночь, наступившая после
коротких сумерек? О, когда так, то чокнемся, веселые друзья!
Вместе с вами я готов славить жизнь и смеяться над
безносой... Пока я жив, мне все подвластно: честь,
добродетель, человечность, богатство. Ибо мой бог — это я;
моя вечность — мой единственный день; мою долю
счастья я вырву у других, мое счастье в том, что может
усладить мое тело, ублажить мою плоть. „Я честен, когда
я силен, богат и обласкан судьбою; но я честен и тогда,
когда я слаб — и хитрю, когда я беден — и ворую
чужое добро, когда я обездолен — и совершаю убийство
в ночи ради моей доли наследства, чбо ночь моя
близится, и я имею право, как и все, на радости жизни.
... А коль смерть в кабак заглянет, мы безносой скажем:
«Стой!»
III. Генриетта
111
Веселая песенка, ты мне кажешься такою печальной!
Ты напоминаешь плодоносную почву, под которой
скрывается изъеденный червями скелет! ..
А что, если ночь, наступившая после коротких
сумерек, проходит? если ночь — это лишь плотная завеса,
за которой прячется сияющее беспредельное небо?..
О тогда, старик, позволь мне приблизиться к тебе,
твое рубище манит меня, я хочу идти твоей дорогой.
Как спокойно у меня на душе, как прояснились мои
мысли! У нас с тобой одна общая цель, один бог, одна
вечность. Пойдем же, брат мой, меня трогает твоя
нищета, мое золото обременит меня, если я не разделю его
с тобой. Страдание и смирение, богатство и милосердие
уже не пустые слова, а средства исцеления, путь
к истинной жизни.
Итак, зло есть зло; а путь добра мы вольны
избирать и не сходить с него. Правосудие свято,
человеколюбие благословенно; у слабого есть свои права, у
сильного свои цепи. Могущественный человек или убогий —
оба жалки, если они совершили преступление...
Чувственные утехи, наслаждения, богатство, у вас есть свои
уродливые стороны, и за них надо расплачиваться.
Лишения, горести, тревоги, у вас есть свои добрые
стороны, и они приносят утешения. Смерть! я не боюсь и
не презираю тебя; только бы я был готов к тому, чтобы
увидеть безбрежные дали, которые ты мне откроешь!
Старик! Ты мне кажешься таким здоровым, богатым,
дарующим утешение! Ты похож на развалины, где в
потаенных местах скрываются сокровища.
Так в зависимости от взгляда на жизнь меняется
сущность вещей. В ту значительную для человека
минуту, когда им овладевает всепоглощающая мысль о
смерти, перед ним открываются две разные дороги.
112
Библиотека моего дяди
Если бы человек был существом чисто логическим,
то можно было бы увидеть, как он, подчиняясь
властной роковой необходимости, начинает шагать по одной
из этих дорог — от логической посылки до логического
следствия. К счастью, человек, независимо от всякой
доктрины, ценит порядок, справедливость, добро;
однажды вкусив добродетели, он неотступно влечется к ней.
Однако, хоть он и любит рассуждать, он слаб,
нерешителен, терзается страстями; поглощенный насущными
нуждами, он не имеет ни сил, ни досуга, чтобы стать
либо злодеем, либо великим человеком... Все-таки,
следите за толпой, наблюдайте за теми, кто из нее-
выделился, чтобы стать ее благодетелем или же бичом —
вы встретите и тех и других среди самых решительных,
самых убежденных людей и увидите, как одни, не
впадая в гордыню, идут дорогой добродетели, а другие, не
зная угрызений совести, идут дорогой преступлений.
Все же моя милая песенка, я не осуждаю тебя.
В тебе не было ничего дурного: ведь и пить хорошо, и
петь хорошо. От. радости ширится душа. И когда при
звоне бокалов из беседки, увитой виноградными лозами,
удаляются степенные и суровые люди, ты взлетаешь на
крыльях веселья и шалости.
И твоя ли в том вина, что твой задорный припев,
доносившийся из густой зеленой листвы, поразил слух
юноши, который поднимался со своим дядюшкой по
косогору?
Мы возвращались с прогулки. Мой дядя, хоть сам
не брал в рот и капли вина, любил смотреть, как
добрые люди, пропуская стаканчик, забывают о трудах и
горестях рабочей недели. Не в его привычках было
принимать участие в этих пирушках, но он радовался
чужому веселью, и добрая улыбка освещала его лицо.
///. Генриетта
ИЗ
В тот воскресный вечер мы прохаживались с ним
в окрестностях города, — но не в местах общественных
гуляний и не в уединенных уголках, а там, где в тени
беседок отдыхали простые люди со своими семьями.
Я и сейчас там бываю, может быть потому, что и
сам остался человеком из народа, а может быть и
потому, что меня влечет туда мое искусство живописца.
Вот я и сообщил тебе две новости, читатель! Первая
произведет на тебя, — кто бы ты ни был, — дурное
впечатление, а вторая удивит, если ты еще не догадался,
читая мою историю, что Остаде2 и Теньерс3 должны
были привлекать меня больше, чем Гроций и Пуффен-
дорф. Но я разделю свое сообщение на две части и
о каждой поговорю особо.
А ты еще не забыл о ростке тщеславия, который
прячется и в твоей и в, моей голове? Я позволю себе
напомнить о нем. Так знай же: никто не признается
в своем простом происхождении, никто не бывает им
доволен, никто не ищет себе друзей среди народа. А я,
разве не стал я в некотором роде твоим другом? И кем бы 1ы
ни был, в твоих устах человек из народа — это тот, кто
занимает более низкую ступень общественной лестницы,
чем та, которую занимаешь ты. Конечно, ты не
причисляешь себя к таким людям, и за исключением
случаев, когда твоему самолюбию это может польстить
(опять тот же росток), ты не станешь гордиться, что
вышел из народа, хотя бы это в самом деле было так,
Знай же это!
Правда, когда твой росток, задетый заносчивостью
какой-нибудь важиой особы, пожелает ответить ей тем
же, может случиться, что в это мгновение ты сочтешь
нужным похвалиться своей принадлежностью к народу,
Q Родольф Тёпфер
114
Библиотека моего дяди
хотя бы это и было не так. Однако эта мысль мелькнет
у тебя лишь на мгновение, и ты захочешь только
сказать, что житейская мудрость и достойная манера
держаться присущи скорее людям из народа, чем важной
особе, почитающей их неизмеримо ниже себя!
Опять-таки, когда твой росток захочет увидеть тебя
председателем клуба, душою восстания, главою партии,
редактором популярного газетного листка, тебе остается
только одно: гордиться, что ты человек из народа, что
ты вышел из недр народа, что ты хочешь умереть на
груди у народа и, если возможно, отдать жизнь за
народ. Но твои белые перчатки, твой изящный костюм,
твое свежее белье, твоя тросточка, твой лорнет, без
которого ты не можешь обойтись, свидетельствуют против
твоих .уверений. Ты называешь себя сыном народа, но
ты оскорбился бы, если бы тебя поймали на слове4.
Как видишь, исключения подтверждают правила.
Итак, я как был, так и остался человеком из народа.
Я стараюсь ни хвалиться своим происхождением, ни
стыдиться его, хотя это нелегко.
Перехожу ко второй части моего сообщения. Мой
дядюшка Том был весьма предубежден против звания
художника. Он считал, что занятия живописью
недостойны мыслящего существа, и уж совершенно
непригодны, чтобы дать возможность этому существу есть и
пить, а главное — жениться. Всего более странным было
то, что презирая звание художника, он чтил искусство,
поскольку оно входит в область науки и служит
предметом исследований и мемуаров. Дядюшка сам написал
два тома, посвященные греческой глиптикеб.
Но меня мало трогала греческая глиптика. Я был еще
очень юн, и пленявшая меня своей таинственной преле-
///. Генриетта
115
стью красота — свежая зелень лесов, синева горных
вершин, благородство человеческих лиц, грация женщин,
серебряные бороды стариков — казалась мне еще более
волнующей и живой, когда я видел ее воспроизведение
на бумаге или на полотне. Множество неумелых
набросков, рассеянных на страницах моих тетрадей и книг,
говорили о том, с какой неизъяснимой радостью я сам
занимался этим. Я и сейчас вспоминаю, как в долгие
часы ученья я с наслаждением царапал пером
обворожительные картинки, навеянные мне плохо понятыми или
совсем не понятыми стихами Вергилия. Я рисовал Ди-
дону6; я рисовал Ярбу7; я рисовал даже Венеру8*
Virginis os habitumque gerens et virginis arma
Spartanae: vel qualis equos Threissa fatigat
Harpalyce, volucremque gufa praevertitur Eurum.
Namque humeris de more habilem suspenderat arcum
Venatrix, dederatque comam diffundere ventis,
Nuda genu, nodoque sinus collecta f luentes.9 *
Сначала дядя Том улыбался, глядя на мое маранье,
но потом он уже перестал поощрять мою склонность,
отвлекавшую меня от серьезных занятий. Тем не
менее, когда он по воскресеньям брал меня с собой на
загородную прогулку, он, сам того не зная, давал пищу
* [Мать явилась ему навстречу среди леса густого,]
Девы облик приняв, надев оружие девы,
Или спартанки, иль той Гарпалики Фракийской, что
мчится
Вскачь, загоняя коней, настигая крылатого Эвра.
Легкий лук за плечо на охотничий лад переброшен,
Отданы кудри EO-.власть ветеркам, свободное платье
Собрано в узел, открыв до колен обнаженные ноги
(лаг.).
8*
116
Библиотека моего дяди
той самой склонности, которую хотел искоренить. Под
сенью густой листвы беседок я вновь находил чудесную
игру света и тени, оживленные красочные группы
людей и эти лица, с таким разнообразием отражавшие
удовольствие, покой, опьянение, привычные заботы,
детскую веселость и стыдливую сдержанность. Я, как и
дядя, тоже любил эти прогулки, но мы искали в них не
одни и те же радости. Однако, когда в моих тетрадях
лнца Ярбы и Дидоны постепенно стали сменяться более
обыкновенными, но зато более живыми физиономиями,
прогулки эти прекратились.
Тогда мой добрый дядюшка наперекор своим-
привычкам и несмотря на свой возраст, стал уводить меня
из города в самые далекие места. Иногда мы
забирались туда, где под скалистыми склонами горы Салев
змеится по зеленой равнине река Арва, омывая
пустынные островки и отражая в своих водах нежный свет
заходящего солнца. С того места, где мы отдыхали, нам
была видна старая барка, перевозившая на другой
берег деревенских жителей; а еще дальше виднелась
длинная вереница коров, которые переходили реку вброд,
перебираясь с островков, где они паслись, на сушу. За
ними следовал пастух верхом на старой кобылице,
с двумя ребятишками, сидевшими у него за спиной.
Постепенно мычание, доносившееся до нас, становилось
еле слышным, и длинная вереница коров терялась в
голубоватых сумерках.
Эти зрелища восхищали меня. Я уходил оттуда
с взволнованным сердцем, с душой, переполненной
восторгом, томимый желанием поскорее перенести на
бумагу что-нибудь из увиденных мною чудес.
Возвратившись домой, я употреблял на это занятие целый вечер,
и, подчиняясь сладостной, вечно возрождающейся иллю-
777. Генриетта
117
зии, украшал мои бесформенные рисунки всеми
блестящими сочетаниями красок, переполнявшими мое
воображение, и я трепетал, охваченный самой невинной, но и
самой живой радостью.
Хотя мой добрый дядюшка писал о глиптике и знал
на память произведения Фидия 10 и три манеры
Рафаэля, он мало понимал в искусстве рисунка и живописи.
Он расхваливал прекрасную эпоху Ренессанса, но вкусы
его склонялись к медальонам Лепранса и пасторалям
Буше11, которыми рн украсил свою библиотеку.
Однако над его постелью висела картина в
источенной червями рамочке, которую мы с ним любили больше
всех других картин, хотя и по причинам совершенно
разным: он питал к ней слабость за то, что, написанная
в дорафаэлевские времена, она бросала яркий свет на
вопрос о появлении масляной живописи, я же был от
нее без ума потому, что именно она открыла мне
таинственную власть прекрасного.
Это был образ мадонны с младенцем Иисусом на
руках. Золотой ореол окружал целомудренный лоб
Марии; ее волосы падали ей на плечи, голубая туника
с широкими рукавами позволяла разглядеть в ее позе
и во всей ее осанке наивную грацию и нежность
молодой матери. Эта. картина, очень простая по композиции,
отмеченная глубокой печатью набожного века раннего
Ренессанса, покоряла меня своим непобедимым
очарованием. Все мое восхищение, моя вера и любовь
принадлежали юной мадонне. Когда я поднимался к дядюшке,
я бросал на нее мой первый и мой последний взгляд.,
Тем не менее дядя, которому казалось, что подобное
увлечение картиной несовместимо с серьезным изучением
права, снял ее со стены и куда-то убрал.
118
Библиотека моего дяди
Изучение права от этого не стало успешнее; у меня
не было к нему никакого интереса, а с тех пор, как
я потерял мою еврейку, я совсем перестад работать.
Во мне не осталось ни тени честолюбия, ничто меня не
увлекало. Я забросил карандаши и книги, кроме одной,
которую не выпускал из рук. Так проходили недели и
месяцы, мой бедный дядюшка очень огорчался, но я не
слыхал от него ни слова упрека.
Однажды я вошел к нему и по обыкновению уселся
рядом с его письменным столом. Он сидел,
обложившись книгами, и выписывал какую-то цитату. Я
заметил, что у него дрожала рука; в этот день ее
движения были особенно неуверенными, а буквы, которые он
выводил, — нечеткими. Все более ощутимые , признаки
незаметно приближавшейся к нему старости вызвали
у меня грусть, уже становившуюся привычной, и за
неимением другого предмета мои мысли обратились в эту
сторону.
Ведь дядя, на которого я смотрел, был моим
провидением, и сколько я себя помнил, кроме него у меня не
было в жизни опоры, и никто кроме него не дарил меня
своей отеческой привязанностью. Это нетрудно
заключить из моего предыдущего рассказа; но, если кто-нибудь
уже заметил, что я еще не посвятил моему доброму
дяде ни единой странички, которая дала бы
возможность поближе его узнать, то надеюсь, меня извинят,
когда я доставлю себе удовольствие поговорить о нем
сейчас.
Мой дядя Том известен среди ученых, особенно
среди тех, кто занимается греческой глиптикой и буллой
Unigenitus; имя его значится в каталогах публичных
библиотек; труды его занимают место на особых книж*
пых полках. Наше семейство, вышедшее из Германии,
///. Генриетта
119
обосновалось в Женеве в прошлом веке; около
1720 года в этом городе появился на свет и мой
дядя — в старом доме, расположенном по соседству
с бывшим монастырем Пюи-Сен-Пьер, на котором еще
и теперь сохранилась угловая башня. Вот и все, что
я знаю о дядиных предках и о первых годах его
жизни. Я предполагаю, что, закончив курс учения и
достигнув академических степеней, он посвятил себя
науке и безбрачию и вскоре поселился в доме
французского благотворительного общества — тоже бывшем
монастыре, где и завершил свой долгий жизненный путь.
Моего дядю, проводившего жизнь среди книг и не
имевшего никаких связей с городом, известного
отдельным иностранным эрудитам и главным образом в
Германии, почти никто не знал в его собственном
квартале. В его жилище никогда не было слышно шума, его
привычки никогда не нарушались, его старинная манера
одеваться никогда не менялась. Поэтому, подобно всему,
что однообразно и неизменно одинаково, — как дома,
как дорожные столбы, — его видели, но не замечали.
Правда, раза два или три меня останавливали на улице
и спрашивали, кто этот старик; но то были иностранцы,
пораженные его осанкой, или же костюмом, разительно
отличавшим его от прочих прохожих. «Это мой дядя!» —
отвечал я, гордясь их любопытством.
Подобный образ жизни и подобные вкусы порождали
известные умственные привычки. Если мой дядя,
человек науки, чуждался общества, то, с другой стороны,
полный веры в знание, он черпал в книгах свои теории
и мнения, проявляя при этом выборе не сомнительное
беспристрастие философа, но спокойствие разума,
который далек от страстей и увлечений света, а потому не
спешит с заключениями и не имеет причин предпочи-
120
Библиотека моего дяди
тать какое-либо из них. Ему были известны все
дерзания философской мысли; он с неменьшим усердием
обсуждал и самые острые теологические вопросы; однако
трудно было отгадать, каких религиозных взглядов
придерживался в сущности он сам. Что касается
вопросов морали, то изучая их, он также проявлял
свойственную ему широкую эрудицию, но скорее затем, чтобы
только знакомиться с ними, а не сравнивать их между
собой. Таким образом было столь же трудно
распознать, какими моральными принципами руководился он
сам в своем поведении. В области верований, как и в
области принципов ничто не удивляло его и не
раздражало; и если убеждения его не были твердыми, зато
терпимость его была безгранична.
Портрет, который я здесь набросал, наверное, лишит
дядю расположения многих моих читателей, а может
быть, и уважения. Меня это огорчает, тем более, что из-
за этого и мои дружеские чувства к ним также
ослабеют. По правде говоря, если бы дело шло только
о том, хорош или дурен сам по себе тот род
скептицизма, который я приписываю моему дяде, я бы,
возможно, и смог согласиться с моими читателями. Но
я отступаюсь от них, как только они, осуждая доктрину,
лишают симпатии и уважения доброго и честного
человека, который ее исповедует.
Впрочем, мои читатели заслуживают снисхождения,
ибо их взгляды берут начало в почтенном источнике.
Несомненно, большинство людей, — я имею в виду тех,
кто делает честь роду человеческому, — нередко бывает
вынуждено на собственном опыте признать, сколь
недостаточно одних добрых наклонностей, чтобы всегда идти
по пути добра, и как часто они терпят поражение,
вступая в борьбу с наклонностями менее добрыми. Отсюда и
///. Генриетта
121
убежденность в необходимости принципов и верований,
этих могучих руководителей человека, единственно
способных обеспечить победу добру. Отсюда и недоверие
.к тем, кто не признает подобных ручательств.
Ведь именно в этой убежденности, которую я в
сущности разделяю, я нахожу в некотором роде ключ к
характеру моего дяди и к противоречиям, какие на первый
взгляд можно усмотреть между его воззрениями и
жизнью. Этот человек был от природы так честен, так
добр и благожелателен, что он никогда, может быть, не
чувствовал, подобно упомянутым мною читателям,
необходимости в руководителях, указывающих ему путь
к добру, и еще менее — удерживающих его от
совершения зла. Врожденная порядочность уберегла его от
какой-либо распущенности; наивная робость и одинокая
жизнь сохранили в нем старинную простоту; в то же
время его сердце, скорее человеколюбивое, чем
чувствительное, скорее великодушное, чем пылкое, не
иссушенное разочарованиями и обманом, сохранило юношескую
свежесть, проявлявшуюся во всех его чувствах и
поступках. И как это бывает, когда добродетель дается
без усилий, в нем не было ни гордости, ни холодности;
истинная скромность, искренняя доброта и особое
очарование невинности украшали этого прекрасного
старика.
Итак, несмотря на более или менее странные и
противоречивые убеждения, которые бродили в его голове,
иногда уживаясь друг с другом, а иногда вступая
между собою в борьбу, вопреки принципам морали или
поведения, которые могли логически проистекать из
этих убеждений, его образ жизни носил печать
строжайшей честности и неподдельной доброты. Он проводил
неделю в кропотливых разысканиях, занимавших цели-
122
Библиотека моего дяди
ком его время, зато воскресенье посвящал пристойному
и спокойному отдыху. С утра старый цирюльник, его
сверстник, сбривал ему бороду и приводил в порядок
его парик; затем, надев новое, хотя и старомодного
покроя платье каштанового цвета, он отправлялся в
церковь своего прихода, опираясь на трость с золотым
набалдашником и держа под мышкой аккуратно
переплетенный в шагреневую кожу молитвенник с серебряными
застежками. Усевшись на свое обычное место, дядя
внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова,
выслушивал проповедь священника и, нет сомнения,
никто с таким простодушием не извлекал для себя уроки
из нее. Он вторил своим надтреснутым голосом
церковному хору; затем, опустив в кружку для пожертвований
свое щедрое и всегда неизменное даяние, он возвращался
домой. Мы вместе обедали, а вечер посвящали мирным
прогулкам, о которых я уже говорил.
Эти штрихи, рисующие лишь одну из дядиных
привычек, дают достаточное представление о полной
достоинства простоте, присущей всему укладу его уединенной
жизни; но никакой мерой нельзя измерить доброту его
столь же простого сердца, и мне очень трудно описать
ее, сохранив все ее обаяние и не рискуя выдать за
добродетель то, что было его натурой, смыслом его
существования.
Надо ли упомянуть, что сделавшись моим опекуном
после смерти моих родителей, оставивших не совсем
упорядоченное состояние, он ни разу не задумался над
тем, что затрачивать на меня собственные скромные
средства вовсе не было его прямою обязанностью?
Надо ли еще прибавить, что ни на минуту ему не
приходило в голову спросить себя, имею ли я право на
подобные жертвы с его стороны, всегда ли я заслуживаю
///. Генриетта
123
их, слушаюсь ли я его наставлений, признателен ли
я ему за его благодеяния? Некоторые смогут увидеть
во всем этом лишь исполнение известного долга, и
поэтому, быть может, дядюшкина доброта сказывалась
заметнее всего в менее значительных поступках.
Таково мое мнение. Вот почему я сожалею, что
старая служанка, которая тридцать пять лет вела
маленькое хозяйство моего дяди, не взялась за перо вместо
меня. Не столь немощный, как она, он считал, что проще
ему самому заменять ее, когда она не могла справиться
со своей работой, чем найти ей преемницу; и вместо
того, чтобы досадовать, он обычно ободрял ее веселыми
и ласковыми словами. Правда, он порой ссорился с нею,
но это случалось лишь когда она не слушалась его
предписаний; так, тираня ее Гиппократом, мой славный
дядюшка как бы менялся с ней ролями и становился ее
слугою. В последние месяцы жизни этой женщины он
подарил ей свое любимое вращающееся кресло; и каждый
день после того, как мы вместе с ним переносили ее
в это кресло, я видел, как он сам перестилал постель
своей старой служанки, вызывая при этом улыбку на ее
бескровных губах.
Как-то вечером, когда она испытывала особенно
жестокие муки, дядя, с величайшей обстоятельностью
расспросив бедную женщину о ее состоянии, справился со
своей книгой и, сочинив чудодейственное лекарство,
пошел к аптекарю, чтобы тот у него на глазах приготовил
это снадобье. Дядя что-то долго не возвращался.
Маргарита позвала меня, чтобы поделиться со мною своей
тревогой. Я поспешно оделся и побежал к аптекарю
самым коротким путем. Оказалось, что дядя ушел от него
за несколько минут до моего прихода. Успокоенный
124
Библиотека моего дяди
этим сообщением, я зашагал по улице старого города,
где должен был пройти и дядя.
Я прошел уже половину пути, круто спускающегося
под гору, как вдруг невдалеке заметил одинокую
фигуру, по чьим движениям сначала не узнал моего дядю.
Он с большим усилием тащил какой-то тяжелый
предмет и раза два опускал его на землю, по-видимому, для
того, чтобы передохнуть. Добравшись до конца улицы,
он поставил свою поклажу в угол, образованный
выступами двух домов, и дотронулся до нее палкой, чтобы
убедиться, что она не скатится на дорогу.
Тут я узнал дядю. Он крайне удивился, увидев
меня. Когда я объяснил ему, почему я здесь очутился,
он сказал: «Я бы уже был дома, если бы не этот
огромный булыжник, о который я очень больно ушибся».
И, прихрамывая, он ускорил свой шаг.
Подобный штрих, как мне кажется, верно рисует
втого благородного человека. Хромая и торопясь,
старик в одиночку отнес тяжелый камень в такое место,
где он уже никому не мог повредить. Но именно это
обстоятельство дядя бы забыл, если бы потом
вспоминал этот случай.
Теперь можно легче понять, почему я в тот день
с такой грустью смотрел как дрожала его рука. Еще
один знак, который я вместе с другими знаками —
возрастающей воздержанностью в пище, все более
короткими прогулками, сонливостью, с которой он усиленно
боролся по воскресеньям в церкви — объяснял все
той же причиной.
Но в то время как я предавался этим грустным
мыслям, мой взгляд встретил мадонну... Она
возвратилась на свое месго. Я был удивлен, потому что думал,
что дядя продал ее некоему еврею, который давно хо-
///. Генриетта
125
тел купить эту картину. Я машинально встал, чтобы на
нее посмотреть.
«Эта мадонна...» — сказал дядя. И тут голос его
дрогнул от волнения.
Единственное, чему дядя косвенным образом
сопротивлялся, — а каким именно, читатель уже видел, — это
моей склонности к искусству. Только неоценимое
значение, какое он придавал тому, чтобы последний
отпрыск его семьи вступил на славное поприще науки,
могло побудить его применить приемы, которые, при
всей их невинности, бесконечно дорого стоили его
прямой и доброй натуре; и, несомненно, он упрекал себя
в жестокости, убрав с глаз моих мадонну. Немного же
надо было, чтобы смущение и стыд взволновали его
простую и ясную душу.
«Эту мадонну, — сказал дядя, — я убрал отсюда по
соображениям... Я не должен был ее убирать...
Я тебе ее дарю. Отнеси ее к себе».
Он говорил, и к нему мало-помалу возвращалось
обычное спокойствие. Я же опечаленный словами
сожаления, сопровождавшими его щедрый дар, в свою
очередь почувствовал себя смущенным и взволнованным.
«Но за то, — продолжал он, улыбаясь, — ты мне
вернешь мои книги. Мой Гроций у тебя скучает... мой
Пуффендорф дремлет. Старуха мне говорила, что пауки
протянули между ними свою паутину. . . В конце
концов пусть каждый следует своим путем...
Конечно, юриспруденция — почтенное занятие! Ну и
что же? В занятиях искусством тоже есть свои преиму-
. щества... Рисуешь красоты природы, набрасываешь
разные сценки, создаешь себе имя... От этого не
разбогатеешь; но, в конце концов, скромно прожить можно., _.
126
Библиотека моего дяди
Экономить, иметь кое-какие заработки, небольшую
помощь. .. Скоро, когда меня не будет, мое маленькое
состояние. ..»
Тут, не в силах сдержать слезы, я разрыдался,
предавшись горести, вызванной этими словами.
Дядя умолк, но ошибочно поняв причину моих слез,
сначала и не пытался меня утешить; однако после
некоторого молчания, приблизившись ко мне, он сказал:
«Такая умная девушка! .. Такая красивая... Такая
молодая!
— Я плачу не о ней, добрый дядюшка! Вы говорите
о таких грустных вещах... Что станет со мной, когда
вас больше не будет?»
Эти слова, выведя дядю из заблуждения, так
облегчили его душу, что к нему сразу вернулась его
обычная веселость.
«О, мой славный Жюль, так ты обо мне плачешь?
Ну хорошо, хорошо! Об этом и не стоит говорить, дитя
мое, мы еще поживем... в восемьдесят четыре года
знаешь как это делается... А потом у меня есть мой
Гиппократ. .. Не надо плакать, дитя мое! Речь идет об
изящных искусствах. ., больше ни о чем... да еще
о твоей судьбе. Видишь ли, годы идут, как у меня, так
и у тебя... Ты не хочешь заниматься правом?
Можно и так! Ну, что ж, займись искусством... Ведь
верно, надо любить свое дело. Ты возьмешь мадонну; мы
найдем тебе мастерскую. .. Ты начнешь учиться здесь,
а закончишь в Риме. Так будет лучше всего. Хуже
всего прозябать. А когда имеешь цель перед собою,
работаешь, двигаешься вперед, растешь, женишься...
— Никогда, дядюшка! — перебил я его.
— Никогда? Пусть. Можно и так... но почему ты
хочешь быть холостяком?
///. Генриетта
127
— Потому что, — ответил я, смущаясь, — я Дал себе
клятву, когда...
— Бедная девушка! .. такая умница.. . Ну, что ж,
будь верен своему решению, можно и так, прожил ведь
я и без этого. Самое главное, чтобы ты выбрал себе
занятие, и мы этим займемся».
Я сделал усилие, чтобы казаться веселым оттого,
что покинул занятия правом ради искусства; но в моем
сердце, переполненном грустью и благодарностью, не
было места для других чувств. Через несколько минут,
нежно обняв дядюшку,- я оставил его.
Вот в чем смысл и значение моего второго
сообщения. Теперь ты понимаешь, читатель, почему я,
сделавшись художником и оставшись по-прежнему
человеком из народа, вдвойне полюбил прогулки за городом,
почему меня тянет к виноградным беседкам. Но для
этого есть еще одна причина. Мне приятно бывать
в тех местах, где я гулял когда-то с дядюшкой. Я
сажусь за длинный стол и представляю себе, как он
прохаживается в тени ветвистых деревьев, порой
останавливаясь, чтобы послушать, о чем говорят и поглядеть по
сторонам. Его улыбка ласкает меня, как дуновение
ветерка, его образ живее встает в моей памяти.
Меня влечет сюда не только мое искусство, которое
находит себе в этих местах обильную пищу. Я
наблюдаю, с какой искренней радостью и вместе с тем с
каким достоинством развлекается здесь народ. В этих
развлечениях, столь излюбленных в семейном кругу, царит
благопристойность, простота придает им особое
очарование. Как сладостна невинная радость той минуты, когда
в конце недели, занятой подчас неблагодарным трудом,
всей семьей отправляются за город — вместе с семьей
128
Библиотека меего дяди
друга или соседа, — чтобы наслаждаться приятным
досугом под сенью буков в долине, или же под сенью
каштанов в горах! Как ярко светит солнце в
воскресенье, как ослепительно сияет синева неба! После
утренней службы в церкви, освящающей весь этот день,
часам к двенадцати, — ибо полдневный зной не в
тягость тем, кому весело на душе, — многочисленные
семейства высыпают за городские ворота. И как идут
к радостным лицам гуляющих живые краски их
праздничных нарядов! Неторопливая поступь родителей и
деда, если он еще принимает участие в этих
удовольствиях, сдерживает быстрые шаги молодежи, что, однако,
нькому не мешает свободно веселиться; и если юная
девушка, опекаемая взором матери, повинуется своей
непобедимой склонности нравиться, ее не сковывают ни
напускная строгость, ни жеманство недотроги. Смех,
игры, задорные шутки, лукавое поддразнивание
объединяют и оживляют шаловливую молодую толпу.
Родители беседуют между собой под ее радостный гул;
слушая шум развлечений нового поколения, приободряется
и дедушка, шествующий чуть позади.
Но все это пока лишь преддверие праздника. Вот
наконец дошли до места, где под купою буков всех
ожидают желанная прохлада, отдых и накрытый стол; и
каковы бы ни были яства на этом столе, аппетит и
хорошее настроение служат им наилучшей приправой.
Даже если в деревенской стряпне и' случаются
досадные неудачи, они становятся лишь предметом для
шуток, еще одним поводом для всеобщего веселья.
Дедушку окружают всеми знаками внимания: для него
создают необходимые его возрасту удобства, стараются
поменьше шуметь, и каждый юноша почитает за честь
для себя оказать старику уважение и бывает счастлив,
ГРАВЮРЫ
ПО РИСУНКАМ Р. ТЁПФЕРА
«Библиотека моего дядиъ, ч. I
«Библиотека моего дяди», ч. II
«Библиотека моего дяди», ч. II
«Библиотека моего дяди», ч. II
«Библиотека моего дяди», ч. III
«Библиотека моего дяди», ч. III
«Библиотека моего дяди», ч. III
«Наследство»у ч. I
«Наследство»у ч. Ill
«Наследство», ч. IV
[/[ *h '«OBWOVdYODf-f»
«Антернский перевал»
«У Жерского озера»
яТрианская долина»
«Большой Сен-Бернар»
«Страх»
«Страх»
///. Генриетта
129
если этим ему удается снискать расположение внучки.
Затем наступают едва ли не самые восхитительные
минуты. Молодежь группками разбредается кто куда, на
зеленых лужайках мелькают белые платья, близится
вечер, нестройный громкий говор застолья сменяется
тихими задушевными разговорами; сладостная
непринужденность в обращении и сознание, что праздник скоро
кончится, ,делают эти минуты еще более драгоценными.
Итак я не стану отрицать, что пока родители беседуют
за столом, или дремлют в укромном уголке, юноши и
девушки обмениваются, нежными словами; что,
отделившись от толпы, они ощущают острую радость, полную
трепетного предчувствия счастья, и что, раздавшийся
наконец из-под буков призыв собираться домой,
вызывает в них досаду. И что же в том дурного? Как иначе
смогли бы они познакомиться, полюбить друг друга,
найти себе спутников жизни? Да, родители, которые
беседуют между собой, или где-нибудь дремлют, имеют
все основания не бояться того, на что они, впрочем,
смотрят сквозь пальцы! Порукою им служит память
о собственной добропорядочности; они знают, что там,
где собрались семьею, все чисто, что семья в сборе —
это святилище, откуда изгнан порок.
Так развлекались наши отцы; следы этих
развлечений еще кое-где сохранились, но они исчезают под
натиском всеобщего изменения нравов, утративших вместе
со старинной простотой и старинное добросердечие;
взамен простых радостей, завоеванных трудом, сладостным
чувством братства и священной силой семейных уз,
приходит все растущее благосостояние, лишенное, однако,
души и всякого вкуса.
Но наибольшие опустошения среди простых и
сердечных радостей производит во все времена все тот же
9 Родольф Тёпфер
130
Библиотека моего дяди
непобедимый росток тщеславия. Он виною тому, что
редеют ряды почтенных и славных людей, которые
любят прогулки на лоне природы: он не терпит этих
скромных развлечений, не требующих особых затрат;
он настаивает, чтобы человек красовался на городской
площади, советует ему обзавестись усами и шпорами,
которые больше всего ценятся у входа в кофейни и на
мостовой фешенебельных улиц; он требует, чтобы
человек по воскресеньям избегал свой квартал, свою лавку,
свои родные места и даже — родного отца; он внушает
человеку, что нет ничего приятнее клячи, которая
тащит его в разбитом фиакре, — пожелтевшем от
времени, как отворот старого сапога, — в какой-нибудь
продымленный трактир; и не столько ради удовольствия,
сколько в угоду этому самому ростку, человек
отдаляется от своих близких и учится бесстыдному тону и
непристойным словечкам, которые так забавляют его
новых друзей!
Да, тщеславие правит человеком! Не этим манером,
так иным оно забирает себе тем большую власть, чем
успешней человек делает карьеру. Тщеславие искажает
радость, притупляет ум, развращает сердце. Если
житейские бури и волнения, частные или народные
бедствия не заглушают голос тщеславия, оно становится вла
стелином и повелителем человека и общества. Нравы и
обычаи, чувства всех и каждого — все подчиняется ему,
все изменяется по малейшей его прихоти. Люди ищут
уединения, или, напротив, объединяются, но не для
борьбы с подлинным Злом, не для служения священной
цели, а ради жалких привилегий, ради фальшивого
блеска, которым они себя окружают, ради убогой
мишуры, которой они прикрывают пустоту своих душ.
Одержимые единственным желанием — обогнать тех, кто
///. Генриетта
131
опередил их, они отворачиваются от себе равных; на
смену братству приходит равнодушие, на смену
сочувствию — зависть; жить — это больше не значит —
любить, наслаждаться, это значит — казаться.
И если времена, подобные нашим^ особенно
способствуют торжеству тщеславия, виною тому ие только
изнеженные и бесцветные нравы, порожденные
благосостоянием, не только душевная дряблость и ничтожность
убеждений, но и обманчивая приманка принципа
равенства, которым питаются вожделения безумного
общества. Как много- простора для безмерного роста
тщеславия в тех сердцах, где не теплится ни искры
огня, где нет почвы для каких бы то ни было
верований, где никогда не шевельнется глубокая страсть!
Какое обширное поле действия открывает тщеславию
современный принцип равенства, который по-своему
толкуют и проповедуют те, кто его не понимает, не
признает, не верит в него, но за который жадно цепляются,
видя в нем лишь право и долг человека неудержимо
рваться вперед, чтобы сравняться с вышестоящими!
Смотрите, как все устремляются на это ристалище, где
пиная, толкая, калеча друг друга, одни попадают в
первые ряды, а другим достаются последние... Вместо того,
чтоб оставаться на своем месте и стараться украсить
его, они гнушаются им, попирают его ногами и, горя
нетерпением захватить местечко получше, жаждут по
примеру других распустить там свой павлиний хвост.
Как ничтожны эти люди без сердца, как опутаны они
тонкими, но бесчисленными сетями самой мелкой из
страстей человеческих — тщеславия!
Что ни говори, а росток тщеславия — дурной
советчик и жалкий владыка! Если невозможно вырвать его
с корнем, то каждый разумный человек должен хотя бы
9*
132
Библиотека моего дяди
постоянно бороться с ним и задерживать рост его
молодых побегов, как только станет заметно, что они
пробились наружу.
Вот уже лет двадцать, как я занимаюсь этим делом
и, кажется, мне иногда удавалось останавливать рост
этих побегов. Но могу ли я сказать о себе, что
полностью сумел уничтожить свой росток тщеславия? Нет,
это было бы ложью. Я ощущаю его в себе; быть может,
он не так уж прожорлив, но все же еще достаточно
жирен, чтобы при первой возможности распуститься
пышным цветом и заглушить те добрые семена, которым
я дал место, оттеснив его самого на задний план. Но
странное дело! Перейдя известный предел, ваши усилия
обращаются против вас же самих: желая уничтожить
росток тщеславия, вы тут же создаете другой. Вы
говорите: «я могу похвалиться, что мне чуждо
тщеславие», а ведь это не что иное, как то же тщеславие. Итак,
не умея добиться всего, я ограничиваюсь необходимым.
Я оставляю ростку для забавы свои картины и свои
книги, но запрещаю ему касаться моих предисловий
к ним, хоть он и советует мне этого не делать. Но
кроме предисловий, есть нечто гораздо более серьезное,
что я берегу от его покушений.
Прежде всего я берегу мои дружеские связи. Я хочу,
чтобы мой росток не находил в них добычи. Я хочу,
чтобы союз мой с друзьями был свободным и
крепким; я хочу, чтобы источник дружбы был глубоким,
всегда свежим и чистым, защищенным и от дуновения
ветерка и от бурь; я хочу, чтобы он не был подобен
изменчивому ручейку, который несется с любого
склона, разливается при любом повороте, омывает то
теплой, то остывшей волной все цветы, впитывает
в себя все встречные ароматы и меняется вместе со
///. Генриетта
133
своим песчаным руслом в зависимости от цвета неба.
Я хочу любить моего друга за его привязанность
ко мне, за радость, которую я испытываю, нежно
заботясь о нем, за наши общие воспоминания, наши общие
надежды, наши задушевные разговоры, за его сердце,
столь близкое моему, за его достоинства, которые
пленяют мою душу, за его таланты, которые услаждают
мой ум, но вовсе не за его карету, его особняк,
положение в обществе, служебный пост, могущество и
известность. Так я хочу, росток, — прочь от меня!
Потом я хочу уберечь от него мои удовольствия.
Я хочу искать их там, куда влекут меня мои
склонности, не взирая на то, как там одеты люди и
позолочена ли обшивка их стен. Я хочу наслаждаться,
насколько мне это доступно, простыми, но неизменно
истинными радостями, в которых участвуют сердце и ум,
прелестью искренних отношений, невинными победами
над злом, над леностью и эгоизмом; я хочу радоваться
чужой радости больше, чем своей собственной, ибо
наивысшая радость — та, которая разделяется другими,
ширится, множится и наполняет сердце восторгом. Итак,
прочь от меня, росток! Оставь меня здесь под буками
с этими славными людьми! «Но тебя видят!—Мне нет
дела до этого! — Но ты в одной рубашке без
сюртука!— Мне так прохладнее! — Но у тебя такой вид,
будто ты с ними в одной компании!—Так оно и есть.—
Но вон едет экипаж. — Пусть себ.е едет. — А ведь там
твои городские знакомые! — Кланяйся им и прочь от
меня, росток!»
И наконец я хочу уберечь мой здравый смысл и не
только мой образ мыслей, но и мои суждения о людях:
какие достоинства я в них ценю, за что я их уважаю.
Прочь от меня, росток! Ты отец глупости, если не сама
134
Библиотека моего дяди
глупость! Прочь! Я вижу, на кого ты мне указываешь,
с кем ты хочешь меня сблизить. Иной раз под внешней
оболочкой, которая тебя соблазняет, бывает нечто
доброе и хорошее, но доброе и хорошее живет и под
грубой одеждой, которую ты презираешь. Прежде чем
выносить приговор этим людям, позволь мне снять платье
и с тех, и с других. Слушай, росток, у меня был дядя,
которым ты бы не гордился! Ты бы скорее стыдился
его... Я любил еврейку, а ты на нее бросил бы лишь
презрительный взгляд. * * Прочь от меня, росток, оставь
меня навсегда!
Кроме моего дяди Тома, меня и живописца, о
котором я говорил, в нашем доме были и другие жильцы.
Я перечислю их всех, — сначала обитателей нижних
этажей, а потом верхних, — пока не доберусь до того,
кто жил ближе всех к небесам и отправился туда
в описываемое время, оставив свободной прекрасную
мансарду на северной стороне, которую я и занял.
Не спрашивай меня, читатель, что будут делать
в моей истории эти новые персонажи! Быть может,
ничего! Но если ты до сих пор был моим спутником, что
для тебя значит еще одно отступление! Ты к этому
привык, а я вызову к жизни образы, которые мне
дороги, как и все, что напоминает о юных годах. Итак,
ко мне, старые жильцы, ко мне мои бывшие соседи, вы
исчезли ныне со сцены жизни, но память о вас я нежно
храню в моем сердце!
Начнем с того, кто жил на том же этаже, что и мы.
Это был отошедший от дел школьный учитель, старый
добряк, главной заботой которого было как можно
приятнее прожить на пенсию, заработанную сорокалетним
трудом. По утрам этот безмятежный, веселый эпику-
///. Генриетта
135
реец поливал цветы в своем садике; в полдень он
неизменно почивал, а после обеда блаженствовал, дыша
свежим вечерним воздухом в обществе выращенных им
канареек, которые порхали вокруг него, или клевали
свою пищу. Однако он не совсем порвал со своим
прежним делом и самым любимым его развлечением было
применять ко всем предметам и людям, попадавшимся
ему на глаза, сентенции, почерпнутые из его
воспоминаний о классической литературе. Когда-то я тоже
прошел через его руки и был не совсем равнодушен к
просодическим красотам4 его афоризмов; поэтому он
благоволил ко мне и не упускал случая при встрече на свой
лад приветствовать меня:
Puer, si qua fata aspera rumpas,
Tu Marcellus eris * 12.
При этом его круглое брюшко колыхалось от
долгого и благодушного смеха, вызывавшего во мне
зависть, хотя я не разделял веселости старика. Если его
бывшая служанка приносила ему из деревни гостинец,
имея при этом некую корыстную цель, он говорил:
Timeo Danaos, et dona ferentes ** 13.
И его брюшко опять ходило ходуном. Когда же речь
заходила о его супруге, он не умолкал:
* Отрок несчастный, — увы — если рок суровый ты
сломишь,
Будешь Марцеллом и ты! (лаг.).
** Страшусь и дары приносящих данайцев (лаг.).
136
Библиотека моего дяди
Dum communtur, dum moliuntur, annus est * 14*
... variu met mutabile semper femina! ** 15
. 4. notumque furens quid femina possit! *** ie
И еще много других изречений. Тем временем жена его
варила компот; она находила отвратительной его манеру
выражаться, на что он потихоньку роптал:
Melius nil coelibe vita! **** 17
Этажом выше жил угрюмый и ворчливый
восьмидесятилетний старик, бывший государственный чиновник.
Летом он проводил время у окна, сидя в глубоком
кресле, и со скорбным видом наблюдал улицу, всюду
усматривая упадок государства и разложение нравов:
в свежевыбеленных домах, в свежеоштукатуренных
стенах, в круглых шляпах вместо почти исчезнувших
париков с косичками и, самое главное, в молодости
молодых людей:
... cuncta terrarum mutata
Praeter atrocem animum Catonis ***** 18#
говорил школьный учитель. Зимой, засунув тощие ноги
в домашние сапоги, старик коротал дни у камина и
лишь раз в месяц покидал свое место, чтобы подойти
* [Да и привычки женские:]
покуда с места тронутся, уж год прошел (лаг.).
** ... изменчива и непостоянна женщина! (лаг.).
*** . .. способна на все в исступлении женщина (лаг.).
**** Ничего нет приятнее, чем жизнь холостая! (лаг.).
***** Сломилось р.се, что есть земного.
Кроме суровой души Катона (лаг.).
///. Генриетта
137
к дверям — все в тех же сапогах — и подать милостыню
нескольким нищим, людям его поколения, уже
превратившимся в развалины, но в них он еще различал следы
доброго старого времени, — жалкие остатки старинной
республики, ныне столь изменившейся, столь низко
павшей.
Над этим угрюмым стариком жила чрезвычайно
замкнуто многочисленная семья землемера, служившего
по кадастру 19. Этот человек днем не расставался с
измерительным прибором, а часть ночи проводил,
склонившись над бумагами. Насколько я помню, в нем была
гордость трудолюбивой и независимой бедности, и если
время от времени он позволял себе совершать вместе
со своим семейством увеселительную прогулку, он
наслаждался этим удовольствием с таким важным и
полным достоинства видом, что внушал мне, юнцу,
почтение, смешанное с удивлением
Dos est magna parentium
Virtus.. .* 20
значительно говорил школьный учитель.
Прежде чем попасть в мансарду, надо было пройти
мимо квартиры музыканта, игравшего на контрабасе.
Он по целым дням давал уроки музыки, оставляя за
собой ночь, чтобы сочинять пьесы для своего
инструмента:
... modo summa,
Modo hac resonat quae chordis quatuor ima ** 21.
* [Там приданым для девушки]
Служит доблесть отцов... (лат.).
** ... то высоким напевом, то низким,
Басом густым, подобным четвертой струне
тетрахорда (лат.).
138
Библиотека моего дяди
С правой и левой стороны квартиры музыканта хлопали
двери каморок и комнатушек, сдававшихся студентам,
которые у него столовались. Эти господа, заядлые
курильщики, громко учили свои лекции, пели романсы,
трубили в рог, играли на флажеолете, так что в доме
не переставала греметь симфония.
Quousque tandem!!! * 22
Ну а теперь, наконец, о мансарде, о которой я уже
упоминал.
Это была большая мансарда с великолепным дневным
освещением. Ее хотел занять землемер. Того же хотел
и я. Пробили окно, поставили перегородку, и каждый из
нас получил по мансарде.
Здесь я снова обрел вид на озеро и на горы. Мое
окно находилось на одном уровне с большими
готическими розетками, расположенными на середине высоты
соборных башен. С этой возвышенной точки, куда
почти не достигал городской шум, замиравший вдали,
взору открывались пустынные крыши.
Между тем я уже начал приближаться к возрасту,
когда такие впечатления не производят столь могучего
действия, и я все чаще обращался к своему сердцу,
стараясь найти в нем источник и жизни и волнений.
По той же причине прошло и мое увлечение
живописью: для этой склонности нужен душевный покой,
а его-то у меня и не было. Как часто, встревоженный
порывом безотчетной нежности, я, наскучив
оригиналом, с отвращением разглядывал его неудавшуюся ко-
* Доколе же ты!!! (лат.).
///. Генриетта
139
пию и, отложив в сторону кисть, долгие часы проводил
в мечтаниях.
Эта внутренняя жизнь имеет свою прелесть и свою
горечь: если сны ее сладки, то пробуждение печально и
мрачно. Душа возвращается к действительности,
ослабев, или вовсе утратив свою энергию. Неспособный
после долгих часов бездействия вновь приняться за
работу, и тем более — возродить свои сны, я уходил из
дому, чтобы в прогулке развеять тоску.
Во время одной из таких прогулок неожиданная
встреча вывела меня из состояния безразличия и
почти полной праздности.
Я собирался вернуться домой через затененную
высокою липою дверь, выходившую в сторону церкви.
Перед дверью я увидел роскошный экипаж. Не успел
я переступить через порог, как голос, который я тотчас
узнал, заставил меня мгновенно обернуться. «Господин
Жюль!» — взволнованно воскликнул тот голос.
Когда я понял, что это зовут меня, я так смутился,
что не мог двинуться с места. Я уже хотел отступить
назад, но дверца коляски быстро растворилась, и я
очутился лицом к лицу с милой Люси. Она была в трауре,
глаза ее были влажны от слез... Тут заплакал и я.
Я сразу вспомнил ее белое платье, ее дочерние
тревоги, речи старика и его доброту ко мне! .. «О! этот
достойный человек должен был еще жить! — сказал я
после некоторого молчания, — какая это горестная
утрата, мадемуазель!.. Поверьте, мои слезы — это дань
воспоминанию о его сердечной доброте, которую я
никогда не забуду».
Люси, слишком растроганная, чтобы отвечать, молча
пожала мне руку, этим грациозным движением сдержав
охватившее ее благодарное чувство.
140
Библиотека моего дяди
«Я надеюсь, — молвила она наконец, — что вы
счастливее меня: ваш дядюшка еще с вами...
— Он жив, — ответил я ей, — но годы идут и
клонят его к земле... Как часто, мадемуазель, я думал
о вашем отце, и с каждым днем все больше и больше
разделял вашу печаль».
Обернувшись к сидевшему рядом с ней господину,
Люси в нескольких словах объяснила ему по-английски,
какому случаю она была обязана пять лет назад
знакомству со мной и моим дядюшкой, и почему мое
появление живо напомнившее ей день, когда ее отец был
доволен и весел, так взволновало ее. Она прибавила еще
несколько слов в похвалу мне и моему дядюшке. Когда
она упомянула о том, что я сирота, я вновь уловил в ее
голосе и в лице то выражение участия, которое так меня
тронуло когда-то. После того как она закончила свой
рассказ, господин, сидевший рядом с ней и
по-видимому не говоривший по-французски, протянул мне руку
с видом искреннего уважения.
«Это мой муж, — сказала Люси, — мой защитник и
друг; отец сам его избрал для меня... После того дня,
когда вы увидели моего отца, господин Жюль, мне
ненадолго удалось сохранить его... Через полтора года
господь призвал его к себе... Не раз он улыбался,
вспоминая вашу историю... Когда и вас постигнет
такое же горе, — прибавила она, — дайте мне знать, прошу
вас... А сейчас я хочу передать привет вашему дяде...
Сколько ему лет?
— Пошел восемьдесят пятый год, сударыня!»
Наступило молчание. Потом, все еще под
впечатлением моих слов, она сказала: «Я приехала, чтобы
поговорить с живописцем, который написал портрет мо-
///. Генриетта
141
его отца. Как вы думаете, господин Жюль, я застану
его у себя?
— Без сомнения, сударыня! Отдайте мне только
приказание, и я передам его моему собрату по искусству».
« Она перебила меня: «О, значит вам удалось
последовать своему призванию! .. Хорошо, я принимаю ваше
предложение; я выберу свободную минуту... Только
прежде мы с мужем хотели бы посмотреть ваши
работы. .. Вы живете в этом же доме?
— Да, сударыня... Правда, меня несколько смущает,
что я смогу познакомить вас только с жалкими
набросками, но я не собираюсь из ложного самолюбия
отказаться от чести, которую вы желаете мне оказать».
Мы обменялись еще несколькими словами, затем
я вышел из коляски, и она покатила дальше.
Эта неожиданная встреча пробудила во мне былые
нежные чувства и вывела меня из того состояния
апатии, в каком я прозябал уже несколько месяцев.
Но, осмелюсь ли признаться? Хоть я никогда не
переставал любить мою еврейку и свято чтить ее
память, но с этого дня моя скорбь утратила свою горечь,
и душа моя, словно освободившись от прошлого, снова
устремилась к будущему и уже легко несла бремя
воспоминания — по-прежнему милого и дорогого, но не
столь мучительного.
Тем не менее эта встреча была не совсем
безоблачна. Хоть я и забыл Люси, хоть я и прежде даже
в самых смелых мечтах не дерзал чем-то стать для нее,
при первом взгляде на сидевшего рядом с ней
господина я загрустил. Когда я услышал из ее уст, что она
замужем, сердце мое сжалось и я ощутил укол ревности.
Но это было мимолетное ч)'вство. Еще не отойдя о г
коляски, я уже отдал свое сердце этому господину и
142
Библиотека моего дяди
видел в Люси лишь его милую супругу, которую он по-
ззолил мне обожать.
Первое время я жил этим воспоминанием и надеждою
вскоре снова увидеть Люси. Я сделал несколько копий,
причем одну из них — с мадонны, написал два-три
портрета, а также набросал несколько композиций, большею
частью весьма посредственно выполненных, но не
лишенных некоторых признаков таланта. Можно
представить себе, как рьяно росток тщеславия помогал мне
размещать мои работы, желая показать их с самой
выгодной стороны. Все было готово к приходу Люси, и вот
она появилась в сопровождении мужа.
До сих пор я не могу вспомнить об этой прелестной
женщине, чтобы мысль о ней не растревожила мою
душу. Ах, почему не могу я обрисовать достаточно
верно ее привлекательные черты: эту неподдельную
доброту, которой высокое положение, блеск и богатство
придавали еще большее очарование; эту простоту
чувств, которую не могли исказить ни светские манеры,
ни предрассудки высшего общества! Несмотря на
обычно грустное выражение ее лица, милая улыбка
согревала ее самые незначительные слова, а ласковый взгляд
сообщал неотразимую прелесть даже ее молчанию. Едва
она вошла в мою скромную мансарду, как сразу
обратилась ко мне со словами одобрения. Она рассматривала
мои работы с особенным вниманием и, насколько я
понимал, все что она о них говорила мужу по-английски,
было проникнуто искренним доброжелательством. Лишь
на мгновение они понизили голос, переговариваясь
между собой, но по тону и лицам обоих было ясно, что их
слова могли привести меня лишь в понятное смущение,
обычно сопутствующее дружеской похвале.
Когда я по просьбе Люси выставил перед ней ре*
///. Генриетта
143
шительно все мои полотна, послышались шаги дяди.
Я побежал открыть ему дверь.
Люси, словно предчувствуя, что это он, встала,
увидя моего старого дядю, она устремилась к нему
навстречу, но, не сумев побороть свое волнение,
остановилась. Как всегда спокойный и ясный, дядя склонился
перед ней и, верный старинному галантному обычаю,
поднес ее руку к губам: «Разрешите мне, сударыня,
ответить вам на визит, которым вы почтили меня пять
лет назад, доставив мне этого негодника... Я знаю, вы
скорбите, — продолжал он, заметив слезы на глазах
у Люси, — этот благородный старик, ваш батюшка! ..
Я знаю также, что это ваш супруг. Он достоин им
быть, поскольку ваш батюшка сам избрал его для вас!»
Муж Люси, пожав дяде руку, пододвинул к нему
стул и пригласил его сесть, а я не сводил глаз с этой
сцены.
«Сударь, — сказала Люси, — простите мне мое
волнение. .. Когда в Лозанне я увидела вас вместе с моим
отцом... оба почти одного возраста и оба необходимые
для счастья двоих людей.. . вот тогда у меня и
появилось предчувствие, которое ваше появление так живо
мне сейчас напомнило... Я благодарю бога за то, что
он вас сохранил, и если бы случай не позволил мне
встретить господина Жюля, я бы не покинула Женеву,
не выполнив моего намерения узнать, как вы
поживаете. .. Но мне гораздо приятнее воочию убедиться,
что вы в добром здравии, — как это можно судить по
вашему виду, — и я столь же смущена, сколь и
признательна вам за ту радость, которую вы нам
доставили, поднявшись сюда так высоко.
— О как вы добры, сударыня, — сказал дядюшка, —
вы чудесное создание! Слушать вас одно удовольствие
144
Библиотека моего дяди
В Лозанне ваш отец так же высоко поднялся по
лестнице. .. Но он не был за это вознагражден таким
приемом, который может оказать только дама с вашим
голосом, вашим обхождением и вашим сердцем. Будьте
счастливы, дорогая! Скоро, скоро я поднимусь еще
выше! Вот только мой милый Жюль никак не
соглашается на это!
— Ах, никогда, добрый дядюшка», — воскликнул я,
потрясенный грустным и удивительным сходством моего
нынешнего положения с тем, в каком я когда-то застал
Люси, и по лицу ее я понял, что в эту минуту мы
думаем об одном и том же.
«Я не хочу вам мешать, — закончил дядя, скааав еще
несколько слов, — вы рассматривали наброски моего
милого Жюля... я покину вас... Скажите, пожалуйста,
вашему супругу, что я сожалею теперь, что знаю
древнееврейский, а не английский язык. Я бы имел тогда
удовольствие побеседовать с ним». Затем, взяв Люси
за руку, он прибавил: «Прощайте, дитя мое! .. будьте
счастливы! Благословить такую молодую даму — право
старика, и я им воспользуюсь. Прощайте и вы, сударь,
дорогой мой!.. Вы соединили ваши жизни; в моей
памяти вы будете неразлучны!»
Тут дядя Том, снова склонившись, поцеловал руку
Люси и удалился. Мы втроем проводили его, охваченные
тем живым, но смешанным с грустью чувством любви
и уважения, которое обычно внушает к себе приветливая
старость.
Когда дядя ушел, мы сели. Люси долго говорила
о.нем. Ей хотелось найти черты сходства между ним и
ее отцом, особенно заметные в той ясной веселости и
в дружелюбной, несколько старомодной учтивости,
которые были присущи обоим. Люси иногда умолкала,
///. Генриетта
145
словно опечаленная мыслью о потере, ожидавшей меня
в недалеком будущем. Потом, переменив предмет
разговора, она обратилась ко мне, и щеки ее слегка заалели:
«Господин Жюль, — сказала она, — мы привезли с собой
портрет моего отца, вы его знаете... Нам бы хотелось
иметь две копии с него. Я надеюсь, что вы доставите
мне удовольствие, взяв на себя этот труд. Ваш талант
служит нам порукой, что вы оправдаете наши ожидания,
не говоря уже о том, что меня больше всего трогает
воспоминание, которое вы сохранили о моем горячо
любимом отце».
Судите же о моей радости! Мне следовало бы не
так явно ее выражать; но Люси и ее муж, несмотря на
мои робость и смущение, не могли не заметить, как она
была велика. Эта радость усилилась еще от сознания,
что работа была мне по плечу. В тот же день я пошел
за портретом и взялся за дело, поняв, что уже
проложил себе дорогу в мир изящных искусств.
При других обстоятельствах этот портрет навеял бы
на меня грусть, ибо он уносил мое воображение в
прошлое, где я встретил два дорогих друг другу существа,
полные жизни, а теперь разлученные смертью. Та юная
девушка, сияющая блеском ласкающего взор убора и
молодости, еще не омраченной слезами, и нынешняя
Люси — в трауре, затуманенная печалью.. . Но я был
слишком переполнен чувством благодарности и радостью,
чтобы этот контраст произвел на меня сильное действие.
Какое это было чудесное занятие! Мой карандаш
должен был нарисовать любимое лицо, воспроизвести
очертания этой фигуры, грациозную небрежность этой
позы... Иногда, восхищенный оригиналом, я
останавливался, и волнение-на некоторое время мешало
продолжать мне работать.
146
Библиотека моего дяди
«Превосходная дама!—сказал мой дядя, узнав об
этих великих событиях. — Я жалею, что изучил
древнееврейский, а не английский язык... Ты доволен теперь,
милый Жюль! .. можно и так... — он выпрямился. —
Выполни с честью эту работу! Пусть в ней будут
соблюдены законы светотени, законы двух перспектив, как
линейной, так и воздушной... и потом... согласие
искусства с. *. и потом... Какая превосходная дама!
Такая ласковая и такая красивая!»
Меж тем, как коляска Люси во время ее последнего
визита ко мне стояла со стороны дома, обращенной
к больнице, экипажи, подвозившие заказчиков моего
собрата — живописца, подъезжали к другой стороне
дома, обращенной к собору.
Это обстоятельство привлекло внимание жильцов
нашего дома; когда же после множества предположений
и догадок, в которых наименьшую роль играла моя
особа, они все-таки узнали, что коляска с гербами
стояла ради меня, молва о моей неожиданной и тем более
ослепительной славе, полетела с этажа на этаж, и
старый учитель, утверждая, что он это предвидел и
раньше, повторял:
Non ego perfidum
Dixi sacramentum! * 2Э
— Уж не ругаешься ли ты? — перебила его жена.
Odi profanum vulgus
Et areo ** 2A.
* Дал ведь не ложно я
Клятву святую (лат.).
** Противна чернь мне, чуждая тайн моих (лат.).
///. Генриетта
147
— Вари-ка лучше свои компоты!
— Я думала, что сорок лет работы в школе отбили
у тебя охоту к этой проклятой латыни, она делает тебя
невыносимым. Неужели ты не можешь бросить эти
глупости и говорить по-французски, как все люди?
— Ты очень отличаешься от Горация, моя дорогая,
ибо это он говорил:
Nocturna versale manu, versate diurna * 2S
и если я тебе даю пощаду ночью, ты можешь слушать
меня днем.
—. Гораций и все эти господа большие дураки, они
и тебя оболванили. Ночью ты так храпишь, что я не
могу спать, а днем забиваешь мне голову твоей
тарабарщиной.
— Ты клевещешь на красоты, которые тебе не дано
понимать. Одумайся, моя дорогая, если я ем твои
компоты и нахожу их вкусными, ты могла бы хвалить мои
гекзаметры и ощущать их аромат...
Vellem in amicitia sic erraremus.. .** 2б
— Мои компоты превосходны, а твои рагу ужасны!
Melius nil coelibe vita! *** 27
— Я остаюсь при том, что всегда говорил об этом
юноше:
Non ego perfidum
Dixi sacramentum! **** 28
* О, день и ночь [вы, Пизоны,] читайте [творения
греков]! (лат.).
** Если б мы так разбирались и в дружбе... (лат.).
*** Ничего нет приятнее, чем жизнь холостая! (лат.),
**** дал ведь не ложно я клятву святую (лат.).
10*
148
Библиотека моего дяди
С другой стороны музыкант, игравший на
контрабасе, и вся его команда (я уже говорил, что студенты
проводят свою жизнь у окна) тоже не преминули
заметить роскошную коляску. По меньшей мере пятнадцать
физиономий сразу показались в окнах, выходивших
на улицу, и с любопытством глазели на лакеев,
спрыгнувших с козел, чтобы отворить дверцу коляски, и на
молодую даму, входившую в дом, опираясь на руку
супруга. Начались предположения: «К кому она идет? Кто
знает, — думал музыкант, — быть может, любитель
музыки, которого провидение? ..» И все физиономии
обратились к окнам, майсардам, чердачным окошкам,
выходившим во двор...
Люси поднималась по лестнице, Люси миновала
последний этаж; воистину, прекрасная дама щла к юному
живописцу!!! И моя слава вознеслась до звезд.
Один лишь землемер и его семейство не обратили
внимания на эти великие события. Глава дома был
в поле, занятый своими угломерами, мать хлопотала по
хозяйству, а старшая дочь, погруженная в бумаги отца,
трудилась по ту сторону нашей перегородки. В этой
деятельной жизни, обремененной суровыми заботами,
было мало места для уличных дел и пересудов соседей.
Тем временем моя работа подвигалась. Я вставал на
заре, поднимался в свою мастерскую и с жаром
трудился до наступления сумерек.
Своим прилежным занятиям я был обязан тому, что
немного покороче познакомился с землемером. Вместе
с дочерью, он, как и я, на заре покидал свое жилище.
Мы вместе шли по лестнице, и в то время, когда он
входил в свою мансарду, чтобы задать девушке урок
на день, я водворялся в своей. Соседство и общности
///. Генриетта
149
привычек мало-помалу нас сблизили, и хотя этот
человек очень дорожил своим временем, он иногда позволял
себе потерять две-три минуты, поговорив со мною
перед дверью, если предмет разговора, начатого на
лестнице, настоятельно требовал еще нескольких слов.
Когда мы поднимались по лестнице, его дочь шла
впереди, держа в руке ключ от мансарды. У нее была
недурная фигурка, а лицо — скорее благородное, чем
красивое. Всегда с непокрытой головой, она была
чрезвычайно просто одета. Ее лучшим украшением были
молодость, свежесть и прекрасные гладко зачесанные
волосы, обрамлявшие лоб.
Черты строгого воспитания в любом возрасте
заметны у тех, кто имел счастье его получить. Эта робкая
и застенчивая девушка носила на себе печать несколько
диковатой гордости, которая с еще большей силой
выражалась на лице ее отца. Она была незнакома с
манерами большого света, однако держалась с таким
благородством и сдержанным достоинством, что при всей
скромности ее звания, в ее облике нельзя было найти
ничего вульгарного.
Трудно было без удивления и интереса глядеть на
эту юную особу, которая в возрасте забав и веселья
посвятила себя необычному для женщин труду; работая
не покладая рук, почти не зная отдыха, она при всей
своей молодости была вместе с отцом опорой семьи.
Я не отступал от своего правила рано вставать,
чтобы не оказаться в одиночестве, поднимаясь в мою
мансарду. Но иногда бывало и так, что землемер утром
уходил сдавать законченную накануне работу, и
Генриетта поднималась по лестнице одна. Это были
тягостные для меня дни. ' Боясь вызвать у нее смущение,
которое я испытывал сам, я не мог придумать ничего луч-
150
Библиотека моего дяди
шего, как ускорять шаги, когда она шла сзади меня,
или же замедлять их, когда она шла впереди.
Но, сидя уже в своей мастерской, я находил
странное очарование в присутствии невидимой подруги, и мне
было приятно, прислушиваясь к малейшему шуму,
доносившемуся из-за перегородки, представлять себе ее
походку, жесты, движения. Когда ее звали снизу
к столу, мне становилось так одиноко и тоскливо, что
я мало-помалу стал отлучаться из мастерской в те же
часы, что и она.
Среди всех этих новых для меня забот мне начала
приходить в голову одна и та же мысль. Прежде, когда
я еще не вставал так рано, она, случалось, в долгие
часы своей работы напевала песенку; потом это пение
внезапно прекратилось, и как раз в то время, когда
я стал слушать его все с большим удовольствием.
Было ли это случайностью? Был ли я этому причиною?
Сделалось ли мое присутствие настолько заметным для
нее, что она приневолила себя молчать? Значило ли
ее молчание, что я занимаю ее мысли, как и она
занимает мои?
Вот тьма разных вопросов, заставлявших меня
раздумывать и мечтать. Поэтому, закончив свои копии,
я уже больше ни за что не брался. Я не прикасался
к чистым полотнам, мои кисти валялись, где попало,
ничто не трогало меня, кроме чувства, заполнявшего мою
жизнь.
Но то не были прежние мечты, несбыточность и
безрассудство которых я признавал уже сам. Напротив,
на этот раз мне прежде всего пришла мысль о браке, и
с этой минуты она не покидала меня.
В каком счастливом возрасте я еще был тогда! Как
прекрасны последние дни перед приходом возраста зре-
///. Генриетта
151
лости и опыта! Никогда не задумываясь прежде о той
серьезной перемене в жизни, которую поэты рисуют
нам, как могилу любви, а моралисты, — как священное,
но отягощенное цепями иго, я сразу заторопился к ней,
словно к цветущему благоуханному берегу. Еще не
имея понятия, как и чем живет молодая пара,
создающая семью, я погружался в составление некоторых
проектов, тем более легко выполнимых, что и желаниям
моим они сулили близкое осуществление.
Ведь достаточно было пробить дверь в перегородке...
Тогда мансарда Генриетты станет нашей супружеской
спальней, а моя — нашей мастерской, где моя жена
будет трудиться над своими бумагами, а я — над своими
полотнами, и наша жизнь потечет в мире, любви и
счастье.
Однажды утром, когда я размышлял обо всем этом,
облокотившись на подоконник и рассеянно глядя на
старого учителя, поливавшего тюльпаны в своем
садике, у окна вдруг появилась Генриетта.
Она не ожидала увидеть меня, как я мог заметить
по яркому румянцу, внезапно вспыхнувшему у нее на
щеках; тем не менее, чтобы нельзя было подумать,
будто мое присутствие оказало на нее большее
впечатление, чем это допускала ее гордость, она не могла
тотчас же скрыться. Итак, она осталась у окна, но чтобы
не выдать свое смущение, глядела прямо перед собой
на плывущие в небе облака.
Случай был исключительный: наконец-то я мог
завязать разговор с той, кого я наметил себе в жены.
Сделав над собой невероятное усилие, чтобы подавить
волнение, я сказал учителю:
«Эти тюльпаны. ..»
152
Библиотека моего дяди
Едва я произнес эти два слова и не успел учитель
поднять голову, как Генриетта исчезла. Разговор на этом
кончился.
«А! вы подсматриваете, чем я занимаюсь? — спросил
учитель. — Плутишка, я догадываюсь, о чем вы думаете!
Добро бы строить! но сажать в такие лета!
— Прежде всего, молодой человек, это тюльпаны:
Неужли запретить хотите мудрецу
О благе ближних прилагать старанье? 29
Смотрите, этот разноцветный тюльпан, который в
Голландии стоил бы двадцать дукатов, я предназначаю
моей жене.. .
Purpureos spargam flores.,..*30
Я уже давно закрыл в смущении окно, а учитель
продолжал говорить цитатами.
Неудача моей попытки отбила у меня охоту
возобновить ее. Несколько недель я ограничивался тем, что
потихоньку следил за привычными занятиями
Генриетты.
Она изредка принимала гостей. Когда у ее матери
выпадало несколько свободных от хозяйства минут, она
приходила к дочери с работой в руках. Тотчас же,
прильнув к перегородке, я старался затаить дыхание,
чтобы лучше слышать, о чем они говорят.
«Отец, — говорила мать, — придет домой в шесть
часов. Я приготовила платье для мальчиков, и мы все
вместе пойдем погулять.
* Хочу я цветами щедро осыпать... (лат.).
///. Генриетта
153
— Пойдите без меня, матушка! Если я сейчас
оставлю работу, я, наверное, не смогу завтра ее сдать.
А ведь завтра четверг, вы знаете — надо платить за
квартиру.
— Дитя мое, ты так нам нужна! Как я буду рада,
когда братья смогут помогать тебе!
— Я буду тоже рада за отца.
— Отец пока крепок и, слава богу, еще достаточно
молод. Но в будущем меня так пугают болезни и
старость. .. Вот когда нам будет трудно без тебя,
Генриетта!
— Я тоже крепка и надеюсь еще жить.
— Я тоже так считаю, мое дорогое дитя, но придет
пора и тебе устроить свою жизнь.
— Я принадлежу вам, матушка! Я предпочитаю
жить в бедности, но вместе с вами, чем разделять ее
с кем-то другим и стать вам чужой.
— Значит, ты хочешь найти себе богатого мужа,
Генриетта?
— Нет, матушка, я не буду ему ровней. И я не хочу
лишать вас моей помощи и работать на мужа, которому
ничем не буду обязана.
— Ты права, Генриетта, что не гонишься за
богатством. Помни, дитя мое, твоя мать очень счастлива, хотя
и терпит нужду; все ее счастье в муже и в детях. Лучше
жить в бедности, но с порядочным и честным
супругом, чем остаться в девушках, Генриетта! Все беды не
от нужды, а от пороков.
— Таких людей, как мой отец, мало, матушка!»
Это все означало, что вовсе не замечая меня, она
сделалась мне гораздо ближе; но мое чувство к этой чистой
и гордой девушке было так глубоко, что мне стало
очень грустно и горько.
154
Библиотека моего дяди
Да и весь этот разговор был мне не по вкусу.
Правда, слова Генриетты говорили о том, что ее сердце
свободно; однако в этом сильном и независимом сердце,
способном беззаветно любить, я не находил ни
нежности, ни пылкости, без которых юноша моего склада не
мог и мечтать его покорить. Только речи ее матери
вселяли в меня какую-то надежду. Слова этой доброй
женщины, восхвалявшей честную бедность, казались мне
божественно прекрасными и шли прямо мне на пользу,
ибо я был честен и прежде всего беден.
К сожалению, Генриетта слушалась не только матери.
По какой-то странной, но впрочем вполне естественной
особенности гордый и независимый характер, присущий
всем членам этой семьи, уживался у каждого из них
с добровольным, но безграничным подчинением отцу —
главе и душе этого семейства. Землемер — человек
твердый, строгий, трудолюбивый — не отличавшийся
утонченной любезностью и особой учтивостью, оказывал
могучее влияние на близких своим примером
самоотверженности и безупречной добродетели. Жена любила его
благоговейно, а Генриетта, когда ей приходилось
высказывать суждение о людях и сравнивать их с отцом,
привыкла ставить его выше всех. Таким образом
дочернее чувство, более глубокое, чем нежность, более
почтительное, чем восхищение, приучило ее к
безоговорочному послушанию. Она и ее сердце могли принадлежать
лишь тому, кого предпочтет отец, столь достойный по
ее мнению руководить ее выбором.
С умилением, часто увлажнявшим мой взор жаркими
слезами, я узнал позднее, какого внимания и уважения
была достойна эта скромная семья, как поистине велик
был этот незаметный человек. Но в те времена их
семейные добродетели только мешали исполнению моих же-
///. Генриетта
155
ланий. В самом деле, что мне было до того, что эти
женщины были послушны своему повелителю и владыке,
если я не знал, как к нему подступиться? Что мне было
до того, что землемер был строг, тверд, трудолюбив и,
конечно, хотел найти эти качества в своем зяте, если
у меня-то как раз их не хватало? Оставалось лишь
понравиться ему чем-нибудь другим, но у меня так было
мало шансов для этого! И, действительно, его суровый
вид, надменный испытующий взгляд, резкая манера
говорить и властный характер внушали мне такую
робость, что в его присутствии я становился бог знает
каким неловким, и все мои преимущества куда-то
исчезали.
Итак кругом были сплошные препятствия; как это
всегда бывает, каждое из них только разжигало мои
желания, и думая о том, как бесконечно трудно
получить руку Генриетты, я только того и желал, чтобы ее
получить.
Я принял рыцарское, но отчаянное решение:
сделать первый шаг и признаться моей будущей невесте
в любви. Надо было лишь дождаться подходящего
случая. Но я так долго и терпеливо его дожидался, что все
подходящие случаи ускользали от меня прежде, чем
я мог вымолвить слово.
Вот что бывало по утрам. Мы с Генриеттой часто
поднимались по лестнице одни, и я уже дошел до
такой вольности, что, поздоровавшись с ней, справлялся
о здоровье ее отца, или же высказывал свое суждение
о скуке затяжных дождей или о приятности хорошей
погоды. По крайней мере раз десять я, охмелев от
собственной смелости, уже был готов разразиться нежным
и торжественным признанием, но в самую последнюю
минуту краска бросалась мне в лицо, от волнения я ли-
156
Библиотека моего дяди
шалея дара речи, и все откладывалось до того
времени, когда я не буду краснеть и волноваться. Пока
я так колебался, землемер мало-помалу присоединялся
к нам, и Генриетта уже входила в мансарду не одна.
Но любовь так изобретательна! В часы обеда и
ужина Генриетта спускалась и поднималась одна. Мне
прекраснейшим образом удалось устроиться так, чтобы
мы совершали это путешествие вместе. Дело было за
малым: открыться ей. Но в семье вдруг изменили часы
трапезы, и я днем и вечером поднимался и спускался
по лестнице в одиночестве.
Оставалось еще одно, последнее средство, правда,
дерзкое, но верное: войти под каким-нибудь предлогом
к Генриетте и дать волю своим чувствам. Сколько раз
я уже направлял свои стопы к ней: надо было лишь
однажды взять себя в руки и не повернуть назад. Но тут
мать Генриетты завела себе привычку приходить к ней
с работой в руках.
Урокам г-на Ратена и его скучной проповеди
целомудрия я был обязан тем, что никогда не смел
обратиться к женщине ни с одним нежным словом, хотя
в юности только и делал, что беспрестанно влюблялся.
Однако эта глупая робость — большое благо, которое
я оценил только теперь. Благодаря робости, юноша
сохраняет до самых дней Гименея природную
стыдливость, которую, однажды утратив, уже никогда не
вернешь. Благодаря робости, его сердце всегда искренно и
молодо. Робость сдерживает порывы пламенных и
нежных чувств, переполняющих сердце юноши, и он
преподносит будущей подруге жизни нетронутым богатый
дар чистой любви.
///. Генриетта
157
Но тогда я рассуждал иначе. Я возмущался собой и,
думая о том, как часто неисправимая робость сковывает
мой язык, когда все кругом призывает меня говорить,
я приходил к убеждению, что я родился неловким и
глупым и навеки останусь холостым, ибо не сумею
объясниться в любви. К счастью, на помощь мне пришел
случай.
Однажды утром, когда я предавался этим унылым
размышлениям, кто-то вдруг ко мне постучался. Я
побежал открыть дверь: это была Люси. Ее приход меня
очень обрадовал: зная заранее, что услышу милые речи
одобрения, я надеялся, что Генриетта, находившаяся
за перегородкой, не пропустит ни одного слова из
нашего разговора.
Люси, возвратившаяся из поездки по Швейцарии,
хотела узнать как идет работа над ее копиями. Она
была на этот раз одна. Я показал ей свою работу; она
внимательно ее рассмотрела, по всей видимости осталась
чрезвычайно довольна и горячо расхвалила мой талант.
Я не помнил себя от радости, как она вдруг переменила
предмет разговора.
«Вчера вас не было дома, господин Жюль? —
спросила она.
— Вам пришлось затруднить себя, сударыня,
напрасно поднявшись по лестнице? Как раз в это время,
вчера утром, дядюшка предложил мне пойти с ним
погулять.
— Вот это мне и сказала молодая особа, которая
работала в соседней комнате. Я несколько минут
отдыхала у нее. Скажите, пожалуйста, как ее зовут?»
Этот вопрос заставил меня покраснеть до ушей.
Заметив мое смущение и немного смутившись сама, она
прибавила:
158
Библиотека моего дяди
«Я, не подумав, задала вопрос, который, быть
может, вам показался нескромным, господин Жюль! . «
Простите меня. Моим единственным побуждением было
желание узнать имя молодой девушки: ее внешность,
манеры и прием, который она мне оказала, очень меня
привлекли.
— Ее зовут Генриетта, — ответил я, все еще в
сильном замешательстве, — это имя я не могу произносить
без волнения, хотя без конца его произношу»...
Затем, ободренный сочувственным видом Люси,
а главное мыслью о том, что я уже начал, а может
быть смогу и завершить трудную для меня задачу
объяснения в любви, я продолжал:
«Раз я уже осмелился вам это сказать, сударыня,
я, как мне кажется, должен сказать еще больше... Эту
молодую особу я вижу каждый день, я работаю рядом
с ней, я ее люблю! .. Ваш вопрос смутил меня, словно
вы открыли тайну, скрывавшуюся до сих пор в глубине
моего сердца... Я достаточно сказал, чтобы вы могли
заключить из моих, слов, каковы мои чувства, и каковы
были бы мои намерения, если бы я знал, что они будут
приняты благосклонно...»
В эту минуту меня прервали. Пришел муж Люси.
Мы снова вернулись к разговору о копиях, и вскоре
супруги ушли.
После всего, что произошло, мне не терпелось
остаться одному. Я торжествовал, я ликовал, на душе
у меня стало легко. Я был в восторге от того, что
посмел заговорить, да так складно, так кстати! «И как
это просто!» — подумал я.
Особенно восхищало меня, что Генриетта, имевшая
возможность каждую минуту уйти и тем самым
выразить свое неудовольствие, покинула свою мансарду лишь
///. Генриетта
159
когда появился муж Люси. Тут я выстроил целый
город из воздушных замков. Генриетта выслушала мое
признание, значит не отвергла его; она его не отвергла,
потому что ее сердце принадлежит мне. Наконец, она
не вернулась в обычное время в мансарду, и это
означало, что она, как покорная и нежная дочь, передала
мои пожелания родителям, о чем они сейчас и ведут
беседу!
Я был еще весь во власти сладчайших мук
ожидания, как вдруг около трех часов пополудни услышал
на лестнице шаги. Кто-то твердой походкой приблизился
к моей двери и без всяких церемоний отворил ее. Это
был... это был землемер!
Должно быть моя физиономия была далека от
своего нормального состояния.
«Мой приход заставил вас побледнеть, — сказал он
резко, — но вы могли его ожидать.
— Несомненно, сударь, — пролепетал я, — я
польщен. ..
— Ну, успокойтесь, и давайте сядем!»
Мы сели.
«Я имею обыкновение, — сказал землемер, —
действовать напрямик. Вот что привело меня к вам. — И он
устремил на меня сверкающий гордостью взгляд. — Уже
давно, сударь, мне не нравится ваше поведение. Мне
казалось, что я принял достаточные меры
предосторожности против вас... Но сегодня утром в присутствии
третьего лица вы скомпрометировали мою дочь... Что
означают ваши действия?
— Сударь, — попытался я возразить, — вы можете
порицать меня за неопытность, но прошу вас не
сомневаться в моих добрых намерениях.
160
Библиотека моего дяди
— Когда имеют добрые намерения, действуют
открыто. А ваши действия двусмысленны, и насколько
мне известно ваше положение, они внушают мне
беспокойство.
— Вы оскорбляете меня, сударь, — волнуясь, перебил
и его.
— Возможно, — продолжал землемер спокойным
тоном, от которого меня бросило в дрожь. — В таком
случае я готов дать вам удовлетворение. Может быть, я и
вправду сужу вас слишком строго. Может быть при
вашей неопытности, робости и неловкости — у вас
твердые и честные намерения. Ну что ж! От вас зависит
доказать, что ваши слова, во всех отношениях
неприличные, по крайней мере не бесчестны; но вы должны
понимать как далеко, как непростительно далеко они
могли бы вас завести... Докажите мне, что вы
действительно в состоянии жениться, и я не премину отдать
должное вашим намерениям. Сколько вы зарабатываете
в год, сударь?»
Этот страшный вопрос, который я ждал с минуты
на минуту, обрушился на меня как удар молнии. Я еще
ничего не зарабатывал, у меня не было ломаного гроша,
я об этом и думать забыл. Если бы Генриетта меня
полюбила, если бы она со мной соединилась, что бы еще
было надо?.. Пробить отверстие в перегородке, и вся
недолга. Но землемер рассуждал иначе.
«Я зарабатываю, сударь, — ответил я, смертельно
побледнев, — я зарабатываю... меньше, без сомнения,
чем буду зарабатывать в дальнейшем; но у меня есть
ремесло. ..»
Он перебил меня:
«Вот как раз потому, что у вас есть ремесло, а
именно — ремесло живописца, я и задаю вам этот вопрос.
///. Генриетта
161
Вы не можете не знать поговорку: «Это ремесло
приносит славу иногда, но хлеб — не всегда». Моя дочь
ничего не имеет. А что имеете вы? Я вновь возвращаюсь
к моему вопросу: сколько вы зарабатываете в год?
— Я зарабатываю...»
Я неминуемо солгал бы, или же лишился сознания,
если бы в дверь не постучались.
Кто любит неожиданные повороты в судьбе
человека, что зовутся перипетиями? Аристотель хвалил
перипетии, да здравствует Аристотель! 31 Что может во
всей вселенной сравниться с удачей, счастливой
развязкой?. Люси, мой добрый гений, мое провидение!!!
Я открыл дверь. Вошел лакей в ливрее с двумя
большими мешками полными денег. Я с восторгом смотрел
на него, ожидая, что он будет делать. Он положил оба
мешка на стол, открыл один из них, и оттуда
посыпались экю, которые он разложил на столбики, чтобы
я мог пересчитать их после него. Потом он протянул
мне бумагу: «Вот здесь обозначено: полторы тысячи
франков в звонкой монете за две копии. Миледи
велела забрать с вашего разрешения эти копии вместе
с оригиналом».
Итак, нет уже больше причин для волнений.
«Хорошо, — сказал я, — я дам вам эти копии». Потом я
обратился к землемеру, который встал и уже взялся за
шляпу: «Как я уже имел честь вам сказать, сударь,
я зарабатываю в год. ..
— У вас свои дела, — перебил он, — у меня свои,
а человек ждет. До другого раза».
И он удалился как раз в ту минуту, когда я полный
уверенности в себе, уже готов был заговорить со всем
красноречием влюбленного, которому покровительствует
1 'l Родольф Теифер
162
Библиотека моего дяди
само небо, суля ему успех. «К черту всех землемеров!» —
воскликнул я ему вслед.
Чтобы утешиться, я взглянул на мои экю. Как я
ни был подавлен, все же это было приятное зрелище.
Колоннада столбиков, стоявших тесными рядами,
показалась мне изящнейшим созданием архитектуры.
Никогда в жизни я не видел такого скопления сокровищ.
Думая о Люси, которая так щедро меня одарила, я не
переставал повторять: «Великодушная Люсн, мой
добрый гений, Люси!» Не найдя пока более надежного
места для хранения моего богатства, я засунул его
целиком в печку — за неимением шкафа. Потом я вышел нз
дому, чтобы на вольном воздухе полней насладиться
в одиночестве радостью, сменившей в моем сердце
тяжкие минуты тревоги. С утра события благоприятно
развивались для меня, но время шло, я должен был
успокоиться и как можно скорее обдумать свои дальнейшие
действия.
Первым делом надо было посвятить во все дядюшку,
который еще ничего не знал. Я скрывал от него свои
планы, ибо не сомневался, что он прежде всего пожелает
увидеть меня счастливым и пойдет на новые жертвы,
чтобы помочь мне обзавестись всем необходимым для
семейного человека. Между тем мне было известно, как
ограничены его средства, и каких лишений стоило ему
совсем еще недавно оборудовать мою скромную
мастерскую. Вот почему я считал своим священным долгом
не подвергать больше испытаниям его великодушие. ..
Но теперь, благодаря богатству, которым я был
обязан щедрости Люси, моя совесть была спокойна, и мне
оставалось только осведомить дядюшку о происшедшем
и умолять его в довершение ко всем его прочим добрым
делам — завтра же просить для своего племянника руку
///. Генриетта
163
Генриетты. Не было сомнения, что если он окажет мне
эту милость, то авторитет его возраста, важное значение
его собственного согласия и сердечная мягкость его
обхождения обеспечат успех шагу, от которого зависит все
счастье моей жизни. Я принял решение поговорить с ним
сегодня же вечером.
Я вернулся поздно. Был час ужина. «За стол, за
стол... дорогой дядюшка... У меня важные новости!
— Знаю, знаю, дитя мое! Старушка держит меня
в курсе дела. Говорят об экю. .. целый мешок... Пак-
тол излил все свои воды на моего милого Жюля 32.
— Пактол собственной персоной, дорогой дядюшка.
Он у меня в печке! Но сначала сядем за стол; я хочу
еще кое-что рассказать вам!»
Я заметил, что дядя, вместо того, чтобы весело
подхватить мои слова и по своему обыкновению разделить
со мной мою радость, с озабоченным видом подошел
к столу; поглядывая на старую служанку, чье
присутствие явно стесняло его, он не решался ее выпроводить.
Я сделал знак Маргарите, и она вышла.
Когда мы сели на свои места, дядя начал: «Я тоже
хочу тебе сказать...»
И он кашлянул, как это бывало, когда ему
требовалось сделать над собой величайшее усилие, чтобы
в чем-нибудь меня упрекнуть.
«Ты знаешь. . .» — и он остановился, казалось,
изменив ход своих мыслей. «Эта добрая дама поистине
великодушна, поступки ее так благородны! . . Большая
честь — пользоваться покровительством особы с таким
золотым сердцем. Эту честь надо заслужить, дитя мое...
Ты уже вышел на хорошую дорогу.. . Теперь нужно
приучиться к порядку, вести себя разумно, трудиться, и
все будет хорошо. Но, — продолжал дядя более твердым
11*
164
Библиотека моею дяди
тоном, — нужно ли быть порядочным человеком?
Всегда! .. а вредить кому-нибудь? Никогда! надо
остерегаться, чтобы молодая девица... Это свято! Но
только не для дурных людей.
— Не понимаю, дядюшка, — воскликнул я с
волнением.
— Я говорю об этой девушке... сверху!
— Ну и что же?
— Ты ее любишь?
— Пламенно!
— Вот это-то и дурно, Жюль!»
Признаюсь, слова дядюшки, произнесенные им с
особенной торжественностью, вызвали у меня сильное иску
шение рассмеяться, так как я подумал, что его
опасения насчет моей порядочности имеют источником сплетню
какой-нибудь служанки, которую наша старушка сочла
своим долгом ему передать. «Ничего не понимаю! —
сказал я. — Я действительно люблю эту девушку, и я
пришел умолять вас пойти завтра к ее родителям про
сить от имени вашего племянника ее руки. Что же тут
дурного, дядюшка?
— Ты?.. Как ты сказал? Ты хочешь жениться?..
Да ведь ты сам дал мне повод — и дядюшка вскочил
с места — уверить ее отца как раз в обратном.
— Я погиб!—закричал я. — Погиб! Милый
дядюшка, что вы наделали!
— Но я сделал. .. Я сделал то, чего от меня требо
вала моя порядочность. Послушай... ну послушай меня!
Только что ко мне вдруг явился этот чудак и сказал,
что ты ухаживаешь за его дочерью. . . что ты
скомпрометировал его дочь. . . он спрашивал на что может
рассчитывать его дочь, если ты подумаешь о браке. . . Тогда
я сказал, что ты дал себе клятву.,.
III. Генриетта
165
— Ax, я погиб!» — прервал я его в полном
отчаянии.
Как только до дяди дошло, что намерения мои
чисты, а порядочность — незапятнана, он, ставший
невольной причиной моих разбитых надежд, так глубоко
огорчился, что позабыл о присущей старикам
осмотрительности. Он был занят лишь мыслью о том, как бы
скорее помочь моему горю, не задаваясь вопросом,
разумен ли и подходит ли мне этот брак, о котором я
заговорил с ним впервые.
«Ну, полно! полно! — повторял он, шагая взад и
вперед по комнате, в то время, как я продолжал безутешно
сетовать, — посмотрим, как нам выпутаться из этого
положения. Боже мой! Я должен был подумать... в твоем
возрасте дают подобные клятвы... можно и так. .. и их
нарушают... можно и так... Беда в том, что в моем
возрасте всегда забывают о подобных превращениях».
Потом, приблизившись ко мне, он сказал: «Не унывай,
мой милый Жюль! не унывай! .. Ничто не потеряно...
завтра я пойду... я все объясню... я докажу...
— Завтра? — воскликнул я в ужасе. — Сегодня
вечером!., сегодня вечером! Нет, сию минуту, милый
дядюшка! Вы застанете всю семью в сборе! Утром он
уходит...
— Но... Боже мой! сегодня вечером... к тому же и
девушка будет там.
— Ну так что же? Они попросят ее выйти, если
сочтут нужным. Сегодня вечером, заклинаю вас, дядюшка!
— Ну хорошо, хорошо! пусть будет так: сегодня
вечером. .. Однако уже десять часов. Позови старуху, я
хочу приодеться!»
166
Библиотека моего дяди
Я воспользовался этими минутами, чтобы ввести
дядюшку в курс недавних событий. Он быстро сменил
домашние туфли на башмаки с пряжками; я приладил,
наскоро попудрив, парик на его голове; мы с Маргаритой
помогли ему облачиться в его великолепный кафтан
каштанового цвета; я подал ему трость, не переставая
при этом рассказывать о том, что произошло, и
одновременно наставляя его, как он должен говорить, и что
он должен отвечать. «Ладно, ладно!» — бормотал
дядюшка, оглушенный моей болтовней. И он ушел.
Я посвятил во все мои дела старую Маргариту. Она
слушала меня со слезами на глазах и, простодушно
разделяя мои тревоги и надежды, оставалась со мной, пока
тянулись минуты напряженного ожидания. Мы то
отворяли дверь, подкарауливая возвращение дяди, то
забегали в библиотеку, стараясь расслышать, что происходит
над нами.
Через четверть часа дверь землемера отворилась, и
я узнал дядюшкины шаги. «Так скоро! — воскликнул
я.— Маргарита! мне отказали.
— Отложили до завтра, — сказал дядя, входя, — их
нет дома».
Я пришел в полное отчаяние.
«И вы их не подождали?
— Да, я их там поджидал. ., но дочь мне сказала,
что они вернутся не раньше полуночи.
— Значит вы ее видели?
— Да, и клянусь честью, она прелестна, или я ничего
V- этом не смыслю».
Я не помнил себя от радости. «А что она вам
сказала, дядюшка? Расскажите мне все, прошу вас, — все!
— Дай мне сначала снять кафтан. .. А потом сесть...
///. Генриетта
167
Прелестная девушка, очень достойная девушка! Туфли
Маргарита!
— Что же она вам сказала, дядюшка?
— Она мне сказала... на, поставь на место трость.. .
что они пошли к друзьям на крестины.
— Но она еще что-нибудь сказала? Ведь вы
пробыли там девятнадцать минут!
— Да, да! Погоди, сейчас я все припомню. Сначала
она мне открыла дверь.. . Будь я привидение, она бы
не с таким страхом посмотрела на меня (и он засмеялся,
изображая испуг Генриетты). «Не пугайтесь,
прекрасное дитя, — сказал я, взяв ее за руку, — войдемте,
войдемте! ..» Она покраснела, и прошла вперед, не
выпуская мою руку; она, видишь ли, хотела помочь мне
пройти по темному коридору. Так всегда поступают,
когда идут со стариком... Такая вежливая, такая
почтительная девица!
— Она вас любит, нежно любит, как и все мы!
— Это верно, — донесся из темной прихожей тихий
голос Маргариты.
— ... Так мы дошли до просторной комнаты, где она
обычно сидит за шитьем, присматривая за маленькой
сестрой и двумя братишками, которые там спят... Когда
мы вошли, один из мальчиков проснулся. «Уложите его,
уложите!—сказал я, — а потом вы позовете ваших
родителей, я собственно пришел к ним. — Их нет дома,
сударь», — ответила она, укачивая ребенка... Ну,
видишь, я тебе вс.е рассказываю... может быть ты
хочешь, чтобы я говорил покороче?
— О, рассказывайте все, дядюшка, рассказывайте
все! . . Не смейтесь надо мной!
— «Это меня огорчает, — ответил я, — вернее, очень
огорчит того, кто послал меня сюда». Бедняжка так по-
168
Библиотека моего дяди
краснела, что ей пришлось встать и отвернуться, будто
бы затем, чтобы снова покачать ребенка, хотя на этот
раз он даже не шевельнулся. Тогда она сказала, все еще
пряча от меня лицо: «Они придут около полуночи,
господин Том, я должна предупредить вас, а то вы
утомитесь, ожидая их... — Правда, уже поздно... Я выполню
мое поручение завтра... а когда вы узнаете, в чем оно
состоит, я бы просил вас, дорогое дитя, поддержать
меня... если только. .. если только вы желаете нам
добра, и особенно мне.. . я бы умер спокойно, прежде
увидев, что Жюль соединил свою судьбу с вашей, что
вы дали ему счастье, а ваша почтенная семья — опекает
его юность...»
Тут я вскочил и бросился целовать и обнимать
дядюшку, не в силах иначе выразить чувства,
переполнявшие мое сердце.
«Ой! милый Жюль... ой! мой парик! .. мой парик
в опасности! Дай мне договорить Ты еще не все
знаешь... Да, ну же, ну! .. Успокойся! .. вот так... вот
так... Когда я все точно и ясно изложил этой девушке,
она, вполне овладев собою, сказала мне твердым
голосом: «Сударь, не сомневайтесь в том, что я уважаю и
люблю вас.. . Я тронута всем, что вы мне сказали, но
мне трудно вам на это ответить. .. Я мало думаю о
замужестве и вижу к этому препятствия (не пугайся!)...
Я принадлежу моим родителям, я им нужна, я не хочу
ни оставить их, ни быть им в тягость (да не пугайся
же!).
Я выйду замуж лишь за того, кто будет мне ровней,
кто войдет в нашу семью, как в родную, кто целиком
отдаст мне свое сердце, как и я ему.. . Я никогда не
думала, что с кем-нибудь буду об этом говорить, но ваш
возраст и мое уважение к вам придают мне .смелость...
///. Генриетта 169
Впрочем, ответ вам дадут мои родители... Я сообщу
им заранее, если хотите, о вашем приходе. — Прошу вас,
дорогое дитя: завтра в десять утра. Я рад, что встретил
столько благоразумия и достоинства в таком юном
создании. .. И тем более горячо желаю, чтобы мой
племянник принял ваши условия: без сомнения, они не
покажутся ему слишком тяжелыми.. . Большая честь, мое
милое дитя, очень большая честь войти в столь добро
детельную семью... где члены ее даже в таком неж
ном возрасте... Его сердце всецело, всецело. .. (я бы
мог рассказать ей историю еврейки) это чистое, нетро
нутое сердце, ручаюсь вам, дитя мое... оно сумеет
оценить, какой клад будет ему вручен, оно поймет, как до
стигается счастье, поймет, что счастье родится лиш:
из взаимной привязанности, взаимной верности и об
щей готовности выполнять обязанности, каких требует
семейная жизнь».
И дядюшка, весело перефразируя слова церковного
венчального обряда, спросил меня: «Не правда ли
Жюль, ты даешь такое обещание?
— Да, да, — воскликнул я — и перед богом, и перед
вами, горячо любимый мой дядюшка. .. и перед вами! . .»
Я снова стал осыпать его ласками, а старая
Маргарита вытирала глаза. И только он один, радуясь тому,
что доставил мне радость, но как всегда безмятежный,
сохранял спокойствие, сопровождая мои счастливые
слезы ласковыми шутками.
«Итак, ты женат! — продолжал дядюшка.
— Если богу будет угодно, дорогой дядюшка! И вы
больше ничего ей не сказали?
— Почти ничего. Потом я поднялся и захотел
посмотреть на ребятишек, которые тут спали. .. Она,
улыбаясь, показала их мне. Больше всего меня восхитили по-
170
Библиотека моего дяди
рядок, чистота и вместе с тем какое-то изящество весьма
простой обстановки, окружающей ее и детей. «Это вы
обшиваете детей? — спросил я ее... — Нет, сударь, этим
занимается моя матушка, но когда ее нет, я ей
помогаю». Я поцеловал руку Генриетты, и она, не отнимая
руки, пошла меня проводить. На пороге я ей тихонько
посоветовал далеко не выходить, если она не хочет
столкнуться с тобою на лестнице. Она мигом повернула
обратно. Вот и все. Уже одиннадцать. Теперь пойдем
спать».
Маргарита при этих словах улыбнулась. «Ты права,
Маргарита! Не все будут спать в эту ночь. Но мы с
тобою, старушка, отоспимся за всех».
Около полуночи родители Генриетты вернулись. Я
прислушался и сумел разобрать, что в их семье идет
очень серьезный и оживленный разговор. В два часа
все разошлись, но я еще долго слышал, как супруги
совещались в своей комнате. Потом все стихло. Я совсем
не ложился, и, взволнованный, с нетерпением ждал
утра.
Едва дядюшка встал, как я прибежал к нему, и пока
он одевался, заставил его повторить свой вчерашний
рассказ. Чтобы доставить мне удовольствие, добрый
старик снова и снова припоминал все подробности своего
визита, и его уверенность в успехе, оживляя мои
надежды, опять приводила меня в восторг. Все же, слова
Генриетты показались мне слишком сдержанными, и при
мысли, что дядюшкины речи и собственное мое
поведение могут внушить еще больше беспокойства подозри
тельному землемеру, я снова терял едва лишь
блеснувшую мне надежду.
///. Генриетта
171
Пробило десять часов. Со все возраставшей
тревогой я напомнил дяде о том, что именно он должен
сказать, и мы уговорились встретиться в моей мансарде,
как только он выполнит свою задачу.
Я уже был там, когда через несколько минут в
комнату Генриетты вошли двое. По шагам и другим
признакам я понял, что то была она и ее мать.
Я пришел в такое смятение, что вообразил, будто
все потеряно. Из подслушанного разговора, о котором я
упоминал, я вынес убеждение, что поверенная тайных
помыслов Генриетты — ее добрая мать — расположена
отнестись ко мне благосклонно. Желая прежде всего
вручить счастье дочери честному молодому человеку, она
была бы лучшим ходатаем за меня — по крайней мере
единственным, на кого я мог рассчитывать, — перед
землемером. Но когда я узнал, что женщины оставили поле
боя и отдали моего дядюшку в самую решающую
минуту на милость землемера — чьи предубеждения против
меня они, разумеется, не могли целиком разделять — я
не сомневался, что мое предложение отвергнуто. В этом
отчаянном положении я решил воспользоваться
моментом, чтобы прибегнуть к последнему средству:
предстать перед дамами, и, уверив их в искренности моих
пылких чувств, постараться склонить обеих на свою
сторону. Я постучался, мне отворила Генриетта.
Только смущение этой девушки, так живо
отразившееся на ее лице, заставило меня превозмочь мое
собственное смущение.
«Могу ли я, сударыни, — сказал я дрогнувшим
голосом, — на несколько минут войти? . .
— Войдите, господин Жюль, — тотчас же ответила
мать. Она замолчала, глядя на меня, и у нее покатились
172
Библиотека моего дяди
слезы из глаз... — Что вы хотели нам сказать? —
спросила она, наконец, изменившимся голосом.
— Я хотел, сударыня, прежде, чем ваша семья решит
мою участь, увидеть вас. . . поговорить с вами... но я
очень затрудняюсь... Я хотел сказать мадемуазель
Генриетте, что с давних пор единственным для меня
счастьем было любить ее, восхищаться ею, и что больше
всего на свете я желал бы добиться чести соединить
мою судьбу с ее судьбой... а вам, сударыня, я хотел
сказать, что готов полюбить вас, как мать, которой я
лишился, и, если вы вверите мне вашу дочь, вы ее не
потеряете... и много еще хотел бы я вам сказать,
дорогая сударыня, вы внушаете мне уважение и
почтительность. .. мне понятен язык ваших слез, я думаю, что
сумею на него ответить. ..»
В то время, когда я так говорил, Генриетта, менее
взволнованная, чем ее мать, смотрела на меня,
внимательно слушая мои слова. «Генриетта, — сказала ей
мать, — поговори с господином Жюлем. . . Потерять тебя,
дитя мое! Нет, я не свыкнусь с этой мыслью.. . В тебе
вся моя жизнь! ..
— Никогда, — сказала Генриетта с твердостью,
которую смягчал ее тихий голос, — никогда, матушка, я не
выйду замуж за человека, который не станет вашим
сыном! Сударь, мне еще труднее говорить, чем вам. .. Я
вас мало знаю... Мне известно, о чем вы просите, но
не известен ваш характер.. # Я видела многих людей,
которые слывут примерными супругами, но не вызывают
у меня уважения... И при том, покинуть моих
родителей! ..»
Тут голос Генриетты изменился, и она заплакала.
«Нет, вы их не покинете, никогда не покинете,
мадемуазель, и если только они захотят меня принять.. .
///. Генриетта
173
— Я им принадлежу, господин Жюль! — продолжала
она более спокойно, — я неопытна, а у них есть опыт.
Я вас не отвергаю; пусть ойи решат, и я поступлю так,
как они захотят...»
В это мгновение отворилась дверь.
«Я не думал, что застану вас здесь, — сказал мне
землемер. — Впрочем, останьтесь! Я собирался позвать
вас.
— Здравствуйте, милое дитя мое, — молвил
дядюшка, взяв руку Генриетты и поцеловав ее. — А вы,
дорогая сударыня, — обратился он к ее матери, —
мужайтесь, мужайтесь. . . Если бы вы знали этого малого, как
я, в течение двадцати одного года, вы бы не
сомневались в нем. .. как я не сомневаюсь в своем счастье,
видя, что он просит руки этой очаровательной девушки,
этой настоящей жемчужины. .. Но пусть говорит тот,
кому она принадлежит».
Дядюшка сел; я встал подле Генриетты, и мы
приготовились слушать землемера.
«Сегодня, в десять утра, — начал он, — я принял
г-на Тома. Я отдаю должное, господин Жюль,
искренности ваших чувств и честности ваших намерений. Но
там, где надо действовать открыто, вы выказываете
слабость, неуверенность, робость. Эти недостатки, при
самых честных намерениях, лишают ваш характер той
твердости, которую мы вправе от вас ожидать. Я знаю
также, что у вас ничего нет, кроме той суммы денег,
которую я видел вчера. Таким образом ваши средства
.сводятся лишь к надеждам, и ваше положение в этом
смысле не дает той уверенности в завтрашнем дне,
которую мой долг велит мне от вас требовать. Я думал
посоветоваться с вами, дочь и жена, но поскольку здесь
174
Библиотека моего дяди
собрались все заинтересованные лица, я со всей
откровенностью выскажу свое мнение.
Господа, я никогда не рассчитывал на богатого зятя,
я никогда даже не желал этого, так что положение
г-на Жюля, каким оно мне сейчас представляется, не
могло бы служить препятствием для моего согласия на
этот союз, разумеется, если бы и мои дамы на него
согласились. .. Но, — продолжал он, оживляясь все
больше, — для меня важнее всего счастье моей дочери,
а счастье, на мой взгляд, заключается в постоянстве
привязанности, во взаимном доверии, в любви к труду,
в строгой и безупречной жизни. . . иначе оно для меня
не существует. Я знаю, господа, цену моей дочери, и тот,
кто не даст ей этих благ, не достоин ее руки и станет
предметом моих ненависти и презрения».
Землемер умолк на несколько мгновений, затем,
такой же суровый, хотя и глубоко взволнованный,
продолжал: «Вы понимаете теперь, господа, почему я не
гонюсь за богатством. .. Те достоинства, те блага,
которые я ищу для дочери, гораздо труднее найти, чем
золото. .. У г-на Жюля есть ремесло, он молод, он будет
работать, мы ему поможем; здесь нет препятствий.. .
И если он хорошо понимает, что делает, и иа какой
путь он вступает, если он сознает неоценимое значение
доброй супруги, я отдам ему руку Генриетты, и
полагаясь на его честность, поверю, что он выполнит свои
обещания; я же смею обещать ему нашу родительскую
любовь и то, что он будет счастлив.
— Сударь, — ответил я со всем спокойствием, какое
было возможно в такую волнующую минуту, — я
подтверждаю все слова, которые сказал обо мне дядя, я
понимаю и ваши слова: мое сердце их никогда не
забудет. .. Я говорю так не в ослеплении любовью к ма-
///. Генриетта 175
демуазель Генриетте, но как человек, глубоко
уважающий ее добродетели и восхищенный зрелищем полного
и совершенного семейного счастья, основанного на
ваших принципах. . . Если мадемуазель Генриетта, ее мать
и вы дадите мне согласие, то клянусь, в вашей семье
появится еще один сын, который не обманет ваших
ожиданий!»
Генриетта ничего не сказала, но протянула мне руку
движением, полным искреннего чувства. Тут мой добрый
дядюшка встал с кресла и, пошатываясь столько же под
тяжестью лет, сколько' от радости, приблизился к нам
и обнял нас обоих. В глазах у него стояли слезы, но
ласки Генриетты сделали их легкими и сладкими.
Землемер, сохраняя обычную свою твердость, подошел к
жене и старался подбодрить ее разумными и любящими
словами.
Дядюшка снова опустился в кресло. «Друзья мои, —
сказал он, — я благодарю всех вас. . . Сегодня
исполнились мои последние желания. Это милое дитя (я могу
назвать его теперь моим) будет счастливо... в этом
нет никаких сомнений. .. ибо вы найдете в моем Жюле
честное и любящее сердце, способное понимать и
выполнять свой долг.. . хоть и нрав у него веселый, а
голова занята изящными искусствами. Я сказал, что всех
вас благодарю. Теперь я поделюсь с вами некоторыми
моими намерениями и поясню, как обстоят мои дела.
Этот мальчик заменит меня. Мое небольшое состояние
принадлежит ему. Оно завещано ему двадцать один год
тому назад. .. Следовательно, он уже двадцать один год
содержит меня. ..»
Он остановился, улыбнувшись.
«В таком случае, — продолжал дядя, — я не долго
буду вводить его в расход: значит будущее не так уже
176
Библиотека моего дяди
мрачно. Мое маленькое состояние заключается в ста
двадцати семи луидорах ежегодного дохода с капитала,
вложенного в лучший виноградник кантона Во... как
видите под покровительством Бахуса. .. А у него так
хорошо поставлено дело, что в продолжение почти
пятидесяти четырех лет моя рента аккуратно поступала
мне каждые три месяца... Я сказал, что она равняется
ста двадцати семи луидорам. .. А затем с сегодняшнего
дня этому мальчику назначается сумма в пятьдесят
луидоров, и эта сумма, в которую он мне обходится, в
определенные сроки будет выдаваться не ему.. . а этой
девице, которая вчера показалась мне рачительной и
-умелой хозяйкой».
Тихий ропот прервал слова дядюшки. «Послушайте,
послушайте меня, прошу вас. . . — продолжал он, — у меня
не хватит сил говорить долго. Эти пятьдесят луидоров
пойдут на хозяйство. . . Но, как говорится, без котелка
не сваришь супа. А мой племянник не очень-то богат
котелками. Все его имущество уместится в моем кулаке.
А нам потребуются, и котелки, и буфет, и мебель, чтобы
достойно принять молодую хозяйку. .. и вот как мы это
сделаем.
Послушайте меня! За мою долгую жизнь я собрал
множество редких старых книг. .. Я предвижу, что мой
Жюль, как художник, не будет знать, что с ними
делать. .. А я. . . мне уже пора собираться восвояси.. .
Есть у меня знакомый еврей, он мне охотно помогает
в этом деле, и без обмана, ибо я знаю &ену своему
товару. . . На эти деньги, часть которых у меня уже на
руках, мы обзаведемся всем нужным для наших детей.
Только без церемоний, прошу вас, и без возражений. . .
вы огорчите меня отказом. Кроме того, это меня даже
развлекает. Еврей мне составляет компанию. .. Мы име-
///. Генриетта
177
сте читаем по древнееврейски, сравниваем разные изда
ния... и я поодиночке прощаюсь со всеми моими ста
рыми книгами. . . в ожидании, когда распрощаюсь и
с вами... друзья мои!»
Я плакал. Генриетта, ее мать и даже землемер
слушали с удивлением, преисполняясь восхищением и неж
ностью к доброму старику. Далекие от согласия
принять его дар, мы ему не противоречили, но,
приблизившись к нему, выразили ему нашу глубокую
признательность.
Вот каким образом я получил руку Генриетты.
Предсказания дяди и обещания землемера исполнились. Я
вошел в семью, где царили единодушие, сердечная
дружба и преданность каждого общему благу; в этой
семье, как нельзя лучше способной довершить
образование моего характера, я узнал, что такое простые, но
истинные и неизменные радости, которых так часто
чураются романтически настроенные умы и чрезмерно
увлекающееся воображение.
Перед возвращением в Англию Люси услышала от
меня о моей предстоящей женитьбе и, воспользовавшись
этим предлогом, сделала мне заказ, который надолго
избавил нас от безденежья. Покровительство Люси было
для меня очень полезно, тем более, что она оказывала
мне его постоянно. Связанная знакомством с самыми
знатными семействами Англии, она часто направляла ко
мне своих соотечественников, которых ежегодно
привлекают красоты нашей страны, и рекомендации ее
редко оказывались безрезультатными. Посещавшие меня
иностранцы создали мне доброе имя; появлялись новые
заказчики, новые заказы, и через несколько лет у меня
уже было состояние достаточное, чтобы удовлетворить
мое честолюбие и превзойти ожкгчмг<: землемера. «Ба-
*|2 Родольф Тепфер
178
Библиотека моего дяди
тюшка, — говорил я тестю, — ремесло мое хорошее, а
ваша пословица никуда не годится!..»
Читатель помнит, что Люси некогда сказала мне:
«Если когда-нибудь, господин Жюль, вас постигнет
такое же горе, как и меня, то прошу вас, дайте мне знать».
Это горе постигло меня спустя два года после женитьбы
и, отдав последний долг покойному дяде, я написал
Люси следующее письмо:
«Милостивая государыня!
Помню о просьбе, с которой вы обратились ко мне
два года назад, я сообщаю вам о смерти моего дяди.
Без сомнения ваша доброта уже и тогда сулила мне
утешение, и если для вас что-то значила встреча со мной
после смерти вашего уважаемого отца, то судите,
сударыня, как отрадно мне будет найти в вас сочувствие
к моему горю, к моей невосполнимой потере.
Да, потеря моя огромна, сударыня! Мой дядя
воспитал меня, вывел в люди, женил, но, самое главное,
согревал меня под своим крылом такой безграничной
сердечной теплотой, какой я нигде не найду. Я потерял
в нем ясную душу, которая руководила моей жизнью;
я потерял в нем светлый ум, который с тихой и
кроткой веселостью облагораживал мои дни; я потерял его
редкие достоинства, едва лишь я начал их постигать и
ценить...
Как мне понятна, сударыня, ваша скорбь, которую я
заметил когда-то! Как я разделяю ее вместе с вами!
Слезы, которые я теперь проливаю, проливали раньше и
вы. Но в ваших слезах хоть не было горечи: я слышал,
с каким жаром ваш отец произносил похвальное слово
вашей дочерней привязанности, тогда как мой бедный
///. Генриетта
179
дядюшка угас прежде, чем я дал ему случай похвалить
и меня.
Как грустно терять наших дорогих близких и видеть,
как рвутся t сладостные нити, которые больше уже не
свяжут нас с ними на этой земле! Я удивляюсь себе и
укоряю себя за то, что зловещие предчувствия не так
уже часто тревожили мой покой. Я вспоминаю, как
ваши глаза наполнялись слезами, когда страшная мысль
о далекой или близкой, но неизбежной разлуке
овладевала вашей душой. А я, не думая о будущем, беспечно
наслаждался драгоценными качествами, которым возраст
придавал нечто священное.
Мой добрый дядюшка скончался, как и жил, —
спокойно, безмятежно, почти весело. Он чувствовал
приближение смерти, замечал, как она постепенно сковывала и
леденила его члены и, казалось, готов был шутить
с нею. Пока он был в состоянии, он не изменял своих
привычек; и лишь когда необходимость заставила его
отказаться от любимых трудов, он стал дольше
обычного задерживать нас около себя. Его страдания (я бла-
гославляю господа!) не были чрезмерными, он
встречал их безропотно, как докучного гостя, которого все же
приходится принимать и даже оказывать ему внимание.
Мы сдерживали слезы, сидя у его изголовья; они
огорчили бы его сильнее, чем собственные боли, и мы иногда
принуждали себя улыбаться, когда он старался весело
о них говорить. Однако это было зрелище, достойное
глубокого сострадания! Мучения, причиняемые столь
добрым существам, кажутся мне оскорбительными для них,
и сердце восстает против жестокости недуга, который
не делает выбора среди своих жертв.
В прошлое воскресенье он умер у меня на руках.
Услышав утром звон колоколов, он сказал: «Для меня
180
Библиотека моего дяди
звонят в последний раз. ..» Эти слова вызвали у меня
слезы. «Право же, дети мои, вы готовы уверить меня,
что я жил недостаточно долго... но я и этим доволен.
Не забудьте мою старую Маргариту. .. Она очень
заботилась о моих книгах... и обо мне... Жюль! когда
ты будешь писать нашей дорогой даме (так он вас
всегда называл), передай, пожалуйста, ей и ее детям
мое благословение. . . и что я надеюсь увидеть ее батюшку
в обители благородных душ. .. если только, — добавил
он, — меня туда пустят».
Помолчав немного, он продолжал: «Эта ведьма не
ожидала, что я окажусь столь несговорчив.. . Я не
поддамся ей, пока все не закончу. .. Завещание мое там,
в левом ящике. .. Милая Генриетта! Как приятно было
жить подле тебя. . . передай мой привет твоим славным
родителям.. . и покажи мне еще раз вашего мальчугана.
Ведь мой брат и невестка забросят меня вопросами там
наверху, сами понимаете... Хорошие вести, скажу им,
очень хорошие вести!»
Между тем зрение его ослабевало, дышать ему
становилось труднее, и было очевидно, что конец близок.
Однако речь его оставалась по-прежнему связной,
сознание — ясным, и кроткая теплота его сердца не
исчезала до последнего вздоха. Около полудня он подозвал
меня: «Если г-н Бернье (наш пастор) вернулся, я
думаю. .. что уже пора (я послал за пастором). У меня
была долгая жизнь, и я умираю счастливым.. . среди
вас. . . Где твоя рука, милый мой Жюль?» Через
несколько минут я сообщил ему о приходе пастора.
«Добро пожаловать, дорогой господин Бернье. .. Я
уже приготовился, делайте свое дело.. . Своего
Гиппократа я продал... Теперь им пользуется мой знакомый
III. Генриетта 1 81
еврей. . . Но если я оставляю этой ведьме мое бренное
тело, то душу мою она не получит. .. Я поручаю мою
душу вам... действуйте, действуйте... смотрите, чтобы
она не отлетела... Нить уже очень тонка...»
Пастор прочитал отходную. «Аминь, — повторил за
ним дядя... — Прощайте, мой дорогой. .. до свиданья. ..
Я поручаю вам этих детей». Пастор, человек таких же
преклонных лет, пожал ему руку с тем душевным
спокойствием, какое дается уверенностью в скорой встрече
в ином мире, и вышел. Дядюшка был в забытьи. Час
спустя, сделав над собой усилие, он позвал нас слабым
голосом: «Жюль! .. Генриетта! . .» (он держал нас за
руки). То были его последние слова, затем дыхание его
прекратилось.
Вот, сударыня, простой рассказ о последних минутах
незаметного человека, чуждого свету, неведомого даже
его соседям, но которого я не могу не причислить к
лучшим из смертных. Его долгая жизнь напоминает мне
течение безвестной реки, освежающей своим благотвор-.
ным дыханием скромные берега, которые она омывает,
и в водах которой отражается безоблачное, чистое и
ясное небо. Я был единственный свидетель, но не
единственный предмет его каждодневной, ежеминутной
доброй заботы, и я полагаю, что одного моего сердца
недостаточно, чтобы достойно чтить его память. Потребность
приобщить к этому, хоть отчасти, еще одно сердце, —
вот, что побудило меня* написать вам обо всем.
Позвольте мне, сударыня, сделать откровенное признание.
Вы очень много значили в моей судьбе; ваша печаль
меня когда-то живо тронула; ваша доброта помогла мне
расчистить дорогу к успеху, если не создать его Все
это дает мне основание столь же любить вас, сколь ува-
1S2
Библиотека моего дяди
жать. Но еще более глубоким и сладостным чувством
преисполняет меня то общее, в чем соприкасаются и
уравниваются наши судьбы: любовь к двум
превосходным, столь дорогим нам обоим людям, которых мы оба
оплакиваем, и память о которых, позвольте мне
надеяться, останется связующим звеном между вами,
сударыня, и гем, кто имеет честь быть вашим
почтительным и признательным слугой.
?Кюль».
Наследство
I
Скука — моя болезнь, читатель! Я скучаю везде:
дома, в гостях, за столом, лишь только утолю свой
голод, на балу, лишь только войду в залу. Ничто не
занимает мой ум, мое сердце, ничто не развлекает меня,
и длиннее всего тянутся для меня мои дни.
А ведь я принадлежу к тем, кого зовут
счастливцами. В двадцать четыре года я узнал лишь одно горе:
потерю родителей. Сожаление о них — единственное
чувство, которое еще меня трогает. К тому же я богат,
меня все балуют, лелеют, ласкают, ищут со мной
знакомства, я не знаю заботы ни о сегодняшнем, ни о
завтрашнем дне. Все мне дается легко, все предо мною
открыто. Прибавьте ко всему, что мой крестный отец
(он же мой дядюшка) без памяти любит меня и
назначил наследником всего своего огромного состояния.
Но, окруженный столькими благами, я во весь рот
зеваю от скуки. Мне даже пришло в голову, что я
зеваю слишком часто, и я пожаловался моему врачу. Он
сказал, что это чисто нервное и прописал мне валерьяну
утром и вечером. По правде говоря, я не предполагал,
что дело настолько серьезно, а так как я больше всего
боюсь умереть, всеми моими помыслами овладел
странный недуг, который меня изнуряет и который быть
может пытаются от меня скрыть. Изучив все симптомы
моей болезни посредством постоянного наблюдения за
моим пульсом и всеми моими внутренними и внешними
ощущениями и вникнув в особый характер моих мигре-
184
Наследство
ней, сопровождающихся значительным учащением
зевоты, я пришел к убеждению... к убеждению, но я его
храню про себя, потому что боюсь сообщить его моему
врачу. Если он разделит его со мной, я наверное умру
от одного страха смерти.
Мое убеждение заключается в том, что у меня в
сердце завелся полип. Да, полип! Признаться, я не знаю,
как это могло случиться, да и не стараюсь узнать, чтобы
не сделать еще более страшных открытий, но что у меня
в сердце полип, я не сомневаюсь. Вот чем объясняется
все, что со мной происходит: в полипе причина моей
зевоты, в полипе основание моей скуки. Я изменил свой
режим, ограничил свой стол, отказался от вина, от
белого мяса, кофий я тоже изгнал: он усиливает
сердцебиение. Чай из листьев мальвы по утрам — вот
вернейшее средство против полипов в сердце. Опять же
ничего острого, ничего крепкого и тяжелого: все это
действует на пищеварение, отражается на нервной системе,
затрудняет кровообращение. Все это может помочь
полипу раздуваться, расширяться, разрастаться... В
общем он представляется мне в виде большого гриба.
По целым часам я только и думаю, что о моем грибе.
Когда со мной разговаривают, он мешает мне слушать.
Когда я на балу протанцую галоп, я укоряю себя
в излишестве: ведь резкие движения вредны при
полипе. Я рано еду домой, меняю белье,. приказываю
подать мне бульон без соли. И всему этому виною мой
гриб; кажется, я только им и живу. Моя болезнь очень
занимает меня, но я не нахожу, чтобы она избавила
меня от другой моей болезни — от скуки.
Итак, я зеваю. Иногда я раскрываю книгу. Но
книги.. . так мало занятны. Умные книги так серьезны,
так глубокомысленны: нужно затратить столько усилий,
Наследство
185
чтобы их понимать, ими наслаждаться, им удивляться. . .
Новинки? Но я их столько прочел, что кажется в них
нет для меня ничего нового. Еще не раскрыв книгу, я
уже знаю все наперед: по заглавию я догадываюсь о
содержании, по виньетке предвижу развязку. К тому же
мой гриб не выносит слишком сильных ощущений.
Заняться науками? Пробовал я и это. Начать не
трудно, ио продолжать я тотчас же спрашиваю себя,
а с какой целью? Моя цель — проживать мои доходы,
ездить верхом, жениться, получить наследство. Не
затратив никакого труда, чтобы чему-нибудь научиться, я
все это получу, даже больше, чем мне нужно. Я имею
звание полковника национальной гвардии, меня прочат
в члены городского совета, я отказался от должности
мэра; почетные назначения так и сыплются на меня.
Потом мой гриб не вынес бы большого умственного
напряжения.
«Ну что там такое?
— Принесли газету.
— А, хорошо! Дай-ка сюда! Она хоть немного
развлечет меня».
Взяв в руки газету, я прежде всего ищу новости.
Разумеется, городские новости. Испанские новости меня
мало трогают, а о бельгийских и говорить не
приходится — они мне до смерти надоели! Ну-ка, поглядим!
Но что это? Никто не покончил с собою, ни одного
несчастного случая. .. ни убийства, ни пожара. Экая
дурацкая газета! Только обирает подписчиков.
Ах, как я жалею о чудесных днях холеры! Вот когда
интересно было читать газету! Она держала меня в
напряжении, меня занимали самые мелкие события,
связанные с этой чудовищной болезнью. Мне все
мерещилось, как холера, раскрыв свою пасть, то приближается
186
Наследство
ко мне, то отступает, а затем уж прямо стучится в мою
дверь.. . Все это не было весело, но по крайней мере
я забывал о скуке, постоянно колеблясь между
надеждой уцелеть и отчаянным страхом погибнуть. Я уже
не говорю о фланелевом набрюшнике, который так
щекотал меня, что я постоянно чесался.
Право не знаю, что может вернее щекотки прогнать
скуку и вывести человека из состояния душевной и
физической спячки. Я уверен, что...
«Ну что там еще?
— Г-н Ретор...
— Скажи, что меня нет дома.
— Но.. . он уже здесь.. .
— Господин Ретор, я слишком занят, я не могу вас
принять!
— Только на две минутки!
— У меня нет ни одной...
— Я хотел вам показать хронологическую таблицу
всеобщей истории народов.
— (Черт бы побрал его вместе с этой
хронологической таблицей всеобщей истории народов!) Ну, и чего же
вы хотите?
— Я бы, сударь, хотел обратить ваше внимание на
го, что нету другой подобной таблицы, которая была бы
хоть наполовину так совершенна как эта! Вот
взгляните: перед вами четыре разные хронологические
таблицы с летосчислением от Рождества Христова и от
сотворения мира. Здесь вы найдете полный перечень
имен царей древнего Египта и Вавилона. ..
— (Я бы хотел, негодяй, чтобы тебе привесили на
спину хвост из твоих вавилонских царей и пяти твоих
таблиц! Много и одной, а он хочет всучить мне все
четыре, да еще одну в придачу!!!) Господин Ретор, все
Наследство
187
это прекрасно, но я не занимаюсь больше историей!
— Вот перед вами император Кан-тьен-си-лонг...
— Бесполезно, господин Ретор, я не сомневаюсь, что
ваша таблица превосходна!
— Вы позволите, сударь, оставить вам два экземп
ляра?
— Я не знаю, что я буду с ними делать. .. У меня
есть таблица Хоккарта *.
— Таблица Хоккарта? Да она кишит ошибками. Я
прошу у вас, сударь, лишь полчаса внимания, чтобы
сравнить...
— (Бессовестный! Сделать мне такое предложение!)
Довольно, господин Ретор, мне надоели ваши таблицы,
они мне не нужны».
Наступает долгое молчание; г-н Ретор медленно
сворачивает свои таблицы, и я смотрю на него с
нетерпением, ожидая, скоро ли я смогу с ним сердечно
распроститься.
«Сударь, вы не будете иметь другого случая..,
— И не нужно!
— ... Приобрести энциклопедию...
— Увольте!
— Тридцать томов ин-фолио. ..
— Тем более.
— С иллюстрациями.. »
— Незачем!
— И с оглавлением..,
— Не нужно!
— И с указателем Мушона. . .2
— Нет и нет!
— Ну тогда, сударь, имею честь... Но я был бы вам
очень обязан, если бы вы взяли хоть одну из этих
таблиц.
188
Наследство
— КакI вы еще не кончили!!!
— Я отец семейства. . .
— Это несносно!
— У меня семеро детей...
— Тут я ничего не могу поделать!
— Пять франков вместо десяти...
— (Семеро детей! у него их будет пятнадцать и
ради каждого придется покупать хронологическую
таблицу всеобщей истории народов.) Вот вам пять франков
и оставьте меня в покое!»
Я захлопываю за ним дверь и снова сажусь в кресло,
Мне не только скучно, у меня еще вдобавок разлилась
желчь и сделалось отвратительное настроение. Полип
хочет меня доконать, он вгонит меня в гроб! Я бросаю
уничтожающий взгляд на раскрытую хронологическую
таблицу всеобщей истории народов, оставленную Рето-
~ром на столе, и нет на ней ни одного имени — вплоть до
Кан-тьен-си-лонга и Нектанебуса3 — которое не
казалось бы мне именем моего личного врага, этого
назойливого негодяя,, нахала с семью детьми, вступившего
в заговор со всеми отцами семейств против моего
здоровья и моего кошелька. Меня душит злоба, я выхожу
из себя... В огонь таблицу!
Но странное дело, как иногда вспышка гнева
уживается с благоразумием, а горячность — с
дальновидностью! Швырнув таблицу в огонь, я тотчас ее оттуда
вытаскиваю. С одной стороны, у меня было ощущение,
что я чуть было не сжег пять франков, которые она мне
стоила, а с другой стороны, я подумал, что она сможет
пригодиться моим детям. Вот это особенно дальновидно:
ведь я не женат и вряд ли когда-нибудь женюсь.
И все-таки мне иногда кажется, что, женившись, я
бы не гак сильно скучал. Во всяком случае, мы бы ску-
Наследство
189
чали вдвоем: это наверное веселее. Е^прочем разве отцам
семейств ведома скука? Ничуть не бывало. Они
деятельны, бодры, жизнерадостны; вокруг них всегда шум,
суета, рядом жена, которая их обожает...
Жена, которая бы меня обожала, ну год или два —
еще куда ни шло! А что если она будет меня обожать
лет этак тридцать или сорок? Вот отчего кровь стынет
в жилах. Меня будут обожать сорок лет! Ах как это
должно быть долго, нескончаемо долго! А кроме того
пойдут дети: они кричат, плачут, дерутся, скачут верхом
на палочке, переворачивают столы и стулья, у них
течет из носа, они не умеют вытираться! ..Ив награду
за все это я обязан воспитывать их ум и сердце с
помощью хронологической таблицы всеобщей истории
народов. Ах, надо хорошенько подумать прежде, чем
жениться, не говоря уж о полипе в сердце.
Однако у меня на примете есть молодая особа,
которая подходит мне во всех отношениях. Хорошенькое
личико, недурное состояние, да и характерами мы
сходимся. Но у нее пять теток, отец, мать, двое дядей —
в общем человек одиннадцать—двенадцать... близких
родственников. С тех пор как зашла речь о нашем браке,
они все ухаживают за мною и так щедро расточают
мне улыбки и ласки, что умереть можно со скуки. В
ответ я зеваю, а они удваивают свои любезности. И я
положительно ощущаю как остывает моя любовь, и,
конечно, я останусь навек холостяком.
Однако поскольку чувствительные души испытывают
властную потребность в любовной привязанности, сердце
мое устремилось в другую сторону. Я совершенно
отчетливо сознаю, что влюблен в другую молодую, особу.
Раньше я ее просто не замечал: ведь нельзя же пылать
страстью сразу к двум. Но у нее такой тонкий про
190
Наследство
филь, такие дивные глазки, она так умна, естественна
и мила, что невозможно ее не любить, и у нее нет
близких родственников. И с каждым днем меня все
больше пленяют ее прелести и состояние, которое
плывет мне прямо в руки.
Вот только одно: кроме меня, никто за ней не
ухаживает. И в конце концов мне начинает казаться, что
единственным вздыхателем может быть только простак.
Как ни прекрасен цветок, но если все пренебрегают им,
почему именно я должен его сорвать? Особенно я, ведь
я горжусь своим утонченным вкусом! ..
Недавно я приехал на бал; она танцевала с
красивым офицером. Грациозная, улыбающаяся, оживленная,
она, казалось, даже не заметила моего появления. Тут
огонь в моей груди разгорается, сердце пылает, я был
на шаг от уз Гименея. Я поспешил пригласить ее на
первый русский танец4.
«С удовольствием, сударь!
— На второй контрданс?
— С удовольствием.
— На третий вальс?
— С удовольствием.
— На пятый галоп?
— С удовольствием».
Все — с удовольствием: никто со мной не соперничает.
Моя страсть идет на убыль с такой быстротой, что я
весь вечер только и делаю, что поедаю пирожки.
С этого дня я обратил благосклонный взор еще на
одну девицу, которая раньше мне не нравилась
единственно потому, что все, как сговорившись, прочили ее
за меня, и особенно мой крестный отец. Это мадемуазель
С***, кузина г-жи де Люз; это значит, что она
принадлежит к самому изысканному обществу и к лучшим
Наследство
191
семействам нашего города. Она иысока и стройна,
кавалеры добиваются ее расположения, привлеченные
столько же ее красотой, сколько и умом. К тому же она
гораздо богаче первых двух. Я уверен, что уже был бы
женат на ней, если бы не вмешался мой крестный отец.
В прошлый понедельник я приехал на бал с
опозданием. Ее окружала толпа поклонников. Пришлось
удовольствоваться согласием на шестой контрданс да с
милостивым разрешением разделить с тремя кавалерами
один тур русского танца. Эти преграды, возбудив во мне
самые горячие чувства, самую истинную страсть, так
окрылили меня, что я твердо решил объясниться с ней
завтра же, и даже явно одобрительный взгляд крестного
не мог охладить мой пыл.
Хотя она говорила со мной только о бальных
пустяках, я нашел, что она восхитительно умна, особенно
потому, что мои остроты вызывали у нее лишь
снисходительную улыбку. А ведь я бываю очень остроумен,
когда захочу. «Наверное, — сказал я себе, — она так же
остроумна, как и я. О, это бесценно! Как интересны
будут наши беседы! Будет ли она говорить, или
молчать, всегда найдется повод для размышлений, для
догадок, для наслаждения ее очаровательным обществом».
Так думал я, кружа ее в вихре русского танца с
неведомым мне до сих пор упоением. Мне казалось, что я
держу в своих объятиях божественное воплощение
красоты, ума и чувства, и благоухание ее атласного
корсажа, на котором Мягко лежала моя рука, еще больше
усиливало мой восторг.
Я решился, решился окончательно, к тому же мне
надоели мои вечные колебания, — как вдруг при
разъезде с бала я столкнулся с поджидавшим меня крестн«м
отцом.
192
Наследство
«А, вот и ты наконец! Все в порядке, она без ума
от тебя!
— В самом деле?
— Одно лишь слово и ты получишь согласие. Ее
родные находят тебя очаровательным. Все хотят, чтобы
ты женился на ней.
— Вы уверены в этом?» — спрашиваю его упавшим
голосом.
Он наклоняется ко мне: «Уже толкуют о квартире,
которая пришлась бы по вкусу невесте. Да! уверяю
гебя, ты в рубашке родился! Предоставь мне
действовать. ..»
По мере того, как мой крестный отец продолжал
-говорить, постепенно испарялось мое упоение, испарялось
божественное воплощение красоты, ума и чувства и
вместе с ними — атласный корсаж. «Я подумаю», — холодно
ответил я. И больше об этом не думал.
И вот я снова почти в той же нерешительности, как
и раньше.
«Ну, что там опять?
— Вы будете обедать, сударь?
— Что за вопрос! Буду ли я обедать?
— Дома будете обедать?
— Погоди! Да, дома.
— Я подам на стол.
— Нет, не надо. Я передумал: пообедаю в гостях».
//
Если ты припомнишь, читатель, мы с тобой
порядком поскучали во время нашей последней встречи.
Когда я тебя оставил, ты зевал; когда ты меня оставил,
я собирался ехать обедать.
Наследство
193
Обедал я у одного своего приятеля, женатого
человека, отца семейства не в пример мне, счастливого и
добольного. Он и его молодая жена являли собой
образец дружной семейной пары. Они обменивались
взглядами, полными непритворной нежности, трогательно
заботились друг о друге, и по множеству, казалось бы,
незначительных мелочей я мог судить о тесном единении
их сердец. Они отдавали предпочтение одним и тем же
блюдам, отказывались от одного и того же вина, и если
один из них оставлял на столе крошки хлеба, другой
подбирал их и с удовольствием отправлял себе в рот.
Занятые своей взаимной любовью, со мной они говорили
только из вежливости, и я играл для них лишь роль
третьего лица, чье присутствие придавало особую
пикантность их чистой, целомудренной страсти.
Я смертельно скучал, тем более, что скучал
наперекор собственному рассудку и собственной воле,
скучал, не обращая внимания на советы, которые мысленно
давал сам себе. «Любуйся, — думал я, — любуйся
приятным зрелищем! Оглянись на себя и позавидуй этой
милой счастливой чете, позавидуй ее счастью, оно
возможно и для тебя, стоит лишь тебе захотеть.
Любуйся. .. — Ради бога, — отвечал я своему уважаемому
внутреннему голосу, — замолчи! Ты напоминаешь мне
моего крестного отца. Уж не он ли подучил тебя так
со мной говорить? Дай мне спокойно доесть отбивную
котлету! сейчас это моя единственная радость, мое
единственное желание».
Я не сомневаюсь, что благодетельному влиянию
укоров совести больше всего мешает тот звук голоса, тот
внешний вид, которые мы им придаем в нашем
воображении. Я очень долго не отличал голоса моей совести
от голоса моего наставника. Поэтому, когда совесть во
'I 3 Родольф Тепфер
194
Наследство
мне говорила, она мне всегда представлялась педантом
в черном фраке и с очками на носу. Мне казалось, что
моя совесть ораторствует по привычке, выполняя
служебные обязанности, за которые она получает жалованье.
Вот почему, как только моя совесть принималась меня
наставлять, я начинал упираться и возражать самым
почтительным, и в то же время самым дерзким образом,
стараясь поскорее вырваться из-под ее опеки и
поступить как раз обратно тому, чего она от меня требовала.
Из всего этого я извлек одно правило, которое намерен
когда-нибудь провести в жизнь. К моим детям я
приглашу такого любезного, снисходительного и
добросердечного наставника, настолько далекого от педантизма
и напыщенности, что если позднее их совесть и примет
облик этого почтенного учителя, она с успехом сможет
руководить ими и заставить ,себя слушаться. Ах, как
жаль, что при столь разумных взглядах на воспитание
детей, я не имею ни малейшей склонности к семейной
жизни!
Итак, я ел отбивную котлету. Когда она была
съедена, и я утратил аппетит, я стал с нетерпением
дожидаться конца обеда, который мои счастливые
хозяева, напротив, охотно продлили бы и не только ради
застольной беседы.
«Какое согласие в аппетитах! — подумал я. — И
каков аппетит! Неужели влюбленные могут так много
есть? Вот до чего доводит супружеская любовь! О, как
несходна она с той страстной любовью, очарование
которой в тревогах, с любовью, которая живет и дышит
своим воображением, питается своим собственным
огнем. И ты мог задумать, Эдуард (это мое имя), ты мог
задумать.. .»
«О чем вы так глубоко задумались?—участливо
Наследство
195
спросила меня молодая жена моего приятеля — что
с вами?
— Он грустит, как все холостяки, — ответил за меня
мой приятель. — Кстати, как твои любовные дела,
Эдуард?
— Далеко не столь успешны, как ваши!
— Еще бы! Я надеюсь.
— Я тоже надеюсь!»
Не знаю, как у меня вырвались эти обидные слова.
Приятель умолк, жена его переменила разговор, а я,
пристыженный и недовольный собой, молча катал
хлебные шарики, горько раскаиваясь, что не остался
обедать дома, где я никого бы не задел. Как только
наступило время, когда можно было, не нарушая приличий,
откланяться, я поспешил вернуться к себе.
В камине горел яркий огонь; я вытащил зубочистку.
После щекотки я не знаю ничего вернее, чем зубочистка,
что бы так помогало убивать время. Не будь зубочистки,
я бы совершенно не знал, что с собой делать в те
долгие часы, которые тянутся между обедом и вечером
где-нибудь в гостях. Однако времяпровождение с
помощью зубочистки это одно из тех удовольствий,
которые легче вкушать, чем описывать.
Так развлекаясь, я размышлял о моем приятеле,
женатом человеке. Я припоминал его вопрос, его тон,
выражение его лица и почти пришел к заключению, что
я не так уж виноват, позволив себе неучтивое
восклицание. В самом деле, между молодыми супругами и
холостяками всегда есть какая-то скрытая неприязнь; во
всяком случае между ними не может быть полного и
глубокого согласия. Молодые супруги жалеют
холостяков, однако их сожаление близко к насмешке.
Холостяки восхищаются молодыми супругами, но в их восхи-
13*
196
Наследство
щении сквозит, ирония. Я говорил себе, что имел
основание оборвать их глупую болтовню, и если моя
выходка и была немного грубовата, я имел на нее право —
право более слабого, так как против меня одного было
двое.
«Сударь!
— Чего тебе?
— Ах, сударь!
— Ну что же, говори!
— Звонят на пожар!
— Ну и что же?
— Горят четыре дома, сударь!
— Где?
— В предместье.
— Принеси горячей воды для бритья!
— Вы хотите...
— Я хочу побриться.
— Но вы разве не слышите крики?
— Слышу.
— И все-таки принести вам горячей воды?
— Ну, конечно, дурачина! По твоему, я должен
ходить небритым, потому что где-то пожар? ..»
«Как хорошо, что существуют страховые компании —
думал я, снимая галстук. — Люди могут, сложа руки,
совершенно спокойно смотреть, как горят их жилища.
Вместо старых лачуг чудаки получат новые дома.
Правда, с этим связаны кое-какие хлопоты, но разве
можно сравнить теперешнее положение вещей с тем, что
было когда-то? А для страховых компаний хорошо,,
чтобы не было сильного ветра. . .» «Ну, где же горячая
вода?
— Вот вода!
— Ты, кажется, дрожишь?
Наследство
197
— Ах, сударь. . . горят уже шесть домов... так и
пылают. Боятся уже за новый квартал... Недалеко
оттуда живет моя мать.
— Но разве ты не знаешь, что со всех сторон
примчатся пожарные, и кроме того все эти дома
застрахованы?
— Но у моей матушки ничего нет, кроме домашней
обстановки. Если бы. ..
— Я позволил тебе пойти туда? Но ты мне будешь
сейчас нужен. Ну, ладно! ступай, потом расскажешь мне,
что там творится. На обратном пути купишь мне
одеколон».
Я принялся за бритье с тем большим усердием, что
хотел испробовать новый j лучшенный сорт мыла. Мне
показалось, что оно дает обильную мягкую пену, да и
запах у него нежный и приятный. Вот только вода была
не очень горяча, и я готов был с досады проклинать
этот пожар — виновника такой неприятности.
Между тем по всему городу звонили в колокола,
с соседних улиц доносились горестные крики;
множество людей сбегалось за городскими пожарными
ведрами, хранившимися под навесом против моего дома
На этот шум я подошел к окну, наслаждаясь тайным
волнением, которое обычно порождают такие бурные
сцены. Наступила уже ночь, так что я не мог
различить фигуры людей, но на небе я увидел красноватое
зарево, на котором вырисовывались черные контуры
крыш и труб. Отблески зарева падали на высокие стены
собора, с верхушки которого до меня долетал тревожный
звон колоколов, то оглушительно громкий, то
замирающий, смотря по тому, в какую сторону бил церковный
«язык» — в мою или в противоположную. «Это велико-
198
Наслслстао
лепно!» — сказал я себе и снова уселся перед
зеркалом, чтобы покончить с бритьем.
Мне пришлось довольно долго повозиться, в
особенности потому, что положение мое затруднялось почти
зажившим небольшим порезом на подбородке,
требовавшим величайшей осторожности. К тому же я время от
времени вставал поглядеть на беспрестанно
расширявшееся зарево. В воздух уже высоко взлетали снопы
огненных искр и легко падали вниз со всем великолепием
гигантского фейерверка. «А ведь вблизи это, наверное,
очень красивое зрелище, — подумал я, — надо бы
посмотреть на него по дороге в Казино!» Я поспешил
завершить свой туалет; застегнув плащ и натянув белые
лайковые перчатки, я пошел по направлению к
предместью. На улицах не было ни души; все лавки были
на запоре. Навстречу мне попались только два или три
экипажа, отвозившие кое-кого из моих .знакомых в
Казино.
Скоро я дошел до предместья. Бедствие было ужасно,
но панорама — изумительна. Над четырьмя или пятью
горящими крышами вились, вздымаясь к небу, вихри
дыма и огня. В центре этой мрачной картины,
оглашаемой воплями, среди невообразимой суеты, виднелись
озаренные ярким, словно праздничным светом
набережные, мосты, тысячи мятущихся людей. Жители домов,
которым грозила опасность, выбрасывали из окон
мебель или же, с трудом пробираясь сквозь толпу,
сносили свои наиболее ценные вещи в соседнюю церковь,
открытую нарочно для этой цели. Мужчины, женщины,
дети, вытянувшись в длинные цепи, начиная от самой,
реки, передавали друг другу ведра г водой, и мерный
звук пожарных насосов заглушал временами громкие
крики толпы. Окруженные со всех сторон пламенем,
Наследство
199
мужчины рубили топорами пылающие балки; другие,
забравшись на крыши соседних домов, направляли в
бушующий костер шумные струи воды, вылетавшие из
насосов.
«Известно ли отчего произошел пожар? — спросил
я у одного очень озабоченного малого.
— Становитесь в цепь! — отвечал он мне.
— Очень хорошо, но прошу вас ответить,
известно ли...
— Слуга покорный, мне не до вас». ..
Мне показалось, что этот человек непозволительно
груб, и я со скорбью задумался о дурном тоне,
настолько распространившимся в наши дни среди низших
классов, что порядочный человек едва может решиться
заговорить с прохожим, даже соблюдая все правила
вежливости.
Однако мои размышления прервал другой голос:
«Эй, вы, молодчик в белых перчатках, идите сюда на
подмогу! Здесь есть место для вас...»
Задетый этим наглым и фамильярным обращением,
я перешел на другую сторону.
«Сюда, сюда! Часовой, приведите сюда этого
красавчика!»
Возмущенный, я свернул налево.
«Эй, эй, маркиз, сюда!»
Вне себя, я свернул направо.
«Негодяй, если не хочешь работать, я тебя сейчас
окачу!»
Оскорбленный в своих лучших чувствах, я решил
выбраться из этого презренного общества и немедленно
направиться в Казино.
Проход закрыт, — сказал часовой и ружьем
преградил мне дорогу.
200
Наследство
— Но позвольте, по моей одежде вы должны
понимать, что ваш приказ меня не касается. Я иду в
Казино.
— В Казино! Тысяча чертей! Разве вы не видите,
что здесь не хватает рук? Марш в цепь!
— Знаете ли, мой друг, вам придется, быть может,
раскаяться в вашей грубости. Так и быть, я не стану
спрашивать, как ваше имя, но пропустите меня
сейчас же!
— Мое имя Луи Маршан, я стрелок пятого полка, и
вас не боюсь. Мой командир — капитан Ледрю.
Ступай в цепь, каналья! Ты думаешь, эти люди стоят в воде
ради своего удовольствия? В Казино, ха-ха-ха!
Потанцевать ему захотелось? А тут женщины должны
маяться на холоде...»
Во время этой перебранки со страшным грохотом
рухнули пылающие крыши, и все стихло: огромная
толпа, не сводя глаз с этого зрелища, на мгновение
прекратила работу... Явственно слышался треск огня
и глухой стук работающего насоса, подоспевшего на
помощь из отдаленного квартала.
«Дружнее, ребята, дружнее! — крикнул человек,
прискакавший верхом на лошади, — мы скоро справимся
с пожаром!»
Его тотчас окружили, и я слышал, как он сказал:
«Огонь перебросился в новый квартал. Уже
вспыхнуло сено в амбарах «Весов». Нам не хватает людей.
Три человека погибли!»
И, умчавшись галопом, он исчез.
«За работу! — закричали со всех сторон. — За
работу! Горит новый квартал!»
Толпа увлекла меня за собой, и я оказался одним
из звеньев огромной цени.
Наследство
201
Сначала я не успел даже оглянуться. Ведра
перелетали из рук в руки с безостановочной быстротой, и
я — то ли с непривычки, то ли за неимением сноровки —
так сильно размахивал ими, что всякий раз обливался
водой к большому ущербу для моего костюма. Я был
крайне раздосадован этим, тем более, что все еще не
оставил своего намерения пройти в Казино. Я хотел
было снять перчатки, но они так туго облегали мои
пальцы, что пришлось отказаться от этой попытки: она
отняла бы много времени, а у меня его не было. Я стоял
на набережной близ того места, где цепь, спускаясь по
ступенькам, подходила к самой реке. Там, при свете
факелов, на пронизывающем холоде, стоя по колена
в воде, люди в рабочих блузах без передышки
наполняли ведра и передавали их наверх. В спешке вода
лилась через край на их плечи, а цепь колыхалась,
изгибаясь по крутому спуску. Около меня было больше
всего женщин — всякого возраста, но не всякого
звания. Остальную часть цепи составляли поденщики,
работники и несколько человек из господ. Хотя мы были
довольно далеко от места пожара, ветер, дувший в нашу
сторону, осыпал нас пылающими искрами, и огненный
дождь усиливал мрачность этой сцены.
Всего несколько минут назад я, возмущенный
нанесенным мне оскорблением, только и думал, как бы
восстановить в залах Казино свое попранное достоинство.
Но, оказавшись против воли в гуще событий, я,
несмотря на холод, ледяную воду и досаду, неприметно
поддался могучей власти незнакомых мне живых и
захватывающих ощущений, и мысли мои приняли другой
оборот. Чувство братства, рожденное потребностью
взаимной поддержки, увлечение работой и вера в свою
полезность создавали вокруг меня обстановку сердечной
202 Наследство
веселости, выражавшейся в безобидных шутках и
дружелюбных окликах.
«Послушайте, тетушка, пустите меня на ваше место,
а сами идите-ка туда, где передают пустые ведра!
— Ничего, мой дружок! Я прачка: мне не
привыкать держать руки в воде!
— Эй, белые перчатки! Сдается мне, вы не на
такой бал собрались! Хотите поменяться местами?
— Большое спасибо, почтеннейший, я только что
начал работать.
— Держитесь, братцы! Руки станут проворнее. Эй,
прачки! Сегодня наши рубашки без вас сами.
стираются. Вот и жабо мое тоже попало в стирку. Ну-ка,
вперед! Раз, два! Налево, направо!
— Хочешь пить? — спросил кто-то меня.
— Очень хочу, старина, но пусть раньше выпьет эта
славная женщина, она работает дольше меня.
— Да пейте же, пейте, что за церемонии?»
И я пью вино, вкуснее которого в жизни не пил.
Все более охваченный волнующими меня чувствами,
я с возрастающим уважением смотрел туда, где при
свете факелов неутомимо и тяжко трудились люди в
рабочих блузах. Эти батраки и поденщики, которые и
обычно так дешево ценят свой необходимый всем труд,
сейчас были движимы лишь бескорыстным
самозабвенным порывом естественного и высокого человеколюбия.
Они не имели возможности ни разговаривать, ни
разделять веселья, царившего в нашей цепи, ни отвлекаться
эффектной картиной пожара, ни вознаграждать себя
поощрительными взглядами толпы. «Сегодня, —
подумал я, — эти великодушные люди выполняют в ночной
темноте самую тягостную часть общей работы, а завтра,
при свете дня, они никем не замеченные, верйутся в без-
Наследство
203
вестные ряды своих товарищей...» Я готов был упасть
на колени перед ними: благоговение, восторг и
признательность теснили мою грудь. Сознание, что я помогаю
этим людям, наполняло меня гордостью, какой я ие
испытывал, когда меня дарили улыбками важные особы
и милостиво принимали власть имущие. В эти минуты
я с величайшим презрением вспоминал кареты,
встретившиеся мне вечером по пути в Казино, и порадовался,
что, не в пример владельцам этих карет, эгоизм не
помешал мне предпочесть пошлому обществу светских
бездельников трогательное братство поденщиков и прачек.
Как видишь, читатель, моя роль теперь совершенно
изменилась! Я уже не был тем пресыщенным,
скучающим человеком, которого ты знал; я уже не был
барином, который пришел поглядеть на пожар, как на
любопытное зрелище; я уже не был бездельником, которого
труженики осыпали бранью. Напротив, пережив прев-
ращение, быть может, даже забавное для тебя, только
что прочитавшего мою историю, я стал самым ярым
противником тех, кто бродил вокруг нас, ие берясь за
дело.
«Эй, любезные! — кричал я им. — Здесь есть
место, становитесь в цепь, господа! Лодыри! Стоят, сложа
руки, а тут люди не вылезают из воды уже больше
шести часов. Часовой! Поддай-ка этим лоботрясам
прикладом! Неправда ли, сударыня, это стыд и срам! А вы,
барышня, заклинаю вас, уходите отсюда! Вы озябли, вы
слишком молоды для такой тяжелой работы!»
С этими словами я обратился к юной девушке,
стоявшей прямо против меня. В сумятице и в темноте
я сначала не заметил ее. Но, когда разгоревшееся пламя
пожара позволило мне разглядеть лица, ее молодость,
мильк черты, нежные белые руки и особенно мягкое
204
Наследство
выражение сострадания, появлявшееся в ее взгляде,
обращенном на пылавшие дома, привлекли мое внимание.
Все только что описанные впечатления, потрясшие меня,
незаметно слились с чувством, возникшем во мне при
виде этой прелестной девушки, — почти ребенка,
явившейся на пожар, чтобы помочь своими слабыми руками
мощным усилиям толпы. Мне стало жаль ее, но хотя
я от души посоветовал ей уйти, я уже понял, что
вместе с ней исчезнет и мое сладостное опьянение, и
картина пожара, неожиданно так живо тронувшая меня,
лишится своего очарования.
Она в нескольких словах объяснила мне, что
дожидается своей матери, чтобы вместе с ней пойти домой:
мне стало ясно, что вполне естественное смущение
принуждало ее скорее оставаться здесь, чем удалиться
одной, или же в обществе кого-нибудь из окружающих ее
мужчин. Однако она, казалось, совсем окоченела, и
соседи уже заметили, что ее ослабевшие руки не могут
справиться с работой в цепи. Тот самый человек,
который назвал меня белыми перчатками, сказал ей:
«Бедняжка, предоставьте нам работать! А сами ступайте-ка
домой и согрейтесь хорошенько! Хотите, я вас провожу?
Кто займет мое место?
— Займите вы мое место, — крикнул я, — я провожу
ее.
— О, с удовольствием, господин белые перчатки!
Счастливого пути! А мы опять примемся за работу.
Живее, солдатушки! Раз, два! Сколько ни льешь воды
в глотку этого дьявола, ему все мало! Молодчина,
матушка Баби, тебе следует орден! Если дьявол околеет,
это ты его доконала! Ну-ка, еще раз! Поехали!»
В ответ на веселые шутки доброго малого раздался
взрыв смеха, а я, тем временем, взяв девушку за хо-
Наследство
205
лодную как лед руку, отвел ее подальше от цепи в
сторону темных улиц, куда не достигал свет зарева.
Почувствовав себя единственным защитником своей
спутницы, я так растерялся от этой лестной мысли, что
забыл даже спросить, где она живет, и куда, собственно,
я должен был ее проводить. Сначала она шла очень
быстро, но потом мало-помалу замедлила шаг, и
наконец, остановилась, словно совсем обессилев. Я не знаю,
что было этому причиной, — волнение ли, пережитое
ночью, или холод, сковавший ее движения, — но
поддерживая ее одной рукой, я другою сбросил с себя
плащ, и, радуясь, что нашел ему такое чудесное
применение, набросил на ее плечи. Помолчав немного, она
наконец собралась с духом: «Сударь, — несмело сказала
она, и молодой голос ее показался мне чрезвычайно
приятным, — я, наверное, не встречу мою матушку,
позвольте мне пойти дальше одной...
— Нет, я не могу вам это позволить, хоть я не
желал бы навлечь на себя ваше неудовольствие. Вам
нездоровится, и я не покину вас, покамест вы не будете
дома и вас не окружат заботами, в которых вы
нуждаетесь. .. А до тех пор, прошу вас, доверьтесь мне: ваша
юность внушает мне столько же уважения, сколько и
участия...»
Она ничего не ответила, и мы пошли дальше. Я
чувствовал, как дрожала ее рука, опиравшаяся на мою,
как неровна и робка была ее походка. Когда мы
подошли к входной двери четырехэтажного дома, она
отдернула руку. «Здесь я живу, — сказала она, — мне
остается, сударь, лишь поблагодарить вас. ..
— Но дома ли ваша матушка, и есть ли там
кто-нибудь еще?
206
Наследство
— Матушка должна скоро прийти; благодарю вас,
сударь!
— Тогда позвольте мне в этом убедиться, я не
уверен, что сейчас у вас кто-нибудь есть, да и у ваших
соседей нигде не видно огня. Пожалуйста, пройдите
вперед! Будет гораздо более пристойно, если я сдам
вас на руки вашей матушке; будет хуже, если она
узнает, что вас провожал незнакомый мужчина».
Тут кто-то прошел мимо нас; девушка, смутившись,
быстро вошла в дом, я — следом за ней. Боясь напугать
ее, я не осмелился в темноте предложить ей руку; но,
когда я оступился на повороте лестницы, и она
невольным движением протянула мне свою руку, я ощутил
сладостный трепет — предвестник настоящей любви, еще
не встречавшейся мне среди фальшивых чувств и
условностей высшего света.
Поднявшись на четвертый этаж, она отворила дверь.
Мне показалось, что на глазах у нее стояли слезы.
«Вас что-то огорчает? — спросил я. — Нет, сударь. ..
но... я право не. знаю, как попросить вас уйти... Мне
кажется, что вам не следует заходить ко мне в такой
поздний час...
— Як вам не войду, если это вас так смущает, —
сказал я. — Но я подожду здесь до прихода вашей
матушки. А вы идите, зажгите свечку, отдохните и обо
мне не тревожьтесь. Мне доставит удовольствие стоять
на страже у вашего порога, пока меня не сменят».
Она отдала мне плащ и вошла к себе. Через не
сколько мгновений зажегся свет, озаривший скромную
комнатку — служившую, очевидно, и кухней. — очень
чистенькую, содержавшуюся в образцовом порядке, где
несколько изящных предметов обстановки составляла кон-
Наследство
207
траст с простой домашней утварью, сверкавшей на пол
ках.
С порога мне не было видно лица моей незнакомки,
но по тени на занавеске, скрывавшей альков в глубине
комнаты, я мог следить за ее прелестной юной
фигурой и благородной грациозной осанкой. По движениям
тени я понял, что девушка поправляет волнистые
волосы, кольцами падавшие на шею, красоту которой
я заметил еще при свете пожара. Как ни туманно было
это зрелище, оно восхитило меня, и сердце Мое все
больше подчинялось обаянию живого, непосредственного
чувства.
Между тем минуты протекали в полном безмолвии.
Только тень позволяла догадываться о том, что было
недоступно моему любопытному взору. Девушка сидела,
опершись на руку; однако колебание тени, которое
я сначала приписал дрожащему пламени свечи, вскоре
вызвало у меня недоумение, а затем и беспокойство.
Я со страхом смотрел, как тень то наклонялась, то,
казалось, с трудом выпрямлялась; мне даже послышались
подавленные вздохи. Не совладав с собой, я ринулся
в комнату: бледная, с угасшим взором, изнемогая от
усталости, тревоги и нездоровья, девушка была близка
к обмороку. В одно мгновение я перенес ее на постель,
спрятанную за занавеской. Быстро прикрыв девушку
своим плащом, я отыскал среди кухонной утвари уксус
и осторожно смочил им ее лоб и виски.
Меня начинало беспокоить не только ее состояние,
но и мое собственное положение. Никогда я не
встречал более прелестной девушки, но именно ей, которая
стала так мне мила, я мог нанести самую жестокую
обиду, скомпрометировав ее. Благодаря моим заботам,
ей стало чуть легче, и она стыдливым движением своей
208
Наследство
хорошенькой ручки показала мне, что мое присутствие
стесняет ее. Я тотчас же отошел от нее, всеми силами
души призывая ее мать поскорее вернуться, — ведь
только она могла подать дочери настоящую помощь. Не
раз мне мерещились шаги матери у двери, но
обманутый в своих ожиданиях, я снова продолжал тревожиться.
После недолгого молчания я тихонько отдернул
занавеску и увидел, что девушка спит спокойным сном.
Какое-то особенное деликатное чувство, причина
которого была мне понятна, побудило ее отодвинуть мой
плащ и укрыться одеялом. Я не мог удержаться от
желания поглядеть на ее черты: приподняв свечку, я, не
отрывая глаз, любовался ее красотой, которую еще
больше подчеркивали непринужденная грация позы и
трогательная бледность лица. Несколько локонов на
половину закрывали девственный лоб, а нежная шея
покоилась на распущенных длинных косах. Нет,
никогда, и в более волнующей обстановке, столь редкие
чары так не искушали мой взор и не рождали в моем
сердце таких безумных восторгов. Но все же я скорее
вонзил бы себе кинжал в грудь, чем посмел оскорбить
хоть одним поцелуем свежие розы этого невинного лица.
Я только нагнулся, желая уловить ее легкое дыхание,
которого было достаточно, чтобы наполнить мое сердца
и мое воображение благоуханием любви.
«Какое безобразие! Что вам здесь надо? Кто вь?
такой?»
Я оглянулся, краснея и дрожа, как преступник. . .
«Сударыня, — пробормотал я, — я ничего плохого не
сделал. Ваша дочь вам сама все расскажет, когда она
проснется и оправиться от своего нездоровья.
— Какого нездоровья? — понизив голос, спросила
женщина. — Что вы здесь делаете? Я не ее мать...
Наследство
209
— Если вы не ее мать, то какое вы имеете право
бранить меня за мои заботы о девушке, которую случай
позволил мне охранять?
— Позволил ему охранять? Хороша охрана, нечего
сказать!!! Негодяй, вот вы кто! Вот как втираются
в порядочное семейство... Уходите сейчас же!
— Сударыня, мне кажется, что вас разгневали
гнусные подозрения! Я и сам собирался уйти отсюда, отдав
в надежные руки доверенное мне сокровище, но ваш вид
и ваши слова вынуждают меня скорее остаться...
— Сударь, это наша соседка, — дрожащим голосом
проговорила девушка, — она не знает, как вы были
добры ко мне. Прошу вас, оставьте меня с ней и
примите мою благодарность...
— Ну что ж, я уйду, если вы этого хотите. .. Но
быть может я смогу быть вам полезным еще
чем-нибудь — отыскать вашу матушку и сообщить ей, что
с вами случилось?..
— Ее отыщут и без вас, — проворчала соседка, —
ступайте своей дорогой!»
Оставив без ответа эти слова, я простился с мчлой
девушкой, сказав, что желаю ей поскорее поправиться,
и что я справлюсь о ее здоровье у ее матери. И я ушел,
совершенно забыв о плаще, оставшемся на спинке
кровати.
Я был возмущен грубостью соседки, но еще больше
раздосадован тем, что меня застали врасплох как раз
в то мгновение, когда естественное любопытство
привлекло меня к постели больной. И я с таким
сожалением покинул это скромное жилище, словно оставил
там мое сердце. Однако по мере того, как я удалялся,
только что пережитое приключение стало казаться мне
каким-то далеким сном; стараясь удержать его в па-
"14 Родольф Тёпфер
210
Наследство
мнти, отгоняя для этого обступившие меня новые
впечатления, я бродил по улицам, не думая ни о пожаре,
ни о своем доме, ни о позднем часе. Только при встрече
с редкими прохожими мое сердце начинало биться
сильнее: в каждом из них мне чудилась мать моей
подопечной, и я уже готов был любить и уважать
незнакомую мне женщину, подарившую жизнь моей подруге.
Моя подруга! Так я уже называл ее в глубине моего
сердца, в этом никому недоступном святилище, где
ничто не притесняет нежный язык любви, где только
любовь диктует каждое слово, придавая каждому слову
^вое значение и свою прелесть.
Пространствовав таким образом довольно долго,
я очутился в соседстве с предместьем. Только тут я
пспомнил о пожаре, и события этого вечера вновь
всплыли в моем воображении, но как они побледнели!
Мне виделся лишь образ моей незнакомки: ее белые
руки, державшие ведра, ее прекрасные глаза, в которых
отражал ь пламя пожара. Перебирая в уме мои
воспоминания, я сч -а провожал ее и то закутывал в свой
плащ, т ) брал за руку в темноте. Но с особым
волнением я вспоминал минуту, когда схватив ее в объятья
и ощутив прикосновение ее молодого тела, я перенес
свою драгоценную ношу на постель в ее уединенном
жилище. Наслаждаясь, своими, мыслями, я почти без
внимания прошел мимо тех мест, где еще недавно бушевало
жадное пламя. Пожар, укрощенный наконец усилиями
толпы, извергал в последнем приступе ярости вихри
черного дыма. Обгорелые балки, груды обломков и
мусора покрывали обширное пространство, где несколько
часов тому нгзац. стояли дома и спокойно жили
многолюдные семьи, которые теперь горестно скитались,
оставшись без крова. Неподалеку друг от друга были рас-
Наследство
211
ставлены караулы, и пожарный насос изредка направлял
струи воды в ту сторону, где порывы ледяного ветра
раздували угасавшие искры огня. Удалившись от
унылого зрелища, я углубился в пустынные темные улицы и
вскоре был дома.
я/
Когда я вернулся домой, было два часа ночи. Все
еще полный впечатлениями вечера и воспоминанием
о моей юной незнакомке, я не мог сомкнуть глав. В
камине еще тлели угли; я раздул огонь и принялся
мечтать. Но я мечтал не так, как всегда — от скуки, от
нечего делать, о пустяках. На ©тот раз я мечтал с
увлечением, мечтал о предмете, затронувшем мое сердце.
Не странно ли, однако, что самые обычные вещи,
окружающие нас, обладают способностью изменять
направление наших мыслей? Задумавшись, я рассеянно
взглянул на бритвенный прибор, брошенный мной на
камине, и на мыло улучшенного качества, издававшее
тонкий запах розы. Этот запах, неприметно
действовавший на мое обоняние, вернул меня к моим
аристократическим привычкам и к той минуте, когда, сидя на этом же
самом месте, я собирался в Казино, где меня
ожидали развлечения в фешенебельном светском кругу под
взглядами разряженных модных дам.
Я поспешил отогнать этн картины самодовольной
роскоши, чтобы снова попасть в скромное жилище моей
юной 'подруги, отчасти, признаться, уже лишенное для
меня прежней прелести. Простая мебель казалась мне
слишком убогой, кухонная посуда на полках оскорбляла
мой взор, грубый тон соседки терзал мои уши. Чтобы
спасти мои грезы любви от гибельного влияния ©тих
ï4*
212
Наследство
впечатлений, я должен был непрестанно вызывать
в своем воображении образ молодой девушки, чьи
движения, голос, черты и даже наряд были отмечены
печатью благородства и изящества. Погруженный в эти
воспоминания, я, наконец, заснул. Приход Жака
разбудил меня, и я, полусонный, разделся и кое-как добрался
до постели.
Очевидно я был очень утомлен, потому что проспал
до двух часов пополудни. Дневной свет неприятно
поразил меня, когда я приоткрыл глаза: все было так
непохоже на тот мрак, в котором я вчера засыпал. Я
пожалел о прошедшей ночи и особенно о пожаре: мне уж,
наверное, никогда не придется увидеть подобное
зрелище — ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшие вечера.
Вокруг стало пусто, и я заскучал.
Но по крайней мере хоть сегодня меня ждало нечто
занятное: я должен был навестить мою незнакомку и
может быть испытать от этого визита удовольствие.
Вместе с тем мне пришлось убедиться, что
десятичасовой глубокий сон. и особенно дневной свет несколько
изгладили из моей памяти милый образ молодой
девушки и ослабили его притягательную силу. Я опасался,
что найду ее совершенно здоровой, осмелевшей в
присутствии матери и может быть даже занятой домашним
хозяйством. Я подумал, что целый ряд случайных и
неповторимых обстоятельств мог в известные моменты
придать ей мимолетное очарование, которое увлекло
меня, словно нечто всегда ей присущее. Наконец,
поразмыслив о некоторых романтических идеях,
склоняющих к супружеству, и казавшихся мне еще несколько
часов назад вполне основательными, я счел их сейчас
в высшей степени нелепыми; все это весьма охладило
мою зарождавшуюся любовь, которая лишилась таким
Наследство
213
образом возможности скорой счастливой развязк*.
Вот так понемногу я опять становился тем
человеком, каким был накануне. Мерцающий огонек, на мгно
вение загоревшийся в моем сердце, постепенно бледнел,
уступая место еще более бледной воскреснувшей скуке.
И все же я не мог стать совершенно таким же, каким
был прежде: таково действие опыта, от прикосновения
которого все увядает. Однажды испытанное чувство,
исчезнув, оставляет пустоту в сердце и не может
возродиться в прежнем виде. Доведись мне снова пережить
нечто подобное вчерашнему приключению, я уже не
нашел бы ни прежней свежести впечатлений, ни живой
прелести новизны и неожиданности. Я достаточно ясно
сознавал, что бесплодно растратил кое-что из этих
бесценных сокровищ, и не мог не ощутить горького осадка
на дне чаши, из которой так недавно с наслаждением
пил.
В таком томительном расположении духа я бесцельно
провел около двух часов. Мне все стало вновь
безразлично; я забыл о своем полипе; даже мои притычки,
помогавшие мне заполнять пустоту моих дней, потеряли
свою власть надо мной, и я неподвижно сидел у
камина — без всякого удовольствия, но не имея охоты
двинуться с места. За зеркалом торчал пригласительный
билет на вечер у г-жи де Люз. Я бросил на него йре-
зрительный взгляд: назойливая любезность этой дамы,
расточавшей мне ласковые улыбки ради своей
молоденькой кузины (это ее крестный прочил мне в жены) была
мне несносна, и я представил себе, как я не отвечаю на
ее приветствие, поворачиваюсь к ней спиной,
отказываюсь слушать ее и заодно наслаждаюсь растерянной
миной моего крестного. «Нет! — говорил я им всем —
ист! Еще вчера меня быть может позабавила бы ваша
214
Наследство
лесть, но не сегодня, нет1 Я бы всех вас отдал за
простую, бедную, никому не известную девушку, если бы
только был способен полюбить и имел малейшее желание
сдвинуться с этого места, где я зеваю при мысли о
вашей угодливости и умираю от скуки, вспоминая ваше
радушие».
И как бы в подтверждение моих слов, я бросил
пригласительный билет в огонь.
«Жак!
— Что угодно, сударь?
— Зажги лампу, и не забудь, что я hhkoj о не
принимаю!
— Но ваш крестный отец сказал, что он за вами
заедет, чтобы взять вас с собой к г-же де Люз.
— Ну хорошо, не зажигай лампу, я уйду!
— А что тогда? .,
— Тогда ничего.
— Ну, а как ои приедет.,.
— Замолчи!
— И спросит...
— Жак, ты самый невыносимый слуга на свете...
— Сударь, это не очень приятно слушать!
— Я понимаю, тебе не хочется в этом сознаться!
— Да, сударь, но. ♦.
— Ни слова больше! Уходи, оставь меня, исчезни!»
Я тотчас же начал натягивать сапоги, чтобы
ускользнуть от крестного: его навязчивость стала выводить
меня из терпения. «Нет, — говорил я себе, — пока этот
человек заботится о моем счастье, у меня не будет ни
одной счастливой минуты! Какое ужасное рабство! Ка-,
кою тяжелой ценой достается наследство! Мне
хотелось спокойно посидеть дома, так нет же: я должен сам
себя выгнать!»
Наследство
2
Тут от моего сапога оторвалось ушко, и я в сердцах
послал крестного ко всем чертям. ..
«Что угодно, сударь?
— Пришей ушко! Живо!
— Дело в том.. . ваш крестный отец здесь!
— Глупец! Готов спорить, ты нарочно впустил его,
чтобы меня разозлить! Ну так вот: меня нет дома! Ты
слышал?»
Жак в испуге выбежал из комнаты, не посмев взять
у меня из рук сапог, которым я грозно размахивал,
продолжая метать гром и молнии. Едва он исчез, как
появился сияющий крестный в самом нестерпимо
веселом расположении духа.
«Собирайся, Эдуард, собирайся! Что это? Ты еще не
готов? Поторопись, а я пока погрею ноги у камина».
Что может быть хуже этой дружеской
бесцеремонности, которая располагается в вашем доме, захватывает
ваш домашний очаг, разваливается в вашем кресле и
воображает, что пользуется правами дружбы, а между
тем нарушает ваши права неприкосновенности жилища и
личной свободы? Эта манера в высшей степени
свойственна моему крестному, и ее было вполне достаточно,
чтобы я обычно принимал его довольно холодно; на
этот раз я был особенно раздосадован и с трудом
сдерживал себя, чтобы не наговорить ему кучу дерзостей.
Тем не менее, привыкнув владеть собой и помнить
о наследстве, я предпочел сделать усилие и сх^т^нть.
«Я думал, дорогой крестный, что вы поедете >ез
меня, — сказал я самым почтительным тоном, — если вы
мне позволите. ..
— Ни за что не позволю, тем более сегодня. Нынче
вечером мы сладим'.твое дельце. Оденься получше, будь
216
Наследство
мил, любезен и как говорится, дело в шляпе.
Поторопись же, я обещал, что мы приедем пораньше!»
Уязвленный тем, что мною распоряжаются и
заставляют быть любезным, когда мне менее всего этого
хочется, я решился отказаться наотрез:
«Дорогой крестный, я не хочу ехать с вами!»
Он оглянулся и посмотрел мне в лицо. Все его
понятия о послушании наследника были потрясены и,
попав в такое неожиданное положение, он сперва не знал,
что сказать.
«Ну, что ж, объяснись! — резко бросил он.
— Дорогой крестный, я поразмыслил...
— Только и всего? Послушайся моего совета! Не
размышляй, а то никогда и не женишься. Я тоже
размышлял, вот и остался холостяком, и должно быть уже
навсегда. А если и с тобой случится то же самое, оба
наши состояния перейдут в чужие руки, и наш род
прекратится. Не размышляй! Это бесполезно. Там, где все
соединилось — богатство, высокое положение, красивая
и милая невеста — размышлять нечего. Надо
действовать и закончить дело. Ну, одевайся и едем!
— Невозможно, дорогой крестный! Я бы рад не
размышлять, но чтобы жениться, нужно по крайней мере
иметь такое желание!
— Ах, черт побери! Ты что ж это, решил не
жениться? ну говори прямо, говори!»
И он принял многозначительный вид, точно поставил
передо мною вопрос: хочу я получить наследство или
нет. Вот от этого трудного выбора я как раз и хотел
уклониться, но не знал, как это сделать. К счастью
я вспомнил о своих вчерашних сумасбродных идеях и
ухватился за них, как за предлог. «А что если мое сердце
уже занято? — спросил я с легкой улыбкой.
Наследство
217
— Пустое! — возразил он. — Скажи лучше прямо:
я не хочу жениться! Тогда я буду знать, как
действовать.
— Но если вы ошибаетесь, крестный, и я в самом
деле влюблен, неужели вы и тогда посоветуете мне
жениться на вашей девице, хоть я и отдал сердце другой1
— Ну это смотря кому. В кого же ты влюблен?
— В прелестную молодую девушку.
— Она богата?
— Не похоже.
— Ее фамилия?
— Не знаю.
— Нечего сказать! Что все это значит, черт побери?
— Это значит, что хотя она бедна и неизвестного
происхождения, но если бы я вздумал сейчас
жениться, — правда, я пока далек от этой мысли, — я бы
выбрал ее, а не другую.
— Ах, ах, бедна, неизвестного происхождения,
хороша собой! Какой вздор! Обычный вздор!
— Вздор! Нет, черт возьми! Уверяю вас, нет!
— Перестань шутить!
— Поверьте, у меня нет ни малейшего желания
шутить!
— Успокойся! Занимать твое положение, быть
богатым, происходить из хорошей семьи и думать о
существе без имени и состояния! С подобной особой
можно вступить в связь, но на таких не женятся».
Эти слова возмутили меня: они были оскорбительны
для молодой девушки, чья боязливая стыдливость
особенно тронула меня. В моем сердце вновь проснулось
сильное чувство к ней, и вместе с тем шевельнулось
презрение к этому старику, который почитал и
превозносил лишь богатство и знатность, но не признавал
218
Наследство
священные права невинности и, казалось, готов был
толкнуть меня на бесчестный поступок.
«Крестный, — воскликнул я с жаром, — вы
оскорбляйте честную девушку, столь непорочную юную девушку,
что вам в это трудно поверить, более достойную
уважения, чем та, кого вы мне предлагаете... Но я куда
скорее согласился бы жениться на ней, чем опозорить ее.
— Ну и прекрасно: не позорь ее, но женись на ком
надо.
— Но зачем же, если я люблю ее, а не другую? Вы
мне твердите о моем положении, но оно наводит на
меня скуку... вы говорите о моем. богатстве, но разве
не оно дает мне возможность свободнее, чем кому-либо
другому, выбирать себе жену по сердцу? Да, полноте.
Если б я нашел красоту, добродетель и множество
всяких достоинств, заслуживающих любви и уважения,
в особе без имени и состояния, в девушке, столь
презираемой вами.., что могло бы помешать моим честным
намерениям? Кто бы стал порицать желание разделить
мое богатство с ее бедностью, поддержать ее слабость
моей силою, дать ей имя, если его у нее нет, и обрести
в этих благородных и великодушных побуждениях
счастье более истинное, более чистое, более достойное
уважения, чем то, какое сулит мне брачный союз,
основанный на тщеславии и фальшивых светских приличиях...
Ах, крестный, если б у меня только хватило силы и не
были уже так расстроены нервы, если бы я не испытал
на себе тлетворное влияние света и не был опутан
бесчисленными узами, которые давят и душат, не давая мне
счастья, — я бы обрел свое счастье подле скромной
подруги, предмета ваших презрительных и обидных
нападок!
-— Ты превосходно проповедуешь, но проповедь твоя
Наследство
219
глупа! Твои идеи не новы, и они хороши только в
романах: в жизни они не пригодны. Но, если ты и
вправду захочешь совершить подобную глупость, то
знай: ты поделишься своим богатством, но не моим. Не
для того я копил его, хранил, умножал, чтобы оно
попало в руки гризетки и стало достоянием ничтожных
людей, с которыми ты собираешься меня породнить
и тем самым привести в упадок наш род».
Это были не те речи, которые могли бы заставить
меня одуматься, и я тотчас принял решение.
«Сейчас, крестный, я еще не помышляю о браке, но
я хочу иметь право жениться когда и на ком мне
будет угодно, хотя бы и на этой девушке, которую вы
клеймите позором, не зная ее. В таком случае будет
справедливо, если я откажусь от всяких притязаний
на ваше наследство. Возьмите назад свое завещание и
верните мне свободу располагать собою. Но не будем
сердиться друг на друга. Что касается вас, крестный,
то клянусь вам, вы мне будете еще дороже, когда я
перестану видеть в вас пристрастного судью, вершителя
моей судьбы, и мне не придется больше утомлять себя,
подлаживаясь к вам и соглашаясь с вашими мнениями,
которые я не разделяю, — одним словом, когда я
останусь только любящим племянником, а не наследником,
который вас боится, но не слушается».
Пока я так говорил, лицо крестного выражало
досаду, возмущение и горечь. Его планы были расстроены,
ноля нарушена, благодеяния отвергнуты — все это
приводило его в гнев и волнение, и он то краснел, то
бледнел.
«Ах вот гы чего захотел? — взорвался он наконец. —
Моя доброта тебя утомляет, моя опека тебя тяготит.
Гы захотел по дружески послать к черту все мои со-
220
Наследство
веты, заботы, благодеяния. Отлично, я тебя понял! ..
Но, сударь, вам придется лишиться не только моего
расположения, но и моего имущества, ни то, ни другое
больше вам не принадлежит, и нас с вами ничто больше
не связывает. Низко кланяюсь!»
Он ушел. Я проводил его до двери и вернулся.
IV
Ты спишь, читатель? Что ты думаешь о моем
поступке? С кем ты согласен: со мною, или с моим
крестным? Я тебе скажу, с кем.
Полагаю, что смогу это сказать при условии, что ты
мне сообщишь, сколько тебе лет, мужчина ты или
женщина, юноша или девушка, и какое положение ты
занимаешь в обществе.
Мне бы только узнать, что ты молод, и я тотчас
представлю себе, что ты держишь мою сторону; но,
признаться, мне это кажется не потому, что я считаю
свой поступок осмотрительным или разумным, о нет,
напротив! Однако я верю, что пока годы не остудили
юный жар в твоем сердце и не научили твой ум
холодным расчетам, ты будешь склонен прощать
неосмотрительное великодушие и неосторожную честность. Юный
друг мой — кто бы ты ни был, юноша или девушка, —
если я ошибаюсь в тебе, не разубеждай меня: мое
заблуждение мне мило; но, если моя догадка верна,
я тоже не стану тебя уверять, что ты заблуждаешься.
Скоро ты и сам сделаешься осмотрительным, сам
научишься благоразумию; скоро твои остывшие страсти,
перестанут воодушевлять твои благородные чувства и
уступят место серьезным ,урокам здравого смысла,
расчета и предрассудков.
Наследство
221
Если ты стар, читатель, и с невольной печалью
внимаешь лишь голосу разума, но в сердце твоем — некогда
столь великодушном и пылком — еще сохранились
прежние чувства, тогда, — о я в этом уверен, — ты слегка
пожуришь меня за безрассудство, но все же протянешь
мне свою дрожащую руку. Ты улыбнешься мне и,
вопреки здравому смыслу, согласишься со мной, я это
вижу по твоему взгляду, и мне будет наградой твое
уважение. Добрый старик, я знаю тебя, ты прочтешь эти
строки... Осуждай же смело меня: я читаю на твоем
серьезном лице скорее сочувствие, чем укоризну, скорее
одобрение, чем порицание.
Но если холод позднего возраста соединился в тебе
с себялюбием, скупостью и предрассудками; если ты
всю свою жизнь занимался расчетами, строя планы на
будущее; если ты всегда предпочитал спокойное
благополучие опасным случайностям неосмотрительного
великодушия; если ты никогда в порыве страстного
чувства не сбрасывал лживую маску... о тогда,
благоразумный старик, ты без сомнения примешь сторону
крестного и осудишь того, кто отказался от наследства;
особенно строго ты осудишь его за то, что он
пренебрег своим положением и готов отречься от него ради
девушки, у которой нет ничего, кроме красоты и
невинности.
Что касается меня, то я сразу возликовал,
избавившись от своего тяжкого ига, и с легким сердцем
вернулся в свою комнату. Размышляя о причинах,
внушивших мне сопротивление моему крестному, я не только
остался доволен собой, но, признаюсь, даже возгордился.
Хоть у меня еще не было определенных намерений
относительно девушки, которую я взял под защиту, я
хвалил себя за то, что имел мужество с таким жаром за-
222
Наследство
ступиться за нее, словно и в самом деле имел на это
какие-то права. Но меня волновали и другие чувства:
я разорвал мои цепи, отныне судьба моя принадлежит
всецело мне, я получил свободу, а завоеванная
свобода так опьяняет!.. Мое небольшое состояние, на
которое я всегда смотрел лишь как на временный
источник благополучия, сразу приобрело в моих глазах
особую ценность: оно стало для меня единственным
настоящим богатством, и с этой минуты я начал им дорожить.
Я мог распоряжаться им по своей прихоти, разделить
его, с кем хотел; в моих интересах было его
приумножить и, вопреки полной беспечности, в какой я был
воспитан, во мне шевельнулись кое-какие честолюбивые
мысли, и я без отвращения стал подумывать о
возможной деятельности и даже, в случае необходимости —
о работе. Невольно повинуясь инстинкту собственности,
разбуженному во мне этими мыслями, я поставил на
место каминные щипцы, привел в порядок коробку
с бритвенными принадлежностями и, заботливо оглядев
обстановку моей комнаты, по-новому оценил каждую
находившуюся в ней вещь. Внезапно возникшее
влечение к своему домашнему очагу заставило меня иными
глазами посмотреть и на моего слугу Жака: я решил
заняться его воспитанием и постараться привязать его
к себе. Впервые рассмотрев в новом свете мои средства
к существованию, я подумал, что надо как можно
скорее окружить себя тем довольством, какое мне раньше
виделось лишь в далеком будущем — после кончины
дяди. Столь непривычные думы навеяли на меня тоску
по семейному уюту; время от времени я обращался
мыслью к спутнице жизни, которая скрасила бы мое
одиночество, и передо мной вставал образ юной
незнакомки, встреченной мной накануне. И, наконец, — как
Наследство
223
это часто бывает, когда важные следствия имеют
смехотворные причины, — мое новое положение больше всего
восхитило меня тем, что мне не надобно было в тот
вечер присутствовать на чаепитии у г-жи де Люз.
Затем я погрузился в глубоко философические
размышления, ибо людям свойственно выражать в форме
общих правил собственные выводы из уроков личного
опыта.
Ах, кто бы ты ни был, как мне жаль тебя, если
судьба твоя зависит от наследства! Если твой
благодетель не торопится умереть, ты рискуешь загубить
свои лучшие годы в бесплодном томительном ожидании;
если тебе не терпится поскорее насладиться жизнью и
ты желаешь смерти своему родственнику, даже когда
осыпаешь его ласками, — ты чудовище! И к чему это
ведет? К тому, чтоб под лицемерной личиной
подавлять свои истинные чувства, жертвовать своими
склонностями, собственным мнением, иногда даже — и
порядочностью. Нет, нет, не нужно наследства! Лучше
работать, лучше нуждаться, но быть свободным, ни от
кого не зависеть, быть самому себе господином, быть
господином своего сердца... отдать его той, кого
любишь, а не той, кого тебе навязывают в жены; отдать
его чистой, скромной, простой девушке, и она воздаст
тебе нежной и преданной любовью за то, что ради нее
ты поступился завидным положением; отдать свое
сердце ей, а не девице, обязанной тебе не многим, но
требующей от тебя многого; девице, которая ищет не
столько супруга, сколько положения в обществе;
девице, которая дорожит больше приличиями, чем
привязанностью, и чье сердце тебе беспрестанно придется
оспаривать у тщеславия, развлечений и опасностей
высшего света.., «Милое дитя! — воскликнул я в упоении
224
Наследство
от собственных мыслей, — я видел, как ты кротка и
боязлива, как хороша в своей непорочной красе! Я
держал тебя в объятиях — восхищенный, полный
благоговения и нежности. Так неужели я не посмею искать
подле тебя счастье, всю прелесть которого ты первая
предо мной приоткрыла».
Так любовь, задетая оскорбительными нападками
крестного, возрождалась в моем сердце, сливаясь с
чистым пламенем благородных, сильных, искренних чувств,
чуждых корысти и расчета.
Этот душевный подъем постепенно сменился
любопытством: мне захотелось узнать, не слишком ли воспитание
и образ жизни моей избранницы расходятся с моим
желанием предложить ей руку. Я стал припоминать
различные подробности, раньше мной не замеченные, но из
которых я теперь старался сделать выводы. Чаще всего
мне приходили на ум ее нежные белые руки, явно
незнакомые с грубой черной работой. Я с удовольствием
вспоминал, как непосильна была для ее хрупких плеч
наша общая работа в цепи, свалившая ее в конце
концов с ног; и я понял, чте эта девушка, неспособная
вынести тяжелый изнурительный труд, привыкла к тихой
и спокойной жизни. Хоть я не очень-то хорошо
разбирался в тонкостях дамского туалета, но мне показалось,
что одежда ее отличалась изящной и милой простотой;
особенное значение я придал впечатлению,
произведенному на меня ее красивыми ножками, обутыми с
некоторой изысканностью в серые прюнелевые полуботинки
со шнуровкою сбоку. В своем воображении я перенесся
в ее жилище; вновь окинув взглядом все уголки ее ком-,
наты, я вспомнил отдельные дорогие предметы
обстановки и нашел в них следы былого достатка, а также
свидетельство известной утонченности вкуса. Заметив
Наследство
225
брошенную в кресле черную шелковую мантилью,
отороченную черным же мехом, и догадавшись, что она
принадлежит матери, я составил себе представление о
благородном облике и простой манере одеваться этой
почтенной женщины. Особенно приятно было мне
припомнить, что рассеянно взглянув на стол во время поисков
уксуса, я увидел среди разбросанных листов бумаги
несколько книг в аккуратных переплетах. Одна из них,
раскрытая на первой странице, оказалась поэмой
английского поэта Томсона «Времена года» 5. Все эти
приметы в сочетании с голосом, тоном, манерами и, главное,
с робкой сдержанностью молодой девушки помогли мне
дорисовать неполный портрет, оставшийся у меня в
памяти; довольный тем, что он отвечает всем требованиям
моего воспитания, моих вкусов и аристократических
привычек, ставших для меня второю натурой, я
почувствовал, что люблю незнакомку во сто крат сильнее
прежнего. Мне страстно захотелось увидеть ее, и я с тоской
поглядывал на часовую стрелку, не решаясь явиться
к ней в столь позднее время. Но вдруг я встал и
вышел.
v
Едва я оказался на улице, как спокойствие вечернего
часа, полумрак, тишина — все наполнило меня тем
живым, полным очарования чувством, какое я испытал
накануне. Я шел теми же улицами, чтобы воскресить в
памяти те же впечатления, и вскоре очутился неподалеку
от дома, куда меня так сильно влекло. Но по мере того,
как я приближался к своей цели, непривычное волнение
замедлило мои шаги. Когда я вошел в подъезд этого
дома, я в нерешительности остановился, не зная, идти ли
дальше, или же отказаться пока от своего намерения.
'j 5 Родольф Тёпфер
226
Наследство
Однако именно то, что, казалось, должно было
заставить меня повернуть назад, побудило меня двинуться
вперед. Заглянув во двор, я заметил, что в окнах
четвертого этажа не было света, из чего я заключил, что
никого не застану дома. Эта возможность несколько
приободрила меня и, собравшись с духом, я решил
подняться наверх. Правда, меня еще подстрекало
любопытство, потому что я никак не ожидал увидеть темные
окна. Было не больше восьми часов, и я не мог
представить себе, что особы, которых я собирался навестить,
уже легли спать.
Я стал подниматься по лестнице, и сердце у меня
начинало биться с удвоенной силой, когда я в потемках
натыкался на что-нибудь, или же останавливался,
пугаясь царившего вокруг безмолвия. Наконец я оказался
у знакомого порога. Но я осмелился тихонько постучать
в дверь, только уверившись, — после долгого ожидания
и прислушивания, — что в квартире по всей вероятности
никого не было. Едва я постучался, как утратил эту
уверенность и, затаив дыхание, уже был готов при
малейшем шорохе за дверью спастись бегством. Но ничего
не было слышно. Тогда я постучался уже не так тихо,
потом — погромче, и, наконец, убедившись, что в
квартире действительно пусто, решился позвонить. Тотчас же
на лестнице этажом ниже отворилась дверь, и слабый
свет озарил площадку, на которой я стоял.
Тот, кто вышел на лестницу, молчал и не двигался,
но продолжал освещать лестницу. Что мне было делать?
Бежать на верхний этаж? Но. за мною могли пуститься
в погоню и навлечь на меня гнусные подозрения.
Оставаться на месте? Я уже обливался холодным потом и
каждая секунда в моем положении казалась мне целым
веком5 полним тревог. Смело спуститься вниз? На это
Наследство
227
у меня не хватило духу. Я решил позвонить еще раз.
«Это он!» — раздался чей-то голос, и передо мной
стояла соседка, оскорбившая меня накануне.
Лицо женщины пылало от ярости. «Негодяй! —
крикнула она. — И вы посмели сюда вернуться.. «
Какая наглость! .. Вы, верно, пришли за плащом?.. Он
у приходского пастора. Вот к нему и ступайте! Он все
знает и найдет о чем с вами поговорить!»
Я слушал эти грубые отрывистые слова скорее
с удивлением, чем с гневом. «Сударыня, — сказал я, —
не знаю, кто вы, но мне совершенно ясно, что возводя
на меня напраслину, вы неосторожно набрасываете тень
на порядочную молодую девушку.. *
— Чудовище! — оборвала она меня. — Разве я тебя
не видела... разве я не слышала, как она плакала...
разве я не подняла твой плащ, который валялся у ее
кровати? ..
— Я не понимаю вас, сударыня, — в свою очередь,
перебил ее я, — впрочем, я пришел сюда не затем, чтобы
выслушивать вас, и не за плащом. Если вы мне
скажете, в котором часу я смогу застать дома эту девушку
и ее мать, мне больше ничего от вас не нужно.
— Здесь ты их больше не увидишь, и не вздумай
искать, где они. .. Убирайся, несчастный, оставь этот дом
и чтоб ноги твоей здесь не было! .. Это все, что мне
поручили тебе передать!»
Тут она, опередив меня, спустилась с лестницы и
остановилась у своей двери, видимо, желая убедиться,
что я пошел вслед за ней. Сквозь лестничное окно,
выходившее во двор, я увидел несколько физиономий,
прильнувших к окнам и с интересом наблюдавших за
происходившим. Так как. мое смущение и, особенно,
молчание придавали мне в глазах всего этого общества при-
15*
228
Наследство
стыженный и виноватый вид, я решил объясниться.
«Сударыня, — сказал я мегере, учинившей скандал, —
нас слушают, поэтому я считаю нужным в присутствии
этих людей назвать свое имя. Меня зовут Эдуард де Во.
Возможно, что молодая особа и ее почтенная мать
когда-нибудь узнают меня лучше. Я приложу к этому все
усилия, ибо слишком уважаю обеих, чтобы вынести их
презрение. Что касается вас, то на мое презрение вы во
всяком случае можете рассчитывать. Без малейших
оснований, единственно из низких побуждений, вы
причинили девушке зло и, быть может, непоправимое».
С этими словами я в глубокой тишине спустился
с лестницы, сопровождаемый шепотом соседей,
привлеченных к своим окнам разыгравшейся сценой. Тотчас
я снова был на улице.
Я был крайне огорчен, однако не столько
возмутительной выходкой женщины, сколько тем, что не
повидал свою молодую подругу, и даже не узнал, где она
нашла себе убежище. Мне не у кого было об этом спросить, и
так как в столь поздний час нечего было и надеяться
побывать у нее сегодня же, я с большой неохотой
отправился домой.
Тем не менее случившееся нисколько не охладило
моих чувств, напротив, — придало им какую-то
особенную силу. Неожиданное бегство обеих дам, хотя и
опечалившее меня, имело в себе нечто таинственное и
романтическое, отвечавшее моим собственным склонностям.
Огорченный тревогою матери, я горел нетерпением
успокоить ее; а дочь, которой на мгновение коснулось
нечистое дыхание клеветы, казалась мне еще более
достойной сочувствия. Признавая себя виновником
горестного происшествия, я считал себя обязанным
продолжать заботиться о ней, и моя роль покровителя, облаго-
Наследство
229
раживая мои действия, льстила моему самолюбию и
укрепляла чувство, влекущее меня к ней.
Придя домой, я услышал от Жака, что в гостиной
меня кто-то дожидается. Я поспешил туда; незнакомый
господин, в котором я по костюму сразу признал
пастора, хранившего мой плащ, встал с кресла, стоявшего
у камина, и поклонился мне.
«Вы вряд ли догадаетесь, сударь, — с волнением
произнес он, — что привело меня к вам, да и сам я
затрудняюсь высказать вам. ..
— Не вам ли, -г- прервал я его, — передали мой
плащ?
— Да, мне, — ответил он.
— В таком случае, сударь, я догадываюсь, — сказал
я, — что привело вас ко мне, и готов вас выслушать».
Мы сели.
«Должен вам сказать, сударь, — начал он, — что
я совсем вас не знаю, и если бы не ваше имя на
застежке плаща, я бы не смог придти докучать вам.
Впрочем, право, по которому я разрешил себе явиться сюда,
основано исключительно на моей обязанности заботиться
о моих прихожанах, и если вы это право признаете, я им
воспользуюсь.
— Да, сударь, я признаю ваше право, — ответил я.
— Буду с вами откровенен, — продолжал он. —
Я пришел сюда с некоторым предубеждением против
вас. Оно вызвано и не совсем обычными
обстоятельствами, и сообщением соседки, а главное, — горем
почтенной матери, которой впервые в жизни пришлось
увидеть, как сплетни и злословие коснулись незапятнанного
имени ее дочери — лучшего украшения и единственного
богатства этой девушки. Мне хорошо известно, что
сплетни и злословие не щадят ни самых чистых намере-
230
Наследство
нии, ни самых честных поступков, и я готов верить, что
ваши намерения и поступки были именно таковы.
Однако искреннее участие в судьбе двух женщин, которые
живут вдали от общества и потому особенно
нуждаются в моем попечении, побудило меня придти к вам,
чтобы если это возможно, из разговора с вами узнать,
какая опасность им угрожала, а может быть угрожает
и теперь, и тогда я смогу увереннее руководить ими
согласно разуму и истине. И еще вам признаюсь в одном:
согрешили вы, или просто поступили необдуманно, я не
теряю надежды, что слова беспристрастного старика
помогут вам воздержаться от зла, или хотя бы внушат
вам уважение и сострадание к моим двум прихожанкам.
— Сударь, я не порицаю ни намерений ваших, ни
предубеждений, — сказал я, — но мне кажется, что вы
располагаете более убедительным свидетельством, чем
мое — свидетельством самой девушки. Если она
обвиняет меня в неуважении к ней, если она считает, что
я выказал нечто большее, чем почтительную заботу
о ней, если она подозревает, что я хоть в малейшей
степени покушался на ее невинность... то к чему вам
было приходить ко мне? Разве слова скромной
девушки не заслуживают большего доверия, чем слова
человека, чья виновность всем кажется столь
очевидной? .. Вот почему, сударь, уважая ваши побуждения,
я не могу понять ни цели вашего прихода, ни дурных
слухов, послуживших ему причиной. Я еще раз
призываю в свидетели эту девушку, и если она сама осудит
меня, я приму ее и ваш приговор.
— Слова ваши искренни и благородны, — сказал
пастор, — да и свидетельство, которого вы добиваетесь,
говорит в вашу пользу. Тем не менее его недостаточно:
девушка эта столь неопытна и простодушна, что страшно
Наследство
231
смутить ее нескромным вопросом. Она не -понимает, чего
от нее хотят; разговоры, которые она слышит, пугают
ее; и она все время плачет, не переставая твердить, что
вы были добры к ней. Что касается меня, то я склонен
довериться чутью, присущему невинности. Но
согласитесь сами, что вы могли и без ее ведома нарушить
строгие законы благопристойности, а тут еще выступает
очевидец с обвинением против вас и приводит в отчаяние
мать, которую поразило в самое сердце стечение
неблагоприятных для вас обстоятельств. Подумайте об этом,
и вам не покажутся, странными и неосновательными
причины, побудившие меня воззвать к вашему
чистосердечию. Поверьте, мне было трудно на это решиться.
Подвергать сомнению честность, деликатность и добрые
намерения такого достойного человека, как вы, отвечать
подозрениями на его оправдания, — это одна из самых
тягостных, если не самых мучительных задач, какие
ставит перед пастырем его долг.
— Не спорю, — сухо ответил я, — но если вы не
знаете, чьи показания предпочесть — мои или той женщины,
то я не хочу ни обижаться, ни молчать и расскажу вам
все, как было. Но скажу наперед: если у вас и после
этого еще останутся какие-нибудь сомнения или
подозрения, вы оскорбите меня».
Тут я посвятил пастора во все события минувшей
ночи, уже известные тебе, читатель! Я не утаил ни
моего горячего желания быть полезным моей незнакомке,
ни нежности, зародившейся во мне, ибо, если эти
чувства кажутся подозрительными для души развращенной,
то для благородной души они служат верным
ручательством чистоты сердца и чистоты поступков. Он
выслушал меня с вниманием. Порой мне казалось, что лицо
его выражало участие и одобрение; в его взгляде я чи-
232
Наследство
тал мое оправдание, и я уже видел, что он готов пожать
мне руку... Вот почему, когда я кончил, а он все еще
сидел молча и неподвижно, я в досаде едва не
разразился упреками, но он опередил меня.
«Не сердитесь!—сказал он. — Я выслушал ваш
рассказ, и у меня уже нет колебаний между вами и той
женщиной. Но простите меня, если я, вопреки моему
убеждению, все еще медлю выразить вам свое
уважение и удовлетворить ваше чувство чести так, как мне
этого хочется. Дело в том, что есть еще одно
свидетельство — более веское и более внушительное. Одна
почтенная особа, принимающая в вас участие, пожелав
оправдать вас в моих глазах, так пошатнула мое доверие
к вам, что большего не мог бы сделать любой ваш
обвинитель. ..»
Растерявшись, я ждал объяснения, и сердце мое
тревожно забилось от гнева, презрения и уязвленного
самолюбия.
«Я ничего не скрою от вас, — продолжал он. —
Девица С***, кузина г-жи де Люз, моя родственница.
Несколько дней тому назад ее родные обратились ко мне
за советом, и я одобрил ее брак с человеком, чьи нрав
и репутацию я ценю еще выше, чем его богатство и
высокое положение в свете. .. я одобрил ее брак с вами,
сударь мой! Ваш крестный отец, которому вы поручили
просить ее руки, только что был у меня. Испуганный
возможными последствиями слухов, которые вы сейчас
опровергли, и зная, что они дошли до меня
одновременно с плащом, уличающим вас, он явился ко мне вашим
защитником. Он сказал, что вы признались ему в своей
' шалости и умолял меня о снисхождении; он упрашивал
меня замять скандальное дело, которое может вам
повредить, и использовать • все мое влияние, чтобы от-
Наследство
233
вратить вас от постыдной связи... Теперь поставьте
себя на мое место и судите сами, как трудно доискаться
истины даже тому, кто горячо желает найти ее, и не
обижайтесь, если еще не услышали от меня полного и
безоговорочного признания вашей невиновности, которое
кажется вам бесспорным и вашим священным правом!»
Терзаемый множеством бурных и противоречивых
чувств; возмущенный низостью моего крестного,
истолковавшего мои правдивые слова, как гнусное
притворство развратителя; исполненный глубокого уважения
к моему собеседнику и желания сразу ответить на все
его вопросы, я был не в силах справиться со своим
волнением и некоторое время молчал. Понемногу я стал
успокаиваться, мысленно подыскивая возражения,
столь же неопровержимые, сколь удовлетворявшие мою
оскорбленную гордость и сознание моей невиновности.
Наконец я снова обрел дар речи. «Сударь, — сказал я
спокойно, насколько это было возможно в состоянии
раздражения, которое я старался подавить, — вы меня
совсем не обидели. Если моему родственнику угодно
очернить меня, то как я могу ожидать, чтобы вы были
доброго мнения обо мне? Но мне будет нетрудно рассеять
ваши подозрения и успокоить вашу совесть... да,
сударь, я люблю эту девушку... но вЫ не знаете того, что
мой крестный отец не счел нужным вам сообщить...
вы не знаете, что из-за этой девушки я навлек на себя
его немилость, что ради нее я сбросил ненавистное иго
и отказался от наследства; больше того, я отказался от
чести породниться с вами и отклонил руку вашей
родственницы. .. Правда, поступая так, я еще был далек
от каких бы то ни было намерений относительно вашей
юной прихожанки; но теперь, когда она
скомпрометирована, и ядовитые толки и досужая болтовня клеймят ее
234
Наследство
позором, я прошу, я требую ее руки... Еще до встречи
с вами в моем сердце уже зрел этот план. Вы мне
поможете выполнить его? — продолжал я более спокойным
тоном. — Вы согласитесь передать ей мое предложение?
Я смею надеяться на это, сударь, если вы убедитесь
в моей порядочности и отдадите мне, наконец,
должное. ..»
Он с растроганным видом протянул мне руку. «Уже
давно, мой молодой друг, — сказал он, — я отдал вам
должное. Я питаю к вам искреннее, глубокое уважение
и сердечно тронут вашим благородным порывом, хотя
быть может он завлек вас слишком далеко... В мою
задачу вовсе не входит хлопотать перед вами за мою
родственницу, но если бы я это сделал, то лишь по
собственному почину, а не от ее имени, настолько я считаю
справедливым прекрасное мнение, которое я составил
о вас... Но не слишком ли поспешно вы решили судьбу
всей своей жизни?. . Вы отвергаете множество
преимуществ. .. отказываетесь от прелестной, вполне достойной
вас девицы... ссоритесь с вашим родственником...
лишаетесь завещанного вам богатства... и что вы
получаете за все это? . . Добродетель — бесспорно, красоту тела
и души... но все же она — безвестная и бедная девушка,
чуждая вашему кругу, куда светские предрассудки не
позволят вам ввести ее. Впрочем, — продолжал он, —
упаси меня бог мешать тем, кого поручила мне церковь,
и быть препятствием счастью, которое провидение быть
может посылает им в воздаяние за их бедствия и
добродетель. Вы сами видите, друг мой, я только хотел
предостеречь вас, но отнюдь не заглушить ваш душевный
порыв; я не хотел умерить ваши восторги, но заставить
вас серьезно обдумать ваше решение, что единственно
может сделать его вполне разумным. Если же вы не из-
Наследство
235
мените этому великодушному решению, не сомневайтесь,
я никому не уступлю приятную обязанность возвестить
о нем и быть ему надежной поддержкой. С этого дня
мое уважение и мои дружеские чувства навсегда
принадлежат вам, и я буду воссылать господу жаркие
молитвы за семейный союз, созданный при столь
трогательных предзнаменованиях».
Выслушав эти слова, я бросился к нему в объятия и,
прижав его к своей груди, до конца открыл ему свою
душу. Он увидел, что я все обдумал еще до встречи
с ним, и, что решение мое, хоть и принятое неожиданно,
основано на твердых началах и прежде всего — на
желании найти счастье в любви и выполнении семейного
долга, что было бы для меня невозможно при прежнем
моем праздном и слишком беззаботном существовании.
Отбросив все сомнения, он с увлечением великодушного
и горячего сердца немедля принял участие в моих
планах; и, как это всегда бывает, когда истинная симпатия
заставляет забыть разницу в возрасте и в положении,
я проникся к этому человеку, с которым говорил
впервые, сыновней любовью и доверием старого друга. Вот
тут я и начал расспрашивать его о дамах, уже имевших
такое большое значение в моей жизни, но которых
я даже не знал по имени.
Он сказал мне, что младшую зовут Адель Сенар, и,
признаюсь, это имя восхитило меня. Я всегда имел
склонность находить в именах нечто банальное или же,
напротив, утонченное и, благодаря этой странной
причуде, от которой я не избавился и впоследствии, я иной
раз готов был променять реальные блага, даруемые
богатством и знатным происхождением, на пленившее меня
имя. Но милое имя. Адель, помимо той прелести,
которую я уже и тогда в нем нашел, сохранило для меня
236
Наследство
еще и другое, неистребимое долгими годами очарование,
ибо, запечатленное в глубине моего сердца, оно навсегда
слилось с последними воспоминаниями о моей молодости
с тем счастьем, каким я наслаждаюсь и по сию пору.
Все остальное, что я узнал о ней от пастора, не
только не задело моих предрассудков, но еще больше
обрадовало и прельстило меня. Отец Адель был, как и
я, швейцарец. Поступив в молодые годы в английский
флот, он дослужился до невысокого, но почетного чина
и во время своего пребывания в Англии женился на
матери моей Адель. Тут я нашел объяснение тому, что
увидел на столе поэму «Времена года», и мне показалось,
что интерес, который у нас обычно вызывают
иностранки, придал облику Адель еще большую
привлекательность. С тех пор я любил приписывать
английскому происхождению ослепительный цвет ее лица,
задумчивую кротость больших голубых глаз и
девственную прелесть чистого лба. За несколько лет до нашей
встречи мать привезла ее в Швейцарию, чтобы с
наименьшими затратами дать ей образование, в котором
она видела будущий источник средств существования
своей дочери. После смерти отца, происшедшей за два
года до этого, обе дамы были вынуждены жить на
скромную пенсию, полагавшуюся по английским
законам вдове офицера, умершего на своем посту, и
поселились в той самой квартире, где случаю было угодно
свести меня с ними. Вот откуда была замеченная мною
изящная мебель и другие признаки того, что мать и
дочь знали лучшие дни.
Все это мне пришлось чрезвычайно по вкусу. «Как
вы думаете, — спросил я пастора, — неужели эти дамы
примут мое предложение? . . ведь они так
предубеждены против меня.., А как по вашему, сумею я внушить
Наследство
237
любовь этой девушке? ., Она, конечно, не придает
значения богатству, которое я ей могу предложить.., и
осмелится ли ее стыдливое и робкое сердечко
откликнуться на зов любви?.. Я чувствую, что вся моя
надежда только на вас, на их достойного покровителя:
только вы, столь почитаемый ими, сможете рассеять
предубеждение против меня и побудить их благосклонно
внять моим обетам, которым они бы не поверили...
— Я приложу к этому все усилия, мой молодой
друг, — ответил он. — Однако бойтесь не их дурного
мнения о вас, а скорее — их гордости. Как только
сварливая соседка подняла крик, я постарался удалить моих
приятельниц из-под ее влияния и заодно избавить их
от ваших преследований, если бы я и вправду убедился,
повидавшись с вами, что обвинения этой женщины
основательны. Таким образом неблагоприятное мнение
о вас не могло укрепиться, и моего свидетельства,
которому они всецело доверяют, вполне достаточно, чтобы
совершенно их успокоить. Однако им присуща гордость
честной бедности: ваше положение и богатство могут их
отпугнуть, тем более, что по убеждению матери,
которое я и сам разделяю, счастье ее дочери надобно
искать в скромном кругу, если только этому не помешает
ее слишком заботливое воспитание. Вы не
представляете себе, — продолжал он, в то время, как я жадно
ловил каждое его слово, — сколько ума, вкуса, истинного
блеска украшают обитательниц бедного жилища, в
котором вы были. Эта девушка, столь застенчивая и
неопытная, обладает обширными познаниями и постоянно
их совершенствует; она занимается музыкой и
рисованием и, благодаря природным способностям, вносит
в эти занятия особое чувство изящного. Ее мать, кроме
тех же достоинств, обладает также и опытом, почерпну-
238
Наследство
тым из путешествий и разумно проведенной жизни, и
что самое главное, отличается мягкой
снисходительностью к людям, рожденной горестями и радостями
чувствительного сердца. Вот почему я всякий раз с
новой отрадой навещаю моих приятельниц. Их дом —
самый приятный уголок в моем приходе; я часто
забываю там о своих заботах и, уходя, не перестаю
удивляться очарованию, какое добродетель, труд и
образованность придают скромной обители, в двери которой
стучатся лишения и нужда».
Наша беседа продолжалась допоздна. Я продлил ее,
забрасывая моего почтенного друга вопросами, и, не
уставая, слушал рассказ о женщинах, возбудивших во мне
столь живой интерес. Мы решили, что он завтра же
утром отправится к ним, и смотря по расположению духа,
в каком их застанет, приступит к переговорам, а чтобы
успокоить мое нетерпение, быть может еще до полудня
принесет мне ответ. Тут пастор встал, собираясь
уходить. Мне захотелось проводить его до дома, и там
я простился с ним, полный любви, радости и надежд.
VI
Я вернулся к себе счастливым и совершенно
изменившимся человеком. Мне казалось, что я только с этого
дня начал жить, и полагаю еще и сейчас, что то была
истинная правда. Хотя невзгоды с тех пор иной раз
нарушали мой покой, никогда я больше не впадал в
апатию — обычное следствие обеспеченной жизни и
упроченного будущего, когда сердце пусто, способности
бездействуют, а ум мельчает, занятый ничтожными
салонными интересами и вздорными тщеславными заботами.
Я принадлежу к известному классу людей, для кото-
Наследство
239
рых такое душевное состояние привычно, особенно
в наши дни; наблюдая участь этих людей, я понял, что
если бы на мою долю не выпало счастье, которым я
теперь наслаждаюсь, и мне бы снова пришлось избирать
свой жизненный путь, я предпочел бы трудолюбивую
бедность, рождающую энергию и деятельность,
праздной роскоши, в которой я прозябал половину лучших
лет моей жизни.
Как и накануне вечером, я уселся у камина, чтобы
предаться размышлениям, и как это обычно бывает
в самые значительные минуты жизни, когда человек
говорит «прости» своему прошлому и всей душой
устремляется к новой судьбе, меня охватила целая буря
живых и властных ощущений. Не сводя глаз с огня, я
припоминал слова и выражение лица Адель, в которых
усматривал признаки расположения ко мне, причем моя
уверенность в успехе росла, когда я, окрыленный
надеждами, думал о том значении, какое могли иметь для
матери и дочери советы моего друга; а то, вообразив,
что надежды мои уже сбылись, я в восторге вскакивал
с места, начинал ходить по комнате и, переносясь через
дни, недели и годы в будущее, рисовал себе свое
безмятежное счастье и строил множество чудеснейших
планов.
Погруженный в свои мечтания, я рассеянно взглянул
на письмо, которое раньше не заметил, хотя оно лежало
прямо передо мной на камине. По адресу на конверте,
я сразу узнал руку моего крестного отца. Я позвонил.
«Когда принесли это письмо? — спросил я вошедшего
Жака.
— Как только вы ушли, сударь! Посыльный просил
не задерживать ответ.
— Хорошо!»
240
Наследство
Я не слишком торопился, распечатывая письмо. Вот
его содержание:
«Любезный Эдуард! Я готов все простить. После
того, как я ушел от тебя, я узнал о твоей проказе,
узнал также и о том, где ты забыл свой плащ. Я не
замедлил принять меры там, где следует, и
приостановить широко распространившийся о тебе слух. Самым
срочным делом было задобрить г-на пастора Латура,
родственника твоей невесты, что мне полностью
удалось. Ничто не потеряно. Ну, а что касается девицы,
которую ты скомпрометировал, то о ней не стоит
говорить. Разумеется, ее надо вознаградить, и этот
расход я беру на себя. Только смотри: никаких колебаний
и отсрочек. Завтра надо все закончить и таким
образом (поверь, не пожалеешь) ты вернешь себе
наследство и дружбу твоего любящего крестного отца».
Письмо это привело меня в ярость; я разразился
гневными словами, обвиняя в бессердечии и
безнравственности этого человека, который своим цинизмом
осквернил все, что для меня было чисто и свято.
Взявшись за перо, я тотчас написал ответ, полный такого
глубокого презрения, что перечитав его через несколько
минут, сам понял, что перехватил через край. Я
разорвал свое послание, написал другое, затем — третье, пока,
успокоившись, не пришел к выводу, что моя судьба,
которая решится завтра, будет самым внушительным
ответом на оскорбительное письмо крестного. Итак я почел
за лучшее не удостоить его ответом и удовлетворил свое
желание мести тем, что снова погрузился в сладкие
грезы.
Около трех часов утра я лег в постель. Я надеялся,
что недолгий сон сократит время нестерпимого
ожидания дня. Но едва я сомкнул на несколько минут глаза,
Наследство
241
как первые лучи солнца проскользнули в мою комнату,
и я поднялся, чтобы одеться и снова предаться все
возрастающей муке ожидания. Глядя на часовую
стрелку, я подсчитал, сколько времени понадобится г-ну Ла-
ТУРУ. чтобы встать, собраться в путь, пойти и наконец
явиться к дамам. Тут я принялся на множество ладов
сочинять речь, которую он произнесет, смотря по
обстоятельствам, месту и настроению, в каком он
застанет своих приятельниц. Призвав на помощь всю силу
моего воображения, возбужденного любовью и мечтами,
я придавал их словам тот смысл, который был мне
больше всего по душе. Наконец ожидание сделалось для
меня невыносимо и я решил пойти навстречу г-ну Ла-
туру, чтобы поскорее узнать, какой ответ он несет.
Добрый пастор накануне приютил Адель и ее мать
в своем загородном доме, находившемся в одной миле
от города. Туда-то я и направился декабрьским утром,
события которого никогда не изгладятся из моей
памяти. Погода была тихая, но дорога — прескверная.
Тусклое солнце освещало серебристыми лучами обнаженные
поля и деревья с облетевшей листвой; сквозь
прозрачный туман смутно белел снег на горах. Но мое сердце
согревало своим огнем эту застывшую природу; я
упивался мечтами о будущем блаженстве, и мне казалось,
что любовь и счастье изливают свои дары даже на
самые убогие хижины, разбросанные по лугам,
тянувшимся по обеим сторонам дороги. Я присел на землю
в ожидании пастора, и помню, долго смотрел на лачугу,
почти скрывшуюся за ветвями молодых вязов, из-за
которых поднимался к небу легкий дымок. Я представил
себе, что волею судьбы я поселился под этой
смиренной соломенной крышей, привел сюда свою подругу, и
вот теперь здесь протекают мои дни. Незаметно мои
^5 Родольф Тёпфер
242
Наследство
мечты придали живое очарование голым веткам
деревьев, и, позабыв на время свое нетерпение, я
погрузился в мысли об этом деревенском жилище. Мечты
таят в себе порой как бы предчувствие будущего.
Несколько лет спустя, вблизи тех мест, и в подобном
убежище мечты мои осуществились.
Вдруг в конце дороги показалась повозка. Я вскочил
и побежал ей навстречу, но еще издали увидел, что
в ней никого нет и хотел пройти мимо. Однако возница,
придержав лошадь, спросил, не за мной ли послал г-н
пастор Латур.. . В одно мгновение я очутился в повозке,
и она быстро повернула обратно. Тотчас же
замешательство и робость, сменившие мое нетерпение, до такой
степени лишили меня присутствия духа, что я готов был
отдать все на свете, лишь бы повозка не мчала меня
с такой быстротой.
Скоро я увидел стоявший на холме дом. К нему вела
крутая дорога, обсаженная старыми ореховыми
деревьями. Сердце мое сильно билось, и я стал искать
глазами, нет ли кого-нибудь поблизости. Но кругом
царило глубокое молчание, и лишь открытые ставни в
нижнем этаже указывали на то, что дом обитаем. Между
тем мы поднялись по холму, и ограда, приблизившись,
заслонила от меня дом.. . Я уже видел ворота; лай
собаки смешался со стуком колес, покативших по
мощеному двору. Повозка остановилась, и снова все стихло.
Когда я вышел из повозки, передо мной появился
г-н Латур. Он вел под руку даму лет пятидесяти. Она
была одета просто и со вкусом; несмотря на волнение,
выражавшееся в благородных чертах ее лица, ее
проницательный и мягкий взгляд, устремленный на меня,
усилил мою робость и в то же время покорил мое сердце.
Наследство
243
В первую минуту я не знал, что ей сказать, она тоже
молчала. Тогда добрый пастор обратился ко мне со
словами: «Друг мой, я передал ваше предложение
г-же Сенар, она, видимо, оценила его; мне кажется, я
сделал все, что мог, остальное зависит от вас, или
вернее — от ваших достоинств, которые сами за себя
скажут лучше, чем я.
— Мы познакомились с вами, — молвила дама
взволнованным голосом, — довольно странным образом. . . но
слова г-на Латура всесильны надо мной и внушили мне
уважение к вам. Я не могу отклонить предложение,
которое он поддерживает. .. Моя дочь ничего еще не
знает, но я не вижу причины скрывать от нее... в
ваших прекрасных качествах я уверена, а остальное я
предоставляю свободному выбору моей дочери... прошу
вас, войдите!»
Смущение мое было так велико, что я не решился ей
ответить; но, повинуясь движению сердца, я забыл о
сдержанности и самообладании, требуемых приличиями,
схватил руку дамы и с горячностью прижал ее к губам.
Г-жа Сенар была, видимо, тронута моим порывом, и
заметив это по ее лицу, я уже не столь робея предложил
ей свою руку, чтобы ввести ее в гостиную. В эту минуту
я почувствовал себя ее сыном и, полный благодарности
и счастья, дал себе клятву всей душой любить ее, и по
сию пору еще стараюсь своей любовью радовать ее
преклонные лета.
Как только я вошел в гостиную, Адель узнала меня,
и щеки ее покрылись ярким румянцем. Но, увидев, что
я веду под руку ее мать, она успокоилась и поклонилась
мне. Она стояла в скромной и грациозной позе и села
не раньше, чем сели мы все. «Я надеюсь, мадемуазель, —
сказал я, — вы уже оправились после того утомитель-
16*
244
Наследство
ного вечера, благодаря которому я имел удовольствие
с вами познакомиться!»
Она опять залилась краской, и чтобы помочь ей
преодолеть замешательство, вызванное этим воспоминанием,
я заговорил о пожаре. Завязался общий разговор, но
несколько холодный и принужденный, как это бывает,
когда за словами прячется то, что таится в сердце.
Только одна Адель с увлечением слушала беседу,
захватившую целиком ее внимание, и лишь изредка робко
вставляла словечко.
Все-таки подобное положение, продолжавшееся
слишком долго, становилось для нас тягостным, и хоть я
чувствовал себя гораздо уверенней, мне было неясно,
как принять слова матери и что я мог решиться
сказать. Наконец пастор Латур обратился к девушке:
«У меня есть одно желание, мадемуазель Адель! Я бы
хотел, чтобы мой друг, который является также другом
вашей матушки, когда-нибудь стал им и для вас.
— Вы хорошо знаете, господин Латур, — отвечала
девушка скромно, но не смутившись, — что я люблю всех,
кто дорог матушке и вам».
Тут я понял, что она не подозревает о цели моего
прихода к ним, и ее невинная душа не вникла в смысл
его слов.
«Мадемуазель, — тотчас подхватил я, — малейший
знак вашего расположения — бесценная награда для
меня. Но зачем мне таить мои желания? Счастье всей
моей жизни зависит от того, исполнятся они, или нет...
Я прошу вашей руки, я хочу соединить мою судьбу
с вашей и обрести вместе с милой подругой также и
мать, которую я уже и теперь уважаю и люблю, как ту,
которую я потерял!»
Наследство
245
Слушая мой признания, юная Адель, пораженная и
встревоженная, попеременно глядела то на г-на Латура,
то на меня, то на мать. А та, увидев, что наступила
минута, когда ей придется решить участь нежно любимой
дочери, почувствовала, как раскрылись ее сердечные
раны; терзаясь воспоминаниями о прошлом,
растерявшись перед неизвестным будущим, она молила взглядом
о сочувствии, помощи, сострадании и, не в силах
совладать с собой, разразилась потоком слез. «Матушка, —
воскликнула дочь, бросившись к ней на шею, — почему
вы плачете? Я люблю его, но я покорна вашей воле. . .
мое счастье зависит от вашего счастья!»
Мать не нашла слов для ответа; наконец, желая
успокоить свою тревогу, она обратилась ко мне, и взяв
руку дочери, вложила ее в мою. С этой минуты мы
стали с Адель едины. Истинная невинность доверчива:
сердце, неопытное в любви, предается ей целиком.
В сердце Адель я нашел нетронутыми сокровища,
которые тускнеют среди светской суеты, но в жизни
уединенной становятся еще прекраснее. На редкость
красивая, исполненная прелести и грации, наделенная
способностью тонко чувствовать, которая придает особую
привлекательность талантам и познаниям женщины, эта
благородная и скромная душа не знала других наслаждений,
кроме любви и преданности. В то же время, когда она,
казалось, расточала дары своего ума и характера,
какая-то целомудренная сдержанность сообщала ее
малейшим достоинствам очарование в тысячу раз более
глубокое и притягательное, нежели то, какнм тщетно
стараются блеснуть не менее красивые женщины, но
прибегающие к расчетам и уловкам искусного кокетства.
Было решено, что обе дамы останутся на всю зиму
в убежище, которое радушно предоставил им добрый
246
Наследство
пастор. Туда в суровые зимние морозы я ежедневно
приходил наслаждаться обществом прелестной девушки и
восторгами разделенной любви, день ото дня
становившейся все сильней. Чудесное время упоения настоящим
и радостными надеждами на будущее! Счастливые дни
моей жизни! Вы пронеслись, оставив в душе сладостный
след, не в пример другим наслаждениям, безвозвратно
канувшим в вечность; вы были сияющим
провозвестником счастья, какое я вкушаю и поныне, и, оглядываясь
назад, никогда мое сердце не упрекает вас в том, что вы
не исполнили прельстивших меня обещаний!
Весной г-н Латур обвенчал нас в церкви соседнего
селения. Счастливый и гордый нашим союзом, — плодом
его рассудительности и бескорыстия — он навсегда
остался нашим другом. Жак не покинул меня в моем
новом положении, а мой крестный отец, скончавшийся два
года спустя, так и не простив меня, разделил свое
имущество между родственниками, менее состоятельными,
чем я. Я кончаю, читатель! Следовал ли ты за мной
до конца? Я льщу себя этой надеждой и потому
расстаюсь с тобой с большим сожалением.
Лнтернский перевал
При выходе из долины Шамони первой открывается
взору Сервозская долина. Если снег уже исчез с
соседних горных вершин, если луга вновь зазеленели, и
заходящее солнце золотит окрестные скалы, эта долина,
хоть и безлюдная, принимает приветливый вид. Кое-где
рассыпаны одинокие хижины, а между ними находится
небольшая гостиница, куда я зашел двенадцатого июня
под вечер.
Из этой долины можно выйти различными путями.
Некоторые идут большою дорогой, что проще всего. Но
в те времена я был молод, считал себя завзятым
туристом и презирал столь заурядный способ путешествия.
Туристу надобны вершины, ущелья, опасности,
приключения и всевозможные чудеса. Почему? Такова уж его
природа. Как ослу не приходит в голову, что от
мельницы до хлебопекарни можно идти не самым коротким,
не самым ровным и удобным путем, так и туристу еще
труднее представить себе, что от Сервоза до Женевы
можно пройти не самой длинной, не самой крутой и
скверной дорогой. Коммивояжеры, торговцы сыром,
богачи и старые люди рассуждают, как ослы; писатели,
художники, англичане и я рассуждали, как туристы.
Вот почему, явившись в Сервозскую гостиницу, я
первым делом справился об особенностях здешних гор
и переходов. Мне рассказали об Антернском перевале:
узкий проход, зажатый между пиками Физа и
подножьем Бюэ, трудная тропа, скалистая и голая вершина. ..
248
Антернский перевал
Я сразу увидел, что это именно то, что мне нужно, и
решил завтра же пойти на поиски хорошего проводника.
К несчастью, их не было во всей округе, и мне смогли
указать лишь на охотника за сернами, способного, как
говорили, заменить проводника. Но случилось так, что
этого человека уже нанял английский турист,
пожелавший отправиться в Сикст той же дорогой, что и я.
Я видел этого туриста: он сидел на пороге
гостиницы, когда я туда входил. Это был джентльмен с
благообразной внешностью, аккуратно и даже изысканно
одетый, с очень изящными манерами, ибо он не ответил
мне на поклон, когда я прошел мимо него. У
благовоспитанных англичан это является признаком хорошего
тона и светской привычки. Все же, когда я узнал, что
единственного человека, который смог бы провести меня
через Антернский перевал, нанял этот турист, я
подошел к нему, очень желая уговорить его, чтобы он
разрешил мне составить ему компанию, с условием, что я
наполовину оплачу охотника за сернами.
Англичанин сидел, повернувшись лицом к Монблану,
но впрочем на него не смотрел. Он зевал; в знак
расположения зевнул и я, после чего счел нужным выждать
несколько минут, чтобы дать милорду время освоиться
с моей особой. Когда я почувствовал себя так, словно
меня познакомили с ним, вернее представили ему, и
момент показался мне подходящим, я ни к кому не
обращаясь, вполголоса сказал: «Чудесно! Великолепное
зрелище!»
Ни звука, ни движения в ответ. Я подошел поближе.
«Сударь, — как можно учтивее обратился я к нему, —
вы, конечно, прибыли из Шамони?
- Дау!
— Я тоже вышел оттуда сегодня утром».
Антернский перевал
249
Англичанин зевнул второй раз.
«Я не имел удовольствия встретить вас по дороге,
сударь! Вы, наверное, прошли через Бальмский перевал?
— Ноу!
— Может быть через Прарион?
— Ноу!
— Вчера я перешел через Тет-Нуар, а завтра
собираюсь отправиться через Антернский перевал, если
найду проводника. Говорят, вам это удалось?
— Дау! . .»
«Дау! Ноу! Черт бы побрал тебя, глупая
скотина!» — выбранился я про себя. Потом, решив не
медлить дальше, я спросил напрямик: «Не будет ли
нескромно с моей стороны, сударь, если за неимением
своего проводника, я попрошу у вас разрешения
присоединиться к вам, оплатив наполовину вашего
охотника за сернами?
— Дау, будет нешкромна!
— В таком случае, я не настаиваю», — ответил я
и удалился в полном восторге от интересной беседы.
В путешествии порой выдается чудесный вечерний
час, когда медленно бредешь наугад по пустынной и
нехоженной местности, беззаботно любуясь пейзажем,
изредка перекидываясь словом со случайным прохожим, а
потом, почувствовав разыгравшийся во время ходьбы
аппетит, вспоминаешь об ужине, который уже ждет
тебя, чтобы утолить твой голод.
Прогуливаясь таким образом, я поднялся на
усеянную обломками камней скалу, которую здесь называют
«горой Сен-Мишель». На скале щипали траву две козы;
увидев меня, они убежали; оставшись хозяином
положения, я присел под двумя молодыми деревцами, которые
там росли.
250
Антернский перевал
Обстановка, однако, вряд ли сулила мне
приключение. Не жди ничего такого, читатель, прошу тебя! Я
там сидел, только и всего. Но, поверь мне, сидеть в
таком месте и в такой час, это уже очень много! Долина
тонула во мгле, но с той стороны, где она открывалась на
Монблан, лился ослепительный свет. Он играл красками,
озаряя ледники этой величавой вершины, и ее зубчатые
края необычайно красиво выделялись на темной синеве
неба. Солнце садилось, и свет мало-помалу покидал
ледяные плато и бездонные пропасти. С последним
солнечным лучом исчез из виду и последний горный пик;
казалось, что жизнь отлетела от природы. Но тут все
органы чувств, очарованные и скованные до этой
минуты волшебною силой гор, начали пробуждаться,
смутно вспоминая долину: щека ощутила свежее дуновение
ветерка, ухо услышало шум реки, а ум спустился с
высот созерцания до мысли об ужине.
За козами пришел пастух. Обратно мы возвращались
с ним вместе. Добрый малый кое-что знал об Антерн-
ском перевале, и я бы, конечно, предложил ему завтра
быть моим проводником, если б не заметил, что он до
крайности труслив. «Простые люди, еще так сяк, но
господа, нет! Снег наверху еще очень глубокий. Не
прошло и недели, как у Пьера там пропали две свиньи
и жена тоже. Она их гнала с ярмарки в Самуане. Да
свиньи какие откормленные! Хоть бы она продала их,
по крайности деньги были бы целы! Нет, в июне там
идти плохо!»
Ссылаясь на «Путеводитель», который был у меня
в руках, я стал доказывать пастуху, что путь этот,
напротив, очень легок, потому что Антернский перевал
лежит на высоте 7086 футов над уровнем моря, тогда как
линия вечных снегов находится на высоте 7812 футов.
Антернский перевал
251
Но я не был уверен, что мои доводы убедили его,
поэтому я вынул карандаш и тут же на обложке моего
«Путеводителя» победоносно произвел вычитание,
наглядно показавшее, что начиная от перевала, остается
еще 726 футов голых скал, следовательно, там нет ни
льда, ни снега!
«Ma s'y fias»,* — сказал он на своем наречии. —
Я в ваших цифрах не смыслю, а вот слушайте-ка! Два
года назад, в этом самом июне месяце там остался один
англичанин. Сын. Я видел его отца: он был в трауре
и плакал. Мы устроили ему угощение у Рено: перед ним
положили сушеные орехи, мясо, пирожки, а он ни к чему
не притронулся. Ему нужен был только сын. Через
тридцать шесть часов ему доставили сына, да только
мертвого».
Мне стало ясно, что в голове у пастуха путаница:
ведь не мог же мой «Путеводитель» ошибаться, да и
вычитание, которое я произвел, не вызывало сомнений.
Кроме того, меня немного манила к себе опасность, и
если допустить, что пастух, склонный, как и все робкие
умы, к преувеличениям, в чем-то все же был прав, то
получалось, что среди всех прочих перевалов именно
Антернский был для меня самым привлекательным.
Итак, я не отказался от своего намерения пуститься
в дорогу без проводника, — ибо у меня его не было, —
зато с моим замечательным «Путеводителем».
Оставалось только поспевать за англичанином, чтобы издали
идти по его следам.
Когда я возвратился в отель, ужин был уже подан.
Для меня накрыли маленький столик; немного поодаль
за своим столиком сидел англичанин в обществе моло-
* Не верьте этому! (прим. автора).
252
Антернский перевал
дой девицы, его дочери, которую я раньше не видел. Она
была свежа, как маков цвет, и очень хороша собой; но
в ее манере держаться было заметно сочетание грации
с чопорностью, что весьма часто встречается у молодых
англичанок аристократического круга. Так как я знаю
английский язык, я бы мог, не принимая участия в ее
беседе с отцом, извлечь для себя кое-что полезное; но
беседа их ограничивалась обменом односложными
словами, выражавшими высокомерное презрение ко всему,
что касалось услуживающей им челяди, качества блюд
и сомнительной чистоты посуды. Однако выбор блюд,
заказанных англичанами, показался мне очень
странным. Дочь велела подать ей большой величины
бифштекс и даже соблаговолила приоткрыть хорошенькие
губки для нескольких глотков вина, которое я почитал
обязательной принадлежностью трапезы туриста. В это
время милорд хлопотал над приготовлением чая, который
составлял весь его ужин. Он производил эту операцию
с величайшей тщательностью и с той серьезною
важностью, какую вкладывает в это занятие каждый
англичанин из порядочного общества. И хотя вся гостиница
была на ногах, и слуги были готовы разбиться в
лепешку, чтобы чай получился отличный, милорд принимал
их усердие со сдержанной яростью, столь
характерной для многих знатных англичан, когда они
находятся в путешествии, в гостинице и вообще на
континенте.
К концу ужина вошел проводник. «Эй, эй! вот что
я скажу вам, сударь! Выйти надобно утром пораньше.
Я только что посмотрел, какая будет погода: к полудню
может начаться ураган, и на перевале нам придется
худо. Там всегда много снега. И даже на зонтик
мамзель надежда плохая!»
Антернский перевал
253
Столь развязная манера выражаться явно покоробила
милорда. Прежде, чем ответить, он начал с дочерью
разговор на английском языке. Для ясности я воспроизведу
этот разговор на том особом жаргоне, которым
пользуются англичане, когда они изъясняются между собой
по-французски.
Милорд дочери: Эта проводника отчэн дерзки.
— Он мне казался глупый. Скажите ему, что я не
хотел отпраавиться раньше, чем на небе не было ни одна
туча».
Милорд проводнику: Я не хотел отпраавиться
раньше, чем на небе не было ни одна туча.
— А вот и нет! — возразил проводник. — Я
предупреждаю вас: с раннего утра обязательно будут тучи.
И все ж таки выходить надо пораньше. Положитесь на
меня! я знаю здешнюю погоду и здешние дороги.
Милорд дочери: Эта плут. Проводнику: Я сказал
вам, что хотел отпраавиться не раньше, чем на небе не
было ни одна туча.
— Как хотите, дело ваше! Спорю, что небо очистится
только к девяти! Если только в девять выйдем, а в
полдень может быть гроза, нас там как раз и захватит и
занесет снегом. А вот если выйти пораньше, так к
полудню мы уже будем в Сиксте, и пусть себе бушует!
Милорд дочери: Эта плут. Понимаешь, Клара? Он
знала, что завтра была плохая погода и хотела повести
нас рано утром, потому что позже есть дождь и он
ничего не заработает.
— Я тоже так думал.
— Эти люди все ужасные воры.
— Все. Прикажите ему слушался вас. Вот он и
попался.
254
Антернский перевал
Милорд проводнику: Друг мой, я хорошо понимал
ваша хитрость! Я хотел отпраавиться не раньше, чем на
небо не было ни одна туча, как на эта plate. How do
you say plate. Clara? *
Клара: Тарелка.
— ... как ua эта тарелка. , . По-няли?
— Как не понять! но только это большая глупость.
Послушайте, дайте-ка я приведу Пьера. Он вам
расскажет, он на этом пару свиней потерял...
— Я вам запрещал приводить сюда свиней. *.
— Но это затем, сударь, чтобы вы увидели...
— Я вам запрещал!
— Как хотите.
— Я вам запрещал, черти вас побери!»
Проводник ушел, так что я, вопреки своему
обыкновению, не смог накануне установить час своего выхода
из гостиницы. Я был склонен согласиться с мнением
проводника, но, не имея права голоса в этом совещании,
вынужден был соединить свою судьбу с судьбой
милорда. Приняв такое решение, я пошел спать.
У проводников свои представления о приличиях.
Несмотря на строгий запрет, он явился в гостиницу на
рассвете, поднял шум и разбудил милорда, требуя, чтобы
тот поторопился в дорогу. Оскорбленный до глубины
души такой бесцеремонностью, нарушившей его сон,
милорд вскочил с постели, высунул нос в окно, и увидев
все небо в гучах, пришел в негодование.
«Вы, сударь, плут! — кричал он проводнику из-за
закрытой двери.—Я понимал ваша хитрость! Я
понимал! .. я еще раз заявлял, что я не пошел, пока на
* тарелка. Как ты скажешь тарелка, Клара? (англ.).
Антернский перевал
255
всей небосводе не будет ни одна туча!.. Убирайтесь!
Сию минуту! Сейчас! . .»
Проводник, громко ворча, удалился, не совсем
понимая причину такой немилости. Однако его
метеорологические предсказания не замедлили оправдаться.
Только в восемь утра солнечные лучи, пробившись
сквозь облачную завесу, плывшую над долиной, рассеяли
поредевший туман, и дневное светило сразу засияло на
совершенно чистом небе. Тогда лишь милорд и его дочь
решились, наконец, двинуться в путь и сели верхом на
оседланных и взнузданных мулов, которые более двух
часов поджидали их у гостиницы в обществе проводника.
Третий мул вез их чемоданы в Сикст более короткой и
легкой дорогой. Минут через двадцать, вскинув на спину
небольшой вещевой мешок, я отправился пешком по
следам англичан.
Гора, на которую мы взбирались, очень живописна и
приковывает к себе взор. До половины высоты ее
крутые склоны одеты великолепным лесом. Сначала идут
ореховые деревья, потом буки — вперемежку с елями,
еще выше виднеются стройные серебристые стволы
берез, увенчанные трепещущей листвой, и наконец
показывается скалистая стена Физа. Устремленные к
облакам скалы, все более грозные и высокие по мере того
как к ним приближаешься, тянутся длинной цепью в
сторону Салланша, где они кончаются величественным
пиком Варана. Эти скалы, подточенные ветрами и
подмытые водами, образованы многочисленными обвалами,
последний из которых произошел в прошлом веке. Бот
почему горная гряда, где ныне леса чередуются с
веселыми пастбищами, укрывает в своих недрах останки
людей, развалины хижин и целых поселений. Время
от времени на Физ карабкаются отважные охотники.
256
Антернский перевал
Они говорят, что на этой суровой вершине расположено
темное глубокое озеро, о котором в здешних местах
рассказывают всякие чудеса.
Последняя деревня, которую оставляют позади при
восхождении из Сервозской долины, называется Гора.
Я был потрясен унылым видом этого маленького
поселка, где не встретил ни людей, ни животных. Я
остановился у источника, но и там не было никого, кто бы
мог объяснить мне причину такого глубоког© запустения.
Впрочем, если бы мне удалось удовлетворить свое
любопытство, я бы испытал чувство гнетущей печали.
И действительно: когда мы на другой день пришли
в Бонневиль, проводник указал пальцем на тюрьму, где
были заключены все несчастные жители злополучной
деревни.
Это мрачная история. Деревушка Гора была не хуже
других селений, расположенных в долине. Благодаря
трудолюбию и простоте нравов, здесь, как и в остальных
деревнях, царили порядок и скромное благополучие;
поколения сменялись поколениями, жившими в
безвестности, но в мире и согласии. Однако после наполеоновских
войн некоторые жители деревни, вернувшись к своим
очагам, принесли с собой привычку к праздности и
пьянству. Они рассказывали, что в иных краях не
почитают церковь и высмеивают священников; они
уверяли, что савояры в чести у жителей Парижа *, и что
там, не обременяя себя тяжелой работой, можно за
короткое время скопить порядочную сумму. В конце
концов многие, соблазнившись этими рассказами, покинули
родину с тем, чтобы вернуться домой через несколько
лет. Они привезли с собой много денег, но также и
неизвестные их землякам пороки: постыдное распутство
и потребность в пьяных кутежах. Пренебрежение к ста-
Антернский перевал
257
ринным заветам, презрение к деревенскому обиходу и
религиозным обрядам еще раньше подготовили для этого
подходящую почву. Разложение нравов пустило
глубокие корни и зашло так далеко, что проникло во все
домашние очаги. Невоздержанность, болезни, бедность,
подобно язвам, разъедали тело и душу некогда здоровых
и зажиточных семейств. Прошло не так много лет, и
члены этого небольшого общества, — разрушенного
отсутствием порядка и труда, — связанные между собой
лишь пороками и нуждой, составили мерзкий заговор
против собственности соседних общин. Они угоняли
чужой скот, оспаривали документы, утверждавшие чужие
права, притязали на чужие земельные участки;
представ перед судом, они сговорились давать ложные
показания и выиграли дело. Однако этим преступлениям был
положен конец: отцов и матерей бросили в тюрьмы,
а дети, — осиротевшие, опозоренные, рассеявшиеся в
разные стороны, — познали горечь нищеты, прося
подаяния под окнами деревенских хижин и на панели
больших городов.
К счастью я ничего об этом не знал. Сидя у
источника, я любовался кристальным блеском водяных струй
и белоснежной пеной. Я полагал, что добрые люди,
которых не было видно ни у ворот их домов, ни во дворах
у сараев, работают в лесу или же пасут на лугах свои
стада. Можно ли было вообразить, что в этих
отдаленных местах, в благодатной тени этих деревьев живет
племя, зараженное тем же тлетворным духом, что и
население больших городов? Можно ли было оказаться
в сердце альпийских гор и не верить в ту полную
очарования беспорочную жизнь, которую здесь ищут,
можно ли было не верить, что именно здесь ее
неприкосновенное убежище? Несмотря на столько погибших
\~1 Родольф Тёпфер
258
Антернский перевал
надежд, эта иллюзия беспрестанно возрождается в душе
жителей городов; великая природа волнует нас,
безмолвие гор говорит с нами; здесь наше сердце ширится,
очищается и, словно вернувшись к своей первозданной
чистоте, уже не постигает, что существуют пороки, зло,
гнусные страсти и во всем готово видеть ту же
пленительную чистоту.
Я испытал это чувство во всей его полноте, и оно
становилось тем сильнее, чем выше я поднимался. Но
вот, часам к одиннадцати над ущельями начали
собираться тучи. Монблан окутался густой пеленой, черные
гребни вершины еще резче выступили на этом тусклом
белесом фоне, с юга подул порывистый холодный ветер.
Я припомнил предсказания проводника, но лишь для
того, чтобы посмеяться над почтенным милордом,
который побоялся попасть в воображаемую ловушку и сам
себе расставил настоящие сети. Временами, когда лесная
поросль редела, а тропинка поднималась более круто, я
видел над моей головой обоих мулов. Милорд и его
дочь молча продвигались вперед, как вдруг проводник,
который вел под уздцы мула юной мисс, остановился,
чтобы ей что-то показать, из чего воспоследовало нечто
вроде перепалки.
Надобно сказать, что все проводники в этом месте
показывают путешественникам пятно цвета ржавчины,
которое виднеется на большой высоте на отвесной стене
Физа. Они называют его «Человеком Физа», и уверяют,
будто это пятно имеет форму желтых штанов. Выступы
соседних скал, дополняя эту картину, образуют фигуру
некоего гиганта. Вот на эту достопримечательность
проводник и указывал пальцем юной мисс; но, чтобы она
могла лучше разглядеть очертания человеческой
фигуры, проводник прежде всего обратил ее внимание на
Антернский перевал
259
штаны. Известно, что для английских ушей это слово
звучит неприлично, поэтому лицо молодой особы
выразило крайнюю степень стыдливости, а на лице милорда
появилось выражение весьма комического негодования.
«Смотрите выше, налево, — повторял проводник, —
вон там желтые штаны!
— Я запрещал вам, проводник, говорил это слово!
— Разве вы не видите, сударь? Смотрите на конец
моей палки... вон желтые штаны!»
Тут юная мисс еще больше застыдилась, а милорд,
возмущенный настойчивостью проводника, закричал: «Вы
нечистая человека, сударь! Я сказал tfe произносить это
грязное слово. Я платил вам, вы должны слушал меня!»
(К дочери): Пришпорь мула, Клара!»
Караван снова двинулся в путь. Простой охотник за
сернами, случайно ставший проводником, не был знаком,
в отличие от своих товарищей из Шамони, с обычаями
и нравами английских туристов, и все меньше понимал,
с кем он имеет дело. Но так как его в сущности
интересовал лишь заработок, он не настаивал и, вытащив из
кармана огромную трубку, набитую табаком, всунул ее
в рот и начал высекать из кремня огонь. . .
Клара милорду: О ужасный вонь! Эта парень
хотел курить трубка!
Милорд Кларе: Я не знал больше такой несносный
человек! (Проводнику): Я запрещал вам курить,
проводник! мой дочь не выносит вонь! ..
— Это не вонь, а хороший табак, очень даже
хороший табак!
— Это плохой вонь, я запрещал вам!
— Ладно! Я пойду сзади, мул привычный. ..
Клара: О, о! . . не оставлять мула!
Милорд: Не оставлять! Ой! What fellow we have
17*
260
Антернский перевал
there! * Я запрещал вам курить. Если вы курить, я
отказался абсолютно вам платить!
— Ну, хорошо! пусть будет по вашему. .. Лучше,
право, гнать скотину на ярмарку, — сказал проводник,
пряча трубку в карман. — Вперед, — добавил он. —
Погода портится. Нам надо еще пройти по снегу...»
В самом деле, небо снова заволокло тучами; все
вершины гор скрылись, ветер усилился и вихрем гнал пыль
из ущелий. Мы поднимались уже почти три часа, но до
перевала было еще далеко. В то время, когда мы
достигли скалистой стены Физа, мы оставили за собой
последние следы растительности. Теперь же, когда мы
обогнули скалы, они заслонили от нас вид на Сервоз-
скую долину. Панорама совершенно изменилась: слева —
отвесные скалы, справа — обледенелые камни у
подножья Бюэ. Вокруг нас простиралась пустынная унылая
местность: однообразие ее кое-где нарушали лишь белые
пятна наметенных ветром снежных сугробов. С каждым
мгновением их становилось все больше и больше; скоро
они слились в сплошную пелену.
Милорд Кларе: Я имел подозрение, что этот чудак
не знать верную дорогу.
— Я тоже, — ответила Клара с обеспокоенным
видом.
Милорд: Вы повел нас плохой дорогой, проводник?
— Пошли! Пока еще не на что жаловаться! То ли
еще будет наверху. Вперед! вперед!
Клара милорду: О, я очень боялся, отец!
— Вперед! вперед! Вы вчера не хотели меня
слушать; теперь надо подумать, как нам выпутаться из
беды.
* Ну и парень нам попался! (англ.).
Антернский перевал
261
— Я хочу вернулся! непременно вернулся! —
закричала испуганная мисс.
— Невозможно, мамзель! Но, конечно было бы
лучше, если бы мы сейчас уже перевалили на ту
сторону.
— Остановите мула, проводник, остановите мула! —
сказал милорд. Сильно озабоченный проводник не
обратил внимание на этот приказ — Остановите! —
повторяла юная мисс. — Остановите! — повторял милорд. —
Сию минута, сию минута!»
Проводник оглянулся назад, и не останавливаясь, не
отвечая, стал внимательно всматриваться в небо. «Плохо
дело», — сказал он. Потом вдруг придержал мулов и
прибавил: «Сударь и мамзель, надо слезть с мулов!
— Слезть! — закричали оба в один голос.
— Да и побыстрее! Вернуться никак нельзя.
Ураган вот-вот ударит нам в спину: он мчится к нам со
страшной быстротой. У нас есть только один выход.
Перевал еще очень далеко, нам до него живыми не
добраться. Надо взять влево и вскарабкаться на этот
откос. Мы сократим дорогу, а когда будем по ту сторону,
укроемся от ветра. Сойдите! Мулы сами найдут до
рогу! Ну, сойдите же!»
Хладнокровие проводника внушило уважение
милорду, но слова — сильно обеспокоили. Он молча сошел
с мула. Тут я приблизился к ним. Юная мисс вся
дрожала. Не спрашивая разрешения, я помог ей спуститься
с мула и сказал несколько ободряющих слов. Когда
отец увидел, как ее нежные ножки погрузились в
глубокий снег, его лицо выразило испуг. «Послушайте, —
сказал я проводнику, который торопливо привязывал
стремена к седлам, — вы сумеете нас выручить. Мне
хвалили вашу смелость и вашу силу. Вас зовут Фелисаз,
262
Антернский перевал
вы самый искусный охотник в долине. Мы вверяем вам
наши жизни». Затем, повернувшись к милорду, я
продолжал: «Не бойтесь, сударь! Я тоже не новичок в
горах. Вместе с этим славным малым я буду
поддерживать вашу дочь, если у нее не хватит сил.
— Бдагодарю вас», — машинально сказал он,
поглощенный своею тревогой.
Я не был так взволнован, как англичанин, но
обеспокоен не меньше его. Мне пришли на память слова
пастуха, которые я накануне пропустил мимо ушей;
сегодня, однако, я уже понял как велика опасность
нашего положения. Пастух не поскупился на подробности,
рассказав при каких обстоятельствах погибли молодой
англичанин и жена Пьера. Мне почудилось, что я вижу
эту картину во всей ее ужасающей правде. Несчастная
женщина дошла со своими свиньями до перевала, когда
разразился ураган. У нее не достало сил, чтобы убежать,
и ее унесло ветром. В здешних местах ураган так
бушует, врываясь в глубину узких ущелий, что приводит
в движение громадные снежные массы, и они словно
саваном накрывают решительно все, на что обрушился
его неистовый гнев. Вот такой же ураган поднимался за
нашей спиной. Возникнув, возможно, где-то в долине,
он, казалось, собирался вот-вот нас догнать. Первым
заметил эту угрозу наш проводник и уже не сводил глаз
с кружившегося сблака — этого предвестника бури.
Предугадав направление ветра, зорко следя за расстоянием,
отделявшим от нас ураган, он мгновенно нашел столь же
скорый, сколь и верный путь к спасению — взобраться,
как можно проворнее на откос, который он нам уже
показал.
Мы поспешили туда. Мулы, почуяв свободу, быстро
побежали, высоко подняв головы и раздувая ноздри.
Антернский перевал
263
Повинуясь инстинкту, они покинули тропу, которая нас
сюда привела, и устремились налево — подальше от
приближавшегося смерча, а затем углубились в темное
ущелье, где мы их тотчас потеряли из вида. «Вперед!
Скорее!» — беспрестанно кричал проводник. Но склон
был так крут, что не будь снега, сгрудившегося у нас
под ногами, вряд ли и самый ловкий охотник смог бы
на нем устоять. Однако даже и по снегу мы едва
двигались, и настойчивые призывы проводника скорее
обескураживали нас, чем ободряли. Молодая мисс, подавляя
в себе страх, чтобы еще больше не напугать
встревоженного отца, делала неслыханные усилия, поднимаясь по
откосу. Но силы ее истощились; выказав естественное
смущение, она все-таки приняла мою руку, и скоро
вовсе повисла на мне, так что я вынужден был не столько
поддерживать, сколько почти нести ее. Я сам изнемогал
от усталости, и каждую минуту думал, что уже не смогу
ступить ни шагу, и только мысль о крайней опасности,
которой подвергалась эта девушка, придавала мне
мужество и заставляла идти дальше. Наконец, мисс уже
была наверху. Мы ее там оставили, потому что ее отец
тоже нуждался в помощи.
Странный случай усугубил страдания бедного
милорда. Стараясь облегчить себе подъем по крутому
склону, он двигался зигзагами и вдруг наткнулся на обломок
скалы, лежавший под снегом. Как это бывает иногда,
огромный камень сохранял равновесие, но под
тяжестью милорда слегка покачнулся, и тот, растерявшись
от неожиданности, так испугался, что рухнул на
дрожащие колени. Лицо его побледнело и исказилось. Дочь,
увидав с высоты, в какую беду попал ее отец, испускала
отчаянные крики, и мы сами не знали, что делать.
«Оставьте меня, — твердил он, — спасайте мое дитя!»
264
Антернский перевал
Тут проводник обратился к нему: «Мужайтесь,
сударь мой хороший! Это пустяки. Мы его понесем!» —
сказал затем он мне.
Мы объединили наши усилия и с величайшим трудом
дотащили милорда до верху, где для нас нашлось
местечко длиною в несколько футов. Оно беспрерывно
обдувалось ветром и было свободно от снега. Мы там
встали все четверо, а ураган все приближался.
«Мы не останемся здесь до ночи, — сказал
проводник.—Я понесу милорда, он потяжелее, а вы понесете
мамзель. Нам надо только спуститься футов на
двадцать по снегу. Ставьте ноги в мои следы. Не
забывайте: это нужно для того, чтобы не попасть в ямы,
их много здесь возле скал. Мужайтесь, сударь мой
хороший! Мужайтесь, молодой человек! Мужайтесь,
мамзель! Это пустяки! А вот здесь у меня есть чем
подкрепиться!»
С этими словами проводник вытащил из кармана
старую кожаную фляжку, в которой сохранилось немного
дрянной местной водки. «На войне, как на войне»,—
сказал он и приложил фляжку к губам юной мисс. Она
пригубила водки и с благодарной улыбкой вернула
фляжку. Проводник дал потом выпить милорду, а после
него — м.не. Фляжка была совсем легкая. «За ваше
здоровье, проводник!—сказал я.
— Выпейте, — ответил он, собираясь идти дальше, —
если там хоть что-нибудь осталось!» Взглянув на небо,
он вдруг закричал: «В дорогу!» в самом деле, по небу
боком двигался смерч, похожий на огромную колонну,
и его верхушка, нависшая над местом, где мы стояли,
уже скрывала пики Физа, находившиеся слева от нас.
Глоток водки немного подкрепил наши силы, и мы
начали спускаться. Но с первых же шагов нам ветре-
Антернский перевал
265
тились непреодолимые препятствия. На этой стороне
склона, защищенной от холодного ветра, дувшего на
противоположной стороне, снег подтаял, и мы
провалились в него по пояс. Скоро платье юной мисс промокло
насквозь и облепило ее закоченевшие ноги. Она с дру-
дом двигалась и каждую минуту останавливалась, а я
ввиду особого характера ее затруднения ничем не мог
помочь ей. Проводник это заметил и хлопнул себя по
лбу: «Ну и дурак же я! Надо было наверху сказать,
черт побери! Мамзель должна, как и все здешние
женщины, сделать из юбок штаны!»
Положение за несколько прошедших часов весьма
изменилось. Молодая англичанка' не без смущения,
правда, но на этот раз без ложной стыдливости
принялась за дело. Она приподняла передний край платья,
скрепила его сзади булавкой и сделала нечто вроде панталон
с напуском, что позволило ей пройти часть дальнейшей
дороги с большей легкостью.
Что касается милорда, он думал только о дочери:
«Бдагодарю, бдагодарю!—говорил он мне на каждом
шагу. — Боже мой, боже мой! Проводник, мы еще долго
будем так идти?
— Глядите-ка! — ответил ему проводник. — Мы
спасены, но посмотрите на дорогу, где нам надо было
пройти!»
Тут мы разом отошли друг от друга и стали молча
смотреть назад. Смерч со страшным треском разбился.
Огромные комья снега, ударившись о скалы, взлетели
в воздух, а ветер, подхватив эти белые снопы, швырял
их во все стороны. Казалось, будто все ветры
вырвались на волю, разорвав большую тучу. При виде этого
зрелища ужасов милорд, который едва верил, что его
дочь избежала мучительной смерти, с глубоким волне-
266
Антернский перевал
нием повернулся к ней, чтобы заключить ее в свои
объятия.. . Но она от волнения и пронизывающего
холода, лишилась чувств.
Я тотчас сбросил с себя плащ и закутал в него
девушку; потом я поднял ее, милорд вытащил из моего
вещевого мешка кое-какие пожитки, и мы обернули ее
заледеневшие ноги. Она открыла глаза и, увидев, что
я держу ее в объятьях, покраснела. «Дело пошло на
лад, — сказал я милорду, — берите опять за руку
проводника, и пошли! А я понесу мадемуазель, пока не
дойдем до лучшего места».
Тут юная мисс сказала слабым голосом: «Спасибо,
Сударь... Идите, отец, прошу вас».
Обняв меня за шею, она сжалась в комочек, чтобы
мне было не так тяжело ее нести. «Раз так, — заявил
проводник, — пойдемте направо! Я знаю, там есть
лачуга».
В самом деле, не прошло и двадцати минут, как этот
добрый малый довел нас до бедной хижины,
занесенной глубоким снегом, из которого торчала одна лишь
труба. Такие хижины обычно бывают очень низкими.
Проводник раскидал снег, проделал в крыше дыру,
первым влез в нее, принял девушку из моих рук, и мы
очутились в жилище, где стены были из черных
закопченных балок, а сырой земляной пол носил явные следы
пребывания скота, нашедшего себе здесь приют
прошлым летом.
Трудно угадать, что случилось бы с нашей молодой
спутницей, если бы не это убогое жилище, ставшее для
нас столь драгоценным. Вслед за ураганом, который
стих, не застигнув нас, полил холодный дождь со
снегом; частые дождевые капли больно кололи лицо и
мешали смотреть, ограничивая наш горизонт несколькими
Антернский перевал
267
шагами, так что сам проводник, не имел бы иных
указательных знаков, кроме горной тропы под ногами. Это
были остатки грозы, которая пронеслась над нашими
головами. К тому же, хотя юная мисс не была тяжелой
ношей, у меня уже не хватало сил нести ее дальше;
проводник, со своей стороны, не мог бы сменить меня, ему
нельзя было бы оставить наш маленький караван на
середине дороги, трудности и опасности которой
требовали его неослабного внимания и свободы движений.
Все это наш проводник предусмотрел раньше, чем мы,
когда он крикнул: «Я знаю, там есть лачуга». Как
только мы вошли туда, он снял дверь с петель и
положил ее на пол менее влажной стороной кверху. Я
расстелил на ней все содержимое моего вещевого мешка,
и мы устроили ложе для юной мисс. Милорд, молча, но
охваченный сильным волнением, одной рукой
поддерживал голову дочери, чтобы она не касалась дерева,
а другой — натягивал на ее озябшее тело всю сухую
одежду, которая у нас оставалась.
Между тем Фелисаз отыскал на внутренней стороне
кровли несколько tavillons *, еще не тронутых
весенней оттепелью, положил их в кучку на солому,
собранную среди балок, затем вынул кремень и сказал, глядя
на милорда: «Не бойтесь! На этот раз не для трубки!»
При этих словах, в которых без умысла славного
охотника прозвучал жестокий упрек, краска прилила
к щекам англичанина, и жгучее чувство раскаяния
пронзило его до глубины души. Уста его были немы, но
взгляд выражал стыд, который всегда так трогает в по-
* Дощечка из елового дерева, которыми обычно
покрывают стены и пстолок альпийских шале (прим.
автора).
268
Антернский перевал
жилых людях, и на лице его я прочел, что он не может
простить себе грубое обращение с человеком, кому он
был обязан спасением дочери.
В очаге уже запылал огонь. Мы приблизились к нему.
Приятное тепло вернуло .к жизни юную мисс: на ее
прекрасном лице вновь появились нежные краски,
согревшиеся члены мало-помалу обрели возможность
двигаться. Ее первые слова, полные благодарности за наши
заботы, были очень милы, а красота ее засияла
неожиданным блеском в черных стенах, озаренных
благотворным огнем очага. В эти минуты в сердце милорда, уже
уверенного в том, что ему вернули дочь, отчаяние
уступило место безграничной радости. Прежде, чем он смог
вымолвить слово, по щекам его заструились слезы;
время от времени, оставив руку дочери, он пожимал мою
руку и руку проводника, и тот в простоте душевной
отвечал: «Я же вам говорил, сударь мой хороший, это
пустяки!» Подвергаться великой опасности, быть на
волосок от смерти, два долгих часа глядеть ей прямо
в глаза, нет — это не слишком дорогая расплата за те
ни с чем не сравнимые минуты, когда возродившаяся
надежда прогоняет тревогу, неожиданное счастье
согревает нас своим животворным теплом, а сердце,
переполненное радостью, спешит поделиться ею со всеми и с
каждым. Я забуду шумные забавы, забуду развлечения,
нередко услаждавшие мой жизненный путь; но мое сердце
навсегда сохранит память о том часе, который я провел
под завывание бури с тремя чужими людьми в
закопченной хижине, погребенной под снегом.
Проводник, неизменно деятельный и
предусмотрительный, смастерил и поставил у огня нечто вроде
сушилки и, развесив на ней нашу одежду, время от
времени поворачивал ее. Юная мисс высушила платье на
Антернский перевал
269
себе; она уже пришла в себя, села на свое ложе и готова
была двинуться в путь. Сквозь проделанную нами
в крыше дыру, которую Фелисаз расширил, чтобы
поддерживать огонь в очаге, пробился солнечный луч,
вселив в нас чувство полной безопасности.
«Будет холодно, — заметил проводник, — снег
выдержит нас. А вот, как пойдем по камням, пригодятся вот
эти туфельки».
Так он назвал деревянные подошвы, которые
вырезал ножом для мисс. Ее изрядно пострадавшая тонкая
обувь никак не годилась для путешествия по мокрому
снегу и дальше — по каменистой дороге. Пока мы
заканчивали последние приготовления к уходу, он сам
приладил эти подошвы к ее ножкам и вскоре мы покинули
хижину, предварительно засыпав снегом огонь в очаге.
Вечер был прекрасен. Но какую неотразимую
прелесть придавали ему в наших глазах только что
пережитые часы! Как этот мягкий вечерний блеск
гармонировал с тем ясным покоем, который сменил в наших
душах столь ужасные волнения! Мы шли рядом,
счастливые тем, что уже нечего было бояться, но еще
объединенные воспоминанием о нашей взаимной поддержке.
Юная мисс опиралась на мою руку: так пожелал ее
отец, когда она из скромности побоялась обременять
меня. Он полагал, что оказывает мне знак заслуженного
уважения; я же не только высоко оценил подобный знак
уважения, но и втайне нашел его приятным. Через три
четверти часа мы уже вышли за полосу снегов. «А
теперь, — закричал в восторге милорд, — я счастлива,
я очень счастлива! и я благодарил бога!»
Потом он обратился ко мне: «Вы была мой друг,
сударь! Больше я ничего не могу вам сказать! . . А вы,
проводник, просите у меня и вы получил вся моя бда-
270
Антернский перевал
годарность и вся моя любовь. Вы замечательная,
достойная человека! Я вчера плохо судила о вас и очень
сильно сожалею об этом! Курите ваша трубка, мой
друг, я буду очень обязан вам!
— О, за этим дело не станет!» — ответил Фелисаз
и сразу принялся за дело.
Остаток спуска был легким, и мы еще до ночи
пришли в Сикст. Англичанин и юная мисс получили свой
чемодан и смогли наконец переодеться. Они очень
устали и нуждались в отдыхе, но, повинуясь прежде
всего сердечному движению, потребовали, чтобы я
поужинал вместе с ними. К концу ужина позвали
проводника; милорд провозгласил тост в его честь. Хотя
он и вложил ему в руку несколько золотых монет,
англичанин сумел показать, что бывают услуги, которые
оплачиваются не столько деньгами, сколько уважением
и горячей признательностью.
На другой день мы расстались. Этот день показался
мне длинным, дорога — скучной. Что еще я могу
сказать? Я нес юную мисс на руках; какое-то время, пусть
краткое, ее жизнь, ее прелесть, ее красота были
предметом моей неустанной и нежной заботы; разве этого
недостаточно, чтобы еще несколько дней я находил
скучными все места, где ее не было?
У Жерского озера
Из Сикста в долину реки Арвы можно попасть,
перейдя через высокий горный хребет, который тянется
от Клюза до Салланша. Этот путь совсем не известен,
им пользуются только контрабандисты, которых в этой
местности множество. Эти смельчаки запасаются
товарами в Мартиньи в Валлисском кантоне; затем,
нагрузившись огромной поклажей, они проходят через
неприступные ущелья и спускаются во внутренние долины
Савойи, в то время, как таможенники зорко караулят
границы страны.
Таможенники — это люди в мундирах, у них грязные
руки и вечная трубка во рту. Сидя на солнце, они
бездельничают, пока мимо не проедет экипаж, который
здесь едет именно потому, что в нем нет ни на грош
контрабанды.
«Вам нечего предъявить таможне, сударь?
— Нечего».
Несмотря на столь решительный ответ, они тотчас
открывают чемоданы и суют грязные руки в чистое
белье, шелковые платья и носовые платки.
За это занятие государство платит им деньги, что
мне всегда казалось забавным.
Контрабандисты — это люди, вооруженные до зубов
и всегда готовые пристрелить таможенника,
вздумавшего прогуляться по дороге, которую они облюбовали
для себя. К счастью таможенники об этом догадываются
и не совершают прогулок, а если и совершают, то в дру-
272
У Жерского озера
гом месте. Это мне всегда казалось признаком такта,
присущего таможенникам.
Таможни и контрабанда — две язвы нашего
общества. Полоса таможен охватывает страну, словно
поясом, сотканным из пороков и беспутства. Походы
контрабандистов — отличная школа разбоя и преступлений, из
которой ежегодно выходят способные ученики, а позднее
государство берет их на содержание, предоставляя им
кров и пищу в тюрьмах и на каторге.
С таможенниками мне часто приходилось иметь дело.
Мои рубашки удостоились высокой чести: их ощупывали
агенты на всех границах всех государств с
абсолютистским или же иным строем. Однако ничего запрещенного
у меня не находили» Кстати, по поводу рубашек я могу
рассказать одну историю. Я направлялся в Лион.
В Белльгарде обыскали наши чемоданы, хотели пощупать
и нас: Женева оттуда недалеко и опасались как бы мы
не провезли изделия часовой промышленности. Я
безропотно подчинился этому требованию; но один
английский офицер из нашей группы путешественников, узнав,
чего от него хотят, спокойно вынул из кармана нож и
объявил, что разрежет пополам «как первого, так и
второго», кто только попробует пощупать его.
Поднялся страшный шум. Таможенникам нужно
было лишь выполнить требования устава, но бравый
победитель при Ватерлоо, потрясавший острым стальным
тесаком, перепугал их до смерти 1. Тем не менее
начальник таможни повелительным тоном повторял:
«Обыщите этого человека!» А тот, приходя все в большую
ярость, тоже повторял: «Только подойдите! я буду
разрезал пополам первого, второго, а с ним и третьего».
Под «третьим» он подразумевал начальника.
У Жерского озера
273
Раздражение почтенного джентльмена было так
велико, что дело могло бы кончиться трагически, но тут
я решил вмешаться. «Пусть этот господин, — сказал я, —
передаст таможенникам свою одежду, и они выполнят
свою обязанность, ни в коей мере не задев его
достоинства!»
Едва я это произнес, как англичанин, согласившись
на мое условие, быстро сбросил с себя одежду и начал
швырять в лица таможенников один за другим предметы
своего туалета. Он остался в чем мать родила, и я
никогда не забуду, с каким видом он закричал,
нахлобучив на голову начальника свою рубашку: «Держи,
негодяй, держи!»
С контрабандистами я имел дело не столь часто; но
однажды я с ними столкнулся, когда решил пройти
в одиночку от Сикста до Салланша по горам, о которых
я уже упоминал. Я расспросил о дороге: мне сказали,
что не доходя до вершины горы, я увижу маленькое
-озеро, которое называется Жерским; затем надо будет
пройти скалистым хребтом, пересекающим снежное поле,
после чего придется спуститься к лесам, которые
высятся со стороны Салланша над водопадом Арпена.
К концу трехчасового быстрого подъема я обнаружил
маленькое озеро. Это водоем, зажатый между зелеными
горными склонами, которые отражаются в нем,
принимая более темную окраску, а сквозь прозрачную воду
виднеется дно, покрытое ослепительно ярким мшистым
ковром. Я уселся на берегу и по примеру Нарцисса стал
глядеть на себя в воду.. . глядеть, как я ел крылышко
цыпленка, причем удовольствие созерцать свое
изображение нисколько не отвлекало меня от этого занятия.
Помимо собственной особы я увидел в воде
опрокинутые вершины соседних гор, леса, словом - всю пре-
'jg Родольф Тёпфер
274
У Жерского озера
красную здешнюю природу, да еще двух воронов,
летавших высоко в воздухе. Отражаясь в озере, как в
зеркале, они, казалось, летели в самой его глубине, будто
добирались до центра земли. Пока я развлекался этим
зрелищем, на склоне горы, куда я собирался взобраться,
как будто что-то зашевелилось: то ли голова мужчины,
то ли женщины, а может быть — и животного, во
всяком случае — голова живого существа. Я тотчас же стал
всматриваться, желая узнать, что это такое, но ничего
не разглядел; приписав это видение колебанию волн,
я вновь пустился в дорогу, в полной уверенности, что
кроме меня кругом никого не было. Однако мне все-
таки чудилось, что я нечто увидел, и я то и дело
останавливался, озираясь по сторонам. Когда я дошел до
места, где мне привиделась отраженная в воде голова,
я с большой осторожностью обогнул несколько скал и
удвоил свою осмотрительность.
В долине мне рассказали историю, случившуюся
как раз в том самом узком проходе между скал, по
которому я сейчас поднимался. Мне кажется, что теперь
будет уместно эту историю пересказать. Здесь прошли
друг за другом восемнадцать контрабандистов, каждый
с мешком бернского пороха на спине. Последний в этой
цепочке заметил, что его мешок стал значительно легче
и уже готов был порадоваться этому, но вдруг его
осенила блестящая догадка: ноша облегчилась, потому что
из нее высыпалась часть товара. И действительно: по
тропе вслед за ним протянулась длинная пороховая
дорожка. Конечно, это потеря, но главная беда была в том,
что появился знак, который мог выдать и погубить их
всех. Он велел им остановиться, и все семнадцать сели
на свои мешки, воспользовавшись случаем, чтобы стереть
пот со лба и хлебнуть глоток водки.
У Жерского озера
275
А в это время сообразительный контрабандист
повернул обратно и направился к месту, откуда
начиналась пороховая дорожка. Через два часа он был у цели
и поджог порох огоньком своей трубки, чтобы
уничтожить предательский след. Две минуты спустя он к
своему великому удивлению услышал оглушительный взрыв,
который прокатился среди каменных стен, загрохотал
в долинах и отдался эхом в ущельях; то взлетели в
воздух семнадцать мешков, взорванных пороховою
дорожкой, а вместе с ними — сидевшие на них семнадцать
отцов семейств. По этому поводу я выскажу два
замечания.
Во-первых, история эта истинная, любопытная и
забавная, достаточно правдоподобная,
засвидетельствованная легендой и узким проходом между скал, который
существует и поныне, в чем каждый может убедиться на
месте. Я считаю эту историю столь же достоверной, как
переход Аннибала через Малый Сен-Бернар. Как
доказать истинность перехода Аннибала через Малый Сен-
Бернар? Вам сначала покажут обломки белой скалы
у подошвы горы, а потом уверят, что это именно та
самая скала, которую карфагенянин, взобравшись на
верхушку горы, повелел расплавить с помощью винного
уксуса 2.
Во-вторых, в нашей истории говорится о гибели
семнадцати человек, но обратите внимание: остался один,
чтобы поведать миру о случившемся. В этом, если я не
ошибаюсь, основной признак, critérium образцового
рассказа: ибо, если во время битвы, народного бедствия
и вообще какой-либо катастрофы погибли немногие, —
событие кажется незначительным; если погибли все, то
событие покрывается мраком неизвестности. Но когда
из огромного числа погибших остается один-единствен-
18*
276
У Жерского озера
ный человек и как раз для того, чтобы поведать людям
о происшедшем, то рассказ приобретает особую
прелесть, радуя любителей этого жанра. Вот почему
история — греческая, римская и новейшая — богаты
подобными событиями.
В моем ущелье было жарко; но на большой высоте
жара умеряется, благодаря движению воздуха; кроме
того красота, которую видишь кругом, так пленяет душу,
что невольно забываешь о мелких неудобствах, столь
несносных где-нибудь в унылой равнине. Обернувшись,
я увидел вблизи ледяной купол горы Бюэ... мне
показалось, что позади елей, мимо которых я только что
прошел, что-то движется. Я вообразил, что это были
ноги существа, чью голову я недавно увидел, и я
продолжал идти с большой осторожностью.
К несчастью, я от природы весьма боязлив и
ненавижу опасность, которая, как говорят,. влечет к себе
героев. Больше всего я люблю чувствовать себя
защищенным со всех сторон. Достаточно одной мысли, что во
время дуэли перед моим правым глазом блеснет острие
шпаги, чтобы я проявил сдержанность, хотя по натуре
я вспыльчив, обидчив и болезненно самолюбив. А здесь
могло произойти нечто похуже дуэли — покушение на
мою жизнь или на мой кошелек, или на то и другое
вместе. Могла произойти катастрофа и некому будет
возвестить о ней людям. Едва это пришло мне в голову, как
я уже ни о чем больше не мог думать и спрятался среди
скал, чтобы наблюдать за тем, что делалось позади
меня.
Я наблюдал около получаса (занятие это весьма
утомительное), как вдруг из-за елей медленно вышел
человек весьма подозрительной наружности. Он долго
смотрел туда, где я спрятался, потом дважды хлопнул в ла-
У Жерского озера
277
доши. На этот сигнал явились еще двое мужчин, и все
трое, взвалив на спину по большому мешку, закурили
по трубке и спокойно пошли в гору. Они вскоре
приблизились к месту, где я наблюдал за ними,
прижавшись к земле, и уселись на свои мешки точь-в-точь, как
те семнадцать контрабандистов. Хорошо еще, что они
сидели ко мне спиной.
Я успел кое-что заметить. Эти господа, как мне
показалось, были хорошо вооружены. У них на троих было
два пистолета и один карабин, не считая больших
мешков, набитых порохом, как мне это подсказывало мое
воображение, возбужденное рассказанной мне историей.
Я трепетал при воспоминани о пороховой дорожке, как
вдруг один из них встал, и положив зажженную трубку
на свой мешок, отошел на несколько шагов.
Ожидая взрыва, я уже предал свою душу в руки
господа и все теснее жался к скале, надеясь на это
укрытие ровно настолько, чтобы не взвыть от страха.
Тот, кто отошел в сторону, поднялся на пригорок и
внимательно всматривался в дорогу, по которой о«и
должны были пройти. Вернувшись к своим товарищам,
он сказал: «Его уже не видать!
— Так или иначе, — возразил другой, — этот негодяй
нас выдаст.
— Бьюсь об заклад, — перебил третий, — потому он
и помчался вперед. Это переодетый таможенник, я вам
говорю. То-то он все останавливался, все принюхивался,
да оглядывался. . .
— Эх, если бы мы его здесь прикончили! Местечко
уж больно удобное. Все было бы шито-крыто! Только
мертвые не возвращаются.
— Вот Жан-Жан и не вернулся, — подхватил
второй, — как раз в этой яме у скалы и гниет его труп.
278
У Жерского озера
Когда мы схватили мошенника, он отбросил свой
карабин подальше, будто он не таможенник. Вот он, его
карабин. Мы с парнем живо расправились. Сразу как мы
его взяли, Ламеш привязал его к дереву, а Пьер пустил
ему пулю в висок. Потом наш шутник сказал: «Молись
богу, Жан-Жан!»
Эти страшные слова были встречены дьявольским
хохотом, а рассказчик встал, чтобы дать сигнал к
отправлению.
«Черт побери, — крикнул он, заметив меня, —
попалась пташка. Вот он где, наш молодчик!»
Тут двое других вскочили, и я увидел, — или мне
показалось, что увидел, — бесчисленное множество
пистолетов, нацеленных мне в висок.
«Господа. .. — пролепетал я, — господа.. . вы
ошибаетесь. . . позвольте. . . опустите сначала ваши пистолеты. . .
Господа. .. я честнейший человек (они нахмурились),
опустите ваши пистолеты, они могут нечаянно
выстрелить. Я литератор.. . ничего общего не имею с
таможней. .. я женат, отец семейства.. . Опустите ваши
пистолеты, заклинаю вас, они мешают мне собраться с
мыслями. Благоволите продолжать ваш путь, не бойтесь
меня. .. Я презираю таможни. Мне даже кажется
полезным ваш тяжелый промысел. Вы порядочные люди,
вы облегчаете положение жертв возмутительной
налоговой политики. Я имею честь, господа,
засвидетельствовать вам мое почтение.
— Ты пришел сюда, чтобы нас выследить, — голосом
Картуша крикнул самый страшный из троих 3.
— Ничуть.. . ничуть. . . я здесь для того. . .
— Чтобы нас выследить, а потом выдать. Знаем мы
тебя: ты подсматривал, да разглядывал. . .
- Прекрасную природу, господа, и ничего больше. . .
У Жерского озера
279
— Прекрасную природу!.. Как бы не так! А здесь
ты спрятался, целебные травы что ли собирать?
Скверным ты занимаешься ремеслом! Эти горы наши, беда
тому, кто приходит сюда нас выслеживать! Молись
богу!»
Он поднял пистолет. Я упал на землю. Но двое
других вмешались в это дело: они подошли к нам, все
трое шепотом обменялись несколькими словами, и вот
на мои плечи кто-то бесцеремонно взвалил свою ношу,
крикнув: «Пошел!»
Вот таким образом я стал участником похода
контрабандистов. Это случилось в первый раз в моей жизни:
с тех пор я всегда поступал так, чтобы это было и
в последний.
Вероятно моя судьба была решена на их секретном
совещании, ибо эти люди уже больше не занимались
мною. Они шли молча и по очереди несли свою тяжелую
ношу. Я все-таки старался опять и опять убедить их
в своей невиновности, но их наметанный глаз скорее,
чем все мои уверения, говорил в мою пользу. Одного
они не могли понять: зачем я так остерегался, огляды-i
вался, если думал, что на моем пути никого не было.
Я открыл им эту загадку, признавшись, что меня
поразило видение, отразившееся в озере.
«Все равно, — сказал самый неприятный из них,—
виновен ты или нет, ты можешь нас выдать. Вот сейчас
будет лесок, там мы с тобою расправимся».
Судите сами, какой зловещий смысЛ я придал этим
словам. Итак, пока длилась наша получасовая прогулка
до ближайшего леса, у меня было достаточно времени,
чтобы представить себе смертельную тоску осужденного,
которого ведут на эшафот. Поверьте мне, он достоин
сожаления. Но у меня было преимущество перед ним
280
У Жерского озера
в сознании моей невиновности; потом, я мог кого-нибудь
встретить, не говоря уже о том, что мне ничто не
мешало броситься вместе с моей ношей в порядочной
глубины пропасть, открывавшуюся справа от нас. Однако
первая из этих возможностей мне не представилась, а от
второй я и сам отказался, так что мы без всяких
препятствий добрались до леса. Здесь эти господа
освободили меня от поклажи, крепко привязали к мощной
лиственнице и. . . и вместо того, чтобы прикончить меня,
как Жан-Жана, сказали: «Нам требуется двадцать
четыре часа безопасности. Радуйся! Завтра на обратном
пути мы тебя отвяжем. Думается, что из благодарности
ты не будешь болтать». И взяв свою поклажу, они
покинули меня.
Никогда еще природа не представлялась мне такой
прекрасной и сияющей, как в это мгновение!
Удивительно! Моя лиственница нисколько меня не стесняла.
Двадцать четыре часа казались мне минутой, а эти
люди — вполне приличными людьми, по необходимости
несколько сурового нрава, но, впрочем, достойными
уважения и знающими толк в обходительности. Воистину,
мне снова была дарована жизнь! Вот почему, когда
через несколько минут пережитое мной ужасное
потрясение сменилось бурной радостью, я впал в какое-то
беспамятство, когда же я очнулся, все лицо мое было
залито слезами. К рассказу о моих страхах, ставших
смешными после благополучной развязки моего
приключения, я бы не стал прибавлять еще и рассказ о тревогах
моего сердца; но зачем умолчу я о том, что едва
уверившись в своем спасении, я от всей души
возблагодарил бога, а сладостные слезы, пролитые мной, были
слезами любви и глубокой признательности, которые можно
испытывать только к творцу наших дней? Я без конца
У Жерского озера
281
благословлял его, и первым чувством, охватившим меня
после благодарственной молитвы, было счастье от
сознания, что я, испытавший столько страхов, скоро опять
окажусь в лоне своей семьи. Мне так не терпелось
броситься в объятия моих родных, что я лишь теперь стал
ощущать, как неудобно, когда к тебе привязана
лиственница.
Было два часа пополудни. Мне оставалось ждать
всего лишь двадцать три часа. Я был в пустынном
месте, рядом со снеговыми полями, там, куда не ступала
нога путешественника. К тому же, если бы в эти
первые минуты кто-нибудь и появился здесь, я был
преисполнен такого почтения к моим преследователям, что,
пожалуй, попросил бы не подходить ко мне и не
освобождать меня. Тем не менее к четырем часам мое
чувство почтения к контрабандистам стало убывать в
прямой пропорции к квадрату расстояния между нами,
а моя лиственница — отнюдь не иносказательно — начала
смертельно мне надоедать. Я не видел выхода из моего
положения, и выручить меня могла бы разве только
крыса из басни 4, как вдруг передо мной появился
местный житель.
Этот туземец сам напоминал персонаж из басни.
Обутый на босу ногу, он был в дырявой шляпе и в
коротких штанах. Под носом у него чернело пятно,
говорившее о неумеренном употреблении нюхательного табака,
по всей видимости — контрабандного.
— «Эй, сюда, на помощь, дружище!» — крикнул
я ему.
Но вместо того, чтобы подбежать ко мне, он
остановился, как вкопанный, и втянул в нос добрую щепотку
табаку.
Крестьянин из Савойи не лукав, но осторожен. Он
282
У Жерского озера
никогда не торопится, пальцем не шевельнет там, где
ему что-нибудь неясно, не вмешивается ни в какое дело,
если не знает его досконально, не спорит с властями, не
ссорится с соседями, не задевает королевских
карабинеров 5. Впрочем, он прекраснейший в мире человек, я
говорю это серьезно, ибо имел множество случаев в этом
убедиться.
Итак, мой туземец был прекраснейшим в мире
человеком, но человек, привязанный к лиственнице,
показался ему подозрительным. Как он сюда попал: по
распоряжению властей, по чьей-нибудь злой воле, или еще
как-нибудь? И прежде, чем приблизиться ко мне, он
хотел меня поближе узнать.
.«Хорошая погода! — наконец крикнул он мне, хитро
улыбаясь, словно я здесь наслаждался прогулкой —
очень хорошая!
— Развяжи меня, вместо того, чтобы болтать о
погоде, шутник ты этакий!
— Вас, конечно, развяжут. И давно вы здесь?
— Уже три часа. Ну, живей! За работу!»
Он сделал два шага вперед. «Это разбойники с вами
такое сделали?
— Я все расскажу, сначала освободи меня!»
Он сделал еще три шага вперед, и я уже подумал,
что моим мучениям пришел конец, когда он, понизив
голос, с таинственным видом спросил: «Уж не
контрабандисты ли?
— Они самые. Ты угадал. Злодеи привязали меня
тут до завтра, а ведь до того и умереть можно».
Эти слова произвели на него ошеломляющее
впечатление.
В страхе он отступил назад, явно собираясь покинуть
меня. Я не мог сдержать своего гнева и разразился ру-
У Жерского озера
283
гательствами, обозвав его самым последним из
негодяев, утративших образ человеческий.
Однако его нисколько не смутила моя брань.
«Увидите, — бормотал он, медленно пятясь назад, — вас,
конечно, развяжут». Потом, ускорив шаг, он скрылся за
поворотом тропинки, и вдогонку ему понеслись мои
проклятия.
Что было делать? Мое положение казалось мне еще
более тяжелым после того, как я поговорил с этим
человеком: он мог выдать меня контрабандистам, если и
сам не принадлежал к их шайке. В моем воображении
уже вставали самые мрачные картины, и я был бы
несчастнейшим человеком, если бы не две белки, которые
развлекли меня своими играми. Эти хорошенькие
пугливые зверьки думали, что они одни в лесу. Гоняясь
друг за дружкой, прыгая с дерева на дерево, они
резвились с такой свободой и непринужденностью, движения
их были полны такой грации, — которую обычно
убивает страх, — что я не мог налюбоваться легкостью их
прыжков и изяществом всей этой игры. Так как мы
с лиственницей образовали единое целое, одна из белок
беззаботно спустилась по моему туловищу вниз, а затем
махнула на соседнее дерево, где вторая стала ее гонять
с ветки на ветку, пока обе не очутились на самом верху.
Вдруг, словно сговорившись, они замерли, и я
догадался, что белки увидели со своей высоты кого-то
приближавшегося к нам.
Я не ошибся. Вскоре показался грузный человек
в сопровождении моего знакомого туземца, обладателя
густого пучка волос под носом. У толстяка было три
подбородка, круглое, как луна, лицо и маленькие глазки,
к сожалению, выражавшие крайнюю осторожность. Он
284
У Жерского озера
был в длитнополом сюртуке и треугольной шляпе.
Заметив меня, он принял позу наблюдателя.
«Кто вы такой? — крикнул я ему.
— Старшина здешней общины, — ответил он, не
двинувшись с места.
— Так вот, старшина общины, я требую, чтобы вы
меня развязали, или прикажите это сделать вашему
подручному, который стоит рядом с вами и набивает себе
нос табаком!
— Вас, конечно, развяжут, — сказали они оба
разом, — но сначала расскажите, как вы сюда попали?» —
прибавил старшина.
Наученный горьким опытом, я дал себе обещание ни
словом не обмолвиться о контрабандистах. «Как я попал
сюда? Очень просто. На меня напали разбойники,
ограбили и привязали к этому дереву, и я прошу как
можно скорее освободить меня.
— А, вот какое дело!.. — сказал старшина. —
Разбойники, вы говорите?..
— Да, разбойники! Я переправлялся через горы, при
мне был мул, который вез мой чемодан. Они украли и
мула, и чемодан...
— А, вот какое дело!
— Да, именно, такое дело! Ну, а теперь, когда вы
в курсе дела, подойдите и развяжите меня! Ну-ка, живее!
— А, вот какое дело! — твердил старшина, вместо
того, чтобы подойти ко мне. — Тут еще бумагу надо
составить. ..
— Да развяжите же меня, негодны0 человек!
Что мне до ваших бумаг?
— Да вот протокол придется составить. Так оно
будет по закону.
— После составите. А сейчас развяжите меня!
У Жерского озера
285
— Нельзя, сударь мой хороший! С меня за это
взыщут. Сначала надо составить протокол, а потом уж
развязывать. Я пошлю за свидетелями. Нужны двое, да
чтоб умели расписываться. Понятное дело, на это
понадобится время. А потом им нужно заплатить за
рабочий день, но вы, сударь, имеете средства. . .» Затем,
обратившись к туземцу, он продолжал: «В Маглане
зайди к Пернетте! Она укажет, где найти ее мужа,
нотариуса. Найди его и скажи, чтобы шел сюда; а после
зайди в Сен-Марген и разыщи церковного старосту Бе-
нетона, он, наверное, там, потому что сегодня он будет
звонить по случаю свадьбы Шозе; пусть тоже сюда
придет. Да пусть нотариус принесет чернильницу с
чернилами, наша-то опрокинулась в среду во время
вечернего дежурства, и гербовую бумагу тоже. Иди, дружище!
И поторапливайся! Порядочный человек всегда честь-
честью рассчитается, за ним не пропадет! Иди и по
дороге в Велюз сообщи Жан-Марку, что его кобыла
заболела сапом. Ей сделали прижигание и к осени она
выздоровеет. Иди!
— Идите к черту, и Жан-Марк, и его кобыла, и вы
оба с ними вместе! Чинуша туполобый! Негодяи без
сердца»! Если вы меня развяжете, каждый получит по
луидору!»
Туземец, уже пустившийся было в дорогу, внезапно
остановился и вытаращил на меня глаза, загоревшиеся
жадным огоньком. Но старшина стоял на своем: «Вы
оплатите канцелярские и все прочие расходы, а потом
можете дать, если хотите, на водку. Если вы не
поскупитесь, никто не будет в обиде. Но подкупать заранее,
не выйдет! Сколько вы не сыпьте луидорами! Знайте:
должность старшины общины переходит от отца к сыну,
начиная от моего прадеда Антуан-Батиста, и скорее вода
286
У Жерского озера
высохнет в Арве, чем кто-нибудь из нас покроет себя
позором. Ступай же!—крикнул он туземцу. — А вы
потерпите, — сказал он мне, уходя. — Я пошлю за
полуштофом вина, оно вас подкрепит».
Докучная, хоть и похвальная добропорядочность
старшины раздосадовала меня не меньше, чем его
приверженность к формальностям. Я снова остался один —
на этот раз в полной уверенности, что мое
освобождение наступит не раньше следующего утра. Я старался
привыкнуть к этой мысли. По счастью, вечер был
теплый и тихий. Солнце, клонившееся к закату, освещало
косыми лучами лес, непроницаемый днем, а стволы
лиственниц отбрасывали длинные тени на мшистую
почву, сверкавшую всеми оттенками золотистого цвета.
Сарычи, недавно еще парившие над моей головой,
исчезли; в поисках ночлега с громким карканьем
пролетели над долиною Арвы вороны; горные вершины
постепенно тускнели и казалось тоже затихали,
погружаясь в сонное безмолвие после кипучей дневной жизни.
Вечерний покой, окутанная мглою засыпающая
природа— все это оказывает могучее действие на душу,
претворяя все тревоги и волнения, в тихую задумчивость.
Несмотря на все неудобства моего положения, я не мог
не поддаться этим впечатлениям. Мое сердце, еще
взволнованное бурями прошедшего дня, с тем большей
радостью вкушало вечернюю благодать и теплилось
светлой надеждой на спасение, быть может, не столь неза:
медлительное, но верное и близкое.
Но вот в последних лучах заходящего солнца я
увидел вдали толпу мужчин, женщин, детей, словом —
целую деревню. Движущиеся фигуры, расположенные
между мною и солнцем, выделялись темными силуэтами
на фон-е прозрачных макушек лиственниц, так что я не
У Жерского озера
287
сразу узнал старшину с его полуштофом. Тем не менее
он был здесь, а рядом с ним шел кюре, привлеченный
молвой о моем приключении. Появление служителя
церкви оживило мои надежды, и я решил обратить на
дело моего спасения все христианские добродетели,
какие удалось бы у него найти.
Кюре был очень стар, немощен и поднимался в гору
с трудом. «Ого! — сказал он, увидев меня, — злодеи
связали вас самым гнусным образом. Приветствую вас,
сударь!»'
Искренний тон и открытое лицо доброго старика
привели ' меня в восторг. «Поистине гнусным образом, —
ответил я. — Извините, если я по их вине не могу ни
поклониться вам, ни снять шляпу, господин кюре.
Могу ли я с вами несколько минут поговорить наедине?
— Самое спешное дело, как мне кажется, это вас
развязать, — возразил он. — Вы побеседуете со мной
после, в более удобной обстановке. — Ну, Антуан, —
сказал он старшине, — за работу! Разрежь веревку, так
будет скорее!»
Я рассыпался в выражениях благодарности и,
конечно, от чистого сердца. Антуан вытащил нож и уже
приготовился разрезать мои узы, но туземец,
жаждавший завладеть веревкой в целости и сохранности,
отстранил руку с ножом и в мгновение ока распутал узел.
Едва освободившись, я пожал руку кюре и в первом
порыве радости расцеловал его в обе щеки. Но тотчас
я почувствовал острую боль во всех членах, и не в
силах двинуть затекшими ногами, вынужден был сесть на
землю. Тут приблизился Антуан со своим полуштофом,
а кюре тем временем послал одного из прихожан за
своим мулом, чтобы предоставить его в мое
распоряжение. Отдав этот приказ, кюре сказал мне: «Я готов вас
288
У Жерского озера
выслушать». И вся деревня — женщины, ребятишки,
пастухи, старшина и церковный староста — образовала
вокруг нас кружок. Солнце только что село.
Я правдиво рассказал мою историю. Жуткие
подробности смерти Жан-Жана повергли в ужас этих славных
людей, и, когда я повторил богохульственные слова,
вызвавшие смех у контрабандистов: «Жан-Жан, молись
богу\» все — и кюре и прихожане — в благоговейном
молчании одновременно перекрестились. Взволнованный
этим зрелищем, испытывая неодолимое желание
присоединиться к общему наивному выражению столь
естественного чувства, я невольно приложил руку к шляпе и
обнажил голову. . . Прихожане, казалось, удивились,
кюре оставался серьезным и неподвижным, а я.. , я
смутился. «Продолжайте, продолжайте», — сказал мне
добрый старик. Я закончил свой рассказ, не забыв
упомянуть ни о крайней осторожности туземца, ни о
похвальном бескорыстии старшины.
Когда я умолк, старый кюре сказал: «Хорошо!»
Потом он обратился к своим прихожанам: «Слушайте меня
все! Вы трепещете перед этими злодеями и поэтому они
смеют делать всё; ибо трусы порождают храбрых. Но
хуже всего то, что некоторые из вас извлекают выгоду
из их гнусного промысла. Погляди-ка, Андре, до чего
тебя довело злоупотребление табаком, — этой пагубной
привычкой расходовать деньги выше своих средств! Твой
нос набит табаком, а сам ты ходишь на босу ногу;
добро бы только это, но ты покупаешь табак у этих
мошенников, и, чтобы с ними не ссориться, ты не смеешь
выручить из беды человека, как это подобает
христианину. Но ты ведь знаешь, Андре, этих разбойников
в аду будут жечь на огне и рвать на части. .. И
неизвестно еще, что ожидает тех, кто им потворствует!
У Жерского озера
289
Послушай меня, мой дружок, не нюхай столько табаку
и покупай его в казенной лавке! Что касается Антуана,
то он думал сделать как можно лучше, и хорошо
поступил. Он действовал по правилам, а не по своему
хотению».
Тут добрый кюре дружески похлопал Антуана по
плечу, и тот, гордясь, что его похвалили в присутствии
всей деревни за благоразумное и бескорыстное
поведение, простодушно выпятил грудь, держа в одной руке
полуштоф, а в другой — свою треуголку.
Во время этой беседы привели мула. Мне помогли
сесть на него, и я смог наконец распроститься с моей
лиственницей. Мы стали спускаться с горы. Старшина
держал мула под уздцы, добрый кюре, разговаривая,
шел рядом со мною, а все прихожане следовали позади.
Эта живописная процессия двигалась в светлых
сумерках и то рассыпалась по мшистой лесной дороге, то
собиралась в кучки в глубоком овраге, то шла цепочкой
по извилистой узкой тропинке. Не прошло и получаса,
как мы подошли к обширным пастбищам, откуда
виднелся другой склон горы, спускающийся к долине Арвы,
уже потонувшей во мгле; невдалеке от нас появились
кое-какие строения, буки и наклонный шпиц ветхой
колокольни. Это была деревня.
«Спокойной ночи, добрые люди!» — сказал кюре
своим прихожанам. «А вам, сударь, я предлагаю ужин
и постель. Нынче постный день, но я еще наверху
заметил, что вы не католик и таким образом, мы, чем
сможем, восстановим ваши силы. Марта! — крикнул он,
когда мы подошли к церковному дому. — Поскорей
приготовь цыпленка и дай мне ключ от погреба!»
Я поужинал с этим превосходным человеком: он
вкушал постную пищу, а я уписывал цыпленка. Когда
19 Родольф Тёпфер
290
У Жерского озера
кончилась бутылка старого вина, которую он открыл
в мою честь, я попрощался с ним, чтобы насладиться
отдыхом, в чем очень нуждался.
На другой день я спустился в Маглан. Моей
прежней целью было посетить Шамони. Но после пережитых
тревог и столь опасного приключения я утратил охоту
к странствиям. Я повернулся спиною к горам и
поспешил к себе домой самым коротким путем.
Трианская долина
Однажды утром, тому уже три года, отправился я из
Шамони в Мартиньи, что в кантоне Валлис. Этот путь
избрало в тот день еще множество туристов. Все они
ехали на мулах: один лишь я шел пешком; но в этом
горном краю пешеход имеет то преимущество, что
передвигается быстрее, да и чувствует себя свободнее.
Итак, по дороге тянулись на некотором расстоянии
друг от друга различные караваны. Я раздумывал над
тем, как лучше воспользоваться своей свободою. Можно
было выбрать одно из трех: составить одинокий
арьергард; обогнать всех и в одиночку шествовать впереди;
или, наконец, переходить от одной группы
путешественников к другой, завязывать знакомства и удовольствие
прогулки соединять с приятностями беседы. Это
последнее я и предпочел.
Я присоединился к ближайшей из групп, и будь на
то моя воля, остался бы там на весь день. Дело в том,
что в числе этих путешественников находилась молодая
девушка, прекрасная и обворожительная. . . по крайней
мере такое впечатление она произвела на меня.
Впрочем, я заметил, что в путешествии все девицы
производят на меня именно такое впечатление, откуда я
заключаю, что эта могла быть не более прекрасна и
обворожительна, чем другие.
В путешествии сердце жаждет романтики,
приключений;, оно быстрее раскрывается для нежных чувств;
прекрасный пол и его прелести, как выразился бы дамский
19*
292
Трианская долина
угодник, более чем когда-либо представляются
достойными поклонения; а поскольку в этих случайных
путевых встречах никакое серьезное намерение или
брачные расчеты обычно не сдерживают, наподобие полезного
балласта, полет чистого чувства, чувство это
немедленно воспаряет на головокружительную высоту.
И не только сердце ваше ведет себя в пути
подобным образом, но и встреченная молодая особа
приобретает в этих обстоятельствах известные достоинства,
каких она не могла бы иметь в гостиной. Прежде всего
она здесь одна, вне круга своих подруг, столь же или
более привлекательных. Цветок этот может быть и
более, и менее редкостным. Но тот же цветок, который
теряется в пышном букете, нравится, пленяет,
очаровывает, когда он один красуется на лужайке, наполняя
ее своим благоуханием. В сущности, что может быть
нелепее букета, этого пошлого сераля, где тупица-хозяин
собирает красавицу за красавицей, чтобы из увядших
прелестей каждой составить яркое, но лишенное
изящества целое, а из их нежных ароматов извлечь
одуряющий запах? Что ж, презренный султан! Срывай, мни,
жертвуй ради своего наслаждения свежестью тысячи
роз. .. Я же стану искать свой цветок там, где он
расцвел в уединении; и так дорога мне его скромная
прелесть, что я не только не буду искать иных, но и этот
не сразу решусь сорвать.
И это еще не все: в путешествии девушка
становится вам ближе; если сердце ее не отдано уже
другому, что побуждает ее избегать молодых людей, ваше
общество неизбежно заинтересует ее, ваше внимание
будет ей приятно. Власть ее над вами, счастье,
испытываемое вами подле нее, непременно будут ею замечены
и понравятся ей, разумеется, если чувства ваши на-
Трианская долина
293
столько тонки, что вы стараетесь не выражать их и
выдаете себя лишь невольно. А дорожные сценки или
ландшафты — сколько тут случаев выказать
подкупающую предупредительность, обнаружить общность вкусов
и чувств, дать зародиться той взаимной симпатии, к
которой так склонны два юных сердца! Влечение это
длится лишь несколько часов, быть может — день, но,
пусть мимолетное, оно живо, оно чисто и вместо
сожалений оставляет воспоминание, полное прелести.
А если предстающие вашим взорам ландшафты — это
леса, долины, бесчисленные горы, гигантские ледники,
словом, вся природа. Альп, то приветливая, то
величавая? Если на каждом шагу ее красоты вызывают
бурное восхищение н потребность поделиться волнением,
переполняющим сердце и столь благоговейно чистым,
что можно не сдерживать его чинными правилами
светских приличий? Если молодая особа в порыве
восторга позабудет править своим мулом и на вас падет
приятная забота вести его и сдерживать его шаг? Держа
мула под уздцы, вы образуете между ним и пропастью
надежную преграду из собственного тела; девушка
восхищена вами, волнуется за вас; лицо ее хорошеет под
влиянием этих чувств, утренний ветерок, веющий с
вершин, оживляет розы ее ланит и играет складками ее
мантильи, обрисовывая ее грациозные формы. Ах,
юноша! ваше сердце и ваши взоры, отвращаясь от гор, уже
прикованы любовью к прелестному созданию.
Неправда ли? Она прекрасна, обворожительна... что и
требовалось доказать.
В тот день я ощущал все, только что мною
описанное. Я держал мула под уздцы, я образовал из моего
тела преграду.. . , но пропасти, к сожалению, не
оказалось. Возле Турского ледника мы остановились. Перед
294
Трианская долина
нами была узкая и безлюдная лощина, которой
заканчивается у склонов Бальмского перевала долина Шамони.
Там еще залегли тени. Зато позади нас та же долина
предстала во всей своей утренней красе. Солнце,
поднявшись на высоту гор, посылало сквозь голубоватую
дымку свои лучи, очерчивая от вершин до подножья
зубчатые края ледников и заставляя сверкать над
сумрачной полосою леса бесчисленные пики Буа, Боссонов
и Таконе. Оставляя в тени Арву с ее лесистыми
островками, оно золотило под отвесной стеной Бревана
мирную долину Приере и разбросанные по ней хижины.
«Какое восхитительное зрелище! — сказала моя
спутница. — Я хотела бы тут остановиться. . .»
Я помог ей спешиться; одной рукою я придерживал
стремя, в то время как другая, на которую она
впиралась, позволила, ей легко соскочить на землю. Мы
уселись на гранитный валун; мул, которого я все еще
держал в поводу, принялся щипать придорожную траву.
Бывают минуты, когда любоваться пейзажем
обязательно, однако успеху дела это не способствует.
Любоваться было необходимо, именно затем мы и
остановились. Но моя спутница, непривычная к сельской
простоте, была несколько смущена, оказавшись наедине со
мной, а я в свою очередь слишком был взволнован ее
близостью, чтобы красноречиво говорить о горах. Тем
не менее я попытался делать это, но после нескольких
общих фраз, которые самого меня сконфузили своей
банальностью, я перешел, как умел, к теме куда более
важной, чем великолепие отечественного ландшафта.
«Заметьте, мадемуазель, — сказал я, — перед нами
развилка. Осмелюсь спросить, как решили ехать ваши
родители — через Тет-Нуар или же Бальмским
перевалом? ..
Трианская долина
295
— Не знаю, сударь», — ответила она. Затем,
отвернувшись, чтобы скрыть заалевшее лицо, добавила:
«А вот кажется и они».
Действительно, остальные члены группы, которых мы
опередили, теперь уже приближались к нам. Я
заметил, что родители моей юной спутницы, в свою
очередь, обогнали остальных путешественников и, еще не
видя нас, усердно погоняли своих мулов. Поровнявшись
с нами, отец сказал жене и дочери: «Что ж, сударыни,
пора выбрать дорогу». Потом он обернулся ко мне и
спросил: «А вы, сударь, по какой дороге намерены
идти?»
Этот коварный вопрос не столько удивил меня,
сколько раздосадовал. Накануне я неосторожно сообщил
этому господину, что собираюсь идти через Тет-Нуар;
мне казалось, что я поступаю очень умно, ибо именно
этот путь, как более легкий, выбирают обычно те, кто
путешествует с дамами. Однако господин этот тогда же
весьма осторожно сказал, что не решил еще, какую
дорогу выбрать. Было ясно, что предусмотрительный отец
хотел обеспечить себе возможность везти дочь той
дорогой, по которой я не пойду. Отлично поняв смысл
его вопроса и желая хотя бы сохранить свое
достоинство, я ответил: «Как вы знаете, сударь, я предполагал
идти через Тет-Нуар. . .»
Он поспешил прервать меня: «А мы, к сожалению!
склонны предпочесть Бальмский перевал. Я, право,
сожалею. Счастливого пути, сударь! Рад, что хотя бы
нынче утром я имел удовольствие путешествовать в
вашем приятном обществе».
Я рассыпался в столь же искренних любезностях, и
мы расстались.
296
Трианская долина
Мне сделалось грустно; прекрасная природа уже не
казалась мне прекрасной. Приере выглядела уныло, Бос-
соны вызывали раздражение.
Сидя на том же гранитном валуне, я предался
горьким размышлениям о лицемерной тирании отцов,
которой часто некстати способствует слишком уж ангельская
кротость дочерей. Тут мимо меня прошел другой
караван, к которому я примкнул за неимением лучшего,
а также затем, чтобы отвлечься от сердечных мук.
Группа эта состояла из трех пешеходов и мула,
нагруженного камнями. Господа эти были геологами.
Геологи — очаровательные спутники, но главным образом
для геологов. Им свойственно останавливаться у каждого
камня и рассуждать по поводу каждого пласта земли.
Они откалывают куски скал и уносят их с собой; они
скребут землю и всякий раз строят на этом теорию.
Все это занимает массу времени. Они не лишены
воображения, но оно простирается лишь в морские
глубины и земные недра; на поверхности земного шара оно
иссякает. Покажите им великолепную вершину — для них
это вздутие земной коры; покажите лощину,
заполненную льдом — они усмотрят в этом действие огня;
покажите лес — тот их вообще не касается. На полпути
к Валорсину несчастный обломок скалы, иа который
я присел отдохнуть, привел моих трех геологов в
волнение; пришлось немедленно встать и предоставить им мое
сиденье. Пока они его крошили, я потихоньку удалился
и они потеряли меня из виду.
Sic me servavit Apollo! * l
* Так избавлен я был Аполлоном (лаг.).
Трианская долина
297
Впрочем, если я порой избегаю геологов, то геологию
я неизменно люблю. Зимою у камелька особенно
приятно послушать о чудесных горах, которые ты посетил
летом, о потопах, извержениях вулканов, о
горообразовании, о разрушительных силах природы, но главное —
об ископаемых животных! Когда разговор заходит об
этих ископаемых, я всякий раз перевожу его на
мастодонта — кто его открыл не помню — или на мегалозавра
Кювье2; это такая ящерица длиною в сотню футов, от
которой до нас дошли только кости. Вообразите себе,
как это царственное животное разгуливало по
первозданному миру и кормило свое семейство слонами
вместо мошкары! Да здравствуют иллюстрированные
журналы 3, они популяризируют науку! именно так и
усвоил я геологию.
Но даже и без подобных иллюстраций все мы
немного геологи. Кто при виде чудес горного края не
задается вопросами о том, как разверзлись эти пропасти,
как вознеслись к небу эти вершины, и как образовались
плавные линии склонов и вздыбленные утесы; откуда
взялись эти гранитные колоссы, нависшие над равниной,
или остатки морских раковин в недрах гор? Все эти
вопросы — чистейшая геология, элементарная и вместе
с тем трансцендентная. Именно их задают себе геологи;
более того, отвечая на них, никак не могут придти к
согласию; причиною называют то воду, то огонь, то
эрозию, то поднятие и опускание суши. Всюду у них
теории, нигде нет истин; множество работников, и ни
одного всеведущего; множество жрецов, но нет бога; так
что каждый волен возложить свою гипотезу на алтарь
науки и сказать, когда она развеется дымом: «Дым как
дым, не хуже вашего, сударь мой».
298
Трианская долина
Вот за что я люблю геологию. Она необозрима и
туманна как всякая поэзия. Подобно всякой поэзии она
погружается в тайны, питается ими, плавает в них и не
тонет. Она не подымает завесу, но колеблет ее, и в
случайные просветы проникают порой лучи, ослепляющие
наш взор. Вместо того, чтобы звать на помощь
трудолюбивый разум, она берет себе в спутники
воображение и увлекает его в сумрачные недра земли или,
возвращаясь к первым дням творения, ведет его по юной,
зеленеющей земле, едва возникшей из хаоса,
сверкающей первым своим нарядом, попираемой стопами
исчезнувших животных, о которых говорят нам ныне их
гигантские останки. Если она и не приходит к цели, то,
стремясь к ней, идет живописной дорогой; если она
вкривь и вкось толкует вторичные причины, то именно
поэтому подводит нас к первопричине. Вот отчего наука
эта, неизменно нами любимая, является столь же
древней как и сам человек. Книга Бытия представляет собой
старейший и величайший геологический трактат, а у
греков, наиболее поэтического из народов, мы с самого
начала находим во множестве всякого рода теогонии и
космогонии; с тех пор и поныне вулканисты и нептунисты 4
оспаривают друг у друга, правда, не признание ученого
мира, но наивное восхищение, праздное любопытство,
поэтическое чувство думающих и доверчивых людей.
В Валорсине я присоединился к трем туристам —
французу и двум англичанам, не имевшим между собой
ничего общего, разве лишь то аристократическое
единомыслие, которое временно объединяет людей с
хорошими манерами, побуждая их считать себя равными и
общаться друг с другом, когда общаться попросту
больше не с кем.
Трианская долина
299
Англичане были красивые и рослые юноши, из тех
вчерашних студентов, не вполне еще взрослых, которых
папаша-лорд посылает сразу после Кембриджа
путешествовать по континенту в сопровождении не то
гувернера, не то слуги, чтобы он чистил их ботинки и
оплачивал их шампанское. Несколькими днями раньше они
уже встречались мне. В гостинице за столом они
показались мне чинными как истые английские джентльмены;
в дороге они резвились, напоминая больших
ньюфаундлендских собак, которые уже готовы стать степенными,
но порою еще скачут и играют с маленькими шавками.
Француз был элегантный молодой человек, карлист
по убеждениям5, по речам и усам; один из тех
салонных политиков, которые мнят себя заговорщиками,
чуть ли не участниками сражений в Вандее и уверены,
что теперь, по умиротворении Запада6, они должны,
ради спокойствия своих близких совершить турне по
Швейцарии и таким образом дать французскому
правительству благовидный предлог закрыть глаза на их
мятежное прошлое; при всем том — отличный человек,
жизнерадостный и в белых перчатках.
Англичане были немногословны, неловки, но
достаточно восприимчивы к красотам природы. Свежая
зелень, прозрачные воды и особенно — гордо
вздымающиеся вершины, доставляли им внутреннее
удовлетворение, которое не всегда сдерживалось чувством
собственного достоинства.
«Beautiful!» * говорили они время от времени,
обмениваясь взглядами. Они были одеты с той удобной и
дорогой простотой, какая отличает туристов их нации
* Красиво! (англ.)
300
Трианская долина
отличные широкополые соломенные шляпы, очень
чистые, хотя немного помятые, небрежно сидевшие на их
головах, серые холщевые куртки, удобно скроенные,
с глубокими карманами, вмещавшими доллондовскую
подзорную трубу7, серебряный портсигар и весь набор
предметов, необходимых или полезных в путешествии
по горам. Та же простота и та же изысканная чистота
отличала их белье. А сквозь некоторую неуклюжесть их
движений проглядывала уверенность молодых
аристократов, которые, снаряжаясь в путь, рассчитывают на
своего портного, чтобы чувствовать себя удобно; на свою
располагающую наружность, чтобы быть замеченными,
но более всего — на свои гинеи, доставляющие им почет
и любовь всех трактирщиков континента.
Француз, напротив, был чрезвычайно общителен,
имел манеры живые и непринужденные и громко
восторгался альпийскими красотами, которые впрочем был
совершенно неспособен воспринимать. Как и англичане,
он восхищался прозрачными потоками, но лишь затем,
чтобы сравнивать их с тепловатой водой, какую пьют
в Париже. Восхищался он и горными вершинами, но
главным образом — огромными прыжками, какие
совершают с утеса на утес серны, на которых он надеялся
поохотиться, как только получит из Парижа заказанное
им отличное лепажевское охотничье ружье. «Первую же,
которую подстрелю, говорил он, я пошлю в Прагу» 8.
Одет он был как Робинзон, которого обряжали
модистки. Изящная непромокаемая шляпа с маленькими
полями кокетливо сидела на его напомаженной голове;
непромокаемый галстук обвивал шею; длинный
бархатный сюртук с полукруглыми полами для удобства
ходьбы, с низкой и узкой талией для придания легкости,
был снабжен наружными и внутренними карманами, на-
Трианская долина
301
полненными миниатюрными безделками, большая часть
которых была бесполезна или сама по себе или из-за
своих крохотных размеров. Однако подлинным
шедевром была его трость. Эта трость раскладывалась в виде
стула, позволяя с комфортом любоваться пейзажем;
раскрывалась как зонтик, чтобы защищать от солнца;
и превращалась в альпеншток для восхождений на горы.
Альпеншток был тяжел, как балка, зонтик изогнут, как
крыло летучей мыши, а стул покоен, как табурет без
сиденья, но обладатель его был счастлив и горд
бесчисленными удобствами, какие обеспечивал ему этот
шедевр.
Я нагнал этих господ, когда их мулы закусывали,
а сами они были заняты беседой, в которой по
меньшей мере девяносто пять процентов приходилось на
долю француза. Он только что обстоятельно разобрал
династическую проблему, проблему республики,
а также — доктринеров; затем перешел к Генриху V9,
а от него — к сернам, ибо как раз в эту минуту в
горах раздался выстрел из карабина. Об этих
четвероногих, как и о политике, у него были исчерпывающие
сведения, твердое мнение и точные формулировки. Он
явно изучил повадки серн по книгам Александра Дюма,
Рауля Рошетта и других прославленных теоретиков 10,
но это был ученик, превзошедший своих учителей, для
которого все теории скоро становятся безделицами по
сравнению с той, какую он приехал создавать на
месте. Ничто не могло быть забавнее этого пылкого
оратора, выступавшего перед двумя флегматичными
британцами, слишком разумными, чтобы ему верить, слишком
учтивыми, чтобы возражать, но совершенно оглушенными
этой быстрой, неиссякаемой болтовней. Не особенно
утруждая себя внимательным слушанием, они курили си-
302
Трианская долина
гары, дивясь про себя, до чего «французы foolish *,
говорливы, а одеты — совершенно учителя танцев».
«Господа, — говорил им француз, — вот любопытный
и неизвестный вам факт.. . Мне сообщил его охотник, за
один год убивший двадцать горных баранов и
девяносто девять серн, причем двух из них — с одного
выстрела; об этом я расскажу позже. .. Такое возможно
только при охоте на серну, а это — единственное
животное, которое я еще не стрелял. Мне ведь доводилось
охотиться и на косуль и на кабана, и я его убил бы,
если б в охоте, не участвовал король, а он имеет право
первого выстрела. .. Любопытно, что в серну не целятся
по прямой, как, скажем, в бекаса. Серна чутка и
недоверчива, стоит ей заметить хоть кончик ружейного
ствола — и все, только ее и видели. . . Что же делают
охотники? Увидев на вершине скалы серну, охотник из
своего укрытия целится в соседнюю скалу, когда ближе,
когда дальше. Выстрел, пуля летит рикошетом, и серна
падает, так и не поняв, откуда пуля ее поразила. . .
Недурно, а?
— Проводник, — прервал его тут один из
англичан, — обращайт внимание. Есть можность дождя.
Мы — вперед».
Тут мы все четверо поднялись, чтобы отправиться
в путь; геологи как раз в это время входили в Валор-
син. За этим селением долина сужается, и путник
вскоре вступает в мрачные ущелья Тет-Нуар.
Погода, утром столь безоблачная, действительно резко
переменилась. Быстро несшиеся белые облака незаметно
затянули небесную лазурь и закрыли солнце; сейчас это
* глупы (англ.).
Трианская долина
303
были угрюмые тучи, громоздившиеся вокруг вершин.
Горячий ветер с долины Роны врывался в узкую
лощину, вздымая песок, пригибая траву и свистя в
верхушках елей. Мы умолкли и ускорили шаг. На обочине
тропы попадались небольшие кресты, врытые в землю.
Так отмечают места, где зимою или при первой
весенней оттепели какой-нибудь горец замерз, или погиб под
лавиной. У одного из таких крестов стояла на коленях
женщина, молясь за покойного; ее коза, вспугнутая
нашим появлением, стала прыгать с камня на камень и,
остановившись на краю оврага, глядела на нас с
любопытством. Вскоре разразилась гроза, хлынул дождь, но
мы уже приближались к Английскому Камню, где
надеялись укрыться.
Камень этот представляет собой огромную скалу,
нависшую над тропой. Надпись, вырезанная на самом
видном месте, гласит, что данная скала законно приобретена
у местной общины некой английскою дамою. «Что
это? — спросил наш француз, завидев издали надпись. —
Памятник? Или гробница?» Прочтя надпись, он
расхохотался: «Нечего сказать, покупка! Зато уж ее не
унесет ни один геолог. И в общине тоже оказались не
дураки. .. Итак, мы здесь находимся на британской
территории. Благодарю за гостеприимство, господа!
Неплохо бы еще ростбиф и стаканчик бордо».
Оба англичанина, которым отнюдь не пришелся по
вкусу непочтительный тон француза относительно
факта, по их мнению «великолепного» и «очень
национального» в самой своей необычности и эксцентричности,
замкнулись в надменном, но вместе с тем растерянном
молчании. Было ясно, что стоило лишь умело польстить
их тайной мысли, и они тотчас принялись бы восхи-
304
Трианская долина
щаться штрихом, столь «beautiful» и «enthusiastic» *,
объявили бы англичан и англичанок «первым народом
мира», а быть может даже запели бы хрипло и
торжественно «God save the King» ** — что было бы куда
забавнее их молчания. Но если они и обиделись, то весьма
скоро взяли реванш. Наш спутник, желая полюбоваться
ландшафтом, разложил свой хитроумный стул. Едва он
сел на него, как все три ножки сломались, и он упал
навзничь, спиною в пыль, а головой в лужу... Никогда
я не видел, чтобы два англичанина хохотали столь
дружно, громко и с таким удовольствием. Что касается
француза, то он встал, выбранился, швырнул обломки
своего сооружения в поток и самым искренним образом
разделил наше веселье.
Между тем дождь не только не прекратился, но все
усиливался. «Хоть мы здесь и в Англии, — сказал
вскоре француз, — мне от этого не легче. . . Лучше уж
мокнуть, но идти, чем сохнуть на месте. Кто любит
меня — за мной!»
И он весело пустился в путь. Англичане последовали
его примеру. То же сделал и я.
Когда вы молоды и здоровы, а главное — имеете
вкус и привычку к пешим странствиям, идти под
ливнем не так уж страшно, как это кажется. Вы промокли;
вода, как говорит Панург ^, втекает вам за шиворот и
вытекает из каблуков, но это — плата за предстоящее
удовольствие: достичь жилья, сменить мокрую одежду,
подставить огню очага продрогшие члены, стряхнуть
с себя усталость и подкрепиться за щедро уставленным
столом. И разве не стоят наших трудов величественные
* прекрасным и достойным восхищения (англ.)
** «Боже, храни короля» (англ.).
Трианская долина
305
картины природы, разве не пленяют они душу? Ведь
душа вечно жаждет движения, волнения, мыслей.
Отразив, подобно зеркальной глади озера, безмятежную
свежесть утра и жаркое солнце полудня, она отражает
теперь свинцовые тучи, сжимается под бурным порывом
ветра; в нее проникает смятение, царящее в природе, и
в самом этом смятении она вкушает таинственные
восторги, неведомые сонным любителям уюта. Чтобы
вполне насладиться этими ощущениями, я нарочно
отстал от своих спутников. Мне нравилось быть одному
в мрачном ущелье Тет-Нуар, где меня хлестал дождь,
оглушал рев потока, грохот летевших вниз камней и
удары грома, переходившие в величавый рокот, то
отдаленный, то настолько близкий, что он раздавался,
казалось, над самой моей головой. Зрелище было столь
великолепно, и я так был им поглощен, что испытал
нечто похожее на разочарование, неожиданно оказавшись
так скоро возле хижин Триана. С крыльца одной из
них послышался смех: это француз завидел меня.
«Здесь есть вино, — крикнул он мне. — Заходите
разбавить его вашей водой!» Я вошел.
Все дома деревушки Триан расположены в
небольшой долине весьма необычного вида. Имея в длину как
и в ширину не более мили, долина эта столь тесно
окружена высочайшими вершинами, что солнечные лучи
проникают в нее не раньше полудня, да и то ненадолго. На
одном ее конце глухо потрескивает Трианский ледник*
зажатый в узком гранитном ущелье; у нижней его
границы извергаются, словно из голубой пасти, темные и
бурные воды, которые затем замедляют свой бег,
протекая по лугу. На противоположном конце долины
расколотая до самого основания гора принимает в себя этот
20 Родольф Тёпфер
306
Трианская долина
поток и тот уходит под землю, в сумрачные бездны,
недоступные человеческому взору, но возле Мартиньи
снова выходит на поверхность и впадает в Рону.
Расположение этой вечно затененной долины, соседство
ледника и потока — все это поддерживает там
восхитительную прохладу; лужайки, когда видишь их впервые
с соседних вершин, поражают яркостью своего зеленого
ковра. Кажется, будто Вы открыли неведомый еще Эдем,
приют, где издавна сокрылись первые обитатели страны.
Вы спускаетесь, вы вступаете под эту прозрачную сень,
с наслаждением вдыхаете бальзамический воздух,
слушаете неумолчный и звонкий говор бегущей воды; это
великолепие восхищает ваш взор и сладко волнует
сердце.
Сюда выходят дороги, идущие от обоих перевалов —
Тет-Нуар и Бальмского. Обе тропы соединяются у
подножья Фаркла, через который затем надо перевалить,
чтобы выйти к Мартиньи. Здесь нет иного пристанища,
кроме таверны, куда я вошел. В нижнем ее этаже
помещается конюшня и сеновал, а над ними — комната
для приезжих. На верхнее крыльцо, откуда окликнул
меня француз, ведут несколько деревянных ступеней.
Случается изредка, что путешественник, застигнутый
ночной темнотой или грозою, вынужден переночевать
в Триане; поэтому хозяин таверны, держит в этой же
комнате пару узких кроватей. Когда я туда вошел, оба
моих англичанина, как видно отказавшись от мысли идти
в Мартиньи по такой погоде, уже оставили кровати за
собой; сменив белье и одежду и закурив сигары, они
поспешили прилечь.
Гроза настолько усилилась, что я не на шутку начал
тревожиться за путников, с которыми расстался утром,
и очень хотел услышать, что они уже спустились с пе-
Трианская долина
307
ревала и миновали Триан. Я готовился спросить об этом
у хозяина, когда ослепительная вспышка молнии и
тотчас вслед за нею — сильнейший удар грома заставили
нас вздрогнуть. Хозяин перекрестился, а жена его,
подбежав к окну, воскликнула: «Это ударило в Магнинский
лес!» Мы выглянули в окно. Из леса со всех ног
бежал к нам человек. Когда он приблизился, мы его
окликнули. Я тотчас узнал его, ибо видел его утром
в той же группе, где были и родители моей молодой
спутницы. Еще более тревожась, я стал расспрашивать
его, но ничего не узнал. Его. послали вперед, в Мар-
тиньи, чтобы заказать там комнаты. Час спустя
начался дождь и разразилась гроза. «Молния ударила
в дом Приваза, — добавил он, — там теперь пожар,
скотина разбежалась, а одна корова так ревет, что сердце
надрывается... Она пошла было за мной, но тут опять
так ударило, что я думал — свету конец!»
Француз, слушавший наш разговор, вскричал:
«Значит в лесу остались дамы! .. В такую грозу! Пусть не
говорят, что я не поспешил на помощь. Кто пойдет со
мной?
— Як вашим услугам, — сказал я. — Скорее в путь!
Я захвачу эти две бараньи шкуры, что здесь висят на
стене.
— А я — вот это подкрепляющее средство», —
прибавил француз, наливая в свою флягу содержимое
хозяйского полуштофа.
Мы без промедления отправились в путь. Тут как
раз подошли и геологи. . . но боже! в каком виде! Вода
струилась у них из рукавов, из карманов, из носа и
с каждого пальца; они походили на жуков, утонувших
в канаве, на жертвы всемирного потопа, вплавь
добирающиеся до Ноева ковчега! . . Но и теперь они не
20*
308
Трианская долина
упускали из виду камней и следили глазами за
напластованием горных пород. Они вошли в нашу хижину.
А мы двое вскоре уже подымались на Бальмский
перевал.
«Ну и мошенники эти торговцы одеждой, — говорил
француз. — Называется непромокаемая! Моя шляпа
вобрала в себя весь дождь! .. Кстати, они красивы,
ваши дамы?»
Новый удар грома с оглушительными раскатами
избавил меня от необходимости отвечать, да меня все
равно не было бы слышно. Тропа превратилась в русдо
бешено мчавшегося потока; отовсюду каскадами
низвергалась вода, и по мере того как мы подымались,
становилось все холоднее. Над Магнинским лесом к дождю
уже примешивалась ледяная крупа. Час спустя мы
достигли линии снегов. Шум воды и свист ветра в
деревьях сразу сменились тишиной.
Тропа была здесь неразличима; на зов, который мы
по временам повторяли, никто не откликался, и мы уже
отчаивались в успехе нашей попытки, когда увидели
мула, спускавшегося с перевала. Он был без седока,
но оседлан, а повод волочился по земле. Чтобы не
спугнуть его, мы спрятались за выступом скалы; когда он
приблизился, мой спутник загородил ему дорогу а я
схватил повод. Это был тот самый, который я держал
утром, это был мул Эмилии! Тут нам представились
всевозможные ужасы. Не теряя времени, француз
вскочил на мула, а я принялся подхлестывать животное
сзади, чтобы заставить его идти и вместе с тем вести
нас в нужном направлении. Однако, достигнув открытой
со всех сторон площадки, мул шарахнулся влево и
поскакал во весь дух, стараясь сбросить всадника.
Француз отлично умел держаться в седле, усидеть было для
Трианская долина
309
наго делом чести, но через несколько секунд он скрылся
из виду. Я остался в одиночестве, сильно
встревоженный, не зная, куда направиться. Проплутав некоторое
время, я обнаружил следы, оставленные мулом на снегу
при спуске с перевала, и решил идти по ним. Мысль
оказалась удачной; через четверть часа я встретил
человека, который по тем же следам шел мне навстречу.
То был проводник, догонявший своего мула.
«Мула мы нашли, — крикнул я ему. — А где ваши
туристы?
— Откуда мне знать, где они? Сейчас вот солнце,
а что делалось час назад! Тропы не видать, ничего не
видать. Ветер деревья выворачивал, а тут еще гром со
всех концов света. Каждый держал своего мула, я —
своего, вот и растерял их всех. Хорошо еще, что я
добрался до пещеры, это тут недалеко, и там укрыл
барышню. Но ведь и там ей не больно-то хорошо, а без
мула мне ее не вывезти».
При последних его словах, которые заставили-таки
себя ждать, моя тревога сменилась живейшей радостью.
Эмилия не только была в безопасности, но и мой
приход оказывался как нельзя более кстати.
«Добрый человек, — сказал я, — идите обыскивать
округу, пока не найдете их всех, а я подожду вас в
пещере. Как туда пройти?»
Он указал на какую-то темную скалу.
«Прямо под ней, — сказал он. — Тропа вас сама
приведет».
И он отправился дальше.
А я пошел к скале. Но представляешь ли ты себе
мое положение, читатель? Если уже само путешествие,
разлучающее молодую девушку с ее подругами и
сближающее ее с вами или хотя бы доставляющее вам слу-
310
Трианская долина
чай поговорить с нею, если уже одно это делает ее
в ваших глазах вдвое прекраснее, вдвое
обворожительнее, что же сказать, когда вы предстаете перед ней в
качестве спасителя и находите ее одну в пещере; она
дрожит, но уже ободрена тем, что вы примчались к ней
на помощь, и встречает вас благодарной улыбкой? Право,
можно опасаться, как бы, взволнованный этой улыбкой,
и осмелев от столь выгодных для вас обстоятельств, вы
не высказали ваших чувств слишком открыто, рискуя
оказаться навязчивым. Вот что я твердил про себя,
пока подымался к скале.
Но как бы ни старался молодой человек держаться
в границах почтительной учтивости, неожиданное
появление его в пещере неизбежно вызовет у укрывшейся там
девушки целомудренное смущение и тревогу, которую
она уже ощущает от сознания своего одиночества. При
виде меня Эмилия залилась румянцем и, поспешно
покинув укромный уголок, где она сидела, подбежала к
выходу, как бы ища защиты у неба и дневного света. Это
движение, хоть и вполне естественное, не могло быть
мне приятно; ибо даже мимолетное опасение оскорбляет
нежное и чистое чувство. Зато мое неудовольствие
помогло мне придать моему приходу тот прозаический
смысл, какого требовали приличия. Я сообщил Эмилии,
каким обстоятельствам обязан счастьем придти к ней
на помощь. Я рассказал ей, что именно предпринято,
чтобы поскорее вернуть ее родителям, которых мой друг
наверняка уже успокоил на ее счет; затем, ободренный
радостью, какую вызвали у нее эти добрые вести, я
постарался, чтобы краткие мгновения наедине с нею, на
которые я не смел надеяться, не были отравлены для
нее смущением и страхом. Эмилия улыбнулась, на глазах
ее выступили слезы умиления, и если она не вполне
Трианская долина
311
еще оправилась от смущения, то теперь причиной его
была только сдержанность, запрещавшая ей слишком
пылко выразить мне свою признательность.
Снег к этому времени прекратился; ветер, этот
полновластный хозяин перевалов и вершин, поднял ввысь
нависавшие над нами тучи. Поверхность плато
озарялась тусклым белесым светом; из глубины ущелий, где
царил сырой полумрак, подымались седые клочья тумана.
Мы сели рядом у выхода из пещеры и, созерцая это
зрелище, беседовали о событиях дня, о ярости грозы,
о великолепных контрастах, представших нашим взорам
за последние несколько часов. Когда оказалось, что
множество впечатлений было воспринято нами одинаково,
хоть мы и не были вместе, разговор наш принял более
свободный и интимный характер. Эмилия призналась,
что когда вновь свидится с родителями, этот день, в
который она испытала столько волнений, столько страхов
и радостей, останется для нее одним из самых
прекрасных в жизни. .. Тут я осмелился сказать ей, что
минуты, которые я имею счастье провести с нею наедине,
чтобы открыть ей чувства, переполняющие мое сердце,
несравненны для меня ни с чем в моей прошлой жизни
и никогда не повторятся вдали от нее. Эти слова
повергли ее в крайнее смущение. Чтобы дать ей
оправиться и видя, что она зябнет от холодного горного
воздуха, я стал просить ее надеть баранью шкуру,
захваченную мною из Триана. Это был род грубой
верхней одежды, какую носят местные пастухи. Она
согласилась, улыбаясь. Пока я одной рукою держал над ней
пастушью одежду, другая моя рука, помогая девушке
надеть ее в рукава, пожимала ее ручку. В грубой одежде
ее нежные черты неожиданно засияли такой красотой,
что я в восторге прижался губами к этой ручке, которую
312
Трианская долина
все еще держал, и запечатлел на ней поцелуй. Эмилия,
затрепетав, отняла руку, и тут послышались голоса. Мы
вскочили с места. То был проводник.. ., а за ним отец.
Никогда еще я не видел, чтобы отец был так
доволен, что нашел свою дочь, и одновременно так
недоволен, что застал ее не одну. Эмилия, чтобы скрыть
румянец смущения, кинулась к нему в объятия; я, со своей
стороны, поспешил выразить удовольствие по поводу
столь счастливой встречи. Однако ни слова его, ни
чувства не могли попасть в тон нашим, хотя
обстоятельства обязывали его выказать нежность к дочери и
прежде всего — признательность мне. Его слишком
заметное замешательство передалось было и нам, но тут
он вышел из положения — стал смеяться над пастушьим
нарядом Эмилии. Это было отличным выходом из
затруднения для всех нас, и мы долго смеялись, не имея
на то ни малейшей охоты. Затем начались с обеих
сторон рассказы о событиях дня. Мой приятель француз
совершил чудеса. Он встретил проводника, разыскал
отца, разыскал мать и успокоил обоих, сообщив им, что
их дочь уже около часу находится в пещере под моим
покровительством. Именно тогда г-н Десаль (отец
Эмилии) вместо того, чтобы выразить радость, сорвался
с места и поспешил к нам.
Я забыл сообщить тебе, читатель, что на эту
молодую особу я обратил внимание еще зимою, в Женеве,
когда она появилась в свете; любовался я ею и весной,
в первые теплые дни, когда молодые девушки, сменив
зимние шубки на летние платья и легкие шарфы,
кажутся только что распустившимися цветами,
сбросившими плотную оболочку, которая скрывала их красоту.
Любовался я ею и в августе, когда она отправилась
в горы, а я пустился по ее следам. Ты спросишь, был ли
Трианская долина
313
я, в свою очередь, замечен ею? Об этом надо
спрашивать не меня. Могу лишь утверждать, что ее родители,
несомненно, меня заметили. Именно мое ухаживание,
нарушившее их покой и их планы, заставило их сняться
с места и отправиться любоваться природой, в чем они
ничуть не нуждались; как мы видели выше, это же
побудило их предпочесть легкой дороге на Тет-Нуар
тяжелый переход через Бальмский перевал. Эти краткие
сведения объясняют читателю многое; я мог бы
дополнить их, забегая в недалекое будущее, если б не боялся
повредить моему повествованию, добавив к
романтическим приключениям прозаическую, хотя и счастливую
развязку, которой они завершились полгода спустя.
Итак, продолжаю мой рассказ.
Погода все еще хмурилась, но буря утихла, выпавший
снег начал таять, и все сулило нам тихий вечер. Мы
покинули пещеру и направились к столбу дыма,
подымавшемуся за чащей лиственниц; он отмечал место, где нас
ожидали. Француза не было, но для г-жи Десаль
устроен был бивуак со всеми возможными удобствами.
«Ваш приятель, сударь, очаровательный человек!» —
сказала она, едва завидев меня. И действительно, с той
галантной готовностью, какую мгновенно вызывают
у французов женщины, попавшие в беду, мой спутник
за несколько минут соорудил некое подобие ложа из
камней, покрытых сухим мхом, а над ложем, для
защиты от снега, переплел ветви лиственниц; затем он
зажег возле г-жи Десаль небольшой костер, а поодаль
сложил другой, из толстых сучьев и расположил вокруг
него колья, вырубленные из соседних лиственниц, чтобы
можно было просушить на них одежду нашей группы.
Такое внимание к даме, отнюдь не молодой, и такая
предусмотрительная заботливость о всех вызвали у нас
314
Трианская долина
признательность, которая как нельзя лучше превращает
наиболее неприятные положения в прцятные. Правда, при
виде небольшой серебряной посудины, составленной из
трех-четырех хитроумно подогнанных частей и
наполненной кипящей жидкостью, я не мог удержаться от
смеха. Я узнал механический кофейник с несколькими
назначениями, который мой спутник демонстрировал нам
в Валорсине; здесь, растопив снег, собранный им на
Бальмском перевале, он заварил кофейную эссенцию,
купленную в Париже.
Тут показался и он сам; он поднимался к нам, ведя
за собой корову, которая не оказывала особенного
сопротивления. .. «Браво! — воскликнул он, увидев, что все
мы в сборе, — вот и молоко для всех нас, ну а кофе
будет только дамам. Мое почтение, мадемуазель! А вас,
господа, прошу развесить перед огнем вот эту шаль и
плащи. Остальное предоставьте мне».
Открыв и поставив перед дамами маленькую
карманную сахарницу, он принялся доить корову в чашки
из кокосового ореха, из которых пьют родниковую воду;
добавив туда кофе, он подал чашки дамам с такой
услужливостью и с таким торжествующим видом, что
нельзя было не смеяться. И я снова смеялся, но на этот
раз от удовольствия, без малейшего ехидства, как это,
вероятно, было в Валорсине. Ибо я лишь теперь понял
одну вещь, очень, впрочем, простую: а именно, что
в путешествии плох только тот багаж, который служит
одному своему владельцу и бесполезен для других.
Испытав тревогу, сердца людей легко раскрываются
для снисходительности, для радости, для
доброжелательности, изгоняющих из них всякое злопамятство. Г-н и
г-жа Десаль, казалось, не помнили уже ни о пещере,
ни о других, более давних моих провинностях; а сам я,
Трианская долина
315
признательный за их дружеское отношение, старался не
огорчать их чрезмерным вниманием к их дочери. Она
же, оправившись от смущения, хотя в душе все еще
взволнованная, старалась скрыть это под внешней
веселостью; а мой новый приятель француз, спрятав в
карман свою кухонную утварь, занялся вместе с
проводником приготовлениями к спуску.
Когда мы тронулись в путь, солнце выглянуло снова;
висевшие над нами серые тучи озарились закатными
лучами и превратились в великолепные своды. Затем это
сияние постепенно погасло, в небе кое-где зажглись
бледные огоньки звезд; ночь настигла нас на половине
спуска. Не могло быть речи о том, чтобы добираться
до Мартиньи; ночлег в Триане также казался едва ли
возможным. Этого не советовали и проводники.
«Ночевать там негде, — говорили они, — а из провизии разве
только яйца...
— Яйца? — прервал француз — если так, то ужин я
беру на себя (он на мгновение задумался).... да и
ночлег также. Для наших дам я найду постели. Но для
этого мне надо придти туда раньше вас. Итак, до
свиданья, доброго пути!»
Мы хотели удержать его и хотя бы поблагодарить,
но он уже скрылся из виду. Через полтора часа мы
вышли из Магнинского леса. По яркому свету в одном
из окошек мы издали завидели хижины Триана и
решили, что наш приятель уже взялся за дело. Когда
мы подошли ближе, навстречу нам попалось двое
путников, которые, к нашему удивлению, направились в этот
поздний час по тропе, ведущей на Форкла. То были
два наших англичанина. Оказывается француз разбудил
их и поспешил обрадовать известием, что, рассчитывая
на их галантность, обещал их постели двум дамам, ко-
316
Трианская долина
торые не замедлят прибыть. Англичане, явно
недовольные, молча поднялись и, сорвав свою досаду на хозяйке,
предложившей им ночевать на сеновале, решили
отправиться дальше.
Местную таверну я уже описал. Мы пришли туда
часов в десять вечера. Проходя мимо дверей кухни, мы
заметили там большое оживление; наш француз,
озаренный ярким пламенем очага, отдавал распоряжения,
не спуская при этом глаз с кастрюли, где что-то
кипело и пенилось. «Идите наверх! — крикнул он нам. —
Мне нельзя отойти от моего «самбайона» 12. Это для
меня дело чести, а для вас — десерт». Мы поднялись
в верхнее помещение, где трое геологов, также
приглашенных на пиршество, добродушно нас приветствовали.
Я заметил в комнате большие перемены. Кровати убрать
было некуда, но их прилично отгородили. Собрав скатерти
со всего дома, француз соорудил оконные занавески,
использовав ширину этих белых полотнищ, чтобы
расположить их по бокам складками. Уже одно это
лишало трактирную залу обычного вида и придавало ей
уютность, которая очень понравилась всем, в
особенности нашим дамам. Однако наибольшего восхищения
заслуживал стол. Шесть свечей, вставленных в горлышки
бутылок, освещали скатерть, уставленную деревенскими
кушаньями и живописной посудой; посредине дымилась
супница и стояло несколько различных омлетов; вокруг
симметрично размещались оловянные кружки; в одних
был легкий местный мускат, в других—ледниковая
вода.
Мы с удовольствием уселись. Радость прибытия,
удивление по поводу такой изобретательности, в
особенности же — сознание, что все это добыто из-под
земли любезным усердием нашего спутника, умножили
Трианская долина
317
удовольствие, к которому в эти минуты примешивалось
более серьезное чувство признательности.
Вскоре появился и француз. Позади него хозяйка —
воплощенное усердие и послушание — несла «самбайон».
Мы громко выразили наше восхищение всеми
сюрпризами и искусно накрытым столом. «Не правда ли? Вот
что значит, — прибавил он, обернувшись к славной
женщине, — попасть к добрым людям, готовым открыть свой
погреб, отдать все яйца и все скатерти. Ступайте,
голубушка! Ваши мужчины могут идти на покой, а вы,
как закипит вино, позовите меня. Это у нас будет «не-
гюс» 13. А теперь — за стол! Сюда мы посадим г-жу Де-
саль, сюда — м-ль Эмилию. Г-н Десаль сядет во главе
стола, я — на нижнем конце, вы и эти господа — между
нами. И да здравствует трианская таверна!»
Мы дружно подхватили, в особенности я, успевший
занять место между Эмилией и ее матерью.
Ужин, как вы можете себе представить, удался на
славу. Начиная с супа, вкусного, хотя и жидковатого,
каждое блюдо встречалось возгласами одобрения: не
говоря уже о нашей готовности восхищаться, всякий, кто
провел в горах день, полный трудов и лишений, знает
цену самой обычной похлебки и находит великолепными
простейшие кушанья. Когда настала очередь «сам-
байона», клики восторга усилились. Француз, радуясь
более всех, отвечал нам веселыми остротами, так что
шум похвал переходил во взрывы смеха. С появлением
«негюса» наступило затишье. Как только его разлили,
все, в том числе и француз, пожелали произнести тост;
но тут г-н Десаль, по праву старшинства, первый взял
слово и сказал: «Предлагаю выпить за здоровье нашего
амфитриона! 14 Да простит он мне, что называю его
так, пока не узнал имени, которое останется дорогим для
318
Трианская долина
всех нас, особенно для моего семейства. Вы, сударь,
превратили трудный и тревожный день в день удовольствий
и истинного отдохновения. Выражаю вам нашу живую и
дружескую признательность».
Мы поднялись с мест, чтобы чокнуться с французом,
который тут же ответил: «Скромность не позволяет мне
назваться. Но вот моя шляпа, там написана моя
фамилия. Разрешите мне, в свою очередь, сказать, что ни
одно путешествие не доставило мне столько
удовольствия, сколько сегодняшнее, из чего я заключаю, что
мне ни разу еще не доводилось находиться в столь
приятном обществе. Ваше здоровье, дамы и господа!»
Вскоре затем мы простились с дамами, отправились
на свой неприхотливый ночлег и после всех дневных
трудов крепко уснули до самого утра.
Путь за океан
Я знавал когда-то мальчика, имевшего все задатки
выдающегося полководца. К несчастью, он был горбат.
Я и сам был тогда мальчишкой и сопровождал его на
смотры, парады и учения, повсюду, где бил барабан и
дефилировали мундиры; не то, чтобы эти зрелища
особенно меня привлекали, но я был привязан к своему
товарищу и готов был терять время, лишь бы вместе
с ним.
Этот горбун оживлялся при звуках дудок и
барабанов, а когда за этим шумом следовала более
выразительная музыка духовых инструментов, черты его, отражая
сильное движение души, сияли воинственной гордостью.
Если затем равнина оглашалась ружейной пальбой и
пушечным громом, а полки, наступая друг на друга,
изображали атаку, победу, отступление и все перипетии
войны, мальчик, восхищенный этим зрелищем, кидался
туда, где клубился дым, врывался в ряды стрелков,
сопровождал орудия, бежал вслед за конницей, ежеминутно
рискуя быть раздавленным марширующей колонной или
быть избитым солдатами, которым он мешал. По
окончании смотра, он шагал в ногу с головной частью
батальона, не сводя глаз с командира, стремясь показать,
что выполняет все его приказы и участвует во всех
маневрах. Мальчик привлекал внимание зрителей, над ним
потешались, но чувства его были слишком сильны,
чтобы он замечал насмешки, и ок продолжал шагать,
320
/7угь за океан
опьяненный патриотическим восторгом и жаждою славы.
«Как только вырасту, — говорил он мне в часы
наших вечерних прогулок вдвоем в окрестностях города —
я стану военным. Видел ты, как командир скакал по
равнине?.. Вот бы командовать эскадроном! Ураганом
налетать на неприятельские штыки и завоевывать славу!
Не ждать смерти, а мчаться ей навстречу и нести ее
врагам! Разбивать их, рассеивать и преследовать! .. Мой
род оружия, Луи, это кавалерия!»
Его восторг увлекал отчасти и меня и я мысленно
тоже принимался разбивать и преследовать! .. А он
продолжал: «Да это еще что! .. Вот враг бежит,
оставляя на поле боя раненых и убитых... А я собираю моих
драгун, запыленных, обагренных кровью, и мы
вступаем в спасенный город. .. Толпы жителей стоят на
городских стенах, на крышах домов. .. Мы
приближаемся. .. Мы дефилируем... Раненый командир гарцует
во главе своих храбрецов. .. Все взоры венчают его
славою, все сердца летят ему навстречу! .. Да, мой род
оружия, Луи, это кавалерия!»
Я охотно слушал его речи, столько было в них
сильного и страстного чувства. К тому же я привык видеть
в этом мальчике прежде всего друга, а не горбуна, и
великолепие нарисованных им картин не тускнело для
меня, ибо мне не приходило в голову, что на боевом
коне его жалкая фигурка была бы нелепа. Поэтому я
слушал его жадно, не думая улыбаться. Подчиняясь
власти, какую имеют над нами пылкие и сильные
натуры, я мысленно становился солдатом моего генерала
и, выполнив по его приказу самые сложные маневры,
вместе с ним вступал в город, маршируя, то медленнее,
то быстрее под звуки дудок и бой барабанов. О
невинные годы детства! Чистые детские сердца, способные лю-
Путь за океан
321
бить, невзирая на телесные уродства и не отравленные
еще ядом насмешки!
Для меня склонности этого мальчика всегда были
убедительным доказательством различия, существующего,
как говорят, между двумя субстанциями, доставляющими
человека. Как! Уродливое и хилое тело.. . а в нем душа
рыцаря, способная опьяняться даже тенью побед и
славы! Несчастный, которого его малый рост вынуждает
держаться в тени, молчать и подавлять в себе все
восторги и все страсти. . . и душа, прекраснейшая из
прекрасных, полная чувств высоких и пылких, жаждущая
подвига! Это ли не разительный пример насильственного
сопряжения чуждых друг другу грубой земной оболочки
и заключенной в ней чистой души?
Впрочем, за подобными примерами можно и не
обращаться к горбунам. Оглянитесь вокруг! Сколько
некрасивых, грубо тесаных лиц, излучающих доброту и
нежность! Сколько хрупких тел, таящих в себе душу
твердую, как сталь! А сколько могучих костяков, в которых
скрыта душа вялая и трусливая! А если даже не
глядеть на других — кто не ощущает в себе самом
пришельца из иных краев, благородного изгнанника,
томящегося в стенах своей тесной темницы? Кто не
чувствует порой, что душа его живет своими скорбями и
радостями, волнуясь и трепеща от восторга, когда тело
погружено в дремоту, или напротив — что душа его
дремлет, пока тело предается любимым своим
наслаждениям?
Когда выходит на сцену кроткая и чистая
Дездемона, и Отелло нежен и доверчив, как она; когда змей
Яго подползает к этим созданиям, пока еще
безмятежно счастливым; когда затем в жилы Мавра
проникает яд, который воспаляет его кровь, заставляет свер-
21 Родольф Тёпфер
322
Путь за океан
кать глаза и будит в сердце демона мести. . . взгляните
тогда в зал, на всех этих людей, сидящих рядами и
замерших будто неживые; перед вами — телесные
оболочки, бездушные трупы. . . Безразличные к
назревающей драме, они лишь занимают скамью своею
недвижною массой; души отлетели от них; пылая и трепеща,
содрогаясь от ужаса или исходя жалостью, души
мечутся по сцене; призывают проклятия на Яго; кричат
Мавру, что он обманут злодеем; окружают, стремясь
защитить всей своей любовью и состраданием невинную
возлюбленную, над которой собралась гроза. Пока в зале
все недвижимы и словно оцепенели, в этом незримом
царстве все, напротив, полно бурным движением.
Вернусь однако к моему горбуну. Несчастному
мальчику было суждено, чтобы все надежды, для которых
сердце его раскрывалось с такой готовностью, исчезали
при первых же уроках жизненного опыта. Его
воинственные восторги длились недолго; подрастая, он
становился более чувствительным к насмешкам окружающих
и стыдливо подавлял все душевные порывы. Он с
горечью убедился, что кавалерия — отнюдь не его род
оружия. Но переломить свою натуру не так-то легко, и если
Анри (так звали моего товарища) уже не спешил на
смотры, желание отличиться и добиться признания
толпы не совсем его оставило. Оно лишь приняло иное
направление. Услышав однажды блестящую речь
адвоката, он тотчас увидел себя в этой роли, и надежда
прославиться на новом поприще умерила его сожаления
о воинской славе, которая раньше всего пленила его
детское воображение. Еще не выйдя из мальчишеских лет,
он принялся за учение со страстью, удивлявшей его
наставников; преисполненный сознания важности своих
будущих трудов и своего призвания, он видел себя за-
Путь за океан
323
щитником невинно осужденных и постоянно упражнялся
в сочинении защитительных речей, полных юношеской
пылкости. Отныне эти речи стали постоянной и
единственной темой наших бесед, главной целью наших
прогулок.
«Ты будешь обвиняемым, — говорил он, стоило нам
оказаться в каком-либо безлюдном месте. — В чем тебя
обвиняют, я тебе сейчас скажу. Садись! Здесь судьи, а
вон там — присяжные. А здесь находится публика
(публика была ему необходима). Слушай, как я начну речь!
«Господа судьи! — торжественно произносил он с
высоты какого-нибудь пригорка, в то время как я,
разлегшись на траве, снисходительно предоставлял ему
защищать меня. — Господа судьи! При виде несчастного,
очутившегося на этой позорной скамье вследствие
кровавых событий, я скорблю и трепещу за него. .. Дело
его правое, но достанет ли у меня сил, чтобы защитить
его? Мысль, что судьба, а быть может и сама жизнь
моего подзащитного зависит от того, как я сумею
воспользоваться словом, на несколько минут мне
предоставленным, наполняет меня трепетом. ..
— Здесь очень уж припекает, — прервал я его
однажды, подымаясь, чтобы перейти на другое место.
— Не двигайся! Иначе я не стану тебя
защищать!» — крикнул адвокат, рассердясь не на шутку.
«Изложу факты. Это я сделаю без малейшего
смягчения или замалчивания. Раскрытие истины — вот что
главное для дела моего подзащитного. Слушайте же меня и
вы, присяжные! Я призываю на помощь себе ваше
внимание, ваши познания и вашу совесть. Веря, что
убеждение в его невиновности, в котором я сейчас черпаю
мужество, скоро передастся и вам, я нетерпеливо жду
вашего решения.
21*
324
Путь за океан
Мой подзащитный Луи Депрэ (я фигурировал на
процессе под собственным моим именем) двенадцать лет
назад женился на Элеоноре Кэрсен, дочери адвоката,
часто выступавшего в этих стенах. Первые годы их союза
были счастливыми, и пятеро детей. . .»
Тут защитительная речь была прервана взрывами
хохота; то были наши товарищи, которые
прогуливались неподалеку и заметили нас.
Горбун спустился со своего возвышения. Туда
тотчас поднялся другой и принялся его передразнивать,
подчеркивая смешной контраст между возвышенной
речью оратора и его жалкой фигурой и угловатыми
жестами. Мой бедный друг, бледный и растерянный,
пытался улыбаться представлению, разрывавшему его
сердце; в эту минуту у него отнимали самую дорогую
его надежду. Слыша смех, он решил, что именно так
встретит его когда-нибудь толпа, у которой он хотел
добиться признания, и им овладело отчаяние. С этого
дня он уже не помышлял о карьере адвоката. Но ему
еще долго пришлось выносить насмешки и шутки,
допускаемые между товарищами, хотя эта фамильярность
слишком часто означает отсутствие самой обычной
чуткости.
Однако ни описанный случай, ни другие не сделали
его тем, чем часто бывают горбуны, которых народная
пословица наделяет особенно злобным нравом.
Постоянно преследуемые насмешками, они подхватывают
пущенные в них стрелы и оттачивают их с мстительной
злобой. Именно так, к сожалению, учатся они
подмечать больное место противника и без промаха наносить
чувствительные удары. Именно так горбуны из простого
народа, никем не защищенные и ничем не
сдерживаемые, приобретают те черты коварства, циничной и ед-
Путь за океан
325
кой насмешливости и завистливости, о которых говорит
пословица, умалчивая однако, что все это — лишь
законная оборона от жестоких и подлых нападок. Что же
касается Анри, то хотя он в школьные годы постоянно
подвергался насмешкам и издевательству, сердце его
не утратило благородства и доброты. Пряча свои раны
под видом безразличия или смирения, он не унижался
до того, чтобы подбирать брошенные в него камни, ибо
отплата злом за зло не принесла бы ему облегчения.
Он предпочитал, чтобы товарищи потешались над ним,
но уважали и быть может даже любили его, чем
опасались и сторонились. Благородство души отражалось на
его лице; красивые черты с выражением кроткой печали
заставляли забывать об уродливом теле, хоть и не
могли заслонить его.
После невеселого отрочества наступила для Анри
юность, также не сулившая ему ни одной из своих
радостей. Глаза его постепенно открылись. Он понял,
насколько ограничена сфера, где ему дозволено
действовать; он угадывал, какие жестокие уроки заготовила бы
ему жизнь, и не дожидаясь их, старался подавить в себе
стремление отличиться и все движения своей страстной
натуры. Это было мудро; однако, достигнув своей цели,
он обрек себя на существование еще более печальное.
Науки, познания — то, что прежде увлекало его —
становились ему безразличными, ибо теперь он видел в них,
вместо пути к общественному признанию, всего лишь
праздное занятие, пустое и бесплодное развлечение.
После нескольких лет прозябания, он смирился с тем,
что останется безвестным, и подчинился суровым, но
дальновидным требованиям родителей. Его определили
по торговой части. Сидя в конторе, этот юноша,
мечтавший посвятить свой ум и таланты бескорыстному слу-
326
Путь за океан
жению ближним, учился наживать деньги и
приумножать свое состояние.
Впереди, однако, было нечто худшее. Для Анри
наступил возраст, когда в сердце рождается стремление
более законное и более сильное, чем жажда славы и
почестей. Любить, быть любимым, познать счастье
взаимной любви и сердечного союза — таково веление
природы и неудержимое стремление всякого смертного.
Стремление это никому не дано обмануть, не извратив
его; нельзя также и подавить его, не обрекая себя на
долгие страдания, которые притупляются с возрастом,
но кончаются лишь вместе с жизнью. И, однако, именно
это грозит каждому калеке, то есть как раз тому, у кого
накопилась горечь и кто особенно нуждается в
сочувствии; кого вынужденное безбрачие предает мукам
вечного одиночества.
Вот почему калека более всех достоин нашего
сострадания и сердечного участия. Однажды некий
чужестранец осматривал местную мануфактуру. Ему указали
на одного из работавших, бывшего солдата, ставшего
ремесленником. Лицо этого человека было страшно
изуродовано глубокими шрамами. При виде его чужестранец
ужаснулся. «Скажите, он женат?» спросил он. Услыхав
утвердительный ответ, он сразу успокоился и прошел
дальше, говоря: «В таком случае прибережем наше со
страдание для других». Я присутствовал при этом, и
слова его надолго запали мне в память, показавшись
странными и жестокими. Сейчас я вижу как они были
справедливы и человечны.
Действительно, пылким и высоким душам свойственно
в возрасте возмужания переносить чувства,
побуждавшие их стремиться к признанию и почестям, на
избранницу, в чьей любви и уважении они ищут то, чего не
Пцтъ за океан
327
надеются обрести нигде более. Множество юных героев,
обманутых мечтою о славе, потерпевших крушение своих
надежд на бессмертие, приходят в тихую гавань
семейной жизни. Таких жалеть не следует. Познать любовь,
увидеть свое продолжение в детях, успокоить свою
старость у домашнего очага — не значит ли исполнить свое
назначение и, во всяком случае, получить свою долю
доагоценных благ, обещанных каждому? Но созерцать
эти блага вокруг себя, жаждать их всеми силами души
и никогда не достичь; жить среди юных девушек,
самый вид которых внушает неодолимую жажду
обладания, и сознавать, что ты навсегда лишен счастья
нравиться и быть любимым; быть для женщин чудовищем,
чьи признания оскорбительны или смешны. .. о! вот кто
заслуживает сострадания более чем последний из
несчастливцев. И можно понять, что упомянутый мною
чужестранец, который не расчувствовался и прошел дальше,
был человеком достойным, истинно гуманным и мудрым.
К счастью, ужас одиночества, ожидающий
несчастного, не предстает ему сразу и не кажется
неизбежным; вот почему он не разбивается в отчаянии о
жестокий и несправедливый приговор судьбы, но постепенно
сгибается под его бременем, неся его до конца своей
безрадостной жизни. Вступив в свет, мой друг, хотя и
наученный ранним опытом, не верил, что такое сердце, как
его, непременно будет отвергнуто, и что брак столь же
недоступен ему, как лавры адвоката или воина. Он еще
не расстался с иллюзиями, но помня о насмешках, был
с женщинами робок и старался нравиться лишь умною
беседой, не пытаясь пленять страстными чувствами,
переполнявшими его сердце. Поэтому он беспрестанно
попадал в ловушку. Его терпели, беседа его нравилась,
его даже поощряли, при условии, чтобы он знал свое
328
Путь за океан
место. Помнить об этом, не смея ни ожидать, ни
произнести слов любви, он мог лишь ценой неимоверных
усилий; а стоило ему обнаружить в своем поведении или
речах малейший знак нежности, как он навлекал на себя
жестокие унижения.
Я был в ту пору его наперсником и часто видел его
слезы. Я знал их причину, но не расспрашивал его,
чтобы не бередить раны, казавшиеся мне неисцелимыми;
да и самому ему неприятно было говорить об
унизительном источнике своих страданий, и он предоставлял
мне скорее догадываться о них, чем обсуждать. Бывало,
все же, что он говорил: «Моя любимая прекрасна, она
лучше всех. Но клянусь тебе, чтобы не остаться
одиноким, я готов искать любви последней из дурнушек, лишь
бы знать, что та, кто не нравится никому, может
полюбить меня!»
Я одобрял его скромные желания и, пользуясь
минутой уныния, старался погасить в нем зарождавшуюся
любовь к недоступной. Я говорил ему, и сам готов был
в это поверить, что если он ограничит свои стремления
и не станет искать в женщине внешних достоинств,
привлекательных, но недолговечных, он наверняка найдет
свое счастье.
Эти обидные утешения печалили его; однако он был
слишком умен, чтобы их отвергать, и научился не
обнаруживать свои чувства настолько, чтобы они могли
быть осмеяны.
Но если Анри удавалось избегать обид, чинимых
жестоким и насмешливым светом, тоска и отчаяние
настигали его иным путем, отнимая у него даже те блага,
какими он владел по праву. На своем поприще он быстро
добил.ся многого. Он уже был известен и уважаем.
Перед ним открылся путь к большому богатству, и он,
/7угь за океан
329
как никто другой, сумел бы облагородить звание
негоцианта своими высокими достоинствами и важными
заслугами перед обществом. Но по мере того как он
убеждался, что ему не суждено принести все эти блага в дар
своей избраннице, они теряли для него ценность, и
честолюбие в нем угасало. Вскоре он остановился на
пути, по которому продвигался столь успешно; свое
торговое дело он сократил до размеров, позволявших ему
зарабатывать на жизнь; затем, оборвав большую часть
своих знакомств, он перестал появляться в обществе и
замкнулся в полном одиночестве.
Один стройный случай характерен, как мне кажется,
для тогдашнего состояния души моего друга и
показывает, какие бури рождала в ней разъедавшая ее горечь.
Однажды во время нашей совместной прогулки
невдалеке от нас послышались звуки арфы и пение двух
женских голосов. Анри, на которого музыка неизменно
оказывала сильное действие, остановился послушать, а
затем увлек меня туда, откуда доносились эти голоса. То
был пустынный двор какого-то богатого дома. Там мы
увидели двух уличных певиц.
Они пели старинную балладу. В их облике и
поведении заметна была благопристойность. Одна из них, юная
и робкая, была видимо дочерью другой. Ее светлые
шелковистые волосы гладко обрамляли загорелый лоб,
длинные рыжеватые ресницы были скромно опущены,
а черты являли то поэтическое сочетание женственности
и дикой свободы, какое встречается лишь у женщин,
ведущих бродячую, полную приключений жизнь. Ее
юность, открытая дерзким взорам толпы, вызывала
сочувствие; грустно было созерцать это молодое
растение, цветущее вдали от родной почвы, не защищенное
ни от непогоды, ни от наглости прохожих.
330
Путь за океан
Но что для всякого другого было бы лишь
мимолетным впечатлением, способно глубоко взволновать
больную душу. Стоя неподвижно рядом со мной, мой друг
смотрел на девушку с нежной жалостью. При звуках
нехитрой, но трогательной мелодии лицо его выразило
волнение, а на глаза навернулись слезы. Он казался
всецело во власти того неизъяснимого восторга, какой
вызывает в нас пение, исполненное чувства, и в сердце его
рождалась благодарность к девушке, доставляющей ему
эту недолгую, но живую радость. Так как следствием
подобных волнений обычно бывало у него еще более
глубокое уныние, я хотел увести его и таким образом
положить этому конец. Он не удерживал меня, но сам
не уходил. Окончив свою балладу, женщины спели еще
одну. Девушка, краснея, подошла к нам за подаянием;
затем они ушли, чтобы возобновить пение в другом
месте. Мы следовали за ними до самого вечера.
Направляясь домой, Анри долго оставался молчалив
и задумчив. «Кто спасет этих женщин? — вырвалось
наконец у него. — Кто избавит их от презренного и
тяжкого ремесла? Кто даст этой девушке положение,
которого она несомненно достойна? Нет, — продолжал он, —
эта способность краснеть, этот робкий взгляд и
чистый лоб могут принадлежать лишь невинному
созданию».
Говоря так, Анри внимательно смотрел на меня,
точно желая видеть действие своих слов. Неуверенный
в том, какой смысл следовало в них вложить, я молчал.
«Я, — продолжал он взволнованно,— Я хотел бы дать
ей достойное ее положение! .. Но она меня отвергнет,
а ты не решаешься сказать мне это!»
Тут голос его прервался, а на глаза выступили слезы.
«Анри, — сказал я, — опомнись! Я был далек от того,
Путь за океан
331
чтобы так понять тебя. Я верю, что это порядочные
женщины, но возможно ли, чтобы мнение света простило
тебе подобный брак? . .»
Эти слова привели его в ярость и отчаяние. «Мнение
света! — вскричал он, побледнев. — Это я-то должен
с ним считаться? Почему? Чем я ему обязан? .. Мнение
света? Я презираю его, я бросаю ему вызов. .. Я не
хочу страдать и гибнуть из-за него, слышишь, Луи? . .
Мнение света! Дай бог, чтобы оно оказалось
единственною помехой! .. Скажи-ка уж лучше правду. Скажи, что
даже девушка, которую я подобрал бы на улице, и та
чересчур хороша для меня. .. Скажи, что я обречен
жить и умереть одиноким и несчастным, и что даже ты,
мой друг, выносишь мне этот приговор. ..»
Он не в силах был продолжать; речь его прервалась
рыданиями.
Так окончился этот разговор; о женщинах больше
не упоминалось, и Анри снова впал в мрачное уныние.
С этого дня встречи маши стали более редкими,
беседы — менее откровенными. Мои слова, а еще более —
мое молчание он счел жестокими: увидев, что в моей
дружбе к нему я не слеп, он охладел ко мне. Несколько
месяцев спустя, не сообщив об этом мне, он посватался
к некоей девице, не обладавшей ни красотою, ни
богатством. Получив отказ, он привел в порядок свои дела,
не делая из этого тайны, но и не посвящая никого
в дальнейшие свои намерения, и вскоре мы услышали,
что он уехал. О его отъезде ходили различные слухи, но
даже я ничего не знал о судьбе моего друга, пока
наконец, после семи лет молчания, я не получил письмо,
которое сейчас прочтет мой.читатель и которое побудило
меня написать все предшествующие страницы.
332
Путь за океан
«Помнишь ли ты, Луи, бедного горбуна, которого
ты любил, утешал и поддерживал? Сейчас он женат,
имеет детей и счастлив как. . , как не был никогда
счастлив ни один человек без горба. И вот он тебе пишет.
Несчастье ожесточает и ослепляет нас. Когда я
уезжал, я ненавидел себя, а тебя разлюбил. Сейчас я
со слезами виню себя за то, что не ценил твоей долгой и
терпеливой дружбы, и мое сердце не прощает себе этой
неблагодарности.
У меня есть подруга, Луи! Счастье, о котором я
столько мечтал, я вкушаю во всей полноте. Господь
извлек меня из пропасти, куда меня ввергло отчаяние,
и возвысил до положения супруга и отца, и это счастье
ни в чем не обмануло моих ожиданий. Подле нас
подрастают трое детей, один вид которых наполняет мое
сердце радостью и заставляет боготворить ту, которая
мне их подарила. Скажи вашим девушкам, Луи, чтобы
выходили замуж за горбунов. Поверь, что горбун
окажется самым преданным, пусть не самым красивым из
мужей. Для него жена есть нечто гораздо большее, чем
женщина; она — провидение, которое его спасло; он не
полагает себя равным ей; он — ее благодарное создание.
Никогда не забудет он, что гтодарив ему любовь, на
которую он не мог притязать, она вернула отверженному
небесное блаженство, и всего сердца его недостаточно,
чтобы отплатить ей.
Уезжая, я не сообщил тебе своих планов. Дело в том,
дорогой друг, что у меня их и не было. Я лишь хотел
бежать из краев, где столько выстрадал, и бежать как
можно дальше. Вот почему, очутившись в Париже, я
охотно принял предложение ехать в Америку для
завершения одного крупного дела, и несколько дней спустя
уже плыл посреди океана»
Путь за океан
333
Наш корабль вез множество пассажиров. Среди них
я заметил молодого человека лет двадцати пяти, сразу
возбудившего мое сочувствие своим серьезным и
печальным видом. Я подошел к нему, и мы разговорились. Он
страдал каким-то тяжким недугом, перенося страдания
спокойно и мужественно. Во время нашего долгого и
трудного переезда состояние его ухудшилось, и мы были уже
в виду земли, когда стало ясно, что он едва ли
достигнет ее живым. Молодая жена не отходила от него. Глядя
на нежную заботу, какою она его окружала, я завидовал
умирающему и готов был отдать все остававшиеся у меня
блага и надежды за счастье умереть на руках этого
сшгела.
Умирающий был молодой пастор, полный веры и
самоотвержения. Он направлялся в отдаленную местность
Запада, чтобы служить в только что основанной церкви.
Туда звал его брат, уже несколько лет там
проживавший. Все это он поведал мне сам. «Но я сомневаюсь,—
добавил он однажды, когда жена не могла его
слышать, — что доберусь туда. И одного прошу у господа,
раз он призывает меня к себе: чтобы мне успеть
поручить мою жену заботам моего брата. . .» Волнение
помешало ему продолжать; чтобы побороть его, он стал
молиться, и слова его молитвы были так просты и
трогательны, что я не удивился переходу от беседы к
молитве. Он был еще жив, когда мы причалили к берегу.
Несчастные были так одиноки и так нуждались во мне,
что, помогая им, я забывал о собственных горестях.
Сообразно их положению, которое требовало самой
строгой экономии, я выбрал наиболее скромную из гостиниц
и сам поселился рядом с ними. Покой, а главное
хороший врач несколько задержали развитие болезни, не
оставляя, однако, несчастному надежды на выздоровле-
334 Путь за океан
ние. Я сменял жену больного у его изголовья и всякий
раз, оставаясь с ним наедине, успокаивал его тревогу
о судьбе его юной подруги. Я обещал, что отвезу ее
к его брату, как только покончу с делом, приведшим
меня в Нью-Йорк, а если она не решится там остаться,
увезу обратно в Европу, к ее собственной родне. Эти
уверения его успокаивали. Теперь он старался лишь
подготовить свою супругу к предстоящей разлуке;
поддерживаемый до последней минуты твердой верою, он через
несколько недель мирно угас.
Таким образом я остался покровителем вдовы. В
глазах общества положение наше было двусмысленным, хотя,
для нас оно было совершенно ясным; ибо Дженни (так
зовут эту молодую даму) знала от мужа о моих
обещаниях и о том, что он всецело на них полагался. Я
виделся с нею ежедневно, и тебе достаточно известно
тогдашнее состояние моей души, чтобы самому
догадаться о чувствах, которые должны были во мне
возникнуть; но я, как и прежде, не позволял себе
выразить их; ограничиваясь исполнением принятых на себя
обязанностей, я почитал за счастье оказывать услуги
той, кого втайне обожал.
Так прожили мы год, с месяца на месяц откладывая
наш отъезд до завершения моих дел; наконец мы
предприняли путешествие более чем в девятьсот миль
в глухие леса Запада. Тронутая моими заботами,
Дженни часто выражала мне живую признательность.
Мы беседовали о ее будущем, о ее родных, о местах,
которыми проезжали, и между нами возникла близость, не
омраченная для нее душевной борьбой. С невинностью и
простодушием Дженни сочетала развитой ум, поэтому
беседы с нею были достаточно интересными, чтобы я на
рремя забывал подле нее ужасную мысль, что никогда
Путь за океан
335
ничем для нее не стану. Однако она угадывала, что меня
терзает некая тайная мука, и судя по стараниям, с
какими она избегала некоторых тем, я видел, что она
начинала меня понимать.
Брат ее мужа жил в одном из многочисленных
городков, возникающих на границах девственных лесов и
скоро остающихся в тылу у отважных пионеров 1,
которые непрерывно наступают на эти леса. Нас немедленно
окружили жители этого живописного поселения; указав
нам нужный дом, они тут же сообщили, что хозяина мы
там не застанем: недуг, который сразил его брата,
месяца за два до нашего приезда унес и его. Свое
имущество он завещал мужу Дженни, но в случае смерти
последнего оно переходило к другому брату, жившему
в Европе, и молодая женщина оказывалась таким
образом без всяких средств.
Это известие сломило мужество Дженни; она увидела
себя покинутой небом и людьми в дальнем чужом краю
и в порыве отчаяния кинулась мне на грудь, заливаясь
слезами. Это движение молодой женщины, казалось
умолявшей меня о покровительстве, как единственного
оставшегося у нее на земле друга, привело меня в
самое сильное смятение, какое я когда-либо испытывал.. .
От радости я не мог заговорить и едва дышал; луч
надежды, проникнув в мое сердце, вызвал в нем целую
бурю чувств, но прежде всего — безумный восторг.
В этот миг, Луи, во мне совершилась перемена;
рушилась некая непреодолимая преграда; я словно
освободился от оков страха и стыда, в которых столько лет
томилось мое сердце. Когда мы несколько успокоились, я
осмелился открыть Дженни мои чувства и предложил
соединить наши судьбы, как только упрочится наше
шаткое положение. Она выслушала меня растроганно, но без
336
Пцтъ за океан
удивления; убежденная, что предложение мое подсказано
истинной любовью, а не одним лишь сочувствием к ее
бедствиям, она сказала мне просто: «Да, я стану вашей
женой, господин Анри, и постараюсь быть вам
достойной подругой. Таково желание моего сердца, которое я
вам с радостью вручаю».
С той минуты, дорогой друг, началось для меня
безоблачное счастье. Я благословляю провидение,
неисповедимыми путями приведшее меня, словно за руку,
к единственному благу, какого я жаждал, и притом
тогда, когда я уже полагал его навеки недостижимым.
Такова благость небес; ныне в моем сердце безраздельно
царят любовь, признательность и радость, и счастье мое
умножается при воспоминаниях об испытанных муках.
У Дженни не было ни отца, ни матери; в Европе
у нее оставался лишь дядя, обремененный собственной
семьей. Таким образом она вернулась бы туда более
по необходимости, нежели по зову сердца. Что до меня,
то я думал о возвращении с величайшей неохотой. Меня
прельщала мысль остаться в новом краю, где для меня
начались счастливые дни. Местность, где мы оказались,
едва тронутая рукою человека, безмолвная и дикая, но
уже кое-где оживленная движением зарождавшейся
цивилизации, была великолепна. Мне хотелось участвовать
в этом движении; хотелось жить простой жизнью, где
семейные узы, которые у вас ослаблены современными
нравами и суетными светскими развлечениями,
становятся теснее и крепче и приносят всю полноту счастья,
какое в них заключено. Я сообщил о своих желаниях
Дженни, которая тотчас же их разделила. Оставалось
привести наши планы в исполнение. Я объявил, что
хотел бы приобрести дом и усадьбу умершего
родственника Дженни; цена оказалась сходной; сумму, положен-
Путь за океан
337
ную мною в банк, переслали впоследствии его
наследникам.
Такова моя история, дорогой мой Луи; остальное
тебе легко будет вообразить. Я участвую в основании
городов, распахиваю целину, словом я стал одним чз тех
неутомимых муравьев, которыг хлопочут, вырусаю'- лес,
перетаскивают тяжести и своим незаметным, но
неустанным трудом преобразуют огромный материк. Я
избираю, голосую, у меня множество политических прав,
и это, при моей натуре и склонностях—единственное,
что тяготит меня в здешней замечательной стране. Но
это еще невелика беда. После того, как я весь день
шумел, избирал и голосовал, я возвращаюсь к моей Дженни,
к моим малышам и нахожу отличным, превосходным
политическое устройство страны, где у меня жена и трое
детей.
В нашей колонии еще три горбуна; поздравь меня
с тем, что я не одинок, но не жалей их, Луи! Горбы
не слишком их отягощают, как теперь и меня, хотя двое
из них еще не женаты. Но они найдут себе жен, когда
захотят. Здесь их не могут найти одни лишь нищие,
иначе говоря — лентяи. Брак не является здесь
завершением нежных чувств или бурной страсти; это просто
устройство жизни; надо лишь объединить свой труд
с трудом подруги и ежегодно иметь ребенка.
Обеспеченный и работящий мужчина, умелый в делах и
здоровый, при самой неприглядной наружности может
выбирать среди красивейших из здешних девушек, и его
предпочтут красавцу, если тот не умеет ни заключить
сделку, ни обработать участок, ни найти себе выгодное
занятие. Если бы я, с моими деловыми способностями,
родился в здешних краях, я был бы лучшей партией и
избежал многих страданий. Но я не ропщу на судьбу.
22 Родольф Тёпфер
338
Пцтъ за океан
Если я много страдал, то тем склы-iee радуюсь сейчас
своему счастью. Иначе я был бы одним из тех
счастливчиков, чье счастье скорее радует меня, чем вызывает
зависть, и не изведал бы ни одного из чувств,
составляющих прелесть моего нынешнего существования.
Посылайте же сюда ваших горбунов; мы сыщем для
них жен. Да, кстати: до чего жалкое пугало — это
мнение света, которым ты меня когда-то стращал! В
здешней стране горбун пролагает себе дорогу без всяких
препятствий, если он хоть сколько-нибудь
предприимчив, честен и знает свое дело. Он становится мужем,
отцом, судьей, президентом, кем угодно. Зато в этой же
самой стране, фанатически гордящейся своей
демократией, человек красивый, отважный, честный, но
чернокожий; добрый, щедрый и приветливый, но мулат;
трудолюбивый, умелый, деятельный и предприимчивый, но
квартерон; такой человек отмечен несмываемым клеймом;
отверженный, презираемый, он навсегда лишен права
иметь какие-либо дружеские или семейные связи с
белыми людьми; ему не дано жениться на их дочерях, он
не смеет садиться там, где сидят они; в городах, в
театрах и в церквах ему отведено особое место. . . А
здешнее общественное мнение — свободное, республиканское,
гордое своими принципами демократии и равенства, —
находит это справедливым и естественным! Что за
безумие, что за варварство, какая непоследовательность и
какая бессмысленная жестокость! В европейском
обществе подобная жестокость по отношению к несчастным
вроде меня по крайней мере направлена на явные и
отталкивающие уродства! Те, кто проявляет эту
жестокость, хотя бы не называют себя великодушными и
человеколюбигыми; терзая свои жертвы, они не похва-
Пцтъ за океан
339
ляются при этом своей гуманностью, не гордятся своим
милосердием!
Но оставим эту печальную тему; я мог бы найти
предметы более отрадные, если бы не пора было
кончать это длинное письмо. Как нехватает мне друга,
подобного тебе, Луи, здесь, где столько захватывающих
зрелищ; где молодой народ выковывает себе новую
судьбу; где общество рождается на глазах; где столько
проблем, столетиями обсуждаемых вашими мыслителями,
ежедневно подвергается на здешней девственной почве,
у нации, каких еще не бывало, проверке опытом и прак
тикой; где каждая идея рождает факт, который делает
ее осязаемой и дает мыслящему человеку пищу для
живого размышления, столь привлекательного для
любознательного ума! А если бы мы с тобой, как мы любили
это делать прежде, еышли побродить в окрестностях
города, сколько удивительного предстало бы нам здесь, где
природа царит самодержавно с самого сотворения мира;
где под величавыми, таинственными и безмолвными
зелеными сводами взору являются бесчисленные чудеса;
где мысль наша возвышается и очищается, где слабый
и бренный человек, узрев могущество предвечного в его
творениях, с благоговейным трепетом стремится под по
кров его милосердия! О друг мой! Если таковы мои
чувства в часы одиноких прогулок в этих просторах, на
сколько сильнее они были бы, если б я мог разделить
их с тобой! Окружающие меня люди не ощущают ни
чего подобного: их предприимчивость лишена вообра
жения; их вера лишена поэзии; эти чистокровные янки
в самых возвышенных предметах видят лишь
возможность извлечь выгоду, а в столь милых нам прелестях
созерцания — наиболее верный способ смертельно
соскучиться. Вот отчего, вспоминая прошлое, я сожалею лишь
22*
340
Путь за океан
о счастье ежедневного общения с тобой. Я давно
позабыл о кавалерии; ближе узнав адвокатов, я получил
отвращение к адвокатуре; и лишь смутно помню
девушку, к которой испытывал некогда столь сильное
чувство. Но покуда я жив, я не перестану сожалеть, что
судьба разлучила меня с тобой, и если я когда-нибудь
совершу путешествие в Европу, то единственно ради
тебя, тебя, дорогой мой друг».
Большой Сен-Бернар
Мы сидели в странноприимном монастыре на
Большом Сен-Бернарском перевале, в обществе настоятеля 1
и грели ноги у камина. Рассказав нам уже немало в
ответ на наши вопросы, настоятель сказал: «И все же,
господа, наш Сен-Бернар, хоть и знаменит, но мало
известен. . .
— И я скажу вам, почему, достопочтенный отец, —
прервал его толстый господин, сидевший справа от огня и
до того не принимавший участия в беседе, — о нем мало
известно именно потому, что он слишком часто
описывается. С вашей знаменитой горой обстоит так же, как
со многими современными писателями, которых мы,
читающая публика, знаем по фельетонам, биографиям и
эстампам. Фельетоны острят, биографии лгут, а
портреты льстят. Все вместе лживо как надгробные
надписи».
Господин умолк; но я, тоже принадлежащий к
читающей публике, и имеющий, как положено публике,
свое мнение, был задет его резкими словами.
«Позвольте, — сказал я, — надгробные надписи. . .»
Он не дал мне договорить: «Надгробные надписи! уж
не собираетесь ли вы взять их под защиту? Тогда я
вас пошлю. . . (тут я дрогнул и должно быть гневно
сверкнул глазами)... прогуляться на часок по
кладбищу Пер-Лашез. Не станете же вы отрицать, что там
погребено хотя бы несколько чертей. А надписи
возвещают об одних только ангелах.
342
Большой Сен-Бернар
— Возможно, — сказал я. — Ио понятно, что близкие
в избытке горя. ..»
Он снова прервал меня: «Вы молоды, сударь, очень
молоды, Вам еще предстоит узнать, что не горе, но
одно лишь стремление блеснуть, тщеславие и радость
подсказывают и оплачивают всю эту ложь».
Я запротестовал: «Тщеславие, может быть, но
радость, сударь, на кладбище, на могиле! ..
— Да, сударь, радость, даже, если хотите,
ликование, тайное и неудержимое ликование в ожидании
богатого наследства. .. Естественное, впрочем, чувство, не
имеющее ничего общего с горем, побуждает людей чем-
то воздать за благодеяние — вот и готова надгробная
надпись. Способ наиболее удобный, наиболее дешевый,
а потому и наиболее древний. Работай, резчик, работай
на совесть, без устали, побольше подбавь
добродетелей покойному, вырази нашу.. . да, именно нашу
глубокую признательность, наше полное удовлетворение, наше
ликование, тем более бурное, что сейчас не время его
обнаруживать. . .
— Бывают, конечно, подобные чудовища, — сказал я,
негодуя, — однако. ..
— Возьмите это слово обратно, молодой человек.
Приберегите его для чувств более гнусных. Мелкие
чувства, свойственные людям, было бы несправедливо
называть чудовищными. Я говорю о делах обычных, об
эгоизме, некрасивом, конечно, но естественном, о лицемерии,
которое все же пристойнее и честнее иных видов
лицемерия. Я говорю о том, на что способны чудовища вроде
нас с вами. Я хочу сказать, что те же чудовища, когда
они горюют искренне, не зоздвигают гробниц и не
делают надписей. Горе питается самим собою, оно робко
и стыдливо, ему тягостна даже траурная одежда, пред-
Большой Сен-Бернар 343
писываемая обычаем, ибо она привлекает взгляды. Горе
оплакивает всего человека, оправдыпает его недостатки,
с любовью вспоминает его достоинства и чтит их
горькими вздохами и невидимыми слезами. Глубокое и
искреннее горе, сударь, не выставляет себя напоказ и
не позволяет за собой подглядывать. И если я,
неблагодарный сын, хочу, чтобы в мое горе поверили, я не
воздвигну мраморного монумента на могиле матери!. .»
Господин, говоривший так, не понравился мне. Не
понравился мне и настоятель, видимо разделявший
мнение, казавшееся мне чересчур суровым по выражению,
а по смыслу — неверным и парадоксальным. Чтобы не
спорить и переменить тему, я сказал: «Оставим
надгробные надписи. Мы говорили об описаниях, биографиях и
портретах писателей. . .»
— Всему этому я верю не больше, чем надгробным
надписям. Это впрочем не означает, что не верю совсем.
Итак, послушайте! Черти на кладбище Пер-Лашез могли
быть в сущности неплохими малыми; хоть что-нибудь
хорошее в них наверняка было. Надпись, быть может,
столько же лжет, умалчивая об их действительных
достоинствах, сколько приписывая им иные. . . То же и
с портретами наших знаменитостей. Некоторое сходство
есть; но и тут лживое приукрашивание и неполная
правда. Вместо лица человека нам показывают лик
бессмертного. Вместо щуплого Фенелона 2 в непомерно
большом парике, — великолепную загримированную маску
с пышной прической, в назидание публике и потомству.
Прежде публике предлагалось увидеть за невзрачной
внешностью душу, выразившую себя в творениях;
теперь мы должны отыскивать в тБорстшях все то
вдохновенное, оригинальное, интимное и гуманное, что напи*
сано ка физиономии автора. Все та же надгроС^эя
344
Большой Сен-Бернар
надпи ;ь, сударь! На всех этих масках,
литографированных, гравированных клл писанных маслом, я вижу
крупные надписи: «Вот величайший из поэтов!», «Вот самый
возвышенный из лириков!», «Этот изнурен
размышлениями, тот исхудал от глубокомыслия, а того раздуло
от гениальности!» Все это — надгробные надписи,
сударь! Но вернемся к Сен-Бернару. . .»
В это время внизу у входа в монастырь послышался
шум и лай собак, заглушивший голос нашего толстяка.
«Это к нам», — сказал настоятель и пошел встретить
вновь прибывших. Мы с толстяком остались одни;
позабыв о надписях, каждый из нас строил предположения
относительно происходившего. Спустя несколько минут
в залу вошел некий господин.
Это был турист на вид лет тридцати, весьма хорошо
одетый и очень общительный. «Мое почтение, господа».
Он сел, а мы подвинулись, давая ему место. «Извините,
но очень уж приятно подсесть поближе к огню, когда
тебя едва не поглотила лавина.
— Вы говорите лавина? — переспросил толстяк.
— В это время года? — добавил я.
— Да еще какая, поверьте! Не меньше чем в
четверть лье».
Этого я нчкак не мог понять. Дело было в конце
июля, когда окрестные вершины совершенно свободны от
снега — а *сли нет снега, откуда же взяться лавине? Не
решаясь однако противоречить, я ограничился тем, что
попросил пришедшего рассказать о своем приключении.
«Охотно, — сказал он. — В шесть часов мы
отправились из харчевни. (Это последнее жилое здание со
стороны Валлиса, на пути к монастырю.) Впереди меня
двигались путники. Это они пришли сейчас сюда. Двое
мужчин и молодая девица. Очень хороша собой, черт
Большой Сен-Бернар 345
возьми, но увы! в чахотке. Они везут ее на зиму
в Италию. Один — ее отец, второй — жених, этакий
невозмутимый рослый мужлан, расторопный как каменное
изваяние. Швейцарцы — они все таковы. Когда мы
добрались до лавины. . .»
Тут я попытался прервать его: «Позвольте, сударь,
обычно лавина сама до вас добирается.
— Погодите! Когда мы добрались до лавины, я
увидел, что мул барышни погрузился в снег по самое
брюхо и ему никак не выбраться, а все из-за
проводника. Совершенно не умеет справляться с животными.
Тут я подхожу, отстраняю этого болвана, беру мула
под уздцы, и видели бы вы, как он у меня пошел! . .
Но барышня пугается, отец сердится, жених кричит, мул,
разумеется, начинает брыкаться, а проводник не дает
мне хорошенько отхлестать его. «К черту! — говорю я
тогда. — Забирайте вашего мула!» И кидаю ему
поводья. Дураку не удается их поймать, я даю ему
тумака, мул падает, а барышня скатывается в глубь
лавины. . .
— Но позвольте, — снова прервал я, — обычно лавина
сама скатывается на барышню. . .
— Да погодите же! Оба труса принимаются вопить,
проводник ругается, барышня зовет на помощь. Я
посылаю их ко всем чертям и, не видя ни собак, ни
монахов — спасателей, сам кидаюсь в лавину, прямо к
барышне, и с помощью проводника вытаскиваю ее на
дорогу, целую и невредимую. Вот как было дело», —
закончил наш турист. Тут он закашлялся. «В лавине
недолго и простудиться. Доброй ночи, господа! Пойду
выпью горячего, да и в постель».
Он вышел, не дав нам времени рассеять его странное
заблуждение относительно лавин.
346
Большой Ссн-Бернпр
Известно, что лавина — это снежный ком,
сорвавшийся с вершины, который обрастает снегом, скатываясь
по склонам, и быстро превращается в огромную массу,
сокрушающую все на своем пути. Лавина может
образоваться всюду, где снег лежит на крутых склонах; но
обычно-существуют места, где лавины возникают
ежегодно, вследствие постоянных благоприятствующих им
условий. Путешествуя в Альпах летом, мы легко узнаем
такие места. Это — широкие склоны, с которых сметены
все деревья и камни, а внизу веками скапливаются и
громоздятся друг на друга их обломки, постепенно
зарастающие зеленью. В высокогорных долинах, где лето
длится недолго, снега, скопившиеся за зиму у подножья
таких склонов, не успевают растаять, и местным
жителям случается называть лавиной подобные остатки
настоящих лавин. Отсюда и ошибка нашего туриста.
Оказавшись в этих местах впервые и будучи начинен
сведениями из путеводителей, он поспешил убедить себя,
что со славою вышел из столкновения с грозным бичом
Высоких Альп.
Я попытался бы разубедить его, если б он дал мне
на это время, хотя разубедить человека, когда он твердо
уверовал в нечто для него лестное — задача трудная и
неблагодарная. Когда мой кузен Эрнест дрался на
дуэли, мы, его честные секунданты и заботливые
родственники, зарядили пистолеты порохом. Противник
прицелился, Эрнест выстрелил в воздух. Все мы
отправились завтракать, и честь была спасена. Однако,
рассказывая об этом, кузен Эрнест уверяет, будто пуля
пролетела над самым его ухом. Он изображает, как она
просвистела; тетушка Сара дрожит, дрожат и все
гости, a iwLi. . мы. честные секунданты и заботливые
родственники, вынуждены дрожать вместе с гостями и те-
Большой Сен-Бернар 347
тушкой. Неужели стали бы мы дрожать, если бы
разубедить кузена не было делом трудным и неблагодарным?
Едва турист покинул нас, как в залу вошли двое;
как я предположил, это были отец и жених. Они сели
за стол и видимо приготовились сытно поужинать. Их
аппетит шокировал меня, их спокойствие меня
покоробило. Старший из них показался мне чересчур
невозмутимым для отца, чья дочь, к тому же больная, провела
полчаса в снегу, а что касается жениха, то каждый
кусок, который он отправлял себе в рот, возмущал меня
как оскорбление, наносимое страждущей красоте. Помню
даже, что по примеру туриста я сделал из этого зрелища
выводы, весьма неблагоприятные для чувствительности
швейцарцев.
Пока я был занят этими умозаключениями, в зал>
вошел слуга с чайным подносом, а вслед за ним и сама
барышня. Это была именно она, ибо отец встал и
поцеловал ее в лоб, выразив радость по поводу того, что
она так быстро оправилась, а неотесанный жених, вместо
того, чтобы придти в экстаз или в прочувствованных
выражениях излить свою любовь и нежность, сказал с
самым вульгарным спокойствием, продолжая жевать:
«Садись, Луиза, и выпей чаю, пока горячий». Нет, то не
было страстное «ты» Сен-Пре, обращенное к Юлии 3; эта
спокойная фамильярность показалась мне кощунственной.
Барышня действительно была очень хороша собой,
а опасность, которой она подверглась, наделяла ее
в моих глазах еще большей прелестью. Однако я не
видел в ней ни стыдливого смущения невесты в обществе
двух мужчин, ни той трогательной меланхолии, какую
ожидаешь от девицы хрупкого здоровья. Но особенно
озадачило меня то, что вместо печали и уныния,
которые я искал на ее лице, было видно, что ее разбирает
348
Большой Сен-Бернар
смех, едва умеряемый нашим присутствием. Смех ее
передайся сперва жениху, потом отцу, который, не в силах
сдерживаться, обратился к нам: «Простите, господа, наш
смех, конечно, кажется вам неуместным, но утерпеть
невозможно. Вы уж нас извините».
Тут все трое, уже не стесняясь, залились хохотом,
а мы глядели на них с крайним изумлением.
Я счел нужным удалиться, и уже приготовился
к. этому, сожалея, что принял столь близко к сердцу
дела людей, которые были в сущности вполне довольны;
но тут отец сказал мне: «Я хочу объяснить вам, сударь,
причину нашей веселости, которая должна казаться вам
странной. Дело в том, что господин. . .
— Тот; что сейчас вышел отсюда?
— Он самый. Весьма услужлив, но крайне опасен.
Мы видим его впервые, но он вообразил, будто там
на снегу нам угрожала гибель от лавины.
Самоотверженно и с огромным апломбом он оттолкнул нашего
проводника, отхлестал нашего мула и сбросил мою дочь
в овраг. . .»
Рассказ его был прерван смехом. Чем сильнее была
пережитая тревога, тем очевиднее была для
путешественников забавная сторона их приключения. Я вскоре
разделил их веселость и еще больше рассмешил их,
сообщив, что воображению туриста барышня предстала
чахоточной, а ее брат — женихом, возмутившим его своей про-
заической бесчувственностью.
Толстяк, все еще сидевший у камина, слушал нашу
беседу, но не участвовал в ней и не смеялся вместе
с нами. Наконец он поднялся, видимо направляясь к себе
в комнату. «Глупец, — сказал он, — и наверняка мой
соотечественник. Только у них сочетаются в такой
степени легкомыслие и самоуверенность, апломб и невеже-
Большой Сен-Бернар
349
ство. Скорее чем усомниться в себе, он готов бросить
в снег, принятый им за лавину, цветущую барышню,
которую считает чахоточной. . . Господа, желаю вам
спокойной ночи».
Толстяк взял свечу и удалился. То же самое вскоре
сделали и мы.
В Сен-Бернарском монастыре путешественникам
отводятся маленькие кельи, отделенные одна от другой
дощатыми перегородками. Когда я погасил свечу, я
заметил свет, проникавший сквозь щели в перегородке. В
подобных обстоятельствах редко бывает, чтобы нескромное,
но весьма живое любопытство не побудило нас заглянуть
в самую широкую щель. Именно так я и поступил,
приняв все меры предосторожности, чтобы не выдать себя
ни единым звуком. С большим удивлением и пожалуй
с некоторым разочарованием я увидел, что наш турист
сидит в постели, тепло укутав грудь и голову и, держа
перо в руке, что-то сочиняет. Подле кровати подымался
пар от чайника и стоял графинчик с вишневой
настойкой. По временам он перечитывал и правил написанное;
при этом на лице его рисовались все оттенки
удовлетворения, от довольной улыбки до восторга. Однажды он
не удержался от желания насладиться звучанием своих
фраз; в пассаже, который он прочел вслух, я различил
только, что речь шла о сторожевых собаках, о фиалках
и о девушке по имени Эмма. Я заключил, что наш
турист — писатель, быть может даже путешественник
школы Александра Дюма, и сейчас записывает свои
впечатления о драматических событиях минувшего дня.
Тут я оставил его за этим занятием и уснул.
Утром за завтраком я узнал, что турист отбыл с час
назад. Толстяк, со своей стороны, готовился ехать
в Мартиньи. Я же присоединился к трем путешествен-
350
Большой Сен-Бернар
никам, с которыми накануне столь весело познакомился,
чтобы вместе спуститься в Аосту 4. Эти
путешественники, в одном из которых турист с первого взгляда
угадал флегматичного швейцарца, оказались родом из Шам-
бери 5. Они направлялись в Иврею 6 праздновать свадьбу
молодой девицы, давно обещанной отцом ее,
трактирщиком в Шамбери, сыну некоего пьемонтца, трактирщика
в Иврее. Заодно папаша рассчитывал запастись вином
и рисом, а покончив с делами, вернуться в Савойю
через Малый Сен-Бернар. Все это он объяснил мне по
дороге, с веселым добродушием, присущим савоярам;
так как я проявил интерес к его рассказам, он
пригласил меня на свадьбу; дочь тоже приветливо попросила
меня оказать им эту честь. Я не отказывался, но и не
решался принять приглашение, ибо вот что во мне
происходило.
Еще накануне молодая особа произвела на меня
сильное впечатление, а теперь я начинал в нее влюбляться;
это может показаться слишком скоропалительным. Но
не говоря уж о том, что в путешествии наше сердце
становится смелее, свободнее и быстрее воспламеняется, оно
всегда легко поддается новому для него очарованию. Эта
девушка, воспитанная монахинями Сакре-Кёр7, всего за
несколько недель до того вышла из монастыря;
неопытная, едва вступившая в жизнь, она пленяла наивностью,
какой-то расцветающей радостью и ничем еще не
омраченной надеждой на счастье. Грациозно сидя на своем
муле, который, следуя инстинкту этих животных, шел
по внешнему краю дороги, она беспечно склонялась над
пропастью, и это спокойствие было у нее не отвагой, но
беззаботной доверчивостью. Когда беседа переходила
от сортов риса или цен на вина к предметам более для
нее интересным, она принимала в ней участие то весе-
Большой Сен-Бернар
351
лыми шутками, то серьезными и разумными
замечаниями. Раз или два мы заговорили о ее женихе; она
видела его всего один раз и говорила о нем без
смущения и без волнения, хотя не воображала себе брак иначе
как вечный восхитительный праздник. Милое дитя!
Глядя на нее, я представлял себе ее будущее; я
угадывал, какие разочарования ожидали ее в семейном
счастье — даже если оно ей суждено — и желал быть тем,
кто уберег бы ее от них неизменной нежностью и той
осторожностью, какую подсказывает чувствительное и
влюбленное сердце. Поскольку эта роль
предназначалась не мне, я не хотел питать чувство, которое
становится мучительным, когда оно безнадежно. Вот отчего я
не решался присутствовать на свадьбе пьемонтца.
Через четыре часа мы прибыли в Аосту. Был
ярмарочный день. В тени развалин амфитеатра и у древних
римских ворот крестьяне, спустившиеся с гор,
разложили свои товары; тут лежали груды сыров, там
мычали коровы, поодаль робкие овечки блеяли возле
лавок или, приютясь под телегами, кормили своих ягнят.
Обоих моих спутников тотчас окружили торговцы, с
которыми они вели дела; уже считая меня за старого
знакомого, они оставили девушку на мое попечение. В
гостинице, где мы остановились, было шумно и людно.
Чтобы избавить ее от этого, я предложил совершить
паломничество к башне Прокаженного. Она радостно
согласилась и уже на пути туда спросила, что это за
Прокаженный. Я обещал, что скоро она про него все узнает,
и зайдя в книжную лавку, купил книгу г-на де Местра 8.
Затем мы направились к огороженному лугу, где
возвышается башня, которую этот ггисатель обессмертил;
осмотрев ее, мы нашли поблизости тенистое место, где
можно было почитать вслух. Под густыми дубами при-
352
Большой Сен-Бернар
ютилось несколько могил, быть может те самые, возле
которых Прокаженный увидел как молодая женщина
склонила голову на грудь супруга, и почувствовал, что
сердце его готово разорваться от отчаяния.
Моя юная спутница, воспитанная монахинями Сакре-
Кёр, не читала почти ничего кроме благочестивых
сочинений. Впервые слушала она повесть серьезную и вместе
увлекательную, слог которой, полный жизни и
красноречия, то сладостно трогает сердце, то заставляет его
содрогаться от жалости. Сперва спокойная и почти
рассеянная, она переводила взгляд с башни на окрестные
горы и долины; постепенно повествование заворожило
ее; она словно удивилась, а затем всецело поддалась
волшебному волнению души, впервые раскрывшейся для
поэзии. Лицо ее сияло. Однако, когда пришла очередь
все более мрачных страниц, описывающих тяжкие
страдания Прокаженного, на глазах ее выступили слезы;
а когда я дошел до строк, где у несчастного отнимают
сестру, она заплакала и не дала мне продолжать. Я
закрыл книгу и чтобы она могла после закончить чтение,
попросил ее сохранить этот маленький томик на память
обо мне. Она обещала, краснея. Ведь мы только что
вместе волновались, вместе восторгались и сердца наши
тайно сблизились, а вчерашнее невинное дружелюбие
сменилось у нее трепетом зарождающегося чувства.
Мы вернулись в гостиницу. Оба ее родственника,
поглощенные своими делами, торопились закончить их и
продолжать путь. Они едва заметили перемену,
происшедшую в молодой девушке. Но я понимал, какое зло
неосторожно причинил ей, смутив ее душевный покой и
открыв ей мир поэзии как раз, когда ей предстояло
вступить з самый святой, но и самый прозаический
союз. Исправить зло я уже не мог; но мог усугубить
Большой Сен-Бернар
353
его, продолжая оставаться в ее обществе, чего мне
самому хотелось так сильно, что желание это становилось
преступным. Поэтому, сделав над собою большое усилие,
чтобы не сдаться на ласковые уговоры отца и брата, на
робкие, но многократные просьбы их спутницы, я
поблагодарил их и простился. Они уехали. А я остался
в Аосте, чувствуя себя среди толпы очень одиноким и
испытывая печаль, которую понес на то самое место под
дубами, где сидел с нею утром.
На другой день и в последующие дни чувства эти
настолько еще переполняли меня, что я не был склонен
осматривать места, ради которых приехал. В Иврее, куда
я прибыл рано утром, мне снова понадобилось большое
усилие, чтобы не задержаться там хотя бы на несколько
часов. Улицы были пустынны, воздух холоден, воды
Дуар^ы едва белели9 в первых лучах зари. Но мне эта
местность показалась самой прекрасной в Италии, а
город — единственным, где мне бы хотелось поселиться.
Мне вздумалось пройтись по нему пешком. По пути
встретилось несколько гостиниц, и я останавливался
возле каждой, гадая, не здесь ли живет молодая
девушка, спит ли она сейчас или переживает волнения
вчерашнего дня, а быть может думает о молодом человеке,
бывшем, если не предметом их, то причиною. Я так
долго медлил при этом, что возница, которому я велел
ждать меня с экипажем у выезда из города, вернулся
напомнить о себе. Я пошел за ним, экипаж тронулся,
и когда из-под колес исчезли камни последней
городской улицы, я ощутил невыразимую печаль. Однако
через несколько недель тоска постепенно утихла, и мое
чувство превратилось в нежное воспоминание. Я посетил
Геную, Флоренцию, Рим, Неаполь; когда пришлось
подумать о возвращении, я избрал Симплонский перевал —
23 Родольф Тёпфер
354
Большой Сен-Бернар
как потому, что мое сердце, вновь обретшее свободу, уже
не побуждало меня ехать через Иврею, так и потому,
что я боялся, приехав туда, замутить чистоту и
свежесть моих воспоминаний.
Приехав прошлой осенью в Женеву, я как обычно
навестил тетушку Сару. О ней я упоминал выше,
рассказывая о дуэли моего кузена. Тетушка Сара живет за
городом; за городскими воротами у нее есть садик,
отделенный от соседних садов каменной оградой. Там
имеются качели; насос, иссякающий лишь во время засухи,
служит для поливки растений; в северо-восточном углу
сада мой кузен Эрнест устроил красивую горку, а на
ней поставил и выкрасил в зеленый цвет китайскую
беседку, откуда открывается вид на таможню и на
городские укрепления.
Моя тетушка Сара, очень милая дама, теперь уже
в годах, испытала в жизни лишь одно горе — кончину
супруга, которого она похоронила сорок лет назад, после
трех месяцев безоблачного счастья, как она сама
простодушно утверждает. Полгода спустя она родила сына
и на нем сосредоточила с тех пор всю свою любовь;
это и есть мой кузен Эрнест, которого она воспитала,
как одна лишь нежная мать, в молодости бывшая
гувернанткой, могла воспитать единственного сына, к тому же
родившегося после смерти отца. С раннего детства —
привычка к порядку, правила приличия и выработка
осанки. Позднее, чтобы воспитать чувства, — сентенции,
нравоучительные стихи, примеры наказанного порока и
вознагражденной добродетели. Еще позднее, чтобы
образовать ум, — искусство беседы и светского обхождения,
и уже в отроческом возрасте — перчатки, трость, фрак,
ходьба носками наружу и соответствующие манеры.
Позднее. . . ничего. В пятнадцать лет мой кузен Эрнест
Большой Сен-Бернар
355
был законченным, совершенным, образцовым молодым
человеком на радость матери, но также и на радость
нескольким смешливым и бойким товарищам, которых
тетушка находила ужасно дурно воспитанными. Сейчас мой
кузен Эрнест — по-прежнему единственный сын,
родившийся после смерти отца, а вдобавок—чинный и
опрятный холостяк, который выращивает гвоздику, поливает
тюльпаны и ежедневно бывает в городе, летом в восемь
утра, зимою в полдень, чтобы получить напрокат газету
и обменять в книжной лавке взятый на прочтение
первой том романа, который читает тетушка, на второй.
Когда на дороге сыро, он обувает деревянные башмаки,
когда пыльно — ботинки желтой кожи. Если идет дождь
или барометр грозит непогодой, он садится в омнибус.
Если б не омнибус, не было бы и дуэли.
Не странно ли! Я по профессии военный, по природе
довольно вспыльчив, весьма щепетилен в вопросах
чести, а на дуэли еще не дрался. Кузен Эрнест проводит
жизнь в обществе старых дам; не посещает салонов и
общественных мест; он добродушен, он единственный
сын, родившийся после смерти отца.. , и судьбе было
угодно, чтобы он защищал свою честь на дуэли. Дело
в том, что кузену Эрнесту привычки заменяют страсти;
право быть в восемь утра на пути в город, если он сел
в восьмичасовой омнибус, для него то же, что для иных
забияк неотъемлемое право запеть Марсельезу или
закурить под носом у какой-нибудь графини. И вот
однажды, когда мой кузен Эрнест садится в восьмичасовой
омнибус, оказывается, что кондуктор, по просьбе некоего
молодого иностранца, согласился задержать на несколько
минут отъезд, чтобы успела подойти дама, которую
ожидает иностранец. Это огорчает моего кузена, он
предвидит нарушения в распорядке своего дня. Проходит чет-
23*
356
Большой Сен-Бернар
верть часа; это раздражает моего кузена, он видит, что
дама станет причиной целого ряда опозданий,
надвигающихся друг на друга и смещающих час его обеда,
послеобеденного кофе и послеобеденного сна. По
прошествии двадцати пяти минут он не выдерживае*' и
принимается ворчать: «К черту даму!» Молодой
иностранец немедленно дает ему свой адрес, требует идрес
у него, и они договариваются встретиться на следующий
день в восемь утра, «ровно в восемь», добавляет
иностранец. В тот день мой кузен заставил себя ждать. Он
принес извинения, они не были приняты. Остальное
довершили мы, честные секунданты и заботливые
родственники, и честь была спасена.
Вернусь к визиту, который я нанес прошлой осенью
тетушке Саре. Войдя в садик, я застал ее в китайской
беседке, читающей вслух нескольким соседним дамам.
Должно быть книга была очень трогательная, ибо все
слушали с умилением, кроме кузена Эрнеста, сына,
родившегося после смерти отца, единственного сына у
матери, который курил сигару, сидя в небрежной позе на
деревянной скамье в тени акации. Отвесив общий поклон
и поцеловав тетушку, я попросил дам не прерывать
чтения и тоже сел покурить на деревянную скамью в тени
акации. Тетушка читала так, как читает нежная мать,
в молодости бывшая гувернанткой, то есть с
назидательными интонациями, по всем правилам выразительного
чтения, так что слушать ее было истинным
удовольствием. Снова вздев очки, она продолжала:
«.. . Девушка была одним из тех неземных созданий,
которые, словно предвечернею дымкой, окружены
голубоватым ореолом тайной печали. Осужденная судьбой
терпеть деспотизм отца, неспособного понять
таинственные порывы души, стремящейся заполнить бездоиньк;
Большой Сен-Бернар
357
глубины своего сердца и обрести завершение своей
сокровенной сущности, она томилась тайной мукой и
подавляла рыдания. Этот цветок, созданный, чтобы
расцвести на солнечных склонах Апеннин, оказался в
холодных горах Гельвеции, и когда пришла ему пора
раскрыть свои яркие лепестки, ледяной ветер вершин
вынудил его замкнуться в невзрачной и бледной
оболочке».
«Кузен, что бы это мог быть за цветок? — спросил я
холостяка, родившегося после смерти отца и курившего
рядом со мною.
— Это... пленительное женское существо (кузен был
приучен повторять избранные выражения своей матери).
— А что это за книга?
— Путевые впечатления.
— Веселые?
— Нет.
— Печальные?
— Весьма».
И кузен, которому мои вопросы мешали отдыхать го-
аздо больше, чем подавленные рыдания неземного
существа, продолжал курить, всем своим видом показывая,
что хотя он не обязуется слушать, зато я обязан оста-
:ить его в покое.
«... Пока она тщетно искала среди окружавших ее
прозаических натур того, кто мог бы отомкнуть и
населить своей любовью пустынный храм ее души, отец
(«Кузен! Чей отец? — Ну, ее отец».), грубый человек,
один из тех, чья жизнь всецело сводится к
меркантильным сделкам («Значит негоциант? — Ну да1»), вместо
того, чтобы найти для нее предмет любви среди
благородных изгнанников, которых вулканическая Италия
п час своих конвульсий метнула за Альпы («Уж не
358
Большой Сен-Бернар
Чани ли? Не Мадзини? 10—Не знаю.»), среди богатых
и пылких натур, какие еще рождаются в Неаполе или
в городе гондол («В Венеции, что ли? — Мм!»),
остановил свой выбор на молодом швейцарце с могучим
телом, полными румяными щеками и белокурыми
волосами — этими белесыми признаками тусклой души,
неспособной кипеть. И бледный цветок, постоянно
колеблемый ледяными ветрами, лишенный нежной поддержки
подобных ему цветов, должен был биться о жестокую
поверхность этих двух гранитных глыб, которые
убивали его, полагая, что дали ему приют».
Тут моя тетушка, в молодости бывшая гувернанткой,
не могла не указать слушателям, как восхитительно
написана книга. Слог автора, сказала она, содержит
бесчисленные нюансы, из которых каждый находит свой
отзвук в чувствительной душе; она особо отметила
последнее неожиданное сравнение, так ярко осветившее
печальное положение героини. Старые дамы, всецело
разделяя ее взгляд, исполнились презрения к злополучным
гранитным глыбам, а одна из них столь пылко приняла
к сердцу страдания непонятой женщины, что, конечно,
сама должно быть много страдала от тупости и
грубости мужчин, этих созданий, лишенных всякой тонкости
чувств.
«Эта дама замужем? — тихо спросил я кузена.
— Нет».
Хотя я еще был весьма далек от подозрения, что
чахлый цветочек изображает мою цветущую спутницу
по Аосте, а гранитная глыба — трактирщика из Шам-
бери, меня живо заинтересовала повесть, которая ничуть
не смущала покой моего кузена, зато потрясала сердца
дам, вызывая у них замечания, не менее восхитительные,
чем сочинение, давшее к ним повод.
Большой Сен-Бернар
359
«Когда я их встретил, — продолжала читать
тетушка, — они направлялись в Италию, в тщетной
надежде, что теплое и ароматное дыхание ее благодатного
климата ^остановит разрушения, причиненные страдалице
ее злою судьбой. Но я, проникавший душою в эту
душу, — я видел, как дева, словно по аллее из траурных
кипарисов, идет к своей разверстой могиле. Я видел
это, и бремя безмерного страдания томило мою
удрученную душу. Подле нее белокурый жених красовался
своими мощными формами; ни одна искра внутреннего
огня не озаряла его пошлую свежую физиономию, не
ускоряла его размеренных, прозаических движений.
Непроницаемая душевная тупость облекала этого человека
точно свинцовой бронею, и даже приближение грозной
лавины (тут я навострил уши) не внушило его эгоизму
ни малейшего опасения.
Меж тем надвигалась ночь, черные зубцы вершин
словно вгрызались в вечерние тучи, ущелья Сен-Бернара
поглощали, будто огромные пасти, последние лучи заката.
Лавина подстерегала нас, зияющая, бездонная, бледная,
словно саван, ненасытная, как могила! Внезапно чья-то
белая фигура, метнувшись к краю бездны, низвергается
в нее. . . То была Эмма (Так вот она, Эмма! воскликнул
я. . . про себя). Быстрее молнии кидаюсь я вслед за нею,
скатываюсь все ниже, погружаясь из бездны в бездну,
стремясь опередить настигающую меня смерть и,
победив в смертной схватке, нахожу деву, бледную,
холодеющую. . . В этой пропасти она искала конец своим
страданиям! И я даю ей понять, — я чужестранец, я
незнакомец, — что разгадал ее намерение. Понятая
наконец, быть может, впервые в жизни, она подняла
трепещущие ресницы, из-под которых пробился луч радости,
и невыразимо счастливая улыбка тронула фиалки (!!!)
360
Большой Сен-Бернар
ее уст. Но уже приближались монастырские собаки (!!!),
увешанные подкрепляющими лекарствами, и возвещали
своим лаем спасение. С дороги нам сбросили канат,
навстречу спешили монахи, я передал в руки служителей
неба жертву земной жестокости и удалился шагами,
полными отчаяния».
Я громко расхохотался. . . Дамы в негодовании встали,
мой кузен взглянул на свою мать, тетушка взглянула
на меня, а я глядел на все заплаканное общество и, не
умея сдержать смех, который при этом зрелище
разбирал меня все сильнее, решил откланяться, извинившись
за свое поведение.
Возвращаясь в гостиницу, я вспомнил слова
толстяка:
«Все это — надгробные надписи, сударь!»
Страх
У городских ворот Женевы горный поток Арва,
стекающий с ледников Савойи, вливает свои
взбаламученные воды в прозрачные волны Роны. Обе реки долго
текут, не сливаясь; непривычные к этому зрелищу люди
удивляются, видя в одном русле мутный поток и
лазурные струи.
Коса, разделяющая обе реки, образует возле моста,
где они сливаются, небольшую дельту, шириной не более
нескольких сот шагов; здесь находится городское
кладбище. Позади него тянутся огороды, орошаемые
посредством больших колес, которые подымают воду из Роны
и наполняют ею множество пересекающихся канавок.
На этом узком клочке земли, который заканчивается
ивовой рощицей, а еще дальше — песчаной отмелью,
живет несколько огородников. За этой отмелью обе реки
соединяются и текут дальше между источенными водою
утесами, замыкающими горизонт.
Несмотря на близкое соседство многолюдного города,
местность эта имеет унылый вид и не привлекает
посетителей. Случается, правда, что веселая ватага
школьников проходит берегом реки и, прельстясь свободой,
какую сулит пустынное место, располагается на
упомянутой мною отмели. Но обычно здесь никого не встретишь,
разве одного-двух любителей уединенных прогулок и
мечтаний. Нередко уставшие от жизни страдальцы ищут
здесь смерти в речных волнах.
Мне было лет семь, когда я впервые пришел сюда,
держась за руку деда. Мы шли в тени больших буков,
362
Страх
и дед концом своей трости показывал мне порхавших по
ветвям птичек.
«Они играют, — сказал я.
— Нет, дитя мое, они летают в поисках корма для
своих птенцов, приносят его и опять летят за новым.
— А где же птенцы?
— В гнездах. Отсюда их не видно.
— А почему не видно? . .»
Пока я задавал эти детские вопросы, мы дошли до
конца аллеи, где находятся высокие каменные ворота.
Через полуоткрытые створы виднелись кипарисы и
плакучие ивы, а на воротах — надпись черными буквами
по белому мрамору. Непривычное для ребенка зрелище
поразило меня. «Что это? — спросил я деда.
— Прочти сам, — сказал он.
— Нет, дедушка, прочтите вы, — сказал я, почему-то
робея.
— Это ворота кладбища, — сказал дед. — Сюда не
сут мертвых. А надпись — из Библии.
Блаженны мертвые, умирающие в господе,
они успокоятся от трудов своих,
и дела их идут вслед за ними К
— А это, дитя мое, значит. . .
— Но куда же их несут? — прервал я.
— В землю.
— А зачем, дедушка? Им делают больно?
— Нет, дитя мое, мертвые в этом мире уже ничего
не чувствуют».
Мы прошли мимо ворот, и больше я ни о чем не
спрашивал. По временам я оглядывался на белую плиту,
воплотившую для меня все страшное, что я слыхал
Страх
363
о мертвецах, могилах и людях в черном, которых я
часто видел на улицах, когда они несли гробы, покрытые
саваном.
Но светило солнце, я держался за руку дедушки;
мрачные впечатления уступили место другим, и когда мы
вышли на берег Роны, все мое внимание сосредоточилось
на реке и особенно на человеке, удившем рыбу.
Вода стояла низко, и рыболоЕ, обутый в высокие
кожаные сапоги, стоял посреди течения. «Смотрите,
дедушка, он в воде!
— Он удит рыбу. Вот подожди, как только рыба
дернет за леску, он и шевельнется».
Мы стали ждать, но человек не шевелился. Я все
теснее жался к деду и стискивал его руку;
неподвижность рыболова стала казаться мне странной. Его взгляд,
устремленный на леску, таинственно исчезавшая под
водой леска и царившее кругом безмолвие — все это
действовало на мое неокрепшее воображение, уже
взволнованное черной надписью. В конце концов, вследствие
весьма известной, однако новой для меня оптической
иллюзии, мне показалось, будто рыболов уплывает по
течению, а противоположный берег движется вверх по
реке. Я потянул деда за руку, и мы продолжали нашу
прогулку.
Теперь мы шли по тропинке, затененной ивами.
Стволы их прогнили; их основания украшал яркий мох,
а с дряхлых вершин опускались над рекой гибкие ветви.
Спраьа была Рона, слева — описанные мною огороды.
Я засмотрелся на колесо, черпающее воду маленькими
ведрами, откуда она льется в канавки; однако в
тогдашнем моем состоянии духа мне не хотелось одному
наблюдать вращение огромной машины, да и недвижный
рыболов был еще виден. Наконец мы потеряли его из
364
Страх
виду и вышли на отмель, которой заканчивается коса.
Дедушка показал мне множество плоских и круглых
камешков, научил бросать их так, чтобы они прыгали над
водой, и я совершенно позабыл и ворота, и рыболова,
и колесо.
На берегу был неглубокий затон с прозрачной водой.
Дедушка предложил мне искупаться, снял с меня
одежду и подвел к воде. Сам же сел на берегу и глядел на
меня, опираясь подбородком о набалдашник своей
старой трости. Я смотрел на почтенного старца, и почему-
то именно таким он запечатлелся в моей памяти.
Мы обошли оконечность косы, чтобы обратно идти
берегом Арвы. Ко мне вернулось чувство безопасности,
а купание и совсем развеселило меня. Я играл с
дедушкой, дергал его за полу сюртука, а он, внезапно
обернувшись, делал вид, будто гонится за мной, и нарочно
говорил страшным басом.
Когда мы дошли до ивовой рощи, он стал прятаться
за деревьями, а я искал его; мне было весело, но
немного жутко, и я бурно радовался, когда находил его,
или хотя бы обнаруживал выдававшие его кончик
трости, либо край шляпы.
Но однажды я долго не мог его найти и, бегая от
дерева к дереву, углубился в рощу. Я звал его, ответа
не было. Я побежал туда, где заросли казались менее
темными, и очутился на берегу реки. Здесь я увидел
нечто, наполнившее меня ужасом.
На песке лежал скелет лошади. Глубокие глазницы,
зияющие дыры ноздрей, челюсть, разинутая словно
адской зевотой, и омерзительно оскаленные зубы так
потрясли меня, что я не своим голосом закричал:
«Дедушка, дедушка! . .» Появился дед, я кинулся к нему и
увлек его подальше от страшного места.
Страх
365
Вечером, когда меня укладывали спать, я очень
боялся остаться один. Я упросил, чтобы дверь в
комнату, где ужинали родители, оставалась приоткрытой, и
скоро сон избавил меня от страхов.
Год спустя мой дед умер. Смерть его, которую сам
я не видел, поразила меня меньше, чем горе моего отца;
видя как он печален и подавлен, я плакал. Меня одели
в черное, на шляпу повязали креп, и в день похорон
я должен был идти за гробом, вместе со всеми
мужчинами нашей семьи, также облаченными в длинные
черные плащи.
Когда мы вышли из дому, я не решился спросить
отца, куда мы направлялись.
Горе внушило мне робость; к тому же, как это
обычно бывает с детьми, я чувствовал себя с отцом
менее свободно чем с дедом. Я успел позабыть, что он
рассказывал мне о мертвых, которых опускают в землю,
и ощущал скорее любопытство чем тревогу; я слышал
как мои родные, раскланиваясь со встречными,
беседовали о самых обыденных предметах, и церемония уже
совсем не показалась мне мрачной.
У городских ворот часовой взял на караул, то же
проделали стоявшие на посту солдаты. Я не знал, что
это делается в нашу честь, однако был весьма доволен.
Но тут один из солдат, чья воинственная фигура
особенно привлекла мое внимание, посмотрел на меня и
улыбнулся; я вообразил, что он смеется над моим
странным нарядом. Я покраснел, и краснел всякий раз, как
на мне останавливались взгляды прохожих.
Отвлекшись всем этим и множеством других
пустяков, попадавшихся мне на глаза, я не заметил, куда
направилась процессия. Внезапно оказавшись в буковой
366
Страх
аллее, перед высокими воротами, я вспомнил
прошлогодние впечатления и понял, что участвую в одной из тех
таинственных и мрачных сцен смерти и погребения, так
часто меня тревоживших.
Я подумал о дедушке, который, как я знал, лежал
в гробу. Я понял, что его опустят в землю, ведь он сам
говорил мне, что так поступают с мертвыми. Еще не
умея представить себе мертвое тело, я вообразил его
живым в этом тесном ящике, и с ужасом ждал, что
станут с ним делать. Хотя к моему страху примешивалась
некоторая доля любопытства, я надеялся, что в ворота
мы не войдем, и все произойдет в отдалении. Но
случилось иначе.
Я никогда не был на кладбище; воображая его себе
как нечто страшное, я ободрился, увидев деревья, цветы
и яркое солнце, золотившее просторный луг. Мне тотчас
представились более светлые картины; я вспомнил, как
дедушка год назад сидел на берегу маленького затона,
и решил, что он поселится на этом лугу и будет
отдыхать на солнце, как он любил делать в погожие дни
июля и августа. Как всегда бывает после пережитого
волнения, ко мне быстро возвращалось спокойствие.
Однако кое-что меня еще беспокоило. Мы шли мимо
черных оград и каменных плит с надписями. Подле
одной из них я издали увидел женщину, погруженную
в задумчивость. Я ожидал, что она оглянется на нас;
но она, склоняясь к могиле, не отводила от нее взгляда.
Заглушённое рыдание, донесшееся до нас, страшно
испугало меня. Видя, что женщина неподвижна, я вообразил,
что рыдание слышится из-под поросшего травою
холмика. При мысли о мертвеце, стонущем под тяжестью
земли, я оледенел от ужаса. Как раз в это время я
увидел впереди погребального шествия двух мужчин, ви-
Страх
367
димо поджидавших нас. Чем ближе мы подходили, тем
больше пугали меня их обветренные, грубые лица и
угрюмое молчание; а когда процессия остановилась, и я
увидел лопаты, кирки и большую яму, в глазах у меня
потемнело, ноги подкосились. Страшные люди взялись
за края гроба, опустили его в яму и, вооружась
лопатами, стали сбрасывать туда землю из кучи,
накиданной наверху. К стуку камешков и костей, ударявших
о крышку гроба, мое воображение примешивало рыдания
и крики; когда стук стал глуше, мне почудились
сдавленные стоны дедушки.
Скоро мы были снова дома. Мой отец предался
безмерной скорби, и я рыда^л вместе с ним, уверенный, что
он плачет над муками дедушки, задыхавшегося под
землей.
Должно быть я родился боязливым. Описанные
впечатления врезались в мою память, готовые ожить в
ночной темноте и в одиночестве, всякий раз когда
отсутствие иных мыслей, чувств или ясной цели открывало им
путь в мою душу. Но продолжу рассказ о том, как
несколько лет спустя мне довелось пережить еще более
сильный страх.
Это было уже в пору моего отрочества. Как бывает
в таком возрасте, сердце мое испытывало все волнения
первой любви. Полный мыслей о ней, погруженный
В сладостные мечты, я сделался молчалив и рассеян.
Отец огорчался, а мой наставник утверждал, что к
древним языкам у меня нет ни малейших способностей.
Конечно то была еще детская любовь. Я был
влюблен в особу, почти годившуюся мне в матери, а потому
скрывал свое чувство от всех, и тайна питала это
живое и чистое пламя, которое так легко могла погасить
насмешка. Владычицей моего сердца была красивая девица,
368
Страх
жившая в нашем доме. Она часто приходила к моим
родителям, а я, по праву своего возраста, свободно мог
бывать у нее. Влюбляясь все более, я стал искать
предлогов навещать ее чаще и оставаться у нее дольше;
словом, я стал проводить там целые дни. Она занималась
каким-нибудь рукоделием, а я стоял подле нее и, не смея
вздыхать, болтал, помогал ей разматывать нитки или
бросался поднимать катившийся по полу клубок. Когда
она выходила из комнаты по какому-нибудь домашнему
делу, я страстно целовал предметы, до которых она
дотрагивалась, натягивал на руки ее перчатки, и желая
ощутить на своих волосах шляпу, касавшуюся ее волос,
напяливал на себя дамский головной убор; при этом
я смертельно боялся, что меня застигнут, и краснел от
одного страха покраснеть.
Увы, столь прекрасной любви суждено было стать
любовью несчастной. Девица, шутя, называла меня своим
маленьким мужем, но я принимал этот титул всерьез.
Называться так было моей привилегией, я не делил ее
ни с кем и уже поэтому безмерно дорожил ею. Однажды
вечером, щегольски одетый, я явился к даме моего
сердца, которая на этот раз сама пригласила меня на
некое семейное торжество. Я гордо вошел в гостиную,
где уже собралось немало народа. К большой обиде
нескольких родственников, я не замечал никого кроме
своей прекрасной соседки, для которой приберег все
любезности, на какие был способен. Но вдруг вошедший
высокий молодой человек, очень не понравившийся мне
уже тем, что отвлек от меня внимание моей
повелительницы, сказал: «А, вот он, маленький муж! Ну, а я буду
большим мужем. . . Надеюсь, мы поладим».
Все засмеялись, особенно когда я гневно выдернул
руку, которую он пожимал, и бросил на него свирепый
Страх
369
взгляд. Не в силах вынести этот смех, задыхаясь от
досады и стыда, я выбежал из комнаты.
Сразу вернуться к, отцу я не решился. К тому же
единственным моим желанием было скрыться от всех,
чтобы предаться моему горю. Оказавшись один за
городом, я залился слезами.
Я был смешон и однако достоин сожаления.
Разумеется, моя страсть была бесцельной и безнадежной даже
в собственных моих глазах; но это слишком рано
проснувшееся чувство было чистым, искренним, свежим и
в течение какого-то времени составляло всю мою жизнь.
Я отлично знал, что надо окончить школу прежде, чем
помышлять о женитьбе; да я и не помышлял о ней; но
чтобы другой женился на той, кому я с таким
восторгом поклонялся, было величайшим несчастьем, какое
могло меня тогда постичь.
Охваченный сожалениями, гневом и ревностью, я не
заметил ни позднего часа, ни направления, по которому
шел и которое, при других обстоятельствах, не выбрал
бы для ночной прогулки. Я внезапно опомнился лишь
когда пробили часы, и я насчитал двенадцать ударов...
Городские ворота вот уже час, как были заперты.
Еще надеясь, что я ошибся, я пустился бежать со
всех ног, но тут зазвонили на отдаленной сельской
колокольне; я с ужасом считал: девять, десять,
одиннадцать. . . двенадцатый удар сразил меня. Нет ничего
более неумолимого, чем бой часов.
Признаюсь, что в ту минуту я позабыл свою любовь,
но это не принесло мне успокоения, ибо мысль о
тревоге, какую я причиняю своей семье, привела меня в
отчаяние. Меня сочтут погибшим; в простоте душевной я
боялся, что мое внезапное исчезновение будет истолко-
24 Родольф Тёпфер
370
Страх
вано как следствие ьгоего стыда и отчаяния, о котором,
несомненно, расскажут мои соседи.
Но где же я очутился? Под теми самыми ивами, на
той тропе, откуда шесть лет назад я смотрел на
рыболова. Я заплакал, не зная, что предпринять. Весь
поглощенный мыслью о моих домашних, я еще не ощущал
страха; к тому же сквозь слезы я видел огонек на
другом берегу реки, и неведомо для меня самого он
составлял мне компанию.
Вскоре огонек погас, и я впервые ощутил свое
одиночество. Как только он исчез, я машинально сдержал
рыдания, и меня окружили тишина и тьма. Вглядываясь
в эту темноту, я различил смутные очертания, которые
огонек не давал заметить. Пока я так вглядывался, мои
слезы высохли окончательно.
Теперь я забыл и о своей семье, хотя старался
задержать на ней мысли, начавшие пугливо бродить в
окружающей тьме. Предвидя, что мне с каждым мигом
будет все страшнее, я прилег у изгороди, отделявшей
меня от огородов, и решил уснуть.
Решение было разумным, но трудно выполнимым.
Я конечно закрыл глаза, но голова бодрствовала лучше
чем днем, а уши ловили малейшие звуки, из которых
возникали жуткие образы, все дальше отгонявшие от
меня сон. Убедившись, что заснуть не удастся, я
попытался сосредоточиться на чем-нибудь и хотя бы не
думать о страшном. Я решил считать до ста, до двухсот,
до тысячи, но всю эту работу проделывали мои губы;
сознание в ней не участвовало.
Я досчитал до ста девяноста девяти, как вдруг возле
меня б кустах послышался шорох; я принялся считать
быстрее, спеша обогнать упорно возникавшие мысли
Страх
371
о холодных ужах и пучеглазых жабах. Страх мой
усиливался, а шорох стал означать нечто столь грозное, что
лучше уж было вернуться к ужам. «В сущности,
говорил я себе, в ужах нет ничего страшного, ужи
безобидны, а может быть (эта мысль явилась как нельзя
более кстати). . . там просто ящерица». Шорох
раздался снов,а и еще ближе; я уже видел себя схваченным,
проглоченным и пережеванным. Стремительно вскочив,
я перепрыгнул через изгородь, пугаясь производимого
мною шума настолько, что едва почувствовал шипы,
вонзавшиеся в мое тело.
Очутившись по другую сторону изгороди, я испытал
большое облегчение. Теперь меня окружали капуста,
латук и оросительные канавки; все это, напоминая о
человеческом труде, уменьшало чувство одиночества.
Помню, как я старался дольше задержаться на этих
успокоительных мыслях, и для этого представлял себе во
всех подробностях огородные работы, которые часто
здесь видел: как мужчины вскапывают землю в
солнечный день, женщины собирают овощи, дети выпалывают
сорняки, словом, целую идиллию. Я только старался
не думать о поливе, чтобы одновременно не думать
о большом колесе, которое сейчас вращалось где-то
поблизости.
К тому же я был под сводом небес, а это —
единственное, что не вселяет ночью страха. Вокруг было
просторно и где-то даже брезжил свет. Если он явится,
думал я, так по крайней мере будет видно.
«Явится? Значит вы кого-то ждали?
— Конечно.
— Кого же?
— Того, кого ждешь, когда страшно».
24*
372
Страх
А вам разве никогда не было страшно? Вечером,
возле церкви, от гулкого эха собственных шагов; ночью,
оттого, что трещат полы. Когда вы, ложась спать,
опираетесь коленом о кровать и не решаетесь поднять
другую ногу, потому что из-под кровати чья-то рука...
Возьмите свечу, посмотрите хорошенько — никого там
нет. Поставьте свечу и не смотрите — и он снова там.
Вот о нем-то я и говорю.
Итак я замер посреди огорода; но мысль об окружа-'
ющем просторе, которая сперва утешила меня, приняла
теперь весьма нежелательное направление. Опасность не
грозила спереди, тут ничто не могло ускользнуть от
моего взгляда; она была сзади, сбоку, всюду, куда
я не мог заглянуть; ведь когда чувствуешь его
приближение, то всегда с той стороны, куда не смотришь.
Поэтому я часто и внезапно оборачивался, как бы затем,
чтобы застать его врасплох, и тут же быстро
повертывался в другую сторону, чтобы и ее не оставлять без
надзора. Эти странные движения пугали меня самого;
тогда я скрестил руки и начал прохаживаться по
прямой линии, с большим ущербом для капусты и латука;
но даже за все сокровища мира я не отклонился бы
в сторону, то есть на тропинки, которые вели
к роще.
Еще менее согласился бы я отклониться в другую
сторону от огорода, ибо в детстве именно там, на
отмели я увидел лежащий. . . И хотя я особенно
старательно косился в ту сторону, я избегал поворачиваться
туда лицом, а главное — боялся подумать, почему я это
делаю.
Однако и теперь мои усилия оказывали обратное
действие. Отталкивая чудовище, я давал ему власть над
Страх
373
собой; желая изгнать его из моих мыслей, я подпускал
его.., и вот оно уже ломилось туда. Страшные кости и
зубы, незрячий глаз, существо, состоящее из ребер и
позвонков — все это двигалось, трещг.ло и наступгло на
меня. Предстояло схватиться с ним вплотную, и тут
как раз появились надо мной огромные лопасти колеса,
таинственно вращавшегося в темноте; шагая, я незаметно
к нему приблизился. Я понял, что ужасам предстояло
удвоиться. Собрав остатки самообладания, я тихо
отступил назад и даже принялся насвистывать с
независимым видом. Когда свистит человек, которому страшно,
можете быть уверены, что с ним дело обстоит совсем
плохо.
Едва я отступил, как костлявое чудовище сблизилось
с колесом. Я слышал его топот, я ощущал его дыхание
за моей спиной. Я еще крепился и замедлял шаг: пусть
видит, что я не боюсь; но это было выше моих сил,
я заспешил, пустился бегом и мчался пока путь мне не
преградила стена. Тут я остановился, задыхаясь.
Стена в подобных случаях значит немало. Прежде
всего это стена, то есть нечто белое, плотное и ничуть
не таинственное; она превращает в осязаемую реальность
пространство, населенное призраками; во-вторых, я мог
к ней прислониться и встретить врага лицом к лицу.
Так я и сделал.
Озираясь, я видел лишь тьму и пустоту; но
чудовище жило в моем воображении, и я ждал его
нападения с любой стороны, скрытой от меня темнотой или
окружающими предметами. Поэтому теперь мои страхи
перекочевали за стену, к которой я прижимался; а
когда из-за стены мне что-то послышалось, они все там
столпились.
374
Страх
Звуки были похожи на те, какие издают совы; это,
несомненно, было чудовище. . . Я чувствовал, я уже
видел, как оно карабкается с той стороны стены,
цепляясь костяшками за выступы каменной кладки; не сводя
глаз с верхушки стены, я каждую секунду ожидал, что
оттуда медленно покажется голова, и на меня уставятся
пустые глазницы.
Это становилось невыносимо, и самый страх толкал
меня ему навстречу. Лучше уж броситься на него, чем
ждать, замирая и дрожа. Ухватившись за ветки
персикового дерева, росшего у стены, я взобрался на нее и
сел верхом.
Никого! Я ждал этого, но все же был приятно
удивлен. Пугливые люди слушают два голоса, говорящих им
противоположное: голос страха и голос здравого
смысла; слушая то один, то другой, а то и оба сразу, они
бывают поразительно непоследовательны.
Вместо чудовища я увидел равнину, окруженную
стенами, а дальше — купы деревьев и город, над которым
высилась массивная башня Св. Петра.
Вид города обрадовал меня; правда, окна в домах
не светились, да и башня как-то не внушала
спокойствия, но тут зазвонили башенные часы. . .
Все мои страхи мигом улетучились. Знакомые звуки
перенесли меня из ночи в день; при мысли, что вместе
со мной их слушают и другие, я уже не чувствовал себя
одиноким. Я был снова спокоен, смел, отважен.. ,
правда, ненадолго. Перезвон замолк, часы пробили два, и
вся природа, казалось, слушавшая музыку часов
вместе со мною, опять сосредоточила свое внимание на мне,
оседлавшем стену. Я съежился, я хотел исчезнуть,
я расплас!ался на узком гребне стены; нет, скрыться
Страх
375
было негде. Даже капустные кочаны, выстроившись
длинными рядами, представлялись мне рядами голов;
я видел ухмыляющиеся рты и тысячи устремленных на
меня глаз. Я решил уж лучше слезть, а чтобы уйти
подальше от колеса, слез на противоположную сторону.
Несколько шагов я прошел благополучно, но затем
споткнулся о какой-то предмет, который в темноте не
разглядел. От неожиданности я вскрикнул, подумав, что
это и есть чудовище; но когда, опомнившись от этого
первого впечатления, я нащупал черные столбы оград,
холодный пот выступил у меня на всем теле. Я
находился на кладбище!
Мне тотчас представились бесчисленные ужасы: они
возникали из синеватого света, они были бледны
могильной бледностью. Сгнившие трупы, черепа и кости,
черная женщина, страшные могильщики. .. Но самым
ужасным, ужаснее всего остального, был мой дед,
лежавший под землей. На его обезображенном лице
выступали кости, глазницы были пусты, беззубый рот,
казалось, испускал стоны; костлявыми руками он силился
приподнять давившую его зловонную землю.
Совершенно обезумев, я все ускорял шаг, чтобы
убежать от этих мыслей, а вместе с тем — и от черных
оград. Но призрак уже вышел из могилы; он осмотрелся
вокруг и узнал меня. Вот он двинулся за мной
неслышными шагами; сердце мое колотилось, точно он вот-
вот настигнет меня. Вдруг кто-то сдергивает с меня
шляпу, холодная жесткая рука опускается мне на
голову. . . «Дедушка! дедушка! Не надо!» — кричу я,
убегая изо всех сил, какие еще оставил мне безумный
страх.
Оказалось, что я задел головой за нижние ветви ивы.
376
Страх
Мое шумное бегство разбудило тысячи других
призраков, и вот уже целая рать их погналась за мной.
Выбежав наконец из ворот кладбища, я добежал до ворот
города. «Кто идет?» крикнул часовой.
Человеческий голос прогнал призраков, чудовища и
ужей. «Свой!» ответил я почти с восторгом. Спустя час
я был дома.
Страшные переживания этого дня пошли мне на
пользу. Я излечился от любви, а шляпа моя отыскалась.
ПРИЛОЖЕНИЯ
В. Д. СЕДЕЛЬНИК
Родолъф Тёпфер —
новеллист и художник
I
Родольфа Тёпфера называют в числе трех
крупнейших художников слова, которых за последние три
столетия дала миру французская (или, как еще говорят,
романдская) Швейцария 1. Первым идет великий
просветитель Ж.-Ж. Руссо; за ним следует Р. Тёпфер —
без сомнения, самое заметное и самобытное явление
в культурной жизни Романдии XIX в.; третьим в этом
ряду (не по значению, а хронологически) стоит
Ш.-Ф. Рамю — «яркая, крайне своеобразная и глубоко
значительная фигура западноевропейской литературы
XX столетия» 2.
Если быть до конца последовательным, то и без того
краткий список можно сократить еще на одно имя:
Ж.-Ж. Руссо хотя и был «женевским гражданином», но
мировую славу обрел не как швейцарец, а как
французский писатель. Больше того, истинные масштабы его
таланта проявились в том, с какой безоглядной
решимостью он отвергал идеологию патрицианской верхушки
и сам <дух Женевы», настоенный на ханжеской
пуританской морали.
1 См.: Kohler P. La littérature de la Suisse romande. Dans:
Kohler P., Cuisan G., Pidoux E. Histoire de la
littérature française, III. Lausanne, 1949, p. 744.
2 Анисимов И. И. Современные проблемы реализма. М.,
1977, с. 294,
Родольф Тёпфер — новеллист и художник 379
В этом смысле Тёпфер — антипод Руссо. Он —
«добрый гений» Женевы, ее «ангел-хранитель» 3,
восторженный певец не только красот родной природы, народных
обычаев и нравов, но и «веры», а также той «поэзии
сердца и страсти» 4, которую он умел разглядеть за
наслоениями холодного кальвинистского nyt итанизьа.
Вне Женевы — как писатель французский,
швейцарский или даже только романдский — Тёпфер непонятен
и необъясним. Одна из причин этого явления в том,
что «Женевская республика», ревниво оберегая свой
суверенитет и местную самобытность, долгое время
примыкала к швейцарской конфедерации в качестве
«независимого союзного государства» и впервые вошла в ее
состав на правах кантона только в 1815 г. Но и после
этого она еще долго сохраняла свою непохожесть на
другие города Швейцарии, в том числе Швейцарии
французской. Пройдя через коллеж и Академию—два
учебных заведения, основанные Кальвином и носившие его
имя, — Тёпфер впитал в себя неповторимую атмосферу
своего города, который называли «протестантским
Римом» и цитаделью реформации. В отличие от многих
своих земляков, особенно писателей позднейших
поколений, он не страдал «-комплексом провинциализма», ?ie
подлаживался под парижскую литературную моду, а
оставался самим собой, сохраняя духовную независимость
и гордясь своей ролью бытописателя родного города.
Вместе с тем он сумел стать видным деятелем куль-
3 Clerc Ch. L'âme d'un pays. Neuchâtel. Paris, 1950, p. 95.
4 Tôpffer R. Le Presbytère. Paris, 1910, p. 35. Когда
Тёпфер употребляет слова «родина», «родной», он имеет
в виду не всю Швейцарию, а только Женеву и ее
окрестности
380
В. Д. Седельник
туры вопреки своей приверженности старой
патрицианской республике с ее отжившими общественными
институциями и упрямым противодействием поступательному
ходу истории.
Родольф Тёпфер вошел в историю швейцарской
культуры по меньшей мере в трех ипостасях: как автор
новелл и романов, как художник-иллюстратор и
карикатурист и, наконец, как теоретик искусства. В каждой из
этих сфер деятельности он добился заметных успехов,
не будучи, кстати, ни профессиональным литератором,
ни профессиональным художником; всем этим он
занимался на досуге, а основное время отдавал
педагогической работе: был владельцем и руководителем частного
учебно-воспитательного заведения.
Сначала безвестный любитель изящных искусств из
Женевы был открыт как художник. Это сделал сам
Гете — верховный судья в вопросах искусства первой
трети XIX в. Рассматривая рисованные «комические
романы» Тёпфера, для широкой публики не
предназначавшиеся, он увидел в них «руку мастера и всю полноту
его таланта»5. Тёпфера-новеллиста заметил и ободрил
Ксавье де Местр. Стернианец и противник
французской революции, эмигрировавший из Савойи в Россию,
он увидел в Тёпфере своего ученика и последователя,
продолжателя сентиментально-просветительской линии
франкоязычной литературы, которая в 30,-е годы ХГХ в.
казалась устаревшей и преодолеиирй в Париже, но
продолжала развиваться на окраинах — в Швейцарии,
в Савойе — и воспринималась как противовес вычурности
и субъективизму романтиков.
5 Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы
его жизни. М.? 1934, с. 843.
Родолъф Тёпфер - новеллист и художник 381
Вслед за К. де Местром Тёпфера поддержал &&нт-
Бёв — человек противоположной идейно-поллтйче*кой
ориентации, немало сделавший для разработки эстетики
романтизма. Статья Сент-Бёва, напечатанная в 1841 г
в «Ревю де де монд», была, по его же словам, «первым
шагом парижской, критики навстречу Тёпферу». И
Шагом, надо сказать, удачным для писателя. Когда пять
лет спустя эта статья (с небольшим дополнением) была
перепечатана в качестве предисловия к роману «Роза и
Гертруда», Тёпфер стал уже «одним из самых читаемых
и едва ли не самых известных во Франции писателей» 6..
Что же могло привлечь знаменитого критика в
«Женевских новеллах»? Оказывается, то же, что и К. де Ме-
стра, — простота выражения, естественность чувства,
душевная уравновешенность. Один из вождей романтизма
увидел в новеллах швейцарского писателя
«образец,который и в самом деле можно противопоставить нашим
собственным творениям, таким утонченным и таким
нездоровым» 7. Но Сент-Бёв, в отличие от К. де Местра,
связывает Тёпфера не столько со Стерном, сколько
с Руссо и Женевой, а также с демократической и
складывающейся реалистической традицией; он называет его
«истинным учеником Поля-Луи Курье» 8
Не без помощи и участия Сент-Бёва Париж признал
Тёпфера своим писателем, принял его вкус и стиль.
«Женевские новеллы» и романы «Пасторский дом» и
<Роза и Гертруда», многократно переиздававшиеся в Па-
6 Sainte-Beuve. Notice sur Rodolphe Tôpffer. Dans:
Tôpffer R. Nouvelles genevoises. Rosa et Gertrude.
Paris. 1853, p. I.
7 Ibid., p. II.
8 Ibid., p. XIX.
382
В. Д. Седельник
риже вплоть до первых десятилетий XX в.,
воспринимались по контрасту с литературной продукцией
романтиков. В них ценили—наряду с живописными карти*
нами безмятежной жизни на лоне природы —
пристальность взгляда художника, тончайшую детализацию,
умение открывать интересное и значительное в
повседневном и неприметном. «Назовем его, если хотите,
великим писателем малых тем, — писал А. Обер в
предисловии к «Размышлениям и заметкам женевского
художника», — в отличие от большинства других,
единственной заслугой которых является претенциозность; их,
в соответствии с их честолюбивыми опытами, можно
назвать малыми писателями больших тем» 9.
Такое же противопоставление Тёпфера французским
романтикам прослеживается и в двух монографиях,
вышедших в 1886 г. в Париже и до сих пор остающихся
наиболее полными работами о жизни и творчестве
женевского художника 10.
В XIX в. исследователи первостепенное значение
придавали Тёпферу-литератору, причем как автору
новелл и романов, так и теоретического труда
«Размышления и заметки женевского художника». Аббат Релав,
например, был убежден, что бессмертие Тёпферу
принесут не порождения его богатого воображения, не
новеллы и альбомы, а «Размышления» — «лучшее
произведение об искусстве, когда-либо написанное на фран-
9 Tôpffer R. Réflexions et menus-propos d'un peintre
genevois ou essai sur le beau dans les arts, précédés d'une
notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur par Albert
Aubert. Paris, 1853, p. 7.
10 Blondel A., Mirabaud P. R. Tôpffer. L'écrivain, Fartiste
et l'homme. Paris, 1886; Relave L'abbé. La vie et les
œuvres de Tôpffer. Paris, 1886.
Родольф Тёпфер — новеллист и художник 383
цузском языке» ll. Как выдающийся
художник-карикатурист Тёпфер был вторично (после Гете) открыт,
только в начале XX в. Его называют одним из
основоположников современной карикатуры и иллюстративной
графики, «отцом» получивших широкое распространение
рисованных комических серий («комиксов»), ставят
в один ряд с такими выдающимися
художниками-сатириками, как Уильям Хогарт, Оноре Домье,
Вильгельм Буш 12.
Восприятие Тёпфера в работах швейцарских авторов
первой половины XX в. шло под знаком прославления
его как певца гельветской исключительности и
противопоставления Жан-Жаку Руссо. «Тёпфер, — писал П. Ша-
поньер в книге с характерным названием «Наш
Тёпфер» (1930), — это Жан-Жак, который чувствует себя
любимым и предпочитает радоваться жизни, а не
страдать от нее» 13. Противопоставление «своего» Тёпфера
«перебежчику» Руссо можно найти и в других
швейцарских работах этого времени — книгах Ф. Моннье 14,
Ж.-Б. Бувье 15, П. Куртиона16, М. Ганьебен 17. Их
авторы умиляются безмятежной идилличности, которая
11 Relave L'abbé. Op. cit., p. 215.
12 См. работы: Schur E. Rudolf Tôpffer. Berlin, 1912;
Kossmann F. K. H. R. Tôpffer. Citoyen et artiste suisse.
1799—1864. Rotterdam, 1948.
13 Цит. по: Tôpffer Rodolphe. Nouvelles. Lausanne, 1974,
p. 207.
14 Monnier Ph. La Genève de Tôpffer. Genève, 1914.
15 Bouvier J.-B. Essai sur l'histoire intellectuelle de la
Restauration. Du romantisme à Genève. Neuchâtel. Paris,
1930.
16 Courthion P. Genève et le portrait des Tôpffer. Paris,
1930.
17 Cagnebin M. Rodolphe Tôpffer. Neuchâtel, 1947,
384
В. Д. Седельник
якобы царит в романах и новеллах Тёпфера,
восхищаются его даром соединять приятное с полезным, шутку
с нравоучением, сердечное чувство с голосом разума,
отмечают его бюргерское благоразумие и приверженность
идеалам «малого государства», придерживающегося
политического и духовного нейтралитета. Уязвимые
стороны Тёпфера — провинциализм, политический
консерватизм — прославляются как достоинства писателя и —
шире — как национальные добродетели швейцарцев.
В работах последнего времени жизнь Тёпфера,
напротив, уже не воспринимается как нечто безмятежно
идиллическое, а в созданных им образах выискиваются
«теневые стороны», следы вытесненных тревог, сомнений
и страхов. «Его творчество отличается душевной
чистотой, — пишет женевский ученый А. Берхтольд, — но
есть в нем свои «подводные течения», свои соблазны и
страхи» 18. Современный романдский писатель Жак Бю-
энзо, называя Тёпфера «счастливым моралистом»,
вместе с тем отмечает, что ему были ведомы приступы
черной меланхолии, глухого отчаяния и безысходности, что
часть его произведений, в первую очередь альбомы
карикатур и фантастические «романы» —г это попытки «уйти
от проблем времени, найти приют в фантазиях и
мечтах» 19.
Можно усомниться в правомерности попыток
«осовременить» Тёпфера, увидеть в творчестве писателя первой
половины XIX в. симптомы теперешнего состояния
буржуазной литературы — историческую бесперспектив-
18 Berchtold A. La Suisse au cap du XX-e siècle.
Lausanne, 1963, p. 382.
19 Buenzod, Jeacques. Postface. Dans: Tôpffer Rodolphe.
Nouvelles, p. 209.
Родольф Тёпфер — новеллист и художник 385
ность, внутреннюю ущербность и разорванность. Но
одно несомненно: Родольф Тёпфер как личность и как
художник был сложнее, глубже и значительнее, чем
представлялось до сих пор. Своеобычность женевского
писателя коренится не только в «местном колорите»,
каким бы ярким и неповторимым он ни был, но и в
сложном переплетении человеческой судьбы и творческого
пути, взятых в единстве и цельности и связанных
с историческими судьбами Швейцарии и Женевы.
В творчестве Тёпфера, выросшем на скудной,
неблагоприятной для творений духа гельветской почве., нашли
специфическое преломление многие аспекты
идейно-эстетической борьбы, не утратившие для Швейцарии своей
актуальности и в наши дни.
//
Родольф Тёпфер называл себя «ровесником» и
«братом-близнецом» девятнадцатого столетия. Он родился
12 плювиоза седьмого года республики (31 января
1799) в Женеве, отторгнутой за год до этого от
швейцарской федерации и ставшей административным
центром нового французского департамента Леман20. Буду-
20 Женева, с XVI в. примыкавшая к Швейцарии в
качестве «союзной земли», была аннексирована
Францией в 1798 г., когда французские войска вступили
в Берн, и старая конфедерация перестала
существовать. Вместо нее была провозглашена созданная по
французскому образцу «Гельветическая республика»,
однако новый режим столкнулся с растущим
сопротивлением швейцарцев, и в 1803 г. Наполеон I
специальным «Актом о медиации» восстановил в стране
прежнее государственное устройство. После крушения
наполеоновской империи Женева в 1815 г. вошла в
состав Швейцарии на правах кантона.
25 Родольф Тёпфер
386
В. ГД. Седельник
щий писатель появился на свет в старом доме за
собором святого Петра, близ епископской тюрьмы, в том
самом «доме французского благотворительного общества»,
который так выразительно описан в «Библиотеке моего
дяди». Дед писателя, портной Георг Кристоф Тёпфер,
был выходцем из Германии, он переселился в Женеву
в 1764 г., женился на уроженке этого города и
постепенно натурализовался. Отец Тёпфера, Вольфганг Адам
Тёпфер, сумел вырваться за пределы ремесленнической
среды — стал сначала гравером по меди, потом
живописцем. Человек талантливый, пытливый и трудолюбивый,
он до всего доходил своим умом, много путешествовал
и всю жизнь учился. Его пейзажи и жанровые картины
из городской и сельской жизни пользовались спросом и
ценились знатоками не только в Женеве. В 1807 г. он
был приглашен в Тюильри давать уроки живописи
императрице Жозефине. Однако гордый республиканец
остался равнодушным к искушениям двора, и уже через
год его снова можно было встретить на улицах Женевы.
Как истинный швейцарец, Тёпфер-старший не
признавал классицизма, черпал свои сюжеты из жизни
демократической «нижней» части города и считал основными
принципами искусства верность природе, естественность
чувства и простоту выражения.
Родольф унаследовал от отца художественное чутье
(или, как он говорил, «росток изящных искусств»),
страсть к путешествиям, редкостное трудолюбие и
недюжинный талант рисовальщика. Он сохранил на всю
жизнь любовь к идиллическим женевским и савойским
пейзажам, но, в отличие от Тёпфера-старшего, развил
в себе вкус к карикатурно-юмористическому
воспроизведению жизни. Стать художником Родольф мечтал
Родолъф Тёпфер— новеллист и художник 387
с детства: его ученические тетради полны рисунков,
набросков, карикатур. Отец поддерживал и развивал
в сыне эту склонность. Во время продолжительных
прогулок Тёпфер-старший учил сына наблюдать природу,
схватывать интересные жанровые сценки, запоминать
выражения лиц, замечать характерные типы. Дома, в
мастерской, Родольф восхищенными глазами следил за
тем, как под умелой рукой отца только что сделанные
эскизы превращаются в законченные картины.
Вольфганг Адам Тёпфер был в Англии, когда его
шестнадцатилетний сын написал ему о своем
окончательном решении стать художником. Одобрение и
поддержка отца были безоговорочными. Вернувшись в
Женеву, живописец возобновил регулярные занятия с
сыном, правда, не разрешая ему до посещения Италии
писать маслом — так было принято в то время. К
девятнадцати годам Родольф почти ни в чем не уступал
отцу как художник, его акварели легко находили
покупателя, казалось, перед молодым художником
открывается блестящее будущее. К этому времени он закончил
кальвиновский коллеж, где выделялся разве что
прилежанием да талантом карикатуриста. Но мечтам о
карьере живописца не суждено было сбыться: помешала
неожиданно подкравшаяся болезнь глаз. Вместо
желанной Италии Тёпфер попадает в Париж — чтобы
проконсультироваться у столичных специалистов по глазным
болезням и подумать на досуге, как жить дальше. Он
ходит на лекции по литературе в Сорбонну, посещает
музеи, театры, выставки, проводит вечера со
сверстниками — земляками. От мысли о живописи пришлось
отказаться. В Париже он провел год — с весны 1819 по
лето 1820. Это было важное для внутреннего станов-
25*
388
В. Д. Седельник
ления Тёпфера время, он учится всегда и везде — читая,
отдыхая, разглядывая прохожих во время прогулок. Как
и отец, он остается неподвластным соблазнам большого
города, остается швейцарцем — замкнутым, немного
робким, себе на уме. Поразительный документ внутренней
жизни молодого женевца — его дневник. Страстью к
ежедневному обязательному разбору своих поступков и
мыслей Тёпфер напоминает Толстого. Он не ложился спать,
не подвергнув пристрастному анализу свое поведение за
прошедший день. Биографов писателя поражала
предельная искренность юноши перед самим собой, зрелость
суждений и самостоятельность в вопросах литературы
и искусства.
В Париже Тёпфер решил стать педагогом.
С конца XVIII в. в Швейцарии процветали учебные
заведения, предназначенные для воспитания детей из
богатых семей. Европейской известностью пользовались
пансионы, основанные Песталоцци, Фелленбергом,
Жираром. Но в Женеве были пансионы и поскромнее.
Однако и они давали своим хозяевам возможность
безбедной жиз^ни. Закончив Женевскую Академию, Тёпфер
для начала стал работать младшим учителем в пансионе
пастора Хайера и быстро вжился в новую роль, которая
пришлась ему по душе. Потом, в конце 1824 г., он,
женившись на девушке из состоятельной семьи, основал
собственный пансион — «институт Тёпфера» — и почти
сразу же оказался во главе процветающего заведения,
насчитывающего около 40 воспитанников из разных
стран — Англии, Германии, Франции, Греции, России и
даже из Америки. Он жил вместе со своими
воспитанниками, вместе с ними совершал дальние походы с
ночевками на постоялых дворах, и ни днем, ни ночью не
расставался с карандашом и бумагой, делая зарисовки,
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник 389
обдумывая подписи к ним. Став педагогом, он не
перестал быть художником.
Прежде чем стать педагогом, молодой Тёпфер
пробовал свои силы на литературном поприще. Сначала
издатель «Женевского альманаха» отверг — за дерзость
и остроту — его басню «Горшки», высмеивавшую быстро
разбогатевших выскочек из низшего сословия. Потом
неудачей закончилась попытка издать политические речи
Демосфена: книга, содержавшая параллельно греческий
текст и его французский перевод и снабженная
комментарием 21, не выдерживала сравнения с однотипными
немецкими изданиями. Все же филологические штудии
принесли начинающему автору немалую пользу: он
внимательно изучил речи Демосфена в переводах Поля-Луи
Курье, замечательного французского писателя и
публициста, и следы этих занятий можно отыскать в приметах
стиля зрелого Тёпфера.
Вопросы литературного стиля всерьез занимали
молодого Тёпфера; от Курье он перешел к французским
классикам XVI в., к Монтеню и Рабле. Если учесть, что
в детстве он зачитывался «Энеидой» Вергилия,
«Приключениями Телемака» Фенелона и пасторалями Фло-
рианаг, а в юности прошел через страстное увлечение
Руссо, то легко представить, на каких образцах
складывался его слог и какие идеи он проповедовал в своих
сочинениях. В брошюре, посвященной разбору
женевской выставки 1826 г., Тёпфер призывал художников
отказаться от классицистической регламентации,
вернуться к простоте и естественности природы. Тогда по-
21 Harangues politiques de Démosthène, recueil. *, publié
avec une introduction, des commentaires et une carte de
la Grèce par Rodolphe Tôpffer. Genève, 1824.
390
Б. Д. Седельник
добные взгляды казались ересью и вызвали резкую
отповедь. Но Тёпфер оставался при своем мнении. Он
продолжал откликаться на все значительные события
художественной жизни Женевы, записывал свои мысли
о природе и предназначении искусства, в том числе
литературы, и со временем из этих заметок выросла
вышедшая посмертно книга «Размышления и заметки
женевского художника» — книга, которой не в малой
степени обязана своей славой «женевская школа»
живописи во главе с А. Каламом, другом Тёпфера.
Своими ежегодными путешествиями вместе с
учениками Тёпфер вписал новую страницу в историю
женевской педагогики; до него подобные экскурсии не
совершались столь регулярно, после него. стали
неотъемлемым элементом воспитательной работы швейцарских
пансионов. Учащимся так полюбились эти походы с
талантливым н требовательным воспитателем, что многие
из них такое путешествие предпочитали каникулярюй
поездке на родину. Вместе с воспитанниками Тёпфер
вел очень своеобразный «гтутевой журнал», который
потом лег в основу первой серии альбомов «Путешествия
зигзагами» (Voyages en zigzag). Альбомы, содержавшие
рисунки с подписями, были своего рода рисованными
отчетами о путешествии и предназначались для
домашнего пользования. Они, пожалуй, так и остались бы
семейной реликвией, если бы не визит друга детства и
юности Фредерика Соре, ставшего воспитателем детей
великого герцога Веймарского. Живя в Веймаре, он был
вхож в дом Гете, перевел — под присмотром автора —
на французский язык его «Метаморфозы растений»,
сблизился с Эккерманом. Ему-то он и поведал о
необычных альбомах, поразивших его воображение.
Побывав вскоре в Женеве, секретарь Гете сам убедился
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник 391
в справедливости слов Соре, и они вместе уговорили
женевца показать альбомы Гете. Гете дал им высокую
оценку и посоветовал опубликовать.
Особенно поразила Гете серия комических рисунков
на очень близкую ему тему — о докторе Фаусте. Эккер-
ман пишет об этом (4 января 1831 г.): «Я
перелистывал вместе с Гете тетради рисунков моего друга Тёп-
фера из Женевы. .. Тетрадь, содержащая в себе
приключения доктора Фестюса, изображенные в виде легких
рисунков пером, производит законченное впечатление
комического романа, и она особенно понравилась Гете.
«Это действительно забавно! — восклицал он время от
времени, перевертывая листы. — Все это сверкает
талантом и остроумием! Некоторые рисунки — совершенство
в своем роде! Если бы на будущее время он стал
избирать менее фривольные сюжеты и сумел достигнуть
несколько большей сосредоточенности, то он мог бы со-
22
здать вещи, стоящие выше всяких похвал» .
Одобрение Ееликого писателя окрылило Тёпфера.
В конце 1831 г. он посылает в Веймар еще несколько
своих тетрадей — комические романы, альбомы
путешествий. И снова Гете не скупится на похвалы, о чем
свидетельствует запись Эккермана от 5 января 1832 г.:
«От моего друга Тёпфера из Женевы получено
несколько новых тетрадей с рисунками пером и акварельными
картинами, главным образом швейцарскими и
итальянскими ландшафтами, которые он нарисовал, путешествуя
по этим странам. Гете был поражен красотой этих
рисунков и в особенности акварелей. «Мне кажется, —
сказал он, — я вижу перед собой произведения
знаменитого Лори». Я заметил, что это еще далеко не самое
22 Эккерман И. Я. Указ. соч., с. 831—832.
392
В. Д. Седельник
лучшее из того, что сделал Тёпфер, и что он мог бы
прислать еще более замечательные вещи. — «Я не
понимаю, чего вы еще хотите! — возразил Гете. — Что
может быть еще лучше! и что я мог бы еще сказать,
если бы у него действительно нашлось что-нибудь еще
лучше! Раз художник достиг определенной высоты
совершенства, то становится уже более или менее
безразличным, что одно произведение удалось ему немножко
лучше, чем другое. В каждом из них знаток видит руку
мастера и всю полноту его таланта» 23.
Вдохновленный и растроганный потоком похвал,
Тёпфер решает показать Гете и свои литературные опыты:
он посылает в Веймар экземпляр только что вышедшей
новеллы «Библиотека моего дяди» (среднюю часть
одноименной повести), снабдив ее собственноручно
выполненными на полях многочисленными иллюстрациями. Но
эта посылка уже не застала адресата в живых. Гете
так и не успел высказать свое суждение о прозе Тёп-
фера. Но работа художника не пропала даром — рисунки
легли в основу иллюстрированного издания «Женевских
новелл», вышедшего в Париже в 1845 г.
Суждение Гете продолжало оказывать свое влияние
и после его смерти. Эккерман и Соре опубликовали
в последнем номере гетевского журнала «Искусство и
древность» большую статью о рисунках и акварелях Тёп-
фера24. Вместе с широкой известностью к нему пришла
уверенность в своих силах. Он пишет новеллы
«Наследство», «Страх», «Элиза и Видмер», усиленно работает
над романом «Пасторский дом» — первым своим крупным
23 Там же, с. 843.
24 Uber Kunst und Altertum. Zeitschrift von Goethe.
J3d. VI. Heft 3. Stuttgart, 1832, S. 552 ff.
Родольф Тёпфер — новеллист и художник 393
произведением, создает и публикует новые серии
путевых альбомов и комические романы. Городские власти
воздают должное знаменитому земляку — в 1832 г. он
становится профессором риторики и литературы
Женевской Академии. Необходимость еженедельно готовиться
к очередной лекции стимулирует работу над книгой по
теории искусства. Накапливаются новеллы, и Тёпфер
подумывает об издании сборника. Об этом говорит
необыкновенная активность писателя в 1837 г., когда было
опубликовано пять новелл—«Два узника», «Путь за
океан», «У Жерского озера», «Трианская долина» и
«Генриетта». В самом начале 1838 г. выходит в свет
повесть «История Жюля» (Histoire de Jules),
получившая позже название «Библиотека моего дяди». Выходит
в Женеве, о Париже писатель пока и думать не смеет.
И снова счастливый случай помогает Тёпферу. Его
«крестными отцами» в литературе становятся
французский писатель, дипломат на русской службе граф Ксавье
де Местр и критик Ш.-О. Сент-Бёв.
Еще в 1833 г. в руки де Местра попали две
новеллы — «Библиотека моего дяди» и «Пасторский дом»
(первая часть тогда еще не написанного одноименного
романа). Они понравились маститому писателю, и он
попросил одного из своих женевских друзей поздравить
автора с успехом. Обрадованный неожиданной
поддержкой, Тёпфер послал де Местру две своих брошюры,
составившие позже первые книги «Размышлений и заметок
женевского художника». Завязалась переписка 2б, и Т§я-
фер стал посылать де Местру все свои сочинения.
Когда парижский издатель Шарпантье попросил де Местра
25 Эта переписка так и не была опубликована:
наследники выполнили последнюю волю корреспондентов,
394
В. Д. Седельник
прислать для публикации новые сочинения, тот
посоветовал издать новеллы Тёпфера, которые были близки
ему по духу и творческой манере. Тёпфер не возражал:
быть изданным в Париже для швейцарца, пишущего по-
французски, — большая честь. К тому же как раз в это
время он готовил к изданию свои новеллы в Женеве.
Однако и Тёпфера, и Шарпантье опередил
немецко-швейцарский писатель Генрих Цшокке: в 1839 г. он
опубликовал рассказы Тёпфера в своем переводе на немецком
языке, снабдив их доброжелательным предисловием и
удачным названием — «Женевские новеллы»26.
Женевский сборник, включавший в себя, наряду с новеллами,
несколько критических эссе, вышел только в 1840 г.27
Парижское издание появилось годом позже. Ему было
предпослано в качестве предисловия рекомендательное
письмо де Местра, в котором он настойчиво советовал
издателю опубликовать новеллы Тёпфера, «... которые
могли бы быть продолжением моих собственных.
Будучи не в состоянии предложить вам вещи, которые я не
смог написать, рекомендую вам эти, которые я хотел бы
написать» 28.
В высшей степени положительный отзыв новеллам
дал, как уже отмечалось, Сент-Бёв; он познакомился
с ними задолго до публикации в Париже, а когда они
вышли в свет, сразу же откликнулся на это событие
большой статьей в журнале «Revue des deux mondes»
(15 mars 1841).
давших друг другу зарок никогда не предавать
гласности свои письма.
26 Tôpffer Rudolph. Genfer Novellen, 2 Bande. Aarau,
1839.
27 Tôpffer Rodolphe. Nouvelles et mélanges. Genève, 1840.
28 Tôpffer Rodolphe. Nouvelles genevoises.. Paris, 1841, p. 5.
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник 395
Коммерческий успех превзошел все ожидания, тираж
разошелся в несколько недель, и к Тёпферу пришла
слава, которую он встретил достойно, как и подобает
истинному женевцу, руководителю преуспевающего
пансиона и уважаемому отцу семейства. Его избирают
в Большой совет (местный парламент), он один из самых
уважаемых людей города, к его голосу — о чем бы он
ни писал в женевской «Bibliothèque universelle»: о
литературе, живописи или политике, — почтительно
прислушиваются. Но пик уже пройден, все лучшее создано,
начинается стремительный закат. Закат физический: в это
время впервые дают о себе знать симптомы роковой
болезни печени, безвременно сведшей его в могилу. Закат
литературный: после 1841 г. он написал только
сентиментально-патетический роман «Роза и Гертруда», одно
из самых слабых своих произведений. Закат
политический: связав свою судьбу с консерваторами, он упорно
и не без ущерба для творчества противился духу
исторических перемен.
О политических взглядах Тёпфера следует сказать
особо. Детство и юность писателя пришлись на смутную
пору вассальной зависимости Швейцарии от Франции
(1798—1815), а вся сознательная жизнь прошла в
период Реставрации (1815—1830) и последующие годы
ожесточенной борьбы радикально настроенной буржуазии
с консерваторами и умеренными либералами. Сам он —
по семейным традициям и по убеждениям — был
«человеком Реставрации» и остался им до конца жизни.
Свидетель агонии старого общественного строя, он в борьбе
нового с отжившим безоговорочно принял сторону
противников нового, консерваторов. Конечно, как это часто
случается, Тёпфер-художник был более чуток к ходу вре-
396
Д Д. Седельник
мени, чем Тёпфер-политик. Идейно-художественная
позиция Тёпфера не может быть сведена к политическому
консерватизму, она связана со всем комплексом
противоречий гельветской действительности.
Идея гельветического «своеобразия», поддерживаемая
особенностями исторического развития и общественного
устройства Швейцарии, веками жила в сознании ее
жителей, помогала бороться против феодального гнета, за
независимость. Но борьба кантонов за свои права уже
в давние времена носила двойственный характер: по
словам Ф. Энгельса, она была «борьбой упрямых
пастухов против напора исторического развития, борьбой
косных, застывших местных интересов против интересов
всей нации, борьбой невежества против образованности,
варварства против цивилизации»29. Теперь же, в
первой половине XIX в., реакционность партикуляристских
устремлений выступала особенно отчетливо благодаря
резкому размежеванию общественных сил — тут не
помогали ни наивная приверженность к патриархальным
устоям, ни сентиментально-романтическое «народолю-
бие».
Будучи традиционалистом, Тёпфер не принимал
нового, боялся народных волнений. Он был активным
противником революционного движения, оставаясь
в то же время республиканцем и демократом. Понимая,
что дорогое его сердцу патриархальное прошлое вряд ли
удастся возродить, он впадал то в ярость, то в тихую
меланхолию. Его раздражало само слово прогресс:
«Прогресс и холера, холера и прогресс, две напасти, не
не известные в старину» 30.
29 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2-е, т. 4, с. 351.
30 Tôpffer Rodolphe. Mélanges. Paris, 1852, p 139.
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник 397
Но Тёпфер искренне любил народ, считал себя
«человеком из народа» и гордился этим. Он искренне любил
старую Женеву, которая на его глазах утрачивала былое
своеобразие, богатела и превращалась в европейский
караван-сарай, в «маленький Париж». Зорким глазом
художника он подмечал пороки политического
радикализма, ущербность буржуазной прессы, буквально
«нутром» (недаром его называли «инстинктивным
консерватором») ощущал нравственную несостоятельность и без*
духовность рвущейся к власти средней и мелкой
буржуазии. В Швейцарии он видел две Швейцарии,
старую и новую, и его симпатии были безраздельно на
стороне старой, которую он идеализировал и недостатков
которой не замечал. «Есть Швейцария подлинная, которая
остается дома — писал он, — и Швейцария торгашей,
которая носится по свету; есть простая горная страна — и
есть страна диковинная, чудодейственная, эффектная;
Швейцария естественная, древняя, спокойная"—и
Швейцария искусственная, современная, шумная, меняющаяся
на глазах, показная, Швейцария сфабрикованная... и,
что хуже всего, сфабрикованная в Париже. Увы!» 31
О 1815 г, в Женеве правили богатые
аристократические семьи, с которыми Тёпфер — сын известного
художника и сам художник, профессор Академии и
парламентарий — поддерживал дружеские отношения. В
течение всего периода Реставрации патрицианская
олигархия отчаянно сопротивлялась историческим
переменам, но под напором радикальных элементов,
поддерживаемых народными массами, все чаще шла на уступки.
В лагере консерваторов не было единства, среди них
были и сторонники умеренных реформ, и приверженцы
31 Цит. по: L'abbé Relave. Op. cit., p. 112.
398
В. Д. Седельник
сильной власти и скорой расправы с радикалами. К этой
группировке, возглавляемой ректором Женевской
Академии де Ларивом, примыкал и Тёпфер. Чтобы словом
и делом поддержать свою партию, терпящую поражение
за поражением, больной писатель, оставив другие дела,
основывает в январе 1842 г. газету «Le Courrier de
Genève» и на ее страницах ведет ожесточенную борьбу с
радикальными изданиями — «Le Journal de Cenève», «Le
Représentant», «Le Diable boiteux».
Тёпфер был не только душой нового печатного
органа, его главным редактором, но и основным
поставщиком статей. Его выпады против политических
противников отмечены временами былым остроумием, но все же
ведущим чувством теперь выступает гнев, а главным
«аргументом» — призыв к скорейшей расправе со
смутьянами и инакомыслящими. Своей журналистской
активностью он нажил себе немало врагов и снискал
печальную репутацию ограниченного реакционера. От
политической линии газеты вынуждены были
отмежеваться даже умеренные консерваторы, стоявшие в то
время у власти, и весной 1843 г. она прекратила свое
существование.
Поражение тяжело подействовало на писателя, и без
того отягощенного болезнью и сомнениями. Усилились
настроения обреченности, он чувствовал, что сражается
не в том лагере. Приступы болезни влекут за собой
приступы отчаяния и мрачного юмора. Тёпфер ищет
утешения в религии (это проявилось в романе «Роза и
Гертруда») и в работе. Осенью 1845 и зимой 1846 г. он
полностью переделал комический роман «Г-н Крипто-
гам», закончил серию сатирических рисунков «История
Альбера», направленных против радикалов и их прессы.
Поездки на курорты не принесли облегчения. Тёпфер
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник 399
сначала освободился от пансиона, дела которого шли
теперь далеко не блестяще, так как политические
воззрения владельца не способствовали притоку новых
воспитанников. Потом отказался от чтения лекций в
Академии. Последние месяцы живни он целиком отдался своей
давней страсти — живописи маслом; художник А. Калам
помогал ему советом и делом. Это была последняя
радость в жизни Тёпфера. 8 июня 1846 г. он умер, не
дожив нескольких месяцев до победы радикалов, до
торжества ненавистной ему торгово-промышленной
буржуазии (в Женеве буржуазные порядки восторжествовали
в октябре 1846 г., на год раньше, чем в других кантонах
Швейцарии),
///
Во всех историях литературы французской Швейцарии
можно найти утверждение о царившем в Женеве духе
кальвиновского пуританизма, о всепронизывающей
религиозности и суровой серьезности, о решительном
преобладании и превосходстве ученых над людьми
искусства. На этом фоне грациозный талант Тёпфера
кажется редким, даже редкостным исключением из
правила. И все же мрачная характеристика
интеллектуальной и культурной жизни Женевы, пожалуй, несколько
преувеличена; справедлива она только по отношению
к «верхнему» городу, к богатым патрицианским
кварталам.
Простой народ Женевы, рабочий и ремесленный люд
искони отличался насмешливым складом ума.
Обитатели «нижнего» города умели остроумно и хлестко
высмеять чванливых аристократов, неразборчивых в
средствах парвеню, вовсю потешались над захлестнувшей го-
400 В. Д. Седельник
род англоманией, — совсем как в новеллах и рисованных
циклах Тёпфера.
Особой популярностью у горожан пользовался так
называемый «Женевский погребок», нечто вроде
современного кабаре, в котором со стихами и сатирическими
куплетами выступали местные «соперники Беранже»,
поэты и шансенье Ж.-П. Шапоньер, Э.-Ж. Годи Лефор,
Ж.-А. Пти Сенн. Но женевцы, в отличие от своих
парижских собратьев, никогда не посягали на основы
государства, а тем более на религию. Они, как правило,
в своих «сатирах» редко шли дальше добродушной
насмешки и остроумного, но безобидного шаржа. Тоже
совсем как в новеллах и комических романах Тёпфера.
Органическая связь тёпферовского юмора с комико-
сатирической стихией женевского простонародья не
вызывает сомнений. Чтобы убедиться в этом, достаточно
перечитать новеллы «У Жерского озера» и «Антернский
перевал» с их комизмом ситуаций и выразительными
образами савойских крестьян или английских
путешественников, шаржированных в духе женевской народной
смеховой традиции. В основу многих эпизодов положены
анекдоты и шутки, имевшие хождение в Женеве первой
трети XIX в. Вот, например, простодушный пастух,
^добрый малый», желая отговорить рассказчика от
опасного перехода, рассказывает о недавнем трагическом
случае на Антернском перевале: «Не прошло и недели, как
у Пьера там пропали две свиньи и жена тоже. Она их
гнала с ярмарки в Самуане. Да свиньи какие
откормленные! Хоть бы она продала их, по крайности деньги
были бы целы!» (250). Откормленные свиньи для
«доброго малого» важнее незадачливой жены Пьера — такова
логика прижимистого крестьянина (и, добавим, логика
грубоватого анекдота).
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник 401
Значительно тоньше и мягче юмор в «Библиотеке
моего дяди»; здесь он связан не столько с комическими
ситуациями (хотя и они имеют место: вспомним
вторжение Жюля в мастерскую художника или его
«болезнь», которой он дурачит дядю), сколько с образом
рассказчика, с постоянным присутствием автора,
который, повествуя о сердечных переживаниях и
злоключениях своего героя, добродушно-снисходительно
посмеивается и над его окружением, и над ним самим.
Один из главных элементов художественной
структуры большинства образов «Женевских новелл» — шарж.
Шарж то легкий, «дружеский», как в случае с дядей
Томом, старым ученым, который «больше верит наукам, чем
жизни. Он скорее готов усомниться в собственном
существовании, чем в безоговорочно принятой им
какой-нибудь туманной философской доктрине» (76); то
язвительный, граничащий с карикатурой, как в случае
с «целомудренным до крайности» учителем Ратеном,
человеком почтенным и смешным, важным и комичным,
внушавшим одновременно и «уважение к себе, и
желание подшутить над ним» (16). Степень шаржирован-
ности того или иного образа видна и в тексте, и
особенно в авторских иллюстрациях к нему. Давно
замечено, что Тёпфер-новеллист мягче, задушевнее Тёпфера-
карикатуриста, однако и тут и там мы видим один и
тот же тип восприятия и художественного воссоздания
жизни—карикатурно-юмористический. Тёпфер верен
этому типу во всех своих лучших произведениях —
«Женевских новеллах», «Путешествиях зигзагами»,
комических рисованных романах.
Почти полтора столетия, прошедшие со времени
создания «Женевских новелл», позволяют сегодня со всей
определенностью сказать, что именно юмор Тёпфера
26 Родольф Тёпфер
402
В. Д. Седельник
помогает им выдерживать нелегкое испытание временем
и сохранять привлекательность для читателя.
Случайно ли, что серьезные вещи Тёпфера, которыми
восхищались в прошлом столетии, — романы «Пасторский
дом» и «Роза и Гертруда» — кажутся теперь
безнадежно устаревшими, надуманными, просто скучными? В иих
Тёпфер отказался от своего неотразимого оружия, —
юмора, который в иных случаях помогал ему подняться
над безвременьем эпохи Реставрации, над самим собой.
Роман «Пасторский дом» (два тома, пять книг)
потребовал от Тёпфера семи лет напряженного труда:
1832—1839. Одно это говорит о значении, которое
писатель придавал своему детищу. Он пытался в нем
утвердить свои идеалы, запечатлеть картины старой,
уходящей в прошлое Женевы, проникнуть в глубины
человеческого сердца. В романе рассказана трогательно-
трагическая история двух влюбленных — сиротьмтодки-
дыша Шарля, воспитанного добрым деревенским
священником Превером, и Луизы, дочери дьячка Рейба,
человека честного, но недалекого. Молодые люди любят
друг друга любовью нежной и невинной, как и положено
чувствительным героям сентиментального романа,
написанного не без влияния «Поля и Виргинии» Бернардена
де Сен-Пьера. Все усилия благородного пастора
обеспечить их счастье разбиваются о тупое упрямство дьячка
и козни некоего Шампена, привратника из Женевы, где
учится в семинарии Шарль. В письмах к своему старому
другу Рейба (три средние книги романа целиком состоят
из писем) Шампен злобно клевещет на Шарля и
расстраивает его брак с Луизой. Девушка в отчаянии
умирает.
Вина за безжалостно разрушенную идиллию
возлагается, таким образом, на привратника Шампена, который
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник 403
к тому же оказывается бывшим якобинцем. Из-за него
юные герои не могут жить по законам природы и
добродетели. Корень зла, оказывается, в революции,
докатившейся до Женевской республики и взбудоражившей
ее безмятежно-идиллическую жизнь. Таков «урок»,
который консерватор Тёпфер хотел преподать
современникам своим романом. Он отказался в нем выставить
в смешном свете то, что действительно было достойно
осмеяния — заскорузлые патриархальные представления,
средневековую ограниченность сознания. История в
отместку сама посмеялась над художником, повернувшимся
к ней спиной: в наши дни роман «Пасторский дом»
читается как пародия на самое себя, на те идеалы и
представления, которые казались писателю священными и
незыблемыми.
В еще большей мере политическая близорукость
обернулась художественными просчетами в романе «Роза и
Гертруда», задуманном как иллюстрация религиозной
мысли о неизбежности победы простодушно покорных,
слепо верующих слуг божьих над лукавыми и
безнравственными безбожниками. Центральной фигурой и здесь
выступает женевский священник, от имени которого
ведется повествование. Авторского присутствия, такого
насыщенного в новеллах, здесь почти не ощущается. Бо-
голюбивое добронравие пастора Бернье — единственная и
высшая мера авторской оценки описываемых событий.
В довольно сложной сюжетной схеме романа много
совпадений с «Клариссой» Ричардсона, любимым
романом Тёпфера, а в общей тональности повествования и
в образе пастора Бернье чувствуется влияние «Векс-
фильдского священника» Гольдсмита. Пастор встречает
в Женеве двух попавших в беду немецких девушек. Одна
из них, Роза, вышла против воли родителей замуж и.
404 В. Д. Седельник
бежала из дома с богатым и знатным повесой, который
при первом же удобном случае бросил ее без всяких
средств к существованию в незнакомом городе; другая,
Гертруда, тоже без ведома и согласия родителей
последовала за своей подругой, чтобы не оставлять ее одну
в рискованном предприятии. Бернье берет заблудших
девушек под свое покровительство, возвращает их
в лоно церкви, оберегает от соблазнов города. В конце
романа Роза умирает (слишком глубоким было ее
«грехопадение»), а Гертруда становится женой сына
пастора. Добро и благонравие торжествуют над злом и
развращенностью нравов.
Надуманность ситуаций, заданность характеров,
несамостоятельность образной системы и композиционной
структуры, замеченные уже современниками, говорят
о том, что жанр романа, вообще серьезная большая
проза не были сильной стороной таланта Тёпфера. Иное
дело небольшие по размеру новеллы и повести, путевые
зарисовки, психологические этюды, основанные на
личном душевном опыте и окрашенные неповторимым тёп-
феровским юмором. Тут он в своей стихии, тут
добивается — может быть, неожиданно для себя самого —
значительных успехов.
Истинное значение Тёпфера-юмориста было осознано
только в XX в., когда выяснилось, что в своих
новеллах и особенно в альбомах карикатур он создал
юмористические типы, сопоставимые по выразительности с
диккенсовскими членами Пиквикского клуба. Швейцарский
историк литературы Г. Кальгари считает даже, что во
Франции юморист, равный Тёпферу, появился только
в лице Анатоля Франса32. Это, разумеется, преувели-
32 См.: Calgari С. Storia délie quattro letterature délia
Svizzera. Milano, 1958, p. 473.
Родолъф Гёпфер — новеллист и художник 405
чение, но родилось это мнение не из одного только
желания превознести своего «национального» художника.
Когда Тёпферу удавалось — благодаря заложенной в нем
творческой энергии — преодолеть ограниченность своего
мировоззрения и избавиться от пут
сентиментально-романтических эстетических установок, когда он давал
волю фантазии и полагался на собственный вкус, тогда
под его пером писателя и рисовальщика действительно
рождались образы и картины, как бы выхваченные из
потока подлинной жизни.
Другой швейцарский литературовед, Ш. Клерк,
наоборот, полагал, что истинно бессмертными новеллы и
комические альбомы Тёпфера делает не юмор, который
«изрядно устарел» 33, а торжество бюргерского
благоразумия. «Сосчитали ли вы, сколько раз на первых
страницах «Библиотеки моего дяди» повторяется слово
воспитание?— спрашивает он. И продолжает: ...одно
наслаждение видеть, как благоразумие берет верх в жизни
молодого художника. В один прекрасный день он забудет
прекрасную англичанку из очень хорошей семьи, так же
как он забыл таинственную еврейку, и женится на
Генриетте, соседке. Этим все сказано» 84.
Разумеется, никак нельзя согласиться с толкованием
смысла тёпферовского творчества как апологии
мещанской ограниченности. Но Ш. Клерк, несомненно, прав
в том, что «Библиотека моего дяди» задумана как
произведение о воспитании личности. (В этом смысле
первое, тёпферовское название повести — «История
Жюля» — точнее соответствовало общему замыслу.) Три
части повести, объединенные образом дядюшки Тома, —
33 Clerc Ch. L'âme d'un pays, p. 96.
34 Ibid., p. 97.
406
В. Д. Седельник
это, по существу, три этапа развития: детство, юность,
молодость На каждом из них герой проходит через
сильное сердечное увлечение. События первой части
(«Два узника») развиваются под знаком детской
влюбленности Жюля в прекрасную англичанку
Люси-г-чувства, ставшего причиной многих «проступков» мальчика,
совершив которые, он спасается бегством в Лозанну, где
временно проживает дядя. Бежит Жюль не только от
нравственного ригоризма педантичного учителя Ратена
и мелких житейских невзгод: в нем как бы совершается
переход из детства в юность, из сферы запретов и
регламентации в царство душевной раскрепощенности.
Стержень второй части («Библиотека») — страстное
увлечение робкого созерцателя Жюля таинственной
еврейкой, которая только дважды появляется в библиотеке
дяди Тома и вскоре умирает от черной оспы, так и не
успев выслушать признание Жюля. Так сразу
повзрослевший от горя Жюль «похоронил свою юность», пройдя
очень существенный этап «воспитания чувств».
В третьей части («Генриетта») Жюль, ставший
живописцем, но оставшийся «человеком из народа», все-
таки преодолевает робость и признается в любви — на
сей раз дочери землемера, соседке Генриетте. Он
женится на ней, разрешив — не без помощи богатой
англичанки Люси — ряд затруднений материального
характера. Повесть заканчивается письмом Жюля к Люси:
он делится с ней горем, вызванным смертью дядюшки.
Люси не забыта, она продолжает занимать мысли и
сердце Жюля.
Существует незаконченный черновой набросок
четвертой новеллы цикла, озаглавленный «Семейная жизнь
Жюля» (Jules marié). В ней Тёпфер хотел
рассказать о жизни героя с Генриеттой, об отсутствии «гармо-
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник
нии сердец» и возникшей в связи с этим опасности
разрыва. Жюль тайком делает копию портрета Люси,
написанного им раньше, неожиданно получает от нее из
Англии письмо с намеком, что она несчастна, встречается
с ней в Италии, но в конце концов прислушивается к
голосу рассудка и возвращается в Женеву. Бюргерское
благоразумие побеждает, но оно же делает Жюля
несчастным, заставляет жить двойной жизнью. «Ни слова
не сказав Генриетте о том, что произошло, я
постарался. ..» 35 — этими словами обрывается набросок
новеллы, так и не написанной Тёпфером. Его наличие
дает основание говорить о незавершенности повести
о Жюле. Хотя и омраченный смертью дядюшки, но в
целом благополучный финал повести писателя,
по-видимому, не удовлетворял. Вопросы воспитания личности,
живущей в согласии с собой и своим окружением,
оставались открытыми.
Не апология мелкобуржуазной ограниченности, а
ностальгия по безвозвратно ушедшему патриархальному
прошлому, по «восхитительным переживаниям» детства
и юности, — вот доминирующее чувство всего
творчества Тёпфера. «Это чувство мы находим во всех
творениях поэзии, и не оно ли является их главным
источником?— писал он в «Библиотеке моего дяди». — Нет
поэта, которого вдохновляло бы настоящее; все они
обращают свои взоры к прошлому. Больше того:
разочарованные в жизни, они влюбляются в прошлое, видят
в нем прелесть, которой не находят в действительности.
Свои сожаления они преображают в красоту и наделяют
Tôpffer Rodolphe, (ouvres complètes. Nouvelles, t. 1.
Genève, 1942, p. 148.
408
В. Д. Седельник
ею свои воспоминания. Так, создавая по своему
произволу прекрасный призрачный мир, поэты оплакивают то,
чего никогда не имели» (29).
В этом пассаже — весь Тёпфер с его разочарованием
в настоящем и влюбленностью в прошлое. Неподлинное,
приукрашенное прошлое необходимо как противовес
бездуховной деляческой действительности, как душевная
терапия от чувства исторической безысходности.
Проницательно заметив, что победа буржуазных
отношений способствует «торжеству власти тщеславия», Тёпфер
отказывался понять, что эти отношения все же шаг
вперед по сравнению с властью патрицианской
олигархии, и винил во всех бедах буржуазно-демократический
«принцип равенства». Такая позиция вытекала, как уже
отмечалось, не из одного только консерватизма Тёпфера,
но также из своеобразия швейцарской идеологии в
целом.
Первая половина XIX в. — эпоха расцвета
европейского романтизма — показала, что в среде «исторически
прочной» швейцарской буржуазии с ее приверженностью
к цеховой организации промышленности и
патриархальному сельскому хозяйству романтическое движение
приобрело специфический характер. В статье «К
характеристике экономического романтизма (Сисмонди и наши
отечественные сисмондисты)» В. И. Ленин на примере
творчества швейцарского экономиста и историка
Ш. Л. Сисмонди (1773—1842) дал блестящий анализ
особенностей и социальных корней
сентиментально-реакционного романтизма вообще и его швейцарской
разновидности в частности.
Учение Сисмонди, писал В. И. Ленин, реакционно и
утопично одновременно, так как он ограничивался
«сентиментальной критикой капитализма с точки зрения
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник 409
мелкого буржуа» 36, не видел тенденций новейшего
развития, «поворачивался к этому развитию задом; его
утопия не предвосхищала будущее, а реставрировала
прошлое. . .» 37
Вскрытые В. И. Лениным черты
консервативно-либерального романтизма были свойственны не только
экономическому учению Сисмонди, но в конечном счете и
всей швейцарской литературе того времени,
характеризуемой устремленностью в прошлое, ограниченностью и
идилличностью. Естественно, на почве
мелкобуржуазной швейцарской действительности не могли развиться
явления, подобные немецкому и французскому
романтизму или «веймарскому классицизму» Гете и
Шиллера. Но непрекращающаяся линия «доморощенного»
просветительского реализма исподволь готовила расцвет
реализма в творчестве И. Готгельфа, Г. Келлера,
К. Ф. Мейера.
В работах литературоведов (и зарубежных, и
отечественных) не раз поднимался вопрос о месте Тёпфера
в развитии швейцарской и — шире — европейской
литературы XIX в. Одни писали о нем, как о запоздалом
сентименталисте, другие рассматривали его как
романтика, третьи — особенно в последнее время —
подчеркивали приверженность писателя реалистическим способам
воссоздания действительности. Но все без исключения
указывали на своеобразие женевца, на несводимость его
творчества к тому или иному литературному
направлению.
В самом деле, швейцарская словесность первой
половины XIX в. «настолько выделяется своими самобыт-
36 Ленин В. И. Поли, собр, соч., т. 2, с. 192*
*7 Там же, с. 240.
410
В. Д. Седельник
ными чертами, что аналогии с другими
западноевропейскими литературами могут быть только
приблизительными, — пишет С. В. Тураев. — Прежде всего бросается
в глаза сочетание тенденций просветительской
литературы, романтизма и формирующегося критического
реализма. .. Существенно важно, что каждая из этих трех
тенденций предстает в швейцарской литературе как бы
в стушеванном виде. Острота конфликта между
художественными направлениями ослабляется или снимается
вовсе. . , романтики не сражаются с классицистами по той
простой причине, что классицизма в Швейцарии не
было» 38.
Наблюдение верное, хотя его можно было бы
дополнить: романтики не сражались с классицистами еще и
потому, что в Швейцарии не было романтизма в том
виде, как он сложился в других странах.
Романтический цветок так и не распустился на швейцарской
почве. Тёпфер критиковал классицистов за схематизм,
не принимал рационализма просветителей, но с еще
большим ожесточением нападал на романтиков. Все
необычное, экстравагантное, исключительное было для него
неприемлемым, достойным осмеяния. В статье «О Жо-
зефе Гомо и некоторых сочинителях драм» он резко
критически высказался о французских романтиках,
прежде всего о Гюго. Гомо — это человек, Homme,
вечный предмет искусства, одновременно изменчивый и
постоянный, величавый и мелочный. Великие писатели —
от Тацита до Мольера и Ричардсона — потому и были
великими, пишет Тёпфер, что хорошо знали душу чело-
38 Тураев С. В. Патриархальные иллюзии швейцарских
романтиков. — В кн.: Неизученные страницы
европейского романтизма. М., 1975, с. 224.
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник
века, побудительные мотивы его поступков, источники
его страстей — и возвышенных, и низменных. Герой же
современных драматургов — это фантом, химера, плод
больного воображения, он живет и действует, подчиняясь
капризу автора, а не логике собственного характера39.
Новеллы самого Тёпфера антиромантичны и по
сюжету (он почти никогда не бывает острым), и по
характерам героев, и по историческому колориту. Нет
у него и характерного для романтиков непреодолимого
противоречия между духовной деятельностью и
материальной жизнью. Он исходит из возможности
гармонического сочетания того и другого, хотя и полагает эту
возможность в добром старом времени.
Разумеется, по своей социально-политической
направленности мироощущение Тёпфера романтично, так как
направлено на сохранение докапиталистического уклада
жизни. Конфликт между романтикой патриархального
прошлого и реальным развитием швейцарского
общества— ведущий конфликт всего его творчества. Но
отсталость общественного развития Швейцарии определила
неразвитость романтизма, стертость основных его
признаков, а то и полное их отсутствие. В новеллах
Тёпфера, например, отсутствуют такие характерные приметы
романтизма, как фантастика, таинственность,
исключительные характеры и необычные жизненные ситуации,
грандиозные страсти и «мировая скорбь».
Показательна в этом отношении новелла
«Наследство». Ее герой, пресыщенный жизнью («Скука — моя
болезнь, читатель!» — 183) молвдой состоятельный пат-
39 См.: Tôpffer Rodolphe. De Joseph Homo et de
quelques fabricants de drames. — Dans: L'abbê Relave. Op.
cit., p. 322.
412
В. Д. Седельник
риций, очень напоминает страдающих «болезнью века»
романтических героев. Он занят только собой и своими
мнимыми недугами, мысль о физическом или
умственном напряжении вызывает у него зевоту. Еще ничего не
совершив, он уже имеет звание полковника
национальной гвардии, его прочат в члены городского совета, он
отказался от должности мэра. С комической важностью
он заявляет, что его цель — проживать доходы, ездить
верхом, жениться, получить наследство, которое
завещано ему богатым родственником.
В первой части новеллы образ героя шаржирован.
Но Тёпферу мало высмеять претенциозность и
напускную экстравагантность молодого бездельника, он хочет
показать процесс его превращения в полезного члена
общества. Для этого надо отказаться не только от
романтической позы, но и от богатого наследства,
научиться жить собственным трудом. Герою это удается.
Случайно попав на пожар, он заражается коллективным
энтузиазмом, побеждает эгоизм и в конечном счете
предпочитает «пошлому обществу светских бездельников
трогательное братство поденщиков и прачек» (203). На
пожаре он встречает бедную молодую девушку, в
которую влюбляется и на которой женится ценой отказа от
богатого наследства. Помощником в устройстве его
сердечных и мирских дел становится рассудительный и
бескорыстный пастор Латур (опять пастор!), благодаря
которому наш герой возвращается к патриархальным
истокам, в среду простых людей, живущих по законам
отцов и дедов.
Необходимость выдвижения положительного
«противовеса» романтической легковесности вынудила писателя
отказаться от юмора. Если пресыщенный жизнью
молодой повеса в начале новеллы смешон, то резонерству-
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник 4l3
ющий апологет стародедовских добродетелей в ее конце
способен нагнать на читателя скуку. Новелла
«Наследство» лишний раз подтверждает чрезвычайно важную
роль юмора в творчестве Тёпфера. Наличие юмора
придает лучшим из «Женевских новелл» современное
звучание, его отсутствие отбрасывает менее удачные в сферу
антиквариата.
Юмор Тёпфера — явление в высшей степени
своеобразное, почти не имеющее параллелей в литературе
Швейцарии и сравнимое, пожалуй, только с юмором Жан
Поля. Сходство этих двух писателей — и по типу
творчества, и по стилю — замечено уже давно 40. Их роднит,
наряду с неистощимым воображением (правда, у
Тёпфера оно в большей мере проявилось в комических
«романах», чем в новеллах), своеобразное сочетание
просветительских идей с принципами сентиментализма, а также
дар юмористического снятия утверждаемой
чувствительности, умение избегать и «романтической иронии», и
сентиментальной слезливости. Юмор Тёпфера, даже если
он временами переходит в едкую сатиру, лишен привкуса
горечи и вселенской печали, свободен от разъедающего
душу скепсиса. Это не ироническая «игра» осознавшего
свою свободу духа, как у ранних романтиков, и не
горький сарказм разочарования жизнью, свойственный
романтикам на позднем этапе. Мягкий,
добродушно-меланхолический юмор Тёпфера выступает одним из способов
реалистического «переживания» действительности и
представляет собой необходимую коррекцию воспроизведения
40 Г. Земмиг, например, называл Тёпфера «женевским
Жан Полем» (Semmig Hermann. Kultur- und Litera-
turgeschichte der franzosischen Schweiz und Savoyens.
Zurich, 1882, S. 399).
414
В. Д. Седельник
жизни как она есть, а не какой ее хочется (или
принято) видеть.
Примером такой иронической коррекции может
служить новелла «Большой Сен-Бернар». В ней одно и
то же событие (комическое приключение на горном
перевале) дается как бы в двойном преломлении: в
восприятии романтика «из школы Александра Дюма» и
в оценке рассказчика, человека трезвого, сдержанного
и ироничного. Причем точка зрения рассказчика в ходе
событий меняется. Вначале, в странноприимном
монастыре, его возмущают реплики незнакомого «толстого
господина», как ему кажется, несправедливые и
циничные, о двойственности человеческой природы и
лживости литературы; позже, в финале новеллы, услышав опус
романтика о приключении на перевале и сравнив его
с тем, что произошло на самом деле, он признает
правоту своего оппонента в ночном споре на Большом Сен-
Бернарском перевале.
Новелла строится на противопоставлении двух
литературных сочинений — рассказа Ксавье де Местра
«Прокаженный из Аосты» и сочинения странствующего
романтика о том, как он спас девушку от обвала. За
первым признается способность тревожить человеческие
сердца, второе вызывает смех рассказчика своей
неестественностью и полным несоответствием жизненной
правде. Турист-романтик в новелле откровенно
шаржирован. Он самонадеян, экзальтирован, нелеп в своей
эмоциональной взвинченности. На все вокруг он
накладывает схему романтического восприятия. Розовощекая
савоярка видится ему чахоточной девой, ее брата он
изображает грубым и бесчувственным мужланом и делает
его женихом «неземного создания». Естественно,
подобный конфликт хрупкого духа и грубой материальной
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник 415
силы может разрешиться только трагически. Слушая
сочинение романтика, рассказчик откровенно потешается
над штампами романтической литературы —
«голубоватый ореол тайной печали», «таинственные порывы
души», «бездонные глубины сердца» (356). Ему больше
по душе точность в обрисовке действительности,
трезвость взгляда на жизнь и природу человека,
достоверность в изображении страстей и душевных
движений.
Эти качества прозы Тёпфера, наряду с юмором,
придают «Женевским новеллам» жизнеспособность. В
«Библиотеке моего дяди» и «Наследстве», например,
достоверно и точно описана старая Женева, передан колорит
эпохи. Новеллы о путевых приключениях — «У Жер-
ского озера», «Антернский перевал», «Трианская
долина», «Большой Сен-Бернар» — в своей географической,
топографической части напоминают документальные
очерки. Все в иих, за исключением, может быть,
сюжетных перипетий, подлинно, достоверно: названия
городов и селений, гор и долин, локальный и исторический
колорит.
Должно быть отмечено и присущее Тёпферу
мастерство раскрытия внутренней жизни человека, умение
заглянуть в тайники сердца и мысли. Он любил
«украдкой подглядывать за тем, что творится в чужой голове»,
пуская при этом в ход «лупу и микроскоп» (10).
Особенно занимала Тёпфера, профессионального педагога,
неустоявшаяся еще психика ребенка, которую он умел
показывать во всей сложности, не «овзросляя», но и не
упрощая. Психика его мальчиков (новеллы «Два
узника», «Страх») изменчива и подвижна. Они чутко
реагируют на воздействия извне, усваивают уроки
окружения и в то же время смутно осознают необходимость
416
В. Д. Седельник
утверждения своего «нрава». Наделенный живым
воображением, чувствительный и по детски влюбчивый герой
новеллы «Страх», одной из лучших у Тёпфера,
мучительно переживает бесцеремонное вторжение взрослых
в его «душевный ландшафт» и ищет спасения в бегстве
за пределы городских стен, где его ждут еще более
острые приключения и переживания. Пройдя через
ночные страхи и кошмары, описанные с неподражаемым тёп-
феровским юмором, он возвращается под родительский
кров повзрослевшим и укрепившимся в бюргерском
благоразумии.
Становление личности Тёпфер раскрывал как
противоречивый, нередко болезненный процесс, порождаемый
несоответствием двух величин — желания и запрета,
субъективных запросов и требований среды. Маленький
горбун из новеллы «Путь за океан» с годами все
болезненнее осознает несоответствие между возвышенными
порывами души и уродливой внешностью. Под
безжалостным давлением окружения он смиряет честолюбивые
мечты, сужает личностные запросы — до тех пор, пока
не чувствует прямую угрозу своему существованию как
личности. Тогда он покидает Женеву и отправляется за
океан, в Америку, где и обретает возможность для
самоутверждения. Но в письме горбуна к оставшемуся
в Европе другу детства звучит резкое осуждение
расовой дискриминации, которую он называет «безумием»,
«варварством» и «бессмысленной жестокостью».
Чувствуется, что этот «печальный предмет» омрачает его
семейное счастье, и можно не сомневаться, что автор
разделяет сатирические выпады своего героя против
американской демократии.
В лучших своих новеллах Тёпфер избегает
проторенных путей, а прокладывает собственные, внося заметный
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник
вклад в развитие реалистического путевого очерка и
психологического рассказа.
Немало написано критиками, начиная с Сент-Бёва,
о стиле Тёпфера. В нем находили черты сходства со
стилем Руссо, Курье, Сен-Пьера, Жан Поля. Черты эти
в стиле Тёпфера, несомненно, есть. Чувствуется в нем и
немецкое происхождение писателя, и влияние очень
своеобразного женевского варианта французского языка, и
стиль эпохи, и стиль той литературной филиации (Руссо,
Стерн, Ричардсон), последователем которой был
женевский художник. Но еще больше в нем от самого
Тёпфера, от склада его характера и особенностей психики,
от атмосферы города, в котором он вырос и сложился
как писатель.
Тёпфер любил повторять известное изречение Бюф-
фона, гласившее, что «стиль — это человек». Его
собственный стиль — это сплав разноречивых качеств,
отразивших как противоречия его личности, так и
неповторимые приметы его творческой и гражданской судьбы.
Основной источник, питающий прозу Тёпфера, — память
о детстве и юности. Память удивительно цепкая и
точная, внимательная к детали. Отсюда — склонность к
подробной детализации описаний, подкрепленная к тому же
постоянной практикой рисовальщика тушью. Тёпфер
как бы предельно приближает объект изображения к
глазам (напомним—больным, быстро устающим глазам),
рассматривает его в лупу или микроскоп. Он — поэт
точно выписанной детали, конкретной, индивидуальной
истины, зримого образа. Трезвостью взгляда, а также
некоторой склонностью к рационалистической
рубрикации страстей, характеров и обстоятельств он близок
просветителям. Когда же наступает черед обобщения,
«генерализации», Тёпфер охотно прибегает к повышенной
V2 27 Родольф Тёпфер
418
В. Д. Седельник
эмоциональности, вводит в текст вопросительные и
восклицательные предложения, прямые обращения к
читателю («Не спрашивай меня, читатель, что будут делать
в моей истории эти новые персонажи! Может быть,
ничего!») (134), завершает отдельные эпизоды почти
эпиграмматическими концовками.
Бросающийся в глаза признак стиля Тёпфера —
частые отступления. Восприятие мира осложнено у него
воспоминаниями о прошлом, неожиданными
ассоциациями, лирическими (и иными) отступлениями,
вариациями по поводу и без повода, на темы, иногда
значительно отстоящие от непосредственного предмета
изображения. Некоторые его новеллы, кажется, целиком
состоят из отступлений, вставных эпизодов и т. .п. В
новелле «Два узника», например, рассказчик, прежде чем
перейти к изложению сюжетной линии, успевает
поговорить и о роли жилища в формировании личности, и о
страданиях великих поэтов, и о позорных мыслях,
которые гнездятся в человеческом мозгу, и о многом другом.
Наконец, он спохватывается — «я забыл, что хотел
рассказать о моем жилище», — но тут же снова начинает
очередное отступление, на сей раз о «ребяческой любви».
Так же строятся и многие другие новеллы. Создается
впечатление, что они сделаны по образцу тёпферовских
«Путешествий зигзагами» — как странствия по
извилистым тропам фантазии и чувства, «Зигзаг» выступает
существенным структурным принципом не только
художника, но и новеллиста.
В XIX в. эти отступления воспринимались как
следование Стерну и особенно К. де Местру с его
искусством легкой светской «болтовни» (causerie). В 1920-е
годы Б. М. Эйхенбаум рассматривал их как прием, нуж-
Родольф Тёпфер —: новеллист и художник 419
ный для «намеренного затягивания рассказа» 41. Однако
роль отступлений, думается, этим не исчерпывается. Они
нужны также для создания художественного
пространства, обеспечивающего эффект насыщенного критическим
отношением к действительности «присутствия» автора.
Тёпферовские отступления — не только дань традиции,
но и — что важнее — форма сопротивления
действительности.
Острее, чем в новеллах, это сопротивление ощущается
в рисованных «романах». Тёпфер-прозаик еще сильно
связан условностями унаследованной формы; Тёпфер-
карикатурист выступает смелым новатором. Он
отказывается принимать во внимание господствующие нормы
и правила, отбрасывает условности и создает «безумные
вещи» — чтобы найти отдушину для бурлящей в нем
творческой энергии. В предисловии к «Фестюсу» он
писал: «В век столь серьезный, как наш, случаются
минуты, когда ум терзается непреодолимой скукой, когда
вся эта серьезность кажется ему безумием, настолько
она безрадостна, и когда безумное веселье кажется
исполненным смысла, столько в нем очарования и
радости» 42.
Тёпфер предвидел расцвет жанра веселых
рисованных историй, теоретически обосновал это явление и дал
его великолепные образцы. В эпоху, когда средства
массовой информации ограничивались по преимуществу
печатным словом, он хотел воздействовать на сознание
людей, особенно людей малообразованных, синтетическим
41 Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Петербург—Берлин,
1922, с. 61.
42 Tôpffer R. Voyages et aventures du Docteur Festus.
Paris, 1963, p. 7.
420
В. Д. Седельник
искусством, объединяющим образ и слово, рисунок и
лаконичную подпись к нему. Он был глубоко убежден,
что на душу ребенка или простолюдина десять рисунков
подействуют сильнее, чем десять толстых фолиантов.
Простой человек не приучен к работе мысли, писал Тёп-
фер в «Размышлениях по поводу одной программы»
(1836). «Любое рассуждение его утомляет, не убеждая;
любая фраза не достигнет цели, если она не
превращена в образ, в движение, если она не воздействует
одновременно на органы чувств, на воображение и
сердце»43. И Тёпфер, как бы заглядывая в' будущее ,и
предвидя появление кино, старается свести каждое
высказывание к ряду живых образов, показать их в
движении, в действии, превратить содержание рассказа
в «живой, внятный и яркий спектакль», где основная
роль отводится рисункам.
В общей сложности Тёпфер создал семь комических
романов: «Г-н Жабо», «Г-н Крепен», «Г-н Вьё-Буа»,
«Доктор Фестюс», «Г-н Пенсиль», «История Альбера»
и «Г-н Криптогам». Воспринимавшиеся в XIX в. как
невинная забава одаренного дилетанта, в XX в. они
утвердили славу Тёпфера-карикатуриста 44.
В этих романах безраздельно господствует ничем не
ограниченная фантазия художника. Их герои,
беспокойные и смешные чудаки, что-то ищут, кого-то преследуют
43 Цит. по: Maschietto M. Préface. In: Tôpffer R. Les
amours de Monsieur Vieux Bois, etc. Paris, 1962, p. 26.
44 Комические романы постоянно переиздаются не только
в Швейцарии и Франции, но и в других странах.
Последние известные нам издания на немецком языке:
Tôpffer R. Komische Bilderromanc. Bd. 1—2. Leipzig,
1967—1968; Tôpffer R. Komische Bilder-Romane.
Darmstadt, 1975.
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник
421
(или кто-то преследует их). Они всегда в пути. Г-н Вьё-
Буа ищет свою возлюбленную, ученый доктор Фестюс
переживает опаснейшие приключения в поисках кометы,
художник Пенсиль охотится за улетевшим от порыва
ветра рисунком, ботаник Криптогам спасается от
некой Эльвиры, которая хочет женить его на себе. «В
рисованных карикатурных романах поражает многообразие
мотивов, которые автор умеет извлекать из немногих
фигур. Он способен посрамить самого прилежного и
проницательного знатока комбинаций. . .» — писал Гете после
первого знакомства с альбомами Тёйфера (10 января
1830 г.)45.
Неистощимая фантазия художника порождает все
новые и новые, самые невероятные ситуации, ставит
героев в немыслимые положения, чтобы тут же
чудодейственным образом спасти их и в конце концов привести
к благополучному финалу. Однако его комические
образы — не просто порождения фантазии. Каждый из
них — характер, каждый несет в себе черты
определенного человеческого типа и неповторимые черты времени.
Гете поражало умение художника «остроумно
запечатлеть черты современности» и в серии эскизных
рисунков создать живой, выразительный образ. «В высшей
степени достойно удивления, — писал он, — как в
воображении художника снова и снова — в соответствующей
обстановке, окруженный самыми разнообразными
персонажами — возникает призрак по имени г-н Жабо, как
этот неправдоподобный индивид под остроумным пером
Цит. по: Floerke Hans. Rudolph Tôpffer. In: Topf-
fer R. Die Biblioihck meines Oheims. Berlin, [1911],
S. XI—XII.
422
В. Д. Седельник
мастера удивительнейшим образом оживает, становясь
как бы реально существующей личностью» 46.
Гете интуитивно почувствовал, что причудливые
создания Тёпфера — не неуклюжЦе упражнения дилетанта,
а творения зрелого мастера, обладающего своим
видением мира и своим стилем художника, которому
подвластно творческое преображение действительности.
В «Размышлениях и заметках женевского художника»,
главном своем теоретическом труде, Тёпфер обосновывал
условность и эскизность стиля своих карикатур не
только спецификой жанра, но и уровнем развития
искусства: «... по мере того, как искусство совершенствуется,
оно удаляется от точности в подражании, чтобы
сделаться все более и более условным в своих форма». ..
То же относится и к отдельному художнику. По мере
того, как талант его развивается и совершенствуется, он
приобретает возможность все более свободно обращаться
с предметами, изменяя даже их форму, порой жертвуя
некоторой точностью в их воспроизведении, порой
преувеличивая или обобщая их основной характер, чтобы
яснее выразить свою собственную концепцию кра-
47
соты» .
«Размышления и заметки», над которыми Тёпфер
работал более двенадцати лет, но так и не довел до
завершения, — не систематический труд по эстетике, а
книга художника-практика, написанная в форме задушевного
разговора с другом-читателем. В ней много характерных
для писателя отступлений, остроумных и тонких заме-
46 Ibid., S. XII—ХШ.
47 Тёпфер Р. О прекрасном в искусстве. Размышления
и заметки женевского художника, пер. с франц.
М. Д. Г. СПб., [б. г.], с. 88-89,
Родолъф Т'епфер — новеллист и художник 423
чаний о труде живописца, она насквозь просвечена
мягким тёпферовским юмором. Устаревшая во многих своих
положениях, книга эта, тем не менее, и сегодня может
представить живой интерес для художников и
искусствоведов 48. Она привлекает внимание глубоким
знанием предмета, живостью изложения, широкими
обобщениями и меткими характеристиками литературных
явлений и эпох. Главный ее пафос — в постижении
высокого смысла литературы и искусства, в борьбе с
рационалистическими схемами классицизма и Просвещения,
с одной стороны, и романтическими деформациями
действительности, — с другой.
«Размышления и заметки» лишний раз подтверждают
мысль о неоднозначности творческой индивидуальности
Тёпфера. Как провинциальный политик и традиционного
склада романист он мечтал о том, чтобы остановить или
хотя бы задержать ход времени; как художник и
критик-искусствовед он был убежден, что «жизненность
искусства обусловлена его постоянным обновлением» 49t и
старался идти в ногу со временем, а в чем-то даже
опережал его. В этом эстетическом чувстве истории, надо
полагать, и таится секрет жизнеспособности лучших
произведений женевского художника и новеллиста.
Швейцарский исследователь Р. де Век писал в 1920-е
годы: «Его «Заметки художника» не устарели: в них
можно найти все необходимое для интерпретации как
самых современных школ, так и творчества Дидея,
Калама, Делакруа или Коро...» (Week René de.
La littérature française en Suisse. Dans: Calvet J.
Manuel illustré d'histoire de la littérature française. Paris,
1923, p. 35).
Т'епфер Р. О прекрасном в искусстве, с. 90.
424
В. Д Седельник
IV
В России творчество Тепферг начали осваивать
только во второй половине XIX в. В этот период его
новеллы и роман «Пасторский дом» переводились на
русский язык, пропагандировались и неоднократно
переиздавались. Первым произведением Тёпфера,
переведенным в России, была повесть «Библиотека моего дяди»
(«Отечественные записки», 1848, № 11, 12). Вслед за
ней в этом же журнале была напечатана новелла
«Наследство» (1850, № 2), послужиЕшая поводом для
рецензии А. В. Дружинина — первого развернутого отзыва
о Тёпфере, появившегося в России. «Милая и
оригинальная повесть» понравилась Дружинину своим
«общим колоритом», в котором он нашел «нечто тихое,
успокоительное, любезное, идиллическое». Подчеркивая
«юмористическую вдумчивость» Тёпфера, умение в самом
микроскопическом факте подсмотреть поэтическую или za-
бавную сторону, он воспринимает автора «Наследства»
в русле сентиментально-просветительской традиции и
сожалеет, что в России нет писателей, чье «дароваьие
принимало бы направление Стерна, Фильдинга, графа
К. де Местра, Жан Поля Рихтера» 50.
Критическое и читательское восприятие Тёпфера
в России было далеко не однородным, имело свей
внутренние противоречия и полемическую подоплеку. С
одной стороны, его переводили и пропагандировали
издания консервативно-охранительного толка, вроде
«Москвитянина», «Семейных вечеров», «Библиотеки для чтения»
50 Дружинин А. В. Письма иногороднего подписчика.—
Дружинин А. В. Собр. соч., т. 6, СПб., 1865,
с. 290-292.
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник
и т. п., ценя в нем певца покоя, умиротворенности и
безмятежной идилличности и противопоставляя его
социальным и интеллектуально-художественным брожениям на
Западе и в самой России. С другой стороны, творчество
Тёпфера, демократическое и гуманистическое по своим
общим установкам, направленное против торгашеского
духа и лицемерной морали, отвечало настроениям и
запросам широких читательских масс.
В 1852 г. был переведен роман «Пасторский дом» —
он вышел сначала в журнальном варианте
(«Москвитянин», 1852, кн. 2, 3), а затем отдельным изданием51.
Через год в Москве увидел свет сборник под названием
«Женевские рассказы», куда вошли четыре новеллы:
«Приключение при Тереком озере», «Наследство», «Три-
анская долина» и «Церковный дом». Новеллы эти
переведены на русский не с языка оригинала, а с немецкого
перевода Г. Цшокке. Характеризуя их, русский
переводчик отмечает тонкую наблюдательность автора,
обращенную «преимущественно на явления нашей внутренней
жизни», «прелесть естественности, остроумие и прият-
ность описании», «тихую мечтательность» .
Тёпфер Р. Сельский приход. Роман из швейцарских
нравов. М., 1852; позже появился еще один
чрезвычайно небрежно выполненный перевод романа под
интригующим названием «Сын дьявола» (ч. 1—4. М..
1859).
Тёпфер Р. Женевские рассказы, ч. 1—2. М., 1853,
с. I—IV. Переводчик повторил вслед за Г. Цшокке,
что новеллы Тёпфера почти неизвестны во Франции.
Это было верно в 1839 г., когда писалось
предисловие Цшокке, но выглядело грубой ошибкой в начале
1850-х годов, когда Тёпфера много и охотно издавали
в Париже.
28 Родольф Тёпфер
426
В. Д. Седельник
Все названные переводы ни в коей мере нельзя
назвать удачными, они давно устарели; даже лучшие из
них полны ошибок, неточностей, пропусков,
произвольных дополнений. Русские переводчики (как правило,
безымянные или скрывшиеся за инициалами) не пытались
постичь внутренние закономерности стиля Тёпфера,
выпячивали, потакая не очень взыскательному вкусу
определенного круга читателей, забавно-развлекательную
сторону и умиротворенно-созерцательное настроение. В
России был известен далеко не весь Тёпфер (ряд его
новелл, роман «Роза и Гертруда», «Путешествие
зигзагами» и комические романы никогда не переводились),
а в том, что переводилось, он раскрывался не всеми
гранями своего таланта.
Начиная с 1860-х годов Тёпфер воспринимается
в России преимущественно как писатель для детей и
юношества; на рубеже столетий о нем почти совершенно
забывают53. В это время в странах Западной Европы
репутация Тёпфера поддерживается его альбомами
карикатур, в России же в этом своем качестве он остался
неизвестным. Правда, в самый канун первой мировой
войны была предпринята попытка оживить интерес
к Тёпферу — теоретику искусства: были изданы на
русском языке его «Размышления и заметки» о прекрасном
в искусстве. Отметив в предисловии, что отступления
составляют самую сущность Тёпфера-писателя,
переводчик тем не менее более чем наполовину сократил книгу
в основном за счет отступлений — чтобы не отвлекать
63 Подробнее о восприятии ТёпоЪера в России см. в
обстоятельной работе Р. Ю. Данилевского
«Швейцарская повесть в русской литературе». — В кн.: От
романтизма к реализму. Л., 1978, с. 262—279.
Родолъф Тёпфер — новеллист и художник
внимание читателей от «основных мыслей» 54. Столь
жестоким образом урезанная работа не могла, естественно,
претендовать на сколько-нибудь серьезное к себе
отношение, к тому же, время для ее издания было выбрано
крайне неудачно: в тревожные предвоенные и
предреволюционные годы многие мысли женевского художника
казались анахронизмом 55.
Новый толчок к изучению творчества Тёпфера в
России был дан Л. Н. Толстым. Работая в конце жизни
над «Воспоминаниями» (1903), он перечитал «Детство»
и счел необходимым заявить, что оно написано
«нехорошо, литературно, неискренно», что во время работы
над ним он был «далеко не самостоятелен в формах
выражения, а находился под влиянием сильно
подействовавших» на него двух писателей — Стерна
(«Сентиментальное путешествие») и Тёпфера («Библиотека моего
дяди») 56. В это же время, отвечая на письмо женевского
художника А. Мере, приславшего ему новое издание
«Размышлений и заметок», Толстой еще раз подчеркнул:
«Я давно знаю и очень люблю этого художника». Книга
Тёпфера об искусстве его не заинтересовала, он ее
только «перелистал»: «В основе его теории, по-видимому,
54 Указав на эту несообразность, Б. Эйхенбаум
воскликнул: «Какое наивное варварство!» (Эйхенбаум Б.
Молодой Толстой, с. 63).
55 Примечательно, что в первые годы Советской власти
Родольф Тёпфер воспринимался у нас как
крупнейший художник романдской литературы XIX в.: его
«Женевские новеллы» были включены в план
издательства «Всемирная литература», составленный под
руководством М. Горького. Издание это, однако, не
было осуществлено.
56 См.: Толстой А. Н. Поли. собр. соч. М.—Л., 1952,
т. 34, с. 378.
28*
428
В. Д. Седельник
лежит старое суеверие об абсолютной красоте» 57.
Толстой решал в это время нравственно-этические и
эстетические задачи, совершенно отличные от тех, которые
стояли перед ним в начале творческого пути. Однако
через десятилетия он пронес к Тёпферу добрые
чувства.
Первым обратил внимание на высказывания Толстого
о Тёпфере Ромен Роллан. Размышляя в книге «Жизнь
Толстого» (1911) над тем, почему зрелому писателю
могло разонравиться «Детство», он замечает, что в ней
царят «мягкость, чувствительность и нежность — черты,
которые были антипатичны Толстому впоследствии. . .»
«Кто бы мог подумать, — восклицает Роллан, — что
«Женевские рассказы» послужили литературным образцом
для автора «Войны и мира»? Очевидно, узнав об этом,
вы начинаете находить в «Детстве» ту же доброту и
лукавое простодушие, только выраженное более
аристократической натурой». Однако могучая индивидуальность
Толстого, полагает Роллан, сказалась уже в
«Отрочестве», которое «сразу же обнаруживает такое
своеобразие психологического анализа, такое необыкновенно
яркое ощущение природы и остроту душевнных
переживаний, на которые Диккенс и Тёпфер вряд ли могли
претендовать» 5 .
Б. М. Эйхенбаум в 1920-е годы показал, что
обращение Толстого к Тёпферу не было делом случая:
женевский художник-беллетрист входил в круг чтения
русского писателя, которое имело «вид цельной системы».
Круг этого чтения определяла основная тенденция — «раз-
57 Там же, т. 74, с. 92.
58 Роллан Р. Собр. соч. в 1-1 т. т. 2 М.. 1954, с. 234—
235.
Родольф Тёпфер — новеллист и художник
рушить романтическую поэтику со всеми ее
стилистическими и сюжетными построениями» 59. Задумав
изобразить детскую душу, показать, как формируется характер,
как складывается личность, Толстой не мог пройти мимо
художественного опыта Стерна, Руссо, Диккенса, Тёп-
фера. Их произведения Эйхенбаум называет «западными
источниками» «Детства», подчеркивая в то же время, что
Толстой не просто подчиняется индивидуальному
влиянию того или иного автора, а творчески активно
усваивает достижения целой литературной школы, близкой по
своим художественным методам к его собственным
намерениям 60.
Разумеется, нужно отдавать себе отчет в том, что
Толстой и Тёпфер — величины несоизмеримые. И все же
тут было определенное родство душ, сходство
нравственно-этических побуждений, присущее обоим
недовольство собой и стремление найти некие общие правила
поведения. Оба они были педагогами, моралистами,
имели одних и' тех же духовных наставников. Оба тяго-
59 Эйхенбаум Б. Указ. соч., с. 63.
60 Б. Эйхенбаум был первым, кто указал на сходство
чисто внешних приемов организации материала у
Толстого и Тёпфера — отсутствие четко выраженной
фабулы, прием «окна» как точки наблюдения, частые
отступления, сосредоточенность на деталях. Еще
больше элементов оформления «Библиотеки моего
дяди» в структуре «Детства» и «Отрочества» нашел
П. Попов. Он избегает термина «влияние», но
считает, что Толстой привлекал р:звестные приемы
Тёпфера и Стерна для «отделки» своих произведений.
(См.: Попов П. Стиль ранних повестей Толстого
(«Детство», «Отрочество»).— «Литературное
наследство», т. 35—36. Л. Н. Толстой. I. M., 1939,
с. 78-116).
430
В. Д. Седельник
тели к самораскрытию, даже к саморазоблачению —
в разной, естественно, степени. По свидетельствам
биографов, в своих дневниках и письмах (до настоящего
времени так и не опубликованных) Тёпфер был до
резкости откровенен и нелицеприятен. «Мой жизненный
принцип — правдивость по отношению к себе и к
другим», — писал он 61.
Сопоставление ранних повестей Толстого с
произведениями Тёпфера в самом деле выявляет немало
сходных моментов — в общем замысле и композиции,
тематике и художественной структуре, образном строе и
эмоциональной тональности, даже в
интонационно-ритмическом строе отдельных фраз 62.
Задумывая «Четыре эпохи развития», Толстой не мог
знать, что Тёпфер в «Истории Жюля» тоже собирался
показать четыре этапа становления своего героя.
Четвертая часть повести, новелла «Семейная жизнь Жюля»,
осталась ненаписанной, как, впрочем, и задуманная
Толстым повесть «Молодость». Тем разительнее кажется
единство замыслов, развивавшихся хотя и независимо
друг от друга, но сходными путями. Естественно, что и
трудности их воплощения, встававшие перед
художниками, были во многом одинаковыми. Концентрируя
в «Детстве» и «Отрочестве» внимание на ключевых
моментах жизни Николеньки Иртеньева, Толстой, как изве-
61 Цит. по: L'abbé Relave. Op. cit., p. 17.
62 P. Ю. Данилевский указывает на сходство начала
«Анны Карениной» («Все счастливые семьи похожи
друг на друга. . .») с зачинами «Библиотеки моего
дяди» и «Пасторского дома». {Данилевский Р. Ю.
Указ. соч., с. 276).
Родольф Тёпфер — новеллист и художник
431
стно, предельно сжимает время непосредственного
«действия», ограничивая его всего несколькими днями и
пользуясь при этом в основном теми же приемами,
которые применял Тёпфер в «Библиотеке моего дяди».
Воспоминание о прошлом, «двойное» воспоминание
(образ в образе), лирические и философские отступления,
эмоционально-вопросительные концовки эпизодов
(у Тёпфера) и главок (у Толстого), — вот механизм
переключения внимания с частного на общее и, наоборот —
с общего на частное, в одинаковой мере свойственный
обоим писателям.
Много общего можно найти в обрисовке характеров
Жюля и Николеньки (например, подчеркивание роли
тщеславия в их формировании), в способах нагнетания
злоключений, завершающихся бурным, но целительным
катарсисом, в шаржированных образах учителей — Ра-
тена и Карла Иваныча. В целом сходна
повествовательная перспектива «Библиотеки моего дяди» и ранних
повестей Толстого—в обоих случаях' рассказ о далеком
прошлом ведется с «высоты» умудренного жизненным
опытом немолодого уже человека, вздыхающего о
счастливой поре детства. «Увы! Я давно уже вернулся на
землю и шагаю по дороге жизни под строгим
надсмотром здравого смысла и холодного рассудка; но никто
из этих непреклонных наставников не подарил мне ни
одного мгновения, которое можно было бы сравнить
с восхитительными переживаниями прошлого. Зачем они
так быстротечны, зачем нельзя их вернуть?» (104—
105) — вопрошает Тёгфер, варьируя свою любимую
мысль о невозвратности былого. Двадцатитрехлетний
Толстой охотно пользуется этим приемом в «Детстве»:
«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!
432
В. Д. Седельник
Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней?
Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат
для меня источником лучших наслаждений» 63.
Обобщающую главу (XV), задающую эмоциональный настрой
всему произведению, он завершает типично тёпферовской
меланхолически вопросительной интонацией: «Неужели
жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что
навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели
остались одни воспоминания?» 64
Отдельные мысли и мотивы Тёпфера, запавшие в
душу молодого Толстого, находили отклик и в других его
произведениях. Примером могут служить раздумья
о роли тщеславия в жизни человека, часто
встречающиеся у того и другого писателя. Тёпфер неоднократно
возвращается к этой теме в «Библиотеке моего дяди».
«Да, тщеславие правит человеком! — восклицает он
в третьей части повести. — Тщеславие искажает радость,
притупляет ум, развращает сердце. .. Нравы и обычаи,
чувства всех и каждого — все подчиняется ему, все
изменяется по малейшей его прихоти. . . на смену братству
приходит равнодушие, на смену сочувствию — зависть;
жить — это больше не значит — любить, наслаждаться,
это значит — казаться» (130—131). И далее Тёпфер
недвусмысленно связывает упадок нравов и торжество
тщеславия с «нелепыми вожделениями безумного общества»,
в котором первую скрипку играет погоня за
материальным успехом.
Сходные мотивы звучат в рассказе Толстого «Сева-
63 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 1. М., 1935, с. 43.
64 Там же, с. 45.
Родольф Тёпфер — новеллист и художник 433
стополь Е мае»: «Тщеславие, тщеславие, и тщеславие
везде — даже на краю гроба и между людьми, готовыми
к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно
быть, оно есть характеристическая черта и особенная
болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми
не слышно было об этой страсти, как об оспе или
холере? (Как тут не вспомнить тёпферовское сравнение
буржуазного прогресса с холерой!—В. С.) Отчего
Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и
про страдания, а литература нашего века есть только
бесконечная повесть «Снобсов» и «Тщеславия»?65
Творческая перекличка писателей здесь налицо, и
в ней важно подчеркнуть не только сам факт
разительного сходства двух вариаций на тему тщеславия, но и
то, что молодому Толстому был близок и созвучен
антибуржуазный пафос Тёпфера — пафос, и сегодня
составляющий одну из самых характерных и сильных черт
женевского художника.
Уже одно то, что Тёпфер был отмечен благосклонным
вниманием таких гигантов мировой литературы, как Гете
и Толстой, не может не вызвать желания ближе
познакомиться с его творчеством, проследить, как оно
воспринималось и оценивалось в разные исторические
эпохи, отделить подлинные достоинства его искусства от
мнимых. Тёпфер-новеллист и художественный критик,
помогавший благодаря унаследованной от кальвинистов
трезвости взгляда на жизнь и врожденному юмору
расшатывать устои романтической эстетики, сыграл
заметную роль в движении романдской (а в известной мере
65 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч., т. 4. М, 1935, с. 24.
434
В. Д. Седельник
и европейской — пример Толстого тому подтверждение)
литературы от романтизма к реализму. Значителен вклад
женевца и в обновление изобразительного искусства,
прежде всего искусства карикатуры и иллюстрации.
Настоящая книга даст советскому читателю возможность
не только по достоинству оценить «Женевские* новеллы»
в новом и, по существу, первом полном переводе, но и
ознакомиться с образцами — правда,
немногочисленными— искусства Тёпфера-художника, иллюстратора
своих произведений.
КОММЕНТАРИИ
Канонического состава «Женевских новелл» не
существует, а наиболее стабильный вариант складывался
стихийно на протяжении десятилетий после смерти
писателя. Самое первое издание под этим названием —
Nouvellee genevoises. Paris, éd. Charpentier, 1841—не
могло, однако, служить основой для перевода, так как
было подготовлено без участия Тёпфера; оно содержит
много языковых исправлений, внесенных издателем по
совету К. де Местра и Ш. Сент-Бёва. Кроме того,
в него входит новелла «Пасторский дом» (Le Presbytère),
позже выпавшая из сборника, так как она стала первой
частью одноименного романа. Данный перевод выполнен
по изданию 1845 г. (Paris, Dubochet) — первому
изданию, подготовленному самим Тёпфером и
иллюстрированному гравюрами по его рисункам. Это издание содержит
два рассказа, не вошедшие в многочисленные
посмертные издания: «Две вершины» (Les deux Scheidegg) и
«Элиза и Видмер» (Elisa et Widmer); последний был
задуман как предварительный этюд к заключительной,
пятой части романа «Пасторский дом». Не вошли эти
рассказы и в настоящий сборник, ставящий своей целью
дать устоявшийся вариант «Женевских новелл». Текст
сверялся по юбилейному Полному собранию сочинений:
Cfeuvres complètes. Ed. du centenaire. Genève, 1942—
1945, t. 1—2.
Библиотека моего дяди
Повесть «Библиотека моего дяди» состоит из трех
новелл, написанных и опубликованных в разное время.
Сначала так называлась новелла, появившаяся в 1832 г.
и составившая среднюю часть повести. Позже
появились две другие части — «Два узника» и «Генриетта»,
436
Комментарии
В 1838 г. Тёпфер опубликовал их в женевском
издательстве Ледубль под общим названием «История Жюля».
В издании «Женевских новелл» 1841 г. Ксавье де Местр
дал всей п.овести название «Библиотека моего дяди» и
убрал заглавия каждой новеллы в отдельности. Тёпфер
в иллюстрированном издании 1845 г. сохранил это
общее название, но возвратил частям их заголовки, чуть
видоизменив второй: «Два узника», «Библиотека»,
«Генриетта».
/. Два узника
Впервые опубликована в женевском журнале «Revue
universelle et littéraire» в ноябре 1836 г. Год спустя
новелла без имени автора вышла отдельной книжечкой.
1 . . . лучше быть господином Жиро. . . — Жиро — широко
распространенная фамилия, получившая
нарицательный смысл. Употребляется в значении «любой, ничем
не примечательный, средний человек».
2 . . . угасать, как Милъвуа — Элегии французского поэта-
предромантика Шарля Ибера Мильвуа (1782—1816)
«Умирающий поэт», «Листопад» и др. пользовались
в прошлом веке широкой известностью, в том числе
и в России.
3 Элизиум (или Елисейские поля) — согласно греческой
мифологии, не знающая бурь и невзгод блаженная
обитель, куда после смерти героев и добродетельных
людей переселяются их души.
1 Однажды некий человек. . сочинил х^елую книгу под
названием «Максимы» — имеется в виду французский
писатель герцог Франсуа Ларошфуко (1613—1680),
автор написанного в афористической форме сочинения
«Размышления, или моральные изречения и максимы»
(1665). В глазах наблюдателя придворной жизни и
нравов XVII в. движущей силой человеческих
поступков являются себялюбие, эгоистический расчет,
тщеславие; добродетели — это лишь искусно
переряженные пороки.
5 Как неумен был Галлъ, пытавшийся убедить нас,
будто можно судить о содержимом по тому, в чем оно
содержится. . . — Тёпфер полусерьезно, полуиронически
Комментарии
437
полемизирует с модной в те времена «теорией»
(френологией) немецкого врача Франца Галля (1758—
1828), пытавшегося судить об умственных
способностях и характере человека по внешней форме его
черепа.
6 Я.. . проводил мало времени со своим учителем. . .,
а больше всего — в обществе Эвхарисы, Галатеи и
особенно Эстеллы. — Эвхариса — нимфа, в которую
страстно влюблен Телемак, герой романа французского
писателя Фенелона «Приключения Телемака» (1699).
Фенелом де Салиньяк де ла Мотт (1651 —1715) —
писатель-моралист, один из образованнейших людей
своего времени, был воспитателем внука
Людовика XIV и в назидание ему создал этот роман,
прославлявший «истинные» добродетели и подвергавшей
критике тогдашнее высшее общество, особенно
придворные круги, как царство эгоизма и стяжательства.
Галатея, Эстелла — героини одноименных пасторалей
французского писателя Ж. П. Клари де Флориана
(1755—1794).
7 Есть возраст. . . когда пасторали Флориана обладают
для нас особым очарованием. — Сент-Бёв отмечал, что
«„Эстеллу" нужно читать в четырнадцать с
половиной лет, в пятнадцать для мало-мальски развитых уже
слишком поздно». (Цит. по: История французской
литературы. М.—Л., т. I, 1946, с. 794). Слова Сент-
Бёва говорят о чрезвычайной наивности Жюля.
8 Речь шла о похвальном поведении Телемака на острове
Калипсо, где он во имя добродетели покинул Эвха-
рису. — Имеется в виду эпизод из уже
упоминавшегося (см. комм. 6) романа Фенелона «Приключения
Телемака». Согласно поэме Гомера «Одиссея»,
сюжетную линию которой продолжает роман,
обольстительная нимфа Калипсо, влюбившись в Одиссея, семь
лет не отпускала его со своего острова. В начале
романа Фенелона рассказывается о том, как сын
Улисса (Одиссея) Телемак, который разыскивает
своего отца, попадает на тот же остров и увлекается
нимфой Эвхарисой. Калипсо и Эвхариса стараются
с помощью любовных чар удержать Телемака.
Сопровождавший его учитель Ментор, чье имя стало ьлри-
438
Комментарии
дательным для обозначения воспитателя и
наставника, отчаявшись уговорить юношу спастись бегством
от роковой страсти, сталкивает Телемака в море и
вместе с ним доплывает до проходившего мимо
корабля.
* . . . вздыхать у ног женщины, как Геракл — у ног
Омфалы. — Лидийская царица Омфала так очаровала
сглчкого героя Геракла, что он, забыв о своих
подвигах, сидел у ее ног за прялкой (греческая
мифология).
и . . . латинских авторов. . . читали не иначе, как в
извлечениях, сделанных иезуитом Жувенси. . .—
Французский ученый Жозеф де Жувенси (1643—1719)
занимался обработкой и изданием римских классиков
для школьников.
" ...ставил мне в пример Катона Утического. —
Римский оратор и философ-стоик Катон Марк Порций
Младший, или Утический (95—46 до н. э.)
пользовался репутацией честного и неподкупного человека.
Защитник республиканских свобод и противник
рвущегося к власти Юлия Цезаря, он после победы
последнего покончил с собой в африканском городе
Утике, бросившись на меч.
12 .. . сей возраст жалости не знает! — Цитата из басни
Лафонтена «Два голубя», повествующей о невзгодах
голубя, который бросил свое гнездо и отправился
путешествовать. Спасаясь от смерти, голубь спрятался
под плетнем, но и там его настиг черепок,
брошенный ребенком. Данная цитата приводится в ее
классическом русском выражении из одноименной басни
И. А. Крылова.
13 Никогда не упоминайте ни о Цицероне, ни о Сципионе
Назике. . . — Тёпфер иронически обыгрывает фамилию
Цицерона (cicer по-латыни означает горошина),
знаменитого римского оратора и государственного
деятеля (106—43 до н. э.); Сципион Назика (ум. 132
до н. э.) — ярый противник аграрной реформы Ти-
оерия Гракха и виновник его смерти (см. комм. 35);
носил кличку «носатый» (nasica).
ï4 Можно и впрямь сказать вместе с Беркено.у. . . —
^Французский писатель Арнр Беркен (1750—1791)
Комментарии
439
был автором нравоучительных произведений для
детей и юношества. Особой популярностью
пользовалась его книга «Друг детей».
Самое благородное завоевание человека, как сказал
Бюффон. . . — Тепфер обыгрывает фразу из
«Естественной истории» французского естествоиспытателя
и писателя Жоржа-Луи Леклера, графа де Бюффона
(1707—1788), гласившую, что самое благородное
завоевание человека — это лошадь. «Естественная
история» Бюффона в научном отношении давно устарела,
но сохранила свое значение как этап в развитии
французской научной прозы. Склонный к подробным
описаниям и отступлениям Тёпфер не избежал
влияния Бюффона. Примечательно, что и Л. Н. Толстой
высоко ставил прозу Бюффона: «Читал прекрасные
статьи Бюффона о домашних животных. Его
чрезвычайная подробность и полнота в изложении —
нисколько не тяжелы» (Дневник молодости Л. Н.
Толстого, т. I, 1847—1852. М., 1917, с. 114).
De bello gallico. . . — сочинение Цезаря «Записки
о Галльской войне».
Эта книга была Эльзевиром моего учителя. . . —
Эльзевирами назывались книги, издававшиеся в XVI —
XVII вв. семьей голландских печатников по фамилии
Эльзевир и служившие образцом книгопечатного
искусства.
Бывают рано созревшие математики, примером тому
служит Паскаль. — Блез Паскаль (1623—1662) —
французский математик и философ; математический
талант Паскаля проявился очень рано, еще в детском
возрасте.
Скорее можно представить себе Гомера
шестидесятилетним старцем, чем Лафонтена —
дитятей.—Французский поэт-баснописец Жан де Лафонтен (1621 —
1695) начал заниматься литературой в зрелом
возрасте, тридцати трех лет от ролу.
Газеты, кружки, группировки, это ваше дело! —
Полемический выпад в адрес радикальных литературно-
политических группировок, к которым Тёпфер
относился критически, даже враждебно.
440
Комментарии
Он воображал, будто Федр его учитель. . . — Федр
(ок. 15 до н. э.—ок. 70 н. э.) — римский
поэт-баснописец, вольноотпущенник императора Августа, один
из предшественников Лафонтена в жанре басни.
. . . он забывал воздавать хвалу Людовику
Великому. . . — Лафонтен в житейских делах был
человеком неискушенным и до крайности рассеянным.
Представленный однажды королю, чтобы вручить ему
томик своих стихов, он вынужден был признаться, что
забыл книгу дома. Король Людовик XIV (1638—
1715, правил с 1643) недолюбливал
простодушно-лукавого поэта и одно время противился его избранию
в Академию.
На заглавном листе можно было прочитать лишь
Слов . . . Словарь! — В руки Жюля попал
«Исторический и критический словарь» французского философа-
скептика Пьера Бейля (1647—1706),
предшественника Вольтера и других энциклопедистов.
Женское имя было — Элоиза. — Элоиза —
возлюбленная французского средневекового философа- и
богослова Пьера Абеляра (1079—1142). Тёпфер
пересказывает трагическую историю любви Абеляра и
Элоизы, которая запечатлена в их переписке (1132—
1136). Взгляды Абеляра, родоначальника
рационалистического и критического направления в
средневековой схоластике, были осуждены католической
церковью как еретические.
Письма Элоизы и Абеляра были еще в XII в.
переведены с латинского языка на французский.
На этот сюжет во французской литературе написано
множество романов, драм, поэм. Ж.-Ж. Руссо
использовал имя возлюбленной Абеляра в названии своего
романа «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).
. . . чему свидетели Поммие и тамошнее аббатство
у подножия горы Салев. — Поммие — община
(коммуна) в Верхней Савойе; гора Салев находится
недалеко от Женевы.
Я как-то видел в Шамбери сестер Сакре-Кёр. . .—
Шамбери — главный город Савойи — исторической
провинции Франции, расположенной в Альпах. Сесг-
рами Сакре-Кёр называли себя члены женской рели-
Комментарии
441
гиозной конгрегации, основанной ок. 1800 г.
французским аббатом Турнелем и призванной давать
христианское воспитание молодым девушкам из обеспеченных
семей. «Сестры» были одеты в черные рясы и
такого же цвета пелерины, на голове они носили белые
гофрированные чепцы с большой черной вуалью.
. . .по их образцу рисовал себе. . . папессу Иоанну. —
Согласно средневековому преданью, папский престол
после Льва IV (умер в 885 г.) в течение двух лет
занимала женщина по имени Иоанна. Однажды во
время процессии, проходившей в Риме между
Колизеем и церковью св. Климента, она внезапно
разрешилась от бремени и туг же скончалась. Интересно,
что А. С. Пушкин, современник Тёпфера,
заинтересовался этим сюжетом и намеревался использовать
его в своем творчестве (См.: Пушкин А. С. Поли,
собр. соч. В X тт. т. V, Л., 1978. с. 442).
Под сводами монастыря Аржантейль. . . — монастырь,
в котором приняла пострижение Элоиза (см.
комм. 24); расположен недалеко от Парижа.
Параклет — аббатство, основанное Абеляром в 1129 г.
на территории департамента Об; первой аббатиссой
его стала Элоиза. Параклет по-древнегречески
означает «заступник», «утешитель». В Евангелии этот
термин употреблялся для обозначения святого духа.
Сен*Дени — одно из крупнейших аббатств Франции,
расположенное, близ Парижа и пользовавшееся
особым покровительством королевской власти; монастырь
Сен-Дени служил усыпальницей французских королей.
...я сразу влюбился в эту юную Антигону. —
Антигона, героиня трагедий Софокла, нежно заботилась
о своем слепом отце, царе Эдипе, и служила ему
поводырем в странствиях («Эдип в Колоне»).
После Цезаря Вергилий; после Вергилия Бурдон. . .—
После занятий историей и литературой Жюль взялся
за математику; Луи-Пьер-Мари Бурдон (1779—
1854) — французский математик, автор учебника.
. . . я еще и столярничал подобно Эмилю. . . —
Имеется в виду герой беллетризованного педагогического
трактата Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании»
(1762).
29 Родольф Тёпфер
442
Комментарии
34 Вспомните Гракхов, которые доставляли радость их
матери. . . — Римские народные трибуны, братья Ти-
берий (162—133 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.)
Гракхи, получили блестящее образование под
руководством их матери.
35 Ни дать, ни взять Пенелопа среди женихов. . . — Как
повествует в «Одиссее» Гомер, Пенелопа, жена
Одиссея, царя острова Итаки, не веря слухам о гибели
супруга, упорно отказывалась вторично выйти замуж
и, чтобы избавиться от назойливых претендентов на
свою руку, прибегала к хитроумным уловкам.
6 ... я, не останавливаясь, достиг луга, граничившего
с Коппе, и присел, наконец, на чужой земле. — Жюль
попал в соседний с Женевой кантон Во. Коппе —
название местности и замка на берегу Женевского озера;
замок Коппе, принадлежавший министру финансов
Людовика XVI Жаку Неккеру и его дочери,
писательнице Жермене де Сталь (1766—1817), был
известен как один из центров культурной жизни ро-
мандской Швейцарии в первые десятилетия XIX в.
37 . . . на старинный замок Эрманс. . . — Эрманс — деревня
близ Женевы с развалинами старинного замка.
38 Валлис — кантон в юго-западной Швейцарии,
граничит с Францией.
//. Библиотека
Вторая часть повести о детстве и юности Жюля —
новелла под названием «Библиотека моего дяди» —
впервые была опубликована анонимно в журнале
«Bibliothèque universelle de Genève» в январе 1832 г.
Женевцы быстро разгадали, кто автор: Тёпфер уже не раз
выступал на страницах этого издания с заметками
о живописи, его знали «по почерку». Да он и не скрывал
своего авторства, опубликовав новеллу отдельной
книжечкой в том же году в женевском издательстве Винье.
Новелла явилась не только ядром одноименной повести,
ее средней частью, она положила начало серии
«Женевских новелл», принесших писателю широкую и
устойчивую известность. В подготовленном самим Тёпфером
Комментарии
443
иллюстрированном издании 1845 г. эта часть повести
получила название «Библиотека».
1 Гроиий— Гуго Гроций (1583—1645) — голландский
ученый-гуманист и государственный деятель, автор
сочинений по вопросам теологии и юриспруденции,
основоположник буржуазного международного права.
Жюль мог читать один из его основных трудов —
«De jure naturali et gentium» («О праве естественном
и международном») или «De officio hominis et civis»
(«Об обязанностях человека и гражданина»).
2 Пуффендорф — Саму эль фон Пуфендорф (1632—
1694) — немецкий философ, историк, юрист, один из
предшественников Просвещения. Свой главный труд
«О строе нашей романо-германской империи» он
выпустил в свет под вымышленным именем Северино
де Монзамбано (Monzambano Seoerino de. De statu
noslri imperii romano-germanici, 1667).
3 Бурламаки — Ж. Ж. Бурлсмаки (1694—1748) —
женевский историк и юрист, автор переведенного на
многие языки труда «Принципы естественного права»
(1747).
4 Это автомат, шагающий от колыбели до могилы,
подобно паровой машине, которая движется от
Ливерпуля до Манчестера. — Железная дорога между
Ливерпулем и Манчестером была открыта в 1830 г.,
т. е. незадолго до начала работы Тёпфера над
«Библиотекой моего дяди».
1 Что же делать, глазея, если не наблюдать. . . —
перефразировка строки из басни Лафонтена «Заяц и
лягушки».
г> И вот он самостоятельно вступает на путь
философии, рекомендованной Бэконом. . . — Фрэнсис Бэкон
(1561—1626) — английский философ-материалист,
провозвестник индуктивно-экспериментального метода
в науке нового времени.
... XLVIII псалом в издании Буксторфа. — Иоганк
Буксторф (1564—1629) — немецкий издатель
древнееврейского текста Ветхого Завета.
4 ...варианты того же псалма в издании Крезия. . .—
Крезий (1642—1710) — немецкий ученый, знаток
29*
444
Комментарии
древнееврейского языка, автор многочисленных работ
о Библии.
9 Вот здесь описан твой случай: Гиппократ. . . Гаагское
издание. — Гиппократ (460—377 до н. э.) —
древнегреческий врачеватель, заложивший основы народной
медицины и врачебной этики. Гаагское издание —
в XVI—XVII вв. Гаага была центром ученых
филологических исследований, там издавались почти все
произведения классиков древности, в том числе и
сочинения Гиппократа.
10 Г емицефалъгия — комическое словообразование Тёп-
фера. означает мигрень.
11 О, Либаний! Ты будешь торжествовать! — Либаний
(314—ок. 400) — греческий ритор, противник
христианства. С его книгой «Жизнь Демосфена» Тёпфер
познакомился, когда работал над комментированным
изданием речей Демосфена. В памяти потомков
надолго остались гневные проклятия Либания,
страстного поборника язычества, в адрес безграмотных
монахов, грабивших и разорявших языческие храмы.
Вполне естественно, что дядюшка Том, считая себя
обворованным, вспоминает Либания.
12 Булла Unigenitus — знаменитая булла папы
Клемента XI, изданная в 1713 г., начиналась словами
Unigenitus Dei filius (единорожденный сын бога).
Булла провозглашала главенствующую роль церкви
в государстве и предавала анафеме янсенистов —
сторонников созданного голландским теологом Корне-
лиусом Янсением (1585—1638) учения о
непреодолимой силе человеческих страстей, не
контролируемых ни разумом, ни волей. Янсенизм как
разновидность католицизма был направлен против иезуитов и
осуждался официальной церковью.
13 «юный дворянин еще никогда не любил...» и т. д.—
Этот отрывок дан в тексте на старофранцузском
языке.
///. Генриетта
Третья часть повести, «Генриетта», первоначально
была опубликована в ноябрьском н декабрьском
номерах журнала «Bibliothèque universelle» за 1837 г.
Комментарии
445
1 Освящено ее шагами, озарено ее очами — слегка
измененная строка из басни Лафонтена «Два голубя».
2 Остаде — Адриан Остаде фон (1610—1684) —
голландский художник и гравер, известен картинами из
крестьянской жизни.
3 Тенъерс — Давид Теньерс (1610—1690) —
фламандский художник, мастер жанровой живописи.
4 Ты называешь себя сыном народа, но ты
оскорбился бы, если бы тебя поймали на слове. — Эти
слова, как и весь предыдущий отрывок, — явная
полемика с радикалами, политическим противником
которых был консерватор Тёпфер.
5 Глиптика — искусство резьбы по камню.
6 Дидона — легендарная финикиянка, Дочь царя Тира;
оставшись вдовой, переселилась в Африку, основала
там город Карфаген и стала его царицей. В «Энеиде»
Вергилия, которой в годы учения увлекался не только
герой «Библиотеки моего дяди», но и сам Тёпфер,
рассказывается о том, как троянский герой Эней,
заброшенный бурей к берегам Африки, встретил
радушный прием у властительницы Карфагена.
Выслушав рассказ о злоключениях Энея, Дидона воспылала
к нему любовью. Когда Эней все же оставил ее и
отплыл в Италию, она в отчаянии взошла на костер
и пронзила себя мечом.
' Ярба — царь Ливии, любовь которого Дидона отвергла.
4 Я рисовал даже Венеру. . . — По преданию, Венера
была матерью Энея.
9 Virginis os habitumque. . . — Жюль цитирует
поразивший его воображение отрывок из «Энеиды» (I, 315—
319), в котором рассказывается о встрече Энея с его
матерью — богиней Венерой, явившейся ему в обличье
дезы-воительницы. Здесь, как и в дальнейшем, все
цитаты из «Энеиды» даются в переводе С. Ошерова
(Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971).
J ^Ридий — выдающийся древнегреческий скульптор
(500—432 до н.~э.).
1 ' ...вкусы ею склонялись к медальонам Лепранса и
пасторалям Буше... — Франсуа Буше (1703—1770) —
живописец, ведущий представитель французского
рококо. Жан-Батист Лепранс (1733—1781) — француз-
446
Комментарии
ский художник, ученик Буше; жил в России,
расписывал потолки Эрмитажа.
12 Puer, si qua fata aspera rumpas. . . — Вергилий. Энеида,
VI, 882—883. Цитата взята из эпизода, действие
которого происходит в потустороннем царстве; Эней
узнает о судьбах людей, как живущих, так и еще не
родившихся. «Отрок несчастный» — Марк Клавдий
Марцелл, любимый племянник Августа, умерший
в юности, которого прочили в наследники императору.
Он не сумел «сломить рок» и «стать Марцеллом»,
т. е. утвердить себя в жизни подобно своему
далекому предку и тезке, выдающемуся полководцу Марку
Клавдию Марцеллу (III в. до н. э.).
* Timeo Danaos, et dona ferentes. — Вергилий. Энеида, II,
49. Выражение употребляется, когда речь идет об
опасных дарах коварных врагов. Источником его
является сказание о Троянской войне, повествующее
о том, как даыайцы (греки) хитростью победил'и
троянцев, подарив им деревянного коня, в котором
спрятались вооруженные греческие воины. Когда
троянский жрец Лаокоон увидел коня, он воскликнул:
«Страшусь и дары приносящих данайцев».
Diim communlur, dum rrioliuntur, annus est — Терентий.
Самоистязатель, 240, перевод А. В. Артюшкова
(Терентий. Комедии. Acadcmia. M.—Л., 1934) не совсем
точен. Подстрочный перевод звучит так: «Пока
причешется, пока припудрится, тут и год прошел».
1 . . . varium et mutabile semper femina! — Вергилий.
Энеида, IV, 569—570. С этими словами бог
Меркурий обращается к спящему Энею, торопя его скорее
покинуть Карфаген, чтобы избежать гнева
оскорбленной Дидоны.
' . . . notumque furens quid femina possit! — Вергилий.
Энеида, V, 6. Мысль, что «способна на все в
исступлении женщина», вызывает у отплывшего из
Карфагена Энея мрачное предчупствие.
17 Melius nil coelibe vita. — Гораций. Послания, I, 1, 88;
перевод H. С. Гинцбурга (Квинт Гораиий Флакк.
Поли. собр. соч. М.—Л., 1936),
18 . . . cuncta terrarum mutata. — Горцций. Оды, II, 1, 24;
перевод Н. И. Шатерникова (Квинт Гораций Флакк
Комментарии
447
Оды. M.t 1935). Тёпфер цитирует неточно, у
Горация cuncta terraium subacta (вместо subacta
«сломилось»— mutata «изменилось»). Речь здесь идет о Ка-
тоне Утическом (см. комм. 11 к ч. Î).
...семья землемера, служившею по кадастру. —
Землемер занимался составлением кадастра, т. е. журнала
по учету и оценке земельных угодий, который велся
в каждой общине для определения размера
земельного налога.
Dos est magna parentium. . . — Гораций. Оды, III, 24,
21; перевод Г. Ф. Церетели (Квинт Гораций Флакк.
Поли. собр. соч.).
. . . modo summa. . . — Гораций. Сатиры, I, 3, 7—8;
перевод М. Д. Дмитриева (Квинт Гораций Флакк.
Поли. собр. соч.).
Quousque tandem!!! — начало знаменитой первой речи
Цицерона, произнесенной им в 63 г. в римском сенате
против Луция Сергия Катилины, возглавившего
заговор против республики.
Non ego perfidum. . . — Гораций. Оды. II, 17. 9—10;
перевод Н. С. Гинцбурга (Квинт Гораций Флакк.
Поли. собр. соч.).
Odi profanum vulgus. . . — Гораций. Оды, III, 1, 1;
перевод H. С. Гинцбурга (Квинт Гораций Флакк.
Поли. собр. соч.).
Nociurna versate manu. . . — Гораций. Наука поэзии
269, перевод М. Д. Дмитриева (Квинт Гораций
Флакк. Поли. собр. соч.). «Наука поэзии» — это
позднее название «Послания к Пизонам»; в русском
переводе сохранено обращение к ним.
Vellem in amicitia sic erraremus. . . — Гораций.
Сатиры, I, 3, 41; перевод М. Д. Дмитриева (Квинт
Гораций Флакк. Поли. собр. соч.).
Melius nil coelibe vita! — см. комм. 17 к ч. III.
Non ego perfidum... — см. комм. 23 к ч. III.
Добро бы строить! Но сажать в такие лета!
Неужли запретить хотите мудрецу
О благе ближних прилагать старанья.
—^ Тёпфер цитирует строки из басни Лафонтенс
%<Старик и трое юношей».
448
Комментарии
30 Purpureos spargam flores ..-- Вергилий. Энеида, VI,
884. Полностью отрывок гласит:
Дайте роз пурпурных и лилий:
Душу внука хочу я цветами щедро осыпать,
Исполнить долг перед ним хоть этим даром ничтожным. —
Это слова отца Энея, Анхиза, произнесенные им
в царстве мертвых при виде тени юного Марцелла
(см. комм. 12 к ч. ГН).
31 Аристотель хвалил перипетии, да здравствует
Аристотель! — Аристотель считал перипетии важнейшим
элементом сложной фабулы художественного
произведения, означающим «перемену событий к
противоположному, притом. . . по законам вероятности или
необходимости» (Аристотель. Поэтика. М., 1957,
с. 71-73).
32 Пактол излил свои воды на моего милого Жюля. —
Пактол (или Сарабат) — небольшая река в восточной
части Малой Азии, считалась золотоносной; по
преданию, ей был обязан своим сказочным богатством
лидийский царь Крез.
На следство
Первоначальный вариант новеллы под названием
«Скучающий человек» (L'homme qui s'ennuie) был
напечатан в «Bibliothèque universelle» в декабре 1833 г.
В следующем году окончательный вариант публикуется
отдельной книжечкой в женевском издательстве Винье
(без указания имени автора).
1 Хоккарт — Хоккарт (1795—1867)—французский
ученый, автор сочинений на педагогические и
исторические темы.
2 . . . и с указателем Мушона — женевский
ученый-энциклопедист Пьер Мушон (1733—1797) составил и
издал в 1780 г. двухтомный «Аналитический и
систематический указатель статей, содержащихся в
энциклопедии». Этими двумя томами было завершено гран-
Комментарии
449
диозное предприятие французских просветителей,
доведенное до конца под руководством Дидро.
3 Нектанебус (IV в. до н. э.)—египетский фараон из
династии Ссбеннитов.
4 Я поспешил пригласить ее на русский танец. — Речь,
по всей вероятности, идет о русской кадрили,
которую в начале XIX века танцевали на великосветских
балах не только в России. Это подтверждает и
следующая ниже фраза о том, что герою пришлось
«разделить с тремя кавалерами один тур русского танца».
Следовательно, он был четвертым, как и положено
в кадрили.
5 . . . оказалась поэмой английского поэта Томсона
«Времена года». — Джеймс Томсон (1700—1748) создал
во «Временах года» (1726—1730) жанр описатель
ной поэмы о природе, получивший затем широкое
распространение и оказавший влияние на писателей,
связанных с сентиментализмом.
Антернский перевал
Впервые новелла опубликована в журнале
«Bibliothèque universelle» в мае 1836 г.
1 . . . савояры в чести у жителей Парижа. . . —
савоярами (или савойярами) называют жителей Савойи.
По сложившейся традиции большинство парижских
трубочистов были выходцами из Савойи.
У Жерского озера
Новелла впервые опубликована в июньском номере
«Bibliothèque universelle» за 1837 г.
1 ... бравый победитель при Ватерлоо. . . перепугал их
до смерти. — В битве при бельгийской деревне
Ватерлоо 18 июня 1815 г. Наполеон I был окончательно
разбит войсками Пруссии и Англии.
2 ...скала, которую карфагенянин ... повелел
расплавить с помощью винною уксуса. — По преданию,
предводитель карфагенян А.ннибал (Ганнибал) в 218 г.
450
Комментарии
до н. э. перешел через Альпы в районе перевала Ma
лый Сен-Бернар. Чтобы проложить дорогу в горах, он
приказал поливать раскаленные с помощью гигант
ских костров скалы винным уксусом, в результате
чего они разрушались.
3 Ты пришел сюда, чтобы нас выследить, — голосом
Картуша крикнул самый страшный из троих. —
Картуш—знаменитый предводитель разбойничьей шайки
во Франции рубежа XVII—XVIII вв. Был
пойман и казнен
4 Я не видел выхода из моею положения, и выручить
меня могла бы разве только крыса из басни. . . —
Имеется в виду басня Лафонтена «Лев и крыса»,
в которой крыса перегрызает сети и спасает
пойманного в них льва.
5 Крестьянин из Савфйи. . . не задевает королевских
карабинеров. — В описываемое время Савойя входила
в состав Сардинского королевства.
Трианская долина
Впервые опубликована в «Bibliothèque universelle»
в октябре 1837 г.
1 Sic me servavit Apollo. — Гораций. Сатиры, I, 9, 78.
2 ... я всякий раз перевожу его на. . . мегалозавра
Кювье...— Жорж де Кювье
(1769—1832)—французский зоолог и историк естественных наук, один
из реформаторов сравнительной анатомии,
основоположник современной палеонтологии позвоночных.
Описал большое число ископаемых форм и выявил
принадлежность многих из них (ихтиозавров,
плезиозавров, мегалозавров) к определенным слоям земной
коры.
3 Да здравствуют иллюстрированные журналы. —
В 30-е годы прошлого века благодаря развитию
техники литографирования в Европе один за другим
появляются иллюстрированные журналы; самым
популярным во Франции был «Le Magasin pittoresque»
(1833—1873). который, очевидно, и имеет в виду
автор.
Комментарии
451
... с тех пор вулканисты и нептунисты. . . — так
называли тогда ученых-геологов, стоявших на разных
позициях в вопросе происхождения земли; первые
отстаивали гипотезу происхождения земли из огня,
вторые из воды.
Француз был . . . кар лист по убеждениям. . . — кар-
листами называли приверженцев французского
короля Карла X, вынужденного в результате июльской
революции 1830 г. отречься от престола и покинуть
Францию.
. .. один из трех салонных политиков, которые мнят
себя заговорщиками, чуть ли не участниками
сражений в Вандее, и уверены, что теперь, по
умиротворении Запада... — в 1830 г. западная часть Франции
Вандея, выступила на стороне карлистов и была
усмирена.
.. . карманами, вмещавшими доллондовскую подзорную
трубу. .. — так называлась подзорная труба,
изобретенная английским оптиком Джоном Доллондом
(1706—1761).
«Первую же, которую подстрелю, говорил он, я
пошлю в Прагу». — Т. е. герцогине Беррийской, матери
внука и наследника Карла X, получившего от
роялистов имя Генриха V и так и не вступившего на
престол. После неудавшегося карлистского путча
герцогиня Беррийская некоторое время жила в Праге.
Он только что обстоятельно разобрал проблему . . .
доктринеров; затем перешел к Генриху V.. . —
Доктринеры — политическая группировка эпохи реставрации,
включавшая в себя умеренных либералов и
половинчатых республиканцев. Идейные вожди — П. П. Руайе-
Колар и Ф. Гизо. Доктринеры были сторонниками
монархической власти, ограниченной законом.
Подвергая критике ультрароялистов, они в то же время
главного своего врага видели в народных массах,
люто ненавидели «крайности» Великой революции и
в любой момент были готовы пойти на сговор с
реакционерами против народа. Благодаря усилиям
доктринеров во Франции в 1830 г. была провозглашена
конституционная монархия во главе с королем Луи-Фи-
452
Комментарии
липпом Орлеанским. После июльской революции
группировка распалась. Генрих V—см. комм. 8.
1 Он явно изучал повадки серн по книгам Александра
Дюма, Рауля Рошетта и других прославленных
теоретиков. ..—В этом пассаже звучит
пренебрежительно-ироническое отношение Тёпфера к молодому
тогда А. Дюма-отцу (1802—1870), автору
романтические пьес и исторических романов, и французскому
историку и археологу Р. Рошетту (1790—1854).
11 ...как говорит Панург. . . — Панург — персонаж
романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
12 Самбайон (вернее сабайон) — жидкий крем из яиц,
вина и сахара.
13 Негюс — род глинтвейна.
14 Предлагаю выпить за здоровье нашего амфитриона! —
Амфитрион — герой одноименной комедии Мольера,
написанной п.а сюжет античного мифа о царе Ти^ринфа
Амфитрионе, к жене которого явился Зевс
(Юпитер) в образе ее супруга. Благодаря трактовке
Мольера имя Амфитриона стало нарицательным для
обозначения радушного хозяина.
Путь за океан
Первоначальный вариант новеллы опубликован
в «Bibliothèque universelle» в мае 1837 г. В
окончательной редакции вошла в сборник «Женевских новелл».
Это единственная новелла, действие которой частично
происходит за пределами Женевы и ее окрестностей
в Америке. Отношение тёпферовского героя к этой
стране двойственное: с одной стороны, он восхищен
энергией «молодого народа», который «выковывает себе
новую судьбу»; с другой — ставит под сомнение
подлинность республиканских и демократических принципов
общества, где царят рабство и расовая дискриминация
и где предприимчивые «чистокровные янки в самых
созвышенных предметах видят лишь возможность
извлечь выгоду. . .»
1 «. . . городков, возникающих на ipunuijcx дсбстбгппых
лесов и скоро остающихся в тылу у отважных пио-
Комментарии
453
неров. . .»— «граница» здесь — линия фронта
колонизации американских земель, непрерывно
передвигавшийся вслед за отступавшими аборигенами край
расселения колонистов (Frontier). Тёпфер в этой новелле
не высказал своего отношения к колонизации Америки.
Большой Сен-Бернар
Впервые новелла опубликована в «Bibliothèque
universelle» в декабре 1839 г.
1 Мы сидели в странноприимном монастыре на
Большом Сен-Бернарском перевале в обществе настоя-
теля. . . — Этот монастырь, основанный в 962 г.
св. Бернаром, служил убежищем для путников,
подвергавшихся при переходе через перевал опасности
сбиться с пути и замерзнуть. С названием монастыря
связана порода собак (сенбернар), которых
использовали для розыска людей, попавших под снежные
лавины или заблудившихся в горах во время
снежных бурь.
2 Вместо щуплого Фенелона. .. — см. комм. 6 к ч. I
«Библиотеки моего дяди».
3 Нет, то не было страстное «ты» Сен-Пре,
обращенное к Юлии. . . — Сен-Пре и Юлия — главные
действующие лица романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза»
(1761).
4 ...чтобы вместе спуститься в Аосту. — А оста —
город в итальянской провинции Турин, на границе
с Швейцарией.
5 . . . оказались родом из Шамбери. — т. е. все трое
были савоярами; турист ошибся, признав одного из
них за швейцарца. Шамбери — см. комм. 26 к ч. I
«Библиотеки моего дяди».
6 Они направлялись в Иерею... — Иерея — город
в итальянской провинции.
7 Эта девушка, воспитанная монахинями Сакре-Кёр. . . —
см. комм. 26-к ч. I «Библиотеки моего дяди».
8 . . . купил книгу г-на де Местра. . . — имеется в виду
повет л К. де Местра (1763—1852) «Прокаженный
из А..^ты».
454
Комментарии
9 . . . воды Дуары едва белели. . . — Дуара (итальянское
название Дора-Балтеа)— река, берущая начало у
подножия Сен-Бернара.
10 . . . уж не Чани ли? не Мадзини? ... — Чани и Мад-
эини — борцы Рисорджименто (1815—1870),
движения за демократическое воссоединение Италии.
В условиях усилившейся после 1815 г. реакции
многие из деятелей движения, вынужденные оставить
Италию, находили приют в Женеве и в известной
мере способствовали либерализации и
демократизации местного консервативного правления.
Страх
Впервые новелла опубликована в «Bibliothèque
universelle» в апреле 1833 г.
1 Блаженны мертвые. . . — сокращенная цитата из
Откровения св. Иоанна Богослова.
СОДЕРЖАНИЕ
Библиотека моего дяди (перевод М. Н. Чер-
невич) 5
/. Два узника 5
2. Библиотека 69
3. Генриетта 106
Наследство (перевод М. Н. Черневич) . . 183
Антернский перевал (перевод М. Н.
Черневич) 247
У Жерского озера (перевод М. Н. Черневич) 271
Трианская долина (перевод 3. Е.
Александровой) 291
Путь за океан (перевод 3. Е.
Александровой) 319
Большой Сен-Бернар (перевод 3. Е.
Александровой) 341
Страх (перевод 3. Е. Александровой) . . 361
ПРИЛОЖЕНИЯ
В. Д. Седельник. Родольф Тёпфер —
новеллист и художник 378
Комментарии (составитель В. Д. Седельник) 435
Родольф Тёпфер
ЖЕНЕВСКИЕ НОВЕЛЛЫ
■ —* '
Утверждено к печати
Редколлегией серии
^Литературные памятники'1
Редактор издательства
Н. А. Алпатова
Художник
В. Г. Виноградов
Художественный редактор
Т. П. Поленова
Технические редакторы
Э. Л. Кунина, Р. Г. Грузинова
Корректоры
Л. И. Кириллова, В. А. Шварцер
ИБ № 250093
Сдано в набор 22.09.81.
Подписано к печати 22.12.81.
Формат 70х901/32-
Бумага книжно-журнальная
Гарнитура академическая
Печать высокая
Усл. печ. л. 17,32. Усл. кр.-отт. 18,5
Уч.-изд. л. 19,5
Тираж 50 000 экз. Тип. зак. 741
Цена 2 р. 60 к.
Издательство «Наука»
117354, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90
Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12