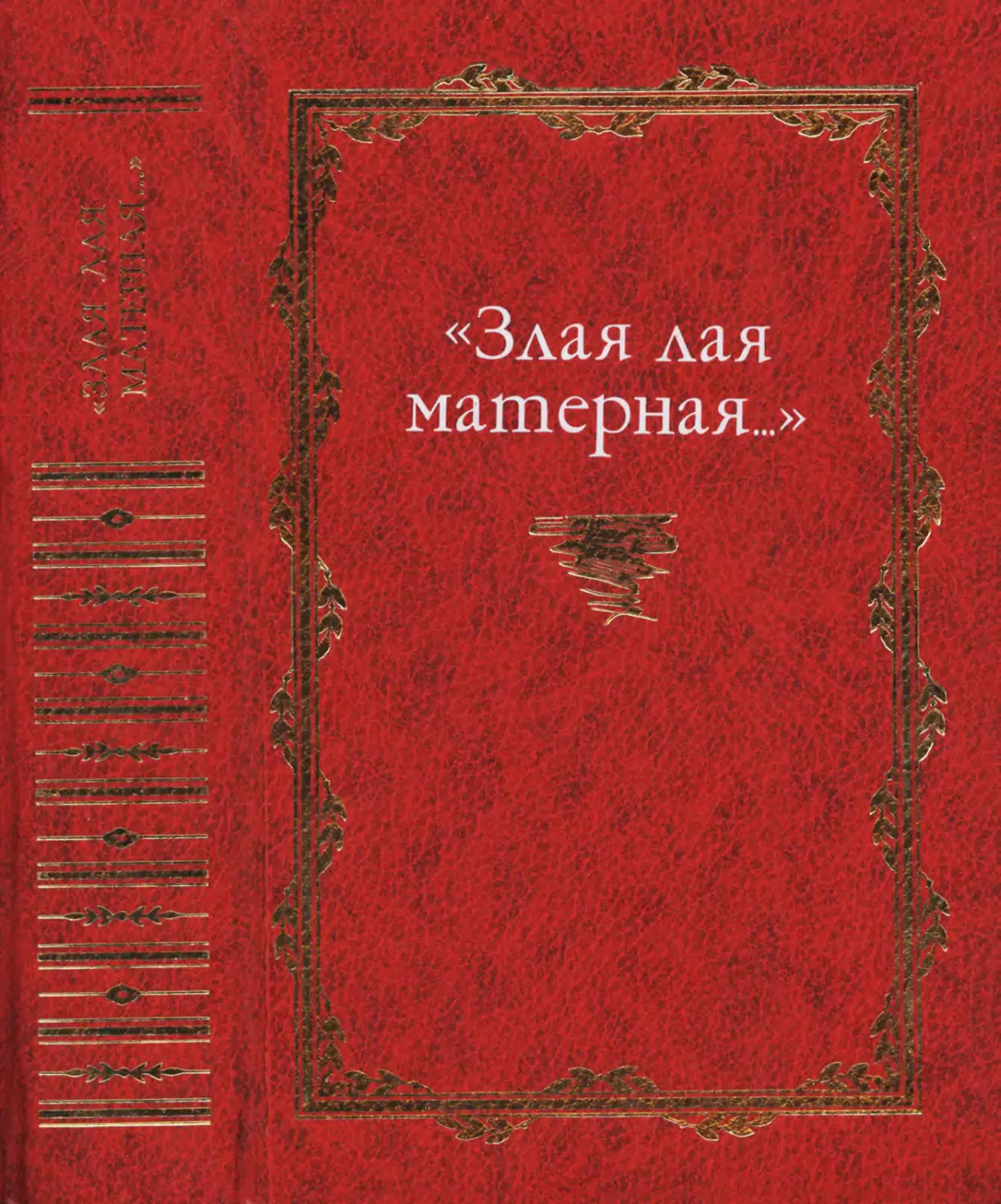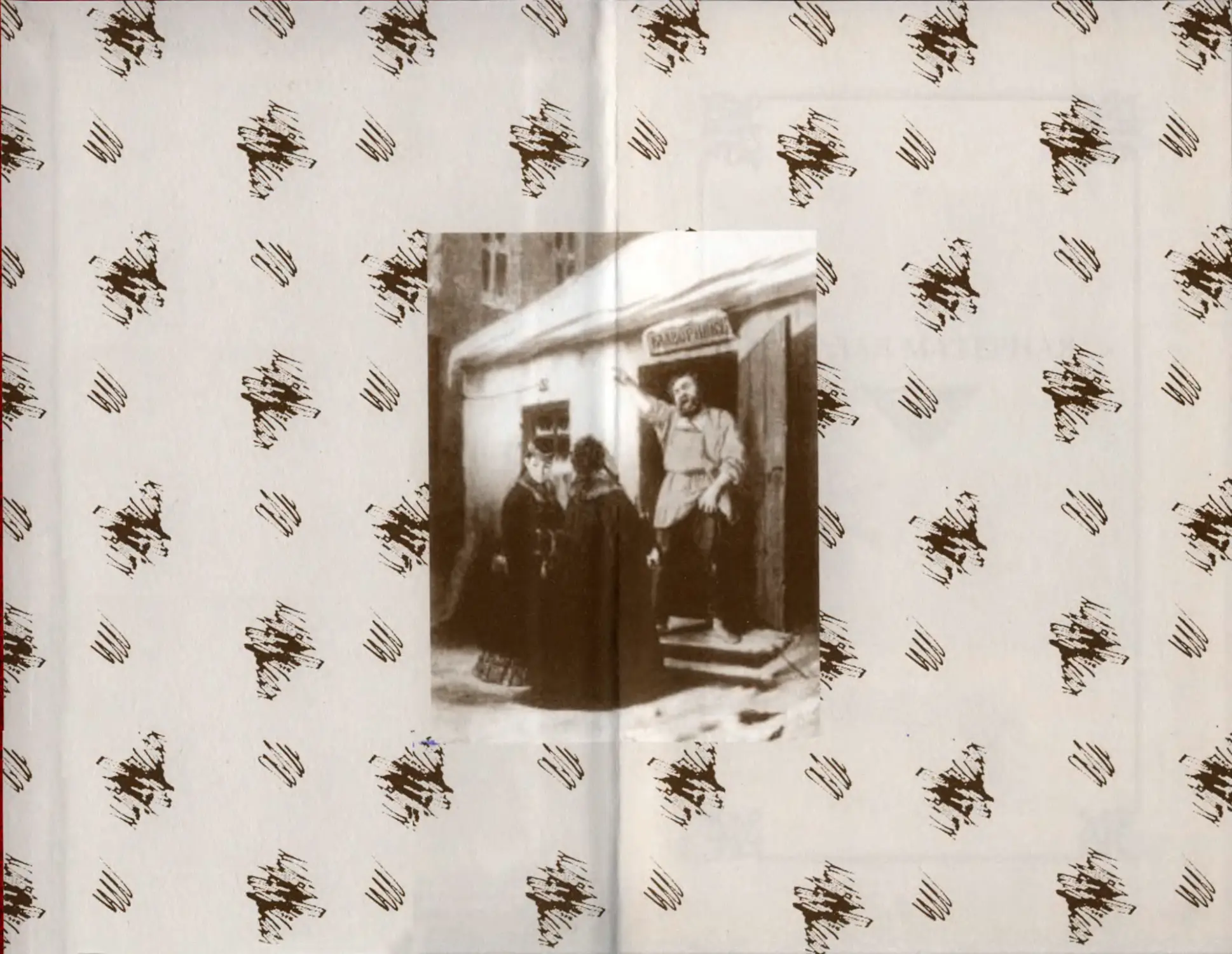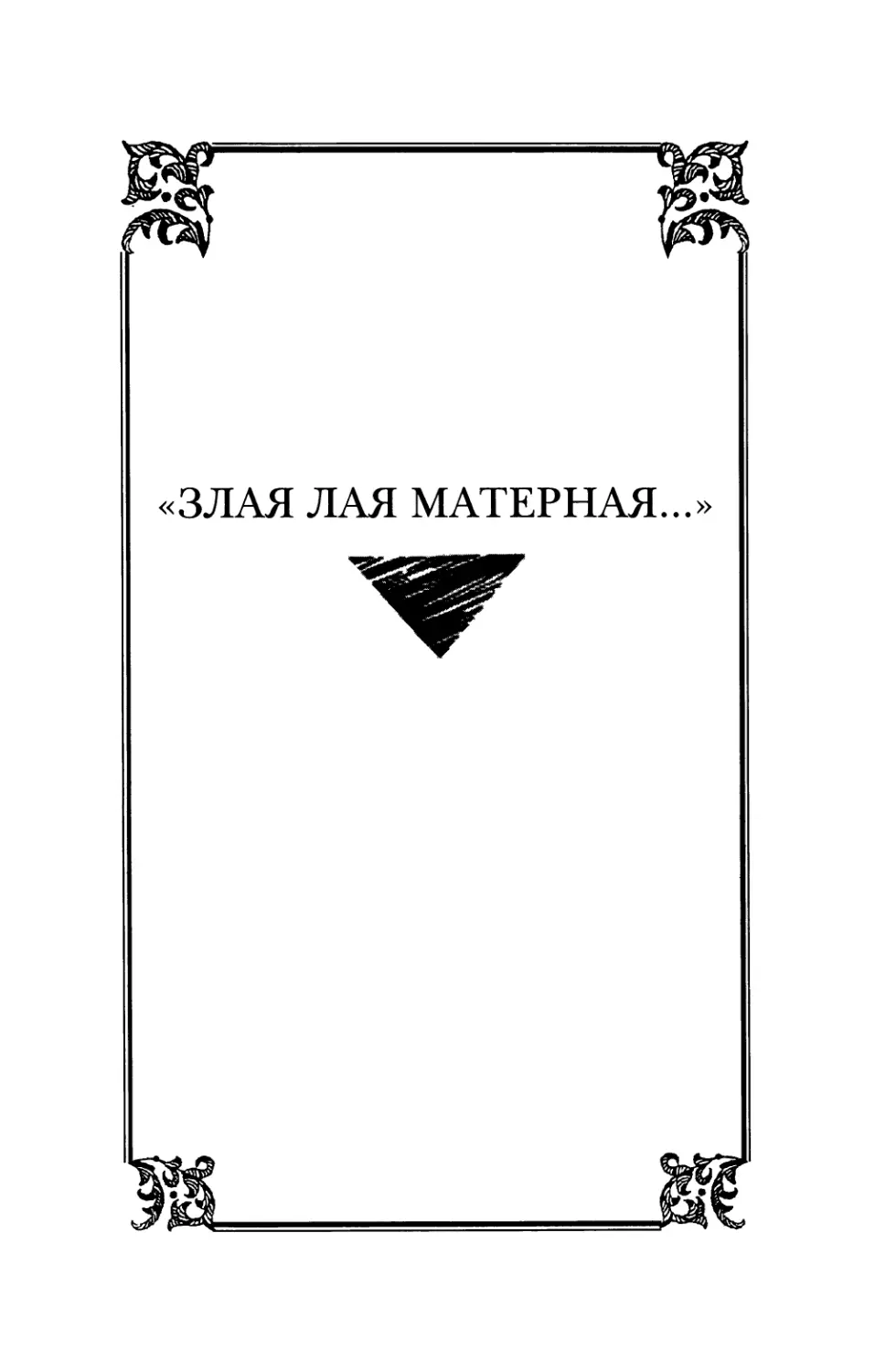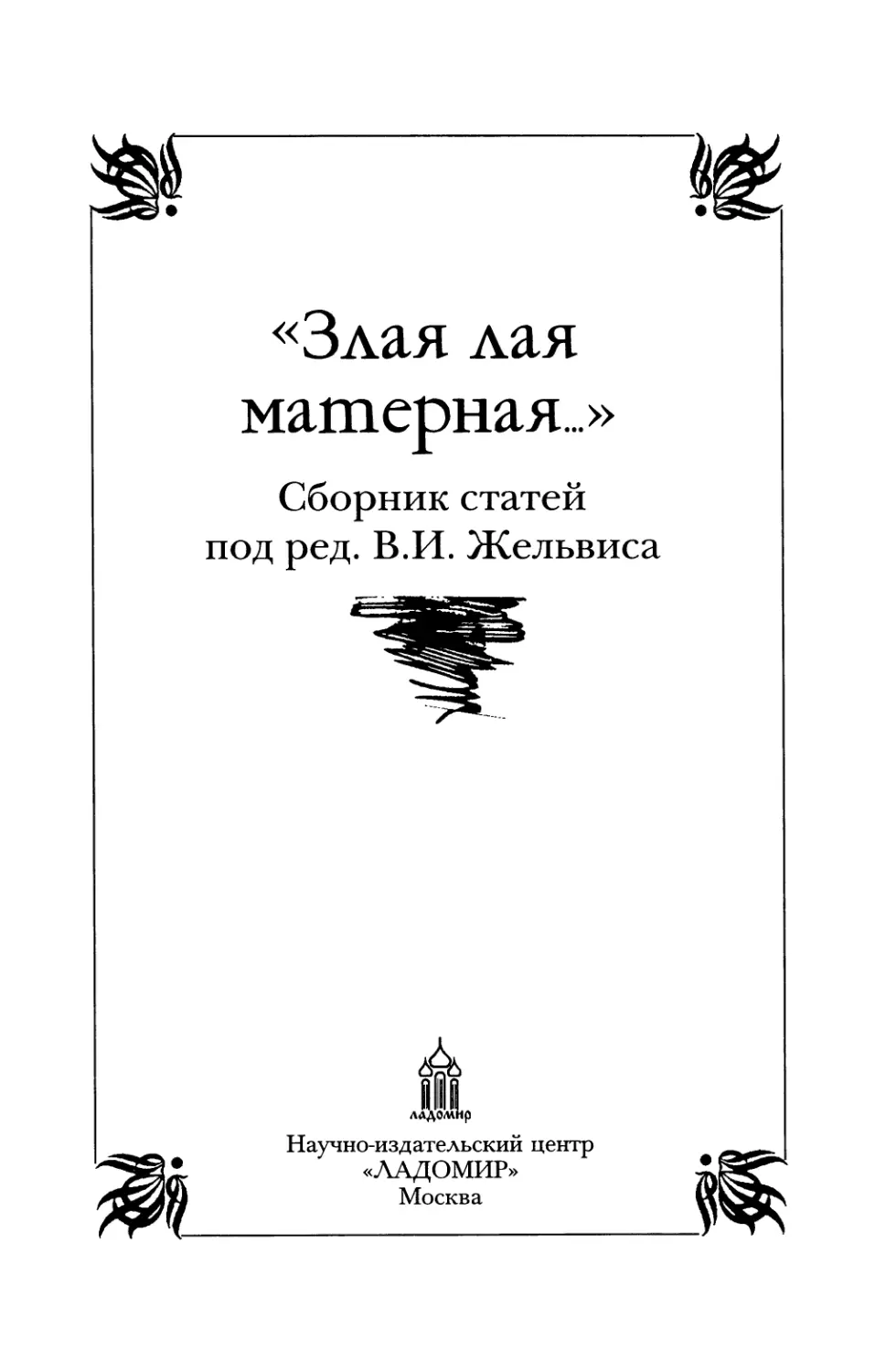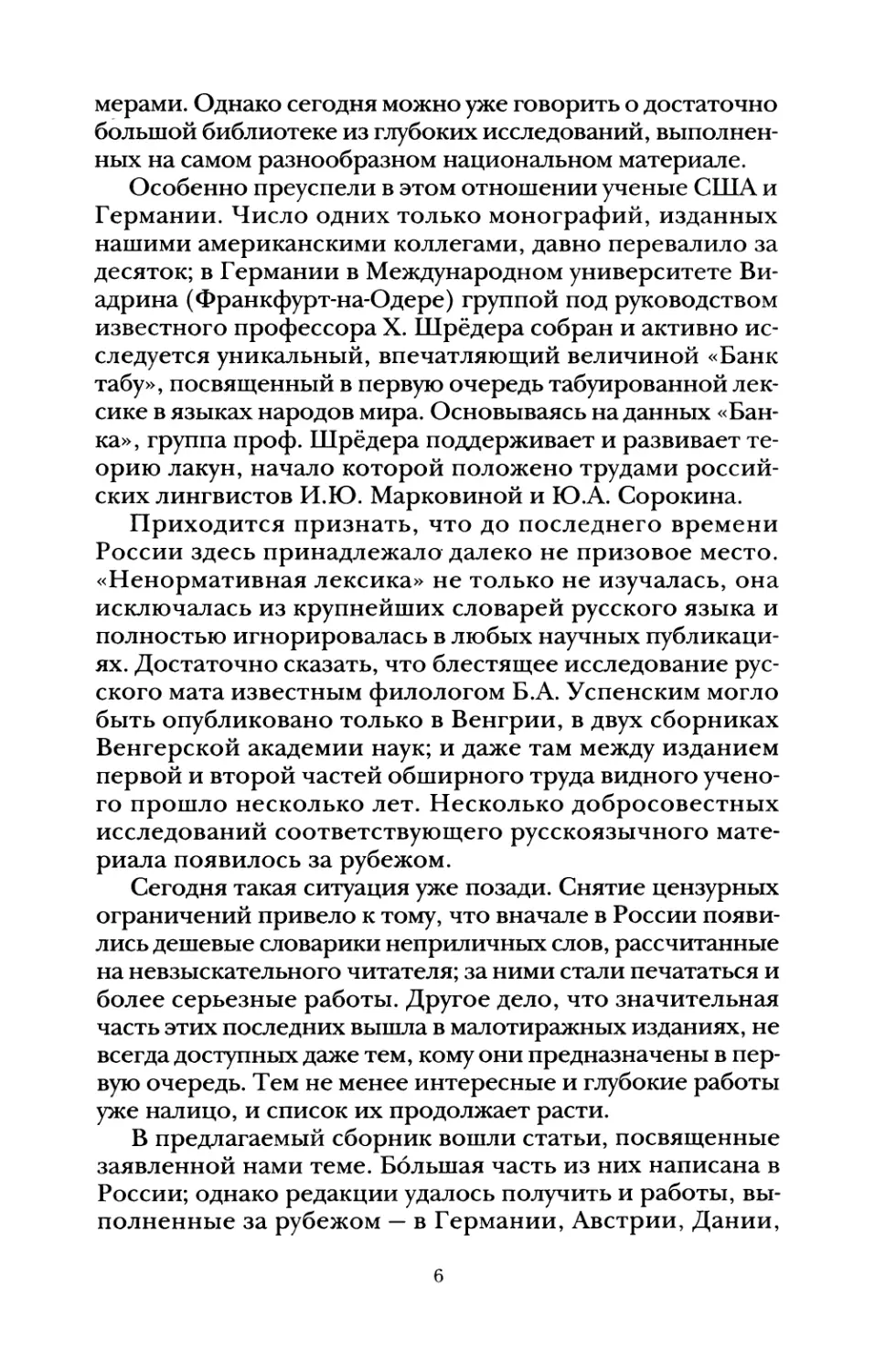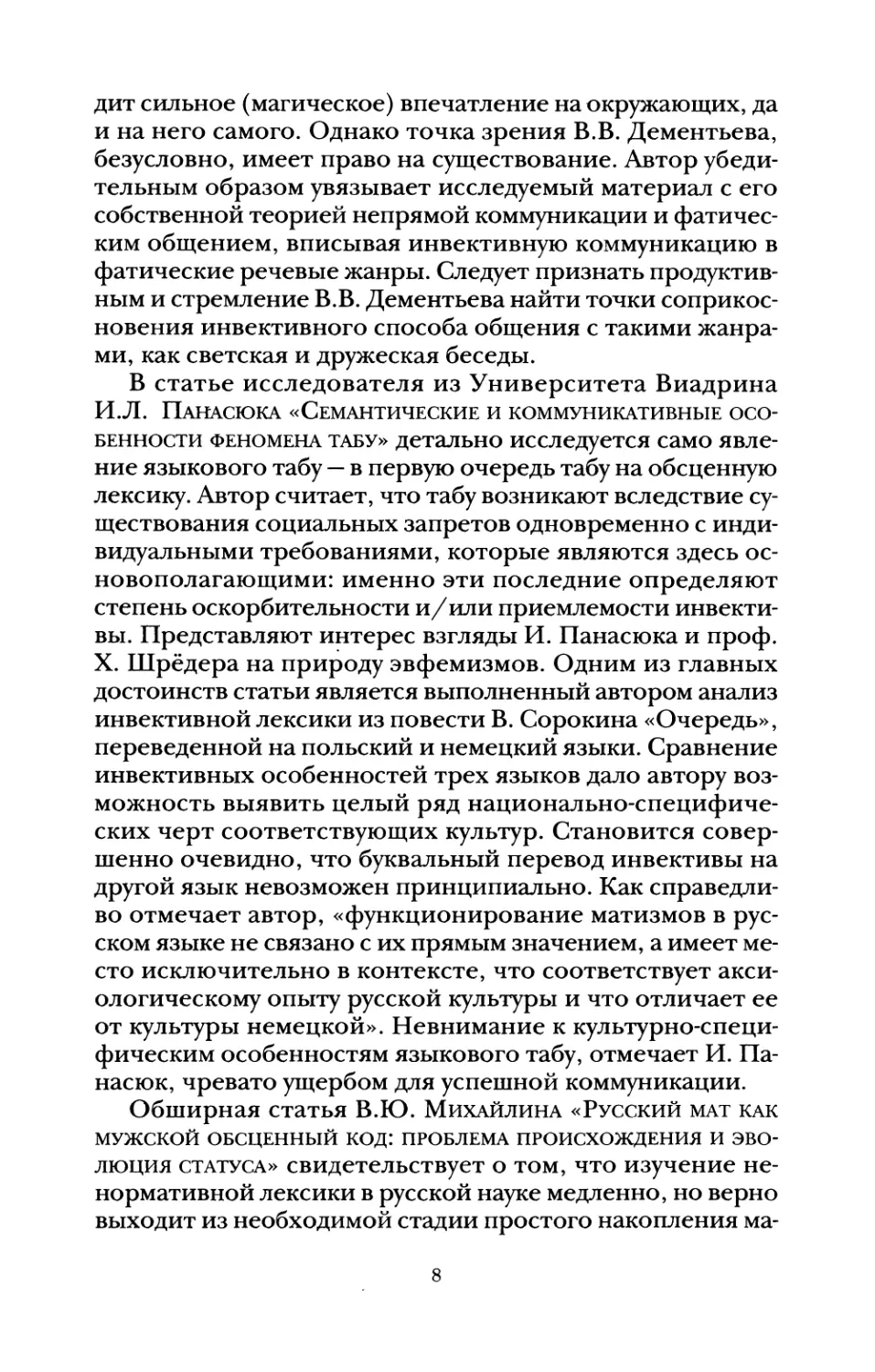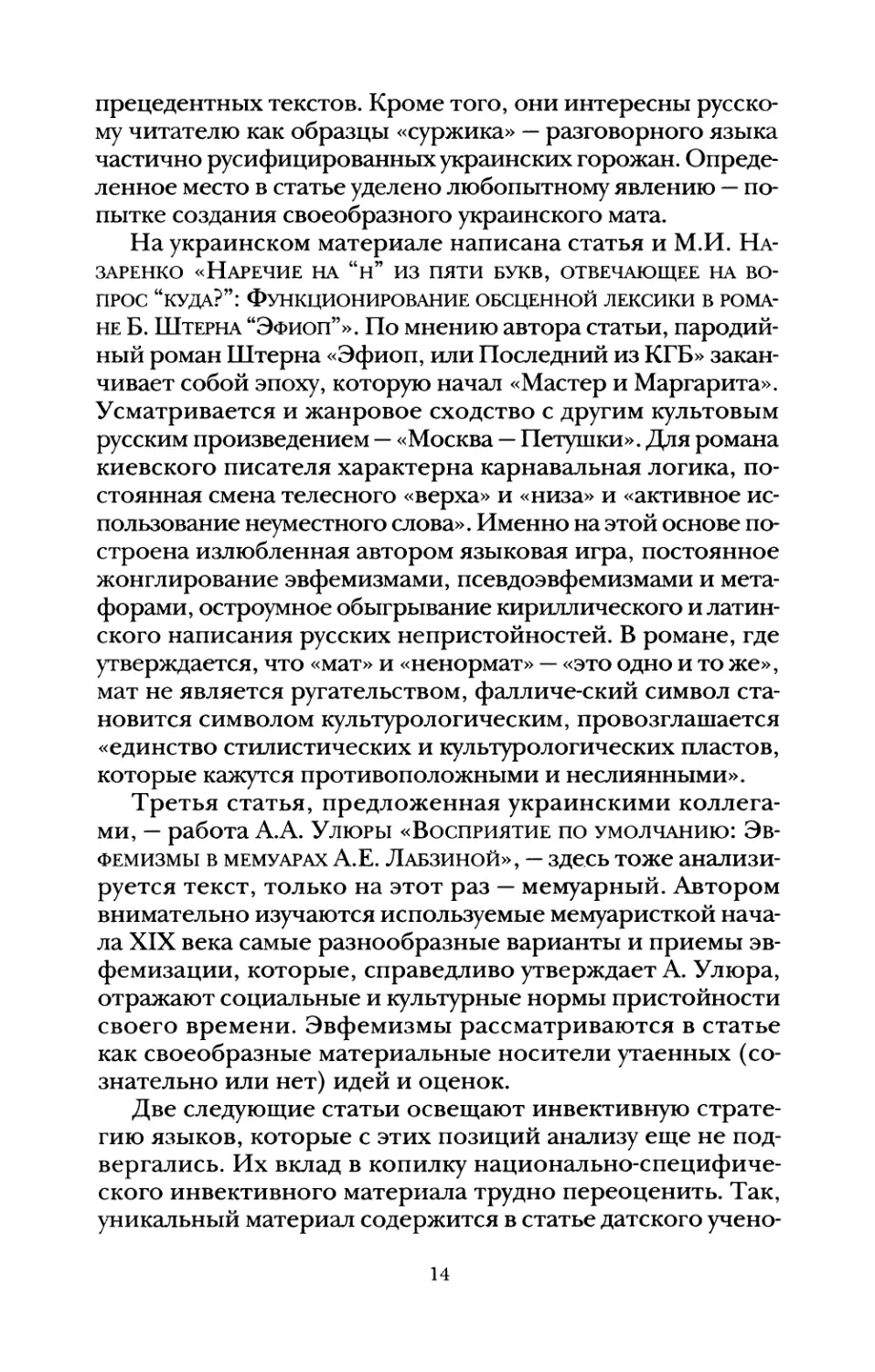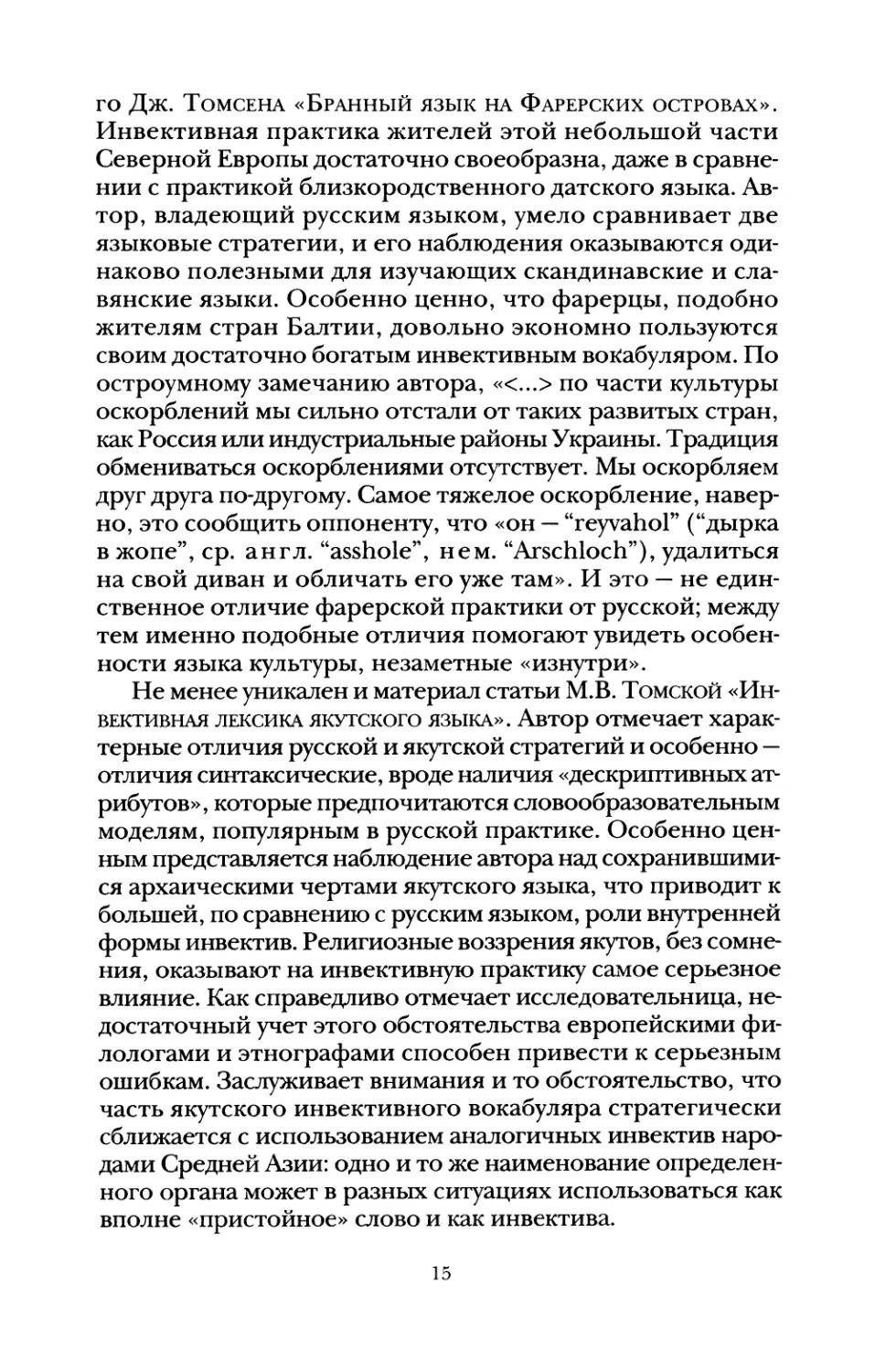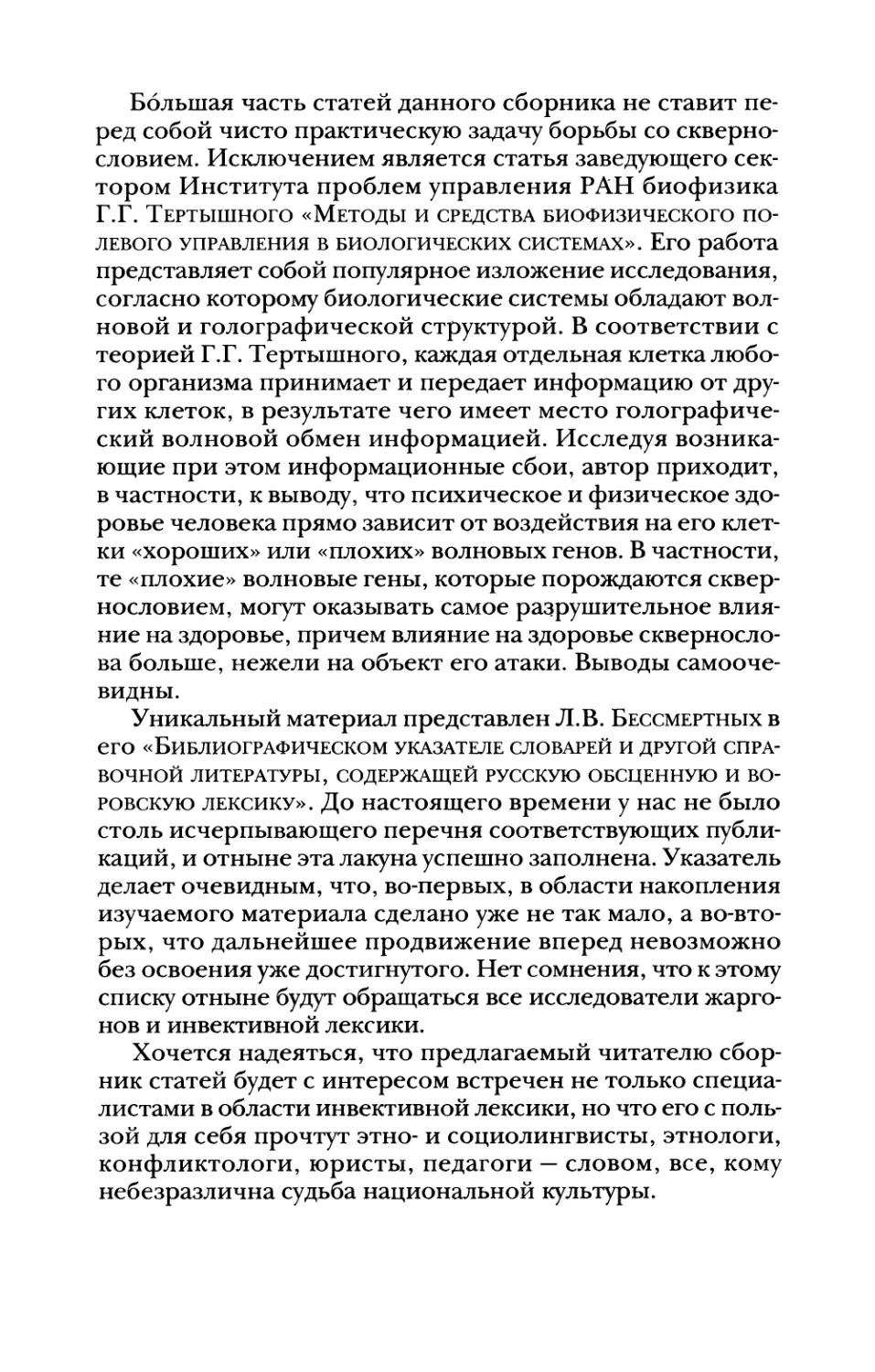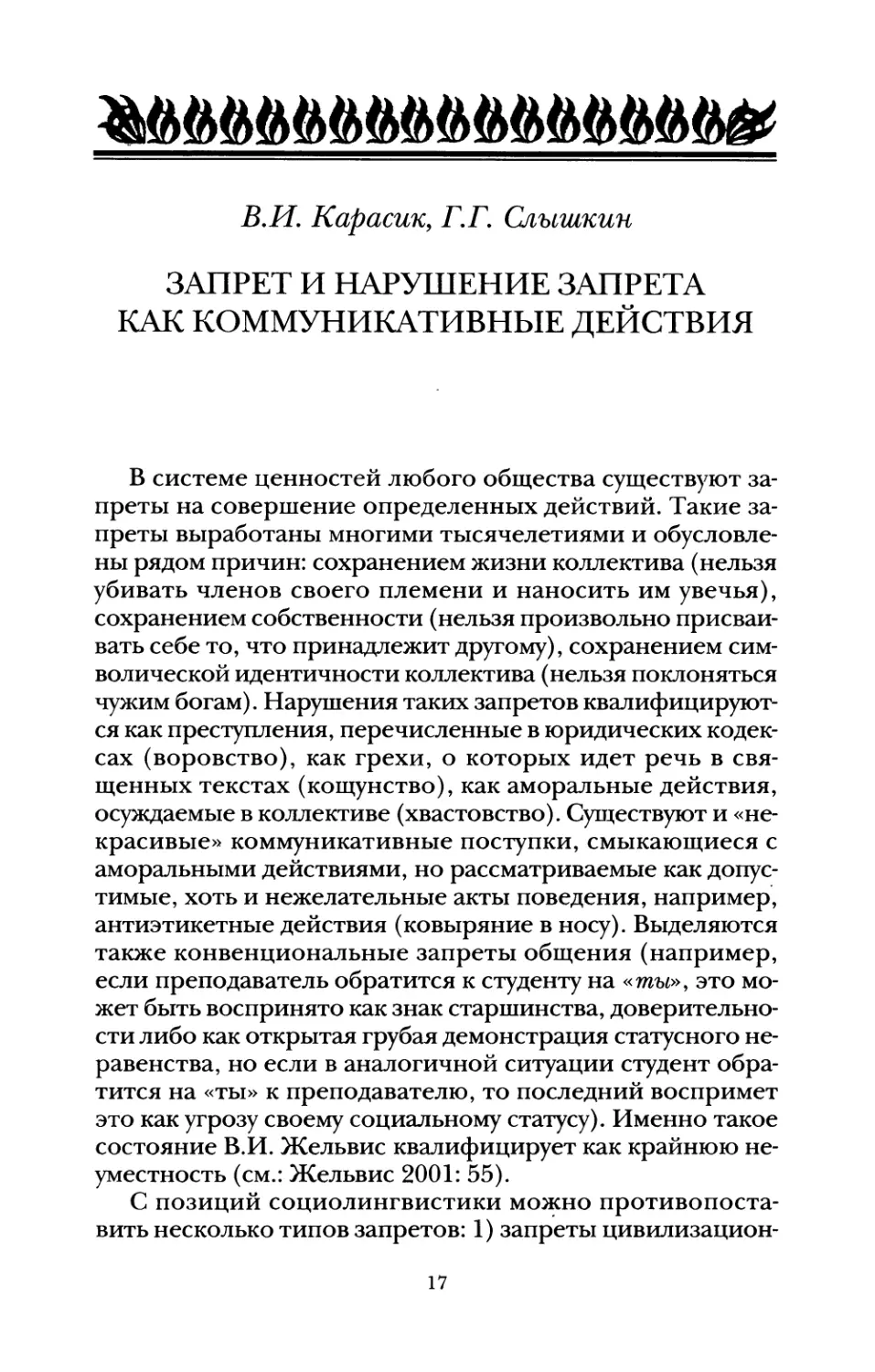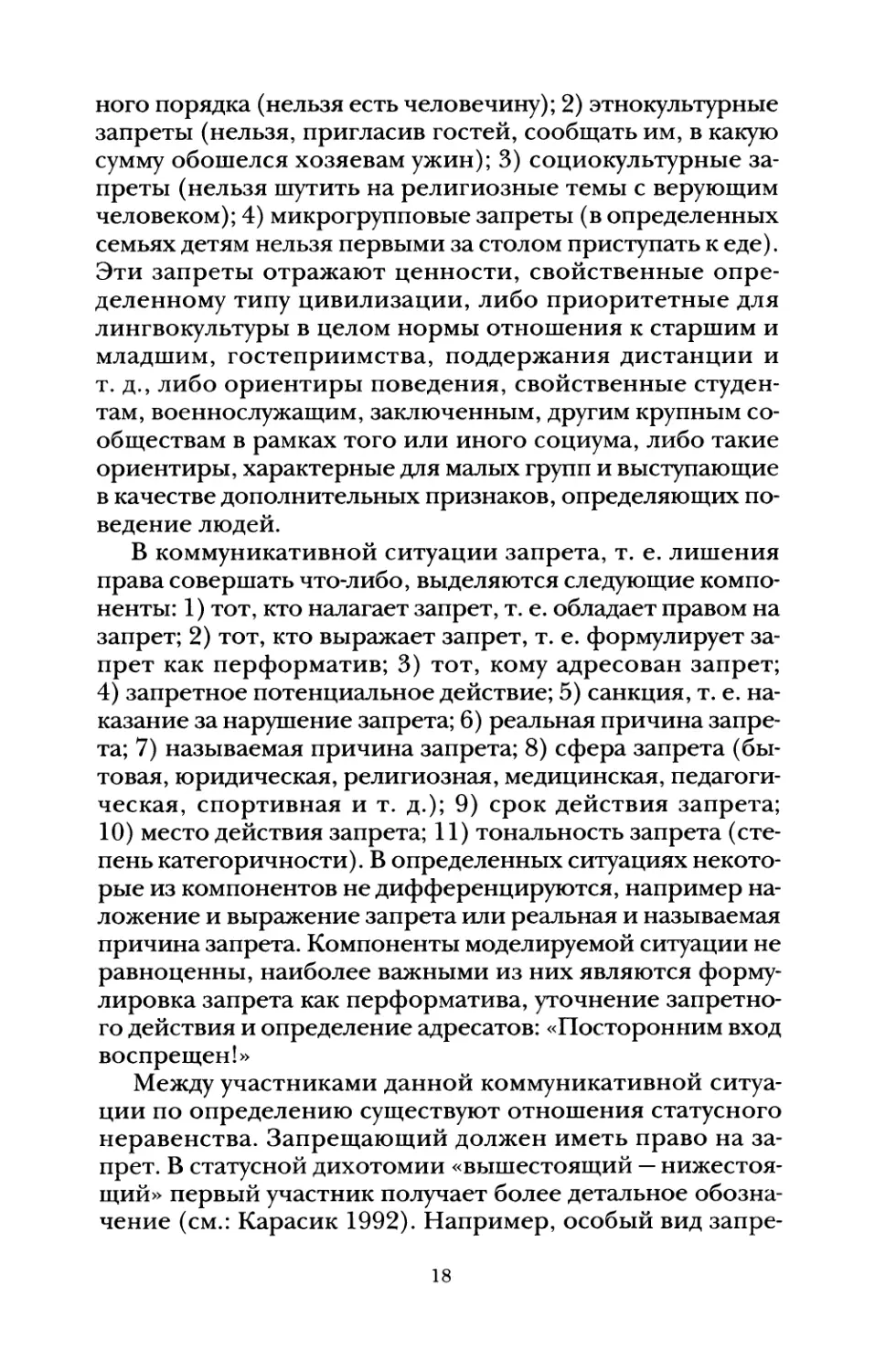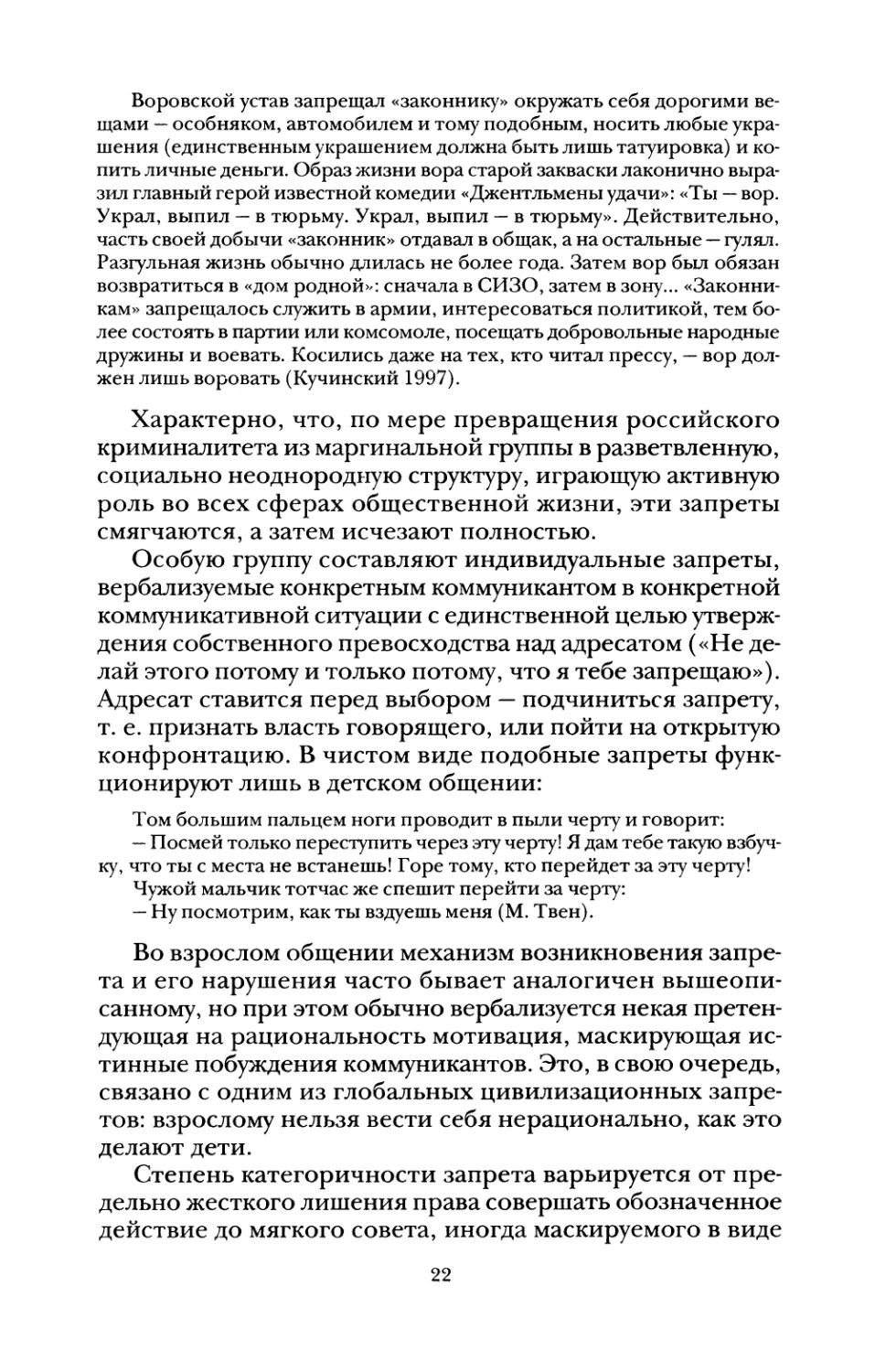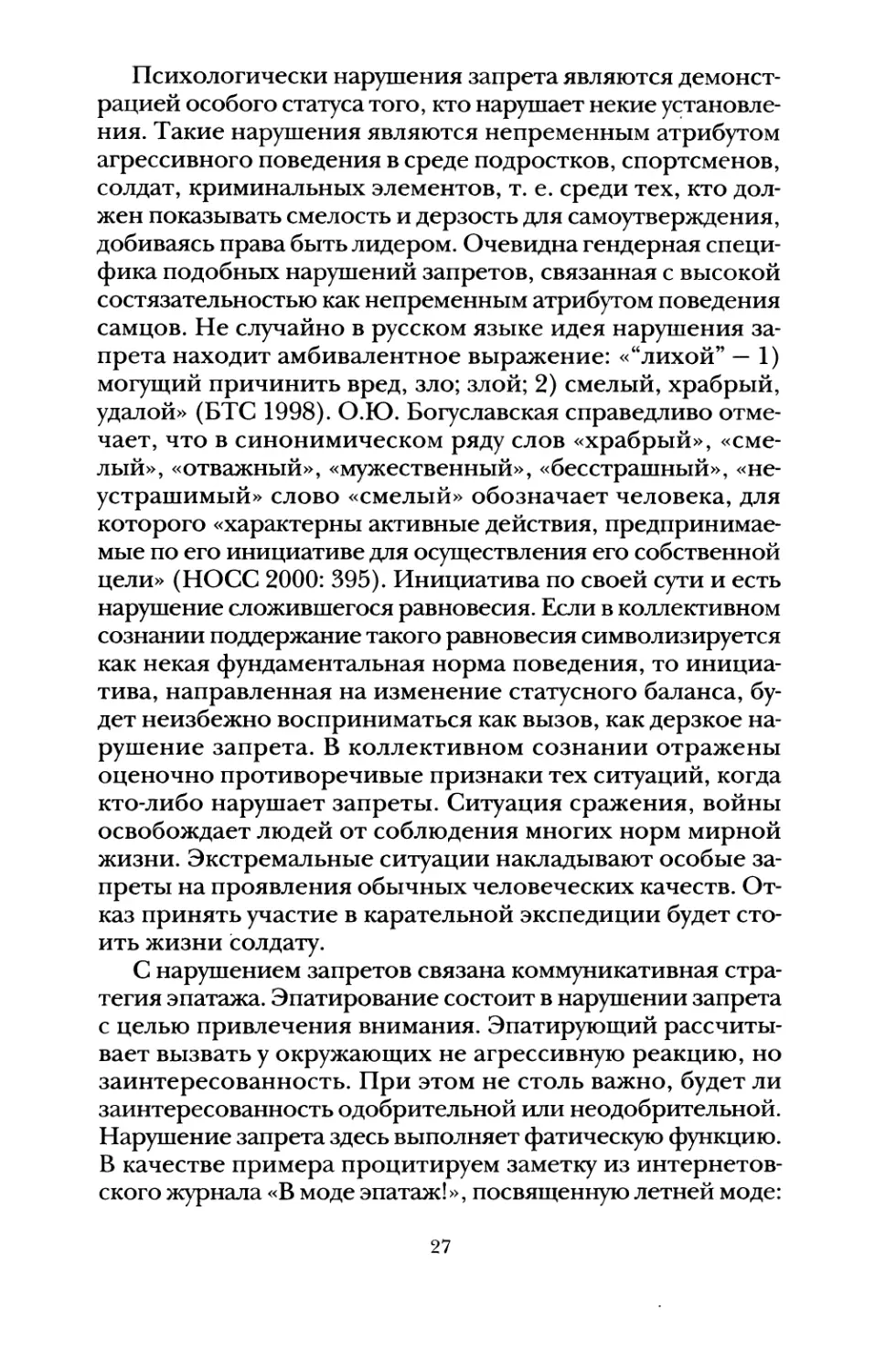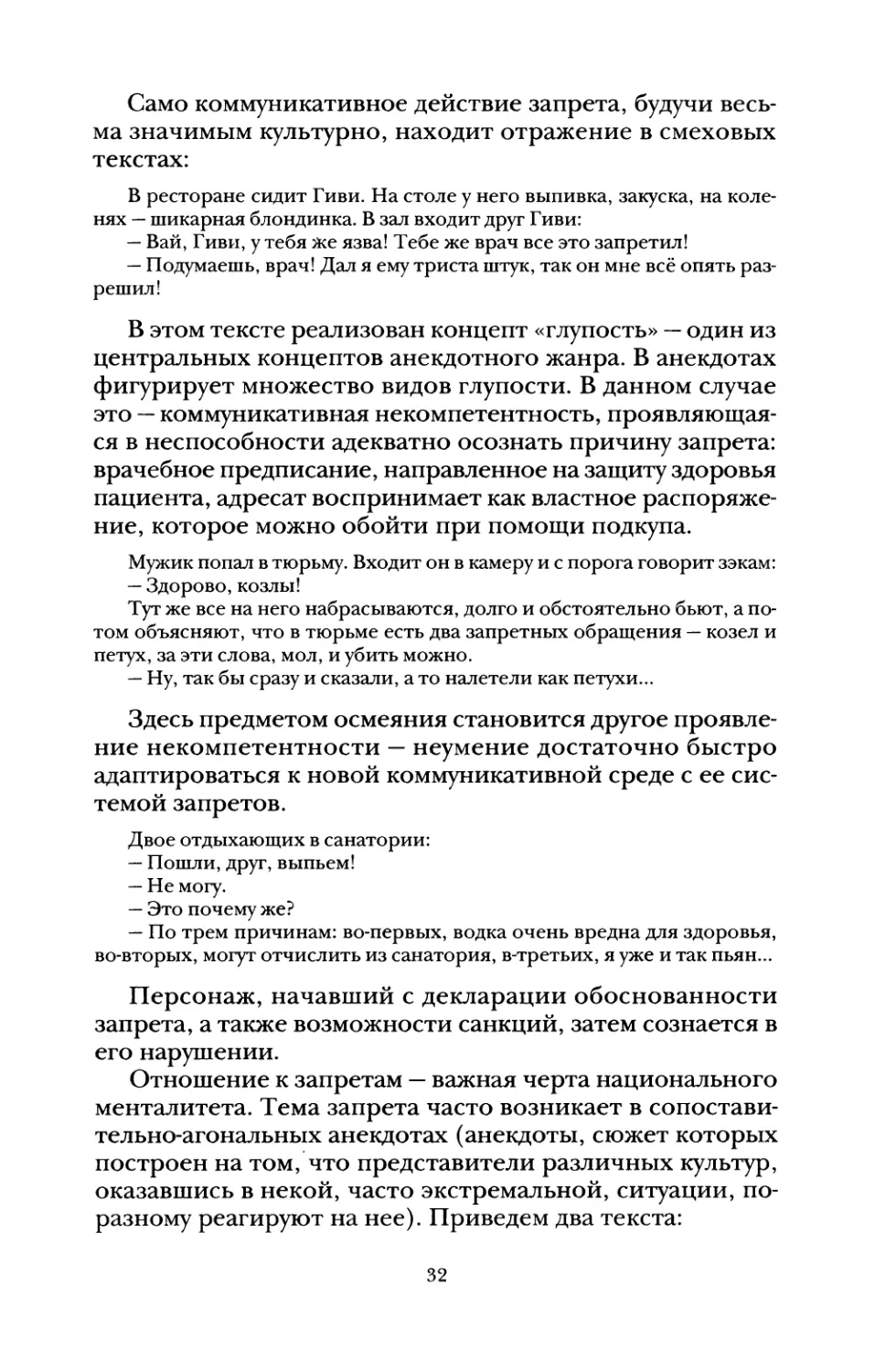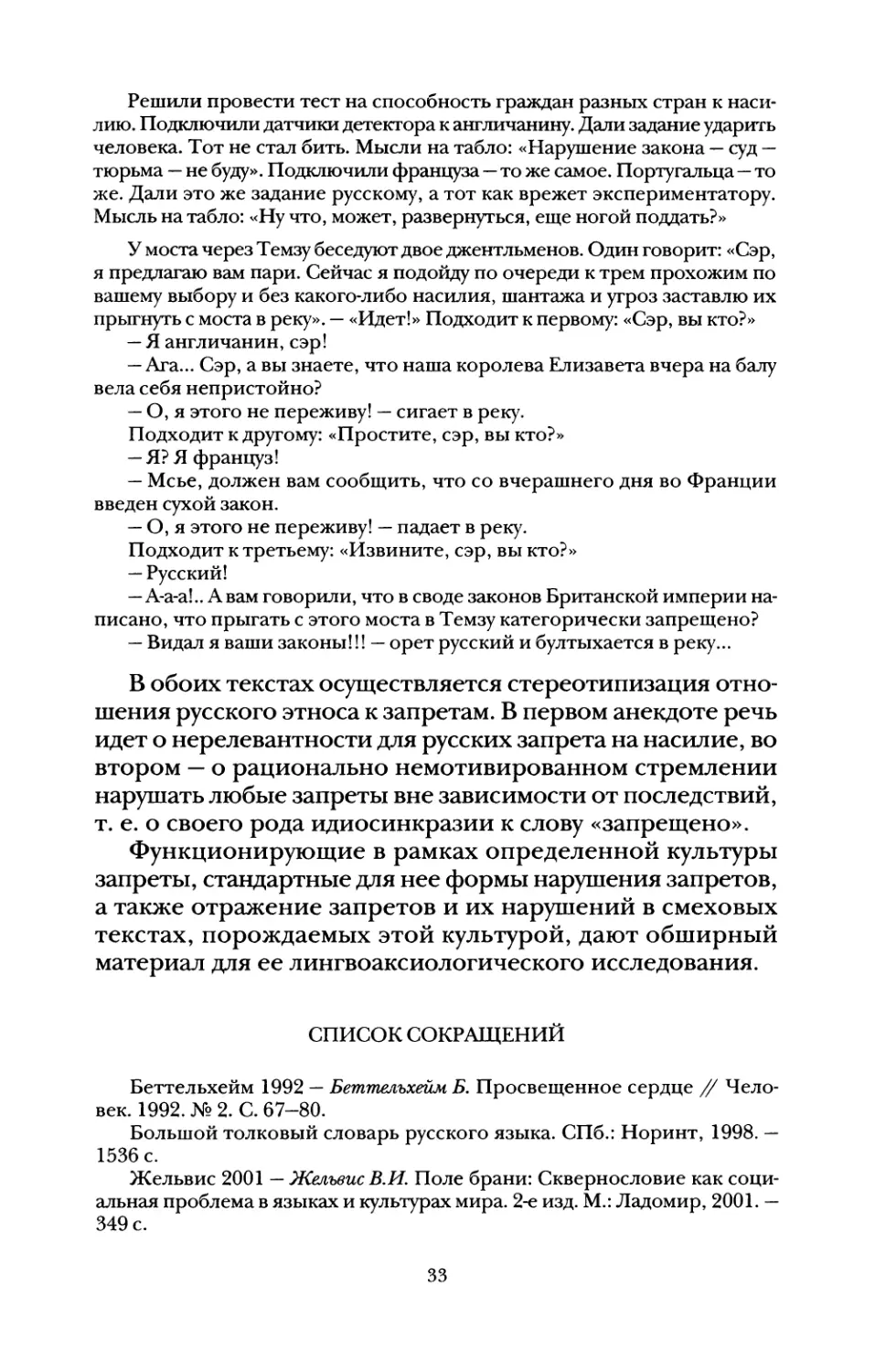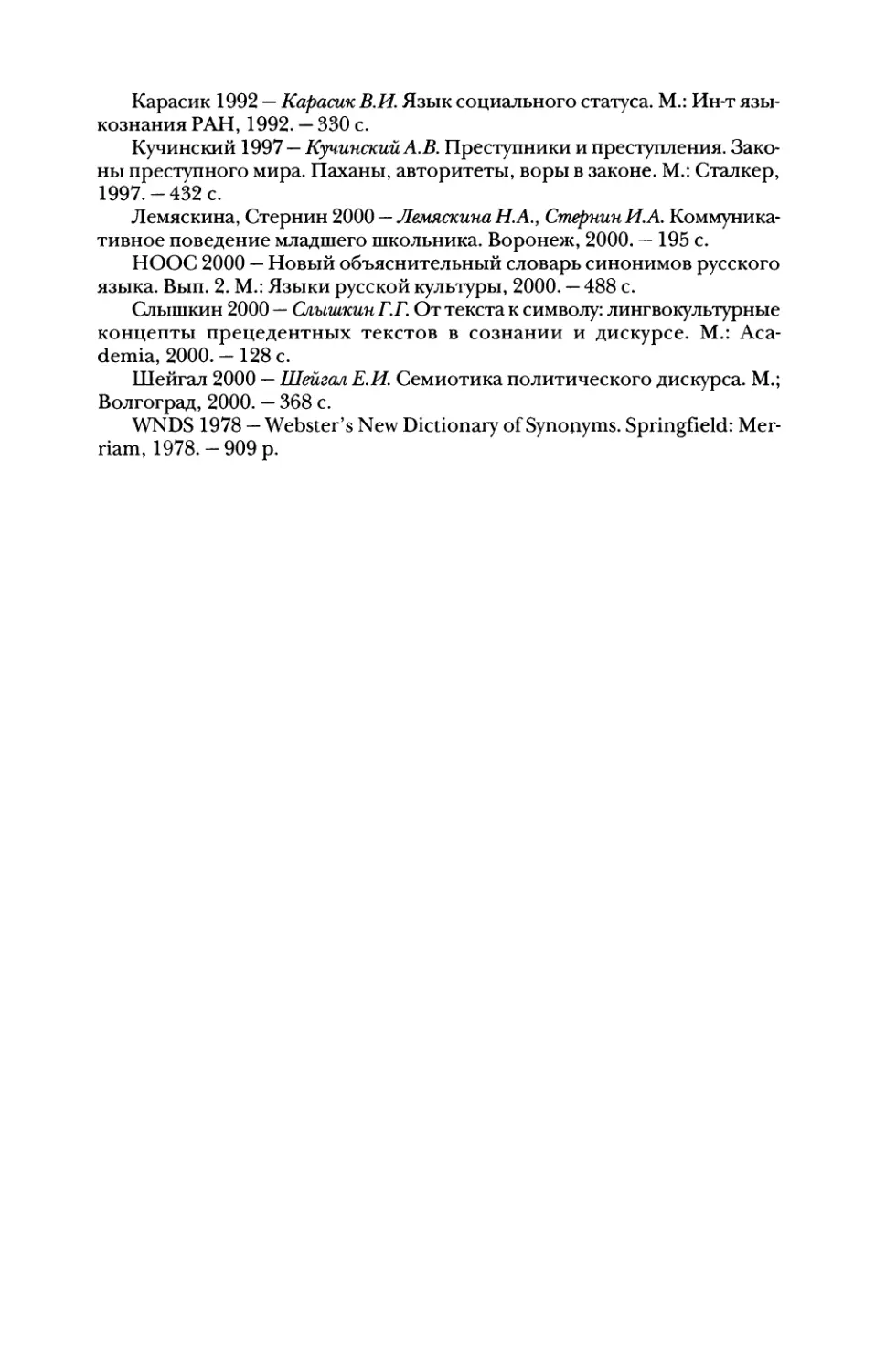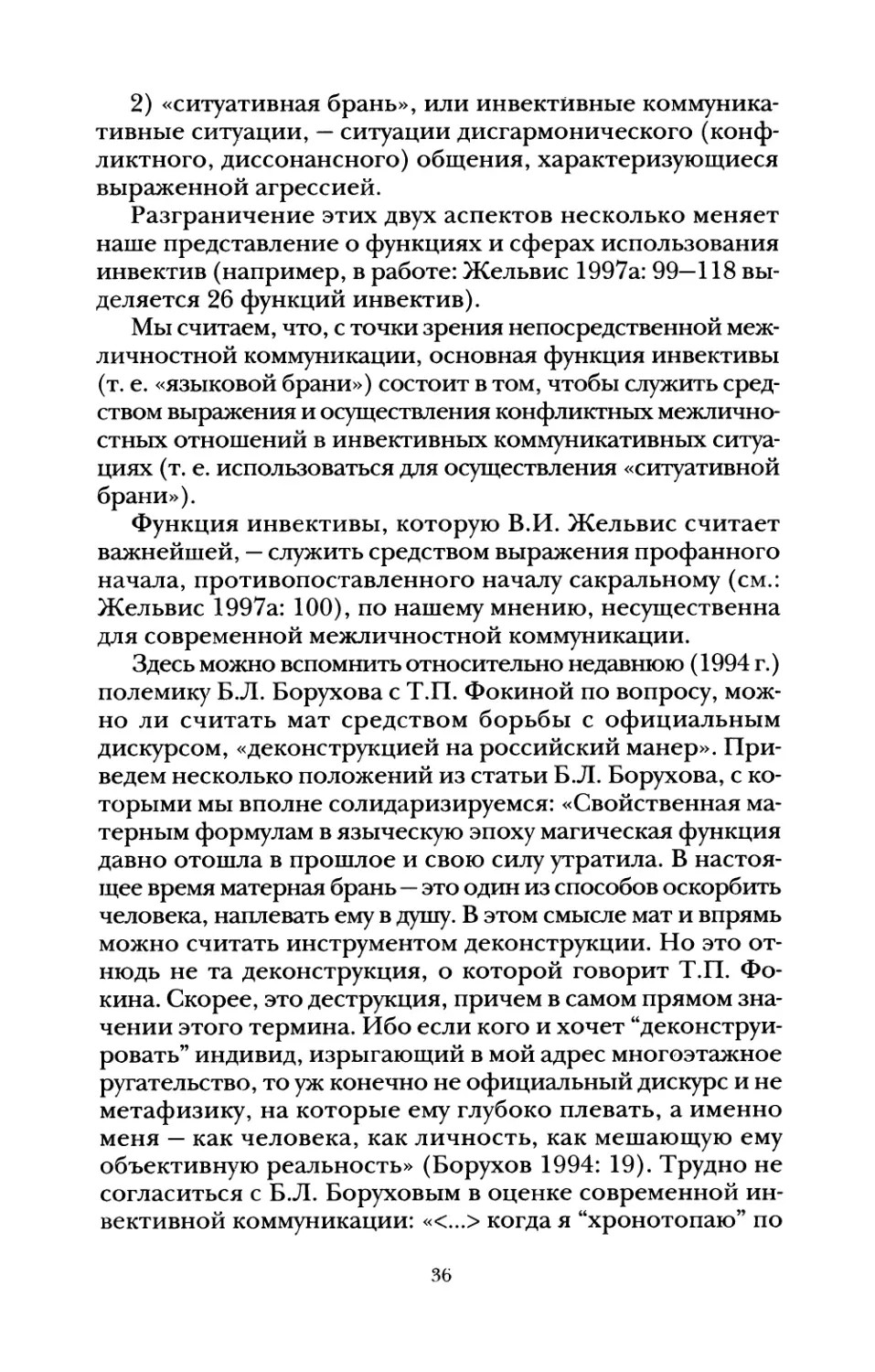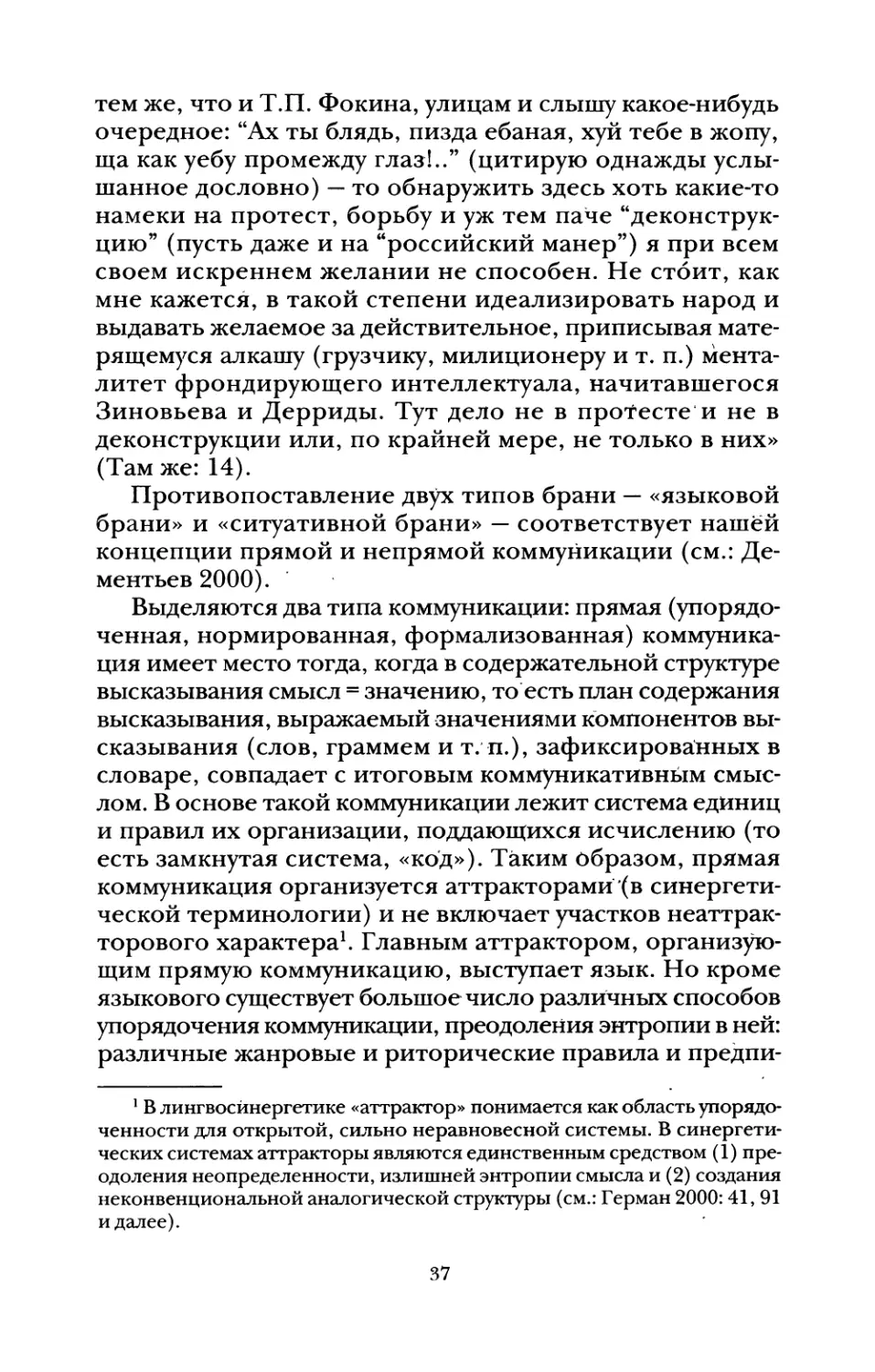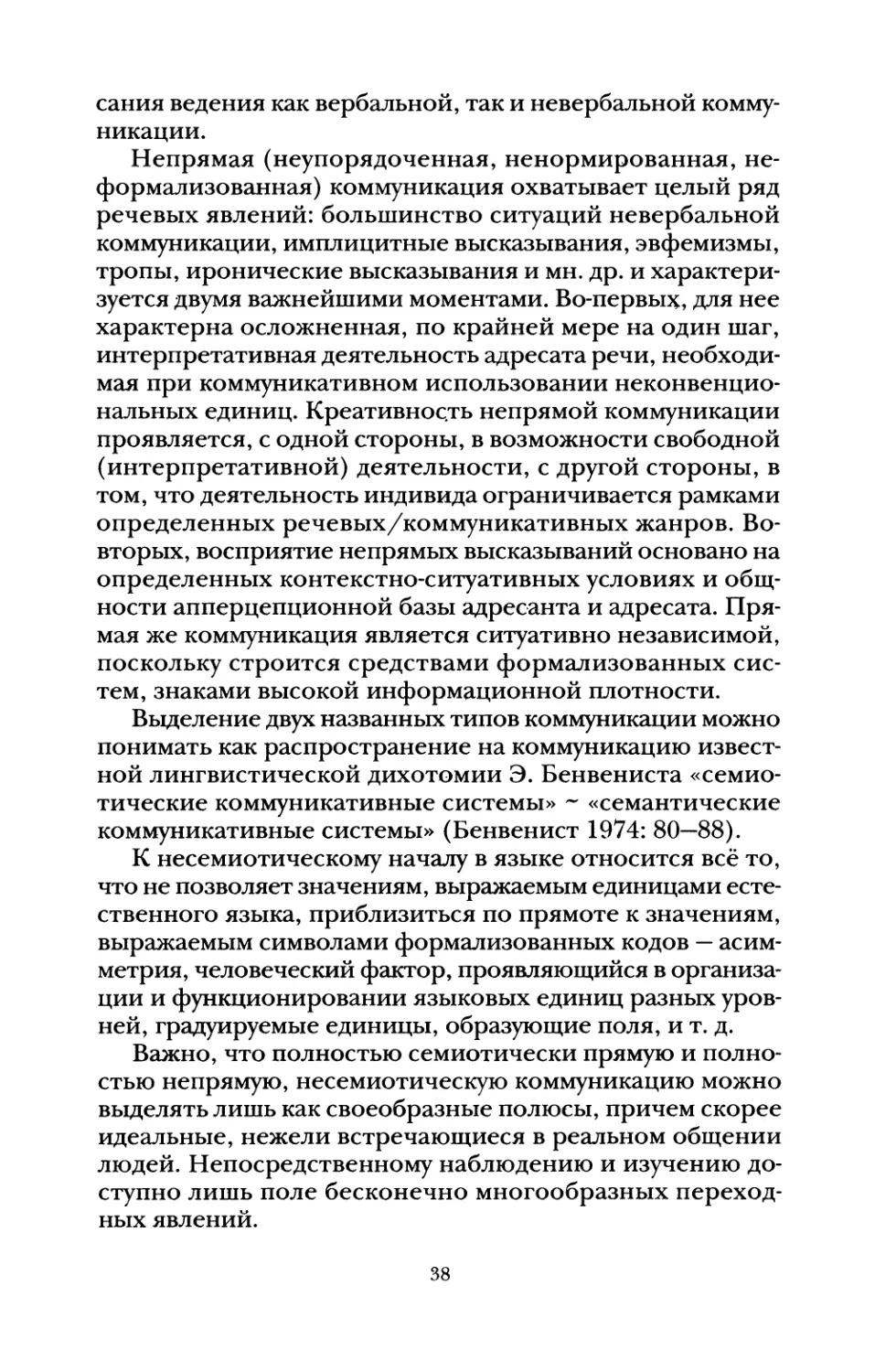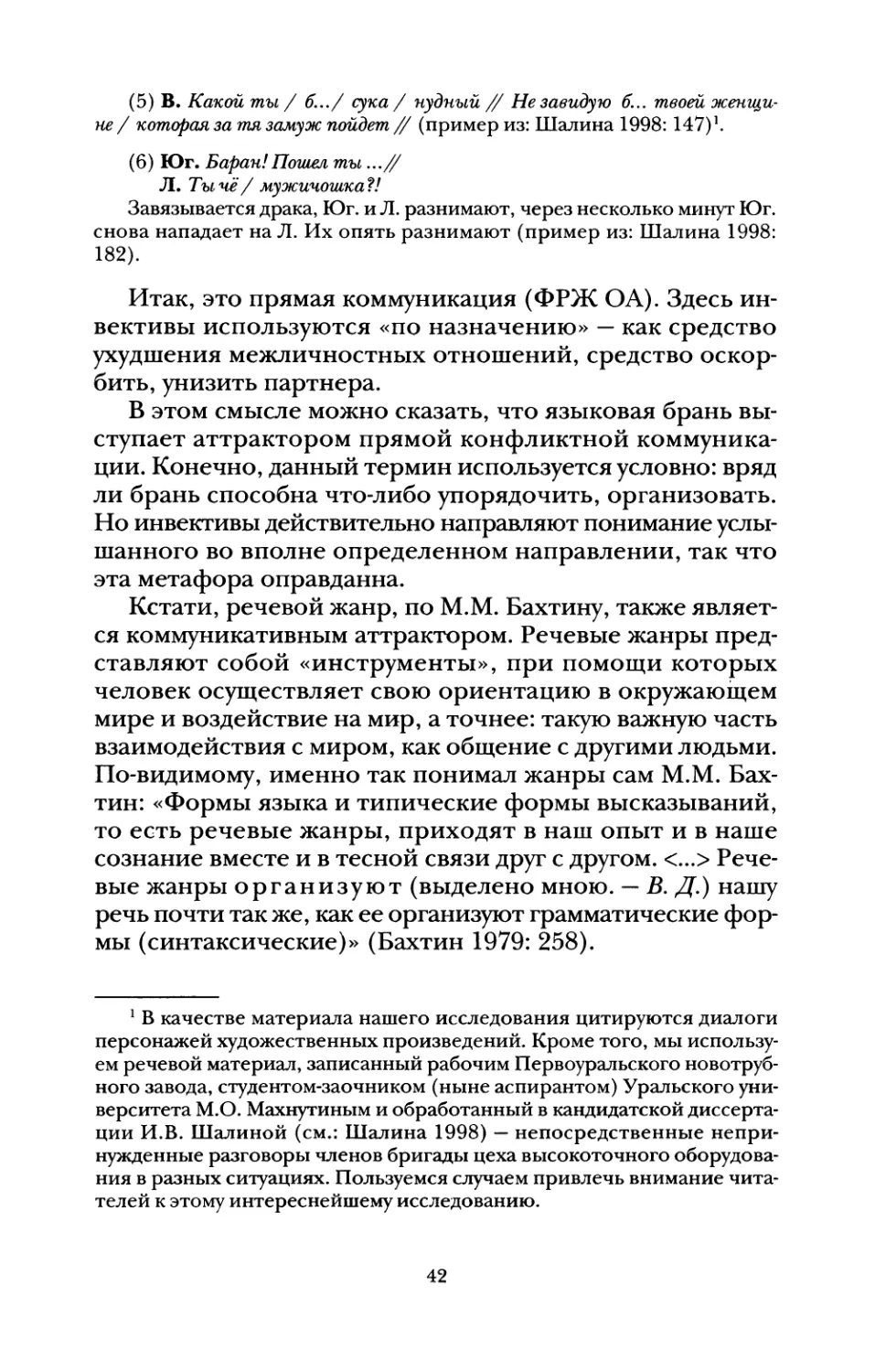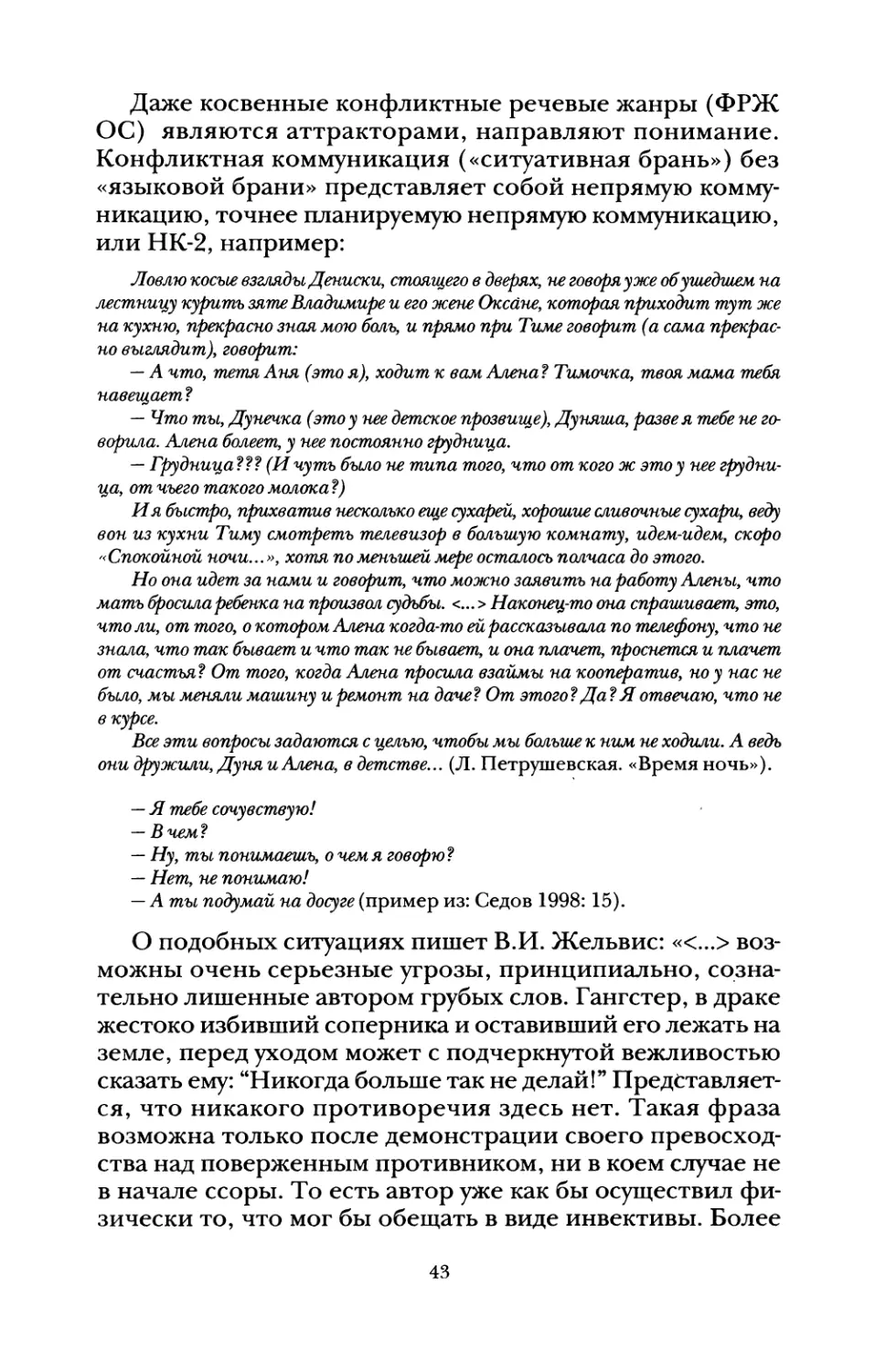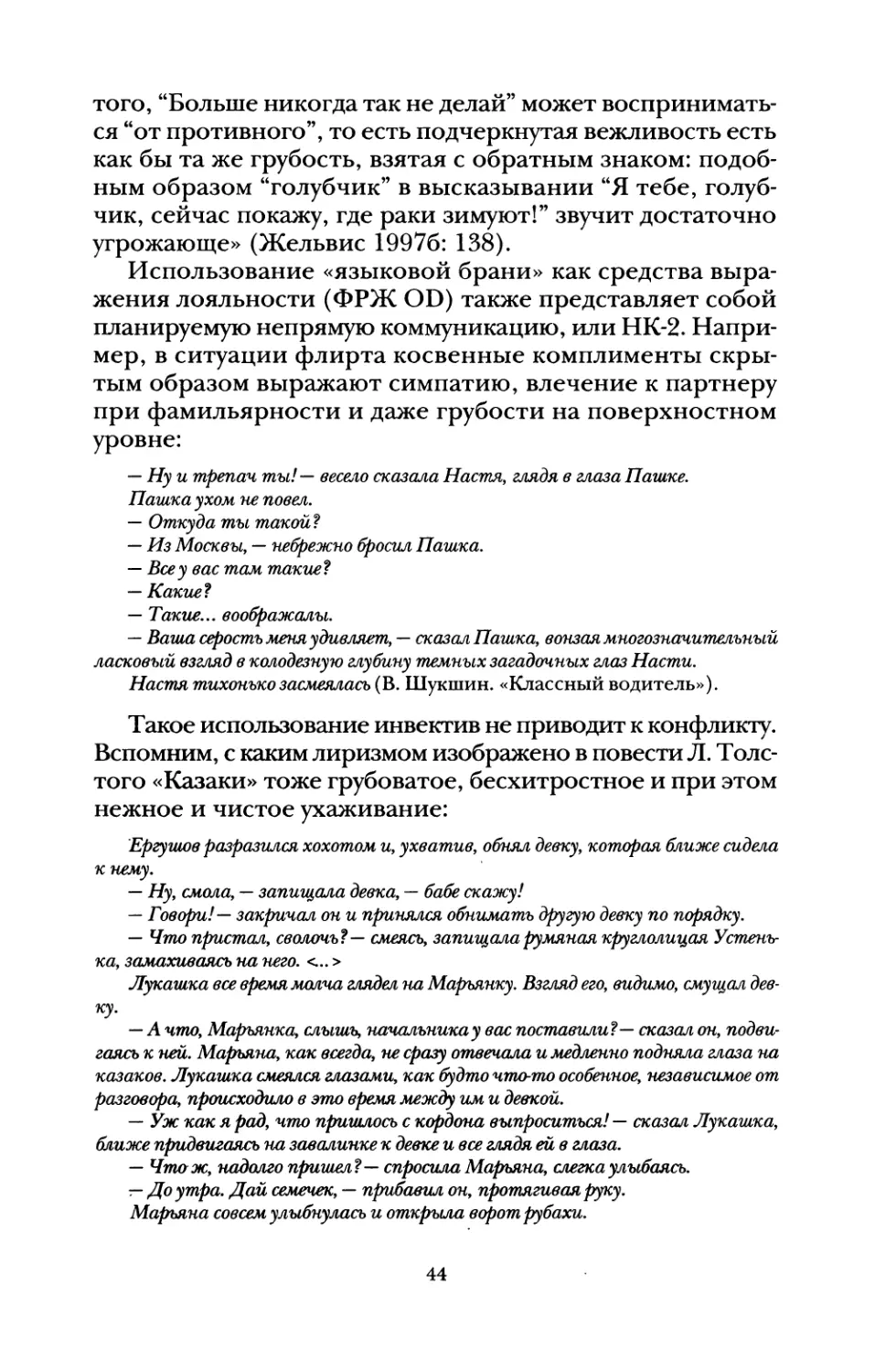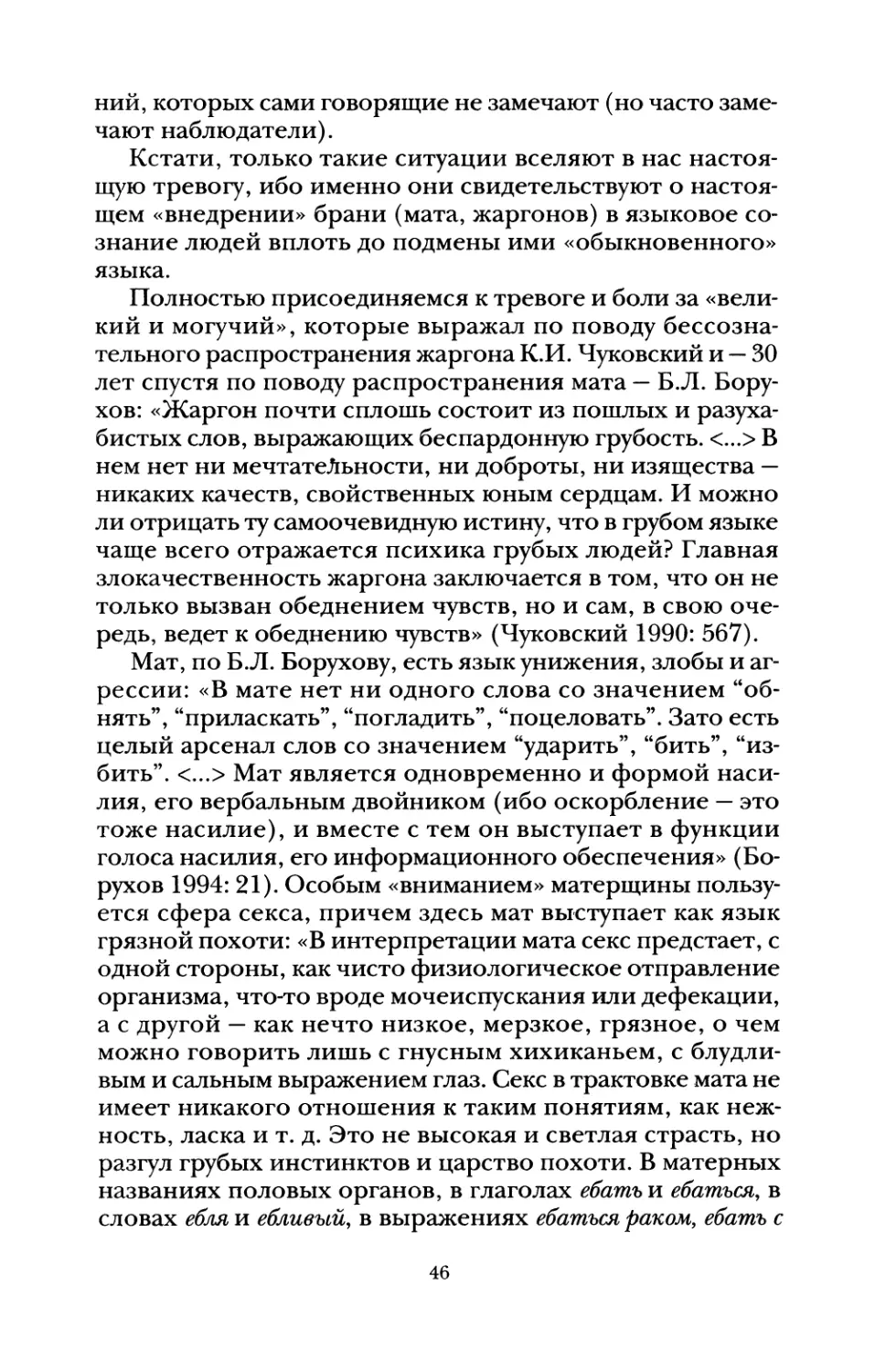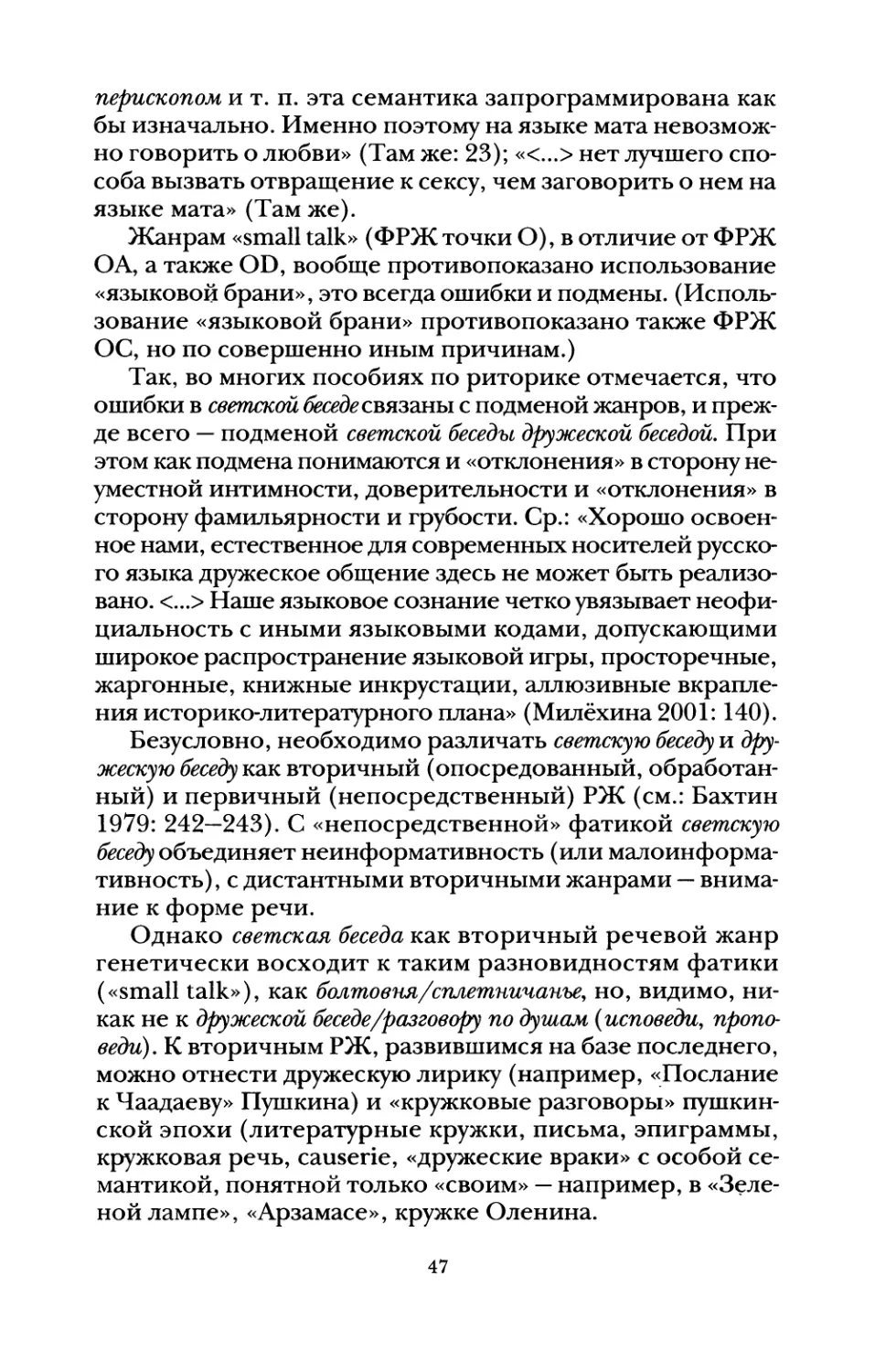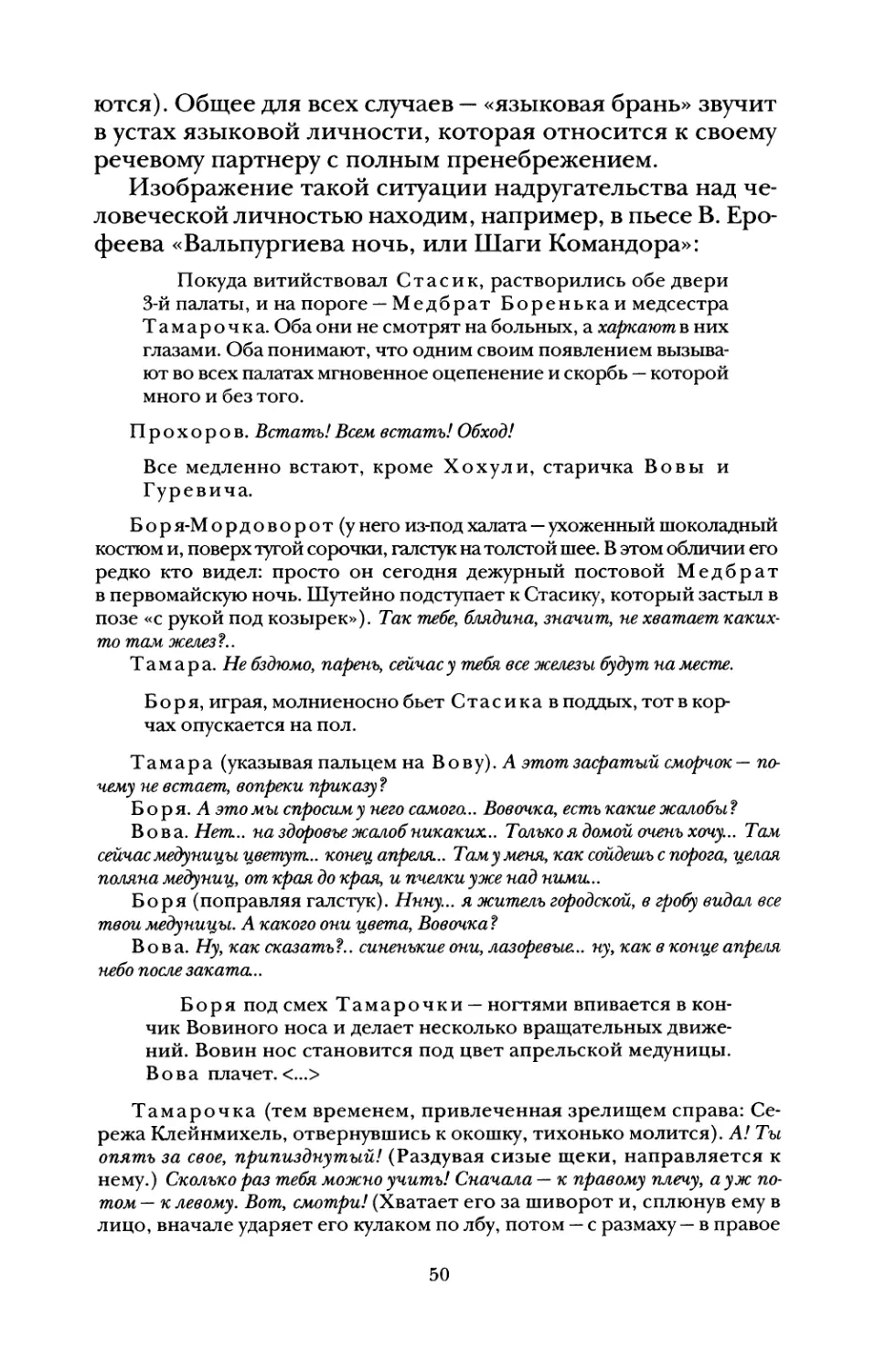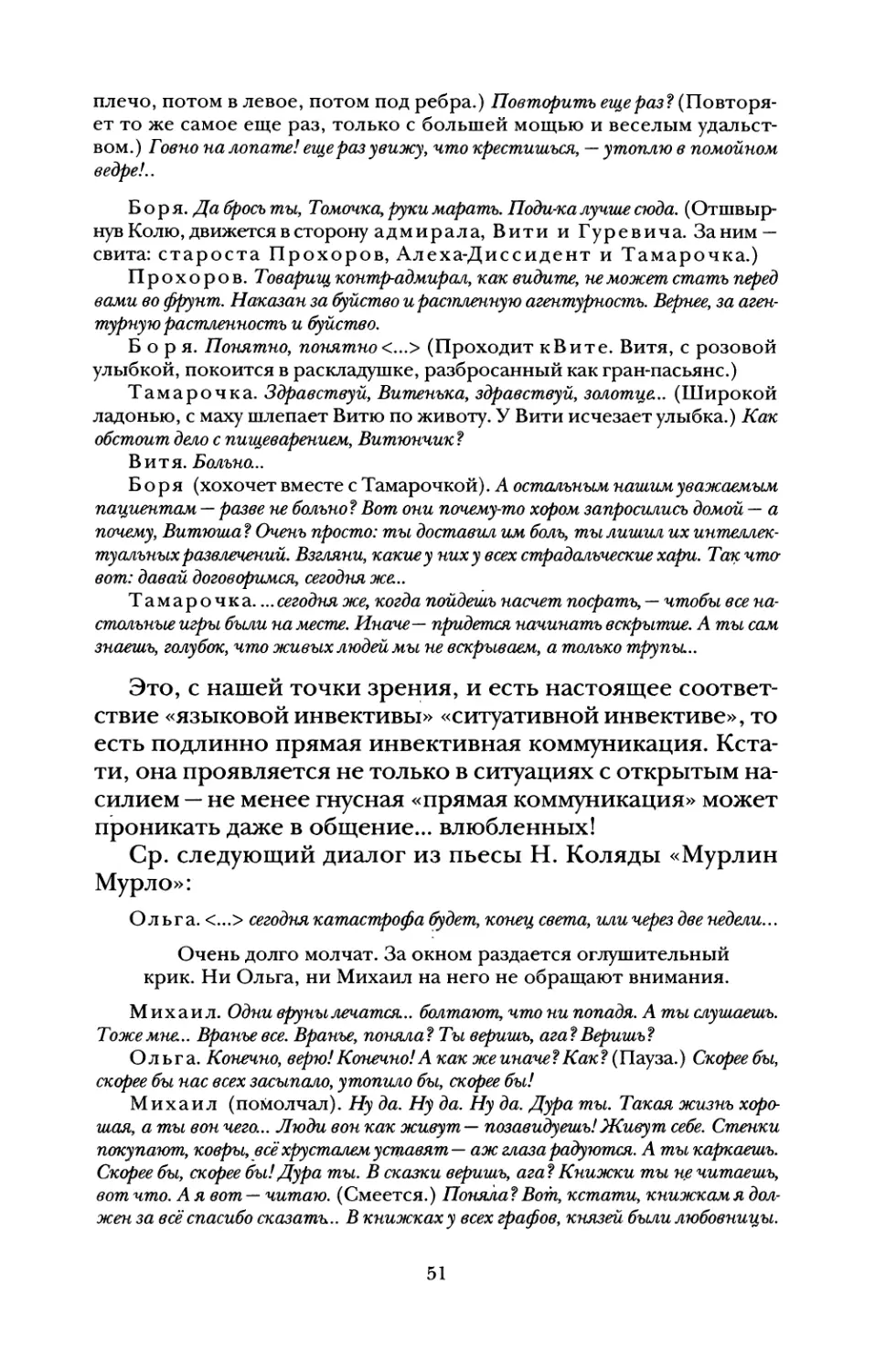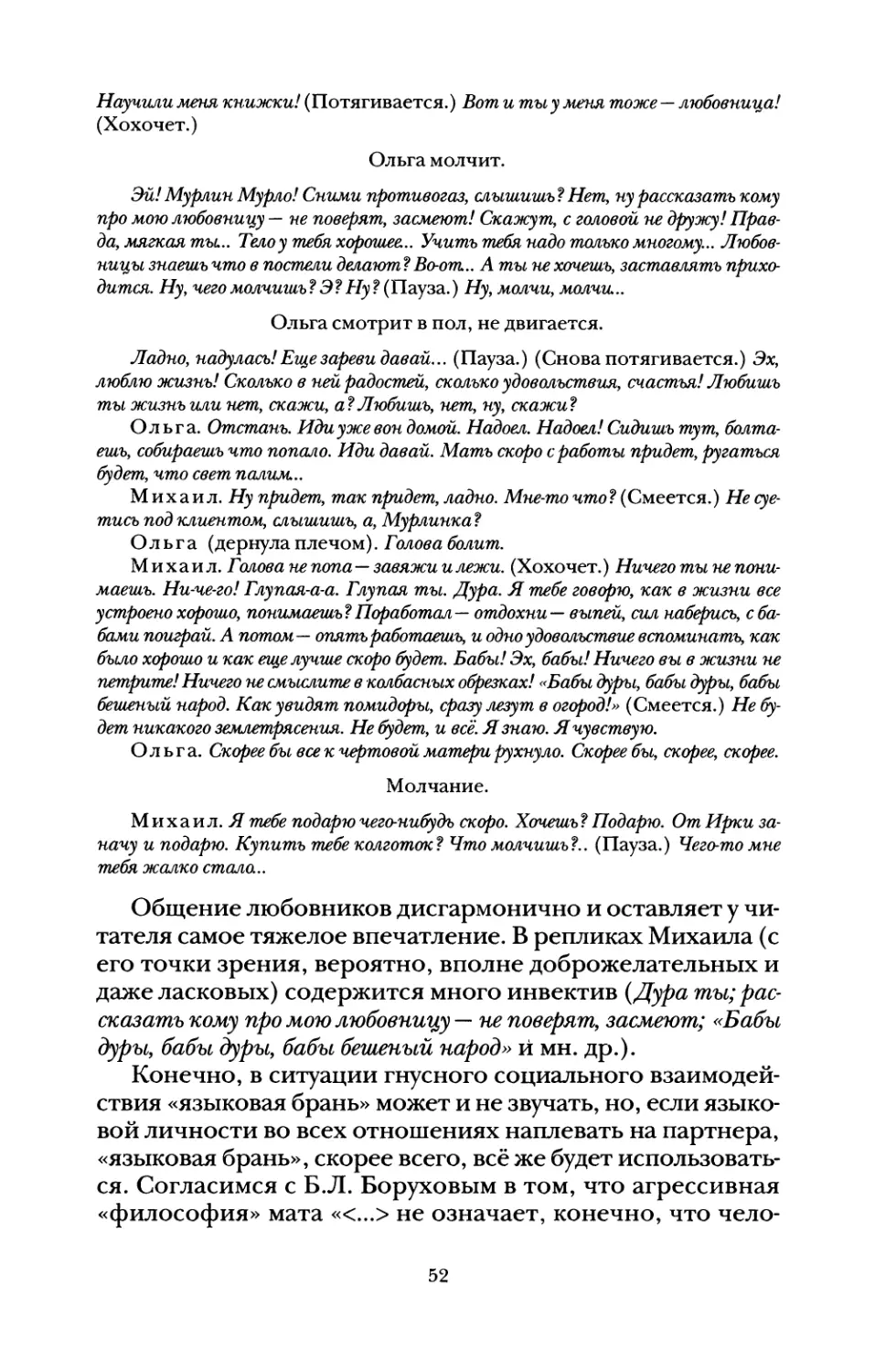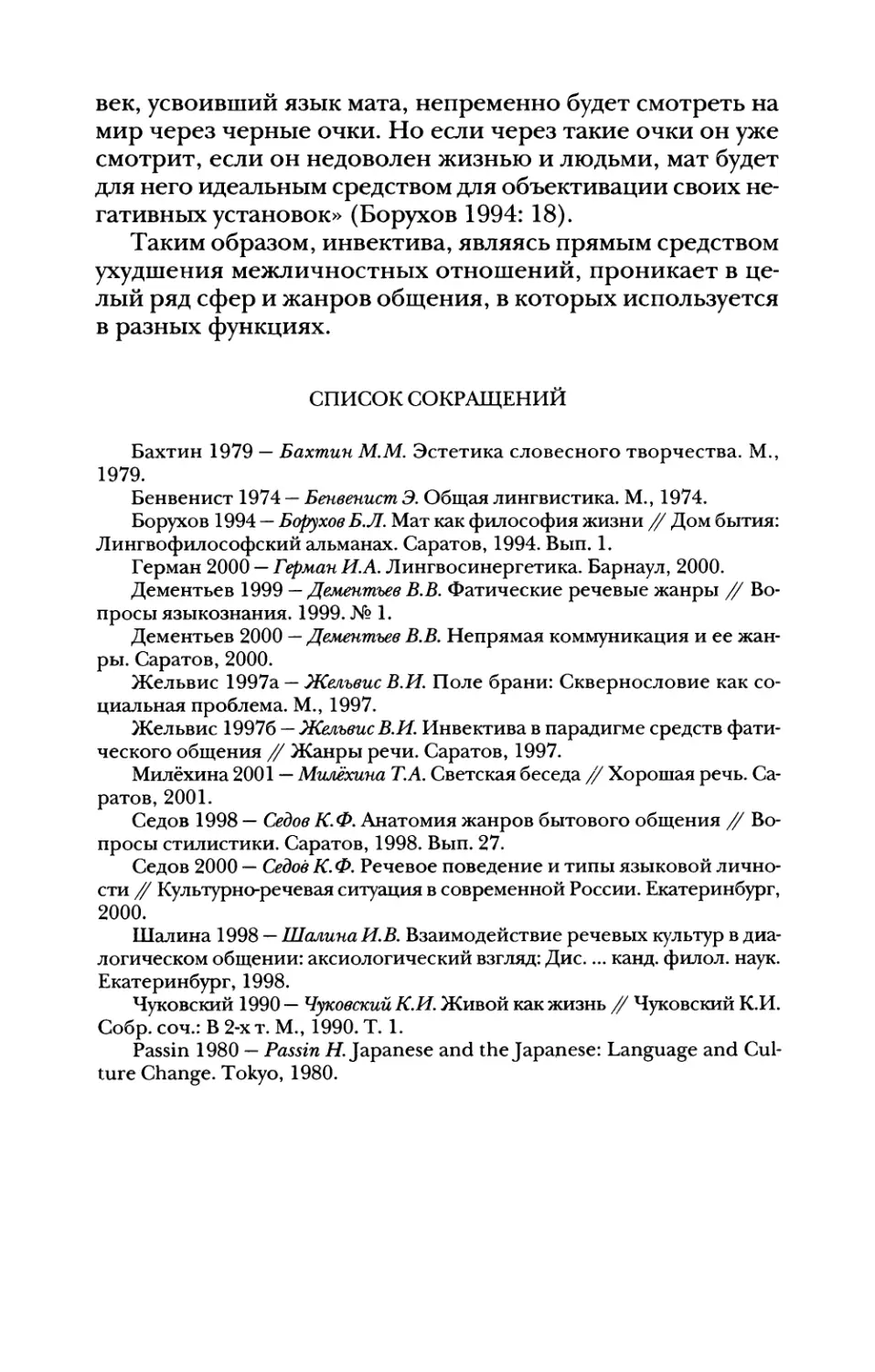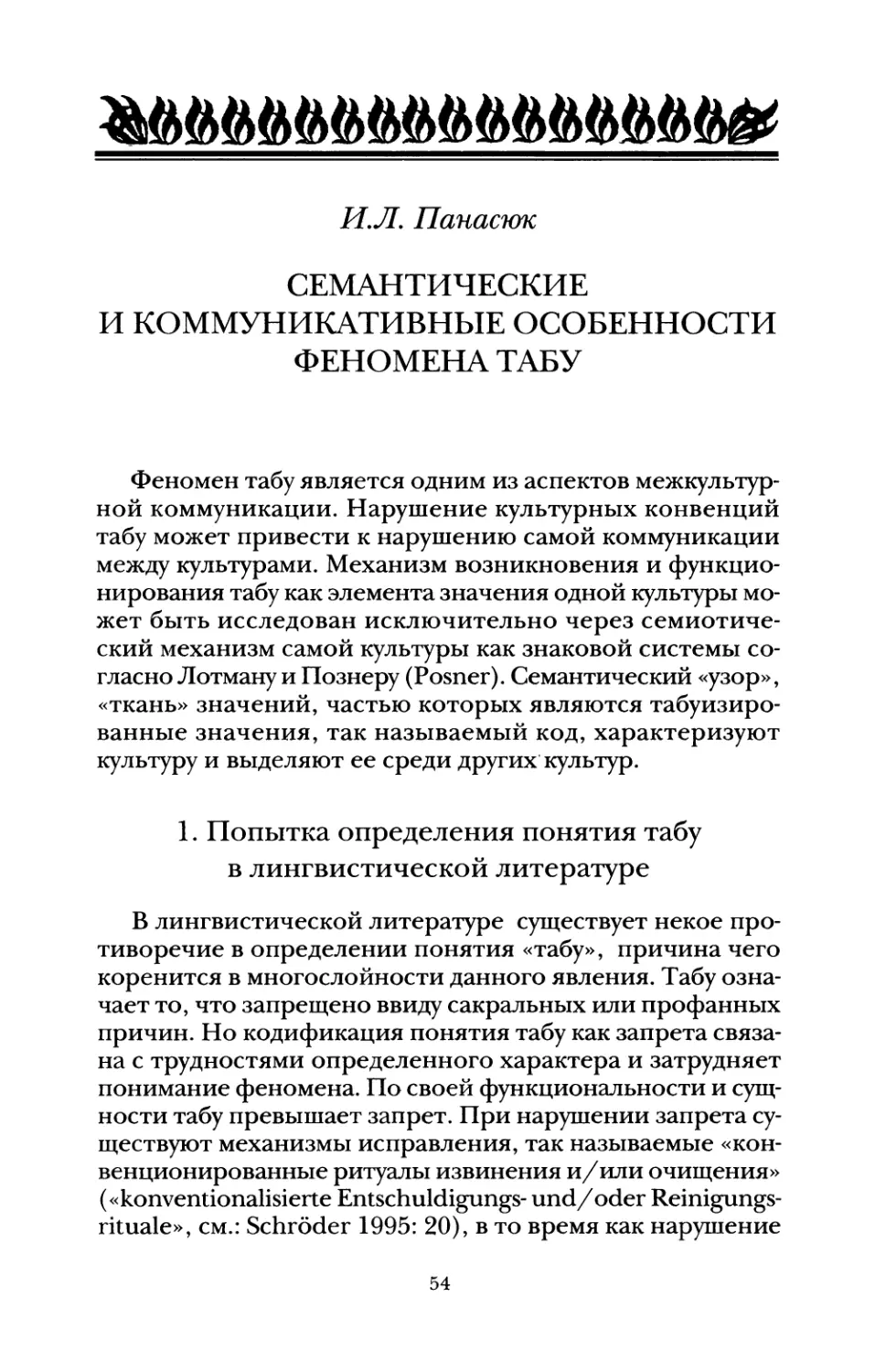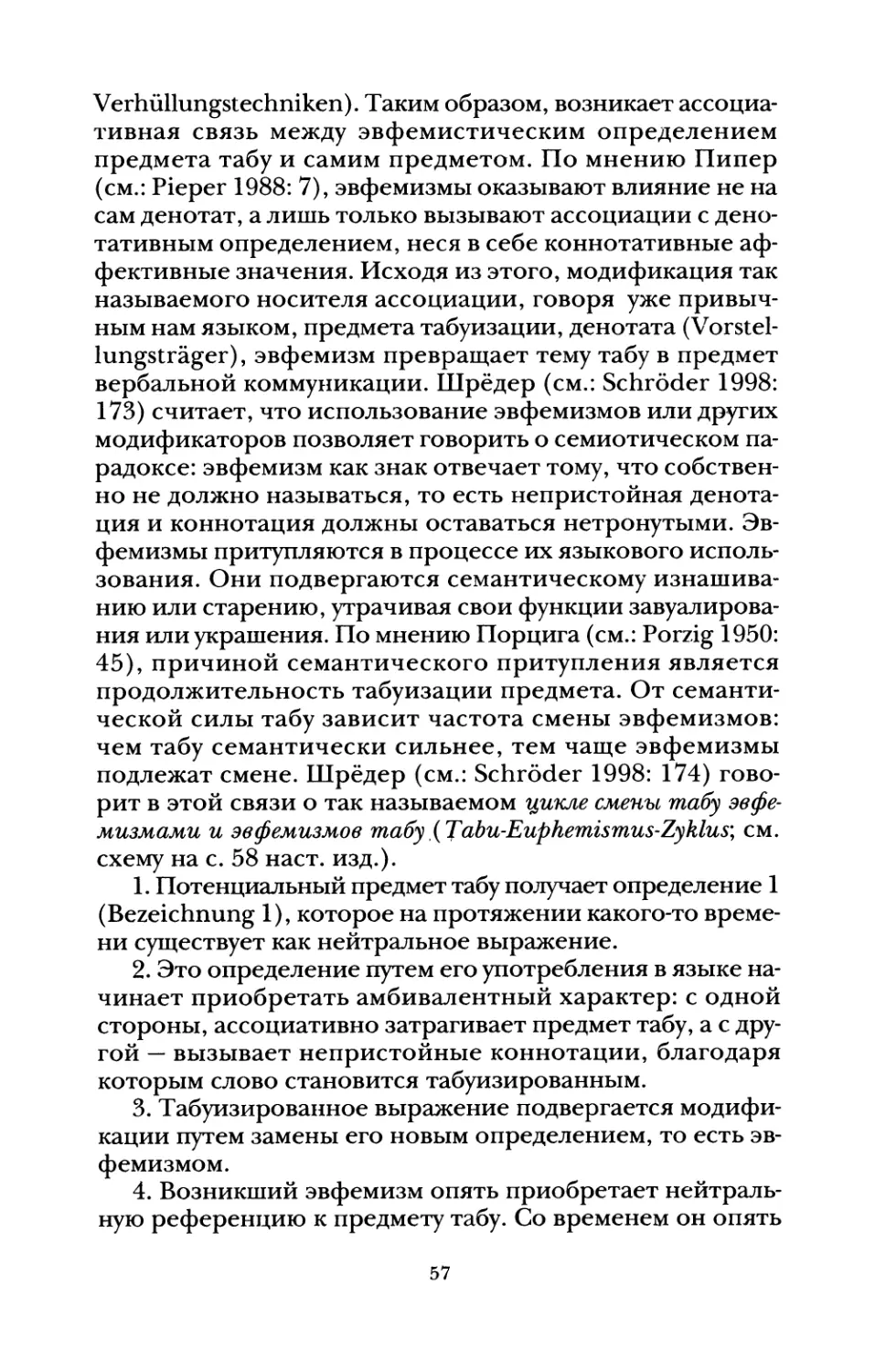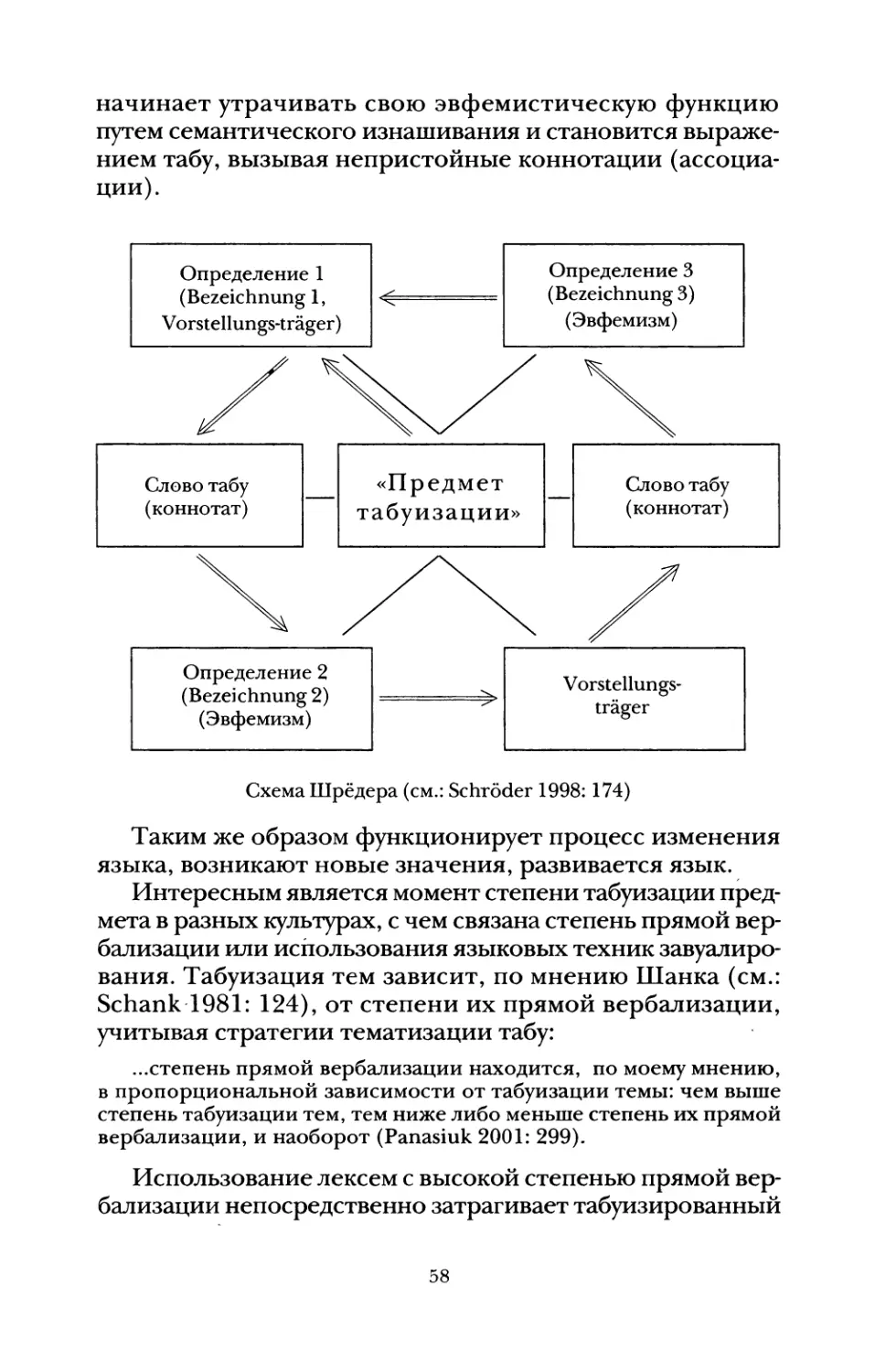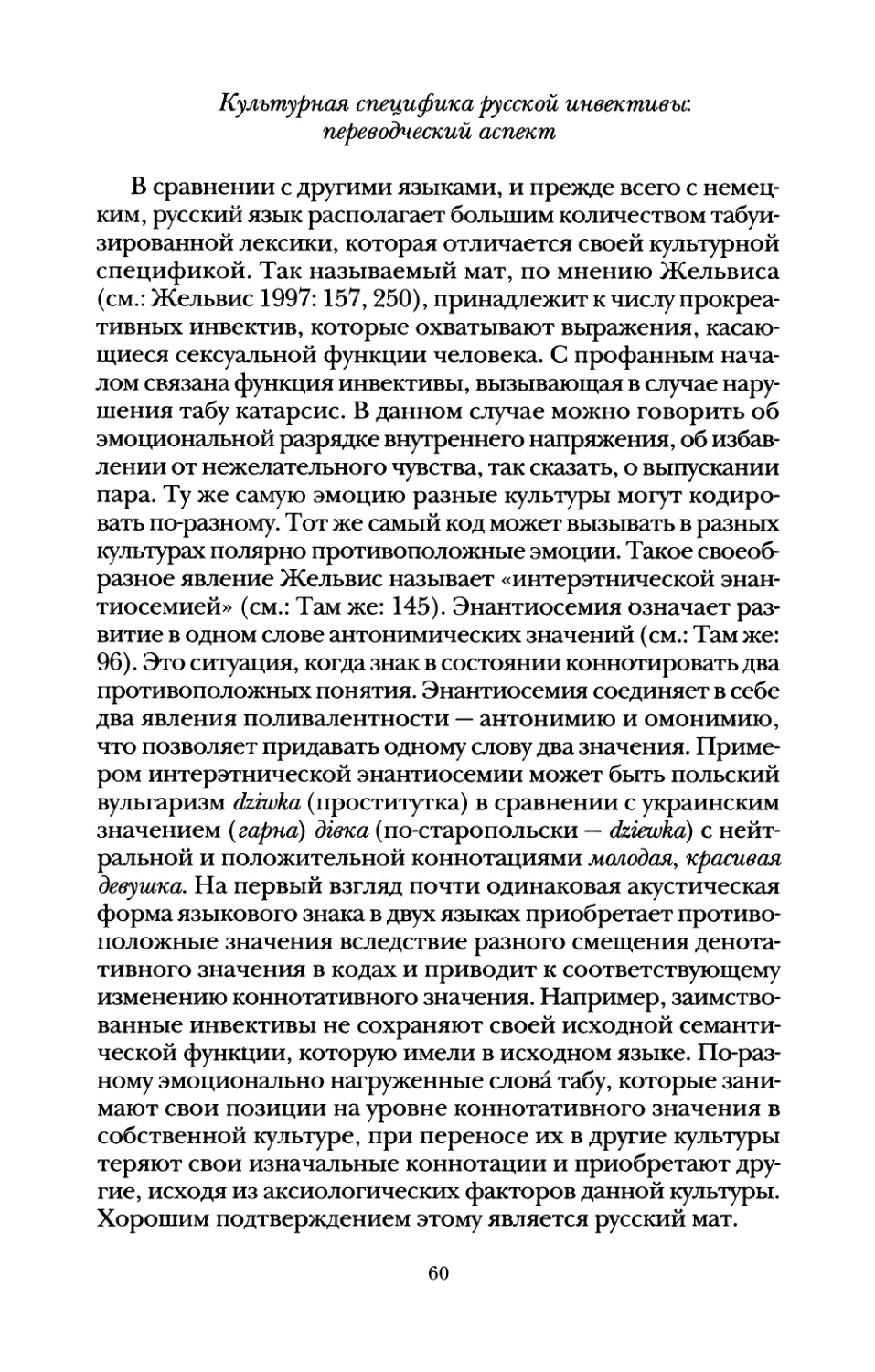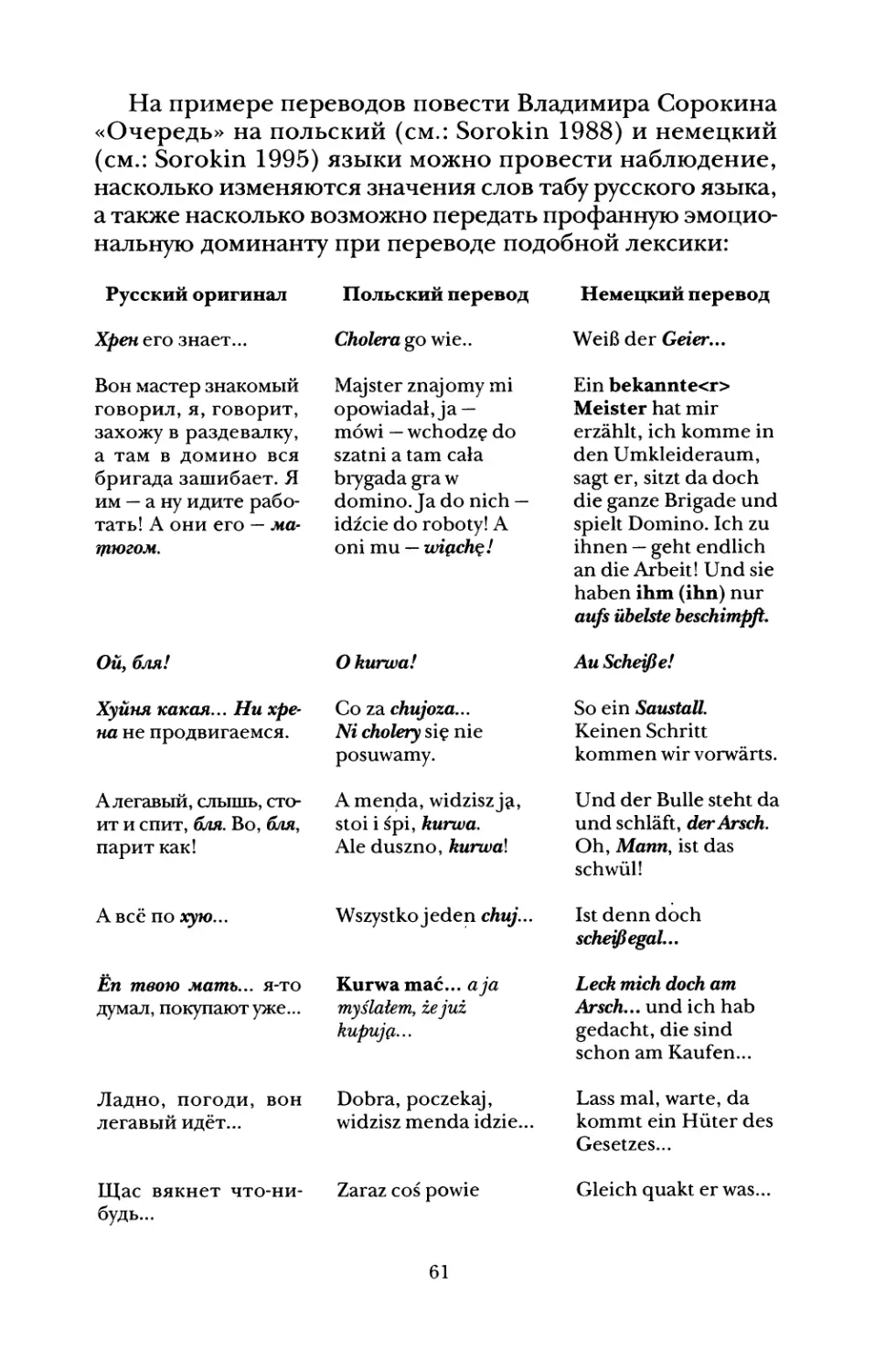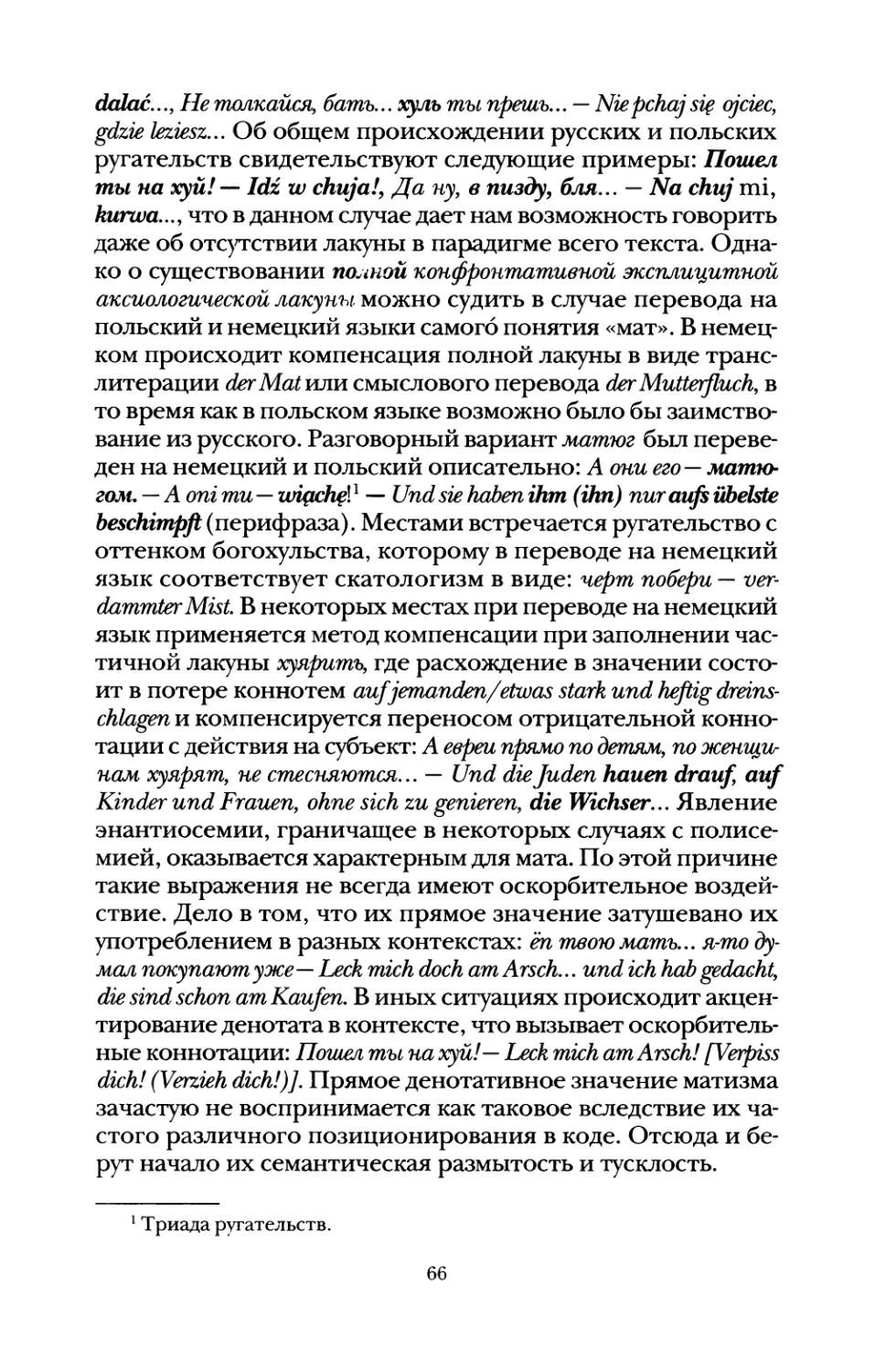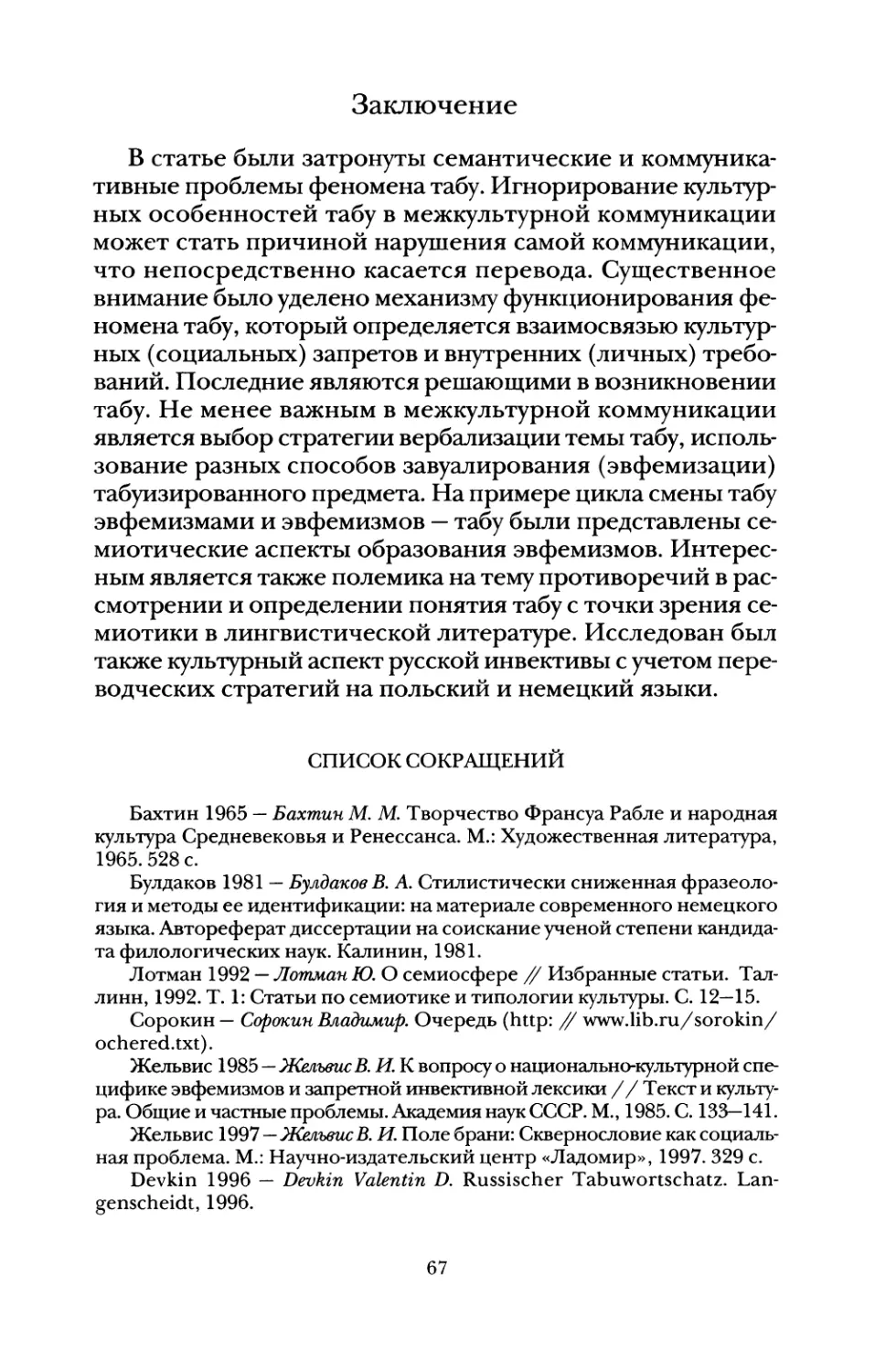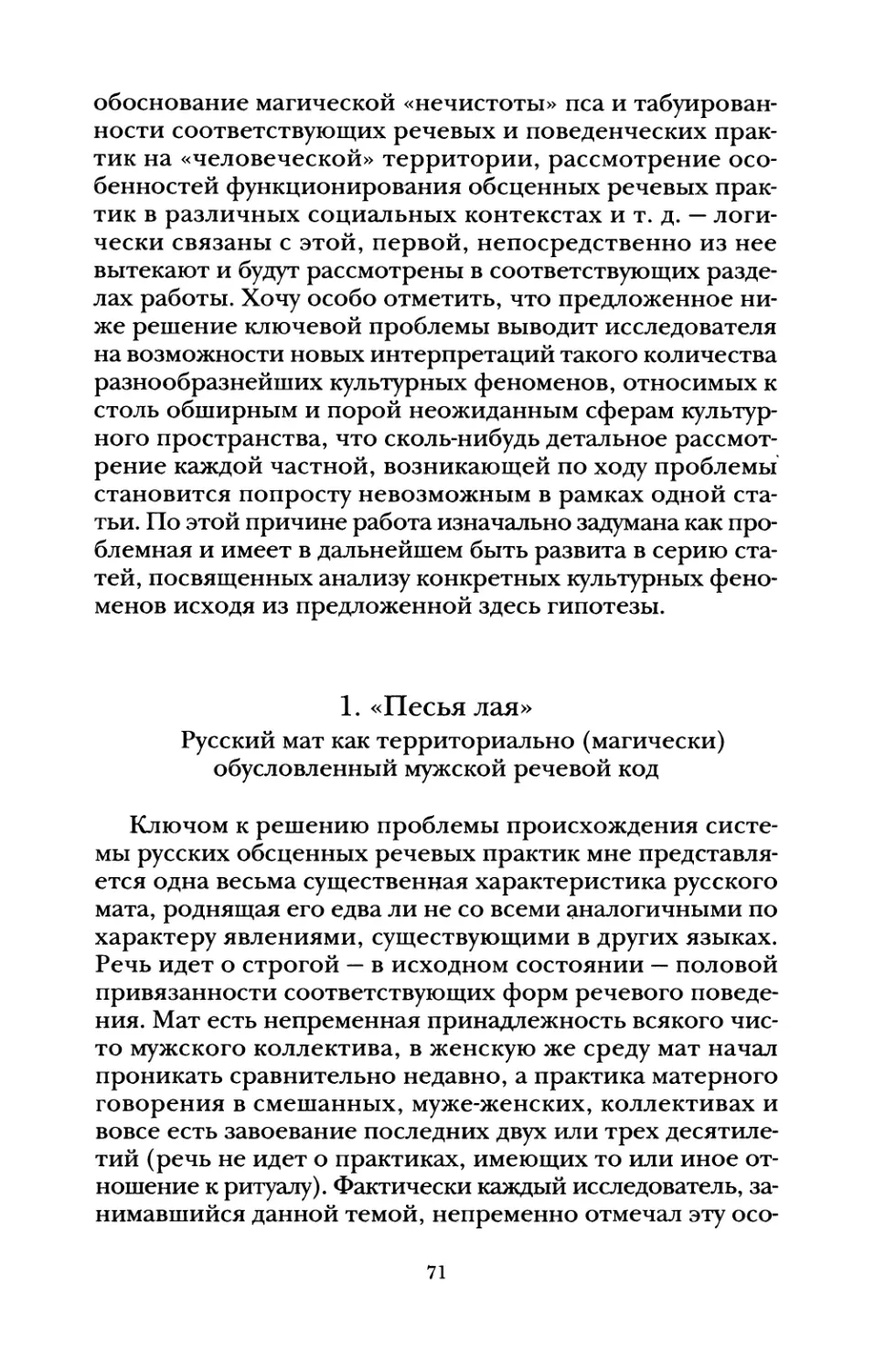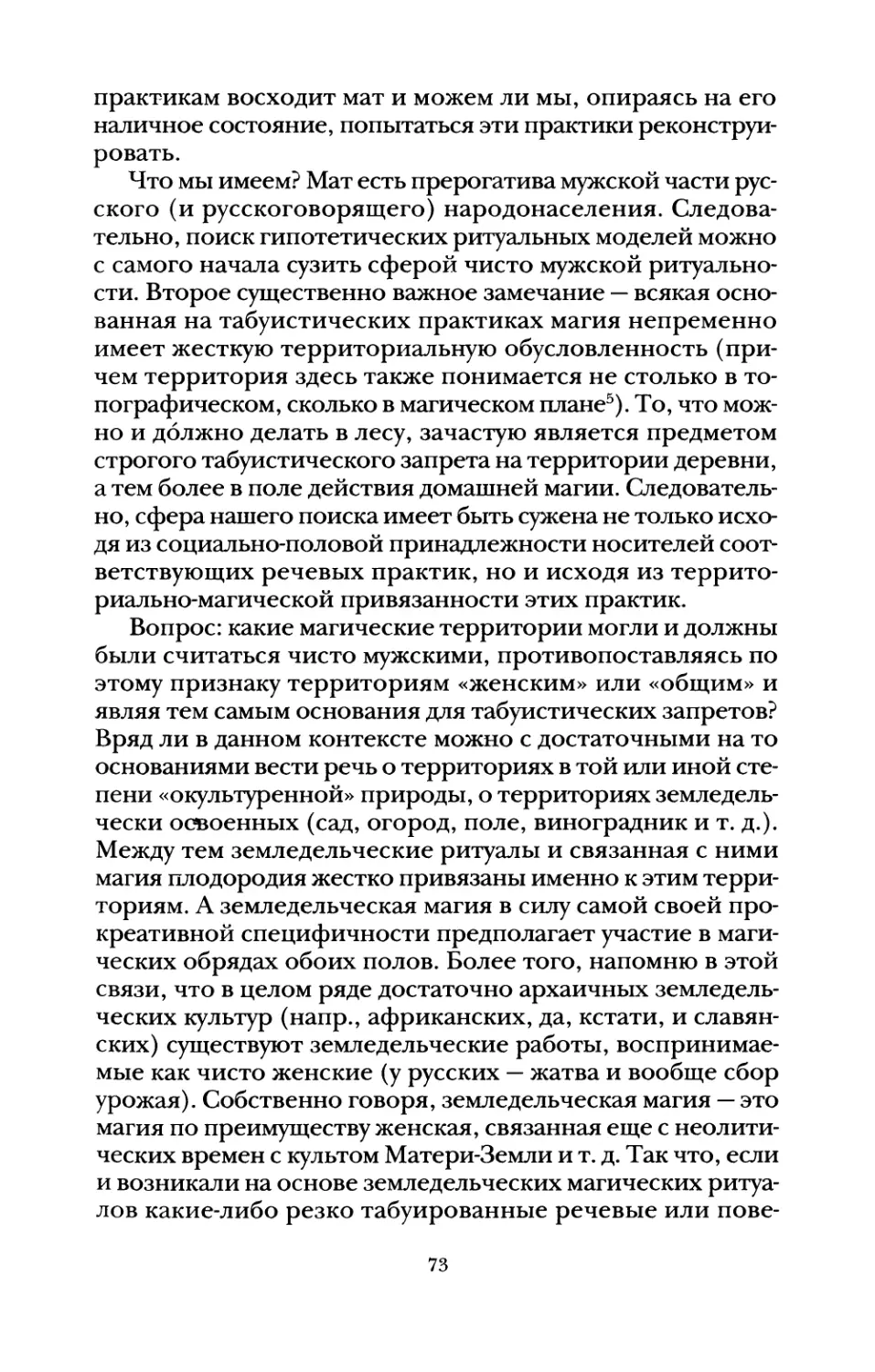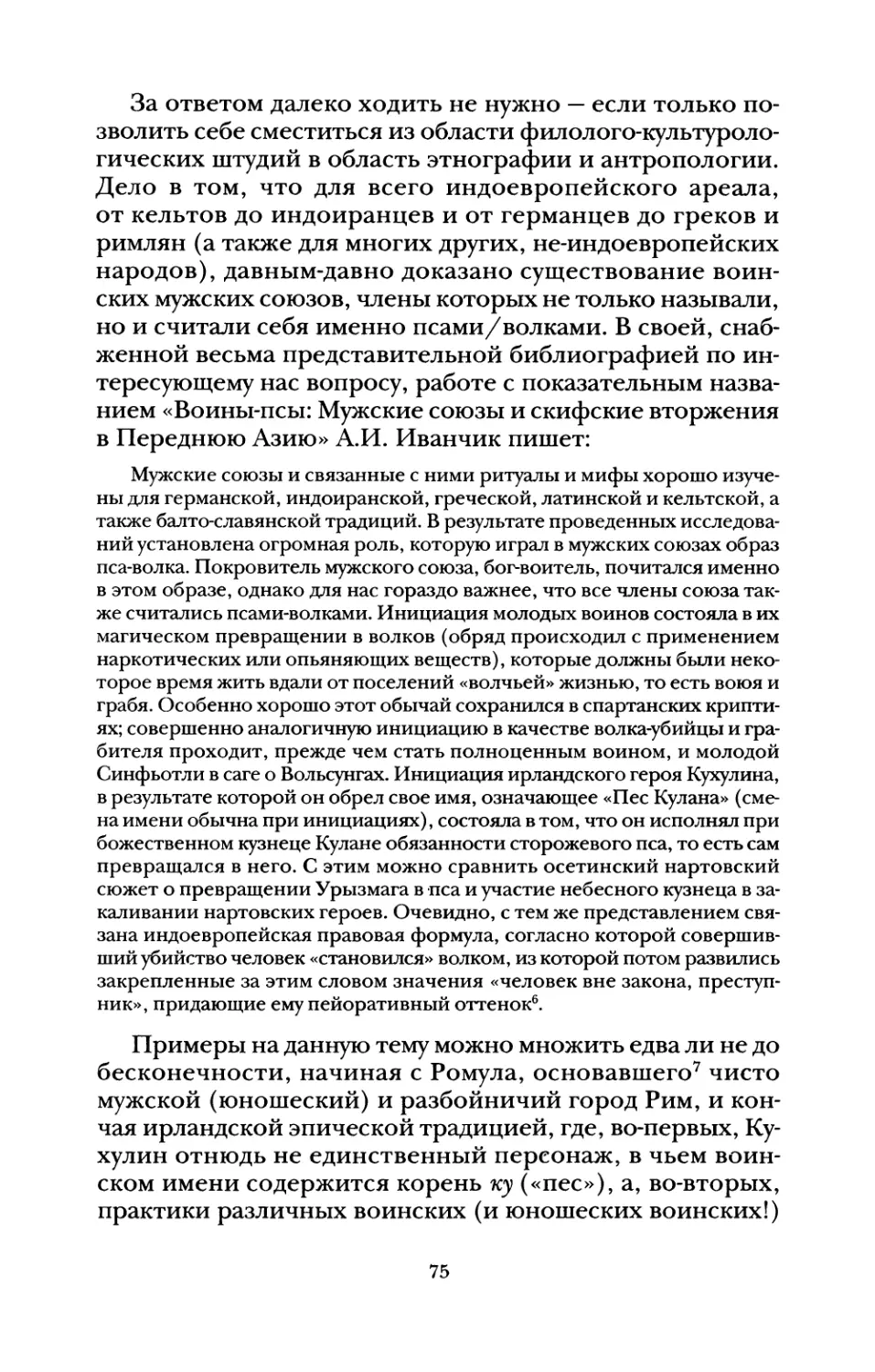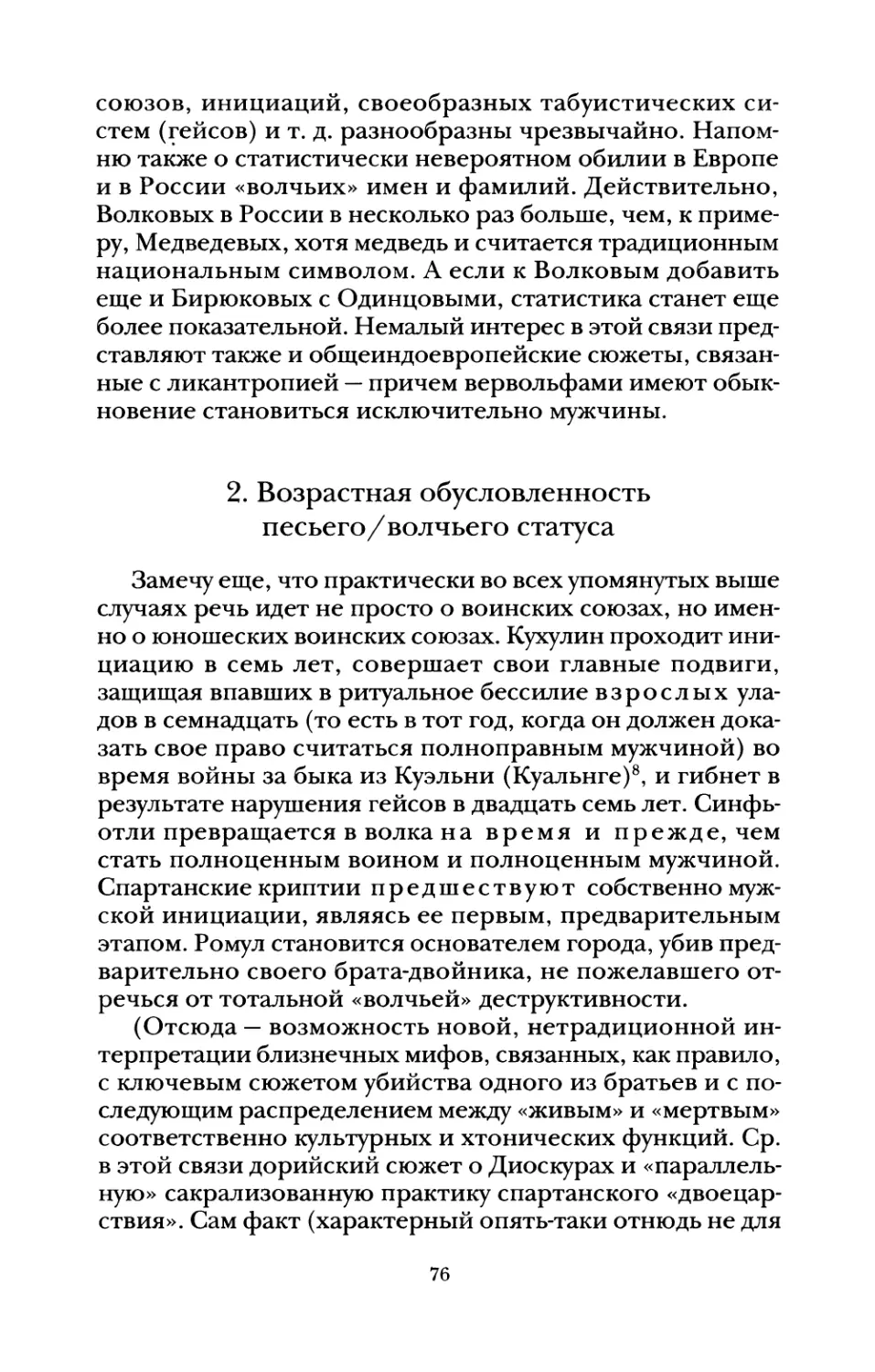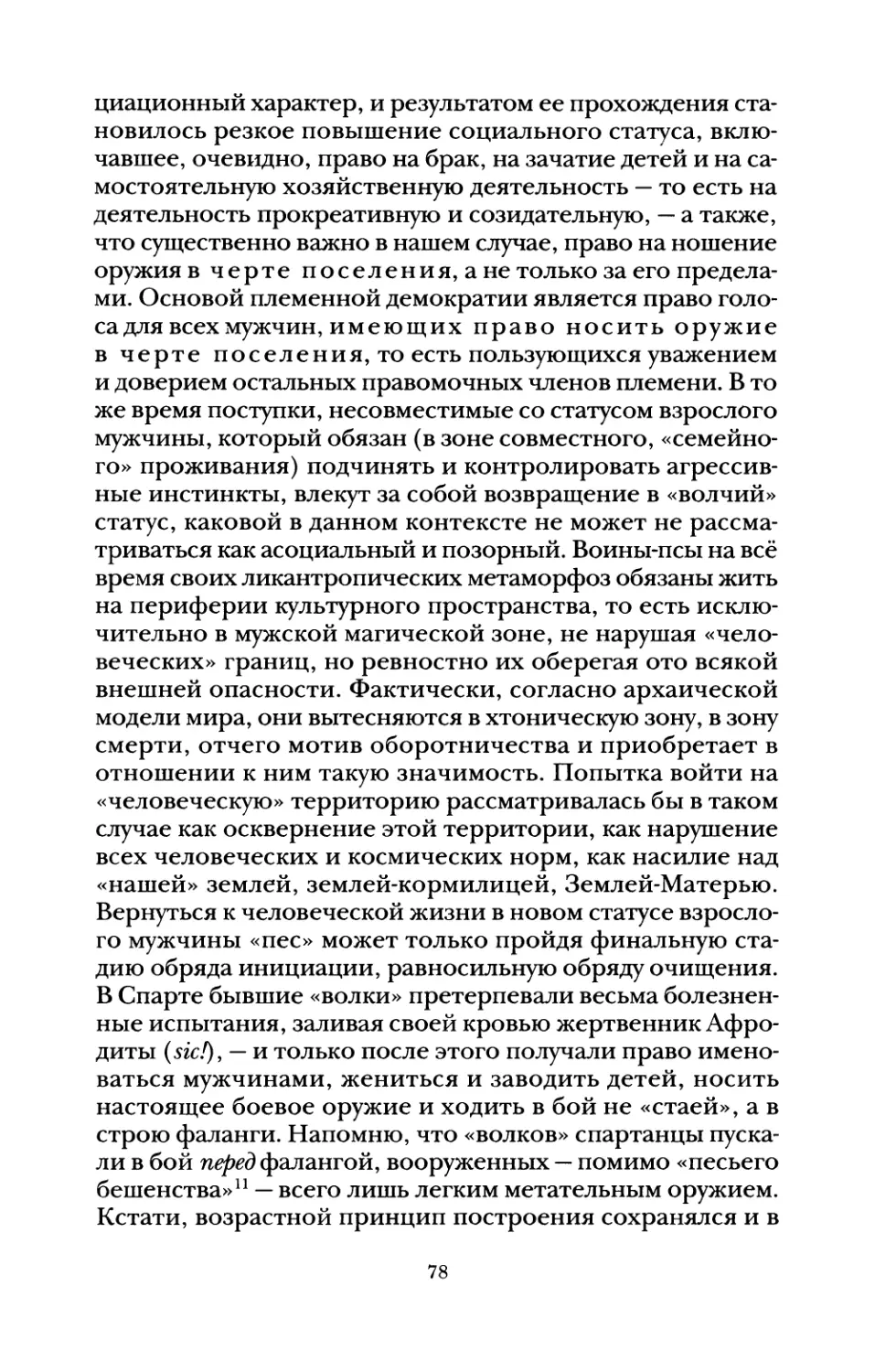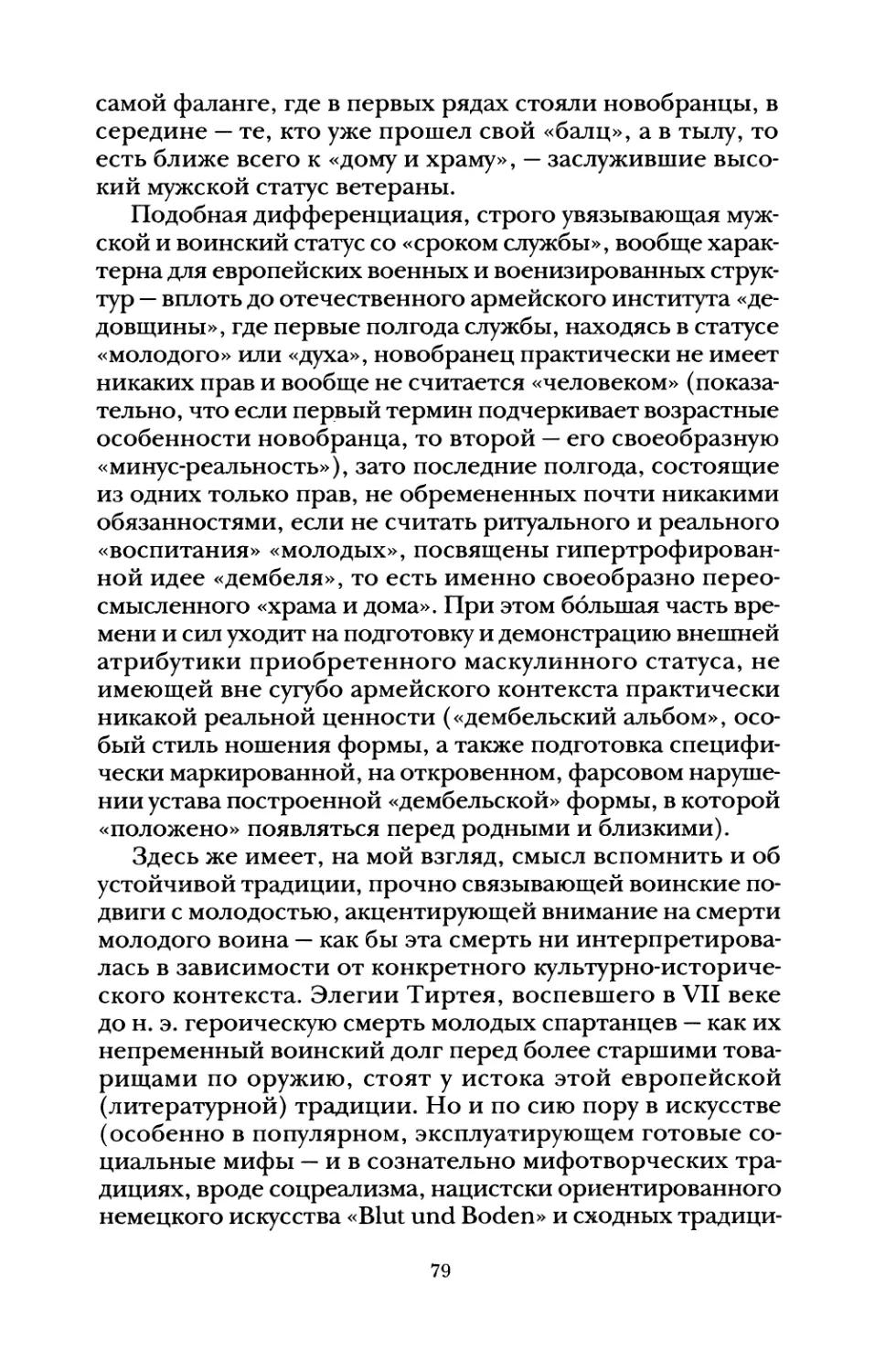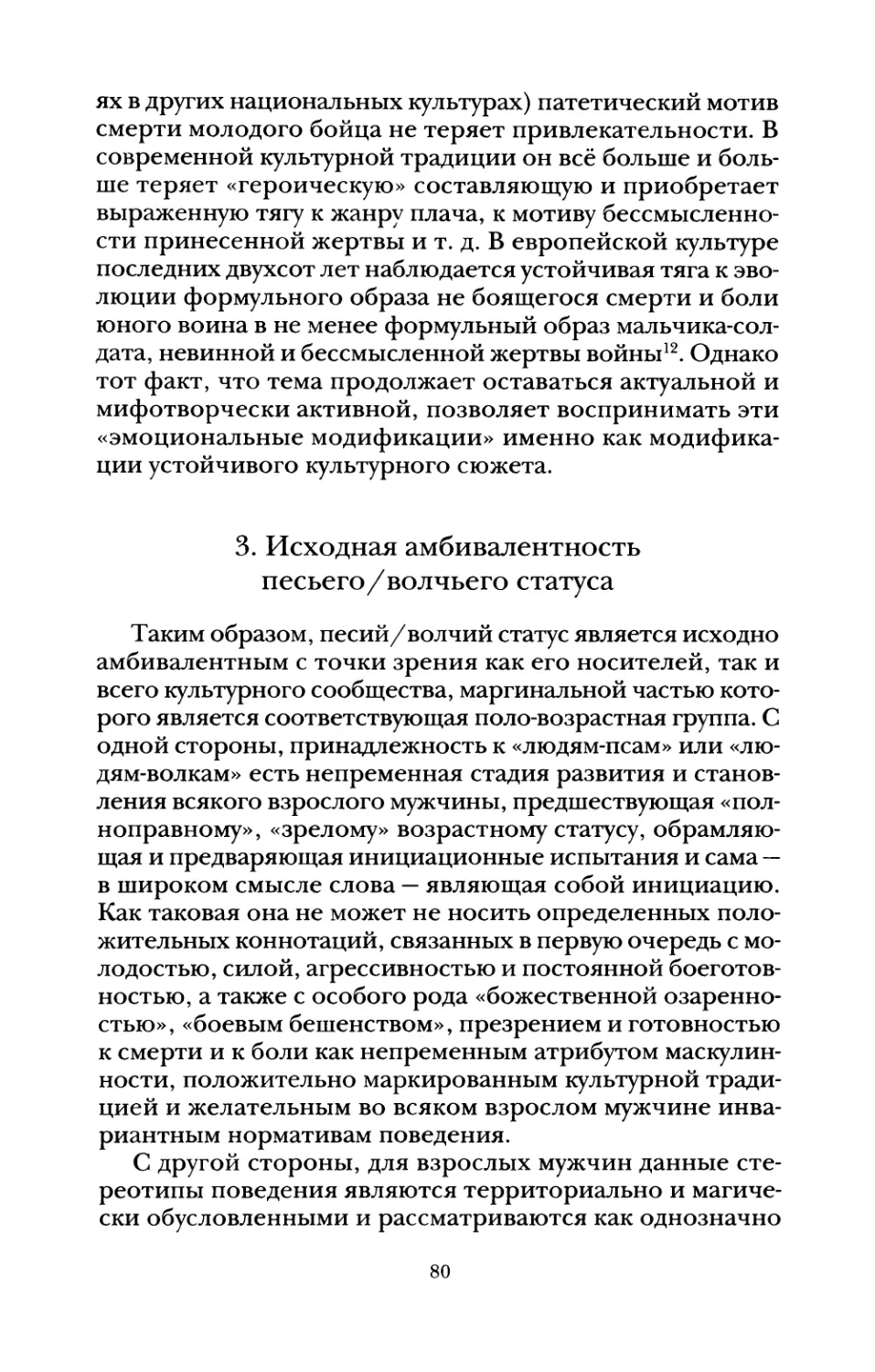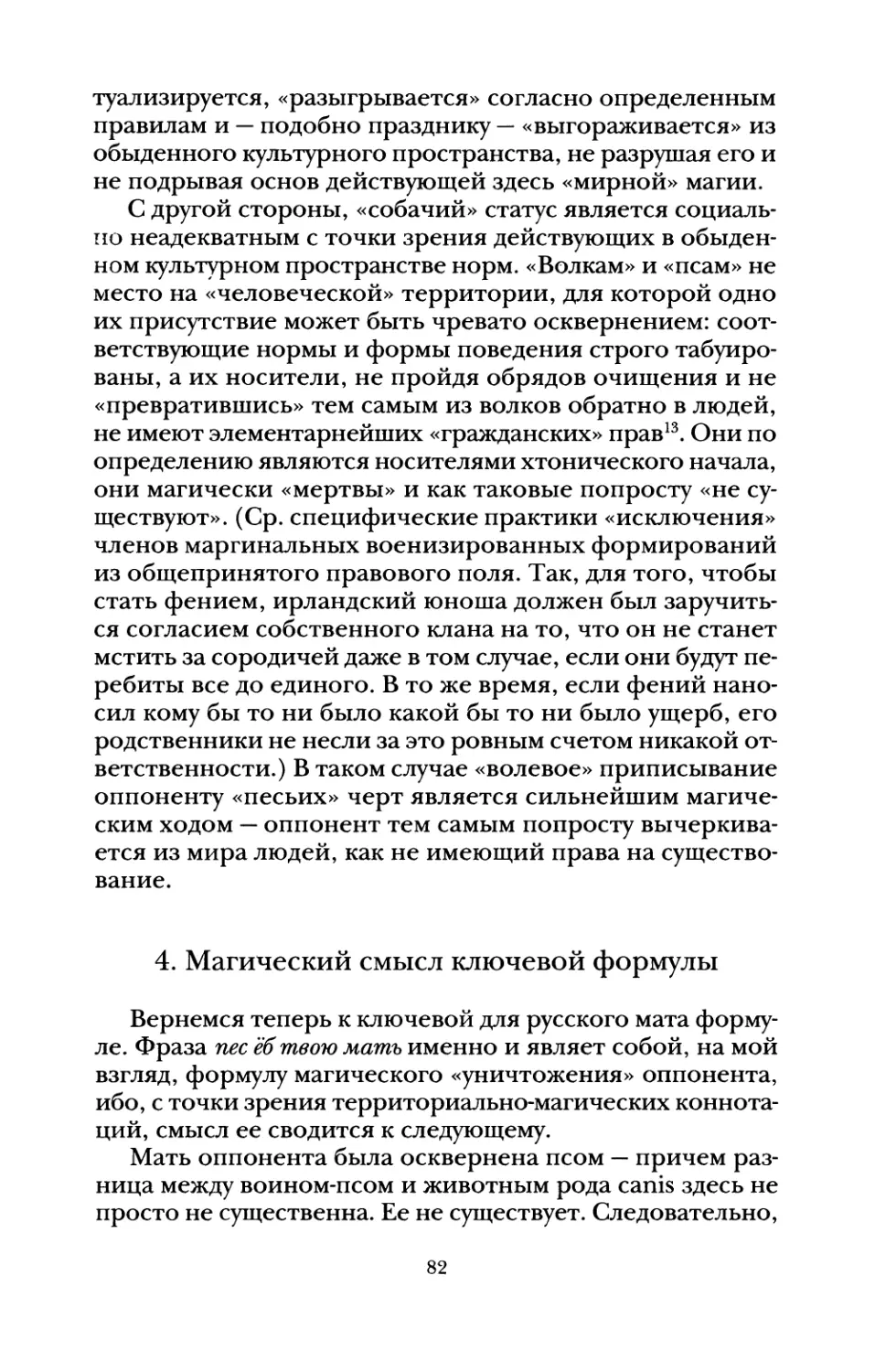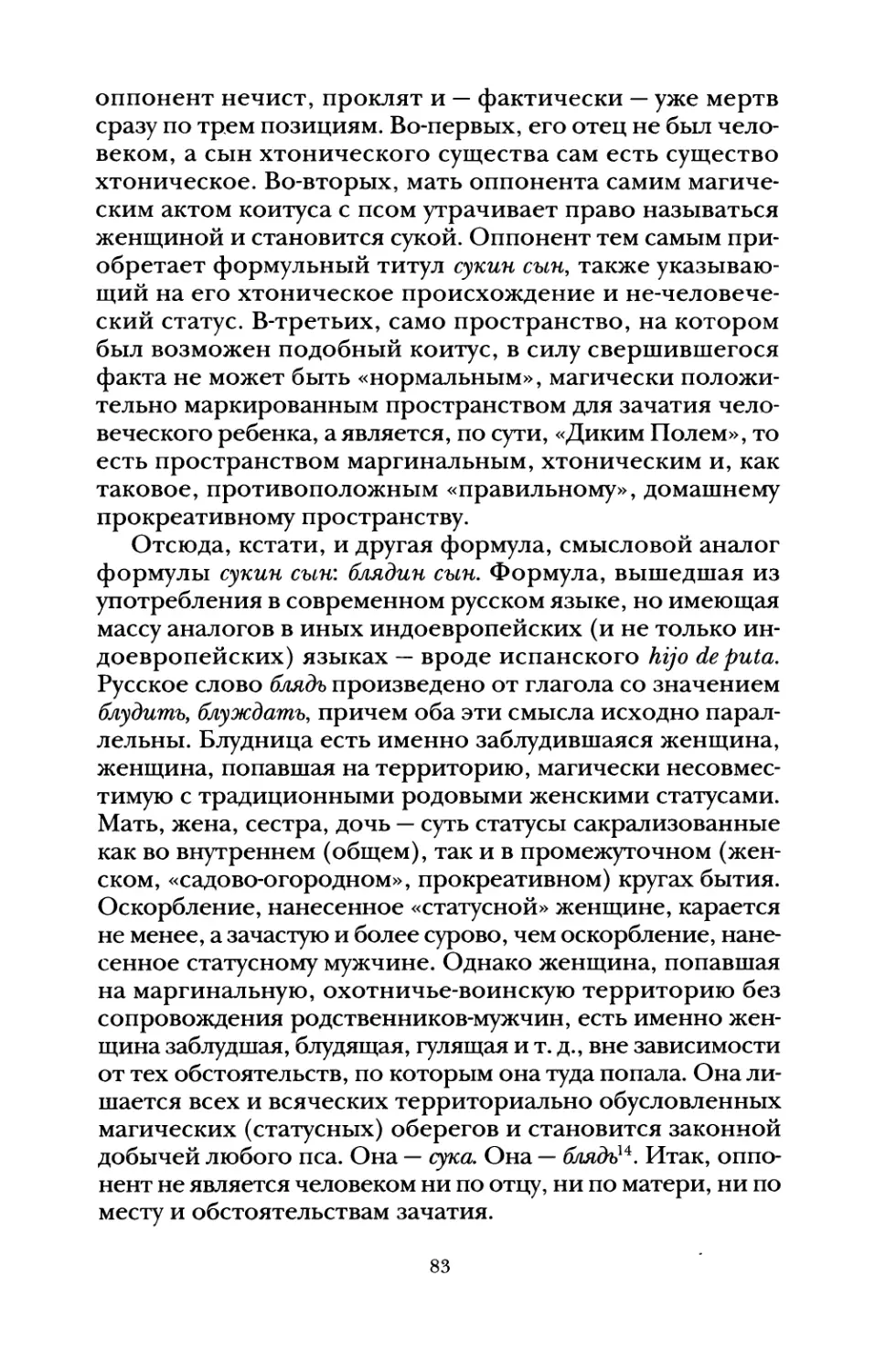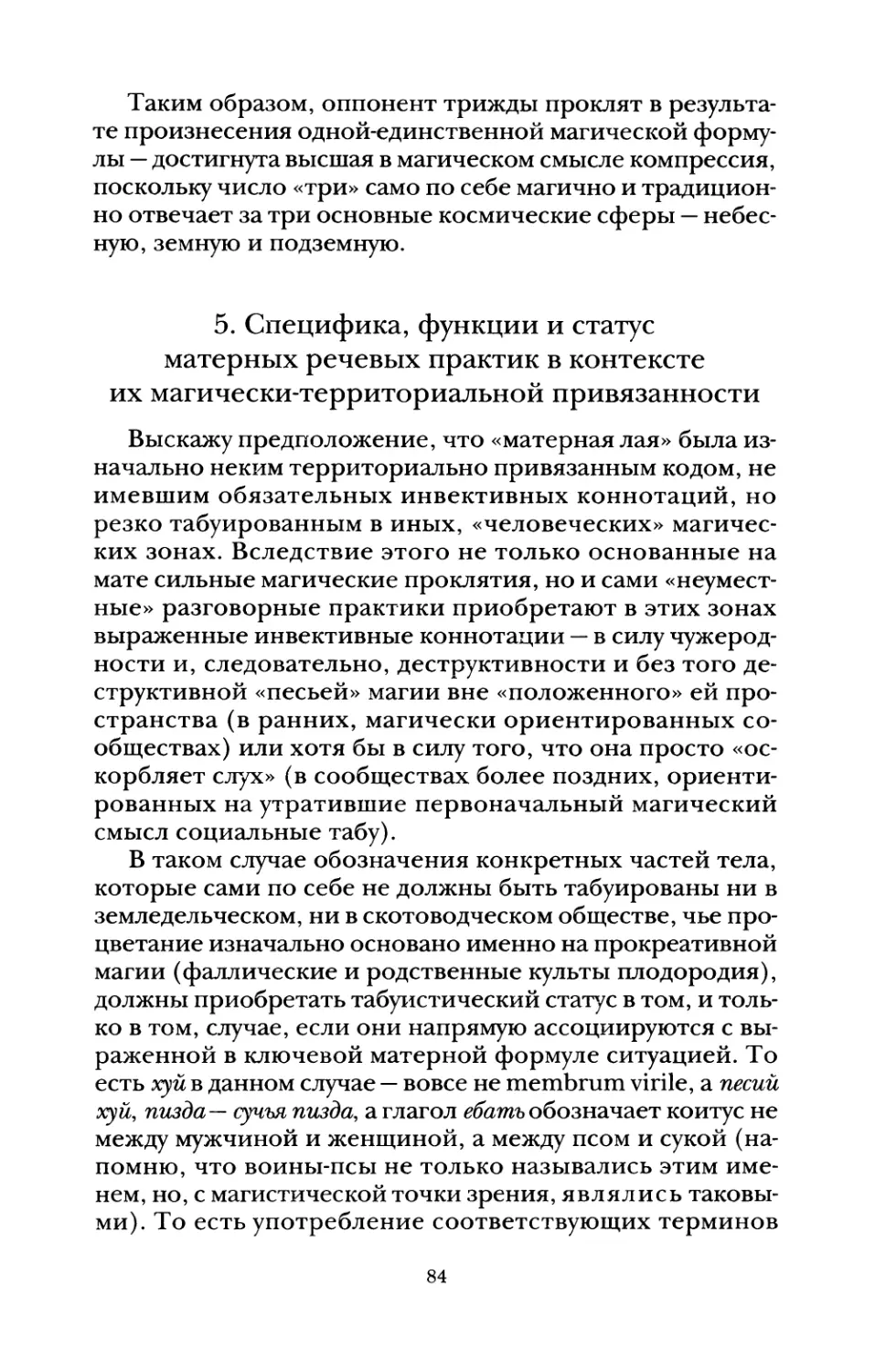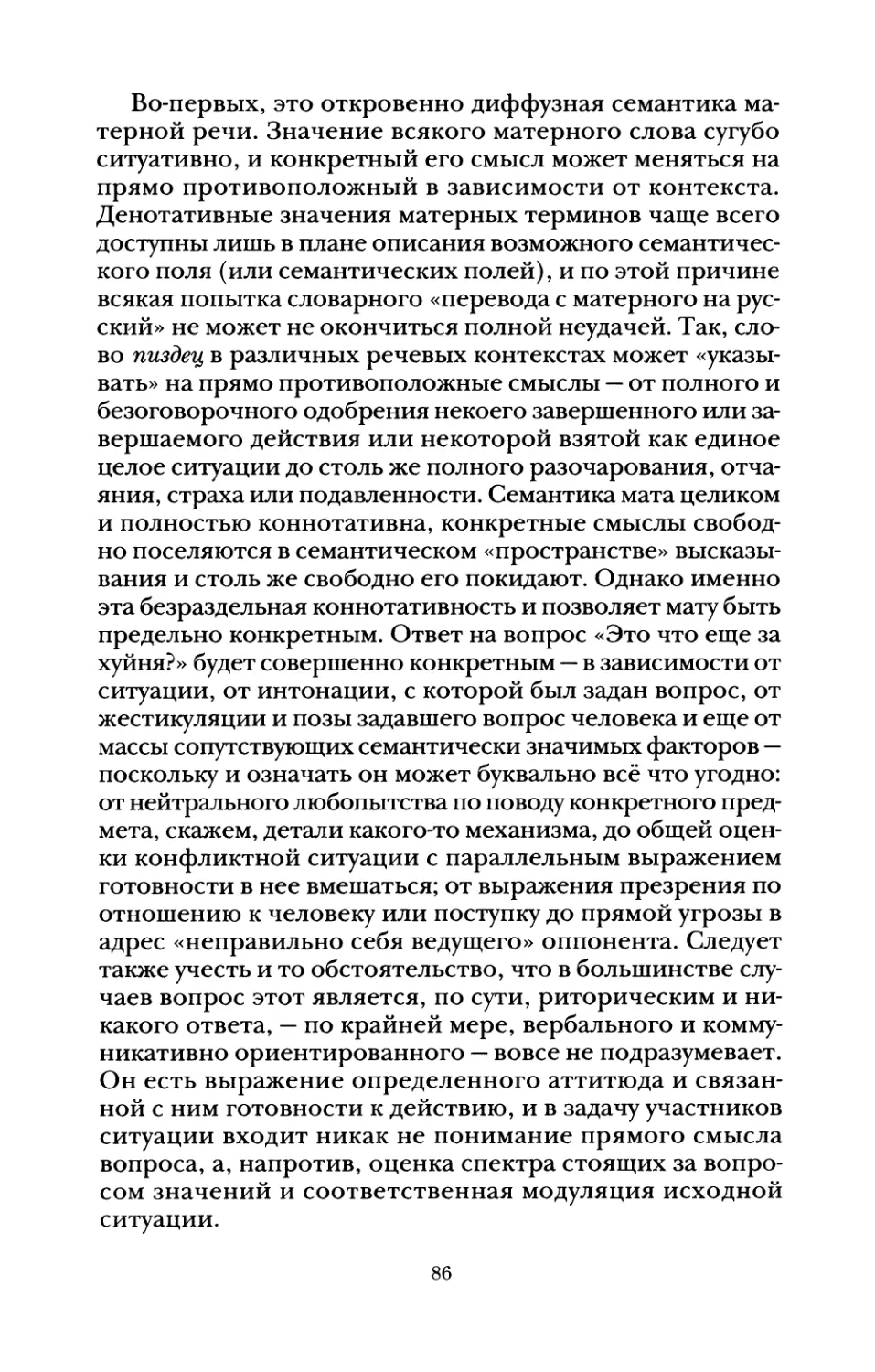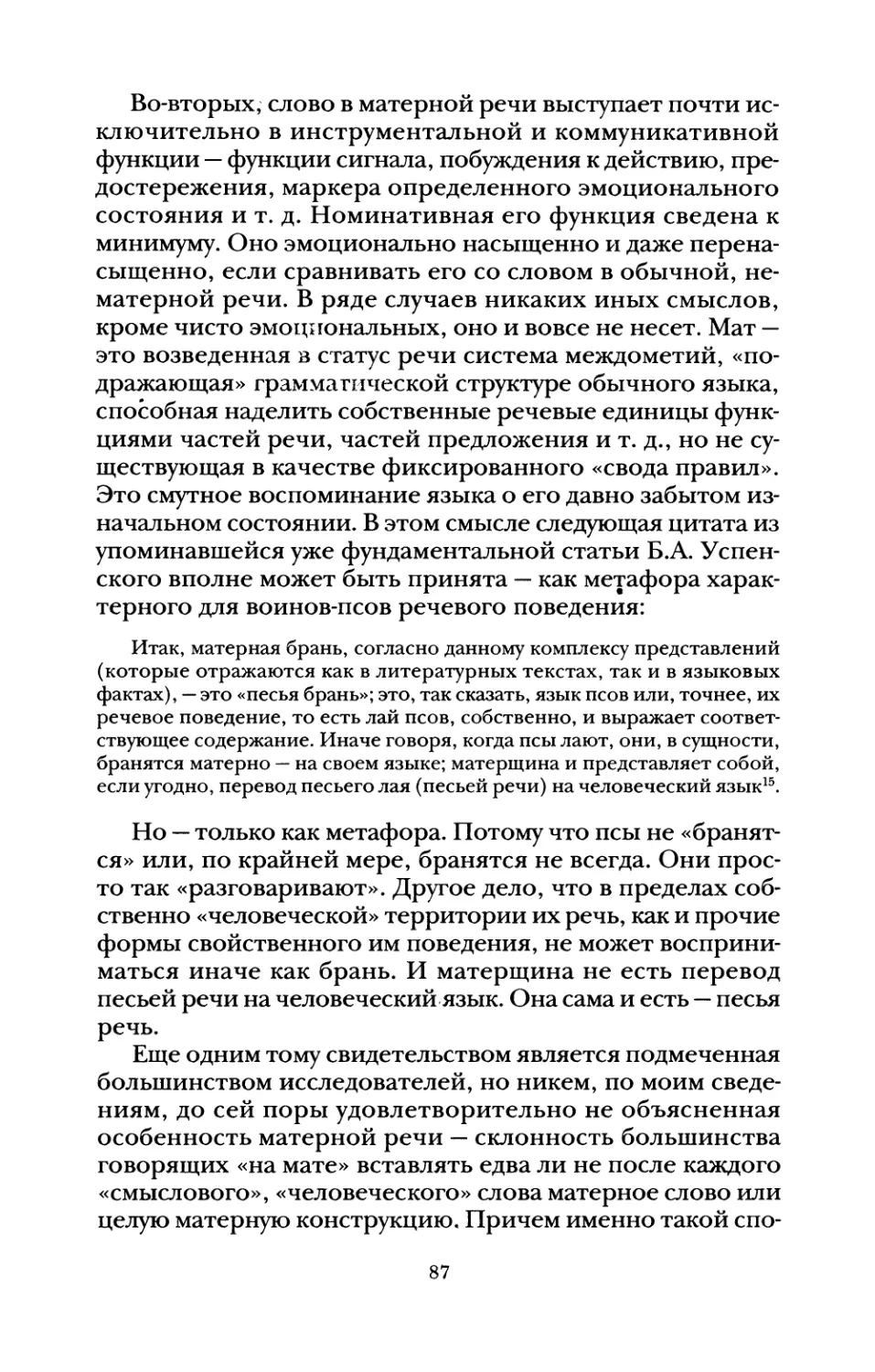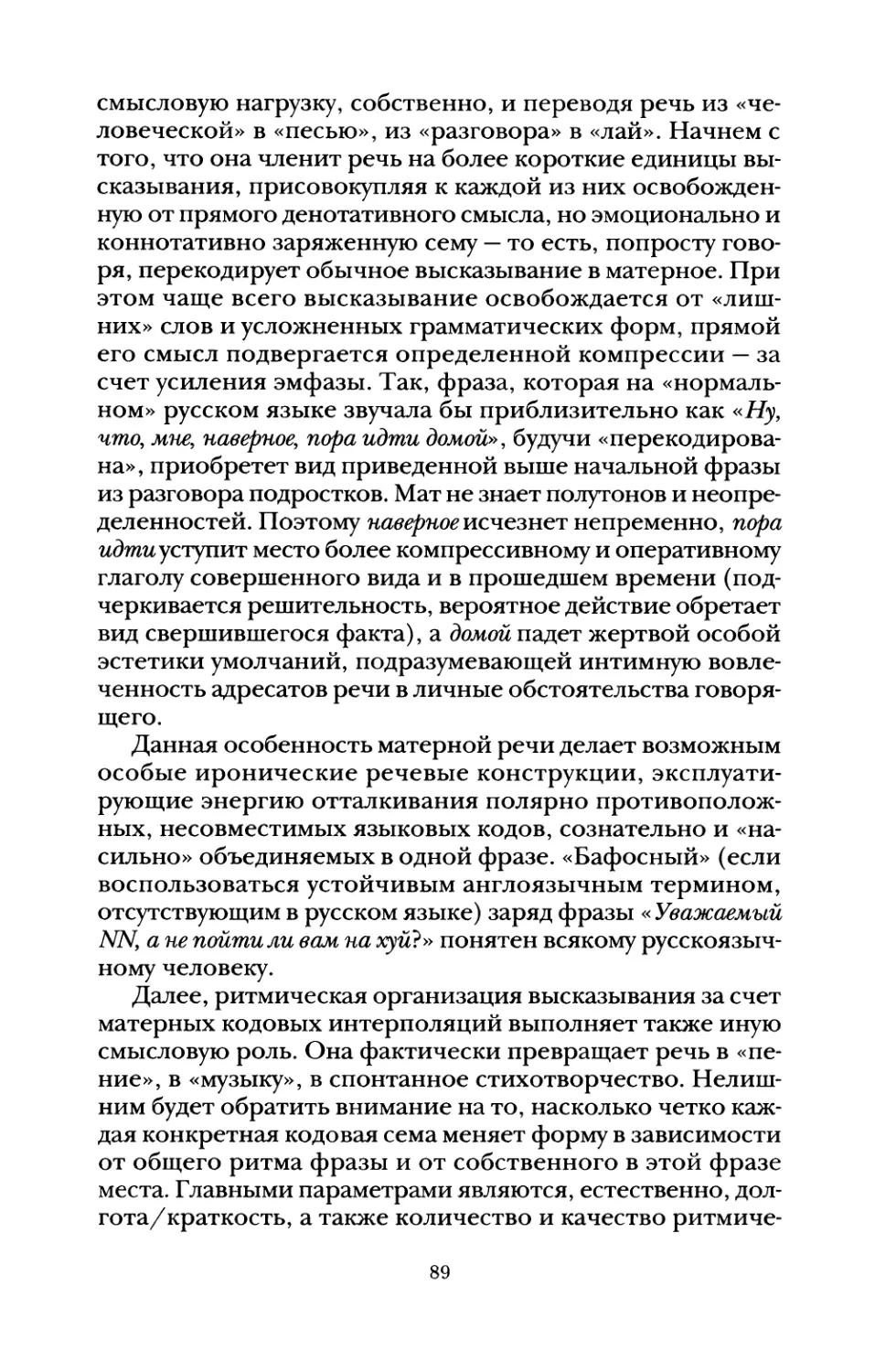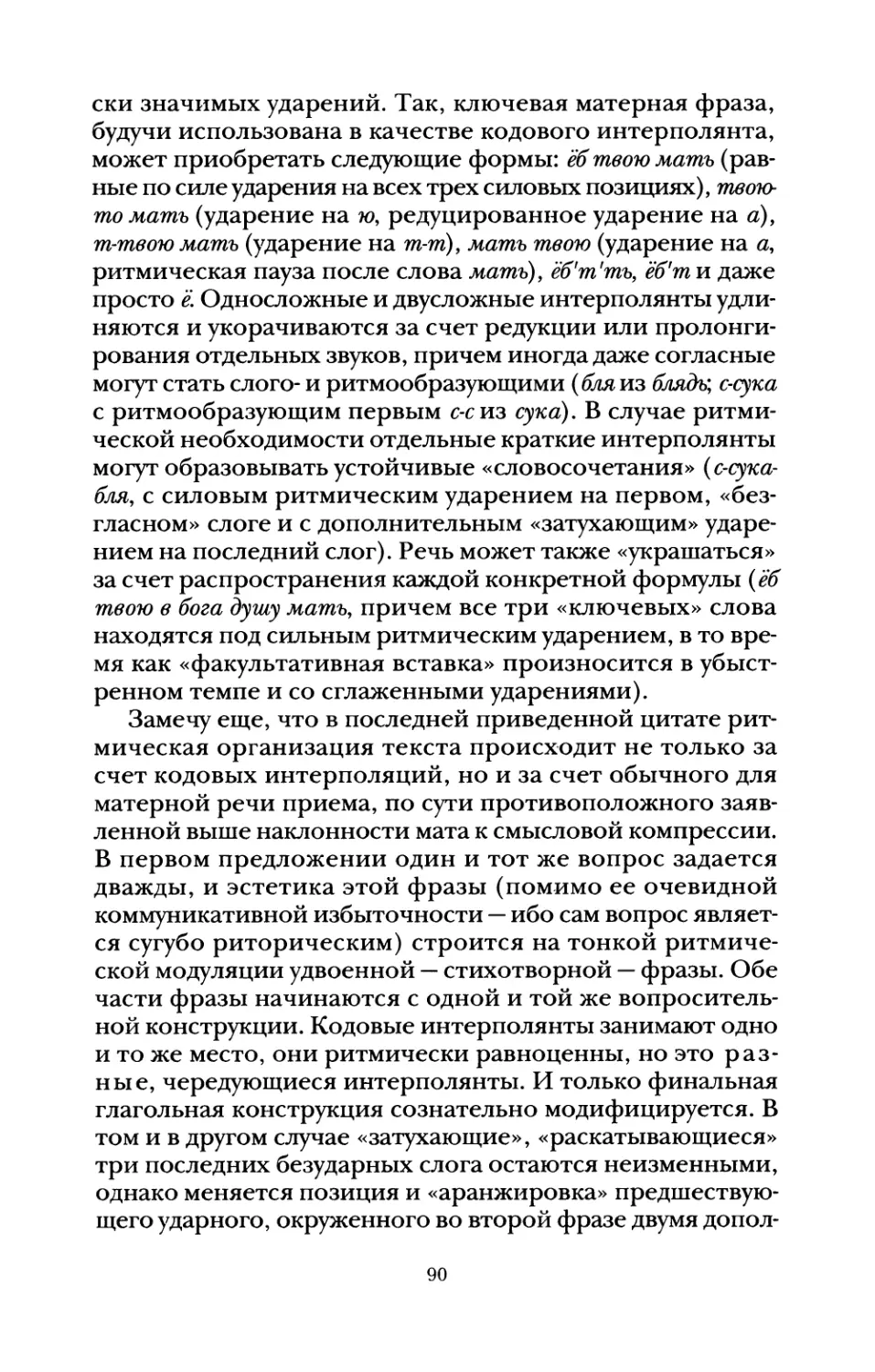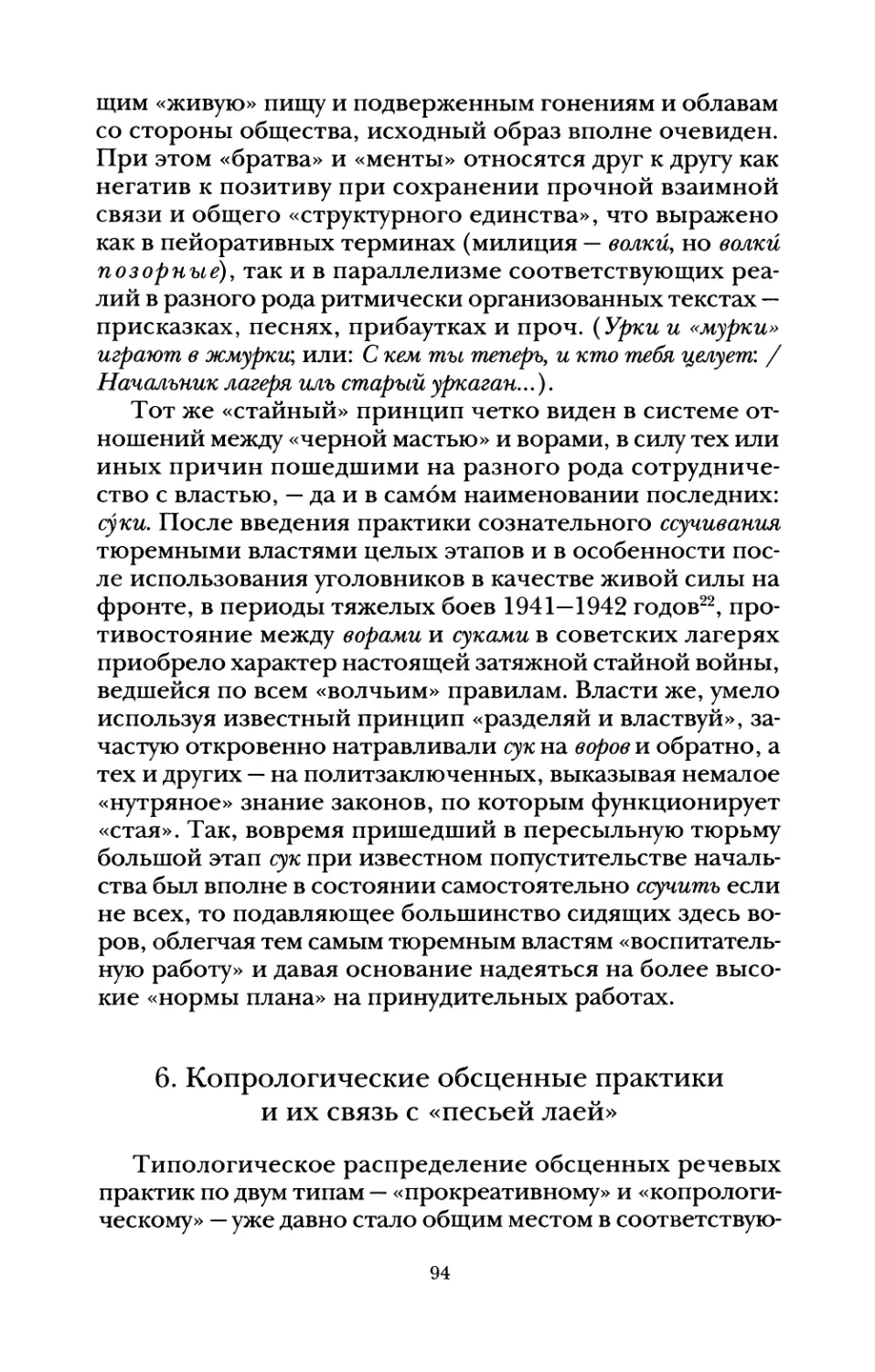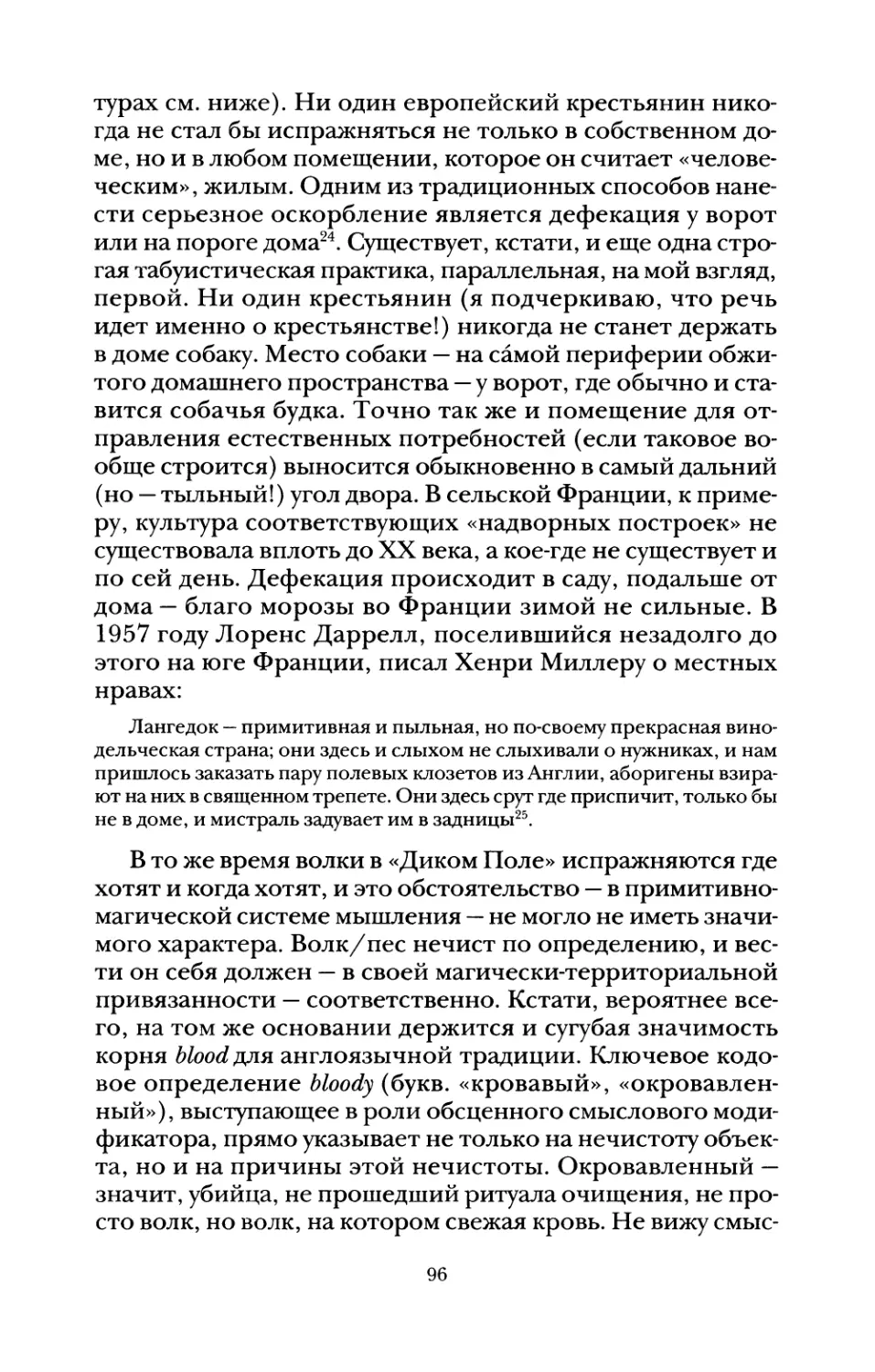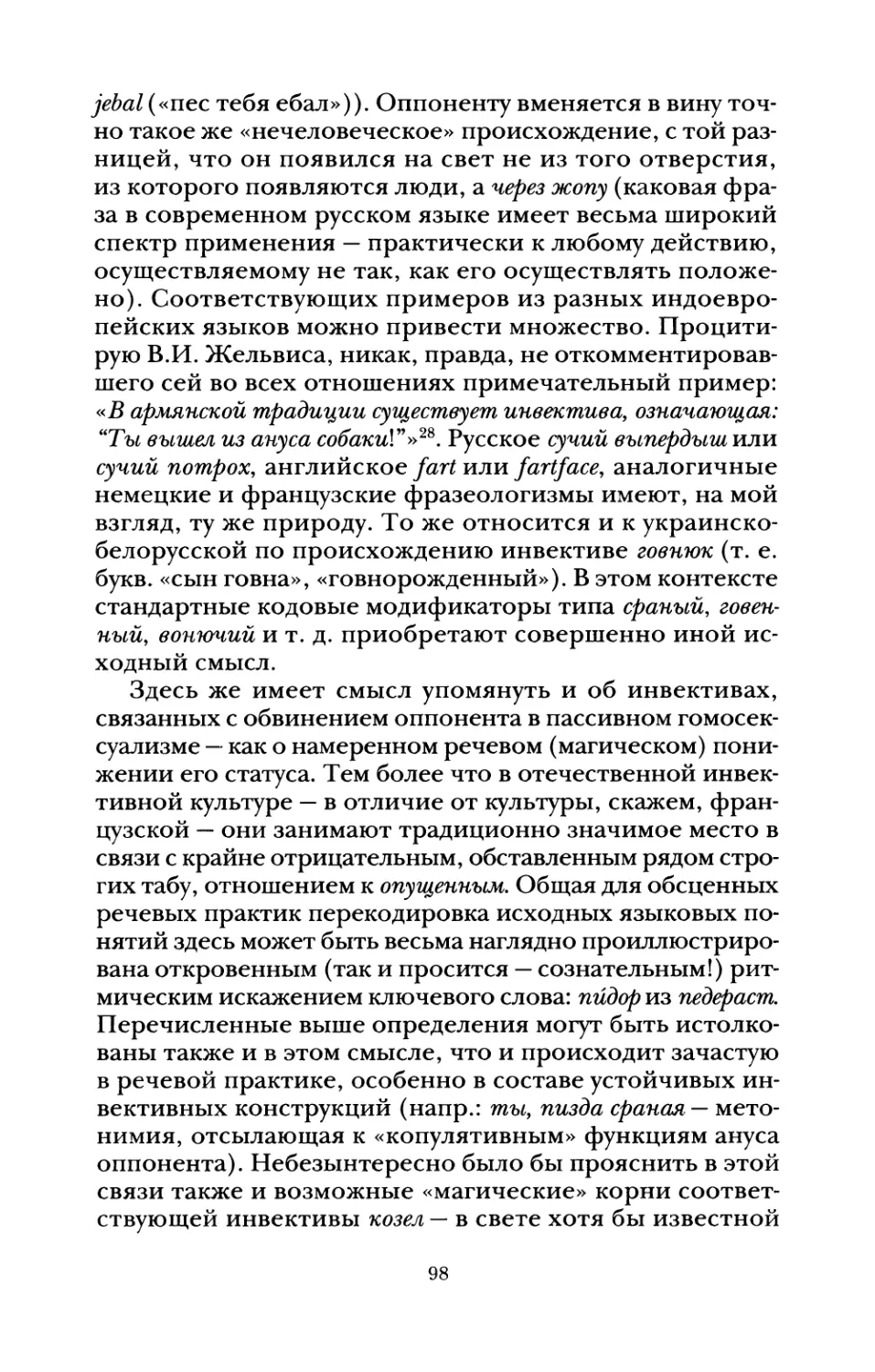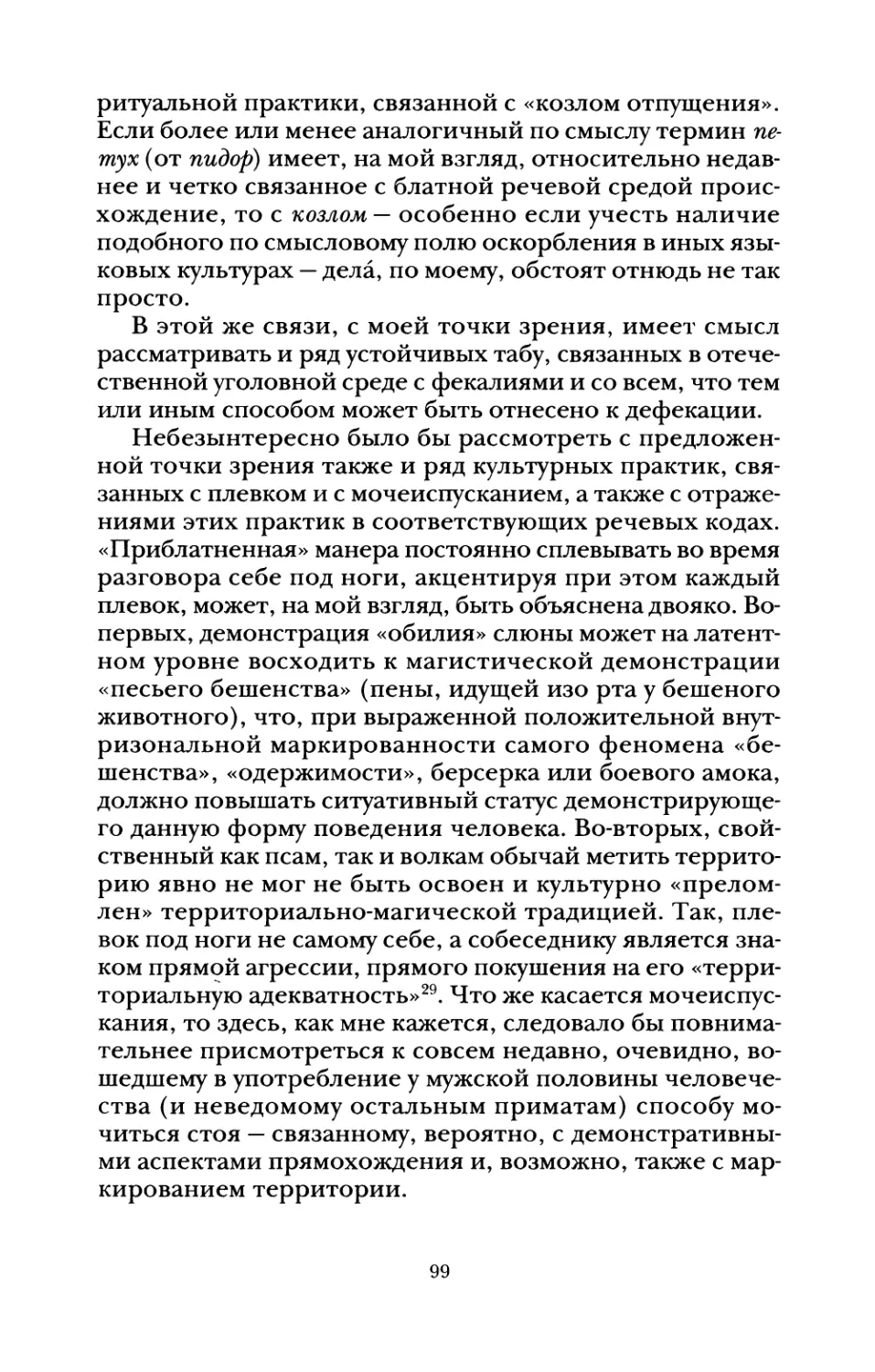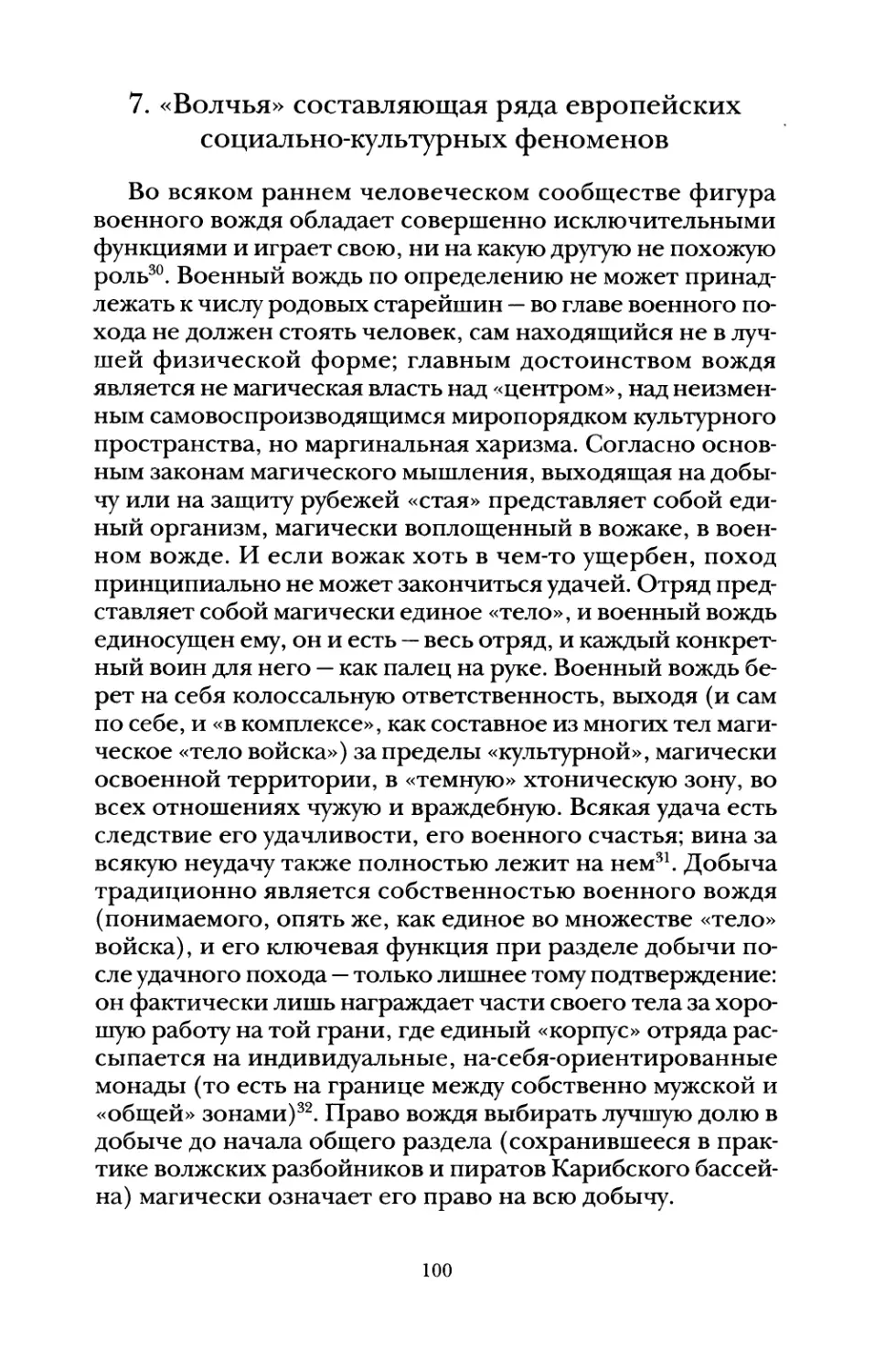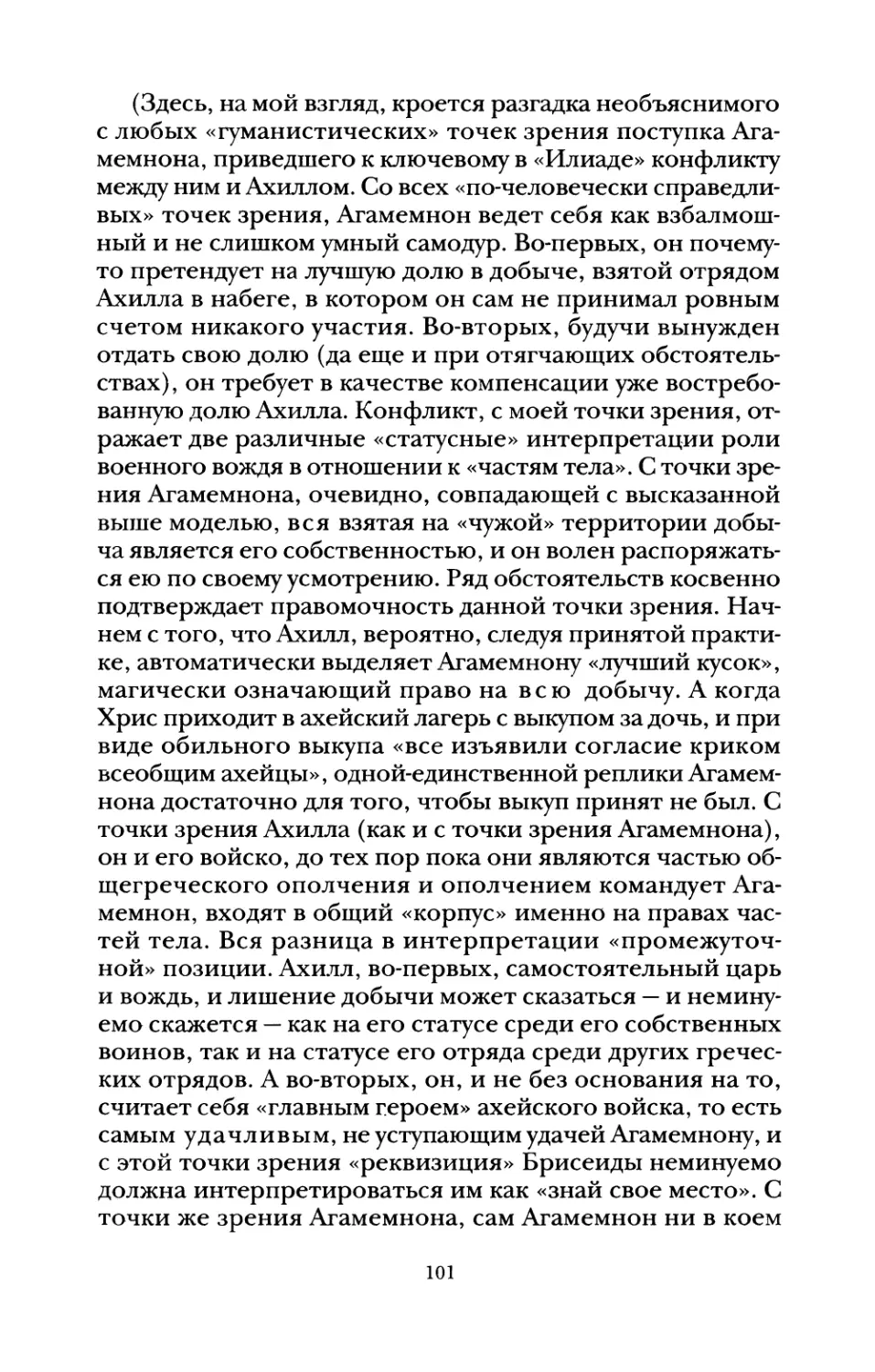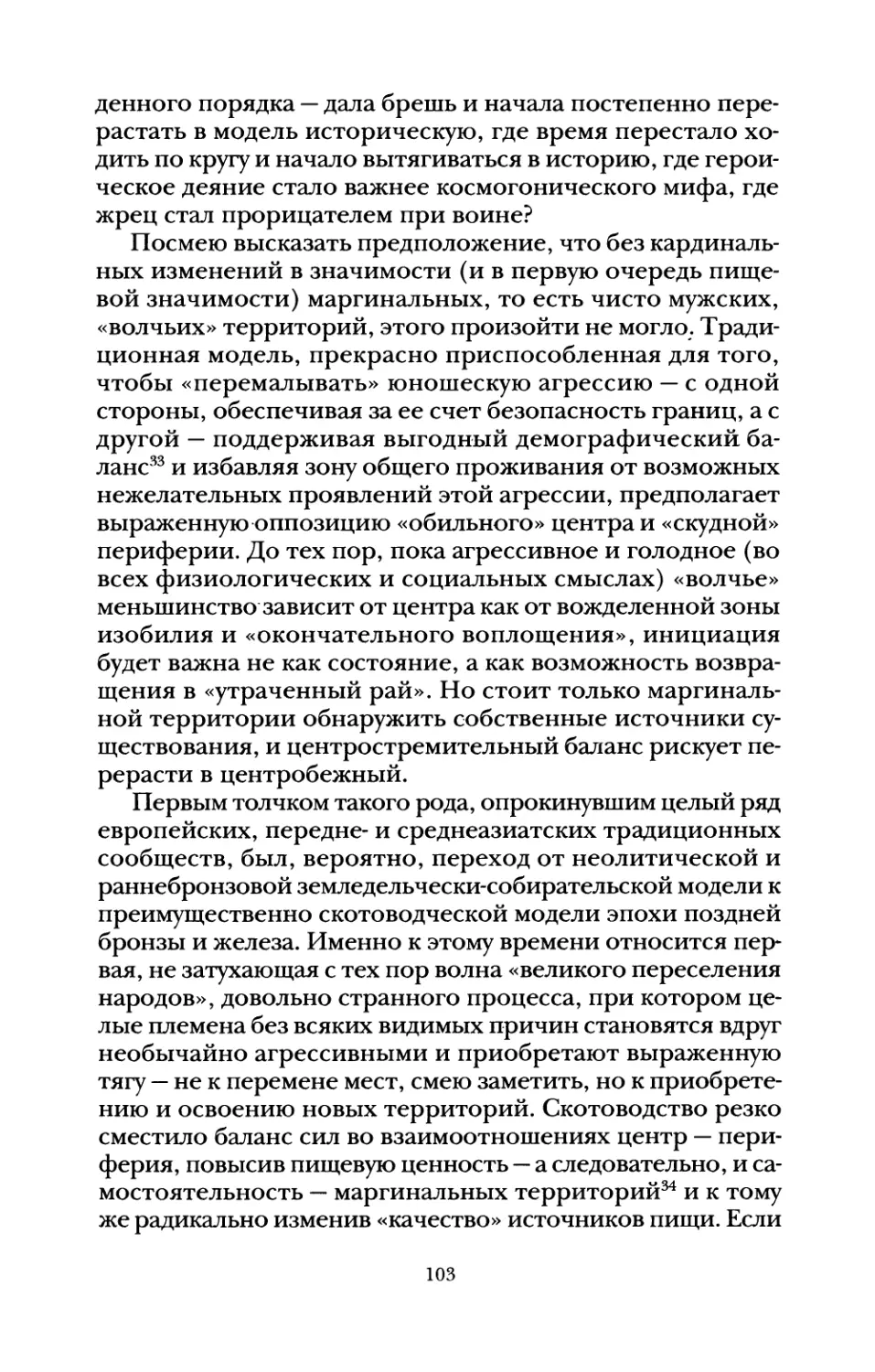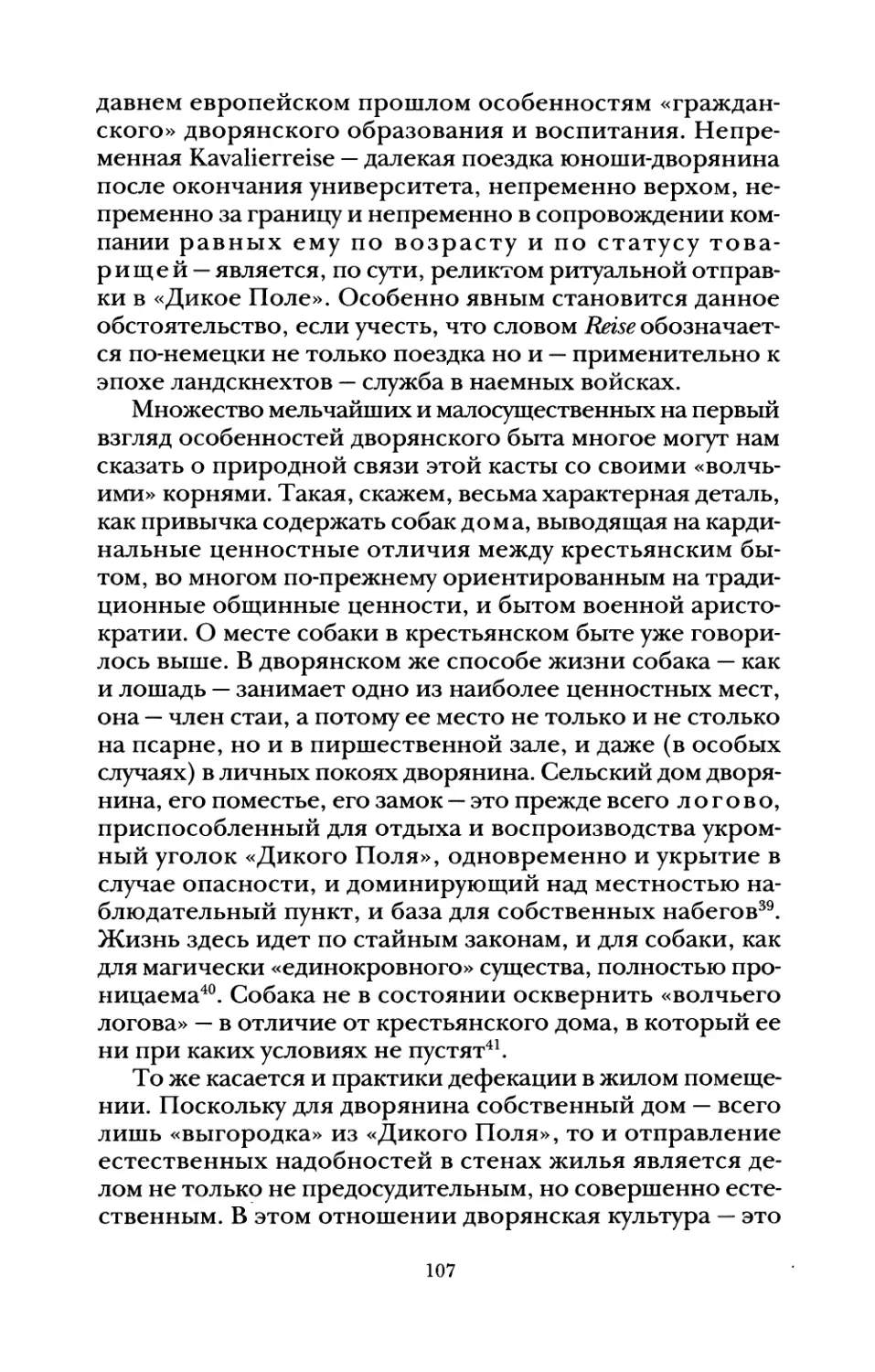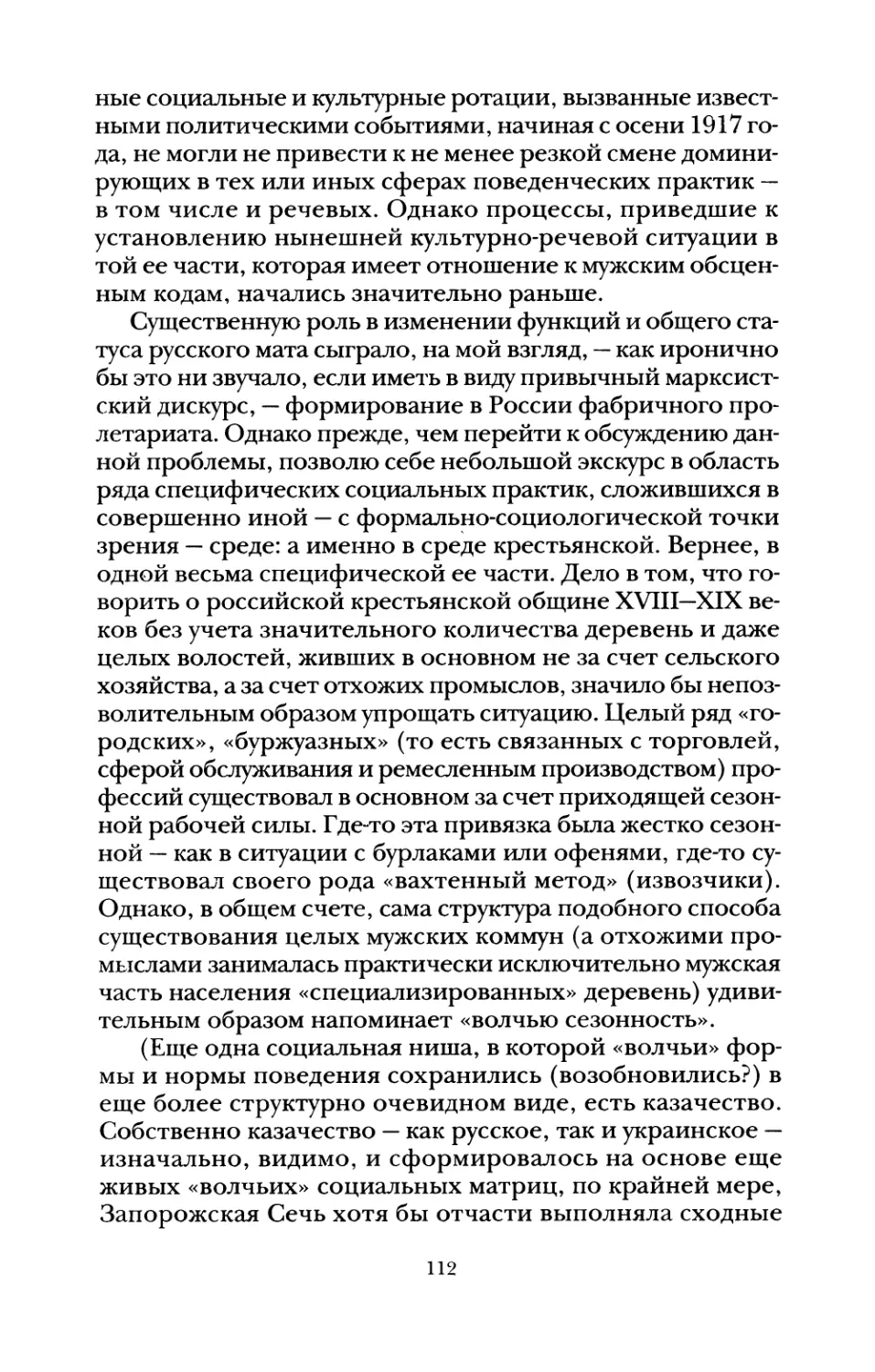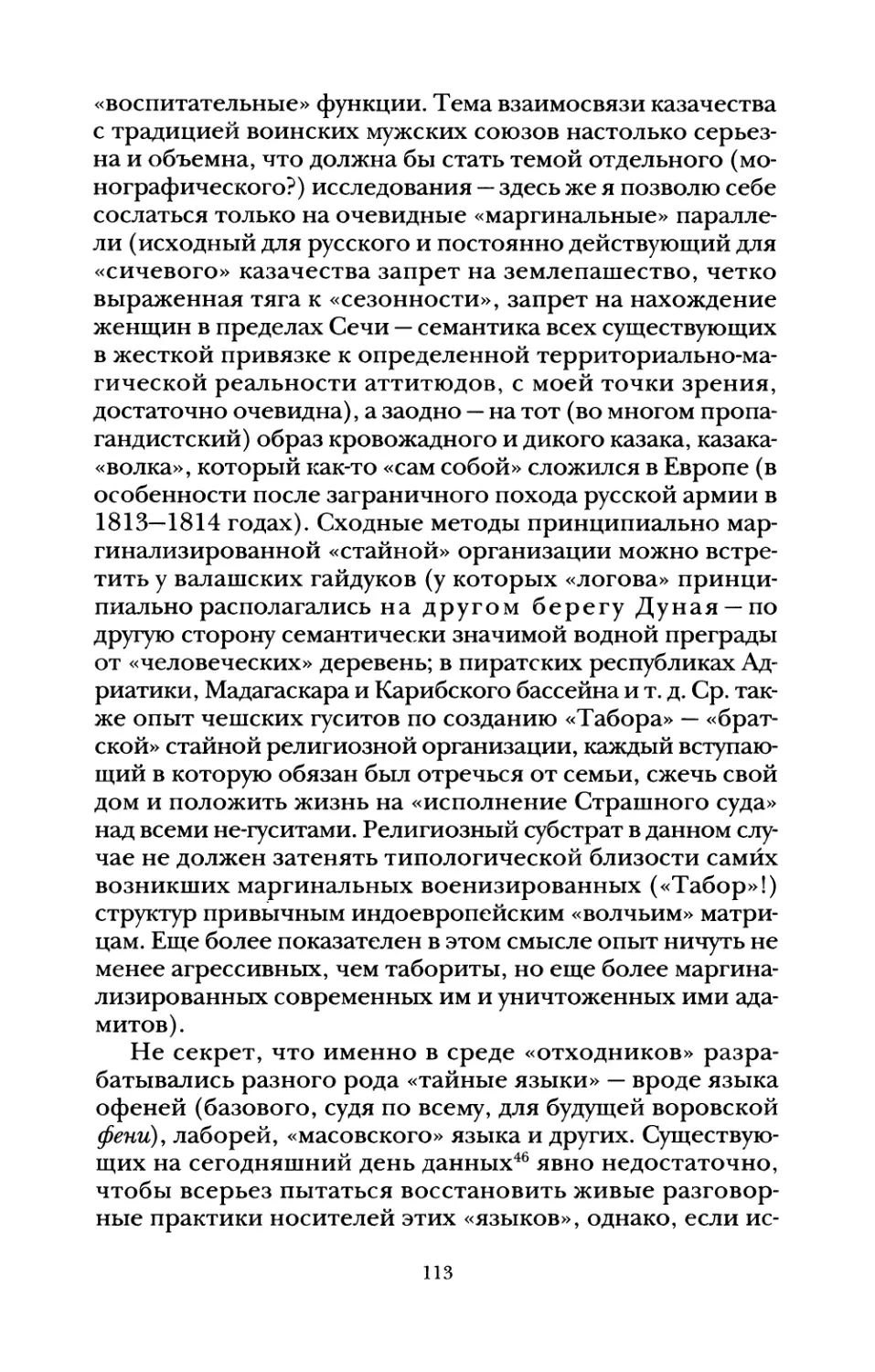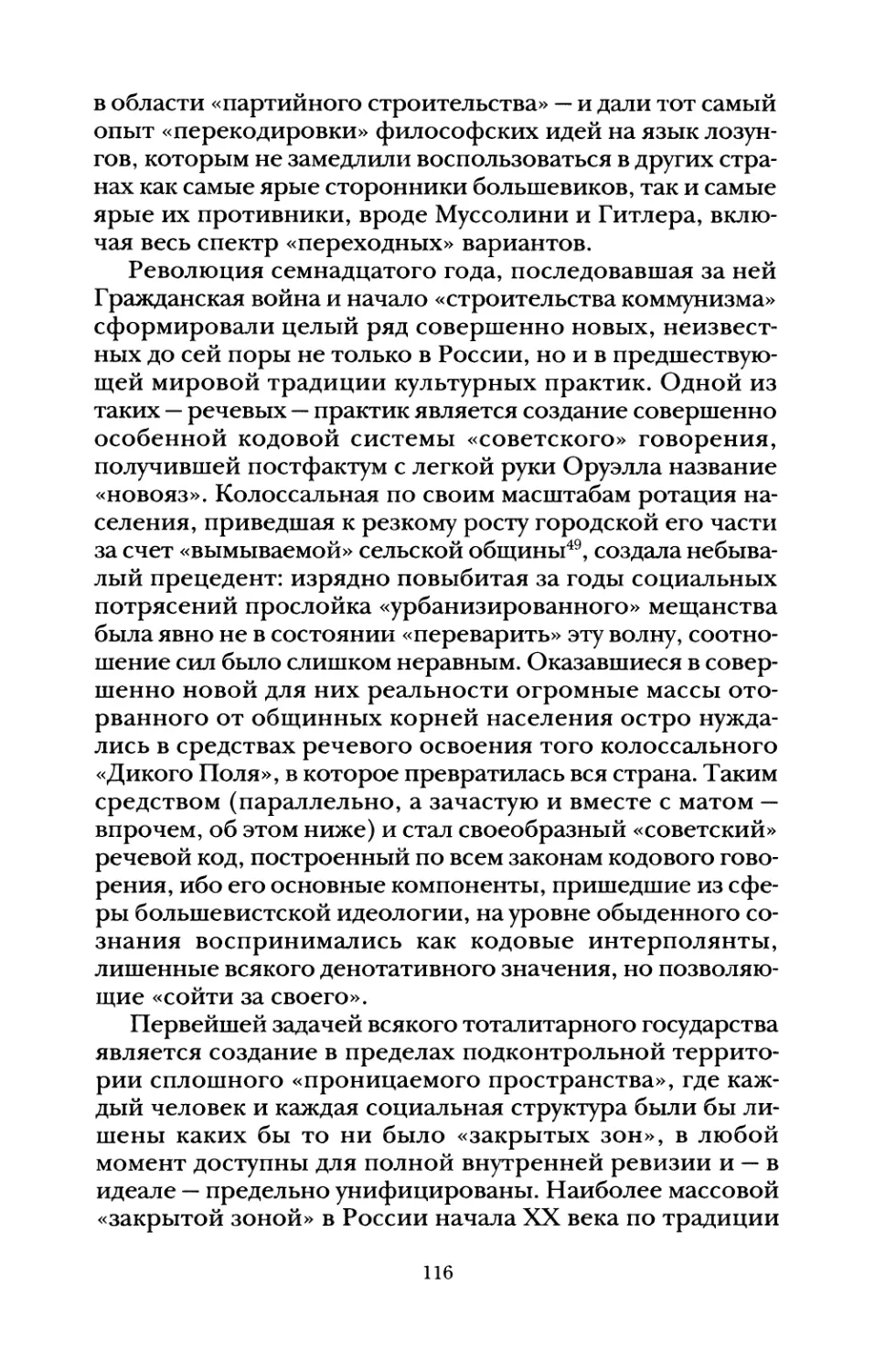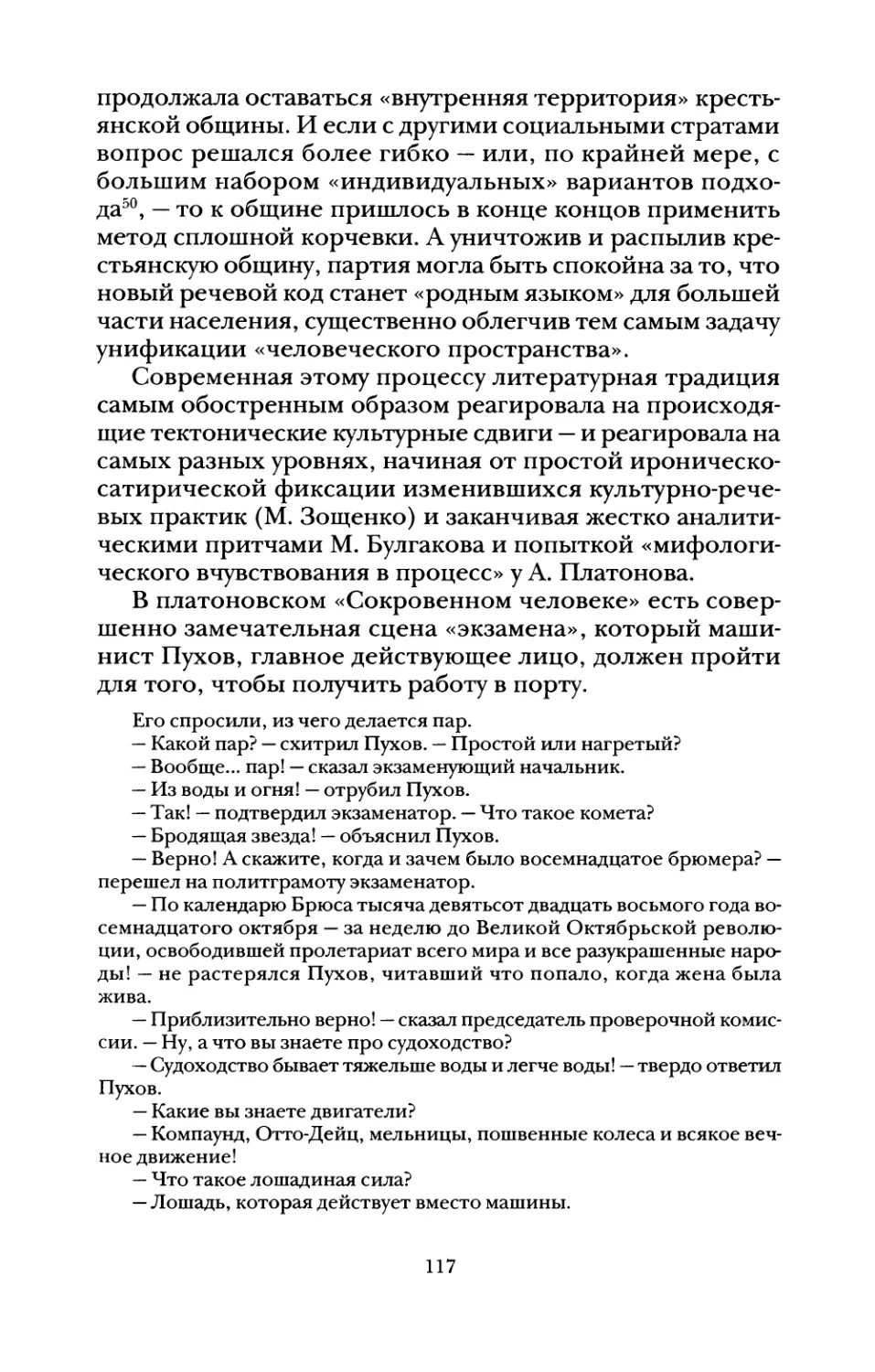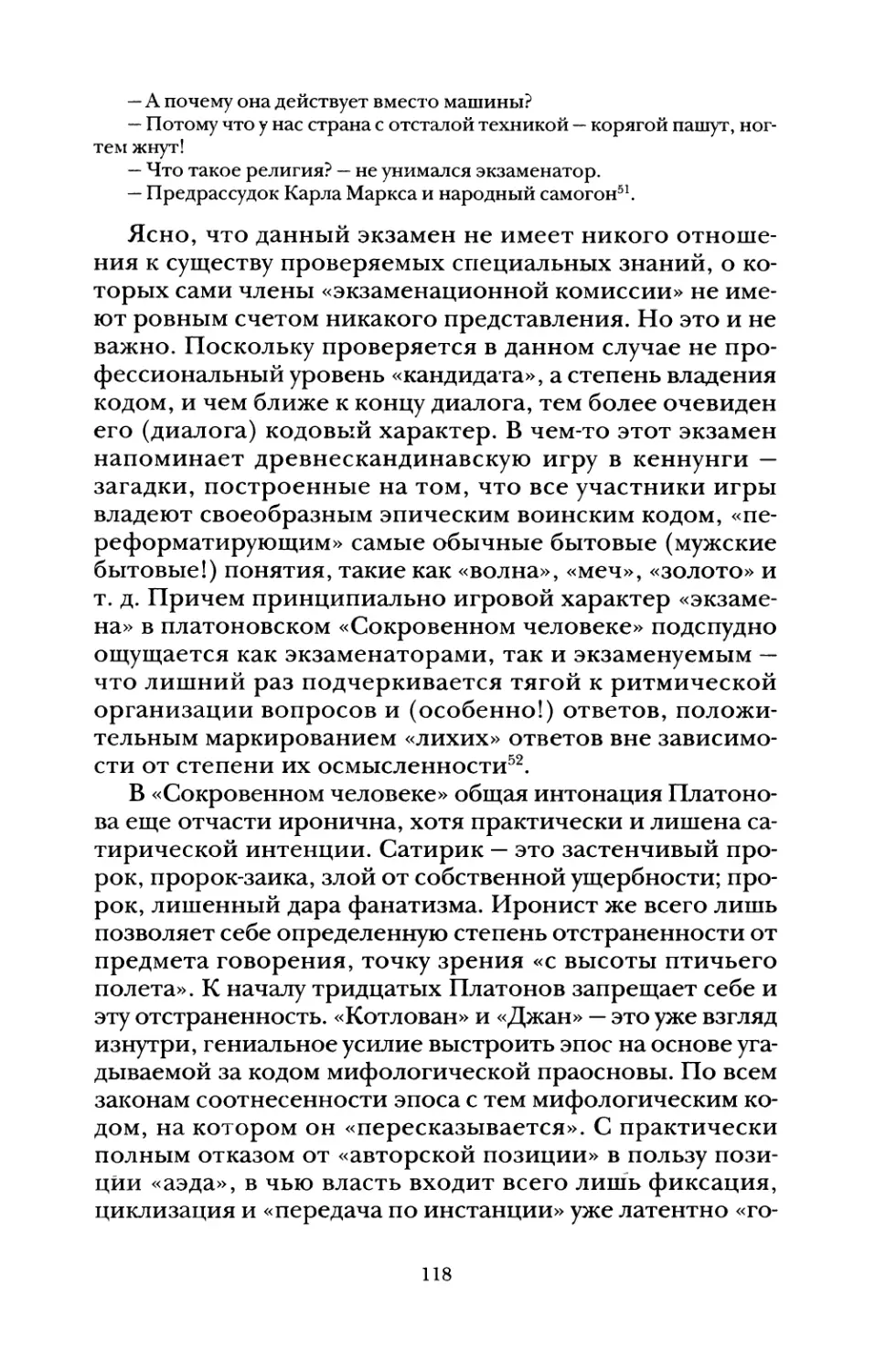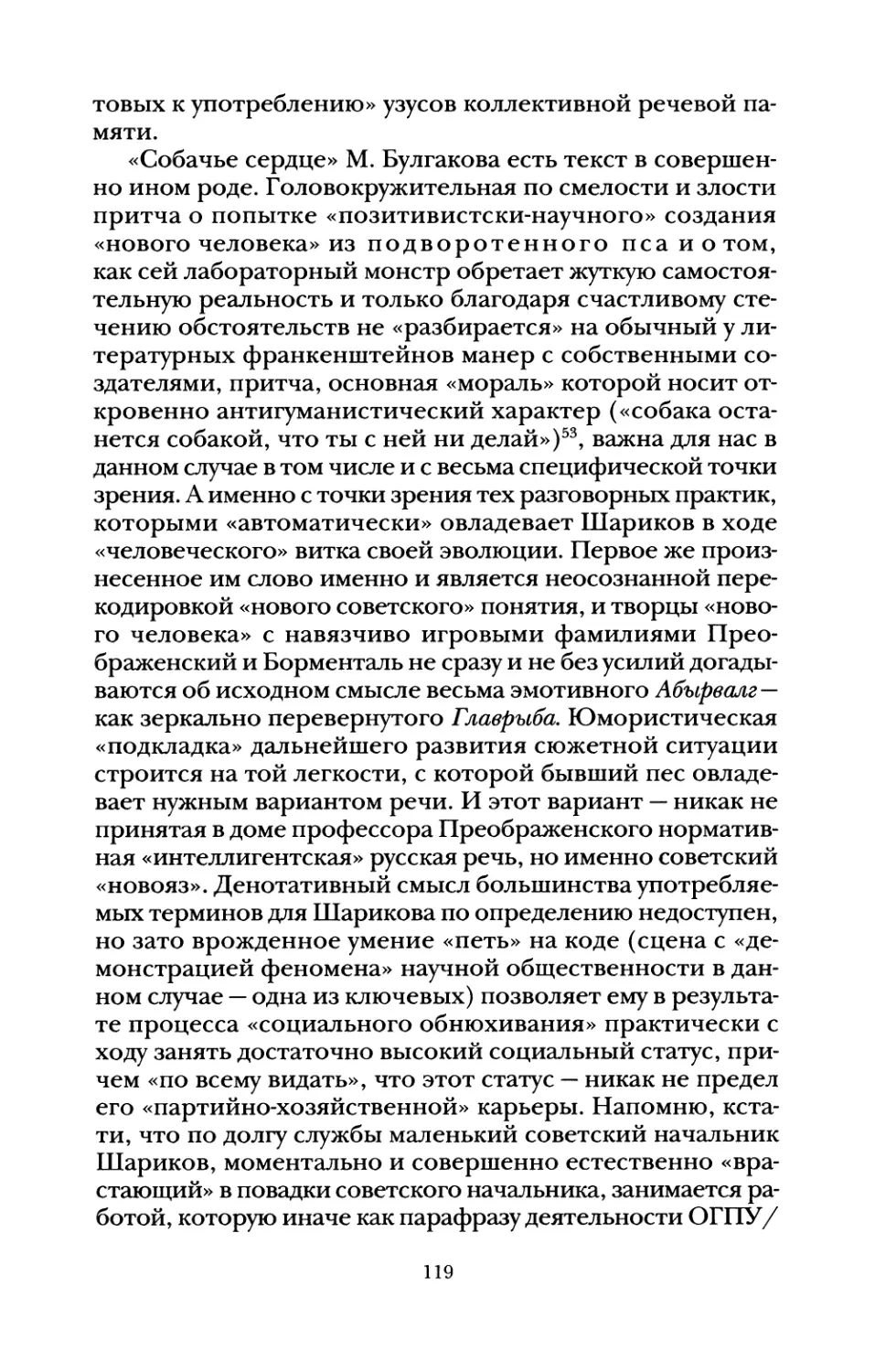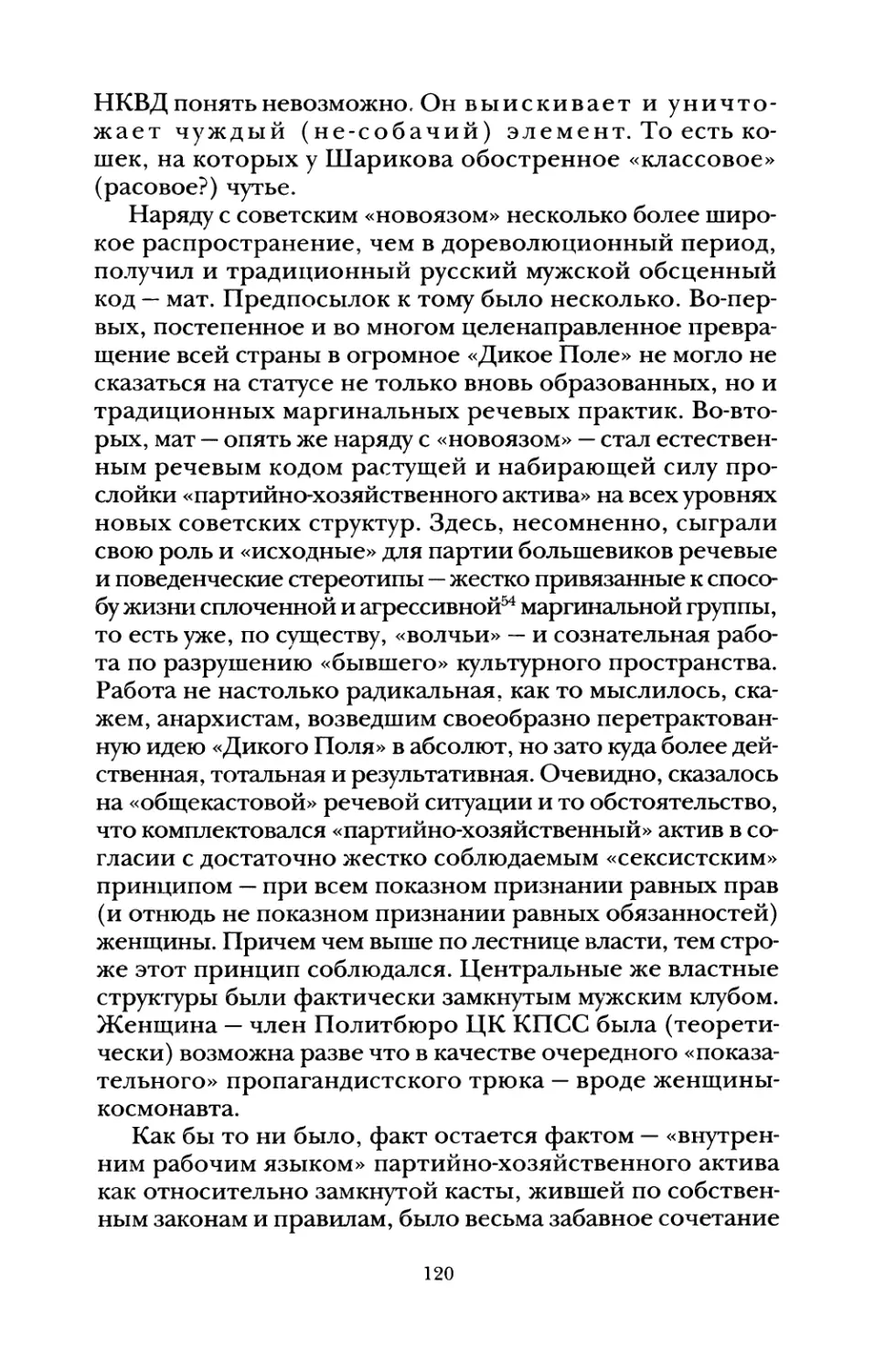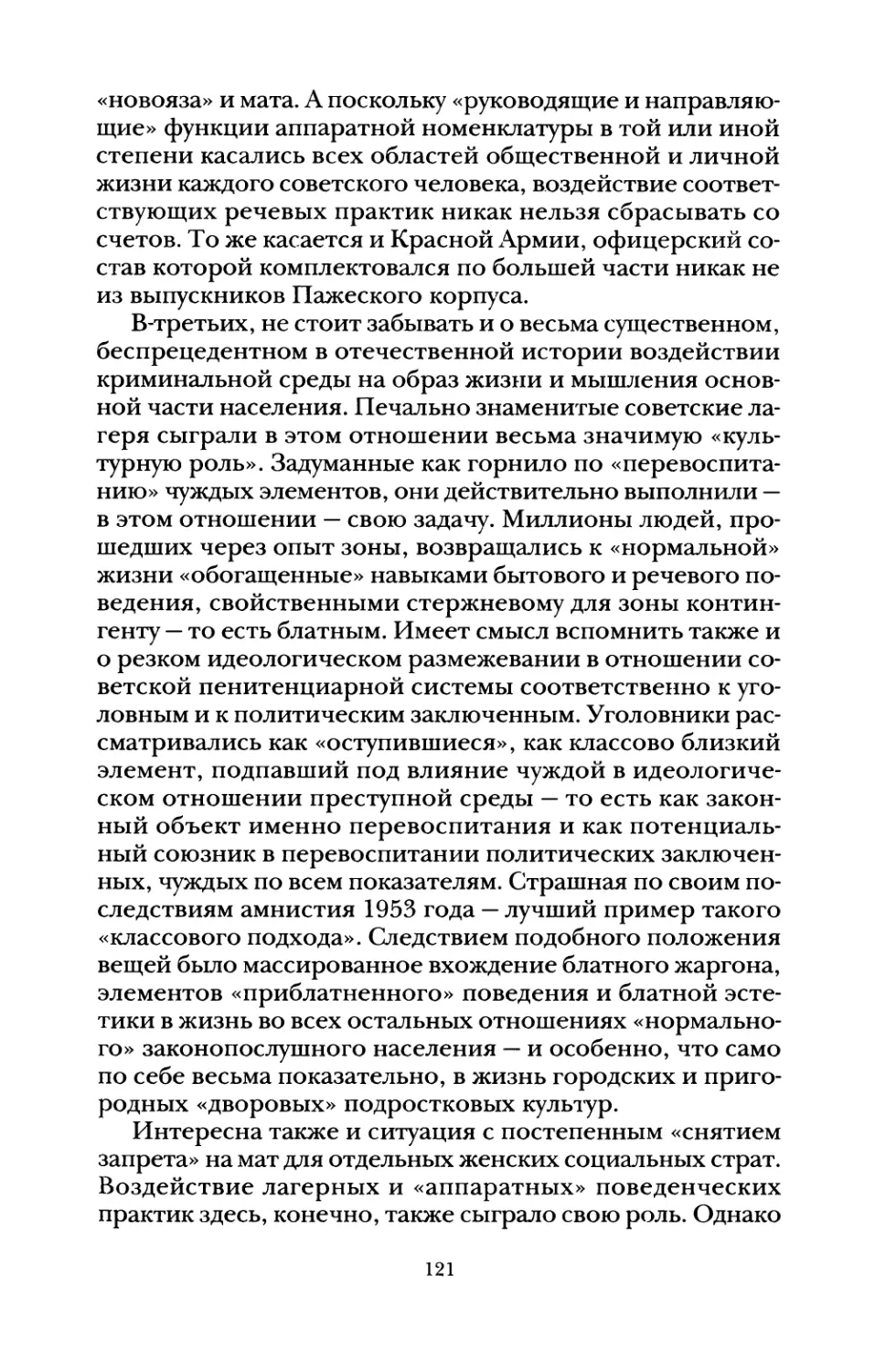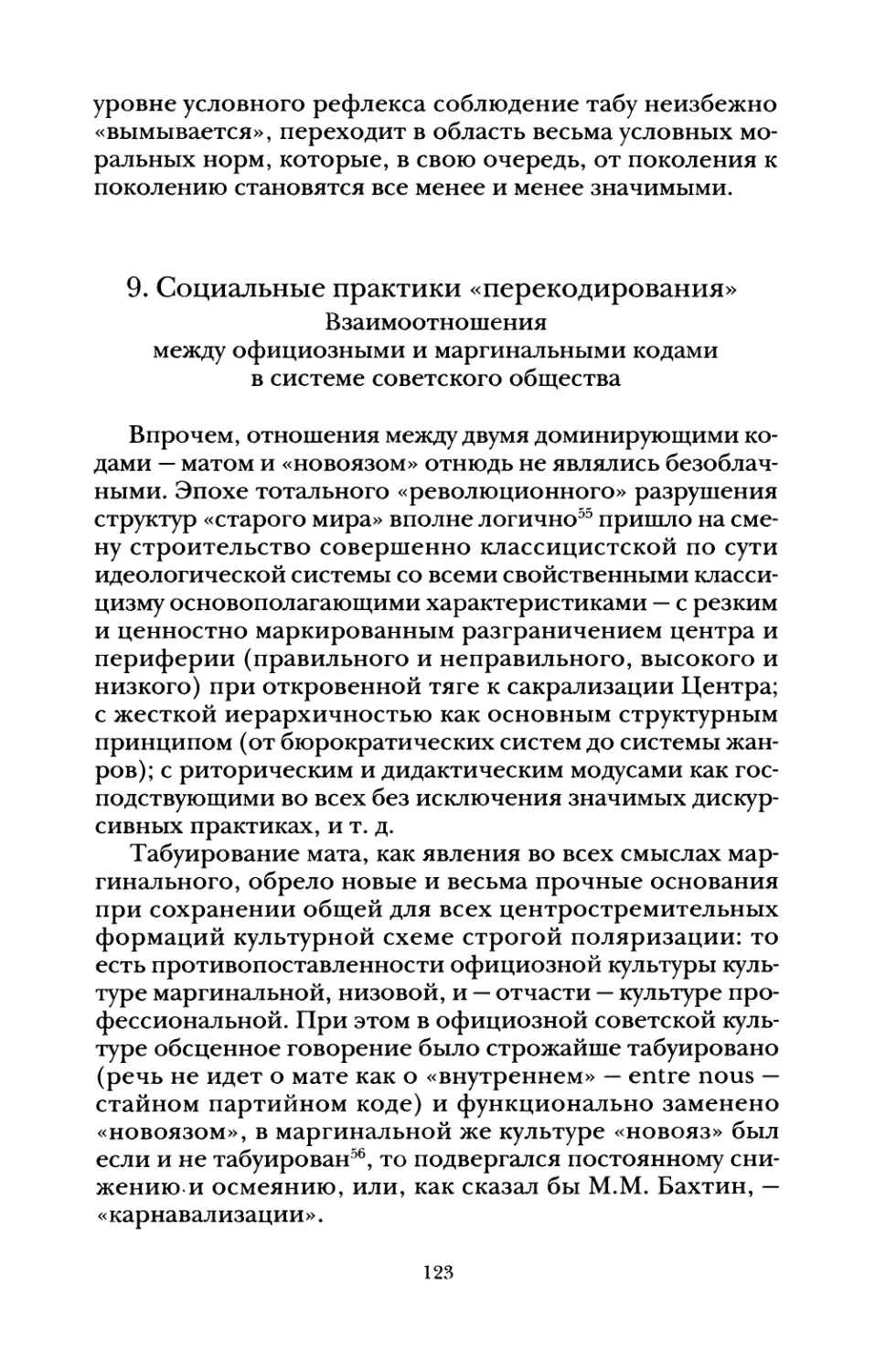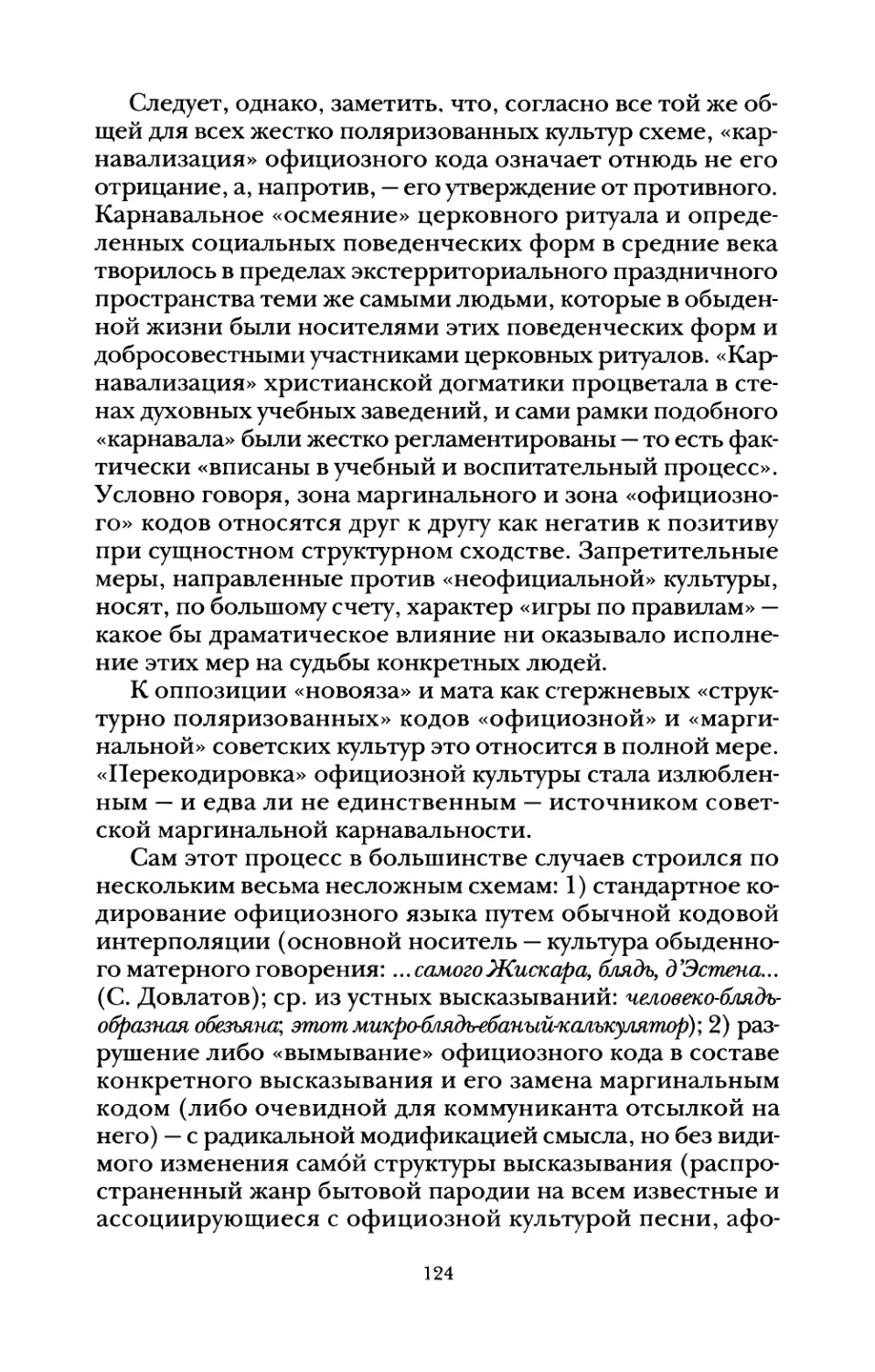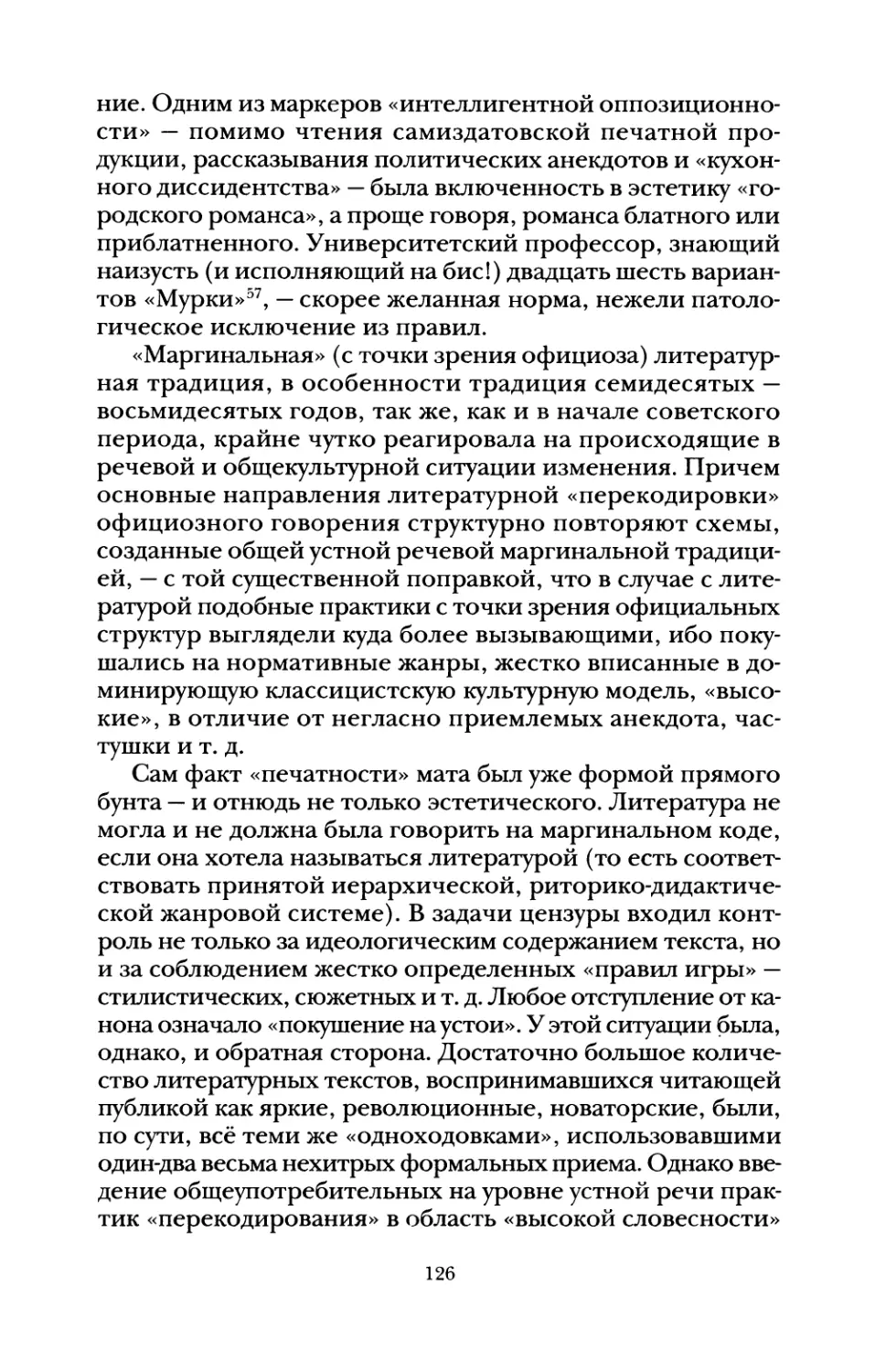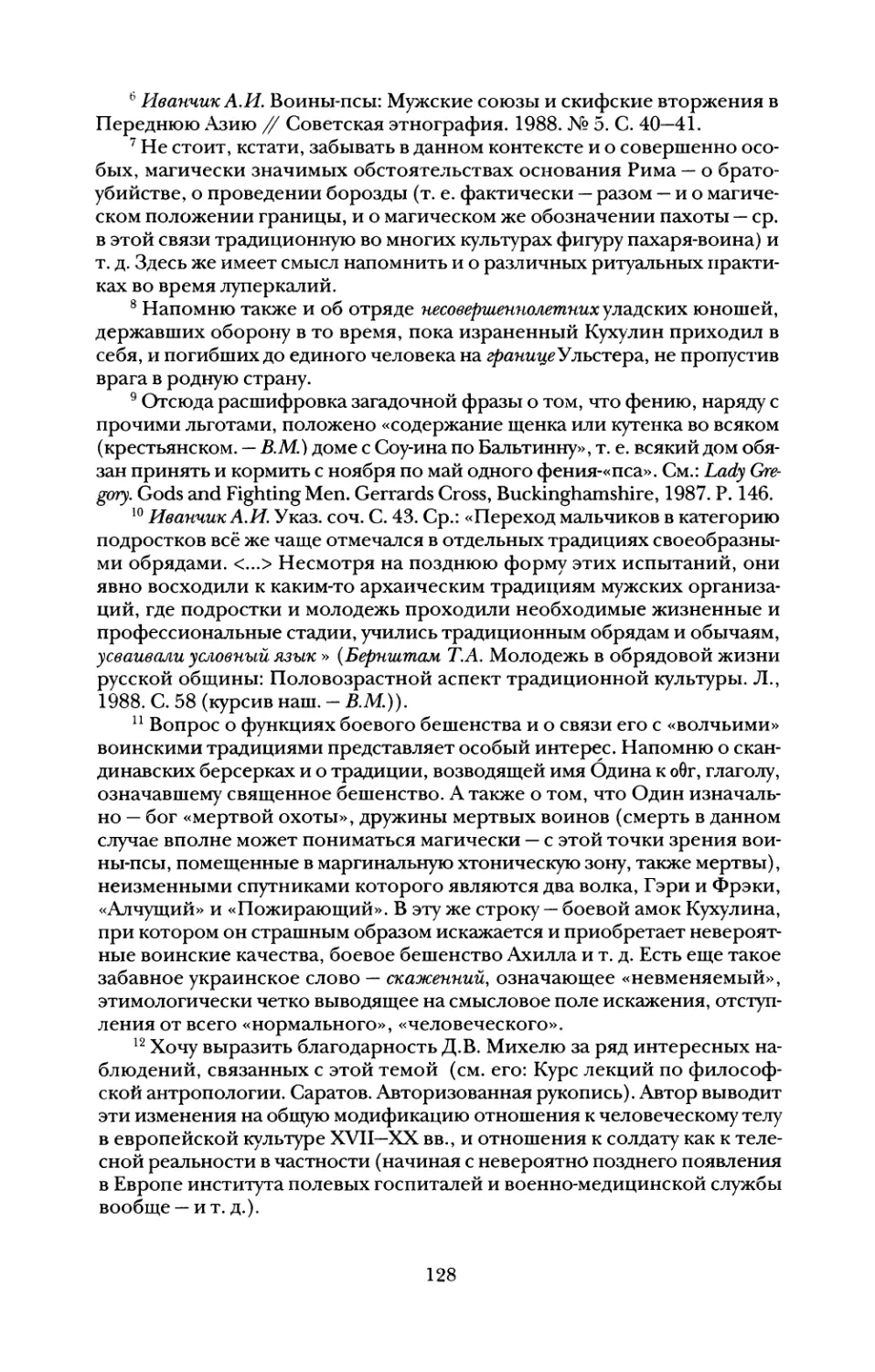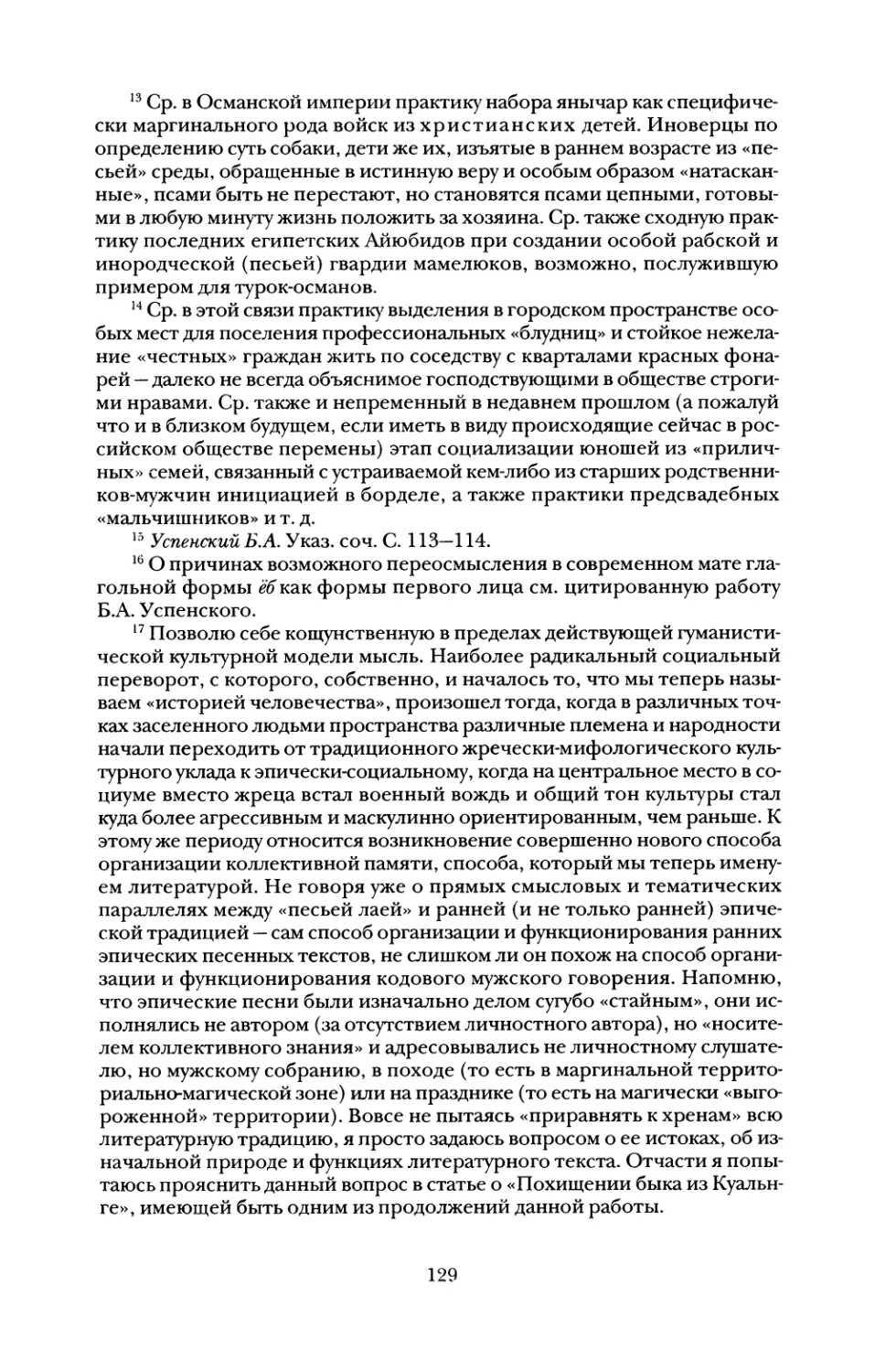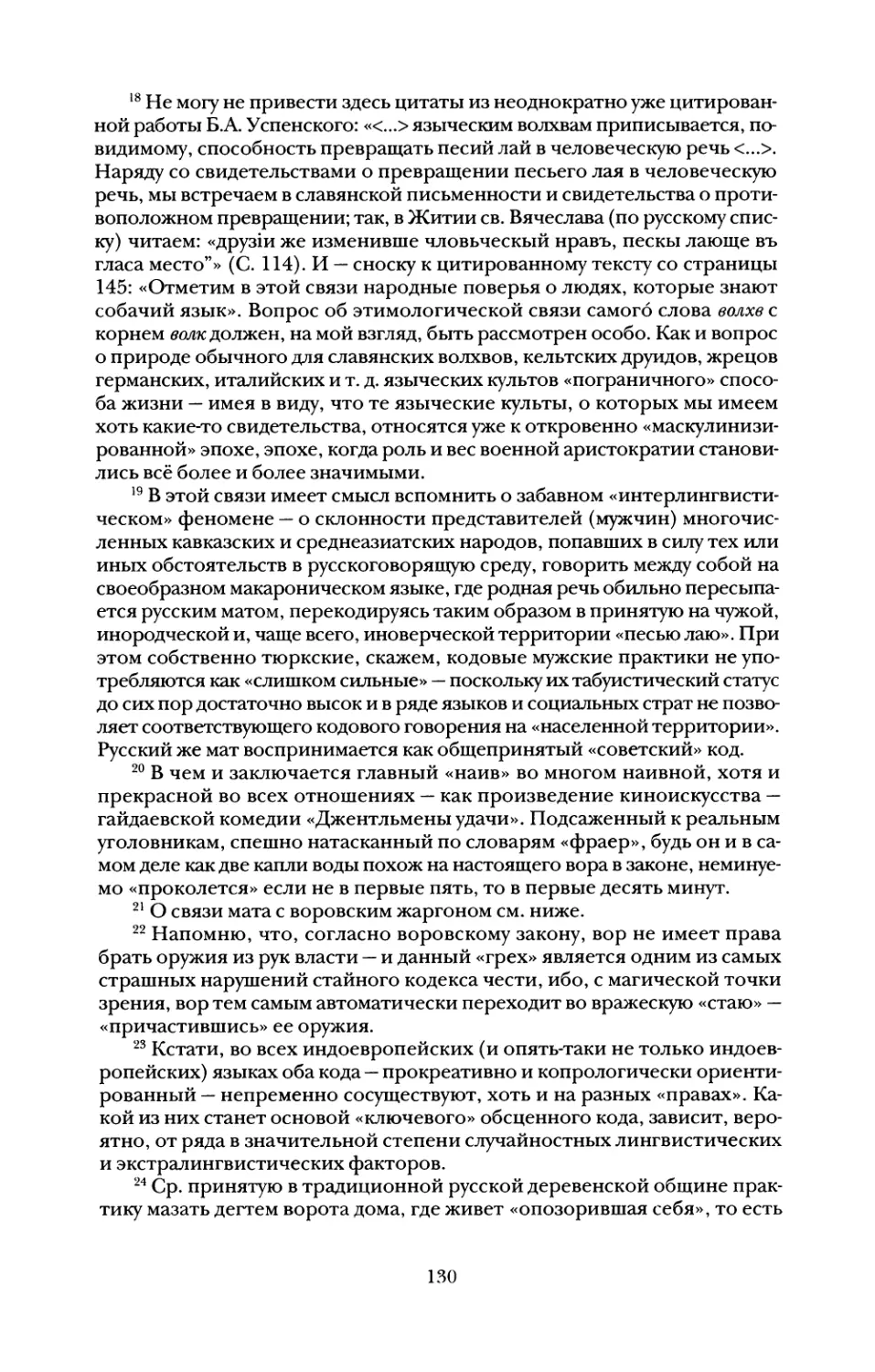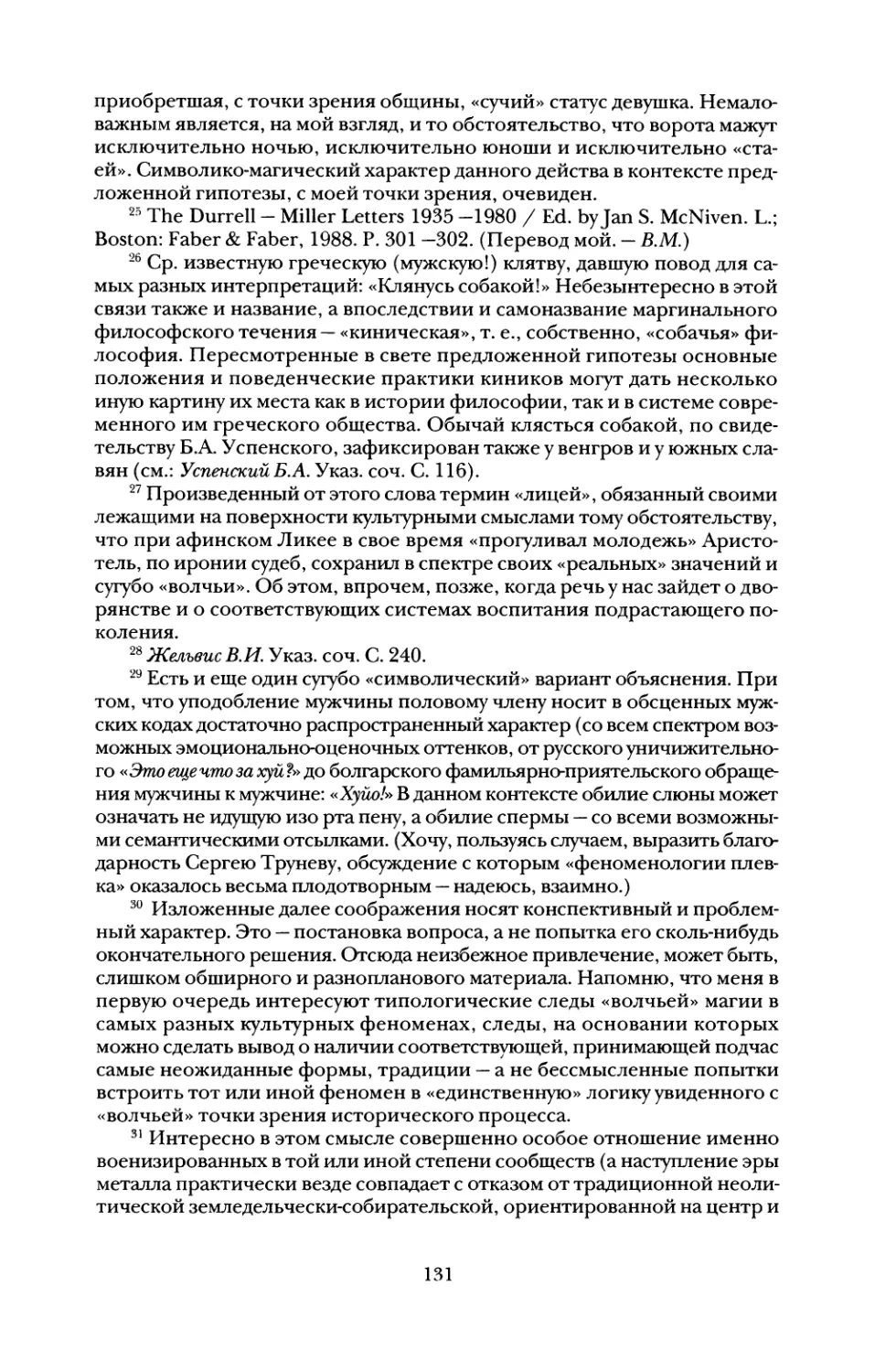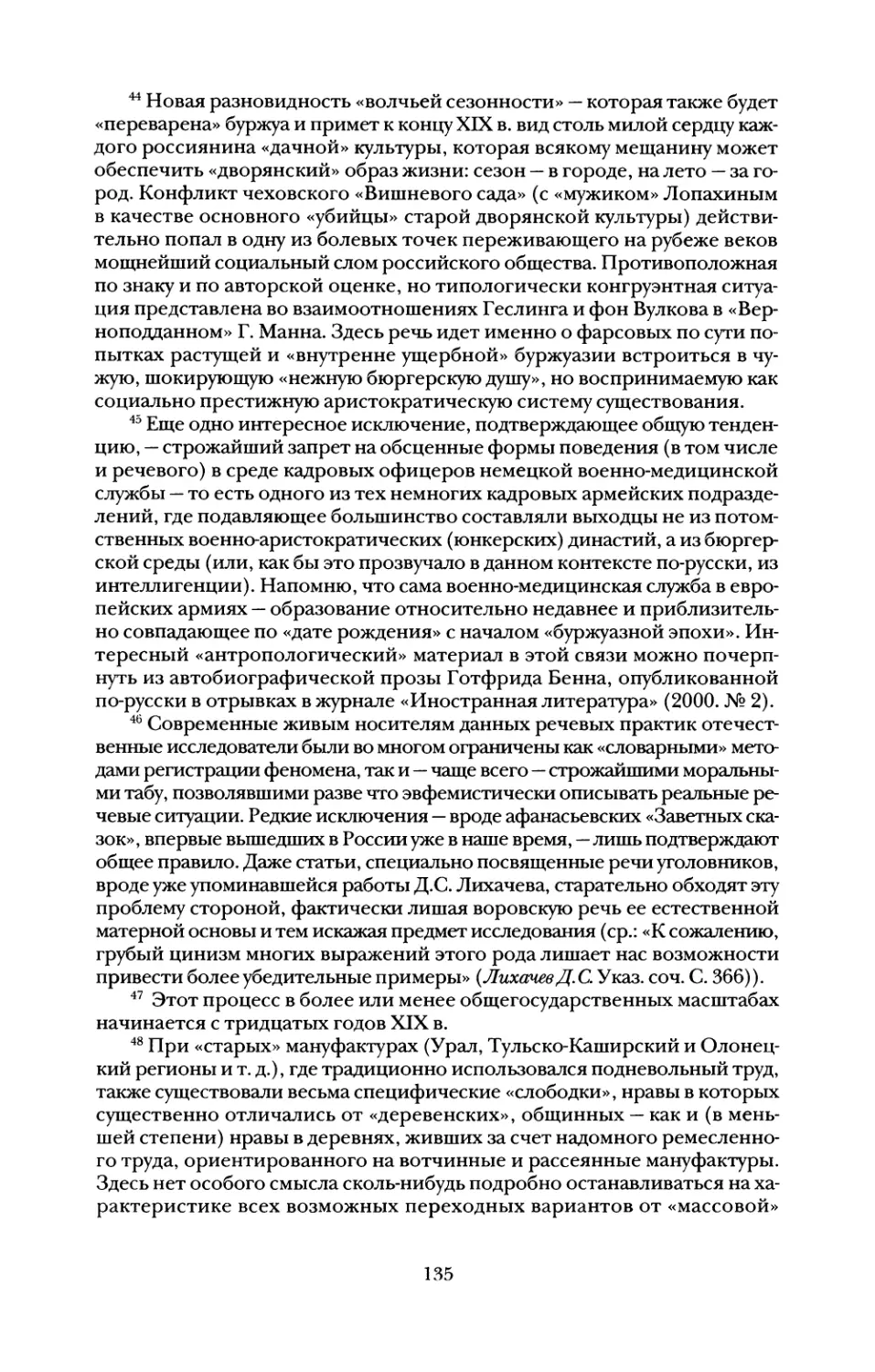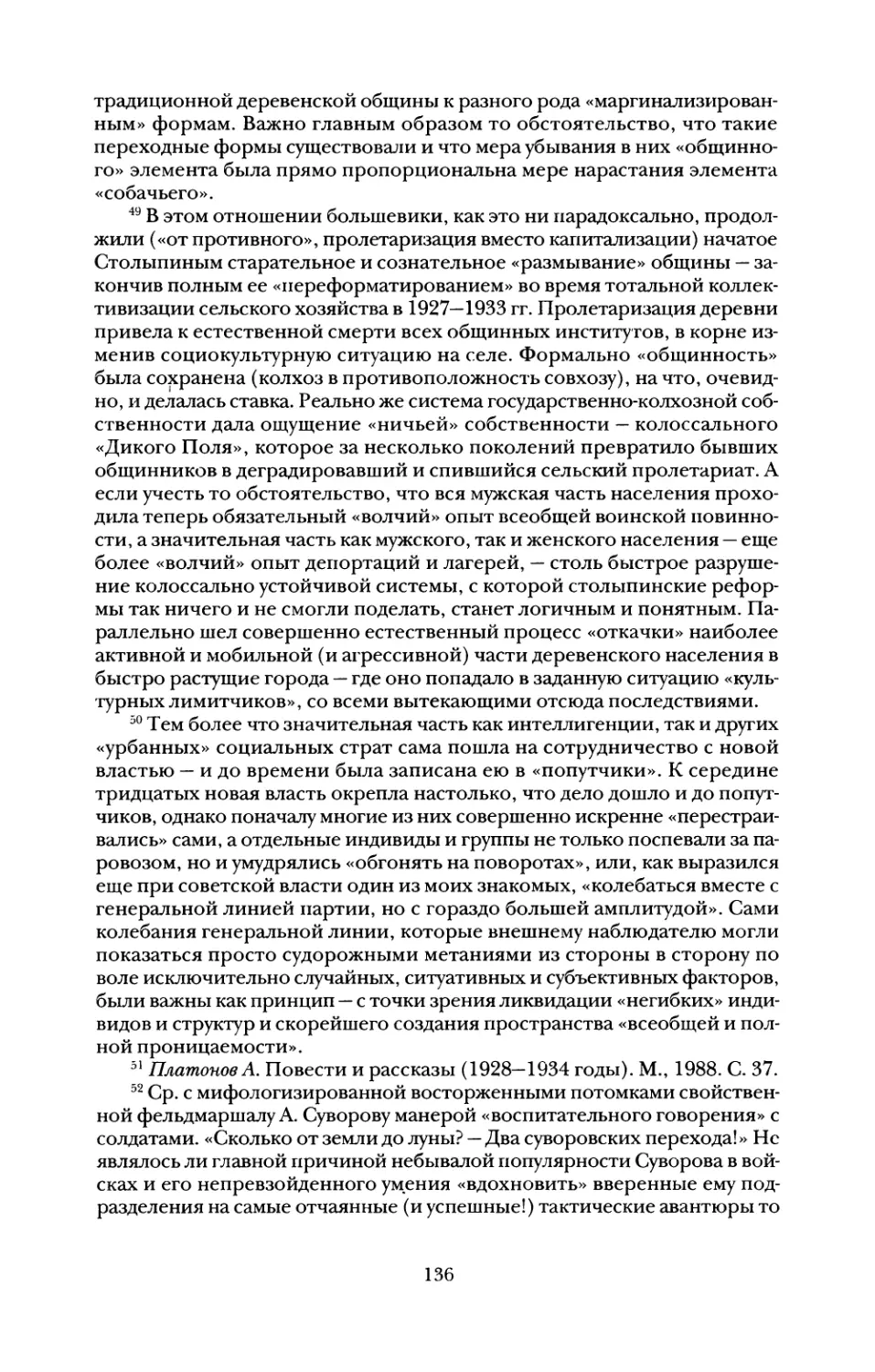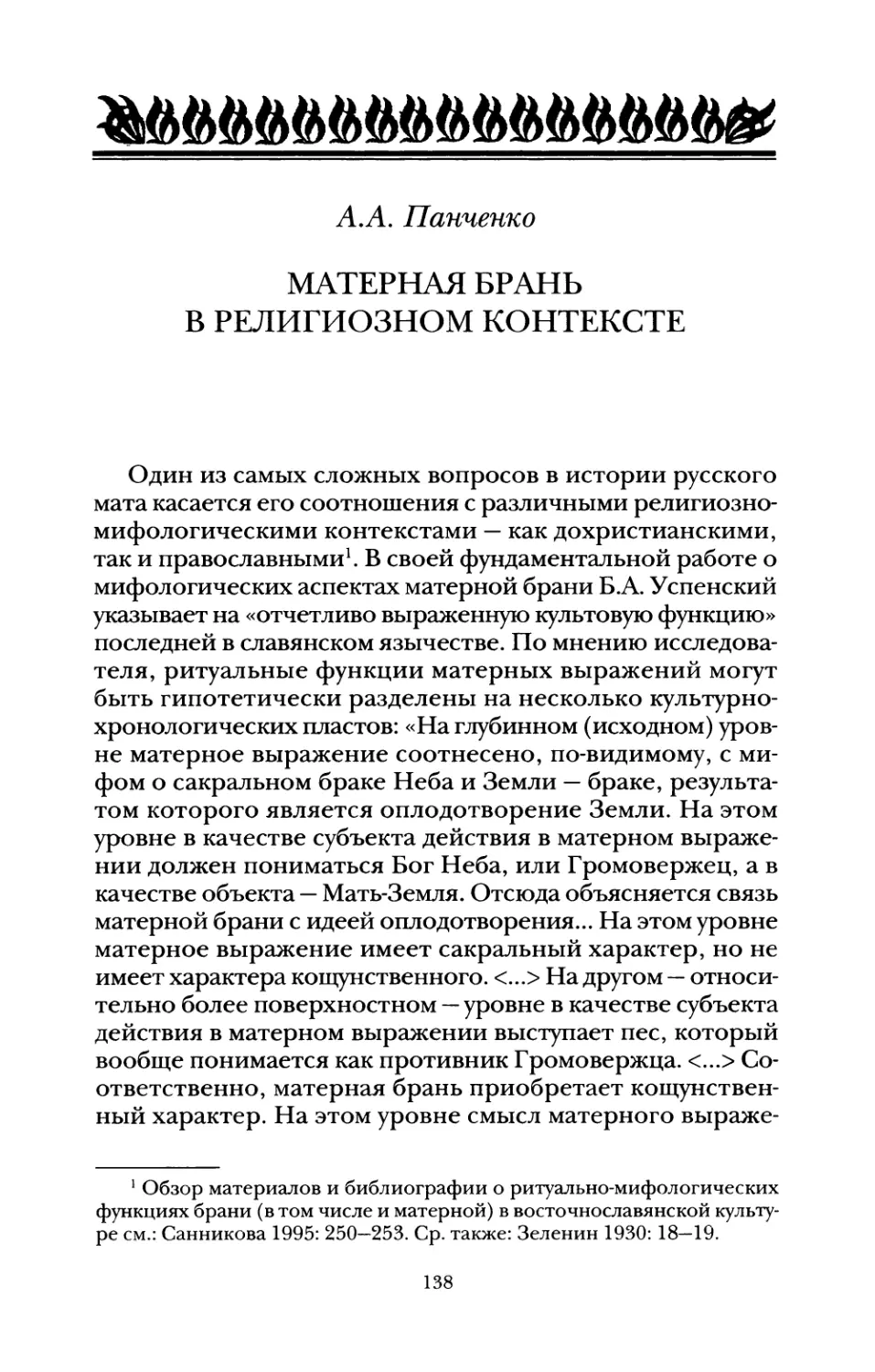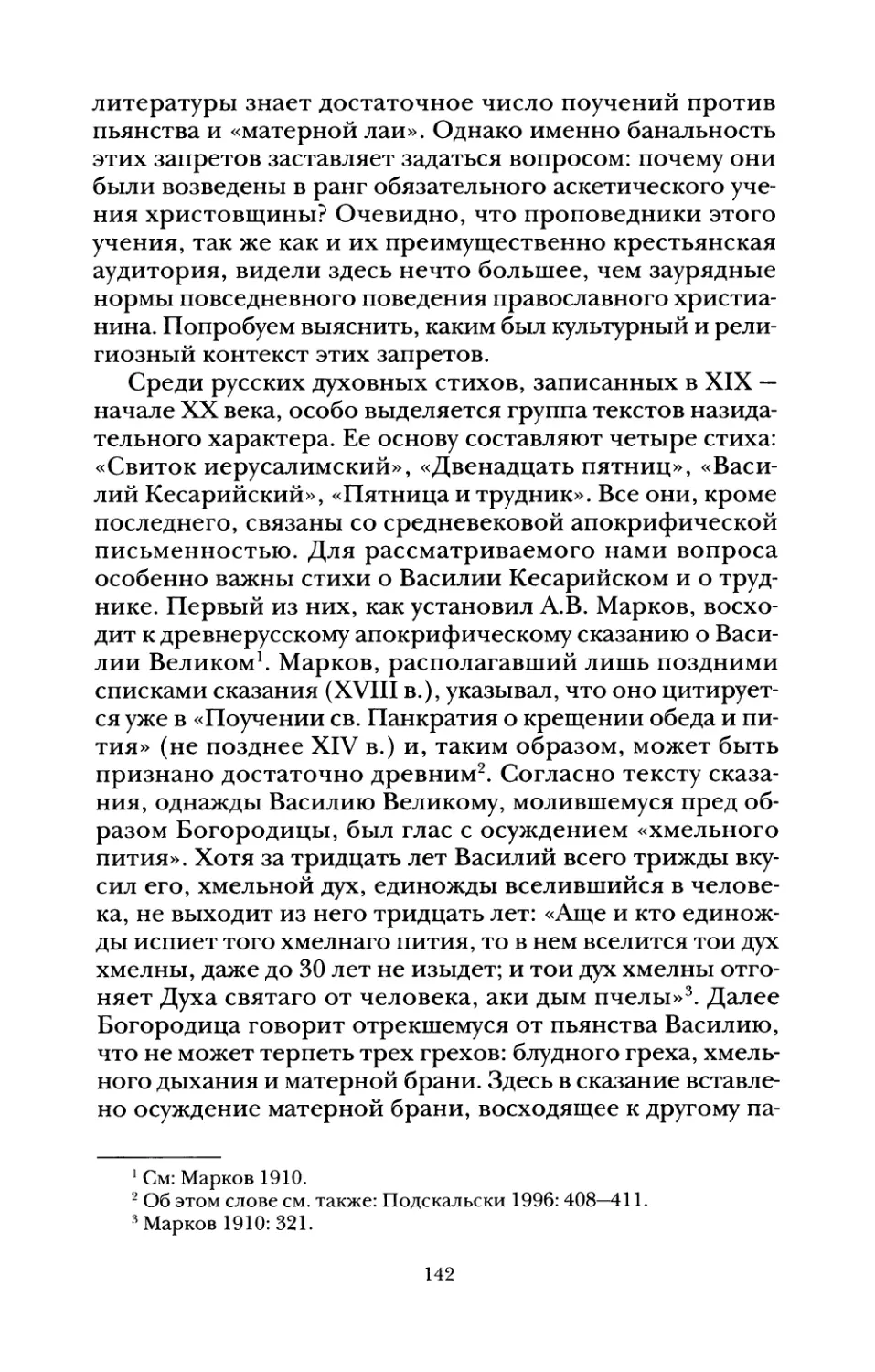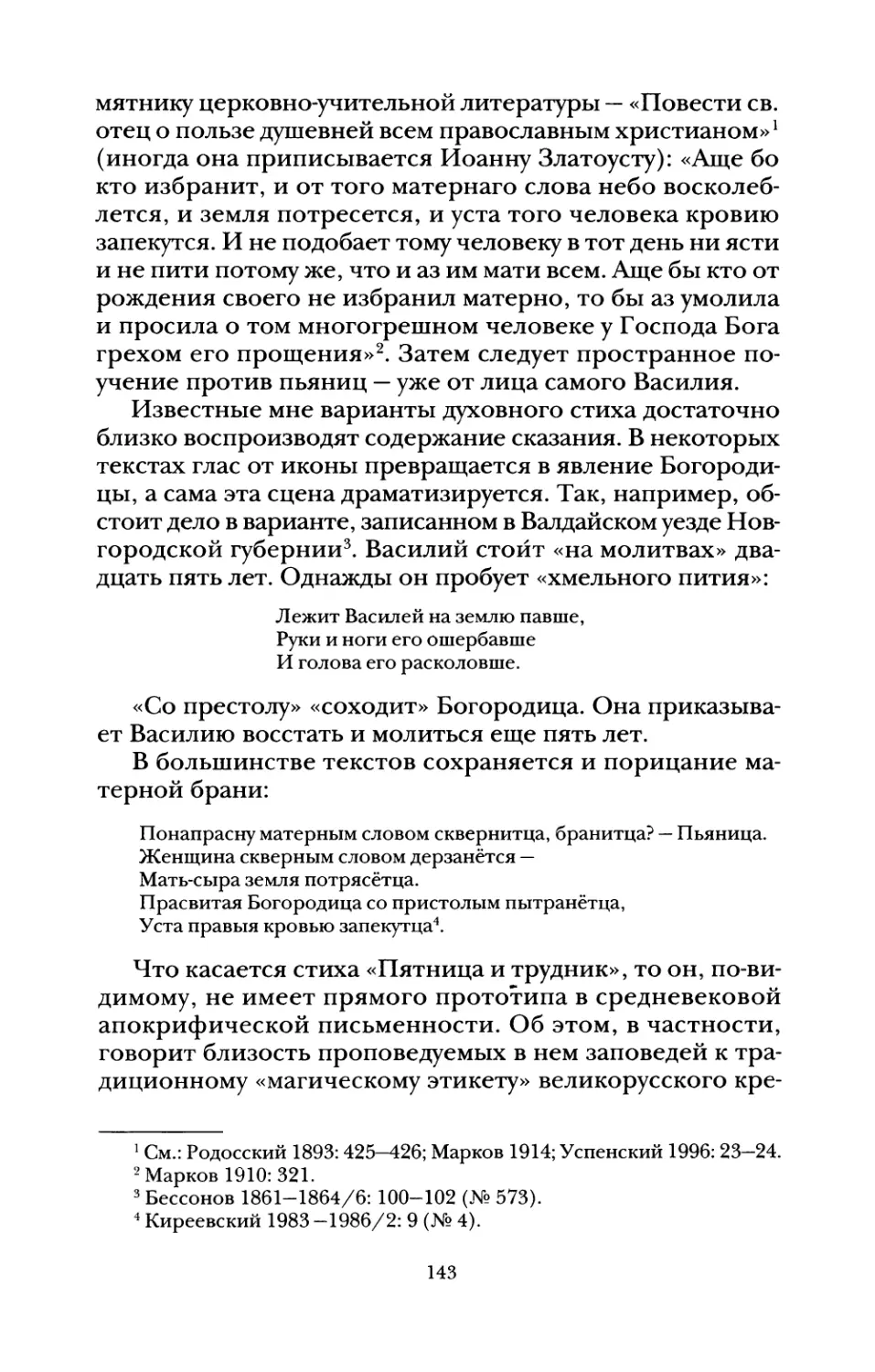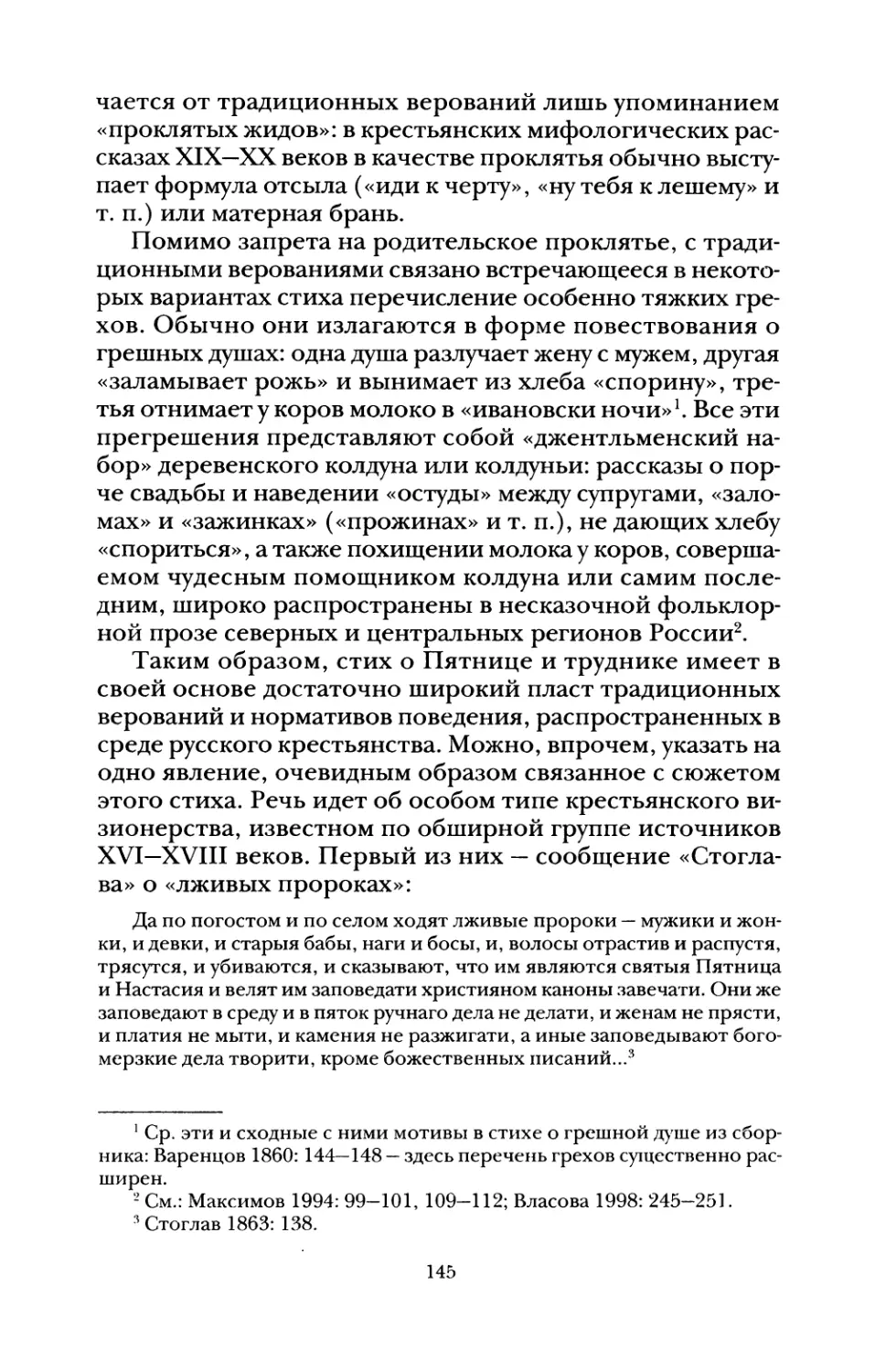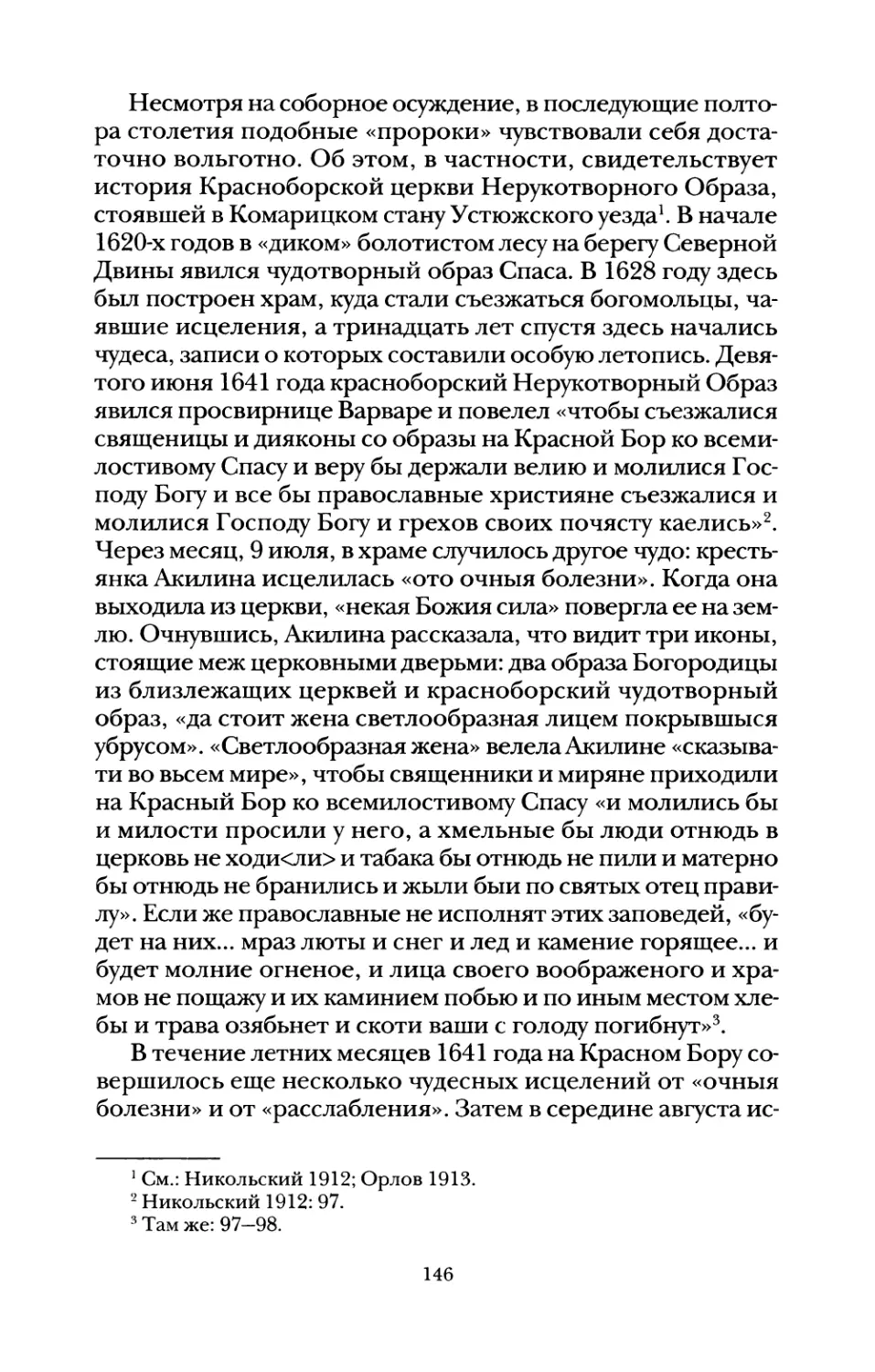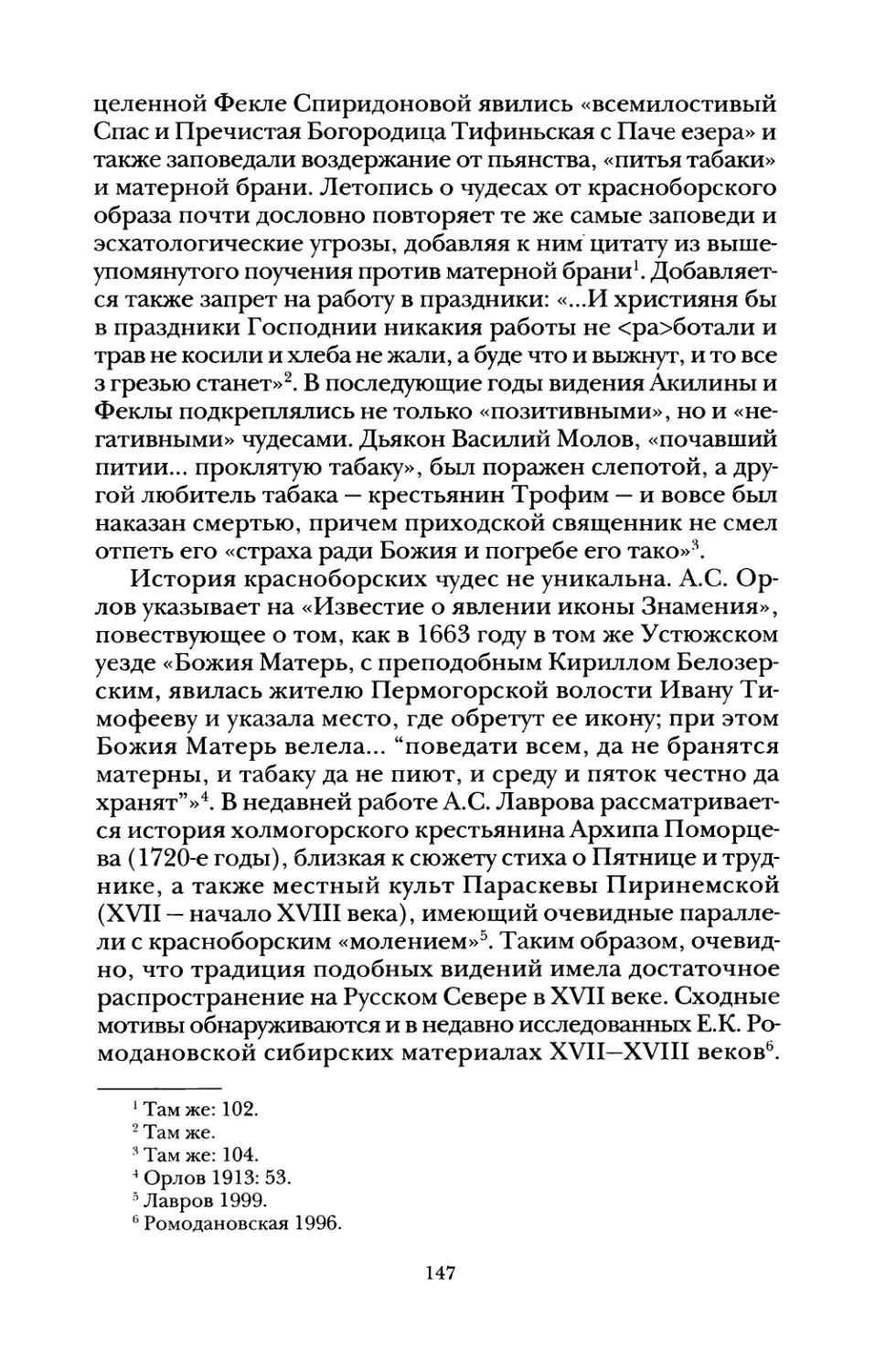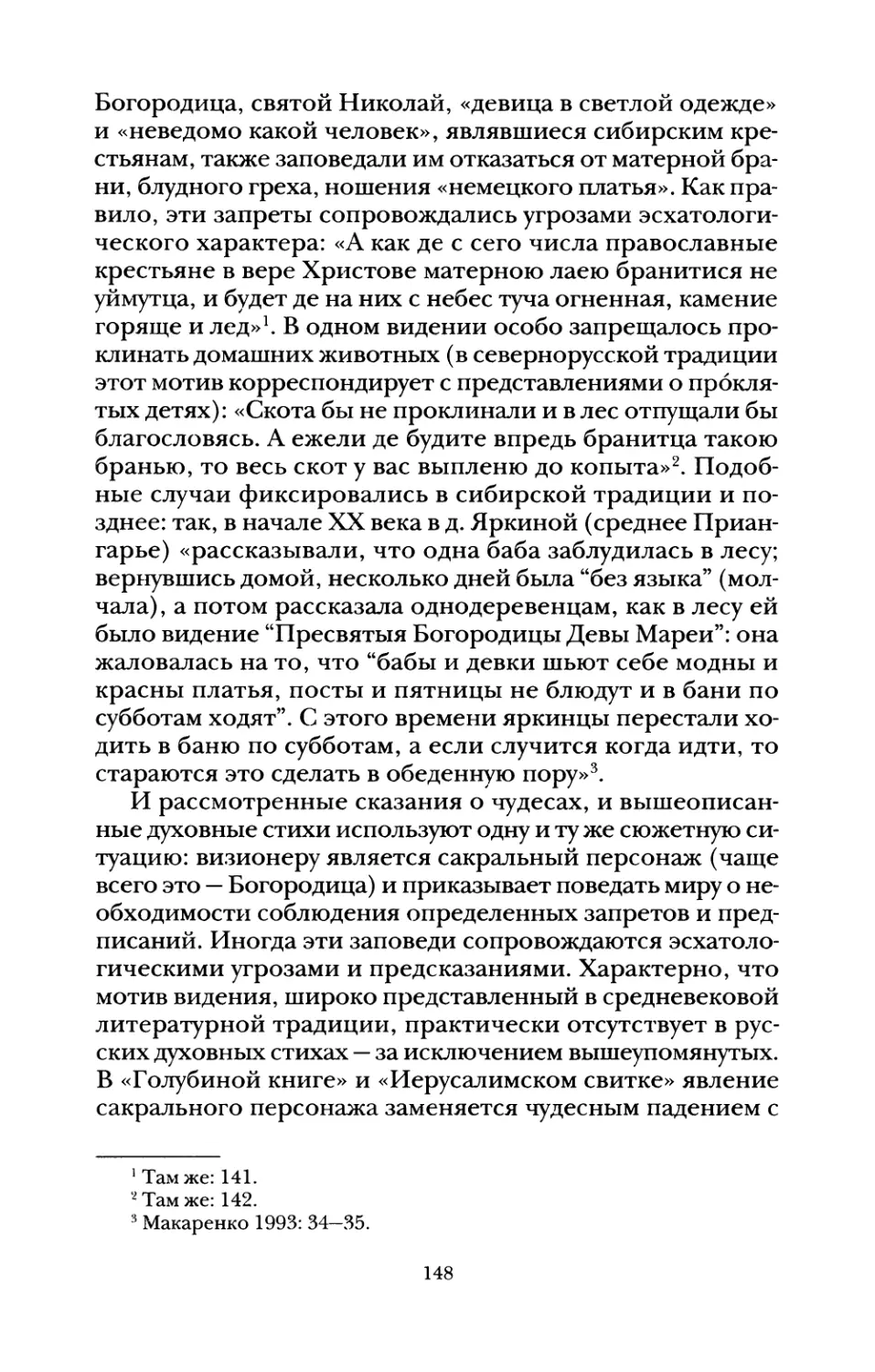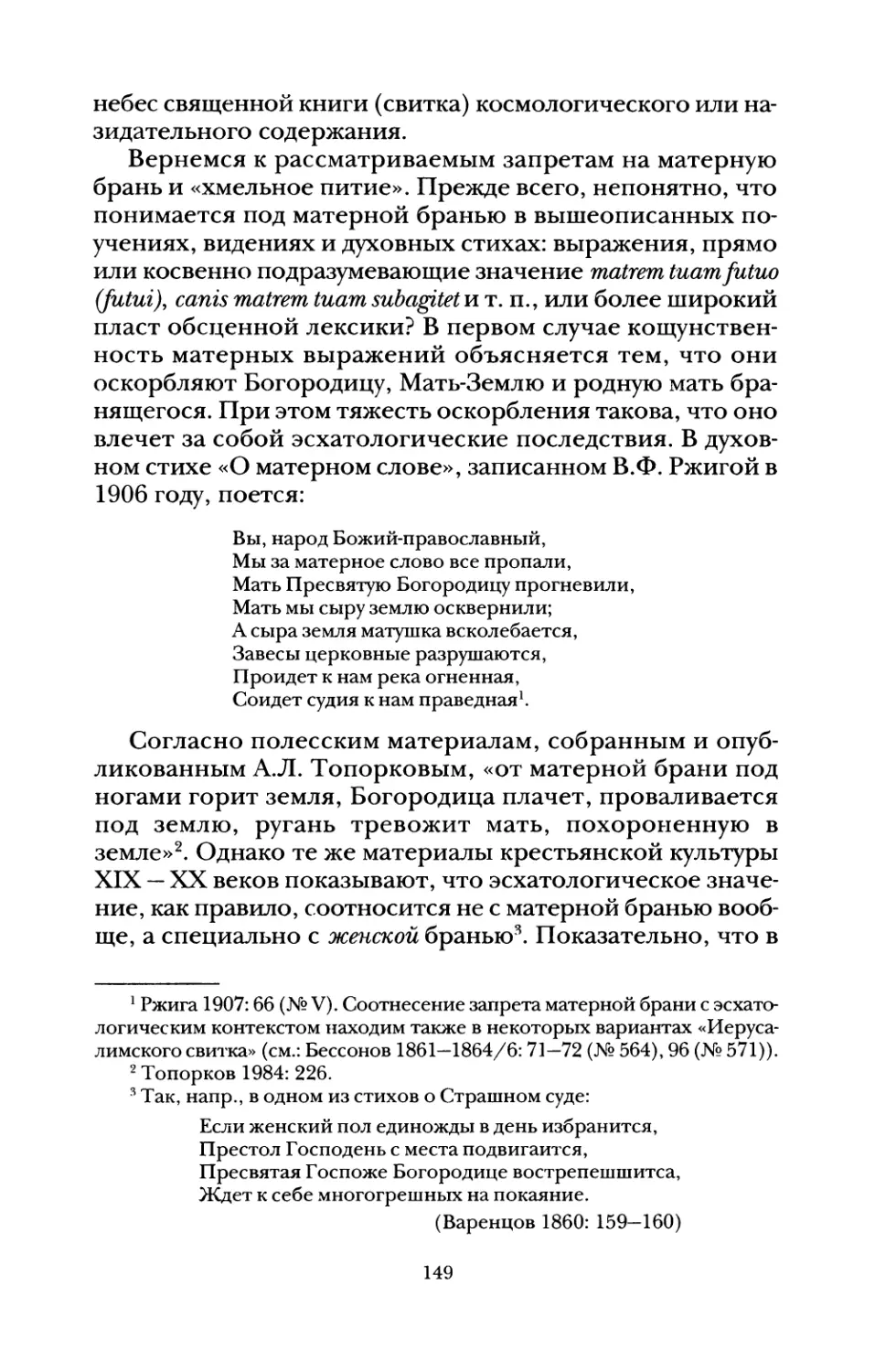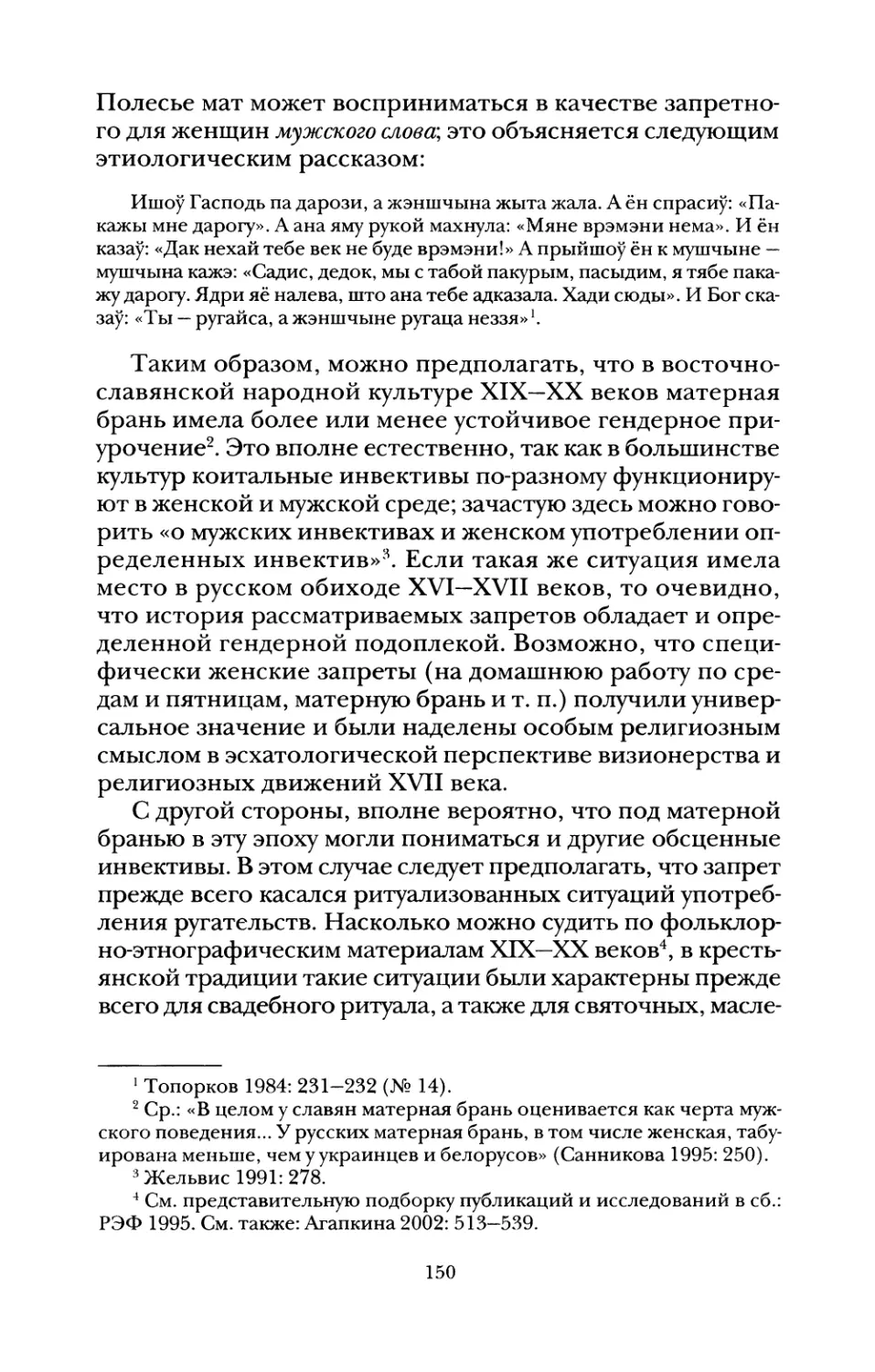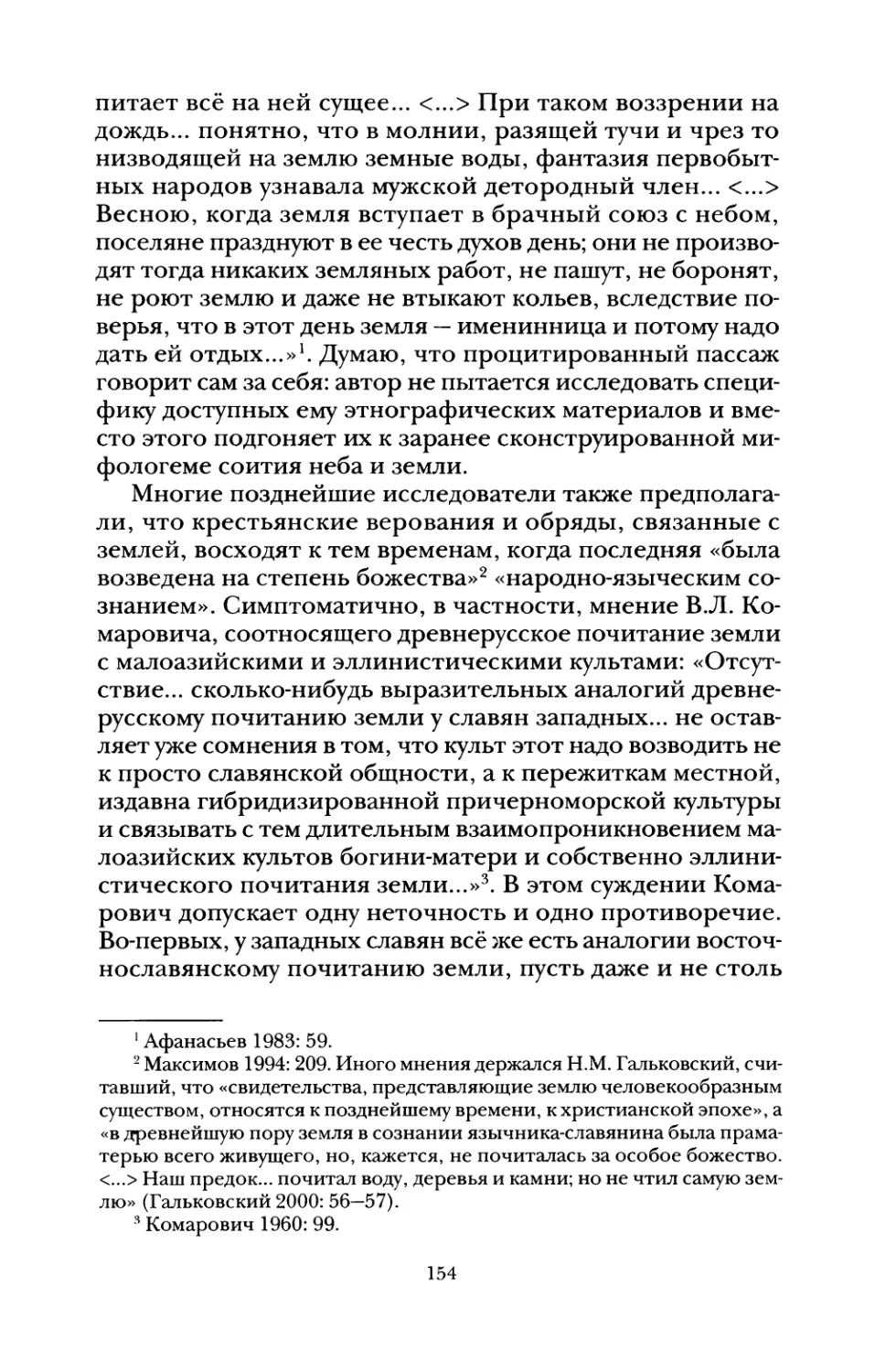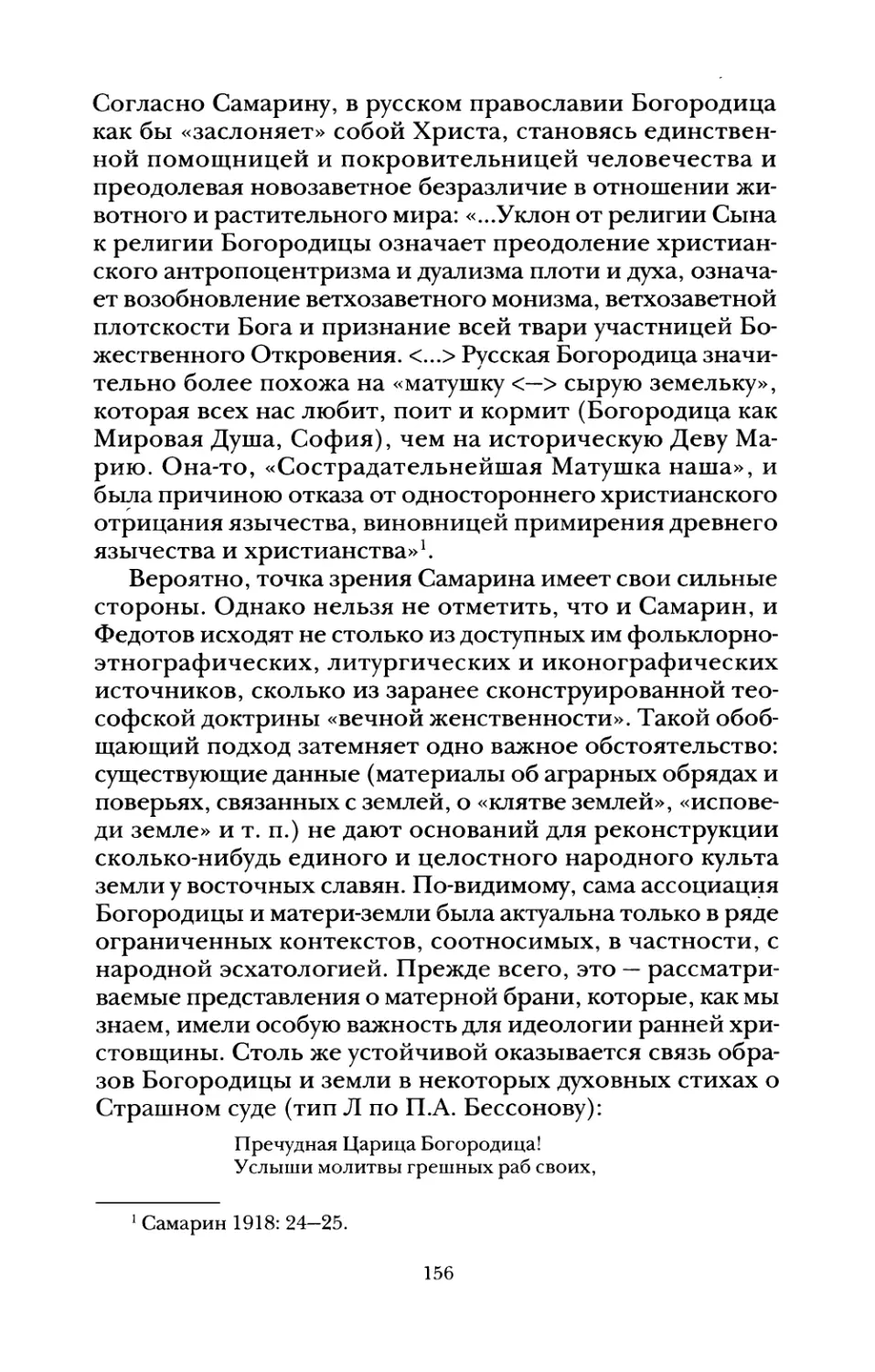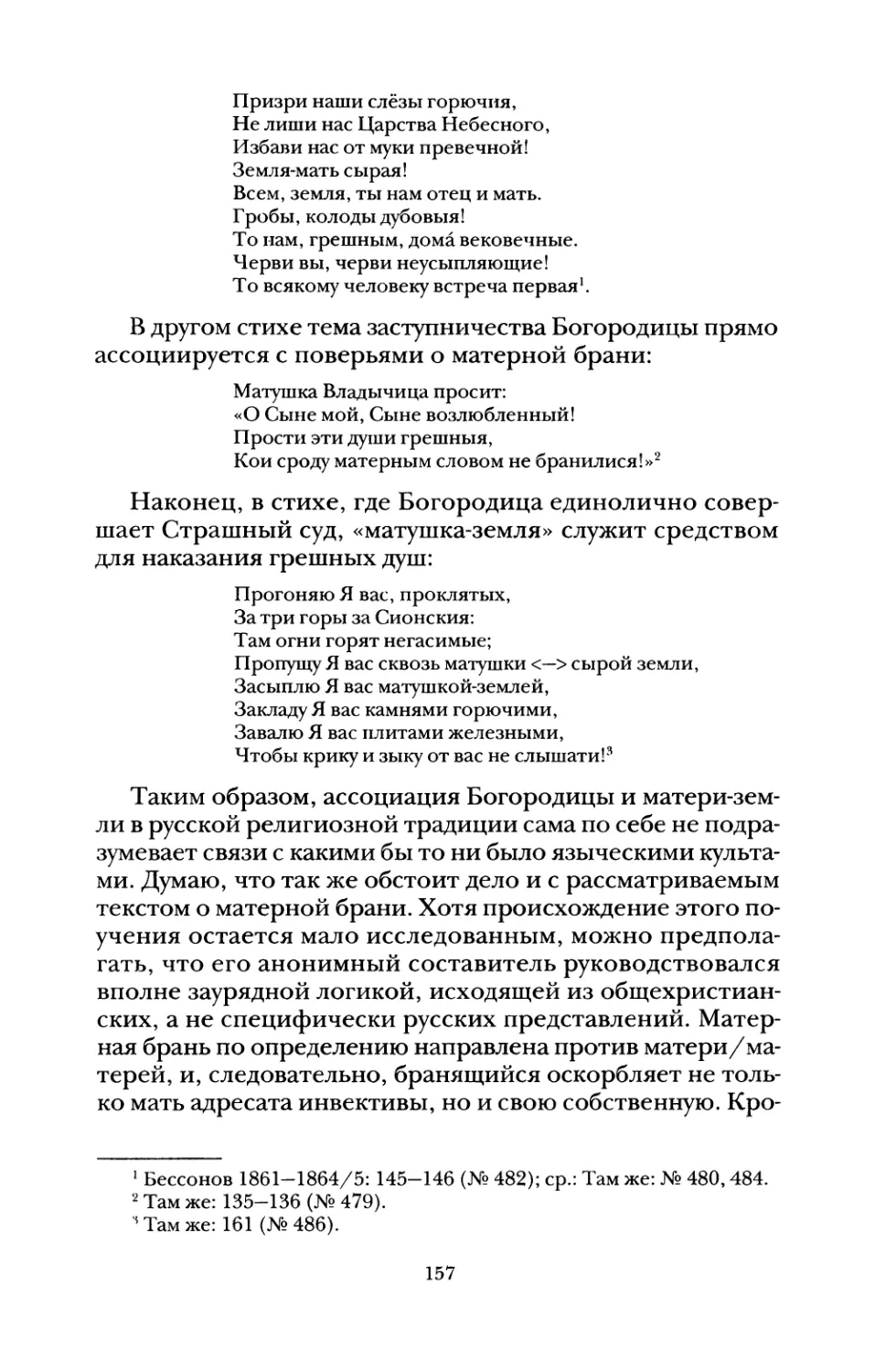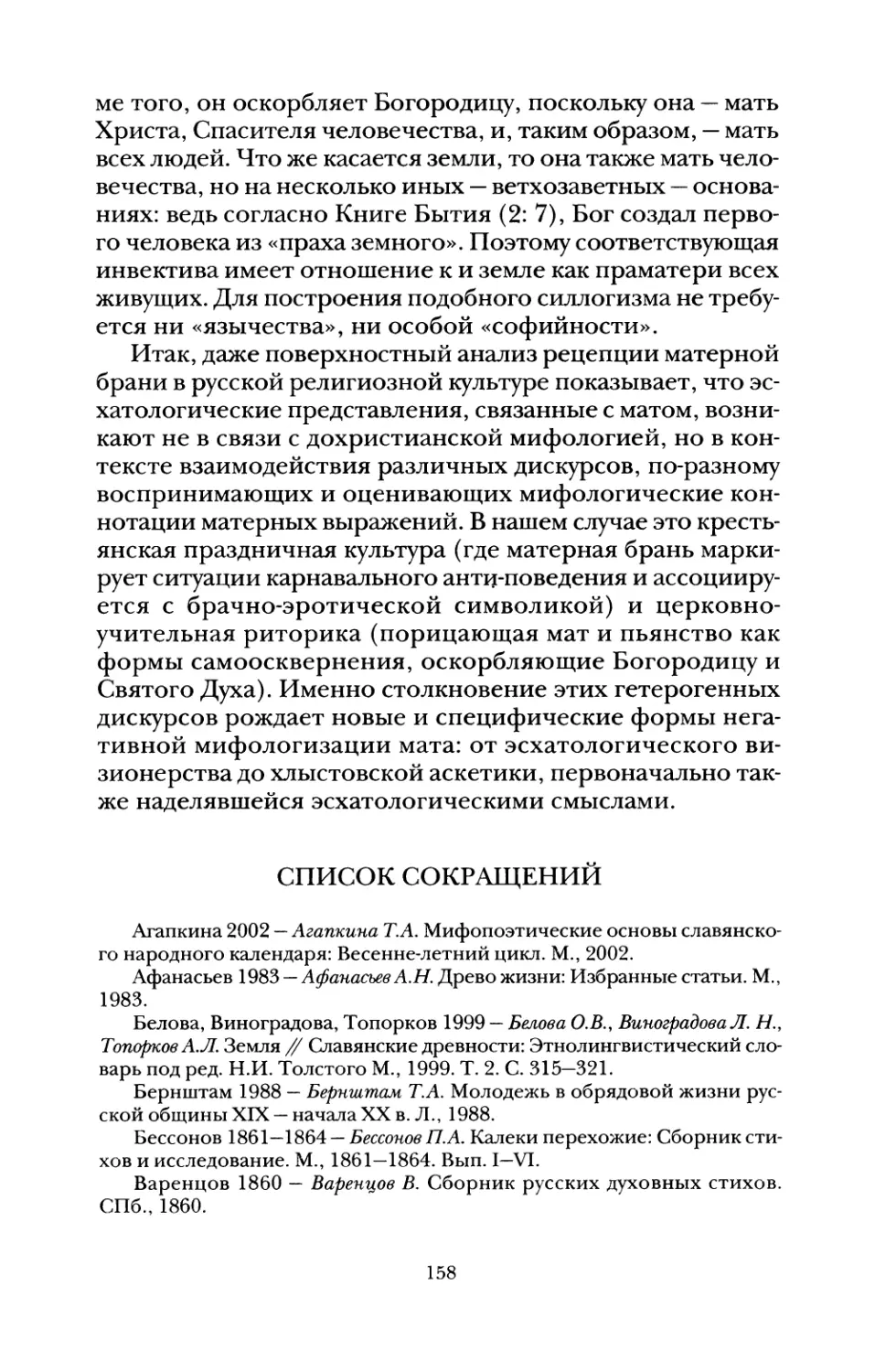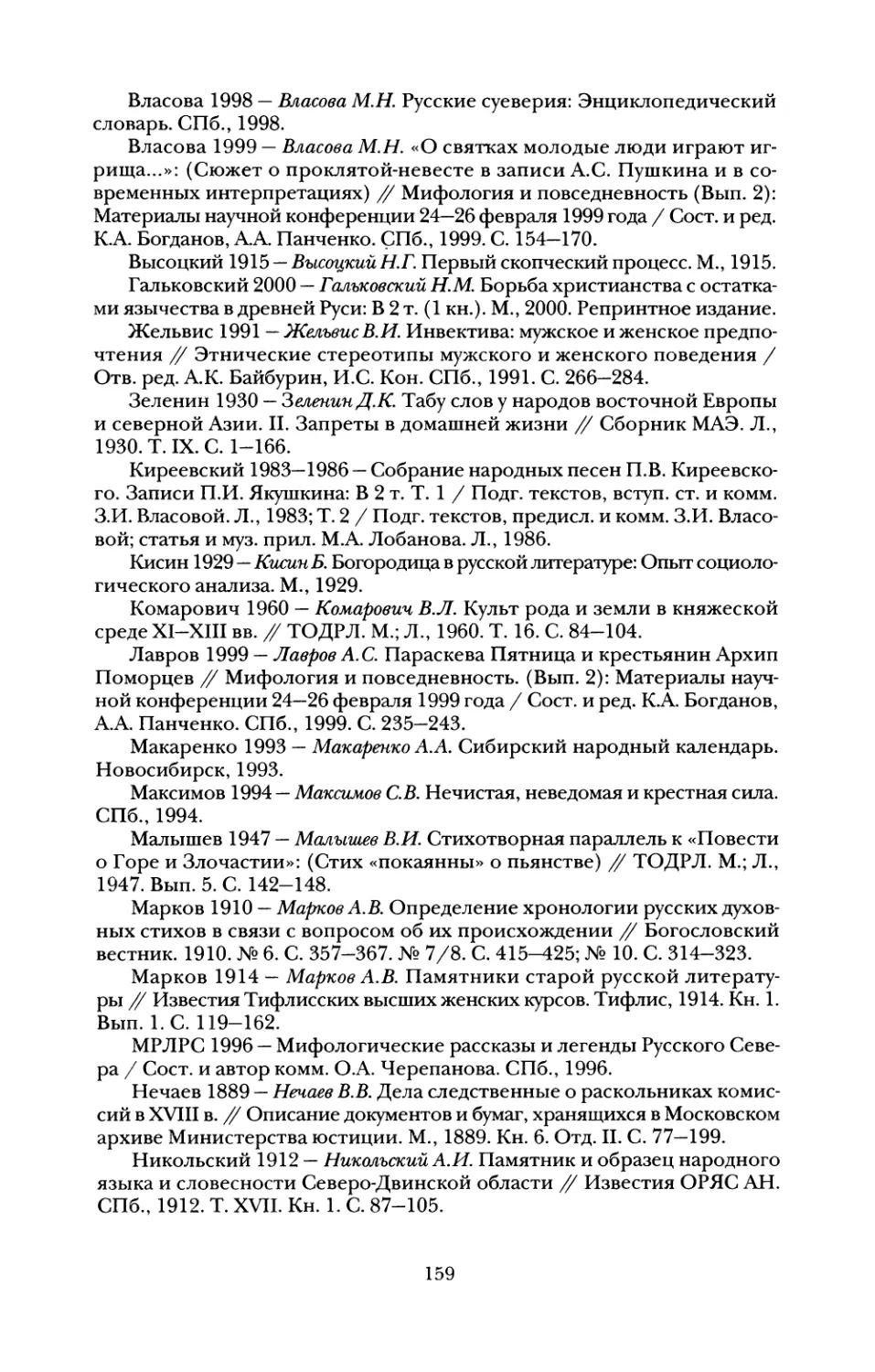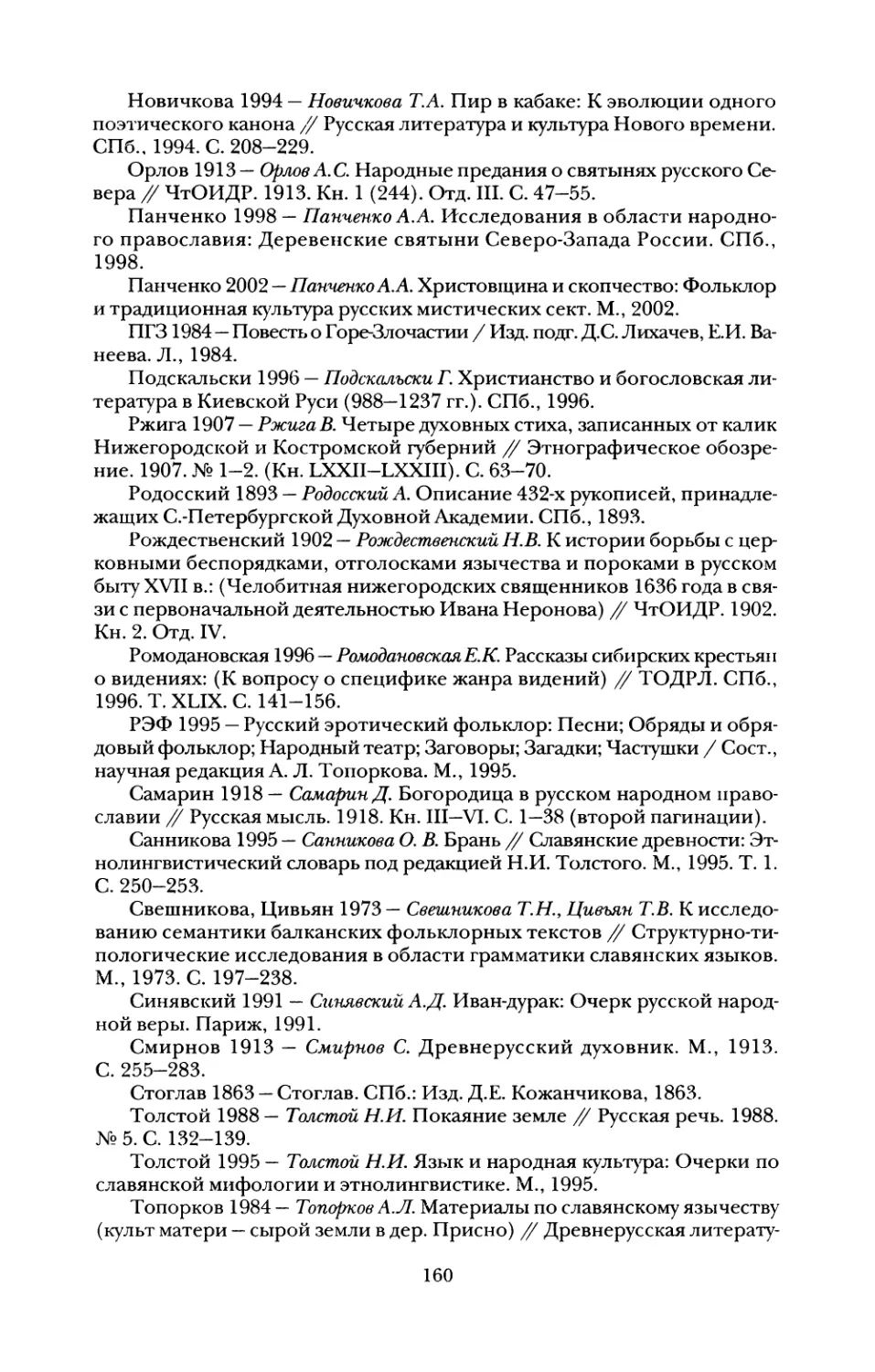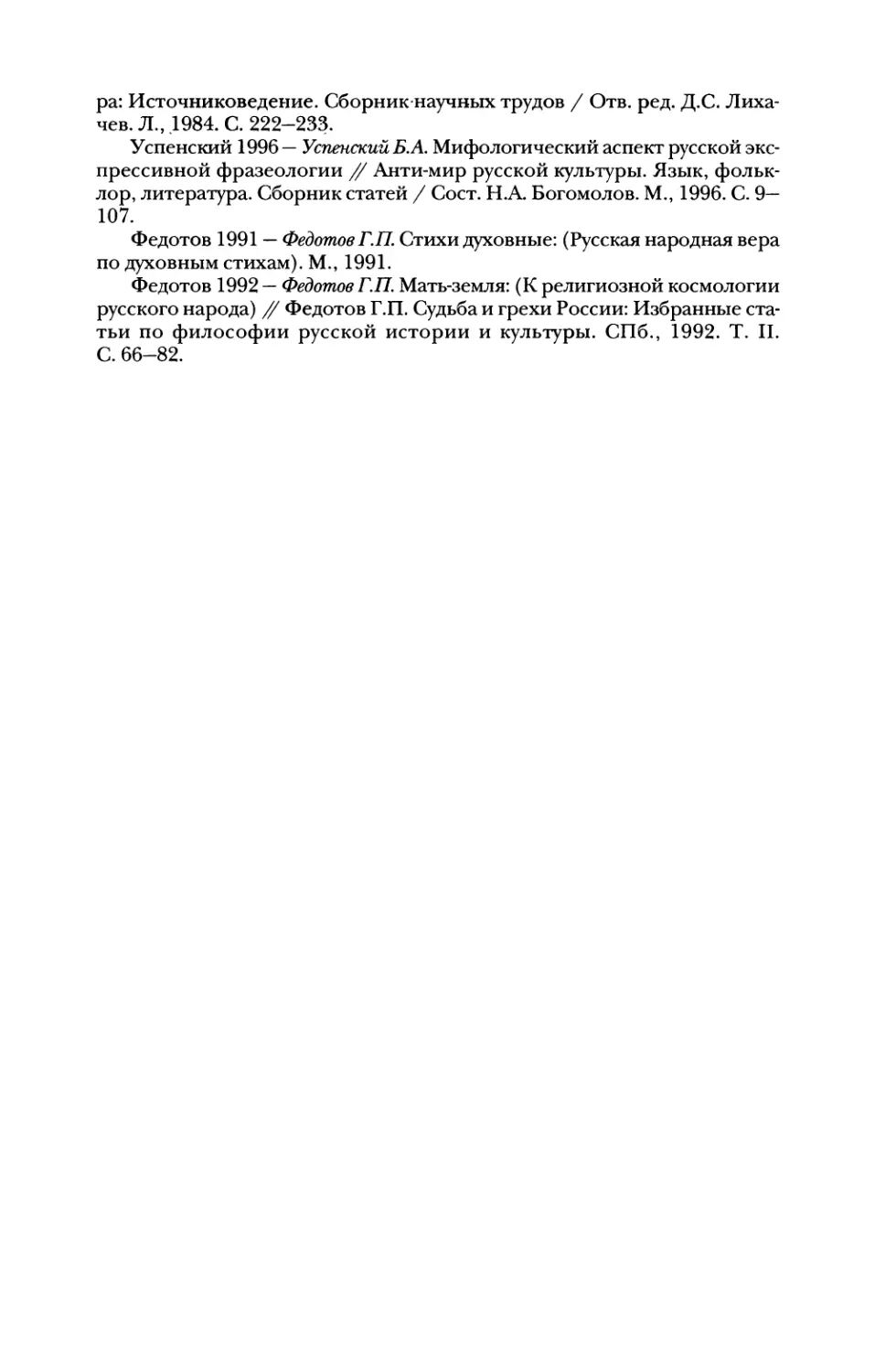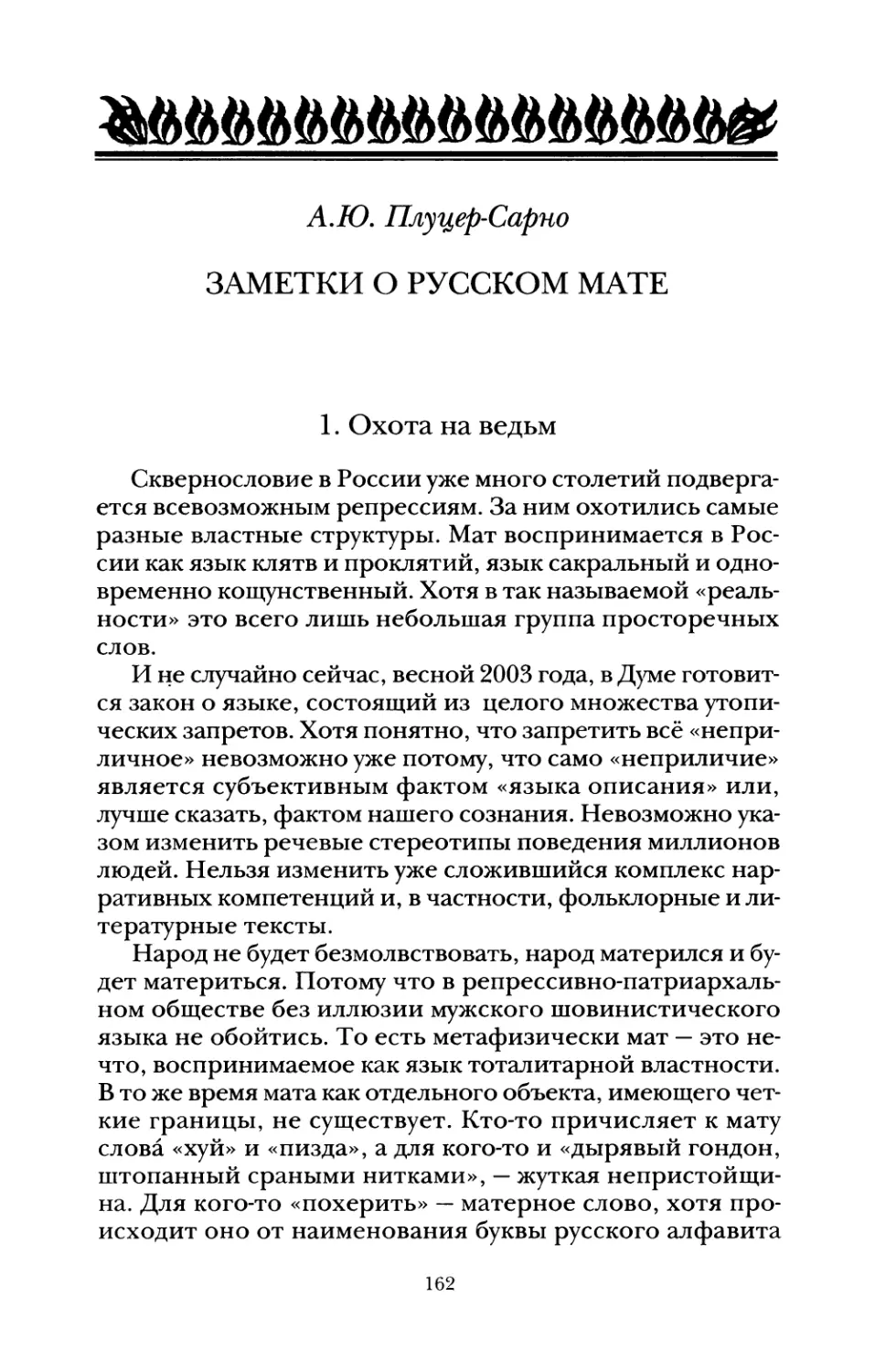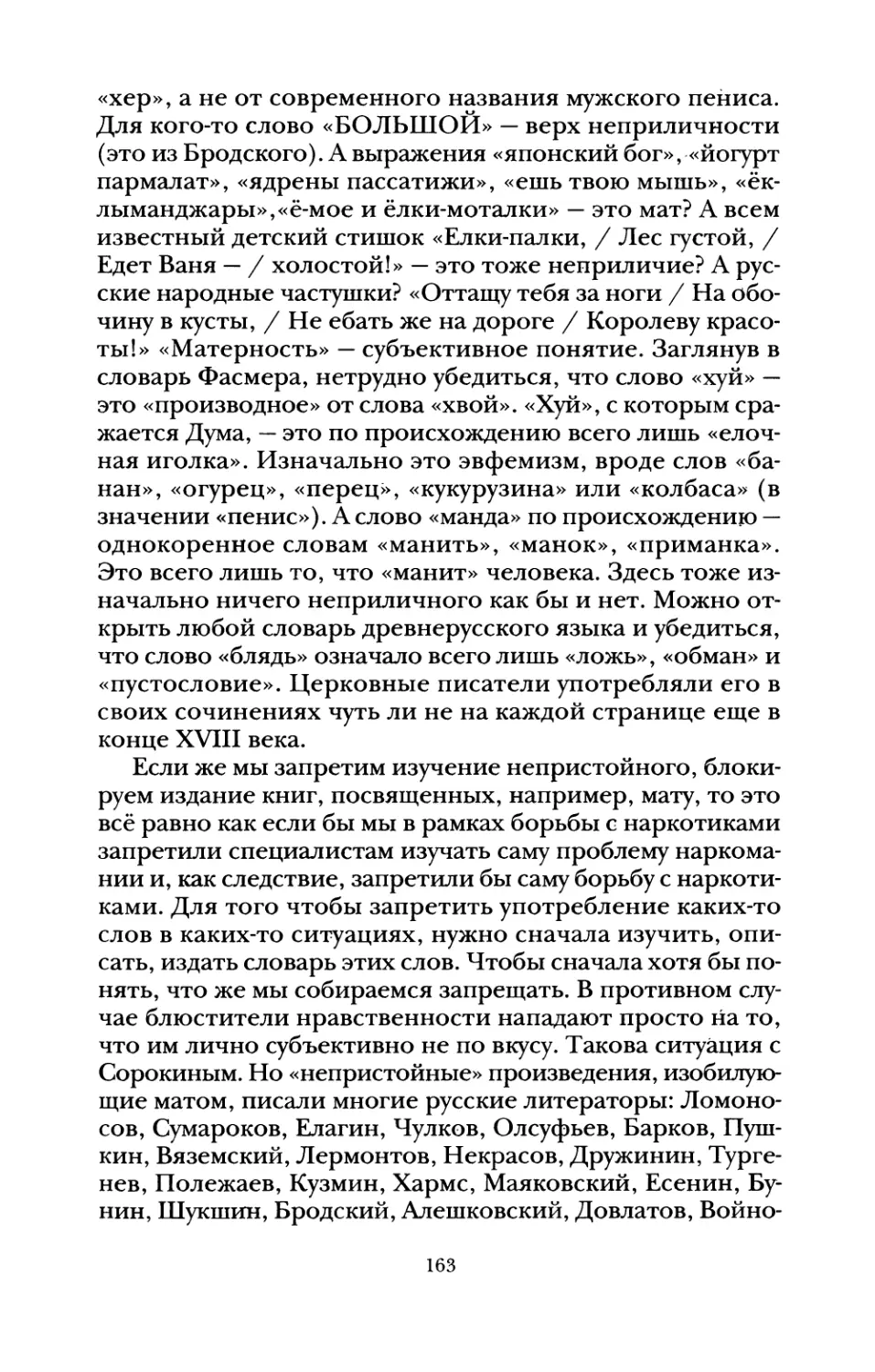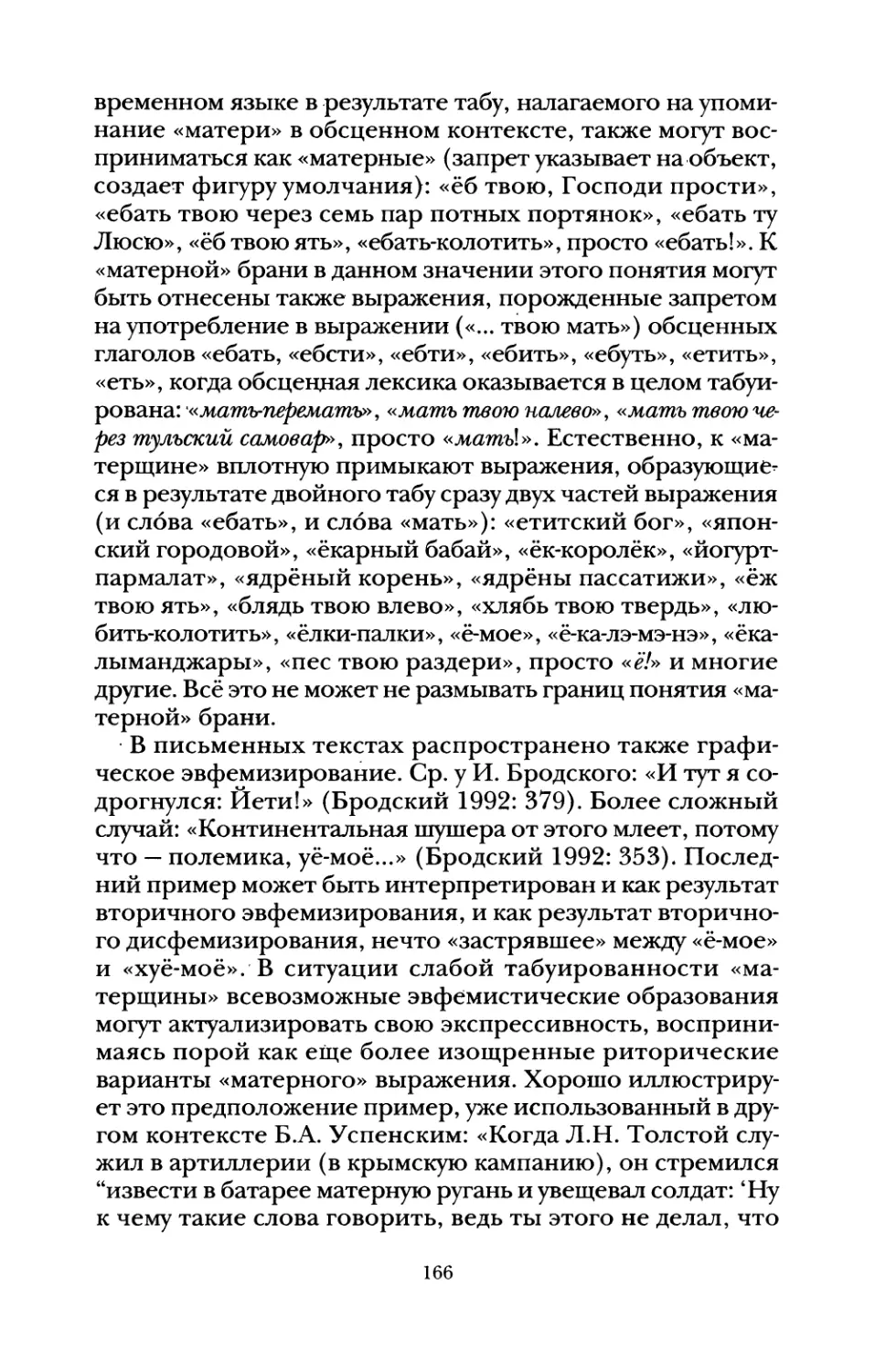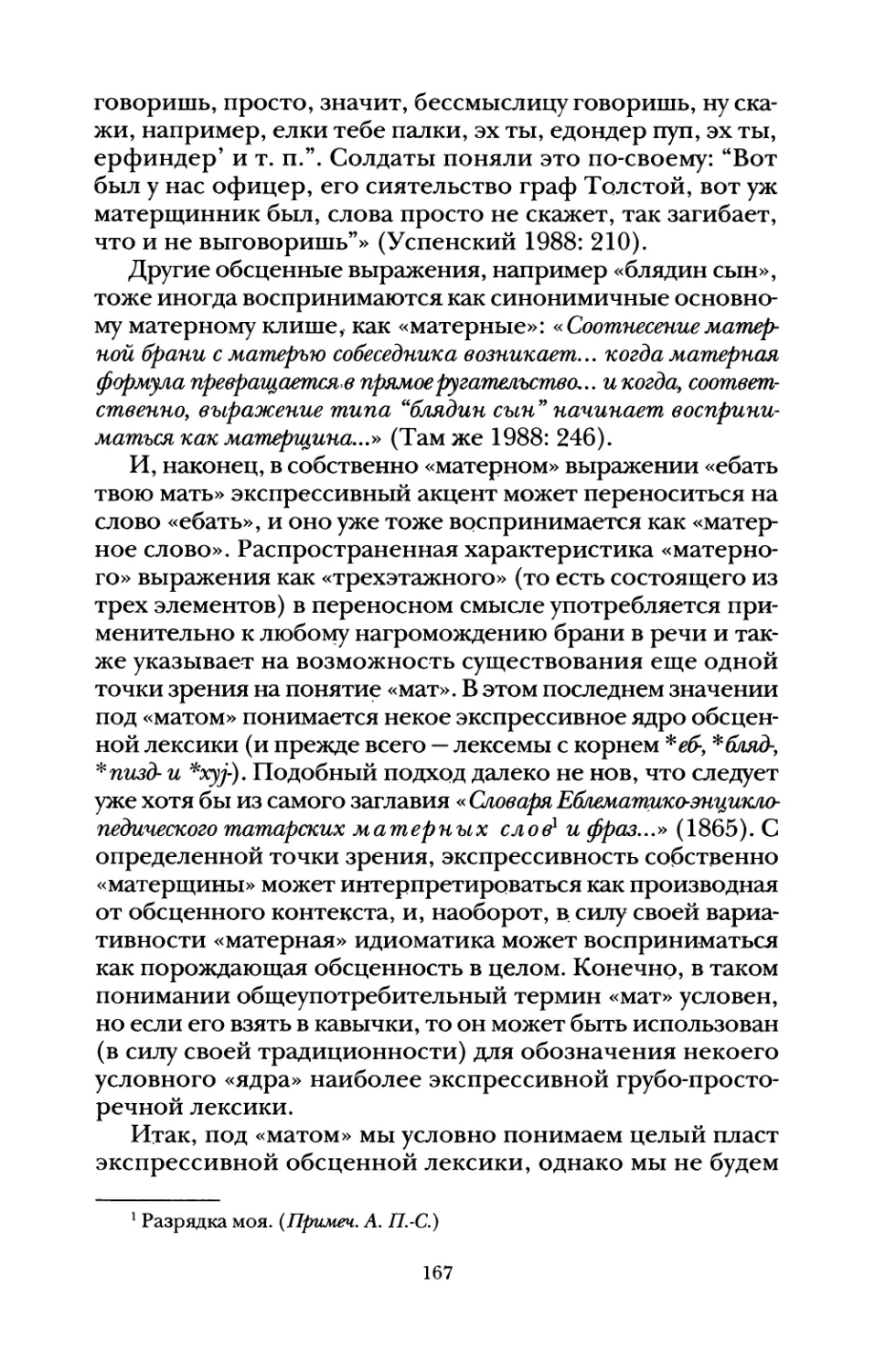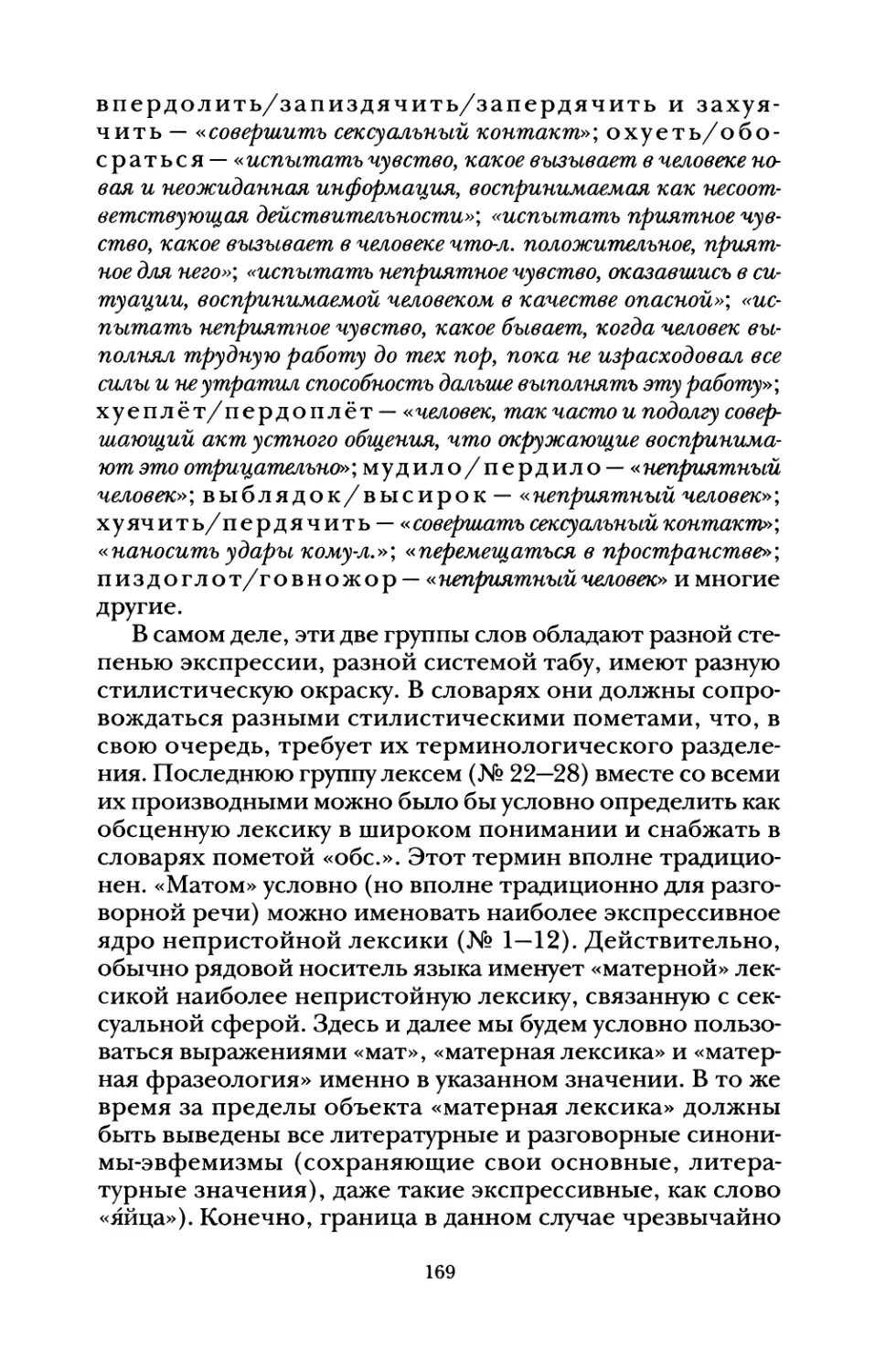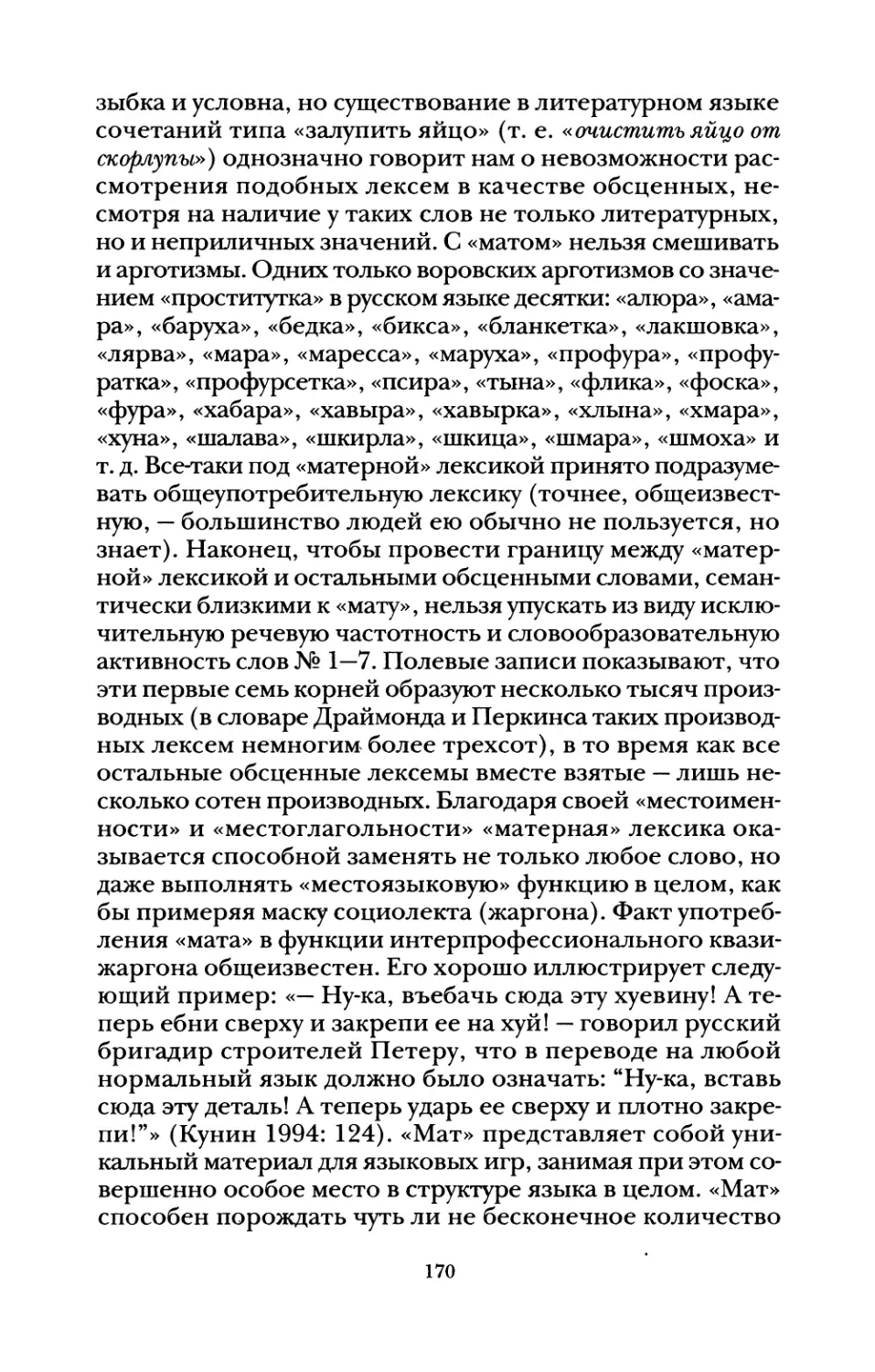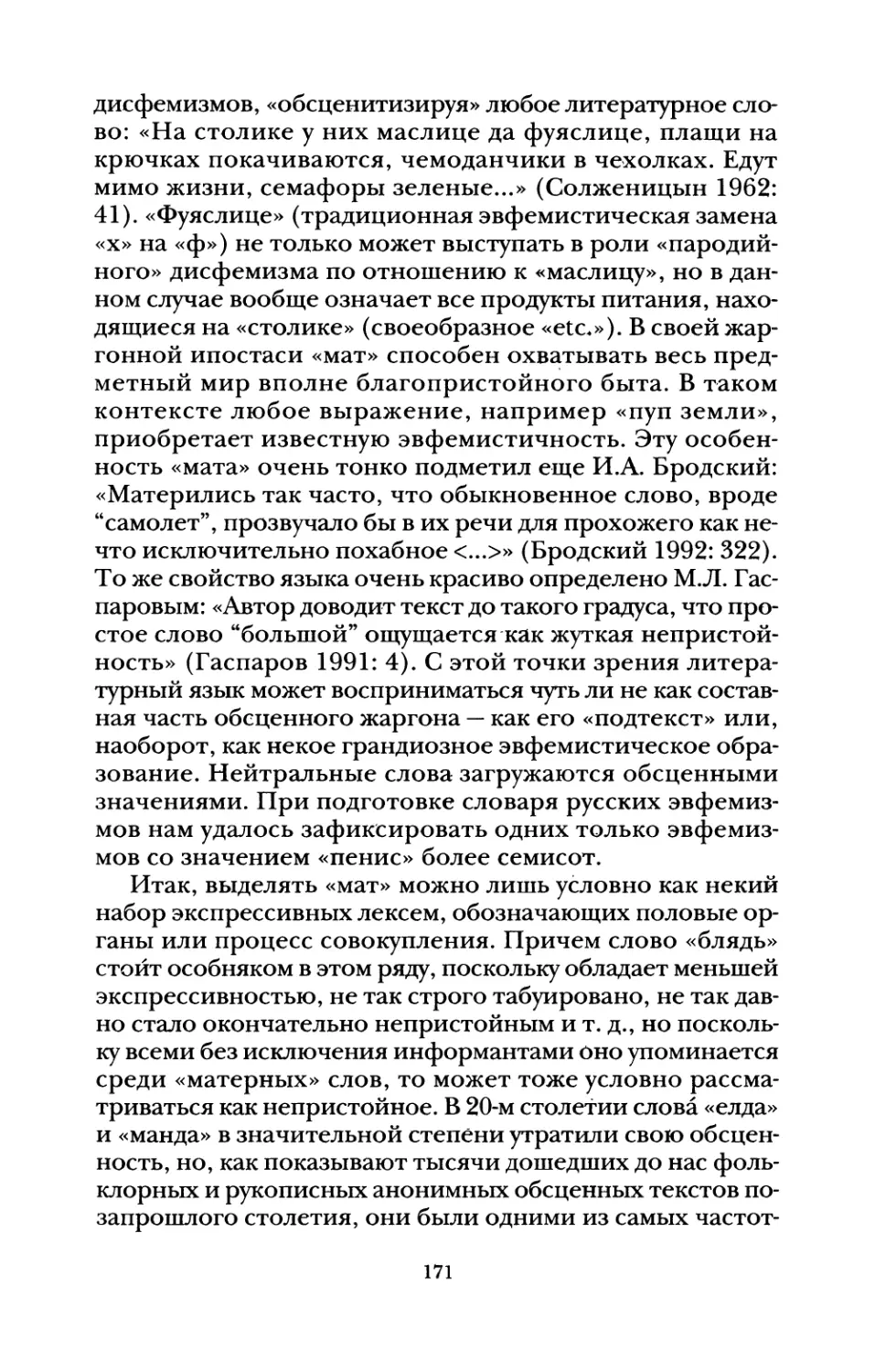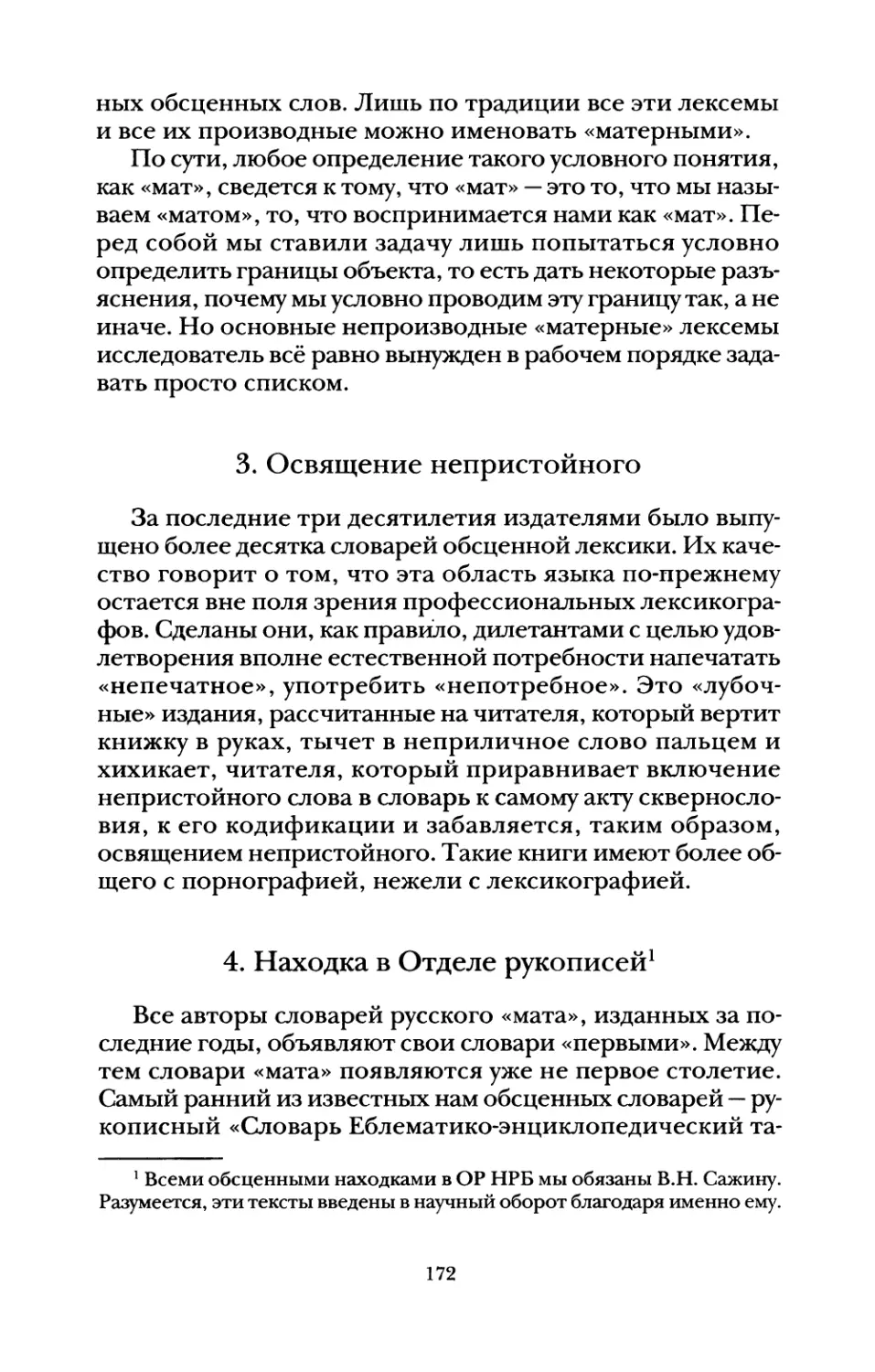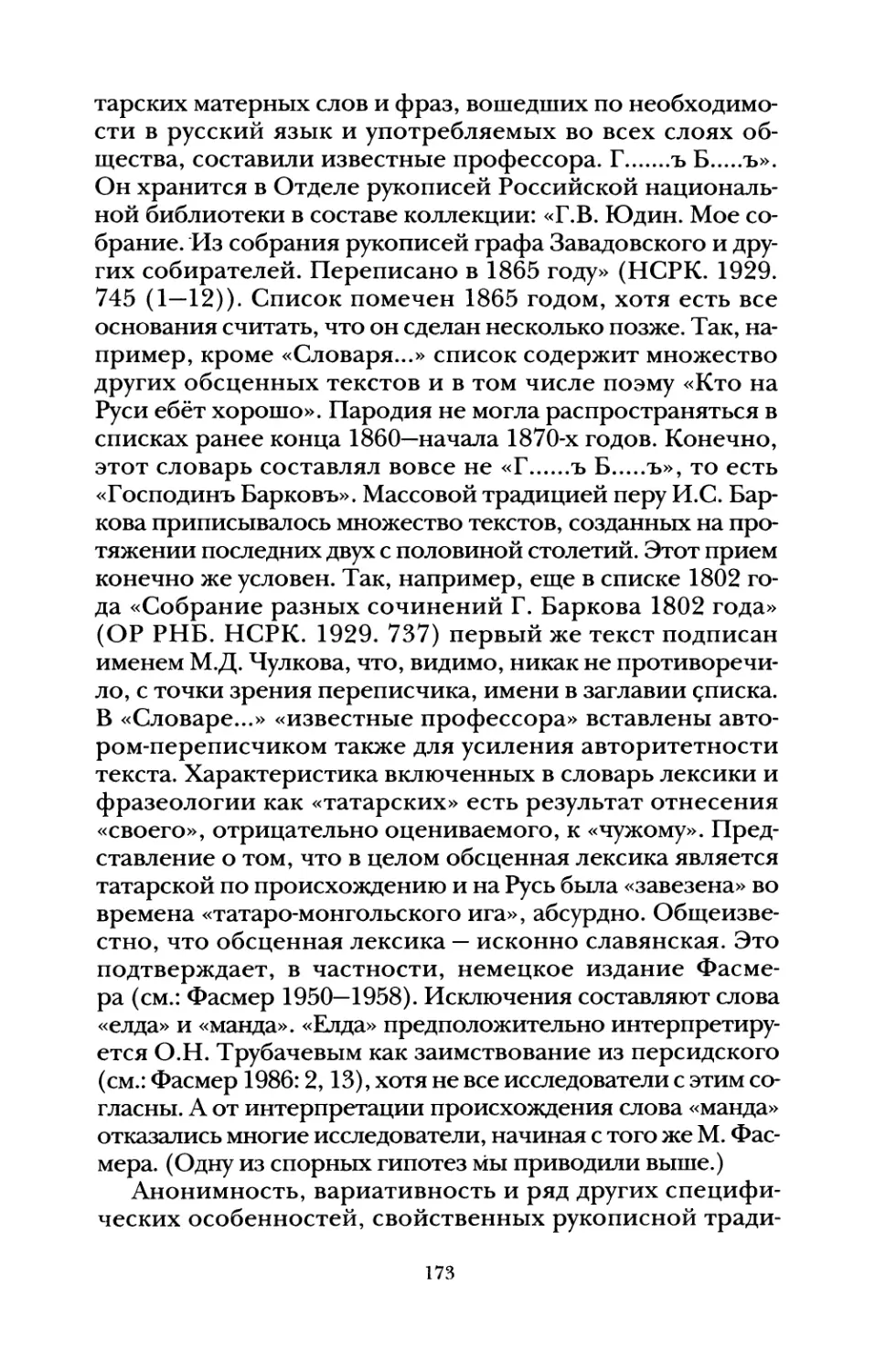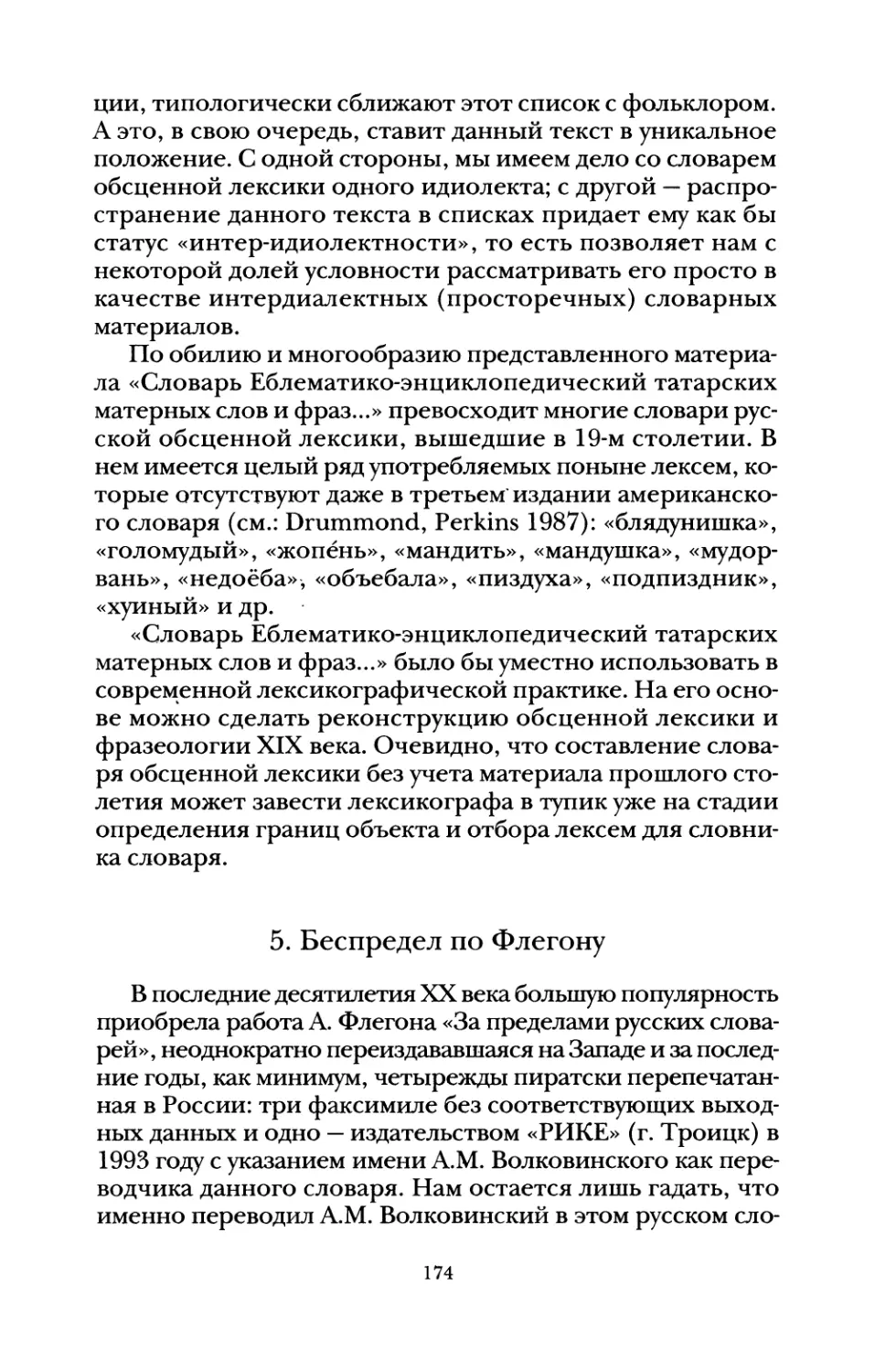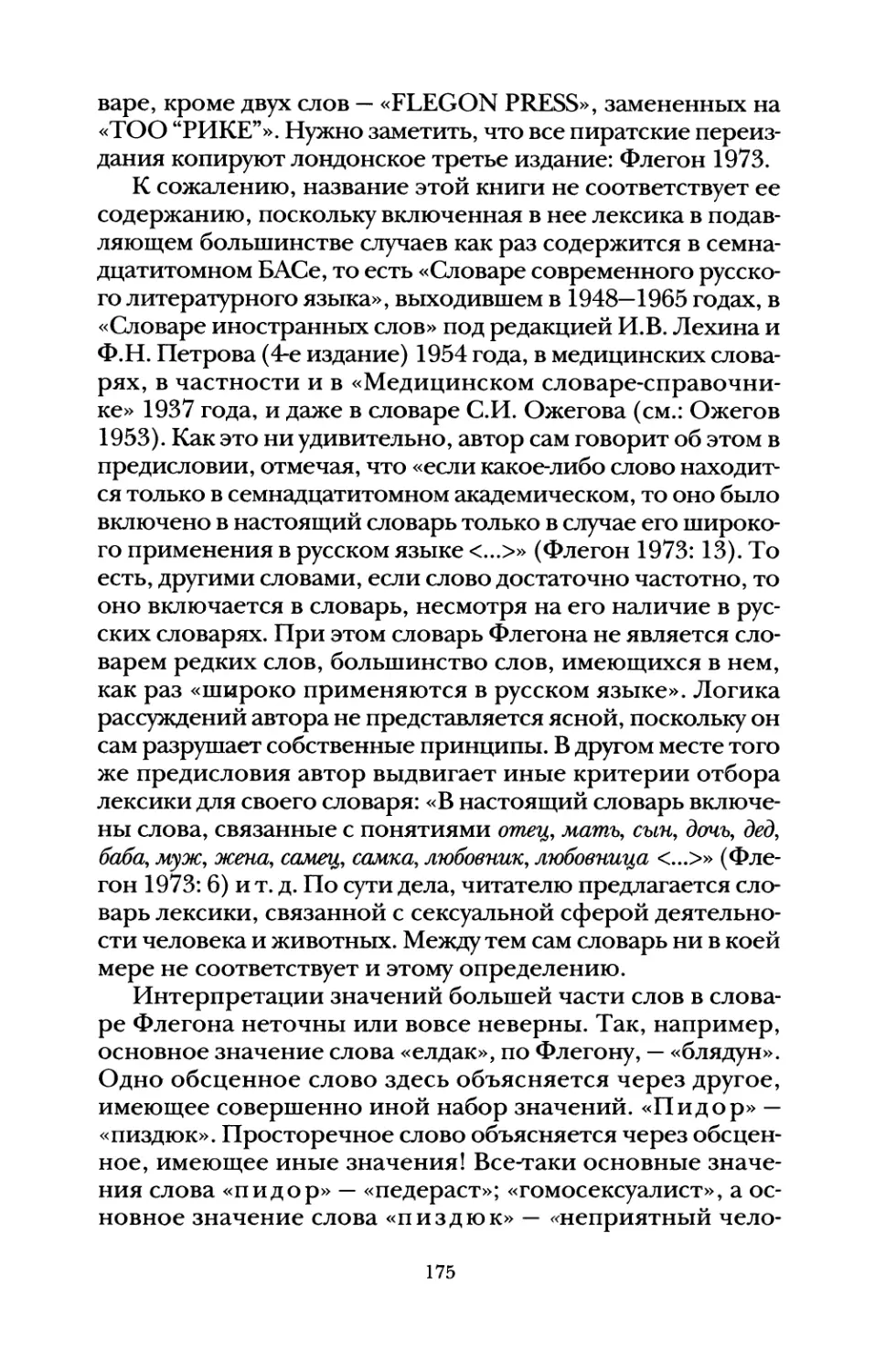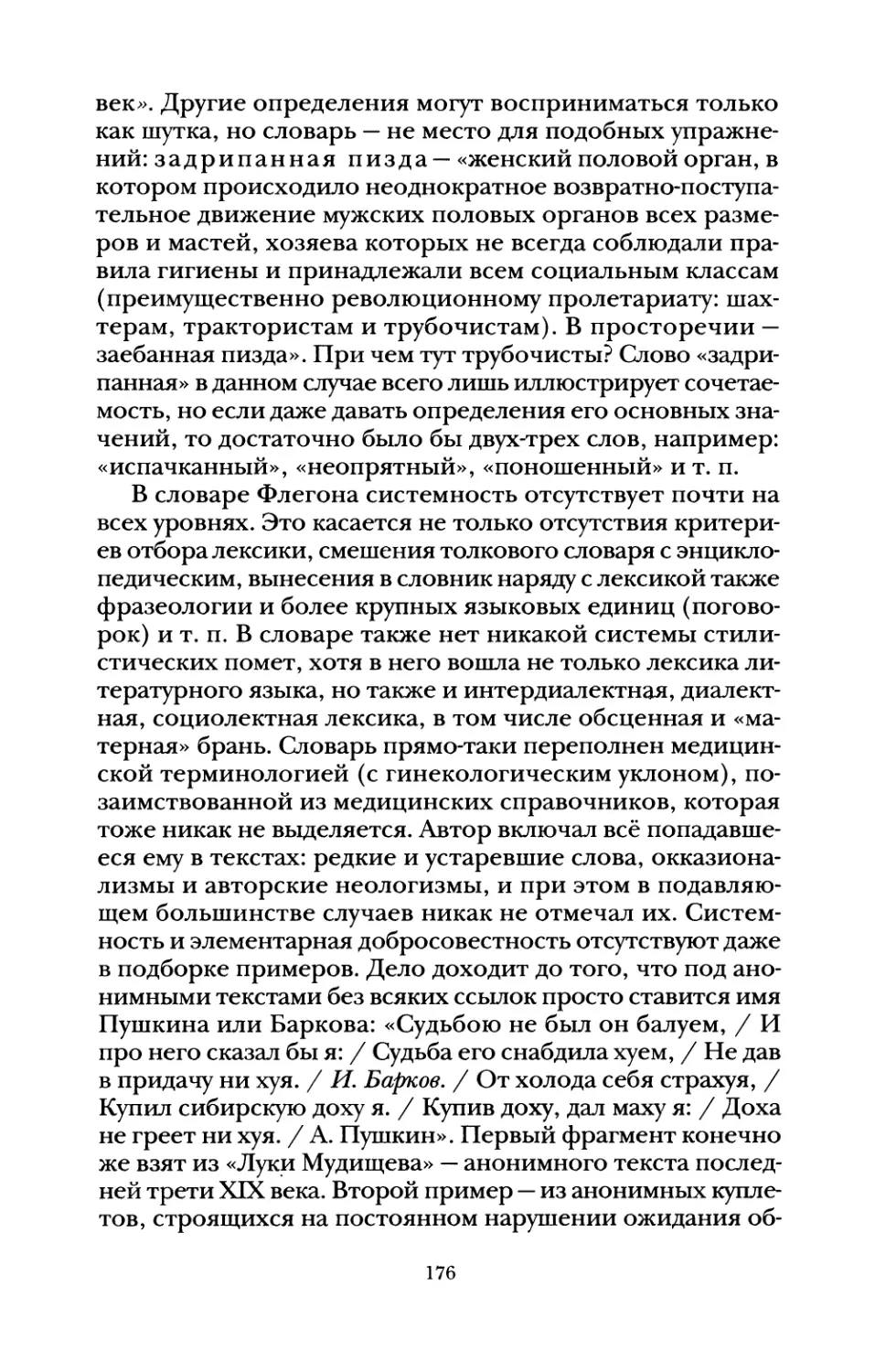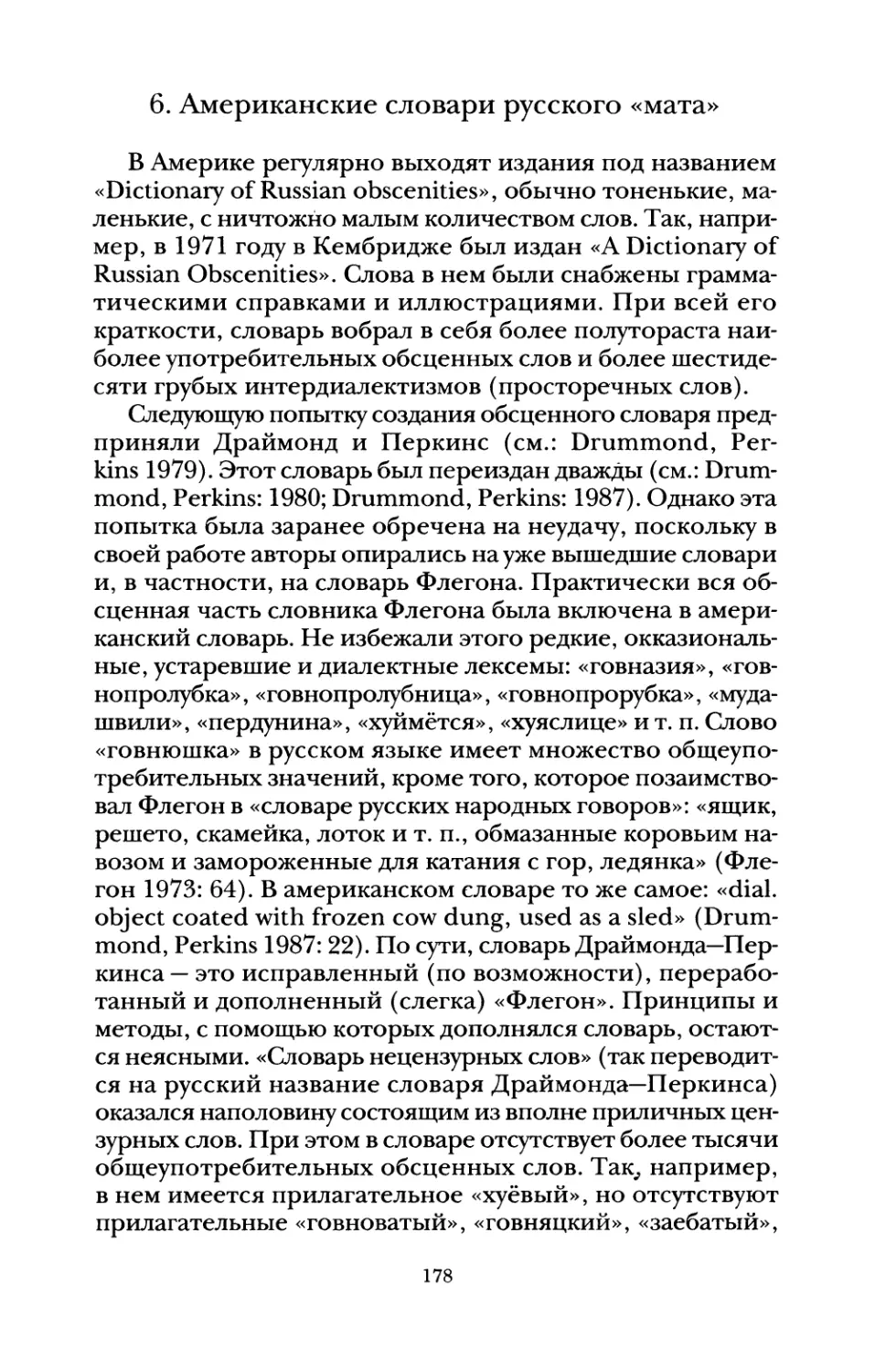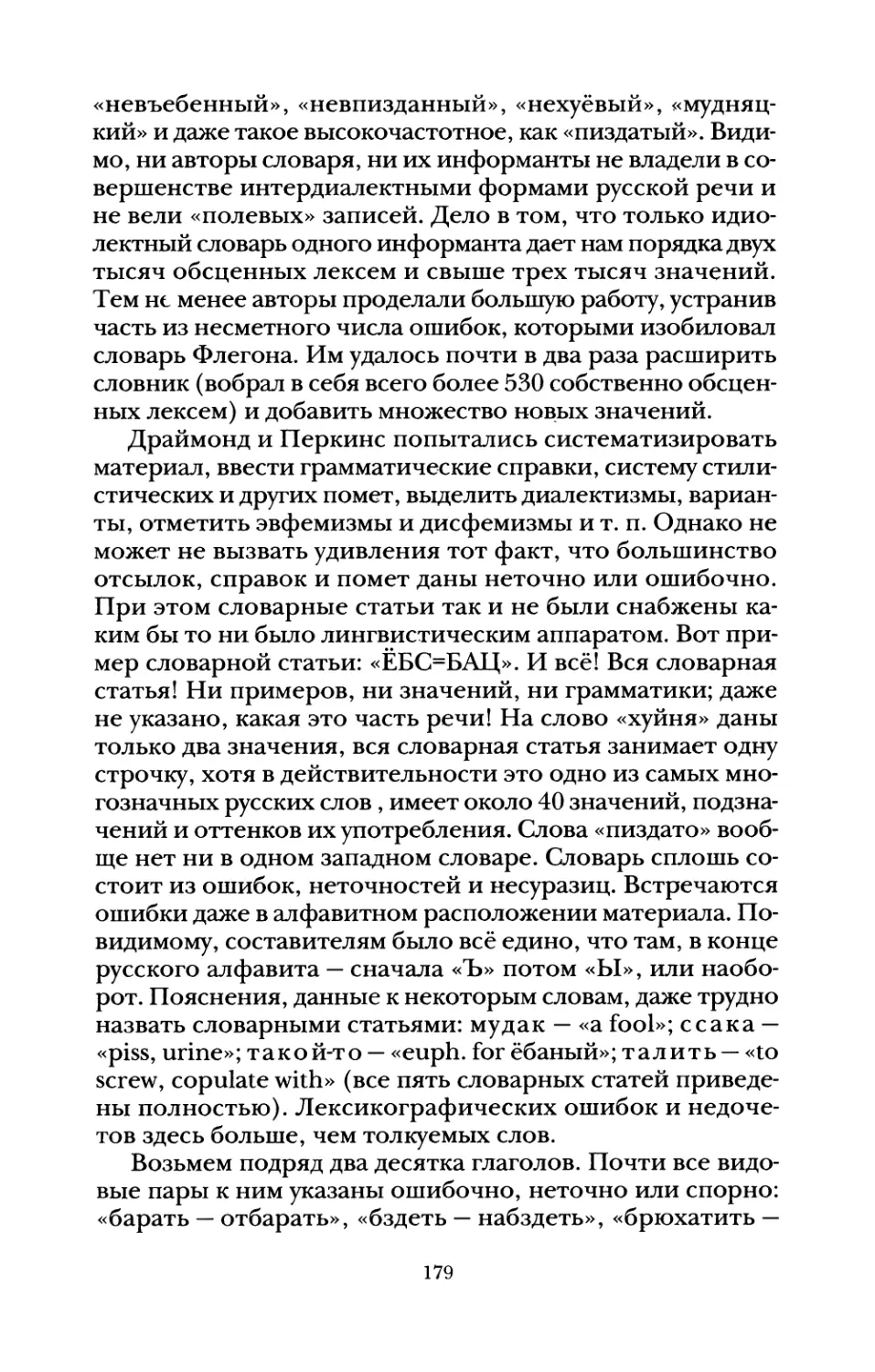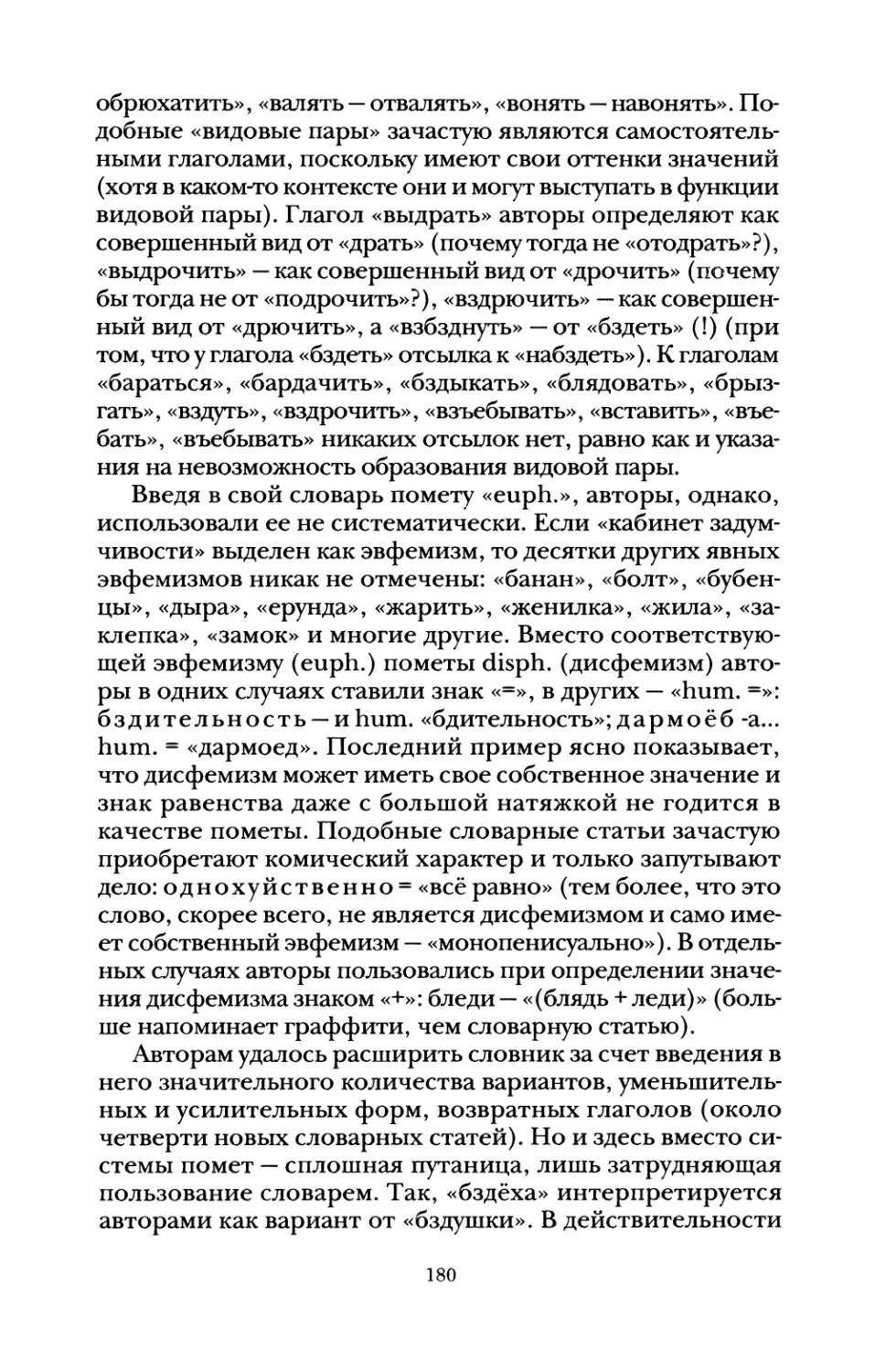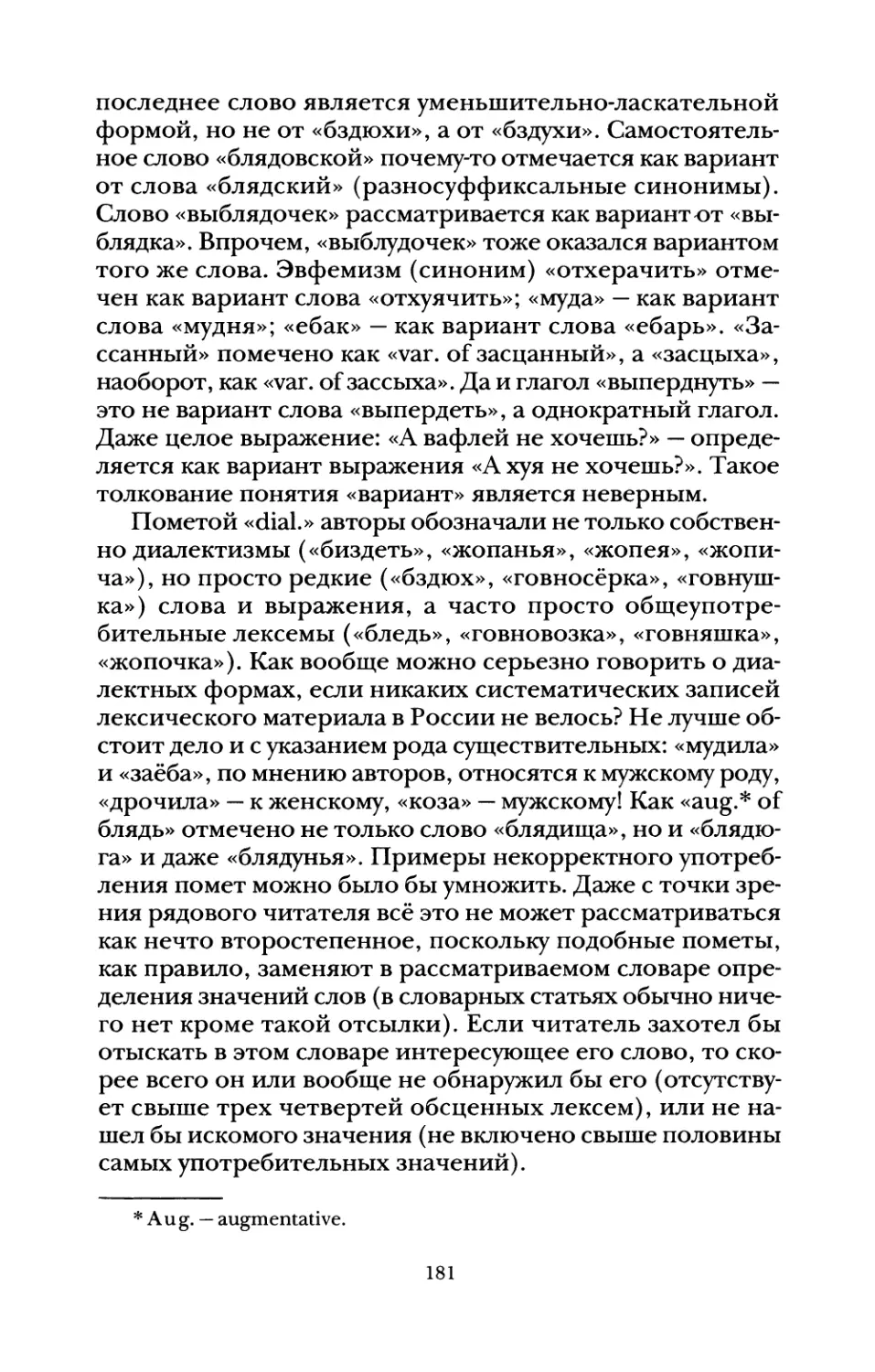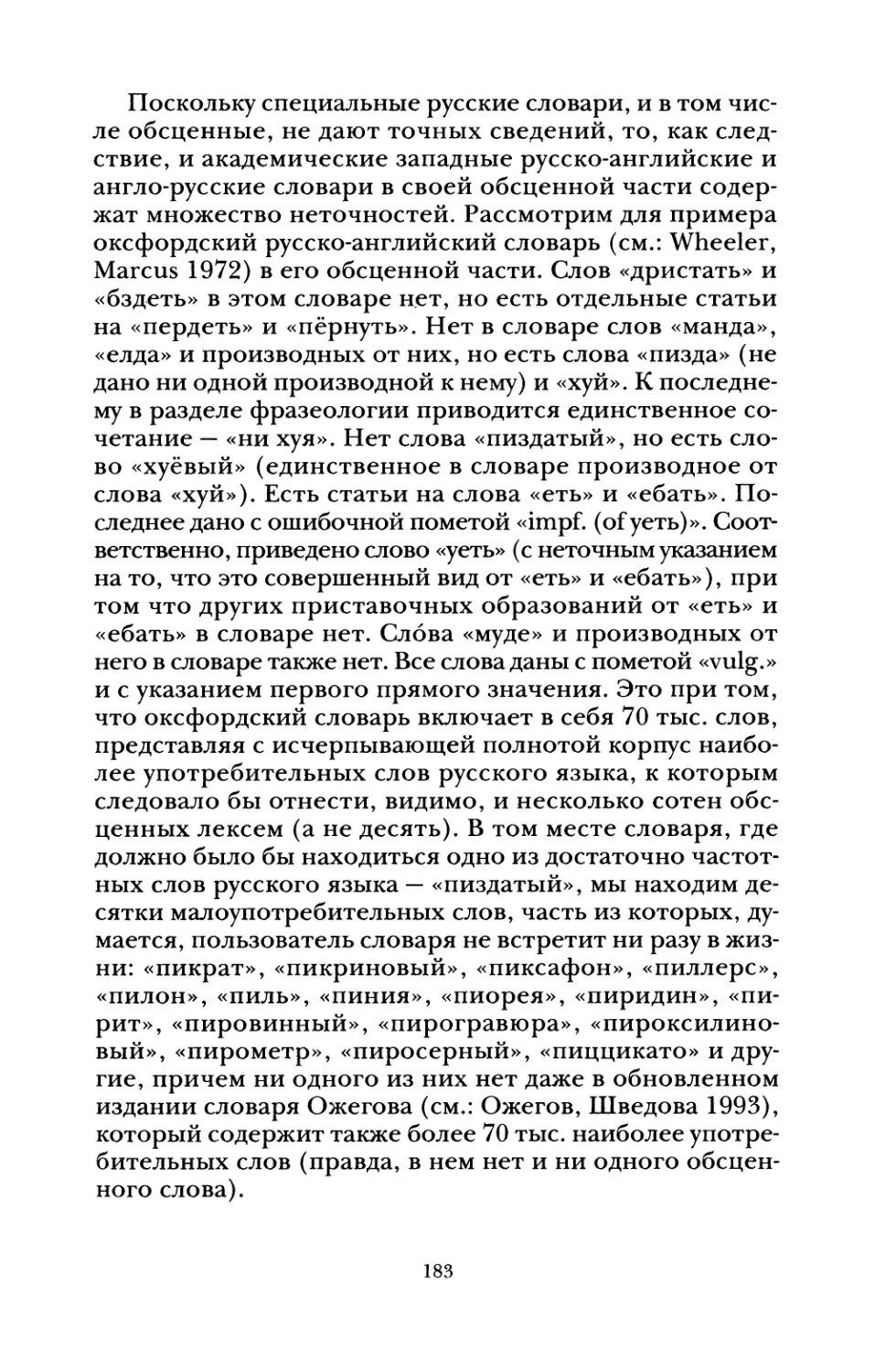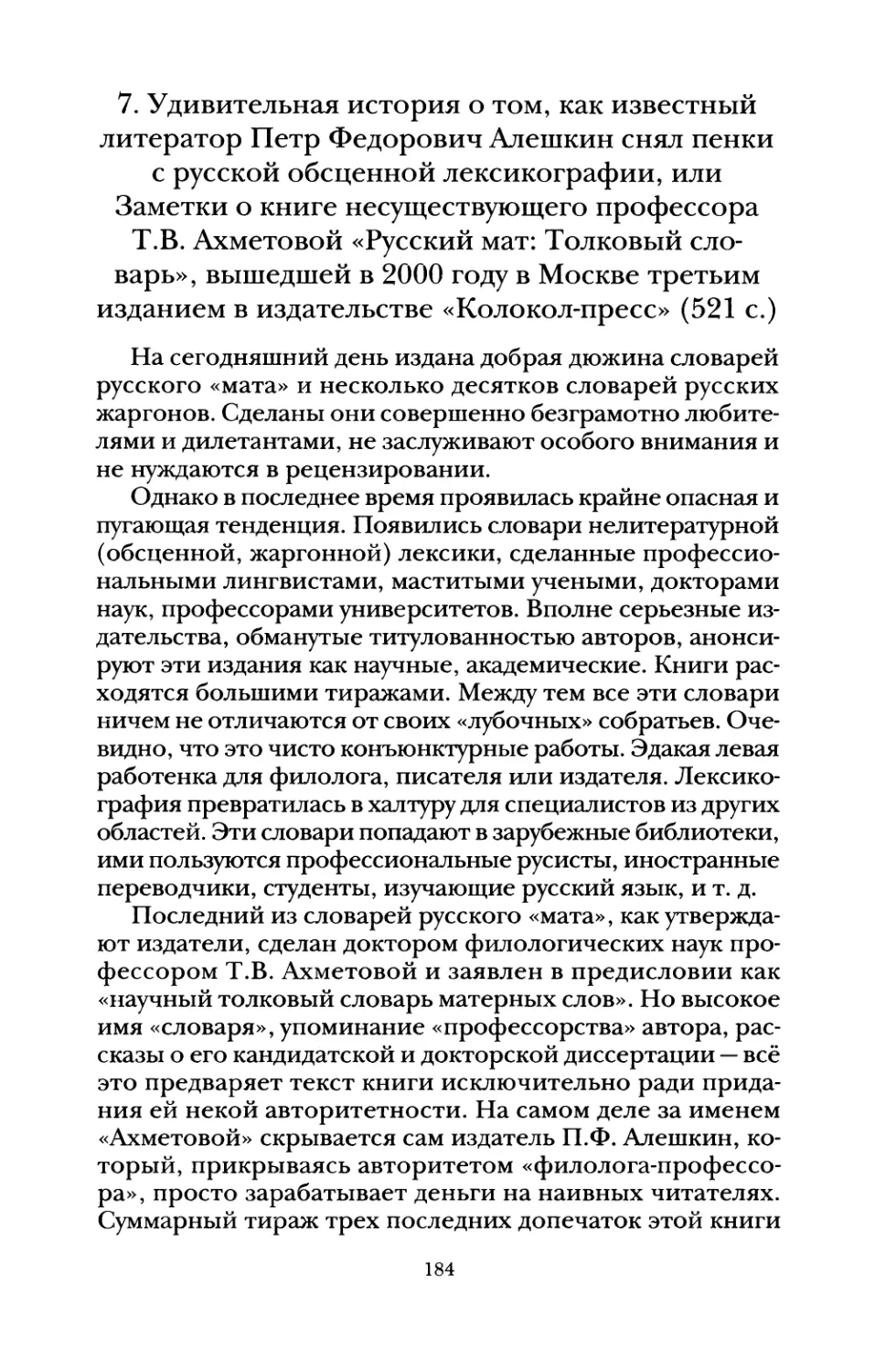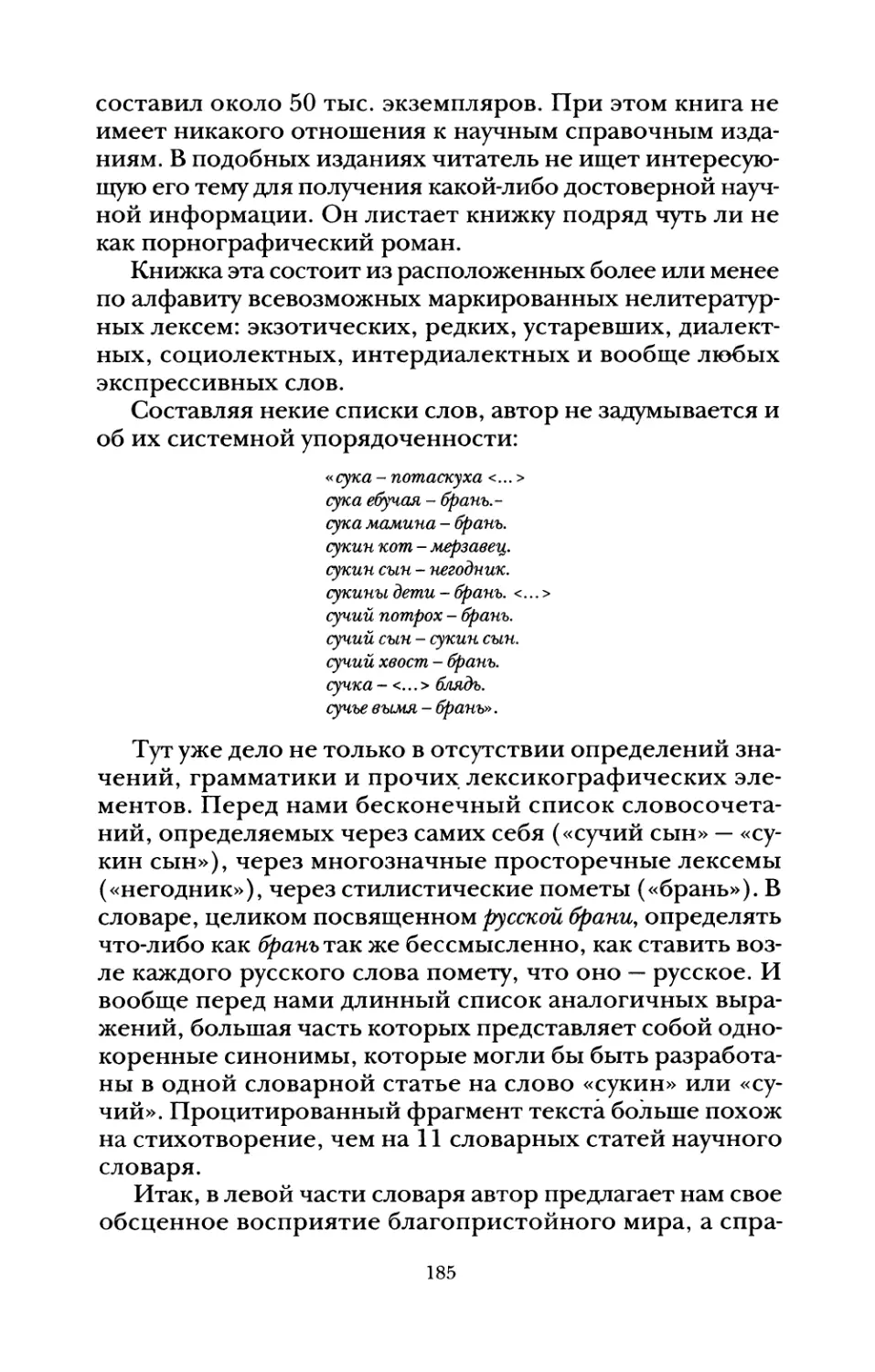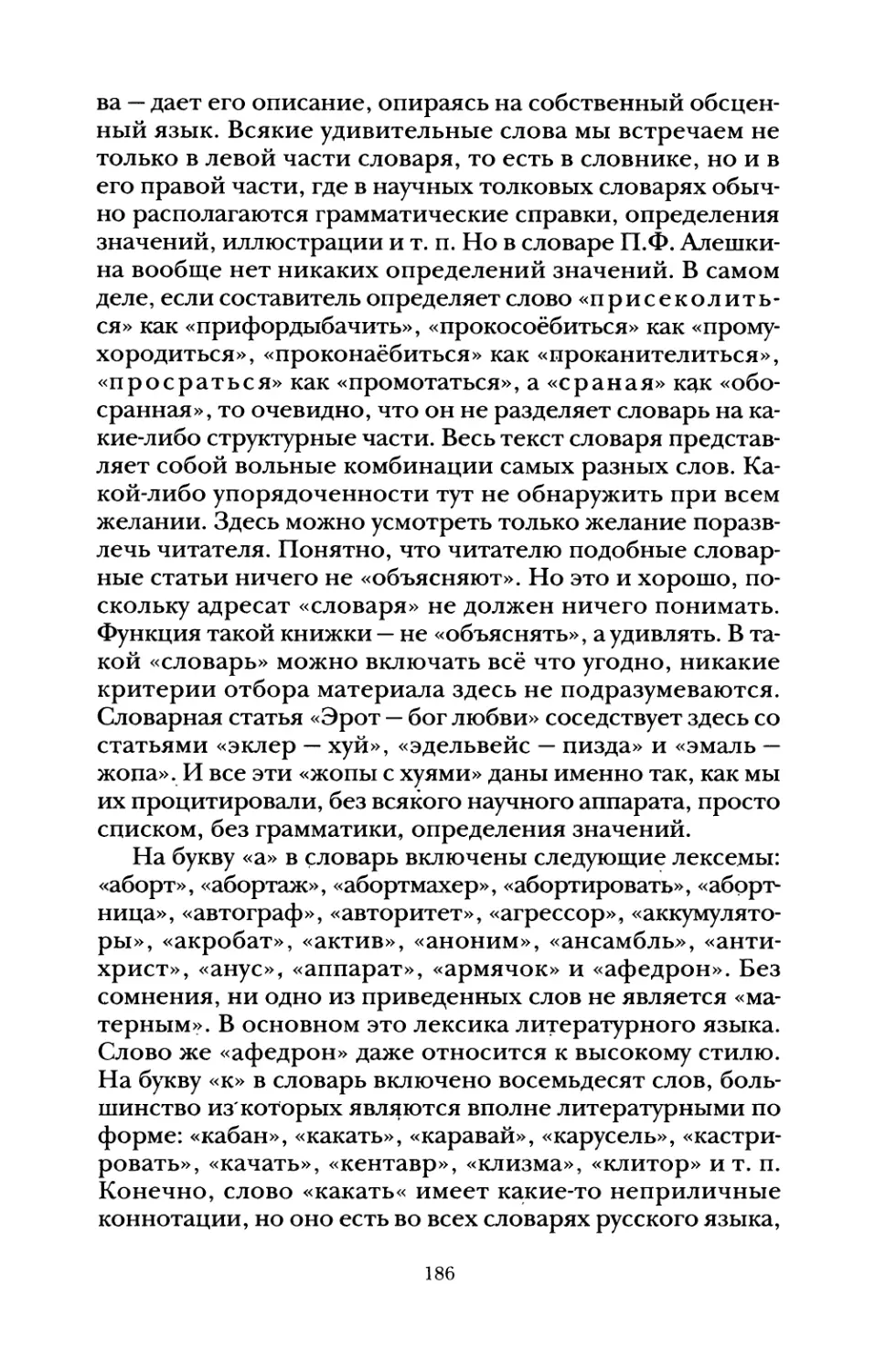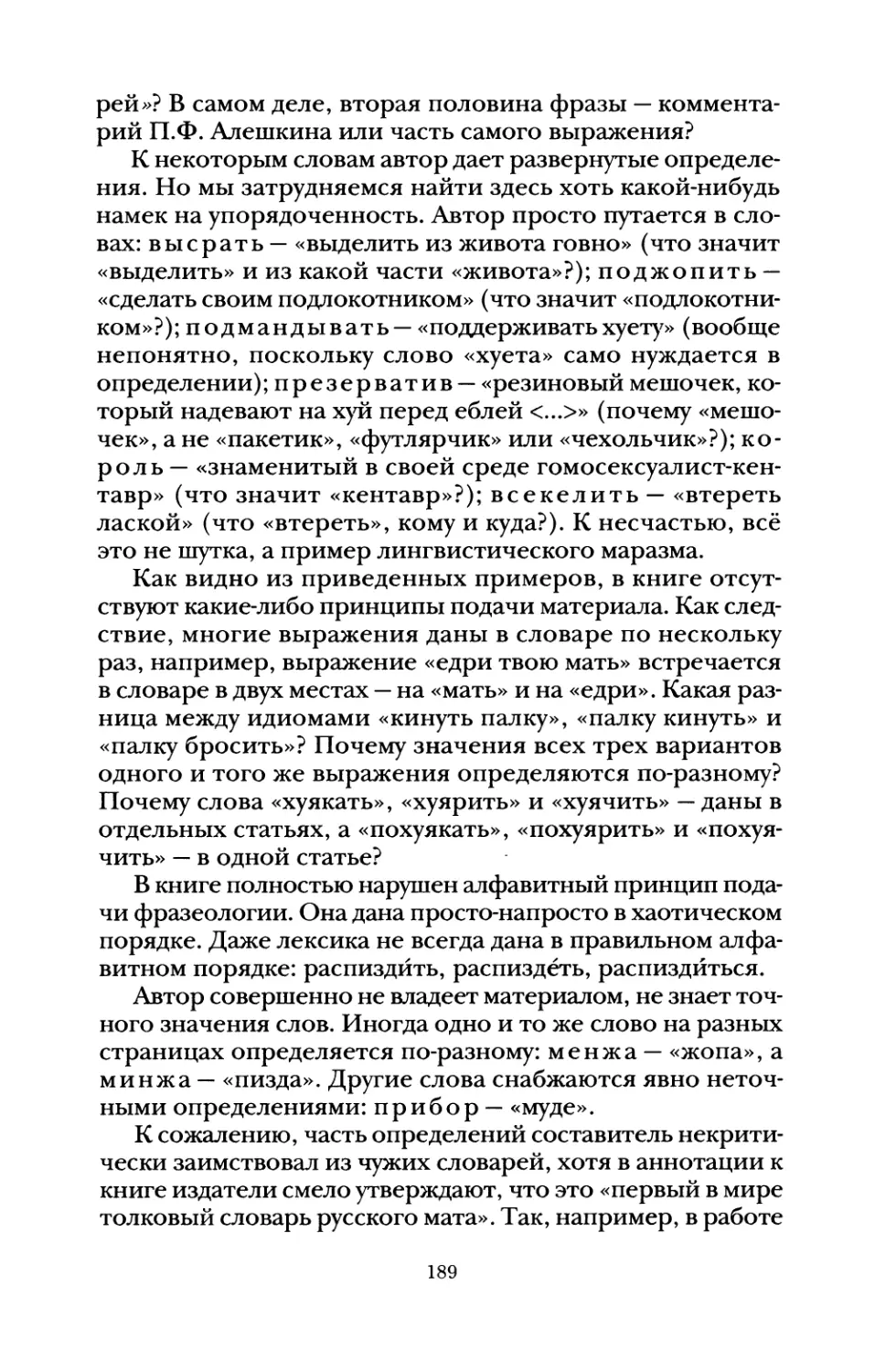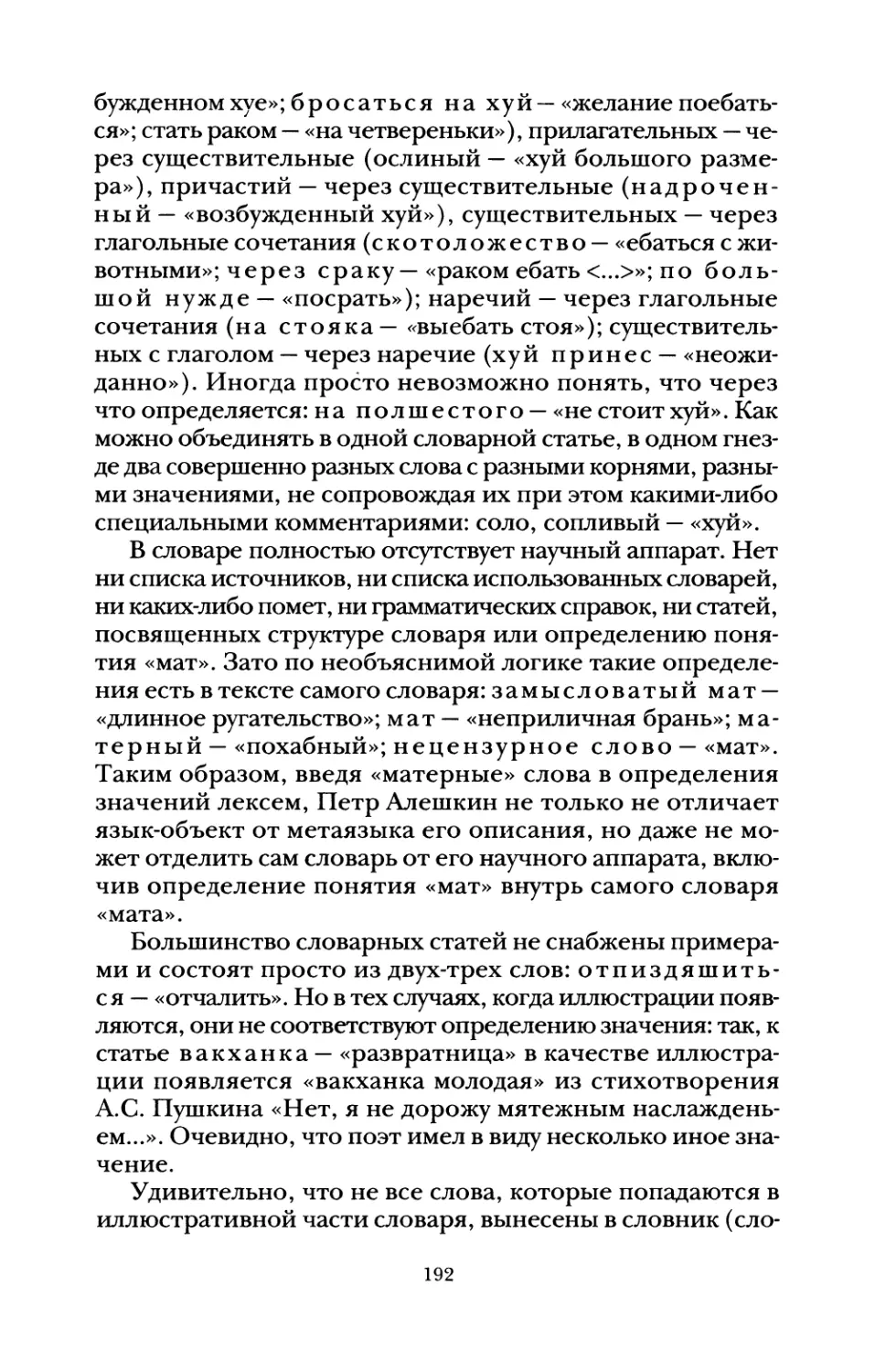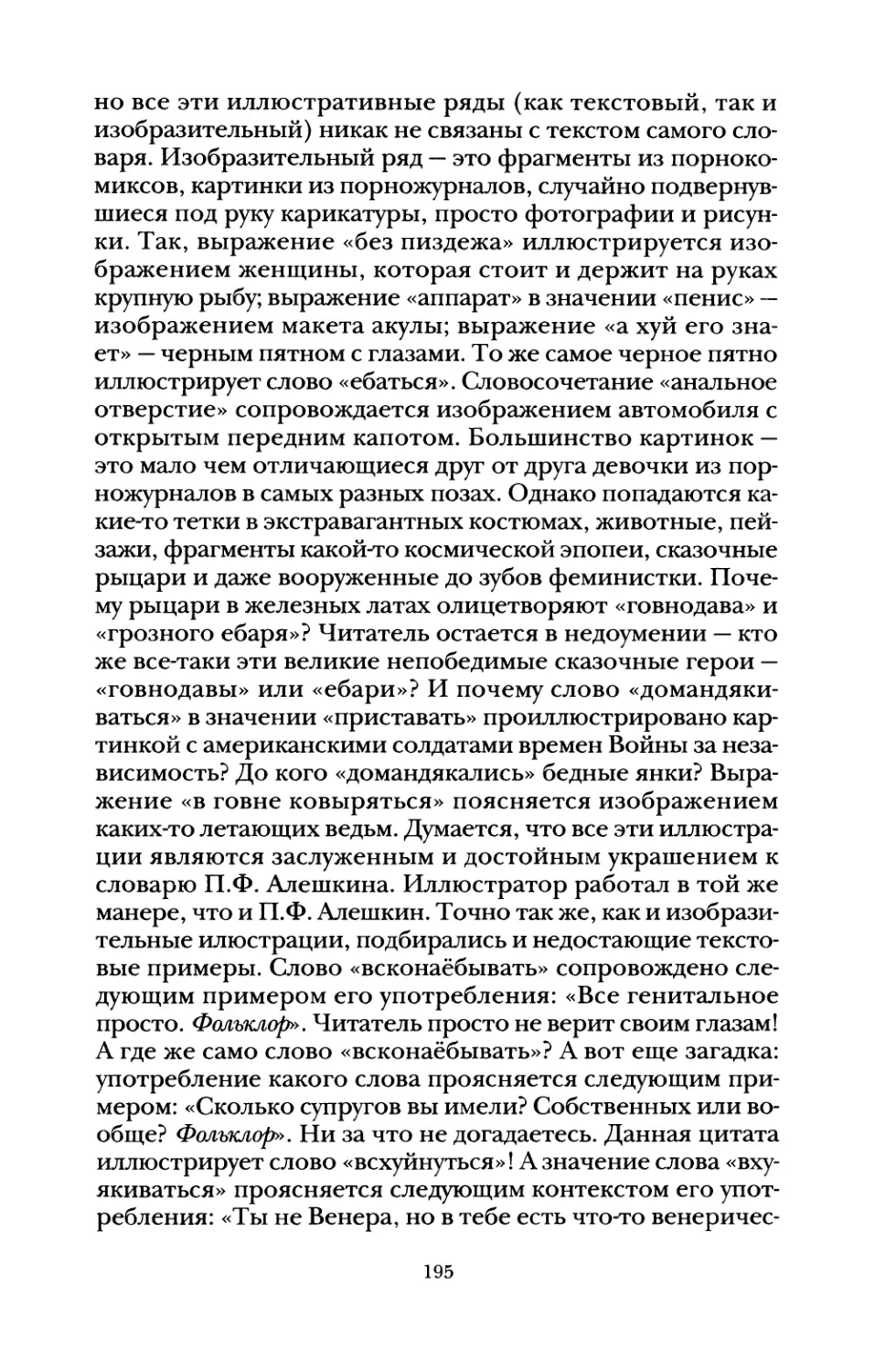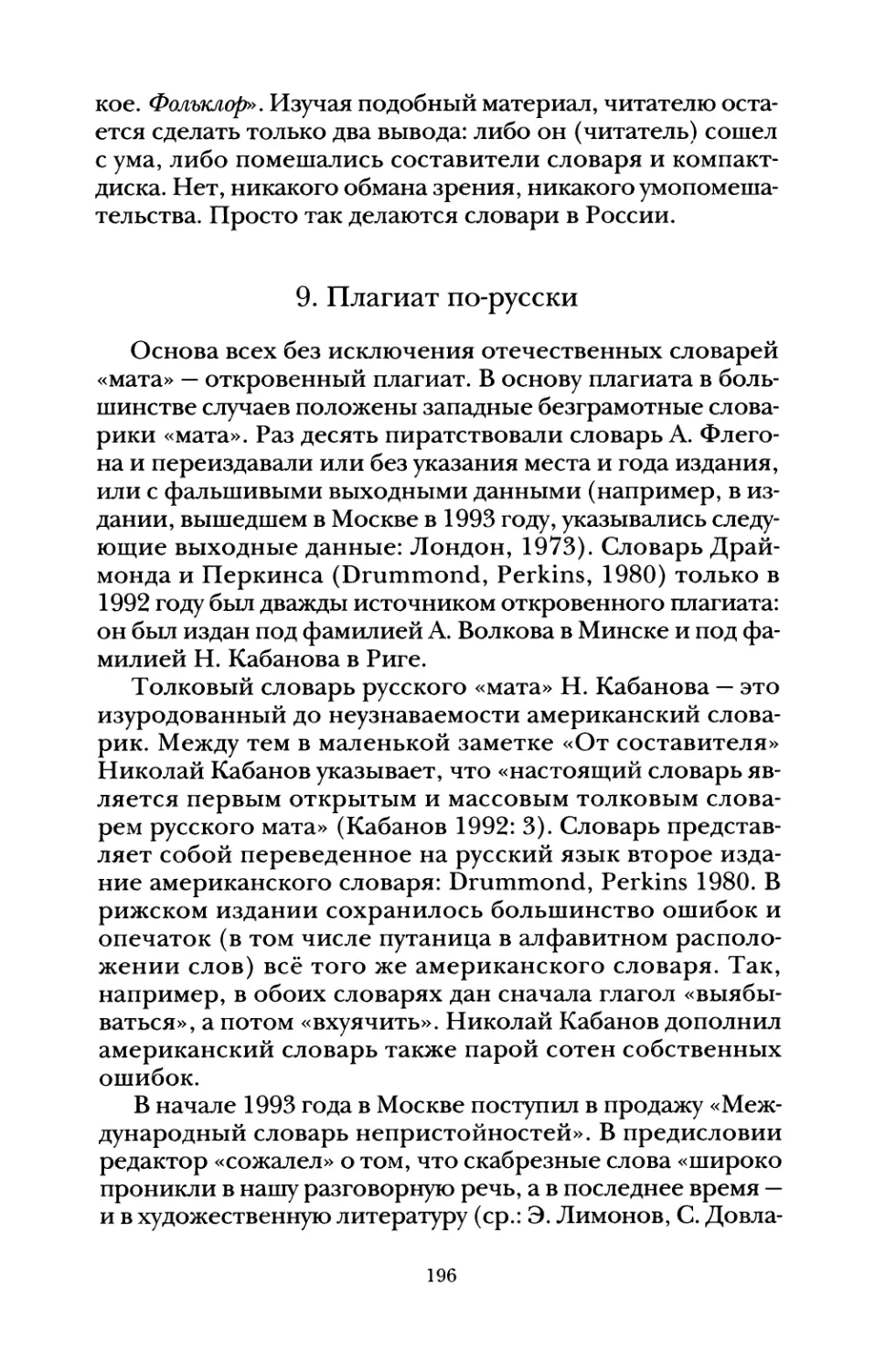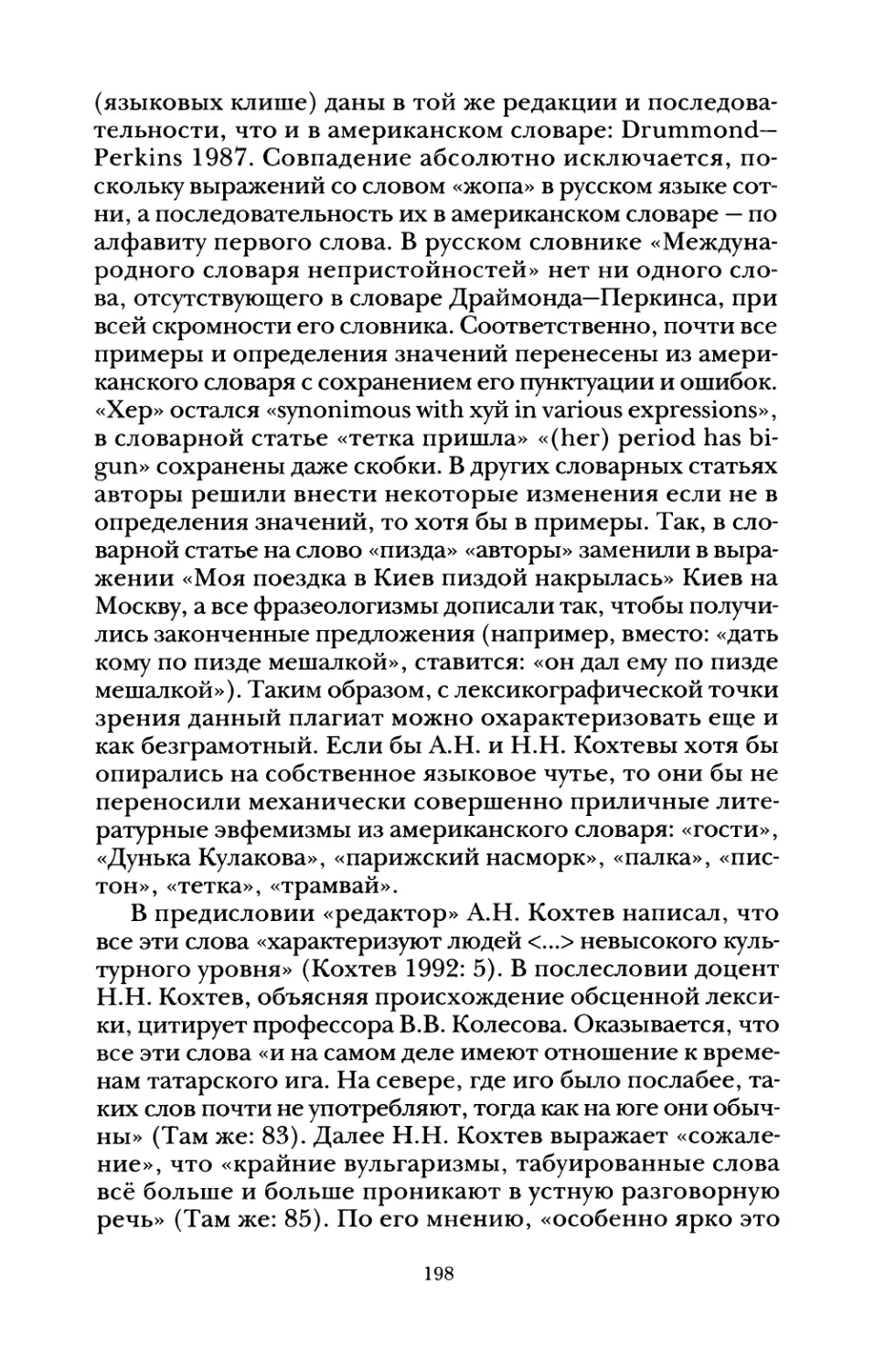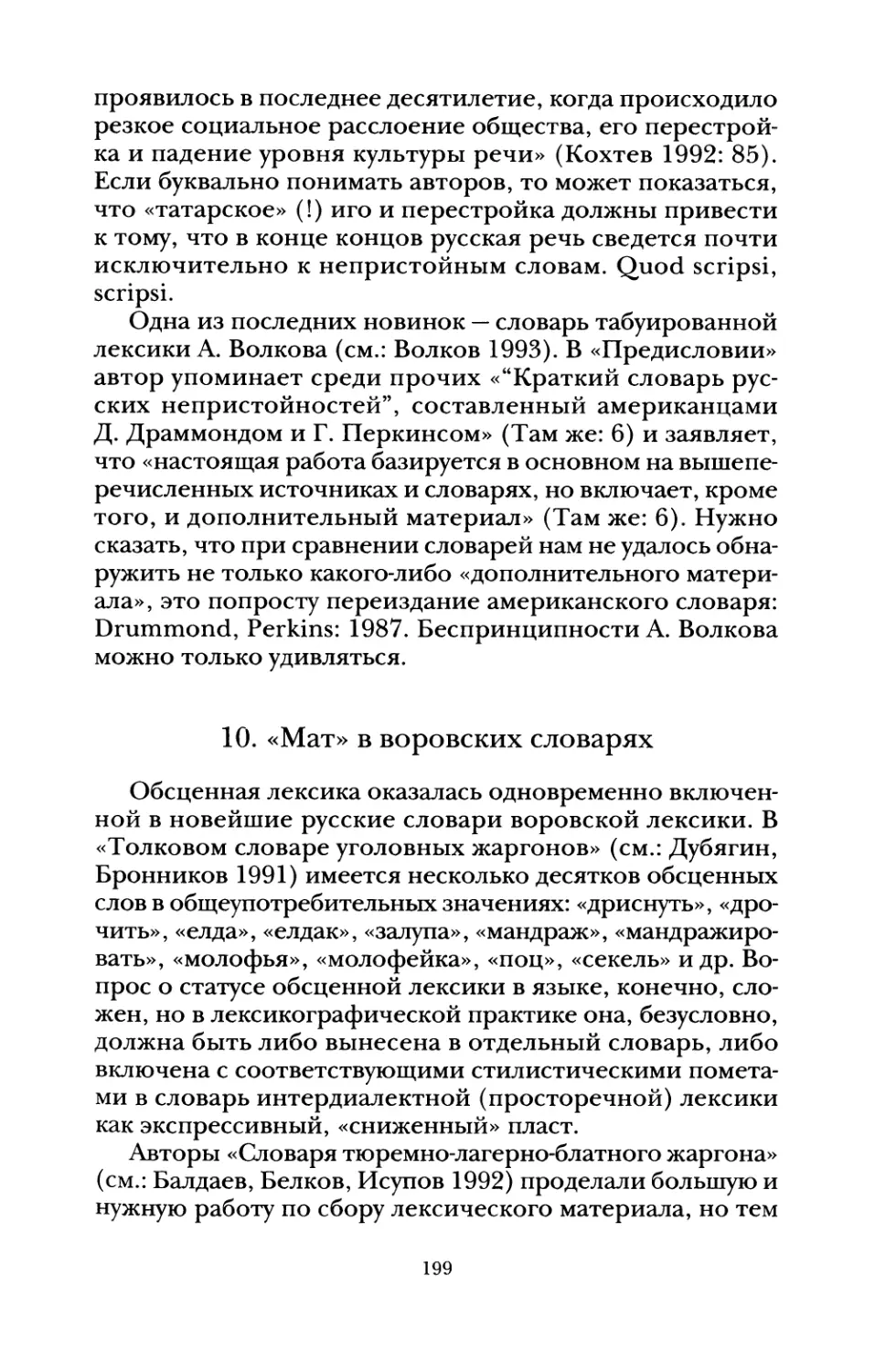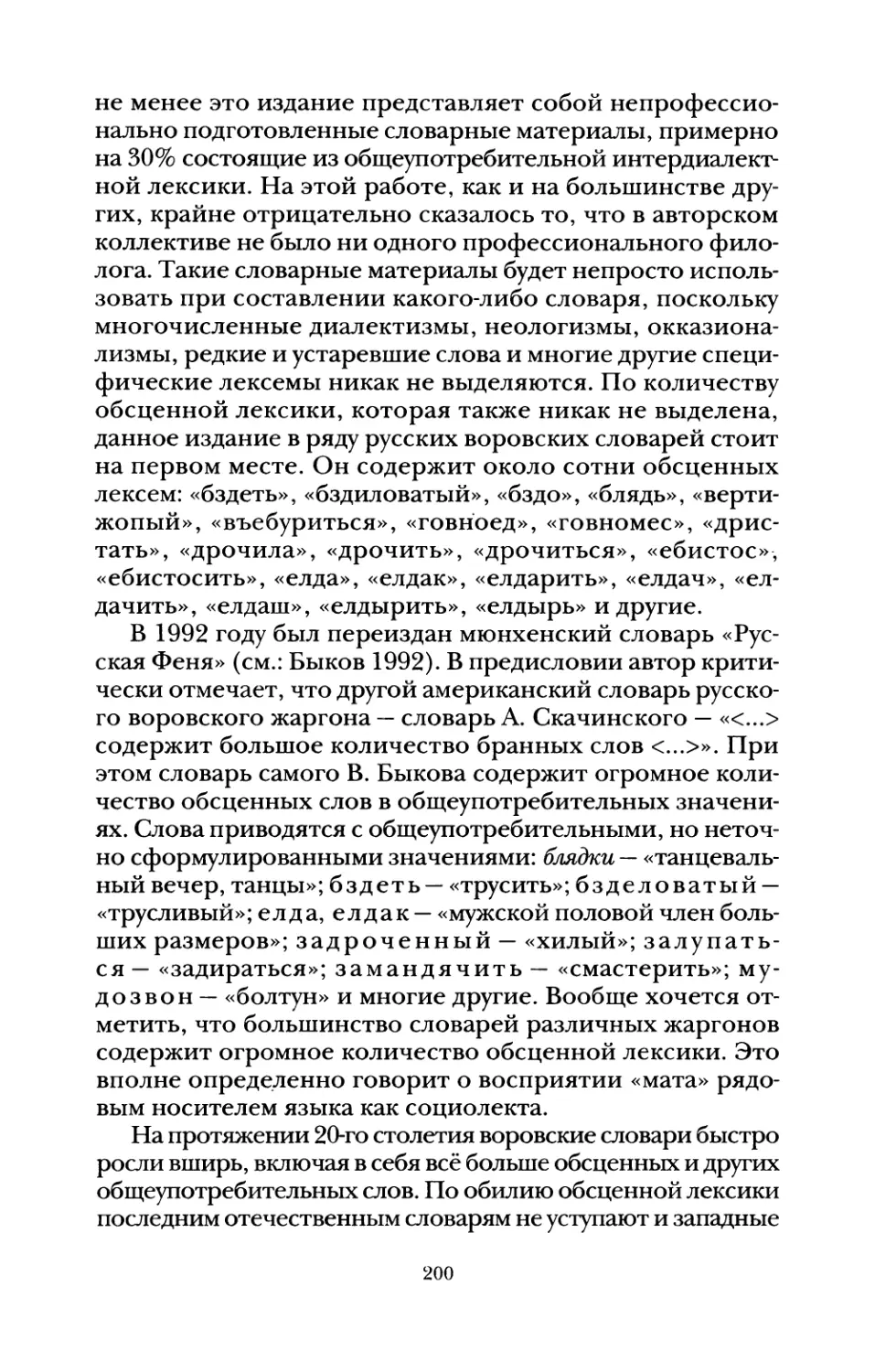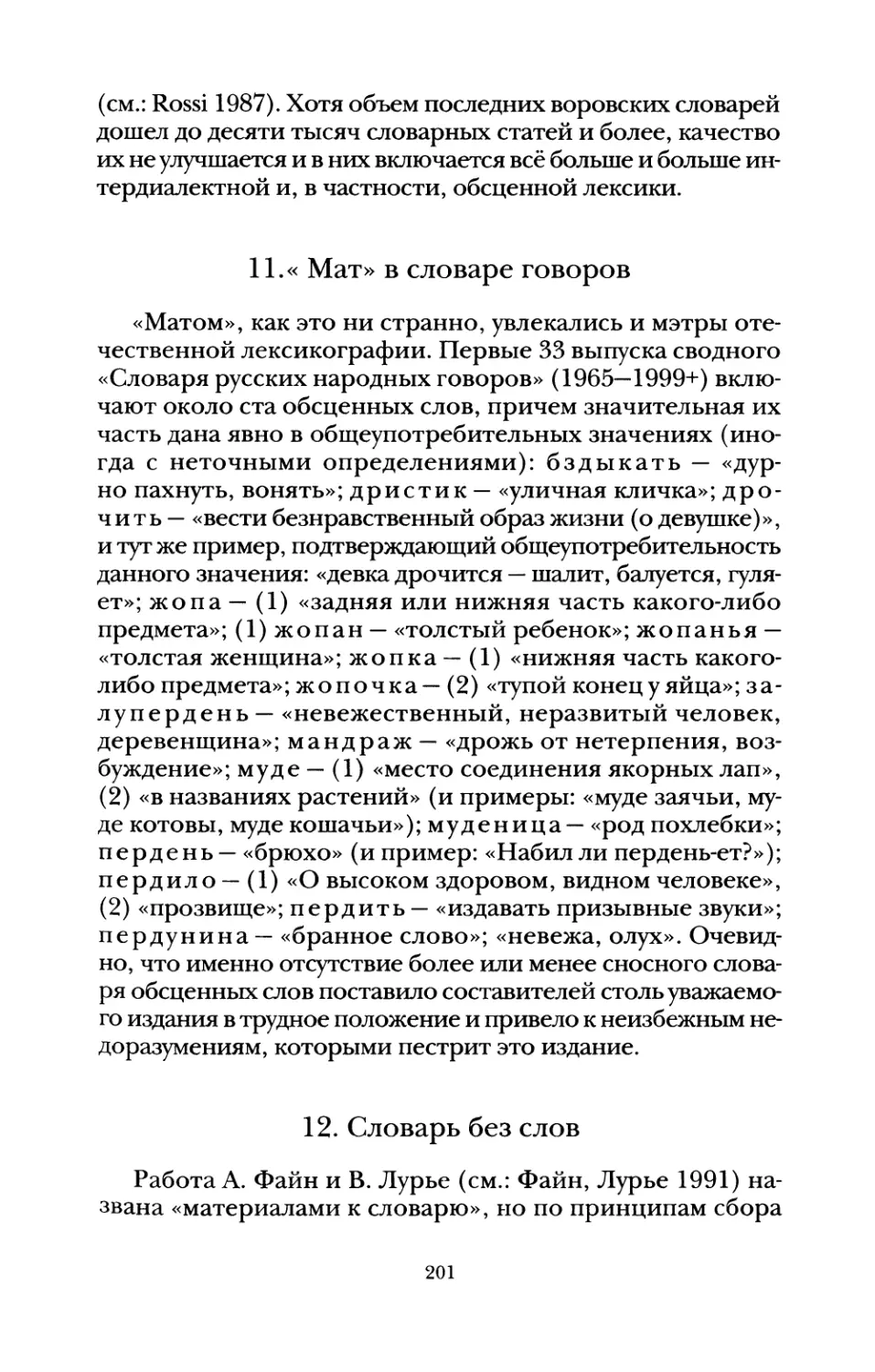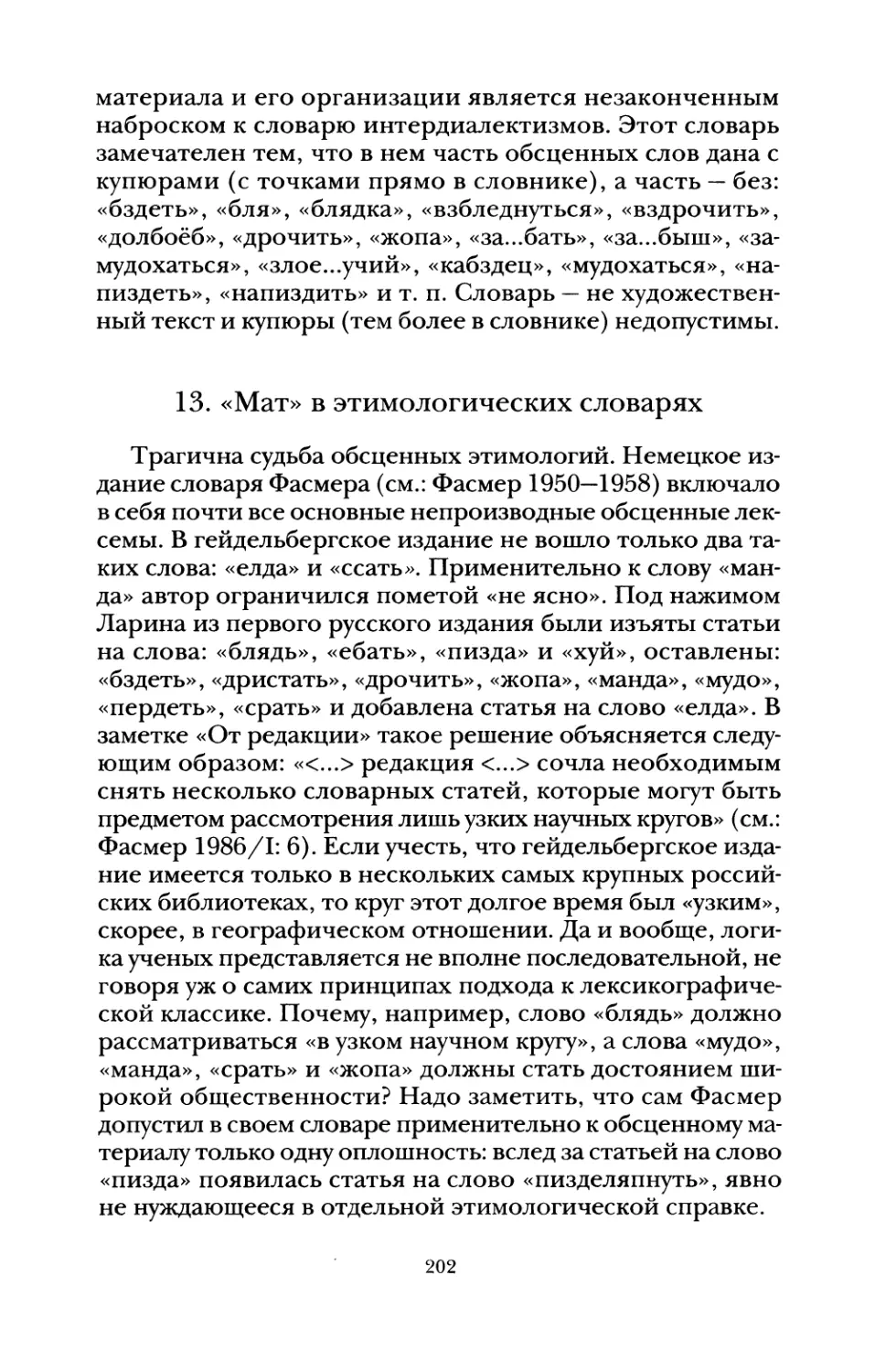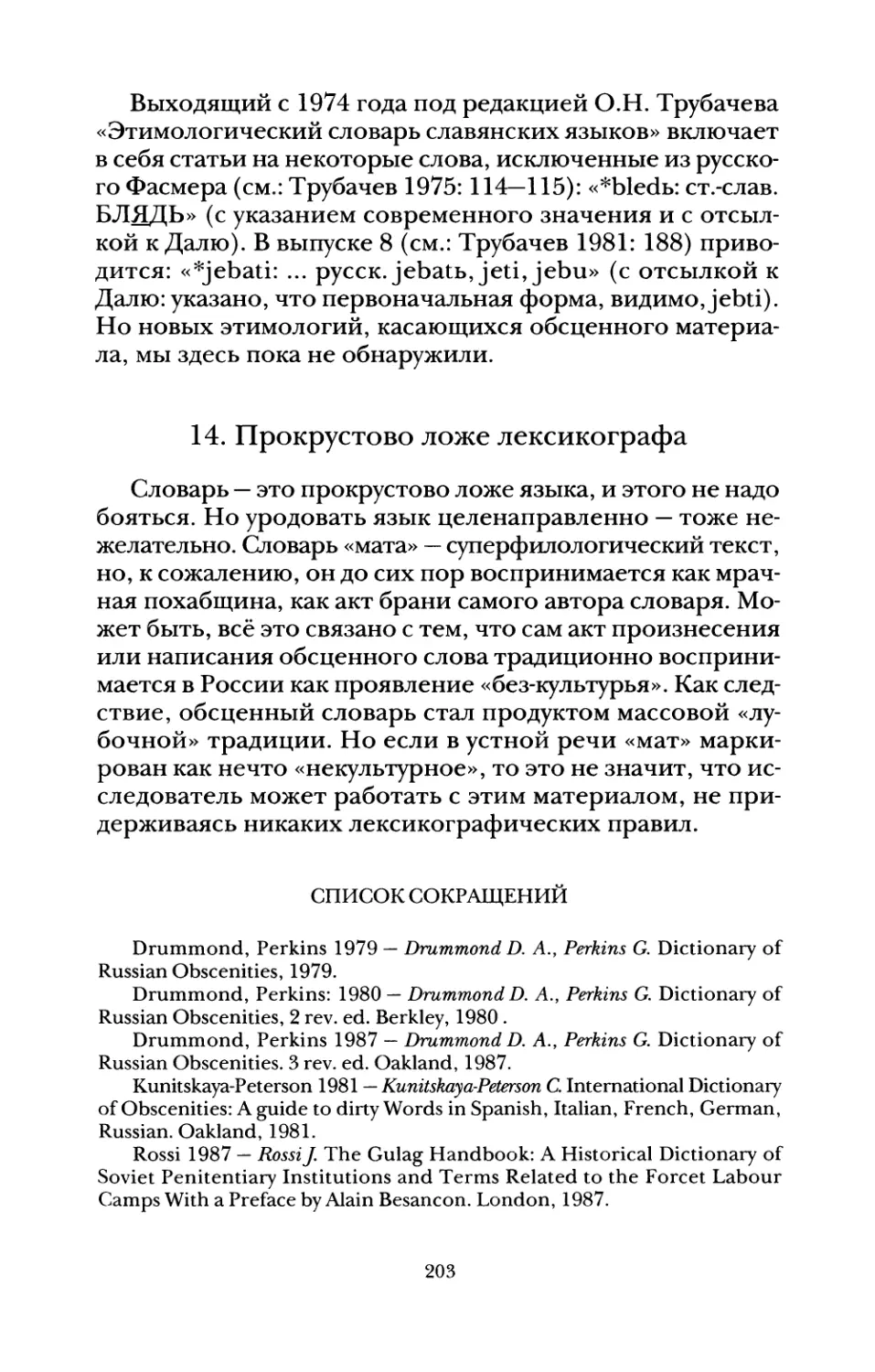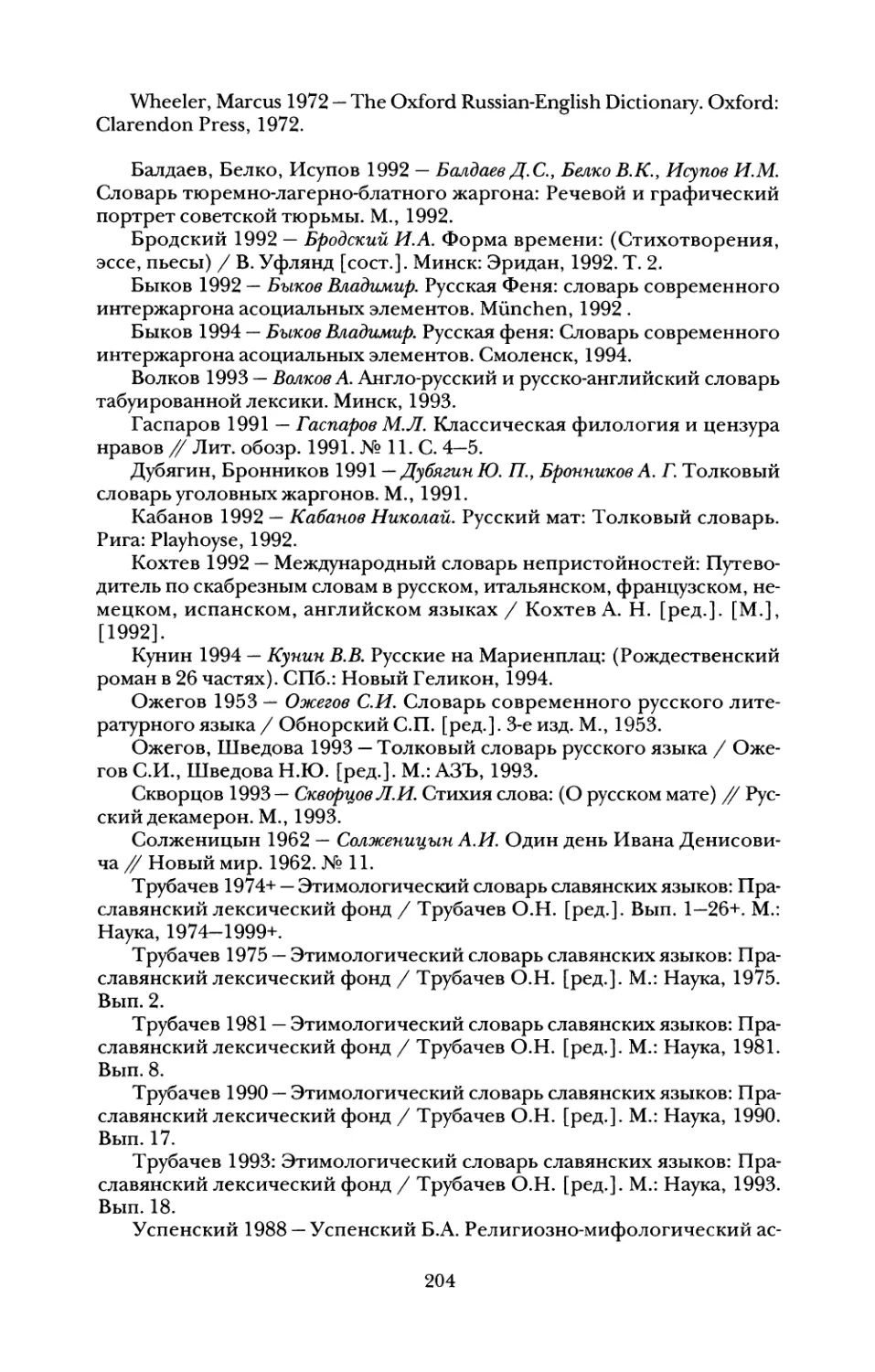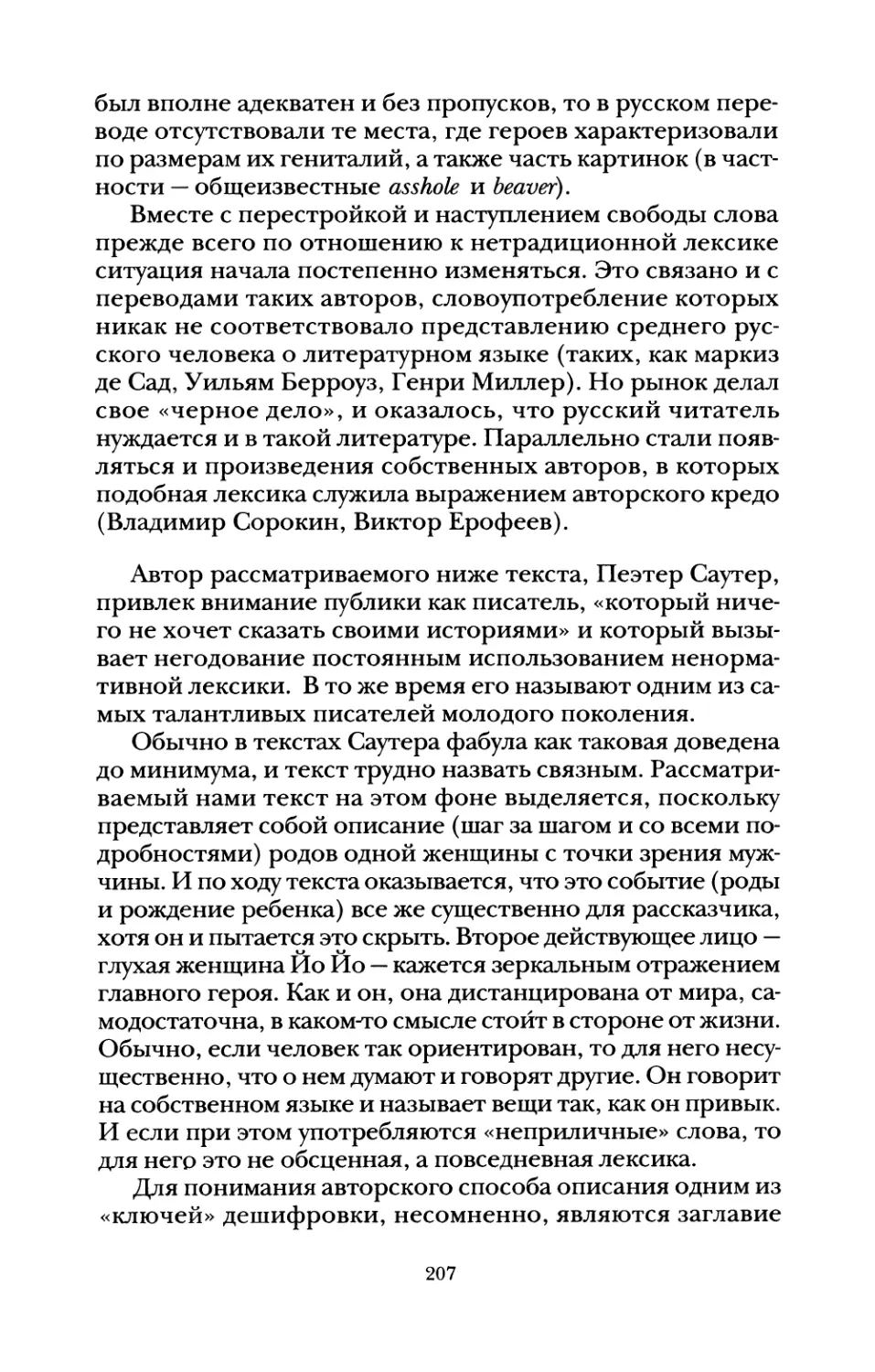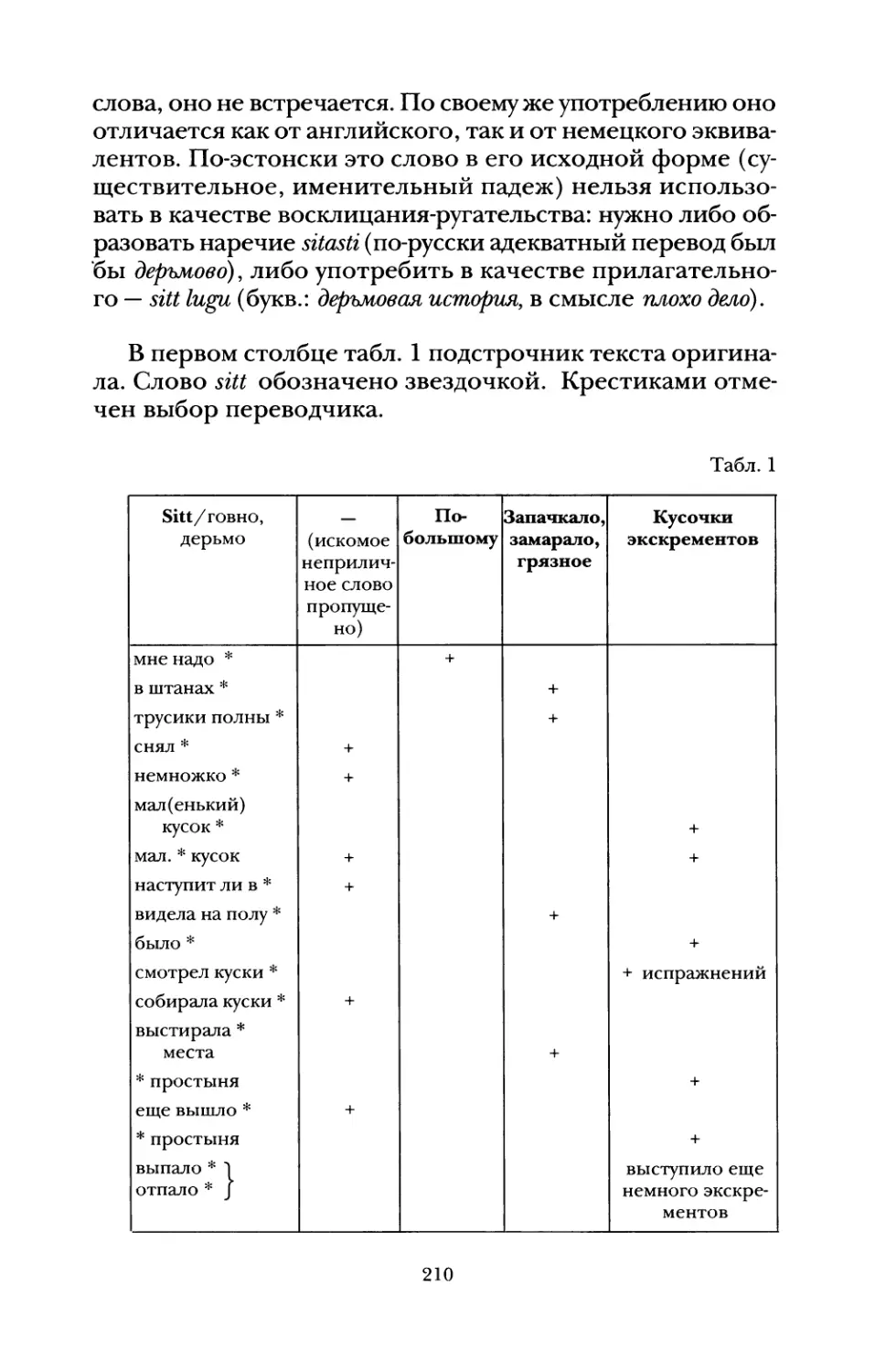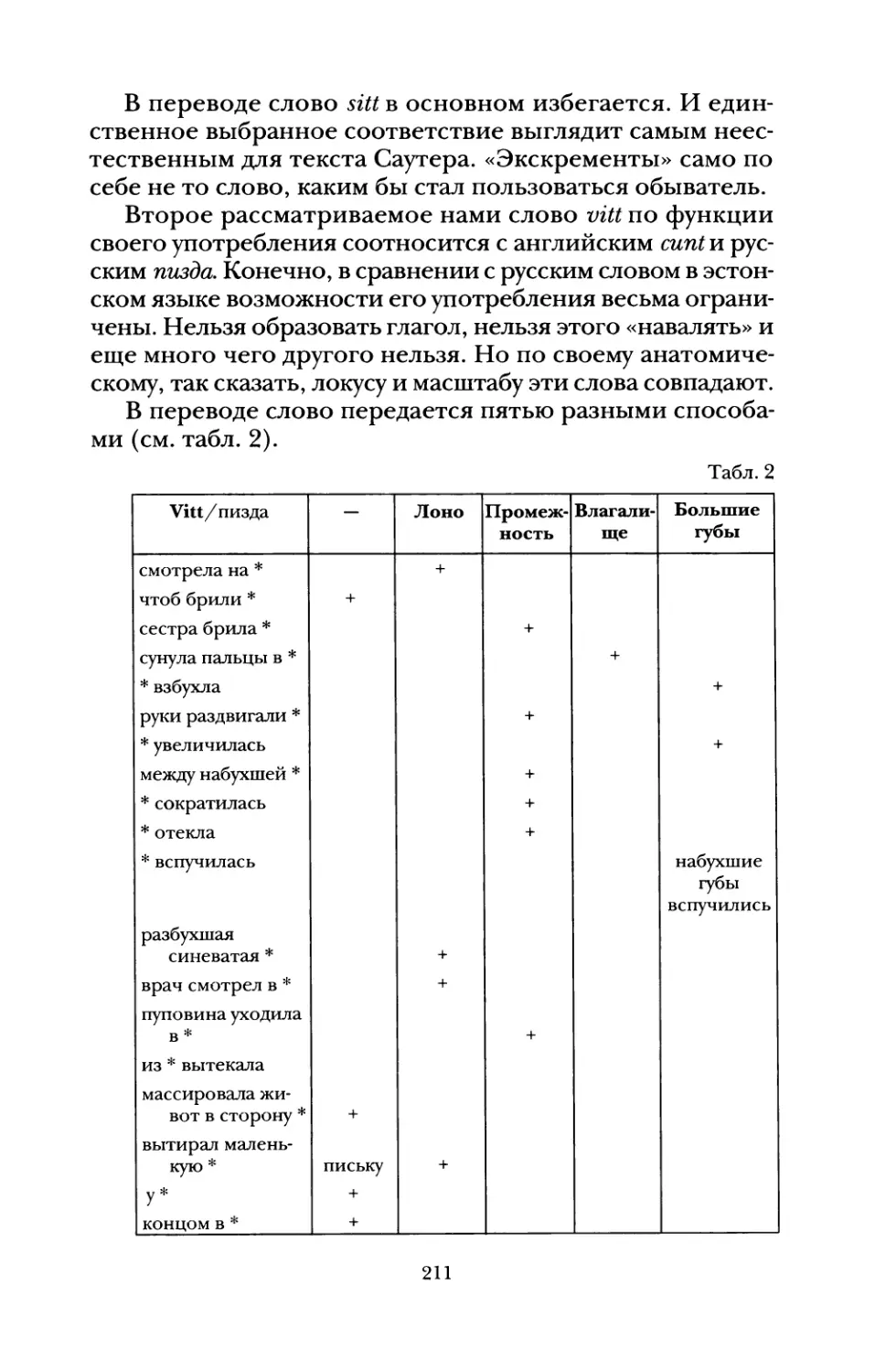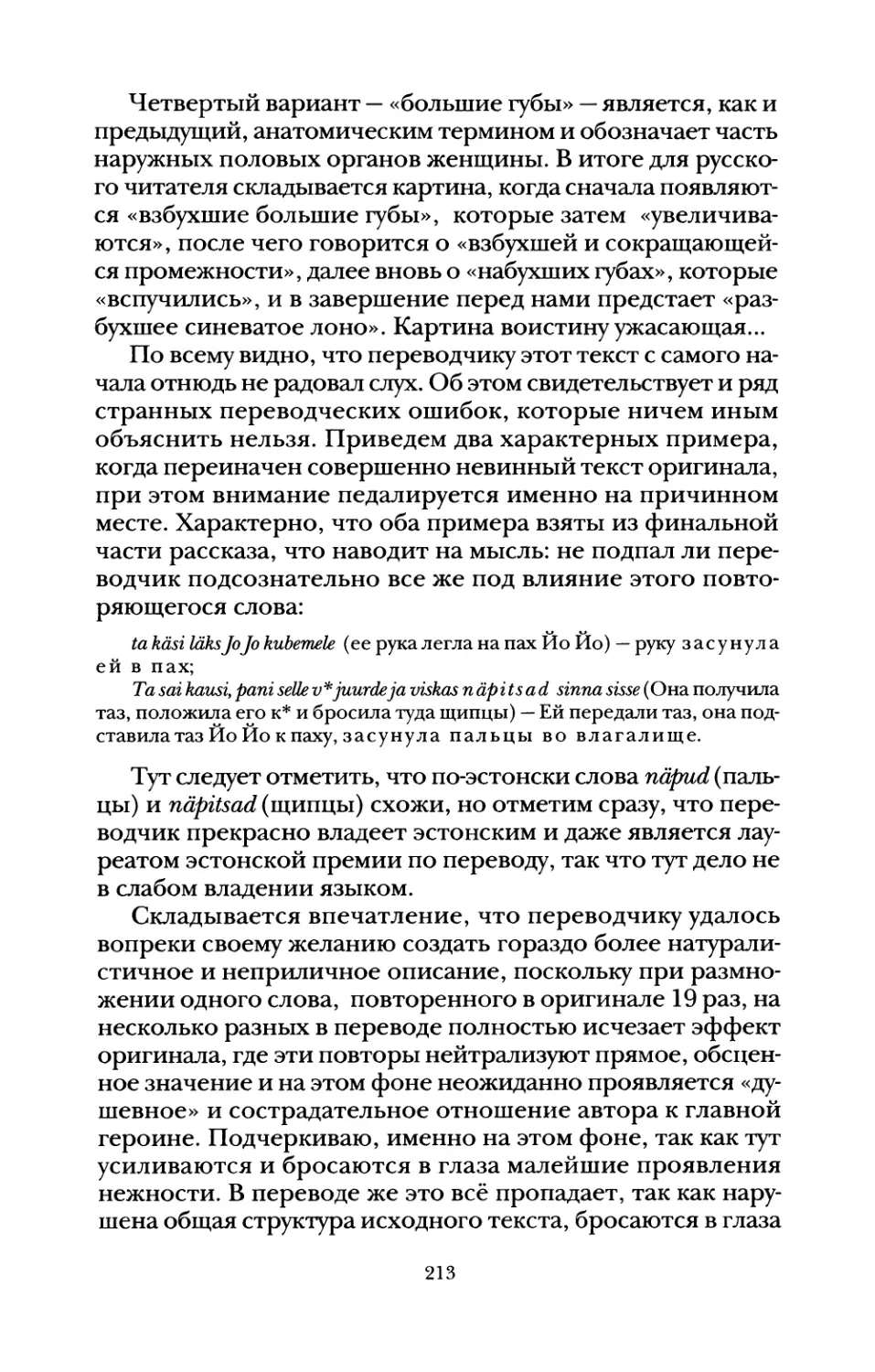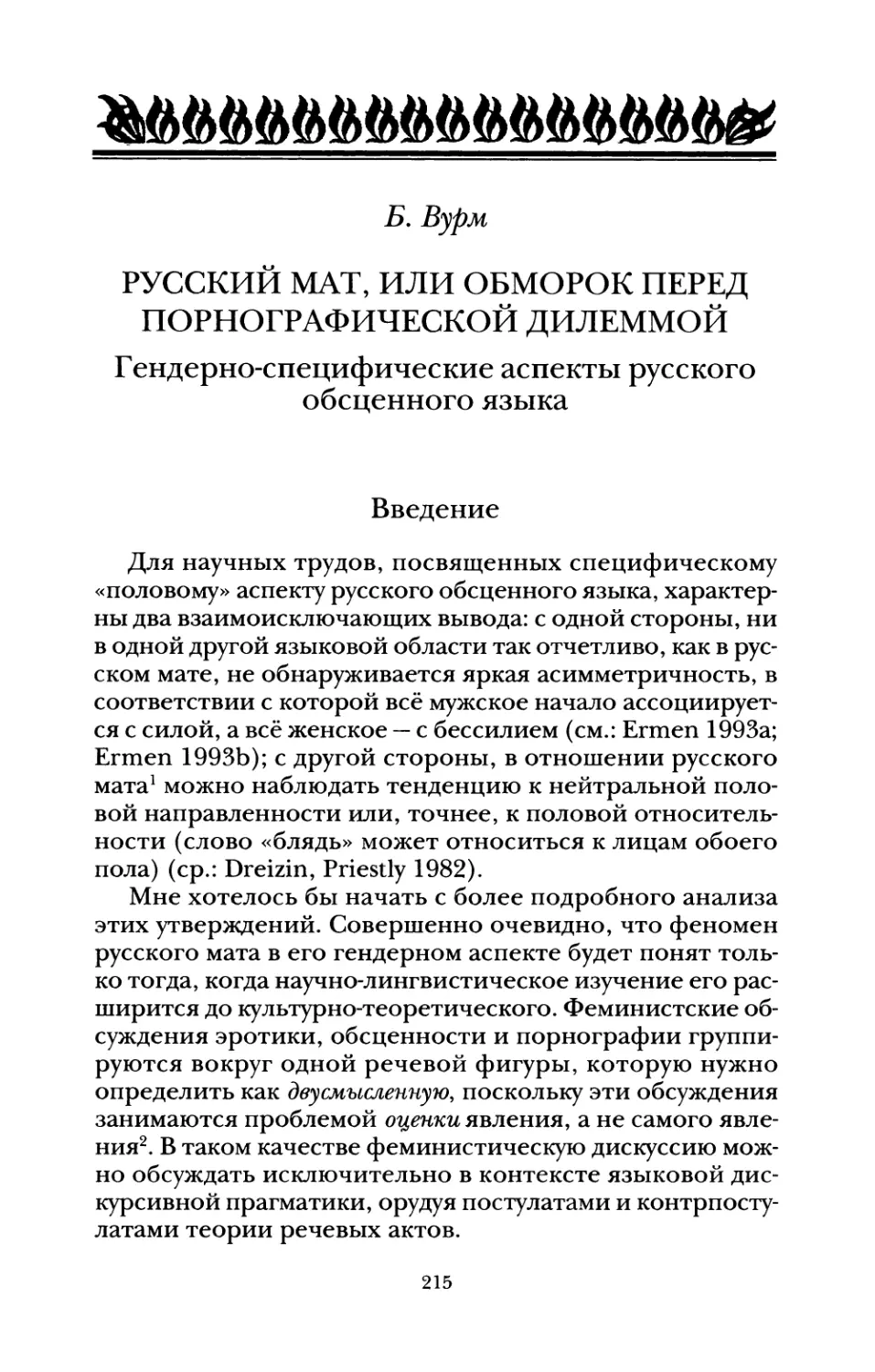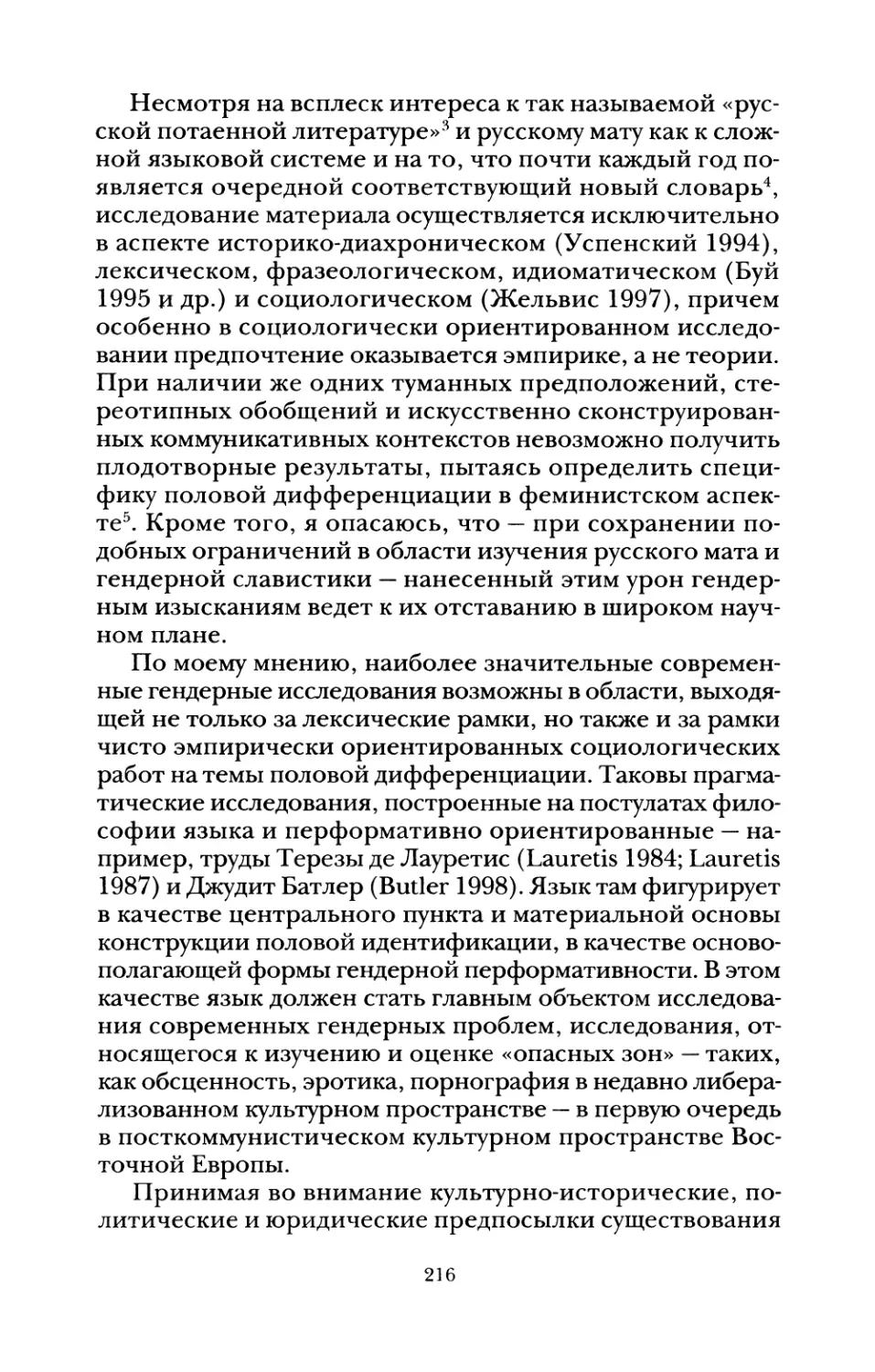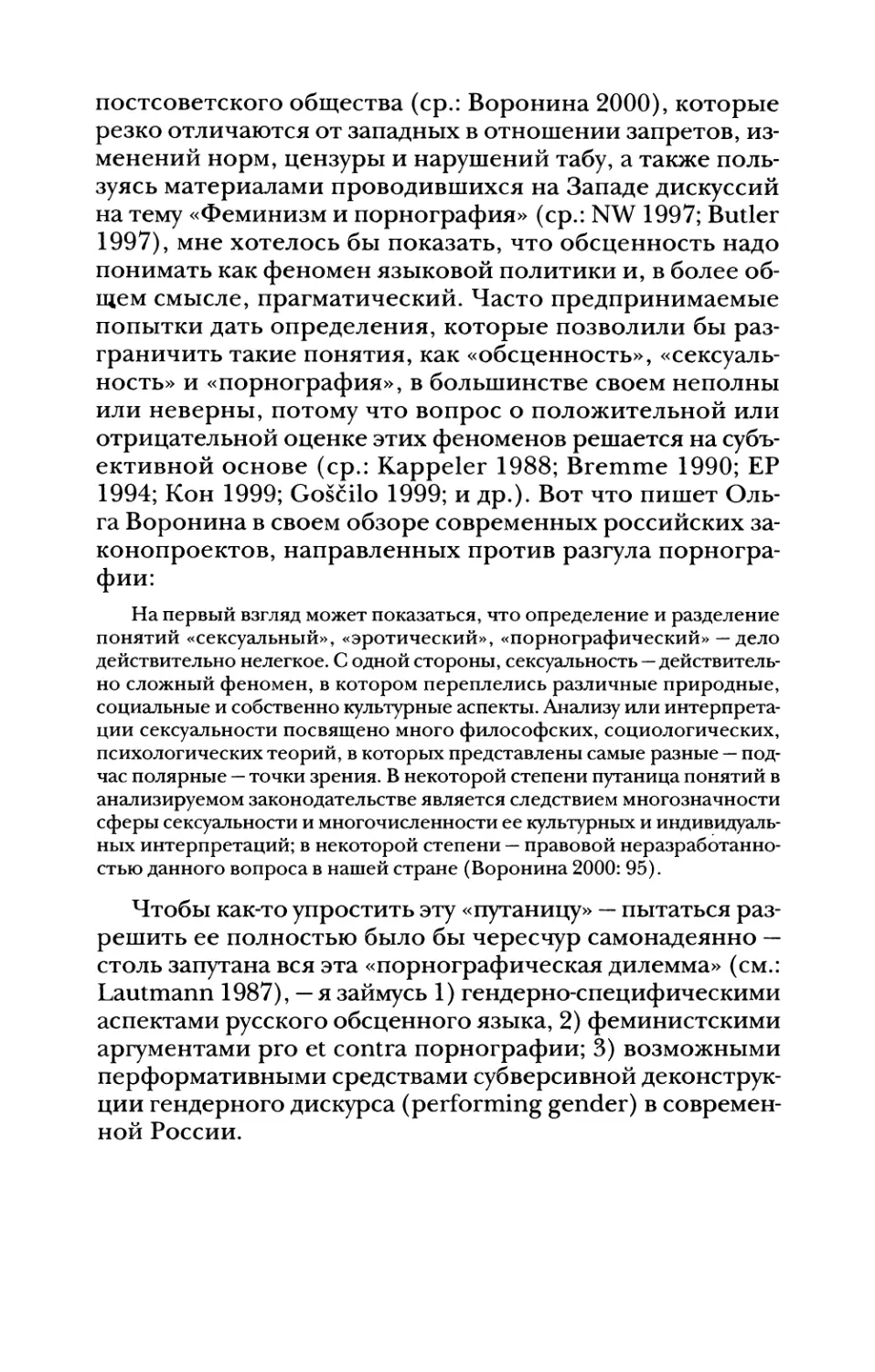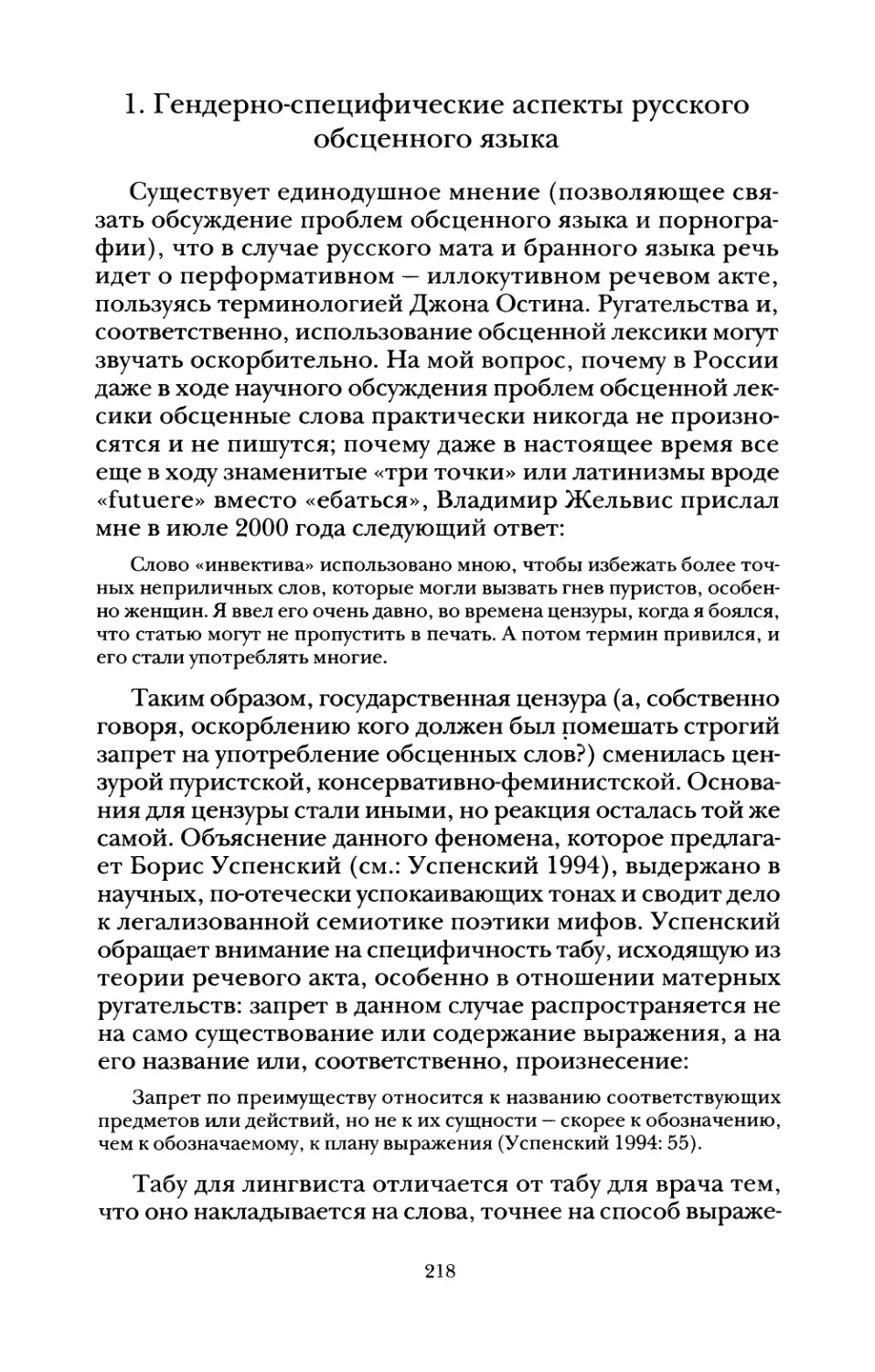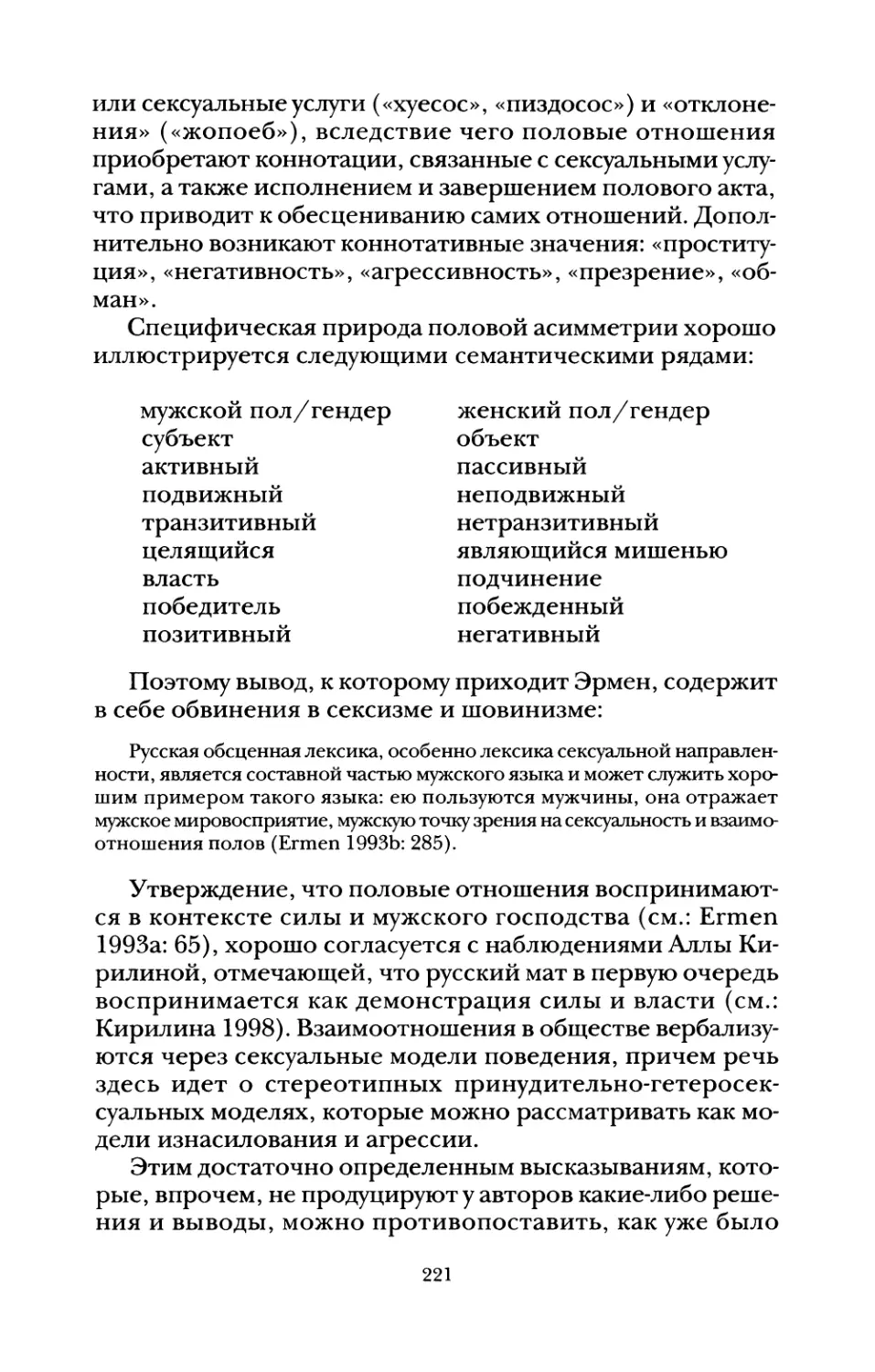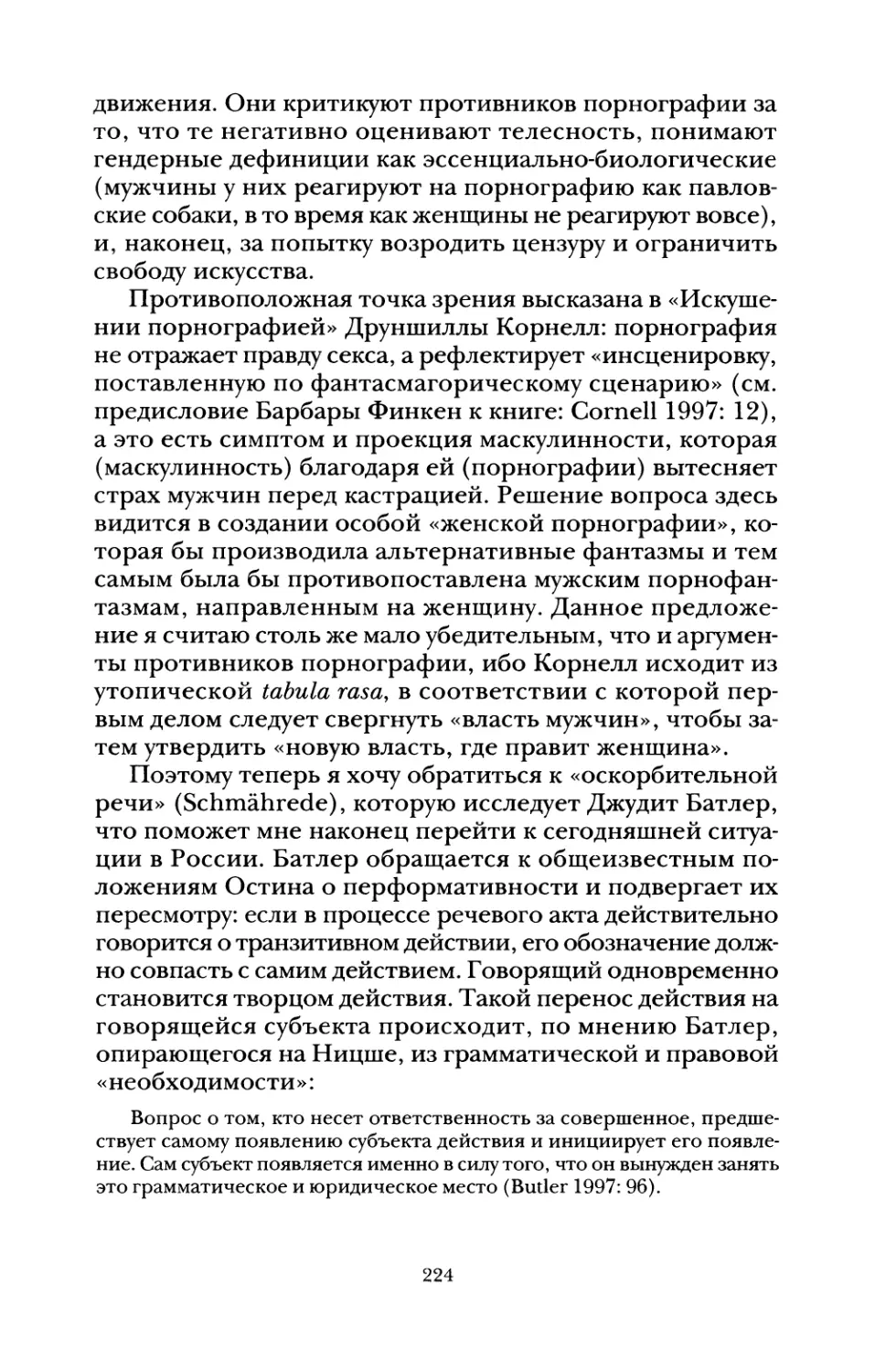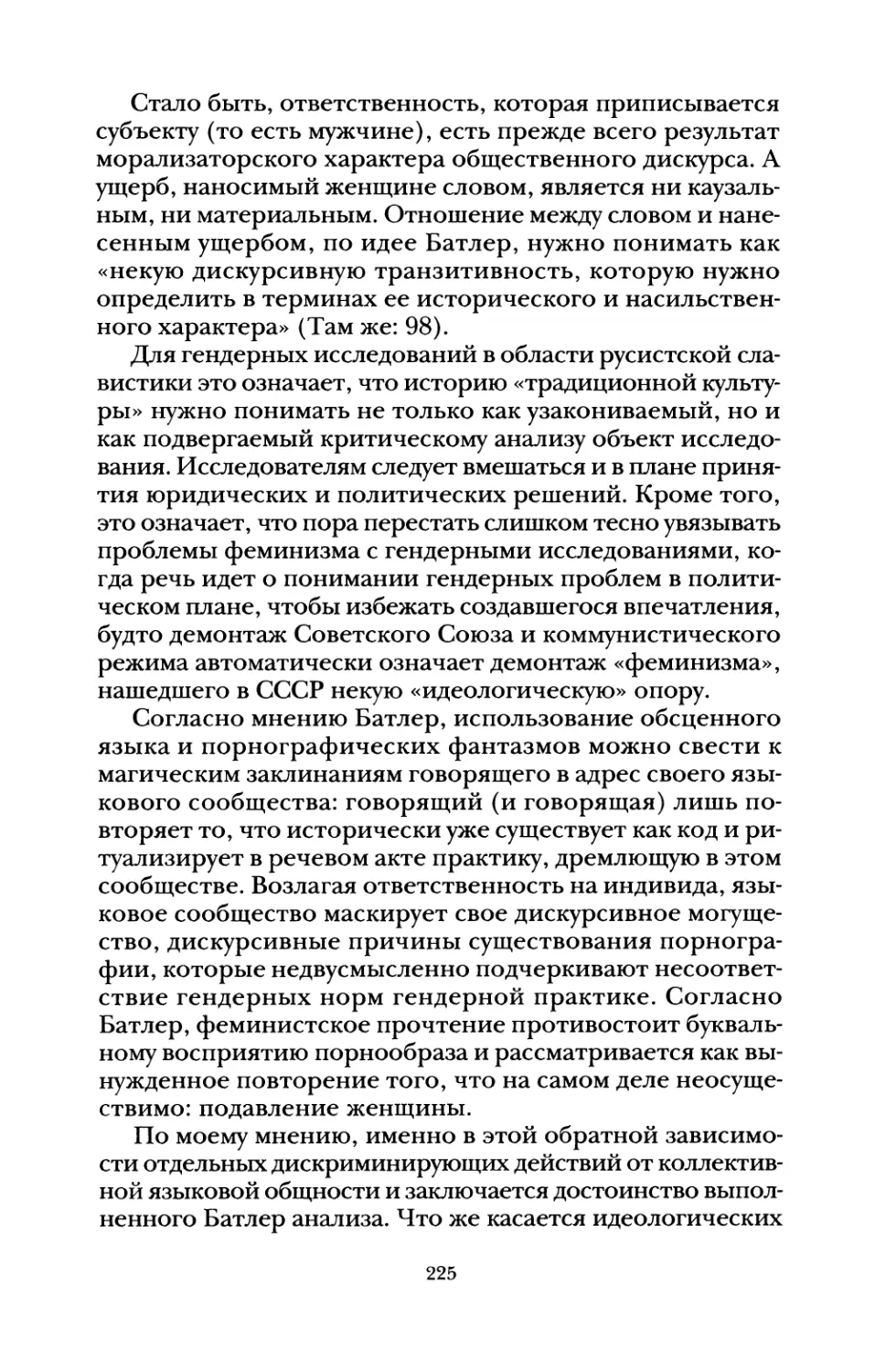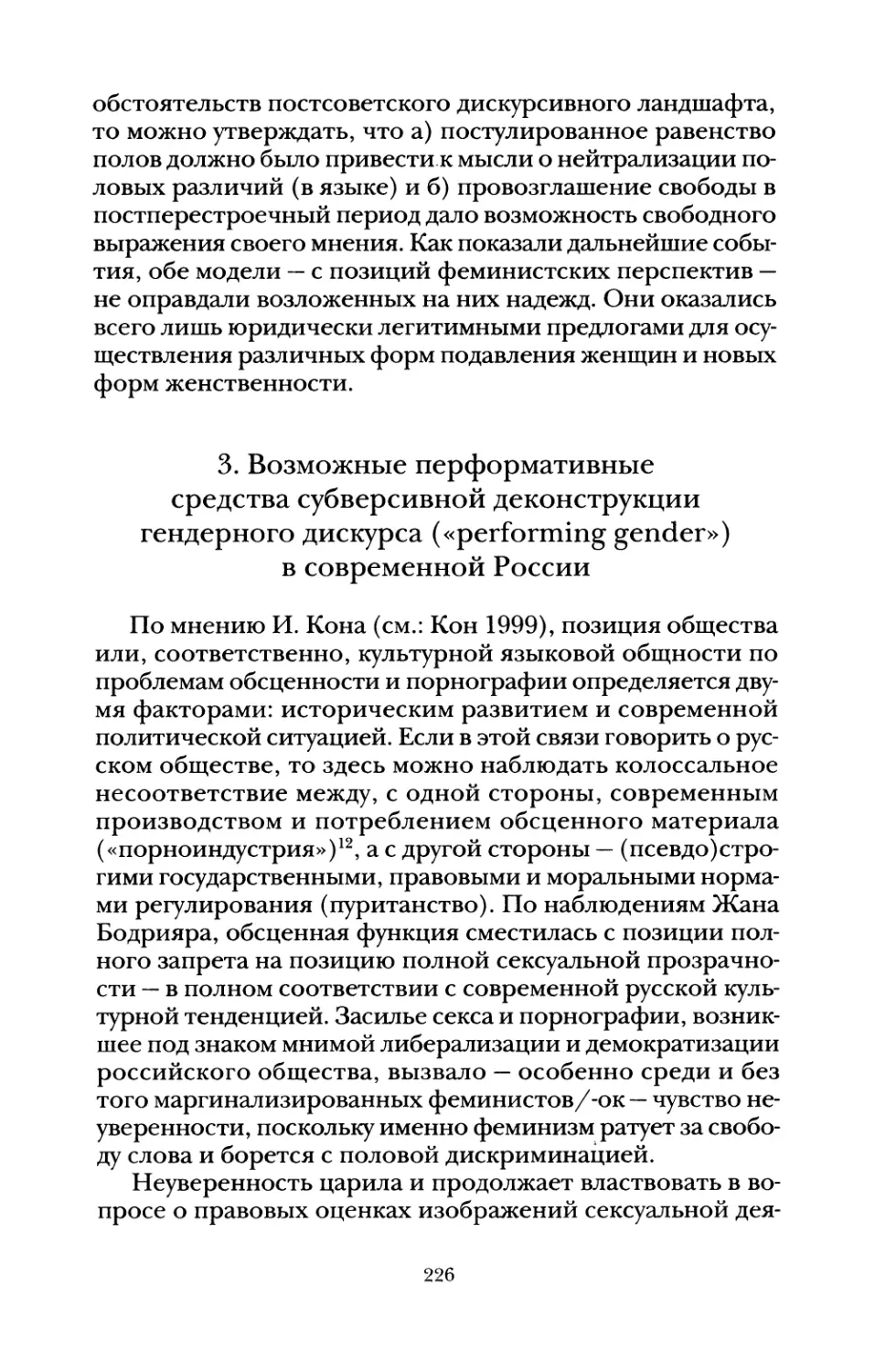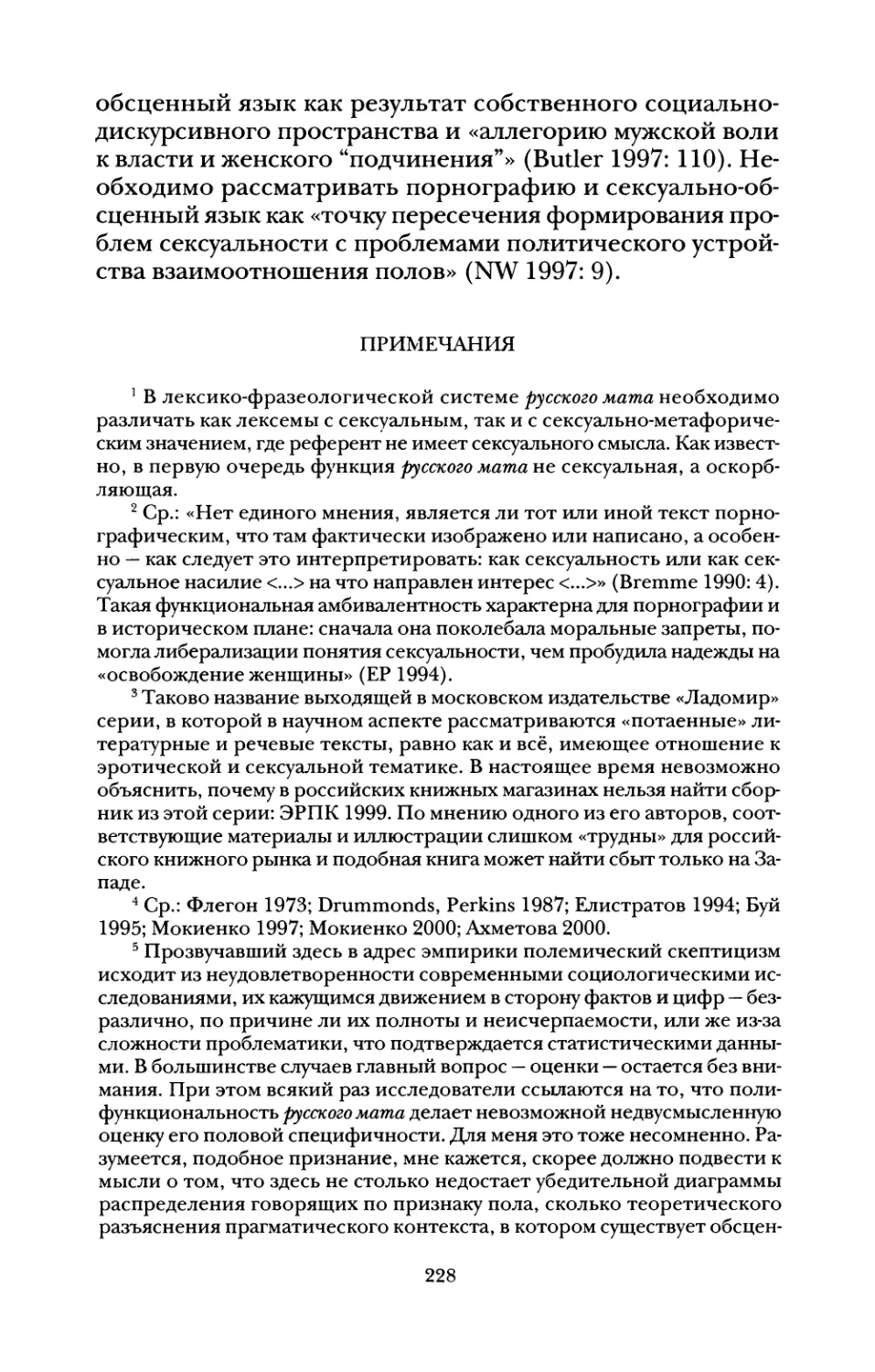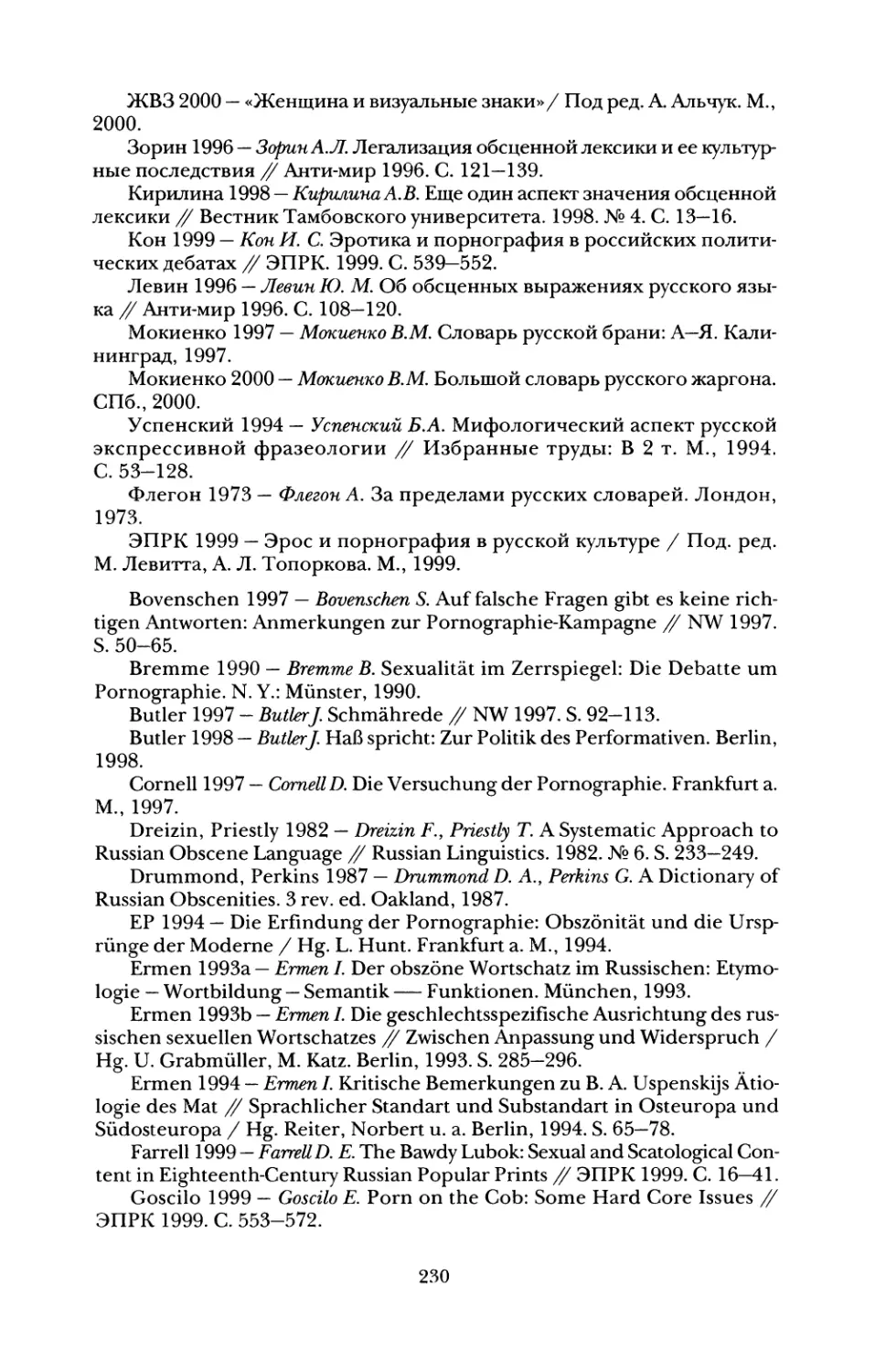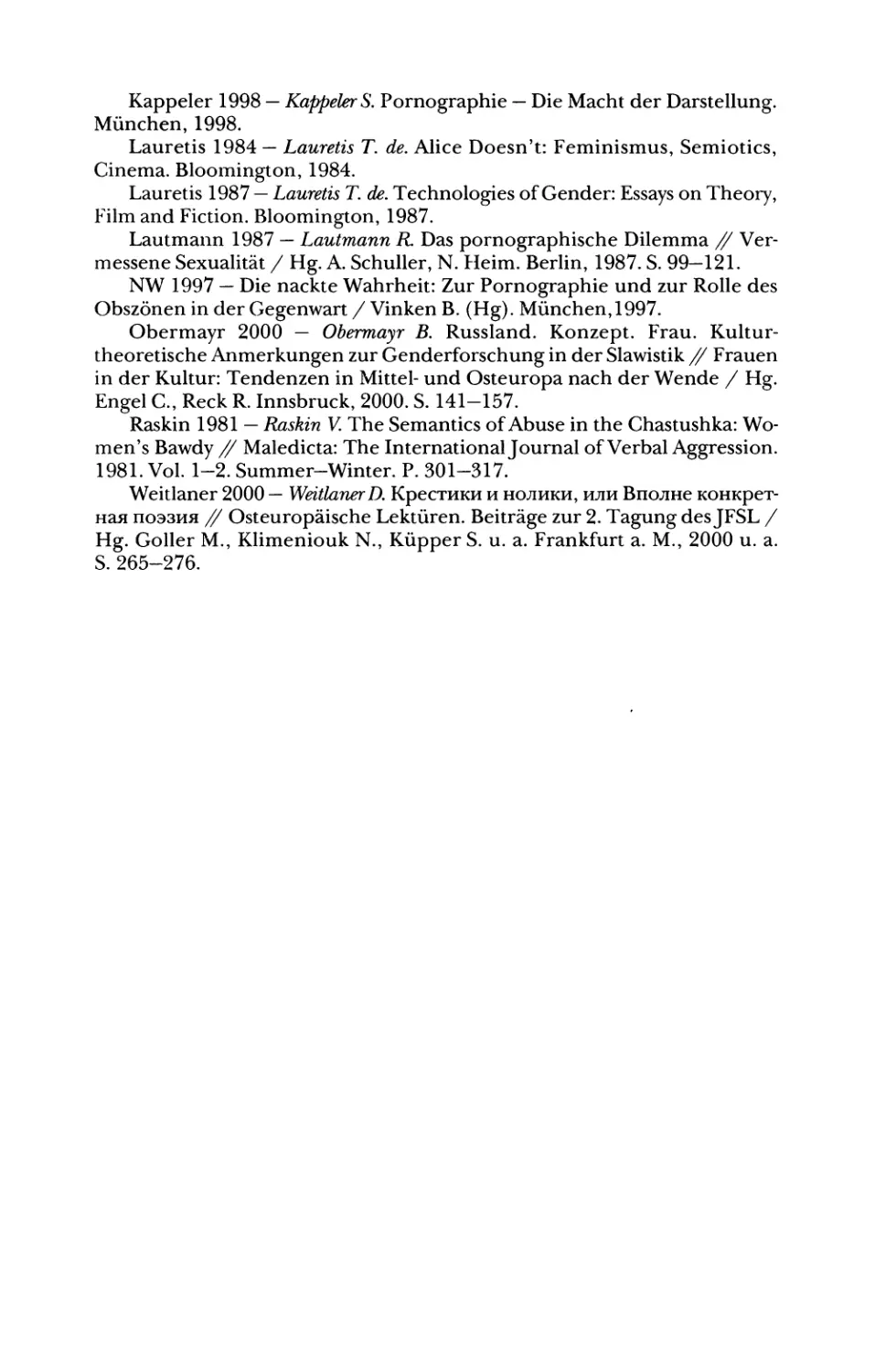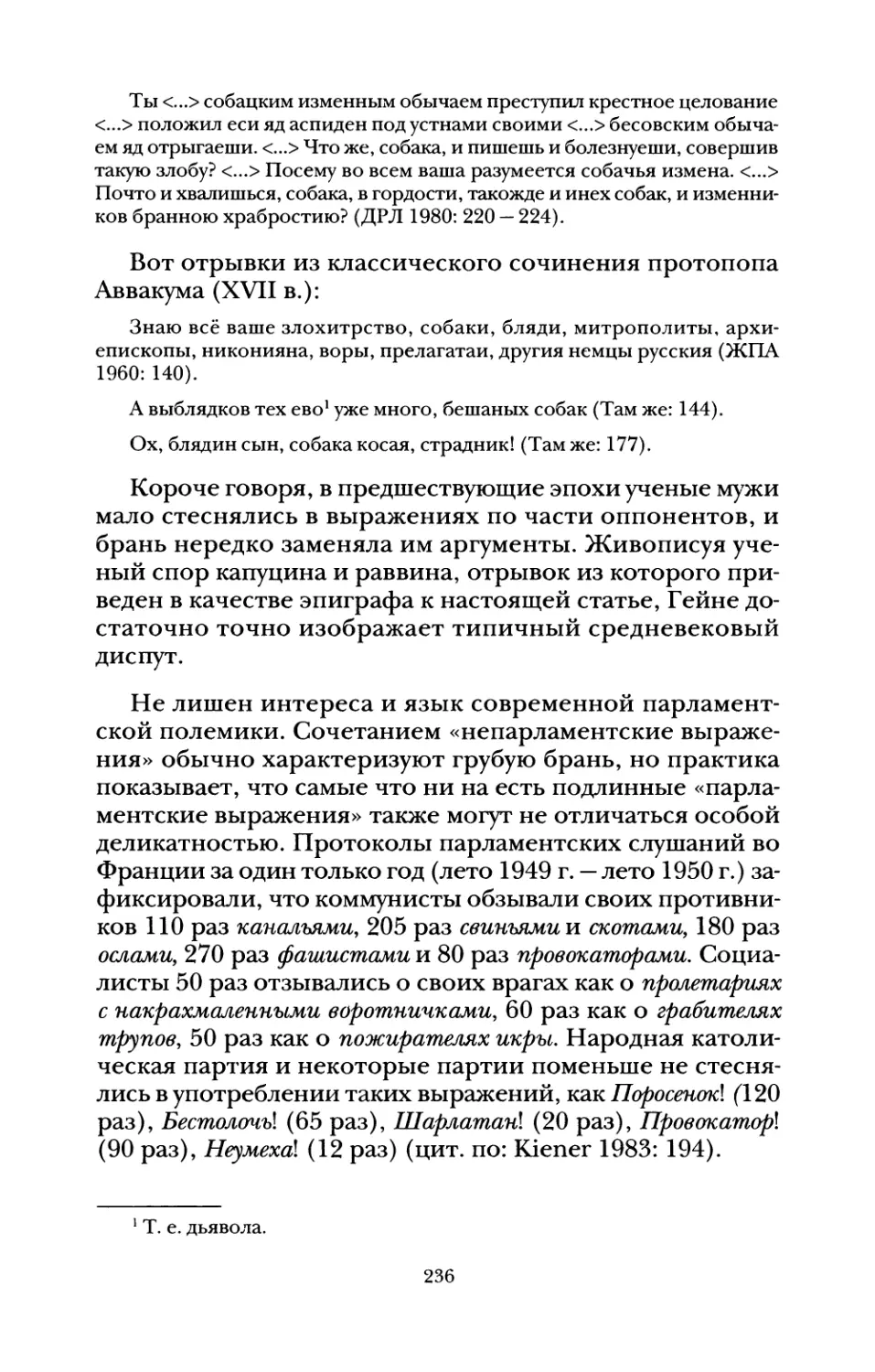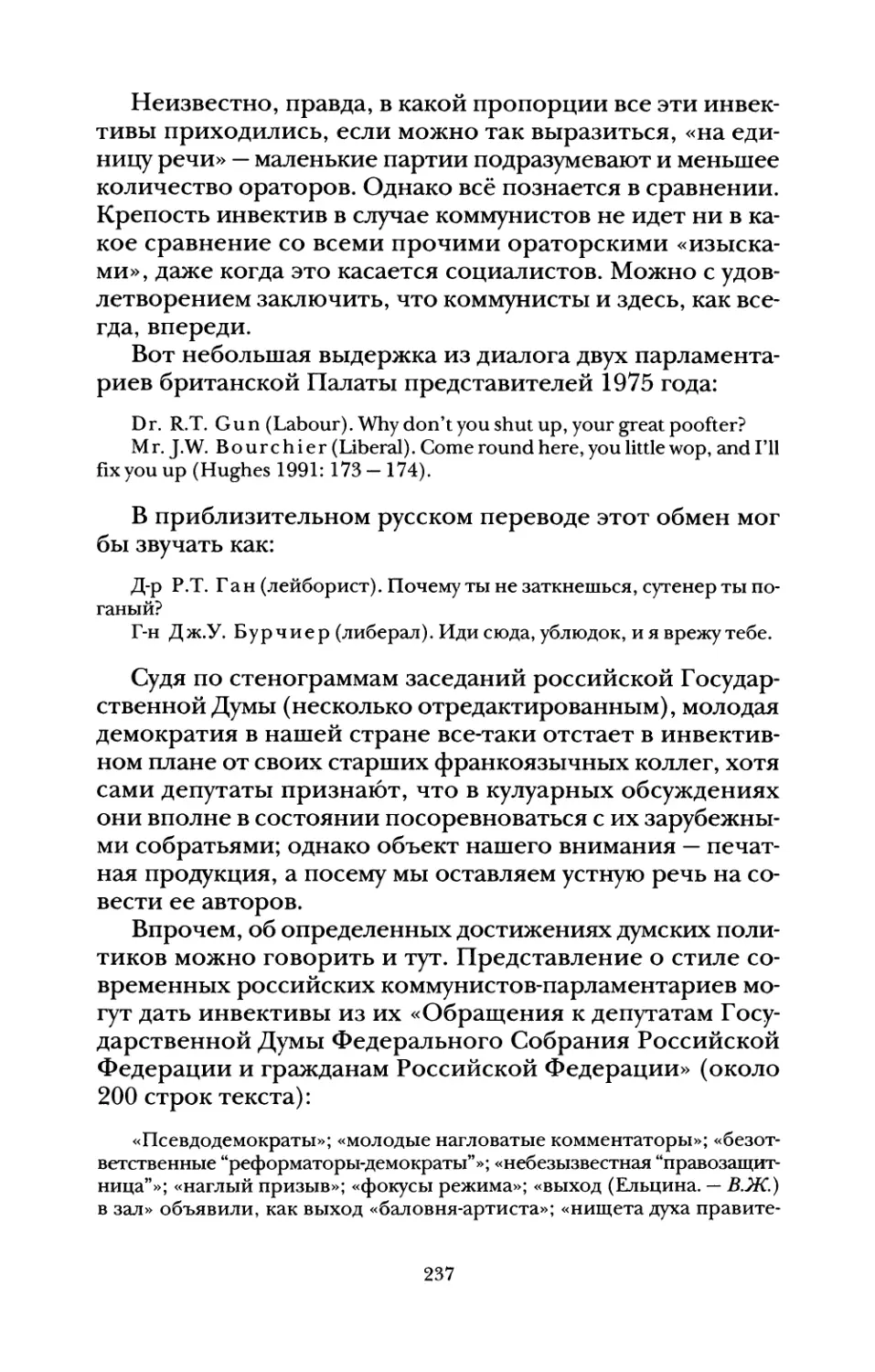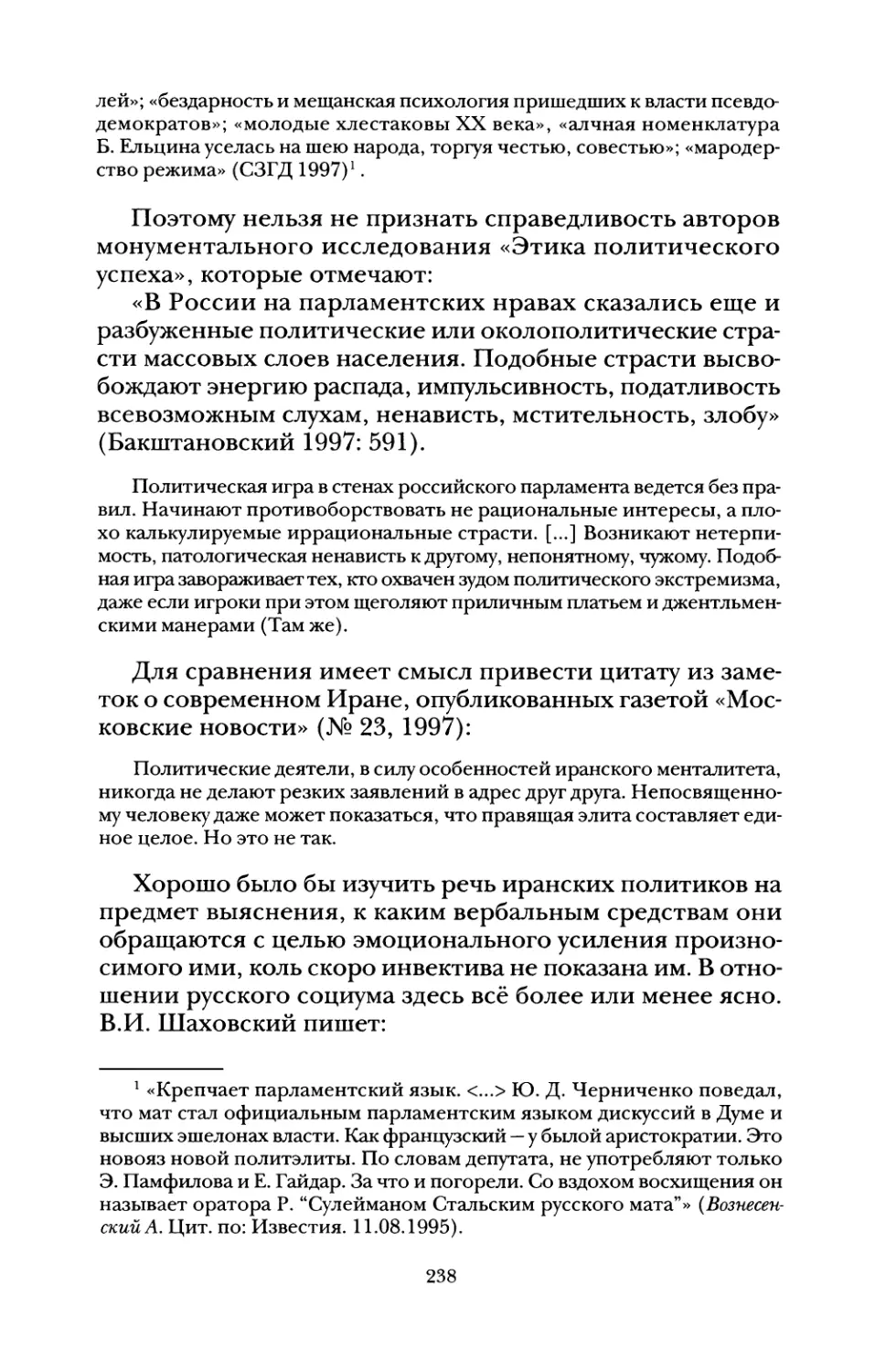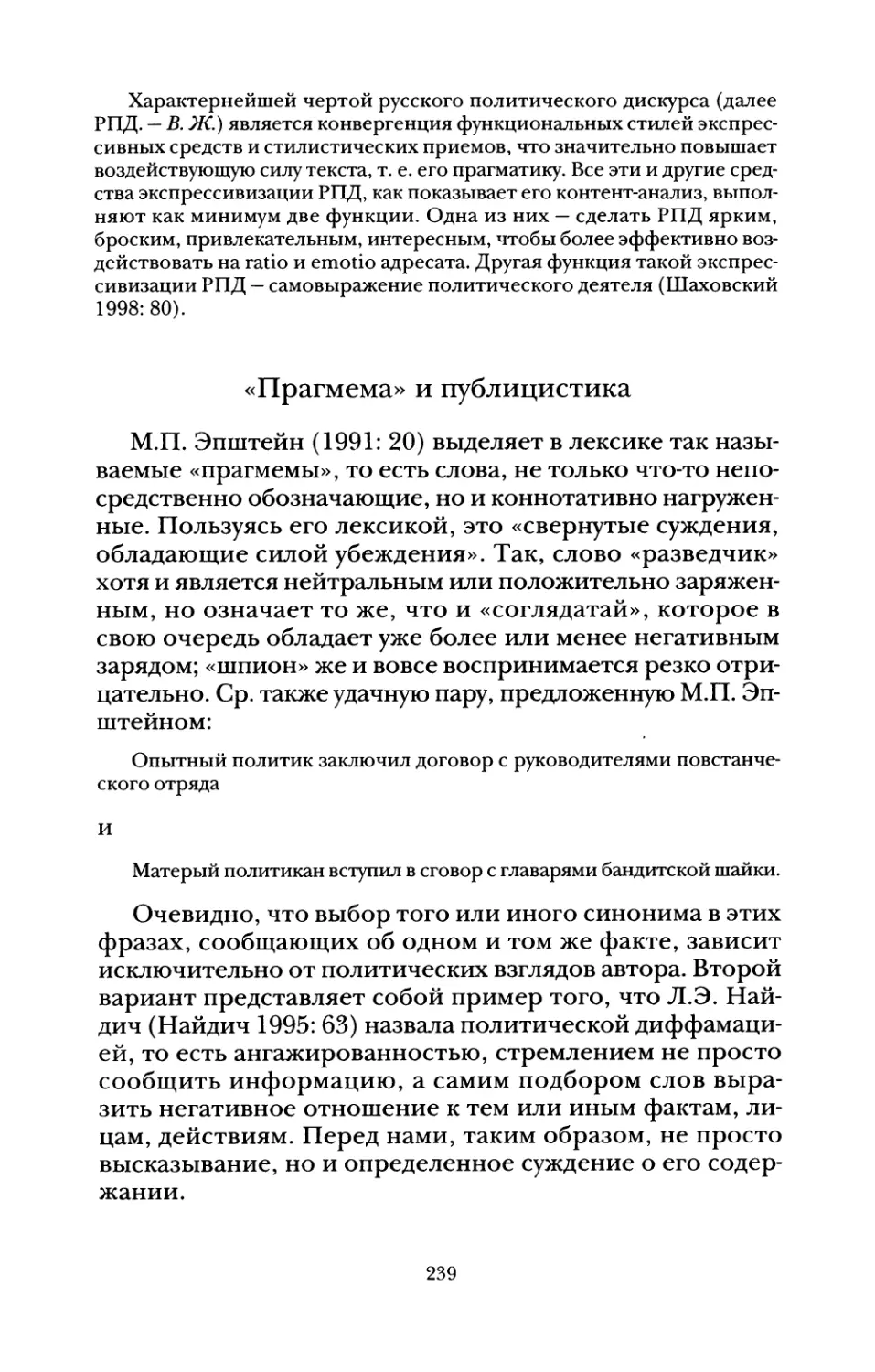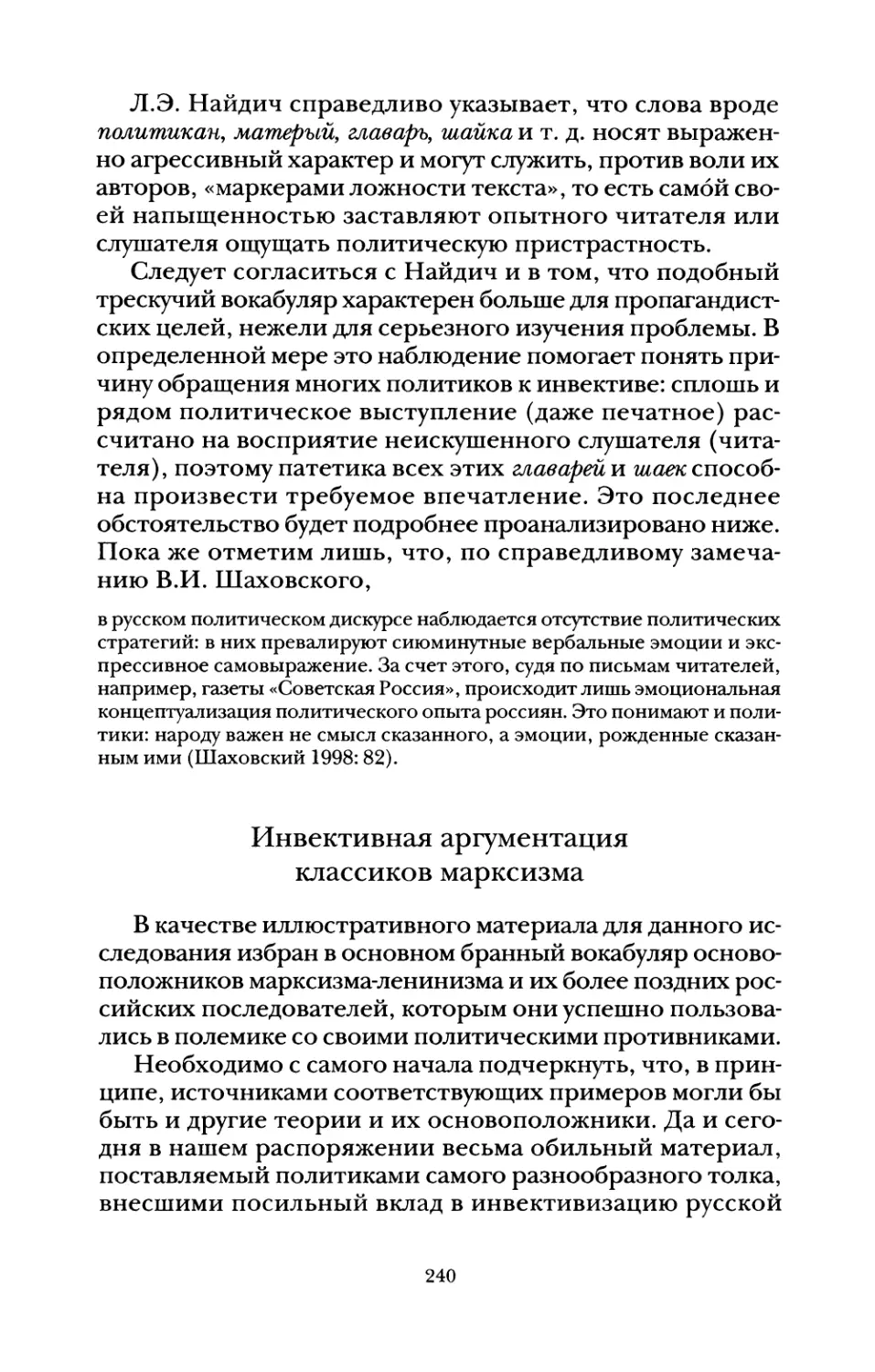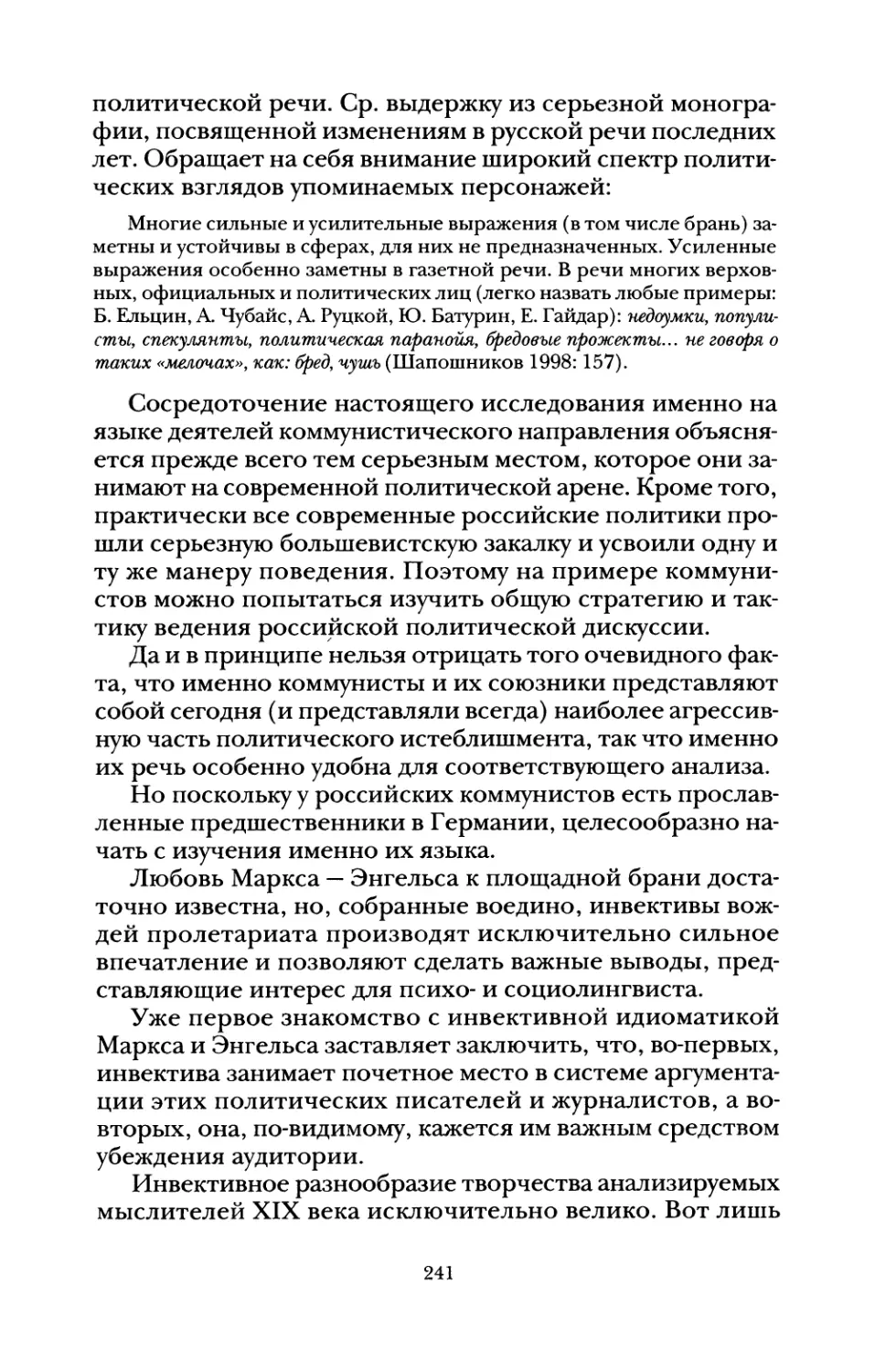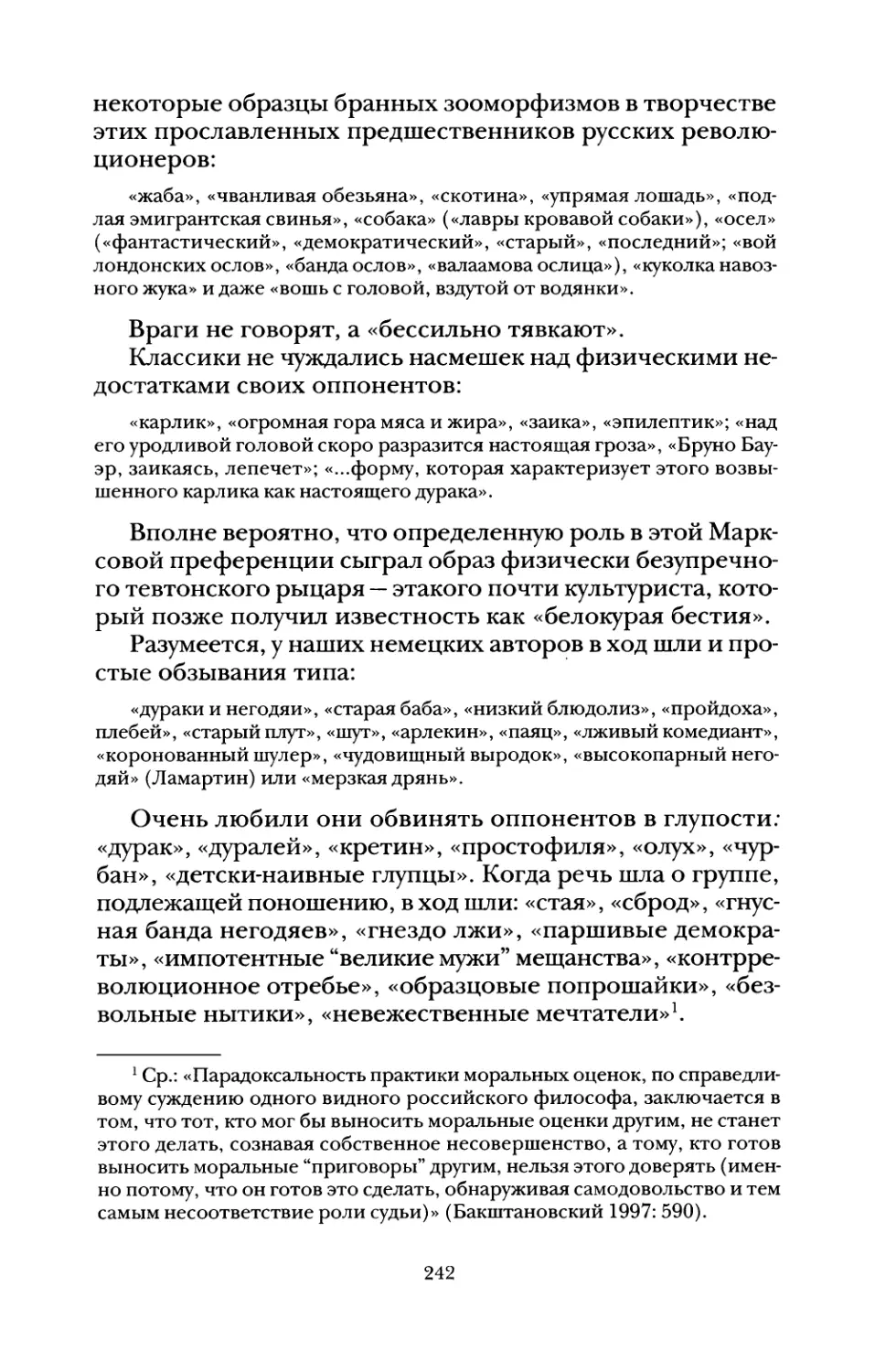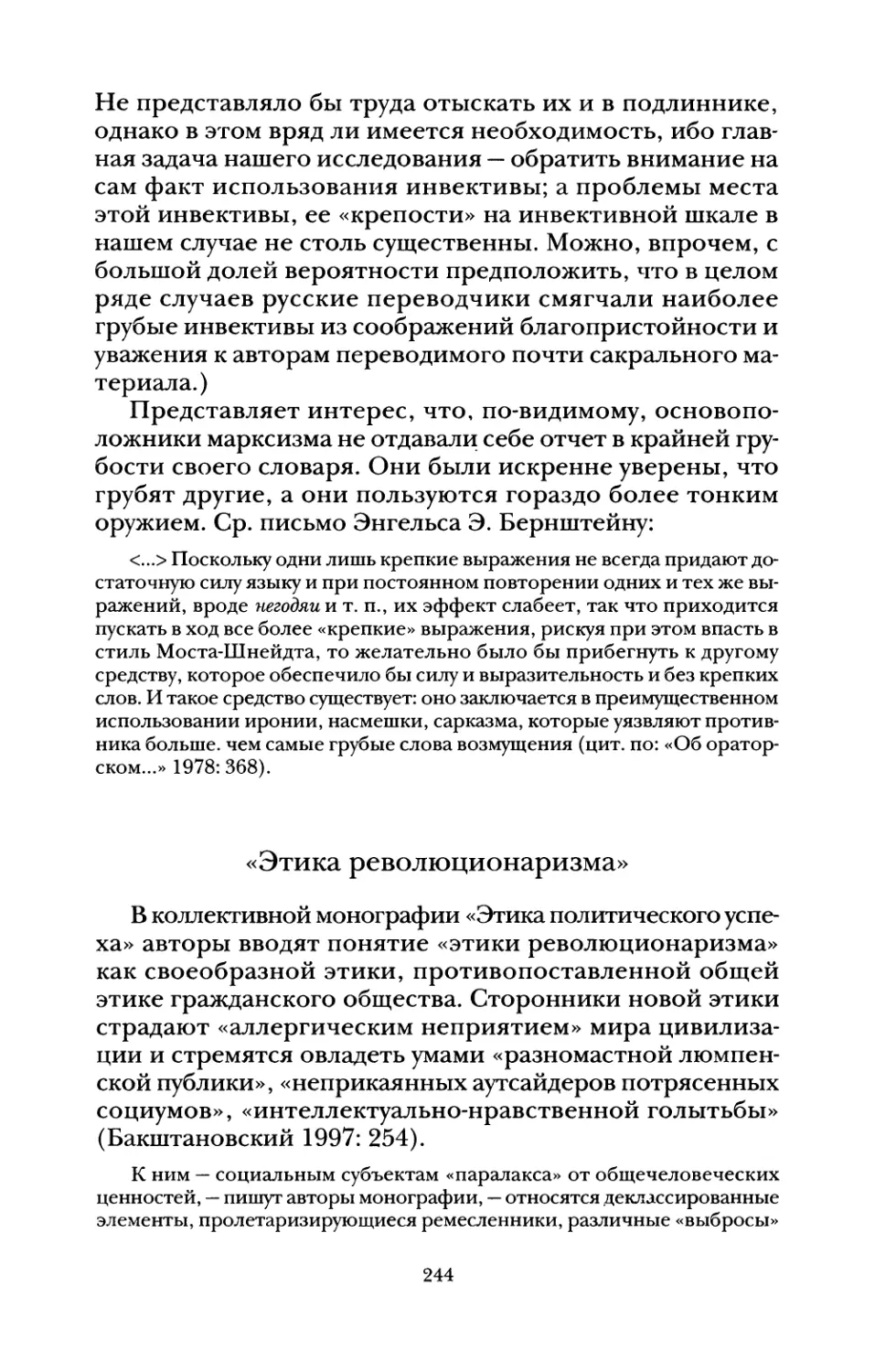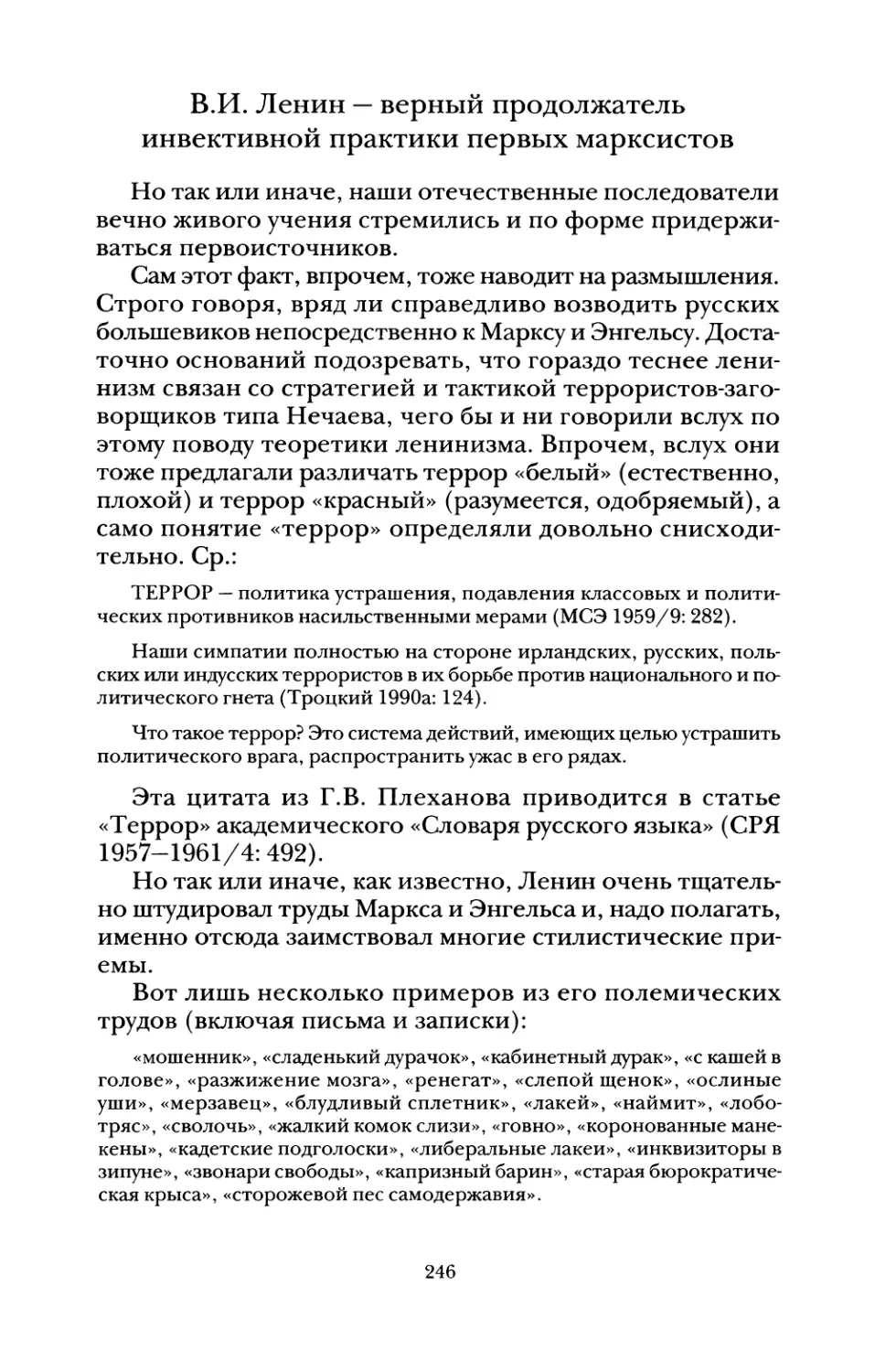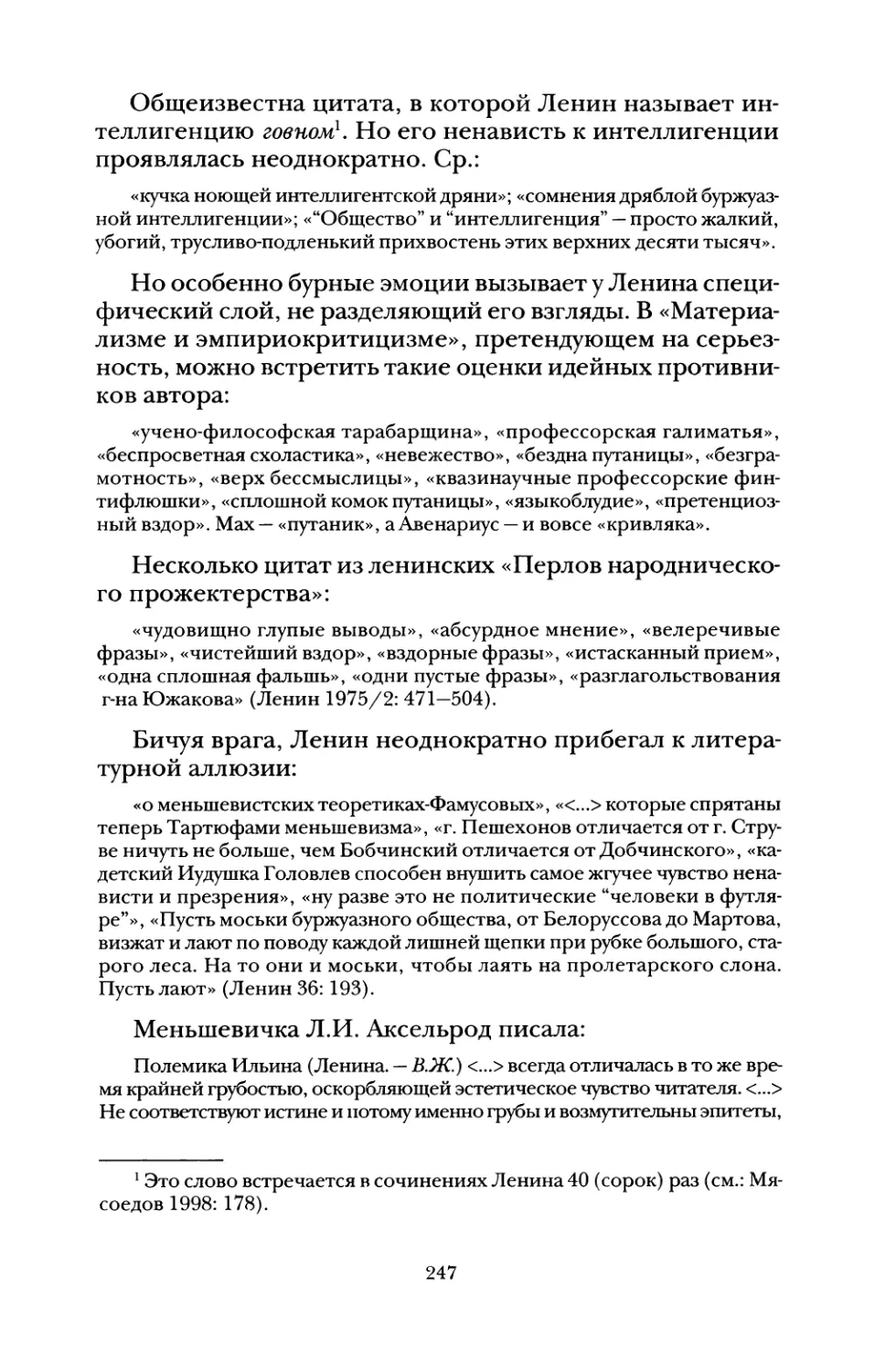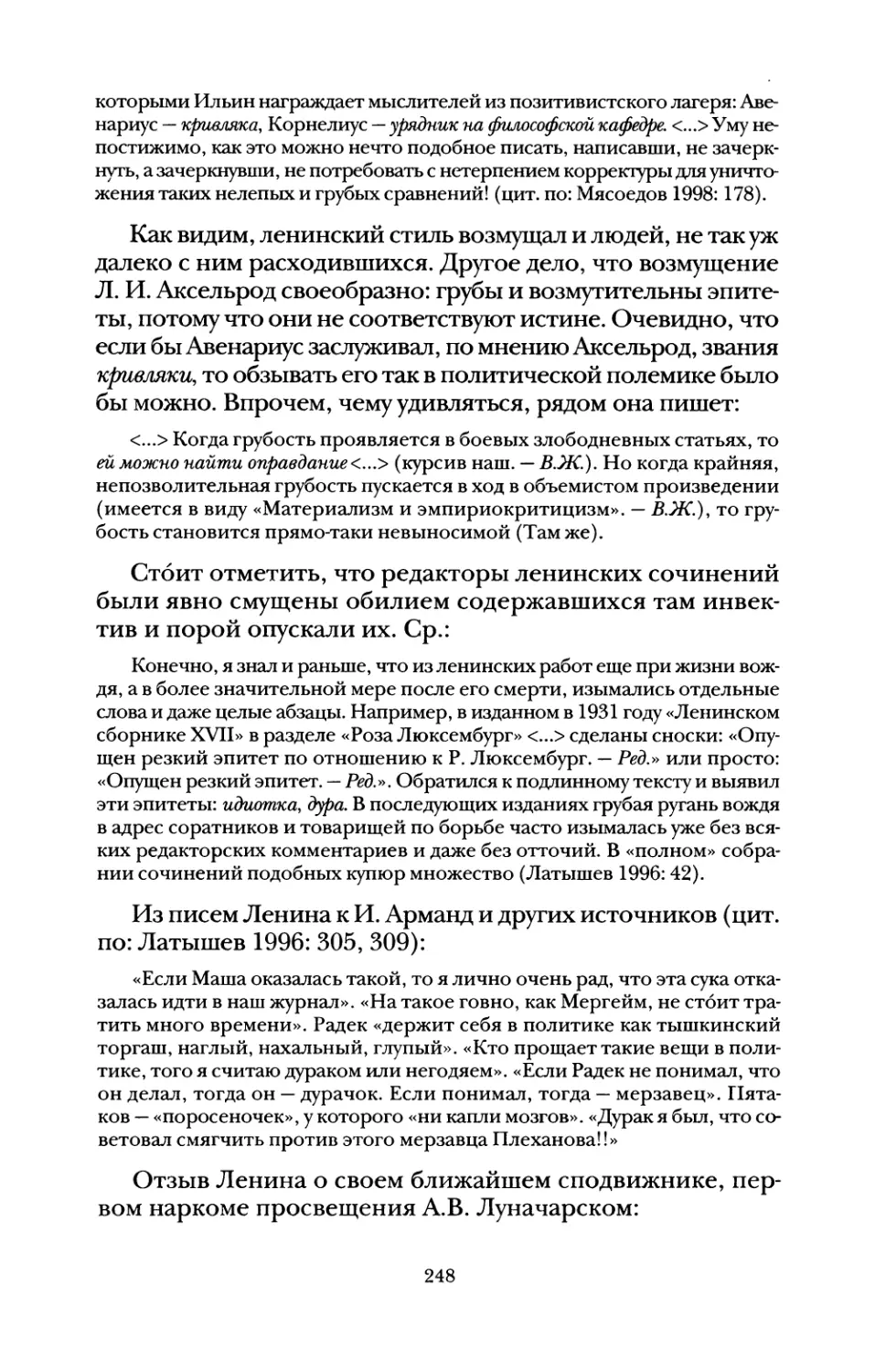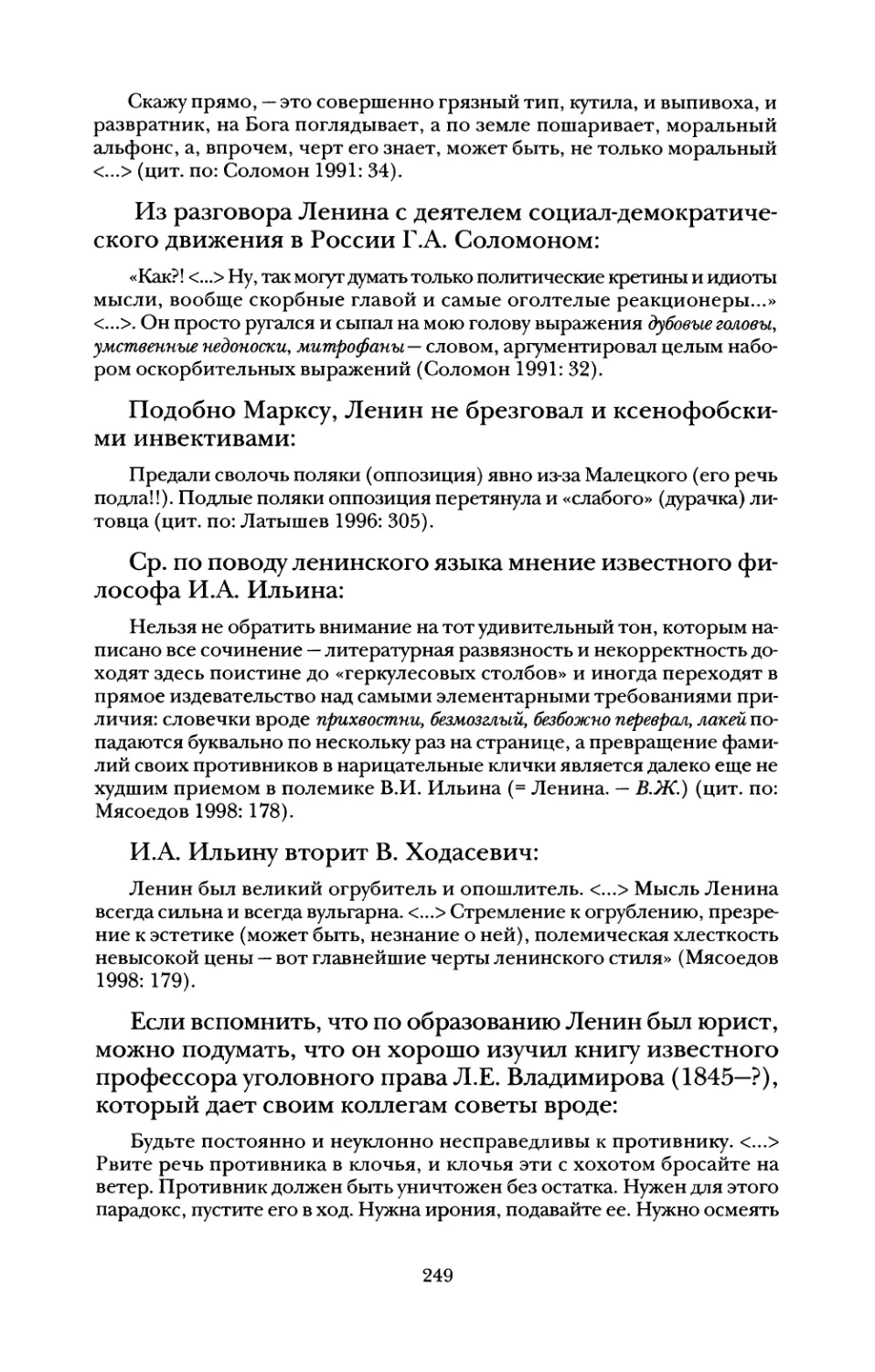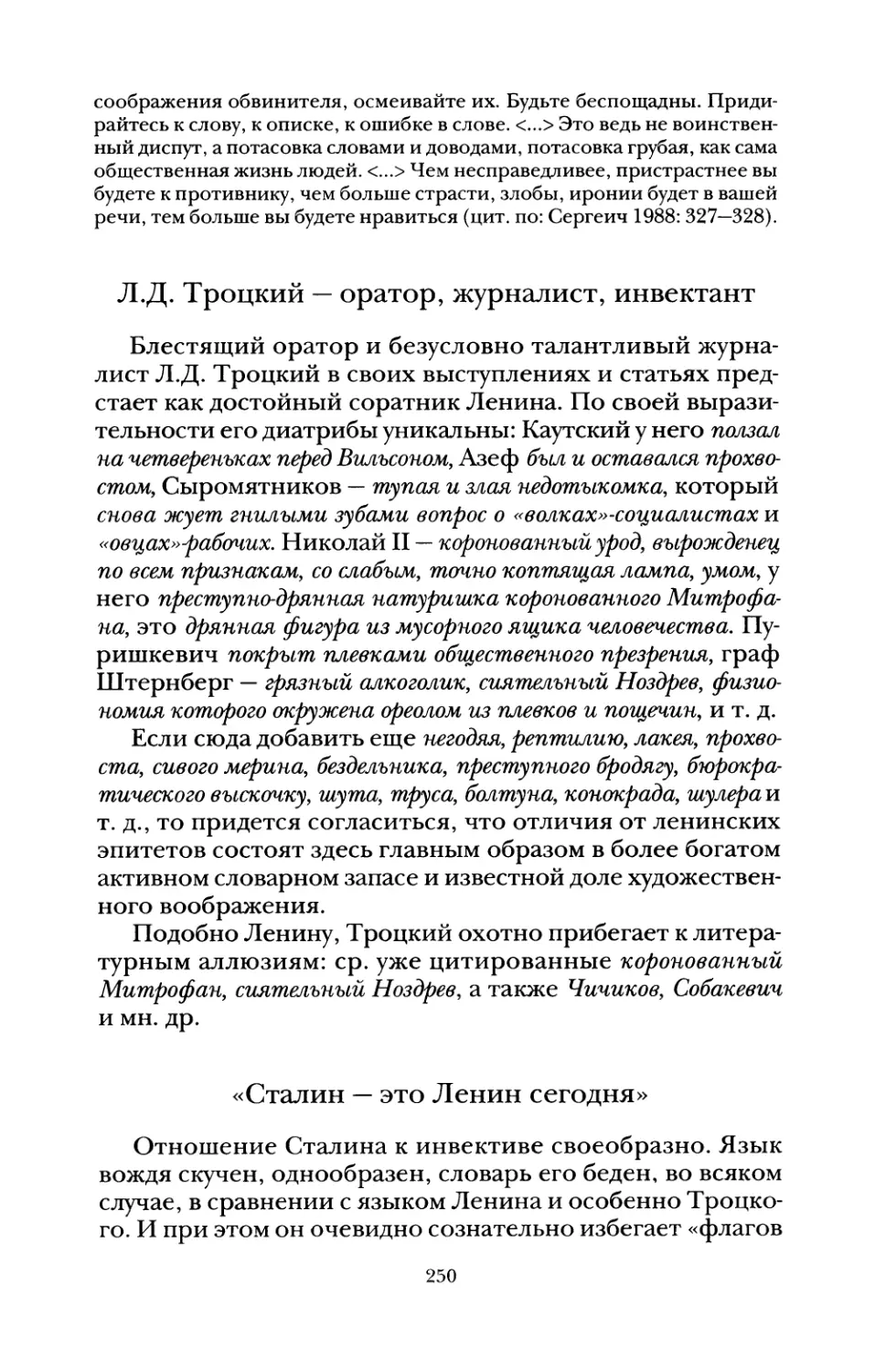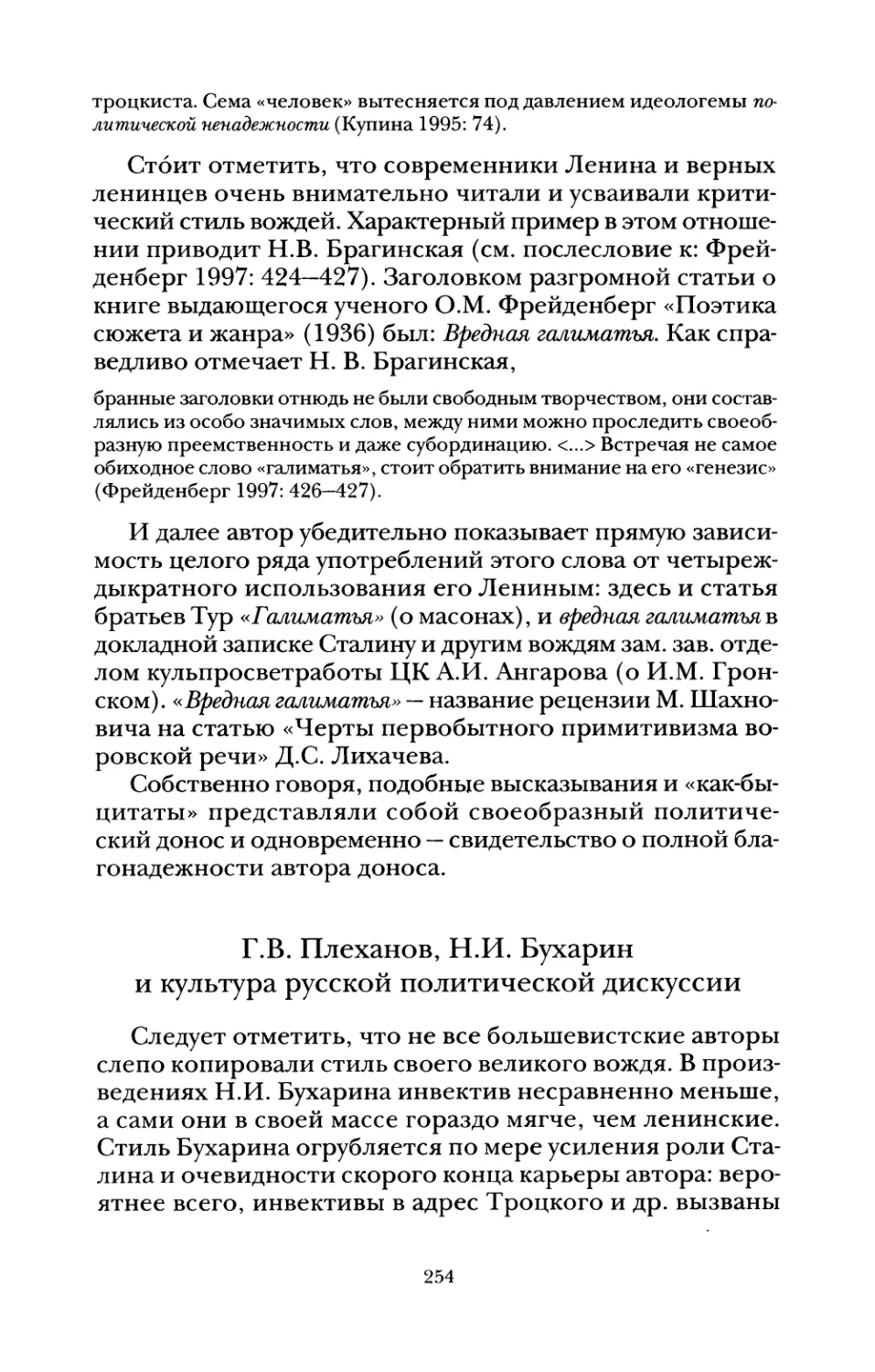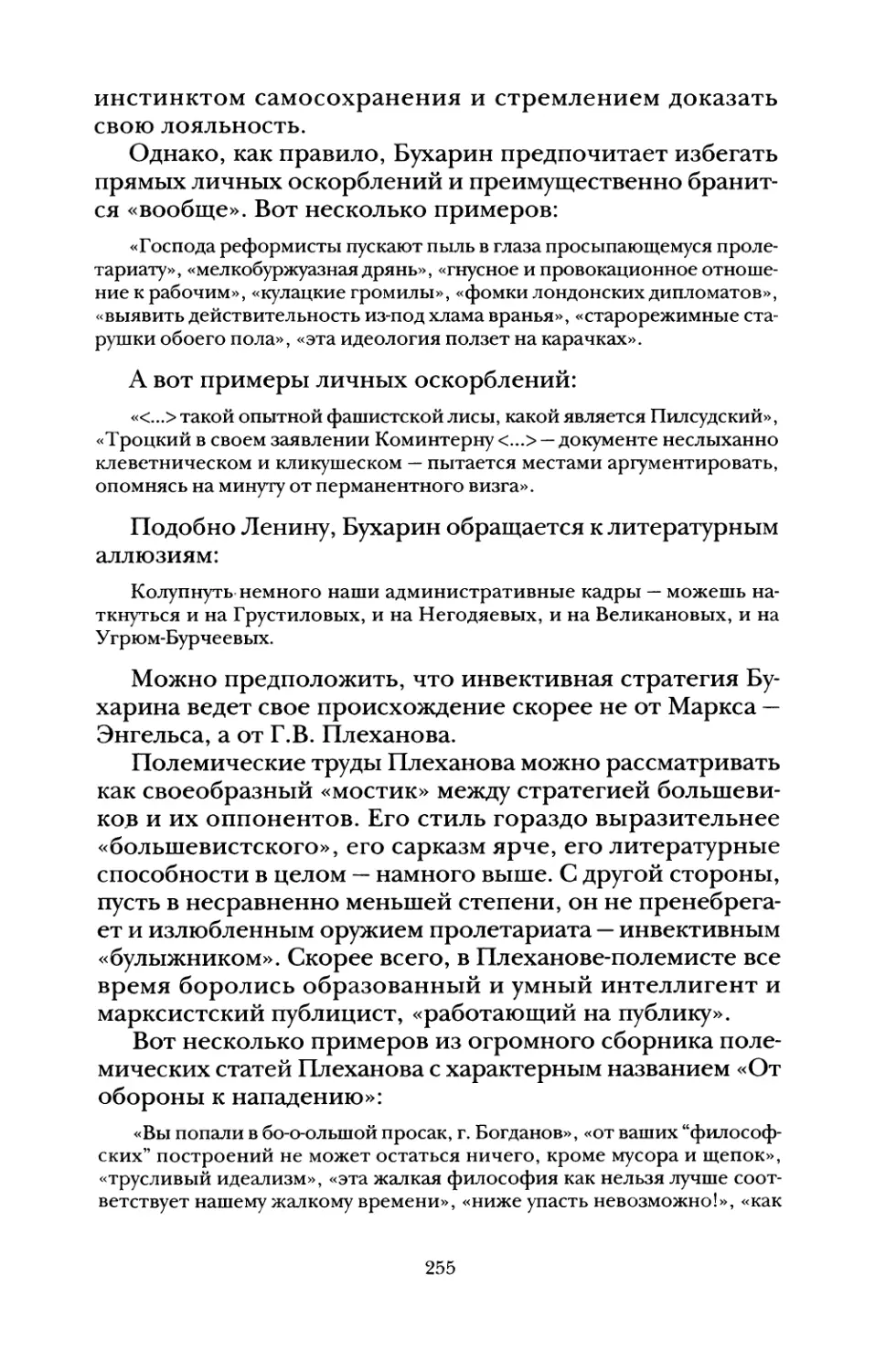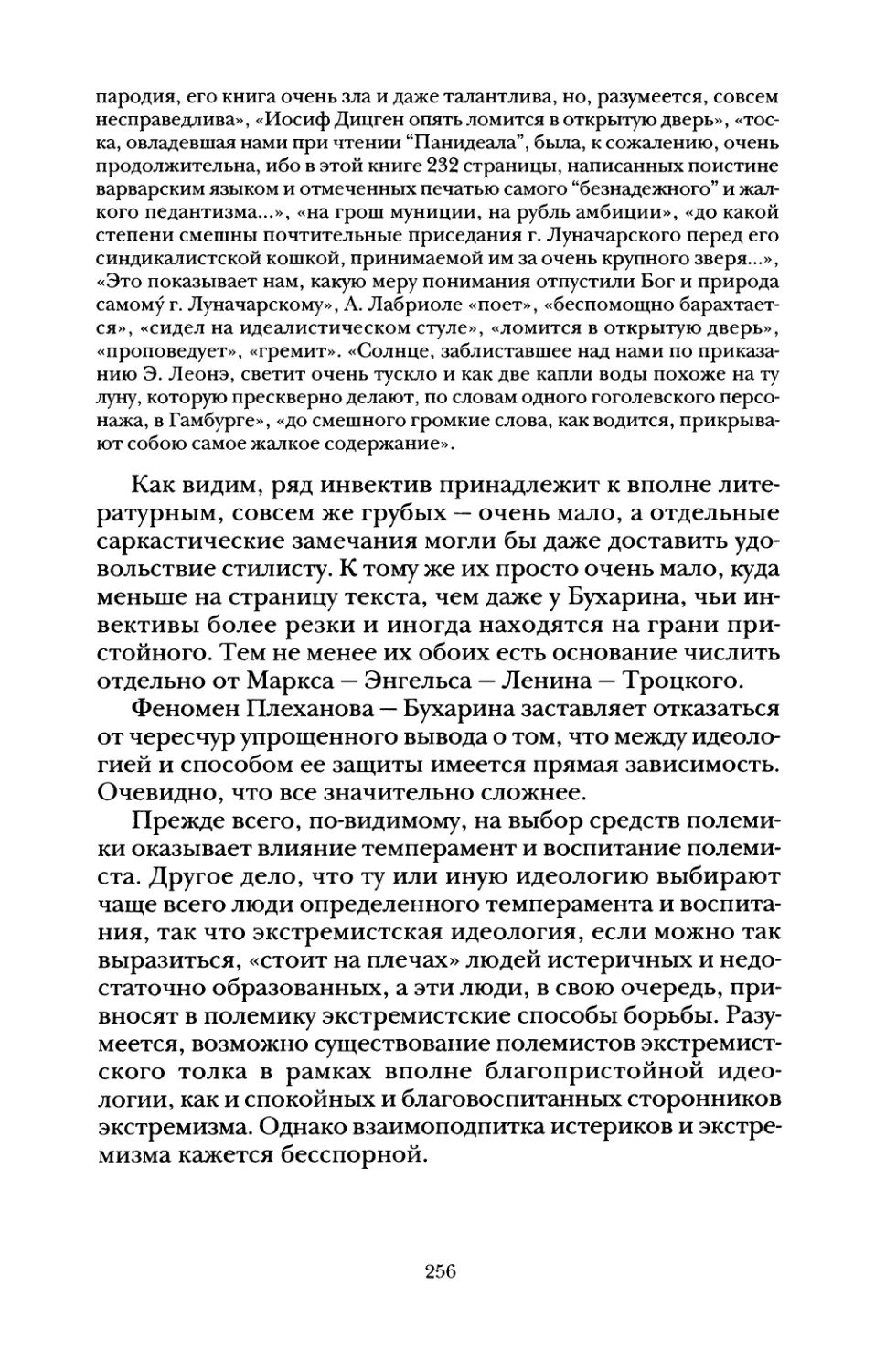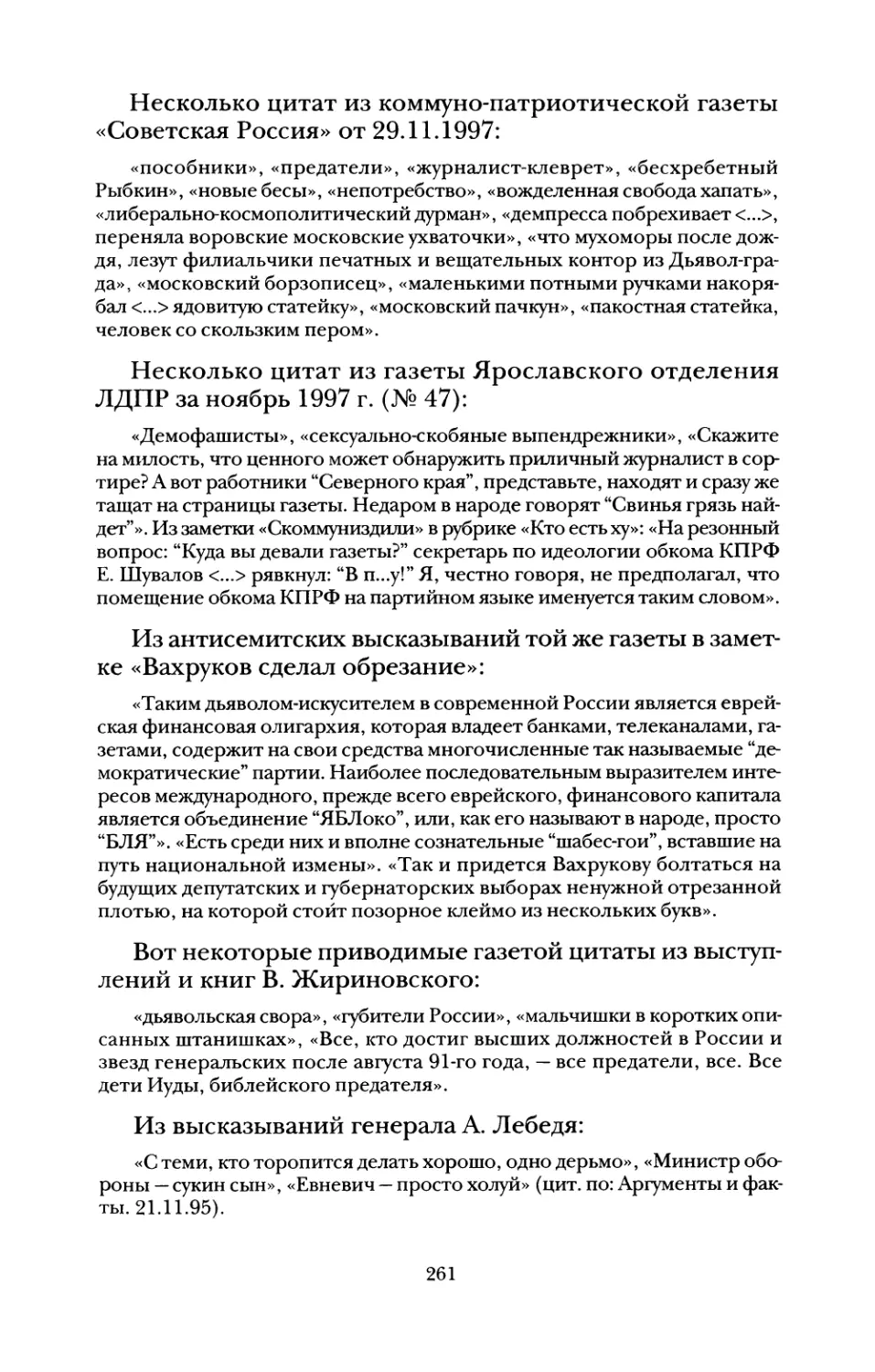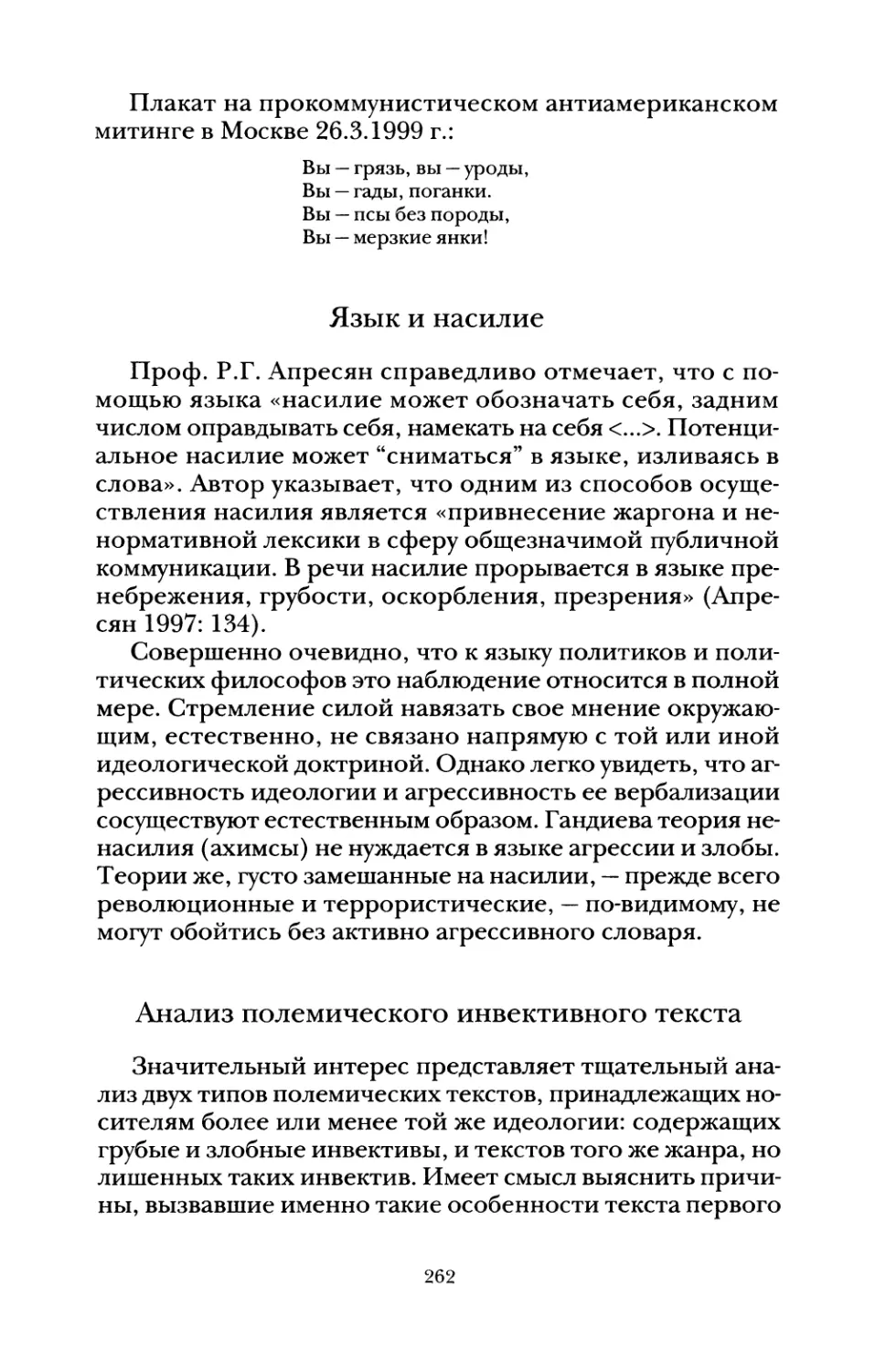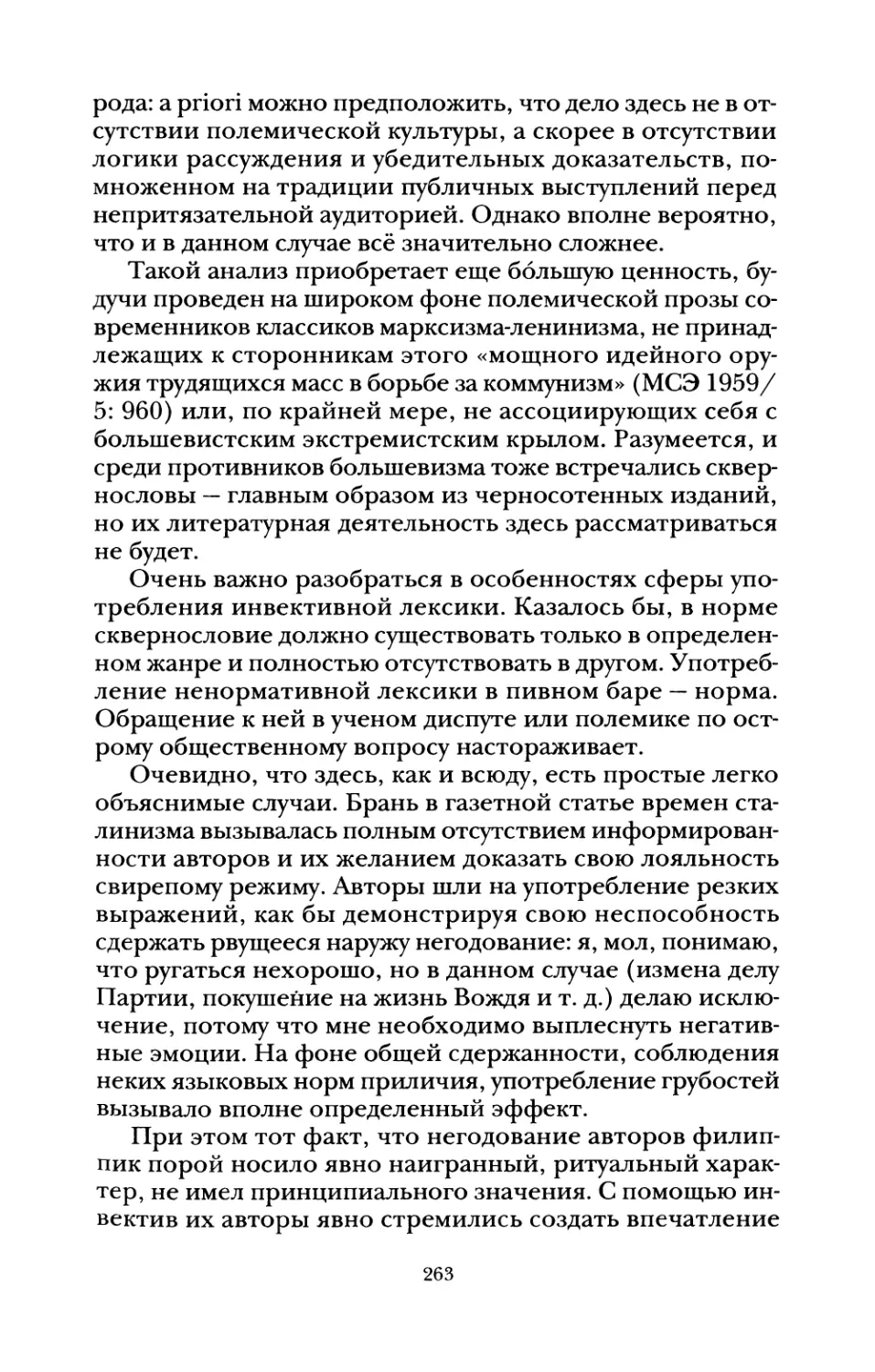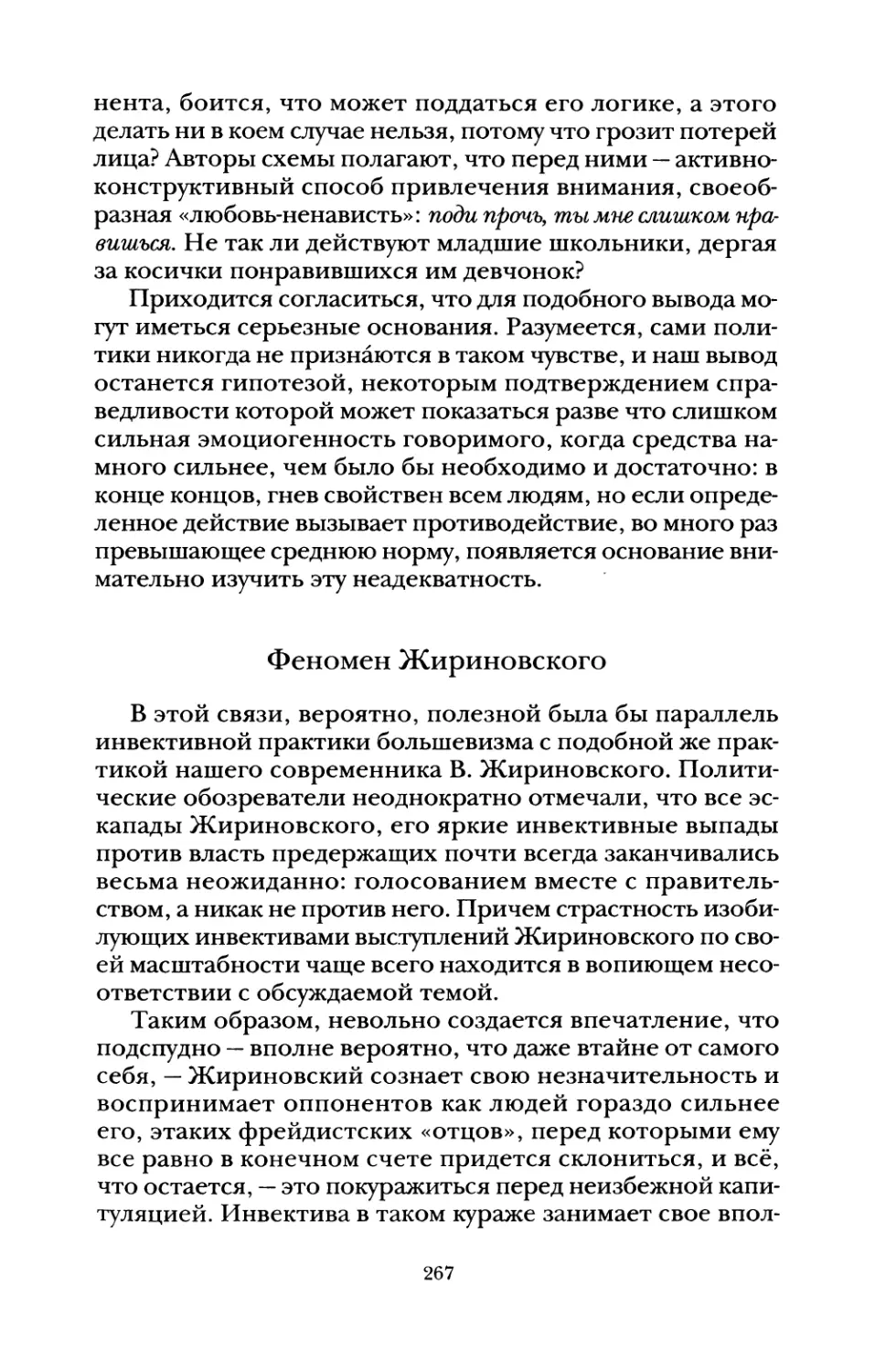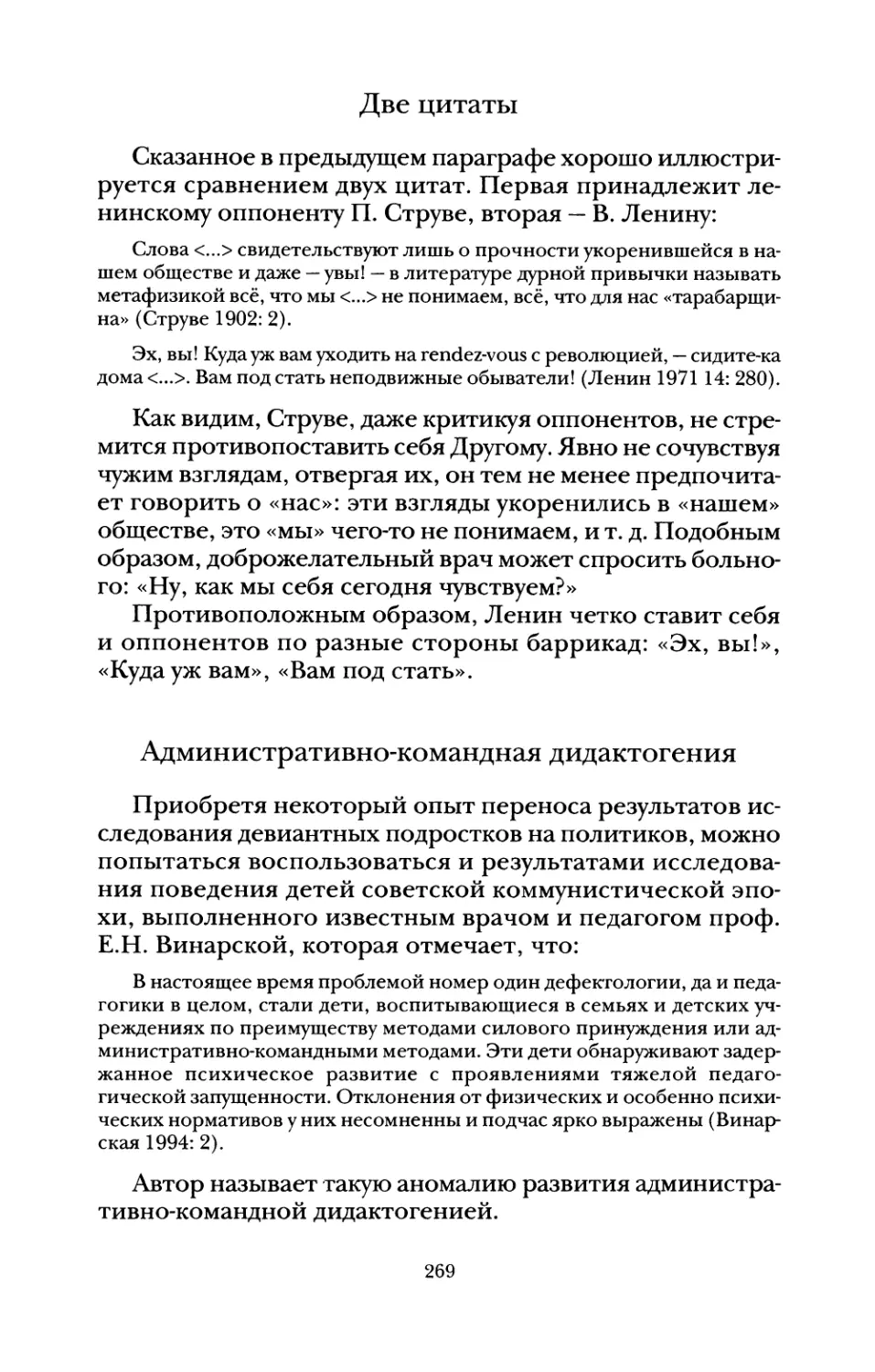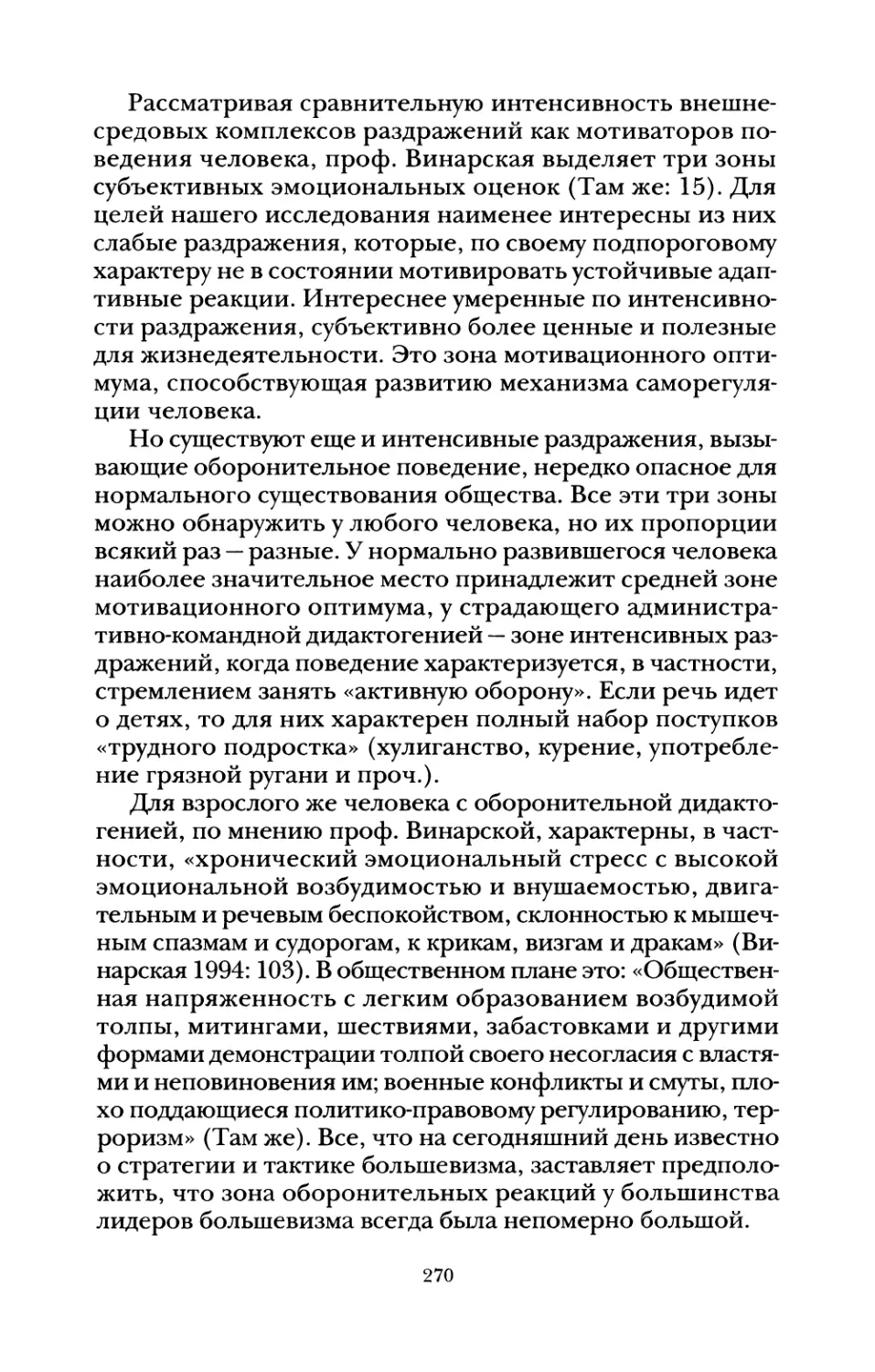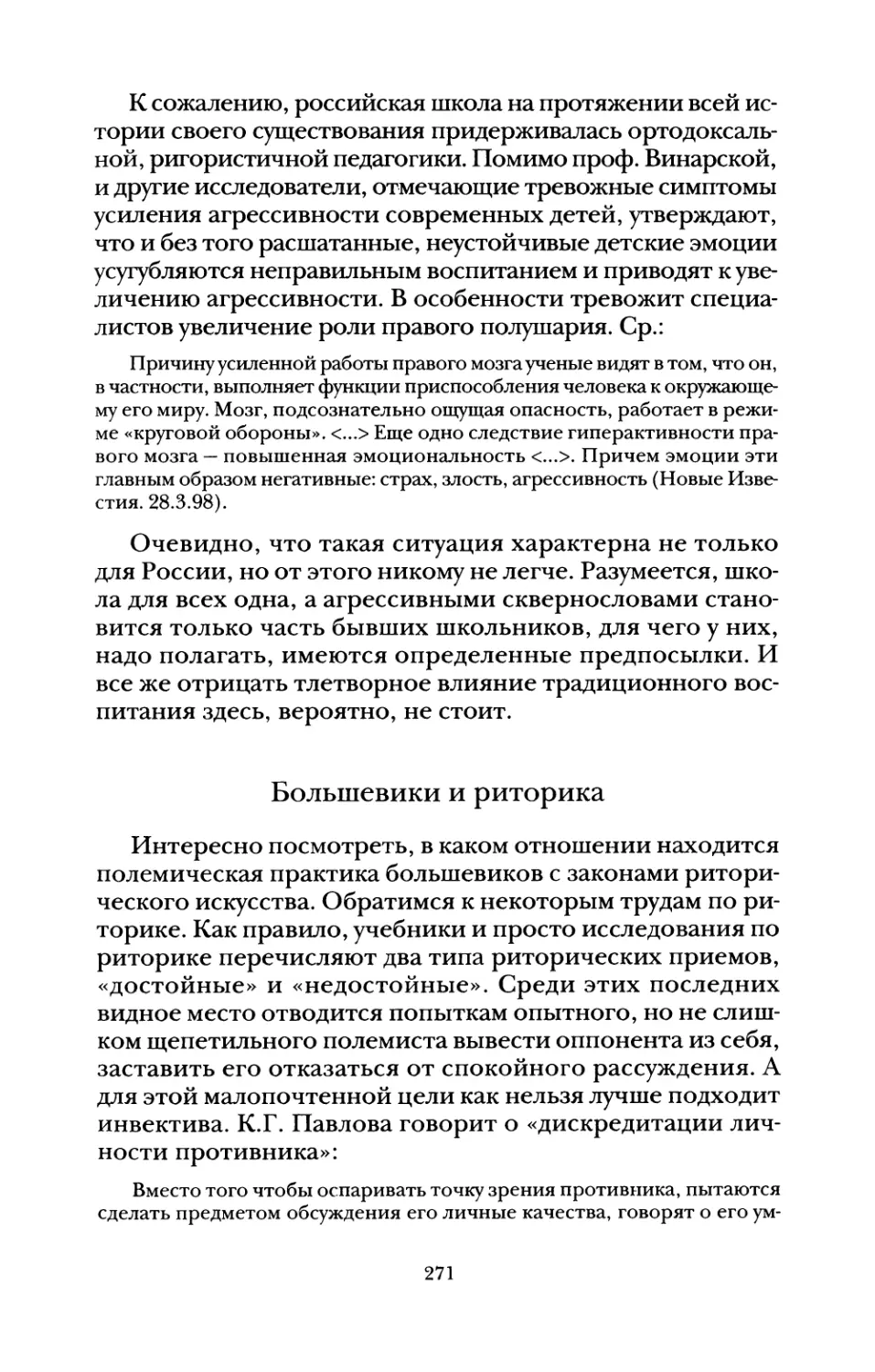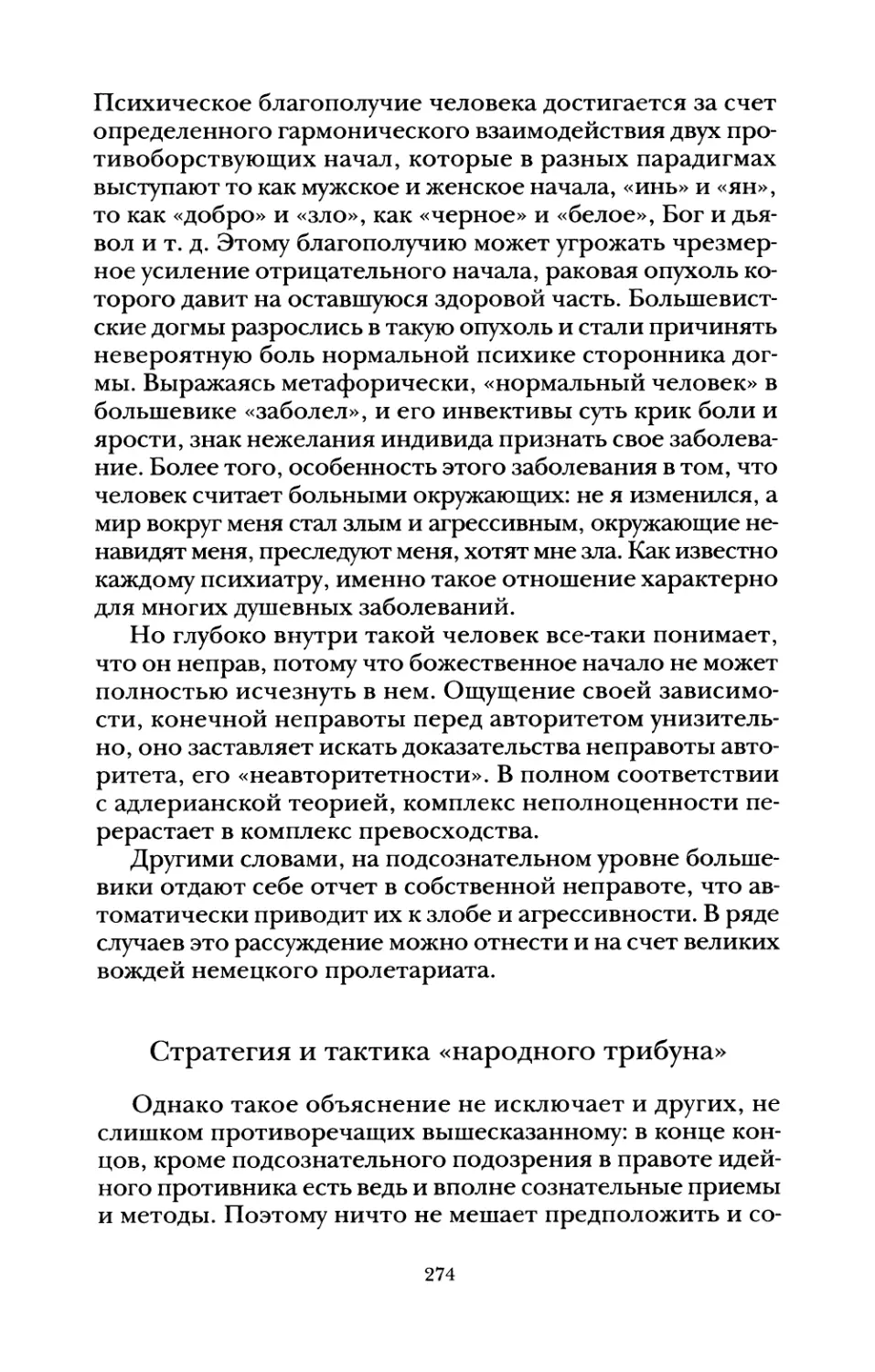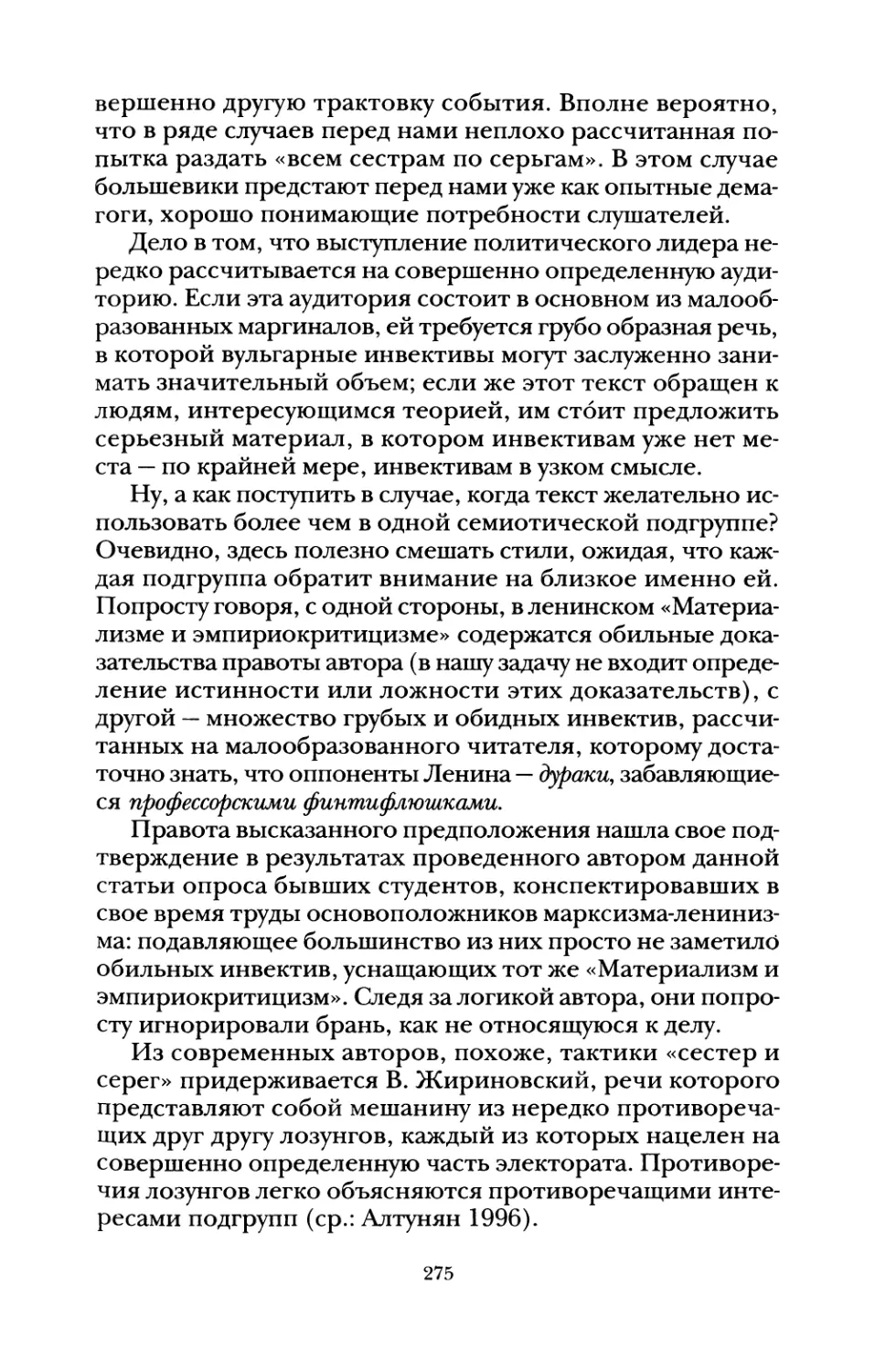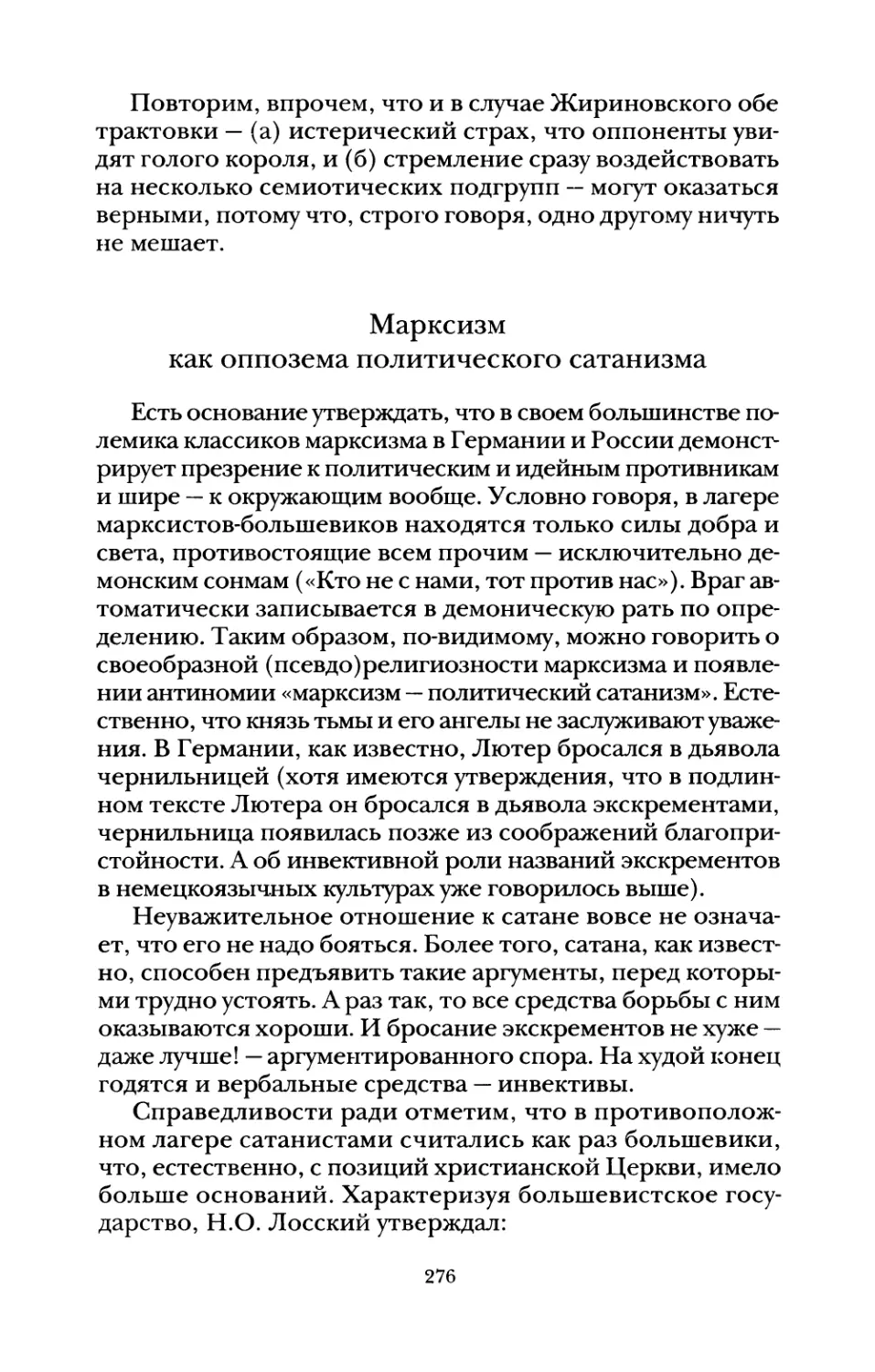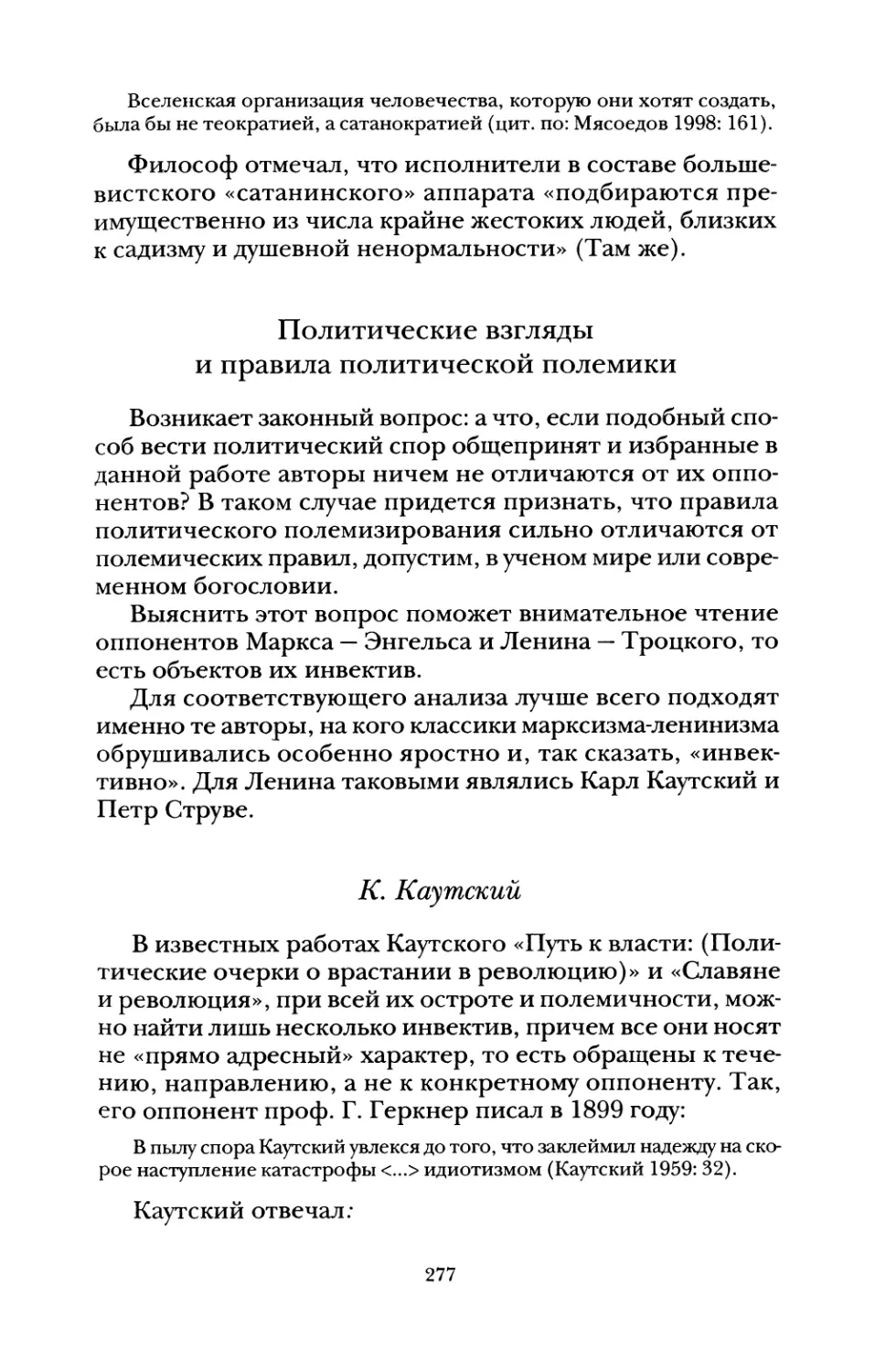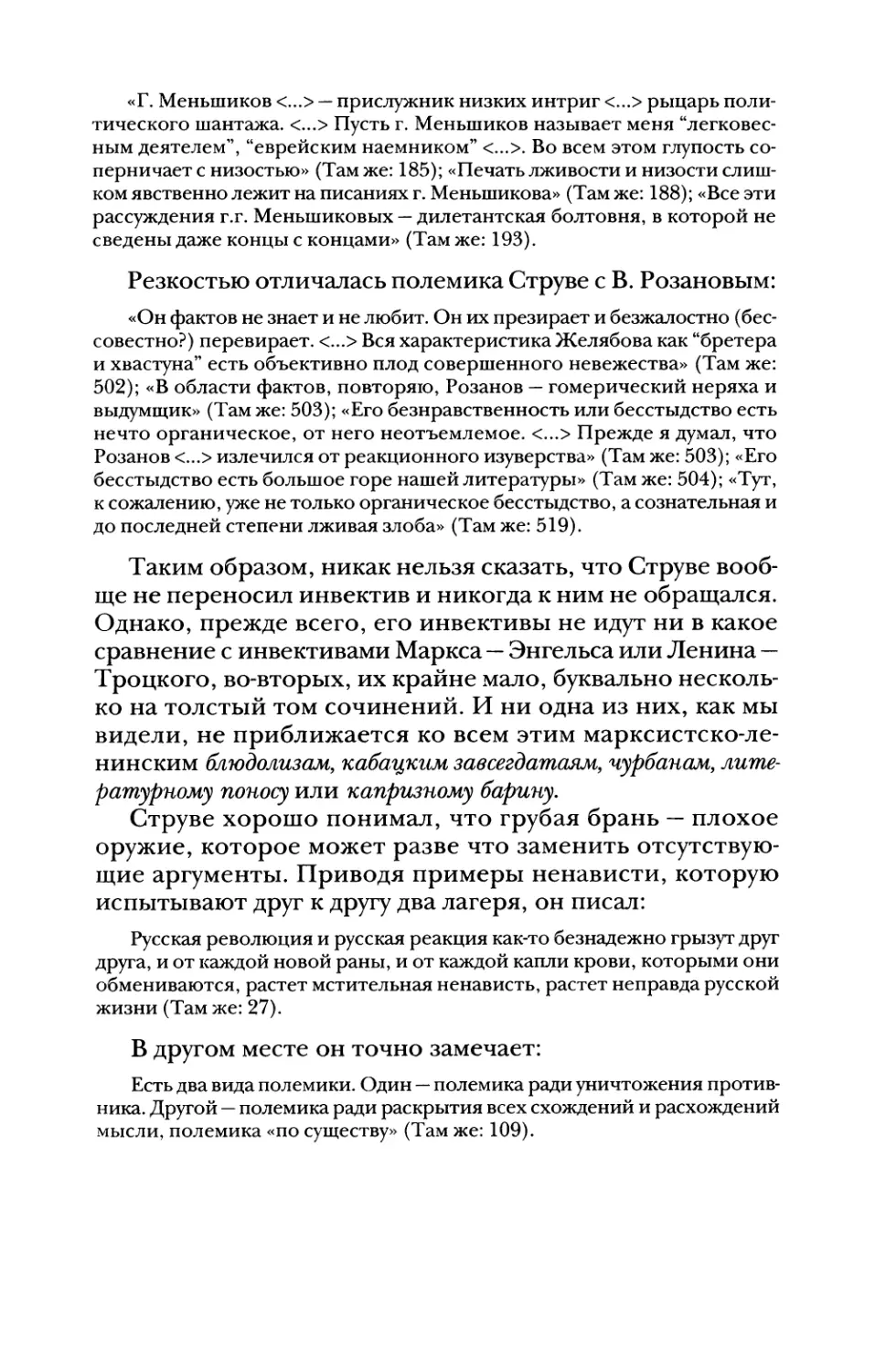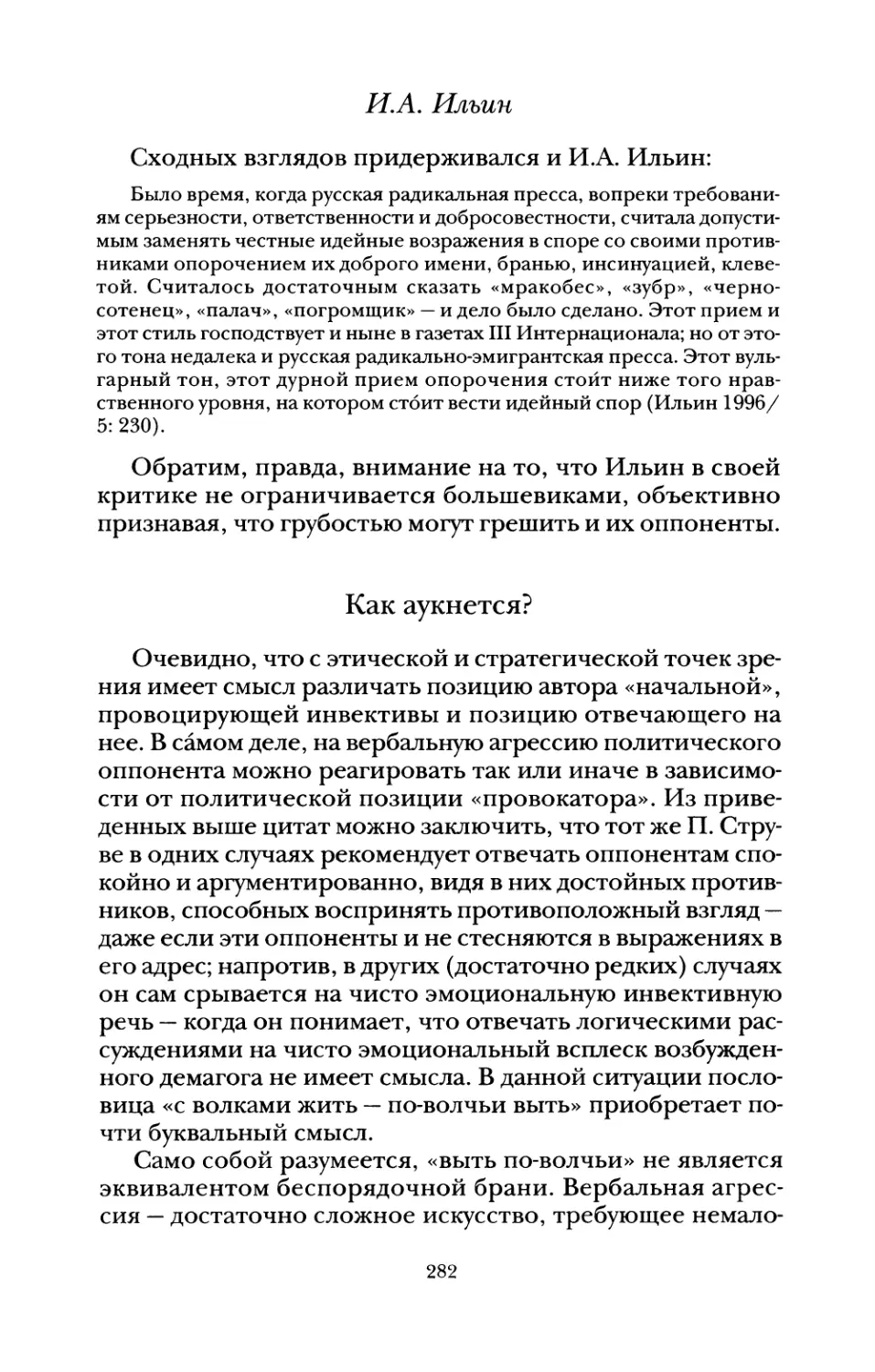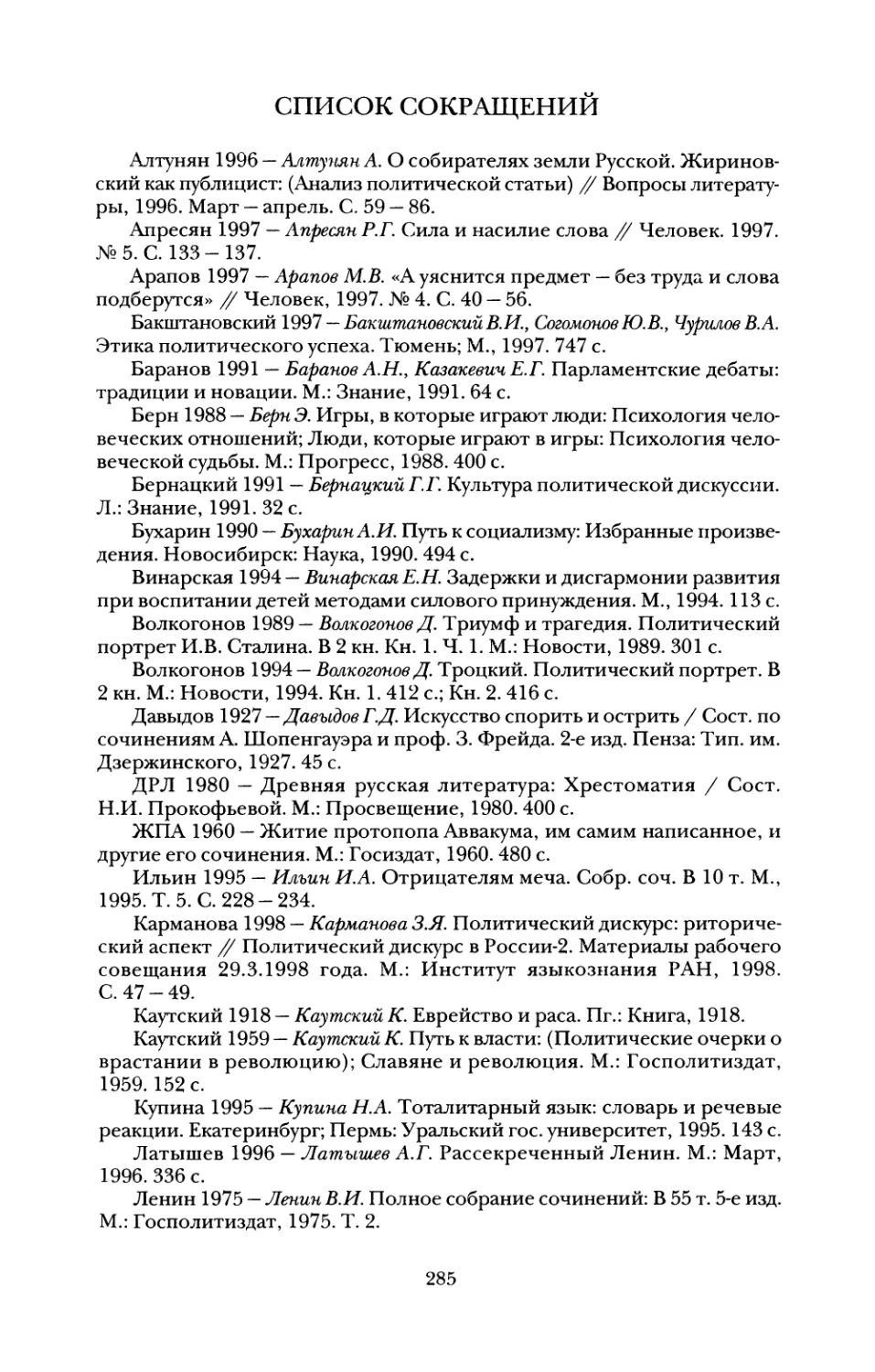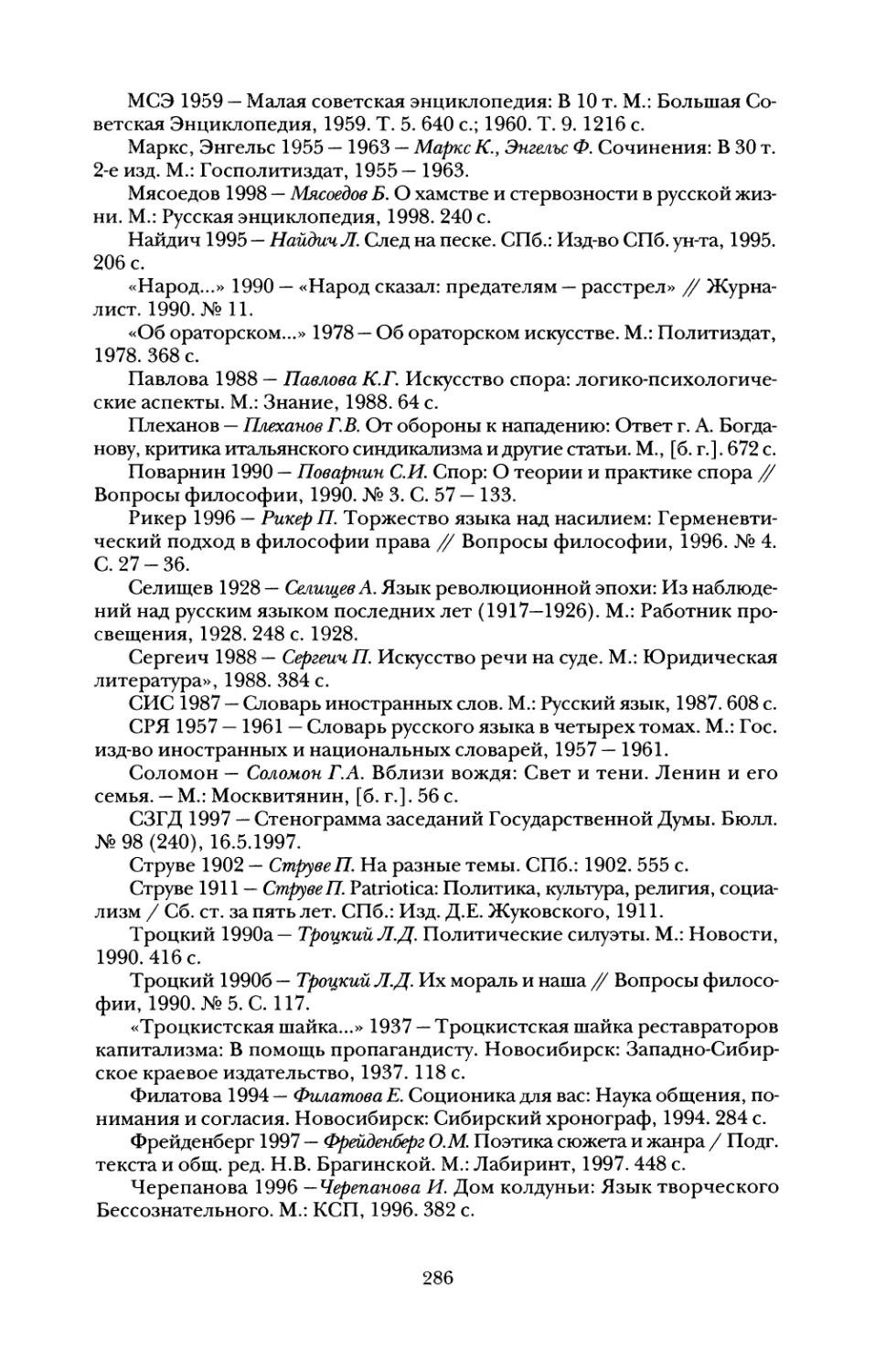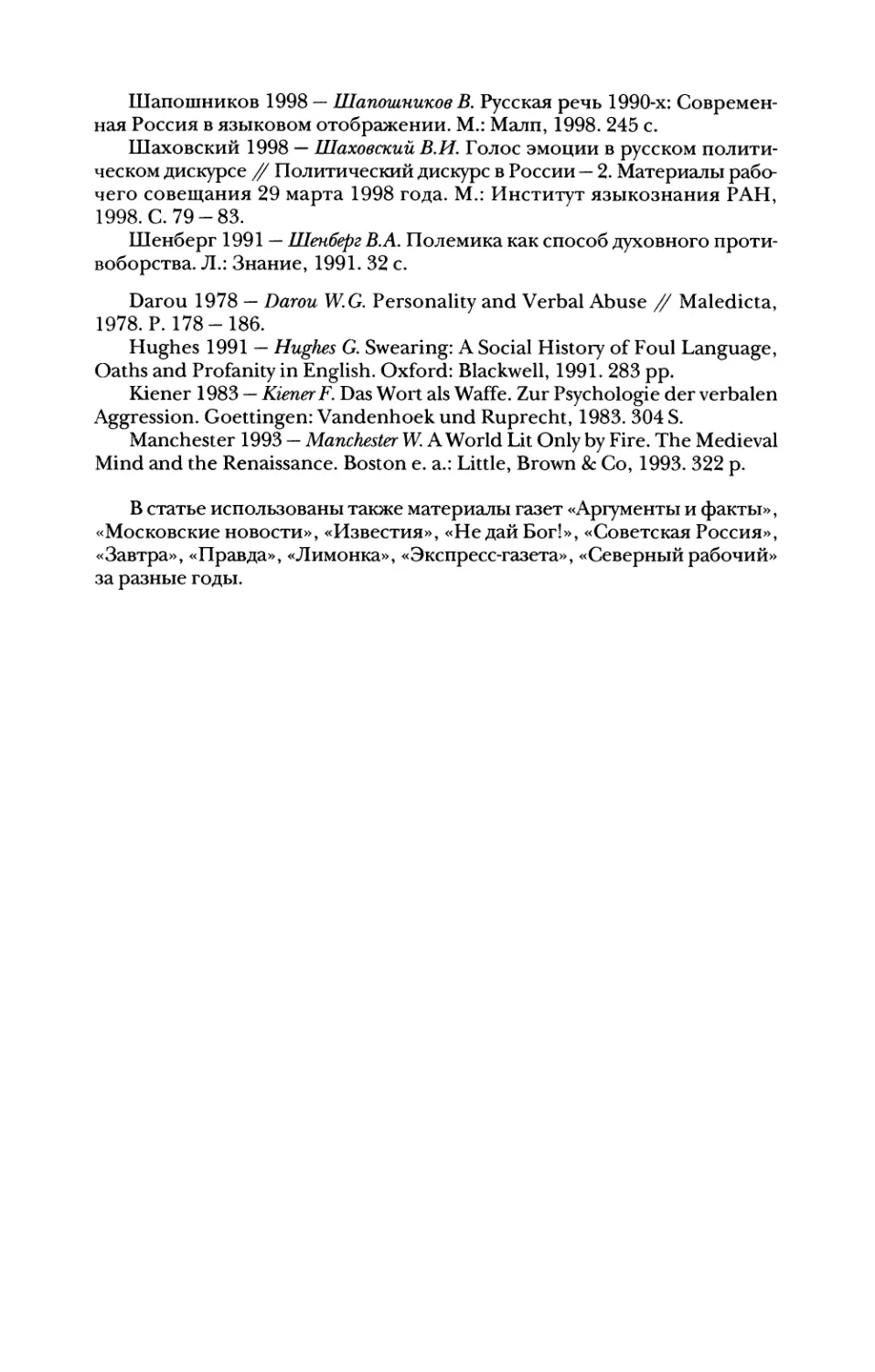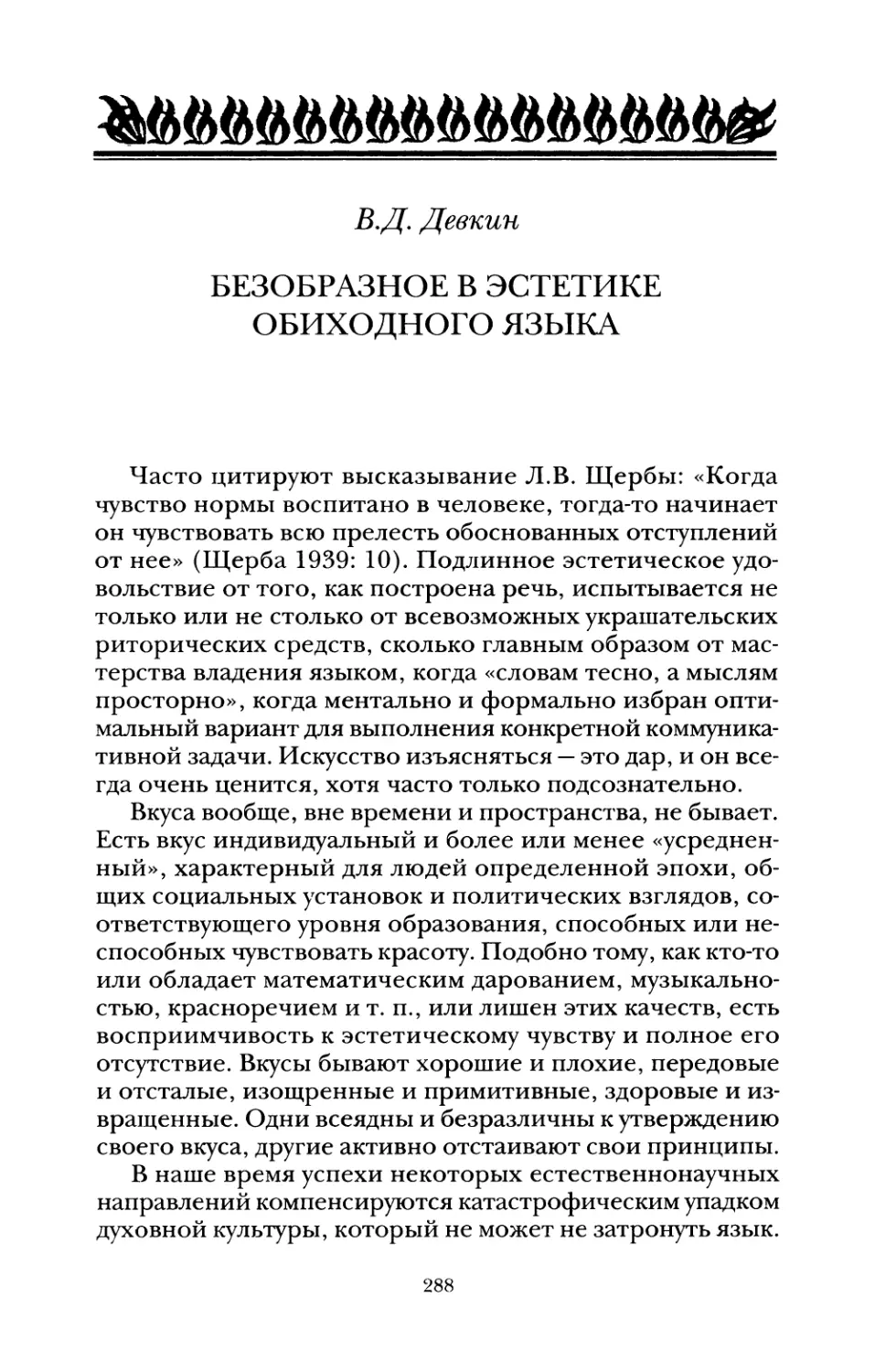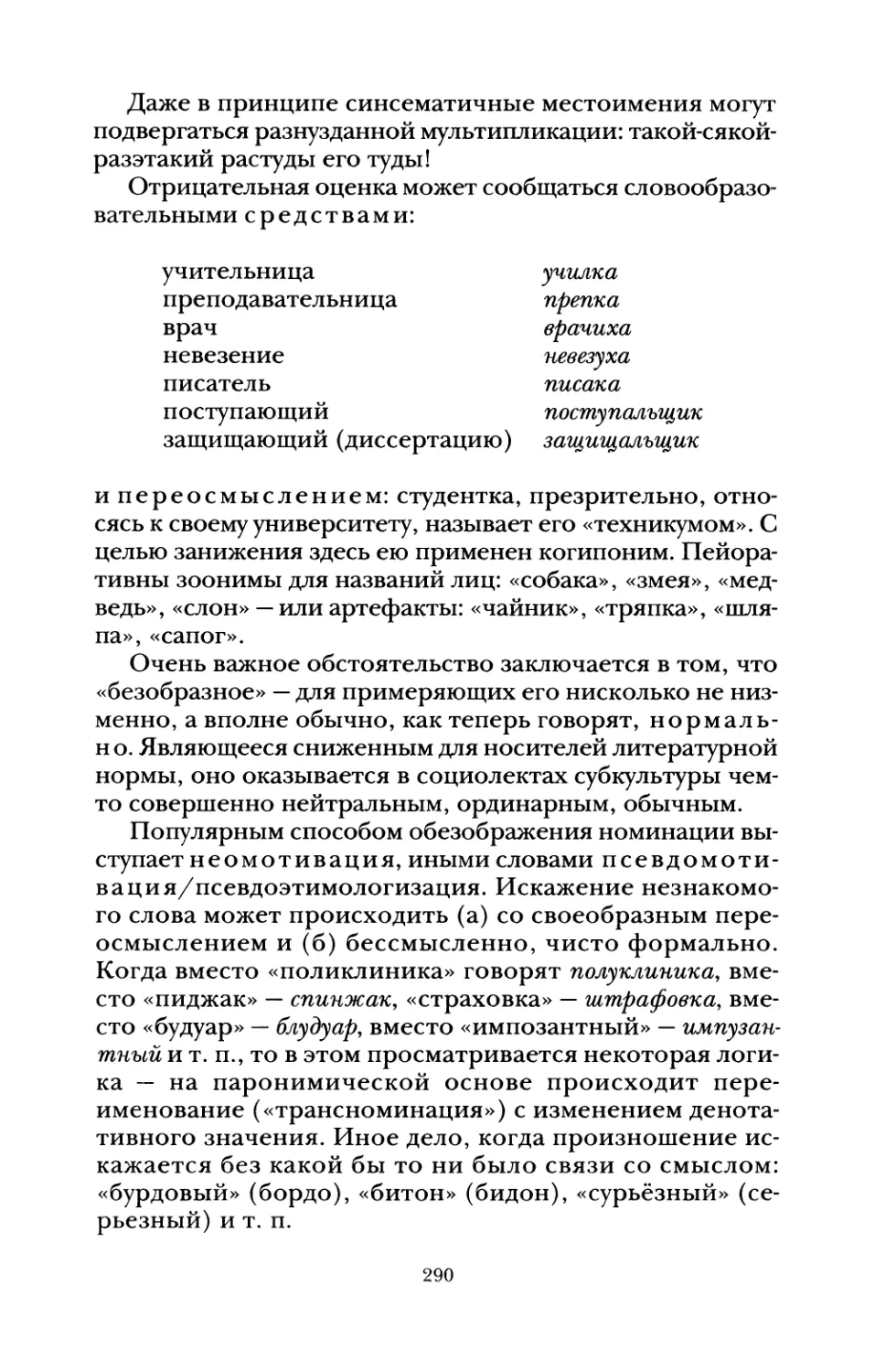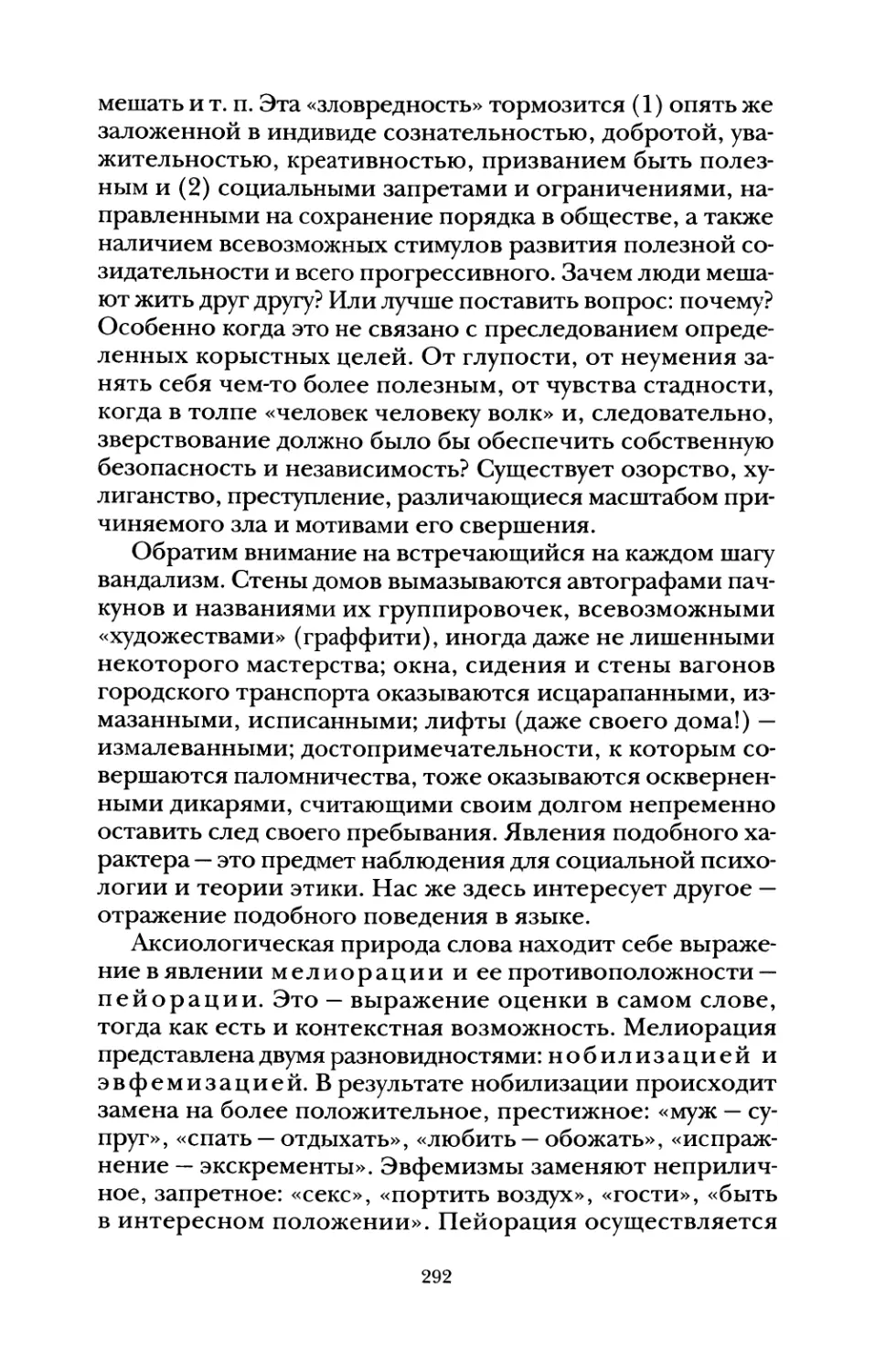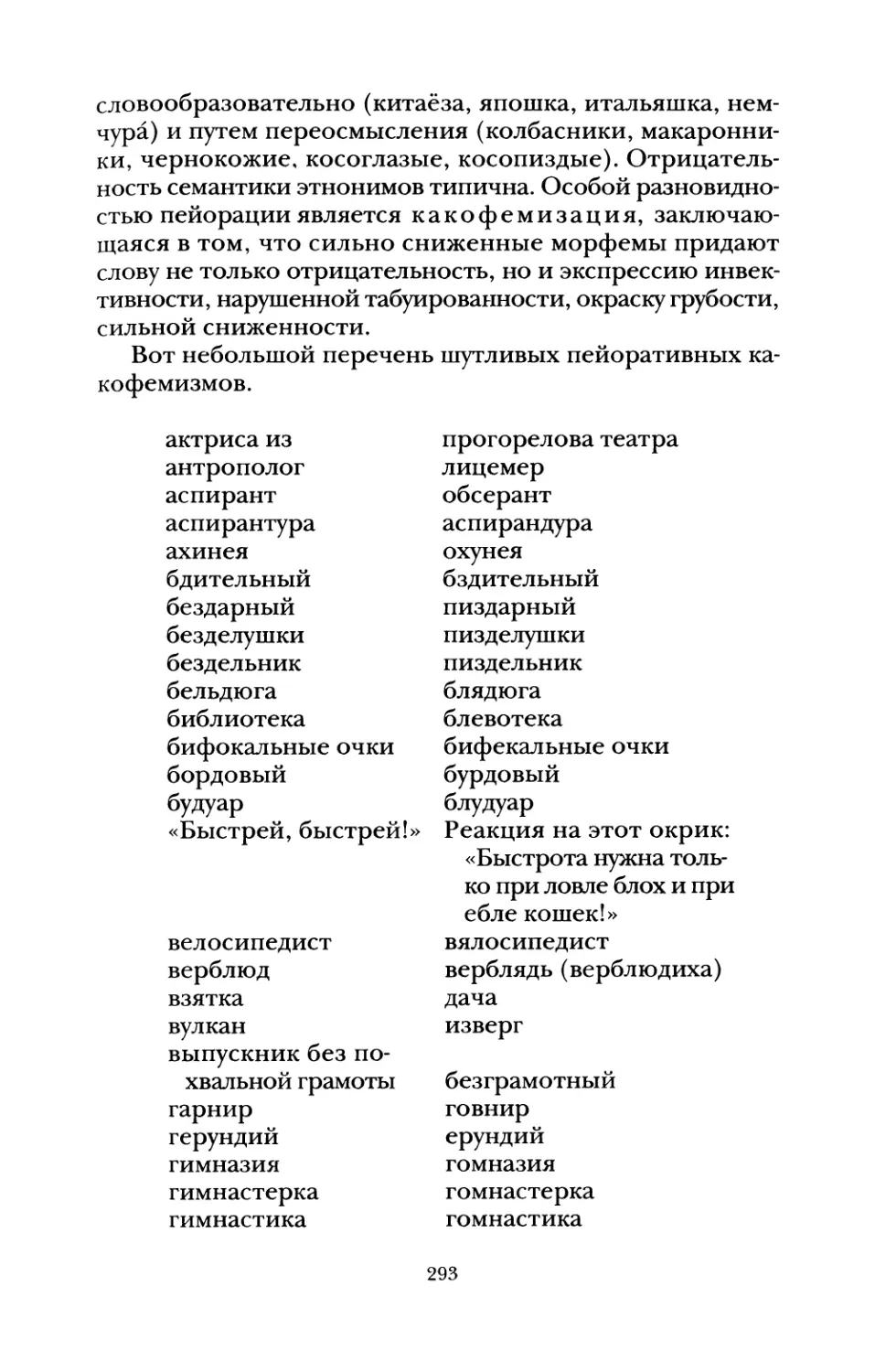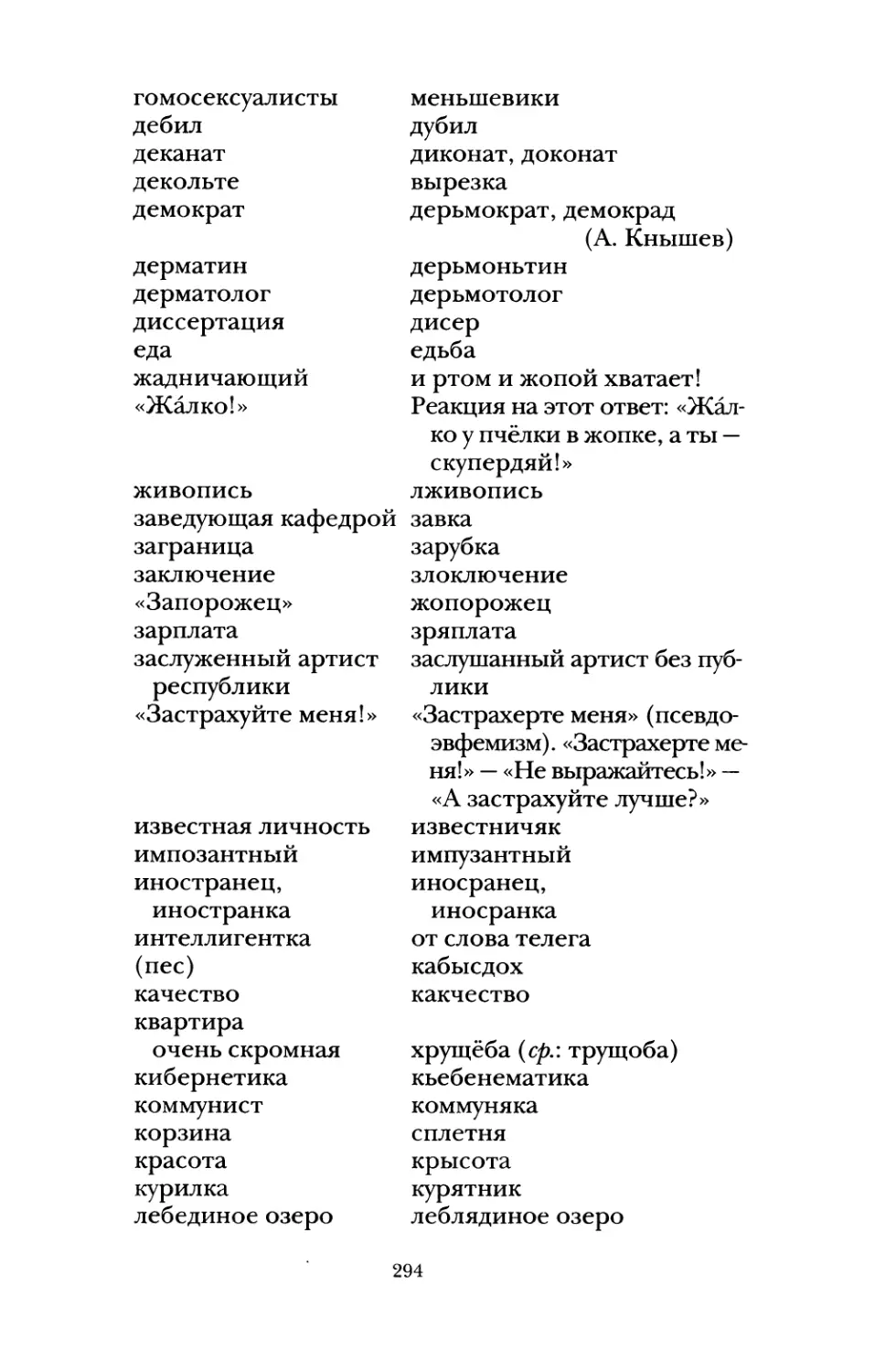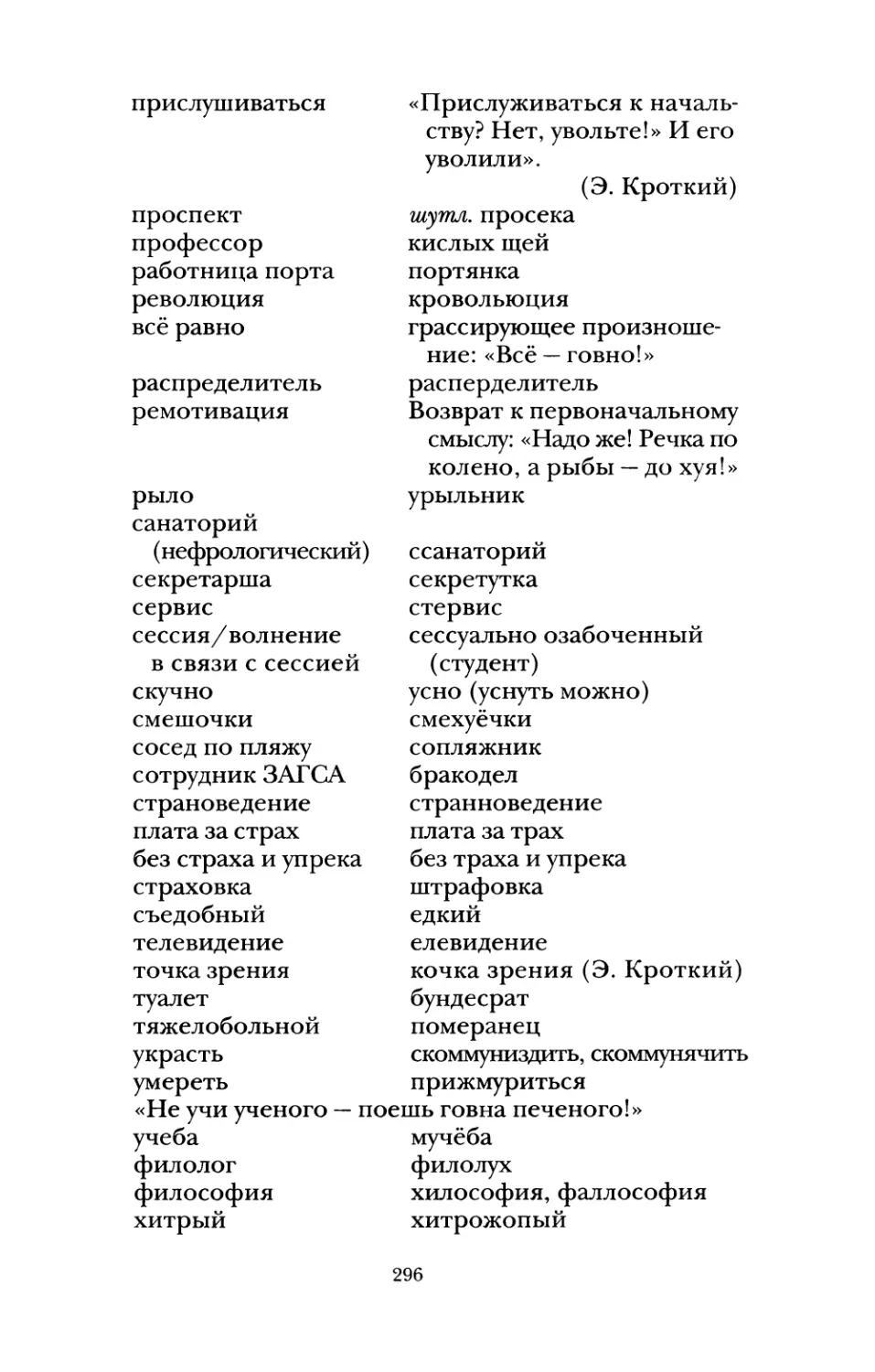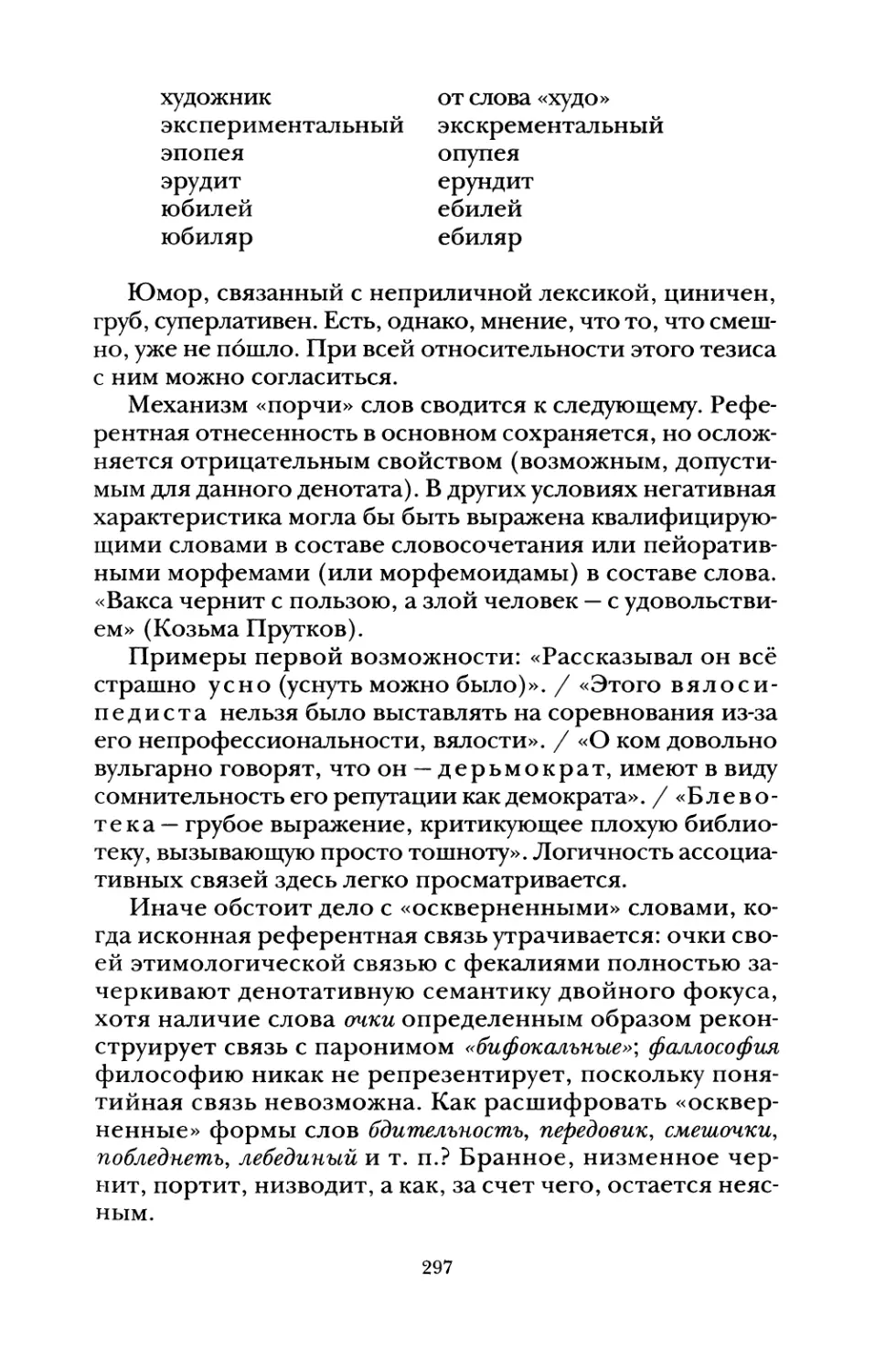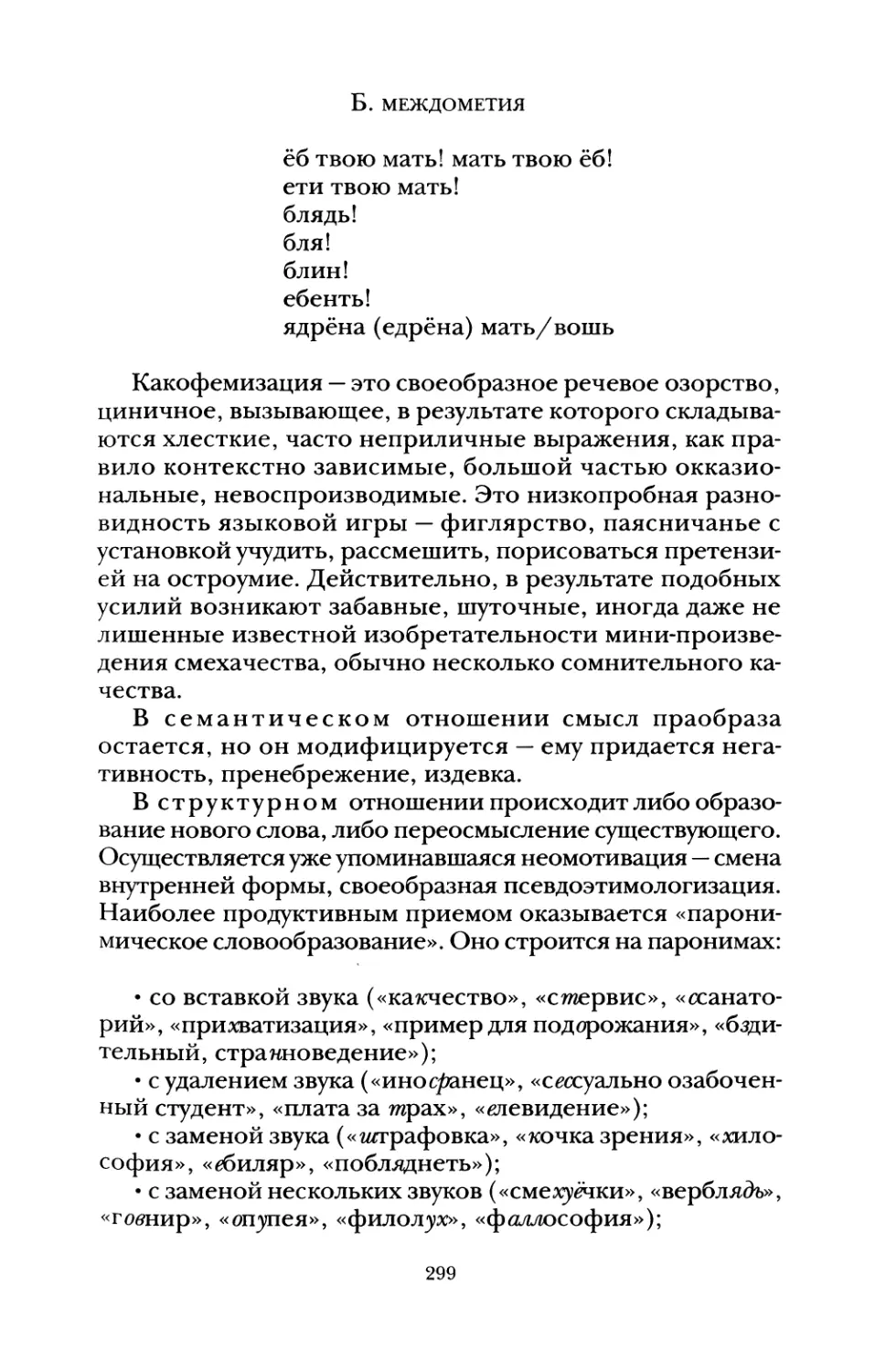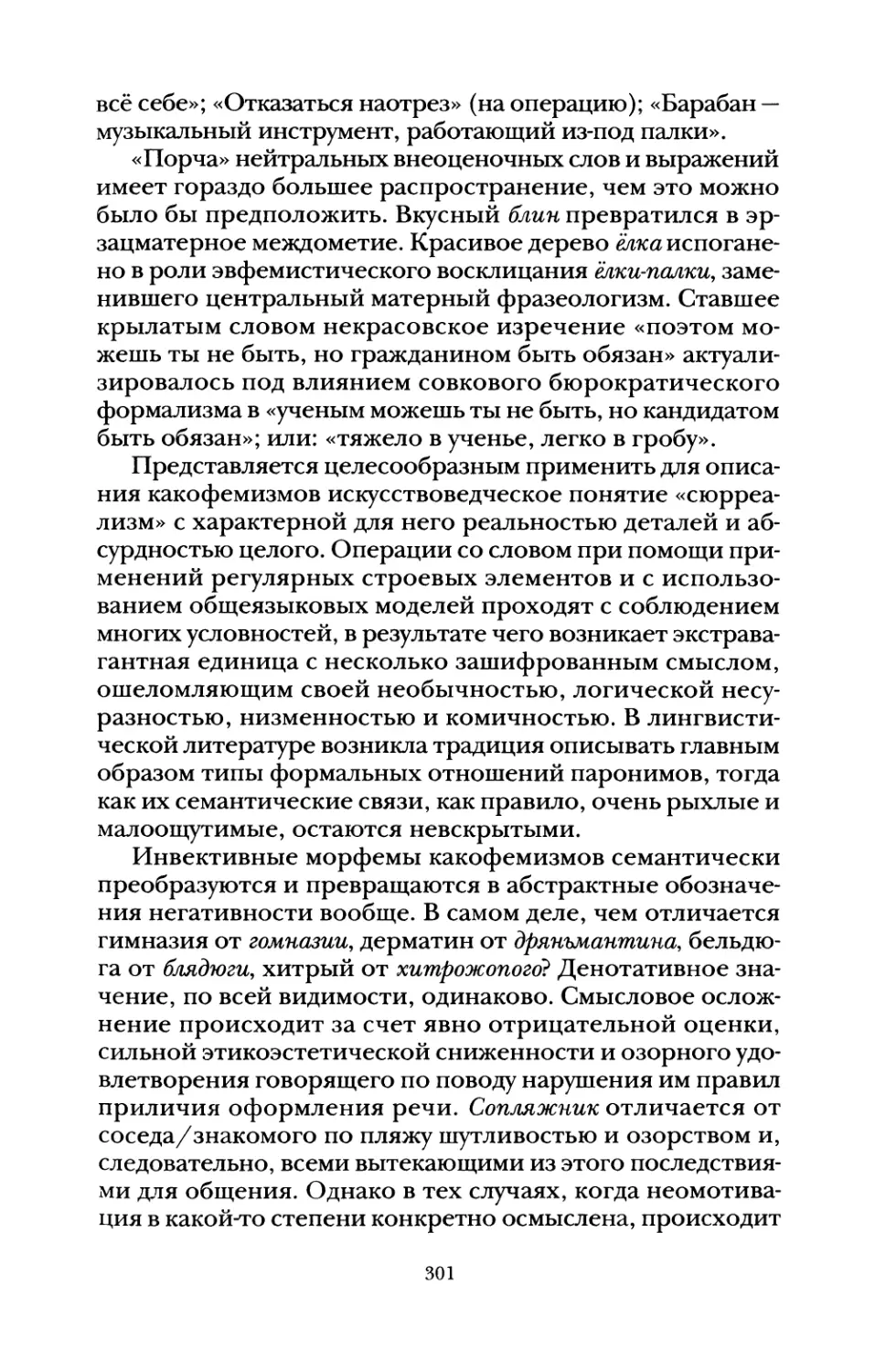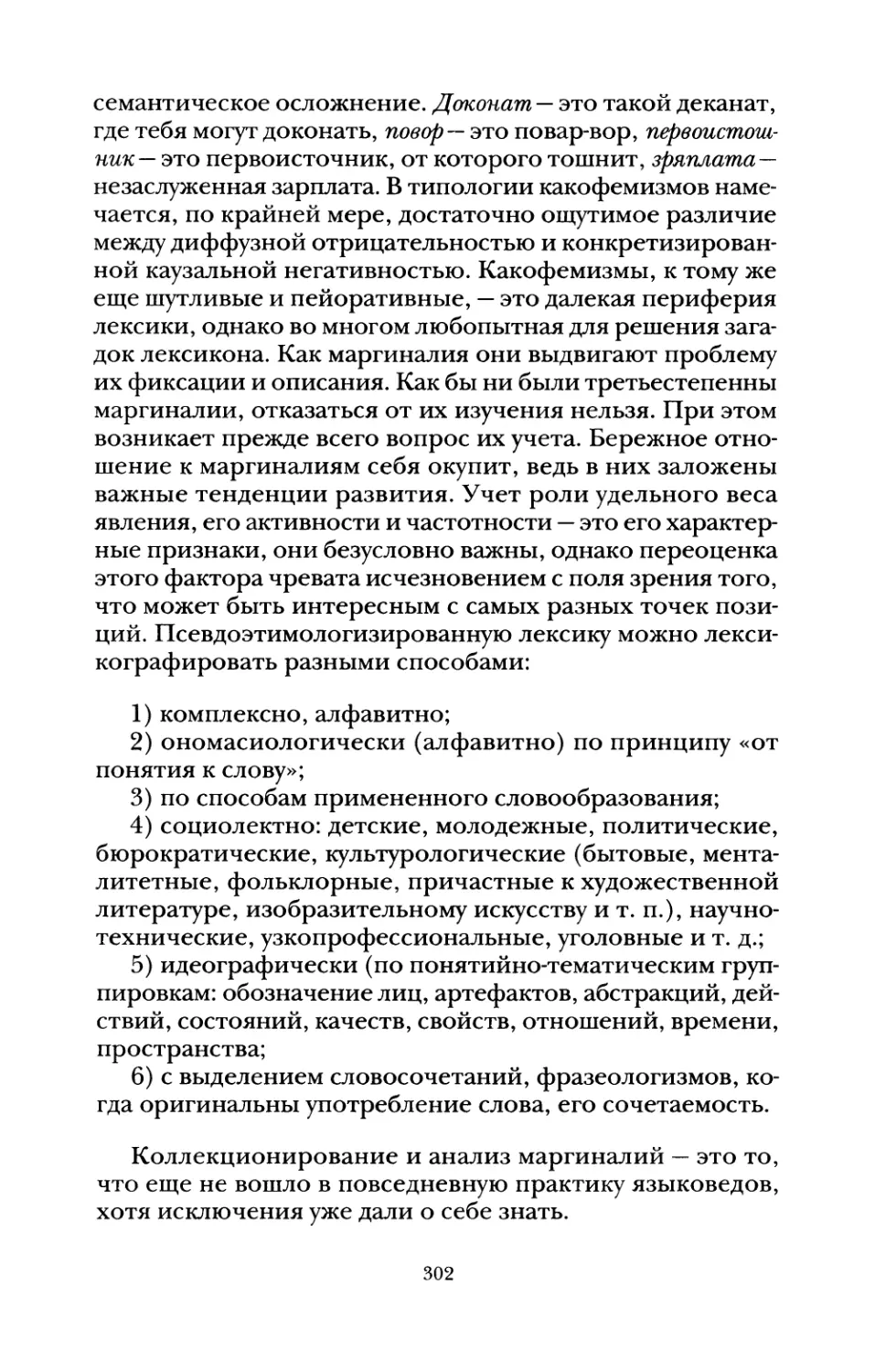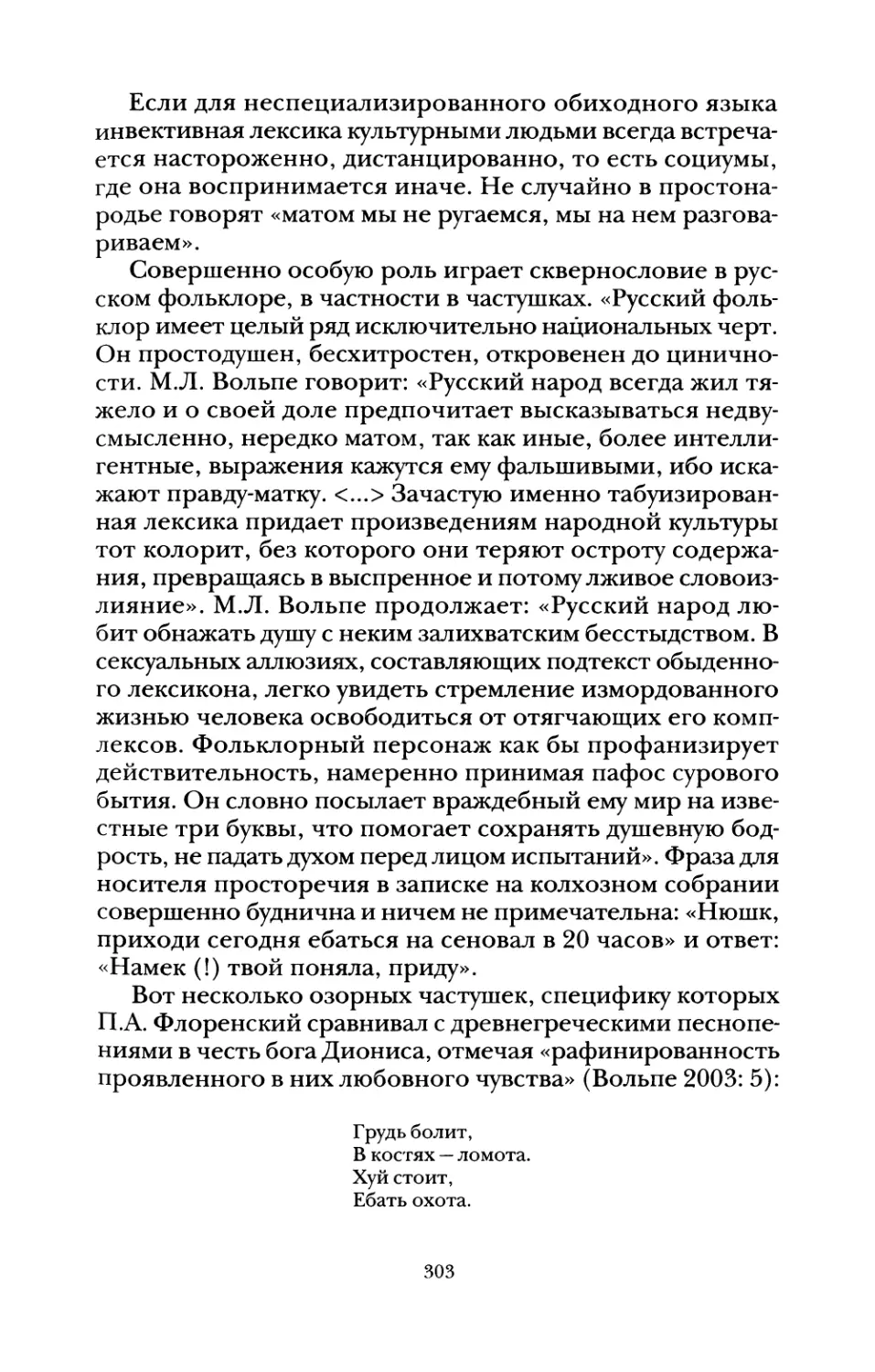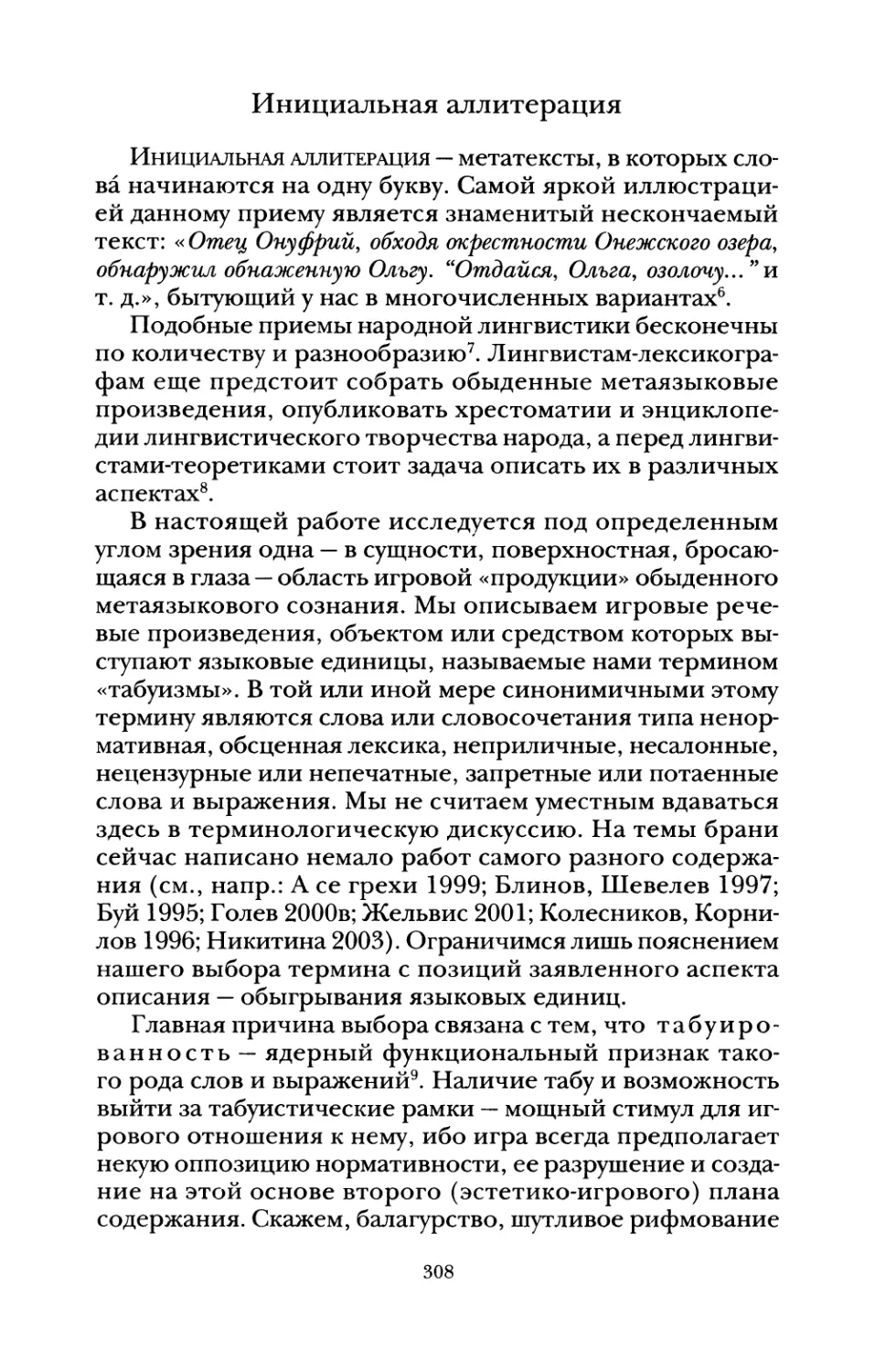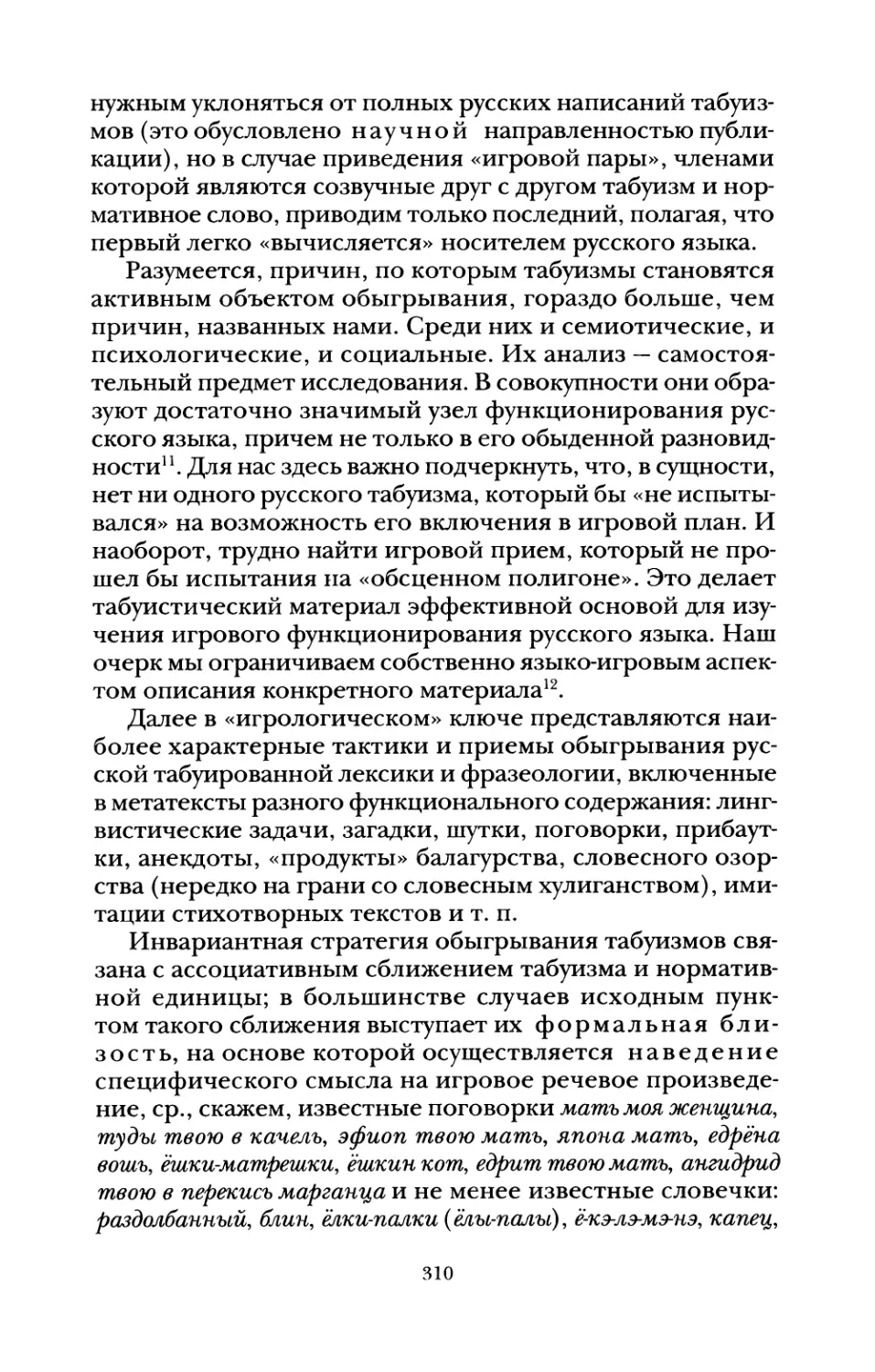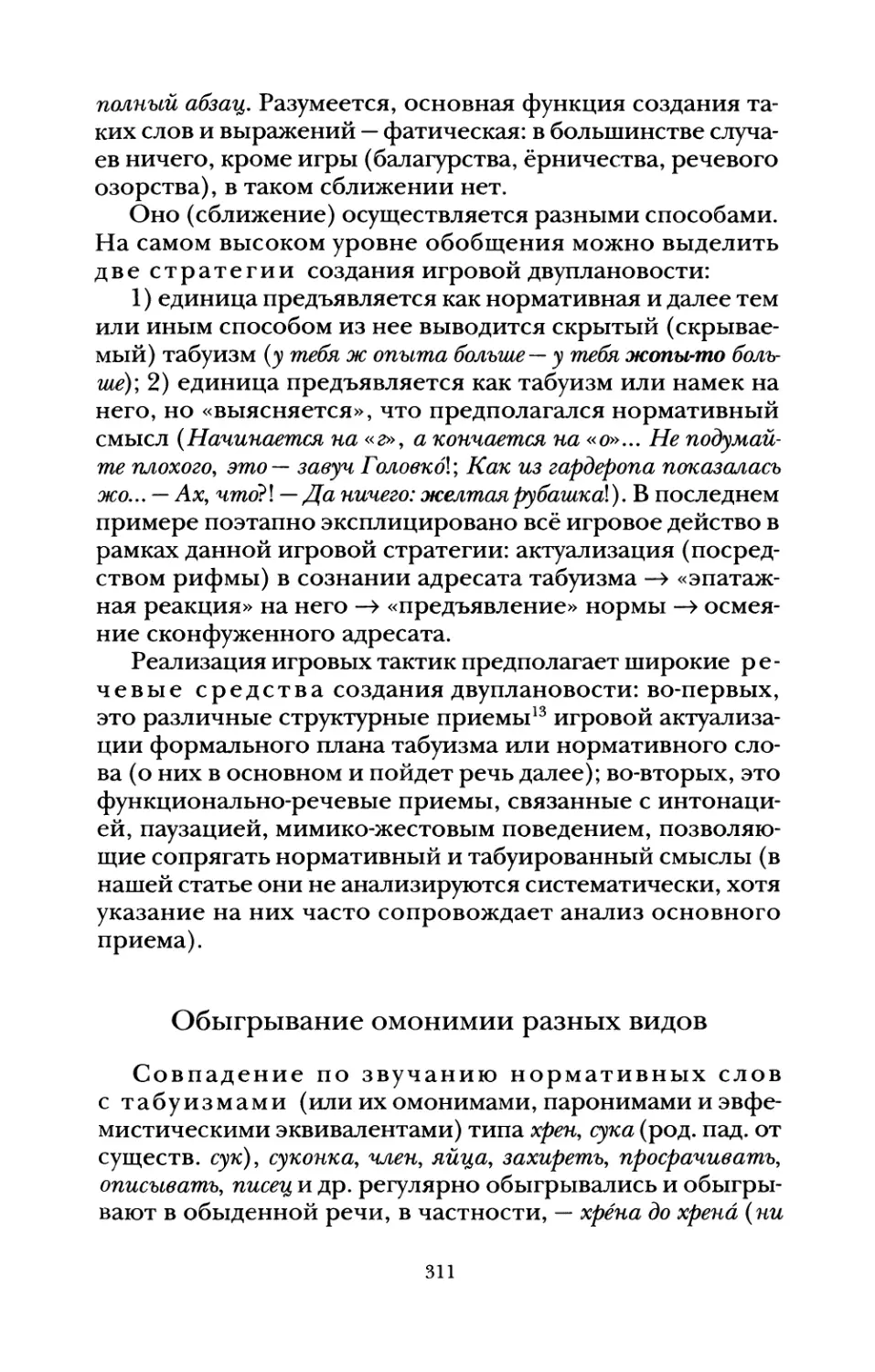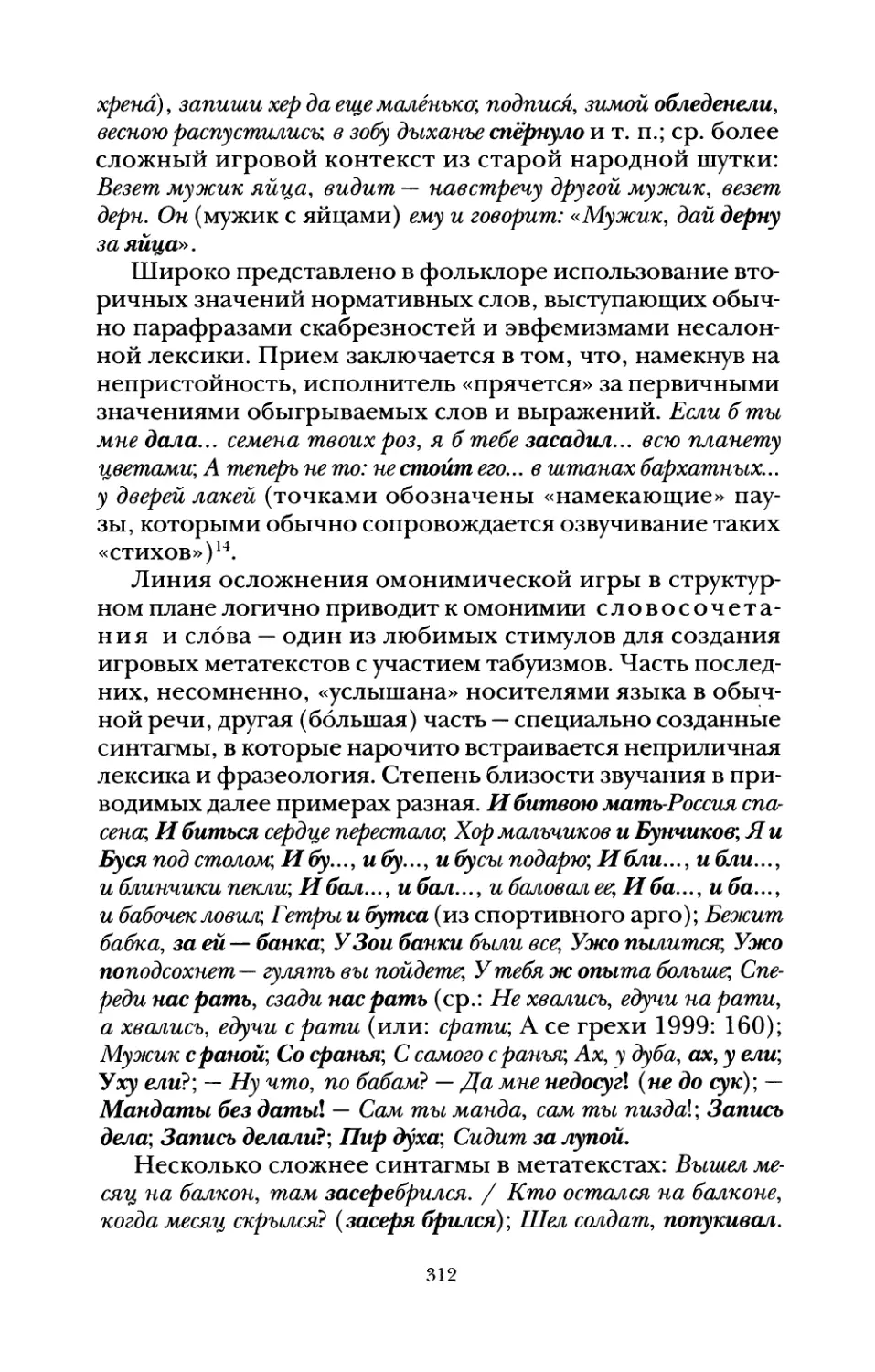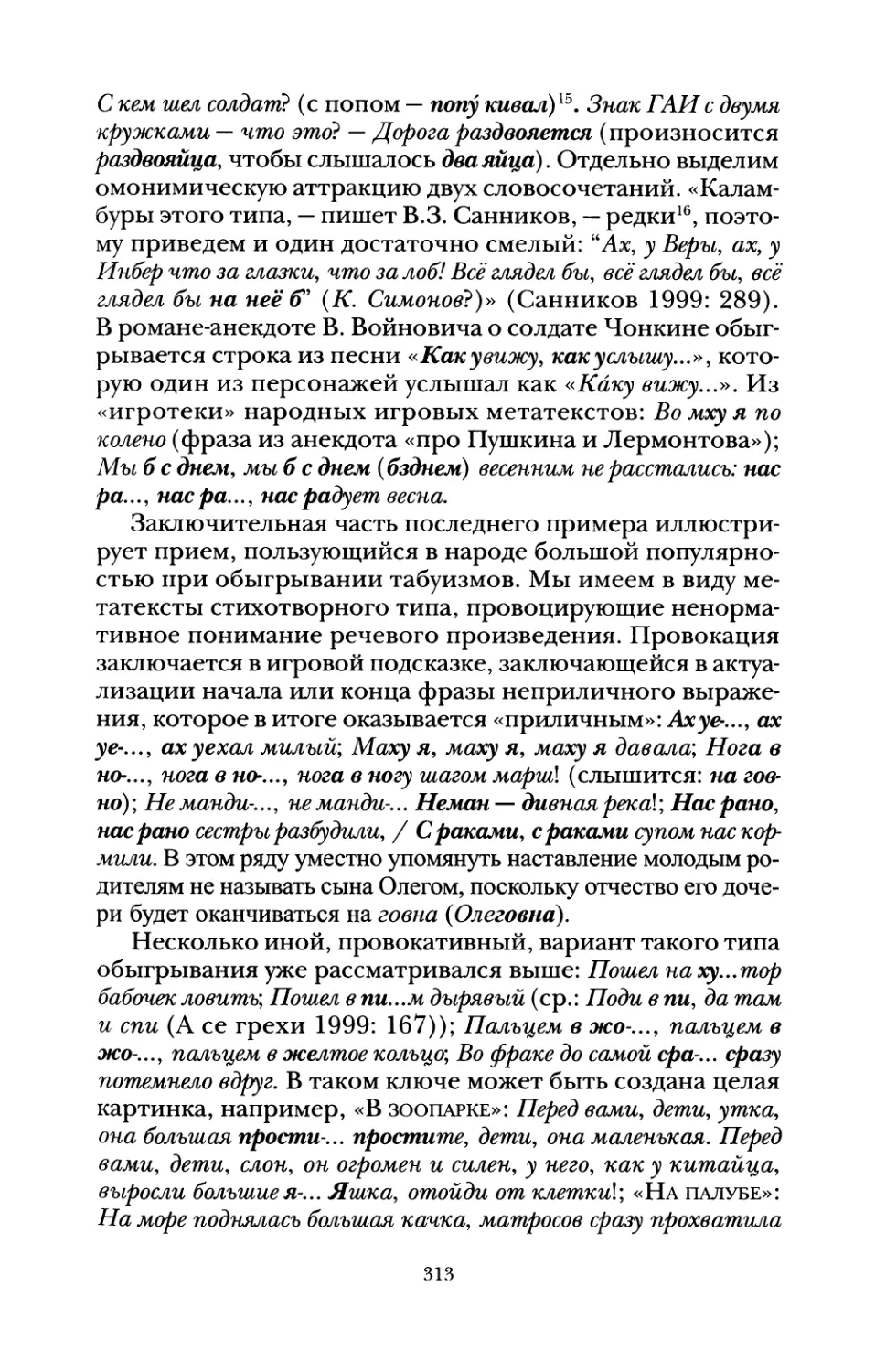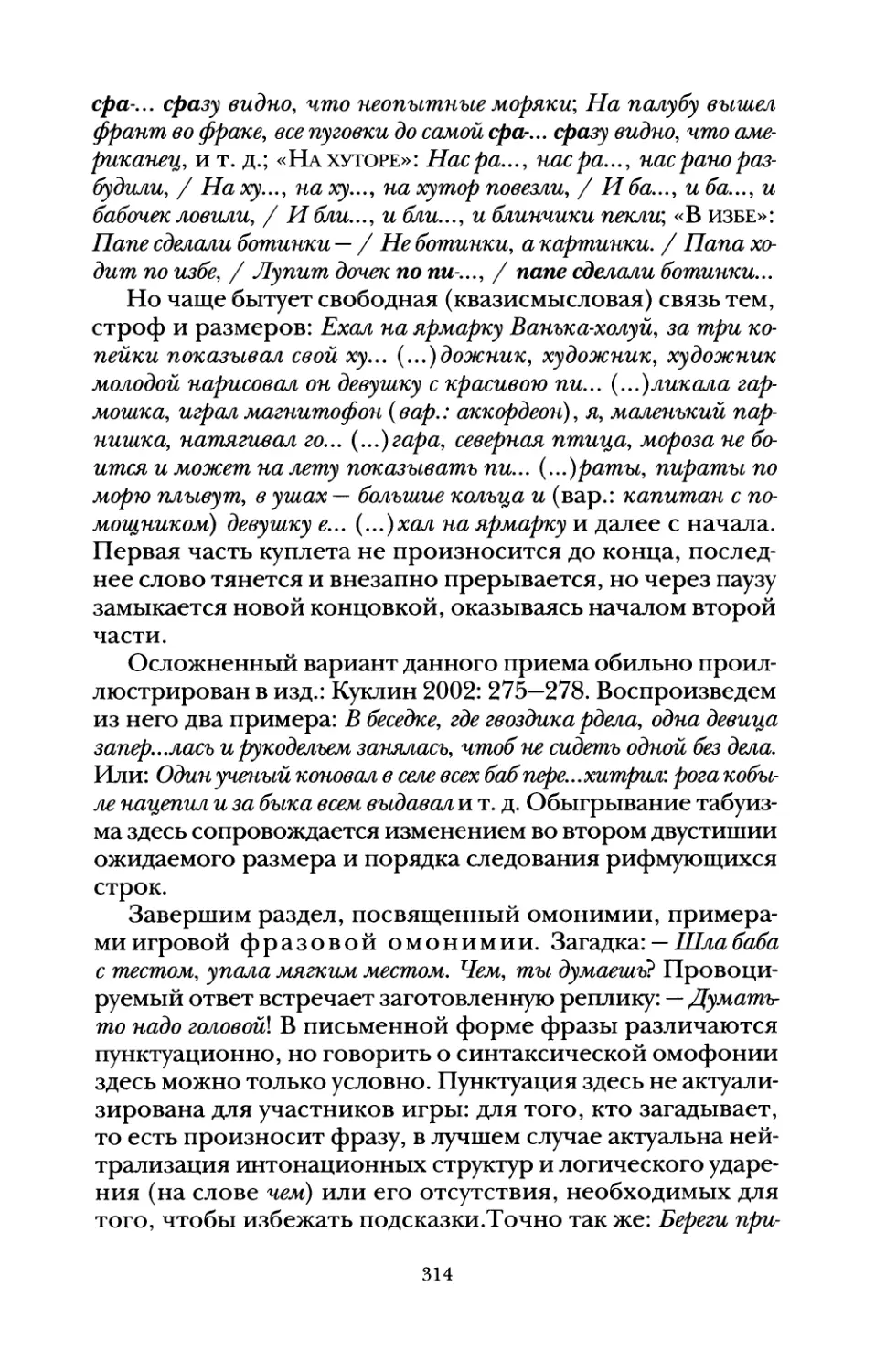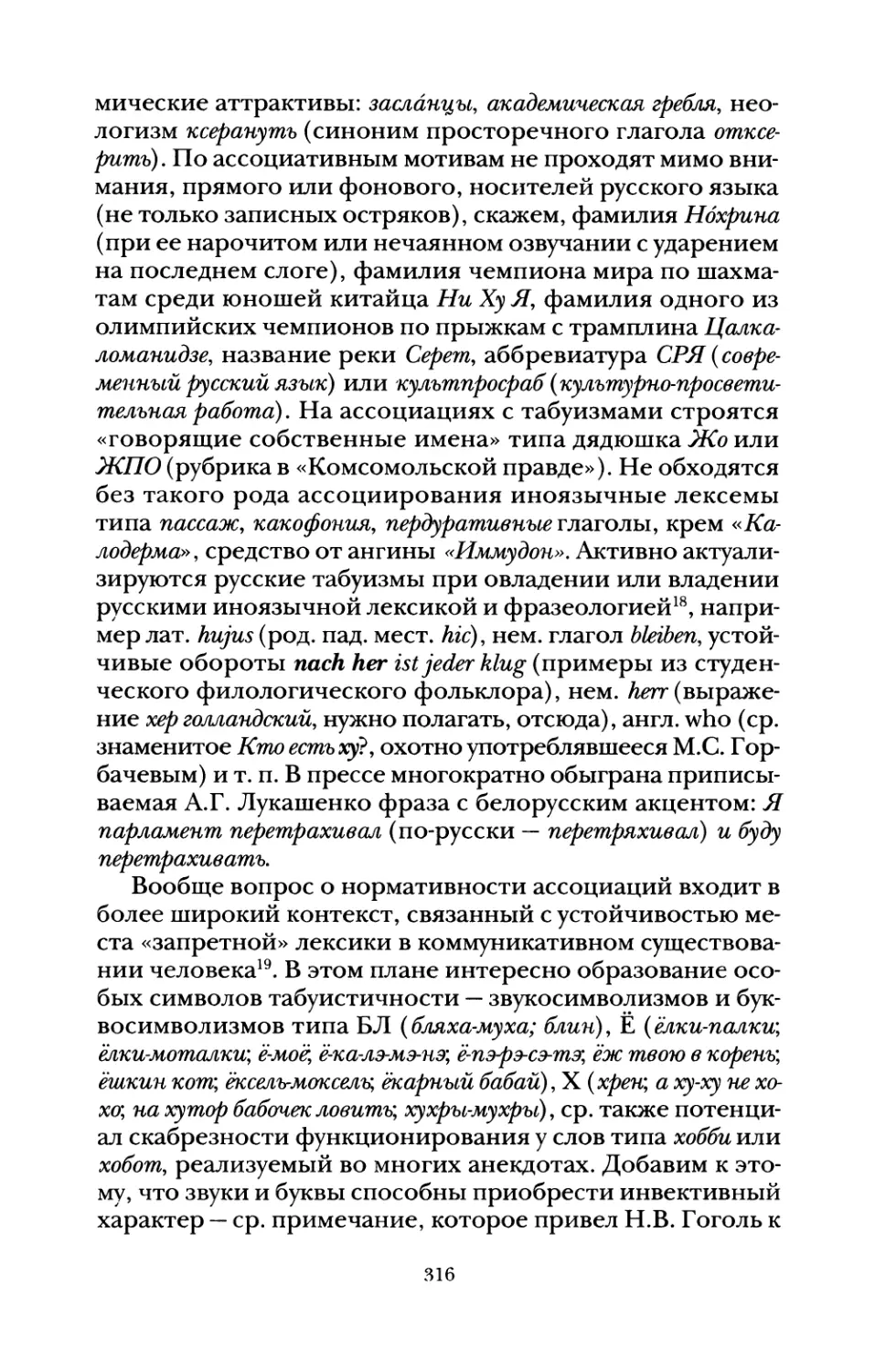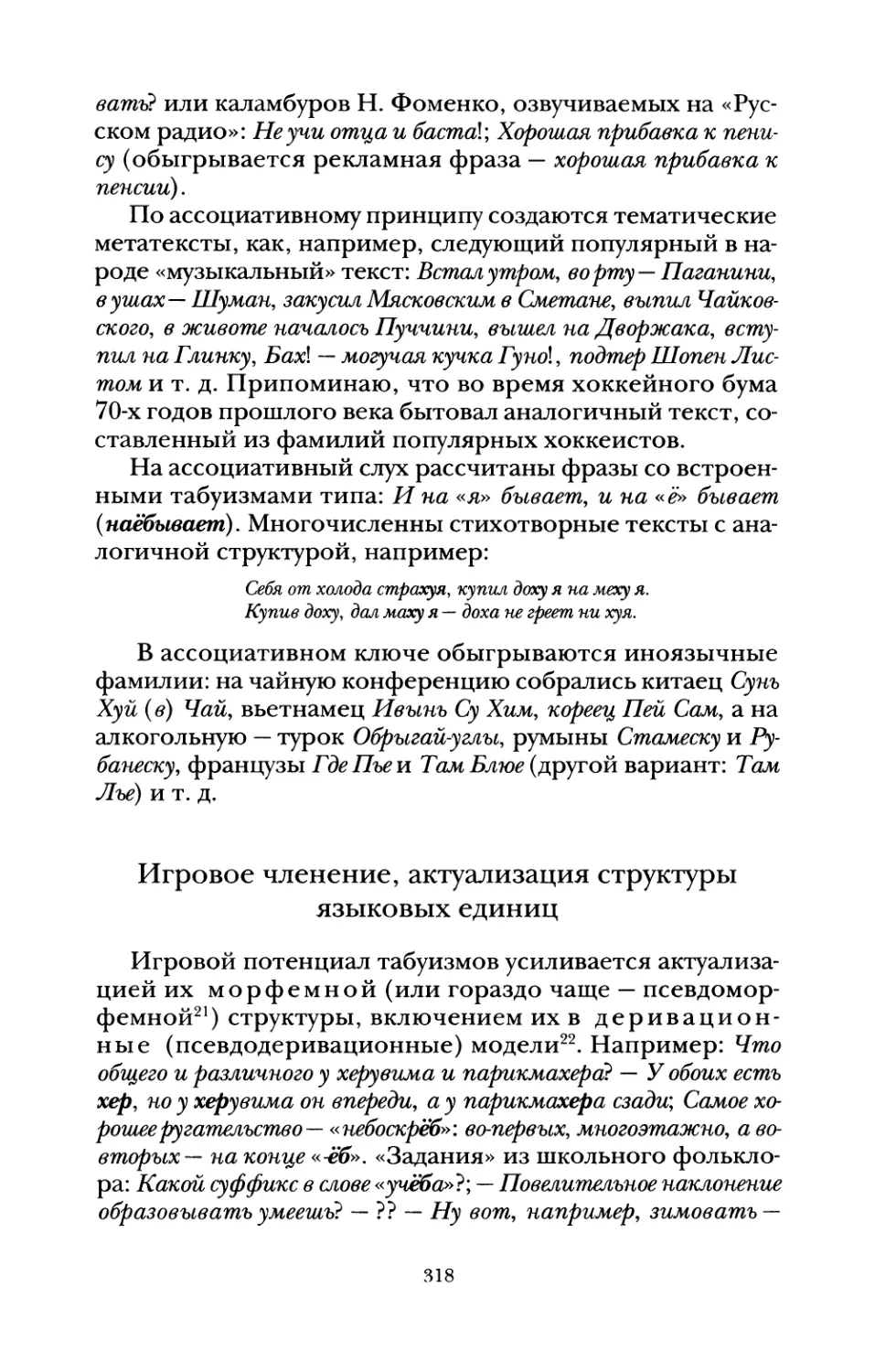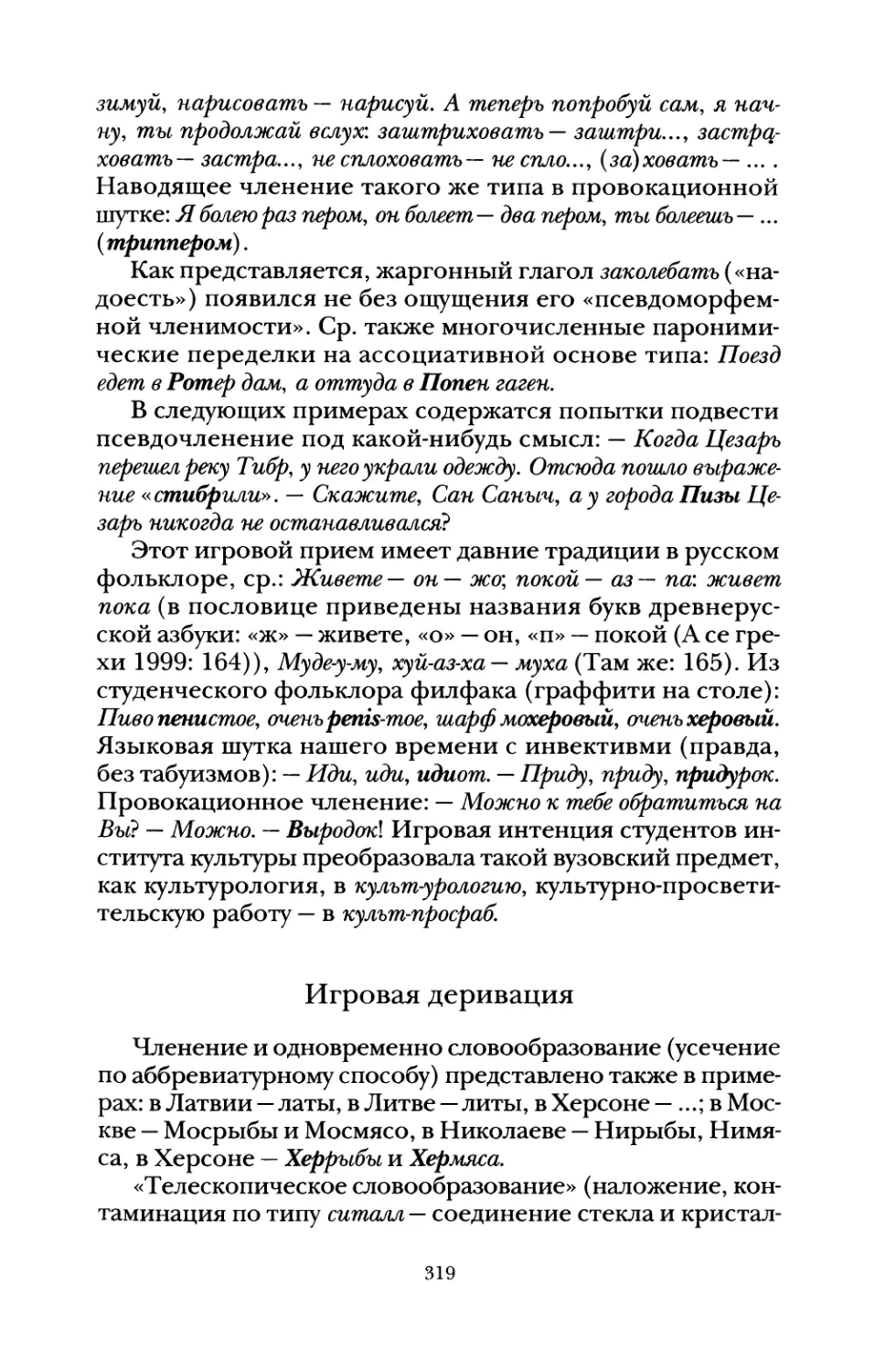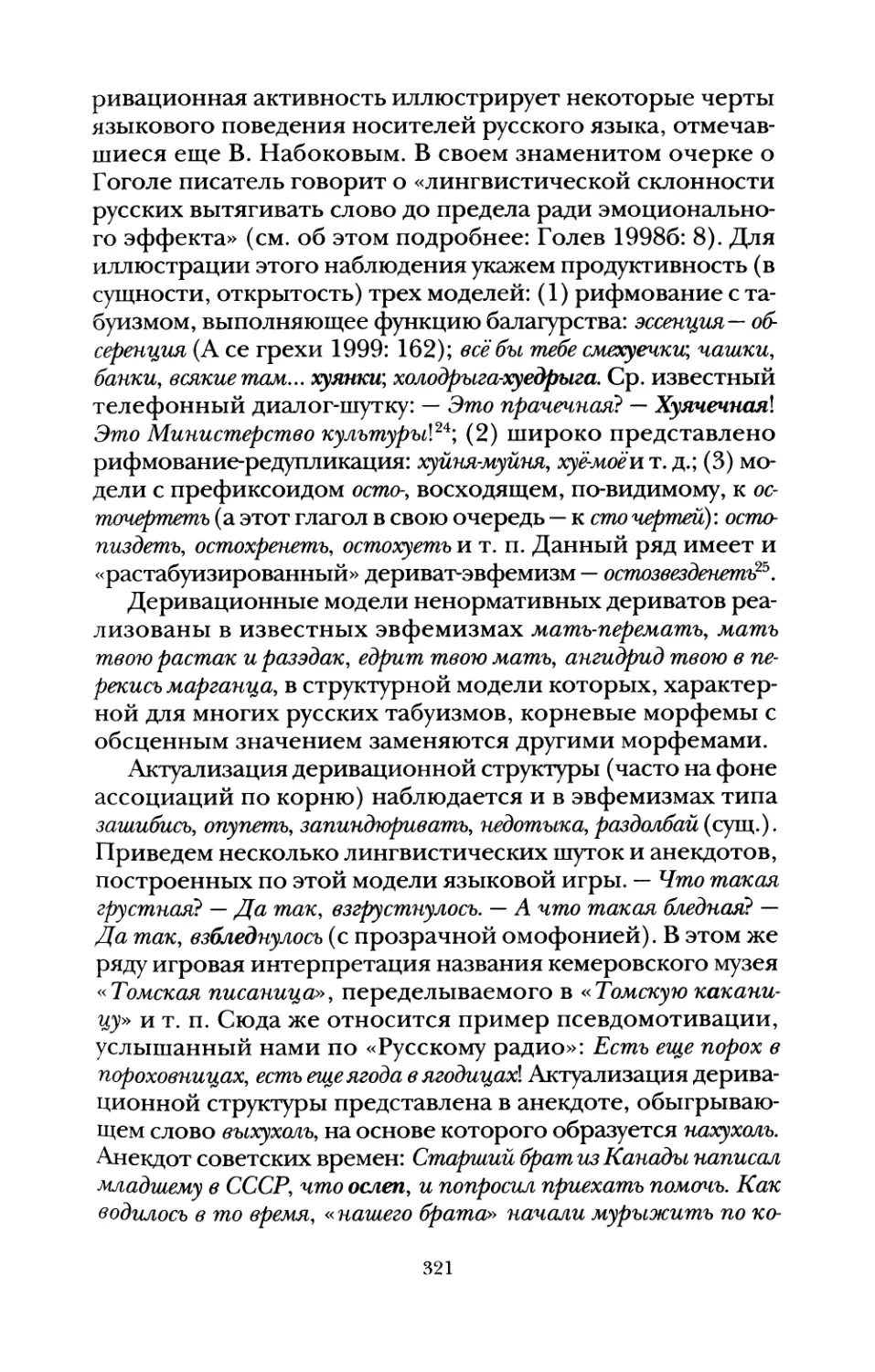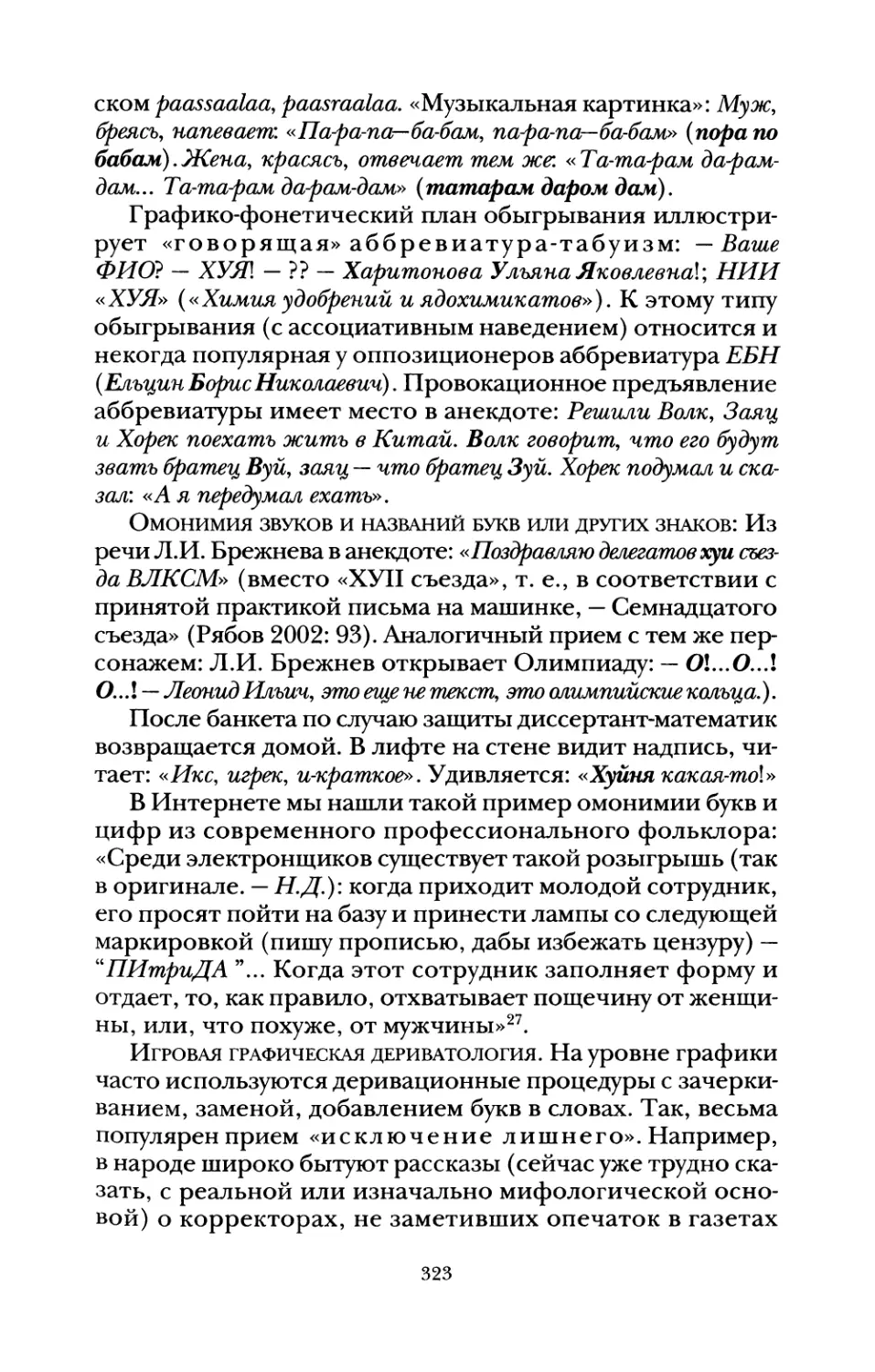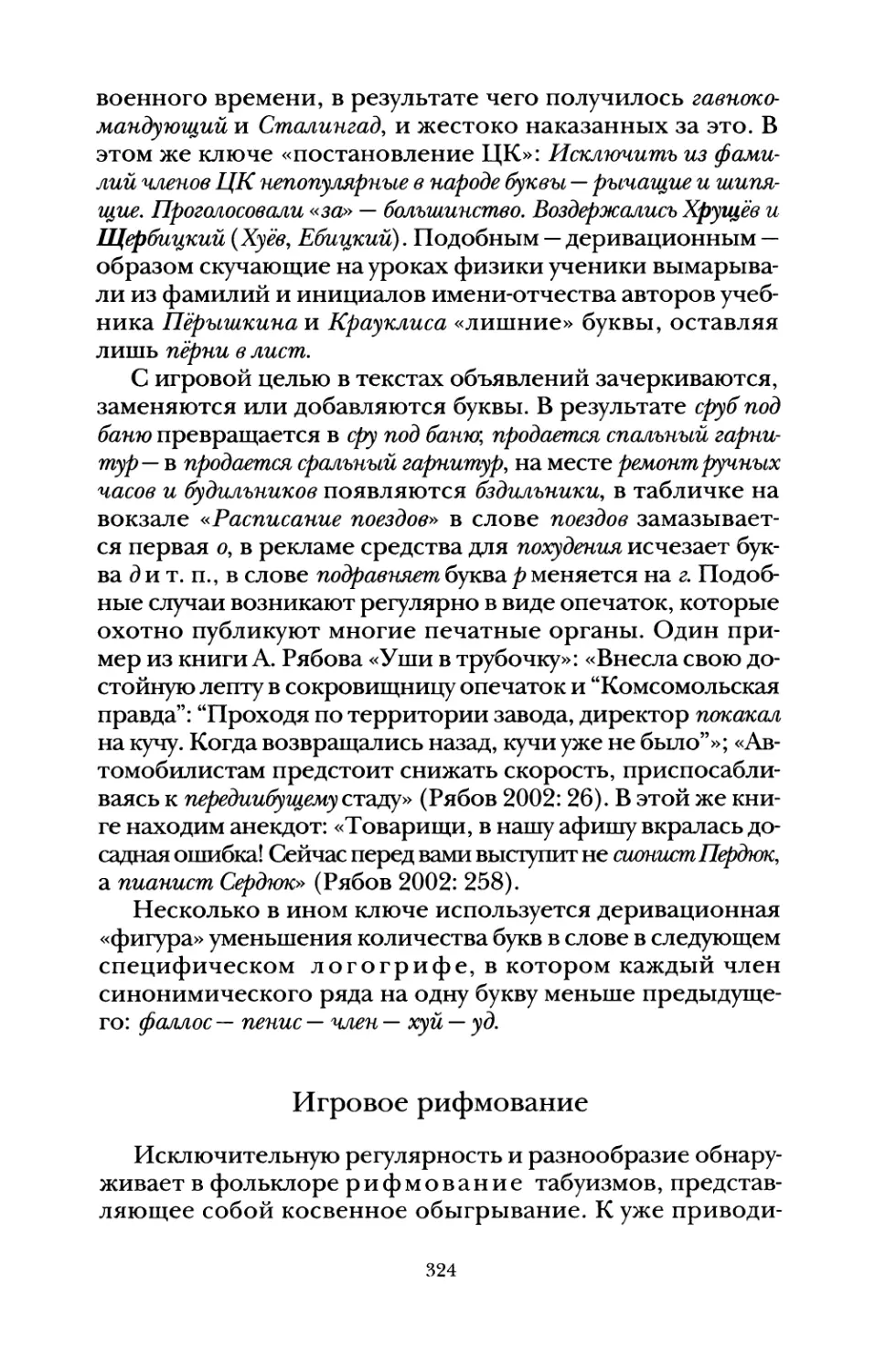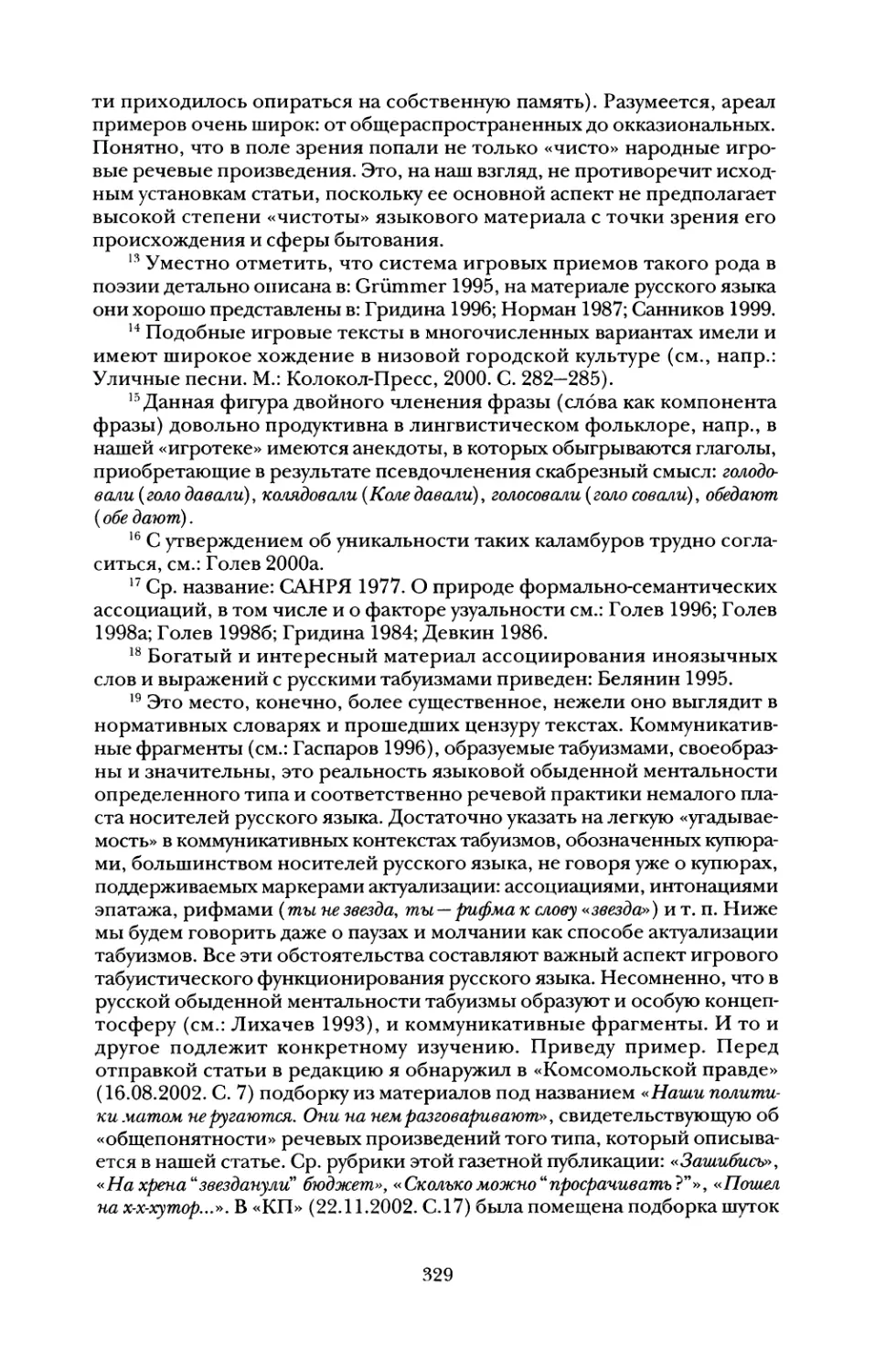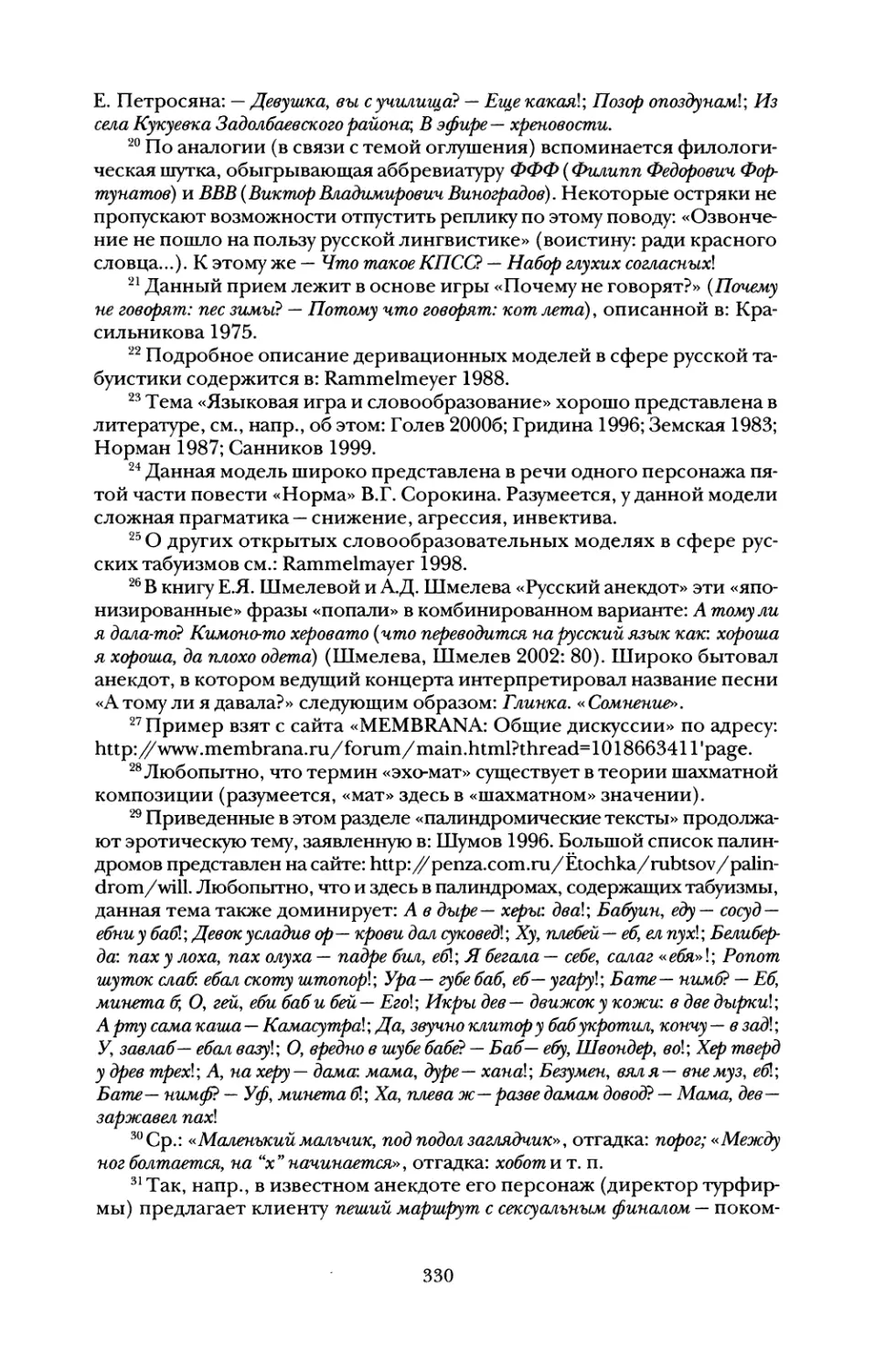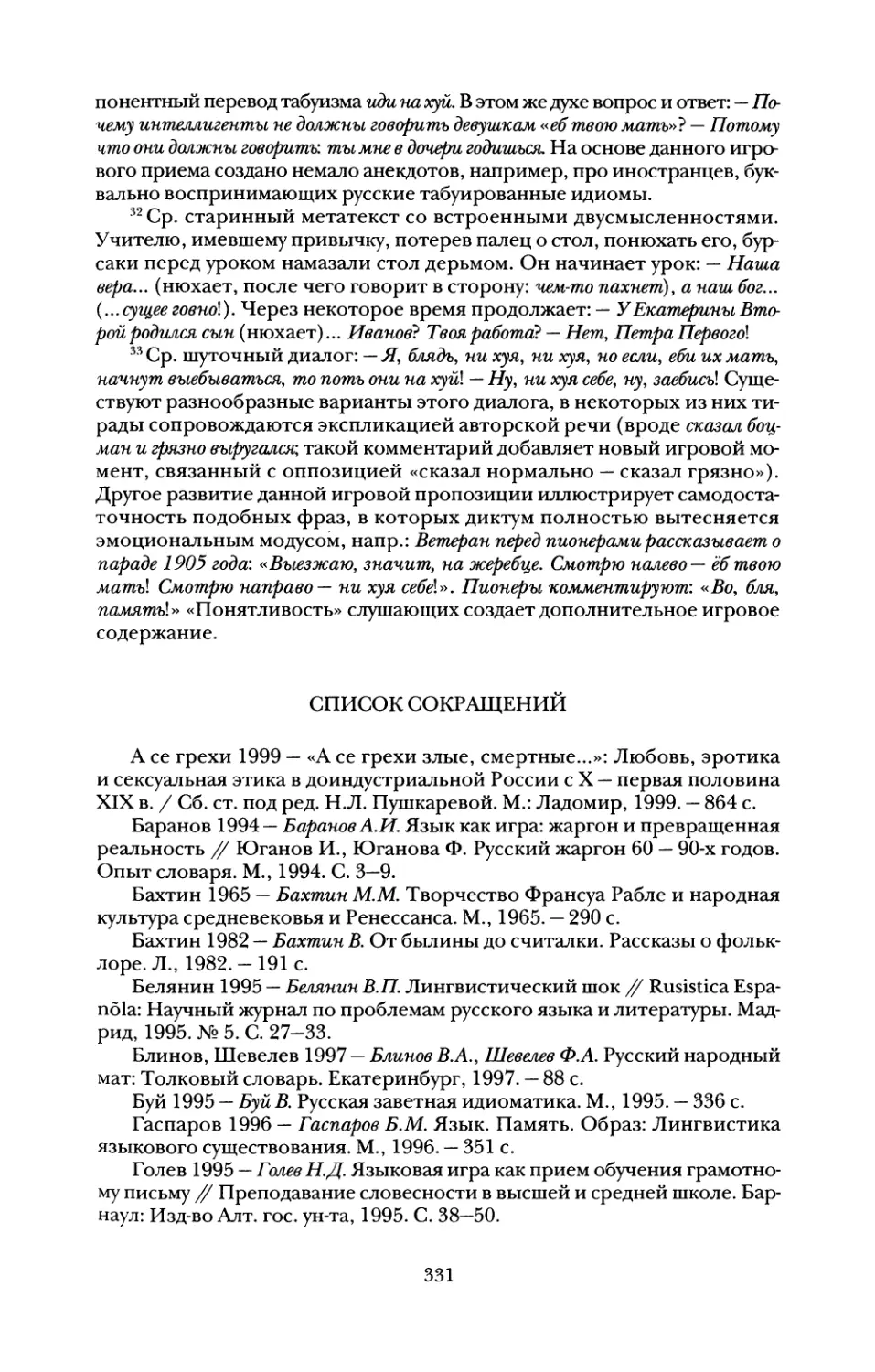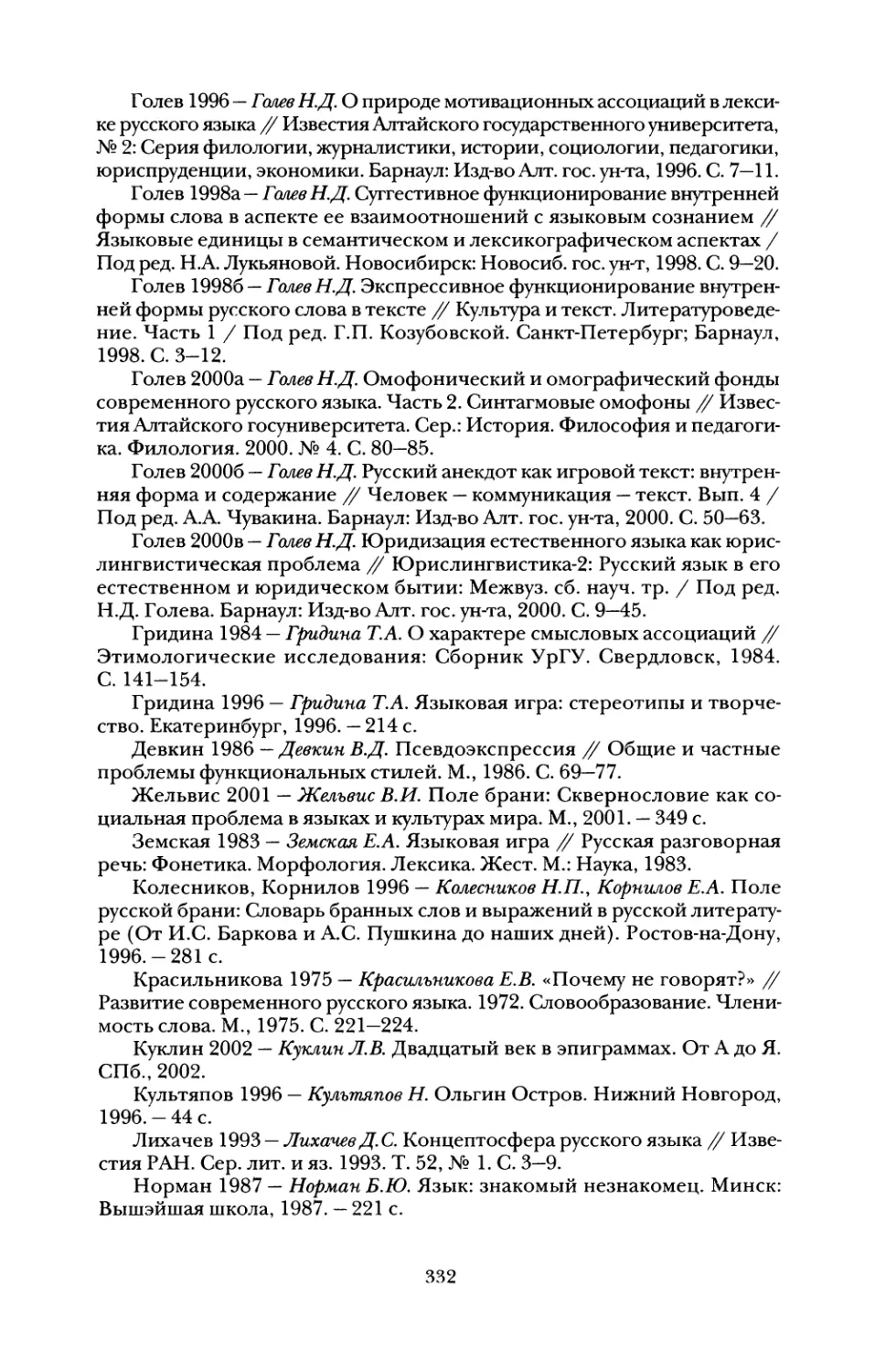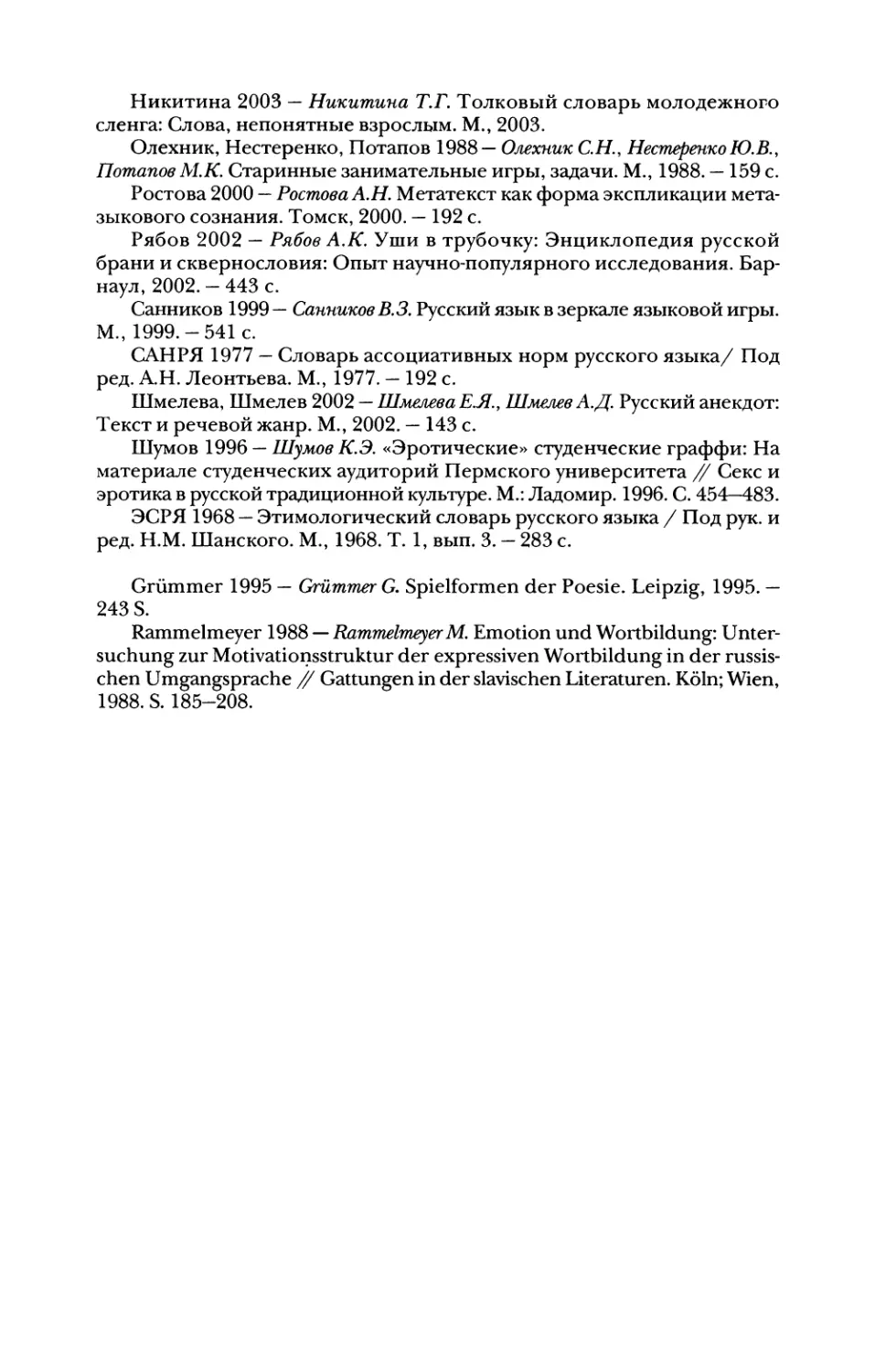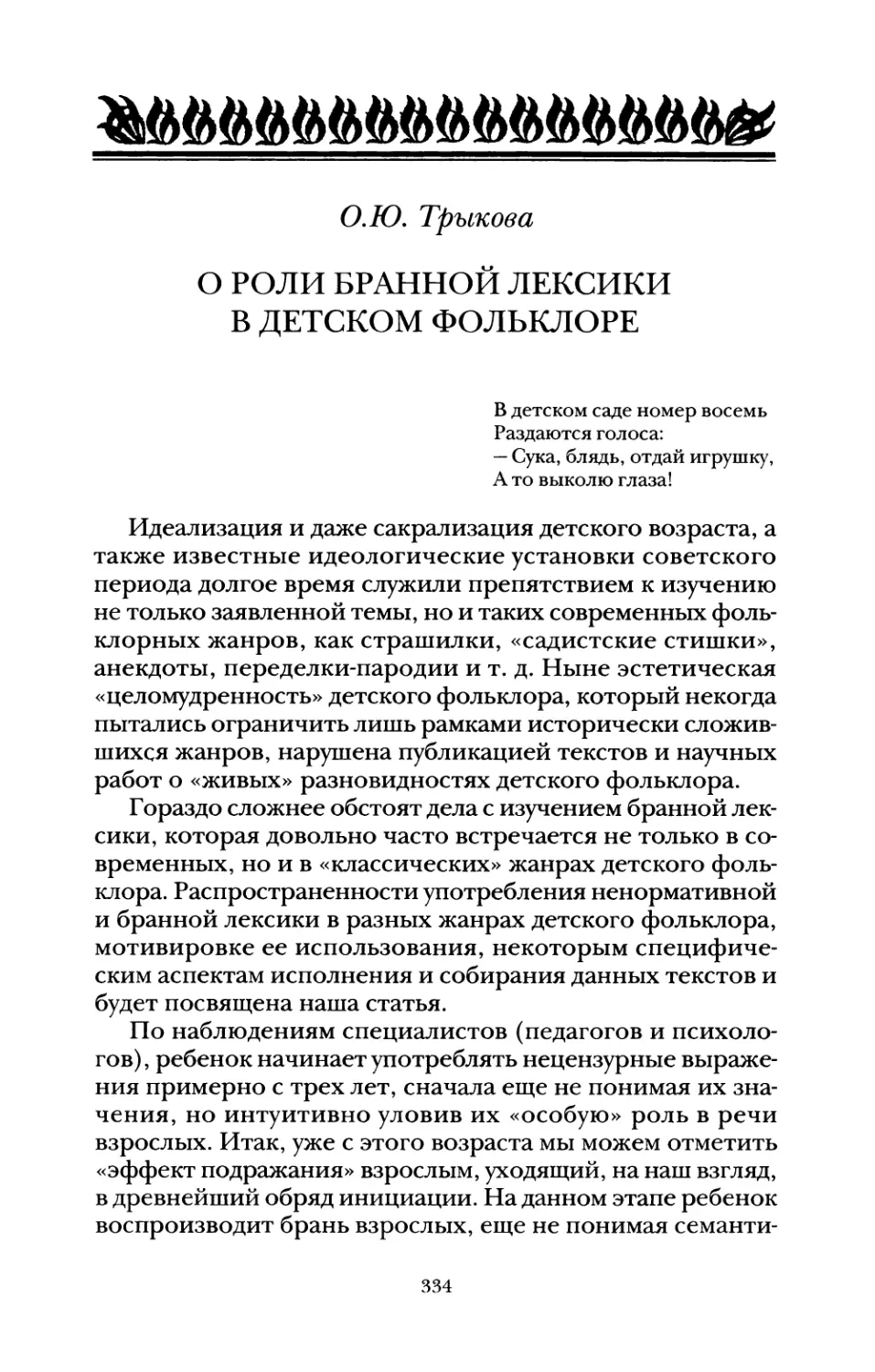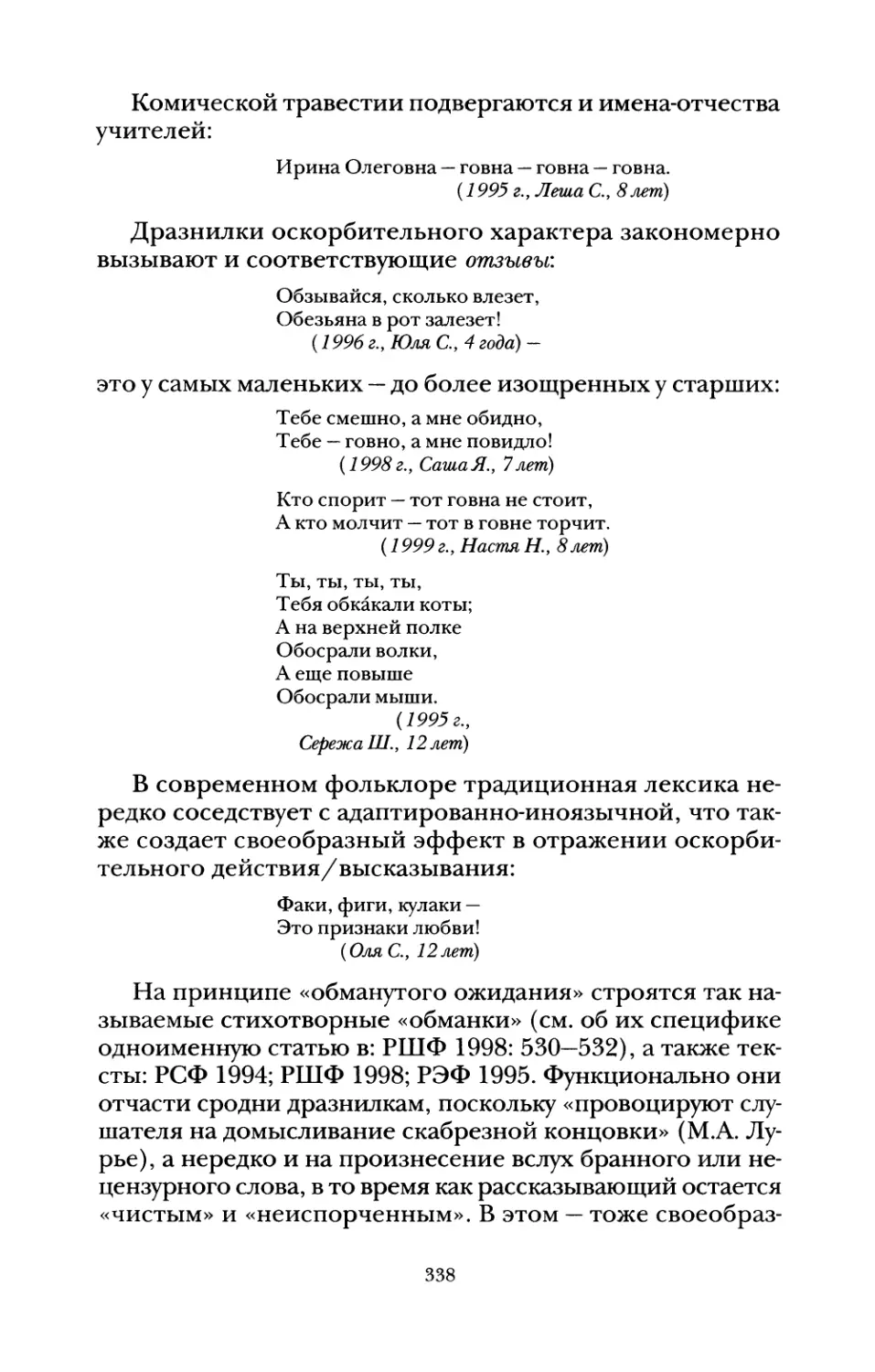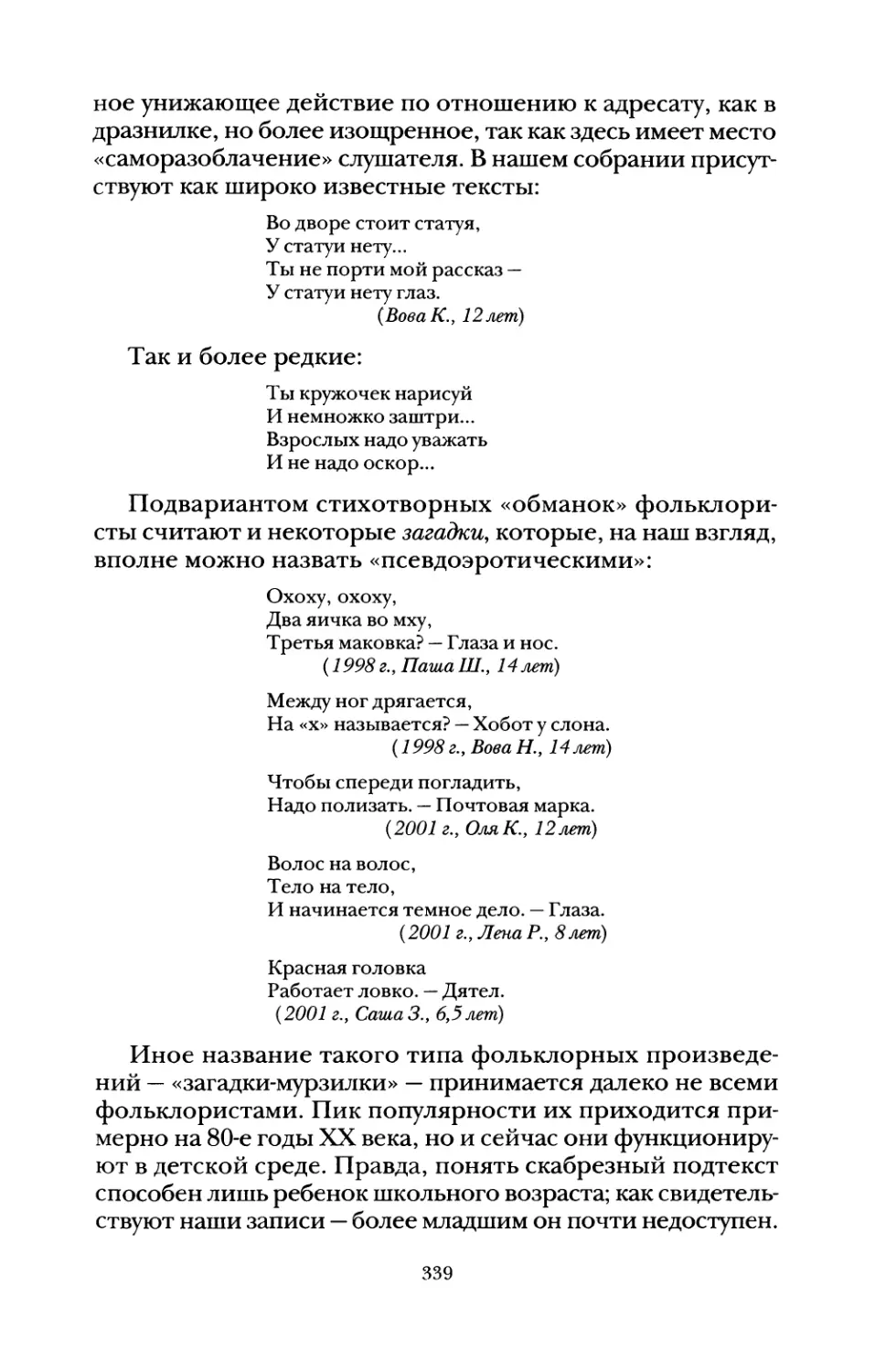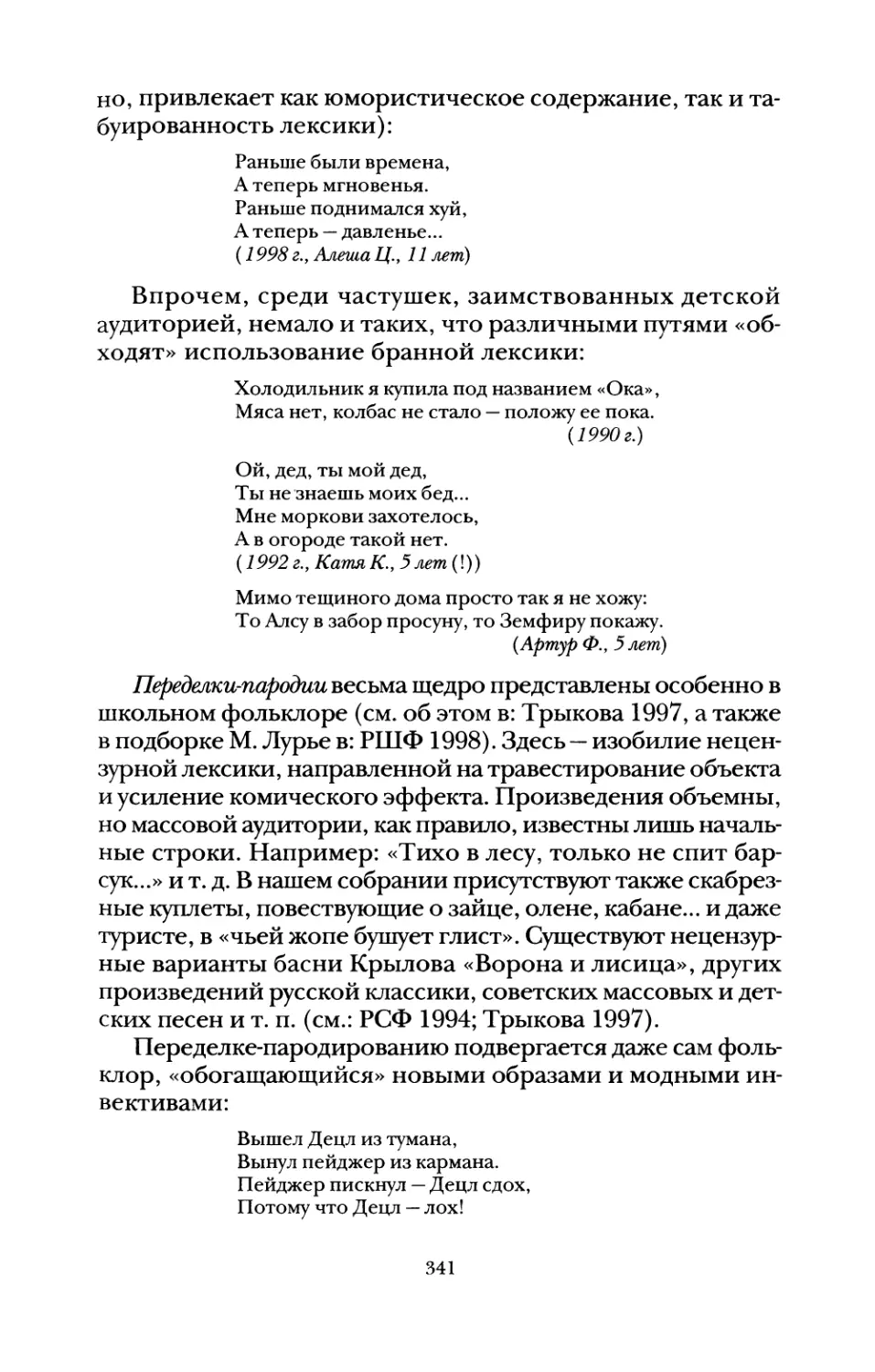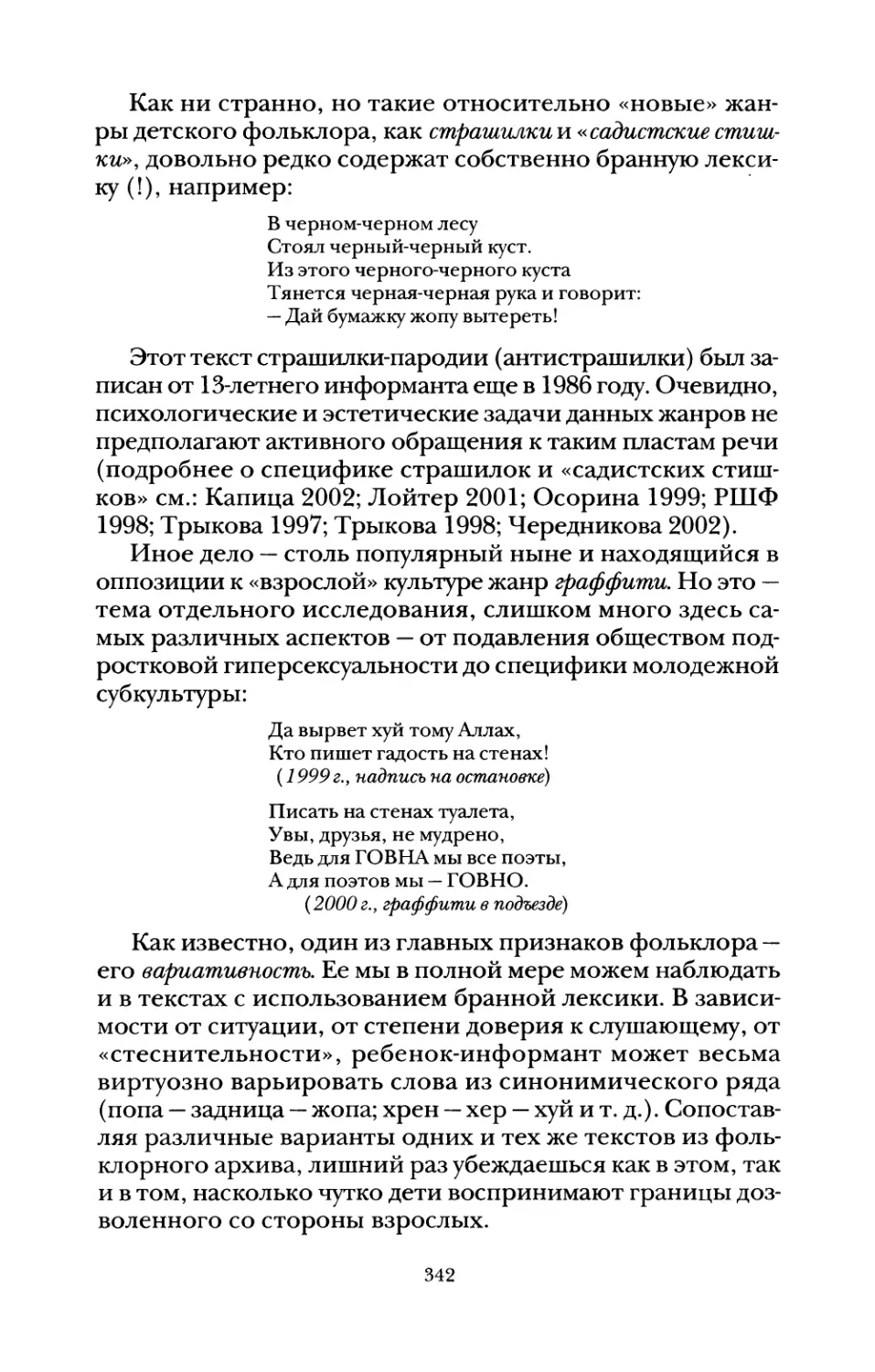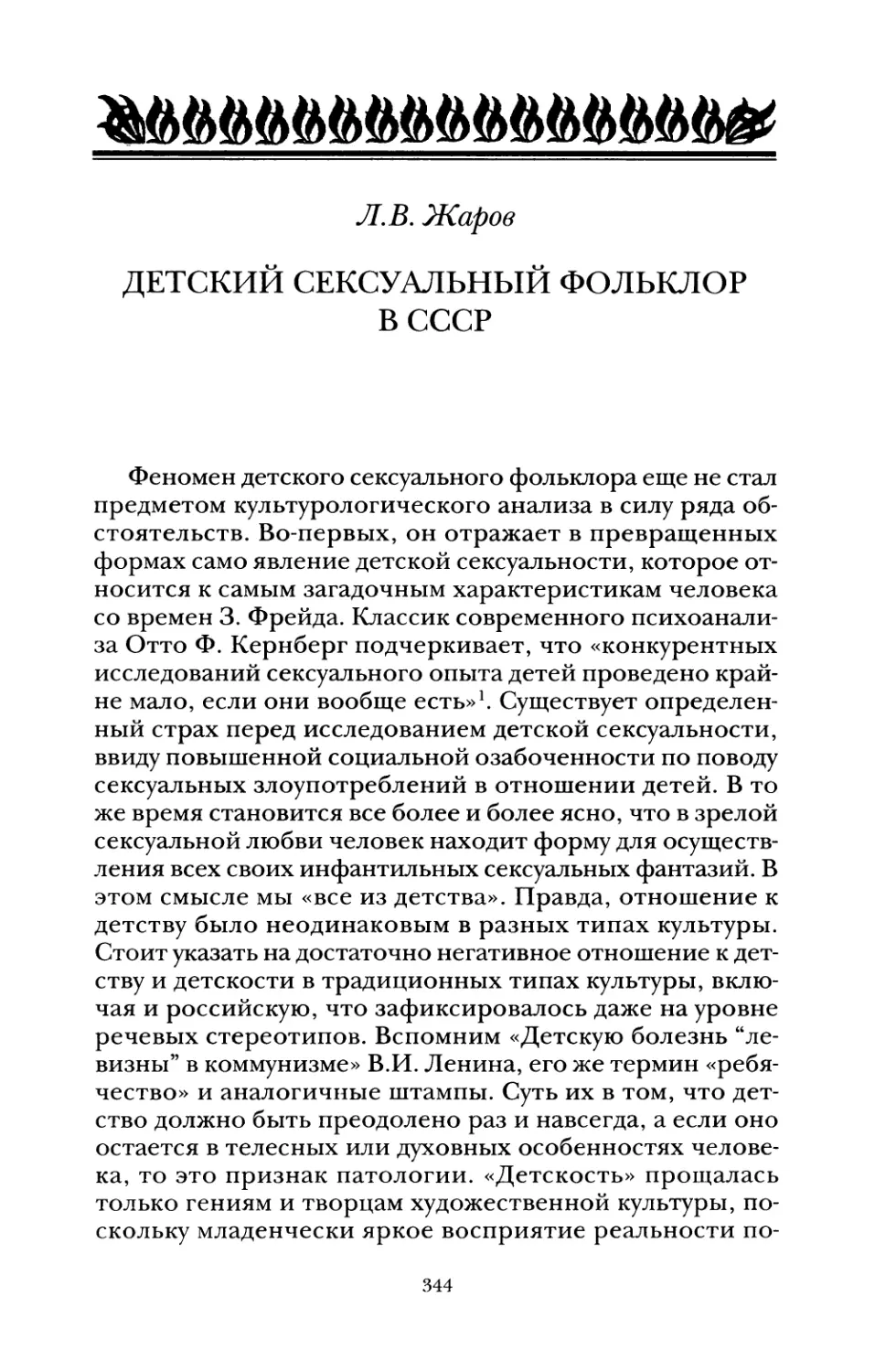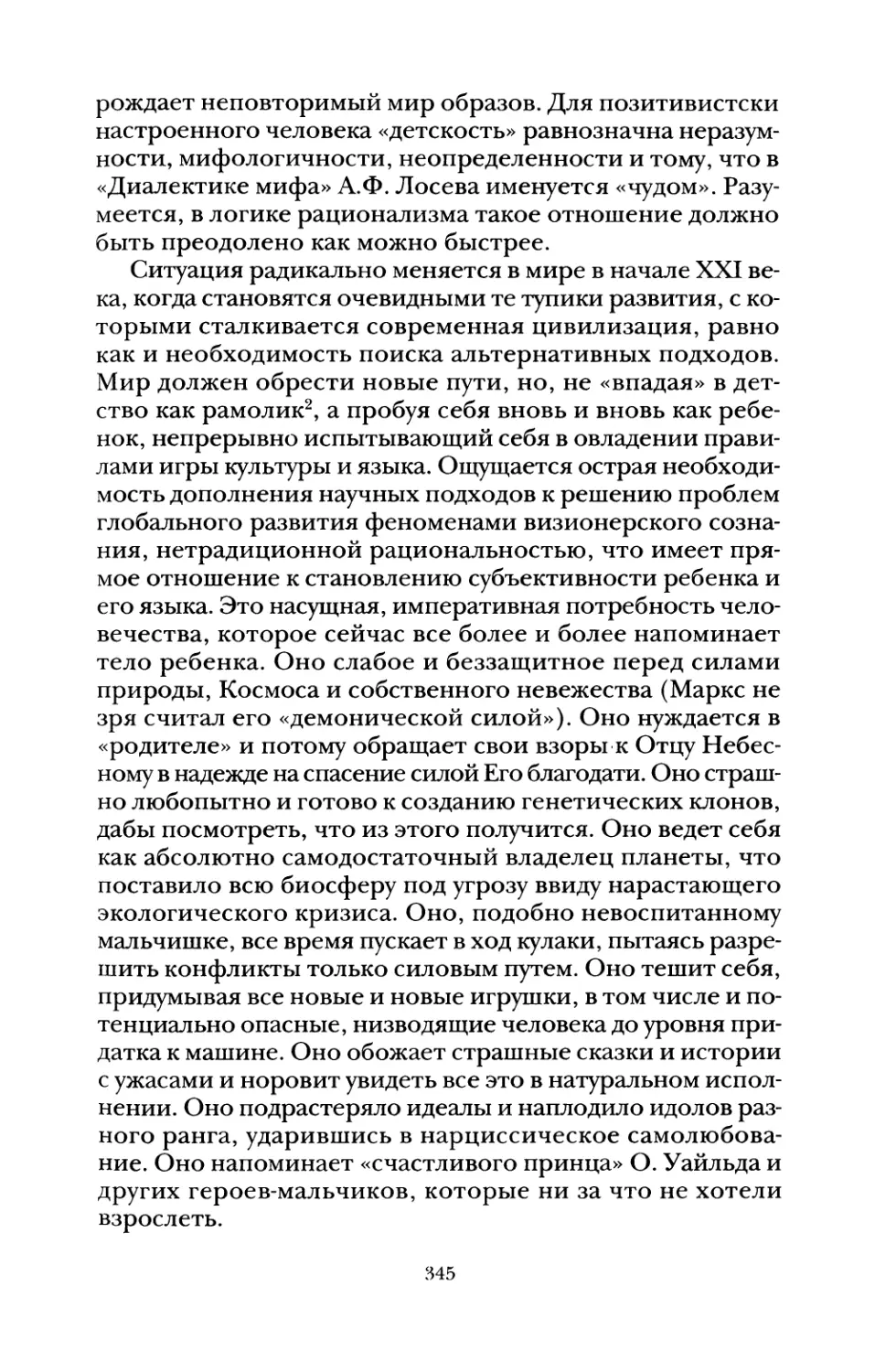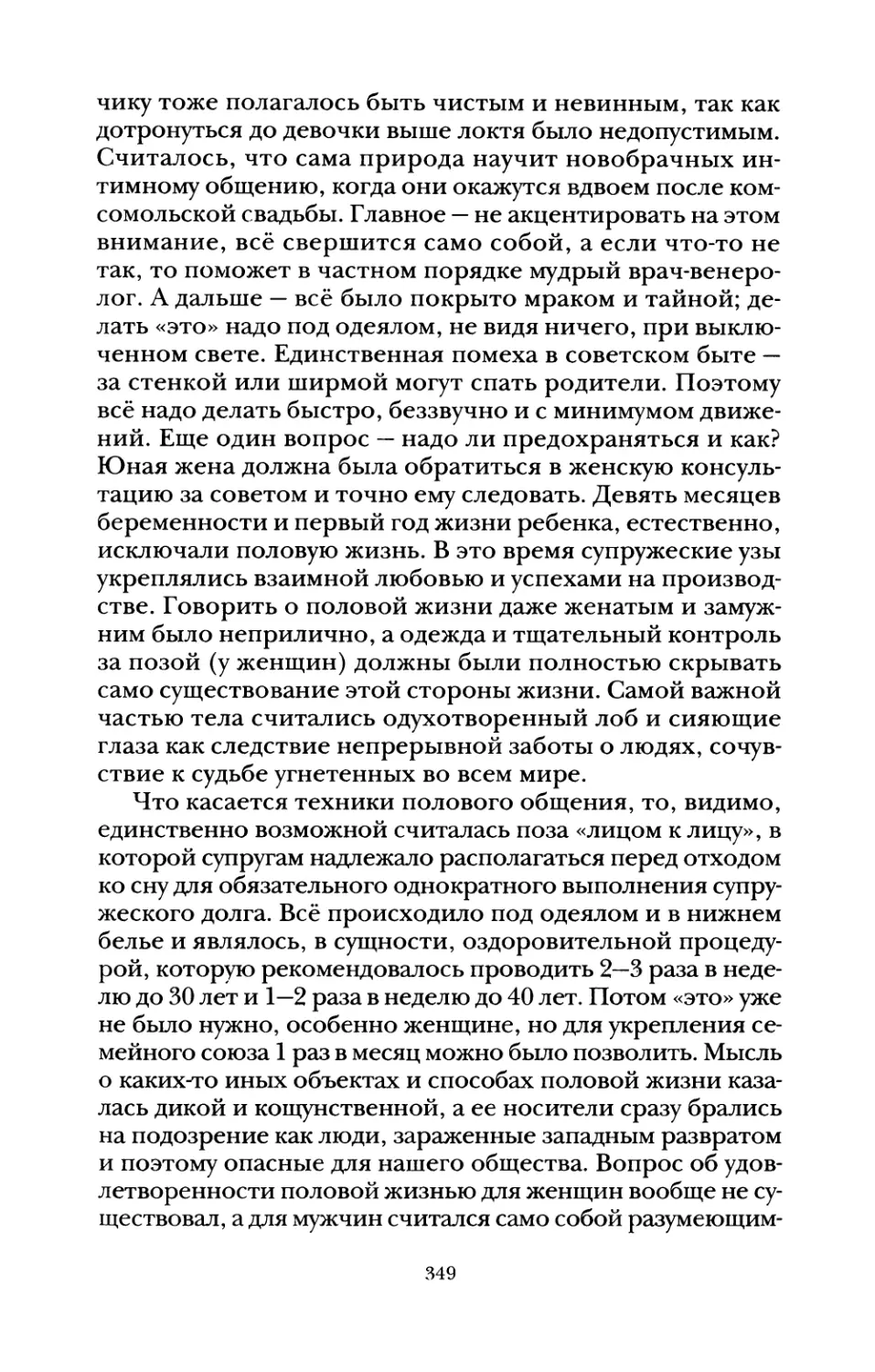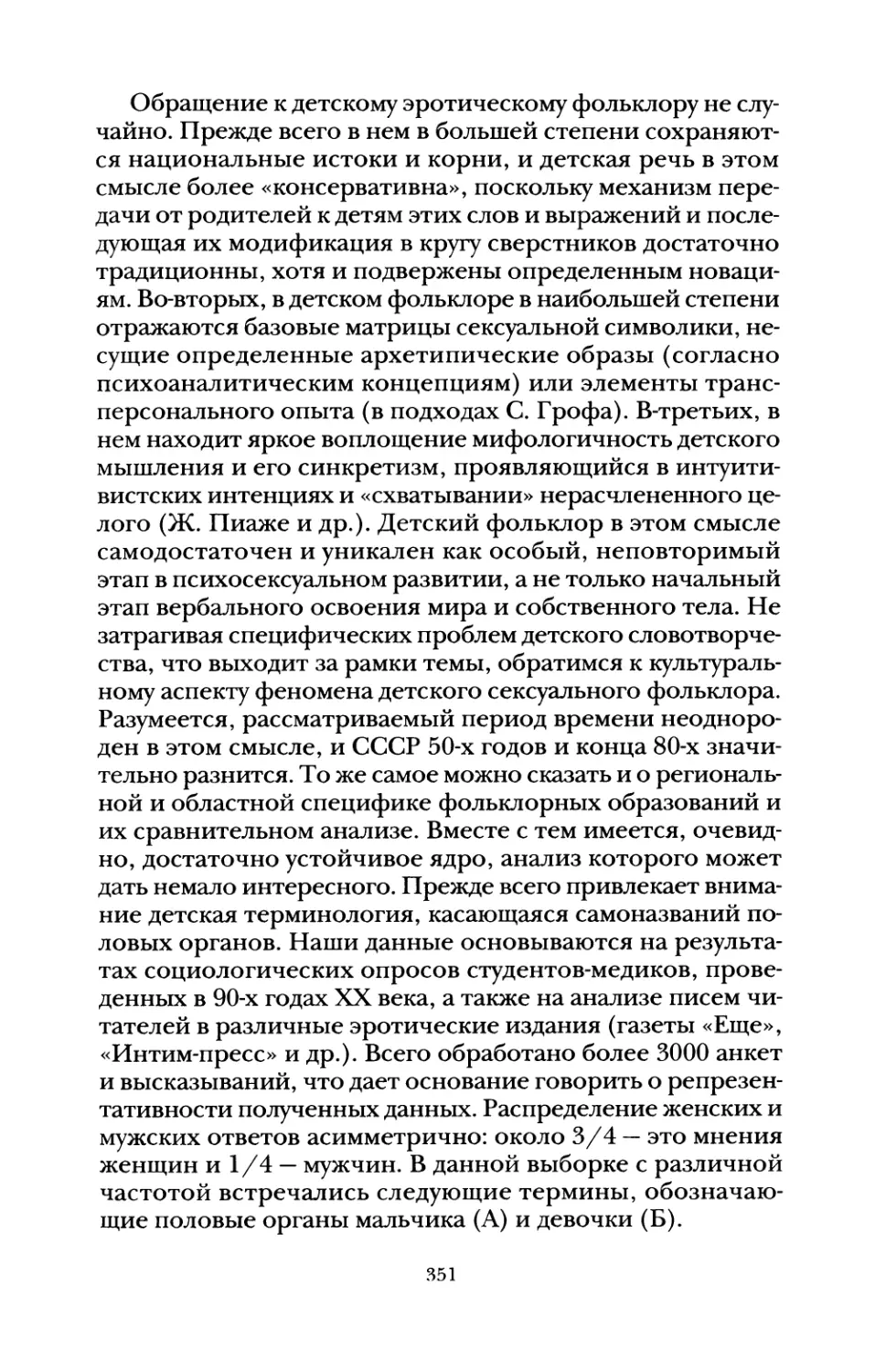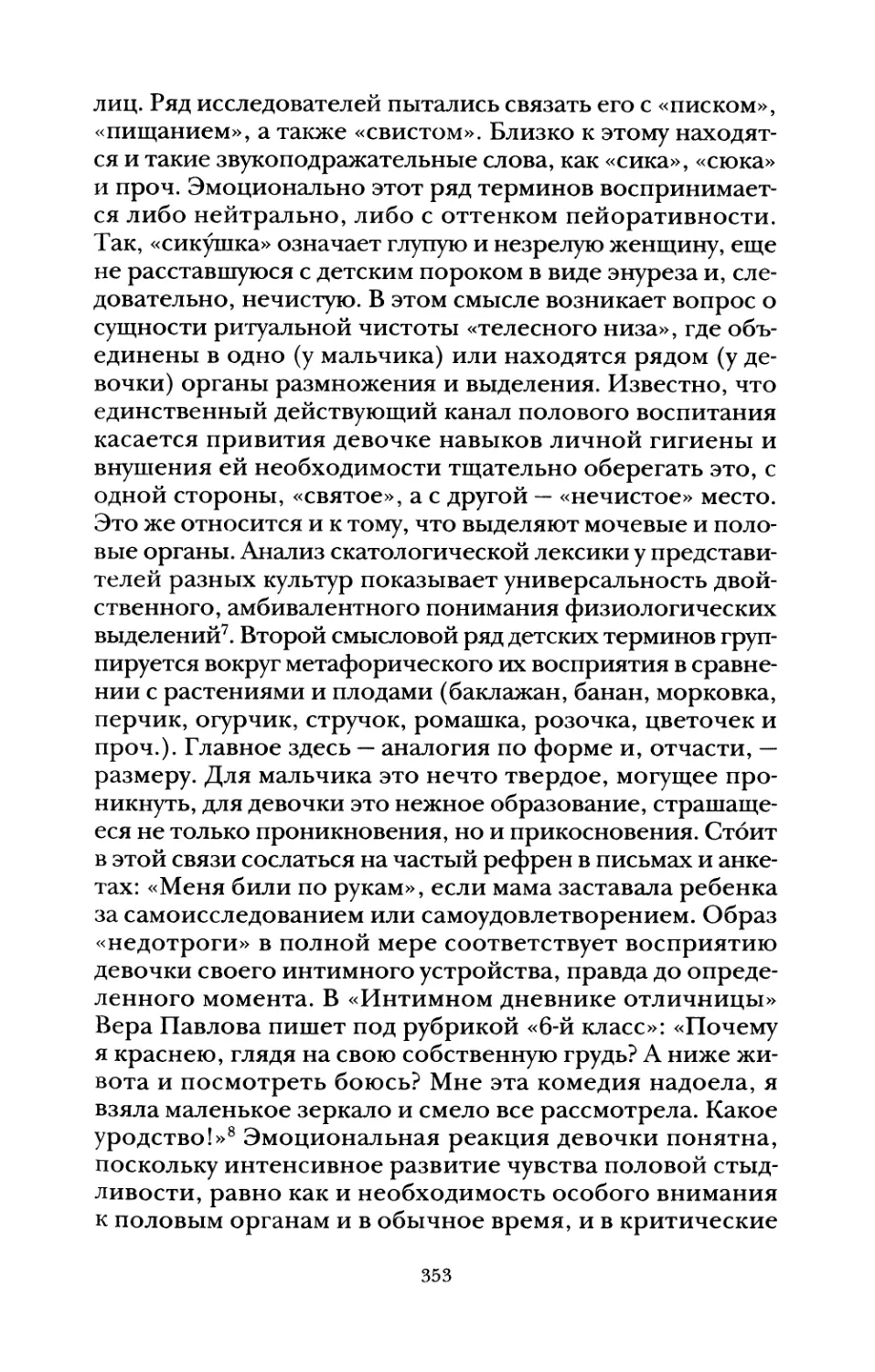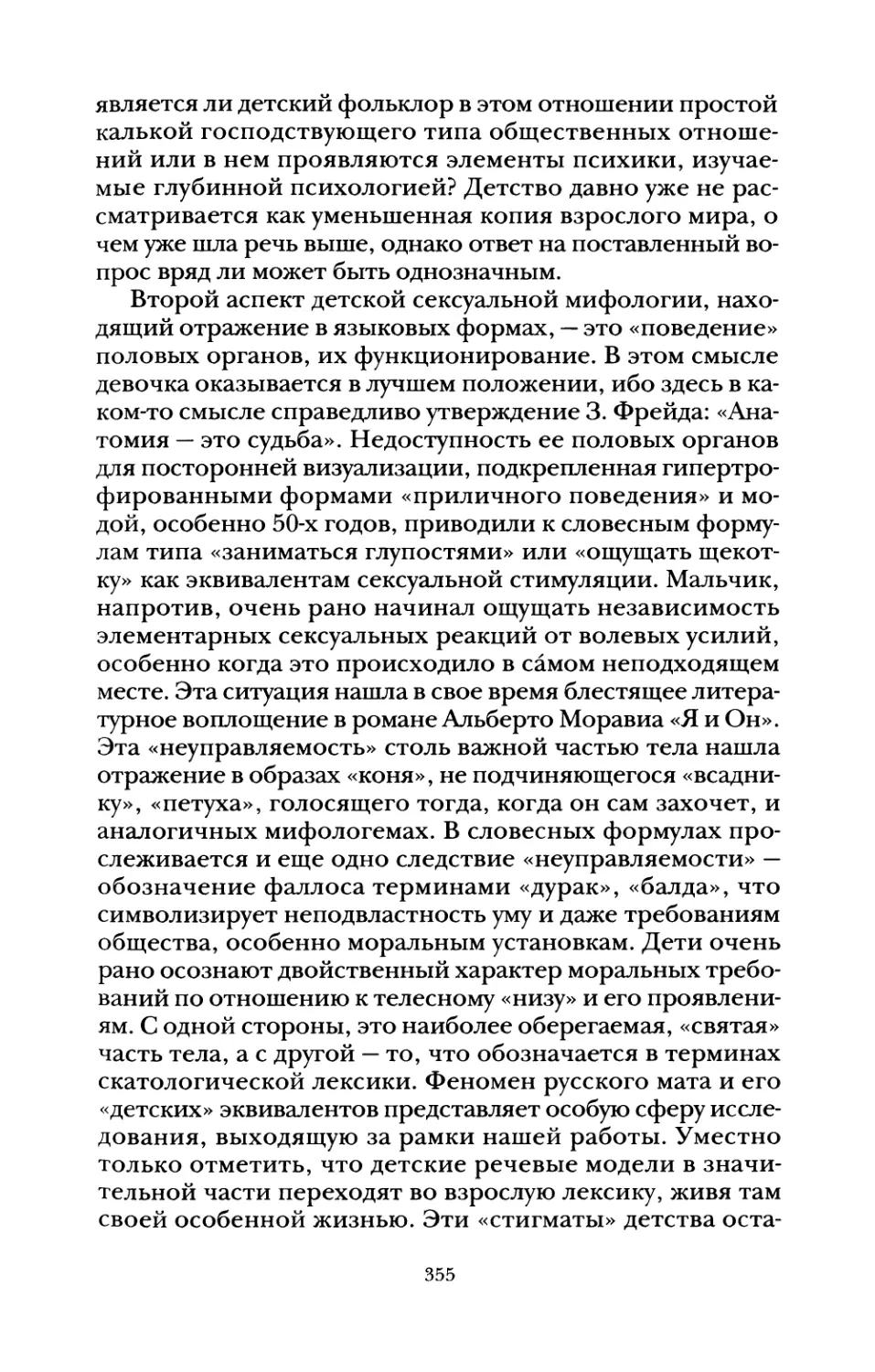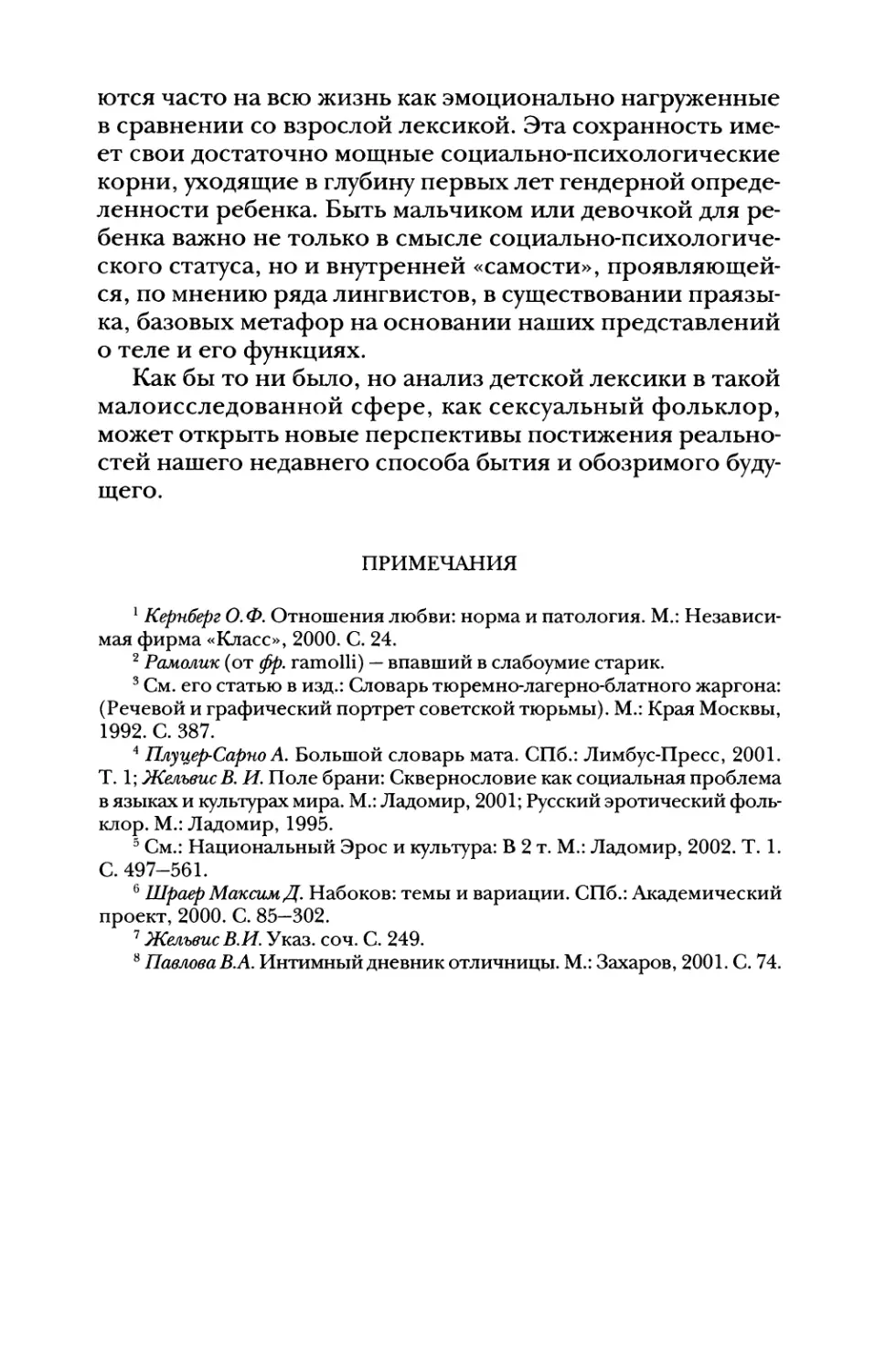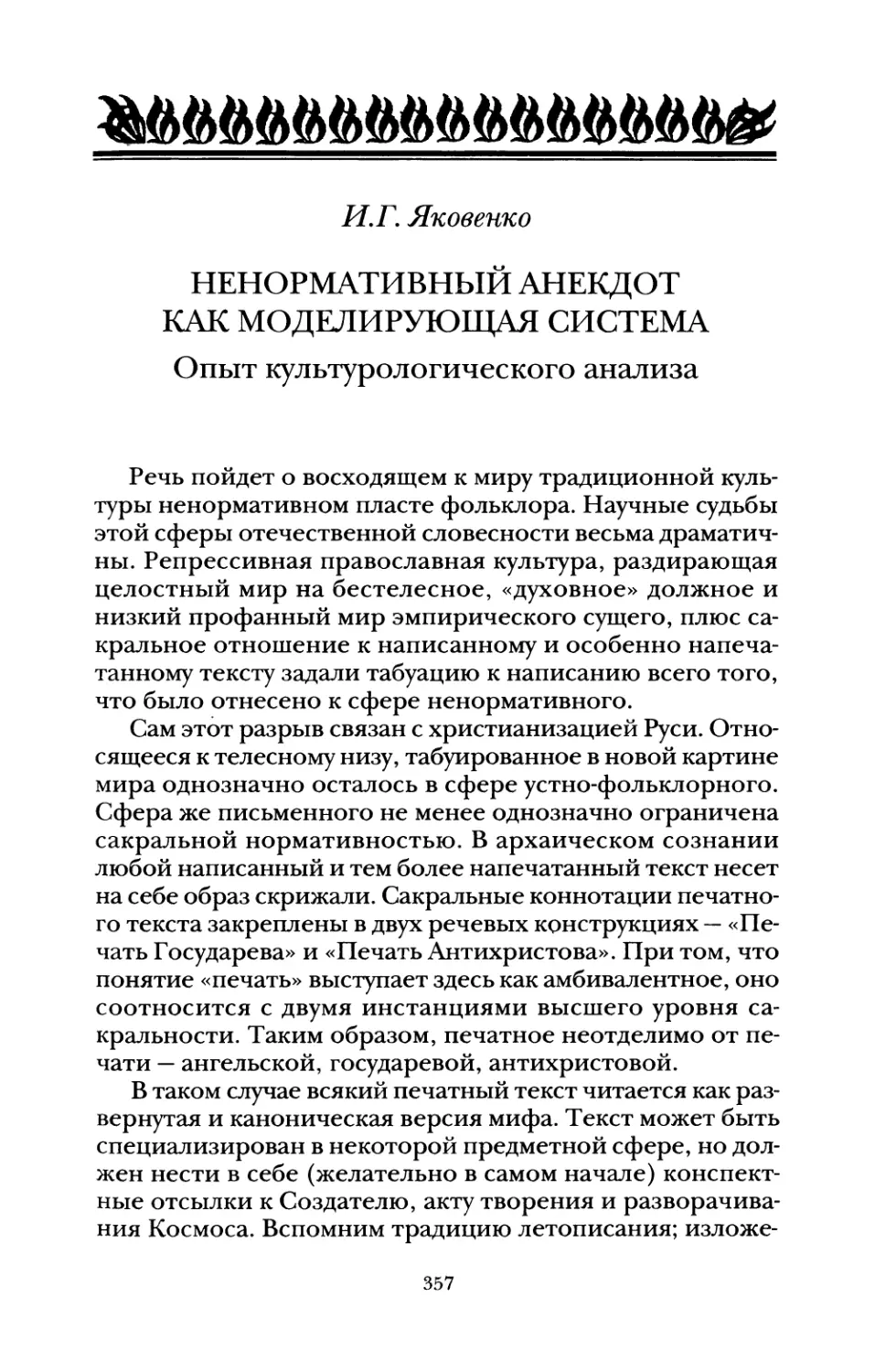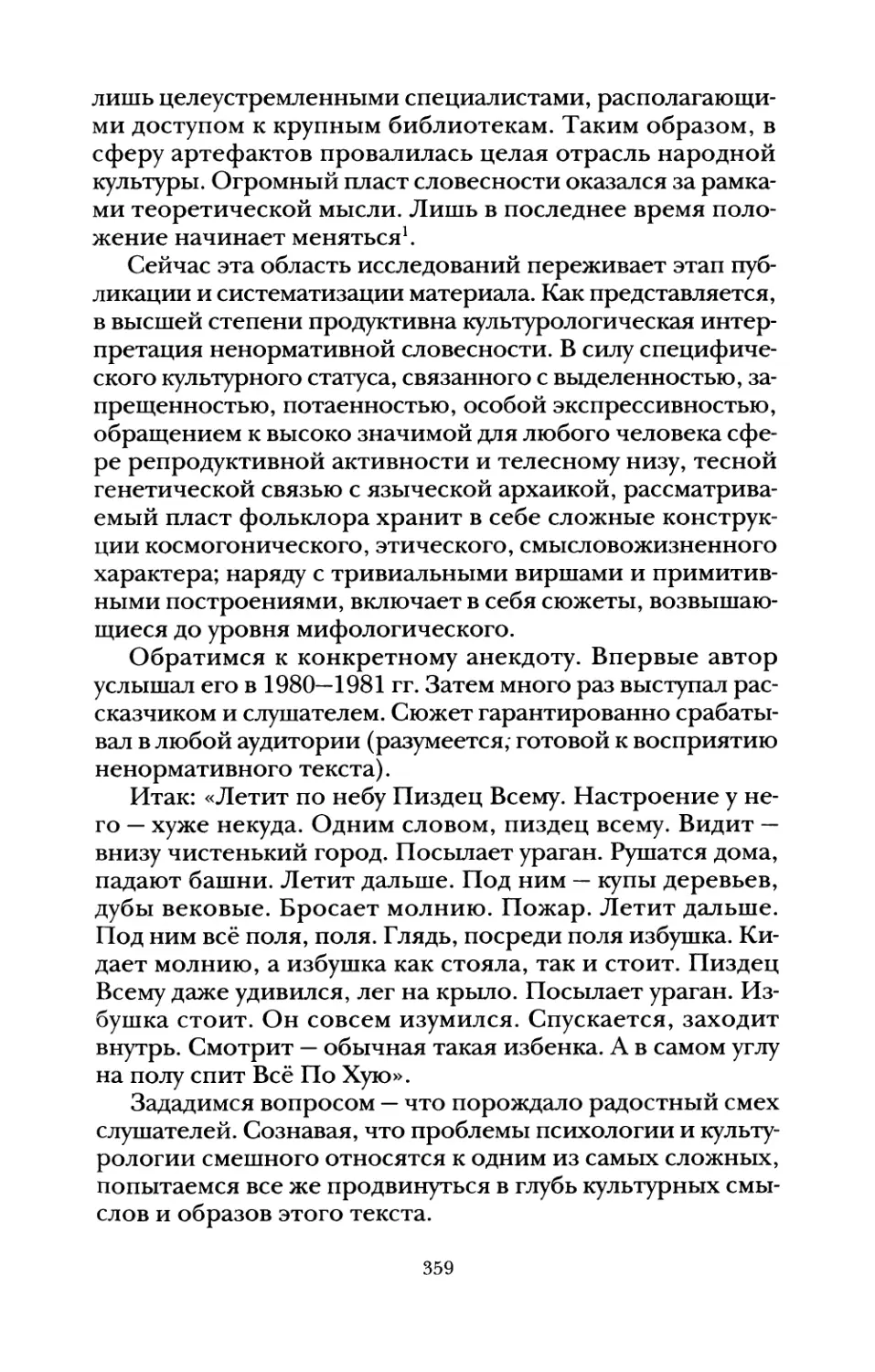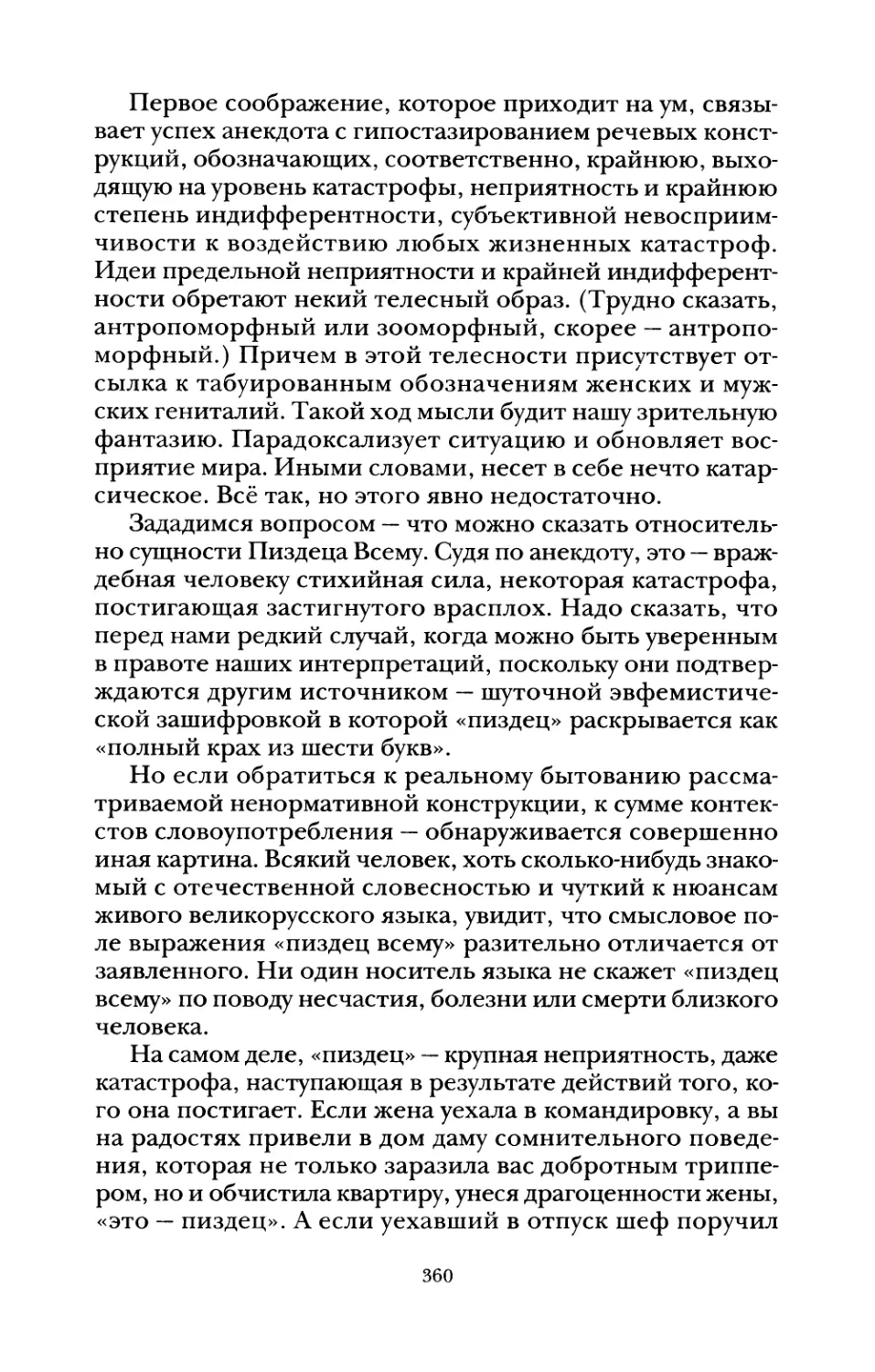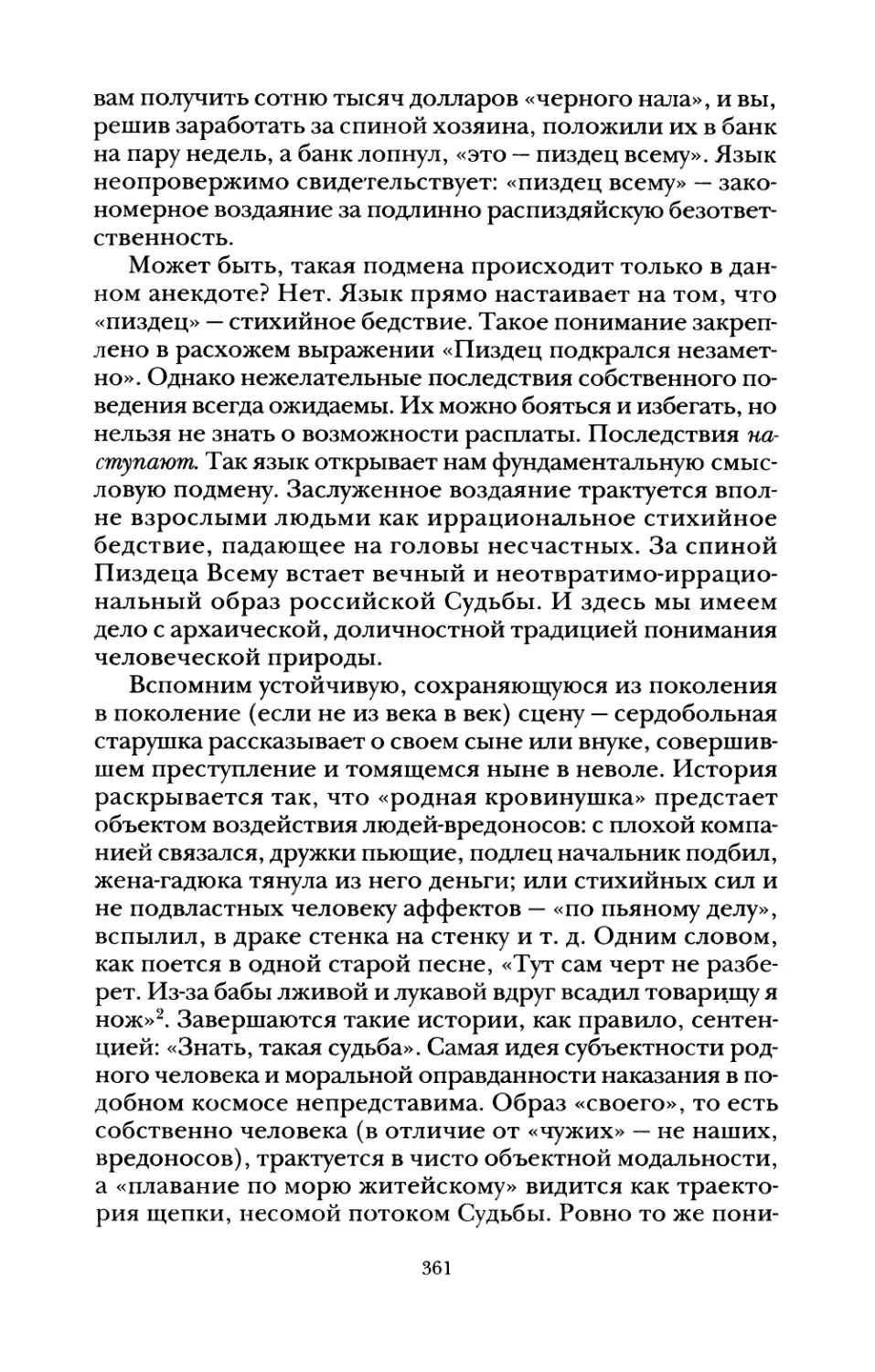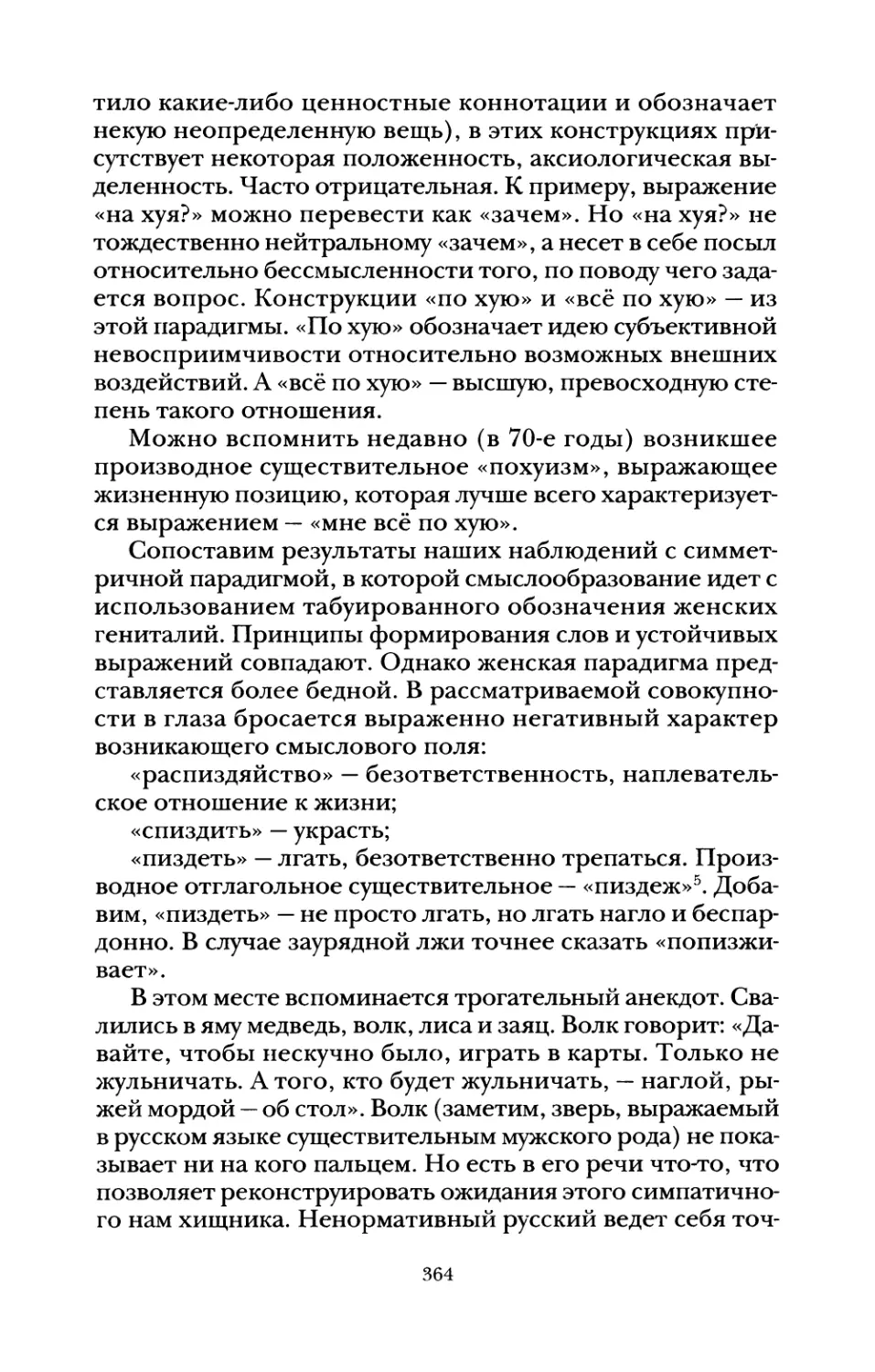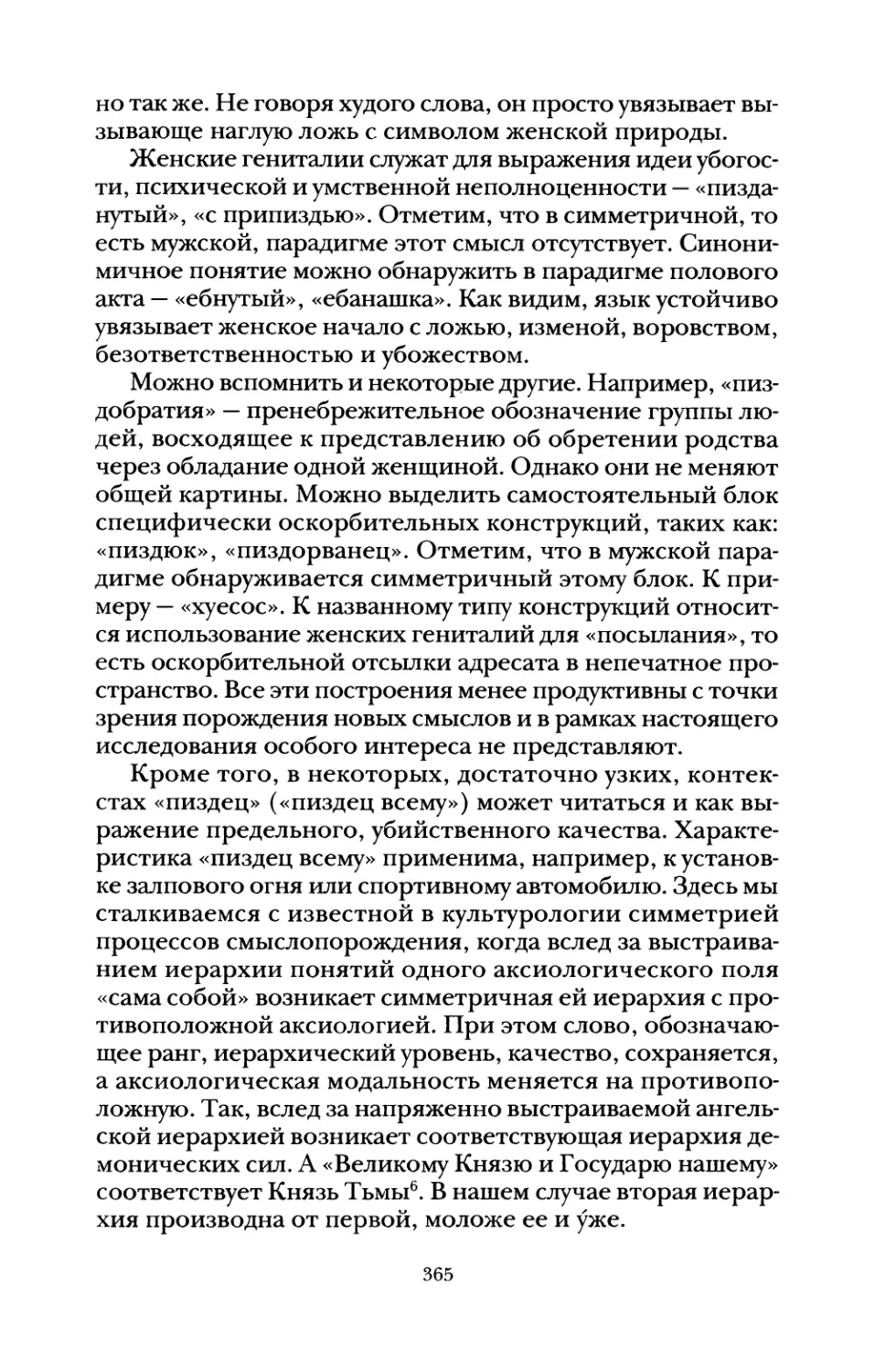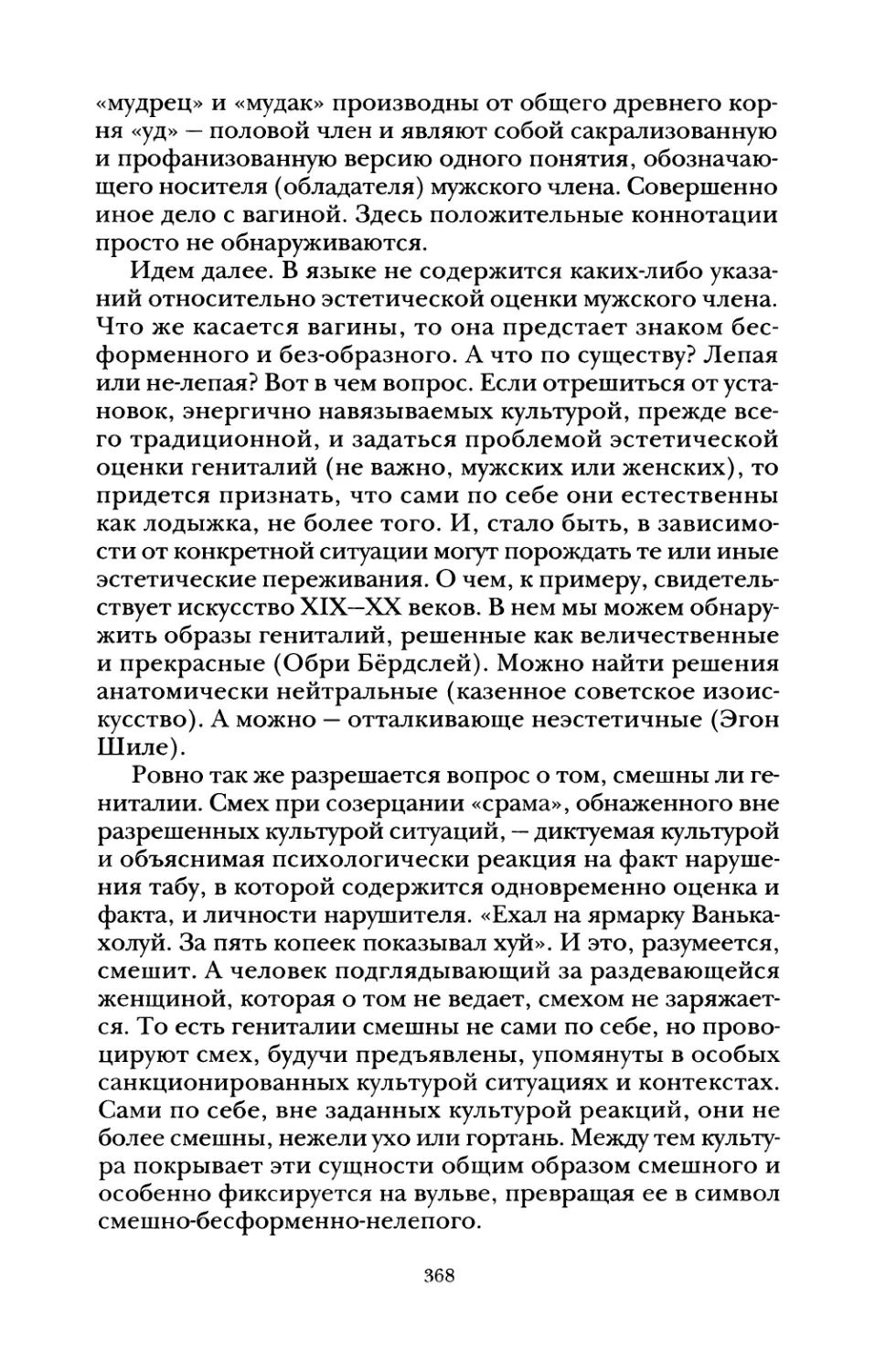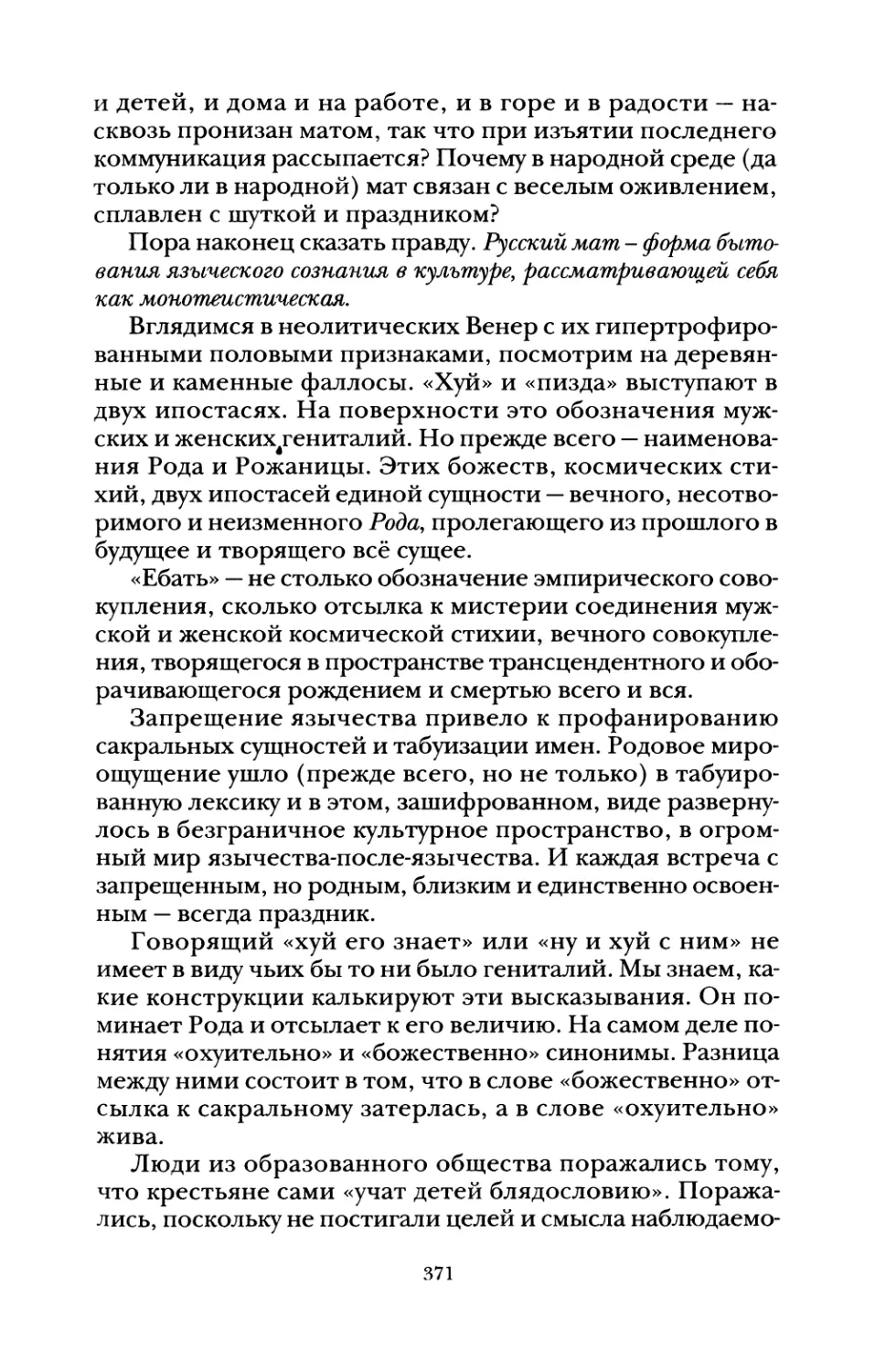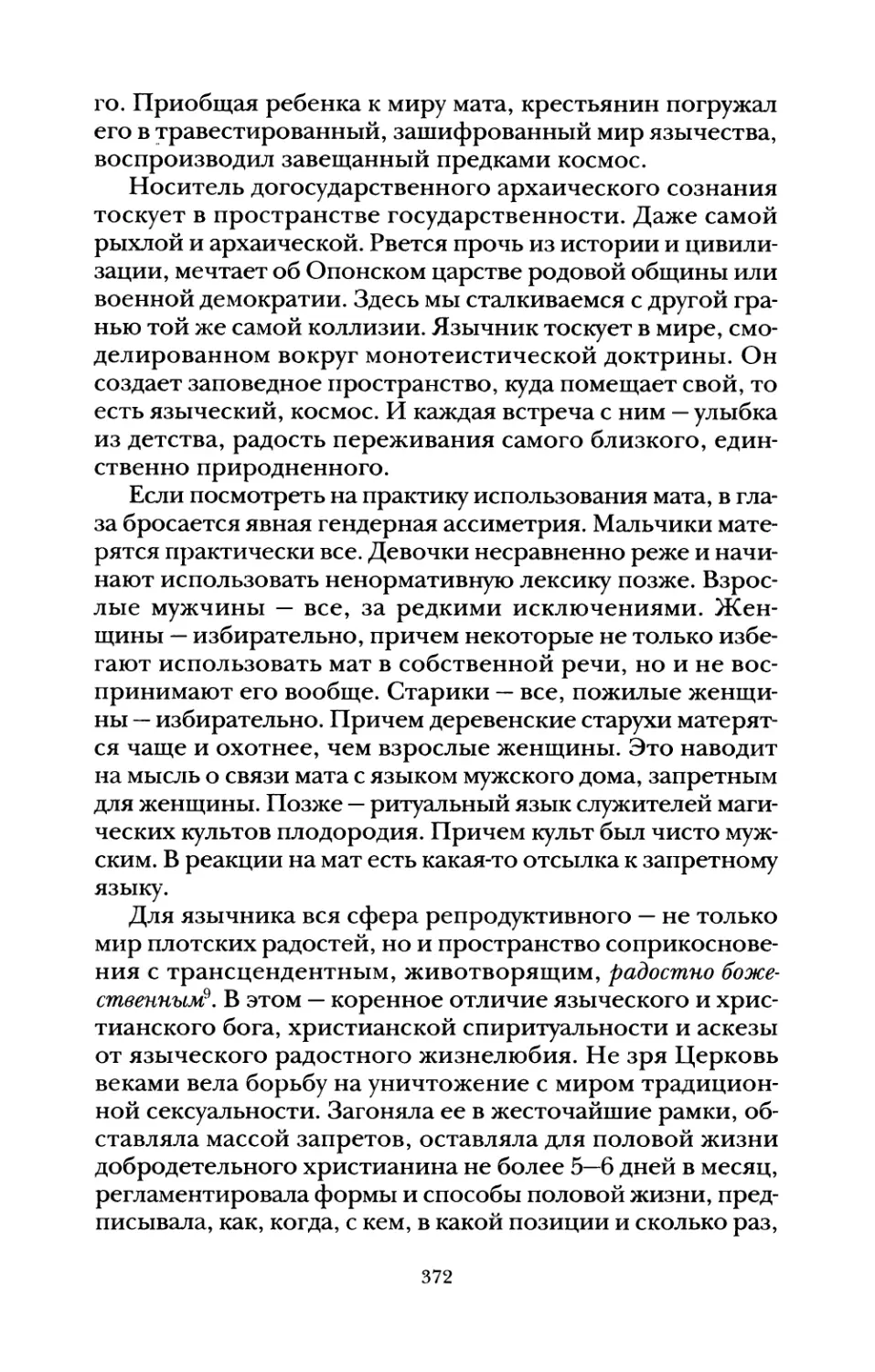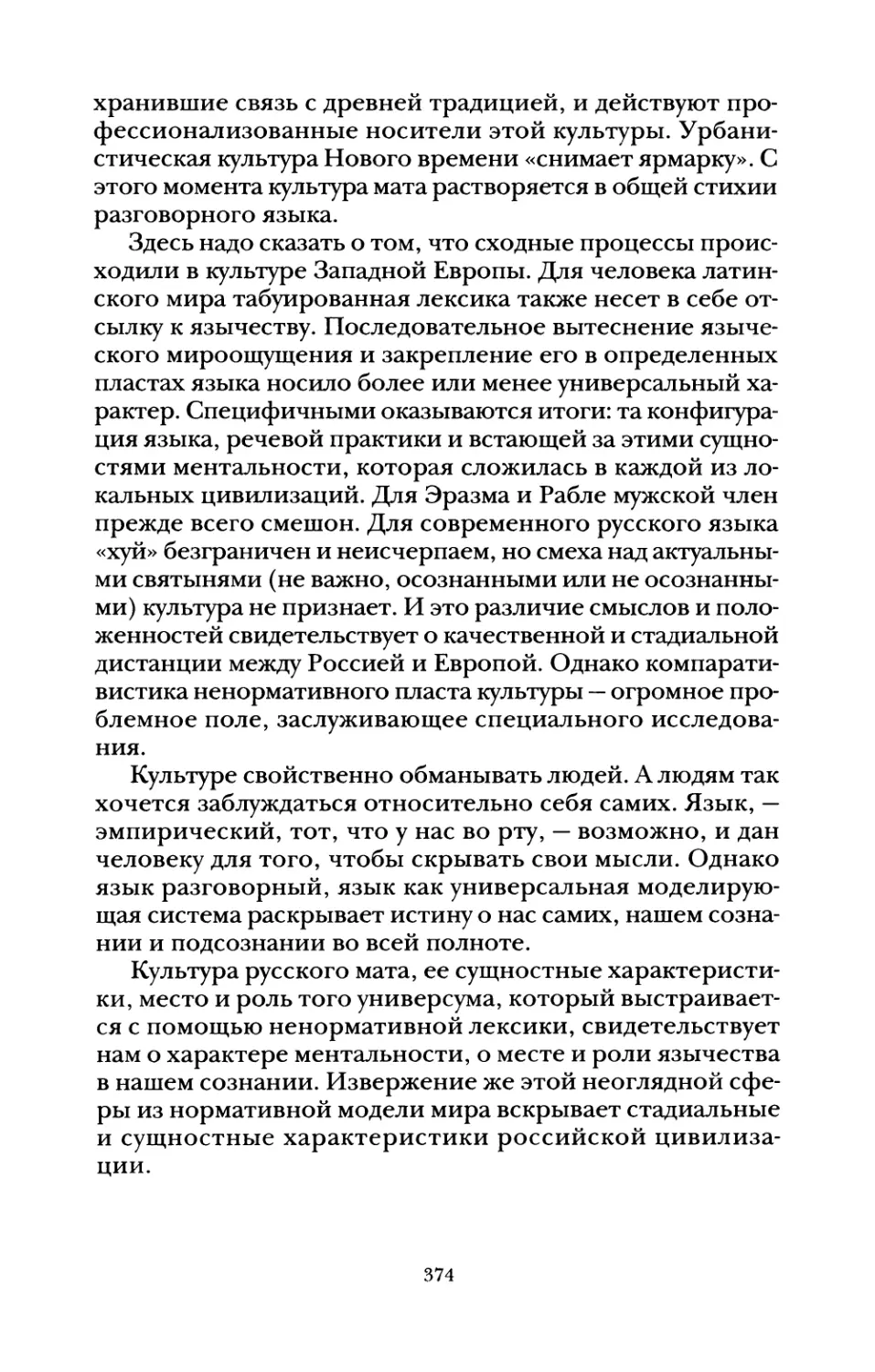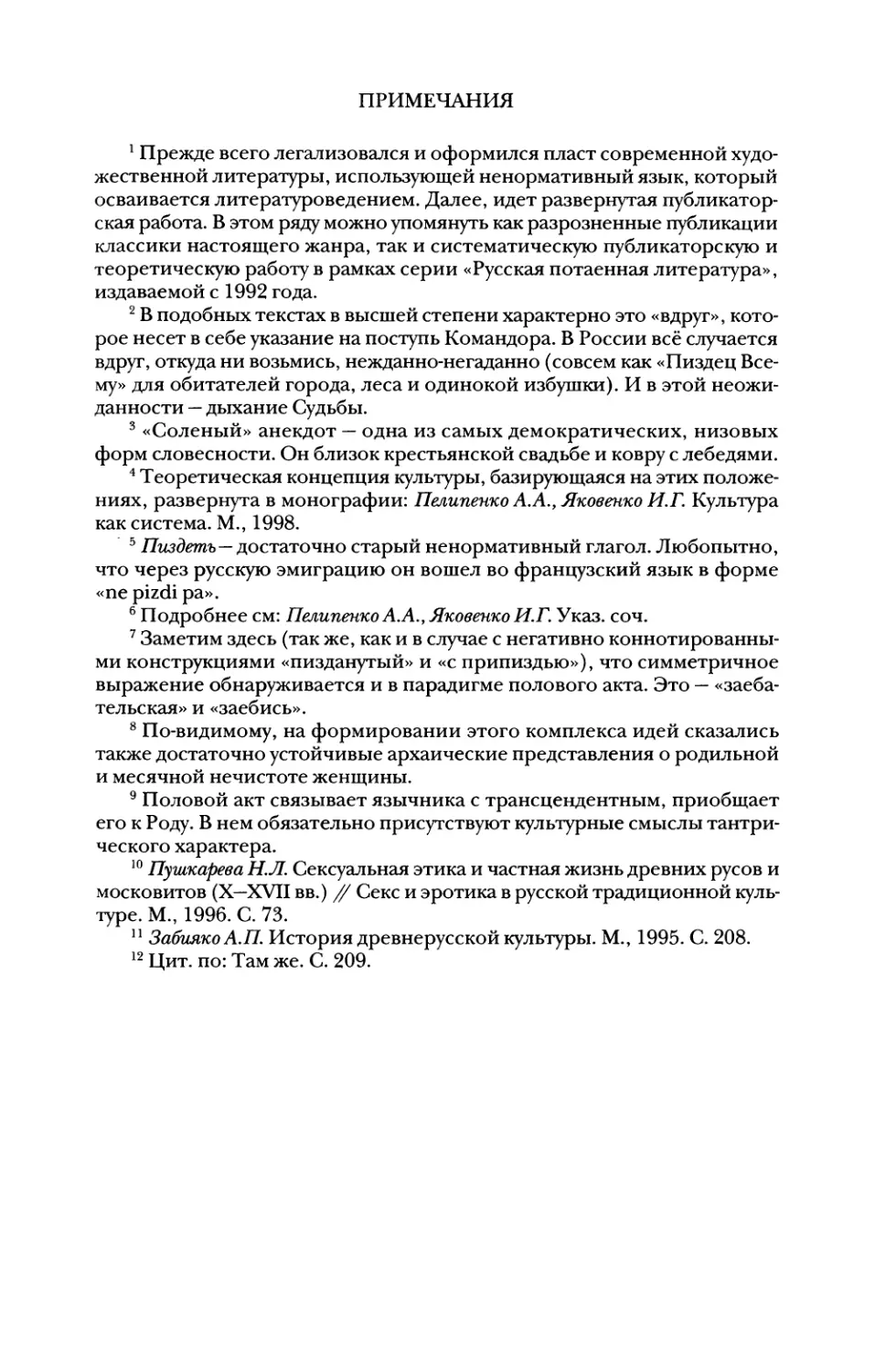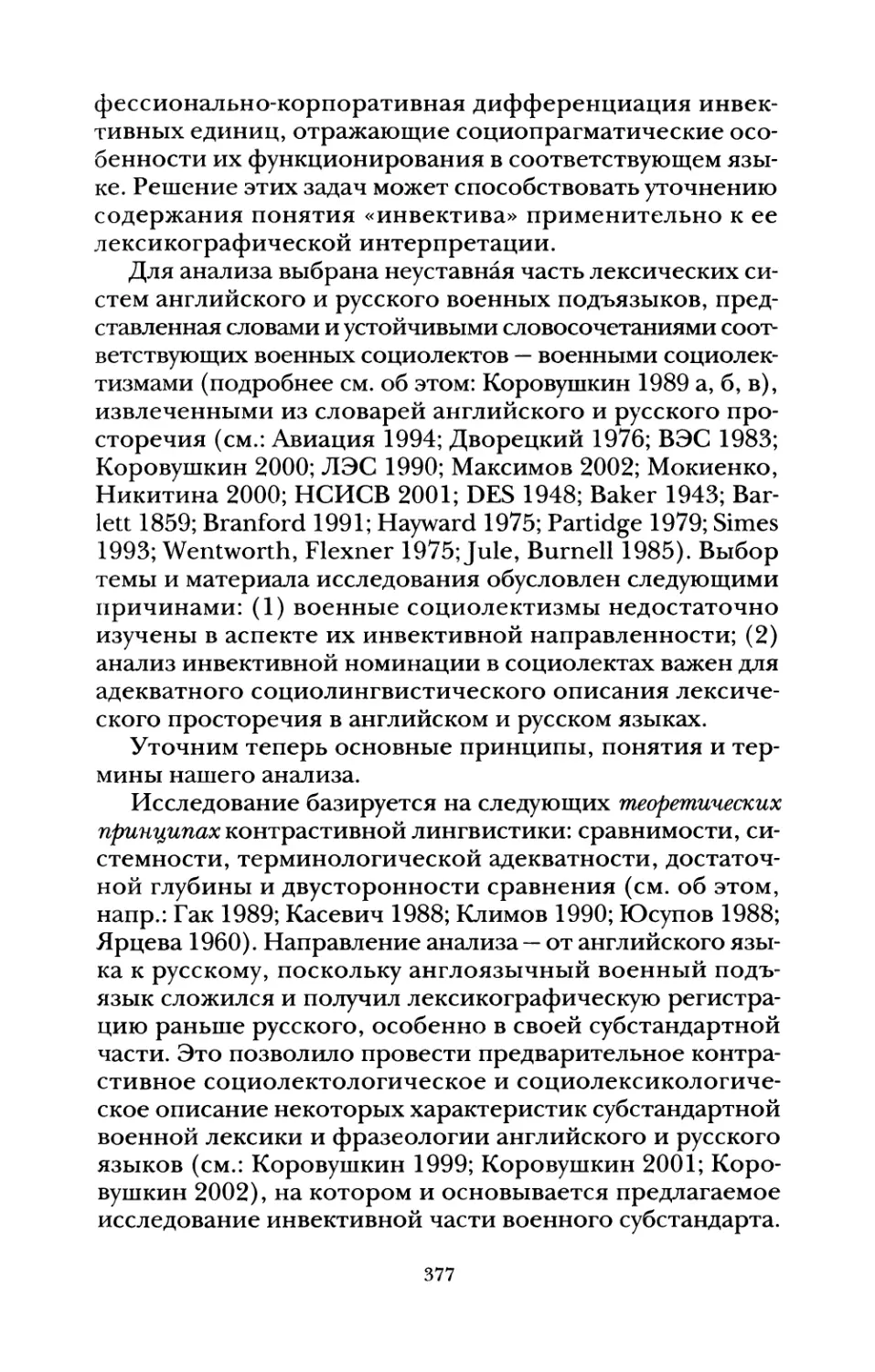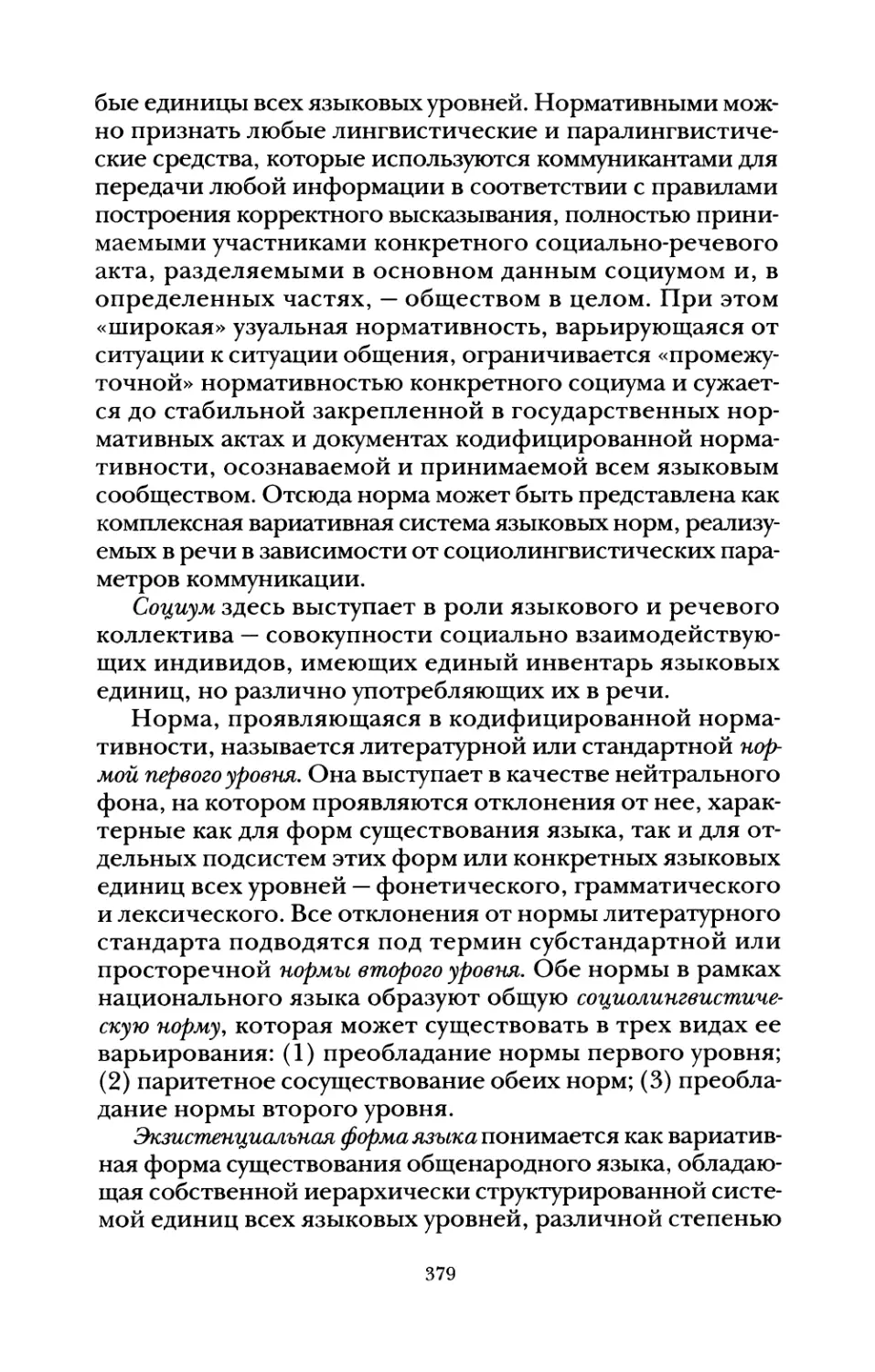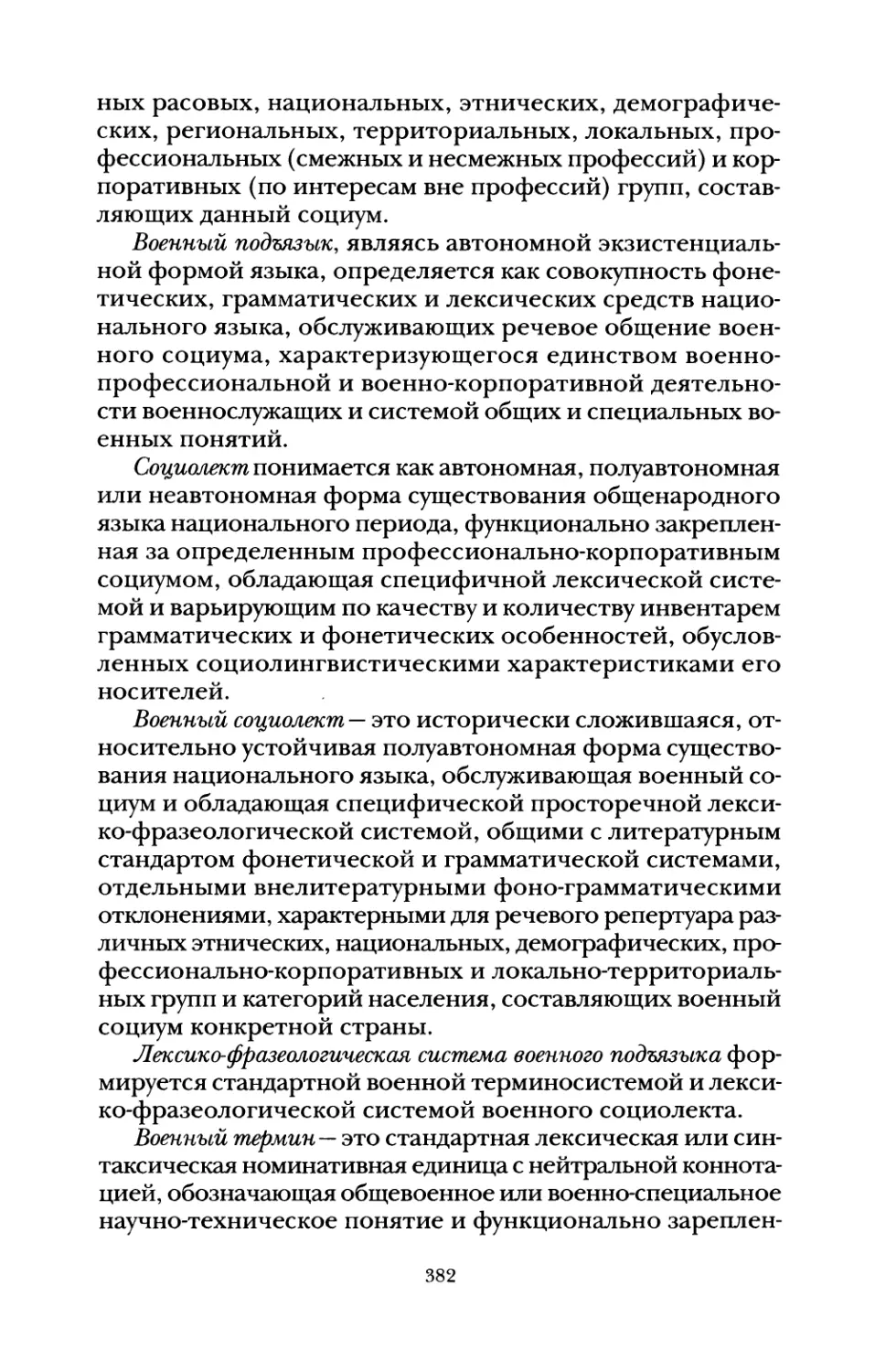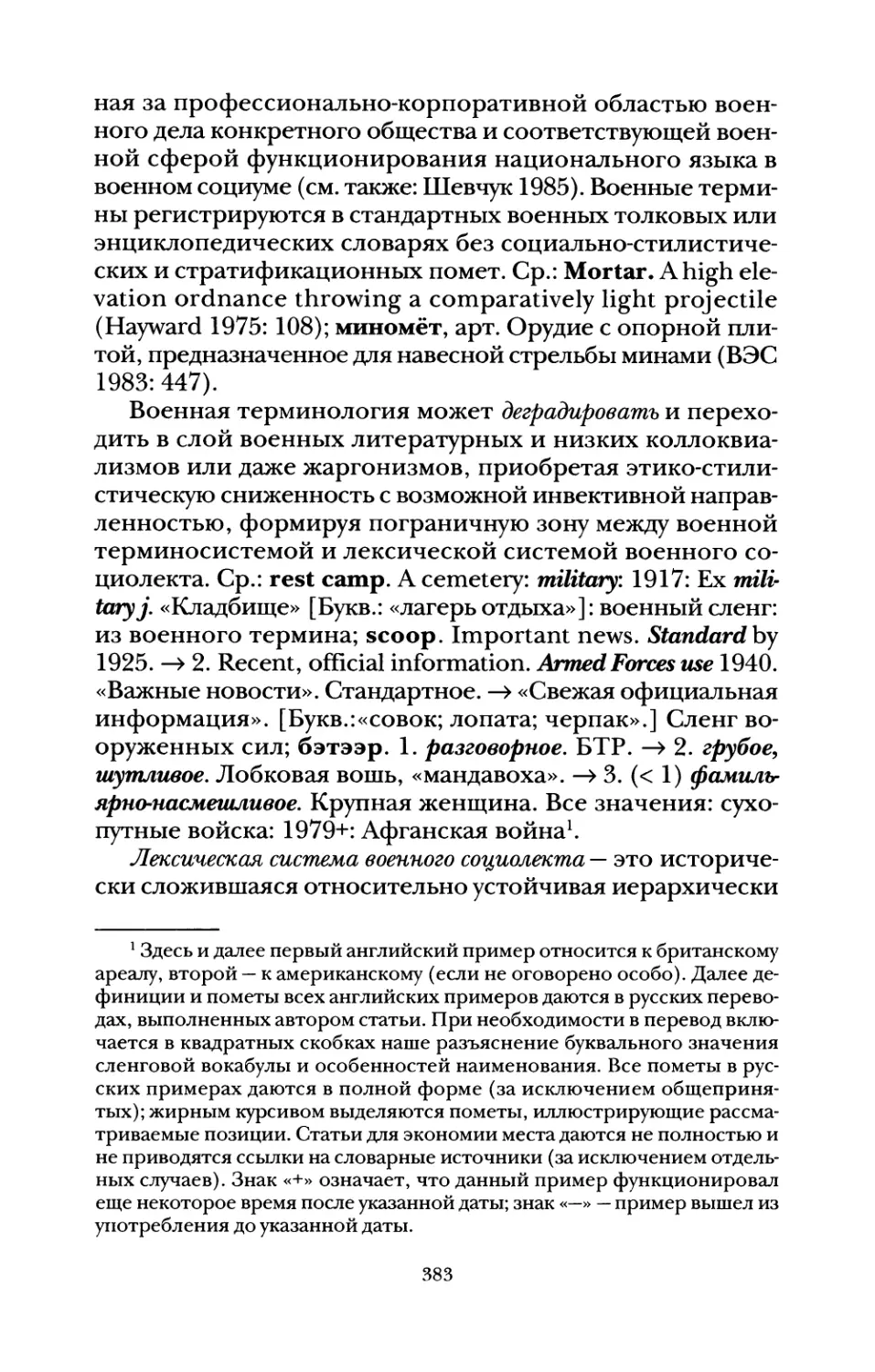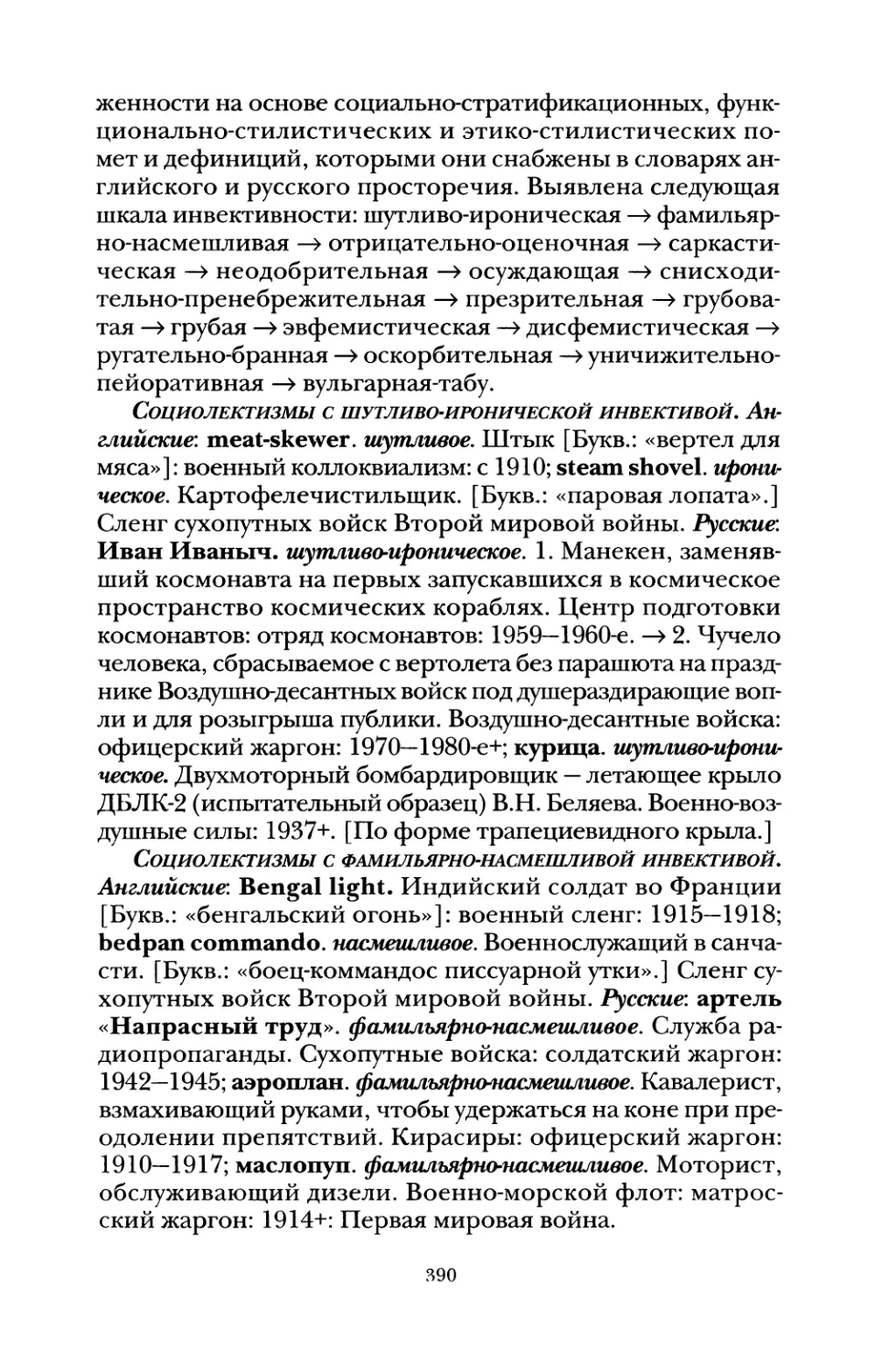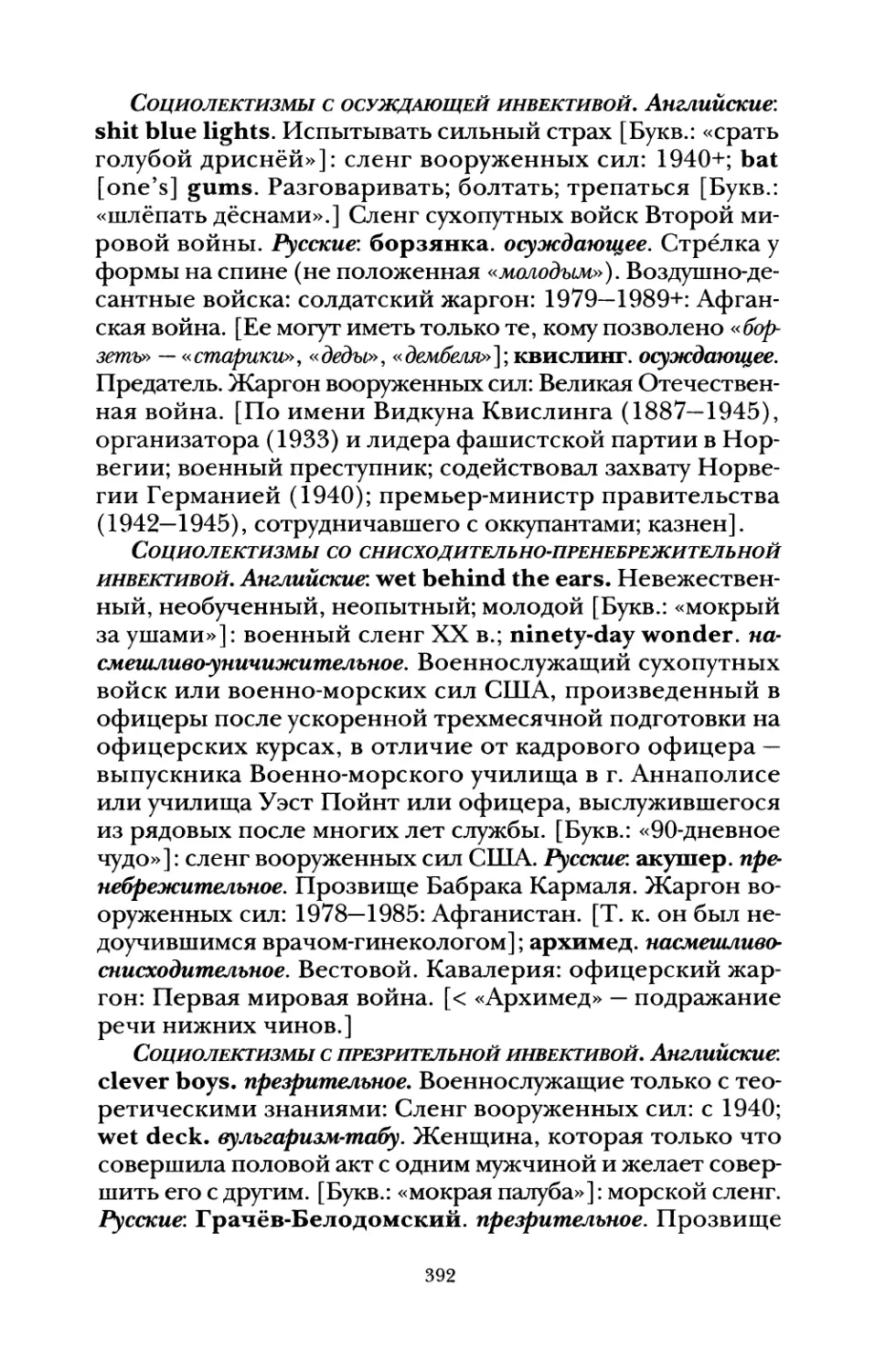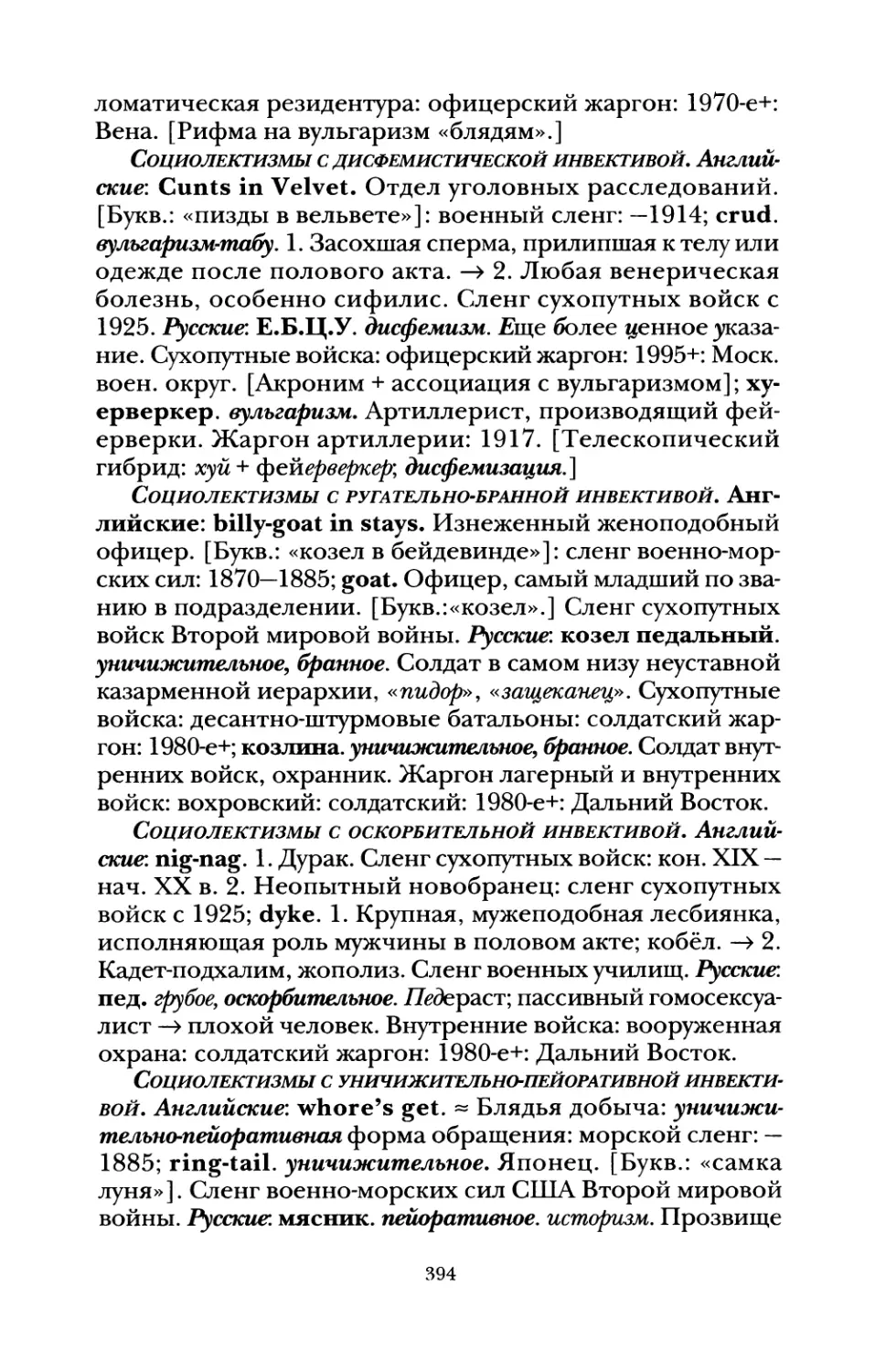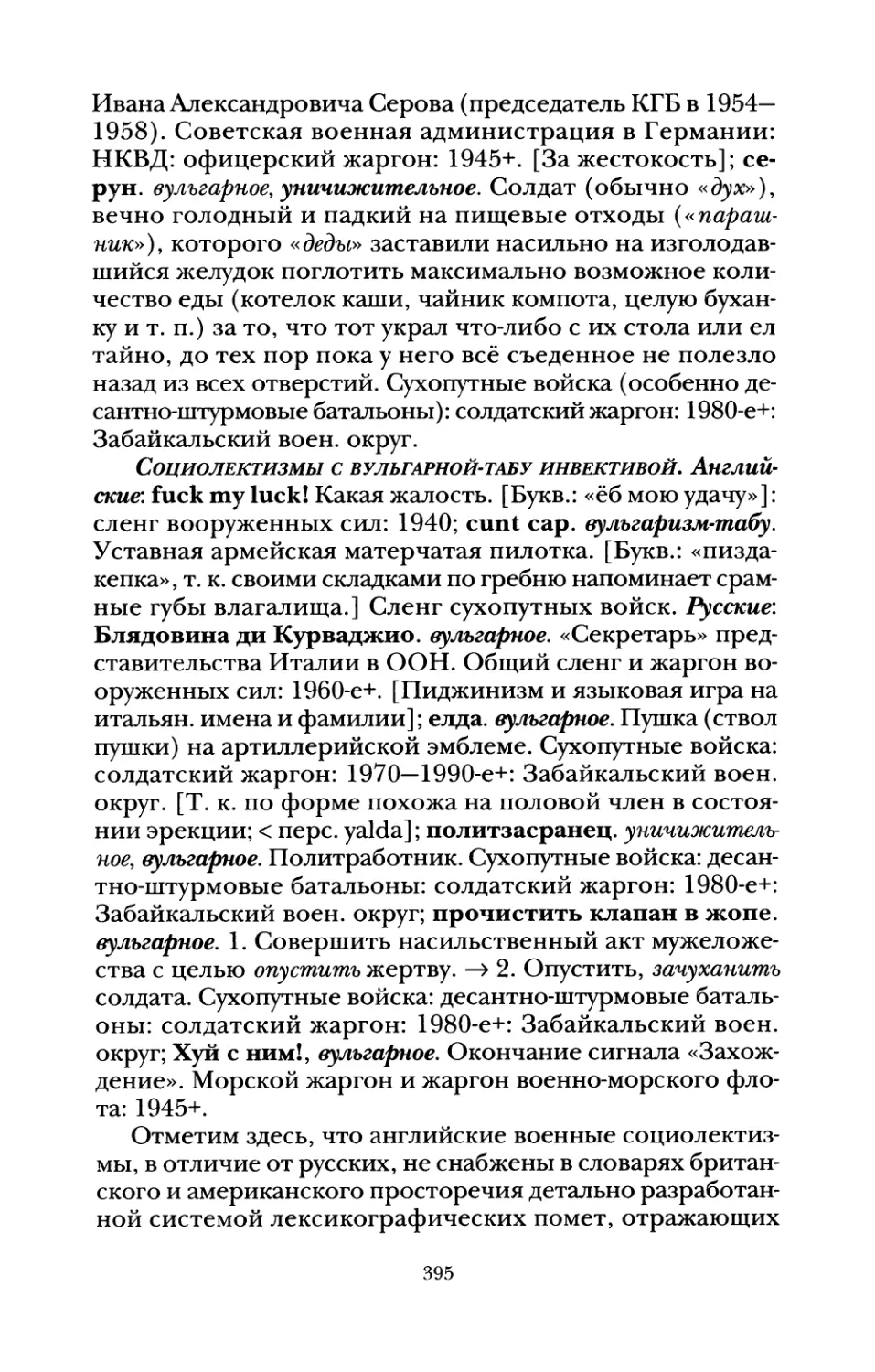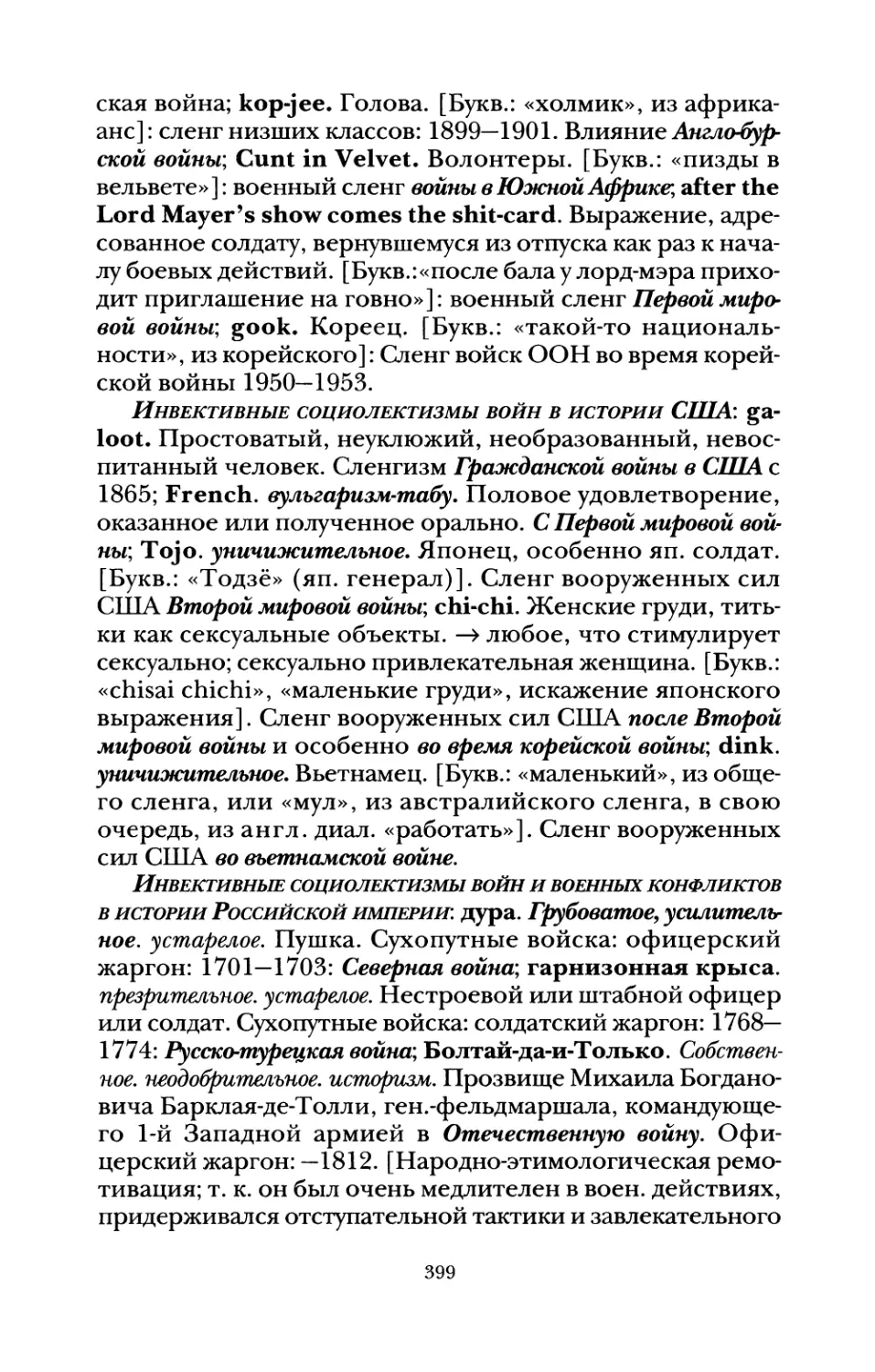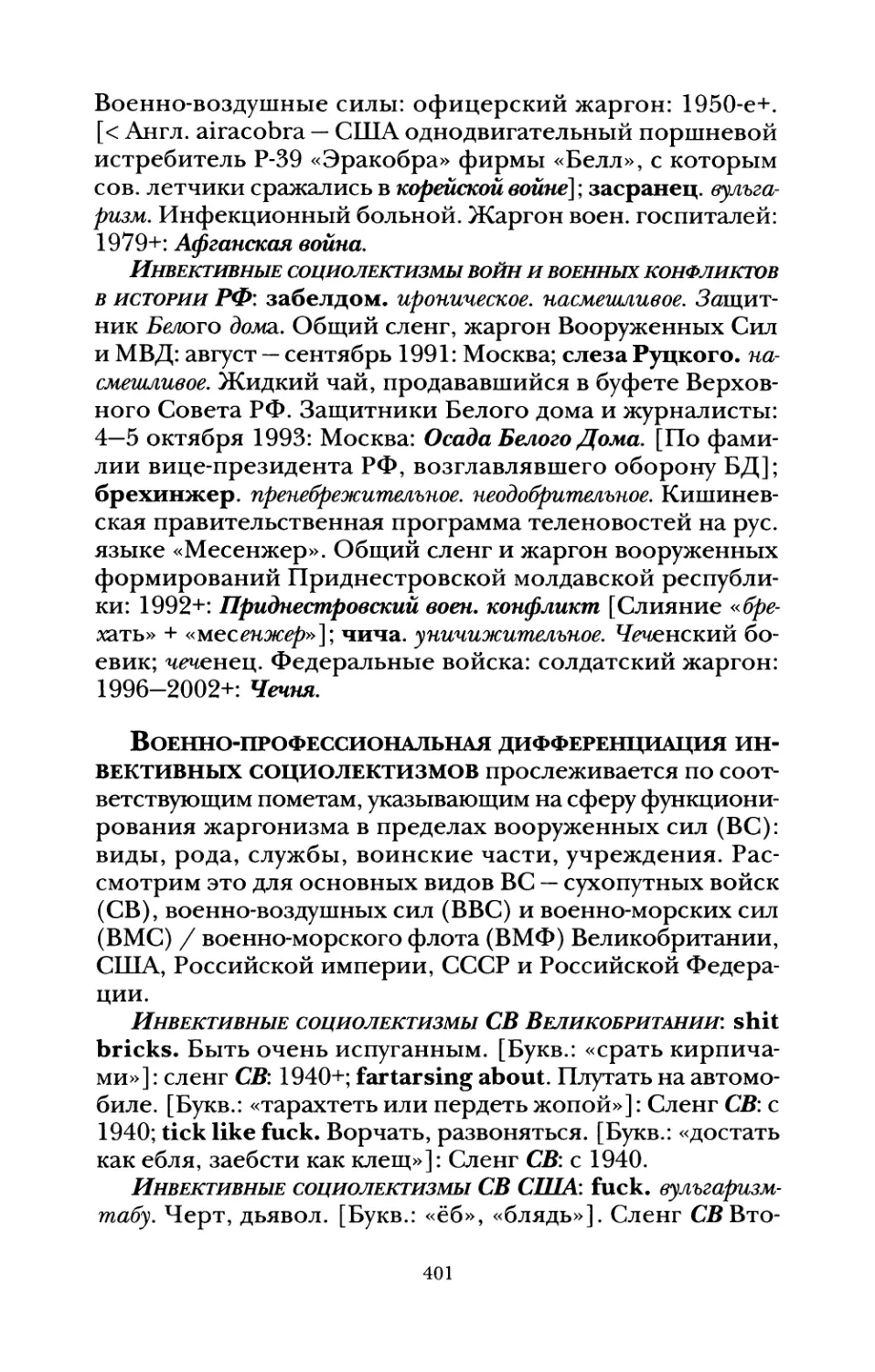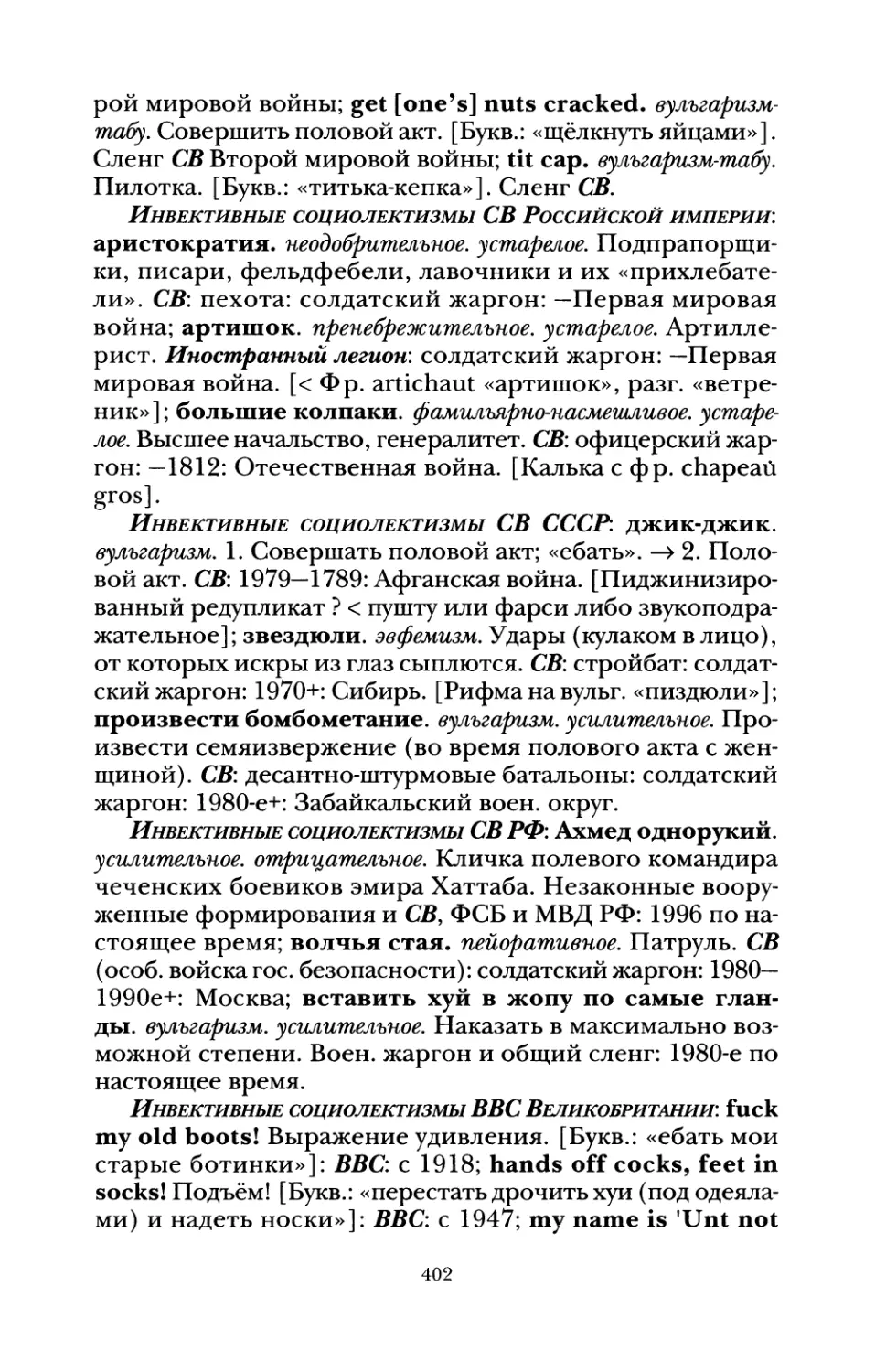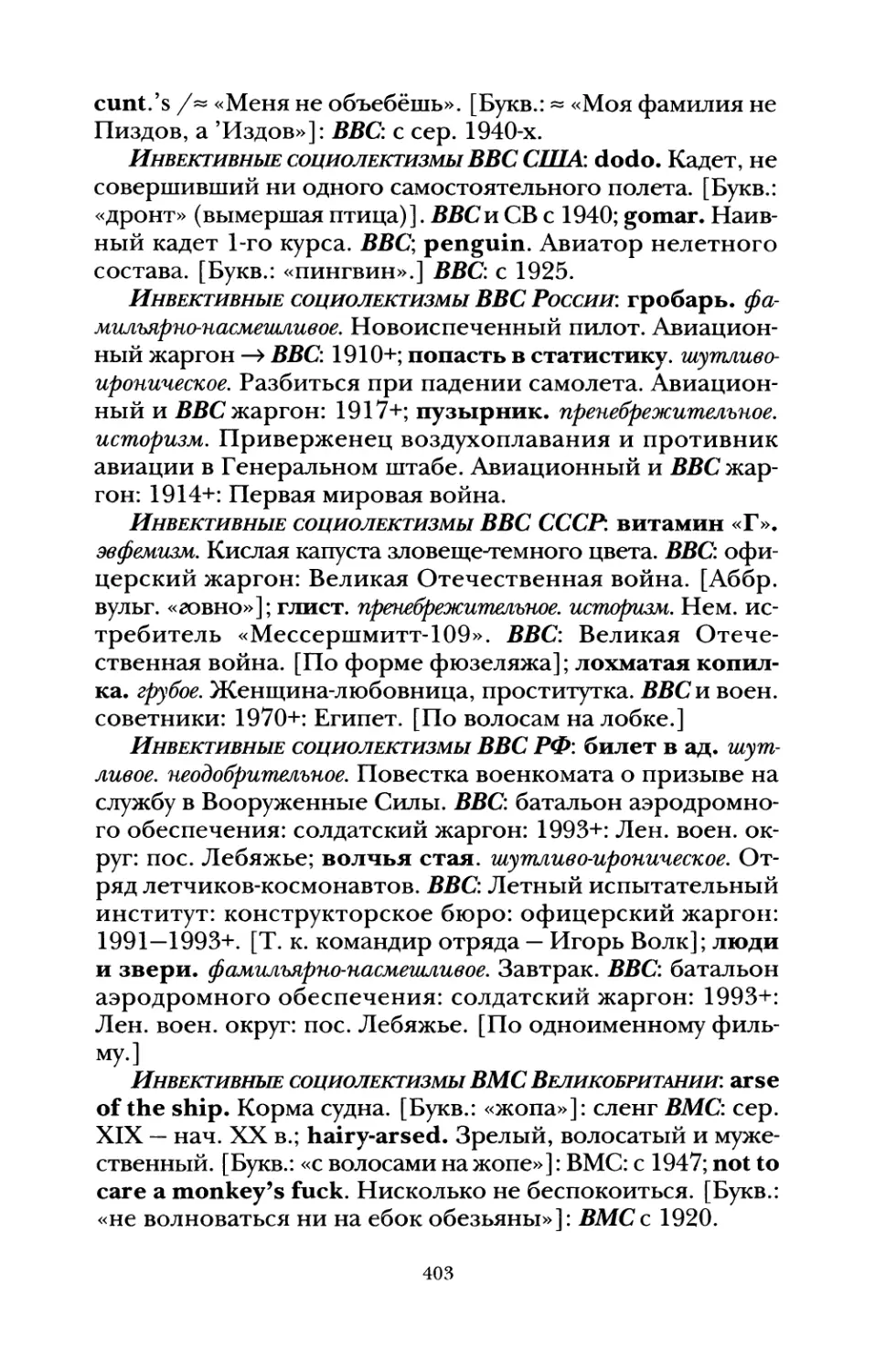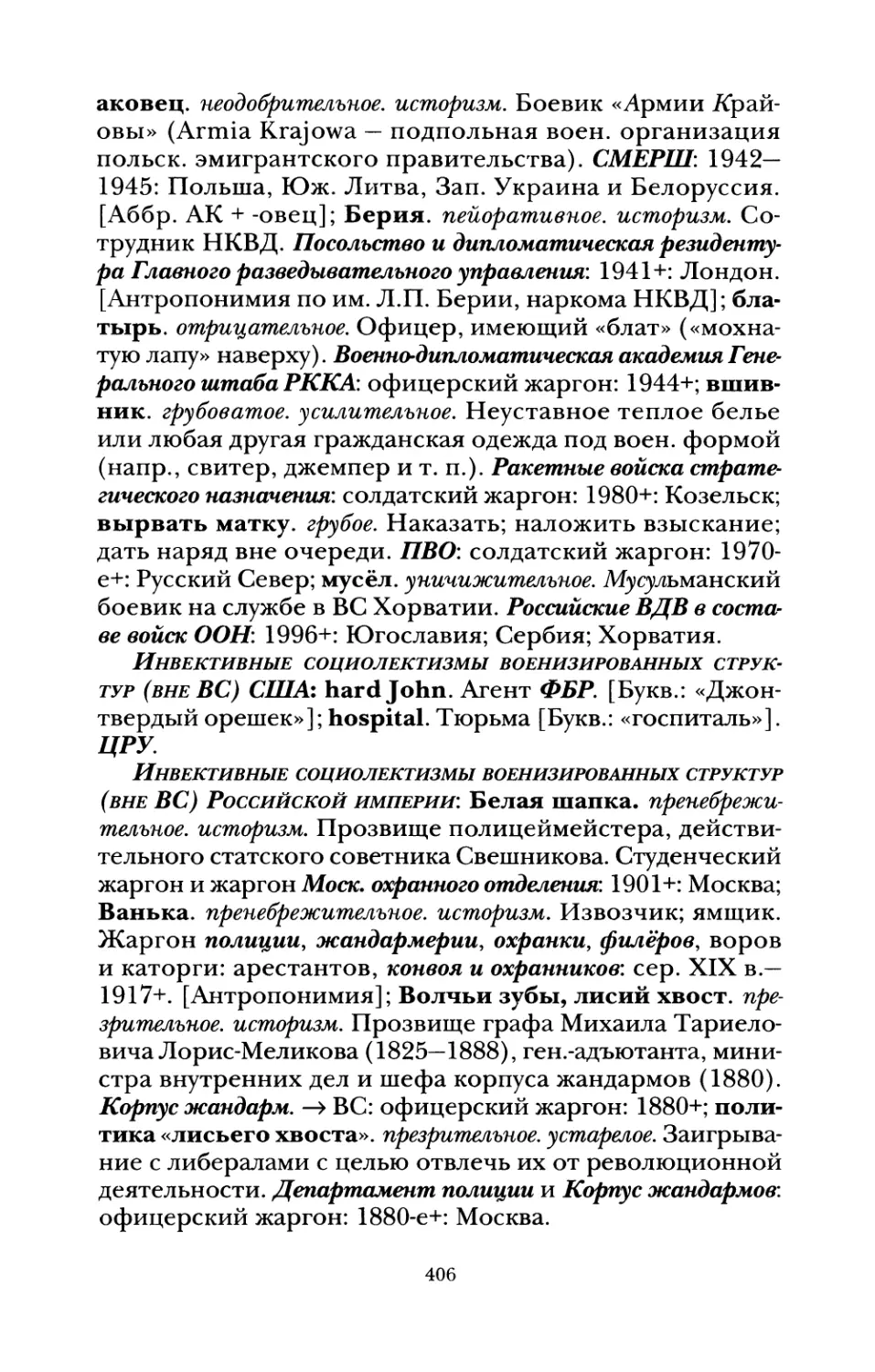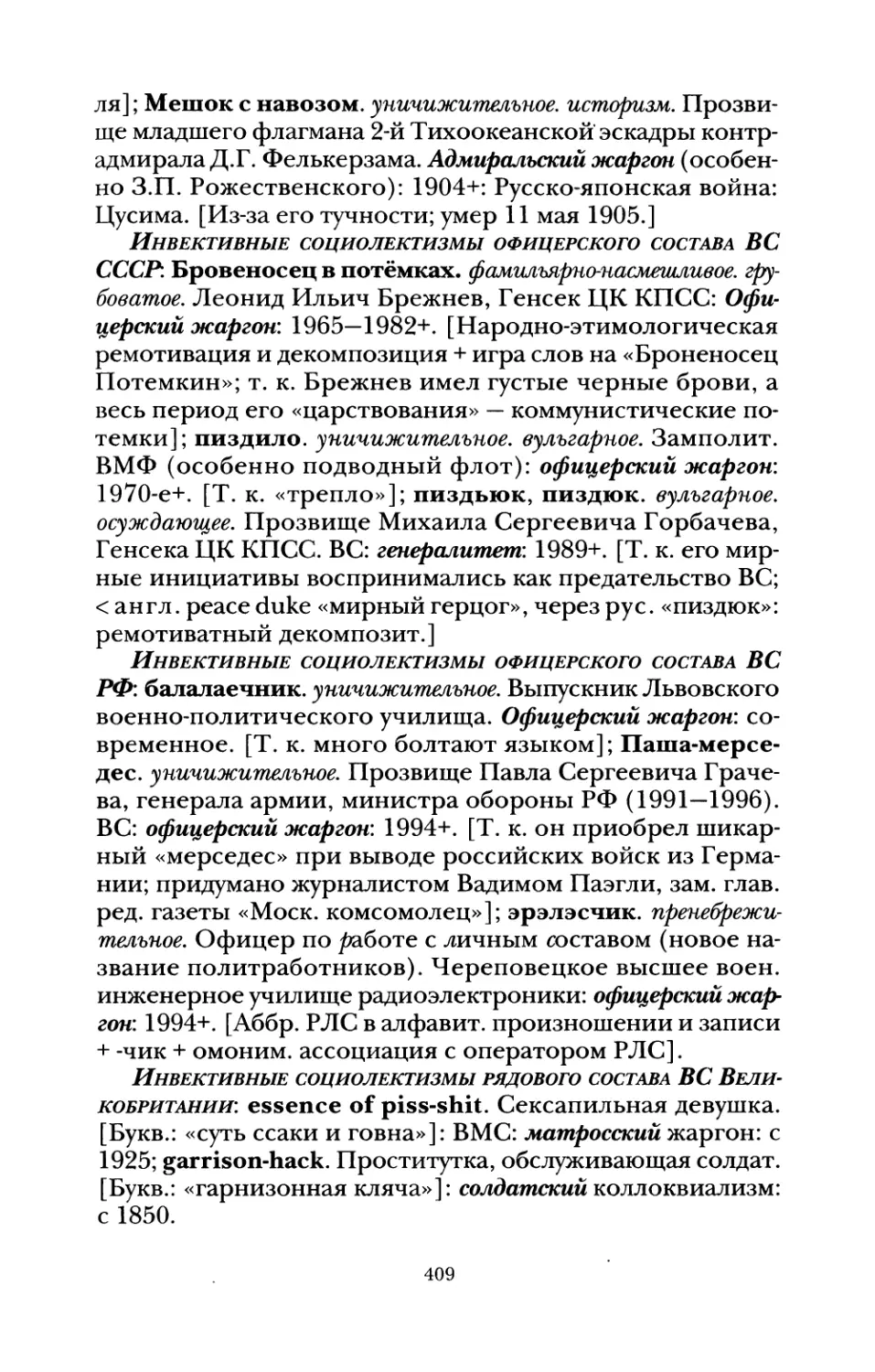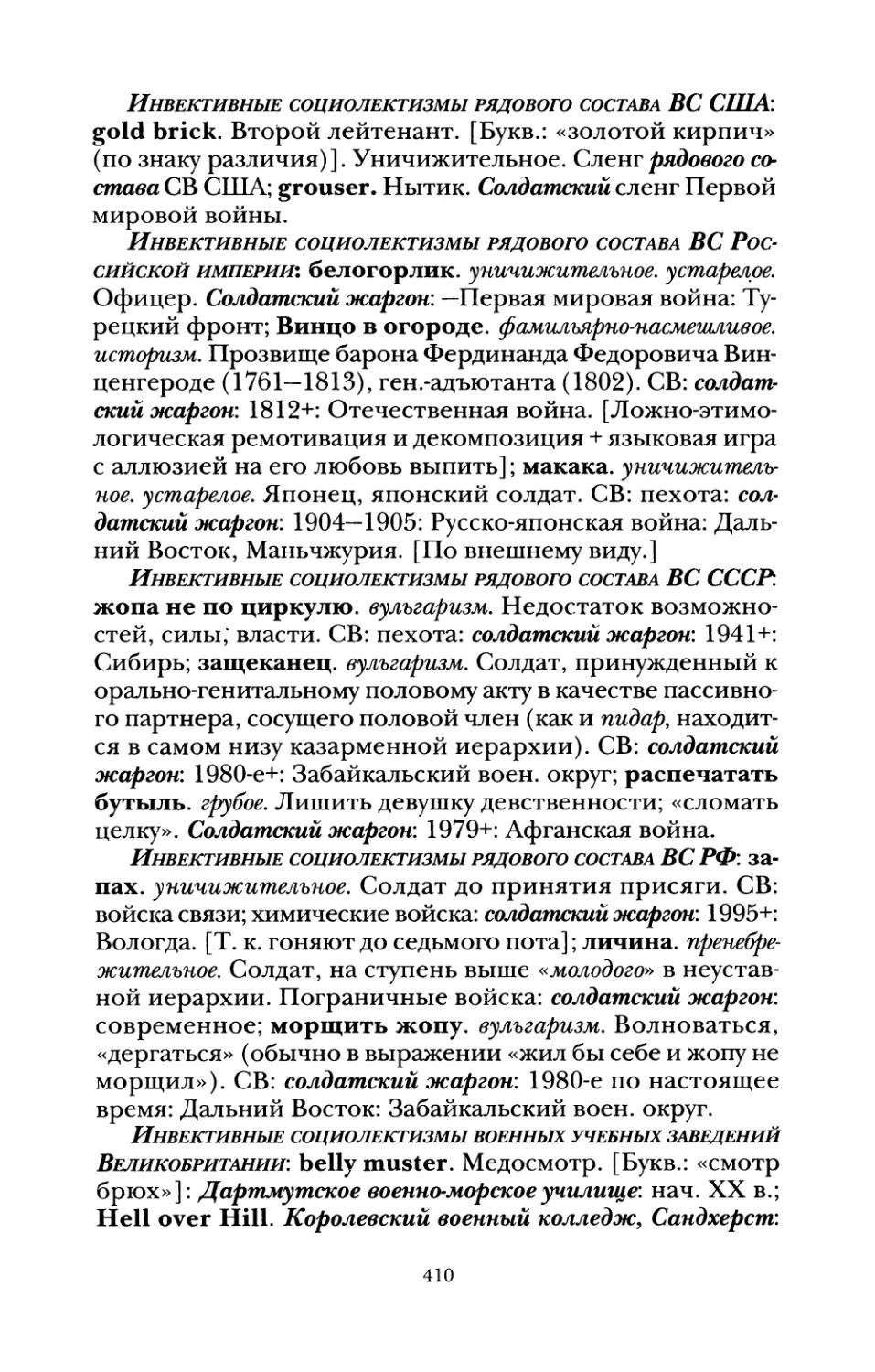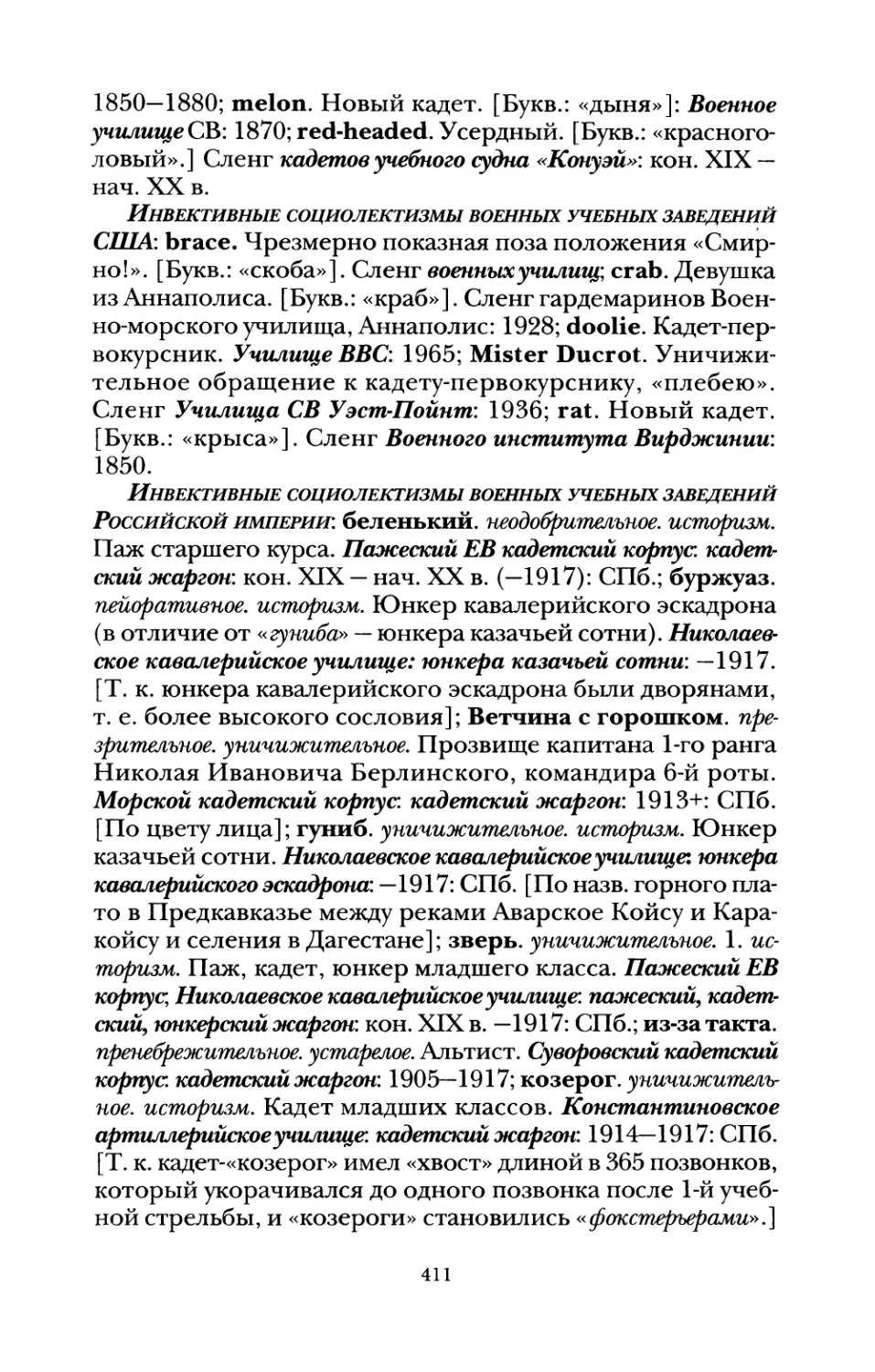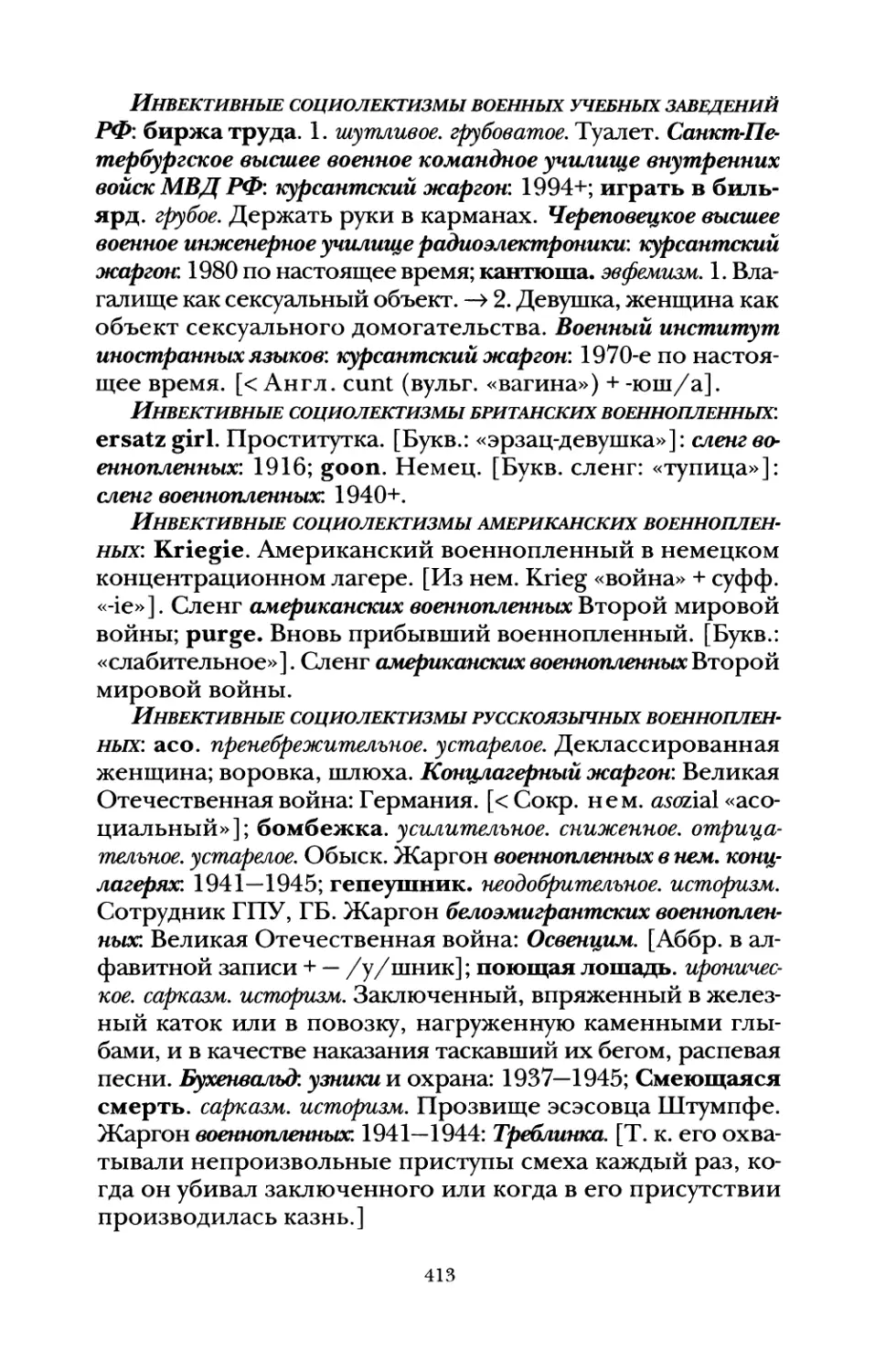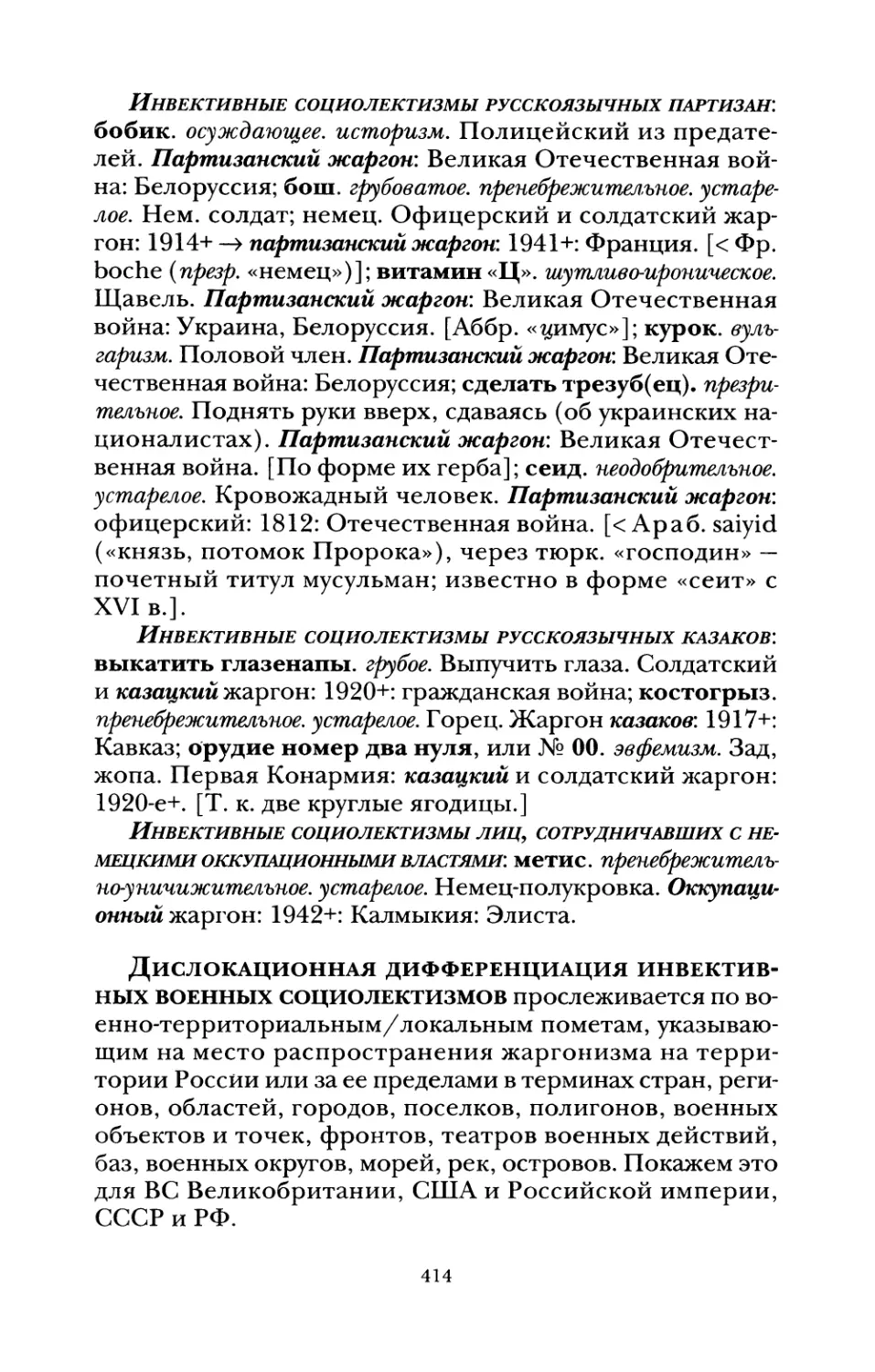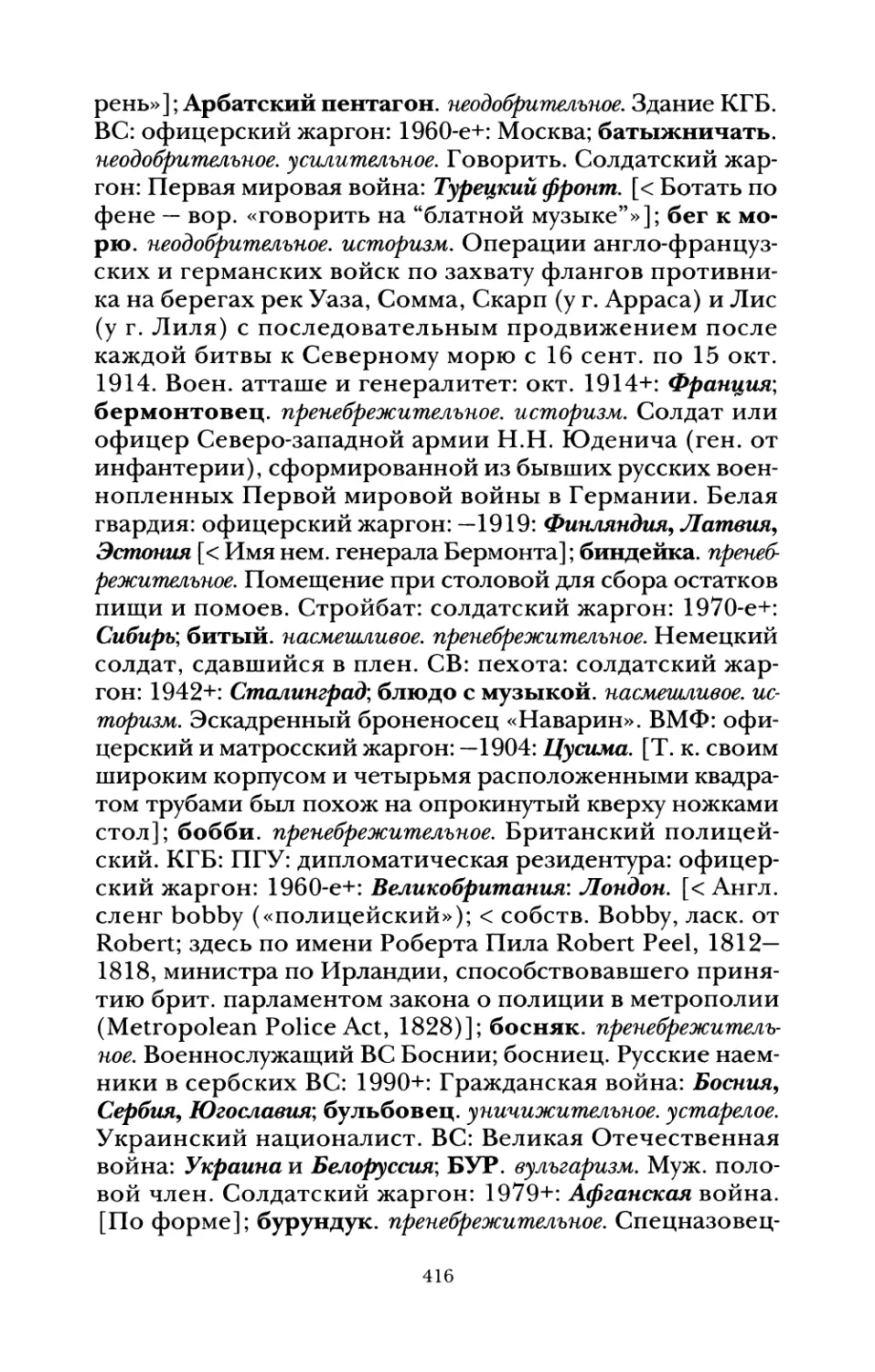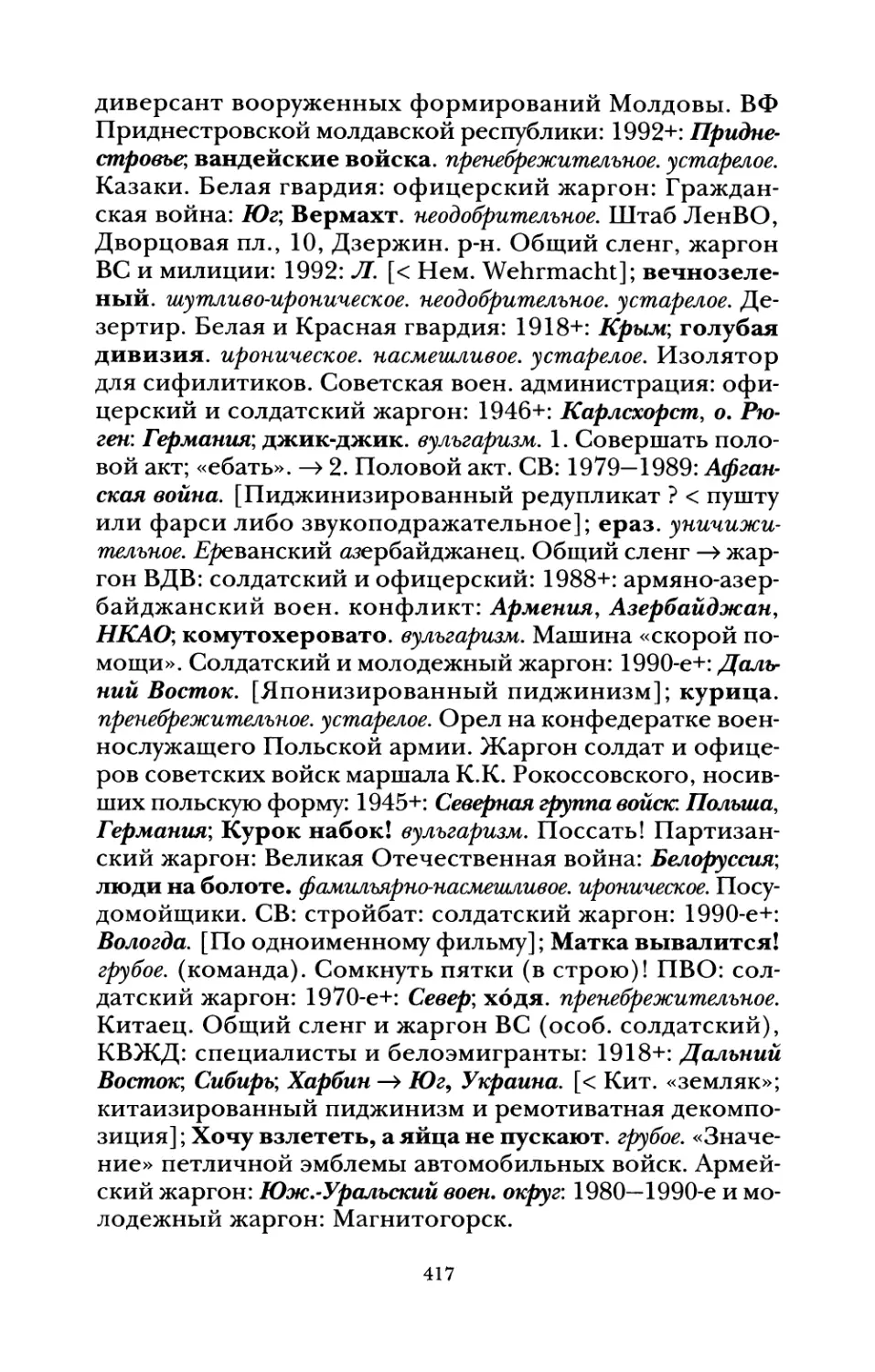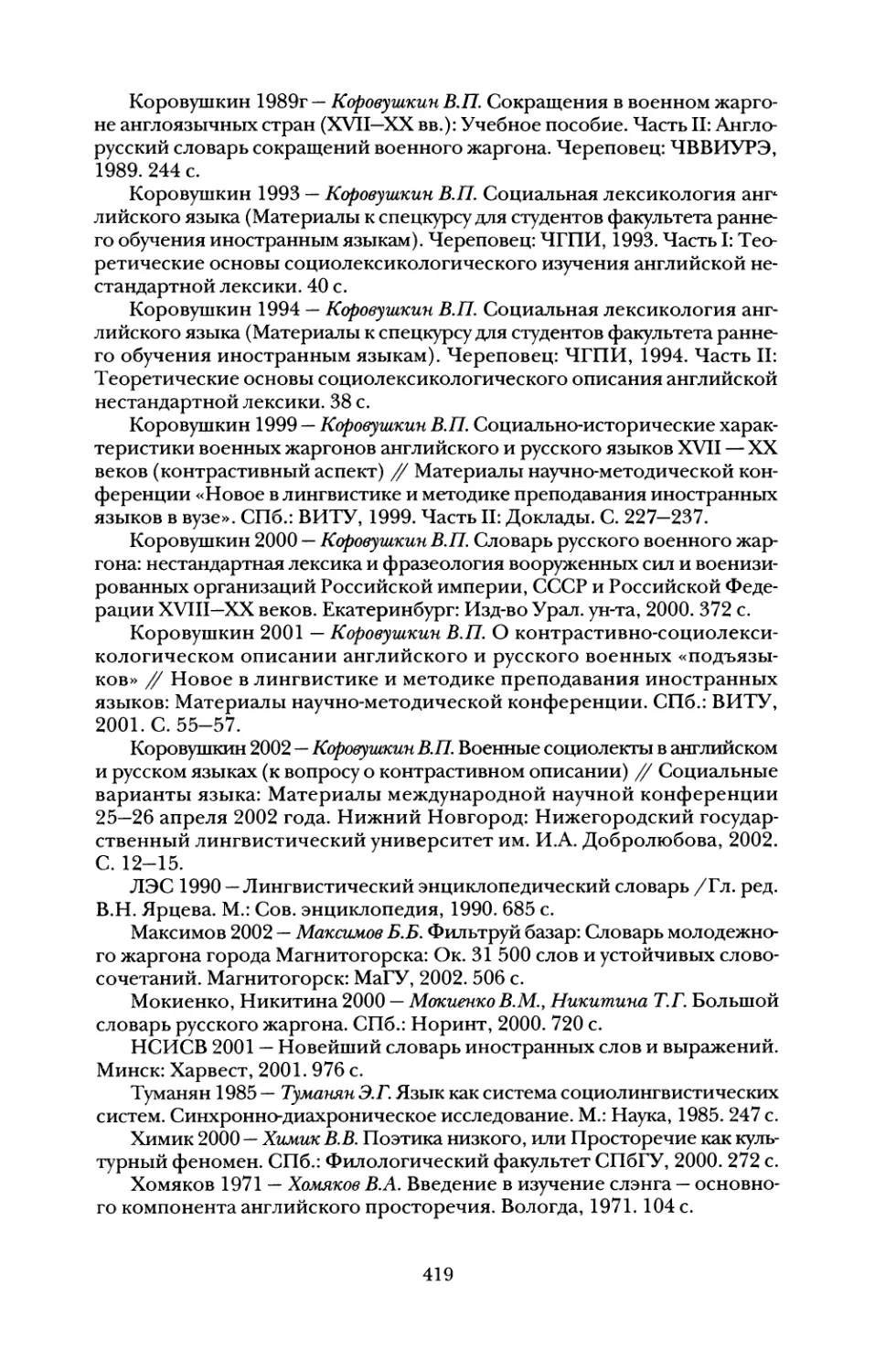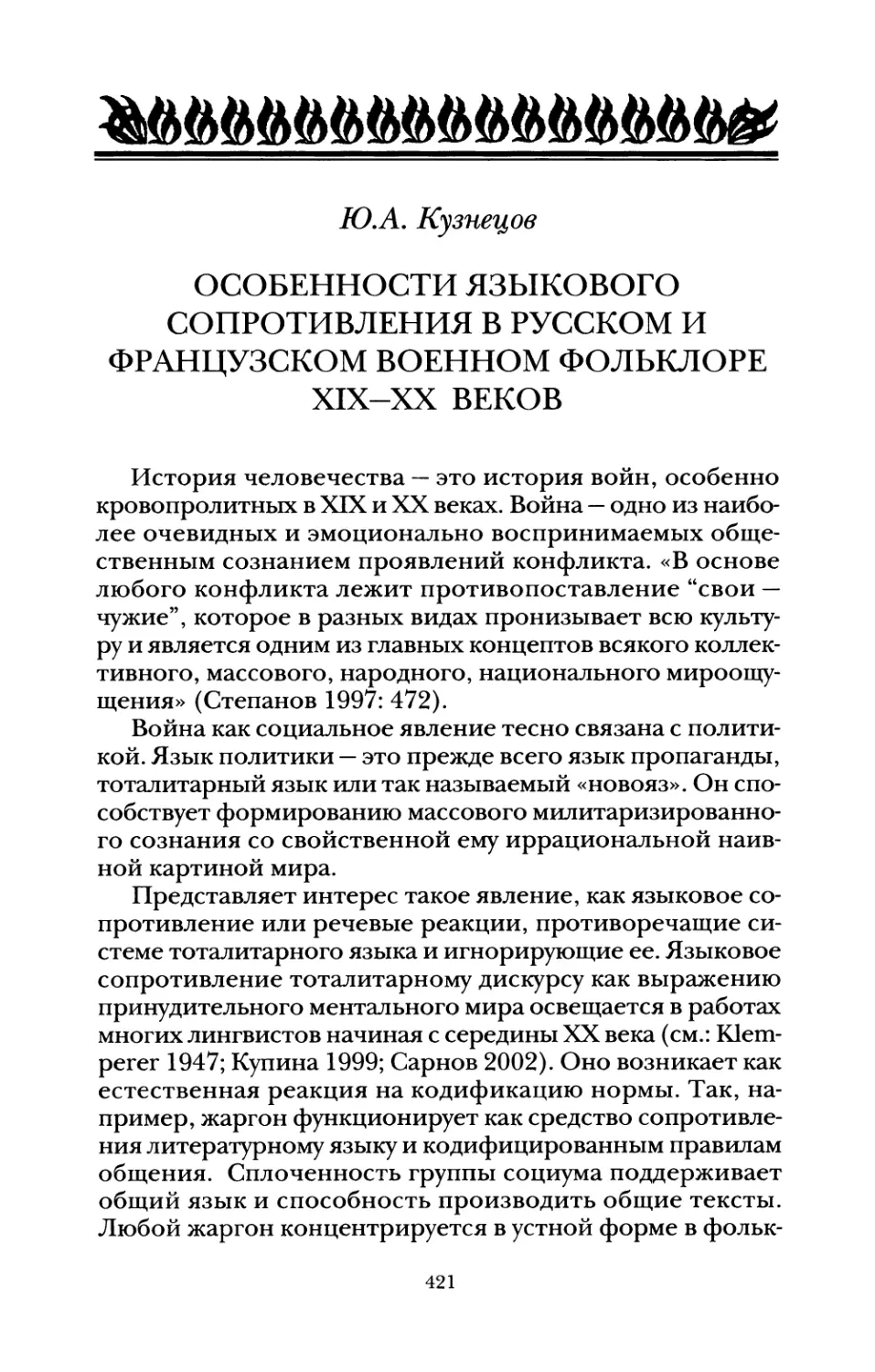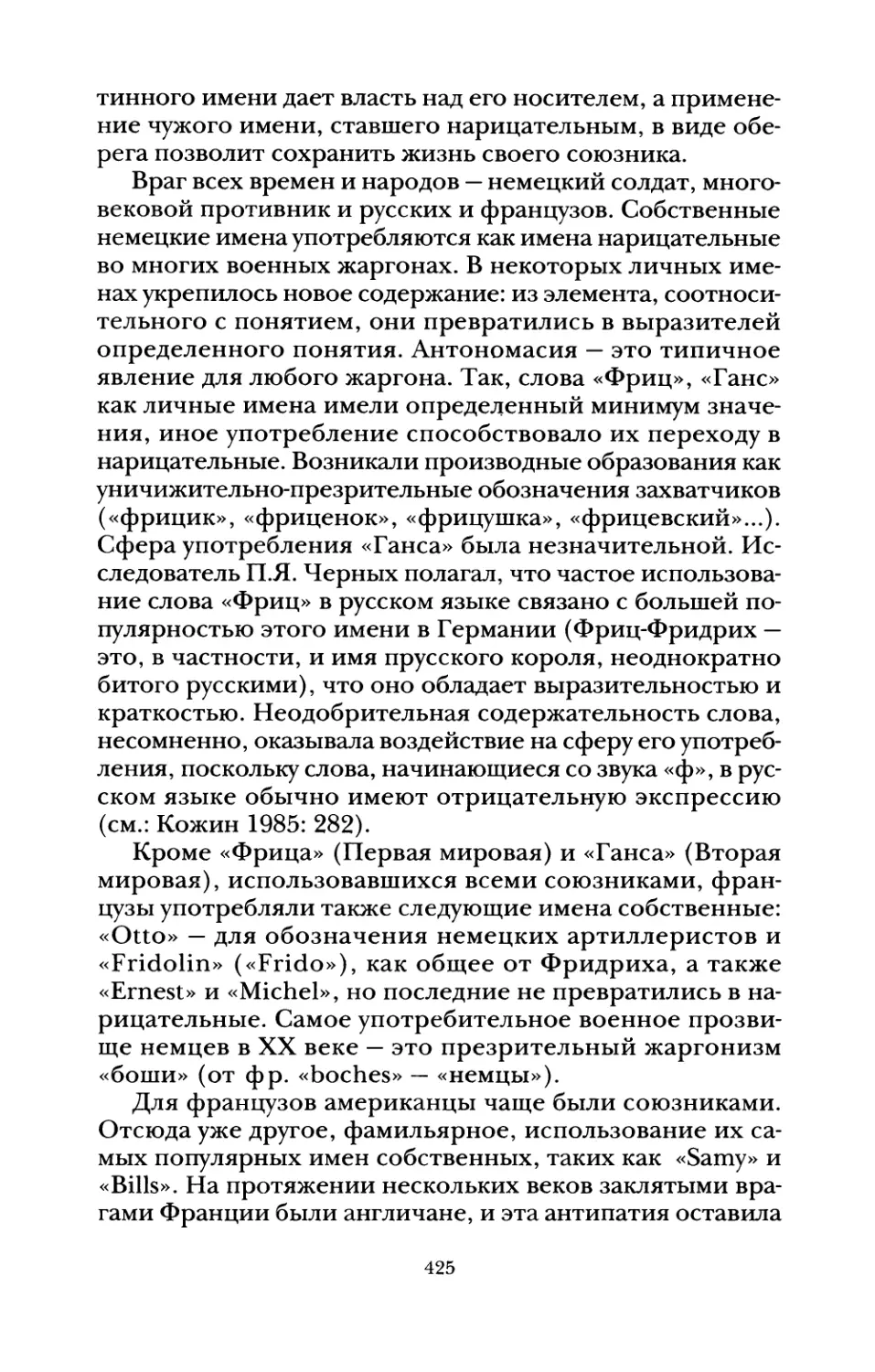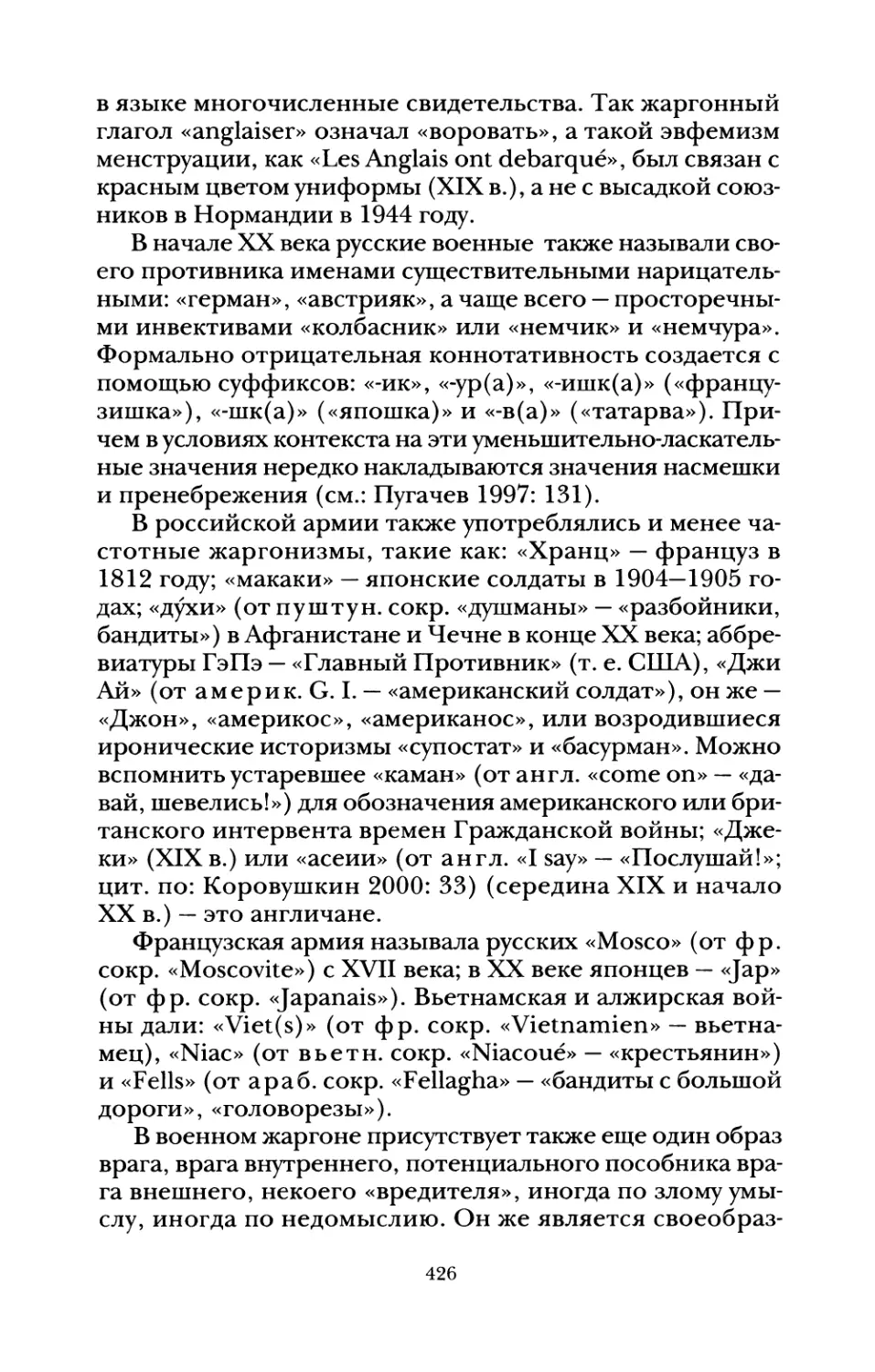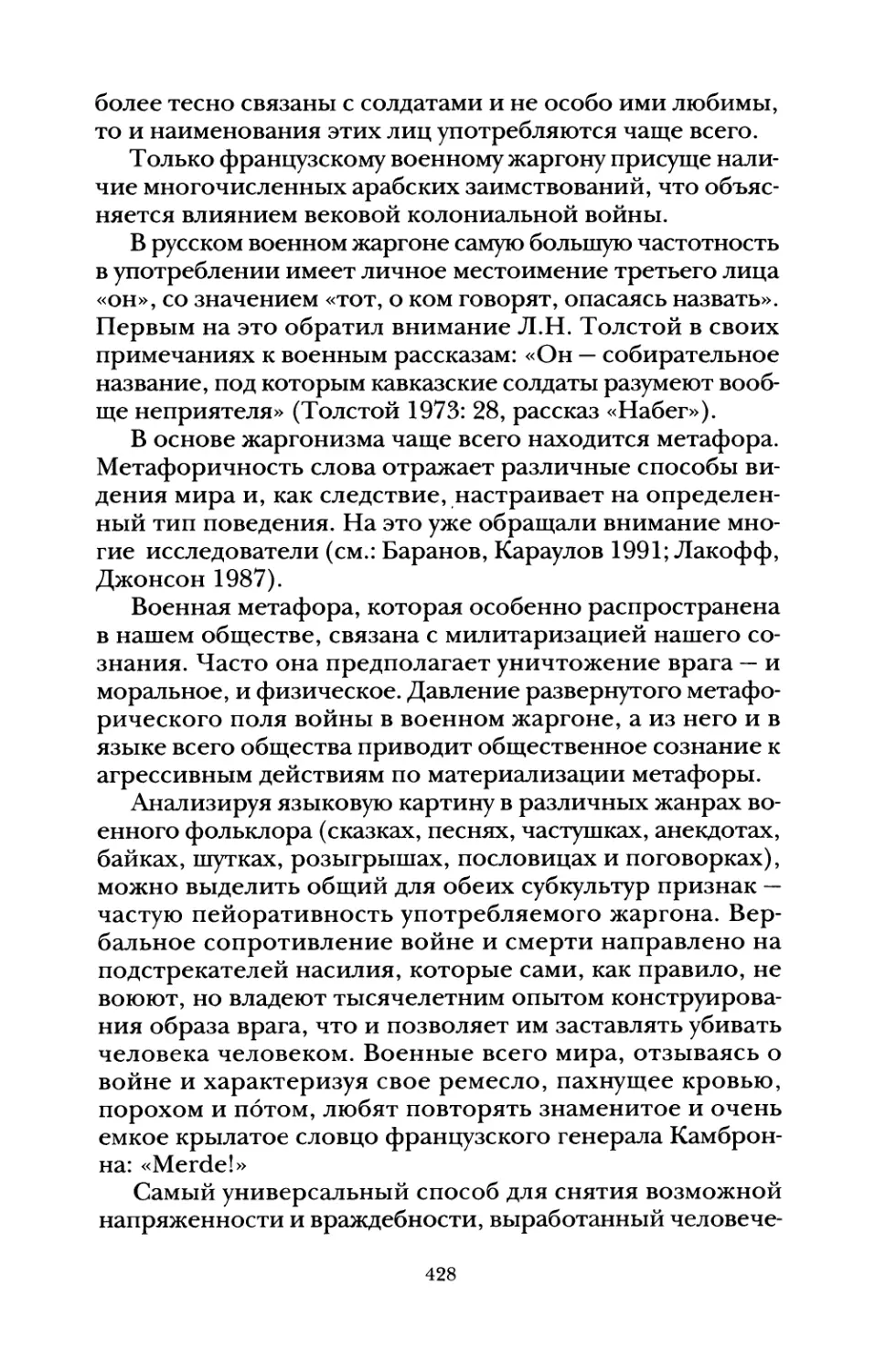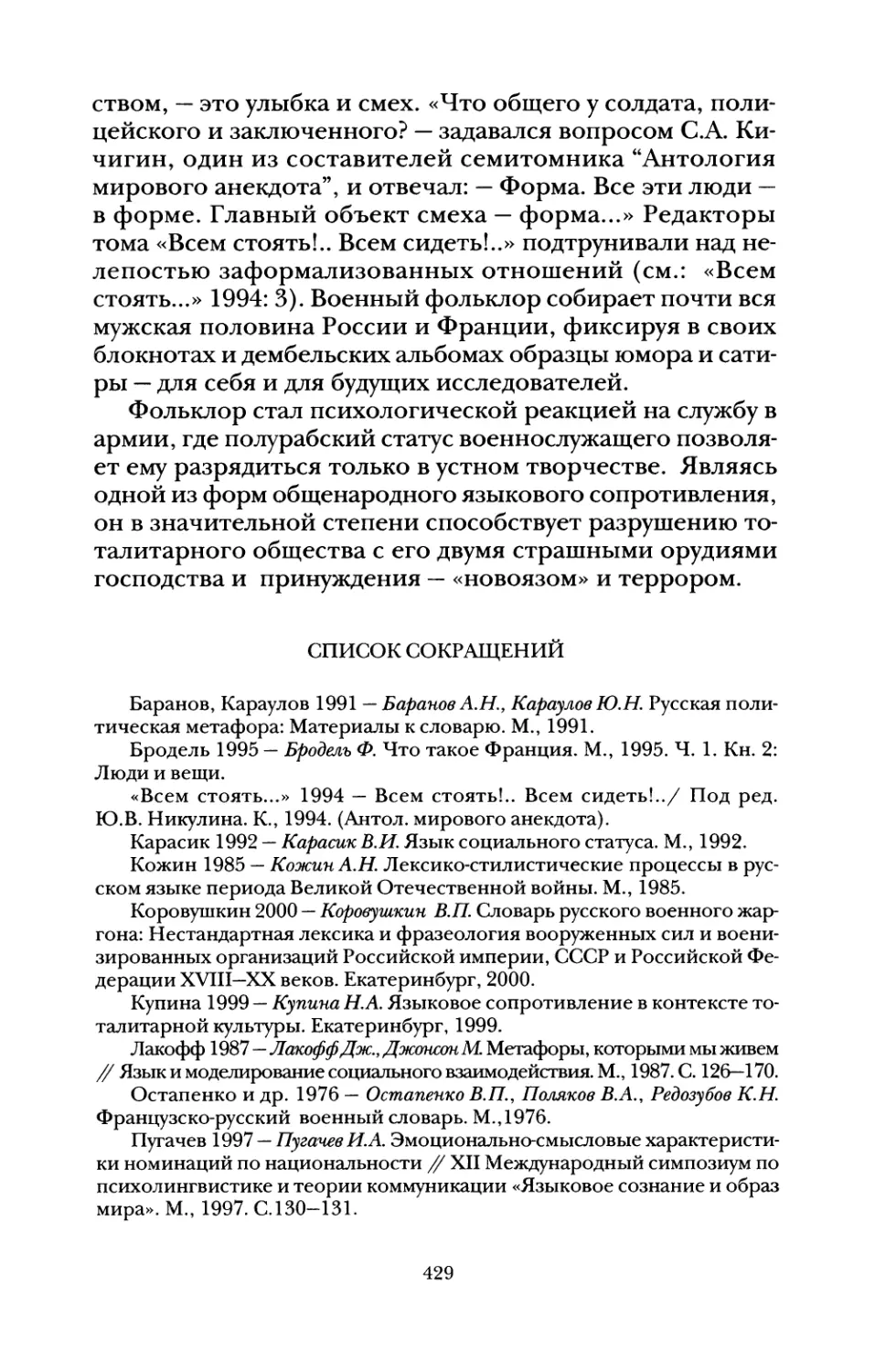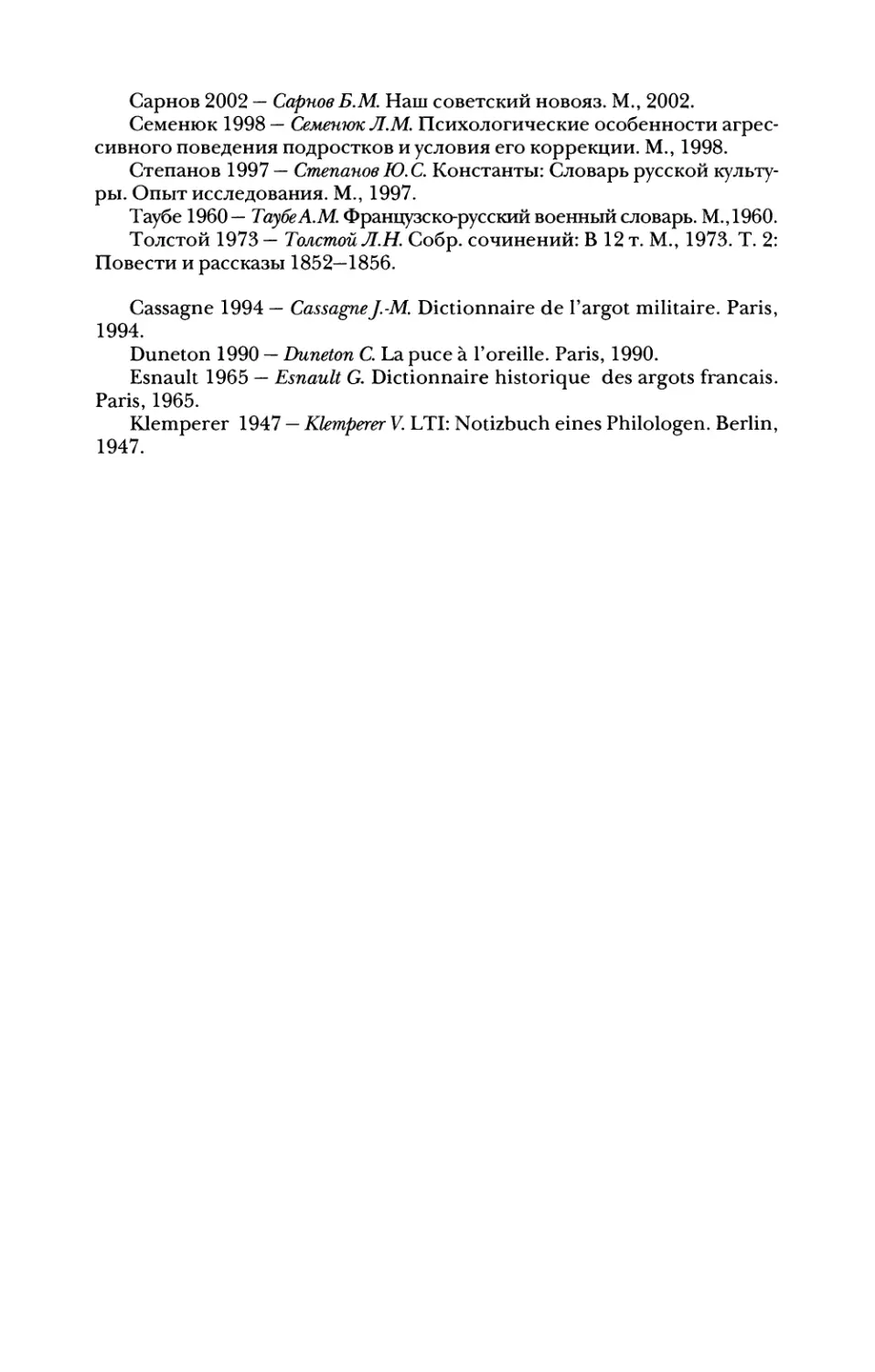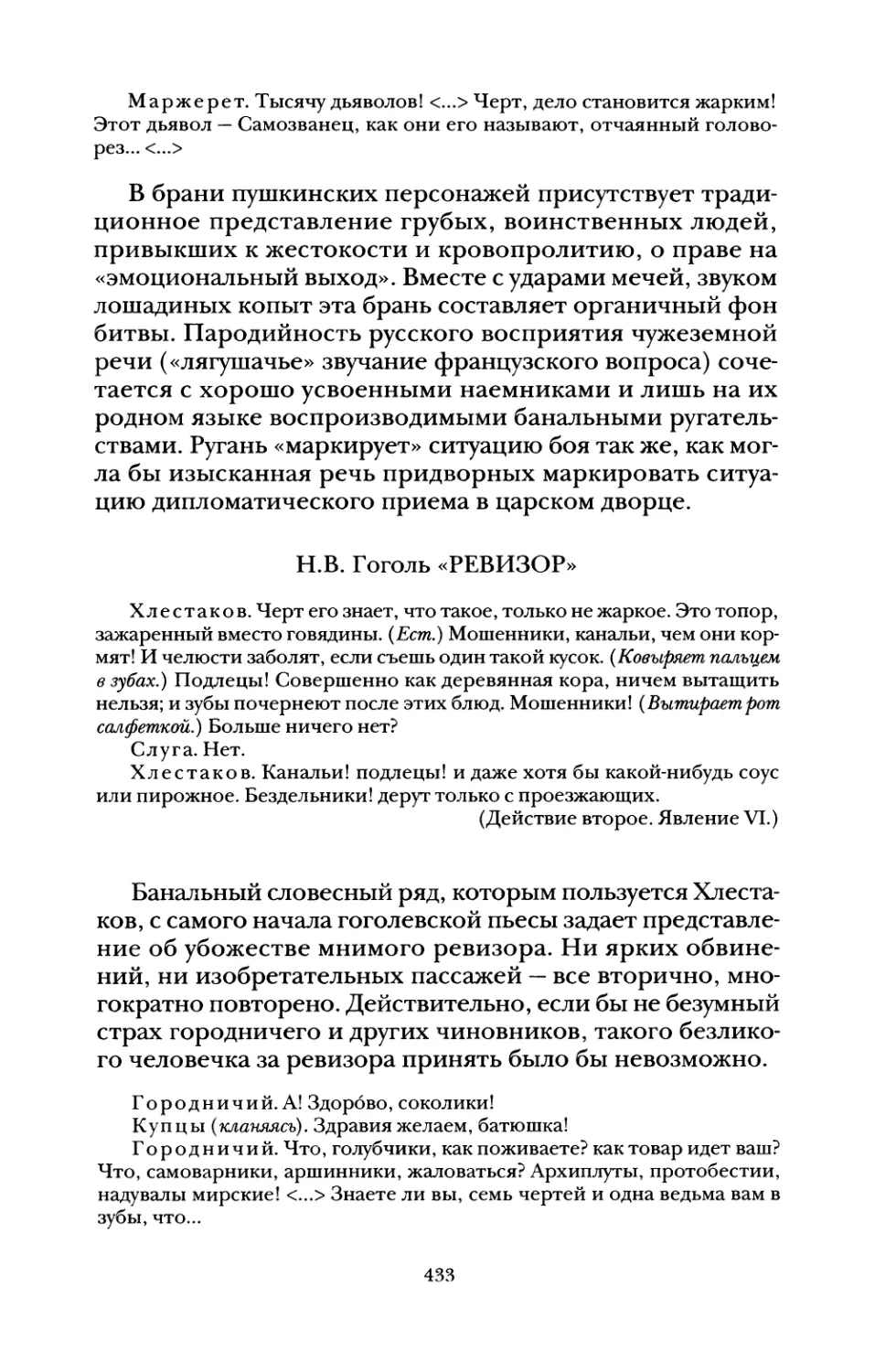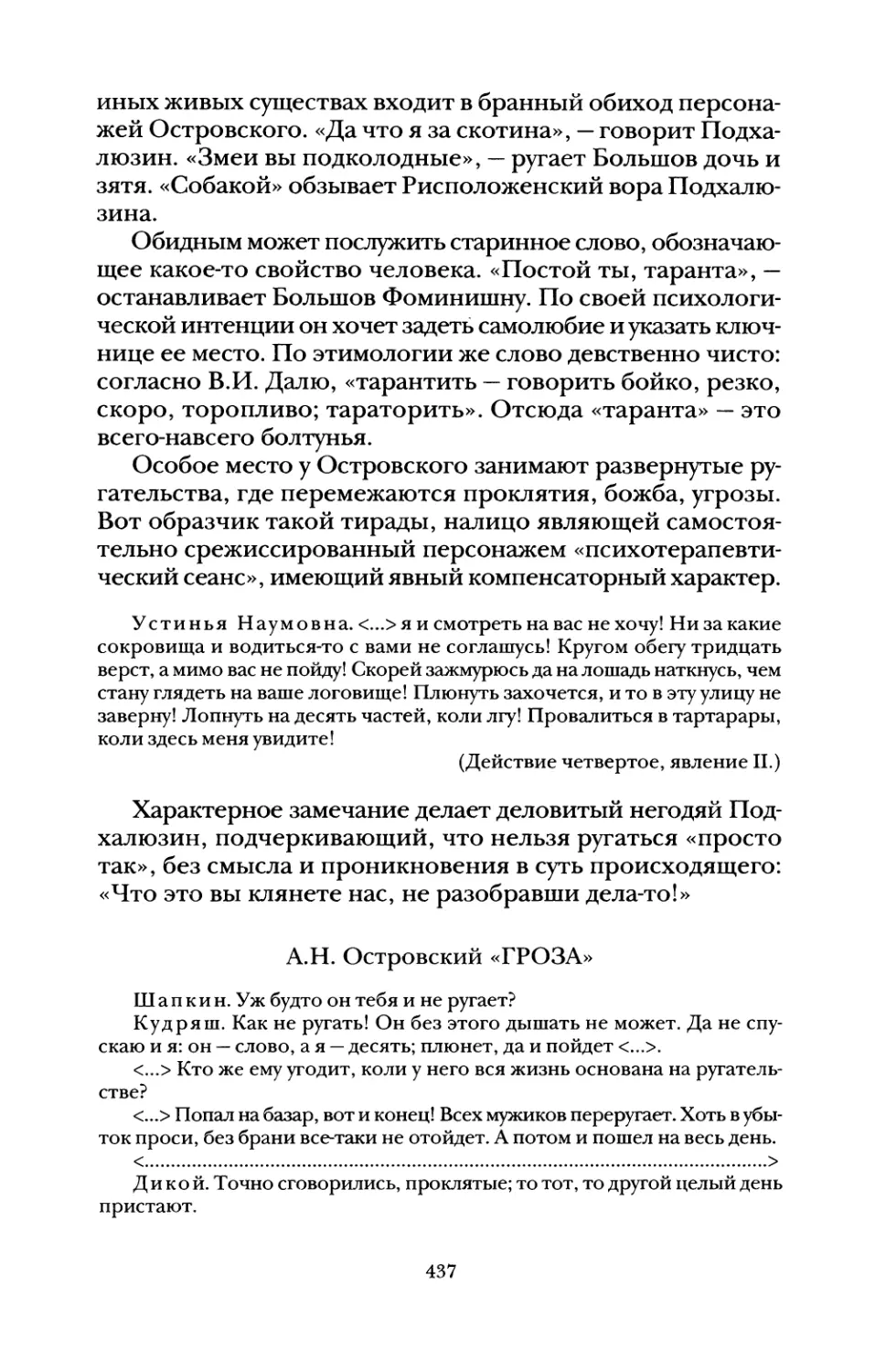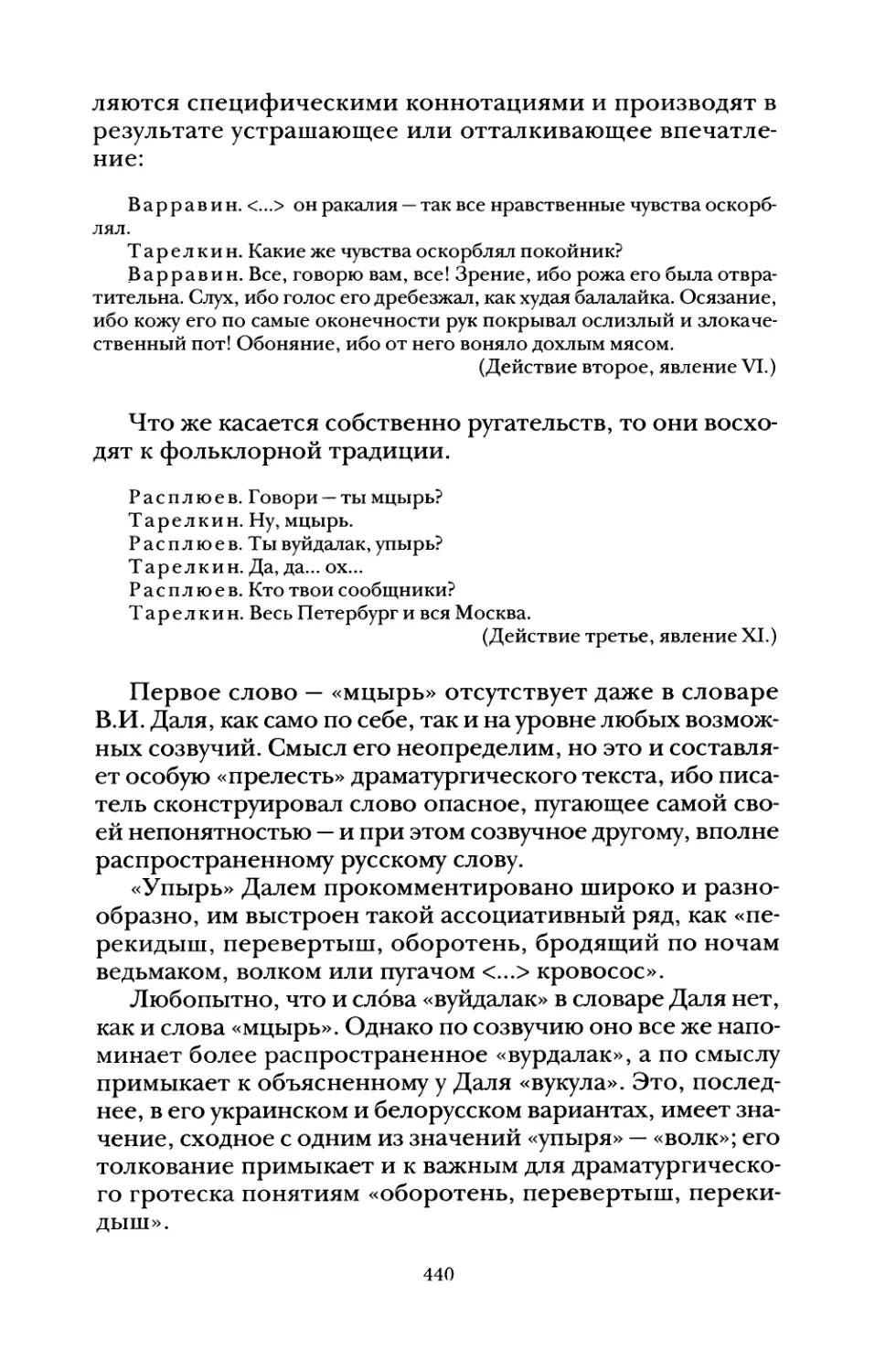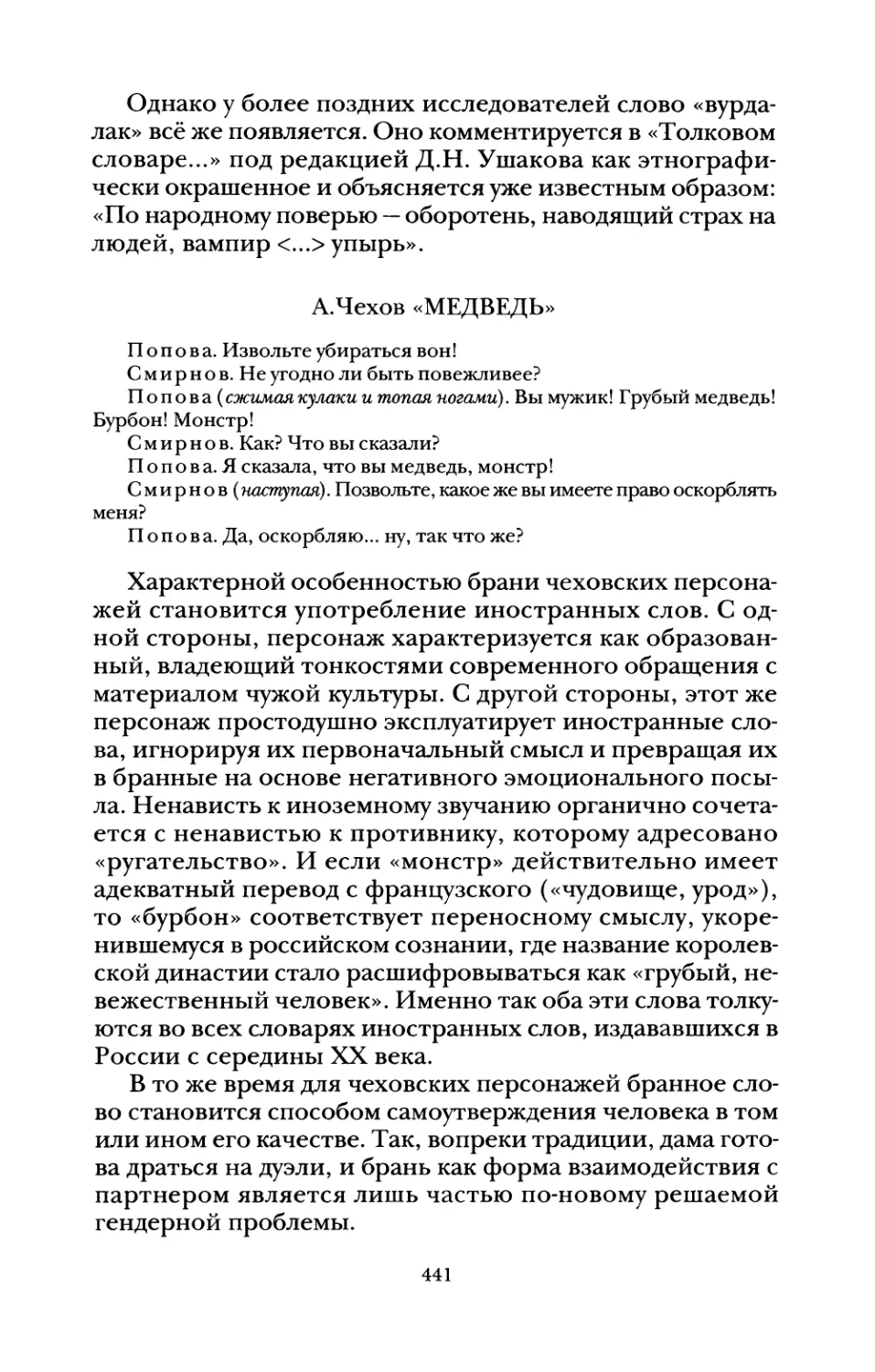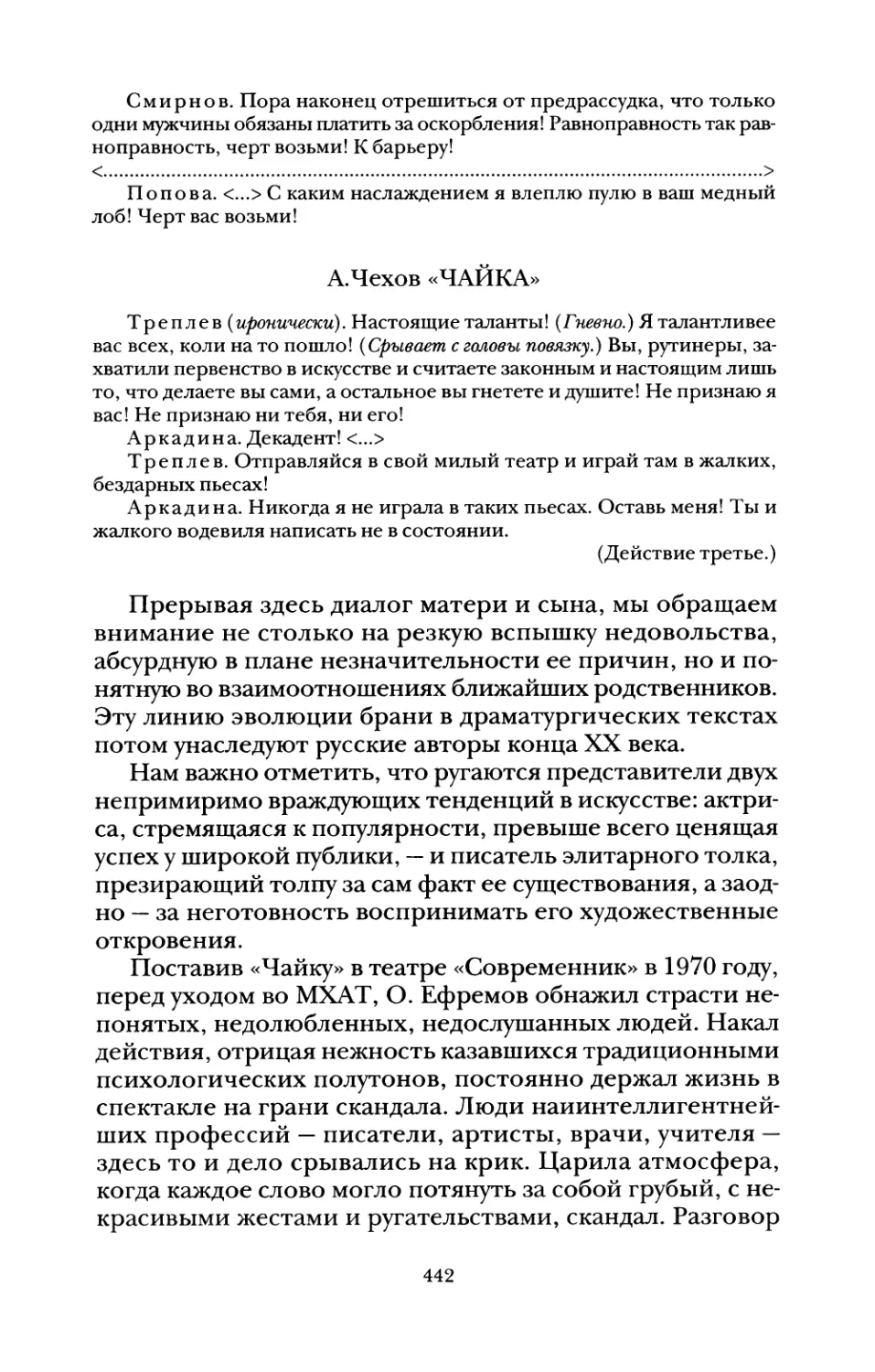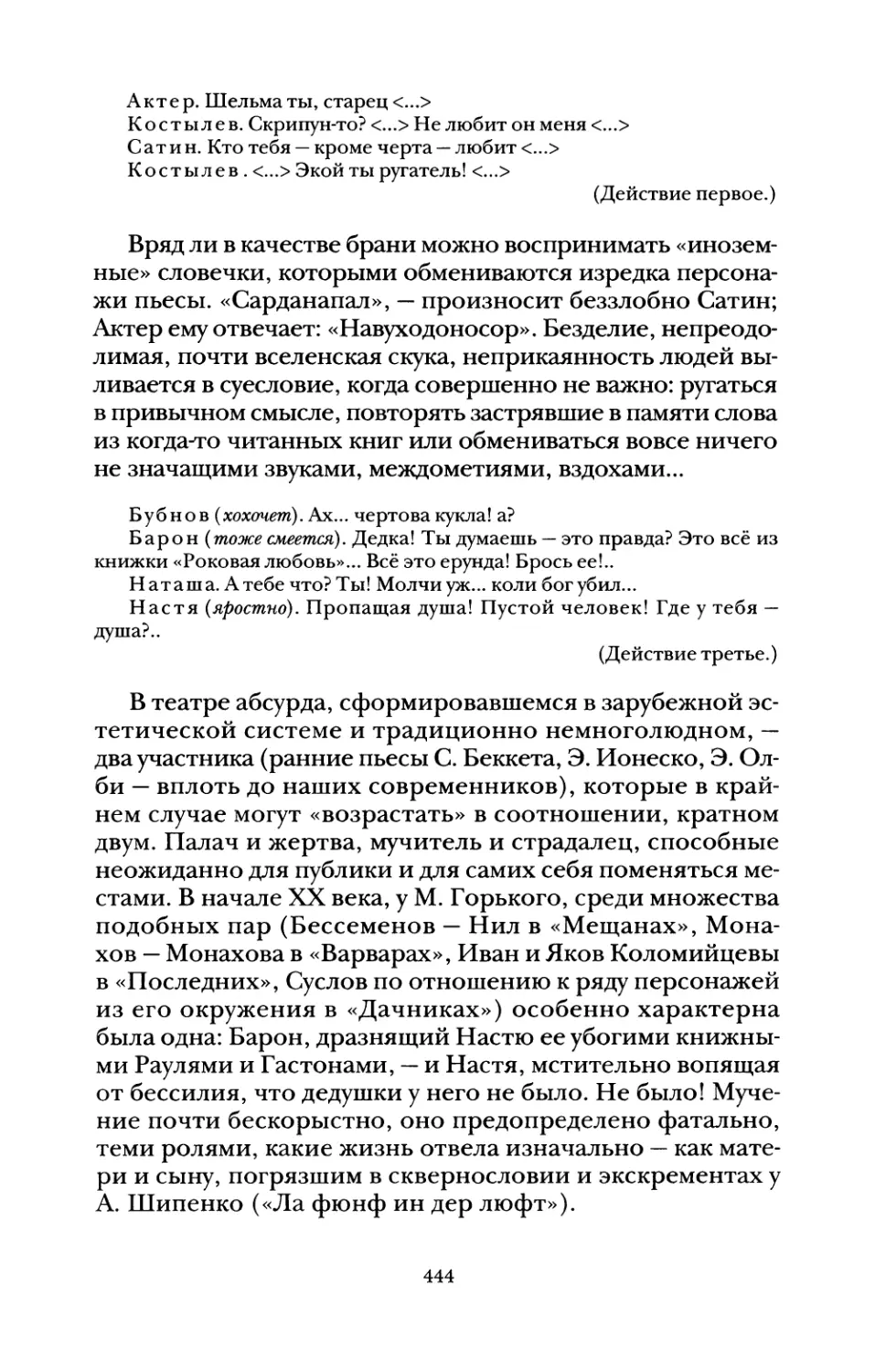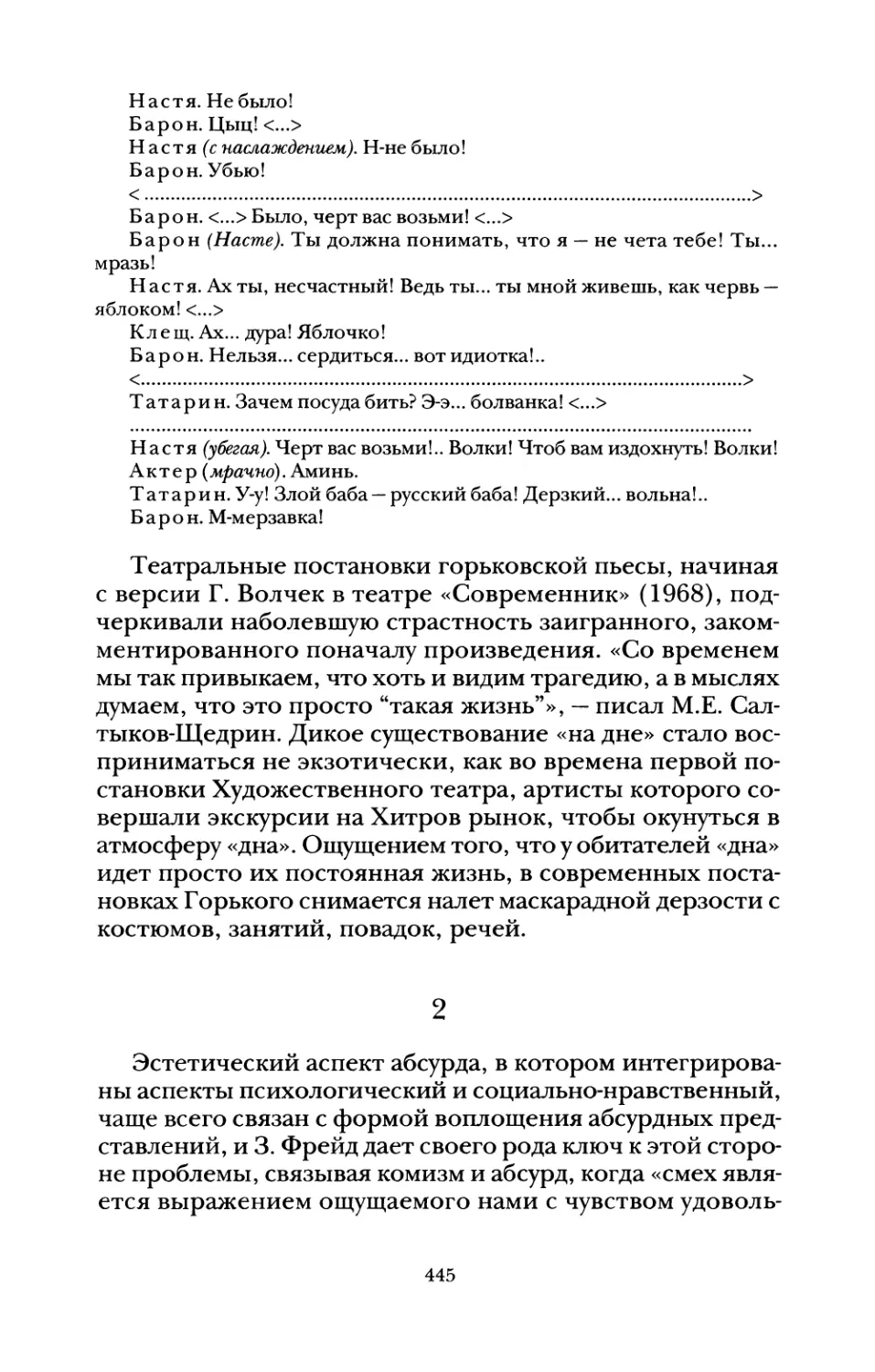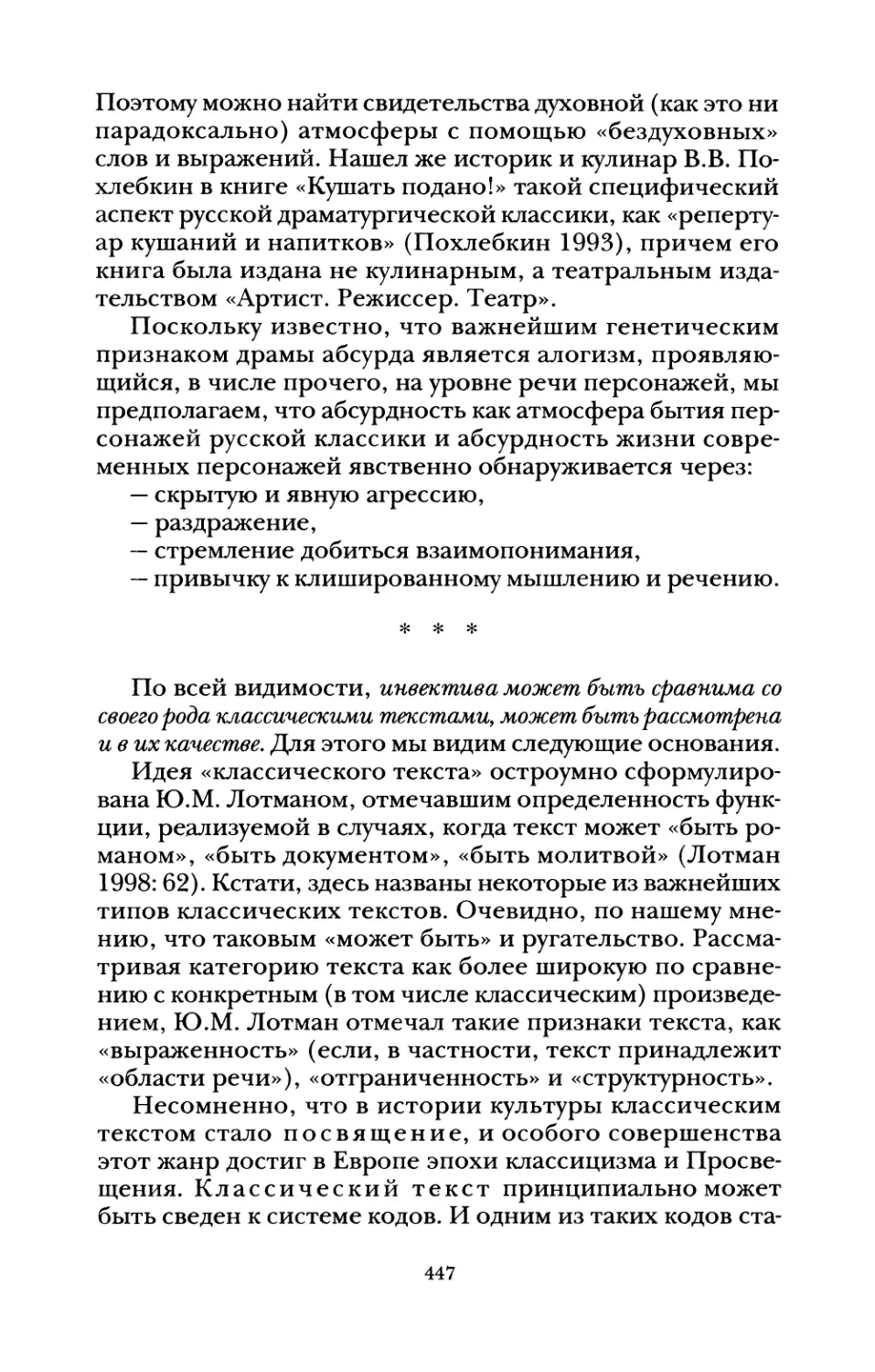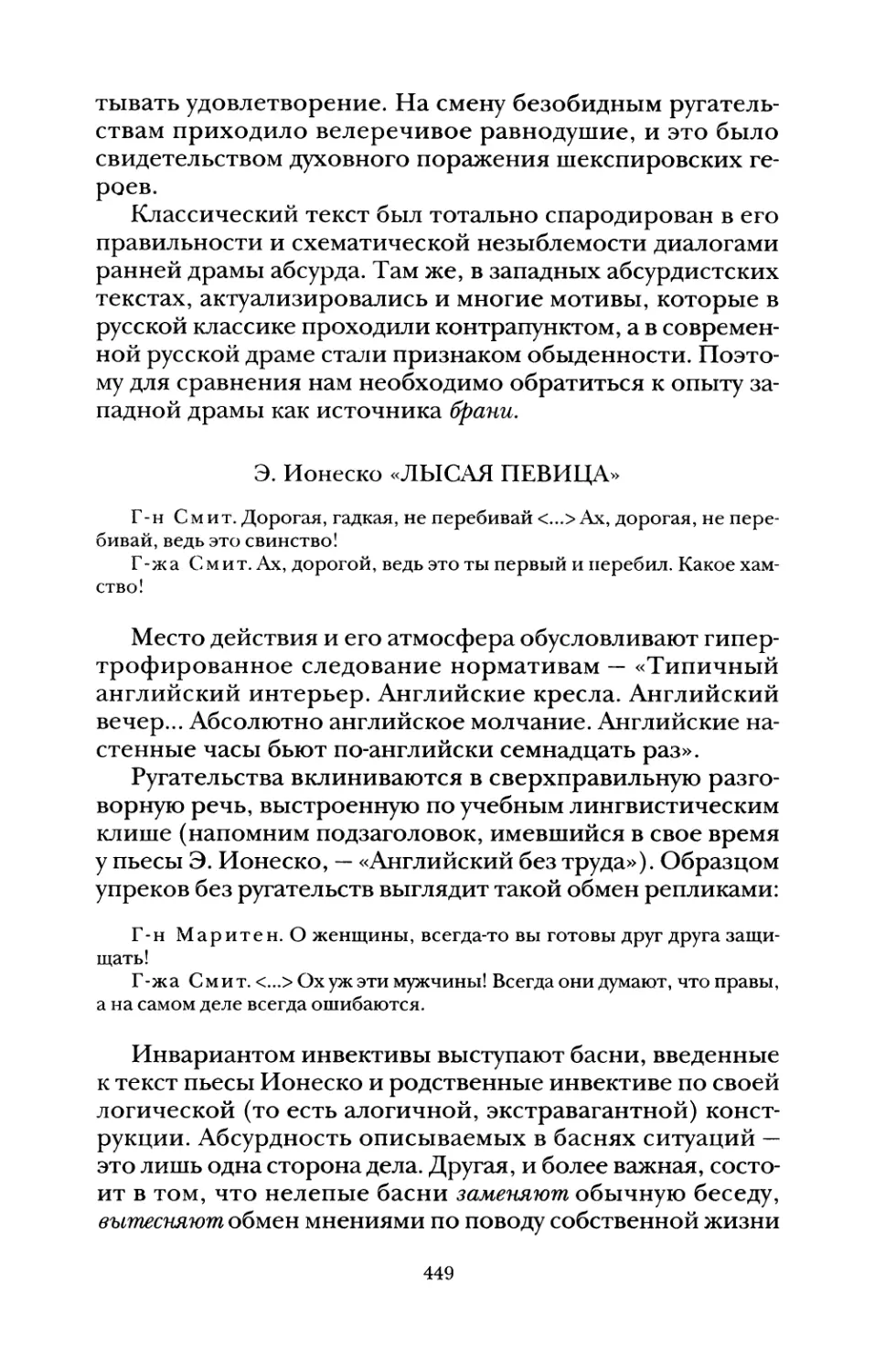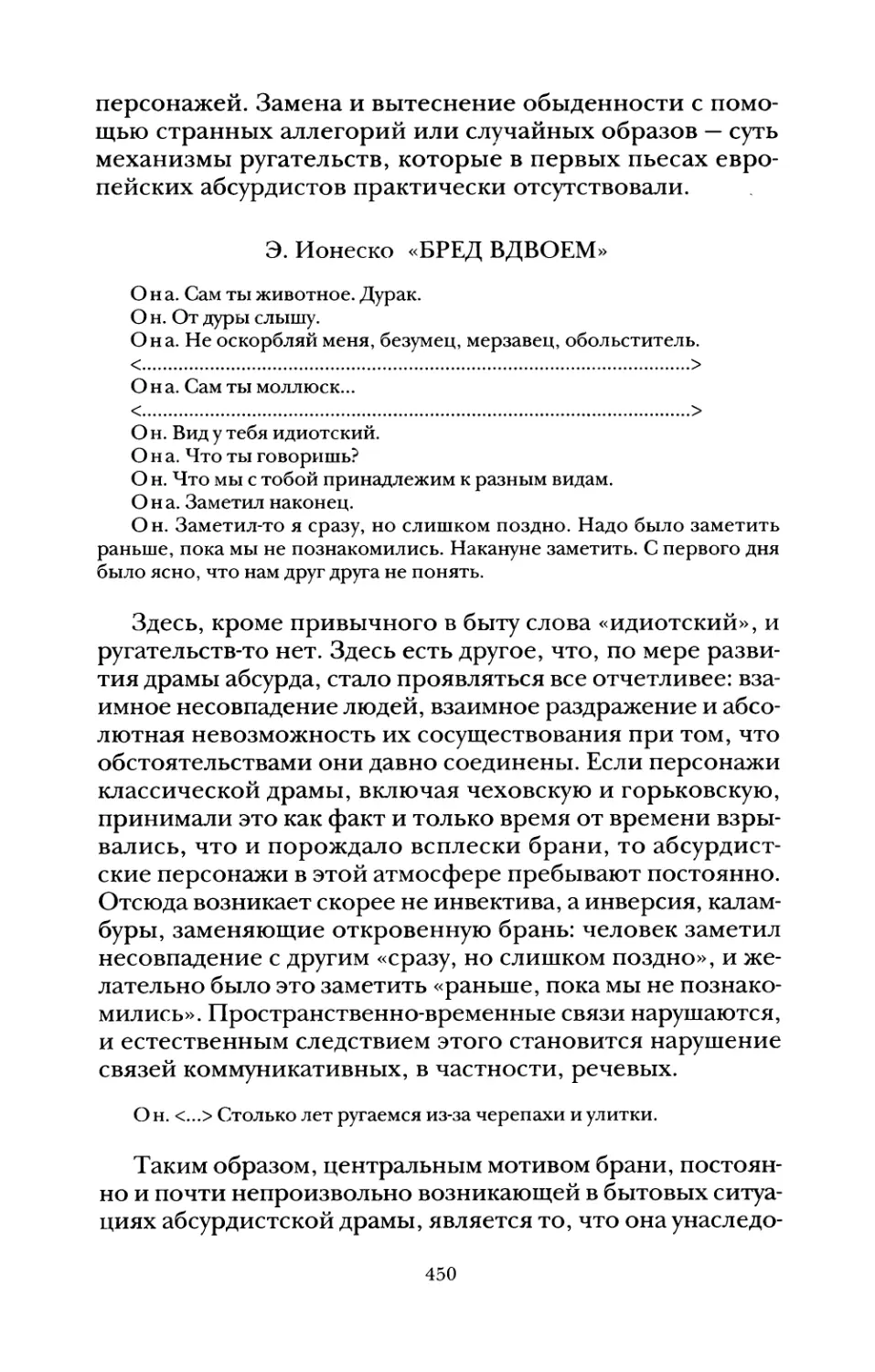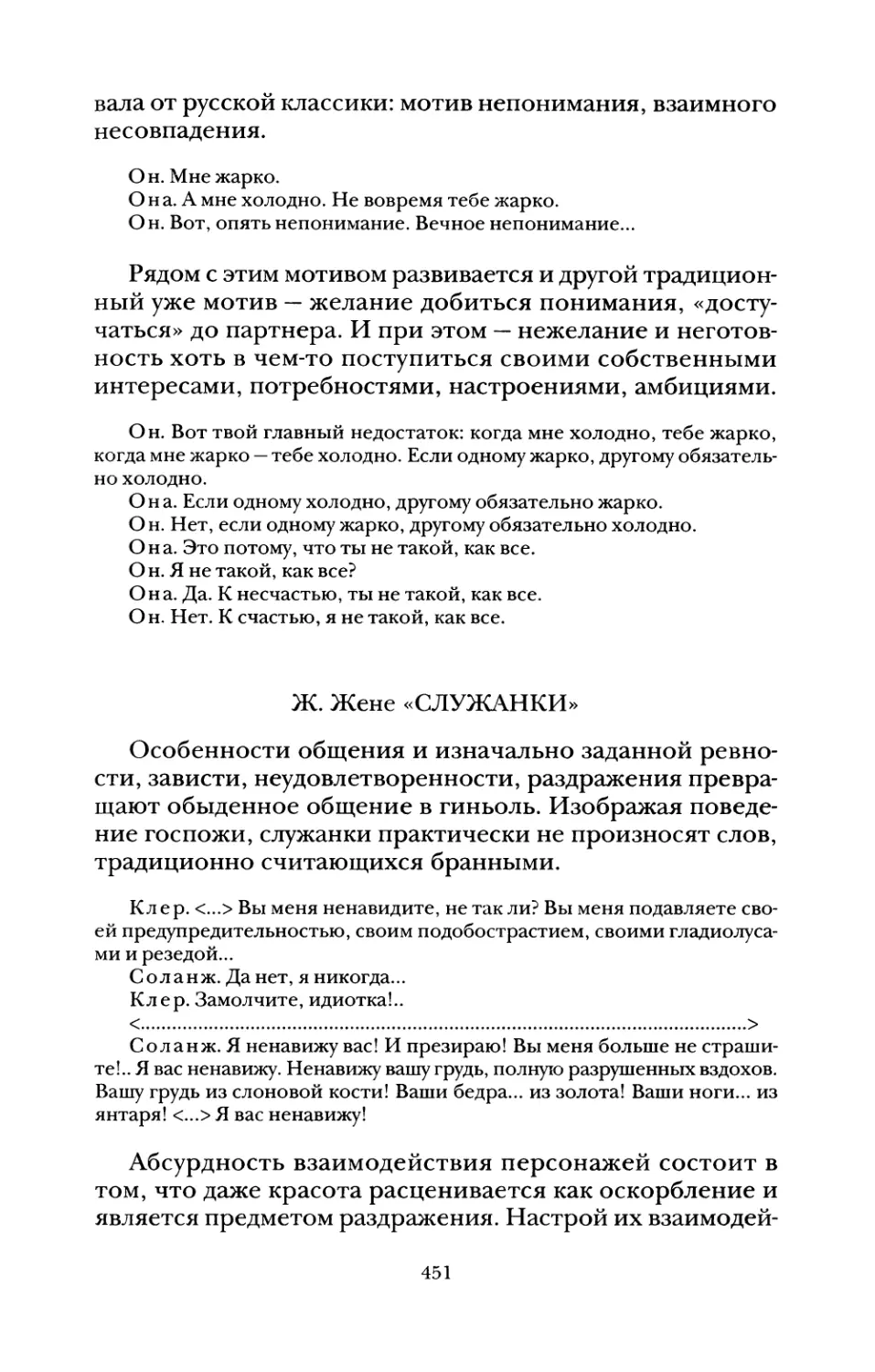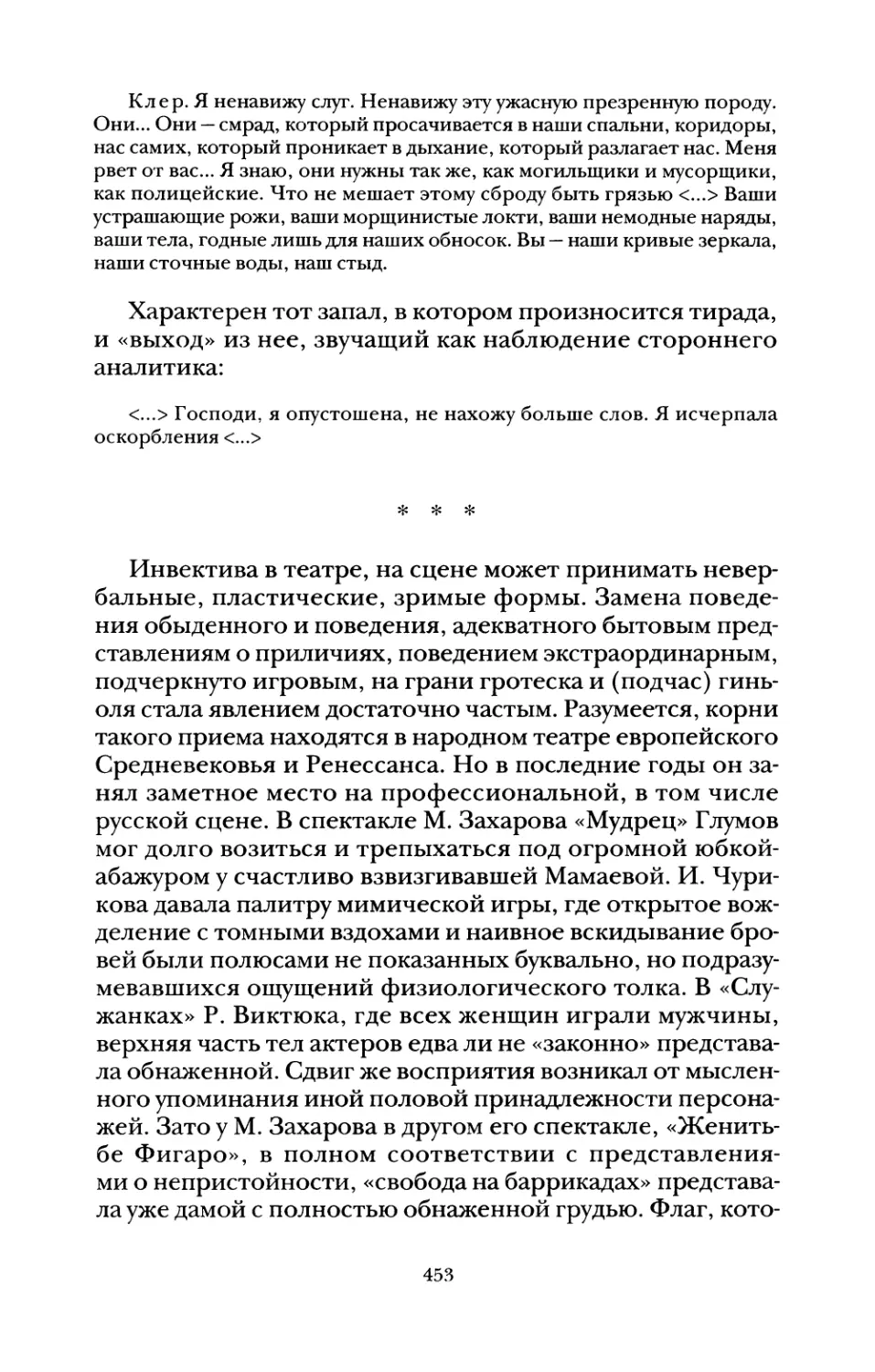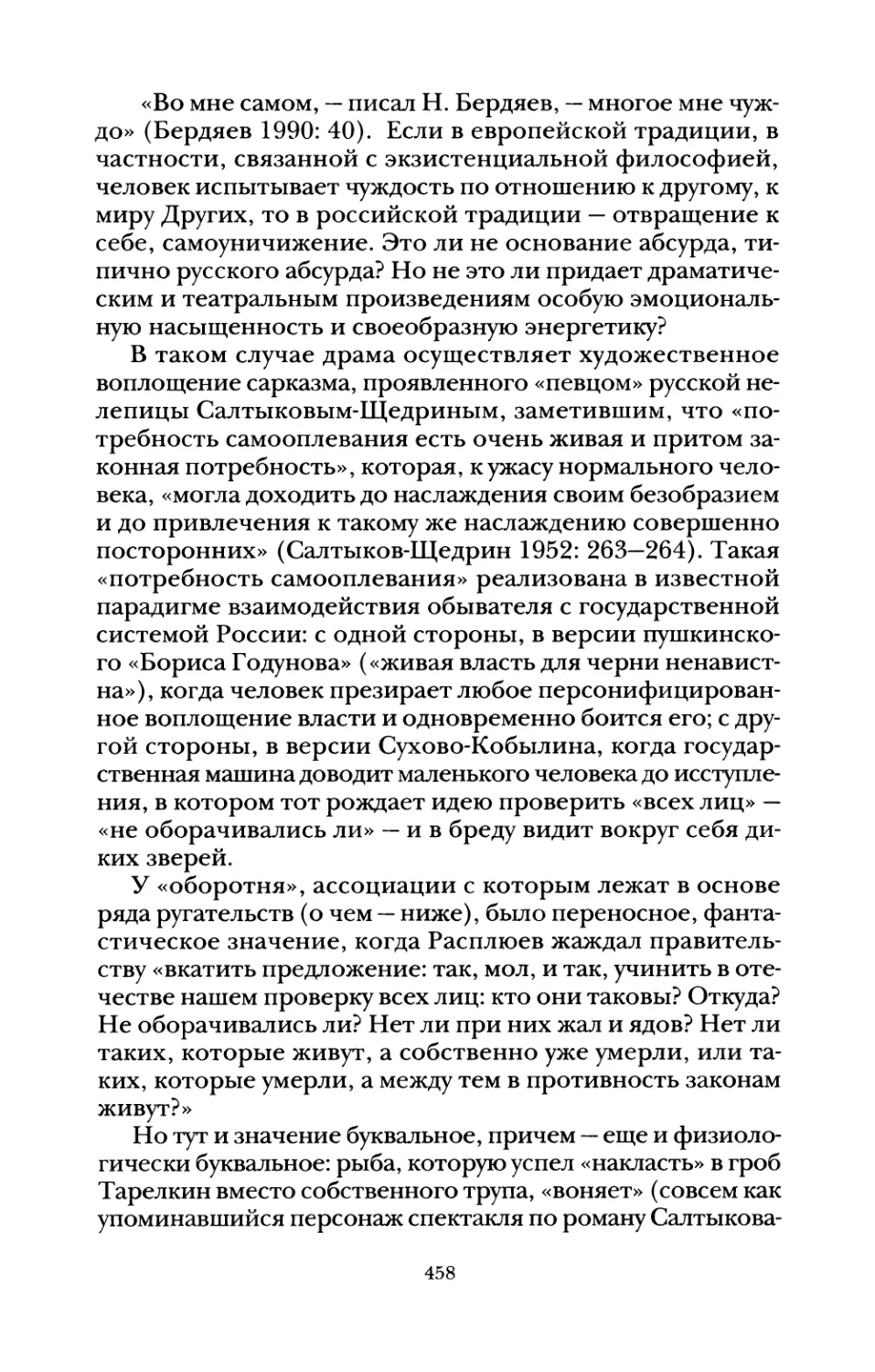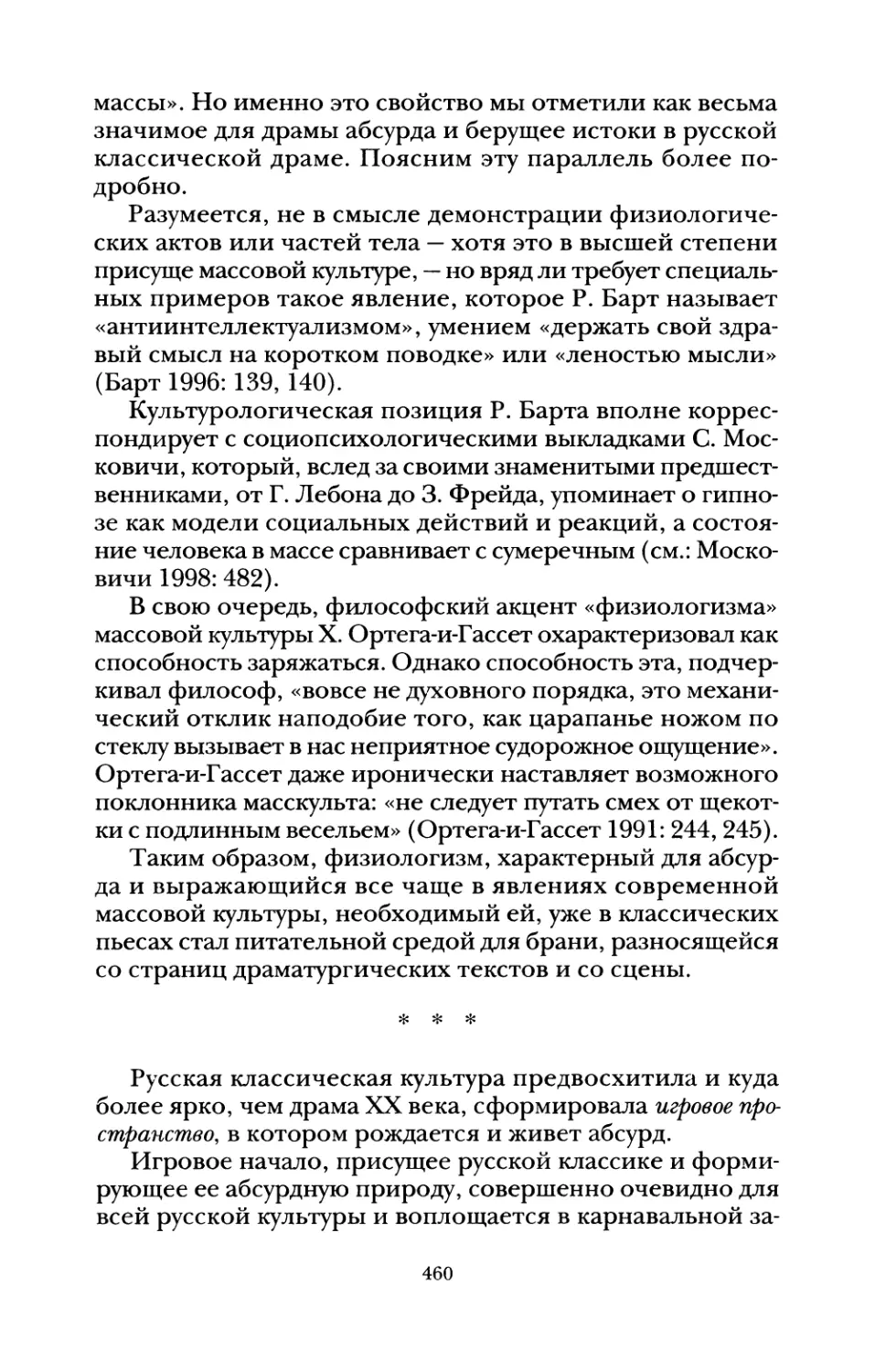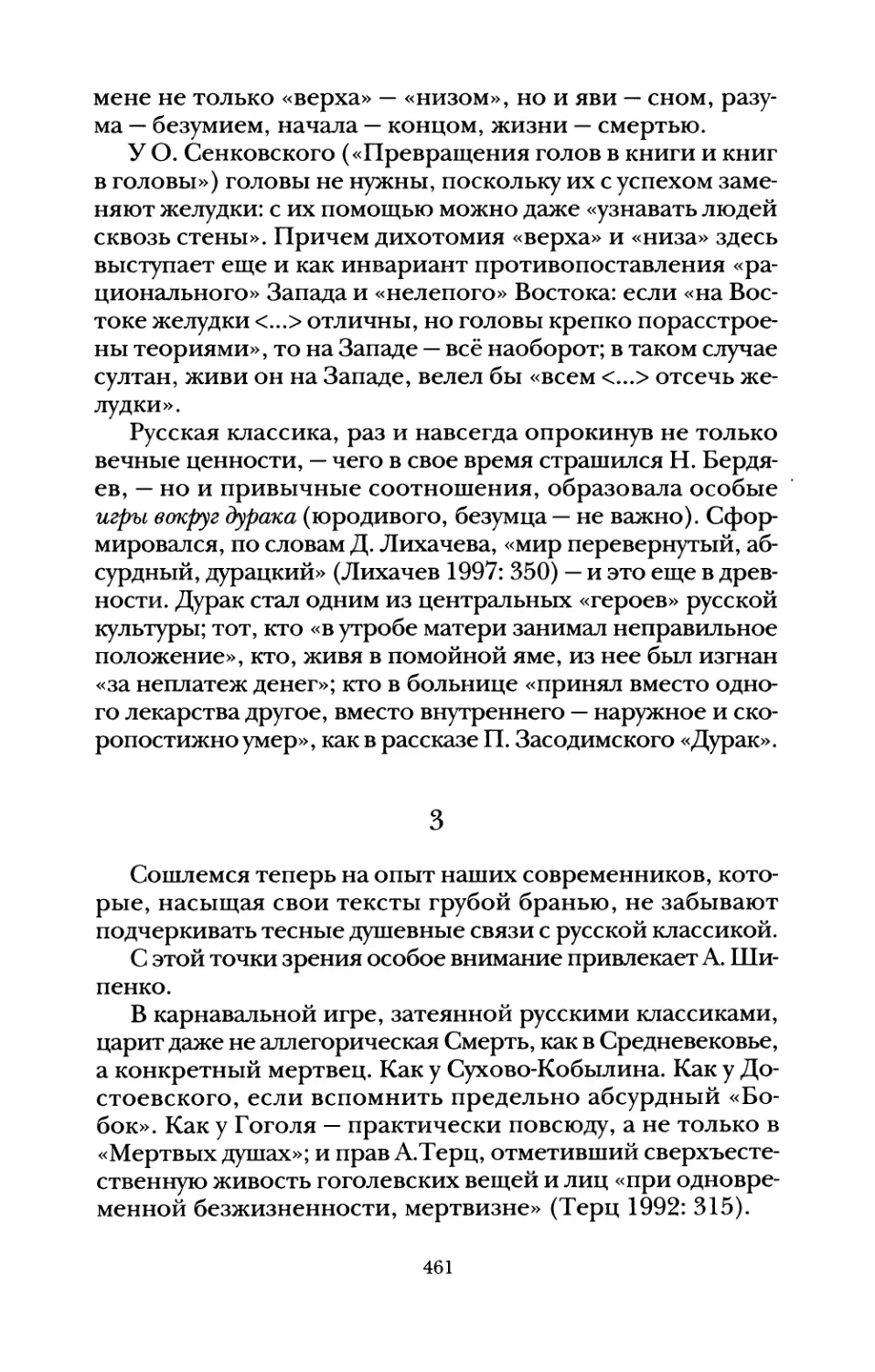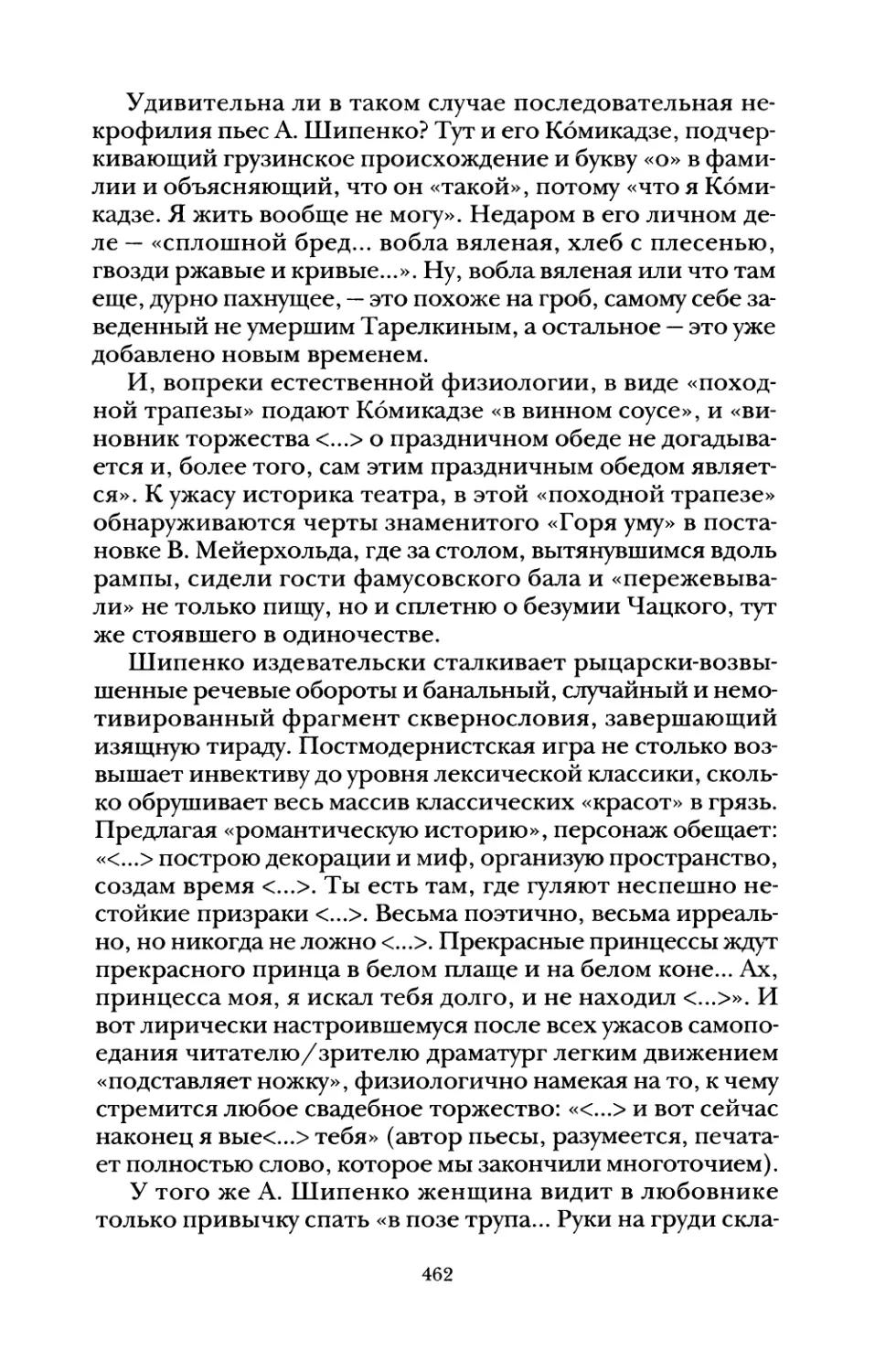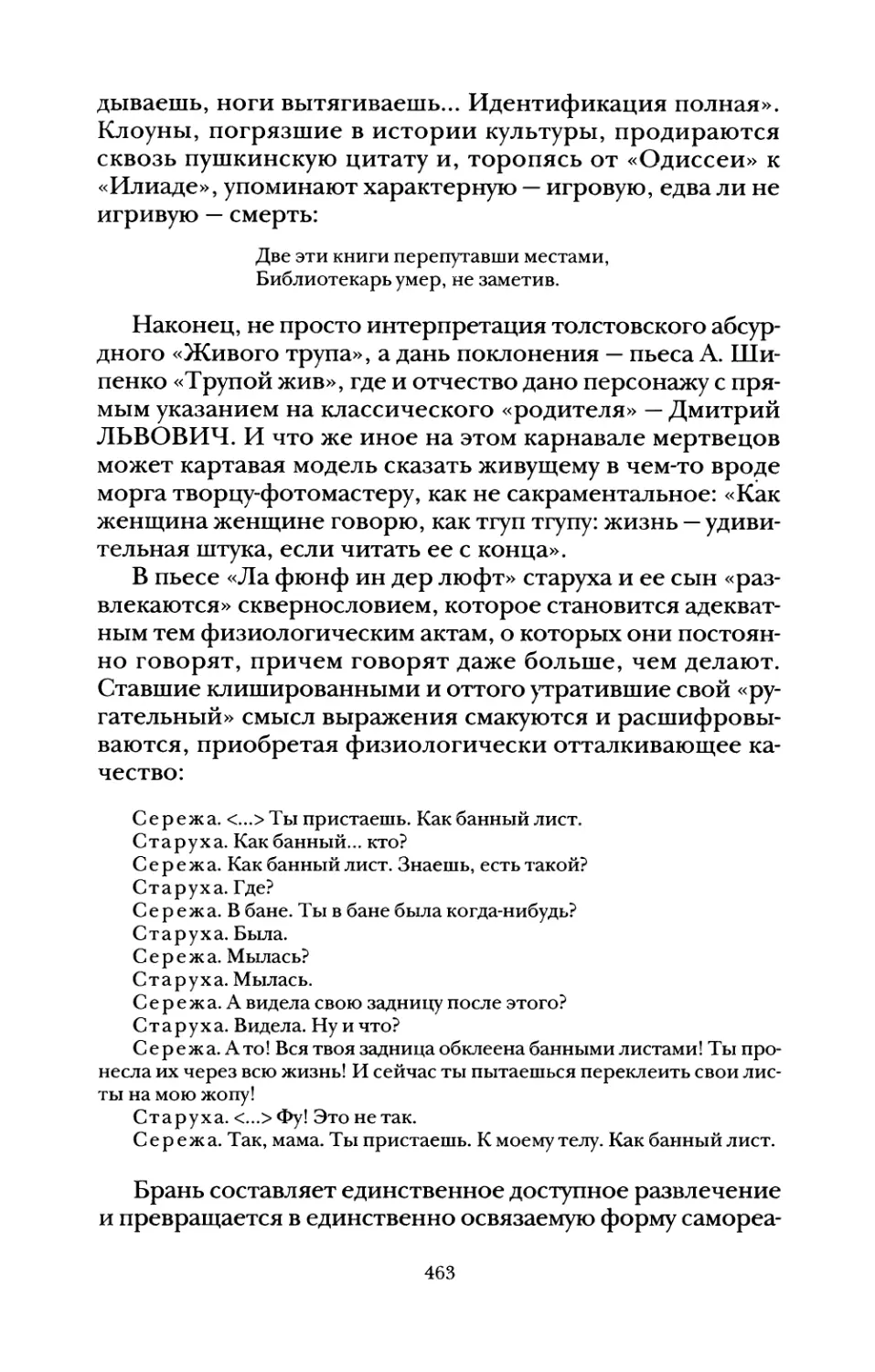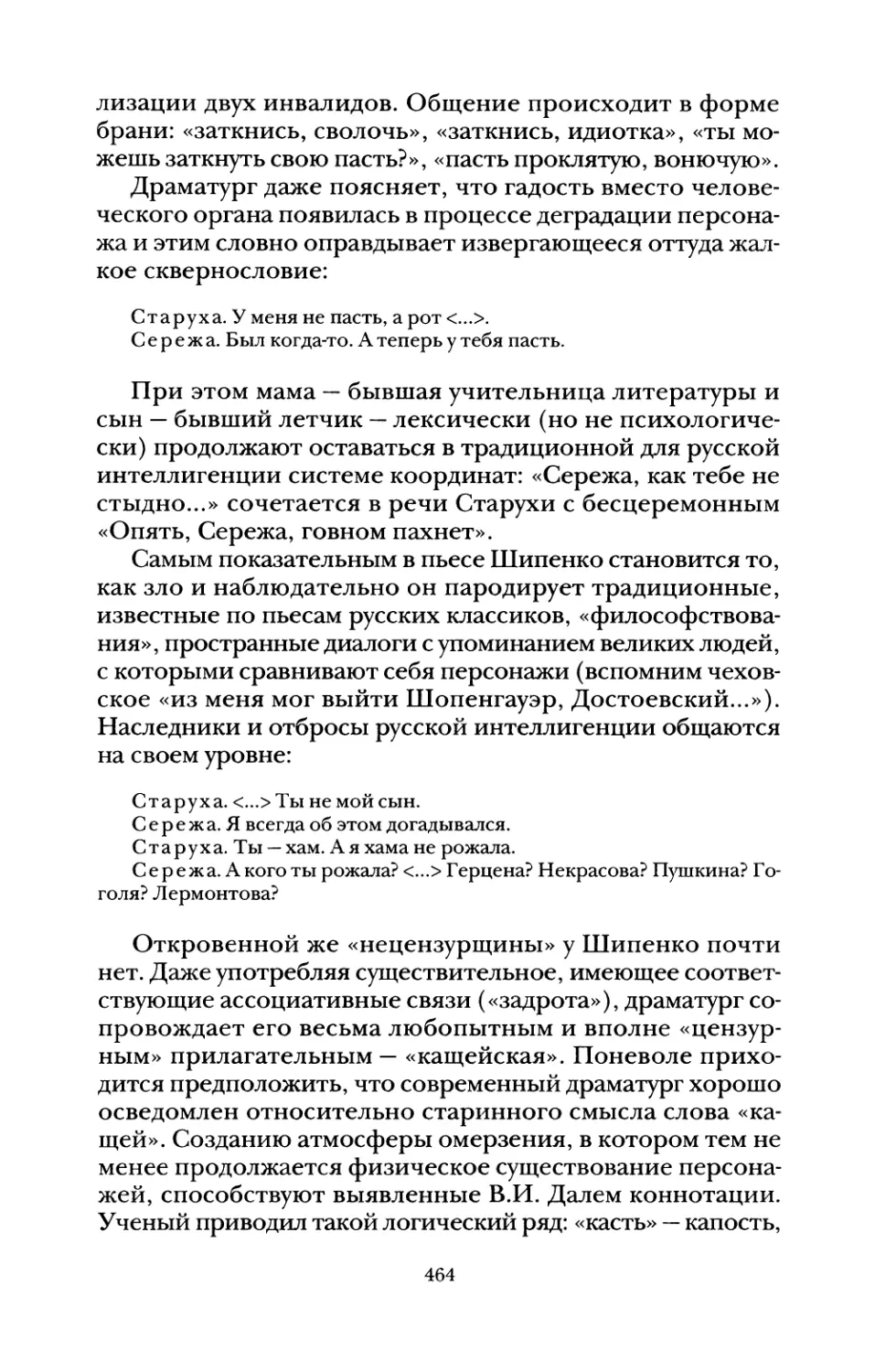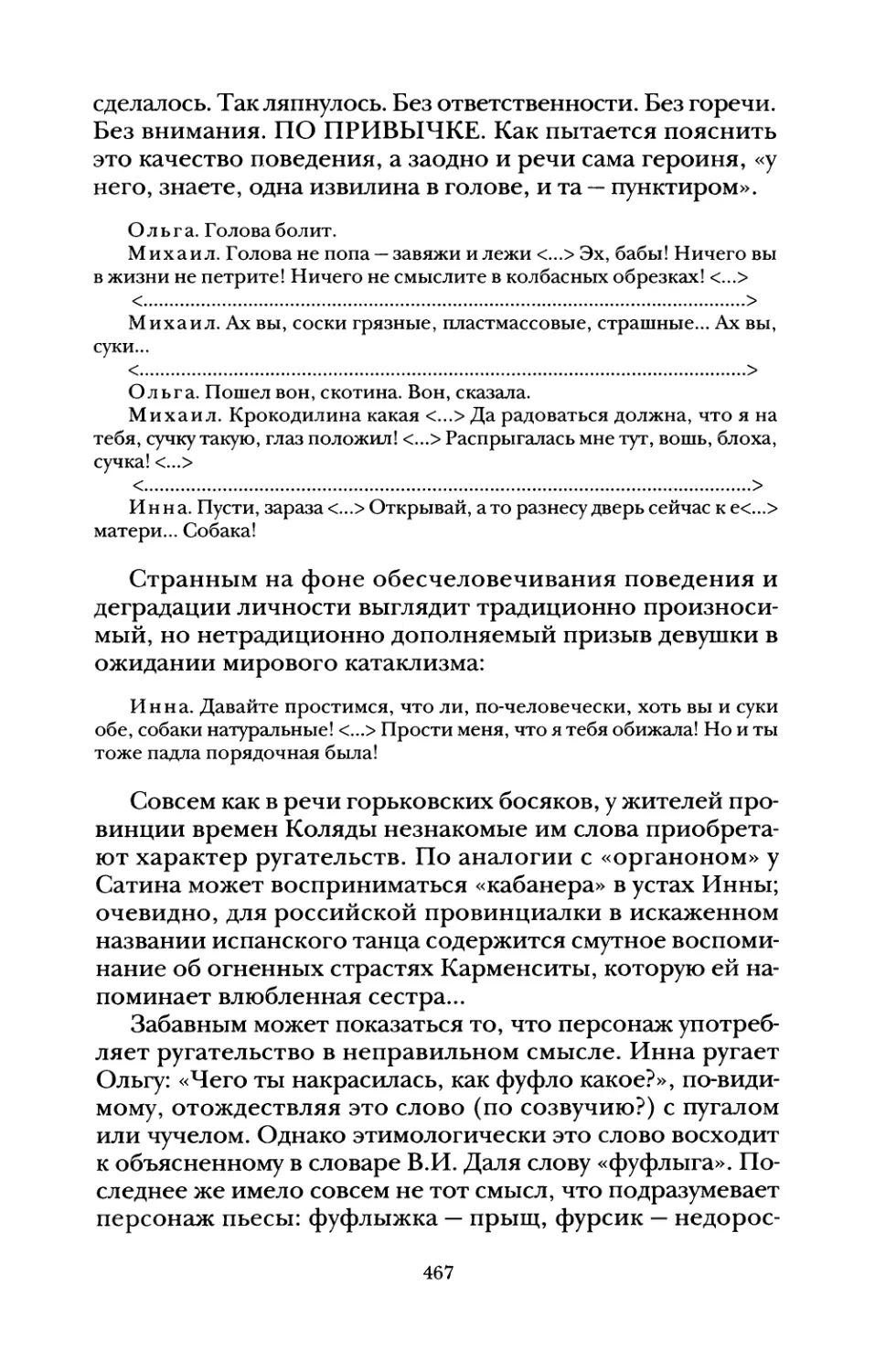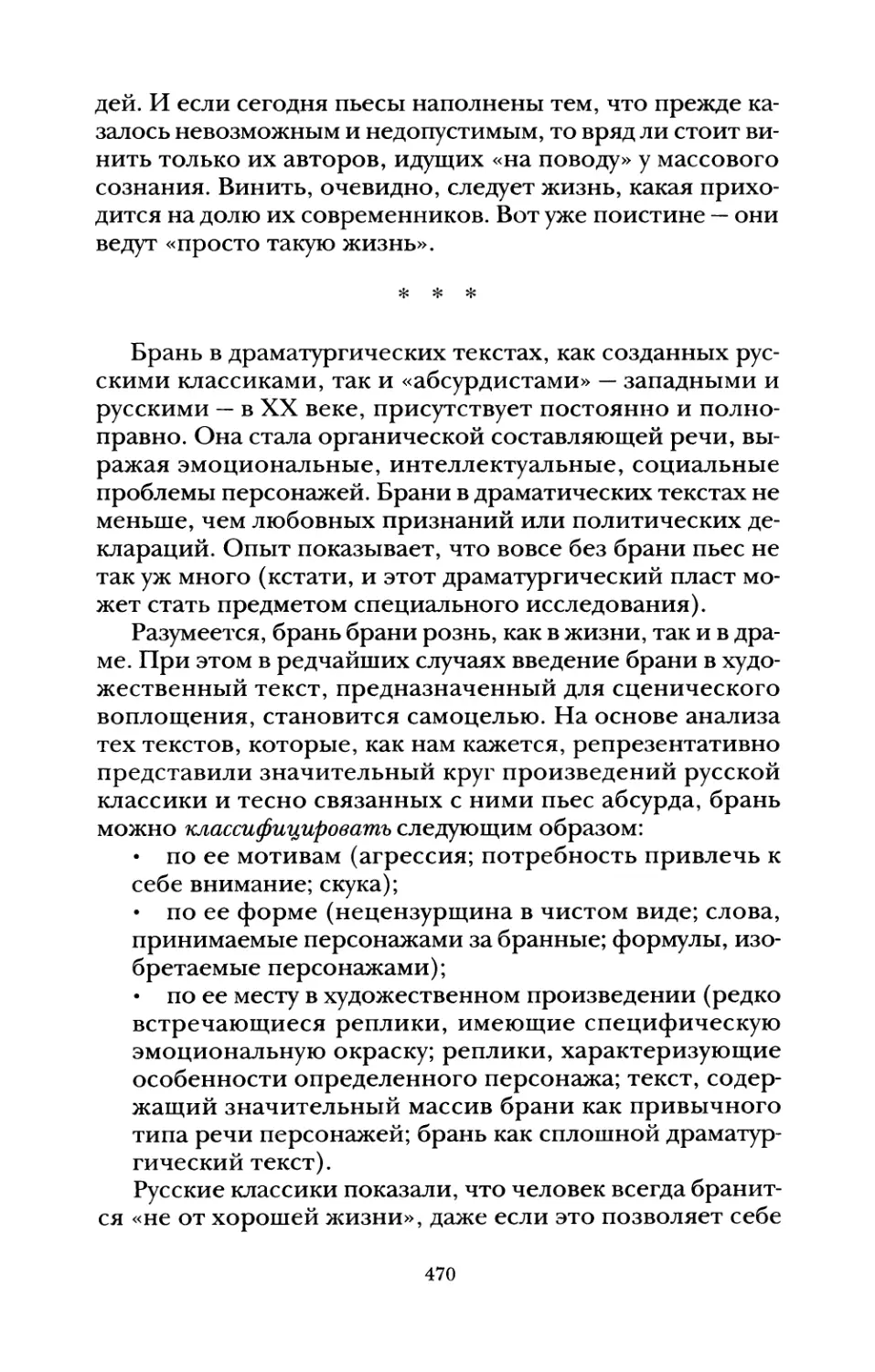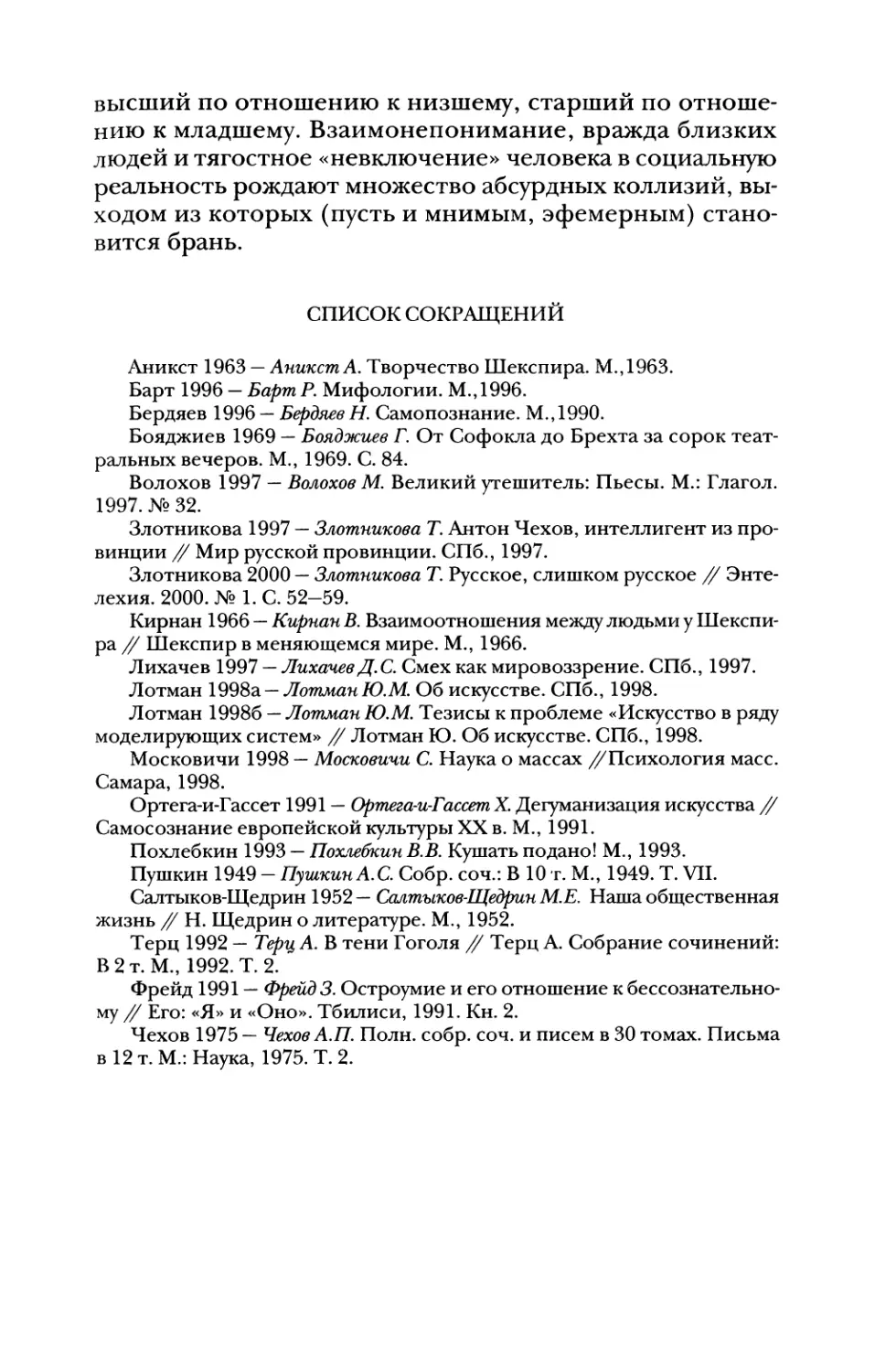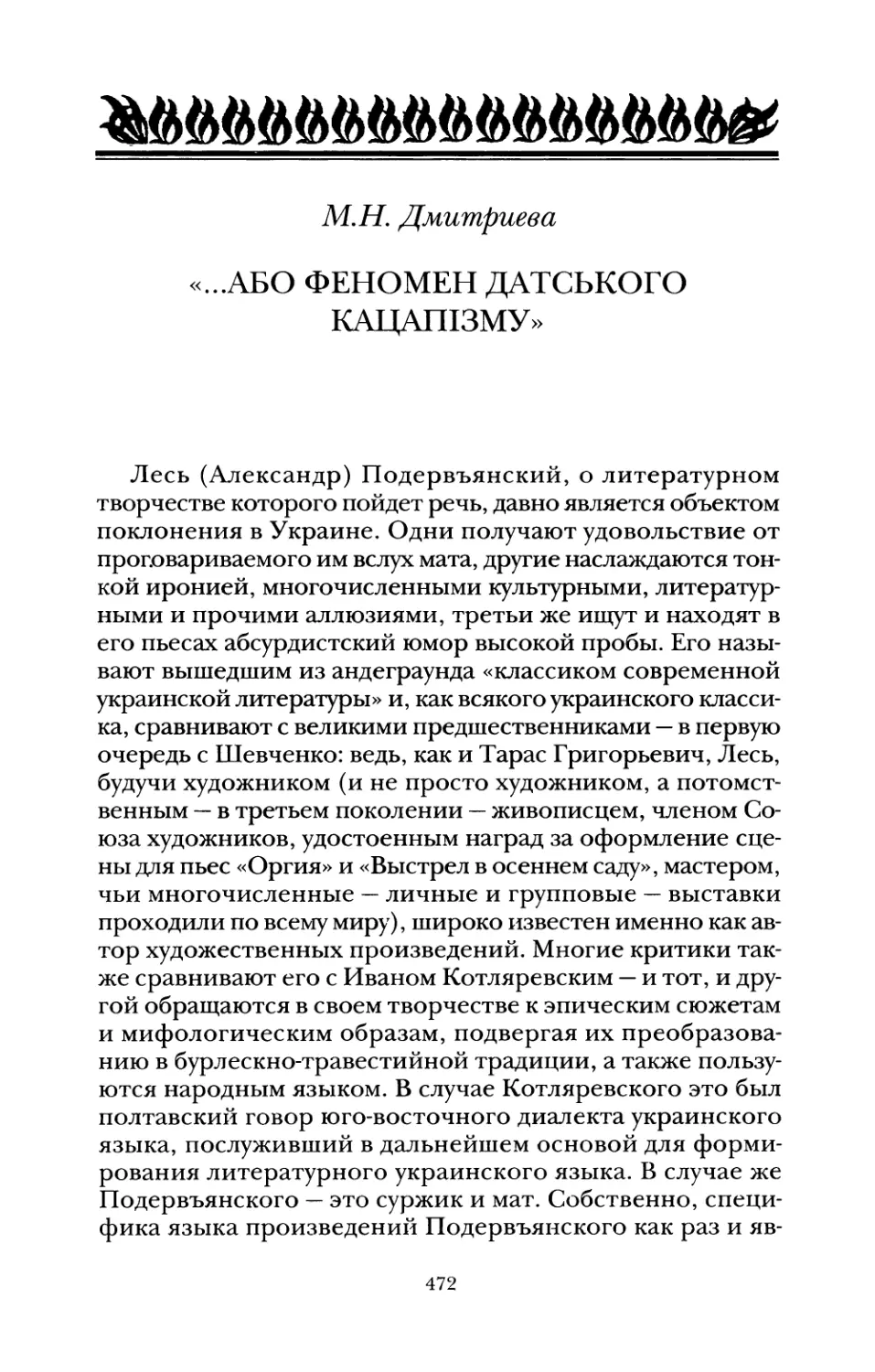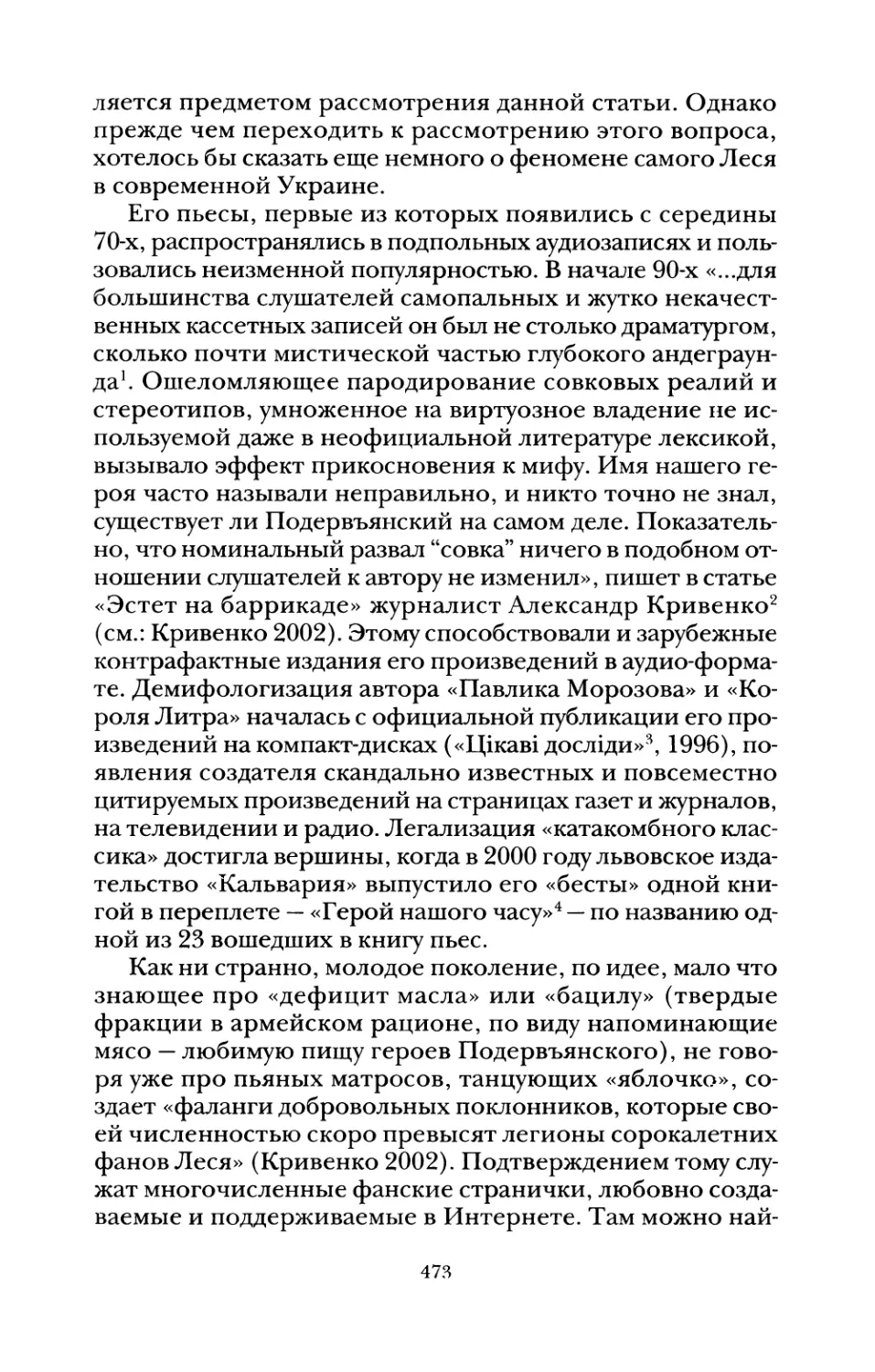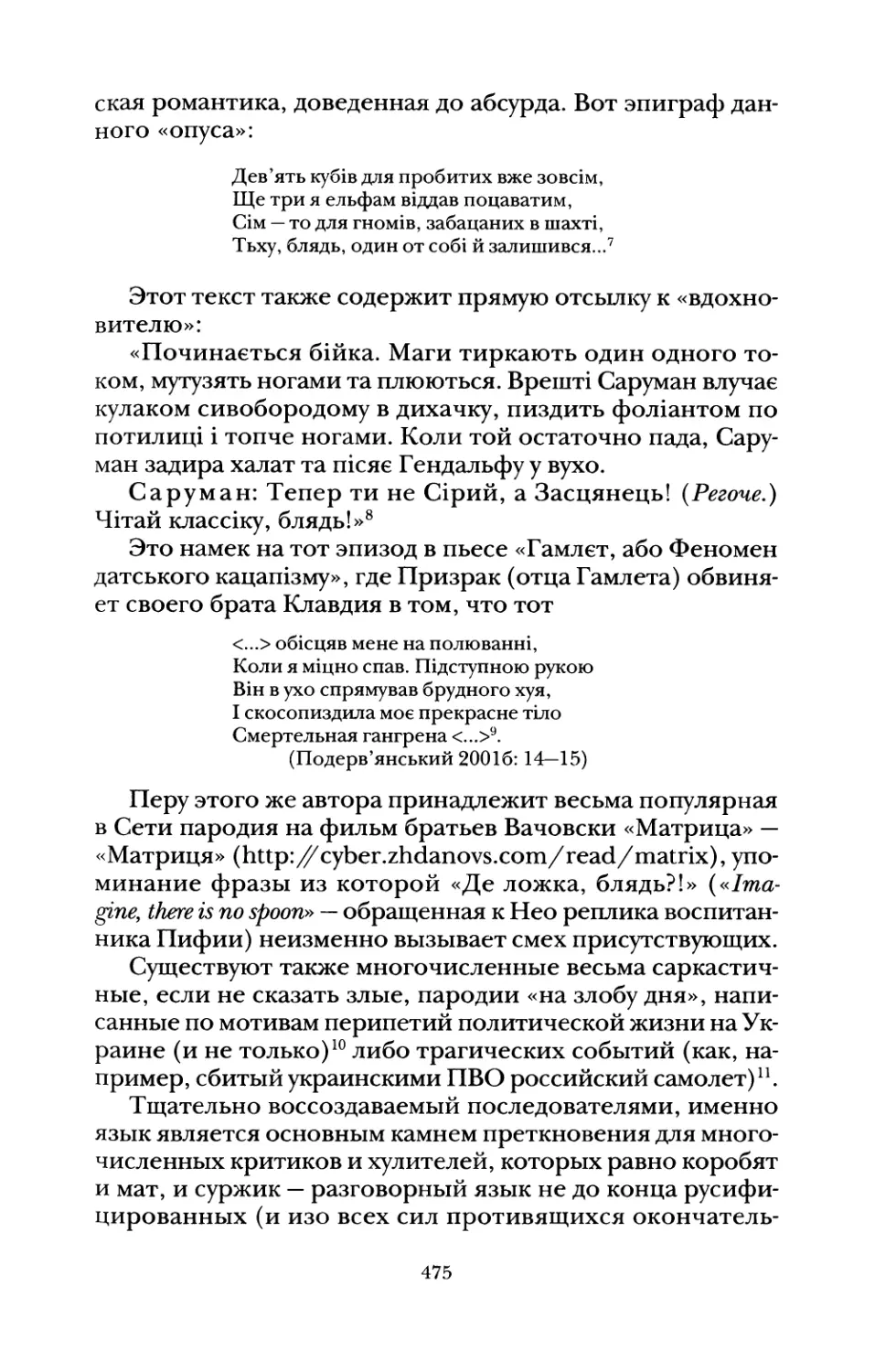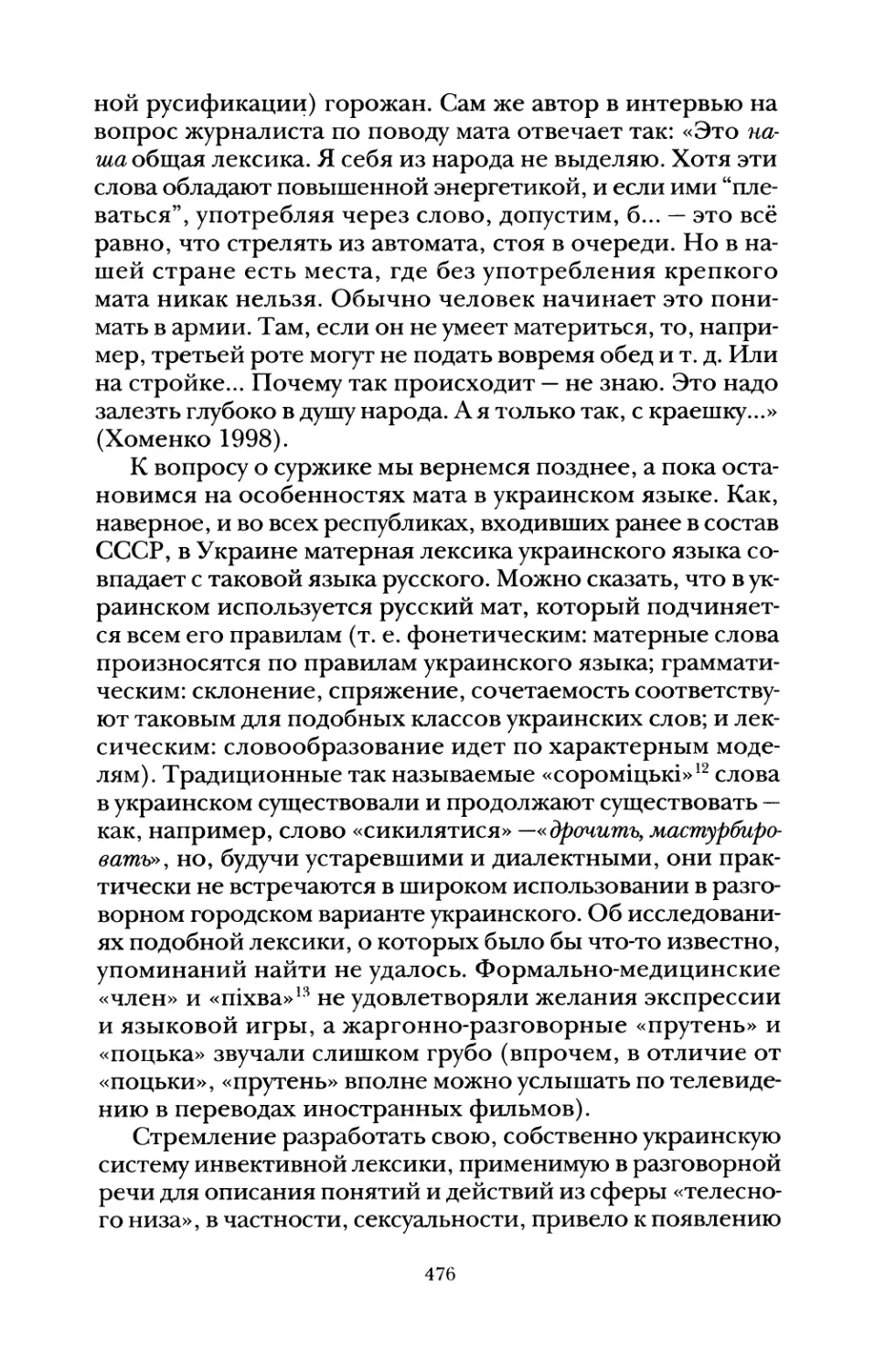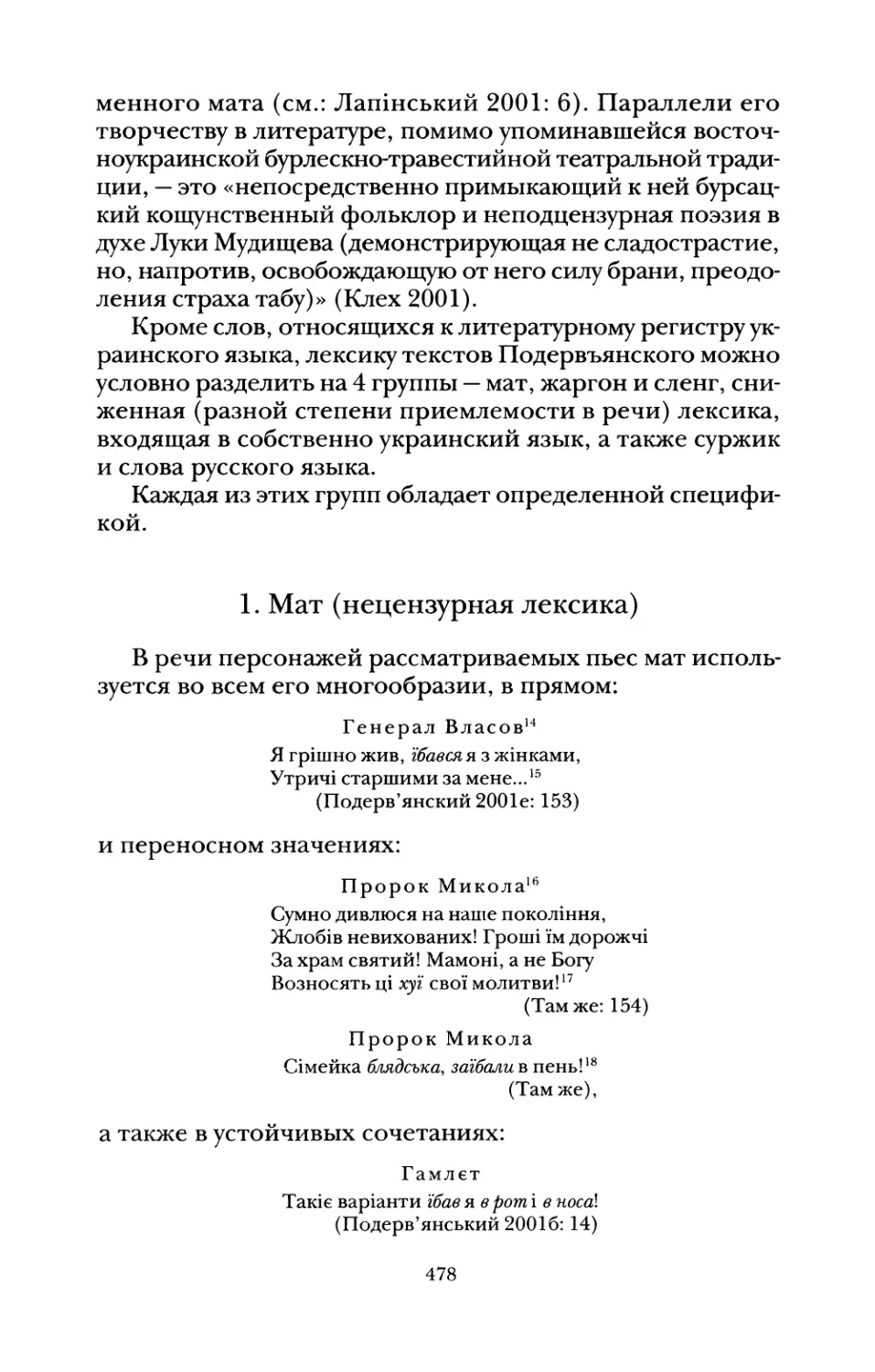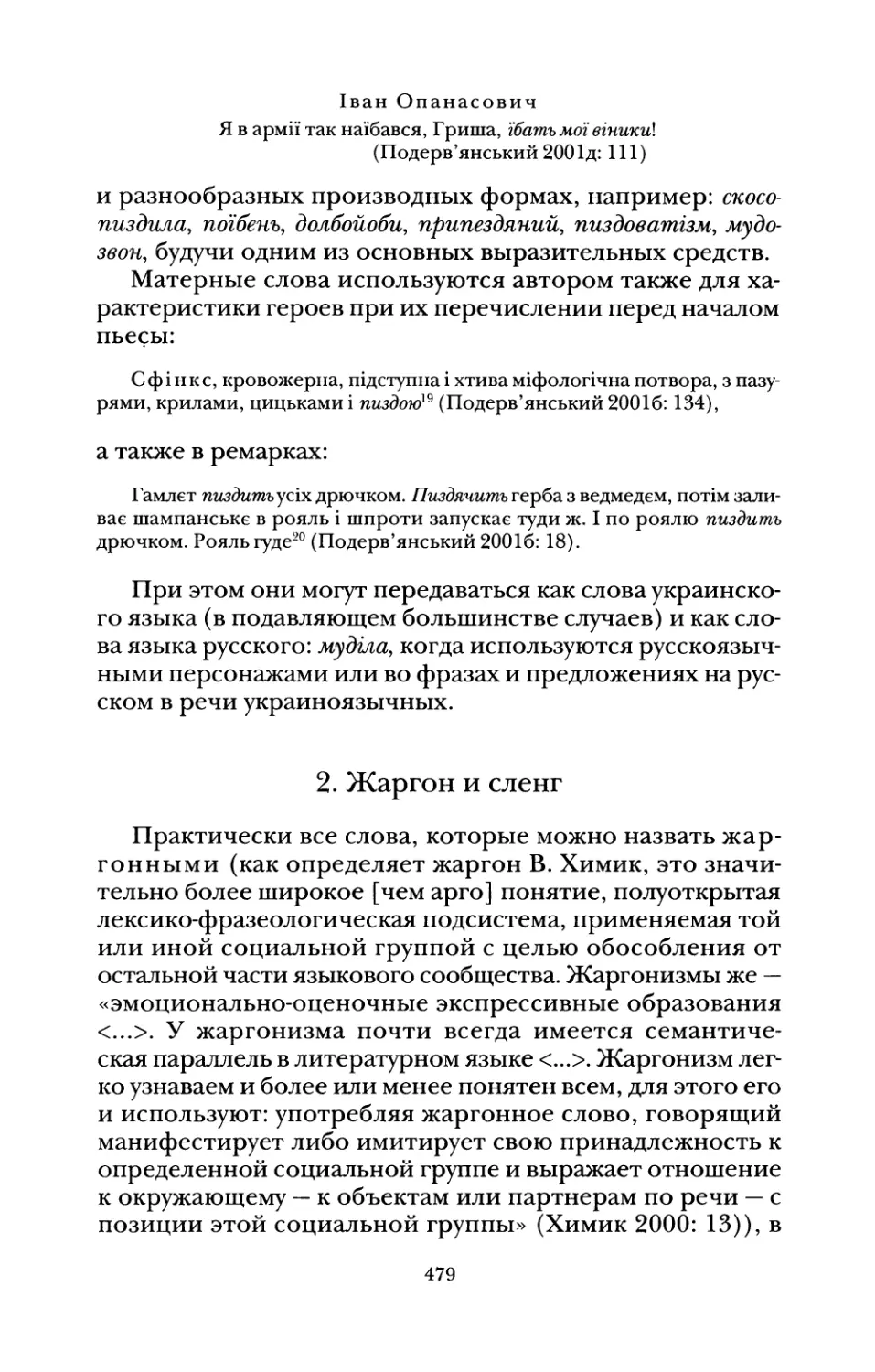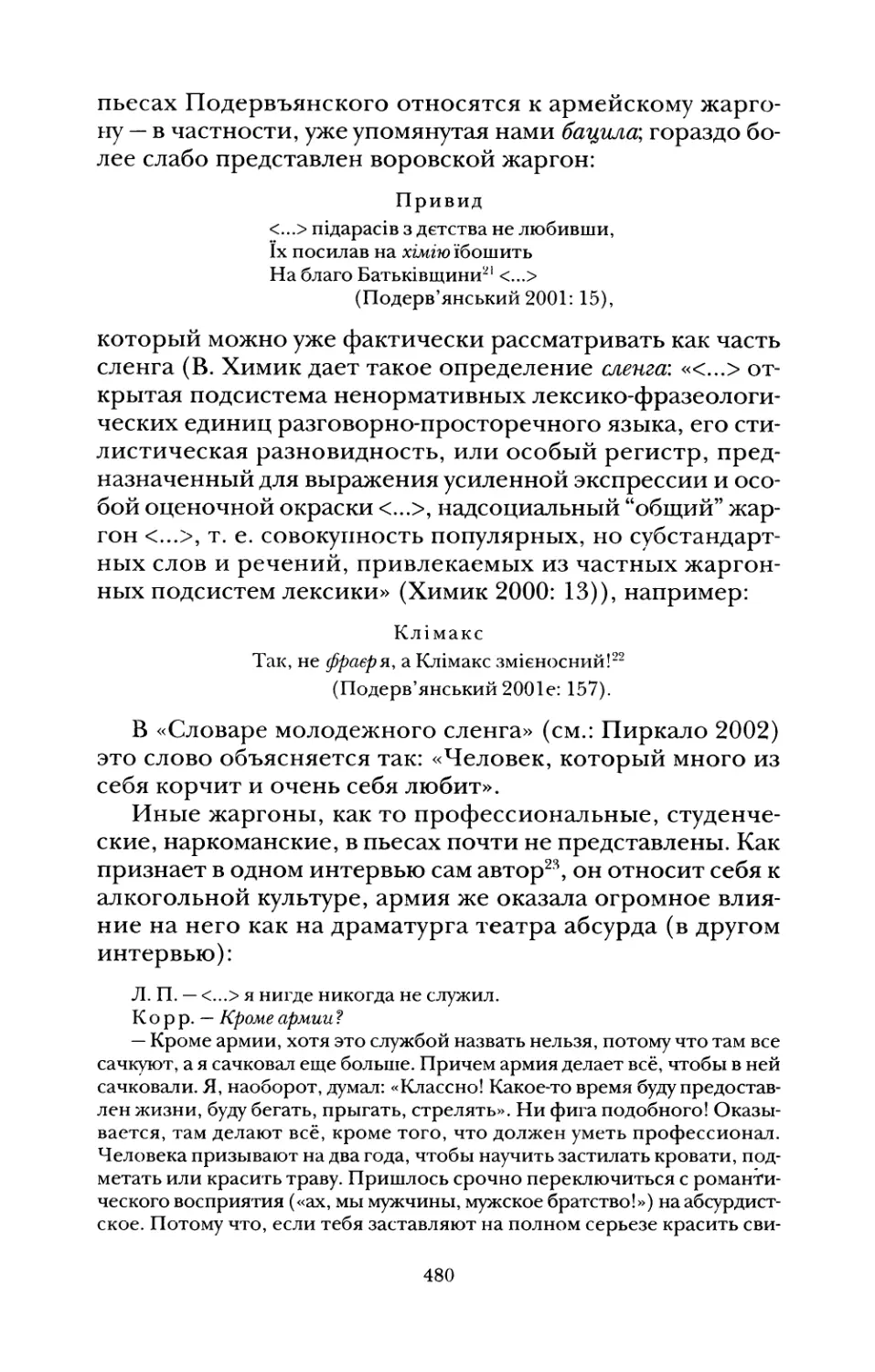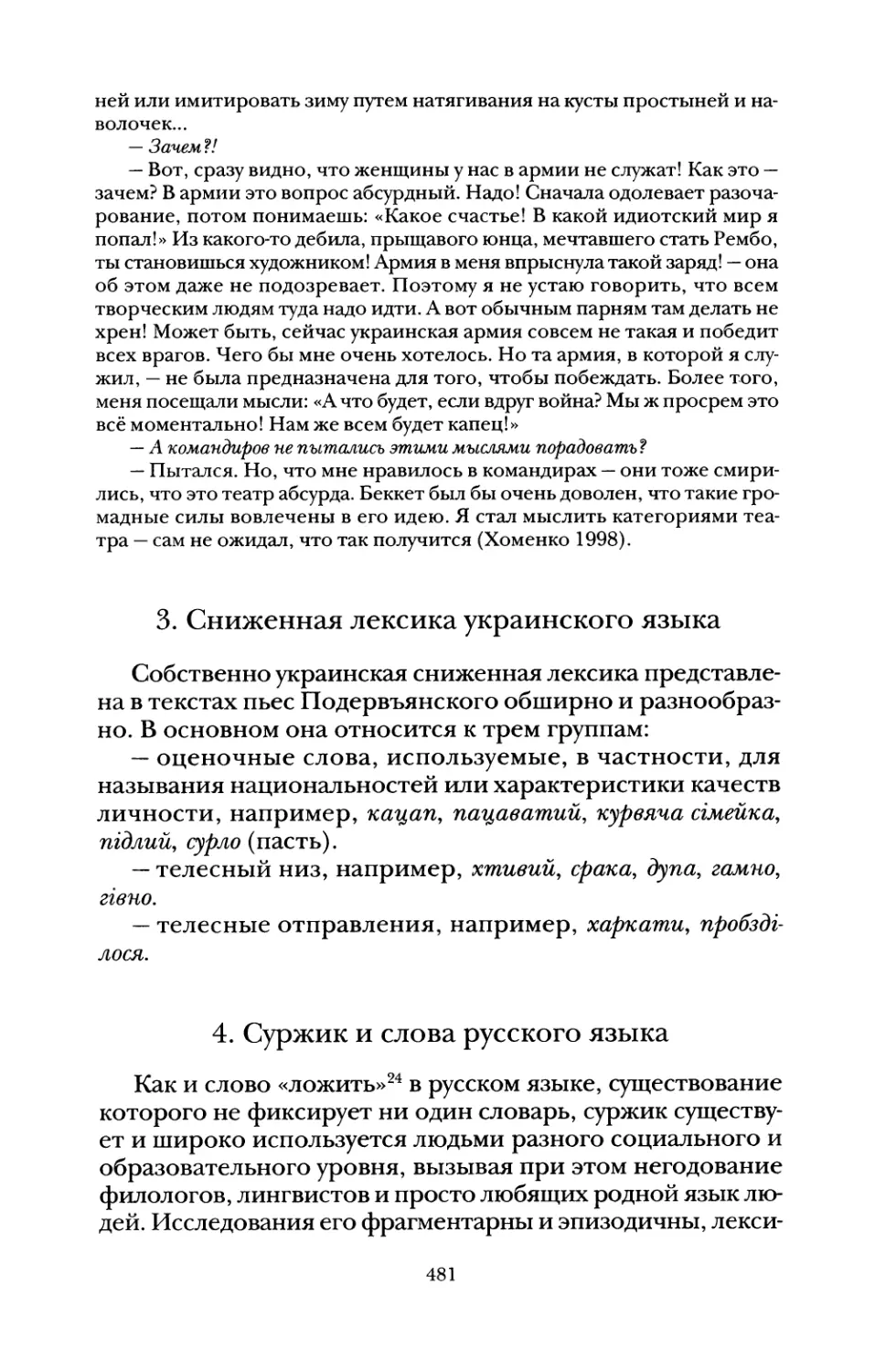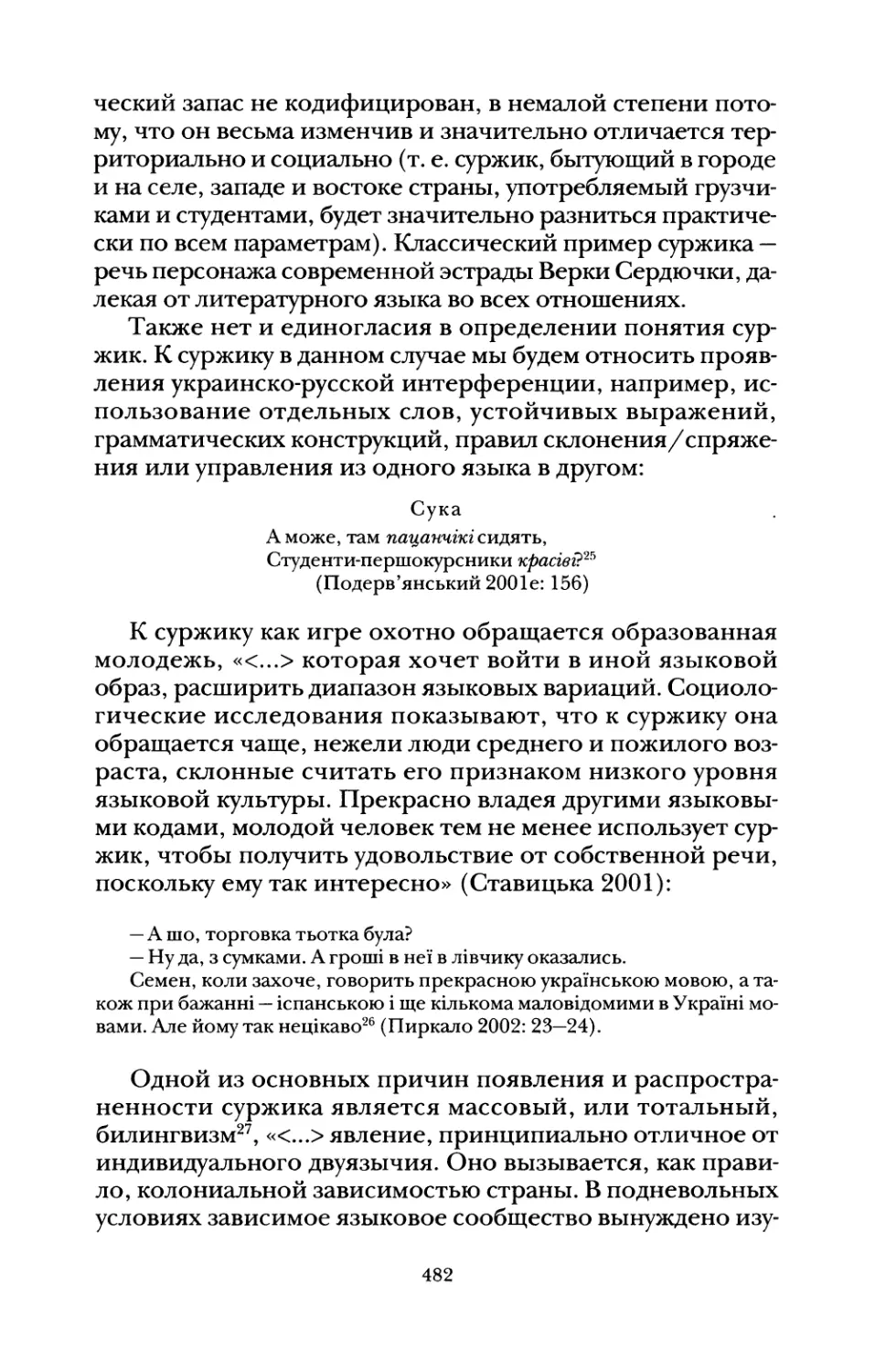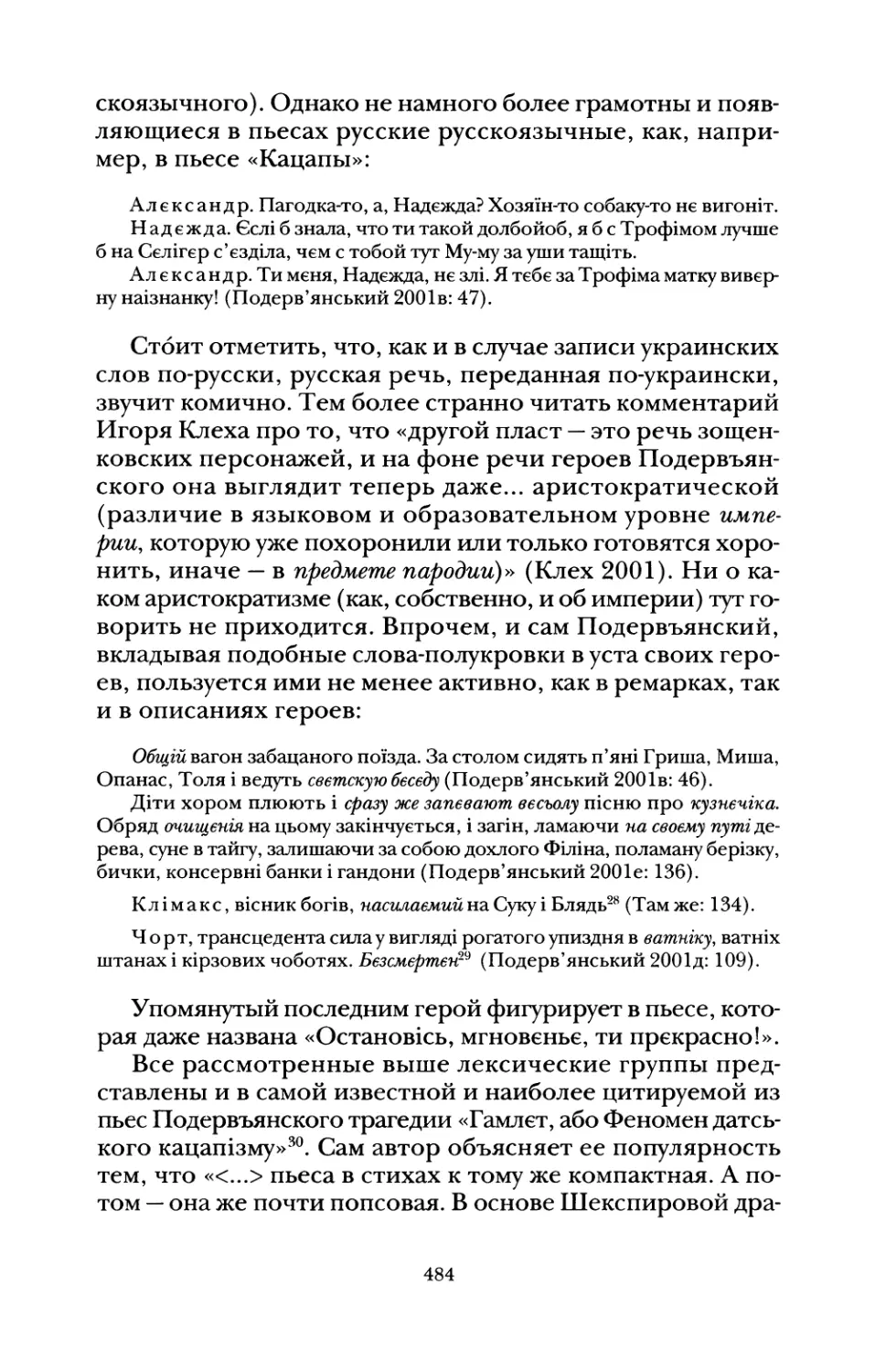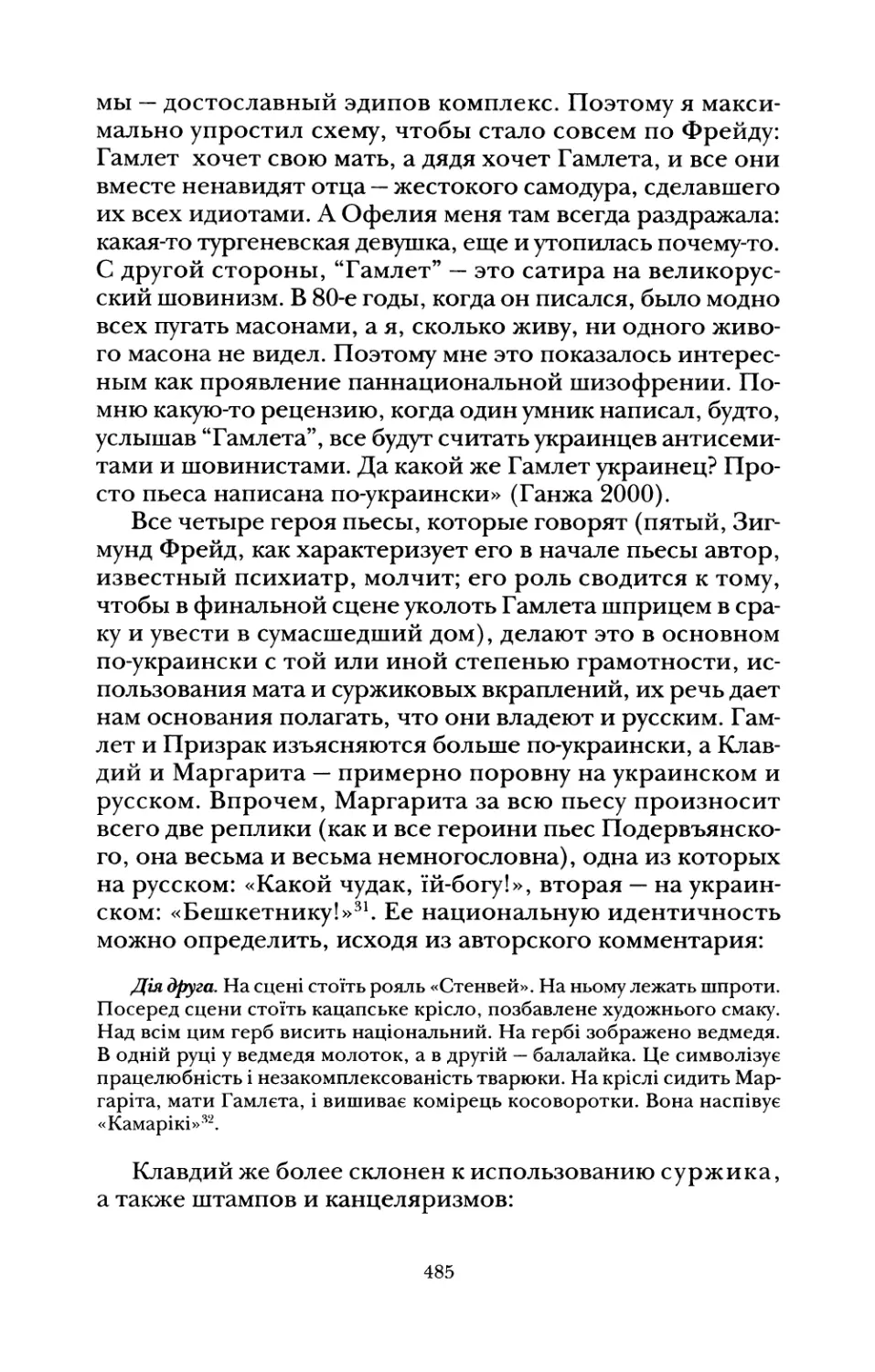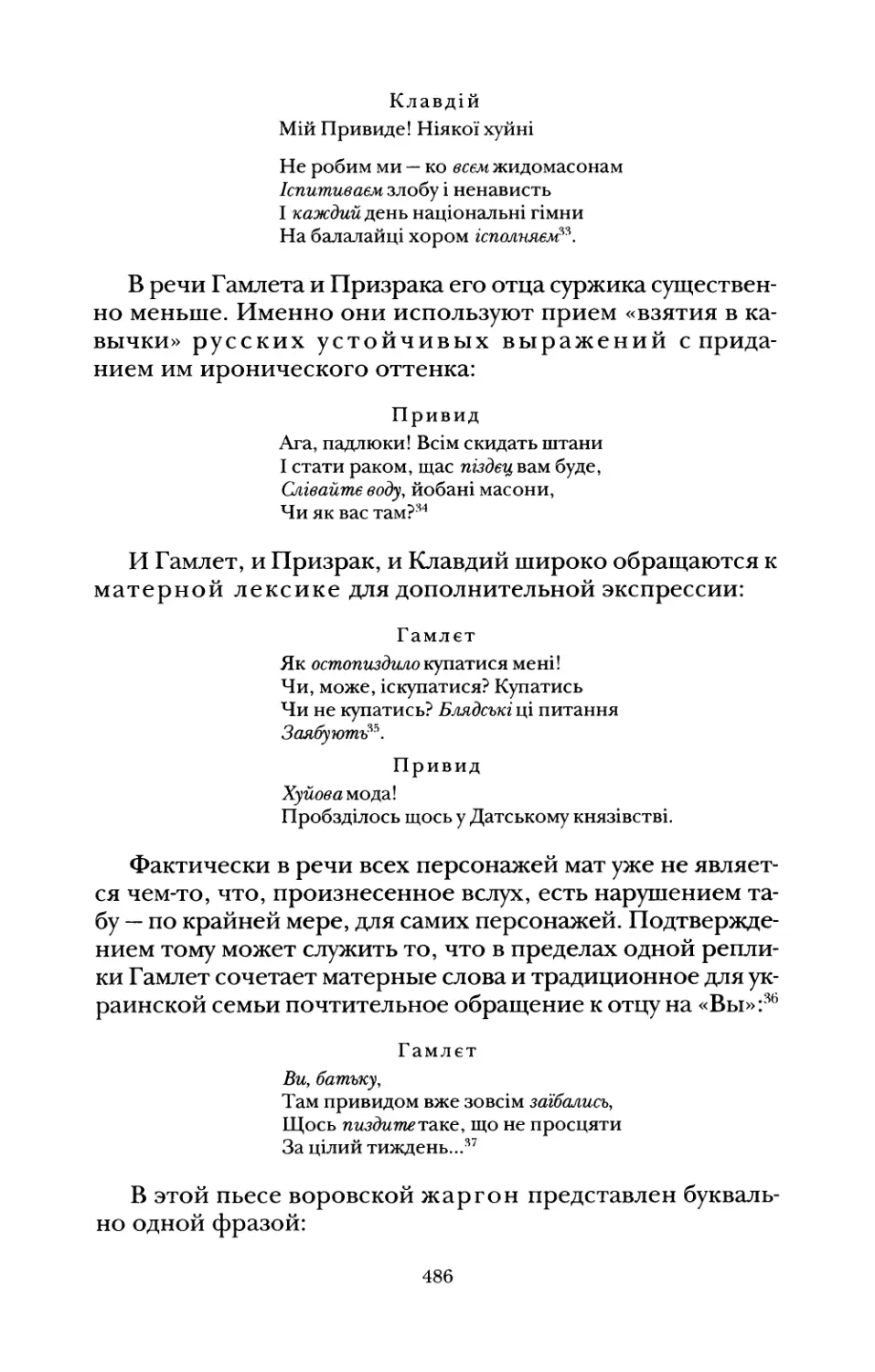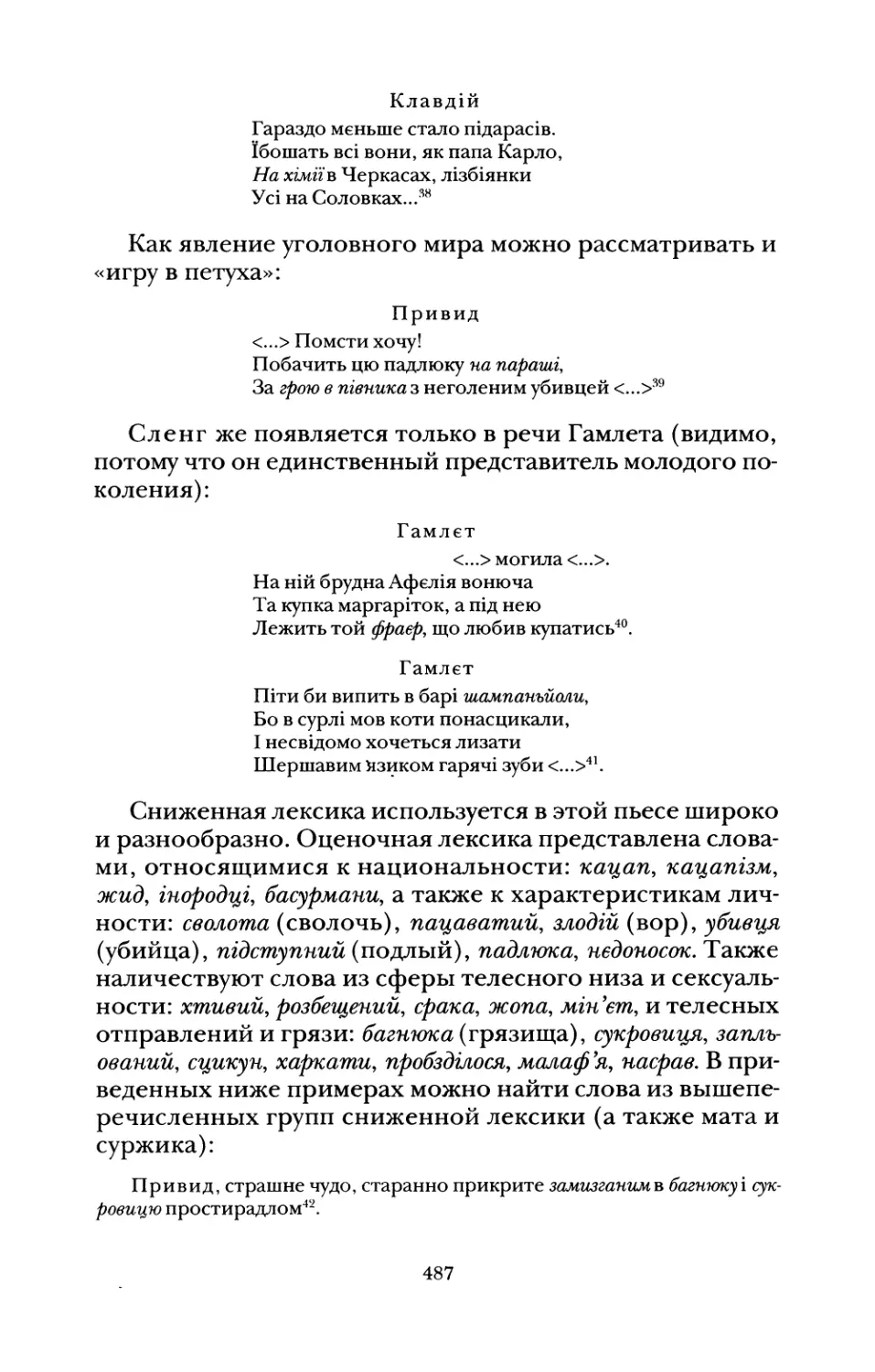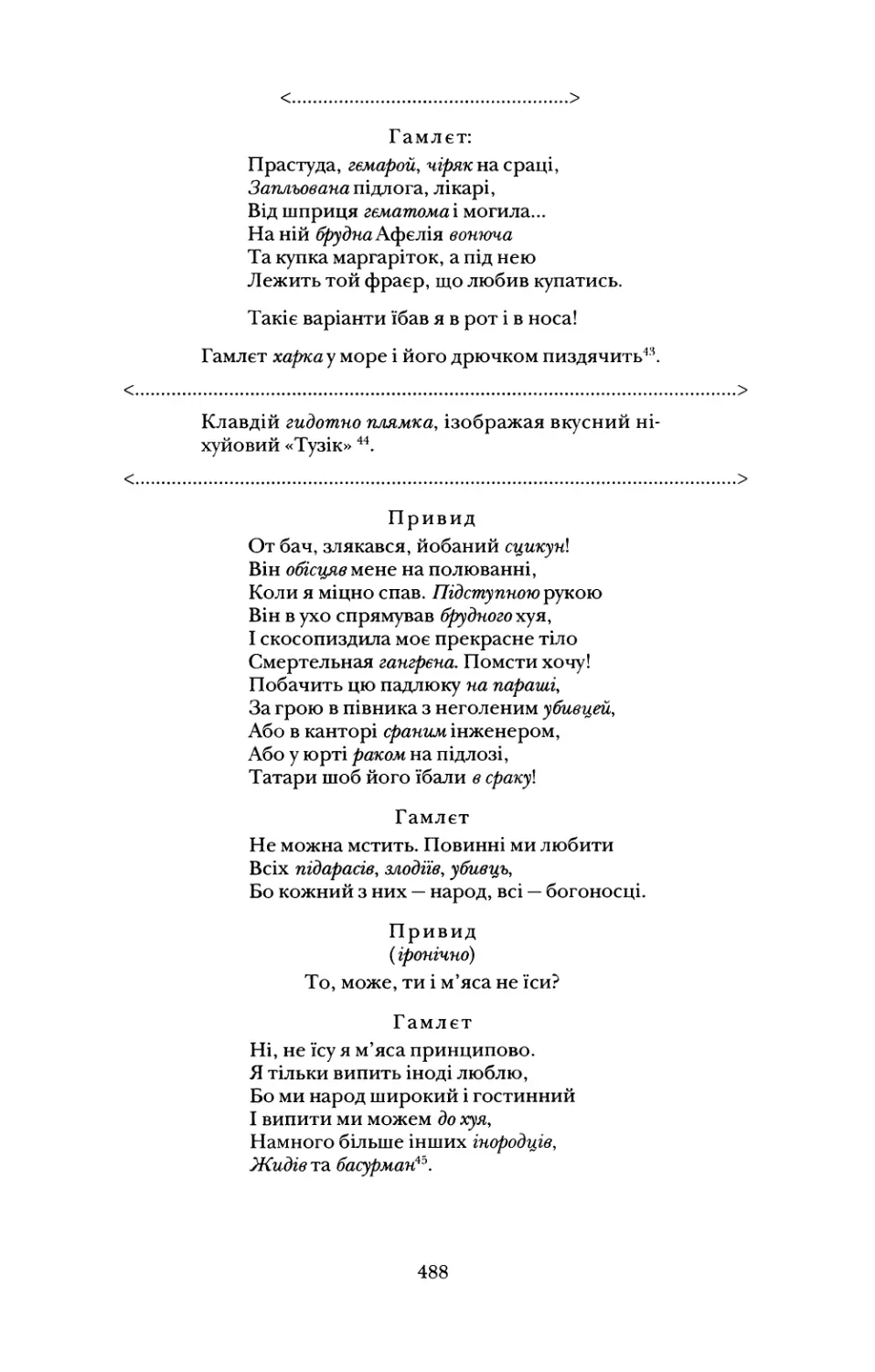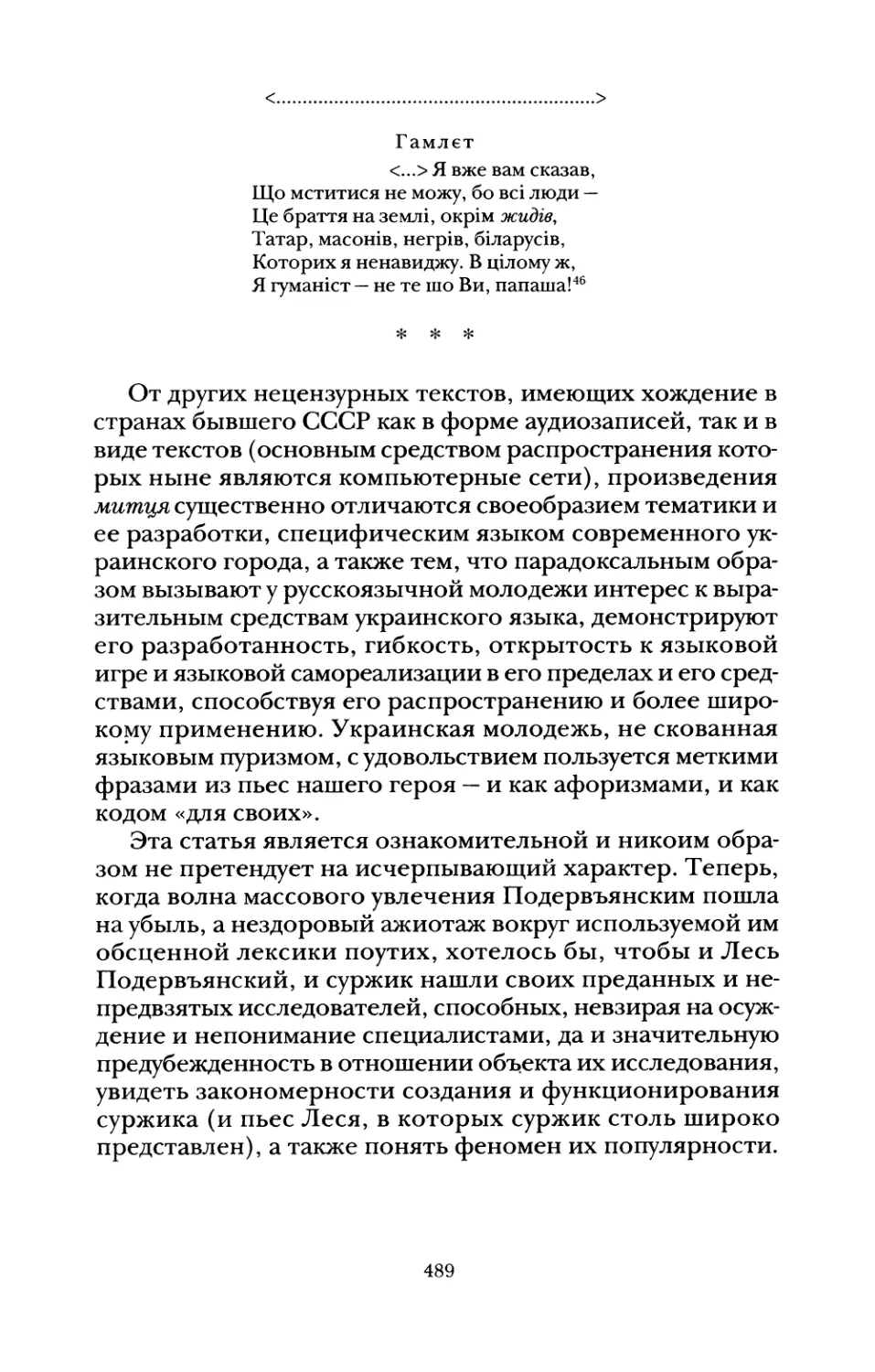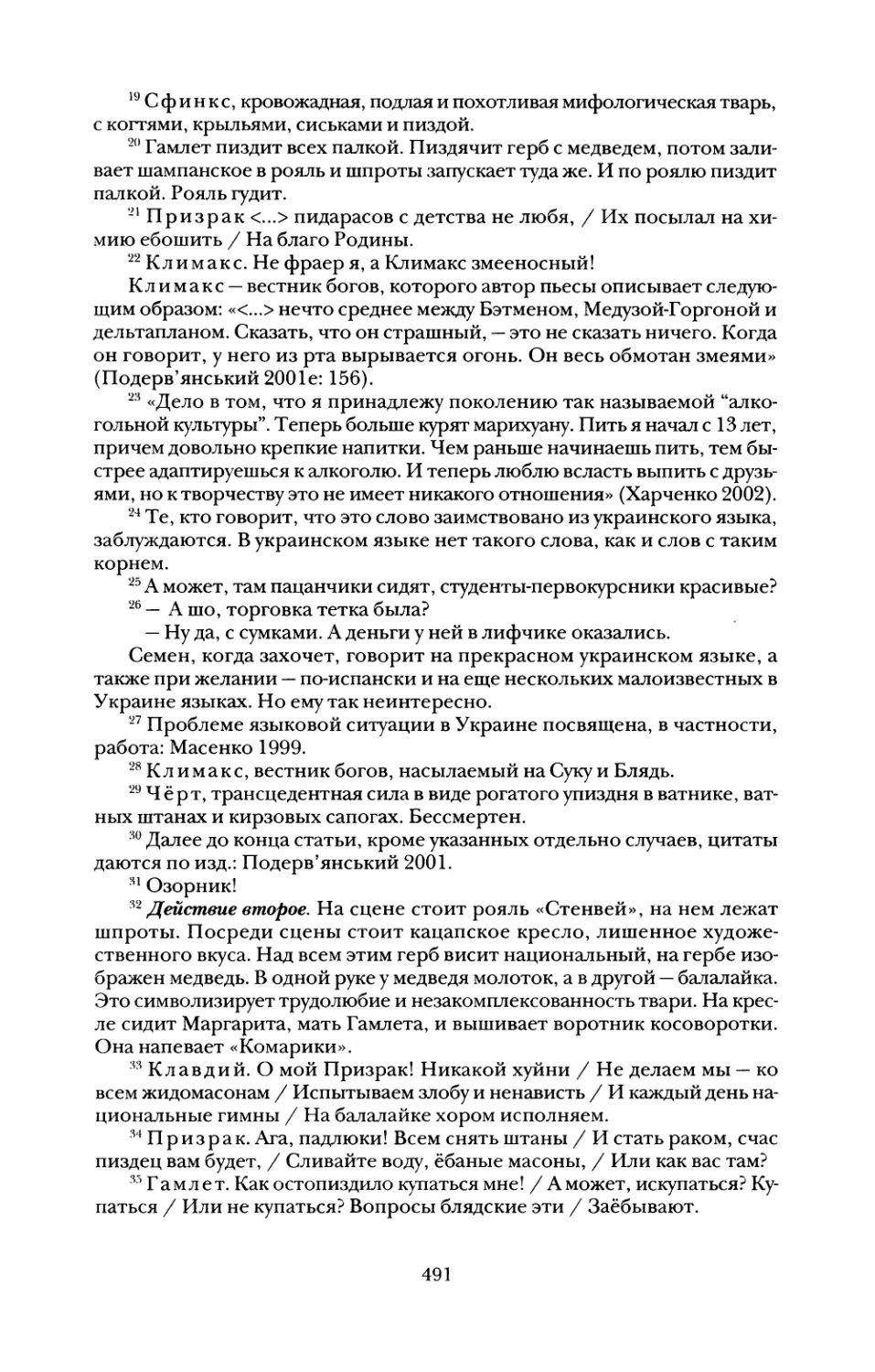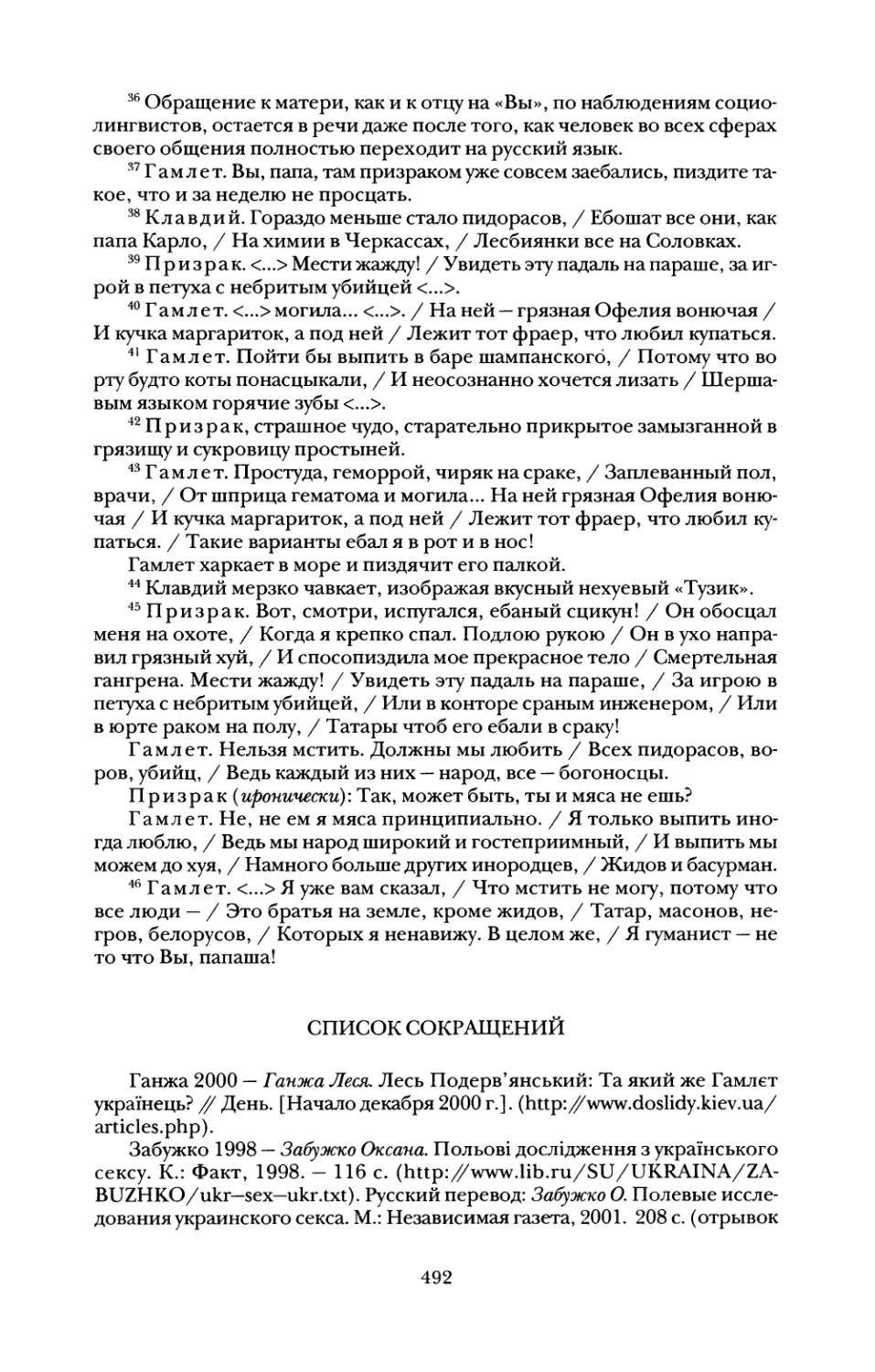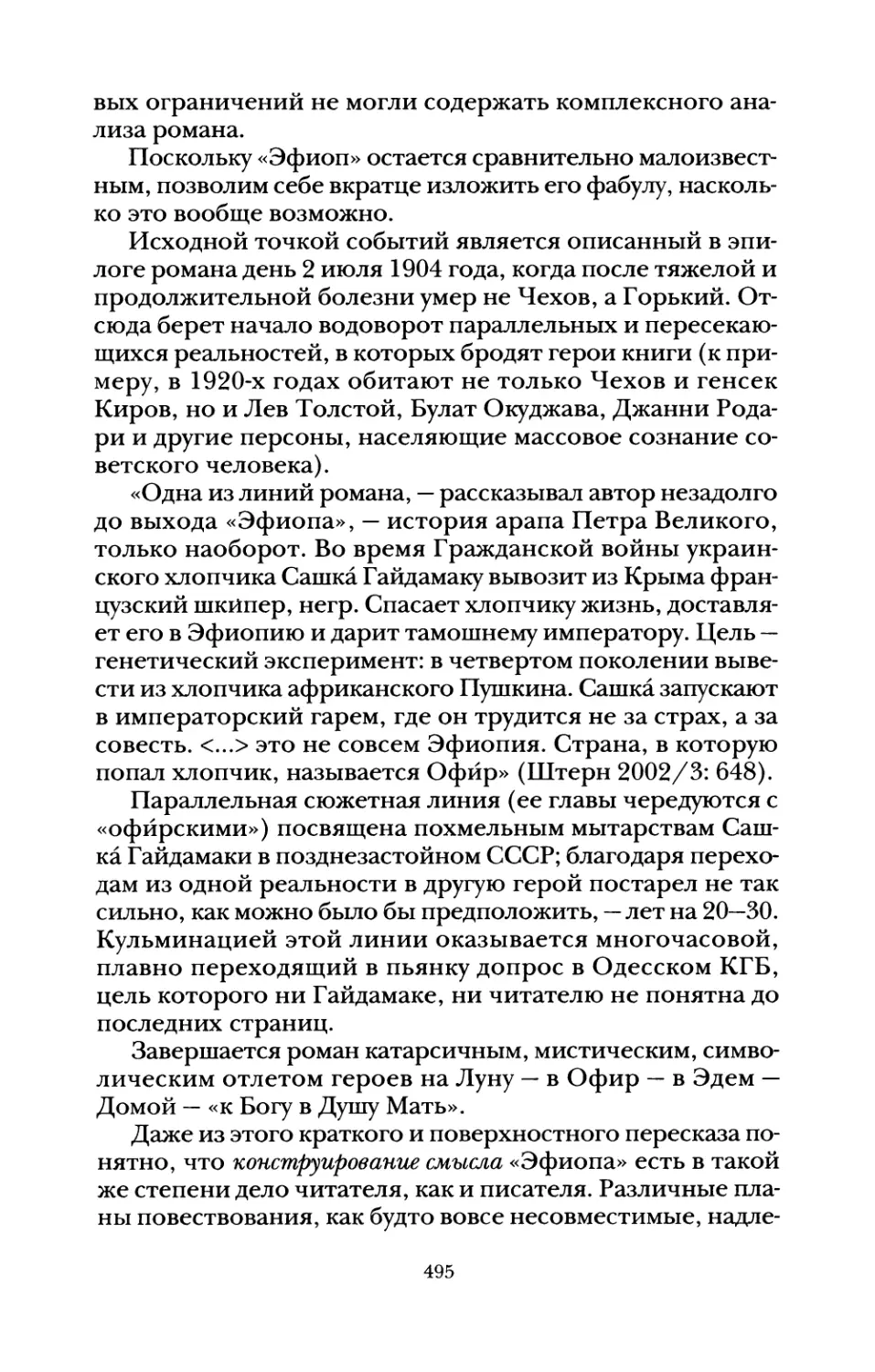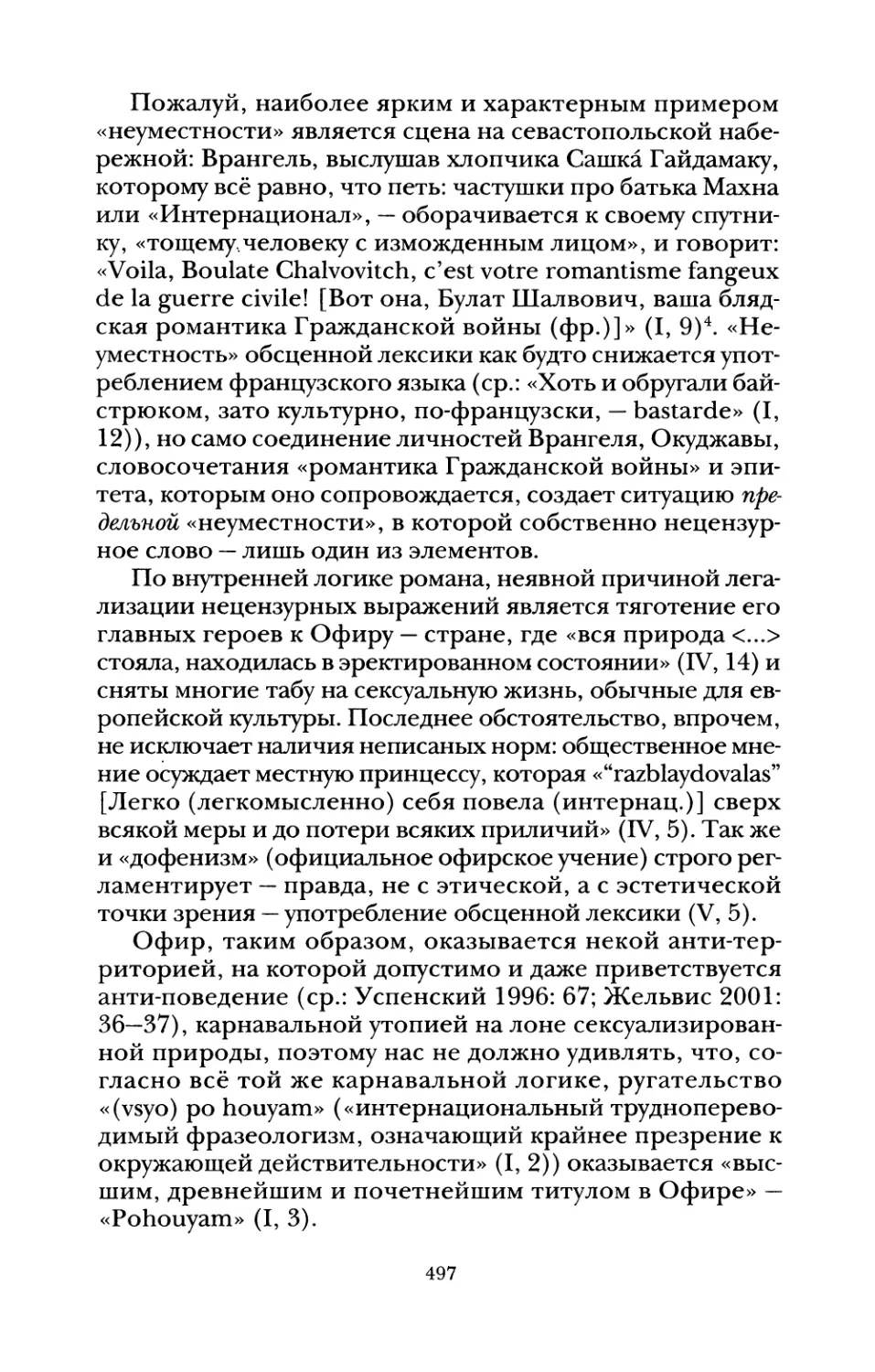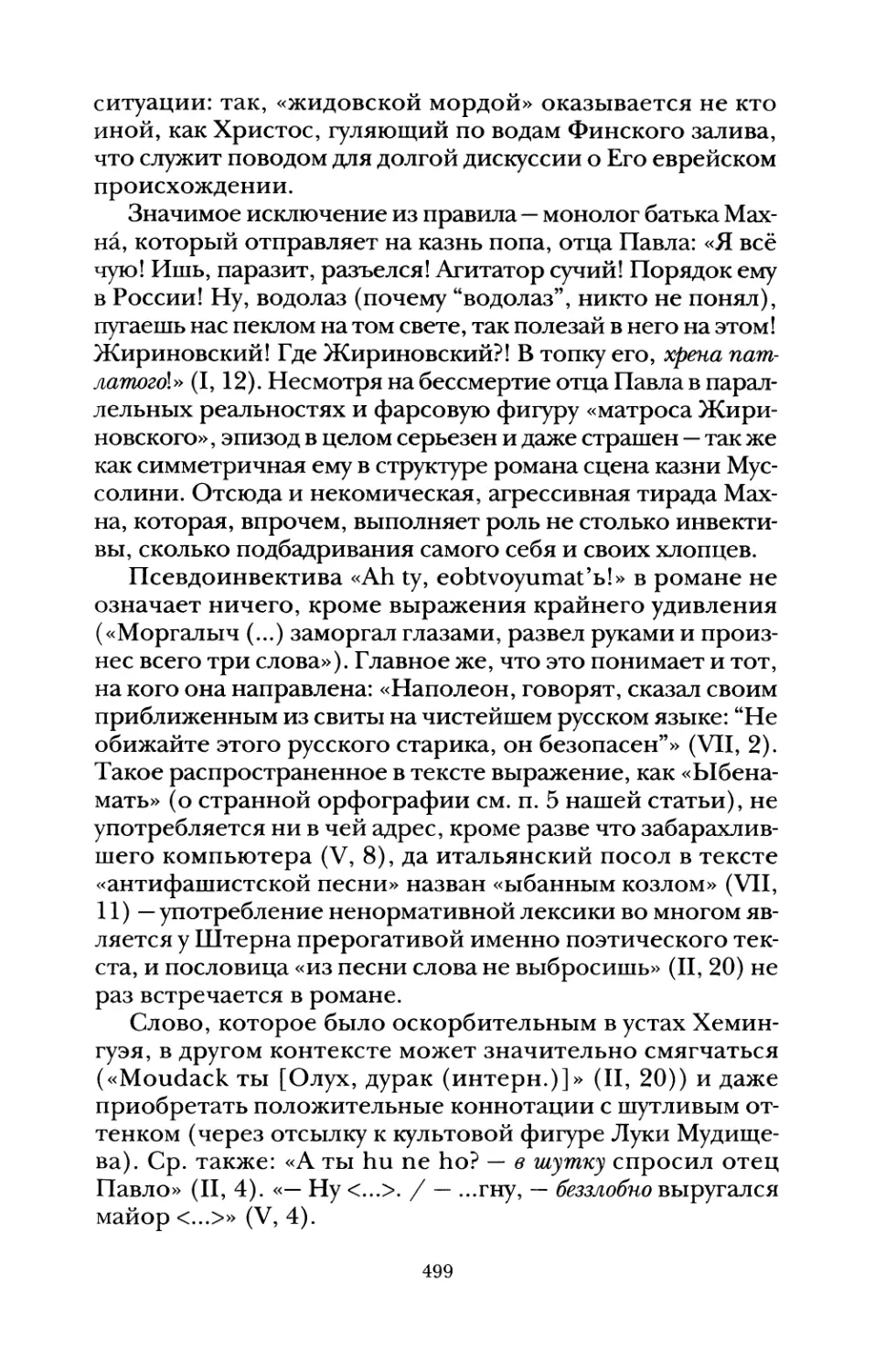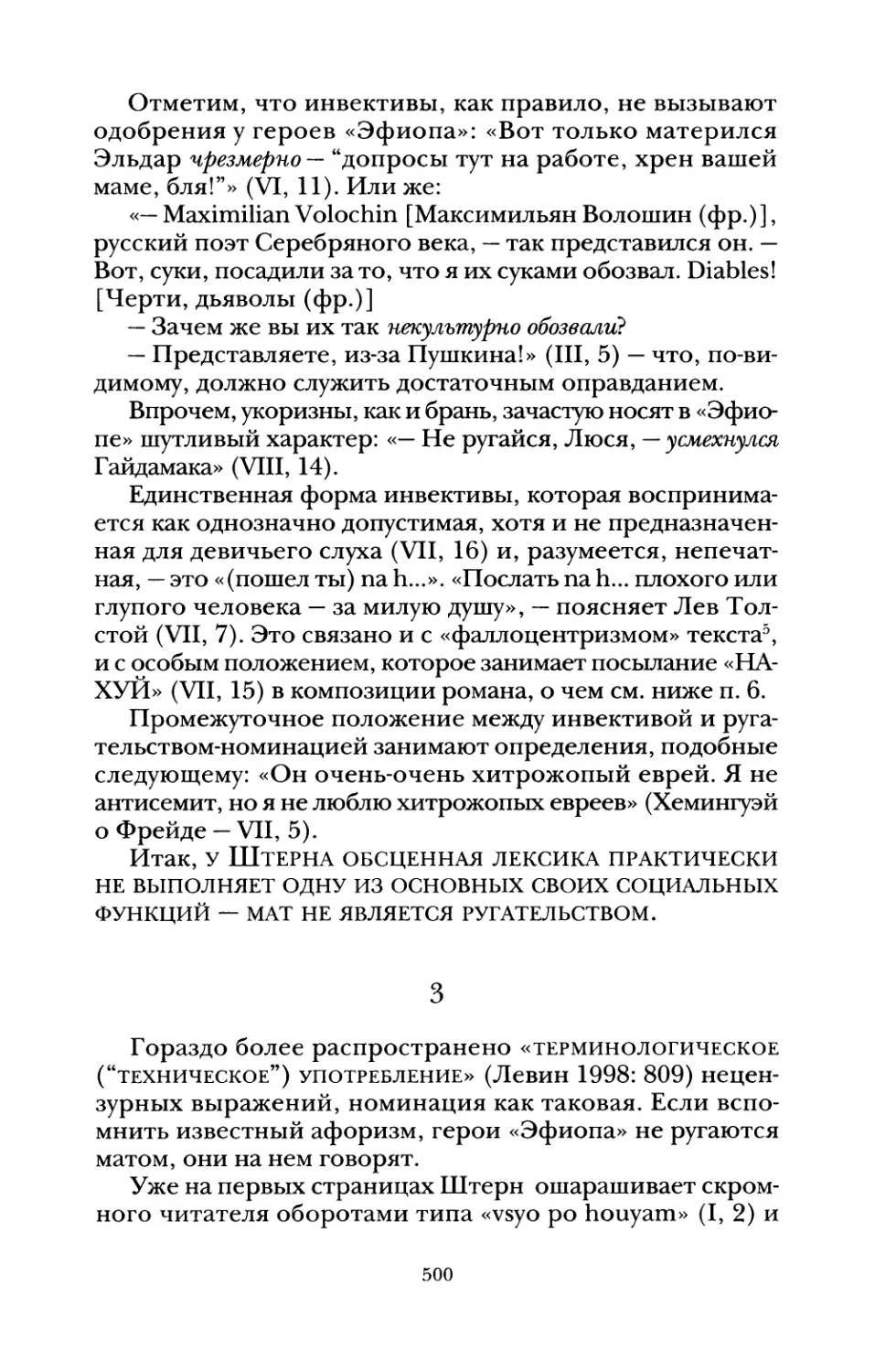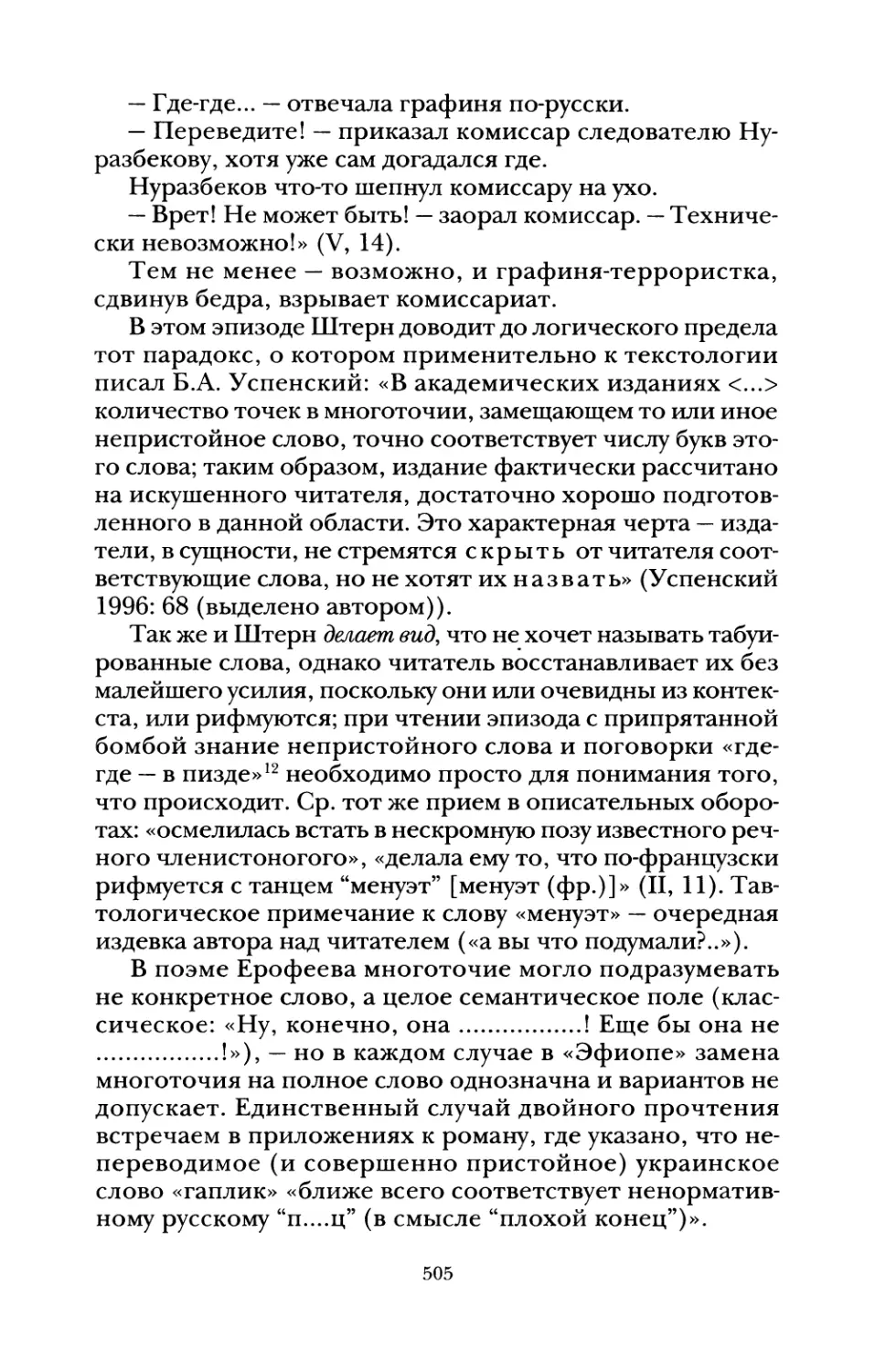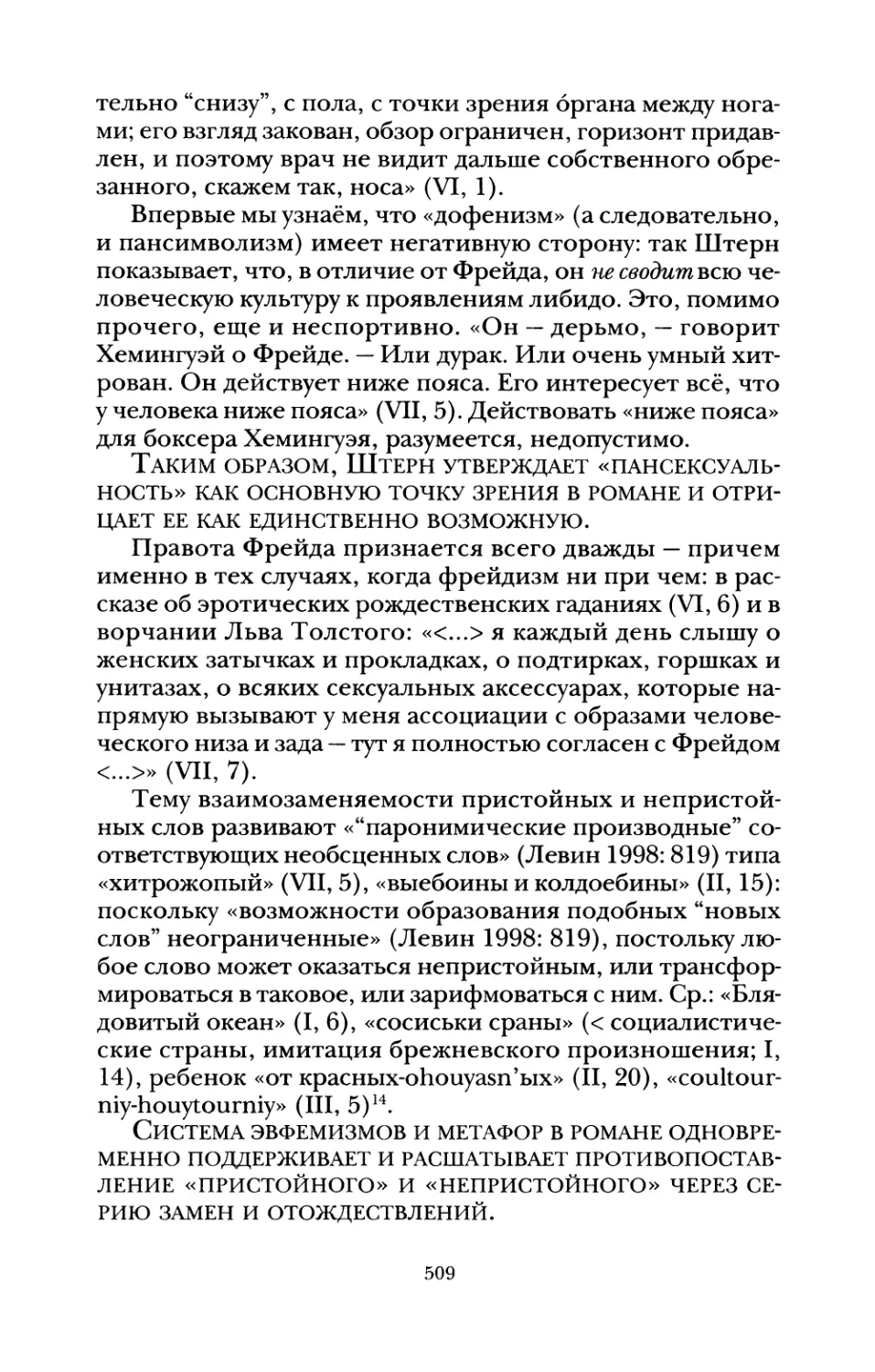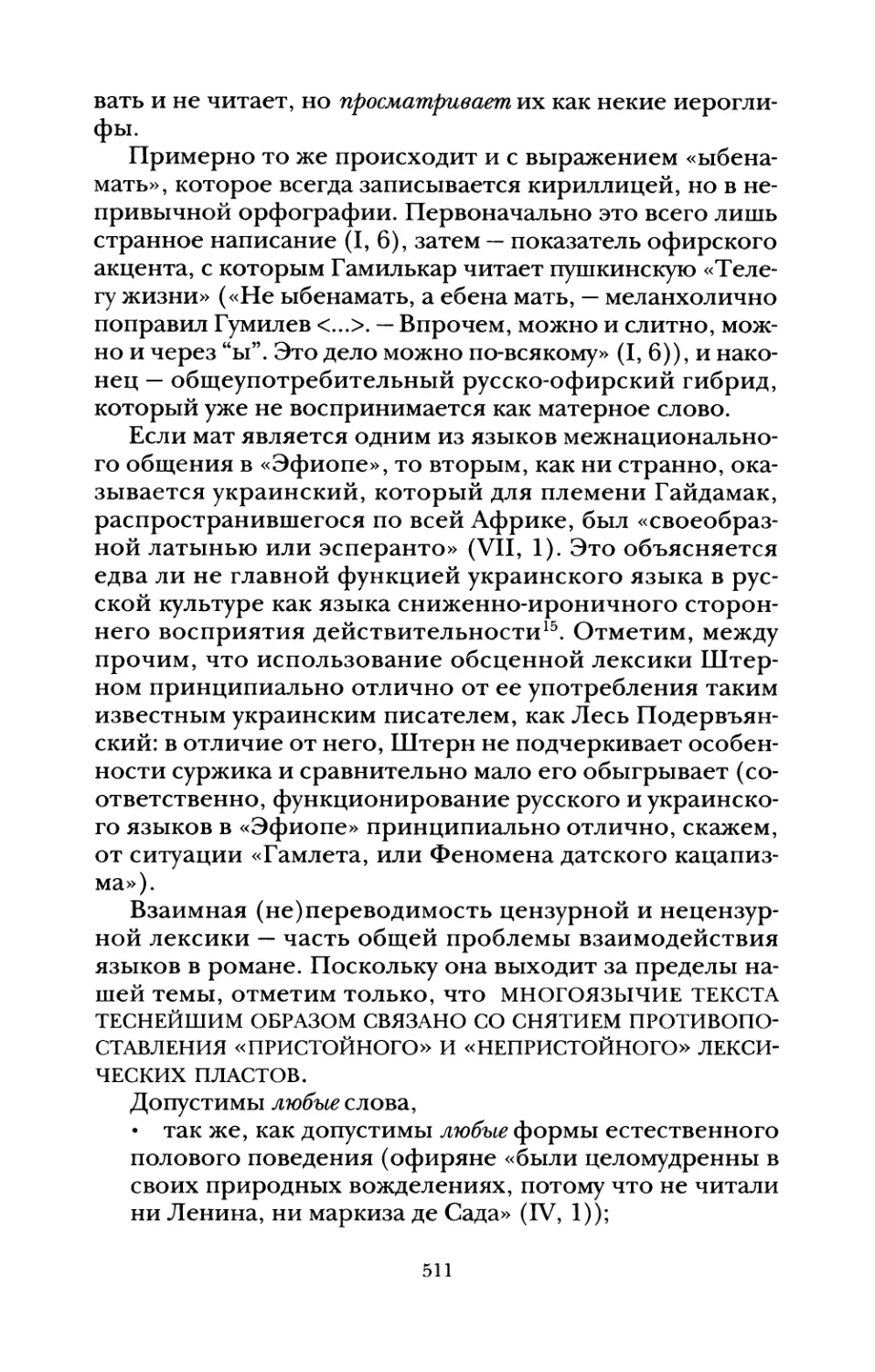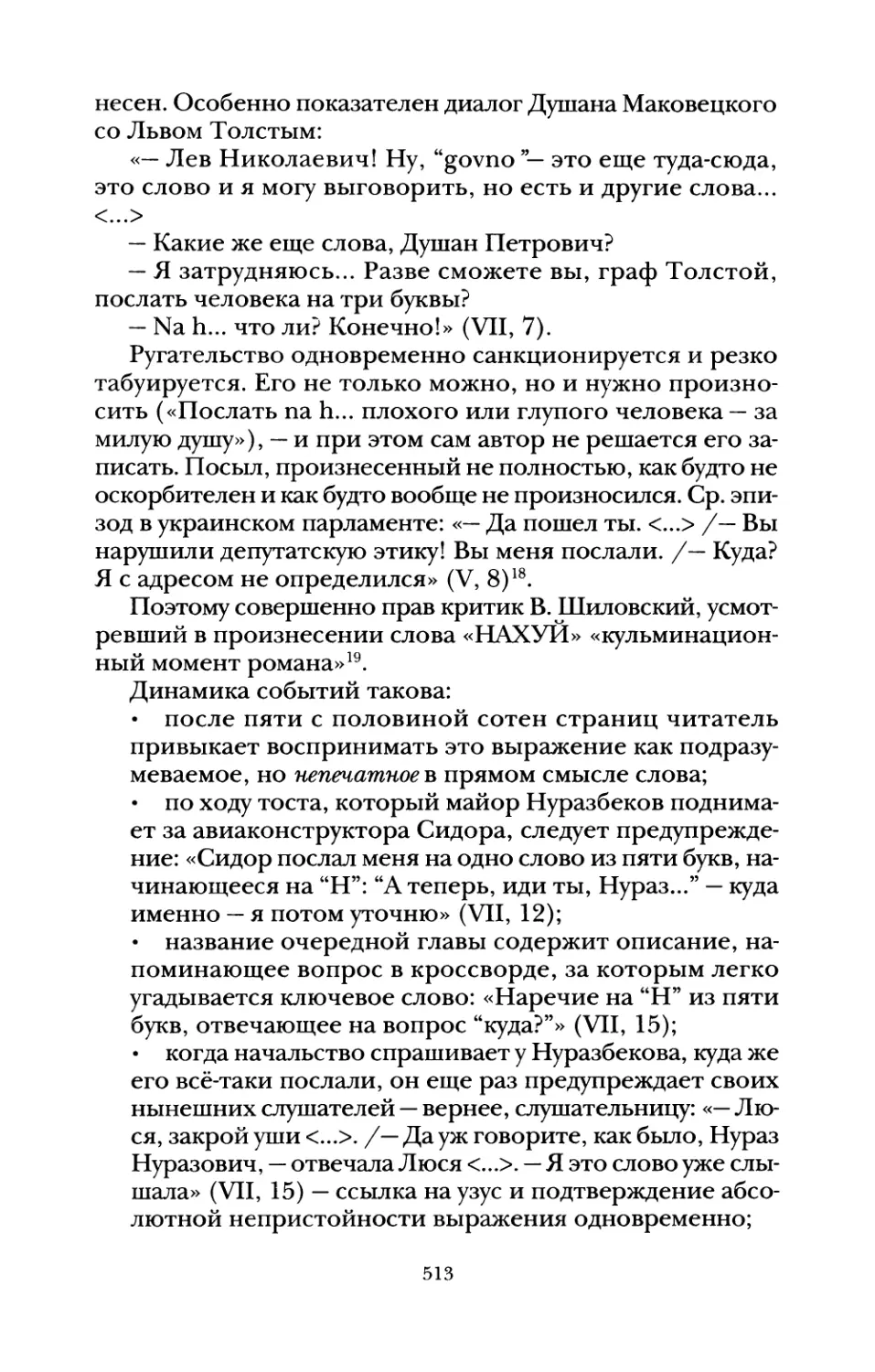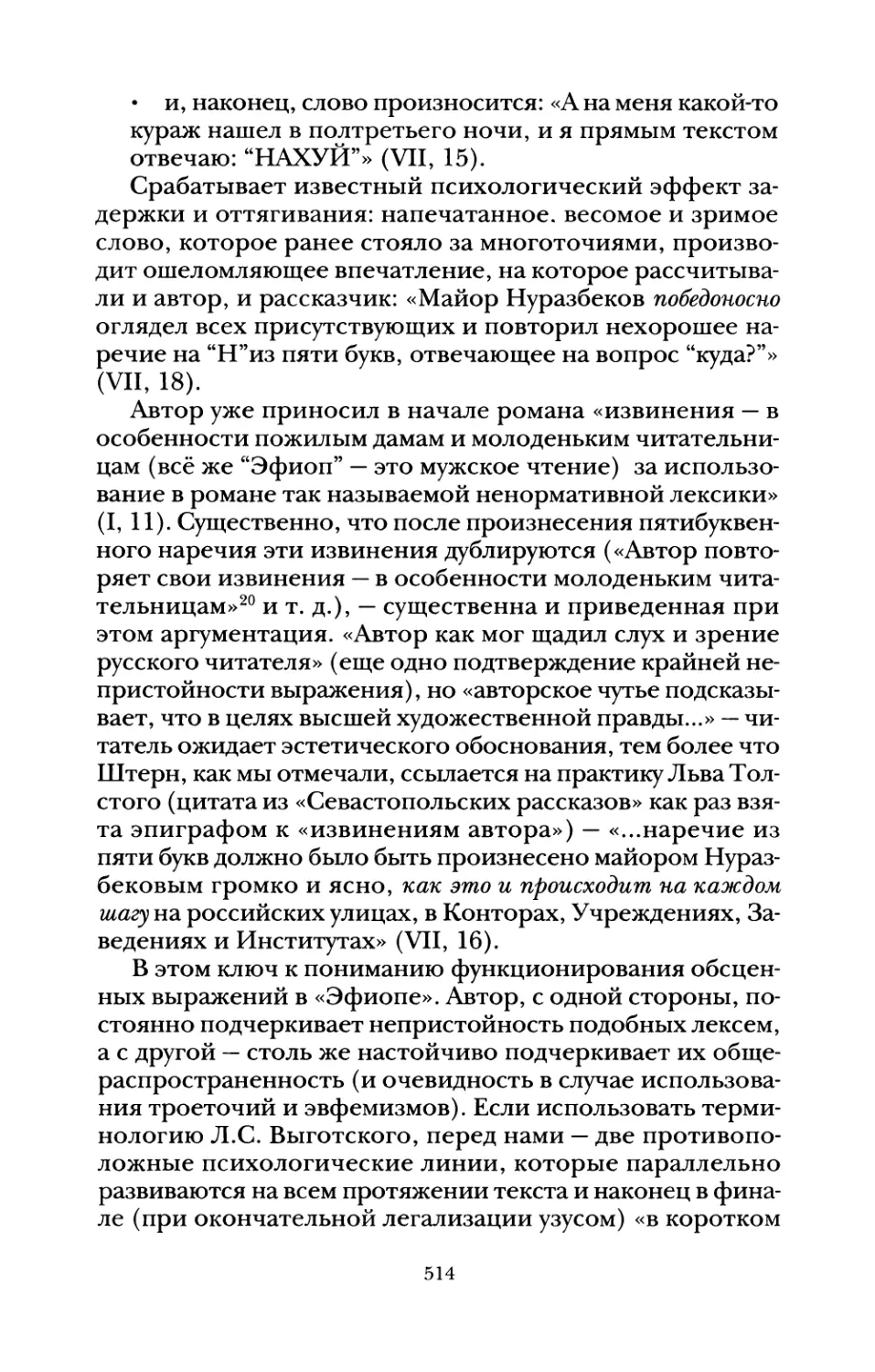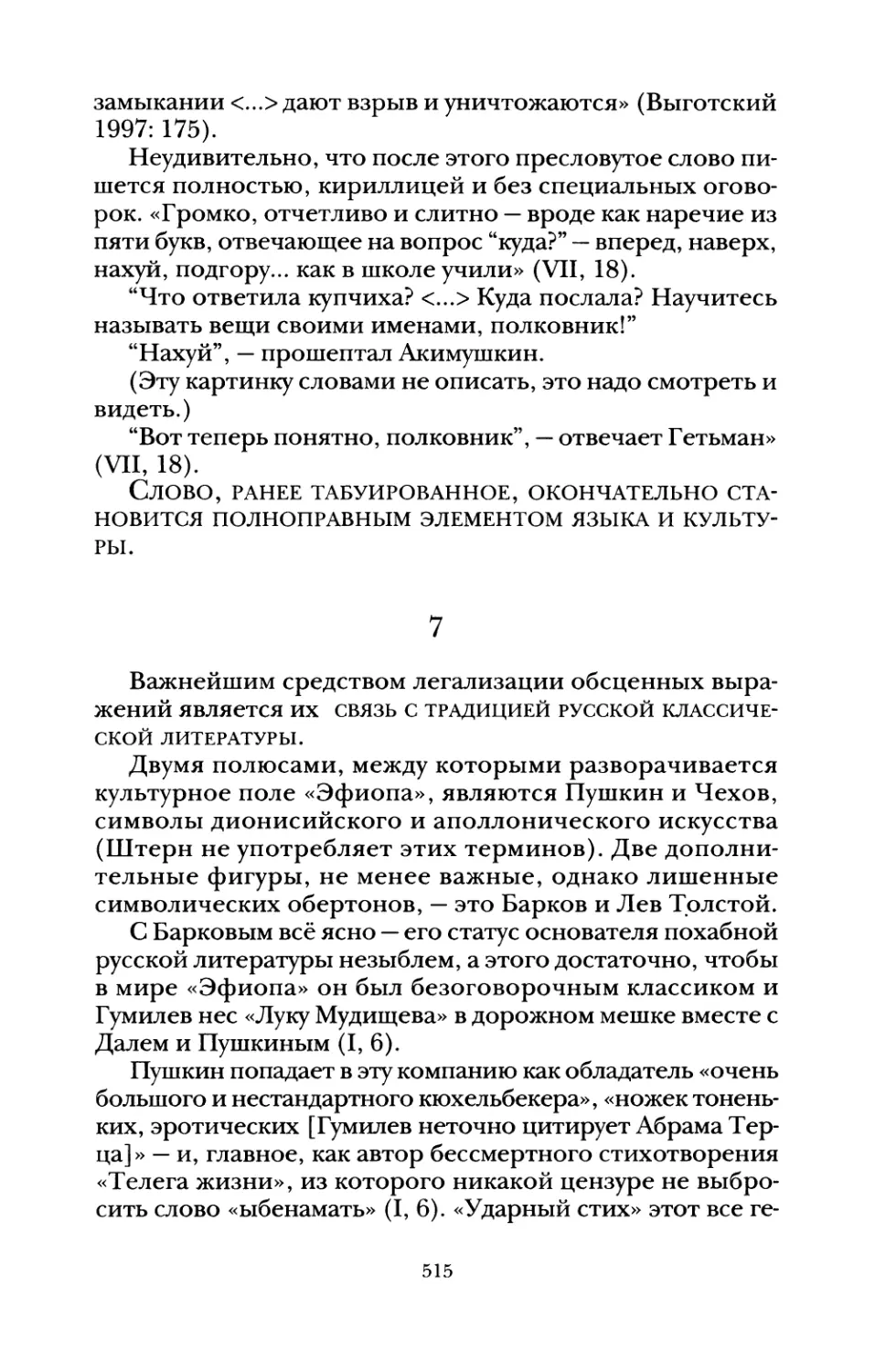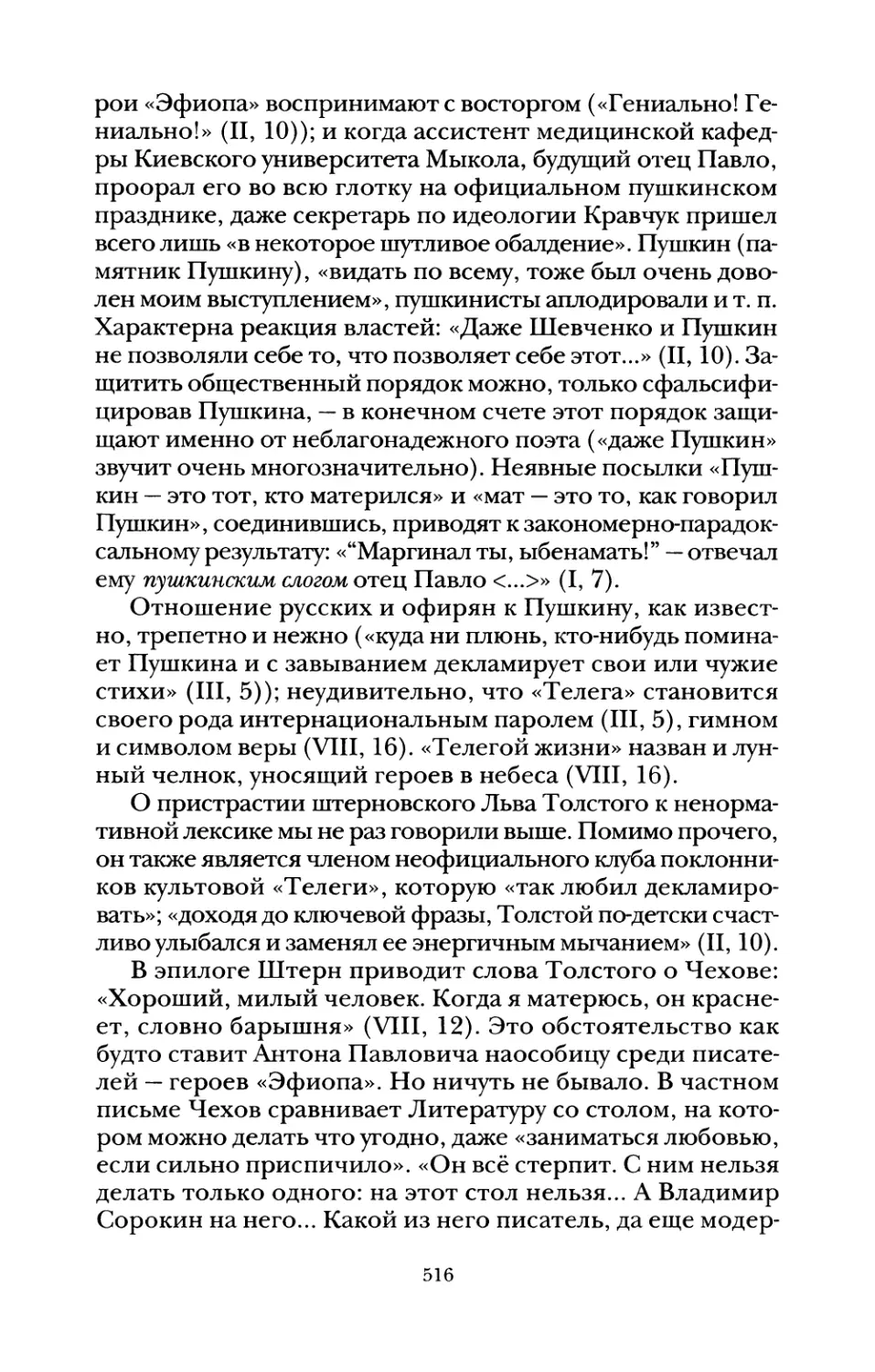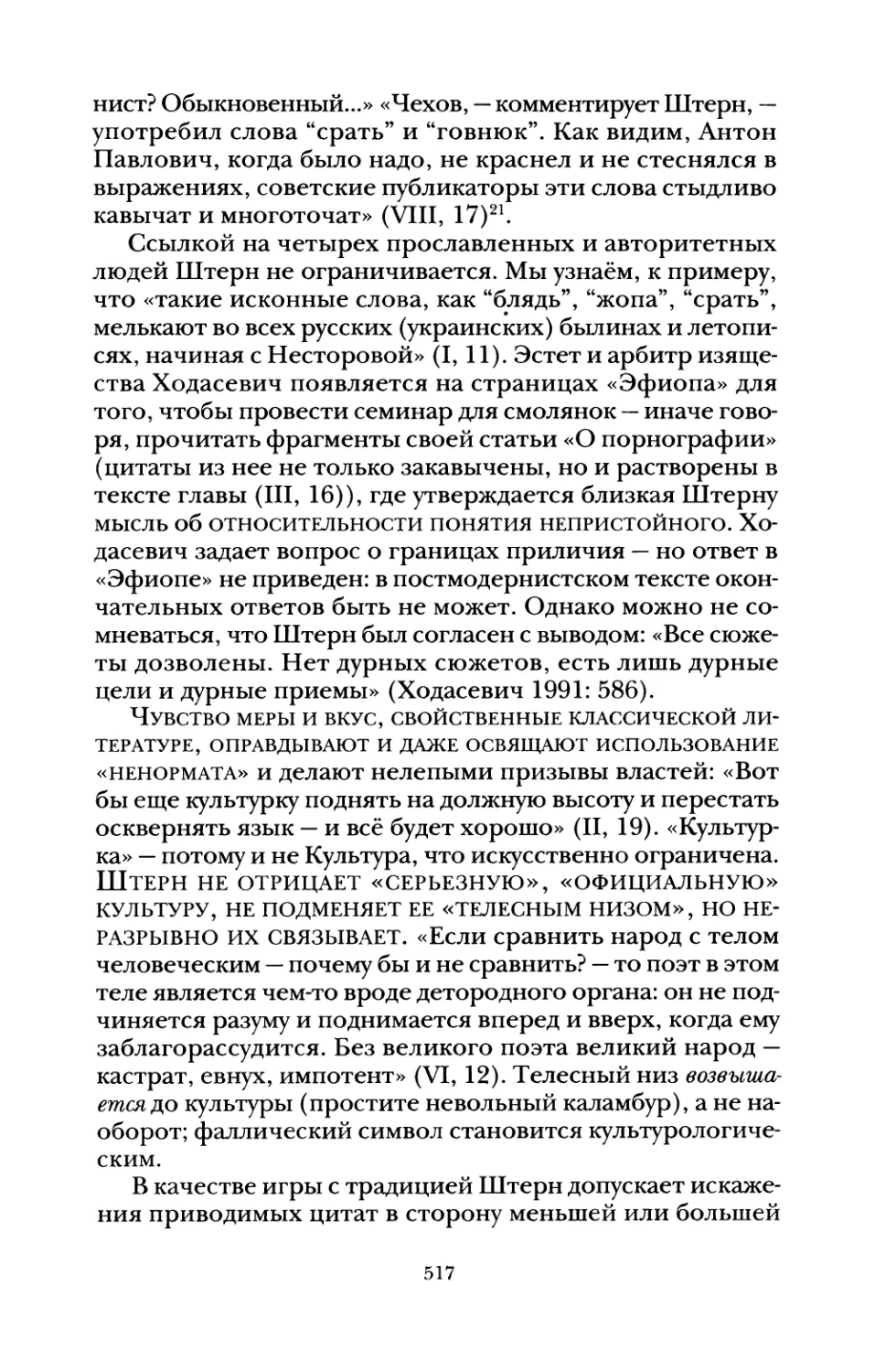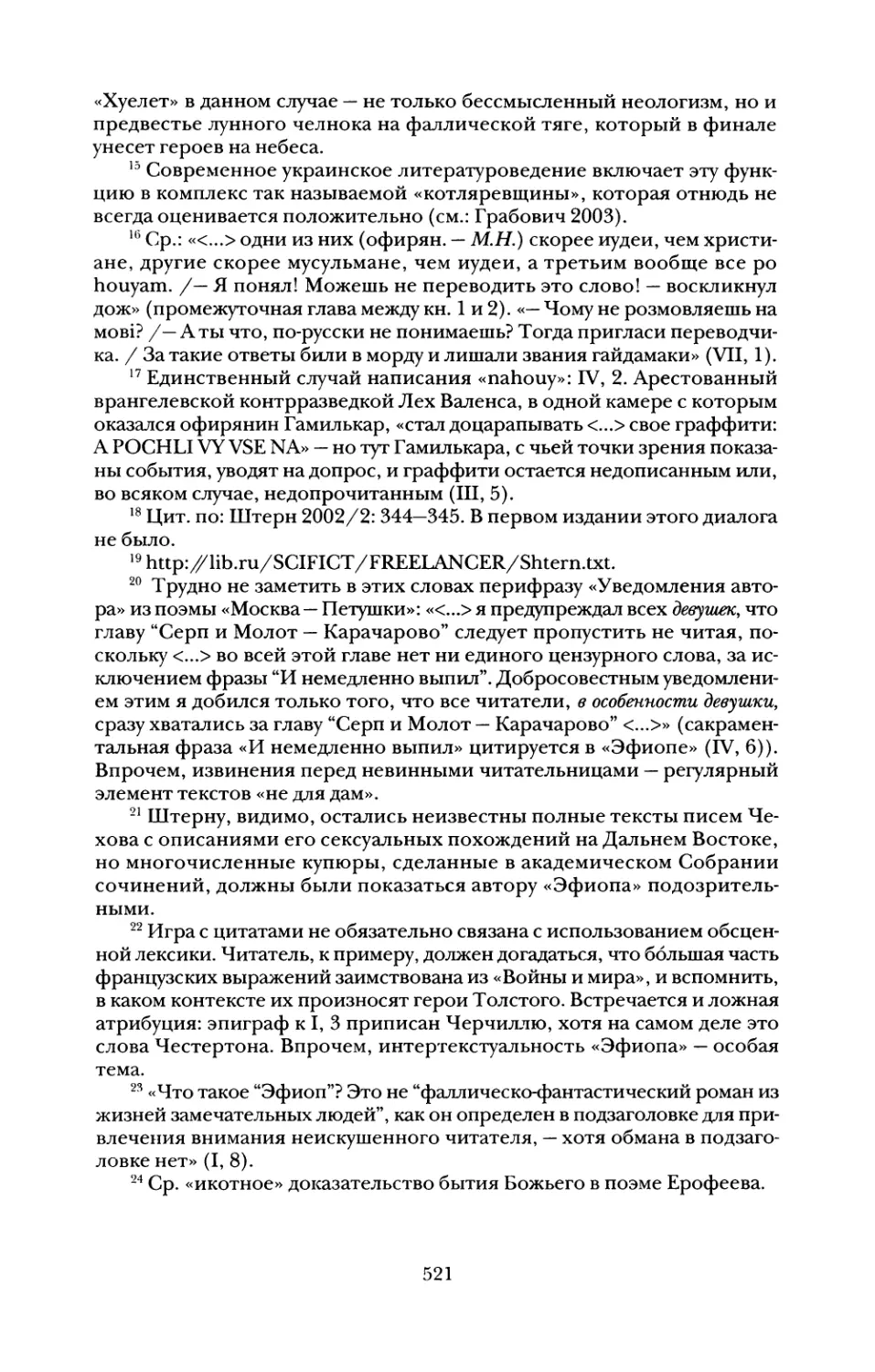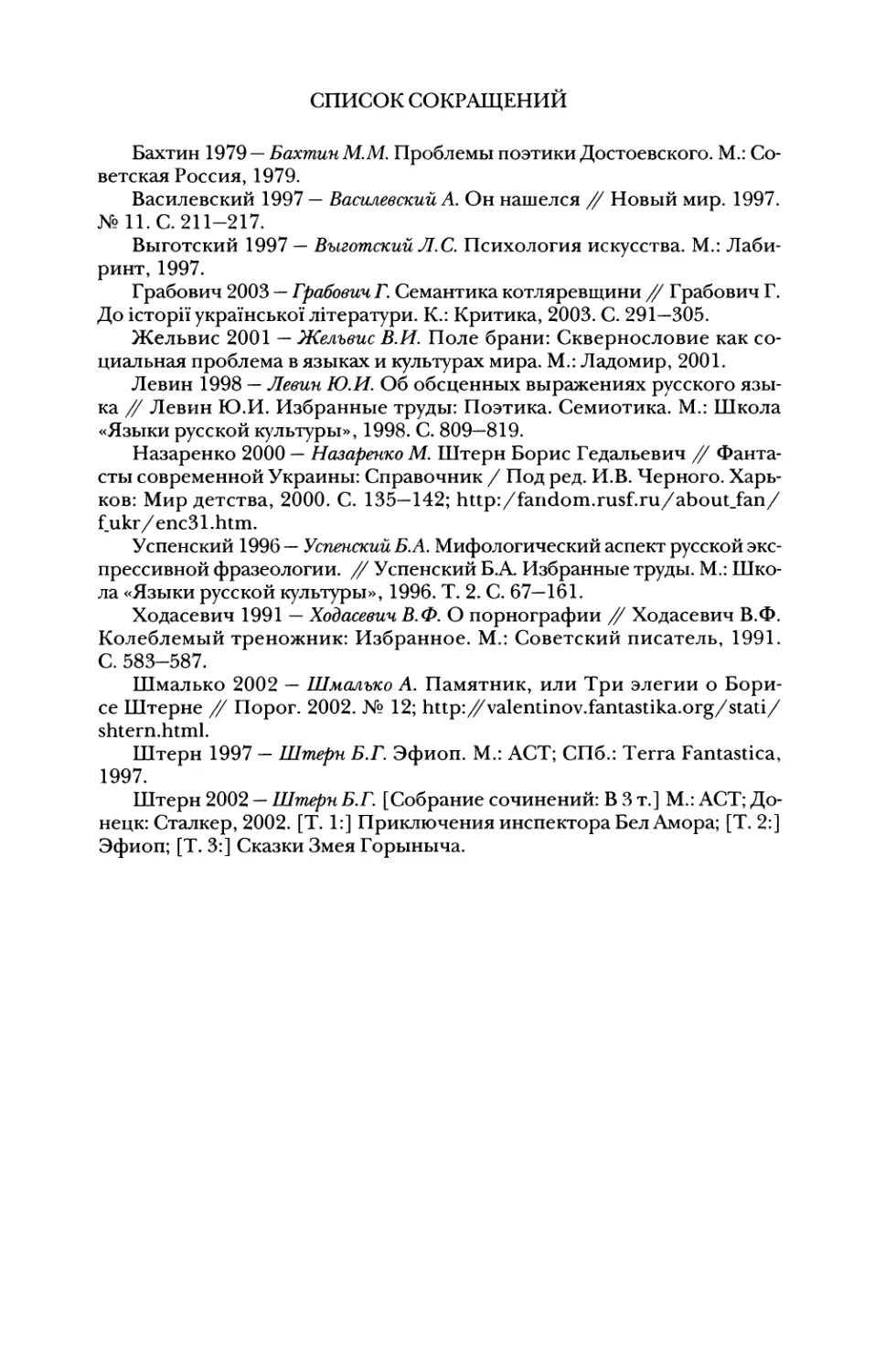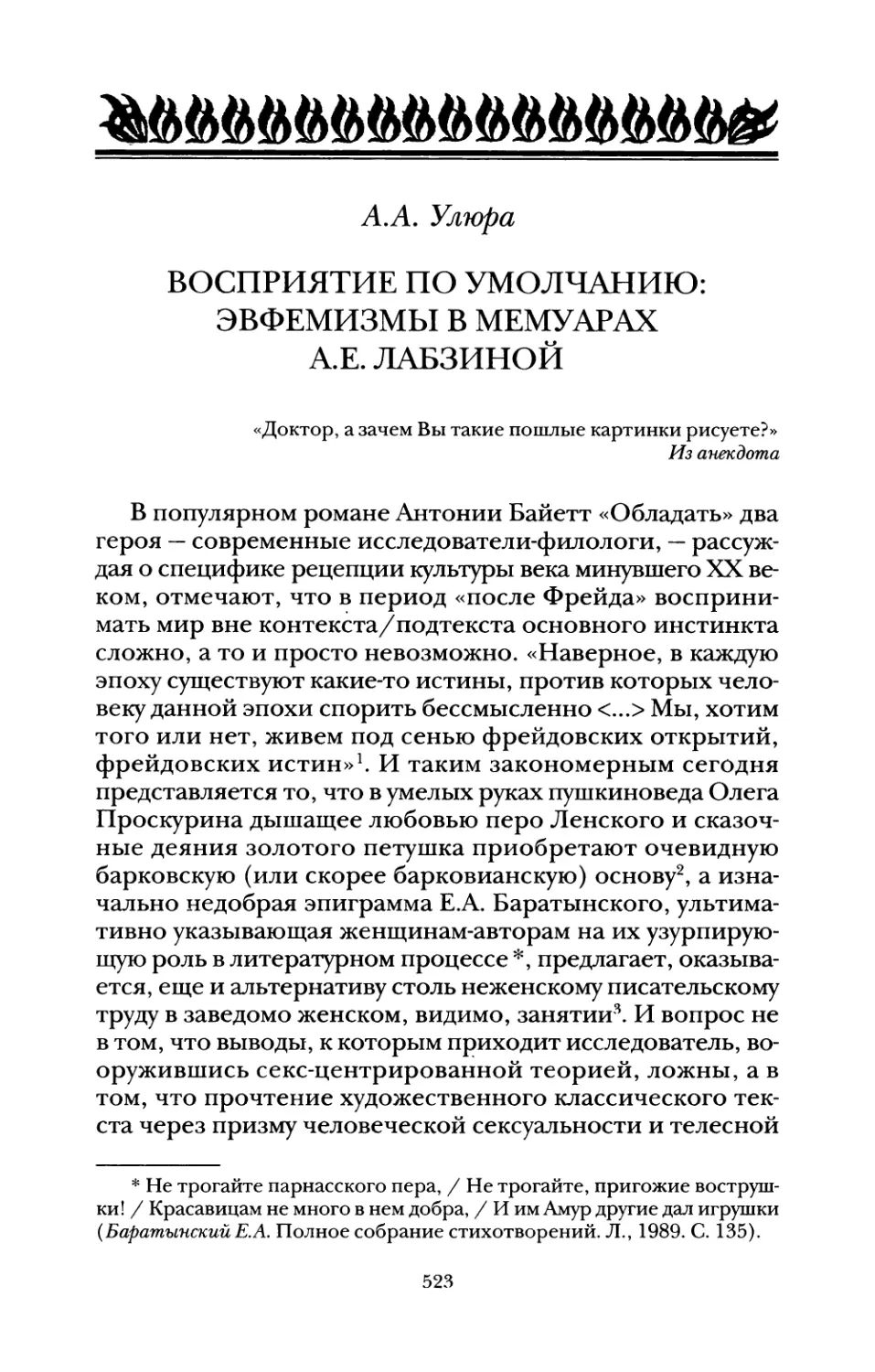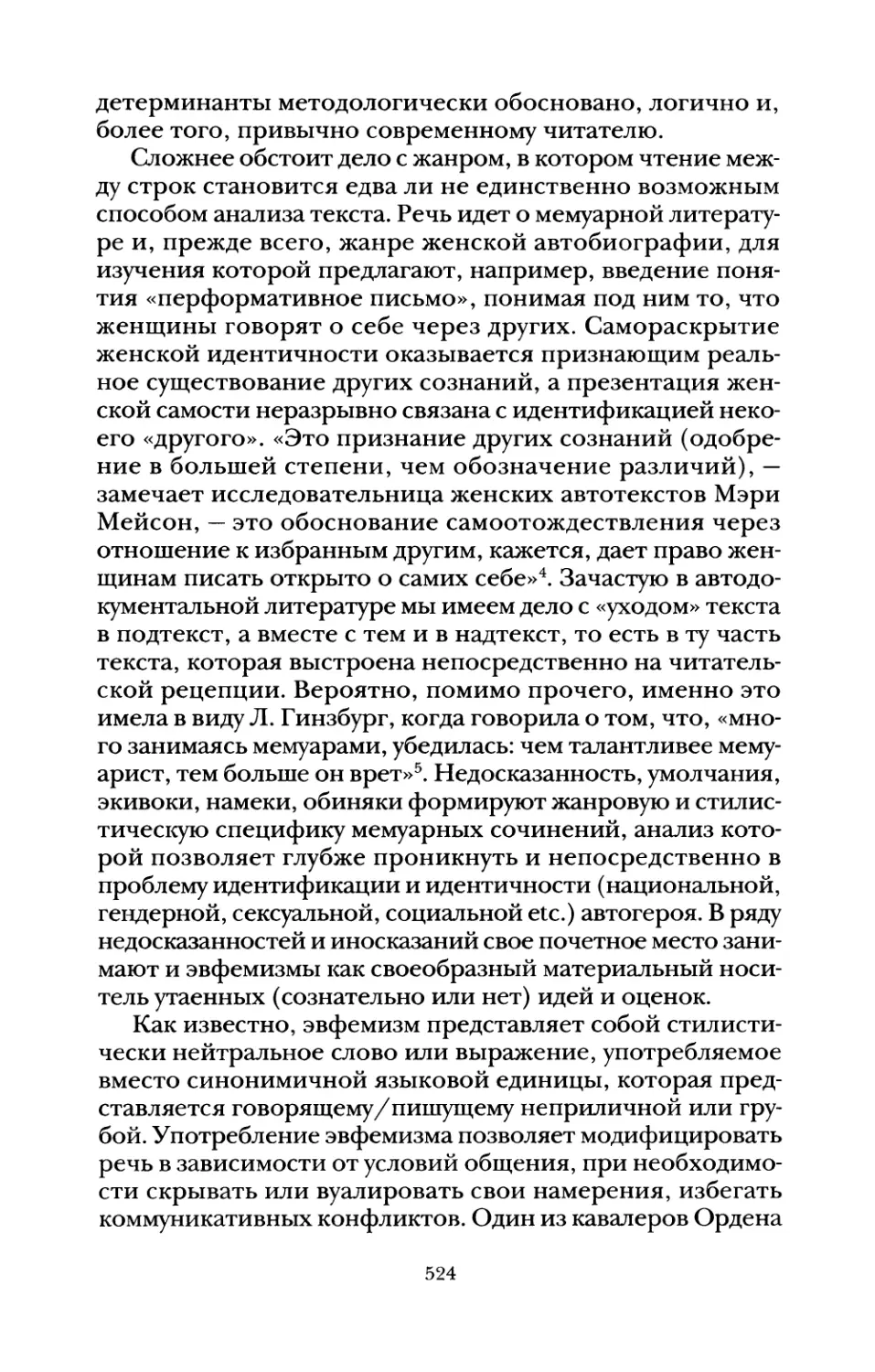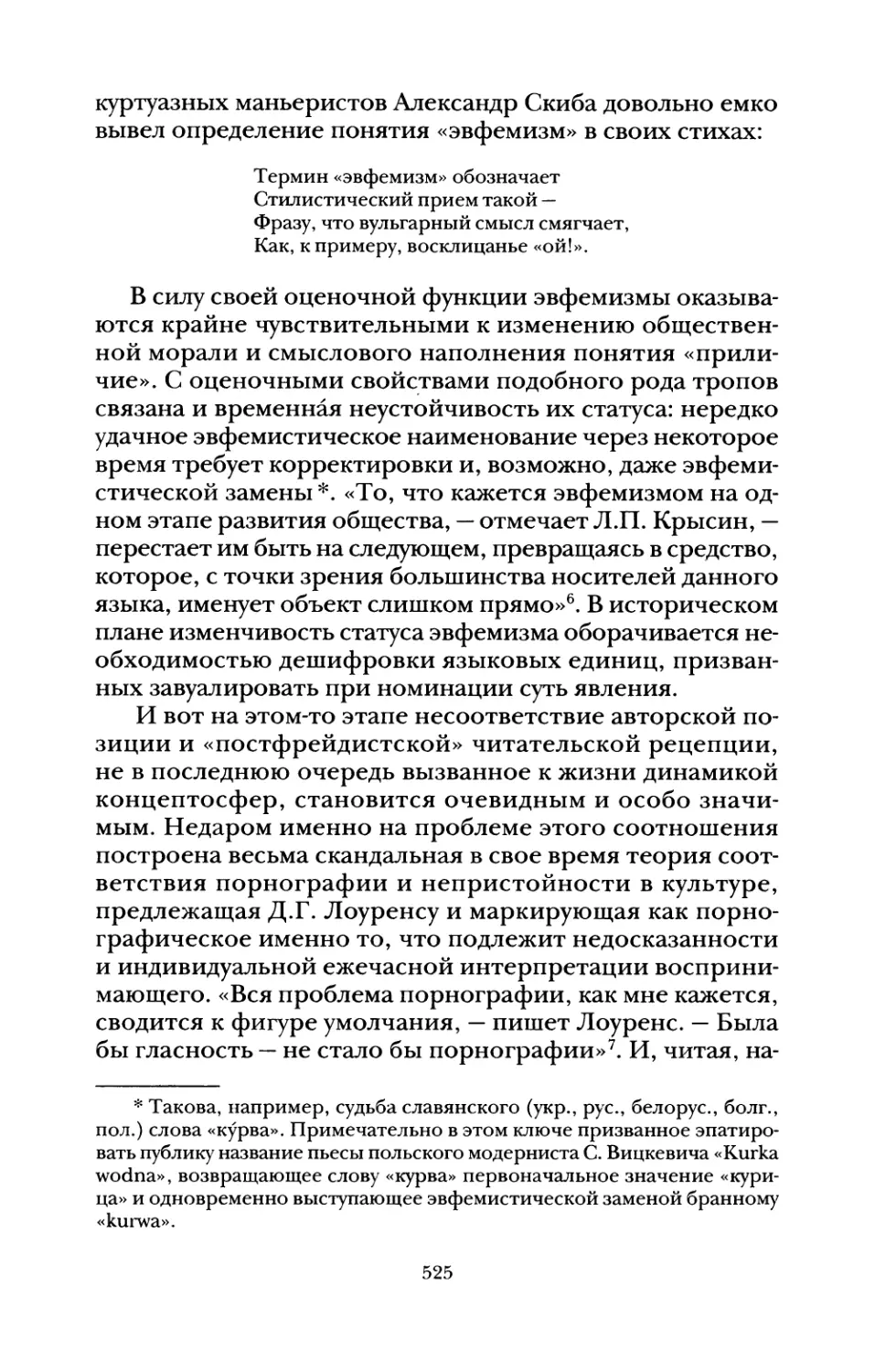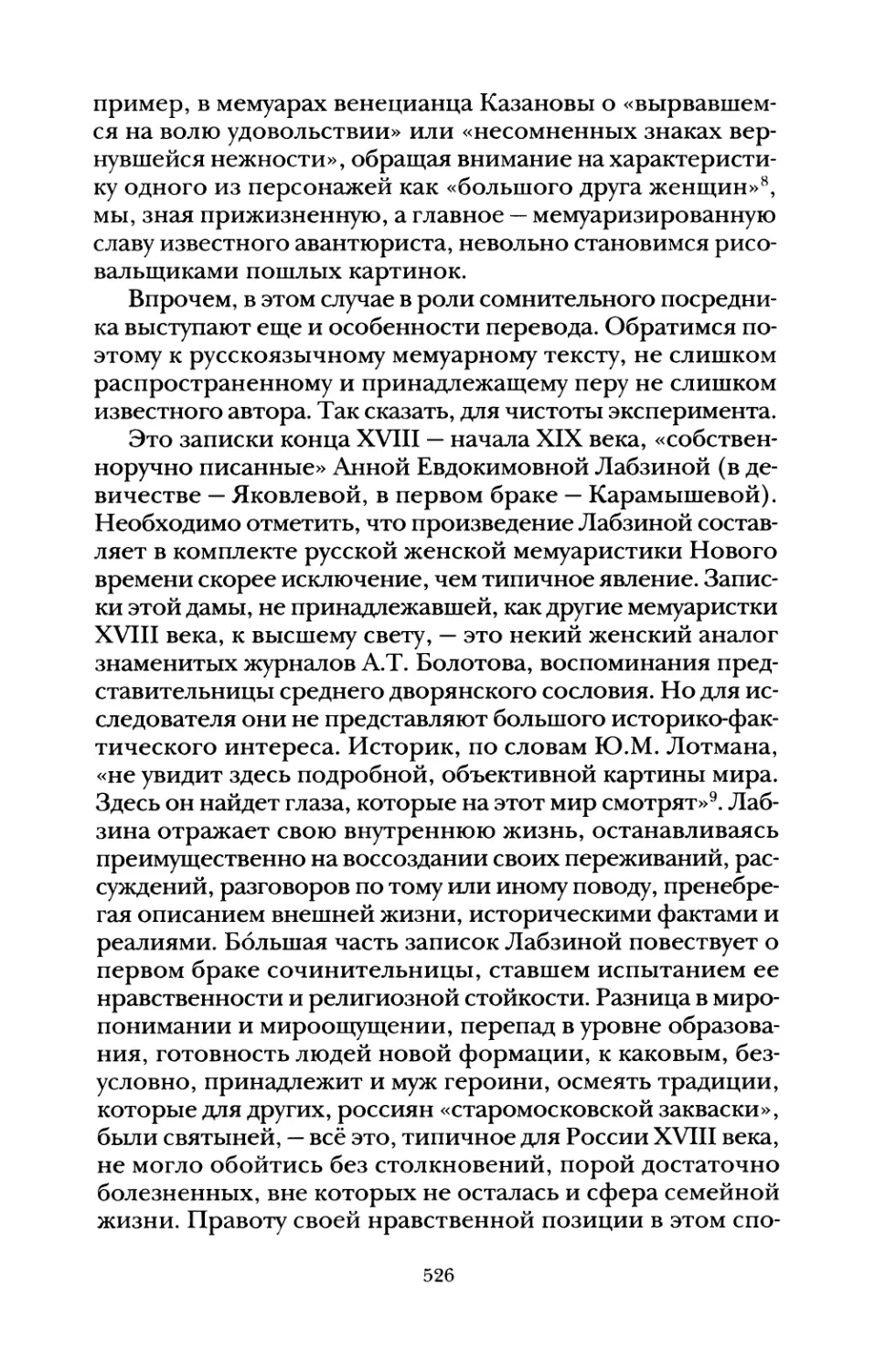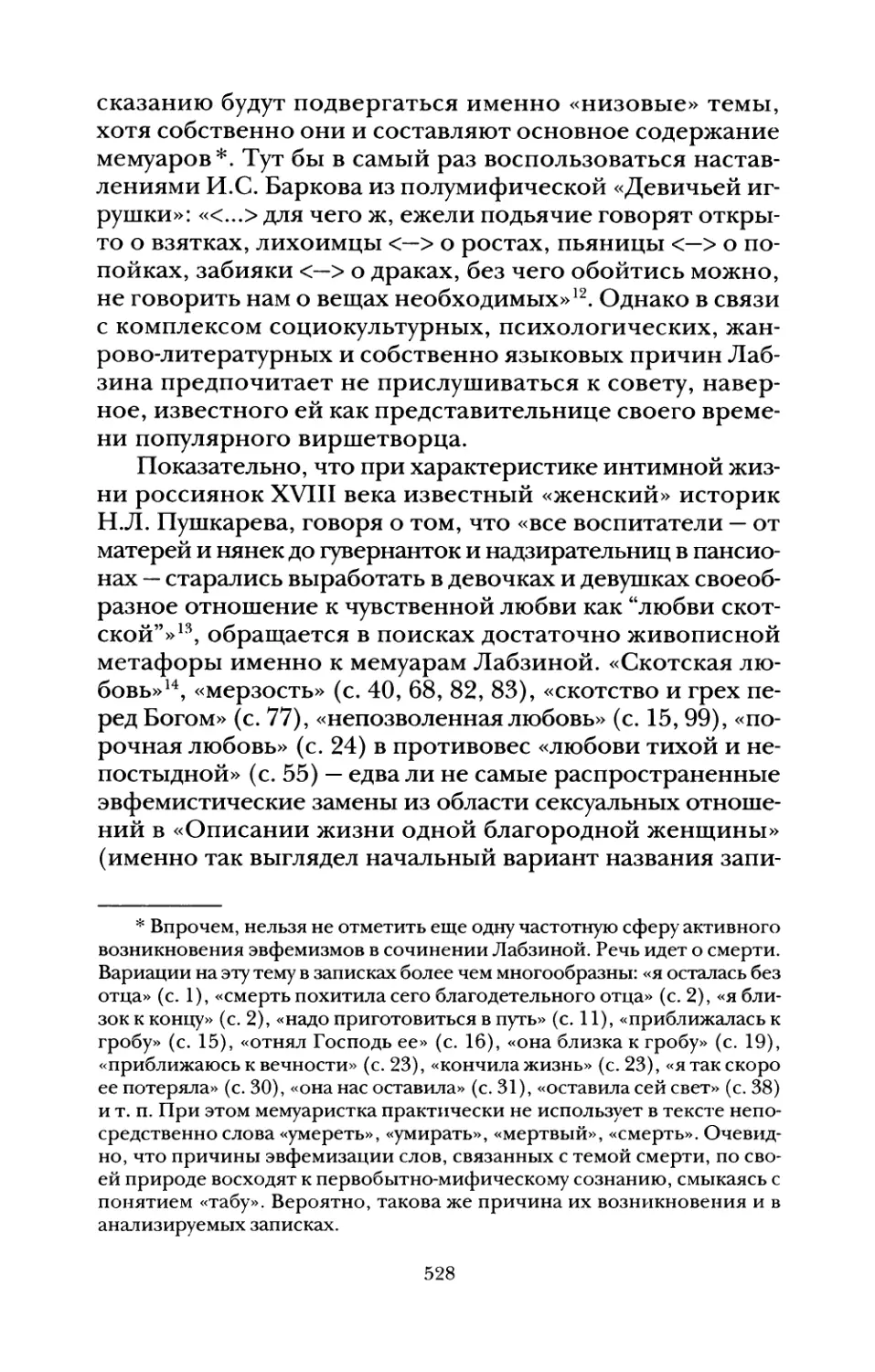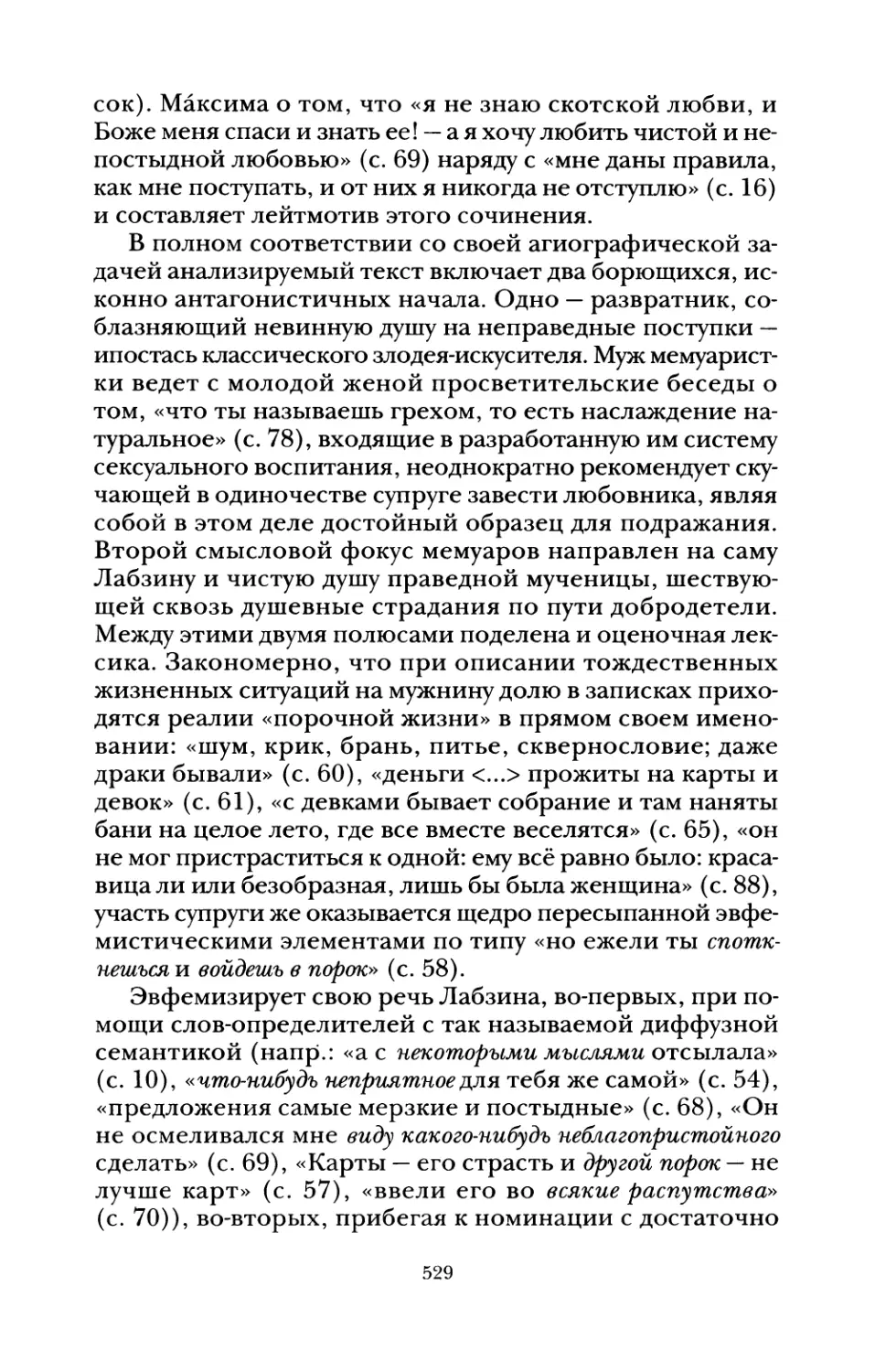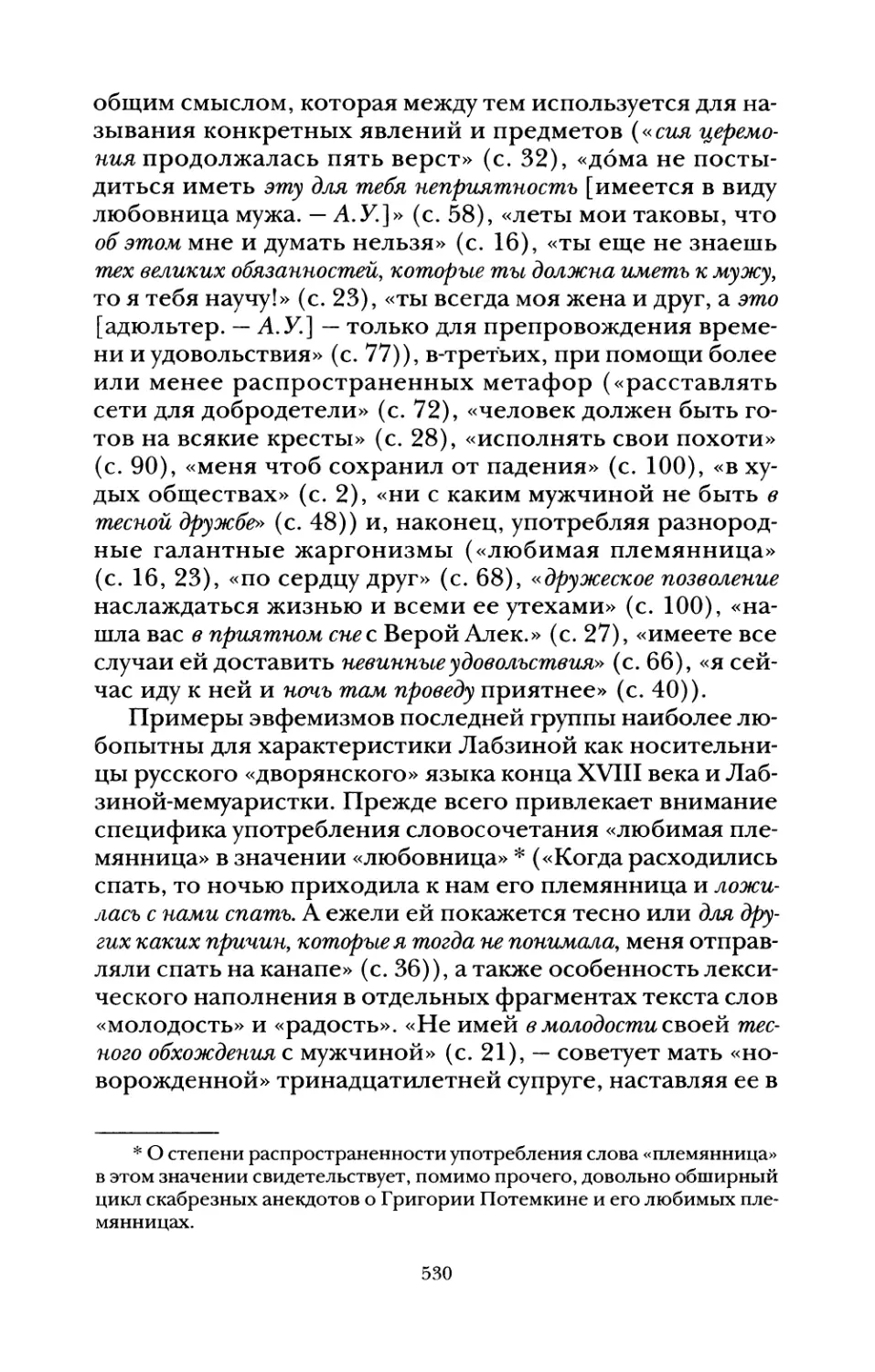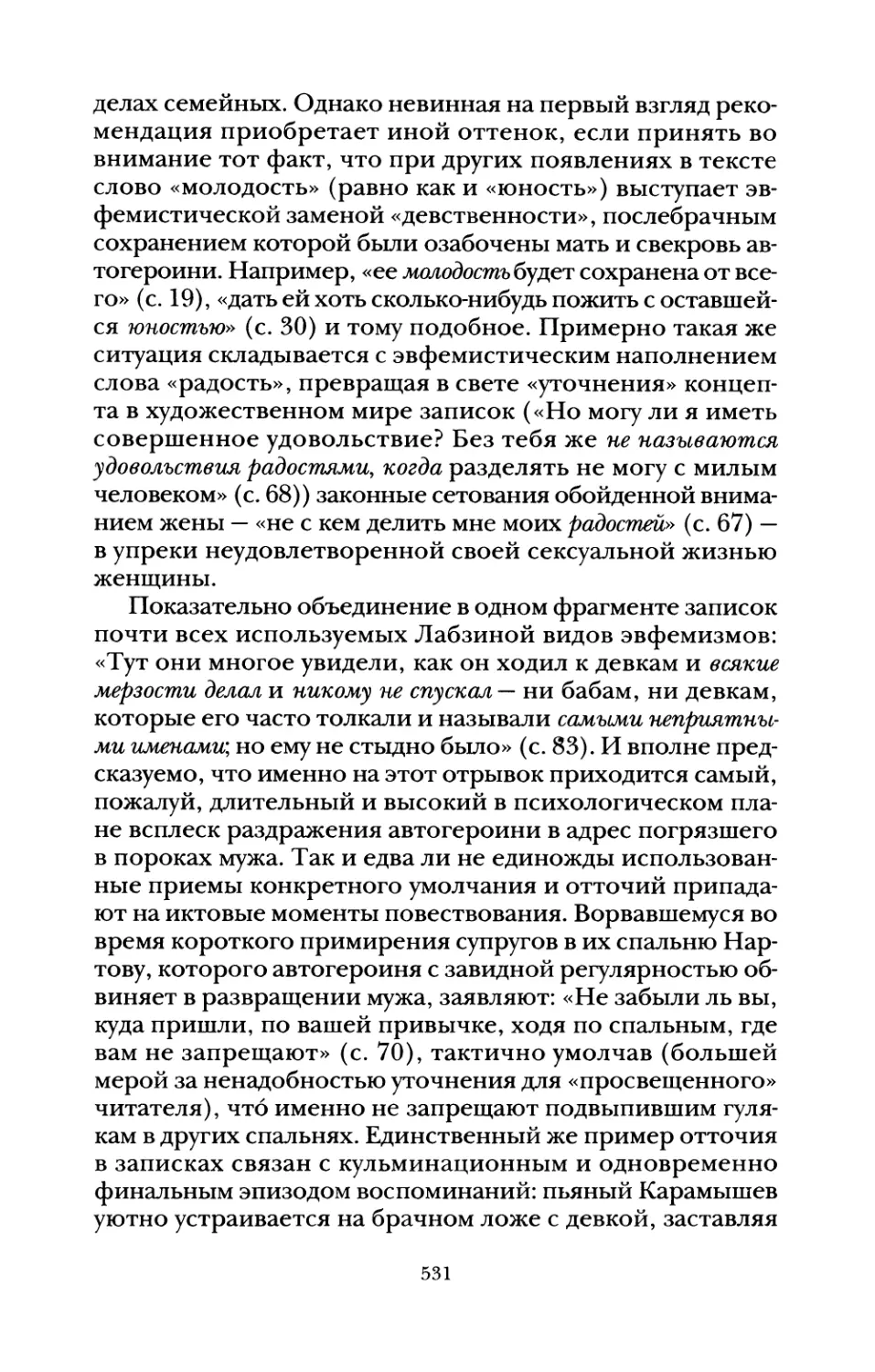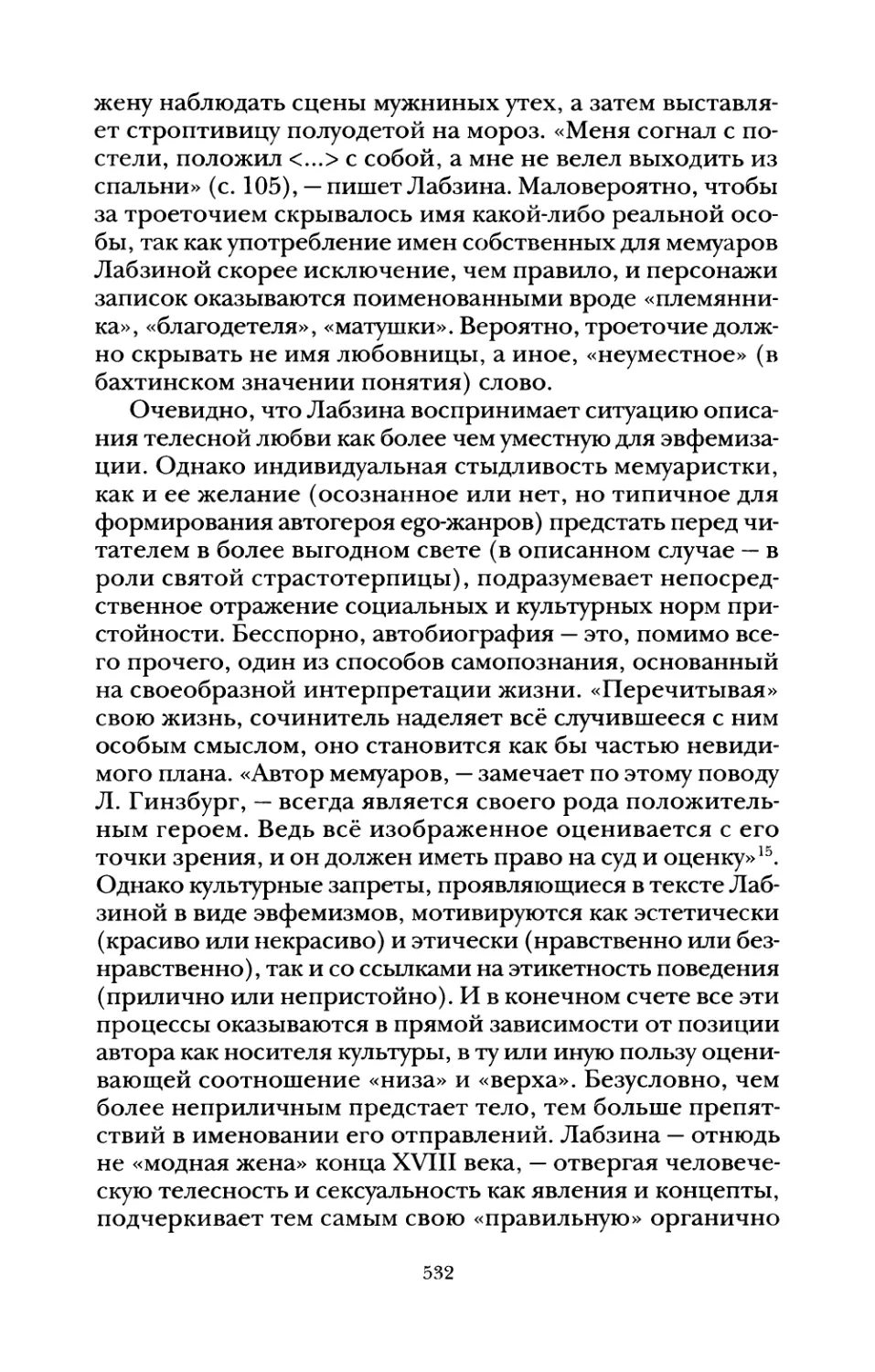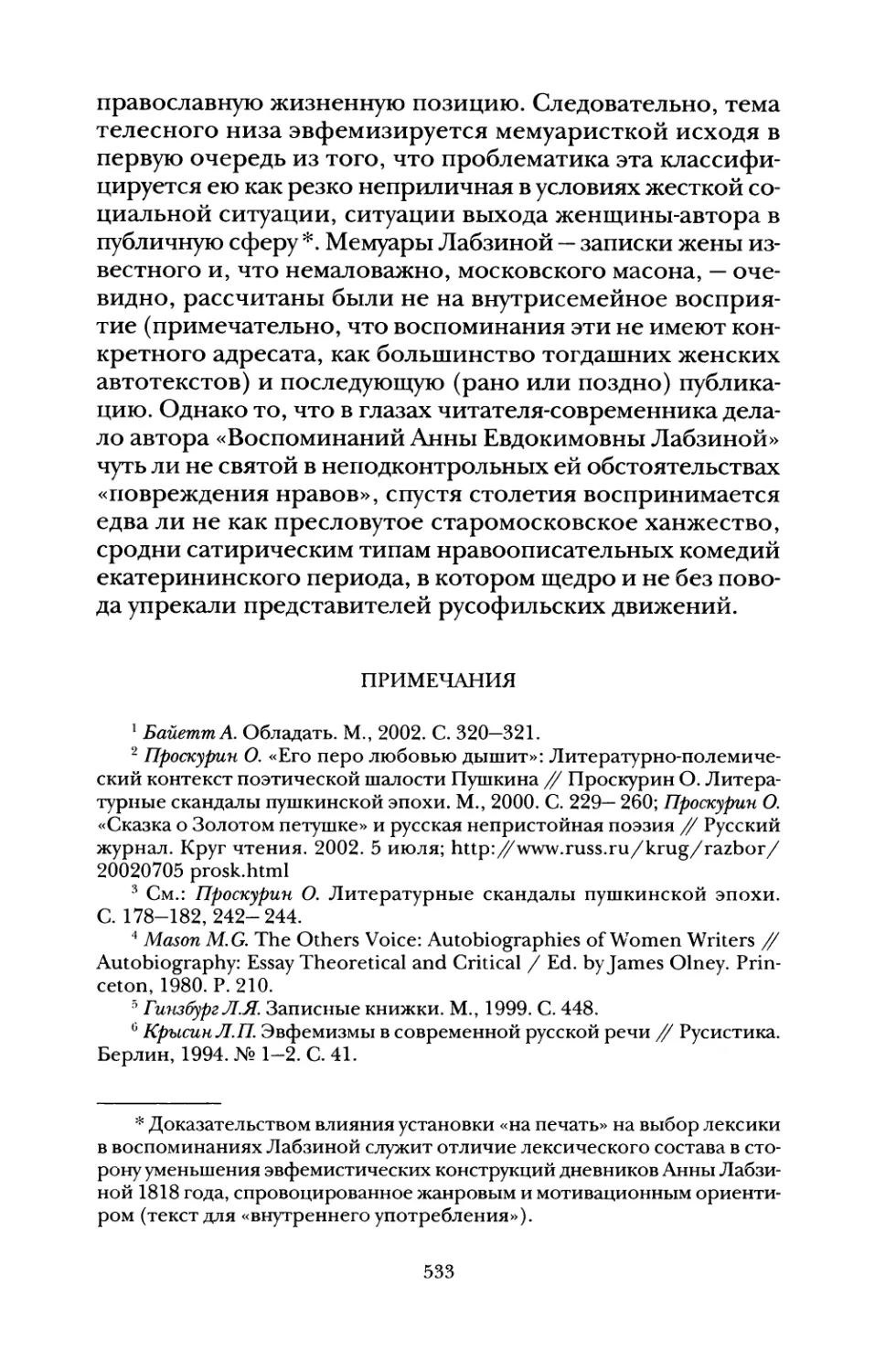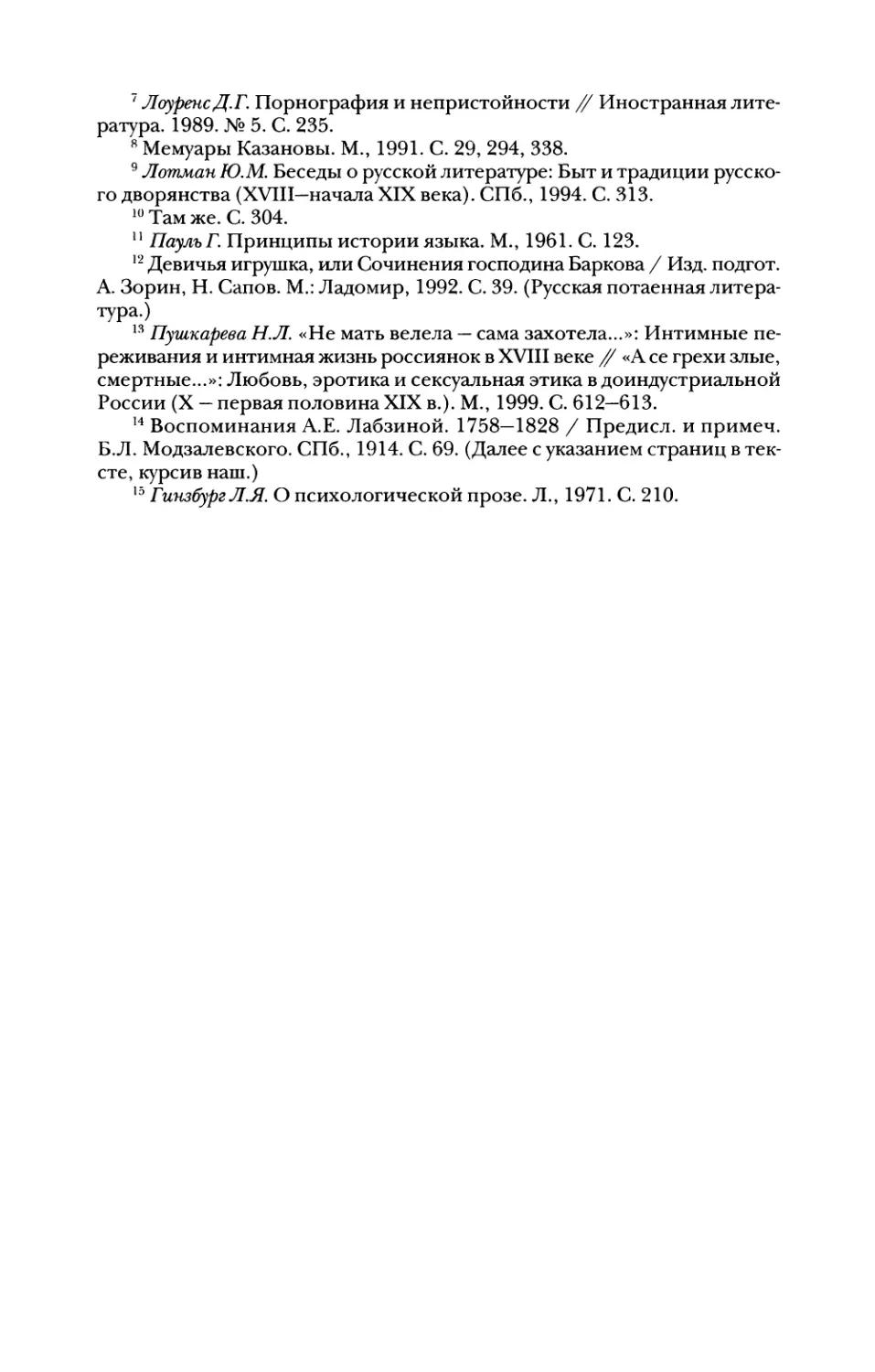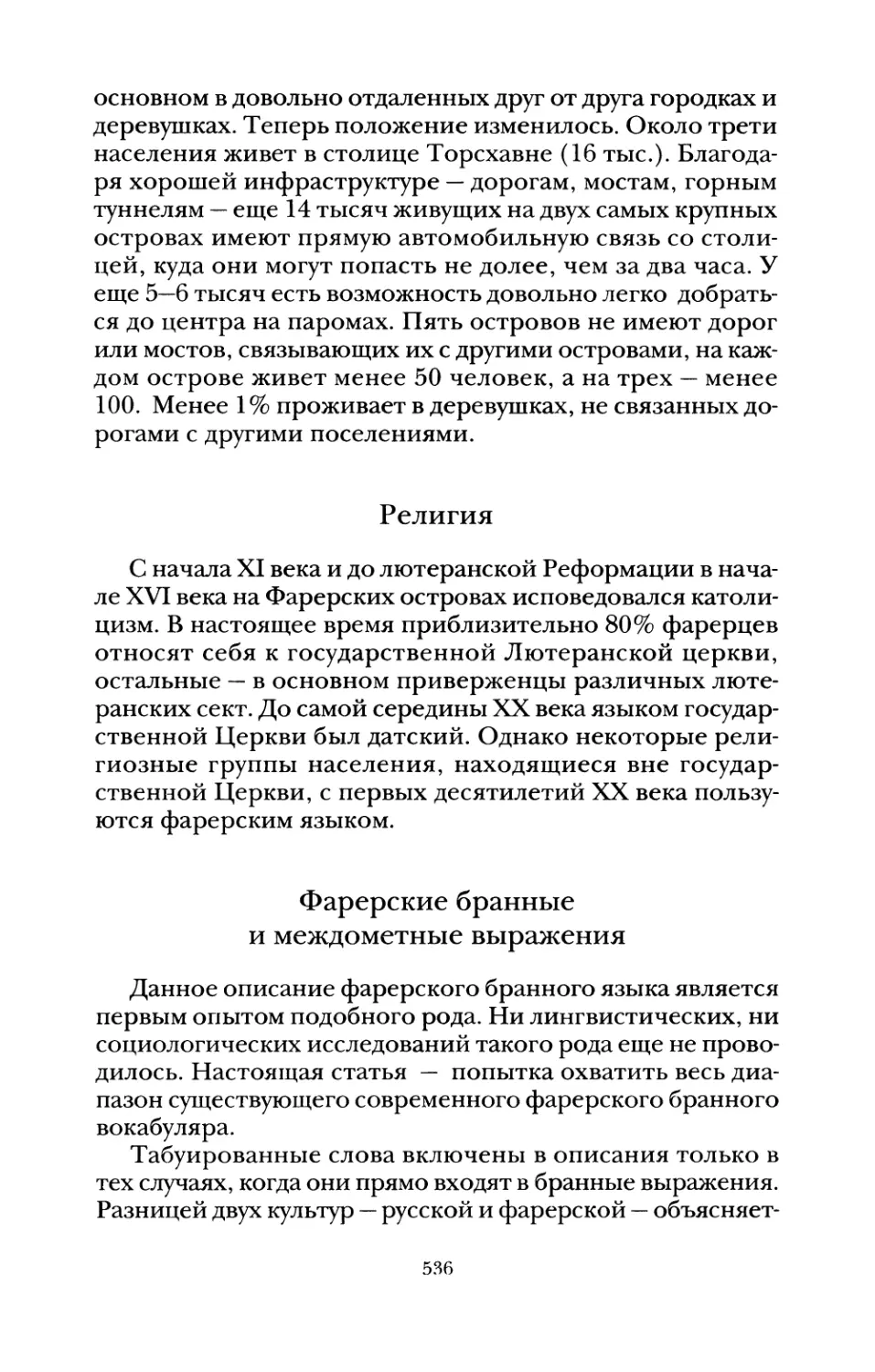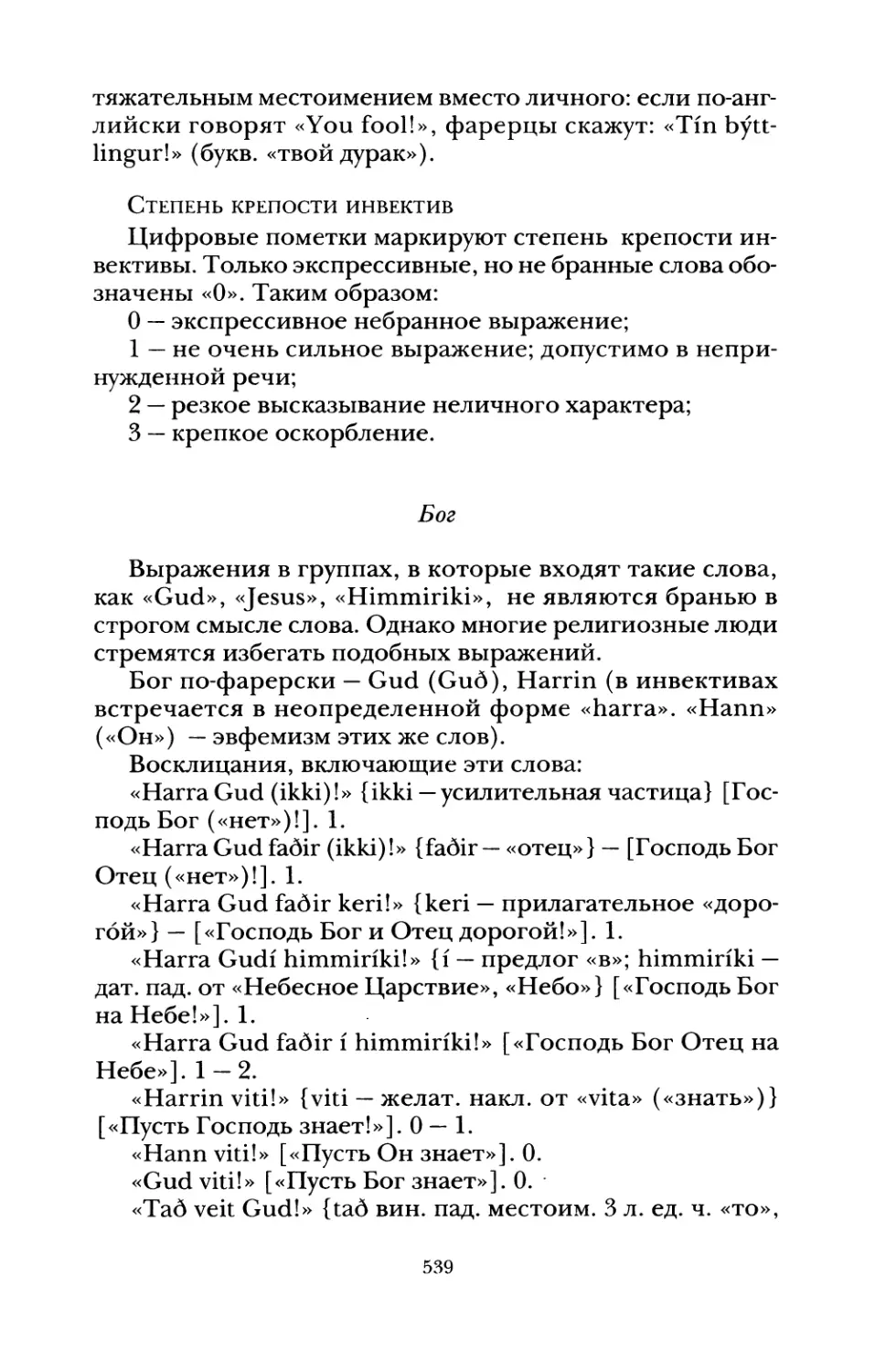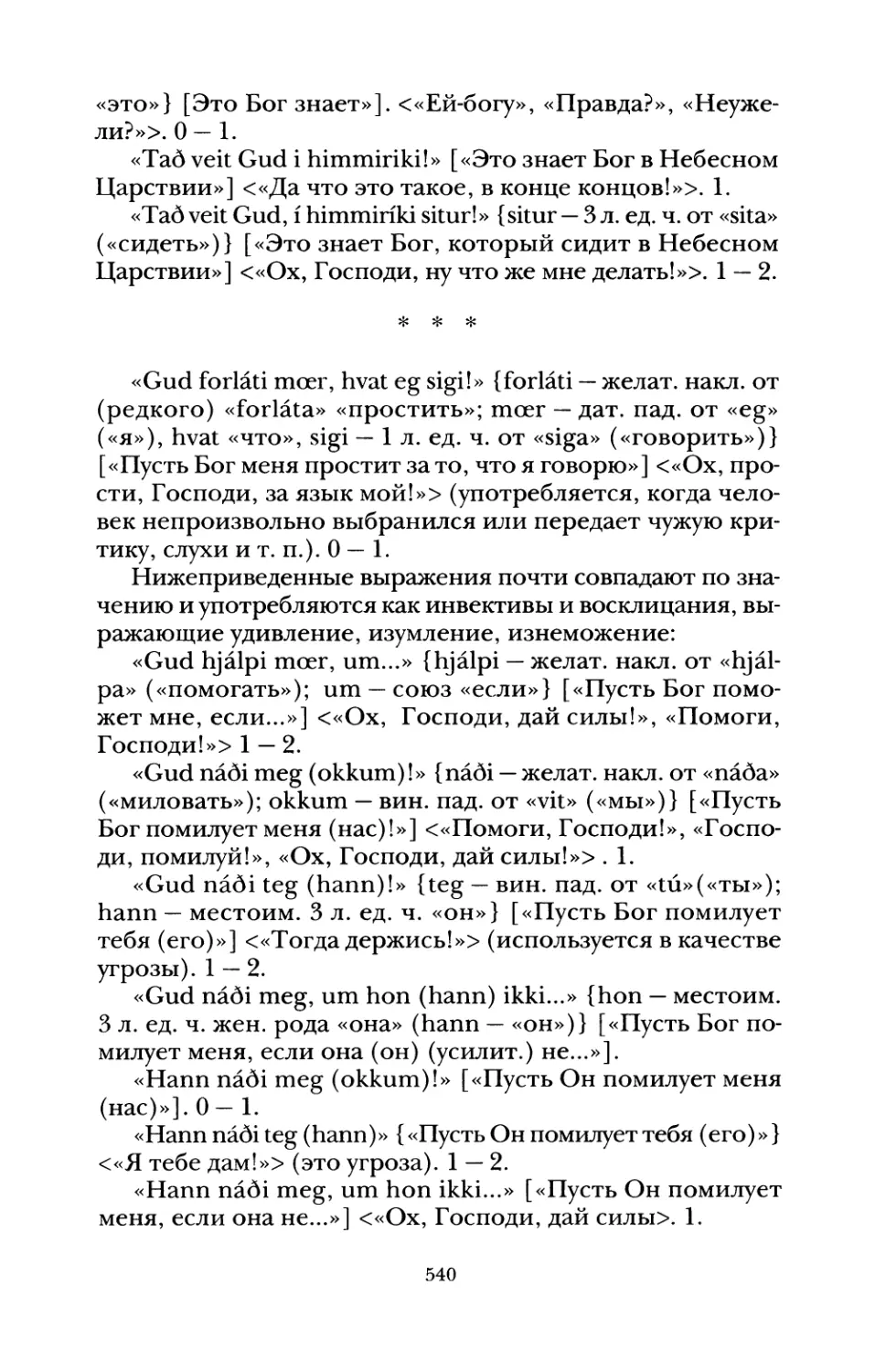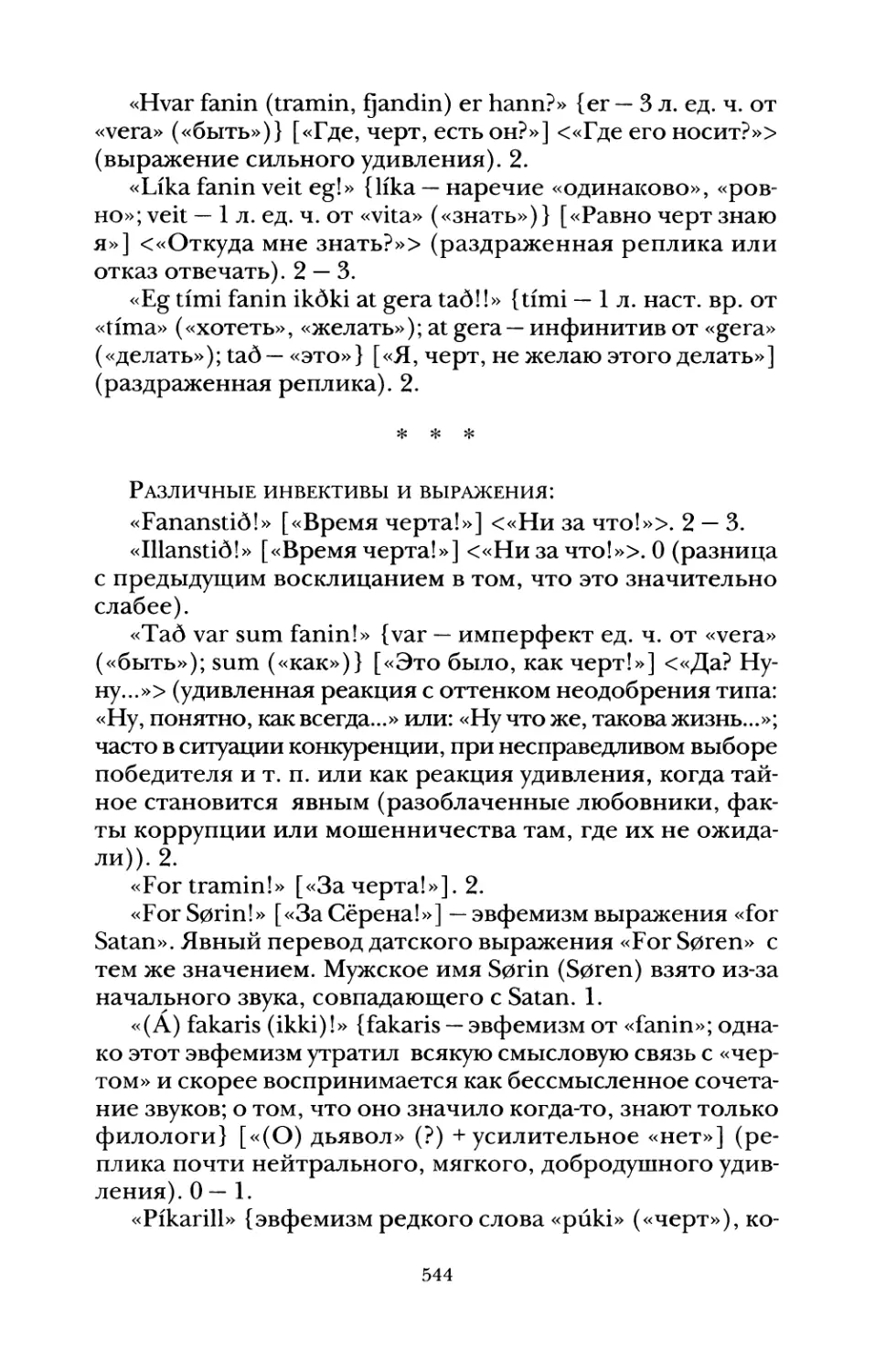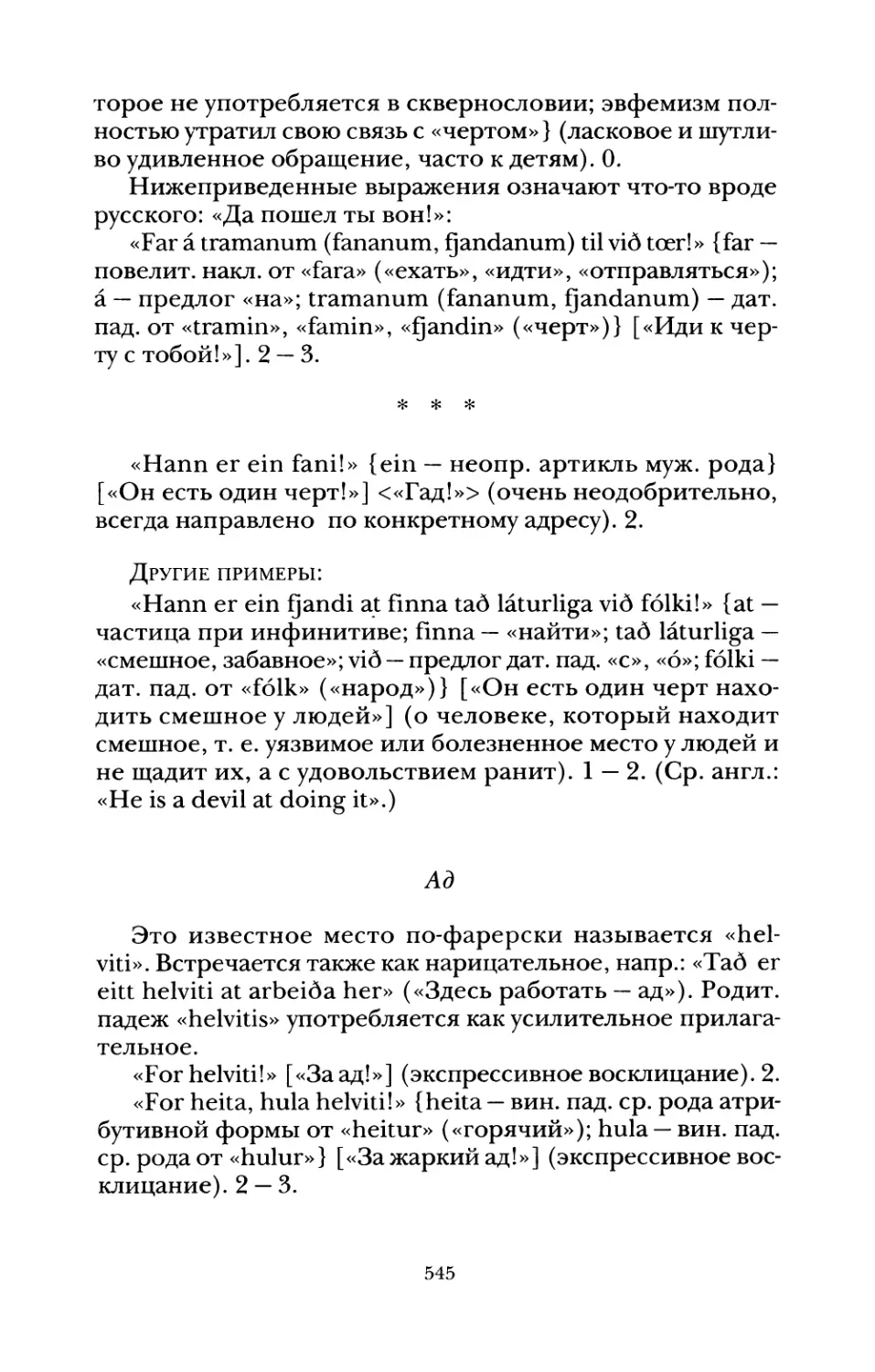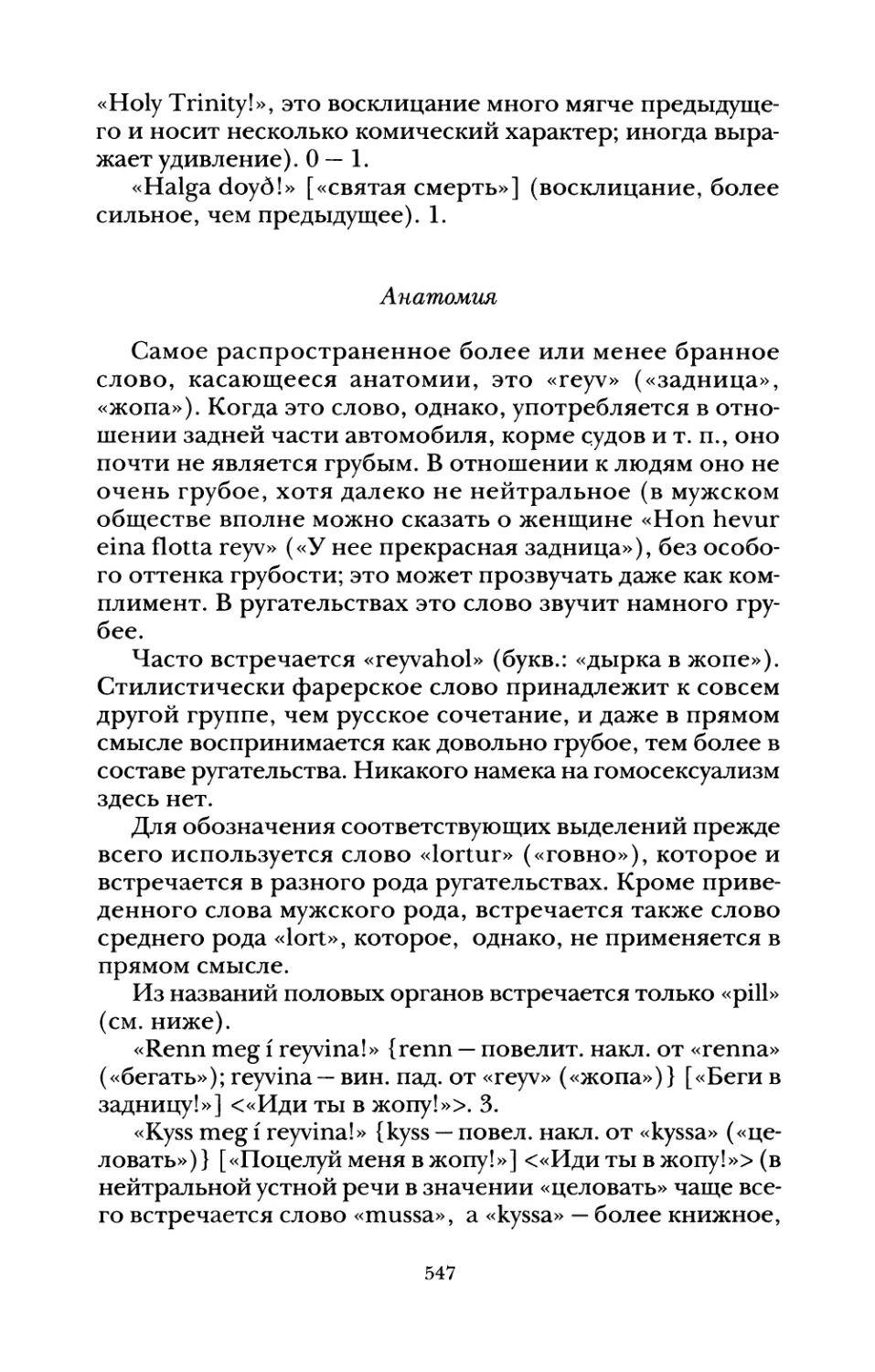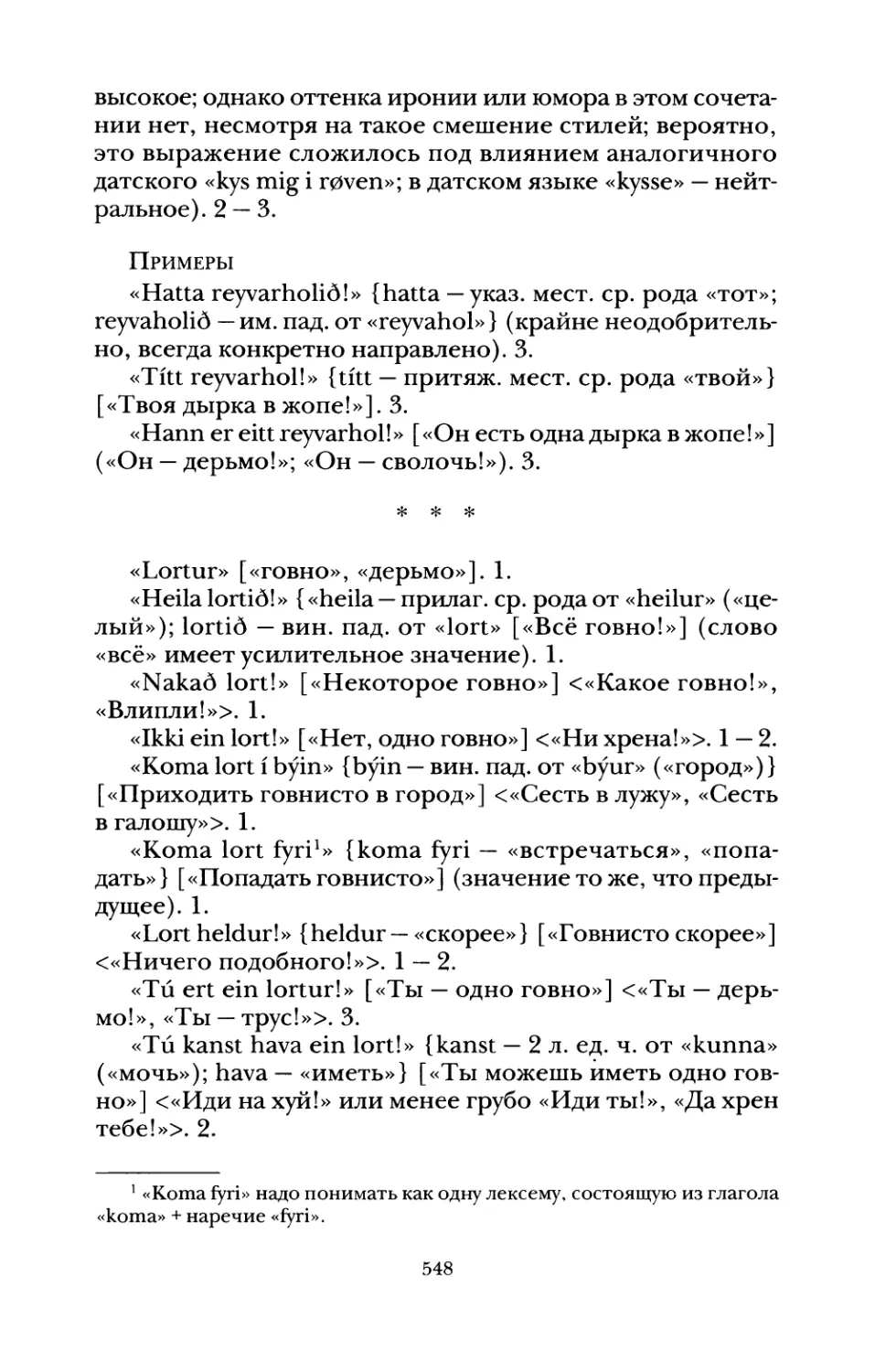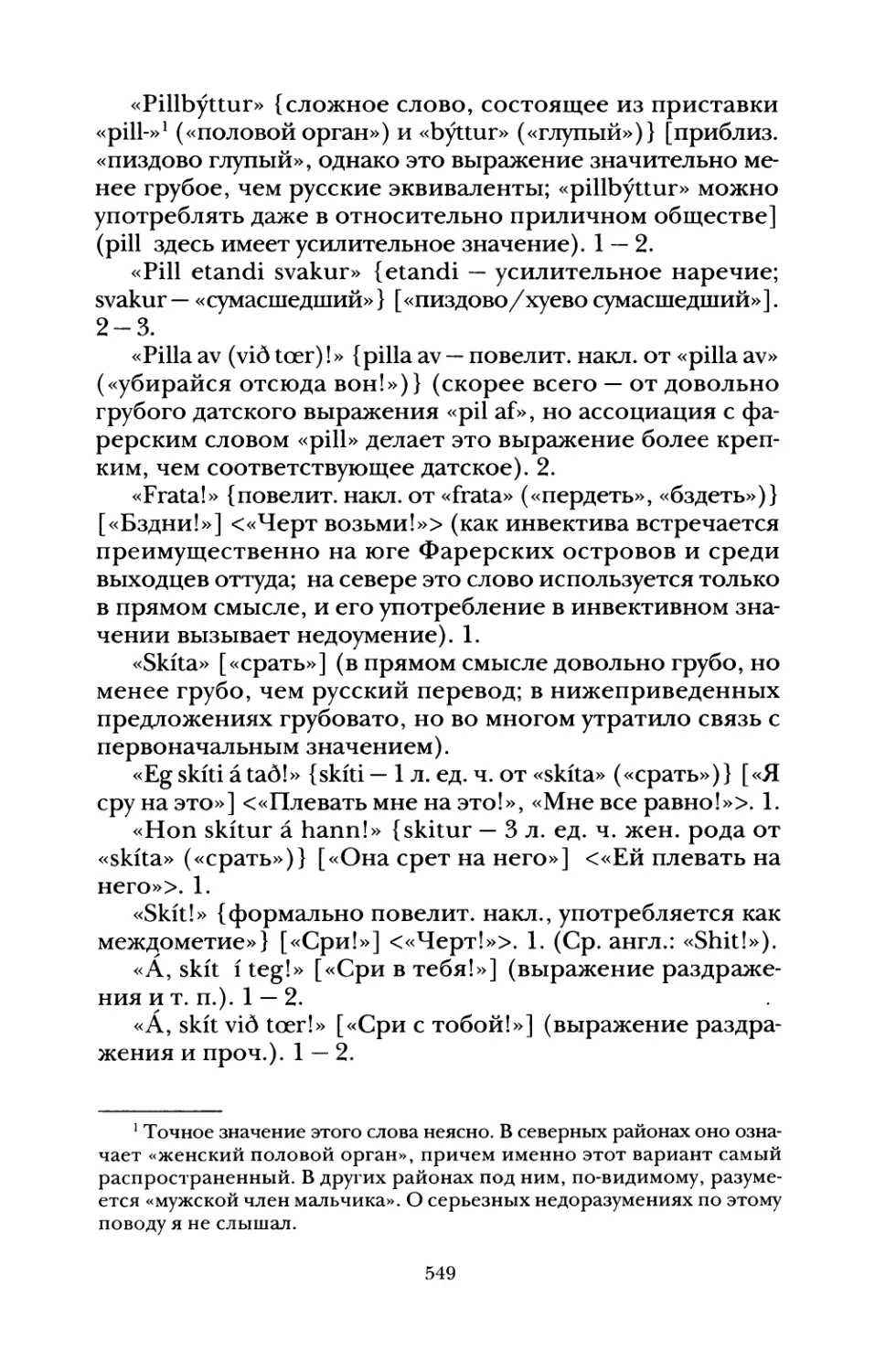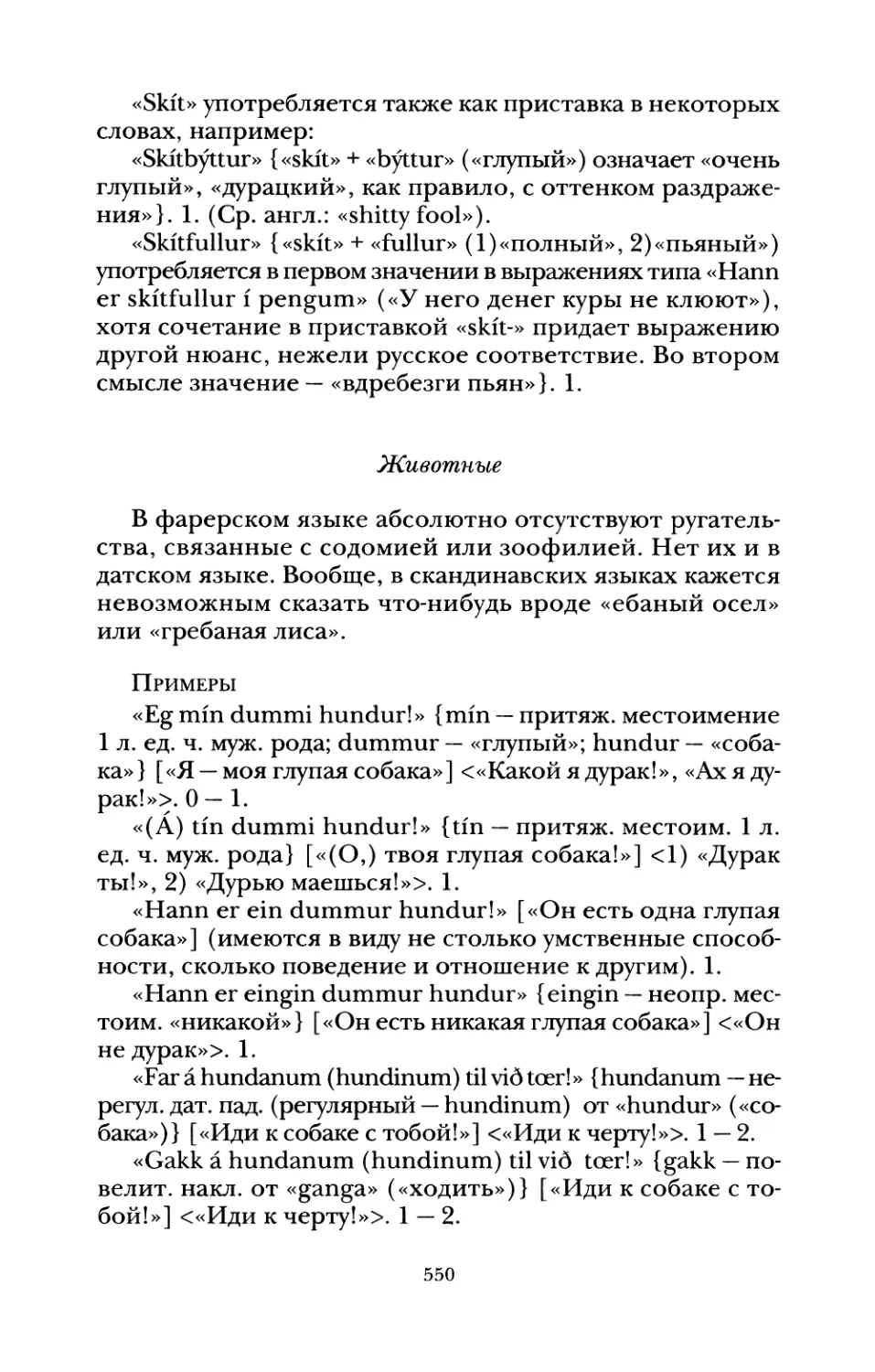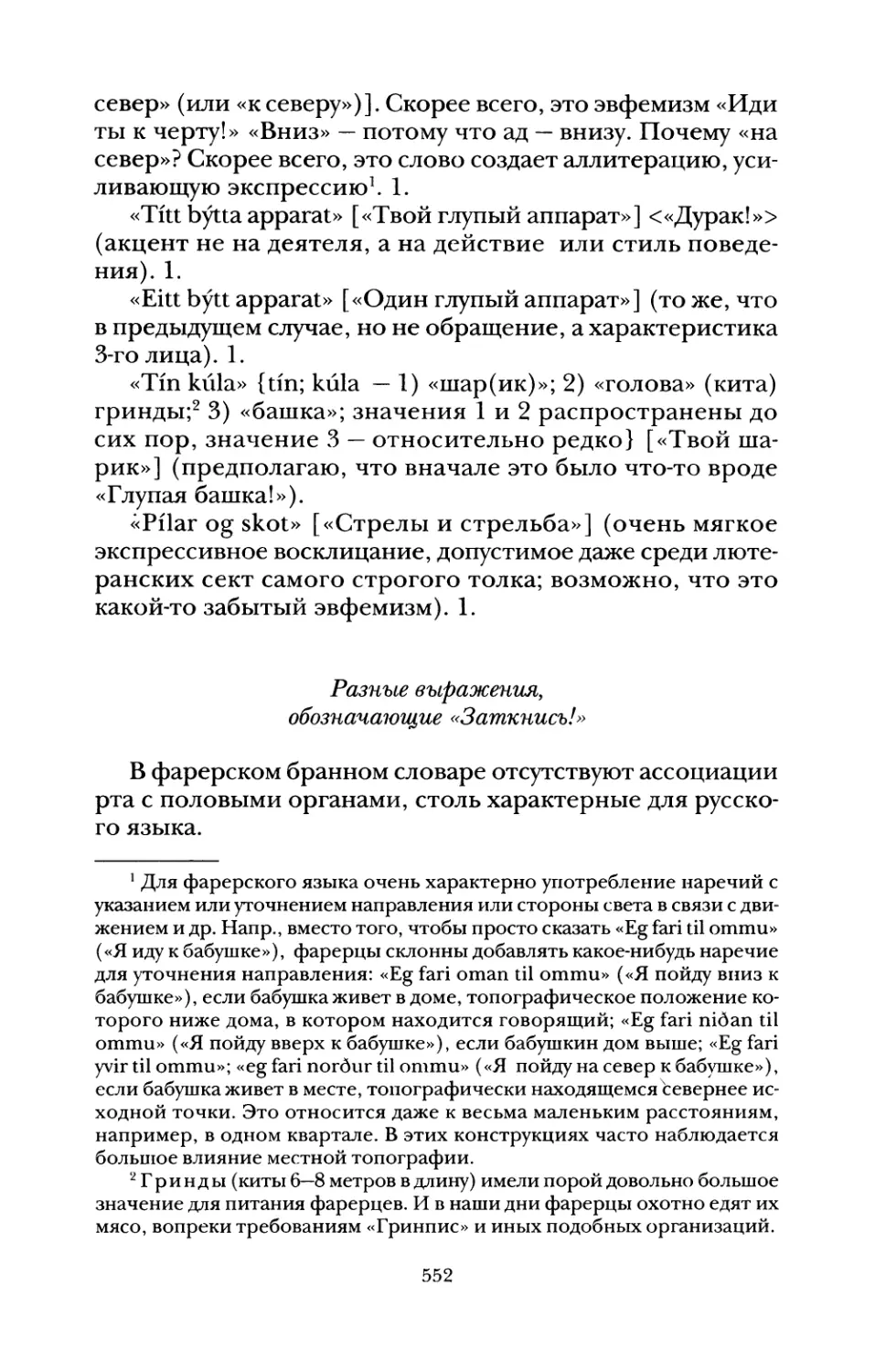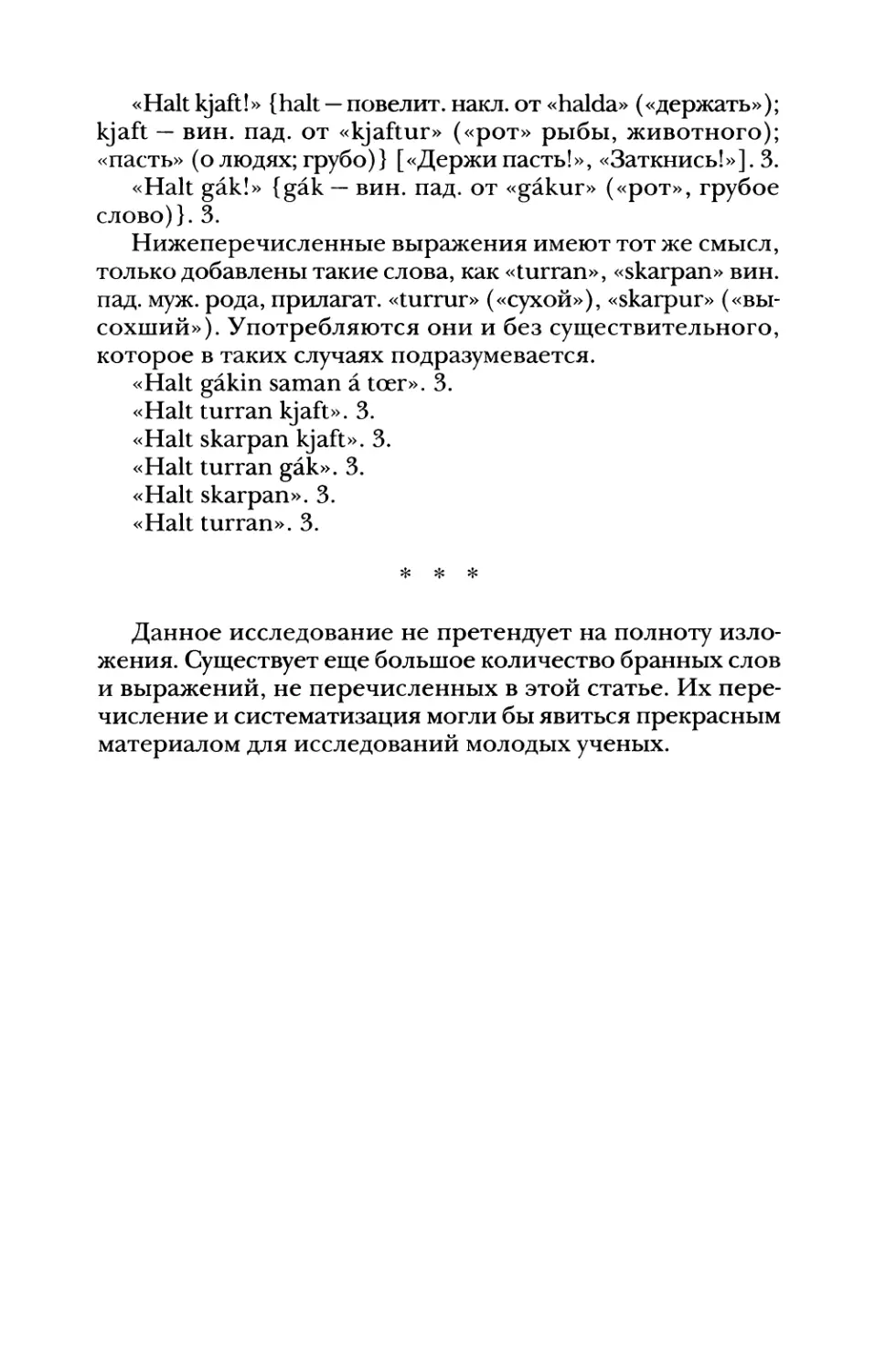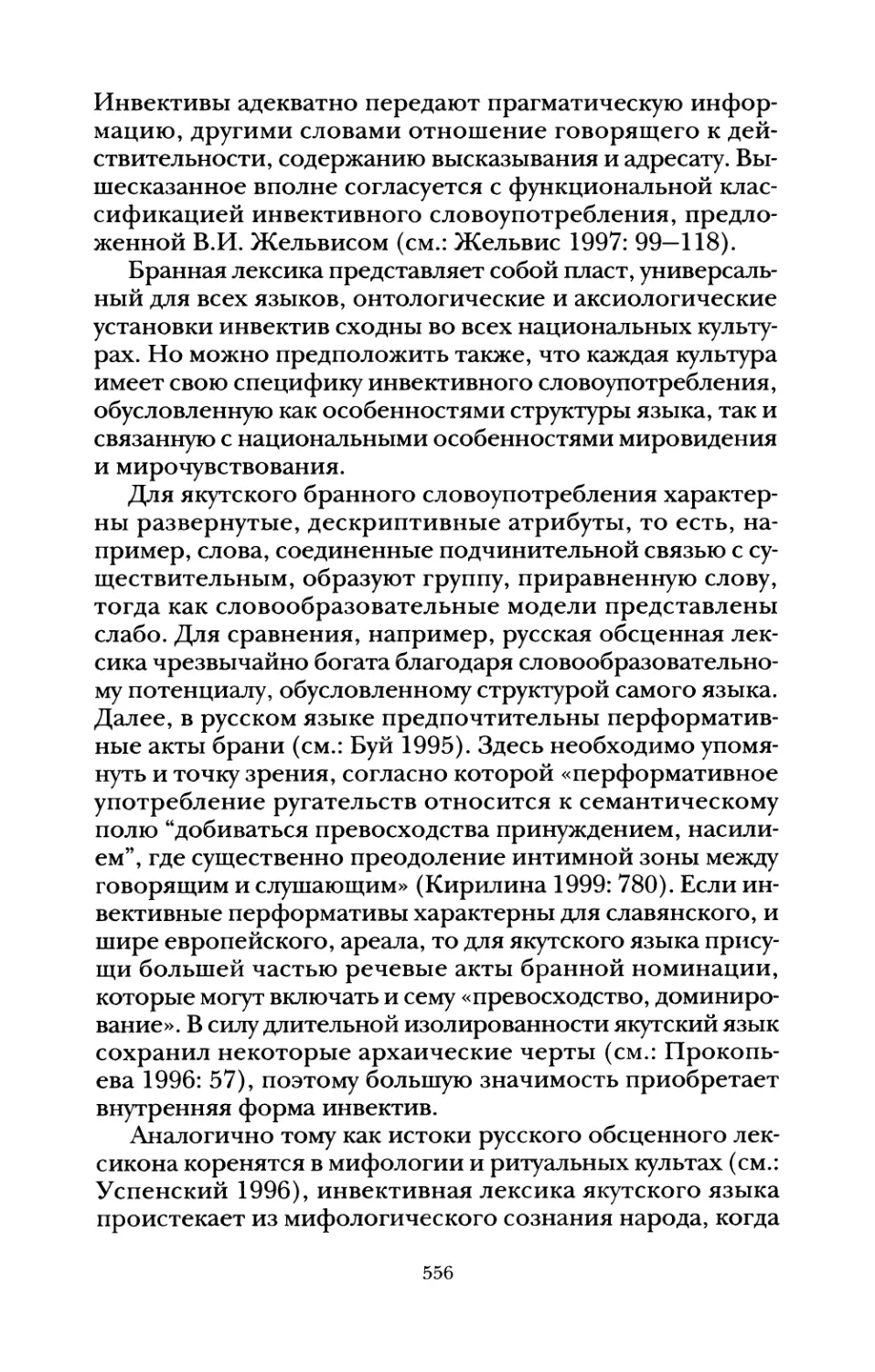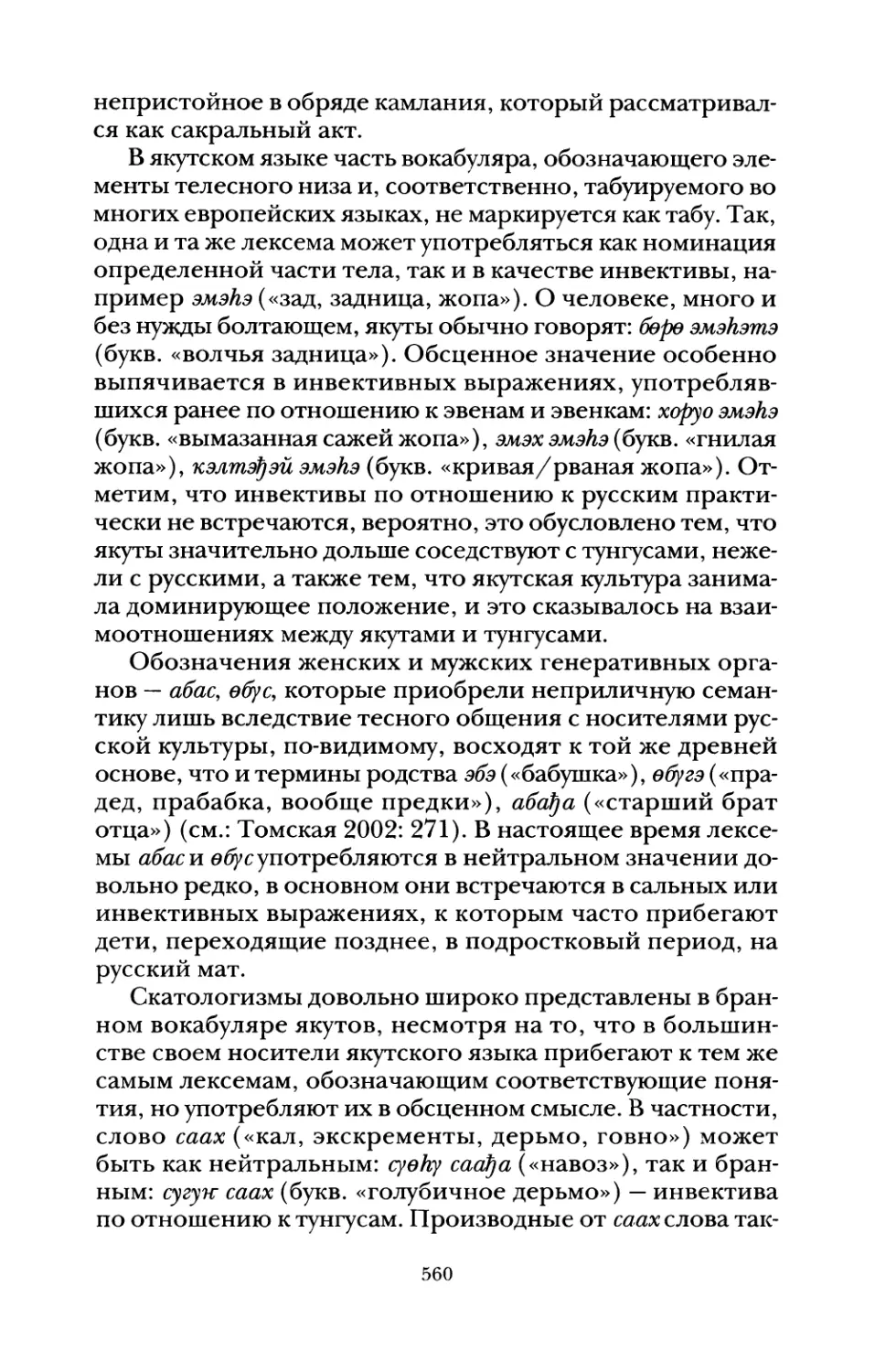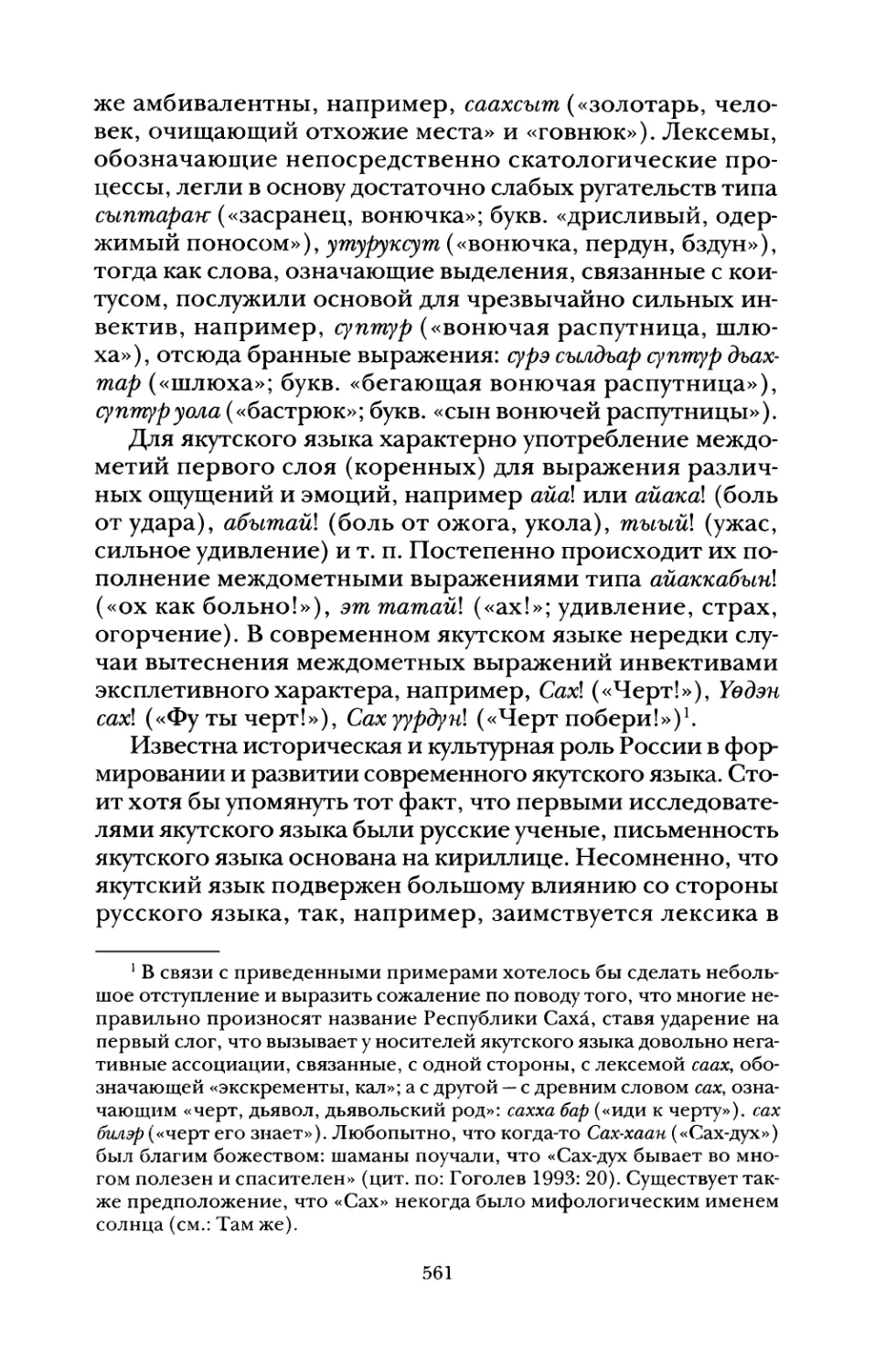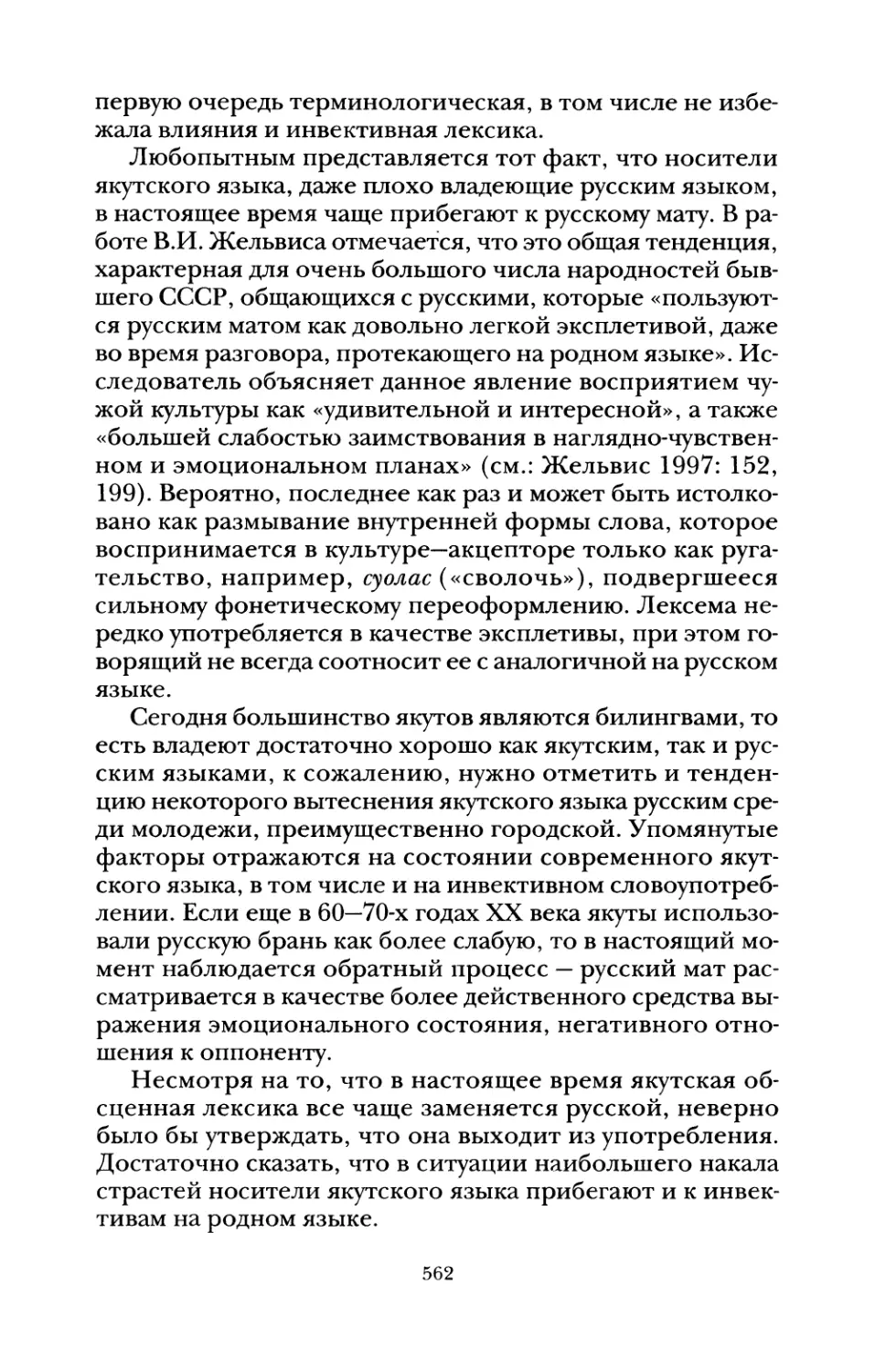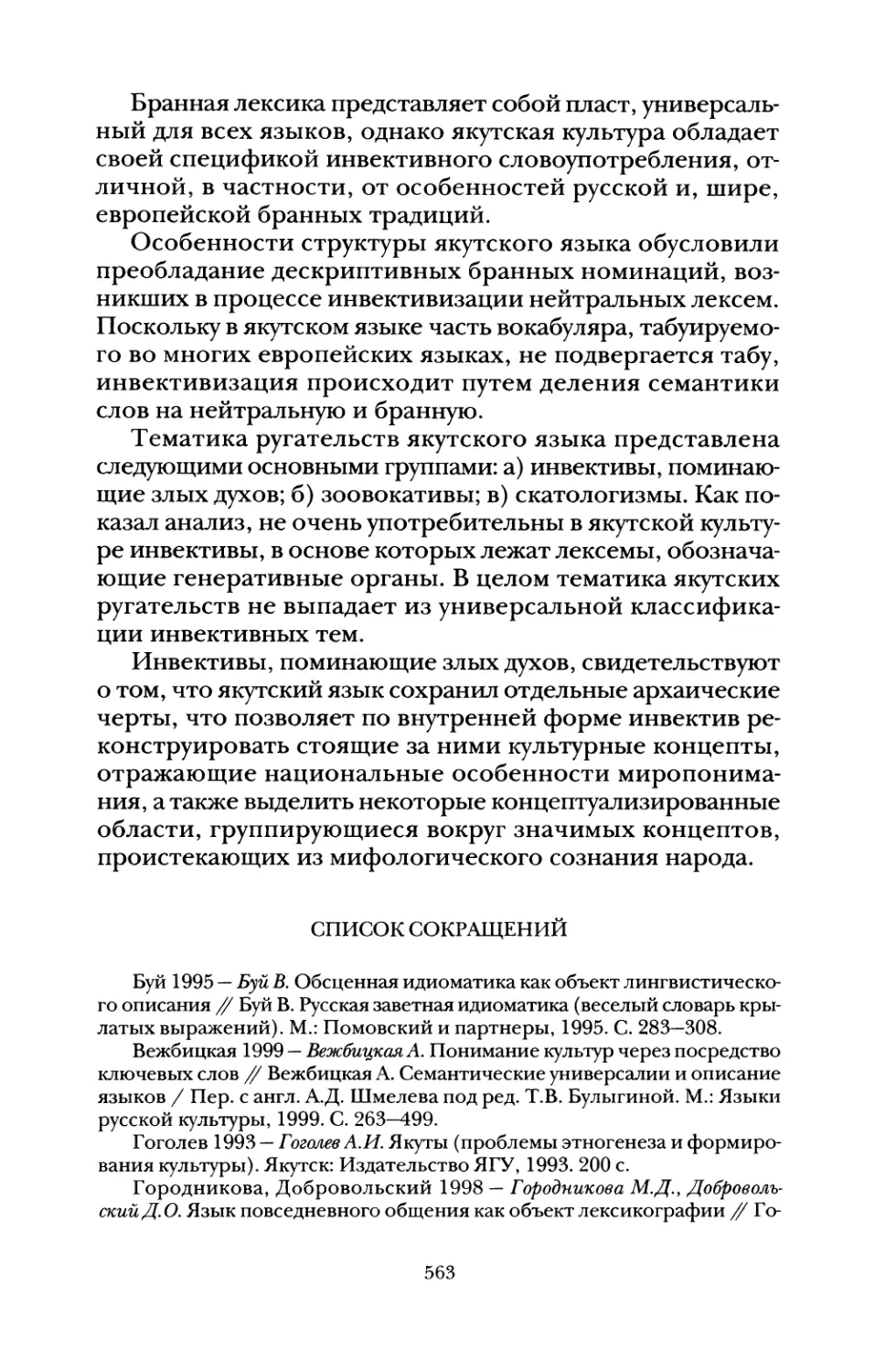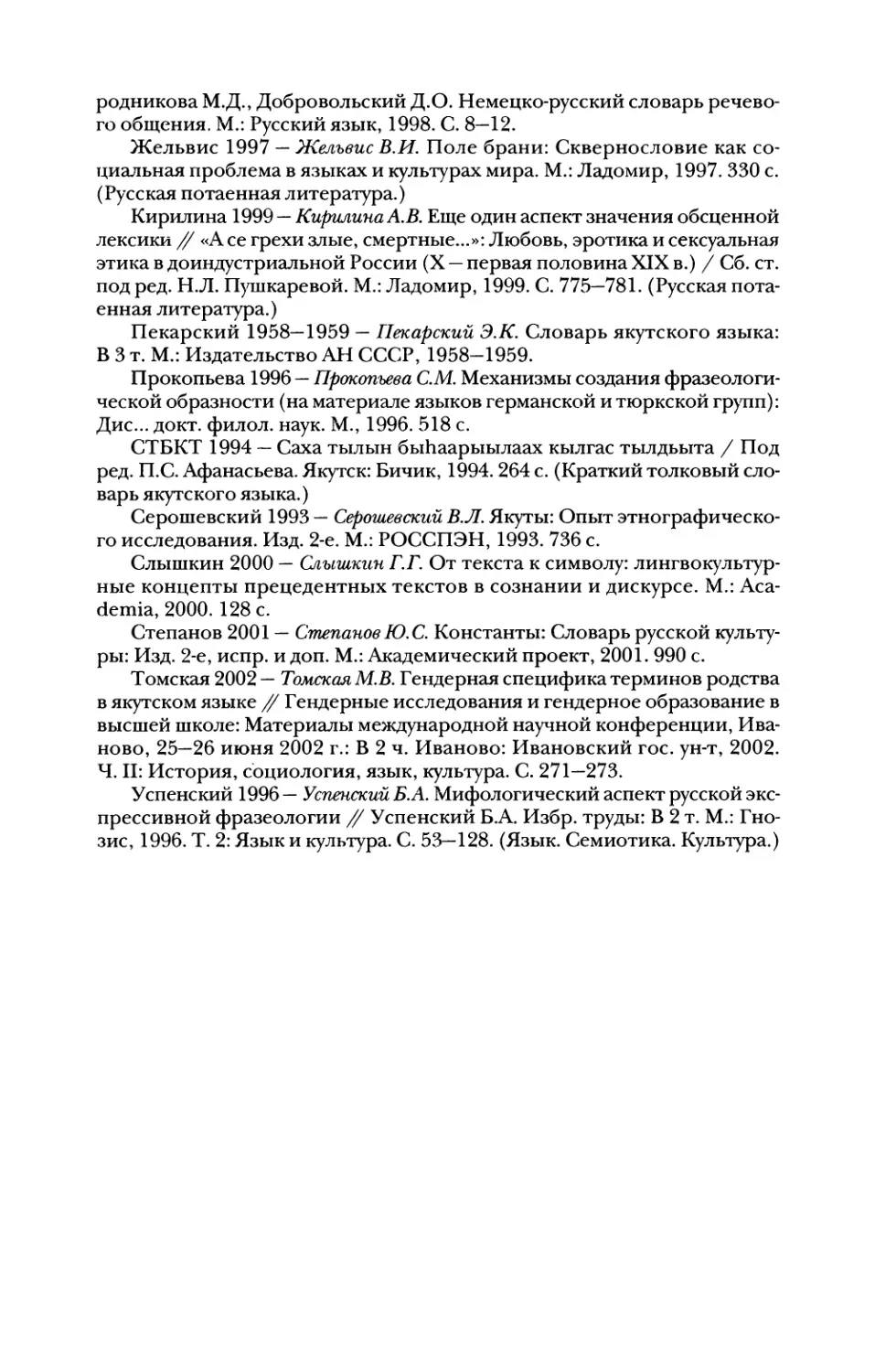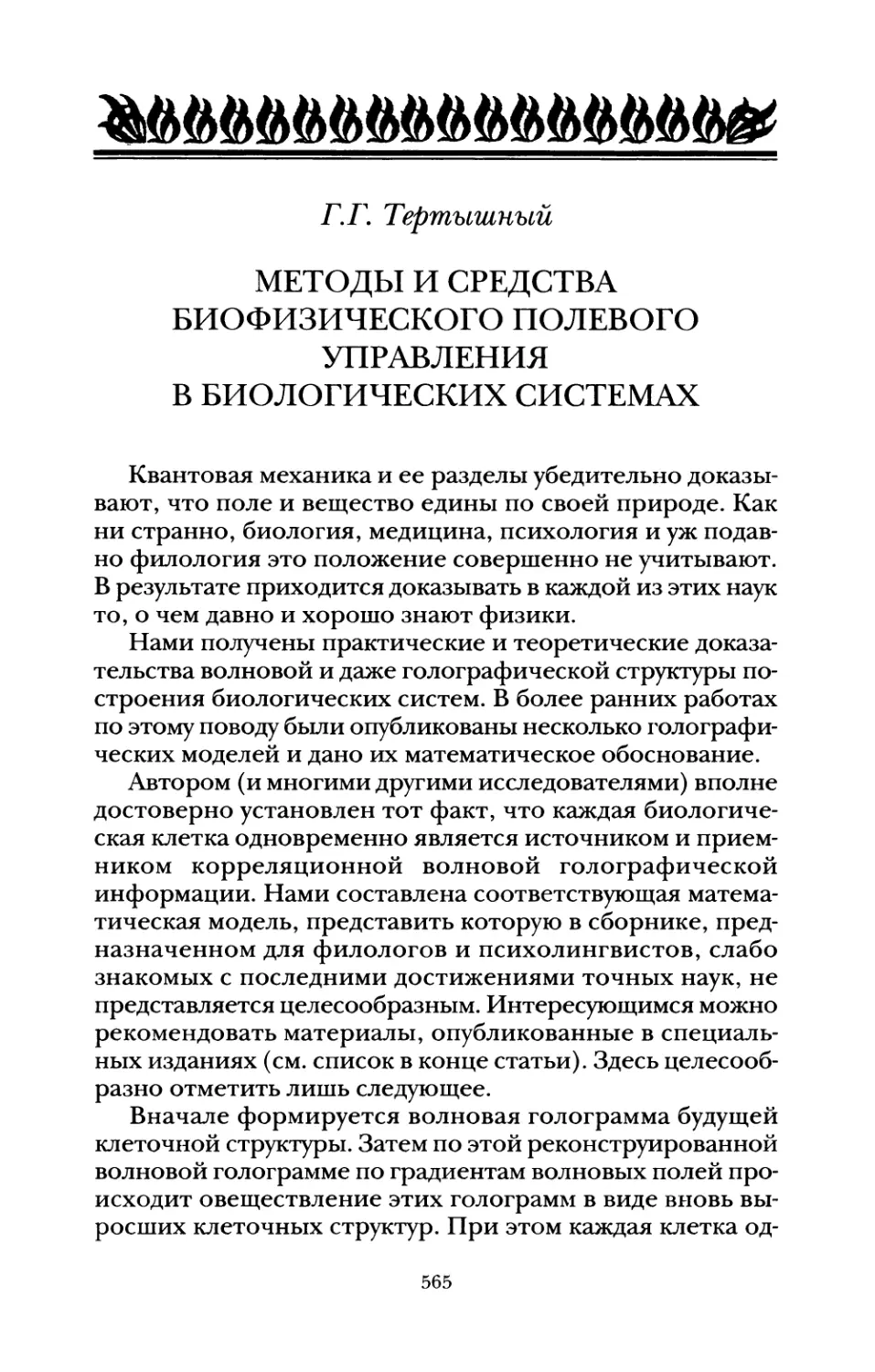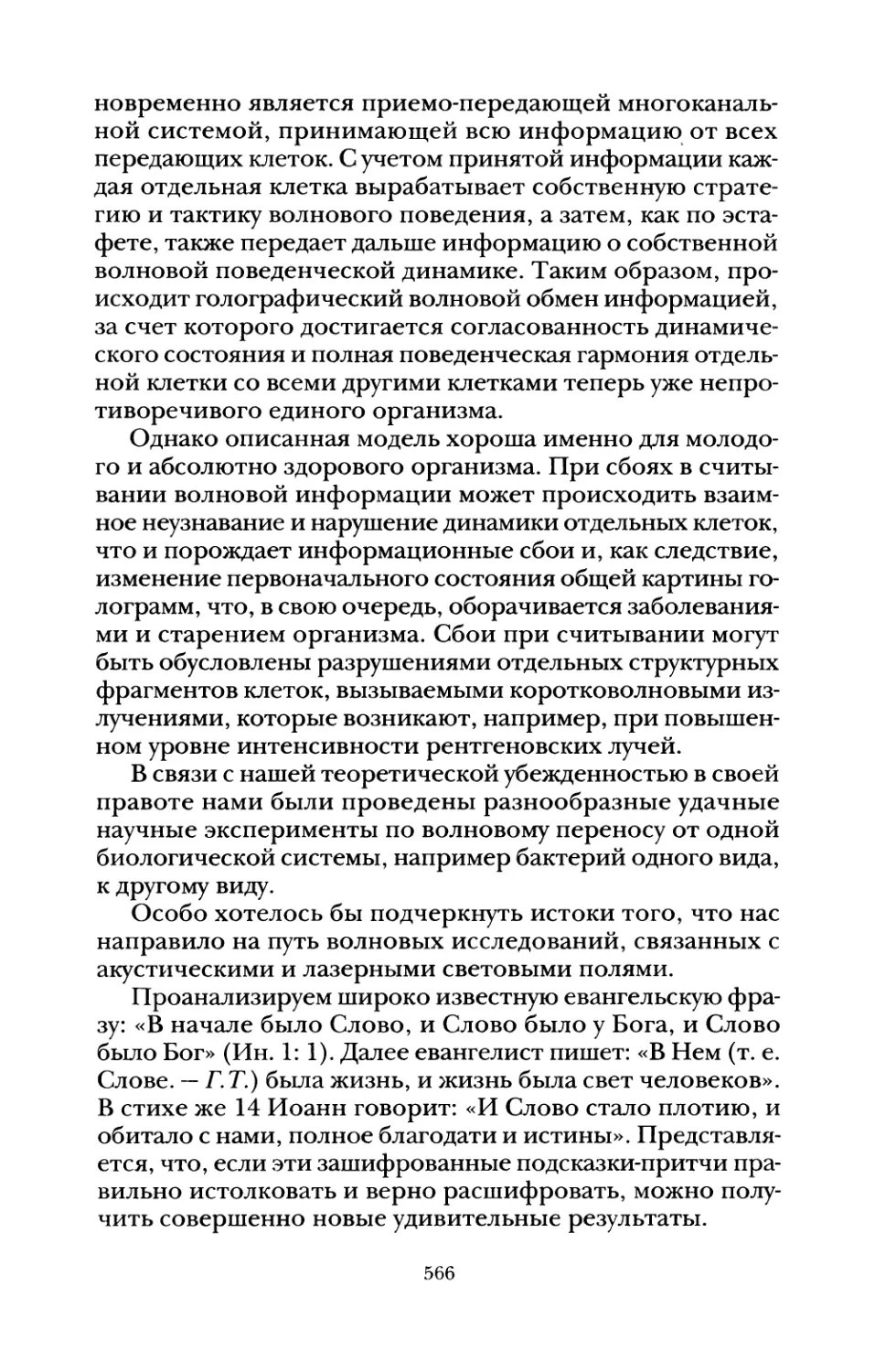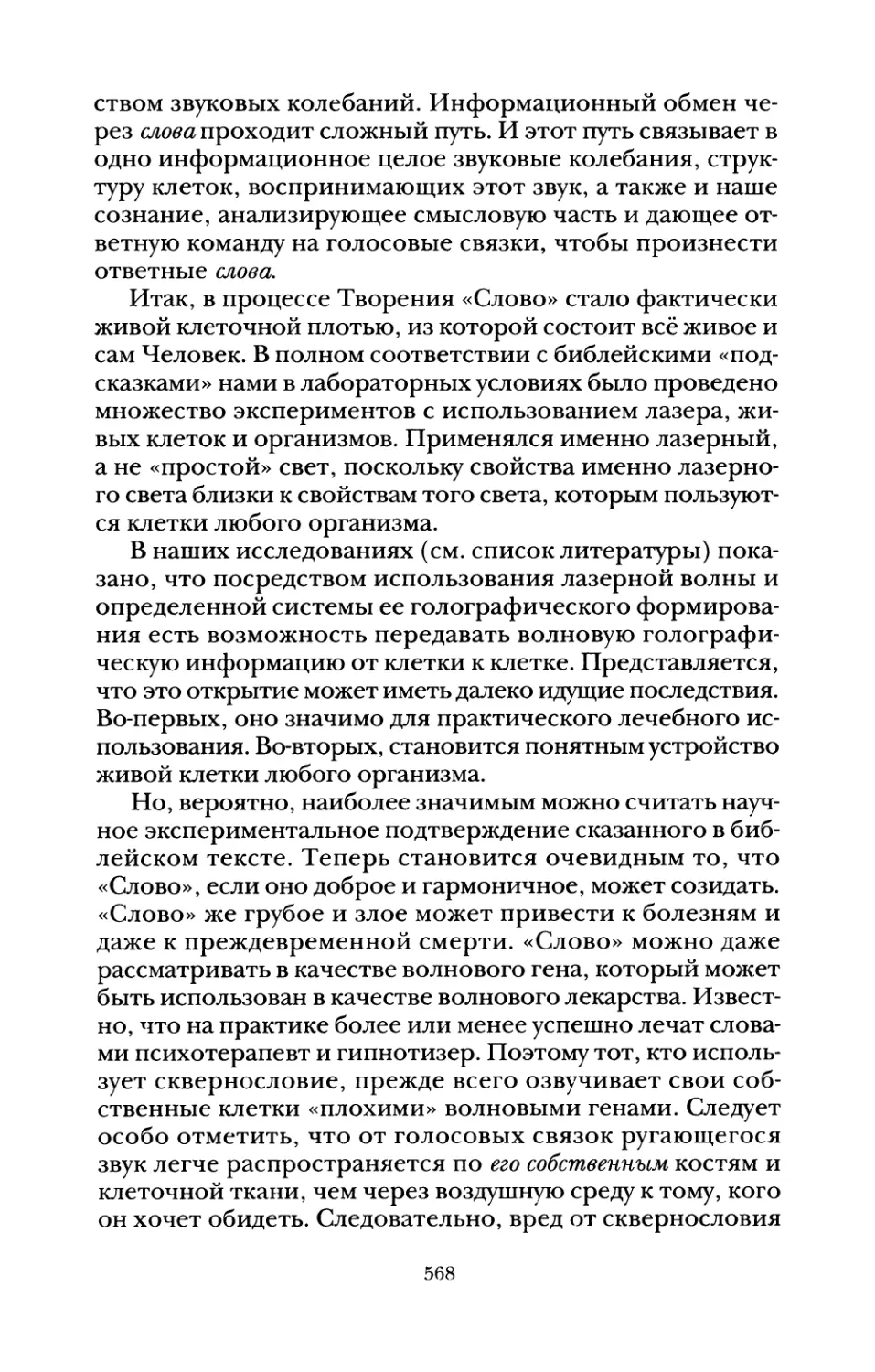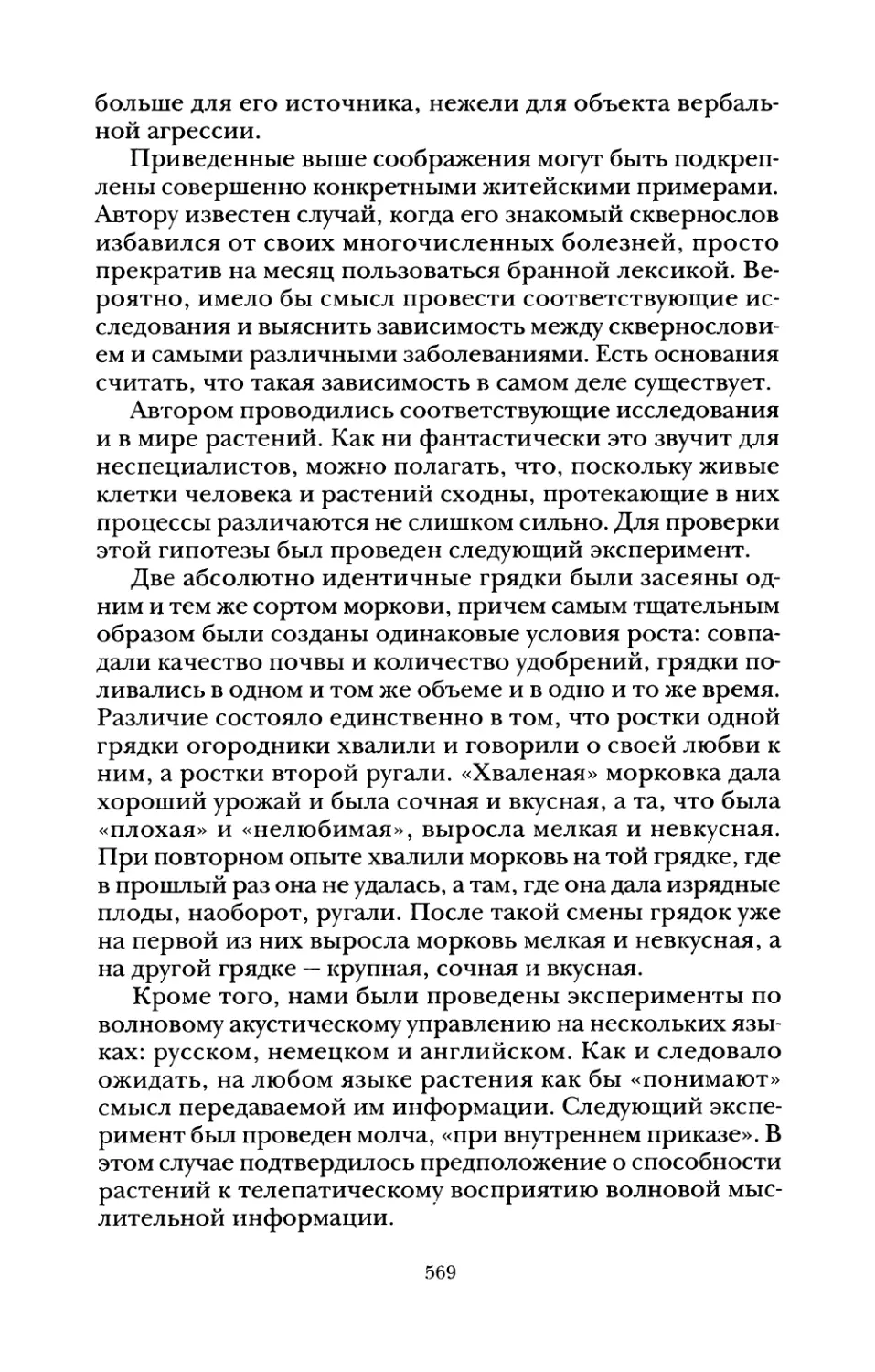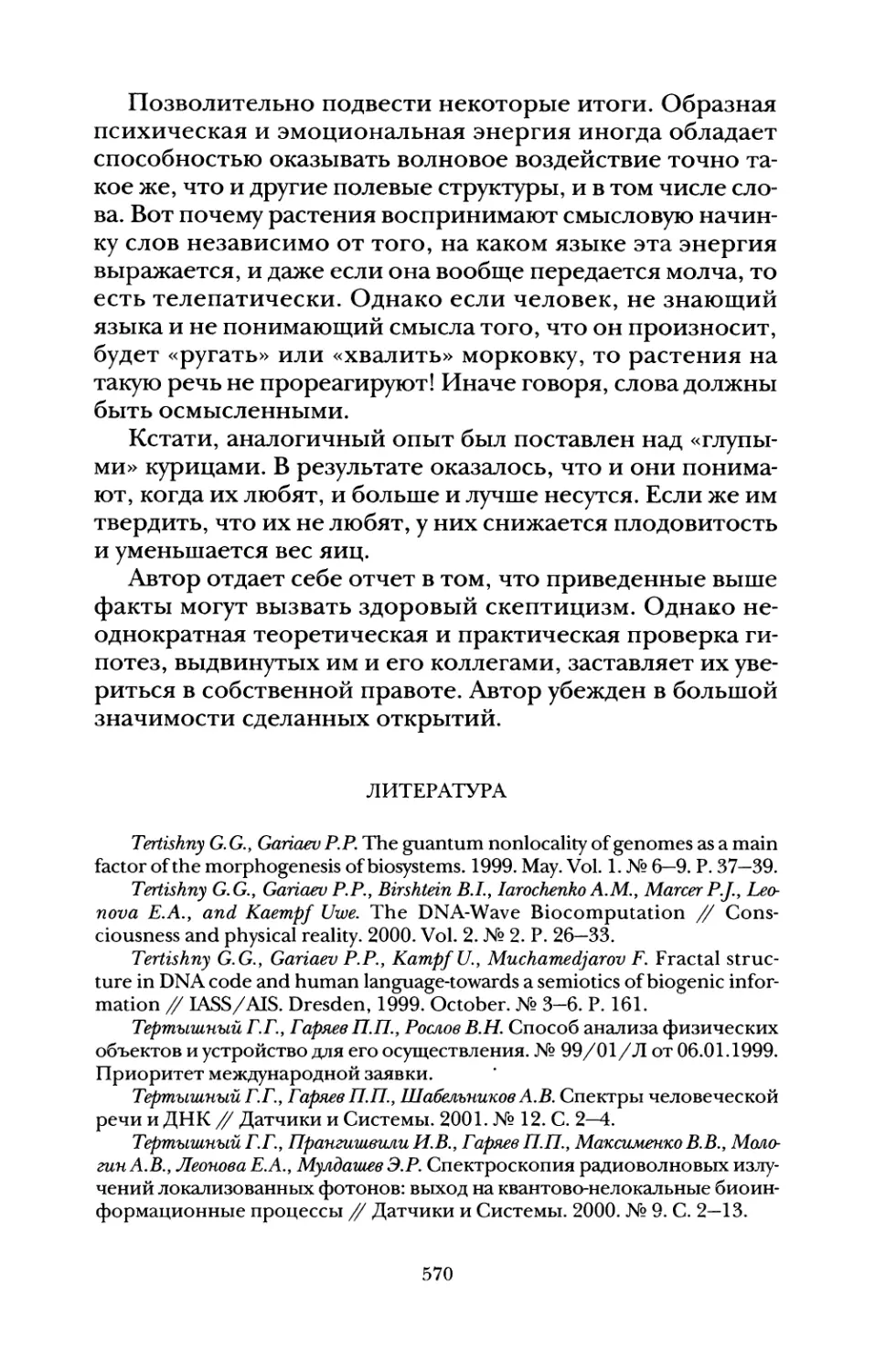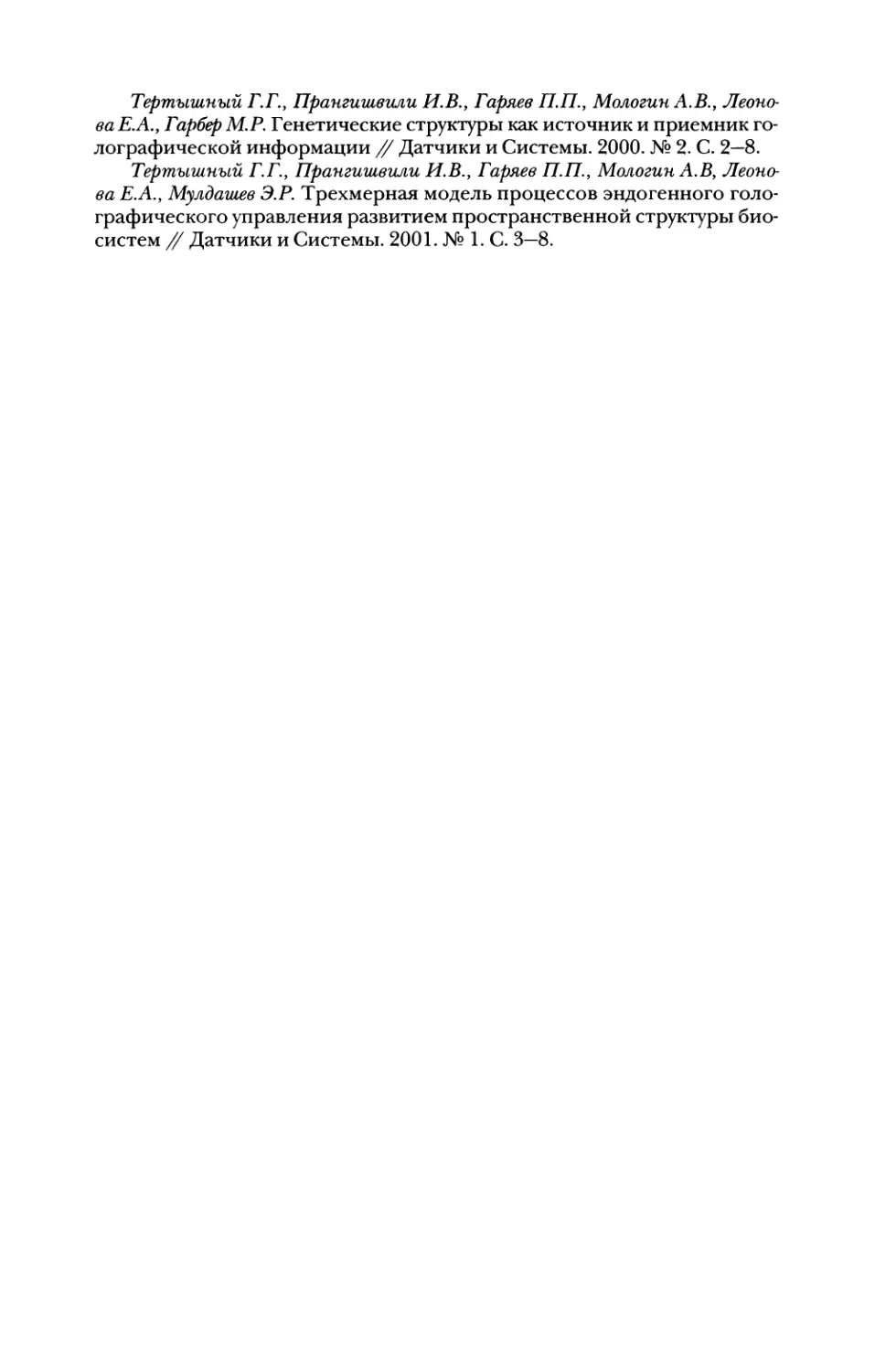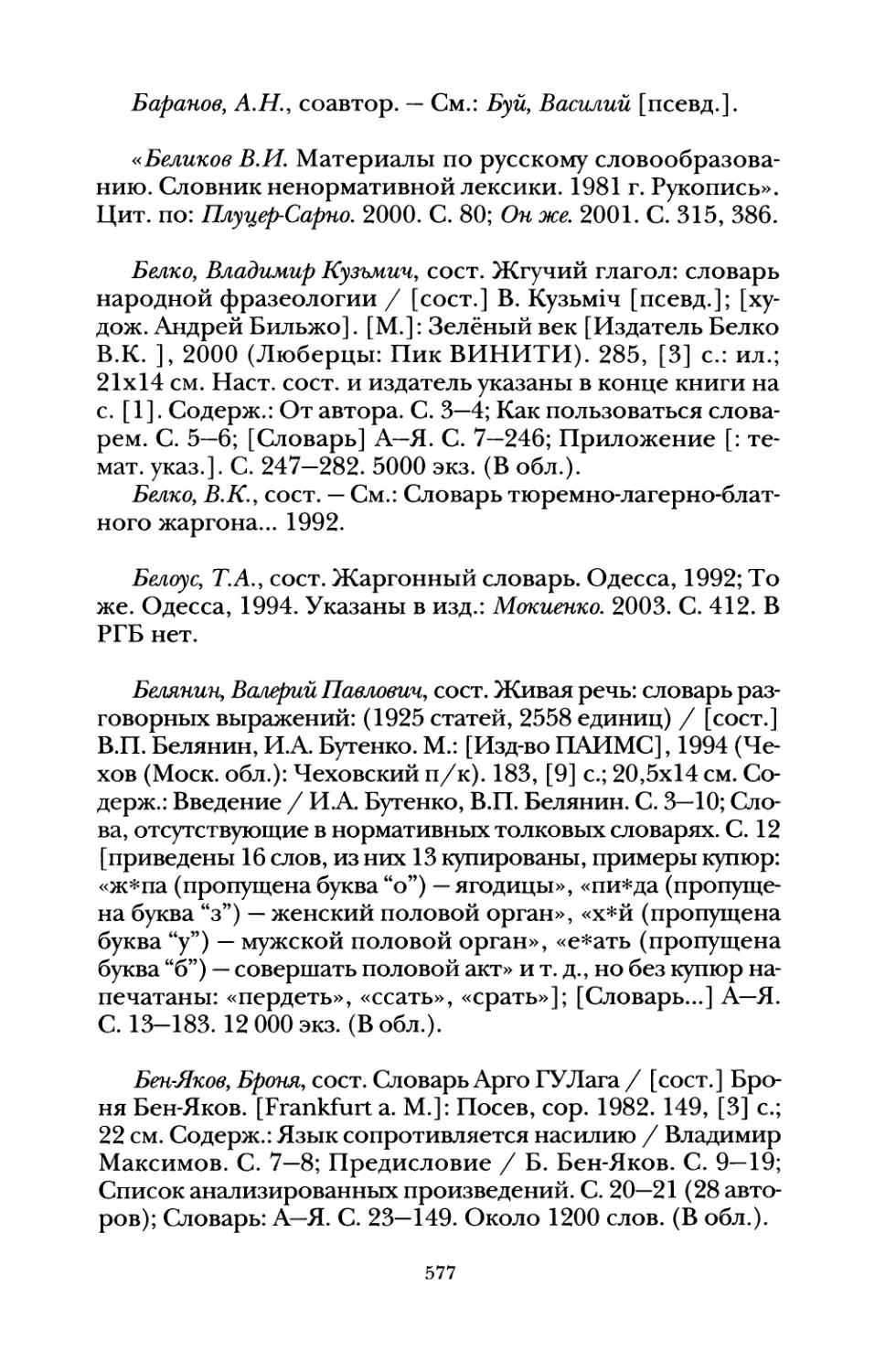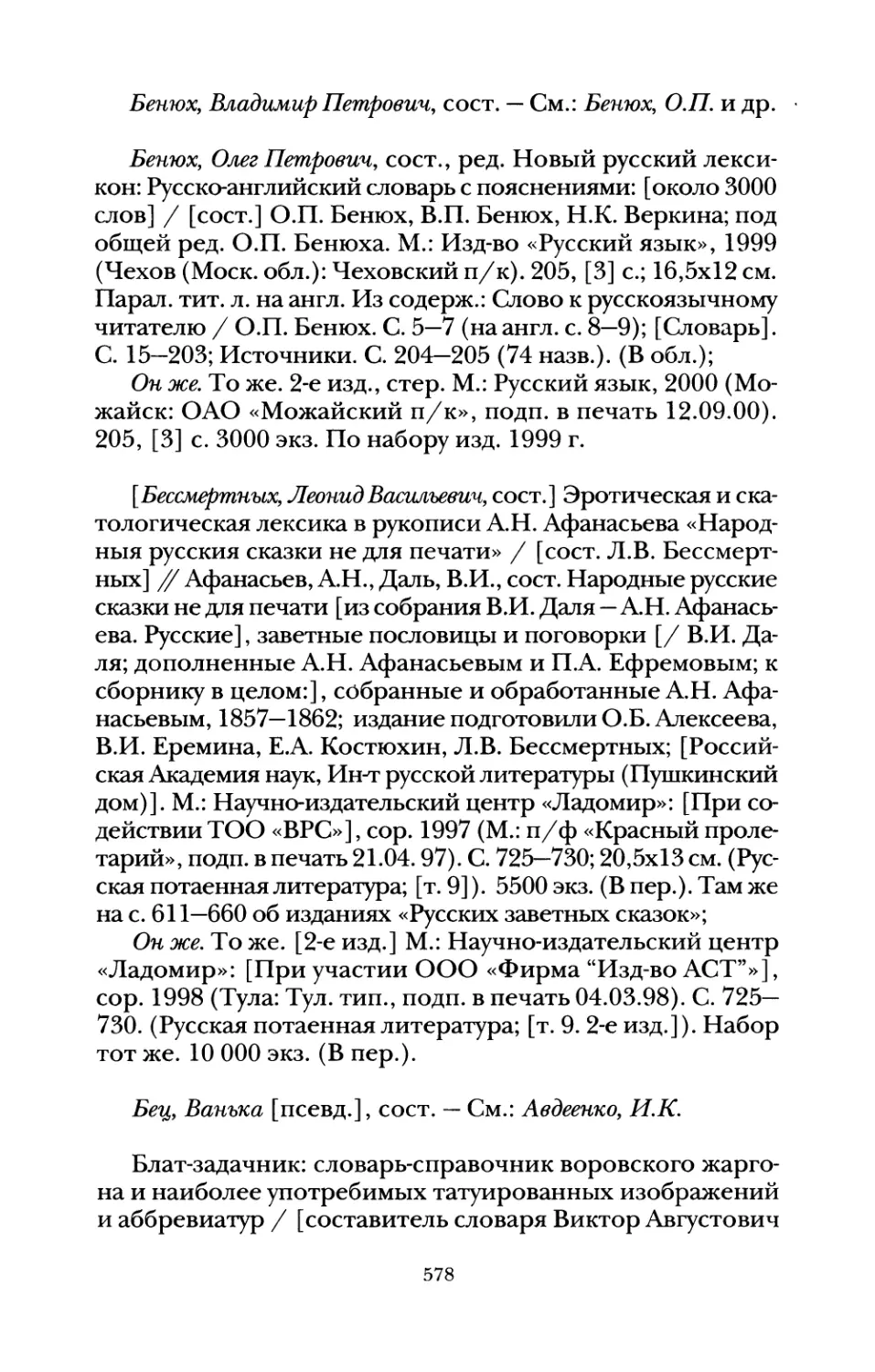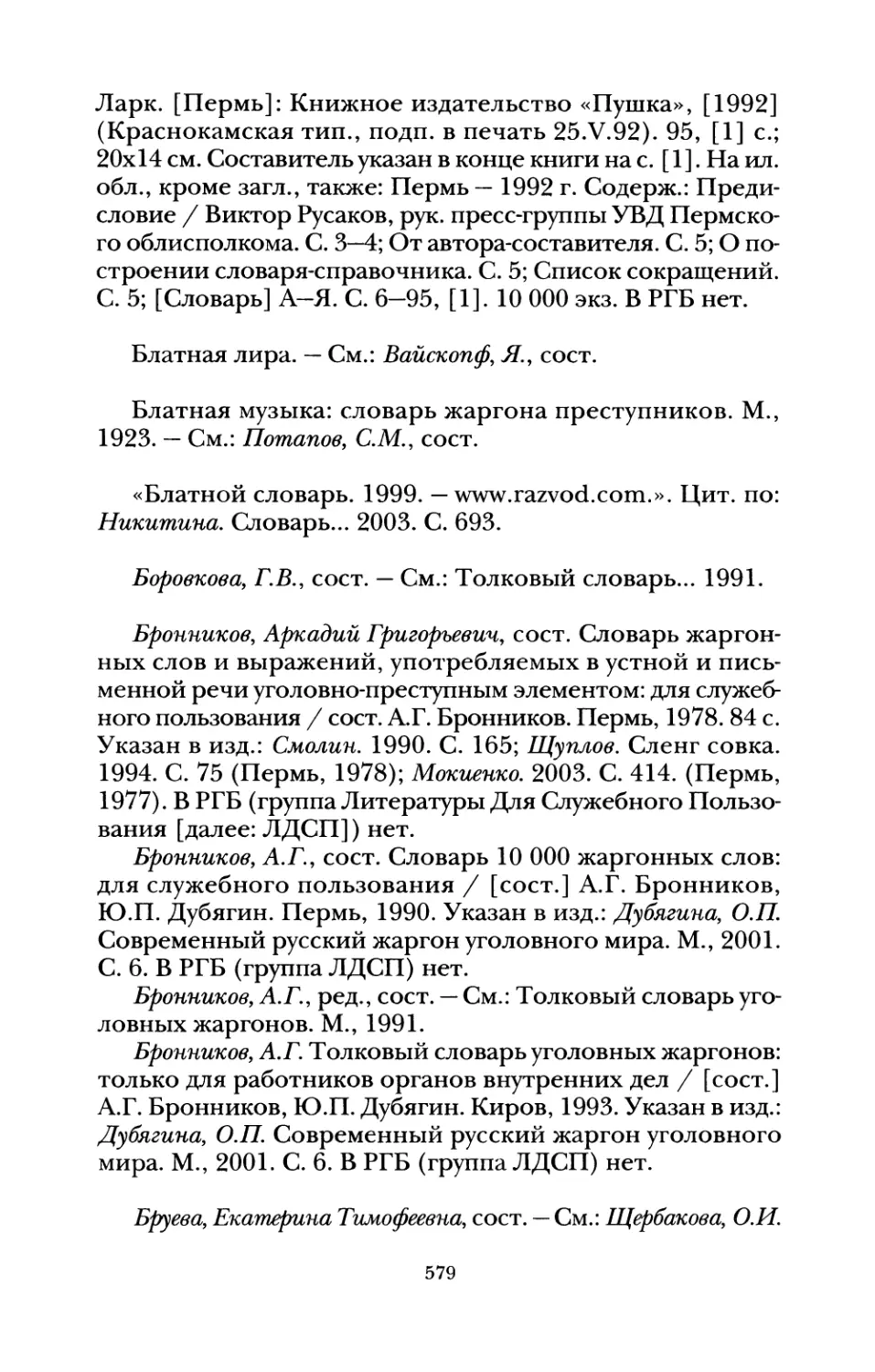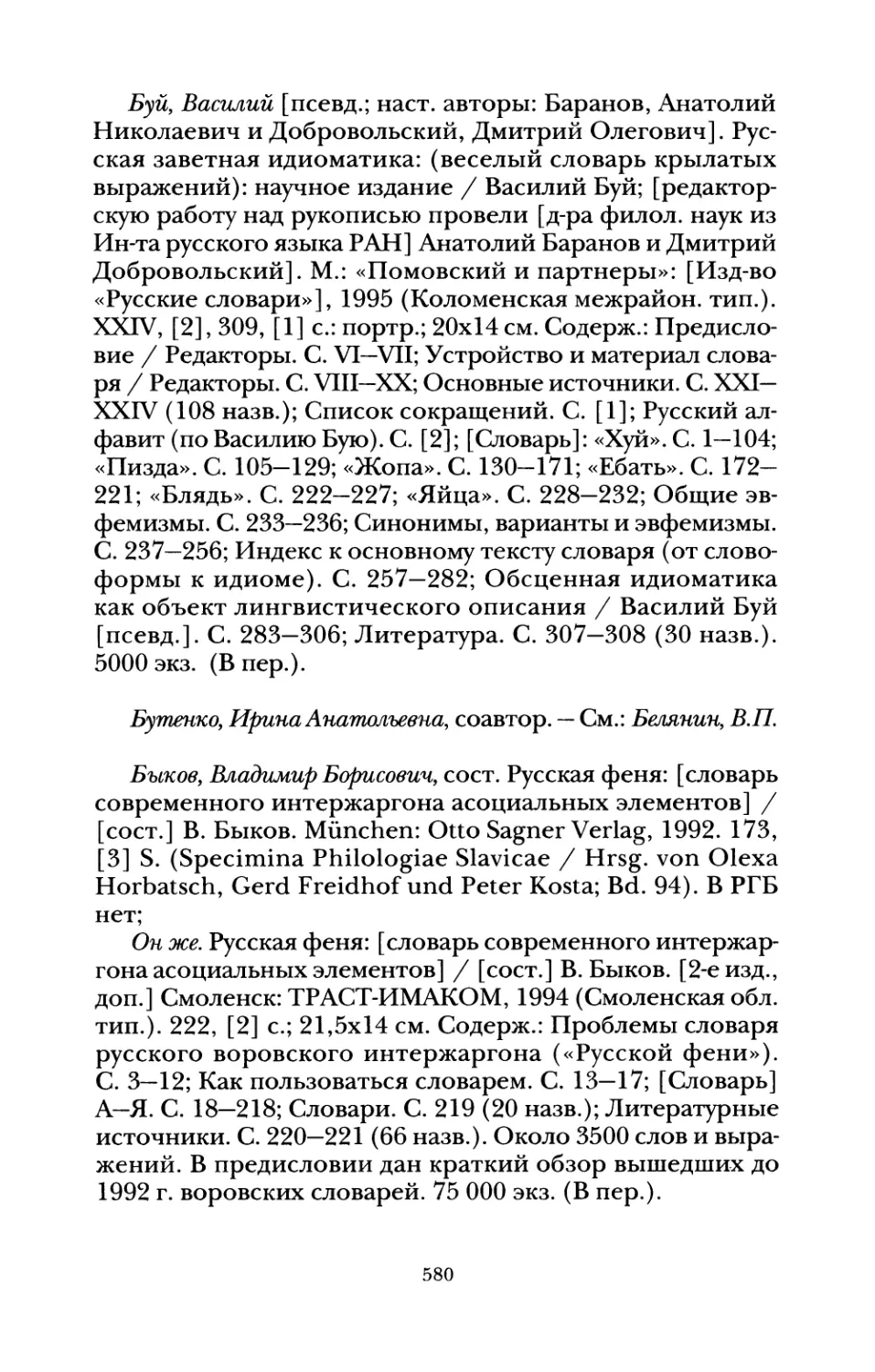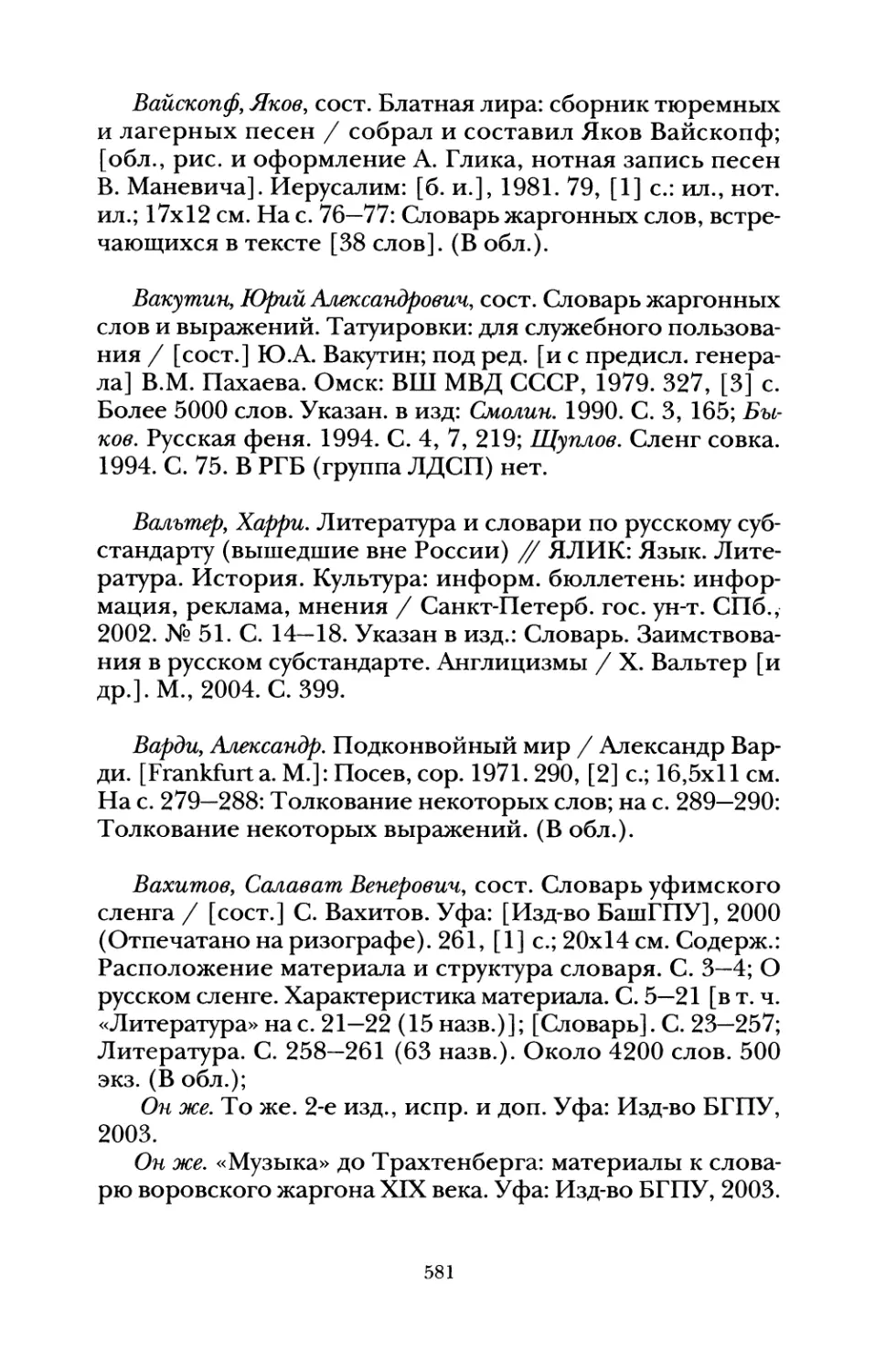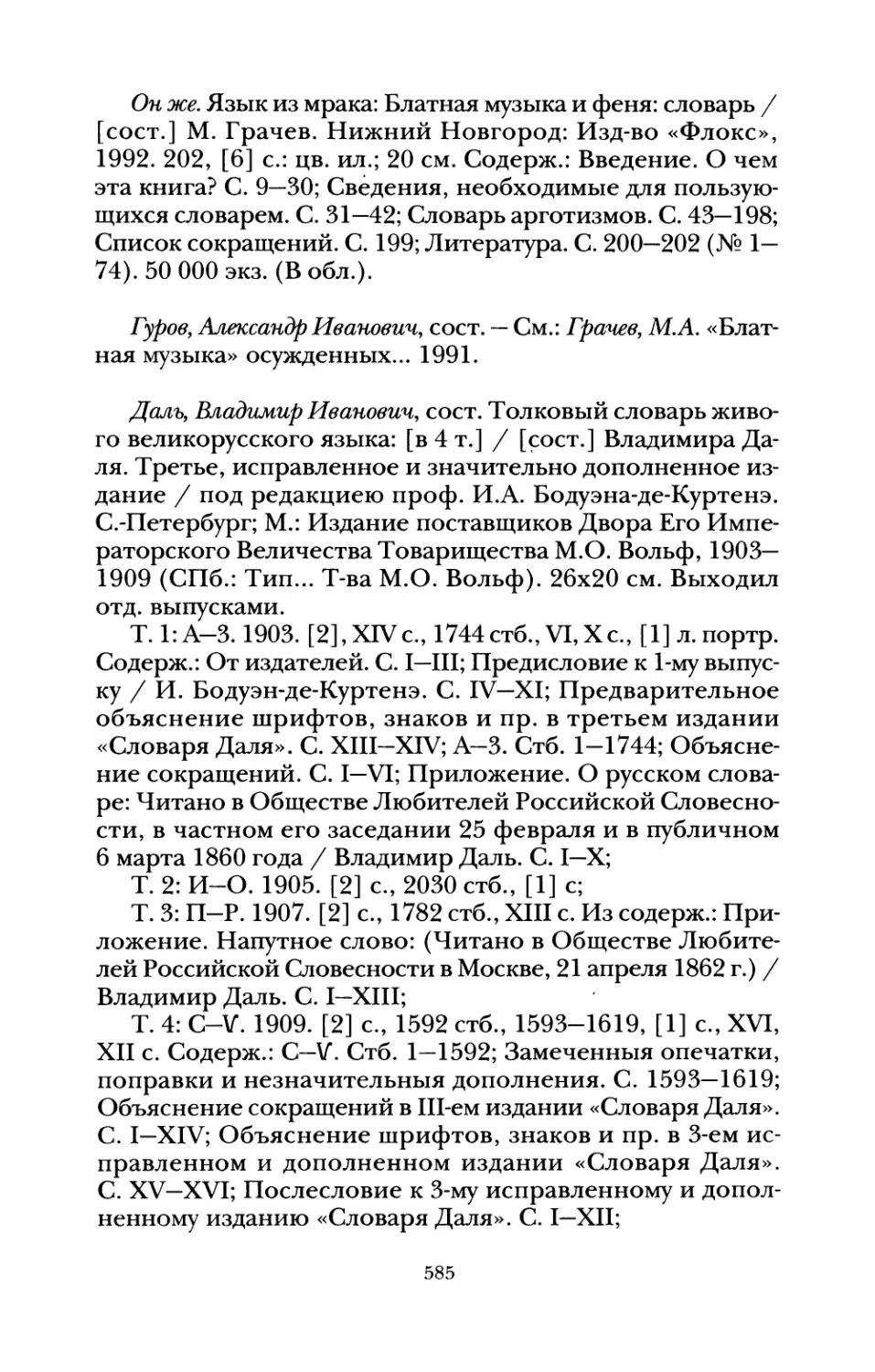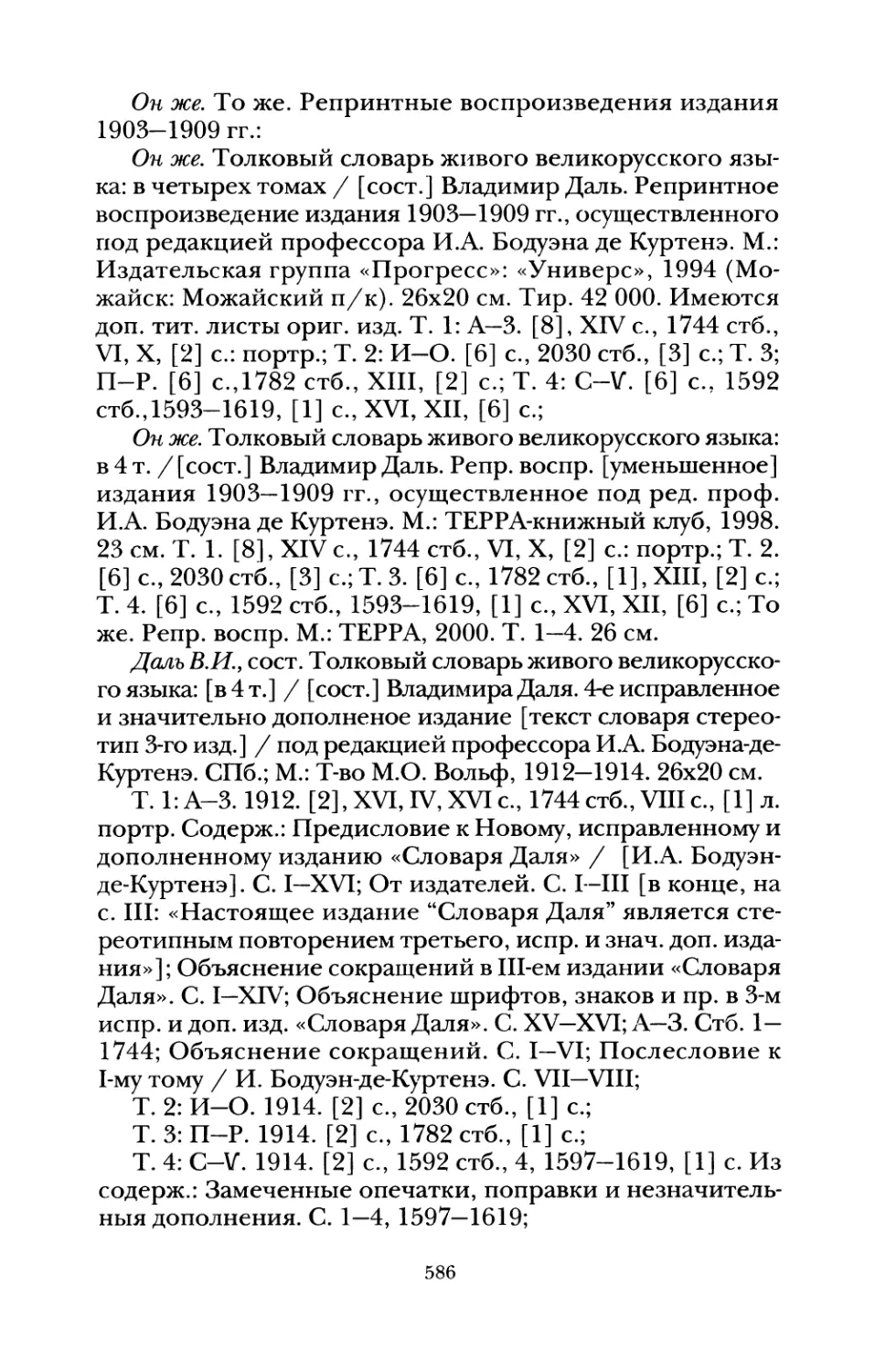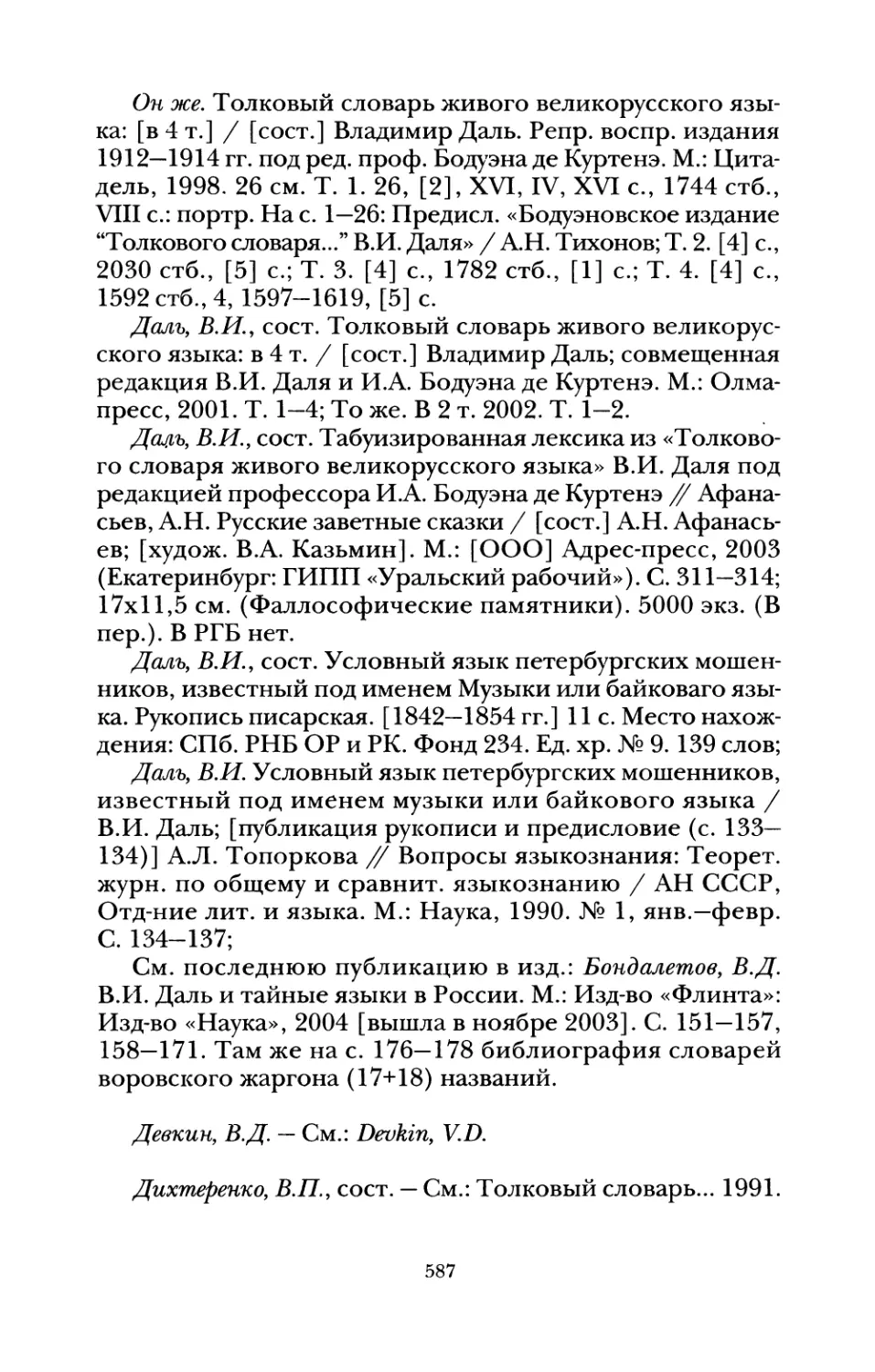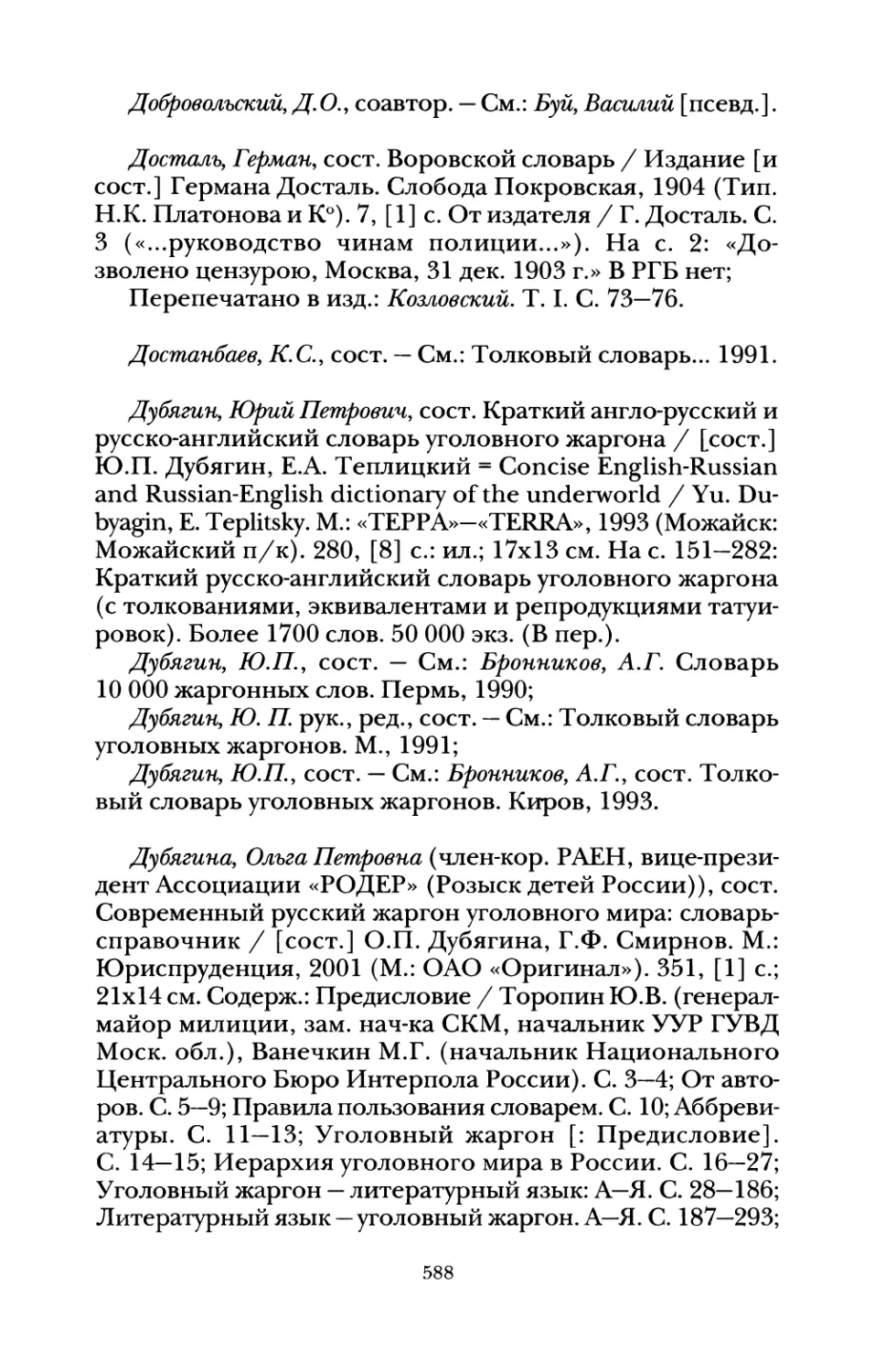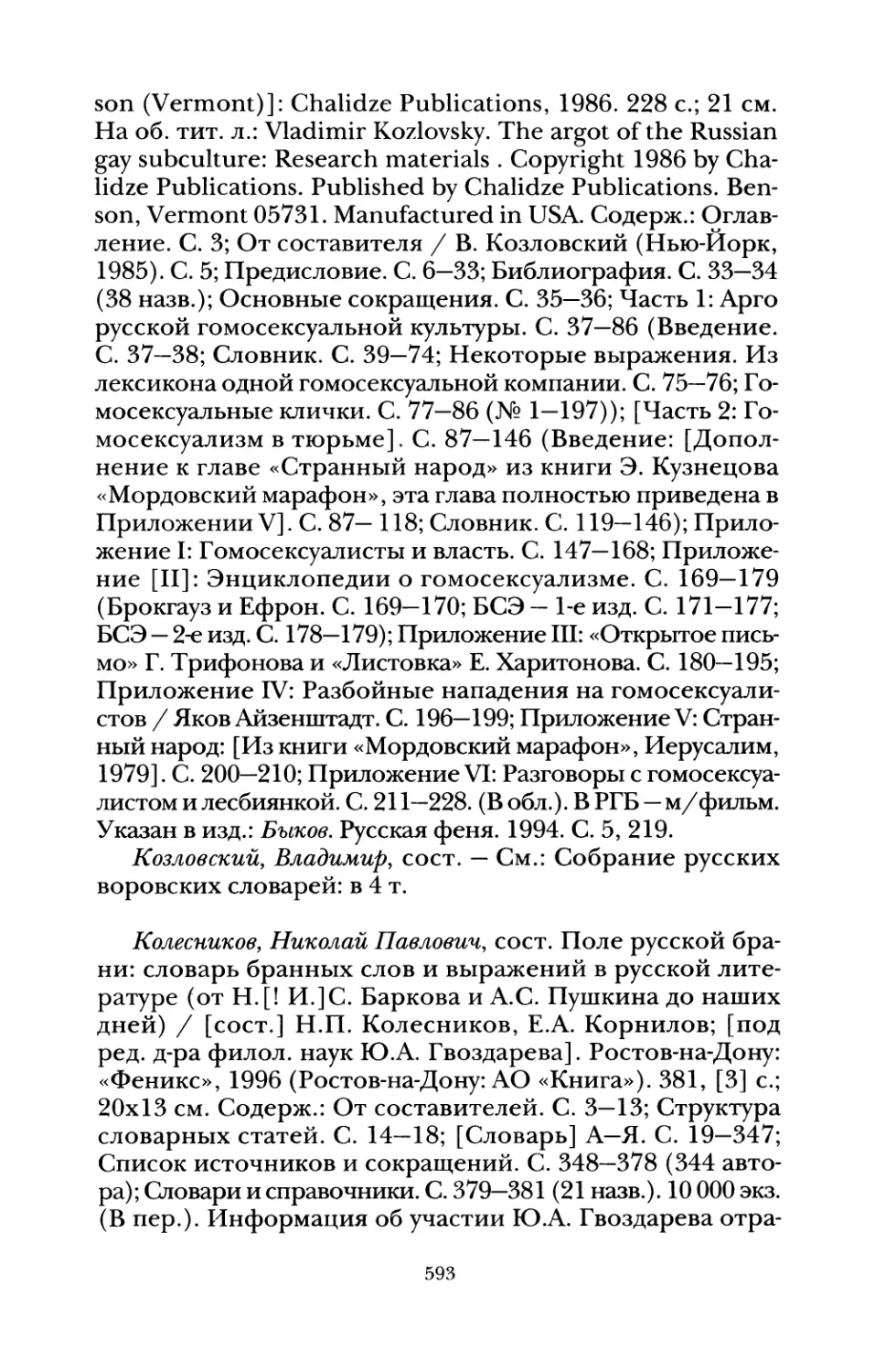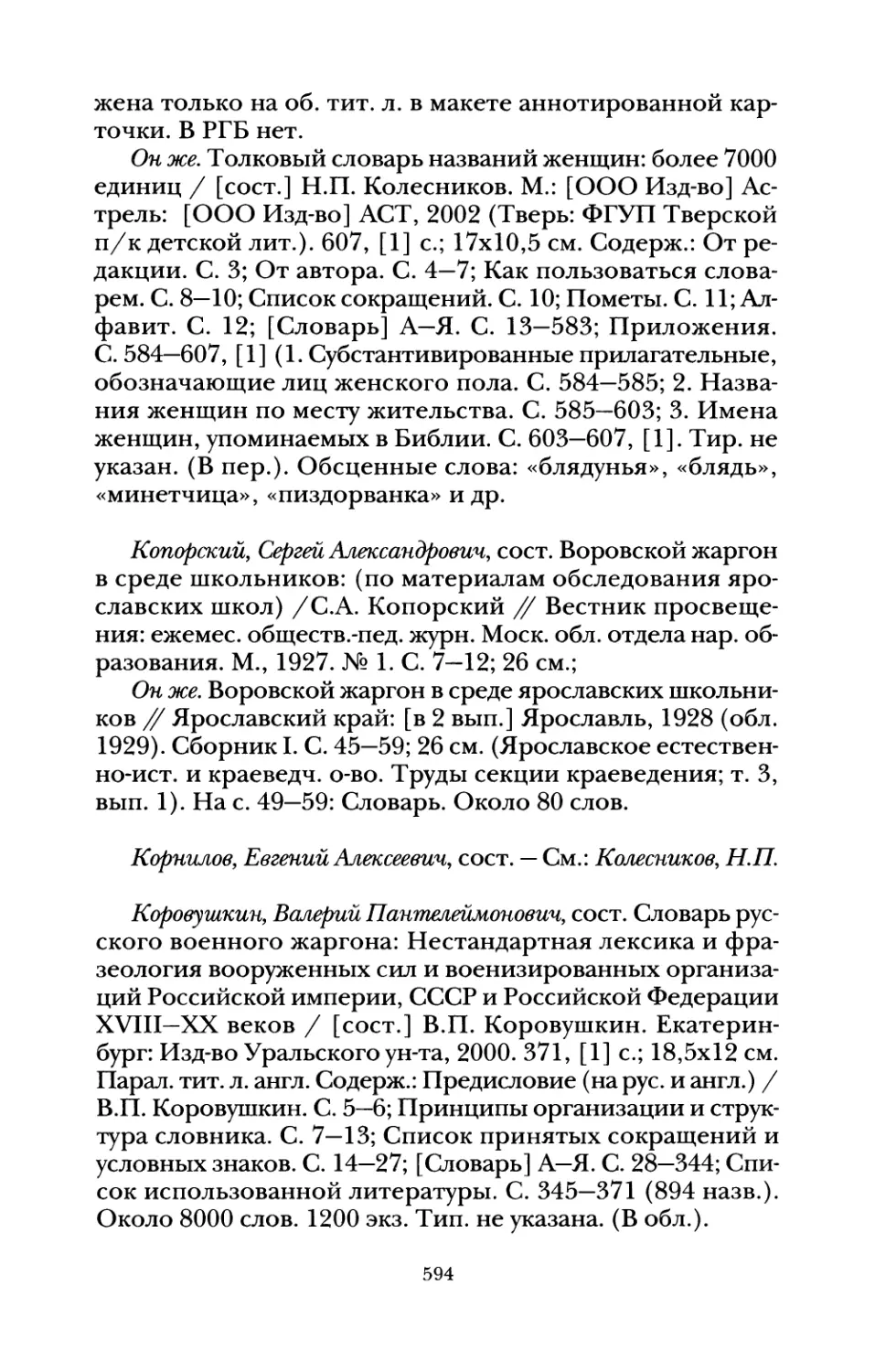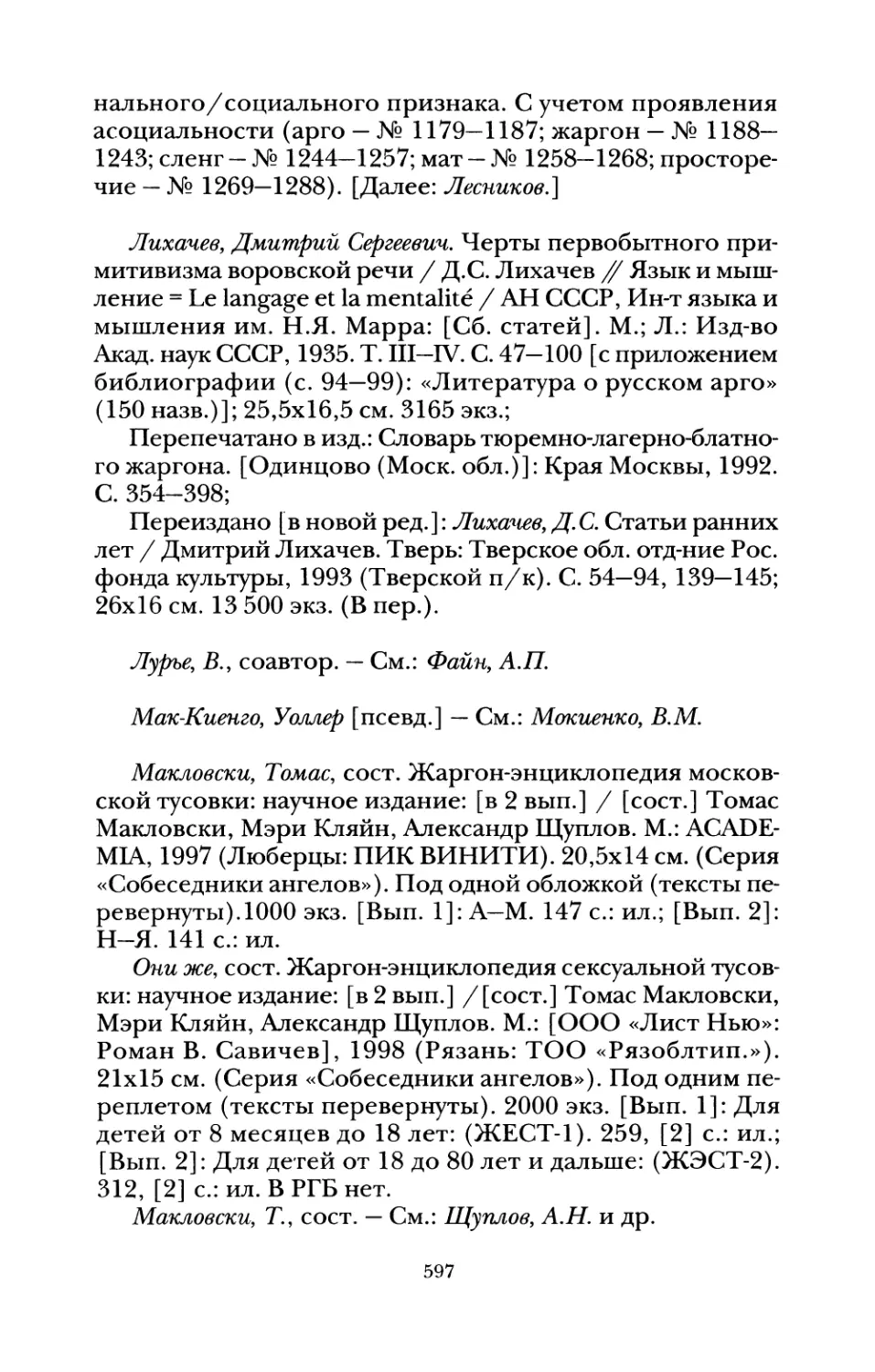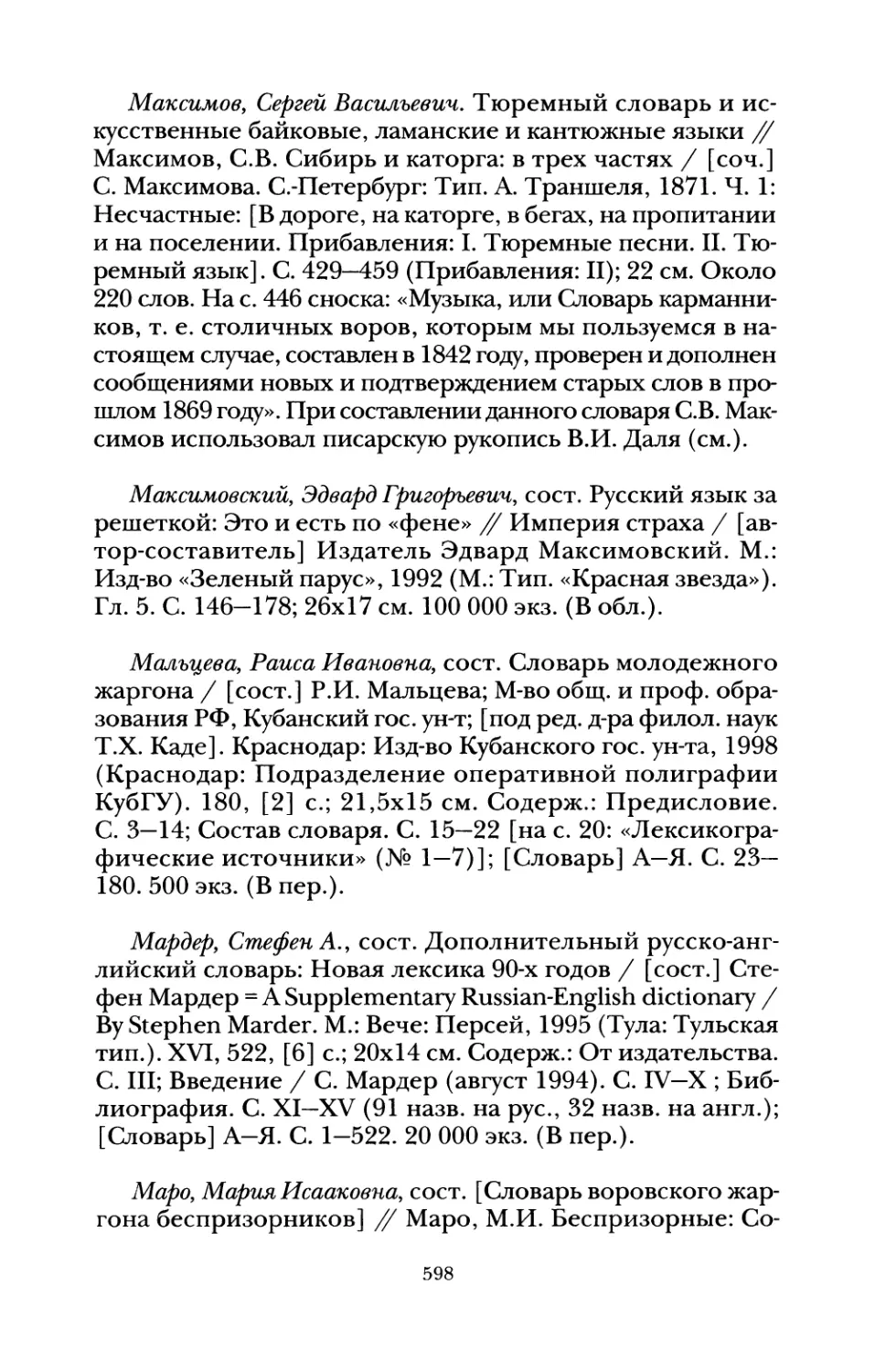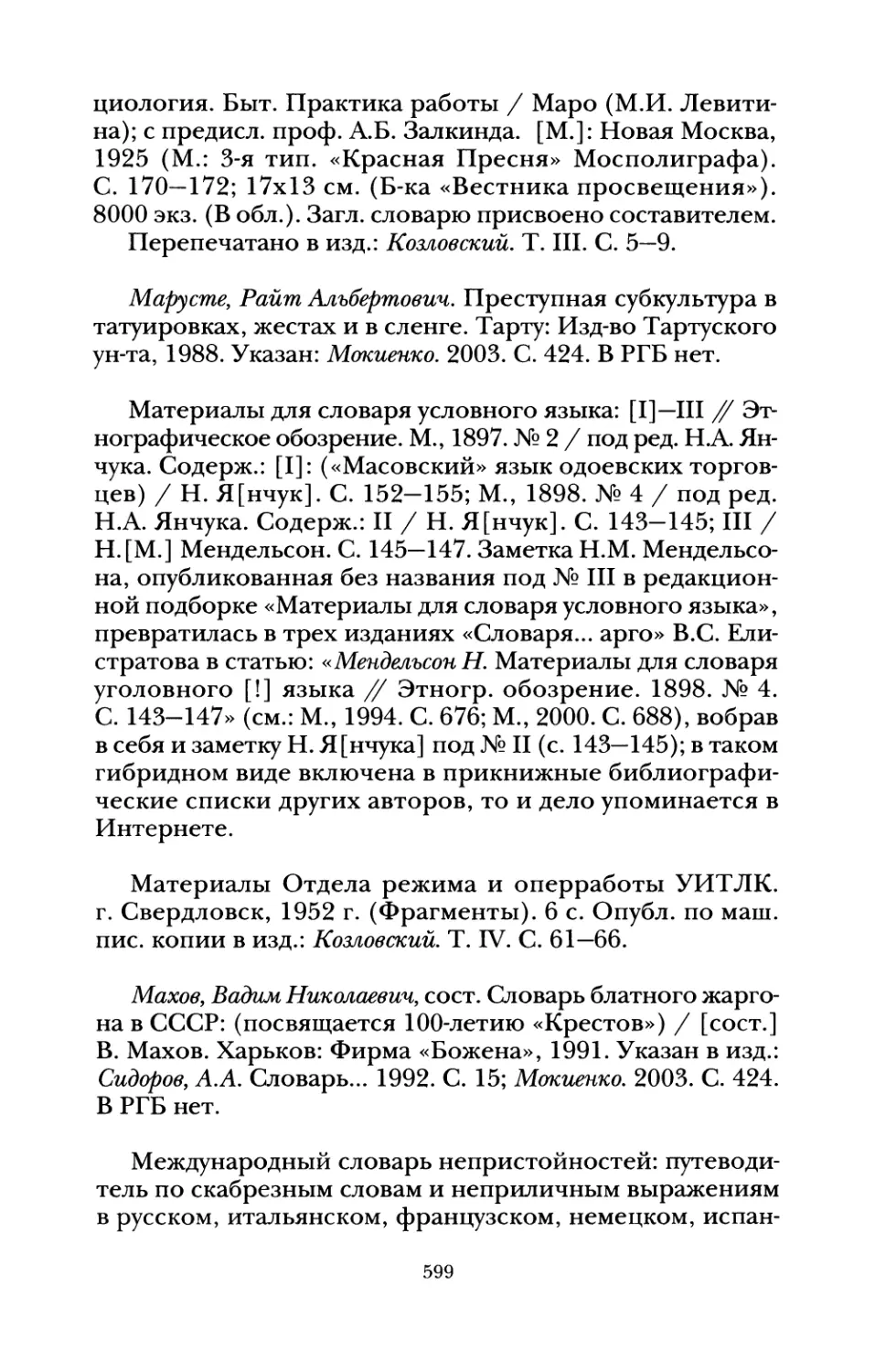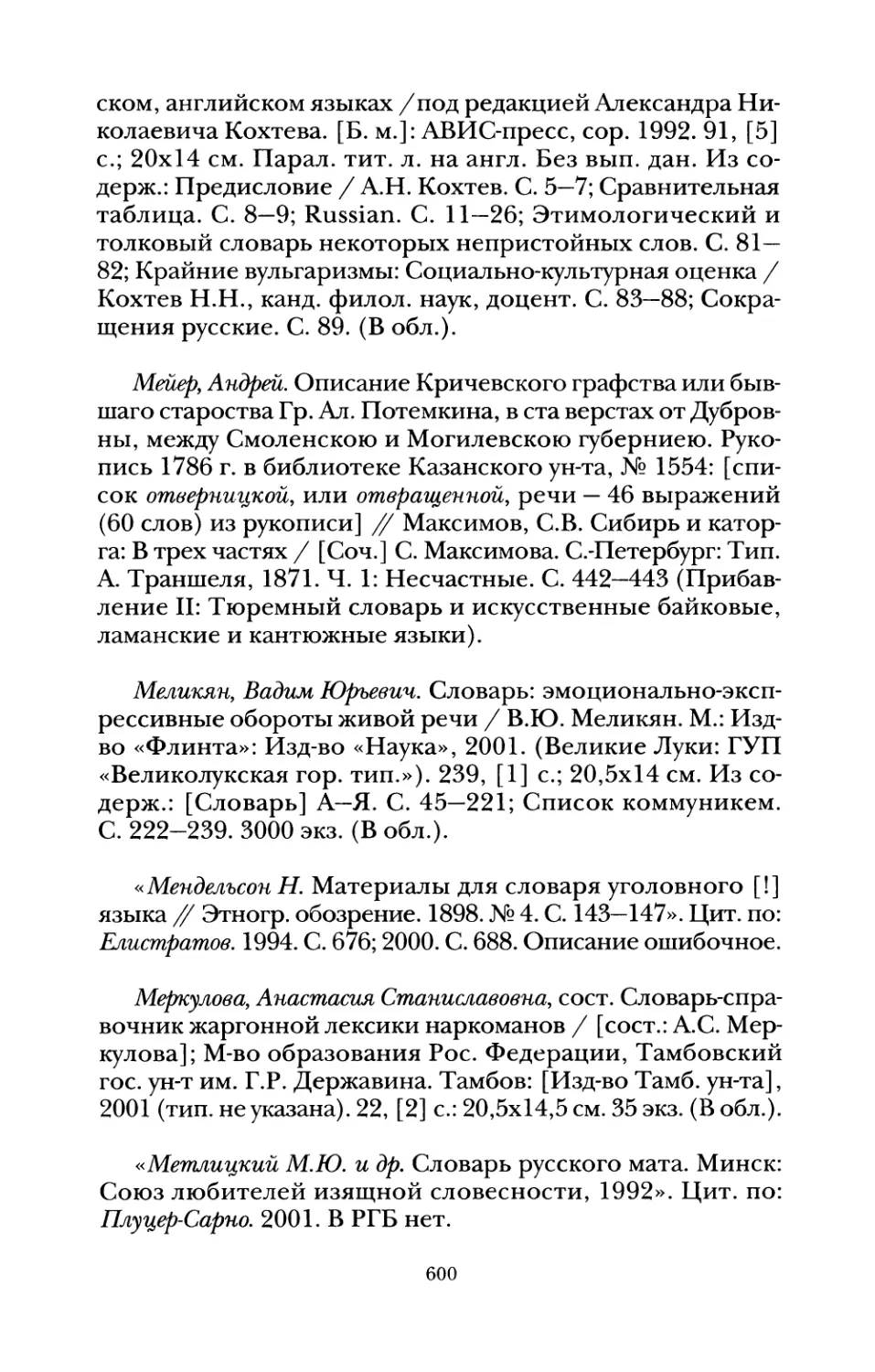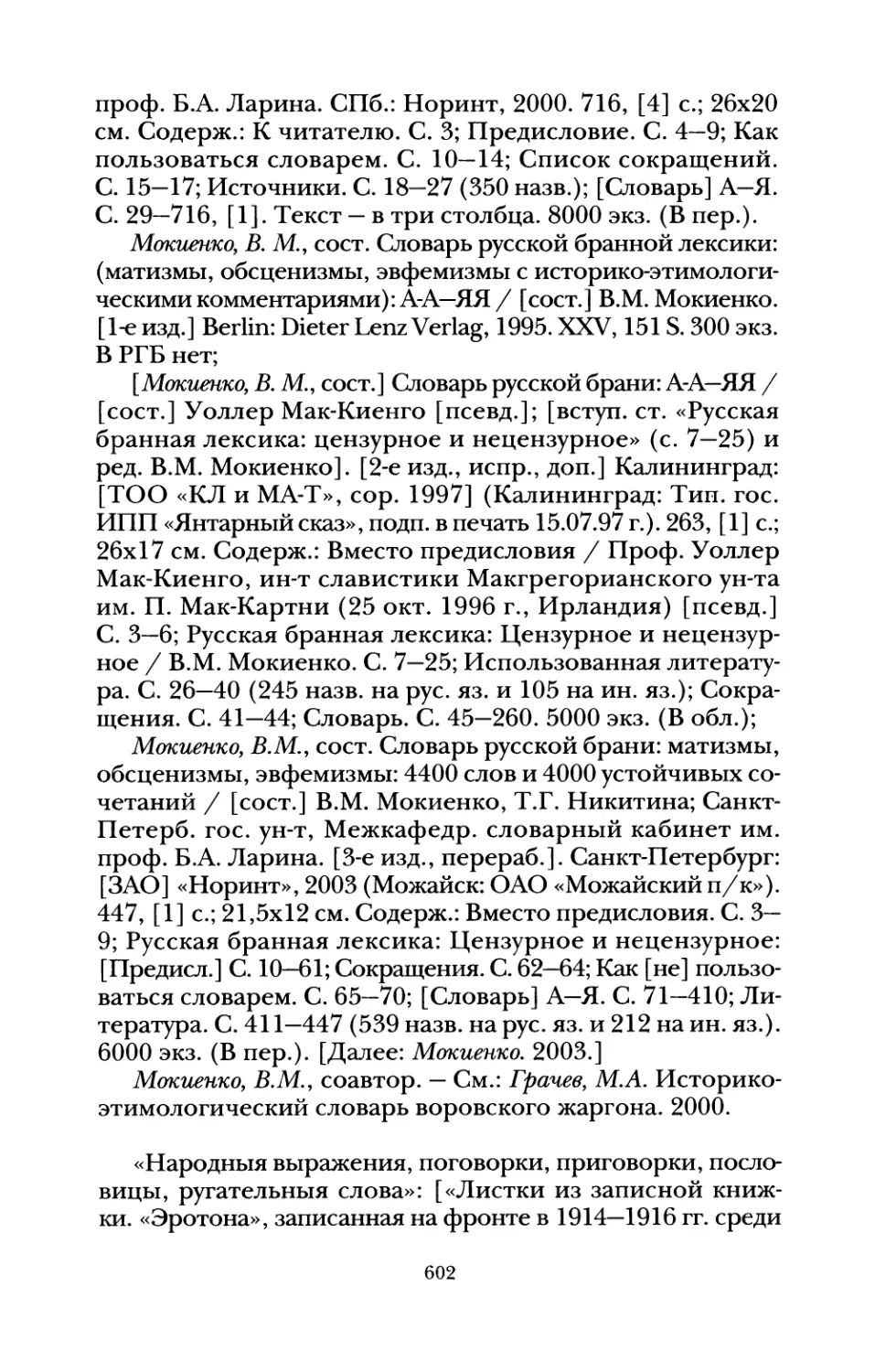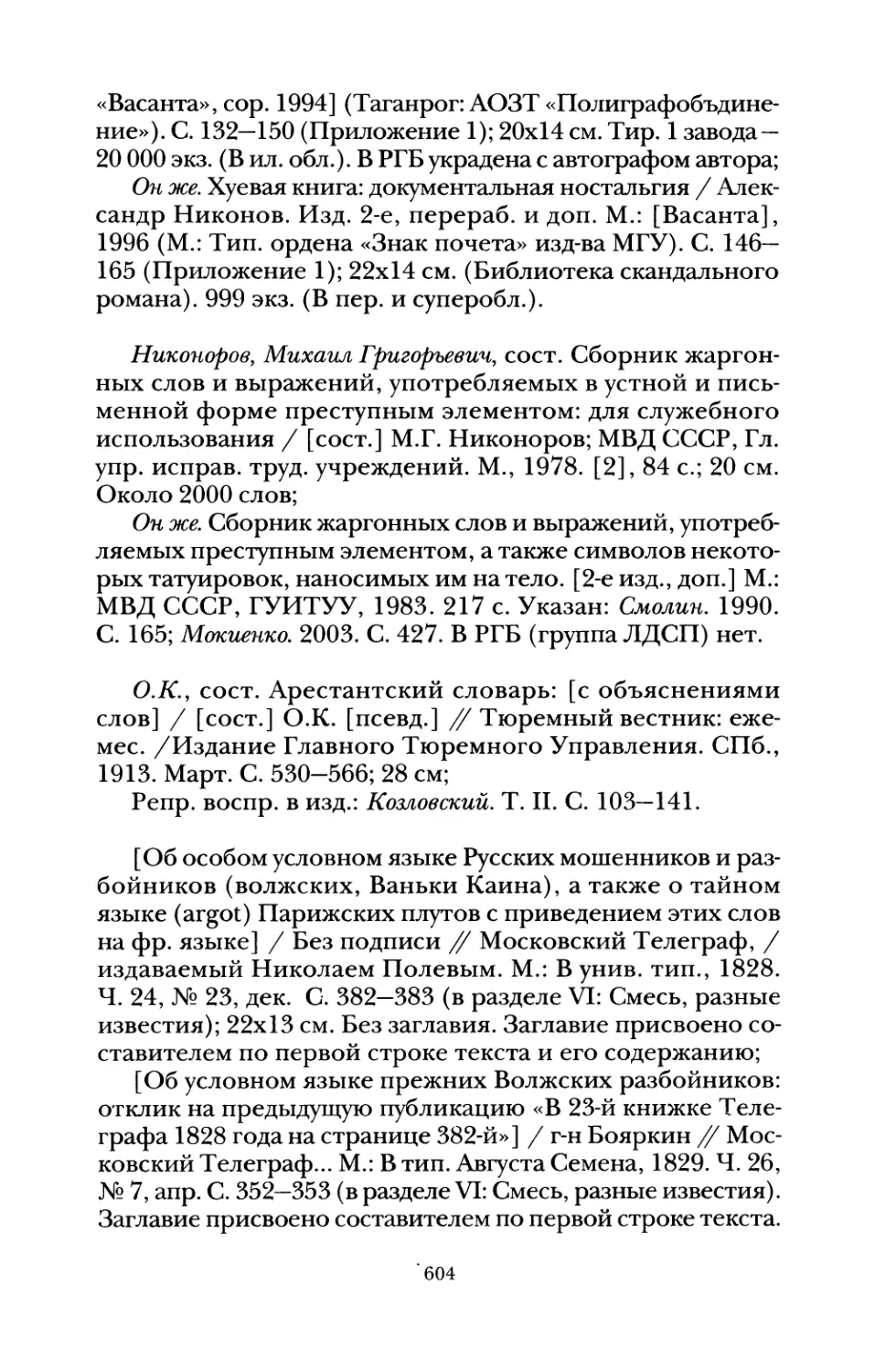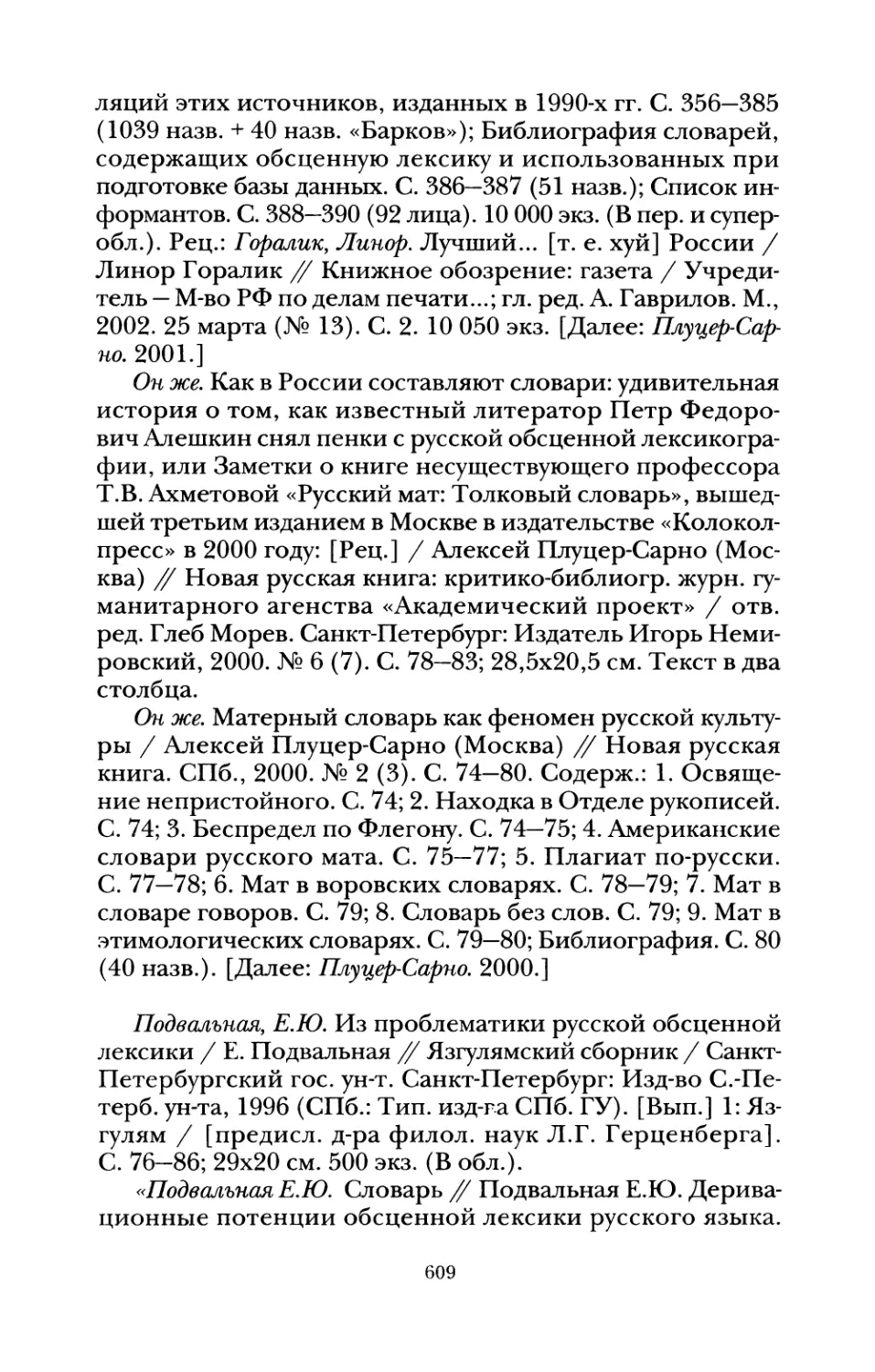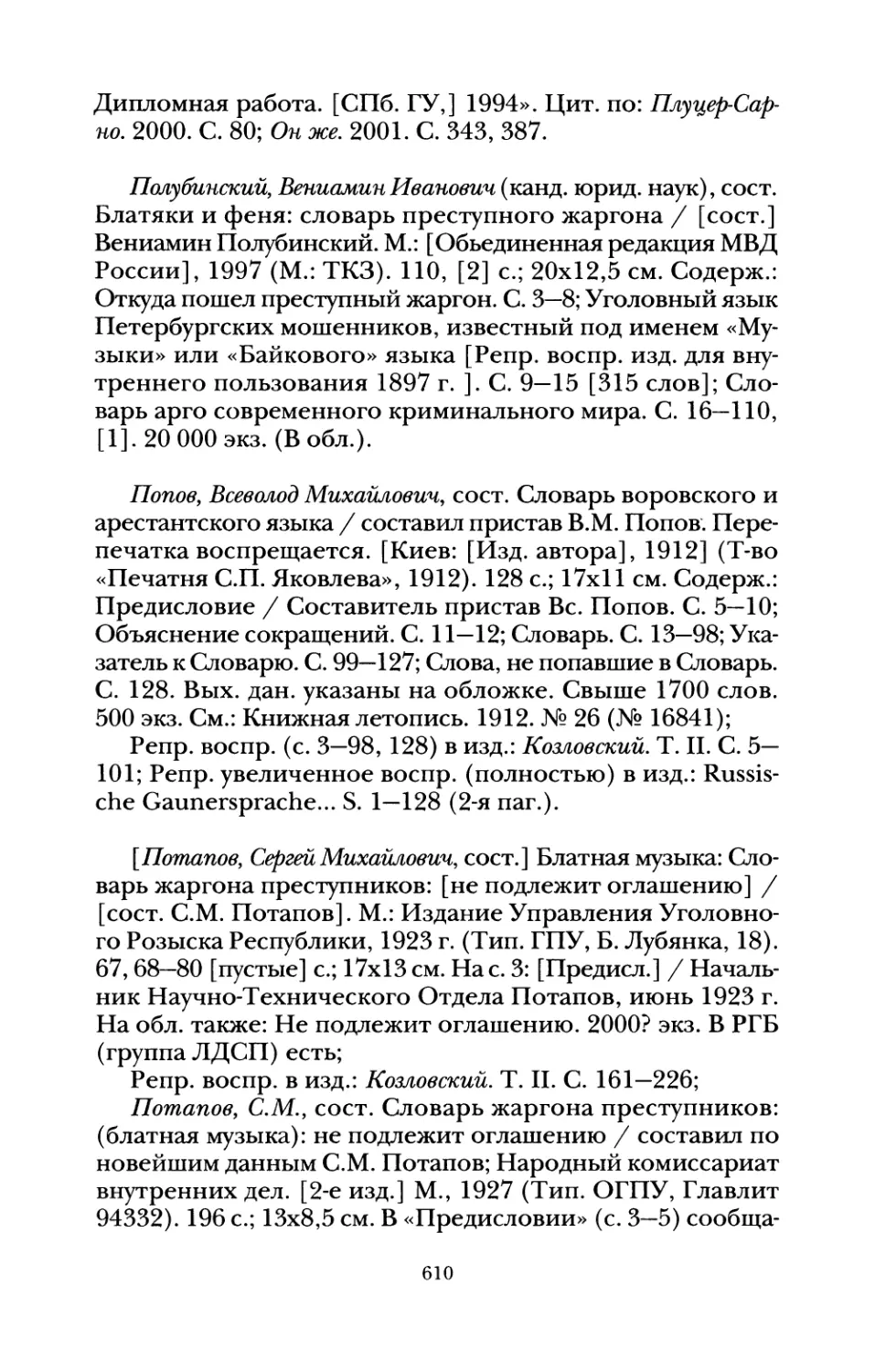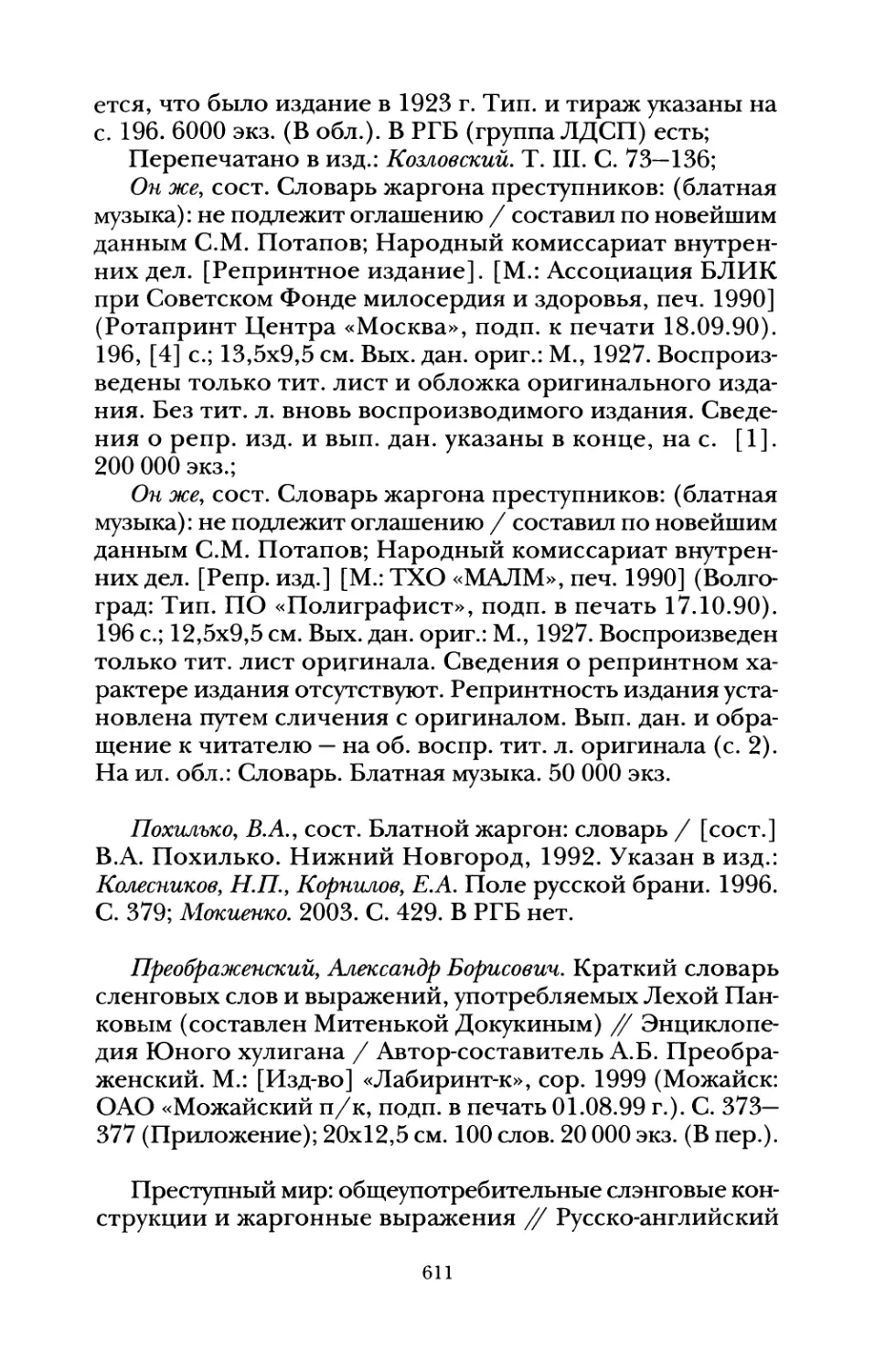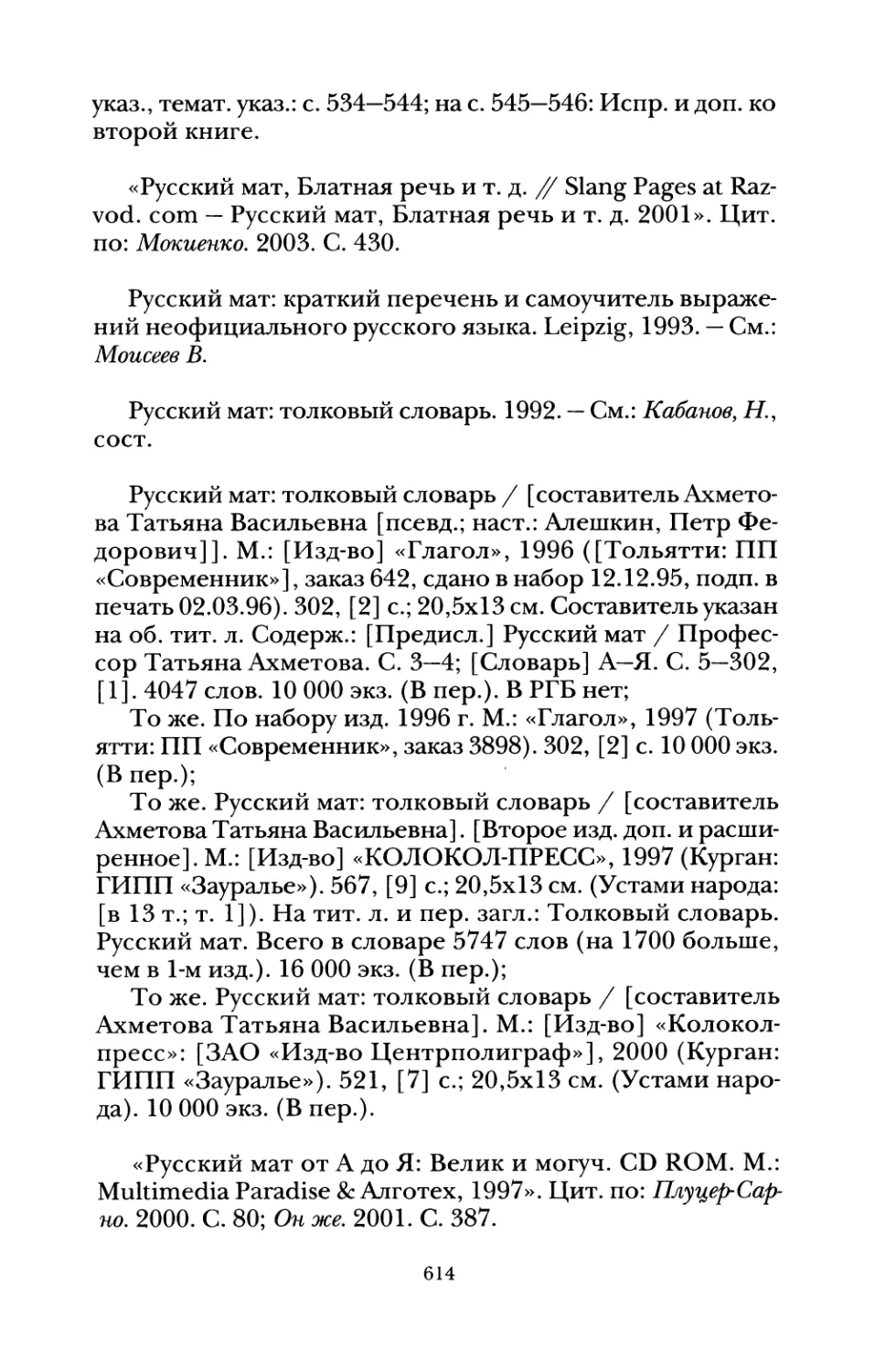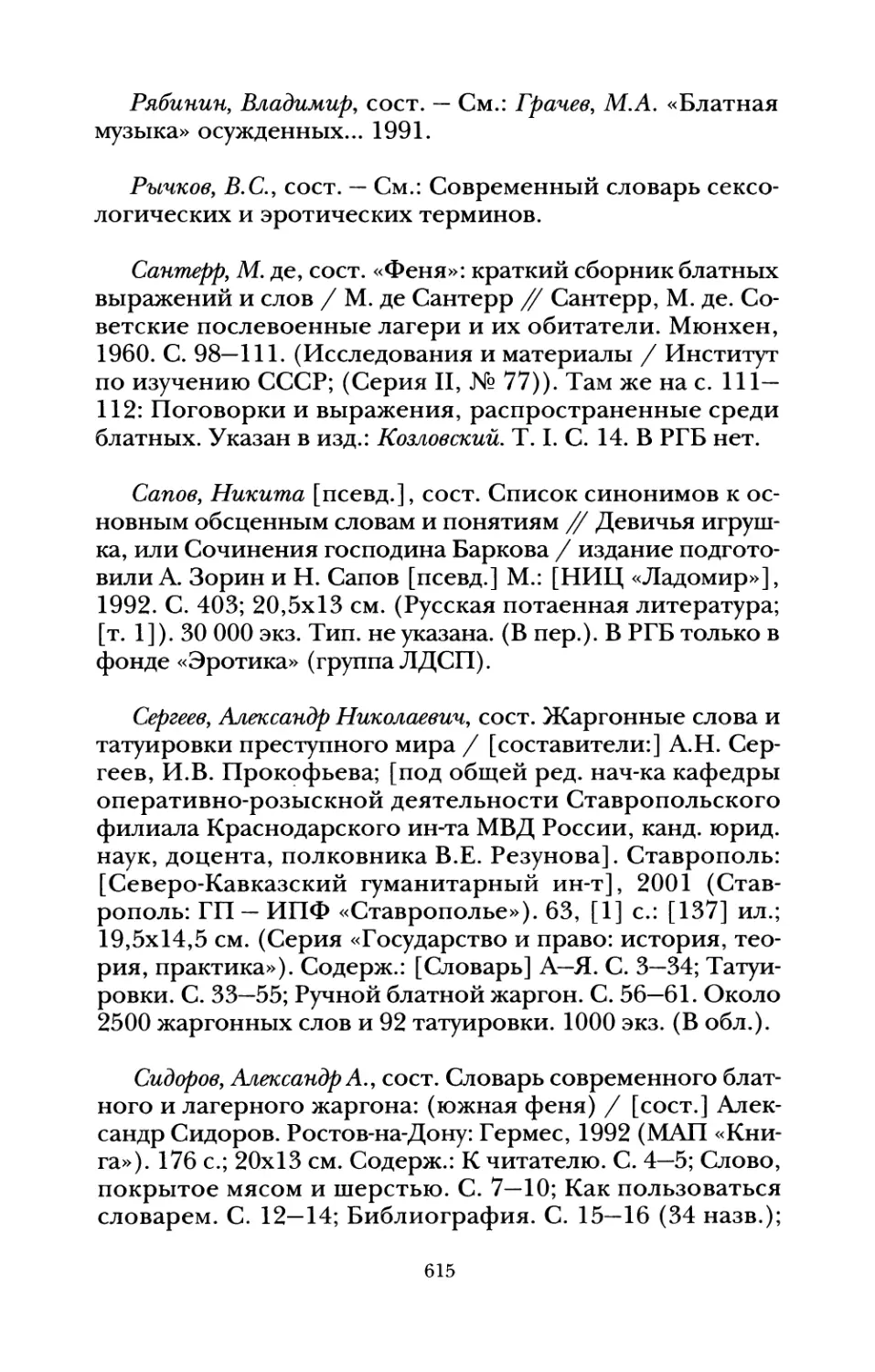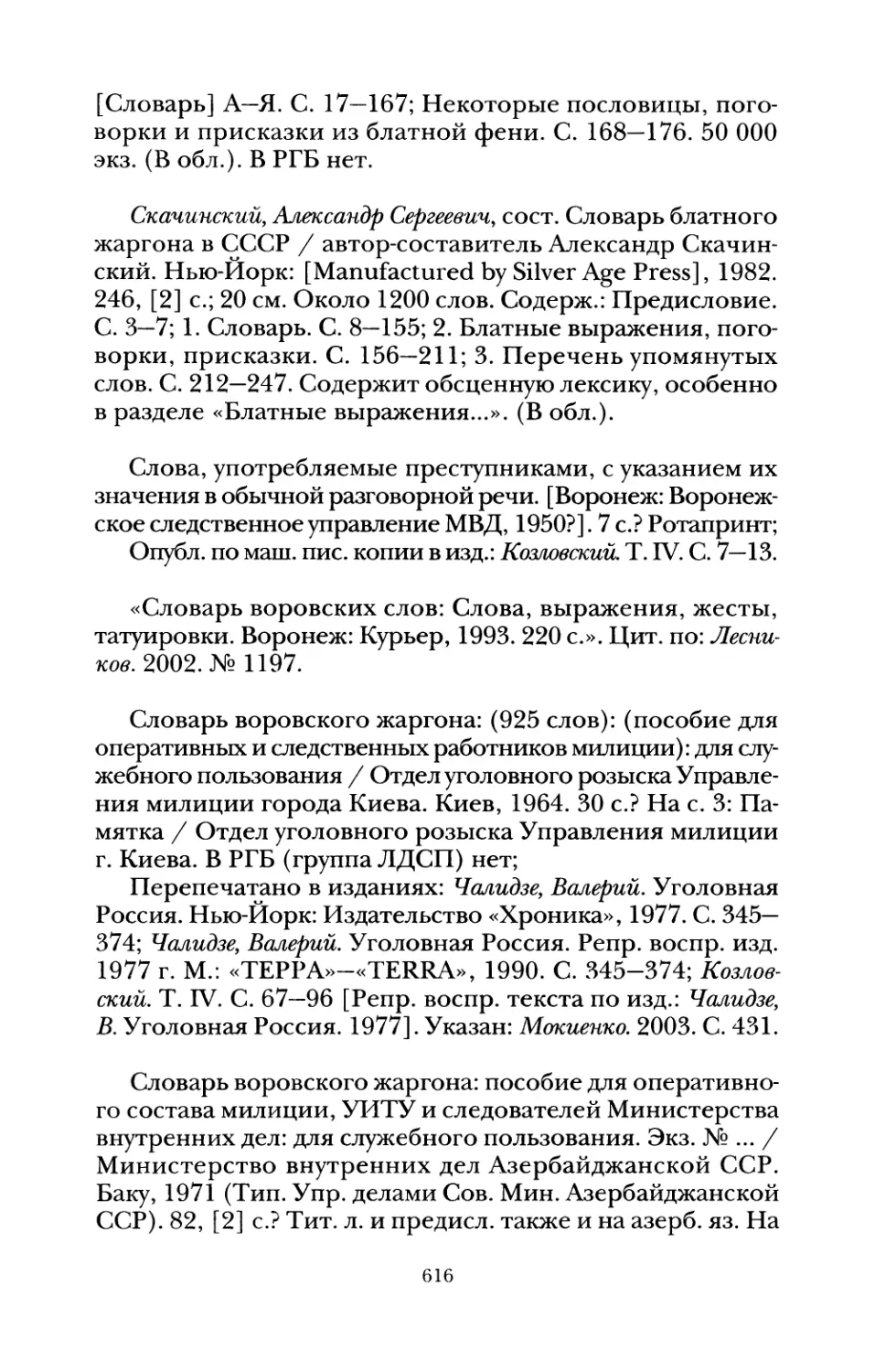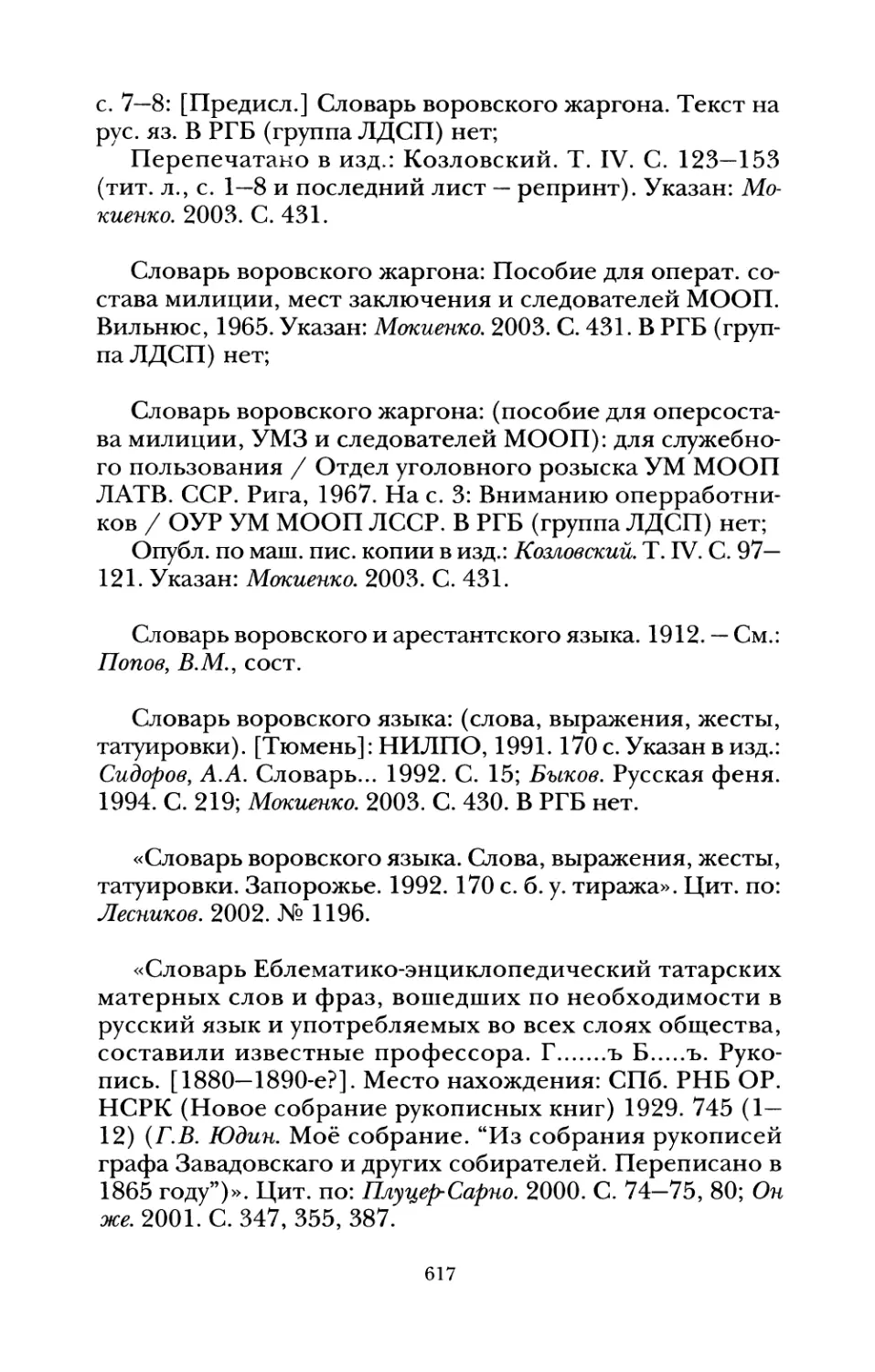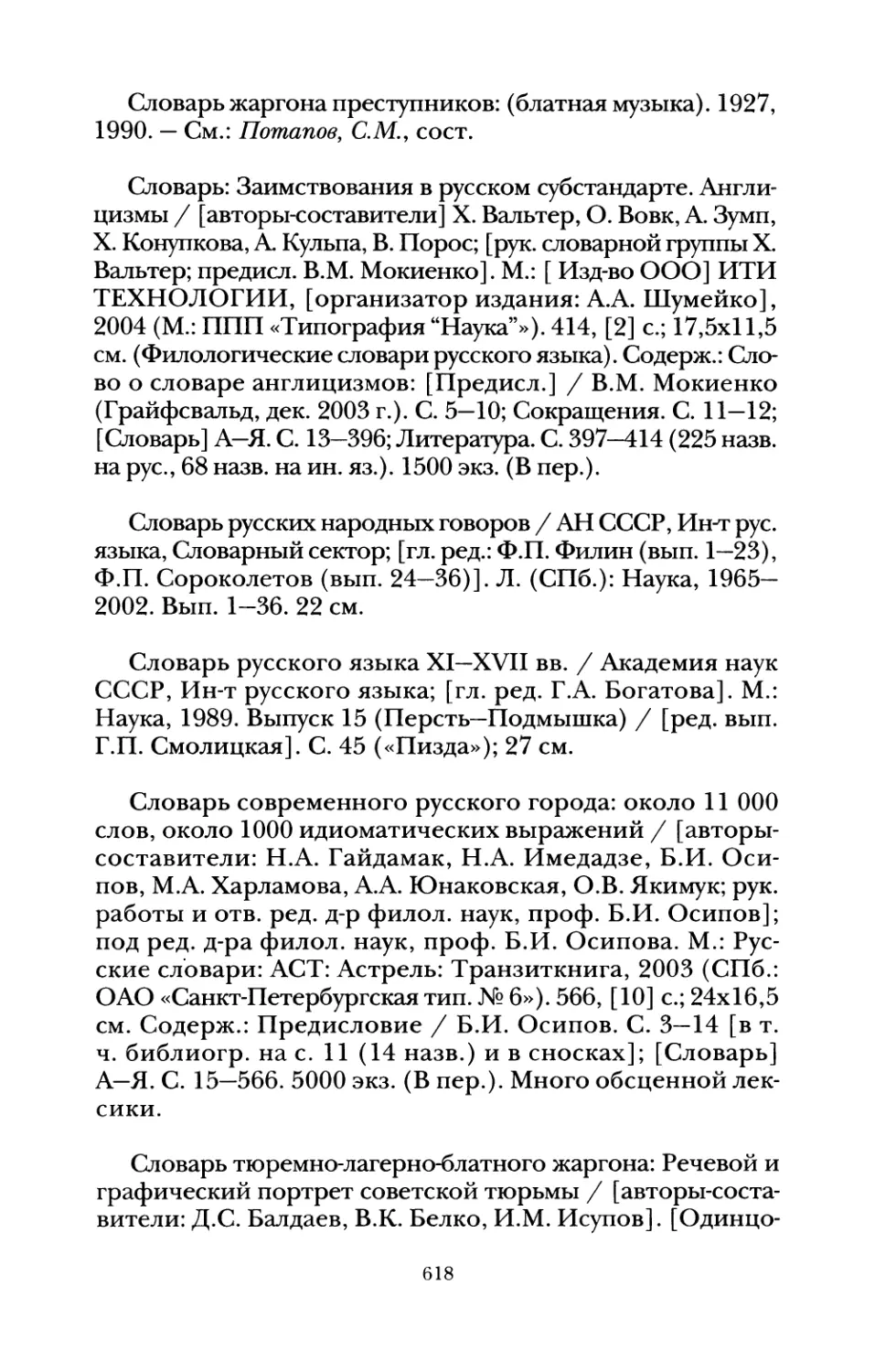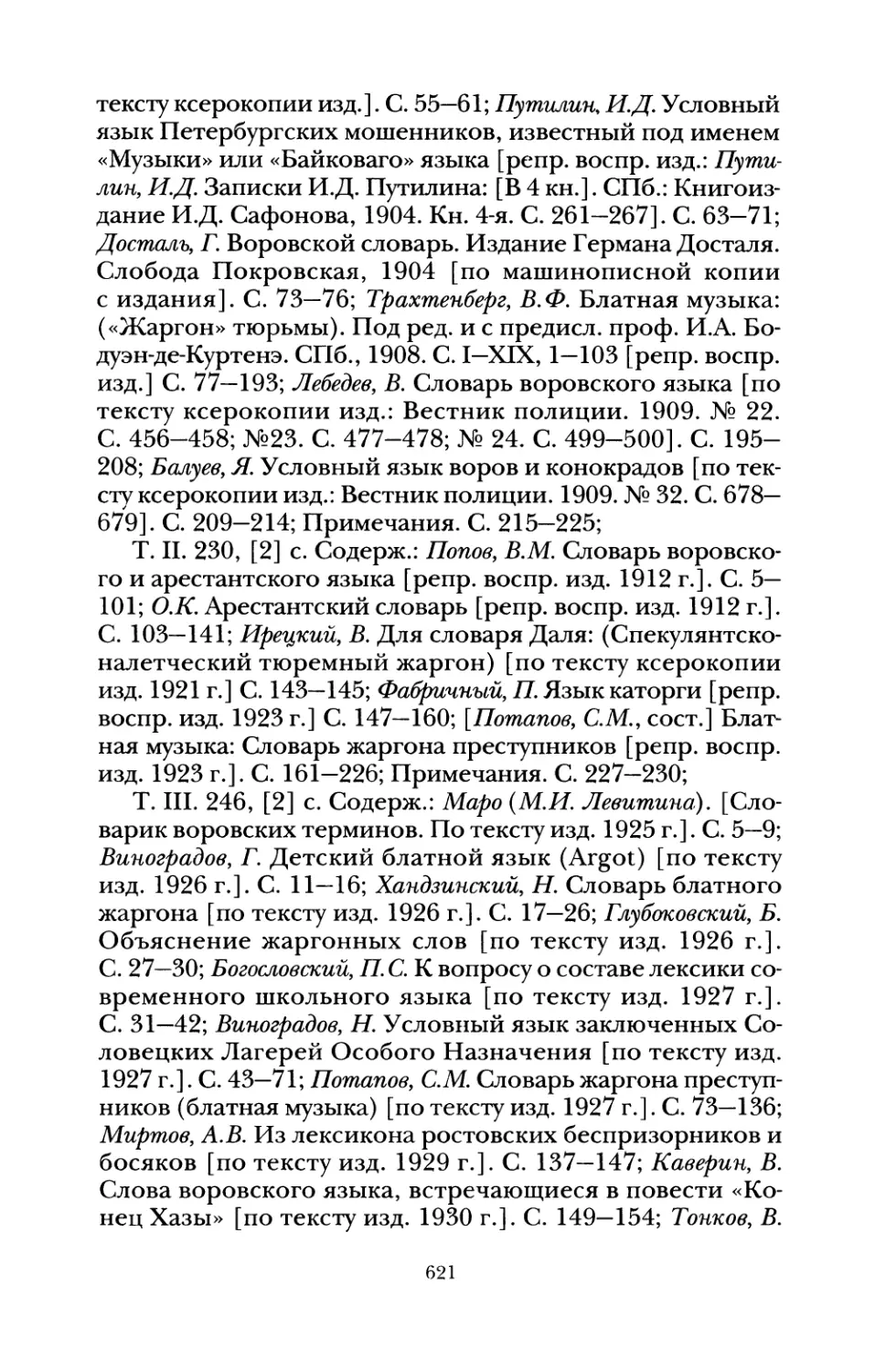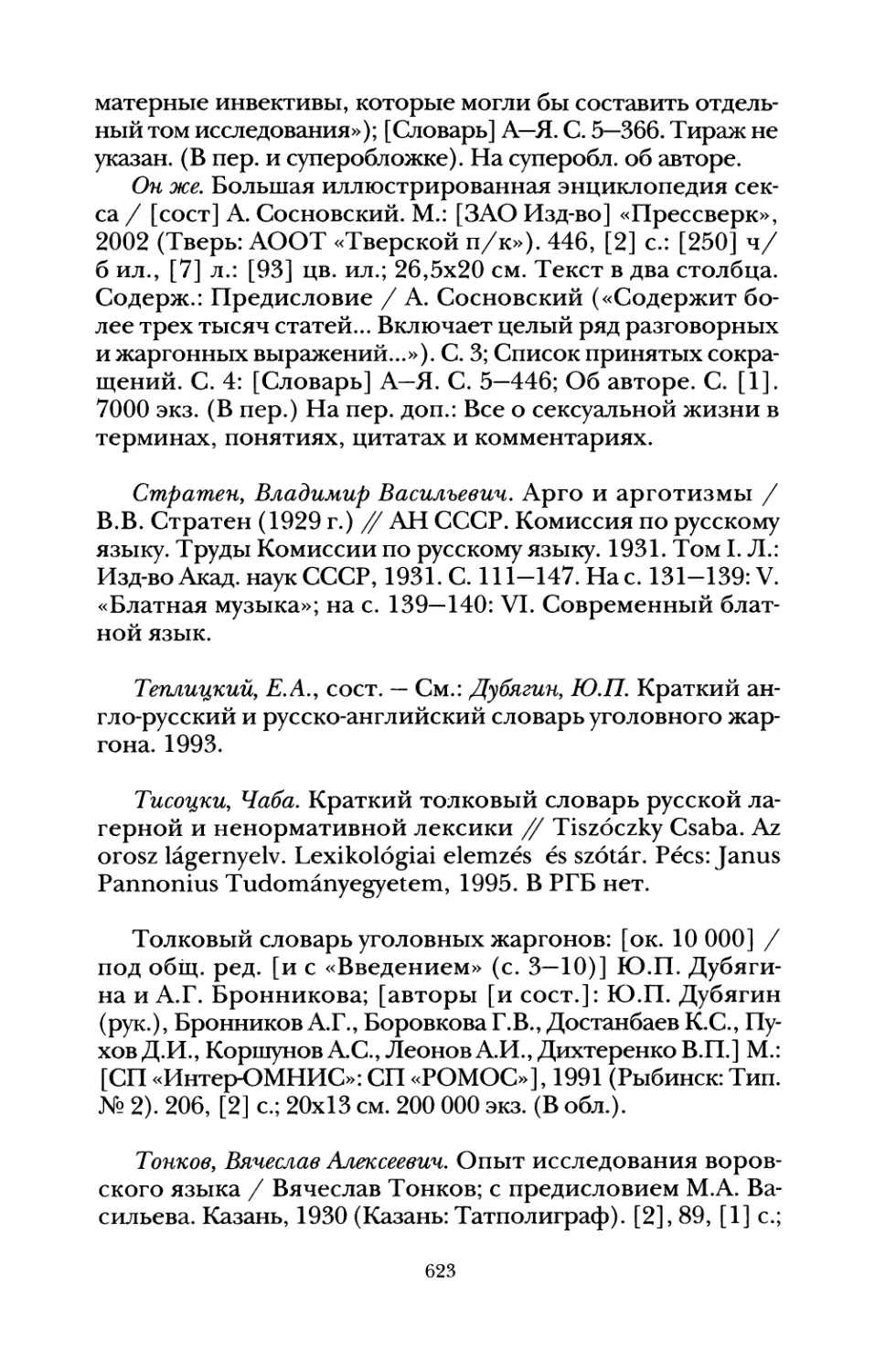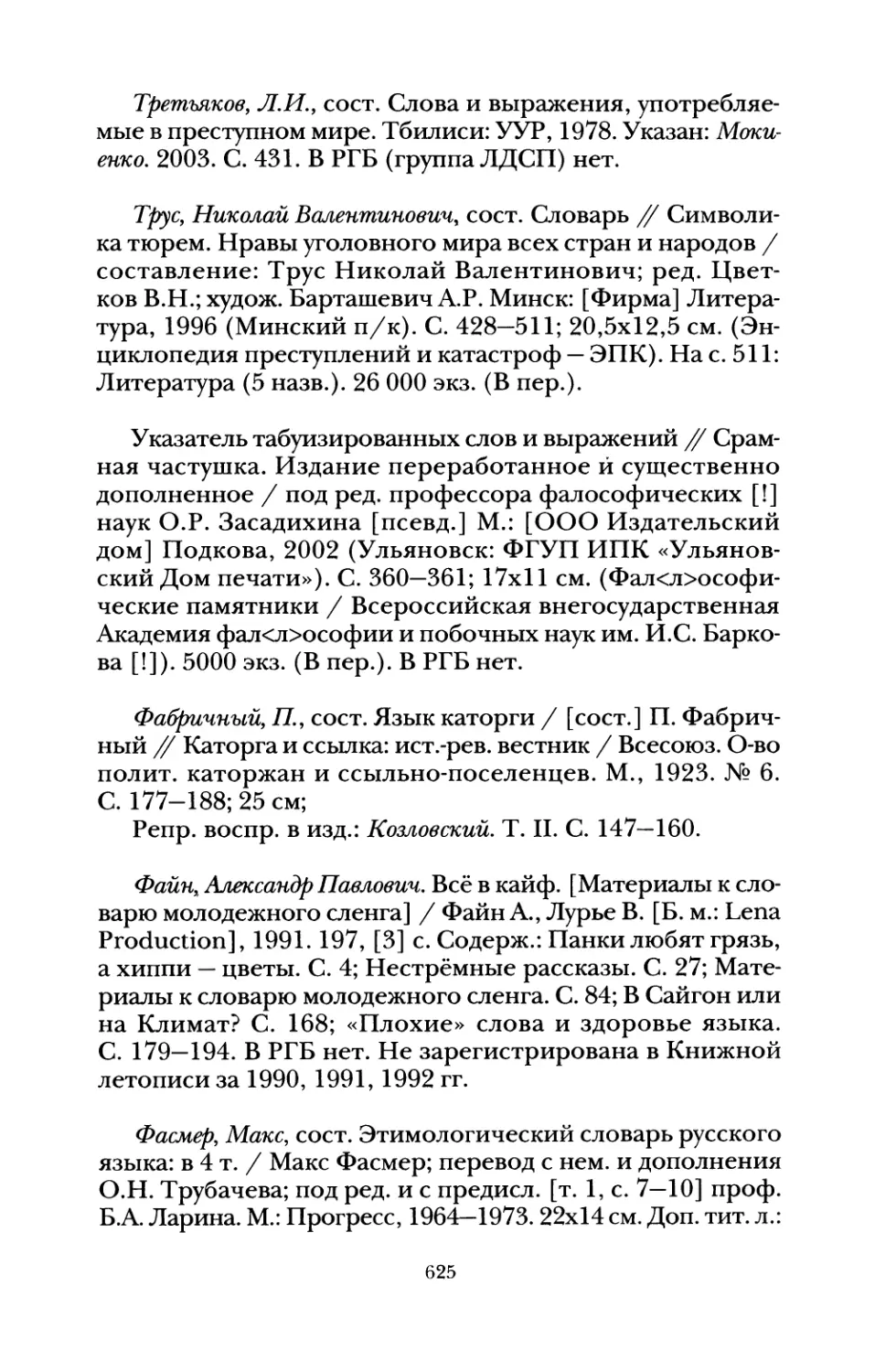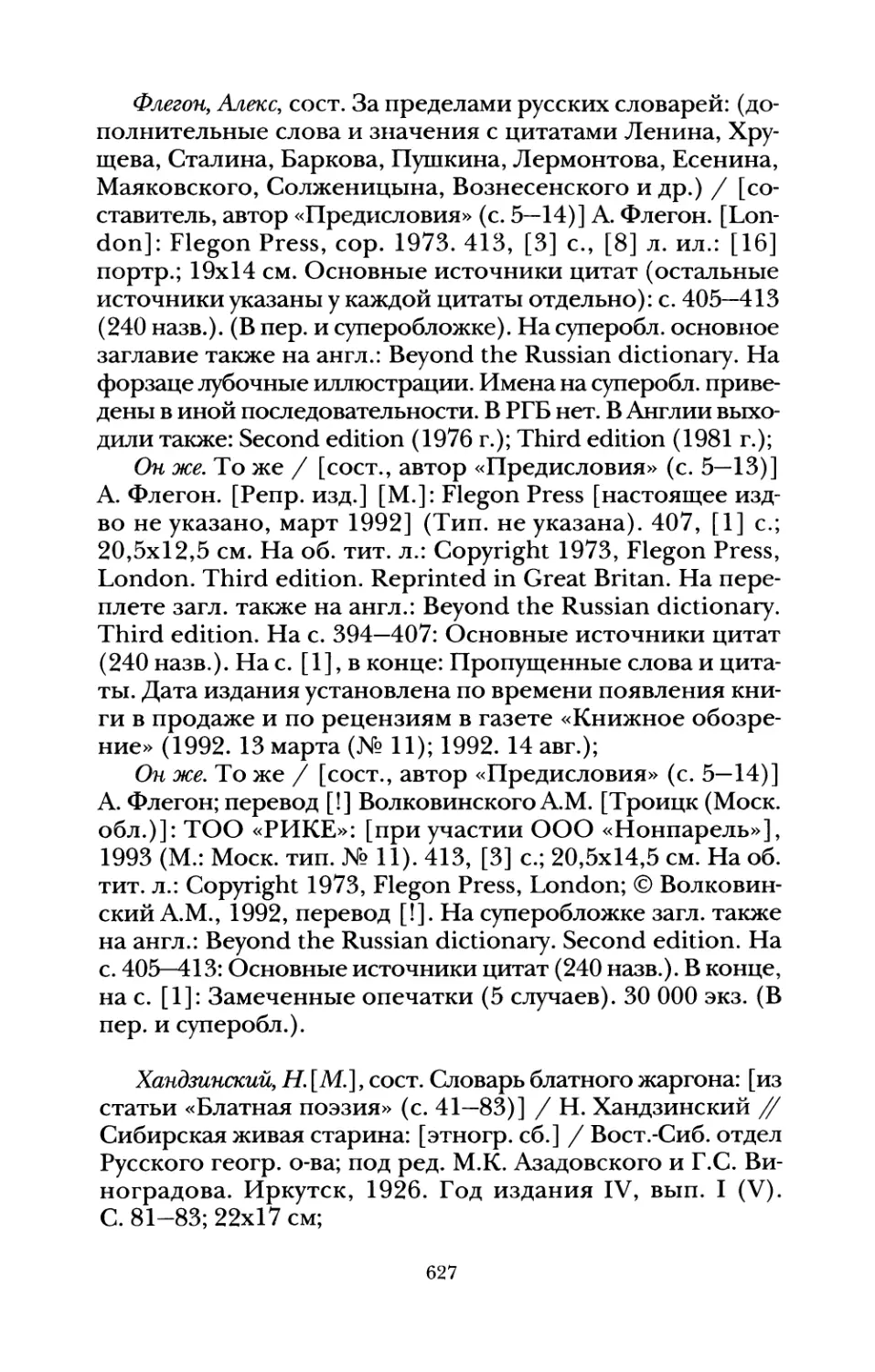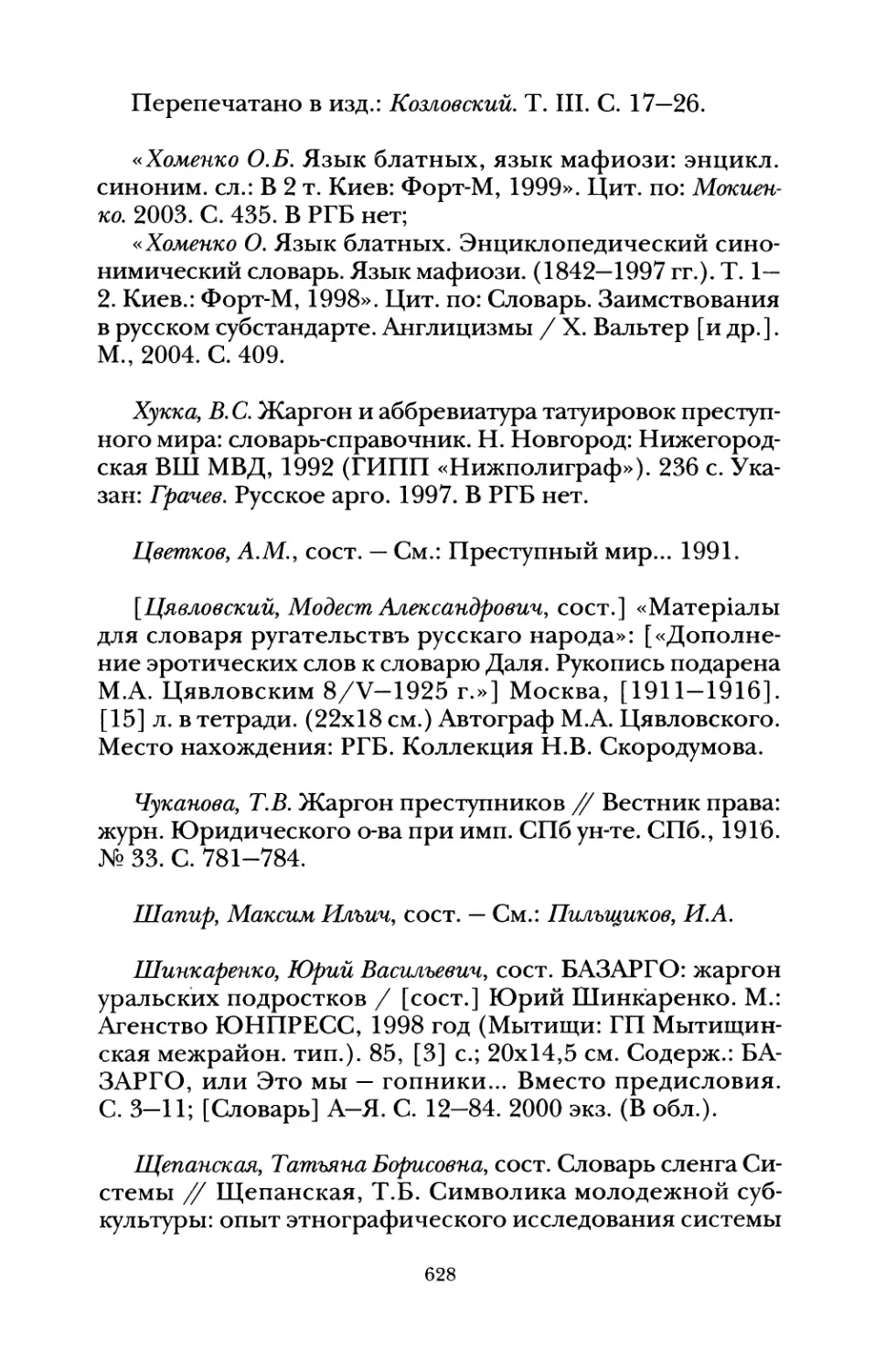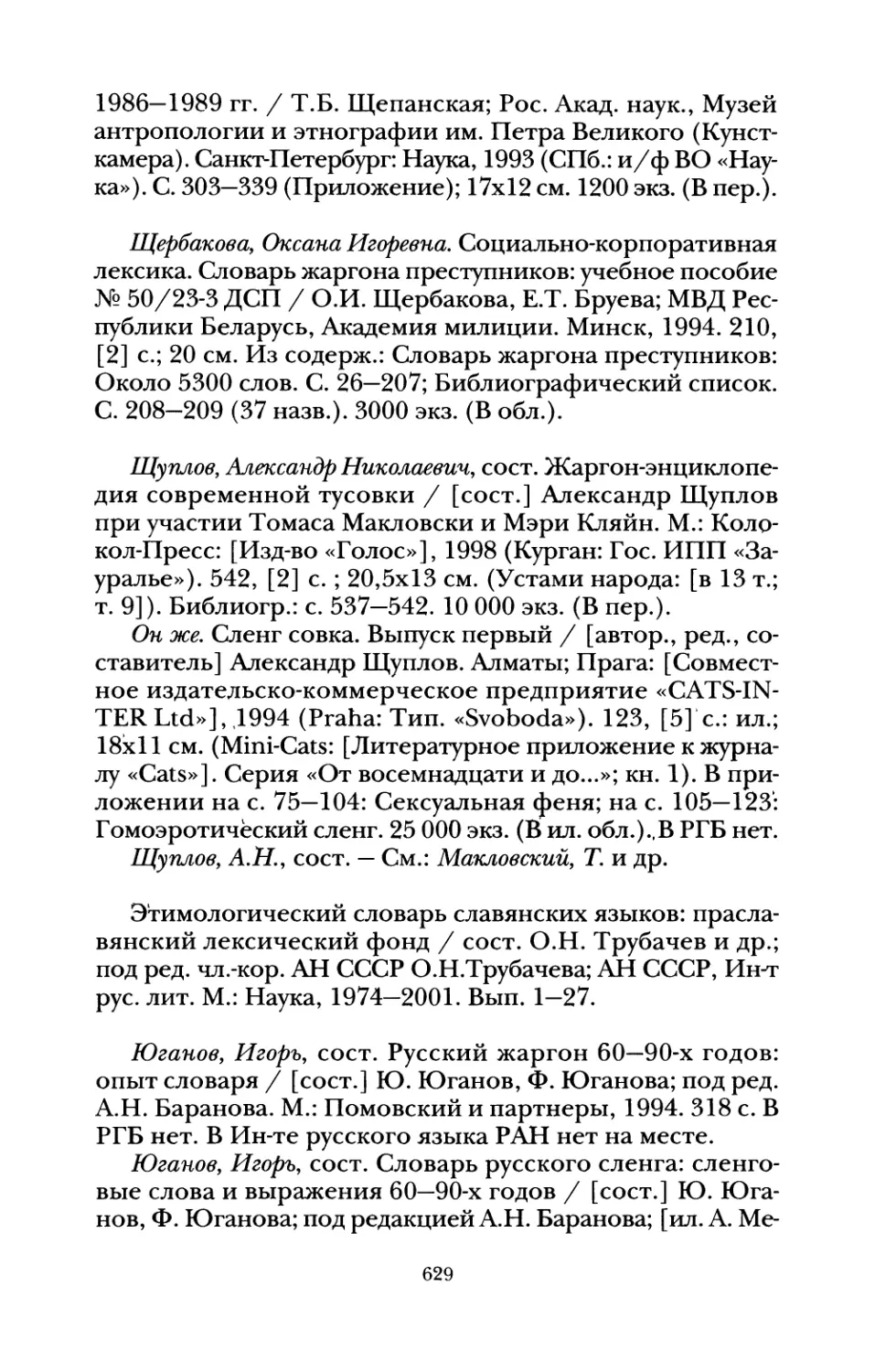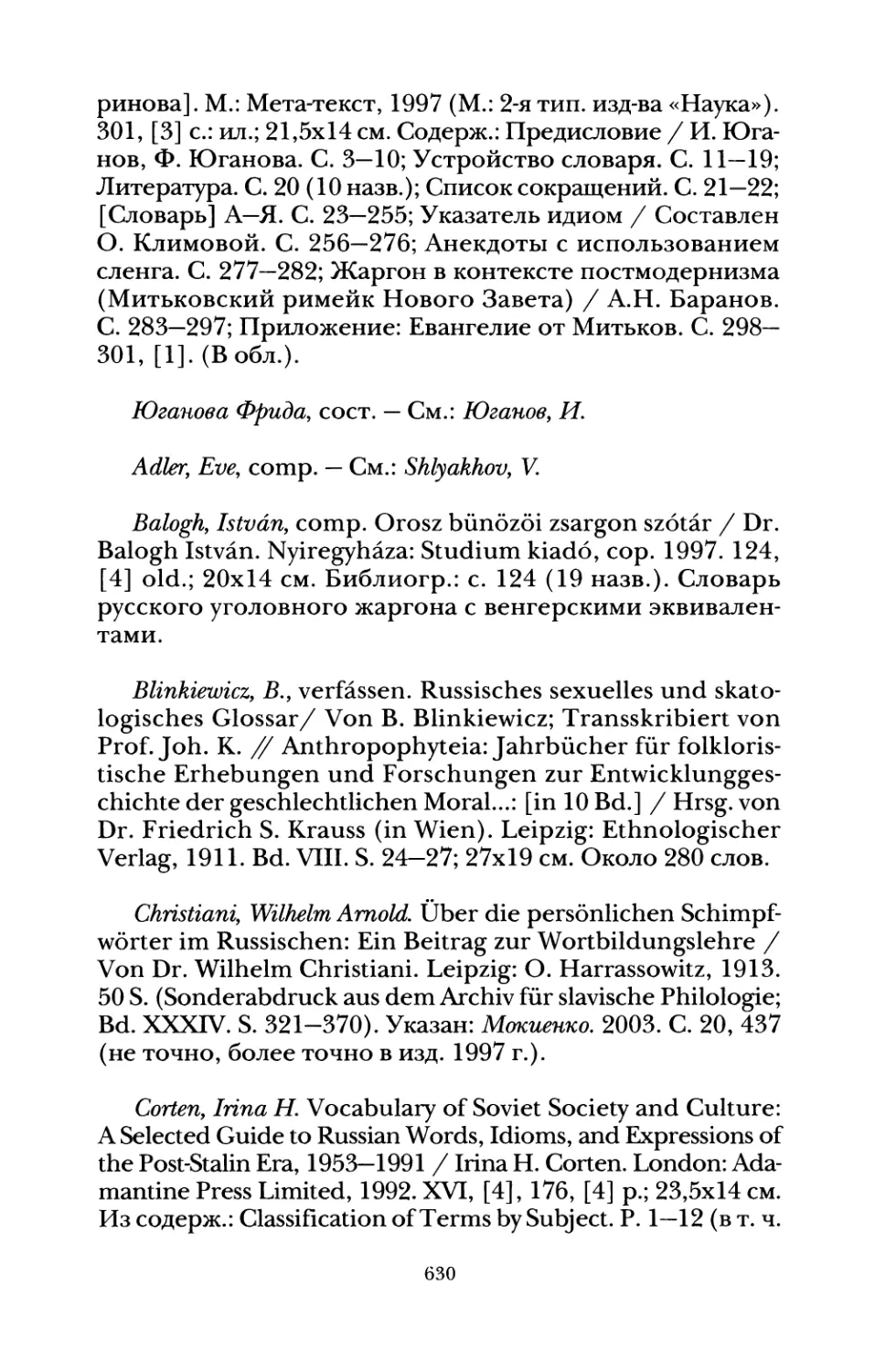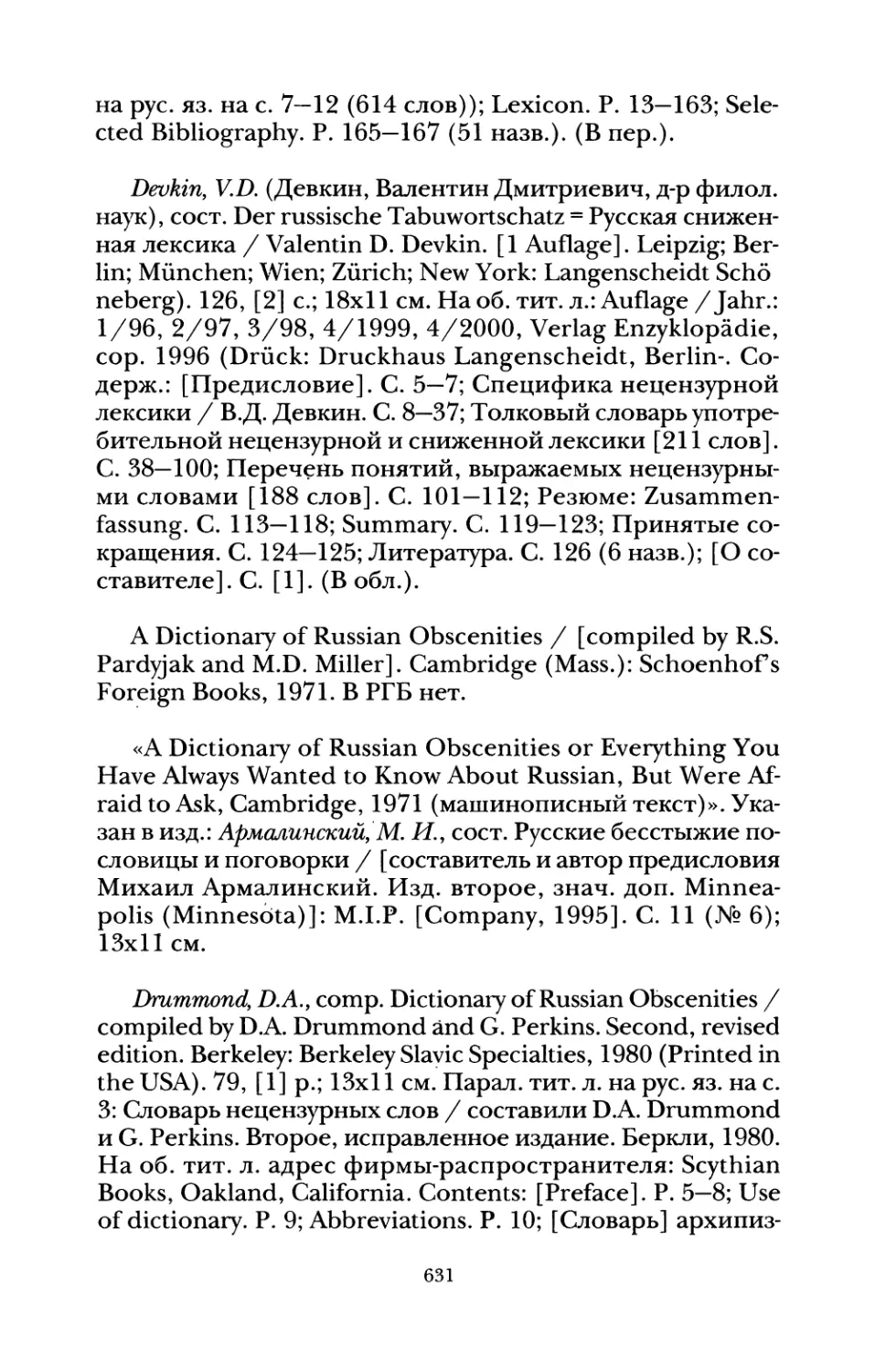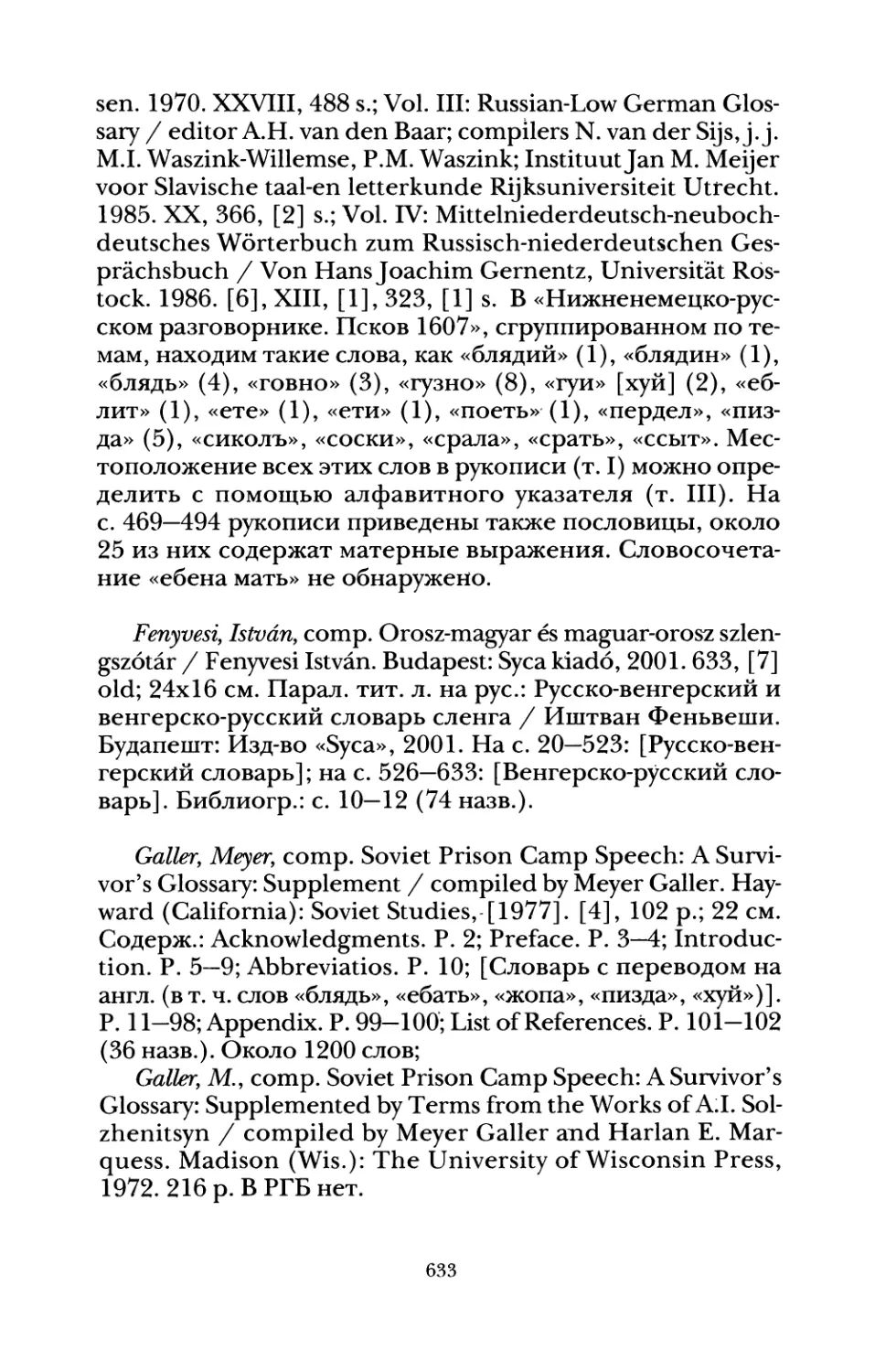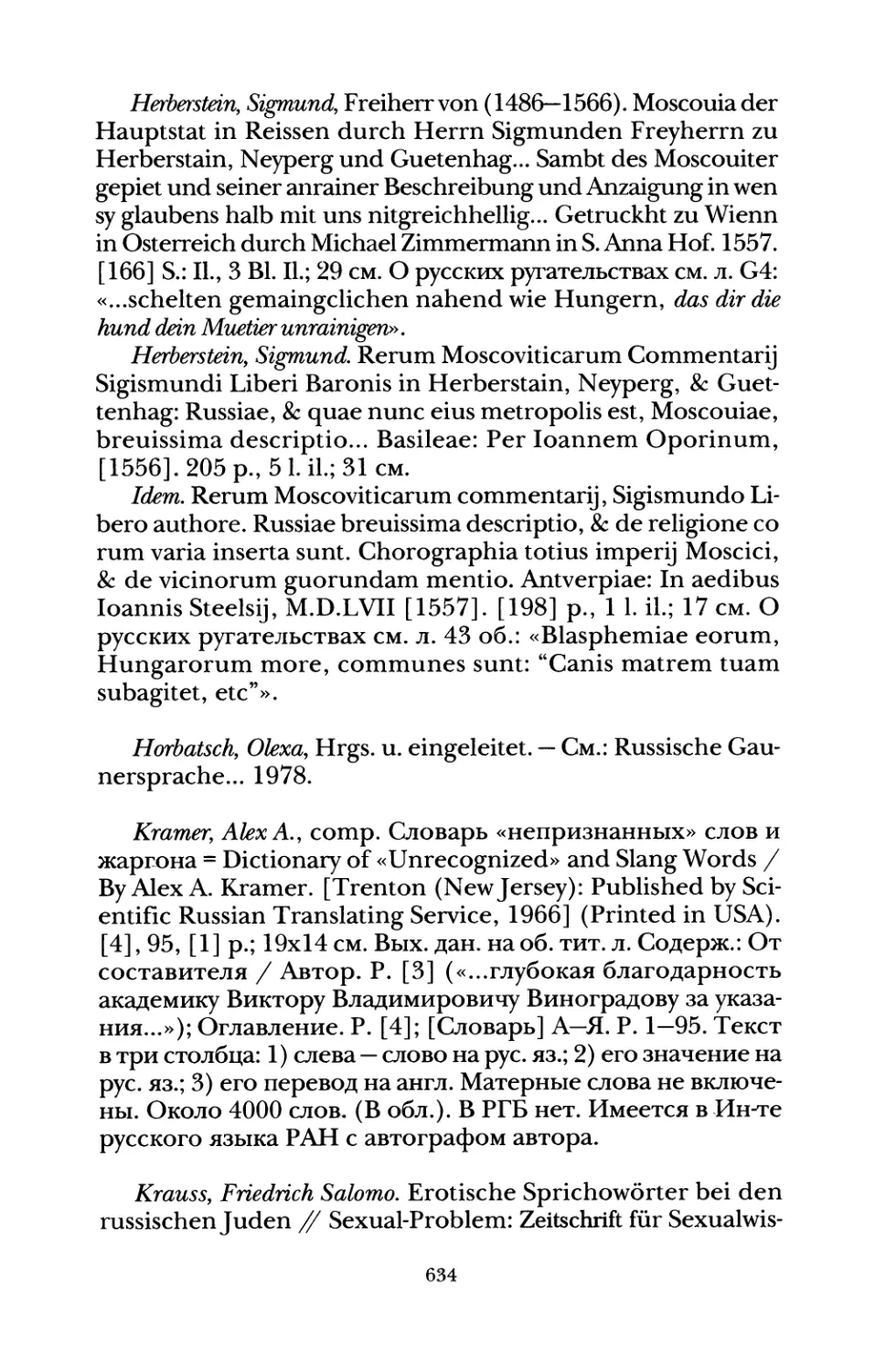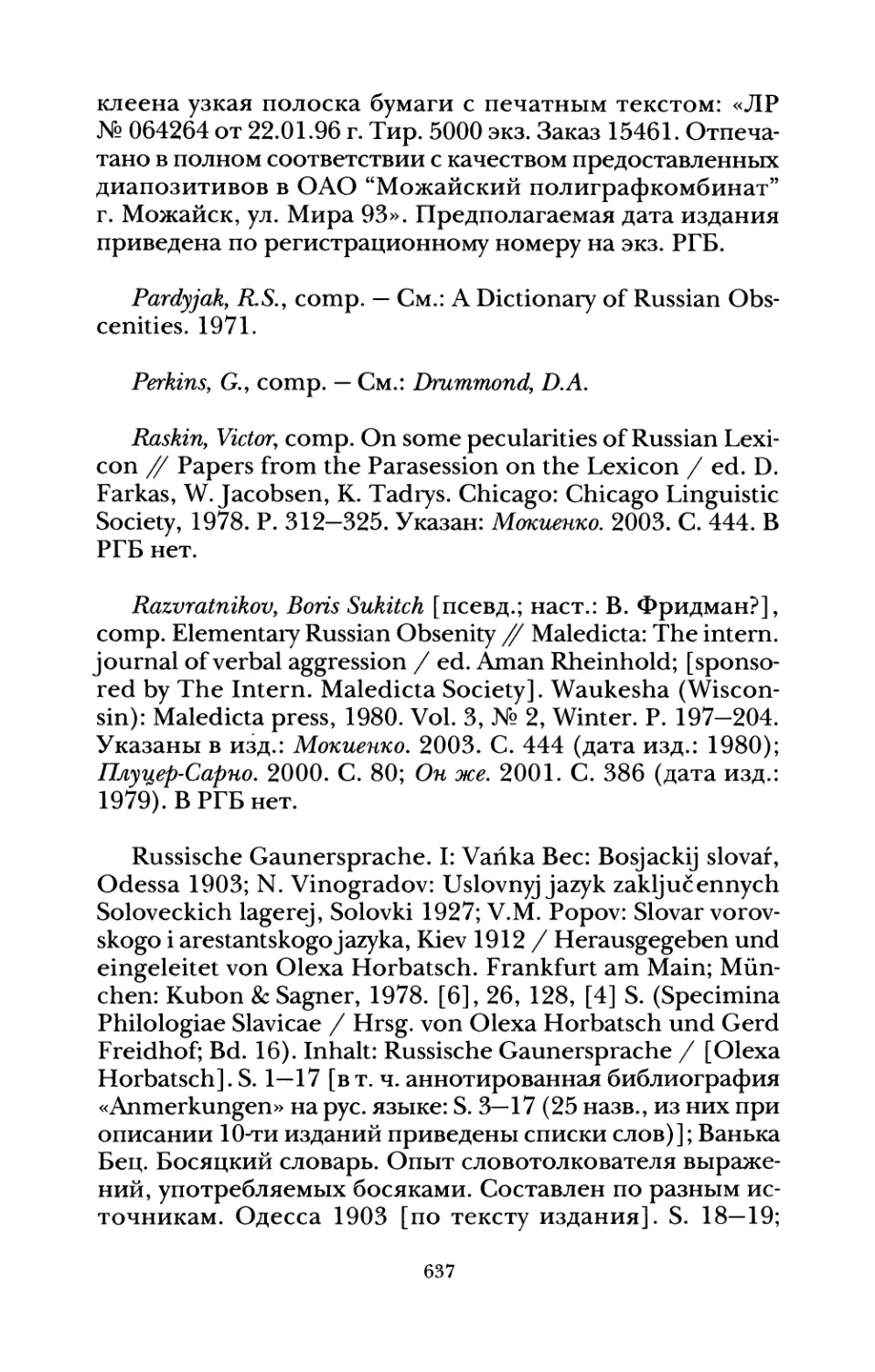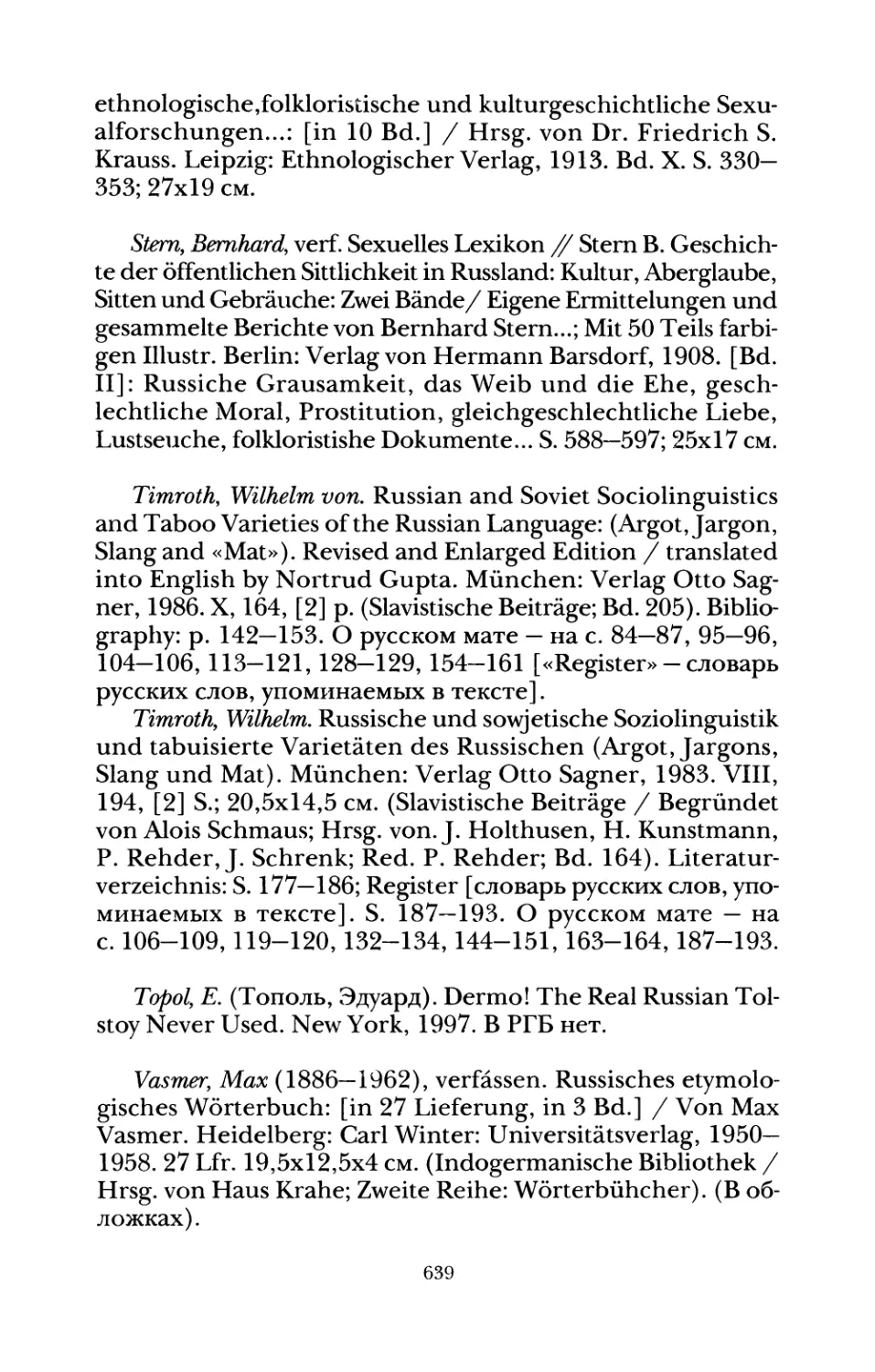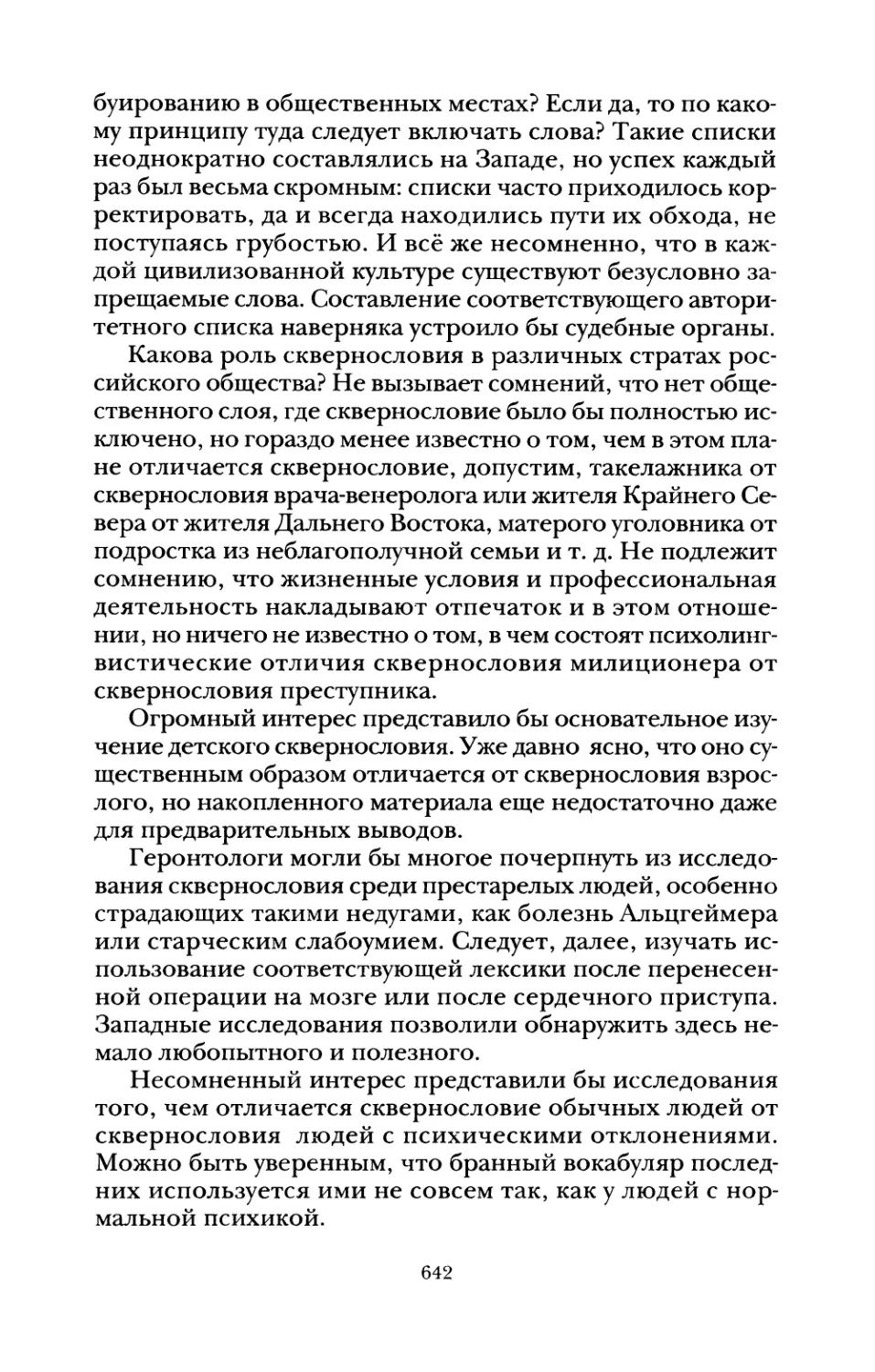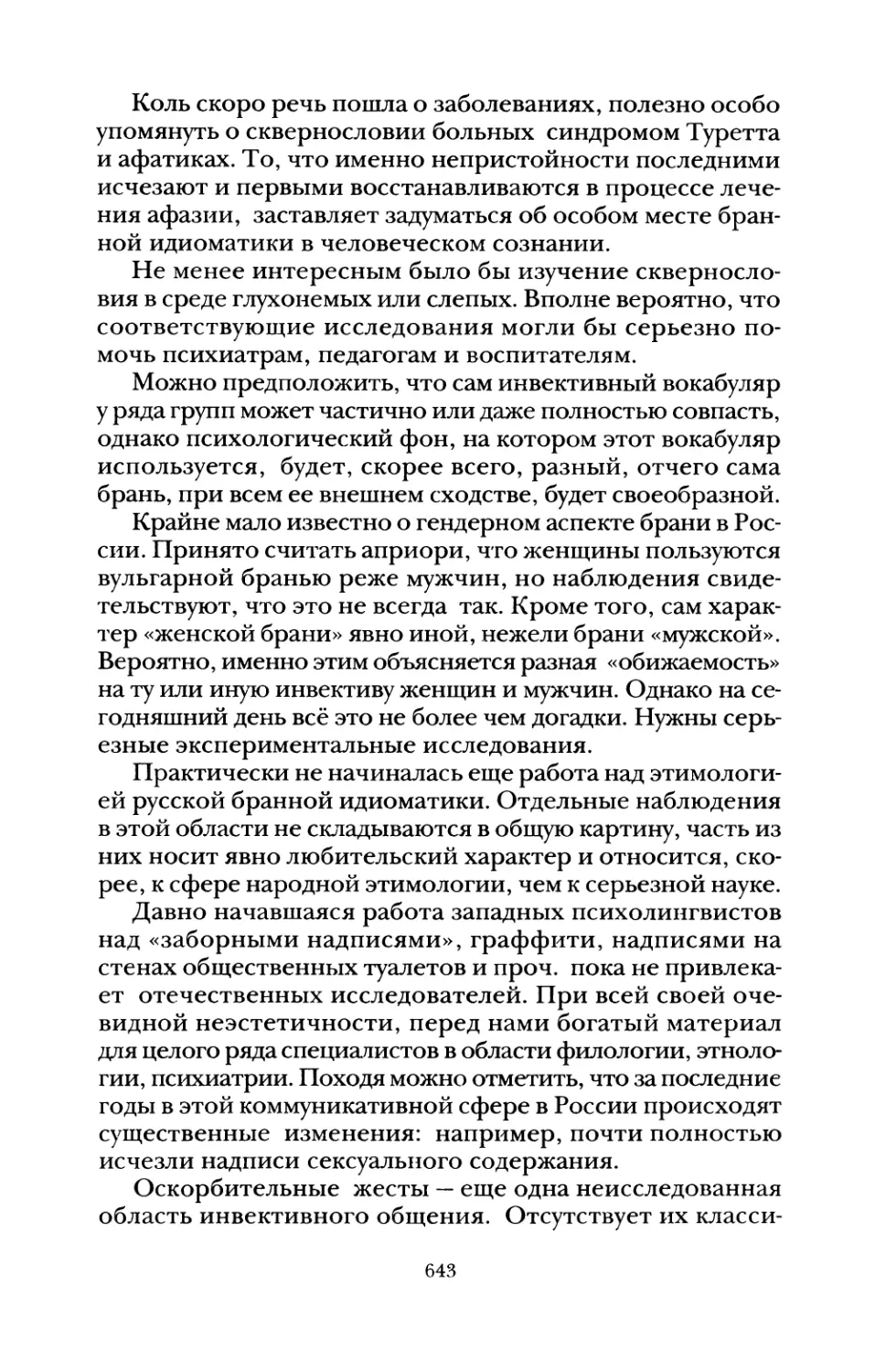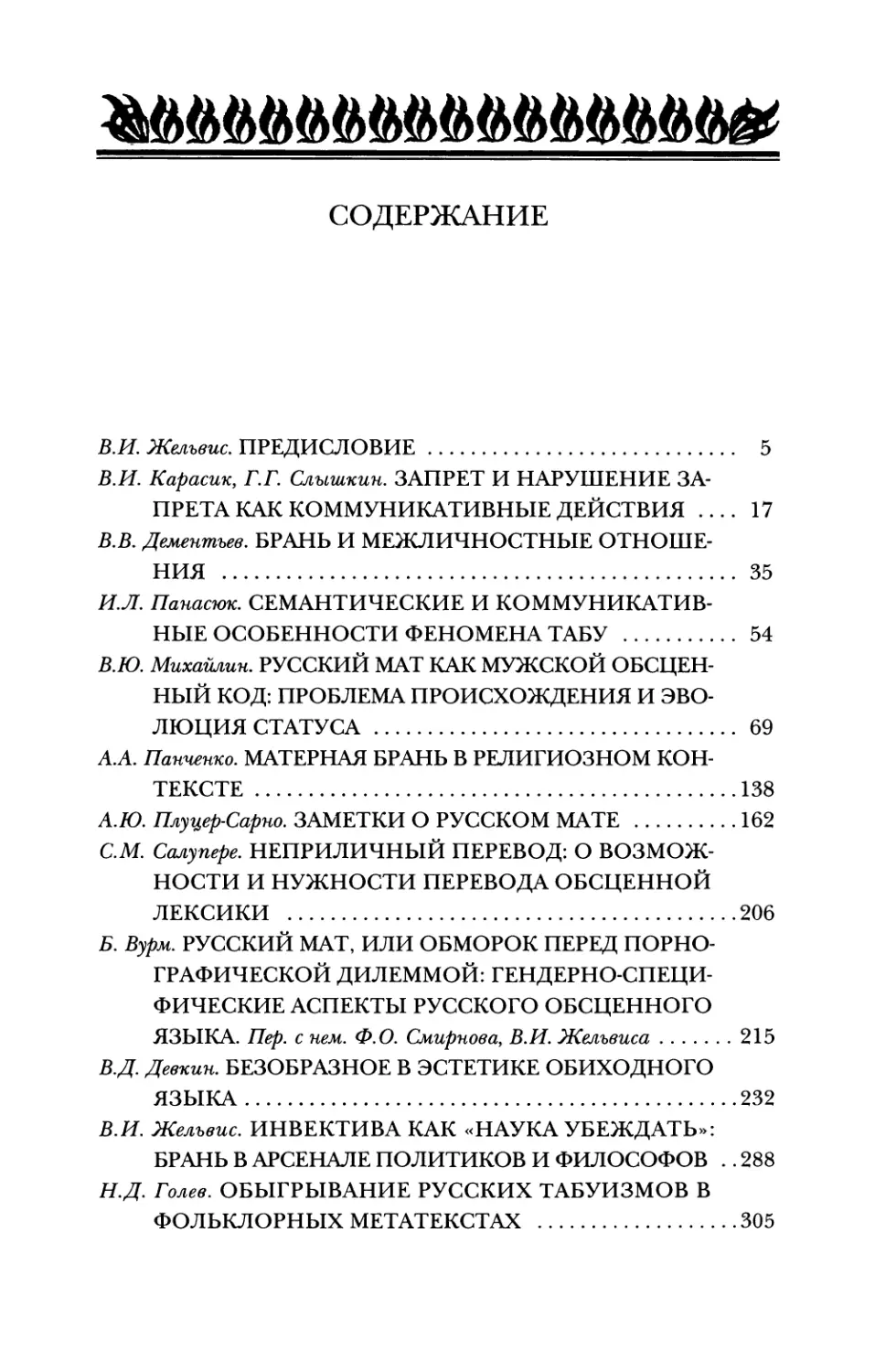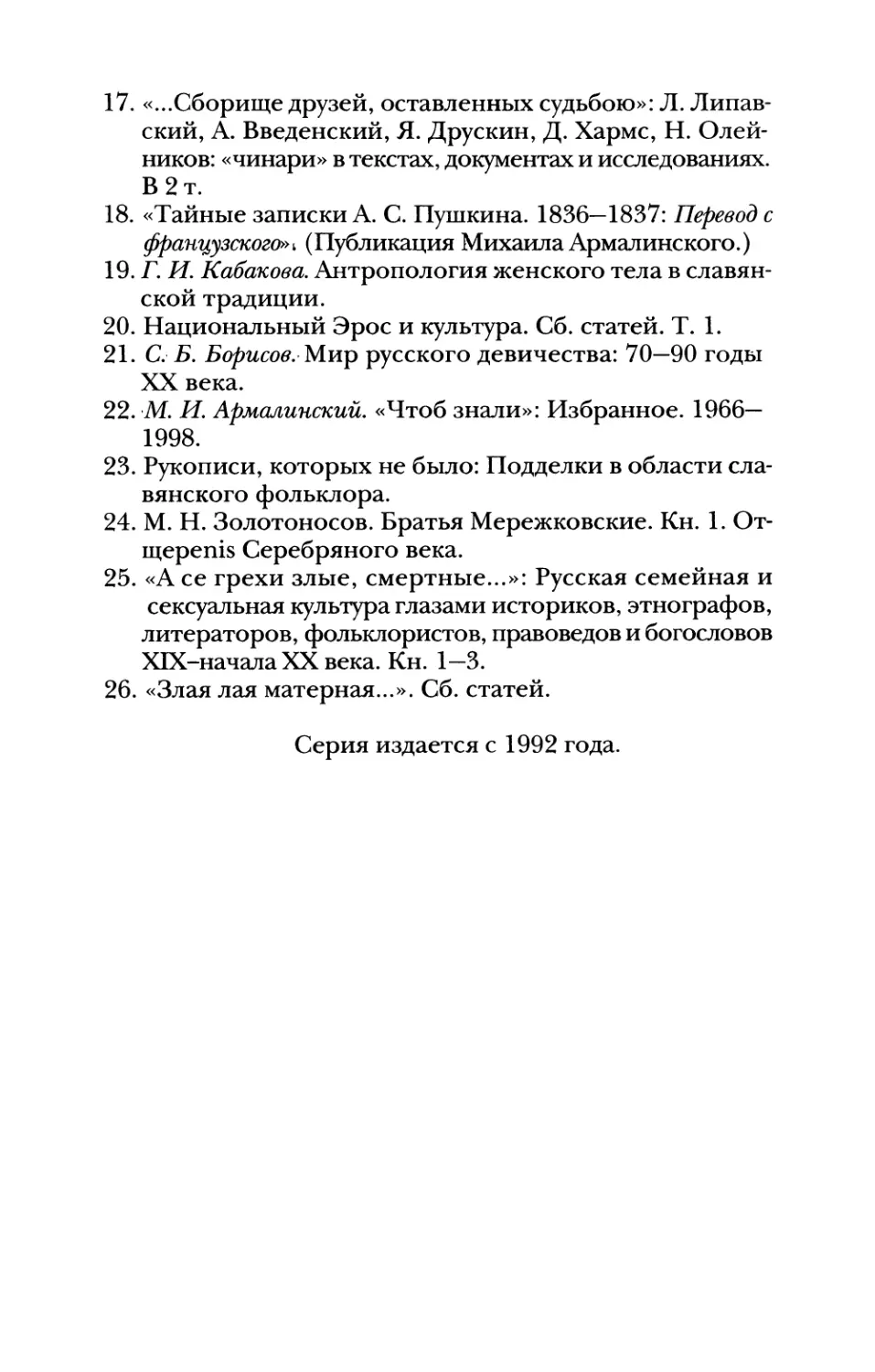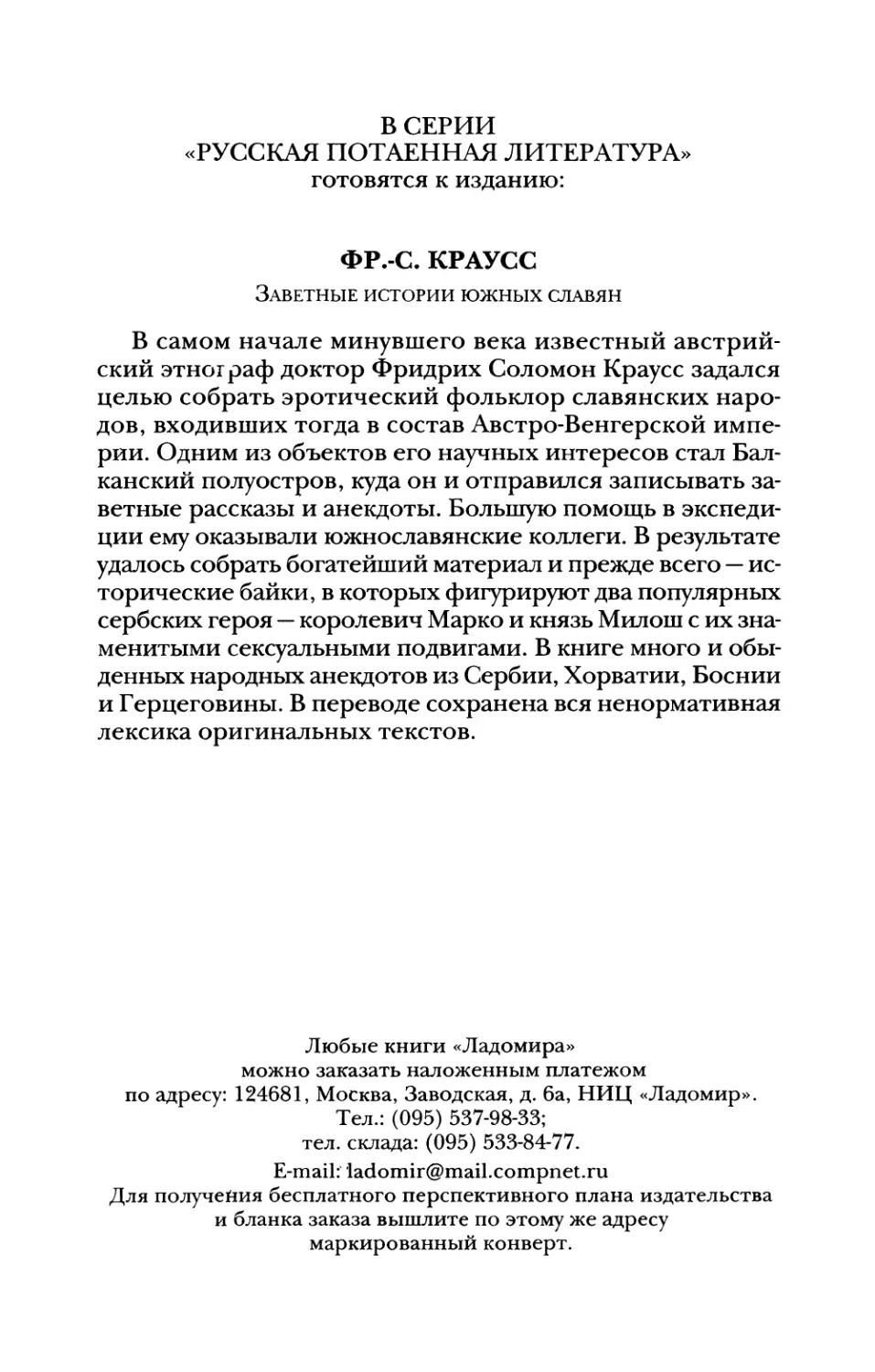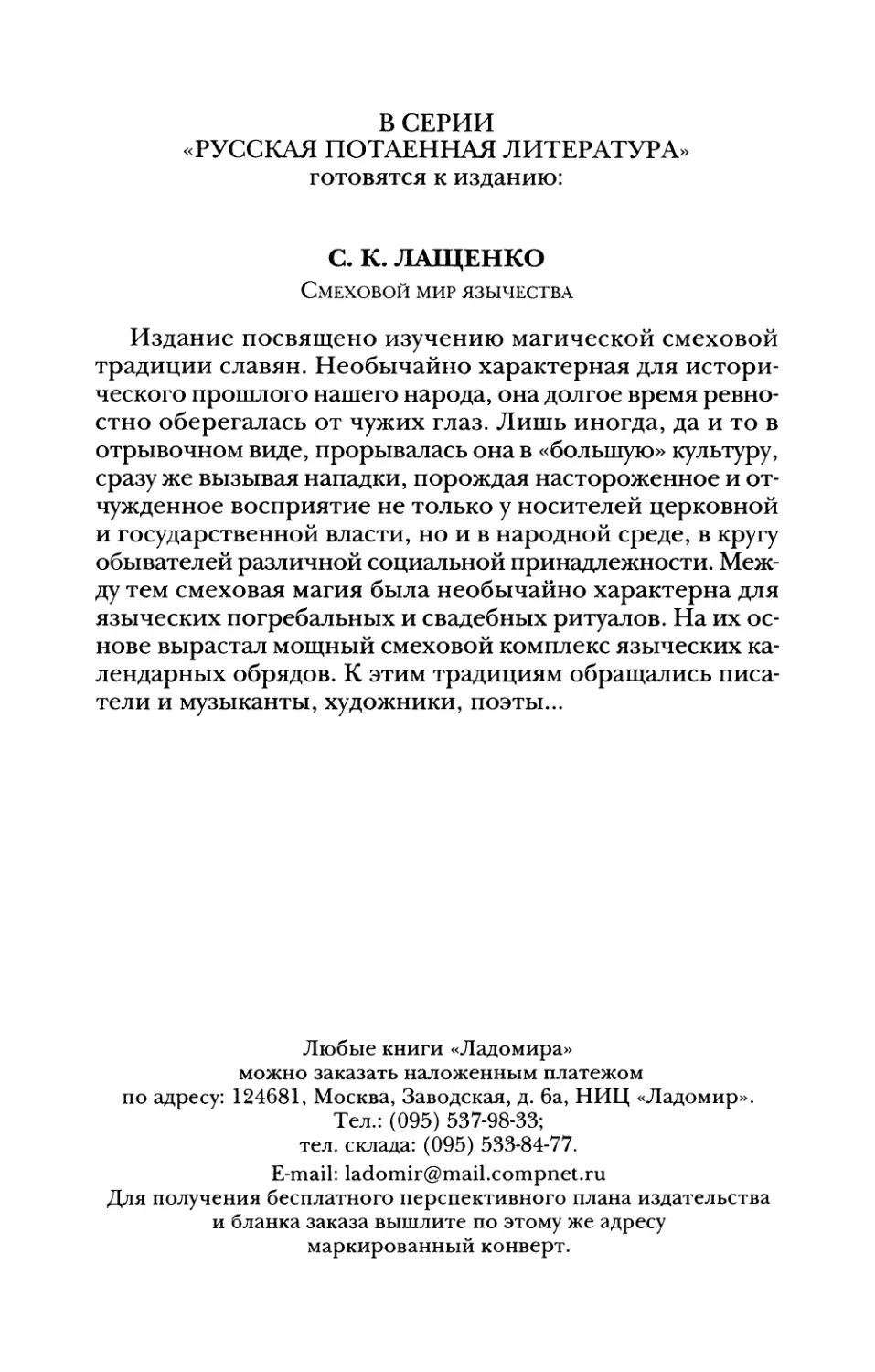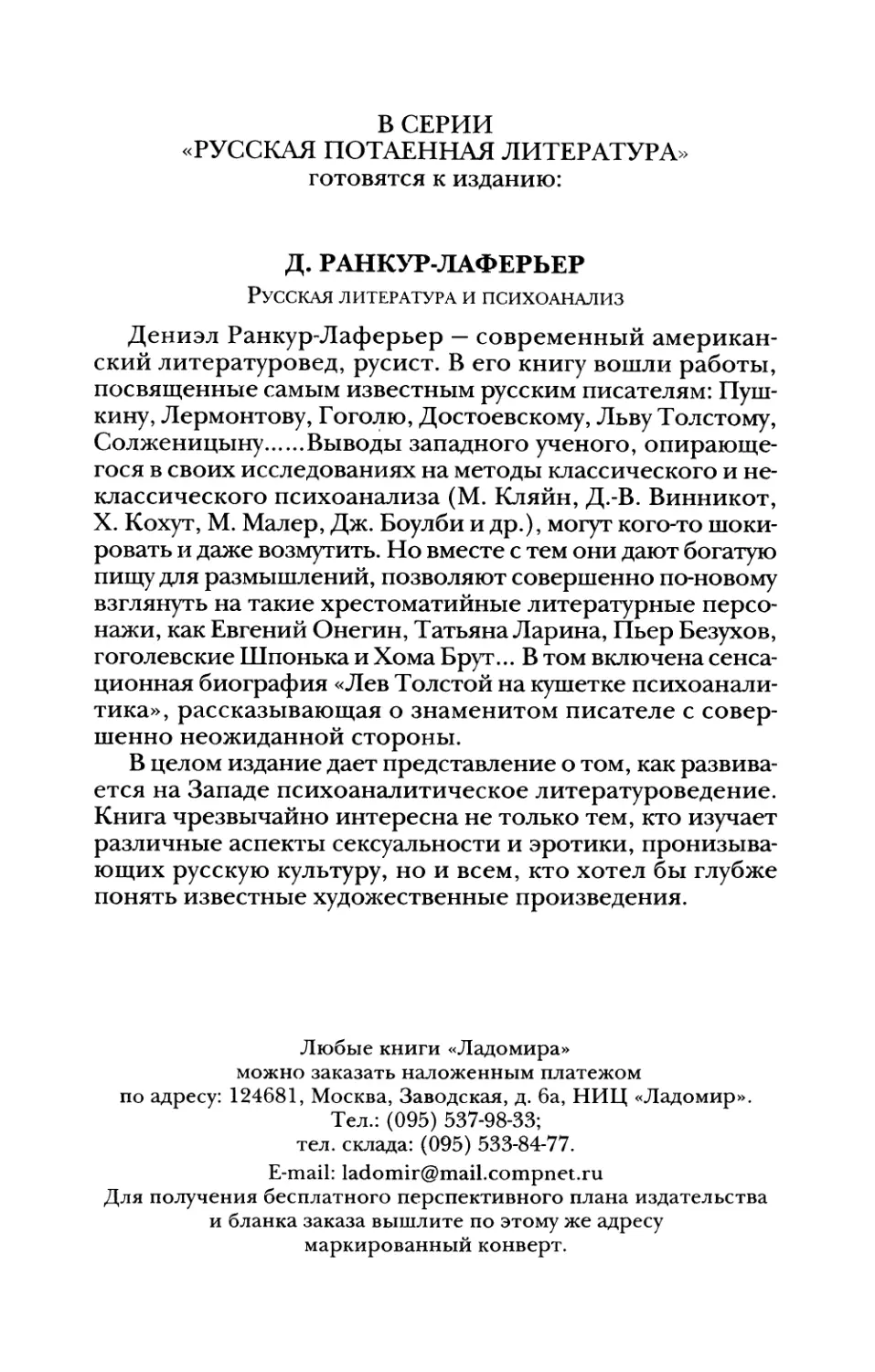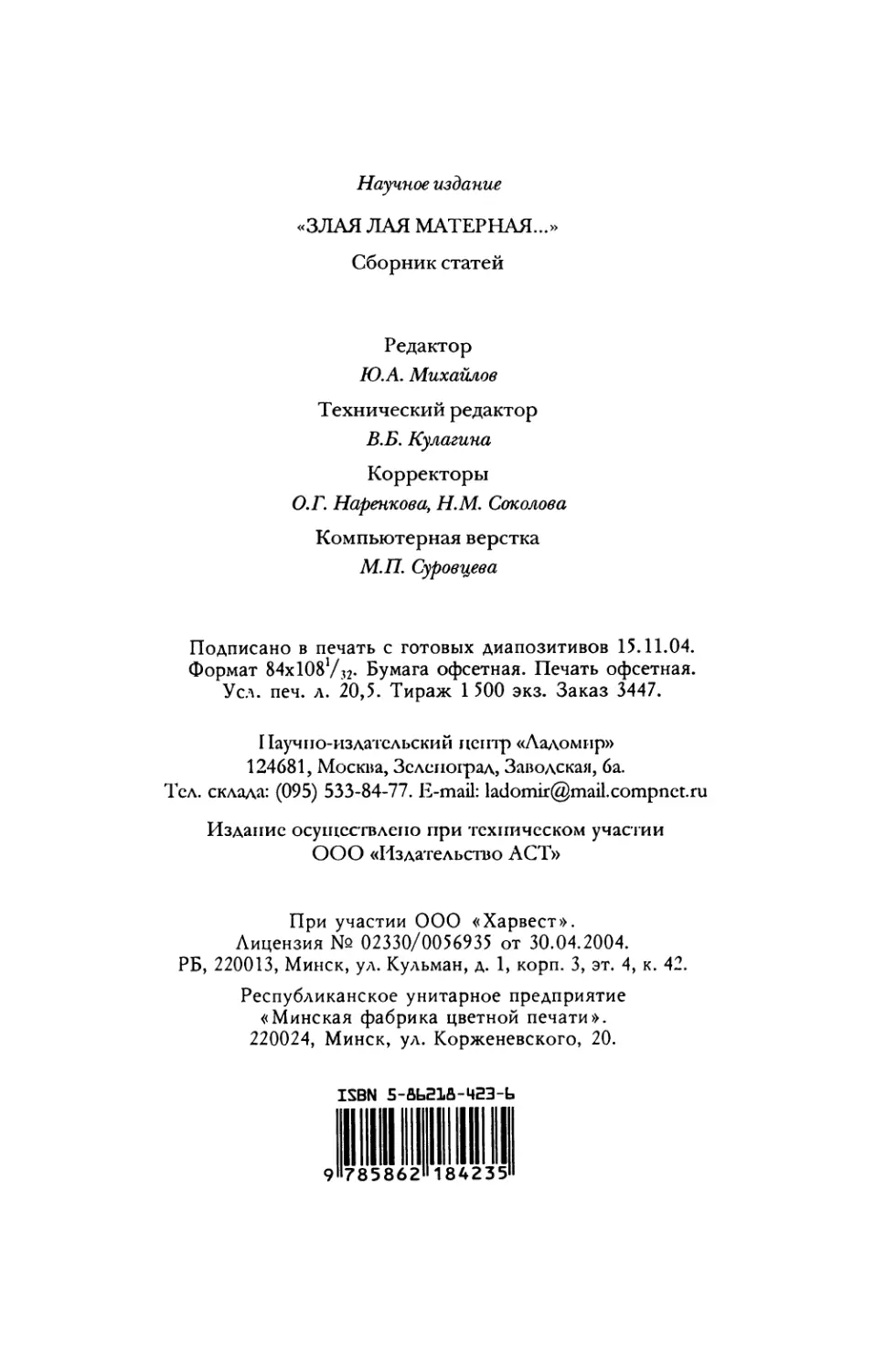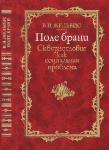Author: Жельвис В.И.
Tags: русский язык языки мира социология культурология
ISBN: 5-86218-423-6
Year: 2005
Text
f
ї
f 1
«Злая лая
матерная...»
Сборник статей
под ред. В.И. Жельвиса
Научно-издательский центр
«ЛАДОМИР»
Москва К
УДК811.161.Ґ27
ББК81.2Рус
3-67
«Злая лая матерная...»: сб. ст. / под ред. В.И. Жельвиса. — М.:
3-67 Ладомир, 2005. — 643, [13] с. — (Эротика в русской литературе).
ISBN 5-86218-423-6
Сборник статей «Злая л<ія матерная...» посвящен исследованию
темы, которая в последнее десятилетие всё более интересует социо- и эт-
нолингвистов всего мира. Инвективная и прежде всего обсценная
(ненормативная, табуированная) лексика, популярная в любой культуре,
наконец привлекла внимание исследователей, пытающихся понять
особенности слов, которые, с одной стороны, должны быть известны
абсолютно каждому носителю языка, а с другой — в целом ряде случаев быть
запрещенными к употреблению. Совершенно очевидно, что при
разработке этой темы неизбежно обращение к проблемам сознания и
подсознания, запретов и табу, эвфемизмов и дисфемизмов, жаргонов и
просторечий. Авторы статей из России и ряда других стран пытаются дать
ответы хотя бы на часть этих вопросов.
Сборник предназначается для специалистов в области филологии,
этно- и социолингвистики. Однако статьи сборника написаны в манере,
которая делает возможным их чтение широким читателем,
интересующимся проблемами национального языкового и культурного развития.
УДК811.161.1'2~
ББК81.2Рус
ISBN 5-86218-423-6 © Авторы (см. Содержание). 2004.
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом
без договора с издательством запрещается
ПРЕДИСЛОВИЕ
Да еще, государь, друг другу лаются позорной
лаею, отца и матери блудным позором, в род и в
горло, бесстудною самою позорною нечистотою
языки свои и души оскверняют.
Челобитная нижегородских священников царю.
1636 г.
Так однажды, в марте 1756 года, происходило
городское собрание. И вот на оном собрании
купец Матвей Броунов обругал Кириллу Фатьянова
сквернословно и многократно; а третий купец,
Григорий Лбовский, якобы во унимание оного
Броунова, сквернословными же словами говорил
ему, чтобы он перестал.
Грязное А.Ф. Ярославская Большая
Мануфактура за время от 1722 по 1856 г.
Еще несколько лет назад можно было говорить о том,
что сниженная, инвективная лексика, в особенности
непристойная, обсценная, исследуется очень мало. Как и
лексика в целом, изучение табуированной лексики
подвергалось строжайшей цензуре. Создалась абсурдная
ситуация, когда не одобрялось не только явление, но и
попытки в нем разобраться. Никому еще не приходило в голову
осуждать врачей-венерологов или криминалистов, хотя
отношение к пациентам первых и объектам внимания
вторых может быть весьма неоднозначным: почему-то для
филологов, психологов, социологов и этнографов в
отношении «ненормативной лексики» делалось исключение.
К счастью, в последние десятилетия положение стало
быстро меняться. Во многих странах (США,
Великобритания, Германия, Франция, Италия) одна за другой
появились соответствующие монографии и обширные
содержательные статьи. Естественно, что часть изданных
материалов носила явно спекулятивный характер и была интересна
серьезным исследователям разве что собранными там при-
5
мерами. Однако сегодня можно уже говорить о достаточно
большой библиотеке из глубоких исследований,
выполненных на самом разнообразном национальном материале.
Особенно преуспели в этом отношении ученые США и
Германии. Число одних только монографий, изданных
нашими американскими коллегами, давно перевалило за
десяток; в Германии в Международном университете Ви-
адрина (Франкфурт-на-Одере) группой под руководством
известного профессора X. Шредера собран и активно
исследуется уникальный, впечатляющий величиной «Банк
табу», посвященный в первую очередь табуированной
лексике в языках народов мира. Основываясь на данных
«Банка», группа проф. Шредера поддерживает и развивает
теорию лакун, начало которой положено трудами
российских лингвистов И.Ю. Марковиной и Ю.А. Сорокина.
Приходится признать, что до последнего времени
России здесь принадлежало далеко не призовое место.
«Ненормативная лексика» не только не изучалась, она
исключалась из крупнейших словарей русского языка и
полностью игнорировалась в любых научных
публикациях. Достаточно сказать, что блестящее исследование
русского мата известным филологом Б.А. Успенским могло
быть опубликовано только в Венгрии, в двух сборниках
Венгерской академии наук; и даже там между изданием
первой и второй частей обширного труда видного
ученого прошло несколько лет. Несколько добросовестных
исследований соответствующего русскоязычного
материала появилось за рубежом.
Сегодня такая ситуация уже позади. Снятие цензурных
ограничений привело к тому, что вначале в России
появились дешевые словарики неприличных слов, рассчитанные
на невзыскательного читателя; за ними стали печататься и
более серьезные работы. Другое дело, что значительная
часть этих последних вышла в малотиражных изданиях, не
всегда доступных даже тем, кому они предназначены в
первую очередь. Тем не менее интересные и глубокие работы
уже налицо, и список их продолжает расти.
В предлагаемый сборник вошли статьи, посвященные
заявленной нами теме. Большая часть из них написана в
России; однако редакции удалось получить и работы,
выполненные за рубежом — в Германии, Австрии, Дании,
6
Эстонии и Украине. Некоторые статьи уже были
опубликованы, полностью или в сокращении, преимущественно
в труднодоступных изданиях, другие написаны
специально для этого сборника. Думается, что все они в целом
могут дать, пусть неполное, представление о состоянии, в
котором в настоящее время находится изучение инвектив-
ной лексики в нашей стране и за рубежом.
Часть статей в сборнике носит общетеоретический
характер, анализируя проблемы запретов, табу, эвфемизмов
и лакун; другая часть касается конкретных проблем.
В статье волгоградских лингвистов В.В. Карасика и
Г.Г. Слышкина «Запрет и нарушение запрета как
коммуникативные действия» предлагается детальная
классификация и анализ самых разнообразных запретов; выделяются
компоненты запрета; рассматриваются
немотивированные запреты; изучаются запрет-перформатив,
возможности перехода запрета в угрозу или мольбу, юридический,
политический, медицинский, религиозный,
педагогический, спортивный аспекты запретов. Авторы предлагают
различать табу как разновидность запрета и выделяют
типы современных коммуникативных табу. Отдельно
рассматриваются реакции на нарушение запретов. Много
места уделено средствам нарушения запретов в виде
всевозможного эпатажа, анекдотов — в частности, черного
юмора. Авторы справедливо отмечают, что отношение к
запретам — важная черта национального менталитета.
Статья исследователя из Саратова В.В, Дементьева
«Брань и межличностные отношения» посвящена
инвективе как коммуникативной составляющей. Автор
придерживается распространенной точки зрения на то, что
обеденная ругань давно утратила свою магическую функцию
и выражает главным образом желание говорящего
«оскорбить человека, наплевать ему в душу». В.В. Дементьев
полагает, что бессмысленно приписывать матерящемуся
маргиналу «менталитет фрондирующего интеллектуала,
начитавшегося Зиновьева и Дерриды». Думается, однако,
что (не)сохранение магической функции инвективы вряд
ли имеет какое-либо отношение к менталитету любого
качества, ибо покоится на глубинных слоях подсознания, и
матерящийся, даже если он «фрондирующий
интеллектуал», а не пьяный грузчик, не осознает, почему мат произво-
7
дит сильное (магическое) впечатление на окружающих, да
и на него самого. Однако точка зрения В.В. Дементьева,
безусловно, имеет право на существование. Автор
убедительным образом увязывает исследуемый материал с его
собственной теорией непрямой коммуникации и фатичес-
ким общением, вписывая инвективную коммуникацию в
фатические речевые жанры. Следует признать
продуктивным и стремление В.В. Дементьева найти точки
соприкосновения инвективного способа общения с такими
жанрами, как светская и дружеская беседы.
В статье исследователя из Университета Виадрина
И.Л. Панасюка «Семантические и коммуникативные
особенности феномена табу» детально исследуется само
явление языкового табу — в первую очередь табу на обсценную
лексику. Автор считает, что табу возникают вследствие
существования социальных запретов одновременно с
индивидуальными требованиями, которые являются здесь
основополагающими: именно эти последние определяют
степень оскорбительности и/или приемлемости
инвективы. Представляют интерес взгляды И. Панасюка и проф.
X. Шредера на природу эвфемизмов. Одним из главных
достоинств статьи является выполненный автором анализ
инвективной лексики из повести В. Сорокина «Очередь»,
переведенной на польский и немецкий языки. Сравнение
инвективных особенностей трех языков дало автору
возможность выявить целый ряд
национально-специфических черт соответствующих культур. Становится
совершенно очевидно, что буквальный перевод инвективы на
другой язык невозможен принципиально. Как
справедливо отмечает автор, «функционирование матизмов в
русском языке не связано с их прямым значением, а имеет
место исключительно в контексте, что соответствует
аксиологическому опыту русской культуры и что отличает ее
от культуры немецкой». Невнимание к
культурно-специфическим особенностям языкового табу, отмечает И. Па-
насюк, чревато ущербом для успешной коммуникации.
Обширная статья В.Ю. Михайлина «Русский мат как
МУЖСКОЙ ОБСЦЕННЫЙ КОД: ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И
ЭВОЛЮЦИЯ статуса» свидетельствует о том, что изучение
ненормативной лексики в русской науке медленно, но верно
выходит из необходимой стадии простого накопления ма-
8
териала и вступает в пору глубокого осмысления и
интерпретации. Впечатляющий объем исследованного автором
исторического и этнографического материала заставляет
согласиться с его основными выводами касательно мата
как «мужского обсценного кода», связанного в первую
очередь с дохристианскими культами собаки и волка и
отнюдь не исчезнувшего в наши дни, хотя и в необходимо
измененном виде. Заслуживают внимания и другие
утверждения автора: о взаимоотношении мата и инвективы, о
слабой коммуникативной функции мата, о
«паразитирующей» на разговорной речи роли мата, о различных
поведенческих соответствиях брани и т. п.
A.A. Панченко в хорошо аргументированной статье
«Матерная брань в религиозном контексте» интересуют взаи-
моотношения русского мата с язычеством и
православием, то есть та самая проблема, которой посвящено
знаменитое исследование проф. Б.А. Успенского и с которым
A.A. Панченко вступает в полемику. Особый интерес у
автора вызывает «негативная мифологизация мата».
Запреты на употребление мата автор связывает, в частности, с
существованием аскетической секты «христовщины», со
старообрядческими воззрениями и движением скопцов.
Доказательности выводов, сделанных автором,
способствует глубокое знание им духовной литературы русского
средневековья.
В статье А.Ю. Плуцера-Сарно «Заметки о русском мате»
подробно анализируется мат как явление русского языка и
русской культуры, прежде всего в лексикографическом
аспекте. Автор стремится заключить само понятие «мат» в
некоторые границы, признавая в то же самое время, что
сделать это исключительно трудно: «Мат — это то, что мы
называем матом, то, что воспринимается как мат». В статье
говорится о «местоязыковой функции» матерной лексики
и даже утверждается, что, в сущности, весь литературный
русский язык можно в принципе рассматривать как
«грандиозное эвфемистическое образование». Мат, отмечает
автор, в большой степени используется как элемент
языковой игры. Значительная часть статьи посвящена ацализу
словарей обсценной лексики. Автор убедительно
демонстрирует полную научную беспомощность абсолютного
большинства подобных словарей.
9
В прямой связи со статьей И. Панасюка находится статья
эстонской исследовательницы С. Салупере «Неприличный
перевод: О возможности и нужности перевода обсценной
лексики». Статья эта тем интереснее, что языки стран Балтии
искони мало пользовались соответствующим вокабуляром,
откуда особые трудности в передаче текста, написанного на
другом языке, с совсем другим отношением к обозначению
табуированных понятий. Сама табуированность тех или
иных процессов, признаков, частей тела и проч. носит в
эстонском языке иной, нежели в русском, характер: она
гораздо слабее. В результате русский переводчик, не
справившись с этой действительно сложной проблемой, просто
опустил в русском переводе наиболее рискованные места
или заменил — чаще всего неудачно — слова, звучащие в
русском переводе слишком откровенно. Результат оказался
катастрофичен: то, что в эстонском тексте выглядело
по-будничному спокойно, в русском переводе зазвучало и в самом деле
непристойно, рассказ стал неприятно натуралистичным.
Название статьи австрийской исследовательницы Б. Вурм
«Русский мат, или Обморок перед порнографической
дилеммой: Гендерно-специфические аспекты русского обсценного
языка» достаточно информативно. Очень обстоятельно, на
большом и тщательно изученном русскоязычном
материале автор затрагивает тендерную тему, которая последнее
время всё больше занимает филологов всего мира.
Обширная статья касается проблем порнографии, сексуальности,
эвфемизации, а сделанные выводы тем интереснее, что
принадлежат иностранному, западноевропейскому автору,
представителю страны с иной инвективной стратегией.
В статье В.И. Жельвиса «Инвектива как наука убеждать:
Брань в арсенале политиков и философов» вниманию
читателя предлагается анализ бранной лексики, используемой
российскими политическими деятелями самого разного
толка. В статье приводятся многочисленные
доказательства того, что степень использования инвективной
лексики политиками находится в прямой зависимости от
убедительности их позиции: слабая позиция подкрепляется
эмоциональным языком, позиция взвешенная и
основательная в такой подпитке не нуждается. До недавнего времени
замалчивался тот очевидный факт, что политические
выступления большевистских лидеров в большинстве своем
10
изобиловали оскорбительными выпадами в адрес
противника и что именно эта риторическая особенность
сближала большевиков с лидерами крайне левых экстремистских,
террористических объединений.
Статья В.Д. Девкина «Безобразное в эстетике
обиходного языка» построена с явным лингвистическим уклоном,
но представляет немалый интерес и в
психолингвистическом плане. Отмечая маргинальное^ инвективного слоя
лексики, автор убедительно доказывает необходимость его
изучения. Обращает на себя внимание, что, называя
употребление обсценизмов «языковым вандализмом», автор
не может скрыть и своего восхищения остроумием иных
«какофемизмов». «Что смешно, то не пошло», —
справедливо отмечает В.Д. Девкин. Его подробная и убедительная
классификация обсценных слов и выражений —
несомненный вклад в науку о языке, в том числе в лексикографию.
Статья барнаульского ученого Н.Д. Голева
«Обыгрывание русских табуизмов в фольклорных метатекстах» заме-
чательнауже тем, что касается практически
неразработанной темы: при том, что последние годы русский
непристойный фольклор публикуется достаточно широко,
время для полного его осмысления, видимо, еще не
наступило. Н.Д. Гол ев ограничил себя исследованием только тех
произведений, которые построены по правилам
языковой игры, когда, пользуясь его выражением, автор
ставится в позицию лингвиста. Надо сказать, что приведенные
автором примеры совсем не обязательно носят
непристойный характер, что, пожалуй, является достоинством
статьи, поскольку помогает увидеть место табуированных
случаев в соответствующем языковом слое.
Тоже фольклор, но на этот раз детский, исследуется в
статье ярославского исследователя О.Ю. Трыковой «О
роли бранной лексики в детском фольклоре». Богатый
материал, собранный автором, помогает понять роль
соответствующей лексики с «младых ногтей». Очевидно, что
практически нет возраста, который в той или иной степени
обходится без бранного вокабуляра, хотя цели обращения к
нему могут быть весьма различны, как различна и
зависимость детского обсценного фольклора от речи взрослых.
На сходную тему написана статья Л.В. Жарова
«Детский сексуальный фольклор в СССР». Однако здесь речь в
и
основном идет не о бранной лексике, а о мифологии пола в
детском восприятии. В статье приводится интересный
фактический материал социологических опросов.
Подтверждая факт мужского доминирования в русской культуре,
автор в известной мере солидаризируется со статьей Б. Вурм.
В статье И.Г. Яковенко «Ненормативный анекдот как
моделирующая система: Опыт КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА» справедливо отмечается, что в настоящее время русская
культура находится в стадии развития личностного
сознания, но сознание это еще не готово мириться с
секуляризацией сакрального печатного текста, чем и объясняется
противоречивость в восприятии обсценной лексики в
русскоязычном обществе. И.Г. Яковенко убежден, что русский мат
представляет собой форму бытования языческого сознания
и, естественно, его роль определяется борьбой язычества с
христианством. Особенный интерес представляет
интерпретация автором взаимоотношения обсценных
наименований мужских и женских гениталий, олицетворяющих в
русской культуре противостояние мужского и женского
естества. Профанирование и высмеивание вагины (вульвы),
утверждается в статье, продиктовано мужскими страхами.
Статья В.П. Коровушкина (Череповец) «Инвективная
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ВОЕННЫХ
ПОДЪЯЗЫКАХ (КОНТРАСТИВНО-СОЦИОЛ ИНГВИСТИЧЕСКИЙ
аспект) » освещает использование бранного языка в
русскоязычной военной среде с дореволюционных времен до
настоящего времени. Автор, являющийся составителем
первого в России «Словаря русского военного жаргона» (2000),
анализирует обширный материал «военных социолектиз-
мов» в сравнении с их аналогами в английском языке.
Исследователем различаются «нормы первого уровня» и «нормы
второго уровня», а также диглоссия, определяемая им как
сосуществование двух форм одного языка в пределах одного
социума». Лексическая диглоссия имеет место, когда
одновременно сосуществуют литературный язык и «система
другой подчиненной формы», где автор различает сленгизмы,
жаргонизмы, арготизмы и кентизмы. Основное внимание
автор, естественно, уделяет военному подъязыку
(социолекту) с его собственными фразеологией и системой терминов.
Тему, поднятую В.П. Коровушкиным, развивает на
материале русского и французского языков Ю.А. Кузнецов
12
(Ярославль) в статье «Особенности языкового
сопротивления в русском и французском военном фольклоре XIX—
XX веков». Как справедливо отмечает автор, «если армия в
какой-то степени — модель общества, то военный фольклор
и жаргон — это зеркало армии». Иначе говоря, какова
армия — таков и ее жаргон, и наоборот. Именно в этом
смысле особенно интересно сравнить армейский жаргон России
и Франции. Думается, что такое сравнение могло бы
представить интерес не только для лингвистов, но и ддя
представителей военных ведомств. Ср. заключительный абзац
статьи Ю.А. Кузнецова: «Фольклор стал психологической
реакцией на службу в армии, где полурабский статус
военнослужащего позволяет ему разрядиться только в устном
творчестве. Являясь одной из форм общенародного языкового
сопротивления, он в значительной степени способствует
разрушению тоталитарного общества с его двумя орудиями
господства и принуждения — "новоязом" и террором».
Статья ярославского театроведа Т.С. Злотниковой
«Просто такая жизнь»: Абсурд и инвектива: как ругались в
РУССКОЙ ДРАМЕ от классических истоков до наших дней»
исследует язык русского театра. На огромном материале в
статье доказывается, что «театра (драмы) без ругани не
бывает» и можно говорить о «разрастании инвективы как
составляющей пьес от Пушкина <...ж нашим дням». В
настоящее время, отмечается в статье, объем брани в
драматическом тексте вполне сравним с объемом любовных
признаний и политических деклараций. Немногочисленные
тексты, брани вовсе не содержащие, считает автор, уже по
одному этому признаку могут стать предметом
специального исследования. Справедливо отмечается, что сему есть
вполне убедительное объяснение: «Просто такая жизнь».
Литературные произведения, содержащие большое
количество инвективной лексики, до сих пор мало
подвергались анализу именно с этой стороны. Тем интереснее статья
М.Н. Дмитриевой (Киев) «...або феномен датського кацапіз-
му». В статье исследуется творчество «катакомбного
классика», широко известного на Украине писателя Леся Подервь-
янского — достойного преемника Ивана Котляревского с
его «Энеидой». Творчество Подервьянского представляет
собой взрывчатую смесь травестии, бурлеска и литературы
абсурда. Его произведения уже вошли в список украинских
13
прецедентных текстов. Кроме того, они интересны
русскому читателю как образцы «суржика» — разговорного языка
частично русифицированных украинских горожан.
Определенное место в статье уделено любопытном)7 явлению —
попытке создания своеобразного украинского мата.
На украинском материале написана статья и М.И.
Назаренко «Наречие на "н" из пяти букв, отвечающее на
вопрос "куда?": Функционирование обсценной лексики в
романе Б. Штерна "Эфиоп"». По мнению автора статьи,
пародийный роман Штерна «Эфиоп, или Последний из КГБ»
заканчивает собой эпоху, которую начал «Мастер и Маргарита».
Усматривается и жанровое сходство с другим культовым
русским произведением — «Москва — Петушки». Для романа
киевского писателя характерна карнавальная логика,
постоянная смена телесного «верха» и «низа» и «активное
использование неуместного слова». Именно на этой основе
построена излюбленная автором языковая игра, постоянное
жонглирование эвфемизмами, псевдоэвфемизмами и
метафорами, остроумное обыгрывание кириллического и
латинского написания русских непристойностей. В романе, где
утверждается, что «мат» и «ненормат» — «это одно и то же»,
мат не является ругательством, фалличе-ский символ
становится символом культурологическим, провозглашается
«единство стилистических и культурологических пластов,
которые кажутся противоположными и неслиянными».
Третья статья, предложенная украинскими
коллегами, — работа A.A. Улюры «Восприятие по умолчанию:
Эвфемизмы в мемуарах А.Е. Лабзиной», — здесь тоже
анализируется текст, только на этот раз — мемуарный. Автором
внимательно изучаются используемые мемуаристкой
начала XIX века самые разнообразные варианты и приемы эв-
фемизации, которые, справедливо утверждает А. Улюра,
отражают социальные и культурные нормы пристойности
своего времени. Эвфемизмы рассматриваются в статье
как своеобразные материальные носители утаенных
(сознательно или нет) идей и оценок.
Две следующие статьи освещают инвективную
стратегию языков, которые с этих позиций анализу еще не
подвергались. Их вклад в копилку
национально-специфического инвективного материала трудно переоценить. Так,
уникальный материал содержится в статье датского учено-
14
го Дж. Томсена «Бранный язык на Фарерских островах».
Инвективная практика жителей этой небольшой части
Северной Европы достаточно своеобразна, даже в
сравнении с практикой близкородственного датского языка.
Автор, владеющий русским языком, умело сравнивает две
языковые стратегии, и его наблюдения оказываются
одинаково полезными для изучающих скандинавские и
славянские языки. Особенно ценно, что фарерцы, подобно
жителям стран Балтии, довольно экономно пользуются
своим достаточно богатым инвективным воКабуляром. По
остроумному замечанию автора, «<...> по части культуры
оскорблений мы сильно отстали от таких развитых стран,
как Россия или индустриальные районы Украины. Традиция
обмениваться оскорблениями отсутствует. Мы оскорбляем
друг друга по-другому. Самое тяжелое оскорбление,
наверно, это сообщить оппоненту, что «он — "reyvahol" ("дырка
в жопе", ср. англ. "asshole", нем. "Arschloch"), удалиться
на свой диван и обличать его уже там». И это — не
единственное отличие фарерской практики от русской; между
тем именно подобные отличия помогают увидеть
особенности языка культуры, незаметные «изнутри».
Не менее уникален и материал статьи М.В. Томской
«Инвективная лексика якутского языка». Автор отмечает
характерные отличия русской и якутской стратегий и особенно —
отличия синтаксические, вроде наличия «дескриптивных
атрибутов», которые предпочитаются словообразовательным
моделям* популярным в русской практике. Особенно
ценным представляется наблюдение автора над
сохранившимися архаическими чертами якутского языка, что приводит к
большей, по сравнению с русским языком, роли внутренней
формы инвектив. Религиозные воззрения якутов, без
сомнения, оказывают на инвективную практику самое серьезное
влияние. Как справедливо отмечает исследовательница,
недостаточный учет этого обстоятельства европейскими
филологами и этнографами способен привести к серьезным
ошибкам. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что
часть якутского инвективного вокабуляра стратегически
сближается с использованием аналогичных инвектив
народами Средней Азии: одно и то же наименование
определенного органа может в разных ситуациях использоваться как
вполне «пристойное» слово и как инвектива.
15
Большая часть статей данного сборника не ставит
перед собой чисто практическую задачу борьбы со
сквернословием. Исключением является статья заведующего
сектором Института проблем управления РАН биофизика
Г.Г. Тертышного «Методы и средства биофизического
полевого управления в биологических системах». Его работа
представляет собой популярное изложение исследования,
согласно которому биологические системы обладают
волновой и голографической структурой. В соответствии с
теорией Г.Г. Тертышного, каждая отдельная клетка
любого организма принимает и передает информацию от
других клеток, в результате чего имеет место голографиче-
ский волновой обмен информацией. Исследуя
возникающие при этом информационные сбои, автор приходит,
в частности, к выводу, что психическое и физическое
здоровье человека прямо зависит от воздействия на его
клетки «хороших» или «плохих» волновых генов. В частности,
те «плохие» волновые гены, которые порождаются
сквернословием, могут оказывать самое разрушительное
влияние на здоровье, причем влияние на здоровье
сквернослова больше, нежели на объект его атаки. Выводы
самоочевидны.
Уникальный материал представлен Л.В. Бессмертных в
его «Библиографическом указателе словарей и другой
справочной литературы, содержащей русскую обсценную и
воровскую лексику». До настоящего времени у нас не было
столь исчерпывающего перечня соответствующих
публикаций, и отныне эта лакуна успешно заполнена. Указатель
делает очевидным, что, во-первых, в области накопления
изучаемого материала сделано уже не так мало, а
во-вторых, что дальнейшее продвижение вперед невозможно
без освоения уже достигнутого. Нет сомнения, что к этому
списку отныне будут обращаться все исследователи
жаргонов и инвективной лексики.
Хочется надеяться, что предлагаемый читателю
сборник статей будет с интересом встречен не только
специалистами в области инвективной лексики, но что его с
пользой для себя прочтут этно- и социолингвисты, этнологи,
конфликтологи, юристы, педагоги — словом, все, кому
небезразлична судьба национальной культуры.
В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин
ЗАПРЕТ И НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА
КАК КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В системе ценностей любого общества существуют
запреты на совершение определенных действий. Такие
запреты выработаны многими тысячелетиями и
обусловлены рядом причин: сохранением жизни коллектива (нельзя
убивать членов своего племени и наносить им увечья),
сохранением собственности (нельзя произвольно
присваивать себе то, что принадлежит другому), сохранением
символической идентичности коллектива (нельзя поклоняться
чужим богам). Нарушения таких запретов
квалифицируются как преступления, перечисленные в юридических
кодексах (воровство), как грехи, о которых идет речь в
священных текстах (кощунство), как аморальные действия,
осуждаемые в коллективе (хвастовство). Существуют и
«некрасивые» коммуникативные поступки, смыкающиеся с
аморальными действиями, но рассматриваемые как
допустимые, хоть и нежелательные акты поведения, например,
антиэтикетные действия (ковыряние в носу). Выделяются
также конвенциональные запреты общения (например,
если преподаватель обратится к студенту на «ты», это
может быть воспринято как знак старшинства,
доверительности либо как открытая грубая демонстрация статусного
неравенства, но если в аналогичной ситуации студент
обратится на «ты» к преподавателю, то последний воспримет
это как угрозу своему социальному статусу). Именно такое
состояние В.И. Жельвис квалифицирует как крайнюю
неуместность (см.: Жельвис 2001: 55).
С позиций социолингвистики можно
противопоставить несколько типов запретов: 1) запреты цивилизацион-
17
ного порядка (нельзя есть человечину); 2) этнокультурные
запреты (нельзя, пригласив гостей, сообщать им, в какую
сумму обошелся хозяевам ужин); 3) социокультурные
запреты (нельзя шутить на религиозные темы с верующим
человеком); 4) микрогрупповые запреты (в определенных
семьях детям нельзя первыми за столом приступать к еде).
Эти запреты отражают ценности, свойственные
определенному типу цивилизации, либо приоритетные для
лингвокультуры в целом нормы отношения к старшим и
младшим, гостеприимства, поддержания дистанции и
т. д., либо ориентиры поведения, свойственные
студентам, военнослужащим, заключенным, другим крупным
сообществам в рамках того или иного социума, либо такие
ориентиры, характерные для малых групп и выступающие
в качестве дополнительных признаков, определяющих
поведение людей.
В коммуникативной ситуации запрета, т. е. лишения
права совершать что-либо, выделяются следующие
компоненты: 1) тот, кто налагает запрет, т. е. обладает правом на
запрет; 2) тот, кто выражает запрет, т. е. формулирует
запрет как перформатив; 3) тот, кому адресован запрет;
4) запретное потенциальное действие; 5) санкция, т. е.
наказание за нарушение запрета; 6) реальная причина
запрета; 7) называемая причина запрета; 8) сфера запрета
(бытовая, юридическая, религиозная, медицинская,
педагогическая, спортивная и т. д.); 9) срок действия запрета;
10) место действия запрета; 11) тональность запрета
(степень категоричности). В определенных ситуациях
некоторые из компонентов не дифференцируются, например
наложение и выражение запрета или реальная и называемая
причина запрета. Компоненты моделируемой ситуации не
равноценны, наиболее важными из них являются
формулировка запрета как перформатива, уточнение
запретного действия и определение адресатов: «Посторонним вход
воспрещен!»
Между участниками данной коммуникативной
ситуации по определению существуют отношения статусного
неравенства. Запрещающий должен иметь право на
запрет. В статусной дихотомии «вышестоящий —
нижестоящий» первый участник получает более детальное
обозначение (см.: Карасик 1992). Например, особый вид запре-
18
та — вето — имеет право наложить руководитель страны
или высший законодательный орган или представитель
страны, имеющей право вето в международной
организации. Налагать запрет может руководство организации или
сообщество в целом, в таких случаях используются формы
страдательного залога: «Курить в помещении
запрещается». Действенность запрета усиливается объявлением
санкции, например, за курение в неположенном месте
студенты исключаются из университета. В качестве типичных
выразителей запрета выступают родители, учителя,
руководители, хозяева, врачи. Иначе говоря, право на запрет
подкреплено статусными характеристиками
родственного или институционального старшинства, физической и
психической силы, собственности, особыми умениями.
Если статусные характеристики вышестоящего ставятся
под сомнение, то адресат имеет право сказать: «Кто ты,
чтобы запрещать мне это?» Попытка сформулировать
запрет с карнавально переворачиваемыми статусными
векторами превращает такого рода коммуникативное
действие в абсурд: «Солдатам во время боя запрещается
давать советы командирам».
В разговоре взрослых с маленькими детьми речевое
действие запрета часто акцентирует статус вышестоящего
(мать говорит своему ребенку: «Мама сказала: не трогай
кошку!»). Взрослые не всегда затрудняют себя
разъяснением причины запрета, а если даже причина вербализуется,
она обычно нерелевантна для ценностной системы
ребенка. Запрет часто воспринимается как помыкание,
демонстрация силы. Экспериментальное исследование,
проведенное H.A. Лемяскиной и И.А. Стерниным, показывает, что
запрещения, наряду с речевыми актами отрицательной
оценки и инвективами, входят в число речевых средств,
оцениваемых детьми наиболее негативно (см.: Лемяскина,
Стернин 2000: 127).
Система немотивированных запретов, касающихся
наиболее интимных сфер жизни, успешно использовалась в
немецких концентрационных лагерях для подавления
личности заключенного: «Все усилия как бы направлялись на
то, чтобы свести заключенного до уровня ребенка, еще не
научившегося пользоваться горшком. Так, заключенные
справляли нужду только по приказу в соответствии со стро-
19
гими лагерными правилами, и это превращалось в важное
событие дня, подробно обсуждавшееся. В Бухенвальде
запрещалось пользоваться туалетом в течение всего
рабочего дня. Даже когда для заключенного делалось
исключение, он должен был просить разрешение у охранника, а
после отчитываться перед ним в такой форме, которая
подрывала его самоуважение» (Беттельхейм 1992: 72).
Запретное потенциальное действие — это такое
действие, осуществление которого может нанести вред
сообществу в целом, либо его группе, либо отдельному
индивиду, в том числе и самому исполнителю этого действия.
Наиболее серьезные и категоричные санкции предъявляются
к тем нарушителям запретов, которые причиняют вред
сообществу в целом. Перечень таких действий обычно
фигурирует в диспозициональной части статей Уголовного
кодекса. Адресаты запрета обычно уточняются ситуативно:
«Входить в зрительный зал после начала спектакля не
разрешается» — понятно, что этот запрет адресован зрителям;
«Не высовываться!» (надпись над окнами вагонов
электрички) — для пассажиров; «Под стрелой не стоять!» — для
тех, кто находится вблизи строительного крана. Весьма
часто свернутой формой всего коммуникативного
действия запрета является выраженная санкция: «Штраф за
безбилетный проезд — 100 рублей». Информация о том, что
пассажирам запрещается ездить без билета, входит в
пресуппозицию такой санкции. Сокращенно обозначение
запрета может быть сформулировано в виде номинативной
фразы: «Запретная зона». Подразумевается, что входить на
территорию этой зоны запрещено всем, кто не имеет
специального разрешения. Более конденсированной формой
запрета является обозначение ситуации, включающей
сценарные запреты: «Комендантский час — с 21.00 до 6.00», —
это значит, что всем жителям данного населенного пункта
запрещено появляться на улице в обозначенное время при
объявлении военного или осадного положения,
нарушитель этого запрета будет арестован военным патрулем и
после допроса помещен в камеру для заключения, попытка
спастись бегством может закончиться расстрелом и т. д.
Причины запретов, подобно оценочной мотивировке,
не всегда выражены и осознаны участниками общения.
Очевидный вред от запретного действия объясняется си-
20
туативно: «Не курить!» — надпись на складе легко
воспламеняющихся продуктов (или более четкая формулировка
причины: «Огнеопасно»). В английском языке
нюансировка запретов, по данным синонимического словаря,
выражена весьма подробно именно с точки зрения
объяснения мотивов: глагол «prohibit» (в отличие от «forbid»)
подразумевает, что запрет направлен во благо адресату, в
то время как «ban» имплицирует отрицательную оценку и
осуждение запретного действия (например, запрет
использовать непристойные выражения) (см.: WNDS 1978).
В медицинском учреждении врач может строго запретить
больному употреблять в пищу определенные продукты,
религиозные догматы запрещают совершать подобные
действия по другим причинам: в первом случае запрет
объясняется вероятным ухудшением здоровья пациента
вследствие неправильной диеты, во втором — касается
символических действий, совместное воздержание от
которых доказывает групповую идентичность. Попытка
рационально объяснить такие требования принижает
значимость запрета: свинину нельзя есть вовсе не потому,
что она быстро портится в тех странах, где действует
такой религиозный запрет (хотя это и справедливо), а
потому, что все, кто соблюдает этот запрет, образуют
целостное сообщество, и доказательства принадлежности к
сообществу должны быть очевидными. В ряде случаев
стремление к сплочению группы является единственной
мотивацией запрета, со всех прочих точек зрения
способного доставить подчиняющимся ему лишь неудобства.
Чем выраженнее стремление группы к изоляции от
остального социума, тем жестче запреты и шире
регламентируемые ими жизненные сферы. Например, в криминальном
мире доперестроечной России существовали следующие
правила, которым были обязаны подчиняться так
называемые «воры в законе» («законники»):
Первый закон воровского братства запрещал вору трудиться. На
свободе он должен воровать, в лагере — сидеть, причем в прямом смысле.
Прибыв в зону, вор сразу же попадал в отрицалы, нарушая режим и
отказываясь работать...
Второе классическое правило воровского братства—не имей семьи. До
70-х годов «законникам» запрещалось жениться, иметь детей и даже
поддерживать связь с родителями... В зоне или тюрьме воры в законе могли
переписываться лишь друг с другом или письменно отдавать приказы...
21
Воровской устав запрещал «законнику» окружать себя дорогими
вещами — особняком, автомобилем и тому подобным, носить любые
украшения (единственным украшением должна быть лишь татуировка) и
копить личные деньги. Образ жизни вора старой закваски лаконично
выразил главный герой известной комедии «Джентльмены удачи»: «Ты — вор.
Украл, выпил — в тюрьму. Украл, выпил — в тюрьму». Действительно,
часть своей добычи «законник» отдавал в общак, а на остальные — гулял.
Разгульная жизнь обычно длилась не более года. Затем вор был обязан
возвратиться в «дом родной»: сначала в СИЗО, затем в зону...
«Законникам» запрещалось служить в армии, интересоваться политикой, тем
более состоять в партии или комсомоле, посещать добровольные народные
дружины и воевать. Косились даже на тех, кто читал прессу, — вор
должен лишь воровать (Кучинский 1997).
Характерно, что, по мере превращения российского
криминалитета из маргинальной группы в разветвленную,
социально неоднородную структуру, играющую активную
роль во всех сферах общественной жизни, эти запреты
смягчаются, а затем исчезают полностью.
Особую группу составляют индивидуальные запреты,
вербализуемые конкретным коммуникантом в конкретной
коммуникативной ситуации с единственной целью
утверждения собственного превосходства над адресатом («Не
делай этого потому и только потому, что я тебе запрещаю»).
Адресат ставится перед выбором — подчиниться запрету,
т. е. признать власть говорящего, или пойти на открытую
конфронтацию. В чистом виде подобные запреты
функционируют лишь в детском общении:
Том большим пальцем ноги проводит в пыли черту и говорит:
— Посмей только переступить через эту черту! Я дам тебе такую
взбучку, что ты с места не встанешь! Горе тому, кто перейдет за эту черту!
Чужой мальчик тотчас же спешит перейти за черту:
— Ну посмотрим, как ты вздуешь меня (М. Твен).
Во взрослом общении механизм возникновения
запрета и его нарушения часто бывает аналогичен
вышеописанному, но при этом обычно вербализуется некая
претендующая на рациональность мотивация, маскирующая
истинные побуждения коммуникантов. Это, в свою очередь,
связано с одним из глобальных цивилизационных
запретов: взрослому нельзя вести себя нерационально, как это
делают дети.
Степень категоричности запрета варьируется от
предельно жесткого лишения права совершать обозначенное
действие до мягкого совета, иногда маскируемого в виде
22
просьбы. Сравним: «Распивать спиртные напитки в
общественном месте запрещается» и «Я прошу вас не
пользоваться во время экзамена шпаргалками». Запрет как перформа-
тив включает отрицание перед запретным
потенциальным действием: «Я велю тебе / Предписано всем /
Традиция требует... не делать чего-либо». Перенос отрицания в
позицию модусной части высказывания делает
высказывание более мягким (сравним: «Я не думаю, что ты прав. — Я
думаю, что ты не прав» — второе высказывание более
категорично, поскольку здесь акцентируется диктальная, т. е.
фактическая информация; не случайно в английском
языке предпочтительно отрицание в модусной части таких
предложений). Категоричность запрета связана с фазовой
характеристикой запретного действия, которое уже
происходит: «Немедленно прекратите восстановительные
работы!» В обыденном общении запрет может переходить в
угрозу, мольбу, эмоциональное заклинание: «Не смей
прикасаться ко мне!» Глаголы действия со встроенным в их
семантику отрицанием (например, прекратить) в
императиве превращаются в запреты. Сравнение запретов с
компонентом «не смей(те)...» и без этого компонента
показывает, что первые сфокусированы на личности
говорящего, а вторые — на содержании запретного действия: «Не
смейте отвлекать водителя!» — «Не отвлекайте водителя!»
Сравнение запретов с компонентом «не смей(те)...» и без
этого компонента дает основание считать, что данный
компонент служит интенсификатором запрета. Можно
говорить о личных интенсификаторах («Не смей читать
мои письма!») и об институциональных
интенсификаторах запрета («Посторонним вход в инфекционное
отделение строго запрещен»).
Сферы действия запретов определяют набор их
участников, действия и вероятную тональность запрета.
Юридические запреты закреплены в законах и поэтому в
максимальной степени безличны, именно в этих случаях
противопоставляются тот, кто налагает запрет, и тот, кто его
осуществляет. В юридическом общении наиболее
разработаны характеристики запретных действий и типы санкций.
Причины запретов в юридической сфере очевидны: это
вред сообществу в целом и его отдельным представителям.
Религиозные нормы придают запретам сакральный харак-
23
тер, точнее — придают запретам выражение божественной
воли. В этом случае акцентируется аксиоматичность
запрета: задавать вопрос о причине религиозного запрета —
значит кощунствовать. Медицинские запреты в большей мере
личностны (их формулирует врач), весьма часто они
выражены в виде более или менее настоятельных рекомендаций
не делать чего-либо. Степень категоричности этих
запретов зависит от состояния больного и опасности
заболевания для других людей. Педагогические запреты интересны
тем, что большей частью они служат способом
социализации подрастающих членов общества: нельзя опаздывать на
уроки (опоздания осуждаются не только в школе), нельзя
приходить с невыполненным домашним заданием (эти
задания воспитывают дисциплинированность,
обязательность, силу воли), нельзя отвлекаться во время урока
(нужно быть внимательным) и т. д. Эти запреты формируют
фундамент моральных норм, выдвигаемых обществом для
своих членов. Спортивные запреты носят условный
характер: правила игры диктуют ее участникам, что можно и
чего нельзя делать, причем в случае их нарушения
запретные действия и санкции регламентируются почти с
юридической точностью (прикосновение руки полевого игрока к
мячу во время футбольного матча является строгим
нарушением игры). Существуют запреты и в научной сфере
общения: нельзя заимствовать материал из чужой работы без
указания на источник заимствования (плагиат относится к
наиболее серьезным нарушениям научной этики и
законодательства об авторском праве), нельзя вести научную
дискуссию, не имея необходимых знаний (дилетантство
подлежит осуждению), нельзя опираться на недостоверную
информацию (наука имеет дело с фактами), нельзя нарушать
логику изложения (предметом научного рассуждения
является скрытая сущность некоторого явления, и
установление истины при нарушении логики весьма
затруднительно). Эти запреты редко выражаются вербально, но
доказательство как основной способ научного общения
неизбежно учитывает их. В политическом и рекламном
общении запреты весьма специфичны: они входят в
подразумеваемую часть информации (например, авторы рекламных
текстов хорошо знают, что за недобросовестную рекламу
или антирекламу их могут привлечь к ответственности, по-
24
этому они избегают указаний на конкретные объекты
конкурентов: «Паста "Мойдодыр" гораздо эффективнее, чем
обычное чистящее средство»). В данном случае статус
участников общения требует от отправителей речи учитывать то
обстоятельство, что они зависят от своих адресатов. В
политических дебатах, впрочем, действуют и универсальные
запреты: нельзя оскорблять оппонентов, распространять
порочащую их информацию, вести себя непристойно (см.:
Шейгал 2000).
Разновидностью запрета является табу. Табу — это
запрет, налагаемый на определенное действие, слово,
предмет; в первобытной культуре считалось, что нарушение
этого запрета вызовет кару со стороны
сверхъестественных сил. В современном понимании табуизируемые
действия — это запреты имперсонального характера,
опирающиеся на нормы здравого смысла в общении. Можно
выделить три типа коммуникативных табу:
1) жесткие запреты, касающиеся вульгарного, грубого и
непристойного поведения (требование избегать
неприличных выражений, намеков, жестов в присутствии
незнакомых людей, детей и женщин, в официальных ситуациях;
эти выражения касаются сексуальной сферы и сферы
физиологии человека), в современных условиях эта
разновидность табу нарушается все чаще, но вряд ли можно
согласиться с тем, что такое положение дел свидетельствует о
демократизации общения и не подлежит противодействию;
2) естественные запреты, касающиеся норм поведения,
вытекающих из учета чувств людей: нельзя смеяться на
похоронах, произносить проклятья на свадьбе, задавать
интимные вопросы незнакомцам, выказывать знаки
открытого неуважения старшим и т. д.; тот, кто нарушает
такие запреты, нарушает тем самым постулат
рациональности общения, именно этот вид запретов подвергается
карнавальному переосмыслению в максимальной степени
(см.: Слышкин 2000);
3) конвенциональные запреты определенной
культуры, связанные с нормами общения в той или иной
социальной группе или этнокультурном сообществе в целом
(таковы, например, конфиденциальные вопросы о сумме
доходов, обращенные к малознакомым людям в Англии и
США, если только эти вопросы не задает налоговый инс-
25
пектор, вопросы, касающиеся здоровья, если их не задает
врач, конфессиональной принадлежности, если их не
задает тот, кто имеет на это право). К таким знаковым
запретам относятся избегаемые обороты речи (носители
диалекта, общаясь между собой, избегают литературных
словоформ, известен пример относительно ударения в
слове километр: крупный ученый, приезжая в свою
родную деревню, намеренно делал ударение в этом слове на
втором слоге, чтобы односельчане не подумали, что он
зазнался), избегаемые поведенческие формулы,
связанные с опасением уронить лицо (намеренное избегание
вежливых этикетных форм подростками в своем кругу),
избегаемые выражения, связанные с нарушением норм
политкорректное™ (стремление не указывать тендерную
или расовую принадлежность кого-либо), сюда же
относятся и идеологические табу (например, запрет на
цитирование или упоминание работ определенного автора).
Реакции на запрет сводятся к соблюдению и
нарушению запрета. Если человек нарушает некий запрет, не зная
о том, что данное действие запрещено, то в определенных
ситуациях он подлежит наказанию: незнание закона не
освобождает от ответственности. Соблюдение запрета
может быть неосознанным и осознанным, в последнем
случае человек либо понимает правильность запрета и
поддерживает его, либо вынужден по некоторым
причинам выполнять запрет. Нарушение запрета является
осознанным поступком, нарушитель запрета отдает себе
отчет в том, что по отношению к нему будут применяться
определенные меры наказания за это нарушение.
Нарушение запрета может быть скрываемым и демонстративным.
Демонстративное нарушение запрета может
осуществляться как маскируемое либо как немаскируемое действие.
Маскируемое нарушение запрета в отличие от
скрываемого и явного нарушений, допускает вариации. Например,
рассказывая непристойный анекдот в кругу людей, чья
реакция на такой анекдот будет заведомо негативной,
человек может дистанцироваться от текста («Мне недавно очень
пошлый анекдот рассказали»), либо высказать критику в
адрес источника информации («Одна сволочь мне только
что анекдот рассказала»), либо эвфемистически заменить
запретное выражение на нейтральное.
26
Психологически нарушения запрета являются
демонстрацией особого статуса того, кто нарушает некие
установления. Такие нарушения являются непременным атрибутом
агрессивного поведения в среде подростков, спортсменов,
солдат, криминальных элементов, т. е. среди тех, кто
должен показывать смелость и дерзость для самоутверждения,
добиваясь права быть лидером. Очевидна тендерная
специфика подобных нарушений запретов, связанная с высокой
состязательностью как непременным атрибутом поведения
самцов. Не случайно в русском языке идея нарушения
запрета находит амбивалентное выражение: «"лихой" — 1)
могущий причинить вред, зло; злой; 2) смелый, храбрый,
удалой» (БТС 1998). О.Ю. Богуславская справедливо
отмечает, что в синонимическом ряду слов «храбрый»,
«смелый», «отважный», «мужественный», «бесстрашный»,
«неустрашимый» слово «смелый» обозначает человека, для
которого «характерны активные действия,
предпринимаемые по его инициативе для осуществления его собственной
цели» (НОСС 2000: 395). Инициатива по своей сути и есть
нарушение сложившегося равновесия. Если в коллективном
сознании поддержание такого равновесия символизируется
как некая фундаментальная норма поведения, то
инициатива, направленная на изменение статусного баланса,
будет неизбежно восприниматься как вызов, как дерзкое
нарушение запрета. В коллективном сознании отражены
оценочно противоречивые признаки тех ситуаций, когда
кто-либо нарушает запреты. Ситуация сражения, войны
освобождает людей от соблюдения многих норм мирной
жизни. Экстремальные ситуации накладывают особые
запреты на проявления обычных человеческих качеств.
Отказ принять участие в карательной экспедиции будет
стоить жизни солдату.
С нарушением запретов связана коммуникативная
стратегия эпатажа. Эпатирование состоит в нарушении запрета
с целью привлечения внимания. Эпатирующий
рассчитывает вызвать у окружающих не агрессивную реакцию, но
заинтересованность. При этом не столь важно, будет ли
заинтересованность одобрительной или неодобрительной.
Нарушение запрета здесь выполняет фатическую функцию.
В качестве примера процитируем заметку из
интернетовского журнала «В моде эпатаж!», посвященную летней моде:
27
Главная тенденция моды сегодня — привлечь внимание любой ценой.
И, похоже, именно этой тенденции следуют с особым усердием. Эпатаж —
движущая сила лета. А научиться эпатировать окружающих не так уж и
сложно. Достаточно забыть про зиму, про условности и правила, про
плохое настроение и неудачи и попробовать поиграть на контрастах
(http://www.passion.ru/fashion/epataj/).
Эпатаж здесь выступает как коммуникативный навык,
который носителю культуры необходимо формировать у
себя для достижения успеха. Деятели массовой культуры
открыто признаются в том, что эпатаж входит в арсенал
профессионально необходимых им коммуникативных
средств. Ср. высказывание Наташи Королевой:
Люблю эпатаж, но в легкой форме, все время эпатировать нехорошо.
Некоторым нравится постоянно удивлять окружающих своей внешностью,
приходить то с синей головой, то с перьями, а это надоедает. Я
необычные эксперименты со своим образом провожу редко, но получается
всегда очень эффектно. Эпатаж должен присутствовать у артиста, нельзя
быть всегда ровной, одинаковой, но и быть слишком экстравагантной
недопустимо. Так и балансируешь на грани, чуть в сторону — уже кричат:
вульгарная, пошлая... На всех не угодишь (http://www.kiz.ru/stat/Ko-
гоіеѵа/).
Любопытно, что открытое признание в стремлении к
эпатажу, в свою очередь, является формой эпатажа —
демонстративно нарушается запрет «не будь тщеславен, не
стремись к дешевой популярности» (в обыденном
сознании он звучит более выразительно: «не выпендривайся»).
Предварительное оповещение адресата о намерении его
эпатировать становится не иллокутивным самоубийством,
но рекламной акцией. В этом смысле показательна
следующая заметка, посвященная выступлению одной из групп
авангардистов:
Оганяна с его учениками приглашают поучаствовать в церемонии
вручения театральной премии «Золотая маска» в Доме актера на Арбате.
Он охотно соглашается. Его ученики выступают. Они демонстрируют,
как они выполнили домашнее задание, которое состояло в том, что они
должны были придумать и продемонстрировать какие-либо действия,
которые должны были показать, насколько они усвоили понимание и
освоение такого краеугольного камня авангардистского искусства, как
эпатаж публики («Пощечина общественному вкусу», «Нате»
Маяковского и проч. и проч. и проч.).
Они выходят по одному на сцену и демонстрируют акты эпатажа, а
потом объясняют, почему они полагают именно данный акт —
эпатирующим. Все акты — классически нехитрые:
Показать жопу.
28
Вытащить из ширинки сардельку и бросить ее в зал.
Крикнуть «Хайль Гитлер».
Выйти с плакатом «Кто читает, тот дурак» и т. д.
Нехитрые-то нехитрые, а, оказалось, всё еще эффективные:
театральная публика — Ульянов там, прочие исполнители ролей — были
действительно эпатированы, и еще месяца два в прессе поминали
безобразие, имевшее место на церемонии (http://www.gelman.ru/avdei/).
Как и всякий феномен массовой культуры,
эпатирующая стратегия, постепенно коммерциализуясь, из
проявления индивидуальности превращается в набор штампов.
Нарушения запретов остро переживаются людьми и
поэтому закономерно отражаются в текстах массовой
культуры, прежде всего — в анекдотах.
Цивилизационные запреты касаются базовых норм
поведения современных людей. Нарушения этих запретов
ставят под сомнение всю систему витальных ценностей.
Например:
Врач переспал со своей пациенткой!! Сидит и мучается:
— Да как я мог, да как я посмел?!?! Нарушил врачебную этику!! Да как
я посмел?!
Тут внутренний голос ему говорит:
«Да ладно тебе, ну с кем не бывает, подумаешь!! У всех врачей такое
было — успокойся!!»
Тот только начал успокаиваться, как вдруг сам себе как закричит:
— Ну не все же врачи — ветеринары!!!
Юмористический эффект данного анекдота состоит в
столкновении двух несопрягаемых тем: мук совести, что V
характеризует человека с развитым моральным чувством,
и скотоложства как поведения диких существ.
Каннибализм также обыгрывается в анекдотах:
Плывут на лодке трое моряков после кораблекрушения. Плывут день,
другой, третий. Есть нечего. На четвертый день утром один моряк
просыпается и видит, что их осталось только двое. «А где наш товарищ?» —
спрашивает он второго моряка. «Волной смыло», — отвечает тот,
вынимая из зубов застрявший кусочек мяса.
Обширный спектр анекдотов и шуток на тему
юридических запретов свидетельствует о том, что в
коллективном сознании важнейшие нормы, которые получили
кодификацию, постоянно осмысливаются заново.
Тема убийства в анекдоте часто является
замаскированным выражением отношения к другим темам. Например:
29
Идет мужик с топором и говорит: «Тридцать три, тридцать три,
тридцать три...» Прохожий спрашивает: «Ты что считаешь?» Мужик хрясь
его топором по голове: «Тридцать четыре, тридцать четыре, тридцать
четыре...»
Этот анекдот затрагивает весьма актуальный концепт
отношения к судьбе в русской лингвокультуре.
Английские респонденты не смогли увидеть в этом тексте
изюминку, заставляющую по-философски улыбнуться
жителей нашей страны. Никто ведь не заставлял прохожего
задавать вопрос своей персонифицированной судьбе.
В последнее время получил широкое распространение
жанр черного юмора. Этот феномен еще предстоит
осмыслить, но нарушение этических запретов, связанных с
отношением к смерти («На солнце и на смерть нельзя смотреть
в упор»), девальвация значимости смерти и убийства
приводят к коренной ломке всей системы запретов в
коллективном сознании:
Идет солдат и видит смертельно раненного бойца. Раненый стонет:
«Браток, помоги, добей меня...» Сжалился солдат и разрядил в
умирающего всю обойму. А тот открыл глаза и с блаженной улыбкой говорит:
«Спасибо, браток!»
Насмешка над смертью дополнена здесь высмеиванием
акта помощи умирающему, который оказывается кем-то
вроде бессмертного мазохиста, для которого муки
смерти — удовольствие. Этот анекдот вызовет улыбку не в
любой аудитории. Так, солдаты, глядевшие в лицо смерти и
видевшие умиравших друзей, вряд ли улыбнутся, услышав
такую шутку.
Шутки на религиозную тему обычно связаны с
высмеиванием человеческих недостатков в поведении служителей
веры либо героев религиозного вероучения. Поле
запретов в этой сфере стремительно сокращается. Например:
It's the day of the crucifixion and a huge crowd has gathered at the bottom
of the hill. Suddenly Jesus looks up from the cross and calls out to his disciples
«Peter, Peter, come to me Peter».
On hearing his master's voice Peter makes his way through the crowd only
to be stopped by a Roman centurion who threatens to kill him if he comes any
closer.
Again Jesus looks up and calls out «Peter, Peter, come to me Peter».
Again Peter moves forward but this time the centurion raises his sword and
cuts off Peter's hand. Once again Jesus calls out «Peter, Peter, come to me
Peter».
30
Peter tries again to reach his master but the centurion raises his sword and
cuts off Peter's arm. Bloodied and near death Peter staggers back into the crowd.
For a final time Jesus calls out «Peter, Peter, come to me Peter».
Peter makes a last desperate attempt to reach his master and this time the
Roman centurion allows him to pass. He staggers to the top of the hill and falls
at the bottom of his master's cross. Peter looks up and cries out «what is it that
you want of me my lord?».
Jesus looks down at his bloodied friend and says: «Do you know Peter, I
can see your house from up here!»
Перевод:
Наступил день распятия, и большая толпа собралась у подножия
Голгофы. Иисус Христос висит на кресте. Вдруг он поднимает голову и зовет
своего ученика: «Петр, Петр, подойди ко мне!»
Услышав голос Учителя, Петр пытается пробиться сквозь толпу.
Центурион поднимает меч и останавливает апостола.
Иисус снова зовет ученика: «Петр, Петр, подойди ко мне!»
Петр вновь пытается подойти к кресту, и центурион наносит
апостолу удар мечом. И снова Учитель зовет Петра. Весь в крови, Петр идет к
кресту. Центурион отрубает ему руку. Шатаясь от боли, Петр
возвращается в толпу.
И вновь Иисус зовет своего ученика. Собрав последние силы, Петр
идет к кресту, центурион на этот раз пропускает его. Апостол, умирая,
кричит: «Господи, Ты меня звал?»
Спаситель смотрит сверху на него и говорит: «Знаешь, Петр, отсюда
виден твой дом!»
Перед нами — разновидность анекдота-розыгрыша, при
этом объектом смеха выступает смерть, которая обычно
табуируется в общении. Здесь нарушается целая серия
моральных и религиозных запретов: кощунственно
задевается тема распятия, показана бессмысленность
нечеловеческих жертв, на которые идет апостол, ситуация
становится совершенно абсурдной, поскольку Иисус показан как
турист, любующийся красивым видом города в момент
собственного распятия. Такого рода анекдоты являются
видом вербальной агрессии. Юмористический текст
обычно сообщает о важном для коммуникантов предмете, но не
должен касаться сверхценностей, в частности вопроса о
жизни и смерти. Приведенный пример является
шутовским типом комического текста. Разумеется, этот анекдот
не может быть воспринят как смешной текст многими
людьми. На наш взгляд, анекдот такого типа будет будет иметь
успех в среде тех людей, которые не отдают себе отчета в
возможности обидеть адресата либо сознательно идут на
конфликт.
31
Само коммуникативное действие запрета, будучи
весьма значимым культурно, находит отражение в смеховых
текстах:
В ресторане сидит Гиви. На столе у него выпивка, закуска, на
коленях — шикарная блондинка. В зал входит друг Гиви:
— Вай, Гиви, у тебя же язва! Тебе же врач все это запретил!
— Подумаешь, врач! Дал я ему триста штук, так он мне всё опять
разрешил!
В этом тексте реализован концепт «глупость» — один из
центральных концептов анекдотного жанра. В анекдотах
фигурирует множество видов глупости. В данном случае
это — коммуникативная некомпетентность,
проявляющаяся в неспособности адекватно осознать причину запрета:
врачебное предписание, направленное на защиту здоровья
пациента, адресат воспринимает как властное
распоряжение, которое можно обойти при помощи подкупа.
Мужик попал в тюрьму. Входит он в камеру и с порога говорит зэкам:
— Здорово, козлы!
Тут же все на него набрасываются, долго и обстоятельно бьют, а
потом объясняют, что в тюрьме есть два запретных обращения — козел и
петух, за эти слова, мол, и убить можно.
— Ну, так бы сразу и сказали, а то налетели как петухи...
Здесь предметом осмеяния становится другое
проявление некомпетентности — неумение достаточно быстро
адаптироваться к новой коммуникативной среде с ее
системой запретов.
Двое отдыхающих в санатории:
— Пошли, друг, выпьем!
— Не могу.
— Это почему же?
— По трем причинам: во-первых, водка очень вредна для здоровья,
во-вторых, могут отчислить из санатория, в-третьих, я уже и так пьян...
Персонаж, начавший с декларации обоснованности
запрета, а также возможности санкций, затем сознается в
его нарушении.
Отношение к запретам — важная черта национального
менталитета. Тема запрета часто возникает в сопостави-
тельно-агональных анекдотах (анекдоты, сюжет которых
построен на том, что представители различных культур,
оказавшись в некой, часто экстремальной, ситуации, по-
разному реагируют на нее). Приведем два текста:
32
Решили провести тест на способность граждан разных стран к
насилию. Подключили датчики детектора к англичанину. Дали задание ударить
человека. Тот не стал бить. Мысли на табло: «Нарушение закона — суд —
тюрьма — не буду». Подключили француза — то же самое. Португальца—то
же. Дали это же задание русскому, а тот как врежет экспериментатору.
Мысль на табло: «Ну что, может, развернуться, еще ногой поддать?»
У моста через Темзу беседуют двое джентльменов. Один говорит: «Сэр,
я предлагаю вам пари. Сейчас я подойду по очереди к трем прохожим по
вашему выбору и без какого-либо насилия, шантажа и угроз заставлю их
прыгнуть с моста в реку». — «Идет!» Подходит к первому: «Сэр, вы кто?»
— Я англичанин, сэр!
— Ага... Сэр, а вы знаете, что наша королева Елизавета вчера на балу
вела себя непристойно?
— О, я этого не переживу! — сигает в реку.
Подходит к другому: «Простите, сэр, вы кто?»
— Я? Я француз!
— Мсье, должен вам сообщить, что со вчерашнего дня во Франции
введен сухой закон.
— О, я этого не переживу! — падает в реку.
Подходит к третьему: «Извините, сэр, вы кто?»
— Русский!
—А-а-а!.. А вам говорили, что в своде законов Британской империи
написано, что прыгать с этого моста в Темзу категорически запрещено?
— Видал я ваши законы!!! — орет русский и бултыхается в реку...
В обоих текстах осуществляется стереотипизация
отношения русского этноса к запретам. В первом анекдоте речь
идет о нерелевантности для русских запрета на насилие, во
втором — о рационально немотивированном стремлении
нарушать любые запреты вне зависимости от последствий,
т. е. о своего рода идиосинкразии к слову «запрещено».
Функционирующие в рамках определенной культуры
запреты, стандартные для нее формы нарушения запретов,
а также отражение запретов и их нарушений в смеховых
текстах, порождаемых этой культурой, дают обширный
материал для ее лингвоаксиологического исследования.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Беттельхейм 1992 — Беттельхейм Б. Просвещенное сердце //
Человек. 1992. № 2. С. 67-80.
Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 1998. —
1536 с.
Жельвис 2001 — Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как
социальная проблема в языках и культурах мира. 2-е изд. М.: Ладомир, 2001. —
349 с.
33
Карасик 1992 — Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Ин-т
языкознания РАН, 1992. - 330 с.
Кучинский 1997 — Кучинский A.B. Преступники и преступления.
Законы преступного мира. Паханы, авторитеты, воры в законе. М.: Сталкер,
1997.-432 с.
Лемяскина, Стернин 2000 — Лемяскина H.A., Стернин И.А.
Коммуникативное поведение младшего школьника. Воронеж, 2000. — 195 с.
НООС 2000 — Новый объяснительный словарь синонимов русского
языка. Вып. 2. М.: Языки русской культуры, 2000. — 488 с.
Слышкин 2000 — Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные
концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Аса-
demia, 2000. - 128 с.
Шейгал 2000 — Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.;
Волгоград, 2000. - 368 с.
WNDS 1978 — Webster's New Dictionary of Synonyms. Springfield: Mer-
riam, 1978.-909 p.
В.В. Дементьев
БРАНЬ
И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Статья посвящена одному из наиболее очевидных
аспектов брани — участию инвективной речи в
формировании межличностных отношений. Аспект этот, однако,
еще недостаточно изучен.
Выделим два аспекта брани:
1) «языковая брань», или собственно инвективы, —
языковые средства осуществления инвективной речи, или,
согласно В.И. Жельвису, «языковые способы выражения ин-
вективного отношения индивидов друг к другу» (Жельвис
1997а: 6). Это формализованные, кодифицированные в
лексике и/или грамматике средства. В то же время
инвективы — это средства принципиально некодифицированные,
не разрешенные к использованию в лингвокультурной
ситуации, а в крайней своей части даже табуированные, хотя
и известные любому члену семиотической группы (см.: Там
же: 9). К лексическим средствам осуществления
инвективной речи относятся слова, имеющие в словарях пометы
«бран.», «вульг.», «груб.», «груб.-презр.», «груб.-прост.»,
«неценз.», «презр.», «пренебр.», многие специфические
жаргоны, воровские языки и подоб. Грамматические средства
и формы непристойного есть в некоторых языках.
Например, в японском языке, в котором нет инвективной
лексики в обычном смысле слова, тем не менее возможны очень
грубые выражения за счет обращения к особым
грамматическим формам. Чаще всего эффект вульгарных инвектив
достигается путем сокращения грамматической
конструкции, превращения ее в недопустимо краткий вызывающий
приказ (см.: Passin 1980: 76-77; Жельвис 1997а: 162);
35
2) «ситуативная брань», или инвектйвные
коммуникативные ситуации, — ситуации дисгармонического
(конфликтного, диссонансного) общения, характеризующиеся
выраженной агрессией.
Разграничение этих двух аспектов несколько меняет
наше представление о функциях и сферах использования
инвектив (например, в работе: Жельвис 1997а: 99—118
выделяется 26 функций инвектив).
Мы считаем, что, с точки зрения непосредственной
межличностной коммуникации, основная функция инвективы
(т. е. «языковой брани») состоит в том, чтобы служить
средством выражения и осуществления конфликтных
межличностных отношений в инвективных коммуникативных
ситуациях (т. е. использоваться для осуществления «ситуативной
брани»).
Функция инвективы, которую В.И. Жельвис считает
важнейшей, — служить средством выражения профанного
начала, противопоставленного началу сакральному (см.:
Жельвис 1997а: 100), по нашему мнению, несущественна
для современной межличностной коммуникации.
Здесь можно вспомнить относительно недавнюю (1994 г.)
полемику Б.Л. Борухова с Т.П. Фокиной по вопросу,
можно ли считать мат средством борьбы с официальным
дискурсом, «деконструкцией на российский манер».
Приведем несколько положений из статьи Б.Л. Борухова, с
которыми мы вполне солидаризируемся: «Свойственная
матерным формулам в языческую эпоху магическая функция
давно отошла в прошлое и свою силу утратила. В
настоящее время матерная брань — это один из способов оскорбить
человека, наплевать ему в душу. В этом смысле мат и впрямь
можно считать инструментом деконструкции. Но это
отнюдь не та деконструкция, о которой говорит Т.П.
Фокина. Скорее, это деструкция, причем в самом прямом
значении этого термина. Ибо если кого и хочет
'Сконструировать" индивид, изрыгающий в мой адрес многоэтажное
ругательство, то уж конечно не официальный дискурс и не
метафизику, на которые ему глубоко плевать, а именно
меня — как человека, как личность, как мешающую ему
объективную реальность» (Борухов 1994: 19). Трудно не
согласиться с Б.Л. Боруховым в оценке современной ин-
вективной коммуникации: «<...> когда я "хронотопаю" по
36
тем же, что и Т.П. Фокина, улицам и слышу какое-нибудь
очередное: "Ах ты блядь, пизда ебаная, хуй тебе в жопу,
ща как уебу промежду глаз!.." (цитирую однажды
услышанное дословно) — то обнаружить здесь хоть какие-то
намеки на протест, борьбу и уж тем паче
"деконструкцию" (пусть даже и на "российский манер") я при всем
своем искреннем желании не способен. Не стоит, как
мне кажется, в такой степени идеализировать народ и
выдавать желаемое за действительное, приписывая
матерящемуся алкашу (грузчику, милиционеру и т. п.)
менталитет фрондирующего интеллектуала, начитавшегося
Зиновьева и Дерриды. Тут дело не в протесте и не в
деконструкции или, по крайней мере, не только в них»
(Там же: 14).
Противопоставление двух типов брани — «языковой
брани» и «ситуативной брани» — соответствует нашей
концепции прямой и непрямой коммуникации (см.:
Дементьев 2000).
Выделяются два типа коммуникации: прямая
(упорядоченная, нормированная, формализованная)
коммуникация имеет место тогда, когда в содержательной структуре
высказывания смысл = значению, то есть план содержания
высказывания, выражаемый значениями компонентов
высказывания (слов, граммем и т. п.), зафиксированных в
словаре, совпадает с итоговым коммуникативным
смыслом. В основе такой коммуникации лежит система единиц
и правил их организации, поддающихся исчислению (то
есть замкнутая система, «код»). Таким образом, прямая
коммуникация организуется аттракторами (в синергети-
ческой терминологии) и не включает участков неаттрак-
торового характера1. Главным аттрактором,
организующим прямую коммуникацию, выступает язык. Но кроме
языкового существует большое число различных способов
упорядочения коммуникации, преодоления энтропии в ней:
различные жанровые и риторические правила и предпи-
1 В лингвосйнергетике «аттрактор» понимается как область
упорядоченности для открытой, сильно неравновесной системы. В синергети-
ческих системах аттракторы являются единственным средством (1)
преодоления неопределенности, излишней энтропии смысла и (2) создания
неконвенциональной аналогической структуры (см.: Герман 2000: 41, 91
и далее).
37
сания ведения как вербальной, так и невербальной
коммуникации.
Непрямая (неупорядоченная, ненормированная,
неформализованная) коммуникация охватывает целый ряд
речевых явлений: большинство ситуаций невербальной
коммуникации, имплицитные высказывания, эвфемизмы,
тропы, иронические высказывания и мн. др. и
характеризуется двумя важнейшими моментами. Во-первых, для нее
характерна осложненная, по крайней мере на один шаг,
интерпретативная деятельность адресата речи,
необходимая при коммуникативном использовании
неконвенциональных единиц. Креативность непрямой коммуникации
проявляется, с одной стороны, в возможности свободной
(интерпретативной) деятельности, с другой стороны, в
том, что деятельность индивида ограничивается рамками
определенных речевых/коммуникативных жанров. Во-
вторых, восприятие непрямых высказываний основано на
определенных контекстно-ситуативных условиях и
общности апперцепционной базы адресанта и адресата.
Прямая же коммуникация является ситуативно независимой,
поскольку строится средствами формализованных
систем, знаками высокой информационной плотности.
Выделение двух названных типов коммуникации можно
понимать как распространение на коммуникацию
известной лингвистической дихотомии Э. Бенвениста
«семиотические коммуникативные системы» ~ «семантические
коммуникативные системы» (Бенвенист 1974: 80—88).
К несемиотическому началу в языке относится всё то,
что не позволяет значениям, выражаемым единицами
естественного языка, приблизиться по прямоте к значениям,
выражаемым символами формализованных кодов —
асимметрия, человеческий фактор, проявляющийся в
организации и функционировании языковых единиц разных
уровней, градуируемые единицы, образующие поля, и т. д.
Важно, что полностью семиотически прямую и
полностью непрямую, несемиотическую коммуникацию можно
выделять лишь как своеобразные полюсы, причем скорее
идеальные, нежели встречающиеся в реальном общении
людей. Непосредственному наблюдению и изучению
доступно лишь поле бесконечно многообразных
переходных явлений.
38
Различаются два типа использования непрямой
коммуникации в речи: НК-1 (непланируемая непрямая
коммуникация, собственно НК) как неизбежная неточность в
передаче и приеме смыслов вследствие непредсказуемости
коммуникации, интерпретативной деятельности слушающего
(а также вследствие недостаточной формализованное™
языковой системы, того, что язык «пронизан» НК); НК-2
(планируемая непрямая коммуникация, косвенность) как
прием, имеющий целью программировать интерпретацию
адресата в направлении, желательном для адресанта. Это
сознательное использование тех свойств языка и речи,
которые являются НК в других условиях.
В языке нет средств, которые специально
обслуживали бы непланируемую непрямую коммуникацию, но во
всех языках существуют особые риторические приемы
использования непрямой коммуникации, эксплуатации
ее свойств для достижения различных эффектов.
В настоящей статье рассматривается тодько фатиче-
ская коммуникация. Обращение к ней не случайно: во-
первых, для фатической коммуникации очень значимы
межличностные отношения коммуникантов; во-вторых,
основная доля фатической коммуникации приходится на
непрямую коммуникацию. По В.И. Жельвису, инвектива
очень тесно связана с фатикой: «Сплошь и рядом
инвектива есть просто способ осуществления фатического
общения» (Жельвис 19976: 137).
Мы рассматриваем прямую и непрямую инвективную
коммуникацию в различных разновидностях фатики, или
фатических речевых жанрах (ФРЖ).
Параметры типологии ФРЖ предложены нами в:
Дементьев 1999. Одним из параметров является участие
ФРЖ в изменении или сохранении межличностных
отношений. Этот параметр представлен графически в виде
условно градуируемой горизонтальной шкалы А.Р.
Балаяна (от унисона, или искренних признаний и
комплиментов, до диссонанса, или ссор и выяснений отношений).
Вторым параметром служит степень косвенности в виде
вертикальной шкалы, соединенной со шкалой А.Р.
Балаяна. Все известные нам фатические речевые жанры
располагаются на рисунке в виде двух прямых
пересекающихся линий.
39
— диссонанс 0 унисон +
В точке О находятся праздноречевые жанры («small
talk»): они соответствуют нулю на шкале изменения
отношений и условно У на шкале степени косвенности.
ФРЖ с нулевой косвенностью занимают позиции на
краях оси отношений: точка А — эксплицитный разрыв и
точка В — эксплицитное объяснение в любви.
В ФРЖ, для которых характерна меньшая степень
улучшения/ухудшения отношений (отрезки ОА и OB), это
улучшение/ухудшение отношений осуществляется менее
эксплицитно, т. е. выше их степень косвенности.
В соответствии с предлагаемой моделью типологиза-
ции фатики выделяются отчетливо противопоставляемые
пять основных типов ФРЖ:
1. Праздноречевые жанры, или «small talk»:
межличностные отношения не улучшаются и не ухудшаются, а
сохраняются, степень косвенности — приблизительно
У2 (точка О).
2. ФРЖ, ухудшающие межличностные отношения в
прямой форме: прямые обвинения, оскорбления, выяснения
отношений, ссоры (отрезок ОА).
3. ФРЖ, улучшающие межличностные отношения в
прямой форме: доброжелательные разговоры по душам,
признания, комплименты, исповеди/ проповеди и т. п.
(отрезок OB).
40
4. ФРЖ, ухудшающие отношения в скрытой,
косвенной форме — например, чтобы ответственность лежала
на партнере (отрезок ОС). Сюда относятся некоторые
разновидности иронии, издевка, колкость, розыгрыш.
5. ФРЖ, улучшающие отношения в косвенной форме:
шутка, флирт (отрезок OD). Функции инвективы,
языковая и ситуативная брань, а также соотношение НК-1 и НК-2
на разных отрезках существенно различаются.
Использование «языковой брани» в конфликтной
коммуникации, т. е. для «ситуативной брани», делает такую
коммуникацию прямой. Это конфликтный разрыв
контакта, точнее, разрыв отношений (многие инвективы
эксплицируют «посылание»). Добавим, что подобная
коммуникация не является в полном смысле коммуникацией,
диалогом из-за того, что совершенно не учитывается даже
отрицается) адресат речи. Данный факт объединяет
ситуации, где непосредственный адресат наличествует, и
ситуации, где адресата как такового нет (ср. примеры (3),
где отсутствует непосредственный адресат, и (4), где
адресат не владеет русским языком). (Вспомним высказывание
М.М. Бахтина: «Двери смеха открыты для всех и каждого.
Возмущение, гнев, негодование всегда односторонни: они
всегда исключают того, на кого гневаются и т. п.,
вызывают ответный гнев» (Бахтин 1979: 339).)
(1) Боренька (со все возрастающим остервенением). Душегубки вам
строить надо, скотское ваше племя! (Серия ударов в почки, рычание
слепого и сопение Медбрата.) Пидор гнойный! Тварь ебучая! Ссскотобаза!..
(В. Ерофеев. «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»).
(2) — А ты — дерьмо, Гурьяныч! Дерьмо, невежда и подлец! И вечно будешь
подлецом, даже если тебя, назначат старшим лейтенантом... Знаешь почему ты
стучишь? Потому что тебя не любят женщины... (С. Довлатов.
«Заповедник»).
(3) —Яебал вас всех, ебанныеврот суки!— говорю я и вытираю слезы
кулаком. Может быть, я адресую эти слова билдингам вокруг. Я не знаю. —Яебал вас
всех, ебанныеврот суки! Идите вы всё на хуй!— шепчу я (Э. Лимонов. «Это я —
Эдичка»).
(4) Эля затряслась и заорала на Папашку порусски и даже по-татарски,
поскольку утверждают, что русские нецензурные слова имеют татарское
происхождение. Папашка ничего не понял, но это и не обязательно; ибо все было ясно
из выражения Элиноголица (В. Токарева. «Хэппи энд»).
41
(5) В. Какой ты / б.../ сука / нудный // Не завидую б... твоей
женщине / которая за тя замуж пойдет// (пример из: Шалина 1998:147)1.
(6) Юг. Баран!Пошел ты...//
Л. Тычё/ мужичошка?!
Завязывается драка, Юг. и Л. разнимают, через несколько минут Юг.
снова нападает на Л. Их опять разнимают (пример из: Шалина 1998:
182).
Итак, это прямая коммуникация (ФРЖ ОА). Здесь
инвективы используются «по назначению» — как средство
ухудшения межличностных отношений, средство
оскорбить, унизить партнера.
В этом смысле можно сказать, что языковая брань
выступает аттрактором прямой конфликтной
коммуникации. Конечно, данный термин используется условно: вряд
ли брань способна что-либо упорядочить, организовать.
Но инвективы действительно направляют понимание
услышанного во вполне определенном направлении, так что
эта метафора оправданна.
Кстати, речевой жанр, по М.М. Бахтину, также
является коммуникативным аттрактором. Речевые жанры
представляют собой «инструменты», при помощи которых
человек осуществляет свою ориентацию в окружающем
мире и воздействие на мир, а точнее: такую важную часть
взаимодействия с миром, как общение с другими людьми.
По-видимому, именно так понимал жанры сам М.М.
Бахтин: «Формы языка и типические формы высказываний,
то есть речевые жанры, приходят в наш опыт и в наше
сознание вместе и в тесной связи друг с другом. <...>
Речевые жанры организуют (выделено мною. — В. Д.) нашу
речь почти так же, как ее организуют грамматические
формы (синтаксические)» (Бахтин 1979: 258).
1 В качестве материала нашего исследования цитируются диалоги
персонажей художественных произведений. Кроме того, мы
используем речевой материал, записанный рабочим Первоуральского
новотрубного завода, студентом-заочником (ныне аспирантом) Уральского
университета М.О. Махнутиным и обработанный в кандидатской
диссертации И.В. Шалиной (см.: Шалина 1998) — непосредственные
непринужденные разговоры членов бригады цеха высокоточного
оборудования в разных ситуациях. Пользуемся случаем привлечь внимание
читателей к этому интереснейшему исследованию.
42
Даже косвенные конфликтные речевые жанры (ФРЖ
ОС) являются аттракторами, направляют понимание.
Конфликтная коммуникация («ситуативная брань») без
«языковой брани» представляет собой непрямую
коммуникацию, точнее планируемую непрямую коммуникацию,
или НК-2, например:
Ловлю косые взгляды Дениски, стоящего в дверях, не говоря уже об ушедшем на
лестницу курить зяте Владимире и его жене Оксане, которая приходит тут же
на кухню, прекрасно зная мою боль, и прямо при Тиме говорит (а сама
прекрасно выглядит), говорит:
— А что, тетя Аня (это я), ходит к вам Алена? Тимочка, твоя мама тебя
навещает ?
— Что ты, Дунечка (этоу нее детское прозвище), Дуняша, развел тебе не
говорила. Алена болеет, у нее постоянно грудница.
— Грудница??? (И чуть было не типа того, что от кого ж это у нее
грудница, от чьего такого молока ?)
И я быстро, прихватив несколько еще сухарей, хорошие сливочные сухари, веду
вон из кухни Тиму смотреть телевизор в большую комнату, идем-идем, скоро
«Спокойной ночи...», хотя по меньшей мере осталось полчаса до этого.
Но она идет за нами и говорит, что можно заявить на работу Алены, что
мать бросила ребенка на произвол судьбы. <... > Наконец-то она спрашивает, это,
что ли, от того, о котором Алена когда-то ей рассказывала по телефону, что не
знала, что так бывает и что так не бывает, и она плачет, проснется и плачет
от счастья? От того, когда Алена просила взаймы на кооператив, но у нас не
было, мы меняли машину и ремонт на даче? От этого? Да?Я отвечаю, что не
в курсе.
Все эти вопросы задаются с целью, чтобы мы больше к ним не ходили. А ведь
они дружили, Дуня и Алена, в детстве... (Л. Петрушевская. «Время ночь»).
— Я тебе сочувствую!
— Вчем?
— Ну, ты понимаешь, о чем я говорю?
— Нет, не понимаю!
— А ты подумай на досуге (пример из: Седов 1998:15).
О подобных ситуациях пишет В.И. Жельвис: «<...>
возможны очень серьезные угрозы, принципиально,
сознательно лишенные автором грубых слов. Гангстер, в драке
жестоко избивший соперника и оставивший его лежать на
земле, перед уходом может с подчеркнутой вежливостью
сказать ему: "Никогда больше так не делай!"
Представляется, что никакого противоречия здесь нет. Такая фраза
возможна только после демонстрации своего
превосходства над поверженным противником, ни в коем случае не
в начале ссоры. То есть автор уже как бы осуществил
физически то, что мог бы обещать в виде инвективы. Более
43
того, "Больше никогда так не делай" может
восприниматься "от противного", то есть подчеркнутая вежливость есть
как бы та же грубость, взятая с обратным знаком:
подобным образом "голубчик" в высказывании "Я тебе,
голубчик, сейчас покажу, где раки зимуют!" звучит достаточно
угрожающе» (Жельвис 19976: 138).
Использование «языковой брани» как средства
выражения лояльности (ФРЖ OD) также представляет собой
планируемую непрямую коммуникацию, или НК-2.
Например, в ситуации флирта косвенные комплименты
скрытым образом выражают симпатию, влечение к партнеру
при фамильярности и даже грубости на поверхностном
уровне:
— Ну и трепач ты!— весело сказала Настя, глядя в глаза Пашке.
Пашка ухом не повел.
— Откуда ты такой ?
— Из Москвы, — небрежно бросил Пашка.
— Все у вас там такие?
— Какие?
— Такие... воображалы.
— Ваша серость меня удивляет, — сказал Пашка, вонзая многозначительный
ласковый взгляд в колодезную глубину темных загадочных глаз Насти.
Настя тихонько засмеялась (В. Шукшин. «Классный водитель»).
Такое использование инвектив не приводит к конфликту.
Вспомним, с каким лиризмом изображено в повести Л.
Толстого «Казаки» тоже грубоватое, бесхитростное и при этом
нежное и чистое ухаживание:
Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девку, которая ближе сидела
к нему.
— Ну, смола, — запищала девка, — бабе скажу!
— Говори!— закричал он и принялся обнимать другую девку по порядку.
— Что пристал, сволочь?— смеясь, запищала румяная круглолицая У
стелька, замахиваясь на него. <... >
Лукашка все время молча глядел на Марьянку. Взгляд его, видимо, смущал
девку.
— А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили?— сказал он,
подвигаясь к ней. Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на
казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от
разговора, происходило в это время между им и девкой.
— Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься!— сказал Лукашка,
ближе придвигаясь на завалинке к девке и все глядя ей в глаза.
— Что ж, надолго пришел? — спросила Марьяна, слегка улыбаясь.
— До утра. Дай семечек, — прибавил он, протягивая руку.
Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи.
44
— Все не бери, — сказала она.
— Право, все о тебе скучился, ей-богу, — сказал сдержанно-спокойным шепотом
Лука, доставая семечки из-за пазухи девки, и, еще ближе пригнувшись к ней, стал
шепотом говорить что-то, смеясь глазами.
— Не приду, сказано, — вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от
него. <...>
Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него,
постукивая хворостиной по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна
вздрогнула и приостановилась.
— Вишь, черт проклятый! Напугал меня. Не пошел же домой, — сказала она
и громко засмеялась.
Лукашка обнял одной рукой девку, а другою взял ее за лицо.
— Что я тебе сказать хотел., ей-богу!.. — Голос его дрожал и прерывался.
— Каки разговоры нашел по ночам, — отвечала Марьяна. — Мамука ждет,
а ты к своей душеньке поди.
В станицу приезжает молодой московский дворянин
Оленев и тоже начинает ухаживать за Марьяной.
Светский стиль Оленева, напротив, выглядит фальшивым и
стыдным по сравнению с искренностью,
естественностью Марьяны и Лукашки.
К таким же ФРЖ OD можно отнести «соленые» шутки,
многие из которых вполне доброжелательны и никого не
обижают. Так, в среде рабочих «словесное лицедейство»
вызывает положительную реакцию:
М. Надо тебе такие коробочки?/ Под инструмент /под сверла /штуку
стоят //
В. Надо конечно //
А. За штуку я змею в жало вые..// (Все одобрительно смеются.)
(пример из: Шалина 1998:146).
Для ФРЖ OD, как и для «верхней части» типологии
ФРЖ в целом, где обязательна забота о форме речи,
характерно сознательное использование инвектив.
Для ФРЖ ОА, как и для «нижней части» типологии
ФРЖ в целом, где нет косвенности, но больше доля непла-
нируемой непрямой коммуникации, характерно помимо-
вольное использование инвектив.
Все остальные ситуации использования «языковой
брани» также представляют собой непрямую коммуникацию,
но, в отличие от рассмотренных случаев, — непланируе-
мую непрямую коммуникацию, или НК-1. Все эти
ситуации не что иное, как коммуникативно-речевые,
стилистические или этические ошибки и подмены. Это
бессознательное использование мата, жаргона, грубых выраже-
45
ний, которых сами говорящие не замечают (но часто
замечают наблюдатели).
Кстати, только такие ситуации вселяют в нас
настоящую тревогу, ибо именно они свидетельствуют о
настоящем «внедрении» брани (мата, жаргонов) в языковое
сознание людей вплоть до подмены ими «обыкновенного»
языка.
Полностью присоединяемся к тревоге и боли за
«великий и могучий», которые выражал по поводу
бессознательного распространения жаргона К.И. Чуковский и — 30
лет спустя по поводу распространения мата — Б.Л. Бору-
хов: «Жаргон почти сплошь состоит из пошлых и
разухабистых слов, выражающих беспардонную грубость. <...> В
нем нет ни мечтательности, ни доброты, ни изящества —
никаких качеств, свойственных юным сердцам. И можно
ли отрицать ту самоочевидную истину, что в грубом языке
чаще всего отражается психика грубых людей? Главная
злокачественность жаргона заключается в том, что он не
только вызван обеднением чувств, но и сам, в свою
очередь, ведет к обеднению чувств» (Чуковский 1990: 567).
Мат, по Б.Л. Борухову, есть язык унижения, злобы и
агрессии: «В мате нет ни одного слова со значением
"обнять", "приласкать", "погладить", "поцеловать". Зато есть
целый арсенал слов со значением "ударить", "бить",
"избить". <...> Мат является одновременно и формой
насилия, его вербальным двойником (ибо оскорбление — это
тоже насилие), и вместе с тем он выступает в функции
голоса насилия, его информационного обеспечения» (Бо-
рухов 1994: 21). Особым «вниманием» матерщины
пользуется сфера секса, причем здесь мат выступает как язык
грязной похоти: «В интерпретации мата секс предстает, с
одной стороны, как чисто физиологическое отправление
организма, что-то вроде мочеиспускания или дефекации,
а с другой — как нечто низкое, мерзкое, грязное, о чем
можно говорить лишь с гнусным хихиканьем, с
блудливым и сальным выражением глаз. Секс в трактовке мата не
имеет никакого отношения к таким понятиям, как
нежность, ласка и т. д. Это не высокая и светлая страсть, но
разгул грубых инстинктов и царство похоти. В матерных
названиях половых органов, в глаголах ебать и ебатъся, в
словах ебля и ебливый, в выражениях ебатъся раком, ебать с
46
перископом и т. п. эта семантика запрограммирована как
бы изначально. Именно поэтому на языке мата
невозможно говорить о любви» (Там же: 23); «<...> нет лучшего
способа вызвать отвращение к сексу, чем заговорить о нем на
языке мата» (Там же).
Жанрам «small talk» (ФРЖточки О), в отличие от ФРЖ
ОА, а также OD, вообще противопоказано использование
«языковой брани», это всегда ошибки и подмены.
(Использование «языковой брани» противопоказано также ФРЖ
ОС, но по совершенно иным причинам.)
Так, во многих пособиях по риторике отмечается, что
ошибки в светской беседе связаны с подменой жанров, и
прежде всего — подменой светской беседы дружеской беседой. При
этом как подмена понимаются и «отклонения» в сторону
неуместной интимности, доверительности и «отклонения» в
сторону фамильярности и грубости. Ср.: «Хорошо
освоенное нами, естественное ддя современных носителей
русского языка дружеское общение здесь не может быть
реализовано. <...> Наше языковое сознание четко увязывает
неофициальность с иными языковыми кодами, допускающими
широкое распространение языковой игры, просторечные,
жаргонные, книжные инкрустации, аллюзивные
вкрапления историко-литературного плана» (Мил ёхина 2001:140).
Безусловно, необходимо различать светскую беседу и
дружескую беседу как вторичный (опосредованный,
обработанный) и первичный (непосредственный) РЖ (см.: Бахтин
1979: 242—243). С «непосредственной» фатикой светскую
беседу объединяет неинформативность (или малоинформа-
тивность), с дистантными вторичными жанрами —
внимание к форме речи.
Однако светская беседа как вторичный речевой жанр
генетически восходит к таким разновидностям фатики
(«small talk»), как болтовня/сплетничанъе, но, видимо,
никак не к дружеской беседе/разговору по душам {исповеди,
проповеди). К вторичным РЖ, развившимся на базе последнего,
можно отнести дружескую лирику (например, «Послание
к Чаадаеву» Пушкина) и «кружковые разговоры»
пушкинской эпохи (литературные кружки, письма, эпиграммы,
кружковая речь, causerie, «дружеские враки» с особой
семантикой, понятной только «своим» — например, в
«Зеленой лампе», «Арзамасе», кружке Оленина.
47
Но и «подмены», безусловно, происходят.
Дело в том, что для большинства россиян именно
дружеская беседа является своеобразной «точкой отсчета»,
через которую осмысляются и свойства светской беседы.
Так, светская беседа может восприниматься как общение с
чужим, в отличие от дружеской беседы, следовательно, как
общение эмоционально дискомфортное, отсюда грубость
и фамильярность, присущие конфликтным жанрам. С
другой стороны, светская беседа может восприниматься как
общение необходимо вежливое, отсюда ласковость,
интимность, присущие дружеской беседе.
Таким образом, хотя, казалось бы, в ФРЖ точки О нет
места инвективам, они встречаются как отклонения — в
сторону дружеской беседы (ФРЖ OB) и т. д., т. е. как НК-1.
Складывается впечатление, что единственная сфера, где
не может быть инвектив, в том числе и в качестве
отклонений, — это отрезок ОС. Это, конечно, не означает, что ОС
является «самым человечным» или неагрессивным
общением.
Следует отметить, что бессознательное обращение к
инвективам в «small talk» не всегда делает
коммуникацию конфликтной. Например, в коллективе рабочих,
речь которых исследовали И.В. Шалина и М.О. Махну-
тин, обычно вообще не обращают внимания на
нецензурные слова:
М. Вот будет нормальный человек самогонку гнать?
В. Ну а почему нет?
М. А кому она нужна ? Пошел / взял нормальной водки //
В. А где ее, нормальной-то, найти?
М. А ты не бери в киосках-то / б...// Не пей ерунду-то всякую //
В. Да кто в киосках-то берет ? Кто ее пьет ?
М. Ты // А вот зачем тебе самогонный аппарат / скажи ? Вот ты гнал
когда-нибудь самогон ? //
В. Гнал //
№.. Гнал? И что?
В. Нормально //Яна самогоне гараж построил //
М. Вот так вот / спаиваете друг дружку / б... //
В. Огород вскопать вот / обязательно нужно / Уже надо готовиться //
Надо /надо / надо/ би//
М. Ты знаешь температуру хотя бы ? / химик /б...//
В. Температуру чего?
М. Кипячения / при перегоне //
Ъ.'На выходе должна где-то градусов семьдесят восемь быть//
М. Вот врешь ты всё // семьдесят шесть //
48
В. Ну вот них... //Я тебе точно же /
М. (перебивает.) Не на выходе а вообще/ температура / чтобы вот это /
испарение было // Спирт испаряется при температуре семьдесят шесть
градусов //Нормальный спирт / без всякого этого дерьма //
В. Да /да /да/ да//
М. А ты сивухи нагонишь / и траванешься со своим самогоном //
В. (смеется).
М. Валера / б../ водки завались / запейся/ б..//
В. Водка хуже самогона // Хорошо очищенный самогон / это б..//
М. Валера / о чем, ты говоришь ?
В. Такая бутыль самогона / мутного //
М. Фу / б... / вонючего//
В. Вонючего (смеется). // Тазик огурцов //Во!
М. Глупый ты //
В. Сам ты глупый // Молодой еще/Поумнеешь// (Уходит.) (пример из:
Шалина 1998: 167-168).
Хотя спору присуща некоторая общая напряженность,
В. не реагирует на конфликтные речевые действия
партнера (химик; без этого дерьма; Не пей ерунду-то всякую),
во-первых, потому, что он привык к постоянным взаимным
подначкам, поддразниваниям, во-вторых, уверен в своей
правоте и оценивает свой статус выше статуса М. (Молодой еще /
Поумнеешь //).
К.Ф. Седов даже полагает, что инвективы «не портят»
кооперативно-актуализаторское речевое поведение,
отражающее высший уровень коммуникативной компетенции
человека. Например, исследователь считает кооператив-
но-актуализаторским такой диалог:
— Эх/ жизнь наша поганая/ мать... <неценз.>/
— Дауж/ <неценз.> жизнь!За... <неценз.> совсем!
— Ты меня понял! (Седов 2000: 307-308).
Всё сказанное заставляет нас внести некоторые
коррективы в понимание «прямой инвективной
коммуникации».
Прежде всего, прямая инвективная коммуникация —
это коммуникация некооперативная и
«некоммуникативная». Она имеет место не только тогда, когда «языковая
брань» используется как средство ухудшения
межличностных отношений — в прямой инвективной коммуникации
«языковая брань» сопровождает гнусные, бездуховные
социальные связи (от ситуаций сознательного оскорбления
партнера до ситуаций, когда его чувства просто игнориру-
49
ются). Общее для всех случаев — «языковая брань» звучит
в устах языковой личности, которая относится к своему
речевому партнеру с полным пренебрежением.
Изображение такой ситуации надругательства над
человеческой личностью находим, например, в пьесе В.
Ерофеева «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»:
Покуда витийствовал Стасик, растворились обе двери
3-й палаты, и на пороге —Мед брат Боренькаи медсестра
Тамарочка. Оба они не смотрят на больных, а харкают в них
глазами. Оба понимают, что одним своим появлением
вызывают во всех палатах мгновенное оцепенение и скорбь — которой
много и без того.
Прохоров. Встать!Всем встать! Обход!
Все медленно встают, кроме Хохули, старичка Вовы и
Гуревича.
Боря-Мордоворот(у него из-под халата — ухоженный шоколадный
костюм и, поверх тугой сорочки, галстук на толстой шее. В этом обличий его
редко кто видел: просто он сегодня дежурный постовой Мед брат
в первомайскую ночь. Шутейно подступает к Стасику, который застыл в
позе «с рукой под козырек»). Так тебе, блядина, значит, не хватает каких-
то там желез?..
Тамара.//^ бздюмо, парень, сейчас у тебя все железы будут на месте.
Боря, играя, молниеносно бьет Стасика в подлых, тот в
корчах опускается на пол.
Тамара (указывая пальцем на Вову). Л этотзасратый сморчок—
почему не встает, вопреки приказу ?
Б о р я. А это мы спросим у него самого... Вовочка, есть какие жалобы ?
Вова. Нет... на здоровье жалоб никаких.. Только я домой очень хочу... Там
сейчас медуницы цветут., конец апреля.. Таму меня, как сойдешь с порога, целая
поляна медуниц, от края до края, и пчелки уже над ними,..
Боря (поправляя галстук). Ннну... я житель городской, в гробу видал все
твои медуницы. А какого они цвета, Вовочка?
Вова. Ну, как сказать?., синенькие они, лазоревые... ну, как в конце апреля
небо после заката..
Боря под смех Тамарочки — ногтями впивается в
кончик Вовиного носа и делает несколько вращательных
движений. Вовин нос становится под цвет апрельской медуницы.
Вова плачет. <...>
Тамарочка (тем временем, привлеченная зрелищем справа:
Сережа Клейнмихель, отвернувшись к окошку, тихонько молится). А! Ты
опять за свое, припизднутый! (Раздувая сизые щеки, направляется к
нему.) Сколько раз тебя можно учить! Сначала — к правому плечу, а уж
потом— клевому. Вот, смотри! (Хватает его за шиворот и, сплюнув ему в
лицо, вначале ударяет его кулаком по лбу, потом — с размаху — в правое
50
плечо, потом в левое, потом под ребра.) Повторить еще раз?X
Повторяет то же самое еще раз, только с большей мощью и веселым
удальством.) Говно на лопате! еще раз увижу, что крестишься, — утоплю в помойном
ведре!..
Боря. Да брось ты, Томочка, руки марать. Поди-ка лучше сюда.
(Отшвырнув Колю, движется в сторону адмирала, Вити и Гуревича. За ним —
свита: староста Прохоров, Алеха-Диссидент и Тамарочка.)
Прохоров. Товарищ контр-адмирал, как видите, не может стать перед
вами во фрунт. Наказан за буйство и растленную агентурность. Вернее, за
агентурную растленность и буйство.
Боря. Понятно, понятно <...> (Проходит кВите. Витя, с розовой
улыбкой, покоится в раскладушке, разбросанный как гран-пасьянс.)
Тамарочка. Здравствуй, Витенька, здравствуй, золотце.. (Широкой
ладонью, с маху шлепает Витю по животу. У Вити исчезает улыбка.) Как
обстоит дело с пищеварением, Витюнчик ?
Витя. Больно...
Боря (хохочет вместе с Тамарочкой). А остальным нашим уважаемым
пациентам — разве не больно? Вот они почему-то хором запросились домой — а
почему, Витюша? Очень просто: ты доставил им боль, ты лишил их
интеллектуальных развлечений. Взгляни, какие у них у всех страдальческие хари. Так что-
вот: давай договоримся, сегодня же..
Тамарочка.... сегодня же, когда пойдешь насчет посрать, — чтобы все
настольные игры были на месте. Иначе— придется начинать вскрытие. А ты сам
знаешь, голубок, что живых людей мы не вскрываем, а только трупы..
Это, с нашей точки зрения, и есть настоящее
соответствие «языковой инвективы» «ситуативной инвективе», то
есть подлинно прямая инвективная коммуникация.
Кстати, она проявляется не только в ситуациях с открытым
насилием — не менее гнусная «прямая коммуникация» может
проникать даже в общение... влюбленных!
Ср. следующий диалог из пьесы Н. Коляды «Мурлин
Мурло»:
О л ь г а. <.. .> сегодня катастрофа будет, конец света, или через две недели...
Очень долго молчат. За окном раздается оглушительный
крик. Ни Ольга, ни Михаил на него не обращают внимания.
Михаил. Одни вруны лечатся... болтают, что ни попадя. А ты слушаешь.
Тоже мне.. Вранье все. Вранье, поняла? Ты веришь, ага? Веришь?
Ольга. Конечно, верю! Конечно! А как же иначе ? Как ? (Пауза.) Скорее бы,
скорее бы нас всех засыпало, утопило бы, скорее бы!
Михаил (помолчал). Ну да. Ну да. Ну да. Дура ты. Такая жизнь
хорошая, а ты вон чего... Люди вон как живут— позавидуешь!Живут себе. Стенки
покупают, ковры, всё хрусталем уставят— аж глаза радуются. А ты каркаешь.
Скорее бы, скорее бы! Дура ты. В сказки веришь, ага? Книжки ты не читаешь,
вот что. А я вот — читаю. (Смеется.) Поняла?Вот, кстати, книжкам я
должен за всё спасибо сказать... В книжках у всех графов, князей были любовницы.
51
Научили меня книжки! (Потягивается.) Вот и ты у меня тоже — любовница!
(Хохочет.)
Ольга молчит.
Эй!Мурлин Мурло! Сними противогаз, слышишь? Нет, ну рассказать кому
про мою любовницу — не поверят, засмеют! Скажут, с головой не дружу!
Правда, мягкая ты.. Тело у тебя хорошее.. Учить тебя надо только многому...
Любовницы знаешь что в постели делают ? Во-от... А ты не хочешь, заставлять
приходится. Ну, чего молчишь? Э? Ну? (Пауза.) Ну, молчи, молчи...
Ольга смотрит в пол, не двигается.
Ладно, надулась! Еще зареви давай... (Пауза.) (Снова потягивается.) Эх,
люблю жизнь! Сколько в ней радостей, сколько удовольствия, счастья! Любишь
ты жизнь или нет, скажи, а?Любишь, нет, ну, скажи?
Ольга. Отстань. Иди уже вон домой. Надоел. Надоел! Сидишь тут,
болтаешь, собираешь что попало. Иди давай. Мать скоро с работы придет, ругаться
будет, что свет палим..
Михаил. Ну придет, так придет, ладно. Мне-то что? (Смеется.) Не
суетись под клиентом, слышишь, а, Мурлинка ?
Ольга (дернула плечом). Голова болит.
Михаил. Голова не попа — завяжи и лежи. (Хохочет.) Ничего ты не
понимаешь. Ни-че-го! Глупая-а-а. Глупая ты. Дура. Я тебе говорю, как в жизни все
устроено хорошо, понимаешь?Поработал— отдохни— выпей, сил наберись, с
бабами поиграй. А потом— опять работаешь, и одно удовольствие вспоминать, как
было хорошо и как еще лучше скоро будет. Бабы! Эх, бабы! Ничего вы в жизни не
петрите! Ничего не смыслите в колбасных обрезках! «Бабы дуры, бабы дуры, бабы
бешеный народ. Как увидят помидоры, сразу лезут в огород!» (Смеется.) Не
будет никакого землетрясения. Не будет, и всё. Я знаю. Я чувствую.
Ольга. Скорее бы все к чертовой матери рухнуло. Скорее бы, скорее, скорее.
Молчание.
Михаил.^ тебе подарю чего-нибудь скоро. Хочешь ? Подарю. От Ирки
заначу и подарю. Купить тебе колготок? Что молчишь?.. (Пауза.) Чего-то мне
тебя жалко стало...
Общение любовников дисгармонично и оставляет у
читателя самое тяжелое впечатление. В репликах Михаила (с
его точки зрения, вероятно, вполне доброжелательных и
даже ласковых) содержится много инвектив {Дура ты;
рассказать кому про мою любовницу— не поверят, засмеют; «Бабы
дуры, бабы дуры, бабы бешеный народ» и мн. др.).
Конечно, в ситуации гнусного социального
взаимодействия «языковая брань» может и не звучать, но, если
языковой личности во всех отношениях наплевать на партнера,
«языковая брань», скорее всего, всё же будет
использоваться. Согласимся с Б.Л. Боруховым в том, что агрессивная
«философия» мата «<...> не означает, конечно, что чело-
52
век, усвоивший язык мата, непременно будет смотреть на
мир через черные очки. Но если через такие очки он уже
смотрит, если он недоволен жизнью и людьми, мат будет
для него идеальным средством для объективации своих
негативных установок» (Борухов 1994: 18).
Таким образом, инвектива, являясь прямым средством
ухудшения межличностных отношений, проникает в
целый ряд сфер и жанров общения, в которых используется
в разных функциях.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Бахтин 1979 — Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.,
1979.
Бенвенист 1974 — Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
Борухов 1994 — Борухов Б.Л. Мат как философия жизни // Дом бытия:
Лингвофилософский альманах. Саратов, 1994. Вып. 1.
Герман 2000 — Герман И.А. Лингвосинергетика. Барнаул, 2000.
Дементьев 1999 — Дементьев В.В. Фатические речевые жанры //
Вопросы языкознания. 1999. № 1.
Дементьев 2000 — Дементьев В.В. Непрямая коммуникация и ее
жанры. Саратов, 2000.
Жельвис 1997а — Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как
социальная проблема. М., 1997.
Жельвис 19976 — Жельвис В.И. Инвектива в парадигме средств фати-
ческого общения // Жанры речи. Саратов, 1997.
Милёхина 2001 — Милёхина Т.А. Светская беседа // Хорошая речь.
Саратов, 2001.
Седов 1998 — Седое К.Ф. Анатомия жанров бытового общения //
Вопросы стилистики. Саратов, 1998. Вып. 27.
Седов 2000 — Седое К. Ф. Речевое поведение и типы языковой
личности // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург,
2000.
Шалина 1998 — Шалина И.В. Взаимодействие речевых культур в
диалогическом общении: аксиологический взгляд: Дис.... канд. филол. наук.
Екатеринбург, 1998.
Чуковский 1990 — Чуковский К.И. Живой как жизнь // Чуковский К.И.
Собр. соч.: В 2-х т. М., 1990. Т. 1.
Passin 1980 — Passin Н. Japanese and the Japanese: Language and
Culture Change. Tokyo, 1980.
И.Л. Панасюк
СЕМАНТИЧЕСКИЕ
И КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФЕНОМЕНА ТАБУ
Феномен табу является одним из аспектов
межкультурной коммуникации. Нарушение культурных конвенций
табу может привести к нарушению самой коммуникации
между культурами. Механизм возникновения и
функционирования табу как элемента значения одной культуры
может быть исследован исключительно через
семиотический механизм самой культуры как знаковой системы
согласно Лотману и Познеру (Posner). Семантический «узор»,
«ткань» значений, частью которых являются
табуизированные значения, так называемый код, характеризуют
культуру и выделяют ее среди других культур.
1. Попытка определения понятия табу
в лингвистической литературе
В лингвистической литературе существует некое
противоречие в определении понятия «табу», причина чего
коренится в многослойности данного явления. Табу
означает то, что запрещено ввиду сакральных или профанных
причин. Но кодификация понятия табу как запрета
связана с трудностями определенного характера и затрудняет
понимание феномена. По своей функциональности и
сущности табу превышает запрет. При нарушении запрета
существуют механизмы исправления, так называемые «кон-
венционированные ритуалы извинения и/или очищения»
(«konventionalisierte Entschuldigungs- und/oder
Reinigungsrituale», см.: Schröder 1995: 20), в то время как нарушение
54
табу не может быть исправлено никакими механизмами.
Келлер (см.: Keller 1987: 2) определяет табу как конвенции
уклонения (избегания) либо отрицательные конвенции,
которые соблюдаются всеми членами сообщества. По
мнению Келлера (см.: Там же: 3), табу возникает всегда там,
где внутренний характер запрета уже не существует, а
причины уклонения находятся в квазиобъективных свойствах
самого предмета табу. По моему мнению, табу возникает
вследствие существования социальных запретов
одновременно с индивидуальными требованиями (soziale Меі-
dungsverbote und individuelle Meidungsgebote).
Индивидуальные требования являются основополагающими в
возникновении табу. Никто, например, не может заставить
нас есть то, чего мы не любим и что вызывает у нас
отвращение; употребление слов табу в одной группе лиц не
считается нарушением табу, потому что в рамках этой группы
не существует индивидуального требования уклонения от
подобных слов и выражений.
Разделение табу на культурное и конверсационное, согласно
Хабрайской (Habrajska 2002і), объясняет механизм
функционирования феномена табу. В понятие культурное табу
Хабрайская вкладывает такие запреты, которые
накладываются извне со стороны сообщества, в то время как в основе
конверсационного табу лежат индивидуальные требования,
которые соблюдаются одним человеком или группой
людей. Признание этих запретов внутри одной группы
происходит при помощи перцептивных, стереотипных и
культурных знаний. Таким образом, культурное табу можно
охарактеризовать как внешний запрет, а конверсационное
табу как индивидуальное требование, являющееся также
культурным и подлежащее стереотипизации той
культурой, в рамках которой человек ставит перед собой эти
требования. Феномен табу соединяет в себе внешний
запрет и индивидуальное требование, которые находятся во
взаимосвязи друг с другом в зависимости от интерактантов
коммуникации и их индивидуальных предпочтений.
1 Ссылка дана на реферат проф. Гражины Хабрайской (Grazyna
Habrajska) из Лодзьского университета «Табу и правила конверсации»,
прочитанного на ХХГХ конференции на тему «Табу в современных языках и
культурах» из цикла «Язык и культура» (Карпач, Польша, 7—9 июня 2002 г.).
55
Языковое табу обладает семиотической
амбивалентностью, хотя в части лингвистической литературы на
тем)7 табу это и является предметом дискуссии: что
подлежит табуизации — само выражение или содержание, сиг-
нификант или сигнификат (предмет референции)?
Противоречивое мнение высказывает Келлер, считающий,
что табуизации подлежит не референт, не определяемый
предмет, а само слово (выражение). Он видит причины
избегания табу в «квазиобъективных свойствах
табуизированного предмета»:
Не референт, определяемый предмет или определяемая
деятельность или свойство, которые подлежат табуизации, а на самом деле
слово является табу. Табу касается слов, а не предметов1.
По мнению Ельмслева (Hjelmslev 1968: 80f.), только
знак подлежит табуизации. Замена табуизированного
знака знаком чужой культуры искореняет «скверный
привкус» («der garstige Beigeschmack» (Там же: 81)). В обоих
случаях речь идет в первую очередь о звуковом
выражении табу (сигнификанте), который является частью
билатерального знака де Соссюра. Сигнификат является
определяющим звеном знака; в соответствии с сигнификатом
образуется арбитрально и конвенционально подобранная
акустическая форма (сигнификант). Тот факт, что мы
можем говорить о предмете табу, напрямую не называя его,
используя косвенные языковые средства (эвфемизмы),
свидетельствует о том, что сам предмет подвергается
табуизации и таким образом одновременно табуизирует
выражение.
2. Стратегии косвенной вербализации тем табу
Согласно Хартманну (см.: Hartrnann 1990: 153),
вербализация тем табу заставляет нас избегать
табуизированных предметов и использовать техники уклонения или
языковые техники завуалирования (Vermeidüngs- bzw.
1 Перевод с немецкого принадлежит автору статьи, см.: «Es ist nicht
der Referent, der bezeichnende Gegenstand oder die bezeichnende
Tätigkeit oder Eigenschaft, die tabu sind, sondern tatsächlich das Wort: Das
Tabu betrifft die Wörter, nicht die "Sachen"» (Keller 1987: 8).
56
Verhüllungstechniken). Таким образом, возникает
ассоциативная связь между эвфемистическим определением
предмета табу и самим предметом. По мнению Пипер
(см.: Pieper 1988: 7), эвфемизмы оказывают влияние не на
сам денотат, а лишь только вызывают ассоциации с
денотативным определением, неся в себе коннотативные
аффективные значения. Исходя из этого, модификация так
называемого носителя ассоциации, говоря уже
привычным нам языком, предмета табуизации, денотата
(Vorstellungsträger) , эвфемизм превращает тему табу в предмет
вербальной коммуникации. Шредер (см.: Schröder 1998:
173) считает, что использование эвфемизмов или других
модификаторов позволяет говорить о семиотическом
парадоксе: эвфемизм как знак отвечает тому, что
собственно не должно называться, то есть непристойная денота-
ция и коннотация должны оставаться нетронутыми.
Эвфемизмы притупляются в процессе их языкового
использования. Они подвергаются семантическому
изнашиванию или старению, утрачивая свои функции завуалирова-
ния или украшения. По мнению Порцига (см.: Porzig 1950:
45), причиной семантического притупления является
продолжительность табуизации предмета. От
семантической силы табу зависит частота смены эвфемизмов:
чем табу семантически сильнее, тем чаще эвфемизмы
подлежат смене. Шредер (см.: Schröder 1998: 174)
говорит в этой связи о так называемом цикле смены табу
эвфемизмами и эвфемизмов табу (Tabu-Euphemismus-Zyklus; см.
схему на с. 58 наст. изд.).
1. Потенциальный предмет табу получает определение 1
(Bezeichnung 1), которое на протяжении какого-то
времени существует как нейтральное выражение.
2. Это определение путем его употребления в языке
начинает приобретать амбивалентный характер: с одной
стороны, ассоциативно затрагивает предмет табу, а с
другой — вызывает непристойные коннотации, благодаря
которым слово становится табуизированным.
3. Табуизированное выражение подвергается
модификации путем замены его новым определением, то есть
эвфемизмом.
4. Возникший эвфемизм опять приобретает
нейтральную референцию к предмету табу. Со временем он опять
57
начинает утрачивать свою эвфемистическую функцию
путем семантического изнашивания и становится
выражением табу, вызывая непристойные коннотации
(ассоциации).
Определение 1
(Bezeichnung 1,
Vorstellungs-träger)
Определение 3
(Bezeichnung 3)
(Эвфемизм)
Слово табу
(коннотат)
«Предмет
табуизации»
Определение 2
(Bezeichnung 2)
(Эвфемизм)
Слово табу
(коннотат)
Vorstellungsträger
Схема Шредера (см.: Schröder 1998:174)
Таким же образом функционирует процесс изменения
языка, возникают новые значения, развивается язык.
Интересным является момент степени табуизации
предмета в разных культурах, с чем связана степень прямой
вербализации или использования языковых техник завуалиро-
вания. Табуизация тем зависит, по мнению Шанка (см.:
Schank 1981: 124), от степени их прямой вербализации,
учитывая стратегии тематизации табу:
...степень прямой вербализации находится, по моему мнению,
в пропорциональной зависимости от табуизации темы: чем выше
степень табуизации тем, тем ниже либо меньше степень их прямой
вербализации, и наоборот (Panasiuk 2001: 299).
Использование лексем с высокой степенью прямой
вербализации непосредственно затрагивает табуизированный
58
предмет и вызывает таким образом нарушение табу.
Использование слов с целью оскорбления человека,
выражение неудовлетворения следует считать, согласно Цёльнер
(см.: Zöllner 1997: 392), дисфемистической вербализацией табу.
3. Вербальные способы нарушения табу:
инвектива
Возникновение дисфемизмов или, согласно Жельвису
(см.: Жельвис 1985; Жельвис 1997), инвектив неразрывно
связано с феноменом табу. Жельвис (1985: 133)
утверждает, что наибольшая часть ругательств, которые сейчас
считаются самыми грубыми, ведут свое происхождение от
эвфемистических выражений. Причины возникновения
эвфемизмов раньше были другие, одна из них — это
нежелание нанести ущерб сакральному предмету. Сакральные
функции божеств сменялись со временем профанными.
Последние побеждали и становились инвективами,
существующими как способы выражения вербальной агрессии.
С другой стороны, инвектива является нарушением
этического табу, которое достигается путем нарушения
этических норм при помощи некодифицированных
языковых средств. Отношение кодифицированного и некоди-
фицированного словаря разнится от языка к языку. То,
что в одной культуре считается «слабо
кодифицированным», в другой существует как некодифицированное.
Желание употреблять инвективы зависит от их
семиотической структуры, которая заключает в себе одновременно
элементы сакральные и профанные. Жельвис (см.: Там же:
84) характеризует инвективу как единое амбивалентное
понятие, которое невозможно разложить на сакральную и
профанную части. Профанная ценность инвективы не
может существовать без сакральной. В аксиологическом
смысле можно говорить о диалектическом единстве сакральных
и профанных элементов в одном и том же явлении. Такой
двойственный характер инвективы мгновенно включает
эмоциональный механизм, создающий, согласно Бахтину
(1965:84—85,180,517), карнавальную атмосферу, атмосферу
рынка, всеобщей открытости, совместного веселья, где
между людьми не существует никаких иерархических барьеров.
59
Культурная специфика русской инвективы:
переводческий аспект
В сравнении с другими языками, и прежде всего с
немецким, русский язык располагает большим количеством
табуизированной лексики, которая отличается своей культурной
спецификой. Так называемый мат, по мнению Жельвиса
(см.: Жельвис 1997:157,250), принадлежит к числу прокреа-
тивных инвектив, которые охватывают выражения,
касающиеся сексуальной функции человека. С профанным
началом связана функция инвективы, вызывающая в случае
нарушения табу катарсис. В данном случае можно говорить об
эмоциональной разрядке внутреннего напряжения, об
избавлении от нежелательного чувства, так сказать, о выпускании
пара. Ту же самую эмоцию разные культуры могут
кодировать по-разному. Тот же самый код может вызывать в разных
культурах полярно противоположные эмоции. Такое
своеобразное явление Жельвис называет «интерэтнической энан-
тиосемией» (см.: Там же: 145). Энантиосемия означает
развитие в одном слове антонимических значений (см.: Там же:
96). Это ситуация, когда знак в состоянии коннотировать два
противоположных понятия. Энантиосемия соединяет в себе
два явления поливалентности — антонимию и омонимию,
что позволяет придавать одному слову два значения.
Примером интерэтнической энантиосемии может быть польский
вульгаризм dziwka (проститутка) в сравнении с украинским
значением (гарна) дівка (по-старопольски — dziewka) с
нейтральной и положительной коннотациями молодая, красивая
девушка. На первый взгляд почти одинаковая акустическая
форма языкового знака в двух языках приобретает
противоположные значения вследствие разного смещения
денотативного значения в кодах и приводит к соответствующему
изменению коннотативного значения. Например,
заимствованные инвективы не сохраняют своей исходной
семантической функции, которую имели в исходном языке.
По-разному эмоционально нагруженные слова табу, которые
занимают свои позиции на уровне коннотативного значения в
собственной культуре, при переносе их в другие культуры
теряют свои изначальные коннотации и приобретают
другие, исходя из аксиологических факторов данной культуры.
Хорошим подтверждением этому является русский мат.
60
На примере переводов повести Владимира Сорокина
«Очередь» на польский (см.: Sorokin 1988) и немецкий
(см.: Sorokin 1995) языки можно провести наблюдение,
насколько изменяются значения слов табу русского языка,
а также насколько возможно передать профанную
эмоциональную доминанту при переводе подобной лексики:
Русский оригинал
Хрен его знает...
Вон мастер знакомый
говорил, я, говорит,
захожу в раздевалку,
а там в домино вся
бригада зашибает. Я
им — а ну идите
работать! А они его — ма-
тпюгом.
Ой, бля!
Хуйня какая... Ни
хрена не продвигаемся.
А легавый, слышь,
стоит и спит, бля. Во, бля,
парит как!
А всё по хую...
Польский перевод
Cholera go wie..
Majster znajomy mi
opowiadal,ja —
möwi — wchodze do
szatni a tam cala
brygada gra w
domino. Ja do nich —
idzcie do roboty! A
oni mu — wiach$!
О kurwa!
Co za chujoza...
Ni cholery sie nie
posuwamy.
A menda, widzisz ja,
stoi і spi, kurwa.
Ale duszno, kurwal
Wszystko jeden chuj...
Ёп твою мать... я-то Kurwa mac... a ja
думал, покупают уже... myslalem, zejuz
kupuja...
Немецкий перевод
Weiß der Geier...
Ein bekannte<r>
Meister hat mir
erzählt, ich komme in
den Umkleideraum,
sagt er, sitzt da doch
die ganze Brigade und
spielt Domino. Ich zu
ihnen — geht endlich
an die Arbeit! Und sie
haben ihm (ihn) nur
aufs übelste beschimpft.
Au Scheiße!
So ein Saustall.
Keinen Schritt
kommen wir vorwärts.
Und der Bulle steht da
und schläft, der Arsch.
Oh, Mann, ist das
schwül!
Ist denn doch
scheißegal...
Leck mich doch am
Arsch... und ich hab
gedacht, die sind
schon am Kaufen...
Ладно, погоди, вон Dobra, poczekaj,
легавый идёт... widzisz menda idzie..
Щас вякнет что-ни- Zaraz cos powie
будь...
Lass mal, warte, da
kommt ein Hüter des
Gesetzes...
Gleich quakt er was...
61
Поебень какая...
Со za kurewstwo.
Irgendeinen Scheiß
А евреи прямо по
детям, по женщинам ху-
ярят, не стесняются...
Сама ты хамка. Из-за
пустяка разоралась...
Хам!
Дура ты, ёпт...
Там портвейн ещё
какой-то... тоже хуёвый...
Ну так, ёпт. Мне
всегда везёт.
Серёж на хуя ты
отошёл-то?
А я тебя не
дождался...
Ёп твою, а я тебя там
ищу!
Пошли.
Не толкайся, бать...
хульты прёшь...
Есть. Только там нет
ни хуя. Жена ходила
утром, мы с ней
вместе стоим. Ни хуя.
Смотри сколько
понабилось... охуели
совсем...
Эт точно... я на ночь
хотел взять
погреться, жена скурвилась,
не дала...
A Zydzi ро kobietach і
ро dzieciach
zapierdalaja bez
zadnego wstydu...
Samajestes chamka.
Przez takie giupstwo...
Cham!
Idiotka, kurna...
Majajeszczejakis
portwein... tez
chujozvy...
No tak, kurna. Ja mam
zawsze szczescie.
Sierioza, a na chuja
odszedles?
Nie mogtem sie
doczekac...
Kurna, a ja ciebie w
srodku szukam!
Idziemy.
Nie pchaj sie ojciec,
gdzie leziesz...
Jest. Tylko ze tarn ni
chuja nie ma. Zona
byia rano, razem
stoimy. Ni chuja.
Patrz, ilu sie
napchalo. Ochujelize
szczetem...
Zgadza sie... chcialem
wziac na noc, zeby sie
zagrzac, a zona, suka
nie data...
Und die Juden hauen
drauf, auf Kinder und
Frauen, ohne sich zu
genieren, die Wichser...
Blöde Kuh. Platzt
wegen so einer
Kleinigkeit.
Flegel!
Blöde Sau, leck mich...
Die haben auch
Portwein... ein
Scheißzeugs...
Ach ja, leck mich. Ich
habe eben immer
Glück.
Serjosh, hast du dich
verpisst, was? Ich hab
auf dich gewartet und
wer nicht kam, warst
du.
Leck mich am Arsch —
und ich such dich!
Komm.
Nicht drängeln,
Onkel... rempel nicht
so... <...>
Ja. Aber nicht da. <...>
Meine Frau steht seit
heute morgen, jetzt
wir zusammen. Kein
Stückchen Fleisch.
Guck mal, wie viele
dastehen...
schwachsinnig...
Das stimmt... ich hab
mir für die Nacht was
holen wollen, zum
Aufwärmen, meine
Frau ist überschnappt,
62
hat mich nicht
gelassen.
Отошли бы с
прохода, ребята! Хуль
стоите, мешаете? Ладно,
непизди, отец...
Встали бля и стоят.
Живучий, бля...
Ой, бля...
Во, бля!
Такое говно пить.
Охуели вы, что ли.
А хуль
церемониться...
Старые года, когда
лягушки, бля, были
господа...
Чтоб не последняя...
ой бля...
Очнулся и рассказал
всё санитарам. А те от
смеха выронили его и
он пизданулся, и ногу
сломал!
Хуйня всё это. Ну,
пошли? Вон, бля,
народищу сколько... не
протолкнёшься...
Мудак хуев.
Отъебись...
Czego stoicie w
przejsciu?! Ludzie
odsuncie sie,
przeszkadzacie! Dobra,
nie pierdol oj ciec...
Staneli, kurna і stoja.
Twardy, kurwa...
О kurna,...
О kurwa!
Zeby takie göwno pic.
Ochujeliscie, tyle warn
powiem.
А со sie beda
opierdalac...
Dawno przed
wiekami, kiedy zaby,
kurwa, byfy pannami...
Zeby nie ostatni raz...
о kurwa...
Ocknal sie і
opowiedzial wszystko
sanitariuszom. A oni
ze smiechu upuscili
go, jebnal sie о ziemie
і zlamat noge!
Zawracanie dupy. No
to jak? Patrz, kurwa,
ileludzi... anisie
przepchac...
Chuj rybi.
Odpierdol sie...
Geht von dem
Eingang weg, Jungs!
Steht da rum und
stört. Komm, hör auf
mit dem Scheiß,
Vater...
Stellen sich da hin,
und stehn wie die
Idioten.
Lebt also noch...
Au Scheiße!
Au Scheiße!
So eine Scheiße
trinken. Seid wohl
verrückt geworden.
Was stört das uns,
verdammt...
In grauer Vorzeit, als
die Frösche Könige
waren...
Auf dass es nicht der
letzte sei... oje,
verdammt...
Wacht auf und erzählt
alles den Sanitätern.
Und die lassen ihn
vor Lachen fallen, der
fallt noch tiefer in die
Scheiße und bricht
sich ein Bein!
Eine Scheiße ist das
alles. Gehen wir? <...>
Arschloch.
Geh scheißen...
63
Чего отъебись? Ты Jak to — odpierdol sie?
чего ругаешься? Czego przeklinasz?
Пошёл ты на хуй!
Idz w chuja!
Я вот пойду, пойду Jaci pokaze... pokaze!
тебе!
Пошёл ты... сволочь... Idz ty swolocz...
Я вот... я вот... пойду... А pöjde... pöjde...
Сука хуев... падла... Sukajebana... scierwo...
Гандон, бля... сука... Menda, kurwa... suka...
Разъёба, бля... ну, иди Rozjebie, kurwa... по,
сюда сука... podejdz tu scierwo...
Гандон, бля... сука... Menda, kurwa...
Сука, бля... suka.. .Menda, kurwa...
Вонючка, бля... Засе- Smierdziel, kurwa...
рыш, бля... Zasraniec, kurwa...
Да ну, в пизду, бля... Na chuj mi, kurwa...
Was — geh scheißen?
Was fluchst du hier?
Leck mich am Arsch!
Na warte, das wolln
wir ja mal sehn!
Leck mich am Arsch...
Drecksack...
Na warte... warte nur...
Scheißkerl... Drecksau
Saukerl dreckiger...
Drecksack...
Arschloch verdammtes...
na, komm schon,
komm her, Drecksack
Arschloch verdammtes...
Drecksack
Drecksack verdammter...
Sack voll Scheiße...
Scheißkerl...
Ach, leck mich,
verd<ammt>.
Такие выражения употребляются в языке в качестве экс-
плешив (прямая вербализация табу), так называемых
детонирующих запятых (см.: Жельвис 1997: 77, 294).
Этимологическое значение этих выражений сильно износилось, и
поэтому их собственное отношение к предмету потерялось. Они
стали походить на указательные местоимения вследствие их
дейктической, а не семантической функции, или, по
мнению Девкина (см.: Devkin 1996:116), они являются асинтак-
сическими условными словами или оценивающими
предикативами или определениями (asyntaktische Schaltwörter
oder bewertende Prädikative bzw. Attribute). Однако же они
сохранили свое достаточно непристойное значение.
Отображение в переводе такого вида литературных
текстов профанной доминанты связано с разницами в
аксиологическом опыте культур. Дословный перевод приводит к де-
64
формации в передаче эмоций. По мнению Жельвиса, с
целью передачи в переводе инвективного смысла необходимо
искать эмоционально адекватный вариант в целевой
культуре, что является довольно непростым делом ввиду
культурной специфики русской инвективы (Жельвис 1997: 297).
Специфика перевода русского мата на немецкий язык
состоит в трудности поиска эмоциональных соответствий в
немецком языке. Но понимание таких выражений возможно,
поскольку эти денотативные значения тоже существуют в
немецкой культуре. Невозможно лишь их употребление в
соответствующем контексте в немецком языке, поскольку
функционирование матизмов в русском языке не связано с
их прямым значением, а имеет место исключительно в
контексте, что соответствует аксиологическому опыту русской
культуры и что отличает ее от культуры немецкой1.
Изменение уровней значений происходит во время переноса
значений из русской культуры в немецкую из сферы сексуальной
в сферу фекальную (сука хуев — Scheißkerl/Arschloch, хуйпя —
Scheiße, Hosenscheißer, Leck mich doch am Arsch) или
зоологическую {хуйпя какая — so ein Saustall, хрен его знает — weiß der Geier,
Saukerlf). В сравнении с немецкой культурой русский мат
является эксплицитной интеркультурной конфронтативной
частичной аксиологической лакуной, в то время как по отношению
к культуре польской возникает эксплицитная
интеркультурная контрастгшная частичная аксиологическоя лакуна: разница
в семантике конфронтативности и контрастивности, а
также частичности состоит в первом случае в совпадении кон-
нотем (Пошёл ты на хуй!— Leck mich doch am Arsch!) на уровне
контекста при расхождении сем (хуй —Arsch) и
нефункциональном наличии денотатов в обеих культурах (хуй —
Schwanz), а во втором — при наличии общих сем (общего
денотата) и незначительном расхождении коннотем. Мат в
польском языке семантически слабее. Проблемным
является передача в польском языке русской модальной частицы
хули (хуль), образовавшейся от «табу-семы» (см.: Булдаков
1981: 10) хуй, как, например: Хуль стоите, мешаете?— Czego
stoicie wprzejsciu?!, А хуль церемониться... — А со sie be dg, opier-
1 В немецком контексте эти выражения понимаются дословно, что
противоречит общему содержанию и поэтому непонятно для немецкого
реципиента.
65
daJac..., He толкайся, бать... хуль ты прешь... — Niepchaj sie ojciec,
gdzie leziesz... Об общем происхождении русских и польских
ругательств свидетельствуют следующие примеры: Пошел
ты на хуй! — Idz w chuja!, Да ну, в пизду, бля... — Na chuj mi,
kurwa..., что в данном случае дает нам возможность говорить
даже об отсутствии лакуны в парадигме всего текста.
Однако о существовании полной конфронтативной эксплицитной
аксиологической лакуны можно судить в случае перевода на
польский и немецкий языки самого понятия «мат». В
немецком происходит компенсация полной лакуны в виде
транслитерации der Mat или смыслового перевода der Mutterfluch, в
то время как в польском языке возможно было бы
заимствование из русского. Разговорный вариант матюг был
переведен на немецкий и польский описательно: А они его—матю-
голи — А опі ти — zviachell — Und sie haben ihm (ihn) nur aufs übelste
beschimpft (перифраза). Местами встречается ругательство с
оттенком богохульства, которому в переводе на немецкий
язык соответствует скатологизм в виде: черт побери —
verdammter Mist. В некоторых местах при переводе на немецкий
язык применяется метод компенсации при заполнении
частичной лакуны хуярить, где расхождение в значении
состоит в потере коннотем auf jemanden/etwas stark und heftig dreins-
chlagen и компенсируется переносом отрицательной
коннотации с действия на субъект: А евреи прямо по детям, по
женщинам хуярят, не стесняются... — Und die Juden hauen drauf, auf
Kinder und Frauen, ohne sich zu genieren, die Wichser... Явление
энантиосемии, граничащее в некоторых случаях с
полисемией, оказывается характерным для мата. По этой причине
такие выражения не всегда имеют оскорбительное
воздействие. Дело в том, что их прямое значение затушевано их
употреблением в разных контекстах: еп твою мать... я-то
думал покупают уже — Leck mich doch am Arsch... und ich hob gedacht,
die sind schon am Kaufen. В иных ситуациях происходит
акцентирование денотата в контексте, что вызывает
оскорбительные коннотации: Потел ты на хуй!— Leck mich am Arsch! [Verpiss
dich! (Verzieh dich!)]. Прямое денотативное значение матизма
зачастую не воспринимается как таковое вследствие их
частого различного позиционирования в коде. Отсюда и
берут начало их семантическая размытость и тусклость.
1 Триада ругательств.
66
Заключение
В статье были затронуты семантические и
коммуникативные проблемы феномена табу. Игнорирование
культурных особенностей табу в межкультурной коммуникации
может стать причиной нарушения самой коммуникации,
что непосредственно касается перевода. Существенное
внимание было уделено механизму функционирования
феномена табу, который определяется взаимосвязью
культурных (социальных) запретов и внутренних (личных)
требований. Последние являются решающими в возникновении
табу. Не менее важным в межкультурной коммуникации
является выбор стратегии вербализации темы табу,
использование разных способов завуалирования (эвфемизации)
табуизированного предмета. На примере цикла смены табу
эвфемизмами и эвфемизмов — табу были представлены
семиотические аспекты образования эвфемизмов.
Интересным является также полемика на тему противоречий в
рассмотрении и определении понятия табу с точки зрения
семиотики в лингвистической литературе. Исследован был
также культурный аспект русской инвективы с учетом
переводческих стратегий на польский и немецкий языки.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Бахтин 1965 — Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная
культура Средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература,
1965.528 с.
Булдаков 1981 — Булдаков В. А. Стилистически сниженная
фразеология и методы ее идентификации: на материале современного немецкого
языка. Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук. Калинин, 1981.
Лотман 1992 — Лотман Ю. О семиосфере // Избранные статьи.
Таллинн, 1992. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. С. 12—15.
Сорокин — Сорокин Владимир. Очередь (http: // www.lib.ru/sorokin/
ochered.txt).
Жельвис 1985—ЖельвисВ. И. К вопросу о национально-культурной
специфике эвфемизмов и запретной инвективной лексики // Текст и
культура. Общие и частные проблемы. Академия наук СССР. М, 1985. С. 133^141.
Жельвис 1997—ЖельвисВ. И. Поле брани: Сквернословие как
социальная проблема. М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1997. 329 с.
Devkin 1996 — Devkin Valentin D. Russischer Tabuwortschatz. Lan-
genscheidt, 1996.
67
Hartmann 1990 — Hartmann Dietrich. Sprache und Tabu heute. Zur
Überprüfung eines ethnologischen Begriffs auf seinen Nutzen für die Ethnologie
von Industriegesellschaften // Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 42 /
Schmitz, Ulrich (Hrsg.). Schweigen, 1990. S. 137-154.
Hjelmslev 1968 — Hjelmslev Louis. Die Sprache. Eine Einführung. Aus dem
Dänischen übersetzt, für deutsche Leser eingerichtet und mit einem
Nachwort versehen von Omar Werner. Darmstadt: Wissenschaftlicher
Buchverlag, 1968. S. 80-83.
Keller 1987 — Keller Rudi. Worttabu und Tabuwörter // Sprache und
Literatur in Wissenschaft und Unterricht. Paderborn, 1987. S. 80—83.
Panasiuk 2001 — Panasiuk Igor. Tabu als Aspekt der Fremdheitswiedergabe
in der literarischen Übersetzung: Anwendung des Lakunen-Modells auf die
Übersetzungsanalyse von tabuisierten Literaturtexten // Prokopczuk, Oleksij
(Hrsg.). Wschlöd-Zachöd: Pogranicze kultur. Kultura-Literaturoznawstwo-Jezy-
koznawstwo. (Materialy z II Miedzynarodowej Konferencji Naukowej Shipsk
14—15.09.2000 г.). Wydawnictwo Uczelnicze Pomorska Akademia Pedago-
giczna w Slupsku, 2001.
Pieper 1988 — Pieper U. Wie man über das spricht, worüber man nicht
spricht — oder: «Zu welchem Tabu schweigen Sie gerade?» // Arbeitsberichte
aus dem Seminar für allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft
(SAIS). Kiel. 1988. Heft 11. S. 89-118.
Porzig 1950 — Porzig Walter. Das Wunder der Sprache: Probleme,
Methoden und Ergebnisse der Sprachwissenschaft. Jecklin, Andreas; Rupp, Heinz
(Hrsg.). Basel, Tübingen: Francke Verlag, 1950.
Posner 1991 — Posner Roland. Kultur als Zeichensystem. Zur semiotischen
Explikation kulturwissenschaftlicher Grundbegriffe // Assmann,
Aleida; Harth, Dietrich (Hrsg.). Kultur als Lebenswelt und Monument. Fischer
TaschenbuchVerlag, 1991. S. 37-75.
Schröder 1995 — Schröder Hartmut. Tabuforschung als Aufgabe
interkultureller Germanistik. Ein Plädoyer // Wierlacher Alois (Hrsg.) /Jahrbuch
Deutsch als Fremdsprache. München: Indicium Verlag. 1995. Bd. 21. S. 15—35.
Schröder 1997 — Schröder Hartmut. Tabu, interkulturelle Kommunikation
und Fremdsprachenunterricht. Überlegungen zur Relevanz der
Tabuforschung für die Fremdsprachendidaktik // Knapp-Potthoff, Annelie /
Liedke, Martina (Hrsg.). Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit.
München: Indicium Verlag, 1997. S. 93-107.
Schröder 1998 — Schröder Hartmut. Semiotisch-rhetorische Aspekte
von Sprachtabus // Eckhard Höfner, Hartmut Schröder, Roland Wittmann
(Hrsg.): Valami mäs. Beiträge des Finnisch-Ungarischen Kultursemiotischen
Symposiums «Zeichenhafte Aspekte der Veränderung» (25.-28. 11.1998
Berlin — Frankfurt (Oder) — Stubice). Peter Lang: Europäischer Verlag der
Wissenschaften 2002. 1998. S. 169-187.
Sorokin 1988 — Sorokin Wladimir. Kolejka: Powiesc. Przelozyla Irena Le-
wandowska. Warszawa: Oficyna literacka, 1988.
Sorokin 1995 — Sorokin Vladimir. Die Schlange: Roman. Übersetzt aus dem
Russischen von Peter Urban. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch
Verlag, 1995.
Zöllner 1997 — Zöllner Nicole. Der Euphemismus im alltäglichen und
politischen Sprachgebrauch des Englischen. Frankfurt am Main; Berlin; Bern;
New York; Paris; Wien: Lang, 1997.
В.Ю. Михайлип
РУССКИЙ МАТ
КАК МУЖСКОЙ ОБСЦЕННЫЙ КОД
Проблема происхождения
и эволюция статуса*
Исходный вид ключевой для современного русского
мата формулы (ёбтвою матыіз пёс ёбтвою мать), как
представляется, не вызывает возражений среди современных
исследователей русских обеденных речевых практик.
После базовых статей Б.А. Успенского, опубликованных затем
в «Избранных трудах» в качестве одной фундаментальной
работы1, этот тезис вроде бы никем всерьез не
оспаривался. Однако выстроенная Б.А. Успенским система
доказательств, приводящая в итоге к ключевой для этого автора
гипотезе о происхождении и этапах становления русского
мата, нуждается, на мой взгляд, в серьезной корректировке.
Напомню вкратце, о чем идет речь. Б.А. Успенский
выводит исходную формулу из отразившегося в различных
мифологических системах брака Бога Неба (или
Громовержца) и Матери-Земли, с последующей травестийной
заменой Громовержца на его извечного противника, хтониче-
ское божество, принявшее обличие пса, а затем с заменой
Матери-Земли на мать собеседника. Впоследствии, в
результате редукции исходной формулы, происходит
переосмысление субъекта действия и, поскольку глагольная
форма Сможет соответствовать любому лицу единственного
числа, имеет место замена третьего лица {пёс) на первое.
Объем приведенных автором доказательств в пользу
возможности каждого из названных выше этапов
эволюции исходной формулы впечатляет. Однако позволю себе
* Первая редакция статьи опубликована в изд.: НЛО. 2003. № 3.
С. 347-393.
69
один-единственный вопрос. По какой такой причине
извечный противник Громовержцу, традиционная
иконография которого предполагает в первую очередь отнюдь
не собачьи, но змеиные ипостаси, именно в данном
контексте принимает вид пса, причем принимает его
неизменно и формульно? Очевидно, желая упредить
подобного рода вопросы, Б.А. Успенский специально посвятил
одно из двух приложений к основному корпусу статьи
многочисленным, отразившимся в самых разных
мифологических системах змеино-собачьим параллелям. К
приведенным в приложении фактам у меня никаких претензий
нет. Кроме одной — все они, вместе взятые, ровным
счетом ничего не доказывают. Собака является основным
зооморфным фигурантом во всех без исключения
индоевропейских инвективных практиках (сам же Б.А.
Успенский обосновывает этимологическую близость слов пёс и
пизда, возводя их к праславянскому глаголу *pisti со
значением «ебать»), и такое исключительное внимание должно
быть, на мой взгляд, обосновано чем-то более
существенным, нежели одна только возможность мифологической
метаморфозы змея в пса. Тем более что сам змей в обсцен-
ной лексике представлен до крайности скромно.
Развивая «собачью» тему, Б.А. Успенский пишет: «В
наши задачи не входит сколько-нибудь подробное
выяснение причин, определяющих соответственное восприятие
пса; детальное рассмотрение этого вопроса увело бы нас
далеко в сторону. Отметим только возможность
ассоциации пса со змеем, а также с волком: как змей, так и волк
представляют собой ипостаси «лютого зверя», то есть
мифологического противника Громовержца <...> и вместе
с тем олицетворяют злое, опасное существо, враждебное
человеку. Для нас существенно во всяком случае
представление о нечистоте пса, которое имеет очень древние
корни и выходит далеко за пределы славянской
мифологии»2.
Именно рассмотрение данного вопроса — о причинах
настолько четкой ассоциации обсценных речевых
практик с псом, что даже сами названия соответствующего
речевого поведения в ряде славянских языков имеют четко
выраженные «собачьи» этимологии, — я и ставлю первой
и ключевой задачей данной работы. Дальнейшие задачи —
70
обоснование магической «нечистоты» пса и табуирован-
ности соответствующих речевых и поведенческих
практик на «человеческой» территории, рассмотрение
особенностей функционирования обсценных речевых
практик в различных социальных контекстах и т. д. —
логически связаны с этой, первой, непосредственно из нее
вытекают и будут рассмотрены в соответствующих
разделах работы. Хочу особо отметить, что предложенное
ниже решение ключевой проблемы выводит исследователя
на возможности новых интерпретаций такого количества
разнообразнейших культурных феноменов, относимых к
столь обширным и порой неожиданным сферам
культурного пространства, что сколь-нибудь детальное
рассмотрение каждой частной, возникающей по ходу проблемы
становится попросту невозможным в рамках одной
статьи. По этой причине работа изначально задумана как
проблемная и имеет в дальнейшем быть развита в серию
статей, посвященных анализу конкретных культурных
феноменов исходя из предложенной здесь гипотезы.
1. «Песья лая»
Русский мат как территориально (магически)
обусловленный мужской речевой код
Ключом к решению проблемы происхождения
системы русских обсценных речевых практик мне
представляется одна весьма существенная характеристика русского
мата, роднящая его едва ли не со всеми аналогичными по
характеру явлениями, существующими в других языках.
Речь идет о строгой — в исходном состоянии — половой
привязанности соответствующих форм речевого
поведения. Мат есть непременная принадлежность всякого
чисто мужского коллектива, в женскую же среду мат начал
проникать сравнительно недавно, а практика матерного
говорения в смешанных, муже-женских, коллективах и
вовсе есть завоевание последних двух или трех
десятилетий (речь не идет о практиках, имеющих то или иное
отношение к ритуалу). Фактически каждый исследователь,
занимавшийся данной темой, непременно отмечал эту осо-
71
бенность, однако до сей поры никто даже и не пытался
сделать следующий шаг — принципиально увязать как
происхождение мата, так и его семантические особенности со
специфическими тендерными условиями его социально-
речевого существования.
Большинство наших — да и не только наших —
исследователей настолько прочно подпали под обаяние, с одной
стороны, идеи о связи мата с древними культами
плодородия, а с другой — бахтинского мифа о карнавале, что
всякий, не укладывающийся в данную систему видения
материал по большому счету просто отсекается от основной
линии проводимых исследований. Так, у того же Б.А.
Успенского читаем: «<...> в Полесье считают, что именно
женщинам нельзя материться: матерщина в устах женщин
воспринимается как грех, от которого страдает земля <...>;
в то же время для мужчин это более или менее обычное
поведение, которое грехом не считается»3; от чего автор,
опуская вопрос о «сцепленности» мата с полом
говорящего, сразу дает след на связь матерной брани с культом
земли. А о попытке В.И. Жельвиса (чья монография4 вообще
отмечена, с одной стороны, обилием разнообразнейшего
и весьма интересного материала, а с другой — крайней
беспомощностью в теоретическом осмыслении оного)
обосновать исключительно мужской характер мата тем, что в
некой условной древности женщины не допускались на
чисто мужские ритуалы, связанные при этом именно с
культом плодородия, можно сказать лишь одно — она
весьма характерна для общего уровня книги.
Итак, в отечественной традиции мат — явление, жестко
сцепленное с полом говорящего, своеобразный мужской
код, употребление которого обставлено рядом достаточно
строгих еще в недавнем прошлом правил. Происшедшее в
XX веке изменение речевого статуса мата является темой
отдельного разговора, а потому в дальнейшем, рассуждая о
связанной с матом системе табу, я буду иметь в виду
традиционно сложившуюся речевую ситуацию.
С тем, что мат и как явление, и как набор отдельных
устойчивых речевых конструкций и «форм говорения»
имеет самое непосредственное отношение к тем или иным
магическим практикам, также вроде бы никто не спорит.
Проблема ставится иначе: к каким именно магическим
72
практикам восходит мат и можем ли мы, опираясь на его
наличное состояние, попытаться эти практики
реконструировать.
Что мы имеем? Мат есть прерогатива мужской части
русского (и русскоговорящего) народонаселения.
Следовательно, поиск гипотетических ритуальных моделей можно
с самого начала сузить сферой чисто мужской
ритуальности. Второе существенно важное замечание — всякая
основанная на табуистических практиках магия непременно
имеет жесткую территориальную обусловленность
(причем территория здесь также понимается не столько в
топографическом, сколько в магическом плане5). То, что
можно и должно делать в лесу, зачастую является предметом
строгого табуистического запрета на территории деревни,
а тем более в поле действия домашней магии.
Следовательно, сфера нашего поиска имеет быть сужена не только
исходя из социально-половой принадлежности носителей
соответствующих речевых практик, но и исходя из
территориально-магической привязанности этих практик.
Вопрос: какие магические территории могли и должны
были считаться чисто мужскими, противопоставляясь по
этому признаку территориям «женским» или «общим» и
являя тем самым основания для табуистических запретов?
Вряд ли в данном контексте можно с достаточными на то
основаниями вести речь о территориях в той или иной
степени «окультуренной» природы, о территориях земледель-
чески освоенных (сад, огород, поле, виноградник и т. д.).
Между тем земледельческие ритуалы и связанная с ними
магия плодородия жестко привязаны именно к этим
территориям. А земледельческая магия в силу самой своей про-
креативной специфичности предполагает участие в
магических обрядах обоих полов. Более того, напомню в этой
связи, что в целом ряде достаточно архаичных
земледельческих культур (напр., африканских, да, кстати, и
славянских) существуют земледельческие работы,
воспринимаемые как чисто женские (у русских — жатва и вообще сбор
урожая). Собственно говоря, земледельческая магия — это
магия по преимуществу женская, связанная еще с
неолитических времен с культом Матери-Земли и т. д. Так что, если
и возникали на основе земледельческих магических
ритуалов какие-либо резко табуированные речевые или пове-
73
денческие практики, они никак не могли быть
ориентированы на исключительно мужскую половину населения.
Скорее на данной почве возможна обратная, «гинекоцен-
трическая» ситуация. Употребление же мужской
обеденной лексики в тех или иных ритуалах, так или иначе
связанных с культами плодородия (сезонные празднества,
свадьбы и т. д.), носит, на мой взгляд, характер
относительно поздний и основано на уже сложившихся табуисти-
ческих кодах, за счет которых можно в магически
«экстерриториальной» ситуации праздника подчеркнуть
маскулинный статус участников.
Территорией чисто мужской, исключающей всякое
«законное» женское присутствие, практически во всех
известных культурах всегда были территории охотничья и
воинская — то есть территории либо неосвоенной, но знакомой
природы, отношения с которой выстраиваются на
договорных и паритетных началах (охота), либо природы
откровенно чужой, хтонической и магически враждебной
(война). Эти территории всегда рассматривались как
маргинальные по отношению к магически понимаемому
культурному центру, к которому непосредственно
примыкали территории «женской», освоенной природы. Этот же
«фронтир» изначально был и мужской пищевой
территорией, при входе на которую каждый мужчина
автоматически терял «семейные» магические роли, существенные для
«совместных» территорий (отец, сын, муж, глава
семейства) и приобретал взамен роли чисто маскулинное,
характерные для агрессивного и монолитного в половом
отношении мужского коллектива (охотник, воин, военный или
охотничий вождь).
Итак, предположим, что базовой магической
территорией для возникновения мужского табуистического кода
(на всех остальных территориях, во всех ситуациях,
кроме сугубо ритуальных, воспринимаемого, естественно, как
обсценный) была периферийная по отношению к
культурному центру охотничье-воинская территория. Следующий
вопрос — можем ли мы найти какие-то основания для
особой роли именно пса (или волка, магически с псом
совместимого) и именно на этой территории, основания,
которые дали бы нам возможность возводить нынешнюю
«маскулинность» мата к древним мужским ритуалам?
74
За ответом далеко ходить не нужно — если только
позволить себе сместиться из области филолого-культуроло-
гических штудий в область этнографии и антропологии.
Дело в том, что для всего индоевропейского ареала,
от кельтов до индоиранцев и от германцев до греков и
римлян (а также для многих других, не-индоевропейских
народов), давным-давно доказано существование
воинских мужских союзов, члены которых не только называли,
но и считали себя именно псами/волками. В своей,
снабженной весьма представительной библиографией по
интересующему нас вопросу, работе с показательным
названием «Воины-псы: Мужские союзы и скифские вторжения
в Переднюю Азию» А.И. Иванчик пишет:
Мужские союзы и связанные с ними ритуалы и мифы хорошо
изучены для германской, индоиранской, греческой, латинской и кельтской, а
также балто-славянской традиций. В результате проведенных
исследований установлена огромная роль, которую играл в мужских союзах образ
пса-волка. Покровитель мужского союза, бог-воитель, почитался именно
в этом образе, однако для нас гораздо важнее, что все члены союза
также считались псами-волками. Инициация молодых воинов состояла в их
магическом превращении в волков (обряд происходил с применением
наркотических или опьяняющих веществ), которые должны были
некоторое время жить вдали от поселений «волчьей» жизнью, то есть воюя и
грабя. Особенно хорошо этот обычай сохранился в спартанских крипти-
ях; совершенно аналогичную инициацию в качестве волка-убийцы и
грабителя проходит, прежде чем стать полноценным воином, и молодой
Синфьотли в саге о Вольсунгах. Инициация ирландского героя Кухулина,
в результате которой он обрел свое имя, означающее «Пес Кулана»
(смена имени обычна при инициациях), состояла в том, что он исполнял при
божественном кузнеце Кулане обязанности сторожевого пса, то есть сам
превращался в него. С этим можно сравнить осетинский нартовский
сюжет о превращении Урызмага в пса и участие небесного кузнеца в
закаливании нартовских героев. Очевидно, с тем же представлением
связана индоевропейская правовая формула, согласно которой
совершивший убийство человек «становился» волком, из которой потом развились
закрепленные за этим словом значения «человек вне закона,
преступник», придающие ему пейоративный оттенок6.
Примеры на данную тему можно множить едва ли не до
бесконечности, начиная с Ромула, основавшего7 чисто
мужской (юношеский) и разбойничий город Рим, и
кончая ирландской эпической традицией, где, во-первых, Ку-
хулин отнюдь не единственный персонаж, в чьем
воинском имени содержится корень ку («пес»), а, во-вторых,
практики различных воинских (и юношеских воинских!)
75
союзов, инициации, своеобразных табуистических
систем (гейсов) и т. д. разнообразны чрезвычайно.
Напомню также о статистически невероятном обилии в Европе
и в России «волчьих» имен и фамилий. Действительно,
Волковых в России в несколько раз больше, чем, к
примеру, Медведевых, хотя медведь и считается традиционным
национальным символом. А если к Волковым добавить
еще и Бирюковых с Одинцовыми, статистика станет еще
более показательной. Немалый интерес в этой связи
представляют также и общеиндоевропейские сюжеты,
связанные с ликантропией — причем вервольфами имеют
обыкновение становиться исключительно мужчины.
2. Возрастная обусловленность
песьего/волчьего статуса
Замечу еще, что практически во всех упомянутых выше
случаях речь идет не просто о воинских союзах, но
именно о юношеских воинских союзах. Кухулин проходит
инициацию в семь лет, совершает свои главные подвиги,
защищая впавших в ритуальное бессилие взрослых ула-
дов в семнадцать (то есть в тот год, когда он должен
доказать свое право считаться полноправным мужчиной) во
время войны за быка из Куэльни (Куальнге)8, и гибнет в
результате нарушения гейсов в двадцать семь лет. Синфь-
отли превращается в волка на время и прежде, чем
стать полноценным воином и полноценным мужчиной.
Спартанские криптии предшествуют собственно
мужской инициации, являясь ее первым, предварительным
этапом. Ромул становится основателем города, убив
предварительно своего брата-двойника, не пожелавшего
отречься от тотальной «волчьей» деструктивности.
(Отсюда — возможность новой, нетрадиционной
интерпретации близнечных мифов, связанных, как правило,
с ключевым сюжетом убийства одного из братьев и с
последующим распределением между «живым» и «мертвым»
соответственно культурных и хтонических функций. Ср.
в этой связи дорийский сюжет о Диоскурах и
«параллельную» сакрализованную практику спартанского «двоецар-
ствия». Сам факт (характерный опять-таки отнюдь не для
76
одной спартанской культуры — ср. римский институт
консульства и т. д.), что один из царей «отвечал» за «дом и
храм», а другой — за «маргинальные» и «кровавые»
проблемы: военные походы и сохранность границ — уже
семантически значим. В этой же связи имеет смысл рассматривать
и «сезонную» привязанность определенных родов
деятельности в целом ряде культур. Так, ирландские фении
проводили «в поле» время с Бальтинны по Соу-ин (с 1 мая
по 1 ноября), а «зимнюю» половину года жили на постое в
крестьянских домах9. В ряде индейских племен Северной
Америки существовал институт «зимних» и «летних»
вождей или жрецов. Напомню, что и волки примерно
половину года проводят, разбившись на семейные пары, а другую
половину — как стайные животные. С той разницей, что у
«настоящих» волков стайный период приходится на
зимнюю половину года. Не являются ли в таком случае
соответствующие человеческие практики магическим
«разделом сфер влияния» с настоящими волками? Зимой, когда
в мире преобладает хтоническая магия, «нейтральная»
маргинальная территория уступается «настоящим»
волкам — летом же, в пору преобладания «культурной» магии,
она занимается человеческой «стаей», живущей по тем же
территориально-магически обусловленным «правилам
игры».)
Важнейшим элементом традиционного осетинского воспитания был
институт бал ц — военных походов. Мужчина считался достигшим
полной зрелости, то есть прошедшим последовательно все ступени
инициации, лишь после того, как совершал последовательно все три
предусмотренных обычаем балца — годичный, трехлетний и семилетний.
Годичный же поход был обязательным условием инициации юноши в мужской
возрастной класс... Примечательно, что начало балцев было приурочено
к празднику в честь покровителя волков и воинов — Стыр Тутыр,
однако инициация юношей происходила обычно осенью и была связана с
ноябрьским праздником в честь Уастырджи, во время которого
проводились различные военные игры и состязания. Примечательно, что в древ-
неперсидском календаре месяц, приходившийся на октябрь — ноябрь,
именовался «Varkazana», то есть «месяц людей-волков» <...>10.
Итак, в общей для всех индоевропейцев (и, вероятно,
не только для них) системе воспитания и перехода из
одного социально-возрастного класса в другой, всякий
мужчина непременно должен был пройти своеобразную «волчью»
или «собачью» стадию. Эта стадия имела откровенно ини-
77
циационный характер, и результатом ее прохождения
становилось резкое повышение социального статуса,
включавшее, очевидно, право на брак, на зачатие детей и на
самостоятельную хозяйственную деятельность — то есть на
деятельность прокреативную и созидательную, — а также,
что существенно важно в нашем случае, право на ношение
оружия в черте поселения, а не только за его
пределами. Основой племенной демократии является право
голоса для всех мужчин, имеющих право носить оружие
в черте поселения, то есть пользующихся уважением
и доверием остальных правомочных членов племени. В то
же время поступки, несовместимые со статусом взрослого
мужчины, который обязан (в зоне совместного,
«семейного» проживания) подчинять и контролировать
агрессивные инстинкты, влекут за собой возвращение в «волчий»
статус, каковой в данном контексте не может не
рассматриваться как асоциальный и позорный. Воины-псы на всё
время своих ликантропических метаморфоз обязаны жить
на периферии культурного пространства, то есть
исключительно в мужской магической зоне, не нарушая
«человеческих» границ, но ревностно их оберегая ото всякой
внешней опасности. Фактически, согласно архаической
модели мира, они вытесняются в хтоническую зону, в зону
смерти, отчего мотив оборотничества и приобретает в
отношении к ним такую значимость. Попытка войти на
«человеческую» территорию рассматривалась бы в таком
случае как осквернение этой территории, как нарушение
всех человеческих и космических норм, как насилие над
«нашей» землей, землей-кормилицей, Землей-Матерью.
Вернуться к человеческой жизни в новом статусе
взрослого мужчины «пес» может только пройдя финальную
стадию обряда инициации, равносильную обряду очищения.
В Спарте бывшие «волки» претерпевали весьма
болезненные испытания, заливая своей кровью жертвенник
Афродиты (sic!), — и только после этого получали право
именоваться мужчинами, жениться и заводить детей, носить
настоящее боевое оружие и ходить в бой не «стаей», а в
строю фаланги. Напомню, что «волков» спартанцы
пускали в бой перед фалангой, вооруженных — помимо «песьего
бешенства»11 — всего лишь легким метательным оружием.
Кстати, возрастной принцип построения сохранялся и в
78
самой фаланге, где в первых рядах стояли новобранцы, в
середине — те, кто уже прошел свой «балц», а в тылу, то
есть ближе всего к «дому и храму», — заслужившие
высокий мужской статус ветераны.
Подобная дифференциация, строго увязывающая
мужской и воинский статус со «сроком службы», вообще
характерна для европейских военных и военизированных
структур — вплоть до отечественного армейского института
«дедовщины», где первые полгода службы, находясь в статусе
«молодого» или «духа», новобранец практически не имеет
никаких прав и вообще не считается «человеком»
(показательно, что если первый термин подчеркивает возрастные
особенности новобранца, то второй — его своеобразную
«минус-реальность»), зато последние полгода, состоящие
из одних только прав, не обремененных почти никакими
обязанностями, если не считать ритуального и реального
«воспитания» «молодых», посвящены
гипертрофированной идее «дембеля», то есть именно своеобразно
переосмысленного «храма и дома». При этом большая часть
времени и сил уходит на подготовку и демонстрацию внешней
атрибутики приобретенного маскулинного статуса, не
имеющей вне сугубо армейского контекста практически
никакой реальной ценности («дембельский альбом», осо^
бый стиль ношения формы, а также подготовка
специфически маркированной, на откровенном, фарсовом
нарушении устава построенной «дембельской» формы, в которой
«положено» появляться перед родными и близкими).
Здесь же имеет, на мой взгляд, смысл вспомнить и об
устойчивой традиции, прочно связывающей воинские
подвиги с молодостью, акцентирующей внимание на смерти
молодого воина — как бы эта смерть ни
интерпретировалась в зависимости от конкретного
культурно-исторического контекста. Элегии Тиртея, воспевшего в VII веке
до н. э. героическую смерть молодых спартанцев — как их
непременный воинский долг перед более старшими
товарищами по оружию, стоят у истока этой европейской
(литературной) традиции. Но и по сию пору в искусстве
(особенно в популярном, эксплуатирующем готовые
социальные мифы — и в сознательно мифотворческих
традициях, вроде соцреализма, нацистски ориентированного
немецкого искусства «Blut und Boden» и сходных традици-
79
ях в других национальных культурах) патетический мотив
смерти молодого бойца не теряет привлекательности. В
современной культурной традиции он всё больше и
больше теряет «героическую» составляющую и приобретает
выраженную тягу к жанру плача, к мотиву
бессмысленности принесенной жертвы и т. д. В европейской культуре
последних двухсот лет наблюдается устойчивая тяга к
эволюции формульного образа не боящегося смерти и боли
юного воина в не менее формульный образ
мальчика-солдата, невинной и бессмысленной жертвы войны12. Однако
тот факт, что тема продолжает оставаться актуальной и
мифотворчески активной, позволяет воспринимать эти
«эмоциональные модификации» именно как
модификации устойчивого культурного сюжета.
3. Исходная амбивалентность
песьего/волчьего статуса
Таким образом, песий/волчий статус является исходно
амбивалентным с точки зрения как его носителей, так и
всего культурного сообщества, маргинальной частью
которого является соответствующая поло-возрастная группа. С
одной стороны, принадлежность к «людям-псам» или
«людям-волкам» есть непременная стадия развития и
становления всякого взрослого мужчины, предшествующая
«полноправному», «зрелому» возрастному статусу,
обрамляющая и предваряющая инициационные испытания и сама —
в широком смысле слова — являющая собой инициацию.
Как таковая она не может не носить определенных
положительных коннотаций, связанных в первую очередь с
молодостью, силой, агрессивностью и постоянной
боеготовностью, а также с особого рода «божественной
озаренностью», «боевым бешенством», презрением и готовностью
к смерти и к боли как непременным атрибутом
маскулинности, положительно маркированным культурной
традицией и желательным во всяком взрослом мужчине
инвариантным нормативам поведения.
С другой стороны, для взрослых мужчин данные
стереотипы поведения являются территориально и
магически обусловленными и рассматриваются как однозначно
80
положительные только на вполне определенной
воинской/охотничьей территории «Дикого Поля»;
проявление же данных поведенческих аттитюдов на «магически
чужеродной» территории совместного проживания
чревато нарушением действующих здесь правил и — как
крайняя возможность — лишением более высокого мужского
статуса.
Соответственно, признаки «волчьего» поведения, в
том числе и речевого, могут маркировать действующее
или говорящее лицо как положительно, так и
отрицательно. В территориально-магической ситуации «Дикого
Поля» демонстрация «волчьих» манер или «волчьего»
речевого поведения, несомненно, имеет целью повысить
статус говорящего/действующего лица. Подобная ситуация
может иметь место не только на реальной «волчьей»
территории. Магически «выгороженная» из обычного
культурного пространства территория праздника также
допускает, а зачастую и подразумевает неприемлемые в
обычных условиях поведенческие стереотипы, и демонстрация
откровенно, «запредельно» маскулинного, табуированно-
го в обыденной жизни поведения, будучи обусловлена и
ограничена ритуалом, может играть положительную,
благотворную и даже сакральную, благословляющую роль.
Также и в конфликтной ситуации (мужчина — мужчина),
участники которой остро нуждаются в адекватных
способах магического «подавления» соперника, нормы
«культурного» общежития вполне могут отойти на задний план,
освободив место привычным формам демонстрации
агрессии в ее «неприкрытом», «волчьем» виде. Обычное
стремление исключить при этом из конфликтной
ситуации всех «магически несовместимых» с ней участников и
все «магически несовместимые» обстоятельства
проявляется как в поиске более адекватного места разрешения
конфликта (от бытового «выйдем, поговорим» до
негласного, но строго кодексного запрета дуэлей в помещении,
особенно в жилом), так и в подборе «адекватных»
участников конфликта (количественные ограничения — «один на
один», практика секундантства в дуэли; качественные
ограничения — предпочтительность равных по возрастному
статусу участников и практически безусловное
исключение женщин и детей). Сам конфликт, таким образом, ри-
81
туализируется, «разыгрывается» согласно определенным
правилам и — подобно празднику — «выгораживается» из
обыденного культурного пространства, не разрушая его и
не подрывая основ действующей здесь «мирной» магии.
С другой стороны, «собачий» статус является
социально неадекватным с точки зрения действующих в
обыденном культурном пространстве норм. «Волкам» и «псам» не
место на «человеческой» территории, для которой одно
их присутствие может быть чревато осквернением:
соответствующие нормы и формы поведения строго табуиро-
ваны, а их носители, не пройдя обрядов очищения и не
«превратившись» тем самым из волков обратно в людей,
не имеют элементарнейших «гражданских» прав13. Они по
определению являются носителями хтонического начала,
они магически «мертвы» и как таковые попросту «не
существуют». (Ср. специфические практики «исключения»
членов маргинальных военизированных формирований
из общепринятого правового поля. Так, для того, чтобы
стать фением, ирландский юноша должен был
заручиться согласием собственного клана на то, что он не станет
мстить за сородичей даже в том случае, если они будут
перебиты все до единого. В то же время, если фений
наносил кому бы то ни было какой бы то ни было ущерб, его
родственники не несли за это ровным счетом никакой
ответственности.) В таком случае «волевое» приписывание
оппоненту «песьих» черт является сильнейшим
магическим ходом — оппонент тем самым попросту
вычеркивается из мира людей, как не имеющий права на
существование.
4. Магический смысл ключевой формулы
Вернемся теперь к ключевой для русского мата
формуле. Фраза пес ёбтвою мать именно и являет собой, на мой
взгляд, формулу магического «уничтожения» оппонента,
ибо, с точки зрения территориально-магических
коннотаций, смысл ее сводится к следующему.
Мать оппонента была осквернена псом — причем
разница между воином-псом и животным рода canis здесь не
просто не существенна. Ее не существует. Следовательно,
82
оппонент нечист, проклят и — фактически — уже мертв
сразу по трем позициям. Во-первых, его отец не был
человеком, а сын хтонического существа сам есть существо
хтоническое. Во-вторых, мать оппонента самим
магическим актом коитуса с псом утрачивает право называться
женщиной и становится сукой. Оппонент тем самым
приобретает формульный титул сукин сын, также
указывающий на его хтоническое происхождение и не-человече-
ский статус. В-третьих, само пространство, на котором
был возможен подобный коитус, в силу свершившегося
факта не может быть «нормальным», магически
положительно маркированным пространством для зачатия
человеческого ребенка, а является, по сути, «Диким Полем», то
есть пространством маргинальным, хтоническим и, как
таковое, противоположным «правильному», домашнему
прокреативному пространству.
Отсюда, кстати, и другая формула, смысловой аналог
формулы сукин сын: блядин сын. Формула, вышедшая из
употребления в современном русском языке, но имеющая
массу аналогов в иных индоевропейских (и не только
индоевропейских) языках — вроде испанского hijo deputa.
Русское слово блядь произведено от глагола со значением
блудить, блуждать, причем оба эти смысла исходно
параллельны. Блудница есть именно заблудившаяся женщина,
женщина, попавшая на территорию, магически
несовместимую с традиционными родовыми женскими статусами.
Мать, жена, сестра, дочь — суть статусы сакрализованные
как во внутреннем (общем), так и в промежуточном
(женском, «садово-огородном», прокреативном) кругах бытия.
Оскорбление, нанесенное «статусной» женщине, карается
не менее, а зачастую и более сурово, чем оскорбление,
нанесенное статусному мужчине. Однако женщина, попавшая
на маргинальную, охотничье-воинскую территорию без
сопровождения родственников-мужчин, есть именно
женщина заблудшая, блудящая, гулящая и т. д., вне зависимости
от тех обстоятельств, по которым она туда попала. Она
лишается всех и всяческих территориально обусловленных
магических (статусных) оберегов и становится законной
добычей любого пса. Она — сука. Она — блядь14. Итак,
оппонент не является человеком ни по отцу, ни по матери, ни по
месту и обстоятельствам зачатия.
83
Таким образом, оппонент трижды проклят в
результате произнесения одной-единственной магической
формулы — достигнута высшая в магическом смысле компрессия,
поскольку число «три» само по себе магично и
традиционно отвечает за три основные космические сферы —
небесную, земную и подземную.
5. Специфика, функции и статус
матерных речевых практик в контексте
их магически-территориальной привязанности
Выскажу предположение, что «матерная лая» была
изначально неким территориально привязанным кодом, не
имевшим обязательных инвективных коннотаций, но
резко табуированным в иных, «человеческих»
магических зонах. Вследствие этого не только основанные на
мате сильные магические проклятия, но и сами
«неуместные» разговорные практики приобретают в этих зонах
выраженные инвективные коннотации — в силу чужерод-
ности и, следовательно, деструктивности и без того
деструктивной «песьей» магии вне «положенного» ей
пространства (в ранних, магически ориентированных
сообществах) или хотя бы в силу того, что она просто
«оскорбляет слух» (в сообществах более поздних,
ориентированных на утратившие первоначальный магический
смысл социальные табу).
В таком случае обозначения конкретных частей тела,
которые сами по себе не должны быть табуированы ни в
земледельческом, ни в скотоводческом обществе, чье
процветание изначально основано именно на прокреативной
магии (фаллические и родственные культы плодородия),
должны приобретать табуистический статус в том, и
только в том, случае, если они напрямую ассоциируются с
выраженной в ключевой матерной формуле ситуацией. То
есть хуй в данном случае — вовсе не membrum virile, а песий
хуй, пизда— сучья пизда, а глагол ебать обозначает коитус не
между мужчиной и женщиной, а между псом и сукой
(напомню, что воины-псы не только назывались этим
именем, но, с магнетической точки зрения, являлись
таковыми). То есть употребление соответствующих терминов
84
применительно к собственно человеческим реалиям
носит не назывной, но кодовый характер, передавая в
первую очередь вполне конкретный «волчий» аттитюд.
Данная особенность характерна вообще для всякого
«матерного говорения» и рассматривается в данном контексте
как одна из основных его характеристик.
Действительно, вплоть до сегодняшнего дня на мате не
ругаются, на мате говорят. Из огромного количества
лексических и грамматических форм, производных от трех
основных продуцентных для русского мата и нескольких
«вспомогательных» в плане словообразования корней,
лишь ничтожно малое количество (причем в основном
существительных) приходится на смысловые инвективы.
Глаголы ебать, въёбыватъ, выёбывагпься, ёбнуть, наебнутъ,
наебатъ, остоебенить, уёбывашь, пиздйтъ, пиздйть, пизданутъ,
опиздепеть, охуетц существительные хуй, хуйпя, хуетень,
гнезда, пиздюлей (мн. ч., родительный падеж), пиздец, блядь,
ёбарь, ебеня (мн. ч.); прилагательные охуенный, охуительный,
херовый, пиздецкий, пиздаиутый, ёбнутый, ебанутый; наречия
охуенно, хуевоит. д. крайне эмфатизированы по сравнению
с не-матерными синонимами, причем настолько, что
зачастую попросту не имеют полностью адекватного
«перевода» — однако инвективами по сути не являются.
В своем исходном виде мат был жестко привязан к
маргинальной культурной зоне, ко всем относящимся к ней
материальным и нематериальным магическим объектам, к
принятым в ее пределах способам поведения и системе
отношений как внутри «стаи», так и между членами «стаи» и
посторонними. «Песья лая» была своего рода
бессознательной имитацией одной из сторон более ранней стадии
развития собственно «человеческого» языка — комплексом
вытесненных на периферию архаических охотничьих/
воинских речевых практик. Отсюда и ряд особенностей
матерного говорения, доживших до наших дней (следует
еще раз оговориться, что никакого особенного матерного
языка не существует, но существуют матерные
разговорные практики и, собственно, сам мат есть комплекс
особым образом кодифицированных речевых практик,
бытующих в пределах живого русского языка).
Рассмотрим ряд ключевых особенностей мата как
комплекса кодифицированных речевых практик.
85
Во-первых, это откровенно диффузная семантика
матерной речи. Значение всякого матерного слова сугубо
ситуативно, и конкретный его смысл может меняться на
прямо противоположный в зависимости от контекста.
Денотативные значения матерных терминов чаще всего
доступны лишь в плане описания возможного
семантического поля (или семантических полей), и по этой причине
всякая попытка словарного «перевода с матерного на
русский» не может не окончиться полной неудачей. Так,
слово пиздец в различных речевых контекстах может
«указывать» на прямо противоположные смыслы — от полного и
безоговорочного одобрения некоего завершенного или
завершаемого действия или некоторой взятой как единое
целое ситуации до столь же полного разочарования,
отчаяния, страха или подавленности. Семантика мата целиком
и полностью коннотативна, конкретные смыслы
свободно поселяются в семантическом «пространстве»
высказывания и столь же свободно его покидают. Однако именно
эта безраздельная коннотативность и позволяет мату быть
предельно конкретным. Ответ на вопрос «Это что еще за
хуйня?» будет совершенно конкретным — в зависимости от
ситуации, от интонации, с которой был задан вопрос, от
жестикуляции и позы задавшего вопрос человека и еще от
массы сопутствующих семантически значимых факторов —
поскольку и означать он может буквально всё что угодно:
от нейтрального любопытства по поводу конкретного
предмета, скажем, детали какого-то механизма, до общей
оценки конфликтной ситуации с параллельным выражением
готовности в нее вмешаться; от выражения презрения по
отношению к человеку или поступку до прямой угрозы в
адрес «неправильно себя ведущего» оппонента. Следует
также учесть и то обстоятельство, что в большинстве
случаев вопрос этот является, по сути, риторическим и
никакого ответа, — по крайней мере, вербального и
коммуникативно ориентированного — вовсе не подразумевает.
Он есть выражение определенного аттитюда и
связанной с ним готовности к действию, и в задачу участников
ситуации входит никак не понимание прямого смысла
вопроса, а, напротив, оценка спектра стоящих за
вопросом значений и соответственная модуляция исходной
ситуации.
86
Во-вторых, слово в матерной речи выступает почти
исключительно в инструментальной и коммуникативной
функции — функции сигнала, побуждения к действию,
предостережения, маркера определенного эмоционального
состояния и т. д. Номинативная его функция сведена к
минимуму. Оно эмоционально насыщенно и даже перена-
сыщенно, если сравнивать его со словом в обычной,
нематерной речи. В ряде случаев никаких иных смыслов,
кроме чисто эмоциональных, оно и вовсе не несет. Мат —
это возведенная з статус речи система междометий,
«подражающая» грамматической структуре обычного языка,
способная наделить собственные речевые единицы
функциями частей речи, частей предложения и т. д., но не
существующая в качестве фиксированного «свода правил».
Это смутное воспоминание языка о его давно забытом
изначальном состоянии. В этом смысле следующая цитата из
упоминавшейся уже фундаментальной статьи Б.А.
Успенского вполне может быть принята — как метафора
характерного для воинов-псов речевого поведения:
Итак, матерная брань, согласно данному комплексу представлений
(которые отражаются как в литературных текстах, так и в языковых
фактах), — это «песья брань»; это, так сказать, язык псов или, точнее, их
речевое поведение, то есть лай псов, собственно, и выражает
соответствующее содержание. Иначе говоря, когда псы лают, они, в сущности,
бранятся матерно — на своем языке; матерщина и представляет собой,
если угодно, перевод песьего лая (песьей речи) на человеческий язык15.
Но — только как метафора. Потому что псы не
«бранятся» или, по крайней мере, бранятся не всегда. Они
просто так «разговаривают». Другое дело, что в пределах
собственно «человеческой» территории их речь, как и прочие
формы свойственного им поведения, не может
восприниматься иначе как брань. И матерщина не есть перевод
песьей речи на человеческий язык. Она сама и есть — песья
речь.
Еще одним тому свидетельством является подмеченная
большинством исследователей, но никем, по моим
сведениям, до сей поры удовлетворительно не объясненная
особенность матерной речи — склонность большинства
говорящих «на мате» вставлять едва ли не после каждого
«смыслового», «человеческого» слова матерное слово или
целую матерную конструкцию. Причем именно такой спо-
87
соб говорения и воспринимается на обыденном уровне
как собственно мат, лай, матерщина — в
противоположность конкретным, матерным же, инвективным
практикам, связанным с понятием выругать матерно или выругать
по матери. В процессе говорения фактически происходит
ритмическая разметка речи на «стопы», причем
цезурами служат лишенные какого бы то ни было конкретного
смысла, но, несомненно, эмоционально заряженные «табу-
семы» (если воспользоваться термином В.И. Жельвиса).
Чаще всего две-три матерные интерполяции регулярно
чередуются, что служит дополнительным средством рит-
мовки.
Ну, что, бля, я, нах", пошел, бля. Ато меня, нахуй, предки, сука-бля,
убьют. Вчера, блядь, пришел в полпервого, так они, с-сука, чуть, на хуй,
меня не съели (изустного разговора подростков 13—14 лет,
услышанного на улице. Саратов, 1998 год).
Ну, что ты, ёб'т'ть, спрашиваешь, что ты, блядь, вопросы задаёшь?
Ты что, сам, что ль, ни хуя не видишь? (из устного разговора грузчиков
(45—50 лет) на товарном складе. Саратов, 1993 год).
Мат здесь не имеет никакого отношения к инвективе,
не мыслится как таковая и ни в коем случае не
воспринимается как таковая собеседниками. В противном случае
последнее высказывание, носящее эмоционально
окрашенный и отчасти провокативный, разом побуждающий к
действию и ориентированный на понижение
ситуативного статуса оппонента, но никак не оскорбительный
характер, должно было бы быть воспринято как страшное
оскорбление — в том случае, если интерполянты ёбтвою
мать и блядь (в сочетании с адресным местоимением ты)
были бы «переведены» адресатом как смысловые. Такой
«перевод» в принципе возможен — но лишь как ответный
игровой ход, указывающий оппоненту на неуместность
или чрезмерность вербальной агрессии и понижающий, в
свою очередь, его ситуативный статус за счет
«запугивания» одной только возможностью «прямого перевода».
Так, адекватным контрходом (чреватым, однако,
обострением ситуации в силу демонстрации нежелания «играть
по правилам» и готовности идти на конфликт) в данном
случае был бы ответ: «Еби свою, дешевле станет»™.
Ритмически организующая текст функция матерных ин-
терполянтов несет, на мой взгляд, весьма существенную
88
смысловую нагрузку, собственно, и переводя речь из
«человеческой» в «песью», из «разговора» в «лай». Начнем с
того, что она членит речь на более короткие единицы
высказывания, присовокупляя к каждой из них
освобожденную от прямого денотативного смысла, но эмоционально и
коннотативно заряженную сему — то есть, попросту
говоря, перекодирует обычное высказывание в матерное. При
этом чаще всего высказывание освобождается от
«лишних» слов и усложненных грамматических форм, прямой
его смысл подвергается определенной компрессии — за
счет усиления эмфазы. Так, фраза, которая на
«нормальном» русском языке звучала бы приблизительно как «Ну,
что, мне, наверное, пора идти домой», будучи
«перекодирована», приобретет вид приведенной выше начальной фразы
из разговора подростков. Мат не знает полутонов и
неопределенностей. Поэтому наверное исчезнет непременно, пора
ггдтгш уступит место более компрессивному и оперативному
глаголу совершенного вида и в прошедшем времени
(подчеркивается решительность, вероятное действие обретает
вид свершившегося факта), а домой падет жертвой особой
эстетики умолчаний, подразумевающей интимную
вовлеченность адресатов речи в личные обстоятельства
говорящего.
Данная особенность матерной речи делает возможным
особые иронические речевые конструкции,
эксплуатирующие энергию отталкивания полярно
противоположных, несовместимых языковых кодов, сознательно и
«насильно» объединяемых в одной фразе. «Бафосный» (если
воспользоваться устойчивым англоязычным термином,
отсутствующим в русском языке) заряд фразы « Уважаемый
NN, а не пойти ли вам на хуй?» понятен всякому
русскоязычному человеку.
Далее, ритмическая организация высказывания за счет
матерных кодовых интерполяций выполняет также иную
смысловую роль. Она фактически превращает речь в
«пение», в «музыку», в спонтанное стихотворчество.
Нелишним будет обратить внимание на то, насколько четко
каждая конкретная кодовая сема меняет форму в зависимости
от общего ритма фразы и от собственного в этой фразе
места. Главными параметрами являются, естественно,
долгота/краткость, а также количество и качество ритмиче-
89
ски значимых ударений. Так, ключевая матерная фраза,
будучи использована в качестве кодового интерполянта,
может приобретать следующие формы: ёбтвою мать
(равные по силе ударения на всех трех силовых позициях), твою-
то мать (ударение на ю, редуцированное ударение на а),
т-твою мать (ударение на т-т), мать твою (ударение на а,
ритмическая пауза после слова мать), ёб'т'ть, ёб'т и даже
просто ё. Односложные и двусложные интерполянты
удлиняются и укорачиваются за счет редукции или
пролонгирования отдельных звуков, причем иногда даже согласные
могут стать ел ого- и ритмообразующими (бля из блядь; с-сука
с ритмообразующим первым с-с из сука). В случае
ритмической необходимости отдельные краткие интерполянты
могут образовывать устойчивые «словосочетания» (с-сука-
бля, с силовым ритмическим ударением на первом,
«безгласном» слоге и с дополнительным «затухающим»
ударением на последний слог). Речь может также «украшаться»
за счет распространения каждой конкретной формулы (ёб
твою в бога душу мать, причем все три «ключевых» слова
находятся под сильным ритмическим ударением, в то
время как «факультативная вставка» произносится в
убыстренном темпе и со сглаженными ударениями).
Замечу еще, что в последней приведенной цитате
ритмическая организация текста происходит не только за
счет кодовых интерполяций, но и за счет обычного для
матерной речи приема, по сути противоположного
заявленной выше наклонности мата к смысловой компрессии.
В первом предложении один и тот же вопрос задается
дважды, и эстетика этой фразы (помимо ее очевидной
коммуникативной избыточности — ибо сам вопрос
является сугубо риторическим) строится на тонкой
ритмической модуляции удвоенной — стихотворной — фразы. Обе
части фразы начинаются с одной и той же
вопросительной конструкции. Кодовые интерполянты занимают одно
и то же место, они ритмически равноценны, но это
разные, чередующиеся интерполянты. И только финальная
глагольная конструкция сознательно модифицируется. В
том и в другом случае «затухающие», «раскатывающиеся»
три последних безударных слога остаются неизменными,
однако меняется позиция и «аранжировка»
предшествующего ударного, окруженного во второй фразе двумя допол-
90
нительными, «избыточными» безударными слогами. То
есть фактически фраза целиком и полностью покидает
пространство коммуникативно ориентированной
«человеческой» речи и переходит во власть совершенно иной
речевой модели, для которой составляющие фразу слова
важны исключительно в качестве ритмических единиц17.
«Перекодированная» речь только по внешней форме остается
«внятной» для не владеющего матерным кодом —
гипотетического — носителя языка. По внутренней же форме она
становится ему абсолютно чужеродной и «невнятной». Для
понимания языка волков, оставаясь при этом человеком,
нужно быть волхвом, равно вхожим в оба мира18.
На столкновении нескольких значимых особенностей
матерной речи — диффузности смыслов, полисемантично-
сти и ритмики как главной организующей силы
высказывания — строится ряд матерных прибауток, сказок и
присказок, часть из которых является «перекодированными»
вариантами «нормальных» текстов. Так, в матерном
варианте известной сказки «Теремок» очередной кандидат в
«жильцы» представляется как «ёжик, ни хуя, ни ножек» и
получает в ответ откровенно ориентированную на
эстетический эффект фразу: «А на хуя нам без хуя, когда с хуями до
хуя?» Тот же принцип работает и в «перезвоне»,
исполняемом обыкновенно на два голоса, причем первый голос —
низкий и раскатистый («как у дьякона»), а второй —
высокий и «со звоном»: «Шел хуй по хую, видит - хуй на хую, взял
хуй хуй за хуй, выкинул на хуй» («подголосок» вместо
выкинул, с сильным ритмическим ударением на вы,
проговаривает и закинул, с чуть менее выраженным ударением на и,
но с четким «перезвонным» акцентом на каждом
избыточном безударном слоге; иногда «первый голос» также
пропускает во фразе взял хуй хуй за хуй второе слово хуй,
раскатывая и растягивая первое).
Еще одна особенность матерной речи связана со
специфическим грамматическим статусом ряда слов, который
можно охарактеризовать как более высокую по
сравнению с обычной речью степень грамматической
несвободы слова. Так, ряд существительных употребляется
исключительно во множественном числе (и — зачастую — в
конкретном падеже), причем чаще всего это связано с
актуальной или подразумеваемой стандартной словесной
91
конструкцией, в которой жестко «закреплено» данное
слово. Слово пиздюлей встречается только в форме
родительного падежа множественного числа, даже в тех случаях,
когда оно употребляется помимо исходной формулы
давать/получать пиздюлей (что «переводится» примерно как
«бить»/«быть битым»). Ряд форм вообще имеет
неопределенный грамматический статус, производный от
междометия, но приобретающий выраженные смысловые
оттенки существительного и повелительной формы глагола:
Он его ебысь-ебысь, а тот в ответ х-ху-як, и пиздец (из пересказа
одним подростком 11—12 лет другому эпизода из боевика. Услышано на
улице Саратова, 1999 год).
Слова ебысь и хуяк, обозначающие собственно удар с
дополнительными смыслами силы и особенностей удара,
передаваемыми в основном через посредство интонации,
ритмической организации речи и сопутствующей
миметической жестикуляции, представляют собой странного
рода пограничные грамматические формы, которые
ассоциируются прежде всего с междометиями (об особом статусе
междометий для матерного говорения см. выше) типа бац
или бум, да, по сути, скорее всего, и являются от них
производными, «перекодированными» в мат — с той
разницей, что при перекодировке полностью исчезла
звукоподражательная составляющая междометия, замененная
потенциально нагруженной денотативными смыслами
корневой основой. Грамматическая природа этой основы
никак не выражена — и оттого слово приобретает
«нулевой» грамматический градус. Единственный связанный с
подобным модифицированным междометием
грамматически «полноценный» глагол хуярить, вероятнее всего, и
произведен именно от соответствующего междометия.
Итак, мат «паразитирует» на разговорной речи, свободно
перекодируя в свою систему практически любое
высказывание19, причем «слабыми местами» языкового и речевого
стандарта являются наиболее эмфатически и интенцио-
нально нагруженные части речи и элементы
высказывания — междометия, союзы, местоимения (особенно
вопросительные и указательные), отрицательные частицы,
глагольные формы. Так, нет в зависимости от контекста
непременно будет заменено либо на пи хуя (отсутствие
92
чего-то, отказ что-либо делать), либо на на хуй, на хуя
(«незачем», запрет на действие), либо же на хуй тебе (резкий
отказ — степень резкости модифицируется
экстралингвистическими факторами). Большинство вопросительных
местоимений также имеют свою устойчивую матерную
перекодировку. Зачем - за каким хуем, кой хуй; почему - кой хуй,
какого хуя; чего - какого хуя, хуя (с ударением на последнем
слоге) и так далее. В области глагольных форм мат в ряде
случаев тяготеет к инфинитиву: так, вместо приказа стой,
прозвучит стоять, блядь. Есть и еще ряд грамматических
несообразностей. Слово заебись формально является
глаголом второго лица повелительного наклонения, а в
действительности — наречием, выражающим высшую степень
одобрения. В то же время омонимичный глагол (не
имеющий, кстати, инфинитива и настоящего времени и
существующий в ряде форм прошедшего и будущего времени:
заебался, заебешься) выражает смысл совершенно
противоположный по эмоциональной окрашенности.
«Обыденный», нормативный» язык полностью
проницаем для носителя матерных речевых практик. Однако
отсутствие соответствующих практик, напротив, делает
матерную речь, по сути дела, совершенно «темной» для
гипотетического носителя «чистого» русского языка.
Всякая попытка говорить «на мате» по тем же законам, по
которым строится обычная «человеческая» речь, неминуемо
выдаст экспериментатора как «чужого» — так же как «на-
блатыкавшийся» в «музыке» «фраер» (сколько бы
словарей тюремно-лагерно-блатного жаргона он на досуге ни
превзошел20) будет моментально изобличен настоящими
ворами21. И, как правило, будет примерно наказан:
формально — за наглость* а реально — за магическую
несовместимость с чужеродной зоной и попытку осквернить ее,
проникнув под видом своего.
На совершенно «собачий» манер организована и
система выражения ненависти к главному противнику —
правоохранительным органам, воспринимаемым в буквальном
смысле слова как «чужая стая». Самый устойчивый
пейоративный термин — легавые — свидетельствует об этом со
всей очевидностью. При привычной подсознательной (а
зачастую и осознанной) ассоциации себя с
волком-одиночкой (или — себя и «своих» — с волчьей стаей), добываю-
93
щим «живую» пишу и подверженным гонениям и облавам
со стороны общества, исходный образ вполне очевиден.
При этом «братва» и «менты» относятся друг к другу как
негатив к позитиву при сохранении прочной взаимной
связи и общего «структурного единства», что выражено
как в пейоративных терминах (милиция — волки, но волки
позорные), так и в параллелизме соответствующих
реалий в разного рода ритмически организованных текстах —
присказках, песнях, прибаутках и проч. (Урки и «мурки»
играют в жмурки; или: С кем ты теперь, и кто тебя целует: /
Начальник лагеря иль старый уркаган...).
Тот же «стайный» принцип четко виден в системе
отношений между «черной мастью» и ворами, в силу тех или
иных причин пошедшими на разного рода
сотрудничество с властью, — да и в самом наименовании последних:
суки. После введения практики сознательного ссучивания
тюремными властями целых этапов и в особенности
после использования уголовников в качестве живой силы на
фронте, в периоды тяжелых боев 1941—1942 годов22,
противостояние между ворами и суками в советских лагерях
приобрело характер настоящей затяжной стайной войны,
ведшейся по всем «волчьим» правилам. Власти же, умело
используя известный принцип «разделяй и властвуй»,
зачастую откровенно натравливали сукна воров и обратно, а
тех и других — на политзаключенных, выказывая немалое
«нутряное» знание законов, по которым функционирует
«стая». Так, вовремя пришедший в пересыльную тюрьму
большой этап сук при известном попустительстве
начальства был вполне в состоянии самостоятельно ссучить если
не всех, то подавляющее большинство сидящих здесь
воров, облегчая тем самым тюремным властям
«воспитательную работу» и давая основание надеяться на более
высокие «нормы плана» на принудительных работах.
6. Копрологические обсценные практики
и их связь с «песьей лаей»
Типологическое распределение обсценных речевых
практик по двум типам — «прокреативному» и «копрологи-
ческому» — уже давно стало общим местом в соответствую-
94
щих интерлингвистических исследованиях.
Действительно, если в большинстве славянских языков (за
исключением, кажется, чешского — вероятно, в силу его давней и
прочной вовлеченности в германский
культурно-языковой ареал), как и в большинстве романских, обсценное
говорение тяготеет к выстраиванию «кода» на основе
переосмысленного «на собачий лад» прокреативного
словаря, то в большинстве германских языков
соответствующий код по преимуществу копрологичен. В русском слова
типа дерьмо, говно, говнюк, говенный, жопа, срать, сраный,
засранец и т. д. относятся к сниженной лексике и
находятся на различных стадиях табуированности, однако к мату
принципиально не относятся, то есть не являются частью
«кода». В то же время в немецком к сниженной лексике
относимы скорее ficken и bumsen, в то время как слова,
производные от Scheiss, Dreck, Mist, Furz, Arsch, так же как и от
Kotz-Kotze, в гораздо большей степени соотносимы с
русским матом — и функционально (во всем, что касается об-
сценной «перекодировки» обыденной речи), и с точки
зрения традиционной степени табуированности.
Английский язык занимает в этом смысле скорее промежуточную
позицию, поскольку основой кода является все же корень
fuck, однако корни shit и в особенности blood (об особой
роли этого корня в английском языке см. ниже) также
весьма активны.
Традиционная точка зрения соотносит копрологиче-
ские обсценные практики с общим представлением о
близких семантических полях испражнений — нечистоты —
оскверненности — запретности. Что ж, логика в данном
случае предельно проста и понятна. Более того, на
бытовом уровне она, вероятнее всего, именно так и
осмысляется рефлексирующими носителями языка вообще в речи и
в обсценных речевых практиках в частности. Однако мне
представляется, что в данном случае речь идет всего лишь
об инварианте той же самой «песьей» традиции, только
взявшей за основу несколько иной аспект «волчьих»
поведенческих и речевых практик23.
Начнем с того, что во всех индоевропейских
традиционных сообществах существует строгий табуистиче-
ский запрет на испражнение в пределах жилища (о
причинах нарушения этого запрета в городской и замковой куль-
95
турах см. ниже). Ни один европейский крестьянин
никогда не стал бы испражняться не только в собственном
доме, но и в любом помещении, которое он считает
«человеческим», жилым. Одним из традиционных способов
нанести серьезное оскорбление является дефекация у ворот
или на пороге дома24. Существует, кстати, и еще одна
строгая табуистическая практика, параллельная, на мой взгляд,
первой. Ни один крестьянин (я подчеркиваю, что речь
идет именно о крестьянстве!) никогда не станет держать
в доме собаку. Место собаки — на самой периферии
обжитого домашнего пространства — у ворот, где обычно и
ставится собачья будка. Точно так же и помещение для
отправления естественных потребностей (если таковое
вообще строится) выносится обыкновенно в самый дальний
(но — тыльный!) угол двора. В сельской Франции, к
примеру, культура соответствующих «надворных построек» не
существовала вплоть до XX века, а кое-где не существует и
по сей день. Дефекация происходит в саду, подальше от
дома — благо морозы во Франции зимой не сильные. В
1957 году Лоренс Даррелл, поселившийся незадолго до
этого на юге Франции, писал Хенри Миллеру о местных
нравах:
Лангедок — примитивная и пыльная, но по-своему прекрасная
винодельческая страна; они здесь и слыхом не слыхивали о нужниках, и нам
пришлось заказать пару полевых клозетов из Англии, аборигены
взирают на них в священном трепете. Они здесь срут где приспичит, только бы
не в доме, и мистраль задувает им в задницы25.
В то же время волки в «Диком Поле» испражняются где
хотят и когда хотят, и это обстоятельство — в примитивно-
магической системе мышления — не могло не иметь
значимого характера. Волк/пес нечист по определению, и
вести он себя должен — в своей магически-территориальной
привязанности — соответственно. Кстати, вероятнее
всего, на том же основании держится и сугубая значимость
корня blood для англоязычной традиции. Ключевое
кодовое определение bloody (букв, «кровавый»,
«окровавленный»), выступающее в роли обсценного смыслового
модификатора, прямо указывает не только на нечистоту
объекта, но и на причины этой нечистоты. Окровавленный —
значит, убийца, не прошедший ритуала очищения, не
просто волк, но волк, на котором свежая кровь. Не вижу смыс-
96
ла подробно останавливаться на аргументации этого
положения, приведу только пару весьма показательных, на мой
взгляд, примеров. Одним из формульных и наиболее
частотных «кодовых» оскорблений является bloody bastard
(букв, «окровавленный ублюдок»), по частоте
употребления и «силе» равное традиционному общеевропейскому
son of a bitch («сукин сын»); о человеке, пойманном на
месте преступления, говорят: «Caught red handed» (т. е. букв.
«Пойман с красными (окровавленными) руками»), что с
«магнетической» точки зрения означает
непосредственный переход человека в «волчий», преступный статус без
необходимости каких бы то ни было дальнейших
доказательств его «неправильности», «нечеловечности», или,
если переводить на современный юридический язык, —
его вины.
Однако есть и еще одно возможное объяснение —
впрочем, не отрицающее первого и никак ему не
противоречащее. Дело в том, что для большинства юношеских
воинских сообществ доказано существование гомосексуальных
практик, в ряде случаев даже возведенных в ранг инициа-
ционного ритуала. Гомосексуализм, более или менее
жестко табуированный (или просто подлежащий осмеянию в
случае чрезмерной откровенности проявлений) в
зависимости от конкретной национальной культуры в
пределах «нормальной», «человеческой» зоны,
относился, очевидно, к числу «вывернутых наизнанку»
поведенческих норм «Дикого Поля». Напомню, что у древних
греков, в общем-то не поощрявших гомосексуальные связи
между равными по возрасту взрослыми мужчинами,
любовь к мальчикам и юношам считалась своего рода
маргинальной нормой и давала повод для бесчисленных шуток
и провокаций. Мало того, активный и агрессивный
любовник-гомосексуалист по-гречески назывался «лэкпт», то
есть «волк»26. А находившееся в Афинах гимнастическое
заведение с храмом Аполлона Ликейского (т. е.
«волчьего») так и называлось «Лэкейпн» («волчарня»)27.
Итак, если мы «переведем» ключевую матерную
фразу с прокреативного кода на копро логический, то
получим также сугубо «волчью» магически значимую
ситуацию (своего рода «буфером» могут служить лично
оппоненту адресованные оскорбления вроде польского pels сіє
97
jebal («пес тебя ебал»)). Оппоненту вменяется в вину
точно такое же «нечеловеческое» происхождение, с той
разницей, что он появился на свет не из того отверстия,
из которого появляются люди, а через жопу (каковая
фраза в современном русском языке имеет весьма широкий
спектр применения — практически к любому действию,
осуществляемому не так, как его осуществлять
положено). Соответствующих примеров из разных
индоевропейских языков можно привести множество.
Процитирую В.И. Жельвиса, никак, правда, не
откомментировавшего сей во всех отношениях примечательный пример:
«В армянской традиции существует инвектива, означающая:
"Ты вышел из ануса собакиі"»28. Русское сучий выпердышили
сучий потрох, английское fart или fartface, аналогичные
немецкие и французские фразеологизмы имеют, на мой
взгляд, ту же природу. То же относится и к украинско-
белорусской по происхождению инвективе говнюк (т. е.
букв, «сын говна», «говнорожденный»). В этом контексте
стандартные кодовые модификаторы типа сраный,
говенный, вонючий и т. д. приобретают совершенно иной
исходный смысл.
Здесь же имеет смысл упомянуть и об инвективах,
связанных с обвинением оппонента в пассивном
гомосексуализме — как о намеренном речевом (магическом)
понижении его статуса. Тем более что в отечественной инвек-
тивной культуре — в отличие от культуры, скажем,
французской — они занимают традиционно значимое место в
связи с крайне отрицательным, обставленным рядом
строгих табу, отношением к опущенным. Общая для обсценных
речевых практик перекодировка исходных языковых
понятий здесь может быть весьма наглядно
проиллюстрирована откровенным (так и просится — сознательным!)
ритмическим искажением ключевого слова: пидор из педераст.
Перечисленные выше определения могут быть
истолкованы также и в этом смысле, что и происходит зачастую
в речевой практике, особенно в составе устойчивых ин-
вективных конструкций (напр.: ты, пизда сраная —
метонимия, отсылающая к «копулятивным» функциям ануса
оппонента). Небезынтересно было бы прояснить в этой
связи также и возможные «магические» корни
соответствующей инвективы козел — в свете хотя бы известной
98
ритуальной практики, связанной с «козлом отпущения».
Если более или менее аналогичный по смыслу термин
петух (от пидор) имеет, на мой взгляд, относительно
недавнее и четко связанное с блатной речевой средой
происхождение, то с козлом— особенно если учесть наличие
подобного по смысловому полю оскорбления в иных
языковых культурах — дела, по моему, обстоят отнюдь не так
просто.
В этой же связи, с моей точки зрения, имеет смысл
рассматривать и ряд устойчивых табу, связанных в
отечественной уголовной среде с фекалиями и со всем, что тем
или иным способом может быть отнесено к дефекации.
Небезынтересно было бы рассмотреть с
предложенной точки зрения также и ряд культурных практик,
связанных с плевком и с мочеиспусканием, а также с
отражениями этих практик в соответствующих речевых кодах.
«Приблатненная» манера постоянно сплевывать во время
разговора себе под ноги, акцентируя при этом каждый
плевок, может, на мой взгляд, быть объяснена двояко. Во-
первых, демонстрация «обилия» слюны может на
латентном уровне восходить к магнетической демонстрации
«песьего бешенства» (пены, идущей изо рта у бешеного
животного), что, при выраженной положительной внут-
ризональной маркированности самого феномена
«бешенства», «одержимости», берсерка или боевого амока,
должно повышать ситуативный статус
демонстрирующего данную форму поведения человека. Во-вторых,
свойственный как псам, так и волкам обычай метить
территорию явно не мог не быть освоен и культурно
«преломлен» территориально-магической традицией. Так,
плевок под ноги не самому себе, а собеседнику является
знаком прямой агрессии, прямого покушения на его
«территориальную адекватность»29. Что же касается
мочеиспускания, то здесь, как мне кажется, следовало бы
повнимательнее присмотреться к совсем недавно, очевидно,
вошедшему в употребление у мужской половины
человечества (и неведомому остальным приматам) способу
мочиться стоя — связанному, вероятно, с
демонстративными аспектами прямохождения и, возможно, также с
маркированием территории.
99
7. «Волчья» составляющая ряда европейских
социально-культурных феноменов
Во всяком раннем человеческом сообществе фигура
военного вождя обладает совершенно исключительными
функциями и играет свою, ни на какую другую не похожую
роль30. Военный вождь по определению не может
принадлежать к числу родовых старейшин — во главе военного
похода не должен стоять человек, сам находящийся не в
лучшей физической форме; главным достоинством вождя
является не магическая власть над «центром», над
неизменным самовоспроизводящимся миропорядком культурного
пространства, но маргинальная харизма. Согласно
основным законам магического мышления, выходящая на
добычу или на защиту рубежей «стая» представляет собой
единый организм, магически воплощенный в вожаке, в
военном вожде. И если вожак хоть в чем-то ущербен, поход
принципиально не может закончиться удачей. Отряд
представляет собой магически единое «тело», и военный вождь
единосущен ему, он и есть — весь отряд, и каждый
конкретный воин для него — как палец на руке. Военный вождь
берет на себя колоссальную ответственность, выходя (и сам
по себе, и «в комплексе», как составное из многих тел
магическое «тело войска») за пределы «культурной», магически
освоенной территории, в «темную» хтоническую зоігу, во
всех отношениях чужую и враждебную. Всякая удача есть
следствие его удачливости, его военного счастья; вина за
всякую неудачу также полностью лежит на нем31. Добыча
традиционно является собственностью военного вождя
(понимаемого, опять же, как единое во множестве «тело»
войска), и его ключевая функция при разделе добычи
после удачного похода — только лишнее тому подтверждение:
он фактически лишь награждает части своего тела за
хорошую работу на той грани, где единый «корпус» отряда
рассыпается на индивидуальные, на-себя-ориентированные
монады (то есть на границе между собственно мужской и
«общей» зонами)32. Право вождя выбирать лучшую долю в
добыче до начала общего раздела (сохранившееся в
практике волжских разбойников и пиратов Карибского
бассейна) магически означает его право на всю добычу.
100
(Здесь, на мой взгляд, кроется разгадка необъяснимого
с любых «гуманистических» точек зрения поступка
Агамемнона, приведшего к ключевому в «Илиаде» конфликту
между ним и Ахиллом. Со всех «по-человечески
справедливых» точек зрения, Агамемнон ведет себя как
взбалмошный и не слишком умный самодур. Во-первых, он почему-
то претендует на лучшую долю в добыче, взятой отрядом
Ахилла в набеге, в котором он сам не принимал ровным
счетом никакого участия. Во-вторых, будучи вынужден
отдать свою долю (да еще и при отягчающих
обстоятельствах), он требует в качестве компенсации уже
востребованную долю Ахилла. Конфликт, с моей точки зрения,
отражает две различные «статусные» интерпретации роли
военного вождя в отношении к «частям тела». С точки
зрения Агамемнона, очевидно, совпадающей с высказанной
выше моделью, вся взятая на «чужой» территории
добыча является его собственностью, и он волен
распоряжаться ею по своему усмотрению. Ряд обстоятельств косвенно
подтверждает правомочность данной точки зрения.
Начнем с того, что Ахилл, вероятно, следуя принятой
практике, автоматически выделяет Агамемнону «лучший кусок»,
магически означающий право на в с ю добычу. А когда
Хрис приходит в ахейский лагерь с выкупом за дочь, и при
виде обильного выкупа «все изъявили согласие криком
всеобщим ахейцы», одной-единственной реплики
Агамемнона достаточно для того, чтобы выкуп принят не был. С
точки зрения Ахилла (как и с точки зрения Агамемнона),
он и его войско, до тех пор пока они являются частью
общегреческого ополчения и ополчением командует
Агамемнон, входят в общий «корпус» именно на правах
частей тела. Вся разница в интерпретации
«промежуточной» позиции. Ахилл, во-первых, самостоятельный царь
и вождь, и лишение добычи может сказаться — и
неминуемо скажется — как на его статусе среди его собственных
воинов, так и на статусе его отряда среди других
греческих отрядов. А во-вторых, он, и не без основания на то,
считает себя «главным героем» ахейского войска, то есть
самым удачливым, не уступающим удачей Агамемнону, и
с этой точки зрения «реквизиция» Брисеиды неминуемо
должна интерпретироваться им как «знай свое место». С
точки же зрения Агамемнона, сам Агамемнон ни в коем
101
случае не имеет права оставаться вовсе без добычи —
иначе удача от него отвернется. Причем, если лучший кусок
приходится отдать, значит, на замену ему автоматически
приходит «второй лучший». Жест Ахилла — отказ
принимать участие в дальнейших боевых действиях и то
обстоятельство, что он вместе с войском уходит от ахейцев
и разбивает отдельный лагерь, — крайне
показателен. Ахилл, таким образом, открыто дает понять, что
больше не считает себя «частью тела» Агамемнона. Однако
Брисеиду он сперва все-таки отдает, ибо эта добыча была
захвачена в зоне действия прежних правил игры.
Показательны также и дальнейшие отношения между всем
греческим войском и Ахиллом. Обещанная Агамемноном
несоразмерно большая (в том числе и за счет собственной
доли Агамемнона) доля в будущей добыче не убеждает
Ахилла вернуться, он — «отрезанный ломоть». Но
убеждает потеря «части собственного тела» — Патрокла,
который относится к Ахиллу так же, как в прежней ситуации
сам Ахилл — к Агамемнону (если не считать чисто
«волчьей» гомосексуальной подоплеки). Подобный же перенос
чужой ситуации на собственную будет впоследствии
изящно использован Приамом, сумевшим еще раз
«переломить» Ахилла. Ситуация «единой плоти» Ахилла и
Патрокла подчеркивается также и сюжетом с «заимствованием»
доспеха.)
То обстоятельство, что класс военной аристократии (в
самых разных культурно-исторических ситуациях) обязан
своим появлением связке «военный вождь — походная
дружина», вряд ли у кого может вызвать сомнения. Ключевой
вопрос здесь другой — когда и вследствие чего в
традиционном сообществе с завидным постоянством совершается
переход власти от жреческой касты к касте военной — а
если точнее, то в сообществе, которое как раз после и в
результате данного перехода, собственно, и перестает
быть традиционным? Каким образом традиционная
модель, целиком и полностью ориентированная на
сохранение от века данного status quo и не имеющая по сей
причине даже исторической памяти — за ненадобностью,
поскольку индивидуализированные «исторически
значимые» сюжеты суть всего лишь акциденции, ничего не
значащие в сравнении с неизменностью раз и навсегда заве-
102
денного порядка — дала брешь и начала постепенно
перерастать в модель историческую, где время перестало
ходить по кругу и начало вытягиваться в историю, где
героическое деяние стало важнее космогонического мифа, где
жрец стал прорицателем при воине?
Посмею высказать предположение, что без
кардинальных изменений в значимости (и в первую очередь
пищевой значимости) маргинальных, то есть чисто мужских,
«волчьих» территорий, этого произойти не могло.
Традиционная модель, прекрасно приспособленная для того,
чтобы «перемалывать» юношескую агрессию — с одной
стороны, обеспечивая за ее счет безопасность границ, а с
другой — поддерживая выгодный демографический
баланс33 и избавляя зону общего проживания от возможных
нежелательных проявлений этой агрессии, предполагает
выраженную оппозицию «обильного» центра и «скудной»
периферии. До тех пор, пока агрессивное и голодное (во
всех физиологических и социальных смыслах) «волчье»
меньшинство зависит от центра как от вожделенной зоны
изобилия и «окончательного воплощения», инициация
будет важна не как состояние, а как возможность
возвращения в «утраченный рай». Но стоит только
маргинальной территории обнаружить собственные источники
существования, и центростремительный баланс рискует
перерасти в центробежный.
Первым толчком такого рода, опрокинувшим целый ряд
европейских, передне- и среднеазиатских традиционных
сообществ, был, вероятно, переход от неолитической и
раннебронзовой земледельчески-собирательской модели к
преимущественно скотоводческой модели эпохи поздней
бронзы и железа. Именно к этому времени относится
первая, не затухающая с тех пор волна «великого переселения
народов», довольно странного процесса, при котором
целые племена без всяких видимых причин становятся вдруг
необычайно агрессивными и приобретают выраженную
тягу — не к перемене мест, смею заметить, но к
приобретению и освоению новых территорий. Скотоводство резко
сместило баланс сил во взаимоотношениях центр —
периферия, повысив пищевую ценность — а следовательно, и
самостоятельность — маргинальных территорий34 и к тому
же радикально изменив «качество» источников пищи. Если
103
пищевая модель, основанная на земледелии, предполагает
высочайшую степень территориальной «связанности» и
«не-экспансивности», в силу прежде всего мотиваций
чисто магических (успешная традиционная прокреативная
магия возможна только на «своей», «знакомой»
автохтонной земле; захват чужих земель если и не вовсе лишен
смысла, то крайне рискован с магической точки зрения:
возможно только медленное и постепенное «приращивание»
к своему), то скотовод прежде всего мыслит категориями
количественными. Он вынужденно подвижен, он
оценивает землю скорее по качеству травы и наличию источников
воды, а не по степени удаленности от центра. И — главное,
чужую землю с собой не унесешь. Но чужую отару вполне
можно сделать своей. А окончательную точку в этом
процессе поставило, вероятнее всего, овладение сперва
колесом, а потом и техникой верховой езды. Резко возросшая
мобильность фактически лишила «внешнюю», «волчью»
зону естественных внешних границ и превратила в «Дикое
Поле» весь мир — за исключением центральной,
«культурной» его части, где продолжало жить и здравствовать
традиционное сообщество.
Дальнейшие перемены — вопрос времени. С
повышением мобильности маргинальных юношеских отрядов,
«волчьих стай», неминуемо появляется практика набегов на
соседние — пусть даже весьма неблизкие — области с целью
захвата добычи (поначалу, очевидно, главную ценность
составляли именно стада и отары). С повышением же
«мотивации» пребывания в маргинальном статусе («вольная»
жизнь, «опьянение боем» как норма существования,
возможность более быстрого достижения высокого
социального — и экономического — статуса) возрастает
притягательность периодического «возвращения» взрослых
статусных мужчин в «Дикое Поле», и, следовательно, начинает
понемногу меняться базовая система ценностей. Движение
индоиранских и смежных индоевропейских племен во
втором — первом тысячелетиях до нашей эры дает прекрасный
пример постепенного развития такого процесса. То, что
начинается с обычных набегов молодежи за добычей (пусть
даже очень дальних)35, перерастает затем в
территориальные захваты, причем хозяевами на новых территориях
становятся никак не лидеры традиционного сообщества, но
104
именно лидеры «стаи», и организуется «новая жизнь» по
законам, коррелирующим, естественно, с законами
общеплеменного общежития (как только воины обзаводятся на
новых землях собственным, здешним «домом и храмом»),
но коррелирующим одновременно и с законами «Дикого
Поля», поскольку с формальной точки зрения новая
территория продолжает таковым оставаться — в сравнении с
«метрополией»36. Возникновение зороастризма, как
собственно жреческой религии, остро направленной против
способа жизни уже успевшей сформироваться к этому
времени у восточных иранцев воинской касты, не может
быть в этом смысле ничем иным, как реакцией
традиционного сообщества на изменение «условий игры» и попыткой
взять реванш. Не случайно зороастризм зародился именно
на «коренных» территориях, «в тылу» успевших к тому
времени продвинуться далеко на юг агрессивных «волн», и
только впоследствии мало-помалу распространился на весь
иранский ареал (за исключением Северного
Причерноморья).
Та же — с типологической точки зрения — ситуация
возникает, на мой взгляд, и в западноевропейском ареале, в
середине — второй половине первого тысячелетия нашей
эры, когда племенные дружины (по преимуществу
германских) народов постепенно превращаются в основной
класс будущей средневековой Европы, класс военной
аристократии, могущество которой основано в первую
очередь на поместном землевладении и на ленном праве. В
самом деле, грабительские набеги германских дружин на
пограничные области Римской империи оставались по
преимуществу именно грабительскими, «волчьими»
набегами до тех пор, пока военные и политические структуры
римлян были в состоянии сдерживать натиск «великого
переселения народов». Но как только главной добычей
сделался не скот и не металл, а земля, германская
племенная организация претерпевает на новых землях резкое
структурное изменение, причем доминирующими
оказываются именно законы «стаи». Земля не распределяется
между родами и не становится общеплеменной
собственностью (как правило, со всеми известными оговорками и
исключениями). Она в конечном счете распределяется по
тем же законам, по которым происходит обычный раздел
105
взятой «стаей» добычи. Более того, с магической точки
зрения она остается собственностью всей стаи, а
следовательно, — ее вожака, что и выражается в самой
структуре ленного права, где право на индивидуальные «зимние
квартиры» уравновешивается требованием постоянной
боеготовности и обязательным отбытием определенного
(сезонного!) срока в составе «стаи». «Зимние квартиры»
теперь отделены от традиционного культурного центра,
они вынесены в само «Дикое Поле», и способ
существования военной аристократии — даже в мирное время —
становится совершенно иным. Формально сохранная
«периодичность» стайной фазы и фазы «дома и храма», по сути,
модифицируется, ибо весь жизненный уклад будущего
европейского рыцарства строится отныне на совершенно
«волчьих» основаниях. Война становится если не
единственным, то уж во всяком случае основным занятием
дворянина — и единственным «достойным» его занятием.
Агрессивность поведения делается культурной нормой и
утверждается в категориях «дворянской чести». Система
воспитания подрастающего поколения сохраняет ряд ини-
циационных этапов, с той разницей, что смысл инициации
претерпевает существенные изменения. Она больше не
есть путь к изобильному, мирному и прокреативному
«центру». Она — переход от «щенячьей» стадии (паж, кнехт,
оруженосец) к стадии полного воинского воплощения, и
акколада есть посвящение в профессиональные «волки».
Бывший инициационный этап (имевший целью, напомню,
снятие юношеской агрессии через ее «выплеск» и защиту
«общей» зоны от волчьей агрессии, как чужой, так и
собственной) растягивается на всю жизнь и становится
смыслом жизни37. Данные особенности дворянской системы
воспитания сохранились и в более поздние культурные
эпохи. С возникновением профессиональной армии,
корпуса профессионального армейского офицерства (в
изначальном виде, естественно, чисто дворянского) и
институтов профессиональной подготовки армейских кадров
(кадетские корпуса и т. д.) множество символических и
магических по своей природе инициационных ритуалов
перекочевало в эту социальную подсистему — причем
символика и магичность этих ритуалов носят откровенно
«волчий» характер38. То же относится и к существовавшим в не-
106
давнем европейском прошлом особенностям
«гражданского» дворянского образования и воспитания.
Непременная Kavalierreise — далекая поездка юноши-дворянина
после окончания университета, непременно верхом,
непременно за границу и непременно в сопровождении
компании равных ему по возрасту и по статусу
товарищей — является, по сути, реликтом ритуальной
отправки в «Дикое Поле». Особенно явным становится данное
обстоятельство, если учесть, что словом
/^^обозначается по-немецки не только поездка но и — применительно к
эпохе ландскнехтов — служба в наемных войсках.
Множество мельчайших и малосущественных на первый
взгляд особенностей дворянского быта многое могут нам
сказать о природной связи этой касты со своими
«волчьими» корнями. Такая, скажем, весьма характерная деталь,
как привычка содержать собак дома, выводящая на
кардинальные ценностные отличия между крестьянским
бытом, во многом по-прежнему ориентированным на
традиционные общинные ценности, и бытом военной
аристократии. О месте собаки в крестьянском быте уже
говорилось выше. В дворянском же способе жизни собака — как
и лошадь — занимает одно из наиболее ценностных мест,
она — член стаи, а потому ее место не только и не столько
на псарне, но и в пиршественной зале, и даже (в особых
случаях) в личных покоях дворянина. Сельский дом
дворянина, его поместье, его замок — это прежде всего логово,
приспособленный для отдыха и воспроизводства
укромный уголок «Дикого Поля», одновременно и укрытие в
случае опасности, и доминирующий над местностью
наблюдательный пункт, и база для собственных набегов39.
Жизнь здесь идет по стайным законам, и для собаки, как
для магически «единокровного» существа, полностью
проницаема40. Собака не в состоянии осквернить «волчьего
логова» — в отличие от крестьянского дома, в который ее
ни при каких условиях не пустят41.
То же касается и практики дефекации в жилом
помещении. Поскольку для дворянина собственный дом — всего
лишь «выгородка» из «Дикого Поля», то и отправление
естественных надобностей в стенах жилья является
делом не только не предосудительным, но совершенно
естественным. В этом отношении дворянская культура — это
107
культура ночного горшка, в тех случаях, когда ночной
горшок был доступен или возникало желание им
воспользоваться. Во всех же прочих случаях блистательное
европейское рыцарство, как правило, пренебрегало этой
условностью. Устоявшаяся дихотомия «зимних» и «летних»
дворцов у европейских монархов, помимо прочего, обязана
своим появлением тому немаловажному обстоятельству,
что лишенный элементарных удобств двор настолько
загаживал за сезон все дворцовые помещения летней
резиденции, включая самые парадные, что слугам приходилось
отчищать ее в течение полугода, пока придворные точно
таким же образом «обживали» зимний дворец.
Некую «пограничную» между замком и деревней в
отношении к «волчьему» культурному следу область
представляет собой средневековый европейский торговый
город. С одной стороны, город изначально был
прибежищем всех маргинальных социальных элементов, «воздух
города делал свободным» от всяческих форм феодальной
зависимости, и потому на городском пространстве во
множестве (в средневековом, куда более скромном, чем
теперь, смысле этого слова) собирались разнообразные
авантюристы, люмпены и просто преступники,
человеческий материал для социальных феноменов,
унаследовавших массу откровенно «волчьих» черт — вроде
преступных сообществ, живущих по весьма своеобразным и
довольно строгим законам, очень напоминающим законы
«Дикого Поля». Типологическая близость различных
«воровских» культур — французской, английской, русской —
при всех понятных национальных особенностях (вроде
резко различного отношения к гомосексуализму, скажем,
во французской и русской «блатных» субкультурах) давно
привлекала внимание исследователей. Д.С. Лихачев в
статье «Черты первобытного примитивизма в воровской
речи»42 объясняет это обстоятельство «общностью
примитивного способа производства», в чем нельзя не видеть
вынужденной уступки господствовавшим во время
написания и первой публикации статьи вульгарно-марксистским
взглядам. Однако есть в этой мысли, на мой взгляд, и своя
«сермяжная правда» — если учесть тот факт, что
принципиально маргинальные условия существования, в которые
ставит себя преступная субкультура по отношению к доми-
108
нирующей культуре, типологически отвечают ранней
модели «волка» или «волчьей стаи» в «Диком Поле». Многие
поведенческие особенности блатных (вроде крайне
низкого порога возбудимости, высокого болевого порога,
постоянной готовности к агрессии, высочайшей
внушаемости, склонности к хвастовству и «эпизации» поступка и т. д.)
и особенности речевого поведения (диффузная
семантика, полисемаитичность, использование слова по
преимуществу в его инструментальной функции, и т. д., что
роднит «блатную музыку» с матом43) прямо восходят к тем
поведенческим структурам, которые, судя по всему, должны
были быть свойственны «псам» в их исконном виде.
С другой стороны, такого рода субкультуры являлись
маргинальными и воспринимались как маргинальные и в
самой городской среде. Сам же город, великий
плавильный котел, горнило и колыбель будущей европейской
цивилизации, выгодно сочетал и сплавлял элементы
традиционной социальной организации с элементами
«волчьей» агрессивности, «стайной» самостоятельности,
инициативности и свободы. Лабильная городская
(«буржуазная», «бюргерская», «мещанская») культура,
подстраиваясь и подлаживаясь — до времени — под господствующую
военно-аристократическую феодальную культуру,
заимствовала ее элементы, подражала ей (хотя бы в области
домашних собачек и ночных горшков), но и перетрактовы-
вала ее на свой «урбанный» и «цивильный» лад. Не
случайно в более поздние, уже буржуазные по существу эпохи
способ жизни дворянина в городском доме весьма
существенно отличается от его способа жизни в сельском
поместье44 — вплоть до костюма и манер, не говоря уже о
распорядке дня и об основных способах времяпрепровождения.
Нельзя не отметить и изменения в социальном статусе
мужских обсценных кодов, происшедших в Европе с
наступлением «буржуазной» эры и с резким повышением
удельного веса «городских» элементов в тех или иных
европейских культурах. В дворянской, по преимуществу
английской, немецкой и французской (и русской), культурах
XVI — начала XVII века мужское обсценное «кодирование»
речи было в достаточной степени общепринятым
явлением даже в самых верхних социальных стратах. Чаще всего
оно было достаточно жестко связано с теми или иными
109
формами устной и письменной речи — с театром, с
малыми повествовательными формами, с эпистолярной речью
в тех случаях, когда и пишущий, и адресат были
мужчинами (причем статус участников коммуникации не играл в
этом отношении никакой «ограничивающей» роли —
монархи и духовные лица «матерились» ничуть не менее
охотно и обильно, чем простые миряне), — однако
жанровые ограничения навряд ли существенно влияли на
частотность употребления соответствующих речевых
практик. С приходом к власти буржуазии — как в
политическом, так и в культурном смыслах — ситуация резко
меняется. Зона табуирования мужских обсценных кодов
становится значительно шире — практически любое явление
культуры, претендующее на статус «культурного» (в
буржуазном, мещанском смысле этого слова), в обязательном
порядке проходит строжайшую «нравственную» цензуру.
Более целомудренного с формальной точки зрения века,
чем век XIX, человечество еще не знало. Культура
застегивается на все пуговицы и старательно делает вид, что не
только самих обсценных речевых практик, но и
областей возможного применения оных попростуне
существует в природе. Дворянская «вольность языка»
вытесняется в маргинальные области культуры, туда, где «ур-
банность» и «цивильность» не имеют никакого реального
статуса — в армию, в студенческие братства, в холостяцкие
клубы, и становится приметой того модуса речевого (и не
только речевого общения), который на языке официально-
«духовной» культуры именуется по-немецки
«Schweinbruderlei», а по-русски — французским заимствованием
амикошонство. То есть формируется именно та языковая
ситуация, в которой начало XX века застало практически
каждую европейскую национальную культуру, — ситуация
«воскресшего» (наверное, впервые со времен перехода
реальной власти в обществе от жреческой касты к
военной аристократии) резкого территориально-магического
размежевания между «правильным», «культурным»,
«духовным» центром и «грязной», «пошлой», «гнусной и
циничной» речевой периферией — с той разницей, что
периферия была теперь повсюду, ибо едва ли не каждый
носитель языка (мужчина) жил в ситуации постоянного
«двуязычия». На «культурном» языке он общался во всех без
по
исключения официальных и «культурных» ситуациях, а
также в тех случаях, когда участниками речевой ситуации
были женщины и дети. В чисто мужской же компании, в
неофициальной ситуации обсценная маркировка речи
остается непременным атрибутом общения во всех слоях
общества (за исключением пуристски ориентированных
религиозных сект — чей пример лишь продолжает линию,
начатую зороастрийской попыткой «жреческого»
реванша) , ибо XIX век именно и старался примирить
буржуазные добродетели в области «дома и храма» (то есть в
сферах жизни, воспринимаемых, особенно в традиционной
протестантской системе ценностей, как частные — в семье,
в религии, в воспитании детей и вообще в «культуре») с
дворянскими доблестями на поприще служения государю
и отечеству (то есть в сфере профессионального
общения, остававшейся в XIX веке практически
исключительно мужской)45. Две эти сферы существовали как бы
параллельно, не пересекаясь и не взаимодействуя между собой,
и всякий мужчина свободно и практически ежедневно
переходил из одной в другую, меняя поведенческий
модус, — так же как примитивный охотник когда-то менял
его, возвращаясь из зоны войны и охоты в зону домашней
и прокреативной магии. Было бы забавно оценить столь
характерные для XIX века проблемы романтического
двоемирия или викторианской двойной морали исходя из
приведенных здесь посылок — а также рассмотреть под
этим углом зрения целый ряд соответствующих
отечественных культурных практик, относящихся как к XIX,
так и к XX векам.
8. Изменения статуса и социальных функций
мужских обсценных кодов в отечественной
культуре первой половины XX века
Двадцатый век стал для русского мата, как и для
большинства иных европейских мужских обсценных кодов,
временем резкой смены как культурного статуса, так и тех
социальных функций, которые он — с теми или иными
вариациями, но относительно неизменно — выполнял,
очевидно, на протяжении многих и многих веков.
Масштабні
ные социальные и культурные ротации, вызванные
известными политическими событиями, начиная с осени 1917
года, не могли не привести к не менее резкой смене
доминирующих в тех или иных сферах поведенческих практик —
в том числе и речевых. Однако процессы, приведшие к
установлению нынешней культурно-речевой ситуации в
той ее части, которая имеет отношение к мужским
обеденным кодам, начались значительно раньше.
Существенную роль в изменении функций и общего
статуса русского мата сыграло, на мой взгляд, — как иронично
бы это ни звучало, если иметь в виду привычный
марксистский дискурс, — формирование в России фабричного
пролетариата. Однако прежде, чем перейти к обсуждению
данной проблемы, позволю себе небольшой экскурс в область
ряда специфических социальных практик, сложившихся в
совершенно иной — с формально-социологической точки
зрения — среде: а именно в среде крестьянской. Вернее, в
одной весьма специфической ее части. Дело в том, что
говорить о российской крестьянской общине XVIII—XIX
веков без учета значительного количества деревень и даже
целых волостей, живших в основном не за счет сельского
хозяйства, а за счет отхожих промыслов, значило бы
непозволительным образом упрощать ситуацию. Целый ряд
«городских», «буржуазных» (то есть связанных с торговлей,
сферой обслуживания и ремесленным производством)
профессий существовал в основном за счет приходящей
сезонной рабочей силы. Где-то эта привязка была жестко
сезонной — как в ситуации с бурлаками или офенями, где-то
существовал своего рода «вахтенный метод» (извозчики).
Однако, в общем счете, сама структура подобного способа
существования целых мужских коммун (а отхожими
промыслами занималась практически исключительно мужская
часть населения «специализированных» деревень)
удивительным образом напоминает «волчью сезонность».
(Еще одна социальная ниша, в которой «волчьи»
формы и нормы поведения сохранились (возобновились?) в
еще более структурно очевидном виде, есть казачество.
Собственно казачество — как русское, так и украинское —
изначально, видимо, и сформировалось на основе еще
живых «волчьих» социальных матриц, по крайней мере,
Запорожская Сечь хотя бы отчасти выполняла сходные
112
«воспитательные» функции. Тема взаимосвязи казачества
с традицией воинских мужских союзов настолько
серьезна и объемна, что должна бы стать темой отдельного
(монографического?) исследования — здесь же я позволю себе
сослаться только на очевидные «маргинальные»
параллели (исходный для русского и постоянно действующий для
«сичевого» казачества запрет на землепашество, четко
выраженная тяга к «сезонности», запрет на нахождение
женщин в пределах Сечи — семантика всех существующих
в жесткой привязке к определенной
территориально-магической реальности аттитюдов, с моей точки зрения,
достаточно очевидна), а заодно — на тот (во многом
пропагандистский) образ кровожадного и дикого казака, казака-
«волка», который как-то «сам собой» сложился в Европе (в
особенности после заграничного похода русской армии в
1813—1814 годах). Сходные методы принципиально мар-
гинализированной «стайной» организации можно
встретить у валашских гайдуков (у которых «логова»
принципиально располагались на другом берегу Дуная —по
другую сторону семантически значимой водной преграды
от «человеческих» деревень; в пиратских республиках
Адриатики, Мадагаскара и Карибского бассейна и т. д. Ср.
также опыт чешских гуситов по созданию «Табора» —
«братской» стайной религиозной организации, каждый
вступающий в которую обязан был отречься от семьи, сжечь свой
дом и положить жизнь на «исполнение Страшного суда»
над всеми не-гуситами. Религиозный субстрат в данном
случае не должен затенять типологической близости самих
возникших маргинальных военизированных («Табор»!)
структур привычным индоевропейским «волчьим»
матрицам. Еще более показателен в этом смысле опыт ничуть не
менее агрессивных, чем табориты, но еще более маргина-
лизированных современных им и уничтоженных ими
адамитов).
Не секрет, что именно в среде «отходников»
разрабатывались разного рода «тайные языки» — вроде языка
офеней (базового, судя по всему, для будущей воровской
фени), лаборей, «масовского» языка и других.
Существующих на сегодняшний день данных46 явно недостаточно,
чтобы всерьез пытаться восстановить живые
разговорные практики носителей этих «языков», однако, если ис-
113
ходить из тех функций и того статуса, который эти языки
имели в соответствующей речевой и поведенческой
среде, вряд ли можно сомневаться в том, что им, наряду с
неизбежным для всякого профессионального жаргона
«терминологическим творчеством», были свойственны
обычные типологические особенности мужских разговорных
кодов, вроде полисемантичности и диффузности
смыслов. А если учесть традиционное место и традиционный
статус русского мата, навряд ли можно сомневаться и в
том, что обыденные речевые практики «отходников» (по
крайней мере, вне родной деревни — а зачастую, судя по
ряду данных, и в пределах оной) были матерными, и что
мат выполнял в них примерно ту же роль, которую и в XX
веке он выполнял в речевых практиках блатных. Фразы
ругается как извозчик и ругается как сапожник не случайно
стали в русском языке устойчивыми.
С формированием фабрично-заводской пролетарской
среды на окраинах крупных городов (или фабричных
слобод при «не-городских» предприятиях)47 формируется и
весьма специфический социально-культурный слой, по
ряду особенностей ближе всего стоящий именно к
«отходникам». Во-первых, комплектовался он во многом за
счет тех же самых «отходников» — особенно в области
легкой промышленности, где фабричное производство
постепенно вытесняло мелкое, ремесленное48. Во-вторых,
после реформы 1861 года, когда подвижность
крестьянского населения вынужденно усилилась, мощную базу для
фабричного пролетариата составили младшие сыновья
из крестьянских семей, чьи перспективы на
приобретение хотя бы относительно высокого социального статуса
в родной общине были более чем призрачными. Отсюда
закономерный вопрос: какие поведенческие нормы
должны были быть свойственны достаточно значительным
группам молодых (по преимуществу) мужчин,
оторванных от «дома и храма» (и вообще от родной среды) и
оказавшихся в абсолютно «стайной» ситуации фабричной
слободы? Единственной в чем-то «параллельной»
ситуацией можно, наверное, считать культурную ситуацию
рекрутов — при всех очевидных различиях.
Фабричная слобода в России материлась всегда — с
самого момента своего возникновения. Бывшие «отходни-
114
ки», посессионные крестьяне и младшие сыновья из
многодетных крестьянских семей, очутившись в ситуации
перманентной реальности «Дикого Поля», строили свою
жизнь и нормы своего поведения исходя из латентно
существовавших на протяжении всей истории отечественного
крестьянства магических «волчьих» норм. Повальное
пьянство фабричных, на мой взгляд, обязано своим
происхождением тому же самому обстоятельству. «Волку»
подобает опьянение, точно так же как человеку — трезвость
(экстерриториальная зона праздника — особый случай).
«Дом и храм» оставались где-то далеко, в родных
деревнях — если вообще оставались. В противном случае зыбкая
реальность полу-человеческой («собачьей») жизни
становилась безальтернативным способом существования даже
и тогда, когда фабричный заводил семью и начинал жить
«своим домом». Речь идет конечно же об общей
тенденции: подгонка реальных человеческих судеб под какие бы
то ни было закономерности вообще есть вещь
неблагодарная. Однако повальное пьянство отходников, мастеровых
и фабричных (а в устойчивых русских речевых
конструктах сапожники и извозчики, как известно, суть образцы не
только в ругани, но и в пьянстве) есть статистический
факт; матерное «говорение» фабричных и прочих
категорий «окологородского» населения также есть факт,
неоднократно засвидетельствованный — в первую очередь
литературной — традицией (сошлюсь хотя бы на
известный пассаж из Ф. Достоевского, который приводили по
очереди едва ли не все исследователи «сниженной
лексики» — от Бахтина до Жельвиса). Маркс увидел бы здесь
проблему чисто экономического характера — отчуждение
человека от результатов его производственной
деятельности. Однако прагматически ориентированные
российские большевики, которые были плохими экономистами,
но зато обладали выраженной «волей к власти», увидели в
не успевшем «устояться», «обуржуазиться» (то есть
набраться крох той самой «урбанности» и «цивильности»,
которая в конечном счете спасла Европу от вполне
реальной угрозы всеобщей пролетарской революции)
отечественном пролетариате совсем другие приоритеты. Они
сумели перевести марксизм на доступный язык «стайной»
утопии — причем не столько в области идеологии, сколько
115
в области «партийного строительства» — и дали тот самый
опыт «перекодировки» философских идей на язык
лозунгов, которым не замедлили воспользоваться в других
странах как самые ярые сторонники большевиков, так и самые
ярые их противники, вроде Муссолини и Гитлера,
включая весь спектр «переходных» вариантов.
Революция семнадцатого года, последовавшая за ней
Гражданская война и начало «строительства коммунизма»
сформировали целый ряд совершенно новых,
неизвестных до сей поры не только в России, но и в
предшествующей мировой традиции культурных практик. Одной из
таких — речевых — практик является создание совершенно
особенной кодовой системы «советского» говорения,
получившей постфактум с легкой руки Оруэлла название
«новояз». Колоссальная по своим масштабам ротация
населения, приведшая к резкому росту городской его части
за счет «вымываемой» сельской общины49, создала
небывалый прецедент: изрядно повыбитая за годы социальных
потрясений прослойка «урбанизированного» мещанства
была явно не в состоянии «переварить» эту волну,
соотношение сил было слишком неравным. Оказавшиеся в
совершенно новой для них реальности огромные массы
оторванного от общинных корней населения остро
нуждались в средствах речевого освоения того колоссального
«Дикого Поля», в которое превратилась вся страна. Таким
средством (параллельно, а зачастую и вместе с матом —
впрочем, об этом ниже) и стал своеобразный «советский»
речевой код, построенный по всем законам кодового
говорения, ибо его основные компоненты, пришедшие из
сферы большевистской идеологии, на уровне обыденного
сознания воспринимались как кодовые интерполянты,
лишенные всякого денотативного значения, но
позволяющие «сойти за своего».
Первейшей задачей всякого тоталитарного государства
является создание в пределах подконтрольной
территории сплошного «проницаемого пространства», где
каждый человек и каждая социальная структура были бы
лишены каких бы то ни было «закрытых зон», в любой
момент доступны для полной внутренней ревизии и — в
идеале — предельно унифицированы. Наиболее массовой
«закрытой зоной» в России начала XX века по традиции
116
продолжала оставаться «внутренняя территория»
крестьянской общины. И если с другими социальными стратами
вопрос решался более гибко — или, по крайней мере, с
большим набором «индивидуальных» вариантов
подхода50, — то к общине пришлось в конце концов применить
метод сплошной корчевки. А уничтожив и распылив
крестьянскую общину, партия могла быть спокойна за то, что
новый речевой код станет «родным языком» для большей
части населения, существенно облегчив тем самым задачу
унификации «человеческого пространства».
Современная этому процессу литературная традиция
самым обостренным образом реагировала на
происходящие тектонические культурные сдвиги — и реагировала на
самых разных уровнях, начиная от простой ироническо-
сатирической фиксации изменившихся
культурно-речевых практик (М. Зощенко) и заканчивая жестко
аналитическими притчами М. Булгакова и попыткой
«мифологического вчувствования в процесс» у А. Платонова.
В платоновском «Сокровенном человеке» есть
совершенно замечательная сцена «экзамена», который
машинист Пухов, главное действующее лицо, должен пройти
для того, чтобы получить работу в порту.
Его спросили, из чего делается пар.
— Какой пар? — схитрил Пухов. — Простой или нагретый?
— Вообще... пар! — сказал экзаменующий начальник.
— Из воды и огня! — отрубил Пухов.
— Так! — подтвердил экзаменатор. — Что такое комета?
— Бродящая звезда! — объяснил Пухов.
— Верно! А скажите, когда и зачем было восемнадцатое брюмера? —
перешел на политграмоту экзаменатор.
— По календарю Брюса тысяча девятьсот двадцать восьмого года
восемнадцатого октября — за неделю до Великой Октябрьской
революции, освободившей пролетариат всего мира и все разукрашенные
народы! — не растерялся Пухов, читавший что попало, когда жена была
жива.
— Приблизительно верно! — сказал председатель проверочной
комиссии. — Ну, а что вы знаете про судоходство?
— Судоходство бывает тяжелыне воды и легче воды! — твердо ответил
Пухов.
— Какие вы знаете двигатели?
— Компаунд, Отто-Дейц, мельницы, пошвенные колеса и всякое
вечное движение!
— Что такое лошадиная сила?
— Лошадь, которая действует вместо машины.
117
— А почему она действует вместо машины?
— Потому что у нас страна с отсталой техникой — корягой пашут,
ногтем жнут!
— Что такое религия? — не унимался экзаменатор.
— Предрассудок Карла Маркса и народный самогон51.
Ясно, что данный экзамен не имеет никого
отношения к существу проверяемых специальных знаний, о
которых сами члены «экзаменационной комиссии» не
имеют ровным счетом никакого представления. Но это и не
важно. Поскольку проверяется в данном случае не
профессиональный уровень «кандидата», а степень владения
кодом, и чем ближе к концу диалога, тем более очевиден
его (диалога) кодовый характер. В чем-то этот экзамен
напоминает древнескандинавскую игру в кеннунги —
загадки, построенные на том, что все участники игры
владеют своеобразным эпическим воинским кодом,
«переформатирующим» самые обычные бытовые (мужские
бытовые!) понятия, такие как «волна», «меч», «золото» и
т. д. Причем принципиально игровой характер
«экзамена» в платоновском «Сокровенном человеке» подспудно
ощущается как экзаменаторами, так и экзаменуемым —
что лишний раз подчеркивается тягой к ритмической
организации вопросов и (особенно!) ответов,
положительным маркированием «лихих» ответов вне
зависимости от степени их осмысленности52.
В «Сокровенном человеке» общая интонация
Платонова еще отчасти иронична, хотя практически и лишена
сатирической интенции. Сатирик — это застенчивый
пророк, пророк-заика, злой от собственной ущербности;
пророк, лишенный дара фанатизма. Иронист же всего лишь
позволяет себе определенную степень отстраненности от
предмета говорения, точку зрения «с высоты птичьего
полета». К началу тридцатых Платонов запрещает себе и
эту отстраненность. «Котлован» и «Джан» — это уже взгляд
изнутри, гениальное усилие выстроить эпос на основе
угадываемой за кодом мифологической праосновы. По всем
законам соотнесенности эпоса с тем мифологическим
кодом, на котором он «пересказывается». С практически
полным отказом от «авторской позиции» в пользу
позиции «аэда», в чью власть входит всего лишь фиксация,
циклизация и «передача по инстанции» уже латентно «го-
118
товых к употреблению» узусов коллективной речевой
памяти.
«Собачье сердце» М. Булгакова есть текст в
совершенно ином роде. Головокружительная по смелости и злости
притча о попытке «позитивистски-научного» создания
«нового человека» из подворотенного пса и о том,
как сей лабораторный монстр обретает жуткую
самостоятельную реальность и только благодаря счастливому
стечению обстоятельств не «разбирается» на обычный у
литературных Франкенштейнов манер с собственными
создателями, притча, основная «мораль» которой носит
откровенно антигуманистический характер («собака
останется собакой, что ты с ней ни делай»)53, важна для нас в
данном случае в том числе и с весьма специфической точки
зрения. А именно с точки зрения тех разговорных практик,
которыми «автоматически» овладевает Шариков в ходе
«человеческого» витка своей эволюции. Первое же
произнесенное им слово именно и является неосознанной
перекодировкой «нового советского» понятия, и творцы
«нового человека» с навязчиво игровыми фамилиями
Преображенский и Борменталь не сразу и не без усилий
догадываются об исходном смысле весьма эмотивного Абырвалг—
как зеркально перевернутого Главрыба. Юмористическая
«подкладка» дальнейшего развития сюжетной ситуации
строится на той легкости, с которой бывший пес
овладевает нужным вариантом речи. И этот вариант — никак не
принятая в доме профессора Преображенского
нормативная «интеллигентская» русская речь, но именно советский
«новояз». Денотативный смысл большинства
употребляемых терминов для Шарикова по определению недоступен,
но зато врожденное умение «петь» на коде (сцена с
«демонстрацией феномена» научной общественности в
данном случае — одна из ключевых) позволяет ему в
результате процесса «социального обнюхивания» практически с
ходу занять достаточно высокий социальный статус,
причем «по всему видать», что этот статус — никак не предел
его «партийно-хозяйственной» карьеры. Напомню,
кстати, что по долгу службы маленький советский начальник
Шариков, моментально и совершенно естественно
«врастающий» в повадки советского начальника, занимается
работой, которую иначе как парафразу деятельности ОГПУ/
119
НКВД понять невозможно. Он выискивает и
уничтожает чуждый (не-собачий) элемент. То есть
кошек, на которых у Шарикова обостренное «классовое»
(расовое?) чутье.
Наряду с советским «новоязом» несколько более
широкое распространение, чем в дореволюционный период,
получил и традиционный русский мужской обсценный
код — мат. Предпосылок к тому было несколько.
Во-первых, постепенное и во многом целенаправленное
превращение всей страны в огромное «Дикое Поле» не могло не
сказаться на статусе не только вновь образованных, но и
традиционных маргинальных речевых практик.
Во-вторых, мат — опять же наряду с «новоязом» — стал
естественным речевым кодом растущей и набирающей силу
прослойки «партийно-хозяйственного актива» на всех уровнях
новых советских структур. Здесь, несомненно, сыграли
свою роль и «исходные» для партии большевиков речевые
и поведенческие стереотипы — жестко привязанные к
способу жизни сплоченной и агрессивной54 маргинальной группы,
то есть уже, по существу, «волчьи» — и сознательная
работа по разрушению «бывшего» культурного пространства.
Работа не настолько радикальная, как то мыслилось,
скажем, анархистам, возведшим своеобразно
перетрактованную идею «Дикого Поля» в абсолют, но зато куда более
действенная, тотальная и результативная. Очевидно, сказалось
на «общекастовой» речевой ситуации и то обстоятельство,
что комплектовался «партийно-хозяйственный» актив в
согласии с достаточно жестко соблюдаемым «сексистским»
принципом — при всем показном признании равных прав
(и отнюдь не показном признании равных обязанностей)
женщины. Причем чем выше по лестнице власти, тем
строже этот принцип соблюдался. Центральные же властные
структуры были фактически замкнутым мужским клубом.
Женщина — член Политбюро ЦК КПСС была
(теоретически) возможна разве что в качестве очередного
«показательного» пропагандистского трюка — вроде женщины-
космонавта.
Как бы то ни было, факт остается фактом —
«внутренним рабочим языком» партийно-хозяйственного актива
как относительно замкнутой касты, жившей по
собственным законам и правилам, было весьма забавное сочетание
120
«новояза» и мата. А поскольку «руководящие и
направляющие» функции аппаратной номенклатуры в той или иной
степени касались всех областей общественной и личной
жизни каждого советского человека, воздействие
соответствующих речевых практик никак нельзя сбрасывать со
счетов. То же касается и Красной Армии, офицерский
состав которой комплектовался по большей части никак не
из выпускников Пажеского корпуса.
В-третьих, не стоит забывать и о весьма существенном,
беспрецедентном в отечественной истории воздействии
криминальной среды на образ жизни и мышления
основной части населения. Печально знаменитые советские
лагеря сыграли в этом отношении весьма значимую
«культурную роль». Задуманные как горнило по
«перевоспитанию» чуждых элементов, они действительно выполнили —
в этом отношении — свою задачу. Миллионы людей,
прошедших через опыт зоны, возвращались к «нормальной»
жизни «обогащенные» навыками бытового и речевого
поведения, свойственными стержневому для зоны
контингенту — то есть блатным. Имеет смысл вспомнить также и
о резком идеологическом размежевании в отношении
советской пенитенциарной системы соответственно к
уголовным и к политическим заключенным. Уголовники
рассматривались как «оступившиеся», как классово близкий
элемент, подпавший под влияние чуждой в
идеологическом отношении преступной среды — то есть как
законный объект именно перевоспитания и как
потенциальный союзник в перевоспитании политических
заключенных, чуждых по всем показателям. Страшная по своим
последствиям амнистия 1953 года — лучший пример такого
«классового подхода». Следствием подобного положения
вещей было массированное вхождение блатного жаргона,
элементов «приблатненного» поведения и блатной
эстетики в жизнь во всех остальных отношениях
«нормального» законопослушного населения — и особенно, что само
по себе весьма показательно, в жизнь городских и
пригородных «дворовых» подростковых культур.
Интересна также и ситуация с постепенным «снятием
запрета» на мат для отдельных женских социальных страт.
Воздействие лагерных и «аппаратных» поведенческих
практик здесь, конечно, также сыграло свою роль. Однако
121
гораздо более значимым, на мой взгляд, было
«сцепленное» влияние двух факторов — тотальных методов ведения
Второй мировой войны и сознательной номенклатурной
установки на «замену» мужского труда женским (и
детским!). Относительно массовый «приход» женщин в
армейскую среду, причем в ситуации многолетних и
непрерывных боевых действий, не мог, естественно, не
сказаться на поведенческих практиках «фронтовичек». Следует,
однако, заметить, что и в тылу существовали такие
специфические зоны, в которых строгий табуистический запрет
на женский мат постепенно сдавал свои позиции.
Женщины, которым приходилось осваивать традиционно
мужские профессии, в ряде случаев были фактически
вынуждены переходить на мат как на «профессиональный
жаргон». В первую очередь это касается таких исключительно
мужских до войны профессий, как пастух или скотник.
Парадокс «вхождения в профессию», по свидетельству
компетентных информантов, заключался в том, что скотина,
прекрасно понимавшая в пределах деревни
«человеческий» язык, неожиданно резко переставала его понимать,
едва выйдя за околицу — то есть попав в ту самую зону
исключительно мужского говорения, где мужчины-пастухи
общались с ней на «территориально-магически
оправданном» мужском коде. Пастухов, как наименее «полезных в
хозяйстве» колхозников, в армию, естественно, забирали
в первую очередь, и эта профессия одна из первых стала
на время войны по преимуществу женской (и детской). И
без того уже расшатанная и пролетаризированная
крестьянская община заговорила после войны на мате
практически поголовно — каковая ситуация свойственна для
русской деревни и по сию пору. Сохранявшееся на латентном
уровне магически-территориальное деление на
«человеческую», сакрализованную территорию, центром которой
в пределах деревни была церковь, а в пределах избы —
красный угол, и территорию маргинальную, во всех смыслах
«нечистую», четко выявленную как таковая в деревенском
фольклоре, отныне исчезло. «Матерная лая» при иконах
(и — иногда — при детях) до сих пор продолжает по
традиции восприниматься как недолжная, однако с утратой
основных пространственно-магических ориентиров
автоматическое, существующее в традиционных культурах на
122
уровне условного рефлекса соблюдение табу неизбежно
«вымывается», переходит в область весьма условных
моральных норм, которые, в свою очередь, от поколения к
поколению становятся все менее и менее значимыми.
9. Социальные практики «перекодирования»
Взаимоотношения
между официозными и маргинальными кодами
в системе советского общества
Впрочем, отношения между двумя доминирующими
кодами — матом и «новоязом» отнюдь не являлись
безоблачными. Эпохе тотального «революционного» разрушения
структур «старого мира» вполне логично55 пришло на
смену строительство совершенно классицистской по сути
идеологической системы со всеми свойственными
классицизму основополагающими характеристиками — с резким
и ценностно маркированным разграничением центра и
периферии (правильного и неправильного, высокого и
низкого) при откровенной тяге к сакрализации Центра;
с жесткой иерархичностью как основным структурным
принципом (от бюрократических систем до системы
жанров); с риторическим и дидактическим модусами как
господствующими во всех без исключения значимых
дискурсивных практиках, и т. д.
Табуирование мата, как явления во всех смыслах
маргинального, обрело новые и весьма прочные основания
при сохранении общей для всех центростремительных
формаций культурной схеме строгой поляризации: то
есть противопоставленности официозной культуры
культуре маргинальной, низовой, и — отчасти — культуре
профессиональной. При этом в официозной советской
культуре обсценное говорение было строжайше табуировано
(речь не идет о мате как о «внутреннем» — entre nous —
стайном партийном коде) и функционально заменено
«новоязом», в маргинальной же культуре «новояз» был
если и не табуирован56, то подвергался постоянному
снижению и осмеянию, или, как сказал бы М.М. Бахтин, —
« карнавал изации».
123
Следует, однако, заметить, что, согласно все той же
общей для всех жестко поляризованных культур схеме, «кар-
навализация» официозного кода означает отнюдь не его
отрицание, а, напротив, — его утверждение от противного.
Карнавальное «осмеяние» церковного ритуала и
определенных социальных поведенческих форм в средние века
творилось в пределах экстерриториального праздничного
пространства теми же самыми людьми, которые в
обыденной жизни были носителями этих поведенческих форм и
добросовестными участниками церковных ритуалов.
«Карнавал изация» христианской догматики процветала в
стенах духовных учебных заведений, и сами рамки подобного
«карнавала» были жестко регламентированы — то есть
фактически «вписаны в учебный и воспитательный процесс».
Условно говоря, зона маргинального и зона
«официозного» кодов относятся друг к другу как негатив к позитиву
при сущностном структурном сходстве. Запретительные
меры, направленные против «неофициальной» культуры,
носят, по большому счету, характер «игры по правилам» —
какое бы драматическое влияние ни оказывало
исполнение этих мер на судьбы конкретных людей.
К оппозиции «новояза» и мата как стержневых
«структурно поляризованных» кодов «официозной» и
«маргинальной» советских культур это относится в полной мере.
«Перекодировка» официозной культуры стала
излюбленным — и едва ли не единственным — источником
советской маргинальной карнавальности.
Сам этот процесс в большинстве случаев строился по
нескольким весьма несложным схемам: 1) стандартное
кодирование официозного языка путем обычной кодовой
интерполяции (основной носитель — культура
обыденного матерного говорения: ...самогоЖискара, блядь, д'Эстена...
(С. Довлатов); ср. из устных высказываний: человеко-блядь-
образная обезьяна', этотмикро-блядь-ебаный^калькулятор); 2)
разрушение либо «вымывание» официозного кода в составе
конкретного высказывания и его замена маргинальным
кодом (либо очевидной для коммуниканта отсылкой на
него) — с радикальной модификацией смысла, но без
видимого изменения самой структуры высказывания
(распространенный жанр бытовой пародии на всем известные и
ассоциирующиеся с официозной культурой песни, афо-
124
ризмы и т. д.; е. g. Ты только не загнись на полдороге, /
Товарищ пенис...); 3) непрямое перекодирование, то есть
использование элементов официозной кодовой культуры,
узнаваемых как таковые в «демифологизирующем»
маргинально-бытовом контексте (основной носитель — культура
«коллективной памяти»: анекдоты, частушки и т. д.).
Следует особо подчеркнуть, что советская
маргинальная смеховая культура, как в «мягком» («дамском»,
«сценическом», формально нематерном), так и в «жестком
мужском» вариантах была культурой по преимуществу дезинди-
видуализированной — что еще раз подтверждает тезис о ее
базисном сходстве с традиционными жестко
поляризованными культурными схемами. Всякая «шутка» была важна не
сама по себе, но как часть определенной культурной
парадигмы, моментально становилась всеобщим достоянием —
вне зависимости от источника и авторства. Это касается
как принципиально «коллективных» жанров, вроде
анекдота и частушки, так и жанров, в исходном варианте сугубо
авторских, однако «потребляемых» en masse по тем же самым
законам «включенности в общенациональный дискурс»
путем моментального «растаскивания на цитаты». Чисто
советский феномен «общения на анекдотах», где место
светских или кастовых кодов занимает пересказывание
(доведение до сведения, включение в контекст, возобновление:
всё — приметы устной коллективной памяти) есть также
вариант своеобразного кодового говорения, социального
обнюхивания и груминга. Оттого печатавшиеся в
официозной «юмористической» прессе (журнал «Крокодил»)
«импортные» анекдоты были патологически «не смешными».
Они шли «мимо кода». Оттого настолько убогими казались
попытки отечественных официально признанных фолько-
вых групп исполнять частушки «собственного сочинения».
Оттого публикация (не маргинальная, не самиздатовская!)
сборников анекдотов и частушек началась только со
сменой доминирующей культурной парадигмы и с
окончательным разрушением «советского официоза».
Типологически схожа и ситуация с так называемой
«бардовской» традицией, носители которой старательно
демонстрировали собственную «стайность» и «маргиналь-
ность» — впрочем, последнюю гораздо больше
демонстрировали, нежели действительно имели к ней отноше-
125
ниє. Одним из маркеров «интеллигентной
оппозиционности» — помимо чтения самиздатовской печатной
продукции, рассказывания политических анекдотов и
«кухонного диссидентства» — была включенность в эстетику
«городского романса», а проще говоря, романса блатного или
приблатненного. Университетский профессор, знающий
наизусть (и исполняющий на бис!) двадцать шесть
вариантов «Мурки»57, — скорее желанная норма, нежели
патологическое исключение из правил.
«Маргинальная» (с точки зрения официоза)
литературная традиция, в особенности традиция семидесятых —
восьмидесятых годов, так же, как и в начале советского
периода, крайне чутко реагировала на происходящие в
речевой и общекультурной ситуации изменения. Причем
основные направления литературной «перекодировки»
официозного говорения структурно повторяют схемы,
созданные общей устной речевой маргинальной
традицией, — с той существенной поправкой, что в случае с
литературой подобные практики с точки зрения официальных
структур выглядели куда более вызывающими, ибо
покушались на нормативные жанры, жестко вписанные в
доминирующую классицистскую культурную модель,
«высокие», в отличие от негласно приемлемых анекдота,
частушки и т. д.
Сам факт «печатности» мата был уже формой прямого
бунта — и отнюдь не только эстетического. Литература не
могла и не должна была говорить на маргинальном коде,
если она хотела называться литературой (то есть
соответствовать принятой иерархической, риторико-дидактиче-
ской жанровой системе). В задачи цензуры входил
контроль не только за идеологическим содержанием текста, но
и за соблюдением жестко определенных «правил игры» —
стилистических, сюжетных и т. д. Любое отступление от
канона означало «покушение на устои». У этой ситуации была,
однако, и обратная сторона. Достаточно большое
количество литературных текстов, воспринимавшихся читающей
публикой как яркие, революционные, новаторские, были,
по сути, всё теми же «одноходовками», использовавшими
один-два весьма нехитрых формальных приема. Однако
введение общеупотребительных на уровне устной речи
практик «перекодирования» в область «высокой словесности»
126
действительно шокировало или вызывало восторг — что
лишний раз свидетельствует о единосущностности
советской официозной и советской маргинальной культур.
Так, проза В. Сорокина «работает» во многом по одной
и той же (постмодернистской по форме и дидактической
по содержанию) схеме. Демонстрация того или иного
варианта официозного советского дискурса резко переходит в
стилистически конгруэнтный, но абсолютно
«перекодированный» вариант: стилизованное под махровый
деревенский соцреализм клишированное описание июньского
утра — через простую игру слов — в детальное описание
эрегированного мужского члена, и т. п. Впрочем, дающие
обширнейший материал для анализа с точки зрения
маргинального речевого кодирования тексты Юза Алешковского, С. Дов-
латова, Венедикта Ерофеева, И. Яркевича и других — очень
разных по уровню, но равно работавших в «пограничной»
культурно-речевой среде — литераторов, должны стать
предметом отдельной статьи, одной из нескольких,
запланированных в качестве продолжения данной работы.
Современный статус мата, те тектонические по масштабам
сдвиги, которые произошли в культуре и речи
постсоветской России всего за 10—15 лет, и связь этих изменений с
современным литературным процессом (а также с такими
паралитературными сферами, как журналистика, теле- и
радиожурналистика, ораторские речевые практики и т. д.) —
есть тема слишком обширная и насущная для того, чтобы
входить на правах подраздела в финальную часть этого и без
того уже изрядно затянувшегося высказывания.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной
лексики // Избр. труды: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 67-161.
2 Там же. С. 117.
3 Там же. С. 71.
4 Желъвис В.И. Поле брани: Сквернословие как социальная проблема.
М.: Ладомир, 1997. 329 с.
5 О связи между социально-половыми и
территориально-магическими факторами на ранних стадиях становления человеческих культур см.
мою статью: Избыточность: исходный социокультурный смысл
//Культура, власть, идентичность: новые подходы в социальных науках.
Саратов, 1999. С. 229-235.
127
6 ИванчикА.И. Воины-псы: Мужские союзы и скифские вторжения в
Переднюю Азию // Советская этнография. 1988. № 5. С. 40—41.
7 Не стоит, кстати, забывать в данном контексте и о совершенно
особых, магически значимых обстоятельствах основания Рима — о
братоубийстве, о проведении борозды (т. е. фактически — разом — и о
магическом положении границы, и о магическом же обозначении пахоты — ср.
в этой связи традиционную во многих культурах фигуру пахаря-воина) и
т. д. Здесь же имеет смысл напомнить и о различных ритуальных
практиках во время луперкалий.
8 Напомню также и об отряде несовершеннолетних уладских юношей,
державших оборону в то время, пока израненный Кухулин приходил в
себя, и погибших до единого человека на г^якш^Ульстера, не пропустив
врага в родную страну.
9 Отсюда расшифровка загадочной фразы о том, что фению, наряду с
прочими льготами, положено «содержание щенка или кутенка во всяком
(крестьянском. — В.М.) доме с Соу-ина по Бальтинну», т. е. всякий дом
обязан принять и кормить с ноября по май одного фения-«пса». См.: Lady
Gregory. Gods and Fighting Men. Gerrards Cross, Buckinghamshire, 1987. P. 146.
10 ИванчикА.И. Указ. соч. С. 43. Ср.: «Переход мальчиков в категорию
подростков всё же чаще отмечался в отдельных традициях
своеобразными обрядами. <...> Несмотря на позднюю форму этих испытаний, они
явно восходили к каким-то архаическим традициям мужских
организаций, где подростки и молодежь проходили необходимые жизненные и
профессиональные стадии, учились традиционным обрядам и обычаям,
усваивали ус/іовный язык » (Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни
русской общины: Половозрастной аспект традиционной культуры. Л.,
1988. С. 58 (курсив наш. - В.М.)).
11 Вопрос о функциях боевого бешенства и о связи его с «волчьими»
воинскими традициями представляет особый интерес. Напомню о
скандинавских берсерках и о традиции, возводящей имя Одина к оѲг, глаголу,
означавшему священное бешенство. А также о том, что Один
изначально — бог «мертвой охоты», дружины мертвых воинов (смерть в данном
случае вполне может пониматься магически — с этой точки зрения
воины-псы, помещенные в маргинальную хтоническую зону, также мертвы),
неизменными спутниками которого являются два волка, Гэри и Фрэки,
«Алчущий» и «Пожирающий». В эту же строку — боевой амок Кухулина,
при котором он страшным образом искажается и приобретает
невероятные воинские качества, боевое бешенство Ахилла и т. д. Есть еще такое
забавное украинское слово — осаженный, означающее «невменяемый»,
этимологически четко выводящее на смысловое поле искажения,
отступления от всего «нормального», «человеческого».
12 Хочу выразить благодарность Д.В. Михелю за ряд интересных
наблюдений, связанных с этой темой (см. его: Курс лекций по
философской антропологии. Саратов. Авторизованная рукопись). Автор выводит
эти изменения на общую модификацию отношения к человеческому телу
в европейской культуре XVII—XX вв., и отношения к солдату как к
телесной реальности в частности (начиная с невероятно позднего появления
в Европе института полевых госпиталей и военно-медицинской службы
вообще —и т. д.).
128
13 Ср. в Османской империи практику набора янычар как
специфически маргинального рода войск из христианских детей. Иноверцы по
определению суть собаки, дети же их, изъятые в раннем возрасте из
«песьей» среды, обращенные в истинную веру и особым образом
«натасканные», псами быть не перестают, но становятся псами цепными,
готовыми в любую минуту жизнь положить за хозяина. Ср. также сходную
практику последних египетских Айюбидов при создании особой рабской и
инородческой (песьей) гвардии мамелюков, возможно, послужившую
примером для турок-османов.
14 Ср. в этой связи практику выделения в городском пространстве
особых мест для поселения профессиональных «блудниц» и стойкое
нежелание «честных» граждан жить по соседству с кварталами красных
фонарей — далеко не всегда объяснимое господствующими в обществе
строгими нравами. Ср. также и непременный в недавнем прошлом (а пожалуй
что и в близком будущем, если иметь в виду происходящие сейчас в
российском обществе перемены) этап социализации юношей из
«приличных» семей, связанный с устраиваемой кем-либо из старших
родственников-мужчин инициацией в борделе, а также практики предсвадебных
«мальчишников» и т. д.
15 Успенский Б.А. Указ. соч. С. 113—114.
16 О причинах возможного переосмысления в современном мате
глагольной формы ^Гкак формы первого лица см. цитированную работу
Б.А. Успенского.
17 Позволю себе кощунственную в пределах действующей
гуманистической культурной модели мысль. Наиболее радикальный социальный
переворот, с которого, собственно, и началось то, что мы теперь
называем «историей человечества», произошел тогда, когда в различных
точках заселенного людьми пространства различные племена и народности
начали переходить от традиционного жречески-мифологического
культурного уклада к эпически-социальному, когда на центральное место в
социуме вместо жреца встал военный вождь и общий тон культуры стал
куда более агрессивным и маскулинно ориентированным, чем раньше. К
этому же периоду относится возникновение совершенно нового способа
организации коллективной памяти, способа, который мы теперь
именуем литературой. Не говоря уже о прямых смысловых и тематических
параллелях между «песьей лаей» и ранней (и не только ранней)
эпической традицией — сам способ организации и функционирования ранних
эпических песенных текстов, не слишком ли он похож на способ
организации и функционирования кодового мужского говорения. Напомню,
что эпические песни были изначально делом сугубо «стайным», они
исполнялись не автором (за отсутствием личностного автора), но
«носителем коллективного знания» и адресовывались не личностному
слушателю, но мужскому собранию, в походе (то есть в маргинальной
территориально-магической зоне) или на празднике (то есть на магически
«выгороженной» территории). Вовсе не пытаясь «приравнять к хренам» всю
литературную традицию, я просто задаюсь вопросом о ее истоках, об
изначальной природе и функциях литературного текста. Отчасти я
попытаюсь прояснить данный вопрос в статье о «Похищении быка из Куальн-
ге», имеющей быть одним из продолжений данной работы.
129
18 Не могу не привести здесь цитаты из неоднократно уже
цитированной работы Б.А. Успенского: «<...> языческим волхвам приписывается, по-
видимому, способность превращать песий лай в человеческую речь <...>.
Наряду со свидетельствами о превращении песьего лая в человеческую
речь, мы встречаем в славянской письменности и свидетельства о
противоположном превращении; так, в Житии св. Вячеслава (по русскому
списку) читаем: «друзіи же изменивше чловьческый нравъ, пескы лающе въ
гласа место"» (С. 114). И — сноску к цитированному тексту со страницы
145: «Отметим в этой связи народные поверья о людях, которые знают
собачий язык». Вопрос об этимологической связи самого слова волхв с
корнем волк должен, на мой взгляд, быть рассмотрен особо. Как и вопрос
о природе обычного для славянских волхвов, кельтских друидов, жрецов
германских, италийских и т. д. языческих культов «пограничного»
способа жизни — имея в виду, что те языческие культы, о которых мы имеем
хоть какие-то свидетельства, относятся уже к откровенно
«маскулинизированной» эпохе, эпохе, когда роль и вес военной аристократии
становились всё более и более значимыми.
19 В этой связи имеет смысл вспомнить о забавном
«интерлингвистическом» феномене — о склонности представителей (мужчин)
многочисленных кавказских и среднеазиатских народов, попавших в силу тех или
иных обстоятельств в русскоговорящую среду, говорить между собой на
своеобразном макароническом языке, где родная речь обильно
пересыпается русским матом, перекодируясь таким образом в принятую на чужой,
инородческой и, чаще всего, иноверческой территории «песью лаю». При
этом собственно тюркские, скажем, кодовые мужские практики не
употребляются как «слишком сильные» — поскольку их табуистический статус
до сих пор достаточно высок и в ряде языков и социальных страт не
позволяет соответствующего кодового говорения на «населенной территории».
Русский же мат воспринимается как общепринятый «советский» код.
20 В чем и заключается главный «наив» во многом наивной, хотя и
прекрасной во всех отношениях — как произведение киноискусства —
гайдаевской комедии «Джентльмены удачи». Подсаженный к реальным
уголовникам, спешно натасканный по словарям «фраер», будь он и в
самом деле как две капли воды похож на настоящего вора в законе,
неминуемо «проколется» если не в первые пять, то в первые десять минут.
21 О связи мата с воровским жаргоном см. ниже.
22 Напомню, что, согласно воровскому закону, вор не имеет права
брать оружия из рук власти — и данный «грех» является одним из самых
страшных нарушений стайного кодекса чести, ибо, с магической точки
зрения, вор тем самым автоматически переходит во вражескую «стаю» —
«причастившись» ее оружия.
23 Кстати, во всех индоевропейских (и опять-таки не только
индоевропейских) языках оба кода — прокреативно и копрологически
ориентированный — непременно сосуществуют, хоть и на разных «правах».
Какой из них станет основой «ключевого» обсценного кода, зависит,
вероятно, от ряда в значительной степени случайностных лингвистических
и экстралингвистических факторов.
24 Ср. принятую в традиционной русской деревенской общине
практику мазать дегтем ворота дома, где живет «опозорившая себя», то есть
130
приобретшая, с точки зрения общины, «сучий» статус девушка.
Немаловажным является, на мой взгляд, и то обстоятельство, что ворота мажут
исключительно ночью, исключительно юноши и исключительно
«стаей». Символико-магический характер данного действа в контексте
предложенной гипотезы, с моей точки зрения, очевиден.
25 The Durrell - Miller Letters 1935 -1980 / Ed. by Jan S. McNiven. L.;
Boston: Faber & Faber, 1988. P. 301 -302. (Перевод мой. - B.M.)
26 Ср. известную греческую (мужскую!) клятву, давшую повод для
самых разных интерпретаций: «Клянусь собакой!» Небезынтересно в этой
связи также и название, а впоследствии и самоназвание маргинального
философского течения — «киническая», т. е., собственно, «собачья»
философия. Пересмотренные в свете предложенной гипотезы основные
положения и поведенческие практики киников могут дать несколько
иную картину их места как в истории философии, так и в системе
современного им греческого общества. Обычай клясться собакой, по
свидетельству Б.А. Успенского, зафиксирован также у венгров и у южных
славян (см.: Успенский Б.А. Указ. соч. С. 116).
27 Произведенный от этого слова термин «лицей», обязанный своими
лежащими на поверхности культурными смыслами тому обстоятельству,
что при афинском Ликее в свое время «прогуливал молодежь»
Аристотель, по иронии судеб, сохранил в спектре своих «реальных» значений и
сугубо «волчьи». Об этом, впрочем, позже, когда речь у нас зайдет о
дворянстве и о соответствующих системах воспитания подрастающего
поколения.
28ЖелъвисВ.И. Указ. соч. С. 240.
29 Есть и еще один сугубо «символический» вариант объяснения. При
том, что уподобление мужчины половому члену носит в обсценных
мужских кодах достаточно распространенный характер (со всем спектром
возможных эмоционально-оценочных оттенков, от русского
уничижительного «Это еще что за хуй ?» до болгарского фамильярно-приятельского
обращения мужчины к мужчине: «Хуйо!» В данном контексте обилие слюны может
означать не идущую изо рта пену, а обилие спермы — со всеми
возможными семантическими отсылками. (Хочу, пользуясь случаем, выразить
благодарность Сергею Труневу, обсуждение с которым «феноменологии
плевка» оказалось весьма плодотворным — надеюсь, взаимно.)
30 Изложенные далее соображения носят конспективный и
проблемный характер. Это — постановка вопроса, а не попытка его сколь-нибудь
окончательного решения. Отсюда неизбежное привлечение, может быть,
слишком обширного и разнопланового материала. Напомню, что меня в
первую очередь интересуют типологические следы «волчьей» магии в
самых разных культурных феноменах, следы, на основании которых
можно сделать вывод о наличии соответствующей, принимающей подчас
самые неожиданные формы, традиции — а не бессмысленные попытки
встроить тот или иной феномен в «единственную» логику увиденного с
«волчьей» точки зрения исторического процесса.
31 Интересно в этом смысле совершенно особое отношение именно
военизированных в той или иной степени сообществ (а наступление эры
металла практически везде совпадает с отказом от традиционной
неолитической земледельчески-собирательской, ориентированной на центр и
131
на магию плодородия модели и с переходом к модели агрессивной,
воинской, ориентированной на жесткую связку центр — периферия и на аго-
нистическую, «героическую» магию, где центральной фигурой
постепенно становится не жрец, а воин) к золоту — как к не тускнеющему
солярному металлу, жестко сцепленному с понятием удачи,
сопутствующего воину «счастья». Золотые украшения имели ценность в
первую очередь благодаря тому, что их постоянное присутствие на теле
сообщало владельцу это качество, столь необходимое воину, а тем более —
военному вождю.
32 Прекрасным примером территориально-магически
ориентированных взаимоотношений между вождем, войском и общиной являются
римские триумфы — с прохождением всего войска мимо своей «головы», с
демонстрацией всей взятой войском добычи, с магической маркировкой
границы между «воинской» и «обыденной» территориями
(триумфальная арка), с ритуальной руганью, наконец — руганью всего
вернувшегося к родным очагам, к родовым «ларам и пенатам» войска (то есть
вооруженных мужчин, «расстающихся» со стаей), направленной на
полководца и резко повышающей его мужской статус. Ни о какой прокреативной
магии речи здесь не может идти по определению. Каждый пес, слагая с
себя «стайные» обязательства и нормы поведения и возвращаясь «на
зимние квартиры», должен «тявкнуть напоследок», отдавая должное стае —
и вожаку, как воплощению стаи. Интересно также, что в ту пору, когда
вся Италия (до Рубикона) уже считалась «своей», через Рубикон нельзя
было переводить именно войско, хотя никто ничего не имел против —
говоря словами Нестора Ивановича Махно — вооруженной личности.
33 За счет «естественной убыли в полевых условиях» — даже в
отсутствие постоянной внешней угрозы. Во-первых, выживают наиболее
жизнеспособные (регуляция генофонда), а во-вторых — один мужчина
вполне в состоянии обеспечить потомством нескольких женщин, в то время
как недостаток женщин при избытке мужчин почти неминуемо привел
бы к росту напряженности внутри общины.
34 Приведенная здесь точка зрения в состоянии, на мой взгляд,
достаточно логично объяснить и еще один феномен, относящийся к общим
особенностям «великого переселения народов», — тот факт, что
разбитое и согнанное со своих земель племя, уходя от вражеского
преследования, зачастую в процессе движения само превращается в грозную боевую
силу, сметающую на своем пути следующее племя — и так далее, в полном
согласии с «эффектом домино». В экстремальных условиях военного
поражения, угрозы полного истребления и «прекращения эффекта»
«родной» прокреативной магии маргинальные воинские элементы (и
«героическая» магия) не могут не приобретать центрального
организующего значения для всего племени, модифицируя и переворачивая в
конечном итоге с ног на голову весь способ его существования — согласно
оказавшейся более действенной и успешной «волчьей» модели врага-
победителя. В итоге разбитые на своей исторической родине гунны
становятся «бичом Божьим» сперва для евроазиатского степного пояса, а
затем для Восточной и Центральной Европы. А разбитые, в свою
очередь, гуннами и покоренные ими остроготы, пожив несколько
поколений под властью гуннов (и научившись воевать в конном строю), отпра-
132
вились в собственный сокрушительный поход, который закончился
созданием готского королевства в Италии. Вытесненные германскими
дружинами с родных земель бритты «прибирают к рукам» родственную
кельтскую Бретань — и так далее.
35 Сошлюсь еще раз на уже неоднократно цитированную статью
А.И. Иванчика «Воины-псы: Мужские союзы и скифские вторжения в
Переднюю Азию» — в отношении сведений о роли именно молодежных
скифских отрядов в разгроме киммерийцев в Малой Азии в VII в. до н. э.
и о сохранении малоазийской (в первую очередь греческой) традицией
памяти о них как о «псах».
36 Ср. с «волнами» греческих (в широком понимании) расселений в
Восточном Средиземноморье. Сперва — «ахейская» волна,
уничтожившая Крит и Трою и потеснившая на малоазийском берегу Эгейского
моря хеттскую «зону национальных интересов»; затем — дорийская,
закрепившая успехи предыдущей; и, наконец, начиная с VIII в. до н. э. —
бурная колонизация. Причем в выведении колоний основную роль играют
именно «младшие братья», чьи шансы на успех в пределах
сложившегося в метрополии сообщества были весьма невелики. Последняя такого
рода волна — походы Александра (периферийность Македонии по
отношению к греческому миру, с моей точки зрения, делает ее претензии на
лидерство в общегреческом походе на Азию магически оправданными),
приведшие к созданию эллинистического мира. Значимость «стайных»
отношений в этом, последнем случае также весьма высока (ср., к
примеру, взаимоотношения между Александром и его гетайрами, присущую
Александру харизму, его нестандартную для греческих военачальников
любовь к коннице — да хоть бы и устроенные им в Сузах массовые
«собачьи свадьбы» и не принятую «на большой земле» практику
многоженства). Резкая смена способа государственного устройства и образа жизни
в эллинистическом мире по сравнению с собственно греческим (и даже
македонским) — лишнее тому подтверждение.
37 Интересную в этом отношении параллель представляет собой
«дружное» принятие монотеистических религий именно
военизированными, маргинализированными до крайней степени обществами. «Стая»
изначально расположена к единобожию — в силу самой своей природы.
Для германцев, для которых бог военной дружины, боевого бешенства
(и «мертвых» воинов) Один/Вотан давно уже оттеснил на задний план
не только традиционные прокреативные божества (Фрейра и прочих
ванов; кстати, сам способ достижения перемирия в противостоянии
между ванами и асами — с обменом заложниками и проч. — также весьма
показателен для взаимоотношений на каких-то, очевидно, довольно
ранних, стадиях между традиционным прокреативным центром и «волчьей»
периферией), но и других асов, принятие строго монотеистической
доктрины было всего лишь следующим шагом, причем — для вождей и
королей — шагом вполне осознанным. Владимир, согласно легенде,
специально пригласил представителей трех монотеистических религий на
публичный диспут и отдал предпочтение христианству исходя из соображений
внутри- и внешнеполитической выгоды. Того же порядка феномен —
парадоксально «гладкое» установление христианства в Ирландии, при
полной (за редкими исключениями) поддержке королей и военной
аристократии и при почти полном отсутствии сопротивления со стороны
133
друидов. Напомню, кстати, что и в Риме основным рассадником
монотеизма всегда была армия — вне зависимости от того, какого рода это был
монотеизм — митраизм, христианство или какая-либо другая
маргинальная «ересь». Христианская (равно как и мусульманская, иудейская или
даосская) мистика никогда не интересовала «вожаков стай». Они решали
вопросы борьбы с остатками традиционного уклада, с влиянием
местного жречества, и любая пришедшая со стороны (то есть всё из того же
«Дикого Поля») жестко структурированная монотеистическая вера была
в этой борьбе их прямым потенциальным союзником. Кстати, само
понятие воинствующей Церкви (будь то крестовые походы или газават) —
именно отсюда, на мой взгляд, и проистекает. Духовные воинские
ордена (псы-рыцари, Domini canes), ведущие священную войну, — всего лишь
частный случай стратегического альянса между «стайной» военной
аристократией и феодализированной монотеистической церковной
иерархией.
38 Ср. в этой связи также соответствующие поведенческие практики
чеченцев, фактически возведенные в период 1993—1999 гг. в ранг
государственной политики Ичкерии (ваххабизм, на мой взгляд, был в данном
случае лишь «идеологической вывеской», базирующейся на куда более
глубоких социально-магистических навыках), — а также ичкерийскую
символику. Тема эта настолько обширна, что также требует
самостоятельного исследования.
39 Именно л о го в о, с присущим этому слову оттенком временности —
ибо искусство управления земельной собственностью в Средневековье
(особенно в раннем) предполагало постоянные разъезды сеньора
вместе со свитой по всем «подведомственным» территориям с
«потреблением на месте» всего, что можно было потребить. Древнерусский термин
«кормление» в этом отношении наиболее точно передает этот способ
администрирования. Границы земельной собственности были, по
сути дела, границами законной пищевой территории собственника и его
«стаи» (см.: БлокМ. Феодальное общество // Блок М. Апология истории.
М., 1986. С. 124—128). Средневековой аристократии (и подражавшим ей
более низким по статусу сословиям) свойственно и неоднократно
отмеченное литературной традицией «волчье» обжорство, умение и желание
наедаться впрок — просто по привычке, даже при отсутствии реального
дефицита пищи.
40 Ср. классические эпизоды воспитания Гаргантюау Рабле, где
пародируются известные современные педагогические схемы, рассчитанные
именно на «басилеопедию».
41 «Так, в частности, русские крестьяне не допускают собаку в избу
<...>. Еще более характерно правило, предписывающее разломать печь,
если в ней умрет пес или ощенится сука <...>; печь при этом занимает
особое место в славянских верованиях» (Успенский Б. А. Указ. соч. С. 120).
42 Лихачев Д. С. Черты первобытного примитивизма в воровской
речи // Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона. М., 1992.
43 Мат является непременным составным элементом отечественного
блатного арго, однако эта языковая ситуация «не имеет обратного хода».
Все, говорящие на «блатной музыке», говорят на мате, но не все
говорящие на мате «ботают по фене».
134
44 Новая разновидность «волчьей сезонности» — которая также будет
«переварена» буржуа и примет к концу XIX в. вид столь милой сердцу
каждого россиянина «дачной» культуры, которая всякому мещанину может
обеспечить «дворянский» образ жизни: сезон — в городе, на лето — за
город. Конфликт чеховского «Вишневого сада» (с «мужиком» Лопахиным
в качестве основного «убийцы» старой дворянской культуры)
действительно попал в одну из болевых точек переживающего на рубеже веков
мощнейший социальный слом российского общества. Противоположная
по знаку и по авторской оценке, но типологически конгруэнтная
ситуация представлена во взаимоотношениях Геслинга и фон Вулкова в
«Верноподданном» Г. Манна. Здесь речь идет именно о фарсовых по сути
попытках растущей и «внутренне ущербной» буржуазии встроиться в
чужую, шокирующую «нежную бюргерскую душу», но воспринимаемую как
социально престижную аристократическую систему существования.
45 Еще одно интересное исключение, подтверждающее общую
тенденцию, — строжайший запрет на обсценные формы поведения (в том числе
и речевого) в среде кадровых офицеров немецкой военно-медицинской
службы — то есть одного из тех немногих кадровых армейских
подразделений, где подавляющее большинство составляли выходцы не из
потомственных военно-аристократических (юнкерских) династий, а из
бюргерской среды (или, как бы это прозвучало в данном контексте по-русски, из
интеллигенции). Напомню, что сама военно-медицинская служба в
европейских армиях — образование относительно недавнее и
приблизительно совпадающее по «дате рождения» с началом «буржуазной эпохи».
Интересный «антропологический» материал в этой связи можно
почерпнуть из автобиографической прозы Готфрида Бенна, опубликованной
по-русски в отрывках в журнале «Иностранная литература» (2000. № 2).
46 Современные живым носителям данных речевых практик
отечественные исследователи были во многом ограничены как «словарными»
методами регистрации феномена, так и—чаще всего—строжайшими
моральными табу, позволявшими разве что эвфемистически описывать реальные
речевые ситуации. Редкие исключения — вроде афанасьевских «Заветных
сказок», впервые вышедших в России уже в наше время, — лишь подтверждают
общее правило. Даже статьи, специально посвященные речи уголовников,
вроде уже упоминавшейся работы Д.С. Лихачева, старательно обходят эту
проблему стороной, фактически лишая воровскую речь ее естественной
матерной основы и тем искажая предмет исследования (ср.: «К сожалению,
грубый цинизм многих выражений этого рода лишает нас возможности
привести более убедительные примеры» (Лихачев Д.С. Указ. соч. С. 366)).
47 Этот процесс в более или менее общегосударственных масштабах
начинается с тридцатых годов XIX в.
48 При «старых» мануфактурах (Урал, Тульско-Каширский и
Олонецкий регионы и т. д.), где традиционно использовался подневольный труд,
также существовали весьма специфические «слободки», нравы в которых
существенно отличались от «деревенских», общинных — как и (в
меньшей степени) нравы в деревнях, живших за счет надомного
ремесленного труда, ориентированного на вотчинные и рассеянные мануфактуры.
Здесь нет особого смысла сколь-нибудь подробно останавливаться на
характеристике всех возможных переходных вариантов от «массовой»
135
традиционной деревенской общины к разного рода «маргинализирован-
ным» формам. Важно главным образом то обстоятельство, что такие
переходные формы существовали и что мера убывания в них
«общинного» элемента была прямо пропорциональна мере нарастания элемента
«собачьего».
49 В этом отношении большевики, как это ни парадоксально,
продолжили («от противного», пролетаризация вместо капитализации) начатое
Столыпиным старательное и сознательное «размывание» общины —
закончив полным ее «нереформатированием» во время тотальной
коллективизации сельского хозяйства в 1927—1933 гг. Пролетаризация деревни
привела к естественной смерти всех общинных институтов, в корне
изменив социокультурную ситуацию на селе. Формально «общинность»
была сохранена (колхоз в противоположность совхозу), на что,
очевидно, и делалась ставка. Реально же система государственно-колхозной
собственности дала ощущение «ничьей» собственности — колоссального
«Дикого Поля», которое за несколько поколений превратило бывших
общинников в деградировавший и спившийся сельский пролетариат. А
если учесть то обстоятельство, что вся мужская часть населения
проходила теперь обязательный «волчий» опыт всеобщей воинской
повинности, а значительная часть как мужского, так и женского населения — еще
более «волчий» опыт депортаций и лагерей, — столь быстрое
разрушение колоссально устойчивой системы, с которой столыпинские
реформы так ничего и не смогли поделать, станет логичным и понятным.
Параллельно шел совершенно естественный процесс «откачки» наиболее
активной и мобильной (и агрессивной) части деревенского населения в
быстро растущие города — где оно попадало в заданную ситуацию
«культурных лимитчиков», со всеми вытекающими отсюда последствиями.
50 Тем более что значительная часть как интеллигенции, так и других
«урбанных» социальных страт сама пошла на сотрудничество с новой
властью — и до времени была записана ею в «попутчики». К середине
тридцатых новая власть окрепла настолько, что дело дошло и до
попутчиков, однако поначалу многие из них совершенно искренне
«перестраивались» сами, а отдельные индивиды и группы не только поспевали за
паровозом, но и умудрялись «обгонять на поворотах», или, как выразился
еще при советской власти один из моих знакомых, «колебаться вместе с
генеральной линией партии, но с гораздо большей амплитудой». Сами
колебания генеральной линии, которые внешнему наблюдателю могли
показаться просто судорожными метаниями из стороны в сторону по
воле исключительно случайных, ситуативных и субъективных факторов,
были важны как принцип — с точки зрения ликвидации «негибких»
индивидов и структур и скорейшего создания пространства «всеобщей и
полной проницаемости».
51 Платонов А. Повести и рассказы (1928-1934 годы). М., 1988. С. 37.
52 Ср. с мифологизированной восторженными потомками
свойственной фельдмаршалу А. Суворову манерой «воспитательного говорения» с
солдатами. «Сколько от земли до луны? — Два суворовских перехода!» Не
являлось ли главной причиной небывалой популярности Суворова в
войсках и его непревзойденного умения «вдохновить» вверенные ему
подразделения на самые отчаянные (и успешные!) тактические авантюры то
136
обстоятельство, что он сумел выстроить доступную вчерашним рекрутам
воинскую мифологию — через создание соответствующего разговорного
кода?
53 Ср.: «Как волка ни корми...»
54 А отчасти даже и прямо криминализированной — и в силу все еще
живой народовольческо-эсеровской традиции терактов и «эксов», и в
силу неизбежного и логичного для открыто и сознательно
антиобщественной структуры «соскальзывания в криминал». Прошлое Иосифа
Джугашвили, будущего главного архитектора «социалистического
лагеря», — лучшее тому подтверждение.
55 Ср. опыт Великой французской революции. В отечественной
практике, однако, известная еще якобинцам дихотомия открытой,
«всемирной», интернационалистской модели и модели замкнутой, национально-
имперской, была решена в пользу последнего варианта гораздо более
жестко и «идеологически оправданно». Вряд ли стоит пространно
вдаваться в причины тяготения первого, «романтически-анархистского»
этапа обеих революций к первому варианту, как и в причины
последующего типологически неизбежного «скатывания к империи», при
параллельном восстановлении большинства тех самых структур ancien regime,
которые подвергались первоочередному осуждению и разрушению (по-
лицейско-карательные учреждения, тайный сыск, бюрократический
чиновничий аппарат, подконтрольная власти церковная иерархия и т. д.).
В нашем случае важен сам принцип постепенного «врастания»
пришедших к власти и грызущихся между собой за раздел «добычи»
маргинальных, «волчьих» клик в своеобразно понятую государственность,
сочетающую в себе явственные признаки «Дикого Поля» с
гипертрофированной (неофитской!) тягой к сакрализации Центра (и — вождя!) и к
выстраиванию жестких центростремительных структур. Полученные «на
выходе» тоталитарно ориентированные общества (Первая Империя,
СССР, КНР, КНДР, Куба, Италия Муссолини, гитлеровская Германия и
т. д.) ко всяческой маргинальности относятся, мягко говоря, крайне
неодобрительно. И — еще одна парадоксальная связка. «Волчья»
стайность входит здесь в непременное сочетание с «высокой моралью и
нравственностью», которые поддерживаются всеми доступными
административными и идеологическими средствами — от организованного
«общественного осуждения» до мер уголовно-карательных.
56 Единственным ярким исключением является, пожалуй, именно
блатная среда, где были достаточно строго табуированы даже такие
внешние атрибуты кода, как, скажем, красный цвет.
57 Вплоть до головокружительного — по неожиданности
«перекодировки» — англоязычного перевода: «How'd'ye do my Mourka, / How'd'ye
do my darling, / How'd'ye do my Mourka and good-bye...»
A.A. Панченко
МАТЕРНАЯ БРАНЬ
В РЕЛИГИОЗНОМ КОНТЕКСТЕ
Один из самых сложных вопросов в истории русского
мата касается его соотношения с различными религиозно-
мифологическими контекстами — как дохристианскими,
так и православными1. В своей фундаментальной работе о
мифологических аспектах матерной брани Б.А. Успенский
указывает на «отчетливо выраженную культовую функцию»
последней в славянском язычестве. По мнению
исследователя, ритуальные функции матерных выражений могут
быть гипотетически разделены на несколько культурно-
хронологических пластов: «На глубинном (исходном)
уровне матерное выражение соотнесено, по-видимому, с
мифом о сакральном браке Неба и Земли — браке,
результатом которого является оплодотворение Земли. На этом
уровне в качестве субъекта действия в матерном
выражении должен пониматься Бог Неба, или Громовержец, а в
качестве объекта — Мать-Земля. Отсюда объясняется связь
матерной брани с идеей оплодотворения... На этом уровне
матерное выражение имеет сакральный характер, но не
имеет характера кощунственного. <...> На другом —
относительно более поверхностном — уровне в качестве субъекта
действия в матерном выражении выступает пес, который
вообще понимается как противник Громовержца. <...>
Соответственно, матерная брань приобретает
кощунственный характер. На этом уровне смысл матерного выраже-
1 Обзор материалов и библиографии о ритуально-мифологических
функциях брани (в том числе и матерной) в восточнославянской
культуре см.: Санникова 1995: 250-253. Ср. также: Зеленин 1930: 18-19.
138
ния сводится к идее осквернения земли псом, причем
ответственность за это падает на голову собеседника. <...> На
следующем... уровне в качестве объекта матерного
ругательства мыслится женщина, тогда как пес остается
субъектом действия. На этом уровне происходит переадресация
от матери говорящего к матери собеседника, то есть
матерная брань начинает пониматься как прямое
оскорбление... Наконец, на наиболее поверхностном и профаниче-
ском уровне в качестве субъекта действия понимается сам
говорящий, а в качестве объекта — мать собеседника»1.
Вряд ли стоит оспаривать существование средневековых
представлений об особой магической силе матерного
слова, равно как и особую роль матерных выражений в
языческой культовой практике. В качестве апотропея мат и по
сей день используется в севернорусской деревенской
культуре: одним из средств для избавления от «ходящего»
покойника здесь считается матерная брань, произнесенная
«на горшке», то есть на сиденье крестьянской уборной.
Вместе с тем, объяснительная модель «основного мифа» в
данном случае (впрочем, как и в большинстве других)
сейчас уже не кажется эвристически оправданной. И генезис,
и функциональную специфику «культовых функций»
русского мата предпочтительнее анализировать в рамках
более конкретных культурно-исторических контекстов.
Таких контекстов много, и пока что у нас нет оснований
думать, что их исследование позволит реконструировать
единую и универсальную картину функционирования
матерной брани в религиозно-мифологических традициях
восточных славян. Наоборот, можно предполагать, что
различные социальные условия, многообразные ситуации
взаимодействия общественных слоев и культурных групп
обуславливали разные тенденции в семантизации,
мифологизации и ритуализации русского мата.
Ниже речь пойдет об одном из таких контекстов, а
именно — о восприятии матерной брани в русской
религиозной культуре XVII—XIX веков. Понятно, что в
христианских традициях обсценная лексика и экспрессивная
фразеология обычно наделяются отрицательными
коннотациями. Так обстоит дело и в нашем случае. Вместе с
1 Успенский 1996: 63-64.
139
тем, «негативная мифологизация» мата в русской
религиозной традиции представляется достаточно любопытной и
заслуживающей специального анализа.
Начнем с запрета на матерную брань, составляющего
одну из важных частей этической доктрины
религиозного движения христовщины, известного также как «секта
хлыстов»1. Это — старейшая из так называемых «русских
сект» XVIII—XIX веков. Она появилась на рубеже XVII и
XVIII веков и генетически связана с эсхатологическими
и мистико-экстатическими религиозными движениями
эпохи русского раскола. Некоторые особенности
идеологии и религиозных практик христовщины были
заимствованы у радикальных ответвлений старообрядчества,
другие наследуют более широким культурным традициям
русского крестьянства. Можно сказать, что христовщина
являлась результатом сложных и интенсивных
процессов религиозно-мифологического и обрядового
творчества, разворачивавшихся на границе устной и
письменной, городской и деревенской культур. Поэтому
исследование этого движения (как, впрочем, и позднейших
русских сект) зачастую позволяет выявить скрытые
механизмы массовой религиозной культуры в России XVII —
XIX веков.
Одной из характерных черт христовщины (так же, как
и отделившегося от нее в последней четверти XVIII века
скопчества) является особая ритуальная практика (так
называемое «радение»), подразумевающая исполнение
духовных песнопений, экстатические «хождения»
(пляски) и «пророчества» — автоматическую речь,
произносившуюся сектантами в состоянии транса. Другая
особенность христовщины — почитание сектантских
лидеров «христами», «богородицами» и «святыми». Наконец,
третья характерная черта хлыстовской религиозной
культуры — специфическая аскетика, включавшая отказ от
мясной пищи и алкогольных напитков, а также запреты
на любые формы сексуальных отношений, на
употребление бранных слов и на участие в повседневной
обрядовой жизни крестьянской общины.
1 Подробный анализ происхождения, истории и религиозной
культуры христовщины см. в моей работе: Панченко 2002.
140
Все эти особенности фиксируются уже на ранних
этапах формирования христовщины (конец XVII — первые
десятилетия XVIII века) и имеют вполне зримые основания
в массовой религиозной традиции, предшествовавшей и
современной «первым хлыстам». Для нашей темы, однако,
особый интерес имеет аскетика христовщины,
включавшая запреты на матерную брань и декларировавшаяся
хлыстовскими проповедниками в качестве основной
этической доктрины движения. Типическая формулировка этой
аскетики требовала от «верного» последователя
христовщины «пива и вина не пить и греха тяжкого не творить, з
женами не спать, по скачкам и по игрищам не ходить, ма-
терно не браниться»1. Сходным образом описываются эти
запреты и в хлыстовском духовном стихе (1730-е годы):
Как в указе написано,
Во наказе страшно наказано:
«Не водитеся сестры з братиями,
Вы не пейте пойла пьянова,
Ни вина други не зеленова,
Не становите меда сладкаго,
Не бранитеся словом скверным,
Вы не еш<ь>те яства скоромныя,
Не творите греха тяшкова.
Как не будет за то вам прощения,
Ни грехам вашим отпущения,
Окроме вам муки вечныя,
И тьма вам всем кромешная»2.
Судя по всему, хлыстовский запрет на сексуальные
отношения с женами восходит к «бракоборному учению»
радикального крыла старообрядцев-беспоповцев и связан с
эсхатологическими настроениями и верованиями
русского старообрядчества рубежа XVII и XVIII веков.
Впоследствии эта хлыстовская «сексофобия» станет одним из
стимулов к появлению секты скопцов, сохранивших
основные особенности религиозной практики христовщины,
но добавивших к ним ритуальную ампутацию «срамных»
частей тела. Что же касается запретов на употребление
алкоголя и матерную брань, то на первый взгляд они
достаточно банальны: история древнерусской церковной
Высоцкий 1915: 32.
2 Панченко 2002: 434.
141
литературы знает достаточное число поучений против
пьянства и «матерной лай». Однако именно банальность
этих запретов заставляет задаться вопросом: почему они
были возведены в ранг обязательного аскетического
учения христовщины? Очевидно, что проповедники этого
учения, так же как и их преимущественно крестьянская
аудитория, видели здесь нечто большее, чем заурядные
нормы повседневного поведения православного
христианина. Попробуем выяснить, каким был культурный и
религиозный контекст этих запретов.
Среди русских духовных стихов, записанных в XIX —
начале XX века, особо выделяется группа текстов
назидательного характера. Ее основу составляют четыре стиха:
«Свиток иерусалимский», «Двенадцать пятниц»,
«Василий Кесарийский», «Пятница и трудник». Все они, кроме
последнего, связаны со средневековой апокрифической
письменностью. Для рассматриваемого нами вопроса
особенно важны стихи о Василии Кесарийском и о труд-
нике; Первый из них, как установил A.B. Марков,
восходит к древнерусскому апокрифическому сказанию о
Василии Великом1. Марков, располагавший лишь поздними
списками сказания (XVIII в.), указывал, что оно
цитируется уже в «Поучении св. Панкратия о крещении обеда и
пития» (не позднее XIV в.) и, таким образом, может быть
признано достаточно древним2. Согласно тексту
сказания, однажды Василию Великому, молившемуся пред
образом Богородицы, был глас с осуждением «хмельного
пития». Хотя за тридцать лет Василий всего трижды
вкусил его, хмельной дух, единожды вселившийся в
человека, не выходит из него тридцать лет: «Аще и кто
единожды испиет того хмелнаго пития, то в нем вселится той дух
хмелны, даже до 30 лет не изыдет; и той дух хмелны
отгоняет Духа святаго от человека, аки дым пчелы»3. Далее
Богородица говорит отрекшемуся от пьянства Василию,
что не может терпеть трех грехов: блудного греха,
хмельного дыхания и матерной брани. Здесь в сказание
вставлено осуждение матерной брани, восходящее к другому па-
1 См: Марков 1910.
2 Об этом слове см. также: Подскальски 1996: 408—411.
3 Марков 1910: 321.
142
мятнику церковно-учительной литературы — «Повести св.
отец о пользе душевней всем православным христианом»1
(иногда она приписывается Иоанну Златоусту): «Аще бо
кто избранит, и от того матернаго слова небо восколеб-
лется, и земля потресется, и уста того человека кровию
запекутся. И не подобает тому человеку в тот день ни ясти
и не пити потому же, что и аз им мати всем. Аще бы кто от
рождения своего не избранил матерно, то бы аз умолила
и просила о том многогрешном человеке у Господа Бога
грехом его прощения»2. Затем следует пространное
поучение против пьяниц — уже от лица самого Василия.
Известные мне варианты духовного стиха достаточно
близко воспроизводят содержание сказания. В некоторых
текстах глас от иконы превращается в явление
Богородицы, а сама эта сцена драматизируется. Так, например,
обстоит дело в варианте, записанном в Валдайском уезде
Новгородской губернии3. Василий стоит «на молитвах»
двадцать пять лет. Однажды он пробует «хмельного пития»:
Лежит Василей на землю павше,
Руки и ноги его ошербавше
И голова его расколовше.
«Со престолу» «соходит» Богородица. Она
приказывает Василию восстать и молиться еще пять лет.
В большинстве текстов сохраняется и порицание
матерной брани:
Понапрасну матерным словом сквернитца, бранитца? — Пьяница.
Женщина скверным словом дерзанётся —
Мать-сыра земля потрясётца.
Прасвитая Богородица со пристолым пытранётца,
Уста правыя кровью запекутца4.
Что касается стиха «Пятница и трудник», то он,
по-видимому, не имеет прямого прототипа в средневековой
апокрифической письменности. Об этом, в частности,
говорит близость проповедуемых в нем заповедей к
традиционному «магическому этикету» великорусского кре-
1 См.: Родосский 1893: 425-426; Марков 1914; Успенский 1996: 23-24.
2 Марков 1910: 321.
3 Бессонов 1861-1864/6: 100-102 (№ 573).
4 Киреевский 1983-1986/2: 9 (№ 4).
143
стьянства. Согласно сюжету стиха1, в пустыне «трудится»
«тружданин» («трудничек», «пустынничик» и т. п.), не
владеющий «ни руками, ни ногами». Во сне ему является
Пятница (в одном из вариантов — вместе с Богородицей;
иногда говорится просто о «страшном сне») и велит идти
«на святую на Россию» и поведать православным о
необходимости соблюдения бытовых и нравственных
заповедей. Заповеди эти делятся на несколько групп.
Почти во всех вариантах упоминается необходимость
почитания среды, пятницы и воскресенья, зачастую — в
связи с широко распространенным в славянских и
балканских традициях запретом на женские (домашние)
работы по заповедным дням недели:2
По середам пыли не пылится,
По пятницам золы не золится,
По праздничкам Богу молитесь!3
В значительном количестве вариантов присутствует и
запрет на матерную брань, сформулированный гораздо
более кратко, чем в стихе о Василии Великом. Однако
зачастую он дополняется или заменяется другим запретом,
связанным с областью крестьянских верований. Речь идет
о родительском проклятье:
Чтоб мать детей не проклинала
Чтоб детей жидам не называла:
Что жиды у Христа проклятый4.
Этот запрет очевидным образом корреспондирует с
крестьянскими поверьями о проклятых («проклёнутых»,
«сбранённых» и т. п.) и «подменённых» детях: в
результате родительского проклятья они попадают под власть
потусторонних сил и, как правило, не могут самостоятельно
вернуться в мир живых5. Материнское проклятье
действует и на еще не родившихся детей: в этом случае место
проклятого занимает «обмен» — осиновая чурка,
принимающая образ младенца. В данном случае духовный стих отли-
1 Бессонов 1861-1864/6: 160-174 (№ 592-604); Киреевский 1983-
1986/1: 137-138 (№293).
2 См.: Свешникова, Цивьян 1973; Панченко 1998: 164—166.
* Бессонов 1861-1864/6: 164-165 {№ 595).
4 Там же: 163-164 (№ 594).
5 См.: МРЛРС 1996: 32-38, 123-129; Власова 1999.
144
чается от традиционных верований лишь упоминанием
«проклятых жидов»: в крестьянских мифологических
рассказах XIX—XX веков в качестве проклятья обычно
выступает формула отсыла («иди к черту», «ну тебя к лешему» и
т. п.) или матерная брань.
Помимо запрета на родительское проклятье, с
традиционными верованиями связано встречающееся в
некоторых вариантах стиха перечисление особенно тяжких
грехов. Обычно они излагаются в форме повествования о
грешных душах: одна душа разлучает жену с мужем, другая
«заламывает рожь» и вынимает из хлеба «спорину»,
третья отнимает у коров молоко в «ивановски ночи»1. Все эти
прегрешения представляют собой «джентльменский
набор» деревенского колдуна или колдуньи: рассказы о
порче свадьбы и наведении «остуды» между супругами,
«заломах» и «зажинках» («прожинах» и т. п.), не дающих хлебу
«спориться», а также похищении молока у коров,
совершаемом чудесным помощником колдуна или самим
последним, широко распространены в несказочной
фольклорной прозе северных и центральных регионов России2.
Таким образом, стих о Пятнице и труднике имеет в
своей основе достаточно широкий пласт традиционных
верований и нормативов поведения, распространенных в
среде русского крестьянства. Можно, впрочем, указать на
одно явление, очевидным образом связанное с сюжетом
этого стиха. Речь идет об особом типе крестьянского
визионерства, известном по обширной группе источников
XVI—XVIII веков. Первый из них — сообщение
«Стоглава» о «лживых пророках»:
Да по погостом и по селом ходят лживые пророки — мужики и жон-
ки, и девки, и старыя бабы, наги и босы, и, волосы отрастив и распустя,
трясутся, и убиваются, и сказывают, что им являются святыя Пятница
и Настасия и велят им заповедати християном каноны завечати. Они же
заповедают в среду и в пяток ручнаго дела не делати, и женам не прясти,
и платия не мыти, и камения не разжигати, а иные заповедывают
богомерзкие дела творити, кроме божественных писаний...3
1 Ср. эти и сходные с ними мотивы в стихе о грешной душе из
сборника: Варенцов 1860: 144—148 — здесь перечень грехов существенно
расширен.
2 См.: Максимов 1994: 99-101, 109-112; Власова 1998: 245-251.
3 Стоглав 1863: 138.
145
Несмотря на соборное осуждение, в последующие
полтора столетия подобные «пророки» чувствовали себя
достаточно вольготно. Об этом, в частности, свидетельствует
история Красноборской церкви Нерукотворного Образа,
стоявшей в Комарицком стану Устюжского уезда1. В начале
1620-х годов в «диком» болотистом лесу на берегу Северной
Двины явился чудотворный образ Спаса. В 1628 году здесь
был построен храм, куда стали съезжаться богомольцы,
чаявшие исцеления, а тринадцать лет спустя здесь начались
чудеса, записи о которых составили особую летопись.
Девятого июня 1641 года красноборский Нерукотворный Образ
явился просвирнице Варваре и повелел «чтобы съезжалися
священицы и дияконы со образы на Красной Бор ко
всемилостивому Спасу и веру бы держали велию и молилися
Господу Богу и все бы православные християне съезжалися и
молилися Господу Богу и грехов своих почясту каелись»2.
Через месяц, 9 июля, в храме случилось другое чудо:
крестьянка Акилина исцелилась «ото очныя болезни». Когда она
выходила из церкви, «некая Божия сила» повергла ее на
землю. Очнувшись, Акилина рассказала, что видит три иконы,
стоящие меж церковными дверьми: два образа Богородицы
из близлежащих церквей и красноборский чудотворный
образ, «да стоит жена светлообразная лицем покрывшыся
убрусом». «Светлообразная жена» велела Акилине «сказыва-
ти во вьсем мире», чтобы священники и миряне приходили
на Красный Бор ко всемилостивому Спасу «и молились бы
и милости просили у него, а хмельные бы люди отнюдь в
церковь не ходи<ли> и табака бы отнюдь не пили и матерно
бы отнюдь не бранились и жыли быи по святых отец
правилу». Если же православные не исполнят этих заповедей,
«будет на них... мраз люты и снег и лед и камение горящее... и
будет молние огненое, и лица своего воображеного и
храмов не пощажу и их каминием побью и по иным местом
хлебы и трава озябьнет и скоти ваши с голоду погибнут»3.
В течение летних месяцев 1641 года на Красном Бору
совершилось еще несколько чудесных исцелений от «очныя
болезни» и от «расслабления». Затем в середине августа ис-
1 См.: Никольский 1912; Орлов 1913.
2 Никольский 1912: 97.
3 Там же: 97-98.
146
целенной Фекле Спиридоновой явились «всемилостивый
Спас и Пречистая Богородица Тифиньская с Паче езера» и
также заповедали воздержание от пьянства, «питья табаки»
и матерной брани. Летопись о чудесах от красноборского
образа почти дословно повторяет те же самые заповеди и
эсхатологические угрозы, добавляя к ним цитату из
вышеупомянутого поучения против матерной брани1.
Добавляется также запрет на работу в праздники: «...И християня бы
в праздники Господний никакия работы не <ра>ботали и
трав не косили и хлеба не жали, а буде что и выжнут, и то все
з грезью станет»2. В последующие годы видения Акилины и
Феклы подкреплялись не только «позитивными», но и
«негативными» чудесами. Дьякон Василий Молов, «почавший
питии... проклятую табаку», был поражен слепотой, а
другой любитель табака — крестьянин Трофим — и вовсе был
наказан смертью, причем приходской священник не смел
отпеть его «страха ради Божия и погребе его тако»3.
История красноборских чудес не уникальна. A.C.
Орлов указывает на «Известие о явлении иконы Знамения»,
повествующее о том, как в 1663 году в том же Устюжском
уезде «Божия Матерь, с преподобным Кириллом
Белозерским, явилась жителю Пермогорской волости Ивану
Тимофееву и указала место, где обретут ее икону; при этом
Божия Матерь велела... "поведати всем, да не бранятся
матерны, и табаку да не пиют, и среду и пяток честно да
хранят"»4. В недавней работе A.C. Лаврова
рассматривается история холмогорского крестьянина Архипа Поморце-
ва (1720-е годы), близкая к сюжету стиха о Пятнице и труд-
нике, а также местный культ Параскевы Пиринемской
(XVII — начало XVIII века), имеющий очевидные
параллели с красноборским «молением»5. Таким образом,
очевидно, что традиция подобных видений имела достаточное
распространение на Русском Севере в XVII веке. Сходные
мотивы обнаруживаются и в недавно исследованных Е.К. Ро-
модановской сибирских материалах XVII—XVIII веков6.
1 Там же: 102.
2 Там же.
3 Там же: 104.
4 Орлов 1913: 53.
5 Лавров 1999.
6 Ромодановская 1996.
147
Богородица, святой Николай, «девица в светлой одежде»
и «неведомо какой человек», являвшиеся сибирским
крестьянам, также заповедали им отказаться от матерной
брани, блудного греха, ношения «немецкого платья». Как
правило, эти запреты сопровождались угрозами
эсхатологического характера: «А как де с сего числа православные
крестьяне в вере Христове матерною лаею бранитися не
уймутца, и будет де на них с небес туча огненная, камение
горяще и лед»1. В одном видении особо запрещалось
проклинать домашних животных (в севернорусской традиции
этот мотив корреспондирует с представлениями о
проклятых детях): «Скота бы не проклинали и в лес отпущали бы
благословясь. А ежели де будите впредь бранитца такою
бранью, то весь скот у вас выпленю до копыта»2.
Подобные случаи фиксировались в сибирской традиции и
позднее: так, в начале XX века в д. Яркиной (среднее Приан-
гарье) «рассказывали, что одна баба заблудилась в лесу;
вернувшись домой, несколько дней была "без языка"
(молчала), а потом рассказала однодеревенцам, как в лесу ей
было видение "Пресвятыя Богородицы Девы Марей": она
жаловалась на то, что "бабы и девки шьют себе модны и
красны платья, посты и пятницы не блюдут и в бани по
субботам ходят". С этого времени яркинцы перестали
ходить в баню по субботам, а если случится когда идти, то
стараются это сделать в обеденную пору»3.
И рассмотренные сказания о чудесах, и
вышеописанные духовные стихи используют одну и ту же сюжетную
ситуацию: визионеру является сакральный персонаж (чаще
всего это — Богородица) и приказывает поведать миру о
необходимости соблюдения определенных запретов и
предписаний. Иногда эти заповеди сопровождаются
эсхатологическими угрозами и предсказаниями. Характерно, что
мотив видения, широко представленный в средневековой
литературной традиции, практически отсутствует в
русских духовных стихах — за исключением вышеупомянутых.
В «Голубиной книге» и «Иерусалимском свитке» явление
сакрального персонажа заменяется чудесным падением с
1 Там же: 141.
2 Там же: 142.
3 Макаренко 1993: 34-35.
148
небес священной книги (свитка) космологического или
назидательного содержания.
Вернемся к рассматриваемым запретам на матерную
брань и «хмельное питие». Прежде всего, непонятно, что
понимается под матерной бранью в вышеописанных
поучениях, видениях и духовных стихах: выражения, прямо
или косвенно подразумевающие значение matrem tuamfutuo
(futui), canismatrem tuamsubagitetMT. п., или более широкий
пласт обсценной лексики? В первом случае кощунствен-
ность матерных выражений объясняется тем, что они
оскорбляют Богородицу, Мать-Землю и родную мать
бранящегося. При этом тяжесть оскорбления такова, что оно
влечет за собой эсхатологические последствия. В
духовном стихе «О матерном слове», записанном В.Ф. Ржигой в
1906 году, поется:
Вы, народ Божий-православный,
Мы за матерное слово все пропали,
Мать Пресвятую Богородицу прогневили,
Мать мы сыру землю осквернили;
А сыра земля матушка всколебается,
Завесы церковные разрушаются,
Пройдет к нам река огненная,
Сойдет судия к нам праведная1.
Согласно полесским материалам, собранным и
опубликованным А.Л. Топорковым, «от матерной брани под
ногами горит земля, Богородица плачет, проваливается
под землю, ругань тревожит мать, похороненную в
земле»2. Однако те же материалы крестьянской культуры
XIX — XX веков показывают, что эсхатологическое
значение, как правило, соотносится не с матерной бранью
вообще, а специально с женской бранью3. Показательно, что в
1 Ржига 1907:66 (№ V). Соотнесение запрета матерной брани с
эсхатологическим контекстом находим также в некоторых вариантах
«Иерусалимского свитка» (см.: Бессонов 1861-1864/6:71-72 (№ 564), 96 (№ 571)).
2 Топорков 1984: 226.
3 Так, напр., в одном из стихов о Страшном суде:
Если женский пол единожды в день избранится,
Престол Господень с места подвигаится,
Пресвятая Госпоже Богородице вострепешшитса,
Ждет к себе многогрешных на покаяние.
(Варенцов 1860: 159-160)
149
Полесье мат может восприниматься в качестве
запретного для женщин мужского слова; это объясняется следующим
этиологическим рассказом:
Ишоу Гасподь па дарози, а жэншчына жыта жала. А ён спрасиу: «Па-
кажы мне дарогу». А ана яму рукой махнула: «Мяне врэмэни нема». И ён
казау: «Дак нехай тебе век не буде врэмэни!» А прыйшоу ён к мушчыне —
мушчына кажэ: «Садис, дедок, мы с табой пакурым, пасыдим, я тябе пака-
жу дарогу. Ядри яё налева, што ана тебе адказала. Хади сюды». И Бог ска-
зау: «Ты — ругайса, а жэншчыне ругаца неззя»1.
Таким образом, можно предполагать, что в
восточнославянской народной культуре XIX—XX веков матерная
брань имела более или менее устойчивое тендерное
приурочение2. Это вполне естественно, так как в большинстве
культур коитальные инвективы по-разному
функционируют в женской и мужской среде; зачастую здесь можно
говорить «о мужских инвективах и женском употреблении
определенных инвектив»8. Если такая же ситуация имела
место в русском обиходе XVI—XVII веков, то очевидно,
что история рассматриваемых запретов обладает и
определенной тендерной подоплекой. Возможно, что
специфически женские запреты (на домашнюю работу по
средам и пятницам, матерную брань и т. п.) получили
универсальное значение и были наделены особым религиозным
смыслом в эсхатологической перспективе визионерства и
религиозных движений XVII века.
С другой стороны, вполне вероятно, что под матерной
бранью в эту эпоху могли пониматься и другие обсценные
инвективы. В этом случае следует предполагать, что запрет
прежде всего касался ритуализованных ситуаций
употребления ругательств. Насколько можно судить по фольклор-
но-этнографическим материалам XIX—XX веков4, в
крестьянской традиции такие ситуации были характерны прежде
всего для свадебного ритуала, а также для святочных, масле-
1 Топорков 1984: 231-232 (№ 14).
2 Ср.: «В целом у славян матерная брань оценивается как черта
мужского поведения... У русских матерная брань, в том числе женская, табу-
ирована меньше, чем у украинцев и белорусов» (Санникова 1995: 250).
3Жельвис 1991:278.
4 См. представительную подборку публикаций и исследований в сб.:
РЭФ 1995. См. также: Агапкина 2002: 513-539.
150
ничных и троицко-купальских обрядовых комплексов. По
мнению большинства исследователей, бранные слова здесь,
как правило, связаны с апотропеической и продуцирующей
магией1. Кроме того, «срамные» песни и игры были,
по-видимому, характерны для определенных периодов
деревенских «престольных» праздников, типологически близких
братчине2. Весьма вероятно, что хлыстовская аскетика
была направлена главным образом именно против этих
традиционных типов праздничного поведения. В некоторых
формулировках хлыстовских заповедей ассоциация брани
и праздничного поведения эксплицируется: «вина и пива не
пить, где песни поют, не слушать, где драки случатся, тут не
стоять и не браниться»3. Очевидно, что в том же контексте
следует интерпретировать и порицание пьянства. ТА. Но-
вичкова, посвятившая специальную статью
народно-поэтическим вариациям топоса «чаши с хмельным питием»4,
выделяет здесь два доминантных образа: праздничного пира,
где пьянство обладает ритуальным и магическим
значением, и балладного кабака, ассоциирующегося с горем,
нищетой, беспутным поведением блудного сына и т. п. Широкое
распространение последнего стоит, по-видимому, относить
к XVII веку, о чем свидетельствует не только народная
баллада, но и другие историко-литературные материалы5.
Однако ни в стихе о Василии Великом, ни в сказаниях о
севернорусских визионерах, ни в хлыстовской аскетике тема
кабака никак не отражается. Пьянство здесь связывается не с
мирской идеей Горя-Злочастия, «доводящего» молодца до
«иноческого чина», а с самоосквернением человека
«хмельным духом», отгоняющим Духа Святого, оскорбляющим
Богородицу и Христа. Поскольку речь идет о повседневном
контексте крестьянского обихода, есть все основания
полагать, что подразумевается именно праздничное пьянство,
непосредственно соприкасающееся с
народно-религиозными практиками в контексте традиции престольных и
заветных праздников, «канунов» и т. п.
1 Санникова 1995: 251-252.
2 Бернштам 1988: 227-228.
3 Нечаев 1889: 105.
4 Новичкова 1994.
5 См.: Малышев 1947; ПГЗ 1984.
151
Таким образом, хлыстовская аскетика была
направлена прежде всего против основополагающих аспектов
крестьянской ритуальной традиции. В этом она сродни цер-
ковно-учительной критике, которой неоднократно
подвергались народные обряды. Ограничиваясь XVI—XVII
веками, можно назвать послание игумена Панфила (1505
г.), статьи «Стоглава» о народных обычаях, челобитную
нижегородских священников 1636 года, окружное
послание суздальского архиепископа Серапиона (1642 г.),
царские указы 1647—1648 годов и др. Однако, как правило,
эти поучения продиктованы желанием оградить
«чистоту» христианской веры и прекратить «бесчинства». Так,
во вступлении к упомянутой челобитной нижегородских
священников (ее автором, скорее всего, был Иван
Неронов), обличающей и нерадение священников вкупе с
паствой, и различные народные обряды, и привычку к
матерной брани, читаем: «...За леность и нерадение
поповское от многаго пиянства и безчинства, по Давидову,
государь, слову, погибе благоговейный..., по своей воли без
страха повыкли жити, яко заблуждыпая, не имуще
пастыря»1. Этот пассаж вполне соответствует культурной
программе кружка «ревнителей благочестия»,
балансировавших между религиозным консерватизмом и
просветительскими тенденциями. Сектантская же аскетика, равно как
и подкреплявшие ее простонародные верования, имела
отчетливый эсхатологический подтекст. Для
крестьянина отказ от нормативной практики повседневного
обихода — семейной жизни и семейной же обрядности,
праздничных гуляний, подразумевавших ритуальное пьянство
и сквернословие, и т. п. — мог быть обоснован только
эсхатологическими аргументами. Близость конца света
подразумевала, что обычный, «мирской», порядок вещей не
мог сохраниться, а разрушение этого порядка, в общем-
то, и означало конец света — в смысле гибели
крестьянской культуры как таковой.
Итак, хлыстовское нормирование повседневной жизни
предполагало отказ от одного из важнейших для
деревенской традиции способов контакта с сакральным миром --
праздничной культуры. Вместе с тем, остается неясным,
1 Рождественский 1902: 18—19.
152
почему и в древнерусских поучениях против матерной
брани, и в, вероятно, восходящих к ним духовных стихах
фигурирует именно такая мотивировка запрета:
«матерная лая» одновременно оскорбляет и Богородицу, и мать-
землю, и родную мать бранящегося. Конечно, здесь можно
было бы, вслед за Успенским, говорить о связи матерной
брани с древним культом матери-земли и языческой
символикой оплодотворения. Однако такое объяснение не
кажется вполне убедительным. Дело в том, что широко
распространенные в ученой литературе и публицистике
представления об особом языческом культе матери-земли,
якобы характерном для восточных славян, а также о
специфическом параллелизме матери-земли и Богородицы,
присущем русскому «народному православию»1, на
поверку оказываются научными конструкциями, не вполне
адекватными историко-этнографической реальности.
Формулы типа «мать-земля», «матушка-земля» или «мать-
сыра земля» действительно довольно широко
представлены в разных жанрах русского фольклора. Это, однако, еще
не свидетельствует об их связи с какими бы то ни было
архаичными культами. На мой взгляд, здесь действует
достаточно заурядная метафора плодородия,
ассоциирующегося с материнством во многих земледельческих культурах.
Думается, однако, что именно эта метафорика послужила
отправной точкой для досужих фантазий многих русских
ученых и литераторов — начиная с А.Н. Афанасьева.
Исходя из объяснительных моделей, заимствованных у
немецких ученых-мифологов, Афанасьев пытался свести все
известные ему славянские поверья о земле к якобы некогда
существовавшим языческим сказаниям о браке земли и
неба и о земле как великой матери всего живущего.
«Признавая Небо и Землю супружескою четою, — писал он, —
первобытные племена в дожде, падающем с воздушных
высот на поля и нивы, должны были увидеть мужское
семя, изливаемое небесным богом на свою подругу;
воспринимая это семя, оплодотворяясь им, Земля чреватеет,
порождает из своих недр обильные, роскошные плоды и
1 См.: Смирнов 1913; Самарин 1918; Кисин 1929; Федотов 1991: 65-83;
Федотов 1992; Синявский 1991: 181-192; Успенский 1996: 22-43;
Топорков 1984: 222-233; Толстой 1988; Белова, Виноградов, Топорков 1999.
153
питает всё на ней сущее... <...> При таком воззрении на
дождь... понятно, что в молнии, разящей тучи и чрез то
низводящей на землю земные воды, фантазия
первобытных народов узнавала мужской детородный член... <...>
Весною, когда земля вступает в брачный союз с небом,
поселяне празднуют в ее честь духов день; они не
производят тогда никаких земляных работ, не пашут, не боронят,
не роют землю и даже не втыкают кольев, вследствие
поверья, что в этот день земля — именинница и потому надо
дать ей отдых...»1. Думаю, что процитированный пассаж
говорит сам за себя: автор не пытается исследовать
специфику доступных ему этнографических материалов и
вместо этого подгоняет их к заранее сконструированной
мифологеме соития неба и земли.
Многие позднейшие исследователи также
предполагали, что крестьянские верования и обряды, связанные с
землей, восходят к тем временам, когда последняя «была
возведена на степень божества»2 «народно-языческим
сознанием». Симптоматично, в частности, мнение В.Л. Ко-
маровича, соотносящего древнерусское почитание земли
с малоазийскими и эллинистическими культами:
«Отсутствие... сколько-нибудь выразительных аналогий
древнерусскому почитанию земли у славян западных... не
оставляет уже сомнения в том, что культ этот надо возводить не
к просто славянской общности, а к пережиткам местной,
издавна гибридизированной причерноморской культуры
и связывать с тем длительным взаимопроникновением ма-
лоазийских культов богини-матери и собственно
эллинистического почитания земли...»3. В этом суждении Кома-
рович допускает одну неточность и одно противоречие.
Во-первых, у западных славян всё же есть аналогии
восточнославянскому почитанию земли, пусть даже и не столь
1 Афанасьев 1983: 59.
2 Максимов 1994: 209. Иного мнения держался Н.М. Гальковский,
считавший, что «свидетельства, представляющие землю человекообразным
существом, относятся к позднейшему времени, к христианской эпохе», а
«в древнейшую пору земля в сознании язычника-славянина была
праматерью всего живущего, но, кажется, не почиталась за особое божество.
<...> Наш предок... почитал воду, деревья и камни; но не чтил самую
землю» (Гальковский 2000: 56—57).
3 Комарович 1960: 99.
154
выразительные1. Во-вторых, крайне сомнительной
выглядит попытка возвести какие бы то ни было формы
восточнославянского язычества к причерноморской культуре
эллинистической или римской эпохи. Гораздо логичнее
предположить, что древнерусская традиция унаследовала
пережитки греческих и малоазийских культов через
посредство греческого же христианства2. В мои задачи не
входит специальный разбор этого вопроса, укажу лишь,
что мотив плача земли заимствуется русскими духовными
стихами из апокрифического «Видения апостола Павла»,
а образ земли-матери известен и в святоотеческой
традиции3. Возможно, что более тщательное исследование
позволило бы яснее представить роль восточнохристиан-
ских верований в сложении древнерусского образа
матери-земли.
Вместе с тем, ряд исследователей видит в
восточнославянском паралеллизме Богородицы и матери-земли
свидетельство особого «софийного» характера русской
религиозности. Эта идея, подробно обоснованная Д. Самариным и
Г.П. Федотовым и связанная, прежде всего, с космологией и
теософией B.C. Соловьева, С.Н. Булгакова, H.A. Бердяева и
отца Павла Флоренского, предполагает особое народное
почитание материнского начала, неразрывно
объединяющего природный и божественный мир и хранящего
абсолютный нравственный («родовой») закон: «В добре
своем, как и в красоте своей, мать-земля не выпускает
человека из своей священной власти, — пишет Г.П. Федотов. — В
кругу небесных сил — Богородица, в кругу природного
мира — земля, в родовой социальной жизни — мать
являются, на разных ступенях космической божественной
иерархии, носителями одного материнского начала. <...> Певец
не доходит до отождествления Богородицы с матерью-
землей и с кровной матерью человека. Но он
недвусмысленно указывает на их сродство...»4. Более радикально
подошел к проблеме Д. Самарин, развивавший мнение
Бердяева о русской религиозности как религии Богородицы.
1 Белова, Виноградова, Топорков 1999: 315—321.
2 Ср.: Толстой 1995: 56-58.
3 Смирнов 1913: 266.
4 Федотов 1992: 81.
155
Согласно Самарину, в русском православии Богородица
как бы «заслоняет» собой Христа, становясь
единственной помощницей и покровительницей человечества и
преодолевая новозаветное безразличие в отношении
животного и растительного мира: «...Уклон от религии Сына
к религии Богородицы означает преодоление
христианского антропоцентризма и дуализма плоти и духа,
означает возобновление ветхозаветного монизма, ветхозаветной
плотскости Бога и признание всей твари участницей
Божественного Откровения. <...> Русская Богородица
значительно более похожа на «матушку <—> сырую земельку»,
которая всех нас любит, поит и кормит (Богородица как
Мировая Душа, София), чем на историческую Деву
Марию. Она-то, «Сострадательнейшая Матушка наша», и
была причиною отказа от одностороннего христианского
отрицания язычества, виновницей примирения древнего
язычества и христианства»1.
Вероятно, точка зрения Самарина имеет свои сильные
стороны. Однако нельзя не отметить, что и Самарин, и
Федотов исходят не столько из доступных им фольклорно-
этнографических, литургических и иконографических
источников, сколько из заранее сконструированной
теософской доктрины «вечной женственности». Такой
обобщающий подход затемняет одно важное обстоятельство:
существующие данные (материалы об аграрных обрядах и
поверьях, связанных с землей, о «клятве землей»,
«исповеди земле» и т. п.) не дают оснований для реконструкции
сколько-нибудь единого и целостного народного культа
земли у восточных славян. По-видимому, сама ассоциация
Богородицы и матери-земли была актуальна только в ряде
ограниченных контекстов, соотносимых, в частности, с
народной эсхатологией. Прежде всего, это —
рассматриваемые представления о матерной брани, которые, как мы
знаем, имели особую важность для идеологии ранней хри-
стовщины. Столь же устойчивой оказывается связь
образов Богородицы и земли в некоторых духовных стихах о
Страшном суде (тип Л по П.А. Бессонову):
Пречудная Царица Богородица!
Услыши молитвы грешных раб своих,
1 Самарин 1918: 24-25.
156
Призри наши слёзы горючия,
Не лиши нас Царства Небесного,
Избави нас от муки превечной!
Земля-мать сырая!
Всем, земля, ты нам отец и мать.
Гробы, колоды дубовыя!
То нам, грешным, дома вековечные.
Черви вы, черви неусыпляющие!
То всякому человеку встреча первая1.
В другом стихе тема заступничества Богородицы прямо
ассоциируется с поверьями о матерной брани:
Матушка Владычица просит:
«О Сыне мой, Сыне возлюбленный!
Прости эти души грешныя,
Кои сроду матерным словом не бранилися!»2
Наконец, в стихе, где Богородица единолично
совершает Страшный суд, «матушка-земля» служит средством
для наказания грешных душ:
Прогоняю Я вас, проклятых,
За три горы за Сионския:
Там огни горят негасимые;
Пропущу Я вас сквозь матушки <—> сырой земли,
Засыплю Я вас матушкой-землей,
Закладу Я вас камнями горючими,
Завалю Я вас плитами железными,
Чтобы крику и зыку от вас не слышати!3
Таким образом, ассоциация Богородицы и
матери-земли в русской религиозной традиции сама по себе не
подразумевает связи с какими бы то ни было языческими
культами. Думаю, что так же обстоит дело и с рассматриваемым
текстом о матерной брани. Хотя происхождение этого
поучения остается мало исследованным, можно
предполагать, что его анонимный составитель руководствовался
вполне заурядной логикой, исходящей из
общехристианских, а не специфически русских представлений.
Матерная брань по определению направлена против
матери/матерей, и, следовательно, бранящийся оскорбляет не
только мать адресата инвективы, но и свою собственную. Кро-
1 Бессонов 1861-1864/5: 145-146 (№ 482); ср.: Там же: № 480,484.
2 Там же: 135-136 (№ 479).
s Там же: 161 (№486).
157
ме того, он оскорбляет Богородицу, поскольку она — мать
Христа, Спасителя человечества, и, таким образом, — мать
всех людей. Что же касается земли, то она также мать
человечества, но на несколько иных — ветхозаветных —
основаниях: ведь согласно Книге Бытия (2: 7), Бог создал
первого человека из «праха земного». Поэтому соответствующая
инвектива имеет отношение к и земле как праматери всех
живущих. Для построения подобного силлогизма не
требуется ни «язычества», ни особой «софийности».
Итак, даже поверхностный анализ рецепции матерной
брани в русской религиозной культуре показывает, что
эсхатологические представления, связанные с матом,
возникают не в связи с дохристианской мифологией, но в
контексте взаимодействия различных дискурсов, по-разному
воспринимающих и оценивающих мифологические
коннотации матерных выражений. В нашем случае это
крестьянская праздничная культура (где матерная брань
маркирует ситуации карнавального анти-поведения и
ассоциируется с брачно-эротической символикой) и церковно-
учительная риторика (порицающая мат и пьянство как
формы самоосквернения, оскорбляющие Богородицу и
Святого Духа). Именно столкновение этих гетерогенных
дискурсов рождает новые и специфические формы
негативной мифологизации мата: от эсхатологического
визионерства до хлыстовской аскетики, первоначально
также наделявшейся эсхатологическими смыслами.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Агапкина 2002 — Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы
славянского народного календаря: Весенне-летний цикл. М., 2002.
Афанасьев 1983 — Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избранные статьи. М.,
1983.
Белова, Виноградова, Топорков 1999 — Белова О.В., Виноградова Л. Н.,
Топорков А.Л. Земля // Славянские древности: Этнолингвистический
словарь под ред. Н.И. Толстого М., 1999. Т. 2. С. 315-321.
Бернштам 1988 — Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни
русской общины XIX — начала XX в. Л., 1988.
Бессонов 1861—1864 — Бессонов П. А. Калеки перехожие: Сборник
стихов и исследование. М., 1861—1864. Вып. I—VI.
Варенцов 1860 — Варенцов В. Сборник русских духовных стихов.
СПб., 1860.
158
Власова 1998 — Власова М.Н. Русские суеверия: Энциклопедический
словарь. СПб., 1998.
Власова 1999 — Власова М.Н. «О святках молодые люди играют
игрища...»: (Сюжет о проклятой-невесте в записи A.C. Пушкина и в
современных интерпретациях) // Мифология и повседневность (Вып. 2):
Материалы научной конференции 24—26 февраля 1999 года / Сост. и ред.
К.А. Богданов, A.A. Панченко. СПб., 1999. С. 154-170.
Высоцкий 1915 — Высоцкий Н.Г. Первый скопческий процесс. М., 1915.
Гальковский 2000 — Гальковский НМ. Борьба христианства с
остатками язычества в древней Руси: В 2 т. (1 кн.). М., 2000. Репринтное издание.
Жельвис 1991 — Жельвис В. И. Инвектива: мужское и женское
предпочтения // Этнические стереотипы мужского и женского поведения /
Отв. ред. А.К. Байбурин, И.С. Кон. СПб., 1991. С. 266-284.
Зеленин 1930 — Зеленин Д.К. Табу слов у народов восточной Европы
и северной Азии. II. Запреты в домашней жизни // Сборник МАЭ. Л.,
1930. Т. IX. С. 1-166.
Киреевский 1983—1986 — Собрание народных песен П.В.
Киреевского. Записи П.И. Якушкина: В 2 т. Т. 1 / Подг. текстов, вступ, ст. и комм.
З.И. Власовой. Л., 1983; Т. 2 / Подг. текстов, предисл. и комм. З.И.
Власовой; статья и муз. прил. М.А. Лобанова. Л., 1986.
Кисин 1929 — Кисин Б. Богородица в русской литературе: Опыт
социологического анализа. М., 1929.
Комарович 1960 — Комарович В.Л. Культ рода и земли в княжеской
среде ХІ-ХІІІ вв. // ТОДРЛ. М.; Л., 1960. Т. 16. С. 84-104.
Лавров 1999 — Лавров A.C. Параскева Пятница и крестьянин Архип
Поморцев // Мифология и повседневность. (Вып. 2): Материалы
научной конференции 24—26 февраля 1999 года / Сост. и ред. К.А. Богданов,
A.A. Панченко. СПб., 1999. С. 235-243.
Макаренко 1993 — Макаренко A.A. Сибирский народный календарь.
Новосибирск, 1993.
Максимов 1994 — Максимов СВ. Нечистая, неведомая и крестная сила.
СПб., 1994.
Малышев 1947 — Малышев В.И. Стихотворная параллель к «Повести
о Горе и Злочастии»: (Стих «покаянны» о пьянстве) // ТОДРЛ. М.; Л.,
1947. Вып. 5. С. 142-148.
Марков 1910 — Марков A.B. Определение хронологии русских
духовных стихов в связи с вопросом об их происхождении // Богословский
вестник. 1910. № 6. С. 357-367. № 7/8. С. 415-425; № 10. С. 314-323.
Марков 1914 — Марков A.B. Памятники старой русской
литературы // Известия Тифлисских высших женских курсов. Тифлис, 1914. Кн. 1.
Вып. 1.С. 119-162.
МРЛРС 1996 — Мифологические рассказы и легенды Русского
Севера / Сост. и автор комм. O.A. Черепанова. СПб., 1996.
Нечаев 1889 — Нечаев В.В. Дела следственные о раскольниках
комиссий в XVIII в. // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском
архиве Министерства юстиции. М., 1889. Кн. 6. Отд. П. С. 77—199.
Никольский 1912 — Никольский A.M. Памятник и образец народного
языка и словесности Северо-Двинской области // Известия ОРЯС АН.
СПб., 1912. Т. XVII. Кн. 1. С. 87-105.
159
Новичкова 1994 — Новичкова Т. А. Пир в кабаке: К эволюции одного
поэтического канона // Русская литература и культура Нового времени.
СПб., 1994. С. 208-229.
Орлов 1913 — Орлов A.C. Народные предания о святынях русского
Севера // ЧтОИДР. 1913. Кн. 1 (244). Отд. III. С. 47-55.
Панченко 1998 — Панченко A.A. Исследования в области
народного православия: Деревенские святыни Северо-Запада России. СПб.,
1998.
Панченко 2002 — Панченко A.A. Христовщина и скопчество: Фольклор
и традиционная культура русских мистических сект. М., 2002.
ПГЗ1984—Повесть о Горе-Злочастии / Изд. подг. Д.С. Лихачев, Е.И.
Ванеева. Л., 1984.
Подскальски 1996 — Подскалъски Г. Христианство и богословская
литература в Киевской Руси (988-1237 гг.). СПб., 1996.
Ржига 1907 — Ржига В. Четыре духовных стиха, записанных от калик
Нижегородской pi Костромской губерний // Этнографическое
обозрение. 1907. № 1-2. (Кн. LXXII-LXXIII). С. 63-70.
Родосский 1893 — Родосский А. Описание 432-х рукописей,
принадлежащих С.-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1893.
Рождественский 1902 — Рождественский Н.В. К истории борьбы с
церковными беспорядками, отголосками язычества и пороками в русском
быту XVII в.: (Челобитная нижегородских священников 1636 года в
связи с первоначальной деятельностью Ивана Неронова) // ЧтОИДР. 1902.
Кн. 2. Отд. IV.
Ромодановская 1996 — РомодановскаяЕ.К. Рассказы сибирских крестьян
о видениях: (К вопросу о специфике жанра видений) // ТОДРЛ. СПб.,
1996. Т. XLIX. С. 141-156.
РЭФ 1995 — Русский эротический фольклор: Песни; Обряды и
обрядовый фольклор; Народный театр; Заговоры; Загадки; Частушки / Сост.,
научная редакция А. Л. Топоркова. М., 1995.
Самарин 1918 — Самарин Д. Богородица в русском народном
православии // Русская мысль. 1918. Кн. III—VI. С. 1—38 (второй пагинации).
Санникова 1995 — Санникова О. В. Брань // Славянские древности:
Этнолингвистический словарь под редакцией Н.И. Толстого. М., 1995. Т. 1.
С. 250-253.
Свешникова, Цивьян 1973 — Свешникова Т.Н., Цивъян Т.В. К
исследованию семантики балканских фольклорных текстов //
Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков.
М., 1973. С. 197-238.
Синявский 1991 — Синявский А.Д. Иван-дурак: Очерк русской
народной веры. Париж, 1991.
Смирнов 1913 — Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913.
С. 255-283.
Стоглав 1863 — Стоглав. СПб.: Изд. Д.Е. Кожанчикова, 1863.
Толстой 1988 — Толстой Н.И. Покаяние земле // Русская речь. 1988.
№ 5. С. 132-139.
Толстой 1995 — Толстой НИ. Язык и народная культура: Очерки по
славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
Топорков 1984— Топорков А.Л. Материалы по славянскому язычеству
(культ матери — сырой земли в дер. Присно) // Древнерусская литерату-
160
pa: Источниковедение. Сборник научных трудов / Отв. ред. Д.С.
Лихачев. Л., ,1984. С. 222-233.
Успенский 1996 — Успенский Б. А. Мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии // Анти-мир русской культуры. Язык,
фольклор, литература. Сборник статей / Сост. H.A. Богомолов. М., 1996. С. 9—
107.
Федотов 1991 — Федотов Т.П. Стихи духовные: (Русская народная вера
по духовным стихам). М., 1991.
Федотов 1992 — Федотов Т.П. Мать-земля: (К религиозной космологии
русского народа) // Федотов Г.П. Судьба и грехи России: Избранные
статьи по философии русской истории и культуры. СПб., 1992. Т. II.
С. 66-82.
А.Ю. Плуцер-Сарно
ЗАМЕТКИ О РУССКОМ МАТЕ
1. Охота на ведьм
Сквернословие в России уже много столетий
подвергается всевозможным репрессиям. За ним охотились самые
разные властные структуры. Мат воспринимается в
России как язык клятв и проклятий, язык сакральный и
одновременно кощунственный. Хотя в так называемой
«реальности» это всего лишь небольшая группа просторечных
слов.
И не случайно сейчас, весной 2003 года, в Думе
готовится закон о языке, состоящий из целого множества
утопических запретов. Хотя понятно, что запретить всё
«неприличное» невозможно уже потому, что само «неприличие»
является субъективным фактом «языка описания» или,
лучше сказать, фактом нашего сознания. Невозможно
указом изменить речевые стереотипы поведения миллионов
людей. Нельзя изменить уже сложившийся комплекс
нарративных компетенций и, в частности, фольклорные и
литературные тексты.
Народ не будет безмолвствовать, народ матерился и
будет материться. Потому что в
репрессивно-патриархальном обществе без иллюзии мужского шовинистического
языка не обойтись. То есть метафизически мат — это
нечто, воспринимаемое как язык тоталитарной властности.
В то же время мата как отдельного объекта, имеющего
четкие границы, не существует. Кто-то причисляет к мату
слова «хуй» и «пизда», а для кого-то и «дырявый гондон,
штопанный сраными нитками», — жуткая непристойщи-
на. Для кого-то «похерить» — матерное слово, хотя
происходит оно от наименования буквы русского алфавита
162
«хер», а не от современного названия мужского пениса.
Для кого-то слово «БОЛЬШОЙ» — верх неприличности
(это из Бродского). А выражения «японский бог», «йогурт
пармалат», «ядрены пассатижи», «ешь твою мышь», «ёк-
лыманджары»,«ё-мое и ёлки-моталки» — это мат? А всем
известный детский стишок «Елки-палки, / Лес густой, /
Едет Ваня — / холостой!» — это тоже неприличие? А
русские народные частушки? «Отташу тебя за ноги / На
обочину в кусты, / Не ебать же на дороге / Королеву
красоты!» «Матерность» — субъективное понятие. Заглянув в
словарь Фасмера, нетрудно убедиться, что слово «хуй» —
это «производное» от слова «хвои». «Хуй», с которым
сражается Дума, — это по происхождению всего лишь
«елочная иголка». Изначально это эвфемизм, вроде слов
«банан», «огурец», «перец», «кукурузина» или «колбаса» (в
значении «пенис»). А слово «манда» по происхождению —
однокоренное словам «манить», «манок», «приманка».
Это всего лишь то, что «манит» человека. Здесь тоже
изначально ничего неприличного как бы и нет. Можно
открыть любой словарь древнерусского языка и убедиться,
что слово «блядь» означало всего лишь «ложь», «обман» и
«пустословие». Церковные писатели употребляли его в
своих сочинениях чуть ли не на каждой странице еще в
конце XVIII века.
Если же мы запретим изучение непристойного,
блокируем издание книг, посвященных, например, мату, то это
всё равно как если бы мы в рамках борьбы с наркотиками
запретили специалистам изучать саму проблему
наркомании и, как следствие, запретили бы саму борьбу с
наркотиками. Для того чтобы запретить употребление каких-то
слов в каких-то ситуациях, нужно сначала изучить,
описать, издать словарь этих слов. Чтобы сначала хотя бы
понять, что же мы собираемся запрещать. В противном
случае блюстители нравственности нападают просто на то,
что им лично субъективно не по вкусу. Такова ситуация с
Сорокиным. Но «непристойные» произведения,
изобилующие матом, писали многие русские литераторы:
Ломоносов, Сумароков, Елагин, Чулков, Олсуфьев, Барков,
Пушкин, Вяземский, Лермонтов, Некрасов, Дружинин,
Тургенев, Полежаев, Кузмин, Хармс, Маяковский, Есенин,
Бунин, Шукшин, Бродский, Алешковский, Довлатов, Войно-
163
вич, Ерофеев, Сорокин, Пригов, Кибиров, Волохов,
Аксенов, Юрьенен, Губерман, Волчек, Пелевин, Пятигорский,
Хвостенко, Немиров, Решетников, Степанцов... В.И.
Ленин тоже употреблял... Матюгались русские цари,
императоры, генеральные секретари и президенты. И, наконец,
весь русский народ матюгался, матюгается и будет
матюгаться. Так что если уж судить, то не Сорокина, а всю
русскую литературу, в традициях которой он и работает.
Лимонов был посажен прежде всего за то, что он написал и
говорил, то есть отдувался за свою литературную позу,
которая, кстати, также в значительной мере заимствована
им из классической русской литературы. Старушку не
убивал, но в дурных помыслах был изобличен.
Закон о непристойности может только усилить
непристойность, подчеркнуть ее наличие. Неприлично как раз
то, что запрещено. В XVIII веке в приличном обществе
была запрещена демонстрация обнаженной женской
щиколотки. В начале XX века непристойными считались
женские колени. В 60-е девушек в узких джинсах не пускали в
театр. А сейчас уже сплошь и рядом загорают топлес. Но
по-прежнему что-то остается неприличным. Стоит
разрешить свободный показ «интимного», и оно тут же утратит
свою «интимность».
Каковы же стратегические последствия борьбы с
непристойным? Непристойным в языке окажется всё, что
подвергнется фактическому запрету. Тот, кто кричит о
чистоте помыслов, и есть первый похабник. Сама борьба
с «безнравственным» по своей сути непристойна.
2. Так что же такое мат?
Слово «мат» употребляется как рядовыми носителями
языка, так и исследователями в совершенно различных
значениях. Этимология слова «мат» может показаться
достаточно прозрачной (ср.: мат, матюк, матное слово, крыть
матом, ругать матом, орать (благим) матом, матерщина,
материть, матерная брань, ругаться по-матерному, бранить по
матери, мать поминать, матерями обкладывать и т. п.).
Может показаться, что она восходит к индоевропейскому
слову * mater в значении «мать», которое сохранилось в разных
164
индоевропейских языках. Однако в специальных
исследованиях предлагаются другие реконструкции. Так,
например, Л.И. Скворцов пишет: «Буквальное значение слова
"мат" — это "громкий голос, крик". В его основе лежит
звукоподражание: непроизвольные выкрики "ма!", "мя!", то
есть мычание, мяуканье, рев животных в период течки,
брачных призывов и т. д. Получается, нравственный запрет
лежит в самой этимологии слова!» (Скворцов 1993: 5—6).
Такая этимология могла бы показаться наивной, если бы не
восходила к концепции «Этимологического словаря
славянских языков»: «<...> русск. мат, -а м. р. только в
выражении: благим матом <...>, диал. мат, -а м. р. "громкий голос,
крик"<...> матом в знач. нареч. "очень громко, сильно" <...>.
Производное от глагола *matati (см.); родственно слову *та-
toga (см.); <...> Русск. мат в выражении "кричать благим
матом" <...> связывается с русск. диал. "матаситься"
"кривляться, ломаться; (о животных) мотать головой" <...>, "мато-
шить" "тревожить, беспокоить" <...> литер, "суматоха и
мотать" <...>» (Трубачев 1993: 10—11); «*matoga,Bo многих
славянских языках значит "привидение, призрак,
чудовище, страшилище, колдунья" (словен., слвц., пол. и др.) (Там
же: 5); «Родственно праслав. *majati""махать" и т. п. (см.),
*maxati(см.), *mamiti(см.). И.-е. корень *та-, первоначально
означавший, по-видимому, "давать знаки рукой, делать
движения рукой", затем "манить" и "обманывать" <...>»
(Трубачев 1990: 236). Перенесение этой этимологии на слово
«мат» в значении «непристойная матерная брань»
нуждается в дополнительной аргументации, и, таким образом,
точка зрения Л.И. Скворцова может показаться уязвимой. Но
в любом случае в современном русском языке слова «мат-
ный», «матерный» и «материнский» воспринимаются как
имеющие общий словообразовательный источник, и, в
силу этого, слово «мат» в значении «громкий голос; крик»
будет лишь омонимом слову «мат» в значении «обсценная
брань». Во-первых, «матерным» (или, как еще говорят,
«матным», «матюшным», «матюжным») уже много
столетий именуют выражение «ебать твою мать». Именно в этом
смысле говорит о мате Б.А. Успенский (см.: Успенский
1988). Будучи гипертрофированно вариативным, оно одно
генерирует целую область обсценной брани. Так,
например, все эвфемистические образования, получаемые в со-
165
временном языке в результате табу, налагаемого на
упоминание «матери» в обсценном контексте, также могут
восприниматься как «матерные» (запрет указывает на объект,
создает фигуру умолчания): «ёб твою, Господи прости»,
«ебать твою через семь пар потных портянок», «ебать ту
Люсю», «ёб твою ять», «ебать-колотить», просто «ебать!». К
«матерной» брани в данном значении этого понятия могут
быть отнесены также выражения, порожденные запретом
на употребление в выражении («... твою мать») обеденных
глаголов «ебать, «ебсти», «ебти», «ебить», «ебуть», «етить»,
«еть», когда обсценная лексика оказывается в целом табуи-
рована: «мать-перемать», «мать твою налево», «мать твою
через тульский самовар», просто «матьі». Естественно, к
«матерщине» вплотную примыкают выражения,
образующиеся в результате двойного табу сразу двух частей выражения
(и слова «ебать», и слова «мать»): «етитский бог»,
«японский городовой», «ёкарный бабай», «ёк-королёк», «йогурт-
пармалат», «ядрёный корень», «ядрёны пассатижи», «ёж
твою ять», «блядь твою влево», «хлябь твою твердь»,
«любить-колотить», «ёлки-палки», «ё-мое», «ё-ка-лэ-мэ-нэ», «ёка-
лыманджары», «пес твою раздери», просто «ё!» и многие
другие. Всё это не может не размывать границ понятия
«матерной» брани.
В письменных текстах распространено также
графическое эвфемизирование. Ср. у И. Бродского: «И тут я
содрогнулся: Йети!» (Бродский 1992: 379). Более сложный
случай: «Континентальная шушера от этого млеет, потому
что — полемика, уё-моё...» (Бродский 1992: 353).
Последний пример может быть интерпретирован и как результат
вторичного эвфемизирования, и как результат
вторичного дисфемизирования, нечто «застрявшее» между «ё-мое»
и «хуё-моё». В ситуации слабой табуированности
«матерщины» всевозможные эвфемистические образования
могут актуализировать свою экспрессивность, восприни-
маясь порой как еще более изощренные риторические
варианты «матерного» выражения. Хорошо
иллюстрирует это предположение пример, уже использованный в
другом контексте Б.А. Успенским: «Когда Л.Н. Толстой
служил в артиллерии (в крымскую кампанию), он стремился
"извести в батарее матерную ругань и увещевал солдат: 'Ну
к чему такие слова говорить, ведь ты этого не делал, что
166
говоришь, просто, значит, бессмыслицу говоришь, ну
скажи, например, елки тебе палки, эх ты, едондер пуп, эх ты,
ерфиндер' и т. п.". Солдаты поняли это по-своему: "Вот
был у нас офицер, его сиятельство граф Толстой, вот уж
матерщинник был, слова просто не скажет, так загибает,
что и не выговоришь"» (Успенский 1988: 210).
Другие обсценные выражения, например «блядин сын»,
тоже иногда воспринимаются как синонимичные
основному матерному клише, как «матерные»:
«Соотнесениематерной брани с матерью собеседника возникает... когда матерная
формула превращается в прямое ругательства., и когда,
соответственно, выражение типа "блядин сын " начинает
восприниматься как матерщина...» (Там же 1988: 246).
И, наконец, в собственно «матерном» выражении «ебать
твою мать» экспрессивный акцент может переноситься на
слово «ебать», и оно уже тоже воспринимается как
«матерное слово». Распространенная характеристика
«матерного» выражения как «трехэтажного» (то есть состоящего из
трех элементов) в переносном смысле употребляется
применительно к любому нагромождению брани в речи и
также указывает на возможность существования еще одной
точки зрения на понятие «мат». В этом последнем значении
под «матом» понимается некое экспрессивное ядро обсцен-
ной лексики (и прежде всего — лексемы с корнем *еб, *бляд-,
*пизд- и *xyj-). Подобный подход далеко не нов, что следует
уже хотя бы из самого заглавия « Словаря Еблематико^энцикло-
педического татарских матерных слов1 и фраз...» (1865). С
определенной точки зрения, экспрессивность собственно
«матерщины» может интерпретироваться как производная
от обсценного контекста, и, наоборот, в силу своей
вариативности «матерная» идиоматика может восприниматься
как порождающая обсценность в целом. Конечно, в таком
понимании общеупотребительный термин «мат» условен,
но если его взять в кавычки, то он может быть использован
(в силу своей традиционности) для обозначения некоего
условного «ядра» наиболее экспрессивной
грубо-просторечной лексики.
Итак, под «матом» мы условно понимаем целый пласт
экспрессивной обсценной лексики, однако мы не будем
1 Разрядка моя. (Примеч. А. П.-С.)
167
пытаться формулировать какие-либо объективные
научные критерии ее отбора, поскольку мат — понятие
условное, субъективное. Это вопрос восприятия тех или иных
слов носителем языка. В лексикографической практике
мы можем лишь задать списком некий набор корней,
производные от которых будут включаться в тот или иной
словарь. В «полевых» условиях мы можем констатировать,
что одни носители языка считают, к примеру, слово
«гондон» матерным, а другие — нет. Тем не менее мы можем
констатировать, что при проведенных опросах рядовые
носители языка называют среди матерных слов следующие
(указаны только непроизводные): 1) «ебать»; 2) «блядь»;
3) «хуй»; 4) «пизда»; 5) «муде»; 6) «манда»; 7) «елда»; 8)
«сиповка»; 9) «секиль» («сикель»); 10) «поц»; 11) «молофья»
(«малафья»); 12) «дрочить»; 13) «залупа»; 14) «минжа»;
15) «пидор»; 16) «курва»; 17) «сперма»; 18) «гондон» («ган-
дон»); 19) «менстра»; 20) «хер»; 21) «куна»; 22) «срать»;
23) «ссать»; 24) «бздеть»; 25) «пердеть»; 26) «дристать»;
27) «говно» («гавно»); 28) «жопа»; 29) «целка»; 30) «коро-
лёвка» («королек»); 31) «трахать»; 32) «харить»; 33)
«минет»; 34) «жрать»; 35) «блевать»; и некоторые другие.
Однако чаще всего в качестве «матерных» называются
первые 7 лексем и/или их производные. При этом само
выражение «ебать твою мать» в качестве «матерного»
называется редко. Как показывают опросы, современный
носитель языка понимает под «матом» всю обеденную
лексику (а не фразеологию). При таком явно расширенном
толковании понятие «мат» практически совпадает с
понятием «обсценная лексика». Однако состав обеденной
лексики неоднороден, она образует, как минимум, две
«автономные» группы. Первая, которую можно было бы
условно определить как собственно «мат», — это конечно же
лексика, связанная с сексуальной деятельностью
человека. Вторая — связанная с другой, не менее важной
функцией телесного низа — дефекацией (№ 22—28). Эти две
группы лексем способны, как это ни странно, образовывать
местословные синонимические ряды, обозначающие
одни и те же понятия: хуй/ссака — «пенис»; ебальник/
пердильник и ебало/пердило — «лицо; рот»; изму-
д и т ь с я/и зговниться — «утратишь свои положительные
качества и актуализировать отрицательные»; вхуячить/
168
впердолить/запиздячить/запердячить и захуя-
чить — «совершить сексуальный контакт»', охуеть/обо-
сраться — «испытать чувство, какое вызывает в человеке
новая и неожиданная информация, воспринимаемая как
несоответствующая действительности»', «испытать приятное
чувство, какое вызывает в человеке что-л. положительное,
приятное для него»', «испытать неприятное чувство, оказавшись в
ситуации, воспринимаемой человеком в качестве опасной»;
«испытать неприятное чувство, какое бывает, когда человек
выполнял трудную работу до тех пор, пока не израсходовал все
силы и не утратил способность дальше выполнять эту работу»;
хуеплёт/пердоплёт — «человек, так часто и подолгу
совершающий акт устного общения, что окружающие
воспринимают это отрицательно» ;мудило/пердило — « неприятный
человек» ; в ыблядок/вы сирок— « неприятный человек»;
хуячить/пердячить — «совершать сексуальный контакт»;
«наносить удары кому-л.»; «перемещаться в пространстве»;
пиздотлот/товножор — «неприятныйчеловек» и многие
другие.
В самом деле, эти две группы слов обладают разной
степенью экспрессии, разной системой табу, имеют разную
стилистическую окраску. В словарях они должны
сопровождаться разными стилистическими пометами, что, в
свою очередь, требует их терминологического
разделения. Последнюю группу лексем (№ 22—28) вместе со всеми
их производными можно было бы условно определить как
обсценную лексику в широком понимании и снабжать в
словарях пометой «обе». Этот термин вполне традицио-
нен. «Матом» условно (но вполне традиционно для
разговорной речи) можно именовать наиболее экспрессивное
ядро непристойной лексики (№ 1—12). Действительно,
обычно рядовой носитель языка именует «матерной»
лексикой наиболее непристойную лексику, связанную с
сексуальной сферой. Здесь и далее мы будем условно
пользоваться выражениями «мат», «матерная лексика» и
«матерная фразеология» именно в указанном значении. В то же
время за пределы объекта «матерная лексика» должны
быть выведены все литературные и разговорные
синонимы-эвфемизмы (сохраняющие свои основные,
литературные значения), даже такие экспрессивные, как слово
«яйца»). Конечно, граница в данном случае чрезвычайно
169
зыбка и условна, но существование в литературном языке
сочетаний типа «залупить яйцо» (т. е. «очистишь яйцо от
скорлупы») однозначно говорит нам о невозможности
рассмотрения подобных лексем в качестве обсценных,
несмотря на наличие у таких слов не только литературных,
но и неприличных значений. С «матом» нельзя смешивать
и арготизмы. Одних только воровских арготизмов со
значением «проститутка» в русском языке десятки: «алюра», «ама-
ра», «баруха», «бедка», «бикса», «бланкетка», «лакшовка»,
«лярва», «мара», «маресса», «маруха», «профура», «профу-
ратка», «профурсетка», «псира», «тына», «флика», «фоска»,
«фура», «хабара», «хавыра», «хавырка», «хлына», «хмара»,
«хуна», «шалава», «шкирла», «шкица», «шмара», «шмоха» и
т. д. Все-таки под «матерной» лексикой принято
подразумевать общеупотребительную лексику (точнее,
общеизвестную, — большинство людей ею обычно не пользуется, но
знает). Наконец, чтобы провести границу между
«матерной» лексикой и остальными обсценными словами,
семантически близкими к «мату», нельзя упускать из виду
исключительную речевую частотность и словообразовательную
активность слов № 1—7. Полевые записи показывают, что
эти первые семь корней образуют несколько тысяч
производных (в словаре Драймонда и Перкинса таких
производных лексем немногим более трехсот), в то время как все
остальные обсценные лексемы вместе взятые — лишь
несколько сотен производных. Благодаря своей «местоимен-
ности» и «местоглагольности» «матерная» лексика
оказывается способной заменять не только любое слово, но
даже выполнять «местоязыковую» функцию в целом, как
бы примеряя маску социолекта (жаргона). Факт
употребления «мата» в функции интерпрофессионального
квазижаргона общеизвестен. Его хорошо иллюстрирует
следующий пример: «— Ну-ка, въебачь сюда эту хуевину! А
теперь ебни сверху и закрепи ее на хуй! — говорил русский
бригадир строителей Петеру, что в переводе на любой
нормальный язык должно было означать: "Ну-ка, вставь
сюда эту деталь! А теперь ударь ее сверху и плотно
закрепи!"» (Кунин 1994: 124). «Мат» представляет собой
уникальный материал для языковых игр, занимая при этом
совершенно особое место в структуре языка в целом. «Мат»
способен порождать чуть ли не бесконечное количество
170
дисфемизмов, «обсценитизируя» любое литературное
слово: «На столике у них маслице да фуяслице, плащи на
крючках покачиваются, чемоданчики в чехолках. Едут
мимо жизни, семафоры зеленые...» (Солженицын 1962:
41). «Фуяслице» (традиционная эвфемистическая замена
«х» на «ф») не только может выступать в роли
«пародийного» дисфемизма по отношению к «маслицу», но в
данном случае вообще означает все продукты питания,
находящиеся на «столике» (своеобразное «etc*»). В своей
жаргонной ипостаси «мат» способен охватывать весь
предметный мир вполне благопристойного быта. В таком
контексте любое выражение, например «пуп земли»,
приобретает известную эвфемистичность. Эту
особенность «мата» очень тонко подметил еще И.А. Бродский:
«Матерились так часто, что обыкновенное слово, вроде
"самолет", прозвучало бы в их речи для прохожего как
нечто исключительно похабное <...>» (Бродский 1992: 322).
То же свойство языка очень красиво определено М.Л. Гас-
паровым: «Автор доводит текст до такого градуса, что
простое слово "большой" ощущается как жуткая
непристойность» (Гаспаров 1991: 4). С этой точки зрения
литературный язык может восприниматься чуть ли не как
составная часть обсценного жаргона — как его «подтекст» или,
наоборот, как некое грандиозное эвфемистическое
образование. Нейтральные слова загружаются обсценными
значениями. При подготовке словаря русских
эвфемизмов нам удалось зафиксировать одних только
эвфемизмов со значением «пенис» более семисот.
Итак, выделять «мат» можно лишь условно как некий
набор экспрессивных лексем, обозначающих половые
органы или процесс совокупления. Причем слово «блядь»
стоит особняком в этом ряду, поскольку обладает меньшей
экспрессивностью, не так строго табуировано, не так
давно стало окончательно непристойным и т. д., но
поскольку всеми без исключения информантами оно упоминается
среди «матерных» слов, то может тоже условно
рассматриваться как непристойное. В 20-м столетии слова «елда»
и «манда» в значительной степени утратили свою обсцен-
ность, но, как показывают тысячи дошедших до нас
фольклорных и рукописных анонимных обсценных текстов
позапрошлого столетия, они были одними из самых частот-
171
ных обеденных слов. Лишь по традиции все эти лексемы
и все их производные можно именовать «матерными».
По сути, любое определение такого условного понятия,
как «мат», сведется к тому, что «мат» — это то, что мы
называем «матом», то, что воспринимается нами как «мат».
Перед собой мы ставили задачу лишь попытаться условно
определить границы объекта, то есть дать некоторые
разъяснения, почему мы условно проводим эту границу так, а не
иначе. Но основные непроизводные «матерные» лексемы
исследователь всё равно вынужден в рабочем порядке
задавать просто списком.
3. Освящение непристойного
За последние три десятилетия издателями было
выпущено более десятка словарей обсценной лексики. Их
качество говорит о том, что эта область языка по-прежнему
остается вне поля зрения профессиональных
лексикографов. Сделаны они, как правило, дилетантами с целью
удовлетворения вполне естественной потребности напечатать
«непечатное», употребить «непотребное». Это
«лубочные» издания, рассчитанные на читателя, который вертит
книжку в руках, тычет в неприличное слово пальцем и
хихикает, читателя, который приравнивает включение
непристойного слова в словарь к самому акту
сквернословия, к его кодификации и забавляется, таким образом,
освящением непристойного. Такие книги имеют более
общего с порнографией, нежели с лексикографией.
4. Находка в Отделе рукописей1
Все авторы словарей русского «мата», изданных за
последние годы, объявляют свои словари «первыми». Между
тем словари «мата» появляются уже не первое столетие.
Самый ранний из известных нам обсценных словарей —
рукописный «Словарь Еблематико-энциклопедический та-
1 Всеми обеденными находками в ОР НРБ мы обязаны В.Н. Сажину.
Разумеется, эти тексты введены в научный оборот благодаря именно ему.
172
тарских матерных слов и фраз, вошедших по
необходимости в русский язык и употребляемых во всех слоях
общества, составили известные профессора. Г ъ Б ъ».
Он хранится в Отделе рукописей Российской
национальной библиотеки в составе коллекции: «Г.В. Юдин. Мое
собрание. Из собрания рукописей графа Завадовского и
других собирателей. Переписано в 1865 году» (НСРК. 1929.
745 (1—12)). Список помечен 1865 годом, хотя есть все
основания считать, что он сделан несколько позже. Так,
например, кроме «Словаря...» список содержит множество
других обсценных текстов и в том числе поэму «Кто на
Руси ебёт хорошо». Пародия не могла распространяться в
списках ранее конца 1860—начала 1870-х годов. Конечно,
этот словарь составлял вовсе не «Г ъ Б ъ», то есть
«Господинь Барковъ». Массовой традицией перу И.С.
Баркова приписывалось множество текстов, созданных на
протяжении последних двух с половиной столетий. Этот прием
конечно же условен. Так, например, еще в списке 1802
года «Собрание разных сочинений Г. Баркова 1802 года»
(ОР РНБ. НСРК. 1929. 737) первый же текст подписан
именем М.Д. Чулкова, что, видимо, никак не
противоречило, с точки зрения переписчика, имени в заглавии дписка.
В «Словаре...» «известные профессора» вставлены
автором-переписчиком также для усиления авторитетности
текста. Характеристика включенных в словарь лексики и
фразеологии как «татарских» есть результат отнесения
«своего», отрицательно оцениваемого, к «чужому».
Представление о том, что в целом обсценная лексика является
татарской по происхождению и на Русь была «завезена» во
времена «татаро-монгольского ига», абсурдно.
Общеизвестно, что обсценная лексика — исконно славянская. Это
подтверждает, в частности, немецкое издание Фасме-
ра (см.: Фасмер 1950—1958). Исключения составляют слова
«елда» и «манда». «Елда» предположительно
интерпретируется О.Н. Трубачевым как заимствование из персидского
(см.: Фасмер 1986:2,13), хотя не все исследователи с этим
согласны. А от интерпретации происхождения слова «манда»
отказались многие исследователи, начиная с того же М. Фас-
мера. (Одну из спорных гипотез мы приводили выше.)
Анонимность, вариативность и ряд других
специфических особенностей, свойственных рукописной тради-
173
ции, типологически сближают этот список с фольклором.
А это, в свою очередь, ставит данный текст в уникальное
положение. С одной стороны, мы имеем дело со словарем
обсценной лексики одного идиолекта; с другой —
распространение данного текста в списках придает ему как бы
статус «интер-идиолектности», то есть позволяет нам с
некоторой долей условности рассматривать его просто в
качестве интердиалектных (просторечных) словарных
материалов.
По обилию и многообразию представленного
материала «Словарь Еблематико-энциклопедический татарских
матерных слов и фраз...» превосходит многие словари
русской обсценной лексики, вышедшие в 19-м столетии. В
нем имеется целый ряд употребляемых поныне лексем,
которые отсутствуют даже в третьем издании
американского словаря (см.: Drummond, Perkins 1987): «блядунишка»,
«голомудый», «жопёнь», «мандить», «мандушка», «мудор-
вань», «недоёба», «объебала», «пиздуха», «подпиздник»,
«хуиный» и др.
«Словарь Еблематико-энциклопедический татарских
матерных слов и фраз...» было бы уместно использовать в
современной лексикографической практике. На его
основе можно сделать реконструкцию обсценной лексики и
фразеологии XIX века. Очевидно, что составление
словаря обсценной лексики без учета материала прошлого
столетия может завести лексикографа в тупик уже на стадии
определения границ объекта и отбора лексем для
словника словаря.
5. Беспредел по Флегону
В последние десятилетия XX века большую популярность
приобрела работа А. Флегона «За пределами русских
словарей», неоднократно переиздававшаяся на Западе и за
последние годы, как минимум, четырежды пиратски
перепечатанная в России: три факсимиле без соответствующих
выходных данных и одно — издательством «РИКЕ» (г. Троицк) в
1993 году с указанием имени А.М. Волковинского как
переводчика данного словаря. Нам остается лишь гадать, что
именно переводил А.М. Волковинский в этом русском сло-
174
варе, кроме двух слов — «FLEGON PRESS», замененных на
«ТОО "РИКЕ"». Нужно заметить, что все пиратские
переиздания копируют лондонское третье издание: Флегон 1973.
К сожалению, название этой книги не соответствует ее
содержанию, поскольку включенная в нее лексика в
подавляющем большинстве случаев как раз содержится в
семнадцатитомном БАСе, то есть «Словаре современного
русского литературного языка», выходившем в 1948—1965 годах, в
«Словаре иностранных слов» под редакцией И.В. Лехина и
Ф.Н. Петрова (4-е издание) 1954 года, в медицинских
словарях, в частности и в «Медицинском
словаре-справочнике» 1937 года, и даже в словаре СИ. Ожегова (см.: Ожегов
1953). Как это ни удивительно, автор сам говорит об этом в
предисловии, отмечая, что «если какое-либо слово
находится только в семнадцатитомном академическом, то оно было
включено в настоящий словарь только в случае его
широкого применения в русском языке <...>» (Флегон 1973:13). То
есть, другими словами, если слово достаточно частотно, то
оно включается в словарь, несмотря на его наличие в
русских словарях. При этом словарь Флегона не является
словарем редких слов, большинство слов, имеющихся в нем,
как раз «широко применяются в русском языке». Логика
рассуждений автора не представляется ясной, поскольку он
сам разрушает собственные принципы. В другом месте того
же предисловия автор выдвигает иные критерии отбора
лексики для своего словаря: «В настоящий словарь
включены слова, связанные с понятиями отец, мать, сын, дочь, дед,
баба, муж, жена, самец, самка, любовник, любовница <...>»
(Флегон 1973:6) и т. д. По сути дела, читателю предлагается
словарь лексики, связанной с сексуальной сферой
деятельности человека и животных. Между тем сам словарь ни в коей
мере не соответствует и этому определению.
Интерпретации значений большей части слов в
словаре Флегона неточны или вовсе неверны. Так, например,
основное значение слова «елдак», по Флегону, — «блядун».
Одно обсценное слово здесь объясняется через другое,
имеющее совершенно иной набор значений. «Пидор» —
«пиздюк». Просторечное слово объясняется через
обсценное, имеющее иные значения! Все-таки основные
значения слова «пидор» — «педераст»; «гомосексуалист», а
основное значение слова «пиздюк» — «неприятный чело-
175
век». Другие определения могут восприниматься только
как шутка, но словарь — не место для подобных
упражнений: задрипанная пизда— «женский половой орган, в
котором происходило неоднократное
возвратно-поступательное движение мужских половых органов всех
размеров и мастей, хозяева которых не всегда соблюдали
правила гигиены и принадлежали всем социальным классам
(преимущественно революционному пролетариату:
шахтерам, трактористам и трубочистам). В просторечии —
заебанная пизда». При чем тут трубочисты? Слово
«задрипанная» в данном случае всего лишь иллюстрирует
сочетаемость, но если даже давать определения его основных
значений, то достаточно было бы двух-трех слов, например:
«испачканный», «неопрятный», «поношенный» и т. п.
В словаре Флегона системность отсутствует почти на
всех уровнях. Это касается не только отсутствия
критериев отбора лексики, смешения толкового словаря с
энциклопедическим, вынесения в словник наряду с лексикой также
фразеологии и более крупных языковых единиц
(поговорок) и т. п. В словаре также нет никакой системы
стилистических помет, хотя в него вошла не только лексика
литературного языка, но также и интердиалектная,
диалектная, социолектная лексика, в том числе обсценная и
«матерная» брань. Словарь прямо-таки переполнен
медицинской терминологией (с гинекологическим уклоном),
позаимствованной из медицинских справочников, которая
тоже никак не выделяется. Автор включал всё
попадавшееся ему в текстах: редкие и устаревшие слова,
окказионализмы и авторские неологизмы, и при этом в
подавляющем большинстве случаев никак не отмечал их.
Системность и элементарная добросовестность отсутствуют даже
в подборке примеров. Дело доходит до того, что под
анонимными текстами без всяких ссылок просто ставится имя
Пушкина или Баркова: «Судьбою не был он балуем, / И
про него сказал бы я: / Судьба его снабдила хуем, / Не дав
в придачу ни хуя. / И. Барков. / От холода себя страхуя, /
Купил сибирскую доху я. / Купив доху, дал маху я: / Доха
не греет ни хуя. / А. Пушкин». Первый фрагмент конечно
же взят из «Луки Мудищева» — анонимного текста
последней трети XIX века. Второй пример — из анонимных
куплетов, строящихся на постоянном нарушении ожидания об-
176
сценной рифмы в четвертом стихе. Таким образом, текст
куплета к тому же искажен. Правильный текст четвертого
стиха: «Доха не греет абсолютно» или «Доха не греет ни в
какую». Очевидно, что оба текста не имеют никакого
отношения ни к A.C. Пушкину, ни к И.С. Баркову.
Единственное, что, может привлечь внимание к
словарю Флегона, — обсценные материалы, включенные в него
(около 280 обсценных лексем). Эти материалы
составляют ядро данного словаря. Часть из них отсутствовала в
русских словарях (и в некотором смысле действительно
«связана с понятиями отец, мать <...>»). В то же время
выбор обсценных лексем носит «случайный» характер, и,
к сожалению, большинство значений дано неточно.
Часто отсутствует основное значение. Так, «заёба» редко
употребляется в значении «задира» (чаще: «сексуально
активный человек», «неприятный человек»); «мандёж» — в
значении «онанизм» (обычно: «ложь, обман; болтовня,
пустословие»); «наебать» — в значении «набить» (чаще:
«обмануть»); а «наябывать» — в значении «ударять» (чаще:
«обманывать», не говоря уж о том, что это вариант, не
нуждающийся в отдельной разработке) и т. д. «Заебать в
доску» — чаще всего употребляется как фразеологизм в
значении «надоесть, замучить...». У Флегона: «оставить
женщину почти мертвой после нескольких
продолжительных совокуплений». То есть автор попросту имеет в
виду усиление значения, вносимое выражением «в доску».
Примеры на сочетаемость в лексикографии не принято
выносить в словник. К словам, как правило, дается
только одно значение, даже к таким многозначным, как «пиз-
да» и «ебать». Последнее Флегон неожиданно снабдил
лаконичным определением: «употреблять женщину».
Любой борец за права сексуальных меньшинств возразил бы,
что тем же словом можно обозначить совокупление и с
мужчиной, а читатель, знакомый с русским фольклором,
добавил бы, что ебать можно «всё, что шевелится», а при
желании даже неодушевленный предмет, явление,
состояние и т. д.
Из-за своей безграмотности и бедности материала
словарь А. Флегона не может конкурировать даже с
анонимными массовыми словарями, сделанными полтора
столетия назад.
177
6. Американские словари русского «мата»
В Америке регулярно выходят издания под названием
«Dictionary of Russian obscenities», обычно тоненькие,
маленькие, с ничтожно малым количеством слов. Так,
например, в 1971 году в Кембридже был издан «A Dictionary of
Russian Obscenities». Слова в нем были снабжены
грамматическими справками и иллюстрациями. При всей его
краткости, словарь вобрал в себя более полутораста
наиболее употребительных обсценных слов и более
шестидесяти грубых интердиалектизмов (просторечных слов).
(бедующую попытку создания обсценного словаря
предприняли Драймонд и Перкинс (см.: Drummond,
Perkins 1979). Этот словарь был переиздан дважды (см.:
Drummond, Perkins: 1980; Drummond, Perkins: 1987). Однако эта
попытка была заранее обречена на неудачу, поскольку в
своей работе авторы опирались на уже вышедшие словари
и, в частности, на словарь Флегона. Практически вся
обеденная часть словника Флегона была включена в
американский словарь. Не избежали этого редкие,
окказиональные, устаревшие и диалектные лексемы: «говназия», «гов-
нопролубка», «говнопролубница», «говнопрорубка», «муда-
швили», «пердунина», «хуймётся», «хуяслице» и т. п. Слово
«говнюшка» в русском языке имеет множество
общеупотребительных значений, кроме того, которое
позаимствовал Флегон в «словаре русских народных говоров»: «ящик,
решето, скамейка, лоток и т. п., обмазанные коровьим
навозом и замороженные для катания с гор, ледянка»
(Флегон 1973: 64). В американском словаре то же самое: «dial,
object coated with frozen cow dung, used as a sled»
(Drummond, Perkins 1987: 22). По сути, словарь Драймонда—Пер-
кинса — это исправленный (по возможности),
переработанный и дополненный (слегка) «Флегон». Принципы и
методы, с помощью которых дополнялся словарь,
остаются неясными. «Словарь нецензурных слов» (так
переводится на русский название словаря Драймонда—Перкинса)
оказался наполовину состоящим из вполне приличных
цензурных слов. При этом в словаре отсутствует более тысячи
общеупотребительных обсценных слов. Так, например,
в нем имеется прилагательное «хуёвый», но отсутствуют
прилагательные «говноватый», «говняцкий», «заебатый»,
178
«невъебенный», «невпизданный», «нехуёвый», «мудняц-
кий» и даже такое высокочастотное, как «пиздатый».
Видимо, ни авторы словаря, ни их информанты не владели в
совершенстве интердиалектными формами русской речи и
не вели «полевых» записей. Дело в том, что только идио-
лектный словарь одного информанта дает нам порядка двух
тысяч обсценных лексем и свыше трех тысяч значений.
Тем не менее авторы проделали большую работу, устранив
часть из несметного числа ошибок, которыми изобиловал
словарь Флегона. Им удалось почти в два раза расширить
словник (вобрал в себя всего более 530 собственно
обсценных лексем) и добавить множество новых значений.
Драймонд и Перкинс попытались систематизировать
материал, ввести грамматические справки, систему
стилистических и других помет, выделить диалектизмы,
варианты, отметить эвфемизмы и дисфемизмы и т. п. Однако не
может не вызвать удивления тот факт, что большинство
отсылок, справок и помет даны неточно или ошибочно.
При этом словарные статьи так и не были снабжены
каким бы то ни было лингвистическим аппаратом. Вот
пример словарной статьи: «ЁБС=БАЦ». И всё! Вся словарная
статья! Ни примеров, ни значений, ни грамматики; даже
не указано, какая это часть речи! На слово «хуйня» даны
только два значения, вся словарная статья занимает одну
строчку, хотя в действительности это одно из самых
многозначных русских слов , имеет около 40 значений, подзна-
чений и оттенков их употребления. Слова «пиздато»
вообще нет ни в одном западном словаре. Словарь сплошь
состоит из ошибок, неточностей и несуразиц. Встречаются
ошибки даже в алфавитном расположении материала. По-
видимому, составителям было всё едино, что там, в конце
русского алфавита — сначала «Ъ» потом «Ы», или
наоборот. Пояснения, данные к некоторым словам, даже трудно
назвать словарными статьями: мудак — «a fool»; ссака —
«piss, urine»; такой-то — «euph. for ёбаный»; талить — «to
screw, copulate with» (все пять словарных статей
приведены полностью). Лексикографических ошибок и
недочетов здесь больше, чем толкуемых слов.
Возьмем подряд два десятка глаголов. Почти все
видовые пары к ним указаны ошибочно, неточно или спорно:
«барать — отбарать», «бздеть — набздеть», «брюхатить —
179
обрюхатить», «валять —отвалять», «вонять —навонять».
Подобные «видовые пары» зачастую являются
самостоятельными глаголами, поскольку имеют свои оттенки значений
(хотя в каком-то контексте они и могут выступать в функции
видовой пары). Глагол «выдрать» авторы определяют как
совершенный вид от «драть» (почему тогда не «отодрать»?),
«выдрочить» — как совершенный вид от «дрочить» (почему
бы тогда не от «подрочить»?), «вздрючить» — как
совершенный вид от «дрючить», а «взбзднуть» — от «бздеть» (!) (при
том, что у глагола «бздеть» отсылка к «набздеть»). К глаголам
«бараться», «бардачить», «бздыкать», «блядовать»,
«брызгать», «вздуть», «вздрочить», «взъебывать», «вставить», «въе-
бать», «въебывать» никаких отсылок нет, равно как и
указания на невозможность образования видовой пары.
Введя в свой словарь помету «euph.», авторы, однако,
использовали ее не систематически. Если «кабинет
задумчивости» выделен как эвфемизм, то десятки других явных
эвфемизмов никак не отмечены: «банан», «болт»,
«бубенцы», «дыра», «ерунда», «жарить», «женилка», «жила»,
«заклепка», «замок» и многие другие. Вместо
соответствующей эвфемизму (euph.) пометы disph. (дисфемизм)
авторы в одних случаях ставили знак «=», в других — «hum. =»:
бздительность — и hum. «бдительность»; дармоёб -а...
hum. = «дармоед». Последний пример ясно показывает,
что дисфемизм может иметь свое собственное значение и
знак равенства даже с большой натяжкой не годится в
качестве пометы. Подобные словарные статьи зачастую
приобретают комический характер и только запутывают
дело: однохуйственно = «всё равно» (тем более, что это
слово, скорее всего, не является дисфемизмом и само
имеет собственный эвфемизм — «монопенисуально»). В
отдельных случаях авторы пользовались при определении
значения дисфемизма знаком «+»: бледи — «(блядь + леди)»
(больше напоминает граффити, чем словарную статью).
Авторам удалось расширить словник за счет введения в
него значительного количества вариантов,
уменьшительных и усилительных форм, возвратных глаголов (около
четверти новых словарных статей). Но и здесь вместо
системы помет — сплошная путаница, лишь затрудняющая
пользование словарем. Так, «бздёха» интерпретируется
авторами как вариант от «бздушки». В действительности
180
последнее слово является уменьшительно-ласкательной
формой, но не от «бздюхи», а от «бздухи».
Самостоятельное слово «блядовской» почему-то отмечается как вариант
от слова «блядский» (разносуффиксальные синонимы).
Слово «выблядочек» рассматривается как вариант от «вы-
блядка». Впрочем, «выблудочек» тоже оказался вариантом
того же слова. Эвфемизм (синоним) «отхерачить»
отмечен как вариант слова «отхуячить»; «муда» — как вариант
слова «мудня»; «ебак» — как вариант слова «ебарь».
«Зассанный» помечено как «var. of засцанный», а «засцыха»,
наоборот, как «var. of зассыха». Да и глагол «выперднуть» —
это не вариант слова «выпердеть», а однократный глагол.
Даже целое выражение: «А вафлей не хочешь?» —
определяется как вариант выражения «А хуя не хочешь?». Такое
толкование понятия «вариант» является неверным.
Пометой «dial.» авторы обозначали не только
собственно диалектизмы («биздеть», «жопанья», «жопея», «жопи-
ча»), но просто редкие («бздюх», «говносёрка», «говнуш-
ка») слова и выражения, а часто просто
общеупотребительные лексемы («бледь», «говновозка», «говняшка»,
«жопочка»). Как вообще можно серьезно говорить о
диалектных формах, если никаких систематических записей
лексического материала в России не велось? Не лучше
обстоит дело и с указанием рода существительных: «мудила»
и «заёба», по мнению авторов, относятся к мужскому роду,
«дрочила» — к женскому, «коза» — мужскому! Как «aug.* of
блядь» отмечено не только слово «блядища», но и «блядю-
га» и даже «блядунья». Примеры некорректного
употребления помет можно было бы умножить. Даже с точки
зрения рядового читателя всё это не может рассматриваться
как нечто второстепенное, поскольку подобные пометы,
как правило, заменяют в рассматриваемом словаре
определения значений слов (в словарных статьях обычно
ничего нет кроме такой отсылки). Если читатель захотел бы
отыскать в этом словаре интересующее его слово, то
скорее всего он или вообще не обнаружил бы его
(отсутствует свыше трех четвертей обсценных лексем), или не
нашел бы искомого значения (не включено свыше половины
самых употребительных значений).
* Aug. — augmentative.
181
Грамматические справки, данные в словаре в порядке
исключения, настолько запутанны и содержат такое
количество ошибок, что по ним не всегда можно определить
даже начальную форму слова (при том, естественно,
условии, что в этом словаре в словник вынесены не только
начальные формы слов): муде -я — «рі. муди...»; мудо -а —
«рі. муда var. of муде»; муды — «pi. var. of муди».
К тому же есть еще и отдельная словарная статья, в
которой: муда «var. of мудня»! (Там же: 45—46). Разобраться в
этих четырех словарных статьях не просто. В
действительности в современном языке из трех вариантов начальной
формы («мудо», «муде», «муда») первоначальная форма
единственного числа именительного падежа «мудо»
употребляется редко. Формы «муде», «муди», «муды», «мудя» и
«муда» встречаются как варианты формы множественного
числа именительного падежа (при том, что «муде» — это
форма бывшего двойственного числа). Всё это никак не
явствует из приведенных словарных статей.
Как и в словаре Флегона, здесь к большинству
многозначных слов дается лишь одно значение. Даже такое
многозначное прилагательное, как «блядский», снабжено двумя
значениями: (1) «pertaining to a whore», (2) «goddamned» (Там же
1987: 14). Между тем оно сочетается, к примеру, со
следующими существительными: «вещь», «машина», «фильм»,
«книга», «дом», «город», «страна», «настроение»,
«состояние», «самочувствие», «взгляд», «улыбка», «человек»,
«мужик», «баба», «животное», «день», «жизнь». Несмотря на
всю местоименность обеденных слов, лексикограф должен
рассортировать возможные контексты их употребления и
получить список основных значений. Тогда окажется, что
слово «блядский» имеет десятки значений.
Не совсем понятно, каким образом авторы словаря
могли допустить такое количество ошибок* недочетов и
недоделок в третьем, исправленном издании своего труда (во
втором издании, вышедшем восемью годами ранее,
остались те же самые ошибки). Видимо, причина в том, что
словарь родился как компилятивный итог предыдущей
лексикографической работы в этой области. Исходя из
имеющегося под рукой материала, авторы надеялись
внести ряд исправлений и дать западному читателю удобный в
работе краткий справочник.
182
Поскольку специальные русские словари, и в том
числе обеденные, не дают точных сведений, то, как
следствие, и академические западные русско-английские и
англо-русские словари в своей обсценной части
содержат множество неточностей. Рассмотрим для примера
оксфордский русско-английский словарь (см.: Wheeler,
Marcus 1972) в его обсценной части. Слов «дристать» и
«бздеть» в этом словаре нет, но есть отдельные статьи
на «пердеть» и «пёрнуть». Нет в словаре слов «манда»,
«елда» и производных от них, но есть слова «пизда» (не
дано ни одной производной к нему) и «хуй». К
последнему в разделе фразеологии приводится единственное
сочетание — «ни хуя». Нет слова «пиздатый», но есть
слово «хуёвый» (единственное в словаре производное от
слова «хуй»). Есть статьи на слова «еть» и «ебать».
Последнее дано с ошибочной пометой «impf, (of уеть)».
Соответственно, приведено слово «уеть» (с неточным указанием
на то, что это совершенный вид от «еть» и «ебать»), при
том что других приставочных образований от «еть» и
«ебать» в словаре нет. Слова «муде» и производных от
него в словаре также нет. Все слова даны с пометой «vulg.»
и с указанием первого прямого значения. Это при том,
что оксфордский словарь включает в себя 70 тыс. слов,
представляя с исчерпывающей полнотой корпус
наиболее употребительных слов русского языка, к которым
следовало бы отнести, видимо, и несколько сотен обс-
ценных лексем (а не десять). В том месте словаря, где
должно было бы находиться одно из достаточно
частотных слов русского языка — «пиздатый», мы находим
десятки малоупотребительных слов, часть из которых,
думается, пользователь словаря не встретит ни разу в
жизни: «пикрат», «пикриновый», «пиксафон», «пиллерс»,
«пилон», «пиль», «пиния», «пиорея», «пиридин»,
«пирит», «пировинный», «пирогравюра»,
«пироксилиновый», «пирометр», «пиросерный», «пиццикато» и
другие, причем ни одного из них нет даже в обновленном
издании словаря Ожегова (см.: Ожегов, Шведова 1993),
который содержит также более 70 тыс. наиболее
употребительных слов (правда, в нем нет и ни одного обсцен-
ного слова).
183
7. Удивительная история о том, как известный
литератор Петр Федорович Алешкин снял пенки
с русской обсценной лексикографии, или
Заметки о книге несуществующего профессора
Т.В. Ахметовой «Русский мат: Толковый
словарь», вышедшей в 2000 году в Москве третьим
изданием в издательстве «Колокол-пресс» (521 с.)
На сегодняшний день издана добрая дюжина словарей
русского «мата» и несколько десятков словарей русских
жаргонов. Сделаны они совершенно безграмотно
любителями и дилетантами, не заслуживают особого внимания и
не нуждаются в рецензировании.
Однако в последнее время проявилась крайне опасная и
пугающая тенденция. Появились словари нелитературной
(обсценной, жаргонной) лексики, сделанные
профессиональными лингвистами, маститыми учеными, докторами
наук, профессорами университетов. Вполне серьезные
издательства, обманутые титулованностью авторов,
анонсируют эти издания как научные, академические. Книги
расходятся большими тиражами. Между тем все эти словари
ничем не отличаются от своих «лубочных» собратьев.
Очевидно, что это чисто конъюнктурные работы. Эдакая левая
работенка для филолога, писателя или издателя.
Лексикография превратилась в халтуру для специалистов из других
областей. Эти словари попадают в зарубежные библиотеки,
ими пользуются профессиональные русисты, иностранные
переводчики, студенты, изучающие русский язык, и т. д.
Последний из словарей русского «мата», как
утверждают издатели, сделан доктором филологических наук
профессором Т.В. Ахметовой и заявлен в предисловии как
«научный толковый словарь матерных слов». Но высокое
имя «словаря», упоминание «профессорства» автора,
рассказы о его кандидатской и докторской диссертации — всё
это предваряет текст книги исключительно ради
придания ей некой авторитетности. На самом деле за именем
«Ахметовой» скрывается сам издатель П.Ф. Алешкин,
который, прикрываясь авторитетом
«филолога-профессора», просто зарабатывает деньги на наивных читателях.
Суммарный тираж трех последних допечаток этой книги
184
составил около 50 тыс. экземпляров. При этом книга не
имеет никакого отношения к научным справочным
изданиям. В подобных изданиях читатель не ищет
интересующую его тему для получения какой-либо достоверной
научной информации. Он листает книжку подряд чуть ли не
как порнографический роман.
Книжка эта состоит из расположенных более или менее
по алфавиту всевозможных маркированных
нелитературных лексем: экзотических, редких, устаревших,
диалектных, социолектных, интердиалектных и вообще любых
экспрессивных слов.
Составляя некие списки слов, автор не задумывается и
об их системной упорядоченности:
«сука - потаскуха <...>
сука ебучая - брань-
сука мамина - брань,
сукин кот - мерзавец,
сукин сын - негодник,
сукины дети - брань. <...>
сучий потрох - брань,
сучий сын - сукин сын.
сучий хвост - брань,
сучка-<...> блядь,
сучье вымя - брань».
Тут уже дело не только в отсутствии определений
значений, грамматики и прочих лексикографических
элементов. Перед нами бесконечный список
словосочетаний, определяемых через самих себя («сучий сын» —
«сукин сын»), через многозначные просторечные лексемы
(«негодник»), через стилистические пометы («брань»). В
словаре, целиком посвященном русской брани, определять
что-либо как бранътък же бессмысленно, как ставить
возле каждого русского слова помету, что оно — русское. И
вообще перед нами длинный список аналогичных
выражений, большая часть которых представляет собой одно-
коренные синонимы, которые могли бы быть
разработаны в одной словарной статье на слово «сукин» или
«сучий». Процитированный фрагмент текста больше похож
на стихотворение, чем на 11 словарных статей научного
словаря.
Итак, в левой части словаря автор предлагает нам свое
обсценное восприятие благопристойного мира, а спра-
185
ва — дает его описание, опираясь на собственный
обеденный язык. Всякие удивительные слова мы встречаем не
только в левой части словаря, то есть в словнике, но и в
его правой части, где в научных толковых словарях
обычно располагаются грамматические справки, определения
значений, иллюстрации и т. п. Но в словаре П.Ф. Алешки-
на вообще нет никаких определений значений. В самом
деле, если составитель определяет слово «присеколить-
ся» как «прифордыбачить», «прокосоёбиться» как «прому-
хородиться», «проконаёбиться» как «проканителиться»,
«просраться» как «промотаться», а «сраная» вдк «обо-
сранная», то очевидно, что он не разделяет словарь на
какие-либо структурные части. Весь текст словаря
представляет собой вольные комбинации самых разных слов.
Какой-либо упорядоченности тут не обнаружить при всем
желании. Здесь можно усмотреть только желание
поразвлечь читателя. Понятно, что читателю подобные
словарные статьи ничего не «объясняют». Но это и хорошо,
поскольку адресат «словаря» не должен ничего понимать.
Функция такой книжки — не «объяснять», а удивлять. В
такой «словарь» можно включать всё что угодно, никакие
критерии отбора материала здесь не подразумеваются.
Словарная статья «Эрот — бог любви» соседствует здесь со
статьями «эклер — хуй», «эдельвейс — пизда» и «эмаль —
жопа». И все эти «жопы с хуями» даны именно так, как мы
их процитировали, без всякого научного аппарата, просто
списком, без грамматики, определения значений.
На букву «а» в словарь включены следующие лексемы:
«аборт», «абортаж», «абортмахер», «абортировать», «аборт-
ница», «автограф», «авторитет», «агрессор»,
«аккумуляторы», «акробат», «актив», «аноним», «ансамбль»,
«антихрист», «анус», «аппарат», «армячок» и «афедрон». Без
сомнения, ни одно из приведенных слов не является
«матерным». В основном это лексика литературного языка.
Слово же «афедрон» даже относится к высокому стилю.
На букву «к» в словарь включено восемьдесят слов,
большинство из'которых являются вполне литературными по
форме: «кабан», «какать», «каравай», «карусель»,
«кастрировать», «качать», «кентавр», «клизма», «клитор» и т. п.
Конечно, слово «какать« имеет какие-то неприличные
коннотации, но оно есть во всех словарях русского языка,
186
даже в словаре Д.Н. Ушакова. То же можно сказать и о
многих других словах, включенных в словарь П.Ф. Алеш-
кина. На букву «к» включено только четыре «матерных»
слова: «конаёбиться», «косоёбить», «косоёбиться» и «кри-
вохуй». Первый вывод напрашивается сам собой: данный
словарь не является «матерным». Собранные автором
обеденные материалы составляют лишь незначительную
часть работы. Поразительно, но в предисловии к словарю
автор утверждает, что в данный словарь включены «<...>
только «матерные», похабные, нецензурные слова. Иных
вы не встретите!». Забавно, но используемая в словаре
помета «замена мата» однозначно указывает на то, что автор
сам прекрасно понимает «не-матерность» включаемых им
материалов: «так-перетак» — «замена мата <...>».
Очевидно, что в словаре «русского мата» П.Ф.
Алешкина собственно «мат» лексикографически никак не
представлен, как бы мы ни определяли это понятие. Слова
и словосочетания «эдельвейс», «эклер», «эмаль», «эсэс»,
«эрекция», «эрогенная зона», «эрос», «эротизм»,
«эротомания», «этаж», «ругаться в три этажа», «этакая мать», «эш-
ка», «эякуляция» (это все имеющиеся в словаре слова на
букву «э») вряд ли кем-либо, кроме П.Ф; Алешкина, могут
быть восприняты как «матерные». Если же в словаре и есть
«матерные» слова, то они лишены определений значений,
грамматических справок и вообще каких-либо иных
признаков лексикографирования. Поэтому их нельзя считать
лексикографической экспликацией «мата». К ним можно
отнестись только как к речевому акту самого П.Ф. Алешкина.
Но это еще не всё. Книга эта вообще не является
толковым словарем, поскольку в самом деле не содержит никаких
толкований значений слов. Приведем примеры.
Семантику большинства наиболее многозначных и сложных по
смыслу выражений П.Ф. Алешкин определяет словами
«брань» и «ругательство»: едрёна корень—
«ругательство», едри твою мать — «брань», иди к коту под
хвост —«брань», иди к ядреной бабушке —«брань»,
к едрёной матери —«брань», едри его в качалку—
«брань», распронаебит твою бога мать —«начало
многоэтажной брани», ебёнть — «сорное слово». Но
читателю и так понятно, что перед ним словарь «матерной»
брани! Указания на «сорность», «бранность» и «матер-
187
ность», которые встречаются чуть ли не на каждой
странице, не могут заменять определений значений! Это
стилистические пометы. Но зачем они здесь, если весь
словарь, как гласит его название, посвящен бранной лексике?
И где толкования значений?
В других случаях вместо определения значения
определяется жанр языкового клише: мы ебали — не
пропали и ебем — не пропадем —«поговорка»; счастье —
не хуй, в руки не возьмешь —«поговорка»; дела, как
в Польше, — у кого хуй больше, тот и пан
—«поговорка» (к тому же неверно: это не поговорки, а
пословицы); работа не хуй — постоит — «поговорка»; папа
любит чай горячий, мама любит хуй стоячий —
«поговорка» (это не поговорки, а афоризмы). Никаких
толкований семантики здесь тоже нет. Мы не можем
считать частью иіоварянабор случайных языковых клише,
расположенных в хаотическом (не алфавитном) порядке и
лишенных каких-либо комментариев или «толкований».
Некоторые слова определяются друг через друга.
Предположим, вы иностранец и не знаете, что значит слово
«менструация». Вы открываете словарь П.Ф.; Алешкина и
читаете: менструация — «месячные». А что такое
«месячные»? На следующей странице дано определение:
месячные — «менструация». Круг замкнулся. А если у вас еще
остались вопросы, то в следующей словарной статье ясно
сказано: месяца — «месячные». Слово «пиздец»
определяется через слово «конец», а слово «конец» — через слово
«хуй». Не владеющий материалом читатель может
подумать, что «пиздец» — это «хуй». Вообще, хочется заметить,
что значение слова нельзя передавать через однокорен-
ной синоним: минетка — «минет», плоскозадая — «с
плоской задницей», ебачь — «ёбарь»... В других случаях
слова и выражения буквально определяется через самих
себя: ети — «еть», сучий сын — «сукин сын». Словарь
становится зеркальным отражением собственного абсурда.
Автор комментирует самые разные стороны текста,
даже его прагматику, но не дает определений значений:
ноги из жопы выдернуть —«угроза». В некоторых
случаях вообще невозможно понять, что перед нами —
прагматический комментарий или часть самого языкового клише:
«намазать жопу скипидаром — чтоб крутился побыст-
188
рей»? В самом деле, вторая половина фразы —
комментарий П.Ф. Алешкина или часть самого выражения?
К некоторым словам автор дает развернутые
определения. Но мы затрудняемся найти здесь хоть какой-нибудь
намек на упорядоченность. Автор просто путается в
словах: высрать— «выделить из живота говно» (что значит
«выделить» и из какой части «живота»?); поджопить —
«сделать своим подлокотником» (что значит
«подлокотником»?); подмандывать— «поддерживатьхуету» (вообще
непонятно, поскольку слово «хуета» само нуждается в
определении); презерватив — «резиновый мешочек,
который надевают на хуй перед еблей <...>» (почему
«мешочек», а не «пакетик», «футлярчик» или «чехольчик»?);
король— «знаменитый в своей среде
гомосексуалист-кентавр» (что значит «кентавр»?); всекелить — «втереть
лаской» (что «втереть», кому и куда?). К несчастью, всё
это не шутка, а пример лингвистического маразма.
Как видно из приведенных примеров, в книге
отсутствуют какие-либо принципы подачи материала. Как
следствие, многие выражения даны в словаре по нескольку
раз, например, выражение «едри твою мать» встречается
в словаре в двух местах — на «мать» и на «едри». Какая
разница между идиомами «кинуть палку», «палку кинуть» и
«палку бросить»? Почему значения всех трех вариантов
одного и того же выражения определяются по-разному?
Почему слова «хуякать», «хуярить» и «хуячить» — даны в
отдельных статьях, а «похуякать», «похуярить» и «похуя-
чить» — в одной статье?
В книге полностью нарушен алфавитный принцип
подачи фразеологии. Она дана просто-напросто в хаотическом
порядке. Даже лексика не всегда дана в правильном
алфавитном порядке: распиздйть, распиздёть, распиздйться.
Автор совершенно не владеет материалом, не знает
точного значения слов. Иногда одно и то же слово на разных
страницах определяется по-разному: менжа — «жопа», а
минжа — «пизда». Другие слова снабжаются явно
неточными определениями: прибор — «муде».
К сожалению, часть определений составитель
некритически заимствовал из чужих словарей, хотя в аннотации к
книге издатели смело утверждают, что это «первый в мире
толковый словарь русского мата». Так, например, в работе
189
А. Флегона «За пределами русских словарей» «ебля с
пляской» определяется как (1) «огромное веселье», (2)
«беспорядок, шум, кавардак». У П.Ф. Алешкина то же выражение
определяется как «большое веселье, когда стоит шум,
кавардак». У Флегона сочетание слов «заебать до смерти»
определяется так: «оставить женщину <...> мертвой после
<...> совокуплений». У П.Ф. Алешкина: «<...> оставить
женщину мертвой после ебли». Непонятно, зачем
профессиональный литератор заимствует безграмотные определения
из неавторитетных словарей. Не говоря уж о том, что в
данном значении это сочетание не является
фразеологическим и вообще не нуждается в отдельном определении.
Из словаря А. Флегона П.Ф. Алешкин заимствовал
совершенно некритически множество слов. Именно через
словарь Флегона сюда, к примеру, в плагиативном порядке
попали авторские неологизмы из повести А.И.
Солженицына «Один день из жизни Ивана Денисовича»: «хуем-
ник», «хуяслице», «хуймется» и многие другие, причем
А. Флегон легко и непринужденно заменил «ф» на «х» (у
Солженицына, соответственно, фуемник, фуяслице, фуй-
мется). В таком виде все эти слова и стали кочевать из
словаря в словарь, поскольку плагиат на сегодняшний день —
основной способ составления словарей жаргона, сленга и
просторечия в России. А слово «хуймется» как
употребляется у Солженицына в третьем лице прошедшего времени,
так и попало к Флегону, а оттуда — к П.Ф. Алешкину. Но
Флегону простительно, он, во-первых, не филолог, а во-
вторых, для него русский язык не родной. Не зная
значения слово «хуемник», П.Ф. Алешкин в затруднении
определил его просто и легко — «брань». Между тем этот
неологизм употреблен Солженицыным в значении «подъемник».
Примеры можно было бы множить.
Значительная часть слов и выражений в книге П.Ф.
Алешкина сопровождается весьма экзотическими
«матерными» определениями значений, что позволило включить в
словарь «мата» вполне литературную лексику: балда —
«большой хуй»; б а лун — «хуй»; блин — «блядь»; член —
«хуй»; пенис — «<...> хуй»; палка — «хуй»; аппарат —
«хуй»; авторитет — «хуй»; антихрист — «хуй»; банан —
«хуй»; бормашина — «хуй»; бюджет — «пизда»;
валторна—«...жопа»; вентиль—«хуй»; генератор —«хуй»; ги-
190
тара— «пизда»; дерьмо — «говно»; дудка— «<...>жопа»;
дуло — «хуй»; дуля — «хуй»; дупло — «жопа»; дурак — «хуй»;
жерло — «жопа»; бункер — «пизда»; градусник— «хуй»;
жить— «ебаться»; любить— «ебать»; любодейство —
«ебля»; нахал — «хуй»; обладание — «ебля»;
прелюбодеяние — «ебля»; оральный секс — «ебля в рот». Но
позвольте, в русском языке любое существительное,
обозначающее предмет продолговатой формы, может быть
использовано как эвфемизм для обозначения мужских
гениталий. В самом деле, если в словаре есть слово «банан»,
то почему нет слова «огурец»? Любое существительное,
обозначающее некую емкость или сосуд, может быть
использовано как эвфемизм для обозначения женских
гениталий, и так далее. Идя по этому пути, можно включить в
словарь мата весь литературный язык.
Значения других слов передаются Петром Алешкиным
через сентенции, содержащие «матерное» слово:
девственница— «девушка, ни разу не ебавшаяся с мужчинами».
В некоторых случаях значения простых слов передаются
через сложные фразеологизмы: заездить — «довести до
гроба еблей», смандёхивать — «вешать лапшу на уши».
Фразеология многозначна, она сама нуждается в
определениях и не может быть задействована в метаязыке
определения значений.
Иногда вполне приличные слова снабжаются
субъективной и порой весьма непристойной авторской оценкой:
извращенец — «тот, кто предпочитает ебать в рот или в
жопу»; кобель — «мужчина, который любит ебаться с
несовершеннолетними девочками»; обсосать — «сделать
минет нескольким мужчинам»; поставить на четыре
кости — «выебать мужчину»; парить — «ебать мужчину».
Можно предположить, что для кого-то из читателей
оральный секс не является извращением, кто-то делает минет
не нескольким мужчинам, а одному и, наконец, очевидно,
что «ебать» можно не только мужчину, но и женщину, да
и вообще, как гласит русская пословица, — «всё, что
шевелится».
Словарь содержит бесчисленное множество логико-
грамматических ляпсусов. Так, например, автор не
понимает, что значения глаголов и глагольных идиом не могут
передаваться через существительные (лежать — «о невоз-
191
бужденном хуе»; бросаться на хуй —«желание поебать-
ся»; стать раком — «на четвереньки»), прилагательных —
через существительные (ослиный — «хуй большого
размера»), причастий — через существительные (надрочен-
ный — «возбужденный хуй»), существительных — через
глагольные сочетания (скотоложество — «ебаться с
животными»; через сраку—«раком ебать <...>»; по
большой нужде — «посрать»); наречий — через глагольные
сочетания (на стояка— «выебать стоя»);
существительных с глаголом — через наречие (хуй принес —
«неожиданно»). Иногда просто невозможно понять, что через
что определяется: на полшестого — «не стоит хуй». Как
можно объединять в одной словарной статье, в одном
гнезде два совершенно разных слова с разными корнями,
разными значениями, не сопровождая их при этом какими-либо
специальными комментариями: соло, сопливый — «хуй».
В словаре полностью отсутствует научный аппарат. Нет
ни списка источников, ни списка использованных словарей,
ни каких-либо помет, ни грамматических справок, ни статей,
посвященных структуре словаря или определению
понятия «мат». Зато по необъяснимой логике такие
определения есть в тексте самого словаря: замысловатый мат —
«доинное ругательство»; мат — «неприличная брань»;
матерный — «похабный»; нецензурное слово — «мат».
Таким образом, введя «матерные» слова в определения
значений лексем, Петр Алешкин не только не отличает
язык-объект от метаязыка его описания, но даже не
может отделить сам словарь от его научного аппарата,
включив определение понятия «мат» внутрь самого словаря
«мата».
Большинство словарных статей не снабжены
примерами и состоят просто из двух-трех слов: отпиздяшить-
ся — «отчалить». Но в тех случаях, когда иллюстрации
появляются, они не соответствуют определению значения: так, к
статье вакханка — «развратница» в качестве
иллюстрации появляется «вакханка молодая» из стихотворения
A.C. Пушкина «Нет, я не дорожу мятежным
наслажденьем...». Очевидно, что поэт имел в виду несколько иное
значение.
Удивительно, что не все слова, которые попадаются в
иллюстративной части словаря, вынесены в словник (сло-
192
во «хуйло» дается внутри словарной статьи на слово «ялдо-
метр», но отсутствует в словнике словаря).
Основа любого словаря — это метаязык определения
семантики слов. Каков же метаязык, выработанный Петром
Алешкиным? Для определения значений слов, по большей
части общеупотребительных и вполне литературных,
он использует следующие лексемы: «бзнуть», «блядство»,
«блядюшка», «выёбистый», «выебнуться»,
«выкобениваться», «говно», «дешевка», «доебаться», «дристун»,
«дрочить», «ебака», «ебаться», «живчик», «жопа», «заёб», «за-
ебать», «залупа», «замучивать», «засранец», «измутызги-
вать», «измызгать», «изъебаться», «колупаться», «мало-
фья», «манда», «минетить», «мудак», «муде», «обалдевать»,
«отканителиться», «отхмуриться», «пердёж», «перевы-
делываться», «перекалывать», «пересикивать»,
«перечудить», «пиздёнка», «пиздюк», «повалтозить», «поебаться»,
«поебон», «поссать», «похотник», «прифорсить», «при-
фордыбачить», «развыёбываться», «размухородиться»,
«расканителиться», «секель», «сисястый», «смыться», «спиз-
дить», «срать», «трах», «уёбывать», «хуёвинка», «хуевый»,
«хуесос», «хуй», «хуйня». Как видим, язык автора словаря
состоит из «матерных» слов, авторских неологизмов,
редких жаргонных слов и т. п.
Интересно, что не все «матерные» слова, которые
использует сам Петр Алешкин в определениях значений слов,
вынесены в словник словаря. Так, например, «лобковая
вошь» определяется как «мандавошка», «мандавоха» — тоже
как «мандавошка», а самой «мандавошки» в словаре нет.
То есть сами определения словаря П.Ф. Алешкина
нуждаются не только в дополнительных определениях, но даже
в отдельном специальном словаре. Итак, пред нами
словарь, которым невозможно воспользоваться.
Лингвистическую терминологию автор заменил
«матерной» бранью. Если это и словарь, то он вывернут
наизнанку. Это словарь литературных слов, используемых для
описания сексуальной по преимуществу сферы
деятельности человека, с переводом на собственный «матерный»
идиолект П. Ф. Алешкина. И не случайно автор в некоторых
случаях определяет значение слов через собственные
«матерные» неологизмы, занимаясь словотворчеством: мок-
ропиздая — «многоебучая»... Мы предполагаем, что это
193
неологизм, поскольку слова «многоебучая» ни в словнике
словаря Алешкина, ни в других словарях русского мата нет.
Такие принципы работы с русской лексикой приводят к
тому, что даже хорошо владеющий материалом специалист
не всегда может понять смысл той или иной словарной
статьи. Приведем целиком в качестве ребуса несколько
словарных статей, смысл которых принципиально
неинтерпретируем: загреб — «заеб»; перемандяхаться—
«перебиться»; и в рот, и в сраку— «поговорка»;ииздюлиться —
«шлепаться»; подмандяхиваться — «подклеиваться»;
хам — «хуй»; хуеглот — «брань»; трандюк — «пиздюк
<...>»; шобла-ебла— «хуевая компашка <...>».
Данная книга не заслуживала бы рецензии, если бы не
была заявлена в предисловии как «научный толковый
словарь матерных слов», если бы не вышла огромным
тиражом уже третьим изданием, если бы не была сделана
известным издателем, писателем, сценаристом, занимающим
высокие посты в Союзе писателей и в Литфонде Петром
Федоровичем Алешкиным, прикрывшимся
вымышленным именем доктора филологических наук, профессора
Т. В. Ахметовой. Вот так кормчие великой русской
словесности делают деньги на русском «мате».
8. «Мат» в раю
«Multimedia Paradise» и «Алготех» выпустили в 1997
году CD-ROM «Русский мат от А до Я» с подзаголовком
«Велик и могуч». В аннотации к компакт-диску указано, что он
содержит 3500 ругательных слов и выражений с толкованиями
«нормальным языком» и столько же анекдотов, частушек,
цитат из классиков и неклассиков. Данный компакт-диск
сделан на основе книги П.Ф. Алешкина «Русский мат:
Толковый словарь» (М., 1997). Но компакт еще и превосходит
книгу по части абсурда, хаоса и беспринципности. Он, во-
первых, содержит видеоряд, который изготавливался
механическим перекачиванием первых попавшихся
картинок из Интернета и случайных журналов. И, во-вторых, в
нем появились недостающие текстовые примеры к словам,
которые в словаре отсутствуют. Просто какие-то обрывки
фраз, поставленные для заполнения пустот. Поразительно,
194
но все эти иллюстративные ряды (как текстовый, так и
изобразительный) никак не связаны с текстом самого
словаря. Изобразительный ряд — это фрагменты из
порнокомиксов, картинки из порножурналов, случайно
подвернувшиеся под руку карикатуры, просто фотографии и
рисунки. Так, выражение «без пиздежа» иллюстрируется
изображением женщины, которая стоит и держит на руках
крупную рыбу; выражение «аппарат» в значении «пенис» —
изображением макета акулы; выражение «а хуй его
знает» — черным пятном с глазами. То же самое черное пятно
иллюстрирует слово «ебаться». Словосочетание «анальное
отверстие» сопровождается изображением автомобиля с
открытым передним капотом. Большинство картинок —
это мало чем отличающиеся друг от друга девочки из
порножурналов в самых разных позах. Однако попадаются
какие-то тетки в экстравагантных костюмах, животные,
пейзажи, фрагменты какой-то космической эпопеи, сказочные
рыцари и даже вооруженные до зубов феминистки.
Почему рыцари в железных латах олицетворяют «говнодава» и
«грозного ебаря»? Читатель остается в недоумении — кто
же все-таки эти великие непобедимые сказочные герои —
«говнодавы» или «ебари»? И почему слово «домандяки-
ваться» в значении «приставать» проиллюстрировано
картинкой с американскими солдатами времен Войны за
независимость? До кого «домандякались» бедные янки?
Выражение «в говне ковыряться» поясняется изображением
каких-то летающих ведьм. Думается, что все эти
иллюстрации являются заслуженным и достойным украшением к
словарю П.Ф. Алешкина. Иллюстратор работал в той же
манере, что и П.Ф. Алешкин. Точно так же, как и
изобразительные илюстрации, подбирались и недостающие
текстовые примеры. Слово «всконаёбывать» сопровождено
следующим примером его употребления: «Все генитальное
просто. Фольклор». Читатель просто не верит своим глазам!
А где же само слово «всконаёбывать»? А вот еще загадка:
употребление какого слова проясняется следующим
примером: «Сколько супругов вы имели? Собственных или
вообще? Фольклор». Ни за что не догадаетесь. Данная цитата
иллюстрирует слово «всхуйнуться»! А значение слова «вху-
якиваться» проясняется следующим контекстом его
употребления: «Ты не Венера, но в тебе есть что-то венеричес-
195
кое. Фольклор». Изучая подобный материал, читателю
остается сделать только два вывода: либо он (читатель) сошел
с ума, либо помешались составители словаря и компакт-
диска. Нет, никакого обмана зрения, никакого
умопомешательства. Просто так делаются словари в России.
9. Плагиат по-русски
Основа всех без исключения отечественных словарей
«мата» — откровенный плагиат. В основу плагиата в
большинстве случаев положены западные безграмотные
словарики «мата». Раз десять пиратствовали словарь А. Флего-
на и переиздавали или без указания места и года издания,
или с фальшивыми выходными данными (например, в
издании, вышедшем в Москве в 1993 году, указывались
следующие выходные данные: Лондон, 1973). Словарь Драй-
монда и Перкинса (Drummond, Perkins, 1980) только в
1992 году был дважды источником откровенного плагиата:
он был издан под фамилией А. Волкова в Минске и под
фамилией Н. Кабанова в Риге.
Толковый словарь русского «мата» Н. Кабанова — это
изуродованный до неузнаваемости американский
словарик. Между тем в маленькой заметке «От составителя»
Николай Кабанов указывает, что «настоящий словарь
является первым открытым и массовым толковым
словарем русского мата» (Кабанов 1992: 3). Словарь
представляет собой переведенное на русский язык второе
издание американского словаря: Drummond, Perkins 1980. В
рижском издании сохранилось большинство ошибок и
опечаток (в том числе путаница в алфавитном
расположении слов) всё того же американского словаря. Так,
например, в обоих словарях дан сначала глагол «выябы-
ваться», а потом «вхуячить». Николай Кабанов дополнил
американский словарь также парой сотен собственных
ошибок.
В начале 1993 года в Москве поступил в продажу
«Международный словарь непристойностей». В предисловии
редактор «сожалел» о том, что скабрезные слова «широко
проникли в нашу разговорную речь, а в последнее время —
и в художественную литературу (ср.: Э. Лимонов, С. Довла-
196
tob). Тематическая свобода позволила писателям и
журналистам рассказывать о таких ситуациях, которые раньше
для них были запрещенными» (Кохтев 1992: 5). Вряд ли
редактор незнаком с обеденными сочинениями A.B.
Олсуфьева, И.С. Баркова, М.Д. Чулкова, И.П. Елагина, А.П.
Сумарокова, A.C. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.П.
Полежаева, H.A. Некрасова, М. Кузмина, С. Есенина, Д. Хармса,
В. Маяковского и многих других русских писателей
прошлого (при том, что многие тексты были изданы в свое
время). В то же время редактор утверждает, что все «эти
слова и выражения встречаются в речи, но не
зафиксированы, не объяснены в словарях» (Там же 1992: 5). Может
показаться, что ни составители, ни редактор не
располагали ни западными, ни отечественными словарями,
содержащими обеденную лексику, и что они проделали
самостоятельную работу по сбору лексических материалов и
составлению словаря. В предисловии редактор указывал,
что составители опирались на первое издание «Толкового
словаря живого великорусского языка» В.И. Даля,
вышедшее в 1863—1865 годах, «Материалы для словаря
древнерусского языка по письменным памятникам» И. И.
Срезневского, опубликованное в трех томах в Петербурге в
1893—1903 годы, «Этимологический словарь русского
языка» А. Преображенского, отпечатанный в Москве в 1910—
1914 годы, и издаваемый с 1975 года «Наукой» «Словарь
русского языка XI—XVII вв.» (см.: Кохтев 1992: 7).
Странно, что составители не указывают третьего издания
словаря Даля (1903—1909), немецкого издания словаря Фасмера
(1950—1958) и других сводов с обсценной лексикой. Быть
может, интересующий нас словарь сделан на основе
специально собранных для него и самостоятельно
обработанных лексических материалов?
Достаточно его открыть, чтобы убедиться в том, что
его авторы были знакомы с указанными нами
источниками. Сравнительный анализ показывает, что
русско-английская часть данного словаря представляет собой
сокращенное воспроизведение словаря Драймонда—Перкинса 1987
года. Плагиату подвергся, видимо, и словарь Кристины Ку-
ницкой-Петерсон (см.: Kunitskaya-Peterson 1981). Так,
например, в словарной статье на слово «жопа» не только
определения значений, но и все одиннадцать примеров
197
(языковых клише) даны в той же редакции и
последовательности, что и в американском словаре: Drummond—
Perkins 1987. Совпадение абсолютно исключается,
поскольку выражений со словом «жопа» в русском языке
сотни, а последовательность их в американском словаре — по
алфавиту первого слова. В русском словнике
«Международного словаря непристойностей» нет ни одного
слова, отсутствующего в словаре Драймонда—Перкинса, при
всей скромности его словника. Соответственно, почти все
примеры и определения значений перенесены из
американского словаря с сохранением его пунктуации и ошибок.
«Хер» остался «synonimous with хуй in various expressions»,
в словарной статье «тетка пришла» «(her) period has bi-
gun» сохранены даже скобки. В других словарных статьях
авторы решили внести некоторые изменения если не в
определения значений, то хотя бы в примеры. Так, в
словарной статье на слово «пизда» «авторы» заменили в
выражении «Моя поездка в Киев пиздой накрылась» Киев на
Москву, а все фразеологизмы дописали так, чтобы
получились законченные предложения (например, вместо: «дать
кому по пизде мешалкой», ставится: «он дал ему по пизде
мешалкой»). Таким образом, с лексикографической точки
зрения данный плагиат можно охарактеризовать еще и
как безграмотный. Если бы А.Н. и H.H. Кохтевы хотя бы
опирались на собственное языковое чутье, то они бы не
переносили механически совершенно приличные
литературные эвфемизмы из американского словаря: «гости»,
«Дунька Кулакова», «парижский насморк», «палка»,
«пистон», «тетка», «трамвай».
В предисловии «редактор» А.Н. Кохтев написал, что
все эти слова «характеризуют людей <...> невысокого
культурного уровня» (Кохтев 1992: 5). В послесловии доцент
H.H. Кохтев, объясняя происхождение обсценной
лексики, цитирует профессора В.В. Колесова. Оказывается, что
все эти слова «и на самом деле имеют отношение к
временам татарского ига. На севере, где иго было послабее,
таких слов почти не употребляют, тогда как на юге они
обычны» (Там же: 83). Далее H.H. Кохтев выражает
«сожаление», что «крайние вульгаризмы, табуированные слова
всё больше и больше проникают в устную разговорную
речь» (Там же: 85). По его мнению, «особенно ярко это
198
проявилось в последнее десятилетие, когда происходило
резкое социальное расслоение общества, его
перестройка и падение уровня культуры речи» (Кохтев 1992: 85).
Если буквально понимать авторов, то может показаться,
что «татарское» (!) иго и перестройка должны привести
к тому, что в конце концов русская речь сведется почти
исключительно к непристойным словам. Quod scripsi,
scripsi.
Одна из последних новинок — словарь табуированной
лексики А. Волкова (см.: Волков 1993). В «Предисловии»
автор упоминает среди прочих «"Краткий словарь
русских непристойностей", составленный американцами
Д. Драммондом и Г. Перкинсом» (Там же: 6) и заявляет,
что «настоящая работа базируется в основном на
вышеперечисленных источниках и словарях, но включает, кроме
того, и дополнительный материал» (Там же: 6). Нужно
сказать, что при сравнении словарей нам не удалось
обнаружить не только какого-либо «дополнительного
материала», это попросту переиздание американского словаря:
Drummond, Perkins: 1987. Беспринципности А. Волкова
можно только удивляться.
10. «Мат» в воровских словарях
Обсценная лексика оказалась одновременно
включенной в новейшие русские словари воровской лексики. В
«Толковом словаре уголовных жаргонов» (см.: Дубягин,
Бронников 1991) имеется несколько десятков обсценных
слов в общеупотребительных значениях: «дриснуть»,
«дрочить», «елда», «елдак», «залупа», «мандраж»,
«мандражировать», «молофья», «молофейка», «поц», «секель» и др.
Вопрос о статусе обсценной лексики в языке, конечно,
сложен, но в лексикографической практике она, безусловно,
должна быть либо вынесена в отдельный словарь, либо
включена с соответствующими стилистическими
пометами в словарь интердиалектной (просторечной) лексики
как экспрессивный, «сниженный» пласт.
Авторы «Словаря тюремно-лагерно-блатного жаргона»
(см.: Балдаев, Белков, Исупов 1992) проделали большую и
нужную работу по сбору лексического материала, но тем
199
не менее это издание представляет собой
непрофессионально подготовленные словарные материалы, примерно
на 30% состоящие из общеупотребительной
интердиалектной лексики. На этой работе, как и на большинстве
других, крайне отрицательно сказалось то, что в авторском
коллективе не было ни одного профессионального
филолога. Такие словарные материалы будет непросто
использовать при составлении какого-либо словаря, поскольку
многочисленные диалектизмы, неологизмы,
окказионализмы, редкие и устаревшие слова и многие другие
специфические лексемы никак не выделяются. По количеству
обсценной лексики, которая также никак не выделена,
данное издание в ряду русских воровских словарей стоит
на первом месте. Он содержит около сотни обсценных
лексем: «бздеть», «бздиловатый», «бздо», «блядь», «верти-
жопый», «въебуриться», «говноед», «говномес», «дрис-
тать», «дрочила», «дрочить», «дрочиться», «ебистос»,
«ебистосить», «елда», «елдак», «елдарить», «елдач», «ел-
дачить», «елдаш», «елдырить», «елдырь» и другие.
В 1992 году был переиздан мюнхенский словарь
«Русская Феня» (см.: Быков 1992). В предисловии автор
критически отмечает, что другой американский словарь
русского воровского жаргона — словарь А. Скачинского — «<...>
содержит большое количество бранных слов <...>». При
этом словарь самого В. Быкова содержит огромное
количество обсценных слов в общеупотребительных
значениях. Слова приводятся с общеупотребительными, но
неточно сформулированными значениями: блядки —
«танцевальный вечер, танцы»; бздеть— «трусить»; бзделоватый —
«трусливый»; елда, елдак — «мужской половой член
больших размеров»; задроченный — «хилый»;
залупаться— «задираться»; замандячить — «смастерить»;
мудозвон — «болтун» и многие другие. Вообще хочется
отметить, что большинство словарей различных жаргонов
содержит огромное количество обсценной лексики. Это
вполне определенно говорит о восприятии «мата»
рядовым носителем языка как социолекта.
На протяжении 20-го столетия воровские словари быстро
росли вширь, включая в себя всё больше обсценных и других
общеупотребительных слов. По обилию обсценной лексики
последним отечественным словарям не уступают и западные
200
(см.: Rossi 1987). Хотя объем последних воровских словарей
дошел до десяти тысяч словарных статей и более, качество
их не улучшается и в них включается всё больше и больше
интердиалектной и, в частности, обеденной лексики.
11.« Мат» в словаре говоров
«Матом», как это ни странно, увлекались и мэтры
отечественной лексикографии. Первые 33 выпуска сводного
«Словаря русских народных говоров» (1965—1999+)
включают около ста обеденных слов, причем значительная их
часть дана явно в общеупотребительных значениях
(иногда с неточными определениями): бздыкать —
«дурно пахнуть, вонять»; дристик— «уличная кличка»;
дрочить — «вести безнравственный образ жизни (о девушке)»,
и тут же пример, подтверждающий общеупотребительность
данного значения: «девка дрочится — шалит, балуется,
гуляет»; жопа— (1) «задняя или нижняя часть какого-либо
предмета»; (І)жопан — «толстый ребенок»; жопанья-
«толстая женщина»; жопка—(1) «нижняя часть какого-
либо предмета»; жопочка— (2) «тупой конецу яйца»; за-
лупердень— «невежественный, неразвитый человек,
деревенщина»; мандраж— «дрожь от нетерпения,
возбуждение»; муде — (1) «место соединения якорных лап»,
(2) «в названиях растений» (и примеры: «муде заячьи,
муде котовы, муде кошачьи»); муденица— «род похлебки»;
пердень— «брюхо» (и пример: «Набил ли пердень-ет?»);
пердило — (1) «О высоком здоровом, видном человеке»,
(2) «прозвище»; пердить— «издавать призывные звуки»;
пердунина— «бранное слово»; «невежа, олух».
Очевидно, что именно отсутствие более или менее сносного
словаря обеденных слов поставило составителей столь
уважаемого издания в трудное положение и привело к неизбежным
недоразумениям, которыми пестрит это издание.
12. Словарь без слов
Работа А. Файн и В. Лурье (см.: Файн, Лурье 1991)
названа «материалами к словарю», но по принципам сбора
201
материала и его организации является незаконченным
наброском к словарю интердиалектизмов. Этот словарь
замечателен тем, что в нем часть обсценных слов дана с
купюрами (с точками прямо в словнике), а часть — без:
«бздеть», «бля», «блядка», «взбледнуться», «вздрочить»,
«долбоёб», «дрочить», «жопа», «за...бать», «за...быш», «за-
мудохаться», «злое...учий», «кабздец», «мудохаться», «на-
пиздеть», «напиздить» и т. п. Словарь — не
художественный текст и купюры (тем более в словнике) недопустимы.
13. «Мат» в этимологических словарях
Трагична судьба обсценных этимологии. Немецкое
издание словаря Фасмера (см.: Фасмер 1950—1958) включало
в себя почти все основные непроизводные обсценные
лексемы. В гейдельбергское издание не вошло только два
таких слова: «елда» и «ссать». Применительно к слову
«манда» автор ограничился пометой «не ясно». Под нажимом
Ларина из первого русского издания были изъяты статьи
на слова: «блядь», «ебать», «пизда» и «хуй», оставлены:
«бздеть», «дристать», «дрочить», «жопа», «манда», «мудр»,
«пердеть», «срать» и добавлена статья на слово «елда». В
заметке «От редакции» такое решение объясняется
следующим образом: «<...> редакция <...> сочла необходимым
снять несколько словарных статей, которые могут быть
предметом рассмотрения лишь узких научных кругов» (см.:
Фасмер 1986/1: 6). Если учесть, что гейдельбергское
издание имеется только в нескольких самых крупных
российских библиотеках, то крут этот долгое время был «узким»,
скорее, в географическом отношении. Да и вообще,
логика ученых представляется не вполне последовательной, не
говоря уж о самих принципах подхода к
лексикографической классике. Почему, например, слово «блядь» должно
рассматриваться «в узком научном кругу», а слова «мудр»,
«манда», «срать» и «жопа» должны стать достоянием
широкой общественности? Надо заметить, что сам Фасмер
допустил в своем словаре применительно к обсценному
материалу только одну оплошность: вслед за статьей на слово
«пизда» появилась статья на слово «пизделяпнуть», явно
не нуждающееся в отдельной этимологической справке.
202
Выходящий с 1974 года под редакцией О.Н. Трубачева
«Этимологический словарь славянских языков» включает
в себя статьи на некоторые слова, исключенные из
русского Фасмера (см.: Трубачев 1975:114—115): «*Ые<іь: ст.-слав.
БЛЯДЬ» (с указанием современного значения и с
отсылкой к Далю). В выпуске 8 (см.: Трубачев 1981: 188)
приводится: «*jebati: ... русск. jebatb, jeti, jebu» (с отсылкой к
Далю: указано, что первоначальная форма, видимо, jebti).
Но новых этимологии, касающихся обсценного
материала, мы здесь пока не обнаружили.
14. Прокрустово ложе лексикографа
Словарь — это прокрустово ложе языка, и этого не надо
бояться. Но уродовать язык целенаправленно — тоже
нежелательно. Словарь «мата» — суперфилологический текст,
но, к сожалению, он до сих пор воспринимается как
мрачная похабщина, как акт брани самого автора словаря.
Может быть, всё это связано с тем, что сам акт произнесения
или написания обсценного слова традиционно
воспринимается в России как проявление «без-культурья». Как
следствие, обсценный словарь стал продуктом массовой
«лубочной» традиции. Но если в устной речи «мат»
маркирован как нечто «некультурное», то это не значит, что
исследователь может работать с этим материалом, не
придерживаясь никаких лексикографических правил.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Drummond, Perkins 1979 — Drummond D. A., Perkins G. Dictionary of
Russian Obscenities, 1979.
Drummond, Perkins: 1980 — Drummond D. A., Perkins G Dictionary of
Russian Obscenities, 2 rev. ed. Berkley, 1980 .
Drummond, Perkins 1987 — Drummond D. A., Perkins G Dictionary of
Russian Obscenities. 3 rev. ed. Oakland, 1987.
Kunitskaya-Peterson 1981 — Kunitskaya-Peterson C. International Dictionary
of Obscenities: A guide to dirty Words in Spanish, Italian, French, German,
Russian. Oakland, 1981.
Rossi 1987 — Rossi J. The Gulag Handbook: A Historical Dictionary of
Soviet Penitentiary Institutions and Terms Related to the Forcet Labour
Camps With a Preface by Alain Besancon. London, 1987.
203
Wheeler, Marcus 1972 — The Oxford Russian-English Dictionary. Oxford:
Clarendon Press, 1972.
Балдаев, Белко, Исупов 1992 — Балдаев Д.С., Белко В.К., Исупов ИМ.
Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: Речевой и графический
портрет советской тюрьмы. М., 1992.
Бродский 1992 — Бродский И. А. Форма времени: (Стихотворения,
эссе, пьесы) / В. Уфлянд [сост.]. Минск: Эридан, 1992. Т. 2.
Быков 1992 — Быков Владимир. Русская Феня: словарь современного
интержаргона асоциальных элементов. München, 1992 .
Быков 1994 — Быков Владимир. Русская феня: Словарь современного
интержаргона асоциальных элементов. Смоленск, 1994.
Волков 1993 — Волков А. Англо-русский и русско-английский словарь
табуированной лексики. Минск, 1993.
Гаспаров 1991 — Гаспаров М.Л. Классическая филология и цензура
нравов // Лит. обозр. 1991. № 11. С. 4—5.
Дубягин, Бронников 1991 — Дубягин Ю. /7., Бронников А. Г. Толковый
словарь уголовных жаргонов. М., 1991.
Кабанов 1992 — Кабанов Николай. Русский мат: Толковый словарь.
Рига: Playhoyse, 1992.
Кохтев 1992 — Международный словарь непристойностей:
Путеводитель по скабрезным словам в русском, итальянском, французском,
немецком, испанском, английском языках / Кохтев А. Н. [ред.]. [М.],
[1992].
Кунин 1994 — Кунин В.В. Русские на Мариенплац: (Рождественский
роман в 26 частях). СПб.: Новый Геликон, 1994.
Ожегов 1953 — Ожегов СИ. Словарь современного русского
литературного языка / Обнорский СП. [ред.]. 3-е изд. М., 1953.
Ожегов, Шведова 1993 — Толковый словарь русского языка /
Ожегов СИ., Шведова Н.Ю. [ред.]. М.: АЗЪ, 1993.
Скворцов 1993 — СкворцовЛ.И. Стихия слова: (О русском мате) //
Русский декамерон. М., 1993.
Солженицын 1962 — Солженицын А.И. Один день Ивана
Денисовича // Новый мир. 1962. № 11.
Трубачев 1974+ — Этимологический словарь славянских языков: Пра-
славянский лексический фонд / Трубачев О.Н. [ред.]. Вып. 1—26+. М.:
Наука, 1974-1999+.
Трубачев 1975 — Этимологический словарь славянских языков: Пра-
славянский лексический фонд / Трубачев О.Н. [ред.]. М.: Наука, 1975.
Вып. 2.
Трубачев 1981 — Этимологический словарь славянских языков: Пра-
славянский лексический фонд / Трубачев О.Н. [ред.]. М.: Наука, 1981.
Вып. 8.
Трубачев 1990 — Этимологический словарь славянских языков: Пра-
славянский лексический фонд / Трубачев О.Н. [ред.]. М.: Наука, 1990.
Вып. 17.
Трубачев 1993: Этимологический словарь славянских языков: Пра-
славянский лексический фонд / Трубачев О.Н. [ред.]. М.: Наука, 1993.
Вып. 18.
Успенский 1988 — Успенский Б.А. Религиозно-мифологический ас-
204
пект русской экспрессивной фразеологии: (Семантика русского мата в
историческом освещении) // Semiotics and the History of Culture: (In
Honor of Jurij Lotman studies in Russian) / UCLA Slavic Studies Ohio,
1988. Vol. 17.
Файн, Лурье 1991 — Фаин А., Лурье В. Материалы к словарю
молодежного сленга // Файн А., Лурье В. Все в кайф! СПб., 1991.
Фасмер 1950—1958 — VasmerM. Russisches etymologisches Werterbuch,
Vol. 1-3, Lieferung 1-27, Bogen 1-44. Heildelberg, 1950-1958.
Фасмер 1986 — Фасмер M. Этимологический словарь русского языка:
В 4 т. 2-е изд./ Трубачев О.Н. [ред.]. М., 1986.
Флегон 1973 — ФлегонА. За пределами русских словарей. 3 ed. /
London, 1973.
С. Салупере
НЕПРИЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОД
О возможности и нужности
перевода обсценной лексики
Общеизвестно, что употребление неприличной
лексики отличается в разных культурах и что внутри отдельных
культур имеются отличия в пределах ее использования в
письменной и устной речи. Кроме того, происходят
временные изменения, которые протекают различными
темпами внутри разных культур. В нашей статье
сравниваются эстонское и русское культурные пространства. В
русском языке доля обсценной лексики всегда была выше,
нежели в эстонском (и, возможно, во многих других
языках). В то же время в письменном русском тексте
использование подобных слов строго ограничивалось. Это
приводило к большим трудностям при переводах некоторых
текстов.
В эстонской же культуре различение устной и
письменной речи по части использования табуированной лексики
никогда не было столь строгим. Возможно, это
обусловлено культурно-историческими причинами, поскольку
эстонцы — народ земледельцев, и, чем ближе человек к
природе, тем спокойнее он относится к своему телу и
описаниям физиологических процессов. Например, слова
«дерьмо» и «жопа», используемые в текстах Пеэтера Сау-
тера, среди эстонского сельского (и не только) населения
вполне употребимы и не считаются неприличными.
Что касается различия в отношении к обсценной
лексике в эстонском и русском культурном пространствах, то
тут ярким примером может служить почти
одновременный перевод книги Курта Воннегута «Завтрак для
чемпионов» на эстонский и русский языки. Если эстонский текст
206
был вполне адекватен и без пропусков, то в русском
переводе отсутствовали те места, где героев характеризовали
по размерам их гениталий, а также часть картинок (в
частности — общеизвестные asshole и beaver).
Вместе с перестройкой и наступлением свободы слова
прежде всего по отношению к нетрадиционной лексике
ситуация начала постепенно изменяться. Это связано и с
переводами таких авторов, словоупотребление которых
никак не соответствовало представлению среднего
русского человека о литературном языке (таких, как маркиз
де Сад, Уильям Берроуз, Генри Миллер). Но рынок делал
свое «черное дело», и оказалось, что русский читатель
нуждается и в такой литературе. Параллельно стали
появляться и произведения собственных авторов, в которых
подобная лексика служила выражением авторского кредо
(Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев).
Автор рассматриваемого ниже текста, Пеэтер Саутер,
привлек внимание публики как писатель, «который
ничего не хочет сказать своими историями» и который
вызывает негодование постоянным использованием
ненормативной лексики. В то же время его называют одним из
самых талантливых писателей молодого поколения.
Обычно в текстах Саутера фабула как таковая доведена
до минимума, и текст трудно назвать связным.
Рассматриваемый нами текст на этом фоне выделяется, поскольку
представляет собой описание (шаг за шагом и со всеми
подробностями) родов одной женщины с точки зрения
мужчины. И по ходу текста оказывается, что это событие (роды
и рождение ребенка) все же существенно для рассказчика,
хотя он и пытается это скрыть. Второе действующее лицо —
глухая женщина Йо Йо — кажется зеркальным отражением
главного героя. Как и он, она дистанцирована от мира,
самодостаточна, в каком-то смысле стоит в стороне от жизни.
Обычно, если человек так ориентирован, то для него
несущественно, что о нем думают и говорят другие. Он говорит
на собственном языке и называет вещи так, как он привык.
И если при этом употребляются «неприличные» слова, то
для него это не обеденная, а повседневная лексика.
Для понимания авторского способа описания одним из
«ключей» дешифровки, несомненно, являются заглавие
207
рассказа «Живот болит», которое создает определенную
атмосферу иного восприятия родов. Начнем свой анализ с
конца, с замечания от редакции:
В своих натуралистических описаниях автор выражается
значительно более прямолинейно, прибегая к непечатной лексике. Переводчик не
счел возможным адекватно перевести ряд слов, исходя из существующих
традиций русской словесности.
Редакция считает своим долгом отметить это обстоятельство, дабы в
глазах русского читателя Пеэтер Саутер не предстал в излишне
«облагороженном», приглаженном виде.
Привлекают внимание несколько моментов.
Во-первых, утверждение, что переводчик не счел
возможным адекватно перевести ряд слов (на самом деле речь
идет о четырех словах, причем одно из них употребляется
только один раз). Во-вторых, возникает вопрос, что
имеется в виду под выражением «существующая традиция
русской словесности». Как было показано выше, переводчик
слегка лукавит, когда утверждает, что русский человек не
привык к подобной лексике. Тем более что речь идет о
русских в Эстонии, которые могут эти слова постоянно
видеть в кино (согласно эстонской традиции, все фильмы
демонстрируются с субтитрами как на русском, так и на
эстонском языках). Кстати, в России тоже именно в кино и
на ТВ при переводах фильмов нередко используется об-
сценная лексика (но это все же остается в рамках устной
речи). Так что то ли переводчик незнаком с современным
положением дел (что маловероятно), то ли он не считает
произведения, где используется «непечатная лексика»,
принадлежащими русской словесности.
Текст Саутера — нейтральный и сдержанный, без
литературных штампов и «сантиментов». Переводчик же
пользуется штампами, абсолютно нехарактерными для
стиля Саутера, разрушая общее впечатление, в
результате суровая и неприглядная действительность
оказывается в противоречии со стилем ее описания.
Например:
Hoidsin jala peal pölve juures (держал руку на ноге около
колена) — русский перевод: положил руку ей на ногу выше
колен.
Märga vittu ja jalgu (мокрую пизду и ноги) — влажное
лоно и мокрые ноги.
208
Rindade vahel oli märg (между грудями было мокро) —
выступила испарина.
Переводчик старается передать неприличное, по его
мнению, поведение (нужно отметить, что сам процесс
рождения явно неприятен и мало эстетичен с точки
зрения переводчика, о чем свидетельствуют многие его ошиб:
ки) приличными словами. Автором же такое поведение
воспринимается как совершенно естественное и
будничное, а соответственно и описание происходящего у него
«будничное». Весьма важную роль здесь играет третье
действующее лицо: маленькая девочка, присутствующая при
родах, именно ее оценка ситуации («живот болит») и
послужила названием всей истории. Всё происходящее
совершенно естественно для нее. Кстати, несколько
женщин-критиков одобрительно отзывались об описании Сау-
тером процесса рождения, утверждая, что впервые кто-то
осмелился рассказать об этом так, как на самом деле всё
происходит. И вполне закономерно, что в этой роли
выступил именно мужчина, поскольку сами женщины обычно
стесняются и стремятся как-то «приукрасить реальность».
Тут немаловажна культурная традиция, придающая родам
статус торжественного и возвышенного события.
Как уже было сказано выше, обсценных слов в тексте Сау-
тера четыре. Из них два — sitt (говно) и vitt (пизда) —
являются доминирующими и встречаются в тексте соответственно
18 и 19 раз. Именно с этими двумя понятиями для
рассказчика связаны роды (и именно они соотносятся с болью в
животе). Интересно отметить, что в эстонском языке эти два
слова фонетически близки, что, несомненно, придает данной
паре еще большую силу, значимость и суггестивность.
Постоянное повторение этих рифмующихся слов сообщает
тексту определенный ритм и действует на читателя
гипнотизирующе. Читатель постепенно привыкает и вскоре не будет
вздрагивать каждый раз, встречая одно из этих слов.
Совершенно очевидно, что переводчик должен был следовать
этому сквозному принципу построения текста.
Слово sitt явно английского происхождения и является
сравнительно новым в ряду эстонской обсценной лексики.
Во всяком случае, в эстонско-немецком словаре Видеман-
на 1869 года, куда впервые были включены неприличные
209
слова, оно не встречается. По своему же употреблению оно
отличается как от английского, так и от немецкого
эквивалентов. По-эстонски это слово в его исходной форме
(существительное, именительный падеж) нельзя
использовать в качестве восклицания-ругательства: нужно либо
образовать наречие sitasti (по-русски адекватный перевод был
бы дерьмово), либо употребить в качестве
прилагательного — sitt lugu (букв.: дерьмовая история, в смысле плохо дело).
В первом столбце табл. 1 подстрочник текста
оригинала. Слово sitt обозначено звездочкой. Крестиками
отмечен выбор переводчика.
Табл. 1
Sitt/говно,
дерьмо
мне надо *
в штанах *
трусики полны *
снял *
немножко *
мал(енький)
кусок *
мал. * кусок
наступит ли в *
видела на полу *
было *
смотрел куски *
собирала куски *
выстирала *
места
* простыня
еще вышло *
* простыня
выпало * 1
отпало * J
(искомое
неприличное слово
пропущено)
+
+
+
+
+
+
По-
болыпому
+
Запачкало,
замарало,
грязное
+
+
+
+
Кусочки
экскрементов
+
+
+
+ испражнений
+
+
выступило еще
немного
экскрементов
210
В переводе слово sitt в основном избегается. И
единственное выбранное соответствие выглядит самым
неестественным для текста Саутера. «Экскременты» само по
себе не то слово, каким бы стал пользоваться обыватель.
Второе рассматриваемое нами слово vitt по функции
своего употребления соотносится с английским cunt и
русским пизда. Конечно, в сравнении с русским словом в
эстонском языке возможности его употребления весьма
ограничены. Нельзя образовать глагол, нельзя этого «навалять» и
еще много чего другого нельзя. Но по своему
анатомическому, так сказать, локусу и масштабу эти слова совпадают.
В переводе слово передается пятью разными
способами (см. табл. 2).
Табл. 2
Vitt/пизда
смотрела на *
чтоб брили *
сестра брила *
сунула пальцы в *
* взбухла
руки раздвигали *
* увеличилась
между набухшей *
* сократилась
* отекла
* вспучилась
разбухшая
синеватая *
врач смотрел в *
пуповина уходила
в*
из * вытекала
массировала
живот в сторону *
вытирал
маленькую *
у *
1 концом в *
—
+
+
письку
+
+
Лоно
+
+
+
+
Промежность
+
+
+
+
+
+
Влагалище
+
Большие
губы
+
+
набухшие
губы
вспучились
211
Четыре раза это слово просто избегается. В других
случаях переводчик разделил одно понятие оригинала,
которое характеризует определенный анатомический ареал
женского тела, между четырьмя разными словами, из
которых каждое в свою очередь локализует какую-то часть
женского тела. Таким образом, переводчик обращает
своим переводом повышенное внимание читателя именно на
определенные анатомические детали. А ведь именно
этого он стремился избежать, употребляя «приличные»
слова. Получается, что при переводе неприличного слова
приличным с помощью замены «непечатного»
сигнификата добиваются актуализирования денотата,
экспонирования которого как раз пытались избежать, выбирая
«приличное» слово. В оригинале же из-за постоянного
повторения табуированного слова как раз стирается связь с его
денотатом; слово означающее начинает жить как бы своей
собственной жизнью, отдаляясь от означаемого и
фокусируя внимание читателя на других деталях рассказа.
Первое выбранное переводчиком слово «лоно»
является архаичным и литературным. Использовано оно четыре
раза. Такой перевод уместен в нескольких случаях и
контекстах, но с эпитетами «разбухшее синеватое» это звучит
отталкивающе и является намного более неприличным,
чем эстонский вариант. Кроме того, выглядит как-то
странно, когда врач смотрит (2 раза) в лоно или когда что-то
вытекает из этого «лона». Привычными как для русского, так
и для эстонского языков являются такие словосочетания,
как «на лоне природы», «лоно матери».
Второй наиболее частотный перевод — «промежность»,
т. е. слово, которое в словарях обычно снабжается
указанием на стилистическую окраску лексемы («анатомический»)
и которое означает нечто, расположенное именно
анатомически немного в другом месте, чем то, что означает слово
оригинала. Такое значение использовано 6 раз. Если при
описании бритья еще можно согласиться с подобным
выбором, то в случае выхода пуповины или «между взбухшей
промежностью» это выглядит смешно, особенно если учесть,
что в акции принимают участие работники медицины.
Третий вариант перевода — «влагалище» используется
один раз и является нейтральным анатомическим
термином.
212
Четвертый вариант — «большие губы» — является, как и
предыдущий, анатомическим термином и обозначает часть
наружных половых органов женщины. В итоге для
русского читателя складывается картина, когда сначала
появляются «взбухшие большие губы», которые затем
«увеличиваются», после чего говорится о «взбухшей и
сокращающейся промежности», далее вновь о «набухших губах», которые
«вспучились», и в завершение перед нами предстает
«разбухшее синеватое лоно». Картина воистину ужасающая...
По всему видно, что переводчику этот текст с самого
начала отнюдь не радовал слух. Об этом свидетельствует и ряд
странных переводческих ошибок, которые ничем иным
объяснить нельзя. Приведем два характерных примера,
когда переиначен совершенно невинный текст оригинала,
при этом внимание педалируется именно на причинном
месте. Характерно, что оба примера взяты из финальной
части рассказа, что наводит на мысль: не подпал ли
переводчик подсознательно все же под влияние этого
повторяющегося слова:
ta käsi läksjojo kubemele (ее рука легла на пах Ио Ио) — руку засунула
ей в пах;
Таsaikaust,paniseilev*juurdejaviskosnäpitsad sinnasisse(Онаполучила
таз, положила его к* и бросила туда щипцы) — Ей передали таз, она
подставил а таз ИоИо к паху, засунула пальцы во влагалище.
Тут следует отметить, что по-эстонски слова näpud
(пальцы) и näpitsad (щипцы) схожи, но отметим сразу, что
переводчик прекрасно владеет эстонским и даже является
лауреатом эстонской премии по переводу, так что тут дело не
в слабом владении языком.
Складывается впечатление, что переводчику удалось
вопреки своему желанию создать гораздо более
натуралистичное и неприличное описание, поскольку при
размножении одного слова, повторенного в оригинале 19 раз, на
несколько разных в переводе полностью исчезает эффект
оригинала, где эти повторы нейтрализуют прямое, обсцен-
ное значение и на этом фоне неожиданно проявляется
«душевное» и сострадательное отношение автора к главной
героине. Подчеркиваю, именно на этом фоне, так как тут
усиливаются и бросаются в глаза малейшие проявления
нежности. В переводе же это всё пропадает, так как
нарушена общая структура исходного текста, бросаются в глаза
213
прежде всего анатомические и физиологические детали,
выпяченные разными словами, и при каждом новом слове
читатель вновь задумывается о денотируемом объекте.
Если в эстонском тексте одному означающему (vitt)
соответствует всегда одно означаемое, которое посредством
повтора означающего способствует созданию
определенного магического эффекта, при этом означаемое «детер-
риториализуется», то в русском тексте, где нам
предлагается четыре разных означающих, внимание вновь и вновь
обращается к означаемому, и, несмотря на избегание
употребления «непечатной лексики» на уровне означающего,
на уровне означаемого происходит неоднократная «ретер-
риториализация».
Из всего вышесказанного вывод только один:
адекватный перевод не означает переложения с одного языка на
другой. Важно увидеть текст в целом. При переводе важно
прежде всего отношение переводчика к тексту. Если не
нравится, то не надо браться. Ничего хорошего из этого
не получится.
ЛИТЕРАТУРА
SauterPeeter. Köhuvalu // Vikerkaar. 1995. № 6. С. 6-26.
Саутер Пеэтер. Живот болит // Радуга. 2000. № 4. С. 23-60.
Б. Вурм
РУССКИЙ МАТ, ИЛИ ОБМОРОК ПЕРЕД
ПОРНОГРАФИЧЕСКОЙ ДИЛЕММОЙ
Гендерно-специфические аспекты русского
обсценного языка
Введение
Для научных трудов, посвященных специфическому
«половому» аспекту русского обсценного языка,
характерны два взаимоисключающих вывода: с одной стороны, ни
в одной другой языковой области так отчетливо, как в
русском мате, не обнаруживается яркая асимметричность, в
соответствии с которой всё мужское начало
ассоциируется с силой, а всё женское — с бессилием (см.: Ermen 1993а;
Ermen 1993b); с другой стороны, в отношении русского
мата1 можно наблюдать тенденцию к нейтральной
половой направленности или, точнее, к половой
относительности (слово «блядь» может относиться к лицам обоего
пола) (ср.: Dreizin, Priestly 1982).
Мне хотелось бы начать с более подробного анализа
этих утверждений. Совершенно очевидно, что феномен
русского мата в его тендерном аспекте будет понят
только тогда, когда научно-лингвистическое изучение его
расширится до культурно-теоретического. Феминистские
обсуждения эротики, обсценности и порнографии
группируются вокруг одной речевой фигуры, которую нужно
определить как двусмысленную, поскольку эти обсуждения
занимаются проблемой оценки явления, а не самого
явления2. В таком качестве феминистическую дискуссию
можно обсуждать исключительно в контексте языковой
дискурсивной прагматики, орудуя постулатами и
контрпостулатами теории речевых актов.
215
Несмотря на всплеск интереса к так называемой
«русской потаенной литературе»3 и русскому мату как к
сложной языковой системе и на то, что почти каждый год
появляется очередной соответствующий новый словарь4,
исследование материала осуществляется исключительно
в аспекте историко-диахроническом (Успенский 1994),
лексическом, фразеологическом, идиоматическом (Буй
1995 и др.) и социологическом (Жельвис 1997), причем
особенно в социологически ориентированном
исследовании предпочтение оказывается эмпирике, а не теории.
При наличии же одних туманных предположений,
стереотипных обобщений и искусственно
сконструированных коммуникативных контекстов невозможно получить
плодотворные результаты, пытаясь определить
специфику половой дифференциации в феминистском
аспекте5. Кроме того, я опасаюсь, что — при сохранении
подобных ограничений в области изучения русского мата и
тендерной славистики — нанесенный этим урон
тендерным изысканиям ведет к их отставанию в широком
научном плане.
По моему мнению, наиболее значительные
современные тендерные исследования возможны в области,
выходящей не только за лексические рамки, но также и за рамки
чисто эмпирически ориентированных социологических
работ на темы половой дифференциации. Таковы
прагматические исследования, построенные на постулатах
философии языка и перформативно ориентированные —
например, труды Терезы де Лауретис (Lauretis 1984; Lauretis
1987) и Джудит Батлер (Butler 1998). Язык там фигурирует
в качестве центрального пункта и материальной основы
конструкции половой идентификации, в качестве
основополагающей формы тендерной перформативности. В этом
качестве язык должен стать главным объектом
исследования современных тендерных проблем, исследования,
относящегося к изучению и оценке «опасных зон» — таких,
как обсценность, эротика, порнография в недавно
либерализованном культурном пространстве — в первую очередь
в посткоммунистическом культурном пространстве
Восточной Европы.
Принимая во внимание культурно-исторические,
политические и юридические предпосылки существования
216
постсоветского общества (ср.: Воронина 2000), которые
резко отличаются от западных в отношении запретов,
изменений норм, цензуры и нарушений табу, а также
пользуясь материалами проводившихся на Западе дискуссий
на тему «Феминизм и порнография» (ср.: NW 1997; Butler
1997), мне хотелось бы показать, что обсценность надо
понимать как феномен языковой политики и, в более
общем смысле, прагматический. Часто предпринимаемые
попытки дать определения, которые позволили бы
разграничить такие понятия, как «обсценность»,
«сексуальность» и «порнография», в большинстве своем неполны
или неверны, потому что вопрос о положительной или
отрицательной оценке этих феноменов решается на
субъективной основе (ср.: Kappeier 1988; Bremme 1990; EP
1994; Кон 1999; Goscilo 1999; и др.). Вот что пишет
Ольга Воронина в своем обзоре современных российских
законопроектов, направленных против разгула
порнографии:
На первый взгляд может показаться, что определение и разделение
понятий «сексуальный», «эротический», «порнографический» —дело
действительно нелегкое. С одной стороны, сексуальность —
действительно сложный феномен, в котором переплелись различные природные,
социальные и собственно культурные аспекты. Анализу или
интерпретации сексуальности посвящено много философских, социологических,
психологических теорий, в которых представлены самые разные —
подчас полярные — точки зрения. В некоторой степени путаница понятий в
анализируемом законодательстве является следствием многозначности
сферы сексуальности и многочисленности ее культурных и
индивидуальных интерпретаций; в некоторой степени — правовой
неразработанностью данного вопроса в нашей стране (Воронина 2000: 95).
Чтобы как-то упростить эту «путаницу» — пытаться
разрешить ее полностью было бы чересчур самонадеянно —
столь запутана вся эта «порнографическая дилемма» (см.:
Lautmann 1987), —я займусь 1) гендерно-специфическими
аспектами русского обсценного языка, 2) феминистскими
аргументами pro et contra порнографии; 3) возможными
перформативными средствами субверсивной
деконструкции тендерного дискурса (performing gender) в
современной России.
1. Гендерно-специфические аспекты русского
обсценного языка
Существует единодушное мнение (позволяющее
связать обсуждение проблем обсценного языка и
порнографии), что в случае русского мата и бранного языка речь
идет о перформативном — иллокутивном речевом акте,
пользуясь терминологией Джона Остина. Ругательства и,
соответственно, использование обсценной лексики могут
звучать оскорбительно. На мой вопрос, почему в России
даже в ходе научного обсуждения проблем обсценной
лексики обсценные слова практически никогда не
произносятся и не пишутся; почему даже в настоящее время все
еще в ходу знаменитые «три точки» или латинизмы вроде
«futuere» вместо «ебаться», Владимир Жельвис прислал
мне в июле 2000 года следующий ответ:
Слово «инвектива» использовано мною, чтобы избежать более
точных неприличных слов, которые могли вызвать гнев пуристов,
особенно женщин. Я ввел его очень давно, во времена цензуры, когда я боялся,
что статью могут не пропустить в печать. А потом термин привился, и
его стали употреблять многие.
Таким образом, государственная цензура (а, собственно
говоря, оскорблению кого должен был помешать строгий
запрет на употребление обсценных слов?) сменилась
цензурой пуристской, консервативно-феминистской.
Основания для цензуры стали иными, но реакция осталась той же
самой. Объяснение данного феномена, которое
предлагает Борис Успенский (см.: Успенский 1994), выдержано в
научных, по-отечески успокаивающих тонах и сводит дело
к легализованной семиотике поэтики мифов. Успенский
обращает внимание на специфичность табу, исходящую из
теории речевого акта, особенно в отношении матерных
ругательств: запрет в данном случае распространяется не
на само существование или содержание выражения, а на
его название или, соответственно, произнесение:
Запрет по преимуществу относится к названию соответствующих
предметов или действий, но не к их сущности — скорее к обозначению,
чем к обозначаемому, к плану выражения (Успенский 1994: 55).
Табу для лингвиста отличается от табу для врача тем,
что оно накладывается на слова, точнее на способ выраже-
218
ния понятия, а не на его содержание (обозначаемое).
Такого взгляда придерживается и Андрей Зорин (см.: Зорин
1996), когда предупреждает, что не следует ставить знак
равенства между легализацией обсценной лексики и
легализацией порнографии — хотя он и признает, что брань —
явление синтетическое: дело в том, что, как ни трактовать
это явление, уйти от его идеологической, эстетической и
моральной оценки невозможно.
Процитированное же выше высказывание Владимира
Жельвиса свидетельствует о существовании негативной
реакции со стороны пуристов-женщин6, которые,
очевидно, рассматривают употребление обсценных идиом
исследователями (-мужчинами) не только в плане выражения,
но и в плане содержания, т. е. они воспринимают обсцен-
ные выражения как оскорбления, направленные
непосредственно против них7. Именно этот аспект находится
в центре внимания работы Виктора Раскина,
анализирующего семантические механизмы вербальных оскорблений
на примере частушек. Он перечисляет семь типов
оскорбительных речевых актов: унизить, обидеть, оскорбить
косвенно (в третьем лице), оскорбить непосредственно
(адресуясь к слушателю), «оскорбить нейтрально», когда
оскорбительность нейтрализуется и когда нейтральность
носит терминологический («Почему у этой бляди
кудрявые волосы?») или метонимический («Этот хуй приехал
на такси») характер.
Относительно половой специфичности композиции и
дистрибуции семантического аспекта инвективного
сценария Раскин приходит к недвусмысленному выводу:
Таким образом, в пространстве русской частушки субъектно-объек-
тная структура слова «ебать» исключает какую бы то ни было
симметрию в поведении или во взаимоуважении участников и, таким образом,
подчиняет исполнителя и его (ее) аудиторию крайне
шовинистической, агрессивной и преимущественно мужской половой модели (Raskin
1981: 314)8.
Подобным результатам, только более детальным и
содержательным, мы обязаны исследованию Ильзе Эрмен,
изучающей русский сексуально-обсценный язык9 и его
специфически половые аспекты (см.: Ermen 1993b).
Эрмен должна считаться наиболее жестким критиком
культивируемого Успенским и другими «мифа о мифологи-
219
ческом происхождении мата» (Ermen 1994: 66). Этот
новый миф вырывает мат из «поля генеалогического и
сексуального оскорбления, равно как и из области
нарушения табу <...>. Негативная оценка сексуальности,
демонстрируемая в этих оборотах, его (Успенского) не
интересует (Там же: 74). И в то же самое время он
стремится подчеркнуть, что мат (подобно определенным видам
одежды, прически и осанки) в первую очередь
характеризует мужскую манеру поведения: «<...> матерная брань
в устах женщины воспринимается как явление половой
травестии» (Успенский 1994: 110). Эти высказывания
характерны для всего российского научного дискурса
мышления, их можно встретить, в частности, у Левина (см.:
Левин 1996). Однако в плане языковой политики и
стратегии это — нормативно-наивные соображения,
тормозящие научный прогресс.
Сама же Эрмен в двух своих работах (см.: Ermen 1993а;
Ermen 1993b) указала на главную асимметрию,
характеризующую русский обсценный язык:
1. На морфологическом уровне: парадигма
предусматривает «он ебет», но не «она ебет». В пассиве, наоборот,
чаще «она ебана», чем «он ебан» (Ermen 1993b: 286f).
2. На уровне фразеологии: невозможно употребить
выражение «ебла твоего отца» (Там же: 287).
3. На лексическом, а точнее метафорическом, уровне
(касательно лексем, которые первоначально не имеют
сексуального значения): для обозначения мужских половых
органов используются названия главным образом
продолговатых предметов или инструментов, которые
подразумевают применение физической силы: «болт», «шило»,
«резак», «кляп»; глаголы с подлежащими мужского рода, в
большинстве своем переходных и тоже подразумевающих
физические действия с инструментами: «долбать»,
«напирать», «пихать», «пилить», «отработать»; vs. глаголы с
подлежащими женского рода, в большинстве своем с
реактивными и пассивными коннотациями (ср. «дать кому-либо»,
«подлезть под кого-либо» и т. п.)10.
4. Напротив, можно утверждать, что для русского мата,
где первично инвективное значение, а сексуальная
коннотация — на втором месте, инвективы с самого начала
обозначали прежде всего половые органы («хуй», «пизда»)
220
или сексуальные услуги («хуесос», «пиздосос») и
«отклонения» («жопоеб»), вследствие чего половые отношения
приобретают коннотации, связанные с сексуальными
услугами, а также исполнением и завершением полового акта,
что прріводит к обесцениванию самих отношений.
Дополнительно возникают коннотативные значения:
«проституция», «негативность», «агрессивность», «презрение»,
«обман».
Специфическая природа половой асимметрии хорошо
иллюстрируется следующими семантическими рядами:
мужской пол/гендер женский пол/гендер
субъект объект
активный пассивный
подвижный неподвижный
транзитивный нетранзитивный
целящийся являющийся мишенью
власть подчинение
победитель побежденный
позитивный негативный
Поэтому вывод, к которому приходит Эрмен, содержит
в себе обвинения в сексизме и шовинизме:
Русская обеденная лексика, особенно лексика сексуальной
направленности, является составной частью мужского языка и может служить
хорошим примером такого языка: ею пользуются мужчины, она отражает
мужское мировосприятие, мужскую точку зрения на сексуальность и
взаимоотношения полов (Ermen 1993b: 285).
Утверждение, что половые отношения
воспринимаются в контексте силы и мужского господства (см.: Ermen
1993а: 65), хорошо согласуется с наблюдениями Аллы
Кирилиной, отмечающей, что русский мат в первую очередь
воспринимается как демонстрация силы и власти (см.:
Кирилина 1998). Взаимоотношения в обществе
вербализуются через сексуальные модели поведения, причем речь
здесь идет о стереотипных
принудительно-гетеросексуальных моделях, которые можно рассматривать как
модели изнасилования и агрессии.
Этим достаточно определенным высказываниям,
которые, впрочем, не продуцируют у авторов какие-либо
решения и выводы, можно противопоставить, как уже было
221
сказано выше, некоторые иные разновидности русского
обсценного языка, нейтральные к полу или как-то с ним
связанные. В первую очередь речь здесь идет о так
называемых PRO-Nomina (о которых говорится в
исследовании: Dreizin и Priestly 1982), т. е. о «матерных лексемах»,
используемых вместо других слов, которые
употребляются в переносном смысле и в качестве инвектив.
Например, слова «пизда», «блядь», «жопа», «говно» могут
обозначать как мужчин, так и женщин, в то время как «хер»,
«хуй», «говноеб», «говноед» приберегаются только для
мужчин11. Дрейзин и Пристли определяют русский мат
как «языковую экспрессивную сеть, изобилующую
синтаксическим, грамматическим и, помимо всего прочего,
семантическим потенциалом», выходящую за рамки чистой
ругани и секса. Почти все пейоративы, по данным Левина
(см.: Левин 1996), относятся к трем группам, не
зависящим от половой принадлежности: а) «дураков» («мудак»,
«жопа»), б) «свиней« («блядь», «сука», «курва») или в) не
имеющих определенного значения: «хуй», «пизда».
Независимость от пола видна также в клятвах типа «Блядь
буду...», междометиях («Еб твою мать») и отсыланиях
(«Иди ты на хуй»). Среди заменителей имен можно
отметить некоторое отличие: как отмечает Левин, слово «хуй»
может замещать «любое одушевленное существительное
мужского рода», «хуевина» —любое неодушевленное,
имеющее нейтральное («это самое») или пейоративное
значение («Тут один хуй ко мне приходил»); однако женские
соответствия «пизда» и «блядь» окрашиваются только
негативно (см.: Там же: 115).
2. Феминистские pro et contra относительно
порнографии
Какова должна быть реакция на обвинения русского
мата в мисогинии (женоненавистничестве, женофобии) и
фаллоцентризме? Простого решения до сих пор не
найдено (вот, например, одно: женщины должны сами освоить
этот язык и тем самым его разрушить; или: они должны
изобрести свой собственный обеденный дискурс и таким
образом проявить свои собственные женские желания,
222
свои садистские, мазохистские и прочие предпочтения и
фантазии).
Ниже я кратко обобщу наиболее существенные
положения феминистской позиции относительно порнографии.
Всё, что имеет отношение к обсценности, в равной мере
относится и к феминистскому взгляду на порнографию,
которому, собственно, обязана тендерная точка зрения на
проблему. Как выражается Елена Гощило, среди
феминистов обоего пола царит полное единодушие относительно
того, что такое порнография, но такого единодушия нет
по поводу того, как с ней бороться и стоит ли это делать
вообще (ср.: Гощило 2000). Более либеральное отношение
к проблеме сексуальности привело к ситуации pro et
contra, к крайней поляризации позиций внутри лагеря
феминистов.
Основное, с чем все согласны, — то что в данном случае
речь идет о дискурсе, предполагающем доминирование,
когда отчетливо определяются победитель и
побежденный. Среди самых известных представительниц
консервативной стороны можно назвать Катарину МакКиннон
и Андреа Дворкин. Главное исследование МакКиннон
«Только слова» вызвало в США оживленное обсуждение.
Исследуя порнографические образы, автор признает за
ними реальную, конструктивную, действенную функцию:
в плане перформативных речевых актов визуальный
императив изображения добивается своей цели. В 1983 году
МакКиннон в сотрудничестве с Дворкин составила
проект закона, в соответствии с которым порнография
представляет собой нарушение гражданских прав женщин. В
этом проекте МакКиннон резко выступает за
ограничение свободы слова там, где речь заходит о такой реальной
сексуальной дискриминации, о сексуальном подчинении
женщин и доминировании над ними. Если несколько
усилить тезис Дворкин, тот, кто говорит «нет» сексу, тот
говорит «нет» власти (ср.: Bovenschen 1997: 62).
Для пропорнографической фракции, для противников
идей МакКиннон и Дворкин, всё это означает не только
ограничение свободы выражения мнения, но и отказ от
женских желаний, подавление неоднозначного — с
женских позиций — полового желания, равно как и жесткий
контроль и регулирование «достижений» лесбийского
223
движения. Они критикуют противников порнографии за
то, что те негативно оценивают телесность, понимают
тендерные дефиниции как эссенциально-биологические
(мужчины у них реагируют на порнографию как
павловские собаки, в то время как женщины не реагируют вовсе),
и, наконец, за попытку возродить цензуру и ограничить
свободу искусства.
Противоположная точка зрения высказана в
«Искушении порнографией» Друншиллы Корнелл: порнография
не отражает правду секса, а рефлектирует «инсценировку,
поставленную по фантасмагорическому сценарию» (см.
предисловие Барбары Финкен к книге: Cornell 1997: 12),
а это есть симптом и проекция маскулинности, которая
(маскулинность) благодаря ей (порнографии) вытесняет
страх мужчин перед кастрацией. Решение вопроса здесь
видится в создании особой «женской порнографии»,
которая бы производила альтернативные фантазмы и тем
самым была бы противопоставлена мужским порнофан-
тазмам, направленным на женщину. Данное
предложение я считаю столь же мало убедительным, что и
аргументы противников порнографии, ибо Корнелл исходит из
утопической tabula rasa, в соответствии с которой
первым делом следует свергнуть «власть мужчин», чтобы
затем утвердить «новую власть, где правит женщина».
Поэтому теперь я хочу обратиться к «оскорбительной
речи» (Schmährede), которую исследует Джудит Батлер,
что поможет мне наконец перейти к сегодняшней
ситуации в России. Батлер обращается к общеизвестным
положениям Остина о перформативности и подвергает их
пересмотру: если в процессе речевого акта действительно
говорится о транзитивном действии, его обозначение
должно совпасть с самим действием. Говорящий одновременно
становится творцом действия. Такой перенос действия на
говорящейся субъекта происходит, по мнению Батлер,
опирающегося на Ницше, из грамматической и правовой
«необходимости»:
Вопрос о том, кто несет ответственность за совершенное,
предшествует самому появлению субъекта действия и инициирует его
появление. Сам субъект появляется именно в силу того, что он вынужден занять
это грамматическое и юридическое место (Butler 1997: 96).
224
Стало быть, ответственность, которая приписывается
субъекту (то есть мужчине), есть прежде всего результат
морализаторского характера общественного дискурса. А
ущерб, наносимый женщине словом, является ни
каузальным, ни материальным. Отношение между словом и
нанесенным ущербом, по идее Батлер, нужно понимать как
«некую дискурсивную транзитивность, которую нужно
определить в терминах ее исторического и
насильственного характера» (Там же: 98).
Для тендерных исследований в области русистской
славистики это означает, что историю «традиционной
культуры» нужно понимать не только как узакониваемый, но и
как подвергаемый критическому анализу объект
исследования. Исследователям следует вмешаться и в плане
принятия юридических и политических решений. Кроме того,
это означает, что пора перестать слишком тесно увязывать
проблемы феминизма с тендерными исследованиями,
когда речь идет о понимании тендерных проблем в
политическом плане, чтобы избежать создавшегося впечатления,
будто демонтаж Советского Союза и коммунистического
режима автоматически означает демонтаж «феминизма»,
нашедшего в СССР некую «идеологическую» опору.
Согласно мнению Батлер, использование обеденного
языка и порнографических фантазмов можно свести к
магическим заклинаниям говорящего в адрес своего
языкового сообщества: говорящий (и говорящая) лишь
повторяет то, что исторически уже существует как код и ри-
туализирует в речевом акте практику, дремлющую в этом
сообществе. Возлагая ответственность на индивида,
языковое сообщество маскирует свое дискурсивное
могущество, дискурсивные причины существования
порнографии, которые недвусмысленно подчеркивают
несоответствие тендерных норм тендерной практике. Согласно
Батлер, феминистское прочтение противостоит
буквальному восприятию порнообраза и рассматривается как
вынужденное повторение того, что на самом деле
неосуществимо: подавление женщины.
По моему мнению, именно в этой обратной
зависимости отдельных дискриминирующих действий от
коллективной языковой общности и заключается достоинство
выполненного Батлер анализа. Что же касается идеологических
225
обстоятельств постсоветского дискурсивного ландшафта,
то можно утверждать, что а) постулированное равенство
полов должно было привести к мысли о нейтрализации
половых различий (в языке) и б) провозглашение свободы в
постперестроечный период дало возможность свободного
выражения своего мнения. Как показали дальнейшие
события, обе модели — с позиций феминистских перспектив —
не оправдали возложенных на них надежд. Они оказались
всего лишь юридически легитимными предлогами для
осуществления различных форм подавления женщин и новых
форм женственности.
3. Возможные перформативные
средства субверсивной деконструкции
тендерного дискурса («performing gender»)
в современной России
По мнению И. Кона (см.: Кон 1999), позиция общества
или, соответственно, культурной языковой общности по
проблемам обсценности и порнографии определяется
двумя факторами: историческим развитием и современной
политической ситуацией. Если в этой связи говорить о
русском обществе, то здесь можно наблюдать колоссальное
несоответствие между, с одной стороны, современным
производством и потреблением обсценного материала
(«порноиндустрия»)12, а с другой стороны — (псевдо)стро-
гими государственными, правовыми и моральными
нормами регулирования (пуританство). По наблюдениям Жана
Бодрияра, обсценная функция сместилась с позиции
полного запрета на позицию полной сексуальной
прозрачности — в полном соответствии с современной русской
культурной тенденцией. Засилье секса и порнографии,
возникшее под знаком мнимой либерализации и демократизации
российского общества, вызвало — особенно среди и без
того маргинализированных феминистов/-ок — чувство
неуверенности, поскольку именно феминизм ратует за
свободу слова и борется с половой дискриминацией.
Неуверенность царила и продолжает властвовать в
вопросе о правовых оценках изображений сексуальной дея-
226
тельности: что считать (всего лишь) эротикой, (еще)
непристойностью, а что (уже) порнографией. Исследования,
подобные тем, что опубликовала Ольга Воронина (см.:
Воронина 2000), которая сперва подробно проанализировала
дискуссии по поводу порнографии, имевшие место в США,
а потом (в ходе советского дискурса) продолжает и
повторяет общепринятые определения «культурности»,
социальной ответственности и моральной непристойности,
показывают, что всё еще не достигнуто понимание
дискурсивной взаимозависимости права, государства, общества и
отдельных индивидуумов.
В то время как в области искусства можно отметить
некий новый порядок репрезентации тендера в рамках
формирования нового («альтернативного») общества (ср.:
ЖВЗ 2000; Женщина 2000; исследования, посвященные
Владиславу Юрьевичу Мамышеву-Монро (см.: Obermayr
2000) и проблемам постконцептуализма (см.: Weitlaner
2000)), научный дискурс все еще находится под скрытым
влиянием давних «традиций». Как раз восприимчивость
к собственным попыткам дистанцироваться от
патриархальной репрезентации женственности и приблизиться к
собственным постулатам вроде упоминавшейся уже
транзитивной дискурсивности и с ней связанных возможностей
разрушить традиционные тендерные нормы повела бы
славистику в правильном направлении, а не в тупик, который
выражается, если перефразировать русский фольклор, так:
«В каждой строчке только точки, догадайся, мол, сама».
В качестве конкретных мер в данном направлении было
бы целесообразно создание гендерно-ориентированных
трудов, исследующих современные произведения и
направления искусства во всех средствах массовой
информации (не в последнюю очередь для того, чтобы подорвать
мужскую монополию на игру воображения). Необходимо
большее участие ученого мира в области политики и
права, а также готовность исследователей феминизма (и не
только исследователей) обращаться к многозначности и
двусмысленности проблем сексуальности и эротики, не в
смысле усиления запретов, моральных увещеваний и
умолчаний (потому что молчание по этому поводу как раз
повысит общественную значимость обсценности), а прежде
всего для того, чтобы изучать порнографию и сексуально-
227
обсценный язык как результат собственного социально-
дискурсивного пространства и «аллегорию мужской воли
к власти и женского "подчинения"» (Butler 1997: 110).
Необходимо рассматривать порнографию и сексуально-об-
сценный язык как «точку пересечения формирования
проблем сексуальности с проблемами политического
устройства взаимоотношения полов» (NW 1997: 9).
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В лексико-фразеологической системе русского мата необходимо
различать как лексемы с сексуальным, так и с
сексуально-метафорическим значением, где референт не имеет сексуального смысла. Как
известно, в первую очередь функция русского мата не сексуальная, а
оскорбляющая.
2 Ср.: «Нет единого мнения, является ли тот или иной текст
порнографическим, что там фактически изображено или написано, а
особенно — как следует это интерпретировать: как сексуальность или как
сексуальное насилие <...> на что направлен интерес <...>» (Bremme 1990: 4).
Такая функциональная амбивалентность характерна для порнографии и
в историческом плане: сначала она поколебала моральные запреты,
помогла либерализации понятия сексуальности, чем пробудила надежды на
«освобождениеженщины» (ЕР 1994).
3 Таково название выходящей в московском издательстве «Ладомир»
серии, в которой в научном аспекте рассматриваются «потаенные»
литературные и речевые тексты, равно как и всё, имеющее отношение к
эротической и сексуальной тематике. В настоящее время невозможно
объяснить, почему в российских книжных магазинах нельзя найти
сборник из этой серии: ЭРПК 1999. По мнению одного из его авторов,
соответствующие материалы и иллюстрации слишком «трудны» для
российского книжного рынка и подобная книга может найти сбыт только на
Западе.
4 Ср.: Флегон 1973; Drummonds, Perkins 1987; Елистратов 1994; Буй
1995; Мокиенко 1997; Мокиенко 2000; Ахметова 2000.
5 Прозвучавший здесь в адрес эмпирики полемический скептицизм
исходит из неудовлетворенности современными социологическими
исследованиями, их кажущимся движением в сторону фактов и цифр —
безразлично, по причине ли их полноты и неисчерпаемости, или же из-за
сложности проблематики, что подтверждается статистическими
данными. В большинстве случаев главный вопрос — оценки — остается без
внимания. При этом всякий раз исследователи ссылаются на то, что
полифункциональность русского мата делает невозможной недвусмысленную
оценку его половой специфичности. Для меня это тоже несомненно.
Разумеется, подобное признание, мне кажется, скорее должно подвести к
мысли о том, что здесь не столько недостает убедительной диаграммы
распределения говорящих по признаку пола, сколько теоретического
разъяснения прагматического контекста, в котором существует обсцен-
228
ная лексика. Она должна восприниматься не только с коммуникативных,
но также и с дискурсивных позиций (об этом ниже).
6 В этом высказывании Жельвис реагирует на мой невысказанный упрек
в адрес русских исследователей и исследовательниц тендерных проблем:
по моему мнению, они охотно прячутся за эвфемизмами и куртуазными
выражениями.
7 Славистка Елена Гощило демонстративно пользуется «некультурной
лексикой», чтобы подорвать эту ожидаемую манеру поведения со
стороны «воспитанного лингвиста». Таким образом она выражает свое
отношение к двуличном)' «постулату субъективности», когда (позитивно
оцениваемая) эротика противопоставляется (негативно оцениваемой)
порнографии: «Если это мое, тогда это умная и экзотичная эротика, если
же это ваше, тогда это пошлая порнография» (Goscilo 1999: 554).
8 В качестве единственного исключения из такой «односторонней ге-
теросексуальности» он приводит строчку «Девки в жопу выебли попа».
Фаррел думает иначе и говорит о «возможности» женской агрессии и,
следовательно, о тендерном равноправии в частушках (см.: Farrell 1999: 33).
9 Исследование Эрмен описывает русскую обсценную лексику, в то
время как меня интересует уровень прагматики.
10 Буй под рубрикой «Прагматический комментарий» отмечает: «<...>
ограничения на пол участников ситуации общения и/или участников
ситуации, описываемой высказыванием: <...> Использование некоторых
идиом требует учета факторов пола. Например, идиома точить хуй на
кого-либо может быть использована, если первая валентность заполнена
актантом, обозначающим лицо мужского пола, а вторая — как правило,
женского» (Буй 1995: XIX).
11 Для обозначения женских соответствий этим словам используются
суффиксы: «говноедка», «говноебка» (Тамже).
12 Ср.: Кон 1999; Goscilo 1999; Гощило 2000; а также предисловие
Маркуса Левитта к: ЭПРК 1999.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Анти-мир 1996 — Анти-мир русской культуры. Язык. Фольклор.
Литература/Под ред. Н. А. Богомолова. М., 1996.
Ахметова 2000 — Ахметова Т. Русский мат: Толковый словарь. М.,
2000.
Буй 1995 — Буй В. Русская заветная идиоматика. М., 1995.
Воронина 2000 — Воронина О. Проблемы эротики и порнографии в
СМИ // ЖВЗ 2000. С. 87-106.
Елистратов 1994 — Елистратов B.C. Словарь московского арго. М.,
1994.
Гощило 2000 — Гощило Е. Новые члены (members) и органы:
Политика порнографии // ЖВЗ 2000. С. 107-143.
Жельвис 1997 — Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как
социальная проблема. М., 1997.
Женщина 2000 — Женщина в искусстве. Границы тендера.
Воспоминания. Ошибки памяти. М., 2000.
229
ЖВЗ 2000 — «Женщина и визуальные знаки»/ Под ред. А. Альчук. М.,
2000.
Зорин 1996 — Зорин А.Л. Легализация обеденной лексики и ее
культурные последствия // Анти-мир 1996. С. 121—139.
Кирилина 1998 — Кирилина A.B. Еще один аспект значения обеденной
лексики // Вестник Тамбовского университета. 1998. № 4. С. 13—16.
Кон 1999 — Кон И. С. Эротика и порнография в российских
политических дебатах // ЭПРК. 1999. С. 539-552.
Левин 1996 — Левин Ю. М. Об обеденных выражениях русского
языка // Анти-мир 1996. С. 108-120.
Мокиенко 1997 — Мокиенко В.М. Словарь русской брани: А—Я.
Калининград, 1997.
Мокиенко 2000 — Мокиенко В.М. Большой словарь русского жаргона.
СПб., 2000.
Успенский 1994 — Успенский Б.А. Мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии // Избранные труды: В 2 т. М., 1994.
С. 53-128.
Флегон 1973 — Флегон А. За пределами русских словарей. Лондон,
1973.
ЭПРК 1999 — Эрос и порнография в русской культуре / Под. ред.
М. Левитта, А. Л. Топоркова. М., 1999.
Bovenschen 1997 — Bovenschen S. Auf falsche Fragen gibt es keine
richtigen Antworten: Anmerkungen zur Pornographie-Kampagne // NW 1997.
S. 50-65.
Bremme 1990 — BremmeB. Sexualität im Zerrspiegel: Die Debatte um
Pornographie. N. Y.: Münster, 1990.
Butler 1997 - ButlerJ. Schmährede // NW 1997. S. 92-113.
Butler 1998 — ButlerJ. Haß spricht: Zur Politik des Performativen. Berlin,
1998.
Cornell 1997 — Cornell D. Die Versuchung der Pornographie. Frankfurt a.
M., 1997.
Dreizin, Priestly 1982 — Dreizin F., Priestly Т. A Systematic Approach to
Russian Obscene Language // Russian Linguistics. 1982. № 6. S. 233—249.
Drummond, Perkins 1987 — Drummond D. A., Perkins G. A Dictionary of
Russian Obscenities. 3 rev. ed. Oakland, 1987.
EP 1994 — Die Erfindung der Pornographie: Obszönität und die
Ursprünge der Moderne / Hg. L. Hunt. Frankfurt a. M., 1994.
Ermen 1993a — Ermen I. Der obszöne Wortschatz im Russischen:
Etymologie — Wortbildung — Semantik — Funktionen. München, 1993.
Ermen 1993b — Ermen I. Die geschlechtsspezifische Ausrichtung des
russischen sexuellen Wortschatzes // Zwischen Anpassung und Widerspruch /
Hg. U. Grabmüller, M. Katz. Berlin, 1993. S. 285-296.
Ermen 1994 — Ermen I. Kritische Bemerkungen zu В. A. Uspenskijs
Ätiologie des Mat // Sprachlicher Standart und Substandart in Osteuropa und
Südosteuropa / Hg. Reiter, Norbert u. a. Berlin, 1994. S. 65—78.
Farrell 1999 — FarreüD. E. The Bawdy Lubok: Sexual and Scatological
Content in Eighteenth-Century Russian Popular Prints // ЭПРК 1999. С. 16-41.
Goscilo 1999 — Goscilo E. Porn on the Cob: Some Hard Core Issues //
ЭПРК 1999. С. 553-572.
230
Kappeier 1998 — Kappeier S. Pornographie — Die Macht der Darstellung.
München, 1998.
Lauretis 1984 — Lauretis T. de. Alice Doesn't: Feminismus, Semiotics,
Cinema. Bloomington, 1984.
Lauretis 1987 — Lauretis T. de. Technologies of Gender: Essays on Theory,
Film and Fiction. Bloomington, 1987.
Lautmann 1987 — Lautmann Fi Das pornographische Dilemma //
Vermessene Sexualität / Hg. A. Schuller, N. Heim. Berlin, 1987. S. 99-121.
NW 1997 — Die nackte Wahrheit: Zur Pornographie und zur Rolle des
Obszönen in der Gegenwart / Vinken B. (Hg). München, 1997.
Obermayr 2000 — Obermayr B. Russland. Konzept. Frau.
Kulturtheoretische Anmerkungen zur Genderforschung in der Slawistik // Frauen
in der Kultur: Tendenzen in Mittel- und Osteuropa nach der Wende / Hg.
Engel C, Reck R. Innsbruck, 2000. S. 141-157.
Raskin 1981 — Raskin V. The Semantics of Abuse in the Chastushka:
Women's Bawdy // Maledicta: The International Journal of Verbal Aggression.
1981. Vol. 1-2. Summer-Winter. P. 301-317.
Weitlaner 2000 — WeitlanerD. Крестики и нолики, или Вполне
конкретная поэзия // Osteuropäische Lektüren. Beiträge zur 2. Tagung des JFSL /
Hg. Goller M., Klimeniouk N., Küpper S. u. a. Frankfurt a. M., 2000 u. a.
S. 265-276.
В.И. Жельвис
ИНВЕКТИВА КАК «НАУКА УБЕЖДАТЬ»
Брань в арсенале политиков и философов
О евреи, вы — гиены,
Кровожадные волчицы,
Разрываете могилы,
Чтобы трупом насладиться.
О евреи — павианы
И сычи ночного мира,
Вы страшнее носорогов,
Вы — подобие вампира.
Вы — мышей летучих стаи,
Вы — вороны и химеры,
Филины и василиски,
Тварь ночная, изуверы.
Вы — гадюки и медянки,
Жабы, крысы, совы, змеи!
Гнев Господень, без сомненья,
Покарает вас, злодеи! <...>
Чтоб в моей душе бесплодной
Вырастить Христову розу,
Ты свалил, какудобренье,
Кучу брани и навозу. <...>
За раввином францисканец
Вновь завел язык трескучий:
Слово каждое — не слово,
А ночной сосуд пахучий.
Г. Гейне. Диспут1
Одним из распространенных заблуждений
неспециалистов является мнение, будто полемика в «высоких сферах»
политики или философии должна вестись и обычно
ведется в цивилизованных рамках академического спора,
где главным оружием являются факты и их
интерпретация.
Практика показывает, что как политические деятели,
так и ученые философы достаточно часто пренебрегают
чинными правилами ведения ученого диспута.
Соответствующих примеров можно было бы привести очень
много, причем заведомо невозможно утверждать, что любовь к
таким нарушениям приличий свойственна носителям
только той или иной конкретной культуры или политического/
философского направления. Хотя есть основания утверж-
1 Перевод А. Дейча.
232
дать, что для иных политических направлений и
философских школ она характерна больше, нежели для других.
«Дискуссия» и «полемика»
Можно согласиться с предложенным В.А. Шенбергом
четким делением спора на дискуссию и полемику
(Шенберг 1991: 10—14). Эти два вида спора различаются
прежде всего по целям. Цель дискуссии — стремление к
выяснению истины, достижение договоренности обеих сторон о
том, «что есть истина». В дискуссии, по-видимому, нельзя
говорить о «противнике»: с обеих сторон — люди, готовые
принять убедительные аргументы другой стороны, чтобы
выработать общую позицию. Цель полемики — не столько
достижение согласия, сколько стремление одержать
победу, «переспорить» противника. Другими словами, перед
нами борьба.
Из сказанного не должно следовать, что дискуссия —
это хорошо, а полемика — плохо. Напряженная борьба за
взгляды, которые человек считает единственно верными,
закономерна и естественна — при одном важнейшем
условии: если она ведется достойными методами,
направленными исключительно на благую цель — убедить
оппонента в его неправоте. Как только атакующий обращается к
безнравственным приемам и уловкам (например,
частичному сокрытию истины, апелляции к непререкаемым
авторитетам, угрозам, эмоциональному давлению,
попыткам вывести оппонента из себя и т. п.), происходит
подмена целей: вместо доказательства собственной правоты
человек стремится победить любой ценой. Победа
становится важнее истины, и фактически полемика теряет
право так называться, превращаясь в перепалку, а в крайних
случаях — в попытку физического устранения оппонента.
Хотя необходимо отметить, что такой взгляд на
полемику разделяется далеко не всеми; к его сторонникам не
могут относиться те, кто полагает, что цель оправдывает
средства. Ср. мнение ЛД. Троцкого:
Цель (демократия или социализм) оправдывает, при известных
условиях, такие средства, как насилие и убийство. О лжи нечего уж и
говорить! (Троцкий 19906:117).
233
Совершенно очевидно, что если можно лгать, то
можно и оскорблять. Ср:.
Большевистская революция потребовала средств выразить понятия
политического насилия, нигилистического отрицания прошлого,
исступленной злобы, и эти средства нашлись (Арапов 1997: 56).
Именно брань может оказаться полезной там, где
главное — выбить противника из колеи. Хотя, как будет
показано ниже, политические противники могут обратиться к
брани и по совершенно другим причинам.
Инвектива «узкая» и «широкая»
Однако, прежде чем начать наш анализ, необходимо
определить основные понятия. Прежде всего, что считать
бранью. В настоящей статье мы будем использовать более
широкий термин «инвектива», под которой понимается
резкое выступление против кого-либо или чего-либо,
обличение, оскорбительная речь, выпад (СИС 1987: 191).
Под это очень широкое определение подпадают не
только чисто бранные слова вроде дурак, но и любые
«обличения» и «выпады», в том числе не содержащие грубых слов:
Пуришкевич приспособляет гвоздику ниже жилета и кричит: «Я
занимаюсь доносами и этим горжусь» (Троцкий 1990а: 161).
Вл. Ильин счел нужным пройтись в своей книге «Материализм» и т. д.
против моих иероглифов: нужно же ему было ставить себя в этом случае
за одну скобку с людьми, давшими самые неоспоримые и очевидные
доказательства того, что порох выдуман не ими! (Плеханов: 48).
Нас в основном будут занимать инвективы в узком
смысле, т. е. оскорбления, включающие грубости, в частности
(но вовсе не исключительно) то, что принято называть
нормативной»/«табуированной»/«непристойной»/«нецензурной» и т. д. лексикой. Поскольку различие между
какой-либо «слабо ненормативной» и «абсолютно
табуированной» лексикой очень нечетко и то, что кажется очень
грубым в одной семиотической подгруппе, оказывается
нормой в другой, будет включено нами в понятие
«инвектива в узком смысле», например, любое обзывание от
литературно вполне допустимого дурачок до самых резких и
оскорбительных выражений.
234
Исторические параллели
Ошибочно полагать, будто брань в политической
полемике свидетельствует лишь о порче современных нравов.
Вероятнее всего, она сопровождает полемику с момента ее
появления. Вот лишь несколько образцов из прошлых веков.
Примеры соответствующих цитат можно начать,
например, со Священного Писания. В Евангелии от Матфея
(3: 7) Иоанн Креститель обращается к своим идейным
противникам, фарисеям и саддукеям, следующим образом:
Порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?1
В «Деяниях Святых Апостолов» читаем:
Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на
него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого
злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с
прямых путей Господних?» (Деян. 13: 9—10).
Справедливости ради стоит отметить, что в Нагорной
проповеди Христос резко осуждает брань в любом виде:
Кто же скажет брату своему: «Рака»2, — подлежит синедриону; а кто
скажет: «Безумный», — подлежит геенне огненной (Мф. 5: 22).
Кальвинисты, как известно, строго запрещали брань
среди единоверцев; однако сам Кальвин, защищая свои
теологические постулаты, употреблял в адрес оппонентов
такие выражения, как свиньи, ослы, подонки, собаки, идиомы
и вонючие скоты (Manchester 1993: 190). Это XVI век.
В том же веке в другой стране, Англии, реформистский
епископ Джон Бейл называл своих католических
оппонентов грязными блудниками (Jylthie whoremongers), убийцами,
ворами, грабителями, лжецами, идолопоклонниками, собаками,
свиньями и воплощениями дьявола (Hughes 1991: 92).
Ситуация была той же и в России. Процитируем
некоторые письма Йвана Грозного к Андрею Курбскому (2-я
пол. XVI в.):
1 Здесь и далее мы используем синодальный перевод. В английских
переводах речь идет обычно о generation of vipers, т. е. о поколении гадюк,
гадючьем племени. Ближайшая аналогия в современных языках была бы,
вероятно, близка к «Сучьи вы дети!».
2 Букв.: «Пустой человек»; в современных английских переводах:
«fool» («дурак»).
235
Ты <...> собацким изменным обычаем преступил крестное целование
<...> положил еси яд аспиден под устнами своими <...> бесовским
обычаем яд отрыгаеши. <...> Что же, собака, и пишешь и болезнуеши, совершив
такую злобу? <...> Посему во всем ваша разумеется собачья измена. <...>
Почто и хвалишься, собака, в гордости, такожде и инех собак, и
изменников бранною храбростию? (ДРЛ 1980: 220 - 224).
Вот отрывки из классического сочинения протопопа
Аввакума (XVII в.):
Знаю всё ваше злохитрство, собаки, бляди, митрополиты,
архиепископы, никонияна, воры, прелагатаи, другия немцы русския (ЖПА
I960: 140).
А выблядков тех ево1 уже много, бешаных собак (Там же: 144).
Ох, блядин сын, собака косая, страдник! (Там же: 177).
Короче говоря, в предшествующие эпохи ученые мужи
мало стеснялись в выражениях по части оппонентов, и
брань нередко заменяла им аргументы. Живописуя
ученый спор капуцина и раввина, отрывок из которого
приведен в качестве эпиграфа к настоящей статье, Гейне
достаточно точно изображает типичный средневековый
диспут.
Не лишен интереса и язык современной
парламентской полемики. Сочетанием «непарламентские
выражения» обычно характеризуют грубую брань, но практика
показывает, что самые что ни на есть подлинные
«парламентские выражения» также могут не отличаться особой
деликатностью. Протоколы парламентских слушаний во
Франции за один только год (лето 1949 г. —лето 1950 г.)
зафиксировали, что коммунисты обзывали своих
противников 110 раз канальями, 205 раз свиньями и скотами, 180 раз
ослами, 270 раз фашистами и 80 раз провокаторами.
Социалисты 50 раз отзывались о своих врагах как о пролетариях
с накрахмаленными воротничками, 60 раз как о грабителях
трупов, 50 раз как о пожирателях икры. Народная
католическая партия и некоторые партии поменьше не
стеснялись в употреблении таких выражений, как Поросенок! (120
раз), Бестолочьі (65 раз), Шарлатані (20 раз), Провокаторі
(90 раз), Неумехаі (12 раз) (цит. по: Kiener 1983: 194).
1 Т. е. дьявола.
236
Неизвестно, правда, в какой пропорции все эти
инвективы приходились, если можно так выразиться, «на
единицу речи» — маленькие партии подразумевают и меньшее
количество ораторов. Однако всё познается в сравнении.
Крепость инвектив в случае коммунистов не идет ни в
какое сравнение со всеми прочими ораторскими
«изысками», даже когда это касается социалистов. Можно с
удовлетворением заключить, что коммунисты и здесь, как
всегда, впереди.
Вот небольшая выдержка из диалога двух
парламентариев британской Палаты представителей 1975 года:
Dr. R.T. Gun (Labour). Why don't you shut up, your great poofter?
Mr. J.W. Bourchier (Liberal). Come round here, you little wop, and I'll
fix you up (Hughes 1991:173 - 174).
В приблизительном русском переводе этот обмен мог
бы звучать как:
Д-р Р.Т. Ган (лейборист). Почему ты не заткнешься, сутенер ты
поганый?
Г-н Дж.У. Бурчиер (либерал). Иди сюда, ублюдок, и я врежу тебе.
Судя по стенограммам заседаний российской
Государственной Думы (несколько отредактированным), молодая
демократия в нашей стране все-таки отстает в инвектив-
ном плане от своих старших франкоязычных коллег, хотя
сами депутаты признают, что в кулуарных обсуждениях
они вполне в состоянии посоревноваться с их
зарубежными собратьями; однако объект нашего внимания —
печатная продукция, а посему мы оставляем устную речь на
совести ее авторов.
Впрочем, об определенных достижениях думских
политиков можно говорить и тут. Представление о стиле
современных российских коммунистов-парламентариев
могут дать инвективы из их «Обращения к депутатам
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации и гражданам Российской Федерации» (около
200 строк текста):
«Псевдодемократы»; «молодые нагловатые комментаторы»;
«безответственные "реформаторы-демократы"»; «небезызвестная "правозащит-
ница"»; «наглый призыв»; «фокусы режима»; «выход (Ельцина. — В.Ж.)
в зал» объявили, как выход «баловня-артиста»; «нищета духа правите-
237
лей»; «бездарность и мещанская психология пришедших к власти
псевдодемократов»; «молодые Хлестаковы XX века», «алчная номенклатура
Б. Ельцина уселась на шею народа, торгуя честью, совестью»;
«мародерство режима» (СЗГД 1997)1.
Поэтому нельзя не признать справедливость авторов
монументального исследования «Этика политического
успеха», которые отмечают:
«В России на парламентских нравах сказались еще и
разбуженные политические или околополитические
страсти массовых слоев населения. Подобные страсти
высвобождают энергию распада, импульсивность, податливость
всевозможным слухам, ненависть, мстительность, злобу»
(Бакштановский 1997: 591).
Политическая игра в стенах российского парламента ведется без
правил. Начинают противоборствовать не рациональные интересы, а
плохо калькулируемые иррациональные страсти. [...] Возникают
нетерпимость, патологическая ненависть к другому, непонятному, чужому.
Подобная игра завораживает тех, кто охвачен зудом политического экстремизма,
даже если игроки при этом щеголяют приличным платьем и
джентльменскими манерами (Там же).
Для сравнения имеет смысл привести цитату из
заметок о современном Иране, опубликованных газетой
«Московские новости» (№ 23, 1997):
Политические деятели, в силу особенностей иранского менталитета,
никогда не делают резких заявлений в адрес друг друга.
Непосвященному человеку даже может показаться, что правящая элита составляет
единое целое. Но это не так.
Хорошо было бы изучить речь иранских политиков на
предмет выяснения, к каким вербальным средствам они
обращаются с целью эмоционального усиления
произносимого ими, коль скоро инвектива не показана им. В
отношении русского социума здесь всё более или менее ясно.
В.И. Шаховский пишет:
1 «Крепчает парламентский язык. <...> Ю. Д. Черниченко поведал,
что мат стал официальным парламентским языком дискуссий в Думе и
высших эшелонах власти. Как французский — у былой аристократии. Это
новояз новой политэлиты. По словам депутата, не употребляют только
Э. Памфилова и Е. Гайдар. За что и погорели. Со вздохом восхищения он
называет оратора Р. "Сулейманом Стальским русского мата"»
(Вознесенский А. Цит. по: Известия. 11.08.1995).
238
Характернейшей чертой русского политического дискурса (далее
РПД. — В. Ж.) является конвергенция функциональных стилей
экспрессивных средств и стилистических приемов, что значительно повышает
воздействующую силу текста, т. е. его прагматику. Все эти и другие
средства экспрессивизации РПД, как показывает его контент-анализ,
выполняют как минимум две функции. Одна из них — сделать РПД ярким,
броским, привлекательным, интересным, чтобы более эффективно
воздействовать на ratio и emotio адресата. Другая функция такой
экспрессивизации РПД — самовыражение политического деятеля (Шаховский
1998: 80).
«Прагмема» и публицистика
М.П. Эпштейн (1991: 20) выделяет в лексике так
называемые «прагмемы», то есть слова, не только что-то
непосредственно обозначающие, но и коннотативно
нагруженные. Пользуясь его лексикой, это «свернутые суждения,
обладающие силой убеждения». Так, слово «разведчик»
хотя и является нейтральным или положительно
заряженным, но означает то же, что и «соглядатай», которое в
свою очередь обладает уже более или менее негативным
зарядом; «шпион» же и вовсе воспринимается резко
отрицательно. Ср. также удачную пару, предложенную М.П. Эп-
штейном:
Опытный политик заключил договор с руководителями
повстанческого отряда
И
Матерый политикан вступил в сговор с главарями бандитской шайки.
Очевидно, что выбор того или иного синонима в этих
фразах, сообщающих об одном и том же факте, зависит
исключительно от политических взглядов автора. Второй
вариант представляет собой пример того, что Л.Э. Най-
дич (Найдич 1995: 63) назвала политической
диффамацией, то есть ангажированностью, стремлением не просто
сообщить информацию, а самим подбором слов
выразить негативное отношение к тем или иным фактам,
лицам, действиям. Перед нами, таким образом, не просто
высказывание, но и определенное суждение о его
содержании.
239
Л.Э. Найдич справедливо указывает, что слова вроде
политикан, матерый, главарь, шайка и т. д. носят
выражение агрессивный характер и могут служить, против воли их
авторов, «маркерами ложности текста», то есть самой
своей напыщенностью заставляют опытного читателя или
слушателя ощущать политическую пристрастность.
Следует согласиться с Найдич и в том, что подобный
трескучий вокабуляр характерен больше для
пропагандистских целей, нежели для серьезного изучения проблемы. В
определенной мере это наблюдение помогает понять
причину обращения многих политиков к инвективе: сплошь и
рядом политическое выступление (даже печатное)
рассчитано на восприятие неискушенного слушателя
(читателя), поэтому патетика всех этих главарей и шаек
способна произвести требуемое впечатление. Это последнее
обстоятельство будет подробнее проанализировано ниже.
Пока же отметим лишь, что, по справедливому
замечанию В.И. Шаховского,
в русском политическом дискурсе наблюдается отсутствие политических
стратегий: в них превалируют сиюминутные вербальные эмоции и
экспрессивное самовыражение. За счет этого, судя по письмам читателей,
например, газеты «Советская Россия», происходит лишь эмоциональная
концептуализация политического опыта россиян. Это понимают и
политики: народу важен не смысл сказанного, а эмоции, рожденные
сказанным ими (Шаховский 1998:82).
Инвективная аргументация
классиков марксизма
В качестве иллюстративного материала для данного
исследования избран в основном бранный вокабуляр
основоположников марксизма-ленинизма и их более поздних
российских последователей, которым они успешно
пользовались в полемике со своими политическими противниками.
Необходимо с самого начала подчеркнуть, что, в
принципе, источниками соответствующих примеров могли бы
быть и другие теории и их основоположники. Да и
сегодня в нашем распоряжении весьма обильный материал,
поставляемый политиками самого разнообразного толка,
внесшими посильный вклад в инвективизацию русской
240
политической речи. Ср. выдержку из серьезной
монографии, посвященной изменениям в русской речи последних
лет. Обращает на себя внимание широкий спектр
политических взглядов упоминаемых персонажей:
Многие сильные и усилительные выражения (в том числе брань)
заметны и устойчивы в сферах, для них не предназначенных. Усиленные
выражения особенно заметны в газетной речи. В речи многих
верховных, официальных и политических лиц (легко назвать любые примеры:
Б. Ельцин, А. Чубайс, А. Руцкой, Ю. Батурин, Е. Гайдар): недоумки,
популисты, спекулянты, политическая паранойя, бредовые прожекты... не говоря о
таких «мелочах», как: бред, чушь (Шапошников 1998:157).
Сосредоточение настоящего исследования именно на
языке деятелей коммунистического направления
объясняется прежде всего тем серьезным местом, которое они
занимают на современной политической арене. Кроме того,
практически все современные российские политики
прошли серьезную большевистскую закалку и усвоили одну и
ту же манеру поведения. Поэтому на примере
коммунистов можно попытаться изучить общую стратегию и
тактику ведения российской политической дискуссии.
Да и в принципе нельзя отрицать того очевидного
факта, что именно коммунисты и их союзники представляют
собой сегодня (и представляли всегда) наиболее
агрессивную часть политического истеблишмента, так что именно
их речь особенно удобна для соответствующего анализа.
Но поскольку у российских коммунистов есть
прославленные предшественники в Германии, целесообразно
начать с изучения именно их языка.
Любовь Маркса — Энгельса к площадной брани
достаточно известна, но, собранные воедино, инвективы
вождей пролетариата производят исключительно сильное
впечатление и позволяют сделать важные выводы,
представляющие интерес для психо- и социолингвиста.
Уже первое знакомство с инвективной идиоматикой
Маркса и Энгельса заставляет заключить, что, во-первых,
инвектива занимает почетное место в системе
аргументации этих политических писателей и журналистов, а во-
вторых, она, по-видимому, кажется им важным средством
убеждения аудитории.
Инвективное разнообразие творчества анализируемых
мыслителей XIX века исключительно велико. Вот лишь
241
некоторые образцы бранных зооморфизмов в творчестве
этих прославленных предшественников русских
революционеров:
«жаба», «чванливая обезьяна», «скотина», «упрямая лошадь»,
«подлая эмигрантская свинья», «собака» («лавры кровавой собаки»), «осел»
(«фантастический», «демократический», «старый», «последний»; «вой
лондонских ослов», «банда ослов», «валаамова ослица»), «куколка
навозного жука» и даже «вошь с головой, вздутой от водянки».
Враги не говорят, а «бессильно тявкают».
Классики не чуждались насмешек над физическими
недостатками своих оппонентов:
«карлик», «огромная гора мяса и жира», «заика», «эпилептик»; «над
его уродливой головой скоро разразится настоящая гроза», «Бруно
Бауэр, заикаясь, лепечет»; «...форму, которая характеризует этого
возвышенного карлика как настоящего дурака».
Вполне вероятно, что определенную роль в этой Марк-
совой преференции сыграл образ физически
безупречного тевтонского рыцаря — этакого почти культуриста,
который позже получил известность как «белокурая бестия».
Разумеется, у наших немецких авторов в ход шли и
простые обзывания типа:
«дураки и негодяи», «старая баба», «низкий блюдолиз», «пройдоха»,
плебей», «старый плут», «шут», «арлекин», «паяц», «лживый комедиант»,
«коронованный шулер», «чудовищный выродок», «высокопарный
негодяй» (Ламартин) или «мерзкая дрянь».
Очень любили они обвинять оппонентов в глупости:
«дурак», «дуралей», «кретин», «простофиля», «олух»,
«чурбан», «детски-наивные глупцы». Когда речь шла о группе,
подлежащей поношению, в ход шли: «стая», «сброд»,
«гнусная банда негодяев», «гнездо лжи», «паршивые
демократы», «импотентные "великие мужи" мещанства»,
«контрреволюционное отребье», «образцовые попрошайки»,
«безвольные нытики», «невежественные мечтатели»1.
1 Ср.: «Парадоксальность практики моральных оценок, по
справедливому суждению одного видного российского философа, заключается в
том, что тот, кто мог бы выносить моральные оценки другим, не станет
этого делать, сознавая собственное несовершенство, а тому, кто готов
выносить моральные "приговоры" другим, нельзя этого доверять
(именно потому, что он готов это сделать, обнаруживая самодовольство и тем
самым несоответствие роли судьи)» (Бакштановский 1997: 590).
242
Обращает на себя внимание группа инвектив, в
которых классики выражают свое пренебрежение «разными
прочими шведами»: это, например, «венгерская дрянь»,
«жалкие итальянцы», «надменные хорваты», «поганая
Швейцария» и «русские канальи». Можно подумать, что
еврей Маркс испытывал определенный «комплекс
национальной неполноценности» и, наделяя другие нации
отрицательными эпитетами, стремился сей факт скрыть —
возможно даже, что и от себя самого.
Однако Маркс (как, естественно, и немец Энгельс) был
прежде всего носителем немецкоязычной культуры.
Отсюда в его творчестве многочисленные идиомы,
связанные с «человеческим низом», характерные для немцев
примерно так же, как для русских — мат:
«получить грубый пинок в самое мягкое место», «подложить под зад
несколько горячих углей», «религиозные запоры», «литературный
понос», «испарения чумной демократической клоаки», «...у которой "Кель-
нише Цайтунг" еще недавно лизала зад».
Впрочем, всем этим «поносам» и «запорам», возможно,
причиной является и то, что во всем мире опытные
ругатели весьма охотно обращаются к медицинскому вокабуля-
ру (шизофренический бред, паранойя, жалкие потуги,
политическая глухота/слепота, та же ленинская Детская болезнь
"левизны" в коммунизме). Л.Э. Найдич (1995: 64) пишет по
этому поводу:
Использование такой лексики в этой функции вызвано тем, что
она дает возможности для развития семы отрицательной оценки, так
как обозначает, во-первых, болезненное состояние, ассоциирующееся
с пейоративностью, во-вторых — нечто низкое, относящееся к
физиологии.
Объективности ради отметим, что часть
процитированных инвектив заимствована не из печатных
произведений, а из писем, где человек, как правило, выражается
менее сдержанно. Однако, во-первых, речь идет прежде
всего о письмах к политическим единомышленникам, т. е.
письмах, достаточно официальных, а во-вторых, нам здесь
важнее не жанр текста, а сама принципиальная
возможность подобной «критики».
(Обратим внимание, кроме того, что цитаты из
трудов Маркса и Энгельса даются нами в русском переводе.
243
Не представляло бы труда отыскать их и в подлиннике,
однако в этом вряд ли имеется необходимость, ибо
главная задача нашего исследования — обратить внимание на
сам факт использования инвективы; а проблемы места
этой инвективы, ее «крепости» на инвективной шкале в
нашем случае не столь существенны. Можно, впрочем, с
большой долей вероятности предположить, что в целом
ряде случаев русские переводчики смягчали наиболее
грубые инвективы из соображений благопристойности и
уважения к авторам переводимого почти сакрального
материала.)
Представляет интерес, что, по-видимому,
основоположники марксизма не отдавали себе отчет в крайней
грубости своего словаря. Они были искренне уверены, что
грубят другие, а они пользуются гораздо более тонким
оружием. Ср. письмо Энгельса Э. Бернштейну:
<...> Поскольку одни лишь крепкие выражения не всегда придают
достаточную силу языку и при постоянном повторении одних и тех же
выражений, вроде негодяи и т. п., их эффект слабеет, так что приходится
пускать в ход все более «крепкие» выражения, рискуя при этом впасть в
стиль Моста-Шнейдта, то желательно было бы прибегнуть к другому
средству, которое обеспечило бы силу и выразительность и без крепких
слов. И такое средство существует: оно заключается в преимущественном
использовании иронии, насмешки, сарказма, которые уязвляют
противника больше, чем самые грубые слова возмущения (цит. по: «Об
ораторском...» 1978: 368).
«Этика революционаризма»
В коллективной монографии «Этика политического
успеха» авторы вводят понятие «этики революционаризма»
как своеобразной этики, противопоставленной общей
этике гражданского общества. Сторонники новой этики
страдают «аллергическим неприятием» мира
цивилизации и стремятся овладеть умами «разномастной
люмпенской публики», «неприкаянных аутсайдеров потрясенных
социумов», «интеллектуально-нравственной голытьбы»
(Бакштановский 1997: 254).
К ним — социальным субъектам «паралакса» от общечеловеческих
ценностей, — пишут авторы монографии, — относятся деклассированные
элементы, пролетаризирующиеся ремесленники, различные «выбросы»
244
из села, плохо адаптированные к жизненным условиям
урбанистического существования, так называемые «гулящие люди», оказавшиеся вне
групповых связей и народной культуры, активно отрекающиеся от
общественных уз, обитатели городских гетто, дискриминируемые
меньшинства, которые во многом смирились со своим состоянием и вину за него
охотно переложили на чужие плечи (отдельные лица, обстоятельства,
злополучное «паршивое общество»). Существование этого «маргинале-
за» послужило веским оправданием революционаризма, его непомерных
мессианских притязаний, ложного понимания человеческой свободы и
достоинства (Бакштановский 1997: 225).
Тем не менее, утверждают авторы, речь не идет о
сознательной ориентированности основоположников
марксизма на всю вышеперечисленную публику, тем более что
этика революционаризма ведет свое происхождение вовсе не
от Маркса — Энгельса, она известна уже со времен борьбы
с феодализмом. Что безусловно не меняет существа дела.
Авторы монографии цитируют слова Э.Ю. Соловьева о
том, что:
неправильно было бы утверждать, что Маркс и Энгельс потакали
плебейскому эгалитаризму, зависти и мстительности. Речь скорее должна
идти о том, что эти настроения оказывались как бы в «слепом пятне»
марксистского идеологического анализа и молчаливо им
легитимизировались (Бакштановский 1997: 254).
Дальнейшая часть цитаты из Э.Ю. Соловьева
заслуживает отдельного анализа. Автор отмечает:
Для условий Западной Европы второй трети XIX века это была не
такая страшная беда, поскольку сами ранние пролетарские иллюзии
находились в стадии естественного отмирания.
В русле настоящей статьи это означает, что
сквернословие Маркса и Энгельса, при всей его грубости и
цинизме, значительно уступает сквернословию их
политических последователей, живших в иную эпоху и
использовавших форму изложения своих учителей в
совершенно других политических и культурных условиях. В XX веке
уже вряд ли оправданно говорить о «слепом пятне»
марксистского идеологического анализа1.
1 Поэтому заметим, что и все эти определения, как «люмпенская
публика» и «интеллектуально-нравственная голытьба» авторов цитируемой
монографии, при всей меткости этих инвектив, все-таки тоже не могут
считаться действенным оружием в борьбе против враждебной идеологии.
245
В.И. Ленин — верный продолжатель
инвективной практики первых марксистов
Но так или иначе, наши отечественные последователи
вечно живого учения стремились и по форме
придерживаться первоисточников.
Сам этот факт, впрочем, тоже наводит на размышления.
Строго говоря, вряд ли справедливо возводить русских
большевиков непосредственно к Марксу и Энгельсу.
Достаточно оснований подозревать, что гораздо теснее
ленинизм связан со стратегией и тактикой
террористов-заговорщиков типа Нечаева, чего бы и ни говорили вслух по
этому поводу теоретики ленинизма. Впрочем, вслух они
тоже предлагали различать террор «белый» (естественно,
плохой) и террор «красный» (разумеется, одобряемый), а
само понятие «террор» определяли довольно
снисходительно. Ср.:
ТЕРРОР — политика устрашения, подавления классовых и
политических противников насильственными мерами (МСЭ 1959/9: 282).
Наши симпатии полностью на стороне ирландских, русских,
польских или индусских террористов в их борьбе против национального и
политического гнета (Троцкий 1990а: 124).
Что такое террор? Это система действий, имеющих целью устрашить
политического врага, распространить ужас в его рядах.
Эта цитата из Г.В. Плеханова приводится в статье
«Террор» академического «Словаря русского языка» (СРЯ
1957-1961/4:492).
Но так или иначе, как известно, Ленин очень
тщательно штудировал труды Маркса и Энгельса и, надо полагать,
именно отсюда заимствовал многие стилистические
приемы.
Вот лишь несколько примеров из его полемических
трудов (включая письма и записки):
«мошенник», «сладенький дурачок», «кабинетный дурак», «с кашей в
голове», «разжижение мозга», «ренегат», «слепой щенок», «ослиные
уши», «мерзавец», «блудливый сплетник», «лакей», «наймит»,
«лоботряс», «сволочь», «жалкий комок слизи», «говно», «коронованные
манекены», «кадетские подголоски», «либеральные лакеи», «инквизиторы в
зипуне», «звонари свободы», «капризный барин», «старая
бюрократическая крыса», «сторожевой пес самодержавия».
246
Общеизвестна цитата, в которой Ленин называет
интеллигенцию говном1. Но его ненависть к интеллигенции
проявлялась неоднократно. Ср.:
«кучка ноющей интеллигентской дряни»; «сомнения дряблой
буржуазной интеллигенции»; «"Общество" и "интеллигенция" — просто жалкий,
убогий, трусливо-подленький прихвостень этих верхних десяти тысяч».
Но особенно бурные эмоции вызывает у Ленина
специфический слой, не разделяющий его взгляды. В
«Материализме и эмпириокритицизме», претендующем на
серьезность, можно встретить такие оценки идейных
противников автора:
«учено-философская тарабарщина», «профессорская галиматья»,
«беспросветная схоластика», «невежество», «безднапутаницы»,
«безграмотность», «верх бессмыслицы», «квазинаучные профессорские
финтифлюшки», «сплошной комок путаницы», «языкоблудие»,
«претенциозный вздор». Мах — «путаник», а Авенариус — и вовсе «кривляка».
Несколько цитат из ленинских «Перлов
народнического прожектерства»:
«чудовищно глупые выводы», «абсурдное мнение», «велеречивые
фразы», «чистейший вздор», «вздорные фразы», «истасканный прием»,
«одна сплошная фальшь», «одни пустые фразы», «разглагольствования
г-наЮжакова» (Ленин 1975/2: 471-504).
Бичуя врага, Ленин неоднократно прибегал к
литературной аллюзии:
«о меньшевистских теоретиках-Фамусовых», «<...> которые спрятаны
теперь Тартюфами меньшевизма», «г. Пешехонов отличается от г.
Струве ничуть не больше, чем Бобчинский отличается от Добчинского»,
«кадетский Иудушка Головлев способен внушить самое жгучее чувство
ненависти и презрения», «ну разве это не политические "человеки в
футляре"», «Пусть моськи буржуазного общества, от Белоруссова до Мартова,
визжат и лают по поводу каждой лишней щепки при рубке большого,
старого леса. На то они и моськи, чтобы лаять на пролетарского слона.
Пусть лают» (Ленин 36: 193).
Меньшевичка Л.И. Аксельрод писала:
Полемика Ильина (Ленина. — В.Ж.) <...> всегда отличалась в то же
время крайней грубостью, оскорбляющей эстетическое чувство читателя. <...>
Не соответствуют истине и потому именно грубы и возмутительны эпитеты,
1 Это слово встречается в сочинениях Ленина 40 (сорок) раз (см.:
Мясоедов 1998: 178).
247
которыми Ильин награждает мыслителей из позитивистского лагеря:
Авенариус — кривляка, Корнелиус — урядник на философской кафедре. <...> Уму
непостижимо, как это можно нечто подобное писать, написавши, не
зачеркнуть, а зачеркнувши, не потребовать с нетерпением корректуры для
уничтожения таких нелепых и грубых сравнений! (цит. по: Мясоедов 1998:178).
Как видим, ленинский стиль возмущал и людей, не так уж
далеко с ним расходившихся. Другое дело, что возмущение
Л. И. Аксельрод своеобразно: грубы и возмутительны
эпитеты, потому что они не соответствуют истине. Очевидно, что
если бы Авенариус заслуживал, по мнению Аксельрод, звания
кривляки, то обзывать его так в политической полемике было
бы можно. Впрочем, чему удивляться, рядом она пишет:
<...> Когда грубость проявляется в боевых злободневных статьях, то
ей можно найти оправдание <...> (курсив наш. — В.Ж.). Но когда крайняя,
непозволительная грубость пускается в ход в объемистом произведении
(имеется в виду «Материализм и эмпириокритицизм». — В.Ж.), то
грубость становится прямо-таки невыносимой (Там же).
Стоит отметить, что редакторы ленинских сочинений
были явно смущены обилием содержавшихся там
инвектив и порой опускали их. Ср.:
Конечно, я знал и раньше, что из ленинских работ еще при жизни
вождя, а в более значительной мере после его смерти, изымались отдельные
слова и даже целые абзацы. Например, в изданном в 1931 году «Ленинском
сборнике XVII» в разделе «Роза Люксембург» <...> сделаны сноски:
«Опущен резкий эпитет по отношению к Р. Люксембург. — Ред.» или просто:
«Опущен резкий эпитет. — Ред.». Обратился к подлинному тексту и выявил
эти эпитеты: идиотка, дура. В последующих изданиях грубая ругань вождя
в адрес соратников и товарищей по борьбе часто изымалась уже без
всяких редакторских комментариев и даже без отточий. В «полном»
собрании сочинений подобных купюр множество (Латышев 1996: 42).
Из писем Ленина к И. Арманд и других источников (цит.
по: Латышев 1996: 305, 309):
«Если Маша оказалась такой, то я лично очень рад, что эта сука
отказалась идти в наш журнал». «На такое говно, как Мергейм, не стоит
тратить много времени». Радек «держит себя в политике как тышкинский
торгаш, наглый, нахальный, глупый». «Кто прощает такие вещи в
политике, того я считаю дураком или негодяем». «Если Радек не понимал, что
он делал, тогда он — дурачок. Если понимал, тогда — мерзавец».
Пятаков — «поросеночек», у которого «ни капли мозгов». «Дурак я был, что
советовал смягчить против этого мерзавца Плеханова!!»
Отзыв Ленина о своем ближайшем сподвижнике,
первом наркоме просвещения A.B. Луначарском:
248
Скажу прямо, — это совершенно грязный тип, кутила, и выпивоха, и
развратник, на Бога поглядывает, а по земле пошаривает, моральный
альфонс, а, впрочем, черт его знает, может быть, не только моральный
<...> (цит. по: Соломон 1991: 34).
Из разговора Ленина с деятелем
социал-демократического движения в России Г.А. Соломоном:
«Как?! <...> Ну, так могут думать только политические кретины и идиоты
мысли, вообще скорбные главой и самые оголтелые реакционеры...»
<...>. Он просто ругался и сыпал на мою голову выражения дубовые головы,
умственные недоноски, митрофаны— словом, аргументировал целым
набором оскорбительных выражений (Соломон 1991: 32).
Подобно Марксу, Ленин не брезговал и
ксенофобскими инвективами:
Предали сволочь поляки (оппозиция) явно из-за Малецкого (его речь
подла!!). Подлые поляки оппозиция перетянула и «слабого» (дурачка)
литовца (цит. по: Латышев 1996: 305).
Ср. по поводу ленинского языка мнение известного
философа И.А. Ильина:
Нельзя не обратить внимание на тот удивительный тон, которым
написано все сочинение — литературная развязность и некорректность
доходят здесь поистине до «геркулесовых столбов» и иногда переходят в
прямое издевательство над самыми элементарными требованиями
приличия: словечки вроде прихвостни, безмозглый, безбожно переврал, лакей
попадаются буквально по нескольку раз на странице, а превращение
фамилий своих противников в нарицательные клички является далеко еще не
худшим приемом в полемике В.И. Ильина (= Ленина. — В.Ж.) (цит. по:
Мясоедов 1998:178).
И.А. Ильину вторит В. Ходасевич:
Ленин был великий огрубитель и опошлитель. <...> Мысль Ленина
всегда сильна и всегда вульгарна. <...> Стремление к огрублению,
презрение к эстетике (может быть, незнание о ней), полемическая хлесткость
невысокой цены — вот главнейшие черты ленинского стиля» (Мясоедов
1998: 179).
Если вспомнить, что по образованию Ленин был юрист,
можно подумать, что он хорошо изучил книгу известного
профессора уголовного права Л.Е. Владимирова (1845—?),
который дает своим коллегам советы вроде:
Будьте постоянно и неуклонно несправедливы к противнику. <...>
Рвите речь противника в клочья, и клочья эти с хохотом бросайте на
ветер. Противник должен быть уничтожен без остатка. Нужен для этого
парадокс, пустите его в ход. Нужна ирония, подавайте ее. Нужно осмеять
249
соображения обвинителя, осмеивайте их. Будьте беспощадны.
Придирайтесь к слову, к описке, к ошибке в слове. <...> Это ведь не
воинственный диспут, а потасовка словами и доводами, потасовка грубая, как сама
общественная жизнь людей. <...> Чем несправедливее, пристрастнее вы
будете к противнику, чем больше страсти, злобы, иронии будет в вашей
речи, тем больше вы будете нравиться (цит. по: Сергеич 1988: 327—328).
Л.Д. Троцкий — оратор, журналист, инвектант
Блестящий оратор и безусловно талантливый
журналист Л.Д. Троцкий в своих выступлениях и статьях
предстает как достойный соратник Ленина. По своей
выразительности его диатрибы уникальны: Каутский у него ползал
на четвереньках перед Вильсоном, Азеф был и оставался
прохвостом, Сыромятников — тупая и злая недотыкомка, который
снова жует гнилыми зубами вопрос о «волках»-социалистах и
«овцах»-рабочих. Николай II — коронованный урод, вырожденец
по всем признакам, со слабым, точно коптящая лампа, умом, у
него преступно-дрянная натуришка коронованного Митрофа-
на, это дрянная фигура из мусорного ящика человечества. Пу-
ришкевич покрыт плевками общественного презрения, граф
Штернберг — грязный алкоголик, сиятельный Ноздрев,
физиономия которого окружена ореолом из плевков и пощечин, и т. д.
Если сюда добавить еще негодяя, рептилию, лакея,
прохвоста, сивого мерина, бездельника, преступного бродягу,
бюрократического выскочку, шута, труса, болтуна, конокрада, шулера и
т. д., то придется согласиться, что отличия от ленинских
эпитетов состоят здесь главным образом в более богатом
активном словарном запасе и известной доле
художественного воображения.
Подобно Ленину, Троцкий охотно прибегает к
литературным аллюзиям: ср. уже цитированные коронованный
Митрофан, сиятельный Ноздрев, а также Чичиков, Собакевич
и мн. др.
«Сталин — это Ленин сегодня»
Отношение Сталина к инвективе своеобразно. Язык
вождя скучен, однообразен, словарь его беден, во всяком
случае, в сравнении с языком Ленина и особенно
Троцкого. И при этом он очевидно сознательно избегает «флагов
250
расцвечивания» в виде бранных выражений. Создается
впечатление, что брань ему вообще чужда.
Это впечатление безусловно обманчиво.
Общеизвестно, что в быту Сталин был завзятым сквернословом, что
малоудивительно, если вспомнить, что он вырос в семье
вечно пьяного сапожника.
И тем не менее факт остается фактом: ни в одной статье,
ни в одной книге у Сталина нельзя обнаружить ярких
инвектив. Он явно уклонялся от использования такого легкого
способа эмоционального усиления речевого воздействия.
В чем здесь причина? Можно предположить, что она
кроется в грузинском происхождении «вождя всех народов» и
отчасти — в его семинарском образовании. Зачатки
религиозного воспитания могли удачно наложиться на менталитет
кавказца, привыкшего очень серьезно воспринимать
оскорбления. Если добавить сюда несомненную хитрость «лучшего
друга физкультурников», то может стать ясным, что
последний стремился избегать оскорбительных выражений в
письменном (печатном) виде именно в целях маскировки своей
малой культурности и вдобавок, чтобы получить шанс
прослыть человеком воспитанным. В среде же соратников
можно было не стесняться, чем он охотно и пользовался.
Одновременно нельзя забывать о том, что Сталин
всячески поддерживал инвективизацию чужой речи, чему
были свидетелями рептильная1 пресса и его соратники.
Можно, таким образом, смело утверждать, что
политическое сквернословие, пышным цветом расцветшее при
Сталине, — это, собственно, «спонсированное» самим вождем
как бы его собственное сквернословие. Ср.:
И.В. Сталин был груб, и все окружающие брали с него пример.
Грубость стала доминировать в обществе, спускаясь сверху, поднимаясь
снизу. Навешивание хамских ярлыков стало практикой: богдановщина, рубин-
щипа, мейерхолъдовщина, кондратьевщина <...>. В большевистском общении
вседозволенности формировался свой взгляд на жизнь. Стала задача
болыпевизировать жизнь. <...> Осуществлялась ставка на негодяев и
ничтожеств (Мясоедов 1998: 165).
Из воспоминаний внука Н.С. Хрущева:
В советском руководстве было много людей, которые не только
говорили, но и мыслили по-матерному. Ворошилов, Буденный да и Сталин
1 Т. е. подобострастная, услужливая, льстивая с оттенком подлости.
{Примеч. ред.)
251
оставляли резолюции с нецензурными словами на документах. Молотов,
отклоняя одно из прошений о помиловании, написал на полях, что
осужденный — ублюдок и бл...дъ (здесь и далее отточия — как в цитируемой
газете. — В. Ж.). По-моему, одна из самых ярких в этом смысле резолюций —
та, которую Сталин наложил на донесении разведки НКВД от 16 июня
1941 г. с предупреждением о готовящемся нападении Германии на СССР:
«Можете послать ваш источник из штаба германской авиации к е...
матери». <...> На крупном селекторном совещании секретарей райкомов в
середине 50-х годов Л. Каганович разъяснял его участникам, что «вопрос не
х..., сам не встанет». Как вспоминал переводчик высокопоставленных лиц
И. Кашмадзе, Ворошилов, Каганович и другие товарищи не стеснялись
материться даже в присутствии лидеров зарубежных стран (например,
президента Индонезии Сукарно), в свите которых были люди,
понимавшие по-русски. Среди слов и выражений известного рода руководители
хрущевского периода, а позднее и Л. Брежнев предпочитали такие, как
«муд...к» и «е... твою (его, их и т. д.) мать» (Аргументы и факты. 1999. № 16).
Инвектива и советская пресса
Неудивительно, что советская пресса стремилась не
отставать от своих руководящих вдохновителей. Ср.:
Если речь заходит о русской эмиграции, то она называется обычно
белогвардейская сволочь; если говорят о социалистах-меньшевиках, то это
говорят о социал-изменниках, социал-предателях; противо-коммунистические
мероприятия того или иного правительства — это махровая реакция
империалистической клики (Селищев 1928: 83).
Из весьма типичной «рецензии», помещенной в газете
«Правда» от 2.6.1922:
Книжка Айхенвальда насквозь пропитана
трусливо-пресмыкающейся, гнилой, гневной ненавистью к Октябрю <...>. Это философское,
эстетическое, литературное, религиозное лизоблюдство, т. е. мразь и дрянь
(цит. по: Латышев 1996: 213).
Особенно агрессивной, по понятным соображениям,
была лексика советских газет времен партийных чисток и
массовых расстрелов. Вот только несколько примеров.
Из характеристик и эпитетов в адрес уничтожаемых
революционеров:
«белобандиты», «предатели», «мерзавцы», «выродки, потерявшие
всякий человеческий облик», «шакалы», «сволочи», «чудовищные
ублюдки», «змеиная вражья порода», «подлая банда убийц и шпионов», «их
гнусный лай из помойной ямы истории» и мн. др. (цит. по: «Народ...» 1990).
Среди авторов этих инвектив — писатели М. Горький,
М. Исаковский, М. Шагинян, Джамбул, М. Козаков и про-
252
сто безвестные авторы передовиц «Правды», «Огонька»,
«Комсомольской правды», «Крокодила» и др.
Цитаты из передовых статей газеты «Правда» за 1936—
1937 годы:
«Иуда-Троцкий», «гнусная шайка», «троцкистские бандиты,
оголтелый и презренный союзник фашизма», «презренные агенты фашистских
охранок», «звериное выражение ненависти», «гады, убийцы и
поставщики убийц», «звериная злоба», «троцкистская гадина», «один из лакеев
Троцкого», «гнусные, трижды презренные троцкистские выродки»,
«троцкистская падаль», «бешеные троцкистские псы», «троцкистская
нечисть» и т. д. («Троцкистская шайка...» 1937: 84—85).
Небезынтересно, что в ходе сталинских чисток и
политических процессов вырабатывалась своеобразная «эпи-
тетизация» врага, сильно напоминающая мусульманскую
традицию постоянного эпитета Аллаха. Однако если в
Коране эпитеты «милостивый и милосердный» относятся к
Высшему Существу, Господу миров, то в приговоре Военной
Коллегии Верховного Суда СССР от 30 января 1937 года
постоянный эпитет-характеризатор враг народа присвоен
исчадию ада Троцкому:
«...высланного за пределы СССР врага народаЛ. Троцкого», «в полном
соответствии с этой основной задачей враг народа Л. Троцкий», «враг народа
Л. Троцкийво время переговоров...», «одновременно враг народа Л. Троцкий
обязался...», «при его свидании с врагом народа Л. Троцким», «по указаниям
врага народа Троцкого» и т. д. («Троцкистская шайка...» 1937:57—58).
Пример достаточно традиционного набора «характе-
ризаторов»:
Заговорщик и убийца фашист Бухарин — презренный подручный
Иуды Троцкого (цит. по: Купина 1995: 76).
В своей книге «Тоталитарный язык» H.A. Купина
отмечает появление новых, очень грубых и страшных
инвектив-ярлыков времен сталинских чисток — «простых»
производных от личных имен врагов вождя всех времен
и народов: троцкист, бухаринец, зиновьевец. Приклеивание
любого из этих ярлыков означало тюремное заключение
или расстрел. Исследователь указывает, что имена
Троцкого, Бухарина, Зиновьева, выступающие как внутренняя
форма соответствующих прилагательных, ощущаются
скорее как «знак знака», как символ предательства:
В денотативном послеоктябрьском пространстве каждый человек
(нерасчлененное человеческое множество) может получить клеймо
253
троцкиста. Сема «человек» вытесняется под давлением идеологемы
политической ненадежности (Купина 1995: 74).
Стоит отметить, что современники Ленина и верных
ленинцев очень внимательно читали и усваивали
критический стиль вождей. Характерный пример в этом
отношении приводит Н.В. Брагинская (см. послесловие к: Фрей-
денберг 1997: 424—427). Заголовком разгромной статьи о
книге выдающегося ученого О.М. Фрейденберг «Поэтика
сюжета и жанра» (1936) был: Вредная галиматья. Как
справедливо отмечает Н. В. Брагинская,
бранные заголовки отнюдь не были свободным творчеством, они
составлялись из особо значимых слов, между ними можно проследить
своеобразную преемственность и даже субординацию. <...> Встречая не самое
обиходное слово «галиматья», стоит обратить внимание на его «генезис»
(Фрейденберг 1997: 426-427).
И далее автор убедительно показывает прямую
зависимость целого ряда употреблений этого слова от четыреж-
дыкратного использования его Лениным: здесь и статья
братьев Тур «Галиматья» (о масонах), и вредная галиматьяв
докладной записке Сталину и другим вождям зам. зав.
отделом кульпросветработы ЦК А.И. Ангарова (о И.М.
Тройском). «Вредная галиматья» — название рецензии М. Шахно-
вича на статью «Черты первобытного примитивизма
воровской речи» Д.С. Лихачева.
Собственно говоря, подобные высказывания и «как-бы-
цитаты» представляли собой своеобразный
политический донос и одновременно — свидетельство о полной
благонадежности автора доноса.
Г.В. Плеханов, Н.И. Бухарин
и культура русской политической дискуссии
Следует отметить, что не все большевистские авторы
слепо копировали стиль своего великого вождя. В
произведениях Н.И. Бухарина инвектив несравненно меньше,
а сами они в своей массе гораздо мягче, чем ленинские.
Стиль Бухарина огрубляется по мере усиления роли
Сталина и очевидности скорого конца карьеры автора:
вероятнее всего, инвективы в адрес Троцкого и др. вызваны
254
инстинктом самосохранения и стремлением доказать
свою лояльность.
Однако, как правило, Бухарин предпочитает избегать
прямых личных оскорблений и преимущественно
бранится «вообще». Вот несколько примеров:
«Господа реформисты пускают пыль в глаза просыпающемуся
пролетариату», «мелкобуржуазная дрянь», «гнусное и провокационное
отношение к рабочим», «кулацкие громилы», «фомки лондонских дипломатов»,
«выявить действительность из-под хлама вранья», «старорежимные
старушки обоего пола», «эта идеология ползет на карачках».
А вот примеры личных оскорблений:
«<...> такой опытной фашистской лисы, какой является Пилсудский»,
«Троцкий в своем заявлении Коминтерну <...> — документе неслыханно
клеветническом и кликушеском — пытается местами аргументировать,
опомнясь на минуту от перманентного визга».
Подобно Ленину, Бухарин обращается к литературным
аллюзиям:
Колупнуть немного наши административные кадры — можешь
наткнуться и на Грустиловых, и на Негодяевых, и на Великановых, и на
Угрюм-Бурчеевых.
Можно предположить, что инвективная стратегия
Бухарина ведет свое происхождение скорее не от Маркса —
Энгельса, а от Г.В. Плеханова.
Полемические труды Плеханова можно рассматривать
как своеобразный «мостик» между стратегией
большевиков и их оппонентов. Его стиль гораздо выразительнее
«большевистского», его сарказм ярче, его литературные
способности в целом — намного выше. С другой стороны,
пусть в несравненно меньшей степени, он не
пренебрегает и излюбленным оружием пролетариата — инвективным
«булыжником». Скорее всего, в Плеханове-полемисте все
время боролись образованный и умный интеллигент и
марксистский публицист, «работающий на публику».
Вот несколько примеров из огромного сборника
полемических статей Плеханова с характерным названием «От
обороны к нападению»:
«Вы попали в бо-о-олыпой просак, г. Богданов», «от ваших
"философских" построений не может остаться ничего, кроме мусора и щепок»,
«трусливый идеализм», «эта жалкая философия как нельзя лучше
соответствует нашему жалкому времени», «ниже упасть невозможно!», «как
255
пародия, его книга очень зла и даже талантлива, но, разумеется, совсем
несправедлива», «Иосиф Дицген опять ломится в открытую дверь»,
«тоска, овладевшая нами при чтении "Панидеала", была, к сожалению, очень
продолжительна, ибо в этой книге 232 страницы, написанных поистине
варварским языком и отмеченных печатью самого "безнадежного" и
жалкого педантизма...», «на грош муниции, на рубль амбиции», «до какой
степени смешны почтительные приседания г. Луначарского перед его
синдикалистской кошкой, принимаемой им за очень крупного зверя...»,
«Это показывает нам, какую меру понимания отпустили Бог и природа
самому г. Луначарскому», А. Лабриоле «поет», «беспомощно
барахтается», «сидел на идеалистическом стуле», «ломится в открытую дверь»,
«проповедует», «гремит». «Солнце, заблиставшее над нами по
приказанию Э. Леонэ, светит очень тускло и как две капли воды похоже на ту
луну, которую прескверно делают, по словам одного гоголевского
персонажа, в Гамбурге», «до смешного громкие слова, как водится,
прикрывают собою самое жалкое содержание».
Как видим, ряд инвектив принадлежит к вполне
литературным, совсем же грубых — очень мало, а отдельные
саркастические замечания могли бы даже доставить
удовольствие стилисту. К тому же их просто очень мало, куда
меньше на страницу текста, чем даже у Бухарина, чьи
инвективы более резки и иногда находятся на грани
пристойного. Тем не менее их обоих есть основание числить
отдельно от Маркса — Энгельса — Ленина — Троцкого.
Феномен Плеханова — Бухарина заставляет отказаться
от чересчур упрощенного вывода о том, что между
идеологией и способом ее защиты имеется прямая зависимость.
Очевидно, что все значительно сложнее.
Прежде всего, по-видимому, на выбор средств
полемики оказывает влияние темперамент и воспитание
полемиста. Другое дело, что ту или иную идеологию выбирают
чаще всего люди определенного темперамента и
воспитания, так что экстремистская идеология, если можно так
выразиться, «стоит на плечах» людей истеричных и
недостаточно образованных, а эти люди, в свою очередь,
привносят в полемику экстремистские способы борьбы.
Разумеется, возможно существование полемистов
экстремистского толка в рамках вполне благопристойной
идеологии, как и спокойных и благовоспитанных сторонников
экстремизма. Однако взаимоподпитка истериков и
экстремизма кажется бесспорной.
256
Вести из другого лагеря
В этой связи полезно взглянуть на поведение человека,
исповедовавшего на первый взгляд совершенно другую
идеологию, —Адольфа Гитлера. Многочисленные
исследователи отмечают, что распространенный стереотип,
изображающий Гитлера как орущего и визжащего
психопата, не соответствует действительности. Это был
человек, достаточно вежливый и сдержанный, вполне
умеющий владеть собой, когда это было ему необходимо. И тем
не менее изредка с ним случались приступы подлинной,
ненаигранной ярости, в которой он находил выход своей
деструктивной природе. Правда, и эти приступы отнюдь
не были бесконтрольными, он хорошо знал, когда их
можно «включить», а когда лучше попридержать. Но когда, по
его мнению, это было необходимо, в выражениях он не
стеснялся. Ср.:
Он всегда разделывал под орех выступающих в дискуссиях женщин из
марксистского лагеря тем, что выставлял их на посмешище, указав на
дырку в чулке, утверждая, что их дети завшивели и т. д. (Черепанова
1996: 158-159).
Сказанное поразительно напоминает поведение
Ленина. Ср.:
В своих атаках, Ленин сам в том признался, он делался «бешеным».
<...> В полосу одержимости перед глазами Ленина — только одна идея,
больше ничего иного, одна в темноте ярко светящаяся точка, а перед
нею — запертая дверь, и в нее он ожесточенно, исступленно колотил,
чтобы открыть или сломать. В его боевых кампаниях врагом мог быть
вождь народников Михайловский, меньшевик Аксельрод, партийный
товарищ Богданов, давно умерший, никакого отношения к политике не
имеющий цюрихский философ Р. Авенариус. Он бешено их всех
ненавидит, хочет им дать в морду, налепить бубновый туз, оскорбить, затоптать,
оплевать. С таким «ражем» он сделал и Октябрьскую революцию, а
чтобы склонить к захвату власти колеблющуюся партию, не стеснялся
называть ее руководящие верхи трусами, изменниками и идиотами
(Черепанова 1996: 145).
Ворон ворону вполне может выклевать глаз
Уже из приведенных выше примеров видно, что
способ инвективного «аргументирования» может быть обра-
257
щен отнюдь не только против оппонентов из
противоположного лагеря, но вообще против любых оппонентов, в
том числе «своего брата». Ср. два отрывка из книги Д. Вол-
когонова «Троцкий»:
<...> Культура дискуссий, политической борьбы в обществе была
крайне низкой, даже в высшем эшелоне партии. Например, на августовском
(1927) Пленуме ЦК во время выступления Каменева, пытавшегося
доказать, что разномыслие — естественно, его перебил Голощекин:
— Кто Вам написал то, что Вы читаете?
— А Вы просто дурак, — ответил Каменев.
— Нельзя ли против таких выражений? По-вашему, все дураки,
только Вы — умные, — вмешался Шкирятов.
— Это можно услышать только от глупого человека, который
научился языку фашистов, — вновь ввернул Голощекин.
— Вы меня, товарищи, послали к Муссолини, — парировал Каменев
(Волкогонов 1994/2: 70-71).
<...> Заседание проходило исключительно бурно. <...> Поправляя
пенсне, полувыставив руку вперед, Троцкий торопливо читал текст, почти
не глядя в зал. Рукой он закрывался не зря: к нему были обращены не
только выкрики — лжец, болтун, продался, клевета, — участники Пленума
бросали в него книги, чернильницы, стаканы, другие предметы
(Волкогонов 1994/2: 78).
Троцкий, впрочем, вряд ли имел право обижаться. Как
пишет Д. Волкогонов,
изображая друзей, товарищей из социал-демократов <...> он пользовался
лишь темными красками. <...> В то время <...> многие (если не
большинство) руководители большевиков и меньшевиков были не очень
обременены соображениями такта. <...> Нравственные императивы всегда
занимали сугубо подчиненное положение даже в личных отношениях
(Волкогонов 1994/1: 95).
Поносительная тенденция получила достойное
продолжение в дальнейшем, например, во время
разоблачений «безродных космополитов». Правда, это были
сравнительно вегетарианские времена, и соответственно
печатные отзывы носили хоть и исключительно агрессивный,
все же более или менее цензурный характер.
Повторим еще раз, что не следует списывать подобные
речевые эксцессы исключительно на известные качества
российского большевизма, хотя именно эти качества
оказались здесь как нельзя более кстати. Грубая брань — в
принципе излюбленное оружие любого репрессивного
режима. Как справедливо отмечает П. Рикер,
258
тиран действует не только посредством физического насилия, но и
посредством извращения языка (language), которое является тем самым
формой насилия в языке. Все известные нам тоталитарные системы в XX
веке гораздо в большей степени пользовались извращением языка, чем
физической силой: так называемые идеология и пропаганда — языковые
формы насилия (Рикер 1996: 32).
Современная политическая полемика
Совершенно исключительное явление — полемическая
брань во время президентских выборов в России 1996
года. Отмена цензуры и нежелание властей преследовать
за инвективный способ агитации привели к появлению
очень грубых инвектив в печатных изданиях, особенно —
агитационных листовках. Демократическая пресса
охотно перепечатывала наиболее злобные письма
сторонников коммунистов, чем достигала сразу двух целей:
демонстрировала не самые благородные чувства оппонентов и
свободу печатать что вздумается. Вот несколько примеров
таких цитат из антикоммунистической газеты «Не дай
Бог!»:
«Педерасты!», «Гады!», «Долбанутые!», «Хапуги!», «Сучьи дети!»,
«Уродины!», «Лягушки!», «Гнойные стрептококки!», «Грязные
человекообразные обезьяны!», «Суки!», «Вам бы бульдогами служить на
свиноферме!», «Мерзопакостные извращенцы!», «Шлюхи подзаборные!»,
«Грязные свиньи!», «Мразь!», «Поганые твари!» и т. д.
Газета при этом оговаривается, что самые грязные
ругательства ею все-таки опускаются.
Довольно долго в отечественной прессе не появлялись
инвективы, издевающиеся над физическими
недостатками оппонента; российская этика молчаливо предполагала,
что это совсем уж недостойный прием. Показательно, что
в первое время после прихода к власти М. Горбачева на
его официальных портретах даже ретушировалось
родимое пятно. Однако в последнее время это табу стало
бесцеремонно нарушаться. Ср. выдержки из передовицы
«Двойное гражданство, или Блудница на троне» органа «национал-
патриотов» «Завтра»:
Вы слышите стук за кремлевской стеной? <...> Это стучат вставные
челюсти Лужкова и Черномырдина (№ 47 (155), 1996).
259
В том же номере помещены стріхи некоего В. Хаюшина:
За помраченьем и развалом
Нас ждет весенняя страда...
Издохнут меченый с беспалым1,
Но Русь не сгинет никогда!
В следующем номере (т. е. № 48) говорится о
перенесшем серьезную операцию президенте России:
Пустая, выпотрошенная на операционном столе личинка доставлена
в Барвиху.
В №52 (213), 1997 г.:
Государство <...> не может управляться партократическим зубро-би-
зоном, пораженным болезнью Паркинсона.
В уже цитировавшемся 48-м номере и в той же
передовице — набор ярких антисемитских инвектив:
«Вы живете под юрисдикцией еврейских банкиров, чьи бумажники и
мошонки защищают громилы из ОРТ и НТВ», «Двойной гражданин
Березовский зажжет на кремлевской башне желтую звезду победы», «Власть
перешла к группке талантливых еврейских мытарей, обобравших
русских вдов, стариков и детей»2.
Заголовок таблоида «Экспресс-газеты» (№ 45, 1997):
Доренко пригрозил «надрать задницу» врагам. Но, как верный пес,
по привычке лизнул ее у Березовского.
Сам же телекомментатор С. Доренко в ноябре 1997 года с
телеэкрана назвал первого вице-премьера А. Чубайса
шкодливым котом. Его коллега на канале «TV-центр», М. Леонтьев
(ныне — обозреватель «Первого канала»), отозвался о самом
Доренко следующим образом:
Доренко, как психованный бультерьер, заходится и аж поводок
грызет (цит. по: Известия. 22.11.97).
1 Курсив наш.
2 Любопытно, что «Завтра» распределяет свои инвективы довольно
последовательно: передовые статьи, как правило, составляются в
наиболее вульгарном, поносном тоне, аналитические статьи чаще всего,
оставаясь резко критическими к современному политическому строю,
нередко вовсе лишены заведомо оскорбительной брани. Совершенно
очевидно, что передовая и прочие статьи рассчитаны на разную аудиторию.
Подробнее на эту тему см. ниже в разделе «Стратегия и тактика
"народного трибуна"».
260
Несколько цитат из коммуно-патриотической газеты
«Советская Россия» от 29.11.1997:
«пособники», «предатели», «журналист-клеврет», «бесхребетный
Рыбкин», «новые бесы», «непотребство», «вожделенная свобода хапать»,
«либерально-космополитический дурман», «демпресса побрехивает <...>,
переняла воровские московские ухваточки», «что мухоморы после
дождя, лезут филиальчики печатных и вещательных контор из
Дьявол-града», «московский борзописец», «маленькими потными ручками накоря-
бал <...> ядовитую статейку», «московский пачкун», «пакостная статейка,
человек со скользким пером».
Несколько цитат из газеты Ярославского отделения
ЛДПР за ноябрь 1997 г. (№ 47):
«Демофашисты», «сексуально-скобяные выпендрежники», «Скажите
на милость, что ценного может обнаружить приличный журналист в
сортире? А вот работники "Северного края", представьте, находят и сразу же
тащат на страницы газеты. Недаром в народе говорят "Свинья грязь
найдет"». Из заметки «Скоммуниздили» в рубрике «Кто естьху»: «На резонный
вопрос: "Куда вы девали газеты?" секретарь по идеологии обкома КПРФ
Е. Шувалов <...> рявкнул: "В п...у!" Я, честно говоря, не предполагал, что
помещение обкома КПРФ на партийном языке именуется таким словом».
Из антисемитских высказываний той же газеты в
заметке «Вахруков сделал обрезание»:
«Таким дьяволом-искусителем в современной России является
еврейская финансовая олигархия, которая владеет банками, телеканалами,
газетами, содержит на свои средства многочисленные так называемые
"демократические" партии. Наиболее последовательным выразителем
интересов международного, прежде всего еврейского, финансового капитала
является объединение "ЯБЛоко", или, как его называют в народе, просто
"БЛЯ"». «Есть среди них и вполне сознательные "шабес-гои", вставшие на
путь национальной измены». «Так и придется Вахрукову болтаться на
будущих депутатских и губернаторских выборах ненужной отрезанной
плотью, на которой стоит позорное клеймо из нескольких букв».
Вот некоторые приводимые газетой цитаты из
выступлений и книг В. Жириновского:
«дьявольская свора», «губители России», «мальчишки в коротких
описанных штанишках», «Все, кто достиг высших должностей в России и
звезд генеральских после августа 91-го года, — все предатели, все. Все
дети Иуды, библейского предателя».
Из высказываний генерала А. Лебедя:
«С теми, кто торопится делать хорошо, одно дерьмо», «Министр
обороны — сукин сын», «Евневич — просто холуй» (цит. по: Аргументы и
факты. 21.11.95).
261
Плакат на прокоммунистическом антиамериканском
митинге в Москве 26.3.1999 г.:
Вы — грязь, вы — уроды,
Вы — гады, поганки.
Вы — псы без породы,
Вы — мерзкие янки!
Язык и насилие
Проф. Р.Г. Апресян справедливо отмечает, что с
помощью языка «насилие может обозначать себя, задним
числом оправдывать себя, намекать на себя <...>.
Потенциальное насилие может "сниматься" в языке, изливаясь в
слова». Автор указывает, что одним из способов
осуществления насилия является «привнесение жаргона и
ненормативной лексики в сферу общезначимой публичной
коммуникации. В речи насилие прорывается в языке
пренебрежения, грубости, оскорбления, презрения»
(Апресян 1997: 134).
Совершенно очевидно, что к языку политиков и
политических философов это наблюдение относится в полной
мере. Стремление силой навязать свое мнение
окружающим, естественно, не связано напрямую с той или иной
идеологической доктриной. Однако легко увидеть, что
агрессивность идеологии и агрессивность ее вербализации
сосуществуют естественным образом. Гандиева теория
ненасилия (ахимсы) не нуждается в языке агрессии и злобы.
Теории же, густо замешанные на насилии, — прежде всего
революционные и террористические, — по-видимому, не
могут обойтись без активно агрессивного словаря.
Анализ полемического инвективного текста
Значительный интерес представляет тщательный
анализ двух типов полемических текстов, принадлежащих
носителям более или менее той же идеологии: содержащих
грубые и злобные инвективы, и текстов того же жанра, но
лишенных таких инвектив. Имеет смысл выяснить
причины, вызвавшие именно такие особенности текста первого
262
рода: а priori можно предположить, что дело здесь не в
отсутствии полемической культуры, а скорее в отсутствии
логики рассуждения и убедительных доказательств,
помноженном на традиции публичных выступлений перед
непритязательной аудиторией. Однако вполне вероятно,
что и в данном случае всё значительно сложнее.
Такой анализ приобретает еще большую ценность,
будучи проведен на широком фоне полемической прозы
современников классиков марксизма-ленинизма, не
принадлежащих к сторонникам этого «мощного идейного
оружия трудящихся масс в борьбе за коммунизм» (МСЭ 1959/
5: 960) или, по крайней мере, не ассоциирующих себя с
большевистским экстремистским крылом. Разумеется, и
среди противников большевизма тоже встречались
сквернословы — главным образом из черносотенных изданий,
но их литературная деятельность здесь рассматриваться
не будет.
Очень важно разобраться в особенностях сферы
употребления инвективной лексики. Казалось бы, в норме
сквернословие должно существовать только в
определенном жанре и полностью отсутствовать в другом.
Употребление ненормативной лексики в пивном баре — норма.
Обращение к ней в ученом диспуте или полемике по
острому общественному вопросу настораживает.
Очевидно, что здесь, как и всюду, есть простые легко
объяснимые случаи. Брань в газетной статье времен
сталинизма вызывалась полным отсутствием
информированности авторов и их желанием доказать свою лояльность
свирепому режиму. Авторы шли на употребление резких
выражений, как бы демонстрируя свою неспособность
сдержать рвущееся наружу негодование: я, мол, понимаю,
что ругаться нехорошо, но в данном случае (измена делу
Партии, покушение на жизнь Вождя и т. д.) делаю
исключение, потому что мне необходимо выплеснуть
негативные эмоции. На фоне общей сдержанности, соблюдения
неких языковых норм приличия, употребление грубостей
вызывало вполне определенный эффект.
При этом тот факт, что негодование авторов филип-
пик порой носило явно наигранный, ритуальный
характер, не имел принципиального значения. С помощью
инвектив их авторы явно стремились создать впечатление
263
солидарности с режимом даже там, где такой
солидарности не было; резкая инвектива имитировала бурную
эмоцию.
Правда, и здесь все же сложились некоторые
ограничения: как правило, русские политики и журналисты все же
не ругаются в печати матом и не употребляют некоторые
наиболее грубые слова (например, вульгарные названия
половых органов). В художественной литературе сегодня,
после отмены цензуры, возможны любые выражения; в
политике же всегда существовали и продолжают
существовать некоторые самоограничения.
Впрочем, и здесь встречаются исключения.
Издаваемая лидером национал-большевиков Э. Лимоновым газета
«Лимонка» пестрит площадной бранью, очевидная цель
которой — эпатаж, сознательное хулиганство. Вот
примеры из № 86 за март 1998 г.:
Заголовок: «Независимые профсоюзы, мать иху». «Мы были правы,
опубликовав статью "Дания — говно!". И Норвегия проявляет себя как
сверхговно. Европейцы х...вы! (Здесь и далее отточия авторов
«Лимонки». — В. Ж.). Хваленые фрицы-германцы — тоже говно антирусское.
Воинский дух вышел у них через задний проход?»; «Хе..ня, которая не
стоит цены билета»; «Хотели также ограничить действие проездных, да,
видно, х... оказался короток»; «Зарплата за октябрь еще х... знает где»; «Та-
рантино и его московские эпигоны со своей натуралистической х й
просто не котируются»; «Просрали всё»; «Его рыжий е...льник,
ежедневно мелькавший на TV, надоел всем смертельно»; «По TV мельканула
старая жирная <...> Новодворская (какого <...> этой маргинальной свинье
дают эфир, а нам ни ...уя?) <...> Мой друг, нацбол Денис, предложил
отрывать твари ноги».
Справедливость требует отметить, что до настоящего
времени ни один сколько-нибудь значительный
отечественный политик до такой «полемики» пока не
опускался. Тем интереснее наблюдать пренебрежение хорошим
тоном в полемических статьях и книгах. Здесь уже трудно
говорить о катарсисе или, по крайней мере, только о нем.
Для того чтобы попробовать объяснить этот феномен,
полезно вначале просто посмотреть, чем объясняется сам
факт существования сквернословия как важного средства
коммуникации. Сложность явления естественным
образом приводит и к разным трактовкам, причем каждая из
них заслуживает внимания.
264
Классификация Кастилльо — Дару
В случае сквернословия в языке политиков и
философов плодотворным представляется подход,
первоначально предложенный Г. Кастилльо (Castillo) и дополненный
У .Т. Дару (W.G. Darou 1978) для совершенно иной
социальной группы. Авторы предлагают разделить мотивы
сквернословия на пять групп: (1) выражение фрустрированно-
сти («активно-деструктивный механизм привлечения
внимания»); (2) выражение собственной могущественности
(например, обзывание женщины лесбиянкой, когда она
таковой не является); (3) выражение определенного
тяготения к оппоненту («Держись подальше; ты производишь
на меня впечатление», это «активно-конструктивный
механизм привлечения внимания»); (4) выражение боли
(«пассивно-деструктивное ощущение бессилия»); (5)
сквернословие как средство достижения реванша, как месть
(обзывание лесбиянки «лесбиянкой») (Darou 1978: 179 — 180).
Здесь самое время указать, что схема Кастилльо — Дару
основана на изучении поведения
эмоционально-неустойчивых детей. Представляется, что это обстоятельство служит
лишним доказательством уместности обращения к данной
схеме: ведь общеизвестно, что эмоциональная
неустойчивость — достаточно частая характеристика как раз
политиков (вероятно, в меньшей степени чистых философов) и
что механизм привлечения внимания, задействованный в
этой схеме, явно имеет прямое отношение к
политической деятельности и творчеству. Поэтому и
целесообразно попытаться объяснить политическое сквернословие с
помощью частичного использования этой схемы.
Рассмотрим каждый пункт отдельно.
1) Безусловно, фрустрированность — важнейшая
причина сквернословия политика. Раздражение
сопротивлением политического противника или логикой
рассуждений представителя враждебной философии могут
спровоцировать автора на поношение, вместо того чтобы
заняться доказательствами собственной правоты. Тогда
в ход идут «обвинения» вроде дурак, карлик или собака.
Перед нами активно-деструктивный способ, потому что
автор ставит целью уничтожить противника путем
целенаправленных действий — его уничижением, привлече-
265
ниєм внимания к его действительным или
вымышленным недостаткам.
2) Словесная демонстрация собственного могущества,
собственной силы свойственна почти всякому адресному
сквернословию. «Я сильнее тебя, — говорит ругатель, —
именно поэтому я могу поместить тебя на самую низкую
ступень общественной оценки; я имею на это право,
потому что я не есть то, в чем я тебя обвиняю. Я заявляю, что
ты — дурак, а это значит, что я умнее тебя». В случае
политического сквернословия подобная позиция особенно
важна, потому что она как бы заменяет доводы: мол, что
тут разговаривать с таким подонком. Авторы схемы
справедливо отмечают, что, называя оппонента «дураком»,
бранящийся вряд ли уверен, что оппонент в самом деле
так уж глуп. Важно продемонстрировать свое презрение к
оппоненту, логика здесь ни при чем.
Таким образом, при разных мотивах инвективы типа
Собакаі характерны как для (1), так и для (2).
Из соображений стройности изложения
целесообразно временно пропустить пункт (3) классификации и
перейти к пунктам (4) и (5).
4) Выражение боли с помощью инвективы вещь весьма
распространенная, но к нашему случаю оно вряд ли имеет
отношение: непосредственный физический контакт двух
политических оппонентов редко имеет место; а когда
взбешенный парламентарий пытается кулаками доказать свою
правоту, он уже выходит за пределы вербальной полемики
и должен рассматриваться в другом контексте, вероятно,
с включением в парадигму милицейского протокола.
5) Зато последний пункт хорошо согласуется с
мотивами политического или философского спора. Вполне
можно представить себе ситуацию, когда один из спорящих
убедительно доказывает глупость оппонента и — на этот
раз справедливо — называет его тем, чем он на самом деле
является — например, «дураком». Другое дело, что
опытный и умный полемист предпочтет, чтобы слово дурак в
его тексте отсутствовало эксплицитно и лишь достаточно
отчетливо подразумевалось. Но это дело вкуса.
3) Намного сложнее вопрос о третьем пункте схемы.
Есть ли основание считать, что в ряде случаев политик-
сквернослов обращается к брани потому, что боится оппо-
266
нента, боится, что может поддаться его логике, а этого
делать ни в коем случае нельзя, потому что грозит потерей
лица? Авторы схемы полагают, что перед ними — активно-
конструктивный способ привлечения внимания,
своеобразная «любовь-ненависть»: поди прочь, ты мне слишком
нравишься. Не так ли действуют младшие школьники, дергая
за косички понравившихся им девчонок?
Приходится согласиться, что для подобного вывода
могут иметься серьезные основания. Разумеется, сами
политики никогда не признаются в таком чувстве, и наш вывод
останется гипотезой, некоторым подтверждением
справедливости которой может показаться разве что слишком
сильная эмоциогенность говоримого, когда средства
намного сильнее, чем было бы необходимо и достаточно: в
конце концов, гнев свойствен всем людям, но если
определенное действие вызывает противодействие, во много раз
превышающее среднюю норму, появляется основание
внимательно изучить эту неадекватность.
Феномен Жириновского
В этой связи, вероятно, полезной была бы параллель
инвективной практики большевизма с подобной же
практикой нашего современника В. Жириновского.
Политические обозреватели неоднократно отмечали, что все
эскапады Жириновского, его яркие инвективные выпады
против власть предержащих почти всегда заканчивались
весьма неожиданно: голосованием вместе с
правительством, а никак не против него. Причем страстность
изобилующих инвективами выступлений Жириновского по
своей масштабности чаще всего находится в вопиющем
несоответствии с обсуждаемой темой.
Таким образом, невольно создается впечатление, что
подспудно — вполне вероятно, что даже втайне от самого
себя, — Жириновский сознает свою незначительность и
воспринимает оппонентов как людей гораздо сильнее
его, этаких фрейдистских «отцов», перед которыми ему
все равно в конечном счете придется склониться, и всё,
что остается, — это покуражиться перед неизбежной
капитуляцией. Инвектива в таком кураже занимает свое впол-
267
не естественное место: если не могу победить, так хоть
обругаю.
В терминологии Э. Берна поведение большевиков и
Жириновского (вероятно, также и черносотенцев) — это
поведение типичного Ребенка. Труднее ответить на
вопрос, к кому обращает свою речь этот политический
Ребенок. Вероятнее всего, в случае Маркса — Энгельса и
Ленина — Троцкого — это диалог капризного и своенравного
Ребенка и строгого резонера-Родителя. В случае же
Бухарина Ребенок разговаривает с рассудительным и спокойным
Взрослым. Порой бухаринский Ребенок сменяется
Взрослым, и тогда читатель получает возможность спокойно
выслушать обе спорящие стороны.
Разумеется, нельзя отрицать, что на употребление
брани в политической речи могут оказать влияние и чисто
индивидуальные черты автора, особенности его
темперамента, характера, воспитания и т. д. Скорее всего, именно
этим можно отчасти объяснить как необычные для
большевиков вербальные преференции Бухарина, так и
гораздо более распространенные агрессивные
словоупотребления его политических соратников.
В этой связи обращают на себя внимание записки В.
Чернова «Ленин глазами соперника» (Огонек, 1991. № 17, цит.
по: Филатова 1994: 251—253). Некоторые выдержки из
этих записок помогают понять особенности характера
В. Ленина, которые могли содействовать именно такому
агрессивному публицистическому стилю:
Ленин обладал мощным, но холодным интеллектом. Интеллектом
ироничным, саркастичным, циничным. <...> Политика означала
стратегию, и больше ничего. Стремление к победе — единственная заповедь.
<...> Защитник пролетариата должен отбросить всякую щепетильность в
отношении врагов. Обманывать врага сознательно, клеветать на него,
очернять его имя — всё это Ленин рассматривал как нормальные вещи.
Он провозглашал их с жестокой циничностью. Совесть Ленина
заключалась в том, что он ставил себя вне рамок человеческой совести по
отношению к своим врагам. <...> Настоящее милосердие <...> он воспринимал
как ничтожнейшую из человеческих слабостей. <...> Когда он хотел
уничтожить какого-либо социалиста-оппонента, он награждал его эпитетом
«хороший парень».
Две цитаты
Сказанное в предыдущем параграфе хорошо
иллюстрируется сравнением двух цитат. Первая принадлежит
ленинскому оппоненту П. Струве, вторая — В. Ленину:
Слова <...> свидетельствуют лишь о прочности укоренившейся в
нашем обществе и даже — увы! — в литературе дурной привычки называть
метафизикой всё, что мы <...> не понимаем, всё, что для нас
«тарабарщина» (Струве 1902: 2).
Эх, вы! Куда уж вам уходить на rendez-vous с революцией, — сидите-ка
дома <...>. Вам под стать неподвижные обыватели! (Ленин 1971 14: 280).
Как видим, Струве, даже критикуя оппонентов, не
стремится противопоставить себя Другому. Явно не сочувствуя
чужим взглядам, отвергая их, он тем не менее
предпочитает говорить о «нас»: эти взгляды укоренились в «нашем»
обществе, это «мы» чего-то не понимаем, и т. д. Подобным
образом, доброжелательный врач может спросить
больного: «Ну, как мы себя сегодня чувствуем?»
Противоположным образом, Ленин четко ставит себя
и оппонентов по разные стороны баррикад: «Эх, вы!»,
«Куда уж вам», «Вам под стать».
Административно-командная дидактогения
Приобретя некоторый опыт переноса результатов
исследования девиантных подростков на политиков, можно
попытаться воспользоваться и результатами
исследования поведения детей советской коммунистической
эпохи, выполненного известным врачом и педагогом проф.
E.H. Винарской, которая отмечает, что:
В настоящее время проблемой номер один дефектологии, да и
педагогики в целом, стали дети, воспитывающиеся в семьях и детских
учреждениях по преимуществу методами силового принуждения или
административно-командными методами. Эти дети обнаруживают
задержанное психическое развитие с проявлениями тяжелой
педагогической запущенности. Отклонения от физических и особенно
психических нормативов у них несомненны и подчас ярко выражены (Винар-
ская1994:2).
Автор называет такую аномалию развития
административно-командной дидактогенией.
269
Рассматривая сравнительную интенсивность внешне-
средовых комплексов раздражений как мотиваторов
поведения человека, проф. Винарская выделяет три зоны
субъективных эмоциональных оценок (Там же: 15). Для
целей нашего исследования наименее интересны из них
слабые раздражения, которые, по своему подпороговому
характеру не в состоянии мотивировать устойчивые
адаптивные реакции. Интереснее умеренные по
интенсивности раздражения, субъективно более ценные и полезные
для жизнедеятельности. Это зона мотивационного
оптимума, способствующая развитию механизма
саморегуляции человека.
Но существуют еще и интенсивные раздражения,
вызывающие оборонительное поведение, нередко опасное для
нормального существования общества. Все эти три зоны
можно обнаружить у любого человека, но их пропорции
всякий раз — разные. У нормально развившегося человека
наиболее значительное место принадлежит средней зоне
мотивационного оптимума, у страдающего
административно-командной дидактогенией — зоне интенсивных
раздражений, когда поведение характеризуется, в частности,
стремлением занять «активную оборону». Если речь идет
о детях, то для них характерен полный набор поступков
«трудного подростка» (хулиганство, курение,
употребление грязной ругани и проч.).
Для взрослого же человека с оборонительной
дидактогенией, по мнению проф. Винарской, характерны, в
частности, «хронический эмоциональный стресс с высокой
эмоциональной возбудимостью и внушаемостью,
двигательным и речевым беспокойством, склонностью к
мышечным спазмам и судорогам, к крикам, визгам и дракам»
(Винарская 1994:103). В общественном плане это:
«Общественная напряженность с легким образованием возбудимой
толпы, митингами, шествиями, забастовками и другими
формами демонстрации толпой своего несогласия с
властями и неповиновения им; военные конфликты и смуты,
плохо поддающиеся политико-правовому регулированию,
терроризм» (Там же). Все, что на сегодняшний день известно
о стратегии и тактике большевизма, заставляет
предположить, что зона оборонительных реакций у большинства
лидеров большевизма всегда была непомерно большой.
270
К сожалению, российская школа на протяжении всей
истории своего существования придерживалась
ортодоксальной, ригористичной педагогики. Помимо проф. Винарской,
и другие исследователи, отмечающие тревожные симптомы
усиления агрессивности современных детей, утверждают,
что и без того расшатанные, неустойчивые детские эмоции
усугубляются неправильным воспитанием и приводят к
увеличению агрессивности. В особенности тревожит
специалистов увеличение роли правого полушария. Ср.:
Причину усиленной работы правого мозга ученые видят в том, что он,
в частности, выполняет функции приспособления человека к
окружающему его миру. Мозг, подсознательно ощущая опасность, работает в
режиме «круговой обороны». <...> Еще одно следствие гиперактивности
правого мозга — повышенная эмоциональность <...>. Причем эмоции эти
главным образом негативные: страх, злость, агрессивность (Новые
Известия. 28.3.98).
Очевидно, что такая ситуация характерна не только
для России, но от этого никому не легче. Разумеется,
школа для всех одна, а агрессивными сквернословами
становится только часть бывших школьников, для чего у них,
надо полагать, имеются определенные предпосылки. И
все же отрицать тлетворное влияние традиционного
воспитания здесь, вероятно, не стоит.
Большевики и риторика
Интересно посмотреть, в каком отношении находится
полемическая практика большевиков с законами
риторического искусства. Обратимся к некоторым трудам по
риторике. Как правило, учебники и просто исследования по
риторике перечисляют два типа риторических приемов,
«достойные» и «недостойные». Среди этих последних
видное место отводится попыткам опытного, но не
слишком щепетильного полемиста вывести оппонента из себя,
заставить его отказаться от спокойного рассуждения. А
для этой малопочтенной цели как нельзя лучше подходит
инвектива. К.Г. Павлова говорит о «дискредитации
личности противника»:
Вместо того чтобы оспаривать точку зрения противника, пытаются
сделать предметом обсуждения его личные качества, говорят о его ум-
271
ственной или нравственной неполноценности: «Наш противник
нетерпим, глуп, злобен...» Навешивают ярлыки один хлеще другого (Павлова
1988: 58-59).
Много и убедительно говорит об этом способе спорить
СИ. Поварнин. В частности, он выделяет так
называемого «истеричного спорщика», азартного игрока,
справедливо полагающего, что «лучший способ отступления —
наступление». Такой оппонент
постоянно бросает в азарте грубые, но бездоказательные обвинения: «ты
сам не понимаешь, что говоришь, ты непоследователен», «ты меня не
слушаешь, а говоришь Бог знает что» и т. д. При этом настоящий
«истерик» может оставаться в полной уверенности, что спорит «хорошо и
правильно», и с чистой совестью обвинять противника, что тот «не
умеет спорить» (Поварнин 1990: 78—79).
От себя добавим: случается, что подобный спорщик
даже поучает других, как не надо спорить. Ср.:
<...> Надо внимательнейшим образом смотреть за тем, чтобы
неизбежные споры, неизбежная борьба мнений не вырождались в перебранку,
сплетни, дрязги, клеветы (Ленин 1971/5: 166).
Нельзя не согласиться с Поварниным, что уважение к
убеждениям и верованиям противника, если мы видим,
что они искренни, соблюдается — особенно в нашей
стране — очень редко:
Обычно люди живут еще «звериным обычаем» в области мысли, т. е.
склонны считать человека, который держится других убеждений, или
идиотом, или мерзавцем и, во всяком случае, настоящим «врагом». Это,
конечно, признак или некультурного и невежественного, или же узкого
ума (Поварнин 1990: 87).
Цель подобных поношений, — отмечает Поварнин, —
внушить читателю или слушателю, что оппонент —
настоящее ничтожество и все его мысли не стоят серьезного
обсуждения.
Так может действовать смех, насмешка над словами. Так подчас
действуют заявления, что такой-то довод противника — «очевидная ошибка»
или «ерунда» и т. д. и т. п. Последнего рода приемы употребляются и в
письменном споре: «противник наш договорился до такой нелепости, как»
и т. д. Следует сама «нелепость», вовсе не нелепая (Там же: 105).
Сопоставляя с этими высказываниями излюбленные
приемы Ленина и Троцкого, трудно отделаться от
впечатления, что при написании своей работы Поварнин внима-
272
тельно читал труды этих классиков русского
революционного движения.
Автор брошюры по риторике Г.Д. Давыдов
перечисляет тридцать две уловки, к которым прибегают
недобросовестные спорщики, желающие не столько доказать свою
правоту, сколько «сбить противника с курса». Уловка № 32
описывается так:
Когда замечают, что противник сильнее их и что им грозит опасность
оказаться побежденными, то начинают задевать личность противника и
вести себя грубо и вызывающе. В этом случае предмет спора оставляют
совершенно в стороне и нападают исключительно на личность
противника, прибегая к насмешке, оскорблению, грубости. Это апелляция от
духовных сил к силам физическим или животным (Давыдов 1927:14).
Автор более поздней брошюры на ту же тему, Г.Г. Бер-
нацкий, справедливо отмечает:
Высокая ценность победы и опасность поражения подталкивают
политиков использовать все возможные средства в борьбе, в том числе и
недозволенные, нечистоплотные. Так возникают конструктивные и
деструктивные дискуссии (Бернацкий 1991: 6).
Не подлежит сомнению, что именитые марксисты,
которые обильно цитировались выше, охотнее всего
принимали участие именно в деструктивных дискуссиях.
Большевики и их оппоненты
Показательно, что история политической полемики
почти не сохранила нам сведений об ответах оппонентов
большевикам. Как правило, эти оппоненты считали ниже
своего достоинства отвечать на грубую брань. Не
исключено, что они понимали, что их провоцируют, и сознательно
не поддавались провокации. Кроме того, они скорее всего
просто не принимали большевиков всерьез — разумеется,
до поры до времени, когда со стороны последних в ход
пошли аргументы посильнее чисто вербальных. В этом
случае, говоря языком Э. Берна, оппоненты большевиков
выступили в роли рассудительного и интеллигентного
Взрослого, ожидающего адекватную реакцию, но получившего
удар ножом от психически неуравновешенного Ребенка.
Можно предложить следующую схему неадекватной
реакции, которую мы условно назовем «большевистской».
273
Психическое благополучие человека достигается за счет
определенного гармонического взаимодействия двух
противоборствующих начал, которые в разных парадигмах
выступают то как мужское и женское начала, «инь» и «ян»,
то как «добро» и «зло», как «черное» и «белое», Бог и
дьявол и т. д. Этому благополучию может угрожать
чрезмерное усиление отрицательного начала, раковая опухоль
которого давит на оставшуюся здоровой часть.
Большевистские догмы разрослись в такую опухоль и стали причинять
невероятную боль нормальной психике сторонника
догмы. Выражаясь метафорически, «нормальный человек» в
большевике «заболел», и его инвективы суть крик боли и
ярости, знак нежелания индивида признать свое
заболевание. Более того, особенность этого заболевания в том, что
человек считает больными окружающих: не я изменился, а
мир вокруг меня стал злым и агрессивным, окружающие
ненавидят меня, преследуют меня, хотят мне зла. Как известно
каждому психиатру, именно такое отношение характерно
для многих душевных заболеваний.
Но глубоко внутри такой человек все-таки понимает,
что он неправ, потому что божественное начало не может
полностью исчезнуть в нем. Ощущение своей
зависимости, конечной неправоты перед авторитетом
унизительно, оно заставляет искать доказательства неправоты
авторитета, его «неавторитетности». В полном соответствии
с адлерианской теорией, комплекс неполноценности
перерастает в комплекс превосходства.
Другими словами, на подсознательном уровне
большевики отдают себе отчет в собственной неправоте, что
автоматически приводит их к злобе и агрессивности. В ряде
случаев это рассуждение можно отнести и на счет великих
вождей немецкого пролетариата.
Стратегия и тактика «народного трибуна»
Однако такое объяснение не исключает и других, не
слишком противоречащих вышесказанному: в конце
концов, кроме подсознательного подозрения в правоте
идейного противника есть ведь и вполне сознательные приемы
и методы. Поэтому ничто не мешает предположить и со-
274
вершенно другую трактовку события. Вполне вероятно,
что в ряде случаев перед нами неплохо рассчитанная
попытка раздать «всем сестрам по серьгам». В этом случае
большевики предстают перед нами уже как опытные
демагоги, хорошо понимающие потребности слушателей.
Дело в том, что выступление политического лидера
нередко рассчитывается на совершенно определенную
аудиторию. Если эта аудитория состоит в основном из
малообразованных маргиналов, ей требуется грубо образная речь,
в которой вульгарные инвективы могут заслуженно
занимать значительный объем; если же этот текст обращен к
людям, интересующимся теорией, им стоит предложить
серьезный материал, в котором инвективам уже нет
места — по крайней мере, инвективам в узком смысле.
Ну, а как поступить в случае, когда текст желательно
использовать более чем в одной семиотической подгруппе?
Очевидно, здесь полезно смешать стили, ожидая, что
каждая подгруппа обратит внимание на близкое именно ей.
Попросту говоря, с одной стороны, в ленинском
«Материализме и эмпириокритицизме» содержатся обильные
доказательства правоты автора (в нашу задачу не входит
определение истинности или ложности этих доказательств), с
другой — множество грубых и обидных инвектив,
рассчитанных на малообразованного читателя, которому
достаточно знать, что оппоненты Ленина — дураки,
забавляющиеся профессорскими финтифлюшками.
Правота высказанного предположения нашла свое
подтверждение в результатах проведенного автором данной
статьи опроса бывших студентов, конспектировавших в
свое время труды основоположников
марксизма-ленинизма: подавляющее большинство из них просто не заметило
обильных инвектив, уснащающих тот же «Материализм и
эмпириокритицизм». Следя за логикой автора, они
попросту игнорировали брань, как не относящуюся к делу.
Из современных авторов, похоже, тактики «сестер и
серег» придерживается В. Жириновский, речи которого
представляют собой мешанину из нередко
противоречащих друг другу лозунгов, каждый из которых нацелен на
совершенно определенную часть электората.
Противоречия лозунгов легко объясняются противоречащими
интересами подгрупп (ср.: Алтунян 1996).
275
Повторим, впрочем, что и в случае Жириновского обе
трактовки — (а) истерический страх, что оппоненты
увидят голого короля, и (б) стремление сразу воздействовать
на несколько семиотических подгрупп — могут оказаться
верными, потому что, строго говоря, одно другому ничуть
не мешает.
Марксизм
как оппозема политического сатанизма
Есть основание утверждать, что в своем большинстве
полемика классиков марксизма в Германии и России
демонстрирует презрение к политическим и идейным противникам
и шире — к окружающим вообще. Условно говоря, в лагере
марксистов-большевиков находятся только силы добра и
света, противостоящие всем прочим — исключительно
демонским сонмам («Кто не с нами, тот против нас»). Враг
автоматически записывается в демоническую рать по
определению. Таким образом, по-видимому, можно говорить о
своеобразной (псевдо)религиозности марксизма и
появлении антиномии «марксизм — политический сатанизм».
Естественно, что князь тьмы и его ангелы не заслуживают
уважения. В Германии, как известно, Лютер бросался в дьявола
чернильницей (хотя имеются утверждения, что в
подлинном тексте Лютера он бросался в дьявола экскрементами,
чернильница появилась позже из соображений
благопристойности. А об инвективной роли названий экскрементов
в немецкоязычных культурах уже говорилось выше).
Неуважительное отношение к сатане вовсе не
означает, что его не надо бояться. Более того, сатана, как
известно, способен предъявить такие аргументы, перед
которыми трудно устоять. А раз так, то все средства борьбы с ним
оказываются хороши. И бросание экскрементов не хуже —
даже лучше! — аргументированного спора. На худой конец
годятся и вербальные средства — инвективы.
Справедливости ради отметим, что в
противоположном лагере сатанистами считались как раз большевики,
что, естественно, с позиций христианской Церкви, имело
больше оснований. Характеризуя большевистское
государство, Н.О. Лосский утверждал:
276
Вселенская организация человечества, которую они хотят создать,
была бы не теократией, а сатанократией (цит. по: Мясоедов 1998: 161).
Философ отмечал, что исполнители в составе
большевистского «сатанинского» аппарата «подбираются
преимущественно из числа крайне жестоких людей, близких
к садизму и душевной ненормальности» (Там же).
Политические взгляды
и правила политической полемики
Возникает законный вопрос: а что, если подобный
способ вести политический спор общепринят и избранные в
данной работе авторы ничем не отличаются от их
оппонентов? В таком случае придется признать, что правила
политического полемизирования сильно отличаются от
полемических правил, допустим, в ученом мире или
современном богословии.
Выяснить этот вопрос поможет внимательное чтение
оппонентов Маркса — Энгельса и Ленина — Троцкого, то
есть объектов их инвектив.
Для соответствующего анализа лучше всего подходят
именно те авторы, на кого классики марксизма-ленинизма
обрушивались особенно яростно и, так сказать, «инвек-
тивно». Для Ленина таковыми являлись Карл Каутский и
Петр Струве.
К. Каутский
В известных работах Каутского «Путь к власти:
(Политические очерки о врастании в революцию)» и «Славяне
и революция», при всей их остроте и полемичности,
можно найти лишь несколько инвектив, причем все они носят
не «прямо адресный» характер, то есть обращены к
течению, направлению, а не к конкретному оппоненту. Так,
его оппонент проф. Г. Геркнер писал в 1899 году:
В пылу спора Каутский увлекся до того, что заклеймил надежду на
скорое наступление катастрофы <...> идиотизмом (Каутский 1959: 32).
Каутский отвечал:
277
Я применил слово «идиотизм» к утверждению о том, будто Энгельс
установил для начала революции определенную дату — 1898 год.
Подобного рода предсказания мне действительно казались идиотскими. Но
Энгельс никогда в нем повинен не был (Там же: 33).
Другие примеры, где Каутский вообще говорит «в
воздух»:
«Перед предстоящей борьбой только дурак чувствует себя
уверенным» (Там же: 36); «Только безмозглый рутинер свято верит в то, что всё
будет продолжаться и впредь по-старому» (Там же: 37).
А вот пример прямой критики — в адрес издателя
Ф. Наумана:
<...> но здесь Науман внезапно совершает логический кульбит. <...>
Почему с самого начала предполагается, что революция будет
бесплодной, остается тайной Наумана (Там же: 46).
Пример, когда Каутский иронизирует в адрес группы
оппонентов:
Но они — пчелы, которые умеют извлечь мед из любого цветка (Там
же: 47).
В статье Каутского «Славяне и революция» сказано:
Гнилой царский трон трещит по всем швам (Там же: 140).
Остается признать, что если большинство этих
выпадов и можно признать инвективами, то разве что
инвективами в самом общем смысле и уж никак не сравнимыми с
площадными грубостями Маркса — Энгельса и их
достойных учеников.
В книге «Еврейство и раса» у Каутского была
прекрасная возможность «разгуляться», так как его оппонентами
являлись махровые реакционеры-антисемиты, и брань в
их адрес прозвучала бы весьма уместно. Однако Каутский
и здесь в основном соблюдает необходимый декорум:
«Г.г. теоретики рас прибегают к странным кунстштюкам, чтобы
спасти в этой сложной обстановке теорию расовой борьбы» (Каутский 1918:
6); «Более сумбурного набора слов, чем эта расовая фантазия, лишенная
всякого реального обоснования, нельзя себе и представить» (Там же: 10);
о расисте Зомбарте: «Мы видим только <...> безмерную плодовитость
необузданной фантазии нашего профессора» (Там же: 125).
Если добавить к сказанному, что даже эти, пусть резкие,
отзывы об оппонентах исключительно редки, а в основном
Каутский пишет с сарказмом, но оперируя главным образом
278
фактами и доказательствами неправоты оппонентов, то
контраст с произведениями Маркса — Энгельса и
Ленина — Троцкого получается разительным. Ср. в этой связи
характерную выдержку из популярной брошюры по
риторике Г. Давыдова «Искусство спорить и острить»,
которую стоило бы прочесть всем «политическим
сквернословам»:
<...> в подобных случаях надо постараться сохранить самообладание
и хладнокровно заметить противнику, что его личные нападки к делу не
относятся, а затем надо возвратиться к предмету спора и продолжать
свои доказательства, не обращая внимания на нанесенные оскорбления.
Если мы докажем противнику, что он не прав и, следовательно,
рассуждает неверно, то тем самым мы уязвим его гораздо сильнее, чем с
помощью оскорбительных и грубых выражений (Давыдов 1927: 14).
77. Струве
Обратимся теперь к произведениям П. Струве. Яркие
полемические статьи этого автора более несдержанны,
чем произведения Каутского, но о грубой поносной
ругани речи тоже нет. Вот несколько примеров:
«Г. Энгельгардт и его писания — типичный образчик того падения,
до которого дошла в некоторых своих современных разветвлениях
русская социалистическая мысль. Это полная бесшабашность,
теоретическая и моральная!» (Струве 1911: 13); «<...> г. Энгельгардт с таким
поистине черносотенным азартом <...>» (Там же: 15); «конечно, мы не
говорим о таких псевдомарксистских направлениях, "как большевики", в
учениях и тактике которых уже давно испарился всякий марксизм»
(Там же: 16-17).
В большинстве случаев Струве, как и Каутский,
предпочитает «безадресные» инвективы, направленные на
безымянные группы или точно определенные, но все-таки
течения, партии целиком, а не личности:
«Эта плохая книжная мудрость, эта литературщина не соответствует
ни теоретической истине, ни жизненной правде» (Там же: 56); «Всё это
не патриотизм, а истерическое безголовье, которое к добру не приведет»
(Там же: 195).
Небезынтересно сравнить полемику большевиков со
Струве и полемику последнего с другими, скажем так
небольшевиками, например, Д.С. Мережковским. Этот
последний выражался иной раз достаточно резко, хотя бо-
279
лее или менее цивилизованно, но и в ответе на его резкие
эпитеты Струве соблюдал меру:
Когда Мережковский посрамляет меня «зоологическим
патриотизмом», то это тоже отскакивает от меня (Там же: 111).
Струве понимал, что грубая брань избиралась ее
автором «не от хорошей жизни»:
«И я благодарен Мережковскому за его резкое нападение, потому что
оно показывает, что я затронул его больное идейное место» (Там же:
112); «Сила умеренна. Сила не раздражается и не раздражает» (Там же:
281); «Вообще же разве правильно бороться с идейной работой жалкими
словами, напоминанием перенесенных оскорблений, возбуждением и
взвинчиванием чувств. Идейная работа требует идейной борьбы. <...>
Это все равно, что в сражении на каждый вражеский выстрел отвечать
размахиванием рук и пронзительными криками. Настоящую борьбу с
серьезным врагом серьезные люди ведут стиснув зубы, а не дрыгая
руками и ногами. Прежде всего они оглянутся на себя и посмотрят, сух ли
порох в пороховнице и имеются ли патроны. Так и делают те критики
интеллигенции, против которых г. Философов выдвинул свою батарею
страшных и жалких слов: "волк", "мать" и т. п.» (Там же: 382—383).
В подавляющем большинстве случаев Струве даже не
считал нужным полемизировать с оппонентами,
прибегавшими к грубой брани:
«В этой статье автор <...> осыпает умственную работу целого ряда
русских писателей бранными "эпитетами" вроде "убожество мысли",
"политическая реакционность", "клеветничество на общественные идеалы".
<...> Можно только публично пожалеть, что подобная брань дешевыми
эпитетами выдается за серьезную публицистику...» (Там же: 466); «Читая
заметку г. Пешехонова "Бесстыжее светило, или Изобличенный
двурушник", я не мог отделаться от тягостного впечатления, что г. Пешехонов
<...> радуется <...> "изобличению" г. Розанова. <...> Злая радость! А
самодовольство, — не одного ли оно духа со знаменитой молитвой: "Боже!
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи или как этот мытарь"?» (Там же: 519).
В отличие от К. Каутского, П. Струве мог использовать
очень сильные, хотя и вполне литературные инвективы:
Г. Столыпин <...> человек слабый, он — достойная всяческого
сожаления, малосознательная жертва того органического государственного
молчалинства, которым, точно наследственным сифилисом, глубоко
разъедена вся наша дворянско-сановная среда (Там же: 29).
Наиболее резко отзывался Струве на статьи
сотрудника «Нового времени» Меньшикова, которые, в свою
очередь, изобиловали грубыми выпадами:
280
«Г. Меньшиков <...> — прислужник низких интриг <...> рыцарь
политического шантажа. <...> Пусть г. Меньшиков называет меня
"легковесным деятелем", "еврейским наемником" <...>. Во всем этом глупость
соперничает с низостью» (Там же: 185); «Печать лживости и низости
слишком явственно лежит на писаниях г. Меньшикова» (Там же: 188); «Все эти
рассуждения г.г. Меньшиковых — дилетантская болтовня, в которой не
сведены даже концы с концами» (Там же: 193).
Резкостью отличалась полемика Струве с В. Розановым:
«Он фактов не знает и не любит. Он их презирает и безжалостно
(бессовестно?) перевирает. <...> Вся характеристика Желябова как "бретера
и хвастуна" есть объективно плод совершенного невежества» (Там же:
502); «В области фактов, повторяю, Розанов — гомерический неряха и
выдумщик» (Там же: 503); «Его безнравственность или бесстыдство есть
нечто органическое, от него неотъемлемое. <...> Прежде я думал, что
Розанов <...> излечился от реакционного изуверства» (Там же: 503); «Его
бесстыдство есть большое горе нашей литературы» (Там же: 504); «Тут,
к сожалению, уже не только органическое бесстыдство, а сознательная и
до последней степени лживая злоба» (Там же: 519).
Таким образом, никак нельзя сказать, что Струве
вообще не переносил инвектив и никогда к ним не обращался.
Однако, прежде всего, его инвективы не идут ни в какое
сравнение с инвективами Маркса — Энгельса или Ленина —
Троцкого, во-вторых, их крайне мало, буквально
несколько на толстый том сочинений. И ни одна из них, как мы
видели, не приближается ко всем этим
марксистско-ленинским блюдолизам, кабацким завсегдатаям, чурбанам,
литературному поносу или капризному барину.
Струве хорошо понимал, что грубая брань — плохое
оружие, которое может разве что заменить
отсутствующие аргументы. Приводя примеры ненависти, которую
испытывают друг к другу два лагеря, он писал:
Русская революция и русская реакция как-то безнадежно грызут друг
друга, и от каждой новой раны, и от каждой капли крови, которыми они
обмениваются, растет мстительная ненависть, растет неправда русской
жизни (Там же: 27).
В другом месте он точно замечает:
Есть два вида полемики. Один — полемика ради уничтожения
противника. Другой — полемика ради раскрытия всех схождений и расхождений
мысли, полемика «по существу» (Там же: 109).
И.А. Ильин
Сходных взглядов придерживался и И.А. Ильин:
Было время, когда русская радикальная пресса, вопреки
требованиям серьезности, ответственности и добросовестности, считала
допустимым заменять честные идейные возражения в споре со своими
противниками опорочением их доброго имени, бранью, инсинуацией,
клеветой. Считалось достаточным сказать «мракобес», «зубр»,
«черносотенец», «палач», «погромщик» — и дело было сделано. Этот прием и
этот стиль господствует и ныне в газетах III Интернационала; но от
этого тона недалека и русская радикально-эмигрантская пресса. Этот
вульгарный тон, этот дурной прием опорочения стоит ниже того
нравственного уровня, на котором стоит вести идейный спор (Ильин 1996/
5: 230).
Обратим, правда, внимание на то, что Ильин в своей
критике не ограничивается большевиками, объективно
признавая, что грубостью могут грешить и их оппоненты.
Как аукнется?
Очевидно, что с этической и стратегической точек
зрения имеет смысл различать позицию автора «начальной»,
провоцирующей инвективы и позицию отвечающего на
нее. В самом деле, на вербальную агрессию политического
оппонента можно реагировать так или иначе в
зависимости от политической позиции «провокатора». Из
приведенных выше цитат можно заключить, что тот же П.
Струве в одних случаях рекомендует отвечать оппонентам
спокойно и аргументированно, видя в них достойных
противников, способных воспринять противоположный взгляд —
даже если эти оппоненты и не стесняются в выражениях в
его адрес; напротив, в других (достаточно редких) случаях
он сам срывается на чисто эмоциональную инвективную
речь — когда он понимает, что отвечать логическими
рассуждениями на чисто эмоциональный всплеск
возбужденного демагога не имеет смысла. В данной ситуации
пословица «с волками жить — по-волчьи выть» приобретает
почти буквальный смысл.
Само собой разумеется, «выть по-волчьи» не является
эквивалентом беспорядочной брани. Вербальная
агрессия — достаточно сложное искусство, требующее немало-
282
го мастерства, своеобразной эрудиции, богатого инвек-
тивного вокабуляра и, не в последнюю очередь, — чувства
юмора. К сожалению, примеров такого искусства в
политическом диалоге на любом языке слишком мало.
Однако в отношении к этой проблеме нельзя не
заметить определенных идеологических преференций. Как
было показано выше, с одной стороны, частое обращение
к инвективе может идти от определенных личных свойств
характера политического полемиста; с другой — уже сама
идеология, им разделяемая, подсказывает ему
определенную манеру обращения с презираемым противником. Та
идеология, суть которой — в презрении к человеческому
достоинству, к правам отдельной личности, самым
естественным образом выражает себя через грубую инвективу.
Для политикана — популиста и демагога — конкретные
люди с их «жалкими» «буржуазными» интересами, с их
непременным стремлением к счастью именно сейчас, а не в
призрачном будущем, значат очень мало, отсюда и
соответствующий вокабуляр. Ср.:
Поистине великолепны великие замыслы!
Рай на земле!
Всеобщее братство!
Все это было бы,
Все это вполне достижимо,
Если б не было людей!
Люди только мешают,
Путаются под ногами,
Вечно чего-то хотят.
От них одни неприятности.
Ах, если б не было людей!
Надо идти на штурм!
Освобождать человечество!
А они не спешат!
Идут в парикмахерскую!
Сегодня на карту
Поставлено будущее!
А они говорят:
«Неплохо бы выпить пива!»
Люди только мешают...
(Х.-М. Эпценсбергер,
пер. с нем. Л. Гинзбурга)
283
Нетрудно заметить, что современные экстремисты
поют именно такие песни. И поэтому в эмоциональном
аспекте истинными продолжателями дела Ленина —
Сталина можно было бы считать не столько Зюганова или
Селезнева, сколько площадных, «микрофонных» ораторов
типа Анпилова, Макашова, Терехова, Лимонова, Барка-
шова, «памятистов» и проч.
К сожалению, история дает нам печальную
возможность убедиться, что насыщенная инвективами
«полемика ради уничтожения противника» способна завести
спорящих достаточно далеко, гораздо дальше, чем, скорее
всего, им самим хотелось бы. Деструктивный характер
такой «полемики» очевиден, независимо от того, что
представляют собой «полемисты» и интересы какой партии
они отстаивают. <...>
В цитированном в начале статьи стихотворении Гейне,
на вопрос о том, кто из спорящих звучал более
убедительно, королева справедливо отмечает:
Я не знаю, кто тут прав,
Пусть другие то решают,
Но раввин и капуцин
Одинаково воняют.
Слово «воняют» представляется уместным в контексте
терминов «экологизм» или «социальная экология» в
смысле «сверхидеология» или «сверхрелигия», содержащая в
себе высокое объединяющее начало (см.: Карманова 1998:
49). Как справедливо отмечает З.Я. Карманова, пока что
политический дискурс предельно далек от идеи
объединения людей с различными политическими взглядами.
Между тем
экологизм риторики политического дискурса призван решать задачу
сближения сознания людей, что не предполагает отказ от различия во
мнениях и взглядах, но предполагает идею поддержания рефлексивной
доминанты каждого человека на уровне глубокого осознания факта, что
каждый человек является равноправной частью социума. Риторический
экологизм означает реализацию риторического принципа: мы читаем не
текст, но речь человека, человека эрудированного и порядочного,
честного и доброжелательного. Риторический экологизм коррелирует с
понятием духовности (Там же).
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Алтунян 1996 — АлтунянА. О собирателях земли Русской.
Жириновский как публицист: (Анализ политической статьи) // Вопросы
литературы, 1996. Март — апрель. С. 59 — 86.
Апресян 1997 — Апресян Р.Г. Сила и насилие слова // Человек. 1997.
№ 5. С. 133-137.
Арапов 1997 — Арапов М.В. «А уяснится предмет — без труда и слова
подберутся» // Человек, 1997. № 4. С. 40 — 56.
Бакштановский 1997 — БакштановскийВ.И., СогомоновЮ.В., Чурилов В.А.
Этика политического успеха. Тюмень; М., 1997. 747 с.
Баранов 1991 — Баранов А.Н., Казакевич Е.Г. Парламентские дебаты:
традиции и новации. М.: Знание, 1991. 64 с.
Берн 1988 — Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология
человеческих отношений; Люди, которые играют в игры: Психология
человеческой судьбы. М.: Прогресс, 1988. 400 с.
Бернацкий 1991 — БернацкийГ.Г. Культура политической дискуссии.
Л.: Знание, 1991.32 с.
Бухарин 1990 — Бухарин А.И. Путь к социализму: Избранные
произведения. Новосибирск: Наука, 1990. 494 с.
Винарская 1994 — Винарская E.H. Задержки и дисгармонии развития
при воспитании детей методами силового принуждения. М., 1994.113 с.
Волкогонов 1989 — Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический
портрет И.В. Сталина. В 2 кн. Кн. 1. Ч. 1. М.: Новости, 1989. 301 с.
Волкогонов 1994 — Волкогонов Д. Троцкий. Политический портрет. В
2 кн. М.: Новости, 1994. Кн. 1. 412 с; Кн. 2. 416 с.
Давыдов 1927 — Давыдов Г.Д. Искусство спорить и острить / Сост. по
сочинениям А. Шопенгауэра и проф. 3. Фрейда. 2-е изд. Пенза: Тип. им.
Дзержинского, 1927. 45 с.
ДРЛ 1980 — Древняя русская литература: Хрестоматия / Сост.
Н.И. Прокофьевой. М.: Просвещение, 1980. 400 с.
ЖПА 1960 — Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и
другие его сочинения. М.: Госиздат, 1960. 480 с.
Ильин 1995 — Ильин И.А. Отрицателям меча. Собр. соч. В 10 т. М.,
1995. Т. 5. С. 228-234.
Карманова 1998 — Карманова З.Я. Политический дискурс:
риторический аспект // Политический дискурс в России-2. Материалы рабочего
совещания 29.3.1998 года. М.: Институт языкознания РАН, 1998.
С. 47-49.
Каутский 1918 — Каутский К. Еврейство и раса. Пг.: Книга, 1918.
Каутский 1959 — Каутский К Путь к власти: (Политические очерки о
врастании в революцию); Славяне и революция. М.: Госполитиздат,
1959.152 с.
Купина 1995 — Купина H.A. Тоталитарный язык: словарь и речевые
реакции. Екатеринбург; Пермь: Уральский гос. университет, 1995.143 с.
Латышев 1996 — Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М.: Март,
1996.336 с.
Ленин 1975 — Ленин В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. 5-е изд.
М.: Госполитиздат, 1975. Т. 2.
285
МСЭ 1959 — Малая советская энциклопедия: В 10 т. М.: Большая
Советская Энциклопедия, 1959. Т. 5. 640 с; 1960. Т. 9. 1216 с.
Маркс, Энгельс 1955 — 1963 — Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: В 30 т.
2-е изд. М.: Госполитиздат, 1955 — 1963.
Мясоедов 1998 — Мясоедов Б. О хамстве и стервозности в русской
жизни. М.: Русская энциклопедия, 1998. 240 с.
Найдич 1995 — НайдичЛ. След на песке. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1995.
206 с.
«Народ...» 1990 — «Народ сказал: предателям — расстрел» //
Журналист. 1990. №11.
«Об ораторском...» 1978 — Об ораторском искусстве. М.: Политиздат,
1978.368 с.
Павлова 1988 — Павлова К.Г. Искусство спора:
логико-психологические аспекты. М.: Знание, 1988. 64 с.
Плеханов — Плеханов Г.В. От обороны к нападению: Ответ г. А.
Богданову, критика итальянского синдикализма и другие статьи. М., [б. г.]. 672 с.
Поварнин 1990 — Поварнин СИ. Спор: О теории и практике спора //
Вопросы философии, 1990. № 3. С. 57 - 133.
Рикер 1996 — Тикер П. Торжество языка над насилием:
Герменевтический подход в философии права // Вопросы философии, 1996. № 4.
С. 27-36.
Селищев 1928 — СелищевА. Язык революционной эпохи: Из
наблюдений над русским языком последних лет (1917—1926). М.: Работник
просвещения, 1928. 248 с. 1928.
Сергеич 1988 — Сергеич И Искусство речи на суде. М.: Юридическая
литература», 1988. 384 с.
СИС 1987 — Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1987. 608 с.
СРЯ 1957 — 1961 — Словарь русского языка в четырех томах. М.: Гос.
изд-во иностранных и национальных словарей, 1957 — 1961.
Соломон — Соломон Т.А. Вблизи вождя: Свет и тени. Ленин и его
семья. — М.: Москвитянин, [б. г.]. 56 с.
СЗГД 1997 — Стенограмма заседаний Государственной Думы. Бюлл.
№98(240), 16.5.1997.
Струве 1902 - Струве П. На разные темы. СПб.: 1902. 555 с.
Струве 1911 — Струве П. Patriotica: Политика, культура, религия,
социализм / Сб. ст. за пять лет. СПб.: Изд. Д.Е. Жуковского, 1911.
Троцкий 1990а— Троцкий Л.Д. Политические силуэты. М.: Новости,
1990.416 с.
Троцкий 19906 — Троцкий Л.Д. Их мораль и наша // Вопросы
философии, 1990. № 5. С. 117.
«Троцкистская шайка...» 1937 — Троцкистская шайка реставраторов
капитализма: В помощь пропагандисту. Новосибирск:
Западно-Сибирское краевое издательство, 1937.118 с.
Филатова 1994 — Филатова Е. Соционика для вас: Наука общения,
понимания и согласия. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1994. 284 с.
Фрейденберг 1997 — Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра / Подг.
текста и общ. ред. Н.В. Брагинской. М.: Лабиринт, 1997. 448 с.
Черепанова 1996 —Черепанова И. Дом колдуньи: Язык творческого
Бессознательного. М.: КСП, 1996. 382 с.
286
Шапошников 1998 — Шапошников В. Русская речь 1990-х:
Современная Россия в языковом отображении. М.: Малп, 1998. 245 с.
Шаховский 1998 — Шаховский В.И. Голос эмоции в русском
политическом дискурсе // Политический дискурс в России — 2. Материалы
рабочего совещания 29 марта 1998 года. М.: Институт языкознания РАН,
1998. С. 79-83.
Шенберг 1991 — Шенберг В.А. Полемика как способ духовного
противоборства. Л.: Знание, 1991. 32 с.
Darou 1978 — Darou W.G. Personality and Verbal Abuse // Maledicta,
1978. P. 178-186.
Hughes 1991 — Hughes G. Swearing: A Social History of Foul Language,
Oaths and Profanity in English. Oxford: Blackwell, 1991. 283 pp.
Kiener 1983 — KienerF. Das Wort als Waffe. Zur Psychologie der verbalen
Aggression. Goettingen: Vandenhoek und Ruprecht, 1983. 304 S.
Manchester 1993 — Manchester W. A World Lit Only by Fire. The Medieval
Mind and the Renaissance. Boston e. a.: Little, Brown & Co, 1993. 322 p.
В статье использованы также материалы газет «Аргументы и факты»,
«Московские новости», «Известия», «Не дай Бог!», «Советская Россия»,
«Завтра», «Правда», «Лимонка», «Экспресс-газета», «Северный рабочий»
за разные годы.
В. Д. Девкин
БЕЗОБРАЗНОЕ В ЭСТЕТИКЕ
ОБИХОДНОГО ЯЗЫКА
Часто цитируют высказывание Л.В. Щербы: «Когда
чувство нормы воспитано в человеке, тогда-то начинает
он чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений
от нее» (Щерба 1939: 10). Подлинное эстетическое
удовольствие от того, как построена речь, испытывается не
только или не столько от всевозможных украшательских
риторических средств, сколько главным образом от
мастерства владения языком, когда «словам тесно, а мыслям
просторно», когда ментально и формально избран
оптимальный вариант для выполнения конкретной
коммуникативной задачи. Искусство изъясняться — это дар, и он
всегда очень ценится, хотя часто только подсознательно.
Вкуса вообще, вне времени и пространства, не бывает.
Есть вкус индивидуальный и более или менее
«усредненный», характерный для людей определенной эпохи,
общих социальных установок и политических взглядов,
соответствующего уровня образования, способных или
неспособных чувствовать красоту. Подобно тому, как кто-то
или обладает математическим дарованием,
музыкальностью, красноречием и т. п., или лишен этих качеств, есть
восприимчивость к эстетическому чувству и полное его
отсутствие. Вкусы бывают хорошие и плохие, передовые
и отсталые, изощренные и примитивные, здоровые и
извращенные. Одни всеядны и безразличны к утверждению
своего вкуса, другие активно отстаивают свои принципы.
В наше время успехи некоторых естественнонаучных
направлений компенсируются катастрофическим упадком
духовной культуры, который не может не затронуть язык.
288
Эстетически идеалы переориентированы на 180°.
Предпочтение отдается сниженному. Нецензурное и
неприличное не только утрачивает табуизирование, но переживает
распространение и активизацию. Мат завоевывает
публичные позиции — он проникает на радио и телевидение,
в прессу, в язык студентов и школьников. Сквернословие
не просто перестают замечать, его смакуют, им щеголяют.
Типичное для нашей эпохи активное, инициативно
«творческое» отношение к языку всячески
интенсифицируется. «Занудно шаблонное» словоупотребление
избегается. Ему предпочитают игру слов, смелые
переосмысления, словотворчество, которые далеко не всегда
остроумно каламбурны, а скорее оказываются речевым
«озорством», «паясничаньем».
Бывает далеко не редким исключением явление, когда
решающим оказывается не смысл употребляющегося
слова, а сам факт его применения, демонстрация
причастности к какому-то социуму, когда хотят подтвердить свою
верность господствующей в данный момент стадности.
Соображения корпоративности становятся движущим
стимулом. Когда язык ничем не стесняется, все бывают
стеснены (Ж.-Ж. Руссо).
Ищущие выхода недовольство, злоба, раздражение,
досада, обида выливаются в поделки мультимонстрового
порядка с нагнетанием обсценных слов. Это так называемый
«трехэтажный» мат, превосходящий по силе воздействия
даже «убойные» экспрессемы: «распиздяй», «разъебай»,
«разпроёб твою бога душу мать!», «растуды через дорогу в
крестовину мать!», или перенасыщение
словообразования: «наивыебеннейшее распиздоблядство», «трихуеман-
доблядский распиздоёб», «распиздоёбский в рот».
Этимологические ребусы, заключающие в себе едва ли
объяснимые загадки, ошеломляют, поражают, потрясают.
Эмоциональные гиперболы обретают гротескную
фактическую образность: «у него руки из жопы растут» (он
неловкий, немощный), «от хуя уши (ничего), «жопа с
ручкой» (нескладёха, несообразительный); «ни сиськи, ни
письки и жопа с кулачок» (о невзрачной,
непривлекательной женщине); «семиголовый восьмихуй с четырьмя пиз-
допроёбинами» (подлец); «распроёб твою бога душу мать
блядомудина пиздорылая».
289
Даже в принципе синсематичные местоимения могут
подвергаться разнузданной мультипликации: такой-сякой-
разэтакий растуды его туды!
Отрицательная оценка может сообщаться
словообразовательными средствами:
учительница училка
преподавательница препка
врач врачиха
невезение невезуха
писатель писака
поступающий поступалъщик
защищающий (диссертацию) защищальщик
и переосмыслением: студентка, презрительно,
относясь к своему университету, называет его «техникумом». С
целью занижения здесь ею применен когипоним.
Пейоративны зоонимы для названий лиц: «собака», «змея»,
«медведь», «слон» — или артефакты: «чайник», «тряпка»,
«шляпа», «сапог».
Очень важное обстоятельство заключается в том, что
«безобразное» — для примеряющих его нисколько не
низменно, а вполне обычно, как теперь говорят, нормаль-
н о. Являющееся сниженным для носителей литературной
нормы, оно оказывается в социолектах субкультуры чем-
то совершенно нейтральным, ординарным, обычным.
Популярным способом обезображения номинации
выступает неомотивация, иными словами
псевдомотивация/псевдоэтимологизация. Искажение
незнакомого слова может происходить (а) со своеобразным
переосмыслением и (б) бессмысленно, чисто формально.
Когда вместо «поликлиника» говорят полуклиника,
вместо «пиджак» — спинжак, «страховка» — штрафовка,
вместо «будуар» — блудуар, вместо «импозантный» — импузан-
тный и т. п., то в этом просматривается некоторая
логика — на паронимической основе происходит
переименование («трансноминация») с изменением
денотативного значения. Иное дело, когда произношение
искажается без какой бы то ни было связи со смыслом:
«бурдовый» (бордо), «битон» (бидон), «сурьёзный»
(серьезный) и т. п.
290
В этом заложен абсурд, то и дело встречающийся в
языковой практике и, в частности, в словообразовании.
«Присобачить доску» этимологически немотивированно.
Отрицательность семантики корня ведет к его диффузности, а
та, в свою очередь, — к универсализации. Другие слова со
сложной этимологической зависимостью всё же
поддаются расшифровке: проворонить восходит к сложной
ассоциации с известной басней Крылова или объегорить,
насобачиться — к фразеологизмам вот тебе, бабушка, и Юрьев день,
съесть собаку на чем-л. Тем не менее целый ряд слов имеет
неоправданную, парадоксальную внутреннюю форму.
Поскольку искажение слова может быть очень смелым,
дерзким и далеко отстоящим от прототипа и поэтому не
всегда понятным, практикуется комментируемое
словоупотребление. Например, «Портянкой она работает с
самого открытия этого порта». То, что туалет шутливо
называют бундесрат, «непосвященному» можно понять только в
достаточно определенной ситуации, уловив логику паро-
нимии. Расшифровать слово хрущеба можно только имея
представление о массовом жилищном строительстве под
руководством Н.С. Хрущева. Блевотеку можно связать с
библиотекой, а не с чем-то тошнотворным другого
порядка, при условии связи с коммуникативной ситуацией
чтения.
Язык — всенародное достояние. Всё, что в нем есть,
бесхозно и общо. Как горы, реки, леса, поля и т. п., язык не
имеет ни собственника, ни автора, ни начальника. Тем не
менее в нем то и дело появляются сугубо индивидуальные,
не входящие в общий фонд, как правило, одномоментные
вещи без автора, «без подписи». Они вспыхивают и тут же
исчезают. В связи с общей деградацией культуры нашего
времени и возвратом во многом к дикости изменились и
языковые вкусы. Лексика уголовного мира, сквернословие
стихийно детабуизируются и, подобно характерной для
асоциальной среды татуировке или нацепленным на лицо
и другие участки тела железкам (так называемые
пирсинги), всячески активизируются и не без удовольствия
смакуются.
В человеке заложено некое «сатанинское начало»,
которое порой побуждает его причинять зло, зверствовать,
нарушать установленный порядок, разрушать, повреждать,
291
мешать и т. п. Эта «зловредность» тормозится (1) опять же
заложенной в индивиде сознательностью, добротой,
уважительностью, креативностью, призванием быть
полезным и (2) социальными запретами и ограничениями,
направленными на сохранение порядка в обществе, а также
наличием всевозможных стимулов развития полезной со-
зидательности и всего прогрессивного. Зачем люди
мешают жить друг другу? Или лучше поставить вопрос: почем)?
Особенно когда это не связано с преследованием
определенных корыстных целей. От глупости, от неумения
занять себя чем-то более полезным, от чувства стадности,
когда в толпе «человек человеку волк» и, следовательно,
зверствование должно было бы обеспечить собственную
безопасность и независимость? Существует озорство,
хулиганство, преступление, различающиеся масштабом
причиняемого зла и мотивами его свершения.
Обратим внимание на встречающийся на каждом шагу
вандализм. Стены домов вымазываются автографами
пачкунов и названиями их группировочек, всевозможными
«художествами» (граффити), иногда даже не лишенными
некоторого мастерства; окна, сидения и стены вагонов
городского транспорта оказываются исцарапанными,
измазанными, исписанными; лифты (даже своего дома!) —
измалеванными; достопримечательности, к которым
совершаются паломничества, тоже оказываются
оскверненными дикарями, считающими своим долгом непременно
оставить след своего пребывания. Явления подобного
характера — это предмет наблюдения для социальной
психологии и теории этики. Нас же здесь интересует другое —
отражение подобного поведения в языке.
Аксиологическая природа слова находит себе
выражение в явлении мелиорации и ее противоположности—
пейорации. Это — выражение оценки в самом слове,
тогда как есть и контекстная возможность. Мелиорация
представлена двумя разновидностями: нобилизацией и
эвфемизацией. В результате нобилизации происходит
замена на более положительное, престижное: «муж —
супруг», «спать — отдыхать», «любить — обожать»,
«испражнение — экскременты». Эвфемизмы заменяют
неприличное, запретное: «секс», «портить воздух», «гости», «быть
в интересном положении». Пейорация осуществляется
292
словообразовательно (китаёза, япошка, итальяшка,
немчура) и путем переосмысления (колбасники,
макаронники, чернокожие, косоглазые, косопиздые).
Отрицательность семантики этнонимов типична. Особой
разновидностью пейорации является какофемизация,
заключающаяся в том, что сильно сниженные морфемы придают
слову не только отрицательность, но и экспрессию инвек-
тивности, нарушенной табуированности, окраску грубости,
сильной сниженности.
Вот небольшой перечень шутливых пейоративных ка-
кофемизмов.
актриса из
антрополог
аспирант
аспирантура
ахинея
бдительный
бездарный
безделушки
бездельник
бельдюга
библиотека
бифокальные очки
бордовый
будуар
«Быстрей, быстрей!»
велосипедист
верблюд
взятка
вулкан
выпускник без
похвальной грамоты
гарнир
герундий
гимназия
гимнастерка
гимнастика
прогорелова театра
лицемер
обсерант
аспирандура
охунея
бздительный
пиздарный
пизделушки
пиздельник
блядюга
блевотека
бифекальные очки
бурдовый
блудуар
Реакция на этот окрик:
«Быстрота нужна
только при ловле блох и при
ебле кошек!»
вялосипедист
верблядь (верблюдиха)
дача
изверг
безграмотный
говнир
ерундий
гомназия
гомнастерка
гомнастика
293
гомосексуалисты
дебил
деканат
декольте
демократ
дерматин
дерматолог
диссертация
еда
жадничающий
«Жалко!»
живопись
заведующая кафедрой
заграница
заключение
«Запорожец»
зарплата
заслуженный артист
республики
«Застрахуйте меня!»
известная личность
импозантный
иностранец,
иностранка
интеллигентка
(пес)
качество
квартира
очень скромная
кибернетика
коммунист
корзина
красота
курилка
лебединое озеро
меньшевики
дубил
диконат, доконат
вырезка
дерьмократ, демокрад
(А. Кнышев)
дерьмоньтин
дерьмотолог
дисер
едьба
и ртом и жопой хватает!
Реакция на этот ответ:
«Жалко у пчёлки в жопке, а ты —
скупердяй!»
лживопись
завка
зарубка
злоключение
жопорожец
зряплата
заслушанный артист без
публики
«Застрахерте меня»
(псевдоэвфемизм). «Застрахерте
меня!»- «Не выражайтесь!» —
«А застрахуйте лучше?»
известничяк
импузантный
иносранец,
иносранка
от слова телега
кабысдох
какчество
хрущеба (ср.: трущоба)
кьебенематика
коммуняка
сплетня
крысота
курятник
леблядиное озеро
294
летчик-евреи
кандидатский мини
мум
медбрат
мероприятие
министерство
модем
мозельвейн
«Моча
жид пархатый (ср.: порхать)
кандидатский мини-ум
колун
муроприятие
министервство
мудем
мозольвейн
это единственное на свете, о чем нельзя
сказать, что это говно».
мужчина с большими
ушами
направить куда-л.
начертательная
геометрия шутл.
неотложка
(неотложная помощь)
обледенеть
обязательное
отвратительный,
мерзкий человек
орденоносец
старый пердун
первоисточник
передовица
перестройка
побледнеть
оставшийся без
подарка
повар
помощь на дому
похотливая
приватизация
пример для
подражания
пресмыкательство,
популизм
(В.З. Санников)
ушат
срулить
ничертанепонимательная
геометрия
скоропостижка
обляденеть
обязаловка
О нем: «Я с ним на одном поле
срать не сяду/стану!»
орденопросец
старпер
гіервоистошник
пердовица
катастройка
(A.A. Зиновьев)
побляднеть
бездарь
повор
(«Порции стали меньше». —
«Это проделки повора!»)
немощь на дому
шутл. слаба на передок
прихватизация
пример для подорожания
попу-лизм
295
прислушиваться
проспект
профессор
работница порта
революция
всё равно
распределитель
ремотивация
рыло
санаторий
(нефрологический)
секретарша
сервис
сессия/волнение
в связи с сессией
скучно
смешочки
сосед по пляжу
сотрудник ЗАГСА
страноведение
плата за страх
без страха и упрека
страховка
съедобный
телевидение
точка зрения
туалет
тяжелобольной
украсть
умереть
«Прислуживаться к
начальству? Нет, увольте!» И его
уволили».
(Э. Кроткий)
шутл. просека
кислых щей
портянка
кровольюция
грассирующее
произношение: «Всё — говно!»
расперделитель
Возврат к первоначальному
смыслу: «Надо же! Речка по
колено, а рыбы — до хуя!»
урыльник
ссанаторий
секретутка
стервис
сессуально озабоченный
(студент)
усно (уснуть можно)
смехуёчки
сопляжник
бракодел
странноведение
плата за трах
без траха и упрека
штрафовка
едкий
елевидение
кочка зрения (Э. Кроткий)
бундесрат
померанец
скоммуниздить, скоммунячить
прижмуриться
«Не учи ученого — поешь говна печеного!»
учеба мучёба
филолог филолух
философия хилософия, фаллософия
хитрый хитрожопый
296
художник от слова «худо»
экспериментальный экскрементальный
эпопея опупея
эрудит ерундит
юбилей ебилей
юбиляр ебиляр
Юмор, связанный с неприличной лексикой, циничен,
груб, суперлативен. Есть, однако, мнение, что то, что
смешно, уже не пошло. При всей относительности этого тезиса
с ним можно согласиться.
Механизм «порчи» слов сводится к следующему.
Референтная отнесенность в основном сохраняется, но
осложняется отрицательным свойством (возможным,
допустимым для данного денотата). В других условиях негативная
характеристика могла бы быть выражена
квалифицирующими словами в составе словосочетания или
пейоративными морфемами (или морфемоидамы) в составе слова.
«Вакса чернит с пользою, а злой человек — с
удовольствием» (Козьма Прутков).
Примеры первой возможности: «Рассказывал он всё
страшно усно (уснуть можно было)». / «Этого вял
осипе диет а нельзя было выставлять на соревнования из-за
его непрофессиональности, вялости». / «О ком довольно
вульгарно говорят, что он — дерьмократ, имеют в виду
сомнительность его репутации как демократа». / «Блево-
тека — грубое выражение, критикующее плохую
библиотеку, вызывающую просто тошноту». Логичность
ассоциативных связей здесь легко просматривается.
Иначе обстоит дело с «оскверненными» словами,
когда исконная референтная связь утрачивается: очки
своей этимологической связью с фекалиями полностью
зачеркивают денотативную семантику двойного фокуса,
хотя наличие слова очки определенным образом
реконструирует связь с паронимом «бифокальные»; фаллософия
философию никак не репрезентирует, поскольку
понятийная связь невозможна. Как расшифровать
«оскверненные» формы слов бдительность, передовик, смешочки,
побледнеть, лебединый и т. п.? Бранное, низменное
чернит, портит, низводит, а как, за счет чего, остается
неясным.
297
Одной из причин живучести мата является
абстрактность и универсальность его корневых морфем.
Совершенно неожиданно они формируют самые различные
слова вне логической связи: ебанутъся (удариться), захуя-
читъ (закинуть), распиздяй, мудила, мудак, выёбываться
(выставлять себя, строить из себя, чрезмерно стараться),
хуйпя (ерунда), хуёво (плохо) и т. п. Такие образования
многочисленны и очень употребительны. Их
мотивированность непонятна и абсурдна. На базе мата возникают
служебные слова (А) и междометия (Б), полностью
оторвавшиеся от своего этимона: «Тебя какой-то хуй
спрашивал»; «Это что за хуй пришел?».
А. СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА
хуй
какой хуй?
ни один хуй
какого хуя?
ни хуя, ни хуя подобного
на хуй?
хуй достанешь/получишь/
добьешься/получишь/
добьешься
на кой хуй?
один хуй
«А?» — «Хуй на!»
хуй, хуй добьешься,
хуй получишь,
хуй помогут они тебе
хуй его знает
хуй с ним, хуй с тобой,
с ними
до хуя
нехуя, нехуя надеяться на них
хуя с два!
кто-то
кто?
никто
почему, зачем?
нисколько, ничего
зачем? для чего? почему?
ни за что, никогда
зачем? для чего?
безразлично, одинаково
нежелание реагировать
никогда, ни за что
кто его знает
ладно, пусть
очень много
нечего надеяться на них
ничего подобного; как бы
не так
298
Б. МЕЖДОМЕТИЯ
ёб твою мать! мать твою ёб!
ети твою мать!
блядь!
бля!
блин!
ебенть!
ядрёна (едрёна) мать/вошь
Какофемизация — это своеобразное речевое озорство,
циничное, вызывающее, в результате которого
складываются хлесткие, часто неприличные выражения, как
правило контекстно зависимые, большой частью
окказиональные, невоспроизводимые. Это низкопробная
разновидность языковой игры — фиглярство, паясничанье с
установкой учудить, рассмешить, порисоваться
претензией на остроумие. Действительно, в результате подобных
усилий возникают забавные, шуточные, иногда даже не
лишенные известной изобретательности
мини-произведения смехачества, обычно несколько сомнительного
качества.
В семантическом отношении смысл праобраза
остается, но он модифицируется — ему придается
негативность, пренебрежение, издевка.
В структурном отношении происходит либо
образование нового слова, либо переосмысление существующего.
Осуществляется уже упоминавшаяся неомотивация — смена
внутренней формы, своеобразная псевдоэтимологизация.
Наиболее продуктивным приемом оказывается «парони-
мическое словообразование». Оно строится на паронимах:
• со вставкой звука («катсчество», «сгаервис», «ссанато-
рий», «приватизация», «пример для подорожания», «бзди-
тельный, стракноведение»);
• с удалением звука («иносранец», «сексуально
озабоченный студент», «плата за трах», «елевидение»);
• с заменой звука («жграфовка», «кочка зрения», «хило-
софия», «юбиляр», «побледнеть»);
• с заменой нескольких звуков («смехуечки», «верблядъ»,
«гошир», «опупея», «филолрс», «фа/шэсофия»);
299
• с заменой целых морфем («верб/годь», «кроволъющія»,
«катастройка», «обсергнт», «кьебенематика»).
Вновь образуемое слово может оказаться омонимом
уже существующего. Нелепость этого парадоксального
семантического столкновения создает комический эффект:
«урыльник» (рыло), «бездарь» (оставшийся без подарка),
«вырезка» (декольте), «курятник» (курилка), «нужник»
(нужный человек), «колун» (медбрат), «известняк»
(известная личность), «сквозняк» (транзитник), «чертеж»
(чертыхание), «спица» (соня), «половик» (сексолог),
«Подмосковье» (метро), «помреж» (ассистент хирурга). Они
смешны, но не пейоративны.
Какофемизмы конструируются также и путем
псевдочленения слова. Новые номинации: «попу|| лизм»
(пресмыкательство), «кандидатский мини || ум» (с потерей одного
звука), «гон||чая» (чаепитие), «жар||гон» (потогонное),
«антиЦпод» (над), «а||реальный» (нереальный), «арти||-
шок» (нервное потрясение у артиллеристов), «аэро||золь»
(мозоль, натертая в самолете), «бес||печность»
(центральное отопление).
Какофемичны фольклорные коммуникативные клише:
реакция на то, когда кого-нибудь подгоняют: «Быстрота
нужна при ловле блох и ебле кошек» (выражение
нежелания спешить); ответ поучающему: «Не учи учёного, поешь
говна печеного»; «Ближе к телу!»; «Работать не прикладая
рук»; «Лучше нету того свету»; «Жену отдай дяде, а сам иди
к бляди»; «Жалко у пчёлки в жопке» (оправдание того, что
было встречено как жадность); «В тебе есть что-то
северное: не то ты хуй моржовый, не то ты морж хуевый»;
«Сравнил хуй с пальцем!» (о нелепости сравнения); «Хуй и пиз-
да — из одного гнезда» (традиционная надпись в сортирах);
«Дела как в Польше, у кого хуй больше, тот и пан»; «Запас в
жопунеебет» (целесообразность делать запасы); «Баба
пьяная хуже жопы сраной»; божба: «В рот меня ебать горячим
пирожком!»
«Порча» стереотипов (примеры А. Кнышеваи Э.
Кроткого): «Сатана там правит текст»; «Души прекрасные нарывы»;
«Инсульт-привет!»; «Одну книгу пишем — две в уме»;
«Ученье — свет, неученых тьма»; «Он вышел в люди и вернулся»;
«Как ваш новый начальник?» — «Ничего себе». — «А наш —
300
всё себе»; «Отказаться наотрез» (на операцию); «Барабан —
музыкальный инструмент, работающий из-под палки».
«Порча» нейтральных внеоценочных слов и выражений
имеет гораздо большее распространение, чем это можно
было бы предположить. Вкусный блин превратился в эр-
зацматерное междометие. Красивое дерево ёлка
испоганено в роли эвфемистического восклицания ёлки-палки,
заменившего центральный матерный фразеологизм. Ставшее
крылатым словом некрасовское изречение «поэтом
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»
актуализировалось под влиянием совкового бюрократического
формализма в «ученым можешь ты не быть, но кандидатом
быть обязан»; или: «тяжело в ученье, легко в гробу».
Представляется целесообразным применить для
описания какофемизмов искусствоведческое понятие
«сюрреализм» с характерной для него реальностью деталей и
абсурдностью целого. Операции со словом при помощи
применений регулярных строевых элементов и с
использованием общеязыковых моделей проходят с соблюдением
многих условностей, в результате чего возникает
экстравагантная единица с несколько зашифрованным смыслом,
ошеломляющим своей необычностью, логической
несуразностью, низменностью и комичностью. В
лингвистической литературе возникла традиция описывать главным
образом типы формальных отношений паронимов, тогда
как их семантические связи, как правило, очень рыхлые и
малоошутимые, остаются невскрытыми.
Инвективные морфемы какофемизмов семантически
преобразуются и превращаются в абстрактные
обозначения негативности вообще. В самом деле, чем отличается
гимназия от гомназии, дерматин от дрянъмантина,
бельдюга от блядюги, хитрый от хитрожопого? Денотативное
значение, по всей видимости, одинаково. Смысловое
осложнение происходит за счет явно отрицательной оценки,
сильной этикоэстетической сниженности и озорного
удовлетворения говорящего по поводу нарушения им правил
приличия оформления речи. Сопляжник отличается от
соседа/знакомого по пляжу шутливостью и озорством и,
следовательно, всеми вытекающими из этого
последствиями для общения. Однако в тех случаях, когда
неомотивация в какой-то степени конкретно осмыслена, происходит
301
семантическое осложнение. Докопат — это такой деканат,
где тебя могут доконать, повор— это повар-вор, первоистош-
ник— это первоисточник, от которого тошнит, зряплата —
незаслуженная зарплата. В типологии какофемизмов
намечается, по крайней мере, достаточно ощутимое различие
между диффузной отрицательностью и
конкретизированной каузальной негативностью. Какофемизмы, к тому же
еще шутливые и пейоративные, — это далекая периферия
лексики, однако во многом любопытная для решения
загадок лексикона. Как маргиналия они выдвигают проблему
их фиксации и описания. Как бы ни были третьестепенны
маргиналии, отказаться от их изучения нельзя. При этом
возникает прежде всего вопрос их учета. Бережное
отношение к маргиналиям себя окупит, ведь в них заложены
важные тенденции развития. Учет роли удельного веса
явления, его активности и частотности — это его
характерные признаки, они безусловно важны, однако переоценка
этого фактора чревата исчезновением с поля зрения того,
что может быть интересным с самых разных точек
позиций. Псевдоэтимологизированную лексику можно лекси-
кографировать разными способами:
1) комплексно, алфавитно;
2) ономасиологически (алфавитно) по принципу «от
понятия к слову»;
3) по способам примененного словообразования;
4) социолектно: детские, молодежные, политические,
бюрократические, культурологические (бытовые, мента-
литетные, фольклорные, причастные к художественной
литературе, изобразительному искусству и т. п.), научно-
технические, узкопрофессиональные, уголовные и т. д.;
5) идеографически (по понятийно-тематическим
группировкам: обозначение лиц, артефактов, абстракций,
действий, состояний, качеств, свойств, отношений, времени,
пространства;
6) с выделением словосочетаний, фразеологизмов,
когда оригинальны употребление слова, его сочетаемость.
Коллекционирование и анализ маргиналий — это то,
что еще не вошло в повседневную практику языковедов,
хотя исключения уже дали о себе знать.
302
Если для неспециализированного обиходного языка
инвективная лексика культурными людьми всегда
встречается настороженно, дистанцированно, то есть социумы,
где она воспринимается иначе. Не случайно в
простонародье говорят «матом мы не ругаемся, мы на нем
разговариваем».
Совершенно особую роль играет сквернословие в
русском фольклоре, в частности в частушках. «Русский
фольклор имеет целый ряд исключительно национальных черт.
Он простодушен, бесхитростен, откровенен до
циничности. М.Л. Вольпе говорит: «Русский народ всегда жил
тяжело и о своей доле предпочитает высказываться
недвусмысленно, нередко матом, так как иные, более
интеллигентные, выражения кажутся ему фальшивыми, ибо
искажают правду-матку. <...> Зачастую именно
табуизированная лексика придает произведениям народной культуры
тот колорит, без которого они теряют остроту
содержания, превращаясь в выспренное и потому лживое
словоизлияние». М.Л. Вольпе продолжает: «Русский народ
любит обнажать душу с неким залихватским бесстыдством. В
сексуальных аллюзиях, составляющих подтекст
обыденного лексикона, легко увидеть стремление измордованного
жизнью человека освободиться от отягчающих его
комплексов. Фольклорный персонаж как бы профанизирует
действительность, намеренно принимая пафос сурового
бытия. Он словно посылает враждебный ему мир на
известные три буквы, что помогает сохранять душевную
бодрость, не падать духом перед лицом испытаний». Фраза для
носителя просторечия в записке на колхозном собрании
совершенно буднична и ничем не примечательна: «Нюшк,
приходи сегодня ебаться на сеновал в 20 часов» и ответ:
«Намек (!) твой поняла, приду».
Вот несколько озорных частушек, специфику которых
П.А. Флоренский сравнивал с древнегреческими
песнопениями в честь бога Диониса, отмечая «рафинированность
проявленного в них любовного чувства» (Вольпе 2003: 5):
Грудь болит,
В костях — ломота.
Хуй стоит,
Ебать охота.
303
Мимо тещиного дома
Я без шуток не хожу,
То ей хуй в окно засуну,
То ей жопу покажу.
Солнце, воздух, онанизм
Укрепляют организм,
Уменьшают вес мудей
И расходы на блядей.
Глянул в лужу, в луже — жопа,
Не пойму я ни хуя.
Вдруг мне жопа улыбнулась,
Оказалось, это — я.
«Народное бытие целостно в своем проявлении, ни
одна грань великой культуры не заслуживает ханжеского
пренебрежения» (М.Л. Вольпе).
В фольклоре удерживаются довольно стойко созвучия,
близкие к нецензурным: «не хвались на рать йдучи, а
хвались йдучи с рати»; «папе сделали ботинки на резиновом
ходу — ходит папа по избе, гладит маму... папе сделали
ботинки...» и т. д.; «Ты что, рыбный суп ел — такого
придурка на работу брать: он же всё развалит».
Наблюдения над эстетикой безобразного
подтверждают мысль Г. Ландау: «Изучение ругательств народов —
хороший путь к постижению их святынь».
СПИСОК СОКРАЩЕНИИ
Вольпе 2003 — Русский эротический фольклор / Сост., предисл.
М.Л. Вольпе. М.: Адрес-Пресс, 2003. 320 с.
Щерба 1939 — ЩербаЛ.В. Спорные вопросы русской грамматики //
Русский язык в школе. 1939. № 1. С. 110— 121.
Н.Д. Голев
ОБЫГРЫВАНИЕ ТАБУИЗМОВ В РУССКОМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
В статье рассматриваются народные и игровые
речевые произведения метаязыкового1 содержания,
относящиеся крусскому лингвистическому фольклору. Это
интереснейшая сфера народной речи и эстетики, мало
изученная лингвистикой и фольклористикой, хотя научная
значимость ее велика и проявляется в разных аспектах:
психолингвистическом, лингвокультурологическом,
семиотическом, лингводидактическом2 и др.
Для иллюстрации сказанного приведем несколько
примеров разных типов обыгрывания языковых единиц из
народной «игротеки».
Обыгрывание омонимии
Обыгрывание омонимии названий звуков (букв) и
знаменательных или служебных слов: — Расшифруй ДУНЯ. После
неудачных попыток предлагается авторская
расшифровка: Дураков у нас нет..., которая провоцирует вопрос: А «я»?
(= а я?), на что следует заготовленное: «Про тебя-то и забыли».
Аналогично: — Расшифруй КОЛЯ (—? — Корова отелилась
летом. — А «я»} — А ты — зимой). Другой «классический»
пример: А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, кто остался на
трубе? (ОсталосьИ: =А, И, Б сидели на трубе...).
Обыгрывание омонимии слов и словосочетаний: —
Отчего утки плавают? (От чего? — От берега!); — Почему Ленин
ходил в ботинках, а Сталин — в сапогах} (По чему} — По зем-
леі); Сидел в тюрьме 10 лет, ел только хлеб сухой, но не умер.
305
(Хлеб с ухой)', Давай поспорим, что не перекипеть через грядку
огурец соленый. (Огурец с Аленой)', — Что делал слон, когда пришел
Наполеон? (Ел траву — на поле он\); — На балконе ходят? — Да\
(Следует опровержение: На балконе— на бал кони); Поля
кипели соловьями, / Поляки пели соло в яме, На%о, пей, кучер Нил / На
копейку чернил. В этот ряд игровых действий со словами и
фразами входит популярная в свое время в школьном
фольклоре ребусная форма обыгрывания словосочетаний;
например, фраза порточки сторожа лопнули изображается
последовательным рядом рисунков: пар, точки, цифра сто
(100), рожа, лоб, нули; фразу Христофор Колумб —
путешественник визуализуют рисунки: крест, топор, колун, пятью
шесть (5X6), веник.
Обыгрывание других типов омонимии: Ехал поезд, все
спали, только машинист не спал. Как звали машиниста ?
(Анатолий — Толька-машинист); Соня сильно полюбила (Полю била)',
Воз пряников — в род людской (род/рот)', Шуточный диалог
на рынке: — Она у вас черная? — Нет красная? — А почему
белая? — Потому что зеленая (о смородине).
Паронимическая аттракция
Широко известны метатексты с ассоциативными
сближениями слов (частей слова) по звучанию: Амстердам
тебе в Глазго и Душанбе вон и звуковой имитацией иноязычных
фамилий: Тояма, Токанава; Где Пье, Там Блюе, Стамеску, Руба-
неску,или паронимическими переделками тшіъле-
бедьрака щупал и т. п. (ср. шуточную фразу о предвыборном
блоке «Скоков—Лебедь—Глазьев»: Скоко у лебедя глазьев?).
Ассоциативно-паронимические переделки
иллюстрируют многочисленные популярные шутки на языковую
тему «недослышек», «оговорок», «невыговариваний» типа
диалогов глуховатых стариков: — Глухая тетеряі — Что?
Голубчик, теперяР или знаменитые сиськи-мисиськи
(систематически) и письки-мисиськи (пессимистически),
приписываемые Л.И. Брежневу.
Уместно заметить, что целый ряд экспрессивных слов
русского языка, освоенных русским языковым узусом,
генетически восходит к игровым переделкам и
переосмыслениям трудных (чаще всего иноязычных) слов: катава-
306
сия, куролесить (этимологическая основа данных слов —
непонятные фрагменты молитв на греческом языке),
антимонии (из лат. антиномии), ерунда4 (из грамматического
термина herundiv), шаромыжник (по одной из
этимологических версий — на базе французского топ eher ami — «милый
друг»), в этом же ряду стоит «русскоязычная» вампука («это
имя было вычленено из неверно понятой фразы: Вам пук,
вам пук, вам пук цветов подносим» (ЭСРЯ 1968: 16) из
популярной в начале прошлого века оперы-пародии.
Игровое рифмование
Игра с рифмами. Скажи: на бане— чайник. — На бане —
чайникі — Твой отец — начальник5 (из детского фольклора).
Неоправданное ожидание рифмы: Скажи: на бане —
чайник. — На бане— чайник. — Лупил я тебя на колокольне. — Ну и
не складної (провоцируемая фраза). — Зато высоко и
прохладно! (заготовленный ответ). От обратного: — Скажи: лук. —
Лук. — Тебе полбу стукі Повторяется несколько раз, пока
адресат не выдерживает и не берет игру в свои руки: —
Скажи: чеснок. — Чеснок. — По спине лопатой на\
Игровая мнемоника
Игровая аббревиация мнемонического
предназначения порождает такие метатексты: Каждый охотник желает
знать, где сидит фазан (красный, оранжевый...); Иван родил
девчонку, велел тащить пеленку, другой вариант: Иван Родио-
ныч, дай Ваньке трубку покурить (именительный,
родительный, дательный...). Известная фраза уж замуж невтерпеж
восходит к орфографической мнемонике.
«Говорящие» аббревиатуры: ГОРБАЧЕВ— готов
осуществить решения Брежнева, Андропова, Черненко, если выживу.
«ЭКСТРА» — популярный сорт советской водки: Эх, Как
Стало Трудно Русскому Алкашуі В студенческой среде
бытовали аббревиатуры — названия учебных дисциплин: ГРОБ —
гражданская оборона, СПИД— социально-политическая
история двадцатого века, СРЯ— современный русский язык, а само
слово ВУЗ расшифровывалось как выйти удачно замуж.
307
Инициальная аллитерация
Инициальная аллитерация — метатексты, в которых
слова начинаются на одну букву. Самой яркой
иллюстрацией данному приему является знаменитый нескончаемый
текст: «Отец Онуфрий, обходя окрестности Онежского озера,
обнаружил обнаженную Ольгу. "Отдайся, Ольга, озолочу... "и
т. д.», бытующий у нас в многочисленных вариантах6.
Подобные приемы народной лингвистики бесконечны
по количеству и разнообразию7.
Лингвистам-лексикографам еще предстоит собрать обыденные метаязыковые
произведения, опубликовать хрестоматии и
энциклопедии лингвистического творчества народа, а перед
лингвистами-теоретиками стоит задача описать их в различных
аспектах8.
В настоящей работе исследуется под определенным
углом зрения одна — в сущности, поверхностная,
бросающаяся в глаза — область игровой «продукции» обыденного
метаязыкового сознания. Мы описываем игровые
речевые произведения, объектом или средством которых
выступают языковые единицы, называемые нами термином
«табуизмы». В той или иной мере синонимичными этому
термину являются слова или словосочетания типа
ненормативная, обсценная лексика, неприличные, несалонные,
нецензурные или непечатные, запретные или потаенные
слова и выражения. Мы не считаем уместным вдаваться
здесь в терминологическую дискуссию. На темы брани
сейчас написано немало работ самого разного
содержания (см., напр.: А се грехи 1999; Блинов, Шевелев 1997;
Буй 1995; Голев 2000в; Жельвис 2001; Колесников,
Корнилов 1996; Никитина 2003). Ограничимся лишь пояснением
нашего выбора термина с позиций заявленного аспекта
описания — обыгрывания языковых единиц.
Главная причина выбора связана с тем, что табуиро-
ванность — ядерный функциональный признак
такого рода слов и выражений9. Наличие табу и возможность
выйти за табуистические рамки — мощный стимул для
игрового отношения к нему, ибо игра всегда предполагает
некую оппозицию нормативности, ее разрушение и
создание на этой основе второго (эстетико-игрового) плана
содержания. Скажем, балагурство, шутливое рифмование
308
и другие приемы речевой игры (см., напр.: Земская 1983),
разрушая нормативную форму (типа балкаска вместо
колбаска', сосики сраные вместо социалистические страны) и
через это — обыденное знаково-информативное
употребление языка, вводят его (язык) в фатическое пространство.
Актуализация формальной стороны языковой единицы
предполагает активность метаязыкового
сознания, поскольку в обычных условиях присутствие
звуковой (формальной) стороны высказывания не
актуализируется, равно как обыкновенно не актуализируется мета-
языковое сознание. Речевое воплощение метаязыковых
рефлексий порождает метатексты, объектом которых
становится сам язык, те или иные свойства и компоненты
языковых единиц (см.: Ростова 2000).
По этой причине табуизмы — носители наиболее
мощного потенциала игрового функционирования,
поскольку их нормативность носит условно-запретительный
характер, условность же запрета — сильный раздражитель
для игровой «атаки» со стороны автора игрового
речевого произведения и сильный маркер присутствия
второго плана для его адресата. Второй план текста создается
актуализацией в языковом сознании внешней и/или
внутренней формы обыгрываемой единицы как носителя
особого рода значимости10. При обыгрывании табуизмов эта
значимость усиливается эффектом эпатажа, этической
(и этикетной) дерзости, пробивающей границы
нормативности. Здесь уместно опереться на понятие карнаваль-
ности М.М. Бахтина, в которой «целый мир смеховых
образов противостоял официальной и серьезной культуре»
(Бахтин 1965: 8).
Конкретным же признаком табуированности слова
является для нас его «непечатность» — в частности,
отсутствие таких слов в известных толковых словарях русского
языка и в различной официальной печатной продукции,
предназначенной для широкого круга читателей; в ряду
признаков «непечатности» находится и стремление
избежать прямой графической передачи их полного звучания
в официальных изданиях, причем в этой сфере выработан
широкий диапазон способов уклонения: от полных купюр
до транслитерации на латинский алфавит (последнее
часто используется в научных изданиях). Мы не считаем
309
нужным уклоняться от полных русских написаний табуиз-
мов (это обусловлено научной направленностью
публикации), но в случае приведения «игровой пары», членами
которой являются созвучные друг с другом табуизм и
нормативное слово, приводим только последний, полагая, что
первый легко «вычисляется» носителем русского языка.
Разумеется, причин, по которым табуизмы становятся
активным объектом обыгрывания, гораздо больше, чем
причин, названных нами. Среди них и семиотические, и
психологические, и социальные. Их анализ —
самостоятельный предмет исследования. В совокупности они
образуют достаточно значимый узел функционирования
русского языка, причем не только в его обыденной
разновидности11. Для нас здесь важно подчеркнуть, что, в сущности,
нет ни одного русского табуизма, который бы «не испыты-
вался» на возможность его включения в игровой план. И
наоборот, трудно найти игровой прием, который не
прошел бы испытания на «обсценном полигоне». Это делает
табуистический материал эффективной основой для
изучения игрового функционирования русского языка. Наш
очерк мы ограничиваем собственно языко-игровым
аспектом описания конкретного материала12.
Далее в «игрологическом» ключе представляются
наиболее характерные тактики и приемы обыгрывания
русской табуированной лексики и фразеологии, включенные
в метатексты разного функционального содержания:
лингвистические задачи, загадки, шутки, поговорки,
прибаутки, анекдоты, «продукты» балагурства, словесного
озорства (нередко на грани со словесным хулиганством),
имитации стихотворных текстов и т. п.
Инвариантная стратегия обыгрывания табуизмов
связана с ассоциативным сближением табуизма и
нормативной единицы; в большинстве случаев исходным
пунктом такого сближения выступает их формальная
близость, на основе которой осуществляется наведение
специфического смысла на игровое речевое
произведение, ср., скажем, известные поговорки мать моя женщина,
туди твою в капель, эфиоп твою мать, япона мать, едрёна
вошь, ёшки-матрешки, ёшкин кот, едрит твою мать, ангидрид
твою в перекись марганца и не менее известные словечки:
раздолбанный, блин, ёлки-палки (ёлы-палы), ё-кэ-лэ-мэ-нэ, капец,
310
полный абзац. Разумеется, основная функция создания
таких слов и выражений — фатическая: в большинстве
случаев ничего, кроме игры (балагурства, ёрничества, речевого
озорства), в таком сближении нет.
Оно (сближение) осуществляется разными способами.
На самом высоком уровне обобщения можно выделить
две стратегии создания игровой двуплановости:
1) единица предъявляется как нормативная и далее тем
или иным способом из нее выводится скрытый
(скрываемый) табуизм (у тебя ж опыта больше —у тебя жопы-то
больше)', 2) единица предъявляется как табуизм или намек на
него, но «выясняется», что предполагался нормативный
смысл (Начинается на «г», а кончается на «о»... Не
подумайте плохого, это — завуч Головкоі; Как из гардеропа показалась
жо... — Ах, что?\ —Да ничего: желтая рубашкаі). В последнем
примере поэтапно эксплицировано всё игровое действо в
рамках данной игровой стратегии: актуализация
(посредством рифмы) в сознании адресата табуизма —> «эпатаж-
ная реакция» на него —> «предъявление» нормы —>
осмеяние сконфуженного адресата.
Реализация игровых тактик предполагает широкие р е -
чевые средства создания двуплановости: во-первых,
это различные структурные приемы13 игровой
актуализации формального плана табуизма или нормативного
слова (о них в основном и пойдет речь далее); во-вторых, это
функционально-речевые приемы, связанные с
интонацией, паузацией, мимико-жестовым поведением,
позволяющие сопрягать нормативный и табуированный смыслы (в
нашей статье они не анализируются систематически, хотя
указание на них часто сопровождает анализ основного
приема).
Обыгрывание омонимии разных видов
Совпадение по звучанию нормативных слов
с табуизмами (или их омонимами, паронимами и
эвфемистическими эквивалентами) типа хрен, сука (род. пад. от
существ, сук), суконка, член, яйца, захиреть, просрачивать,
описывать, писец и др. регулярно обыгрывались и
обыгрывают в обыденной речи, в частности, — хрена до хрена (ни
311
хрена), запиши хер да еще маленько; подписи, зимой обледенели,
весною распустились: в зобу дыханье спёрнуло и т. п.; ср. более
сложный игровой контекст из старой народной шутки:
Везет мужик яйца, видит — навстречу другой мужик, везет
дерн. Он (мужик с яйцами) ему и говорит: «Мужик, дай дерну
за яйца».
Широко представлено в фольклоре использование
вторичных значений нормативных слов, выступающих
обычно парафразами скабрезностей и эвфемизмами
несалонной лексики. Прием заключается в том, что, намекнув на
непристойность, исполнитель «прячется» за первичными
значениями обыгрываемых слов и выражений. Если б ты
мне дала... семена твоих роз, я б тебе засадил... всю планету
цветами; А теперь не то: не стоит его... в штанах бархатных...
у дверей лакей (точками обозначены «намекающие»
паузы, которыми обычно сопровождается озвучивание таких
«стихов»)14.
Линия осложнения омонимической игры в
структурном плане логично приводит к омонимии
словосочетания и слова — один из любимых стимулов для создания
игровых метатекстов с участием табуизмов. Часть
последних, несомненно, «услышана» носителями языка в
обычной речи, другая (большая) часть — специально созданные
синтагмы, в которые нарочито встраивается неприличная
лексика и фразеология. Степень близости звучания в
приводимых далее примерах разная. И битвою мать-Россия
спасена; И биться сердце перестало; Хор мальчиков и Бунчиков; Я и
Буся под столом; Ибу..., и бу..., и бусы подарю; Ибли..., и бли...,
и блинчики пекли; И бал..., и бал..., и баловал ее, Иба..., и ба...,
и бабочек ловил; Гетры и бутса (из спортивного арго); Бежит
бабка, за ей— банка; У Зои банки были все, Ужо пылится; Ужо
поподсохнет— гулять вы пойдете, У тебя ж опыта больше,
Спереди насрать, сзади насрать (ср.: Не хвались, едучи на рати,
а хвались, едучи с рати (или: срати; А се грехи 1999: 160);
Мужик сраной; Со сранья; С самого сранья; Ах, у дуба, ах, у ели;
Уху ели}; — Ну что, по бабам} — Да мне недосугі (не до сук); —
Мандаты без датыі — Сам ты манда, сам ты пиздаі; Запись
дела; Запись делали?; Пир духа; Сидит за лупой.
Несколько сложнее синтагмы в метатекстах: Вышел
месяц на балкон, там засеребрился. / Кто остался на балконе,
когда месяц скрылся? (засеря брился); Шел солдат, попукивал.
312
С кем шел солдаті (с попом — попу кивал)15. Знак ГАИ с двумя
кружками — что это} — Дорога раздвояется (произносится
раздвояйца, чтобы слышалось два яйца). Отдельно выделим
омонимическую аттракцию двух словосочетаний.
«Каламбуры этого типа, — пишет В.З. Санников, — редки16,
поэтому приведем и один достаточно смелый: "Ах, у Веры, ах, у
Инбер что за глазки, что за лоб! Всё глядел бы, всё глядел бы, всё
глядел бы на неё б" (К. Симонов?)» (Санников 1999: 289).
В романе-анекдоте В. Войновича о солдате Чонкине обыг-
рывается строка из песни «Как увижу, как услышу...»,
которую один из персонажей услышал как «Каку вижу...». Из
«игротеки» народных игровых метатекстов: Во мху я по
колено (фраза из анекдота «про Пушкина и Лермонтова»);
Мы б с днем, мы б с днем (бзднем) весенним не расстались: нас
ра..., насра..., нас радует весна.
Заключительная часть последнего примера
иллюстрирует прием, пользующийся в народе большой
популярностью при обыгрывании табуизмов. Мы имеем в виду ме-
татексты стихотворного типа, провоцирующие
ненормативное понимание речевого произведения. Провокация
заключается в игровой подсказке, заключающейся в
актуализации начала или конца фразы неприличного
выражения, которое в итоге оказывается «приличным»: Ахуе-..., ах
у е-..., ах уехал милый; Маху я, маху я, маху я давала; Нога в
но-..., нога в но-..., нога в ногу шагом марші (слышится: на
говно) ; Не манди-..., не манди-... Неман — дивная рекаі; Нас рано,
насрано сестры разбудили, / Сраками, сраками супом нас
кормили. В этом ряду уместно упомянуть наставление молодым
родителям не называть сына Олегом, поскольку отчество его
дочери будет оканчиваться на говна (Олеговна).
Несколько иной, провокативный, вариант такого типа
обыгрывания уже рассматривался выше: Пошел на ху...тор
бабочек ловить; Пошел в пи...м дырявый (ср.: Поди в пи, да там
и спи (А се грехи 1999: 167)); Пальцем в жо-..., пальцем в
жо-..., пальцем в желтое кольцо; Во фраке до самой ера... сразу
потемнело вдруг. В таком ключе может быть создана целая
картинка, например, «В зоопарке»: Перед вами, дети, утка,
она большая прости-... простите, дети, она маленькая. Перед
вами, дети, слон, он огромен и силен, у него, как у китайца,
выросли большие я-... Яшка, отойди от клеткиі; «На палубе»:
На море поднялась большая качка, матросов сразу прохватила
313
ера... сразу видно, что неопытные моряки; На палубу вышел
франт во фраке, все пуговки до самой ера-... сразу видно, что
американец, и т. д.; «На хуторе»: Насра..., насра..., нас рано
разбудили, / На ху..., на ху..., на хутор повезли, / Иба..., и ба..., и
бабочек ловили, / И бли..., и бли..., и блинчики пекли; «В избе»:
Папе сделали ботинки — / Не ботинки, а картинки. / Папа
ходит по избе, / Лупит дочек по пи-..., / папе сделали ботинки...
Но чаще бытует свободная (квазисмысловая) связь тем,
строф и размеров: Ехал на ярмарку Ванька-холуй, за три
копейки показывал свой ху... (...)дожник, художник, художник
молодой нарисовал он девушку с красивою пи... (...)ликала
гармошка, играл магнитофон (вар.: аккордеон), я, маленький
парнишка, натягивал го... (...)гара, северная птица, мороза не
боится и может налету показывать пи... (...)раты, пираты по
морю плывут, в ушах— большие кольца и (вар.: капитан с
помощником) девушку е... (...)хал на ярмарку и далее с начала.
Первая часть куплета не произносится до конца,
последнее слово тянется и внезапно прерывается, но через паузу
замыкается новой концовкой, оказываясь началом второй
части.
Осложненный вариант данного приема обильно
проиллюстрирован в изд.: Куклин 2002: 275—278. Воспроизведем
из него два примера: В беседке, где гвоздика рдела, одна девица
запер...лась и рукодельем занялась, чтоб не сидеть одной без дела.
Или: Один ученый коновал в селе всех баб пере... хитрил: рога
кобыле нацепил и за быка всем выдавал и т. д. Обыгрывание табуиз-
ма здесь сопровождается изменением во втором двустишии
ожидаемого размера и порядка следования рифмующихся
строк.
Завершим раздел, посвященный омонимии,
примерами игровой фразовой омонимии. Загадка: — Шла баба
с тестом, упала мягким местом. Чем, ты думаешь?
Провоцируемый ответ встречает заготовленную реплику: — Думать-
то надо головойЛ В письменной форме фразы различаются
пунктуационно, но говорить о синтаксической омофонии
здесь можно только условно. Пунктуация здесь не
актуализирована для участников игры: для того, кто загадывает,
то есть произносит фразу, в лучшем случае актуальна
нейтрализация интонационных структур и логического
ударения (на слове чем) или его отсутствия, необходимых для
того, чтобы избежать подсказки.Точно так же: Береги
призы
роду — мать твою и береги природу, мать твою —
онтологические синтаксические омофоны: звучат одинаково, но
различаются написанием (пунктуацией). Игровой «оперный»
диалог из студенческого капустника, строящийся на
омонимии фразеологического табуизма и свободного
словосочетания: — Маргарита, гулять пойдем} — Не могу, у меня
мать больная. — А мы мать твою, мать твою с собой возьмем.
Отметим здесь также и редкий случай игровой
синтаксической (и одновременно лексической) омонимии самих
табуизмов, ср. филологическую шутку с предъявлением
фразы и ты, блядь, принта}, в которой табуизм может быть
интерпретирован и как инвективное приложение к ты, и
как известное слово-паразит, и как обращение.
Паронимическая аттракция, ассоциативные
сближения
Во многих нормативных синтагмах табуизм
«проходит» в восприятии ассоциативно, слышится как бы
«фоново» (хотя нередко, впрочем, и нарочито настойчиво). В
данном приеме эксплуатируется явление, которое можно
квалифицировать как ассоциативные нормы
русского языка, представленные не только свободными
ассоциациями, опирающимися прежде всего на смысловые связи,
но и ассоциациями формальными и/или формально-
семантическими. Нормативность (не в смысле
«легальности», а в смысле «узуальности»17) последних очевидна.
Прозрачна, к примеру, внутренняя форма эвфемизмов:
глагольных форм зашибись, задолбать и грёбаный,
существительных раздолбай, засиська (игровая переделка слова
сосиска), ездюк— плохой шофер (два последних примера
заимствованы из: Никитина 2003) или междометия 6бана\
В свое время весьма популярным был«паронимический
анекдот»: — Как правильно сказать: статосрат или срато-
стат} — Говори дирижопльі Русский человек без
специального наведения ощущает некую двусмысленность
названий рыб хек, бельдюга или пристипома (в народной
фонетике: простипома). В этом же интерпретативном поле
находятся уже приводившиеся примеры типа просрочивать,
описывать, пригаживаться, к ним присоединяются парони-
315
мические аттрактивы: засланцы, академическая гребля,
неологизм ксерапуть (синоним просторечного глагола
отксеришь) . По ассоциативным мотивам не проходят мимо
внимания, прямого или фонового, носителей русского языка
(не только записных остряков), скажем, фамилия Нохрина
(при ее нарочитом или нечаянном озвучании с ударением
на последнем слоге), фамилия чемпиона мира по
шахматам среди юношей китайца Ни Ху Я, фамилия одного из
олимпийских чемпионов по прыжкам с трамплина Цалка-
ломанидзе, название реки Серет, аббревиатура СРЯ
(современный русский язык) или
культпросраб(культурно-просветительная работа). На ассоциациях с табуизмами строятся
«говорящие собственные имена» типа дядюшка Жо или
ЖПО (рубрика в «Комсомольской правде»). Не обходятся
без такого рода ассоциирования иноязычные лексемы
типа пассаж, какофония, пердуративныетлгтолы, крем «Ка-
лодерма», средство от ангины «Иммудон». Активно
актуализируются русские табуизмы при овладении или владении
русскими иноязычной лексикой и фразеологией18,
например лат. hujus (род. пад. мест, hie), нем. глагол bleiben,
устойчивые обороты nach her ist jeder klug (примеры из
студенческого филологического фольклора), нем. herr
(выражение хер голландский, нужно полагать, отсюда), англ. who (ср.
знаменитое Кто есть ху?, охотно употреблявшееся М.С.
Горбачевым) и т. п. В прессе многократно обыграна
приписываемая А.Г. Лукашенко фраза с белорусским акцентом: Я
парламент перетрахивал (по-русски — перетряхивал) и буду
перетрахивать.
Вообще вопрос о нормативности ассоциаций входит в
более широкий контекст, связанный с устойчивостью
места «запретной» лексики в коммуникативном
существовании человека19. В этом плане интересно образование
особых символов табуистичности — звукосимволизмов и бук-
восимволизмов типа БЛ (бляха-муха; блин), Ё (ёлки-палки',
ёлки-моталки', ё-моё, ё-ка-лэ-мэ-нэ; ё-пз-рэ-сэ-тэ; ёж твою в корень;
ёшкин кот; ёксель-моксель; тарный бабаи), X (хрен; а ху-ху нехо-
хо; на хутор бабочек ловить; хухры-мухры), ср. также
потенциал скабрезности функционирования у слов типа хобби или
хобот, реализуемый во многих анекдотах. Добавим к
этому, что звуки и буквы способны приобрести инвективный
характер — ср. примечание, которое привел Н.В. Гоголь к
316
слову фетюк, коим Ноздрев обозвал своего зятя Мижуева:
«Фетюк — слово, обидное для мужчины, происходит от
фиты — буквы, почитаемой некоторыми неприличною
буквою». Трудно сказать, насколько значима здесь буква,
но слов на «ф» с инвективным и сниженным содержанием
в русском языке (особенно в просторечии) довольно
много: фифа, фофан, фуфло, филя. Не случайны и паронимиче-
ские эвфемизмы: фиг (со всеми его производными), фуй,
фитиль и т. п.
В табуистическое пространство легко вписываются и
окказиональные (креативные) ассоциации. Например, не
требуют растолковывания звуковые намеки в анекдоте:
Влюбленные не выговаривают звонкие согласные: он вместо «г»
говорит «к», она вместо «з» — «с». Договорились поправлять друг
друга. «Как из заду пахнет», — говорит она. «А ты не выковори-
лаі» — поправляет он. Обыденное ассоциирование здесь
имеет некоторые «серьезные» лингвистические
основания — оппозицию фонем по глухости/звонкости20:
Студентка на экзамене по химии обращается к экзаменатору: Я
забыла название пластмассы, намекните мне, я вспомню... — Ну,
вот вы на свидании с молодым человеком... А\ — перебивает
девушка, — вспомнила. Эбониті — Да нет, девушка. Целлулоид.
Ассоциативное сближение вкупе с омофоническим
преобразованием (при функционировании в письменной
форме) ярко характеризуют игровые речевые
конструкции: оскорблядь; вчера мы с братом облевались (вместо
обливались)', коловращение; обляденеть (вместо обледенеть)', вездессу-
щий кот; ссальник; поссаж; пригодиться', хёромантия; Хероси-
ма; дерьмократия. Из школьного фольклора, навеянного
уроками истории: Мой вассал твоему вассалу в рот воссал.
Надпись на столе в студенческой аудитории: Ты не захирел,
ты захерел. Примеры омофонического обыгрывания табу-
измов с некоторой переделкой нормативной единицы: —
Что имеешь в виду} — Что имею, то и введу, Пока ссут да дело.
Моим ссалом, мне по мусалу. Загадка: Усатый-полосатый — кто
такой? — Кот\ — Нет, не кот\ — А кто? — Матрас. — А почему
усатый? — Потому что уссатыйі
На ассоциировании строятся игровые метатексты,
нарочито наводящие на табуизмы типа широко
распространенных каламбуров-поговорок: эфиоп твою мать; япона мать;
к Бениной матери; так ты с-с-Ук^раины приехала — курр в-воро-
317
вать? или каламбуров Н. Фоменко, озвучиваемых на
«Русском радио»: Неучи отца и бастаі; Хорошая прибавка к
пенису (обыгрывается рекламная фраза — хорошая прибавка к
пенсии).
По ассоциативному принципу создаются тематические
метатексты, как, например, следующий популярный в
народе «музыкальный» текст: Встал утром, во рту — Паганини,
в ушах— Шуман, закусил Мясковским в Сметане, выпил
Чайковского, в животе началось Пуччини, вышел на Дворжака,
вступил на Глинку, Бах\ — могучая кучка Гуноі, подтер Шопен
Листом и т. д. Припоминаю, что во время хоккейного бума
70-х годов прошлого века бытовал аналогичный текст,
составленный из фамилий популярных хоккеистов.
На ассоциативный слух рассчитаны фразы со
встроенными табуизмами типа: И на «я» бывает, и на «ё» бывает
(наёбывает). Многочисленны стихотворные тексты с
аналогичной структурой, например:
Себя от холода страхуя, купил доху я на меху я.
Купив доху, дал маху я — доха не греет ни хуя.
В ассоциативном ключе обыгрываются иноязычные
фамилии: на чайную конференцию собрались китаец Сунь
Хуй (в) Чай, вьетнамец Ивынь Су Хим, кореец Пей Сам, а на
алкогольную — турок Обрыгай-углы, румыны Стамеску и Ру-
банеску, французы ГдеПьеи Там Блюе (другой вариант: Там
Лье) и т. д.
Игровое членение, актуализация структуры
языковых единиц
Игровой потенциал табуизмов усиливается
актуализацией их морфемной (или гораздо чаще —
псевдоморфемной21) структуры, включением их в
деривационные (псевдодеривационные) модели22. Например: Что
общего и различного у херувима и парикмахера? — У обоих есть
хер, но у херувима он впереди, а у парикмахера сзади; Самое
хорошее ругательство— «небоскрёб»: во-первых, многоэтажно, а во-
вторых— на конце «-ёб». «Задания» из школьного
фольклора: Какой суффикс в слове «учёба»?', — Повелительное наклонение
образовывать умеешь? — ?? — Ну вот, например, зимовать —
318
зимуй, нарисовать — нарисуй. А теперь попробуй сам, я
начну, ты продолжай вслух: заштриховать — заштри...,
застраховать — застра..., не сплоховать — не спло..., (за)ховать — ....
Наводящее членение такого же типа в провокационной
шутке: Я болею раз пером, он болеет— два пером, ты болеешь—...
(триппером).
Как представляется, жаргонный глагол заколебать
(«надоесть») появился не без ощущения его
«псевдоморфемной членимости». Ср. также многочисленные пароними-
ческие переделки на ассоциативной основе типа: Поезд
едет в Ротер дам, а оттуда в Попен гаген.
В следующих примерах содержатся попытки подвести
псевдочленение под какой-нибудь смысл: — Когда Цезарь
переплел реку Тибр, у него украли одежду. Отсюда пошло
выражение «стибрили». — Скажите, Сан Саныч, а у города Пизы
Цезарь никогда не останавливался?
Этот игровой прием имеет давние традиции в русском
фольклоре, ср.: Живете— он— жо; покой— аз— па: живет
пока (в пословице приведены названия букв
древнерусской азбуки: «ж» — живете, «о» — он, «п» — покой (А се
грехи 1999: 164)), Муде-у-му, хуй-аз-ха— муха (Там же: 165). Из
студенческого фольклора филфака (граффити на столе):
Пиво пенистое, очень penis-moe, шарф мохеровый, очень херовый.
Языковая шутка нашего времени с инвективми (правда,
без табуизмов): — Иди, иди, идиот. — Приду, приду, придурок.
Провокационное членение: — Можно к тебе обратиться на
Вы} — Можно. — Выродокі Игровая интенция студентов
института культуры преобразовала такой вузовский предмет,
как культурология, в культ-урологию,
культурно-просветительскую работу — в культ-просраб.
Игровая деривация
Членение и одновременно словообразование (усечение
по аббревиатурному способу) представлено также в
примерах: в Латвии — латы, в Литве — литы, в Херсоне — ...; в
Москве — Мосрыбы и Мосмясо, в Николаеве — Нирыбы, Нимя-
са, в Херсоне — Херрыбы и Хермяса.
«Телескопическое словообразование» (наложение,
контаминация по типу ситалл — соединение стекла и кристал-
319
ла) находим в примерах: симбиоз кибернетики и
кинематики — кибенпматика; дует, дует ветерок, ветерок, носит,
носит грипперок, грипперок. Сюда же: скоммуниздили, леблядь,
мухуй (самец мухи), лепездричество, капец, абзац и т. п.
Деривационное развитие табуизмов в русском языке
исключительно активно и разнообразно, в него втянуты и
продуктивные, и непродуктивные модели аффиксального
словообразования и сложений, и чаще всего
словообразование в области табуизмов имеет прямое отношение к
языковой игре23, реализуясь на фоне ассоциаций, намеков,
провоцирования.
В сфере морфемно-словообразовательной структуры
русской обсценной лексики имеются свои отличительные
черты — например, широкая представленность различных
семантических сдвигов вплоть до разрыва мотивацион-
ных связей и соответственно идиоматичности (к
примеру, пиздеть, пиздить, опизденеть и спиздить или хуевничать,
хуячить, хуярить, охуеть, подговнять, собздеть не имеют
никакой смысловой мотивации со стороны их формального
мотивата и никакой смысловой связи между собой, хотя
по генезису они —однокорневые слова); обилие в
морфемном составе редких (непродуктивных в других сферах)
аффиксальных морфем и субморфов (мудохаться, запиздю-
рить, хуярить, хуетень, хуякнуться, распиздяй, распиздон, про-
блядь, Пиздосья Ивановна (аналогия к Федосья?)); высокая
активность и разнообразие в данной сфере сложений,
ср.: мудозвон (аналогия к пустозвон), тряхомудия, мандовош-
ка, пиздобратия, пиздобол (балабол?), Мухосранск, Суходри-
щенск, Зажопинск, полужопие, говноступы (ботинки', в
молодежном сленге зафиксирована усеченная форма — гавы
(см.: Никитина 2003)), членовоз (о правительственном
автомобиле «Чайка»); ограниченная представленность
производных отсубстантивных прилагательных типа хуевый,
блядский (особенно с суффиксом -и).
«Оттабуистические дериваты» широко представлены в
фольклоре: Бзды-бзды приехал, переперды привез (А се грехи
1999: 163); Эх, милка моя, платье тюлевое, по морозу босиком
запиздюривала; Ветер в харю, я хуярю; На высокую рябинушку /
Залез папаша мой, / Подломилася рябинушка, / Хуякнулся
родной. Таким образом, словообразовательные гнезда
большинства русских табуизмов весьма разветвлены. Такая де-
320
ривационная активность иллюстрирует некоторые черты
языкового поведения носителей русского языка,
отмечавшиеся еще В. Набоковым. В своем знаменитом очерке о
Гоголе писатель говорит о «лингвистической склонности
русских вытягивать слово до предела ради
эмоционального эффекта» (см. об этом подробнее: Голев 19986: 8). Для
иллюстрации этого наблюдения укажем продуктивность (в
сущности, открытость) трех моделей: (1) рифмование с та-
буизмом, выполняющее функцию балагурства: эссенция— об
серенция (А се грехи 1999: 162); всё бы тебе смехуечки; чашки,
банки, всякие там... хуянки; холодрыга-хуедрыга. Ср. известный
телефонный диалог-шутку: — Это прачечная? — Хуячечнаяі
Это Министерство культурыі24; (2) широко представлено
рифмование-редупликация: хуйня-муйня, хуё-моёит.д.; (3)
модели с префиксоидом осто-, восходящем, по-видимому, к
осточертеть (а этот глагол в свою очередь — к сто чертей): осто-
пиздеть, остохренеть, остохуеть и т. п. Данный ряд имеет и
«растабуизированный» дериват-эвфемизм — остозвезденеть25.
Деривационные модели ненормативных дериватов
реализованы в известных эвфемизмах мать-перемать, мать
твою растак и разэдак, едрит твою мать, ангидрид твою в
перекись марганца, в структурной модели которых,
характерной для многих русских табуизмов, корневые морфемы с
обсценным значением заменяются другими морфемами.
Актуализация деривационной структуры (часто на фоне
ассоциаций по корню) наблюдается и в эвфемизмах типа
зашибись, опупеть, запиндюривать, недотыка, раздолбай (сущ.).
Приведем несколько лингвистических шуток и анекдотов,
построенных по этой модели языковой игры. — Что такая
грустная? — Да так, взгрустнулось. — А что такая бледная? —
Да так, взбледнулось (с прозрачной омофонией). В этом же
ряду игровая интерпретация названия кемеровского музея
«Томская писаница», переделываемого в «Томскую какани-
цу» и т. п. Сюда же относится пример псевдомотивации,
услышанный нами по «Русскому радио»: Есть еще порох в
пороховницах, есть еще ягода в ягодицахі Актуализация
деривационной структуры представлена в анекдоте,
обыгрывающем слово выхухоль, на основе которого образуется нахухоль.
Анекдот советских времен: Старший братизКанады написал
младшему в СССР, что ослеп, и попросил приехать помочь. Как
водилось в то время, « нашего брата» начали мурыжить по ко-
321
миссиям, всячески препятствуя поездке, но тот упорствовал.
На одной из комиссий ему с раздражением предложили: «Пусть
твой брат сюда приедет, здесь и помоги». На что мужик
ответил: «Вы ж не поняли: братан написал, что он ослеп, а не оху-
ел\» (в мягком варианте — «опупел»). В известном анекдоте
обыгрывается «одноструктурность» финали имени Джа-
вархарлал Неру и финали типовой формы прошедшего
времени русского глагола, вследствие чего имя превращается
в словосочетание джавархарлал Нюру. Пример
чередования формообразовательных аффиксов на фоне
ассоциаций: Сухой закон бляду, блял и бля буду. Вставка суффикса в
глагол из фразы в басне Крылова В зобу дыханье сперло
школьными остряками преобразует в спернуло. А остряки с
филфака смогли обыграть аналогию в чередовании корней,
придумав такую языковую шутку-провокацию для наивных
первокурсников: — Как по-старославянски «ворота», знаешь} —
«Врата»! — А «ворона»} — «Врана»! — А «сорока»} — ...!
Игровая фонетика и графика
Начнем с переходного, «фонетико-морфемного»,
примера из школьного фольклора: — Придумай слово, чтоб в
начале было тесть согласных подряд— ?? — Взбзднутьі
Фонетическое задание не без изыска завершается словотворчеством.
Провокационные скороговорки. Бежит бабка, за ей—
банка (провоцирутся заебанка); Возле ямы— холм с кулями.
Выйду на холм, куль поправлю — при быстром произнесении
фразы нередко произносится на хуй вместо на холм, а хуй
поправлю вместо куль поправлю', В колхозе «Звезда» все
пестициды испестицидили.
Звукоподражание, звукопись. Эти типы дериваций
иллюстрируют, например, речевые произведения со
звучанием «на японский манер»: Херувима херовата; Пальтецо-то хуе-
вато; Коси сено, сука, сам; А та сука на колоде исполнит песню:
«А тому ли я дала?»26. Известен анекдот, в котором офис
зовется на японский манер хата хама, а секретарша в нем —
сука хама. Актуализируется не только японская речь. В
опрос: чем отличается эстонский язык от финского.
Ответ: на эстонском говорят papissalla, pakakkalla, а на фин-
322
ском paassaalaa, paasraalaa. «Музыкальная картинка»: Муж,
бреясь, напевает: «Па-ра-па—ба-бам, па-ра-па—ба-бам» {пора по
бабам). Жена, красясь, отвечает тем же. « Та-та-рам да-рам-
дам... Та-та-рам да-рам-дам» (татарам даром дам).
Графико-фонетический план обыгрывания
иллюстрирует «говорящая» аббревиатура-табуизм: —Ваше
ФИО} — ХУЛ. — ?? — Харитонова УльянаЛковлевнаі; НИИ
«ХУЛ» («Химияудобрений и ядохимикатов»). К этому типу
обыгрывания (с ассоциативным наведением) относится и
некогда популярная у оппозиционеров аббревиатура ЕБН
(Ельцин Борис Николаевич). Провокационное предъявление
аббревиатуры имеет место в анекдоте: Решили Волк, Заяц
и Хорек поехать жить в Китай. Волк говорит, что его будут
звать братец Вуй, заяц — что братец Зуй. Хорек подумал и
сказал: «А я передумал ехать».
Омонимия ЗВУКОВ И НАЗВАНИЙ БУКВ или других знаков: Из
речи Л .И. Брежнева в анекдоте: «Поздравляю делегатов хуи
съезда ВЛКСМ» (вместо «ХУІІ съезда», т. е., в соответствии с
принятой практикой письма на машинке, — Семнадцатого
съезда» (Рябов 2002: 93). Аналогичный прием с тем же
персонажем: Л.И. Брежнев открывает Олимпиаду: — 01...0...1
0...1 — Леонид Ильич, это еще не текст, это олимпийские кольца.).
После банкета по случаю защиты диссертант-математик
возвращается домой. В лифте на стене видит надпись,
читает: «Икс, игрек, и-краткое». Удивляется: «Хуйня какая-то\»
В Интернете мы нашли такой пример омонимии букв и
цифр из современного профессионального фольклора:
«Среди электронщиков существует такой розыгрышь (так
в оригинале. — Н.Д.): когда приходит молодой сотрудник,
его просят пойти на базу и принести лампы со следующей
маркировкой (пишу прописью, дабы избежать цензуру) —
"ПИтриДА "... Когда этот сотрудник заполняет форму и
отдает, то, как правило, отхватывает пощечину от
женщины, или, что похуже, от мужчины»27.
Игровая графическая дериватология. На уровне графики
часто используются деривационные процедуры с
зачеркиванием, заменой, добавлением букв в словах. Так, весьма
популярен прием «исключение лишнего». Например,
в народе широко бытуют рассказы (сейчас уже трудно
сказать, с реальной или изначально мифологической
основой) о корректорах, не заметивших опечаток в газетах
323
военного времени, в результате чего получилось гавноко-
мандующий и Сталингад, и жестоко наказанных за это. В
этом же ключе «постановление ЦК»: Исключить из
фамилий членов ЦК непопулярные в народе буквы — рычащие и
шипящие. Проголосовали «за» — большинство. Воздержались Хрущёв и
Щербицкий (Хуё'в, Ебицкий). Подобным — деривационным —
образом скучающие на уроках физики ученики
вымарывали из фамилий и инициалов имени-отчества авторов
учебника Пёрышкина и Крауклиса «лишние» буквы, оставляя
лишь пёрни в лист.
С игровой целью в текстах объявлений зачеркиваются,
заменяются или добавляются буквы. В результате сруб под
баню превращается в еру под баню; продается спальный
гарнитур— в продается сральный гарнитур, на месте ремонт ручных
часов и будильников появляются бздильники, в табличке на
вокзале «Расписание поездов» в слове поездов
замазывается первая о, в рекламе средства для похудения исчезает
буква д и т. п., в слове подравняет буква р меняется на г.
Подобные случаи возникают регулярно в виде опечаток, которые
охотно публикуют многие печатные органы. Один
пример из книги А. Рябова «Уши в трубочку»: «Внесла свою
достойную лепту в сокровищницу опечаток и "Комсомольская
правда": "Проходя по территории завода, директор покакал
на кучу. Когда возвращались назад, кучи уже не было"»;
«Автомобилистам предстоит снижать скорость,
приспосабливаясь к передиибущему стаду» (Рябов 2002: 26). В этой же
книге находим анекдот: «Товарищи, в нашу афишу вкралась
досадная ошибка! Сейчас перед вами выступит не сионист Пердюк,
а пианист Сердюк» (Рябов 2002: 258).
Несколько в ином ключе используется деривационная
«фигура» уменьшения количества букв в слове в следующем
специфическом логогрифе, в котором каждый член
синонимического ряда на одну букву меньше
предыдущего: фаллос — пенис — член — хуй — уд.
Игровое рифмование
Исключительную регулярность и разнообразие
обнаруживает в фольклоре рифмование табуизмов,
представляющее собой косвенное обыгрывание. К уже приводи-
324
мым примерам добавим еще несколько. «Дели» набздели —
«Дукат» виноват (подростковый фольклор 50-х годов;
«Дели» и «Дукат» — марки папирос); На пердёж — рыба ёрш, на
харчок — чебачок, а на ссаки — рыбы всяки (подростковый
рыбацкий фольклор). Игра была равна: играли два говна (из
фольклора болельщиков; ср.: Эта война— посередь говна (А
се грехи 1999:162)); Хуёв как дров; — На хуя попу баян? — Чтоб
пропить его к хуям]; Самолет летит по небу из села Кукуева. Ну
и пусть себе летит, железяка хуева; Листья дубовые падали с
ясеня — вот ни хуя себе, ну ни хуя себе, Шеф приехал к нам в
колхоз на зеленом дизеле, ничего не заработал, а фуфайку спиздили.
Рифма-подсказка: — Кому не спится в ночь глухую? — ...!
Наводящая рифма-эвфемизм: Голосуй, не голосуй, всё равно
получишь... по заслугам (конфетку, бублик и т. п.). Из
шахматного фольклора: Шахуй, не шахуй, всё равно получишь мат;
Дебют— это где тебя прижмут. По этому принципу
построено немало поэтических произведений, например, рефрен
в известной поэме А. Вознесенского «Оза».
Провокационное рифмование: — Как у дяди Туя потекло изху...— Ах\ Что? —
Да ничего: из худой кастрюли!.. Реплика: — Ах\ Что? —
имитирует реакцию слушателя. (Другие примеры такого рода
приведены выше.) Еще один весьма распространенный
вариант провокационногой рифмы: — Тебе привет от трех
лиці — Каких лиц? — От моего хуя и двух яиц}.; — Тебе привет от
Лешкиі — Какого Лешки? — От кого у тебя мандовошкиі
В народной вульгарной речи широко бытуют
рифмованные «э х о - м а т ы»28: — Ну? — Хуй загнуі (иногда
добавляется: каралька будет); — Чо? — Хуй через плечо] (иногда
добавляется: а с плеча на ухо — будет золотуха); — А? — Хуй на\; —
Куда? — К мерину под мудаі — Где? — В тещиной манде] Иной
прием (паронимическая аттракция) содержится в ответах
на вопрос: Как? — Как накакашь, так и съешь, и — Каком
кверху] Эпатажная специфика «эхо-матов» хорошо видна на
фоне более нейтрального балагурства: — Куда? — На куды-
кины горы\; — Где? — У тебя на бородеі; — Почему? — По
кочану]; — Почему? — Потому что потому — окончание на «у»; —
Кто? — Дед Пихто (и бабка Нихто)]; — Здорово] — Здорово]
Я бык, а ты — корова. — Здравствуй. — Здравствуй... хрен
мордастый] Исключительно распространены эхо-табуиз-
мы как реакция на имена, прозвища и фамилии (ср.
школьные дразнилки типа: Антон — гондон; Стасик — пидарасик; —
325
Даш, дашь?; Секун— ссыкунили студенческие граффити:
Светлана — путана, Оксанка — лесбиянка, Рении — педик, То-
лик— гомик (Шумов 1996: 461).
Отдельно отметим эвфемистическое рифмование «с
намеком»: Чудак на букву М; Ты не звезда, ты — рифма к слову
«звезда»; Кому не спится в ночь глухую?..
Палиндромия
Провокационный палиндром — побуквенное или позву-
ковое (это редко различается) чтение слов и фраз с конца
к началу: Улыбок тебе пара (чтение «наоборот» приводит к
фривольной фразе арап ебет кобылу); Тебе и колец тыщи;
Убей узор колец. Надписи на столе в студенческой
аудитории: А сон о дубе, завлабИя (с «заданием»: Читай
наоборот). И, наконец, явно «с филологического стола»: I boy —
ай бой — прочти фонемы сзаду наперед — автор усердно
наводит, нужно полагать, на ёбя29 — рефлексия на известное
фонетическое задание позвукового прочтения справа налево
(типа куль — люк, яд — дай и т. п.).
Наводящее умолчание
Пауза и молчание как намек на табуизм или как его
эвфемистическая замена. Выше мы уже приводили примеры
пауз, предшествующих табуизму, как способа наведения на
скабрезный смысл, который таковым (как бы) не
оказывается.
В старом школьном анекдоте «про Пушкина и
Лермонтова» актуализируется оппозиция «многозначительная
пауза — табуизм»: Пушкин сочинил для Лермонтова
стихотворение с матерком, чтобы тот прочитал его перед Державиным, и
посоветовал на месте матерка хмыкнуть. Лермонтов,
порепетировав, на экзамене сбился и хмыкнул после матерка: « Стоит
статуя— персидский бог, а вместо хуя... хм, хм... торчит
листок». Из новых шуток тему эпатажного умолчания
своеобразно иллюстрирует известный анекдот о гусарах,
приглашенных приличной особой на девятнадцатилетие ее
дочери; анекдот завершается репликой: Молчать, гусары, молчатьі,
326
которая предотвращает напрашивающуюся соленую
шутку. Ко всему прочему анекдот актуализирует фреймовый
(стереотипный) характер использования ряда табуиро-
ванных фигур.
* * *
Мы представили очерк разнообразных приемов
обыгрывания в народной речи русских табуизмов разных
языковых уровней. Были проанализированы типы
обыгрывания, отталкивающегося от актуализации внешней формы
табуизма. Этот очерк явно не исчерпывает всего игрового
пространства, в которое втянута табуистическая
семантика и прагматика. Отдельного описания заслуживают,
например , способы актуализации внутренней формы
табуизмов с идиоматической структурой, различные
способы импликации табуистического смысла, которые
далеко не исчерпаны приведенными в статье примерами
(эвфемизмы, перифразы, намеки, прием
«неоправдавшееся ожидание»30, наконец, снятие идиоматичности, то есть
перевод идиомы на «буквальный язык»31), и актуализация
синтаксической омофонии и омографии, рано как и
других видов амфиболии32, прием перенасыщенной
экспликации33 и многое другое. В совокупности
описания такого рода способны помочь раскрыть потенциал
игрового функционирования русского языка в его
бытовой разновидности (и не только бытовой).
Представляется, что начальный материал такого описания могут дать
русские анекдоты, как старинные, так и современные, в
которых табуизмы регулярно выступают в роли объекта
обыгрывания.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В своих целевых установках метаязыковые речевые произведения
(метатексты) имеют сам язык или речь, их единицы и их свойства. Тем
самым метатексты в той или иной мере или тем или иным образом ставят
их автора и потребителя его речевых произведений в позицию
лингвиста.
2 Народные шутки, загадки, словесные игры, балагурство, предметом
которых является языковая форма (оборота, слова, части слова, ассоциа-
327
тивные связи), развивают языковое эстетическое чувство носителей
русского языка и возбуждают гносеологический интерес к нему как
уникальному социальному и природному феномену.
3 Более глубокий, интенциональный, уровень речевой коммуникации
обыгрывают шуточные диалоги глухих типа: — Что, на рыбалку пошел? —
Да нет, нарыбалкуі —А... А я думал, на рыбалку...
4 Любопытно отметить, что слово чепуха (синоним слова ерунда)
получил в научно-популярной литературе и публицистике новую игровую
жизнь в варианте реникса, являющимся прочтением русских букв ч, е, п,
у, х, а— в их рукописной форме как латинских. Вероятно, такое
«русскоязычное» — не редкость и для «серьезных» неигровых ситуаций. Так,
автор помнит прочтение и перевод одной студенткой на старославянском
языке выражения соусе поросе (дат. пад. словосочетания сухъ прахъ— «сухая
пыль») как словосочетания порося в соусе, ставшего на курсе популярной
поговоркой.
5 Для автора до сих пор остается загадкой, почему заключительная
фраза предъявлялась и воспринималась как обижающяя и обидная.
6 По этому принципу создаются целые произведения, таков,
например, «Ольгин Остров» (см.: Культяпов 1996). Впрочем, этот прием
хорошо известен, его использовал Н. Носов в своих рассказах для детей. В
литературном альманахе «Гречиха» в рубрике «Альтернативные
литературные опусы» (г. Барнаул) опубликован «опус» И. Панаева «Наводнение,
ниспосланное нам», в котором все слова начинаются на букву «н».
Приведем его фрагмент: На набережной несуществующей Невы Нестора нагнал
незнакомец. — Нестор Никодимов? — начал незнакомец. — Нет, — нахмурился
Нестор. — Но-но, не надо наглеть, — наставленный наган насторожил, но не
напугал Нестора и т. п.
7 Укажем, в частности, на такие источники, как анекдоты,
основанные на обыгрывании языкового материала, представляющие огромный
пласт лингвистического фольклора, и словесные игры типа «балды» или
«виселицы», широко бытующие в народной лингвистике.
8 Хотелось бы заметить, что в других научных дисциплинах такая
работа ведется: например, нам известны собрания народных задач по
математике (летела стая гусей...), есть задачи по логике (напр., что
тяжелее: пуд соломы или пуд железа и т. п.) (см., напр.: Олехник, Нестеренко,
Потапов 1988). Народно-лингвистический «задачник» более или менее
регулярно представлен лишь скороговорками и некоторыми видами
народно-поэтического творчества (см., напр.: Бахтин 1982).
9 См. обоснование этого в: Голев 2000в.
10 О лингвистической сущности языковой игры вообще и двупланово-
сти игровых речевых произведений, в частности, написано уже немало
лингвистических работ, напр.: Баранов 1994; Голев 1998а; Голев 19986;
Голев 20006; Гридина 1996; Девкин 1986; Земская 1983; Норман 1987;
Санников 1999; Шмелева, Шмелев 2002; ЭСРЯ 1968.
11 См. о функционировании табуизмов в прессе, художественной
литературе и телевидении и расширении сферы их бытования: Баранов
1994; Голев 2000в; Никитина 2003.
12 Материал составили личные наблюдения автора — в основном в
Алтайском крае и во времена студенчества в г. Томске (по большей час-
328
ти приходилось опираться на собственную память). Разумеется, ареал
примеров очень широк: от общераспространенных до окказиональных.
Понятно, что в поле зрения попали не только «чисто» народные
игровые речевые произведения. Это, на наш взгляд, не противоречит
исходным установкам статьи, поскольку ее основной аспект не предполагает
высокой степени «чистоты» языкового материала с точки зрения его
происхождения и сферы бытования.
13 Уместно отметить, что система игровых приемов такого рода в
поэзии детально описана в: Grümmer 1995, на материале русского языка
они хорошо представлены в: Гридина 1996; Норман 1987; Санников 1999.
14 Подобные игровые тексты в многочисленных вариантах имели и
имеют широкое хождение в низовой городской культуре (см., напр.:
Уличные песни. М.: Колокол-Пресс, 2000. С. 282-285).
15 Данная фигура двойного членения фразы (слова как компонента
фразы) довольно продуктивна в лингвистическом фольклоре, напр., в
нашей «игротеке» имеются анекдоты, в которых обыгрываются глаголы,
приобретающие в результате псевдочленения скабрезный смысл:
голодовали (голо давали), колядовали (Коле давали), голосовали (голо совали), обедают
(обе дают).
16 С утверждением об уникальности таких каламбуров трудно
согласиться, см.: Голев 2000а.
17 Ср. название: САНРЯ 1977. О природе формально-семантических
ассоциаций, в том числе и о факторе узуальности см.: Голев 1996; Голев
1998а; Голев 19986; Гридина 1984; Девкин 1986.
18 Богатый и интересный материал ассоциирования иноязычных
слов и выражений с русскими табуизмами приведен: Белянин 1995.
19 Это место, конечно, более существенное, нежели оно выглядит в
нормативных словарях и прошедших цензуру текстах.
Коммуникативные фрагменты (см.: Гаспаров 1996), образуемые табуизмами,
своеобразны и значительны, это реальность языковой обыденной ментальности
определенного типа и соответственно речевой практики немалого
пласта носителей русского языка. Достаточно указать на легкую
«угадываемость» в коммуникативных контекстах табуизмов, обозначенных
купюрами, большинством носителей русского языка, не говоря уже о купюрах,
поддерживаемых маркерами актуализации: ассоциациями, интонациями
эпатажа, рифмами (ты не звезда, ты — рифма к слову «звезда») и т. п. Ниже
мы будем говорить даже о паузах и молчании как способе актуализации
табуизмов. Все эти обстоятельства составляют важный аспект игрового
табуистического функционирования русского языка. Несомненно, что в
русской обыденной ментальности табуизмы образуют и особую концеп-
тосферу (см.: Лихачев 1993), и коммуникативные фрагменты. И то и
другое подлежит конкретному изучению. Приведу пример. Перед
отправкой статьи в редакцию я обнаружил в «Комсомольской правде»
(16.08.2002. С. 7) подборку из материалов под названием «Наши
политики матом не ругаются. Они на нем разговаривают», свидетельствующую об
«общепонятности» речевых произведений того типа, который
описывается в нашей статье. Ср. рубрики этой газетной публикации: «Зашибись»,
«Нахрена"звезданули' бюджет», «Сколькоможно"просрочивать!"», «Пошел
на х-х-хутор...». В «КП» (22.11.2002. С.17) была помещена подборка шуток
329
Е. Петросяна: — Девушка, вы с училища? — Еще какаяі; Позор опоздунамі; Из
села Кукуевка Задолбаевскогорайона; В эфире— хреновости.
20 По аналогии (в связи с темой оглушения) вспоминается
филологическая шутка, обыгрывающая аббревиатуру ФФФ (Филипп Федорович
Фортунатов) и ВВВ (Виктор Владимирович Виноградов). Некоторые остряки не
пропускают возможности отпустить реплику по этому поводу:
«Озвончение не пошло на пользу русской лингвистике» (воистину: ради красного
словца...). К этому же — Что такое КПСС? — Набор глухих согласныхі
21 Данный прием лежит в основе игры «Почему не говорят?» (Почему
не говорят: пес зимы? — Потому что говорят: кот лета), описанной в: Кра-
сильникова 1975.
22 Подробное описание деривационных моделей в сфере русской та-
буистики содержится в: Rammelmeyer 1988.
23 Тема «Языковая игра и словообразование» хорошо представлена в
литературе, см., напр., об этом: Голев 20006; Гридина 1996; Земская 1983;
Норман 1987; Санников 1999.
24 Данная модель широко представлена в речи одного персонажа
пятой части повести «Норма» В.Г. Сорокина. Разумеется, у данной модели
сложная прагматика —снижение, агрессия, инвектива.
25 О других открытых словообразовательных моделях в сфере
русских табуизмов см.: Rammelmayer 1998.
26 В книгу Е.Я. Шмелевой и А.Д. Шмелева «Русский анекдот» эти «япо-
низированные» фразы «попали» в комбинированном варианте: А тому ли
я дала-то? Кимоно-то херовато (что переводится на русский язык как: хороша
я хороша, да плохо одета) (Шмелева, Шмелев 2002: 80). Широко бытовал
анекдот, в котором ведущий концерта интерпретировал название песни
«А тому ли я давала?» следующим образом: Глинка. « Сомнение».
27 Пример взят с сайта «MEMBRANA: Общие дискуссии» по адресу:
http://www.membrana.ru/forum/main.html?thread=10186634irpage.
28 Любопытно, что термин «эхо-мат» существует в теории шахматной
композиции (разумеется, «мат» здесь в «шахматном» значении).
29 Приведенные в этом разделе «палиндромические тексты»
продолжают эротическую тему, заявленную в: Шумов 1996. Большой список
палиндромов представлен на сайте: http://penza.com.ru/Etochka/rubtsov/palin-
drom/will. Любопытно, что и здесь в палиндромах, содержащих табуизмы,
данная тема также доминирует: А в дыре— херы: deal; Бабуин, еду — сосуд —
ебниу баб.; Девок усладив ор— крови дал суковеді; Ху, плебей— еб, ел пух\;
Белиберда: паху лоха, пах олуха — падре бил, ебі; Я бегала — себе, салаг «ебя»\; Ропот
шуток слаб: ебал скоту штопорі; Ура— губе баб, еб— угаруі; Бате— нимб? — Еб,
минета б, О, гей, еби баби бей—Егої; Икры дев— движок у кожи: в две дыркиі;
А рту сама каша— Камасутраі; Да, звучно клитору баб укротил, кончу — в заді;
У, завлаб— ебал вазуі; О, вредно в шубе бабе? — Баб— ебу, Швондер, воі; Хер тверд
у древ трехі; А, на херу— дама: мама, дуре— ханаі; Безумен, вяля— вне муз, еб.;
Бате— нимф? — Уф, минета б!; Ха, плева ж—разве дамам довод? — Мама, дев—
заржавел пахі
30 Ср.: «Маленький мальчик, под подол заглядчик», отгадка: порог; «Между
ног болтается, на "х"начинается», отгадка: хоботи т. п.
31 Так, напр., в известном анекдоте его персонаж (директор
турфирмы) предлагает клиенту пеший маршрут с сексуальным финалом — поком-
330
понентный перевод табуизма иди на хуй. В этом же духе вопрос и ответ: —
Почему интеллигенты не должны говорить девушкам «ебтвою мать»} — Потому
что они должны говорити ты мне в дочери годишься. На основе данного
игрового приема создано немало анекдотов, например, про иностранцев,
буквально воспринимающих русские табуированные идиомы.
32 Ср. старинный метатекст со встроенными двусмысленностями.
Учителю, имевшему привычку, потерев палец о стол, понюхать его,
бурсаки перед уроком намазали стол дерьмом. Он начинает урок: — Наша
вера... (нюхает, после чего говорит в сторону: чем-то пахнет), а наш бог...
{...сущее говноХ). Через некоторое время продолжает: — У Екатерины
Второй родился сын (нюхает)... Иванов} Твоя работа} — Нет, Петра Первогоі
33 Ср. шуточный диалог: — Я, блядь, ни хуя, ни хуя, но если, еби их мать,
начнут выебываться, то поть они на хуй\ — Ну, ни хуя себе, ну, заебисьі
Существуют разнообразные варианты этого диалога, в некоторых из них
тирады сопровождаются экспликацией авторской речи (вроде сказал
боцман и грязно выругался; такой комментарий добавляет новый игровой
момент, связанный с оппозицией «сказал нормально — сказал грязно»).
Другое развитие данной игровой пропозиции иллюстрирует
самодостаточность подобных фраз, в которых диктум полностью вытесняется
эмоциональным модусом, напр.: Ветеран перед пионерами рассказывает о
параде 1905 года: «Выезжаю, значит, на жеребце. Смотрю налево— ё'бтвою
матьі Смотрю направо— ни хуя себеі». Пионеры комментируют: «Во, бля,
памяти» «Понятливость» слушающих создает дополнительное игровое
содержание.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
А се грехи 1999 — «А се грехи злые, смертные...»: Любовь, эротика
и сексуальная этика в доиндустриальной России с X — первая половина
XIX в. / Сб. ст. под ред. Н.Л. Пушкаревой. М.: Ладомир, 1999. — 864 с.
Баранов 1994 — Баранов А.И. Язык как игра: жаргон и превращенная
реальность // Юганов И., Юганова Ф. Русский жаргон 60 — 90-х годов.
Опыт словаря. М., 1994. С. 3-9.
Бахтин 1965 — Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. — 290 с.
Бахтин 1982 — Бахтин В. От былины до считалки. Рассказы о
фольклоре. Л., 1982.-191 с.
Белянин 1995 — Белянин В.П. Лингвистический шок // Rusistica Espa-
nöla: Научный журнал по проблемам русского языка и литературы.
Мадрид, 1995. № 5. С. 27-33.
Блинов, Шевелев 1997 — Блинов В.А., Шевелев Ф.А. Русский народный
мат: Толковый словарь. Екатеринбург, 1997. — 88 с.
Буй 1995 — Буй В. Русская заветная идиоматика. М., 1995. — 336 с.
Гаспаров 1996 — Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ: Лингвистика
языкового существования. М., 1996. — 351 с.
Гол ев 1995 — Голев Н.Д. Языковая игра как прием обучения
грамотному письму // Преподавание словесности в высшей и средней школе.
Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1995. С. 38—50.
331
Голев 1996 — Гаме НД. О природе мотивационных ассоциаций в
лексике русского языка // Известия Алтайского государственного университета,
№ 2: Серия филологии, журналистики, истории, социологии, педагогики,
юриспруденции, экономики. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1996. С. 7—11.
Голев 1998а — Гаме Н.Д. Суггестивное функционирование внутренней
формы слова в аспекте ее взаимоотношений с языковым сознанием //
Языковые единицы в семантическом и лексикографическом аспектах /
Под ред. H.A. Лукьяновой. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1998. С. 9—20.
Голев 19986 — Голев Н.Д. Экспрессивное функционирование
внутренней формы русского слова в тексте // Культура и текст.
Литературоведение. Часть 1 / Под ред. Г.П. Козубовской. Санкт-Петербург; Барнаул,
1998. С. 3-12.
Голев 2000а — Голев Н.Д. Омофонический и омографический фонды
современного русского языка. Часть 2. Синтагмовые омофоны //
Известия Алтайского госуниверситета. Сер.: История. Философия и
педагогика. Филология. 2000. № 4. С. 80-85.
Голев 20006 — Голев Н.Д. Русский анекдот как игровой текст:
внутренняя форма и содержание // Человек — коммуникация — текст. Вып. 4 /
Под ред. A.A. Чувакина. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. С. 50—63.
Голев 2000в — Голев Н.Д. Юридизация естественного языка как юрис-
лингвистическая проблема // Юрислингвистика-2: Русский язык в его
естественном и юридическом бытии: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред.
Н.Д. Голева. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. С. 9—45.
Гридина 1984 — Гридина Т.А. О характере смысловых ассоциаций //
Этимологические исследования: Сборник УрГУ. Свердловск, 1984.
С. 141-154.
Гридина 1996 — Гридина Т.А. Языковая игра: стереотипы и
творчество. Екатеринбург, 1996. — 214 с.
Девкин 1986 — Девкин В.Д. Псевдоэкспрессия // Общие и частные
проблемы функциональных стилей. М., 1986. С. 69—77.
Жельвис 2001 — Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как
социальная проблема в языках и культурах мира. М., 2001. — 349 с.
Земская 1983 — Земская Е.А. Языковая игра // Русская разговорная
речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М.: Наука, 1983.
Колесников, Корнилов 1996 — Колесников Н.П., Корнилов Е.А. Поле
русской брани: Словарь бранных слов и выражений в русской
литературе (От И.С. Баркова и A.C. Пушкина до наших дней). Ростов-на-Дону,
1996.-281 с.
Красильникова 1975 — Красильникова Е.В. «Почему не говорят?» //
Развитие современного русского языка. 1972. Словообразование. Члени-
мость слова. М., 1975. С. 221-224.
Куклин 2002 — Куклин Л.В. Двадцатый век в эпиграммах. От А до Я.
СПб., 2002.
Культяпов 1996 — Кулътяпое Н. Ольгин Остров. Нижний Новгород,
1996.'-44 с.
Лихачев 1993 — Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка //
Известия РАН. Сер. лит. и яз. 1993. Т. 52, № 1. С. 3-9.
Норман 1987 — Норман Б.Ю. Язык: знакомый незнакомец. Минск:
Вышэйшая школа, 1987. — 221 с.
332
Никитина 2003 — Никитина Т.Г. Толковый словарь молодежного
сленга: Слова, непонятные взрослым. М., 2003.
Олехник, Нестеренко, Потапов 1988— Олехник С.Н., НестеренкоЮ.В.,
Потапов ALK. Старинные занимательные игры, задачи. М., 1988. — 159 с.
Ростова 2000 — Ростова А.Н Метатекст как форма экспликации мета-
зыкового сознания. Томск, 2000. — 192 с.
Рябов 2002 — Рябов А.К. Уши в трубочку: Энциклопедия русской
брани и сквернословия: Опыт научно-популярного исследования.
Барнаул, 2002. - 443 с.
Санников 1999 — Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры.
М., 1999.-541 с.
САНРЯ 1977 — Словарь ассоциативных норм русского языка/ Под
ред. А.Н. Леонтьева. М., 1977. - 192 с.
Шмелева, Шмелев 2002 — Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д. Русский анекдот:
Текст и речевой жанр. М., 2002. — 143 с.
Шумов 1996 — Шумов К.Э. «Эротические» студенческие граффи: На
материале студенческих аудиторий Пермского университета // Секс и
эротика в русской традиционной культуре. М.: Ладомир. 1996. С. 454—483.
ЭСРЯ 1968 — Этимологический словарь русского языка / Под рук. и
ред. Н.М. Шанского. М., 1968. Т. 1, вып. 3. - 283 с.
Grümmer 1995 — Grümmer G. Spielformen der Poesie. Leipzig, 1995. —
243 S.
Rammelmeyer 1988 — Rammelmeyer M. Emotion und Wortbildung:
Untersuchung zur Motivationsstruktur der expressiven Wortbildung in der
russischen Umgangsprache // Gattungen in der slavischen Literaturen. Köln; Wien,
1988. S. 185-208.
О.Ю. Трыкова
О РОЛИ БРАННОЙ ЛЕКСИКИ
В ДЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
В детском саде номер восемь
Раздаются голоса:
— Сука, блядь, отдай игрушку,
Ато выколю глаза!
Идеализация и даже сакрализация детского возраста, а
также известные идеологические установки советского
периода долгое время служили препятствием к изучению
не только заявленной темы, но и таких современных
фольклорных жанров, как страшилки, «садистские стишки»,
анекдоты, переделки-пародии и т. д. Ныне эстетическая
«целомудренность» детского фольклора, который некогда
пытались ограничить лишь рамками исторически
сложившихся жанров, нарушена публикацией текстов и научных
работ о «живых» разновидностях детского фольклора.
Гораздо сложнее обстоят дела с изучением бранной
лексики, которая довольно часто встречается не только в
современных, но и в «классических» жанрах детского
фольклора. Распространенности употребления ненормативной
и бранной лексики в разных жанрах детского фольклора,
мотивировке ее использования, некоторым
специфическим аспектам исполнения и собирания данных текстов и
будет посвящена наша статья.
По наблюдениям специалистов (педагогов и
психологов), ребенок начинает употреблять нецензурные
выражения примерно с трех лет, сначала еще не понимая их
значения, но интуитивно уловив их «особую» роль в речи
взрослых. Итак, уже с этого возраста мы можем отметить
«эффект подражания» взрослым, уходящий, на наш взгляд,
в древнейший обряд инициации. На данном этапе ребенок
воспроизводит брань взрослых, еще не понимая семанти-
334
ки, но желая приобщиться к их миру (далее мы увидим, как
эта функция «приобщения» сохранится и на следующих
этапах, когда детям уже более старшего возраста станет
понятен смысл произносимых слов).
Одна из главных функций употребления
ненормативной и бранной лексики ребенком — функция исследова-
тельски-провокативная. Точнее — сначала
исследовательская: проверить реакцию взрослых, употребляя то или
иное выражение, исполняя фольклорное произведение с
подобной лексикой (по-прежнему часто не понимая ее
значения).
Но главной, на наш взгляд, все же является функция
провокативная: подрастающий ребенок, отстаивая свое
право на «взрослость» и «независимость», осознанно
использует данные тексты в присутствии взрослых с целью
вызвать их ответную реакцию1.
И в то же время ребенком четко осознается табуиро-
ванность бранной лексики (особенно в общении со
взрослым).
Это даже может создать определенные трудности в
сборе фольклорных материалов. Более того — исказить
истинную картину, если между информантом и собирателем
не созданы достаточно доверительные отношения. В
качестве иллюстрации приведем пример из практики.
Студенты, собирающие материал по детскому фольклору,
ошибочно сделали вывод об абсурдности, «особой специфике»
детского анекдота, якобы отличающегося от взрослого
своим алогизмом.
Чебурашка и крокодил Гена договорились, что вместо
«Р» будут произносить «Г». Гена спрашивает:
— Тебе пигоженого или могоженого?
Чебурашка (в фольклорном оригинале) должен
ответить:
— А мне все говно!
Но ребенок, постеснявшись при постороннем
произнести бранное слово, сказал: «А мне все равноі», отчего
анекдот утратил свою соль и привел студентов к ложным
выводам.
1 Ответная реакция педагогов и родителей — прерогатива
специалистов, мы же исследуем иные, уже названные аспекты.
335
Так, наряду с провокативной функцией бранной
лексики, в детском фольклоре мы должны отметить и прямо
противоположную, тайную, сакральную. Она является
непременным атрибутом «секретного мира детей в пространстве
мира взрослых» (см. монографию М.В. Осориной (Осори-
на 1999), где на примере иного материала доказывается
примерно то же). Об этой же «тайной» функции
фольклора далее пойдет речь, когда будут рассматриваться
отдельные жанры детского фольклора.
К ним и приступим. Объектом цитирования станут
фольклорные материалы, собранные студентами дошкольного
отделения Ярославского педагогического университета в
1990—2002 годы (попутно заметим, что собирателям не
давалось специальной установки на тексты, содержащие
бранную лексику, — им предлагалось сделать жанровый срез
современного детского фольклора: это, на наш взгляд,
способствует созданию наиболее объективной картины). Что же
мы можем наблюдать в итоге?
Традиционно поэтизируемые и противопоставляемые
современному фольклору колыбельные ныне также нередко
включают в себя бранную лексику (так же, как старинные
колыбельные шокировали собирателей пожеланием
скорейшей смерти ребенку):
Баю-баиньки,
Спи, маленькая,
Люли-люли,
Гуль-гули.
Ух, коза этакая!
Спи, говорю, засранка! (1993 г.)
Ой, куны, куны, куны,
Даша с Колей сикуны,
Даша с Колей сикуны,
Обоссали все штаны! (1994 г.)
Расскажу вам, детки, сказку,
Как ваш дед насрал в коляску
И поставил в уголок,
Чтоб никто не уволок. (1999 г.)
Молчанки — жанр древний, встречающийся ныне
крайне редко, но и здесь зафиксированы подобные варианты:
— Кто родился в жопе негра —
Отзовись!
836
Пародийный характер в детском фольклоре
приобретают пословицы:
Я наелся, напился,
Хрен баранкой завился. (1998 г.)
Считалки, жанр игрового фольклора, возникший
давно, и сейчас активно процветает, модифицируется,
обогащаясь новыми вариантами, созданными на основе старых.
Нередко это достигается за счет использования бранной
лексики:
На золотом крыльце сидели
Шесть мохнатых стариков:
Шишкин, Пышкин, Залупышкин,
Бороздин, Пиздин, Задвижкин.
Шла кукушка мимо леса,
А за нею — два балбеса.
Фиг вам, фиг вам,
Выбирай, кого же нам. (1998 г.)
Характерный для считалки счетный принцип иногда
сочетается здесь с инвективами:
Пи да — раз,
Пидар — два,
Пи дар — три,
Пидарасом будешь ты!
От считалок подобного типа прямой путь — к
дразнилкам. Эта разновидность в силу своей жанровой
принадлежности наиболее (наряду с переделками — пародиями и
некоторыми другими) расположена к использованию
бранной лексики. В глубокой древности заимствованные от
взрослых, дразнилки-прозвища фиксируют как старые,
так и новые понятия:
Борис на яйцах повис. Света — звезда минета.
Янка — лесбиянка! Максим, Максим,
У тебя из жопы дым.
Лиза — звезда стриптиза.
Плакса-вакса-гуталин,
Вася, Вася бакалавр! На носу горячий блин,
Вот тебе из супа лавр. На заднице — шишка,
Бакалавра в бакалее Будет тебе вышка.
Мыть полы возьмут скорее. (1990 г., Дима В., 8лет)
337
Комической травестии подвергаются и имена-отчества
учителей:
Ирина Олеговна — говна — говна — говна.
(1995 г., Леша С, 8лет)
Дразнилки оскорбительного характера закономерно
вызывают и соответствующие отзывы:
Обзывайся, сколько влезет,
Обезьяна в рот залезет!
(1996 г., Юля С, 4 года) -
это у самых маленьких — до более изощренных у старших:
Тебе смешно, а мне обидно,
Тебе — говно, а мне повидло!
(1998 г., Саша Я., 7лет)
Кто спорит — тот говна не стоит,
А кто молчит — тот в говне торчит.
(1999 г., Настя Н., 8лет)
Ты, ты, ты, ты,
Тебя обкакали коты;
А на верхней полке
Обосрали волки,
А еще повыше
Обосрали мыши.
(1995 г.,
Сережа Ш., 12 лет)
В современном фольклоре традиционная лексика
нередко соседствует с адаптированно-иноязычной, что
также создает своеобразный эффект в отражении
оскорбительного действия/высказывания:
Факи, фиги, кулаки —
Это признаки любви!
(Оля С, 12лет)
На принципе «обманутого ожидания» строятся так
называемые стихотворные «обманки» (см. об их специфике
одноименную статью в: РШФ 1998: 530—532), а также
тексты: РСФ 1994; РШФ 1998; РЭФ 1995. Функционально они
отчасти сродни дразнилкам, поскольку «провоцируют
слушателя на домысливание скабрезной концовки» (М.А.
Лурье), а нередко и на произнесение вслух бранного или
нецензурного слова, в то время как рассказывающий остается
«чистым» и «неиспорченным». В этом — тоже своеобраз-
338
ное унижающее действие по отношению к адресату, как в
дразнилке, но более изощренное, так как здесь имеет место
«саморазоблачение» слушателя. В нашем собрании
присутствуют как широко известные тексты:
Во дворе стоит статуя,
У статуи нету...
Ты не порти мой рассказ —
У статуи нету глаз.
(Вова К., 12 лет)
Так и более редкие:
Ты кружочек нарисуй
И немножко заштри...
Взрослых надо уважать
И не надо оскор...
Подвариантом стихотворных «обманок»
фольклористы считают и некоторые загадки, которые, на наш взгляд,
вполне можно назвать «псевдоэротическими»:
Охоху, охоху,
Два яичка во мху,
Третья маковка? — Глаза и нос.
(1998 г., Паша Ш., 14 лет)
Между ног дрягается,
На «х» называется? — Хобот у слона.
(1998 г., Вова Н., 14лет)
Чтобы спереди погладить,
Надо полизать. — Почтовая марка.
(2001 г., Оля К., 12лет)
Волос на волос,
Тело на тело,
И начинается темное дело. — Глаза.
(2001 г., Лена Р., 8лет)
Красная головка
Работает ловко. — Дятел.
(2001 г., СашаЗ., 6,5лет)
Иное название такого типа фольклорных
произведений — «загадки-мурзилки» — принимается далеко не всеми
фольклористами. Пик популярности их приходится
примерно на 80-е годы XX века, но и сейчас они
функционируют в детской среде. Правда, понять скабрезный подтекст
способен лишь ребенок школьного возраста; как
свидетельствуют наши записи — более младшим он почти недоступен.
339
Наибольшее количество бранной лексики
традиционно встречается в таких сатирических жанрах, как
частушки и переделки-пародии, что диктуется их социальным
предназначением.
Частушки представляют собой, пожалуй, самый яркий
пример заимствования из взрослого репертуара в
детский, более того, ныне мы можем фиксировать начальную
стадию «миграции» жанра: по мере постепенного
отмирания у взрослых он перекочевывает к детям. Но последние
уже иначе исполняют его — в детской среде имеет место
не публичное пение, а скандирование в кругу сверстников.
Во многом это связано с обилием нецензурной лексики в
произведениях этого жанра — не случайно еще во второй
половине XIX века частушки из-за этого называли даже
«извращением народного творчества» (В. Михневич), от
которого «ушки вянут».
В настоящее время частушки обычно привносятся в
детскую среду из репертуара взрослых — подслушанные из
их уст чаще всего на свадьбах (эффект «второго дня»,
восходящий к сакральному свадебному ритуалу), для детей
они служат знаком «приобщения к взрослости». В детский,
подростковый репертуар проникают и тексты с довольно
виртуозным смысловым обыгрыванием обсценных слов:
Полюбила парня я —
Оказался без хуя!
А на хуя мне без хуя,
Коль с хуями до хуя!
Но чаще имеет место более простое и однозначное
применение нецензурной лексики:
Мы с миленочком ебались
В сорокаградусный мороз —
Жопа инеем покрылась,
Хуй стоял, как Дед Мороз.
(1998г.,ОляЖ.,10лет)
Девки в озере купались,
Хуй резиновый нашли,
До обеда проебались —
Разругались и ушли.
(1999 г., Катя К., 12лет)
При этом в детский репертуар включаются даже тексты
с «неактуальной» для данного возраста тематикой
(очевидно
но, привлекает как юмористическое содержание, так и та-
буированность лексики):
Раньше были времена,
А теперь мгновенья.
Раньше поднимался хуй,
А теперь — давленье...
(1998 г., Алеша Ц., 11 лет)
Впрочем, среди частушек, заимствованных детской
аудиторией, немало и таких, что различными путями
«обходят» использование бранной лексики:
Холодильник я купила под названием «Ока»,
Мяса нет, колбас не стало — положу ее пока.
(1990 г.)
Ой, дед, ты мой дед,
Ты не знаешь моих бед...
Мне моркови захотелось,
А в огороде такой нет.
(1992 г., Катя К, 5лет (!))
Мимо тещиного дома просто так я не хожу:
То Алсу в забор просуну, то Земфиру покажу.
(Артур Ф., 5 лет)
Переделки-пародии весьма щедро представлены особенно в
школьном фольклоре (см. об этом в: Трыкова 1997, а также
в подборке М. Лурье в: РШФ 1998). Здесь — изобилие
нецензурной лексики, направленной на травестирование объекта
и усиление комического эффекта. Произведения объемны,
но массовой аудитории, как правило, известны лишь
начальные строки. Например: «Тихо в лесу, только не спит
барсук...» и т. д. В нашем собрании присутствуют также
скабрезные куплеты, повествующие о зайце, олене, кабане... и даже
туристе, в «чьей жопе бушует глист». Существуют
нецензурные варианты басни Крылова «Ворона и лисица», других
произведений русской классики, советских массовых и
детских песен и т. п. (см.: РСФ 1994; Трыкова 1997).
Переделке-пародированию подвергается даже сам
фольклор, «обогащающийся» новыми образами и модными
инвективами:
Вышел Децл из тумана,
Вынул пейджер из кармана.
Пейджер пискнул — Децл сдох,
Потому что Децл — лох!
341
Как ни странно, но такие относительно «новые»
жанры детского фольклора, как страшилки и «садистские
стишки», довольно редко содержат собственно бранную
лексику (!), например:
В черном-черном лесу
Стоял черный-черный куст.
Из этого черного-черного куста
Тянется черная-черная рука и говорит:
— Дай бумажку жопу вытереть!
Этот текст страшилки-пародии (антистрашилки) был
записан от 13-летнего информанта еще в 1986 году. Очевидно,
психологические и эстетические задачи данных жанров не
предполагают активного обращения к таким пластам речи
(подробнее о специфике страшилок и «садистских
стишков» см.: Капица 2002; Лойтер 2001; Осорина 1999; РШФ
1998; Трыкова 1997; Трыкова 1998; Чередникова 2002).
Иное дело — столь популярный ныне и находящийся в
оппозиции к «взрослой» культуре жанр граффити. Но это —
тема отдельного исследования, слишком много здесь
самых различных аспектов — от подавления обществом
подростковой гиперсексуальности до специфики молодежной
субкультуры:
Да вырвет хуй тому Аллах,
Кто пишет гадость на стенах!
(1999 г., надпись на остановке)
Писать на стенах туалета,
Увы, друзья, не мудрено,
Ведь для ГОВНА мы все поэты,
А для поэтов мы — ГОВНО.
(2000 г., граффити в подъезде)
Как известно, один из главных признаков фольклора —
его вариативность. Ее мы в полной мере можем наблюдать
и в текстах с использованием бранной лексики. В
зависимости от ситуации, от степени доверия к слушающему, от
«стеснительности», ребенок-информант может весьма
виртуозно варьировать слова из синонимического ряда
(попа — задница — жопа; хрен — хер — хуй и т. д.).
Сопоставляя различные варианты одних и тех же текстов из
фольклорного архива, лишний разубеждаешься как в этом, так
и в том, насколько чутко дети воспринимают границы
дозволенного со стороны взрослых.
342
С другой стороны, намеренное (осознанное или
неосознанное) пересечение этих границ служит
испытанным средством провокации взрослых (об этом уже
говорилось в начале). Особенно это характерно для кризиса
подросткового возраста, но далеко не только для него.
В то же время использование произведений
фольклора, содержащих бранную и — особенно — нецензурную
лексику в среде сверстников служит самоутверждению
исполнителя, знаком его принадлежности к миру взрослых —
как здесь не вспомнить обряд инициации!
Эффект катарсиса, связанный для взрослых с
использованием табуированной лексики и перешагиванием через
это табу, как нам кажется, менее характерен для
аудитории — здесь доминируют, повторим еще раз, провокатив-
ная и инициаторная функции. Именно к таким выводам
подводит нас исследование бранной лексики в детском
фольклоре.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Борисов 2002 — Борисов СБ. Мир русского девичества: 70—90-е годы
XX века. М., 2002.
Капица 2002 — Капица Ф. С. Русский детский фольклор: Учебное
пособие для студентов вузов / Ф.С. Капица, Т.М. Колядич. М., 2002.
Лойтер 2001 — Лойтер СМ. Русский детский фольклор и детская
мифология: Исследования и тексты. Петрозаводск, 2001.
Осорина 1999 — Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве
мира взрослых. СПб., 1999.
РСФ 1994 — Русский смехоэротический фольклор / Сост. СБ.
Борисов. СПб., 1994.
РШФ 1998 — Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой
дамы до семейных рассказов / Сост. А.Ф. Белоусов. М., 1998.
РЭФ 1995 — Русский эротический фольклор. М., 1995.
Трыкова 1997 — Трикова О.Ю. Современный детский фольклор и его
взаимодействие с художественной литературой. Ярославль, 1997.
Трыкова 1998 — Трыкова О.Ю. Детский фольклор: Страшилки,
анекдоты, «садистские стишки». Ярославль, 1998.
Чередникова 2002 — Чередникова М.П. «Голос детства из дальней
дали...»: Игра, магия, миф в детской культуре. М., 2002.
Л.В. Жаров
ДЕТСКИЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР
В СССР
Феномен детского сексуального фольклора еще не стал
предметом культурологического анализа в силу ряда
обстоятельств. Во-первых, он отражает в превращенных
формах само явление детской сексуальности, которое
относится к самым загадочным характеристикам человека
со времен 3. Фрейда. Классик современного
психоанализа Отто Ф. Кернберг подчеркивает, что «конкурентных
исследований сексуального опыта детей проведено
крайне мало, если они вообще есть»1. Существует
определенный страх перед исследованием детской сексуальности,
ввиду повышенной социальной озабоченности по поводу
сексуальных злоупотреблений в отношении детей. В то
же время становится все более и более ясно, что в зрелой
сексуальной любви человек находит форму для
осуществления всех своих инфантильных сексуальных фантазий. В
этом смысле мы «все из детства». Правда, отношение к
детству было неодинаковым в разных типах культуры.
Стоит указать на достаточно негативное отношение к
детству и детскости в традиционных типах культуры,
включая и российскую, что зафиксировалось даже на уровне
речевых стереотипов. Вспомним «Детскую болезнь
"левизны" в коммунизме» В.И. Ленина, его же термин
«ребячество» и аналогичные штампы. Суть их в том, что
детство должно быть преодолено раз и навсегда, а если оно
остается в телесных или духовных особенностях
человека, то это признак патологии. «Детскость» прощалась
только гениям и творцам художественной культуры,
поскольку младенчески яркое восприятие реальности по-
344
рождает неповторимый мир образов. Для позитивистски
настроенного человека «детскость» равнозначна
неразумности, мифологичности, неопределенности и тому, что в
«Диалектике мифа» А.Ф. Лосева именуется «чудом».
Разумеется, в логике рационализма такое отношение должно
быть преодолено как можно быстрее.
Ситуация радикально меняется в мире в начале XXI
века, когда становятся очевидными те тупики развития, с
которыми сталкивается современная цивилизация, равно
как и необходимость поиска альтернативных подходов.
Мир должен обрести новые пути, но, не «впадая» в
детство как рамолик2, а пробуя себя вновь и вновь как
ребенок, непрерывно испытывающий себя в овладении
правилами игры культуры и языка. Ощущается острая
необходимость дополнения научных подходов к решению проблем
глобального развития феноменами визионерского
сознания, нетрадиционной рациональностью, что имеет
прямое отношение к становлению субъективности ребенка и
его языка. Это насущная, императивная потребность
человечества, которое сейчас все более и более напоминает
тело ребенка. Оно слабое и беззащитное перед силами
природы, Космоса и собственного невежества (Маркс не
зря считал его «демонической силой»). Оно нуждается в
«родителе» и потому обращает свои взоры к Отцу
Небесному в надежде на спасение силой Его благодати. Оно
страшно любопытно и готово к созданию генетических клонов,
дабы посмотреть, что из этого получится. Оно ведет себя
как абсолютно самодостаточный владелец планеты, что
поставило всю биосферу под угрозу ввиду нарастающего
экологического кризиса. Оно, подобно невоспитанному
мальчишке, все время пускает в ход кулаки, пытаясь
разрешить конфликты только силовым путем. Оно тешит себя,
придумывая все новые и новые игрушки, в том числе и
потенциально опасные, низводящие человека до уровня
придатка к машине. Оно обожает страшные сказки и истории
с ужасами и норовит увидеть все это в натуральном
исполнении. Оно подрастеряло идеалы и наплодило идолов
разного ранга, ударившись в нарциссическое
самолюбование. Оно напоминает «счастливого принца» О. Уайльда и
других героев-мальчиков, которые ни за что не хотели
взрослеть.
345
Всё это так, но у «детского тела» человечества есть и
другая сторона. Оно слабо, но в этой слабости и
податливости заключена огромная мощь и способность к
адаптации. Оно в состоянии, подобно весенней травке,
пробивать толщу напластований истории и искать новые
горизонты в мире неопределенностей. В нем заключена еще
неисчерпаемая сила формообразования, связанная с
симбиозом человека с другими живыми и неживыми
объектами Вселенной. «Болея» детскими болезнями, оно
накапливает потенциал социально-психологического иммунитета
ко злу и насилию, невежеству и жестокости. Исчерпав
логику классического рационализма, оно стало обращаться
к интуитивным решениям ребенка, видящего мост там, где
взрослый видит только пропасть.
Однако это видение пришло не сразу и тем более
интересно посмотреть на далекие уже 50-е годы, середину XX
века, когда в стране «победившего социализма» протекали
крайне противоречивые процессы как в материальной,
так и в духовной сфере, особенно в ее «подпольной»
части, развивавшейся вне официальной культуры. Чтобы
подойти к анализу этой реальности, в том числе и в
языковом аспекте, необходимо кратко обозначить суть
подходов того времени к любви, полу и браку.
Модель любви была понятной и простой,
исключавшей какие-либо тайны и загадки. Любовь должна
проявляться не ранее 18 лет, а лучше еще позже, годам к 25.
Любовь к другому полу вытекала из любви к родине,
партии, родителям, учителям и наставникам. В случае
конфликта исход был очевиден: личное чувство должно
подчиниться общественному. Для героев нашего времени
любовь была приложением к боевому или трудовому
подвигу, служению идее, искусству, науке или другому главному
делу жизни. О любви говорить было не принято; в лучшем
случае она была предварительным этапом к браку.
Любить надо было настоящего, хорошего человека, из
нормальной семьи, стремящегося учиться и работать там,
куда пошлет его родина. К любви между людьми разных
национальностей, рас и религий отношение было
негативным, а к иностранцу вообще не мыслилось. Если такое
случалось, это было семейной бедой, а для влюбленных —
трагедией. Идеалом пары были фабричная девчонка и
346
заводской парень, ей лет 18—20, а ему 20—25. Любовь
должна быть первой и последней, раз и навсегда; никаких
альтернатив не допускалось. Верность и пожизненная
преданность подразумевались сами собой и не зависели от
каких-либо материальных соображений. Любовь
полагалось поверять разлуками, письмами и трудностями жизни
и быта. Целью любви мог быть только брак, который был
ее единственным оправданием, ибо любовь чаще
была помехой для работы, но иногда вдохновляла и на
подвиги. На любовь надо было получить согласие
родителей не только своих, но и потенциального будущего
супруга или супруги. В любви было очень трудно признаться,
поэтому особенно парни не могли выразить свои чувства
словесно и играли на баяне, пели, танцевали. Говорить о
любви прямо было очень стыдно: с одной стороны, это
что-то светлое и хорошее, а с другой — она ведет к чему-то
очень неприличному, о чем и не говорят открыто. В кино
и литературе любовь была испытанием молодых сердец
со стороны их собственных чувств и окружающих людей.
Последнее слово должно было быть за старшим
поколением, они знали лучше молодых, кого и как следует
любить. Влюбленной паре не полагалось уединяться, а
можно было ходить в кино и театр, в музей и на выставку.
Ресторан и кафе были исключены. Танцевальные площадки
пользовались дурной славой, а вот вечера отдыха в
заводских клубах под присмотром старших товарищей
приветствовались. Танцевать можно было только классику — вальс,
фокстрот; танго было неприличным. Телесные
контакты исключались полностью, держать девушку за руку
или под руку было неприлично, а публичный поцелуй мог
вызвать шок у окружающих. Все это можно только после
свадьбы. Мода того времени была строго пуританской:
юбки только ниже колен, до середины голени, и их
полагалось постоянно натягивать и оправлять; вырез блузки
должен быть минимальным, косметика только для зрелых
дам, парфюмерия — тоже; на голове — коса или гладкая
прическа. Девушке не полагался маникюр и перстни на
пальцах; это было возможно для замужних, хотя кольца
для них тоже не допускались, как религиозный
пережиток. Все украшения были знаками душевного
неблагополучия, в ходу был термин «модничанье». Главным моментом
347
любви была чистота душевных помыслов и движений при
отсутствии или самом минимуме телесных проявлений.
Покраснеть или вспотеть было верхом неприличия; надо
было вести себя так, чтобы окружающие не догадывались
о ваших чувствах. Серьезность намерений проверялась
только одним способом — отсутствием предшествующей
любви и готовностью завершить данную любовь браком.
«Порча» в виде чувства к другой девушке была
отягчающим моментом и явно не украшала юношу. Идеалом был
однолюб, чистый физически и духовно, «правильный» в
поведении, труженик и общественник, который был
достоин любви такой же чистой и неиспорченной девушки.
Он должен видеть в ней будущую жену и мать детей,
труженицу и хозяйку. Будущие тесть и теща должны были
стать вторыми родителями, почитать и уважать которых
было обязательным следствием любви.
Слово «пол» уже несло в себе какой-то оттенок
неприличия, а «секс» вообще не произносился, так как означал
«грязное дело» в странах загнивающего Запада. Говорить
о «половой жизни» значило унижать человека и отвлекать
его от трудовых свершений. Она подразумевалась как часть
семейной жизни, но ни в коем случае не могла быть главной
или даже важной ее частью. Детям полагалось вырастать в
полном неведении об этой стороне жизни, не видя ни
первичных, ни вторичных половых признаков. Даже
собственному телу не полагалось уделять внимание, а интимная
гигиена сводилась к абсолютному минимуму. Случайное
обнажение или неполадки в одежде могли вызвать ощущение
несмываемого пожизненного позора и бурную
эмоциональную реакцию. Шаровары и плотные майки наглухо
закрывали тела, делая их бесполыми. Обсуждать публично чьи-то
телесные достоинства было невозможно, а конкурсы
красоты на Западе считались аморальными. Тело должно быть
здоровым и готовым к труду и обороне, а материнские
функции просто подразумевались.
Девочек растили с установкой «не давать поцелуя без
любви» и строжайше хранить неприкосновенность и
девственность. Сначала должна быть любовь, потом
одобряемый старшими брак, потом поцелуй на свадьбе и только в
самом конце — не то таинство пола, не то уступка
животности человека, но только во имя рождения ребенка. Маль-
348
чику тоже полагалось быть чистым и невинным, так как
дотронуться до девочки выше локтя было недопустимым.
Считалось, что сама природа научит новобрачных
интимному общению, когда они окажутся вдвоем после
комсомольской свадьбы. Главное — не акцентировать на этом
внимание, всё свершится само собой, а если что-то не
так, то поможет в частном порядке мудрый
врач-венеролог. А дальше — всё было покрыто мраком и тайной;
делать «это» надо под одеялом, не видя ничего, при
выключенном свете. Единственная помеха в советском быте —
за стенкой или ширмой могут спать родители. Поэтому
всё надо делать быстро, беззвучно и с минимумом
движений. Еще один вопрос — надо ли предохраняться и как?
Юная жена должна была обратиться в женскую
консультацию за советом и точно ему следовать. Девять месяцев
беременности и первый год жизни ребенка, естественно,
исключали половую жизнь. В это время супружеские узы
укреплялись взаимной любовью и успехами на
производстве. Говорить о половой жизни даже женатым и
замужним было неприлично, а одежда и тщательный контроль
за позой (у женщин) должны были полностью скрывать
само существование этой стороны жизни. Самой важной
частью тела считались одухотворенный лоб и сияющие
глаза как следствие непрерывной заботы о людях,
сочувствие к судьбе угнетенных во всем мире.
Что касается техники полового общения, то, видимо,
единственно возможной считалась поза «лицом к лицу», в
которой супругам надлежало располагаться перед отходом
ко сну для обязательного однократного выполнения
супружеского долга. Всё происходило под одеялом и в нижнем
белье и являлось, в сущности, оздоровительной
процедурой, которую рекомендовалось проводить 2—3 раза в
неделю до 30 лет и 1—2 раза в неделю до 40 лет. Потом «это» уже
не было нужно, особенно женщине, но для укрепления
семейного союза 1 раз в месяц можно было позволить. Мысль
о каких-то иных объектах и способах половой жизни
казалась дикой и кощунственной, а ее носители сразу брались
на подозрение как люди, зараженные западным развратом
и поэтому опасные для нашего общества. Вопрос об
удовлетворенности половой жизнью для женщин вообще не
существовал, а для мужчин считался само собой разумеющим-
349
ся. «Железный занавес» препятствовал проникновению
информации в широкие массы, а за границей бывали
единицы и предпочитали ничего об «этом» не рассказывать.
В то же время процветала и другая культурная и
языковая среда, в частности давшая феномен русского арго.
Обозревая его на материале строительства Беломоро-Балтий-
ского канала, Д.С. Лихачев подчеркивал «инфантилизм»
языковых форм, их необычную экспансивность как
следствие определенной идеологии, в частности
«первобытного примитивизма»3. В популярном «Словаре тюремно-
лагерно-блатного жаргона» приведены синонимические
ряды, относящиеся к половым органам и процессам, с
ними происходящим. В последние годы появилось несколько
фундаментальных работ, посвященных ненормативной
лексике и ее сексуально-эротическому компоненту4.
Однако только в некоторых публикациях затрагивается тема
эротики в детской и подростковой вербальной культуре.
Можно сослаться на работу СБ. Борисова, где впервые
представлен многообразный мир девичьей культуры 70—
90-х годов XX века, включая вербальные эротические
компоненты. Интересные сведения приведены в публикации
томских авторов, изучавших малые эротические жанры в
интимном фольклоре выпускников томских вузов5. Во всех
публикациях по истории отечественной эротической
культуры отмечается одна особенность — сравнительная
бедность лексики, описывающей интимные отношения и
эротические переживания. Об этом писали Н. Бердяев, В.
Розанов, И. Бунин, эта проблема встала и перед В.
Набоковым, «сексография» которого была специально
проанализирована6. Русская литература не имела своих
Мопассана, Пьера Луиса и Жоржа Батая, а ее высшие
достижения — эротические шедевры И. Бунина и В.
Набокова не получили дальнейшего развития. Скатологическая
лексика В. Ерофеева, В. Сорокина, М. Армалинского и
других вряд ли является вершиной национальной культуры,
отражая лишь постмодернистский диспут конца XX века.
Кроме эвфемизмов, ярким примером которых являются
набоковские эпитеты и аллюзии на русифицированной
медицинской латыни, русский язык не имеет адекватных
средств выражения сексуальной феноменологии в рамках
общепринятой речевой пристойности.
350
Обращение к детскому эротическому фольклору не
случайно. Прежде всего в нем в большей степени
сохраняются национальные истоки и корни, и детская речь в этом
смысле более «консервативна», поскольку механизм
передачи от родителей к детям этих слов и выражений и
последующая их модификация в кругу сверстников достаточно
традиционны, хотя и подвержены определенным
новациям. Во-вторых, в детском фольклоре в наибольшей степени
отражаются базовые матрицы сексуальной символики,
несущие определенные архетипические образы (согласно
психоаналитическим концепциям) или элементы
трансперсонального опыта (в подходах С. Грофа). В-третьих, в
нем находит яркое воплощение мифологичность детского
мышления и его синкретизм, проявляющийся в интуити-
вистских интенциях и «схватывании» нерасчлененного
целого (Ж. Пиаже и др.)- Детский фольклор в этом смысле
самодостаточен и уникален как особый, неповторимый
этап в психосексуальном развитии, а не только начальный
этап вербального освоения мира и собственного тела. Не
затрагивая специфических проблем детского
словотворчества, что выходит за рамки темы, обратимся к культураль-
ному аспекту феномена детского сексуального фольклора.
Разумеется, рассматриваемый период времени
неоднороден в этом смысле, и СССР 50-х годов и конца 80-х
значительно разнится. То же самое можно сказать и о
региональной и областной специфике фольклорных образований и
их сравнительном анализе. Вместе с тем имеется,
очевидно, достаточно устойчивое ядро, анализ которого может
дать немало интересного. Прежде всего привлекает
внимание детская терминология, касающаяся самоназваний
половых органов. Наши данные основываются на
результатах социологических опросов студентов-медиков,
проведенных в 90-х годах XX века, а также на анализе писем
читателей в различные эротические издания (газеты «Еще»,
«Интим-пресс» и др.). Всего обработано более 3000 анкет
и высказываний, что дает основание говорить о
репрезентативности полученных данных. Распределение женских и
мужских ответов асимметрично: около 3/4 — это мнения
женщин и 1/4 — мужчин. В данной выборке с различной
частотой встречались следующие термины,
обозначающие половые органы мальчика (А) и девочки (Б).
851
A
Б
1. Баклажан
2. Банан
3. Дружок
4. Колбаска
5. Малыш
6. Морковка
7. Огурчик
8. Пальчик
9. Перчик
10. Петушок
11. Пиписка
12. Пипишка
13. Пипка
14. Пися
15. Писька
16. Писюлек
17. Писун
18. Питун
19. Пописончик
20. Сосиска
21. Сосунчик
22. Сюнька
23. Стручок
24. Хвостик
25. Хоботок
Вареник
Глупости
Киска
Ксйвочка
Курочка
Ласочка
Малышка
Персик
Пипка
Пися
Писька
Пиписька
Попочка
Пирожок
Подружка
Ромашка
Розочка
Сестричка
Сюнька
Сика
Сокровище
Сюка
Хрюндя
Цветочек
Отметим совпадение терминов, связывающих
мочеиспускание, с половыми. Для маленького ребенка они почти
неразделимы — до определенного возраста, когда ребенок
испытывает последствия их активации, не связанной с ури-
нацией. В классическом психоанализе детской
сексуальности подчеркивается, что первое представление о половых
различиях ребенок обретает, наблюдая разную позу
мальчиков и девочек в акте мочеиспускания. Девочка
чувствует себя при этом более «связанной» территориально и
телесно, итогом чего является развитие специфической
зависти к позе мальчика. Появление соответствующего
глагола во французском языке («pisser») специалистами
по этимологии относится к XII веку. М. Фасмер считает
это «номатопоэтическим» образованием из речи корми-
352
лиц. Ряд исследователей пытались связать его с «писком»,
«пищанием», а также «свистом». Близко к этому
находятся и такие звукоподражательные слова, как «сика», «сюка»
и проч. Эмоционально этот ряд терминов
воспринимается либо нейтрально, либо с оттенком пейоративности.
Так, «сикушка» означает глупую и незрелую женщину, еще
не расставшуюся с детским пороком в виде энуреза и,
следовательно, нечистую. В этом смысле возникает вопрос о
сущности ритуальной чистоты «телесного низа», где
объединены в одно (у мальчика) или находятся рядом (у
девочки) органы размножения и выделения. Известно, что
единственный действующий канал полового воспитания
касается привития девочке навыков личной гигиены и
внушения ей необходимости тщательно оберегать это, с
одной стороны, «святое», а с другой — «нечистое» место.
Это же относится и к тому, что выделяют мочевые и
половые органы. Анализ скатологической лексики у
представителей разных культур показывает универсальность
двойственного, амбивалентного понимания физиологических
выделений7. Второй смысловой ряд детских терминов
группируется вокруг метафорического их восприятия в
сравнении с растениями и плодами (баклажан, банан, морковка,
перчик, огурчик, стручок, ромашка, розочка, цветочек и
проч.). Главное здесь — аналогия по форме и, отчасти, —
размеру. Для мальчика это нечто твердое, могущее
проникнуть, для девочки это нежное образование,
страшащееся не только проникновения, но и прикосновения. Стоит
в этой связи сослаться на частый рефрен в письмах и
анкетах: «Меня били по рукам», если мама заставала ребенка
за самоисследованием или самоудовлетворением. Образ
«недотроги» в полной мере соответствует восприятию
девочки своего интимного устройства, правда до
определенного момента. В «Интимном дневнике отличницы»
Вера Павлова пишет под рубрикой «6-й класс»: «Почему
я краснею, глядя на свою собственную грудь? А ниже
живота и посмотреть боюсь? Мне эта комедия надоела, я
взяла маленькое зеркало и смело все рассмотрела. Какое
уродство!»8 Эмоциональная реакция девочки понятна,
поскольку интенсивное развитие чувства половой
стыдливости, равно как и необходимость особого внимания
к половым органам и в обычное время, и в критические
353
дни, вызывает своеобразный комплекс отвержения,
проявляющийся в том числе и лексически. Всё «это»
называют «глупости», либо «пирожок» или «вареник» с оттенком
уничижения. В других ситуациях возникает чувство
родства — «малышка», «подружка», «сестричка», а иногда и
умиления — «сокровище», «ласочка», «персик».
Амбивалентность восприятия и словесного оформления
выражена более отчетливо у девочек. В нашем материале
практически не наблюдалось случаев негативного восприятия
своих гениталий у мальчиков. Что же касается
перекрестного восприятия, то мы не смогли отметить явных
проявлений зависти девочек в отношении мальчиков,
обладающих пенисом, а также страхов в отношении гениталий
друг друга. Это в какой-то мере свидетельствует о
неуниверсальности эдипова комплекса, по крайней мере, в
соответствующей выборке. Вместе с тем в ряде случаев
девочки называли половые органы мальчика «хорошими», а
свои — «плохими» без объяснения причин.
Своеобразная мифология пола в ее детском
восприятии проявлялась в представлениях о размерах полового
члена по модели: чем больше, тем лучше. Имела хождение
такая шкала размеров, хотя и без точной привязки
размера: «детский», «кадетский», «штатский», «солдатский»,
«пленный», «военный», «самый здоровенный». В
многочисленных граффити, без чего в те годы, кажется, не было
общественного туалета, изображался именно последний
размер. Очевидно, это символизировало высшую степень
мужественности в сопоставлении со «всегда готовой»
женской вульвой, что свидетельствует, в свою очередь, о
значительной выраженности патриархальных установок,
столь типичных для тоталитарного общества. Женщина и
ее половая сфера рассматривались как «поле битвы» для
«героя-фаллоса», обладание которым делало мальчика
человеком первого сорта, независимо от остальных
качеств. Сексуальная позиция женщины ярко отражала ее
зависимую роль и положение, что соответствует
концепциям М. Фуко о взаимосвязи политики и сексуальности.
Своеобразный «демократизм» детства проявлялся в
эквивалентном обмене визуальными впечатлениями в ходе
ролевых психосексуальных игр, однако в речевой практике
доминировал авторитарный подход. Возникает проблема —
354
является ли детский фольклор в этом отношении простой
калькой господствующего типа общественных
отношений или в нем проявляются элементы психики,
изучаемые глубинной психологией? Детство давно уже не
рассматривается как уменьшенная копия взрослого мира, о
чем уже шла речь выше, однако ответ на поставленный
вопрос вряд ли может быть однозначным.
Второй аспект детской сексуальной мифологии,
находящий отражение в языковых формах, — это «поведение»
половых органов, их функционирование. В этом смысле
девочка оказывается в лучшем положении, ибо здесь в
каком-то смысле справедливо утверждение 3. Фрейда:
«Анатомия — это судьба». Недоступность ее половых органов
для посторонней визуализации, подкрепленная
гипертрофированными формами «приличного поведения» и
модой, особенно 50-х годов, приводили к словесным
формулам типа «заниматься глупостями» или «ощущать
щекотку» как эквивалентам сексуальной стимуляции. Мальчик,
напротив, очень рано начинал ощущать независимость
элементарных сексуальных реакций от волевых усилий,
особенно когда это происходило в самом неподходящем
месте. Эта ситуация нашла в свое время блестящее
литературное воплощение в романе Альберто Моравиа «Я и Он».
Эта «неуправляемость» столь важной частью тела нашла
отражение в образах «коня», не подчиняющегося
«всаднику», «петуха», голосящего тогда, когда он сам захочет, и
аналогичных мифологемах. В словесных формулах
прослеживается и еще одно следствие «неуправляемости» —
обозначение фаллоса терминами «дурак», «балда», что
символизирует неподвластность уму и даже требованиям
общества, особенно моральным установкам. Дети очень
рано осознают двойственный характер моральных
требований по отношению к телесному «низу» и его
проявлениям. С одной стороны, это наиболее оберегаемая, «святая»
часть тела, а с другой — то, что обозначается в терминах
скатологической лексики. Феномен русского мата и его
«детских» эквивалентов представляет особую сферу
исследования, выходящую за рамки нашей работы. Уместно
только отметить, что детские речевые модели в
значительной части переходят во взрослую лексику, живя там
своей особенной жизнью. Эти «стигматы» детства оста-
355
ются часто на всю жизнь как эмоционально нагруженные
в сравнении со взрослой лексикой. Эта сохранность
имеет свои достаточно мощные социально-психологические
корни, уходящие в глубину первых лет тендерной
определенности ребенка. Быть мальчиком или девочкой для
ребенка важно не только в смысле
социально-психологического статуса, но и внутренней «самости»,
проявляющейся, по мнению ряда лингвистов, в существовании
праязыка, базовых метафор на основании наших представлений
о теле и его функциях.
Как бы то ни было, но анализ детской лексики в такой
малоисследованной сфере, как сексуальный фольклор,
может открыть новые перспективы постижения
реальностей нашего недавнего способа бытия и обозримого
будущего.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Кернберг О.Ф. Отношения любви: норма и патология. М.:
Независимая фирма «Класс», 2000. С. 24.
2 Рамолик (от фр. ramolli) — впавший в слабоумие старик.
3 См. его статью в изд.: Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона:
(Речевой и графический портрет советской тюрьмы). М.: Края Москвы,
1992. С. 387.
4 Плуцер-Сарно А. Большой словарь мата. СПб.: Лимбус-Пресс, 2001.
Т. 1; ЖельвисВ. И. Поле брани: Сквернословие как социальная проблема
в языках и культурах мира. М.: Ладомир, 2001; Русский эротический
фольклор. М.: Ладомир, 1995.
5 См.: Национальный Эрос и культура: В 2 т. М.: Ладомир, 2002. Т. 1.
С. 497-561.
6 Шраер Максим Д. Набоков: темы и вариации. СПб.: Академический
проект, 2000. С. 85-302.
7 ЖельвисВ.И. Указ. соч. С. 249.
8 Павлова В.А. Интимный дневник отличницы. М.: Захаров, 2001. С. 74.
И. Г. Яковепко
НЕНОРМАТИВНЫЙ АНЕКДОТ
КАК МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА
Опыт культурологического анализа
Речь пойдет о восходящем к миру традиционной
культуры ненормативном пласте фольклора. Научные судьбы
этой сферы отечественной словесности весьма
драматичны. Репрессивная православная культура, раздирающая
целостный мир на бестелесное, «духовное» должное и
низкий профанный мир эмпирического сущего, плюс
сакральное отношение к написанному и особенно
напечатанному тексту задали табуацию к написанию всего того,
что было отнесено к сфере ненормативного.
Сам этот разрыв связан с христианизацией Руси.
Относящееся к телесному низу, табуированное в новой картине
мира однозначно осталось в сфере устно-фольклорного.
Сфера же письменного не менее однозначно ограничена
сакральной нормативностью. В архаическом сознании
любой написанный и тем более напечатанный текст несет
на себе образ скрижали. Сакральные коннотации
печатного текста закреплены в двух речевых конструкциях —
«Печать Государева» и «Печать Антихристова». При том, что
понятие «печать» выступает здесь как амбивалентное, оно
соотносится с двумя инстанциями высшего уровня са-
кральности. Таким образом, печатное неотделимо от
печати — ангельской, государевой, антихристовой.
В таком случае всякий печатный текст читается как
развернутая и каноническая версия мифа. Текст может быть
специализирован в некоторой предметной сфере, но
должен нести в себе (желательно в самом начале) конспект-
ные отсылки к Создателю, акту творения и
разворачивания Космоса. Вспомним традицию летописания; изложе-
357
ниє событий начинается с сотворения мира. А далее, в
особом конспективном блоке, летописец доводил его до
описываемой эпохи. Синкретическое сознание требует
целостной картины, в которой Мстислав Мстиславич
Удалой или битва при реке Сити встраиваются в развернутую
модель Вселенной.
Советская традиция (и это совершенно закономерно)
воспроизвела архаическую модель. Серьезная научная
статья, монография, диссертация в вводных отделах
содержала, во-первых, отсылки к классикам
марксизма-ленинизма и, во-вторых, отсылки к решениям очередных
съездов или пленумов ЦК КПСС. Иными словами, в
тексте поминались Власть небесная и земная, Предвечная и
актуальная, имя Божье и Государево, а космологическая
пролегомена сворачивалась до поминания Имен.
Формальным поводом для подобных отсылок было
обоснование актуальности темы исследования. На самом деле
автор свидетельствовал о верноподданности и
идеологической правоверности, а читатель, приступая к чтению,
получал заверение в том, что в его руках «наш»,
правильный вариант картины мира.
Такое отношение к печатному тексту обрекает его на
моделирование нормативной картины Вселенной. Печатное
всегда тождественно «должному» или автомодели
культуры. А всё, что выпадает из автомодели и отнесено к
артефактам, не может быть напечатано. Подчеркнем, речь идет
именно о печатном тексте. Веками на российских заборах
подростки пишут «хуй», и это никого не трогает. Снять
описанное отношение к печатному тексту может только
секуляризация, которую мы, собственно, и переживаем.
При этом «низкое» целиком и полностью оставалось в
мире культурной практики, в изменчивой стихии
фольклора. А оперирующая текстами сфера научного знания —
обречена на выхолощенную, заведомо фрагментарную
модель, притязающую тем не менее на представление
целого. Надо сказать, что этнографическая фиксация
ненормативного материала велась хотя и от случая к случаю, но
достаточно давно. Однако публикаторская деятельность
была весьма скудной, достаточно случайной и не
складывалась в самостоятельное направление. Можно говорить о
периферии научного процесса, доступной для обозрения
358
лишь целеустремленными специалистами,
располагающими доступом к крупным библиотекам. Таким образом, в
сферу артефактов провалилась целая отрасль народной
культуры. Огромный пласт словесности оказался за
рамками теоретической мысли. Лишь в последнее время
положение начинает меняться1.
Сейчас эта область исследований переживает этап
публикации и систематизации материала. Как представляется,
в высшей степени продуктивна культурологическая
интерпретация ненормативной словесности. В силу
специфического культурного статуса, связанного с выделенностью, за-
прещенностью, потаенностью, особой экспрессивностью,
обращением к высоко значимой для любого человека
сфере репродуктивной активности и телесному низу, тесной
генетической связью с языческой архаикой,
рассматриваемый пласт фольклора хранит в себе сложные
конструкции космогонического, этического, смысловожизненного
характера; наряду с тривиальными виршами и
примитивными построениями, включает в себя сюжеты,
возвышающиеся до уровня мифологического.
Обратимся к конкретному анекдоту. Впервые автор
услышал его в 1980—1981 гг. Затем много раз выступал
рассказчиком и слушателем. Сюжет гарантированно
срабатывал в любой аудитории (разумеется, готовой к восприятию
ненормативного текста).
Итак: «Летит по небу Пиздец Всему. Настроение у
него — хуже некуда. Одним словом, пиздец всему. Видит —
внизу чистенький город. Посылает ураган. Рушатся дома,
падают башни. Летит дальше. Под ним — купы деревьев,
дубы вековые. Бросает молнию. Пожар. Летит дальше.
Под ним всё поля, поля. Глядь, посреди поля избушка.
Кидает молнию, а избушка как стояла, так и стоит. Пиздец
Всему даже удивился, лег на крыло. Посылает ураган.
Избушка стоит. Он совсем изумился. Спускается, заходит
внутрь. Смотрит — обычная такая избенка. А в самом углу
на полу спит Всё По Хую».
Зададимся вопросом — что порождало радостный смех
слушателей. Сознавая, что проблемы психологии и
культурологии смешного относятся к одним из самых сложных,
попытаемся все же продвинуться в глубь культурных
смыслов и образов этого текста.
359
Первое соображение, которое приходит на ум,
связывает успех анекдота с гипостазированием речевых
конструкций, обозначающих, соответственно, крайнюю,
выходящую на уровень катастрофы, неприятность и крайнюю
степень индифферентности, субъективной
невосприимчивости к воздействию любых жизненных катастроф.
Идеи предельной неприятности и крайней
индифферентности обретают некий телесный образ. (Трудно сказать,
антропоморфный или зооморфный, скорее —
антропоморфный.) Причем в этой телесности присутствует
отсылка к табуированным обозначениям женских и
мужских гениталий. Такой ход мысли будит нашу зрительную
фантазию. Парадоксализует ситуацию и обновляет
восприятие мира. Иными словами, несет в себе нечто катар-
сическое. Всё так, но этого явно недостаточно.
Зададимся вопросом — что можно сказать
относительно сущности Пиздеца Всему. Судя по анекдоту, это —
враждебная человеку стихийная сила, некоторая катастрофа,
постигающая застигнутого врасплох. Надо сказать, что
перед нами редкий случай, когда можно быть уверенным
в правоте наших интерпретаций, поскольку они
подтверждаются другим источником — шуточной
эвфемистической зашифровкой в которой «пиздец» раскрывается как
«полный крах из шести букв».
Но если обратиться к реальному бытованию
рассматриваемой ненормативной конструкции, к сумме
контекстов словоупотребления — обнаруживается совершенно
иная картина. Всякий человек, хоть сколько-нибудь
знакомый с отечественной словесностью и чуткий к нюансам
живого великорусского языка, увидит, что смысловое
поле выражения «пиздец всему» разительно отличается от
заявленного. Ни один носитель языка не скажет «пиздец
всему» по поводу несчастия, болезни или смерти близкого
человека.
На самом деле, «пиздец» — крупная неприятность, даже
катастрофа, наступающая в результате действий того,
кого она постигает. Если жена уехала в командировку, а вы
на радостях привели в дом даму сомнительного
поведения, которая не только заразила вас добротным
триппером, но и обчистила квартиру, унеся драгоценности жены,
«это — пиздец». А если уехавший в отпуск шеф поручил
360
вам получить сотню тысяч долларов «черного нала», и вы,
решив заработать за спиной хозяина, положили их в банк
на пару недель, а банк лопнул, «это — пиздец всему». Язык
неопровержимо свидетельствует: «пиздец всему» —
закономерное воздаяние за подлинно распиздяйскую
безответственность.
Может быть, такая подмена происходит только в
данном анекдоте? Нет. Язык прямо настаивает на том, что
«пиздец» — стихийное бедствие. Такое понимание
закреплено в расхожем выражении «Пиздец подкрался
незаметно». Однако нежелательные последствия собственного
поведения всегда ожидаемы. Их можно бояться и избегать, но
нельзя не знать о возможности расплаты. Последствия
наступают. Так язык открывает нам фундаментальную
смысловую подмену. Заслуженное воздаяние трактуется
вполне взрослыми людьми как иррациональное стихийное
бедствие, падающее на головы несчастных. За спиной
Пиздеца Всему встает вечный и
неотвратимо-иррациональный образ российской Судьбы. И здесь мы имеем
дело с архаической, доличностной традицией понимания
человеческой природы.
Вспомним устойчивую, сохраняющуюся из поколения
в поколение (если не из века в век) сцену — сердобольная
старушка рассказывает о своем сыне или внуке,
совершившем преступление и томящемся ныне в неволе. История
раскрывается так, что «родная кровинушка» предстает
объектом воздействия людей-вредоносов: с плохой
компанией связался, дружки пьющие, подлец начальник подбил,
жена-гадюка тянула из него деньги; или стихийных сил и
не подвластных человеку аффектов — «по пьяному делу»,
вспылил, в драке стенка на стенку и т. д. Одним словом,
как поется в одной старой песне, «Тут сам черт не
разберет. Из-за бабы лживой и лукавой вдруг всадил товарищу я
нож»2. Завершаются такие истории, как правило,
сентенцией: «Знать, такая судьба». Самая идея субъектности
родного человека и моральной оправданности наказания в
подобном космосе непредставима. Образ «своего», то есть
собственно человека (в отличие от «чужих» — не наших,
вредоносов), трактуется в чисто объектной модальности,
а «плавание по морю житейскому» видится как
траектория щепки, несомой потоком Судьбы. Ровно то же пони-
361
мание преступления и наказания доносит до нас романс
XIX века «Не слышно шума городского». Как, впрочем, и
лагерная поэзия века XX. Перед нами целостная
жизненная философия, живо напоминающая систему
высказываний шестилетнего ребенка, личные вещи которого
«потерялись», дорогая любимая игрушка «поломалась», а
папина чашка, трогать которую запрещено, «разбилась».
Как же можно объяснить такое несоответствие? А вот
как: наша культура находится в начальной стадии
разворачивания личностного сознания. Идея личной
ответственности и закономерности воздаяния уже проникла в живой
язык; ибо ненормативная лексика — один из самых живых,
развивающихся и активно употребляемых пластов
русского языка. Однако сознание еще не желает мириться с этим.
Повторим, ненормативный русский — один из самых
активных, развивающихся пластов нашего языка. Сфера
репродуктивного является постоянно актуализуемым
полем самых разнообразных ассоциаций, шуток, намеков.
Внимание культурного субъекта к данному аспекту бытия
и способность пропустить целую вселенную во всем ее
многообразии через эту специфическую призму не знают
границ. Ненормативный язык — ключевая часть этого
вечно актуального пласта культуры. В одном из санаториев
Литфонда автору довелось столкнуться со следующей
классификацией отдыхающих — «пйси», «нёписи», «пйсдоч-
ки», «мудопйсы», обозначавшей, соответственно,
писателей, неписателей, писательских дочек и мужей дочерей
писателя. Понятно, что люди, профессионально
работающие со словом, способны создавать самые забавные
неологизмы. Однако направление, в котором работает
творческая мысль, в высшей степени характерно.
Слушатель анекдота прекрасно дифференцирует
стихийные бедствия и закономерные последствия
человеческих поступков. Однако в идеальном пространстве
анекдота, а анекдот неотделим от коннотаций праздника,
низовых версий райского бытия, Страны дураков3, он жаждет
трактовки воздаяния как бедствия, ибо за этим
пониманием воздаяния стоит прощение и отпущение грехов. Так,
анекдот раскрывается не только как локальная, свернутая
версия идеально-праздничного бытия, но и как
пространство психотерапии.
362
А теперь зададимся вопросом: «Каким образом язык
конструирует знак высшей опасности?» Откуда, из какого
пространства пришел в мир Пиздец Всему? Известное
дело, он родом из вагины. А где истоки силы, которая ему
успешно противостоит? Это — мужской член. Здесь для
нас раскрывается следующий уровень исследуемого
сюжета, на котором мир предстает как космическая драма
борьбы мужского и женского начал.
Мы выяснили: знак высшей опасности восходит к
женскому началу, а знак-оберег, сила, закрывающая от этой
опасности, — к мужскому. Но этого мало. Как
раскрываются эти начала в космосе ненормативной лексики?
Поскольку, как нам представляется, анекдоты сочиняют,
рассказывают, слушают и интерпретируют чаще всего мужчины,
начнем с мужского рода, но прежде сформулируем
несколько принципиально важных положений:
1. Смысл является первичным элементом культуры.
2. Сама культура есть система всеобщих принципов
смыслообразования и самих продуктов процесса смысло-
генеза. Принципы смыслообразования и результаты
этого процесса (идеальные и овеществленные) составляют
пространство культуры4.
В такой теоретической перспективе исследование
характера смыслообразовательной парадигмы, изучение ее
специфики приобретает ключевое значение для
понимания природы любой конкретной культуры. Итак, мужская
смыслообразовательная парадигма строится следующим
образом: в основе лежит корневой элемент «хуй», несущий
достаточно широкое поле смыслов, связанных с профани-
рованием, отрицанием, обессмысливанием, опасностью и
другими негативными коннотациями; с другой стороны,
этот корень вбирает в себя смыслы, связанные со
значимостью, непостижимостью, удивительностью и проч. С
помощью афиксов и флексий образуются новые слова. Далее,
объединяя их с другими словами, можно выстраивать
устойчивые выражения: «хуйня», «хуевина», «охуеть», «хуй его
маму знает», «На хуя?», «Ни хуя себе!» и т. д., и т. д.
В результате появляются конструкции с весьма
широким семантическим полем; так что точное смысловое
пространство вырисовывается из контекста. Но, за
немногими исключениями (так, слово «хуевина» совершенно утра-
363
тило какие-либо ценностные коннотации и обозначает
некую неопределенную вещь), в этих конструкциях
присутствует некоторая положенность, аксиологическая вы-
деленность. Часто отрицательная. К примеру, выражение
«на хуя?» можно перевести как «зачем». Но «на хуя?» не
тождественно нейтральному «зачем», а несет в себе посыл
относительно бессмысленности того, по поводу чего
задается вопрос. Конструкции «по хую» и «всё по хую» — из
этой парадигмы. «По хую» обозначает идею субъективной
невосприимчивости относительно возможных внешних
воздействий. А «всё по хую» — высшую, превосходную
степень такого отношения.
Можно вспомнить недавно (в 70-е годы) возникшее
производное существительное «похуизм», выражающее
жизненную позицию, которая лучше всего
характеризуется выражением — «мне всё по хую».
Сопоставим результаты наших наблюдений с
симметричной парадигмой, в которой смыслообразование идет с
использованием табуированного обозначения женских
гениталий. Принципы формирования слов и устойчивых
выражений совпадают. Однако женская парадигма
представляется более бедной. В рассматриваемой
совокупности в глаза бросается выраженно негативный характер
возникающего смыслового поля:
«распиздяйство» — безответственность,
наплевательское отношение к жизни;
«спиздить» — украсть;
«пиздеть» — лгать, безответственно трепаться.
Производное отглагольное существительное — «пиздеж»5.
Добавим, «пиздеть» — не просто лгать, но лгать нагло и
беспардонно. В случае заурядной лжи точнее сказать «попизжи-
вает».
В этом месте вспоминается трогательный анекдот.
Свалились в яму медведь, волк, лиса и заяц. Волк говорит:
«Давайте, чтобы нескучно было, играть в карты. Только не
жульничать. А того, кто будет жульничать, — наглой,
рыжей мордой — об стол». Волк (заметим, зверь, выражаемый
в русском языке существительным мужского рода) не
показывает ни на кого пальцем. Но есть в его речи что-то, что
позволяет реконструировать ожидания этого
симпатичного нам хищника. Ненормативный русский ведет себя точ-
364
но так же. Не говоря худого слова, он просто увязывает
вызывающе наглую ложь с символом женской природы.
Женские гениталии служат для выражения идеи
убогости, психической и умственной неполноценности — «пизда-
нутый», «с припиздью». Отметим, что в симметричной, то
есть мужской, парадигме этот смысл отсутствует.
Синонимичное понятие можно обнаружить в парадигме полового
акта— «ебнутый», «ебанашка». Как видим, язык устойчиво
увязывает женское начало с ложью, изменой, воровством,
безответственностью и убожеством.
Можно вспомнить и некоторые другие. Например, «пиз-
добратия» — пренебрежительное обозначение группы
людей, восходящее к представлению об обретении родства
через обладание одной женщиной. Однако они не меняют
общей картины. Можно выделить самостоятельный блок
специфически оскорбительных конструкций, таких как:
«пиздюк», «пиздорванец». Отметим, что в мужской
парадигме обнаруживается симметричный этому блок. К
примеру — «хуесос». К названному типу конструкций
относится использование женских гениталий для «посылания», то
есть оскорбительной отсылки адресата в непечатное
пространство. Все эти построения менее продуктивны с точки
зрения порождения новых смыслов и в рамках настоящего
исследования особого интереса не представляют.
Кроме того, в некоторых, достаточно узких,
контекстах «пиздец» («пиздец всему») может читаться и как
выражение предельного, убийственного качества.
Характеристика «пиздец всему» применима, например, к
установке залпового огня или спортивному автомобилю. Здесь мы
сталкиваемся с известной в культурологии симметрией
процессов смыслопорождения, когда вслед за
выстраиванием иерархии понятий одного аксиологического поля
«сама собой» возникает симметричная ей иерархия с
противоположной аксиологией. При этом слово,
обозначающее ранг, иерархический уровень, качество, сохраняется,
а аксиологическая модальность меняется на
противоположную. Так, вслед за напряженно выстраиваемой
ангельской иерархией возникает соответствующая иерархия
демонических сил. А «Великому Князю и Государю нашему»
соответствует Князь Тьмы6. В нашем случае вторая
иерархия производна от первой, моложе ее и уже.
365
Не менее выразительна парадигма устойчивых
выражений. Кроме упомянутого «пиздеца всему», здесь можно
привести аналогичное в смысловом отношении «пиздой
накрыться» (потерпеть крах). На соседнем
семантическом поле лежит выражающая идею тупика,
бесперспективности дальнейшего движения конструкция «пизда рулю».
Обращает на себя внимание юмористическая, как
представляется, конструкция «по пизде мешалкой», которая явно
апеллирует к зрительному воображению слушателей, а
также блок устойчивых выражений, объединяемых
общностью порождаемого смыслового поля: «не пришей
пизде рукав»; «ни в пизду, ни в Красную Армию»; «до пизды
задвижка».
В нормативную лексику эти выражения можно
транспонировать как «ни туда, ни сюда», как выражение идеи
нелепости, бессмысленности, полной несообразности чему бы
то ни было. Одним словом, «не пришей пизде рукав». Как
видим, женская смыслообразующая парадигма не только
беднее количественно, но существенно уже в смысловом
отношении. Если мужская аккумулирует смыслы,
связанные с табуацией, опасностью, невозможностью, а также
полем разнообразных амбивалентных коннотаций
(значимостью, непостижимостью, и т. д.), то женская сводится к
выражению убожества, лжи, воровства,
безответственности, затем — несчастья, краха и опасности, а также идей
смешного, нелепого и бессмысленного.
Последнее смысловое поле отсылает нас к
непосредственному образу женских гениталий как символа
смешного, не-лепого (от слова «лепота» — красота) и
бессмысленного. Эти представления нашли свое закрепление в
выражении «не смеши пизду, она и так смешная». Здесь мы еще
раз сталкиваемся с патриархальным, ориентированным на
профанацию женщины характером традиционной культуры.
В ненормативной модели языка женское начало предстает
как однобокое и не способное к богатому смыслопорожде-
нию. Спектр новых смыслов достаточно узок. Наконец,
эти смыслы разительно отличаются от мужской
парадигмы в аксиологическом отношении. Все они лежат в поле
негативных коннотаций. В этой связи вспоминается
пассаж из трактата Эразма Роттердамского «Похвала
глупости», в котором знаменитый гуманист рассуждает относи-
366
тельно того, что рождение человека связано не с таким
достойным и серьезным органом, как ухо, но с частью тела,
которую упомянуть без смеха невозможно. При этом Эразм
имеет в виду мужской член. Вот она — разница между
низовой культурой России и Европы. Для представлявшего
германский север Эразма, как и для представлявшего
латинский юг Европы Рабле мужские гениталии смешны
(вспомним словесную игру — «блудодей тонкий, блудодей
звонкий», но «блудодей трухлявый, блудодей шепелявый» в
романе «Гаргантюа и Пантагрюэль»). Для россиянина
мужские гениталии протеистически многообразны и
амбивалентны. Они: грозны — «стучать хуем по столу»;
великолепны и совершенны в функциональном отношении — «хуй
дубовый», «хер моржовый»; поразительны, выражают идею
аффектации — «охуеть» (от волнения, удивления,
радости); значительны и удивительны — «ни хуя себе»;
выражают идею неизвестного, непонятного и непостижимого —
«хуй его знает»; выражают идею индифферентности — «по
хую», «ну и хуй с ним»; служат для выражения
предельности некоторой характеристики — «охуительная» (красота,
высота, глубина)7; соотносятся с идеей энергичного
(целенаправленного, успешного, эффектного) выполнения
некоторого действия — «хуярить»; выражают идею
невозможного, недостижимого — «хуй-то», «хуй в сраку», «нако-
ся выкуси», наконец, «пососи».
В то же время связаны с профанным в широком
смысле: выражают идеи глупости, бессмыслицы, ненужности —
«хуйня», «полная хуйня», «хуй знает что», идею
дискомфорта, плохого качества, тяжелого морального и
психологического состояния, неблагоприятного течения дел —
«хуево» («с бодуна», по жизни, после болезни и т. д.);
наконец, служат для «посылания» — описанной в параллельной
парадигме оскорбительной отсылки к гениталиям.
Одним словом, мужские гениталии выражают всё что
хотите, но никак не смешное. В крайнем случае, они
смешны в самую последнюю очередь. Перед нами — выражен-
но-патриархальная культура, в которой мужская точка
зрения доминирует, женщина профанируется, а процесс
словообразования составляет привилегию мужчины.
Эта смысловая диспозиция восходит к седой
древности. «Хуй» — сущность изначально амбивалентная. Слова
367
«мудрец» и «мудак» производим от общего древнего
корня «уд» — половой член и являют собой сакрализованную
и профанизованную версию одного понятия,
обозначающего носителя (обладателя) мужского члена. Совершенно
иное дело с вагиной. Здесь положительные коннотации
просто не обнаруживаются.
Идем далее. В языке не содержится каких-либо
указаний относительно эстетической оценки мужского члена.
Что же касается вагины, то она предстает знаком
бесформенного и без-образного. А что по существу? Лепая
или не-лепая? Вот в чем вопрос. Если отрешиться от
установок, энергично навязываемых культурой, прежде
всего традиционной, и задаться проблемой эстетической
оценки гениталий (не важно, мужских или женских), то
придется признать, что сами по себе они естественны
как лодыжка, не более того. И, стало быть, в
зависимости от конкретной ситуации могут порождать те или иные
эстетические переживания. О чем, к примеру,
свидетельствует искусство XIX—XX веков. В нем мы можем
обнаружить образы гениталий, решенные как величественные
и прекрасные (Обри Бердслей). Можно найти решения
анатомически нейтральные (казенное советское изоис-
кусство). А можно — отталкивающе неэстетичные (Эгон
Шиле).
Ровно так же разрешается вопрос о том, смешны ли
гениталии. Смех при созерцании «срама», обнаженного вне
разрешенных культурой ситуаций, — диктуемая культурой
и объяснимая психологически реакция на факт
нарушения табу, в которой содержится одновременно оценка и
факта, и личности нарушителя. «Ехал на ярмарку Ванька-
холуй. За пять копеек показывал хуй». И это, разумеется,
смешит. А человек подглядывающий за раздевающейся
женщиной, которая о том не ведает, смехом не
заряжается. То есть гениталии смешны не сами по себе, но
провоцируют смех, будучи предъявлены, упомянуты в особых
санкционированных культурой ситуациях и контекстах.
Сами по себе, вне заданных культурой реакций, они не
более смешны, нежели ухо или гортань. Между тем
культура покрывает эти сущности общим образом смешного и
особенно фиксируется на вульве, превращая ее в символ
смешно-бесформенно-нелепого.
368
Если же вернуться к женским гениталиям, то
обнаружится, что высмеивает и профанирует их российский
мужик оттого, что боится. Вульва связана с идеей о
вредоносном характере и особой опасности ее для мужчины. А это, в
свою очередь, связано со страхом оскопления как
универсальной, антропологически заданной мужской фобией.
Сумма названных культурных смыслов раскрывается в
выражении «пизда с зубами». В классической работе В.Я.
Проппа «Исторические корни волшебной сказки» дается
описание этого любопытного феномена архаического
сознания, где бытовали представления, в которых вагина
выступала именно с зубами. Соответственно, перед
мужчиной вставала задача обезвредить ее, перед тем как
овладеть женщиной8. Добавим, что здесь речь идет о
достаточно универсальной идее, представленной в фольклоре
других народов и дожившей до XX века в жанре
юмористической сказки. Автору довелось видеть
мультипликационную порноверсию «Сказки о спящей красавице». Там
фигурировала злая колдунья, соблазняющая доверчивых
прохожих. В момент оргазма вагина колдуньи обрастала
зубами и схрупывала несчастных. Приключения злодейки
закончились встречей с сообразительным героем,
заложившим в предательское лоно заряд взрывчатки. Вот то
пространство, в котором действует и определяет себя
наш герой — рассказчик и слушатель анекдота. В этом мире
конфликтно взаимодействуют две подлинно космические
стихии. Одна — богатая в своих потенциях и природнен-
ная. Другая — однобокая и иррационально опасная. В
перипетиях борьбы данных сущностей пролегает частная
судьба героя. То есть объекта отождествления.
В этом мире его подстерегает опасность. Она
стихийно-иррациональна и не подвластна человеку, кроме того (а
на самом деле именно поэтому), она связана с женским
началом. Где же спасение? В своем мужском естестве. «Всё
по хую» задает координатный ноль, точку отсчета. И этой
точкой становится член, с позиции владения которым
все передряги — ерунда. Следующий вопрос — для какой
возрастной категории наиболее характерен такой ход
мысли? Перед нами подросток, только-только
переживший инициацию. Именно подросток уже знает об
ответственности за содеянное и, более того, вошел во вкус со-
369
вершать поступки, в результате которых приходится
ожидать «пиздец всему». Он протестует против порядка
вещей, когда за содеянное надо отвечать, а потому
представляет воздаяние как стихийное бедствие и ищет спасения в
том факте, что он уже — взрослый мужчина, полноценный
членоносец, надеющийся отмахаться предметом своей
гордости от всех невзгод. Таковы тайные чаяния нашего
героя. И анекдот отвечает ему согласием. «Всё По Хую»
побеждает. Разумеется, победить «Пиздец Всему», вообще
говоря, невозможно. «Пиздец», великий и ужасный,
неустраним. Речь идет о частной, но такой важной победе. Победе
здесь и теперь. «Всё По Хую» победил, ибо оказался
неуязвим. «И тьма его не объяла». Вот где кульминация,
освобождение. Катарсис и просветление. Отсюда — взрыв
радости и веселье слушателей.
Так, лежащий за гранью нормативной лексики
современный анекдот раскрывается как изоморфная мифу
структура, как выражение скрытых тревог и упований
культурного субъекта. Одновременно нам раскрываются базовые
характеристики массовой ментальности, раскрывается
суть культуры, в которой живет анекдот. Это
патриархальность; доличностный характер; инфантильность,
нежелание расстаться с безответственностью, сохранение ее как
затаенного идеала; культура, субъекту которой присуще
профанирование и демонизация женщины; страх перед
женским началом, увязывание его с иррациональной
опасностью; а также последняя надежда на свою мужскую
природу, понимаемую как сила-оберег.
А теперь — о самом главном. Зададимся вопросом
общего порядка. Почему «язык без мата, как щи без
томата»? Почему, вопреки нормативной модели, мат
пронизывает речевую практику, присутствует во всех срезах и на
всех уровнях культуры? Почему включения
ненормативной лексики наполняют речевой поток особой энергией,
переводят коммуникацию в какой-то другой план,
объединяют говорящего и слушателя? Почему язык простого
народа (иными словами, людей целиком или по
преимуществу принадлежащих фольклорной стихии) — и стариков
370
и детей, и дома и на работе, и в горе и в радости —
насквозь пронизан матом, так что при изъятии последнего
коммуникация рассыпается? Почему в народной среде (да
только ли в народной) мат связан с веселым оживлением,
сплавлен с шуткой и праздником?
Пора наконец сказать правду. Русский мат - форма
бытования языческого сознания в культуре, рассматривающей себя
как монотеистическая.
Вглядимся в неолитических Венер с их
гипертрофированными половыми признаками, посмотрим на
деревянные и каменные фаллосы. «Хуй» и «пизда» выступают в
двух ипостасях. На поверхности это обозначения
мужских и женских^гениталий. Но прежде всего —
наименования Рода и Рожаницы. Этих божеств, космических
стихий, двух ипостасей единой сущности — вечного, несотво-
римого и неизменного Рода, пролегающего из прошлого в
будущее и творящего всё сущее.
«Ебать» — не столько обозначение эмпирического
совокупления, сколько отсылка к мистерии соединения
мужской и женской космической стихии, вечного
совокупления, творящегося в пространстве трансцендентного и
оборачивающегося рождением и смертью всего и вся.
Запрещение язычества привело к профанированию
сакральных сущностей и табуизации имен. Родовое
мироощущение ушло (прежде всего, но не только) в табуиро-
ванную лексику и в этом, зашифрованном, виде
развернулось в безграничное культурное пространство, в
огромный мир язычества-после-язычества. И каждая встреча с
запрещенным, но родным, близким и единственно
освоенным — всегда праздник.
Говорящий «хуй его знает» или «ну и хуй с ним» не
имеет в виду чьих бы то ни было гениталий. Мы знаем,
какие конструкции калькируют эти высказывания. Он
поминает Рода и отсылает к его величию. На самом деле
понятия «охуительно» и «божественно» синонимы. Разница
между ними состоит в том, что в слове «божественно»
отсылка к сакральному затерлась, а в слове «охуительно»
жива.
Люди из образованного общества поражались тому,
что крестьяне сами «учат детей блядословию».
Поражались, поскольку не постигали целей и смысла наблюдаемо-
371
го. Приобщая ребенка к миру мата, крестьянин погружал
его в травестированный, зашифрованный мир язычества,
воспроизводил завещанный предками космос.
Носитель догосударственного архаического сознания
тоскует в пространстве государственности. Даже самой
рыхлой и архаической. Рвется прочь из истории и
цивилизации, мечтает об Опонском царстве родовой общины или
военной демократии. Здесь мы сталкиваемся с другой
гранью той же самой коллизии. Язычник тоскует в мире,
смоделированном вокруг монотеистической доктрины. Он
создает заповедное пространство, куда помещает свой, то
есть языческий, космос. И каждая встреча с ним — улыбка
из детства, радость переживания самого близкого,
единственно природненного.
Если посмотреть на практику использования мата, в
глаза бросается явная тендерная ассиметрия. Мальчики
матерятся практически все. Девочки несравненно реже и
начинают использовать ненормативную лексику позже.
Взрослые мужчины — все, за редкими исключениями.
Женщины — избирательно, причем некоторые не только
избегают использовать мат в собственной речи, но и не
воспринимают его вообще. Старики — все, пожилые
женщины — избирательно. Причем деревенские старухи
матерятся чаще и охотнее, чем взрослые женщины. Это наводит
на мысль о связи мата с языком мужского дома, запретным
для женщины. Позже — ритуальный язык служителей
магических культов плодородия. Причем культ был чисто
мужским. В реакции на мат есть какая-то отсылка к запретному
языку.
Для язычника вся сфера репродуктивного — не только
мир плотских радостей, но и пространство
соприкосновения с трансцендентным, животворящим, радостно
божественным*. В этом — коренное отличие языческого и
христианского бога, христианской спиритуальности и аскезы
от языческого радостного жизнелюбия. Не зря Церковь
веками вела борьбу на уничтожение с миром
традиционной сексуальности. Загоняла ее в жесточайшие рамки,
обставляла массой запретов, оставляла для половой жизни
добродетельного христианина не более 5—6 дней в месяц,
регламентировала формы и способы половой жизни,
предписывала, как, когда, с кем, в какой позиции и сколько раз,
372
заколачивала в сознание исполнение супружеских
обязанностей («плодиться и размножаться, прославляя имя Божие»)
как единственно возможную модальность сексуальной
жизни, делала всё для того, чтобы секс не превратился в
сладкую страсть, «способную по своей силе затмить главное —
любовь к Господу и веру в Спасение»10. Здесь проходил
один из главных фронтов борьбы с язычеством. И эту
битву Церковь проиграла. Но изменить сексуальную этику и
повлиять на практику половой жизни в той или иной мере
Церкви все же удалось. И тем не менее это не затронуло
базовых оснований мироощущения. Язычество, как
потаенный праздник, ушло в язык.
Генетические корни бытового мата восходят (в
частности) к истории русского скоморошества.
Профессиональные носители смеховой культуры были признанными
виртуозами сквернословия. «В древнерусском двоеверном
обществе скоморохи были служителями великих
магических культов, связанных с плод о- и детородием»11. С
победой христианства культура скоморохов, прямо
вырастающая из языческого ритуала, оформляет и сохраняет
традицию ритуального сквернословия. Как отмечает Панченко,
русские источники постоянно порицают «веселых» за то,
что те используют «матерный лай» как своеобразный
корпоративный и обрядовый диалект. «Задача православного
попа — побуждать пасомых к слезам, потому что слезы и
покаяние необходимы для спасения души. Скоморох
заботится о телесном благополучии, о плодовитости
человеческого племени и плодородии земли», — пишет А.М.
Панченко12.
Культура Нового времени сгубила скоморошество. Со
второй половины XVII века государство ведет с ним
борьбу на уничтожение. Однако уничтожение социального
института не означает исчезновения его духовных
оснований. Экзистенциальная потребность в мироощущении,
хранителями коего выступал скоморох, осталась. Она
всплывает в свадебной обрядовости, лубке, «заветной
сказке», кабацкой песне, в петрушечном театре и
творчестве ярмарочного деда-зазывалы. Видимо, ярмарка, тихо
угасшая на рубеже XIX—XX веков, была последней
формой бытования культурно выделенного пространства, в
котором актуализуются смыслы языческого ритуала, со-
373
хранившие связь с древней традицией, и действуют про-
фессионализованные носители этой культуры.
Урбанистическая культура Нового времени «снимает ярмарку». С
этого момента культура мата растворяется в общей стихии
разговорного языка.
Здесь надо сказать о том, что сходные процессы
происходили в культуре Западной Европы. Для человека
латинского мира табуированная лексика также несет в себе
отсылку к язычеству. Последовательное вытеснение
языческого мироощущения и закрепление его в определенных
пластах языка носило более или менее универсальный
характер. Специфичными оказываются итоги: та
конфигурация языка, речевой практики и встающей за этими
сущностями ментальности, которая сложилась в каждой из
локальных цивилизаций. Для Эразма и Рабле мужской член
прежде всего смешон. Для современного русского языка
«хуй» безграничен и неисчерпаем, но смеха над
актуальными святынями (не важно, осознанными или не
осознанными) культура не признает. И это различие смыслов и поло-
женностей свидетельствует о качественной и стадиальной
дистанции между Россией и Европой. Однако
компаративистика ненормативного пласта культуры — огромное
проблемное поле, заслуживающее специального
исследования.
Культуре свойственно обманывать людей. А людям так
хочется заблуждаться относительно себя самих. Язык, —
эмпирический, тот, что у нас во рту, — возможно, и дан
человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Однако
язык разговорный, язык как универсальная
моделирующая система раскрывает истину о нас самих, нашем
сознании и подсознании во всей полноте.
Культура русского мата, ее сущностные
характеристики, место и роль того универсума, который
выстраивается с помощью ненормативной лексики, свидетельствует
нам о характере ментальности, о месте и роли язычества
в нашем сознании. Извержение же этой неоглядной
сферы из нормативной модели мира вскрывает стадиальные
и сущностные характеристики российской
цивилизации.
374
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Прежде всего легализовался и оформился пласт современной
художественной литературы, использующей ненормативный язык, который
осваивается литературоведением. Далее, идет развернутая
публикаторская работа. В этом ряду можно упомянуть как разрозненные публикации
классики настоящего жанра, так и систематическую публикаторскую и
теоретическую работу в рамках серии «Русская потаенная литература»,
издаваемой с 1992 года.
2 В подобных текстах в высшей степени характерно это «вдруг»,
которое несет в себе указание на поступь Командора. В России всё случается
вдруг, откуда ни возьмись, нежданно-негаданно (совсем как «Пиздец
Всему» для обитателей города, леса и одинокой избушки). И в этой
неожиданности — дыхание Судьбы.
3 «Соленый» анекдот — одна из самых демократических, низовых
форм словесности. Он близок крестьянской свадьбе и ковру с лебедями.
4 Теоретическая концепция культуры, базирующаяся на этих
положениях, развернута в монографии: Пелипенко A.A., Яковеико И.Г. Культура
как система. М., 1998.
5 Пиздеть—достаточно старый ненормативный глагол. Любопытно,
что через русскую эмиграцию он вошел во французский язык в форме
«nepizdipa».
6 Подробнее см: Пелипенко A.A., Яковеико И.Г. Указ. соч.
7 Заметим здесь (так же, как и в случае с негативно коннотированны-
ми конструкциями «пизданутый» и «с припиздью»), что симметричное
выражение обнаруживается и в парадигме полового акта. Это — «заеба-
тельская» и «заебись».
8 По-видимому, на формировании этого комплекса идей сказались
также достаточно устойчивые архаические представления о родильной
и месячной нечистоте женщины.
9 Половой акт связывает язычника с трансцендентным, приобщает
его к Роду. В нем обязательно присутствуют культурные смыслы
тантрического характера.
10 Пушкарева Н.Л. Сексуальная этика и частная жизнь древних русов и
московитов (X—XVII вв.) // Секс и эротика в русской традиционной
культуре. М., 1996. С. 73.
11 ЗабиякоА.П. История древнерусской культуры. М., 1995. С. 208.
12 Цит. по: Там же. С. 209.
В. П. Коровушкип
ИНВЕКТИВНАЯ ЛЕКСИКА
И ФРАЗЕОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКОМ И
РУССКОМ ВОЕННЫХ ПОДЪЯЗЫКАХ
Контрастивно-социолингвистический аспект
Нестандартная лексика и фразеология в современных
английском и русском языках представляют собой
наиболее живую часть их словарных составов (подробнее об
английском и русском лексических субстандартах см.:
Беляева, Хомяков 1985; Хомяков 1971; Хомяков 1974;
Хомяков 1980; Химик 2000). Лексическое просторечие активно
как в плане функционирования, так и в плане обогащения
и расширения. Частое употребление субстандартной
лексики в речевом общении ее носителей преследует не
только номинативные цели. В большей степени оно
направлено на выражение отношения к внеязыковой
действительности, к партнерам по общению, к самим себе и к своему
языку. Такое отношение можно разграничить на два типа:
положительное и отрицательное. Оно проявляется в
коннотации конкретной просторечной лексемы.
В связи с этим для контрастивной социолингвистики,
социолексикологии и лексикографии (см.: Коровушкин
1993; 1994) представляется интересным и важным
рассмотреть континуум отрицательной сниженности,
имеющей инвективную направленность, закрепленную в
семантической и, часто, в формальной структуре
просторечной лексической единицы и отраженную в толковом
просторечном словаре с помощью соответствующих
помет. С этой целью решаются три задачи,
устанавливаются: (1) характер нарастания инвективности в континууме
отрицательной сниженности, зафиксированной в
структуре социально-стилистической коннотации
просторечной лексемы, (2) темпорально-историческая и (3) про-
376
фессионально-корпоративная дифференциация инвек-
тивных единиц, отражающие социопрагматические
особенности Pix функционирования в соответствующем
языке. Решение этих задач может способствовать уточнению
содержания понятия «инвектива» применительно к ее
лексикографической интерпретации.
Для анализа выбрана неуставная часть лексических
систем английского и русского военных подъязыков,
представленная словами и устойчивыми словосочетаниями
соответствующих военных социолектов — военными социолек-
тизмами (подробнее см. об этом: Коровушкин 1989 а, б, в),
извлеченными из словарей английского и русского
просторечия (см.: Авиация 1994; Дворецкий 1976; ВЭС 1983;
Коровушкин 2000; ЛЭС 1990; Максимов 2002; Мокиенко,
Никитина 2000; НСИСВ 2001; DES 1948; Baker 1943; Bar-
lett 1859; Branford 1991; Hayward 1975; Partidge 1979; Simes
1993; Wentworth, Flexner 1975; Jule, Burnell 1985). Выбор
темы и материала исследования обусловлен следующими
причинами: (1) военные социолектизмы недостаточно
изучены в аспекте их инвективной направленности; (2)
анализ инвективной номинации в социолектах важен для
адекватного социолингвистического описания
лексического просторечия в английском и русском языках.
Уточним теперь основные принципы, понятия и
термины нашего анализа.
Исследование базируется на следующих теоретических
принципах контрастивной лингвистики: сравнимости,
системности, терминологической адекватности,
достаточной глубины и двусторонности сравнения (см. об этом,
напр.: Гак 1989; Касевич 1988; Климов 1990; Юсупов 1988;
Ярцева 1960). Направление анализа — от английского
языка к русскому, поскольку англоязычный военный
подъязык сложился и получил лексикографическую
регистрацию раньше русского, особенно в своей субстандартной
части. Это позволило провести предварительное контра-
стивное социолектологическое и социолексикологиче-
ское описание некоторых характеристик субстандартной
военной лексики и фразеологии английского и русского
языков (см.: Коровушкин 1999; Коровушкин 2001;
Коровушкин 2002), на котором и основывается предлагаемое
исследование инвективной части военного субстандарта.
377
Инвектива (от лат. invectovus — полный выпадов,
резкий (см.: Дворецкий 1976: 552)) определяется как «гневное
выступление против к.-л., ч.-л.; оскорбительная речь; брань,
письменное или устное обвинение, а инвективный — как
«нецензурный, бранный; полный выпадов, резкий,
обвинительный, гневный (о слове)» (НСИСВ 2001: 335).
В лингво-терминологическом аспекте инвектива
рассматривается, вслед за В.И. Жельвисом, как
определенный культурно-обусловленный и
национально-специфичный инвективный континуум вербальной агрессии (см.:
Жельвис 1992: 5-6; 1997: 9-8).
В широком смысле термина, используемого в данной
статье, инвектива определяется как любое вербальное
проявление агрессивности или стилистически сниженной
экспрессивности, оценочности, усилительности, эмотив-
ности и эзотеричности по направлению к участнику
коммуникативного акта, включая самого себя (при
физическом присутствии или отсутствии других), к ситуации,
теме, предмету и процессу социально-речевого общения,
осуществляемое посредством как литературной, так и
просторечной лексики и фразеологии, а в узком смысле — как
нарушение этнокультурного социально-этического табу
употреблением только субстандартных лексических
единиц различной степени этико-стилистической сниженно-
сти (ср.: Жельвис 1990: 7-8).
Инвективное содержание может закрепляться в
коннотации слов и устойчивых словосочетаний и,
следовательно, регистрироваться в словарях, включаясь в дефиниции
и отражаясь в соответствующих пометах.
В основе предлагаемого подхода к
социолингвистическому описанию инвективной лексики и фразеологии
военного подъязыка как экзистенциальной языковой
формы лежит понятие нормы.
Норма определяется как совокупность исторически
сложившихся в обществе и принимаемых конкретным
речевым коллективом правил выбора языковых средств всех
уровней для построения социально-корректного
высказывания. В ее трактовке мы исходим из положения о том,
что норма проявляется в нормативности, являющейся
постоянным языковым качеством, без которого не могут
функционировать любые формы существования языка и лю-
378
бые единицы всех языковых уровней. Нормативными
можно признать любые лингвистические и паралингвистиче-
ские средства, которые используются коммуникантами для
передачи любой информации в соответствии с правилами
построения корректного высказывания, полностью
принимаемыми участниками конкретного социально-речевого
акта, разделяемыми в основном данным социумом и, в
определенных частях, — обществом в целом. При этом
«широкая» узуальная нормативность, варьирующаяся от
ситуации к ситуации общения, ограничивается
«промежуточной» нормативностью конкретного социума и
сужается до стабильной закрепленной в государственных
нормативных актах и документах кодифицированной
нормативности, осознаваемой и принимаемой всем языковым
сообществом. Отсюда норма может быть представлена как
комплексная вариативная система языковых норм,
реализуемых в речи в зависимости от социолингвистических
параметров коммуникации.
Социум здесь выступает в роли языкового и речевого
коллектива — совокупности социально
взаимодействующих индивидов, имеющих единый инвентарь языковых
единиц, но различно употребляющих их в речи.
Норма, проявляющаяся в кодифицированной
нормативности, называется литературной или стандартной
нормой первого уровня. Она выступает в качестве нейтрального
фона, на котором проявляются отклонения от нее,
характерные как для форм существования языка, так и для
отдельных подсистем этих форм или конкретных ЯЗЫКОВЫХ
единиц всех уровней — фонетического, грамматического
и лексического. Все отклонения от нормы литературного
стандарта подводятся под термин субстандартной или
просторечной нормы второго уровня. Обе нормы в рамках
национального языка образуют общую
социолингвистическую норму, которая может существовать в трех видах ее
варьирования: (1) преобладание нормы первого уровня;
(2) паритетное сосуществование обеих норм; (3)
преобладание нормы второго уровня.
Экзистенциальная форма языка понимается как
вариативная форма существования общенародного языка,
обладающая собственной иерархически структурированной
системой единиц всех языковых уровней, различной степенью
379
коммуникативной автономности, особыми функциями и
специфическим социумом, который она обслуживает.
Экзистенциальная форма далее не членится на более мелкие
экзистенциальные системы без потери названных
существенных признаков и без перехода в новое качественное
состояние (ср.: Туманян 1985: 4).
Здесь понятия «форма существования» и
«экзистенциальная форма» соотносятся как общее и частное.
Формы существования языка могут быть как
экзистенциальными, так и неэкзистенциальными, если они не отвечают
существенным признакам первых. При этом степень
автономности экзистенциальных форм языка может быть различной.
Она проявляется в качестве ситуации диглоссии,
создаваемой взаимодействием форм существования языка.
Диглоссия определяется как сосуществование двух форм
одного языка в пределах одного социума.
Полностью автономные формы существования языка
создают ситуацию полной диглоссии — одновременного
функционирования двух экзистенциальных языковых форм в
пределах одного социума, выступающих как равнозначные
средства коммуникации или языковые коды, на которые
могут переключаться их носители в соответствии с
социолингвистическими параметрами коммуникативного
акта. В качестве таких форм выступают национальные
варианты полинациональных языков, литературный язык,
региональные и территориальные диалекты и
интересующие нас так называемые «подъязыки», «субъязыки» или
«специальные языки». Степень автономности у названных
форм различна: наивысшая — у национальных вариантов
и наименьшая — у подъязыков.
Полу автономные экзистенциальные формы языка создают
ситуацию частичной диглоссии — одновременного
функционирования отдельных структурных элементов
фонетических, грамматических и лексических систем одной из двух
взаимодействующих форм существования языка в
пределах одного социума, выступающих как неравнозначные
средства коммуникации или языковые коды, на которые
могут переключаться их носители в соответствии с
социолингвистическими параметрами коммуникативного акта.
Здесь в качестве ведущей автономной формы,
обеспечивающей коммуникацию на данном языке, выступает литера-
380
турный язык. В качестве подчиненных полуавтономных
форм могут выступать различные социализированные
локальные полудиалекты и городские говоры,
социализированные этнические диалекты и социальные диалекты —
социолекты.
Неавтономные формы существования языка создают
ситуацию только лексической диглоссии — одновременного
функционирования ведущей экзистенциальной формы —
литературного языка и лексической системы другой,
подчиненной ей формы в пределах одного социума, выступающих
как неравнозначные средства коммуникации: первая — как
целостный языковой код, обеспечивающий коммуникацию
на данном языке, а вторая — как лексические элементы
другого языкового кода, которые могут присутствовать в речи
их носителей как отдельные вкрапления в соответствии с
социолингвистическими параметрами коммуникативного
акта. В качестве таких кодовых вкраплений могут
выступать элементы лексических систем различных этнических
и социальных диалектов — сленгизмы, жаргонизмы,
арготизмы или кэнтизмы.
Подъязык, субъязык или специальный язык понимается как
совокупность фонетических, грамматических и
лексических средств национального языка, обслуживающих
речевое общение определенного социума,
характеризующегося единством профессионально-корпоративной
деятельности своих индивидов и соответствующей системой
специальных понятий. Фонетическая и грамматическая
системы любого подъязыка — это соответствующие
системы национального языка, обеспечивающие его
нормативное функционирование и понимание как в обществе в
целом, так и в конкретном социуме. Однако они могут иметь
некоторые, не нарушающие языковую систему
специфические профессионально детерминированные
новообразования, отражающие формализованность отдельных
видов речевого общения на естественных и искусственных
языках, особенно в военных сферах коммуникации. Эти
системы могут также включать в качестве обиходных
вкраплений известные фонетические и грамматические
отклонения от литературной нормы (внелитературное
просторечие), отражающие особенности речевого поведения,
присущие представителям различных социализирован-
381
ных расовых, национальных, этнических,
демографических, региональных, территориальных, локальных,
профессиональных (смежных и несмежных профессий) и
корпоративных (по интересам вне профессий) групп,
составляющих данный социум.
Военный подъязык, являясь автономной
экзистенциальной формой языка, определяется как совокупность
фонетических, грамматических и лексических средств
национального языка, обслуживающих речевое общение
военного социума, характеризующегося единством военно-
профессиональной и военно-корпоративной
деятельности военнослужащих и системой общих и специальных
военных понятий.
Социолект понимается как автономная, полуавтономная
или неавтономная форма существования общенародного
языка национального периода, функционально
закрепленная за определенным профессионально-корпоративным
социумом, обладающая специфичной лексической
системой и варьирующим по качеству и количеству инвентарем
грамматических и фонетических особенностей,
обусловленных социолингвистическими характеристиками его
носителей.
Военный социолект— это исторически сложившаяся,
относительно устойчивая полуавтономная форма
существования национального языка, обслуживающая военный
социум и обладающая специфической просторечной лекси-
ко-фразеологической системой, общими с литературным
стандартом фонетической и грамматической системами,
отдельными внелитературными фоно-грамматическими
отклонениями, характерными для речевого репертуара
различных этнических, национальных, демографических,
профессионально-корпоративных и
локально-территориальных групп и категорий населения, составляющих военный
социум конкретной страны.
Лексико-фразеологическая система военного подъязыка
формируется стандартной военной терминосистемой и лекси-
ко-фразеологической системой военного социолекта.
Военный термин — это стандартная лексическая или
синтаксическая номинативная единица с нейтральной
коннотацией, обозначающая общевоенное или военно-специальное
научно-техническое понятие и функционально зареплен-
382
ная за профессионально-корпоративной областью
военного дела конкретного общества и соответствующей
военной сферой функционирования национального языка в
военном социуме (см. также: Шевчук 1985). Военные
термины регистрируются в стандартных военных толковых или
энциклопедических словарях без
социально-стилистических и стратификационных помет. Ср.: Mortar. A high
elevation ordnance throwing a comparatively light projectile
(Hayward 1975: 108); миномёт, арт. Орудие с опорной
плитой, предназначенное для навесной стрельбы минами (ВЭС
1983: 447).
Военная терминология может деградировать и
переходить в слой военных литературных и низких
коллоквиализмов или даже жаргонизмов, приобретая этико-стили-
стическую сниженность с возможной инвективной
направленностью, формируя пограничную зону между военной
терминосистемой и лексической системой военного
социолекта. Ср.: rest camp. A cemetery: military: 1917: Ex
military j. «Кладбище» [Букв.: «лагерь отдыха»]: военный сленг:
из военного термина; scoop. Important news. Standardby
1925. —> 2. Recent, official information. Armed Forces use 1940.
«Важные новости». Стандартное. —> «Свежая официальная
информация». [Букв.:«совок; лопата; черпак».] Сленг
вооруженных сил; бэтээр. 1. разговорное. БТР. -» 2. грубое,
шутливое. Лобковая вошь, «мандавоха». —> 3. (< 1)
фамильярно-насмешливое. Крупная женщина. Все значения:
сухопутные войска: 1979+: Афганская война1.
Лексическая система военного социолекта — это
исторически сложившаяся относительно устойчивая иерархически
1 Здесь и далее первый английский пример относится к британскому
ареалу, второй — к американскому (если не оговорено особо). Далее
дефиниции и пометы всех английских примеров даются в русских
переводах, выполненных автором статьи. При необходимости в перевод
включается в квадратных скобках наше разъяснение буквального значения
сленговой вокабулы и особенностей наименования. Все пометы в
русских примерах даются в полной форме (за исключением
общепринятых); жирным курсивом выделяются пометы, иллюстрирующие
рассматриваемые позиции. Статьи для экономии места даются не полностью и
не приводятся ссылки на словарные источники (за исключением
отдельных случаев). Знак «+» означает, что данный пример функционировал
еще некоторое время после указанной даты; знак «—» — пример вышел из
употребления до указанной даты.
383
структурированная микросистема лексического
просторечия, составляющая определенную часть языкового
репертуара военного социума, элементы которого — слова и
устойчивые словосочетания характеризуются сниженной
коннотацией, преобладающей коммуникативно-эмотив-
ной и относительной эзотерической функцией и
понятийно-функциональной закрепленностью за
профессионально-корпоративной областью военного дела конкретного
общества и соответствующей военной сферой
функционирования национального языка.
Лексическая система военного социолекта включает в
себя четыре основных компонента — военное арго,
военный жаргон, военные коллоквиализмы и военные
вульгаризмы, а также отдельные элементы смежных
профессиональных и корпоративных жаргонов, например, морского
и речного жаргона, жаргона гражданской авиации,
жаргонов органов внутренних дел и государственной
безопасности и других военизированных структур, а также
железнодорожников, автомобилистов, электриков,
компьютерщиков, молодежного, студенческого и других жаргонов. В
зарубежной англистике названные компоненты военного
социолекта обычно недифференцированно обозначаются
термином «slang» («сленг»), реже — «argot» («арго»), еще
реже — «jargon» («жаргон»). Военные социолектизмы
каждого из субстандартных компонентов военного подъязыка
характеризуются своеобразным качеством инвективности,
определяемой существенными чертами этих компонентов.
Военное арго представляет собой лексическую
микросистему военного социолекта, состоящую из
немногочисленных наиболее эзотерических элементов,
характеризующихся корпоративно-профессиональной маркированностью и
резкостью социально-этической оценки, выполняющих
основную функцию кода или пароля и подчиненную ей
коммуникативно-номинативную функцию в военном социуме и
противопоставленных в понятийно-функциональном
плане своей профессиональной частью узкоспециальной
военной терминологии.
Военные арготизмы могут сублимироваться в
социально-стилистическом плане и переходить в военный
жаргон, ослабляя свою сниженность и эзотеричность. Ср.:
chatt. Вошь: кон. XVII — нач. XX в. Первоначально кэнт,
384
с 1830 — сленг, широкое употребление в Первую мировую
войну; zap. Застрелить кого-л. Воровское арго и сленг
вооруженных сил. —» Нанести решающее поражение в
военной операции; вампир, уважительное, усилительное.
Реактивный противотанковый гранатомет РПГ-27. [По
огневой мощи.] Сухопутные войска: 2000+: Чечня; восемь
«К». Ругательство. Войска особого назначения (из
радиотелефонного кода): 1980-Є+; гитара. Подвеска танка.
Танковые и мотострелковые войска: 1970—1980-Є+. [По
форме.]
Военные жаргонизмы — это слова и устойчивые
словосочетания, обозначающие военные
профессионально-корпоративные понятия, имеющие сниженную этико-стили-
стическую коннотацию переходного качества (от
шутливо-иронической и фамильярно-насмешливой до
пейоративной и вульгарной — табу), обладающие
социально-профессиональной маркированностью в военном социуме,
основной коммуникативно-номинативной и подчиненной
ей эмотивно-эзотерической функцией, детерминированной
ареальными, историческими, темпоральными, структурно-
организационными, дислокационными и
социолингвистическими факторами, и противопоставленные в понятийно-
функциональном плане своей профессиональной частью
общевоенной терминологии. Военный жаргон — это
лексическая микросистема военного социолекта,
охватывающая всё множество военных жаргонизмов. Ср.: foot-wab-
bler. Пехотинец [Букв.: «ногокачатель», т. е. «тот, кто
шевелит поршнями»]: 1795: военный сленг; blowtorch.
Реактивный истребитель [Букв.: «паяльная лампа»]. Сленг
военно-воздушных сил с 1950; амбар, шутливо-ироническое.
Летающая лодка МБР-2 Г.М. Бериева. Военно-морской флот:
Великая Отечественная война. [Аббр. МБР (= .малый ближний
/разведчик) как акроним + омонимическая ассоциация с
амбаром.]
Военные жаргонизмы могут далее сублимироваться в
социально-стилистическом плане и переходить в низкие и
литературные коллоквиализмы и в военно-уставную
терминологию, меняя качество своей этико-стилистической
сниженности и теряя возможную инвективную
направленность. Ср.: blimp. Малый дирижабль мягкой конструкции:
1915: военный сленгизм, быстро стал коллоквиализмом, за-
385
тем — термином, pipe down. Перестать разговаривать.
Первоначально сленг военно-морских сил в Первую мировую
войну, коллоквиализме 1930; аврал, разговорное. 1. Созыв всех
матросов на верхнюю палубу по тревоге или для
выполнения важных работ. Морской жаргон (особ,
военно-морского флота): 1795, по настоящее время. -» 2. почти военно-
уставной термин. Общая спешная (обычно по тревоге)
работа на судне всей командой. Морской жаргон: с сер. XIX
в. по настоящее время.
Военные низкие коллоквиализмы характеризуются
определенной утратой или ослаблением сниженной коннотации
и наряду с военными литературными коллоквиализмами
формируют переходную пограничную область между
военной терминосистемой и лексико-фразеологической
системой военного социолекта в рамках военного подъязыка.
Ср.: det. Детонатор: коллоквиализм вооруженных сил: с 1910;
sarge. Сержант сухопутных войск. 1867: коллоквиализм,
буржуйка, разговорное. Печь из железной бочки. Общий сленг
и жаргон вооруженных сил: гражданская война —> Великая
Отечественная война —> афганская война —> чеченская
война, по настоящее время.
Военные вульгаризмы представлены теми элементами
лексической системы военного социолекта (интенсификато-
ры, богохульства, гробианизмы, вульгаризмы-табу),
которые выполняют основную эмотивную функцию дисфемиза-
ции речи и в содержании и структуре которых закреплена
вульгарная коннотация с ярко выраженной инвективной
направленностью, своеобразная для языкового и речевого
репертуаров представителей военного социума. Ср.: shit
on a shingle, вульгаризм-табу. Бутерброд с говяжьим
паштетом на поджаренном ломтике хлеба [Букв.: «говно на
кровельной дранке».] Сленг сухопутных войск США Второй
мировой войны; Всё по херу! вульгаризм. «Значение»
эмблемы артиллерийских войск. Сухопутные войска: десантно-
штурмовые батальоны: солдатский жаргон: 1970—1990-Є+:
Забайкальский воен. округ. [Т. к. два перекрещенных
пушечных ствола воспринимаются как два половых члена в
состоянии эрекции]; говнодавы, вульгаризм. Кожаные
ботинки. Военно-морской флот: офицерский жаргон: 1960-Є+;
засранец, вульгаризм. Инфекционный больной. Жаргон
военных госпиталей: 1979+: афганская война; бог воды,
386
говна и пара, вульгаризм. Начальник трюмных. Военно-
морской флот: офицерский жаргон: 1970-Є+; вышибить
пистонку. вульгаризм. Совершить половой акт с женщиной.
Солдатский жаргон: 1918+: гражданская война: Украина;
ебать Машку, вульгаризм. Драить пол «машкой». Войска
противовоздушной обороны: солдатский жаргон: Север.
Жаргоны, смежные с военным жаргоном, — это
профессиональные и корпоративные жаргоны, понятийные
системы которых своими определенными частями совпадают
или очень близки с соответствующими системами военного
жаргона, что и отражается в жаргонизмах, общих для этих
лексических систем и социумов. Ср.: гробарь. фамильярно-
насмешливое. Новоиспеченный пилот. Авиационный жаргон —>
жаргон военно-воздушных сил: 1910+; мама-папа, шутливое.
Разъемный патрон. Жаргон электриков-^ военно-воздушные
силы: жаргон электромехаников: Великая Отечественная
война —> общий сленг: современное.
Следует отметить, что полинациональный английский
язык существует в своих официально признанных
национальных вариантах— английский язык США,
Великобритании и других стран Британского Содружества Наций.
В связи с этим целесообразно проследить ареальную, а
иногда и этнокультурную дифференциацию английских
инвективных военных социолектизмов. Это возможно
по словарям, регистрирующим нестандартную лексику
конкретного национального варианта английского языка (что
специально оговаривается авторами-составителями), а
также по словарным пометам, указывающим на англоязычную
страну, в сфере вооруженных сил которой функционирует
данная лексическая единица, на расовую или национальную
принадлежность ее носителя. Ограничимся здесь
несколькими примерами, подтверждающими такую возможность.
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ БРИТАНСКОГО
АРЕАЛА: chew the balls off. Наказать сурово [Букв.: «отжевать
яйца»]: воен. сленг XX в.; jig-a-jig. (Совершать) половой
акт: сленг Первой мировой войны; tear-arse. Сыр [Букв.:
«разрыватель жопы»]: воен. сленг XX в. (Partridge 1979).
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АМЕРИКАНСКОГО
АРЕАЛА: coosie. уничижительное. Китаец. Сленг вооруженных
сил Второй мировой войны; horse cock, вульгаризм-табу.
387
Болонская колбаса холодного копчения цилиндрической
формы. [Букв.: «конский хер»]. Сленг военно-морских сил
США Второй мировой войны; nookey. вульгаризм-табу.
Сексуальная активность; женщина как сексуальный объект;
влагалище; половой акт. [Букв.: «укромный закуточек»].
Сленг Второй мировой войны (Wentworth, Flexner 1975).
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ КАНАДСКОГО АРЕАЛА.
he doesn't know if his arse-hole is punched. Он полный
дурак [Букв.: «он не поймет, что его выебли в сраку»]: с
1910: сленг офицеров сухопутных войск Канады: 1939—
1945; go take a flying fuck at a galloping goose! Хиляй
отсюда [Букв.: «давай выеби на лету бегущего гуся»]: сленг
сухопутных войск Канады: 1939—1945; shit-hot. Неприятно
энергичный. [Букв.: «горячий, как говно»]: сленг
канадских солдат: 1914+ (Partridge 1979).
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ИНДИЙСКОГО
АРЕАЛА, banchoot. Грубое англоиндийское ругательство,
оскорбительное слово. [Букв.: «манда»]: кон. XVIII — нач. XX в.;
soor. Оскорбительное слово [Букв.: «свинья», из хинди]:
англо-индийский и армейский сленг: —1864 (Partridge 1979);
chuckeroo. Мальчик-слуга. Сленг британских солдат: 1875.
Из хинди Chhokra «мальчик» (Yule, Burneil 1985).
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АВСТРАЛИЙСКОГО
ареала: furphy king. Солдат, распускающий слухи:
австралийский воен. сленг: 1915—1918; macaroon. Новобранец,
салабон [Букв.: «миндальное печенье»]: сленг
военно-морских сил Австралии (Partridge 1979); zoobrick. Половой
член. Сленг солдат-арабов на Ближнем Востоке: 1950. Из
арабского zoob, zib, zoobak, «хуй» (Simes 1993).
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ
НОВОЗЕЛАНДСКОГО АРЕАЛА, kerbstone jockey. Солдат транспортных войск
[Букв.: «жокей бордюрного камня»]: сленг
новозеландских солдат Первой мировой войны; tear up for
arse-paper. Сделать строгий выговор [Букв.: «разорвать на
туалетную бумагу для жопы»]: сленг новозеландских солдат
Первой мировой войны (Partridge 1979); Drongo.
Неопытный новобранец [Букв.: «дронго, нелетающая птица»]:
сленг военно-воздушных сил (Baker 1943).
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ
ЮЖНОАФРИКАНСКОГО ареала: boknaaier. вульгаризм. Пехотинец. [Из
африкаанс и голландского, букв.: «самец антилопы, ёбший сам-
388
ку».] Сленг сухопутных войск ЮАР; boabefok. вульгаризм.
Страдающий синдромом долгого пребывания в джунглях.
[Из африкаанс, букв.: «заёбанный кустарником».] Сленг
сухопутных войск ЮАР: 1985 (Branford 1991).
Далее в статье рассматриваются инвективные социо-
лектизмы только британского и американского ареалов
английского военного подъязыка.
По нашим предварительным наблюдениям
инвективные социолектизмы в равной степени присущи
определенным выше субстандартным компонентам английского
и русского военных подъязыков. Особенности их
социолингвистической дифференциации заключаются в том,
что они понятийно и функционально отражают
специфику структуры, формирования и функционирования
вооруженных сил соответствующих языковых ареалов,
различную как для англоязычных стран, так и для Российской
империи, СССР и Российской Федерации. В
социолингвистическом аспекте континуум инвективности социо-
лектизмов в обоих сопоставляемых подъязыках
характеризуется, по мере их темпорально-исторического
развития, нарастанием этико-стилистической сниженности в
коннотации лексических единиц, что особенно заметно в
периоды мировых и гражданских войн и межэтнических
конфликтов для профессионально-корпоративных
лексиконов всех категорий личного состава вооруженных сил.
Социально-стилистические, этико-стилистические,
функционально-стилистические,
социально-стратификационные, ареальные, темпоральные, военно-исторические,
военно-профессиональные, военно-корпоративные и военно-
дислокационные пометы являются, по нашему мнению,
обязательным компонентом словарной статьи в толковом
словаре лексического просторечия. Вместе с дефиницией
они позволяют выявить вариативность английских и
русских военных социолектизмов по характеру их
инвективности, а также темпорально-историческую и
профессионально-корпоративную дифференциацию инвективных единиц
в лексических системах сопоставляемых подъязыков.
Рассмотрим это на примерах.
Континуум инвективности военных
социолектизмов прослеживается по нарастанию степени их сни-
389
женности на основе социально-стратификационных,
функционально-стилистических и этико-стилистических
помет и дефиниций, которыми они снабжены в словарях
английского и русского просторечия. Выявлена следующая
шкала инвективности: шутливо-ироническая —>
фамильярно-насмешливая —> отрицательно-оценочная -»
саркастическая —> неодобрительная —> осуждающая —>
снисходительно-пренебрежительная —> презрительная —»
грубоватая —> грубая —> эвфемистическая —> дисфемистическая —>
ругательно-бранная —> оскорбительная —> уничижительно-
пейоративная —» вульгарная-табу.
Социолектизмы с шутливо-иронической инвективой.
Английские: meat-skewer, шутливое. Штык [Букв.: «вертел для
мяса»]: военный коллоквиализм: с 1910; steam shovel,
ироническое. Картофелечистилыцик. [Букв.: «паровая лопата».]
Сленг сухопутных войск Второй мировой войны. Русские:
Иван Иваныч, шутливо-ироническое. 1. Манекен,
заменявший космонавта на первых запускавшихся в космическое
пространство космических кораблях. Центр подготовки
космонавтов: отряд космонавтов: 1959—1960-е. —> 2. Чучело
человека, сбрасываемое с вертолета без парашюта на
празднике Воздушно-десантных войск под душераздирающие
вопли и для розыгрыша публики. Воздушно-десантные войска:
офицерский жаргон: 1970—1980-Є+; курица,
шутливо-ироническое. Двухмоторный бомбардировщик — летающее крыло
ДБЛК-2 (испытательный образец) В.Н. Беляева.
Военно-воздушные силы: 1937+. [По форме трапециевидного крыла.]
Социолектизмы с фамильярно-насмешливой инвективой.
Английские: Bengal light. Индийский солдат во Франции
[Букв.: «бенгальский огонь»]: военный сленг: 1915—1918;
bedpan commando, насмешливое. Военнослужащий в
санчасти. [Букв.: «боец-коммандос писсуарнойутки».] Сленг
сухопутных войск Второй мировой войны. Русские: артель
«Напрасный труд», фамильярно-насмешливое. Служба
радиопропаганды. Сухопутные войска: солдатский жаргон:
1942—1945; аэроплан, фамильярно^насмешливое. Кавалерист,
взмахивающий руками, чтобы удержаться на коне при
преодолении препятствий. Кирасиры: офицерский жаргон:
1910—1917; маслопуп. фамильярно-насмешливое. Моторист,
обслуживающий дизели. Военно-морской флот:
матросский жаргон: 1914+: Первая мировая война.
390
СОЦИОЛЕКТИЗМЫ С ОТРИЦАТЕЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ИНВЕКТИВОЙ.
Английские: buzzing about like a blue-arsed fly.
Проявляющий показную активность [Букв.: «жужжащий как голубо-
жопая муха»]: сленг конца XX в. сухопутных войск и
военно-воздушных сил: 1939—1945; no clap medal, вульгаризм-
табу. Медаль за хорошее поведение [Букв.: «за отсутствие
триппера»]. Сленг сухопутных войск Второй мировой
войны. Русские: большой сарай с куриной пищей,
отрицательное. Столовая в воинской части. Военно-воздушные
силы: батальон аэродромного охранения: солдатский
жаргон: 1993+: Лен. воен. округ: пос. Лебяжье; рашпиль,
отрицательное. Начальник гауптвахты. Военный жаргон:
современное.
Социолектизмы с саркастической инвективой.
Английские: bless 'em all! иронически-насмешливое. Да благословит
их Господь! (Когда кто-л. сыт по горло от надоедливости
старших по команде.) Сленг вооруженных сил, особенно
сухопутных войск Великобритании: с 1917; (anyway,) it's
winning the war! Как-никак, а войну-то выигрываем! (С
горькой усмешкой по отношению к тому, что не нравится.)
Военный сленг Первой мировой войны Великобритании.
Русские: гитлерштрассе. сарказм. Простриженная
машинкой ото лба до затылка полоса на голове. Жаргон
военнопленных: Вторая мировая война: Маутхаузен. [< Нем.
Hitlerstrasse («ул. Гитлера»)]; парашютист, сарказм.
Обессиленный узник, которого эсэсовцы-охранники сталкивали
со скалы в пропасть. Жаргон охраны и узников
концлагеря Маутхаузен: Вторая мировая война.
Социолектизмы с неодобрительной инвективой.
Английские: Gestapo. Военная полиция: Сленг военно-воздушных
сил: с 1938; kiwi. Военнослужащий военно-воздушных сил,
особенно офицер нелетного состава или который не
любит летать. Русские, багдадский вор. неодобрительное. Кап-
терщик. Сухопутные войска: солдатский жаргон: 1980-Є+:
Москва и Вологда. [По одноименному англ. фильму «The
thief of Bagdad»]; баковая аристократия, неодобрительное.
Все, кто на судне по чину выше матроса, но ниже
гардемарина (боцманы, унтер-офицеры, баталеры, подшкиперы,
вахтеры, фельдшеры, писари, вестовые и др.)- Военно-
морской флот: матросский и офицерский жаргон: сер.
XIX В.+.
391
Социолектизмы с осуждающей инвективой. Английские:
shit blue lights. Испытывать сильный страх [Букв.: «срать
голубой дриснёй»]: сленг вооруженных сил: 1940+; bat
[one's] gums. Разговаривать; болтать; трепаться [Букв.:
«шлёпать дёснами».] Сленг сухопутных войск Второй
мировой войны. Русские: борзянка. осуждающее. Стрелка у
формы на спине (не положенная «молодым»).
Воздушно-десантные войска: солдатский жаргон: 1979—1989+:
Афганская война. [Ее могут иметь только те, кому позволено
«борзеть» — «старики», «деды», «дембеля»]; квислинг. осуждающее.
Предатель. Жаргон вооруженных сил: Великая
Отечественная война. [По имени Видкуна Квислинга (1887—1945),
организатора (1933) и лидера фашистской партии в
Норвегии; военный преступник; содействовал захвату
Норвегии Германией (1940); премьер-министр правительства
(1942—1945), сотрудничавшего с оккупантами; казнен].
Социолектизмы со снисходительно-пренебрежительной
инвективой. Английские: wet behind the ears.
Невежественный, необученный, неопытный; молодой [Букв.: «мокрый
за ушами»]: военный сленг XX в.; ninety-day wonder, на-
смешливоуничижительное. Военнослужащий сухопутных
войск или военно-морских сил США, произведенный в
офицеры после ускоренной трехмесячной подготовки на
офицерских курсах, в отличие от кадрового офицера —
выпускника Военно-морского училища в г. Аннаполисе
или училища Уэст Пойнт или офицера, выслужившегося
из рядовых после многих лет службы. [Букв.: «90-дневное
чудо»]: сленг вооруженных сил США. Русские, акушер,
пренебрежительное. Прозвище Бабрака Кармаля. Жаргон
вооруженных сил: 1978—1985: Афганистан. [Т. к. он был
недоучившимся врачом-гинекологом]; архимед. насмешливо-
снисходительное. Вестовой. Кавалерия: офицерский
жаргон: Первая мировая война. [< «Архимед» — подражание
речи нижних чинов.]
Социолектизмы с презрительной инвективой. Английские:
clever boys, презрительное. Военнослужащие только с
теоретическими знаниями: Сленг вооруженных сил: с 1940;
wet deck, вульгаризм-табу. Женщина, которая только что
совершила половой акт с одним мужчиной и желает
совершить его с другим. [Букв.: «мокрая палуба»]: морской сленг.
Русские: Грачёв-Бе л одомский. презрительное. Прозвище
392
министра обороны РФ (1991—1996) П.С. Грачева. Жаргон
вооруженных сил: после 4 октября 1993+. [За руководство
осадой Белого дома]; краснопёрый, презрительное. 1.
Милиционер. Воровской, тюремно-лагерный жаргон и общий
сленг: 1970-Є+. [По цвету околыша фуражки.] —> 2.
Военнослужащий внутренних войск. -> 3. Заключенный,
сотрудничающий с администрацией
исправительно-трудовых учреждений. Тюремно-лагерный и вохровский
жаргон: 1980-Є+.
Социолектизмы с грубоватой инвективой. Английские,
longarm inspection. Медицинский осмотр полового члена в
состоянии эрекции. Сленг сухопутных войск США; piss call.
вульгаризм-табу. Сигнал горна «Подъем!» [Букв.: «сигнал
поссать»]: сленг военно-морских сил США. Русские:
вставлять чоп. грубоватое. Делать разнос, налагать взыскание;
наказывать. Военно-морской флот: офицерский жаргон:
1970-Є+; жабка, грубоватое. Лесбиянка (исполняющая
мужскую роль). Тюремно-лагерный и вохровский жаргон:
1937+.
Социолектизмы с грубой инвективой. Английские:
clappers. Мужские яички. [Букв.: «языки колоколов»]: сленг
военнослужащих: с 1930; zigzig. Половой акт. Сленг
вооруженных сил Второй мировой войны. Русские: брылы,
грубое. Женские груди. Солдатский жаргон: 1918+:
Гражданская война: Украина. [< Брыла «толстая отвислая губа»:
сер. XIX в.]; давить хорька, грубое. Бездельничать.
Военный жаргон: 1980—1990-е.
Социолектизмы с эвфемистической инвективой.
Английские: M.F.U. Неразбериха. [В полной форме military/дск-
мр, букв.: «военная хуйня»]: сленг сухопутных войск: 1939—
1945; triple-clutcher. ~ «Ети мать» — эвфемизм вульгаризма-
табу mother-fucker ~ «ёб твою мать». Сленг Второй мировой
войны: популяризировано неграми — водителями
грузовиков в строительных батальонах во время корейской
войны. Русские: ДЛБ. эвфемизм. Плохой человек.
Черноморский флот: матросский жаргон: 1960-Є+. [Сокращение
вульгаризма долбоеб]; IUI. эвфемизм. Половой извращенец,
совершающий орально-генитальный акт с женщиной
способом куннилингус. Жаргон КГБ: 1950-Є+. [Аббревиатура
вульгаризма пиздолиз]; пойти по лебедям, эвфемизм.
Пойти по «бабам». Главное разведывательное управление: дип-
393
ломатическая резидентура: офицерский жаргон: 1970-Є+:
Вена. [Рифма на вульгаризм «блядям».]
Социолектизмы с дисФЕМИСТИЧЕСКОй инвективой.
Английские: Cunts in Velvet. Отдел уголовных расследований.
[Букв.: «пизды в вельвете»]: военный сленг: —1914; crud.
ѳульгаризм-табу. 1. Засохшая сперма, прилипшая к телу или
одежде после полового акта. —> 2. Любая венерическая
болезнь, особенно сифилис. Сленг сухопутных войск с
1925. Русские: Е.Б.Ц.У. дисфемизм. Еще более ценное
лазание. Сухопутные войска: офицерский жаргон: 1995+: Моск.
воен. округ. [Акроним + ассоциация с вульгаризмом]; ху-
ерверкер. вульгаризм. Артиллерист, производящий
фейерверки. Жаргон артиллерии: 1917. [Телескопический
гибрид: хуй + фейерверкер; дисфемизация.]
Социолектизмы с ругательно-бранной инвективой.
Английские: billy-goat in stays. Изнеженный женоподобный
офицер. [Букв.: «козел в бейдевинде»]: сленг
военно-морских сил: 1870—1885; goat. Офицер, самый младший по
званию в подразделении. [Букв.:«козел».] Сленг сухопутных
войск Второй мировой войны. Русские: козел педальный.
уничижительное, бранное. Солдат в самом низу неуставной
казарменной иерархии, «пидор», «защеканец». Сухопутные
войска: десантно-штурмовые батальоны: солдатский
жаргон: 1980-Є+; козлина, уничижительное, бранное. Солдат
внутренних войск, охранник. Жаргон лагерный и внутренних
войск: вохровский: солдатский: 1980-Є+: Дальний Восток.
Социолектизмы с оскорбительной инвективой.
Английские: nig-nag. 1. Дурак. Сленг сухопутных войск: кон. XIX —
нач. XX в. 2. Неопытный новобранец: сленг сухопутных
войск с 1925; dyke. 1. Крупная, мужеподобная лесбиянка,
исполняющая роль мужчины в половом акте; кобёл. —> 2.
Кадет-подхалим, жополиз. Сленг военных училищ. Русские.
пед. грубое, оскорбительное. Педержт; пассивный
гомосексуалист —> плохой человек. Внутренние войска: вооруженная
охрана: солдатский жаргон: 1980-Є+: Дальний Восток.
Социолектизмы с уничижительно-пейоративной
инвективой. Английские: whore's get. ~ Блядья добыча:
уничижительно-пейоративная форма обращения: морской сленг: —
1885; ring-tail, уничижительное. Японец. [Букв.: «самка
луня»]. Сленг военно-морских сил США Второй мировой
войны. Русские, мясник, пейоративное, историзм. Прозвище
394
Ивана Александровича Серова (председатель КГБ в 1954—
1958). Советская военная администрация в Германии:
НКВД: офицерский жаргон: 1945+. [За жестокость]; се-
рун. вульгарное, уничижительное. Солдат (обычно «дух»),
вечно голодный и падкий на пищевые отходы
(«парашник»), которого «деды» заставили насильно на
изголодавшийся желудок поглотить максимально возможное
количество еды (котелок каши, чайник компота, целую
буханку и т. п.) за то, что тот украл что-либо с их стола или ел
тайно, до тех пор пока у него всё съеденное не полезло
назад из всех отверстий. Сухопутные войска (особенно де-
сантно-штурмовые батальоны): солдатский жаргон: 1980-Є+:
Забайкальский воен. округ.
Социолектизмы с вульгарной-табу инвективой.
Английские: fuck my luck! Какая жалость. [Букв.: «ёб мою удачу»]:
сленг вооруженных сил: 1940; cunt cap. вульгаризм-табу.
Уставная армейская матерчатая пилотка. [Букв.: «пизда-
кепка», т. к. своими складками по гребню напоминает
срамные губы влагалища.] Сленг сухопутных войск. Русские:
Б ляд овина ди Курваджио. вульгарное. «Секретарь»
представительства Италии в ООН. Общий сленг и жаргон
вооруженных сил: 1960-Є+. [Пиджинизм и языковая игра на
итальян. имена и фамилии]; елда. вульгарное. Пушка (ствол
пушки) на артиллерийской эмблеме. Сухопутные войска:
солдатский жаргон: 1970— 1990-Є+: Забайкальский воен.
округ. [Т. к. по форме похожа на половой член в
состоянии эрекции; < перс, yalda]; политзасранец.
уничижительное, вульгарное. Политработник. Сухопутные войска: десан-
тно-штурмовые батальоны: солдатский жаргон: 1980-Є+:
Забайкальский воен. округ; прочистить клапан в жопе.
вульгарное. 1. Совершить насильственный акт мужеложе-
ства с целью опустишь жертву. —> 2. Опустить, зачуханить
солдата. Сухопутные войска: десантно-штурмовые
батальоны: солдатский жаргон: 1980-Є+: Забайкальский воен.
округ; Хуй с ним!, вульгарное. Окончание сигнала
«Захождение». Морской жаргон и жаргон военно-морского
флота: 1945+.
Отметим здесь, что английские военные
социолектизмы, в отличие от русских, не снабжены в словарях
британского и американского просторечия детально
разработанной системой лексикографических помет, отражающих
395
инвективное содержание коннотации субстандартных
лексических единиц соответствующего военного подъязыка.
Это можно установить в большинстве случаев только по
дефинициям. Вместе с тем подробность разграничения
различных оттенков инвективности и стремление
отразить их в соответствующих пометах в словаре русского
военного жаргона может свидетельствовать об
определенной субъективности ее трактовки лексикографом, если это
не подтверждается достаточно информативным
контекстом речевого функционирования данных единиц.
Темпоральная дифференциация инвективных
ВОЕННЫХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ ПрОСЛЄЖИВаЄТСЯ ПО
Соответствующим словарным пометам в терминах столетий,
десятилетий и конкретных годов, а также исторических
событий, указывающих на время появления,
функционирования и выхода конкретной единицы из лексических систем
английского и русского военных подъязыков. Покажем
это на примерах, разграничив британский и
американский ареалы английского языка.
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ XVIII ВЕКА
БРИТАНСКОГО АРЕАЛА: ask my arse! Уклончивый ответ. [Букв.:
«Спроси мою жопу!»]: низкий коллоквиализм: сер. XVIII — нач.
XX в.: первоначально морской сленг; bring one's arse to an
anchor. Садиться. [Букв.: «ставить свою жопу на якорь»]:
морской сленг: кон. XVIII — нач. XIX в.; he will never shit
a seaman's turd. Из него никогда не выйдет хороший
моряк. [Букв.: «он никогда не будет срать говном моряка»]:
морской сленг с 1790.
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ XVIII ВЕКА
АМЕРИКАНСКОГО АРЕАЛА: Buckskins. Американские войска. Война за
независимость. [Букв.: «штаны из оленьей кожи».]
Русские инвективные военные социолектизмы XVIII века:
бурбон. 1. пренебрежительное. Офицер, вышедший из
нижних чинов. Сухопутные войска: офицерский жаргон: кон.
XVIII — нач. XIX в. —» 2. неодобрительное.
Офицер-солдафон. Сухопутные войска: пехота: офицерский жаргон:
1877+: русско-турецкая война —> солдатский и
офицерский жаргон: Первая мировая война; Гатчинский
капрал, презрительное. Прозвище Алексея Андреевича
Аракчеева (1769—1834), генерала от арт. (1807), воен. мини-
396
стра (1808—1810). Офицерский жаргон: 1787+. [Т. к.
служил в Гатчине комендантом, насаждал прусские воен.
порядки и палочную дисциплину]; фендрик,
пренебрежительное. Гардемарин. Военно-морской флот: офицерский
жаргон: кон. ХѴШ-ХІХ В.+.
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ XIX ВЕКА
БРИТАНСКОГО АРЕАЛА: grummit. Совокупление. [Букв.: «веревочное
кольцо, кренгельс»]: морской сленг: сер. XIX — нач. XX в.;
fucker. Уничижительное или уважительное обращение.
[Букв.: «ёбарь»]: с 1850. Отсюда — мужчина, парень,
приятель: с 1895 г., особенно в Первую мировую войну;
anything on two legs, he'll fuck. Выражение восхищения
половой потенцией. [Букв.: «он выебет всё, что на двоих
ногах»]: сленг вооруженных сил: кон. XIX — нач. XX в.
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ XIX ВЕКА
АМЕРИКАНСКОГО АРЕАЛА: all quiet on the Potomac, шутливо-ироническое.
Всё спокойно на Потомаке. Гражданская война в США;
charcoal. Аболиционист. [Букв.: «древесный уголь».]
Гражданская война в США; doughboy. Пехотинец. [Букв.: «клёцка,
пончик»]. Сленг сухопутных войск США: 1847; punk. Хлеб.
[Букв.: «гнильё».] Сленг бродяг, лесорубов, солдат и
моряков: 1880.
Русские инвективные военные социолектизмы XIX века:
брюхо похоронных процессий, шутливо-ироническое,
историзм. Кавалергардский полк. Офицерский жаргон: кон.
XIX — нач. XX в.: СПб. [Т. к. участвовал в конном строю на
похоронах генералитета]; Вешатель, уничижительное,
историзм. Прозвище графа Михаила Николаевича
Муравьева (1796—1866), генерала от инф. (1863), ген.-губернатора
С.-З. края (1863—1865). Жаргон вооруженных сил и общий
сленг: 1864+. [За жестокость при подавлении Польского
восстания 1863—1864]; штафирка, пренебрежительное. 1.
устарелое. Штатский, гражданский, невоенный человек. Воен.
жаргон: сер. XIX в.+ —> 2. Офицер не плавсостава (штабник,
«сухопутная крыса»). Балтийский флот: офицерский
жаргон: Великая Отечественная война. [< Сер. XIX в.
«подкладка под обшлага рукавов»; < нем. staffieren
(«подшивать подкладку»).]
Инвективные военные социолектизмы XX века
британского ареала: dusters. Мужские яички. [Букв.: «щетка для
сметания пыли»]: сленг сухопутных войск XX в.; Farting Fanny.
397
Нем. тяжелая пушка в секторе г. Аррас; ее снаряд. [Букв.:
«пердящая Фанни»]: военный сленг, особенно сленг
артиллеристов: 1915—1916; fucked and far from home. В глубоком
отчаянии и депрессии, физически разбитый и психически
угнетенный и подавленный. [Букв.: «выебанный и вдали от
дома»]: военный сленг: 1915.
ИНВЕКТИВНЫЕ ВОЕННЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ XX ВЕКА
АМЕРИКАНСКОГО ареала: limey, уничижительное. Британский солдат.
[Букв.: «сок лайма (разновидности лимона), который
входил в рацион британских матросов в качестве
антицинготного средства».] Сленг сухопутных войск США Первой
мировой войны; peeved off. Сердитый. [Букв.: «обоссавший-
ся»; эвфемизм за счет сокращения]. Сленг Второй мировой
войны; гаї. Сифилис. Сленг сухопутных войск США.
Русские инвективные военные социолектизмы XX века:
входить в пике, вульгаризм. Вводить половой член во
влагалище (совершая половой акт с женщиной). Сухопутные
войска: солдатский жаргон: 1970—1990-Є+: Забайкальский
воен. округ; дряж. вульгаризм. Процесс полового акта; «ебля».
Сухопутные войска: десантно-штурмовые батальоны:
солдатский жаргон: 1980-Є+: Забайкальский воен. округ; Хуй-
Нам Хуй-Вам. вульгаризм. «Представитель» Вьетнама в
ООН. Общий сленг и жаргон вооруженных сил: 1960-Є+.
[Пиджинизм и языковая игра на Вьетнам, имена и
фамилии.]
Историческая дифференциация инвективных
ВОЕННЫХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ прОСЛЄЖИВаЄТСЯ ПО СООТВЄТ-
ствующим словарным пометам, указывающим на
соотнесенность конкретных лексических единиц с войнами и
военными конфликтами, в которых принимали участие
вооруженные силы Великобритании, США, России, СССР
и Российской Федерации (РФ).
Инвективные социолектизмы войн в истории
Великобритании: Iniskillen men. уничижительное. Милиция,
ополчение: кон. XVII — нач. XVIII в. По названию полка,
«отличившегося» во время ирландских войн; Red Feathers.; ob. Ex
an incident of the American War of Independence. 46-й
пехотный полк. [Букв.: «Красные перья»]: воен. сленг; по
инциденту во время Войны за независимость США: 1777; Dee-
Donk. Француз. [Букв.: «да-нет», от фр. oui-non]: Крым-
398
екая война; kop-jee. Голова. [Букв.: «холмик», из
африкаанс] : сленг низших классов: 1899—1901. Влияние
Англо-бурской войны; Cunt in Velvet. Волонтеры. [Букв.: «пизды в
вельвете»]: военный сленг войны в Южной Африке, after the
Lord Mayer's show comes the shit-card. Выражение,
адресованное солдату, вернувшемуся из отпуска как раз к
началу боевых действий. [Букв.:«после бала у лорд-мэра
приходит приглашение на говно»]: военный сленг Первой
мировой войны; gook. Кореец. [Букв.: «такой-то
национальности», из корейского]: Сленг войск ООН во время
корейской войны 1950—1953.
Инвективные социолектизмы войн в истории США.
galoot. Простоватый, неуклюжий, необразованный,
невоспитанный человек. Сленгизм Гражданской войны в США с
1865; French, вульгаризм-табу. Половое удовлетворение,
оказанное или полученное орально. С Первой мировой
войны; Tojo. уничижительное. Японец, особенно яп. солдат.
[Букв.: «Тодзё» (яп. генерал)]. Сленг вооруженных сил
США Второй мировой войны; chi-chi. Женские груди,
титьки как сексуальные объекты. —> любое, что стимулирует
сексуально; сексуально привлекательная женщина. [Букв.:
«chisai chichi», «маленькие груди», искажение японского
выражения]. Сленг вооруженных сил США после Второй
мировой войны и особенно во время корейской войны; dink.
уничижительное. Вьетнамец. [Букв.: «маленький», из
общего сленга, или «мул», из австралийского сленга, в свою
очередь, из англ. диал. «работать»]. Сленг вооруженных
сил США во вьетнамской войне.
Инвективные социолектизмы войн и военных конфликтов
в истории Российской империи: дура. Грубоватое,
усилительное, устарелое. Пушка. Сухопутные войска: офицерский
жаргон: 1701—1703: Северная война; гарнизонная крыса.
презрительное, устарелое. Нестроевой или штабной офицер
или солдат. Сухопутные войска: солдатский жаргон: 1768—
1774: Русско-турецкая война; Болтай-да-и-Только.
Собственное, неодобрительное, историзм. Прозвище Михаила
Богдановича Барклая-де-Толли, ген.-фельдмаршала,
командующего 1-й Западной армией в Отечественную войну.
Офицерский жаргон: —1812. [Народно-этимологическая ремо-
тивация; т. к. он был очень медлителен в воен. действиях,
придерживался отступательной тактики и завлекательного
399
маневра]; австрийский Иуда, уничижительное, историзм.
Прозвище Франца-Иосифа I (1830—1916), императора
Австрии и короля Венгрии (с 1848). Дунайская и польская
армии фельдмаршала И.Ф. Паскевича: офицерский и
солдатский жаргон: 1853+: Восточная война: Дунайская кампания.
[Антономазия + аллюзия на библ. Иуду, предавшего Иисуса
Христа; т. к. спасенный русской армией И.Ф. Паскевича в
венгерском походе 1849 от восставших венгров, он предал
Россию в 1853]; баранья война, пренебрежительное,
историзм. Туркестанская война (любая). Офицерский жаргон:
1870-Є+. [Т. к. больше «воевали» с баранами, готовя из них
шашлык]; победитель халатников, пренебрежительное,
историзм. Прозвище Михаила Дмитриевича Скобелева (1843—
1882), генерала от инфантерии (1881). Сухопутные войска:
офицерский жаргон: 1877—1878: Русско-турецкая война:
Болгария, Балканы. [За якобы легкие победы над
нерегулярными войсками в Хивинском, 1873, и Кокандском, 1875,
походах] ; Кикимора, м. собственное, шутливое, неуважительное,
историзм. Яп. адмирал Камимура. Военно-морской флот:
матросский жаргон: 1904—1905: Русско-японская война:
Владивосток. [Ложноэтимологическая декомпозиция]; а ля герр
сивиль. пренебрежительное, устарелое. Из воблы (о супе).
Балтийский флот: матросский жаргон: — Первая мировая война.
[< Фр. ä la guerre civil («на гражданской войне»);
темпоральная метонимия].
Инвективные СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ВОЙН И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
в истории СССР: белая жопа, вульгаризм, историзм.
Белогвардеец. Красная гвардия: Гражданская война; боло,
пренебрежительное. Большевик. Амер. интервенты: 1919+: Рус.
Север. [< Англ. сокр. bolo от fto&hevik]; бутербродник.
пренебрежительное, историзм. Амер. интервент. Красная и
Белая гвардия: 1918+: Дальний Восток. [Из-за пристрастия
к бутербродам]; курич. насмешливое, устарелое.
Красноармеец-пскович. Сухопутные войска: пехота: солдатский
жаргон: 1921: Кронштадт, мятеж. [По говору, напр.: «Это у
вас курича на уличе яйчо снесла?»]; вахта дохлой собаки.
шутливое, грубоватое. Вахта с двух часов ночи. Сухопутные
войска: пехота: войска связи: 1940+: советско-финская война,
брехомёт. пренебрежительное, историзм. Нем. агитатор,
радиопропагандист. Воен. жаргон: Великая Отечественная
война, аэрокобра, уничижительное. Изменившая жена; «змея».
400
Военно-воздушные силы: офицерский жаргон: 1950-Є+.
[< Англ. airacobra — США однодвигательный поршневой
истребитель Р-39 «Эракобра» фирмы «Белл», с которым
сов. летчики сражались в корейской войне]; засранец,
вульгаризм. Инфекционный больной. Жаргон воен. госпиталей:
1979+: Афганская война.
Инвективные СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ВОЙН И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
в истории РФ: забелдом. ироническое, насмешливое.
Защитник Белого дома. Общий сленг, жаргон Вооруженных Сил
и МВД: август — сентябрь 1991: Москва; слеза Руцкого,
насмешливое. Жидкий чай, продававшийся в буфете
Верховного Совета РФ. Защитники Белого дома и журналисты:
4—5 октября 1993: Москва: Осада Белого Дома. [По
фамилии вице-президента РФ, возглавлявшего оборону БД];
брехинжер. пренебрежительное, неодобрительное.
Кишиневская правительственная программа теленовостей на рус.
языке «Месенжер». Общий сленг и жаргон вооруженных
формирований Приднестровской молдавской
республики: 1992+: Приднестровский воен. конфликт [Слияние
«брехать» + «месенжер»]; чича. уничижительное. Чеченский
боевик; -ц^енец. Федеральные войска: солдатский жаргон:
1996-2002+: Чечня.
Военно-профессиональная дифференциация ин-
ВЕКТИВНЫХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ прослеживается по
соответствующим пометам, указывающим на сферу
функционирования жаргонизма в пределах вооруженных сил (ВС):
виды, рода, службы, воинские части, учреждения.
Рассмотрим это для основных видов ВС — сухопутных войск
(СВ), военно-воздушных сил (ВВС) и военно-морских сил
(ВМС) / военно-морского флота (ВМФ) Великобритании,
США, Российской империи, СССР и Российской
Федерации.
Инвективные социолектизмы СВ Великобритании: shit
bricks. Быть очень испуганным. [Букв.: «срать
кирпичами»]: сленг СВ: 1940+; fartarsing about. Плутать на
автомобиле. [Букв.: «тарахтеть или пердеть жопой»]: Сленг СВ: с
1940; tick like fuck. Ворчать, развоняться. [Букв.: «достать
как ебля, заебсти как клещ»]: Сленг СВ: с 1940.
Инвективные социолектизмы СВ США: fuck, вульгаризм-
табу. Черт, дьявол. [Букв.: «ёб», «блядь»]. Сленг СБВто-
401
рой мировой войны; get [one's] nuts cracked, вульгаризм-
табу. Совершить половой акт. [Букв.: «щёлкнуть яйцами»].
Сленг СВ Второй мировой войны; tit cap. вульгаризм-табу.
Пилотка. [Букв.: «титька-кепка»]. Сленг СВ.
Инвективные социолектизмы СВ Российской империи:
аристократия, неодобрительное, устарелое.
Подпрапорщики, писари, фельдфебели, лавочники и их
«прихлебатели». СВ: пехота: солдатский жаргон: —Первая мировая
война; артишок, пренебрежительное, устарелое.
Артиллерист. Иностранный легион: солдатский жаргон: —Первая
мировая война. [< Фр. artichaut «артишок», разг.
«ветреник»]; большие колпаки, фамильярно-насмешливое,
устарелое. Высшее начальство, генералитет. СВ: офицерский
жаргон: —1812: Отечественная война. [Калька с фр. chapeaü
gros].
Инвективные социолектизмы СВ CCCR джик-джик.
вульгаризм. 1. Совершать половой акт; «ебать». —> 2.
Половой акт. СВ: 1979—1789: Афганская война. [Пиджинизиро-
ванный редупликат ? < пушту или фарси либо
звукоподражательное]; звездюли. эвфемизм. Удары (кулаком в лицо),
от которых искры из глаз сыплются. СВ: стройбат:
солдатский жаргон: 1970+: Сибирь. [Рифма на вульг. «пиздюли»];
произвести бомбометание, вульгаризм, усилительное.
Произвести семяизвержение (во время полового акта с
женщиной). СВ: десантно-штурмовые батальоны: солдатский
жаргон: 1980-Є+: Забайкальский воен. округ.
Инвективные социолектизмы СВ РФ: Ахмед однорукий.
усилительное, отрицательное. Кличка полевого командира
чеченских боевиков эмира Хаттаба. Незаконные
вооруженные формирования и СВ, ФСБ и МВД РФ: 1996 по
настоящее время; волчья стая, пейоративное. Патруль. СВ
(особ, войска гос. безопасности): солдатский жаргон: 1980—
1990е+: Москва; вставить хуй в жопу по самые
гланды, вульгаризм, усилительное. Наказать в максимально
возможной степени. Воен. жаргон и общий сленг: 1980-е по
настоящее время.
Инвективные социолектизмы ВВС Великобритании: fuck
my old boots! Выражение удивления. [Букв.: «ебать мои
старые ботинки»]: ВВС: с 1918; hands off cocks, feet in
socks! Подъём! [Букв.: «перестать дрочить хуи (под
одеялами) и надеть носки»]: ВВС: с 1947; my name is 'Unt not
402
cunt.'s /~ «Меня не объебёшь». [Букв.: ~ «Моя фамилия не
Пиздов, а 'Издов»]: ВВС: с сер. 1940-х.
Инвективные социолектизмы ВВС США: dodo. Кадет, не
совершивший ни одного самостоятельного полета. [Букв.:
«дронт» (вымершая птица)]. ВВС и СВ с 1940; gomar.
Наивный кадет 1-го курса. ВВС; penguin. Авиатор нелетного
состава. [Букв.: «пингвин».] ВВС: с 1925.
Инвективные социолектизмы ВВС России: гробарь.
фамильярно-насмешливое. Новоиспеченный пилот.
Авиационный жаргон —> ВВС: 1910+; попасть в статистику, шутливо-
ироническое. Разбиться при падении самолета.
Авиационный и ВВС жаргон: 1917+; пузырник, пренебрежительное,
историзм. Приверженец воздухоплавания и противник
авиации в Генеральном штабе. Авиационный и ВВС
жаргон: 1914+: Первая мировая война.
Инвективные социолектизмы ВВС СССР, витамин «Г».
эвфемизм. Кислая капуста зловеще-темного цвета. ВВС:
офицерский жаргон: Великая Отечественная война. [Аббр.
вульг. «говно»]; глист, пренебрежительное, историзм. Нем.
истребитель «Мессершмитт-109». ВВС: Великая
Отечественная война. [По форме фюзеляжа]; лохматая
копилка, грубое. Женщина-любовница, проститутка. ВВС и воен.
советники: 1970+: Египет. [По волосам на лобке.]
Инвективные социолектизмы ВВС РФ: билет в ад.
шутливое, неодобрительное. Повестка военкомата о призыве на
службу в Вооруженные Силы. ВВС: батальон
аэродромного обеспечения: солдатский жаргон: 1993+: Лен. воен.
округ: пос. Лебяжье; волчья стая, шутливо-ироническое.
Отряд летчиков-космонавтов. ВВС: Летный испытательный
институт: конструкторское бюро: офицерский жаргон:
1991—1993+. [Т. к. командир отряда — Игорь Волк]; люди
и звери, фамильярно-насмешливое. Завтрак. ВВС: батальон
аэродромного обеспечения: солдатский жаргон: 1993+:
Лен. воен. округ: пос. Лебяжье. [По одноименному
фильму.]
Инвективные социолектизмы ВМС Великобритании: arse
of the ship. Корма судна. [Букв.: «жопа»]: сленг ВМС: сер.
XIX — нач. XX в.; hairy-arsed. Зрелый, волосатый и
мужественный. [Букв.: «с волосами на жопе»]: ВМС: с 1947; not to
care a monkey's fuck. Нисколько не беспокоиться. [Букв.:
«не волноваться ни на ебок обезьяны»]: ВМС с 1920.
403
Инвективные социолектизмы ВМС США: Geechi Chee-
скее. уничижительное. Девушка-аборигенка. [Букв.:
«гейша»]. Сленг ВМС Второй мировой войны; goo-goo.
уничижительное. Филиппинец. Сленг ВМС: с 1925; moke,
уничижительное. Филиппинец. Сленг ВМС: с 1930.
Инвективные социолектизмы ВМФ Российской империи:
армяк, пренебрежительное, устарелое. Пехотинец, особенно
рядовой. ВМФ: матросский жаргон: XIX—XX вв. 1917;
Безмозглый нигилист, пренебрежительно-уничижительное,
историзм. Прозвище капитана 1-го ранга П.И.
Серебренникова, командира броненосца «Бородино». ВМФ.
адмиральский жаргон: 1904: Цусима; Двойной дурак,
уничижительное, историзм. Прозвище командира броненосца «Адм.
Ушаков», капитана 1-го ранга Владимира Николаевича
Миклухо-Маклая. ВМФ: адмиральский жаргон: 1905:
Цусима. [По двойной фамилии.]
Инвективные социолектизмы ВМФ СССР, белая
косточка, неодобрительное. Штурманы и артиллеристы на корабле.
ЧФ: офицерский жаргон: 1950-Є+; вонтик.
пренебрежительное, устарелое. Американец (союзник). ВМФ: 1941+:
Мурманск. [< Англ. want it? («хочешь?»)]; Дунька, грубоватое.
Надбавка к окладу для оплаты береговых расходов
офицерской семьи. ЧФ: офицерский жаргон: 1953+.
[Олицетворение.]
Инвективные социолектизмы ВМФ РФ: гады, грубоватое,
шутливое. Форменные кожаные ботинки. ВМФ:
офицерский и матросский жаргон: по настоящее время. [Т. к.
тяжелые и грубые]; гусь, неодобрительное. Офицер штаба
ВМФ, назначенный на корабль для контроля действий его
экипажа. ВМФ: офицерский жаргон: современный;
замком по морде, шутливо-грубоватое. Заместитель
командующего поморским делам. ВМФ: офицерский жаргон: 1960-е
по настоящее время.
Инвективные социолектизмы других видов, родов и служб
ВС Великобритании: gravel-crusher. Пехотинец. [Букв.:
«давитель гравия»]: сленг кавалерии; illigitimis поп
carborundum. Ты не должен позволять этим ублюдкам
размолотить себя. [Букв.: «незаконнорожденные не могут
размолоть с помощью карбида кремния» (латинизированная игра
слов)]: сленг Корпуса разведки: 1939—1945; stable Jack.
Кавалерист. [Букв.: «Джек из конюшни»]: сленг пехоты: —1909.
404
Инвективные СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ДРУГИХ РОДОВ И СЛУЖБ ВС
США: French way. вульгаризм-табу. Половой акт,
совершенный лизанием влагалища и сосанием пениса. [Букв.:
«по-французски»]. Солдатский сленг Американских
экспедиционных сил во Франции в Первую мировую войну; spig.
уничижительное. Филиппинец, гаваец или абориген других
о-вов Тихого океана. Сленг ВМС и Корпуса морской пехоты
США Первой мировой войны: —1940.
Инвективные социолектизмы других видов, родов, служб,
органов и воинских формирований ВС Российской империи и
Белого движения: бантик, пренебрежительное, историзм.
Награда (особ, орден Св. Владимира с бантом). Кавалерия
(гусары): офицерский жаргон: —1917; Бэбэ. 1.
фамильярно-насмешливое, историзм. Прозвище Владимира Михайловича
Безобразова, генерала от кавалерии, командира гвардии.
Кавалергарды: офицерский жаргон: 1899+: СПб. [Из-за его
наивности]; волыюпёр. пренебрежительное, устарелое.
Вольноопределяющийся. Офицерский жаргон: 1911+ —»
Первая мировая война. —> Вооруженные силы Юга России:
Гражданская война; галунник, пренебрежительное, историзм.
Унтер-офицер, не желающий отвечать ни за что в своем
взводе. Уланы: офицерский жаргон: 1902+. [Т. к. носил
галуны]; Гершка. насмешливое, историзм. Прозвище Платона
Александровича Гейсмана (1853—1919), генерала от
инфантерии, профессора истории Академии Генерального
штаба. Генеральный штаб: офицерский жаргон: 1899+: СПб.
[? Гибрид нем. Herr + -шк/а]; граф Гонокок-Соплищев.
уничижительное, историзм. Прозвище
вольноопределяющегося Санговича. Кирасиры: офицерский жаргон: 1911+:
СПб.; довольно колбасы, пренебрежительное, устарелое. Я
отказываюсь (от чего-л. или что-л. делать, т. к. это
унижает чувство собственного достоинства). Добровольческая
армия: офицерский жаргон: 1918: Украина. [С
насмешливой аллюзией на укр. колбасу и колбасников]; красная
жопа, вульгаризм, устарелое. Коммунист. Белая гвардия и
общий сленг: Гражданская война; фазан, неуважительное,
пренебрежительное, устарелое. Офицер Генерального штаба.
Сухопутные войска (особ, кавалергарды и гвардия):
офицерский жаргон: кон. XIX — нач. XX в.
Инвективные социолектизмы других видов, родов, служб,
органов, структур и воинских формирований ВС СССР и РФ:
405
аковец. неодобрительное, историзм. Боевик «Армии Арай-
овы» (Armia Krajowa — подпольная воен. организация
польск. эмигрантского правительства). СМЕРШ: 1942—
1945: Польша, Юж. Литва, Зап. Украина и Белоруссия.
[Аббр. АК + -овец]; Берия, пейоративное, историзм.
Сотрудник НКВД. Посольство и дипломатическая резиденту-
ра Главного разведывательного управления: 1941+: Лондон.
[Антропонимия по им. Л.П. Берии, наркома НКВД]; бла-
тырь. отрицательное. Офицер, имеющий «блат»
(«мохнатую лапу» наверху). Военно-дипломатическая академия
Генерального штаба РККА: офицерский жаргон: 1944+; вшив-
ник, грубоватое, усилительное. Неуставное теплое белье
или любая другая гражданская одежда под воен. формой
(напр., свитер, джемпер и т. п.). Ракетные войска
стратегического назначения: солдатский жаргон: 1980+: Козельск;
вырвать матку, грубое. Наказать; наложить взыскание;
дать наряд вне очереди. ПВО: солдатский жаргон: 1970-
е+: Русский Север; мусёл. уничижительное. Мусульманский
боевик на службе в ВС Хорватии. Российские ВДВ в
составе войск ООН: 1996+: Югославия; Сербия; Хорватия.
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ
СТРУКТУР (вне ВС) США: hard John. Агент ФБР. [Букв.: «Джон-
твердый орешек»]; hospital. Тюрьма [Букв.: «госпиталь»].
ЦРУ.
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ СТРУКТУР
(вне ВС) Российской империи: Белая шапка,
пренебрежительное, историзм. Прозвище полицеймейстера,
действительного статского советника Свешникова. Студенческий
жаргон и жаргон Моек, охранного отделения: 1901+: Москва;
Ванька, пренебрежительное, историзм. Извозчик; ямщик.
Жаргон полиции, жандармерии, охранки, филёров, воров
и каторги: арестантов, конвоя и охранников: сер. XIX в.—
1917+. [Антропонимия]; Волчьи зубы, лисий хвост,
презрительное, историзм. Прозвище графа Михаила Тариело-
вича Лорис-Меликова (1825—1888), ген.-адъютанта,
министра внутренних дел и шефа корпуса жандармов (1880).
Корпус жандарм. —> ВС: офицерский жаргон: 1880+;
политика «лисьего хвоста», презрительное, устарелое.
Заигрывание с либералами с целью отвлечь их от революционной
деятельности. Департамент полиции и Корпус жандармов:
офицерский жаргон: 1880-Є+: Москва.
406
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ СТРУКТУР
(вне ВС) СССР и РФ: белые воротнички,
пренебрежительное. Контрольно-ревизионное управление Департамента
налоговой полиции. ДНП: офицерский жаргон: 1993+:
Москва; бурса кухаркиных ублюдков, уничижительное.
Высшая партийная школа при ЦК КПСС в Таврическом
дворце, ул. Воинова, 47, Дзержин. р-н. Общий сленг и
милиция: —1992: Л. [Аллюзия на высказывание В. И. Ленина:
«каждая кухарка должна управлять государством»];
Венгерская колбаса, пренебрежительное, историзм. Прозвище
фотографа иностранного отдела Разведывательного
управления ВЧК (венгра). ВЧК: РУ: иностр. отд.: 1920: Пг.;
гидра революции, неодобрительное, историзм. Эмблема на
форме сотрудников ГБ. НКВД: офицерский жаргон: 1937+.
[По изображению змеи, поднявшейся на хвост и
пронзенной мечом]; деревенский грамотей, фамильярно-насмегиливое.
историзм. Прозвище Никиты Сергеевича Хрущева (1894—
1971), 1-го секретаря ЦК КПСС (1953), Председателя СМ
(1958-1964). НКВД-> МТБ -> КГБ: офицерский жаргон:
1950—1960-е; дипломать. пренебрежительное.
Малообразованная, некультурная жена офицера ГРУ. КГБ: Первое
главное управление: дипломатическая резидентура: 1970-Є+; заб-
ледыш. вульгарное. Внебрачный ребенок, родившийся в
тюрьме или лагере; «выпороток», «выебок». Тюр.-лаг. и
вохровский жаргон: 1935+; кобёл, грубое. 1. Активная лесби-
янка-минетчица. —> 2. Мужеподобная женщина, активная
лесбиянка, возглавляющая «семью» из 2—20
женщин-заключенных. Оба значения: жаргон тюремно-лагерный и
МВД: внутренние войска: вохра и контролеры ИТУ: 1950—
1990-Є+; колоться до жопы, вульгаризм. Сознаваться
абсолютно во всем, что нужно следователю. Жаргон
воровской, тюремно-лагерный и МВД: 1950-е по настоящее
время; лохматый сейф, вульгаризм. Влагалище. Вор., тюр.-лаг.
и вохровский жаргон: 1970-Є+; ХС. эвфемизм. Пассивный
гомосексуалист, совершающий орально-генитальный
контакт. КГБ: 1950—1960-Є+. [Сокр. < вульг. «луесос»].
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ НЕЗАКОННЫХ ВООРУЖЕННЫХ
формирований на территории СССР и РФ: антенна,
презрительное, устарелое. Винтовка. «Лесные братья»: 1944+:
Прибалтика. [Метафора по форме, особенно с примкнутым
штыком]; муха, пренебрежительное. Мусульманский боевик.
407
Российские наемники в сербских ВС: 1993+: Сербия. [Сокр.,
с —> х + омоним, ассоциация с насекомым]; Палач,
отрицательное. Кличка Мавлади Магомедова (участника
расстрела Пермского ОМОНа 29 окт. 2000). Незаконные
вооруженные формирования. 2000—2001: Чечня. [За жестокость;
осужден на 24 г. строгого режима 25.06.2001]; пряник,
насмешливое. Молдаванин-националист, сторонник объединения
с Румынией, активный боец ВС Молдовы. Вооруженные
формирования Приднестровской молдавской республики: 1992+:
Приднестровье; ястребок, отрицательное, историзм.
Сотрудник НКВД; милиционер. Организация украинских
националистов—> НКВД: 1945+: Украина. [< //строительный
батальон; и —> я; + ассоциация с хищной птицей].
Военно-корпоративная дифференциация инвек-
ТИВНЫХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ прослеживаются по
соответствующим пометам, указывающим на носителей военного
жаргона в терминах категорий личного состава.
Рассмотрим это для ВС Великобритании, США, Российской
империи, СССР и РФ.
Инвективные социолектизмы офицерского состава ВС
Великобритании: bullshit baffles brains. [Букв.: «бычье говно
засирает мозги»]. Офицерский сленг СВ: 1939—1945; rustic.
Новобранец. [Букв.: «крестьянин»]. Офицерский сленг ВС:
с 1925; Yehudi. Еврей. [Букв.: «Иегуди»]. Офицерский сленг
СВ, особенно в Палестине: с 1941.
Инвективные социолектизмы офицерского состава ВС
США: bandit. Нерешенная проблема. [Букв.: «бандит»].
Офицерский сленг Второй мировой войны; striker. Солдат,
работающий в качестве офицерского слуги, денщика. [Букв.:
«забастовщик», «штрейкбрехер»]. Офицерский сленг СВ: с
1925.
Инвективные социолектизмы офицерского состава ВС
Российской империи: вица, пренебрежительное, историзм.
Солдат, еще не произведенный в унтер-офицеры после
учебной команды (обычно командир отделения). СВ:
пехота: офицерский жаргон: Первая мировая война. [< Вице <
вице-унтер]; макарона. уничижительное, историзм.
Прозвище Фландена (из окружения маршала А. Петена). Авиация
и ВВС: офицерский жаргон: 1914+: Франция. [За высокий
рост и репутацию авантюриста, взяточника и
взяткодателе
ля]; Мешок с навозом, уничижительное, историзм.
Прозвище младшего флагмана 2-й Тихоокеанской эскадры
контрадмирала Д.Г. Фелькерзама. Адмиральский жаргон
(особенно З.П. Рожественского): 1904+: Русско-японская война:
Цусима. [Из-за его тучности; умер 11 мая 1905.]
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА ВС
СССР: Бровеносец в потёмках, фамильярно-насмегиливое.
грубоватое. Леонид Ильич Брежнев, Генсек ЦК КПСС:
Офицерский жаргон: 1965—1982+. [Народно-этимологическая
ремотивация и декомпозиция + игра слов на «Броненосец
Потемкин»; т. к. Брежнев имел густые черные брови, а
весь период его «царствования» — коммунистические
потемки]; пиздило. уничижительное, вульгарное. Замполит.
ВМФ (особенно подводный флот): офицерский жаргон:
1970-Є+. [Т. к. «трепло»]; пиздьюк, пиздюк. вульгарное,
осуждающее. Прозвище Михаила Сергеевича Горбачева,
Генсека ЦК КПСС. ВС: генералитет: 1989+. [Т. к. его
мирные инициативы воспринимались как предательство ВС;
< англ. peace duke «мирный герцог», через рус. «пиздюк»:
ремотиватный декомпозит.]
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА ВС
РФ: балалаечник, уничижительное. Выпускник Львовского
военно-политического училища. Офицерский жаргон:
современное. [Т. к. много болтают языком];
Паша-мерседес, уничижительное. Прозвище Павла Сергеевича
Грачева, генерала армии, министра обороны РФ (1991—1996).
ВС: офицерский жаргон: 1994+. [Т. к. он приобрел
шикарный «мерседес» при выводе российских войск из
Германии; придумано журналистом Вадимом Паэгли, зам. глав,
ред. газеты «Моск. комсомолец»]; эрэлэсчик.
пренебрежительное. Офицер по работе с личным составом (новое
название политработников). Череповецкое высшее воен.
инженерное училище радиоэлектроники: офицерский
жаргон: 1994+. [Аббр. РЛС в алфавит, произношении и записи
+ -чик + омоним, ассоциация с оператором РЛС].
Инвективные социолектизмы рядового состава ВС
Великобритании: essence of piss-shit. Сексапильная девушка.
[Букв.: «суть ссаки и говна»]: ВМС: матросский жаргон: с
1925; garrison-hack. Проститутка, обслуживающая солдат.
[Букв.: «гарнизонная кляча»]: солдатский коллоквиализм:
с 1850.
409
Инвективные СОЦИОЛЕКТИЗМЫ РЯДОВОГО СОСТАВА ВС США:
gold brick. Второй лейтенант. [Букв.: «золотой кирпич»
(по знаку различия)]. Уничижительное. Сленг рядового
состава СВ США; grouser. Нытик. Солдатский сленг Первой
мировой войны.
Инвективные социолектизмы рядового состава ВС
Российской империи: белогорлик. уничижительное, устарелое.
Офицер. Солдатский жаргон: —Первая мировая война:
Турецкий фронт; Винцо в огороде, фамильярно-насмешливое,
историзм. Прозвище барона Фердинанда Федоровича Вин-
ценгероде (1761—1813), ген.-адъютанта (1802). СВ:
солдатский жаргон: 1812+: Отечественная война.
[Ложно-этимологическая ремотивация и декомпозиция + языковая игра
с аллюзией на его любовь выпить]; макака,
уничижительное, устарелое. Японец, японский солдат. СВ: пехота:
солдатский жаргон: 1904—1905: Русско-японская война:
Дальний Восток, Маньчжурия. [По внешнему виду.]
Инвективные социолектизмы рядового состава ВС СССР.
жопа не по циркулю, вульгаризм. Недостаток
возможностей, силы; власти. СВ: пехота: солдатский жаргон: 1941+:
Сибирь; защеканец. вульгаризм. Солдат, принужденный к
орально-генитальному половому акту в качестве
пассивного партнера, сосущего половой член (как и пидар,
находится в самом низу казарменной иерархии). СВ: солдатский
жаргон: 1980-Є+: Забайкальский воен. округ; распечатать
бутыль, грубое. Лишить девушку девственности; «сломать
целку». Солдатский жаргон: 1979+: Афганская война.
Инвективные социолектизмы рядового состава ВС РФ:
запах, уничижительное. Солдат до принятия присяги. СВ:
войска связи; химические войска: солдатский жаргон: 1995+:
Вологда. [Т. к. гоняют до седьмого пота]; личина,
пренебрежительное. Солдат, на ступень выше «молодого» в
неуставной иерархии. Пограничные войска: солдатский жаргон:
современное; морщить жопу, вульгаризм. Волноваться,
«дергаться» (обычно в выражении «жил бы себе и жопу не
морщил»). СВ: солдатский жаргон: 1980-е по настоящее
время: Дальний Восток: Забайкальский воен. округ.
Инвективные социолектизмы военных учебных заведений
Великобритании: belly muster. Медосмотр. [Букв.: «смотр
брюх»]: Дартмутское военно-морское училище: нач. XX в.;
Hell over Hill. Королевский военный колледж, Сандхерст:
410
1850—1880; melon. Новый кадет. [Букв.: «дыня»]: Военное
училище СВ: 1870; red-headed. Усердный. [Букв.: «красного-
ловый».] Сленг кадетов учебного судна «Конуэй»: кон. XIX —
нач. XX в.
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
США: brace. Чрезмерно показная поза положения
«Смирно!». [Букв.: «скоба»]. Сленг военных училищ; crab. Девушка
из Аннаполиса. [Букв.: «краб»]. Сленг гардемаринов
Военно-морского училища, Аннаполис: 1928; doolie.
Кадет-первокурсник. Училище ВВС: 1965; Mister Ducrot.
Уничижительное обращение к кадету-первокурснику, «плебею».
Сленг Училища СВ Уэст-Пойнпг: 1936; rat. Новый кадет.
[Букв.: «крыса»]. Сленг Военного института Вирджинии:
1850.
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Российской империи: беленький, неодобрительное, историзм.
Паж старшего курса. Пажеский ЕВ кадетский корпус,
кадетский жаргон: кон. XIX — нач. XX в. (—1917): СПб.; буржуаз.
пейоративное, историзм. Юнкер кавалерийского эскадрона
(в отличие от «гуниба» — юнкера казачьей сотни).
Николаевское кавалерийское училище: юнкера казачьей сотни: —1917.
[Т. к. юнкера кавалерийского эскадрона были дворянами,
т. е. более высокого сословия]; Ветчина с горошком,
презрительное, уничижительное. Прозвище капитана 1-го ранга
Николая Ивановича Берлинского, командира 6-й роты.
Морской кадетский корпус: кадетский жаргон: 1913+: СПб.
[По цвету лица]; гуниб. уничижительное, историзм. Юнкер
казачьей сотни. Николаевское кавалерийское училище: юнкера
кавалерийского эскадрона: —1917: СПб. [По назв. горного
плато в Предкавказье между реками Аварское Койсу и Кара-
койсу и селения в Дагестане]; зверь, уничижительное. 1.
историзм. Паж, кадет, юнкер младшего класса. Пажеский ЕВ
корпус, Николаевское кавалерийское училище, пажеский,
кадетский, юнкерский жаргон: кон. XIX в. —1917: СПб.; из-за такта.
пренебрежительное, устарелое. Альтист. Суворовский кадетский
корпус, кадетский жаргон: 1905—1917; козерог,
уничижительное, историзм. Кадет младших классов. Константиновское
артиллерийское училище, кадетский жаргон: 1914—1917: СПб.
[Т. к. кадет-«козерог» имел «хвост» длиной в 365 позвонков,
который укорачивался до одного позвонка после 1-й
учебной стрельбы, и «козероги» становились «фокстерьерами».]
411
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
СССР: белый триппер, грубое. Нижнее х/б белье белого
цвета. Череповецкое высшее военное инженерное училище
радиоэлектроники: курсантский жаргон: 1980-Є+; верхогляд,
неодобрительное, устарелое. Курсант командного училища или
ф-та. ВМФ (особенно БФ): ВМУ: курсантский жаргон: 1947+.
[Т. к. они проходили практику на кораблях в качестве
штурманов, т. е. на палубу выше, чем
курсанты-инженеры, которые несли вахту в котельных отделениях]; гавы.
эвфемизм. Форменные ботинки из свиной кожи.
Нахимовское ВМУ: воспитанники: 1960+. [Сокр. вульг. говнодавы];
жопка, грубо-шутливое. Изображение импульса на графике.
Одесское высшее военное объединенное командно-инженерное
училище, офицерский жаргон: 1960-Є+; жопник. вульгаризм.
Зубрила. Военный институт иностранных языков:
курсантский жаргон: 1970-Є+. [Т. к. много сидит]; жоржик.
неодобрительное, устарелое. 1. Приблатненный матрос, матрос-
анархист. ВМФ: 1920-Є+. —> 2. Бабник. БФ: офицерский
жаргон: Великая Отечественная война. —» 3. Матрос-стиляга
(обычно носивший вытянутые в ниточку, подбритые сверху
и снизу тонкие усики, густо напомаженные волосы,
расчесанные на пробор, бескозырку-блин с очень длинными
ленточками, фланелевку навыпуск, укороченную шинель). ТФ и
ВМФ: ВОВ+ -> НВМУ: 1944+: Л.; зелёный мешок,
пренебрежительное. Курсант 1-го курса. ВВС: курсантский жаргон: 1960+.
[По мешковатой форме зеленого цвета]; кадуіпка.
насмешливое. Плохо исполненная фигура высшего пилотажа «бочка».
ВВС: ВУ: курсантский жаргон: 1930-е. [Самолет зарывается
носом на выводе с разворотом в сторону]; капрал,
пренебрежительное. Прапорщик. Военный инженерный краснознаменный
институт:. 1988+; квиртанутый. уничижительное. Курсант
Киевского высшего военно-инженерного
радиотехнического училища. Солдатский и курсантский жаргон: 1966+: Киев.
[Аббр. + -анут/ый]; марксизм-онанизм, пренебрежительное,
отрицательное. Марксизм-ленинизм (как предмет).
Студенческий и курсантский жаргон.: Великая Отечественная
война. [Т. к. им «дрочат» мозги]; 111 UP. эвфемизм. Посидели, «по-
пиздели», /тазошлись (о ггартийно-политической ^Ьаботе).
Воен. жаргон (особенно офицерский и курсантский): до
1992. [Вульгарная расшифровка]; фантом, уничижительное.
Суворовец 1-го курса. Минское СВУ: воспитанники: 1984+.
412
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
РФ: биржа труда. 1. шутливое, грубоватое. Туалет.
Санкт-Петербургское высшее военное командное училище внутренних
войск МВД РФ: курсантский жаргон: 1994+; играть в
бильярд, грубое. Держать руки в карманах. Череповецкое высшее
военное инженерное училище радиоэлектроники: курсантский
жаргон: 1980 по настоящее время; кантюша. эвфемизм. 1.
Влагалище как сексуальный объект. —» 2. Девушка, женщина как
объект сексуального домогательства. Военный институт
иностранных языков: курсантский жаргон: 1970-е по
настоящее время. [< Англ. cunt (вульг. «вагина») + -юш/а].
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ британских военнопленных:
ersatz girl. Проститутка. [Букв.: «эрзац-девушка»]: сленг
военнопленных: 1916; goon. Немец. [Букв, сленг: «тупица»]:
сленг военнопленных. 1940+.
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ АМЕРИКАНСКИХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ: Kriegie. Американский военнопленный в немецком
концентрационном лагере. [Из нем. Krieg «война» + суфф.
«-іе»]. Сленг американских военнопленных Второй мировой
войны; purge. Вновь прибывший военнопленный. [Букв.:
«слабительное»]. Сленг американских военнопленных Второй
мировой войны.
ИНВЕКТИВНЫЕ СОЦИОЛЕКТИЗМЫ русскоязычных
военнопленных: ас о. пренебрежительное, устарелое. Деклассированная
женщина; воровка, шлюха. Концлагерный жаргон: Великая
Отечественная война: Германия. [< Сокр. нем. asozial
«асоциальный»]; бомбежка, усилительное, сниженное,
отрицательное, устарелое. Обыск. Жаргон военнопленных в нем.
концлагерях: 1941—1945; гепеушник. неодобрительное, историзм.
Сотрудник ГПУ, ГБ. Жаргон белоэмигрантских
военнопленных: Великая Отечественная война: Освенцим. [Аббр. в
алфавитной записи + — /у/шник]; поющая лошадь,
ироническое, сарказм, историзм. Заключенный, впряженный в
железный каток или в повозку, нагруженную каменными
глыбами, и в качестве наказания таскавший их бегом, распевая
песни. Бухенвальд: узники и охрана: 1937—1945; Смеющаяся
смерть, сарказм, историзм. Прозвище эсэсовца Штумпфе.
Жаргон военнопленных. 1941—1944: Треблинка. [Т. к. его
охватывали непроизвольные приступы смеха каждый раз,
когда он убивал заключенного или когда в его присутствии
производилась казнь.]
413
Инвективные СОЦИОЛЕКТИЗМЫ русскоязычных партизан:
бобик, осуждающее, историзм. Полицейский из
предателей. Партизанский жаргон: Великая Отечественная
война: Белоруссия; бот. грубоватое, пренебрежительное,
устарелое. Нем. солдат; немец. Офицерский и солдатский
жаргон: 1914+ —> партизанский жаргон: 1941+: Франция. [< Фр.
boche (презр. «немец»)]; витамин«Ц». шутливо-ироническое.
Щавель. Партизанский жаргон: Великая Отечественная
война: Украина, Белоруссия. [Аббр. «^имус»]; курок,
вульгаризм. Половой член. Партизанский жаргон: Великая
Отечественная война: Белоруссия; сделать трезуб(ец).
презрительное. Поднять руки вверх, сдаваясь (об украинских
националистах). Партизанский жаргон: Великая
Отечественная война. [По форме их герба]; сеид, неодобрительное,
устарелое. Кровожадный человек. Партизанский жаргон:
офицерский: 1812: Отечественная война. [< Араб, saiyid
(«князь, потомок Пророка»), через тюрк, «господин» —
почетный титул мусульман; известно в форме «сеит» с
XVI в.].
Инвективные социолектизмы русскоязычных казаков:
выкатить глазенапы, грубое. Выпучить глаза. Солдатский
и казацкий жаргон: 1920+: гражданская война; костогрыз.
пренебрежительное, устарелое. Горец. Жаргон казаков: 1917+:
Кавказ; орудие номер два нуля, или № 00. эвфемизм. Зад,
жопа. Первая Конармия: казацкий и солдатский жаргон:
1920-Є+. [Т. к. две круглые ягодицы.]
Инвективные социолектизмы лиц, сотрудничавших с
немецкими оккупационными властями: метис,
пренебрежительно-уничижительное, устарелое. Немец-полукровка.
Оккупационный жарі;он: 1942+: Калмыкия: Элиста.
Дислокационная дифференциация инвектив-
НЫХ ВОЕННЫХ СОЦИОЛЕКТИЗМОВ прослеживается по
военно-территориальным/локальным пометам,
указывающим на место распространения жаргонизма на
территории России или за ее пределами в терминах стран,
регионов, областей, городов, поселков, полигонов, военных
объектов и точек, фронтов, театров военных действий,
баз, военных округов, морей, рек, островов. Покажем это
для ВС Великобритании, США и Российской империи,
СССР и РФ.
414
Дислокационная дифференциация инвективных военных
социолектизмов британского ареала: Buddoo. Араб.
Военный сленг Первой мировой войны на Восточных фронтах
(возможно, из Abdul («Абдул»)); Chinese fashion. Половой
акт, совершаемый лежа на боку. [Букв.: «по-китайски»]:
сленг вооруженных сил на Дальнем Востоке: 1939—1945;
goon. Новобранец. Сленг вооруженных сил на западе
Англии: с 1940; kaifa. Девушка или женщина как сексуальный
объект. Сленг ВВС на Ближнем и Среднем Востоке (из
иврита через идиш): с 1930; miles and miles and bloody miles of
sweet fuck-all. Шутливо-ироническое описание
Африканской пустыни. [Букв.: «мили и мили, пархатые мили
сладкой ебучести»]. Солдатский сленг: 1918—1919 и 1939—1945;
moose. Японская или корейская проститутка: сленг войск
ООН в Корее: 1951—1955; quick-shits. Дизентерия. [Букв.:
«быстрая дрисня».] Сленг СВ в Северной Африке.
Дислокационная дифференциация инвективных военных
социолектизмов американского ареала: hootchee. вульгаризм-
табу. «Половой член». Сленг ВС в Корее; liberate.
Совершать половой акт с аборигенкой. [Букв.: «освобождать»].
Сленг СВ США Второй мировой войны во Франции;
pompom, вульгаризм-табу. Половой акт. Сленг СВ США на
Филиппинах, в Японии и на тихоокеанских островах, puka.
вульгаризм-табу. Женские гениталии. [Букв.: «бука»]. Сленг ВМС
США Второй мировой войны на Тихоокеанском ТВД и в
Полинезии; round eye. Западная женщина. [Букв.: «круглый
глаз»]. Сленг ВС США в Японии и Корее, sao.
Отвратительный, глупый человек. [Букв.: «старина», из вьетнамского].
Сленг ВС США во Вьетнаме, schatzi. Немецкая
проститутка. [Букв.: «сокровище», из нем.] Солдатский сленг СВ
США в Германии после Второй мировой войны; skibby.
Японская или китайская проститутка. Сленг СВ, ВМС и
ВВС Второй мировой войны на Востоке, slopie.
уничижительное. Китаец. [Букв.: «косой»]. Сленг ВС США Второй
мировой войны на Тихоокеанском ТВД.
Дислокационная дифференциация русских инвективных
военных социолектизмов: антикварная лавочка,
пренебрежительное, историзм. Курсы усовершенствования
командного состава. Офицерский жаргон: 1944+: Лен. фронт;
ара. пренебрежительное. Армянин. СВ: солдатский жаргон:
Забайкальский воен. округ: 1970— 1980-Є+. [? < Армян, «па-
415
рень»]; Арбатский пентагон, неодобрительное. Здание КГБ.
ВС: офицерский жаргон: 1960-Є+: Москва; батыжничать.
неодобрительное, усилительное. Говорить. Солдатский
жаргон: Первая мировая война: Турецкий фронт. [< Ботать по
фене — вор. «говорить на "блатной музыке"»]; бег к
морю, неодобрительное, историзм. Операции
англо-французских и германских войск по захвату флангов
противника на берегах рек Уаза, Сомма, Скарп (у г. Арраса) и Лис
(у г. Лиля) с последовательным продвижением после
каждой битвы к Северному морю с 16 сент. по 15 окт.
1914. Воен. атташе и генералитет: окт. 1914+: Франция;
бермонтовец. пренебрежительное, историзм. Солдат или
офицер Северо-западной армии H.H. Юденича (ген. от
инфантерии), сформированной из бывших русских
военнопленных Первой мировой войны в Германии. Белая
гвардия: офицерский жаргон: —1919: Финляндия, Латвия,
Эстония [< Имя нем. генерала Вермонта]; биндейка. пренеб
решительное. Помещение при столовой для сбора остатков
пищи и помоев. Стройбат: солдатский жаргон: 1970-Є+:
Сибирь; битый, насмешливое, пренебрежительное. Немецкий
солдат, сдавшийся в плен. СВ: пехота: солдатский
жаргон: 1942+: Сталинград; блюдо с музыкой, насмешливое,
историзм. Эскадренный броненосец «Наварин». ВМФ:
офицерский и матросский жаргон: —1904: Цусима. [Т. к. своим
широким корпусом и четырьмя расположенными
квадратом трубами был похож на опрокинутый кверху ножками
стол]; бобби. пренебрежительное. Британский
полицейский. КГБ: ПГУ: дипломатическая резидентура:
офицерский жаргон: 1960-Є+: Великобритания: Лондон. [< Англ.
сленг bobby («полицейский»); < собств. Bobby, ласк, от
Robert; здесь по имени Роберта Пила Robert Peel, 1812—
1818, министра по Ирландии, способствовавшего
принятию брит, парламентом закона о полиции в метрополии
(Metropolean Police Act, 1828)]; босняк,
пренебрежительное. Военнослужащий ВС Боснии; босниец. Русские
наемники в сербских ВС: 1990+: Гражданская война: Босния,
Сербия, Югославия; бульбовец. уничижительное, устарелое.
Украинский националист. ВС: Великая Отечественная
война: Украина и Белоруссия; БУР. вульгаризм. Муж.
половой член. Солдатский жаргон: 1979+: Афганская война.
[По форме]; бурундук, пренебрежительное. Спецназовец-
416
диверсант вооруженных формирований Молдовы. ВФ
Приднестровской молдавской республики: 1992+:
Приднестровье, вандейские войска, пренебрежительное, устарелое.
Казаки. Белая гвардия: офицерский жаргон:
Гражданская война: Юг; Вермахт, неодобрительное. Штаб ЛенВО,
Дворцовая пл., 10, Дзержин. р-н. Общий сленг, жаргон
ВС и милиции: 1992: Л. [< Нем. Wehrmacht];
вечнозеленый, шутливо-ироническое, неодобрительное, устарелое.
Дезертир. Белая и Красная гвардия: 1918+: Крым; голубая
дивизия, ироническое, насмешливое, устарелое. Изолятор
для сифилитиков. Советская воен. администрация:
офицерский и солдатский жаргон: 1946+: Карлсхорст, о. Рю-
ген: Германия; джик-джик. вульгаризм. 1. Совершать
половой акт; «ебать». —> 2. Половой акт. СВ: 1979—1989:
Афганская война. [Пиджинизированный редупликат ? < пушту
или фарси либо звукоподражательное]; ераз.
уничижительное. Ереванский азербайджанец. Общий сленг —>
жаргон ВДВ: солдатский и офицерский: 1988+:
армяно-азербайджанский воен. конфликт: Армения, Азербайджан,
НКАО; комутохеровато. вульгаризм. Машина «скорой
помощи». Солдатский и молодежный жаргон: 1990-Є+:
Дальний Восток. [Японизированный пиджинизм]; курица.
пренебрежительное, устарелое. Орел на конфедератке
военнослужащего Польской армии. Жаргон солдат и
офицеров советских войск маршала К.К. Рокоссовского,
носивших польскую форму: 1945+: Северная группа войск. Польша,
Германия; Курок набок! вульгаризм. Поссать!
Партизанский жаргон: Великая Отечественная война: Белоруссия;
люди на болоте, фамильярно-насмешливое, ироническое.
Посудомойщики. СВ: стройбат: солдатский жаргон: 1990-Є+:
Вологда. [По одноименному фильму]; Матка вывалится!
грубое, (команда). Сомкнуть пятки (в строю)! ПВО:
солдатский жаргон: 1970-Є+: Север; ходя, пренебрежительное.
Китаец. Общий сленг и жаргон ВС (особ, солдатский),
КВЖД: специалисты и белоэмигранты: 1918+: Дальний
Восток, Сибирь; Харбин —> Юг, Украина. [< Кит. «земляк»;
китаизированный пиджинизм и ремотиватная
декомпозиция] ; Хочу взлететь, а яйца не пускают, грубое.
«Значение» петличной эмблемы автомобильных войск.
Армейский жаргон: Юж.-Уральский воен. округ: 1980—1990-е и
молодежный жаргон: Магнитогорск.
417
Проведенный анализ может послужить отправной
точкой для дальнейшего контрастивно-дериватологического
исследования инвективной номинации в английском и
русском военных подъязыках в структурном,
семасиологическом, ономасиологическом и когнитивном аспектах, а
также для выявления ее этнокультурной специфики.
Предложенная методика может использоваться при описании
военных социолектизмов других пар и групп языков.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Авиация 1994—Авиация: Энциклопедия. М.: Большая российская
энциклопедия, 1994. 736 с.
Беляева, Хомяков 1985 — Беляева Т.М., Хомяков В. А. Нестандартная
лексика английского языка. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1985.136 с.
ВЭС 1983 — Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат,
1983. 863 с.
Гак 1989 — Гак ВТ. О контрастивной лингвистике // Новое в
зарубежной лингвистике. Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: Переводы /
Сост. В.П. Нерознака; Общ. ред. В.Г. Гака. М.: Прогресс, 1989. С. 5-17.
Дворецкий 1976 — Дворецкий И.X. Латинско-русский словарь. М: Рус.
язык, 1976. 1096 с.
Жельвис 1990 — ЖельвисВ.И. Эмотивный аспект речи:
Психолингвистическая интерпретация речевого воздействия: Учебное пособие.
Ярославль: ЯГПИ, 1990. 81 с.
Жельвис 1992 — ЖельвисВ.И. Психолингвистическая интерпретация
инвективного воздействия: Автореф. дисс.... д-ра филол. наук. М., 1992.
51с.
Жельвис 1997 — Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как
социальная проблема в языках и культурах мира. М.: Ладомир, 1997. 330 с.
Касевич 1988 — Касевич В.Б. Фонология в типологическом и
сопоставительном изучении языков // Методы сопоставительного изучения
языков /Отв. ред. В.Н. Ярцева. М.: Наука, 1988. С. 19-25.
Климов 1990 — Климов Г. А. Основы лингвистической
компаративистики. М.: Наука, 1990.168 с.
Коровушкин 1989а — Коровушкин В.П. Введение в изучение
англоязычного военного жаргона: Учебное пособие. Череповец: ЧВВИУРЭ, 1989.
Часть I: Теоретические основы и проблематика социолектологического
описания. 104 с.
Коровушкин 19896 — Коровушкин В.П. Введение в изучение
англоязычного военного жаргона: Учебное пособие. Часть П: Череповец: ЧВВИУРЭ,
1989. Общепросторечные характеристики военных жаргонизмов (опыт
социолектологического описания). 159 с.
Коровушкин 1989в — Коровушкин В.П. Введение в изучение
англоязычного военного жаргона: Учебное пособие. Череповец: ЧВВИУРЭ, 1989.
Часть III: Специфические характеристики военных жаргонизмов (опыт
социолектологического описания). 150 с.
418
Коровушкин 1989г — Коровушкин В.П. Сокращения в военном
жаргоне англоязычных стран (XVII—XX вв.): Учебное пособие. Часть II:
Англорусский словарь сокращений военного жаргона. Череповец: ЧВВИУРЭ,
1989. 244 с.
Коровушкин 1993 — Коровушкин В.П. Социальная лексикология анг*
лийского языка (Материалы к спецкурсу для студентов факультета
раннего обучения иностранным языкам). Череповец: ЧГПИ, 1993. Часть I:
Теоретические основы социолексикологического изучения английской
нестандартной лексики. 40 с.
Коровушкин 1994 — Коровушкин В.П. Социальная лексикология
английского языка (Материалы к спецкурсу для студентов факультета
раннего обучения иностранным языкам). Череповец: ЧГПИ, 1994. Часть II:
Теоретические основы социолексикологического описания английской
нестандартной лексики. 38 с.
Коровушкин 1999 — Коровушкин В.П. Социально-исторические
характеристики военных жаргонов английского и русского языков XVII — XX
веков (контрастивный аспект) // Материалы научно-методической
конференции «Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных
языков в вузе». СПб.: ВИТУ, 1999. Часть II: Доклады. С. 227-237.
Коровушкин 2000 — Коровушкин В.П. Словарь русского военного
жаргона: нестандартная лексика и фразеология вооруженных сил и
военизированных организаций Российской империи, СССР и Российской
Федерации XVIII—XX веков. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000. 372 с.
Коровушкин 2001 — Коровушкин В.П. О контрастивно-социолекси-
кологическом описании английского и русского военных
«подъязыков» // Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных
языков: Материалы научно-методической конференции. СПб.: ВИТУ,
2001. С. 55-57.
Коровушкин 2002 — Коровушкин В.П. Военные социолекты в английском
и русском языках (к вопросу о контрастивном описании) // Социальные
варианты языка: Материалы международной научной конференции
25—26 апреля 2002 года. Нижний Новгород: Нижегородский
государственный лингвистический университет им. И.А. Добролюбова, 2002.
С. 12-15.
ЛЭС 1990 — Лингвистический энциклопедический словарь /Гл. ред.
В.Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 685 с.
Максимов 2002 — Максимов Б.Б. Фильтруй базар: Словарь
молодежного жаргона города Магнитогорска: Ок. 31 500 слов и устойчивых
словосочетаний. Магнитогорск: МаГУ, 2002. 506 с.
Мокиенко, Никитина 2000 — Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой
словарь русского жаргона. СПб.: Норинт, 2000. 720 с.
НСИСВ 2001 — Новейший словарь иностранных слов и выражений.
Минск: Харвест, 2001. 976 с.
Туманян 1985 — Туманян Э.Г. Язык как система социолингвистических
систем. Синхронно-диахроническое исследование. М.: Наука, 1985. 247 с.
Химик 2000 — Химик В.В. Поэтика низкого, или Просторечие как
культурный феномен. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2000. 272 с.
Хомяков 1971 — Хомяков В.А. Введение в изучение слэнга —
основного компонента английского просторечия. Вологда, 1971. 104 с.
419
Хомяков 1974 — Хомяков В. А. Структурно-семантические и социально-
стилистические особенности английского экспрессивного просторечия.
Вологда, 1974.104 с.
Хомяков 1980 — Хомяков В. А. Нестандартная лексика в структуре
английского языка национального периода. Автореф. дисс.... д-ра филол.
наук. Л., 1980.39 с.
Шевчук 1985 — Шевчук В.Н. Военно-терминологическая система в
статике и динамике: Автореф. дисс.... д-ра филол. наук. М., 1985. 44 с.
Юсупов 1988 — Юсупов У.К. Сопоставительная лингвистика как
самостоятельная дисциплина // Методы сопоставительного изучения
языков /Отв. ред. В.Н. Ярцева. М.: Наука, 1988. С. 6-11.
Ярцева 1960 — Ярцева В.Н. О сопоставительном методе изучения
языков // Научные долады Высшей школы. Филол. науки. 1960. № 1. С. 5.
DFS 1948 -A Dictionary of Forces' Slang. 1939-1945 / Ed. by Eric
Partridge. Naval Slang. Wilfred Granville. Army Slang. Frank Roberts. Air Force
Slang. Eric Partridge. London: Seeker' Warburg, 1948. XII, 212 p.
Baker 1943 — Baker S.J. A Popular Dictionary of Australian Slang. Third
Edition: Revised and extended to include modern war slang and other terms
of recent origin. Melbourne: Robertson and Mullens Ltd, 1943. 91 p.
Bartlett 1859 — BartlettJ. К Dictionary of Americanisms: A Glossary of
Words and Phrases, Usually Regarded as Peculiar to the United States. Second
Edition. Boston: Little, Brown & Co., 1859. XXII, 524 p.
Branford 1991 — Branford G, Branford W. A Dictionary of South African
English. Forth ed. Cape Town: Oxford Univ. Press, 1991. XXXI, 412 p.
Hayward 1975 — Hayward P.H.C. Jane's Dictionary of Military Terms.
London: Macdonald &Jane's, 1975. 201 p.
Partridge 1979 — Partridge E. Partridge E. A Dictionary of Slang and
Unconventional English: In two volumes. London; Henley: Routledge & Kegan
Paul, 1979. Vol. I: The Dictionary. XVI, 1-974 p.; Vol. II: The
Supplement. X, 975-1528 p.
Simes 1993 — Simes G. A Dictionary of Australian Underworld Slang.
Melbourne: Oxford Univ. Press, 1993. LXXVIII, 225 p.
Wentworth, Flexner 1975 — WentworthH., FlexnerB.S. Dictionary of
American Slang. Second Supplemented Edition. New York: Thomas Y. Crowell
Publishers, 1975. 766 p.
Yule, Burnell 1985 — YuleH., Burnett A.C. Hobson-Jobson. A Glossary of
Colloquial Anglo-Indian Words and Phrases, and of Kindred Terms,
Etymological, Historical, Geographical and Discursive / Second Edition edited
by William Crooke with a new foreword by Anthony Burgess. London:
Routledge & Kegan Paul, 1985. XLVIII, 1021 p.
Ю.А. Кузнецов
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ В РУССКОМ И
ФРАНЦУЗСКОМ ВОЕННОМ ФОЛЬКЛОРЕ
ХІХ-ХХ ВЕКОВ
История человечества — это история войн, особенно
кровопролитных в XIX и XX веках. Война — одно из
наиболее очевидных и эмоционально воспринимаемых
общественным сознанием проявлений конфликта. «В основе
любого конфликта лежит противопоставление "свои —
чужие", которое в разных видах пронизывает всю
культуру и является одним из главных концептов всякого
коллективного, массового, народного, национального
мироощущения» (Степанов 1997: 472).
Война как социальное явление тесно связана с
политикой. Язык политики — это прежде всего язык пропаганды,
тоталитарный язык или так называемый «новояз». Он
способствует формированию массового
милитаризированного сознания со свойственной ему иррациональной
наивной картиной мира.
Представляет интерес такое явление, как языковое
сопротивление или речевые реакции, противоречащие
системе тоталитарного языка и игнорирующие ее. Языковое
сопротивление тоталитарному дискурсу как выражению
принудительного ментального мира освещается в работах
многих лингвистов начиная с середины XX века (см.: Klem-
perer 1947; Купина 1999; Сарнов 2002). Оно возникает как
естественная реакция на кодификацию нормы. Так,
например, жаргон функционирует как средство
сопротивления литературному языку и кодифицированным правилам
общения. Сплоченность группы социума поддерживает
общий язык и способность производить общие тексты.
Любой жаргон концентрируется в устной форме в фольк-
421
лорных текстах, которые в обобщенной форме отражают
универсалии и стереотипы массового сознания.
Если армия в какой-то степени — модель общества, то
военный фольклор и жаргон — это зеркало армии.
Известно, что специфика функционирования вооруженных сил
определяет и специфику социальных отношений,
отличающихся значительной степенью авторитарности.
Отношения же доминирования и подчинения часто ведут к
стрессу и фрустрации и составляют основу различного
рода конфликтных ситуаций, что находит свое
выражение в вербальной агрессии.
Целью проводимого нами исследования является
анализ вербальной агрессии в русском и французском
военных фольклоре и жаргоне для выяснения специфических
черт, обусловленных национальными культурами и
языками. Материалом исследования послужили около пяти
тысяч русских и более тысячи французских военных
жаргонизмов XIX—XX веков, собранных В.П. Коровушкиным и
автором настоящей статьи из различных источников.
В данной работе агрессия вообще понимается как
мотивированное деструктивное поведение, противоречащее
нормам и правилам сосуществования людей в обществе.
Некоторые авторы считают целесообразным давать
определение агрессии преимущественно с точки зрения
содержания высказывания и на основе этого решать, что^гожно
считать вербальной агрессией. Вот нек^торы^/из этих
определений: 1) многочисленные отпоры; 2)
отрицательные отзывы и критические замечания; 3) выражения
отрицательных эмоций, например, недовольства другими в
форме брани, затаенной обиды, недоверия, ярости и
ненависти, когда эти высказывания не служат для простого
описания эмоционального состояния; 4) высказывания
мыслей и желаний агрессивного содержания («Я больше
всего хотел бы его убить» или: «Возможно, с ним когда-
нибудь это и случится») или в форме проклятия; 5)
оскорбления; 6) угрозы, принуждения и вымогательства; 7)
упреки и обвинения. Кроме того, и простой крик без
формулирования речевого выражения часто носит агрессивный
характер (см.: Семенюк 1998: 16).
Вербальная агрессия — это выражение негативных
чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через
422
содержание вербальных реакций (угроза, проклятие,
ругань). Она может быть косвенной, т. е. действиями,
которые окольным путем направлены на другое лицо
(злобные сплетни, шутки и т. п.).
Военный жаргон как социолект отдельной
семиотической подгруппы — это прежде всего лексикон вербальной
агрессии. Этот лексикон связан с выражением эмоций. А
так как одной из задач нашего исследования является
выяснение особенностей эмоционально нагруженного
текста, то лучше обратиться в первую очередь к его наиболее
яркому эмоциогенному элементу — инвективе, взятой в
широком смысле.
Человек — вид с агрессивным поведением и
стремлением к иерархической структуре. Военная субкультура
отличается сверхиерархией и сверхагрессивностью. Внутри ее
складываются своеобразные стандарты поведения,
типичные только для данной среды. Любая субкультура
призвана держать свои социокультурные признаки в
определенной изоляции от «иных» культурных слоев.
Армия в любом государстве выполняет две функции:
защиты от внешнего и подавления внутреннего врага. Образ
врага — органический компонент всех национальных
идеологий. Уходя корнями в историю национальных
отношений, этот мифологический образ противника,
подлежащего устранению, часто для сплочения нации подкрепляется
манипуляциями общественным сознанием.
Этнические инвективы, т. е. оскорбления по
национальному признаку, относительно широко распространены в
военных социолектах обеих стран. Большое количество
пейоративов, относящихся к другим народам в русском и
французском языках вообще, объясняется историческими
причинами — оба государства являлись колониальными
империями, неоднократно вели войны, контактировали со
многими этносами. Проблема расизма, пишет
французский историк Фернан Бродель, это «старая, вечно живая
проблема. Она происходит от "инакости", т. е. от чувства
присутствия другого, чужого человека, который отрицает
ваше собственное "я", вашу личность до такой степени, что
эта рознь, истинная или мнимая, вызывает с одной и с
другой стороны тревогу, презрение, страх, ненависть...
Неужели для нашего существования нам необходимо противо-
423
поставлять себя другому? Национализм разобщил,
разъярил Европу. Нам, французам, случалось ополчаться на
испанцев, англичан, немцев... И эти господа платили нам
взаимностью. Красный воротничок на мундирах прусских
офицеров в 1815 году означал, по их словам, "кровь
французов", Franzosen Blut» (Бродель 1995: 187).
Инвективизация имен представителей чужого народа
происходит по примитивной схеме: «чужой — опасный»,
«чужой — нелепый» (странный). Обычные жаргонные
слова, за исключением этнических инвектив, живут в языке
относительно недолго. Применительно к национальным
ярлыкам вариативность жаргонизмов сравнительно мала:
в среднем 1—2 слова для нации. Исключение — это «враг
номер один» на данный момент или так называемый
«заклятый враг». По своей форме такие слова представляют
собой: 1) измененные типичные имена собственные (ср.
«фриц» в русском и французском языках, или «иван» в
немецком), 2) сокращения, 3) описания.
Этнические инвективы любой культуры распадаются
на три класса: ярлыки для соседей, туземцев и врагов. В
любом случае «чужой» рисуется черными красками как
вызывающий отвращение, злой, глупьгй^и хитрый
человек. Соседям приписывают глупость, странный образ
жизни, лень, жадность; туземцы считаются неразвитыми
дикарями, полулюдьми; враги изображаются чагіде как опасные
животные (см.: Карасик 1992: 255—257, 262).
Как известно, жаргонизмы (и профессионализмы)
отличаются от терминов эмоционально-оценочной
коннотацией. Отношение к обозначаемому явлению может быть
либо положительным (мелиоративным), либо
отрицательным (пейоративным). Так, в русской военной лексике
периода Великой Отечественной войны сложились две
группы профессионально ориентированных просторечных
наименований, обозначающих военную технику Советской
Армии и войск противника, например, советские
«зверобои», «катюши», «малютки», «ишачки», «ястребки»,
«папаши» противопоставлялись «каракатицам», «костылям»,
«кочергам», «дурилам», «сопливым», «паникерам»,
«горбылям» немцев (см.: Кожин 1985).
Использование имен собственных — это своеобразный
вербальный реликт первобытной магии, когда знание ис-
424
тинного имени дает власть над его носителем, а
применение чужого имени, ставшего нарицательным, в виде
оберега позволит сохранить жизнь своего союзника.
Враг всех времен и народов — немецкий солдат,
многовековой противник и русских и французов. Собственные
немецкие имена употребляются как имена нарицательные
во многих военных жаргонах. В некоторых личных
именах укрепилось новое содержание: из элемента,
соотносительного с понятием, они превратились в выразителей
определенного понятия. Антономасия — это типичное
явление для любого жаргона. Так, слова «Фриц», «Ганс»
как личные имена имели определенный минимум
значения, иное употребление способствовало их переходу в
нарицательные. Возникали производные образования как
уничижительно-презрительные обозначения захватчиков
(«фрицик», «фриценок», «фрицушка», «фрицевский»...).
Сфера употребления «Ганса» была незначительной.
Исследователь П.Я. Черных полагал, что частое
использование слова «Фриц» в русском языке связано с большей
популярностью этого имени в Германии (Фриц-Фридрих —
это, в частности, и имя прусского короля, неоднократно
битого русскими), что оно обладает выразительностью и
краткостью. Неодобрительная содержательность слова,
несомненно, оказывала воздействие на сферу его
употребления, поскольку слова, начинающиеся со звука «ф», в
русском языке обычно имеют отрицательную экспрессию
(см.: Кожин 1985: 282).
Кроме «Фрица» (Первая мировая) и «Ганса» (Вторая
мировая), использовавшихся всеми союзниками,
французы употребляли также следующие имена собственные:
«Otto» — для обозначения немецких артиллеристов и
«Fridolin» («Frido»), как общее от Фридриха, а также
«Ernest» и «Michel», но последние не превратились в
нарицательные. Самое употребительное военное
прозвище немцев в XX веке — это презрительный жаргонизм
«боши» (от фр. «boches» — «немцы»).
Для французов американцы чаще были союзниками.
Отсюда уже другое, фамильярное, использование их
самых популярных имен собственных, таких как «Samy» и
«Bills». На протяжении нескольких веков заклятыми
врагами Франции были англичане, и эта антипатия оставила
425
в языке многочисленные свидетельства. Так жаргонный
глагол «anglaiser» означал «воровать», атакой эвфемизм
менструации, как «Les Anglais ont debarque», был связан с
красным цветом униформы (XIX в.), а не с высадкой
союзников в Нормандии в 1944 году.
В начале XX века русские военные также называли
своего противника именами существительными
нарицательными: «герман», «австрияк», а чаще всего —
просторечными инвективами «колбасник» или «немчик» и «немчура».
Формально отрицательная коннотативность создается с
помощью суффиксов: «-ик», «-ур(а)», «-ишк(а)» («францу-
зишка»), «-шк(а)» («япошка)» и «-в(а)» («татарва»).
Причем в условиях контекста на эти
уменьшительно-ласкательные значения нередко накладываются значения насмешки
и пренебрежения (см.: Пугачев 1997: 131).
В российской армии также употреблялись и менее
частотные жаргонизмы, такие как: «Хранц» — француз в
1812 году; «макаки» — японские солдаты в 1904—1905
годах; «духи» (от пуштун, сокр. «душманы» — «разбойники,
бандиты») в Афганистане и Чечне в конце XX века;
аббревиатуры ГэПэ — «Главный Противник» (т. е. США), «Джи
Ай» (от америк. G. I. — «американский солдат»), он же —
«Джон», «америкос», «американос», или возродившиеся
иронические историзмы «супостат» и «басурман». Можно
вспомнить устаревшее «каман» (от англ. «come on» —
«давай, шевелись!») для обозначения американского или
британского интервента времен Гражданской войны;
«Джеки» (XIX в.) или «асеии» (от англ. «I say» — «Послушай!»;
цит. по: Коровушкин 2000: 33) (середина XIX и начало
XX в.) — это англичане.
Французская армия называла русских «Mosco» (от фр.
сокр. «Moscovite») с XVII века; в XX веке японцев — «Jap»
(от фр. сокр. «Japanais»). Вьетнамская и алжирская
войны дали: «Viet(s)» (от фр. сокр. «Vietnamien» —
вьетнамец), «Niac» (от вьетн. сокр. «Niacoue» — «крестьянин»)
и «Fells» (от араб. сокр. «Fellagha» — «бандиты с большой
дороги», «головорезы»).
В военном жаргоне присутствует также еще один образ
врага, врага внутреннего, потенциального пособника
врага внешнего, некоего «вредителя», иногда по злому
умыслу, иногда по недомыслию. Он же является своеобраз-
426
ным, удобным «козлом отпущения», на которого можно
списать «временные неудачи». Причем желательно,
чтобы он был представителем другой нации, а еще лучше —
другой веры. На эту роль в России во время Первой
мировой войны чаще всего использовались евреи («жиды» —
синоним: «шпионы»), накануне ее во Франции — «Youde»,
«Youpin», «Youtre» в «деле Дрейфуса» и во Второй
мировой войне — предатели-коллаборационисты «collabo» (от
фр. сокр. «collaborateur» — «сотрудник»). Не последнее
место занимают гражданские или цивильные лица,
«считающие себя умными, а ходить строем не умеющие»:
русские «шпаки», «штафирки» (XIXв.), «пиджаки» (конецXX
в.) и французские «civelot» (от фр. сокр. «civil» —
«гражданский») или более мрачноватое «ciblot» (от фр. сокр.
«сіЫе» — «цель, мишень»), с эпентезой — вставкой звука
или слога; «petrousquin» (от фр. «деревенщина»).
Ради красного словца военные не жалеют и «отца
командира», «папу», «батяню», подбирая соответствующие
пейоративы, изображающие, конечно, не врага, не зверя,
а нечто иное: «шишку» или «Legume» (от фр. «овощ»), и
даже соответствующий транспорт «шишковоз», «члено-
воз» или «Legumier» (от фр. «повозка для перевозки
овощей» — «машина офицера»).
Помимо использования имен существительных
собственных и нарицательных для обозначения врага, в
военных жаргонах можно встретить имена прилагательные.
Противник выделяется с помощью цвета его военной
униформы или символического (политического) цвета:
немцы были «verts» (от фр. «зеленые»), «haricots verts» (от
фр. «зеленая фасоль»), «lezards verts» (от фр. «зеленые
ящерицы»), «diables verts» (от фр. «немецкая военная
жандармерия») (в 1914—1918 гг.) или «verdure» (от фр.
«зелень») (1944 г.). Русские в XX веке использовали свои
исторические национальные цвета: «красный» и «белый» в
Гражданскую войну, а также «черный».
С точки зрения количества и частотности
употребления больше всего жаргонизмов имеется в системе
воинских званий. Это может быть объяснено тем, что среди
инвектив, возникающих главным образом в солдатской
массе, варьируются прежде всего те, что наиболее частотны в
речи. А поскольку капралы, старшины и прапорщики наи-
427
более тесно связаны с солдатами и не особо ими любимы,
то и наименования этих лиц употребляются чаще всего.
Только французскому военному жаргону присуще
наличие многочисленных арабских заимствований, что
объясняется влиянием вековой колониальной войны.
В русском военном жаргоне самую большую частотность
в употреблении имеет личное местоимение третьего лица
«он», со значением «тот, о ком говорят, опасаясь назвать».
Первым на это обратил внимание Л.Н. Толстой в своих
примечаниях к военным рассказам: «Он — собирательное
название, под которым кавказские солдаты разумеют
вообще неприятеля» (Толстой 1973: 28, рассказ «Набег»).
В основе жаргонизма чаще всего находится метафора.
Метафоричность слова отражает различные способы
видения мира и, как следствие, настраивает на
определенный тип поведения. На это уже обращали внимание
многие исследователи (см.: Баранов, Караулов 1991; Лакофф,
Джонсон 1987).
Военная метафора, которая особенно распространена
в нашем обществе, связана с милитаризацией нашего
сознания. Часто она предполагает уничтожение врага — и
моральное, и физическое. Давление развернутого
метафорического поля войны в военном жаргоне, а из него и в
языке всего общества приводит общественное сознание к
агрессивным действиям по материализации метафоры.
Анализируя языковую картину в различных жанрах
военного фольклора (сказках, песнях, частушках, анекдотах,
байках, шутках, розыгрышах, пословицах и поговорках),
можно выделить общий для обеих субкультур признак —
частую пейоративность употребляемого жаргона.
Вербальное сопротивление войне и смерти направлено на
подстрекателей насилия, которые сами, как правило, не
воюют, но владеют тысячелетним опытом
конструирования образа врага, что и позволяет им заставлять убивать
человека человеком. Военные всего мира, отзываясь о
войне и характеризуя свое ремесло, пахнущее кровью,
порохом и потом, любят повторять знаменитое и очень
емкое крылатое словцо французского генерала Камброн-
на: «Merde!»
Самый универсальный способ для снятия возможной
напряженности и враждебности, выработанный человече-
428
ством, — это улыбка и смех. «Что общего у солдата,
полицейского и заключенного? — задавался вопросом С.А. Ки-
чигин, один из составителей семитомника "Антология
мирового анекдота", и отвечал: — Форма. Все эти люди —
в форме. Главный объект смеха — форма...» Редакторы
тома «Всем стоять!.. Всем сидеть!..» подтрунивали над
нелепостью заформализованных отношений (см.: «Всем
стоять...» 1994: 3). Военный фольклор собирает почти вся
мужская половина России и Франции, фиксируя в своих
блокнотах и дембельских альбомах образцы юмора и
сатиры — для себя и для будущих исследователей.
Фольклор стал психологической реакцией на службу в
армии, где полурабский статус военнослужащего
позволяет ему разрядиться только в устном творчестве. Являясь
одной из форм общенародного языкового сопротивления,
он в значительной степени способствует разрушению
тоталитарного общества с его двумя страшными орудиями
господства и принуждения — «новоязом» и террором.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Баранов, Караулов 1991 — Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская
политическая метафора: Материалы к словарю. М., 1991.
Бродель 1995 — Бродель Ф. Что такое Франция. М., 1995. Ч. 1. Кн. 2:
Люди и вещи.
«Всем стоять...» 1994 — Всем стоять!.. Всем сидеть!../ Под ред.
Ю.В. Никулина. К., 1994. (Антол. мирового анекдота).
Карасик 1992 — Карасик В.И. Язык социального статуса. М., 1992.
Кожин 1985 — Кожин А.Н. Лексико-стилистические процессы в
русском языке периода Великой Отечественной войны. М., 1985.
Коровушкин 2000 — Коровушкин В.П. Словарь русского военного
жаргона: Нестандартная лексика и фразеология вооруженных сил и
военизированных организаций Российской империи, СССР и Российской
Федерации XVIII—XX веков. Екатеринбург, 2000.
Купина 1999 — Купина H.A. Языковое сопротивление в контексте
тоталитарной культуры. Екатеринбург, 1999.
Лакофф 1987—ЛакоффДж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем
// Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С. 126—170.
Остапенко и др. 1976 — Остапенко В.П., Поляков В.А., Редозубов К.Н.
Французско-русский военный словарь. М.,1976.
Пугачев 1997 — Пугачев И. А. Эмоционально-смысловые
характеристики номинаций по национальности // XII Международный симпозиум по
психолингвистике и теории коммуникации «Языковое сознание и образ
мира». М., 1997. С.130-131.
429
Сарнов 2002 — Сарнов Б.М. Наш советский новояз. М., 2002.
Семенюк 1998 — Семенам Л.М. Психологические особенности
агрессивного поведения подростков и условия его коррекции. М., 1998.
Степанов 1997 — Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской
культуры. Опыт исследования. М., 1997.
Таубе 1960 — ТаубеА.М. Французско-русский военный словарь. М.,1960.
Толстой 1973 - Толстой Л.Н. Собр. сочинений: В 12 т. М., 1973. Т. 2:
Повести и рассказы 1852—1856.
Cassagne 1994 — CassagneJ.-M. Dictionnaire de Г argot militaire. Paris,
1994.
Duneton 1990 — Duneton C. La puce ä l'oreille. Paris, 1990.
Esnault 1965 — Esnault G. Dictionnaire historique des argots francais.
Paris, 1965.
Klemperer 1947 — Klemperer V. LTI: Notizbuch eines Philologen. Berlin,
1947.
Т. С. Злотпикова
«ПРОСТО ТАКАЯ ЖИЗНЬ»
Абсурд и инвектива:
как ругались в русской драме
от классических истоков до наших дней
Ругаться нехорошо. Нехорошо испытывать чувства,
влекущие за собой враждебные проявления одного
человека в отношении другого, то есть враждовать,
противоборствовать. Нехорошо и произносить слова — грубые,
обидные, тем более — нецензурные, то есть браниться.
Однако и вражда, и брань оказались онтологически сопри-
родны человеку, который иногда даже гордится тем, что
именно здесь проходит граница между ним и животным.
Онтологичность конфликта как одной из форм
взаимодействия людей (как в общецивилизационном плане,
так и на межличностном уровне) определила
генетические признаки театра как вида искусства и драмы как рода
литературы. Отсюда вытекает первый посыл данной статьи:
театра (и драмы) без ругани не бывает. Речь может идти о
типологии мотивов, о поэтике, характерной для тех или
иных эпох или национальных культур, о месте ругани в
художественной системе драматического произведения.
Полагаю, что этот посыл едва ли не бесспорен.
Второй посыл предполагает своеобразную
унификацию множества драматургических текстов на основе
сочетания в них таких признаков, как абсурд и инвектива. По
нашим наблюдениям, представленным в ряде других
публикаций, русская классическая драматургия содержала в
себе многие значимые признаки драмы абсурда (алогизм
действия и речи персонажей, сочетание персонажей по
принципу «палач и жертва» и их «оборотничество»,
игровой дискурс, специфичность инверсированного
хронотопа как своего рода пустоты). Исходя из этого утвержде-
431
ния, мы попытаемся теперь показать, привлекая тексты
русских классиков, русских (и отчасти — западных)
абсурдистов XX века, органичность разрастания инвективы как
составляющей пьес по мере приближения от Пушкина, Гоголя,
Сухово-Кобылина, Островского, Чехова и Горького к нашим дням.
Названный процесс имманентно отражает ход самой
жизни, где за неполные два столетия формируется атмосфера
жестокости и равнодушия в отношении к «частному
человеку», но укрепляются позиции массы.
1
Попытаемся выяснить, насколько благостны,
миролюбивы и красивы были речи персонажей классических
русских пьес, трагедий, комедий и драм, на опыте которых
училась и западноевропейская драма абсурда, и
современные русские авторы. Не было ли и там свидетельств
абсурдности человеческого бытия, зафиксированных бранными,
грубыми, жестокими речениями?
Проанализируем ругань персонажей русской
драматургической классики.
A.C. Пушкин «БОРИС ГОДУНОВ»
Равнина близ Новгорода-Северского
Маржерет. Куда, куда? Allons1... пошольназад!
Один из беглецов. Сам пошоль, коли есть охота, проклятый
басурман.
Маржерет. Quoi? quoi?2
Другой. Ква! ква! тебе любо, лягушка заморская, квакать на
русского царевича; а мы ведь православные.
Далее текст приводится в переводе, данном A.C.
Пушкиным в примечаниях.
Маржерет. Что это значит православные?.. Рвань окаянная,
проклятая сволочь! Черт возьми <...> можно подумать, что у них нет рук,
чтобы драться, а только ноги, чтобы удирать.
В. Розен. Позор.
1 Ну! (#.)
2 Что, что? (фр.)
432
Маржерет. Тысячу дьяволов! <...> Черт, дело становится жарким!
Этот дьявол — Самозванец, как они его называют, отчаянный
головорез... <...>
В брани пушкинских персонажей присутствует
традиционное представление грубых, воинственных людей,
привыкших к жестокости и кровопролитию, о праве на
«эмоциональный выход». Вместе с ударами мечей, звуком
лошадиных копыт эта брань составляет органичный фон
битвы. Пародийность русского восприятия чужеземной
речи («лягушачье» звучание французского вопроса)
сочетается с хорошо усвоенными наемниками и лишь на их
родном языке воспроизводимыми банальными
ругательствами. Ругань «маркирует» ситуацию боя так же, как
могла бы изысканная речь придворных маркировать
ситуацию дипломатического приема в царском дворце.
Н.В. Гоголь «РЕВИЗОР»
Хлестаков. Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор,
зажаренный вместо говядины. (Ест.) Мошенники, канальи, чем они
кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. (Ковыряет, пальцем
в зубах.) Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить
нельзя; и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! (Вытираетрот
салфеткой.) Больше ничего нет?
Слуга. Нет.
Хлестаков. Канальи! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соус
или пирожное. Бездельники! дерут только с проезжающих.
(Действие второе. Явление VI.)
Банальный словесный ряд, которым пользуется
Хлестаков, с самого начала гоголевской пьесы задает
представление об убожестве мнимого ревизора. Ни ярких
обвинений, ни изобретательных пассажей — все вторично,
многократно повторено. Действительно, если бы не безумный
страх городничего и других чиновников, такого
безликого человечка за ревизора принять было бы невозможно.
Городничий.А! Здорово, соколики!
Купцы (кланяясь). Здравия желаем, батюшка!
Городничий. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш?
Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестии,
надувалы мирские! <...> Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в
зубы, что...
438
Анна Андреевна. Ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова
отпускаешь!
(Действие пятое. Явление II.)
При сочетании лицемерной осторожности и желания
выместить на ближайших виновниках возможных
неприятностей свой эмоциональный «негатив», у городничего в
ругательства превращаются (вполне абсурдно!)
ласкательные выражения. Интонация контрастирует со смыслом
произносимых слов. Простодушные проклятия
оттеняются профессиональными характеристиками (почему бы
купца и вправду не назвать аршинником или
самоварником, если он меряет аршином ткань или торгует
самоварами?). Последние приобретают качество брани в силу
эмоционального посыла, находящегося вне прямого смысла
слов.
Городничий. <...> Вот смотрите, смотрите, весь мир, всё
христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака,
старому подлецу! {Грозит самому себе кулаком.) Эх ты, толстоносый! Сосульку,
тряпку принял за важного человека! <...> Мало того, что пойдешь в
посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит.
<...> Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые!
чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да
черту в подкладку! в шапку туды ему!.. <...>
< >
Городничий. <...> сплетники городские, лгуны проклятые!
Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором
и рассказами!
Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех,
трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!
Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!
Лука Лукич. Колпаки!
Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие! <...>
(Действие пятое. Явление VIII.)
Ругательства, рождаемые экстремальной ситуацией
разоблачения отцов города, отнюдь не клишированные, не
стереотипные. Это не реализация кода, о котором в связи
с бранью как классическим текстом будет сказано ниже,
но крик души, ее рулады и придыхания. Каждый персонаж
отводит душу, соревнуясь с остальными в изобретении всё
новых гадостей — и не оригинальность, а краткость и
умение вставить свою реплику в чужой крик отличает
нападки на сплетников Бобчинского и Добчинского. Наиболее
изобретательным, пожалуй, оказывается, Земляника, при-
434
думавший на ходу такое словосочетание, как «сморчки ко-
роткобрюхие», ибо само наличие «брюха» у сморчка уже
сомнительно, а способность измерить длину этой части
тела (в то время как обычно речь идет о ее толщине) и
вовсе придает нестандартный, индивидуальный характер
этому «поношению».
А.Н. Островский «ЗА ЧЕМ ПОЙДЕШЬ,
ТО И НАЙДЕШЬ (ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА)»
Красавина. Ничего, матушка; брань на вороту не виснет. Нам не
привыкать стать к брани-то: наше звание такое...
Возможность терпеть брань в свой адрес определяется
у Островского исключительно в соответствии с
социальной или возрастной иерархией. Браниться может не
каждый, как не каждого можно выбранить. Статусные
характеристики вычленяют брань в особый тип общения и
речения, на чем и строятся тексты пьес русского классика.
А.Н. Островский «СВОИ ЛЮДИ - СОЧТЕМСЯ»
На первый взгляд персонажи Островского живут
недружно и общаются недоброжелательно. Правда, по
сравнению с позднейшими авторами он показывает людей
едва ли не кротких и уж, по крайней мере, имеющих
порог, через который они не смеют переступать. Тем не
менее для них характерно существование, определенное в
его атмосфере Липочкой: «<...> дня не пройдет, чтоб не
облаять кого-нибудь».
В отличие от персонажей русской драмы абсурда,
герои Островского живут не в пустоте, а в плотной бытовой
атмосфере, а само слово «пустота» является для них
ругательством: «<...> пустой человек-с, внимания не стоящий
<...>»
По привычке они сраму боятся, «дура»
воспринимается как обидная характеристика...
Липочка. ...Ах, срам какой! Куда деваться-то? Что он подумает? Вот,
скажет, дура необразованная!
(Действие первое, явление I.)
435
Среди обычных и не очень обидных в силу
привычности ругательств выделяются изобретения, отмеченные
нами курсивом.
Аграфена Кондратьевна. <...> Ух, замучила, варварка! <...> Ах
ты, болтушка бестолковая <...>. Уймись, эй, уймись, бесстыдница! <...>
Что, что беспутная! <...> Ах ты, собачий огрызокі <...> бесстыжий твой нос!
<...> дьявольское наваждение! <...> бесстыжие твои глаза <...> Эко семя
противное! <...> Девчонка хабальная! Мальчишка ты, шельмец, и на уме-
то у тебя всё неженское!..
Определения недостатков воспитания или внешности
сочетаются с угрозами. Для Островского это в высшей
степени характерно.
Аграфена Кондратьевна. <...> Посконный сарафан сошью да вот
на голову тебе и надену! С поросятами тебя, вместо родителей, посажу!
<...> Словечко пикнешь, так язык ниже пяток пришью.
В обыденной человеческой логике ругань становится
способом компенсации эмоционального напряжения и
потому завершается быстрым, почти немотивированным
примирением и покаянием, с обязательным обещанием
компенсации в естественной для купеческой семьи
материальной форме.
Аграфена Кондратьевна. Ну, не сердись ты на меня (плачет)...
бабу глупую... неученую... (Плачут обе вместе.) Ну, прости ты меня <...>
сережки куплю.
(Действие первое, явление И.)
Бранным воспринимается слово, которое определяет
нравственное и отчасти профессиональное качество
человека. Дело происходит в эпоху, когда красть и жульничать
стыдно, а те, кто это делают, стараются скрывать свои
проступки.
Рисположенский. <...> мошенник, украдет <...>
Большое. То-то вот; все кругом мошенники <...>
(Действие первое, явление XI.)
Ничего страшнее, чем «убирайся к свиньям» грозный и
грубый купец Большов не произносит. Животный мир в
его самом обыденном и простодушном качестве, с
традиционными антропоморфными представлениями о тех или
436
иных живых существах входит в бранный обиход
персонажей Островского. «Да что я за скотина», — говорит Подха-
люзин. «Змеи вы подколодные», — ругает Большов дочь и
зятя. «Собакой» обзывает Рисположенский вора Подхалю-
зина.
Обидным может послужить старинное слово,
обозначающее какое-то свойство человека. «Постой ты, таранта», —
останавливает Большов Фоминишну. По своей
психологической интенции он хочет задеть самолюбие и указать
ключнице ее место. По этимологии же слово девственно чисто:
согласно В.И. Далю, «тарантить — говорить бойко, резко,
скоро, торопливо; тараторить». Отсюда «таранта» — это
всего-навсего болтунья.
Особое место у Островского занимают развернутые
ругательства, где перемежаются проклятия, божба, угрозы.
Вот образчик такой тирады, налицо являющей
самостоятельно срежиссированный персонажем
«психотерапевтический сеанс», имеющий явный компенсаторный характер.
Устинья Наумовна. <...> я и смотреть на вас не хочу! Ни за какие
сокровища и водиться-то с вами не соглашусь! Кругом обегу тридцать
верст, а мимо вас не пойду! Скорей зажмурюсь да на лошадь наткнусь, чем
стану глядеть на ваше логовище! Плюнуть захочется, и то в эту улицу не
заверну! Лопнуть на десять частей, коли лгу! Провалиться в тартарары,
коли здесь меня увидите!
(Действие четвертое, явление П.)
Характерное замечание делает деловитый негодяй Под-
халюзин, подчеркивающий, что нельзя ругаться «просто
так», без смысла и проникновения в суть происходящего:
«Что это вы клянете нас, не разобравши дела-то!»
А.Н. Островский «ГРОЗА»
Ш а п к и н. Уж будто он тебя и не ругает?
Кудряш. Как не ругать! Он без этого дышать не может. Да не
спускаю и я: он — слово, а я — десять; плюнет, да и пойдет <...>.
<...> Кто же ему угодит, коли у него вся жизнь основана на
ругательстве?
<...> Попал на базар, вот и конец! Всех мужиков переругает. Хоть в
убыток проси, без брани все-таки не отойдет. А потом и пошел на весь день.
< >
Дикой. Точно сговорились, проклятые; то тот, то другой целый день
пристают.
437
Кабанова. Должно быть, надо, коли пристают.
Дикой. Понимаю я это; да что ж ты прикажешь с собой делать,
когда у меня сердце такое! Ведь уж знаю, что должен отдать, а приди ты у
меня просить — обругаю. Я отдам, отдам, а обругаю. Потому — только
заикнись мне о деньгах, у меня всю нутренную разжигать станет; всю нут-
ренную вот разжигает, да и только; ну, и в те поры ни за что обругаю
человека.
Иными словами, самодур у Островского ведет
определенный, всем понятный и, более того, всеми (хотя и
поневоле) принимаемый образ жизни, который можно так и
назвать: «ругань». Возможно, именно это подразумевает Кули-
гин, говорящий о «жестоких нравах» в городе Калинове.
Первое появление только что обсуждавшегося Дикого
полностью подтверждает всё говорившееся о нем.
Интонации, манера общения (если это вообще можно
определить как общение), примитивная лексика делают его
этаким «букой», которого все боятся лишь по привычке.
Эта привычка, как и словесные клише, есть
необходимая часть провинциального быта. Ее нельзя нарушать, но
подлинной страсти не испытывает сам Дикой, как
подлинного страха — те, кого он ругает.
Дикой. Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал! Дармоед! Пропади
ты пропадом!.. Тьфу ты, проклятый! Что ты как столб стоишь-то?
Обижают не слова, вполне приличные и банальные, но
интонация, тон, настрой, изначально заявленная
жестокость отношения. Однако пока агрессия эмоционально-
психологическая еще не перерастает в агрессию
лексическую.
Среди мотивов ругани можно увидеть не только поиск
форм самореализации, как это ни покажется странным,
но и любовь. По крайней мере, так кажется Кабановой.
Кабанова. Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от
любви и бранят-то, всё думают добру научить.
В логику «обиды», причем безадресной и оттого еще
более болезненной (все вы, молодые, плохи...),
вписываются и проклятия безумной барыни.
Барыня. <...> Что смеетесь? Не радуйтесь! {Стучит палкой.) Все в
огне гореть будете неугасимом. Все в смоле кипеть неутолимой! <...>
438
Катерина. Ах, как она меня испугала, — я дрожу вся, точно она
пророчит мне что-нибудь.
Варвара. На свою бы тебе голову, старая карга!
Безумие и грубость, безумие и право на агрессию в
адрес любого, кто оказывается рядом, — характерный мотив
брани. Чем ближе к нашему времени развивается драма,
тем чаще возникает впечатление безумия персонажей,
ибо они постоянно вымещают на ближних, а если
дотянутся — то и на дальних — свои проблемы, свои несчастья,
свою нереализованность.
А. Сухово-Кобылин «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА»
Варравин. Умер! Несомненно умер, ибо и протух! <...> Нет вести,
которая принесла бы мне такое удовольствие, скажу такую сладость <...>
Точно с моих плеч свалилась целая гора грязи, помоев и всякой падали
<...> Самая гнилая душа отлетела из самого протухлого тела; как не
вонять — по-моему, он мало воняет — надо бы больше.
(Действие первое. Явление X.)
Брань здесь становится прямым и непосредственным
выражением вражды и страха, который заставляет
стремиться к уничтожению противника и радоваться его
смерти. Не произносится почти ни одного собственно
ругательства, ибо разве можно считать таковыми слова «грязь»,
«помои», «протухлое тело» и даже «вонять»? Однако
русские классики демонстрируют удивительную, поистине
абсурдную страсть людей к тому, что принято называть в
России «поношением» — к ругани распространенной,
подробной, не только выражающей кратковременную эмоцию, но
и разворачивающей процесс словесного уничтожения
противника:
Варравин. Самая омерзительная жаба ушла в свою нору; самая
ядовитая и злоносная гадина оползла свой цикл и на указанном судьбою
месте преткнулась и околела! <...> Умер! <...>
Описание раздражения, а не просто его действенная
реализация добавляют абсурдность брани в пьесах
русских классиков. Следует особо подчеркнуть
изобретательность русской брани, когда вовсе не обидные сами
по себе слова или выражения собираются воедино, наде-
439
ляются специфическими коннотациями и производят в
результате устрашающее или отталкивающее
впечатление:
Варравин. <...> он ракалия — так все нравственные чувства
оскорблял.
Тарелкин. Какие же чувства оскорблял покойник?
Варравин. Все, говорю вам, все! Зрение, ибо рожа его была
отвратительна. Слух, ибо голос его дребезжал, как худая балалайка. Осязание,
ибо кожу его по самые оконечности рук покрывал ослизлый и
злокачественный пот! Обоняние, ибо от него воняло дохлым мясом.
(Действие второе, явление VI.)
Что же касается собственно ругательств, то они
восходят к фольклорной традиции.
Расплюев. Говори — ты мцырь?
Тарелкин. Ну, мцырь.
Расплюев. Ты вуйдалак, упырь?
Тарелкин. Да, да... ох...
Расплюев. Кто твои сообщники?
Тарелкин. Весь Петербург и вся Москва.
(Действие третье, явление XI.)
Первое слово — «мцырь» отсутствует даже в словаре
В.И. Даля, как само по себе, так и на уровне любых
возможных созвучий. Смысл его неопределим, но это и
составляет особую «прелесть» драматургического текста, ибо
писатель сконструировал слово опасное, пугающее самой
своей непонятностью — и при этом созвучное другому, вполне
распространенному русскому слову.
«Упырь» Далем прокомментировано широко и
разнообразно, им выстроен такой ассоциативный ряд, как «пе-
рекидыш, перевертыш, оборотень, бродящий по ночам
ведьмаком, волком или пугачом <...> кровосос».
Любопытно, что и слова «вуйдалак» в словаре Даля нет,
как и слова «мцырь». Однако по созвучию оно все же
напоминает более распространенное «вурдалак», а по смыслу
примыкает к объясненному у Даля «вукула». Это,
последнее, в его украинском и белорусском вариантах, имеет
значение, сходное с одним из значений «упыря» — «волк»; его
толкование примыкает и к важным для
драматургического гротеска понятиям «оборотень, перевертыш, переки-
дыш».
440
Однако у более поздних исследователей слово
«вурдалак» всё же появляется. Оно комментируется в «Толковом
словаре...» под редакцией Д.Н. Ушакова как
этнографически окрашенное и объясняется уже известным образом:
«По народному поверью — оборотень, наводящий страх на
людей, вампир <...> упырь».
А.Чехов «МЕДВЕДЬ»
Попова. Извольте убираться вон!
Смирнов. Не угодно ли быть повежливее?
П о п о в а (сжимая кулаки и топая ногами). Вы мужик! Грубый медведь!
Бурбон! Монстр!
Смирнов. Как? Что вы сказали?
Попова. Я сказала, что вы медведь, монстр!
С м и р н о в (наступая). Позвольте, какое же вы имеете право оскорблять
меня?
Попова. Да, оскорбляю... ну, так что же?
Характерной особенностью брани чеховских
персонажей становится употребление иностранных слов. С
одной стороны, персонаж характеризуется как
образованный, владеющий тонкостями современного обращения с
материалом чужой культуры. С другой стороны, этот же
персонаж простодушно эксплуатирует иностранные
слова, игнорируя их первоначальный смысл и превращая их
в бранные на основе негативного эмоционального
посыла. Ненависть к иноземному звучанию органично
сочетается с ненавистью к противнику, которому адресовано
«ругательство». И если «монстр» действительно имеет
адекватный перевод с французского («чудовище, урод»),
то «бурбон» соответствует переносному смыслу,
укоренившемуся в российском сознании, где название
королевской династии стало расшифровываться как «грубый,
невежественный человек». Именно так оба эти слова
толкуются во всех словарях иностранных слов, издававшихся в
России с середины XX века.
В то же время для чеховских персонажей бранное
слово становится способом самоутверждения человека в том
или ином его качестве. Так, вопреки традиции, дама
готова драться на дуэли, и брань как форма взаимодействия с
партнером является лишь частью по-новому решаемой
тендерной проблемы.
441
Смирнов. Пора наконец отрешиться от предрассудка, что только
одни мужчины обязаны платить за оскорбления! Равноправность так
равноправность, черт возьми! К барьеру!
< >
Попова. <...> С каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный
лоб! Черт вас возьми!
А.Чехов «ЧАЙКА»
Тр е п л е в (иронически). Настоящие таланты! (Гневно.) Я талантливее
вас всех, коли на то пошло! (Срывает с головы повязку.) Вы, рутинеры,
захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь
то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите! Не признаю я
вас! Не признаю ни тебя, ни его!
Аркадина. Декадент! <...>
Треплев. Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких,
бездарных пьесах!
Аркадина. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и
жалкого водевиля написать не в состоянии.
(Действие третье.)
Прерывая здесь диалог матери и сына, мы обращаем
внимание не столько на резкую вспышку недовольства,
абсурдную в плане незначительности ее причин, но и
понятную во взаимоотношениях ближайших родственников.
Эту линию эволюции брани в драматургических текстах
потом унаследуют русские авторы конца XX века.
Нам важно отметить, что ругаются представители двух
непримиримо враждующих тенденций в искусстве:
актриса, стремящаяся к популярности, превыше всего ценящая
успех у широкой публики, — и писатель элитарного толка,
презирающий толпу за сам факт ее существования, а
заодно — за неготовность воспринимать его художественные
откровения.
Поставив «Чайку» в театре «Современник» в 1970 году,
перед уходом во МХАТ, О. Ефремов обнажил страсти
непонятых, недолюбленных, недослушанных людей. Накал
действия, отрицая нежность казавшихся традиционными
психологических полутонов, постоянно держал жизнь в
спектакле на грани скандала. Люди наиинтеллигентней-
ших профессий — писатели, артисты, врачи, учителя —
здесь то и дело срывались на крик. Царила атмосфера,
когда каждое слово могло потянуть за собой грубый, с
некрасивыми жестами и ругательствами, скандал. Разговор
442
Аркадиной — Л. Толмачевой с Треплевым — В. Никулиным
во время перевязки стрелявшегося Треплева завершался
резкой (заложенной в тексте) перебранкой. Визуально
текст дополнялся не менее отталкивающими действиями.
Треплев сдирал с головы повязку, но швырял ее не на пол,
не в сторону, а в мать; он готов был ее ударить.
«Приживал» — и повязка летела обратно, попадала в него и снова
в нее. Молодой человек не оставался в долгу и бросал
матери самое обидное, с его точки зрения, обвинение:
«скряга». Ее ответный выпад добивал его окончательно; слово
«оборвыш» (а вина в этом, между прочим, лежала именно
на ней, «скряге») заставляло его упасть на пол. Он плакал,
стоя на четвереньках. Мать же утешала его на коленях,
почти картинно, с мгновенно проснувшимся актерством в
жестах и мягко зазвучавшем голосе.
Аркадии а. Не плачь. Не нужно плакать... (Плачет.) Не надо...
(Целует его в лоб, в щеки, в голову.) Милое мое дитя, прости... Прости свою
грешную мать. Прости меня, несчастную.
«Как все нервны», — говорит один из персонажей
«Чайки». То есть тонко чувствительны? Или, наоборот,
болезненно встрепанны? Эмоциональный накал общения,
стремление добиться своего и нежелание, неготовность ответить
на потребности ближнего — вот та тяжкая
психологическая АТМОСФЕРА, КОТОРАЯ ПРЕВРАЩАЕТ ЕДВА ЛИ НЕ КАЖДЫЙ
ДИАЛОГ В СКАНДАЛ, ЕДВА ЛИ НЕ КАЖДОЕ СЛОВО В РУГАТЕЛЬСТВО.
М. Горький «НА ДНЕ»
Разумеется, у М. Горького, обратившегося к быту
наинижайшего из слоев русского общества,
«деклассированных элементов», брань в тексте одной из его ранних пьес
присутствует. Кстати, ничуть не в большей пропорции,
чем в пьесах, персонажами которых становятся
купечество или интеллигенция, что представляется весьма
важным свидетельством своеобразного — речевого — единства
населения России, при огромном количестве социальных,
национальных или экономических различий. Живут по-
РАЗНОМУ, НО РУГАЮТСЯ ОДИНАКОВО ИЛИ ПОХОЖЕ, ЧАСТО — ПО
ПРИВЫЧКЕ.
443
Актер. Шельма ты, старец <...>
Ко стыл ев. Скрипун-то? <...> Не любит он меня <...>
Сатин. Кто тебя — кроме черта — любит <...>
Костылев . <...> Экой ты ругатель! <...>
(Действие первое.)
Вряд ли в качестве брани можно воспринимать
«иноземные» словечки, которыми обмениваются изредка
персонажи пьесы. «Сарданапал», — произносит беззлобно Сатин;
Актер ему отвечает: «Навуходоносор». Безделие,
непреодолимая, почти вселенская скука, неприкаянность людей
выливается в суесловие, когда совершенно не важно: ругаться
в привычном смысле, повторять застрявшие в памяти слова
из когда-то читанных книг или обмениваться вовсе ничего
не значащими звуками, междометиями, вздохами...
Бубнов (хохочет). Ах... чертова кукла! а?
Барон (тоже смеется). Дедка! Ты думаешь — это правда? Это всё из
книжки «Роковая любовь»... Всё это ерунда! Брось ее!..
Наташа.Атебе что? Ты! Молчи уж... коли бог убил...
Настя (яростно). Пропащая душа! Пустой человек! Где у тебя —
душа?..
(Действие третье.)
В театре абсурда, сформировавшемся в зарубежной
эстетической системе и традиционно немноголюдном, —
два участника (ранние пьесы С. Беккета, Э. Ионеско, Э. Ол-
би — вплоть до наших современников), которые в
крайнем случае могут «возрастать» в соотношении, кратном
двум. Палач и жертва, мучитель и страдалец, способные
неожиданно для публики и для самих себя поменяться
местами. В начале XX века, у М. Горького, среди множества
подобных пар (Бессеменов — Нил в «Мещанах»,
Монахов — Монахова в «Варварах», Иван и Яков Коломийцевы
в «Последних», Суслов по отношению к ряду персонажей
из его окружения в «Дачниках») особенно характерна
была одна: Барон, дразнящий Настю ее убогими
книжными Раулями и Гастонами, — и Настя, мстительно вопящая
от бессилия, что дедушки у него не было. Не было!
Мучение почти бескорыстно, оно предопределено фатально,
теми ролями, какие жизнь отвела изначально — как
матери и сыну, погрязшим в сквернословии и экскрементах у
А. Шипенко («Ла фюнф ин дер люфт»).
444
Настя. Не было!
Барон. Цыц! <...>
Н а с т я (с наслаждением). Н-не было!
Барон. Убью!
< >
Барон. <...>Было, черт вас возьми! <...>
Барон (Насте). Ты должна понимать, что я — не чета тебе! Ты...
мразь!
Настя. Ах ты, несчастный! Ведь ты... ты мной живешь, как червь —
яблоком! <...>
Клещ. Ах... дура! Яблочко!
Барон. Нельзя... сердиться... вот идиотка!..
< >
Татарин. Зачем посуда бить? Э-э... болванка! <...>
Настя (убегая). Черт вас возьми!.. Волки! Чтоб вам издохнуть! Волки!
Актер (мрачно). Аминь.
Татарин. У-у! Злой баба —русский баба! Дерзкий... вольна!..
Барон. М-мерзавка!
Театральные постановки горьковской пьесы, начиная
с версии Г. Волчек в театре «Современник» (1968),
подчеркивали наболевшую страстность заигранного,
закомментированного поначалу произведения. «Со временем
мы так привыкаем, что хоть и видим трагедию, а в мыслях
думаем, что это просто "такая жизнь"», — писал М.Е.
Салтыков-Щедрин. Дикое существование «на дне» стало
восприниматься не экзотически, как во времена первой
постановки Художественного театра, артисты которого
совершали экскурсии на Хитров рынок, чтобы окунуться в
атмосферу «дна». Ощущением того, что у обитателей «дна»
идет просто их постоянная жизнь, в современных
постановках Горького снимается налет маскарадной дерзости с
костюмов, занятий, повадок, речей.
2
Эстетический аспект абсурда, в котором
интегрированы аспекты психологический и социально-нравственный,
чаще всего связан с формой воплощения абсурдных
представлений, и 3. Фрейд дает своего рода ключ к этой
стороне проблемы, связывая комизм и абсурд, когда «смех
является выражением ощущаемого нами с чувством удоволь-
445
ствия превосходства». Фрейд даже называет
традиционный для комических трюков народного театра (в
частности, итальянских «лацци») или для трюков раннего
кинематографа («гэгов») прием, когда «комичным <...>
кажется человек, производящий в сравнении с нами слишком
много затрат для своих телесных отправлений и слишком
мало затрат для своих душевных отправлений» (Фрейд
1991: 365). Не случайно также стремление увязать
эстетический уровень абсурда с игрой, которой — как и
психологически мотивированному архаическому сознанию —
свойственно «особое воспроизведение соединения
закономерных и случайных процессов» (Лотман 19986: 391).
Эмоциональное напряжение и психологически
негативное состояние вызываются абсурдными, с точки
зрения «обыденного человека», ситуациями: политическими
(«Борис Годунов»), социальными («Смерть Тарелкина»),
нравственными («На дне», другие пьесы Горького и пьесы
Чехова).
Может показаться странным тот ракурс, в котором
упоминаются многие произведения русской классической
драматургии. Предвижу возмущенный вопрос: «Бранью
ли и сквернословием определяется величие театральных
текстов?»
Напомню, что брань всегда присутствовала на
театральных подмостках, особенно в традиции народного
театра как Европы, так и России. Но главное — этот аспект
речи персонажей существенно трансформировался за
последние два столетия, причем резкий сдвиг в
количественном и качественном обращении к такого рода
лексике произошел в России последних полутора-двух
десятилетий. Однако и в классических пьесах люди грубили,
ругались, ссорились некрасиво и жестоко, предвосхитив
откровенное выявление абсурдных бытовых связей и в
западной драме, и в современной русской.
Наконец, еще один, быть может, формальный, но не
лишенный логических оснований довод. Русская
классическая и современная драма является не только
материалом для театральной интерпретации, но и свидетельством
жизненных связей и проявлений людей определенных
субкультур. Текст поведения в значительной мере
складывается на основе бытовой лексики и в ней отражается.
446
Поэтому можно найти свидетельства духовной (как это ни
парадоксально) атмосферы с помощью «бездуховных»
слов и выражений. Нашел же историк и кулинар В.В. По-
хлебкин в книге «Кушать подано!» такой специфический
аспект русской драматургической классики, как
«репертуар кушаний и напитков» (Похлебкин 1993), причем его
книга была издана не кулинарным, а театральным
издательством «Артист. Режиссер. Театр».
Поскольку известно, что важнейшим генетическим
признаком драмы абсурда является алогизм,
проявляющийся, в числе прочего, на уровне речи персонажей, мы
предполагаем, что абсурдность как атмосфера бытия
персонажей русской классики и абсурдность жизни
современных персонажей явственно обнаруживается через:
— скрытую и явную агрессию,
— раздражение,
— стремление добиться взаимопонимания,
— привычку к клишированному мышлению и речению.
* * *
По всей видимости, инвектива может быть сравнима со
своего рода классическими текстами, может быть рассмотрена
и в их качестве. Для этого мы видим следующие основания.
Идея «классического текста» остроумно
сформулирована Ю.М. Лотманом, отмечавшим определенность
функции, реализуемой в случаях, когда текст может «быть
романом», «быть документом», «быть молитвой» (Лотман
1998: 62). Кстати, здесь названы некоторые из важнейших
типов классических текстов. Очевидно, по нашему
мнению, что таковым «может быть» и ругательство.
Рассматривая категорию текста как более широкую по
сравнению с конкретным (в том числе классическим)
произведением, Ю.М. Лотман отмечал такие признаки текста, как
«выраженность» (если, в частности, текст принадлежит
«области речи»), «отграниченность» и «структурность».
Несомненно, что в истории культуры классическим
текстом стало посвящение, и особого совершенства
этот жанр достиг в Европе эпохи классицизма и
Просвещения. Классический текст принципиально может
быть сведен к системе кодов. И одним из таких кодов ста-
447
новится инвектива. Именно она показывает в своей
отрешенности от конкретного смысла, утраченного многими
понятиями, что сквернословие куда менее отталкивающе,
нежели скверномыслие.
Такого рода вывод можно было сделать, слушая сочную
ругань шекспировских персонажей, несшуюся с русской
сцены и становившуюся безмерно более обаятельной, чем
жестокий облик рвавшегося к власти велеречивого принца.
В частности, так было с Фальстафом («Король Генрих IV»
в постановке Г. Товстоногова).
«Ах ты, безмозглый брюхач, ослиная башка, ублюдок,
поганая, грязная куча сала!» Это одно из определений,
данных шекспировскому Фальстафу его молодым приятелем,
принцем Гарри. От пушкинского «сластолюбив, трус,
хвастлив, не глуп, без всяких правил, слезлив и толст»
(Пушкин 1949: 517) до современного «силен ренессансных
сатурналий» (Бояджиев 1969: 84) — это из определений,
данных критикой.
В спектакле Товстоногова старались отрешиться от
представлений о Фальстафе из «Виндзорских
насмешниц». Здесь соглашались с иронией О. Генри («Если
вытопить романтику из толстяка Фальстафа, то ее, возможно,
окажется гораздо больше, чем у худосочного Ромео») —
тем более что Е. Лебедев мечтал в молодости о роли
Ромео. Товстоногов решительно оправдывал замечание
исследователя о том, что «предвестие шекспировского
трагизма» зародилось именно «в поражении и смерти
Фальстафа» (Аникст 1963: 254), ибо речь шла как у
предшественников Товстоногова и Лебедева, так и у них самих
больше чем о мощном «поле» фальстафовского гедонизма.
Английский шекспировед заметил: «Ощущение
трагизма в его пьесах проистекает из того, что люди перестают
питать друг к другу теплые чувства или что эти чувства
оскверняются» (Кирнан 1966:110). Дай сам Шекспир
утверждал объективное: «Прогнать толстого Джека — значит
прогнать все самое прекрасное на свете». А ведь обнаружив,
что старик жив, Гарри был не то что огорчен, но
разочарован как будто... Да. Он любил Фальстафа и сознавал, что
им уже не по пути. Поэтому самое лучшее было бы для
него, принца Гарри, — честная, доблестная смерть
старого пьяницы в бою. От этого все-таки можно было бы испы-
448
тывать удовлетворение. На смену безобидным
ругательствам приходило велеречивое равнодушие, и это было
свидетельством духовного поражения шекспировских
героев.
Классический текст был тотально спародирован в его
правильности и схематической незыблемости диалогами
ранней драмы абсурда. Там же, в западных абсурдистских
текстах, актуализировались и многие мотивы, которые в
русской классике проходили контрапунктом, а в
современной русской драме стали признаком обыденности.
Поэтому для сравнения нам необходимо обратиться к опыту
западной драмы как источника брани.
Э. Ионеско «ЛЫСАЯ ПЕВИЦА»
Г-н Смит. Дорогая, гадкая, не перебивай <...> Ах, дорогая, не
перебивай, ведь это свинство!
Г-жа Смит. Ах, дорогой, ведь это ты первый и перебил. Какое
хамство!
Место действия и его атмосфера обусловливают
гипертрофированное следование нормативам — «Типичный
английский интерьер. Английские кресла. Английский
вечер... Абсолютно английское молчание. Английские
настенные часы бьют по-английски семнадцать раз».
Ругательства вклиниваются в сверхправильную
разговорную речь, выстроенную по учебным лингвистическим
клише (напомним подзаголовок, имевшийся в свое время
у пьесы Э. Ионеско, — «Английский без труда»). Образцом
упреков без ругательств выглядит такой обмен репликами:
Г-н Маритен. О женщины, всегда-то вы готовы друг друга
защищать!
Г-жа Смит. <...> Ох уж эти мужчины! Всегда они думают, что правы,
а на самом деле всегда ошибаются.
Инвариантом инвективы выступают басни, введенные
к текст пьесы Ионеско и родственные инвективе по своей
логической (то есть алогичной, экстравагантной)
конструкции. Абсурдность описываемых в баснях ситуаций —
это лишь одна сторона дела. Другая, и более важная,
состоит в том, что нелепые басни заменяют обычную беседу,
вытесняют обмен мнениями по поводу собственной жизни
449
персонажей. Замена и вытеснение обыденности с
помощью странных аллегорий или случайных образов — суть
механизмы ругательств, которые в первых пьесах
европейских абсурдистов практически отсутствовали.
Э. Ионеско «БРЕД ВДВОЕМ»
Она. Сам ты животное. Дурак.
О н. От дуры слышу.
Она. Не оскорбляй меня, безумец, мерзавец, обольститель.
< >
Она. Сам ты моллюск...
< >
О н. Вид у тебя идиотский.
Она. Что ты говоришь?
Он. Что мы с тобой принадлежим к разным видам.
Она. Заметил наконец.
Он. Заметил-то я сразу, но слишком поздно. Надо было заметить
раньше, пока мы не познакомились. Накануне заметить. С первого дня
было ясно, что нам друг друга не понять.
Здесь, кроме привычного в быту слова «идиотский», и
ругательств-то нет. Здесь есть другое, что, по мере
развития драмы абсурда, стало проявляться все отчетливее:
взаимное несовпадение людей, взаимное раздражение и
абсолютная невозможность их сосуществования при том, что
обстоятельствами они давно соединены. Если персонажи
классической драмы, включая чеховскую и горьковскую,
принимали это как факт и только время от времени
взрывались, что и порождало всплески брани, то
абсурдистские персонажи в этой атмосфере пребывают постоянно.
Отсюда возникает скорее не инвектива, а инверсия,
каламбуры, заменяющие откровенную брань: человек заметил
несовпадение с другим «сразу, но слишком поздно», и
желательно было это заметить «раньше, пока мы не
познакомились». Пространственно-временные связи нарушаются,
и естественным следствием этого становится нарушение
связей коммуникативных, в частности, речевых.
Он. <...> Столько лет ругаемся из-за черепахи и улитки.
Таким образом, центральным мотивом брани,
постоянно и почти непроизвольно возникающей в бытовых
ситуациях абсурдистской драмы, является то, что она унаследо-
450
вала от русской классики: мотив непонимания, взаимного
несовпадения.
Он. Мне жарко.
Она. А мне холодно. Не вовремя тебе жарко.
Он. Вот, опять непонимание. Вечное непонимание...
Рядом с этим мотивом развивается и другой
традиционный уже мотив — желание добиться понимания,
«достучаться» до партнера. И при этом — нежелание и
неготовность хоть в чем-то поступиться своими собственными
интересами, потребностями, настроениями, амбициями.
Он. Вот твой главный недостаток: когда мне холодно, тебе жарко,
когда мне жарко — тебе холодно. Если одному жарко, другому
обязательно холодно.
Она. Если одному холодно, другому обязательно жарко.
Он. Нет, если одному жарко, другому обязательно холодно.
Она. Это потому, что ты не такой, как все.
О н. Я не такой, как все?
Она. Да. К несчастью, ты не такой, как все.
Он. Нет. К счастью, я не такой, как все.
Ж. Жене «СЛУЖАНКИ»
Особенности общения и изначально заданной
ревности, зависти, неудовлетворенности, раздражения
превращают обыденное общение в гиньоль. Изображая
поведение госпожи, служанки практически не произносят слов,
традиционно считающихся бранными.
Клер. <...> Вы меня ненавидите, не так ли? Вы меня подавляете
своей предупредительностью, своим подобострастием, своими
гладиолусами и резедой...
С о л а н ж. Да нет, я никогда...
Клер. Замолчите, идиотка!..
< >
Соланж. Я ненавижу вас! И презираю! Вы меня больше не
страшите!.. Я вас ненавижу. Ненавижу вашу грудь, полную разрушенных вздохов.
Вашу грудь из слоновой кости! Ваши бедра... из золота! Ваши ноги... из
янтаря! <...> Я вас ненавижу!
Абсурдность взаимодействия персонажей состоит в
том, что даже красота расценивается как оскорбление и
является предметом раздражения. Настрой их взаимодей-
451
ствия характеризуется таким эмоциональным
напряжением, что гадости, являющиеся таковыми не по форме, а по
смыслу, так и сыплются. Особый оттенок отвращения,
которое испытывают друг к другу персонажи и которое,
соответственно, провоцируется у зрителя, вызывает
традиционный для абсурдизма физиологизм. Причем самые
простые и естественные физиологические явления
(слюна) в контексте приобретают отталкивающее качество.
<...> Я же просила вас, Клер, не плевать на туфли. Оставьте ваши
плевки при себе, моя девочка. Ха-ха! {Нервно смеется.) Пусть их там
накопится побольше, чтобы заблудившийся путник мог там утонуть. Вы
отвратительны, моя красавица! <...> Вы полагаете, мне приятно сознавать, что
мою ногу обволакивает ваша слюна? Ваши болотные испарения?
Ненависть становится формой самоутверждения и
способом самореализации. Через проявления ненависти
героини пьесы пытаются осуществить
самоидентификацию.
Соланж. <...> Здесь две служанки, преданные прислужницы!
Станьте еще прекрасней, чтобы презирать их. Мы вас больше не боимся. Мы
защищены своим блеском и своей ненавистью к вам.
Однако ненависть не проходит бесследно и
пронизывает все существование служанок, окрашивая их отношения
друг с другом; они не только объединяются против
госпожи, но и враждуют друг с другом:
С о л а н ж. Я хотела бы тебе помочь. Утешить тебя, но я знаю, что
противна тебе. Что вызываю у тебя отвращение. И знаю об этом потому, что
ты мне тоже противна. Невозможно любить друг друга в рабстве.
Традиционный для драмы абсурда игровой дискурс
придает происходящему трагический оттенок. О
персонажах «Служанок» можно сказать в соответствии с
обычными русскими понятиями: «заигрались» или «доигрались».
Клер, которая изображала в начале пьесы госпожу, заняв
место той, становится вдвойне отталкивающей, пародия
превосходит пародируемый объект. Ненависть
изливается на того, кто просто находится рядом. Более того: чем
ближе кто-то, тем сильнее ненависть, изливаемая на него
как на отражение, как на свидетеля, как на соучастника
течения жизни.
452
Клер. Я ненавижу слуг. Ненавижу эту ужасную презренную породу.
Они... Они — смрад, который просачивается в наши спальни, коридоры,
нас самих, который проникает в дыхание, который разлагает нас. Меня
рвет от вас... Я знаю, они нужны так же, как могильщики и мусорщики,
как полицейские. Что не мешает этому сброду быть грязью <...> Ваши
устрашающие рожи, ваши морщинистые локти, ваши немодные наряды,
ваши тела, годные лишь для наших обносок. Вы — наши кривые зеркала,
наши сточные воды, наш стыд.
Характерен тот запал, в котором произносится тирада,
и «выход» из нее, звучащий как наблюдение стороннего
аналитика:
<...> Господи, я опустошена, не нахожу больше слов. Я исчерпала
оскорбления <...>
ч* н« н«
Инвектива в театре, на сцене может принимать
невербальные, пластические, зримые формы. Замена
поведения обыденного и поведения, адекватного бытовым
представлениям о приличиях, поведением экстраординарным,
подчеркнуто игровым, на грани гротеска и (подчас)
гиньоля стала явлением достаточно частым. Разумеется, корни
такого приема находятся в народном театре европейского
Средневековья и Ренессанса. Но в последние годы он
занял заметное место на профессиональной, в том числе
русской сцене. В спектакле М. Захарова «Мудрец» Глумов
мог долго возиться и трепыхаться под огромной юбкой-
абажуром у счастливо взвизгивавшей Мамаевой. И.
Чурикова давала палитру мимической игры, где открытое
вожделение с томными вздохами и наивное вскидывание
бровей были полюсами не показанных буквально, но
подразумевавшихся ощущений физиологического толка. В
«Служанках» Р. Виктюка, где всех женщин играли мужчины,
верхняя часть тел актеров едва ли не «законно»
представала обнаженной. Сдвиг же восприятия возникал от
мысленного упоминания иной половой принадлежности
персонажей. Зато у М. Захарова в другом его спектакле,
«Женитьбе Фигаро», в полном соответствии с
представлениями о непристойности, «свобода на баррикадах»
представала уже дамой с полностью обнаженной грудью. Флаг, кото-
453
рым она размахивала в финале спектакля, венчал
пластическую композицию лишь формально, в то время как
реальный образ «свободы» от каких бы то ни было рамок, как
эстетических, так и нравственных, воплощался колыханием
обнаженного женского бюста. Известное представление о
карнавальной взаимозаменяемости «верха» и «низа»
получало даже чересчур конкретное и вполне адекватное
инвективе воплощение.
Традиция европейской комедии создала
выразительные образцы брани на грани между классическим
изяществом и фольклорным бурлеском.
Э. Ростан «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»
Сирано
< >
<...> Этому пузатому Силену
Пришло на ум, что он и молод и красив!
ИЛИ
Сирано
<...> он — ходячий чан с вином,
Бочонок сладкой водки, вечно пьяный,
Вот этот Бахус толстый и румяный...
Изысканность ругательства состоит в том, что поэт
связывает даже негативную оценку с мифологической
традицией, что само по себе облагораживает речь.
Голос
Пустейший из шутов <...>
< >
Сирано
Ступайте! Или нет, — еще один вопрос:
Что вы так пристально глядите на мой нос?
Что в нем страшного?
Что, не на месте он прирос?
<...> Быть может, вам собой
Напомнил он о хоботе слоновом?
<...> Он кажется вам, может быть, трубой
Или совиным клювом?
Если следовать логике современного постановщика
повести Н. Гоголя «Нос», литовского режиссера Э. Някро-
454
шюса, нос может восприниматься овеществленной
инвективой, символизируя совсем другой орган мужского тела,
наименование которого обычно используется в качестве
бранного слова. Не исключено, что и при постановке
романтической комедии Э. Ростана прочтение может
оказаться аналогичным, если будет основываться на
следующем фрагменте:
Вальвер
А вот сейчас доволен будет он.
Ему такую отпущу остроту,
Что потеряет он шутить охоту...
Послушайте... Ваш нос... я вам скажу... ваш нос...
Велик ужасно.
< >
Сирано
<...> Я откровенно вам скажу:
Вы не были красноречивы.
Нет, не шутя, я нахожу,
Что лучше пошутить могли вы.
< >
Так, например, задорный тон:
«О, если бы нос такой мне дан был Провиденьем,
То ампутации подвергся б тотчас он».
< >
Тон нежный: «Милый нос! Он не боится света?
Чтоб он не потерял пленительного цвета
От солнца жаркого весны,
Вы зонтичек ему бы заказать должны».
< >
А вот наивный тон:
«Прекрасный монумент! Когда для обозренья
Открыт бывает он?»
Брань в ее прямом, лексически выраженном
воплощении заменяется издевкой, возникают моменты аллюзии,
ругательства произносятся метафорически. Это похоже
на то, как зрители спектакля «Коварство и любовь»
воспринимали реплику «Ваше превосходительство»,
произносившуюся великим русским трагиком П.С. Мочаловым.
Реплика звучала как самое страшное ругательство — столь
открытой была агрессия его поведения, сила
темперамента, проявлявшаяся в ненависти и отвращении к
партнеру.
455
* * *
Можно высказать даже такое предположение, требующее
специального изучения и доказательств, но
представляющееся верным на основе эмпирических наблюдений. Нет
ли связи между остроумием и сквернословием, если иметь
в виду не только каламбуры (для этого исследования
3. Фрейда уже дали немалые основания), но своего рода
адаптационные процессы, процессы замещения,
происходящие на бессознательном уровне и носящие креативный
характер?
В подобных случаях, думается, мы имеем дело с
амбивалентностью как важным свойством ассоциации (как на ее
обыденном уровне, так и на эстетическом).
В психологии (Э. Блейлер) амбивалентность
понимается как двойственность чувств и действий на основе
противоречащих друг другу устремлений. Здесь явственно
присутствует аспект ассоциации по принципу контраста,
когда чувства-антиподы в процессе взаимодействия на
бессознательном уровне вытесняют друг друга или
маскируются одно другим. Принцип ценностных оппозиций
(«верх — низ») в эстетической сфере обоснован как
амбивалентный М.М. Бахтиным. Именно в эстетической
сфере и, в частности, в сфере художественного творчества
амбивалентность является основанием ряда устойчивых
приемов и структур, актуализирующих психологический
механизм ассоциации. Стоит ли доказывать, что и
инвектива изначально базируется на ассоциативном механизме,
потому к ней может быть приравнен вышеописанный
пластический рисунок и дополнительный смысл реплик.
Сценическая тенденция воплощения вербальной инвективы
была связана именно с опорой на классические тексты. Как это ни
парадоксально, но в эпоху «застоя», как и во многие другие
периоды, связанные с активизацией цензурных запретов,
современные пьесы проверялись в России вплоть до
запятой, а текст классического романа или пьесы
«провозглашался» без изменений. На это в свое время обратил
внимание еще А.Н. Островский, чей персонаж, Несчастливцев,
оправдывал гневную тираду тем, что это — цензурованный
текст пьесы Шиллера. Таким образом, классика, прежде
чем современная русская драма, привела на сцену «ругань».
456
К театру прежде не имевшая отношения,
«Современная идиллия» Салтыкова-Щедрина в спектакле Г.
Товстоногова (театра «Современник») с нелепо-безобидным
названием «Балалайкин и К°» стала квинтэссенцией
сценического, подлинно драматически выраженного абсурда,
построенного на классическом материале.
Герои спектакля, рьяно взявшиеся «годить»
(сконструированное Щедриным слово «легло» на обстановку 1973
года — года премьеры — как нельзя лучше), погружались в
сонное и тягостное жевательно-физиологическое
состояние. Рассказчик и Глумов, патетический И. Кваша и
иронический В. Гафт, жили словно клоуны, перекочевавшие
против воли в солидную контору.
Торжество физиологии над духом, столь характерное для
искусства абсурда и находящееся в основе брани как
специфического (классического) текста, решалось сочно и с мрачной
непреодолимостью. Некто Очищенный, бывший тапер
публичного дома, готовый удовлетвориться пятью рублями в
возмещение за «вымазывание лица веществами, коих
вывоз в дневное время запрещается», в заляпанной и
дырявой манишке, фыркая и чмокая, загребая воздух руками и
ступнями (А. Вокач), формулировал физиологическую же
«мудрость». Он сравнивал жизнь с трактирной
«селянкой»: «Коли ешь ее с маху, ложка за ложкой, — ничего,
словно как и еда; а коли начнешь ворошить да
разглядывать — стошнит!»
Им всем, обучавшим и научившимся «годить», любое
положение — по мерке, любая гнусность — врождена.
Балалайкин, каким его с обворожительной наглостью
изображал О. Табаков, недаром получил от Щедрина в своей
родословной Молчалиных, Репетиловых, Фамусовых, а от
актера — еще и Хлестакова, лгуна-гедониста. Готовясь
жениться на купеческой «штучке» и падая в полицейском
участке с перил при имени «продавца», он так и оставался
лежать. Адвокат Балалайкин свою позу моментально
превращал в удивительно удобную, несколько даже вольную —
этак откинувшись на локоток. Пьяный враль,
повествующий о голубом теле некоего пашй, о полученных в подарок
шакалах и о восходе солнца на Ледовитом океане с его 73-мя
градусами, испытывал физиологическое удовольствие от
явного и отталкивающего непотребства.
457
«Во мне самом, — писал Н. Бердяев, — многое мне
чуждо» (Бердяев 1990: 40). Если в европейской традиции, в
частности, связанной с экзистенциальной философией,
человек испытывает чуждость по отношению к другому, к
миру Других, то в российской традиции — отвращение к
себе, самоуничижение. Это ли не основание абсурда,
типично русского абсурда? Но не это ли придает
драматическим и театральным произведениям особую
эмоциональную насыщенность и своеобразную энергетику?
В таком случае драма осуществляет художественное
воплощение сарказма, проявленного «певцом» русской
нелепицы Салтыковым-Щедриным, заметившим, что
«потребность самооплевания есть очень живая и притом
законная потребность», которая, к ужасу нормального
человека, «могла доходить до наслаждения своим безобразием
и до привлечения к такому же наслаждению совершенно
посторонних» (Салтыков-Щедрин 1952: 263—264). Такая
«потребность самооплевания» реализована в известной
парадигме взаимодействия обывателя с государственной
системой России: с одной стороны, в версии
пушкинского «Бориса Годунова» («живая власть ддя черни
ненавистна»), когда человек презирает любое
персонифицированное воплощение власти и одновременно боится его; с
другой стороны, в версии Сухово-Кобылина, когда
государственная машина доводит маленького человека до
исступления, в котором тот рождает идею проверить «всех лиц» —
«не оборачивались ли» — и в бреду видит вокруг себя
диких зверей.
У «оборотня», ассоциации с которым лежат в основе
ряда ругательств (о чем — ниже), было переносное,
фантастическое значение, когда Расплюев жаждал
правительству «вкатить предложение: так, мол, и так, учинить в
отечестве нашем проверку всех лиц: кто они таковы? Откуда?
Не оборачивались ли? Нет ли при них жал и ядов? Нет ли
таких, которые живут, а собственно уже умерли, или
таких, которые умерли, а между тем в противность законам
живут?»
Но тут и значение буквальное, причем — еще и
физиологически буквальное: рыба, которую успел «накласть» в гроб
Тарелкин вместо собственного трупа, «воняет» (совсем как
упоминавшийся персонаж спектакля по роману Салтыкова-
458
Щедрина), что и убеждает Варравина в несомненности его
смерти, «ибо протух». Подтверждается смерть
информацией вдовы Брандахлыстовой, но ведь и она — оборотень;
как писал в примечаниях автор, «роль Брандахлыстовой (в
случае нужды) может быть исполнена мужчиной», чем не
преминул воспользоваться В. Мейерхольд, отдав эту роль
рослому и плотному молодому М. Жарову. Вдова же на
допросе свидетельствует, что покойник — то ли Тарелкин, то
ли Копылов — при жизни «оборачивался». И здесь
рождается третье качество оборотня — «лингвистическое»,
дополняющее фантастическое и бытовое.
Диалог Брандахлыстовой и Расплюева — идеальная
формула «абсурда», где каждое слово имеет любое
значение, кроме того, житейски-логичного, что было заложено
в него изначально:
Расплюев. Во что же он оборачивался?
Людмила. В стену.
Расплюев. Как же он в стену оборачивался?
Людмила. А как на постель полезу, так он, мошенник, рылом-то в
стену и обернется <...>
Расплюев. Ну, таперь ты, видя, что он эвдаким манером в стену-то
обертывался, и не робела с ним спать-то <...>
Слово, также становясь «оборотнем», заменяя не
только драматическое действие, но и физиологические акты,
по своей нагруженности абсурдной атмосферой
оказывается сопоставимо с выразительностью сценической
пластики, жеста, взгляда.
Выше уже было упомянуто о том, что возрастание
количества брани в драматических текстах по мере
приближения времени их создания к сегодняшнему дню является
оборотной стороной медали по отношению к «омассовле-
нию» культуры. Масса всегда сквернословила активнее и
охотнее, чем это делал отдельный человек, чей голос
можно различить и чье лицо можно увидеть. Важным
аспектом психологических изменений, происходящих в жизни
людей начала XXI века, можно считать перенос акцента с
индивидуальности на массу и усугубление негативных
признаков массы.
Не вдаваясь в характеристику массового сознания во
всем его объеме, отметим, что уже немало исследователей
обращали внимание на физиологизм, присущий «человеку
459
массы». Но именно это свойство мы отметили как весьма
значимое для драмы абсурда и берущее истоки в русской
классической драме. Поясним эту параллель более
подробно.
Разумеется, не в смысле демонстрации
физиологических актов или частей тела — хотя это в высшей степени
присуще массовой культуре, — но вряд ли требует
специальных примеров такое явление, которое Р. Барт называет
«антиинтеллектуализмом», умением «держать свой
здравый смысл на коротком поводке» или «леностью мысли»
(Барт 1996: 139, 140).
Культурологическая позиция Р. Барта вполне
корреспондирует с социопсихологическими выкладками С. Мос-
ковичи, который, вслед за своими знаменитыми
предшественниками, от Г. Лебона до 3. Фрейда, упоминает о
гипнозе как модели социальных действий и реакций, а
состояние человека в массе сравнивает с сумеречным (см.: Моско-
вичи 1998: 482).
В свою очередь, философский акцент «физиологизма»
массовой культуры X. Ортега-и-Гассет охарактеризовал как
способность заряжаться. Однако способность эта,
подчеркивал философ, «вовсе не духовного порядка, это
механический отклик наподобие того, как царапанье ножом по
стеклу вызывает в нас неприятное судорожное ощущение».
Ортега-и-Гассет даже иронически наставляет возможного
поклонника масскульта: «не следует путать смех от
щекотки с подлинным весельем» (Ортега-и-Гассет 1991: 244, 245).
Таким образом, физиологизм, характерный для
абсурда и выражающийся все чаще в явлениях современной
массовой культуры, необходимый ей, уже в классических
пьесах стал питательной средой для брани, разносящейся
со страниц драматургических текстов и со сцены.
Н* Н« Н*
Русская классическая культура предвосхитила и куда
более ярко, чем драма XX века, сформировала игровое
пространство, в котором рождается и живет абсурд.
Игровое начало, присущее русской классике и
формирующее ее абсурдную природу, совершенно очевидно для
всей русской культуры и воплощается в карнавальной за-
460
мене не только «верха» — «низом», но и яви — сном,
разума — безумием, начала — концом, жизни — смертью.
У О. Сенковского («Превращения голов в книги и книг
в головы») головы не нужны, поскольку их с успехом
заменяют желудки: с их помощью можно даже «узнавать людей
сквозь стены». Причем дихотомия «верха» и «низа» здесь
выступает еще и как инвариант противопоставления
«рационального» Запада и «нелепого» Востока: если «на
Востоке желудки <...> отличны, но головы крепко порасстрое-
ны теориями», то на Западе — всё наоборот; в таком случае
султан, живи он на Западе, велел бы «всем <...> отсечь
желудки».
Русская классика, раз и навсегда опрокинув не только
вечные ценности, — чего в свое время страшился Н.
Бердяев, — но и привычные соотношения, образовала особые
игры вокруг дурака (юродивого, безумца — не важно).
Сформировался, по словам Д. Лихачева, «мир перевернутый,
абсурдный, дурацкий» (Лихачев 1997: 350) — и это еще в
древности. Дурак стал одним из центральных «героев» русской
культуры; тот, кто «в утробе матери занимал неправильное
положение», кто, живя в помойной яме, из нее был изгнан
«за неплатеж денег»; кто в больнице «принял вместо
одного лекарства другое, вместо внутреннего — наружное и
скоропостижно умер», как в рассказе П. Засодимского «Дурак».
3
Сошлемся теперь на опыт наших современников,
которые, насыщая свои тексты грубой бранью, не забывают
подчеркивать тесные душевные связи с русской классикой.
С этой точки зрения особое внимание привлекает А. Ши-
пенко.
В карнавальной игре, затеянной русскими классиками,
царит даже не аллегорическая Смерть, как в Средневековье,
а конкретный мертвец. Как у Сухово-Кобылина. Как у
Достоевского, если вспомнить предельно абсурдный
«Бобок». Как у Гоголя — практически повсюду, а не только в
«Мертвых душах»; и прав А.Терц, отметивший
сверхъестественную живость гоголевских вещей и лиц «при
одновременной безжизненности, мертвизне» (Терц 1992: 315).
461
Удивительна ли в таком случае последовательная
некрофилия пьес А. Шипенко? Тут и его Комикадзе,
подчеркивающий грузинское происхождение и букву «о» в
фамилии и объясняющий, что он «такой», потому «что я
Комикадзе. Я жить вообще не могу». Недаром в его личном
деле — «сплошной бред... вобла вяленая, хлеб с плесенью,
гвозди ржавые и кривые...». Ну, вобла вяленая или что там
еще, дурно пахнущее, — это похоже на гроб, самому себе
заведенный не умершим Тарелкиным, а остальное — это уже
добавлено новым временем.
И, вопреки естественной физиологии, в виде
«походной трапезы» подают Комикадзе «в винном соусе», и
«виновник торжества <...> о праздничном обеде не
догадывается и, более того, сам этим праздничным обедом
является». К ужасу историка театра, в этой «походной трапезе»
обнаруживаются черты знаменитого «Горя уму» в
постановке В. Мейерхольда, где за столом, вытянувшимся вдоль
рампы, сидели гости фамусовского бала и
«пережевывали» не только пищу, но и сплетню о безумии Чацкого, тут
же стоявшего в одиночестве.
Шипенко издевательски сталкивает
рыцарски-возвышенные речевые обороты и банальный, случайный и
немотивированный фрагмент сквернословия, завершающий
изящную тираду. Постмодернистская игра не столько
возвышает инвективу до уровня лексической классики,
сколько обрушивает весь массив классических «красот» в грязь.
Предлагая «романтическую историю», персонаж обещает:
«<...> построю декорации и миф, организую пространство,
создам время <...>. Ты есть там, где гуляют неспешно
нестойкие призраки <...>. Весьма поэтично, весьма
ирреально, но никогда не ложно <...>. Прекрасные принцессы ждут
прекрасного принца в белом плаще и на белом коне... Ах,
принцесса моя, я искал тебя долго, и не находил <...>». И
вот лирически настроившемуся после всех ужасов
самопоедания читателю/зрителю драматург легким движением
«подставляет ножку», физиологично намекая на то, к чему
стремится любое свадебное торжество: «<...> и вот сейчас
наконец я вые<...> тебя» (автор пьесы, разумеется,
печатает полностью слово, которое мы закончили многоточием).
У того же А. Шипенко женщина видит в любовнике
только привычку спать «в позе трупа... Руки на груди скла-
462
дываешь, ноги вытягиваешь... Идентификация полная».
Клоуны, погрязшие в истории культуры, продираются
сквозь пушкинскую цитату и, торопясь от «Одиссеи» к
«Илиаде», упоминают характерную — игровую, едва ли не
игривую — смерть:
Две эти книги перепутавши местами,
Библиотекарь умер, не заметив.
Наконец, не просто интерпретация толстовского
абсурдного «Живого трупа», а дань поклонения — пьеса А. Ши-
пенко «Трупой жив», где и отчество дано персонажу с
прямым указанием на классического «родителя» — Дмитрий
ЛЬВОВИЧ. И что же иное на этом карнавале мертвецов
может картавая модель сказать живущему в чем-то вроде
морга творцу-фотомастеру, как не сакраментальное: «Как
женщина женщине говорю, как тгуп тгупу: жизнь —
удивительная штука, если читать ее с конца».
В пьесе «Ла фюнф ин дер люфт» старуха и ее сын
«развлекаются» сквернословием, которое становится
адекватным тем физиологическим актам, о которых они
постоянно говорят, причем говорят даже больше, чем делают.
Ставшие клишированными и оттого утратившие свой
«ругательный» смысл выражения смакуются и
расшифровываются, приобретая физиологически отталкивающее
качество:
Сережа. <...> Ты пристаешь. Как банный лист.
Старуха. Как банный... кто?
Сережа. Как банный лист. Знаешь, есть такой?
Старуха. Где?
Сер ежа. В бане. Ты в бане была когда-нибудь?
Старуха. Была.
Сережа. Мылась?
Старуха. Мылась.
С е р е ж а. А видела свою задницу после этого?
Старуха. Видела. Ну и что?
С е р е ж а. А то! Вся твоя задница обклеена банными листами! Ты
пронесла их через всю жизнь! И сейчас ты пытаешься переклеить свои
листы на мою жопу!
Старуха. <...> Фу! Это не так.
Сережа. Так, мама. Ты пристаешь. К моему телу. Как банный лист.
Брань составляет единственное доступное развлечение
и превращается в единственно освязаемую форму самореа-
463
лизации двух инвалидов. Общение происходит в форме
брани: «заткнись, сволочь», «заткнись, идиотка», «ты
можешь заткнуть свою пасть?», «пасть проклятую, вонючую».
Драматург даже поясняет, что гадость вместо
человеческого органа появилась в процессе деградации
персонажа и этим словно оправдывает извергающееся оттуда
жалкое сквернословие:
Старуха. У меня не пасть, а рот <...>.
Сережа. Был когда-то. А теперь у тебя пасть.
При этом мама — бывшая учительница литературы и
сын — бывший летчик — лексически (но не
психологически) продолжают оставаться в традиционной для русской
интеллигенции системе координат: «Сережа, как тебе не
стыдно...» сочетается в речи Старухи с бесцеремонным
«Опять, Сережа, говном пахнет».
Самым показательным в пьесе Шипенко становится то,
как зло и наблюдательно он пародирует традиционные,
известные по пьесам русских классиков,
«философствования», пространные диалоги с упоминанием великих людей,
с которыми сравнивают себя персонажи (вспомним
чеховское «из меня мог выйти Шопенгауэр, Достоевский...»).
Наследники и отбросы русской интеллигенции общаются
на своем уровне:
Старуха. <...> Ты не мой сын.
С е р е ж а. Я всегда об этом догадывался.
Старуха. Ты — хам. А я хама не рожала.
Сережа. А кого ты рожала? <...> Герцена? Некрасова? Пушкина?
Гоголя? Лермонтова?
Откровенной же «нецензурщины» у Шипенко почти
нет. Даже употребляя существительное, имеющее
соответствующие ассоциативные связи («задрота»), драматург
сопровождает его весьма любопытным и вполне
«цензурным» прилагательным — «кащейская». Поневоле
приходится предположить, что современный драматург хорошо
осведомлен относительно старинного смысла слова «ка-
щей». Созданию атмосферы омерзения, в котором тем не
менее продолжается физическое существование
персонажей, способствуют выявленные В.И. Далем коннотации.
Ученый приводил такой логический ряд: «касть» — капость,
464
пакость, мерзость, гадость, скверна; паскуда, нечистое,
поганое, сор, дрянь; в южных диалектах — негодные остатки
на бойнях. Далее В.И. Даль разворачивает глаголы: «кас-
тить» — грязнить, гадить, пакостить, марать, сорить; и, что
особенно характерно с точки зрения рассматриваемого
драматургического материала, — в этом логическом ряду у
Даля оказываются такие глаголы, как бранить, ругать кого-
то и, наконец, сквернословить. Применительно к тексту
А. Шипенко следует отметить и такой смысл глагола «ка-
стить», как «испражняться» — особенно, замечает Даль,
если речь идет о больном.
Следующий после А. Шипенко шаг, связанный с
превращением сквернословия в повседневный лексикон
персонажей, а оттого — и в сплошным потоком выстроенный
текст пьес, сделал М. Вол охов, сочинивший «Игру в
жмурики» (см.: Волохов 1997).
Поместив своих персонажей внизу (подвал, морг —
можно сравнить с упоминавшейся пьесой А. Шипенко), М.
Волохов маргинализировал не только бытовую, но и
лексическую сторону существования своих персонажей.
Открыв пьесу на первой ее странице, мы обнаруживаем там
16 не цитируемых «в приличном обществе» выражений,
причем в реплике из четырех слов три могут быть
нецензурными, а одно оказывается чаще всего предлогом или
союзом.
Равнодушие санитаров к больным и умершим, глухота
чувств, так порицавшаяся когда-то русскими классиками,
трансформировалась здесь в глухоту физиологическую:
люди не слышат в своих и чужих словах ничего
недопустимого. Они так говорят и, очевидно, так же думают.
Абсурдность ситуации употребления бранных слов связана с
отсутствием сколько-нибудь значимых эмоциональных
возбудителей. Ругаются не потому, что попадают в поле
эмоционального напряжения, а от неумения мыслить
(вообще) и говорить (по-другому). Из числа грубостей и
гадостей, постоянно изливающихся со страниц пьесы и,
соответственно, со сцены, можно процитировать хотя бы
следующее: «Эти больные, сука, умники-наушники, так и
зырят по сумкам... Сами, курвы гебешные, черную икорку
на красненькую намазывают <...>», «<...> из шкафа твоя
капуста трипперная торчит <...>», «Хавать бум?».
465
Воздержимся от дальнейшего цитирования из
опасения, что простое сочетание слов может дать
неожиданный (не скрою, возможно, не ведомый автору статьи)
смысловой посыл.
^ ^ s£
В традиции русской классики провинциальность
рассматривается как питательная среда ддя роста
бездуховности, а оттого — скверномыслия и сквернословия. Нам
приходилось обращаться к проблеме провинциального
менталитета в ее теоретических аспектах и применительно
к судьбам великих представителей русской культуры,
А.П. Чехова (Злотникова 1997) и В.В. Розанова (Злотнико-
ва 2000). В контексте данной статьи отметим следующее.
Поскольку к концу XIX века понятие о русском
интеллигенте обретает законченные очертания, Чехов до
остроты доводит решение вопроса о соотношении
интеллигентности и провинциальности.
Как стыдится этот интеллигент своих
провинциальных, причем не барственно-усадебных, но
мещански-городских, неинтеллигентских корней! Стыдится города,
который «грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен»;
стыдится родни — дяди и его домочадцев, в доме которого «в
8 часов вечера <...> собаки, крысы, живущие в кладовой,
кролики — всё это спало и дрыхло»; стыдится даже
вывесок — «На большой улице есть вывеска: "Продажа искус-
минных фрухтовых вод". Значит, слыхал, стерва, слово
"искусственный", но не расслышал как следует и написал
"искусминный"» (Чехов 1975:60,62,83). Внутренняя
«азиатчина», духовная провинциальность видятся русским
интеллигентам в жестоком самонеуважении.
Одно из самых ярких проявлений провинциального
менталитета в современной русской драме и театре
связано с творчеством екатеринбургского автора Н. Коляды.
В его пьесе «Мурлин Мурло» обитатели
«провинциального городка», как определяет место действия своей пьесы
драматург, живут как ругаются и ругаются как живут. Нет
экстремальности в обстоятельствах, побуждающих к
произнесению грубых слов. Даже шутка выдает низменность
обыденного существования («колбасные обрезки»). Так
466
сделалось. Так ляпнулось. Без ответственности. Без горечи.
Без внимания. ПО ПРИВЫЧКЕ. Как пытается пояснить
это качество поведения, а заодно и речи сама героиня, «у
него, знаете, одна извилина в голове, и та — пунктиром».
Ольга. Голова болит.
Михаил. Голова не попа — завяжи и лежи <...> Эх, бабы! Ничего вы
в жизни не петрите! Ничего не смыслите в колбасных обрезках! <...>
< >
Михаил. Ах вы, соски грязные, пластмассовые, страшные... Ах вы,
суки...
< >
Ольга. Пошел вон, скотина. Вон, сказала.
Михаил. Крокодилина какая <...> Да радоваться должна, что я на
тебя, сучку такую, глаз положил! <...> Распрыгалась мне тут, вошь, блоха,
сучка! <...>
< >
Инна. Пусти, зараза <...> Открывай, а то разнесу дверь сейчас к е<...>
матери... Собака!
Странным на фоне обесчеловечивания поведения и
деградации личности выглядит традиционно
произносимый, но нетрадиционно дополняемый призыв девушки в
ожидании мирового катаклизма:
Инна. Давайте простимся, что ли, по-человечески, хоть вы и суки
обе, собаки натуральные! <...> Прости меня, что я тебя обижала! Но и ты
тоже падла порядочная была!
Совсем как в речи горьковских босяков, у жителей
провинции времен Коляды незнакомые им слова
приобретают характер ругательств. По аналогии с «органоном» у
Сатина может восприниматься «кабанера» в устах Инны;
очевидно, для российской провинциалки в искаженном
названии испанского танца содержится смутное
воспоминание об огненных страстях Карменситы, которую ей
напоминает влюбленная сестра...
Забавным может показаться то, что персонаж
употребляет ругательство в неправильном смысле. Инна ругает
Ольгу: «Чего ты накрасилась, как фуфло какое?»,
по-видимому, отождествляя это слово (по созвучию?) с пугалом
или чучелом. Однако этимологически это слово восходит
к объясненному в словаре В.И. Даля слову «фуфлыга».
Последнее же имело совсем не тот смысл, что подразумевает
персонаж пьесы: фуфлыжка — прыщ, фурсик — недорос-
467
ток, маленький человечек, а также дутик, невзрачный,
маломерный; есть и дополнительное значение — продувной
мот, гуляка. Слово же «фуфлыжничать», по Далю, и вовсе
обозначает проедаться, жить на чужой счет, шататься.
Неприятие жестокости, выражением чего становится
брань, само по себе удивительно для глухой во всех
отношениях провинции. Даже научное понятие «выражение»
употребляется здесь в обывательском смысле:
«выражаться» значит «ругаться».
Инна. А эта — смотри, смотри! Не любит выражений! Ну, пардон
меня, пардон меня. Ишь ты, а? Да у нас все по-простому <...>.
Безъязыкость сопровождает анемию или
максимальное опрощение чувств. Инна не столько жалуется, сколько
почти гордится: «Языку меня не выговаривает всего того,
что думаю...»
Н. Коляда фиксирует и один из важнейших мотивов
брани — скуку, в частности, скуку жизни в провинции, где
до абсурда доводится повседневность в ее однообразии и
малоосмысленности.
Инна. Пардон меня, мы по-родственному всё время. Бывает, даже
кудри начнем друг дружке рвать. А то ведь скучно. И с мамой, бывало,
сколько раз скублись. Стенка на стенку, ага. Подеремся, поревем потом —
все же таки развлечение. А так — скука!..
Кроме того, Н. Коляда обнаруживает «мертвизну» как
логичное основание для возникновения нечеловеческой
речи. Это происходит, в частности, в его пьесе «Чайка
спела».
В пьесе идет традиционная для абсурдного
мироощущения, воссоздаваемого русской классикой, игра вокруг
смерти (или покойника). При этом обыденность
пронизывает своим течением действие и придает речи
персонажей едва ли эпический характер. Известные ругательства
также варьируются в их бытовом качестве, и вариации
изобретательный русский человек постоянно
наращивает. Вариации эти органично сочетаются с неграмотными
речениями, которые и диалектными-то не назовешь и
которые возникают от убожества души и мысли. Банальные
грубости густо перемешаны с вновь изобретаемыми и
кажущимися герою бранными словами.
468
Саня. <...> Ешь твою двадцать! Опять — не ладно. Выставила! И это —
не так, и это — не по-еёному...
< >
Саня. <...> Потом он опять за свое взялся. Опять начал коробчить,
тянуть, что плохо лежит. Охламон, оглоед, оболтус... Сучье вымя! <...> Вся
кодла эта журавлевекая долбанутая... Нет, <...> он не в нашу породу был,
не в нашу... У нас все орлы. А этот был — так себе. Курица.
Едва ли не в ласковой, нежной форме произносятся
реплики с физиологическим оттенком («Смотри, у него
уже и обосратушки наступили»).
У мира Н. Коляды, весьма плотно укорененного в
бытовых реалиях и проявлениях драматизма, есть
особенность: краткий переход на уровень мистики, причем по
своим признакам не отличающейся от проявлений
обыденности. Оживающий ненадолго покойник начинает
шевелиться: «Сел. Бумажные цветы с грохотом падают из
гроба на крашеный пол. Валерка, улыбаясь, смотрит на
застывшую от ужаса Саню». В мороке, опускающемся на
провинциальную квартирку, звучит не человеческая речь,
а поток претензий, выражаемых с помощью единственно
известных Валерке, как мы бы сказали, сочетаний букв.
Поневоле цитата заполняется (нами) многоточиями, и
уже по их количеству понятно, что этот человек говорит,
как жил:
Ну что, мореман х<...>в? Что, моряк-с-печки-бряк? Что, лярва
махачкалинская, сука, козел?! Да я ж тебя на нуль помножу, п-п-петух... Ну что,
<...> баранье с улицы Го-Мо-Жо? Костюма пожалел, ага? Этот «Диор» с
Дерибасовской пожалел, ага? Ах ты, курва грязная... Забыл ты, забыл, как
я тебе высылал восемьсот рублей как одну копеечку в благодарность за
этот гр<...> костюм, забыл, да? Забыл? <...> А теперь ты костюма пожалел,
ага? Ах ты, п-п-петух... Соси у старой обезьяны через двойную солдатскую
портянку, понял? <...>
Рассмотрев физиологизм и некрофилию современного
автора А. Шипенко, грубость провинциального быта в
версии Н. Коляды, оглянемся еще раз назад, на драматические
произведения русских классиков. И, как бы ни казалась
отталкивающей речь персонажей современных пьес,
вспомним, что всегда количество и качество «драматургической
ругани» было не случайным, оно соответствовало
настроению, особенностям взаимоотношений, степени и накалу
взаимного неприятия или внутренней неустроенности лю-
469
дей. И если сегодня пьесы наполнены тем, что прежде
казалось невозможным и недопустимым, то вряд ли стоит
винить только их авторов, идущих «на поводу» у массового
сознания. Винить, очевидно, следует жизнь, какая
приходится на долю их современников. Вот уже поистине — они
ведут «просто такую жизнь».
* * *
Брань в драматургических текстах, как созданных
русскими классиками, так и «абсурдистами» — западными и
русскими — в XX веке, присутствует постоянно и
полноправно. Она стала органической составляющей речи,
выражая эмоциональные, интеллектуальные, социальные
проблемы персонажей. Брани в драматических текстах не
меньше, чем любовных признаний или политических
деклараций. Опыт показывает, что вовсе без брани пьес не
так уж много (кстати, и этот драматургический пласт
может стать предметом специального исследования).
Разумеется, брань брани рознь, как в жизни, так и в
драме. При этом в редчайших случаях введение брани в
художественный текст, предназначенный для сценического
воплощения, становится самоцелью. На основе анализа
тех текстов, которые, как нам кажется, репрезентативно
представили значительный круг произведений русской
классики и тесно связанных с ними пьес абсурда, брань
можно классифицировать следующим образом:
• по ее мотивам (агрессия; потребность привлечь к
себе внимание; скука);
• по ее форме (нецензурщина в чистом виде; слова,
принимаемые персонажами за бранные; формулы,
изобретаемые персонажами);
• по ее месту в художественном произведении (редко
встречающиеся реплики, имеющие специфическую
эмоциональную окраску; реплики, характеризующие
особенности определенного персонажа; текст,
содержащий значительный массив брани как привычного
типа речи персонажей; брань как сплошной
драматургический текст).
Русские классики показали, что человек всегда
бранится «не от хорошей жизни», даже если это позволяет себе
470
высший по отношению к низшему, старший по
отношению к младшему. Взаимонепонимание, вражда близких
людей и тягостное «невключение» человека в социальную
реальность рождают множество абсурдных коллизий,
выходом из которых (пусть и мнимым, эфемерным)
становится брань.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Аникст 1963 — АникстА. Творчество Шекспира. М.,1963.
Барт 1996 — Барт Р. Мифологии. М.,1996.
Бердяев 1996 — БердяевН. Самопознание. М.,1990.
Бояджиев 1969 — Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок
театральных вечеров. М., 1969. С. 84.
Волохов 1997 — Волохов М. Великий утешитель: Пьесы. М.: Глагол.
1997. № 32.
Злотникова 1997 — Злотникова Т. Антон Чехов, интеллигент из
провинции // Мир русской провинции. СПб., 1997.
Злотникова 2000 — Злотникова Т. Русское, слишком русское //
Энтелехия. 2000. № 1. С. 52-59.
Кирнан 1966 — Кирнан В. Взаимоотношения между людьми у
Шекспира // Шекспир в меняющемся мире. М., 1966.
Лихачев 1997 — Лихачев Д.С. Смех как мировоззрение. СПб., 1997.
Лотман 1998а -ЛотмаиЮМ. Об искусстве. СПб., 1998.
Лотман 19986 — Лотман Ю.М. Тезисы к проблеме «Искусство в ряду
моделирующих систем» // Лотман Ю. Об искусстве. СПб., 1998.
Московичи 1998 — Московичи С. Наука о массах //Психология масс.
Самара, 1998.
Ортега-и-Гассет 1991 — Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства //
Самосознание европейской культуры XX в. М., 1991.
Похлебкин 1993 — Похлебкин В.В. Кушать подано! М., 1993.
Пушкин 1949 - Пушкин A.C. Собр. соч.: В 10 т. М., 1949. Т. VII.
Салтыков-Щедрин 1952 — Салтыков-Щедрин М.Е. Наша общественная
жизнь // Н. Щедрин о литературе. М., 1952.
Терц 1992 — Терц А. В тени Гоголя // Терц А. Собрание сочинений:
В2т.М., 1992.Т. 2.
Фрейд 1991 — Фрейд 3. Остроумие и его отношение к
бессознательному // Его: «Я» и «Оно». Тбилиси, 1991. Кн. 2.
Чехов 1975 — Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем в 30 томах. Письма
в 12 т. М.: Наука, 1975. Т. 2.
M.H. Дмитриева
«...АБО ФЕНОМЕН ДАТСЬКОГО
КАЦАПІЗМУ»
Лесь (Александр) Подервъянский, о литературном
творчестве которого пойдет речь, давно является объектом
поклонения в Украине. Одни получают удовольствие от
проговариваемого им вслух мата, другие наслаждаются
тонкой иронией, многочисленными культурными,
литературными и прочими аллюзиями, третьи же ищут и находят в
его пьесах абсурдистский юмор высокой пробы. Его
называют вышедшим из андеграунда «классиком современной
украинской литературы» и, как всякого украинского
классика, сравнивают с великими предшественниками — в первую
очередь с Шевченко: ведь, как и Тарас Григорьевич, Лесь,
будучи художником (и не просто художником, а
потомственным — в третьем поколении — живописцем, членом
Союза художников, удостоенным наград за оформление
сцены для пьес «Оргия» и «Выстрел в осеннем саду», мастером,
чьи многочисленные — личные и групповые — выставки
проходили по всему миру), широко известен именно как
автор художественных произведений. Многие критики
также сравнивают его с Иваном Котляревским — и тот, и
другой обращаются в своем творчестве к эпическим сюжетам
и мифологическим образам, подвергая их
преобразованию в бурлескно-травестийной традиции, а также
пользуются народным языком. В случае Котляревского это был
полтавский говор юго-восточного диалекта украинского
языка, послуживший в дальнейшем основой для
формирования литературного украинского языка. В случае же
Подервъянского — это суржик и мат. Собственно,
специфика языка произведений Подервъянского как раз и яв-
472
ляется предметом рассмотрения данной статьи. Однако
прежде чем переходить к рассмотрению этого вопроса,
хотелось бы сказать еще немного о феномене самого Леся
в современной Украине.
Его пьесы, первые из которых появились с середины
70-х, распространялись в подпольных аудиозаписях и
пользовались неизменной популярностью. В начале 90-х «...для
большинства слушателей самопальных и жутко
некачественных кассетных записей он был не столько драматургом,
сколько почти мистической частью глубокого
андеграунда1. Ошеломляющее пародирование совковых реалий и
стереотипов, умноженное на виртуозное владение не
используемой даже в неофициальной литературе лексикой,
вызывало эффект прикосновения к мифу. Имя нашего
героя часто называли неправильно, и никто точно не знал,
существует ли Подервъянский на самом деле.
Показательно, что номинальный развал "совка" ничего в подобном
отношении слушателей к автору не изменил», пишет в статье
«Эстет на баррикаде» журналист Александр Кривенко2
(см.: Кривенко 2002). Этому способствовали и зарубежные
контрафактные издания его произведений в
аудио-формате. Демифологизация автора «Павлика Морозова» и
«Короля Литра» началась с официальной публикации его
произведений на компакт-дисках («Цікаві досліди»3, 1996),
появления создателя скандально известных и повсеместно
цитируемых произведений на страницах газет и журналов,
на телевидении и радио. Легализация «катакомбного
классика» достигла вершины, когда в 2000 году львовское
издательство «Кальвария» выпустило его «бесты» одной
книгой в переплете — «Герой нашого часу»4 — по названию
одной из 23 вошедших в книгу пьес.
Как ни странно, молодое поколение, по идее, мало что
знающее про «дефицит масла» или «бацилу» (твердые
фракции в армейском рационе, по виду напоминающие
мясо — любимую пищу героев Подервъянского), не
говоря уже про пьяных матросов, танцующих «яблочко»,
создает «фаланги добровольных поклонников, которые
своей численностью скоро превысят легионы сорокалетних
фанов Леся» (Кривенко 2002). Подтверждением тому
служат многочисленные фанские странички, любовно
создаваемые и поддерживаемые в Интернете. Там можно най-
473
ти произведения митця5 в различных аудиоформатах,
электронные версии статей о нем и его интервью,
информацию о его художественных произведениях, ссылки на
другие подобные проекты. Его тексты представлены в
рамках интереснейшего украинского проекта «Весна»
(http://www.vesna.org.ua/txt/prz-hum.html), а также на
одном из фундаментальнейших ресурсов Рунета, в Библиотеке
Мошкова (http://www.lib.ru/ANEKDOTY/PODDEREV/).
Как отмечает журналист, «достаточно потереться в
любой молодежной компании или в разговоре со
свежеиспеченным украинским дипломатом использовать вместо
пароля [слоган] "купатися чи не купатися"6, как возникает
непреодолимое впечатление, что произведения Подервъ-
янского изучают в школе, пусть даже по программе
факультативного чтения. А может, это имело бы смысл?»
(Кривенко 2002). Тут, зная способность школы отбивать
страсть к чтению, позволим себе с журналистом не
согласиться, но то, что тексты Подервъянского уже стали
частью культурного кода, несомненно. Его пьесы, сами
изобилующие прямыми и опосредованными цитатами,
являются для жителей Украины прецедентными текстами
(которые мы, вслед за Г.Г. Слышкиным, понимаем как любую
характеризующуюся цельностью и связностью
последовательность знаковых единиц, обладающих ценностной
значимостью для определенной культурной группы (Слыш-
кин2000:28)).
Будучи широко известным, Подервъянский породил
множество эпигонов той или иной степени талантливости
(здесь мы упоминаем только те тексты, которые обладают
художественной ценностью). Используя его приемы —
элементы травестии, бурлеска, абсурда, а также
специфический язык, в гораздо большей степени, чем прототип,
ориентированный на суржик и мат, они воссоздают структуру
пьес Леся, где немалую роль играют авторские
характеристики, даваемые при перечислении персонажей, и
пародируют популярные явления культуры, как, например,
созданный Павлом Ждановым «Властелін 3.14здець» (http://
cyber.zhdanovs.com/read/vlastelin), где объектом
пародии является экранизация «Властелина колец» Дж.Р.Р. Тол-
киена, а место эпики запойных пьянок, характерной для
произведений Подервъянского, занимает наркоман-
474
екая романтика, доведенная до абсурда. Вот эпиграф
данного «опуса»:
Дев'ять кубів для пробитих вже зовсім,
Ще три я ельфам віддав поцаватим,
Сім — то для гномів, забацаних в шахті,
Тьху, блядь, один от собі й залишився...7
Этот текст также содержит прямую отсылку к
«вдохновителю»:
«Починається бійка. Маги тиркають один одного
током, мутузять ногами та плюються. Врешті Саруман влучає
кулаком сивобородому в дихачку, пиздить фоліантом по
потилиці і топче ногами. Коли той остаточно пада,
Саруман задира халат та пісяє Гендальфу у вухо.
Саруман: Тепер ти не Сірий, а Засцянець! (Регоче.)
Чітай классіку, блядь!»8
Это намек на тот эпизод в пьесе «Гамлєт, або Феномен
датського кацапізму», где Призрак (отца Гамлета)
обвиняет своего брата Клавдия в том, что тот
<...> обісцяв мене на полюванні,
Коли я міцно спав. Підступною рукою
Він в ухо спрямував брудного хуя,
І скосопиздила моє прекрасне тіло
Смертельная гангрена <...>9.
(Подерв'янський 20016:14—15)
Перу этого же автора принадлежит весьма популярная
в Сети пародия на фильм братьев Вачовски «Матрица» —
«Матриця» (http://cyber.zhdanovs.com/read/matrix),
упоминание фразы из которой «Де ложка, блядь?!»
(«Imagine, there is по spoon» — обращенная к Нео реплика
воспитанника Пифии) неизменно вызывает смех присутствующих.
Существуют также многочисленные весьма
саркастичные, если не сказать злые, пародии «на злобу дня»,
написанные по мотивам перипетий политической жизни на
Украине (и не только)10 либо трагических событий (как,
например, сбитый украинскими ПВО российский самолет)11.
Тщательно воссоздаваемый последователями, именно
язык является основным камнем преткновения для
многочисленных критиков и хулителей, которых равно коробят
и мат, и суржик — разговорный язык не до конца
русифицированных (и изо всех сил противящихся окончатель-
475
ной русификации) горожан. Сам же автор в интервью на
вопрос журналиста по поводу мата отвечает так: «Это
паша общая лексика. Я себя из народа не выделяю. Хотя эти
слова обладают повышенной энергетикой, и если ими
"плеваться", употребляя через слово, допустим, б... — это всё
равно, что стрелять из автомата, стоя в очереди. Но в
нашей стране есть места, где без употребления крепкого
мата никак нельзя. Обычно человек начинает это
понимать в армии. Там, если он не умеет материться, то,
например, третьей роте могуг не подать вовремя обед и т. д. Или
на стройке... Почему так происходит — не знаю. Это надо
залезть глубоко в душу народа. А я только так, с краешку...»
(Хоменко 1998).
К вопросу о суржике мы вернемся позднее, а пока
остановимся на особенностях мата в украинском языке. Как,
наверное, и во всех республиках, входивших ранее в состав
СССР, в Украине матерная лексика украинского языка
совпадает с таковой языка русского. Можно сказать, что в
украинском используется русский мат, который
подчиняется всем его правилам (т. е. фонетическим: матерные слова
произносятся по правилам украинского языка;
грамматическим: склонение, спряжение, сочетаемость
соответствуют таковым для подобных классов украинских слов; и
лексическим: словообразование идет по характерным
моделям). Традиционные так называемые «сороміцькі»12 слова
в украинском существовали и продолжают существовать —
как, например, слово «сикилятися» —«дрочишь,
мастурбировать», но, будучи устаревшими и диалектными, они
практически не встречаются в широком использовании в
разговорном городском варианте украинского. Об
исследованиях подобной лексики, о которых было бы что-то известно,
упоминаний найти не удалось. Формально-медицинские
«член» и «піхва»13 не удовлетворяли желания экспрессии
и языковой игры, а жаргонно-разговорные «прутень» и
«поцька» звучали слишком грубо (впрочем, в отличие от
«поцьки», «прутень» вполне можно услышать по
телевидению в переводах иностранных фильмов).
Стремление разработать свою, собственно украинскую
систему инвективной лексики, применимую в разговорной
речи для описания понятий и действий из сферы
«телесного низа», в частности, сексуальности, привело к появлению
476
в 1992—1993 годах в газете «Пост-Поступ» серии
публикаций, вызвавших фурор в среде молодой патриотически
настроенной украинской интеллигенции. Среди
предложенных тогда слов были «славень» (от «славний» —
«знаменитый») и «розкішниця» (от «розкіш» — «роскошь»,
«розкошувати» — «роскошествовать»). Предлагались не только
сами слова, но и устойчивые выражения и даже присказки:
например, «славнем ославити» — «ославить славнем», т. е.
сексуально использовать (преимущественно девушку) и
поставить об этом в известность других (преимущественно
парней) (может использоваться как проклятие: «Най би
тебе славнем ославили!» — «Чтобтебя славнем ославили!»);
«Любиш ти розкіш, моя розкішнице» — «Любишь ты
роскошь, моя роскошница»— в ответ на просьбу девушки что-
либо купить. Впрочем, дальше публикаций и их
восторженного цитирования дело не пошло. В «Словаре
современного украинского молодежного сленга» Светланы Пыркало
(см.: Пиркало 2002) можно найти некоторые слова,
относящиеся к этой сфере, например: заниматься сексом
(взаимно) — боротися, трахатися, перепихнутися, заниматься
сексом с кем-то (сексуально использовать) — відшампурити,
грати/виграти, журити, трахати, пилососити, пороти.
Будучи до определенной степени непристойными, т. е.
неприменимыми в официальной речи, эти слова все же не
относятся к собственно инвективам.
Возвращаясь к произведениям Подервъянского, стоит
отметить, что язык его пьес — гибкий, разработанный,
живой, используемый виртуозно и часто не без
(само)иронии. Даже при обилии суржика и мата речь героев весьма
индивидуальна. И герои, и автор часто используют
цитирование, устойчивые выражения, штампы, то есть
активно демонстрируют свою компетентность как носители
общепринятой культуры (большинство — низшего уровня,
а некоторые — и более высокого, не отказываясь при этом
ни от мата, ни от суржика). Реалии Страны Советов
выступают тут и как общий культурный код, и как объект
доведения до абсурда и осмеяния, как в традиционных
советских политических анекдотах.
Сам Подервъянский свое происхождение ищет в
драматургии Сэмюэля Беккета, красноречии украинского
номенклатурного «письменства» и стилистике русского казар-
477
менного мата (см.: Лапінський 2001: 6). Параллели его
творчеству в литературе, помимо упоминавшейся восточ-
ноукраинской бурлескно-травестийной театральной
традиции, — это «непосредственно примыкающий к ней
бурсацкий кощунственный фольклор и неподцензурная поэзия в
духе Луки Мудищева (демонстрирующая не сладострастие,
но, напротив, освобождающую от него силу брани,
преодоления страха табу)» (Клех 2001).
Кроме слов, относящихся к литературному регистру
украинского языка, лексику текстов Подервъянского можно
условно разделить на 4 группы — мат, жаргон и сленг,
сниженная (разной степени приемлемости в речи) лексика,
входящая в собственно украинский язык, а также суржик
и слова русского языка.
Каждая из этих групп обладает определенной
спецификой.
1. Мат (нецензурная лексика)
В речи персонажей рассматриваемых пьес мат
используется во всем его многообразии, в прямом:
Генерал Власов14
Я грішно жив, гбавсяя з жінками,
Утричі старшими за мене...15
(Подерв'янский 2001е: 153)
и переносном значениях:
Пророк Микола16
Сумно дивлюся на наше покоління,
Жлобів невихованих! Гроші їм дорожчі
За храм святий! Мамоні, а не Богу
Возносять ці хуг свої молитви!17
(Там же: 154)
Пророк Микола
Сімейка блядська, загбали в пень!18
(Там же),
а также в устойчивых сочетаниях:
Гамлет
Такіє варіанти гбавя в роті в носаі
(Подерв'янський 20016: 14)
478
Іван Опанасович
Я в армії так наїбався, Гриша, їбать мої віники!
(Подерв'янський 2001д: 111)
и разнообразных производных формах, например: скосо-
пиздила, поїбень, долбойоби, припездяний, пиздоватізм,
мудозвон, будучи одним из основных выразительных средств.
Матерные слова используются автором также для
характеристики героев при их перечислении перед началом
пьесы:
Сфінкс, кровожерна, підступна і хтива міфологічна потвора, з
лазурями, крилами, цицьками і пиздою19 (Подерв'янський 20016:134),
а также в ремарках:
Гамлєт пиздитьусіх дрючком. Пиздячить герба з ведмедем, потім
заливає шампанське в рояль і шпроти запускає туди ж. І по роялю пиздить
дрючком. Рояль гуде20 (Подерв'янський 20016: 18).
При этом они могут передаваться как слова
украинского языка (в подавляющем большинстве случаев) и как
слова языка русского: мудгла, когда используются
русскоязычными персонажами или во фразах и предложениях на
русском в речи украиноязычных.
2. Жаргон и сленг
Практически все слова, которые можно назвать
жаргонными (как определяет жаргон В. Химик, это
значительно более широкое [чем арго] понятие, полуоткрытая
лексико-фразеологическая подсистема, применяемая той
или иной социальной группой с целью обособления от
остальной части языкового сообщества. Жаргонизмы же —
«эмоционально-оценочные экспрессивные образования
<...>. У жаргонизма почти всегда имеется
семантическая параллель в литературном языке <...>. Жаргонизм
легко узнаваем и более или менее понятен всем, для этого его
и используют: употребляя жаргонное слово, говорящий
манифестирует либо имитирует свою принадлежность к
определенной социальной группе и выражает отношение
к окружающему — к объектам или партнерам по речи — с
позиции этой социальной группы» (Химик 2000: 13)), в
479
пьесах Подервъянского относятся к армейскому
жаргону—в частности, уже упомянутая нами бацила, гораздо
более слабо представлен воровской жаргон:
Привид
<...> підарасів з детства не любивши,
їх посилав на хімію їбошить
На благо Батьківщини21 <...>
(Подерв'янський2001: 15),
который можно уже фактически рассматривать как часть
сленга (В. Химик дает такое определение сленга: «<...>
открытая подсистема ненормативных лексико-фразеологи-
ческих единиц разговорно-просторечного языка, его
стилистическая разновидность, или особый регистр,
предназначенный для выражения усиленной экспрессии и
особой оценочной окраски <...>, надсоциальный "общий"
жаргон <...>, т. е. совокупность популярных, но
субстандартных слов и речений, привлекаемых из частных
жаргонных подсистем лексики» (Химик 2000: 13)), например:
Клімакс
Так, не фраер я, а Клімакс змієносний!22
(Подерв'янський2001е: 157).
В «Словаре молодежного сленга» (см.: Пиркало 2002)
это слово объясняется так: «Человек, который много из
себя корчит и очень себя любит».
Иные жаргоны, как то профессиональные,
студенческие, наркоманские, в пьесах почти не представлены. Как
признает в одном интервью сам автор23, он относит себя к
алкогольной культуре, армия же оказала огромное
влияние на него как на драматурга театра абсурда (в другом
интервью):
Л. П. — <...> я нигде никогда не служил.
Корр. — Кроме армии ?
— Кроме армии, хотя это службой назвать нельзя, потому что там все
сачкуют, а я сачковал еще больше. Причем армия делает всё, чтобы в ней
сачковали. Я, наоборот, думал: «Классно! Какое-то время буду
предоставлен жизни, буду бегать, прыгать, стрелять». Ни фига подобного!
Оказывается, там делают всё, кроме того, что должен уметь профессионал.
Человека призывают на два года, чтобы научить застилать кровати,
подметать или красить траву. Пришлось срочно переключиться с
романтического восприятия («ах, мы мужчины, мужское братство!») на
абсурдистское. Потому что, если тебя заставляют на полном серьезе красить сви-
480
ней или имитировать зиму путем натягивания на кусты простыней и
наволочек...
— Зачем?!
— Вот, сразу видно, что женщины у нас в армии не служат! Как это —
зачем? В армии это вопрос абсурдный. Надо! Сначала одолевает
разочарование, потом понимаешь: «Какое счастье! В какой идиотский мир я
попал!» Из какого-то дебила, прыщавого юнца, мечтавшего стать Рембо,
ты становишься художником! Армия в меня впрыснула такой заряд! — она
об этом даже не подозревает. Поэтому я не устаю говорить, что всем
творческим людям туда надо идти. А вот обычным парням там делать не
хрен! Может быть, сейчас украинская армия совсем не такая и победит
всех врагов. Чего бы мне очень хотелось. Но та армия, в которой я
служил, — не была предназначена для того, чтобы побеждать. Более того,
меня посещали мысли: «А что будет, если вдруг война? Мы ж просрём это
всё моментально! Нам же всем будет капец!»
— А командиров не пытались этими мыслями порадовать ?
— Пытался. Но, что мне нравилось в командирах — они тоже
смирились, что это театр абсурда. Беккет был бы очень доволен, что такие
громадные силы вовлечены в его идею. Я стал мыслить категориями
театра — сам не ожидал, что так получится (Хоменко 1998).
3. Сниженная лексика украинского языка
Собственно украинская сниженная лексика
представлена в текстах пьес Подервъянского обширно и
разнообразно. В основном она относится к трем группам:
— оценочные слова, используемые, в частности, для
называния национальностей или характеристики качеств
личности, например, кацап, пацаватий, курвяча сімейка,
підлий, сурло (пасть).
— телесный низ, например, хтивий, срака, дупа, гамно,
гівно.
— телесные отправления, например, харкати, пробзді-
лося.
4. Суржик и слова русского языка
Как и слово «ложить»24 в русском языке, существование
которого не фиксирует ни один словарь, суржик
существует и широко используется людьми разного социального и
образовательного уровня, вызывая при этом негодование
филологов, лингвистов и просто любящих родной язык
людей. Исследования его фрагментарны и эпизодичны, лекси-
481
ческий запас не кодифицирован, в немалой степени
потому, что он весьма изменчив и значительно отличается
территориально и социально (т. е. суржик, бытующий в городе
и на селе, западе и востоке страны, употребляемый
грузчиками и студентами, будет значительно разниться
практически по всем параметрам). Классический пример суржика —
речь персонажа современной эстрады Верки Сердючки,
далекая от литературного языка во всех отношениях.
Также нет и единогласия в определении понятия
суржик. К суржику в данном случае мы будем относить
проявления украинско-русской интерференции, например,
использование отдельных слов, устойчивых выражений,
грамматических конструкций, правил
склонения/спряжения или управления из одного языка в другом:
Сука
А може, там пацапчікі сидять,
Студенти-першокурсники красіві?25
(Подерв'янський 2001е: 156)
К суржику как игре охотно обращается образованная
молодежь, «<...> которая хочет войти в иной языковой
образ, расширить диапазон языковых вариаций.
Социологические исследования показывают, что к суржику она
обращается чаще, нежели люди среднего и пожилого
возраста, склонные считать его признаком низкого уровня
языковой культуры. Прекрасно владея другими
языковыми кодами, молодой человек тем не менее использует
суржик, чтобы получить удовольствие от собственной речи,
поскольку ему так интересно» (Ставицька 2001):
— А шо, торговка тьотка була?
— Ну да, з сумками. А гроші в неї в лівчику оказались.
Семен, коли захоче, говорить прекрасною українською мовою, а
також при бажанні — іспанською і ще кількома маловідомими в Україні
мовами. Але йому так нецікаво26 (Пиркало 2002: 23—24).
Одной из основных причин появления и
распространенности суржика является массовый, или тотальный,
билингвизм27, «<...> явление, принципиально отличное от
индивидуального двуязычия. Оно вызывается, как
правило, колониальной зависимостью страны. В подневольных
условиях зависимое языковое сообщество вынуждено изу-
482
чать, кроме родного, еще один язык и использовать его
для общения в определенных обстоятельствах. Если
второй язык постепенно перенимает все функции родного,
возникает опасность исчезновения родного языка и
превращения двуязычных в одноязычных» (Масенко 1999: 8).
В рассматриваемых пьесах русский язык используется
тоже достаточно широко: на уровне отдельных слов,
устойчивых и свободных словосочетаний, а также целых
предложений. В речи украиноязычных персонажей они, как
правило, употребляются сознательно — для
дополнительного иронического эффекта.
Использование русского в этом качестве отмечалось
многими исследователями и писателями: «<...>
ироническое использование русизмов как элемент языковой игры —
это реальность языковой ситуации 20-х годов XX века
(речь идет о памфлете Мыколы Хвылевого «Полет
Икара». — М. Д.), которая на сегодня мало изменилась» (Ста-
вицька 2001). Об этом же пишет и Оксана Забужко в
романе «Полевые исследования украинского секса»: «<...> или
приспособиться, как все мы, самим голосом брать
иноязычные слова в кавычки, делать на них некоторый шутов-
ско-иронический нажим как на вроде бы цитаты (<...> ты
себя что, "победітелъніцей" чувствуешь?)» (Забужко 1998:
28). К этому приему герои пьес Подервъянского
обращаются часто, и их суржик часто отличим (если об этом
вообще уместно говорить!) только по этому оттенку иронии.
Что же касается речи русскоязычных персонажей, она
передается с нескрываемым сарказмом:
Депутат (в телевізорі). Ніч іскриться і вспихуєт, як большой фонтан.
І душа моя — іскрящийся фонтан (Подерв'янський 2001г: 122).
Б рун о Адольфович. Тато найобки єщьо хуйня! От я чітав кнігу,
«Детство Гєбєльса» називається, от заїбісь кніга! Ну, от оні как-то с Каль-
тенбруненом нашлі бомбу і — от пацани — не іспугалісь, подложілі учі-
тельніце в кабінет. Учітельніца заходіт і говоріт: «Дєті, ауфвидерзейн».
Гєбєльс не іспугался, як хуйньот бомбой, такучітєльніцуувєзлі доктора і
обнаружілі у нєйо ненормальное сокращєніє влагаліща. Це «пизда» по-
німецькі. От нєйо муж потом ушол... (Подерв'янський 2001а: 94).
Для жителей Украины очевиден авторский сарказм по
отношению к человеку, который, отказавшись от родного
языка, на чужом языке не в состоянии грамотно говорить
(т. е. можно предположить, что это речь украинского рус-
483
скоязычного). Однако не намного более грамотны и
появляющиеся в пьесах русские русскоязычные, как,
например, в пьесе «Кацапы»:
Александр. Пагодка-то, а, Надежда? Хозяїн-то собаку-то не вигоніт.
Надежда. Єслі б знала, что ти такой долбойоб, я б с Трофімом лучше
б на Сєлігєр с'єзділа, чем с тобой тут Му-му за уши тащіть.
Ал є кс ан д р. Ти меня, Надежда, не злі. Я тебе за Трофіма матку
виверну наізнанку! (Подерв'янський 2001в: 47).
Стоит отметить, что, как и в случае записи украинских
слов по-русски, русская речь, переданная по-украински,
звучит комично. Тем более странно читать комментарий
Игоря Клеха про то, что «другой пласт — это речь зощен-
ковских персонажей, и на фоне речи героев Подервъян-
ского она выглядит теперь даже... аристократической
(различие в языковом и образовательном уровне
империи, которую уже похоронили или только готовятся
хоронить, иначе — в предмете пародии)» (Клех 2001). Ни о
каком аристократизме (как, собственно, и об империи) тут
говорить не приходится. Впрочем, и сам Подервъянский,
вкладывая подобные слова-полукровки в уста своих
героев, пользуется ими не менее активно, как в ремарках, так
и в описаниях героев:
Общій вагон забацаного поїзда. За столом сидять п'яні Гриша, Миша,
Опанас, Толя і ведуть светскую беседу (Подерв'янський 2001 в: 46).
Діти хором плюють і сразу же запевают весьолу пісню про кузнечіка.
Обряд очищенія на цьому закінчується, і загін, ламаючи на своєму путі
дерева, суне в тайгу, залишаючи за собою дохлого Філіна, поламану берізку,
бички, консервні банки і гандони (Подерв'янський 2001 є: 136).
Клімакс, вісник богів, насилаемий на Суку і Блядь28 (Там же: 134).
Чорт, трансцедента сила у вигляді рогатого упиздня в ватніку, ватніх
штанах і кірзових чоботях. Безсмертен29 (Подерв'янський 200Ід: 109).
Упомянутый последним герой фигурирует в пьесе,
которая даже названа «Остановісь, мгновенье, ти прекрасно!».
Все рассмотренные выше лексические группы
представлены и в самой известной и наиболее цитируемой из
пьес Подервъянского трагедии «Гамлет, або Феномен
датського кацапізму»30. Сам автор объясняет ее популярность
тем, что «<...> пьеса в стихах к тому же компактная. А
потом — она же почти попсовая. В основе Шекспировой дра-
484
мы — достославный эдипов комплекс. Поэтому я
максимально упростил схему, чтобы стало совсем по Фрейду:
Гамлет хочет свою мать, а дядя хочет Гамлета, и все они
вместе ненавидят отца — жестокого самодура, сделавшего
их всех идиотами. А Офелия меня там всегда раздражала:
какая-то тургеневская девушка, еще и утопилась почему-то.
С другой стороны, "Гамлет" — это сатира на
великорусский шовинизм. В 80-е годы, когда он писался, было модно
всех пугать масонами, а я, сколько живу, ни одного
живого масона не видел. Поэтому мне это показалось
интересным как проявление паннациональной шизофрении.
Помню какую-то рецензию, когда один умник написал, будто,
услышав "Гамлета", все будут считать украинцев
антисемитами и шовинистами. Да какой же Гамлет украинец?
Просто пьеса написана по-украински» (Ганжа 2000).
Все четыре героя пьесы, которые говорят (пятый,
Зигмунд Фрейд, как характеризует его в начале пьесы автор,
известный психиатр, молчит; его роль сводится к тому,
чтобы в финальной сцене уколоть Гамлета шприцем в
сраку и увести в сумасшедший дом), делают это в основном
по-украински с той или иной степенью грамотности,
использования мата и Суржиковых вкраплений, их речь дает
нам основания полагать, что они владеют и русским.
Гамлет и Призрак изъясняются больше по-украински, а
Клавдий и Маргарита — примерно поровну на украинском и
русском. Впрочем, Маргарита за всю пьесу произносит
всего две реплики (как и все героини пьес Подервъянско-
го, она весьма и весьма немногословна), одна из которых
на русском: «Какой чудак, їй-богу!», вторая — на
украинском: «Бешкетнику!»31. Ее национальную идентичность
можно определить, исходя из авторского комментария:
Дія друга. На сцені стоїть рояль «Стенвей». На ньому лежать шпроти.
Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку.
Над всім цим герб висить національний. На гербі зображено ведмедя.
В одній руці у ведмедя молоток, а в другій — балалайка. Це символізує
працелюбність і незакомплексованість тварюки. На кріслі сидить Мар-
гаріта, мати Гамлєта, і вишиває комірець косоворотки. Вона наспівує
«Камарікі»32.
Клавдий же более склонен к использованию суржика,
а также штампов и канцеляризмов:
485
Клавдій
Мій Привиде! Ніякої хуйні
Не робим ми — ко всем жидомасонам
Іспитиваем злобу і ненависть
І каждий день національні гімни
На балалайці хором ісполняєм™.
В речи Гамлета и Призрака его отца суржика
существенно меньше. Именно они используют прием «взятия в
кавычки» русских устойчивых выражений с
приданием им иронического оттенка:
Привид
Ага, падлюки! Всім скидать штани
І стати раком, щас піздец вам буде,
Слівайте воду, йобані масони,
Чи як вас там?34
И Гамлет, и Призрак, и Клавдий широко обращаются к
матерной лексике для дополнительной экспрессии:
Гамлет
Як остопиздило купатися мені!
Чи, може, іскупатися? Купатись
Чи не купатись? Блядськг ці питання
Заябують'5.
Привид
Хуйова мода!
Пробзділось щось у Датському князівстві.
Фактически в речи всех персонажей мат уже не
является чем-то, что, произнесенное вслух, есть нарушением
табу — по крайней мере, для самих персонажей.
Подтверждением тому может служить то, что в пределах одной
реплики Гамлет сочетает матерные слова и традиционное для
украинской семьи почтительное обращение к отцу на «Вы»:36
Гамлєт
Ви, батьку,
Там привидом вже зовсім заїбались,
Щось пиздитетаке, що не просцяти
За цілий тиждень...37
В этой пьесе воровской жаргон представлен
буквально одной фразой:
486
Клавдій
Гараздо меньше стало підарасів.
їбошать всі вони, як папа Карло,
На хімії в Черкасах, лізбіянки
Усі на Соловках...38
Как явление уголовного мира можно рассматривать и
«игру в петуха»:
Привид
<...> Помсти хочу!
Побачить цю падлюку на параші,
За грою в півника з неголеним убивцей <...>39
Сленг же появляется только в речи Гамлета (видимо,
потому что он единственный представитель молодого
поколения):
Гамлєт
<...> могила <...>.
На ній брудна Афєлія вонюча
Та купка маргаріток, а під нею
Лежить той фраєр, що любив купатись40.
Гамлєт
Піти би випить в барі шампаньйоли,
Бо в сурлі мов коти понасцикали,
І несвідомо хочеться лизати
Шершавим язиком гарячі зуби <...>41.
Сниженная лексика используется в этой пьесе широко
и разнообразно. Оценочная лексика представлена
словами, относящимися к национальности: кацап, кацапізм,
жид, інородці, басурмани, а также к характеристикам
личности: сволота (сволочь), пацаватий, злодій (вор), убивця
(убийца), підступний (подлый), падлюка, недоносок. Также
наличествуют слова из сферы телесного низа и
сексуальности: хтивий, розбещений, срака, жопа, мін'єт, и телесных
отправлений и грязи: багнюка (грязища), сукровиця,
запльований, сцикун, харкати, пробзділося, малафя, насрав. В
приведенных ниже примерах можно найти слова из
вышеперечисленных групп сниженной лексики (а также мата и
суржика):
Привид, страшне чудо, старанно прикрите замизганимв багнюку і
сукровицю простирадлом42.
487
Гамлет:
Прастуда, геморой, чіряк на сраці,
Запльована підлога, лікарі,
Від шприця гематома і могила...
На ній брудна Афєлія вонюча
Та купка маргаріток, а під нею
Лежить той фраєр, що любив купатись.
Такіє варіанти їбав я в рот і в носа!
Гамлєт харкау море і його дрючком пиздячить43.
Клавдій гидотно плямка, ізображая вкусний ні-
хуйовий «Тузік» 44.
Привид
От бач, злякався, йобаний сцикуні
Він обісцяв мене на полюванні,
Коли я міцно спав. Підступною рукою
Він в ухо спрямував брудногоісуя,
І скосопиздила моє прекрасне тіло
Смертельная гангрена. Помсти хочу!
Побачить цю падлюку на параші,
За грою в півника з неголеним убивцей,
Або в канторі сраним інженером,
Або у юрті раком на підлозі,
Татари шоб його їбали в сракуі
Гамлєт
Не можна мстить. Повинні ми любити
Всіх підарасів, злодіїв, убивць,
Бо кожний з них — народ, всі — богоносці.
Привид
(іронічно)
То, може, ти і м'яса не їси?
Гамлєт
Ні, не їсу я м'яса принципово.
Я тільки випить іноді люблю,
Бо ми народ широкий і гостинний
І випити ми можем до хуя,
Намного більше інших інородців,
Жидів та басурман45.
488
<.
>
Гамлет
<...> Я вже вам сказав,
Що мститися не можу, бо всі люди —
Це браття на землі, окрім жидів,
Татар, масонів, негрів, біларусів,
Которих я ненавиджу. В цілому ж,
Я гуманіст — не те шо Ви, папаша!46
* * *
От других нецензурных текстов, имеющих хождение в
странах бывшего СССР как в форме аудиозаписей, так и в
виде текстов (основным средством распространения
которых ныне являются компьютерные сети), произведения
митця существенно отличаются своеобразием тематики и
ее разработки, специфическим языком современного
украинского города, а также тем, что парадоксальным
образом вызывают у русскоязычной молодежи интерес к
выразительным средствам украинского языка, демонстрируют
его разработанность, гибкость, открытость к языковой
игре и языковой самореализации в его пределах и его
средствами, способствуя его распространению и более
широкому применению. Украинская молодежь, не скованная
языковым пуризмом, с удовольствием пользуется меткими
фразами из пьес нашего героя — и как афоризмами, и как
кодом «для своих».
Эта статья является ознакомительной и никоим
образом не претендует на исчерпывающий характер. Теперь,
когда волна массового увлечения Подервъянским пошла
на убыль, а нездоровый ажиотаж вокруг используемой им
обсценной лексики поутих, хотелось бы, чтобы и Лесь
Подервъянский, и суржик нашли своих преданных и
непредвзятых исследователей, способных, невзирая на
осуждение и непонимание специалистами, да и значительную
предубежденность в отношении объекта их исследования,
увидеть закономерности создания и функционирования
суржика (и пьес Леся, в которых суржик столь широко
представлен), а также понять феномен их популярности.
489
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Перевод с украинского тут и далее автора статьи. Для приводимых
в пример отдельных слов, когда при условии весьма близкого значения
форма слова в украинском и русском языках практически не отличается,
перевод не указывается. При цитировании украинского оригинала
перевод на русский дается в сносках. В украинском тексте курсивом выделены
приводимые в качестве примера слова.
2 Эта и другие статьи о Подервъянском, а также интервью с ним
цитируются по электронным вариантам, интернет-ссылки на которые
даются по Списку сокращений. Огромная благодарность создателям проекта
«Цікаві досліди» (www.doslidy.kiev.ua) за собранные материалы о
Подервъянском.
3 Интересные опыты.
4 Герой нашего времени.
5 Митець — многозначное украинское слово, которое может
переводиться и как «художник», и как «творец», и как «деятель искусства». Все
эти значения в равной степени применимы к Лесю Подервъянскому.
6 Купаться или не купаться.
7 Девять кубов для пробитых уже совсем, / Еще три я эльфам отдал
пацаватым, / Семь — для гномов, забацанных в шахте, / Тьфу, блядь,
один только себе и остался...
8 Начинается драка. Маги лупят друг друга током, мутузят ногами и
плюются. Наконец Саруман попадает седобородому в дыхалку, пиздит
фолиантом по затылку и топчет ногами. Когда тот окончательно падает,
Саруман задирает халат и писает Гэндальфу в ухо.
Саруман. Теперь ты не Серый, а Засцанец! (Хохочет.) Читай
классику, блядь!
9 <...> обосцал меня на охоте, / Когда я крепко спал. Подлою рукой /
Он в ухо направил грязный хуй. / И скосопиздила мое прекрасное тело /
Смертельная гангрена.
10 См.: Харченко. Вазмездіе: Ролева комп'ютерна ігра: Сценарій (http://
samvydav.net/index.php?lang=u&material_id=15958&theme_id=
3418&page=mateial).
11 См.: ДМБ-2001, або ОРУЖИЄ ВОЗМЄЗДІЯ (http^www/ medun.
info/news/viewnews. cgi?id=EpkuyyFkllNiXqkuGs). 22.10.2001. Автор
неизвестен.
12 Сороміцький — стыдный, непристойный, похабный.
13 Піхва —влагалище.
14 Генерал Власов — «...фашистский оборотень и тайный агент Кана-
риса» (Подерв'янсьский 2001е: 134).
15 Я грешно жил, ебался с женщинами, / Втрое меня старше...
16 Николай Островский — «слепой пророк храма Аполлона»
(Подерв'янсьский 2001е: 134).
17 Грустно смотрю на наше поколенье, / Жлобов невоспитанных!
Деньги им дороже / Святого храма! Мамоне, а не Богу / Возносят эти
хуи свои молитвы!
18 Семейка блядская, заебали в пень!
490
19 С ф и н к с, кровожадная, подлая и похотливая мифологическая тварь,
с когтями, крыльями, сиськами и пиздой.
20 Гамлет пиздит всех палкой. Пиздячит герб с медведем, потом
заливает шампанское в рояль и шпроты запускает туда же. И по роялю пиздит
палкой. Рояль гудит.
21 Призрак <...> пидарасов с детства не любя, / Их посылал на
химию ебошить / На благо Родины.
22 Климакс. Не фраер я, а Климакс змееносный!
Климакс — вестник богов, которого автор пьесы описывает
следующим образом: «<...> нечто среднее между Бэтменом, Медузой-Горгоной и
дельтапланом. Сказать, что он страшный, — это не сказать ничего. Когда
он говорит, у него из рта вырывается огонь. Он весь обмотан змеями»
(Подерв'янський 2001е: 156).
23 «Дело в том, что я принадлежу поколению так называемой
"алкогольной культуры". Теперь больше курят марихуану. Пить я начал с 13 лет,
причем довольно крепкие напитки. Чем раньше начинаешь пить, тем
быстрее адаптируешься к алкоголю. И теперь люблю всласть выпить с
друзьями, но к творчеству это не имеет никакого отношения» (Харченко 2002).
24 Те, кто говорит, что это слово заимствовано из украинского языка,
заблуждаются. В украинском языке нет такого слова, как и слов с таким
корнем.
25 А может, там пацанчики сидят, студенты-первокурсники красивые?
26 — А шо, торговка тетка была?
— Ну да, с сумками. А деньги у ней в лифчике оказались.
Семен, когда захочет, говорит на прекрасном украинском языке, а
также при желании — по-испански и на еще нескольких малоизвестных в
Украине языках. Но ему так неинтересно.
27 Проблеме языковой ситуации в Украине посвящена, в частности,
работа: Масенко 1999.
28 Климакс, вестник богов, насылаемый на Суку и Блядь.
29 Чёрт, трансцедентная сила в виде рогатогоупиздня в ватнике,
ватных штанах и кирзовых сапогах. Бессмертен.
30 Далее до конца статьи, кроме указанных отдельно случаев, цитаты
даются по изд.: Подерв'янський 2001.
31 Озорник!
32 Действие второе. На сцене стоит рояль «Стенвей», на нем лежат
шпроты. Посреди сцены стоит кацапское кресло, лишенное
художественного вкуса. Над всем этим герб висит национальный, на гербе
изображен медведь. В одной руке у медведя молоток, а в другой — балалайка.
Это символизирует трудолюбие и незакомплексованность твари. На
кресле сидит Маргарита, мать Гамлета, и вышивает воротник косоворотки.
Она напевает «Комарики».
33 Клавдий. О мой Призрак! Никакой хуйни / Не делаем мы — ко
всем жидомасонам / Испытываем злобу и ненависть / И каждый день
национальные гимны / На балалайке хором исполняем.
34 Призрак. Ага, падлюки! Всем снять штаны / И стать раком, счас
пиздец вам будет, / Сливайте воду, ёбаные масоны, / Или как вас там?
35 Гамлет. Как остопиздило купаться мне! / А может, искупаться?
Купаться / Или не купаться? Вопросы блядские эти / Заёбывают.
491
36 Обращение к матери, как и к отцу на «Вы», по наблюдениям
социолингвистов, остается в речи даже после того, как человек во всех сферах
своего общения полностью переходит на русский язык.
37 Гамлет. Вы, папа, там призраком уже совсем заебались, пиздите
такое, что и за неделю не просцать.
38 Клавдий. Гораздо меньше стало пидорасов, / Ебошат все они, как
папа Карло, / На химии в Черкассах, / Лесбиянки все на Соловках.
39Призрак. <...> Мести жажду! / Увидеть эту падаль на параше, за
игрой в петуха с небритым убийцей <...>.
40 Гамлет. <...> могила... <...>. / На ней — грязная Офелия вонючая /
И кучка маргариток, а под ней / Лежит тот фраер, что любил купаться.
41 Гамлет. Пойти бы выпить в баре шампанского, / Потому что во
рту будто коты понасцыкали, / И неосознанно хочется лизать /
Шершавым языком горячие зубы <...>.
42 Призрак, страшное чудо, старательно прикрытое замызганной в
грязищу и сукровицу простыней.
43 Гамлет. Простуда, геморрой, чиряк на сраке, / Заплеванный пол,
врачи, / От шприца гематома и могила... На ней грязная Офелия
вонючая / И кучка маргариток, а под ней / Лежит тот фраер, что любил
купаться. / Такие варианты ебал я в рот и в нос!
Гамлет харкает в море и пиздячит его палкой.
44 Клавдий мерзко чавкает, изображая вкусный нехуевый «Тузик».
45 Призрак. Вот, смотри, испугался, ебаный сцикун! / Он обосцал
меня на охоте, / Когда я крепко спал. Подлою рукою / Он в ухо
направил грязный хуй, / И спосопиздила мое прекрасное тело / Смертельная
гангрена. Мести жажду! / Увидеть эту падаль на параше, / За игрою в
петуха с небритым убийцей, / Или в конторе сраным инженером, / Или
в юрте раком на полу, / Татары чтоб его ебал и в сраку!
Гамлет. Нельзя мстить. Должны мы любить / Всех пидорасов,
воров, убийц, / Ведь каждый из них — народ, все — богоносцы.
Призрак (иронически): Так, может быть, ты и мяса не ешь?
Гамлет. Не, не ем я мяса принципиально. / Я только выпить
иногда люблю, / Ведь мы народ широкий и гостеприимный, / И выпить мы
можем до хуя, / Намного больше других инородцев, / Жидов и басурман.
46 Гамлет. <...> Я уже вам сказал, / Что мстить не могу, потому что
все люди — / Это братья на земле, кроме жидов, / Татар, масонов,
негров, белорусов, / Которых я ненавижу. В целом же, / Я гуманист — не
то что Вы, папаша!
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Ганжа 2000 — Гапжа Леся. Лесь Подерв'янський: Та який же Гамлет
українець? // День. [Начало декабря 2000 г.]. (http://www.doslidy.kiev.ua/
articles.php).
Забужко 1998 — Забужко Оксана. Польові дослідження з українського
сексу. К.: Факт, 1998. - 116 с. (http://www.lib.ru/SU/UKRAINA/ZA-
BUZHKO/ukr—sex—ukr.txt). Русский перевод: Забужко О. Полевые
исследования украинского секса. М.: Независимая газета, 2001. 208 с. (отрывок
492
можно найти в Интернете по адресу: http://magazines.russ.ru/druzh-
Ьа/1998/3zabushko.html).
Клех 2001 — Клех Игорь. Книга киевлянина Леся Подервянского
«Герой нашого часу» как лингвистический факт (http://www.russ.ru/krug/
20011010-klex.html - публикация от 10 окт. 2001 г.).
Кривенко 2002 — Кривенко Олександр. Естет на барикаді // Столичные
новости. № 42 (238). 5-11.11.2002. (http://cn.com.ua/N238/culture/
anniversary/anniversary.html).
Лапінський 2001 — Латиський Ігор. Шо не ясно? // Подерв'ьянский
Лесь. Герой нашого часу. Львів: Кальварія, 2001. С 5—9.
Масенко 1999 — Масенко Лариса. Мова і політика. К.: Соняшник, 1999.
100 с. (http://www.vesna.org.ua/txt/masenkol/movpol/).
Пиркало 2002 — Пиркало Світлана. Зелена Маргарита: Молодіжний
роман. К.: Джерела-М, 2002. 288 с
Подерв'янський 2001а — Подере 'янський Лесь. Васіліса Єгоровна і му-
жичкі // Подерв'янський Лесь. Герой нашого часу. Львів:
Кальварія, 2001. С 91-96.
Подерв'янський 20016 — Подерв'янський Лесь. Гамлєт, або Феномен
датського кацапізму. Трагедія // Подерв'янський Лесь. Герой нашого
часу. Львів: Кальварія, 2001. С. 13-21.
Подерв'янський 200ІВ — Подере янський Лесь. Кацапи (присвячується
національному питанню*) // Подерв'янський Лесь. Герой нашого часу.
Львів: Кальварія, 2001. С 43-47.
Подерв'янський 2001г — Подере янський Лесь. Нірвана, або Альзо шпрех
Заратустра // Подерв'янський Лесь. Герой нашого часу. Львів: Кальварія,
2001. С 116-122.
Подерв'янський 2001 д — Подерв'янський Лесь. Остановісь, мгновенье,
ти прекрасно!.. // Подерв'янський Лесь. Герой нашого часу. Львів:
Кальварія, 2001. С 110-115.
Подерв'янський 2001е — Подере янський Лесь. Павлік Морозов: Епічна
трагедія // Подерв'янський Лесь. Герой нашого часу. Львів: Кальварія,
2001. С 131-161.
Слышкин 2000 — Слышкин Г.Г. От текста к символу: Лингвокультур-
ные концепты прецедетных текстов в сознании и дискурсе. М.: Academia,
2000.-128 с.
Ставицька 2001 — Ставицька Леся. Кровозмісне дитя двомовності //
Критика. 2001. № 10 (http://krytyka.kiev.ua./articles/s7-10-200. html).
Харченко 2002 — Харченко Олександра. Лесь Подерв'янський: Моєю
мовою говорять і продавці на базарі, і народні депутати // Високий
Замок. Київ-Львів. 02.11.2002.
Химик 2000 — Химик В.В. Поэтика низкого, или Просторечие как
культурный феномен. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2000. 272 с.
Хоменко 1998 — Хоменко Наталия. Хреновая слава Леся
Подервянского // Сегодня. 1998. № 156.
* Посвящается национальному вопросу.
М.И. Назаренко
НАРЕЧИЕ НА «Н» ИЗ ПЯТИ БУКВ,
ОТВЕЧАЮЩЕЕ НА ВОПРОС «КУДА?»
Функционирование обсценной лексики
в романе Бориса Штерна «Эфиоп»
Главное и драгоценнейшее свойство
искусства — его искренность.
Лев Толстой о матерщине («Эфиоп», ч. 7, гл. 7)
1
Роман киевского писателя Бориса Штерна «Эфиоп,
или Последний из КГБ» (см.: Штерн 1997)1 был встречен
двумя-тремя вялыми рецензиями, удостоился разноса в
«Новом мире» и остался в общем-то не понят.
Присуждение премии Бориса Стругацкого «Бронзовая улитка» за
лучший фантастический роман года в его судьбе ничего не
изменило.
Как это обычно и бывает, только смерть писателя,
последовавшая в 1998 году, заставила многих перечитать
роман; и маятник оценок качнулся в обратную сторону.
Теперь уже можно прочитать о том, что «целая
Литературная Эпоха <...> началась с «Мастера и Маргариты»
Михаила Булгакова и закончилась «Эфиопом» Бориса
Штерна» (Б. Сидюк, см.: Штерн 2002/3: 654). Тем не менее этот
интереснейший для исследователя роман —
«блистательное поражение», говоря словами Фолкнера, — до сих пор
не анализировался филологами. Смысл «Эфиопа»,
насколько нам известно, становился предметом рассмотрения
только в двух публикациях: энциклопедической заметке
автора этих строк (см.: Назаренко 2000) и эссеистической
рецензии А. Шмалько (2002) на «Собрание сочинений»
Штерна. Очевидно, что обе эти работы уже в силу жанро-
494
вых ограничений не могли содержать комплексного
анализа романа.
Поскольку «Эфиоп» остается сравнительно
малоизвестным, позволим себе вкратце изложить его фабулу,
насколько это вообще возможно.
Исходной точкой событий является описанный в
эпилоге романа день 2 июля 1904 года, когда после тяжелой и
продолжительной болезни умер не Чехов, а Горький.
Отсюда берет начало водоворот параллельных и
пересекающихся реальностей, в которых бродят герои книги (к
примеру, в 1920-х годах обитают не только Чехов и генсек
Киров, но и Лев Толстой, Булат Окуджава, Джанни Рода-
ри и другие персоны, населяющие массовое сознание
советского человека).
«Одна из линий романа, — рассказывал автор незадолго
до выхода «Эфиопа», — история арапа Петра Великого,
только наоборот. Во время Гражданской войны
украинского хлопчика Сашка Гайдамаку вывозит из Крыма
французский шкипер, негр. Спасает хлопчику жизнь,
доставляет его в Эфиопию и дарит тамошнему императору. Цель —
генетический эксперимент: в четвертом поколении
вывести из хлопчика африканского Пушкина. Сашка запускают
в императорский гарем, где он трудится не за страх, а за
совесть. <...> это не совсем Эфиопия. Страна, в которую
попал хлопчик, называется Офйр» (Штерн 2002/3: 648).
Параллельная сюжетная линия (ее главы чередуются с
«офйрскими») посвящена похмельным мытарствам
Сашка Гайдамаки в позднезастойном СССР; благодаря
переходам из одной реальности в другую герой постарел не так
сильно, как можно было бы предположить, —лет на 20—30.
Кульминацией этой линии оказывается многочасовой,
плавно переходящий в пьянку допрос в Одесском КГБ,
цель которого ни Гайдамаке, ни читателю не понятна до
последних страниц.
Завершается роман катарсичным, мистическим,
символическим отлетом героев на Луну — в Офир — в Эдем —
Домой — «к Богу в Душу Мать».
Даже из этого краткого и поверхностного пересказа
понятно, что конструирование смысла «Эфиопа» есть в такой
же степени дело читателя, как и писателя. Различные
планы повествования, как будто вовсе несовместимые, надле-
495
жит привести в систему, проследить развитие главных
тем и, наконец, осмыслить финал, который, видимо,
вообще не поддается однозначной интерпретации.
Неудивительно, что получившиеся конструкты
разительно не схожи. Для А. Василевского (см.: Василевский
1997: 215—217) «Эфиоп» — не более, чем грубая,
многословная и бессмысленная поделка. Для И. Кручика, автора
«стихотворений Сашка Гайдамаки», включенных в текст, —
книга о «талантливом и шустром, несколько недообразованном
Пушкине <19>20-х годов, — негре, украинце и русском в
одном флаконе», «герое с таким вот самосознанием —
противоречивым, чувственным и немного мессианским»2. Для
А. Шмалько (2002) «Эфиоп» — «роман-реквием, памятник
ушедшей молодости, уходящей жизни».
Настоящая статья не претендует на сколько-нибудь
полное описание поэтики «Эфиопа». Нас интересует только
тот аспект, который заявлен в подзаголовке: бытование
нецензурной лексики в тексте. Мы надеемся, что этот
анализ позволит лучше понять смысл и особенности
построения романа.
Ранее мы показали, что «Эфиоп» хорошо укладывается
в классическое бахтинское определение мениппеи (см.:
Назаренко 2000:140—141). Речь идет, разумеется, не только о
«навязчивом фаллоцентризме» романа, столь
раздражившем московского критика (см.: Василевский 1997: 215), но
о константах художественного мироздания книги:
карнавальной логике смены верха и низа (и, соответственно,
внимании к телесному низу), «органическом сочетании
<...> свободной фантастики, символики и — иногда — мис-
тическо-религиозного элемента с крайним и грубым (с
нашей точки зрения) трущобным натурализмом» (Бахтин
1979: 132); наконец — и это сейчас представляет для нас
наибольший интерес — активном использовании
«неуместного слова», «неуместном или по своей цинической
откровенности, или по профанирующему разоблачению
священного, или по резкому нарушению этикета» (Там же:
135)\
Таким «неуместным словом» — табуированным, но
широко употребляемым во внешней реальности, а в мире
романа вполне допустимым, хотя и обращающим на себя
внимание, — как раз и является обсценная лексика.
496
Пожалуй, наиболее ярким и характерным примером
«неуместности» является сцена на севастопольской
набережной: Врангель, выслушав хлопчика Сашка Гайдамаку,
которому всё равно, что петь: частушки про батька Махна
или «Интернационал», — оборачивается к своему
спутнику, «тощему.человеку с изможденным лицом», и говорит:
«Voila, Boulate Chalvovitch, c'est votre romantisme fangeux
de la guerre civile! [Вот она, Булат Шалвович, ваша
блядская романтика Гражданской войны (фр.)]» (I, 9)4.
«Неуместность» обсценной лексики как будто снижается
употреблением французского языка (ср.: «Хоть и обругали
байстрюком, зато культурно, по-французски, — bastarde» (I,
12)), но само соединение личностей Врангеля, Окуджавы,
словосочетания «романтика Гражданской войны» и
эпитета, которым оно сопровождается, создает ситуацию
предельной «неуместности», в которой собственно
нецензурное слово — лишь один из элементов.
По внутренней логике романа, неявной причиной
легализации нецензурных выражений является тяготение его
главных героев к Офиру — стране, где «вся природа <...>
стояла, находилась в эректированном состоянии» (IV, 14) и
сняты многие табу на сексуальную жизнь, обычные для
европейской культуры. Последнее обстоятельство, впрочем,
не исключает наличия неписаных норм: общественное
мнение осуждает местную принцессу, которая «"razblaydovalas"
[Легко (легкомысленно) себя повела (интернац.)] сверх
всякой меры и до потери всяких приличий» (IV, 5). Так же
и «дофенизм» (официальное офирское учение) строго
регламентирует — правда, не с этической, а с эстетической
точки зрения — употребление обсценной лексики (V, 5).
Офир, таким образом, оказывается некой анти-тер-
риторией, на которой допустимо и даже приветствуется
анти-поведение (ср.: Успенский 1996: 67; Жельвис 2001:
36—37), карнавальной утопией на лоне сексуализирован-
ной природы, поэтому нас не должно удивлять, что,
согласно всё той же карнавальной логике, ругательство
«(vsyo) ро houyam» («интернациональный
труднопереводимый фразеологизм, означающий крайнее презрение к
окружающей действительности» (I, 2)) оказывается
«высшим, древнейшим и почетнейшим титулом в Офире» —
«Pohouyam» (I, 3).
497
Но, как это обычно бывает, приложение изначально
данной схемы к конкретному материалу обедняет текст
или, во всяком случае, не объясняет всех его
особенностей. «Эфиоп» как мениппея жанрово подобен «Москве —
Петушкам» (сопоставление Петушков с Офиром увело бы
нас слишком далеко от темы). Матерщина как форма
антиповедения в высшей степени свойственна Веничке, но
функции обсценной лексики, (квази)эвфемизмов и
многозначительных отточий в поэме Ерофеева и романе
Штерна, как правило, различны.
Нельзя объяснить особенности лингвистической
организации «Эфиопа» тем, что автор просто воспроизводил
языковую практику (узус). Любой художественный текст, хотя и
опирается на традиционное словоупотребление,
трансформирует его, и с тем большим правом это можно сказать: (1)
о произведениях фантасмагорических, к которым
относится роман Штерна, и (2) о произведениях, в которых
воспроизводится и/или обыгрывается табуированная лексика.
Итак, рассмотрим функционирование в «Эфиопе»
системы «так называемой ненормативной лексики» (I, 11).
2
Прежде всего обращает на себя внимание
сравнительно незначительный процент инвектив в романе.
Немногие примеры матерной ругани вложены в уста
деятелей культуры и искусства: «вологодский dolboyob [дубина
(офир.)]» (Эльдар Рязанов — III, 2), «все критики — merde
[govno (фр.)], я не слушаю критиков», «всякие
литературные moudacki» (Хемингуэй — VII, 5). Более
распространены бытовые оскорбления типа «Пошел вон, жидовская
морда!» (I, 4) или «Заткнись, сука!» (V, 11), которые, во-
первых, не являются матерными в собственном смысле
слова и, во-вторых, произносятся автоматически, почти
бессознательно и, в общем-то, без особого желания
оскорбить, что специально оговорено автором («Нет, он
[Гайдамака. — М.Н.] не был антисемитом в прямом смысле
слова, но с тяжелого похмелья пробормотал первое
простейшее оскорбление, которое пришло ему в голову» — (I, 4)).
При этом Штерн редко упускает случай обыграть иронию
498
ситуации: так, «жидовской мордой» оказывается не кто
иной, как Христос, гуляющий по водам Финского залива,
что служит поводом для долгой дискуссии о Его еврейском
происхождении.
Значимое исключение из правила — монолог батька Мах-
на, который отправляет на казнь попа, отца Павла: «Я всё
чую! Ишь, паразит, разъелся! Агитатор сучий! Порядок ему
в России! Ну, водолаз (почему "водолаз", никто не понял),
пугаешь нас пеклом на том свете, так полезай в него на этом!
Жириновский! Где Жириновский?! В топку его, хрена пат-
латогоі» (1,12). Несмотря на бессмертие отца Павла в
параллельных реальностях и фарсовую фигуру «матроса
Жириновского» , эпизод в целом серьезен и даже страшен — так же
как симметричная ему в структуре романа сцена казни
Муссолини. Отсюда и некомическая, агрессивная тирада Мах-
на, которая, впрочем, выполняет роль не столько
инвективы, сколько подбадривания самого себя и своих хлопцев.
Псевдоинвектива «Ah ty, eobtvoyumat'b!» в романе не
означает ничего, кроме выражения крайнего удивления
(«Моргалыч (...) заморгал глазами, развел руками и
произнес всего три слова»). Главное же, что это понимает и тот,
на кого она направлена: «Наполеон, говорят, сказал своим
приближенным из свиты на чистейшем русском языке: "Не
обижайте этого русского старика, он безопасен"» (VII, 2).
Такое распространенное в тексте выражение, как «Ыбена-
мать» (о странной орфографии см. п. 5 нашей статьи), не
употребляется ни в чей адрес, кроме разве что
забарахлившего компьютера (V, 8), да итальянский посол в тексте
«антифашистской песни» назван «ыбанным козлом» (VII,
11)— употребление ненормативной лексики во многом
является у Штерна прерогативой именно поэтического
текста, и пословица «из песни слова не выбросишь» (II, 20) не
раз встречается в романе.
Слово, которое было оскорбительным в устах
Хемингуэя, в другом контексте может значительно смягчаться
(«Moudack ты [Олух, дурак (интерн.)]» (II, 20)) и даже
приобретать положительные коннотации с шутливым
оттенком (через отсылку к культовой фигуре Луки Мудище-
ва). Ср. также: «А ты hu ne ho? — в шутку спросил отец
Павло» (II, 4). «— Ну <...>. / — ...гну, — беззлобно выругался
майор <...>» (V, 4).
499
Отметим, что инвективы, как правило, не вызывают
одобрения у героев «Эфиопа»: «Вот только матерился
Эльдар чрезмерно— "допросы тут на работе, хрен вашей
маме, бля!"» (VI, 11). Или же:
«— Maximilian Volochin [Максимильян Волошин (фр.)],
русский поэт Серебряного века, — так представился он. —
Вот, суки, посадили за то, что я их суками обозвал. Diables!
[Черти, дьяволы (фр.)]
— Зачем же вы их так некультурно обозвали}
— Представляете, из-за Пушкина!» (III, 5) — что,
по-видимому, должно служить достаточным оправданием.
Впрочем, укоризны, как и брань, зачастую носят в
«Эфиопе» шутливый характер: «— Не ругайся, Люся, — усмехнулся
Гайдамака» (VIII, 14).
Единственная форма инвективы, которая
воспринимается как однозначно допустимая, хотя и не
предназначенная для девичьего слуха (VII, 16) и, разумеется,
непечатная, — это «(пошел ты) na h...». «Послать па h... плохого или
глупого человека — за милую душу», — поясняет Лев
Толстой (VII, 7). Это связано и с «фаллоцентризмом» текста5,
и с особым положением, которое занимает посылание «НА-
ХУЙ» (VII, 15) в композиции романа, о чем см. ниже п. 6.
Промежуточное положение между инвективой и
ругательством-номинацией занимают определения, подобные
следующему: «Он очень-очень хитрожопый еврей. Я не
антисемит, но я не люблю хитрожопых евреев» (Хемингуэй
о Фрейде — VII, 5).
Итак, у Штерна обсценная лексика практически
НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ОДНУ ИЗ ОСНОВНЫХ СВОИХ СОЦИАЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ — МАТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РУГАТЕЛЬСТВОМ.
3
Гораздо более распространено «терминологическое
("техническое") употребление» (Левин 1998: 809)
нецензурных выражений, номинация как таковая. Если
вспомнить известный афоризм, герои «Эфиопа» не ругаются
матом, они на нем говорят.
Уже на первых страницах Штерн ошарашивает
скромного читателя оборотами типа «vsyo ро houyam» (I, 2) и
500
теоретически обосновывает свои лексические вольности
(1,11). Поэтому когда в дальнейшем обеденная лексика
используется взамен нейтральной (насколько таковая
вообще возможна в данных ситуациях), она воспринимается не
как эпатаж, но как наиболее точная и даже
безэквивалентная форма выражения.
Несколько примеров: Махно «оправился в дощатой,
донельзя обосранной уборной за вокзалом», «отскреб об
подножку вагона прилипшее говно с хромового сапога» (I,
12); «Сашко лупил генсека по жопе березовым веником»
(IV, 9); и т. п.
Наиболее яркий случай:
«— Сидеть! — тихо приказала графиня. — Иначе взорву
здесь все к долбаной матери!
— К какой-какой матери? — не понял комиссар.
— К ебаной матери! — более доходчиво пояснила графиня»
(V, 14).
В большинстве случаев подобные слова и выражения
записываются латиницей: «помчалась на blyadki» (II, 11),
«этого сладострастногоyobar'a [производителя (офир.)]»
(II, 14) — далее (п. 5) мы покажем, для чего писателю
нужна такая двойная запись. Предельным случаем
непереводимости на общеупотребительный язык является
название возбуждающего средства «eboun-трава» (II, 14):
непристойный дериват становится частью ботанической
номенклатуры и в качестве таковой не подлежит замене в
принципе.
Безэквивалентность выражений подчеркивается и
самим автором: «Сейчас Муссолини был толстожопым (sik!6
слова не выбросить) итальянским бюрократическим
шкафом, Махно — маленьким украинским сраным (тоже не
выбросишь) потертым веником» (V, 7).
Семантические оттенки различий между «zjhop'oft» и
«задницей» в тексте редко конкретизируются, но
осознаются — постоянно. «<...> регент Фитаурари еще не
обладал высшим титулом», поэтому не имел права
употреблять по отношению к себе царское «мы» (даже в
выражении «наша задница»). Это «было бы верным признаком
мании величия или даже узурпации власти, если бы не
всеснижающая ироническая "жопа"» в другой его
сентенции («Волка кормят ноги, философа кормит жопа»(Ѵ,
501
1)). «Жопа», таким образом, это одновременно: десеман-
тизированное ругательство; наиболее точное
обозначение соответствующей части тела (возможен инвектив-
ный оттенок: «жирная жопа пана Щербицкого» (V, 6));
«всеснижающий» термин, содержащий имплицитную
самоиронию, — и даже более того.
«Недавно на вопрос американского корреспондента
Хемингуэя: "О чем вы сегодня будете говорить в
парламенте?", Бенито похлопал себя по заднице и ответил:
«Сегодня моя zjhopa будет разговаривать со скамейкой» («В
переводе это означало, что сегодня он выступать не будет, —
объяснил Хемингуэй, — хотя настоящий, уважающий себя
дофенист знает цену крепкого словца и таким весомым
классическим непечатным словом, как zjhopa,
разбрасываться не станет».) (V, 5).
Оставим в стороне оксюморон напечатанного
«классического непечатного слова» и обратим внимание на
ограничения в его употреблении, которые установлены «до-
фенистами». Муссолини как главный враг Эфиопии и
Офира не имеет права использовать офирское словцо
(офирец — это, естественно, не национальность, а
состояние души: в конце концов, «все белые — негры» (VII,
3), а нецензурные выражения Штерн столь же часто
обозначает «интерн.», как и «офир.»7). Однако главнейший
принцип, не сформулированный прямо, но очевидный, —
это уместность «неуместного» (вспомним бахтинский
термин) слова. Его произнесение, в частности, становится
залогом победы романного Льва Толстого в боксерском
матче с романным Хемингуэем.
«— <...> Жопа должна сидеть на стуле и никуда не бегать —
вот главный секрет писательства. Волка кормят ноги,
писателя кормит жопа. [Умозаключение вполне офирское — ср.
приведенные выше слова Фитаурари. — М.Н.]
После этих слов Hertrouda Stein без согласования с
Эрнесто выбросила на ринг вафельное полотенце.
— Все вы — потерянное поколение, — сказала Гертруда
Стайн» (VII, 7).
В контексте романа Толстой — не только более
сильный писатель (и, соответственно, боксер — метафора
заимствована из того же Хемингуэя), но и прирожденный
офирянин по духу, в то время как Эрнесто только осваива-
502
ет принципы дофенизма. Или, если подойти с другой
стороны, Толстой как великий писатель и офирянин
совершенно точно знает, когда и какие слова следует
использовать. Ср. затруднения заморского гостя: «— Я хочу тебя...
любить, — с запинкой сказал Гамилькар за спиной
графини. <...> Гамилькар засомневался, правильно ли он
употребил последнее слово на "л", — возможно, следовало
употребить другое русское слово — то самое слово, на «ы», как
учил его СкворцовТумилев8, но он, кажется, правильно
выбрал именно это слово, на "л"» (I, 20). Замена одного
русского глагола другим не осуществлена, но возможность
ее постулируется.
На метауровне (а «Эфиоп» испещрен метаописаниями
и автокомментариями) уместность непечатных слов
оборачивается следованием художественной правде, о чем и
говорит штерновский Лев Толстой в эпизоде поединка со
штерновским Хэмом: «То же самое и с ненормативной
лексикой <...>. Когда после Бородинского отступления
Кутузов говорит, что «французы будут у меня говно жрать»,
я не могу в целях ложно понимаемой художественности
заменить это слово на какое-нибудь другое — например, на
французское "merde", или на русское "дерьмо", или на
украинское "гімно", или на аптекарское "кал"; но с целью
ненарушения художественной правды оставляю это грязное
русское слово в том виде, в каком оно было произнесено
Кутузовым после Бородинского сражения» (VII, 7).
Неудивительно, что, когда несколько позже Штерн
наконец-то впервые в романе записывает выражение «па
h...» полностью и кириллицей, он объясняет это «целями
высшей художественной правды» и еще раз цитирует
Толстого — на этот раз знаменитые слова о Правде из
«Севастопольских рассказов» (VII, 16).
Нам представляется, что именно речевая практика
Толстого была определяющей для Штерна при выборе
лексических средств «Эфиопа». Вспомним точное
замечание Максима Горького: «Он произнес это слово
["соленое мужицкое". — М.Н.] так просто, как будто не знает
достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова,
исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно,
теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь» («Лев
Толстой», раздел XX)9.
503
«Простое», «терминологическое» звучание об-
сценной лексики у штерна должно вывести ее из
разряда непристойностей.
Ср.: «— Значит, вы начиняли снаряды? <...> Чем?
— Говном, — ответила графиня по-русски.
— Как? — не понял комиссар. — А, ну да. Нехорошо-с.
Графиня, а позволяете себе осквернять рот.
— Нисколько» (V, 11).
В подтверждение этого комиссар далее несколько раз
чуть было не срывается, называя начинку бомб не иначе
как «го... навоз». Правда жизни и правда языка
оказываются сильнее «ложно понимаемой художественности» и
ложно понимаемой пристойности.
4
Как мы отметили, заветное слово «НАХУИ» прямо
произносится ближе к финалу романа (VII, 15). До этого автор,
говоря его собственными словами, так или иначе «кавычит
и многоточит» подобные выражения (VIII, 17). К примеру:
«— Семэн! /—А? /— ... на! Де моі чоботи, Семэн?»10 (II, 9).
«— Ну <...>. /— ...гну, — беззлобно выругался майор <...>» (V,
4). Есть халву, по мнению маленького Сашка, так же
сладко, «каке я» (II, 14). «Большевики пытались добраться
до основных капиталов "Фонда"11 — но "...уюшки!" —
ответил им Михаил Чехов» (VIII, 15). Чаще всего отточия
встречаются в частушках типа «Как на улице Морской / меня
...бнули доской. [Из песни слова не выбросишь. {Примеч.
автора.)]» (II, 20) и т. п.
(Авто)цензурные многоточия встречаются только в
словах, записанных кириллицей (единственное исключение —
«na h...», о чем см. в п. 6), — и чаще всего в стихотворных
или квазистихотворных текстах («Ну —... гну»), где
подмена невозможна, а латиница выглядела бы особенно нелепо.
Принцип «слова не выбросишь» переносится, как мы
видели ранее, со стихотворного текста на прозаический,
а неназывание рифмующегося слова обыгрывается на
сюжетном уровне:
«— Как, еще одна бомба? — ухмыльнулся комиссар. —
Позвольте спросить: где?
504
— Где-где... — отвечала графиня по-русски.
— Переведите! — приказал комиссар следователю Ну-
разбекову, хотя уже сам догадался где.
Нуразбеков что-то шепнул комиссару на ухо.
— Врет! Не может быть! — заорал комиссар. —
Технически невозможно!» (V, 14).
Тем не менее — возможно, и графиня-террористка,
сдвинув бедра, взрывает комиссариат.
В этом эпизоде Штерн доводит до логического предела
тот парадокс, о котором применительно к текстологии
писал Б.А. Успенский: «В академических изданиях <...>
количество точек в многоточии, замещающем то или иное
непристойное слово, точно соответствует числу букв
этого слова; таким образом, издание фактически рассчитано
на искушенного читателя, достаточно хорошо
подготовленного в данной области. Это характерная черта —
издатели, в сущности, не стремятся скрыть от читателя
соответствующие слова, но не хотят их назвать» (Успенский
1996: 68 (выделено автором)).
Так же и Штерн делает вид, что не хочет называть табуи-
рованные слова, однако читатель восстанавливает их без
малейшего усилия, поскольку они или очевидны из
контекста, или рифмуются; при чтении эпизода с припрятанной
бомбой знание непристойного слова и поговорки «где-
где — в пизде»12 необходимо просто для понимания того,
что происходит. Ср. тот же прием в описательных
оборотах: «осмелилась встать в нескромную позу известного
речного членистоногого», «делала ему то, что по-французски
рифмуется с танцем "менуэт" [менуэт (фр.)]» (II, 11).
Тавтологическое примечание к слову «менуэт» — очередная
издевка автора над читателем («а вы что подумали?..»).
В поэме Ерофеева многоточие могло подразумевать
не конкретное слово, а целое семантическое поле
(классическое: «Ну, конечно, она ! Еще бы она не
!»), — но в каждом случае в «Эфиопе» замена
многоточия на полное слово однозначна и вариантов не
допускает. Единственный случай двойного прочтения
встречаем в приложениях к роману, где указано, что
непереводимое (и совершенно пристойное) украинское
слово «гаплик» «ближе всего соответствует
ненормативному русскому "п....ц" (в смысле "плохой конец")».
505
Многочисленные фонетические замены,
общеизвестные или окказиональные, подобно многоточиям, не
скрывают (и не должны скрывать) ничего: «Сталевары у
мартена / Гребут девок на коленах» (промежуточная глава
между ч. 2 и 3); «— Е-ерш твою двадцать! — нараспев произнес
он, хватаясь за голову. /— Еж твою марш, — согласился
Иван Трясогуз с сочувствием человека, только что
вырвавшегося из лап Конторы» (IV, 8); «Ну велосипед — вуй с
ним!» (III, 2; непосредственно перед этой фразой
упомянут «вуйко» — зап.-укр. «дядя, дядька»). Наиболее
распространено и значимо выражение «эфиоп твою мать»
(название кн. 1 и далее по тексту).
Намеренно-комический эффект производят
педантичные пояснения, которыми время от времени автор
сопровождает свои умолчания, расшифровывая то, что в
расшифровке не нуждается: «Сашко употребил русский
глагол несовершенного вида на "е" и с окончанием на "-ся" —
тот самый глагол, который он часто слышал от взрослых
и который Гамилькар не посмел предложить графине
Л.К.» (II, 14).
Возможен и прием «от обратного»: эвфемизм
приводится только для того, чтобы автор тут же раскрыл, что за
ним кроется: «Благоустрой для начала въезд в Гуляй-град,
чтоб районный фасад был лицом, а не задним местом.
(Сильнее было сказано — Шепилов <...> развязал язык —
задние и другие места так и мелькали.)» (И, 15). «Козел
такий — арештував ні за що, ні про що <...>! (Сильнее было
сказано: "ні за хрін собачий")» (II, 19) и т. п.
Особо следует отметить эвфемизмы, заменяющие не
слово, но ситуацию. Как отмечал Набоков в послесловии
в «Лолите», «всё мужицкое, грубое, сочно-похабное,
выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски».
Тем не менее даже ему не удалось адекватно передать в
переводе некоторые пассажи Гумберта из-за
особенностей русской лексики.
Почти все сексуальные сцены в «Эфиопе» — которые
не назовешь ни порнографическими, ни эротическими —
строятся на нанизывании однотипных метафор
(корабельная пушка и уход за ней (II, 11); дерево и обезьяна на
нем (VIII, 11)). Авторская повествовательная стратегия
проделывает уже знакомый нам путь: отказ от описания/
506
называния «неприличного» —» «необходимость» описа-
*ния/называния —> выбор соответствующих средств. Вот
как этот механизм реализуется в предфинальной сцене:
Тезис: «Автор <...> надеется на понимание
квалифицированного читателя — автор сознательно избегает
упражнений в порнографии и старательно уходит, отползает в
кусты от изображения подробностей какого-нибудь
заурядного полового акта».
Антитезис: «Но этот акт был незаурядный. Как описать
этот божественный акт, который наконец-то привел
Сашка Гайдамаку в состояние человека, осознавшего, в какой
реальности находится?..»
Синтез: «Да уж как-нибудь описать. Придется
описывать словами» (VIII, II)13.
Последующий каскад метафор («Люська обняла этот
ствол — а как еще назвать, что она обняла? — и полезла по
нему, как обезьяна, до самого потолка») прерывается
краткими авторскими комментариями: «Вот такая вот
порнография» (т. е. не порнография) и «Но далее. Шутки в
сторону» — решение «описывать словами» оборачивается
признанием заведомой неадекватности текста.
Вопрос «А как еще назвать?..», конечно, риторический,
уже потому, что в начале романа приведено немалое
количество синонимов и эвфемизмов этого слова
(классический раблезианский перечень): «— Елда, — отвечал
Гумилев, — это болт, дрын, дубина, дьявол, женило, идол,
истукан, кнут, копье, корень, кукурузина, лингам, орудие
производства, подъемный механизм, палка, потенциал, пятая
конечность, ствол — нефритовый, уд, свое хозяйство,
челнок, черт, якорь — поднять якорь! бросить якорь! А вот,
например, такое: шиздоболт» (I, 18).
Эвфемистичность текста противостоит прямому
называнию и сочетается с ним, создавая впечатление, что
заменителем ТАБУИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЕ
СЛОВО. Всего один пример из множества: «В шушенской бане
один крестьянин сказал мне: «А ты, Ильич, помрешь от
Кондрашки», и на мой вопрос "почему?", крестьянин
ответил: "Да шея у тебя больно короткая" [конечно,
крестьянин под шеей подразумевал другой ленинский орган]» (V,
3). Непристойный оттенок приобретают все слова,
записанные латиницей, поскольку большая их часть таковыми
507
и является: «— Баш на баш, господин фалаш. / —
Bachnabach? / — Услуга за услугу» (III, 9); «"bourevestnik revou-
luthii" [предвестник революции], как оценивали его
современники» (VIII, 12).
Так же и многочисленные метафорические ряды
указывают на то, что любой предмет может символизировать
половые органы — в особенности на офирской
территории. «Вся природа в Офире стояла, находилась в эректи-
рованном состоянии. Солнце весь день стояло в зените, а
когда опускалось на отдых, то эректировала Луна и стояла
турецким рогом. Стояла жара. И не падала. Все-все здесь
напоминало графине мужское орудие производства» (IV,
14). Первый секретарь гуляйградского горкома потрясен
тем, что трудящиеся на первомайской демонстрации
составили трехбуквенное слово, «но это слово было не май,
не МАИ... Это был... тихий ужас!». С тех пор «заборное
слово из трех букв стояло в глазах, разные слова
трансформировались в ту самую мудищевскую елду <...> — куда ни
глядел первый секретарь, чудился ему громадный муди-
щевский болт с гайкой» (III, 12).
Подобные пассажи лишь эксплицируют авторский
замысел, который может быть выражен и более тонко. В
числе прочих синонимов слова, которое «не МАИ»,
Гумилев называет и «Кюхельбекер» (I, 18; «Kychelbecher —
большой, очень большой кубок для вина или пива (нем.)» (I,
б)). Бахчисарайский фонтан — вернее, бахчисарайская
водонапорная колонка, подсунутая Гамилькару взамен
фонтана, — напоминает офирцу «какой-то громадный
ребристый пивной Кюхельбекер» (III, 9). Наконец, в описании
«божественного акта» «Бахчисарайским фонтаном»
назван член Гайдамаки (VIII, 11).
Круг замкнут на фаллосе. Этот пансимволизм как будто
должен подтверждать правоту Фрейда, но, как ни странно,
венский психиатр фигурирует в «Эфиопе» как шарлатан и
лжеученый. Романный Фрейд не заслуживает уважения
уже потому, что он — теоретик, в то время как прочие
герои книги — деятельные практики. Но фрейдизм еще и
научно несостоятелен: по мнению Мечникова, «как
лечащий врач Фрейд ni h... не стоит, потому что он большой
дофенист в прямом и в плохом смысле этого слова, то есть
на причины и на лечение всех болезней смотрит исключи-
508
тельно "снизу", с пола, с точки зрения органа между
ногами; его взгляд закован, обзор ограничен, горизонт
придавлен, и поэтому врач не видит дальше собственного
обрезанного, скажем так, носа» (VI, 1).
Впервые мы узнаём, что «дофенизм» (а следовательно,
и пансимволизм) имеет негативную сторону: так Штерн
показывает, что, в отличие от Фрейда, он не сводитвсю
человеческую культуру к проявлениям либидо. Это, помимо
прочего, еще и неспортивно. «Он — дерьмо, — говорит
Хемингуэй о Фрейде. — Или дурак. Или очень умный
хитрован. Он действует ниже пояса. Его интересует всё, что
у человека ниже пояса» (VII, 5). Действовать «ниже пояса»
для боксера Хемингуэя, разумеется, недопустимо.
Таким образом, Штерн утверждает «пансексуаль-
ность» как основную точку зрения в романе и
отрицает ее как единственно возможную.
Правота Фрейда признается всего дважды — причем
именно в тех случаях, когда фрейдизм ни при чем: в
рассказе об эротических рождественских гаданиях (VI, б) и в
ворчании Льва Толстого: «<...> я каждый день слышу о
женских затычках и прокладках, о подтирках, горшках и
унитазах, о всяких сексуальных аксессуарах, которые
напрямую вызывают у меня ассоциации с образами
человеческого низа и зада — тут я полностью согласен с Фрейдом
<...»> (VII, 7).
Тему взаимозаменяемости пристойных и
непристойных слов развивают «"паронимические производные"
соответствующих необсценных слов» (Левин 1998: 819) типа
«хитрожопый» (VII, 5), «выебоины и колдоебины» (II, 15):
поскольку «возможности образования подобных "новых
слов" неограниченные» (Левин 1998: 819), постольку
любое слово может оказаться непристойным, или
трансформироваться в таковое, или зарифмоваться с ним. Ср.: «Бля-
довитый океан» (I, 6), «сосиськи сраны» (<
социалистические страны, имитация брежневского произношения; I,
14), ребенок «от красных-ohouyasn'bix» (II, 20), «coultour-
niy-houytourniy» (III, 5)14.
Система эвфемизмов и метафор в романе
одновременно ПОДДЕРЖИВАЕТ И РАСШАТЫВАЕТ
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ «ПРИСТОЙНОГО» И «НЕПРИСТОЙНОГО» ЧЕРЕЗ
СЕРИЮ ЗАМЕН И ОТОЖДЕСТВЛЕНИЙ.
509
5
Особым видом эвфемизации можно считать
написание русских обеденных слов латинскими буквами. Как
правило, они сопровождаются пометками о
принадлежности к офирскому или «интернациональному» языку и
квазипереводами: dolboyob — «дубина (офир.)» (III, 2);
zasrann'brä — «плохой, плоховатый (интерн.)» (III, 3); «А
on hu ne ho? — по-английски спросил Андропов с
некуртуазным локтевым жестом. [Труднопереводимо.
Приблизительный перевод: "Ишь чего захотел!" (интерн.)]»
(VII, 1). Центральное место среди этих лексем и синтагм
занимает, разумеется, интернациональный
фразеологизм «vsyo ро houyam» (I, 2).
Согласно «официальному» объяснению автора, «в
закрученных спиралями реальностях и в завязанном узлами
генетическом коде "Эфиопа" русский мат занимает свое
естественное скрепляющее место <...> — и без этого
скрепляющего начала закручивание слов и фраз в
окончательную форму романа было бы невозможно»; однако
писатель «щадил слух и зрение русского читателя и (там, где
это было возможно) писал подобные лексы латинскими
литерами» (I, 11).
Это графическое решение имело несколько
последствий для текста.
Штерн явно играет с традиционными
представлениями о восточнославянском мате как заимствовании из
другого языка (русский якобы произошел из татарского,
украинский — из русского). В «Эфиопе» этот постулат
доводится до абсурда: русская нецензурная лексика объявляется
«интернациональной», то есть всеобщей и, в конечном
счете, — опять же русской. При этом переход с латиницы
на кириллицу воспринимается как переход с офирской
(«дофенистской») точки зрения на собственно русскую:
как мы отмечали раньше, «жопа» — прежде всего прямое
наименование, a «zjhhopa» — это концепт.
Латиница действительно «щадит» читателя. Известно,
что иноязычные обсценные выражения легче
воспринимаются и воспроизводятся (см.: Жельвис 2001: 54). Автор
«Эфиопа» создает квазииностранные слова, которые
читатель постепенно перестает мысленно транслитериро-
510
вать и не читает, но просматривает их как некие
иероглифы.
Примерно то же происходит и с выражением «ыбена-
мать», которое всегда записывается кириллицей, но в
непривычной орфографии. Первоначально это всего лишь
странное написание (I, 6), затем — показатель офирского
акцента, с которым Гамилькар читает пушкинскую
«Телегу жизни» («Не ыбенамать, а ебена мать, — меланхолично
поправил Гумилев <...>. — Впрочем, можно и слитно,
можно и через "ы". Это дело можно по-всякому» (I, 6)), и
наконец — общеупотребительный русско-офирский гибрид,
который уже не воспринимается как матерное слово.
Если мат является одним из языков
межнационального общения в «Эфиопе», то вторым, как ни странно,
оказывается украинский, который для племени Гайдамак,
распространившегося по всей Африке, был
«своеобразной латынью или эсперанто» (VII, 1). Это объясняется
едва ли не главной функцией украинского языка в
русской культуре как языка сниженно-ироничного
стороннего восприятия действительности15. Отметим, между
прочим, что использование обсценной лексики
Штерном принципиально отлично от ее употребления таким
известным украинским писателем, как Лесь Подервъян-
ский: в отличие от него, Штерн не подчеркивает
особенности суржика и сравнительно мало его обыгрывает
(соответственно, функционирование русского и
украинского языков в «Эфиопе» принципиально отлично, скажем,
от ситуации «Гамлета, или Феномена датского кацапиз-
ма»).
Взаимная (не)переводимость цензурной и
нецензурной лексики — часть общей проблемы взаимодействия
языков в романе. Поскольку она выходит за пределы
нашей темы, отметим только, что МНОГОЯЗЫЧИЕ ТЕКСТА
ТЕСНЕЙШИМ ОБРАЗОМ СВЯЗАНО СО СНЯТИЕМ
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ «ПРИСТОЙНОГО» И «НЕПРИСТОЙНОГО»
ЛЕКСИЧЕСКИХ ПЛАСТОВ.
Допустимы любые слова,
• так же, как допустимы любые формы естественного
полового поведения (офиряне «были целомудренны в
своих природных вожделениях, потому что не читали
ни Ленина, ни маркиза де Сада» (ГѴ, 1));
511
• как допустимы любые языки общения (обычно они
понятны героям без услуг толмачей16, хотя перевод
«Луки Мудищева» и «Телеги жизни» на офирский
рассматривается как важное занятие);
• точно так же человек может быть «и умным, и
глупым, и полным идиотом, <...> способным совершить
любые поступки: от убийства или самоубийства до
высокого самопожертвования ради ближнего или
случайного для него человека, — пусть только он будет Добрым
Человеком и пусть понимает, что делает» (VIII, 16);
следовательно, и в сфере лексики, и в сфере морали
допустимо всё, но это «всё» ограничено простым, предельно
жестким условием («уместностью» в первом случае и
«добротой» — во втором).
Двойной статус непристойностей — как русских и
иностранных одновременно — делает возможной игру с якобы
межъязыковыми омонимами. Дважды — в начале и в
финале романа — с незначительными вариациями повторяется
один и тот же диалог: «А тебе не ро houyam?» — «Poho-
uyam», — соглашается офирский Pohouyam Гамилькар (I,
12); «Вам все ро houyam, Командир?!» — «Я он и есть.
Pohouyam Гайдамака I» (VIII, 16). Отметим также случай,
когда невинное русское «Кыш!» оборачивается частью
еврейского ругательства «киш мирен тухес»
(промежуточная глава между ч. 2 и 3).
Смысл подобных пассажей раскрывается в одном из
авторских отступлений: Штерн приводит примеры того,
как обычные слова одного языка звучат непристойно для
носителей другого, напоминает, что «подобные звуковые
накладки и кальки в разных языках не редкость» и делает
«филологическое открытие», которое подтверждает
языковую практику «Эфиопа»: «ОКАЗЫВАЕТСЯ, "МАТ" И "НЕ-
НОРМАТ"— ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ» (I, И).
6
Тогда почему же Штерн упорно ставит троеточие в
сочетании «na h...»?17. Этот «посыл» не пишется полностью
даже в тех случаях, когда очевидно, что он внятно произ-
512
несен. Особенно показателен диалог Душана Маковецкого
со Львом Толстым:
«— Лев Николаевич! Ну, "govno "— это еще туда-сюда,
это слово и я могу выговорить, но есть и другие слова...
— Какие же еще слова, Душан Петрович?
— Я затрудняюсь... Разве сможете вы, граф Толстой,
послать человека на три буквы?
— Na h... что ли? Конечно!» (VII, 7).
Ругательство одновременно санкционируется и резко
табуируется. Его не только можно, но и нужно
произносить («Послать na h... плохого или глупого человека — за
милую душу»), — и при этом сам автор не решается его
записать. Посыл, произнесенный не полностью, как будто не
оскорбителен и как будто вообще не произносился. Ср.
эпизод в украинском парламенте: «— Да пошел ты. <...> /— Вы
нарушили депутатскую этику! Вы меня послали. /— Куда?
Я с адресом не определился» (V, 8)18.
Поэтому совершенно прав критик В. Шиловский,
усмотревший в произнесении слова «НАХУИ»
«кульминационный момент романа»19.
Динамика событий такова:
• после пяти с половиной сотен страниц читатель
привыкает воспринимать это выражение как
подразумеваемое, но непечатное в прямом смысле слова;
• по ходу тоста, который майор Нуразбеков
поднимает за авиаконструктора Сидора, следует
предупреждение: «Сидор послал меня на одно слово из пяти букв,
начинающееся на "Н": "А теперь, иди ты, Нураз..." — куда
именно — я потом уточню» (VII, 12);
• название очередной главы содержит описание,
напоминающее вопрос в кроссворде, за которым легко
угадывается ключевое слово: «Наречие на "Н" из пяти
букв, отвечающее на вопрос "куда?"» (VII, 15);
• когда начальство спрашивает у Нуразбекова, куда же
его всё-таки послали, он еще раз предупреждает своих
нынешних слушателей — вернее, слушательницу:
«—Люся, закрой уши <...>. /— Да уж говорите, как было, Нураз
Нуразович, — отвечала Люся <...>. — Я это слово уже
слышала» (VII, 15) — ссылка на узус и подтверждение
абсолютной непристойности выражения одновременно;
513
• и, наконец, слово произносится: «А на меня какой-то
кураж нашел в полтретьего ночи, и я прямым текстом
отвечаю: "НАХУЙ"» (VII, 15).
Срабатывает известный психологический эффект
задержки и оттягивания: напечатанное, весомое и зримое
слово, которое ранее стояло за многоточиями,
производит ошеломляющее впечатление, на которое
рассчитывали и автор, и рассказчик: «Майор Нуразбеков победоносно
оглядел всех присутствующих и повторил нехорошее
наречие на "Н"из пяти букв, отвечающее на вопрос "куда?"»
(VII, 18).
Автор уже приносил в начале романа «извинения — в
особенности пожилым дамам и молоденьким
читательницам (всё же "Эфиоп" — это мужское чтение) за
использование в романе так называемой ненормативной лексики»
(I, 11). Существенно, что после произнесения пятибуквен-
ного наречия эти извинения дублируются («Автор
повторяет свои извинения — в особенности молоденьким
читательницам»20 и т. д.), — существенна и приведенная при
этом аргументация. «Автор как мог щадил слух и зрение
русского читателя» (еще одно подтверждение крайней
непристойности выражения), но «авторское чутье
подсказывает, что в целях высшей художественной правды...» —
читатель ожидает эстетического обоснования, тем более что
Штерн, как мы отмечали, ссылается на практику Льва
Толстого (цитата из «Севастопольских рассказов» как раз
взята эпиграфом к «извинениям автора») — «...наречие из
пяти букв должно было быть произнесено майором Нураз-
бековым громко и ясно, как это и происходит на каждом
шагу на российских улицах, в Конторах, Учреждениях,
Заведениях и Институтах» (VII, 16).
В этом ключ к пониманию функционирования обсцен-
ных выражений в «Эфиопе». Автор, с одной стороны,
постоянно подчеркивает непристойность подобных лексем,
а с другой — столь же настойчиво подчеркивает их
общераспространенность (и очевидность в случае
использования троеточий и эвфемизмов). Если использовать
терминологию Л.С. Выготского, перед нами — две
противоположные психологические линии, которые параллельно
развиваются на всем протяжении текста и наконец в
финале (при окончательной легализации узусом) «в коротком
514
замыкании <...> дают взрыв и уничтожаются» (Выготский
1997:175).
Неудивительно, что после этого пресловутое слово
пишется полностью, кириллицей и без специальных
оговорок. «Громко, отчетливо и слитно — вроде как наречие из
пяти букв, отвечающее на вопрос "куда?" — вперед, наверх,
нахуй, под гору... как в школе учили» (VII, 18).
"Что ответила купчиха? <...> Куда послала? Научитесь
называть вещи своими именами, полковник!"
"Нахуй", — прошептал Акимушкин.
(Эту картинку словами не описать, это надо смотреть и
видеть.)
"Вот теперь понятно, полковник", — отвечает Гетьман»
(VII, 18).
СЛОВО, РАНЕЕ ТАБУИРОВАННОЕ, ОКОНЧАТЕЛЬНО
СТАНОВИТСЯ ПОЛНОПРАВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЯЗЫКА И
КУЛЬТУРЫ.
7
Важнейшим средством легализации обсценных
выражений ЯВЛЯетСЯ ИХ СВЯЗЬ С ТРАДИЦИЕЙ РУССКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Двумя полюсами, между которыми разворачивается
культурное поле «Эфиопа», являются Пушкин и Чехов,
символы дионисийского и аполлонического искусства
(Штерн не употребляет этих терминов). Две
дополнительные фигуры, не менее важные, однако лишенные
символических обертонов, — это Барков и Лев Толстой.
С Барковым всё ясно — его статус основателя похабной
русской литературы незыблем, а этого достаточно, чтобы
в мире «Эфиопа» он был безоговорочным классиком и
Гумилев нес «Луку Мудищева» в дорожном мешке вместе с
Далем и Пушкиным (I, 6).
Пушкин попадает в эту компанию как обладатель «очень
большого и нестандартного Кюхельбекера», «ножек
тоненьких, эротических [Гумилев неточно цитирует Абрама
Терца]» — и, главное, как автор бессмертного стихотворения
«Телега жизни», из которого никакой цензуре не
выбросить слово «ыбенамать» (I, 6). «Ударный стих» этот все ге-
515
рои «Эфиопа» воспринимают с восторгом («Гениально!
Гениально!» (II, 10)); и когда ассистент медицинской
кафедры Киевского университета Мыкола, будущий отец Павло,
проорал его во всю глотку на официальном пушкинском
празднике, даже секретарь по идеологии Кравчук пришел
всего лишь «в некоторое шутливое обалдение». Пушкин
(памятник Пушкину), «видать по всему, тоже был очень
доволен моим выступлением», пушкинисты аплодировали и т. п.
Характерна реакция властей: «Даже Шевченко и Пушкин
не позволяли себе то, что позволяет себе этот...» (II, 10).
Защитить общественный порядок можно, только
сфальсифицировав Пушкина, — в конечном счете этот порядок
защищают именно от неблагонадежного поэта («даже Пушкин»
звучит очень многозначительно). Неявные посылки
«Пушкин — это тот, кто матерился» и «мат — это то, как говорил
Пушкин», соединившись, приводят к
закономерно-парадоксальному результату: «"Маргинал ты, ыбенамать!" — отвечал
ему пушкинским слогом отец Павло <...>» (I, 7).
Отношение русских и офирян к Пушкину, как
известно, трепетно и нежно («куда ни плюнь, кто-нибудь
поминает Пушкина и с завыванием декламирует свои или чужие
стихи» (III, 5)); неудивительно, что «Телега» становится
своего рода интернациональным паролем (III, 5), гимном
и символом веры (VIII, 16). «Телегой жизни» назван и
лунный челнок, уносящий героев в небеса (VIII, 16).
О пристрастии штерновского Льва Толстого к
ненормативной лексике мы не раз говорили выше. Помимо прочего,
он также является членом неофициального клуба
поклонников культовой «Телеги», которую «так любил
декламировать»; «доходя до ключевой фразы, Толстой по-детски
счастливо улыбался и заменял ее энергичным мычанием» (II, 10).
В эпилоге Штерн приводит слова Толстого о Чехове:
«Хороший, милый человек. Когда я матерюсь, он
краснеет, словно барышня» (VIII, 12). Это обстоятельство как
будто ставит Антона Павловича наособицу среди
писателей — героев «Эфиопа». Но ничуть не бывало. В частном
письме Чехов сравнивает Литературу со столом, на
котором можно делать что угодно, даже «заниматься любовью,
если сильно приспичило». «Он всё стерпит. С ним нельзя
делать только одного: на этот стол нельзя... А Владимир
Сорокин на него... Какой из него писатель, да еще модер-
516
нист? Обыкновенный...» «Чехов, — комментирует Штерн, —
употребил слова "срать" и "говнюк". Как видим, Антон
Павлович, когда было надо, не краснел и не стеснялся в
выражениях, советские публикаторы эти слова стыдливо
кавычат и многоточат» (VIII, 17)21.
Ссылкой на четырех прославленных и авторитетных
людей Штерн не ограничивается. Мы узнаём, к примеру,
что «такие исконные слова, как "блядь", "жопа", "срать",
мелькают во всех русских (украинских) былинах и
летописях, начиная с Несторовой» (I, 11). Эстет и арбитр
изящества Ходасевич появляется на страницах «Эфиопа» для
того, чтобы провести семинар для смолянок — иначе
говоря, прочитать фрагменты своей статьи «О порнографии»
(цитаты из нее не только закавычены, но и растворены в
тексте главы (III, 16)), где утверждается близкая Штерну
мысль об относительности понятия непристойного.
Ходасевич задает вопрос о границах приличия — но ответ в
«Эфиопе» не приведен: в постмодернистском тексте
окончательных ответов быть не может. Однако можно не
сомневаться, что Штерн был согласен с выводом: «Все
сюжеты дозволены. Нет дурных сюжетов, есть лишь дурные
цели и дурные приемы» (Ходасевич 1991: 586).
Чувство меры и вкус, свойственные классической
литературе, ОПРАВДЫВАЮТ И ДАЖЕ ОСВЯЩАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
«ненормата» и делают нелепыми призывы властей: «Вот
бы еще культурку поднять на должную высоту и перестать
осквернять язык — и всё будет хорошо» (II, 19). «Культур-
ка» — потому и не Культура, что искусственно ограничена.
Штерн не отрицает «серьезную», «официальную»
КУЛЬТУРУ, НЕ подменяет ее «телесным низом», но
неразрывно ИХ СВЯЗЫВАЕТ. «Если сравнить народ с телом
человеческим — почему бы и не сравнить? — то поэт в этом
теле является чем-то вроде детородного органа: он не
подчиняется разуму и поднимается вперед и вверх, когда ему
заблагорассудится. Без великого поэта великий народ —
кастрат, евнух, импотент» (VI, 12). Телесный низ
возвышается до культуры (простите невольный каламбур), а не
наоборот; фаллический символ становится
культурологическим.
В качестве игры с традицией Штерн допускает
искажения приводимых цитат в сторону меньшей или большей
517
непристойности. В известных строках «Луки Мудищева»
вдруг появляются эвфемизмы («вдова, раздолбана до пупа,
Лука Мудищев без петлиц...» (III, 5)). Обратный пример:
«оргии Пале-Рояля» («Арап Петра Великого») становятся
«сексуальными оргиями» и тут же получают
расшифровку — «Трахались, наверно, будь здоров!» (примечание
полковника южнороссийского жандармского отделения (III,
7)). В цитату из Чапека добавляется сакраментальное «ро
houyam» (промежуточная глава между кн. 1 и 2). Эпиграф
из Савинкова «Бомба ебанула так, что многие москвичи
подумали, что это землетрясение, другие — что рушится
Кремль» (V, 14) сжимает, уточняет и искажает
соответствующий фрагмент «Записок террориста». Ср.: «Взрыв
бомбы произошел приблизительно в 2 часа 45 минут. Он
был слышен в отдаленных частях Москвы. <...> Многие
подумали, что это землетрясение, другие — что рушится
старое здание суда»22. Использованный Штерном глагол
отчасти возвращается к своему первоначальному значению,
если вспомнить, где именно прятала бомбу графиня.
Писатель охотно использует эпиграфы для создания
диалога «верха» и «низа», поддержания того, что можно
назвать напряжением культуры.
Ч. I, гл. 20. Эпиграф: «Если, милая, захотите любить
негра или арапа, то не стесняйтесь, выписывайте себе негра.
Ни в чем себе не отказывайте. А. Чехов. Бабье царство». Текст:
«— Я хочу тебя... любить, — с запинкой сказал Гамилькар за
спиной графини». Очевидно, что имелся в виду другой
глагол, на букву «ы», но офирянин еще недостаточно хорошо
владел стилистическими возможностями русского языка.
Ч. VIII, гл. 9. Эпиграф: «Заблудился я в небе — что
делать. О. Мандельштам». Текст: заблудившегося в лабиринтах
реальности Сашка Гайдамаку приводят в чувство простым
и надежным способом («траханьки»), чтобы он смог
увести всех в небо.
И, наконец, финал: ч. VIII, гл. 16. Эпиграф: «Бери
шинель. / Пошли домой. Б. Окуджава». Текст:
«—Ура, Командир!
— Всё ро houyam, Командир?
Гайдамака улыбнулся и промолчал. Ему в самом деле
было всё ро houyam. Ему так хотелось домой!»
И все взлетают к Луне, горланя «Пошел, ыбена мать!».
518
Мы имеем дело с двумя культурными кодами. «Все ро
houyam» и «Пошел, ыбена мать» — это то же самое, что и
«Бери шинель. Пошли домой», но высказан этот смысл на
другом языке. Перекодировка тут двойная: поэзия
«переводится» на обеденный язык, который тут же оказывается
поэзией — цитатой из Пушкина. Так в финале романа
Штерн еще раз подтверждает ЕДИНСТВО
СТИЛИСТИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПЛАСТОВ, КОТОРЫЕ КАЖУТСЯ
ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ И НЕСЛИЯННЫМИ.
Двойственность — ОСНОВНОЙ структурный принцип
«Эфиопа». Разворачиваются две параллельные
сюжетные линии; матерное выражение становится высшим
титулом; Фрейд прав и не прав; отлет на Луну знаменует то
ли спасение страны, то ли ее гибель; мат оказывается не
бранью, нецензурная лексика — безэквивалентной;
эвфемизмы и многоточия ничего не скрывают;
непристойность снимается узусом; нелитературные выражения
входят в поэтический язык; внекультурный слой
является неотъемлемой частью Большой Культуры. Наконец,
двойственно само название: «Эфиоп, или Последний из
КГБ» (причем ни Абрам Ганнибал, ни Пушкин, ни Га-
милькар — не эфиопы; они офиряне, а Сашко
Гайдамака — вообще украинец); подзаголовок книги отрицается
автором в предисловии23.
В эпилоге романа приведено наблюдение Бунина: Чехов
(умерший и не умерший 2 июля 1904 года) иногда отрицал
всякую возможность жизни после смерти, а иногда
говорил о ней как о несомненном факте. «Чехов вроде бы
допускал возможность двух противоположных решений», —
комментирует Штерн (VIII, 12). «ЭФИОП» ТОЖЕ
ДОПУСКАЕТ «ВОЗМОЖНОСТЬ ДВУХ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ РЕШЕНИЙ»
ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ — ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ НЕЦЕНЗУРНОЙ
ЛЕКСИКИ ДО БЫТИЯ БОЖЬЕГО (писатель называл себя
«неубежденным атеистом, сомневающимся неверующим»
(Штерн 2002/1: 554)). И бессмысленное ругательство
становится почти символом веры:
«Они поднимались на Луну на волнах и крыльях любви
к Богу в Душу Мать.
А что еще оставалось?» (VIII, 16)24.
Несмотря на кажущуюся аморфность, «Эфиоп» жестко
организован на всех уровнях, от лексического до фило-
519
софского, и рассмотрение даже одного, частного аспекта
романа позволяет сделать выводы, касающиеся его
структуры в целом.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 По техническим причинам в первоиздании «Эфиопа» был утерян
многозначительный подзаголовок, восстановленный только в Собрании
сочинений 2002 года: «Фаллическо-фантастический роман из жизней
замечательных людей».
2 http://www.lito.spb.ru/archive/poet/Kruchik.html.
3 Автор «Достоевского» и «Рабле» ни разу не упоминается у Штерна,
хотя бахтинская терминология используется в романе: «образы
человеческого низа и зада» (VII, 7). «Эфиоп» «работает» с культовыми
фигурами массовой культуры (включая Пушкина, Толстого,Чехова и Окуджаву) —
Бахтин к таковым не относится.
4 Цитаты из романа приводятся по первому изданию: Штерн 1997 с
указанием части и главы. В квадратных скобках — примечания Б.
Штерна. Курсив и разрядка наши, за исключением специально оговоренных
случаев. Косая черта в цитатах означает абзац.
5 Ср. в качестве типологической параллели «Остров посланных на...»
в романе Юрия Коваля «Суер-Выер» (1993—1996).
6 Так!
7 Ср. в повести Штерна «Записки динозавра» (1990): «Вы же знаете,
что люди делятся на марсиан и немарсиан. Первых очень и очень мало»
(Штерн 2002/3: 372 (гл. 40)). Понятие «марсианин» подразумевает
интеллектуальную и простую человеческую порядочность и, в отличие от
понятия «офирянин», не содержит явных сексуальных коннотаций.
8 Т. е. глагол с тем же корнем, что и «ыбенамать».
9 Штерн, несомненно, помнил очерк Горького: цитата из него
приведена в дискуссии о еврейском происхождении Христа (I, 14).
10 «Где мои сапоги, Семен?» (укр.).
11 Имеется в виду «Фонд Чехова».
12 Слово, обозначающее женский половой орган, ни разу в тексте
романа не записано латиницей. Заменяется оно только многоточием
(вариант «п....» не встречается, за исключением «п....ц») или
фонетическим эвфемизмом «звезда» (см. также перечень синонимов в: I, 18).
Связано ли это с «фаллоцентризмом» романа или со сравнительно
большей непристойностью табуируемого слова? Кажется, вероятнее
первое: ведь женский род от титула «Pohouyam» образовать
невозможно (V, 1).
13 Ср. в другом эпизоде: «А ты формулируй, пробуй, пытайся!
Расставляй слова — как получится, можно и с матом» (VIII, 3).
14 Подобная рифмовка часто выполняет функцию вербальной
агрессии: «— По рукам? — переспросил босоногий. / — Po houyam, —
прохрипел Мыкола» (I, 12). Муссолини накануне казни: «— Мы полетим
самолетом? — спросил он. / — Хуелетом, — вставил колдун по-русски» (VIII, 4).
520
«Хуелет» в данном случае — не только бессмысленный неологизм, но и
предвестье лунного челнока на фаллической тяге, который в финале
унесет героев на небеса.
15 Современное украинское литературоведение включает эту
функцию в комплекс так называемой «котляревщины», которая отнюдь не
всегда оценивается положительно (см.: Грабович 2003).
16 Ср.: «<...> одни из них (офирян. — М.Н.) скорее иудеи, чем
христиане, другие скорее мусульмане, чем иудеи, а третьим вообще все ро
houyam. /— Я понял! Можешь не переводить это слово! — воскликнул
дож» (промежуточная глава между кн. 1 и 2). «— Чому не розмовляешь на
мові? /—А ты что, по-русски не понимаешь? Тогда пригласи
переводчика. / За такие ответы били в морду и лишали звания гайдамаки» (VII, 1).
17 Единственный случай написания «nahouy»: ГѴ, 2. Арестованный
врангелевской контрразведкой Лех Валенса, в одной камере с которым
оказался офирянин Гамилькар, «стал доцарапывать <...> свое граффити:
A POCHLIVY VSE NA» — но тут Гамилькара, с чьей точки зрения
показаны события, уводят на допрос, и граффити остается недописанным или,
во всяком случае, недопрочитанным (III, 5).
18 Цит. по: Штерн 2002/2: 344—345. В первом издании этого диалога
не было.
^http^lib.ru/SCIFICT/FREELANCER/Shtern.txt.
20 Трудно не заметить в этих словах перифразу «Уведомления
автора» из поэмы «Москва — Петушки»: «<...> я предупреждал всех девушек, что
главу "Серп и Молот — Карачарово" следует пропустить не читая,
поскольку <...> во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за
исключением фразы "И немедленно выпил". Добросовестным
уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки,
сразу хватались за главу "Серп и Молот — Карачарово" <...>»
(сакраментальная фраза «И немедленно выпил» цитируется в «Эфиопе» (IV, 6)).
Впрочем, извинения перед невинными читательницами — регулярный
элемент текстов «не для дам».
21 Штерну, видимо, остались неизвестны полные тексты писем
Чехова с описаниями его сексуальных похождений на Дальнем Востоке,
но многочисленные купюры, сделанные в академическом Собрании
сочинений, должны были показаться автору «Эфиопа»
подозрительными.
22 Игра с цитатами не обязательно связана с использованием обсцен-
ной лексики. Читатель, к примеру, должен догадаться, что большая часть
французских выражений заимствована из «Войны и мира», и вспомнить,
в каком контексте их произносят герои Толстого. Встречается и ложная
атрибуция: эпиграф к I, 3 приписан Черчиллю, хотя на самом деле это
слова Честертона. Впрочем, интертекстуальность «Эфиопа» — особая
тема.
23 «Что такое "Эфиоп"? Это не "фаллическо-фантастический роман из
жизней замечательных людей", как он определен в подзаголовке для
привлечения внимания неискушенного читателя, — хотя обмана в
подзаголовке нет» (I, 8).
24 Ср. «икотное» доказательство бытия Божьего в поэме Ерофеева.
521
СПИСОК СОКРАЩЕНИИ
Бахтин 1979 — Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.:
Советская Россия, 1979.
Василевский 1997 — Василевский А. Он нашелся // Новый мир. 1997.
№11. С. 211-217.
Выготский 1997 — Выготский Л. С. Психология искусства. М.:
Лабиринт, 1997.
Грабович 2003 — Грабовий Г. Семантика котляревщини // Грабович Г.
До історії української літератури. К.: Критика, 2003. С. 291—305.
Жельвис 2001 — Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как
социальная проблема в языках и культурах мира. М.: Ладомир, 2001.
Левин 1998 — Левин Ю.И. Об обеденных выражениях русского
языка // Левин Ю.И. Избранные труды: Поэтика. Семиотика. М.: Школа
«Языки русской культуры», 1998. С. 809—819.
Назаренко 2000 — Назаренко М. Штерн Борис Гедальевич //
Фантасты современной Украины: Справочник / Под ред. И.В. Черного.
Харьков: Мир детства, 2000. С. 135—142; http:/fandom.rusf.ru/about_fan/
fukr/enc31.htm.
Успенский 1996 — Успенский Б. А. Мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии. // Успенский Б.А. Избранные труды. М.:
Школа «Языки русской культуры», 1996. Т. 2. С. 67—161.
Ходасевич 1991 — Ходасевич В.Ф. О порнографии // Ходасевич В.Ф.
Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991.
С. 583-587.
Шмалько 2002 — Шмалько А. Памятник, или Три элегии о
Борисе Штерне // Порог. 2002. № 12; http://valentinov.fantastika.org/stati/
shtern.html.
Штерн 1997 - Штерн Б.Г. Эфиоп. М.: ACT; СПб.: Terra Fantastica,
1997.
Штерн 2002 — Штерн Б.Г. [Собрание сочинений: В 3 т.] М.: ACT;
Донецк: Сталкер, 2002. [Т. 1:] Приключения инспектора Бел Амора; [Т. 2:]
Эфиоп; [Т. 3:] Сказки Змея Горыныча.
A.A. Улюра
ВОСПРИЯТИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ:
ЭВФЕМИЗМЫ В МЕМУАРАХ
А.Е. ЛАБЗИНОЙ
«Доктор, а зачем Вы такие пошлые картинки рисуете?»
Из анекдота
В популярном романе Антонии Байетт «Обладать» два
героя — современные исследователи-филологи, —
рассуждая о специфике рецепции культуры века минувшего XX
веком, отмечают, что в период «после Фрейда»
воспринимать мир вне контекста/подтекста основного инстинкта
сложно, а то и просто невозможно. «Наверное, в каждую
эпоху существуют какие-то истины, против которых
человеку данной эпохи спорить бессмысленно <...> Мы, хотим
того или нет, живем под сенью фрейдовских открытий,
фрейдовских истин»1. И таким закономерным сегодня
представляется то, что в умелых руках пушкиноведа Олега
Проскурина дышащее любовью перо Ленского и
сказочные деяния золотого петушка приобретают очевидную
барковскую (или скорее барковианскую) основу2, а
изначально недобрая эпиграмма Е.А. Баратынского,
ультимативно указывающая женщинам-авторам на их
узурпирующую роль в литературном процессе *, предлагает,
оказывается, еще и альтернативу столь неженскому писательскому
труду в заведомо женском, видимо, занятии3. И вопрос не
в том, что выводы, к которым приходит исследователь,
вооружившись секс-центрированной теорией, ложны, а в
том, что прочтение художественного классического
текста через призму человеческой сексуальности и телесной
* Не трогайте парнасского пера, / Не трогайте, пригожие
вострушки! / Красавицам не много в нем добра, / И им Амур другие дал игрушки
(БаратынскийЕ.А. Полное собрание стихотворений. Л., 1989. С. 135).
523
детерминанты методологически обосновано, логично и,
более того, привычно современному читателю.
Сложнее обстоит дело с жанром, в котором чтение
между строк становится едва ли не единственно возможным
способом анализа текста. Речь идет о мемуарной
литературе и, прежде всего, жанре женской автобиографии, для
изучения которой предлагают, например, введение
понятия «перформативное письмо», понимая под ним то, что
женщины говорят о себе через других. Самораскрытие
женской идентичности оказывается признающим
реальное существование других сознаний, а презентация
женской самости неразрывно связана с идентификацией
некоего «другого». «Это признание других сознаний
(одобрение в большей степени, чем обозначение различий), —
замечает исследовательница женских автотекстов Мэри
Мейсон, — это обоснование самоотождествления через
отношение к избранным другим, кажется, дает право
женщинам писать открыто о самих себе»4. Зачастую в
автодокументальной литературе мы имеем дело с «уходом» текста
в подтекст, а вместе с тем и в надтекст, то есть в ту часть
текста, которая выстроена непосредственно на
читательской рецепции. Вероятно, помимо прочего, именно это
имела в виду Л. Гинзбург, когда говорила о том, что,
«много занимаясь мемуарами, убедилась: чем талантливее
мемуарист, тем больше он врет»5. Недосказанность, умолчания,
экивоки, намеки, обиняки формируют жанровую и
стилистическую специфику мемуарных сочинений, анализ
которой позволяет глубже проникнуть и непосредственно в
проблему идентификации и идентичности (национальной,
тендерной, сексуальной, социальной etc.) автогероя. В ряду
недосказанностей и иносказаний свое почетное место
занимают и эвфемизмы как своеобразный материальный
носитель утаенных (сознательно или нет) идей и оценок.
Как известно, эвфемизм представляет собой
стилистически нейтральное слово или выражение, употребляемое
вместо синонимичной языковой единицы, которая
представляется говорящему/пишущему неприличной или
грубой. Употребление эвфемизма позволяет модифицировать
речь в зависимости от условий общения, при
необходимости скрывать или вуалировать свои намерения, избегать
коммуникативных конфликтов. Один из кавалеров Ордена
524
куртуазных маньеристов Александр Скиба довольно емко
вывел определение понятия «эвфемизм» в своих стихах:
Термин «эвфемизм» обозначает
Стилистический прием такой —
Фразу, что вульгарный смысл смягчает,
Как, к примеру, восклицанье «ой!».
В силу своей оценочной функции эвфемизмы
оказываются крайне чувствительными к изменению
общественной морали и смыслового наполнения понятия
«приличие». С оценочными свойствами подобного рода тропов
связана и временная неустойчивость их статуса: нередко
удачное эвфемистическое наименование через некоторое
время требует корректировки и, возможно, даже
эвфемистической замены *. «То, что кажется эвфемизмом на
одном этапе развития общества, — отмечает Л .П. Крысин, —
перестает им быть на следующем, превращаясь в средство,
которое, с точки зрения большинства носителей данного
языка, именует объект слишком прямо»6. В историческом
плане изменчивость статуса эвфемизма оборачивается
необходимостью дешифровки языковых единиц,
призванных завуалировать при номинации суть явления.
И вот на этом-то этапе несоответствие авторской
позиции и «постфрейдистской» читательской рецепции,
не в последнюю очередь вызванное к жизни динамикой
концептосфер, становится очевидным и особо
значимым. Недаром именно на проблеме этого соотношения
построена весьма скандальная в свое время теория
соответствия порнографии и непристойности в культуре,
предлежащая Д.Г. Лоуренсу и маркирующая как
порнографическое именно то, что подлежит недосказанности
и индивидуальной ежечасной интерпретации
воспринимающего. «Вся проблема порнографии, как мне кажется,
сводится к фигуре умолчания, — пишет Лоуренс. — Была
бы гласность — не стало бы порнографии»7. И, читая, на-
* Такова, например, судьба славянского (укр., рус, белорус, болг.,
пол.) слова «курва». Примечательно в этом ключе призванное
эпатировать публику название пьесы польского модерниста С. Вицкевича «Kurka
wodna», возвращающее слову «курва» первоначальное значение
«курица» и одновременно выступающее эвфемистической заменой бранному
«kurwa».
525
пример, в мемуарах венецианца Казановы о
«вырвавшемся на волю удовольствии» или «несомненных знаках
вернувшейся нежности», обращая внимание на
характеристику одного из персонажей как «большого друга женщин»8,
мы, зная прижизненную, а главное — мемуаризированную
славу известного авантюриста, невольно становимся
рисовальщиками пошлых картинок.
Впрочем, в этом случае в роли сомнительного
посредника выступают еще и особенности перевода. Обратимся
поэтому к русскоязычному мемуарному тексту, не слишком
распространенному и принадлежащему перу не слишком
известного автора. Так сказать, для чистоты эксперимента.
Это записки конца XVIII — начала XIX века,
«собственноручно писанные» Анной Евдокимовной Лабзиной (в
девичестве — Яковлевой, в первом браке — Карамышевой).
Необходимо отметить, что произведение Лабзиной
составляет в комплекте русской женской мемуаристики Нового
времени скорее исключение, чем типичное явление.
Записки этой дамы, не принадлежавшей, как другие мемуаристки
XVIII века, к высшему свету, — это некий женский аналог
знаменитых журналов А.Т. Болотова, воспоминания
представительницы среднего дворянского сословия. Но для
исследователя они не представляют большого историко-фак-
тического интереса. Историк, по словам Ю.М. Лотмана,
«не увидит здесь подробной, объективной картины мира.
Здесь он найдет глаза, которые на этот мир смотрят»9. Лаб-
зина отражает свою внутреннюю жизнь, останавливаясь
преимущественно на воссоздании своих переживаний,
рассуждений, разговоров по тому или иному поводу,
пренебрегая описанием внешней жизни, историческими фактами и
реалиями. Большая часть записок Лабзиной повествует о
первом браке сочинительницы, ставшем испытанием ее
нравственности и религиозной стойкости. Разница в
миропонимании и мироощущении, перепад в уровне
образования, готовность людей новой формации, к каковым,
безусловно, принадлежит и муж героини, осмеять традиции,
которые для других, россиян «старомосковской закваски»,
были святыней, — всё это, типичное для России ХѴІП века,
не могло обойтись без столкновений, порой достаточно
болезненных, вне которых не осталась и сфера семейной
жизни. Правоту своей нравственной позиции в этом спо-
526
ре Лабзина подчеркивает самой формой своих
воспоминаний, избрав для этого каноническую житийную модель,
подразумевающую наличие символизации и дидактизма
как принципов построения художественного образа.
Агиографическая модель мемуаров Лабзиной, на что указывает
Ю.М. Лотман, выделяет ее сочинение из ряда женских
мемуаров: «<...> свои мемуары она пишет сознательно как
исповедь святой души в поучение душам, вспекующим
спасение», и оттого «она сурова и нетерпима»10.
В этом «приятном во всех отношениях» тексте нас
будут интересовать прежде всего пограничные (в
экзистенциалистском значении этого слова) фрагменты,
связанные с системой сексуального воспитания автогероини:
наставления матери перед свадьбой, брачная ночь,
отношение к адюльтеру, беседы о вреде романов и пользе
любовных связей и тому подобное. Выбор подобных
текстовых фрагментов для анализа обусловлен в первую очередь
наиболее частотными сферами человеческой
деятельности с позиции эвфемизации речи. Во-первых, это
некоторые «неприличные» физиологические процессы и
состояния, во-вторых, части тела, связанные с идеей телесного
низа и, наконец, сексуальные (в широком смысле этого
слова) отношения. Очевидно, что названные
тематические блоки мемуаров будут наиболее чувствительными к
процессу появления в тексте эвфемизмов и разного рода
иносказаний. Недаром Г. Пауль в качестве первопричины
эвфемизации речи обозначал «чувство стыда», которое
заставляет говорящего избегать обозначения вещей «их
собственными именами» и пользоваться «косвенными
обозначениями»11.
Записки Лабзиной, как никакие другие мемуары того
времени, поражают обилием прямой речи. Все герои
«правого крыла» много и активно излагают свои
религиозно-дидактические взгляды на мир, отличающиеся
абсолютной, порой дословной тождественностью.
Сочинительница как бы ставит пред читателем спектакль своей
жизни в духе средневекового моралите, величественно
распределяя между исполнителями жесты и монологи,
отражая в своих героях только то, что интересно и
необходимо ей для наставления непросветленного читателя.
Закономерно, что в подобном тексте умолчанию и ино-
527
сказанию будут подвергаться именно «низовые» темы,
хотя собственно они и составляют основное содержание
мемуаров*. Тут бы в самый раз воспользоваться
наставлениями И.С. Баркова из полумифической «Девичьей
игрушки»: «<...> для чего ж, ежели подьячие говорят
открыто о взятках, лихоимцы <—> о ростах, пьяницы <—> о
попойках, забияки <—> о драках, без чего обойтись можно,
не говорить нам о вещах необходимых»12. Однако в связи
с комплексом социокультурных, психологических, жан-
рово-литературных и собственно языковых причин Лаб-
зина предпочитает не прислушиваться к совету,
наверное, известного ей как представительнице своего
времени популярного виршетворца.
Показательно, что при характеристике интимной
жизни россиянок XVIII века известный «женский» историк
Н.Л. Пушкарева, говоря о том, что «все воспитатели — от
матерей и нянек до гувернанток и надзирательниц в
пансионах — старались выработать в девочках и девушках
своеобразное отношение к чувственной любви как "любви
скотской"»13, обращается в поисках достаточно живописной
метафоры именно к мемуарам Лабзиной. «Скотская
любовь»14, «мерзость» (с. 40, 68, 82, 83), «скотство и грех
перед Богом» (с. 77), «непозволенная любовь» (с. 15, 99),
«порочная любовь» (с. 24) в противовес «любови тихой и
непостыдной» (с. 55) — едва ли не самые распространенные
эвфемистические замены из области сексуальных
отношений в «Описании жизни одной благородной женщины»
(именно так выглядел начальный вариант названия запи-
* Впрочем, нельзя не отметить еще одну частотную сферу активного
возникновения эвфемизмов в сочинении Лабзиной. Речь идет о смерти.
Вариации на эту тему в записках более чем многообразны: «я осталась без
отца» (с. 1), «смерть похитила сего благодетельного отца» (с. 2), «я
близок к концу» (с. 2), «надо приготовиться в путь» (с. 11), «приближалась к
гробу» (с. 15), «отнял Господь ее» (с. 16), «она близка к гробу» (с. 19),
«приближаюсь к вечности» (с. 23), «кончила жизнь» (с. 23), «я так скоро
ее потеряла» (с. 30), «она нас оставила» (с. 31), «оставила сей свет» (с. 38)
и т. п. При этом мемуаристка практически не использует в тексте
непосредственно слова «умереть», «умирать», «мертвый», «смерть».
Очевидно, что причины эвфемизации слов, связанных с темой смерти, по
своей природе восходят к первобытно-мифическому сознанию, смыкаясь с
понятием «табу». Вероятно, такова же причина их возникновения и в
анализируемых записках.
528
сок). Максима о том, что «я не знаю скотской любви, и
Боже меня спаси и знать ее! — а я хочу любить чистой и
непостыдной любовью» (с. 69) наряду с «мне даны правила,
как мне поступать, и от них я никогда не отступлю» (с. 16)
и составляет лейтмотив этого сочинения.
В полном соответствии со своей агиографической
задачей анализируемый текст включает два борющихся,
исконно антагонистичных начала. Одно — развратник,
соблазняющий невинную душу на неправедные поступки —
ипостась классического злодея-искусителя. Муж
мемуаристки ведет с молодой женой просветительские беседы о
том, «что ты называешь грехом, то есть наслаждение
натуральное» (с. 78), входящие в разработанную им систему
сексуального воспитания, неоднократно рекомендует
скучающей в одиночестве супруге завести любовника, являя
собой в этом деле достойный образец для подражания.
Второй смысловой фокус мемуаров направлен на саму
Лабзину и чистую душу праведной мученицы,
шествующей сквозь душевные страдания по пути добродетели.
Между этими двумя полюсами поделена и оценочная
лексика. Закономерно, что при описании тождественных
жизненных ситуаций на мужнину долю в записках
приходятся реалии «порочной жизни» в прямом своем
именовании: «шум, крик, брань, питье, сквернословие; даже
драки бывали» (с. 60), «деньги <...> прожиты на карты и
девок» (с. 61), «с девками бывает собрание и там наняты
бани на целое лето, где все вместе веселятся» (с. 65), «он
не мог пристраститься к одной: ему всё равно было:
красавица ли или безобразная, лишь бы была женщина» (с. 88),
участь супруги же оказывается щедро пересыпанной
эвфемистическими элементами по типу «но ежели ты
споткнешься и войдешь в порок» (с. 58).
Эвфемизирует свою речь Лабзина, во-первых, при
помощи слов-определителей с так называемой диффузной
семантикой (напр.: «ас некоторыми мыслями отсылала.»
(с. 10), «что-нибудь неприятное для тебя же самой» (с. 54),
«предложения самые мерзкие и постыдные» (с. 68), «Он
не осмеливался мне виду какого-нибудь неблагопристойного
сделать» (с. 69), «Карты — его страсть и другой порок— не
лучше карт» (с. 57), «ввели его во всякие распутства»
(с. 70)), во-вторых, прибегая к номинации с достаточно
529
общим смыслом, которая между тем используется для
называния конкретных явлений и предметов («сия
церемония продолжалась пять верст» (с. 32), «дома не
постыдиться иметь эту для тебя неприятность [имеется в виду
любовница мужа. — А.У.]» (с. 58), «леты мои таковы, что
об этом мне и думать нельзя» (с. 16), «ты еще не знаешь
тех великих обязанностей, которые ты должна иметь к мужу,
то я тебя научу!» (с. 23), «ты всегда моя жена и друг, а это
[адюльтер. — А.У.] — только для препровождения
времени и удовольствия» (с. 77)), в-третьих, при помощи более
или менее распространенных метафор («расставлять
сети для добродетели» (с. 72), «человек должен быть
готов на всякие кресты» (с. 28), «исполнять свои похоти»
(с. 90), «меня чтоб сохранил от падения» (с. 100), «в
худых обществах» (с. 2), «ни с каким мужчиной не быть в
тесной дружбе» (с. 48)) и, наконец, употребляя
разнородные галантные жаргонизмы («любимая племянница»
(с. 16, 23), «по сердцу друг» (с. 68), «дружеское позволение
наслаждаться жизнью и всеми ее утехами» (с. 100),
«нашла вас в приятном снес Верой Алек.» (с. 27), «имеете все
случаи ей доставить невинные удовольствия» (с. 66), «я
сейчас иду к ней и ночь там проведу приятнее» (с. 40)).
Примеры эвфемизмов последней группы наиболее
любопытны для характеристики Лабзиной как
носительницы русского «дворянского» языка конца XVIII века и Лаб-
зиной-мемуаристки. Прежде всего привлекает внимание
специфика употребления словосочетания «любимая
племянница» в значении «любовница» * («Когда расходились
спать, то ночью приходила к нам его племянница и
ложилась с нами спать. А ежели ей покажется тесно или для
других каких причин, которые я тогда не понимала, меня
отправляли спать на канапе» (с. 36)), а также особенность
лексического наполнения в отдельных фрагментах текста слов
«молодость» и «радость». «Не имей в молодости своей
тесного обхождения с мужчиной» (с. 21), — советует мать
«новорожденной» тринадцатилетней супруге, наставляя ее в
* О степени распространенности употребления слова «племянница»
в этом значении свидетельствует, помимо прочего, довольно обширный
цикл скабрезных анекдотов о Григории Потемкине и его любимых
племянницах.
530
делах семейных. Однако невинная на первый взгляд
рекомендация приобретает иной оттенок, если принять во
внимание тот факт, что при других появлениях в тексте
слово «молодость» (равно как и «юность») выступает
эвфемистической заменой «девственности», послебрачным
сохранением которой были озабочены мать и свекровь
автогероини. Например, «ее молодость будет сохранена от
всего» (с. 19), «дать ей хоть сколько-нибудь пожить с
оставшейся юностью» (с. 30) и тому подобное. Примерно такая же
ситуация складывается с эвфемистическим наполнением
слова «радость», превращая в свете «уточнения»
концепта в художественном мире записок («Но могу ли я иметь
совершенное удовольствие? Без тебя же не называются
удовольствия радостями, когда разделять не могу с милым
человеком» (с. 68)) законные сетования обойденной
вниманием жены — «не с кем делить мне моих радостей» (с. 67) —
в упреки неудовлетворенной своей сексуальной жизнью
женщины.
Показательно объединение в одном фрагменте записок
почти всех используемых Лабзиной видов эвфемизмов:
«Тут они многое увидели, как он ходил к девкам и всякие
мерзости делал и никому не спускал— ни бабам, ни девкам,
которые его часто толкали и называли самыми
неприятными именами; но ему не стыдно было» (с. 83). И вполне
предсказуемо, что именно на этот отрывок приходится самый,
пожалуй, длительный и высокий в психологическом
плане всплеск раздражения автогероини в адрес погрязшего
в пороках мужа. Так и едва ли не единожды
использованные приемы конкретного умолчания и отточий
припадают на иктовые моменты повествования. Ворвавшемуся во
время короткого примирения супругов в их спальню Нар-
тову, которого автогероиня с завидной регулярностью
обвиняет в развращении мужа, заявляют: «Не забыли ль вы,
куда пришли, по вашей привычке, ходя по спальным, где
вам не запрещают» (с. 70), тактично умолчав (большей
мерой за ненадобностью уточнения для «просвещенного»
читателя), что именно не запрещают подвыпившим
гулякам в других спальнях. Единственный же пример отточия
в записках связан с кульминационным и одновременно
финальным эпизодом воспоминаний: пьяный Карамышев
уютно устраивается на брачном ложе с девкой, заставляя
531
жену наблюдать сцены мужниных утех, а затем
выставляет строптивицу полуодетой на мороз. «Меня согнал с
постели, положил <...> с собой, а мне не велел выходить из
спальни» (с. 105), —пишет Лабзина. Маловероятно, чтобы
за троеточием скрывалось имя какой-либо реальной
особы, так как употребление имен собственных для мемуаров
Лабзиной скорее исключение, чем правило, и персонажи
записок оказываются поименованными вроде
«племянника», «благодетеля», «матушки». Вероятно, троеточие
должно скрывать не имя любовницы, а иное, «неуместное» (в
бахтинском значении понятия) слово.
Очевидно, что Лабзина воспринимает ситуацию
описания телесной любви как более чем уместную для эвфемиза-
ции. Однако индивидуальная стыдливость мемуаристки,
как и ее желание (осознанное или нет, но типичное для
формирования автогероя ego-жанров) предстать перед
читателем в более выгодном свете (в описанном случае — в
роли святой страстотерпицы), подразумевает
непосредственное отражение социальных и культурных норм
пристойности. Бесспорно, автобиография — это, помимо
всего прочего, один из способов самопознания, основанный
на своеобразной интерпретации жизни. «Перечитывая»
свою жизнь, сочинитель наделяет всё случившееся с ним
особым смыслом, оно становится как бы частью
невидимого плана. «Автор мемуаров, — замечает по этому поводу
Л. Гинзбург, — всегда является своего рода
положительным героем. Ведь всё изображенное оценивается с его
точки зрения, и он должен иметь право на суд и оценку»15.
Однако культурные запреты, проявляющиеся в тексте
Лабзиной в виде эвфемизмов, мотивируются как эстетически
(красиво или некрасиво) и этически (нравственно или
безнравственно), так и со ссылками на этикетность поведения
(прилично или непристойно). И в конечном счете все эти
процессы оказываются в прямой зависимости от позиции
автора как носителя культуры, в ту или иную пользу
оценивающей соотношение «низа» и «верха». Безусловно, чем
более неприличным предстает тело, тем больше
препятствий в именовании его отправлений. Лабзина — отнюдь
не «модная жена» конца XVIII века, — отвергая
человеческую телесность и сексуальность как явления и концепты,
подчеркивает тем самым свою «правильную» органично
532
православную жизненную позицию. Следовательно, тема
телесного низа эвфемизируется мемуаристкой исходя в
первую очередь из того, что проблематика эта
классифицируется ею как резко неприличная в условиях жесткой
социальной ситуации, ситуации выхода женщины-автора в
публичную сферу *. Мемуары Лабзиной — записки жены
известного и, что немаловажно, московского масона, —
очевидно, рассчитаны были не на внутрисемейное
восприятие (примечательно, что воспоминания эти не имеют
конкретного адресата, как большинство тогдашних женских
автотекстов) и последующую (рано или поздно)
публикацию. Однако то, что в глазах читателя-современника
делало автора «Воспоминаний Анны Евдокимовны Лабзиной»
чуть ли не святой в неподконтрольных ей обстоятельствах
«повреждения нравов», спустя столетия воспринимается
едва ли не как пресловутое старомосковское ханжество,
сродни сатирическим типам нравоописательных комедий
екатерининского периода, в котором щедро и не без
повода упрекали представителей русофильских движений.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 БайеттА. Обладать. М., 2002. С. 320-321.
2 Проскурин О. «Его перо любовью дышит»:
Литературно-полемический контекст поэтической шалости Пушкина // Проскурин О.
Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. С. 229— 260; Проскурин О.
«Сказка о Золотом петушке» и русская непристойная поэзия // Русский
журнал. Круг чтения. 2002. 5 июля; http://www.russ.ru/krug/razbor/
20020705 prosk.html
3 См.: Проскурин О. Литературные скандалы пушкинской эпохи.
С. 178-182, 242-244.
4 Mason M.G. The Others Voice: Autobiographies of Women Writers //
Autobiography: Essay Theoretical and Critical / Ed. by James Olney.
Princeton, 1980. P. 210.
5 Гинзбург ЛЯ. Записные книжки. М., 1999. С. 448.
6 КрысинЛ.П Эвфемизмы в современной русской речи // Русистика.
Берлин, 1994. № 1-2. С. 41.
* Доказательством влияния установки «на печать» на выбор лексики
в воспоминаниях Лабзиной служит отличие лексического состава в
сторону уменьшения эвфемистических конструкций дневников Анны
Лабзиной 1818 года, спровоцированное жанровым и мотивационным
ориентиром (текст для «внутреннегоупотребления»).
533
7 ЛоуренсД.Г. Порнография и непристойности // Иностранная
литература. 1989. № 5. С. 235.
8 Мемуары Казановы. М., 1991. С. 29, 294, 338.
9 Лотман Ю.М. Беседы о русской литературе: Быт и традиции
русского дворянства (ХѴШ-началаXIX века). СПб., 1994. С. 313.
10 Там же. С. 304.
11 Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1961. С. 123.
12 Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова / Изд. подгот.
А. Зорин, Н. Сапов. М.: Ладомир, 1992. С. 39. (Русская потаенная
литература.)
13 Пушкарева Н.Л. «Не мать велела — сама захотела...»: Интимные
переживания и интимная жизнь россиянок в XVIII веке // «А се грехи злые,
смертные...»: Любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной
России (X - первая половина XIX в.). М., 1999. С. 612-613.
14 Воспоминания А.Е. Лабзиной. 1758—1828 / Предисл. и примеч.
Б.Л. Модзалевского. СПб., 1914. С. 69. (Далее с указанием страниц в
тексте, курсив наш.)
15 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1971. С. 210.
Дж. Томсен
БРАННЫЙ ЯЗЫК
НА ФАРЕРСКИХ ОСТРОВАХ
Фарерские острова и фарерский язык
Фарерский язык — язык западноскандинавской группы,
ведущий происхождение из древнескандинавского. На
нем говорит подавляющее большинство из 48 тысяч
проживающих на Фарерских островах, автономной датской
области Атлантики, а также неизвестное число, —
возможно тысяч 10—20, — тех, кто эмигрировал в Данию или в
другие страны.
Исторически сложилось так, что в течение нескольких
столетий датский язык, один из языков восточносканди-
навской группы, был языком государственного
управления, религии, а также письменности, в то время как
фарерский оставался разговорным языком островитян-фа-
рерцев и языком устной литературы.
В социолингвистическом плане фарерский язык
интересен тем, что для Западной Европы — это редкий пример
устного разговорного наречия, которое вытеснило
престижный официальный язык. На протяжении XX
столетия он постепенно изменял свою роль и заменял датский
язык в большинстве его функций, как в официальной, так
и в бытовой сфере. Однако датский все еще продолжает
играть роль в жизни фарерцев, и поэтому фарерцы в
значительной мере билингвальны.
Население
Фарерцы населяют 17 островов общей площадью
1399 кв. км. До недавнего времени островитяне жили в
535
основном в довольно отдаленных друг от друга городках и
деревушках. Теперь положение изменилось. Около трети
населения живет в столице Торсхавне (16 тыс.).
Благодаря хорошей инфраструктуре — дорогам, мостам, горным
туннелям — еще 14 тысяч живущих на двух самых крупных
островах имеют прямую автомобильную связь со
столицей, куда они могут попасть не долее, чем за два часа. У
еще 5—6 тысяч есть возможность довольно легко
добраться до центра на паромах. Пять островов не имеют дорог
или мостов, связывающих их с другими островами, на
каждом острове живет менее 50 человек, а на трех — менее
100. Менее 1 % проживает в деревушках, не связанных
дорогами с другими поселениями.
Религия
С начала XI века и до лютеранской Реформации в
начале XVI века на Фарерских островах исповедовался
католицизм. В настоящее время приблизительно 80% фарерцев
относят себя к государственной Лютеранской церкви,
остальные — в основном приверженцы различных
лютеранских сект. До самой середины XX века языком
государственной Церкви был датский. Однако некоторые
религиозные группы населения, находящиеся вне
государственной Церкви, с первых десятилетий XX века
пользуются фарерским языком.
Фарерские бранные
и междометные выражения
Данное описание фарерского бранного языка является
первым опытом подобного рода. Ни лингвистических, ни
социологических исследований такого рода еще не
проводилось. Настоящая статья — попытка охватить весь
диапазон существующего современного фарерского бранного
вокабуляра.
Табуированные слова включены в описания только в
тех случаях, когда они прямо входят в бранные выражения.
Разницей двух культур — русской и фарерской — объясняет-
536
ся и разница в области применения бранных слов.
Выражения, соответствующие русскому мату, в языке
отсутствуют. Кроме того, прямые или иносказательные названия
человеческих гениталий не используются как брань, за
исключением выражений со словом «pill» (единое слово для
обозначения мужского и женского половых органов).
Также отсутствует всё, что связано с сексуальной
деятельностью человека или отдельных его органов. Гомо-
эротические отношения также не входят в этот круг. Нет
и того, что говорит о незаконности происхождения,
рождения вне брака или оскорбления родственников, намеков
на инцест и т. д. и т. п. Хотя для выражения этих понятий
существуют нейтральные или табуированные слова.
В целом надо признать, что по части культуры
оскорблений мы сильно отстали от таких развитых стран, как
Россия, или индустриальных районов Украины. Традиция
обмениваться оскорблениями отсутствует. Мы
оскорбляем друг друга по-другому. Самое тяжелое оскорбление,
наверно, — это сообщить оппоненту, что он reyvarhol
(«дырка в жопе», ср. англ. asshole, нем. Arschloch), удалиться на
свой диван и обличать его уже там.
На мой субъективный взгляд, употребление брани на
Фарерах мало или совсем не связано с принадлежностью
к социальному статусу. Естественно, строго верующие
люди не пользуются грубыми ругательствами, хотя им и
не чуждо употребление более невинных инвектив. Но у
многих фарерцев вера и ругательства как будто
существуют самостоятельно, отдельно друг от друга. В этом
отношении, вероятно, есть смысл различать строго верующих
и просто верующих. Большинство фарерцев
принадлежит к последней группе.
Детей учат не сквернословить, но, поскольку
фарерские дети не отличаются от детей других
национальностей, они мало прислушиваются к мнению родителей. В
моем детстве нас учили: «Jesuspäpi grcetur, tä tu bannast!»
(«Иисус-папа плачет, когда ты сквернословишь»).
Среди фарерцев принято считать, что жители самого
южного острова Суурой более склонны к употреблению
брани, нежели жители северных островов. У острова
Суурой своя особая история. С начала экономического
развития этот остров стал центром нового рыбного промыс-
537
ла, и здесь появились первые пролетарии. С фарерских
судов рыбу сгружали на берег уже засоленной. На берегу
ее обрабатывали женщины. В 1915 году здесь появился
женский профсоюз, названный по-датски «Fiskepigernes
Fagforening» («Профсоюз девушек-рыбоработниц»);
однако слова «fiskepige», строго говоря, не существует в
датском языке, это перевод фарерского «fiskagenta» (букв,
«рыбная девушка»). Ко многим из этих «девушек» больше
подошел бы пренебрежительный термин «fiskakelling»
(букв, «рыбная баба», «рыбная карга»). Именно эти
«рыбные бабы» были известны своей дерзостью, острым и
необузданным языком, которых боялись даже бригадиры
и судовладельцы. В результате на острове Суурой
сложились особые нравы и обычаи, не совсем совпадающие с
традициями других островов. Встречается и сегодня
более свободное, даже у женщин, обращение с бранным
языком.
Использованные обозначения
В фигурных скобках { } приводятся грамматические и
прочие пояснения.
В квадратных скобках [] содержится дословный
перевод, нередко противоречащий нормам русского языка.
В угловых скобках < > приводятся русские эквиваленты.
В случае отсутствия таковых подбирается наиболее
близкое по экспрессии выражение.
В круглых скобках () — различные уточнения.
Ikki
Слово «ikki» («нет») встречается в очень многих
выражениях. Однако употребляется оно не как отрицание, а
всего лишь для усиления экспрессивности сказанного,
выражения досады, раздражения и проч. В квадратных
скобках это слово будет переводиться буквально, т. е. как
«нет».
Притяжательные местоимения
Характерная черта фарерских (а также датских и
норвежских) инвектив — их употребление в сочетании с при-
538
тяжательным местоимением вместо личного: если
по-английски говорят «You fool!», фарерцы скажут: «Tin bytt-
lingur!» (букв, «твой дурак»).
Степень крепости инвектив
Цифровые пометки маркируют степень крепости
инвективы. Только экспрессивные, но не бранные слова
обозначены «О». Таким образом:
0 — экспрессивное небранное выражение;
1 — не очень сильное выражение; допустимо в
непринужденной речи;
2 — резкое высказывание неличного характера;
3 — крепкое оскорбление.
Бог
Выражения в группах, в которые входят такие слова,
как «Gud», «Jesus», «Himmiriki», не являются бранью в
строгом смысле слова. Однако многие религиозные люди
стремятся избегать подобных выражений.
Бог по-фарерски — Gud (Guö), Harrin (в инвективах
встречается в неопределенной форме «harra». «Hann»
(«Он») — эвфемизм этих же слов).
Восклицания, включающие эти слова:
«Harra Gud (ikki)!» {ikki —усилительная частица}
[Господь Бог («нет»)!]. 1.
«Harra Gud fadir (ikki)!» {fadir — «отец»} — [Господь Бог
Отец («нет»)!]. 1.
«Harra Gud faöir keri!» {keri — прилагательное
«дорогой»} — [«Господь Бог и Отец дорогой!»]. 1.
«Harra Gudi himmiriki!» {і — предлог «в»; himmiriki —
дат. пад. от «Небесное Царствие», «Небо»} [«Господь Бог
на Небе!»]. 1.
«Harra Gud fadir і himmiriki!» [«Господь Бог Отец на
Небе»]. 1-2.
«Harrin viti!» {viti — желат. накл. от «vita» («знать»)}
[«Пусть Господь знает!»]. 0—1.
«Hann viti!» [«Пусть Он знает»]. 0.
«Gud viti!» [«Пусть Бог знает»]. 0.
«Таб veit Gud!» {tad вин. пад. местоим. 3 л. ед. ч. «то»,
539
«это»} [Это Бог знает»]. <«Ей-богу», «Правда?», «Неуже-
ли?»>. 0—1.
«Таб veit Gud і himmiriki!» [«Это знает Бог в Небесном
Царствии»] <«Да что это такое, в конце концов!»>. 1.
«Tad veit Gud, і himmiriki situr!» {situr — 3 л. ед. ч. от «sita»
(«сидеть»)} [«Это знает Бог, который сидит в Небесном
Царствии»] <«Ох, Господи, ну что же мне делать!»>. 1 — 2.
* * *
«Gud forläti nicer, hvat eg sigi!» {forläti — желат. накл. от
(редкого) «forläta» «простить»; nicer — дат. пад. от «eg»
(«я»), hvat «что», sigi — 1 л. ед. ч. от «siga» («говорить»)}
[«Пусть Бог меня простит за то, что я говорю»] <«Ох,
прости, Господи, за язык мой!»> (употребляется, когда
человек непроизвольно выбранился или передает чужую
критику, слухи и т. п.). 0 — 1.
Нижеприведенные выражения почти совпадают по
значению и употребляются как инвективы и восклицания,
выражающие удивление, изумление, изнеможение:
«Gud hjälpi nicer, um...» {hjälpi — желат. накл. от «hjäl-
ра» («помогать»); um — союз «если»} [«Пусть Бог
поможет мне, если...»] <«Ох, Господи, дай силы!», «Помоги,
Господи! »> 1—2.
«Gud пабі meg (okkum)!» {пабі —желат. накл. от «паба»
(«миловать»); okkum — вин. пад. от «vit» («мы»)} [«Пусть
Бог помилует меня (нас)!»] <«Помоги, Господи!»,
«Господи, помилуй!», «Ох, Господи, дай силы!»> . 1.
«Gud пабі teg (hann)!» {teg — вин. пад. от «Пд»(«ты»);
hann — местоим. 3 л. ед. ч. «он»} [«Пусть Бог помилует
тебя (его)»] <«Тогда держись!»> (используется в качестве
угрозы). 1 — 2.
«Gud пабі meg, um hon (hann) ikki...» (hon — местоим.
3 л. ед. ч. жен. рода «она» (hann — «он»)} [«Пусть Бог
помилует меня, если она (он) (усилит.) не...»].
«Hann пабі meg (okkum)!» [«Пусть Он помилует меня
(нас)»]. 0-1.
«Hann пабі teg (hann)» {«Пусть Он помилует тебя (его)» }
<«Я тебе дам!»> (это угроза). 1—2.
«Hann пабі meg, um hon ikki...» [«Пусть Он помилует
меня, если она не...»] <«Ох, Господи, дай силы>. 1.
540
Hs >N sfc
«Gudsdoyö!» {Сложное слово из guds- («Божий») и doyö
(«смерть») — (нерегулярная форма)} [«Смерть Бога»]
(реплика, выражающая раздражение или недоверие. Ср. рус.
«Чтоб я пропал!», «Будь я проклят!»). 1 — 2.
«Ja, Gudsdoyö!» {ja — «да»} [«Да, смерть Бога»] <«Нууж
прямо!», «Ну уж так и...»> (выражение недоверия). 1 — 2.
«(Ja), Gudsdoyö ikki!» {«Да, смерть Бога» + усилит, «не»}
(то же).
«Harrans malagröt ogflag!» {Harrans — род. пад. от «Har-
гіп»; malagröt — сложное слово из приставки «malar-»
(родит, пад. от ГП0І («каменистый берег»)) и «gröt» —
собирательное «камни»; flag — «дерн»} [«Гальки и дерн
Господа»] («галька» — не вполне точный перевод, «malargröt» —
округленные, изношенные волнами камни; «flag»
вызывает ассоциации с дерновой крышей традиционных
фарерских домов; шутливая инвектива). 0.
«Hvat (hv0r, hvar) і Guds garöi...?» {Hvat (hv0r, hvar) —
вопр. «что» («кто», «где»); Guds — родит, пад. от «Gud»;
garöi — дат. пад. от «garöur» («двор»)} [«Что (кто, где) во
дворе Бога...] <«А это еще что?»> (удивленная реплика,
часто неодобрительная или настороженная). 0 — 1.
Иисус
Встречается в форме «Jesus»; в детском языке и в
обращении к детям часто — «Jesuspäpi»; (Иисус Отец; «Иисус-
папа)»; эта форма, однако, встречается и в инвективе,
необязательно детской. В произношении детской фразы и
инвективы существует разница в ударении: в детской речи
ударение падает на «Jesus», в инвективе на — «рарі».
Встречается также форма «Kristus» («Христос»).
Вот несколько восклицаний:
«АJesus!» [«О Иисус»]. 0 — 1.
«АJesus ikki!» [«О Иисус» + усилит, «нет»]. 0—1.
«AJesus Kristus!» [«О Иисус Христос»]. 1.
«(A) Jesuspäpi (ikki)!» [«О Иисус Отец» + усилит, «нет»]. 1.
«(A) Jesu(s) navn!» {«Jesu» — (редко) родит, пад. от «Jesus»;
navn — «имя»} [«(О) имя Иисуса!»]. 1.
541
«Ä Jesus Ї himmiriki!» [«О Иисус в Небесном
Царствии!»]. 1.
«А Jesus, Ї himmiriki situr!» [«О Иисус, который сидит в
Небесном Царствии»]. 1.
Дьявол
Самые распространенные слова с этим значением —
«Fanin», «Djevilin». «Satan» больше характерно для языка
религии. В инвективном употреблении вместо обычного
«djevil» предпочитается «devil».
В некоторых выражениях встречается «dekan».
Первоначально это слово обозначало «дьявол», «черт», но
это значение настолько ослабло, что фарерцы перестали
вспринимать его в этом смысле. Поэтому инвективы с
этим словом довольно мягкие и «dekan og...» — это
просто экспрессивное восклицание. Напротив, «devilin» и
«Fanin» (в формах «fani», «devil») означают именно
дьявола.
Слово «fjandi» по происхождению — «враг», но в
современном фарерском оно употребляется только в составе
инвектив и воспринимается как «дьявол», «черт». «Враг»
в современном фарерском — «figgindi», по
происхождению — тот же «fjandi», только претерпевший характерную
для фарерского языка гуттурализацию.
«Tramin» по происхождению — «черт», «бес», но в
современном языке употребляется только в инвективах. Хотя
связь с первоначальным значением почти полностью
утеряна, слово воспринимается достаточно резко.
Слово «piiki» («бес», «черт») редкое. В инвективах оно
встречается только в форме эвфемизма «pikarill»1.
Примеры соответствующих восклицаний:
«А, Dekan (ikki)!» [«О черт» + усилит, «нет»]. 0.
«Dekan fari (tu meg)!» {fari — желат. накл. от «fara»
(«ехать», «идти»); tu meg — вероятно, по аналогии с
другими конструкциями} [«Черт, иди (ты меня)»]. 1.
«Dekan og...» [«Черт и...»] Как отмечалось выше, значе-
1 Автор признателен Анфиннуру Йохансену (Фарерский
университет, Торсхавн) за сведения по этимологии в этом и других случаях.
542
ниє «черт» у этого слова до такой степени ослабло, что это
выражение вообще нельзя считать бранью. Оно слабо
экспрессивно и почти нейтрально. В этот список оно
включено только потому, что в него входит слово dekan. < «Слиш-
ком!»>. 0.
«Devilin steiki!» {devilin — определенная форма им. пад.
от «devil» («дьявол»); steiki — желат. накл. от «steikja»
(«жарить»)} [«Пусть дьявол поджарит!»]. 3.
«Devilin brenni!» {brenni — желат. накл. от «brenna»
(«жечь»)} [«Пусть дьявол сожжет!»]. 3.
«Fanin gali (tu meg)!» {gali — желат. накл. от «gala»
(«колдовать»), слово сохранилось только в этом выражении и
непонятно современному фарерцу. Возможно, перед нами
калька соответствующего датского «fanden gale», где
слово «gale» тоже непонятно} [«Пусть черт колдует (ты
меня)!»]^.
«Fanin steiki!» [«Пусть черт пожарит!»]. 3.
«Fanin brenni!» [«Пусть черт жжет!»]. 3.
«Faninturki!» {turki —желат. накл. от«turka» («сушить»)}
[«Пусть черт посушит!»]. 3.
«Fanin brenni og koli!» {koli — желат. накл. от «kola»
(«обугливать»)} [«Пусть черт сожжет и обуглит!»]. 3.
«Fanin turki og släi tu meg» {släi tu meg {släi — желат.
накл. от «släa» («бить»)} } [«Пусть черт посушит и побьешь
ты меня!»]. 3.
«For fanin» {for — предлог «за»} [«За черта!»]. 2.
«For fanin і helviti!» {helviti — дат. пад. от «helviti» («ад»)}
[«За черта в аду!»]. 3.
♦ sfc sfc
«Fanin», «fjandin», «tramin» также входят в
словосочетания, выражающие удивление, раздражение и т. п.
Примеры:
«Hvat fanin (fjandin, tramin) gert tu?» {gert — 2 лицо ед. ч.
от «gera» («делать»)} [«Что, черт, ты делаешь?»] <«Ну
какого черта?»> (раздраженная реакция на к.-л.
действие). 2-3.
«Hvat fanin (fjandin, tramin) sigur tu?» {sigur — 2 л. ед. ч.
от «siga» («говорить»)} [«Что, черт, ты говоришь?»] <«Ох,
ты, черт!»> (выражение сильного удивления). 2 — 3.
543
«Hvar fanin (tramin, fjandin) er hann?» {er — 3 л. ед. ч. от
«vera» («быть»)} [«Где, черт, есть он?»] <«Где его носит?»>
(выражение сильного удивления). 2.
«Lika fanin veit eg!» {Нка — наречие «одинаково»,
«ровно»; veit — 1 л. ед. ч. от «vita» («знать»)} [«Равно черт знаю
я»] <«Откуда мне знать?»> (раздраженная реплика или
отказ отвечать). 2 — 3.
«Eg timi fanin iköki at gera tad!!» {timi — 1 л. наст. вр. от
«tima» («хотеть», «желать»); at gera — инфинитив от «gera»
(«делать»); taö — «это»} [«Я, черт, не желаю этого делать»]
(раздраженная реплика). 2.
?Н ^с ^
Различные инвективы и выражения:
«Fananstiö!» [«Время черта!»] <«Ни за что!»>. 2 — 3.
«Illanstiö!» [«Время черта!»] <«Ни за что!»>. О (разница
с предыдущим восклицанием в том, что это значительно
слабее).
«Таб var sum fanin!» {var — имперфект ед. ч. от «vera»
(«быть»); sum («как»)} [«Это было, как черт!»] <«Да? Ну-
ну...»> (удивленная реакция с оттенком неодобрения типа:
«Ну, понятно, как всегда...» или: «Ну что же, такова жизнь...»;
часто в ситуации конкуренции, при несправедливом выборе
победителя и т. п. или как реакция удивления, когда
тайное становится явным (разоблаченные любовники,
факты коррупции или мошенничества там, где их не
ожидали)). 2.
«For tramin!» [«За черта!»]. 2.
«ForS0rin!» [«За Серена!»] — эвфемизм выражения «for
Satan». Явный перевод датского выражения «For S0ren» с
тем же значением. Мужское имя S0rin (S0ren) взято из-за
начального звука, совпадающего с Satan. 1.
«(A) fakaris (ikki)!» {fakaris — эвфемизм от «fanin»;
однако этот эвфемизм утратил всякую смысловую связь с
«чертом» и скорее воспринимается как бессмысленное
сочетание звуков; о том, что оно значило когда-то, знают только
филологи} [«(О) дьявол» (?) + усилительное «нет»]
(реплика почти нейтрального, мягкого, добродушного
удивления). 0—1.
«Pikarill» {эвфемизм редкого слова «puki» («черт»), ко-
544
торое не употребляется в сквернословии; эвфемизм
полностью утратил свою связь с «чертом»} (ласковое и
шутливо удивленное обращение, часто к детям). 0.
Нижеприведенные выражения означают что-то вроде
русского: «Да пошел ты вон!»:
«Far a tramanum (fananum, fjandanum) til ѵіб toer!» {far —
повелит, накл. от «fara» («ехать», «идти», «отправляться»);
а — предлог «на»; trarnanum (fananum, fjandanum) — дат.
пад. от «tramin», «famin», «fjandin» («черт»)} [«Иди к
черту с тобой!»]. 2 — 3.
«Hann er ein fani!» {ein — неопр. артикль муж. рода}
[«Он есть один черт!»] <«Гад!»> (очень неодобрительно,
всегда направлено по конкретному адресу). 2.
Другие примеры:
«Hann er ein fjandi at finna taö läturliga ѵіб fölki!» {at —
частица при инфинитиве; fmna — «найти»; taö läturliga —
«смешное, забавное»; ѵіб — предлог дат. пад. «с», «о»; fölki —
дат. пад. от «folk» («народ»)} [«Он есть один черт
находить смешное у людей»] (о человеке, который находит
смешное, т. е. уязвимое или болезненное место у людей и
не щадит их, а с удовольствием ранит). 1 — 2. (Ср. англ.:
«Не is a devil at doing it».)
Ад
Это известное место по-фарерски называется «hel-
viti». Встречается также как нарицательное, напр.: «Taö er
eitt helviti at arbeiöa her» («Здесь работать — ад»). Родит,
падеж «helvitis» употребляется как усилительное
прилагательное.
«For helviti!» [«Заад!»] (экспрессивное восклицание). 2.
«For heita, hula helviti!» {heita — вин. пад. ср. рода
атрибутивной формы от «heitur» («горячий»); hula — вин. пад.
ср. рода от «hulur»} [«Зажаркий ад!»] (экспрессивное
восклицание). 2 — 3.
545
Примеры:
«Tad gongur ä helviti til!» {Таб — «это» в функции
вводного подлежащего; gongur — 3 л. ед. ч. от «ganga»
(«идти»)} [«Идет к аду»] (как описание ситуации или ответная
реплика на вопрос «Как дела?»; ср. рус: «Хуже некуда!»,
«Всё идет к черту!»). 2.
«Far ä helviti til (ѵіб teer)!» [«Иди в ад (с тобой)!»,
«Пошел ты вон!»] .2 — 3. (Ср. англ.: «То hell with you!»)
«Far til helvitis (vid tcer)!» {til — предл. «к»} [«Иди в ад с
тобой!»] <«Пошел ты вон!»>. 3.
Примеры, когда «helvitis» играет роль усилителя:
«Nakaö helvitis lort!» {nakaö — неопред, и распред. мес-
тоим. «некоторый»; lort —«говно»} [«адское говно»] (Это
оценка вещи или поступка; к людям неприменимо). 3.
«Віб hannkoma Ї einari helvitis ferö!» {Ьіб повел, накл.
от «biöja» («просить»); koma — «приходить»; і — предлог
«в»; einari — дат. пад. жен. рода ед. ч. от «ein», неопр.
артикль; ferö — «скорость»} [«Попроси его прийти с адской
скоростью»!]. 3. (Ср. англ.: «Come quick like hell!»)
% % :{:
«Hann heldur seg vera ein helvitis kal» {heldur — 3 л. ед. ч.
от «halda» («считать»); seg — 3 л. возвр. местоим. «себя»;
kal — вин. над. от «kalur» («парень»)} (редкое слово,
встречающееся только в этом выражении); «helvitis kalur» —
«устойчивое сочетание». [«Он считает себя адским
парнем»] (о мужчине, который слишком высокого мнения
о себе). 2.
«Ein helvitis fani» [«адский черт»] (еще хуже, чем
«гад»). 3.
Прочие религиозные восклицания
«Pfnadoyö!» {«Страдание»,«мука»,«смерть»}
(экспрессивное восклицание). 1 — 2.
«Pinadoyöogsäligheit!» [«страдание», «мука», «смерть и
блаженство»] (экспрессивное восклицание). 2.
«Halgatry!» {halga— «святой», try — числ. «три»}
[«Святое Три»] (возможно, аллюзия на «Св. Троицу» — ср. англ.:
546
«Holy Trinity!», это восклицание много мягче
предыдущего и носит несколько комический характер; иногда
выражает удивление). 0—1.
«Halgadoyö!» [«святая смерть»] (восклицание, более
сильное, чем предыдущее). 1.
Анатомия
Самое распространенное более или менее бранное
слово, касающееся анатомии, это «геуѵ» («задница»,
«жопа»). Когда это слово, однако, употребляется в
отношении задней части автомобиля, корме судов и т. п., оно
почти не является грубым. В отношении к людям оно не
очень грубое, хотя далеко не нейтральное (в мужском
обществе вполне можно сказать о женщине «Hon hevur
eina flotta reyv» («У нее прекрасная задница»), без
особого оттенка грубости; это может прозвучать даже как
комплимент. В ругательствах это слово звучит намного
грубее.
Часто встречается «reyvahol» (букв.: «дырка в жопе»).
Стилистически фарерское слово принадлежит к совсем
другой группе, чем русское сочетание, и даже в прямом
смысле воспринимается как довольно грубое, тем более в
составе ругательства. Никакого намека на гомосексуализм
здесь нет.
Для обозначения соответствующих выделений прежде
всего используется слово «lortur» («говно»), которое и
встречается в разного рода ругательствах. Кроме
приведенного слова мужского рода, встречается также слово
среднего рода «lort», которое, однако, не применяется в
прямом смысле.
Из названий половых органов встречается только «pill»
(см. ниже).
«Renn meg Ї reyvina!» {renn — повелит, накл. от «renna»
(«бегать»); reyvina — вин. пад. от «геуѵ» («жопа»)} [«Беги в
задницу!»] <«Иди ты в жопу!»>. 3.
«Kyss meg і reyvina!» {kyss — повел, накл. от «kyssa»
(«целовать»)} [«Поцелуй меня в жопу!»] <«Иди ты в жопу!»> (в
нейтральной устной речи в значении «целовать» чаще
всего встречается слово «mussa», a «kyssa» — более книжное,
547
высокое; однако оттенка иронии или юмора в этом
сочетании нет, несмотря на такое смешение стилей; вероятно,
это выражение сложилось под влиянием аналогичного
датского «kys mig і r0ven»; в датском языке «kysse» —
нейтральное). 2 — 3.
Примеры
«Hatta reyvarholid!» {hatta — указ. мест. ср. рода «тот»;
reyvaholiö —им.пад.от«reyvahol»}
(крайненеодобрительно, всегда конкретно направлено). 3.
«Titt reyvarhol!» {ritt — притяж. мест. ср. рода «твой»}
[«Твоя дырка в жопе!»]. 3.
«Наші er eitt reyvarhol!» [«Он есть одна дырка в жопе!»]
(«Он — дерьмо!»; «Он — сволочь!»). 3.
* * *
«Lortur» [«говно», «дерьмо»]. 1.
«Heilalortiö!» {«heila —прилаг. ср. рода от «heilur»
(«целый»); lortiö — вин. пад. от «lort» [«Всё говно!»] (слово
«всё» имеет усилительное значение). 1.
«Nakad lort!» [«Некоторое говно»] <«Какое говно!»,
«Влипли! »>. 1.
«Ikki ein lort!» [«Нет, одно говно»] <«Ни хрена!»>. 1 — 2.
«Koma lort Ї byin» {byin — вин. пад. от «byur» («город»)}
[«Приходить говнисто в город»] <«Сесть в лужу», «Сесть
в галошу»>. 1.
«Koma lort fyri1» {кота fyri — «встречаться»,
«попадать»} [«Попадать говнисто»] (значение то же, что
предыдущее). 1.
«Lort heldur!» {heldur — «скорее»} [«Говнисто скорее»]
<«Ничего подобного!»>. 1 — 2.
«Tu ert ein lortur!» [«Ты — одно говно»] <«Ты —
дерьмо!», «Ты — трус!»>. 3.
«Tu kanst hava ein lort!» {kanst — 2 л. ед. ч. от «kunna»
(«мочь»); hava — «иметь»} [«Ты можешь иметь одно
говно»] <«Иди на хуй!» или менее грубо «Иди ты!», «Да хрен
тебе!»>. 2.
1 «Koma fyri» надо понимать как одну лексему, состоящую из глагола
«кота» + наречие «fyri».
548
«Pillbyttur» {сложное слово, состоящее из приставки
«pill-»1 («половой орган») и «byttur» («глупый»)} [приблиз.
«пиздово глупый», однако это выражение значительно
менее грубое, чем русские эквиваленты; «pillbyttur» можно
употреблять даже в относительно приличном обществе]
(pill здесь имеет усилительное значение). 1 — 2.
«Pill etandi svakur» {etandi — усилительное наречие;
svakur— «сумасшедший»} [«пиздово/хуевосумасшедший»].
2-3.
«РШа аѵ (ѵіб toer)!» {pilla av — повелит, накл. от «pilla аѵ»
(«убирайся отсюда вон!»)} (скорее всего — от довольно
грубого датского выражения «pil af», но ассоциация с
фарерским словом «pill» делает это выражение более
крепким, чем соответствующее датское). 2.
«Frata!» {повелит, накл. от «frata» («пердеть», «бздеть»)}
[«Бздни!»] <«Черт возьми!»> (как инвектива встречается
преимущественно на юге Фарерских островов и среди
выходцев оттуда; на севере это слово используется только
в прямом смысле, и его употребление в инвективном
значении вызывает недоумение). 1.
«Skita» [«срать»] (в прямом смысле довольно грубо, но
менее грубо, чем русский перевод; в нижеприведенных
предложениях грубовато, но во многом утратило связь с
первоначальным значением).
«Eg skiti ä taö!» {skiti — 1 л. ед. ч. от «skita» («срать»)} [«Я
еру на это»] <«Плевать мне на это!», «Мне все равно!»>. 1.
«Hon skitur a hann!» {skitur — 3 л. ед. ч. жен. рода от
«skita» («срать»)} [«Она ерет на него»] <«Ей плевать на
него»>. 1.
«Skit!» {формально повелит, накл., употребляется как
междометие»} [«Сри!»] <«Черт!»>. 1. (Ср. англ.: «Shit!»).
«A, skit і teg!» [«Сри в тебя!»] (выражение
раздражения и т. п.). 1 — 2.
«A, skit ѵіб teer!» [«Сри с тобой!»] (выражение
раздражения и проч.). 1 — 2.
1 Точное значение этого слова неясно. В северных районах оно
означает «женский половой орган», причем именно этот вариант самый
распространенный. В других районах под ним, по-видимому,
разумеется «мужской член мальчика». О серьезных недоразумениях по этому
поводу я не слышал.
549
«Skit» употребляется также как приставка в некоторых
словах, например:
«Skitbyttur» {«skit» + «byttur» («глупый») означает «очень
глупый», «дурацкий», как правило, с оттенком
раздражения»}. 1. (Ср. англ.: «shitty fool»).
«Skitfullur» {«skit» + «fullur» (1)«полный», 2)«пьяный»)
употребляется в первом значении в выражениях типа «Напп
er skitfullur і pengum» («У него денег куры не клюют»),
хотя сочетание в приставкой «skit-» придает выражению
другой нюанс, нежели русское соответствие. Во втором
смысле значение — «вдребезги пьян»}. 1.
Животные
В фарерском языке абсолютно отсутствуют
ругательства, связанные с содомией или зоофилией. Нет их и в
датском языке. Вообще, в скандинавских языках кажется
невозможным сказать что-нибудь вроде «ебаный осел»
или «гребаная лиса».
Примеры
«Eg min dummi hundur!» {min — притяж. местоимение
1 л. ед. ч. муж. рода; dummur — «глупый»; hundur —
«собака» } [«Я — моя глупая собака»] <«Какой я дурак!», «Ах я
дурак!»^. 0—1.
«(A) tin dummi hundur!» {tin — притяж. местоим. 1 л.
ед. ч. муж. рода} [«(О,) твоя глупая собака!»] <1) «Дурак
ты!», 2) «Дурью маешься!»>. 1.
«Hann er ein dummur hundur!» [«Он есть одна глупая
собака»] (имеются в виду не столько умственные
способности, сколько поведение и отношение к другим). 1.
«Hann er eingin dummur hundur» {eingin — неопр.
местоим. «никакой»} [«Он есть никакая глупая собака»] <«Он
не дурак» >. 1.
«Farähundanum (hundinum) tilviötoer!» {hundanum
—нерегул, дат. пад. (регулярный — hundinum) от «hundur»
(«собака»)} [«Иди к собаке с тобой!»] <«Иди к черту!»>. 1 — 2.
«Gakk ä hundanum (hundinum) til ѵіб teer!» {gakk —
повелит, накл. от «ganga» («ходить»)} [«Иди к собаке с
тобой!»] <«Иди к черту!»>. 1 — 2.
550
«Hetta er ä hundanum (hundinum) til!» [«Это к собаке»]
<«Влип!»>. 0—1.
«Таб gongur ä hundanum (hundinum) til!» {tad —
формальное подлежащее; gongur — 3 л. ед. ч. от «ganga» («идти»)}
[«Это идет к собаке»] <«Плохо!»> (на вопрос о делах,
работе и т. д.). 0—1. (Ср. рус: «Псу под хвост!» в значении:
«Всё пропало!»).
«Bid hann gera taö і einari hundans ferö!» [«Попроси его
делать это в собачьей скорости!»] («hundans» выполняет
здесь усилительную функцию).
* * *
«Tin toskur!» {tin — притяж. местоим. муж. рода; toskur—
«треска»} [«Твоя треска!»] < «Дурак!», «Балда!»>. 1 — 2.
«Eitt ross» {eitt — неопр. артикль ср. рода; ross — «лошадь»
(без различия пола)} [«Одна лошадь»] <«Скотина!»>
(довольно сильное ругательство; возможно, что под влиянием
этого ругательства слово «ross» в значении «лошадь» стало
малоупотребительным; вместо него стало использоваться
«hestur», первоначально значившее только «конь»). 2 — 3.
«Kubyttur» {Сложное слово, состоящее из приставки
«ku» («корова») и прилагательного «byttur» («глупый»).
Однако в современном фарерском языке «ku» является
застывшей формой, которая встречается только в балладах,
частушках и т. п. и в сложных словах, а в живом языке
встречается только форма «kugv»} [«коровье глупый»]. 0—1.
«Eittneyt!» {neyt —«крупный рогатый»} [«скот»] (здесь
нет ассоциаций типа русского «скотина!», скорее это
«болван», «дурак») <«Дурак!», «Простофиля!» с оттенком
«вялый, медлительный, сонный»>. 0 — 1.
«Eitt bytt fyl» {eitt — неопр. артикль ср. рода; fyl —
«жеребенок»} [«Один глупый жеребенок»] <«Дурак!»> (более
раздраженная реплика по сравнению с предыдущей). 0 —
1.
Разные восклицания
«Far tu nidur og noröur!» {niöur — наречие «вниз»; nor-
6ur — наречие «на север», «к северу»} [«Иди ты вниз и на
551
север» (или «к северу»)]. Скорее всего, это эвфемизм «Иди
ты к черту!» «Вниз» — потому что ад — внизу. Почему «на
север»? Скорее всего, это слово создает аллитерацию,
усиливающую экспрессию1. 1.
«Titt bytta apparat» [«Твой глупый аппарат»] <«Дурак!»>
(акцент не на деятеля, а на действие или стиль
поведения). 1.
«Eitt bytt apparat» [«Один глупый аппарат»] (то же, что
в предыдущем случае, но не обращение, а характеристика
3-го лица). 1.
«Tin kula» {tin; kula — 1) «шар(ик)»; 2) «голова» (кита)
гринды;2 3) «башка»; значения 1 и 2 распространены до
сих пор, значение 3 — относительно редко} [«Твой
шарик»] (предполагаю, что вначале это было что-то вроде
«Глупая башка!»).
«Pilar og skot» [«Стрелы и стрельба»] (очень мягкое
экспрессивное восклицание, допустимое даже среди
лютеранских сект самого строгого толка; возможно, что это
какой-то забытый эвфемизм). 1.
Разные выражения,
обозначающие «Заткнись!»
В фарерском бранном словаре отсутствуют ассоциации
рта с половыми органами, столь характерные для
русского языка.
1 Для фарерского языка очень характерно употребление наречий с
указанием или уточнением направления или стороны света в связи с
движением и др. Напр., вместо того, чтобы просто сказать «Eg fari til ommu»
(«Я иду к бабушке»), фарерцы склонны добавлять какое-нибудь наречие
для уточнения направления: «Eg fari oman til ommu» («Я пойду вниз к
бабушке»), если бабушка живет в доме, топографическое положение
которого ниже дома, в котором находится говорящий; «Eg fari пібап til
ommu» («Я пойду вверх к бабушке»), если бабушкин дом выше; «Eg fari
yvir til ommu»; «eg fari nordur til ommu» («Я пойду на север к бабушке»),
если бабушка живет в месте, топографически находящемся севернее
исходной точки. Это относится даже к весьма маленьким расстояниям,
например, в одном квартале. В этих конструкциях часто наблюдается
большое влияние местной топографии.
2 Г р и н д ы (киты 6—8 метров в длину) имели порой довольно большое
значение для питания фарерцев. И в наши дни фарерцы охотно едят их
мясо, вопреки требованиям «Гринпис» и иных подобных организаций.
552
«Halt kjaft!» (halt — повелит, накл. от «halda» («держать»);
kjaft — вин. пад. от «kjaftur» («рот» рыбы, животного);
«пасть» (о людях; грубо)} [«Держипасть!», «Заткнись!»]. 3.
«Halt gäk!» {gäk — вин. пад. от «gäkur» («рот», грубое
слово)}. 3.
Нижеперечисленные выражения имеют тот же смысл,
только добавлены такие слова, как «turran», «skarpan» вин.
пад. муж. рода, прилагат. «turrur» («сухой»), «skarpur»
(«высохший»). Употребляются они и без существительного,
которое в таких случаях подразумевается.
«Halt gäkin saman ä toer». 3.
«Halt turran kjaft». 3.
«Halt skarpan kjaft». 3.
«Halt turran gäk». 3.
«Halt skarpan». 3.
«Halt turran». 3.
# * *
Данное исследование не претендует на полноту
изложения. Существует еще большое количество бранных слов
и выражений, не перечисленных в этой статье. Их
перечисление и систематизация могли бы явиться прекрасным
материалом для исследований молодых ученых.
М.В. Томская
ИНВЕКТИВНАЯ ЛЕКСИКА
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА
В якутском, как и в любом другом языке, существует
пласт лексики, не фиксируемый, как правило, словарями,
но тем не менее присутствующий в языковом сознании
народа и активно используемый в повседневном речевом
общении. Речь идет о так называемой бранной, или инвек-
тивной (см.: Жельвис 1997), или обсценной (см.:
Успенский 1996; Буй 1995) лексике1.
Настоящая статья преследует цель проанализировать
инвективную лексику якутского языка, до сих пор не
подвергавшуюся изучению, выявить ее
национально-культурную специфику.
Для реализации цели работы потребовалось
подвергнуть анализу те инвективы, которые присутствуют в
языковом сознании автора данной статьи как носителя
якутского языка, а также обнаруженные им в отдельных
лексикографических источниках. Естественно, это далеко не
полный список бранной лексики, однако вполне
достаточный для выделения определенных как универсальных, так
и национально-специфичных характеристик инвектив на
якутском языке. Примененные для исследования методы
могут быть сведены к интроспективному и
концептуальному анализу инвективных единиц якутского языка. Причем
последний позволяет реконструировать стоящие за
бранными словами и выражениями культурные концепты,
отражающие естественное понимание окружающего мира,
передающие «образ жизни и образ мышления, характер-
Мы используем эти термины как синонимы.
554
ный для некоторого данного общества (или языковой
общности)» и представляющие собой «бесценные ключи к
пониманию культуры» (Вежбицкая 1999: 267).
Не всякое явление реальной действительности служит
базой для образования концепта, но лишь то, которое
становится объектом оценки (см.: Слышкин 2000: 11). К
наиболее значимым и универсальным для многих культур
относятся объекты древнейших областей деятельности
человека: духовной сферы и материальной сферы, связанной с
естественными потребностями организма. В процессе
эволюции человеческого социума номинация объектов
именно этих сфер как наиболее важных для человека
подверглась табуированию, как это убедительно было показано в
работах Б.А. Успенского, В.И. Жельвиса (см.: Успенский
1996; Жельвис 1997).
Большинство инвективных единиц превратилось в
таковые вследствие вербального нарушения определенных
социальных запретов-табу, которые, как правило,
группировались вокруг идеи человеческого «верха»,
ассоциирующегося с сакральным, и человеческого «низа», связанного
с прокреативной и экскреторной функциями организма,
то есть с профанным (см.: Жельвис 1997: 16).
Не вызывает сомнений, что как сакральная, так и про-
фанная лексика обладают оценочностью, то есть
выраженной языковыми средствами оценкой как отношением
субъекта к объекту. Оценочное отношение к сакральному
имеет положительный знак, тогда как к профанному —
отрицательный. В то же время сакральное настолько
тесно переплетено с профанным, что это приводит к
знаковой амбивалентности означающих их единиц, которые в
определенном контексте могут трансформироваться из
отрицательных в положительные и наоборот (см.:
Жельвис 1997: 34).
Нарушающая сильные социальные табу бранная
лексика входит в состав наиболее эффективных речевых
действий. Значительное число носителей языка прибегает к
ругательствам, совершая определенные речевые действия,
чаще всего оценочно-модальные и побудительные (см.:
Городникова, Добровольский 1998: 9), для выражения
своего эмоционального состояния, выражения отношения
к адресату, некоторого воздействия на адресата и т. п.
555
Инвективы адекватно передают прагматическую
информацию, другими словами отношение говорящего к
действительности, содержанию высказывания и адресату.
Вышесказанное вполне согласуется с функциональной
классификацией инвективного словоупотребления,
предложенной В.И. Жельвисом (см.: Жельвис 1997: 99—118).
Бранная лексика представляет собой пласт,
универсальный для всех языков, онтологические и аксиологические
установки инвектив сходны во всех национальных
культурах. Но можно предположить также, что каждая культура
имеет свою специфику инвективного словоупотребления,
обусловленную как особенностями структуры языка, так и
связанную с национальными особенностями мировидения
и мирочувствования.
Для якутского бранного словоупотребления
характерны развернутые, дескриптивные атрибуты, то есть,
например, слова, соединенные подчинительной связью с
существительным, образуют группу, приравненную слову,
тогда как словообразовательные модели представлены
слабо. Для сравнения, например, русская обсценная
лексика чрезвычайно богата благодаря
словообразовательному потенциалу, обусловленному структурой самого языка.
Далее, в русском языке предпочтительны перформатив-
ные акты брани (см.: Буй 1995). Здесь необходимо
упомянуть и точку зрения, согласно которой «перформативное
употребление ругательств относится к семантическому
полю "добиваться превосходства принуждением,
насилием", где существенно преодоление интимной зоны между
говорящим и слушающим» (Кирилина 1999: 780). Если ин-
вективные перформативы характерны для славянского, и
шире европейского, ареала, то для якутского языка
присущи большей частью речевые акты бранной номинации,
которые могут включать и сему «превосходство,
доминирование». В силу длительной изолированности якутский язык
сохранил некоторые архаические черты (см.: Прокопь-
ева 1996: 57), поэтому большую значимость приобретает
внутренняя форма инвектив.
Аналогично тому как истоки русского обсценного
лексикона коренятся в мифологии и ритуальных культах (см.:
Успенский 1996), инвективная лексика якутского языка
проистекает из мифологического сознания народа, когда
556
бранные сегодня слова соотносились с определенными
духами или употреблялись для общения с ними. Так,
инвектива АбаакыХ («Черт! Дьявол!») — отсылка к
культурному концепту «злой дух», занимавшему не последнее место
в мировоззрении якутов. Словом абаакы якуты
обозначают многочисленных злых духов, олицетворявших собою
злое начало в природе; эти духи искушали человека,
насылали разные болезни и бедствия и т. п., только им
приносили кровавые жертвы. Естественно, что употребление не
к месту слова абаакы табуировалось. Считалось: если
произнести его вслух, то можно ненароком вызвать того или
иного злого духа, поскольку оно входило также в состав
сложных имен духов. В то же время в олонхо — якутском
эпосе — герои постоянно вступают в единоборство со
злыми духами и, как правило, схватке предшествует словесная
перепалка, во время которой ее участники не стесняются
в выражениях. Злым духам «доставалось» и во время
камлания — шаманы нередко поносили их. Едва ли не
традиционное ругательство в адрес злого духа: Абаакым adbupfja-
та\, которое звучит приблизительно так: «Ах, ты, абааіпы
из самой дряни!» (см.: Пекарский 1958—1959/1: 32).
В настоящее время номинация абааіпы, сохранив,
однако, основное значение, трансформировалась в бранную
лексему и употребляется как самостоятельно, так и в
выражениях абаакы бсфайыі (букв, «черт окаянный!»), абаакы
кики / дъахтар («сволочь, сука») (букв, «чертов мужик /
чертова баба»), абаакыуол / кыыс («бестолочь»; букв,
«чертов парень / чертова девка»), абаакы ofjo («идиот»; букв,
«чертов ребенок»). Несмотря на то, что данные инвектив-
ные выражения активизируют в сознании такие
концепты, как соответственно «нехороший человек» и «дурак»,
они тесно переплетены с концептом «злой дух».
Например, якуты считали, что умственно неполноценные дети
рождаются от связи женщины с абаакы.
Интерес представляет бранная лексема уѳдэн («черт,
окаянный, дрянь»), апеллирующая все к тому же
концепту «злой дух». Прежде этим словом обозначали «нижний
мир» — место пребывания злых духов, представлявшееся
якутам преисподней, бездной. Исходное значение
сохранилось в «отсылающей» инвективе уѳдэн икигэр (щгэіуэр)
щс\ (букв, «провались ты в пропасть»). Аналогичным об-
557
разом развивается семантика слова дьабын («негодяй,
сволочь»), которое обозначало также место пребывания злых
духов, куда отправляются шаманы после смерти; этот
загробный мир ассоциировался у якутов с безвестной далью,
страной небытия.
Таким образом, происходит своеобразная синонимиза-
ция, то есть все вышеперечисленные инвективы могут
быть отнесены к общей «концептуализированной
области», под которой Ю.С. Степанов понимает «такую сферу
культуры, где объединяются в одном общем
представлении (культурном концепте) слова, вещи, мифологемы и
ритуалы» (см.: Степанов 2001: 74).
Сюжетам якутской мифологии присущи частые
упоминания культовых животных, которые выступают в
качестве ипостасей различных божеств, их спутников и т. п.
Остановимся на концепте «собака», номинация которой
вошла в состав самых вульгарных якутских ругательств,
как бы подтверждая, что «трудно найти ареал и культуру,
где не существовало бы инвектив, включающих «собаку»
(Жельвис 1997: 236). Образ четырехглазой собаки
якутской мифологии связан с представлениями о смерти, о
путях в загробный мир. В комплексе верований и обрядов
якутов, связанных со смертью и погребением, страх перед
умершим выступал особенно отчетливо. В прошлом у
якутов существовал обычай оставлять жилище, в котором
умер кто-либо из членов семьи. Известно поверье, что от
умершего исходит что-то нечистое (см.: Гоголев 1993: 22).
В якутском языке имеется выражение, сохранившее
семантику этого обычая: кирдээхкики («человек, в роду
которого кто-то умер»; букв, «нечистый человек»).
Нечистой становится и собака, сопровождавшая душу
умершего в страну небытия. Происходит изменение
положительного знака (сакральное животное) на
противоположный (нечистое животное), отсюда непочтительность,
отразившаяся, например, в презрительной номинации
собаки бѳх (букв, «мусор»). Благодаря метафорическому
переносу возникают довольно сильные для якутской
культуры инвективы: Ыт\ («Пес!»), Ытуолаі («Сукин сын!»;
букв, «сын собаки»), Хааннааххара ыт\ (букв,
«кровожадная черная собака»), к отборнейшим ругательствам
относится и инвективное выражение Туѳрт харахтаах хара ха-
558
апнаах хара ыт\ (букв, «четырехглазая черной крови
собака») (Пекарский 1958-1959/Ш: 3839). Обсценное
значение усиливается также за счет упоминания «крови» как
чего-то нечистого, проклятого. Достаточно вспомнить,
что кровавые жертвы якуты приносили только злым
духам.
Зооморфизмы, всякого рода сравнения с
представителями местной фауны, широко распространены в якутском
языке, бранный лексикон не является исключением, хотя
его источником чаще становятся номинации домашних
животных или частей их тела. Ярким примером являются
приведенные выше инвективы, содержащие номинацию
«собака». Помимо этого можно упомянуть инвективы типа
пьылба («недоносок, молокосос»; букв, «выкидыш,
преждевременно родившийся теленок или жеребенок»), суѳк
of)o («ублюдок»), производное от суѳк, означающее «шерсть
на конце бычьего пениса». Своеобразным зоовокативом
можно назвать бранное выражение в адрес мальчиков саах
икинээ^иуѳн («молокосос»; букв, «червяк в кале»).
Необходимо подчеркнуть, что до недавнего времени
обозначения скота: суѳЬу («скотина»), ынах («корова») не
употреблялись в инвективном смысле, негативная
коннотация появляется лишь под влиянием русского языка. До
сих пор якутами избегается упоминание номинаций коня
в каком-либо негативном контексте, поскольку в якутской
мифологии культу коня отведено особое место, при этом
четко прослеживается связь с древним мифом о
солнечном происхождении божественного коня. В некоторых
мифологических рассказах говорится, что «вначале была
лошадь, от которой произошло животное наполовину
лошадь, наполовину человек <...>, и от последнего уже
родился человек» (цит. по: Гоголев 1993: 19).
В этнографических источниках упоминается, что во
время камлания шаманы нередко употребляют лексику
скатологического и коитального характера,
сопровождающуюся непристойными жестами и телодвижениями.
Считается, что таким образом проявляются приходящие по
зову шамана злые духи, которые «ведут себя чрезвычайно
развязно» (Серошевский 1993: 605). Несомненно, поляк
В.Л. Серошевский судил о культуре якутов с точки зрения
европейца, тогда как для якутов вряд ли было что-либо
559
непристойное в обряде камлания, который
рассматривался как сакральный акт.
В якутском языке часть вокабуляра, обозначающего
элементы телесного низа и, соответственно, табуируемого во
многих европейских языках, не маркируется как табу. Так,
одна и та же лексема может употребляться как номинация
определенной части тела, так и в качестве инвективы,
например эмэкэ («зад, задница, жопа»). О человеке, много и
без нужды болтающем, якуты обычно говорят: бѳрѳ эмэкэтэ
(букв, «волчья задница»). Обсценное значение особенно
выпячивается в инвективных выражениях,
употреблявшихся ранее по отношению к эвенам и эвенкам: хоруо эмэ/гэ
(букв, «вымазанная сажей жопа»), эмэх эмэкэ (букв, «гнилая
жопа»), кэлгпэ^эй эмэкэ (букв, «кривая/рваная жопа»).
Отметим, что инвективы по отношению к русским
практически не встречаются, вероятно, это обусловлено тем, что
якуты значительно дольше соседствуют с тунгусами,
нежели с русскими, а также тем, что якутская культура
занимала доминирующее положение, и это сказывалось на
взаимоотношениях между якутами и тунгусами.
Обозначения женских и мужских генеративных
органов — абас, ѳбус, которые приобрели неприличную
семантику лишь вследствие тесного общения с носителями
русской культуры, по-видимому, восходят к той же древней
основе, что и термины родства эбэ («бабушка»), ѳбугэ
(«прадед, прабабка, вообще предки»), аба?)а («старший брат
отца») (см.: Томская 2002: 271). В настоящее время
лексемы абаси ѳбус употребляются в нейтральном значении
довольно редко, в основном они встречаются в сальных или
инвективных выражениях, к которым часто прибегают
дети, переходящие позднее, в подростковый период, на
русский мат.
Скатологизмы довольно широко представлены в
бранном вокабуляре якутов, несмотря на то, что в
большинстве своем носители якутского языка прибегают к тем же
самым лексемам, обозначающим соответствующие
понятия, но употребляют их в обсценном смысле. В частности,
слово саах («кал, экскременты, дерьмо, говно») может
быть как нейтральным: cyehy сасфа («навоз»), так и
бранным: сугук саах (букв, «голубичное дерьмо») — инвектива
по отношению к тунгусам. Производные от саах слова так-
560
же амбивалентны, например, саахсыт («золотарь,
человек, очищающий отхожие места» и «говнюк»). Лексемы,
обозначающие непосредственно скатологические
процессы, легли в основу достаточно слабых ругательств типа
сыптарак («засранец, вонючка»; букв, «дрисливый,
одержимый поносом»), утуруксут («вонючка, пердун, бздун»),
тогда как слова, означающие выделения, связанные с
коитусом, послужили основой для чрезвычайно сильных
инвектив, например, суптур («вонючая распутница,
шлюха»), отсюда бранные выражения: сурэ сылдьар суптур дьах-
тар («шлюха»; букв, «бегающая вонючая распутница»),
суптуруола («бастрюк»; букв, «сын вонючей распутницы»).
Для якутского языка характерно употребление
междометий первого слоя (коренных) для выражения
различных ощущений и эмоций, например айа\ или айакаі (боль
от удара), абытайі (боль от ожога, укола), тыый\ (ужас,
сильное удивление) и т. п. Постепенно происходит их
пополнение междометными выражениями типа айаккабып\
(«ох как больно!»), эт татай\ («ах!»; удивление, страх,
огорчение). В современном якутском языке нередки
случаи вытеснения междометных выражений инвективами
эксплетивного характера, например, Сах\ («Черт!»), Уѳдэп
сах\ («Фу ты черт!»), Сахуурдуні («Черт побери!»)1.
Известна историческая и культурная роль России в
формировании и развитии современного якутского языка.
Стоит хотя бы упомянуть тот факт, что первыми
исследователями якутского языка были русские ученые, письменность
якутского языка основана на кириллице. Несомненно, что
якутский язык подвержен большому влиянию со стороны
русского языка, так, например, заимствуется лексика в
1 В связи с приведенными примерами хотелось бы сделать
небольшое отступление и выразить сожаление по повод)' того, что многие
неправильно произносят название Республики Саха, ставя ударение на
первый слог, что вызывает у носителей якутского языка довольно
негативные ассоциации, связанные, с одной стороны, с лексемой саах,
обозначающей «экскременты, кал»; а с другой — с древним словом сах,
означающим «черт, дьявол, дьявольский род»: сахха бар («иди к черту»), сах
билэр («черт его знает»). Любопытно, что когда-то Сах-хаап («Сах-дух»)
был благим божеством: шаманы поучали, что «Сах-дух бывает во
многом полезен и спасителен» (цит. по: Гоголев 1993: 20). Существует
также предположение, что «Сах» некогда было мифологическим именем
солнца (см.: Там же).
561
первую очередь терминологическая, в том числе не
избежала влияния и инвективная лексика.
Любопытным представляется тот факт, что носители
якутского языка, даже плохо владеющие русским языком,
в настоящее время чаще прибегают к русскому мату. В
работе В.И. Жельвиса отмечается, что это общая тенденция,
характерная для очень большого числа народностей
бывшего СССР, общающихся с русскими, которые
«пользуются русским матом как довольно легкой эксплетивой, даже
во время разговора, протекающего на родном языке».
Исследователь объясняет данное явление восприятием
чужой культуры как «удивительной и интересной», а также
«большей слабостью заимствования в
наглядно-чувственном и эмоциональном планах» (см.: Жельвис 1997: 152,
199). Вероятно, последнее как раз и может быть
истолковано как размывание внутренней формы слова, которое
воспринимается в культуре—акцепторе только как
ругательство, например, суолас («сволочь»), подвергшееся
сильному фонетическому переоформлению. Лексема
нередко употребляется в качестве эксплетивы, при этом
говорящий не всегда соотносит ее с аналогичной на русском
языке.
Сегодня большинство якутов являются билингвами, то
есть владеют достаточно хорошо как якутским, так и
русским языками, к сожалению, нужно отметить и
тенденцию некоторого вытеснения якутского языка русским
среди молодежи, преимущественно городской. Упомянутые
факторы отражаются на состоянии современного
якутского языка, в том числе и на инвективном
словоупотреблении. Если еще в 60—70-х годах XX века якуты
использовали русскую брань как более слабую, то в настоящий
момент наблюдается обратный процесс — русский мат
рассматривается в качестве более действенного средства
выражения эмоционального состояния, негативного
отношения к оппоненту.
Несмотря на то, что в настоящее время якутская об-
сценная лексика все чаще заменяется русской, неверно
было бы утверждать, что она выходит из употребления.
Достаточно сказать, что в ситуации наибольшего накала
страстей носители якутского языка прибегают и к
инвективам на родном языке.
562
Бранная лексика представляет собой пласт,
универсальный для всех языков, однако якутская культура обладает
своей спецификой инвективного словоупотребления,
отличной, в частности, от особенностей русской и, шире,
европейской бранных традиций.
Особенности структуры якутского языка обусловили
преобладание дескриптивных бранных номинаций,
возникших в процессе инвективизации нейтральных лексем.
Поскольку в якутском языке часть вокабуляра, табуируемо-
го во многих европейских языках, не подвергается табу,
инвективизация происходит путем деления семантики
слов на нейтральную и бранную.
Тематика ругательств якутского языка представлена
следующими основными группами: а) инвективы,
поминающие злых духов; б) зоовокативы; в) скатологизмы. Как
показал анализ, не очень употребительны в якутской
культуре инвективы, в основе которых лежат лексемы,
обозначающие генеративные органы. В целом тематика якутских
ругательств не выпадает из универсальной
классификации инвективных тем.
Инвективы, поминающие злых духов, свидетельствуют
о том, что якутский язык сохранил отдельные архаические
черты, что позволяет по внутренней форме инвектив
реконструировать стоящие за ними культурные концепты,
отражающие национальные особенности
миропонимания, а также выделить некоторые концептуализированные
области, группирующиеся вокруг значимых концептов,
проистекающих из мифологического сознания народа.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Буй 1995 — Буй В. Обеденная идиоматика как объект
лингвистического описания // Буй В. Русская заветная идиоматика (веселый словарь
крылатых выражений). М.: Помовский и партнеры, 1995. С. 283—308.
Вежбицкая 1999 — Вежбицкая А. Понимание культур через посредство
ключевых слов // Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание
языков / Пер. с англ. А.Д. Шмелева под ред. Т.В. Булыгиной. М.: Языки
русской культуры, 1999. С. 263—499.
Гоголев 1993 — Гоголев А.И. Якуты (проблемы этногенеза и
формирования культуры). Якутск: Издательство ЯГУ, 1993. 200 с.
Городникова, Добровольский 1998 — Городникова М.Д.,
Добровольский Д. О. Язык повседневного общения как объект лексикографии // Го-
563
родникова М.Д., Добровольский Д.О. Немецко-русский словарь
речевого общения. М.: Русский язык, 1998. С. 8—12.
Жельвис 1997 — Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как
социальная проблема в языках и культурах мира. М.: Ладомир, 1997. 330 с.
(Русская потаенная литература.)
Кирилина 1999 — Кирилина A.B. Еще один аспект значения обсценной
лексики // «Асе грехи злые, смертные...»: Любовь, эротика и сексуальная
этика в доиндустриальной России (X — первая половина XIX в.) / Сб. ст.
под ред. Н.Л. Пушкаревой. М.: Ладомир, 1999. С. 775—781. (Русская
потаенная литература.)
Пекарский 1958—1959 — Пекарский Э.К. Словарь якутского языка:
В 3 т. М.: Издательство АН СССР, 1958-1959.
Прокопьева 1996 — Прокопьева СМ. Механизмы создания
фразеологической образности (на материале языков германской и тюркской групп):
Дис... докт. филол. наук. М., 1996. 518 с.
СТБКТ 1994 — Саха тылын быЬаарыылаах кылгас тылдьыта / Под
ред. П.С. Афанасьева. Якутск: Бичик, 1994. 264 с. (Краткий толковый
словарь якутского языка.)
Серошевский 1993 — Серошевский В.Л. Якуты: Опыт
этнографического исследования. Изд. 2-е. М.: РОССПЭН, 1993. 736 с.
Слышкин 2000 — Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультур-
ные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М.: Аса-
demia, 2000.128 с.
Степанов 2001 — Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской
культуры: Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Академический проект, 2001. 990 с.
Томская 2002 — Томская М.В. Тендерная специфика терминов родства
в якутском языке // Тендерные исследования и тендерное образование в
высшей школе: Материалы международной научной конференции,
Иваново, 25—26 июня 2002 г.: В 2 ч. Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2002.
Ч. II: История, социология, язык, культура. С. 271—273.
Успенский 1996 — Успенский Б.А. Мифологический аспект русской
экспрессивной фразеологии // Успенский Б.А. Избр. труды: В 2 т. М.: Гно-
зис, 1996. Т. 2: Язык и культура. С. 53—128. (Язык. Семиотика. Культура.)
Г.Г. Тертышный
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
БИОФИЗИЧЕСКОГО ПОЛЕВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Квантовая механика и ее разделы убедительно
доказывают, что поле и вещество едины по своей природе. Как
ни странно, биология, медицина, психология и уж
подавно филология это положение совершенно не учитывают.
В результате приходится доказывать в каждой из этих наук
то, о чем давно и хорошо знают физики.
Нами получены практические и теоретические
доказательства волновой и даже голографической структуры
построения биологических систем. В более ранних работах
по этому поводу были опубликованы несколько голографи-
ческих моделей и дано их математическое обоснование.
Автором (и многими другими исследователями) вполне
достоверно установлен тот факт, что каждая
биологическая клетка одновременно является источником и
приемником корреляционной волновой голографической
информации. Нами составлена соответствующая
математическая модель, представить которую в сборнике,
предназначенном для филологов и психолингвистов, слабо
знакомых с последними достижениями точных наук, не
представляется целесообразным. Интересующимся можно
рекомендовать материалы, опубликованные в
специальных изданиях (см. список в конце статьи). Здесь
целесообразно отметить лишь следующее.
Вначале формируется волновая голограмма будущей
клеточной структуры. Затем по этой реконструированной
волновой голограмме по градиентам волновых полей
происходит овеществление этих голограмм в виде вновь
выросших клеточных структур. При этом каждая клетка од-
565
новременно является приемо-передающей
многоканальной системой, принимающей всю информацию от всех
передающих клеток. С учетом принятой информации
каждая отдельная клетка вырабатывает собственную
стратегию и тактику волнового поведения, а затем, как по
эстафете, также передает дальше информацию о собственной
волновой поведенческой динамике. Таким образом,
происходит голографический волновой обмен информацией,
за счет которого достигается согласованность
динамического состояния и полная поведенческая гармония
отдельной клетки со всеми другими клетками теперь уже
непротиворечивого единого организма.
Однако описанная модель хороша именно для
молодого и абсолютно здорового организма. При сбоях в
считывании волновой информации может происходить
взаимное неузнавание и нарушение динамики отдельных клеток,
что и порождает информационные сбои и, как следствие,
изменение первоначального состояния общей картины
голограмм, что, в свою очередь, оборачивается
заболеваниями и старением организма. Сбои при считывании могут
быть обусловлены разрушениями отдельных структурных
фрагментов клеток, вызываемыми коротковолновыми
излучениями, которые возникают, например, при
повышенном уровне интенсивности рентгеновских лучей.
В связи с нашей теоретической убежденностью в своей
правоте нами были проведены разнообразные удачные
научные эксперименты по волновому переносу от одной
биологической системы, например бактерий одного вида,
к другому виду.
Особо хотелось бы подчеркнуть истоки того, что нас
направило на путь волновых исследований, связанных с
акустическими и лазерными световыми полями.
Проанализируем широко известную евангельскую
фразу: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Ин. 1:1). Далее евангелист пишет: «В Нем (т. е.
Слове. — Г.Т.) была жизнь, и жизнь была свет человеков».
В стихе же 14 Иоанн говорит: «И Слово стало плотию, и
обитало с нами, полное благодати и истины».
Представляется, что, если эти зашифрованные подсказки-притчи
правильно истолковать и верно расшифровать, можно
получить совершенно новые удивительные результаты.
566
Конечно, нетрудно догадаться, что под «Словом»
следует понимать всякую мысль. Наши мысли выражаются в
виде конкретных чертежей или проектов. В физической
науке изображение любого объекта можно передать с
помощью эскиза или фотографии, а полное и объемное
изображение в современных научных изысканиях
получают посредством голограммы.
Следовательно, библейское «Слово» в научном мире
может быть понято как своеобразная голограмма. Каким
же образом человек связан с голограммой? Любая мысль
может быть представлена в виде геометрического образа,
наполненного некоторым содержанием и имеющего некие
свойства. Так, жизнь можно представить в виде «плоти»
живого человека. Вторая фраза библейской цитаты
говорит о том, что с помощью «Слова» была создана жизнь
плоти (человека) посредством света (это могло быть,
например, электромагнитное поле, а возможно, и множество
других полевых излучений). При этом следует обратить
особое внимание, что «Слово», превращенное в плоть, т. е. в
тело человека, было «полно благодати и истины». Другими
словами, Слово было гармоничным и справедливым, т. е.
соответствовало всем законам природы, а поэтому и
первоначальное тело человека, в полном соответствии со
Священным Писанием, было лишено недостатков, т. е.
оставалось абсолютно здоровым. Вот почему жизнь первых
людей была наполнена гармонией и здоровьем и была гораздо
продолжительней, нежели у современного человека.
Во второй фразе говорится о создании живого
человека с помощью света. Общеизвестно, что в процессах
жизнедеятельности свет имеет первостепенное значение.
Действительно, во-первых, человек и его существование
немыслимы без света и тепла. Мы знаем, что тепло — это
тоже свет, но свет невидимый, инфракрасный. Исходя из
второй фразы, можно высказать предположение о том,
что материя, из которой состоит человек, создана
некоторым образом из световых и других волн. Поэтому человек
не может существовать без создавшего его света. Видимо,
свет нужен постоянно клеткам организма для обмена
информацией между ними, для гармонизации всех действий.
Клетка с клеткой «говорят» друг с другом с помощью
света, а мы передаем друг другу голосовые сообщения посред-
567
ством звуковых колебаний. Информационный обмен
через слова проходит сложный путь. И этот путь связывает в
одно информационное целое звуковые колебания,
структуру клеток, воспринимающих этот звук, а также и наше
сознание, анализирующее смысловую часть и дающее
ответную команду на голосовые связки, чтобы произнести
ответные слова.
Итак, в процессе Творения «Слово» стало фактически
живой клеточной плотью, из которой состоит всё живое и
сам Человек. В полном соответствии с библейскими
«подсказками» нами в лабораторных условиях было проведено
множество экспериментов с использованием лазера,
живых клеток и организмов. Применялся именно лазерный,
а не «простой» свет, поскольку свойства именно
лазерного света близки к свойствам того света, которым
пользуются клетки любого организма.
В наших исследованиях (см. список литературы)
показано, что посредством использования лазерной волны и
определенной системы ее голографического
формирования есть возможность передавать волновую голографи-
ческую информацию от клетки к клетке. Представляется,
что это открытие может иметь далеко идущие последствия.
Во-первых, оно значимо для практического лечебного
использования. Во-вторых, становится понятным устройство
живой клетки любого организма.
Но, вероятно, наиболее значимым можно считать
научное экспериментальное подтверждение сказанного в
библейском тексте. Теперь становится очевидным то, что
«Слово», если оно доброе и гармоничное, может созидать.
«Слово» же грубое и злое может привести к болезням и
даже к преждевременной смерти. «Слово» можно даже
рассматривать в качестве волнового гена, который может
быть использован в качестве волнового лекарства.
Известно, что на практике более или менее успешно лечат
словами психотерапевт и гипнотизер. Поэтому тот, кто
использует сквернословие, прежде всего озвучивает свои
собственные клетки «плохими» волновыми генами. Следует
особо отметить, что от голосовых связок ругающегося
звук легче распространяется по его собственным костям и
клеточной ткани, чем через воздушную среду к тому, кого
он хочет обидеть. Следовательно, вред от сквернословия
568
больше для его источника, нежели для объекта
вербальной агрессии.
Приведенные выше соображения могут быть
подкреплены совершенно конкретными житейскими примерами.
Автору известен случай, когда его знакомый сквернослов
избавился от своих многочисленных болезней, просто
прекратив на месяц пользоваться бранной лексикой.
Вероятно, имело бы смысл провести соответствующие
исследования и выяснить зависимость между
сквернословием и самыми различными заболеваниями. Есть основания
считать, что такая зависимость в самом деле существует.
Автором проводились соответствующие исследования
и в мире растений. Как ни фантастически это звучит для
неспециалистов, можно полагать, что, поскольку живые
клетки человека и растений сходны, протекающие в них
процессы различаются не слишком сильно. Для проверки
этой гипотезы был проведен следующий эксперимент.
Две абсолютно идентичные грядки были засеяны
одним и тем же сортом моркови, причем самым тщательным
образом были созданы одинаковые условия роста:
совпадали качество почвы и количество удобрений, грядки
поливались в одном и том же объеме и в одно и то же время.
Различие состояло единственно в том, что ростки одной
грядки огородники хвалили и говорили о своей любви к
ним, а ростки второй ругали. «Хваленая» морковка дала
хороший урожай и была сочная и вкусная, а та, что была
«плохая» и «нелюбимая», выросла мелкая и невкусная.
При повторном опыте хвалили морковь на той грядке, где
в прошлый раз она не удалась, а там, где она дала изрядные
плоды, наоборот, ругали. После такой смены грядок уже
на первой из них выросла морковь мелкая и невкусная, а
на другой грядке — крупная, сочная и вкусная.
Кроме того, нами были проведены эксперименты по
волновому акустическому управлению на нескольких
языках: русском, немецком и английском. Как и следовало
ожидать, на любом языке растения как бы «понимают»
смысл передаваемой им информации. Следующий
эксперимент был проведен молча, «при внутреннем приказе». В
этом случае подтвердилось предположение о способности
растений к телепатическому восприятию волновой
мыслительной информации.
569
Позволительно подвести некоторые итоги. Образная
психическая и эмоциональная энергия иногда обладает
способностью оказывать волновое воздействие точно
такое же, что и другие полевые структуры, и в том числе
слова. Вот почему растения воспринимают смысловую
начинку слов независимо от того, на каком языке эта энергия
выражается, и даже если она вообще передается молча, то
есть телепатически. Однако если человек, не знающий
языка и не понимающий смысла того, что он произносит,
будет «ругать» или «хвалить» морковку, то растения на
такую речь не прореагируют! Иначе говоря, слова должны
быть осмысленными.
Кстати, аналогичный опыт был поставлен над
«глупыми» курицами. В результате оказалось, что и они
понимают, когда их любят, и больше и лучше несутся. Если же им
твердить, что их не любят, у них снижается плодовитость
и уменьшается вес яиц.
Автор отдает себе отчет в том, что приведенные выше
факты могут вызвать здоровый скептицизм. Однако
неоднократная теоретическая и практическая проверка
гипотез, выдвинутых им и его коллегами, заставляет их
увериться в собственной правоте. Автор убежден в большой
значимости сделанных открытий.
ЛИТЕРАТУРА
Tertishny G.G., Gariaev P.P. The guantum nonlocality of genomes as a main
factor of the morphogenesis of biosystems. 1999. May. Vol. 1. № 6—9. P. 37—39.
Tertishny G.G., Gariaev P.P., Birshtein B.I., Iarochenko A.M., Marcer P.]., Leo-
nova E.A., and Kaempf Uwe. The DNA-Wave Biocomputation //
Consciousness and physical reality. 2000. Vol. 2. № 2. P. 26-33.
Tertishny G.G., Gariaev P.P., Kampf U., Muchamedjarov F. Fractal
structure in DNA code and human language-towards a semiotics of biogenic
information // IASS/AIS. Dresden, 1999. October. № 3-6. P. 161.
Тертышный Г.Г., Гаряев П.П., Рослое В.Н. Способ анализа физических
объектов и устройство для его осуществления. № 99/01/Л от 06.01.1999.
Приоритет международной заявки.
Тертышный Г.Г., Гаряев П.П., Шабелъников A.B. Спектры человеческой
речи и ДНК // Датчики и Системы. 2001. № 12. С. 2-4.
Тертышный Г.Г., Пранжшвили И.В., Гаряев П.П., Максименко В.В., Моло-
гин A.B., Леонова Е.А., Мулдашев Э.Р. Спектроскопия радиоволновых
излучений локализованных фотонов: выход на квантово-нелокальные
биоинформационные процессы // Датчики и Системы. 2000. № 9. С. 2—13.
570
Тертышный Г.Г., Прангишвили И.В., Гаряев П.П., Мологин A.B.,
Леонова Е.А., Гарбер М.Р. Генетические структуры как источник и приемник го-
лографической информации // Датчики и Системы. 2000. № 2. С. 2—8.
Тертышный Г.Г., Прангишвили И.В., Гаряев П.П., Мологин А.В,
Леонова Е.А., Мулдашев Э.Р. Трехмерная модель процессов эндогенного голо-
графического управления развитием пространственной структуры
биосистем // Датчики и Системы. 2001. № 1. С. 3—8.
шьшшыьшшш
Л. В. Бессмертных
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ СЛОВАРЕЙ И
ДРУГОЙ СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
СОДЕРЖАЩЕЙ РУССКУЮ ОБСЦЕННУЮ
И ВОРОВСКУЮ ЛЕКСИКУ1
1 Указатель составлен с учетом требований нижеследующих ГОСТов
и Правил (если последние не противоречат ГОСТ 7.Т2003):
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления [Текст]: межгос.
стандарт: издание официальное / Межгос. совет по стандартизации,
метрологии и сертификации. - [Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-
79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82; датаввед. 2004-07-01].-М.: ИПКИзд-во
стандартов, 2004 (М.: Филиал ИПК Изд-во стандартов — тип.
«Московский печатник», сдано в набор 04.12.2003, подп. в печать 21.01.2004). —
III, [I], 47, [5] с; 29x20,5 см. — (Система стандартов по информации,
библиотечному делу и издательскому делу). — Загл. (на с. 1), свед. об
ответственности и загл. серии (на с. 1) парал. на англ. — Без обл. — 1100 экз. —
Цена 231 р. - [ГОСТ 7.1-2003 опубликован в мае 2004 г.];
ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления;
ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления;
ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила;
ГОСТ 7.11-78. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках в библиографическом описании;
Правила составления библиографического описания: [в 6 ч.] /
Междуведомств, каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР им. В.И. Ленина. — М.:
Книга, 1986. — Ч. 1: Книги и сериальные издания. — 527, [1] с: ил.;
Правила составления библиографического описания старопечатных
изданий / Рос. гос. б-ка; [сост.: И.М. Полонская, Н.П. Черкащина при
участии Н.Ю. Шильниковой; науч. ред. Н.П. Черкащина; науч.
консультант И.С. Дудник; общая ред. H.H. Каспаровой]. — 2-е изд., перераб. и
доп.-М.: [Изд-во] «Пашков дом», 2003.-398, [2] с: ил.;
572
Авдееико, Иван Карпович, сост. Босяцкий словарь [Текст] :2
опыт словотолкователя выражений, употребляемых
босяками: составлен по разным источникам / Ванька Бец
[псевд.]. Одесса: Тип. ЯМ. Сагала, 1903. 8 с; 18x11,5 см.
На 4-й с. обл.: Продается во всех книжных магазинах и у
автора И.К. Авдеенко (Ванька Бецъ), Нежинская, № 3,
Одесса. На об. тит. л.: Дозволено цензурою, Одесса, 8
февр. 1903 г. 95 слов. 1000 экз. (В обл.);
Перепечатано в изданиях: Козловский. Т. I. С. 55—61;
Russische Gaunersprache... S. 18—19.
Александров, Юрий Константинович, сост. Словарь
воровского жаргона // Александров, Ю.К. Очерки
криминальной субкультуры / Ю.К. Александров. М.: Изд-во «Права
человека», 2001 (Обнинск: Ф-ка офсет, печ., подп. в печать
10.04.01). С. 77-131; 21,5x14 см, (Тюремная б-ка; Вып. 25).
Составление библиографических записей репродуцированных
изданий: методические рекомендации / Рос. гос. б-ка, Межрегион, ком. по
каталогизации; [сост. И.С. Дудник при участии И.Г. Чистяковой;
редакторы: ТА. Бахтурина, H.H. Каспарова]. - М., 1993. - 50, [2] с.
Необходимость составления данного библиографического указателя
вызвана следующими обстоятельствами.
Прикнижные библиографические списки по указанной теме сплошь
и рядом грешат неточностями. Вместо того, чтобы описывать
документы de visu, составители бездумно заимствуют их устаревшие и неточные
описания из ранее опубликованных списков (в частности, у Д.С.
Лихачева — 1935 г., у В. Козловского — 1983 г.) и друг у друга. Эти описания
кочуют из одного списка в другой, при этом лавинообразно множатся
ошибки. Например, издание: Глубоковский, Б.А. 49: Материалы и впечатления.
Соловки, 1926 — описано как «Материалы и впечатления. Книга 49», хотя
речь идет об осужденных по ст. 49 УК РСФСР от 1922 г. Встречаются даже
описания несуществующих в природе изданий, напр.: «Мендельсон Н.
Материалы для словаря уголовного [!] языка...» К сожалению, составители
прикнижных библиографических списков, желая облегчить себе жизнь,
как правило, «доверчиво» перепечатывают сведения из безграмотно
составленных издателями макетов аннотированных карточек. Зачастую
документ описан так, что его невозможно отыскать в библиотеке.
В нашей коллекции имеется большинство словарей, входящих в
данный указатель.
2 Согласно ГОСТ 7.1-2003, п. 5.2.3.8: «Общее обозначение материала,
описания которого преобладают в конкретном информационном
массиве, может быть опущено». Руководствуясь этим указанием, далее при
описании текстовых изданий мы опускаем термин «текст».
Предписанный знак пунктуации точка и тире (. —) везде заменен
точкой (.)
573
Только для бесплатного распространения. Тир. не указан.
(В обл.);
Он же. То же. М., 2002 (подп. в печать 10.01.02). С. 77-
131. Без указания серии. По набору изд. 2001 г.
Алешкин, Петр Федорович, сост. — См.: Ахметова, Т.В.
[псевд.].
Алешковский, Юз [псевд.; наст.: Алешковский, Иосиф
Ефимович]. Кенгуру / Юз Алешковский. Ann Arbor (Mich.):
Ardis, 1981. 166 с; 19x13 см. На с. 165—166: Краткий фене-
менологический словарик / Вспомнил и составил Юз
Алешковский. 56 слов.
Алферов, Юрий Алексеевич. Жаргон и татуировки
наркоманов в ИТУ / Ю.А. Алферов; МВД России, Респ. ин-т
повышения квалификации работников органов внутр. дел.
Домодедово: [РИПК работников МВД РФ], 1992 (РИО РИПК
работников МВД России, подп. в печать 28.12.92 г.). 163,
[1] с: ил.; 20x14 см. Содерж.: Предисловие. С. 3—16;
Жаргонный словарь наркоманов: А—Я. С. 17—127; Татуировки
наркоманов. С. 128—161 [вт. ч. нас. 136—161: ил.];
Литература. С. 162-163 (14 назв.). 300 экз. (В обл.).
Англо-русский и русско-английский словарь табуирован-
ной лексики / [составитель Александр Волков; послесловие
Дмитрия Богушевича]. Минск: ПКФ «Петит», 1993 (М.; АО
«Молодая гвардия»). 126, [2] с; 20x13 см. Содерж.:
Предисловие. С. 4-6; [Словарь] А-Я. С. 8-114; A-W. С. 117-122;
Послесловие / Д. Богушевич. С. 124-126.50 000 экз. (В обл.).
Анисимков, Валерий Михайлович, сост. Краткий словарь
жаргонных слов и выражений // Анисимков, В.М. Тюрьма
и ее законы / В.М. Анисимков; М-во общ. и проф.
образования, Саратовская гос. академия права. Саратов:
[Саратов, гос. акад. права], 1998. С. 103-104; 20,5x14 см. 68 слов.
2000 экз. (Вобл.).
«Анциферов Ф. [Материалы к словарю мата]. Около 1985.
Рукопись из собрания В.И. Беликова». Цит. по: Плуцер-Сар-
но. 2000. С. 80; Он же. 2001. С. 314, 386.
574
Арбатский, Леон А. Ругайтесь правильно: довольно
толковый словарь русской брани / Л. Арбатский. М.: [ООО Изд-
во] Яуза: [ЗАО Изд-во] ЭКСМО-Пресс, 1999 (М.: ГУПП
«Детская книга» Госкомпечати). 271, [1] с; 20x12,5 см. Содерж.:
От издательства. С. 3; Предисловие составителя к первому
русскому изданию. С. 4—10; Правила пользования
словарем. С. 10-12; [Словарь] А-Я (№ 1-216). С. 13-263 [в т. ч.
на с. 62—64: № 49 «Говно»; на с. 87—89: № 66 «Ругательство
на букву "Ж"»]; Список литературы: С. 264 (№ 1—12 назв.).
30 000 экз. (В ил. обл.). На об. тит. л. в макете
аннотированной карточки между заглавием и сведением, относящимся
к заглавию, вставлен союз «или», которого нет ни на тит. л.,
ни на обложке;
Он же. Толковый словарь русской брани / Л .А.
Арбатский. [2-е изд., перераб. и доп.] [М.: ООО Изд-во] Яуза,
2000 (Тверь: Тверской ордена Трудового Красного
Знамени п/к детской литературы им. 50-летия СССР [!] М-ва РФ
по делам печати...). 428, [20] с; 14x10 см. Содерж,: От
издательства. С. 3; Предисловие составителя. С. 4—13;
Правила пользования словарем. С. 14—17; [Словарь] А—Я (№
1-216). С. 18-415; Список литературы. С. 416-417 (№ 1-
13 назв.). 7000 экз. (В пер.).
Артемьев, Вячеслав П., сост. Из «Блатного языка» //
Артемьев, В.П. Режим и охрана исправительно-трудовых
лагерей МВД / Вячеслав П. Артемьев. Мюнхен, 1956. С. 193—
200; 24 см. (Исследования и материалы / Институт по
изучению СССР; (Серия 1-я), вып. 26)). Указан в изд.: Козловский.
Т. I. С. 13. В РГБ нет.
[Афанасьев, Александр Николаевич, сост.] Русския завет-
ныя сказки: [LXXVII сказок без купюр по неисправной
копии сказок № 1—24, 26—78 с рукописи А.Н. Афанасьева
«Народныя русския сказки не для печати. (Из собрания
В.И. Даля — А.Н. Афанасьева). 1857—1862 / Собраны,
приведены в порядок и сличены по многоразличным спискам
А. Афанасьевым»; автор предисловия В.И. Касаткин («Фи-
лобибл»)]. [1-е изд., для библиофилов]. Валаам: Тѵ-
парским художеством монашествующей братии, Год
мракобесия [т. е. Женева: Издание В.И. Касаткина, 1867
(Женева: Тип. Л. Чернецкого (бывшая Вольная рус. тип. А.И. Гер-
575
цена), напечатано шрифтами и виньетками б. Бернской
тип., лето 1867)]. [4], VII, [1], 199, [1] с; 18x11,5 (набор
13,9x8,5) см. Тир. около 50 экз.; 10 экз. на цветной бумаге
(26,5x17,5 см —набор тот же). (В «немой» обл.). В истории
русского книгопечатания это первое типографское
издание, где полностью, без купюр, набраны все нецензурные
слова (для примера укажем, что слово «хуй» напечатано
177 раз, «пизда» — 55, «ебать» — 59). Вых. свед.
установлены по статье: Бессмертных, Л.В. О рукописях А.Н.
Афанасьева... // Афанасьев, А.Н., Даль, В.И., сост. Народные рус-
кие сказки не для печати... М.: Ладомир, сор. 1997. С. 558—
660 (нас. 611-628).
Ахметова, Татьяна Васильевна [псевд.; наст.: Алешкин,
Петр Федорович], сост. — См.: Русский мат: толковый
словарь. 1996,1997, 2000.
Балдаев, Данцик Сергеевич, сост. Словарь блатного
воровского жаргона: [Феня]: в двух томах / [сост.] Д.С.
Балдаев; [худож. Капельников Д.Н.]. М.: [Изд-во] «Кампана»,
1997 (Архангельск: ИПП «Правда Севера»). 20x13 см. На
переплетах после загл. дополнено: Феня. 10 000 экз.
(Впер.).
[Т. 1]: От А до П. 367, [1] с: ил. Содерж.: От автора.
С. 3—6; О построении словаря. С. 7 —8; Список
сокращений словаря. С. 9—10; [Словарь] А—П. С. 11—367;
[Т. 2]: От Р до Я. 333, [3] с: ил. Содерж.: [Словарь] Р-Я.
С. 3-189; [Приложения № 1-6]. С. 190-333 (Воровской
закон. С. 191—200; Синонимические ряды. С. 201—230; Письма
и записки носителей блатного воровского жаргона. С. 231—
244; Поговорки, пословицы, прибаутки. С. 245—264; «Обзы-
валки». С. 265—274; Словарь народно-блатных топонимов.
С. 275-333); Содерж. [обоих томов]. С. [1].
Балдаев, Д.С, сост. — См.: Словарь тюремно-лагерно-
блатного жаргона... 1992.
Балуев, Я., сост. Условный язык воров и конокрадов: [в
дополнение к № 22, 23 и 24 «Вестника полиции» / сост.]
Я. Балуев // Вестник полиции: еженед. журн. с ил. СПб.,
1909. № 32. С. 678-679; 31 см;
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. I. С. 209—214.
576
Баранов, А.Н., соавтор. — См.: Буй, Василий [псевд.].
«Беликов В.И. Материалы по русскому
словообразованию. Словник ненормативной лексики. 1981 г. Рукопись».
Цит. по: Плуцер-Сарно. 2000. С. 80; Он же. 2001. С. 315, 386.
Белко, Владимир Кузьмич, сост. Жгучий глагол: словарь
народной фразеологии / [сост.] В. Кузьміч [псевд.]; [ху-
дож. Андрей Бильжо]. [М.]: Зелёный век [Издатель Белко
В.К. ], 2000 (Люберцы: Пик ВИНИТИ). 285, [3] с: ил.;
21x14 см. Наст. сост. и издатель указаны в конце книги на
с. [1]. Содерж.: От автора. С. 3—4; Как пользоваться
словарем. С. 5—6; [Словарь] А—Я. С. 7—246; Приложение [: те-
мат. указ.]. С. 247-282. 5000 экз. (В обл.).
Белко, В.К., сост. — См.: Словарь тюремно-лагерно-блат-
ного жаргона... 1992.
Белоус, Т.А., сост. Жаргонный словарь. Одесса, 1992; То
же. Одесса, 1994. Указаны в изд.: Мокиенко. 2003. С. 412. В
РГБ нет.
Белянин, Валерий Павлович, сост. Живая речь: словарь
разговорных выражений: (1925 статей, 2558 единиц) / [сост.]
В.П. Белянин, И.А. Бутенко. М.: [Изд-во ПАИМС], 1994
(Чехов (Моск. обл.): Чеховский п/к). 183, [9] с; 20,5x14 см.
Содерж.: Введение / И.А. Бутенко, В.П. Белянин. С. 3—10;
Слова, отсутствующие в нормативных толковых словарях. С. 12
[приведены 16 слов, из них 13 купированы, примеры купюр:
«ж*па (пропущена буква "о") — ягодицы», «пи*да
(пропущена буква "з") — женский половой орган», «х*й (пропущена
буква "у") — мужской половой орган», «е*ать (пропущена
буква "б") — совершать половой акт» и т. д., но без купюр
напечатаны: «пердеть», «ссать», «срать»]; [Словарь...] А—Я.
С. 13-183.12 000 экз. (В обл.).
Бен-Яков, Броня, сост. Словарь Арго ГУЛага / [сост.]
Броня Бен-Яков. [Frankfurt а. М.]: Посев, сор. 1982. 149, [3] с;
22 см. Содерж.: Язык сопротивляется насилию / Владимир
Максимов. С. 7—8; Предисловие / Б. Бен-Яков. С. 9—19;
Список анализированных произведений. С. 20—21 (28
авторов); Словарь: А-Я. С. 23-149. Около 1200 слов. (В обл.).
577
Бенюх, Владимир Петрович, сост. — См.: Бенюх, О.П. и др.
Бенюх, Олег Петрович, сост., ред. Новый русский
лексикон: Русско-английский словарь с пояснениями: [около 3000
слов] / [сост.] О.П. Бенюх, В.П. Бенюх, Н.К. Веркина; под
общей ред. О.П. Бенюха. М.: Изд-во «Русский язык», 1999
(Чехов (Моск. обл.): Чеховский п/к). 205, [3] с; 16,5x12 см.
Парал. тит. л. на англ. Из содерж.: Слово к русскоязычному
читателю / О.П. Бенюх. С. 5—7 (на англ. с. 8—9); [Словарь].
С. 15-203; Источники. С. 204-205 (74 назв.). (В обл.);
Он же. То же. 2-е изд., стер. М.: Русский язык, 2000
(Можайск: ОАО «Можайский п/к», подп. в печать 12.09.00).
205, [3] с. 3000 экз. По набору изд. 1999 г.
[Бессмертных, Леонид Васильевич, сост.] Эротическая и ска-
тологическая лексика в рукописи А.Н. Афанасьева «Народ-
ныя русския сказки не для печати» / [сост. Л.В.
Бессмертных] // Афанасьев, А.Н., Даль, В.И., сост. Народные русские
сказки не для печати [из собрания В.И. Даля—А.Н.
Афанасьева. Русские], заветные пословицы и поговорки [/ В.И.
Даля; дополненные А.Н. Афанасьевым и ПА. Ефремовым; к
сборнику в целом:], собранные и обработанные А.Н.
Афанасьевым, 1857—1862; издание подготовили О.Б. Алексеева,
В.И. Еремина, Е.А. Костюхин, Л.В. Бессмертных;
[Российская Академия наук, Ин^г русской литературы (Пушкинский
дом)]. М.: Научно-издательский центр «Ладомир»: [При
содействии ТОО «ВРС»], сор. 1997 (М.: п/ф «Красный
пролетарий», подп. в печать 21.04.97). С. 725-730; 20,5x13 см.
(Русская потаенная литература; [т. 9]). 5500 экз. (В пер.). Там же
на с. 611—660 об изданиях «Русских заветных сказок»;
Он же. То же. [2-е изд.] М.: Научно-издательский центр
«Ладомир»: [При участии ООО «Фирма "Изд-во ACT"»],
сор. 1998 (Тула: Тул. тип., подп. в печать 04.03.98). С. 725-
730. (Русская потаенная литература; [т. 9. 2-е изд.]). Набор
тот же. 10 000 экз. (В пер.).
Бец, Ванька [псевд.], сост. — См.: Авдеенко, И.К.
Блат-задачник: словарь-справочник воровского
жаргона и наиболее употребимых татуированных изображений
и аббревиатур / [составитель словаря Виктор Августович
578
Ларк. [Пермь]: Книжное издательство «Пушка», [1992]
(Краснокамская тип., подп. в печать 25.V.92). 95, [1] с;
20x14 см. Составитель указан в конце книги на с. [ 1 ]. На ил.
обл., кроме загл., также: Пермь — 1992 г. Содерж.:
Предисловие / Виктор Русаков, рук. пресс-группы УВД
Пермского облисполкома. С. 3—4; От автора-составителя. С. 5; О
построении словаря-справочника. С. 5; Список сокращений.
С. 5; [Словарь] А-Я. С. 6-95, [1]. 10 000 экз. В РГБ нет.
Блатная лира. — См.: Вайскопф, Я., сост.
Блатная музыка: словарь жаргона преступников. М.,
1923. — См.: Потапов, СМ., сост.
«Блатной словарь. 1999. —www.razvod.com.». Цит. по:
Никитина. Словарь... 2003. С. 693.
Боровкова, Г.В., сост. — См.: Толковый словарь... 1991.
Бронников, Аркадий Григорьевич, сост. Словарь
жаргонных слов и выражений, употребляемых в устной и
письменной речи уголовно-преступным элементом: для
служебного пользования / сост. А.Г. Бронников. Пермь, 1978. 84 с.
Указан в изд.: Смолин. 1990. С. 165; Щуплов. Сленг совка.
1994. С. 75 (Пермь, 1978); Мокиенко. 2003. С. 414. (Пермь,
1977). В РГБ (группа Литературы Для Служебного
Пользования [далее: ЛДСП]) нет.
Бронников, А.Г., сост. Словарь 10 000 жаргонных слов:
для служебного пользования / [сост.] А.Г. Бронников,
Ю.П. Дубягин. Пермь, 1990. Указан в изд.: Дубягина, О.П.
Современный русский жаргон уголовного мира. М., 2001.
С. 6. В РГБ (группа ЛДСП) нет.
Бронников, А.Г, ред., сост. — См.: Толковый словарь
уголовных жаргонов. М., 1991.
Бронников, А.Г. Толковый словарь уголовных жаргонов:
только для работников органов внутренних дел / [сост.]
А.Г. Бронников, Ю.П. Дубягин. Киров, 1993. Указан в изд.:
Дубягина, О.П. Современный русский жаргон уголовного
мира. М., 2001. С. 6. В РГБ (группа ЛДСП) нет.
Бруева, Екатерина Тимофеевна, сост. — См.: Щербакова, О.И.
579
Буй, Василий [псевд.; наст, авторы: Баранов, Анатолий
Николаевич и Добровольский, Дмитрий Олегович].
Русская заветная идиоматика: (веселый словарь крылатых
выражений): научное издание / Василий Буй;
[редакторскую работу над рукописью провели [д-ра филол. наук из
Ин-та русского языка РАН] Анатолий Баранов и Дмитрий
Добровольский]. М.: «Помовский и партнеры»: [Изд-во
«Русские словари»], 1995 (Коломенская межрайон, тип.).
XXIV, [2], 309, [1] с: портр.; 20x14 см. Содерж.:
Предисловие / Редакторы. С. VI—VII; Устройство и материал
словаря / Редакторы. С. VIII—XX; Основные источники. С. XXI—
XXIV (108 назв.); Список сокращений. С. [1]; Русский
алфавит (по Василию Бую). С. [2]; [Словарь]: «Хуй». С. 1—104;
«Пизда». С. 105-129; «Жопа». С. 130-171; «Ебать». С. 172-
221; «Блядь». С. 222-227; «Яйца». С. 228-232; Общие
эвфемизмы. С. 233—236; Синонимы, варианты и эвфемизмы.
С. 237—256; Индекс к основному тексту словаря (от
словоформы к идиоме). С. 257—282; Обсценная идиоматика
как объект лингвистического описания / Василий Буй
[псевд.]. С. 283-306; Литература. С. 307-308 (30 назв.).
5000 экз. (Впер.).
Бутенко, Ирина Анатольевна, соавтор. — См.: Белянин, В.П.
Быков, Владимир Борисович, сост. Русская феня: [словарь
современного интержаргона асоциальных элементов] /
[сост.] В. Быков. München: Otto Sagner Verlag, 1992. 173,
[3] S. (Specimina Philologiae Slavicae / Hrsg. von Olexa
Horbatsch, Gerd Freidhof und Peter Kosta; Bd. 94). В РГБ
нет;
Он же. Русская феня: [словарь современного
интержаргона асоциальных элементов] / [сост.] В.Быков. [2-еизд.,
доп.] Смоленск: ТРАСТ-ИМАКОМ, 1994 (Смоленская обл.
тип.). 222, [2] с; 21,5x14 см. Содерж.: Проблемы словаря
русского воровского интержаргона («Русской фени»).
С. 3—12; Как пользоваться словарем. С. 13—17; [Словарь]
А-Я. С. 18-218; Словари. С. 219 (20 назв.); Литературные
источники. С. 220—221 (66 назв.). Около 3500 слов и
выражений. В предисловии дан краткий обзор вышедших до
1992 г. воровских словарей. 75 000 экз. (В пер.).
580
Вайскопф, Яков, сост. Блатная лира: сборник тюремных
и лагерных песен / собрал и составил Яков Вайскопф;
[обл., рис. и оформление А. Глика, нотная запись песен
В. Маневича]. Иерусалим: [б. и.], 1981. 79, [1] с: ил., нот.
ил.; 17x12 см. На с. 76—77: Словарь жаргонных слов,
встречающихся в тексте [38 слов]. (В обл.).
Вакутин, Юрий Александрович, сост. Словарь жаргонных
слов и выражений. Татуировки: для служебного
пользования / [сост.] Ю.А. Вакутин; под ред. [и с предисл.
генерала] В.М. Пахаева. Омск: ВШ МВД СССР, 1979. 327, [3] с.
Более 5000 слов. Указан, в изд: Смолин. 1990. С. 3, 165;
Быков. Русская феня. 1994. С. 4, 7, 219; Щуплов. Сленг совка.
1994. С. 75. В РГБ (группа ЛДСП) нет.
Вальтер, Харри. Литература и словари по русскому
субстандарту (вышедшие вне России) // ЯЛИК: Язык.
Литература. История. Культура: информ. бюллетень:
информация, реклама, мнения / Санкт-Петерб. гос. ун-т. СПб.,
2002. № 51. С. 14—18. Указан в изд.: Словарь.
Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы / X. Вальтер [и
др.]. М., 2004. С. 399.
Варди, Александр. Подконвойный мир / Александр Вар-
ди. [Frankfurtа. М.]: Посев, сор. 1971.290, [2] с; 16,5x11 см.
На с. 279—288: Толкование некоторых слов; на с. 289—290:
Толкование некоторых выражений. (В обл.).
Вахитов, Салават Венерович, сост. Словарь уфимского
сленга / [сост.] С. Вахитов. Уфа: [Изд-во БашГПУ], 2000
(Отпечатано на ризографе). 261, [1] с; 20x14 см. Содерж.:
Расположение материала и структура словаря. С. 3—4; О
русском сленге. Характеристика материала. С. 5—21 [в т. ч.
«Литература» нас. 21-22 (15 назв.)]; [Словарь]. С. 23-257;
Литература. С. 258-261 (63 назв.). Около 4200 слов. 500
экз. (В обл.);
Он же. То же. 2-е изд., испр. и доп. Уфа: Изд-во БГПУ,
2003.
Он же. «Музыка» до Трахтенберга: материалы к
словарю воровского жаргона XIX века. Уфа: Изд-во БГПУ, 2003.
581
Веркина, Надежда Константиновна, сост. — См.: Бенюх,
О.П. и др.
Виноградов, Георгий Семенович, сост. Детский блатной язык:
(Argot): [из статьи «Детские тайные языки» (с. 87—112)] /
Георгий Виноградов // Сибирская живая старина: [этногр.
сб.]. Иркутск, 1926. Вып. II (VI). С. 102-105; 22x17 см.;
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. III. С. 11—16;
См. то же в отд. оттиске: Виноградов, Г.С. Детские
тайные языки. Иркутск, 1926 (Иркутск: Тип. изд-ва «Власть
труда», 1926). 28 с. (на с. 18-21); 22x17 см. 150 экз. На с. 4-й
обл.: «Отд. оттиск из сборника "Сибирская живая
старина", вып. II (VI), 1926; стр. 87-112»;
То же в изд.: Русский школьный фольклор: от
«вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов / сост. А.Ф.
Белоусов. М.: Научно-издательский центр «Ладомир»: [ООО
Фирма Изд-во] ACT: [При участии ООО «Изд-во АСТ-
ЛТД»], сор. 1998 (Тула: Тул. тип., подп. в печать 22.12.97).
С. 711-742 (на с. 731-735); 20,5x13 см. (Русская потаенная
литература; [т. 12]). 10 000 экз. (В пер.).
Виноградов, Николай Николаевич. Условный язык
заключенных Соловецких Лагерей Особого Назначения / Николай
Виноградов // Соловецкое общество краеведения:
материалы. Соловки: [Издание Бюро Печати УСЛОН], 1927 (о.
Соловки: Типо-литография УСЛОН ОГПУ). Вып. ХѴТГ. Из
работ криминологической секции. С. 15—46; 26x18 см. На с. 29—
30: Приложение № 1. Словарик тюремного жаргона:
(слова записаны во Владимирской тюрьме [в 1906 г.]) /
[публикация H.H. Виноградова]; на с. 31—46: Приложение № 2.
Словарь Соловецкого условного языка / собрал Н.
Виноградов. 250 экз. (В обл.);
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. III. С. 43—71; Оба
приложения перепечатаны в изд.: Russische
Gaunersprache... S. 19-26.
Волков, Александр, сост. — См.: Англо-русский и русско-
английский словарь табуированной лексики. 1993.
Воривода, Иван Прокопьевич, сост. Сборник жаргонных
слов и выражений, употребляемых в устной и письмен-
582
ной речи преступным элементом / [сост.] И.П. Вориво-
да; [консультанты: К.Т. Бесперстов, А.П. Камендров-
ский; ред.: Н.И. Дураев]. [2-е изд.] Алма-Ата, 1971 год
(Тип. МВД Каз. ССР). 102 с. На с. 3-7: Предисловие /
И.П. Воривода. Ок. 3000 слов. 3000 экз. В РГБ (группа
ЛДСП) нет;
Он жег. То же. Репр. изд. [Япония: б. и., 1983]. 102 с;
Опубл. по маш. пис. копии (с. 1—89) в изд.: Козловский.
Т. IV. С. 155-192. Указан в изд.: Смолин. 1990. С. 4, 165;
Быков. Русская феня. 1994. С. 4, 219.
Геловани, Г.Г., сост. — См.: Преступный мир... 1991.
Герберштейн, Сигизмунд (1486—1566). Записки о
Московии = (Rerum Moscoviticarum commentarii) / [соч.] Барона
Герберштейна; С латинскаго базельскаго издания 1556 года
перевел И. Анонимовъ, преподаватель истории в VII
С.-Петербургской гимназии. С.-Петербург: В типографии
В.Безобразоваикомп., 1866. [2], V, [1], 1-60, 63-229,[1],
ХГѴс; 23x15 (полоса набора 17,8x10,7) см. По требованию
цензуры вырезались с. 61—62. На с. 64: «Обыкновенные
ругательства их, как у венгерцев: чтобъ взяла твою мать
собака (Canis matrem tuam subagitet) и проч.».
Он же. Записки о Московии / Сигизмунд Герберштейн;
[пер. с. нем. А.И. Малеина и A.B. Назаренко; вступ, ст.
(с. 7—45) А.Л. Хорошкевич; под ред. В.Л. Янина]. М.: Изд-
во Моск. ун-та, 1988 (М.: Тип. изд-ва МГУ). 429, [3] с: ил.;
24,5x16,5 см. На с. 5: От составителей [«В наст. изд. перевод
"Записок о Московии" с лат., сделанный в 1908 г. А.И. Ма-
леиным, отредактирован и исправлен A.B. Назаренко,
которому принадлежит и перевод фрагментов немецких
текстов...»]. На с. 103: «Обычное их ругательство, как и у
венгров, такое: "Пусть собака спит с твоей матерью" и т. д.».
40 000 экз. (Впер.).
Глубоковский, Борис Александрович. 49: Материалы и
впечатления / Борис Глубоковский. о. Соловки: Бюро Печати
УСЛОН, 1926 (о. Соловки, на Белом море: Типо-литография
УСЛОН, Карлит. № 2934). - 97, [1] с; 22x15 см. На с. 97:
Объяснение жаргонных слов, встречающихся в тексте
[37 слов]. Цветная обложка-автолитография худож. [Н.] Ка-
583
чалина. 500 экз. О быте и нравах осужденных по ст. 49 УК
РСФСР от 1 июня 1922 г. («социально-опасные лица»);
Он же. То же. 2-е издание, о. Соловки: Бюро Печати
УСЛОН, 1926(Тамже,Карлит.№2939).-97, [1] с.;22х15см.
По тому же набору. В другой цв. литогр. обложке того же
худож. 500 экз. С. 97 перепечатана в изд.: Козловский. Т. III.
С. 27-30.
Грачев, Михаил Александрович, сост. «Блатная музыка»
осужденных: (краткий словарь) / авторы-составители
М. Грачев, А. Гуров, В. Рябинин // Правители
преступного мира: [сборник / составители: Александр Гуров,
Владимир Рябинин]. М.: Издатель Эдвард Максимовский:
«Макет Лимитед»: [Малое издательское предприятие
«Зеленый парус»], 1991 (Киров: Обл. тип., подп. в
печать 25.11.91 г.). С. 249- 259; 20,5x13 см. На корешке:
Империя страха; [Вып.] 1. 100 000 экз. (В пер.).
Он же. Историко-этимологический словарь воровского
жаргона / Грачев М.А., Мокиенко В.М. Санкт-Петербург:
Фолио-Пресс, 2000 (СПб.: ГПП «Печатный Двор»). 254,
[2] с; 20,5x13 см. [(Каждому свое)]. Содерж.: Введение.
С. 3-13; Словарь. С. 15-195; Литература. С. 196-215 (№ 1-
180 назв.); Указатель арготических слов и выражений /
[Сост. Г. Мартынов]. С. 216-248; Сокращения. С. 249-250.
В словаре 110 слов и фразеологизмов. 3000 экз. (В пер.).
Он же. Русское арго: монография / Грачев Михаил
Александрович; М-во общ. и проф. образования РФ,
Нижегородский гос. лингвистический ун-т им. H.A. Добролюбова.
Нижний Новгород: [Книга издана на средства автора],
1997 (Н. Новгород: Тип. ННГУ). 245, [1] с; 20,5x14,5 см. Из
содерж.: Введение. С. 5—17; Библиография. С. 223—243
(№ 1—402 назв., в т. ч.: П. Словари и словники. № 283—346).
1000экз. (Вобл.).
Он же. Словарь тысячелетнего русского арго: 27 000 слов
и выражений / [сост.] М.А. Грачев. М.: РИПОЛ
КЛАССИК, 2003. (Ульяновск: ФГУП ИПК «Ульяновский Дом
печати»). 1119, [1] с; 26,5x20 см. Текст в 2 столбца.
Содерж.: Предисловие. С. 3—18; Как пользоваться словарем.
С. 18-20; Список сокращений. С. 21-22; [Словарь] А-Я.
С. 23—1093; Библиография (Список использованной
литературы). С. 1094-1119 (563 назв.). 3000 экз. (В пер.).
584
Он же. Язык из мрака: Блатная музыка и феня: словарь /
[сост.] М. Грачев. Нижний Новгород: Изд-во «Флокс»,
1992. 202, [6] с: цв. ил.; 20 см. Содерж.: Введение. О чем
эта книга? С. 9—30; Сведения, необходимые для
пользующихся словарем. С. 31—42; Словарь арготизмов. С. 43—198;
Список сокращений. С. 199; Литература. С. 200—202 (№ 1—
74). 50 000 экз. (Вобл.).
Гуров, Александр Иванович, сост. — См.: Грачев, М.А.
«Блатная музыка» осужденных... 1991.
Даль, Владимир Иванович, сост. Толковый словарь
живого великорусского языка: [в 4 т.] / [сост.] Владимира
Даля. Третье, исправленное и значительно дополненное
издание / под редакциею проф. И.А. Бодуэна-де-Куртенэ.
С.-Петербург; М.: Издание поставщиков Двора Его
Императорского Величества Товарищества М.О. Вольф, 1903—
1909 (СПб.: Тип... Т-ва М.О. Вольф). 26x20 см. Выходил
отд. выпусками.
Т. 1: А-3.1903. [2],XIVс, 1744стб., VI, Xс, [1] л.портр.
Содерж.: От издателей. С. I—III; Предисловие к 1-му
выпуску / И. Бодуэн-де-Куртенэ. С. IV—XI; Предварительное
объяснение шрифтов, знаков и пр. в третьем издании
«Словаря Даля». С. ХІП-ХІѴ; А-3. Стб. 1-1744;
Объяснение сокращений. С. I—VI; Приложение. О русском
словаре: Читано в Обществе Любителей Российской
Словесности, в частном его заседании 25 февраля и в публичном
6 марта I860 года / Владимир Даль. С. 1-Х;
Т. 2: И-О. 1905. [2] с, 2030 стб., [1] с;
Т. 3: П-Р. 1907. [2] с, 1782 стб., XIII с. Из содерж.:
Приложение. Напутное слово: (Читано в Обществе
Любителей Российской Словесности в Москве, 21 апреля 1862 г.) /
Владимир Даль. С. I—XIII;
Т. 4: С-Ѵ. 1909. [2] с, 1592 стб., 1593-1619, [1] с, XVI,
XII с. Содерж.: С—V. Стб. 1—1592; Замеченныя опечатки,
поправки и незначительныя дополнения. С. 1593—1619;
Объяснение сокращений в Ш-ем издании «Словаря Даля».
С. I—XIV; Объяснение шрифтов, знаков и пр. в 3-ем
исправленном и дополненном издании «Словаря Даля».
С. XV—XVI; Послесловие к 3-му исправленному и
дополненному изданию «Словаря Даля». С. I—XII;
585
Он же. То же. Репринтные воспроизведения издания
1903-1909 гг.:
Он же. Толковый словарь живого великорусского
языка: в четырех томах / [сост.] Владимир Даль. Репринтное
воспроизведение издания 1903—1909 гг., осуществленного
под редакцией профессора И.А. Бодуэна де Куртенэ. М.:
Издательская группа «Прогресс»: «Универс», 1994
(Можайск: Можайский п/к). 26x20 см. Тир. 42 000. Имеются
доп. тит. листы ориг. изд. Т. 1: А—3. [8], XIV с, 1744 стб.,
VI, X, [2] с: портр.; Т. 2: И-О. [б] с, 2030 стб., [3] с; Т. 3;
П-Р. [6] с,1782 стб., XIII, [2] с; Т. 4: С-Ѵ. [6] с, 1592
стб.,1593-1619, [1] с, XVI, XII, [6] с;
Он же. Толковый словарь живого великорусского языка:
в 4 т. / [сост.] Владимир Даль. Репр. воспр. [уменьшенное]
издания 1903—1909 гг., осуществленное под ред. проф.
И.А. Бодуэна де Куртенэ. М.: ТЕРРА-книжный клуб, 1998.
23 см. Т. 1. [8], XIV с, 1744 стб., VI, X, [2] с: портр.; Т. 2.
[6] с, 2030стб., [3] с.;Т.З. [6] с, 1782 стб., [1],ХШ, [2] с;
Т. 4. [6] с, 1592 стб., 1593-1619, [1] с, XVI, XII, [6] с; То
же. Репр. воспр. М.: ТЕРРА, 2000. Т. 1-4. 26 см.
Даль В.И., сост. Толковый словарь живого
великорусского языка: [в 4 т.] / [сост.] Владимира Даля. 4-е исправленное
и значительно дополненое издание [текст словаря
стереотип 3-го изд.] / под редакцией профессора И.А. Бодуэна-де-
Куртенэ. СПб.; М.: Т-во М.О. Вольф, 1912-1914. 26x20 см.
Т. 1: А-3.1912. [2], XVI, IV, XVI с, 1744 стб., VIII с, [1] л.
портр. Содерж.: Предисловие к Новому, исправленному и
дополненному изданию «Словаря Даля» / [И.А. Бодуэн-
де-Куртенэ]. С. I—XVI; От издателей. С. I—III [в конце, на
с. III: «Настоящее издание "Словаря Даля" является
стереотипным повторением третьего, испр. и знач. доп.
издания»]; Объяснение сокращений в Ш-ем издании «Словаря
Даля». С. I—XIV; Объяснение шрифтов, знаков и пр. в 3-м
испр. и доп. изд. «Словаря Даля». С. XV—XVI; А—3. Стб. 1—
1744; Объяснение сокращений. С. I—VI; Послесловие к
1-му тому / И. Бодуэн-де-Куртенэ. С. VII—VIII;
Т. 2: И-О. 1914. [2] с, 2030 стб., [1] с;
Т. 3: П-Р. 1914. [2] с, 1782 стб., [1] с;
Т. 4: С-Ѵ. 1914. [2] с, 1592 стб., 4, 1597-1619, [1] с. Из
содерж.: Замеченные опечатки, поправки и незначитель-
ныя дополнения. С. 1—4, 1597—1619;
586
Он же. Толковый словарь живого великорусского
языка: [в 4 т.] / [сост.] Владимир Даль. Репр. воспр. издания
1912—1914 гг. под ред. проф. Бодуэна де Куртенэ. М.:
Цитадель, 1998. 26 см. Т. 1. 26, [2], XVI, IV, XVI с, 1744 стб.,
VIII с: портр. На с. 1—26: Предисл. «Бодуэновское издание
"Толкового словаря..." В.И. Даля» / А.Н. Тихонов; Т. 2. [4] с,
2030 стб., [5] с; Т. 3. [4] с, 1782 стб., [1] с; Т. 4. [4] с,
1592 стб., 4, 1597-1619, [5] с.
Даль, В.И., сост. Толковый словарь живого
великорусского языка: в 4 т. / [сост.] Владимир Даль; совмещенная
редакция В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ. М.: Олма-
пресс, 2001. Т. 1-4; То же. В 2 т. 2002. Т. 1-2.
Даль, В.И., сост. Табуизированная лексика из
«Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля под
редакцией профессора И.А. Бодуэна де Куртенэ //
Афанасьев, А.Н. Русские заветные сказки / [сост.] А.Н.
Афанасьев; [худож. В.А. Казьмин]. М.: [ООО] Адрес-пресс, 2003
(Екатеринбург: ГИПП «Уральский рабочий»). С. 311—314;
17x11,5 см. (Фаллософические памятники). 5000 экз. (В
пер.). В РГБ нет.
Даль, В.И., сост. Условный язык петербургских
мошенников, известный под именем Музыки или байковаго
языка. Рукопись писарская. [1842—1854 гг.] 11с. Место
нахождения: СПб. РНБ ОР и PK. Фонд 234. Ед. хр. № 9.139 слов;
Даль, В.И. Условный язык петербургских мошенников,
известный под именем музыки или байкового языка /
В.И. Даль; [публикация рукописи и предисловие (с. 133—
134)] А.Л. Топоркова // Вопросы языкознания: Теорет.
журн. по общему и сравнит, языкознанию / АН СССР,
Отд-ние лит. и языка. М.: Наука, 1990. № 1, янв.—февр.
С. 134-137;
См. последнюю публикацию в изд.: Бондалетов, В.Д.
В.И. Даль и тайные языки в России. М.: Изд-во «Флинта»:
Изд-во «Наука», 2004 [вышла в ноябре 2003]. С. 151-157,
158—171. Там же на с. 176—178 библиография словарей
воровского жаргона (17+18) названий.
Девкин, В.Д. — См.: Devkin, V.D.
Дихтеренко, В.П., сост. — См.: Толковый словарь... 1991.
587
Добровольский, Д.О., соавтор. — См.: Буй, Василий [псевд.].
Досталь, Герман, сост. Воровской словарь / Издание [и
сост.] Германа Досталь. Слобода Покровская, 1904 (Тип.
Н.К. Платонова и К°). 7, [1] с. От издателя / Г. Досталь. С.
3 («...руководство чинам полиции...»). На с. 2:
«Дозволено цензурою, Москва, 31 дек. 1903 г.» В РГБ нет;
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. I. С. 73—76.
Достаибаев, К.С., сост. — См.: Толковый словарь... 1991.
Дубягин, Юрий Петрович, сост. Краткий англо-русский и
русско-английский словарь уголовного жаргона / [сост.]
Ю.П. Дубягин, Е.А. Теплицкий = Concise English-Russian
and Russian-English dictionary of the underworld / Yu. Du-
byagin, E. Teplitsky. M.: «TEPPA»-«TERRA», 1993 (Можайск:
Можайский и/к). 280, [8] с: ил.; 17x13 см. На с. 151-282:
Краткий русско-английский словарь уголовного жаргона
(с толкованиями, эквивалентами и репродукциями
татуировок). Более 1700 слов. 50 000 экз. (В пер.).
Дубягин, Ю.П., сост. — См.: Бронников, А.Г. Словарь
10 000 жаргонных слов. Пермь, 1990;
Дубягин, Ю. П. рук., ред., сост. — См.: Толковый словарь
уголовных жаргонов. М., 1991;
Дубягин, Ю.П., сост. — См.: Бронников, А.Г., сост.
Толковый словарь уголовных жаргонов. Киров, 1993.
Дубягина, Ольга Петровна (член-кор. РАЕН,
вице-президент Ассоциации «РОДЕР» (Розыск детей России)), сост.
Современный русский жаргон уголовного мира: словарь-
справочник / [сост.] О.П. Дубягина, Г.Ф. Смирнов. М.:
Юриспруденция, 2001 (М.: ОАО «Оригинал»). 351, [1] с;
21x14 см. Содерж.: Предисловие / Торопин Ю.В. (генерал-
майор милиции, зам. нач-ка СКМ, начальник УУР ГУВД
Моск. обл.), Ванечкин М.Г. (начальник Национального
Центрального Бюро Интерпола России). С. 3—4; От
авторов. С. 5—9; Правила пользования словарем. С. 10;
Аббревиатуры. С. 11—13; Уголовный жаргон [: Предисловие].
С. 14—15; Иерархия уголовного мира в России. С. 16—27;
Уголовный жаргон — литературный язык: А—Я. С. 28—186;
Литературный язык — уголовный жаргон. А—Я. С. 187—293;
588
Жаргон наркоманов. С. 294; Образ жизни наркоманов.
С 295—297; Жаргон наркоманов — литературный язык:
Б—Ш. С. 298—302; Жаргон профессиональных нищих.
С 303 — 304; Обычаи и правила поведения нищих. С. 305—
307; Жаргон нищих — литературный язык: Б—Я. С. 308—
312; Жаргон проституток. С. 313—314; Жаргон
проституток — литературный язык: А—Ш. С. 315—319; Средства
коммуникации в местах изоляции. С. 320—323; Осторожно,
мошенники. С. 324-329; Тесты. С. 330-347; Отзывы на
книгу. С. 348-351 (19 отзывов). 4000 экз. (В пер.).
Елистратов, Владимир Станиславович, сост. Словарь
московского арго: (материалы 1980—1994г.г.): около 8000 слов,
3000 идиоматических выражений / [сост.] B.C.
Елистратов; Московский Гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М.: [АО]
«Русские словари», 1994 (Рязань: ТОО «Рязоблтип.»). 699,
[5] с; 20x13 см. Содерж.: О словаре и его структуре. С. 3—
14; [Словарь]. С. 17—591; Арго и культура. С. 592— 674 [в т. ч.
на с. 662—664 эвфемизмы «фалла» (405 назв.)];
Примечания. С. 674—688 [в т. ч. библиография]; Библиогр.: С. 688—
699 (165 назв.) 5000 экз. (В пер.);
Он же. Словарь русского арго: (материалы 1980—1990-х гг.):
около 9000 слов, 3000 идиоматических выражений / [сост.]
B.C. Елистратов; Моск. Гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.
[2-е изд., перераб. и доп.] М.: «Азбуковник»: «Русские
словари», 2000. (М.: Моск. тип. № 2). 693, [1] с: табл.; 20x13 см.
Содерж.: О словаре и его структуре: (Предисловие к
первому изданию) / В. Елистратов (1994). С. 3—8; Предисловие
ко второму изданию / B.C. Елистратов (1999). С. 8—9;
Условные сокращения и условные значки. С. 9—10; [Словарь] А—Я.
С. 11—573; [Приложение] Арго и культура / B.C.
Елистратов. С. 574—683 [в т. ч. на с. 627—628 эвфемизмы «фалла»];
Список использованной литературы (№ 1—300). С. 683—
692. 2000экз. (Впер.);
Он же. То же. М.: Русские словари: Азбуковник, 2001.
693, [3] с: табл.
Ермакова, Ольга Павловна, сост. Слова, с которыми мы
все встречались: толковый словарь русского общего
жаргона: [около 450 слов] / [сост.] О.П. Ермакова, Е.А.
Земская, Р.И. Розина; под общим руководством Р.И. Розиной.
589
М.: «Азбуковник», 1999 (М.: Тип. № 2). XLI, [1], 273, [5] с;
22x15 см. Содерж.: От редактора / Р.И. Розина. С. III—VIII;
Источники пополнения и тематические группы жаргона /
О.П. Ермакова. С. IX—XVII; Словообразование / Е.А.
Земская. С. XVIII—XXVII; Семантические процессы при
образовании жаргона / Р.И. Розина. С. ХХѴШ-ХХХѴ; Как
пользоваться словарем / Р.И. Розина. С. XXXVI—XXXIX;
Условные сокращения... С. XL—XLI; Словарь. Абзац-
Ящик. С. 1—266; Приложения. № 1—4: (Список
источников. С. 268 (44 назв.); Список сокращений названий
источников. С. 269; Список лиц, примеры из речи которых
приведены в словаре. С. 270 (59 лиц); Указатель словарных
статей. С. 271-273). 1000 экз. (В пер.).
«Ефимов И. Краткий словарь блатного жаргона // http://
www.aviso.com.ua/blat/b-lex.ht (2000)». Цит. по: Мокиенко.
2003. С. 418.
Жаргон преступников: (пособие для оперативных и
следственных работников милиции): составлено по
материалам Управления Московского Уголовного сыска,
оперативных отделов Управления милиции г. Москвы и
райотделов: для служебного пользования / Управление
милиции г. Москвы, Научно-технический отдел. М., 1952
год. IX, [1], 112, [2] с? Содерж.: От редакции. С. Ѵ-ІХ;Ч. 1:
[Слова, употребляемые преступниками с указанием их
значения в обычной разговорной речи]. С. 1—62; Ч. II:
[Слова разговорной речи с указанием их значения на
жаргоне преступников]. С. 63—112? В РГБ (группа ЛДСП)
нет;
Перепечатано по ксерокопии в изд.: Козловский. Т. IV.
С. 15—57 [Тит. л., предисл., лист опечаток — репринт с
изд.]. Указан.: Мокиенко. 2003. С. 419.
Жаргон уголовно-преступных элементов,
употребляемый на территории Литовской и других союзных
республик. Вильнюс, [Б. г.] Указан.: Козловский. Т. I. С. 13.
Земская, Елена Андреевна, сост. — См.: Ермакова, О.П. и др.
За пределами русских словарей. — См.: Флегон, А, сост.
590
«Изнародов В. Словарь живого великорусского мата.
Рукопись из собрания М.М. Чернолузского. 1984». Цит. по:
Плуцер-Сарно. 2000. С. 80; Он же. 2001. С. 327, 387.
Иковский, Пал Палыч, сост. Феня: [жаргонные слова и
выражения, употребляемые в преступной среде] /
составитель Пал Палыч Иковский; Информ. агенство Курганского
отдела «Алекс» для деловых людей, г. Курган: [Изд-во МП
«Арго»] ,1991 г. (Шадринск: Шадринская тип. «Исеть» Уп-
ринформпечати Курганского облисполкома). 28, [4] с;
20x14 см. 5000 экз. (В обл.).
«Ильин П.П. Исследование языка [жаргона?]
преступников. Рукопись 1912 г. [223 с. Место нахождения: СПб.]
РНБ ОР. Шифр 25.4.7. (Матер. ГМ)». Цит. по: Мокиеико.
2003. С. 420. Согласно библиографии А.Ю. Плуцера-Сар-
но, место нахождения: СПб. БАН.
Ильясов, Фархад Назипович, сост. Толковый словарь
русского мата [, словарь синонимов и эвфемизмов матерных
слов] / составлен кандидатом философских наук Ф.Н.
Ильясовым // Русский мат: антология: для специалистов-
филологов / [под ред. Ф.Н. Ильясова; составители: O.A.
Арбатская, Л.П. Веревкин, В.Л. Гершуни, Л.Д. Захарова,
Ф.Н. Ильясов, Л.С. Майковская]. М.: «Издательский дом
Лада-М», 1994 (М.: Тип. № 5). С. 9-38; 19x12,5 см. 30 000
экз. (В пер.).
Ирецкий, Виктор Яковлевич [псевд.; наст.: Гликман, В.Я.],
сост. Для словаря Даля: (спекулянтско-налетческий[!]
тюремный жаргон / подслушал и записал В. Ирецкий //
Вестник литературы: орган О-ва взаимопомощи
литераторов и ученых / основан А.Е. Кауфманом. Пг., 1921. № 4/
5 (28/29). С. 17; 31 см.;
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. II. С. 143—145.
Исупов, Игорь Михайлович, сост. — См.: Словарь тюрем-
но-лагерно-блатного жаргона... 1992.
Кабанов, Николай, сост. Русский мат: толковый словарь:
около 650 слов, более 900 значений / составил Ник. Каба-
591
нов. [Издание первое]. Рига: [Издательство независимой
прессы] «Playhouse», 1992 (Saldus tipogr., 92 g.). ЗО, [2] с;
17x12 см. Подп. в печать 11.11.91. На с. 3: От составителя;
Использованная литература (7 назв.). 25 000 экз. (В обл.).
В РГБ нет.
Каверин, Вениамин Александрович [псевд.; наст.: Зиль-
бер, В.А.], сост. Слова воровского языка, встречающиеся
в повести «Конец Хазы» // Сочинения: [В 3 т.] /В.
Каверин. [Л.: Изд-во «Прибой»], 1930. Т. 1: [Конец Хазы:
повесть; Большая игра; Фантастические рассказы]. С. 451—
454; 19x13 см. 5000 экз. В последующие переиздания
повести (и в 1-е 1926 г.) этот словарь не включался;
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. III. С. 149—154.
Квеселевич, Дмитрий Иванович, сост. Русско-английский
словарь ненормативной лексики = Dictionary of
unconventional russian: Russian-English: около 15 000 слов и 4000
фразеологических единиц / [сост.] Д.И. Квеселевич. М.:
[ООО Изд-во] Астрель: [ООО Изд-во] ACT, 2002 (СПб.:
ОАО «Санкт-Петербургская тип. № 6», подп. в печ. 18.12.01).
1113, [7] с; 24x17 см. На с. 4: Основные
лексикографические источники (33 назв.). 5000 экз. (В пер.).
Он же. Толковый словарь ненормативной лексики
русского языка: около 16 000 слов / [сост.] Д.И. Квеселевич.
М.: Астрель: ACT, 2003 (Ульяновск: ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати»). 1021, [3] с; 24x17 см. На пер. также:
Около 16 000 слов и свыше 4000 фразеологизмов,
принадлежащих к ненормативной лексике. На с. 4: Основные
лексикографические источники (14 назв.). 5000 экз. (В пер.).
Кляйн, Мэри, сост. — См.: Макловски, Т. и др.; Щуплов, А.Н.
Козлов, И.Б., сост. [«Брошюра отборного английского
мата и пошлого сленга... с точным переводом на русский
язык»]. Новосибирск, нач. 1992. 8 с. типогр. текста на
одном листе; 29x41 см (сложен до 14,5x10 см). Рассылалась в
письмах за 30 р. Заглавие взято из письма.
Козловский, Владимир. Арго русской гомосексуальной
субкультуры: материалы к изучению / В. Козловский. [Веп-
592
son (Vermont)]: Chalidze Publications, 1986. 228 c; 21 см.
На об. тит. л.: Vladimir Kozlovsky. The argot of the Russian
gay subculture: Research materials . Copyright 1986 by
Chalidze Publications. Published by Chalidze Publications.
Benson, Vermont 05731. Manufactured in USA. Содерж.:
Оглавление. С. 3; От составителя / В. Козловский (Нью-Йорк,
1985). С. 5; Предисловие. С. 6-33; Библиография. С. 33-34
(38 назв.); Основные сокращения. С. 35—36; Часть 1: Арго
русской гомосексуальной культуры. С. 37—86 (Введение.
С. 37—38; Словник. С. 39—74; Некоторые выражения. Из
лексикона одной гомосексуальной компании. С. 75—76;
Гомосексуальные клички. С. 77—86 (№ 1—197)); [Часть 2:
Гомосексуализм в тюрьме], С. 87—146 (Введение:
[Дополнение к главе «Странный народ» из книги Э. Кузнецова
«Мордовский марафон», эта глава полностью приведена в
Приложении V]. С. 87— 118; Словник. С. 119—146);
Приложение I: Гомосексуалисты и власть. С. 147—168;
Приложение [II]: Энциклопедии о гомосексуализме. С. 169—179
(Брокгауз и Ефрон. С. 169-170; БСЭ - 1-е изд. С. 171-177;
БСЭ — 2-е изд. С. 178—179); Приложение III: «Открытое
письмо» Г. Трифонова и «Листовка» Е. Харитонова. С. 180—195;
Приложение IV: Разбойные нападения на
гомосексуалистов / Яков Айзенштадт. С. 196—199; Приложение V:
Странный народ: [Из книги «Мордовский марафон», Иерусалим,
1979]. С. 200—210; Приложение VI: Разговоры с
гомосексуалистом и лесбиянкой. С.211—228. (Вобл.).ВРГБ —м/фильм.
Указан в изд.: Быков. Русская феня. 1994. С. 5, 219.
Козловский, Владимир, сост. — См.: Собрание русских
воровских словарей: в 4 т.
Колесников, Николай Павлович, сост. Поле русской
брани: словарь бранных слов и выражений в русской
литературе (от Н.[! И.]С. Баркова и A.C. Пушкина до наших
дней) / [сост.] Н.П. Колесников, Е.А. Корнилов; [под
ред. д-ра филол. наук Ю.А. Гвоздарева]. Ростов-на-Дону:
«Феникс», 1996 (Ростов-на-Дону: АО «Книга»). 381, [3] с;
20x13 см. Содерж.: От составителей. С. 3—13; Структура
словарных статей. С. 14—18; [Словарь] А—Я. С. 19—347;
Список источников и сокращений. С. 348—378 (344
автора); Словари и справочники. С. 379—381 (21 назв.). 10 000 экз.
(В пер.). Информация об участии Ю.А. Гвоздарева отра-
593
жена только на об. тит. л. в макете аннотированной
карточки. В РГБ нет.
Он же. Толковый словарь названий женщин: более 7000
единиц / [сост.] Н.П. Колесников. М.: [ООО Изд-во] Ас-
трель: [ООО Изд-во] ACT, 2002 (Тверь: ФГУП Тверской
п/к детской лит.). 607, [1] с; 17x10,5 см. Содерж.: От
редакции. С. 3; От автора. С. 4—7; Как пользоваться
словарем. С. 8—10; Список сокращений. С. 10; Пометы. С. 11;
Алфавит. С. 12; [Словарь] А—Я. С. 13—583; Приложения.
С. 584—607, [1] (1. Субстантивированные прилагательные,
обозначающие лиц женского пола. С. 584—585; 2.
Названия женщин по месту жительства. С. 585—603; 3. Имена
женщин, упоминаемых в Библии. С. 603—607, [1]. Тир. не
указан. (В пер.). Обсценные слова: «блядунья», «блядь»,
«минетчица», «пиздорванка» и др.
Копорский, Сергей Александрович, сост. Воровской жаргон
в среде школьников: (по материалам обследования
ярославских школ) /С.А. Копорский // Вестник
просвещения: ежемес. обществ.-пед. журн. Моск. обл. отдела нар.
образования. М., 1927. № 1. С. 7-12; 26 см.;
Он же. Воровской жаргон в среде ярославских
школьников // Ярославский край: [в 2 вып.] Ярославль, 1928 (обл.
1929). Сборник I. С. 45—59; 26 см. (Ярославское
естественно-ист. и краеведч. о-во. Труды секции краеведения; т. 3,
вып. 1). На с. 49—59: Словарь. Около 80 слов.
Корнилов, Евгений Алексеевич, сост. — См.: Колесников, Н.П.
Коровушкин, Валерий Пантелеймонович, сост. Словарь
русского военного жаргона: Нестандартная лексика и
фразеология вооруженных сил и военизированных
организаций Российской империи, СССР и Российской Федерации
XVIII—XX веков / [сост.] В.П. Коровушкин.
Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. 371, [1] с; 18,5x12 см.
Парал. тит. л. англ. Содерж.: Предисловие (на рус. и англ.) /
В.П. Коровушкин. С. 5—6; Принципы организации и
структура словника. С. 7—13; Список принятых сокращений и
условных знаков. С. 14—27; [Словарь] А—Я. С. 28—344;
Список использованной литературы. С. 345—371 (894 назв.).
Около 8000 слов. 1200 экз. Тип. не указана. (В обл.).
594
Коршунов, A.C., сост. — См.: Толковый словарь... 1991.
Косцинский, К. Ненормативная лексика и словари: (к
постановке вопроса) / К. Косцинский (Ленинград, 1976) //
Russian linguistics: International Journal for the Study of the
Russian language; Founded by Alexander V. Issatschenko;
Editors: L. Durovic, A.G.F. Van Hoik. Dordrecht (Holland);
Boston (USA): D. Reidel Publishing Company,1980 (Printed
in the Netherland). Vol. 4, № 4, April. P. 363-395; 24 см.
Он же. Словарь русской ненормативной лексики:
(краткий проспект) // Russian linguistics. 1980. Vol. 5, № 2, Dec.
P. 133-155. В РГБ нет.
Кохтев, Александр Николаевич, сост. — См.:
Международный словарь непристойностей.
Краткий словарь Сибирского воровского жаргона:
пособник агентам Уголовного розыска. [Омск]: Изд. отдела
Сибирского уголовного розыска Упр. Сибирской рабоче-
крестьянской милиции, 1921. Указано в изданиях: Якимов,
И.Н. Криминалистика... м.: Изд. НКВД РСФСР, 1925.
С. 235, 412 (в разделе «Литература», № 5: «Блатная музыка.
Краткий словарь Сибирского воровского жаргона. Изд.
Отд. Сиб. Уг. Роз. 1921»); Он же. То же. 2-е изд. М., 1929.
С. 27; Лихачев, Д. С. Черты первобытного примитивизма
воровской речи // Язык и мышление. М.; Л., 1935. Т. III—
IV. С. 98 (Библиография «Литература о русском арго»);
Смолин. 1990. С. 3. В РГБ (группа ЛДСП) нет.
Краткий словарь современного русского жаргона. 1965. —
См.: Крестинские, М.М. и Б.П.
Краткий толковый словарь уголовных жаргонов /
[составители: Рогожин В.А. (к. ю. н.), Бочарникова Л.Н.,
Михайлова Н.М., Скорнякова Л.Г.]; Белгородская высшая
школа МВД РФ, Кафедра уголовного права,
криминологии и УИП. Белгород: [НИ и РИО Белгородской высшей
школы МВД РФ], 1997 (Белгород: Участок оперативной
полиграфии). 21, [1]—22, [1] = [24] с, вкл. обложки; 21x15
см. Без тит. л. Описано по обл. 300 экз.
595
Крестинские, М.М. и Б.П., сост. Краткий словарь
современного русского жаргона / составили М.М. и Б.П.
Крестинские. [Frankfurt а. М.]: Посев, 1965. 31, [1] с; 15x10 см.
Около 400 слов. (В обл.).
Кулагина, Алла Васильевна, сост. Метафорическая
эротическая и скатологическая лексика / сост. A.B. Кулагина //
Заветные частушки из собрания А.Д. Волкова: в двух томах /
издание подготовила A.B. Кулагина. М.:
Научно-издательский центр «Ладомир», сор. 1999 (Вологда: ПФ
«Полиграфист», подл, в печать 24.12.98). Т. 1: Эротические
частушки. С. 731—761; 21x13 см. (Русская потаенная литература;
[т. 14]). Там же на с. 762—763: Словарь ругательств / Сост.
A.B. Кулагина. 5000 экз. (В пер.).
Ларк, Виктор Августович, сост. — См.: Блат-задачник. 1992.
Лебедев, Василий Иванович, сост. Краткий словарь
воровского языка // Лебедев, В.И. Справочный указатель для
чинов полиции: фотографии профессиональных
преступников по категориям, с очерком антропометрии и
приложением краткого словаря воровского языка / составлен
начальником Моск. сыскной Полиции В.И. Лебедевым.
М.: Тип. Н.И. Пастухова, 1903. С. 147-152; 17,5x11 см. 145
слов. Указан в изд.: Попов, В.М. Словарь... 1912. С. 9;
Козловский. Т. 1. С. 13.
Он же. Словарь воровского языка / [сост.] В. Лебедев //
Вестник полиции: еженед. журнал с ил. СПб., 1909. № 22.
[Предисл.]. А-К. С. 456-458; № 23. Л-П. С. 477-478;
№ 24. Р-Я. С. 499-500; 31 см. Около 400 слов;
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. I. С. 195—208.
Леонов, А.И., сост. — См.: Толковый словарь... 1991.
Лесников, Сергей Владимирович, сост. Словарь русских
словарей: [более 3500 источников] / [сост.] С.В.
Лесников; [предисл. проф. В.В. Дубичинского (с. 8)]. М.: [ООО
«Азбуковник»: ООО «Управление технологиями»,
организатор издания A.A. Шумейко], 2002 (М.: ГУЛ Моск. тип. №
2). 327, [1] с; 25x17 см. 500 экз. (В пер.). На с. 38, 125-130:
Словари по лингвистическому объекту. С учетом регио-
596
нального/социального признака. С учетом проявления
асоциальности (арго — № 1179—1187; жаргон — № 1188—
1243; сленг - № 1244-1257; мат - № 1258-1268;
просторечие - № 1269-1288). [Далее: Лесников.]
Лихачев, Дмитрий Сергеевич. Черты первобытного
примитивизма воровской речи / Д.С. Лихачев // Язык и
мышление = Le langage et la mentalite / АН СССР, Ин-т языка и
мышления им. Н.Я. Марра: [Сб. статей]. М.; Л.: Изд-во
Акад. наук СССР, 1935. Т. III—IV. С. 47-100 [с приложением
библиографии (с. 94—99): «Литература о русском арго»
(150 назв.)]; 25,5x16,5 см. 3165 экз.;
Перепечатано в изд.: Словарь тюремно-лагерно-блатно-
го жаргона. [Одинцово (Моск. обл.)]: Края Москвы, 1992.
С. 354-398;
Переиздано [в новой ред.]: Лихачев, Д.С. Статьи ранних
лет / Дмитрий Лихачев. Тверь: Тверское обл. отд-ние Рос.
фонда культуры, 1993 (Тверской и/к). С. 54—94, 139—145;
26x16 см. 13 500 экз. (В пер.).
Лурье, В., соавтор. — См.: Фаин, А.П.
Мак-Киенго, Уоялер [псевд.] — См.: Мокиенко, В.М.
Макловски, Томас, сост. Жаргон-энциклопедия
московской тусовки: научное издание: [в 2 вып.] / [сост.] Томас
Макловски, Мэри Кляйн, Александр Щуплов. М.: ACADE-
МІА, 1997 (Люберцы: ПИК ВИНИТИ). 20,5x14 см. (Серия
«Собеседники ангелов»). Под одной обложкой (тексты
перевернуты). 1000 экз. [Вып. 1]: А— М. 147 с: ил.; [Вып. 2]:
Н-Я. 141 с: ил.
Они же, сост. Жаргон-энциклопедия сексуальной
тусовки: научное издание: [в 2 вып.] /[сост.] Томас Макловски,
Мэри Кляйн, Александр Щуплов. М.: [ООО «Лист Нью»:
Роман В. Савичев], 1998 (Рязань: ТОО «Рязоблтип.»).
21x15 см. (Серия «Собеседники ангелов»). Под одним
переплетом (тексты перевернуты). 2000 экз. [Вып. 1]: Для
детей от 8 месяцев до 18 лет: (ЖЕСТ-1). 259, [2] с: ил.;
[Вып. 2]: Для детей от 18 до 80 лет и дальше: (ЖЭСТ-2).
312, [2] с: ил. В РГБ нет.
Макловски, Т., сост. — См.: Щуплов, А.Н. и др.
597
Максимов, Сергей Васильевич. Тюремный словарь и
искусственные байковые, ламанские и кантюжные языки //
Максимов, СВ. Сибирь и каторга: в трех частях / [соч.]
С. Максимова. С.-Петербург: Тип. А. Траншеля, 1871. Ч. 1:
Несчастные: [В дороге, на каторге, в бегах, на пропитании
и на поселении. Прибавления: I. Тюремные песни. II.
Тюремный язык]. С. 429—459 (Прибавления: II); 22 см. Около
220 слов. На с. 446 сноска: «Музыка, или Словарь
карманников, т. е. столичных воров, которым мы пользуемся в
настоящем случае, составлен в 1842 году, проверен и дополнен
сообщениями новых и подтверждением старых слов в
прошлом 1869 году». При составлении данного словаря СВ.
Максимов использовал писарскую рукопись В.И. Даля (см.).
Максимов ский, Эдвард Григорьевич, сост. Русский язык за
решеткой: Это и есть по «фене» // Империя страха /
[автор-составитель] Издатель Эдвард Максимовский. М.:
Изд-во «Зеленый парус», 1992 (М.: Тип. «Красная звезда»).
Гл. 5. С. 146-178; 26x17 см. 100 000 экз. (В обл.).
Мальцева, Раиса Ивановна, сост. Словарь молодежного
жаргона / [сост.] Р.И. Мальцева; М-во общ. и проф.
образования РФ, Кубанский гос. ун-т; [под ред. д-ра филол. наук
Т.Х. Каде]. Краснодар: Изд-во Кубанского гос. ун-та, 1998
(Краснодар: Подразделение оперативной полиграфии
КубГУ). 180, [2] с; 21,5x15 см. Содерж.: Предисловие.
С. 3—14; Состав словаря. С. 15—22 [на с. 20:
«Лексикографические источники» (№ 1—7)]; [Словарь] А—Я. С. 23—
180. 500 экз. (Впер.).
Мардер, Стефен А., сост. Дополнительный
русско-английский словарь: Новая лексика 90-х годов / [сост.]
Стефен Мардер = A Supplementary Russian-English dictionary /
By Stephen Marder. M.: Вече: Персей, 1995 (Тула: Тульская
тип.). XVI, 522, [6] с; 20x14 см. Содерж.: От издательства.
С. III; Введение / С. Мардер (август 1994). С. ІѴ-Х ;
Библиография. С. XI—XV (91 назв. на рус, 32 назв. на англ.);
[Словарь] А-Я. С. 1-522. 20 000 экз. (В пер.).
Маро, Мария Исааковна, сост. [Словарь воровского
жаргона беспризорников] // Маро, М.И. Беспризорные: Со-
598
циология. Быт. Практика работы / Маро (М.И.
Левитина); с предисл. проф. А.Б. Залкинда. [М.]: Новая Москва,
1925 (М.: 3-я тип. «Красная Пресня» Мосполиграфа).
С. 170—172; 17x13 см. (Б-ка «Вестника просвещения»).
8000 экз. (В обл.). Загл. словарю присвоено составителем.
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. III. С. 5—9.
Марусте, Райт Альбертович. Преступная субкультура в
татуировках, жестах и в сленге. Тарту: Изд-во Тартуского
ун-та, 1988. Указан: Мокиенко. 2003. С. 424. В РГБ нет.
Материалы для словаря условного языка: [I]—III //
Этнографическое обозрение. М., 1897. № 2 / под ред. H.A. Ян-
чука. Содерж.: [I]: («Масовский» язык одоевских
торговцев) / Н. Я[нчук]. С. 152-155; М., 1898. № 4 / под ред.
H.A. Янчука. Содерж.: II / Н. Я[нчук]. С. 143-145; III /
Н.[М.] Мендельсон. С. 145—147. Заметка Н.М.
Мендельсона, опубликованная без названия под № III в
редакционной подборке «Материалы для словаря условного языка»,
превратилась в трех изданиях «Словаря... арго» B.C. Ели-
стратова в статью: «Мендельсон Н. Материалы для словаря
уголовного [!] языка // Этногр. обозрение. 1898. № 4.
С. 143-147» (см.: М., 1994. С. 676; М., 2000. С. 688), вобрав
в себя и заметку Н. Я[нчука] под № II (с. 143—145); в таком
гибридном виде включена в прикнижные
библиографические списки других авторов, то и дело упоминается в
Интернете.
Материалы Отдела режима и оперработы УИТЛК.
г. Свердловск, 1952 г. (Фрагменты). 6 с. Опубл. по маш.
пис. копии в изд.: Козловский. Т. ГѴ. С. 61—66.
Махов, Вадим Николаевич, сост. Словарь блатного
жаргона в СССР: (посвящается 100-летию «Крестов») / [сост.]
В. Махов. Харьков: Фирма «Вожена», 1991. Указан в изд.:
Сидоров, A.A. Словарь... 1992. С. 15; Мокиенко. 2003. С. 424.
В РГБ нет.
Международный словарь непристойностей:
путеводитель по скабрезным словам и неприличным выражениям
в русском, итальянском, французском, немецком, испан-
599
ском, английском языках /под редакцией Александра
Николаевича Кохтева. [Б. м.]: АВИС-пресс, сор. 1992. 91, [5]
с; 20x14 см. Парал. тит. л. на англ. Без вып. дан. Из
содерж.: Предисловие / А.Н. Кохтев. С. 5—7; Сравнительная
таблица. С. 8—9; Russian. С. 11—26; Этимологический и
толковый словарь некоторых непристойных слов. С. 81—
82; Крайние вульгаризмы: Социально-культурная оценка /
Кохтев H.H., канд. филол. наук, доцент. С. 83—88;
Сокращения русские. С. 89. (В обл.).
Мейер, Андрей. Описание Кричевского графства или быв-
шаго староства Гр. Ал. Потемкина, в ста верстах от Дубров-
ны, между Смоленскою и Могилевскою губерниею.
Рукопись 1786 г. в библиотеке Казанского ун-та, № 1554:
[список отверпшріой, или отвращенной, речи — 46 выражений
(60 слов) из рукописи] // Максимов, СВ. Сибирь и
каторга: В трех частях / [Соч.] С. Максимова. С.-Петербург: Тип.
А. Траншеля, 1871. Ч. 1: Несчастные. С. 442—443
(Прибавление II: Тюремный словарь и искусственные байковые,
ламанские и кантюжные языки).
Меликян, Вадим Юрьевич. Словарь:
эмоционально-экспрессивные обороты живой речи / В.Ю. Меликян. М.: Изд-
во «Флинта»: Изд-во «Наука», 2001. (Великие Луки: ГУП
«Великолукская гор. тип.»). 239, [1] с; 20,5x14 см. Из
содерж.: [Словарь] А—Я. С. 45—221; Список коммуникем.
С. 222-239. 3000 экз. (В обл.).
«Мендельсон Н. Материалы для словаря уголовного [!]
языка // Этногр. обозрение. 1898. № 4. С. 143—147». Цит. по:
Елистратов. 1994. С. 676; 2000. С. 688. Описание ошибочное.
Меркулова, Анастасия Станиславовна, сост.
Словарь-справочник жаргонной лексики наркоманов / [сост.: A.C.
Меркулова]; М-во образования Рос. Федерации, Тамбовский
гос. ун-т им. Г.Р. Державина. Тамбов: [Изд-во Тамб. ун-та],
2001 (тип. не указана). 22, [2] с: 20,5x14,5 см. 35 экз. (В обл.).
«Метлицкий М.Ю. и др. Словарь русского мата. Минск:
Союз любителей изящной словесности, 1992». Цит. по:
Плуцер-Сарно. 2001. В РГБ нет.
600
Мильяненков, Лев Александрович, сост. Жаргонные и
бытовые наименования // Мильяненков, Л.А. По ту сторону
закона: энциклопедия преступного мира / Лев
Мильяненков. Санкт-Петербург: Ред. журнала «Дамы и господа»,
1992. С. 289-313; 20x13 см. 120 000 экз. (В пер.).
Он же, сост. Словарь жаргонных слов и выражений //
Мильяненков, Л.А. По ту сторону закона: энциклопедия
преступного мира. СПб., 1992. С. 75—288. Использованная
литература: с. 314—316, [1] (46 назв.).
Миртов, Алексей Васильковий, сост. Из лексикона
ростовских беспризорников и босяков // Миртов, A.B. Донской
словарь: материалы к изучению лексики донских казаков /
A.B. Миртов. Ростов на Дону, 1929 (Тип. Кубполиграфа в
Краснодаре). Стб. 409—415; 25x18 см. (Труды
Северо-Кавказской Ассоциации научно-исслед. ин-тов; № 58: Н.-и.
институт изучения местной экономики и культуры при
Северо-Кавказском гос. ун-те; вып. 6). 1000 экз. (В обл.);
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. III. С. 137—147;
Он же. То же. Репр. изд. Leipzig, 1971 (Berlin: Druck).
Стб. 409-415.
Митрофанов, Евгений Владимирович, сост. Молодёжный
сленг: опыт словаря / [сост.] Е.В. Митрофанов, Т.Г.
Никитина. М.: Издано Ю.Н. Кушковым: «Из глубин», 1994 (Тип.
не указана). [2], 276, [2] с; 20,5x14 см. Содерж.:
Предисловие / Авторы. С. 3—5; Список сокращений. С. 6;
[Словарные статьи] А—Я. С. 7—259; Указатель синонимических
рядов. С. 259-273; Библиография. С. 274-276, [1] (№ 1-76,
1—42+7). Более 3500 слов. Тир. не указан. (В пер.).
Моисеев, Владимир, сост. «Русский мат: краткий
перечень и самоучитель выражений неофициального русского
языка (Moisejew Wladimir. Leitfaden und Lernhilfe für die
nichtoffizielle russische Umgang-ssprache). Leipzig, 1993».
Цит. по: Мокиенко. 1997; 2003. С. 430. В РГБ нет.
Мокиенко, Валерий Михайлович, сост. Большой словарь
русского жаргона: 25 000 слов, 7000 устойчивых
сочетаний/[сост.] В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина; Санкт-Пе-
терб. гос. ун-т, Межкафедральный словарный кабинет им.
601
проф. Б.А. Ларина. СПб.: Норинт, 2000. 716, [4] с; 26x20
см. Содерж.: К читателю. С. 3; Предисловие. С. 4—9; Как
пользоваться словарем. С. 10—14; Список сокращений.
С. 15-17; Источники. С. 18-27 (350 назв.); [Словарь] А-Я.
С. 29—716, [1]. Текст — в три столбца. 8000 экз. (В пер.).
Мокиенко, В. М., сост. Словарь русской бранной лексики:
(матизмы, обсценизмы, эвфемизмы с историко-этимологи-
ческими комментариями): А-А—ЯЯ/ [сост.] В.М. Мокиенко.
[1-е изд.] Berlin: Dieter Lenz Verlag, 1995. XXV, 151 S. 300 экз.
В РГБ нет;
[Мокиенко, В. М, сост.] Словарь русской брани: А-А—ЯЯ /
[сост.] Уоллер Мак-Киенго [псевд.]; [вступ, ст. «Русская
бранная лексика: цензурное и нецензурное» (с. 7—25) и
ред. В.М. Мокиенко]. [2-е изд., испр., доп.] Калининград:
[ТОО «КЛ и МА-Т», сор. 1997] (Калининград: Тип. гос.
ИПП «Янтарный сказ», подп. в печать 15.07.97 г.). 263, [1] с;
26x17 см. Содерж.: Вместо предисловия / Проф. Уоллер
Мак-Киенго, ин-т славистики Макгрегорианского ун-та
им. П. Мак-Картни (25 окт. 1996 г., Ирландия) [псевд.]
С. 3—6; Русская бранная лексика: Цензурное и
нецензурное / В.М. Мокиенко. С. 7—25; Использованная
литература. С. 26—40 (245 назв. на рус. яз. и 105 на ин. яз.);
Сокращения. С. 41-44; Словарь. С. 45-260. 5000 экз. (В обл.);
Мокиенко, В.М., сост. Словарь русской брани: матизмы,
обсценизмы, эвфемизмы: 4400 слов и 4000 устойчивых
сочетаний / [сост.] В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина; Санкт-
Петерб. гос. ун-т, Межкафедр, словарный кабинет им.
проф. Б А. Ларина. [3-е изд., перераб.]. Санкт-Петербург:
[ЗАО] «Норинт», 2003 (Можайск: ОАО «Можайский п/к»).
447, [1] с; 21,5x12 см. Содерж.: Вместо предисловия. С. 3—
9; Русская бранная лексика: Цензурное и нецензурное:
[Предисл.] С. 10—61; Сокращения. С. 62—64; Как [не]
пользоваться словарем. С. 65—70; [Словарь] А—Я. С. 71—410;
Литература. С. 411—447 (539 назв. на рус. яз. и 212 наин. яз.).
6000 экз. (В пер.). [Далее: Мокиенко. 2003.]
Мокиенко, В.М., соавтор. — См.: Грачев, М.А. Историко-
этимологический словарь воровского жаргона. 2000.
«Народныя выражения, поговорки, приговорки,
пословицы, ругательныя слова»: [«Листки из записной
книжки. «Эротона», записанная на фронте в 1914—1916 гг. среди
602
солдат и частью офицеров. Подарена 8/Ѵ—1925 г. М.А. Цяв-
ловским»]. 18 отд. листов. (14x9 см.) Рукой
неустановленного лица. Место нахождения: РГБ. Коллекция Н.В. Ско-
родумова.
Никитина, Татьяна Геннадиевна, сост. Так говорит
молодёжь: словарь сленга: по материалам 70-х—90-х годов /
[сост.] Т.Г. Никитина. М.: Из глубин, 1996 (Тип. не
указана). 280 с; 20,5x14,5 см. Около 4000 слов. Содерж.:
Предисловие. С. 3; Как пользоваться словарем. С. 4—7;
[Словарные статьи] А—Я. С. 8—256; Указатель синонимических
рядов. С. 257-273; Список источников. С. 274-279 (№ 1-
80 + № 1—46 + 8 назв.). Тираж не указан. (В обл.);
Она же. Так говорит молодёжь: словарь молодежного
сленга: [по материалам 70—90-х годов / сост.] Т.Г.
Никитина. Изд. 2-е, испр. и доп. [за счет материалов 1996—1998 гг.].
Санкт-Петербург: Фолио-Пресс, 1998 (СПб.: ГП тип. им.
И.Е. Котлякова). 587, [5] с; 20,5x12 см. Содерж.:
Предисловие. С. 3; Как пользоваться словарем. С. 4—5; Список
сокращений. С. 6—8; [Словарь]. С. 9—542; Указатель
синонимических рядов. С. 543—579; Список источников.
С. 580-578 (93+50+8 назв.). 10 000 экз. (В пер.);
Она же. Словарь молодежного сленга, 1980—2000 гг. /
[сост.] Т.Г. Никитина. Изд. 3-е, испр. и доп. СПб.: Фолио-
Пресс; Норинт, 2003. (СПб.: ФГУП «Печатный двор»).
701, [3] с; 21x12,5 см. Из содерж.: Предисловие. С. 5—8;
[Словарь] А-Я. С. 14-692; Список источников. С. 693-701
(116+62+9 назв.). 6000 экз. (В пер.);
Она же. Молодежный сленг: толковый словарь: более
12 000 слов, свыше 3000 фразеологизмов / [сост.] Т.Г.
Никитина. М.: Астрель: ACT, 2003 (Минск). 910, [2] с; 21 см.
Источники словаря: с. 901—908 (№ 1—192).
Никитина, Т.Г., сост. — См.: Митрофанов, Е.В.; Мокиен-
ко, В.М.
Никольский, В.Д., сост. — См.: Nikolski, V.D.
Никонов, Александр, сост. Словарь-самоучитель //
Никонов, Александр. Хуевая книга: документальная ностальгия:
(фамилии известных и исторических деятелей не
изменены) / Александр Никонов; [худож. Д. Матвеев]. [М.: Изд-во
603
«Васанта», сор. 1994] (Таганрог: АОЗТ «Полиграфобъдине-
ние»). С. 132—150 (Приложение 1); 20x14 см. Тир. 1 завода —
20 000 экз. (В ил. обл.). В РГБ украдена с автографом автора;
Он же. Хуевая книга: документальная ностальгия /
Александр Никонов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: [Васанта],
1996 (М.: Тип. ордена «Знак почета» изд-ва МГУ). С. 146—
165 (Приложение 1); 22x14 см. (Библиотека скандального
романа). 999 экз. (В пер. и суперобл.).
Никоноров, Михаил Григорьевич, сост. Сборник
жаргонных слов и выражений, употребляемых в устной и
письменной форме преступным элементом: для служебного
использования / [сост.] М.Г. Никоноров; МВД СССР, Гл.
упр. исправ. труд, учреждений. М., 1978. [2], 84 с; 20 см.
Около 2000 слов;
Он же. Сборник жаргонных слов и выражений,
употребляемых преступным элементом, а также символов
некоторых татуировок, наносимых им на тело. [2-е изд., доп.] М.:
МВД СССР, ГУИТУУ, 1983. 217 с. Указан: Смолин. 1990.
С. 165; Мокиенко. 2003. С. 427. В РГБ (группа ЛДСП) нет.
O.K., сост. Арестантский словарь: [с объяснениями
слов] / [сост.] O.K. [псевд.] // Тюремный вестник: еже-
мес. /Издание Главного Тюремного Управления. СПб.,
1913. Март. С. 530-566; 28 см;
Репр. воспр. в изд.: Козловский. Т. II. С. 103—141.
[Об особом условном языке Русских мошенников и
разбойников (волжских, Ваньки Каина), а также о тайном
языке (argot) Парижских плутов с приведением этих слов
на фр. языке] / Без подписи // Московский Телеграф, /
издаваемый Николаем Полевым. М.: В унив. тип., 1828.
Ч. 24, № 23, дек. С. 382-383 (в разделе VI: Смесь, разные
известия); 22x13 см. Без заглавия. Заглавие присвоено
составителем по первой строке текста и его содержанию;
[Об условном языке прежних Волжских разбойников:
отклик на предыдущую публикацию «В 23-й книжке
Телеграфа 1828 года на странице 382-й»] / г-н Бояркин //
Московский Телеграф... М.: В тип. Августа Семена, 1829. Ч. 26,
№ 7, апр. С. 352—353 (в разделе VI: Смесь, разные известия).
Заглавие присвоено составителем по первой строке текста.
604
Оба эти заглавия, сочиненые в иной форме Д.С.
Лихачевым и включенные им в соответствующую
библиографию, не были заключены будущим академиком в
квадратные скобки.
Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и
через Московию в Персию и обратно / Адам Олеарий;
Введение, перевод [с нем. по изд. 1656 г.], примечания и
указатель А.М. Ловягина; С 19 рисунками на особых листах и
66 рисунками в тексте. С.-Петербург: Издание A.C.
Суворина, 1906 (СПб.: Тип. A.C. Суворина). [8], XXVIII, [2], 582,
[2] с: ил., [19] л. вклеек; 29x20,5 см. (В обл.) На с. 186: «...то
между ними начался рьяный спор о значении: "бл..инъ
с.ъ, с.инъ с.ъ, . б. т... м...ръ" и другая гнусныя слова...»; в
примечании на с. 546 (к с. 186 — «спор о значении»)
говорится: «После этого в подлиннике: Bledinsin, Sukkinsin,
butzfui matir». На с. 187: «Вместо этого у них
употребительны многая постыдныя, гнусныя слова и насмешки, кото-
рыя я — если бы того не требовало историческое
повествование — никогда не сообщил бы целомудренным ушам. У
них нет ничего более обычнаго на языке: как "бл...нъ с.ъ,
с.нъ с.ъ, собака, . б. т... м.ть, .6..а м..ть", причем
прибавляется "въ могилу, in os ipsius, in oculos" и еще иныя тому
подобныя гнусныя речи. Говорят их не только взрослые и
старые, но и малыя дети, еще не умеющия назвать ни Бога,
ни отца ни мать, уже имеют на устах это: ". б. т... м.ть" и
говорят это родителям дети [!], а дети — родителям [!]»; в
примечании к переводу на с 546 (к с. 187 — «на языке»):
«После этого в подлиннике: Bledinsin, Sukkinsin, sabak,
butzfui mat, jabona mat». На с. 191: «...на это он с обычным
их: ".б. т... м.ть" отвечал»; в примечании на с. 546: «После
этого в подлиннике: je butzfui mat (изд. 1656 г.); ja butzfui
Matir (изд. 1647 г.)».
Он же. Описание путешествия в Московию: [По тексту
«Введения» (с сокращением) и Кн. I—III изд.: Олеарий
Адам. Описание путешествия в Московию и через
Московию в Персию и обратно: [В 6 кн.] / Введ., пер. [с нем. по
изд. 1656 г.], примеч. и указатель А.М. Ловягина. СПб.:
Издание A.C. Суворина, 1906] / Адам Олеарий. М.: [Научно-
производственная фирма] «Российские семена», 1996 (М.:
п/ф «Красный пролетарий»). 366, [2] с: ил.; 25x17 см. (В
605
пер.) Тир. 11 000. Приведены тит. лист на нем. яз. изд.
1656 г. и его перевод на русский. На с. 193: «...рьяный спор
о значении: "бл...ин сын, сукин сын, ...б твою матерь" и
другие гнусные слова...»; на с. 347 в примечании к слову «о
значении»: «После этого в подлиннике: Bledinsin, sukkin-
sin, butzfui matir». На с. 194: «У них нет ничего более
обычного на языке: как "бл...н сын, сукин сын, собака, ...б твою
мать, ...б..а мать", причем прибавляются "в могилу, in os
ipsius, in oculos" и еще иные тому подобные гнусные
речи»; на с. 347 в примечании к слову «на языке»: «после
этого в подлиннике: Bledinsin, sukkinsin, sabak, butzfui mat,
jabona mat». На с. 198: «...на это он, с обычным их: "...б
твою мать" отвечал»; в примечании на с. 347: «после этого
в подлиннике: je butzfui mat (изд. 1656 г.); ja butzfui Matir
(изд. 1647 г.)».
Он же. Подробное описание путешествия голштинско-
го посольства в Московию и Персию в 1633,1636 и 1639
годах, составленное секретарем посольства Адамом Олеари-
ем: [Кн. I—VI] / Перевел с немецкого Павел Барсов;
Издание имп. Общества истории и древностей российских при
Моск. ун-те. М.: В унив. тип. (Катков и К°), 1870. [2], ХГѴ,
76,1038,2,32, X с; 26x17 см. Из: «Чтения в имп. О-ве истории
и древностей российских при Моск. ун-те 1868—1870 гг.»
[1868. Кн. 1-4; 1869. Кн. 1-4; 1870. Кн. 2]. Перевод с нем.
изд. 1663 г. (3-е изд.). На с. 174: «Он затеял с ним страшный
спор: б сынъ, с... сынъ и другия бранныя слова были их
отборными титлами друг друга». На с. 175: «Выражая свой
гнев и ругательства, они не употребляют общеупотреби-
тельныя, к сожалению, у нас бранныя проклятия и
пожелания, каковы на примере: будь проклят, убирайся к чорту,
шельма и проч., но, вместо того, прибирают весьма понос-
ныя и отвратительныя слова и срамныя выражения,
которыми я не решился бы оскорблять ухо читателя, если б не
требовала от меня того обязанность историка. У них
постоянно на языке: б сынъ, с сынъ, собака, и другия
матерныя и сквернословныя брани и выражения,
которыми бранятся не одни только взрослые и старые люди, но и
малыя дети, знающия эти слова прежде, чем они узнают
название Бога, отца и матери, и такая срамная брань
одинаково употребляется, как родителями против детей, так
и детьми против родителей».
606
Отин, Евгений Степанович. Материалы к словарю
субстандартной лексики // Восточноукраинский
лингвистический сборник: [Сб. науч. тр.] / М-во образования
Украины, Донецкий гос. ун-т. Донецк: Донеччина, 1996. Вып. 2.
С. 150-165; 1998. Вып. 4. С. 53-81; 1999. Вып. 5. С. 180-193;
20 см.;
Он же. То же // Избранные работы: [в 2 т.] / Е.С. Отин;
М-во образования Украины, Донецкий гос. ун-т. Донецк:
Донеччина, 1999. Т. П. С. 335-397; 21 см. Указан: Макиенко.
2003. С. 428. В РГБ нет.
Панин, Димитрий Михайлович, сост. Словарь:
некоторые блатные и жаргонные выражения // Панин, Д.М.
Записки Сологдина. Кн. 1 / Димитрий Панин. [Frankfurt а.
М.]: Посев, сор. 1973. С. 565-569; 16,5x11x3,5 см. (В обл.).
Пильщиков, Игорь Алексеевич, сост. Указатель слов и
значений, не представленных в «Словаре языка Пушкина» //
Пушкин, A.C. Тень Баркова: тексты / A.C. Пушкин.
Комментарии [к «Тени Баркова» / М.А. Цявловского, И А. Пилыцико-
ва, М.И. Шапира]. Экскурсы [/ A.A. Илюшин, A.A. Доб-
рицын, М.И. Шапир, И.А. Пильщиков; к сборнику в целом:]
издание подготовили И.А. Пильщиков и М.И. Шапир;
[Российская Академия Наук, Отделение литературы и языка;
Philologica: двуязычный журнал по русской и теоретической
филологии; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; Ин^г
мировой культуры]. М.: [Изд.-во] «Языки славянской культуры»:
[Издатель А. Кошелев: Рапространитель — магазин «Гно-
зис»], 2002 (М.: ППП «Типография "Наука"», подп. в печать
09.11.2001). С. 349-352; 24x16,5 см. (Philologicarussicaet spe-
culativa; tomus II). 81 слово. 1000 экз. (В пер.).
Пириев, А., сост. Словарь жаргона преступников: для
служебного пользования / [сост.] А. Пириев. Баку, 1987.
Около 1500 слов. Указан в изд.: Быков. Русская феня. 1994.
С. 4, 219; Макиенко. 2003. С. 428. В РГБ (группа ЛДСП) нет.
Пирожков, Виктор Федорович (д-р психол. наук), сост.
Толковый словарь уголовного жаргона // Пирожков В.Ф.
Законы преступного мира молодежи: (криминальная
субкультура). Тверь: Изд-во «Приз», 1994. С. 182—256 (Прило-
607
жение № 2); 21 см. Библиогр.: с. 299-311 (№ 1-584 назв.).
(Вобл.).
Плуцер-Сарно, Алексей Юрьевич, сост. Библиография
словарей «воровской», «офенской», «разбойничьей»,
«тюремной», «блатной», «лагерной», «уголовной» лексики,
изданных в России и за рубежом за последние два
столетия // http://www. aferizm.ru/jargon/sl_bibliograf.htm. 5 с.
(96 назв.) Указана: Мокиенко. 2003. С. 412 (другой сайт).
Плуцер-Сарно, Алексей Юрьевич, сост. Большой словарь
мата. Том первый. Опыт построения справочно-библио-
графической базы данных лексических и
фразеологических значений слова «хуй»: 19 значений, 9 подзначений,
9 оттенков значения, 23 оттенка употребления слова хуй,
523 фразеологических статьи, в которых представлено
около 400 идиом и языковых клише и более 1000
фразеологически связанных значений слова хуй / А. Плуцер-Сарно;
вступительные статьи доктора филологических наук,
профессора, зав. кафедрой славистики Тартуского
университета, академика А.Д. Дуличенко и доктора филологических
наук В.П. Руднева. Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 2001
(СПб.: АООТ «Типография "Правда"»). 390, [2] с; 21x14 см.
(Plutser's dictionary; [т. 1]). Содерж.: Рецензенты: А.К. Бай-
бурин, A.C. Герд, И.В. Рейфман, CA. Старостин, В.Н.
Топоров, Хью Олмстед. С. 5; Содержание. С. 7—13;
Благодарность. С. 14—15; «И это всё о нем»: («Хуй»: Феноменология,
антропология, метафизика, прагмасемантика)/ В.П.
Руднев. С. 16—34; Язык и тело / А.Д. Дуличенко. С. 35—48;
Матерный словарь как феномен русской культуры. С. 49—74;
О семантике слова «мат». С. 75—80; [База данных
лексических и фразеологических значений слова] «хуй». С. 81—283
(Грамматика субстантивных форм. С. 81—82; Значения,
подзначения, оттенки значений, оттенки употребления.
С. 83—110; Фразеология, языковые клише. С. 111—283);
Концепция базы данных словаря русской «матерной» лексики.
С. 284—293; Структура базы данных русского мата. С. 294—
309; Список сокращений. С. 310—311; Список источников
словарной базы данных. С. 312—355 (696 назв.); Сводный
алфавитный указатель обработанных при подготовке базы
данных рукописных анонимных источников,
содержащихся в списках псевдобарковианы, а также некоторых компи-
608
ляций этих источников, изданных в 1990-х гг. С. 356—385
(1039 назв. + 40 назв. «Барков»); Библиография словарей,
содержащих обсценную лексику и использованных при
подготовке базы данных. С. 386—387 (51 назв.); Список
информантов. С. 388-390 (92 лица). 10 000 экз. (В пер. и супер-
обл.). Рец.: Горалик, Липор. Лучший... [т. е. хуй] России /
Линор Горалик // Книжное обозрение: газета /
Учредитель — М-во РФ по делам печати...; гл. ред. А. Гаврилов. М.,
2002. 25 марта (№ 13). С. 2. 10 050 экз. [Далее:
Плуцер-Сарно. 2001.]
Он же. Как в России составляют словари: удивительная
история о том, как известный литератор Петр
Федорович Алешкин снял пенки с русской обсценной
лексикографии, или Заметки о книге несуществующего профессора
Т.В. Ахметовой «Русский мат: Толковый словарь»,
вышедшей третьим изданием в Москве в издательстве «Колокол-
пресс» в 2000 году: [Рец.] / Алексей Плуцер-Сарно
(Москва) // Новая русская книга: критико-библиогр. журн.
гуманитарного агенства «Академический проект» / отв.
ред. Глеб Морев. Санкт-Петербург: Издатель Игорь Неми-
ровский, 2000. № 6 (7). С. 78-83; 28,5x20,5 см. Текст в два
столбца.
Он же. Матерный словарь как феномен русской
культуры / Алексей Плуцер-Сарно (Москва) // Новая русская
книга. СПб., 2000. № 2 (3). С. 74-80. Содерж.: 1.
Освящение непристойного. С. 74; 2. Находка в Отделе рукописей.
С. 74; 3. Беспредел по Флегону. С. 74—75; 4. Американские
словари русского мата. С. 75—77; 5. Плагиат по-русски.
С. 77—78; 6. Мат в воровских словарях. С. 78—79; 7. Мат в
словаре говоров. С. 79; 8. Словарь без слов. С. 79; 9. Мат в
этимологических словарях. С. 79—80; Библиография. С. 80
(40 назв.). [Далее: Плуцер-Сарно. 2000.]
Подвальная, Е.Ю. Из проблематики русской обсценной
лексики / Е. Подвальная // Язгулямский сборник / Санкт-
Петербургский гос. ун-т. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Пе-
терб. ун-та, 1996 (СПб.: Тип. изд-га СПб. ГУ). [Вып.] 1: Яз-
гулям / [предисл. д-ра филол. наук Л.Г. Герценберга].
С. 76-86; 29x20 см. 500 экз. (В обл.).
«Подвальная Е.Ю. Словарь // Подвальная Е.Ю.
Деривационные потенции обсценной лексики русского языка.
609
Дипломная работа. [СПб. ГУ,] 1994». Цит. по: Плуцер-Сар-
но. 2000. С. 80; Он же. 2001. С. 343, 387.
Полубинский, Вениамин Иванович (канд. юрид. наук), сост.
Блатяки и феня: словарь преступного жаргона / [сост.]
Вениамин Полубинский. М.: [Объединенная редакция МВД
России], 1997 (М.: ТКЗ). ПО, [2] с; 20x12,5 см. Содерж.:
Откуда пошел преступный жаргон. С. 3—8; Уголовный язык
Петербургских мошенников, известный под именем
«Музыки» или «Байкового» языка [Репр. воспр. изд. для
внутреннего пользования 1897 г. ]. С. 9—15 [315 слов];
Словарь арго современного криминального мира. С. 16—110,
[1]. 20 000 экз. (Вобл.).
Попов, Всеволод Михайлович, сост. Словарь воровского и
арестантского языка / составил пристав В.М. Попов.
Перепечатка воспрещается. [Киев: [Изд. автора], 1912] (Т-во
«Печатня СП. Яковлева», 1912). 128 с; 17x11 см. Содерж.:
Предисловие / Составитель пристав Вс. Попов. С. 5—10;
Объяснение сокращений. С. 11—12; Словарь. С. 13—98;
Указатель к Словарю. С. 99—127; Слова, не попавшие в Словарь.
С. 128. Вых. дан. указаны на обложке. Свыше 1700 слов.
500 экз. См.: Книжная летопись. 1912. № 26 (№ 16841);
Репр. воспр. (с. 3—98, 128) в изд.: Козловский. Т. П. С. 5—
101; Репр. увеличенное воспр. (полностью) в изд.:
Russische Gaunersprache... S. 1—128 (2-я паг.).
[Потапов, Сергей Михайлович, сост.] Блатная музыка:
Словарь жаргона преступников: [не подлежит оглашению] /
[сост. СМ. Потапов]. М.: Издание Управления
Уголовного Розыска Республики, 1923 г. (Тип. ГПУ, Б. Лубянка, 18).
67,68-80 [пустые] с; 17x13см. Нас. 3: [Предисл.] /
Начальник Научно-Технического Отдела Потапов, июнь 1923 г.
На обл. также: Не подлежит оглашению. 2000? экз. В РГБ
(группа Л ДСП) есть;
Репр. воспр. в изд.: Козловский. Т. П. С. 161—226;
Потапов, СМ., сост. Словарь жаргона преступников:
(блатная музыка): не подлежит оглашению / составил по
новейшим данным СМ. Потапов; Народный комиссариат
внутренних дел. [2-е изд.] М., 1927 (Тип. ОГПУ, Главлит
94332). 196 с; 13x8,5 см. В «Предисловии» (с. 3—5) сообща-
610
ется, что было издание в 1923 г. Тип. и тираж указаны на
с. 196. 6000 экз. (В обл.). В РГБ (группа ЛДСП) есть;
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. III. С. 73—136;
Он же, сост. Словарь жаргона преступников: (блатная
музыка): не подлежит оглашению / составил по новейшим
данным СМ. Потапов; Народный комиссариат
внутренних дел. [Репринтное издание]. [М.: Ассоциация БЛИК
при Советском Фонде милосердия и здоровья, печ. 1990]
(Ротапринт Центра «Москва», подп. к печати 18.09.90).
196, [4] с; 13,5x9,5 см. Вых. дан. ориг.: М., 1927.
Воспроизведены только тит. лист и обложка оригинального
издания. Без тит. л. вновь воспроизводимого издания.
Сведения о репр. изд. и вып. дан. указаны в конце, на с. [1].
200 000 экз.;
Он же, сост. Словарь жаргона преступников: (блатная
музыка): не подлежит оглашению / составил по новейшим
данным СМ. Потапов; Народный комиссариат
внутренних дел. [Репр. изд.] [М.: ТХО «МАЛМ», печ. 1990]
(Волгоград: Тип. ПО «Полиграфист», подп. в печать 17.10.90).
196 с; 12,5x9,5 см. Вых. дан. ориг.: М., 1927. Воспроизведен
только тит. лист оригинала. Сведения о репринтном
характере издания отсутствуют. Репринтность издания
установлена путем сличения с оригиналом. Вып. дан. и
обращение к читателю — на об. воспр. тит. л. оригинала (с. 2).
На ил. обл.: Словарь. Блатная музыка. 50 000 экз.
Похилько, В.А., сост. Блатной жаргон: словарь / [сост.]
В.А. Похилько. Нижний Новгород, 1992. Указан в изд.:
Колесников, Н.П., Корнилов, Е.А. Поле русской брани. 1996.
С. 379; Мокиенко. 2003. С. 429. В РГБ нет.
Преображенский, Александр Борисович. Краткий словарь
сленговых слов и выражений, употребляемых Лехой
Пайковым (составлен Митенькой Докукиным) //
Энциклопедия Юного хулигана / Автор-составитель А.Б.
Преображенский. М.: [Изд-во] «Лабиринт-к», сор. 1999 (Можайск:
ОАО «Можайский п/к, подп. в печать 01.08.99 г.). С. 373—
377 (Приложение); 20x12,5 см. 100 слов. 20 000 экз. (В пер.).
Преступный мир: общеупотребительные слэнговые
конструкции и жаргонные выражения // Русско-английский
611
разговорник бытовой лексики и слэнга = Russian-English
Short Conversation Book of Colloquial Expressions and Slang /
[составители: Геловани Г.Г., Цветков A.M.]. М.: Издано
[фирмой «Никарт»] при содействии совместного
предприятия Hi-Tech Research, 1991 (М.: Централизов. тип. ГА
«Союзстройматериалов»). Ч. 8. С. 79—88; 20x14 см.
Составители указаны на об. тит. л. 10 000 экз. (В обл.). В РГБ нет.
«Прокопенко, Юрий Петрович. Словарь сексологический
иллюстрированный. М.: Дженерал Трейд, 1991». Цит. по:
Прокопенко, Ю.П. Полный сексологический словарь. Изд.
3-е, перераб. и доп. М., 1999. С. 393. В РГБ нет;
Он же. Сексологический иллюстрированный словарь /
[сост.] Юрий Прокопенко. 2-е изд., доп. и расшир. М.: [б. и.],
1995. 254 с. В РГБ нет;
Он же. Полный сексологический словарь / [сост.]
Юрий Прокопенко. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: РИПОЛ
КЛАССИК, 1999 (Владимир: Книжная тип.). 394, [6] с: ил;
17x11,5 см. Содерж.: От автора. С. 5—9; [Словарь] А—Я.
С. 10-341; Приложения № 1-14. С. 343-391 (в т. ч.: Прил. 1.
Терминологические гнезда. С. 344—374); Литература,
использованная при составлении словаря. С. 392—393 (24 назв.).
10 000 экз. (Впер.).
Прокофьева, Ирина Владимировна, сост. — См.: Сергеев, А.Н.
Путилин, Иван Дмитриевич, сост. Условный язык
Петербургских мошенников, известный под именем «Музыки»
или «Байковаго» языка // Путилин, И.Д. Записки И.Д. Пу-
тилина: [в 4 кн.] СПб.: Книгоиздание И. А. Сафонова, 1904.
Кн. 4-я. С. 261-267 (315 слов). В РГБ нет;
Репр. воспр. в изд.: Козловский. Т. I. С. 63—71.
Пухов, Д.И., сост. — См.: Толковый словарь... 1991.
Раскин, Иосиф Захарович, сост. Энциклопедия
Хулиганствующего Ортодокса: опыт словаря с анекдотами,
частушками, песнями, поэзией, плагиатом и некоторым
псевдотворчеством самого автора / Иосиф Раскин; [предисл.
А. Арканова]. М.: [Изд-во А.Д. Власова], 1994 (М.: Тип.
ИПО Профиздат). 463, [1] с; 22x14 см. 10 000 экз. (В пер.);
612
Он же. Энциклопедия Хулиганствующего Ортодокса.
Расширен, и доп. издание. М.: Изд-во «Стоок», 1997
(Йошкар-Ола: Марийский п/и комбинат). 490, [6] с, [12] л. ил.,
портр.; 22x14 см. 10 000 экз. На с. [3] в вып. дан.: Третье
изд., доп., испр., ил. (В пер.).
Рогожин, В. А. и др., сост. — См.: Краткий толковый
словарь уголовного жаргона.
Рожанский, Федор Иванович, сост. Сленг хиппи:
материалы к словарю / [сост.] Ф.И. Рожанский. Санкт-Петербург;
Париж: Изд-во Европейского Дома, 1992 (СПб.: Первая
тип. изд-ва «Наука»). 63, [1] с; 20x13 см. Содерж.:
Дословное предвербие [!] / Андрей О. Мадисон. С. 3—4; От
автора. С. 5—8; Как пользоваться словарем. С. 9—12; Список
сокращений. С. 13; [Словарь]. С. 14—59; Комментарий.
С. 60—62; Список литературы. С. 63 (15 назв.). Более 600 слов.
20 000 экз. (Вобл.).
Розина, Раиса Иосифовна, рук., сост. — См.: Ермакова, О.П.
и др.
Росси, Жак, сост. Справочник по ГУЛАГу:
исторический словарь советских пенитенциарных институций и
терминов, связанных с принудительным трудом / [сост.]
Жак Росси; предисловие Алена Безансона. London:
Overseas Publications Interchange Ltd, 1987. [4], III, [1], 5—546 c;
18 см. Библиогр.: с. 526—533; Указ.: им. указ., темат. указ.:
с. 534—544. Тит. л. парал. англ. Более 2000 терминов. (В
обл.);
Он же. Справочник по ГУЛАГу: в двух частях / [сост.]
Жак Росси. Издание второе доп. / текст проверен
Натальей Горбаневской. М.: «Просвет» [А.Н. Севастьянов], 1991
(М.: ЦТ МО). 20x13 см. (Преступление и наказание в
мировой практике). (В обл.). Ч. 1. [4], III, [1], 5-263, [1],263а-
263е, [14] с. На с. I—III: Предисловие / Ален Безансон; на
с. 5—6: От автора /Jacques Rossi, 1985; на с. 263а—263е:
Исправления и дополнения к первой книге; на с. [3—4] тит. л.
1-го изд. (1987 г.) на англ. яз.; Ч. 2. [3], 264-546, [2] с. На
с. 471-517: Приложения (№ 1-12, 12а, 13, 13а, 14);
Библиогр.: с. 518—525 (Приложение 15), 526—533; Указ.: им.
613
указ., темат. указ.: с. 534—544; на с. 545—546: Испр. и доп. ко
второй книге.
«Русский мат, Блатная речь ит.д./ Slang Pages at Raz-
vod. com — Русский мат, Блатная речь и т. д. 2001». Цит.
по: Мокиенко. 2003. С. 430.
Русский мат: краткий перечень и самоучитель
выражений неофициального русского языка. Leipzig, 1993. — См.:
Моисеев В.
Русский мат: толковый словарь. 1992. — См.: Кабанов, Н.,
сост.
Русский мат: толковый словарь / [составитель Ахмето-
ва Татьяна Васильевна [псевд.; наст.: Алешкин, Петр
Федорович]]. М.: [Изд-во] «Глагол», 1996 ([Тольятти: ПП
«Современник»], заказ 642, сдано в набор 12.12.95, подп. в
печать 02.03.96). 302, [2] с; 20,5x13 см. Составитель указан
на об. тит. л. Содерж.: [Предисл.] Русский мат /
Профессор Татьяна Ахметова. С. 3—4; [Словарь] А—Я. С. 5—302,
[1]. 4047 слов. 10 000 экз. (В пер.). В РГБ нет;
То же. По набору изд. 1996 г. М.: «Глагол», 1997
(Тольятти: ПП «Современник», заказ 3898). 302, [2] с. 10 000 экз.
(В пер.);
То же. Русский мат: толковый словарь / [составитель
Ахметова Татьяна Васильевна]. [Второе изд. доп. и
расширенное]. М.: [Изд-во] «КОЛОКОЛ-ПРЕСС», 1997 (Курган:
ГИПП «Зауралье»). 567, [9] с; 20,5x13 см. (Устами народа:
[в 13 т.; т. 1]). На тит. л. и пер. загл.: Толковый словарь.
Русский мат. Всего в словаре 5747 слов (на 1700 больше,
чем в 1-м изд.). 16 000 экз. (В пер.);
То же. Русский мат: толковый словарь / [составитель
Ахметова Татьяна Васильевна]. М.: [Изд-во] «Колокол-
пресс»: [ЗАО «Изд-во Центрполиграф»], 2000 (Курган:
ГИПП «Зауралье»). 521, [7] с; 20,5x13 см. (Устами
народа). 10 000 экз. (Впер.).
«Русский мат от А до Я: Велик и могуч. CD ROM. М.:
Multimedia Paradise & Алготех, 1997». Цит. по: Плуцер-Сар-
но. 2000. С. 80; Он же. 2001. С. 387.
614
Рябинин, Владимир, сост. — См.: Грачев, М.А. «Блатная
музыка» осужденных... 1991.
Рынков, B.C., сост. — См.: Современный словарь
сексологических и эротических терминов.
Сантерр, М. де, сост. «Феня»: краткий сборник блатных
выражений и слов / М. де Сантерр // Сантерр, М. де.
Советские послевоенные лагери и их обитатели. Мюнхен,
1960. С. 98—111. (Исследования и материалы / Институт
по изучению СССР; (Серия II, № 77)). Там же на с.
Hill 2: Поговорки и выражения, распространенные среди
блатных. Указан в изд.: Козловский. Т. I. С. 14. В РГБ нет.
Сапов, Никита [псевд.], сост. Список синонимов к
основным обсценным словам и понятиям // Девичья
игрушка, или Сочинения господина Баркова / издание
подготовили А. Зорин и Н. Сапов [псевд.] М.: [НИЦ «Ладомир»],
1992. С. 403; 20,5x13 см. (Русская потаенная литература;
[т. 1]). 30 000 экз. Тип. не указана. (В пер.). В РГБ только в
фонде «Эротика» (группа ЛДСП).
Сергеев, Александр Николаевич, сост. Жаргонные слова и
татуировки преступного мира / [составители:] А.Н.
Сергеев, И.В. Прокофьева; [под общей ред. нач-ка кафедры
оперативно-розыскной деятельности Ставропольского
филиала Краснодарского ин-та МВД России, канд. юрид.
наук, доцента, полковника В.Е. Резунова]. Ставрополь:
[Северо-Кавказский гуманитарный ин-т], 2001
(Ставрополь: ГП — ИПФ «Ставрополье»). 63, [1] с: [137] ил.;
19,5x14,5 см. (Серия «Государство и право: история,
теория, практика»). Содерж.: [Словарь] А—Я. С. 3—34;
Татуировки. С. 33—55; Ручной блатной жаргон. С. 56—61. Около
2500 жаргонных слов и 92 татуировки. 1000 экз. (В обл.).
Сидоров, Александр А., сост. Словарь современного
блатного и лагерного жаргона: (южная феня) / [сост.]
Александр Сидоров. Ростов-на-Дону: Гермес, 1992 (МАП
«Книга»). 176 с; 20x13 см. Содерж.: К читателю. С. 4—5; Слово,
покрытое мясом и шерстью. С. 7—10; Как пользоваться
словарем. С. 12—14; Библиография. С. 15—16 (34 назв.);
615
[Словарь] А—Я. С. 17—167; Некоторые пословицы,
поговорки и присказки из блатной фени. С. 168—176. 50 000
экз. (В обл.). В РГБ нет.
Скачипский, Александр Сергеевич, сост. Словарь блатного
жаргона в СССР / автор-составитель Александр Скачин-
ский. Нью-Йорк: [Manufactured by Silver Age Press], 1982.
246, [2] с; 20 см. Около 1200 слов. Содерж.: Предисловие.
С. 3—7; 1. Словарь. С. 8—155; 2. Блатные выражения,
поговорки, присказки. С. 156—211; 3. Перечень упомянутых
слов. С. 212—247. Содержит обсценную лексику, особенно
в разделе «Блатные выражения...». (В обл.).
Слова, употребляемые преступниками, с указанием их
значения в обычной разговорной речи. [Воронеж:
Воронежское следственное управление МВД, 1950?]. 7 с? Ротапринт;
Опубл. по маш. пис. копии в изд.: Козловский. Т. IV. С. 7—13.
«Словарь воровских слов: Слова, выражения, жесты,
татуировки. Воронеж: Курьер, 1993. 220 с». Цит. по:
Лесников. 2002. №1197.
Словарь воровского жаргона: (925 слов): (пособие для
оперативных и следственных работников милиции): для
служебного пользования / Отдел уголовного розыска
Управления милиции города Киева. Киев, 1964. 30 с? На с. 3:
Памятка / Отдел уголовного розыска Управления милиции
г. Киева. В РГБ (группа ЛДСП) нет;
Перепечатано в изданиях: Чалидзе, Валерий. Уголовная
Россия. Нью-Йорк: Издательство «Хроника», 1977. С. 345—
374; Чалидзе, Валерий. Уголовная Россия. Репр. воспр. изд.
1977 г. М.: «TEPPA»-«TERRA», 1990. С. 345-374;
Козловский. Т. ГѴ. С. 67—96 [Репр. воспр. текста по изд.: Чалидзе,
В. Уголовная Россия. 1977]. Указан: Мокиенко. 2003. С. 431.
Словарь воровского жаргона: пособие для
оперативного состава милиции, УИТУ и следователей Министерства
внутренних дел: для служебного пользования. Экз. № ... /
Министерство внутренних дел Азербайджанской ССР.
Баку, 1971 (Тип. Упр. делами Сов. Мин. Азербайджанской
ССР). 82, [2] с? Тит. л. и предисл. также и на азерб. яз. На
616
с. 7—8: [Предисл.] Словарь воровского жаргона. Текст на
рус. яз. В РГБ (группа ЛДСП) нет;
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. IV. С. 123—153
(тит. л., с. 1—8 и последний лист — репринт). Указан: Мо-
киепко. 2003. С. 431.
Словарь воровского жаргона: Пособие для операт.
состава милиции, мест заключения и следователей МООП.
Вильнюс, 1965. Указан: Мокиенко. 2003. С. 431. В РГБ
(группа ЛДСП) нет;
Словарь воровского жаргона: (пособие для оперсоста-
ва милиции, УМЗ и следователей МООП): для
служебного пользования / Отдел уголовного розыска УМ МООП
ЛАТВ. ССР. Рига, 1967. На с. 3: Вниманию
оперработников / ОУР УМ МООП ЛССР. В РГБ (группа ЛДСП) нет;
Опубл. по маш. пис. копии в изд.: Козловский. Т. ГѴ. С. 97—
121. Указан: Мокиенко. 2003. С. 431.
Словарь воровского и арестантского языка. 1912. — См.:
Попов, В.М., сост.
Словарь воровского языка: (слова, выражения, жесты,
татуировки). [Тюмень]: НИЛПО, 1991.170 с. Указан в изд.:
Сидоров, A.A. Словарь... 1992. С. 15; Быков. Русская феня.
1994. С. 219; Мокиенко. 2003. С. 430. В РГБ нет.
«Словарь воровского языка. Слова, выражения, жесты,
татуировки. Запорожье. 1992.170 с. б. у. тиража». Цит. по:
Лесников. 2002. № 1196.
«Словарь Еблематико-энциклопедический татарских
матерных слов и фраз, вошедших по необходимости в
русский язык и употребляемых во всех слоях общества,
составили известные профессора. Г ъ Б ъ.
Рукопись. [1880-1890-е?]. Место нахождения: СПб. РНБ ОР.
НСРК (Новое собрание рукописных книг) 1929. 745 (1—
12) (Г.В. Юдин. Моё собрание. "Из собрания рукописей
графа Завадовскаго и других собирателей. Переписано в
1865 году")». Цит. по: Плуцер-Сарно. 2000. С. 74-75, 80; Он
же. 2001. С. 347, 355, 387.
617
Словарь жаргона преступников: (блатная музыка). 1927,
1990. — См.: Потапов, СМ., сост.
Словарь: Заимствования в русском субстандарте.
Англицизмы / [авторы-составители] X. Вальтер, О. Вовк, А. Зумп,
X. Конупкова, А. Кульпа, В. Порос; [рук. словарной группы X.
Вальтер; предисл. В.М. Мокиенко]. М.: [ Изд-во ООО] ИТИ
ТЕХНОЛОГИИ, [организатор издания: A.A. Шумейко],
2004 (М.: ППП «Типография "Наука"»). 414, [2] с; 17,5x11,5
см. (Филологические словари русского языка). Содерж.:
Слово о словаре англицизмов: [Предисл.] / В.М. Мокиенко
(Грайфсвальд, дек. 2003 г.). С. 5—10; Сокращения. С. 11—12;
[Словарь] А-Я. С. 13-396; Литература. С. 397-414 (225 назв.
на рус, 68 назв. на ин. яз.). 1500 экз. (В пер.).
Словарь русских народных говоров / АН СССР, Ин-т рус.
языка, Словарный сектор; [гл. ред.: Ф.П. Филин (вып. 1—23),
Ф.П. Сороколетов (вып. 24-36)]. Л. (СПб.): Наука, 1965-
2002. Вып. 1-36. 22 см.
Словарь русского языка XI—XVII вв. / Академия наук
СССР, Ин-т русского языка; [гл. ред. Г.А. Богатова]. М.:
Наука, 1989. Выпуск 15 (Персть—Подмышка) / [ред. вып.
Г.П. Смолицкая]. С. 45 («Пизда»); 27 см.
Словарь современного русского города: около 11 000
слов, около 1000 идиоматических выражений / [авторы-
составители: H.A. Гайдамак, H.A. Имедадзе, Б.И.
Осипов, М.А. Харламова, A.A. Юнаковская, О.В. Якимук; рук.
работы и отв. ред. д-р филол. наук, проф. Б.И. Осипов];
под ред. д-ра филол. наук, проф. Б.И. Осипова. М.:
Русские словари: ACT: Астрель: Транзиткнига, 2003 (СПб.:
ОАО «Санкт-Петербургская тип. № 6»). 566, [10] с; 24x16,5
см. Содерж.: Предисловие / Б.И. Осипов. С. 3—14 [в т.
ч. библиогр. на с. 11 (14 назв.) и в сносках]; [Словарь]
А—Я. С. 15—566. 5000 экз. (В пер.). Много обсценной
лексики.
Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: Речевой и
графический портрет советской тюрьмы /
[авторы-составители: Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов]. [Одинцо-
618
во (Моск. обл.)]: [Изд-во] «Края Москвы», 1992 (Минск:
п/к МППО им. Я. Коласа). 525, [3] с: ил.; 20x13 см.
Содерж.: От издательства. С. 3—4; От авторов-составителей.
С. 5-11; Словарь... С. 15-302; Приложения. № 1-8. С. 303-
525 [в т. ч.: Прил. 1. Синонимические ряды словаря... С. 304—
322; Прил. 5. Черты первобытного примитивизма воровской
речи / Д.С. Лихачев. С. 354-398 (в т. ч. на с. 387-393:
«Литература о русском арго» — 150 назв.) ]. Составители указаны на
об. тит. л. Около 11 000 слов. 50 000 экз. (В пер.).
Словарь уголовного жаргона: (Пермская обл., Чусов-
ской р-н) / составлен для служебного пользования
работниками милиции г. Пермь. Конец 1970-х гг. Машинопись.
Указан в изд.: Мокиенко, В.М., Никишина, Т.Г. Большой
словарь русского жаргона. СПб., 2000. С. 23.
Смирнов, Геннадий Федорович (член-кор. РАЕН,
полковник милиции), сост. — См.: Дубягина, О.П.
Смирнов, H.A., сост. Слова и выражения воровского
языка, выбранныя из романа Вс. Крестовскаго — «Петер-
бургския трущобы» /[сост.] Н. Смирнов // Известия
Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук
1899 г. СПб., 1899. Тома ІѴ-го книжка 3-я. С. 1065-1087. В
колонтитулах: H.A. Смирнов. 319 слов;
Репр. воспр. в изд: Козловский. Т. I. С. 27—53;
Он же. То же. Отд. оттиск. СПб.: Тип. Акад. наук, 1899.
23 с; 25 см.
Смолин, Евгений Алексеевич, сост. Жаргонные слова и
выражения, употребляемые преступниками, и их
криминалистическое значение: учебное пособие / [сост.] Е.А.
Смолин; Гос. ком. РСФСР по делам науки и высшей школы,
Алтайский гос. ун-т; [науч. ред. д. ю. н., проф. E.H.
Тихонов]. Барнаул, 1990 [т. е. 1991] (Барнаул: Лаборатория
множительной техники АТУ, подп. в печать 12.04.91). 165,
[1] с; 19,5x14,5 см. На тит. л.: Для служебного
пользования. Экз. №.... Более 7 500 слов. Содерж.: Предисловие /
Науч. ред., засл. юрист РСФСР, д-р юрид. наук, проф.
E.H. Тихонов. С. 3—10; [Словарь]. С. 11—164; Литература.
С. 165 [№ 1—11, в т. ч. указаны: Вакутин, Ю.А. Словарь...
619
Омск. 1979. 329 с; Варивода, [!] И.П. Сборник... Алма-Ата,
1971. 101 с; Никоноров, М.Г. Сборник... М., 1983. 217 с;
Федоров, Ю.Д. Словарь... Ташкент, 1973. 90 с; Бронников,
А.Г. Словарь... Пермь, 1978. 84 с]. 300 экз. (В обл.). В РГБ
(группа ЛДСП) есть. [Далее: Смолин. 1990.]
Снегов, Сергей Александрович, сост. Словесный камуфляж:
толковый словарь лагерно-воровского языка / Сергей
Снегов // 24 часа: еженед. газета. Л., 1991. № 51.
Он же, сост. Толковый словарь лагерно-воровского
языка // Снегов, С. А. Философия блатного языка / Сергей
Снегов // Даугава: Журн. Союза сов. писателей Латвии.
Рига, 1990. Нояб. С. 78-90;
Он же, сост. Толковый словарь лагерно-воровского
языка // Снегов, С.А. Язык, который ненавидит / Сергей
Снегов. М.: Просвет, 1991 [т. е. 1992] (М.: ЦТ МО, подп. в
печать 30.01.1992). С. 214-251; 19,5x13 см. (Преступление и
наказание в мировой практике; [т. 1]).
Собрание выражений и фраз, употребляемых в
разговоре С.-Петербугскими [!] мошенниками // Северная
Пчела: ежедн. газета полит, и литературная / изд.-ред.: Ф.В. Бул-
гарин и Н.И. Греч. СПб., 1859. 24 дек. (№ 282). С. 1129-
1130.112 слов;
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. I. С. 19—26.
Собрание русских воровских словарей: в четырех
томах / составление и примечания Владимира Козловского.
New York: Chalidze Publications, 1983. 21x14 см. (В обл.).
Т. I. 225, [3] с. Содерж.: Предисловие / В. Козловский.
С. 5—15; Примечания. С. 15—18; Собрание выражений и
фраз, употребляемых в разговоре С. Петербургскими
мошенниками [по тексту фотокопии изд.: Северная пчела:
Газета. СПб., 1859. 24 дек. (№ 282). С. 1129-1130]. С. 19-26;
Смирнов, Н. Слова и выражения воровского языка, выбран-
ныя из романа Вс. Крестовскаго «Петербургския
трущобы». [Репр. воспр. изд.: Известия Отд-ния рус. яз. и
словесности Акад. наук. СПб., 1899. Т. IV, кн. 3. С. 1065-1087].
С. 27—53; Бец, Ванька. Босяцкий словарь: Опыт словотолко-
вателя выражений, употребляемых босяками: Составлен
по разным источникам. Одесса: Тип. Я.М. Сегала, 1903 [по
620
тексту ксерокопии изд.]. С. 55—61; Путилин, И.Д. Условный
язык Петербургских мошенников, известный под именем
«Музыки» или «Байковаго» языка [репр. воспр. изд.: Пути-
лин, И.Д. Записки И.Д. Путилина: [В 4 кн.]. СПб.:
Книгоиздание И.Д. Сафонова, 1904. Кн. 4-я. С. 261-267]. С. 63-71;
Досталь, Г. Воровской словарь. Издание Германа Досталя.
Слобода Покровская, 1904 [по машинописной копии
с издания]. С. 73—76; Трахтенберг, В.Ф. Блатная музыка:
(«Жаргон» тюрьмы). Под ред. и с предисл. проф. И.А. Бо-
дуэн-де-Куртенэ. СПб., 1908. С. I—XDC, 1—103 [репр. воспр.
изд.] С. 77—193; Лебедев, В. Словарь воровского языка [по
тексту ксерокопии изд.: Вестник полиции. 1909. № 22.
С. 456-458; №23. С. 477-478; № 24. С. 499-500]. С. 195-
208; Балуев, Я. Условный язык воров и конокрадов [по
тексту ксерокопии изд.: Вестник полиции. 1909. № 32. С. 678—
679]. С. 209-214; Примечания. С. 215-225;
Т. II. 230, [2] с. Содерж.: Попов, В.М. Словарь
воровского и арестантского языка [репр. воспр. изд. 1912 г.]. С. 5—
101; O.K. Арестантский словарь [репр. воспр. изд. 1912 г.].
С. 103—141; Ирецкий, В. Для словаря Даля: (Спекулянтско-
налетческий тюремный жаргон) [по тексту ксерокопии
изд. 1921 г.] С. 143—145; Фабричный, П. Язык каторги [репр.
воспр. изд. 1923 г.] С. 147—160; [Потапов, СМ., сост.]
Блатная музыка: Словарь жаргона преступников [репр. воспр.
изд. 1923 г.]. С. 161-226; Примечания. С. 227-230;
Т. III. 246, [2] с. Содерж.: Маро (М.И. Левитина).
[Словарик воровских терминов. По тексту изд. 1925 г.]. С. 5—9;
Виноградов, Г. Детский блатной язык (Argot) [по тексту
изд. 1926 г.]. С. 11—16; Хандзинский, Н. Словарь блатного
жаргона [по тексту изд. 1926 г.]. С. 17—26; Глубоковский, Б.
Объяснение жаргонных слов [по тексту изд. 1926 г.].
С. 27—30; Богословский, П. С К вопросу о составе лексики
современного школьного языка [по тексту изд. 1927 г.].
С. 31—42; Виноградов, Н. Условный язык заключенных
Соловецких Лагерей Особого Назначения [по тексту изд.
1927 г.]. С. 43—71; Потапов, СМ. Словарь жаргона
преступников (блатная музыка) [по тексту изд. 1927 г.]. С. 73—136;
Миртов, A.B. Из лексикона ростовских беспризорников и
босяков [по тексту изд. 1929 г.]. С. 137—147; Каверин, В.
Слова воровского языка, встречающиеся в повести
«Конец Хазы» [по тексту изд. 1930 г.]. С. 149—154; Тонкое, В.
621
Опыт исследования воровского языка [по тексту изд. 1930 г.]
С. 155-237; Примечания. С. 239-246;
Т. ГѴ. 200 с. Содерж.: Слова, употребляемые
преступниками, с указанием их значения в обычной разговорной
речи. [Воронеж: Воронежское следственное управление
МВД, 1950? 7 с. По маш. пис. копии.] С. 5—13; Жаргон
преступников: (Пособие для оперативных и следственных
работников милиции). Москва, 1952 [по тексту ксерокопии
изд.]. С. 15—57; Материалы Отдела режима и оперработы
УИТЛК. Свердловск, 1952 [по маш. пис. копии]. С. 59—66;
Словарь воровского жаргона: (925 слов): (Пособие для
оперативных и следственных работников милиции). Киев, 1964
[репр. воспр. текста по изд.: Чалидзе, Валерий. Уголовная
Россия. Нью-Йорк, 1977. С. 345-374]. С. 67-96; Словарь
воровского жаргона: (Пособие для оперсостава милиции, УМЗ и
следователей МООП). Рига, 1967 [по маш. пис. копии].
С. 97—121; Словарь воровского жаргона: (Пособие для
оперативного состава милиции, УИТУ и следователей
Министерства внутренних дел). Баку, 1971 [по тексту
ксерокопии изд.]. С. 123—153; Воривода, И.П. Сборник жаргонных
слов и выражений, употребляемых в устной и письменной
речи преступным элементом. Алма-Ата, 1971 [по маш. пис.
копии]. С. 155—192; Примечания. С. 193—195; Содержание
четырех томов. С. 197—200. [Далее: Козловский.] Указан:
Быков. Русская феня. 1994. С. 5, 219.
Современный словарь сексологических и эротических
терминов / составитель [и ред.] B.C. Рычков. М.: Изд-во
«Интекс», 1996 (М.: Моск. тип. № 5). 176, [16] с: [6] ил.;
14x10 см. На с. 3-174: [Словарь] А-Я; на с. 175-176: Список
использованной литературы (12 назв.). 100 000 экз. (В пер.).
Сосновский, Александр Васильевич, сост. Corpus amoris:
энциклопедический толковый словарь сексуальности / [сост.]
Александр Сосновский. М.: [Изд-во] «ТЕРРА», 2000
(Ярославль: ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»). 366, [2] с:
[106 ЦВ.+92 ч/б.] ил.; 27x20 см. Текст в два столбца. Содерж.:
Список принятых сокращений. С. 3; От автора / А.
Сосновский, архивариус любви. С. 5 («...включает также
разговорные и жаргонные выражения, употребляемые в обиходной
речи. Автор преднамеренно не включил в словарь русские
622
матерные инвективы, которые могли бы составить
отдельный том исследования»); [Словарь] А—Я. С. 5—366. Тираж не
указан. (В пер. и суперобложке). На суперобл. об авторе.
Он же. Большая иллюстрированная энциклопедия
секса / [сост] А. Сосновский. М.: [ЗАО Изд-во] «Прессверк»,
2002 (Тверь: АООТ «Тверской п/к»). 446, [2] с: [250] ч/
б ил., [7] л.: [93] цв. ил.; 26,5x20 см. Текст в два столбца.
Содерж.: Предисловие / А. Сосновский («Содержит
более трех тысяч статей... Включает целый ряд разговорных
и жаргонных выражений...»). С. 3; Список принятых
сокращений. С. 4: [Словарь] А—Я. С. 5—446; Об авторе. С. [1].
7000 экз. (В пер.) На пер. доп.: Все о сексуальной жизни в
терминах, понятиях, цитатах и комментариях.
Страшен, Владимир Васильевич. Арго и арготизмы /
В.В. Стратен (1929 г.) // АН СССР. Комиссия по русскому
языку. Труды Комиссии по русскому языку. 1931. Том I. Л.:
Изд-во Акад. наук СССР, 1931. С. 111-147. Нас. 131-139: V.
«Блатная музыка»; на с. 139—140: VI. Современный
блатной язык.
Теплицкий, Е.А., сост. — См.: Дубягин, Ю.П. Краткий
англо-русский и русско-английский словарь уголовного
жаргона. 1993.
Тисоцки, Чаба. Краткий толковый словарь русской
лагерной и ненормативной лексики // Tiszöczky Csaba. Az
orosz lägernyelv. Lexikolögiai elemzes es szötär. Pecs: Janus
Pannonius Tudomänyegyetem, 1995. В РГБ нет.
Толковый словарь уголовных жаргонов: [ок. 10 000] /
под общ. ред. [и с «Введением» (с. 3—10)] Ю.П. Дубяги-
на и А.Г. Бронникова; [авторы [и сост.]: Ю.П. Дубягин
(рук.), Бронников А.Г., Боровкова Г.В., Достанбаев К.С.,
Пухов Д.И., Коршунов A.C., Леонов А.И., Дихтеренко В.П.] М.:
[СП «Интер-ОМНИС»: СП «РОМОС»], 1991 (Рыбинск: Тип.
№ 2). 206, [2] с; 20x13 см. 200 000 экз. (В обл.).
Топкое, Вячеслав Алексеевич. Опыт исследования
воровского языка / Вячеслав Тонков; с предисловием М.А.
Васильева. Казань, 1930 (Казань: Татполиграф). [2], 89, [1] с;
623
21 см. Содерж.: [Предисл.] / М. Васильев. С. [2];
Воровской словарь: [а)—м)]: № 1—502. С. 1—47; Воровской
жаргон. С. 50—59; Древность воровского языка. С. 59—64;
Проникновение слов воровского языка в обыкновенную
разговорную речь. С. 64—69; Воровские слова в художественной
литературе. С. 70—81 (102 назв.); Воровские слова на
страницах газет. С. 81—83 (17 назв.); Что читать по воровскому
жаргону. С. 83—85 (10 назв.); Указатель источников по
вопросам беспризорности. С. 85—86; Указатель источников.
С. 86-89 (№ 1-75). 500 экз. В РГБ 2 экз. (Я 38/66, 67) за-
штабелированы и нет м/фильма;
Репр. воспр. в изд.: Козловский. Т. III. С. 155—237.
[Топорков, Андреи Львович, сост.] Метафорическая
лексика, используемая для обозначения гениталий и
основных сексуальных понятий // Русский эротический
фольклор: Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный
театр. Заговоры. Загадки. Частушки / составление и
научное редактирование А. Топоркова; М.:
Научно-издательский центр «Ладомир»: [При содействии ТОО «ВРС»],
1995 (М.: п/ф «Красный пролетарий»). С. 639—642; 21x13 см.
(Русская потаенная литература; [т. 4]). 15 000 экз. (В пер.).
Трахтенберг, В.Ф., сост. Блатная музыка: («жаргон»
тюрьмы): по материалам, собранным в пересыльных тюрьмах:
Петербургской, Московской («Бутырки»), Виленской,
Варшавской, Киевской и Одесской; в тюрьмах: в «Крестах», в
«Доме предварительнаго заключения», в «Дерябинских
казармах» (Петербург), в «Каменщиках» (Москва) / [сост.]
В.Ф. Трахтенберг; под редакцией и с предисловием
профессора И.А. Бодуэн-де-Куртенэ. С.-Петербург, 1908 (СПб.:
Тип. А.Г. Розена). XIX, [1], 116 с; 20x12 см. Около 760 слов.
Содерж.: Предисловие / И. Бодуэн-де-Куртенэ. С. V—XIX;
Словарь. С. 1—69; Приложения: Приложение 1-ое. Остро-
жныя пословицы, поговорки и присказки. С. 73—80;
Приложение 2-ое. Острожныя песни. С. 81—100; Приложение
3-е. Нечто о «Музыке» (т. е. о тюремном арестанском
жаргоне). С. 101—103; Указатель к словарю. С. 107—116;
Репр. воспр. [с. I—XIX, 1—103] в изд.: Козловский. Т. I.
С. 77-193;
Он же. То же. Репр. изд. München, [1978].
624
Третьяков, Л.И., сост. Слова и выражения,
употребляемые в преступном мире. Тбилиси: УУР, 1978. Указан: Моки-
енко. 2003. С. 431. В РГБ (группа ЛДСП) нет.
Трус, Николай Валентинович, сост. Словарь //
Символика тюрем. Нравы уголовного мира всех стран и народов /
составление: Трус Николай Валентинович; ред.
Цветков В.Н.; худож. Барташевич А.Р. Минск: [Фирма]
Литература, 1996 (Минский п/к). С. 428-511; 20,5x12,5 см.
(Энциклопедия преступлений и катастроф — ЭПК). На с. 511:
Литература (5 назв.). 26 000 экз. (В пер.).
Указатель табуизированных слов и выражений //
Срамная частушка. Издание переработанное и существенно
дополненное / под ред. профессора фалософических [!]
наук О.Р. Засадихина [псевд.] М.: [ООО Издательский
дом] Подкова, 2002 (Ульяновск: ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати»). С. 360—361; 17x11 см. (Фал<л>ософи-
ческие памятники / Всероссийская внегосударственная
Академия фал<л>ософии и побочных наук им. И.С.
Баркова [!]). 5000 экз. (В пер.). В РГБ нет.
Фабричный, П., сост. Язык каторги / [сост.] П.
Фабричный // Каторга и ссылка: ист.-рев. вестник / Всесоюз. О-во
полит, каторжан и ссыльно-поселенцев. М., 1923. № 6.
С. 177-188; 25 см;
Репр. воспр. в изд.: Козловский. Т. П. С. 147—160.
Файн, Александр Павлович. Всё в кайф. [Материалы к
словарю молодежного сленга] / Файн А., Лурье В. [Б. м.: Lena
Production], 1991.197, [3] с. Содерж.: Панки любят грязь,
а хиппи — цветы. С. 4; Нестрёмные рассказы. С. 27;
Материалы к словарю молодежного сленга. С. 84; В Сайгон или
на Климат? С. 168; «Плохие» слова и здоровье языка.
С. 179—194. В РГБ нет. Не зарегистрирована в Книжной
летописи за 1990, 1991, 1992 гг.
Фасмер, Макс, сост. Этимологический словарь русского
языка: в 4 т. / Макс Фасмер; перевод с нем. и дополнения
О.Н. Трубачева; под ред. и с предисл. [т. 1, с. 7—10] проф.
Б.А. Ларина. М.: Прогресс, 1964—1973. 22x14 см. Доп. тит. л.:
625
Russisches etymologisches Wörterbuch. Von Max Vasmer.
Heidelberg. 1950-1958. 22x14 см. 20 000 экз. (В пер.).
Т. 1: (А—Д). 1964. 562 с. Из содерж.: От редакции. С. 5—
6; Предисловие / проф. Б.А. Ларин. С. 7—10; Предисловие
автора / М. Фасмер (Берлин, 14 июля 1950 г.). С. 11—12;
Послесловие автора / М. Фасмер (Берлин—Николаезее,
апрель 1957 г.). С. 13—14; Указатель литературы и
хронологические данные. С. 15-51; Т. 2: (Е-Муж). 1967. 671, [1] с;
Т. 3: (Муза-Сят). 1971.827, [1] с; Т. 4: (Т-Ящур). 1973.852 с.
На с. 575-852: Указатель;
Он же. То же. Пер. с нем. и дополнения чл.-кор. АН
СССР О.Н. Трубачева; под ред. и с предисл. [т. 1, с. 7—10]
проф. Б.А. Ларина. Издание второе, стереотипное. М.:
Прогресс, 1986-1987. 50 000 экз. (В пер.). Т. 1. 1986. 573,
[3] с. Из содерж.: Послесловие ко второму изданию
«Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера /
О.Н. Трубачев. С. 563-573; Т. 2.1986. 671, [1] с; Т. 3.1987.
830, [2] с. На с. 828—831: Дополнения и исправления к
томам II, III, IV издания 2-го / О.Н. Трубачев; Т. 4.1987. 861,
[3] с. На с. 853—861: Дополнения и исправления к томам
III, IV издания 2-го / О.Н. Трубачев; на с. [1—2]:
Некоторые исправления;
Он же. То же. 3-е изд., стер. СПб.: Азбука: Изд. центр
«ТЕРРА», 1996. Т. 1-4. (В пер.).
Из немецкого издания не переведены статьи по
этимологии слов «блядь» (Bd. 1. S. 97), «ебать», «ебу» (Bd. 1. S. 388),
«пизда», «пизделяпнуть» (Bd. 2. S. 355), «хуй» (Bd. 3. S. 277).
Федоров, Юрий Дмитриевич, сост. Словарь жаргона,
употребляемого преступным элементом. Ташкент, 1973. 90 с.
Указан: Смолин. 1990. С. 165.
Фенъвеши, Иштван. Современные словари русского
сленга // Stadia Slavica Savariensia. 1996. № 1/2. С. 189-205.
Указан: Мокиенко. 2003. С. 434. В РГБ нет.
Феня. — См.: Иковский, П.П., сост.
Флавинский, В.В. Тюремный жаргон // Одесская
хроника. Одесса, 1991. № 3—4. Спецвыпуск. Указан: Мокиенко.
2003. С. 434.
626
Флегон, Алекс, сост. За пределами русских словарей:
(дополнительные слова и значения с цитатами Ленина,
Хрущева, Сталина, Баркова, Пушкина, Лермонтова, Есенина,
Маяковского, Солженицына, Вознесенского и др.) /
[составитель, автор «Предисловия» (с. 5—14)] А. Флегон.
[London]: Flegon Press, сор. 1973. 413, [3] с, [8] л. ил.: [16]
портр.; 19x14 см. Основные источники цитат (остальные
источники указаны у каждой цитаты отдельно): с. 405—413
(240 назв.). (В пер. и суперобложке). На суперобл. основное
заглавие также на англ.: Beyond the Russian dictionary. На
форзаце лубочные иллюстрации. Имена на суперобл.
приведены в иной последовательности. В РГБ нет. В Англии
выходили также: Second edition (1976 г.); Third edition (1981 г.);
Он же. То же / [сост., автор «Предисловия» (с. 5—13)]
А. Флегон. [Репр. изд.] [М.]: Flegon Press [настоящее изд-
во не указано, март 1992] (Тип. не указана). 407, [1] с;
20,5x12,5 см. На об. тит. л.: Copyright 1973, Flegon Press,
London. Third edition. Reprinted in Great Britan. На
переплете загл. также на англ.: Beyond the Russian dictionary.
Third edition. На с 394—407: Основные источники цитат
(240 назв.). На с. [1], в конце: Пропущенные слова и
цитаты. Дата издания установлена по времени появления
книги в продаже и по рецензиям в газете «Книжное
обозрение» (1992. 13 марта (№ 11); 1992.14 авг.);
Он же. То же / [сост., автор «Предисловия» (с. 5—14)]
А. Флегон; перевод [!] Волковинского А.М. [Троицк (Моск.
обл.)]: ТОО «РИКЕ»: [приучастии ООО «Нонпарель»],
1993 (М.: Моск. тип. № 11). 413, [3] с; 20,5x14,5 см. На об.
тит. л.: Copyright 1973, Flegon Press, London; © Волковин-
ский А.М., 1992, перевод [!]. На суперобложке загл. также
на англ.: Beyond the Russian dictionary. Second edition. Ha
с 405—413: Основные источники цитат (240 назв.). В конце,
на с. [1]: Замеченные опечатки (5 случаев). 30 000 экз. (В
пер. и суперобл.).
Хандзинский, Н. [М], сост. Словарь блатного жаргона: [из
статьи «Блатная поэзия» (с. 41—83)] / Н. Хандзинский //
Сибирская живая старина: [этногр. сб.] / Вост.-Сиб. отдел
Русского геогр. о-ва; под ред. М.К. Азадовского и Г.С.
Виноградова. Иркутск, 1926. Год издания IV, вып. I (V).
С. 81-83; 22x17 см;
627
Перепечатано в изд.: Козловский. Т. III. С. 17—26.
«Хомепко О.Б. Язык блатных, язык мафиози: энцикл.
синоним, ел.: В 2 т. Киев: Форт-М, 1999». Цит. по: Мокиен-
ко. 2003. С. 435. В РГБ нет;
«Хомепко О. Язык блатных. Энциклопедический
синонимический словарь. Язык мафиози. (1842—1997 гг.). Т. 1—
2. Киев.: Форт-М, 1998». Цит. по: Словарь. Заимствования
в русском субстандарте. Англицизмы / X. Вальтер [и др.].
М., 2004. С. 409.
Хукка, В. С. Жаргон и аббревиатура татуировок
преступного мира: словарь-справочник. Н. Новгород:
Нижегородская ВШ МВД, 1992 (ГИПП «Нижполиграф»). 236 с.
Указан: Грачев. Русское арго. 1997. В РГБ нет.
Цветков, A.M., сост. — См.: Преступный мир... 1991.
[Цявловский, Модест Александрович, сост.] «Матеріалы
для словаря ругательствъ русскаго народа»:
[«Дополнение эротических слов к словарю Даля. Рукопись подарена
М.А. Цявловским 8/V-1925 г.»] Москва, [1911-1916].
[15] л. в тетради. (22x18 см.) Автограф М.А. Цявловского.
Место нахождения: РГБ. Коллекция Н.В. Скородумова.
Чуканова, Т.В. Жаргон преступников // Вестник права:
журн. Юридического о-ва при имп. СПб ун-те. СПб., 1916.
№ 33. С. 781-784.
Шапир, Максим Ильич, сост. — См.: Пильщиков, И.А.
Шинкаренко, Юрий Васильевич, сост. БАЗАРГО: жаргон
уральских подростков / [сост.] Юрий Шинкаренко. М.:
Агенство ЮНПРЕСС, 1998 год (Мытищи: ГП
Мытищинская межрайон, тип.). 85, [3] с; 20x14,5 см. Содерж.:
БАЗАРГО, или Это мы — гопники... Вместо предисловия.
С. 3-11; [Словарь] А-Я. С. 12-84. 2000 экз. (В обл.).
Щепанская, Татьяна Борисовна, сост. Словарь сленга
Системы // Щепанская, Т.Б. Символика молодежной
субкультуры: опыт этнографического исследования системы
628
1986—1989 гг. / Т.Б. Щепанская; Рос. Акад. наук., Музей
антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера). Санкт-Петербург: Наука, 1993 (СПб.: и/ф ВО
«Наука»). С. 303-339 (Приложение); 17x12 см. 1200 экз. (В пер.).
Щербакова, Оксана Игоревна. Социально-корпоративная
лексика. Словарь жаргона преступников: учебное пособие
№ 50/23-3 ДСП / О.И. Щербакова, Е.Т. Бруева; МВД
Республики Беларусь, Академия милиции. Минск, 1994. 210,
[2] с; 20 см. Из содерж.: Словарь жаргона преступников:
Около 5300 слов. С. 26—207; Библиографический список.
С. 208-209 (37 назв.). 3000 экз. (В обл.).
Щуплов, Александр Николаевич, сост.
Жаргон-энциклопедия современной тусовки / [сост.] Александр Щуплов
при участии Томаса Макловски и Мэри Кляйн. М.:
Колокол-Пресс: [Изд-во «Голос»], 1998 (Курган: Гос. ИПП
«Зауралье»). 542, [2] с. ; 20,5x13 см. (Устами народа: [в 13 т.;
т. 9]). Библиогр.: с. 537-542. 10 000 экз. (В пер.).
Он же. Сленг совка. Выпуск первый / [автор., ред.,
составитель] Александр Щуплов. Алматы; Прага:
[Совместное издательско-коммерческое предприятие
«CATS-INTER Ltd»],,1994 (Praha: Тип. «Svoboda»). 123, [5] с: ил.;
18x11 см. (Mini-Cats: [Литературное приложение к
журналу «Cats»]. Серия «От восемнадцати и до...»; кн. 1). В
приложении на с. 75—104: Сексуальная феня; на с. 105—123:
Гомоэротичёский сленг. 25 000 экз. (В ил. обл.).,В РГБ нет.
Щуплов, A.U., сост. — См.: Макловский, Т. и др.
Этимологический словарь славянских языков: прасла-
вянский лексический фонд / сост. О.Н. Трубачев и др.;
под ред. чл.-кор. АН СССР О.Н.Трубачева; АН СССР, Ин-т
рус. лит. М.: Наука, 1974-2001. Вып. 1-27.
Юганов, Игорь, сост. Русский жаргон 60—90-х годов:
опыт словаря / [сост.] Ю. Юганов, Ф. Юганова; под ред.
А.Н. Баранова. М.: Помовский и партнеры, 1994. 318 с. В
РГБ нет. В Ин-те русского языка РАН нет на месте.
Юганов, Игорь, сост. Словарь русского сленга:
сленговые слова и выражения 60—90-х годов / [сост.] Ю.
Юганов, Ф. Юганова; под редакцией А.Н. Баранова; [ил. А. Ме-
629
ринова]. М.: Мета-текст, 1997 (М.: 2-я тип. изд-ва «Наука»).
301, [3] с: ил.; 21,5x14 см. Содерж.: Предисловие / И. Юга-
нов, Ф. Юганова. С. 3—10; Устройство словаря. С. 11—19;
Литература. С. 20 (10 назв.); Список сокращений. С. 21—22;
[Словарь] А—Я. С. 23—255; Указатель идиом / Составлен
О. Климовой. С. 256—276; Анекдоты с использованием
сленга. С. 277—282; Жаргон в контексте постмодернизма
(Митьковский римейк Нового Завета) / А.Н. Баранов.
С. 283—297; Приложение: Евангелие от Митьков. С. 298—
301, [1].(Вобл.).
Юганова Фрида, сост. — См.: Юганоѳ, И.
Adler, Eve, comp. — См.: Shlyakhov, V.
Balogh, Istvän, comp. Orosz bünözöi zsargon szötär / Dr.
Balogh Istvän. Nyiregyhäza: Studium kiadö, сор. 1997. 124,
[4] old.; 20x14 см. Библиогр.: с. 124 (19 назв.). Словарь
русского уголовного жаргона с венгерскими
эквивалентами.
Blinkiewicz, В., verfassen. Russisches sexuelles und skato-
logisches Glossar/ Von B. Blinkiewicz; Transskribiert von
Prof. Joh. K. // Anthropophyteia: Jahrbücher für
folkloristische Erhebungen und Forschungen zur
Entwicklunggeschichte der geschlechtlichen Moral...: [in 10 Bd.] / Hrsg. von
Dr. Friedrich S. Krauss (in Wien). Leipzig: Ethnologischer
Verlag, 1911. Bd. VTII. S. 24-27; 27x19 см. Около 280 слов.
Christiani, Wilhelm Arnold. Über die persönlichen
Schimpfwörter im Russischen: Ein Beitrag zur Wortbildungslehre /
Von Dr. Wilhelm Christiani. Leipzig: O. Harrassowitz, 1913.
50 S. (Sonderabdruck aus dem Archiv für slavische Philologie;
Bd. XXXIV. S. 321-370). Указан: Мокиенко. 2003. С. 20, 437
(не точно, более точно в изд. 1997 г.).
Corten, Irina Н. Vocabulary of Soviet Society and Culture:
A Selected Guide to Russian Words, Idioms, and Expressions of
the Post-Stalin Era, 1953-1991 / Irina H. Corten. London:
Adamantine Press Limited, 1992. XVI, [4], 176, [4] p.; 23,5x14 см.
Из содерж.: Classification of Terms by Subject. P. 1—12 (в т. ч.
630
на рус. яз. на с. 7—12 (614 слов)); Lexicon. Р. 13—163;
Selected Bibliography. P. 165—167 (51 назв.). (В пер.).
Devkin, V.D. (Девкин, Валентин Дмитриевич, д-р филол.
наук), сост. Der russische Tabuwortschatz = Русская
сниженная лексика / Valentin D. Devkin. [1 Auflage]. Leipzig;
Berlin; München; Wien; Zürich; New York: Langenscheidt Schö
neberg). 126, [2] c; 18x11 см. На об. тит. л.: Auflage /Jahr.:
1/96, 2/97, 3/98, 4/1999, 4/2000, Verlag Enzyklopädie,
сор. 1996 (Drück: Druckhaus Langenscheidt, Berlin-.
Содерж.: [Предисловие]. С. 5—7; Специфика нецензурной
лексики / В.Д. Девкин. С. 8—37; Толковый словарь
употребительной нецензурной и сниженной лексики [211 слов].
С. 38—100; Перечень понятий, выражаемых
нецензурными словами [188 слов]. С. 101—112; Резюме:
Zusammenfassung. С. 113—118; Summary. С. 119—123; Принятые
сокращения. С. 124—125; Литература. С. 126 (6 назв.); [О
составителе]. С. [1]. (В обл.).
A Dictionary of Russian Obscenities / [compiled by R.S.
Pardyjak and M.D. Miller]. Cambridge (Mass.): Schoenhof s
Foreign Books, 1971. В РГБ нет.
«A Dictionary of Russian Obscenities or Everything You
Have Always Wanted to Know About Russian, But Were
Afraid to Ask, Cambridge, 1971 (машинописный текст)».
Указан в изд.: Армалипский, М. И., сост. Русские бесстыжие
пословицы и поговорки / [составитель и автор предисловия
Михаил Армалинский. Изд. второе, знач. доп.
Minneapolis (Minnesota)]: M.I.P. [Company, 1995]. С. 11 (№ 6);
13x11см.
Drummond, D.A., comp. Dictionary of Russian Obscenities /
compiled by D.A. Dfummond and G. Perkins. Second, revised
edition. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1980 (Printed in
the USA). 79, [1] p.; 13x11 см. Парал. тит. л. на рус. яз. на с.
3: Словарь нецензурных слов / составили D.A. Drummond
и G. Perkins. Второе, исправленное издание. Беркли, 1980.
На об. тит. л. адрес фирмы-распространителя: Scythian
Books, Oakland, California. Contents: [Preface]. P. 5—8; Use
of dictionary. P. 9; Abbreviations. P. 10; [Словарь] архипиз-
631
дрйт — яичница. Р. 11—73; Addenda: бздо — хуй... Р. 75; Some
english synonyms. P. 76—79. Во 2-м изд. «Словаря» 974
слова и 338 выражений. (В обл.). В РГБ м/фильм;
Idem. Ibid. 3 rdrev. ed. Oakland, 1987. (1st ed. 1979). В
РГБ нет.
DrummondDA., comp. A short dictionary of Russian
Obscenities / compiled by D.A Drummond & G. Perkins. Second,
revised edition. [Berkeley]: Berkeley Slavic Specialties, 1973. [2],
34 p.; 15,5x10 см. На с 3—4: Preface to first edition / D.D., G.P.
(Berkeley, 1971); на с. 4: Preface to second edition / D.D., G.P.
(Berkeley, 1973). Bo 2-м изд. «Словаря» 422 слова и 113
примеров. (В обл.) (1st ed. 1971). В РГБ нет.
Dvorak, Libor, сост. Эй, чувак!: Rusky slang aneb Cesky
hambäf jazyka ruskeho / Libor Dvorak; II. Kamil H, Übner.
Praha: Horisont, 1995. 182 s.: iL; 16 см.
Elyanov, David, сотр. (Эльянов, Давид Иосифович). The
Learner's Russian-English Dictionary of Indecent Words and
Expressions. 2nd revised ed. [S. 1.]: Pacific Grove, 1987.
Указан: Мокиенко. 2003. С. 438. В РГБ нет.
«Ernten, Ilse. Der obszöne Wortschatz im Russischen:
Etymologie, Wortbildung, Semantik, Funktion: Magisterarbeit /
[Freie Univ. Berlin] FB Neuere Fremdsprachliche
Philologien. Berlin, 1991». Цит. по: Мокиенко. 2003. С. 438;
Idem. Ibid. München: Otto Sagner Verlag, 1993. 106 S.
(Specimina Philologiae Slavicae; Bd. 98). В РГБ нет.
Fenne, Tönnies, comp. Tönnies Fenne's Low German
Manual of Spoken Russian. Pskov 1607: [in 4 vol.] / Det Konge-
lige Danske Videnskabernes Selskab. Copenhagen, 1961—
1986.21x17 cm.
Vol. I: Facsimile Copy / edited by L.L. Hammerich,
Romanjakobson, Elizabeth van Schooneveld, T. Starck and Ad.
Stender-Petersen; prefaced by Roman Jakobson and Elizabeth
Schooneveld; published by The Royal Danish Academy of
Sciences and Letters. 1961. 31, [1], [498] s; Vol. II:
Transliteration and Translation / editors L.L. Hammerich and
Roman Jakobson; with the assistance of Karen Bente Gond-
smit, Elizabeth van Schooneveld, and f Adolf Stender-Peter-
632
sen. 1970. XXVIII, 488 s.; Vol. Ill: Russian-Low German
Glossary / editor A.H. van den Baar; compilers N. van der Sijs, j. j.
M.I. Waszink-Willemse, P.M. Waszink; Instituut Jan M. Meijer
voor Slavische taal-en letterkünde Rijksuniversiteit Utrecht.
1985. XX, 366, [2] s.; Vol. ГѴ:
Mittelniederdeutsch-neuhochdeutsches Wörterbuch zum Russisch-niederdeutschen
Gesprächsbuch / Von Hans Joachim Gernentz, Universität
Rostock. 1986. [6], XIII, [1], 323, [1] s. В
«Нижненемецко-русском разговорнике. Псков 1607», сгруппированном по
темам, находим такие слова, как «блядий» (1), «блядин» (1),
«блядь» (4), «говно» (3), «гузно» (8), «гуи» [хуй] (2), «еб-
лит» (1), «ете» (1), «ети» (1), «поеть» (1), «пердел», «пиз-
да» (5), «сиколъ», «соски», «срала», «срать», «ссыт».
Местоположение всех этих слов в рукописи (т. I) можно
определить с помощью алфавитного указателя (т. III). На
с. 469—494 рукописи приведены также пословицы, около
25 из них содержат матерные выражения.
Словосочетание «ебена мать» не обнаружено.
Fenyvesi, Istvän, comp. Orosz-magyar es maguar-orosz szlen-
gszötär / Fenyvesi Istvän. Budapest: Syca kiadö, 2001. 633, [7]
old; 24x16 см. Парал. тит. л. на рус: Русско-венгерский и
венгерско-русский словарь сленга / Иштван Феньвеши.
Будапешт: Изд-во «Syca», 2001. На с. 20—523:
[Русско-венгерский словарь]; на с. 526—633: [Венгерско-русский
словарь]. Библиогр.: с. 10—12 (74 назв.).
Galler, Meyer, comp. Soviet Prison Camp Speech: A
Survivor's Glossary: Supplement / compiled by Meyer Galler. Hay-
ward (California): Soviet Studies, [1977]. [4], 102 p.; 22 см.
Содерж.: Acknowledgments. P. 2; Preface. P. 3—4;
Introduction. P. 5—9; Abbreviatios. P. 10; [Словарь с переводом на
англ. (вт. ч. слов «блядь», «ебать», «жопа», «пизда», «хуй»)].
Р. 11-98; Appendix. Р. 99-100; List of References. P. 101-102
(36 назв.). Около 1200 слов;
Galler, М., comp. Soviet Prison Camp Speech: A Survivor's
Glossary: Supplemented by Terms from the Works of AI. Sol-
zhenitsyn / compiled by Meyer Galler and Harlan E.
Marquess. Madison (Wis.): The University of Wisconsin Press,
1972. 216 p. В РГБ нет.
633
Herberstein, Sigmund, Freiherr von (1486—1566). Moscouiader
Hauptstat in Reissen durch Herrn Sigmunden Freyherrn zu
Herberstain, Neyperg und Guetenhag... Sambt des Moscouiter
gepiet und seiner anrainer Beschreibung und Anzaigung in wen
sy glaubens halb mit uns nitgreichhellig... Getruckht zu Wienn
in Osterreich durch Michael Zimmermann in S. Anna Hof. 1557.
[166] S.: IL, 3 Bl. IL; 29 см. О русских ругательствах см. л. G4:
«...schelten gemaingclichen nahend wie Hungern, das dir die
hund dein Muetier unrainigen».
Herberstein, Sigmund. Rerum Moscoviticarum Commentary
Sigismundi Liberi Baronis in Herberstain, Neyperg, & Guet-
tenhag: Russiae, & quae nunc eius metropolis est, Moscouiae,
breuissima descriptio... Basileae: Per Ioannem Oporinum,
[1556]. 205 p., 51. iL; 31 см.
Idem. Rerum Moscoviticarum commentary, Sigismundo
Libero authore. Russiae breuissima descriptio, & de religione со
rum varia inserta sunt. Chorographia totius imperij Moscici,
& de vicinorum guorundam mentio. Antverpiae: In aedibus
Ioannis Steelsij, M.D.LVII [1557]. [198] p., 1 1. iL; 17 см. О
русских ругательствах см. л. 43 об.: «Blasphemiae eorum,
Hungarorum more, communes sunt: "Canis matrem tuam
subagitet, etc"».
Horbatsch, Olexa, Hrgs. u. eingeleitet. — См.: Russische
Gaunersprache... 1978.
Kramer, Alex A, comp. Словарь «непризнанных» слов pi
жаргона = Dictionary of «Unrecognized» and Slang Words /
By Alex A. Kramer. [Trenton (New Jersey): Published by
Scientific Russian Translating Service, 1966] (Printed in USA).
[4], 95, [1] p.; 19x14 см. Вых. дан. на об. тит. л. Содерж.: От
составителя / Автор. Р. [3] («...глубокая благодарность
академику Виктору Владимировичу Виноградову за
указания...»); Оглавление. Р. [4]; [Словарь] А—Я. Р. 1—95. Текст
в три столбца: 1) слева — слово на рус. яз.; 2) его значение на
рус. яз.; 3) его перевод на англ. Матерные слова не
включены. Около 4000 слов. (В обл.). В РГБ нет. Имеется в Ин-те
русского языка РАН с автографом автора.
Krauss, Friedrich Salomo. Erotische Sprichowörter bei den
russischen Juden // Sexual-Problem: Zeitschrift für Sexualwis-
634
senschaft und Sexualpolitik: (Der Zeitschrift «Mutterschutz»
und der «Zeitschrift für Sexualwissenschaft» neue Folge) /
Hrsg. und Schriftlitg.: Max Marcuse [et al.] Frankfurt a. M.:
J.D. Sanerländer, 1909. Bd. V. S. 452-466.
Kunitskaya-Peterson, C, comp. International Dictionary of
Obscenities: A Guide to Dirty Words and Indecent
Expressions in Spanish, Italian, French, German, Russian. Oakland,
1981.ВРГБнет.
Mielke, Tomas M. Der homosexuelle Wortschatz im
Russischen: Einvernehmliche und Lagersexualität zwischen
Männern. München: Verlag Otto Sagner, 1995.139, [1] S.; 21x14,5
см. (Slavistische Beiträge / Begründet von Alois Schmaus;
Hrsg. von Peter Rehder; Bd. 331). Из содерж.: [Словарь
русских слов с переводом на нем. язык]. S. 26—77;
Literaturnachweis. S. 127—134,135—139 (100 назв., издания на рус. яз.
даны латинским шрифтом). (В обл.). В РГБ нет. Имеется в
Ин-те русского языка РАН.
Miller, M.D., comp. — См.: A Dictionary of Russian
Obscenities. 1971.
Marder, Stephen A. A Supplementary Russian-English
Dictionary / By Stephen Marder. Ohio, 1992. Указан: Мокиенко.
2003. С. 442.
Marquess, H.E., comp. — См.: Galler, М.
Mokienko, Valerij, verf. — См.: Walter, Harry.
Nikolski, V.D. (Никольский, Валерий Д.), сост. Dictionary
of contemporary Russian slang / [V. Nikolski]. Moscow:
«Panorama» [Publishing House], 1993 (Подольск, подп. в
печать 20.04.93). 175, [17] с; 20x14 см. Составитель указан на
об. тит. л. (на англ.) и на с. [9] (на рус. яз.) Contents: About
the author. С. 4; Compiler' s preface. C. 5; How to use the
dictionary. С 6-7; [Словарь] А-Я. С. 9-163; Index. С. 164-
172; Sources and references. С. 173-175 (60 назв.). 1000 экз.
(В обл.). См.: Книжная летопись. 1993. № 15425;
Idem. Ibid. 2. Aufl. Oxford, 1998.
635
Olearius, Adam (ca. 1599—1671). Offt begehrte
Beschreibung der newen orientalischen Reise... / Adamum Oleari-
um... Schleßwig, 1647. [11] B1.,536S., [1] B1.,42S., [6] Bl.IL,
23 Bl. II.
Idem.Vermehrte Newe Beschreibung der Muscowitischen
und Persischen Reyse... / Adam Olearius... Schlesswig, 1656.
[14] BL, 766 S., [17] BL IL, 30 Bl. IL
The Oxford Russian-English dictionary / By Marcus Wheel-
ler; General editor B.O. Unbegaun, with the assistance of D.P.
Costello and W.F. Ryan. London: Clarendon Press, 1972. XIII,
918 p.; 25 cm;
Ibid. 2nd ed. Oxford: Clarendon, 1984. 930 p.; 24 см.
The Oxford Russian dictionary: [over 180 000 words and
phrases, 290 000 translations]: English-Russian / edited by
Paul Falla: Russian-English / edited by Marcus Wheeller and
Boris Unbegaun; Revised and updated throughout by Colin
Howlett. Oxford; New York: Oxford Univ. Press, pref. 1993.
XVI, [2], 1340 p.; 25 cm;
The Oxford Russian dictionary: Англо-русский словарь /
под ред. Пола Фаллы: Русско-английский словарь / под
ред. Маркуса Вилера и Бориса Анбигауна; перераб. и доп.
Колином Хаулетом. [Репр. изд.] М.: Изд-во
«Прогресс-Академия»; Смоленск: Полиграмма, 1995 (Можайск:
Можайский п/к, подп. в печать 20.09.95). XVI, [2], 1340 с; 27 см.
Тит. л. парал. англ. Вых. дан. ориг.: Oxford; New York:
Oxford Univ. Press, pref. 1993. 10 000 экз. (В пер.).
The Oxford Russian dictionary: Russian-English / ed. by
Marcus Wheeller and Boris Unbegaun: English-Russian / ed.
by Paul Falla. Revised edition. Oxford; New York: Oxford
Univ. Press, [1997]. XVI, [2], 1340 p.; 27 см;
Ibid. Third edition, revised and updated / By Delia
Thompson. Oxford: Univ. Press, [2000]. XXI, [1], 1293, [5] p.; 27
cm;
The Oxford Russian dictionary: Russian-English / ed. by
Marcus Wheeller and Boris Unbegaun: English-Russian / ed.
by Paul Falla. Revised edition. [Репр. изд.] [M.?, 1999?]
(Можайск: ОАО «Можайский п/к»). XVI, [2], 1340 с; 27 см.
Без тит. л. вновь воспроизводимого издания.
Воспроизведен только тит. л. оригинала на англ. яз. Вых. дан. ориг.:
Oxford; New York: Oxford Univ. Press, [1997]. В конце при-
636
клеена узкая полоска бумаги с печатным текстом: «ЛР
№ 064264 от 22.01.96 г. Тир. 5000 экз. Заказ 15461.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных
диапозитивов в ОАО "Можайский полиграфкомбинат"
г. Можайск, ул. Мира 93». Предполагаемая дата издания
приведена по регистрационному номеру на экз. РГБ.
Pardyjak, RS., comp. — См.: A Dictionary of Russian
Obscenities. 1971.
Perkins, G., comp. — См.: Drummond, D.A.
Raskin, Victor, comp. On some pecularities of Russian
Lexicon // Papers from the Parasession on the Lexicon / ed. D.
Farkas, W. Jacobsen, K. Tadrys. Chicago: Chicago Linguistic
Society, 1978. P. 312-325. Указан: Мокиенко. 2003. С. 444. В
РГБ нет.
Razvratnikov, Boris Sukitch [псевд.; наст.: В. Фридман?],
comp. Elementary Russian Obsenity // Maledicta: The intern,
journal of verbal aggression / ed. Aman Rheinhold;
[sponsored by The Intern. Maledicta Society]. Waukesha
(Wisconsin): Maledicta press, 1980. Vol. 3, № 2, Winter. P. 197-204.
Указаны в изд.: Мокиенко. 2003. С. 444 (дата изд.: 1980);
Плуцер-Сарно. 2000. С. 80; Он же. 2001. С. 386 (дата изд.:
1979). В РГБ нет.
Russische Gaunersprache. I: Vanka Вес: Bosjackij slovaf,
Odessa 1903; N. Vinogradov: Uslovnyj jazyk zakljucennych
Soloveckich lagerej, Solovki 1927; V.M. Popov: Slovar vorov-
skogo і arestantskogo jazyka, Kiev 1912 / Herausgegeben und
eingeleitet von Olexa Horbatsch. Frankfurt am Main;
München: Kubon & Sagner, 1978. [6], 26, 128, [4] S. (Specimina
Philologiae Slavicae / Hrsg. von Olexa Horbatsch und Gerd
Freidhof; Bd. 16). Inhalt: Russische Gaunersprache / [Olexa
Horbatsch]. S. 1—17 [в т. ч. аннотированная библиография
«Anmerkungen» на рус. языке: S. 3—17 (25 назв., из них при
описании 10-ти изданий приведены списки слов)]; Ванька
Бец. Босяцкий словарь. Опыт словотолкователя
выражений, употребляемых босяками. Составлен по разным
источникам. Одесса 1903 [по тексту издания]. S. 18—19;
637
Н. Виноградов. Условный язык заключенных Соловецких
Лагерей Особого Назначения. Соловки 1927. S. 19—26
[напечатаны по тексту изд. только: Приложение № 1.
Словарик тюремного жаргона (Слова, записанные во
Владимирской тюрьме) (с. 29—30). S. 20; Приложение № 2. Словарь
соловецкого условного языка / Собрал Н. Виноградов
(с. 31—46). S. 20—26]; В.М. Попов. Словарь воровского
арестантского языка. Киев 1912 [репр. увеличенное воспр.].
S. 1-128 (рад. 2). (В обл.).
Segrillo, Angeh de Olivära, comp. Pegueno dicionärio trilingüe
de gRria e linguagem coloquial: Ingles-portugues-russo =
Краткий трехъязычный словарь разговорной и жаргонной
лексики: Английский-русский-португальский / Angelo Segrillo.
[Niteröi, RJ-Brasil]: Edigöes Muiraquitä, [сор. 1996]. 178, [2]
p.; 20x14 см. Из содерж.: Введение. С. 16; Структура словаря.
С. 17—20; Англо-русский словарь с примерами. С. 100—152;
Список пояснений и дополнений. С. 153—158;
Русско-английский алфавитный указатель. С. 159—178. (В обл.).
Shlyakhov, Vladimir, comp. Dictionary of Russian Slang &
Colloquial Expressions: approximately 4500 words and their
popular meaning that you wouldn't find in standard Russian-
English dictionaries / by Vladimir Shlyakhov and Eve Adler.
New York: Barron's Educational Series Inc, 1995. В РГБ нет;
Idem. Dictionary of Russian Slang & Colloquial
Expressions: more than 5000 words... / by Vladimir Shlyakhov and
Eve Adler. 2nd revised and updated ed. New York: Barron's,
1999.ВРГБнет.
Sparwenfeld, J. G., comp. Lexicon Slavonicum: [in 5 vol.] /
Johan Gabriel Sparwenfeld; edited and commented by Ulla Bir-
gegärd. Uppsala, 1987—1992. (Acta bibliothecae R. Universitatis
Upsaliensis; Vol. XXIV: 1-5). 25x17 см. Vol. І: А-И. 1987. XX,
511, [1] p.; Vol. II: K-O. 1988. [6], 349, [1] p.; Vol III: П-Р.
1989. [6], 271, [3] p.; Vol. IV: C-V. 1990. [6], 353, [1] p.;
[Vol. V]: Index / ed. by Ulla Birgegärd; compiled by Boris Iva-
nov. 1992. [10], 160, [2] p. Весь указатель на русском языке.
Spinkler, Edgar. Großrussische erotische Volkdichtung /
Von Edgar Spinkler // Antrhopophyteia [!]: Jahrbuch für
638
ethnologische,folkloristische und kulturgeschichtliche
Sexualforschungen...: [in 10 Bd.] / Hrsg. von Dr. Friedrich S.
Krauss. Leipzig: Ethnologischer Verlag, 1913. Bd. X. S. 330—
353; 27x19 см.
Stern, Bernhard, verf. Sexuelles Lexikon // Stern B.
Geschichte der öffentlichen Sittlichkeit in Russland: Kultur, Aberglaube,
Sitten und Gebräuche: Zwei Bände/ Eigene Ermittelungen und
gesammelte Berichte von Bernhard Stern...; Mit 50 Teils
farbigen Illustr. Berlin: Verlag von Hermann Barsdorf, 1908. [Bd.
II]: Russiche Grausamkeit, das Weib und die Ehe,
geschlechtliche Moral, Prostitution, gleichgeschlechtliche Liebe,
Lustseuche, folkloristishe Dokumente... S. 588—597; 25x17 см.
Timroth, Wilhelm von. Russian and Soviet Sociolinguistics
and Taboo Varieties of the Russian Language: (Argot, Jargon,
Slang and «Mat»). Revised and Enlarged Edition / translated
into English by Nortrud Gupta. München: Verlag Otto
Sagner, 1986. X, 164, [2] p. (Slavistische Beiträge; Bd. 205).
Bibliography: p. 142—153. О русском мате — на с. 84—87, 95—96,
104-106, 113-121,128-129,154-161 [«Register» - словарь
русских слов, упоминаемых в тексте].
Timroth, Wilhelm. Russische und sowjetische Soziolinguistik
und tabuisierte Varietäten des Russischen (Argot, Jargons,
Slang und Mat). München: Verlag Otto Sagner, 1983. VIII,
194, [2] S.; 20,5x14,5 см. (Slavistische Beiträge / Begründet
von Alois Schmaus; Hrsg. von. J. Holthusen, H. Kunstmann,
P. Rehder, J. Schrenk; Red. P. Rehder; Bd. 164).
Literaturverzeichnis: S. 177—186; Register [словарь русских слов,
упоминаемых в тексте]. S. 187—193. О русском мате — на
с. 106-109,119-120,132-134,144-151,163-164,187-193.
Topol, Е. (Тополь, Эдуард). Dermo! The Real Russian
Tolstoy Never Used. New York, 1997. В РГБ нет.
Vasmer, Max (1886—1962), verfassen. Russisches
etymologisches Wörterbuch: [in 27 Lieferung, in 3 Bd.] / Von Max
Vasmer. Heidelberg: Carl Winter: Universitätsverlag, 1950—
1958. 27 Lfr. 19,5x12,5x4 см. (Indogermanische Bibliothek /
Hrsg. von Haus Krähe; Zweite Reihe: Wörterbühcher). (В
обложках).
639
[Bd. 1: A-K], Lfr. 1-9 (Bogen 1-45). 1950-1953. [VIII],
IX - XXXVIII, [2], 712 S. Из содерж.: Vorwort. S. VII - VIII;
Literaturnachweise und chronologische Angaben. S. IX—XXXV
(574 назв.); [Bd. 2: Л-Ссуда], Lfr. 10-18 (Bogen 1-45). 1953-
1955. 712, [4] S.; [Bd. 3: -ста-Y], Lfr. 19-27 (Bogen 1-44).
1955-1958. 697, [1] S. Содерж.: -ста-Y. S. 1-503; Nachwort /
M. Vasmer (April 1957). S. 505-507; [Доп. к библиогр.]. S. 508-
510 (56 назв.); [Доп. и испр. к «Словарю»]. S. 511—522;
Wortregister / Von R. Greve-Siegmann und R. Richhard. S. 523 — 697;
Idem. Russisches etymologisches Wörterbühch: [in 3 Bd.] /
Von Max Vasmer. Heidelberg: Carl Winter: Universitätsverlag,
1953-1958. 19,5x12,5 см. (В той же серии). (В пер.). Bd. 1:
А-К. 1953. [VIII], IX-XLVII, [1], 712 S.; Bd. 2: L-Ssuda.
1955. [4], 712, [4] S.; Bd. 3: Sta-Y. 1958. VII, [1],697, [1] S.
Текст самого «Словаря» — по набору выпусков.
« Walter, Harry. Literatur und Wörterbücher zum russischen
Substandart // Lexikographie und Substandart:
Gegenwärtige und künftige Aufgaben der Lexikographie. Greifswald,
2000. S. 87-207. (Greifswalder Beiträge zur Slawistik; Bd. V)».
Цит. по: Мокиенко. 2003. С. 446.
«Walter, Harry. Neues im russishen Wortschatz: Ein kleines
Wvrterbuch des Jargons, des Prostorecie und des Mat (mit
deutschen Äquivalenten). 3-te, verb. u. erw. Aufl. Greifswald,
1997». Цит. по: Мокиенко. 2003. С. 446. В РГБ нет.
«Walter, Harry, Mokienko Valerij. Russisch-Deutsches Jargon-
Wörterbuch. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New
York; Oxford; Wien: Peter Lang Verlag, 2001». Цит. по:
Мокиенко. 2001. С. 447. В РГБ нет.
Wheeller, Marcus, сотр., ed. — См.: The Oxford Russian-
English dictionary. 1972, 1984; The Oxford Russian
dictionary. 1993,1997, 2000.
ы&шшышшшмш
ПЛЫВЕМ... КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?
Вместо послесловия
Представленный в данном сборнике материал со всей
очевидностью свидетельствует, что исследование
бранной лексики в России только начинается. Читатели стали
свидетелями пусть важных, но всё же первых шагов в этом
направлении, получив возможность обозреть обширные
неисследованные горизонты.
Можно назвать целые области, которые еще только
ждут своих первопроходцев. Вот лишь некоторые из них.
В российском законодательстве практически
отсутствуют статьи, предусматривающие наказание за
сквернословие, а то немногое, что на эту тему имеется, не
находит применения на практике. Совершенно очевидно, что
должны быть выработаны законы, как-то
ограничивающие «бранную пандемию», захлестнувшую Россию.
Бессмысленно и не нужно пытаться запрещать брань, но
очевидно, что ее бытование должно быть ограничено
какими-то рамками.
Однако для создания таких законов нужна большая
подготовительная работа.
Например, необходимо выработать убедительное
определение того, что такое сквернословие и в чем отличие
сквернословия от «просто» ругани. Вообще крайне
полезно было бы, по примеру американского психолингвиста
Т. Джея, разработать соответствующую терминологию,
например, различать «обидность» от «обижаемости», «про-
фанность» и «богохульство» и т. п.
Есть ли смысл и необходимость в создании списка
наиболее непристойных слов, подлежащих безусловному та-
641
буированию в общественных местах? Если да, то по
какому принципу туда следует включать слова? Такие списки
неоднократно составлялись на Западе, но успех каждый
раз был весьма скромным: списки часто приходилось
корректировать, да и всегда находились пути их обхода, не
поступаясь грубостью. И всё же несомненно, что в
каждой цивилизованной культуре существуют безусловно
запрещаемые слова. Составление соответствующего
авторитетного списка наверняка устроило бы судебные органы.
Какова роль сквернословия в различных стратах
российского общества? Не вызывает сомнений, что нет
общественного слоя, где сквернословие было бы полностью
исключено, но гораздо менее известно о том, чем в этом
плане отличается сквернословие, допустим, такелажника от
сквернословия врача-венеролога или жителя Крайнего
Севера от жителя Дальнего Востока, матерого уголовника от
подростка из неблагополучной семьи и т. д. Не подлежит
сомнению, что жизненные условия и профессиональная
деятельность накладывают отпечаток и в этом
отношении, но ничего не известно о том, в чем состоят
психолингвистические отличия сквернословия милиционера от
сквернословия преступника.
Огромный интерес представило бы основательное
изучение детского сквернословия. Уже давно ясно, что оно
существенным образом отличается от сквернословия
взрослого, но накопленного материала еще недостаточно даже
для предварительных выводов.
Геронтологи могли бы многое почерпнуть из
исследования сквернословия среди престарелых людей, особенно
страдающих такими недугами, как болезнь Альцгеймера
или старческим слабоумием. Следует, далее, изучать
использование соответствующей лексики после
перенесенной операции на мозге или после сердечного приступа.
Западные исследования позволили обнаружить здесь
немало любопытного и полезного.
Несомненный интерес представили бы исследования
того, чем отличается сквернословие обычных людей от
сквернословия людей с психическими отклонениями.
Можно быть уверенным, что бранный вокабуляр
последних используется ими не совсем так, как у людей с
нормальной психикой.
642
Коль скоро речь пошла о заболеваниях, полезно особо
упомянуть о сквернословии больных синдромом Туретта
и афатиках. То, что именно непристойности последними
исчезают и первыми восстанавливаются в процессе
лечения афазии, заставляет задуматься об особом месте
бранной идиоматики в человеческом сознании.
Не менее интересным было бы изучение
сквернословия в среде глухонемых или слепых. Вполне вероятно, что
соответствующие исследования могли бы серьезно
помочь психиатрам, педагогам и воспитателям.
Можно предположить, что сам инвективный вокабуляр
у ряда групп может частично или даже полностью совпасть,
однако психологический фон, на котором этот вокабуляр
используется, будет, скорее всего, разный, отчего сама
брань, при всем ее внешнем сходстве, будет своеобразной.
Крайне мало известно о тендерном аспекте брани в
России. Принято считать априори, что женщины пользуются
вульгарной бранью реже мужчин, но наблюдения
свидетельствуют, что это не всегда так. Кроме того, сам
характер «женской брани» явно иной, нежели брани «мужской».
Вероятно, именно этим объясняется разная «обижаемость»
на ту или иную инвективу женщин и мужчин. Однако на
сегодняшний день всё это не более чем догадки. Нужны
серьезные экспериментальные исследования.
Практически не начиналась еще работа над
этимологией русской бранной идиоматики. Отдельные наблюдения
в этой области не складываются в общую картину, часть из
них носит явно любительский характер и относится,
скорее, к сфере народной этимологии, чем к серьезной науке.
Давно начавшаяся работа западных психолингвистов
над «заборными надписями», граффити, надписями на
стенах общественных туалетов и проч. пока не
привлекает отечественных исследователей. При всей своей
очевидной неэстетичности, перед нами богатый материал
для целого ряда специалистов в области филологии,
этнологии, психиатрии. Походя можно отметить, что за последние
годы в этой коммуникативной сфере в России происходят
существенные изменения: например, почти полностью
исчезли надписи сексуального содержания.
Оскорбительные жесты — еще одна неисследованная
область инвективного общения. Отсутствует их класси-
643
фикация, крайне мало сказано об их несомненной
национальной специфичности.
Одна из самых важных тем — функционирование
оскорбительных этнических кличек. В наше время острых
межнациональных и межконфессиональных противостояний
изучение соответствующего словаря представляется
жизненно необходимым не только конфликтологам.
Думается, что именно крайняя острота темы привела к почти
полному ее игнорированию.
Таким образом, список неисследованных тем,
несомненно, длиннее перечня тех, что хотя бы поверхностно
изучены.
Тем очевиднее необходимость дальнейших усилий в
этом направлении.
В.И. Жельвис
СОДЕРЖАНИЕ
В.И. Жельвис. ПРЕДИСЛОВИЕ 5
В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин. ЗАПРЕТ И НАРУШЕНИЕ
ЗАПРЕТА КАК КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ .... 17
В.В. Дементьев. БРАНЬ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ 35
ИЛ. Панасюк. СЕМАНТИЧЕСКИЕ И
КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА ТАБУ 54
В.Ю. Мшайлин. РУССКИЙ МАТ КАК МУЖСКОЙ ОБСЦЕН-
НЫЙ КОД: ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И
ЭВОЛЮЦИЯ СТАТУСА 69
A.A. Панченко. МАТЕРНАЯ БРАНЬ В РЕЛИГИОЗНОМ
КОНТЕКСТЕ 138
А.Ю. Плуцер-Сарно. ЗАМЕТКИ О РУССКОМ МАТЕ 162
СМ. Салупере. НЕПРИЛИЧНЫЙ ПЕРЕВОД: О
ВОЗМОЖНОСТИ И НУЖНОСТИ ПЕРЕВОДА ОБСЦЕННОЙ
ЛЕКСИКИ 206
Б. Вурм. РУССКИЙ МАТ, ИЛИ ОБМОРОК ПЕРЕД
ПОРНОГРАФИЧЕСКОЙ ДИЛЕММОЙ: ГЕНДЕРНО-СПЕЦИ-
ФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РУССКОГО ОБСЦЕННОГО
ЯЗЫКА. Пер. с нем. Ф.О. Смирнова, В.И. Жельвиса 215
В.Д. Девкин. БЕЗОБРАЗНОЕ В ЭСТЕТИКЕ ОБИХОДНОГО
ЯЗЫКА 232
В.И. Жельвис. ИНВЕКТИВА КАК «НАУКА УБЕЖДАТЬ»:
БРАНЬ В АРСЕНАЛЕ ПОЛИТИКОВ И ФИЛОСОФОВ .. 288
Н.Д. Голев. ОБЫГРЫВАНИЕ РУССКИХ ТАБУИЗМОВ В
ФОЛЬКЛОРНЫХ МЕТАТЕКСТАХ 305
О.Ю. Трикова. О РОЛИ БРАННОЙ ЛЕКСИКИ В ДЕТСКОМ
ФОЛЬКЛОРЕ 334
Л.В. Жаров. ДЕТСКИЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР В СССР .. 344
И.Г. Яковенко. НЕНОРМАТИВНЫЙ АНЕКДОТ КАК
МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА: ОПЫТ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 357
В.П. Коровушкин. ИНВЕКТИВНАЯ ЛЕКСИКА И
ФРАЗЕОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ВОЕННЫХ
ПОДЪЯЗЫКАХ: КОНТРАСТИВНО-СОЦИОЛИНГВИ-
СТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 376
Ю.А. Кузнецов. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ВОЕННОМ
ФОЛЬКЛОРЕ ХІХ-ХХ ВЕКОВ 421
Т.С. Злотникова. «ПРОСТО ТАКАЯ ЖИЗНЬ...»: АБСУРД И
ИНВЕКТИВА: КАК РУГАЛИСЬ В РУССКОЙ ДРАМЕ
ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ ... 431
М.Н. Дмитриева. «...АБО ФЕНОМЕН ДАТСЬКОГО КАЦА-
ПІЗМУ» 472
М.И. Назаренко. НАРЕЧИЕ НА «Н» ИЗ ПЯТИ БУКВ,
ОТВЕЧАЮЩЕЕ НА ВОПРОС «КУДА?»:
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБСЦЕННОЙ ЛЕКСИКИ В РОМАНЕ
БОРИСА ШТЕРНА «ЭФИОП» , 494
A.A. Улюра. ВОСПРИЯТИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ:
ЭВФЕМИЗМЫ В МЕМУАРАХ A.C. ЛАБЗИНОЙ 523
Дж. Томсен. БРАННЫЙ ЯЗЫК НА ФАРЕРСКИХ
ОСТРОВАХ. Пер. с англ. В.И. Жельвиса 535
М.В. Томская. ИНВЕКТИВНАЯ ЛЕКСИКА ЯКУТСКОГО
ЯЗЫКА 554
Г. Г. Тергпышный. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
БИОФИЗИЧЕСКОГО ПОЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 565
Л.В. Бессмертных. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
СЛОВАРЕЙ И ДРУГОЙ СПРАВОЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ РУССКУЮ ОБСЦЕННУЮ И
ВОРОВСКУЮ ЛЕКСИКУ 572
В.И. Жельвис. ПЛЫВЕМ... КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ? 641
К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ
В серии «Русская потаенная литература» вы можете
опубликовать свои научные труды — как монографии, так
и сборники научных статей.
Сложилось устойчивое представление о том, что в этой
серии мы издаем лишь то, что так или иначе связано с
эротикой и обсценной лексикой. На самом деле нас
интересуют материалы, посвященные маргинальной русской
культуре, тексты, исследующие приватное и публичное в
частной жизни русского человека.
Например, мы бы с удовольствием выпустили сборник
под условным названием «Русский фольклор на Брайтон-
Бич», антологии и исследования городского фольклора, в
том числе современного, сборники антисоветского,
студенческого, лагерного фольклора, подборки текстов под
общим названием «Россия глазами иностранцев»
(французов, англичан, итальянцев, немцев, скандинавов и т. д.).
Что же касается основного, «эротического»,
направления серии, мы были бы заинтересованы:
— в сборниках трудов ведущих славистов мира;
— переизданиях классических, но малодоступных
исследований как русского, так и в целом славянского
фольклора (украинского, белорусского, болгарского, сербского
и т. д.);
— сборниках анонимных эротических произведений,
признанных классикой жанра;
— любопытных архивных документах;
— материалах по истории цензуры и нравов в России, и
т.д.
Если у Вас имеется незначительный по объему текст, то
он может быть помещен в одной из книг, готовящихся у
нас к изданию.
«Ладомир» открыт к сотрудничеству.
Предложения Вы можете присылать по адресу:
124681, Москва, Зеленоград, ул. Заводская, ба.
Тел: (095) 537-98-33
Факс: (095)537-47-42
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
В СЕРИИ
«РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
вышли:
1. Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова.
2. Под именем Баркова: Эротическая поэзия XVIII —
начала XIX века.
3. Стихи не для дам: Русская нецензурная поэзия второй
половины XIX века.
4. Русский эротический фольклор: Песни. Обряды и
обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки.
Частушки.
5. Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор.
Литература. Сб. статей.
6. Секс и эротика в русской традиционной культуре. Сб.
статей.
7. Заветные сказки из собрания Н. Е. Ончукова.
8. Народные русские сказки не для печати; Русские за-
ветныепословицы и поговорки, собранные и
обработанные А; Н. Афанасьевым.
9. В. И. Жельвис. Поле брани: Сквернословие как
социальная проблема в языках и культурах мира. (Те изд.,
2-е изд.)
10. Русский школьный фольклор: От «вызываний»
Пиковой дамы до семейных рассказов.
11. Заветные частушки из собрания А. Д. Волкова. В 2 т.
12. Анна Map. Женщина на кресте.
13. А. П. Каменский. Мой гарем.
14. Эрос и порнография в русской культуре. Сб. статей.
15. М. Н. Золотоносов. Слово и Тело: Сексуальные аспекты,
универсалии, интерпретации русского культурного
текста XIX — XX веков.
16. «А се грехи злые, смертные...»: Любовь, эротика и
сексуальная этика в доиндустриальной России (X —
первая половина ХІХ в.). Сб. материалов и исследований.
17. «...Сборище друзей, оставленных судьбою»: Л. Липав-
ский, А. Введенский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н.
Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях.
В 2 т.
18. «Тайные записки А. С. Пушкина. 1836—1837: Перевод с
французского», (Публикация Михаила Армалинского.)
19. Г. И. Кабакова. Антропология женского тела в
славянской традиции.
20. Национальный Эрос и культура. Сб. статей. Т. 1.
21. СБ. Борисов. Мир русского девичества: 70—90 годы
XX века.
22. М. И. Армалинский. «Чтоб знали»: Избранное. 1966—
1998.
23. Рукописи, которых не было: Подделки в области
славянского фольклора.
24. М. Н. Золотоносов. Братья Мережковские. Кн. 1. От-
щерепіэ Серебряного века.
25. «А се грехи злые, смертные...»: Русская семейная и
сексуальная культура глазами историков, этнографов,
литераторов, фольклористов, правоведов и богословов
ХІХ-начала XX века. Кн. 1—3.
26. «Злая лая матерная...». Сб. статей.
Серия издается с 1992 года.
В СЕРИИ
<РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
готовятся к изданию:
БЕЛОРУССКИЙ эротический фольклор
Эротическая тематика присуща практически всем
жанрам традиционного фольклора белорусов. Женщина и
мужчина, их любовные и интимные взаимоотношения с
разной степенью «прозрачности» описаны в
произведениях устного народного творчества, собранных в данном
томе. Обрядовый фольклор в сборнике классифицирован
согласно календарным (калядная и масленичная
обрядность, весенние, купальские и жнивные песни) и
семейным (родинная и свадебная поэзия) комплексам; внеобря-
довая лирика и частушки представлены коллекциями
собирателей. В отдельные разделы помещены загадки и
образцы народной прозы. Публикуются также отрывки
из трудов известного ученого конца XIX — начала XX века
М. Довнара-Запольского, посвященные эротической
тематике в белорусском фольклоре.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 537-98-33;
тел. склада: (095) 533-84-77.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
В СЕРИИ
.РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
готовятся к изданию:
СИ. ГОЛОД
«Что БЫЛО ПОРОКАМИ, СТАЛО правами»:
Лекции по социологии сексуальности
Новейшая книга ведущего российского ученого
посвящена генезису и трансформации сексуальной морали в
нашей стране, утрате браком монопольного контроля за
сексуальностью, расширению зон, параллельных
«парным» (в том числе и нелегитимным) эротическим
практикам.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 537-98-33;
тел. склада: (095) 533-84-77.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
В СЕРИИ
<РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
готовятся к изданию:
В.М. ГНАТЮК
Байки не для печати: Украинский соромской фольклор
Сегодня мало кто не знаком с «Народными русскими
сказками не для печати», собранными А.Н. Афанасьевым.
Но мировая фольклористика знает еще два столь же
масштабных собрания - «заветных» сказаний южных славян
из коллекции Ф.-С. Краусса и украинского непристойного
фольклора из собрания В. Гнатюка.
Эти ставшие легендарными (в силу своей
скандальности и недоступности) собрания публиковались лишь
единожды, в начале XX в. в Лейпциге мизерными тиражами
«для специалистов». Но даже эта оговорка не спасла их -
по указке цензуры книги были уничтожены. Считанные
экземпляры сохранились лишь в крупнейших
библиотеках мира.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 537-98-33;
тел. склада: (095) 533-84-77.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
В СЕРИИ
«РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
готовятся к изданию:
ФР.-С. КРАУСС
Заветные истории южных славян
В самом начале минувшего века известный
австрийский этнограф доктор Фридрих Соломон Краусс задался
целью собрать эротический фольклор славянских
народов, входивших тогда в состав Австро-Венгерской
империи. Одним из объектов его научных интересов стал
Балканский полуостров, куда он и отправился записывать
заветные рассказы и анекдоты. Большую помощь в
экспедиции ему оказывали южнославянские коллеги. В результате
удалось собрать богатейший материал и прежде всего —
исторические байки, в которых фигурируют два популярных
сербских героя — королевич Марко и князь Милош с их
знаменитыми сексуальными подвигами. В книге много и
обыденных народных анекдотов из Сербии, Хорватии, Боснии
и Герцеговины. В переводе сохранена вся ненормативная
лексика оригинальных текстов.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 537-98-33;
тел. склада: (095) 533-84-77.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
В СЕРИИ
<РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
готовятся к изданию:
С. К. ЛАЩЕНКО
СМЕХОВОЙ МИР ЯЗЫЧЕСТВА
Издание посвящено изучению магической смеховой
традиции славян. Необычайно характерная для
исторического прошлого нашего народа, она долгое время
ревностно оберегалась от чужих глаз. Лишь иногда, да и то в
отрывочном виде, прорывалась она в «большую» культуру,
сразу же вызывая нападки, порождая настороженное и
отчужденное восприятие не только у носителей церковной
и государственной власти, но и в народной среде, в кругу
обывателей различной социальной принадлежности.
Между тем смеховая магия была необычайно характерна для
языческих погребальных и свадебных ритуалов. На их
основе вырастал мощный смеховой комплекс языческих
календарных обрядов. К этим традициям обращались
писатели и музыканты, художники, поэты...
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 537-98-33;
тел. склада: (095) 533-84-77.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
В СЕРИИ
«РУССКАЯ ПОТАЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
готовятся к изданию:
Д. РАНКУР-ЛАФЕРЬЕР
Русская литература и психоанализ
Дениэл Ранкур-Лаферьер — современный
американский литературовед, русист. В его книгу вошли работы,
посвященные самым известным русским писателям:
Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Достоевскому, Льву Толстому,
Солженицыну Выводы западного ученого,
опирающегося в своих исследованиях на методы классического и
неклассического психоанализа (М. Кляйн, Д.-В. Винникот,
X. Кохут, М. Малер, Дж. Боулби и др.), могут кого-то
шокировать и даже возмутить. Но вместе с тем они дают богатую
пищу для размышлений, позволяют совершенно по-новому
взглянуть на такие хрестоматийные литературные
персонажи, как Евгений Онегин, Татьяна Ларина, Пьер Безухов,
гоголевские Шпонька и Хома Брут... В том включена
сенсационная биография «Лев Толстой на кушетке
психоаналитика», рассказывающая о знаменитом писателе с
совершенно неожиданной стороны.
В целом издание дает представление о том, как
развивается на Западе психоаналитическое литературоведение.
Книга чрезвычайно интересна не только тем, кто изучает
различные аспекты сексуальности и эротики,
пронизывающих русскую культуру, но и всем, кто хотел бы глубже
понять известные художественные произведения.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом
по адресу: 124681, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095) 537-98-33;
тел. склада: (095) 533-84-77.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
Для получения бесплатного перспективного плана издательства
и бланка заказа вышлите по этому же адресу
маркированный конверт.
Научное издание
«ЗЛАЯ ЛАЯ МАТЕРНАЯ...»
Сборник статей
Редактор
ЮЛ. Михайлов
Технический редактор
В.Б. Кулагина
Корректоры
О.Г. Наренкоѳа, Н.М. Соколова
Компьютерная верстка
М.П. Суровцева
Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.11.04.
Формат 84х1087з2. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 20,5. Тираж 1 500 экз. Заказ 3447.
Паучно-излательский центр «Лаломнр»
124681, Москва, Зеленоград, Заводская, 6а.
Тел. склада: (095) 533-84-77. E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
Издание осуществлено при техническом участии
ООО «Издательство ACT»
При участии 000 «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.2004.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Республиканское унитарное предприятие
«Минская фабрика цветной печати».
220024, Минск, ул. Корженевского, 20.
ISBN 5-йЬ2іа-Ч23-Ь