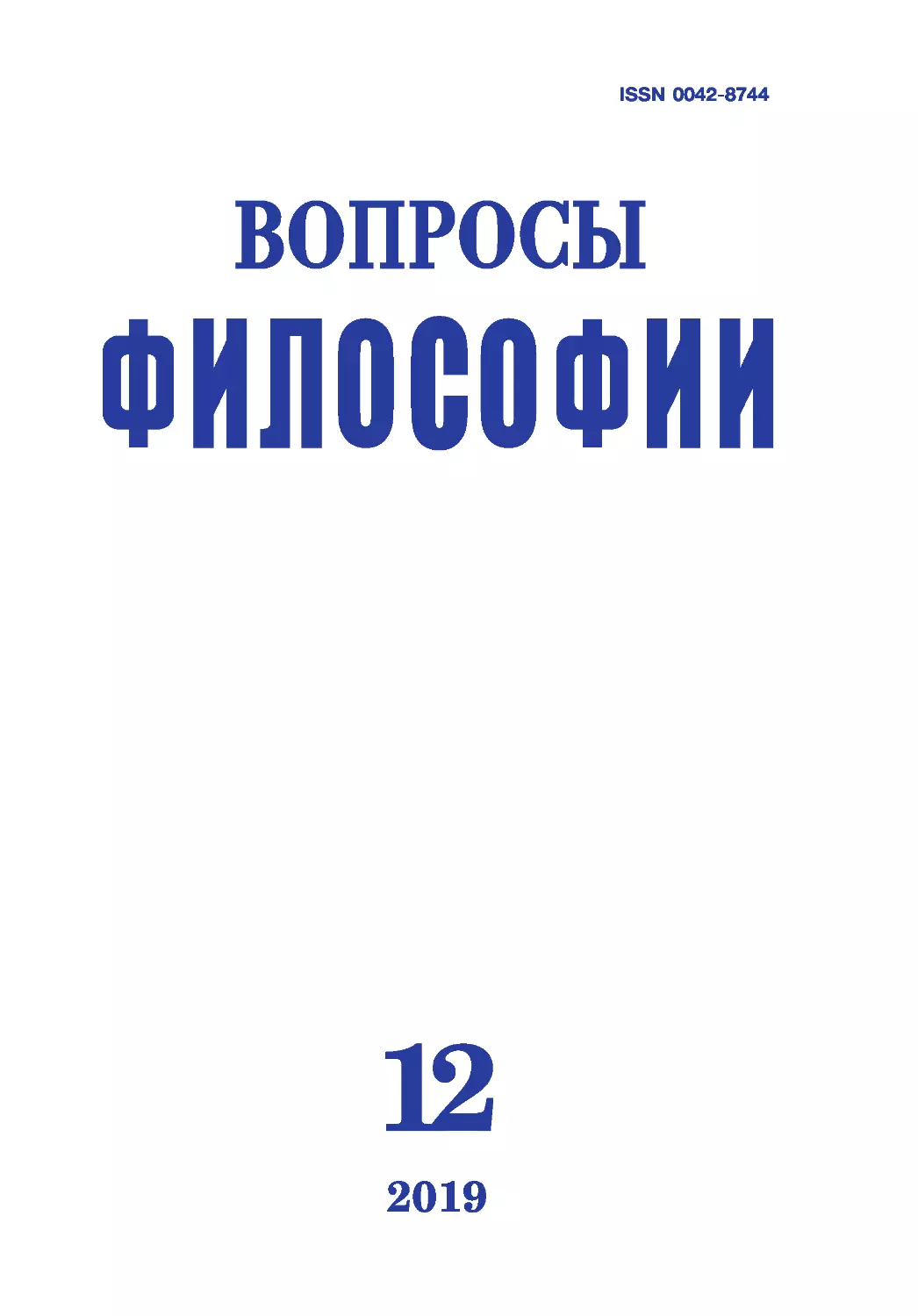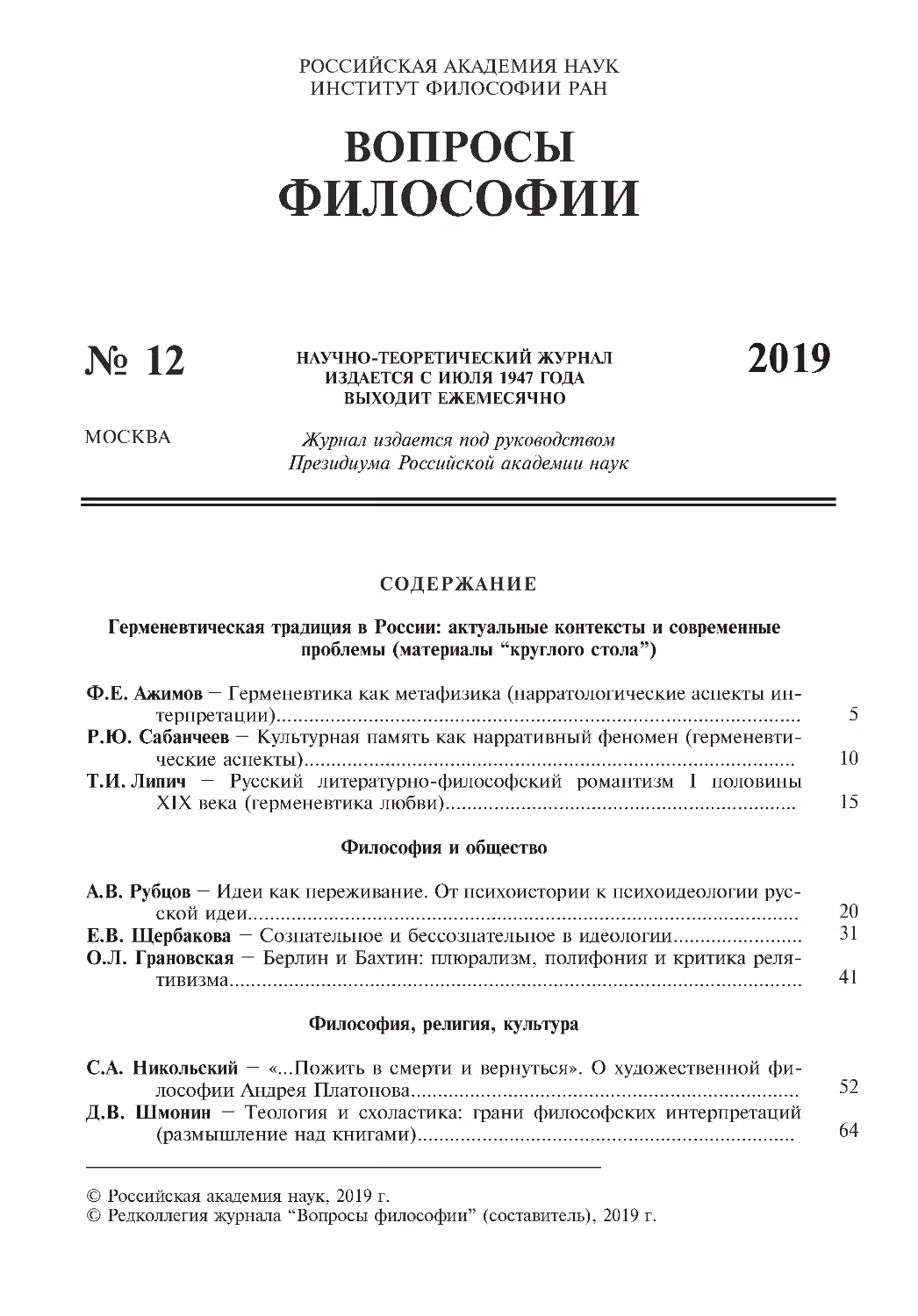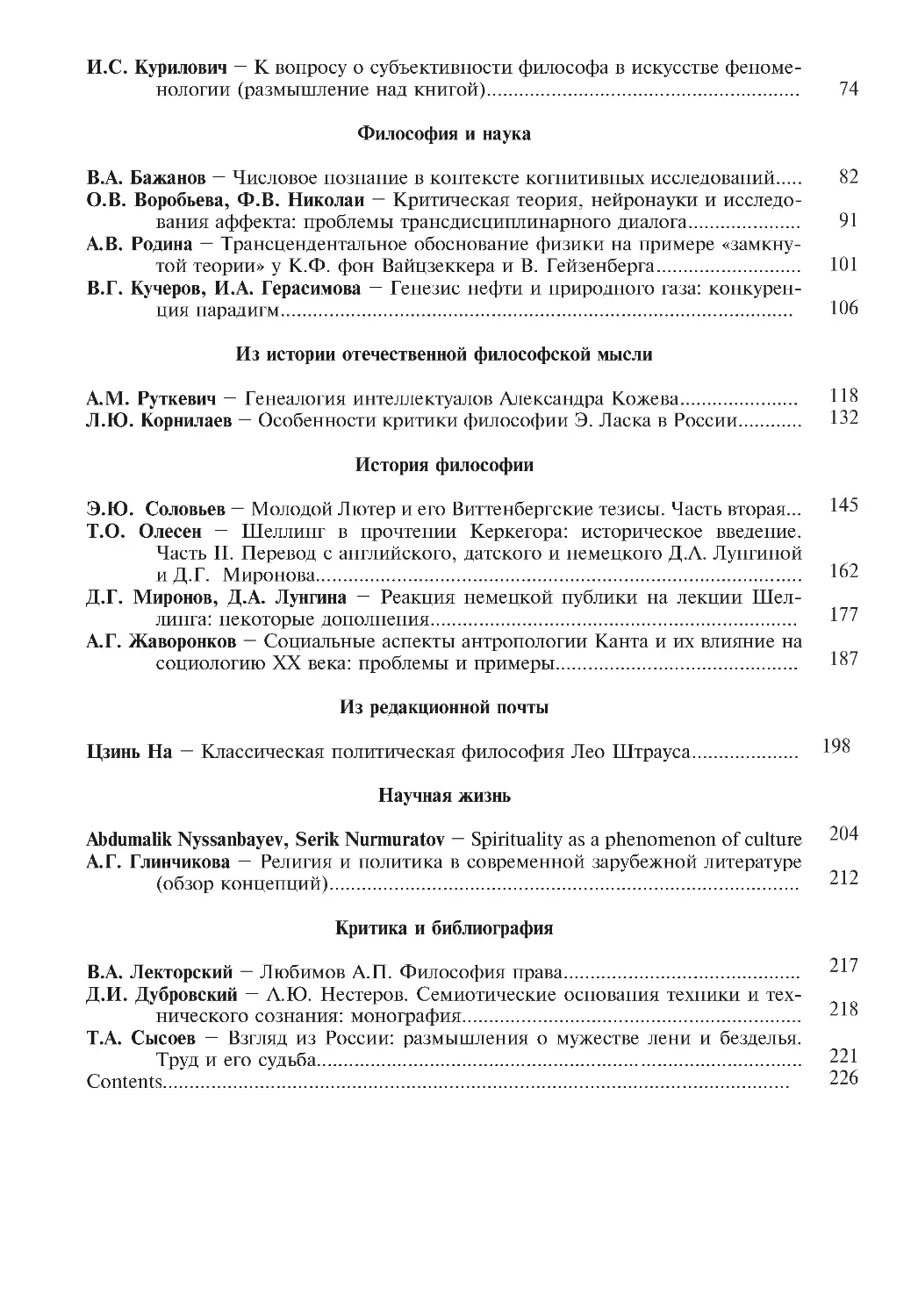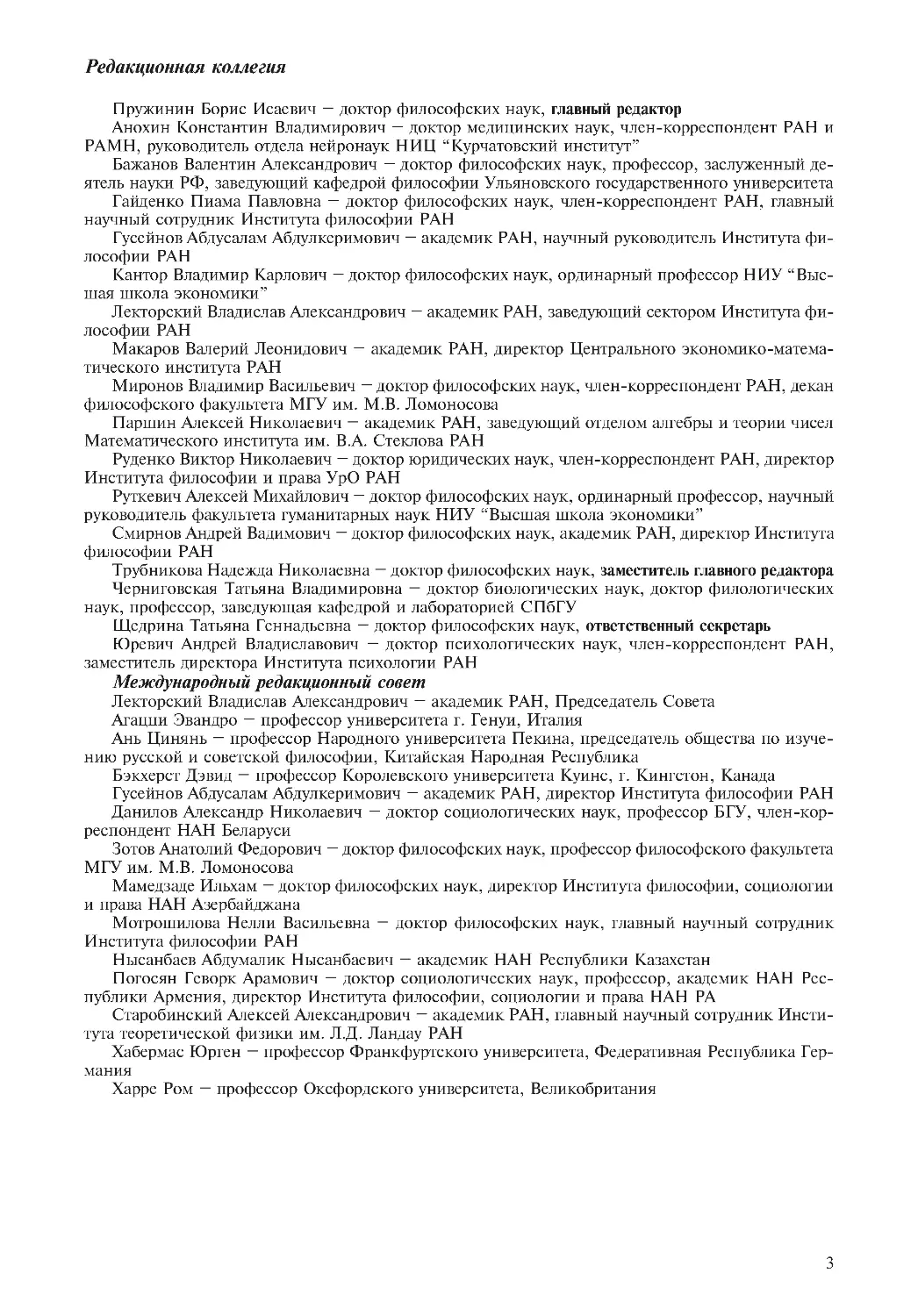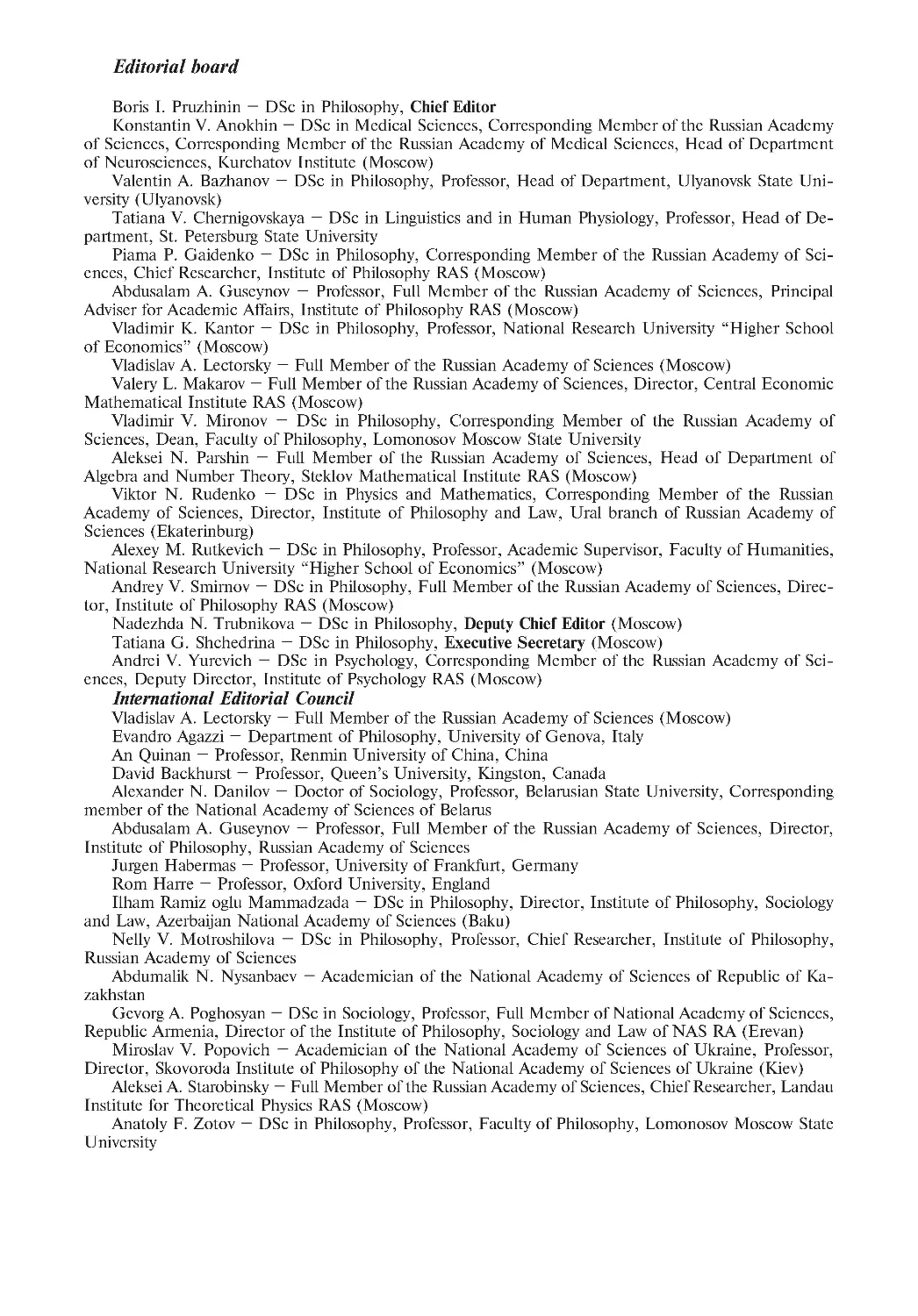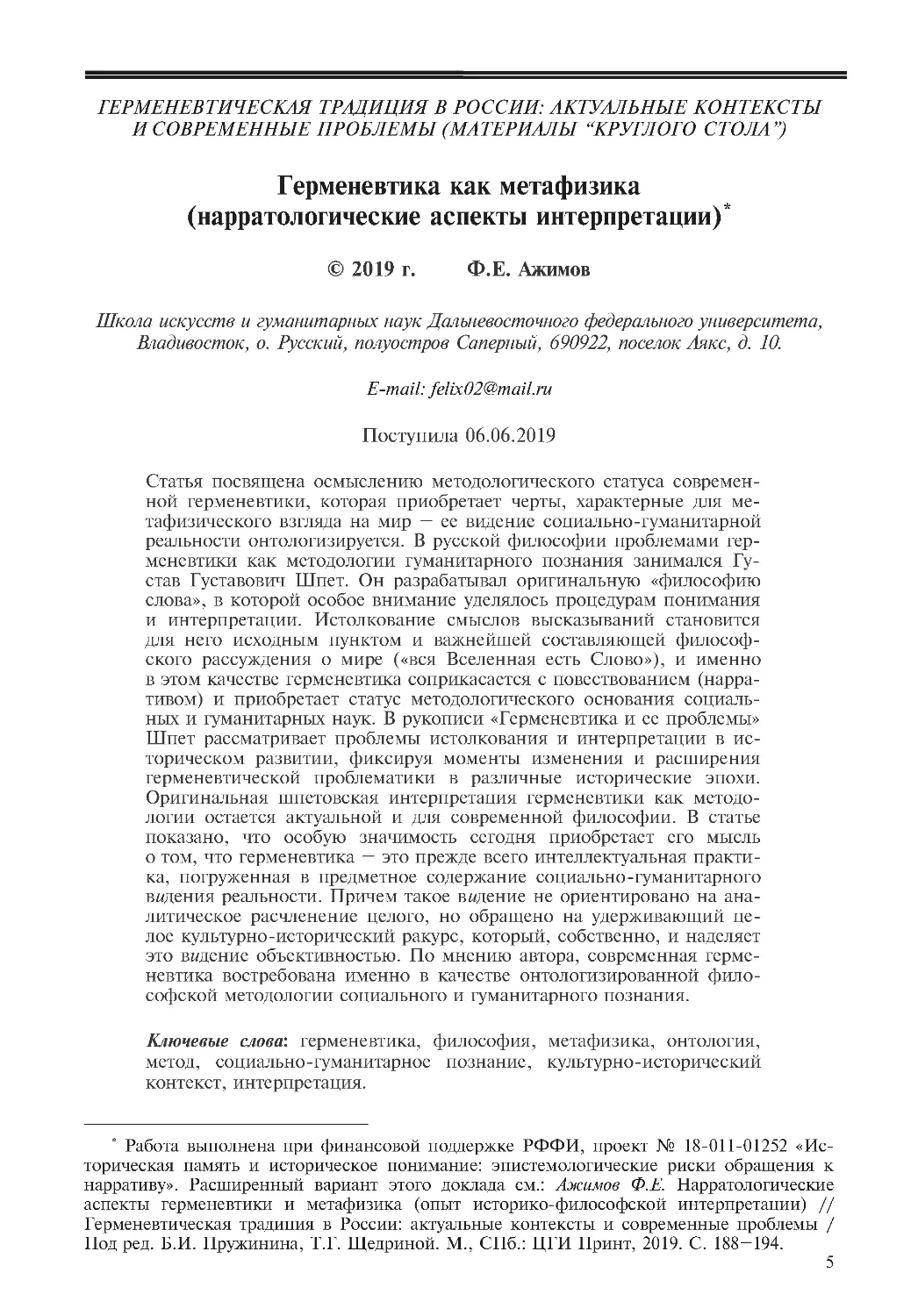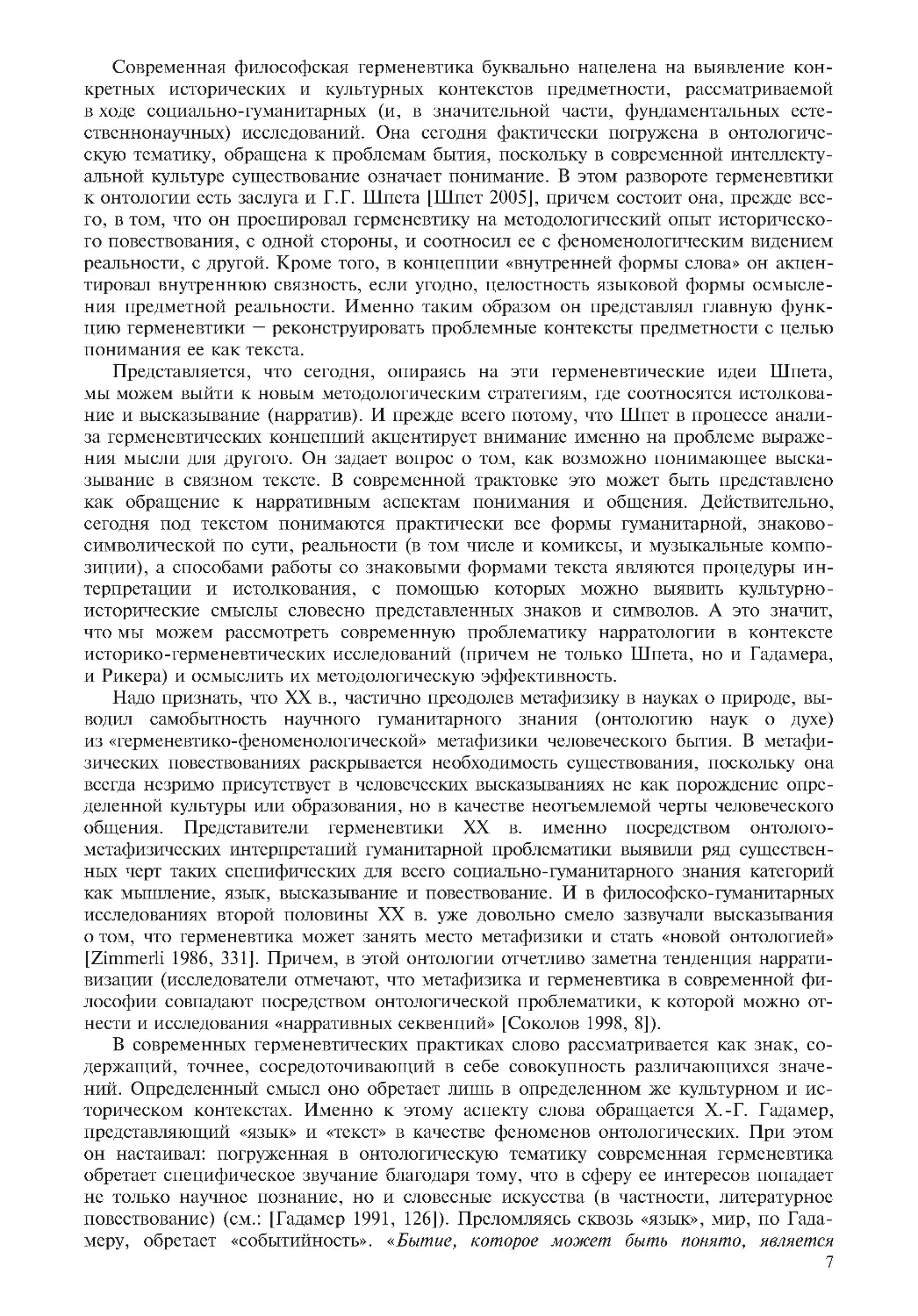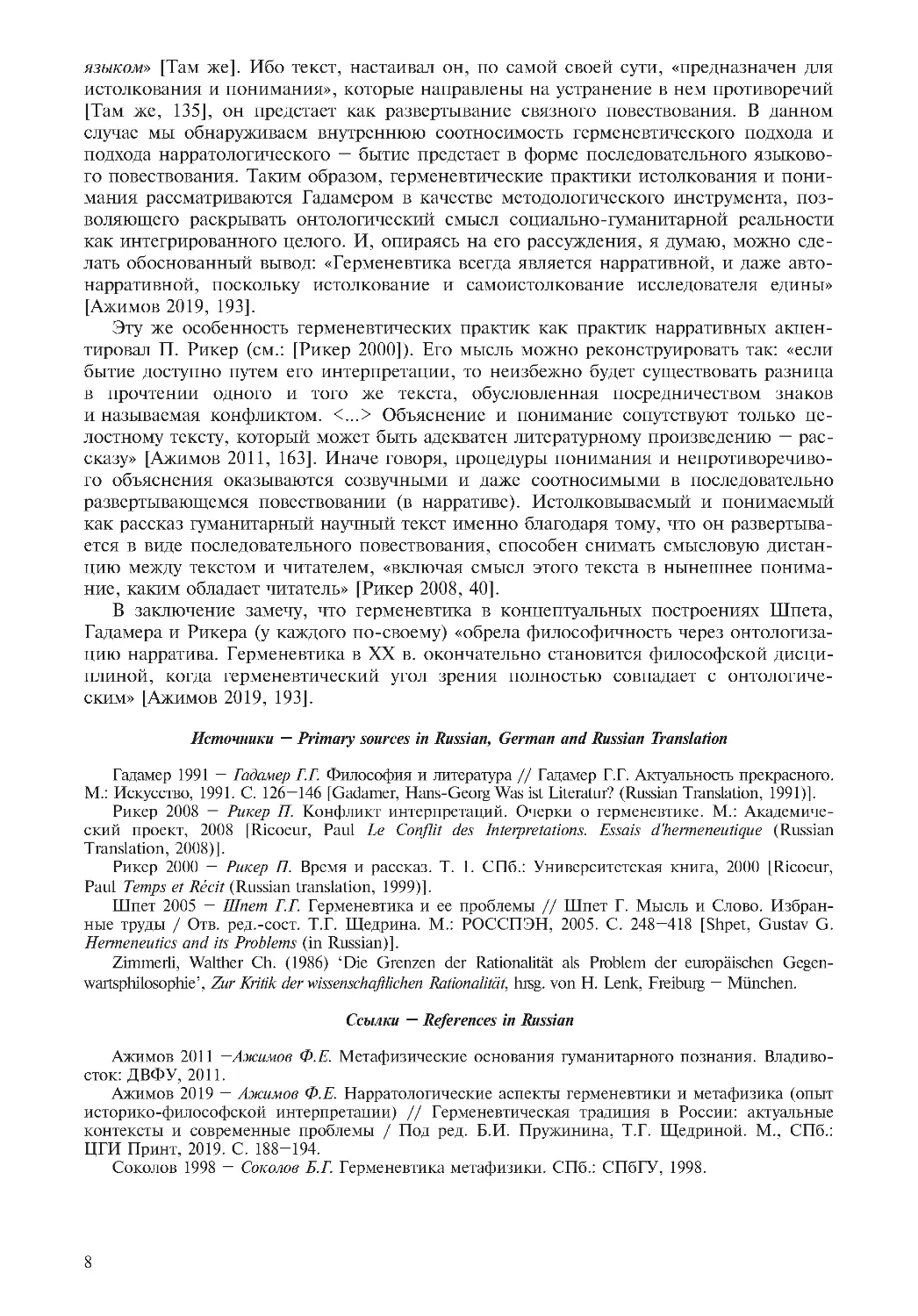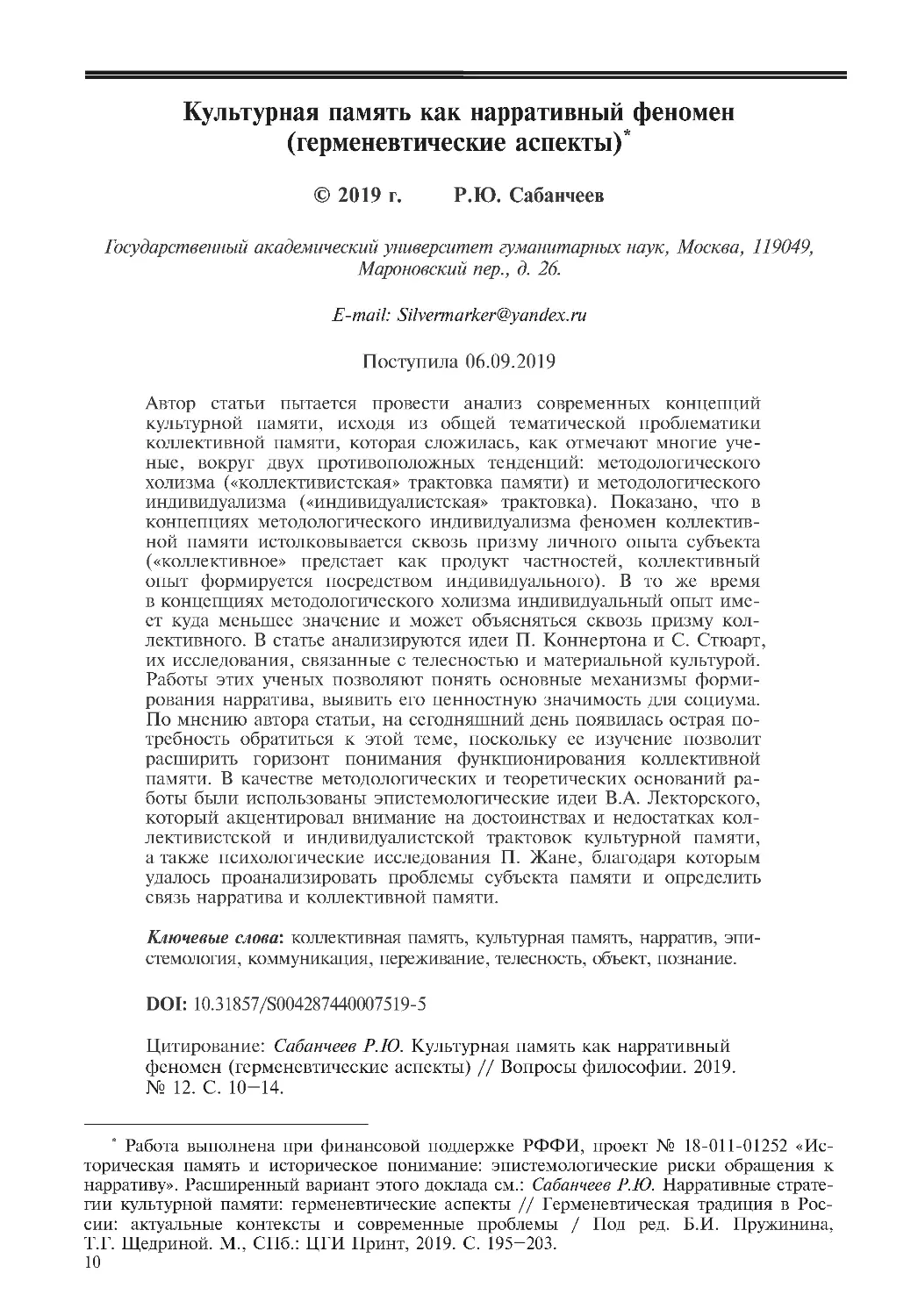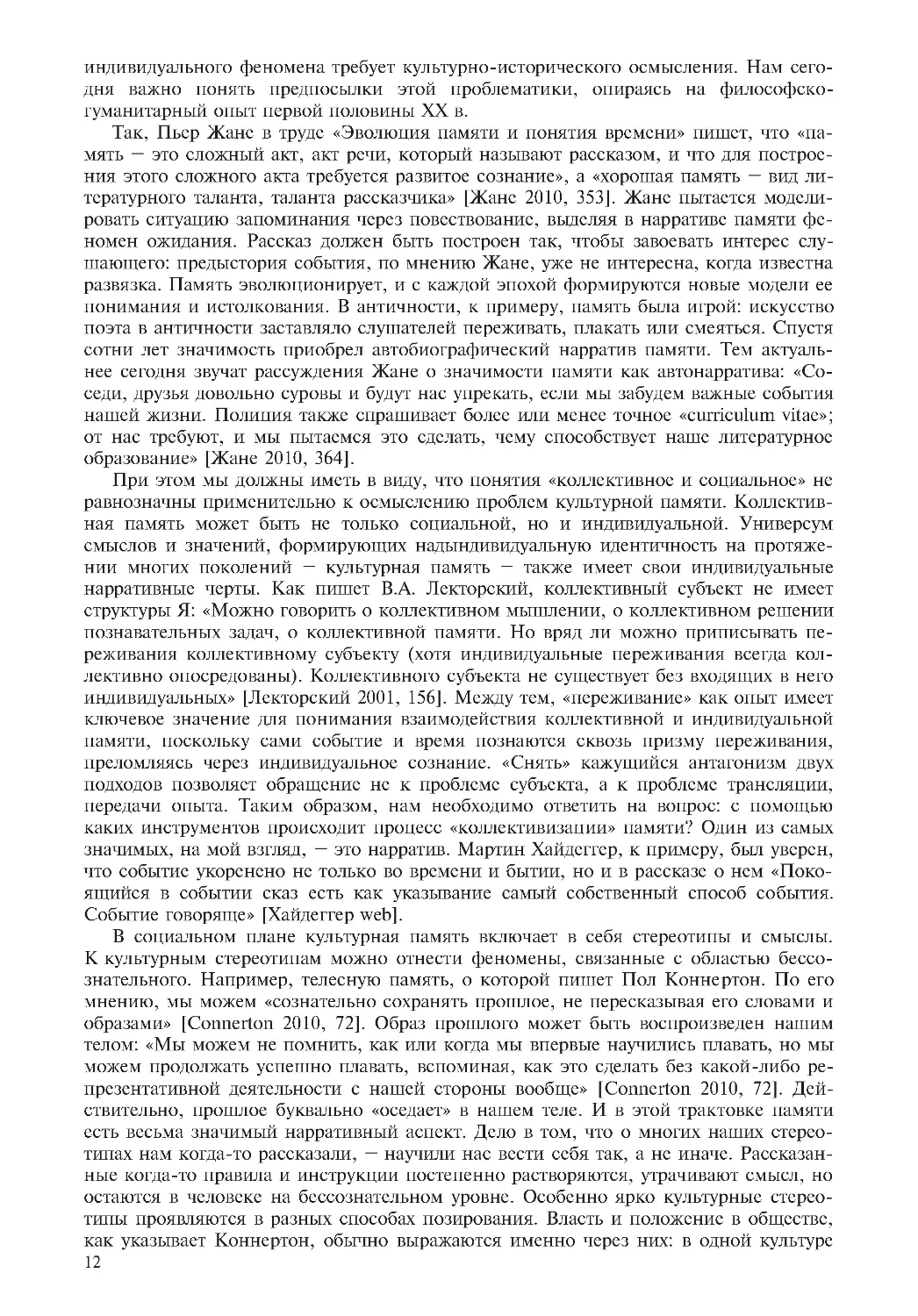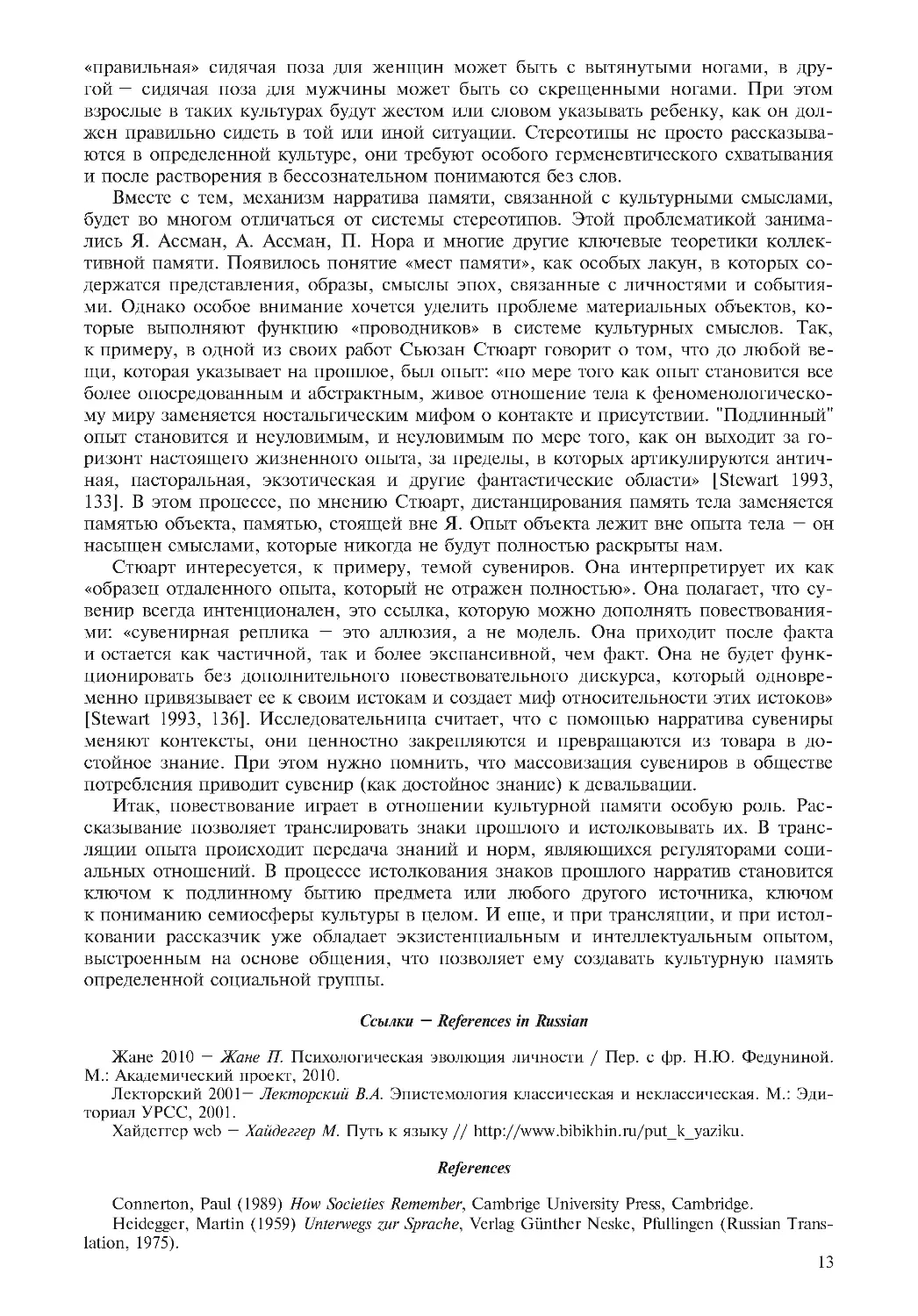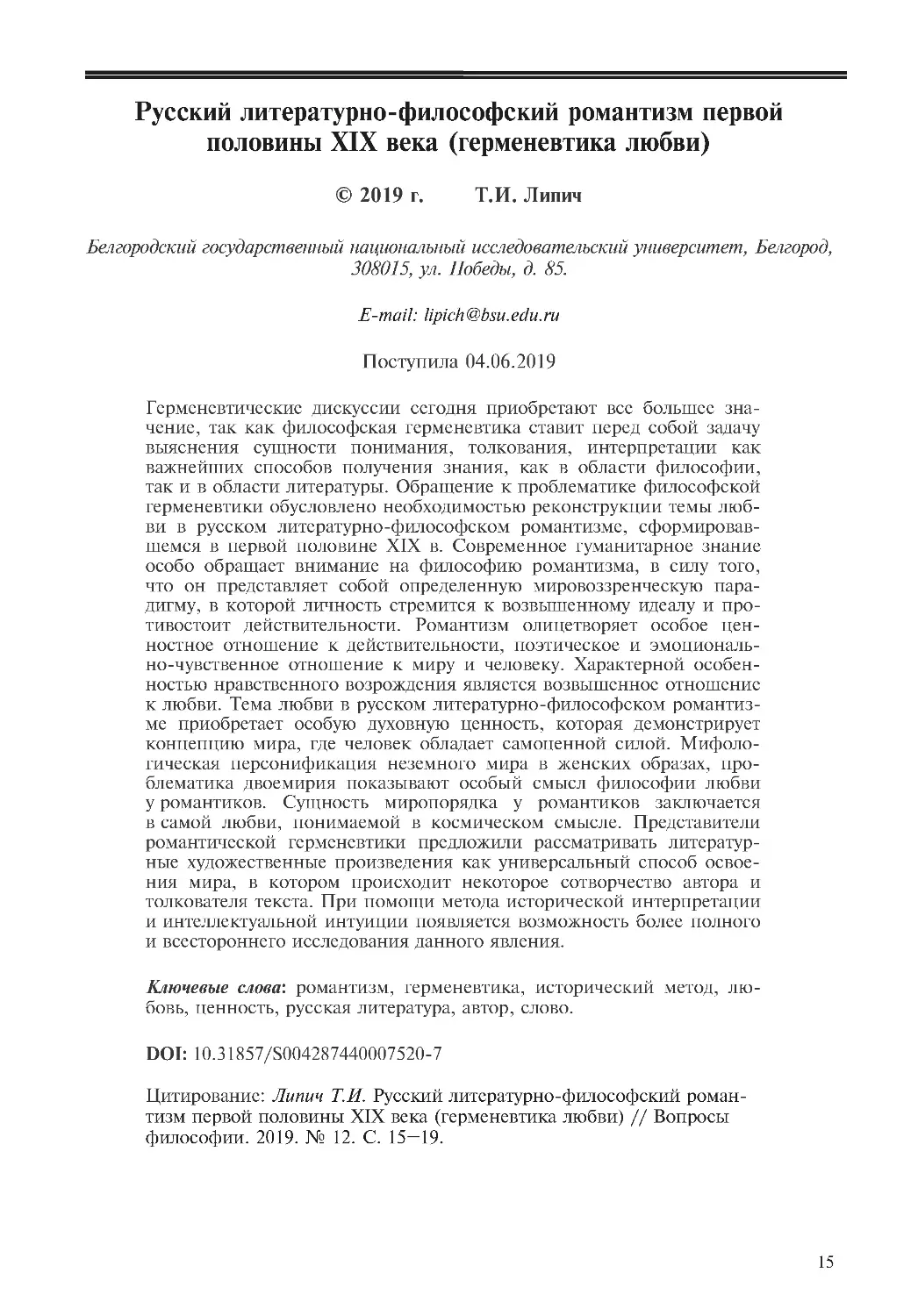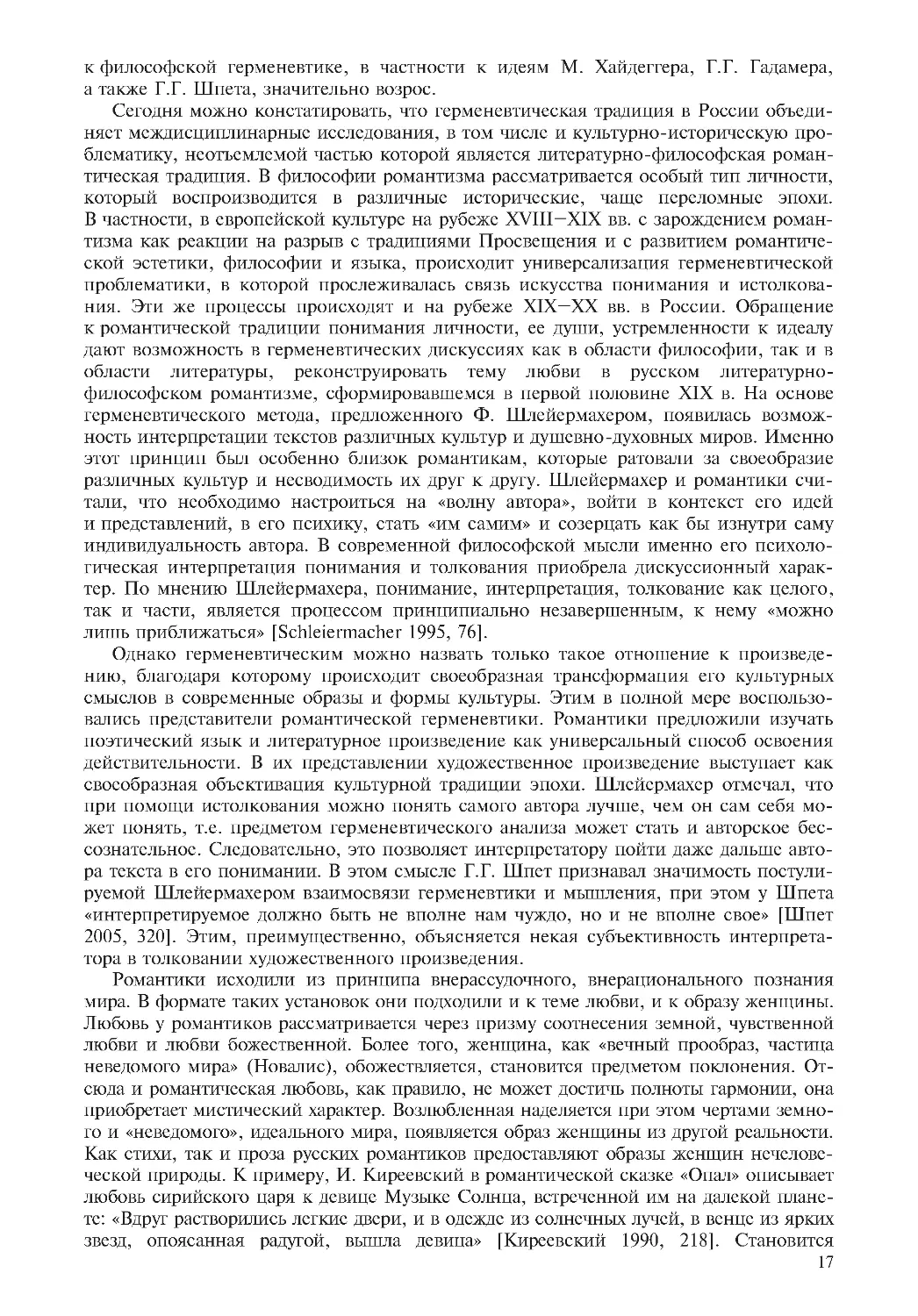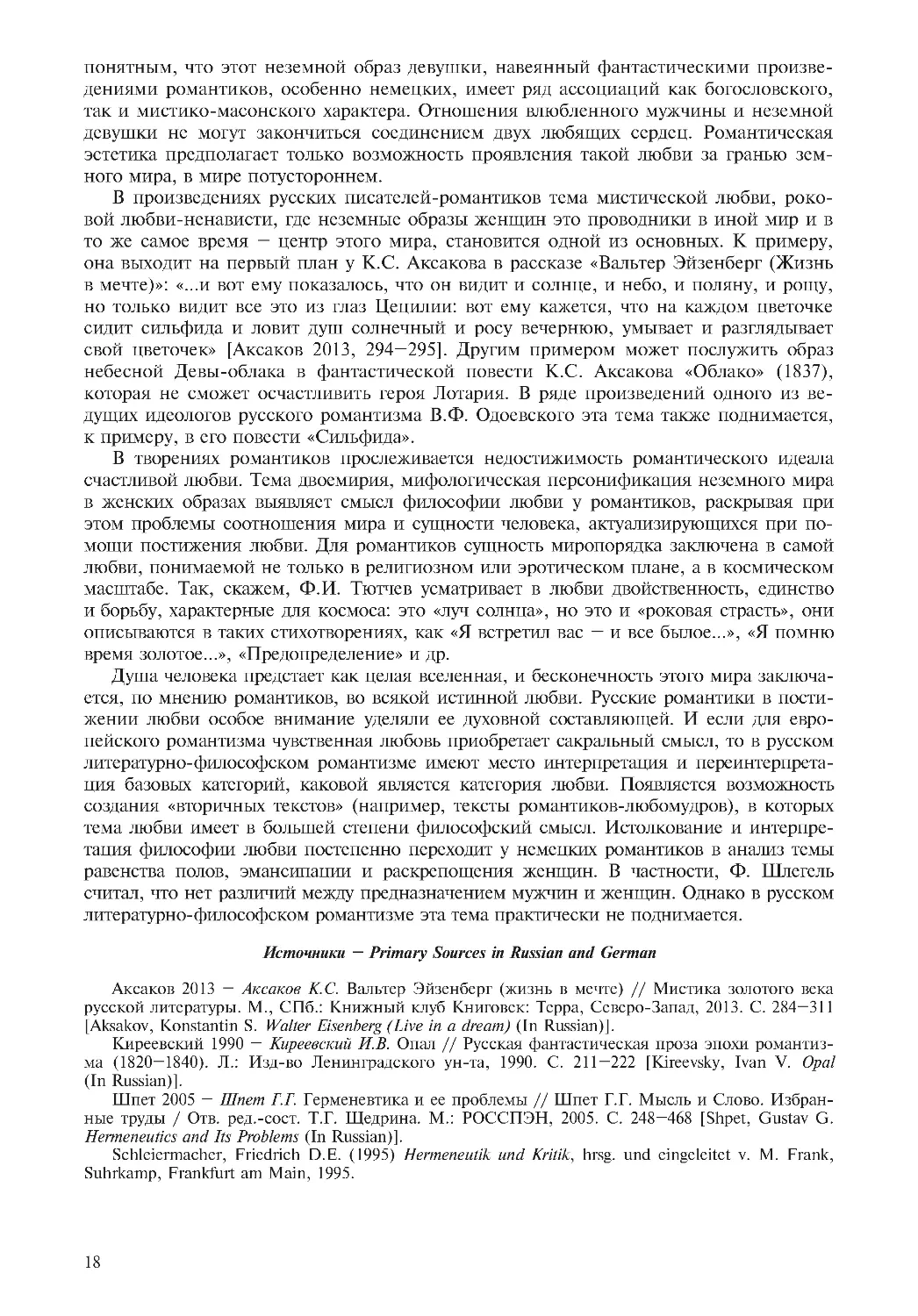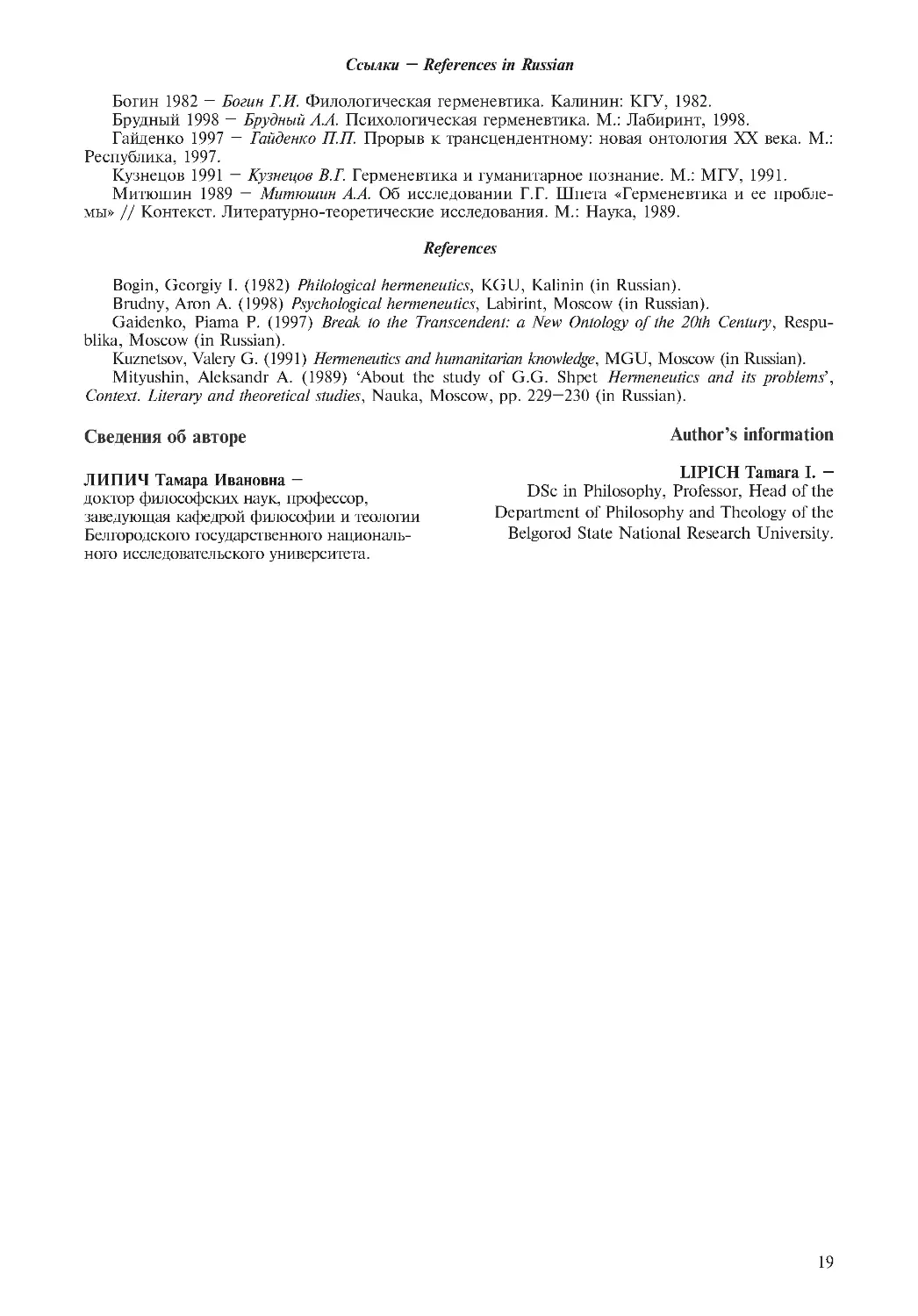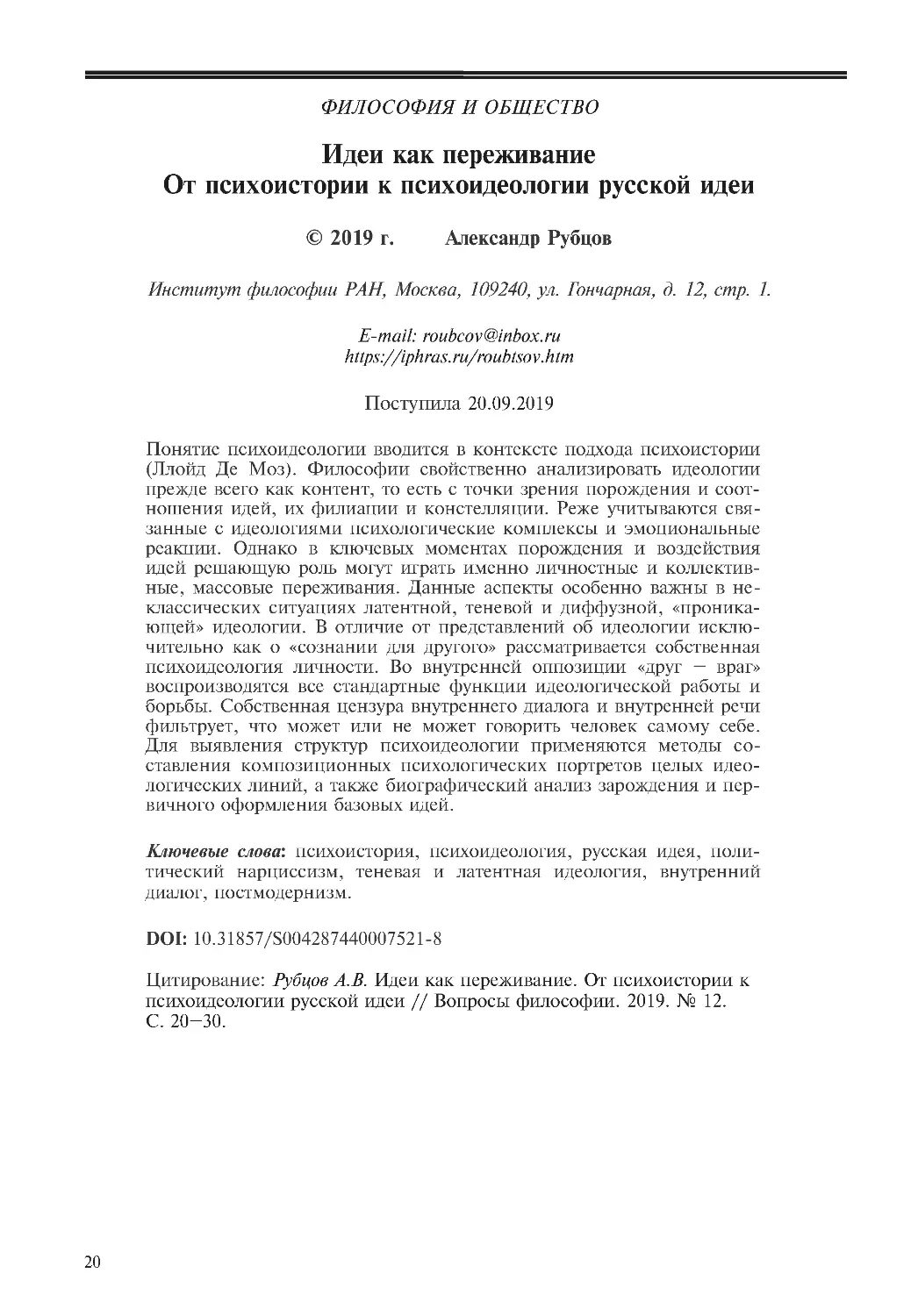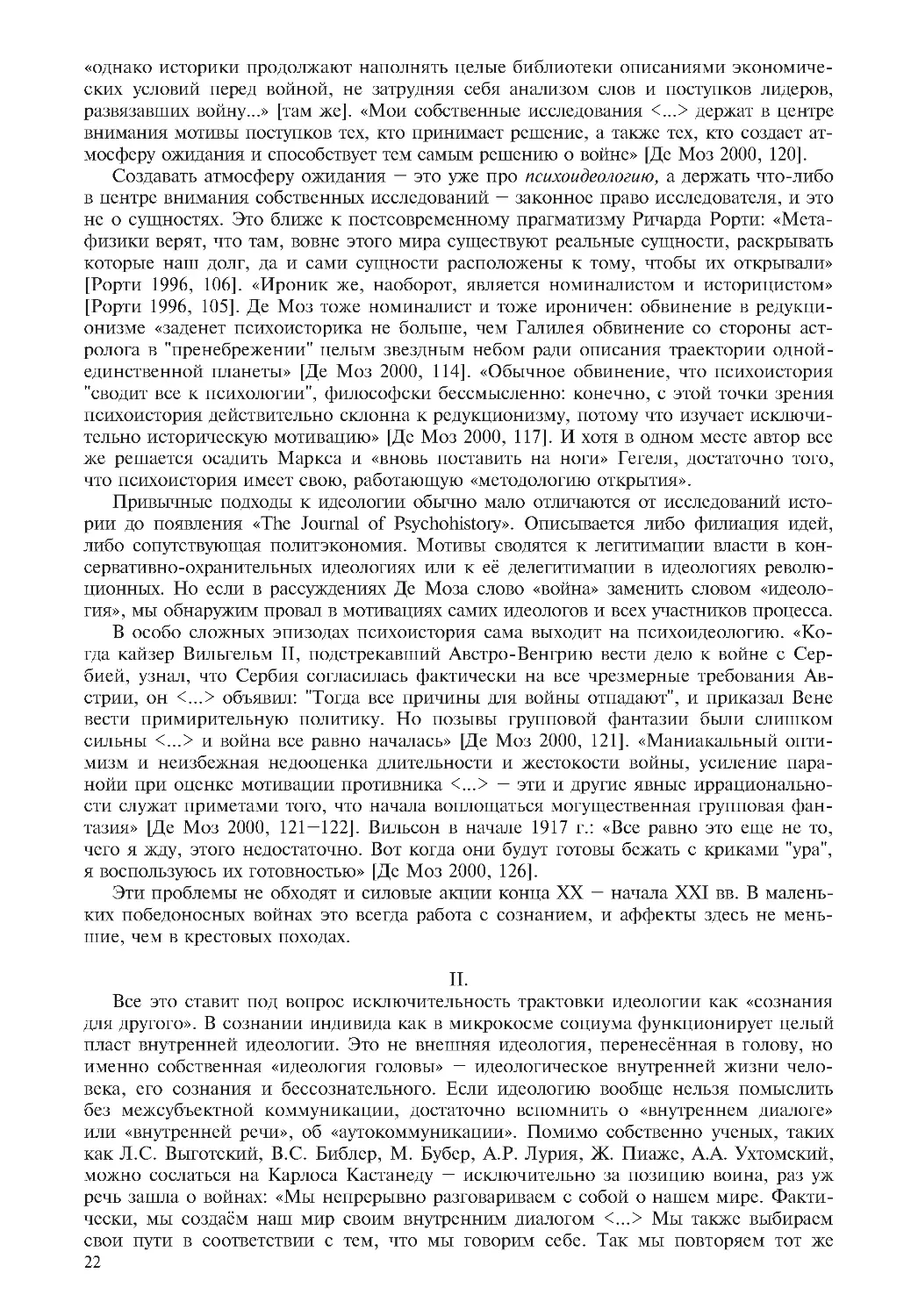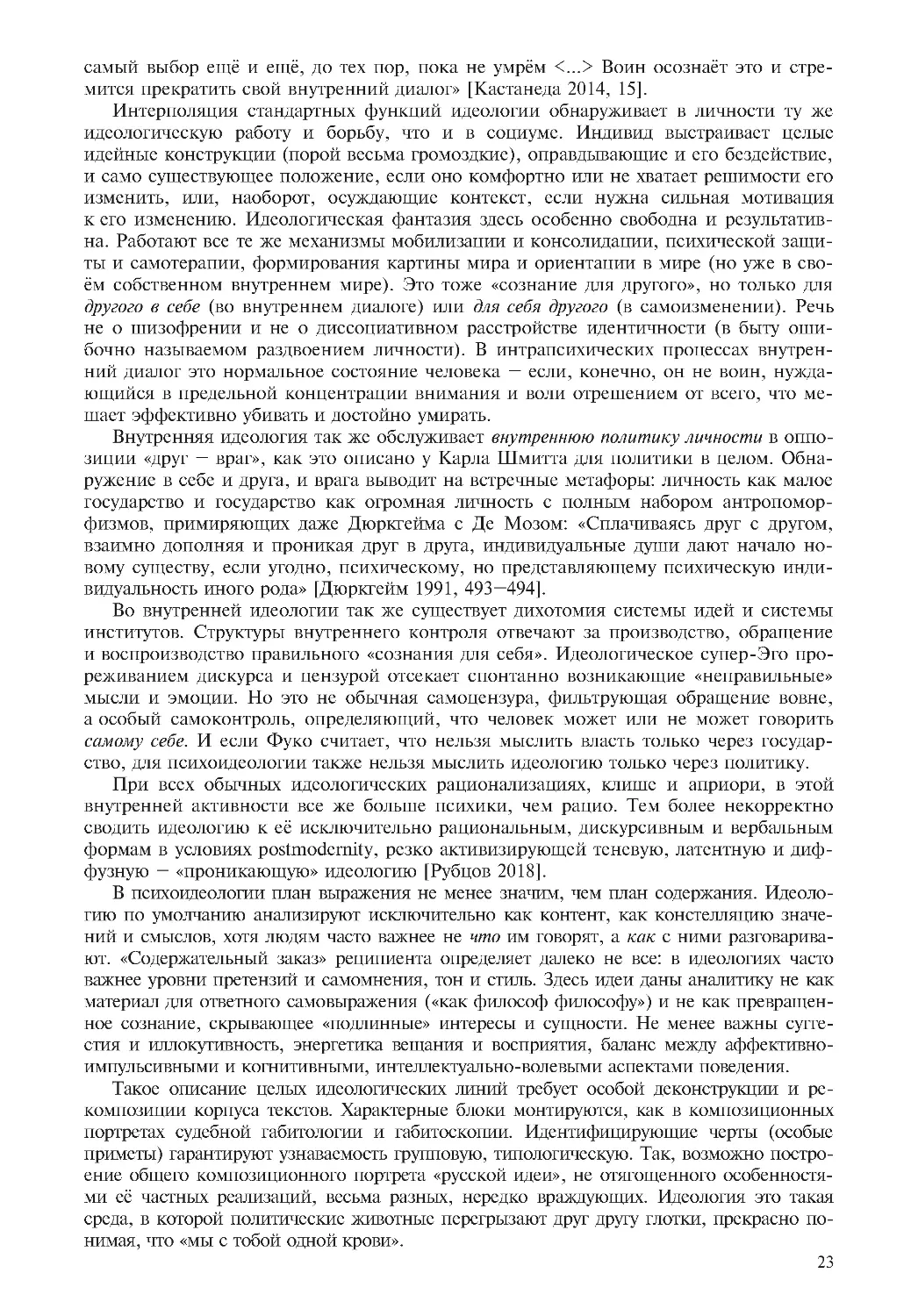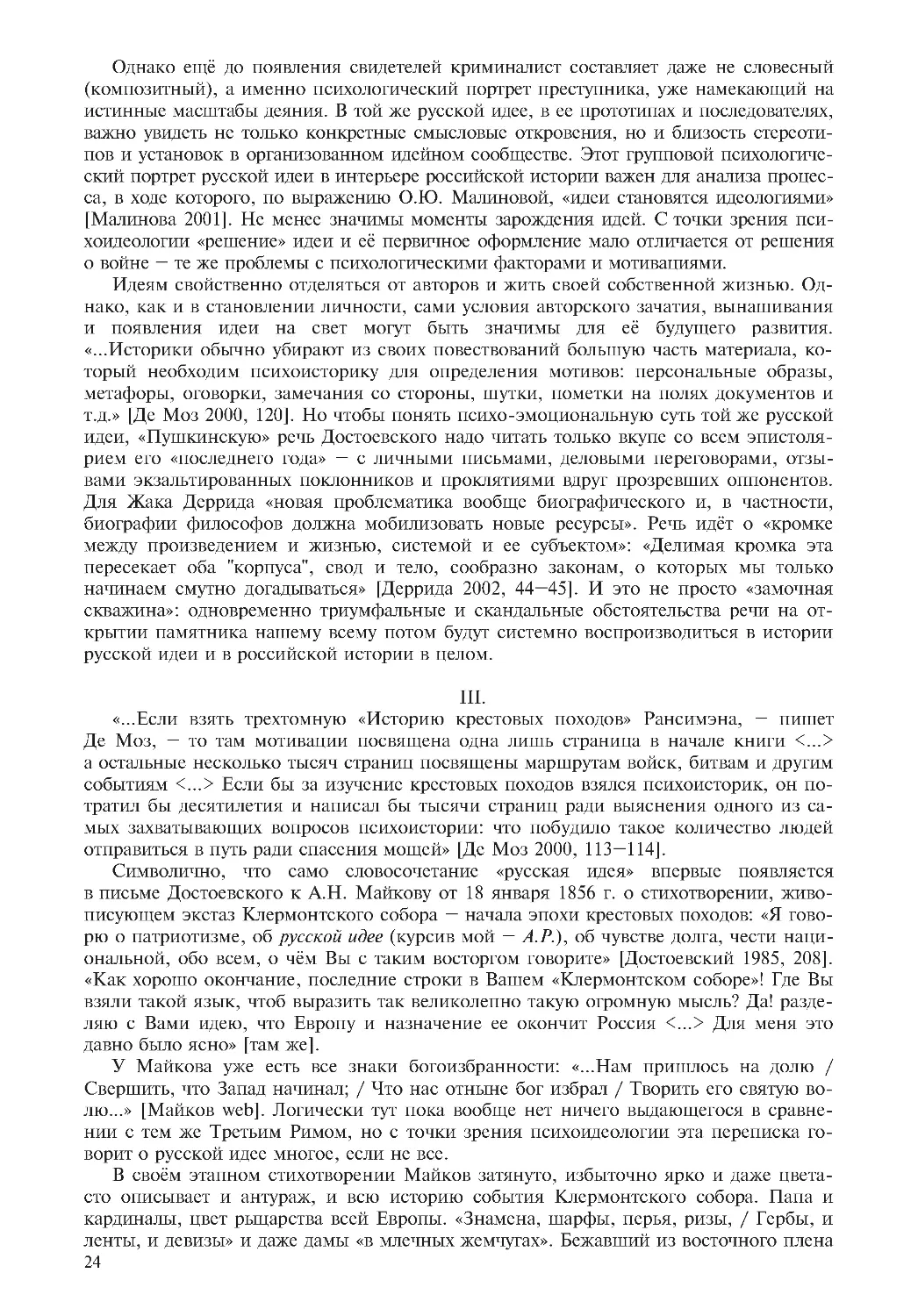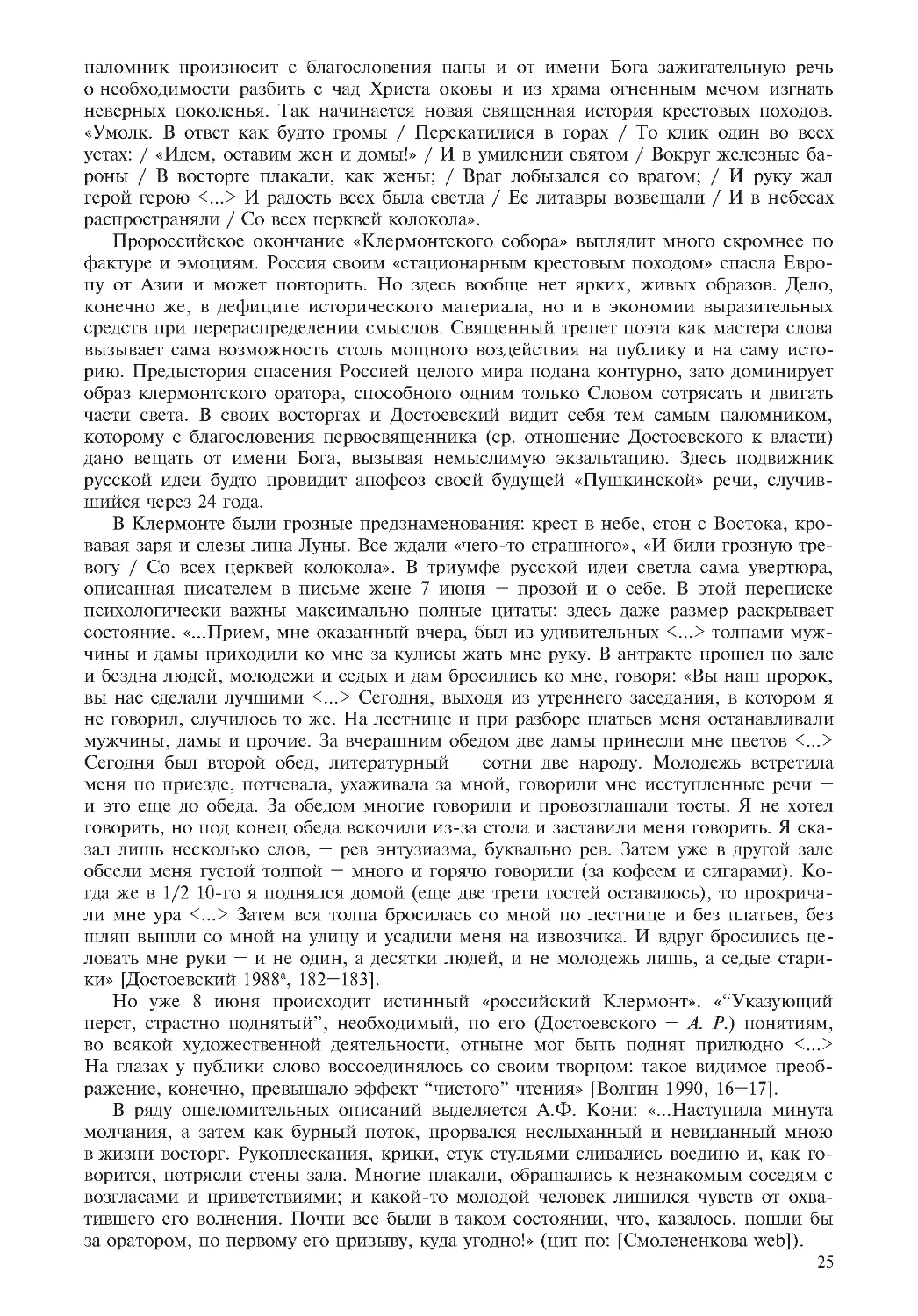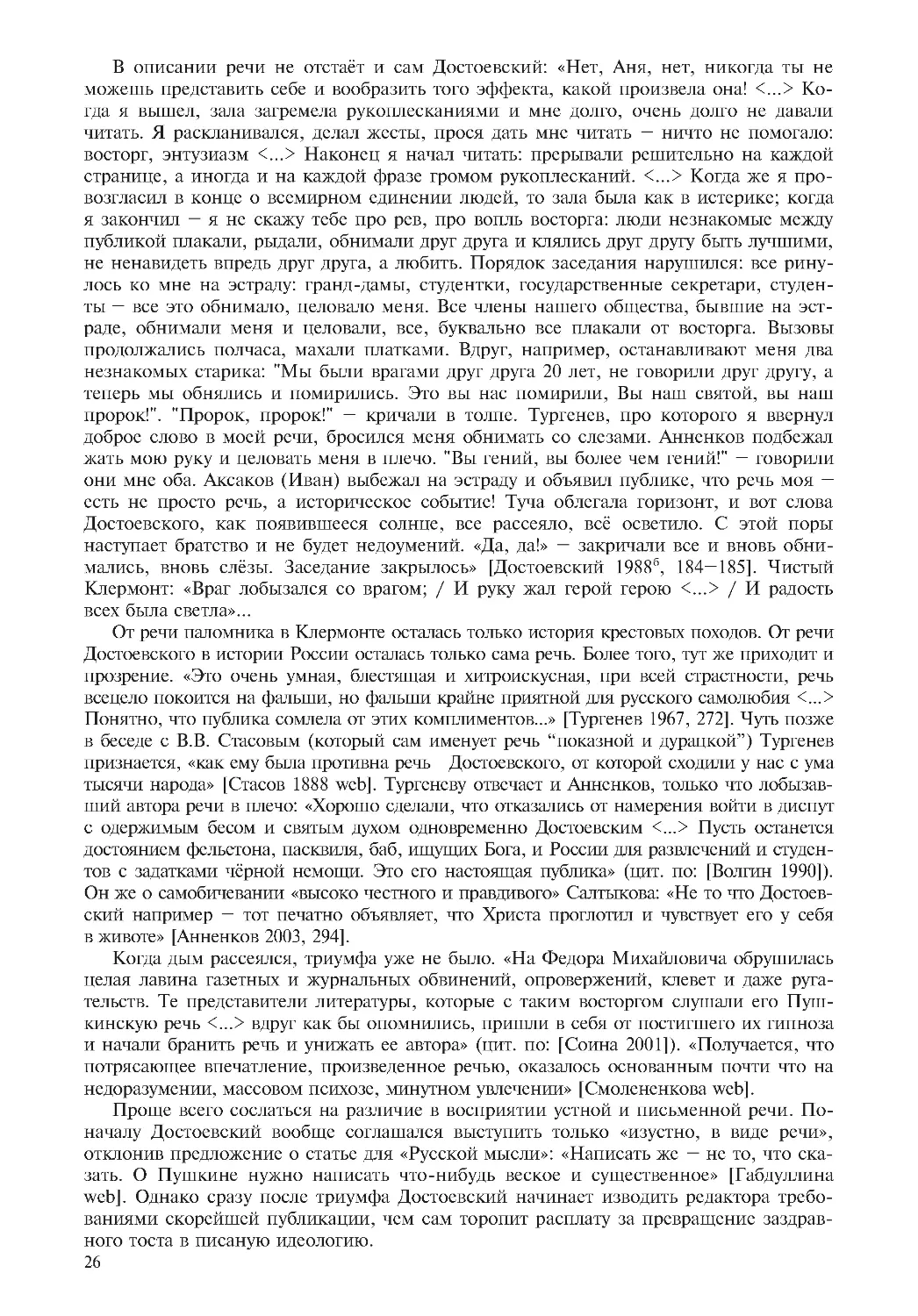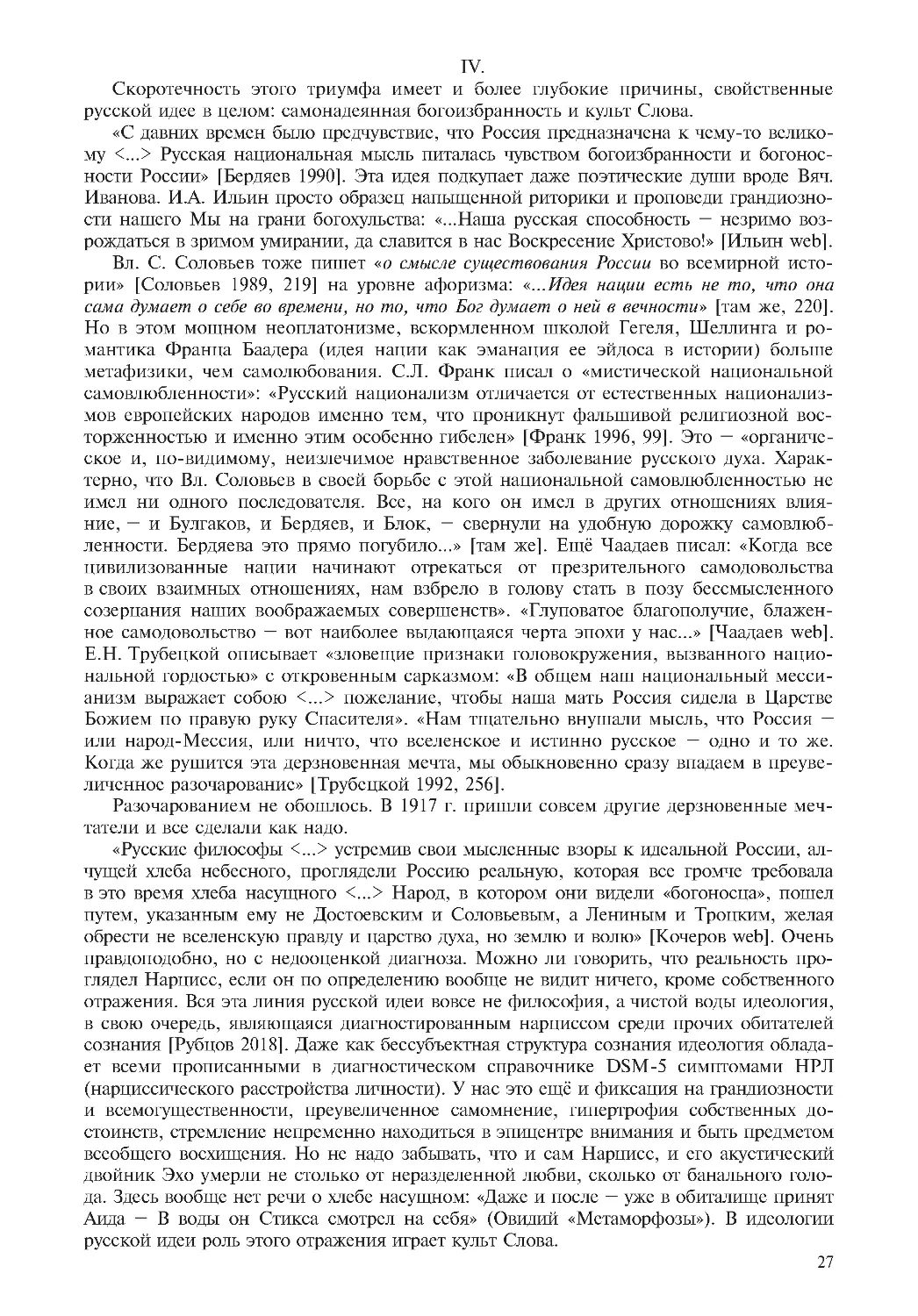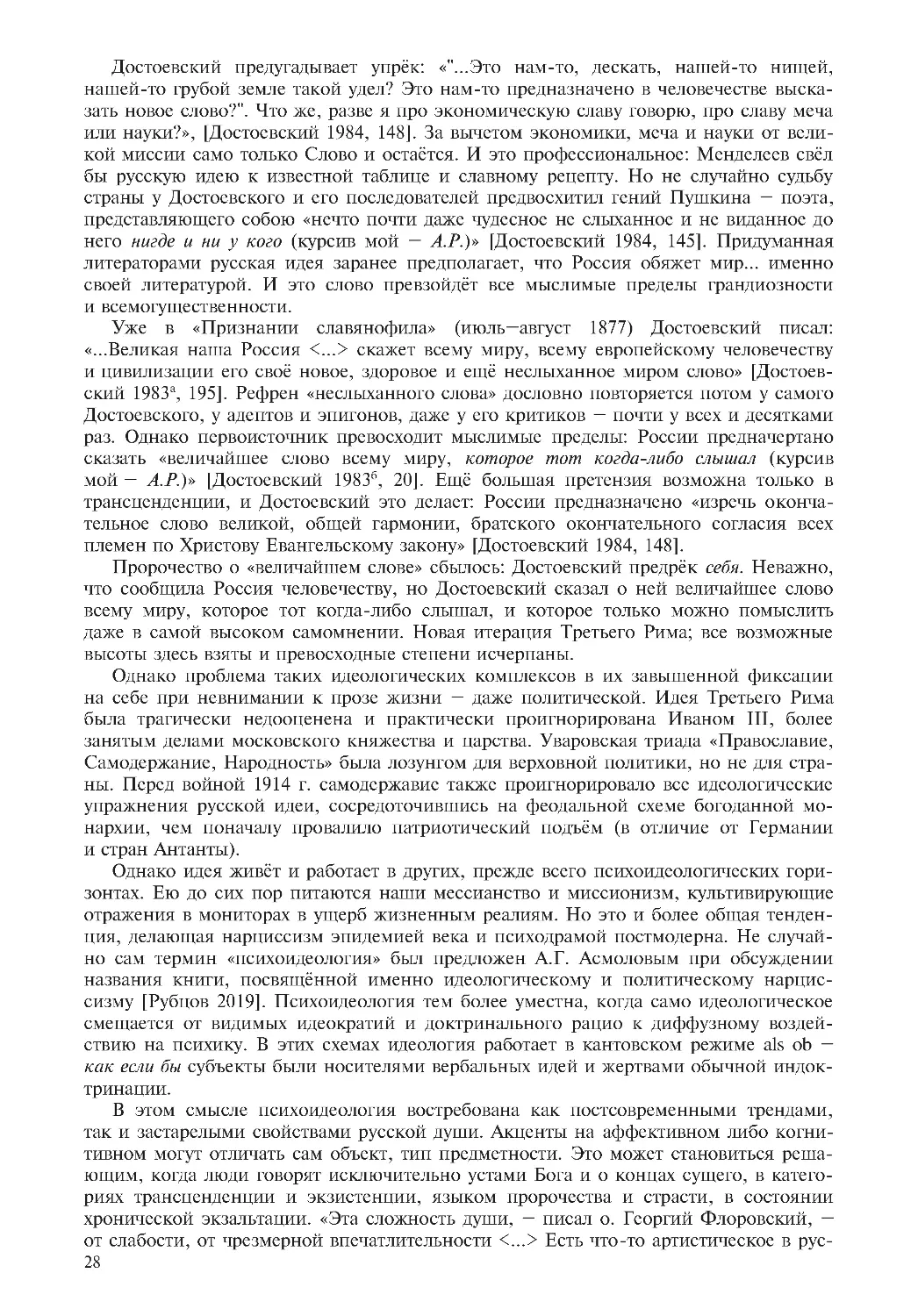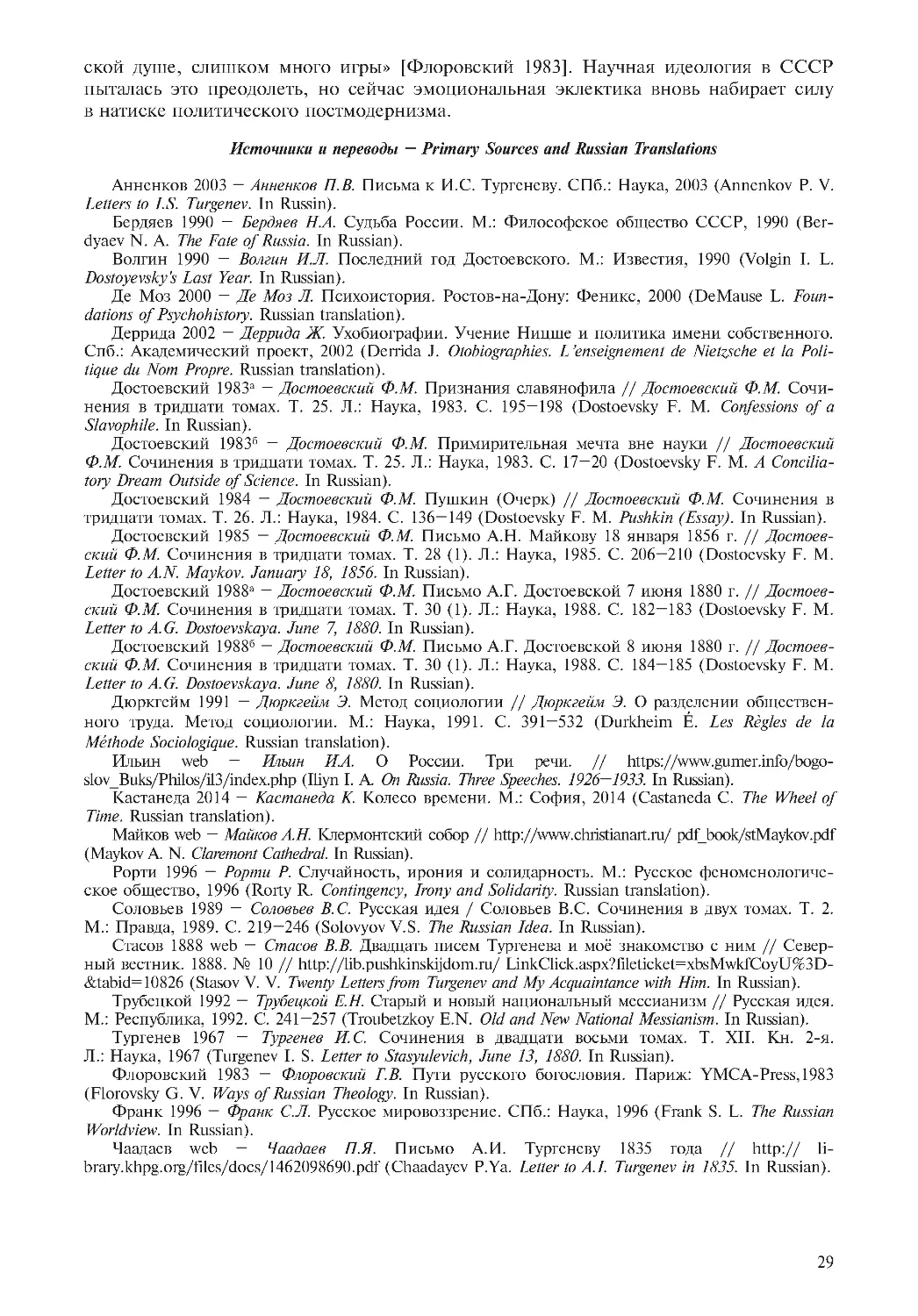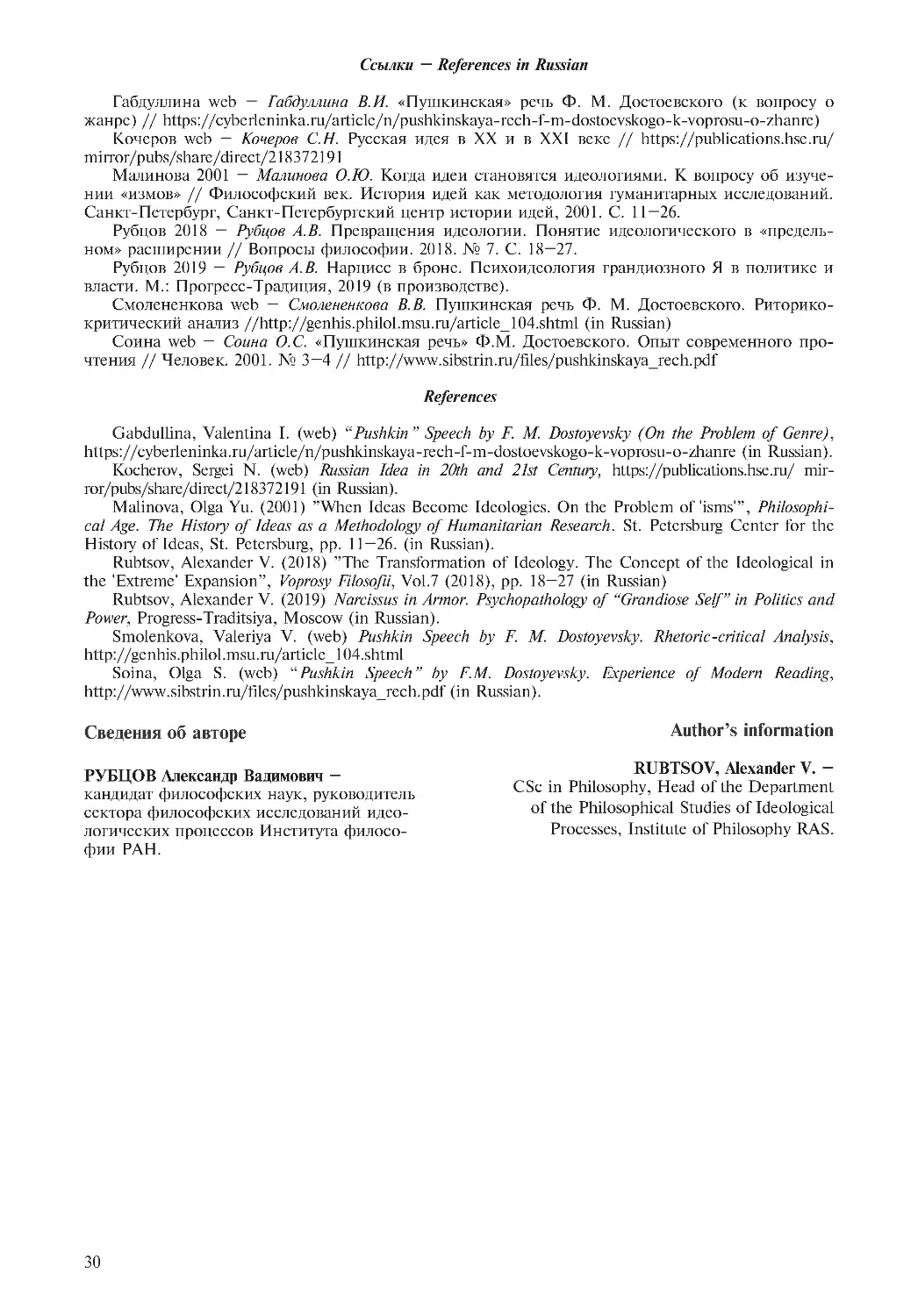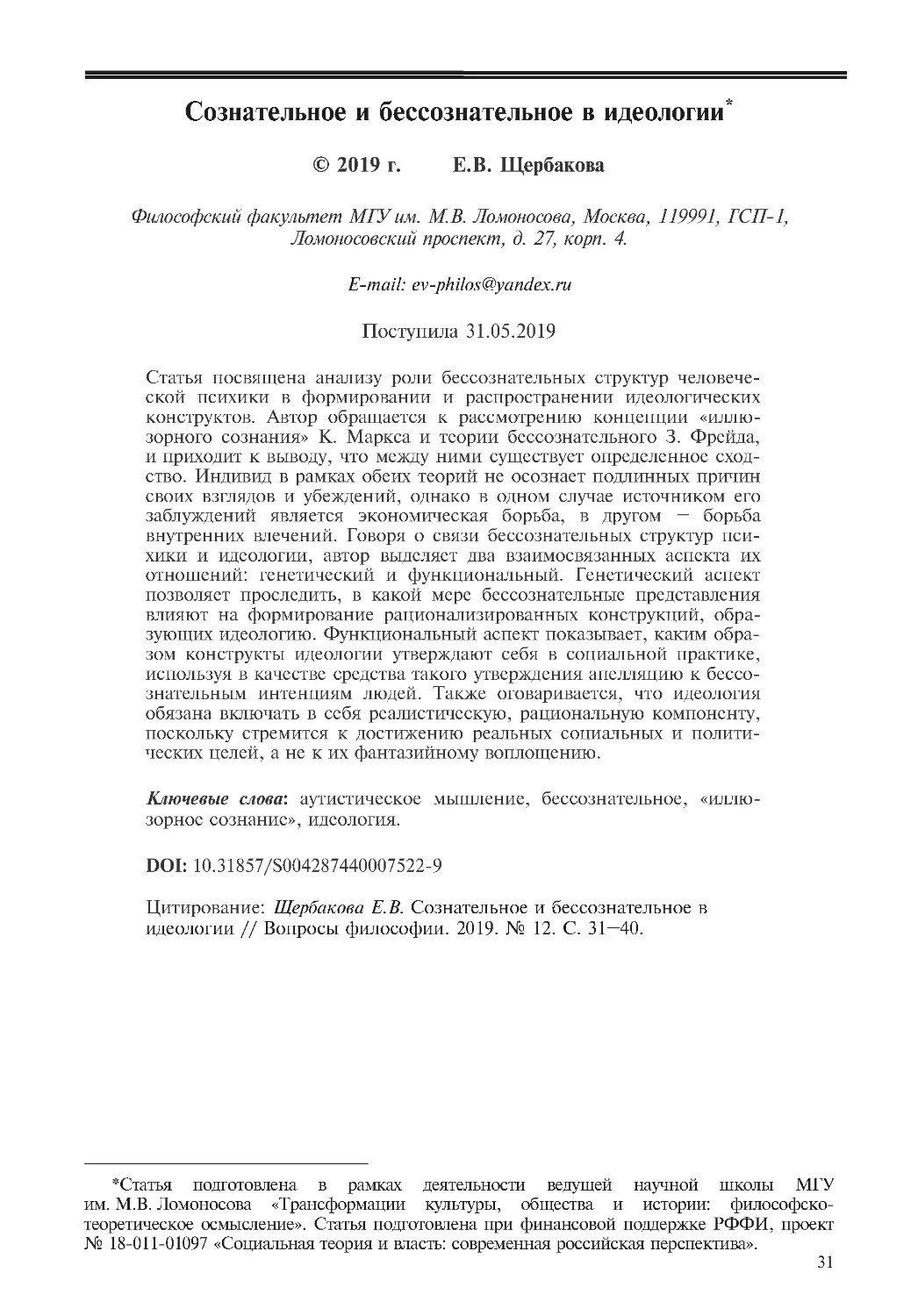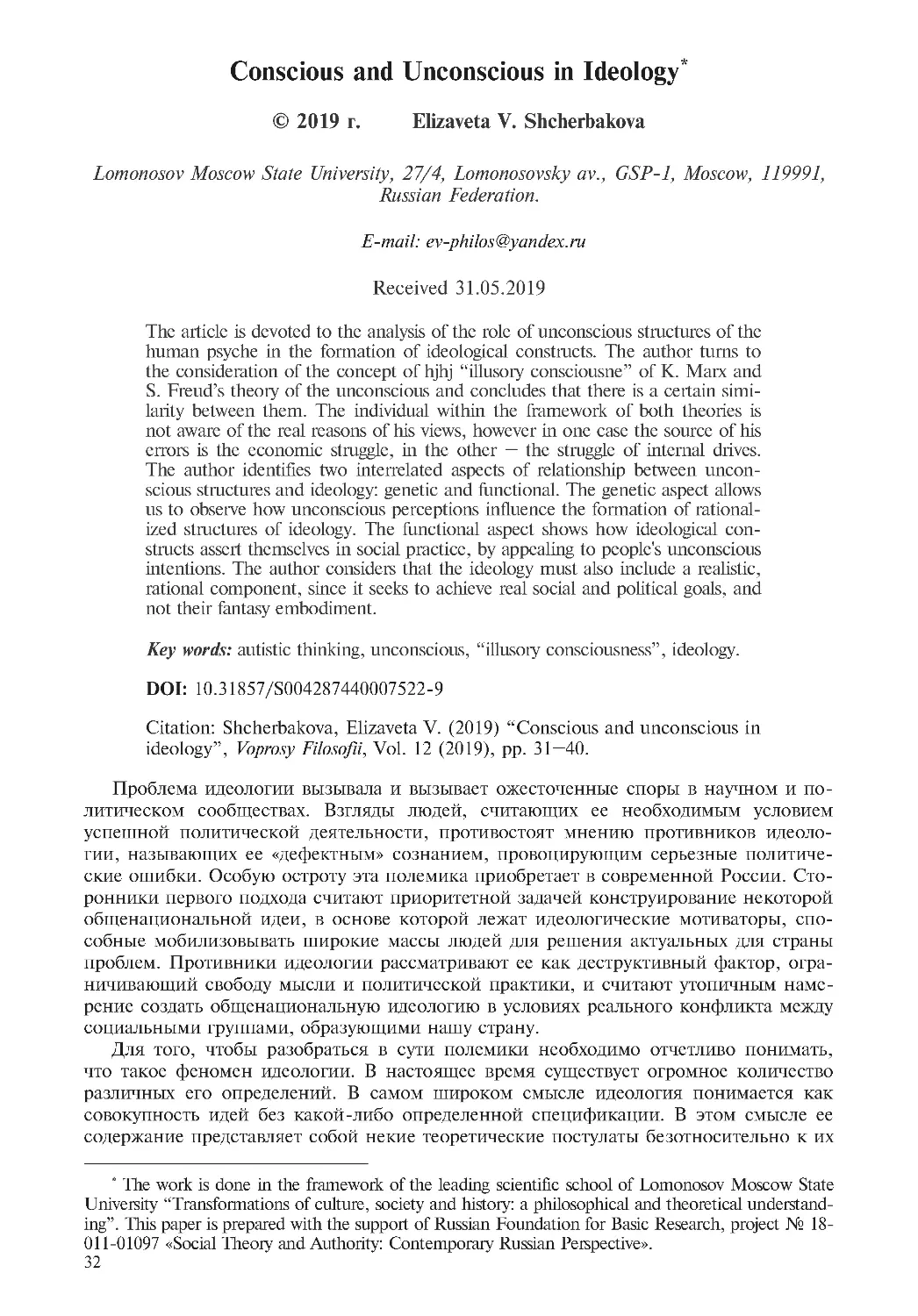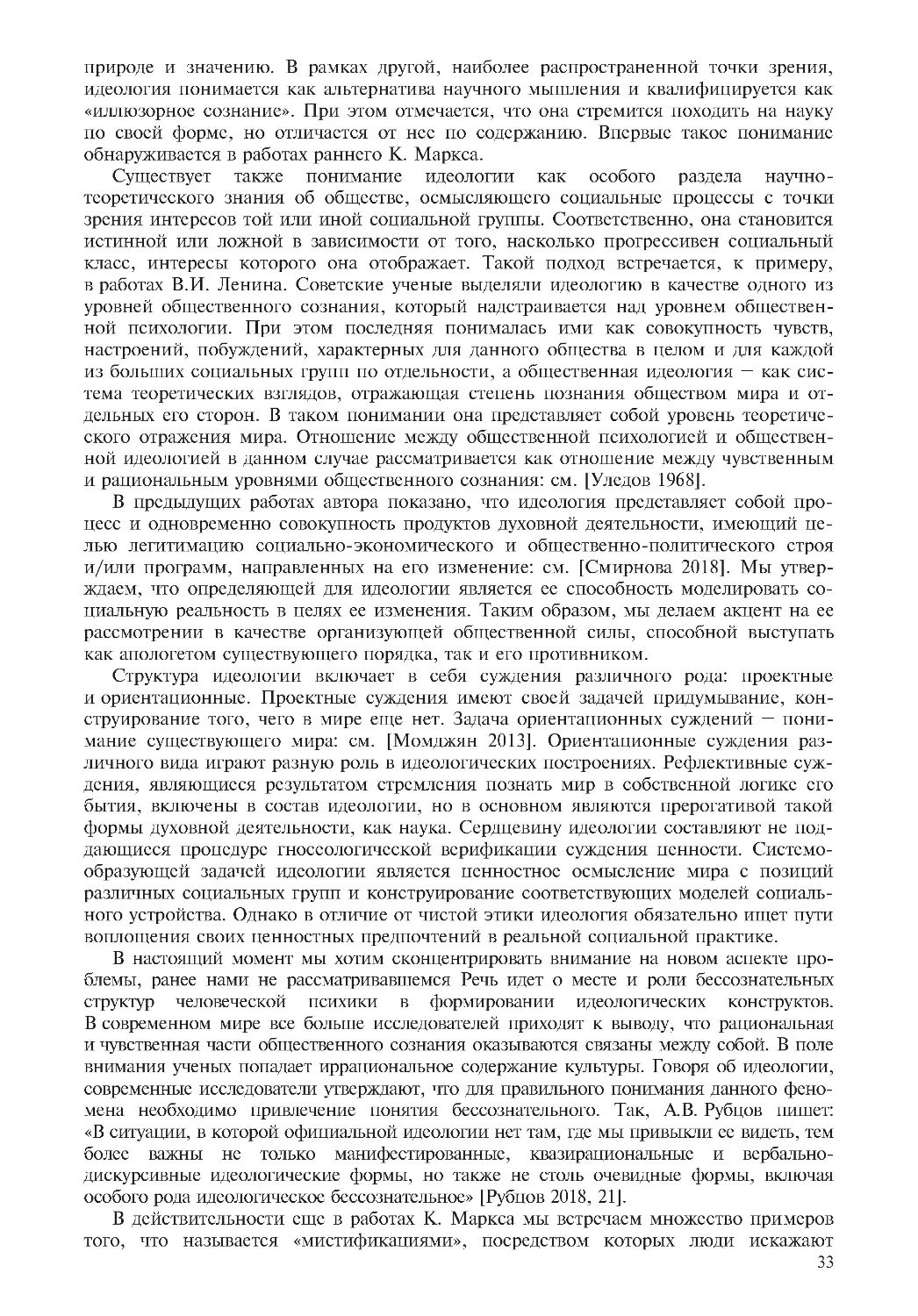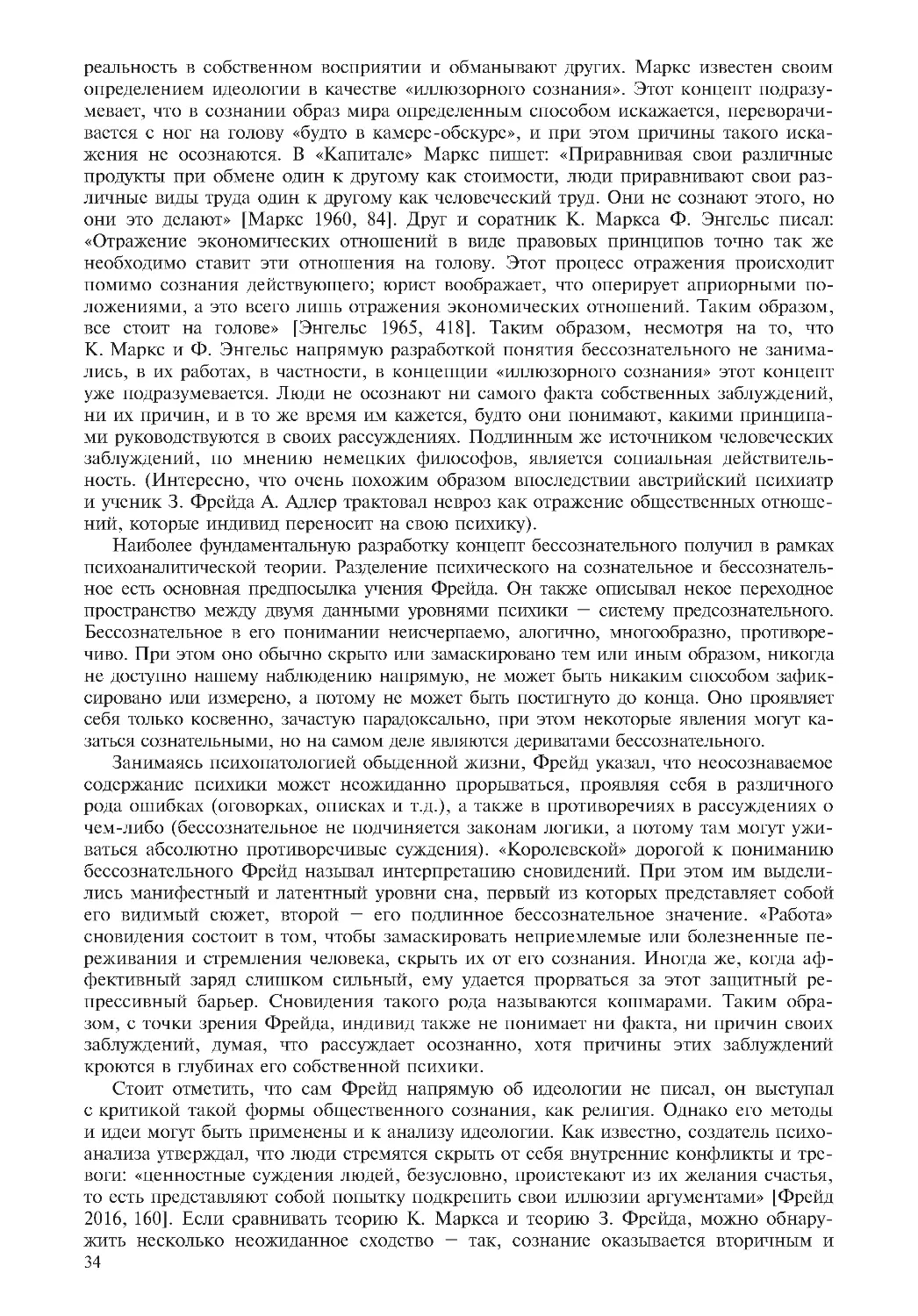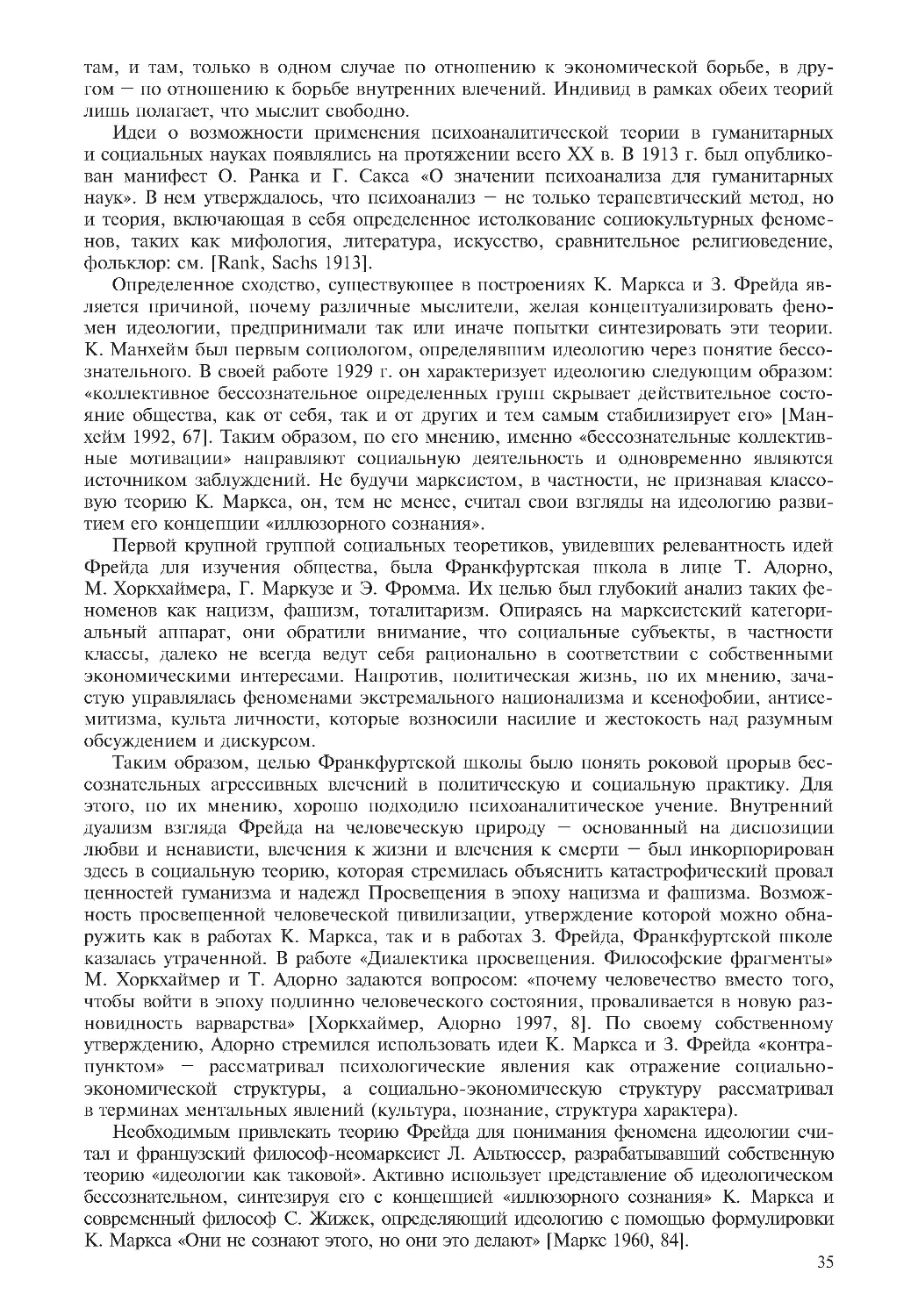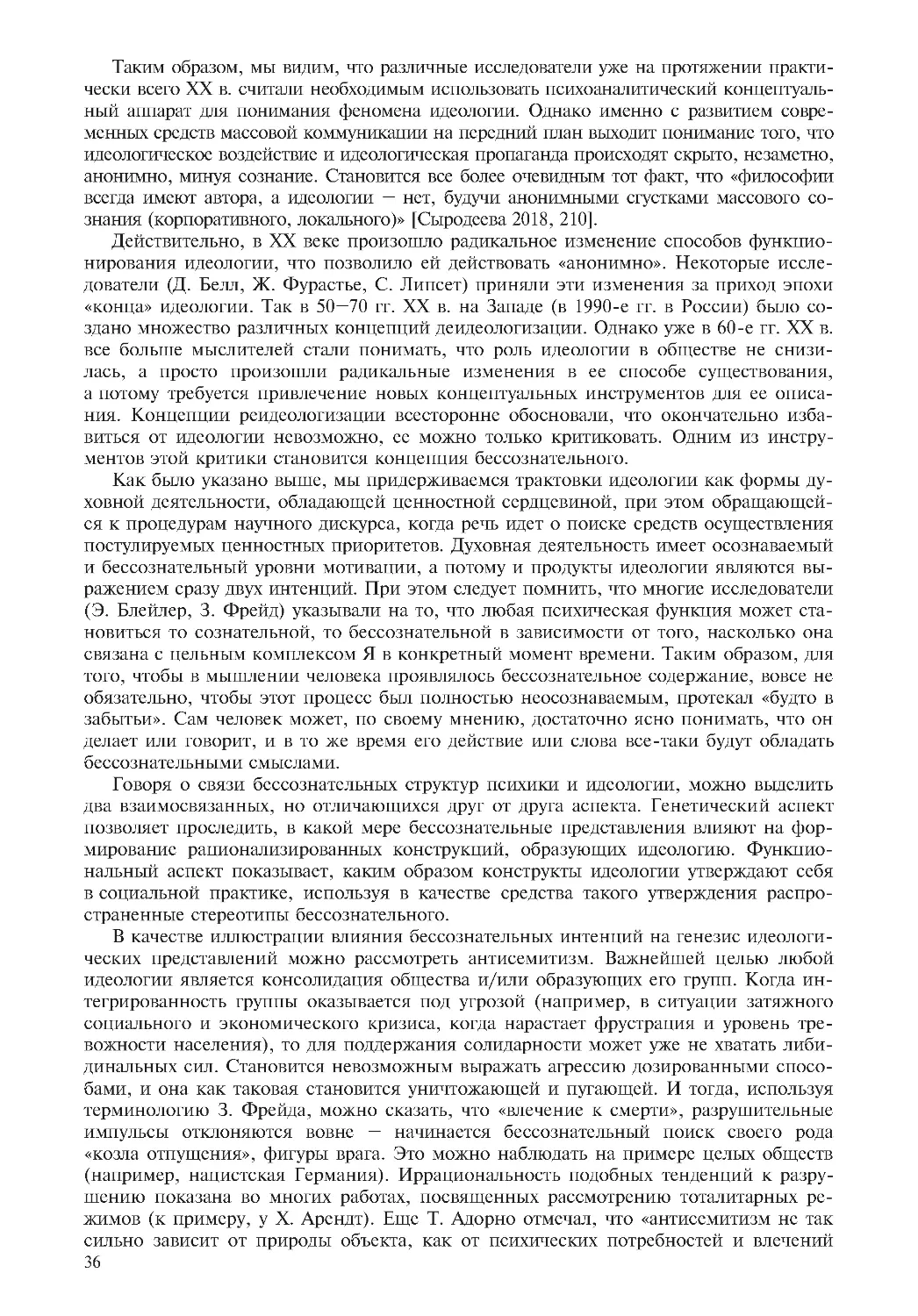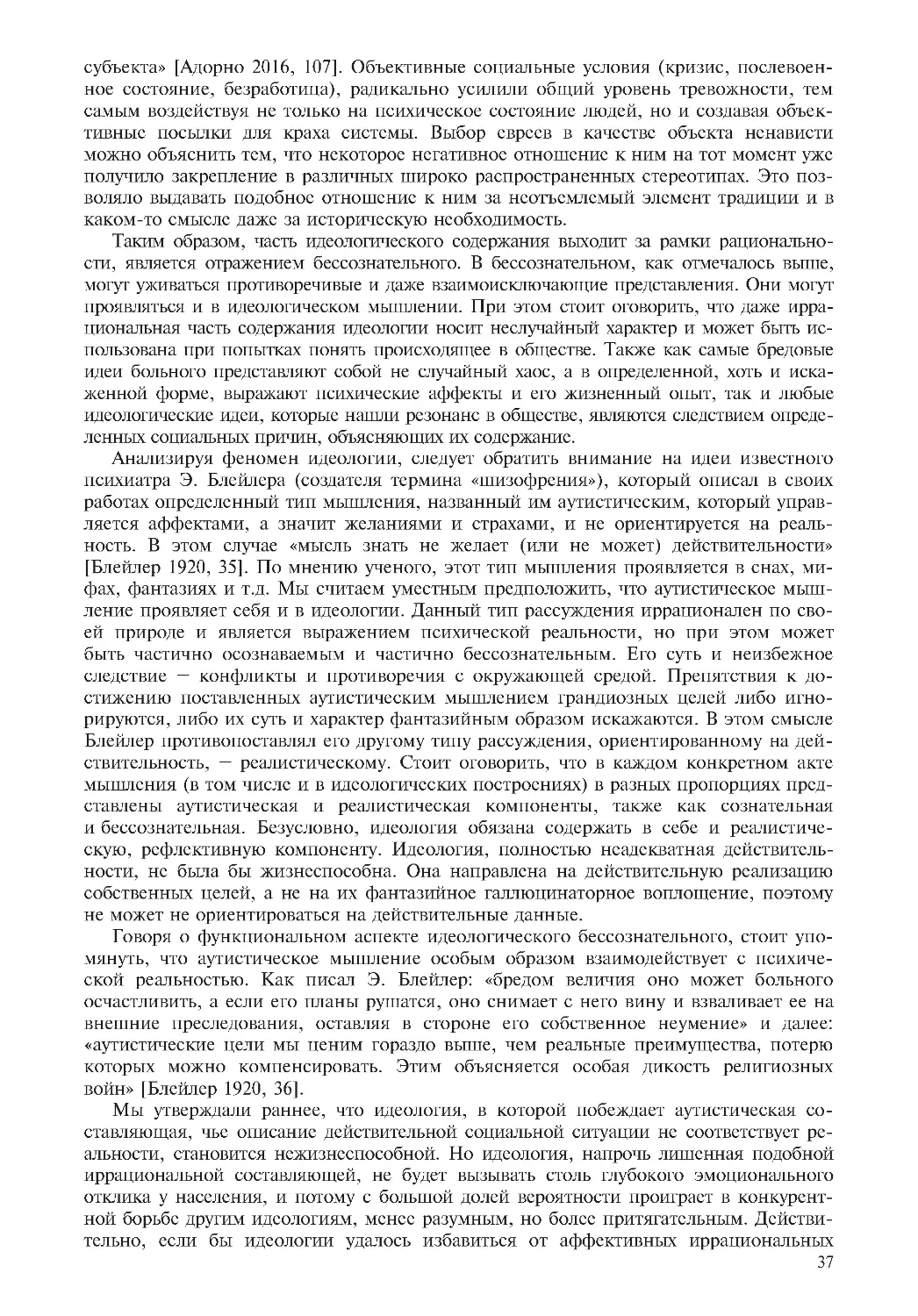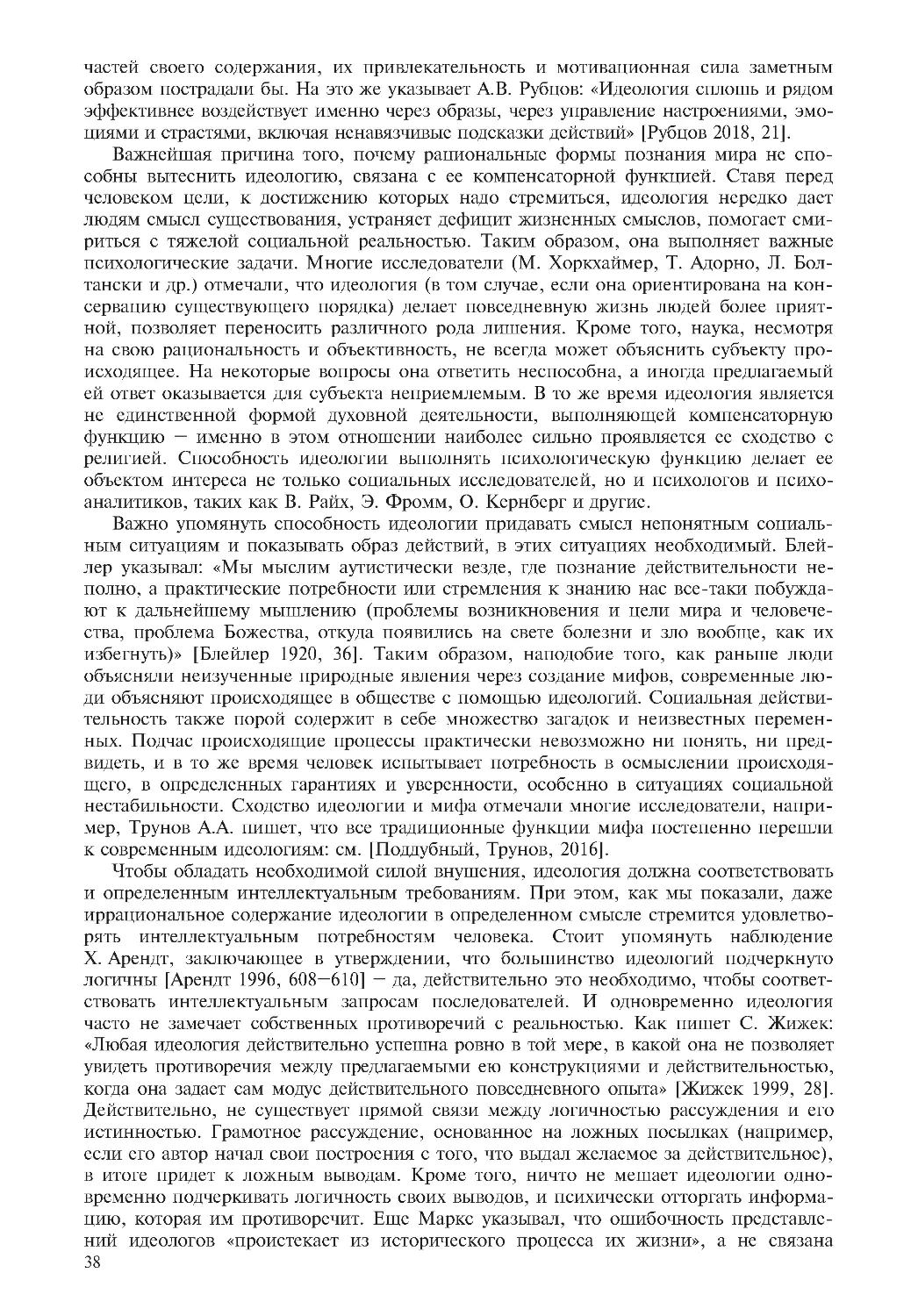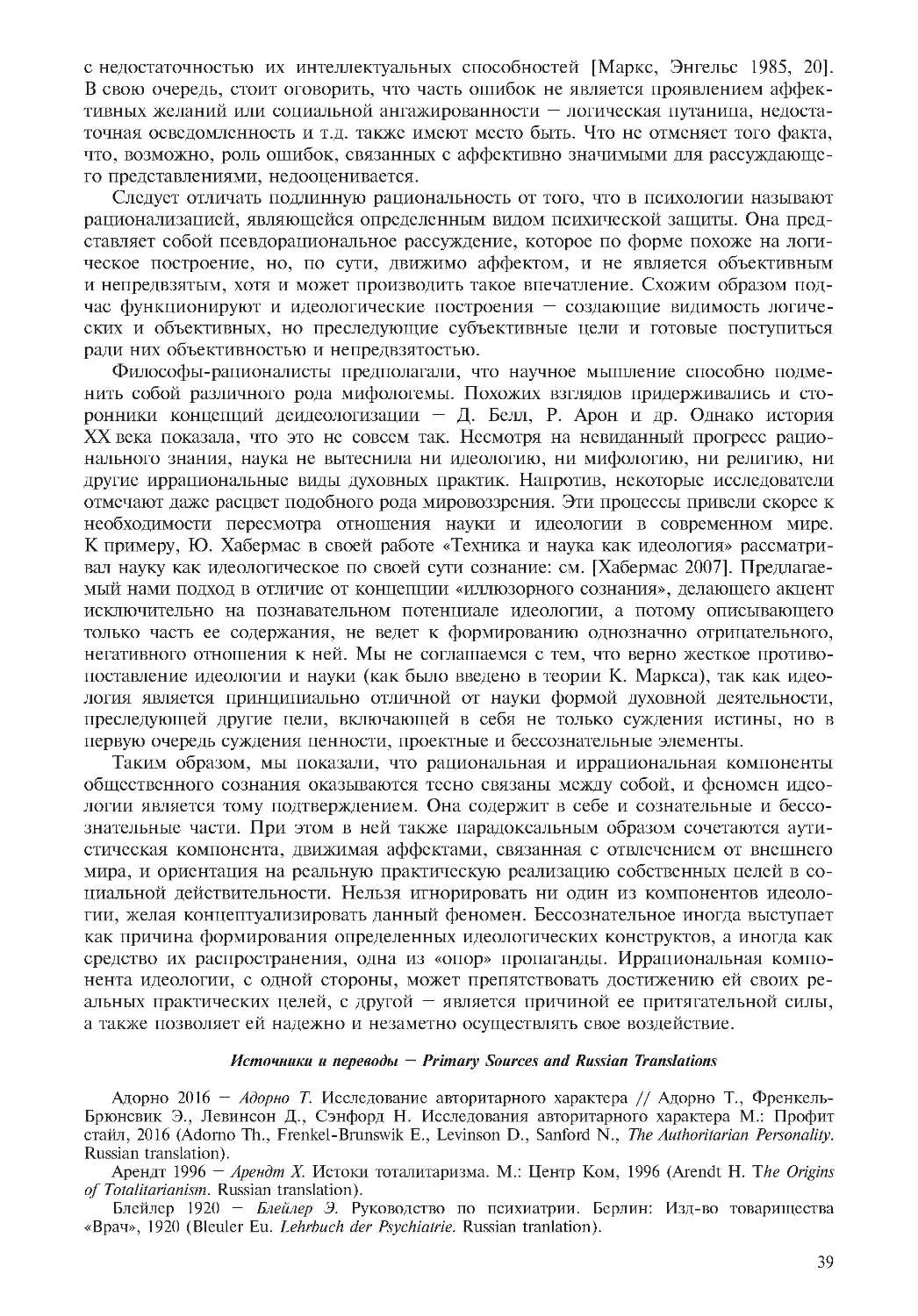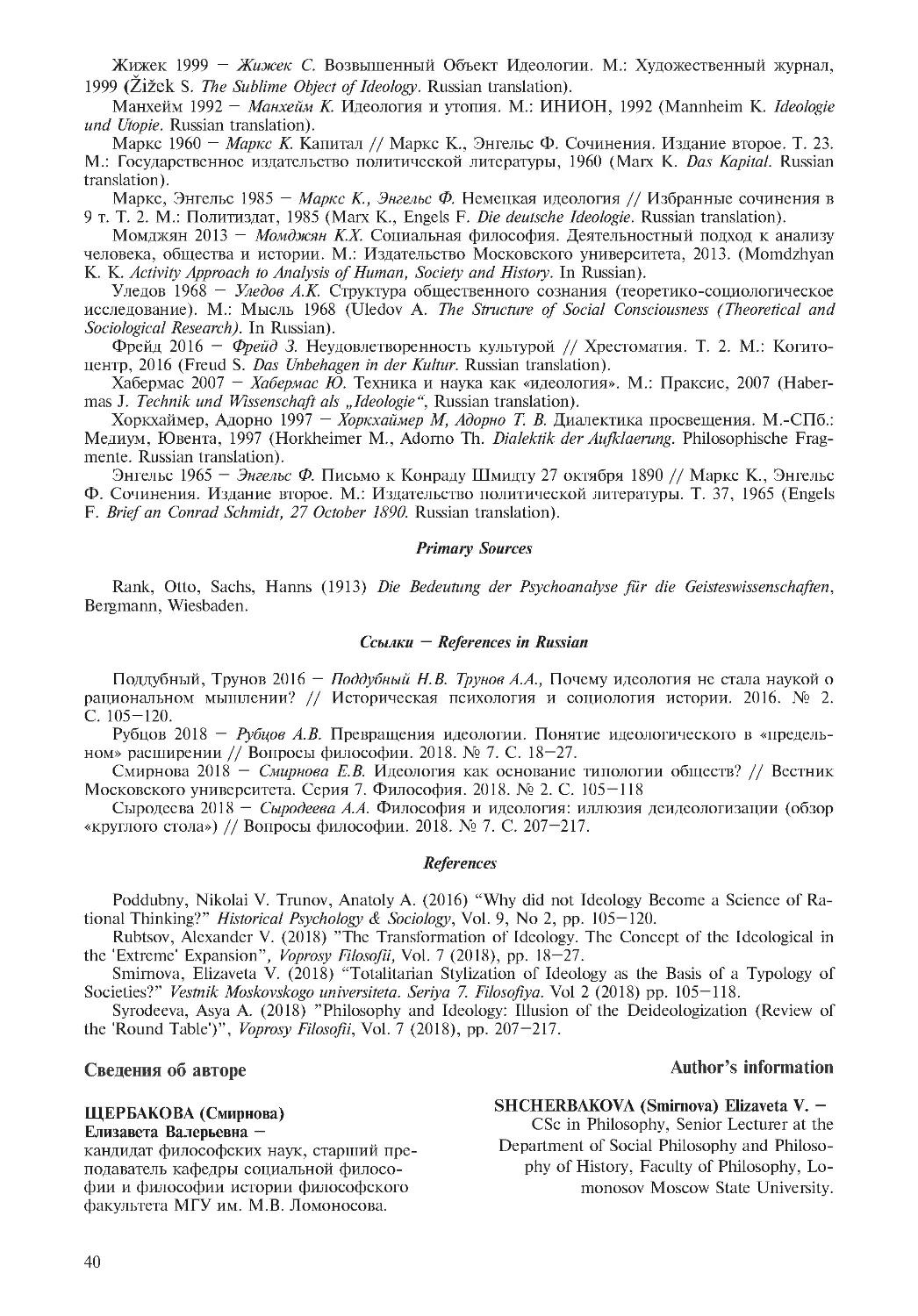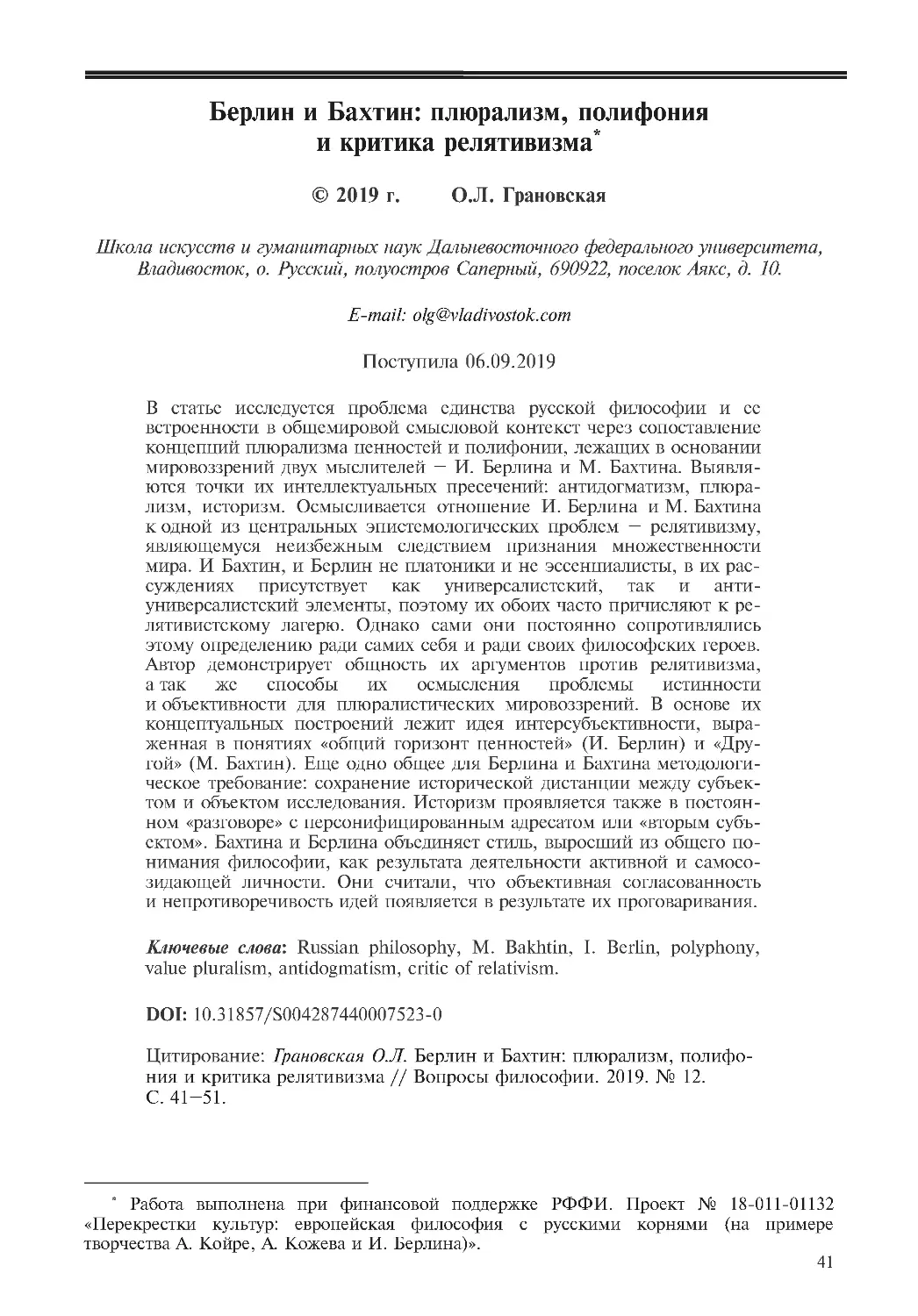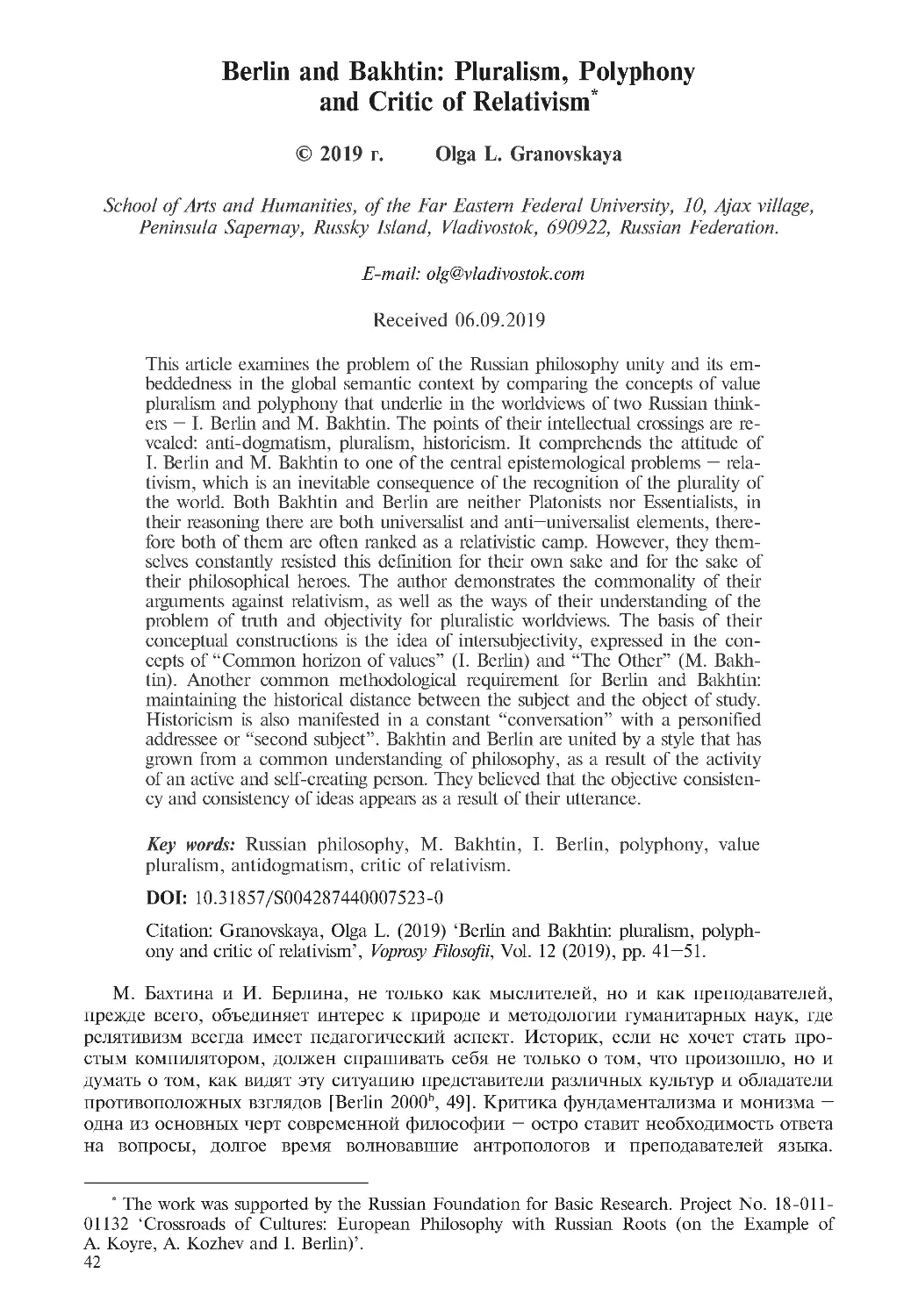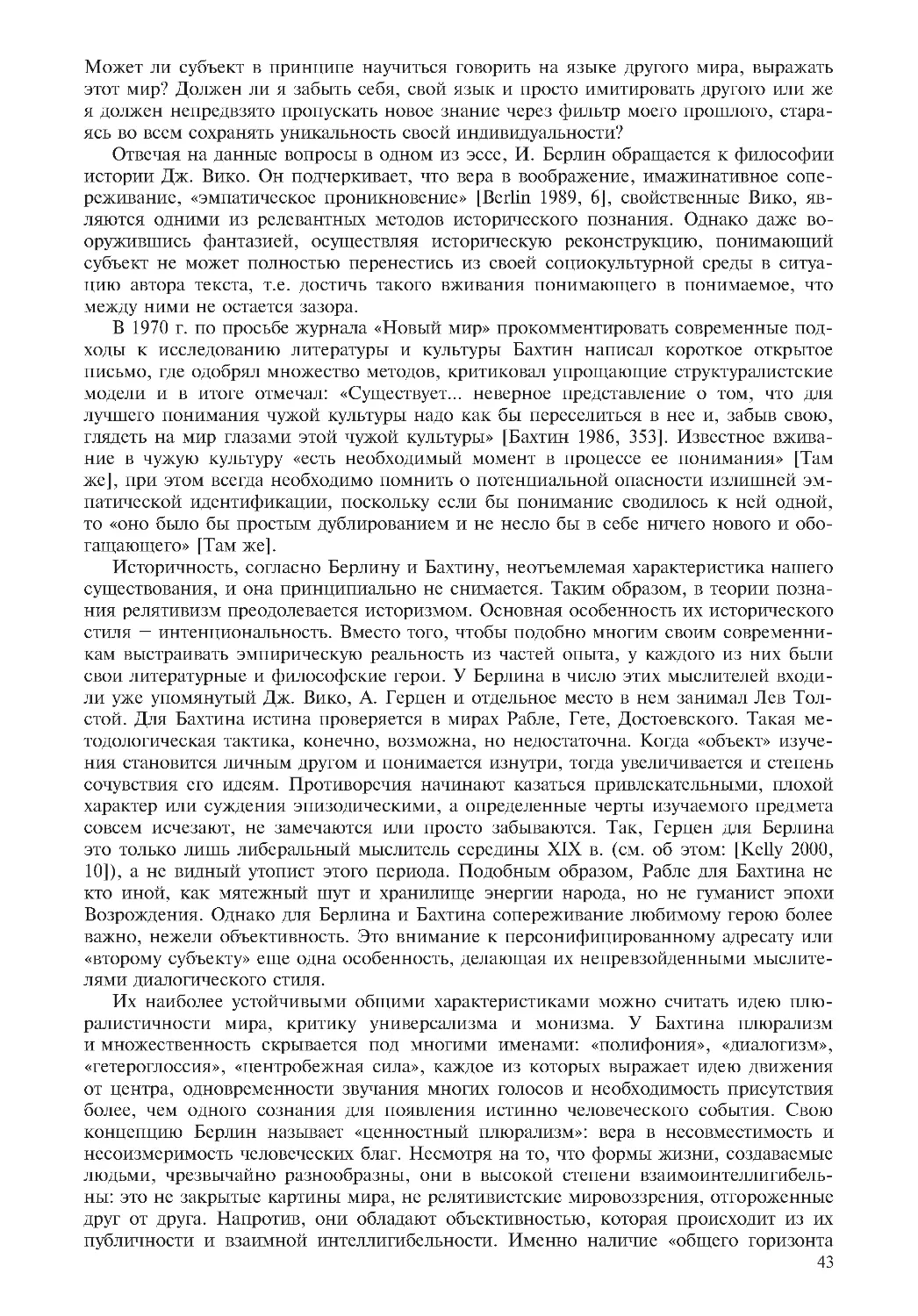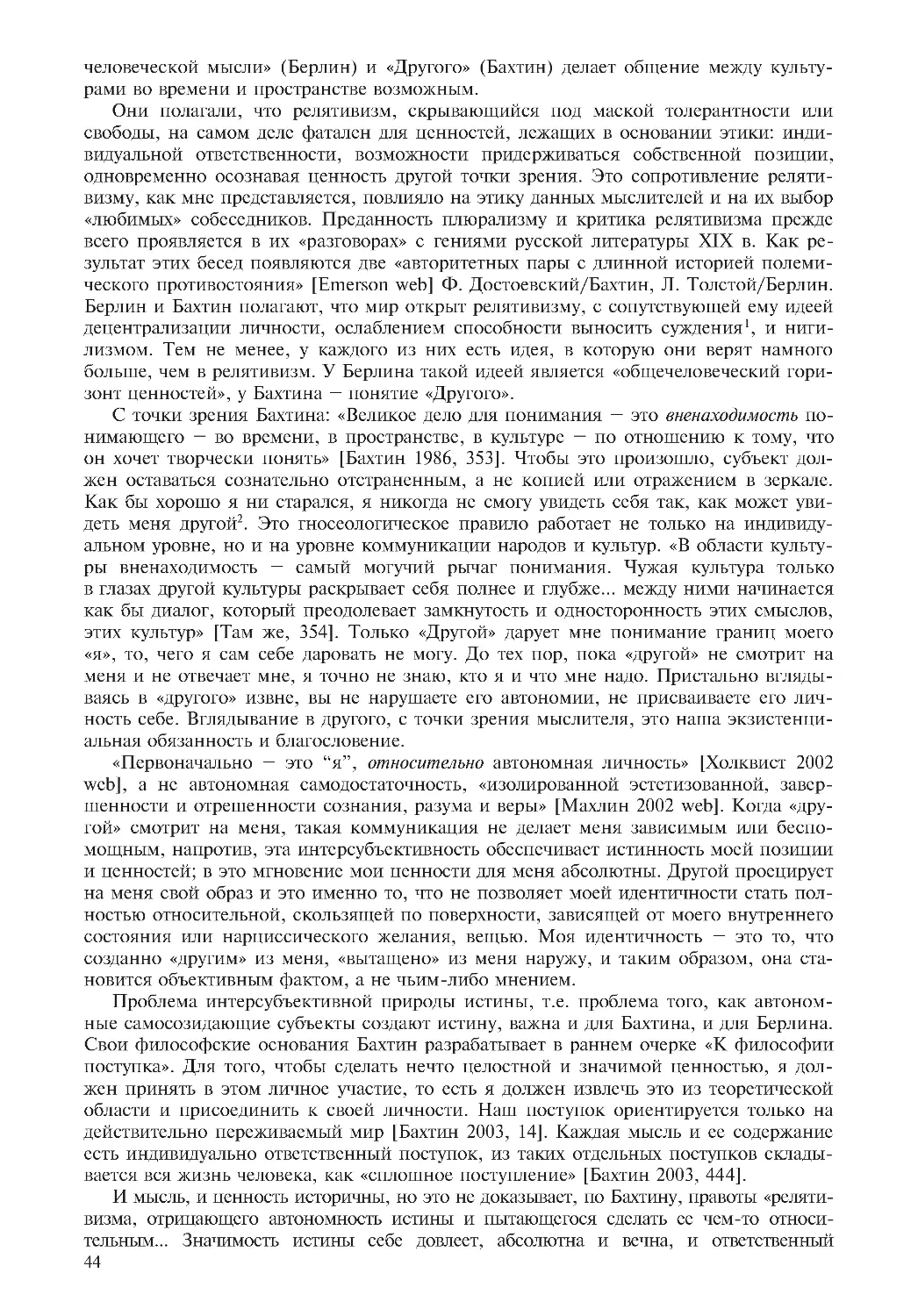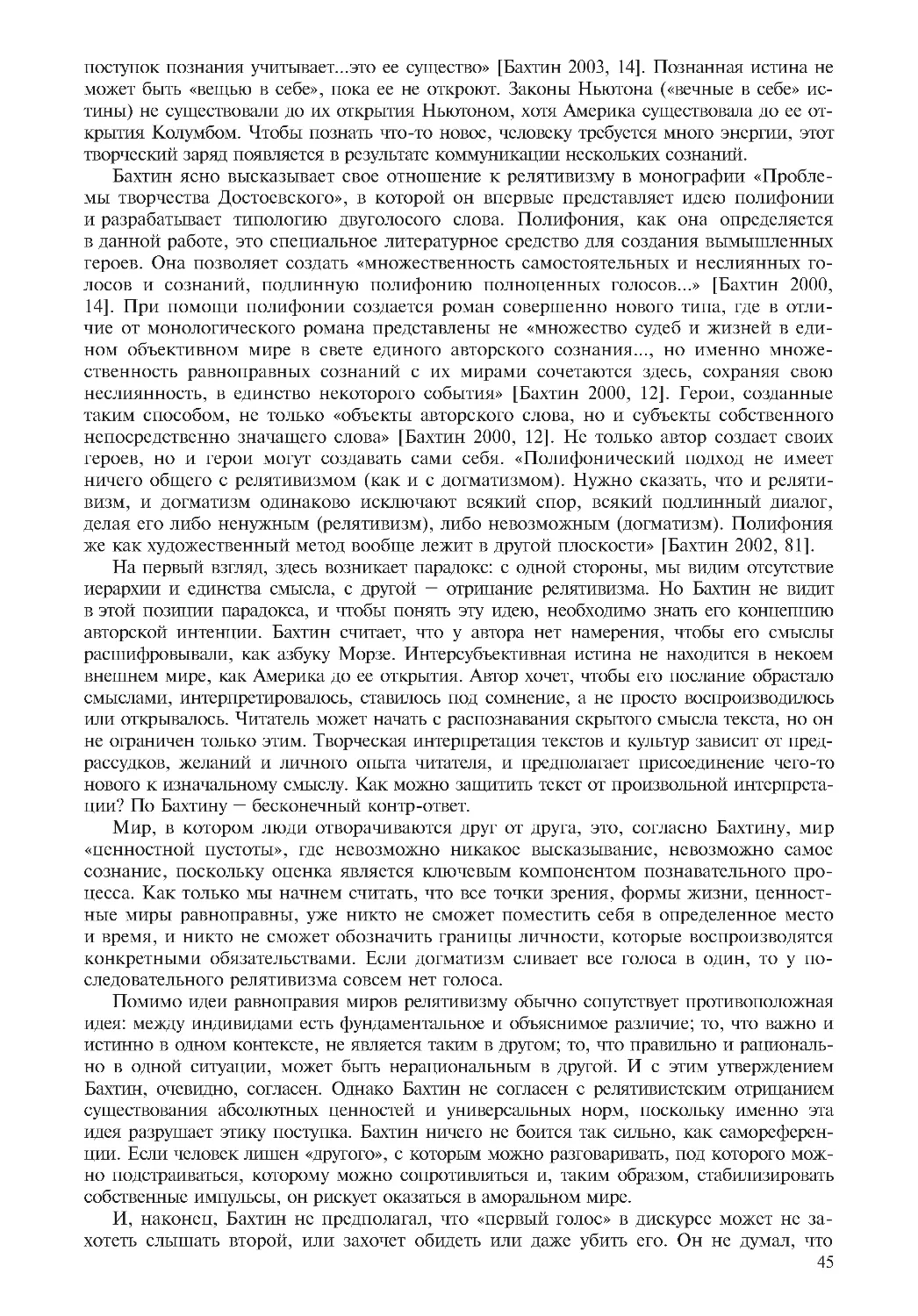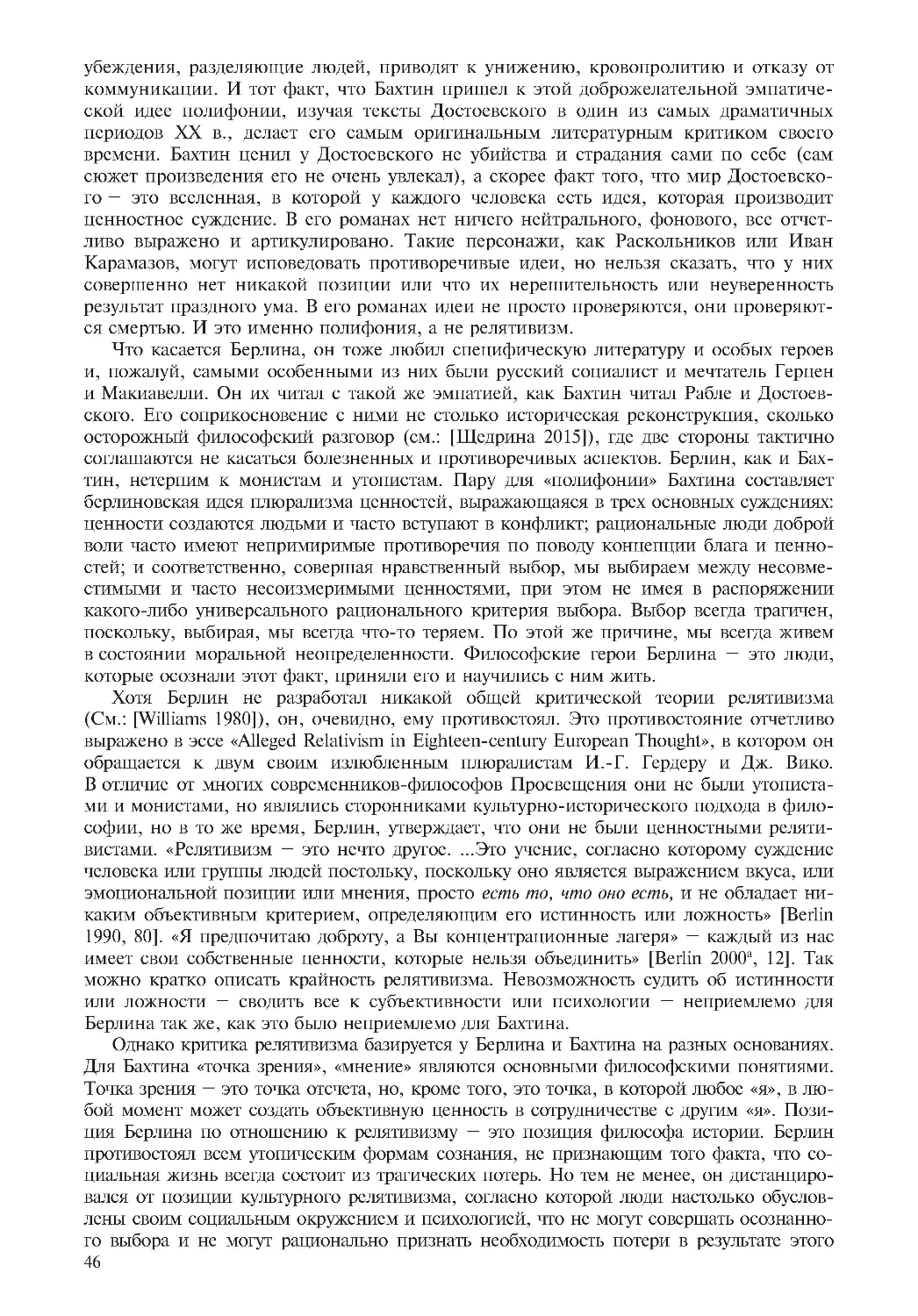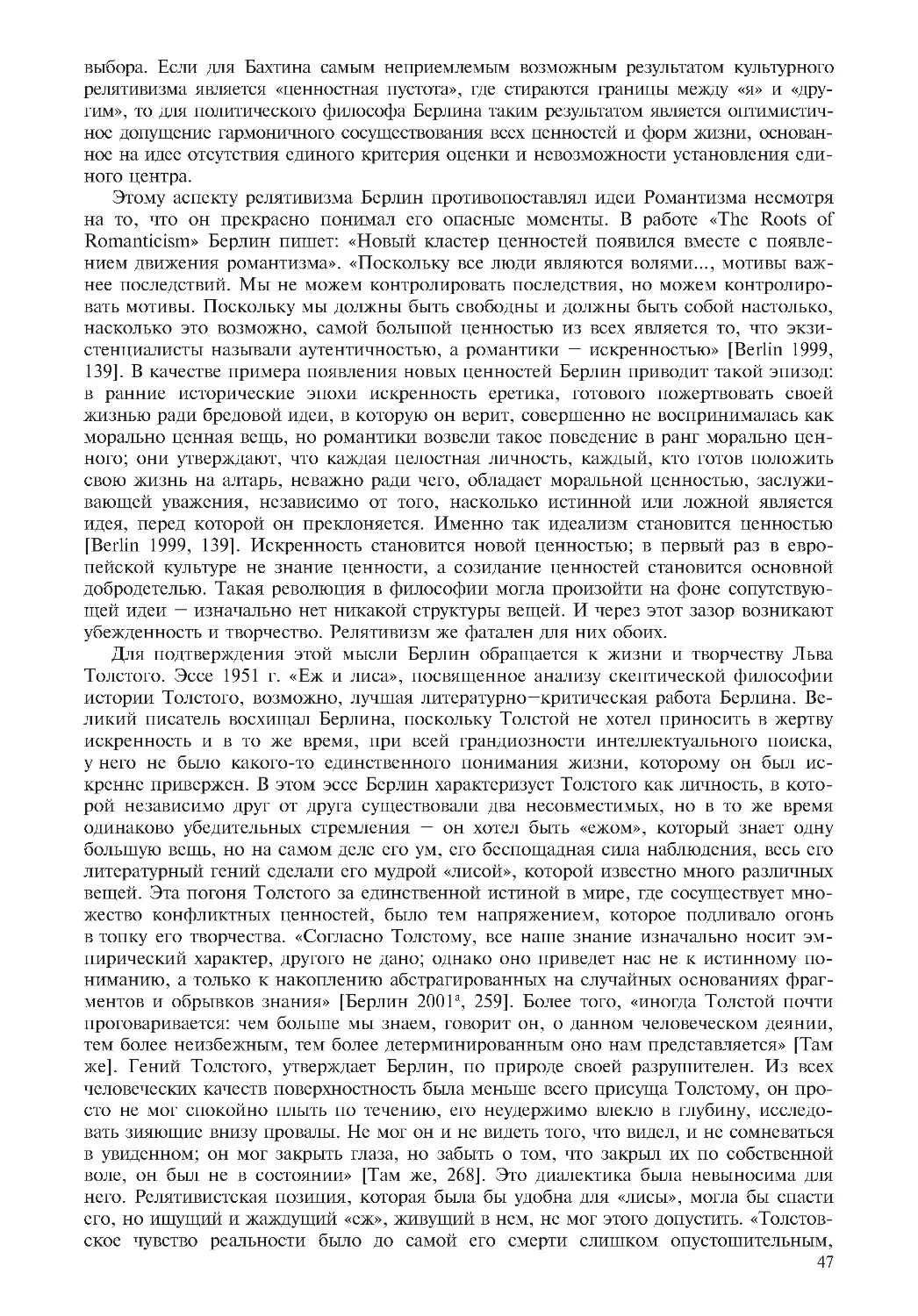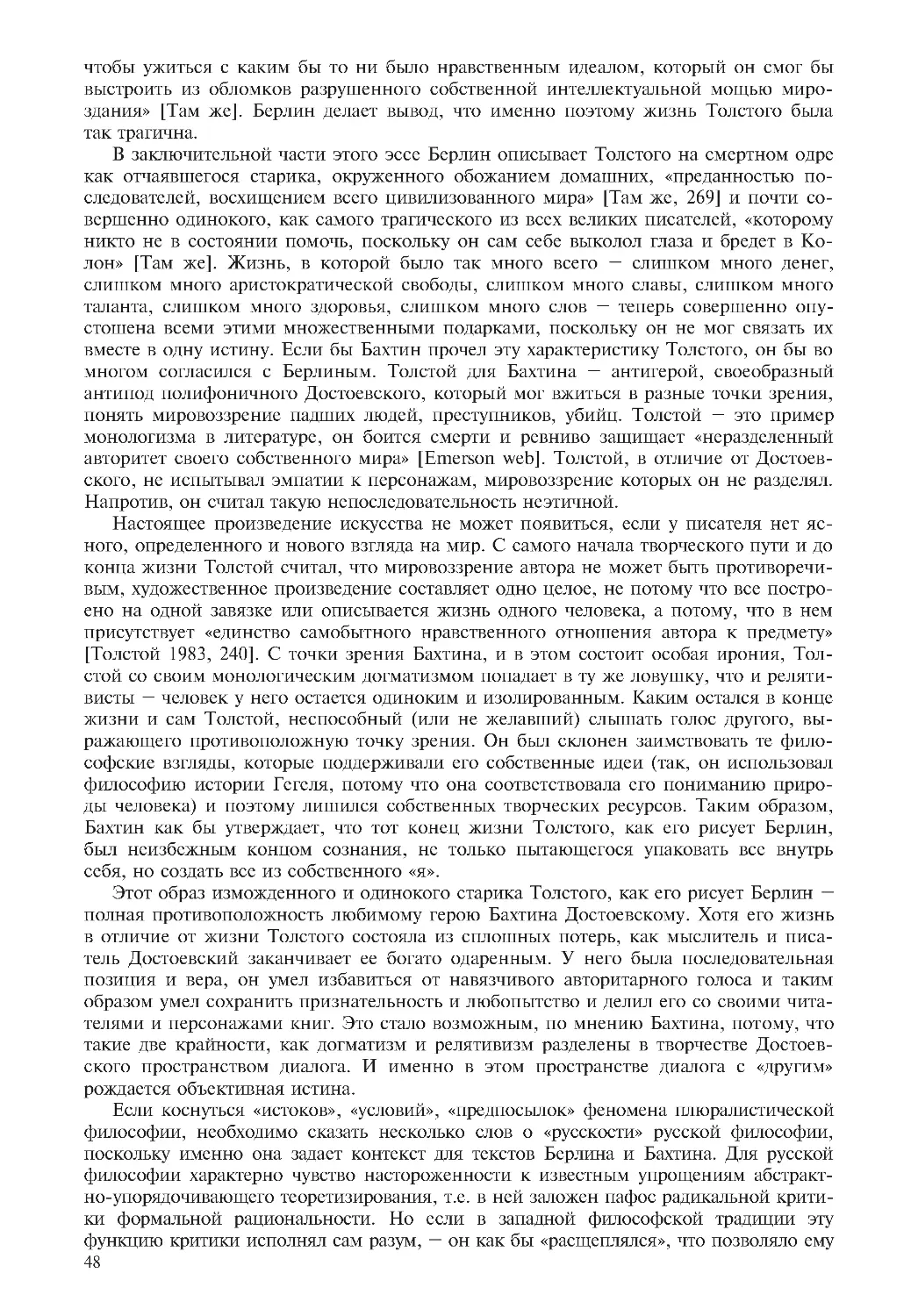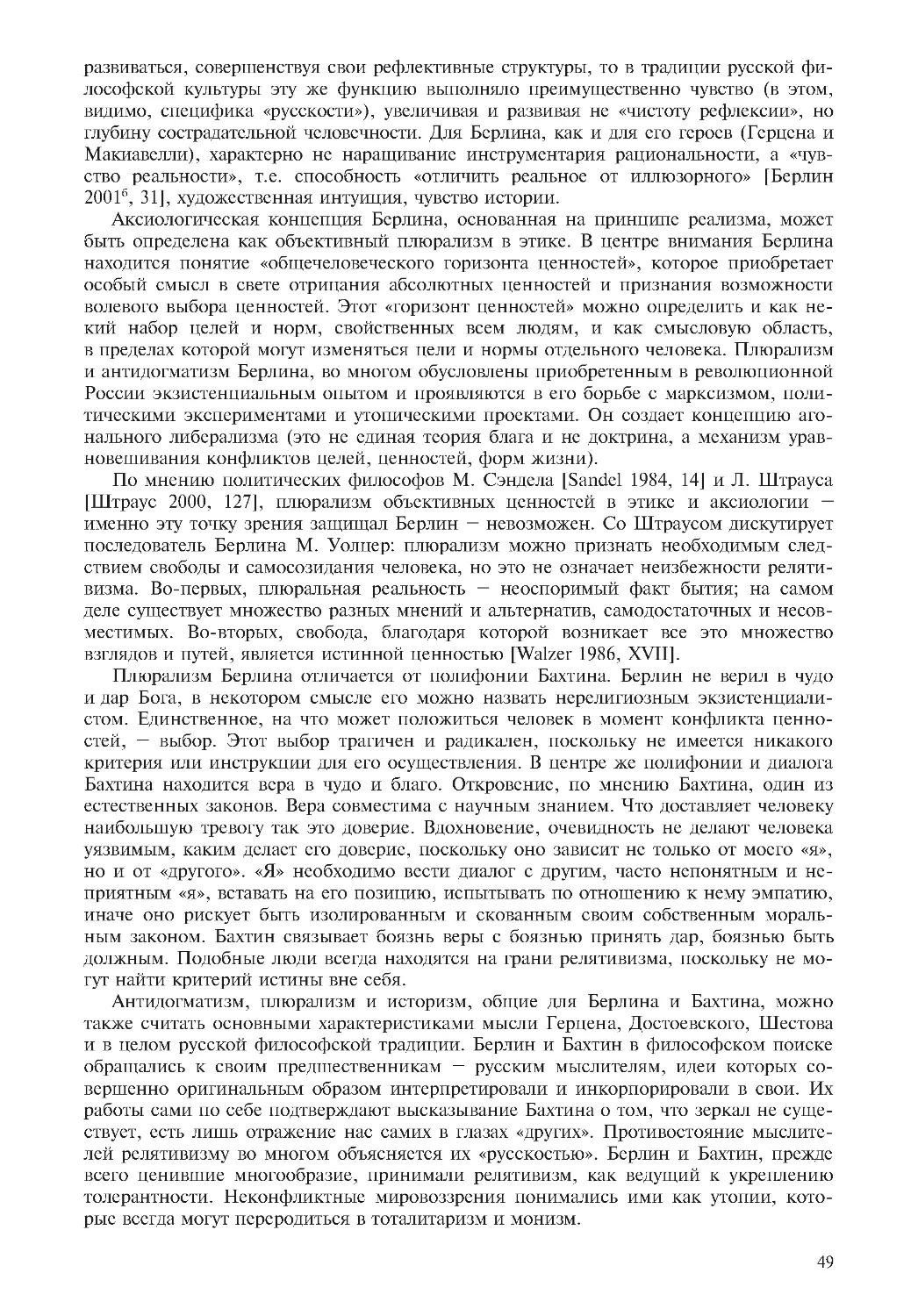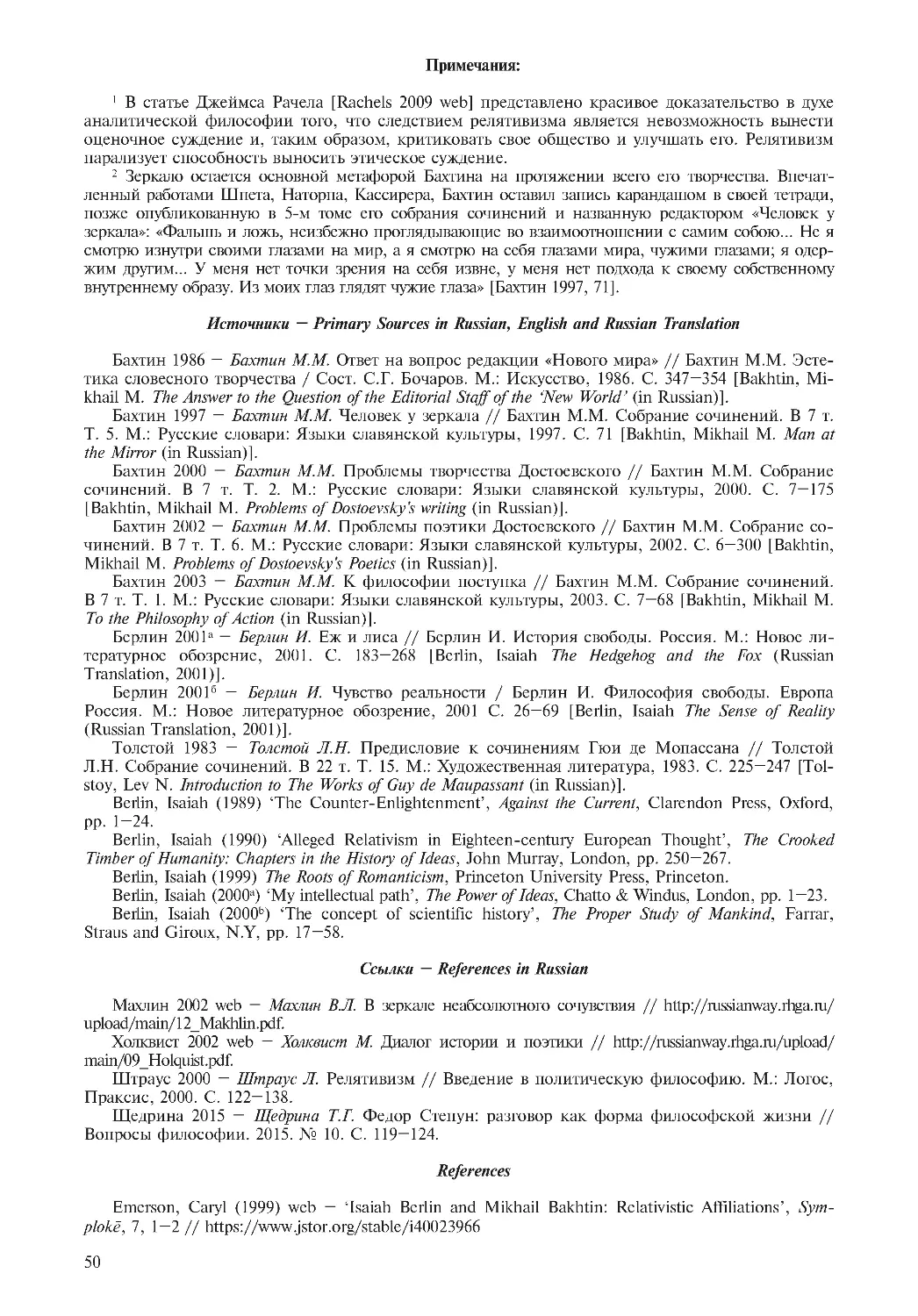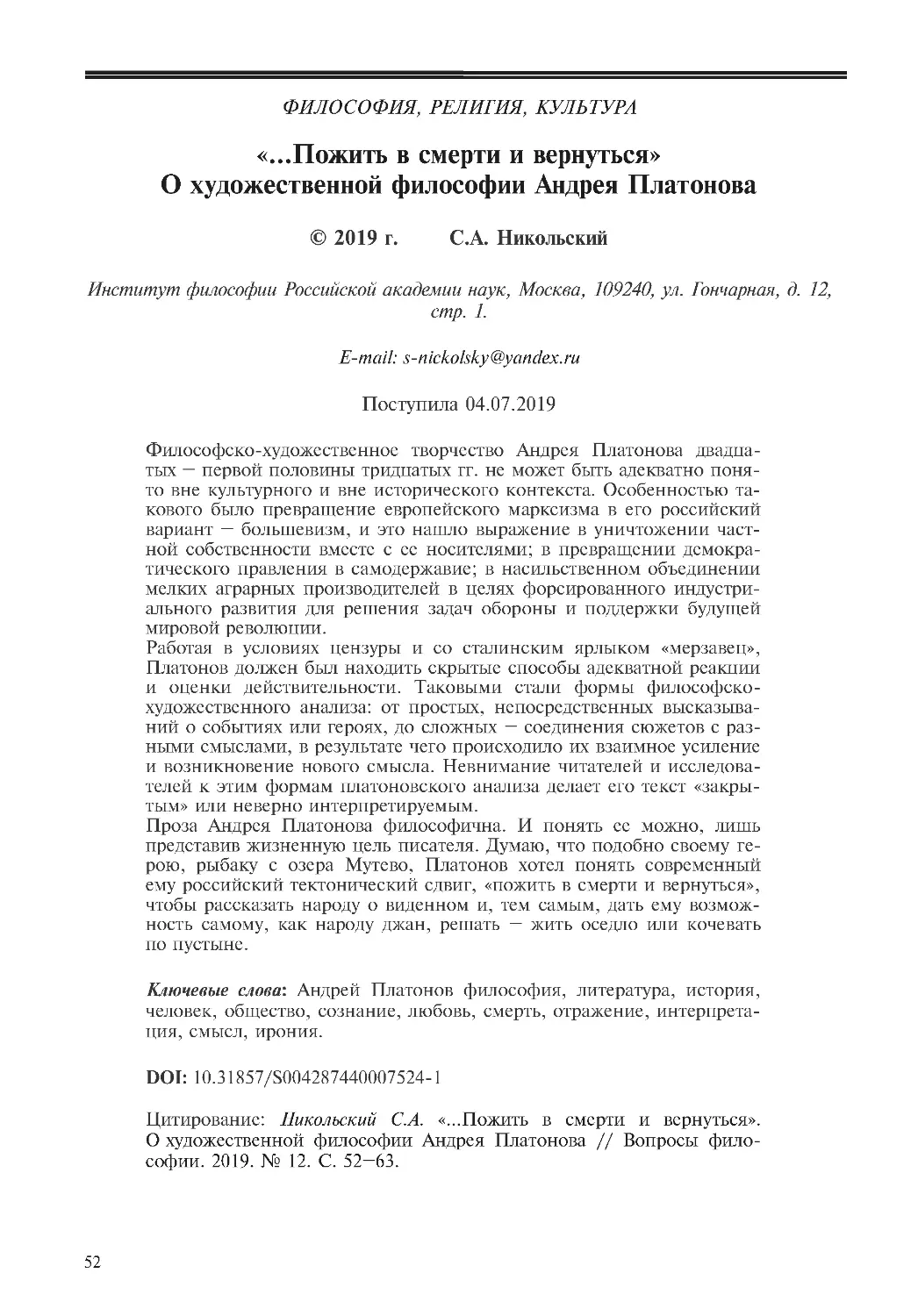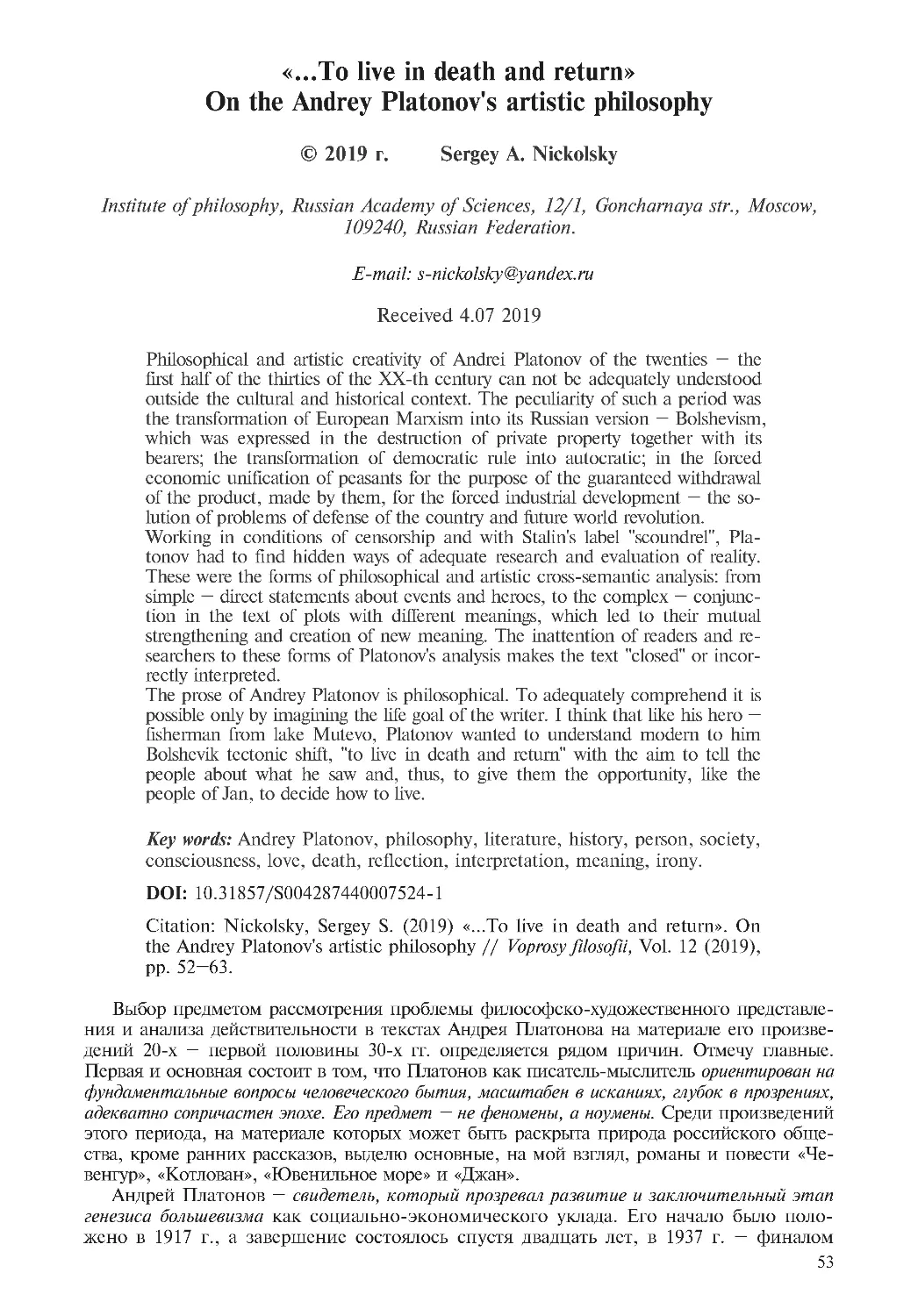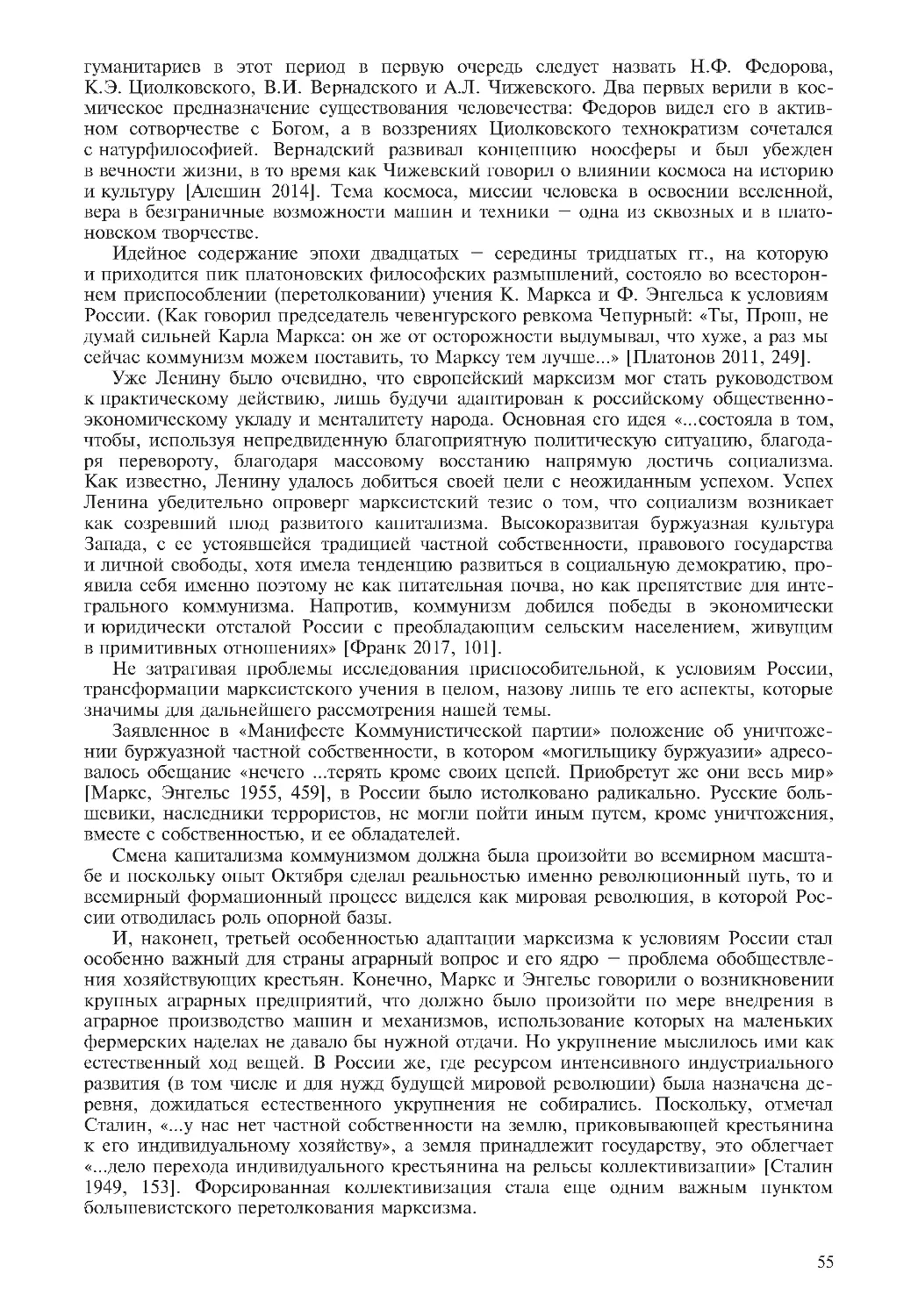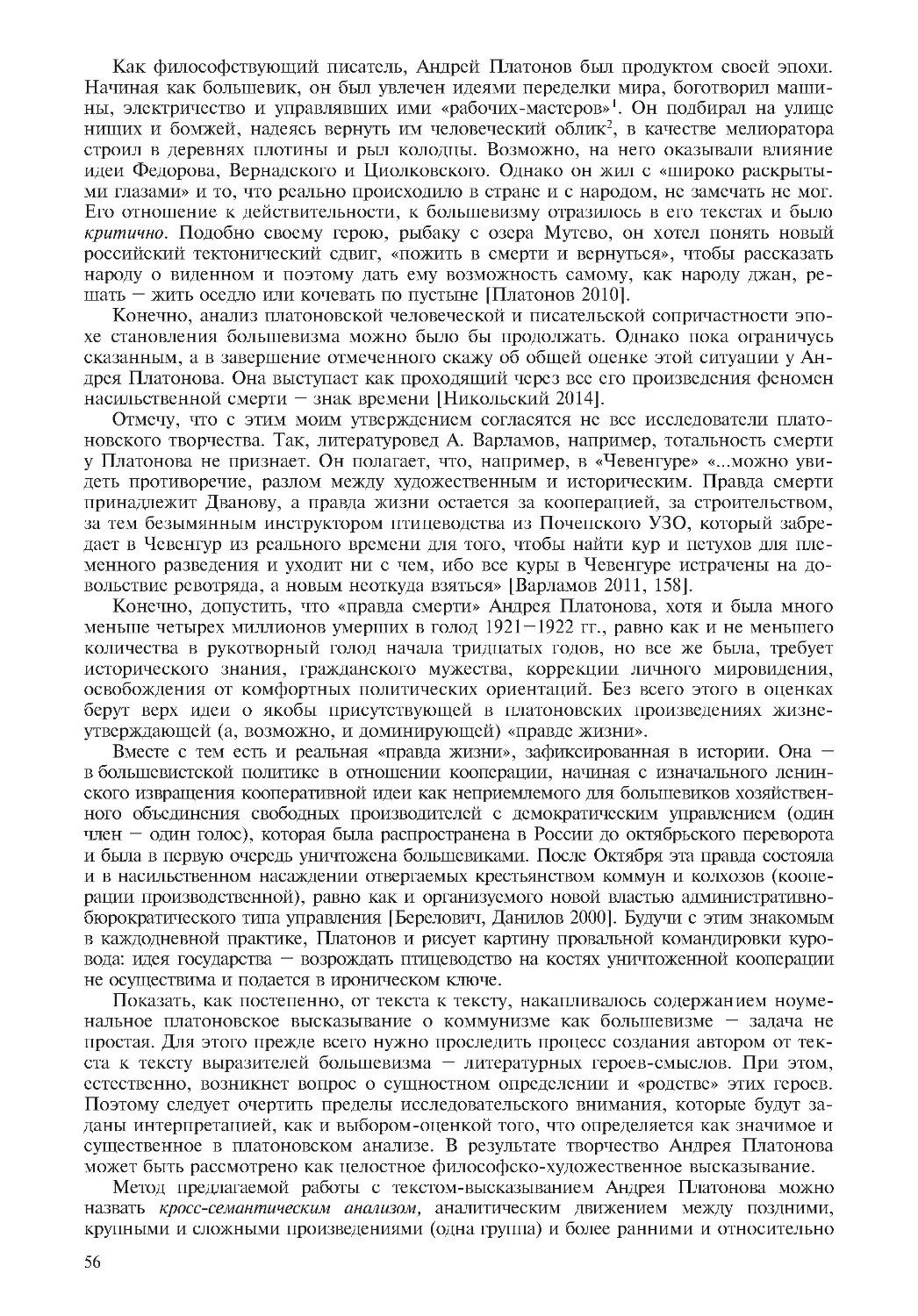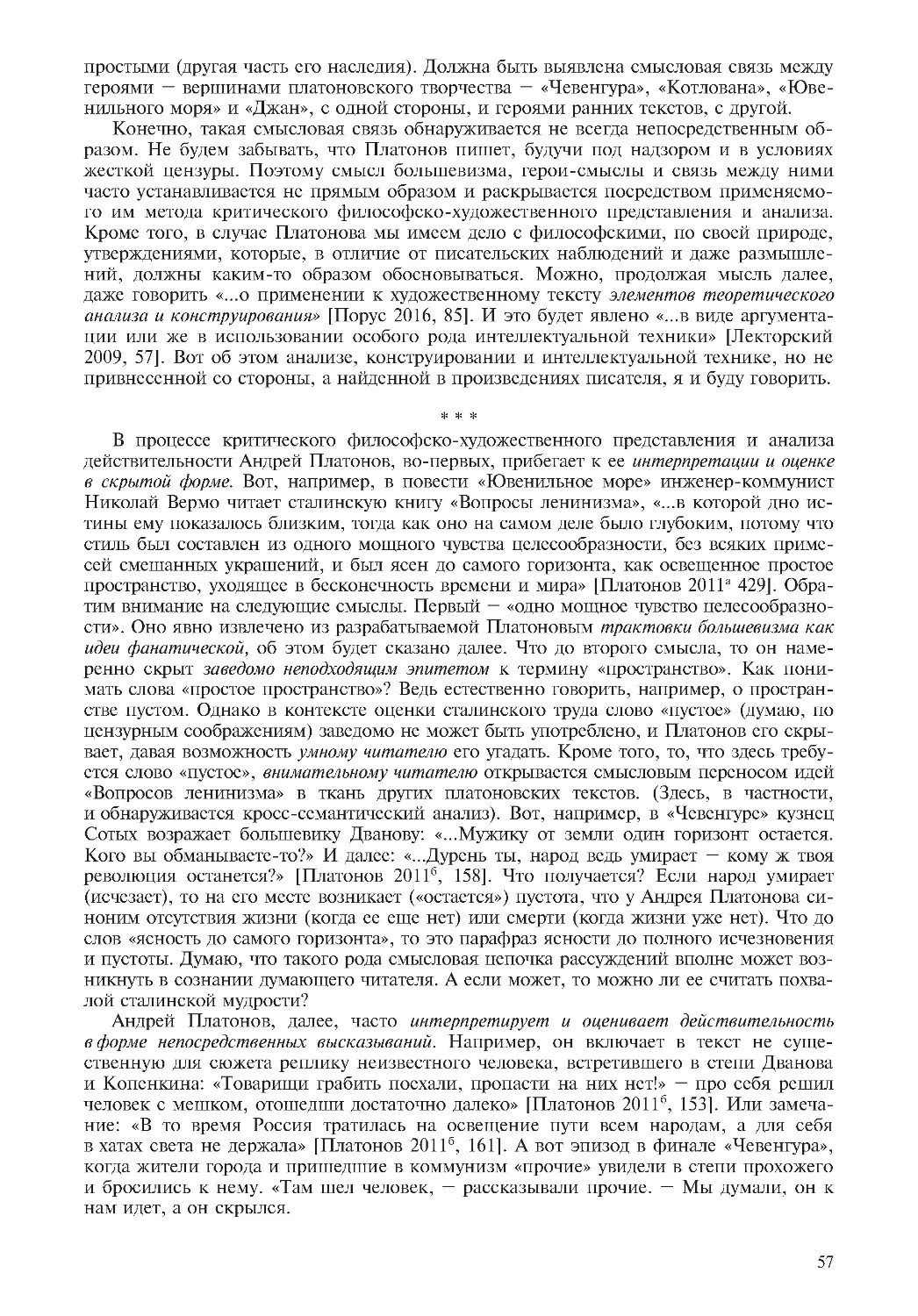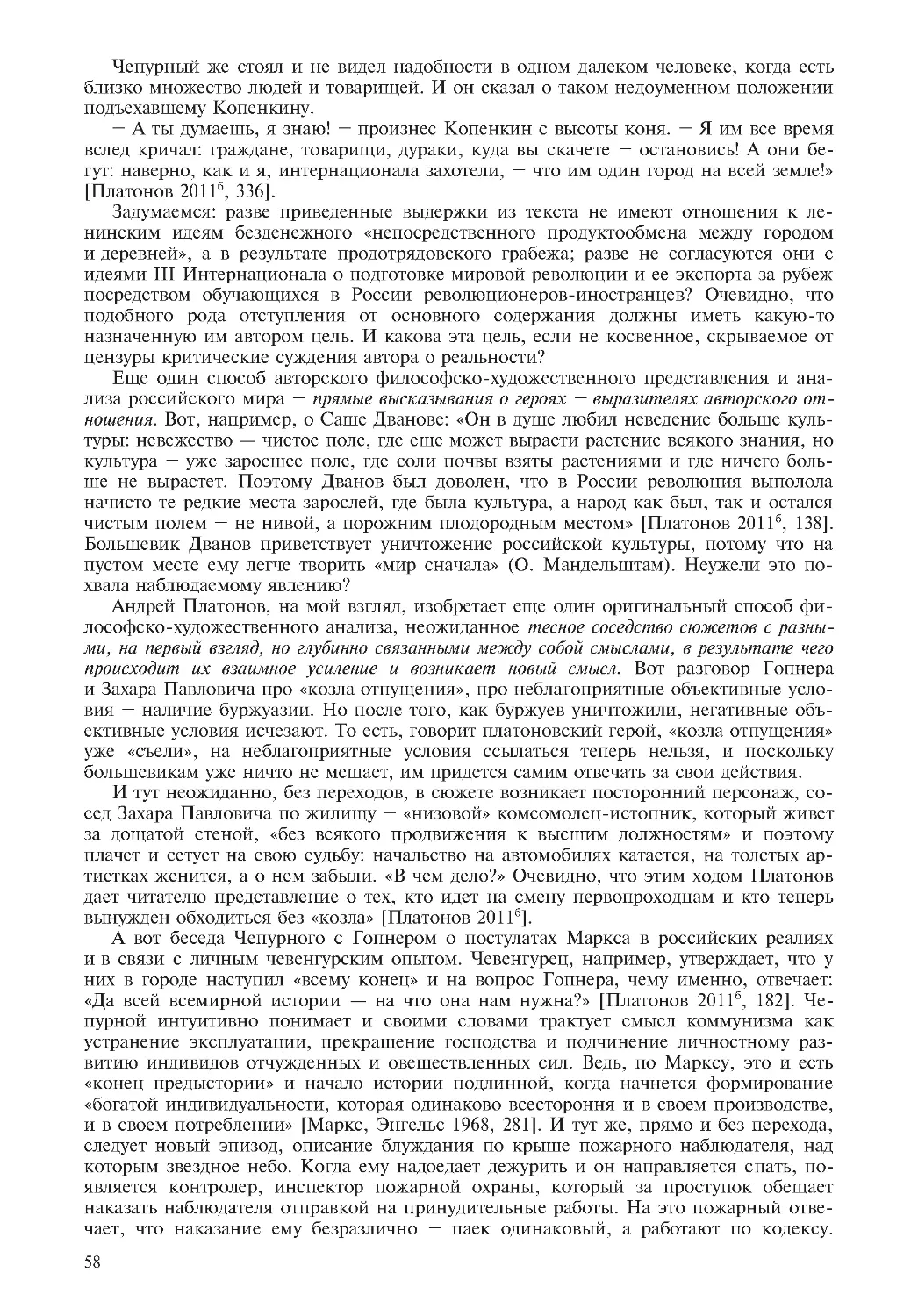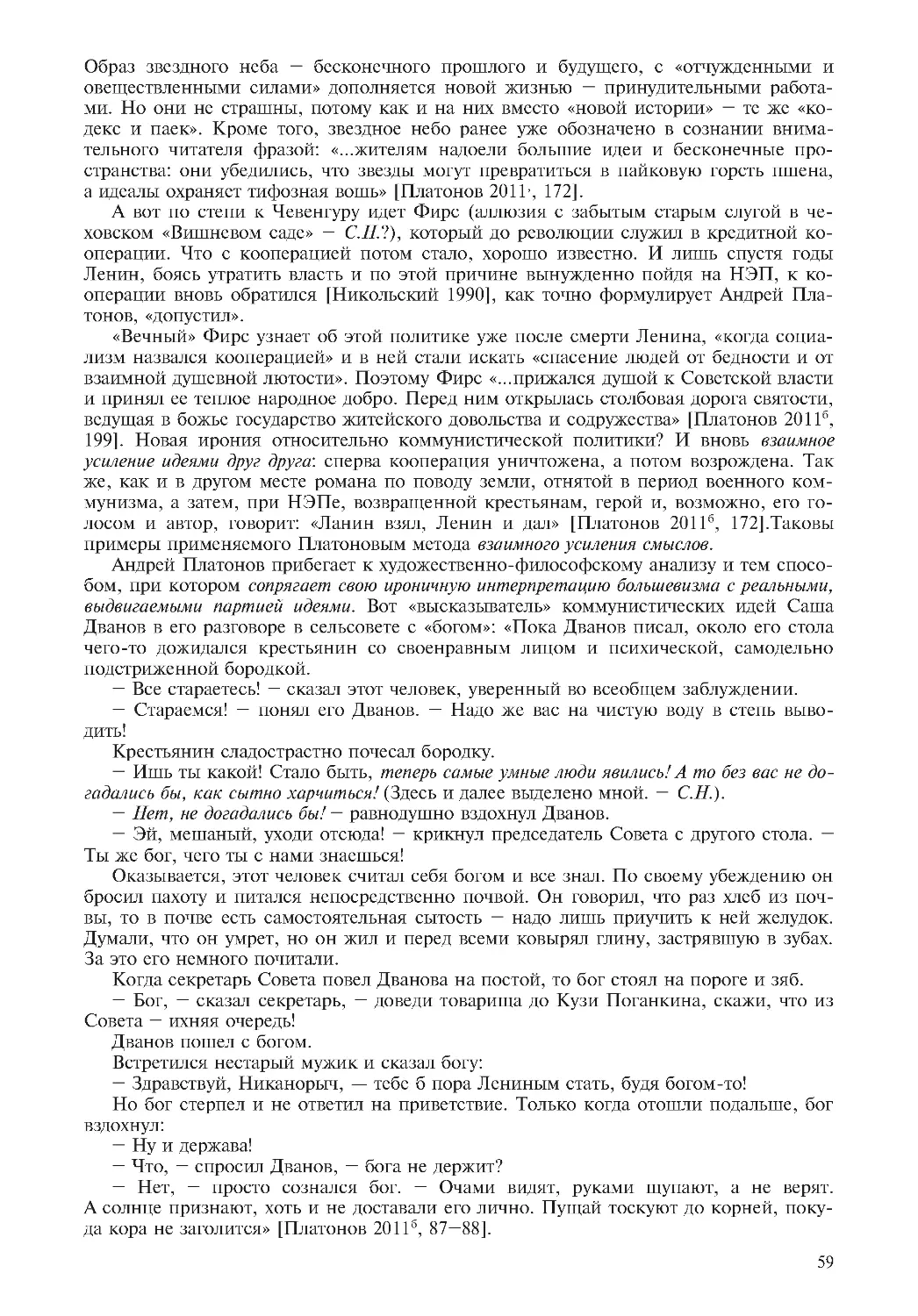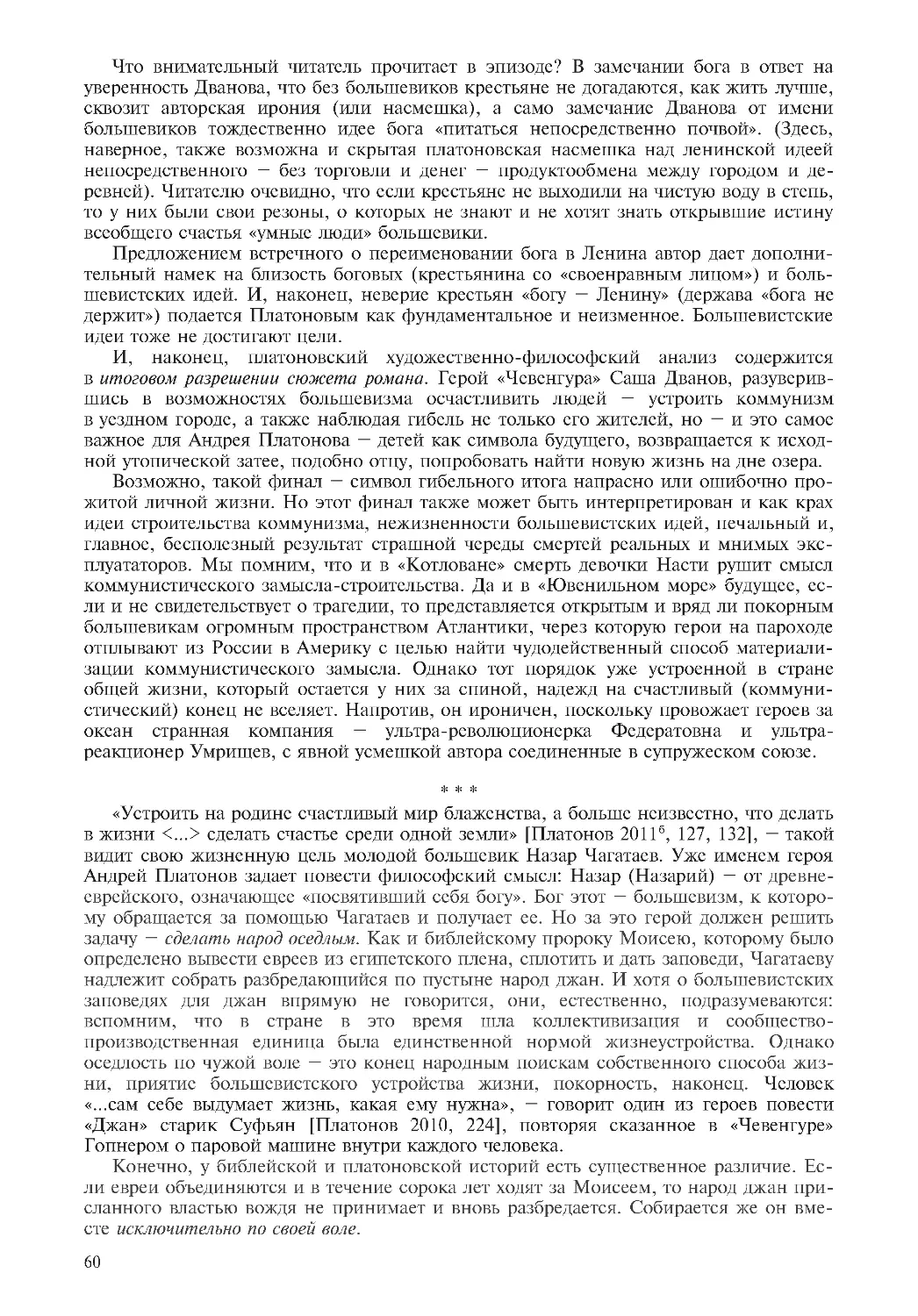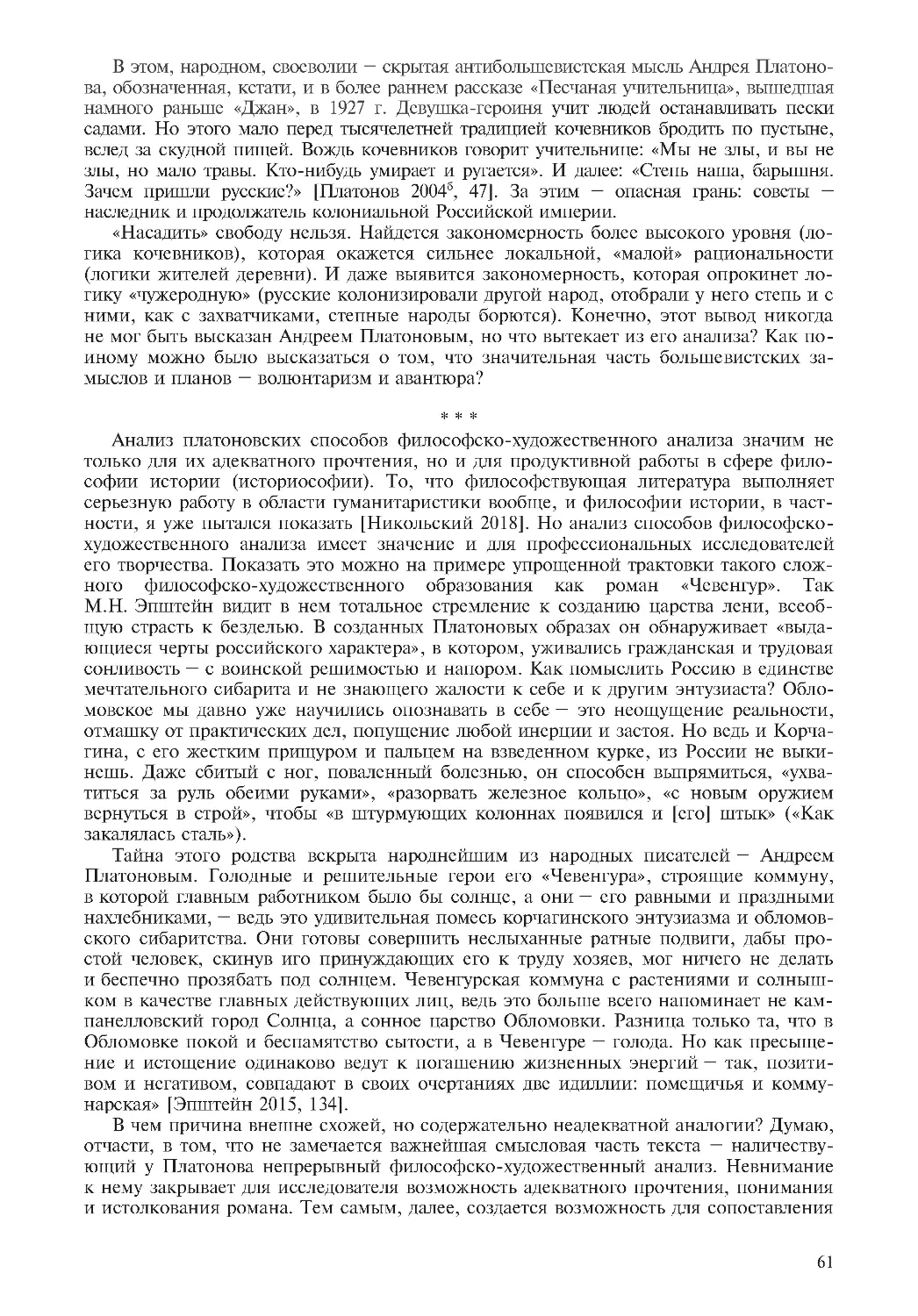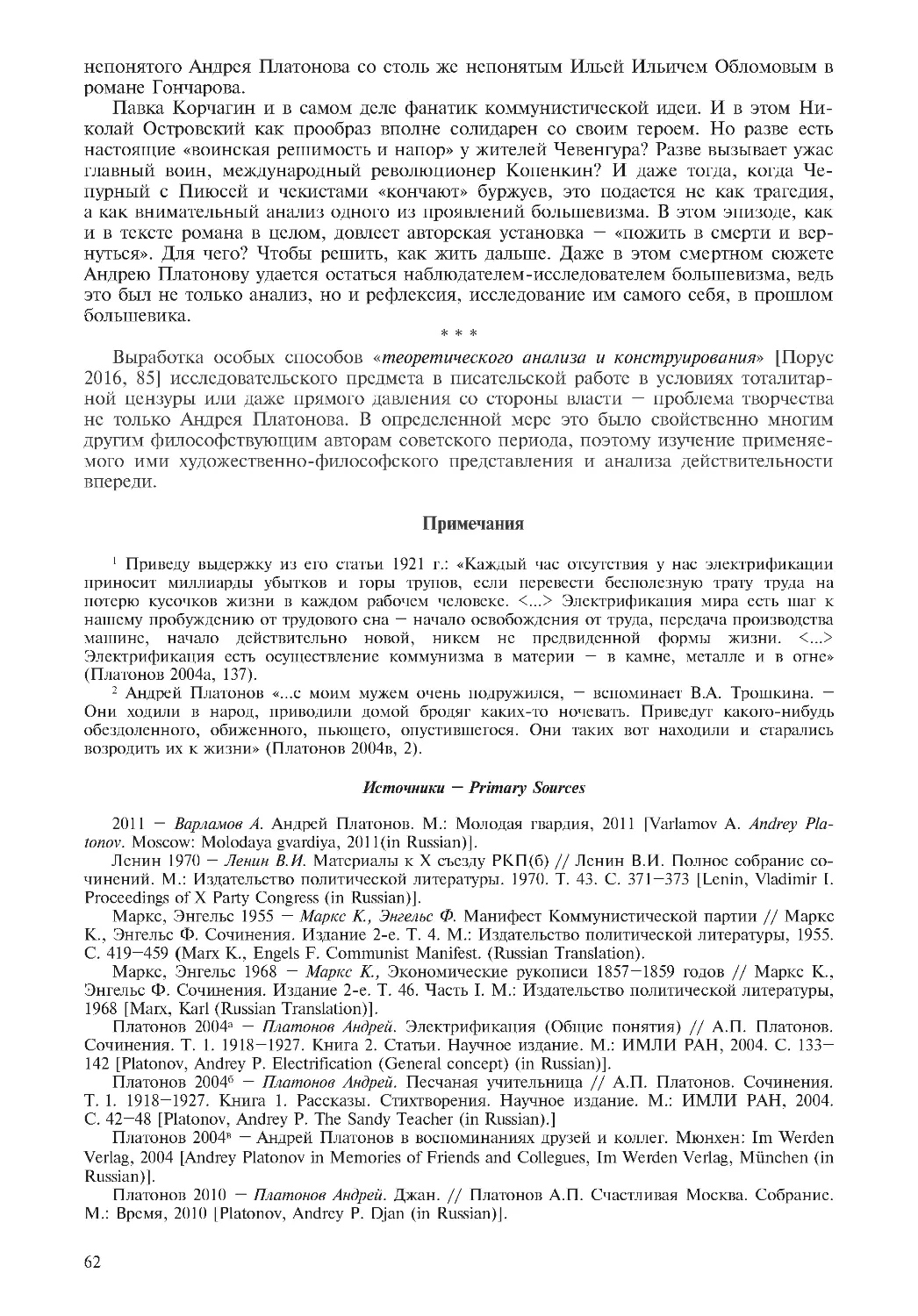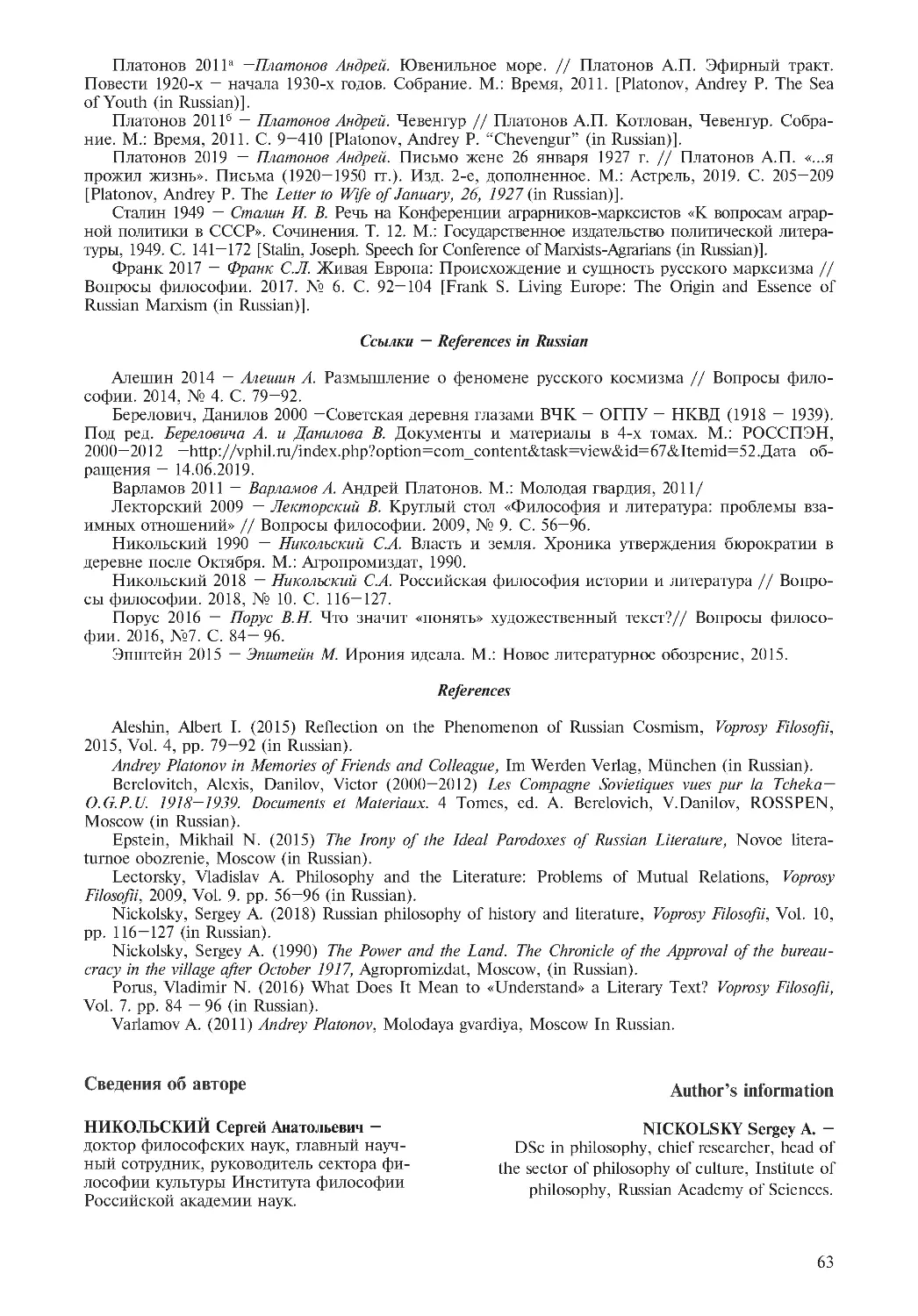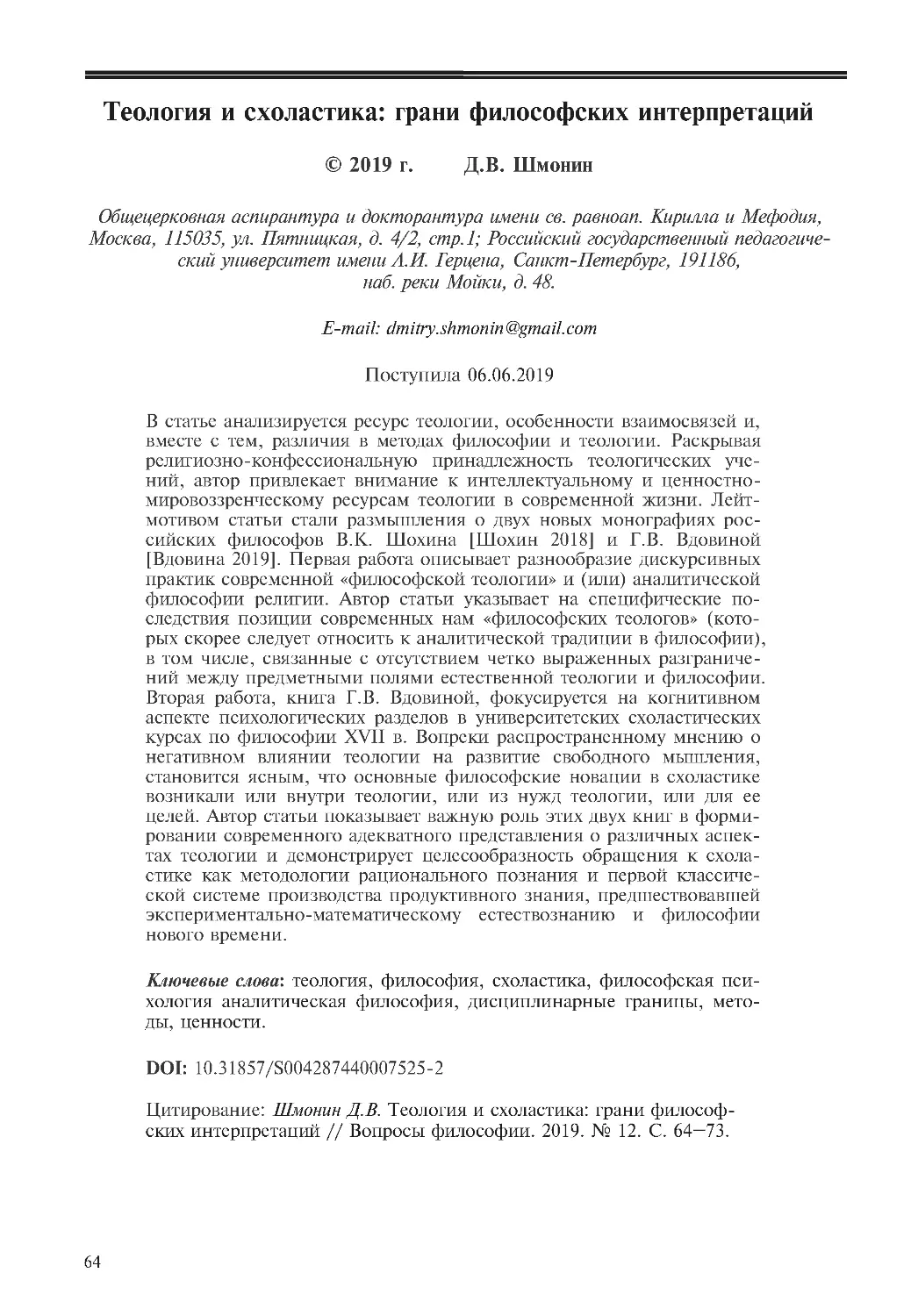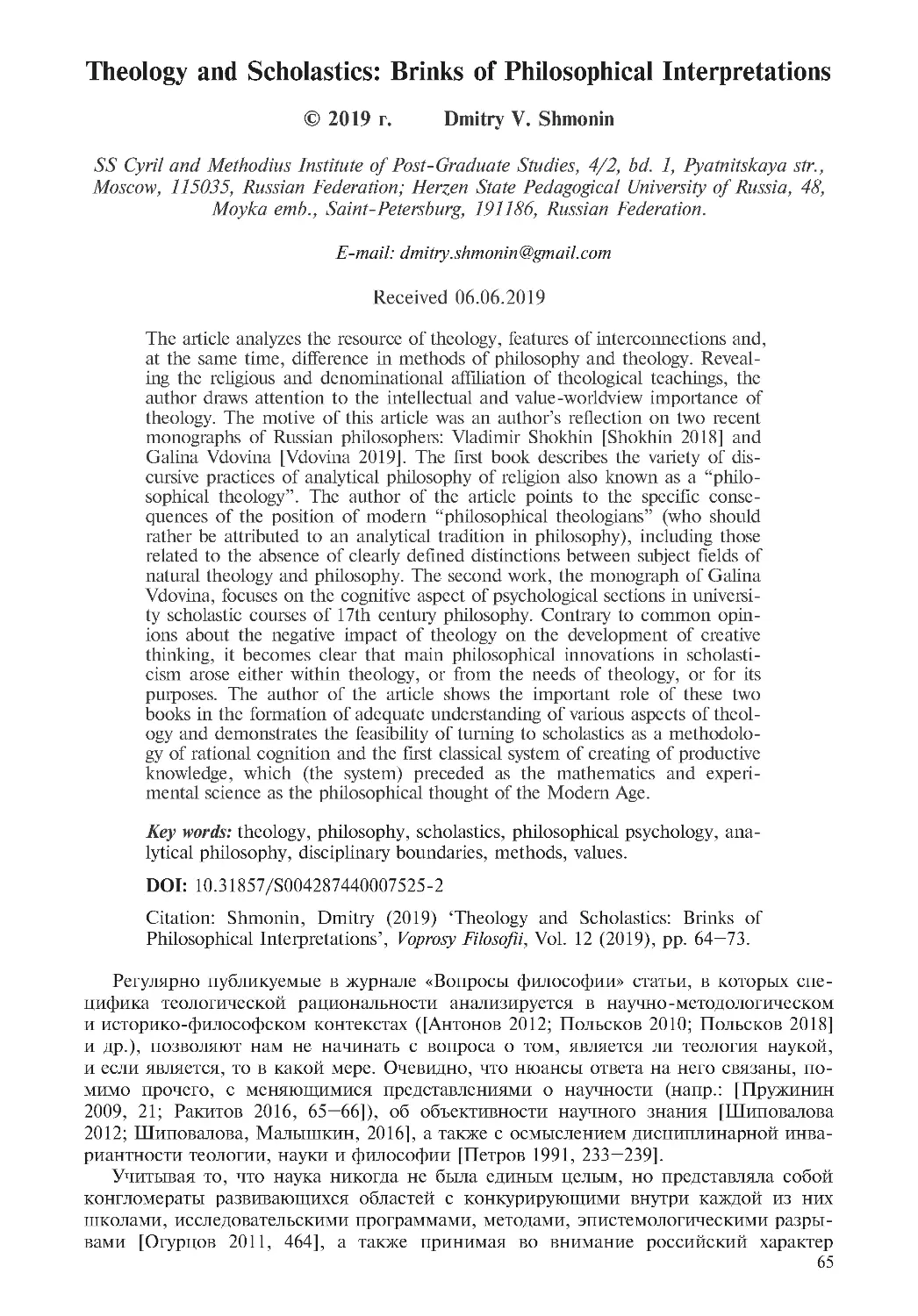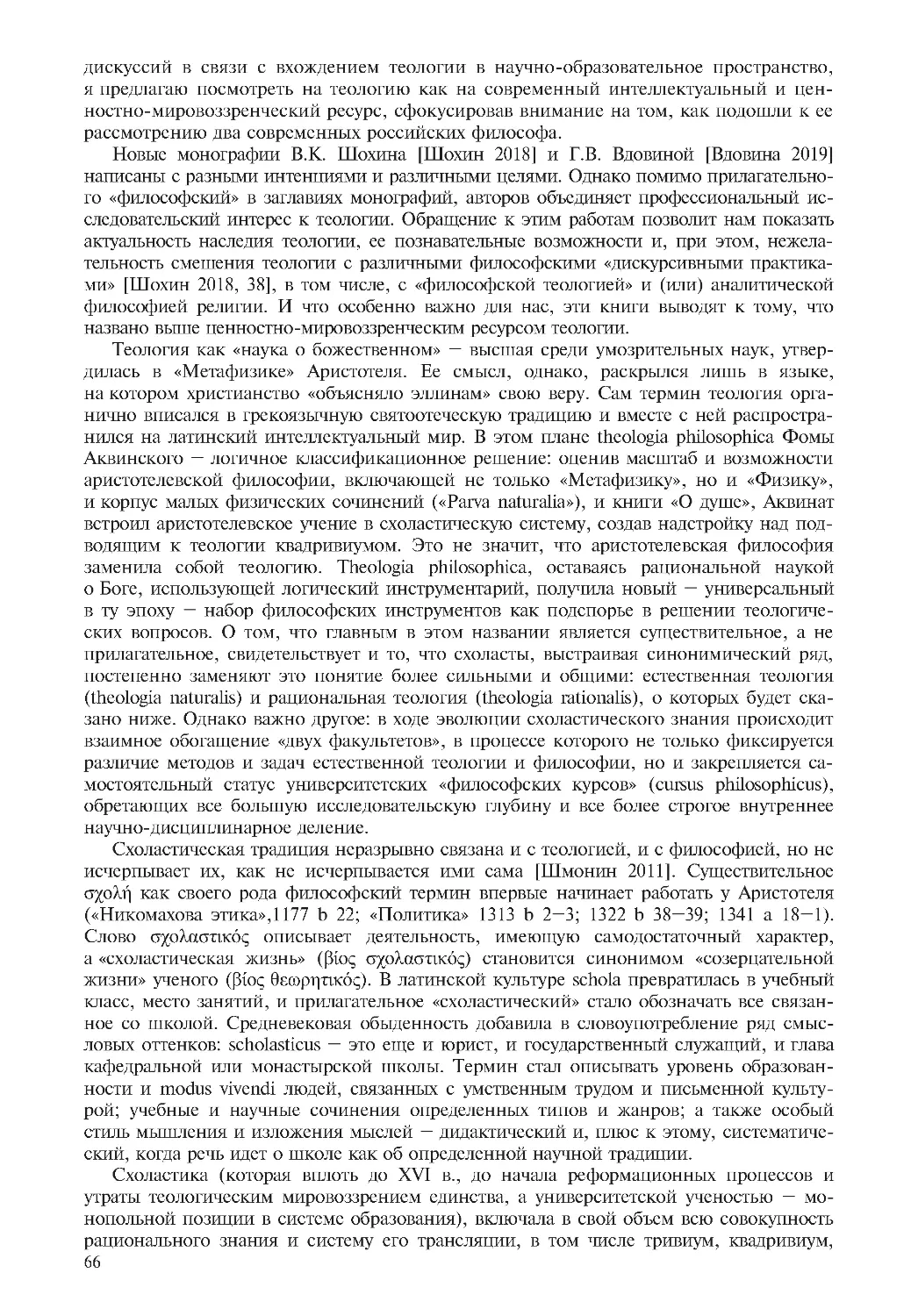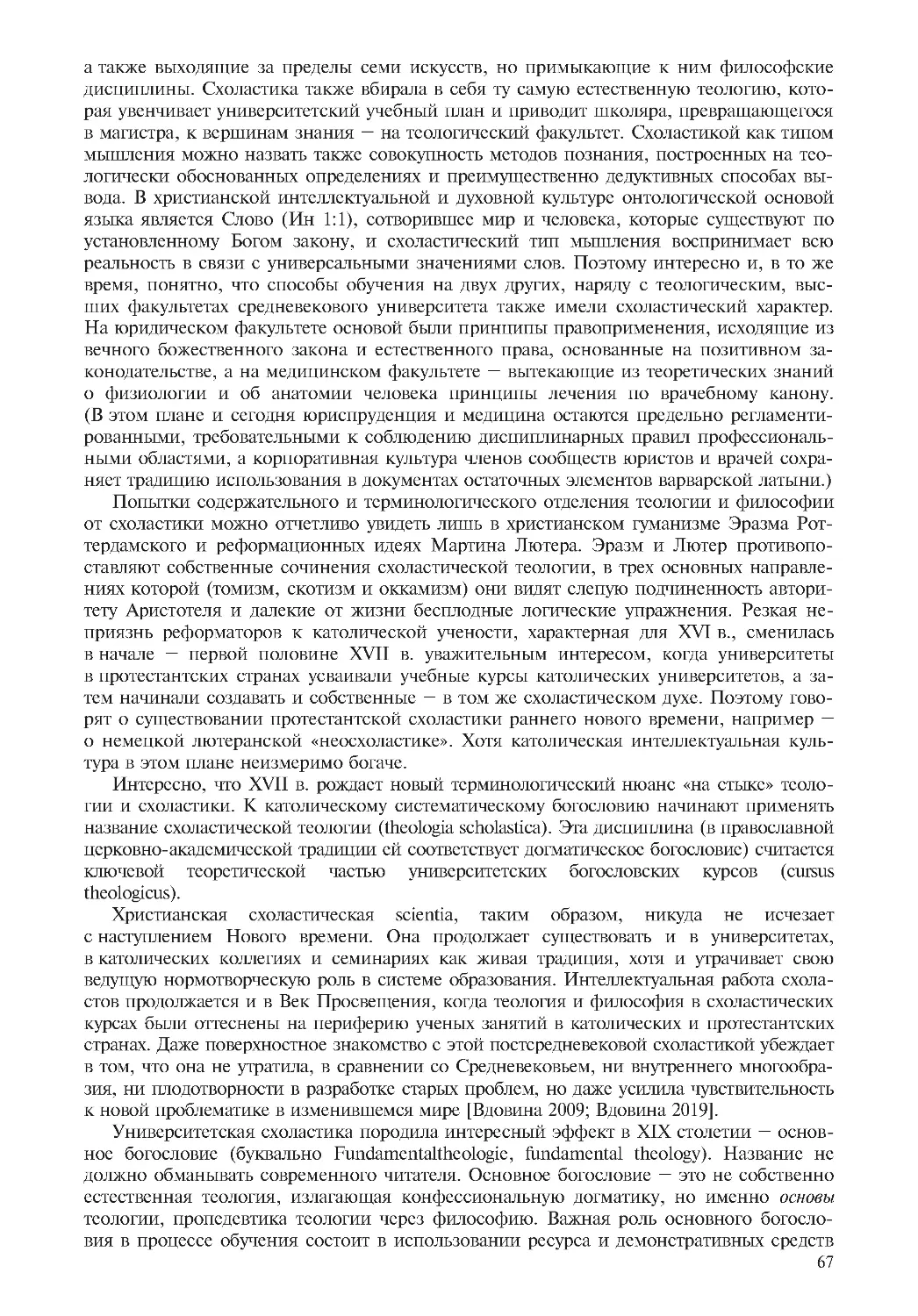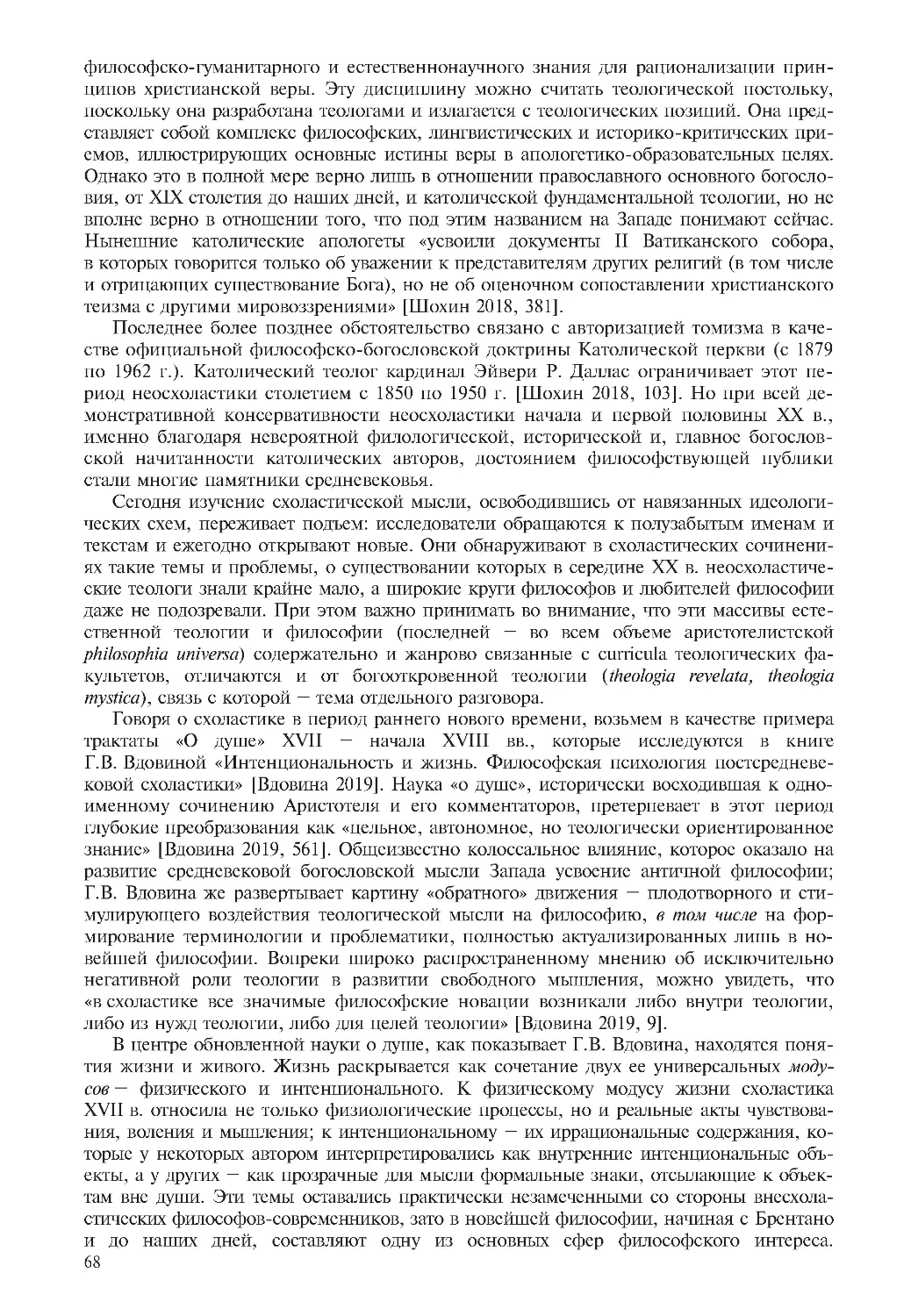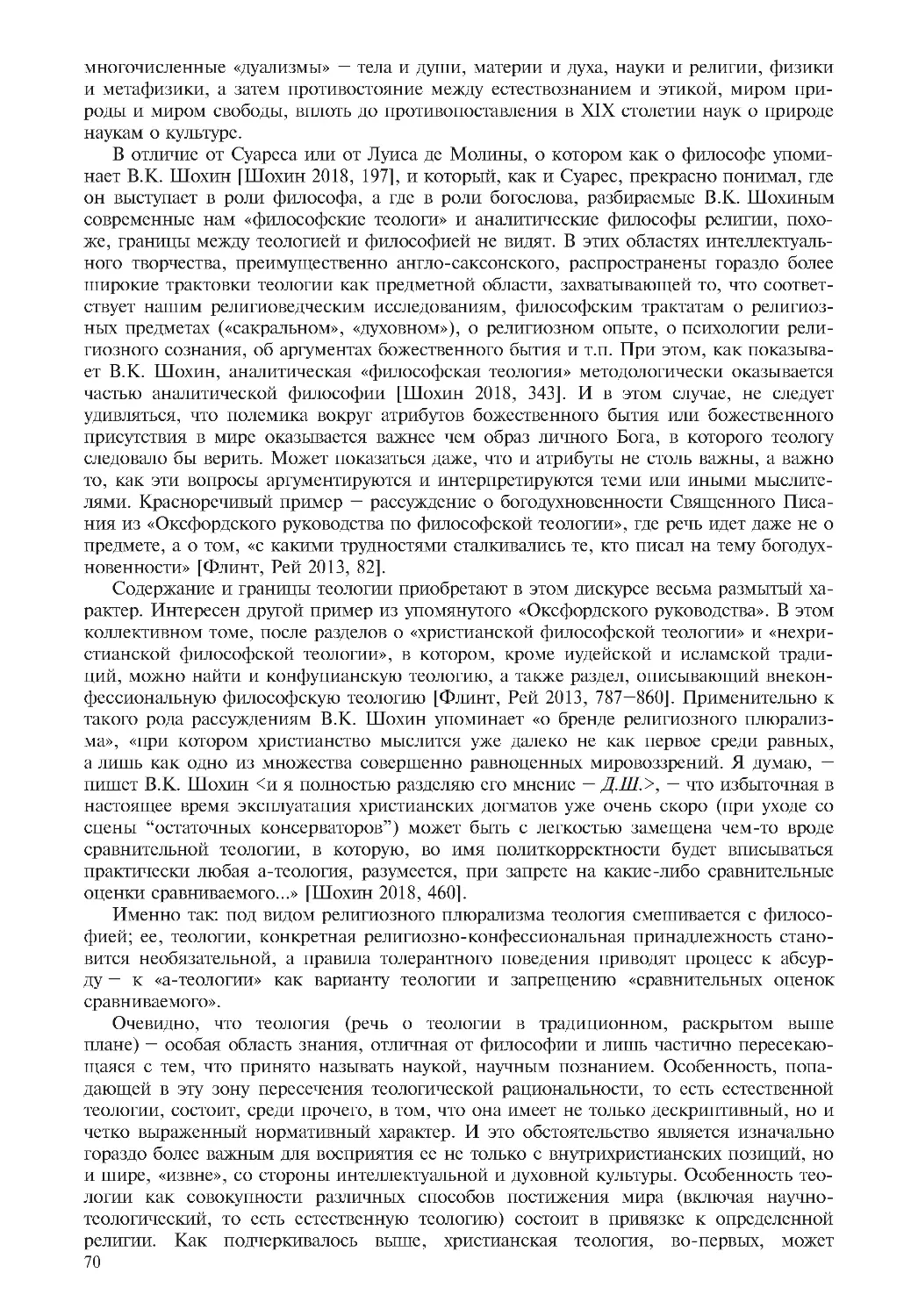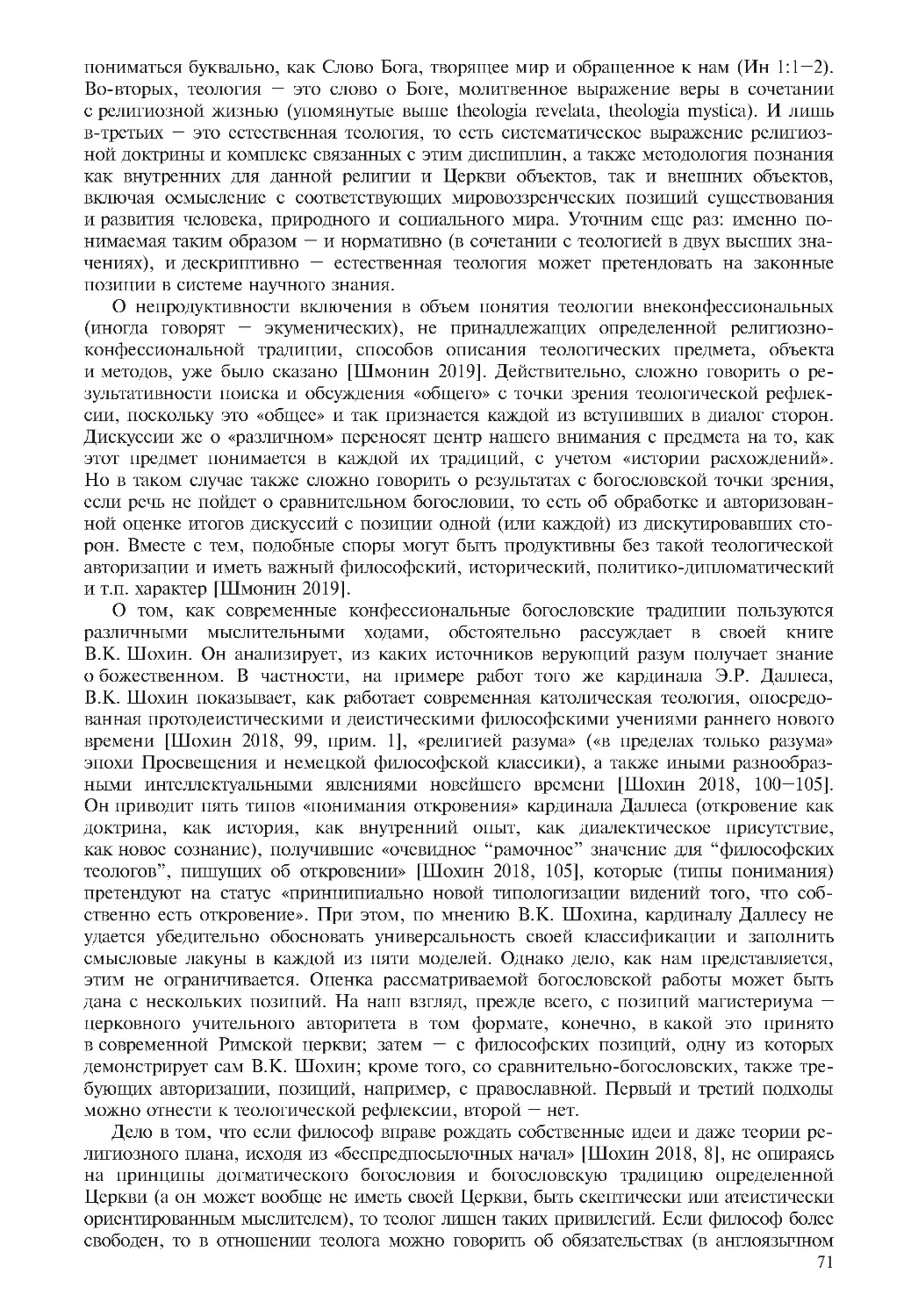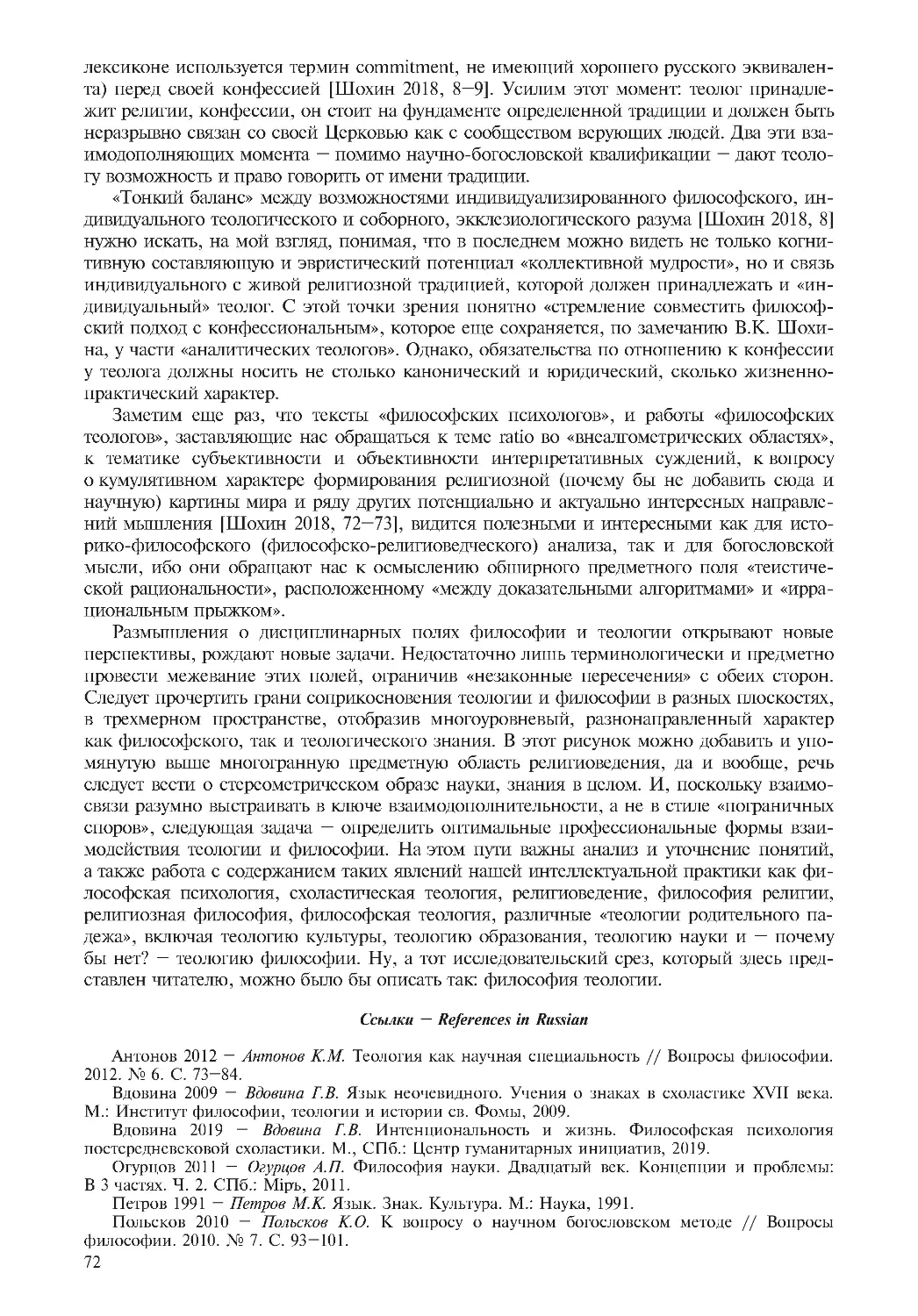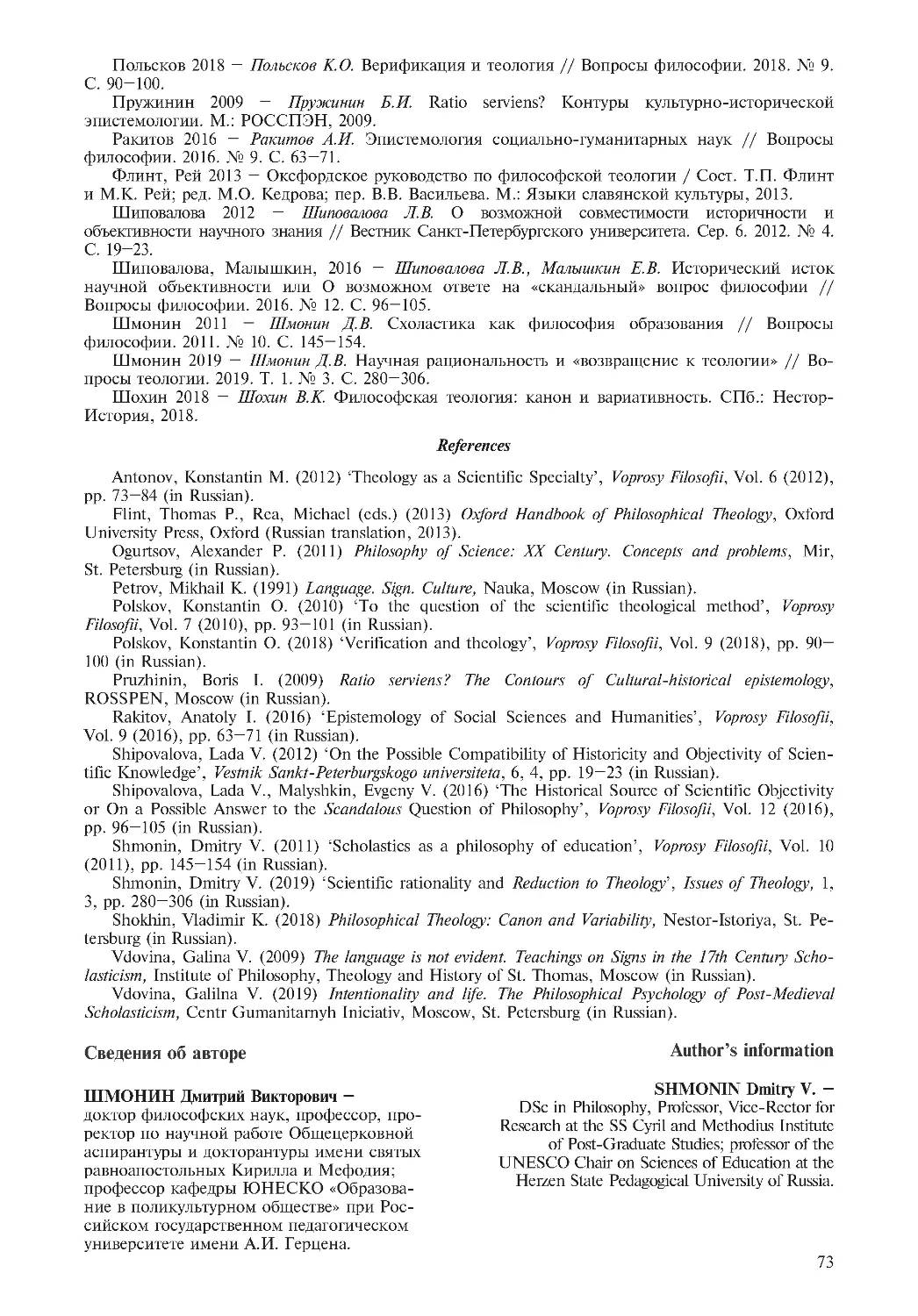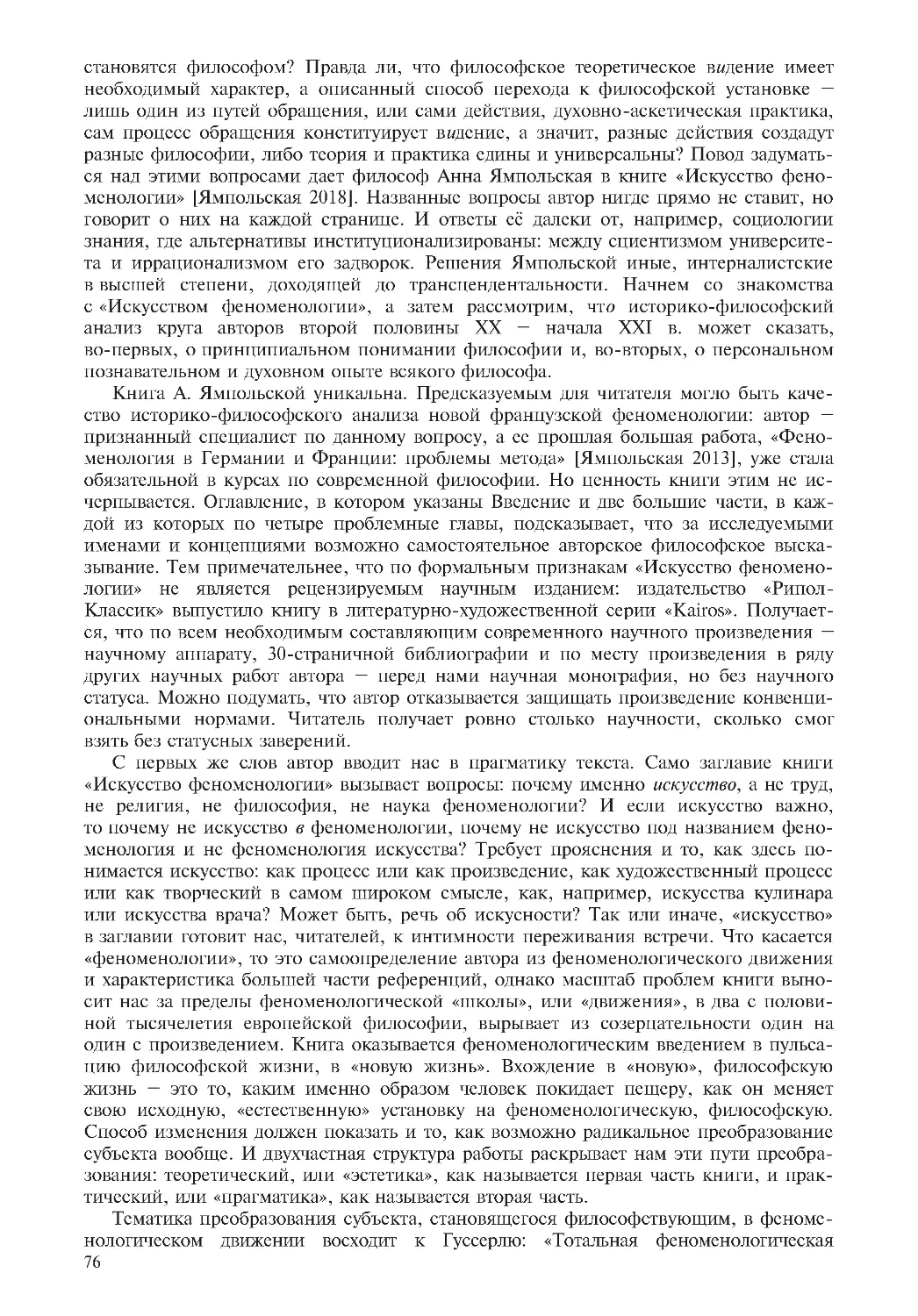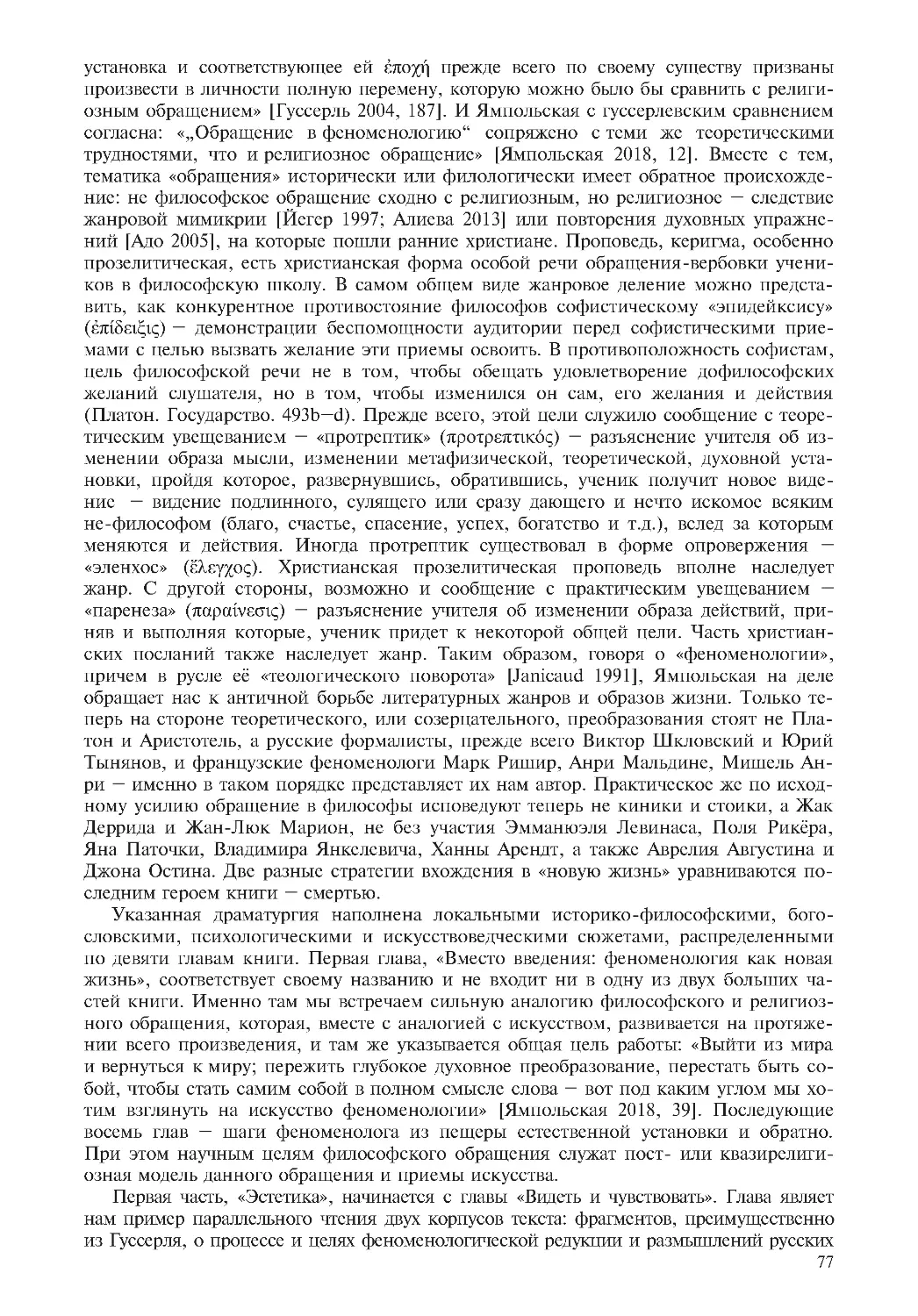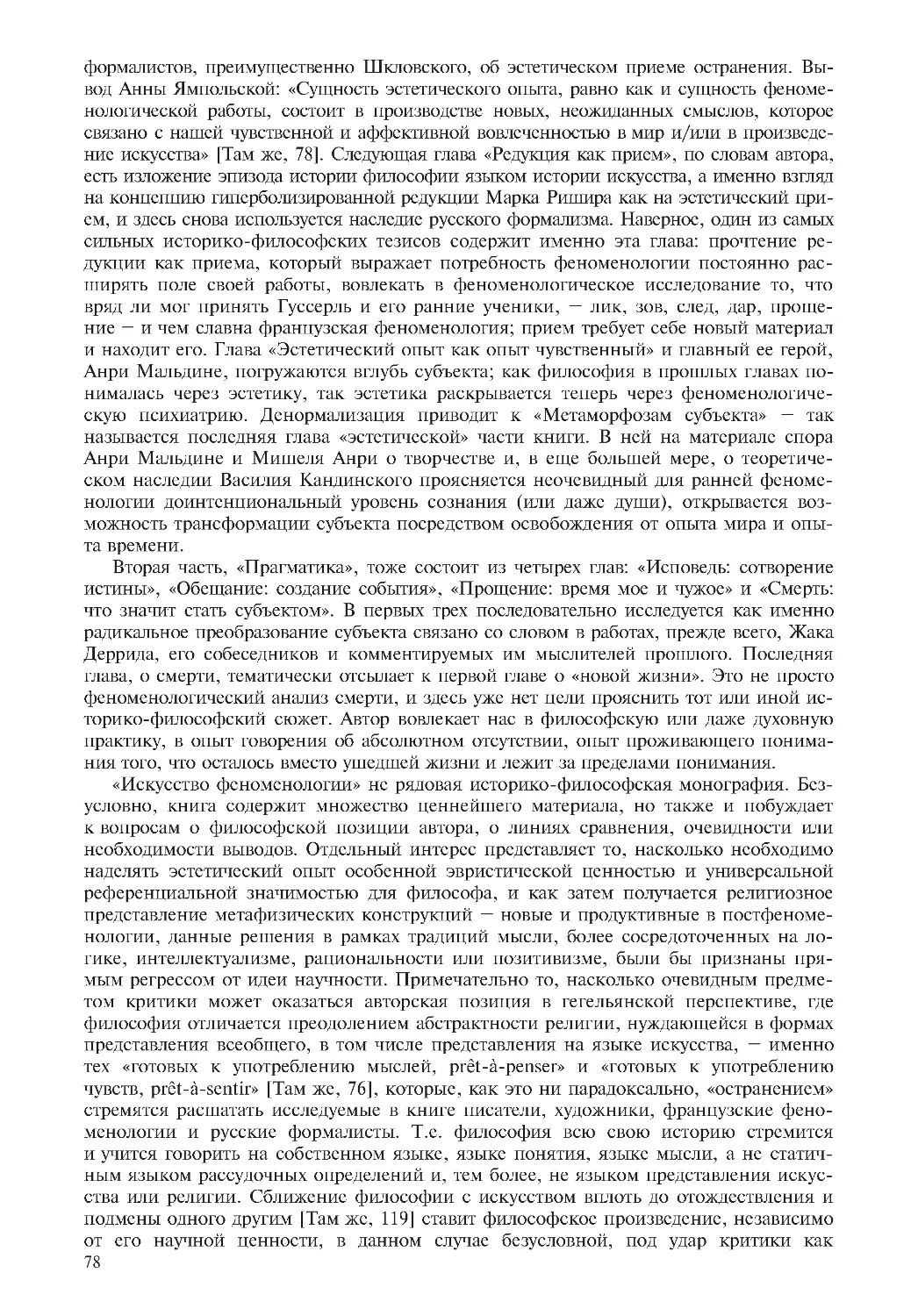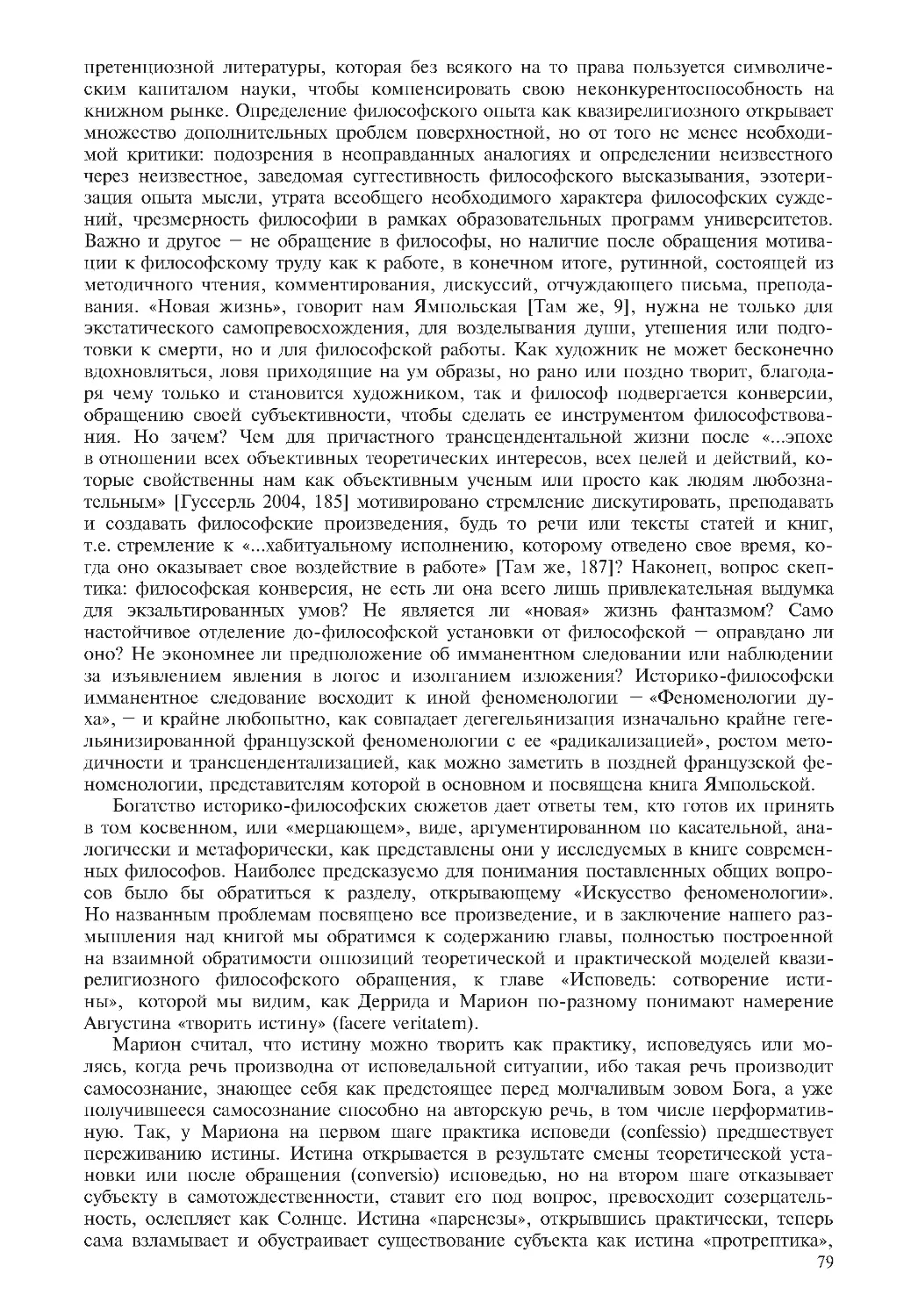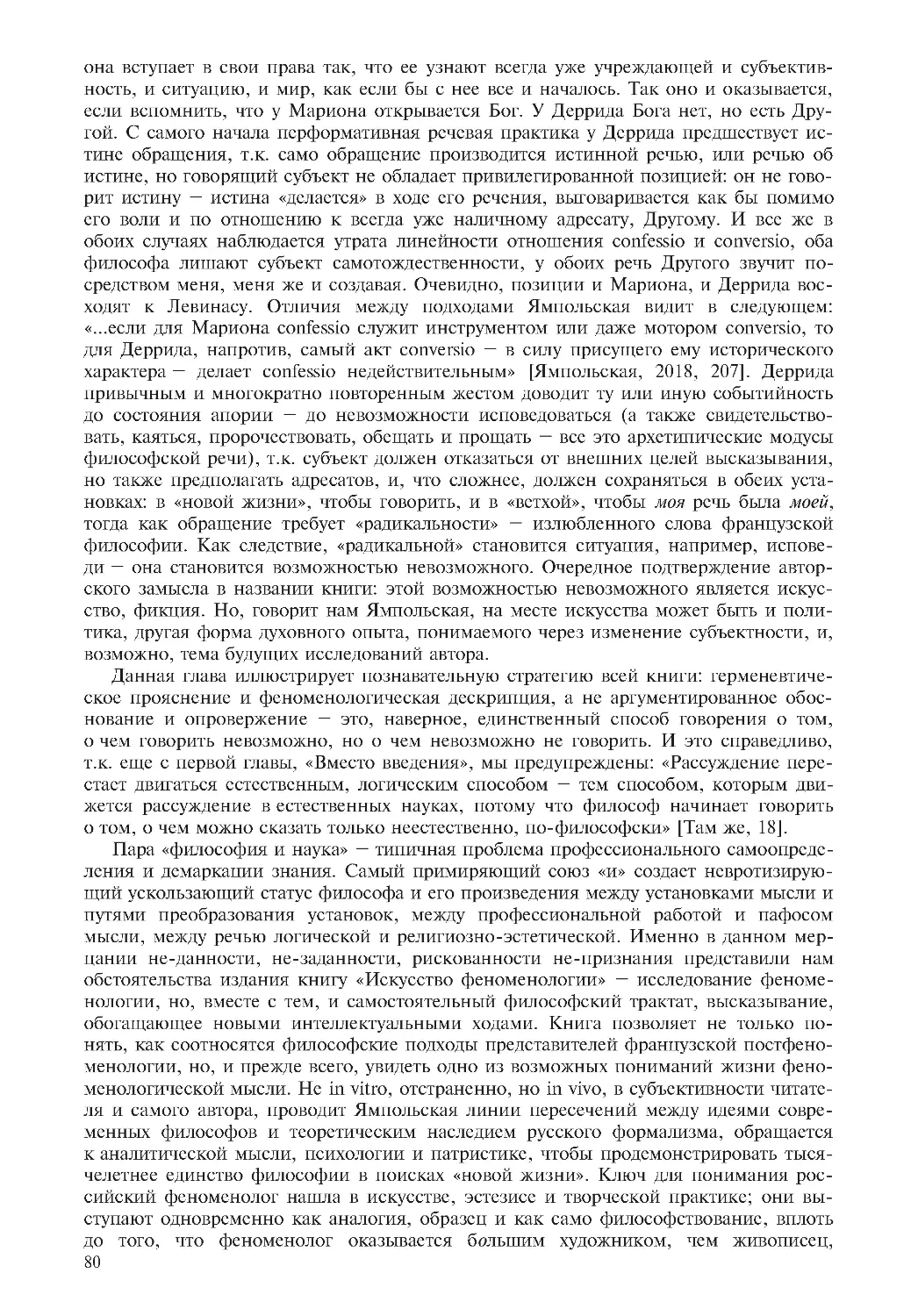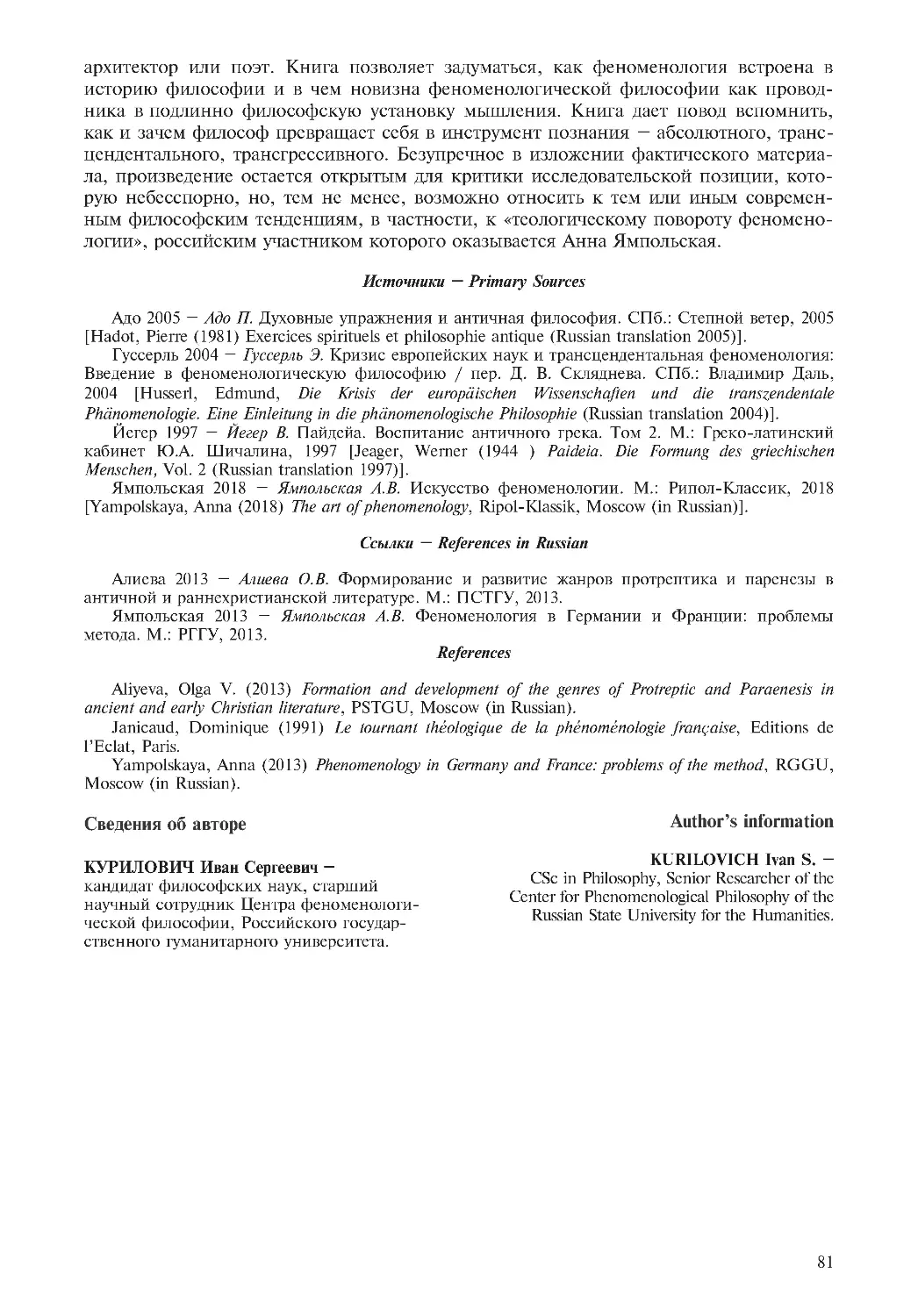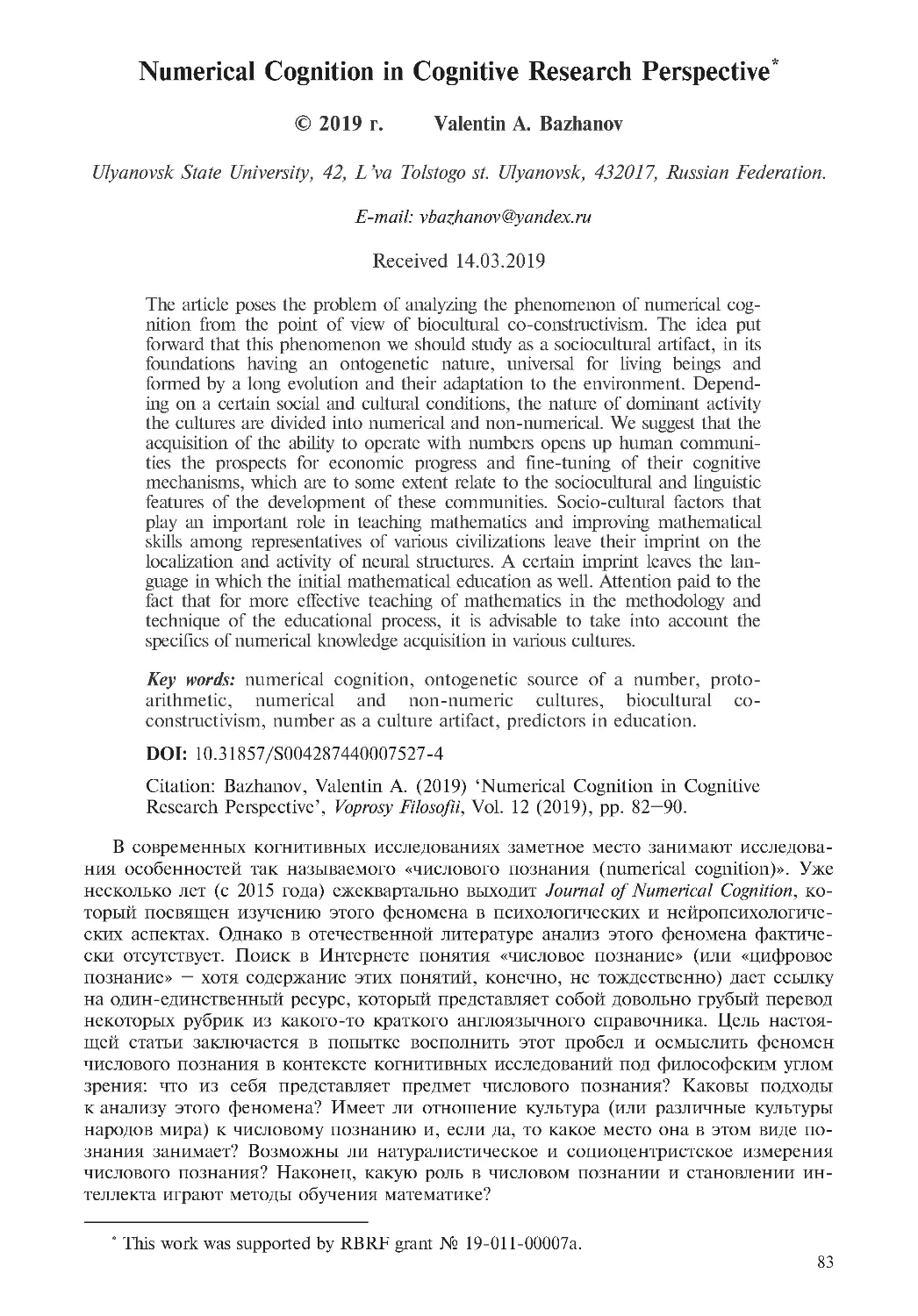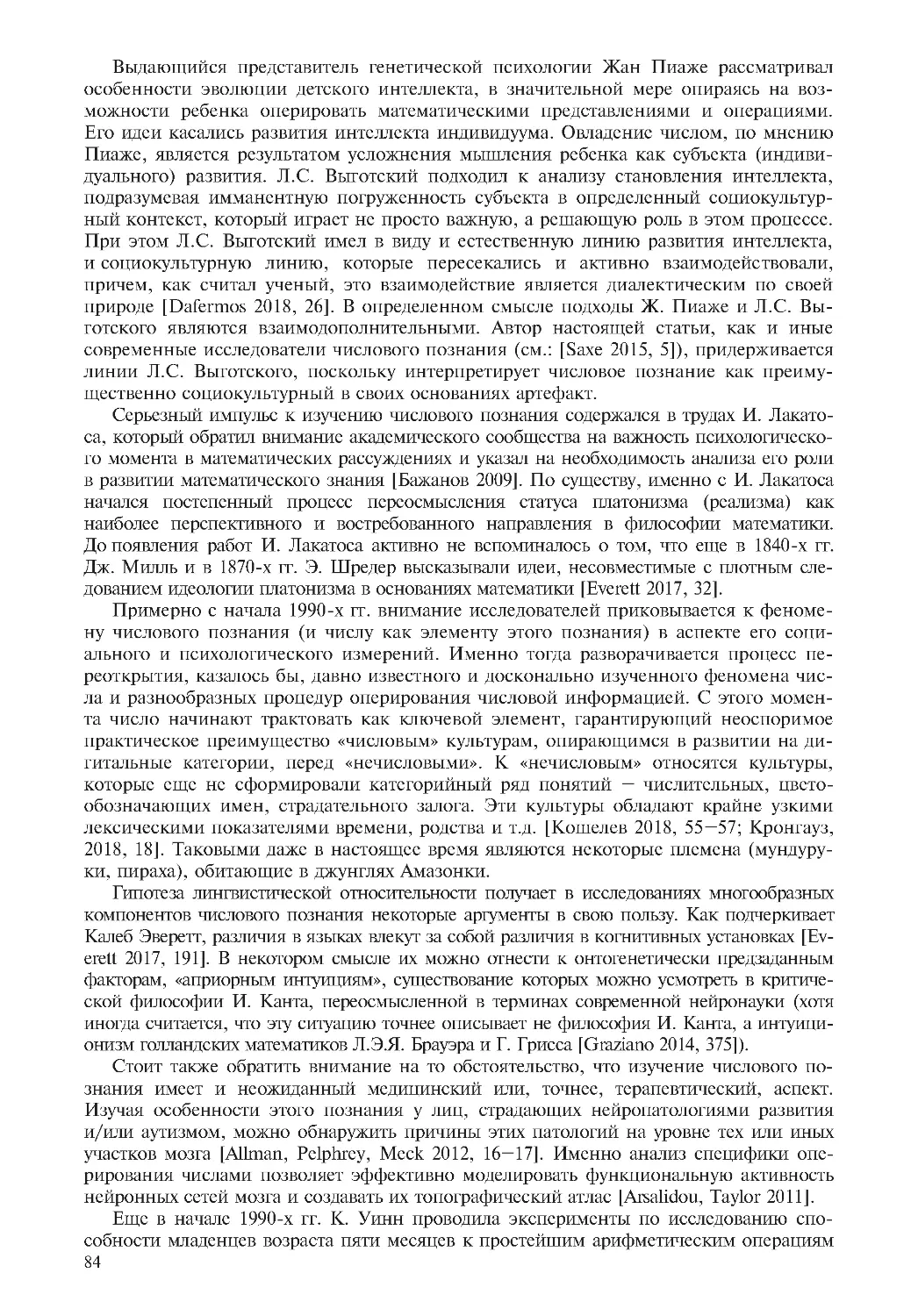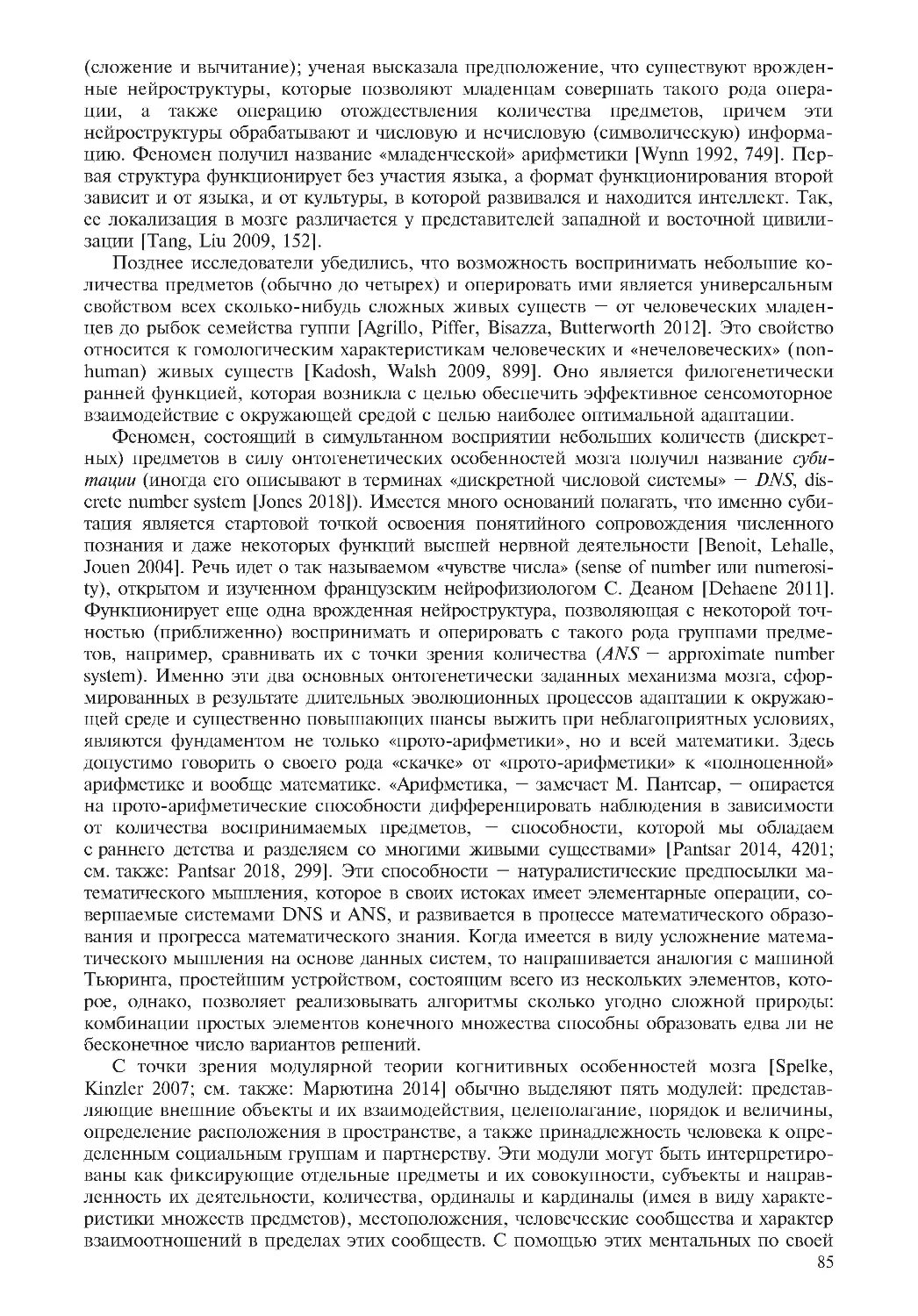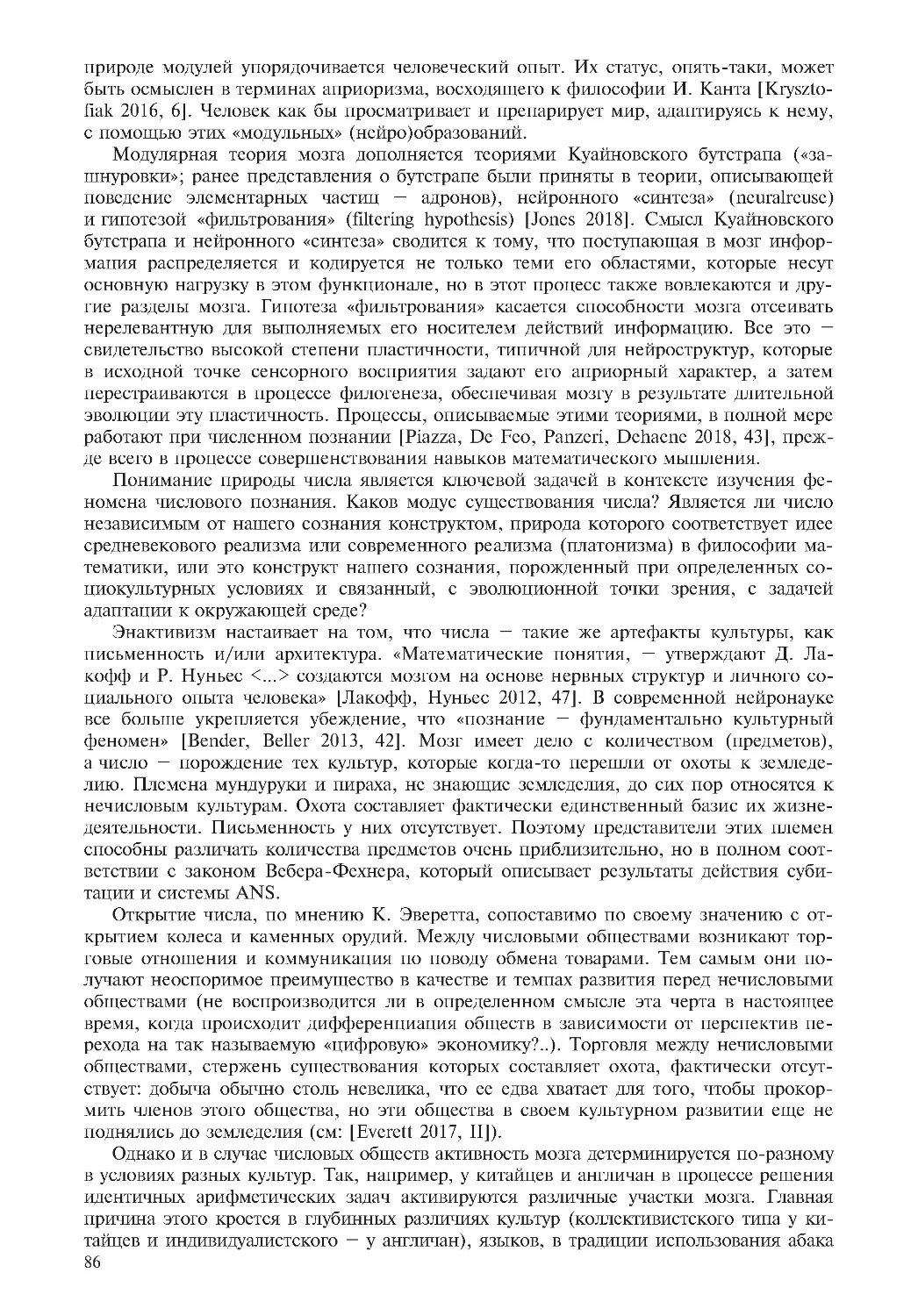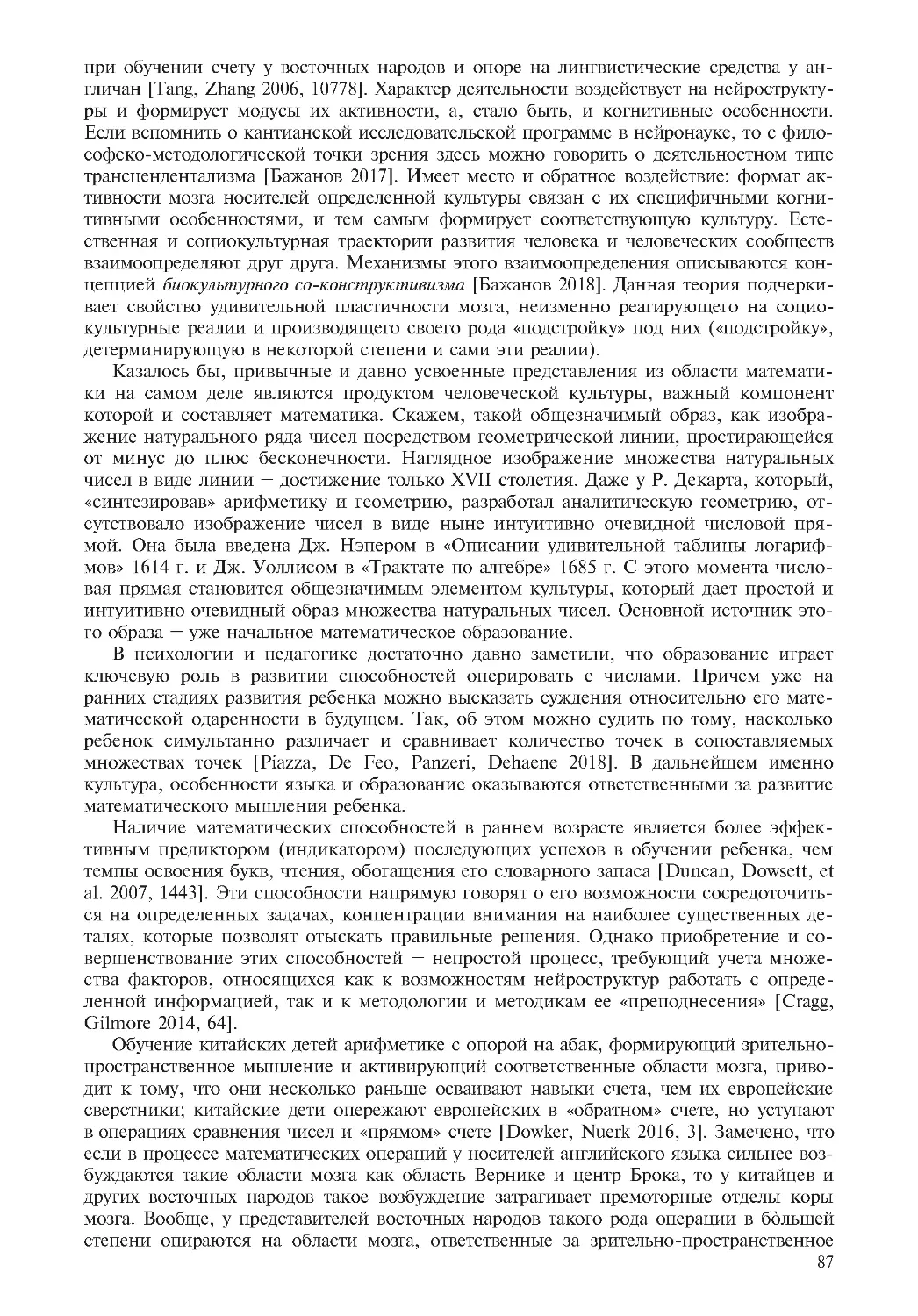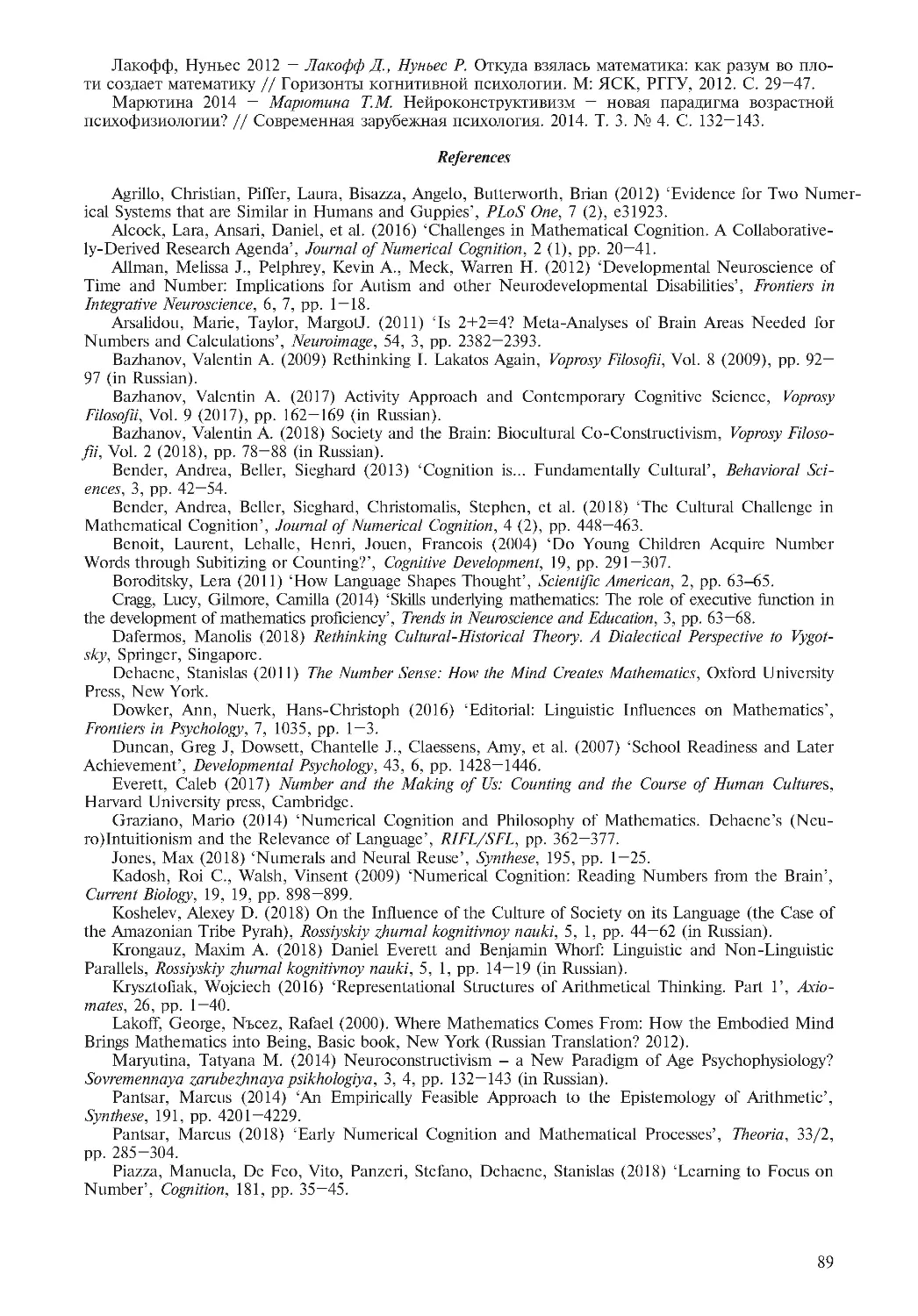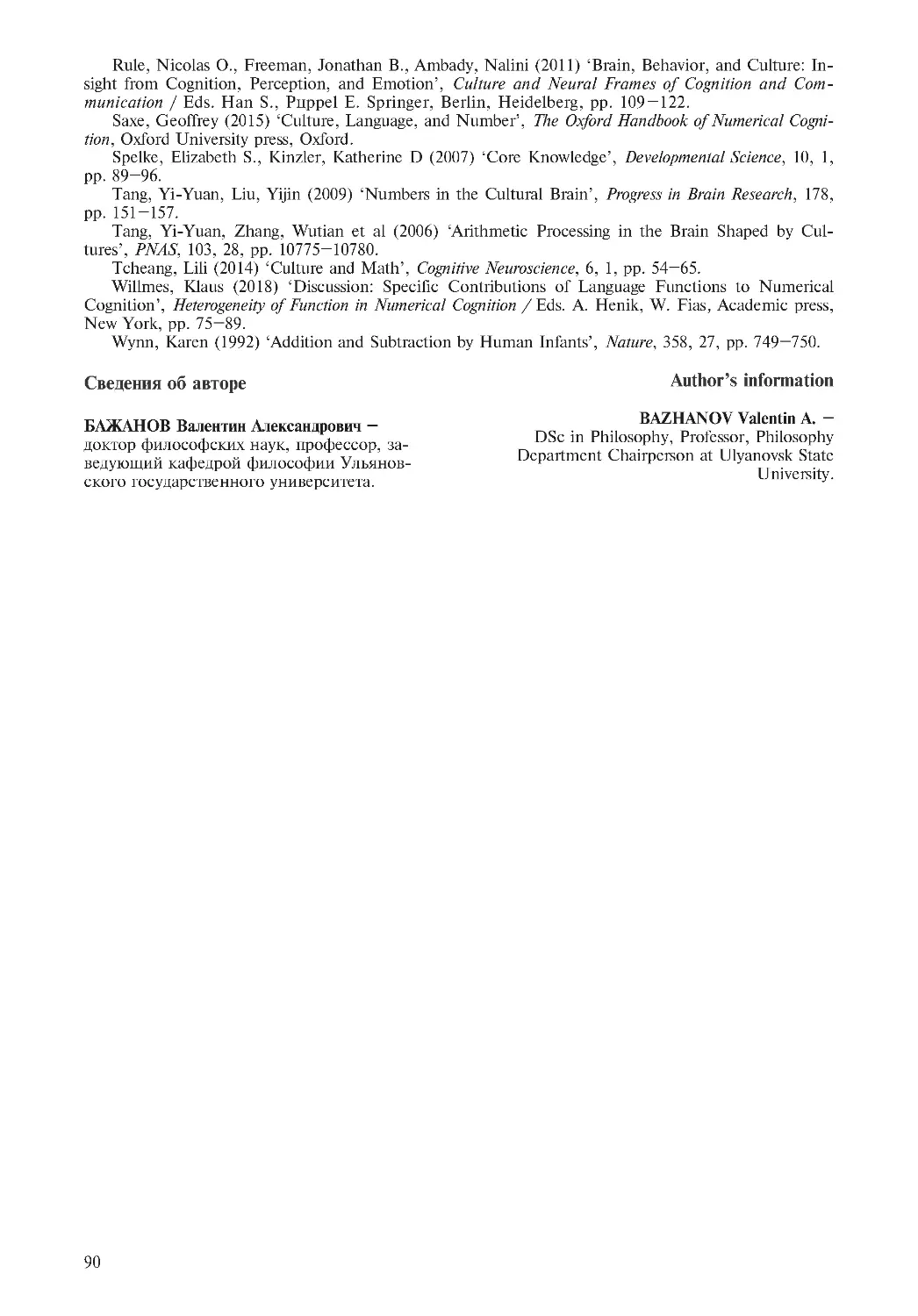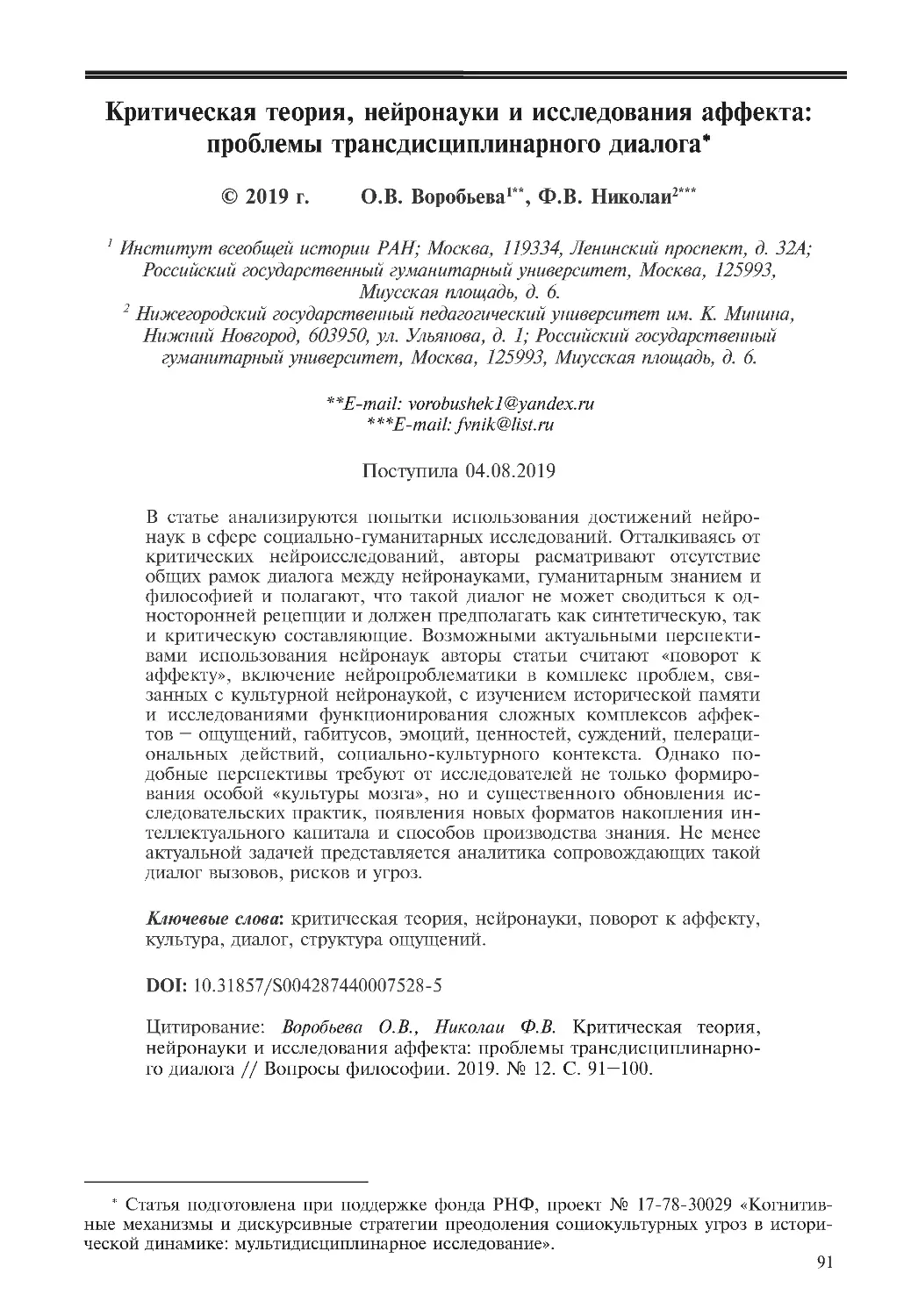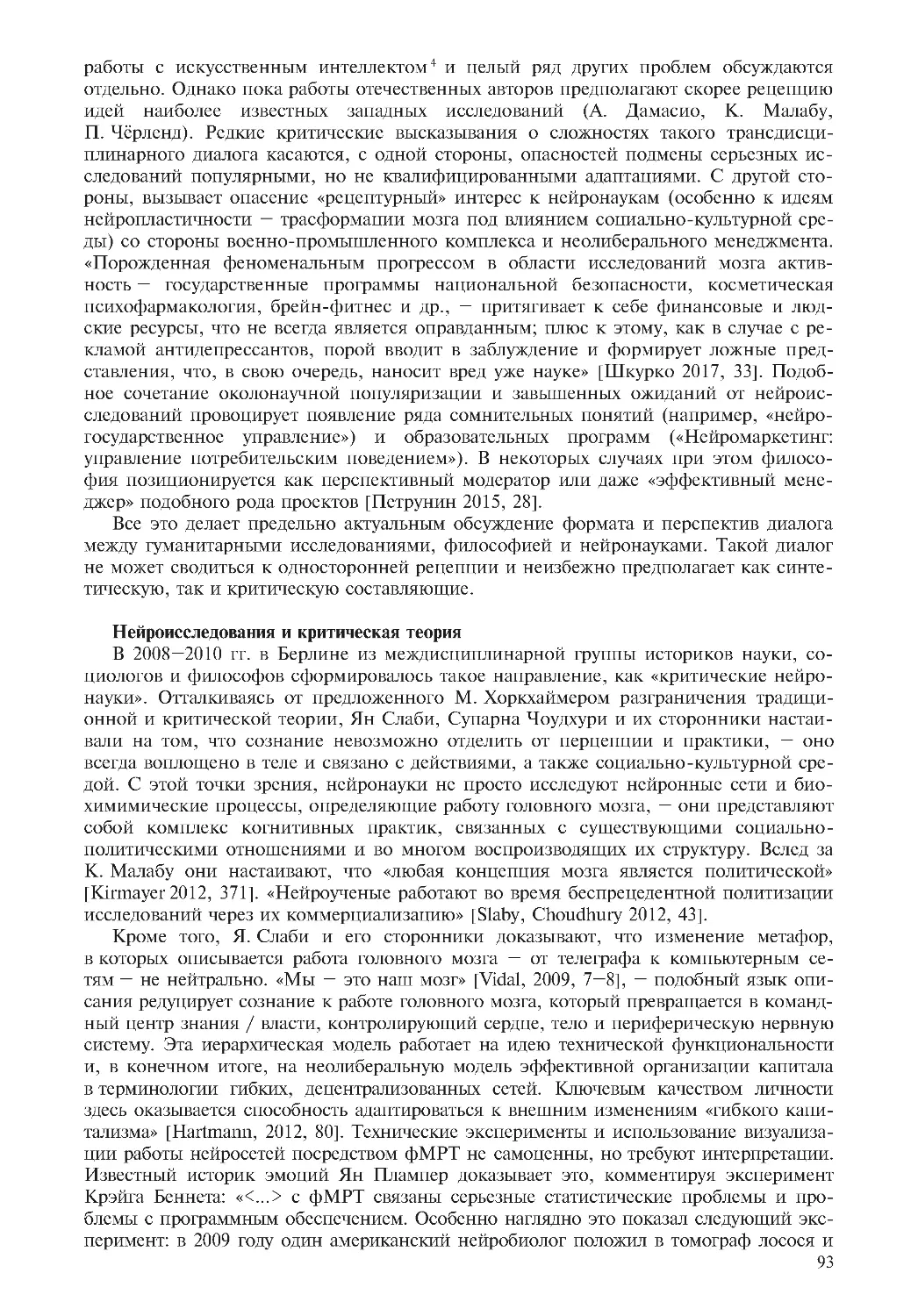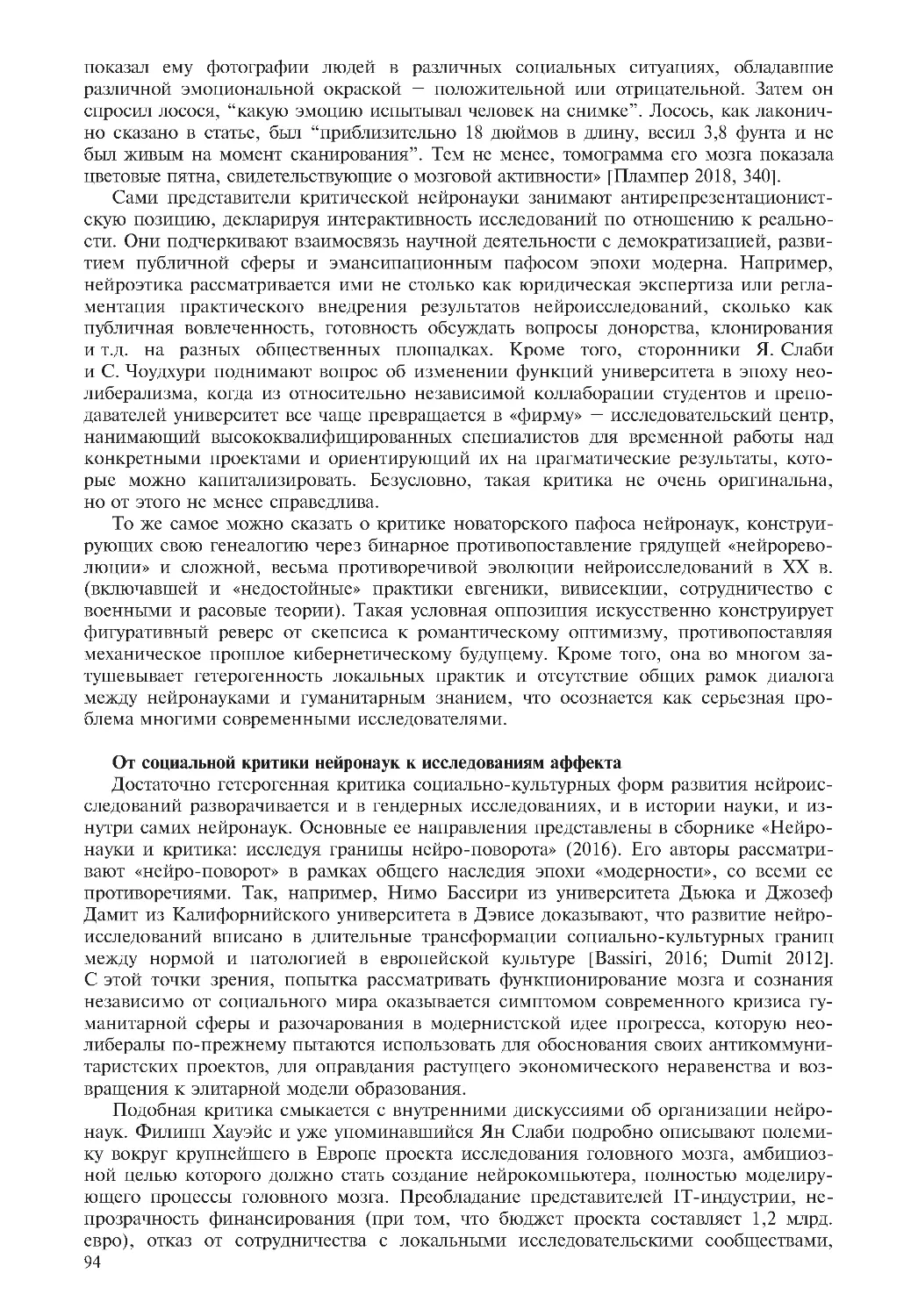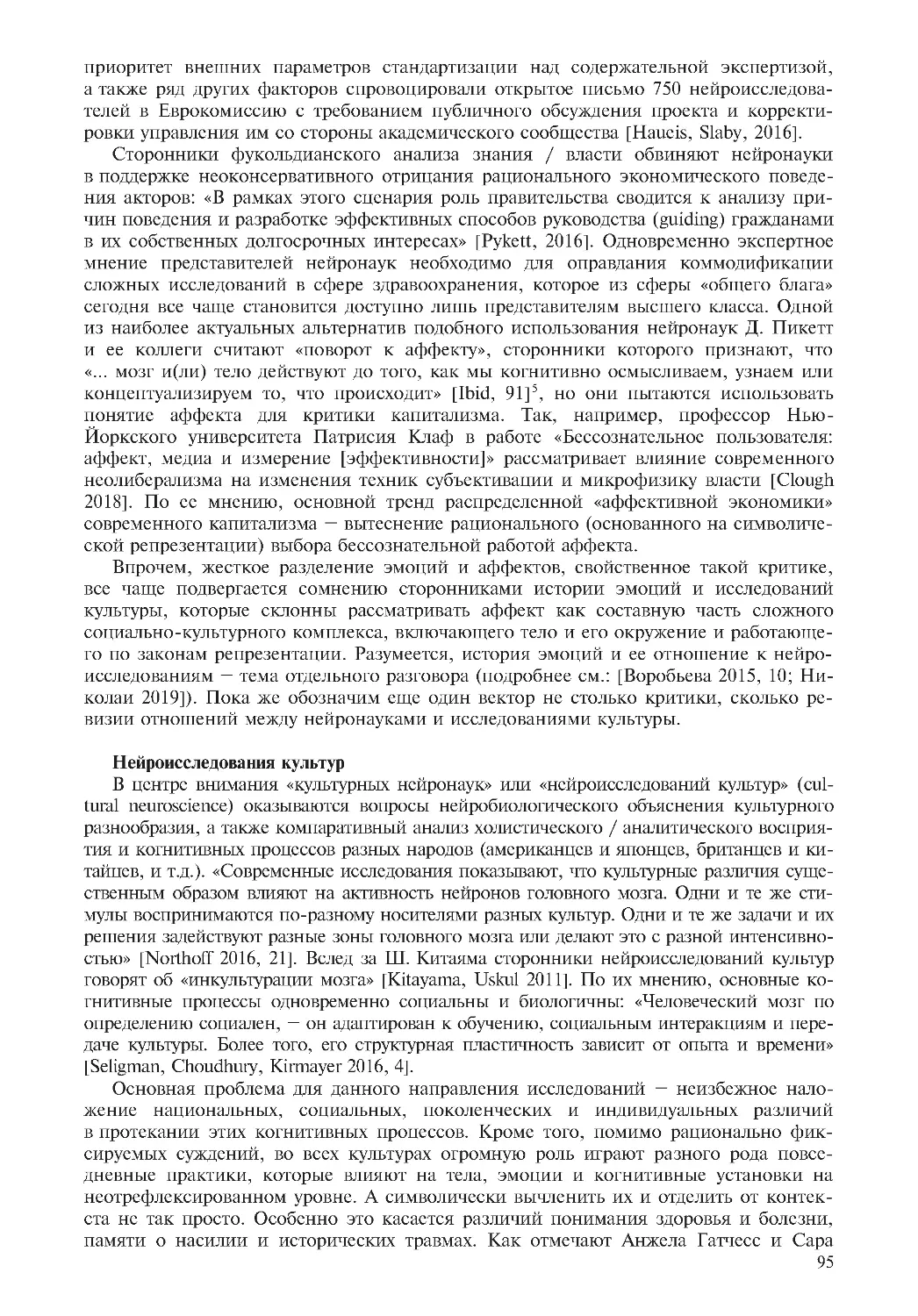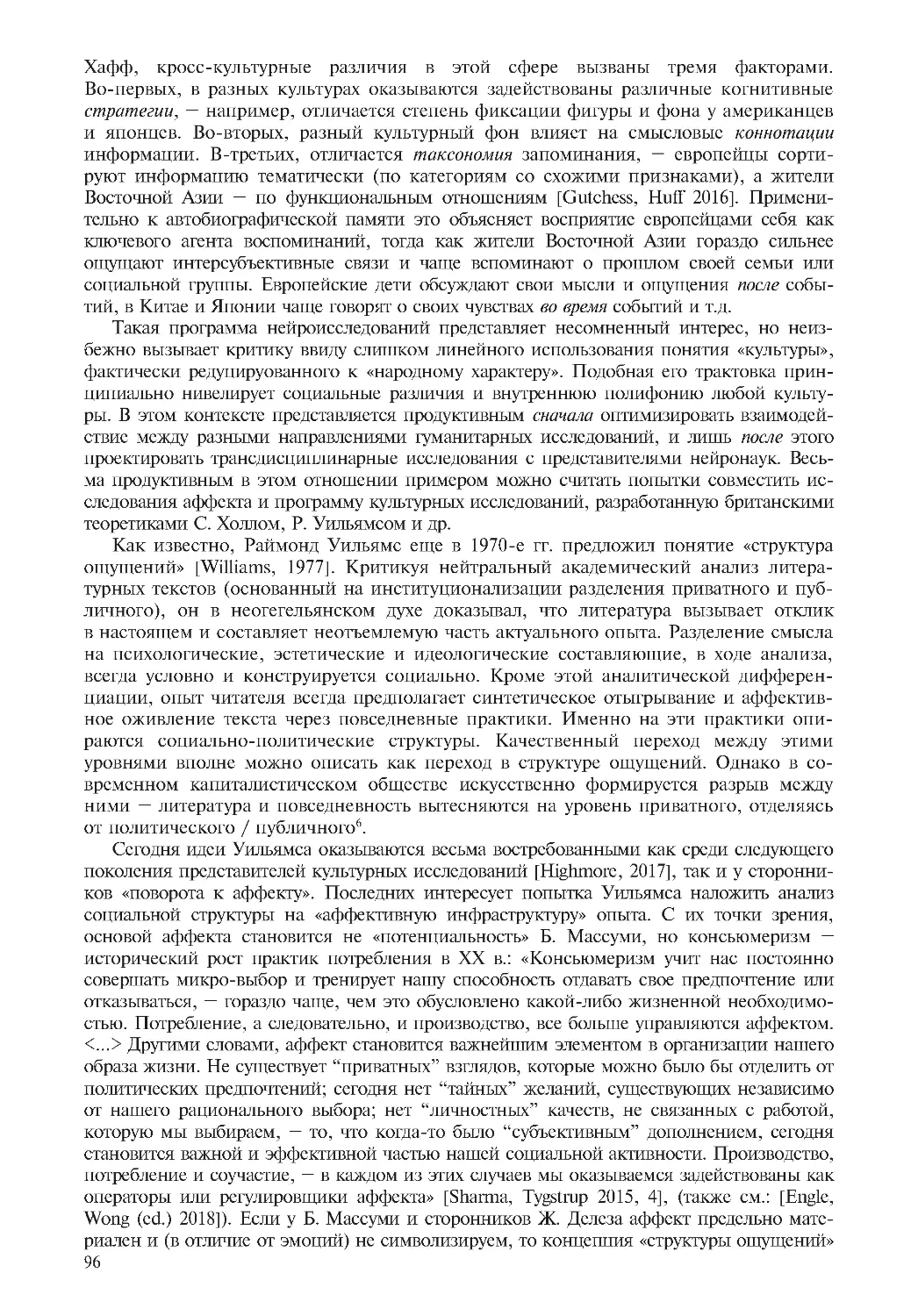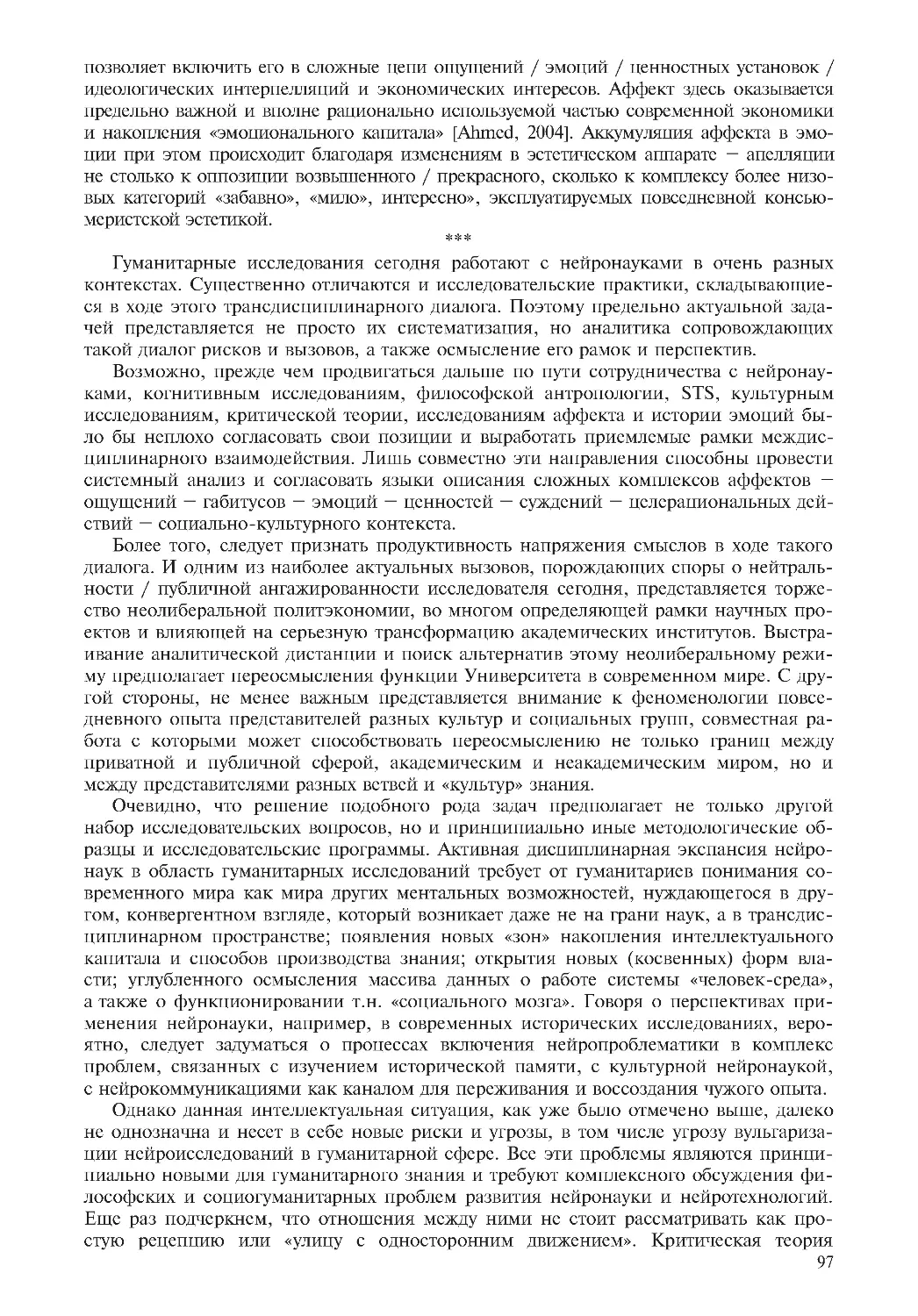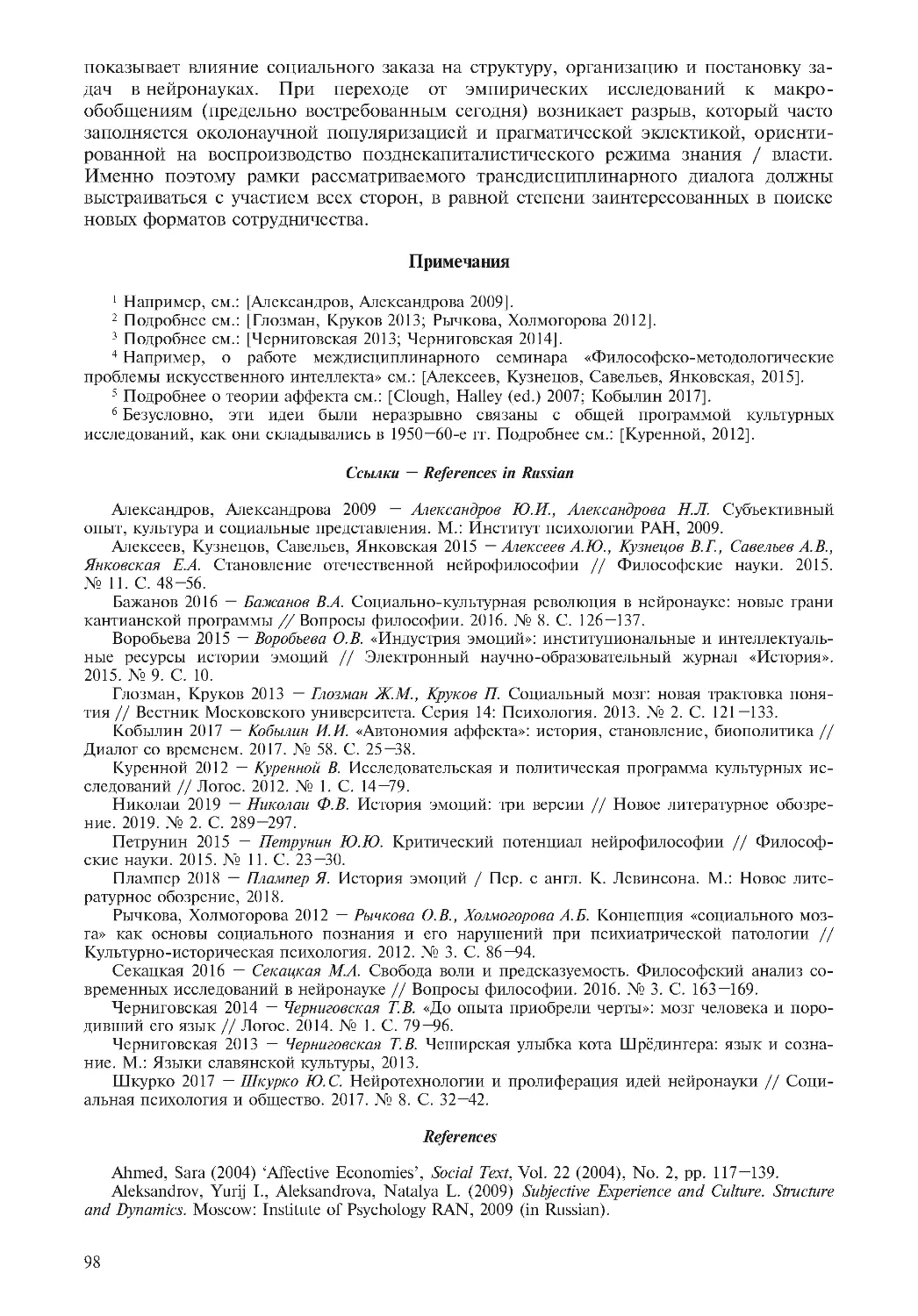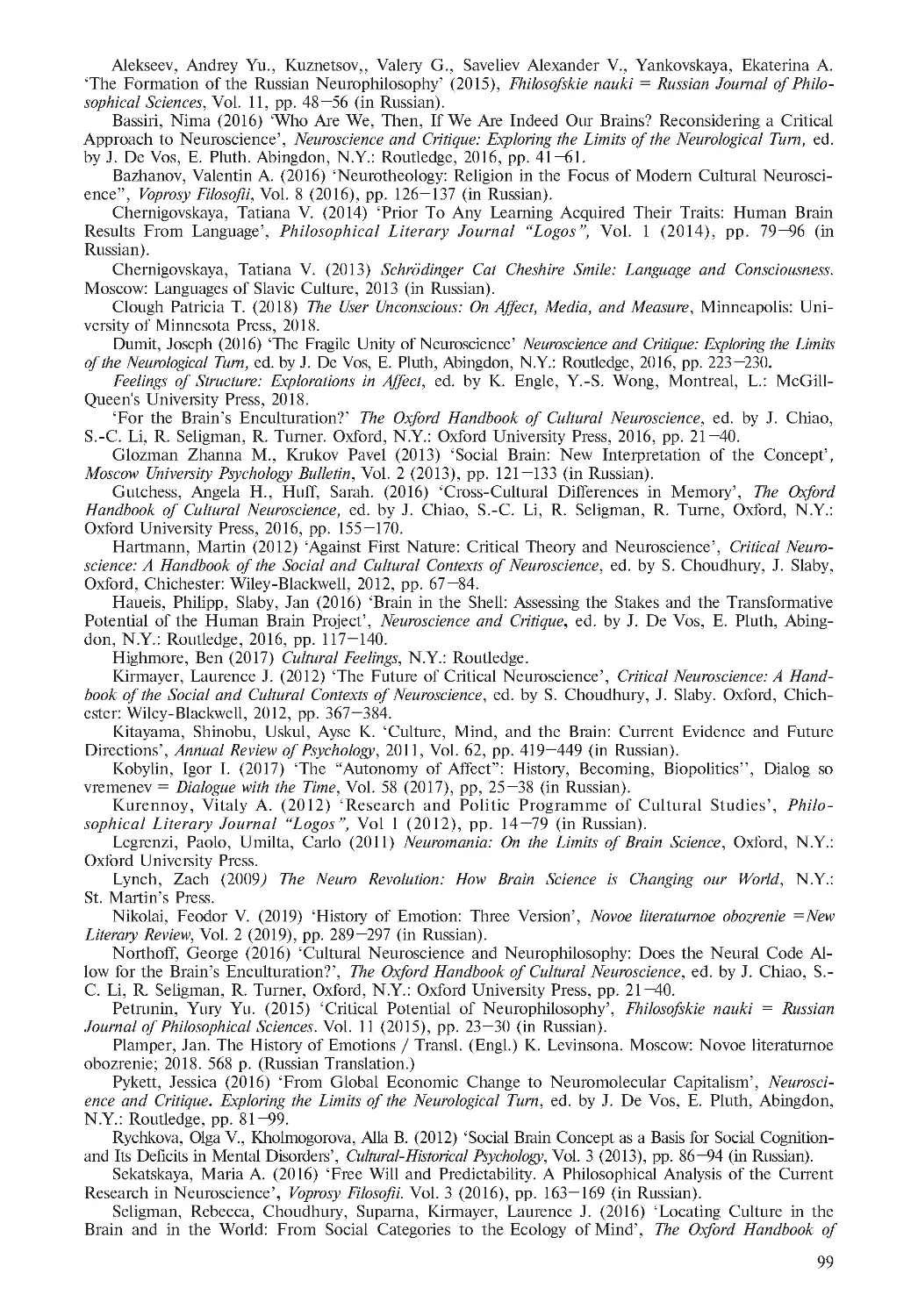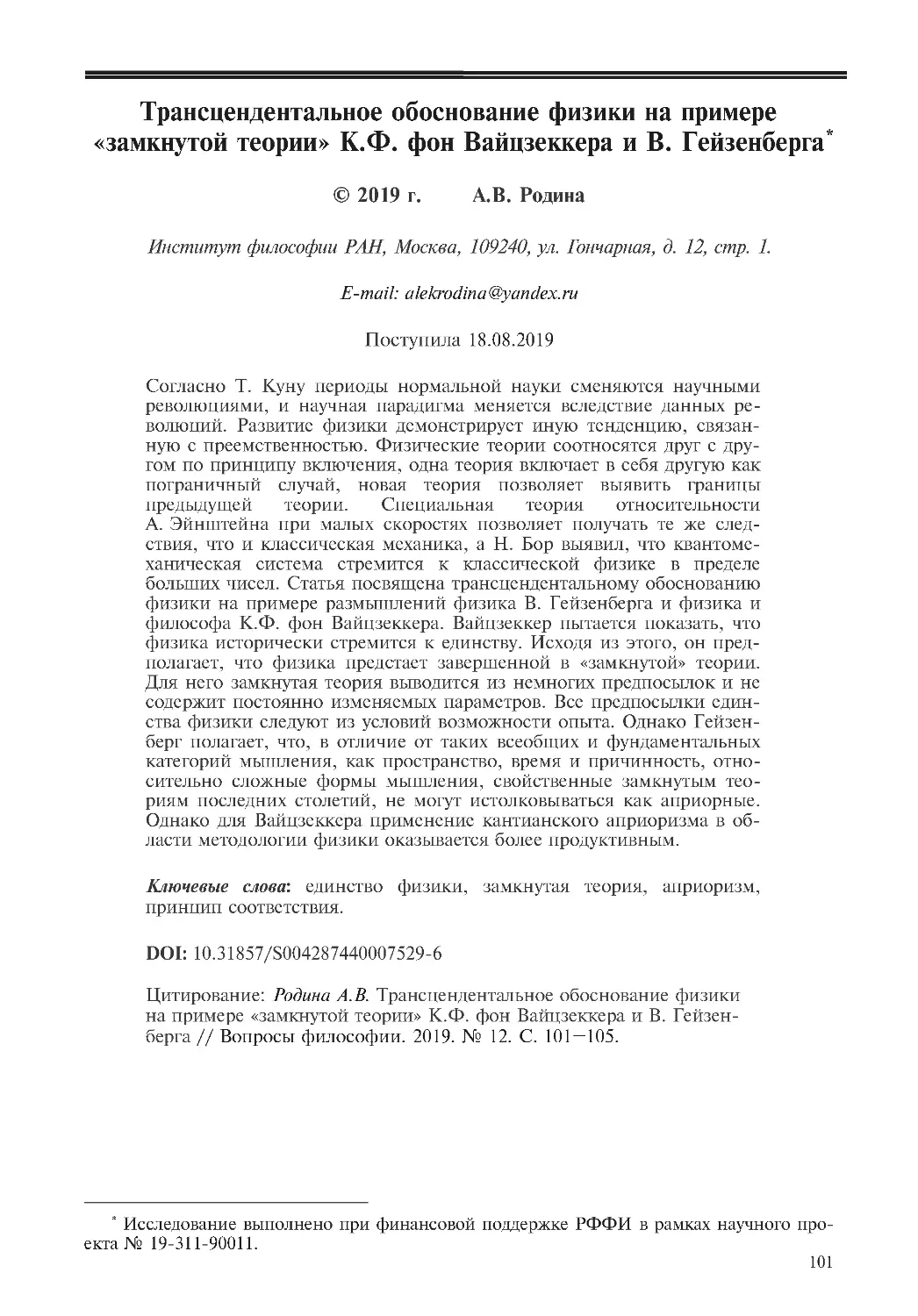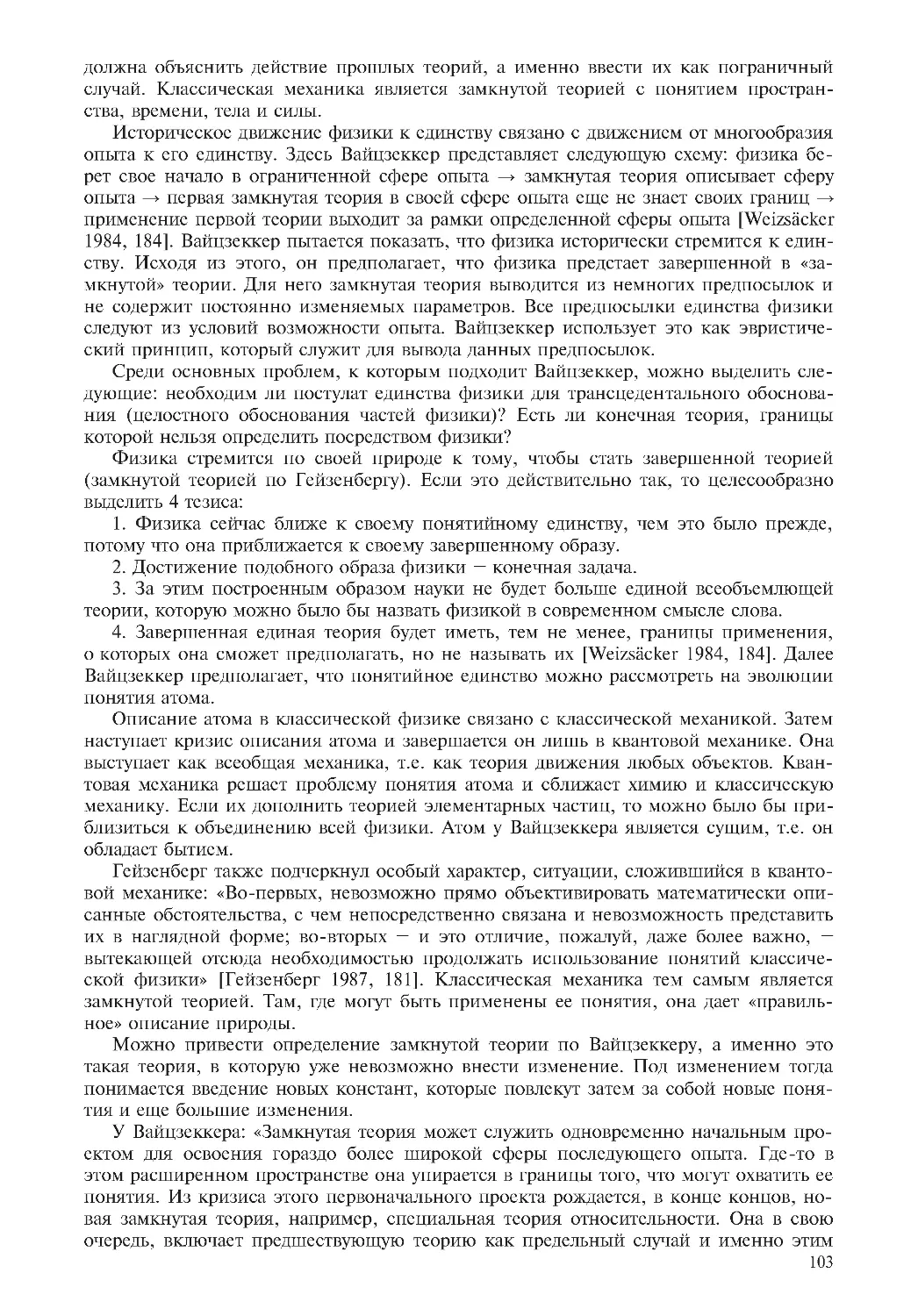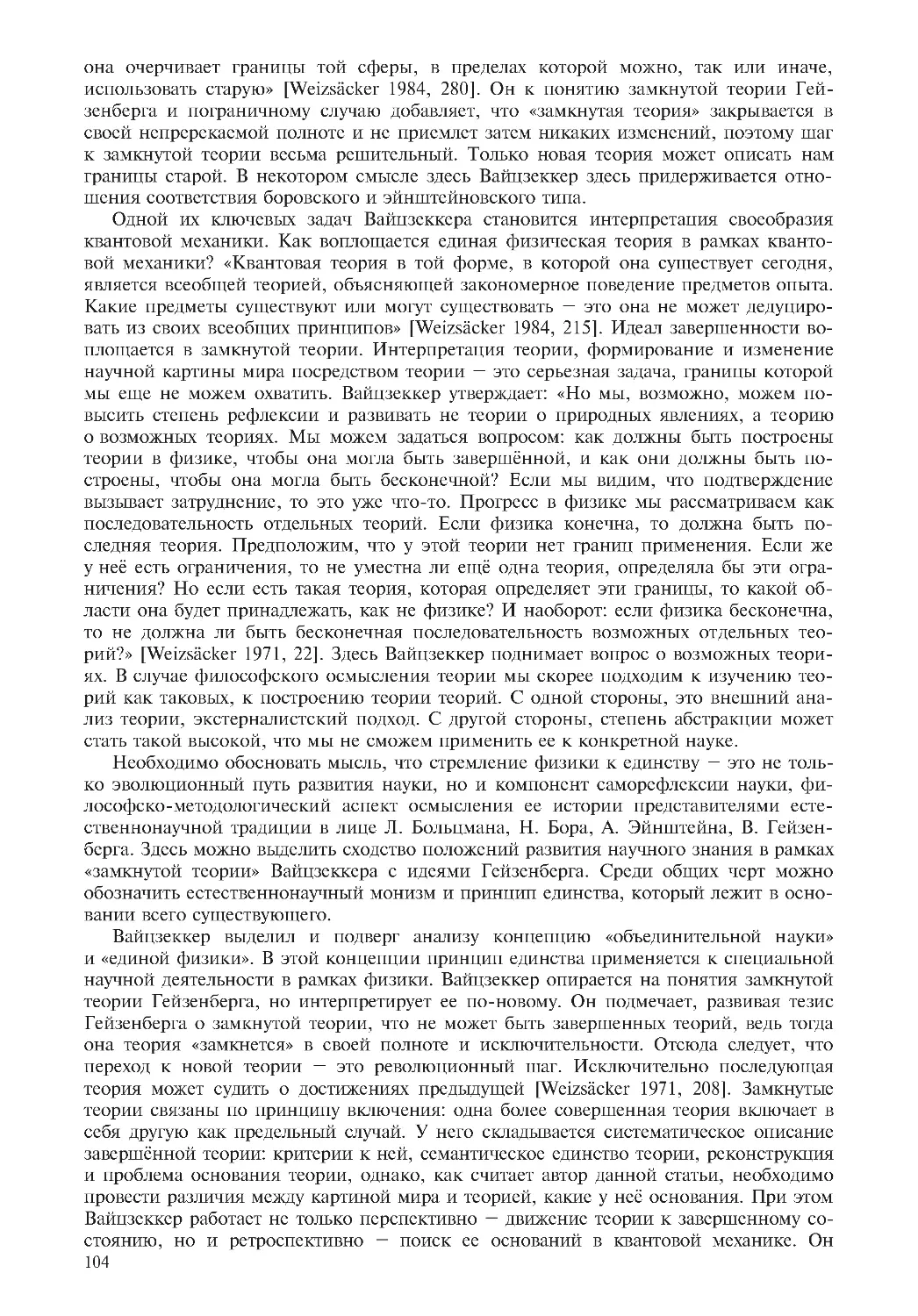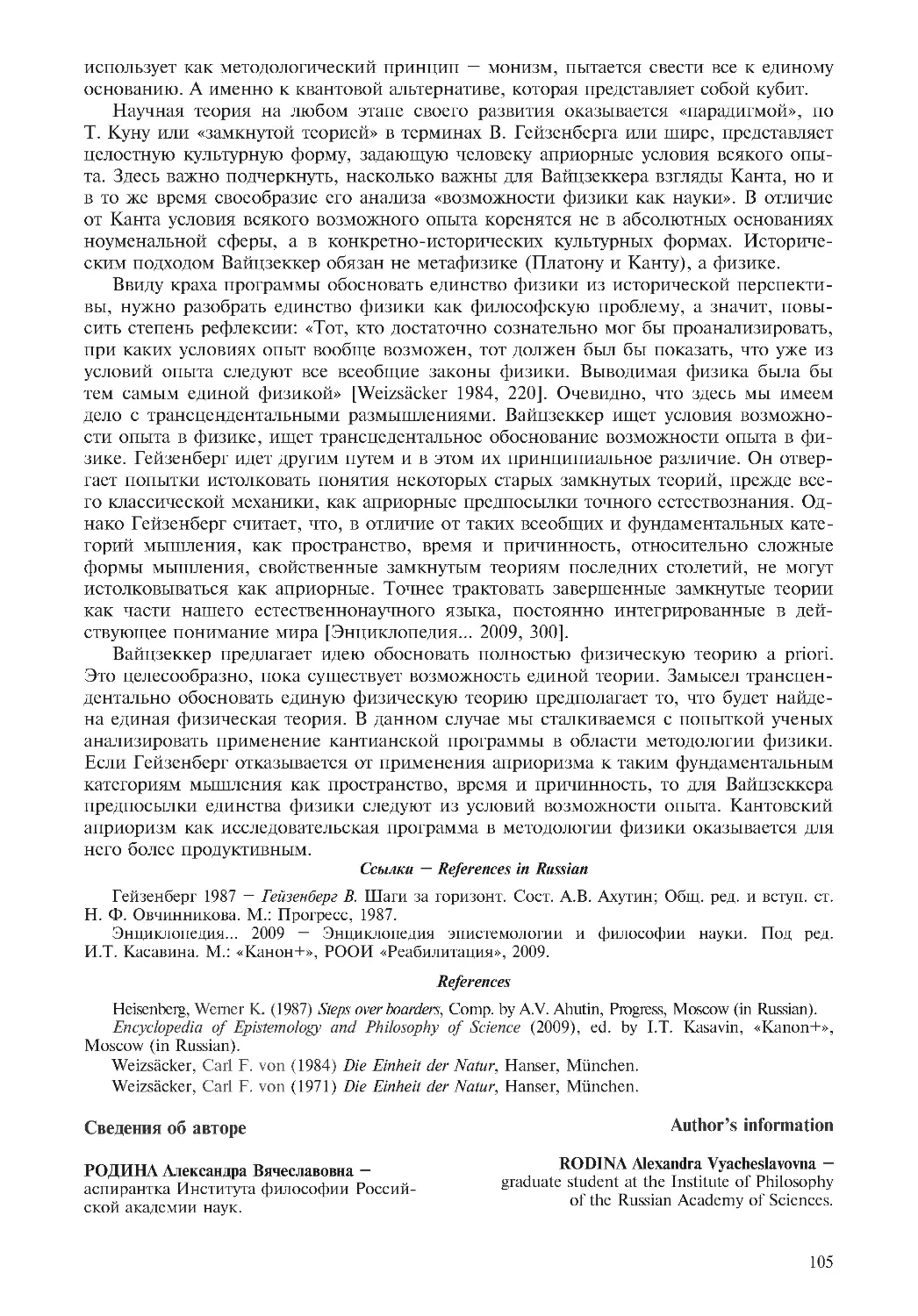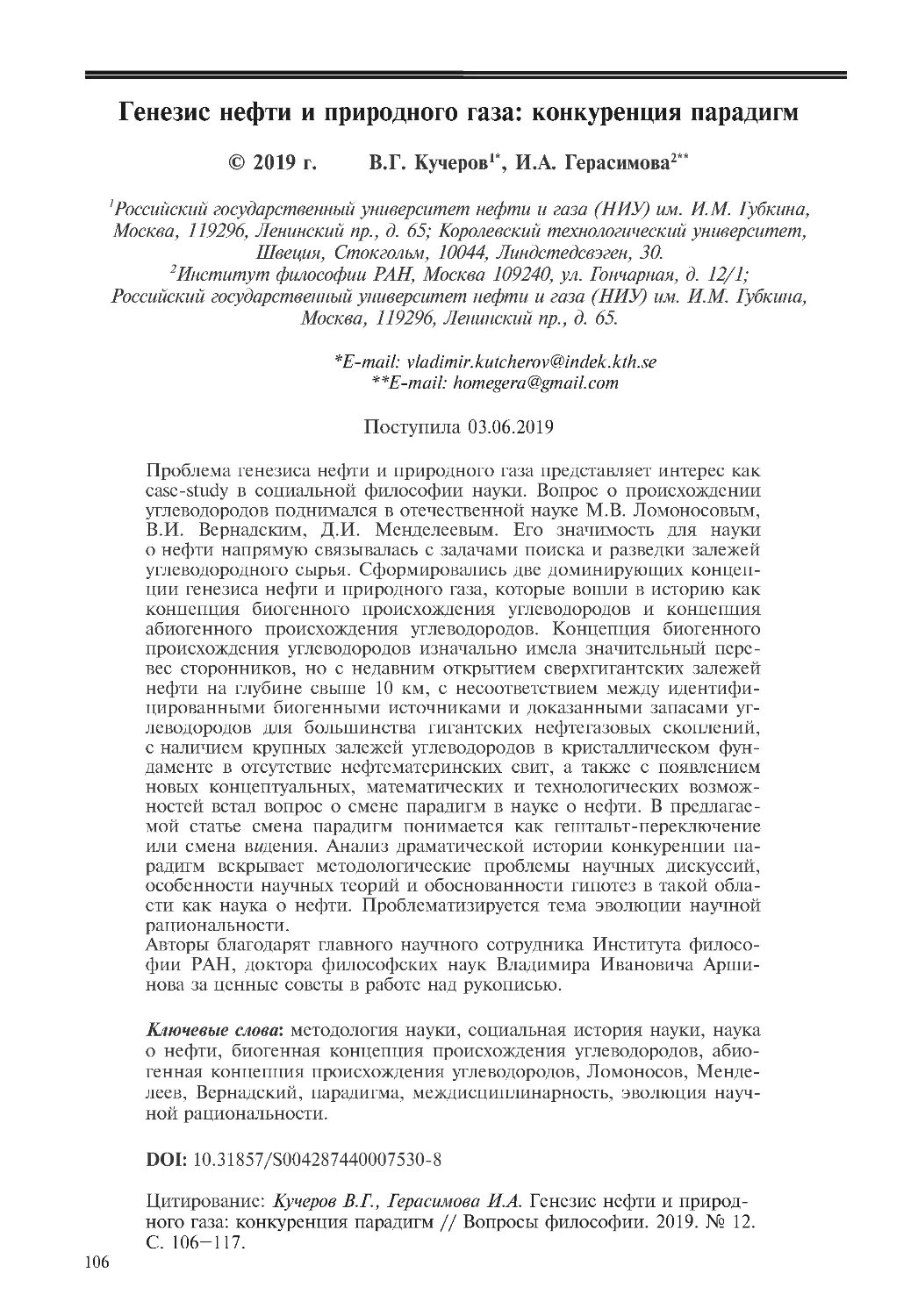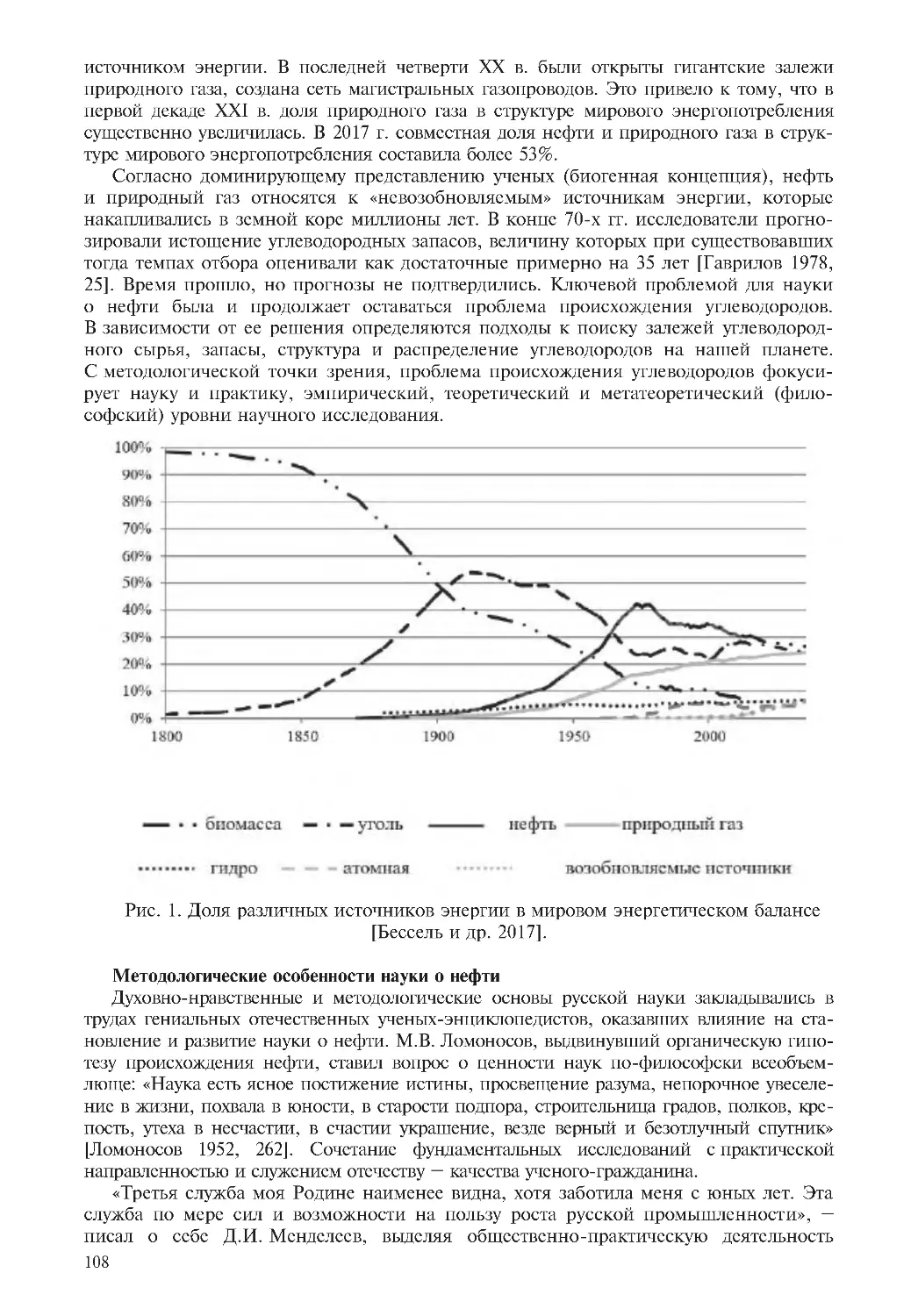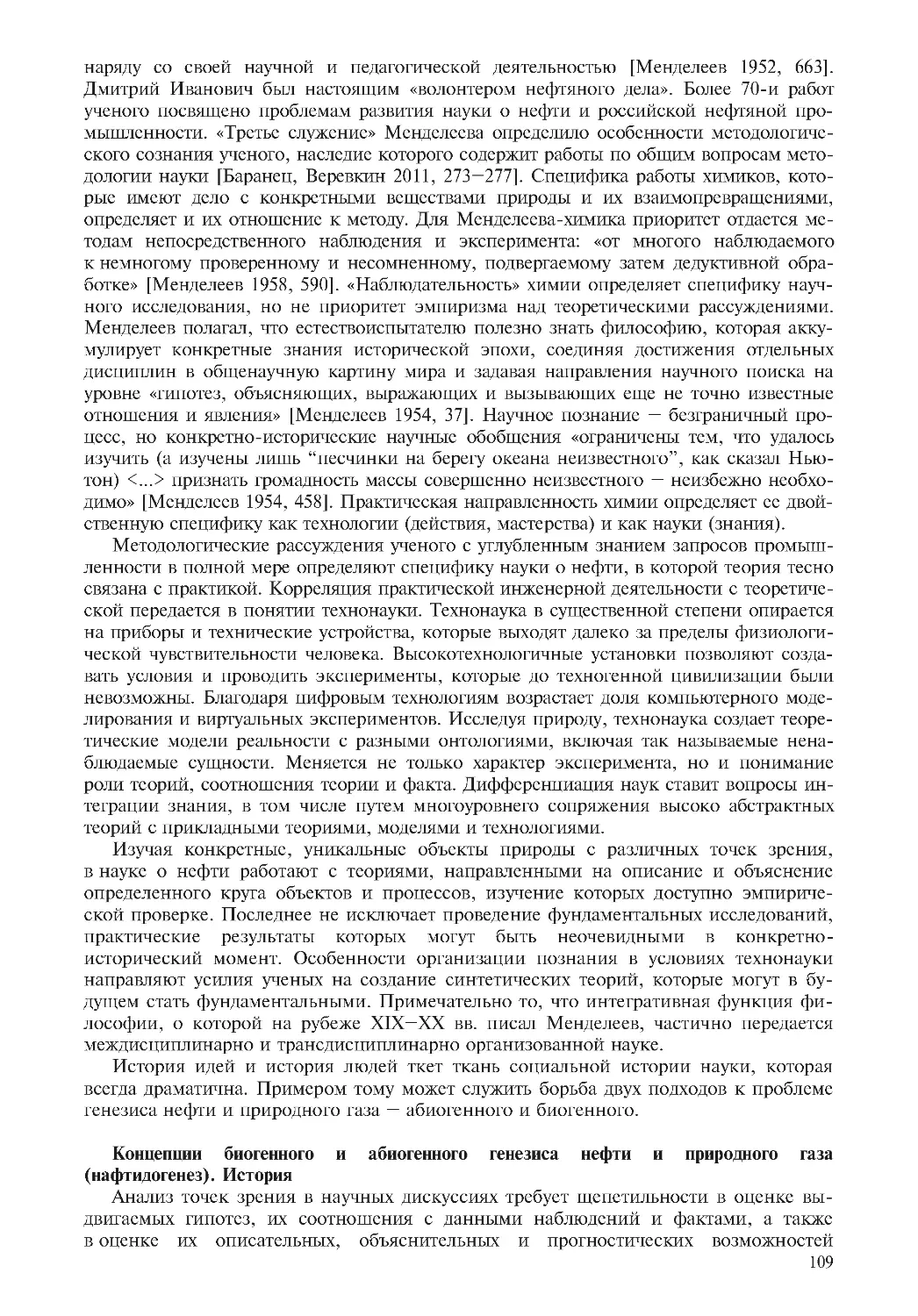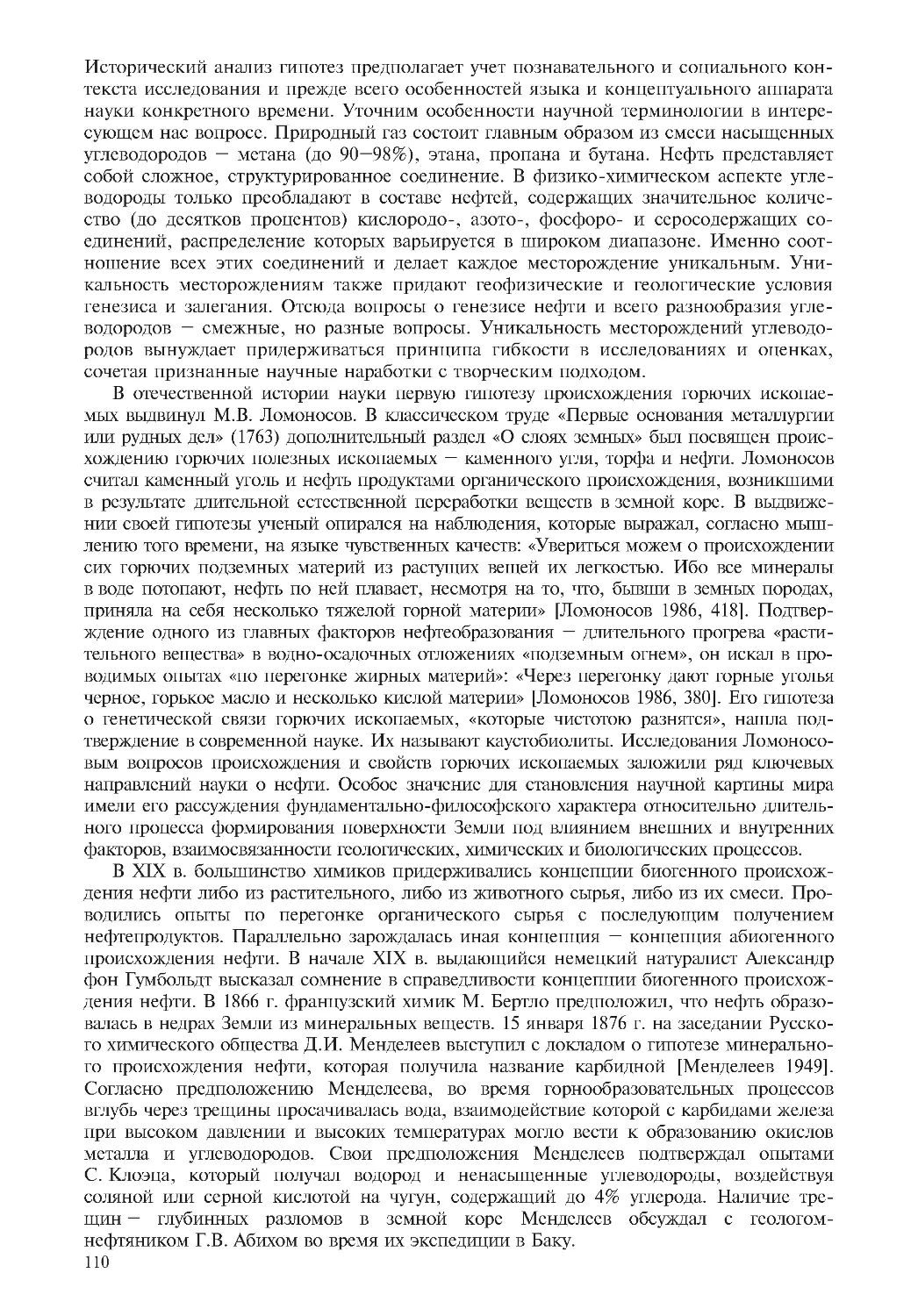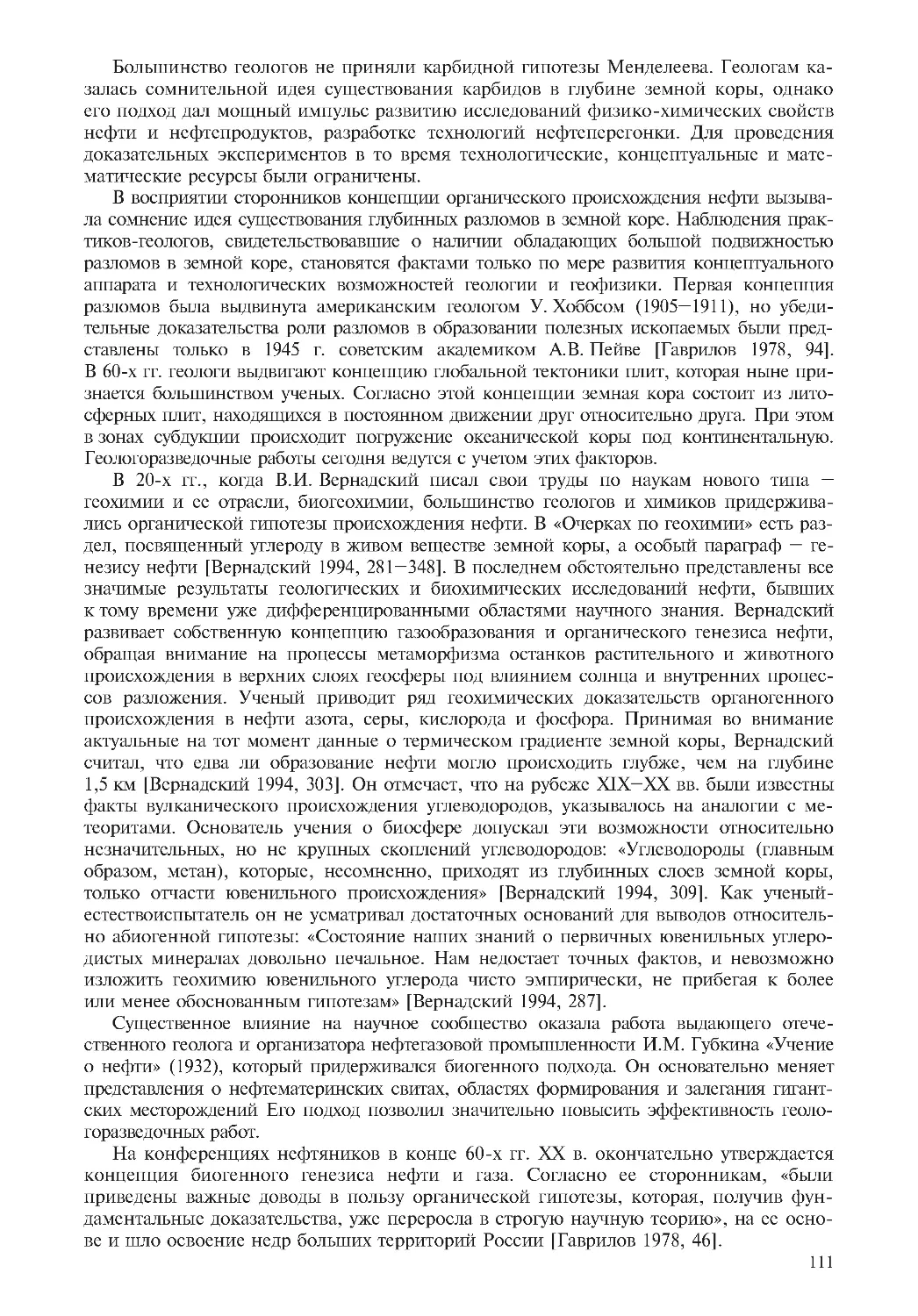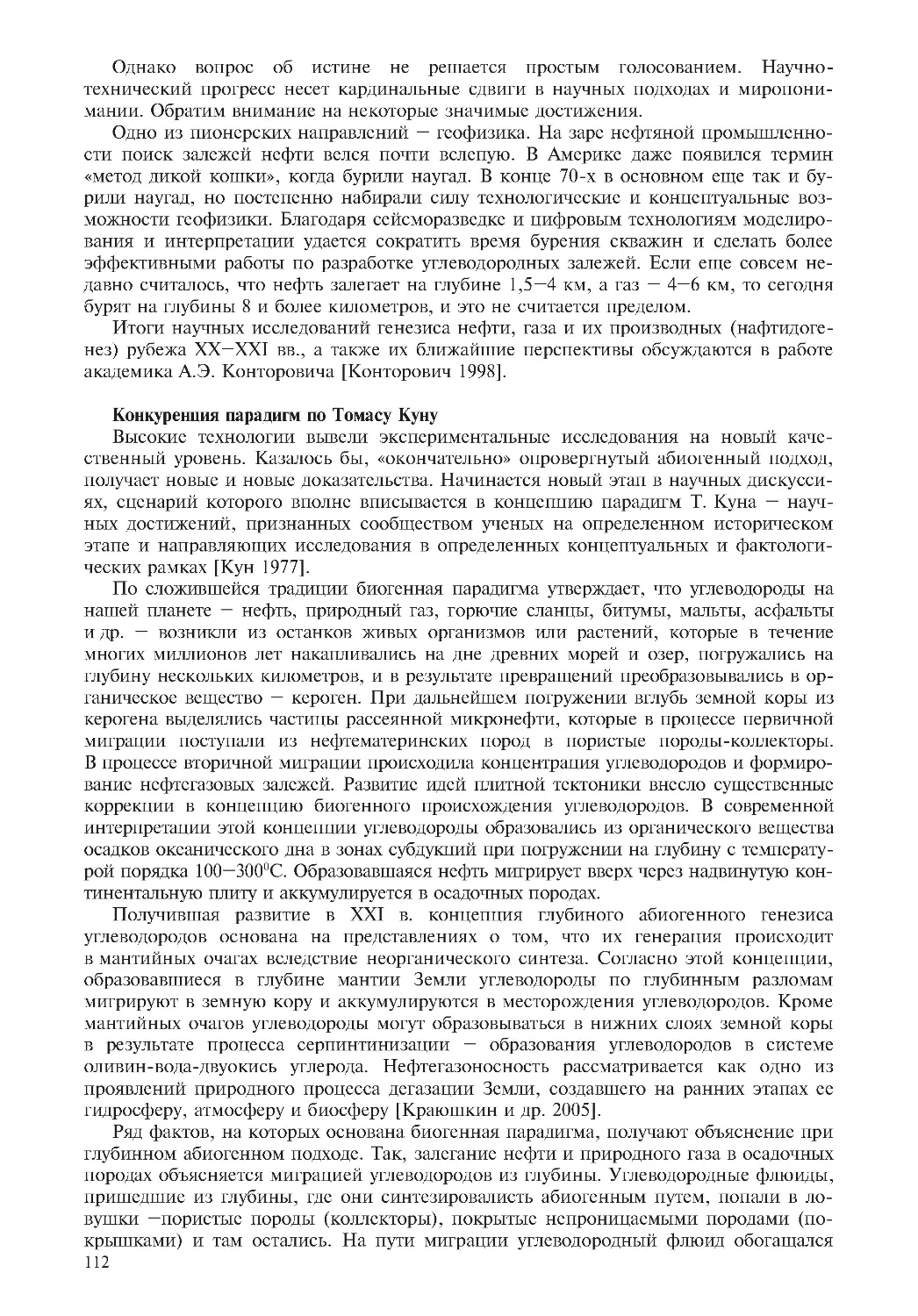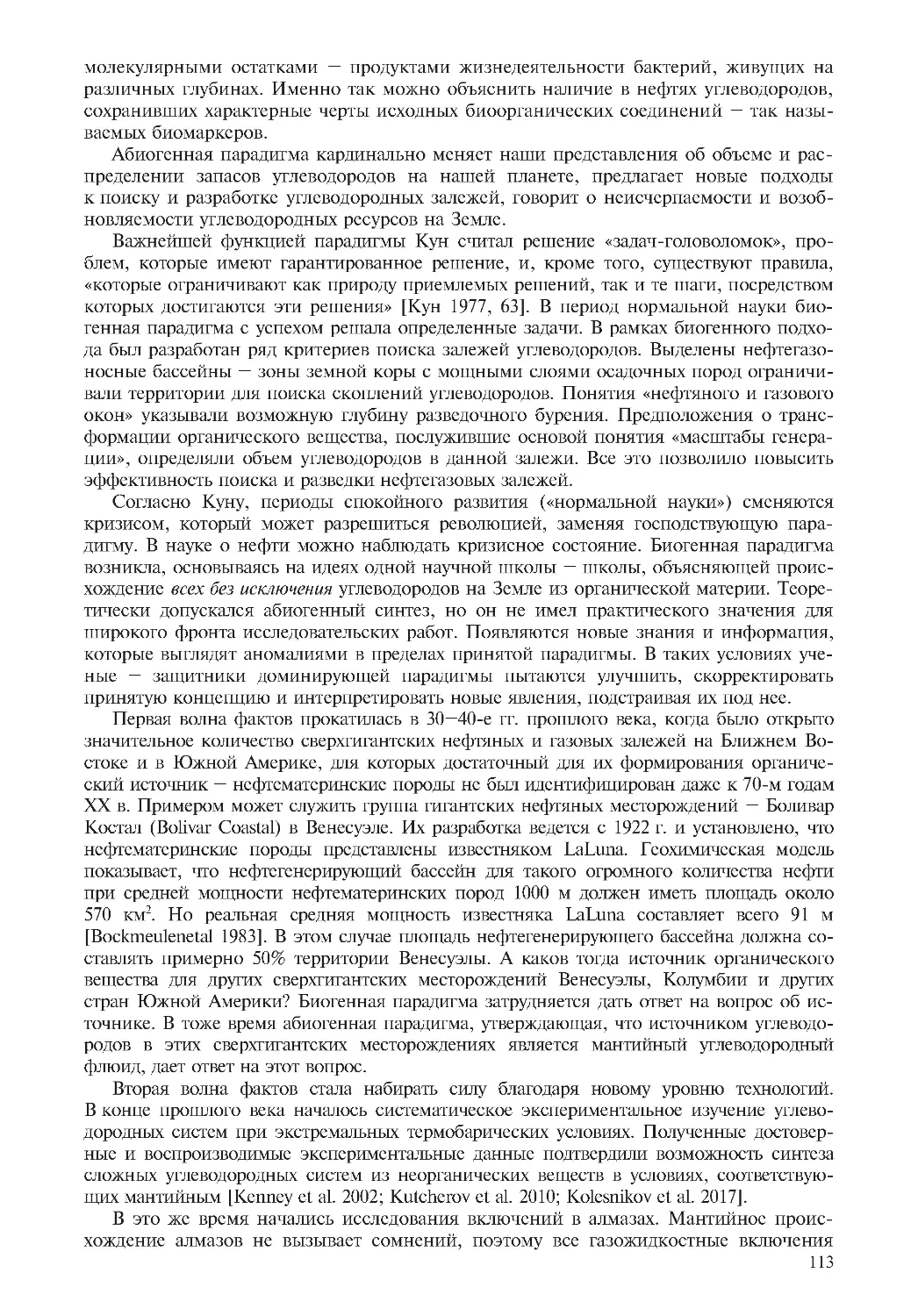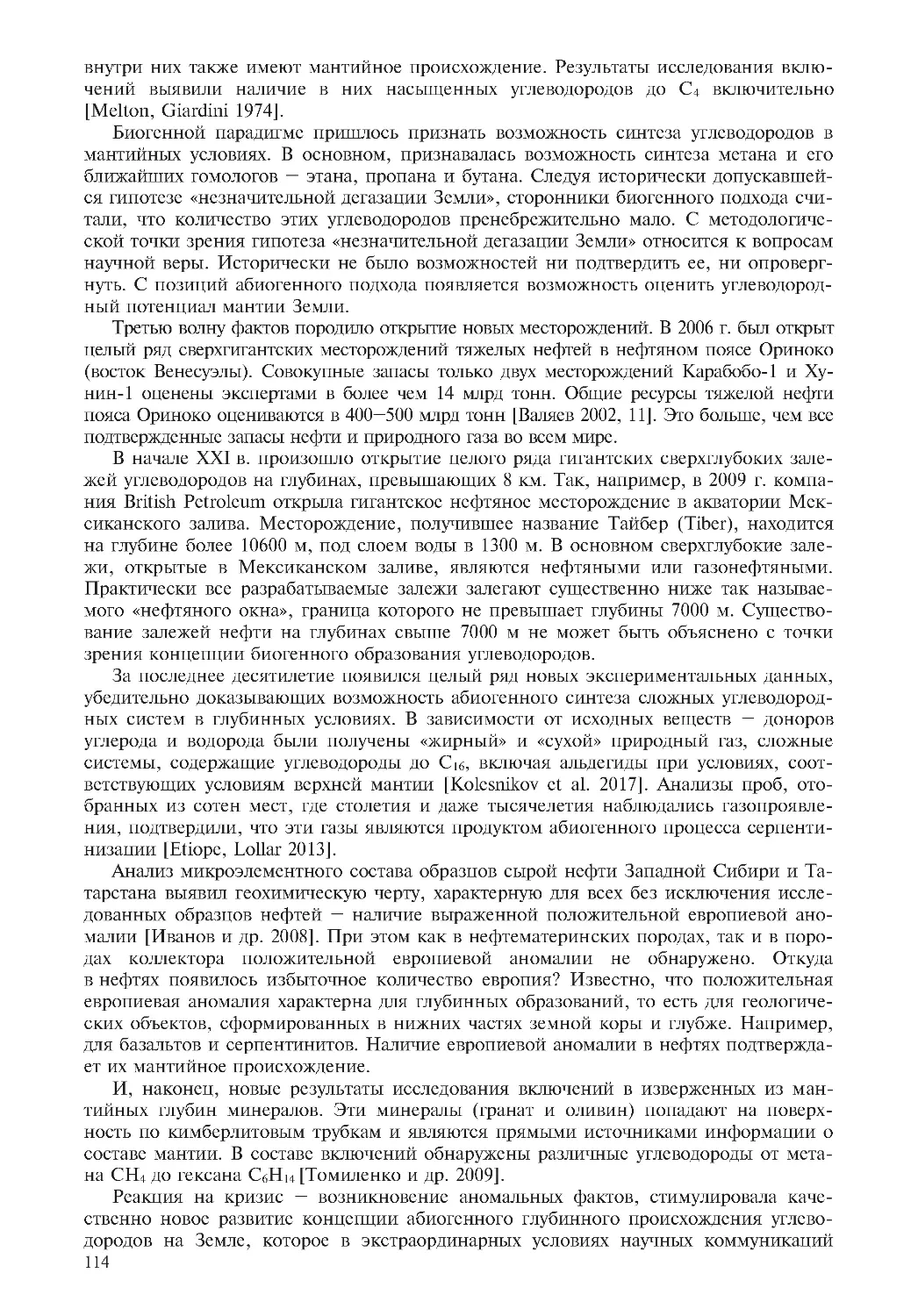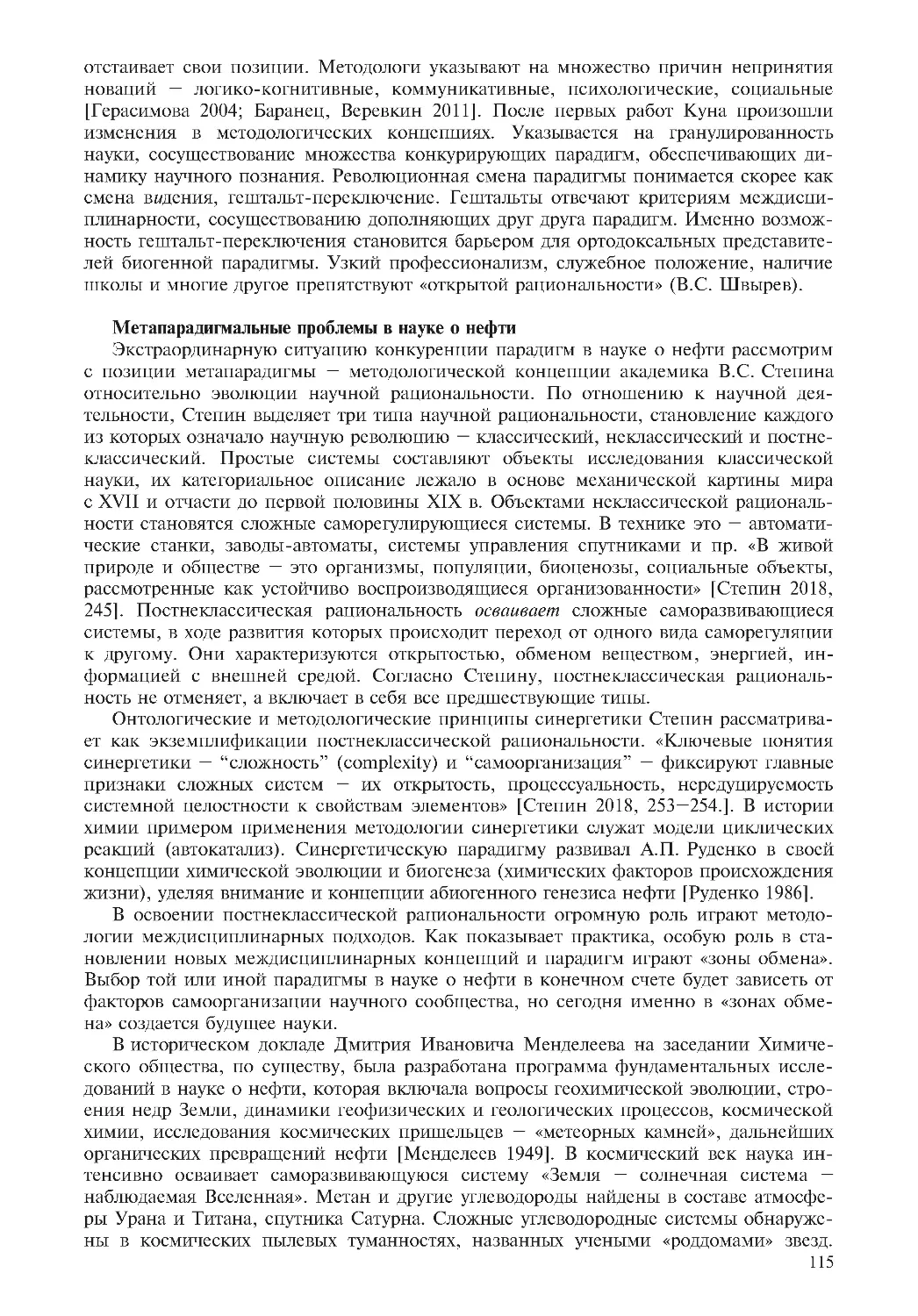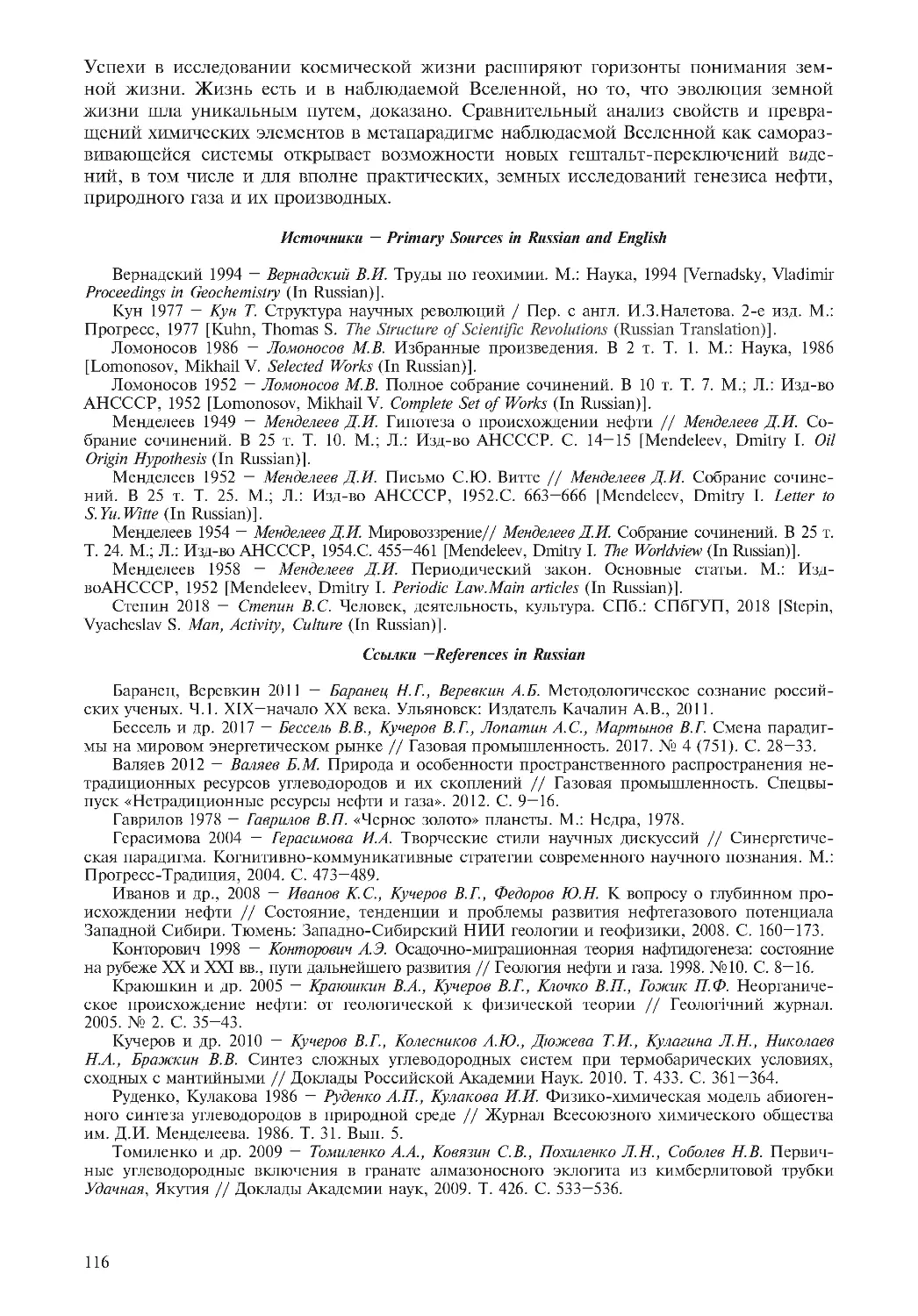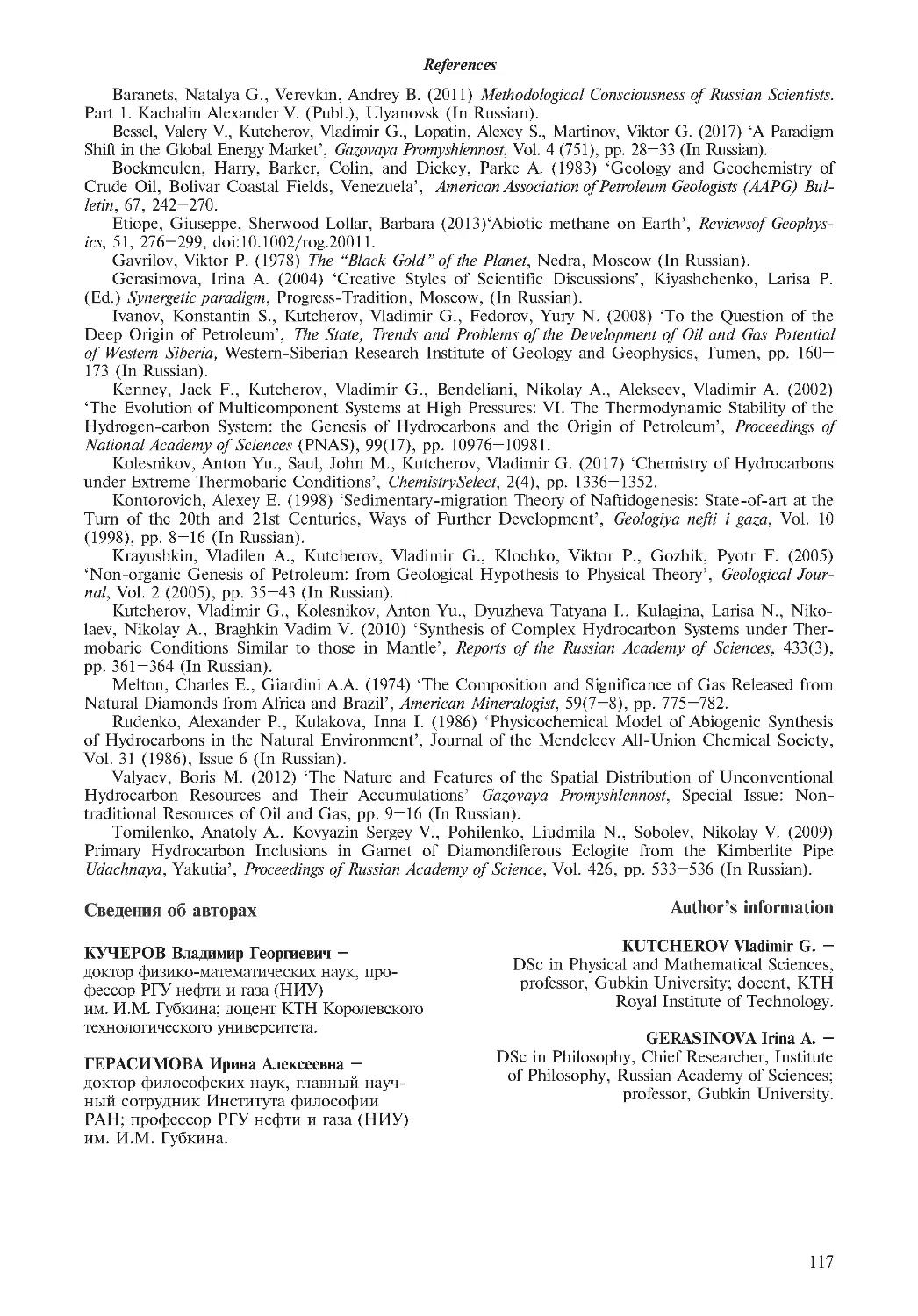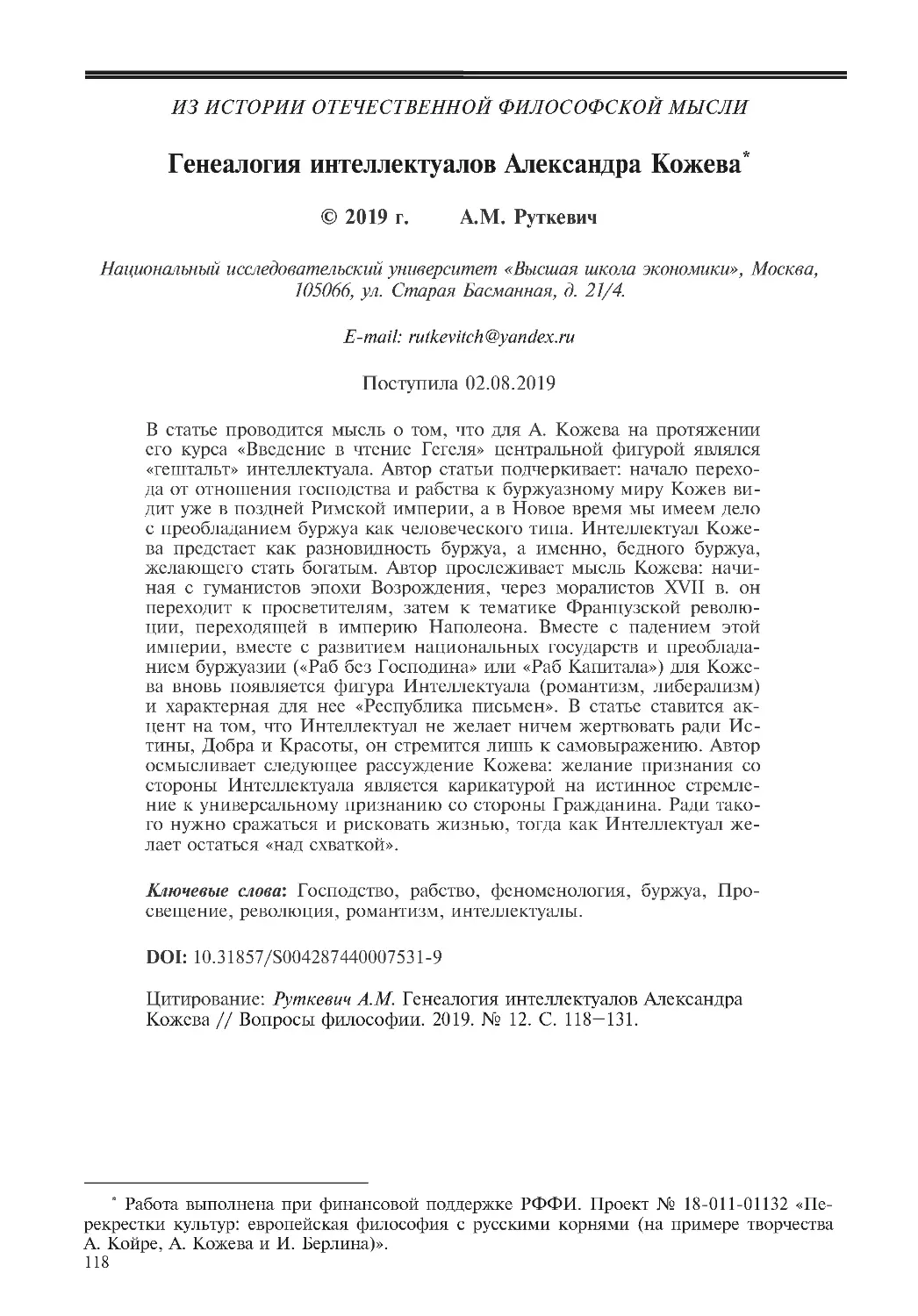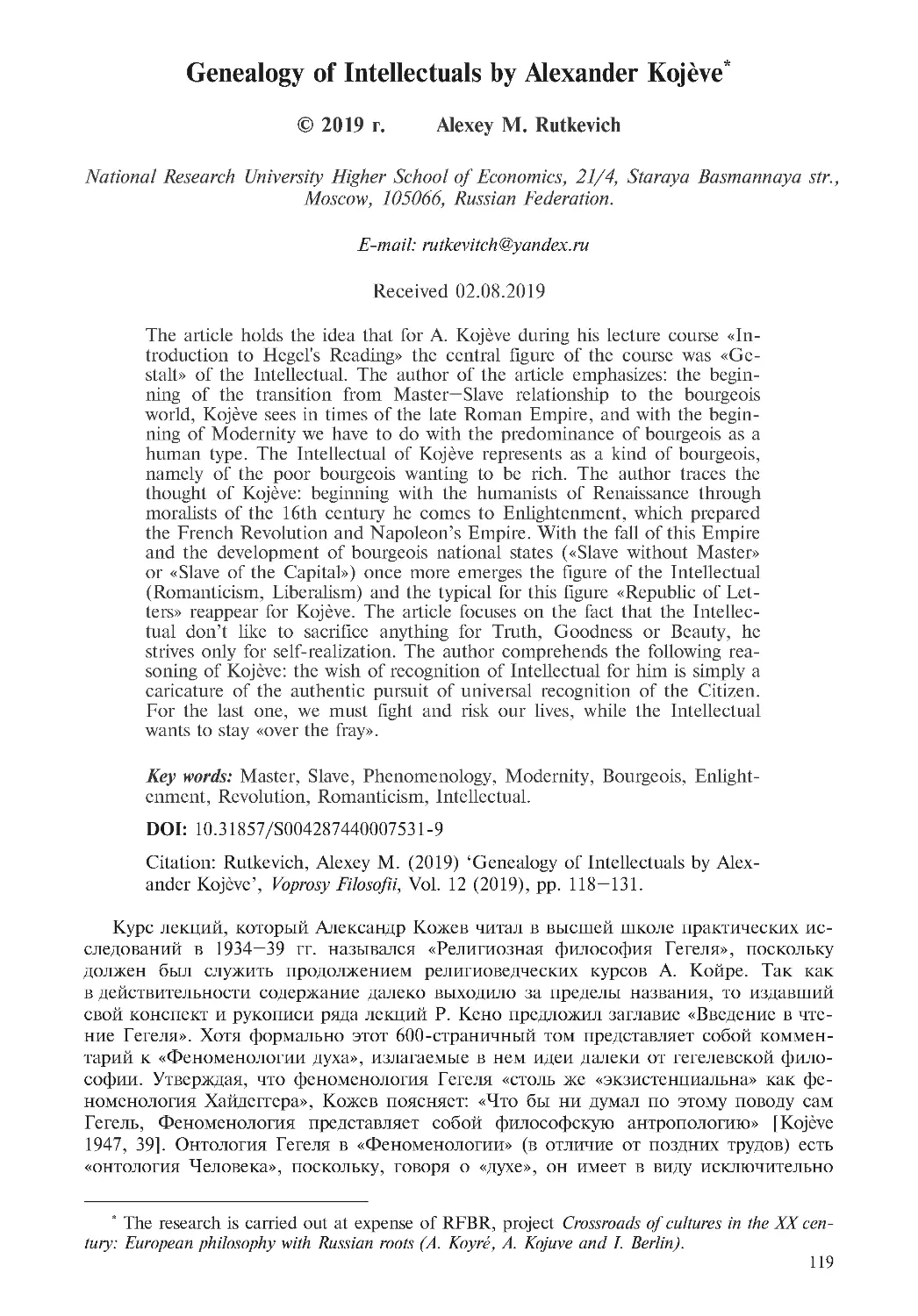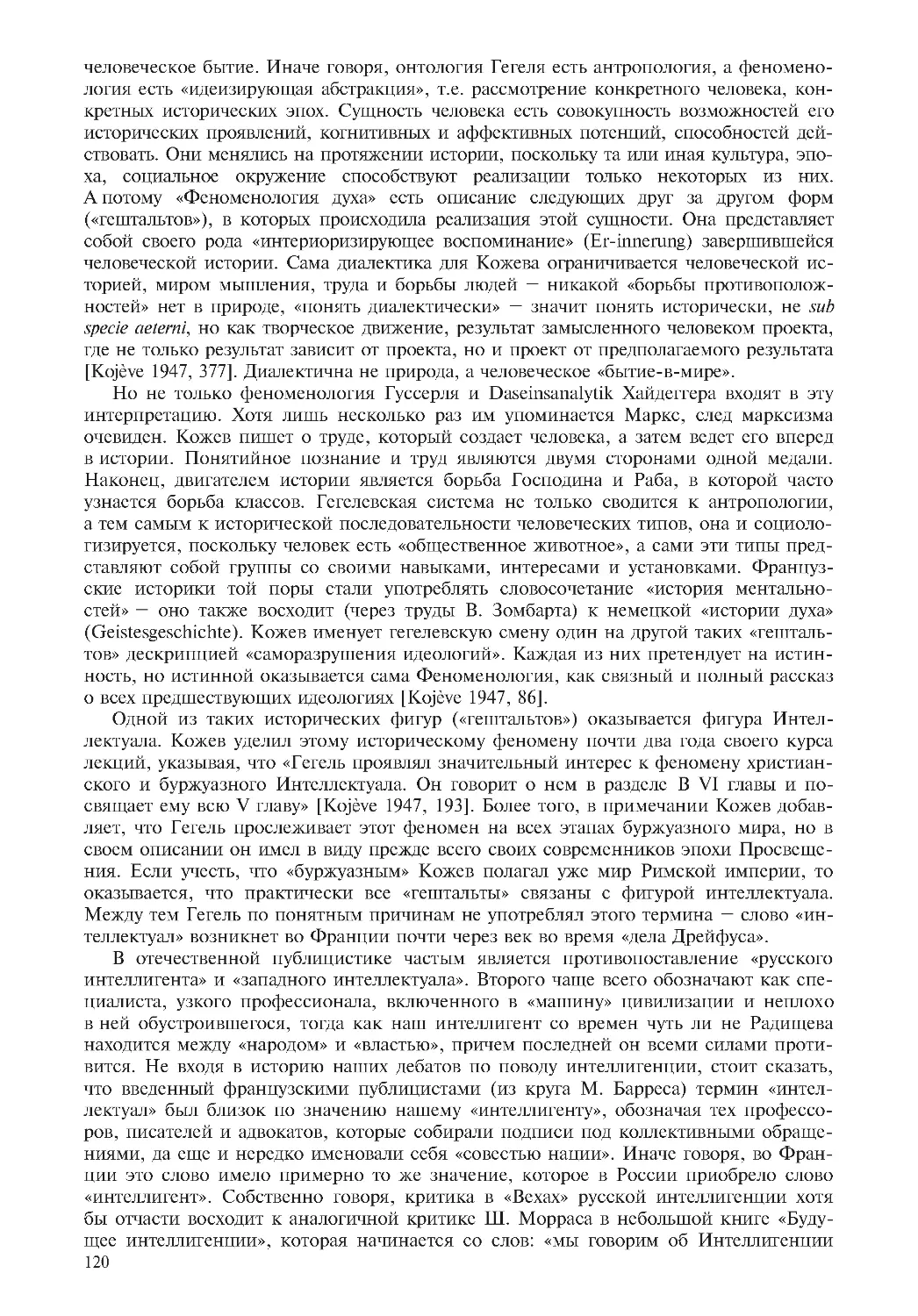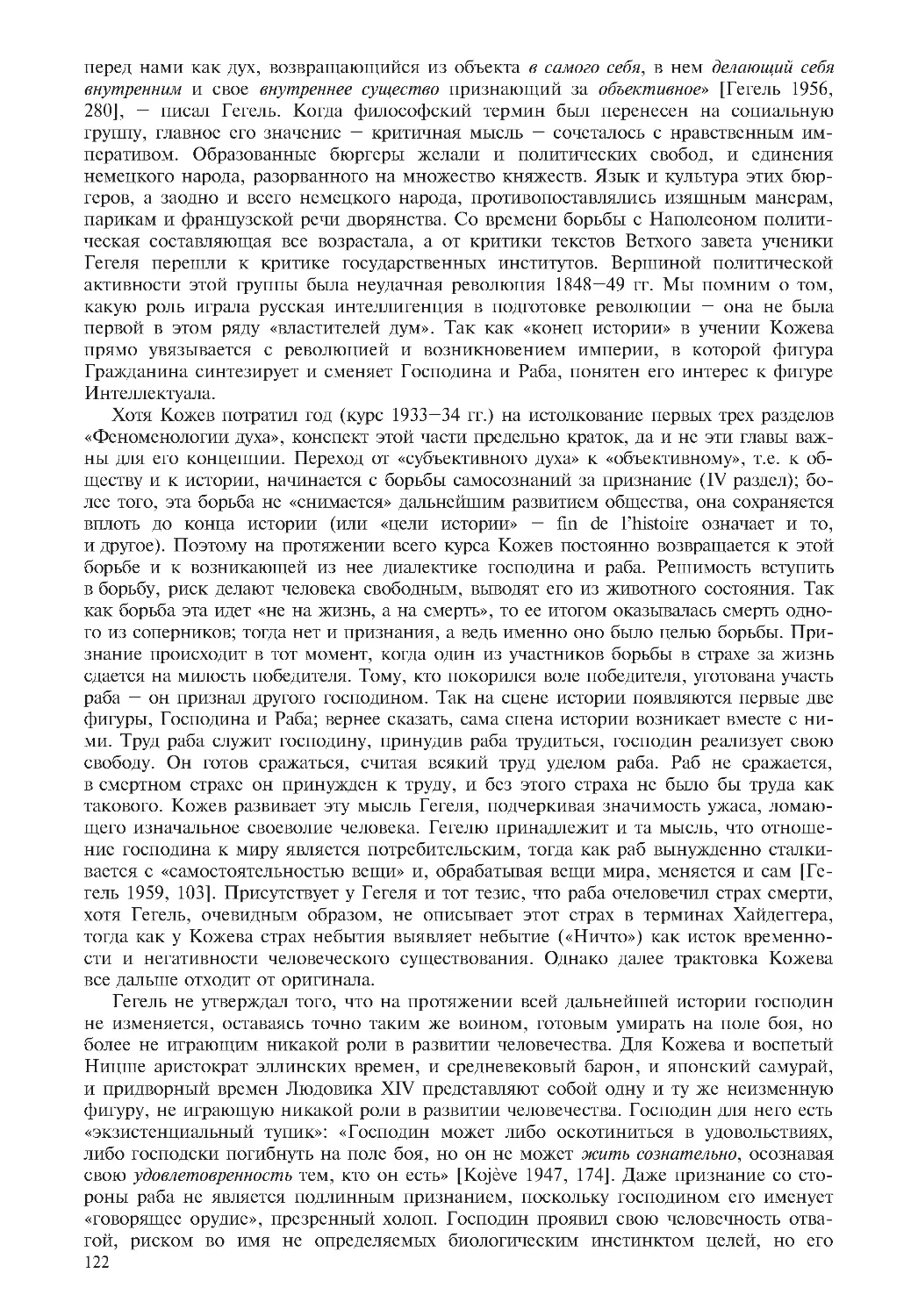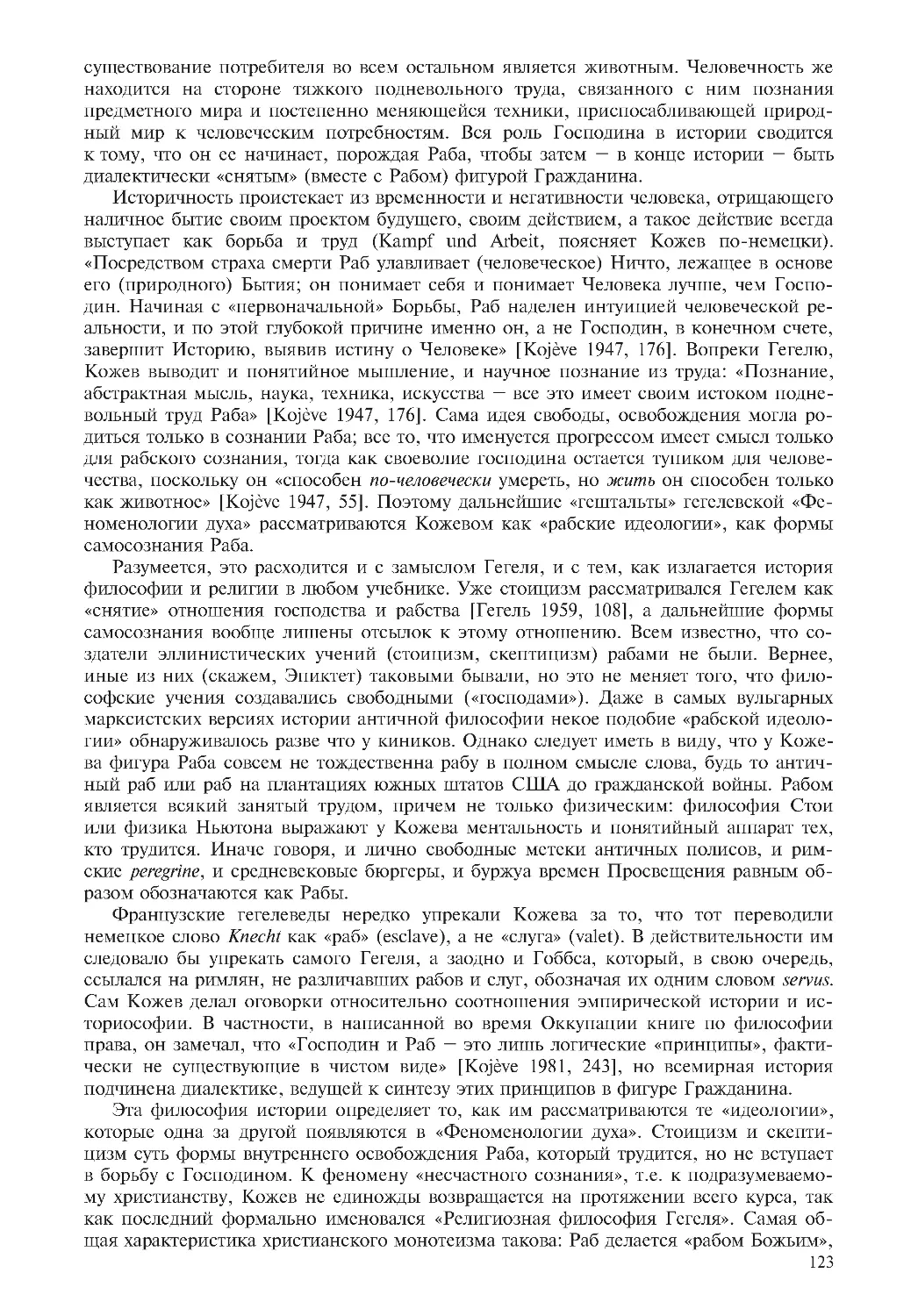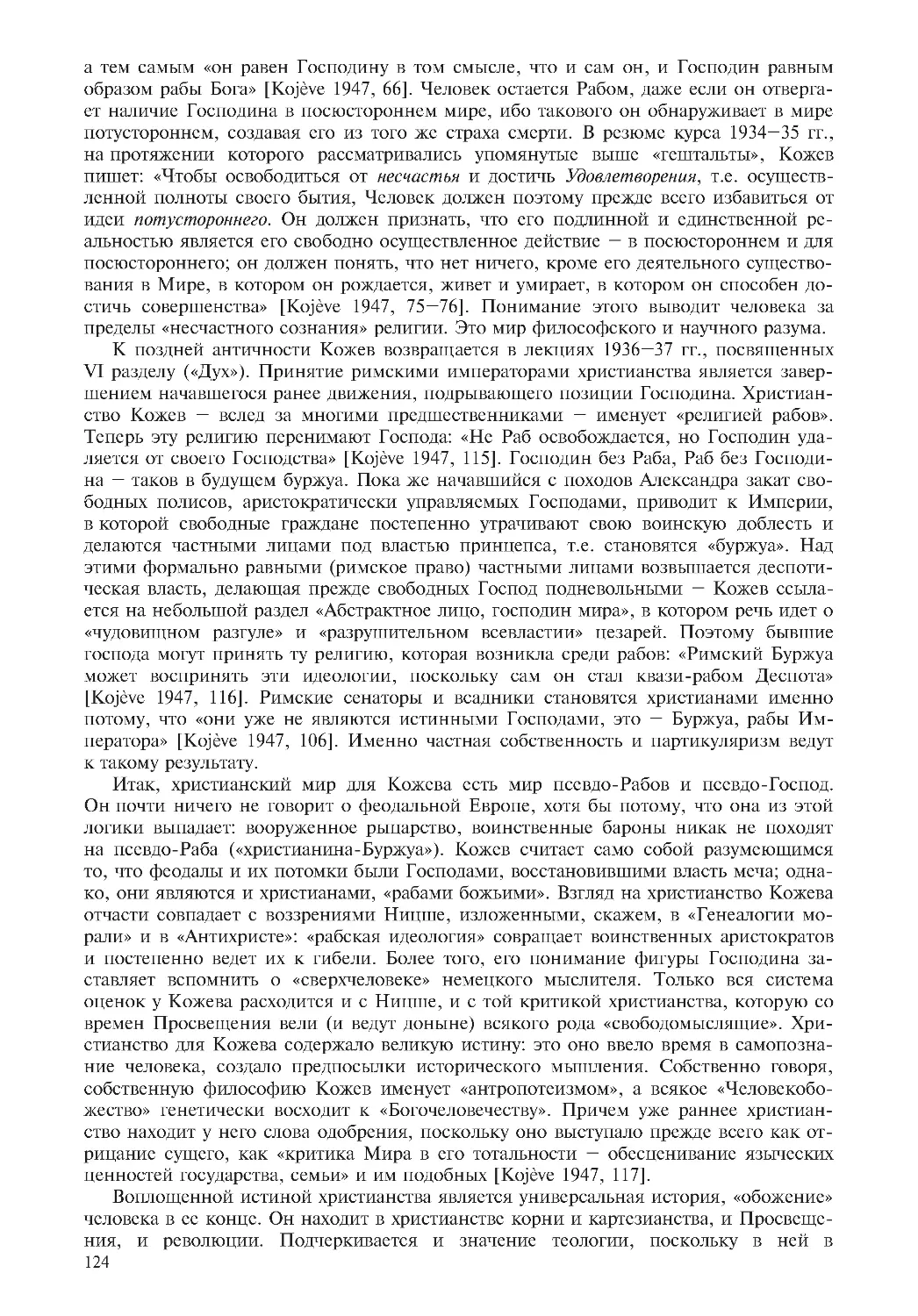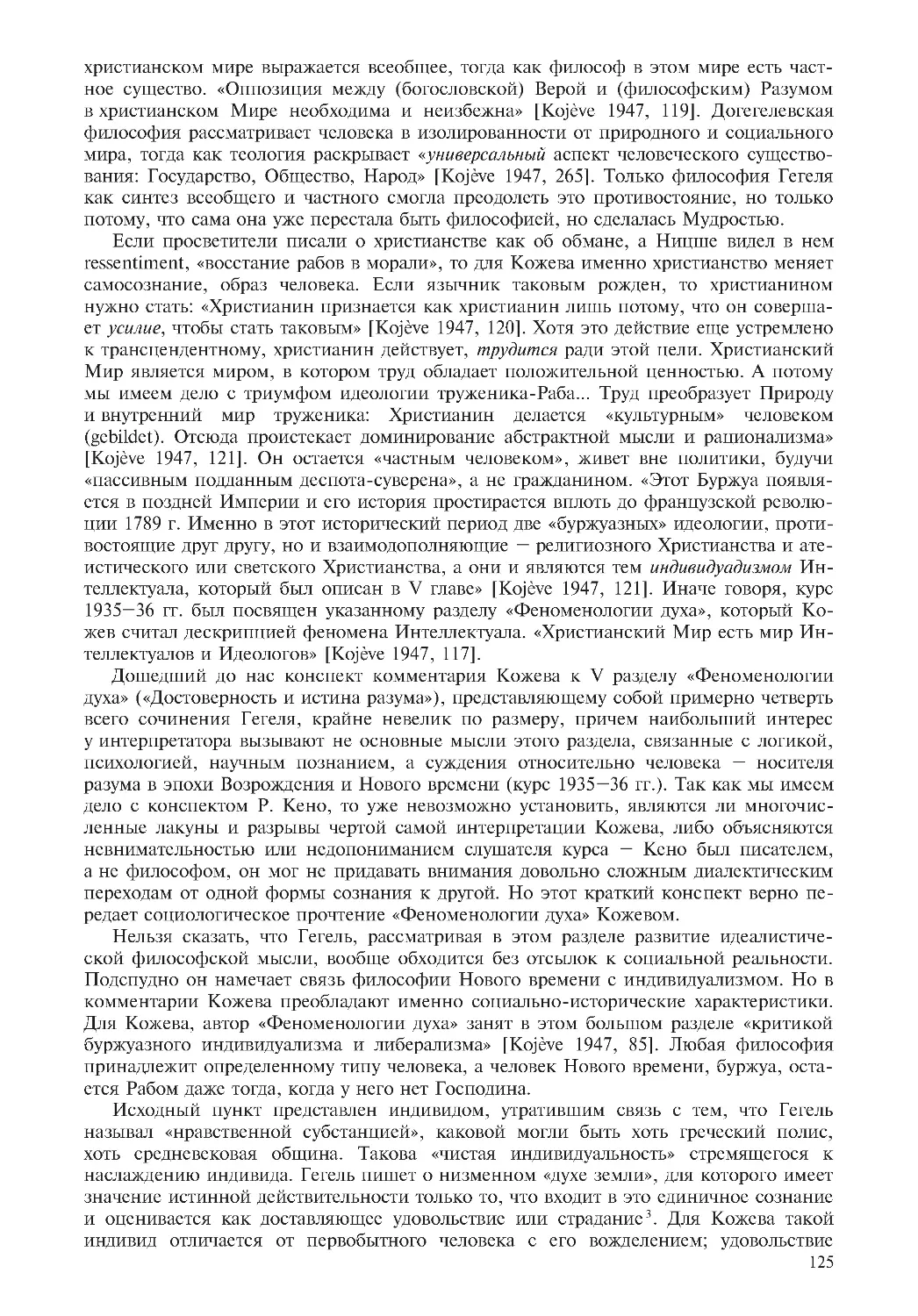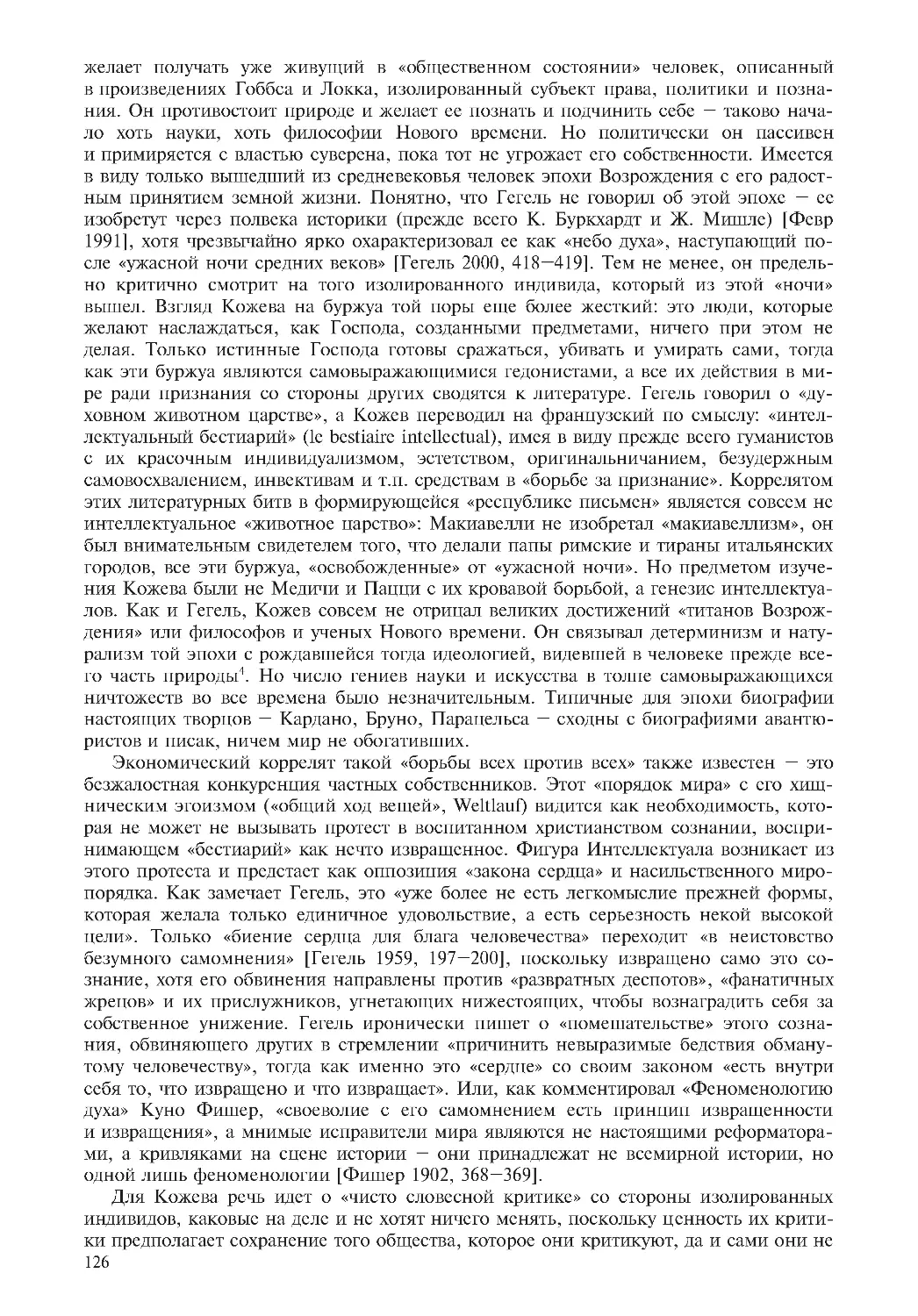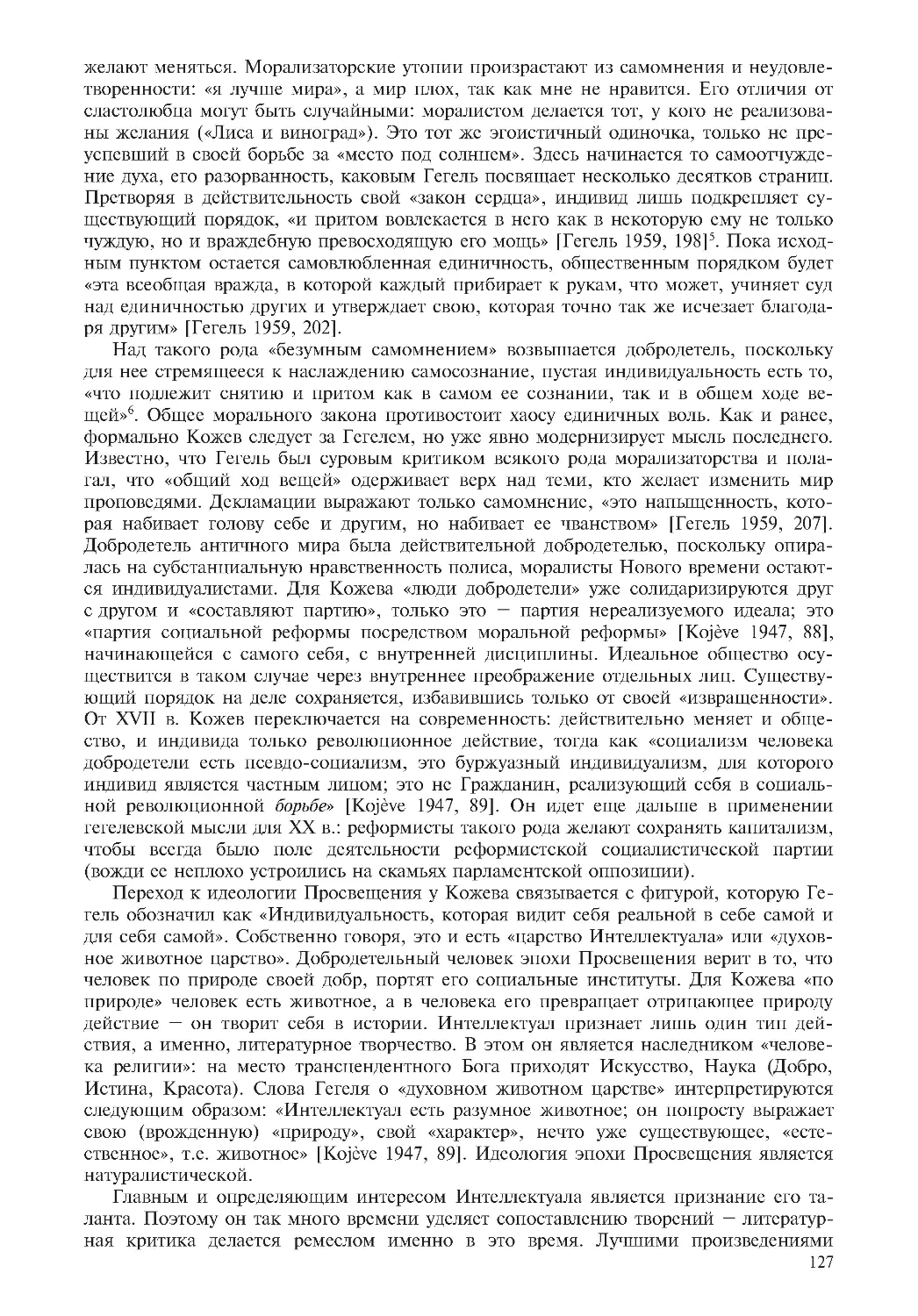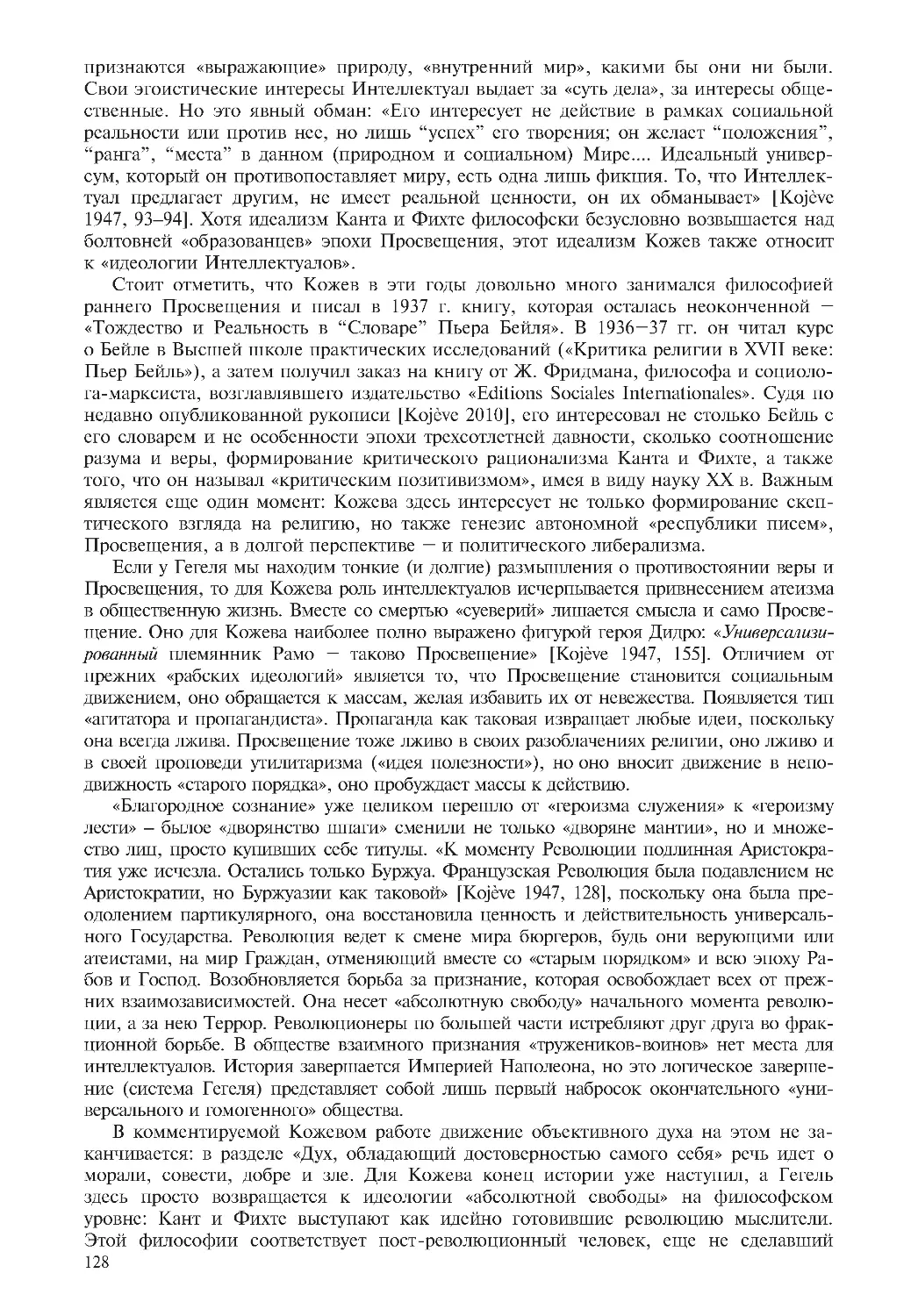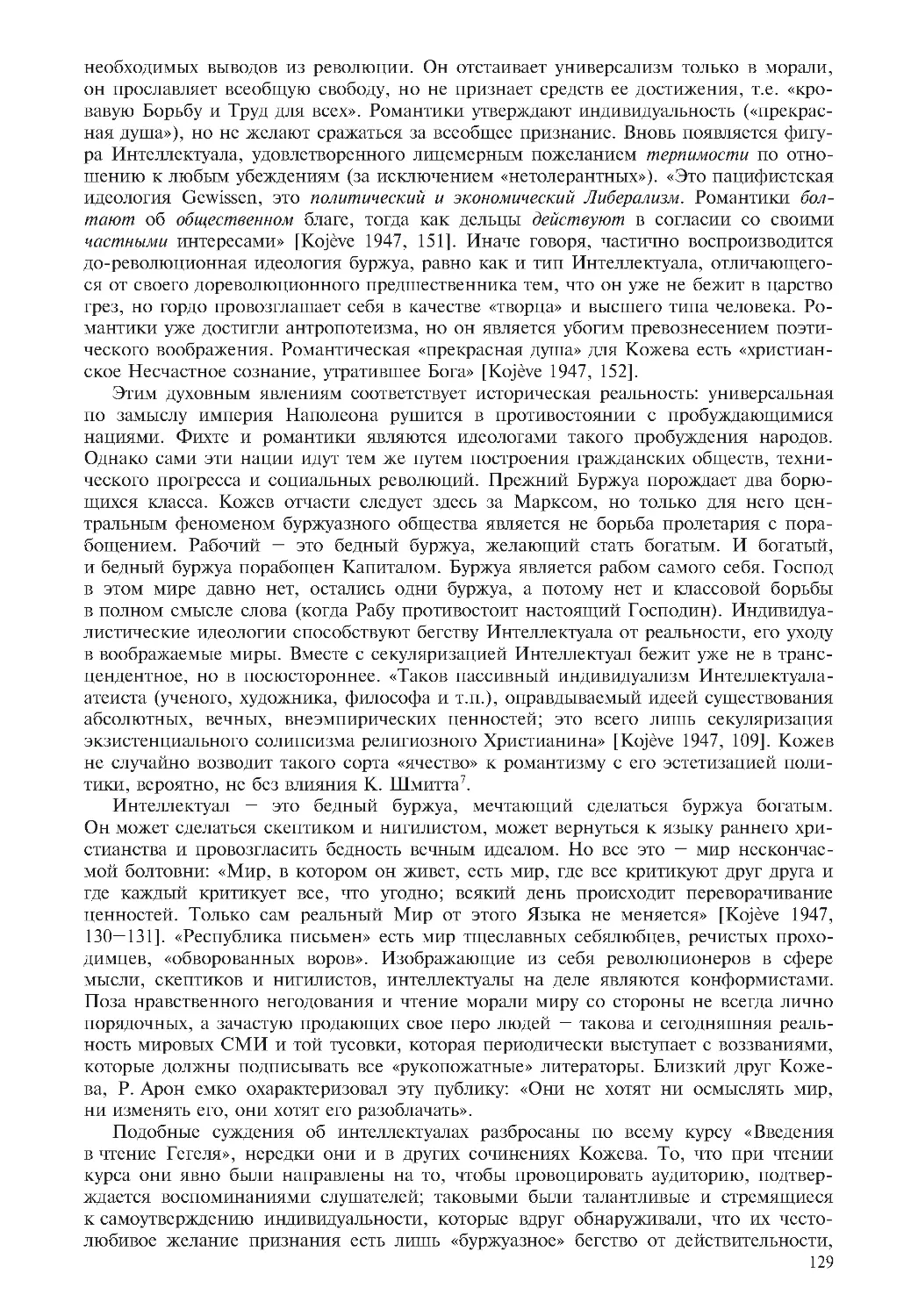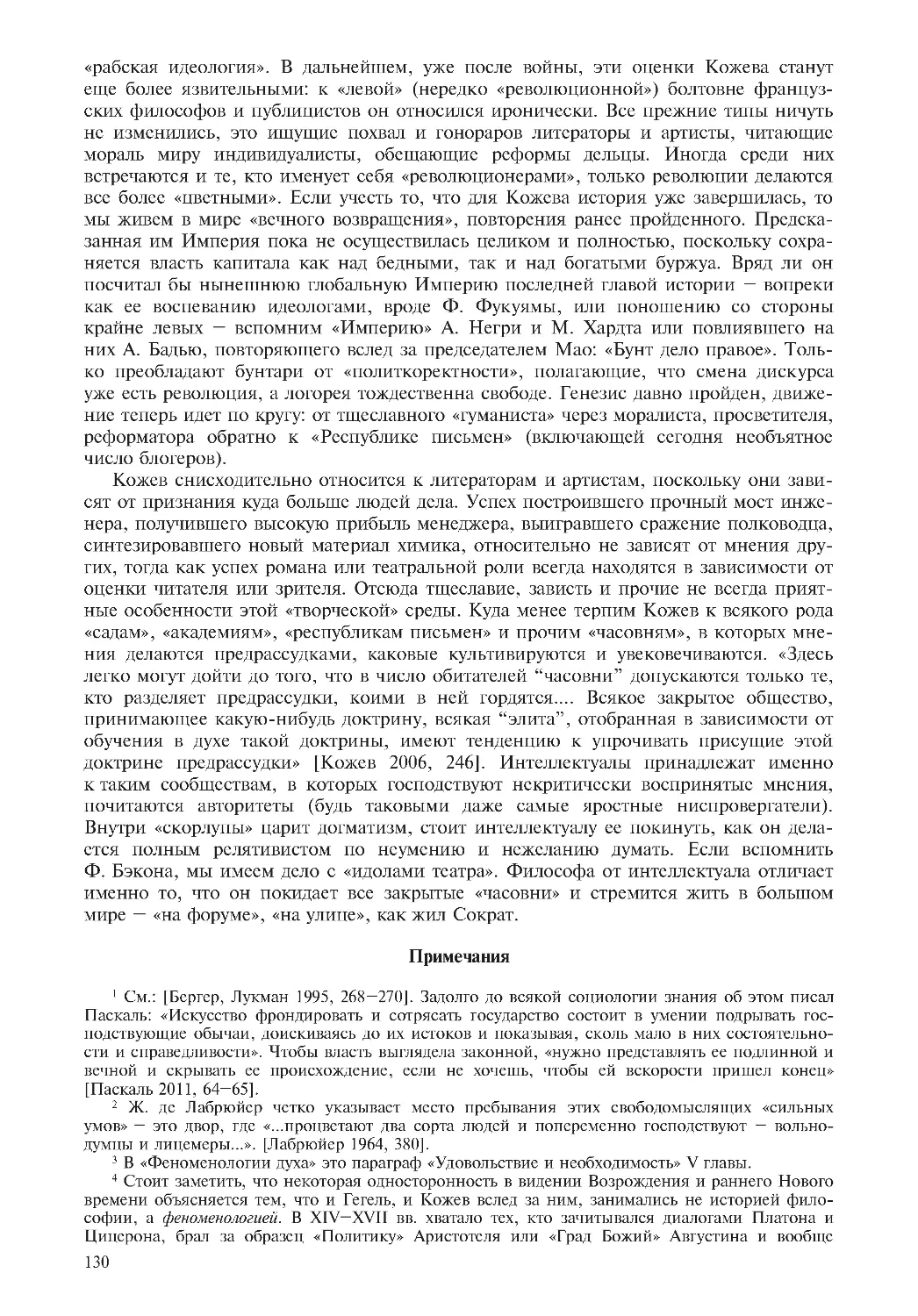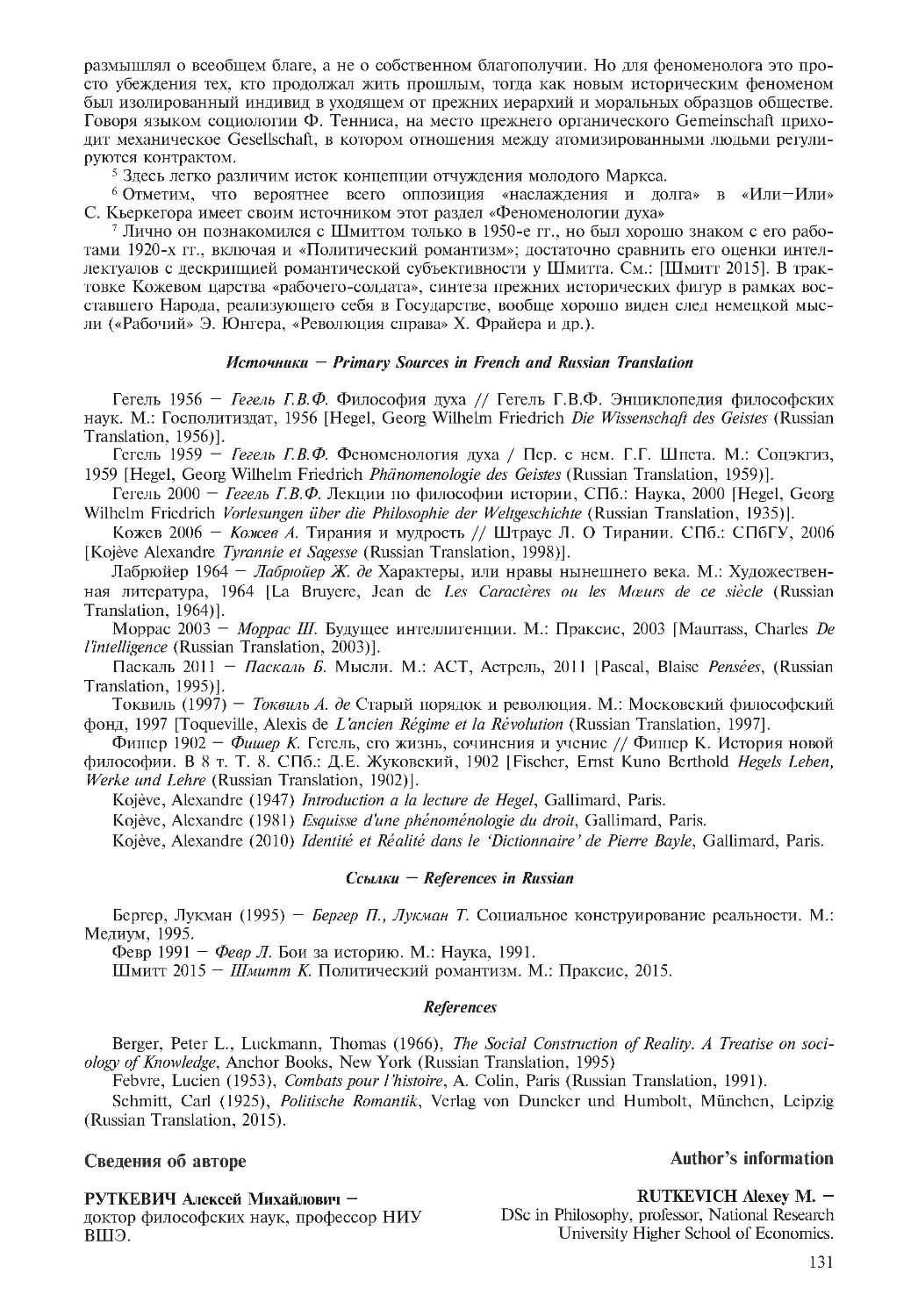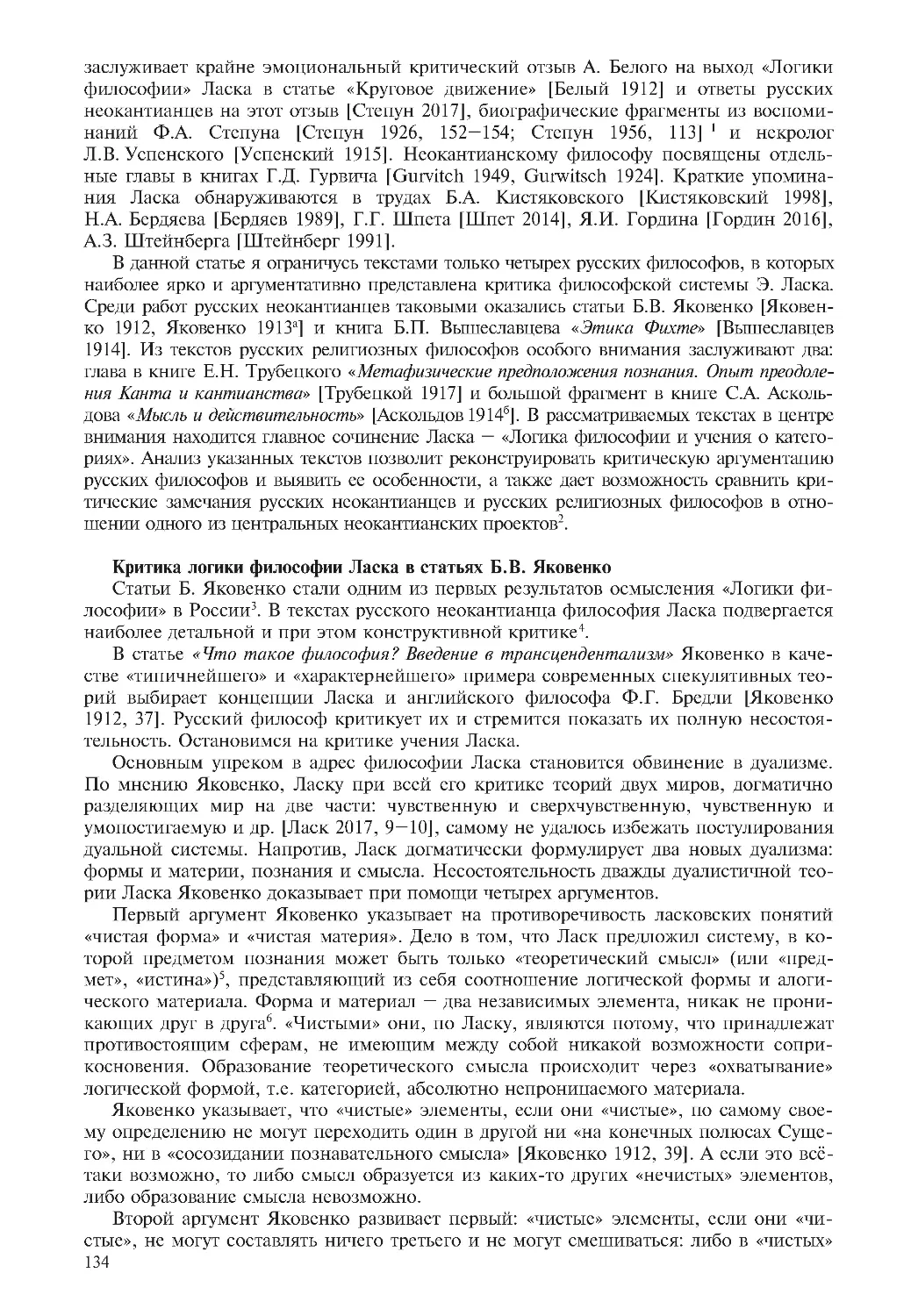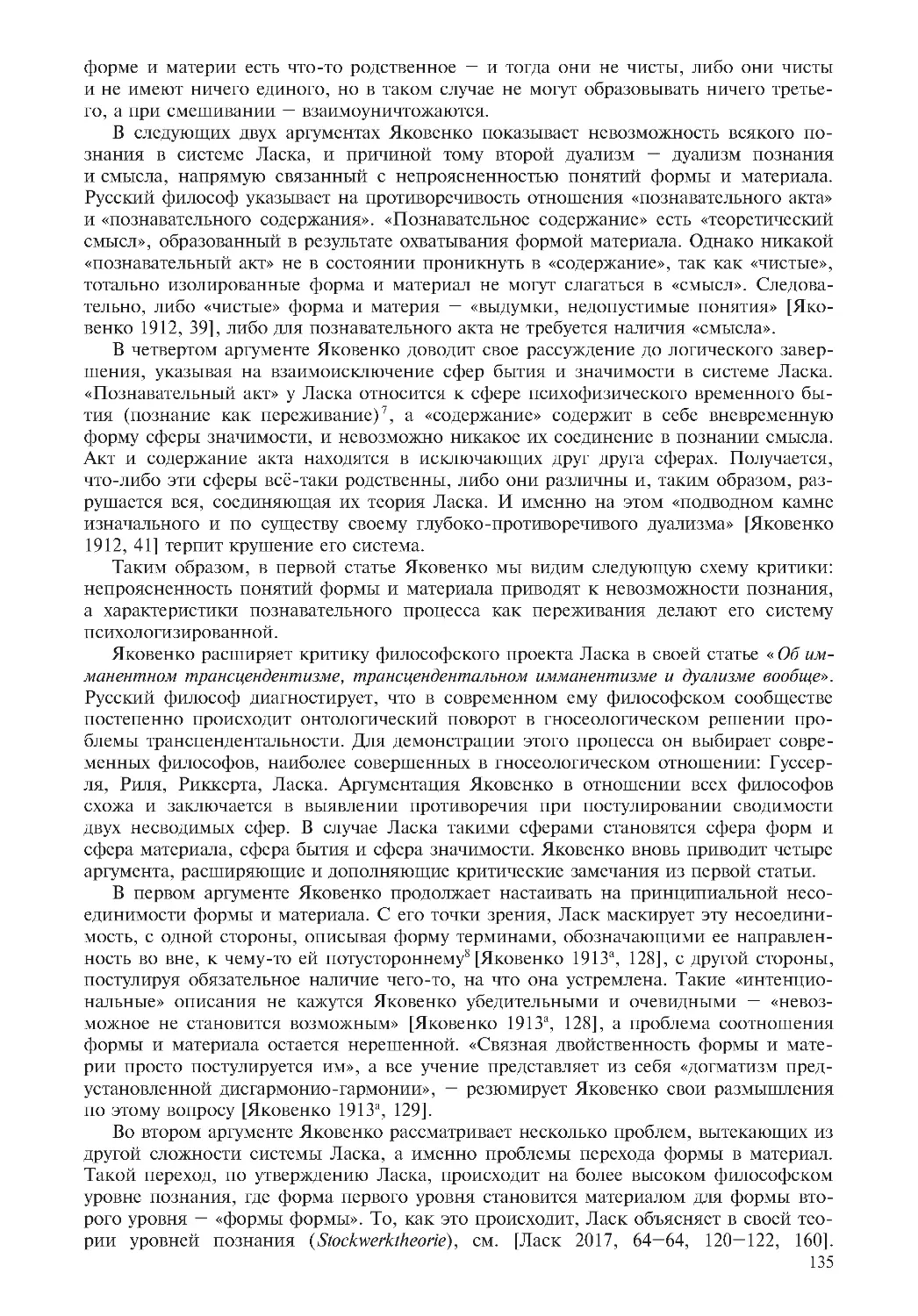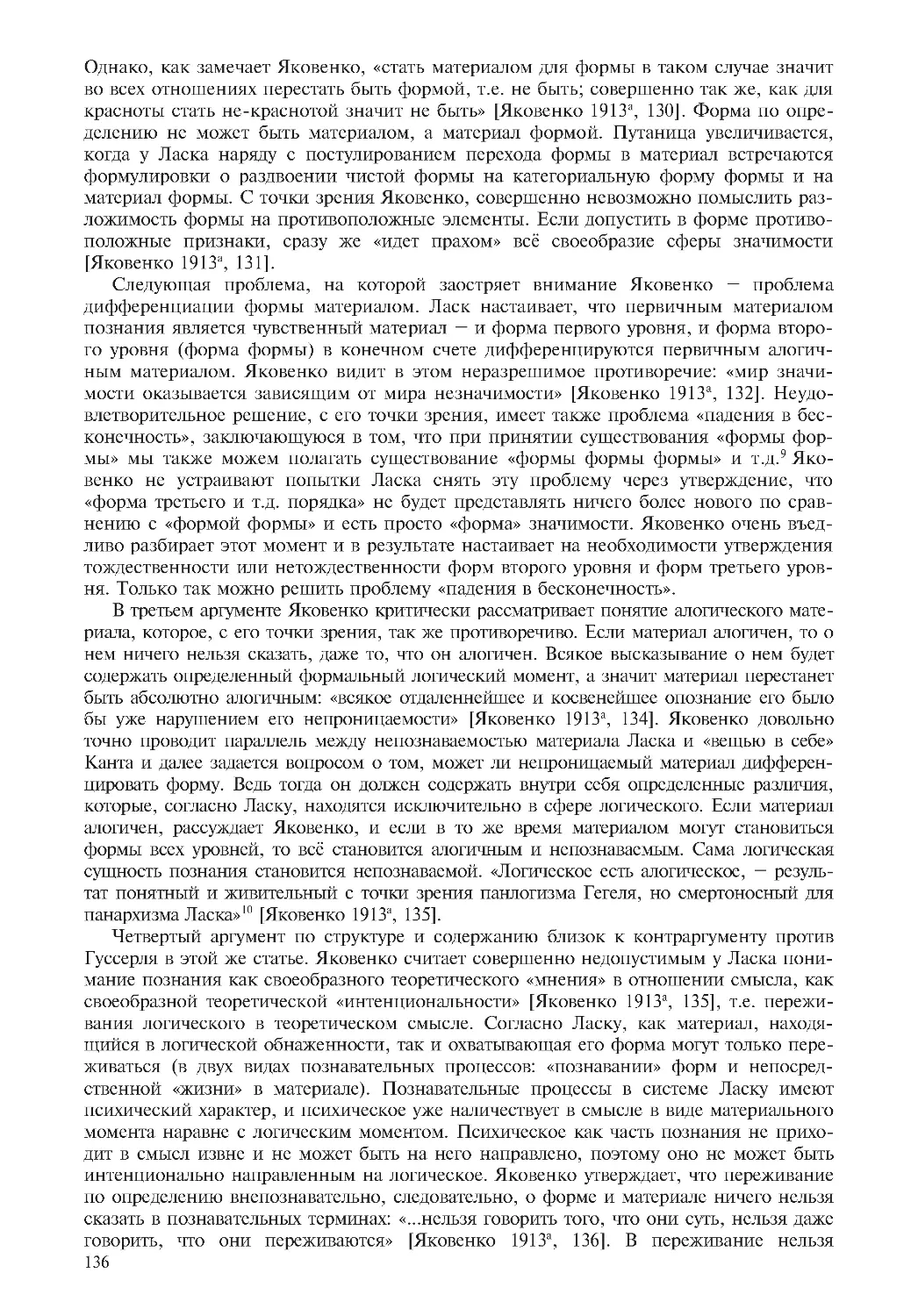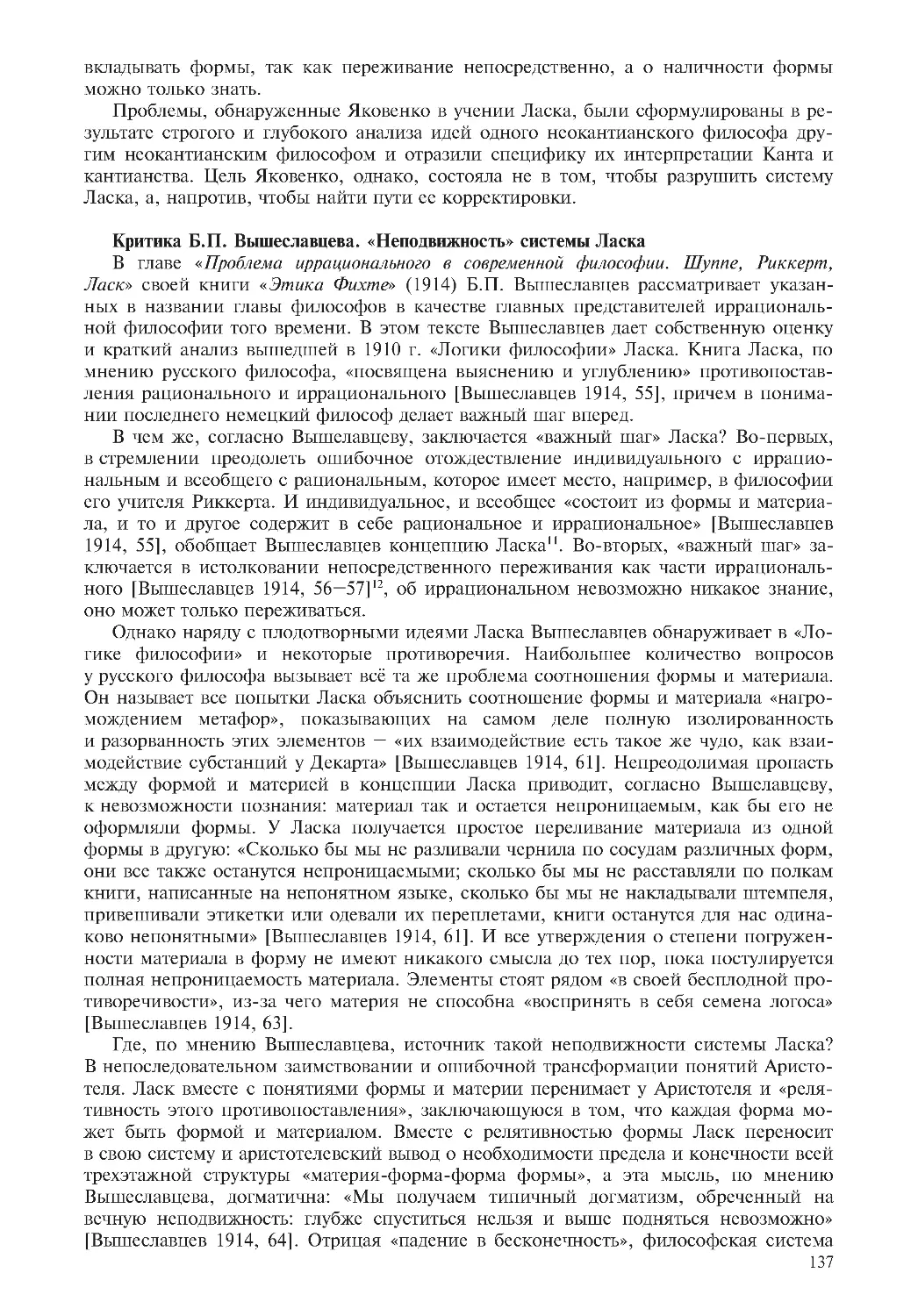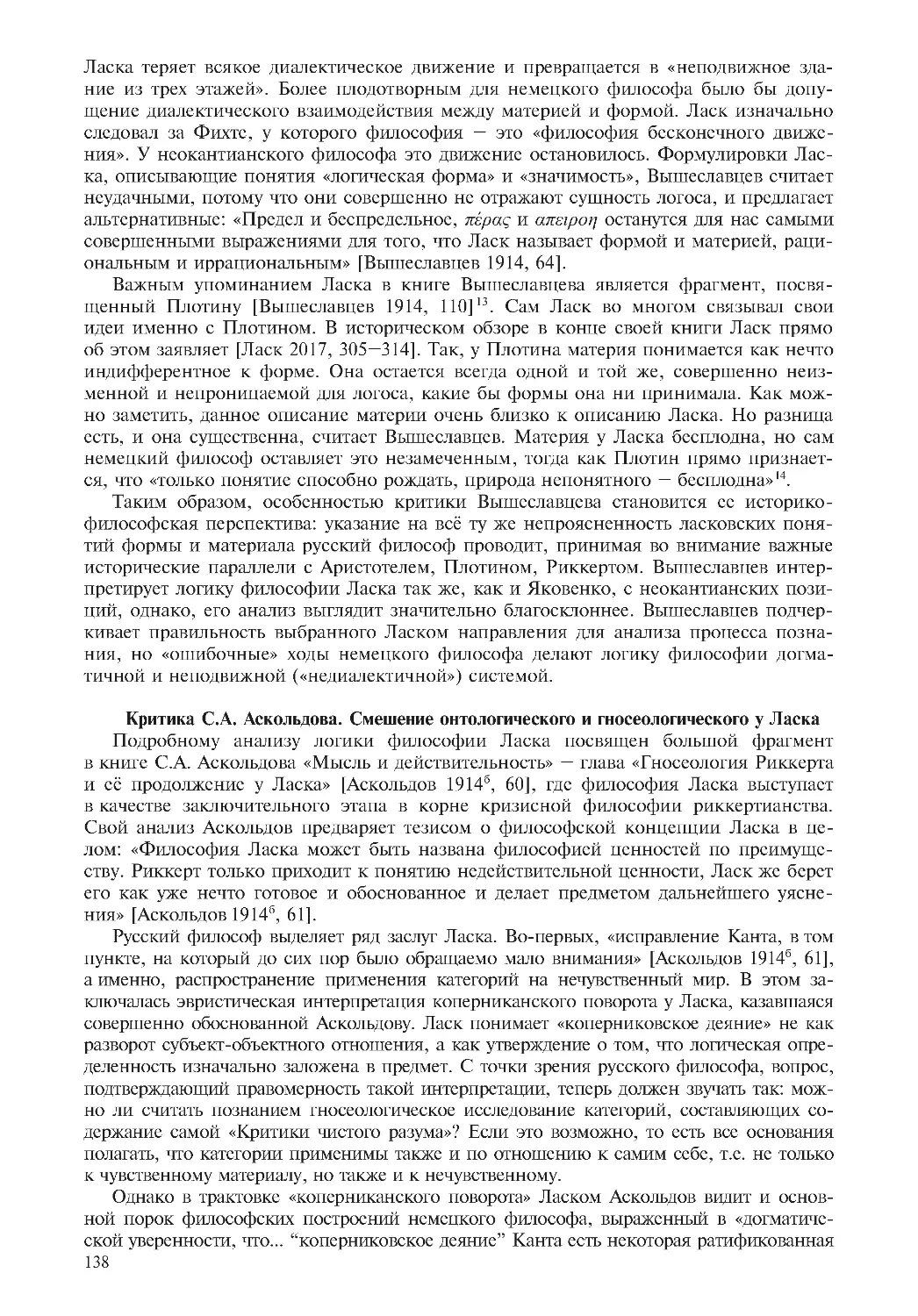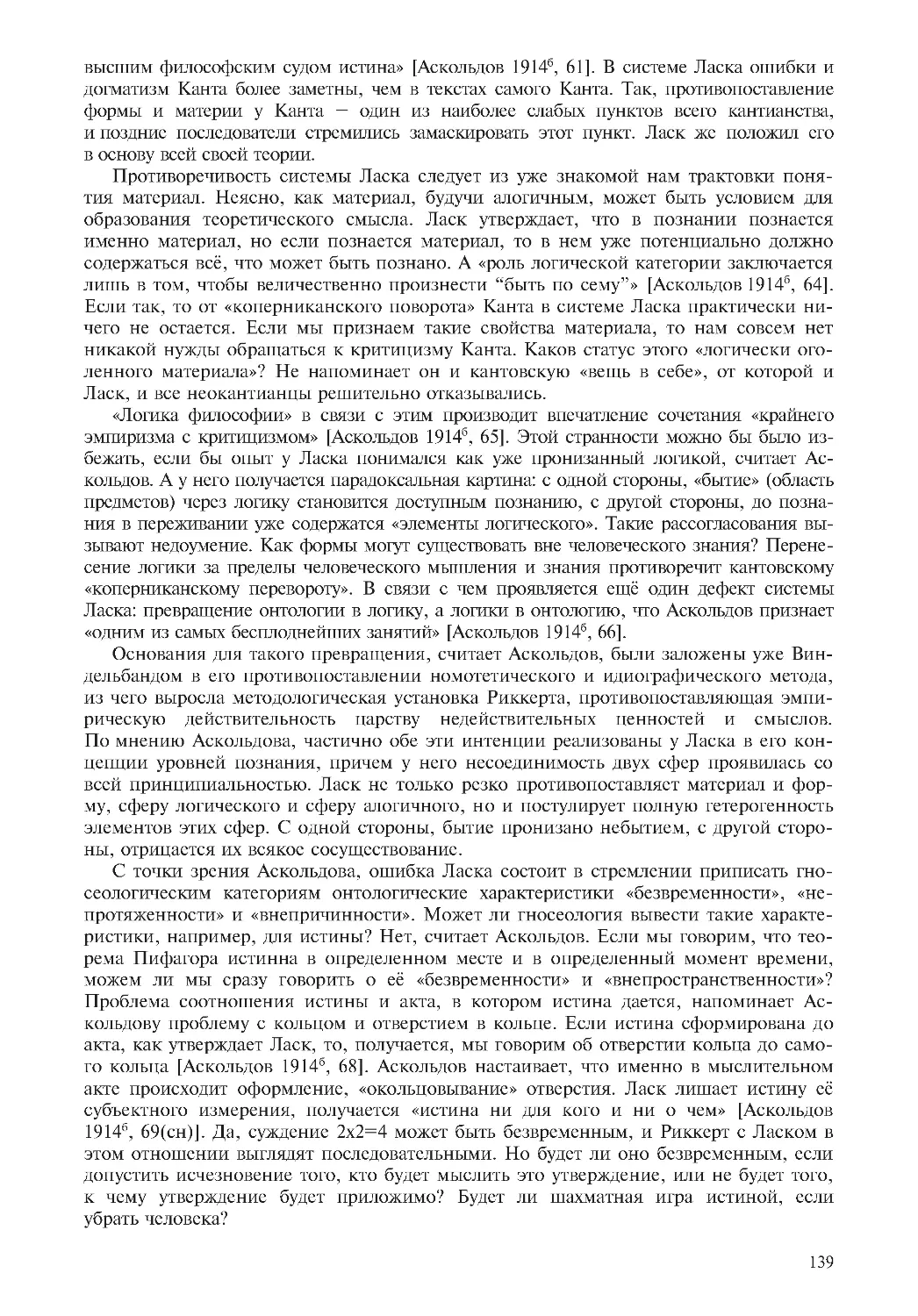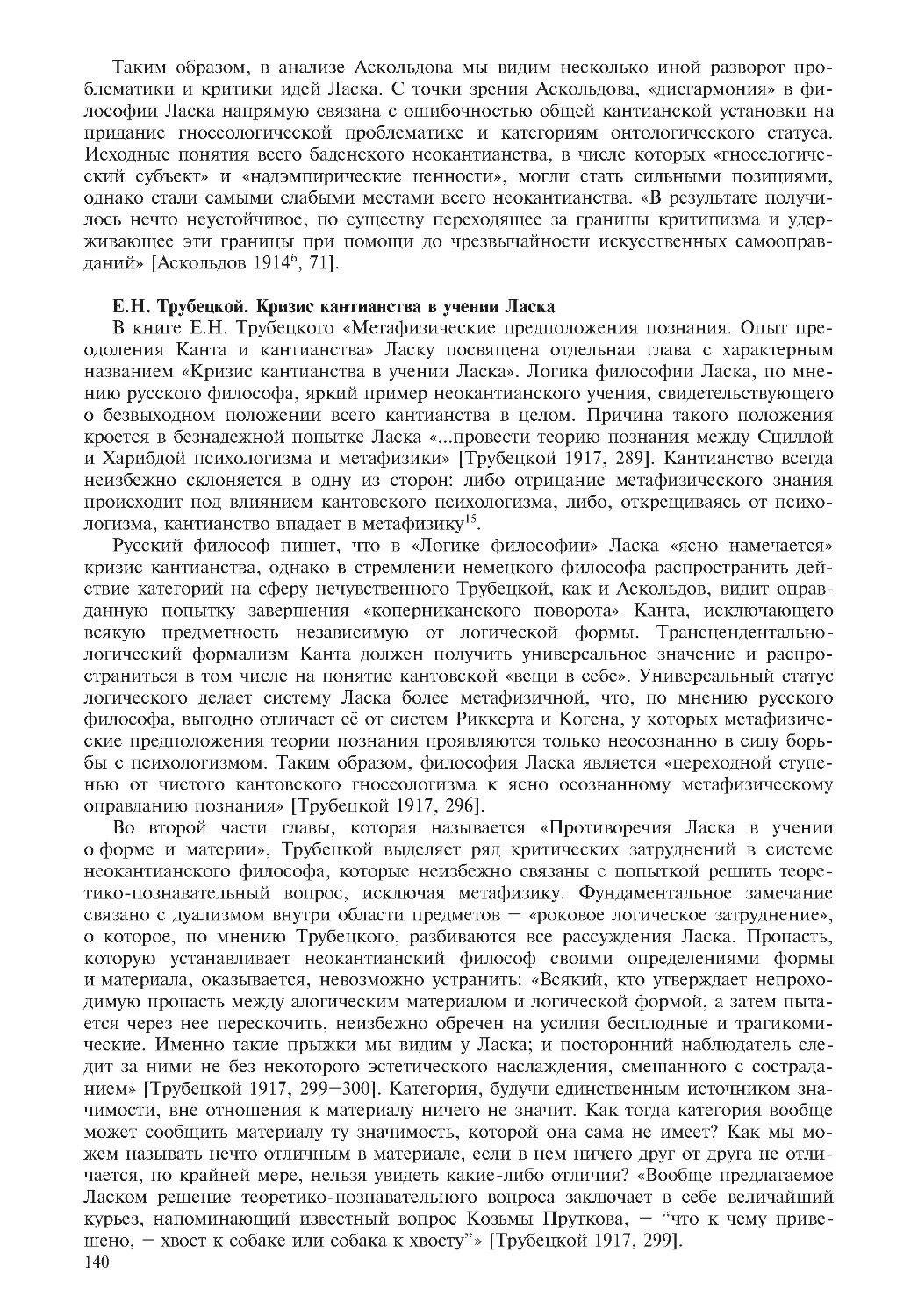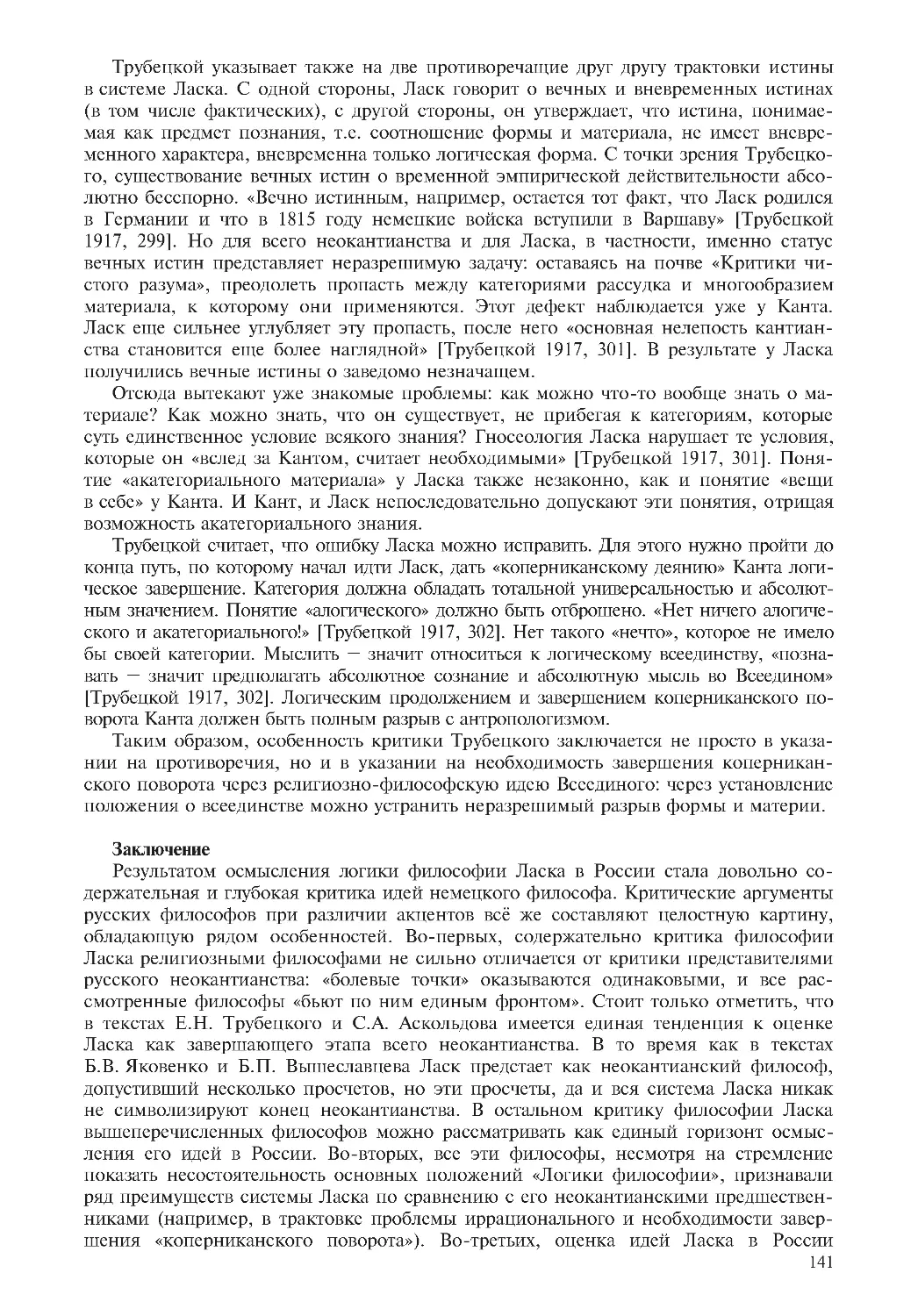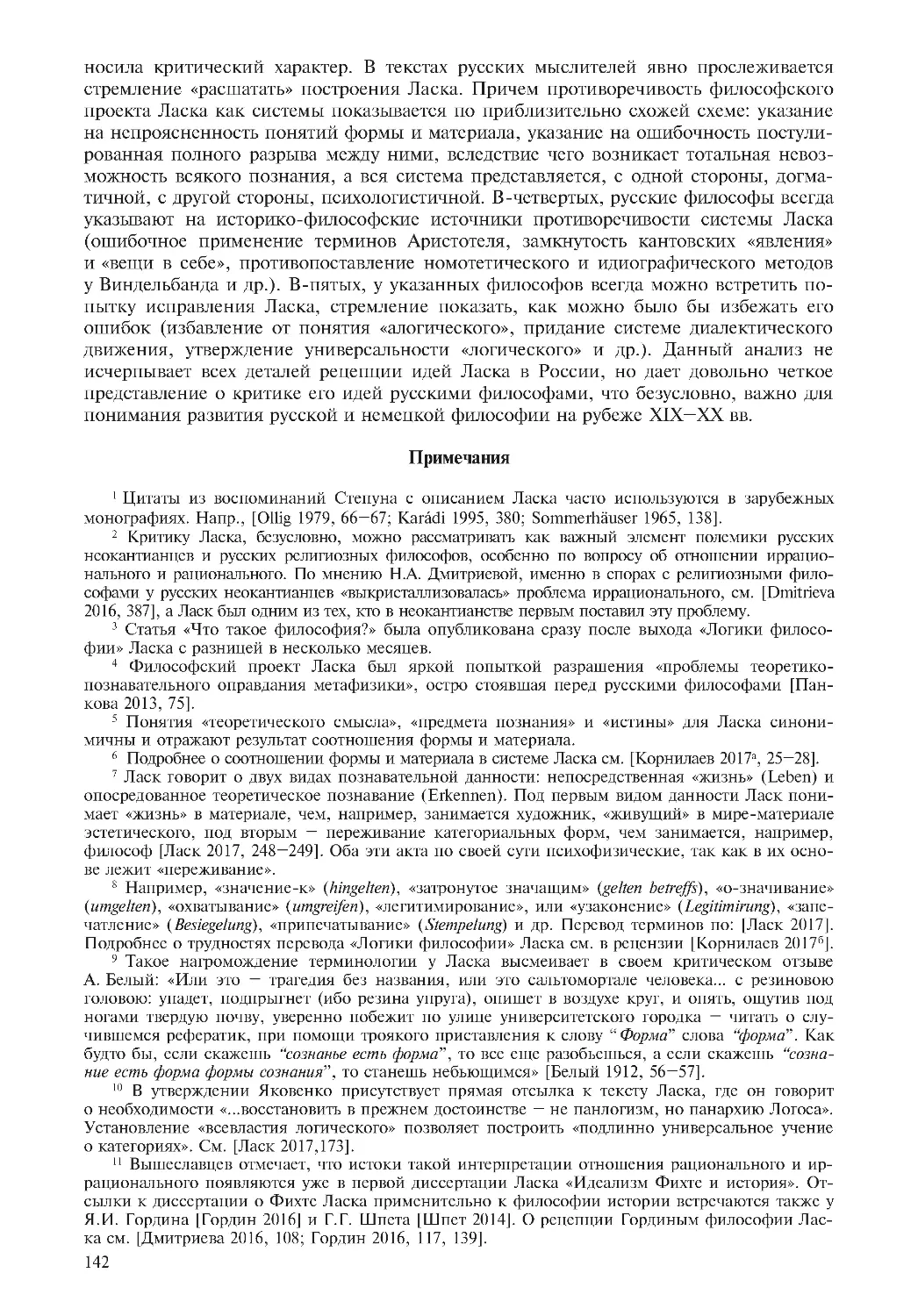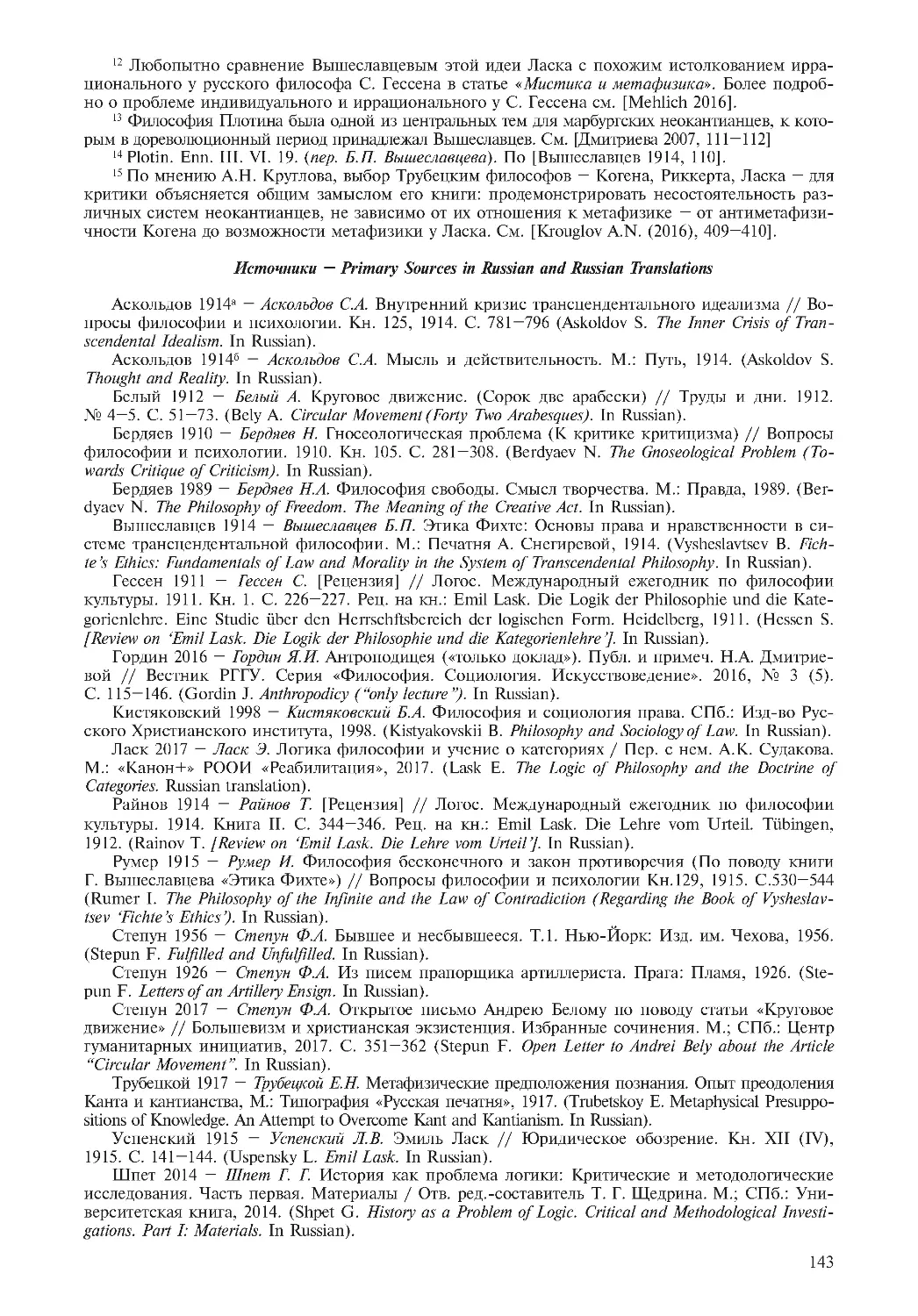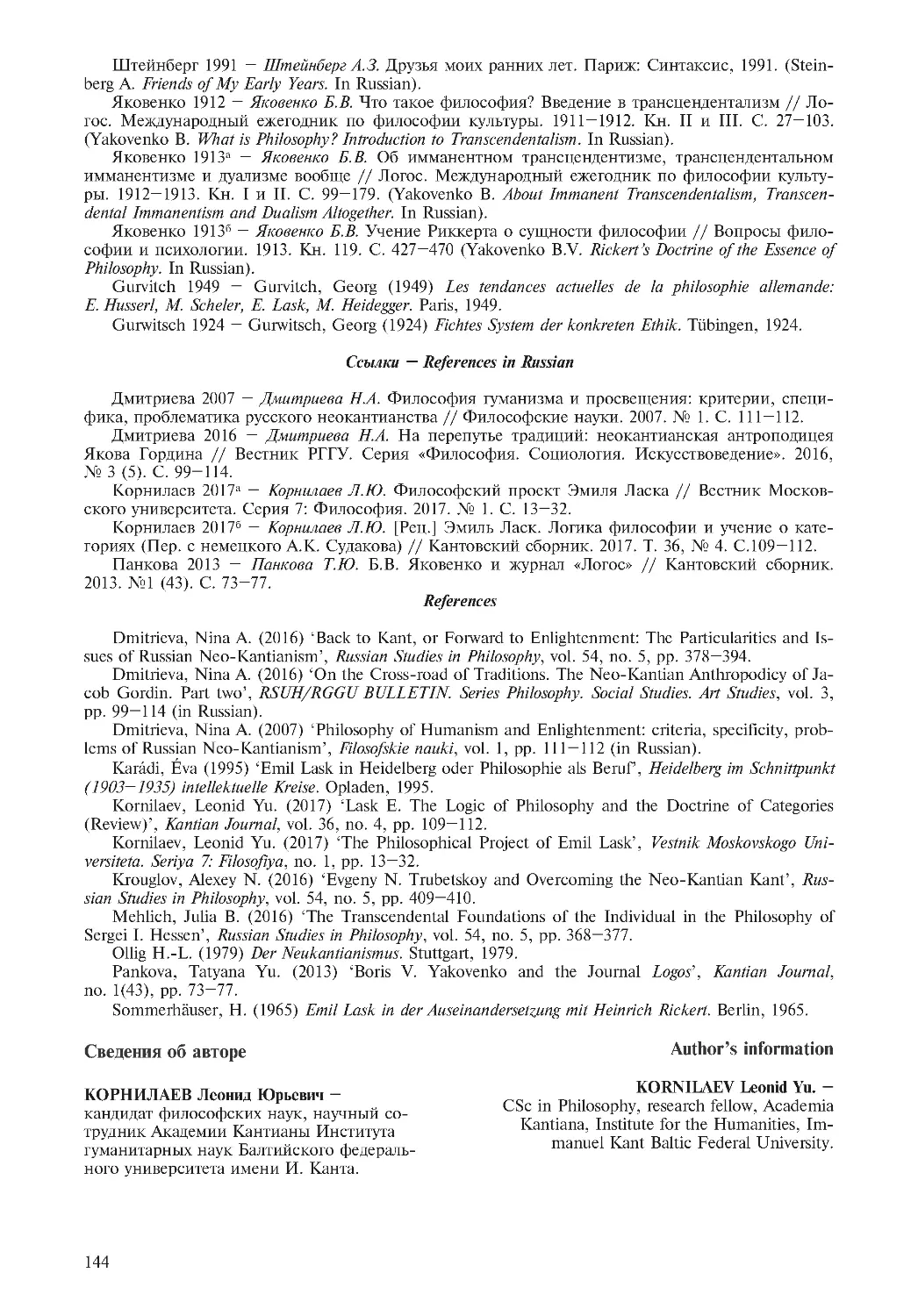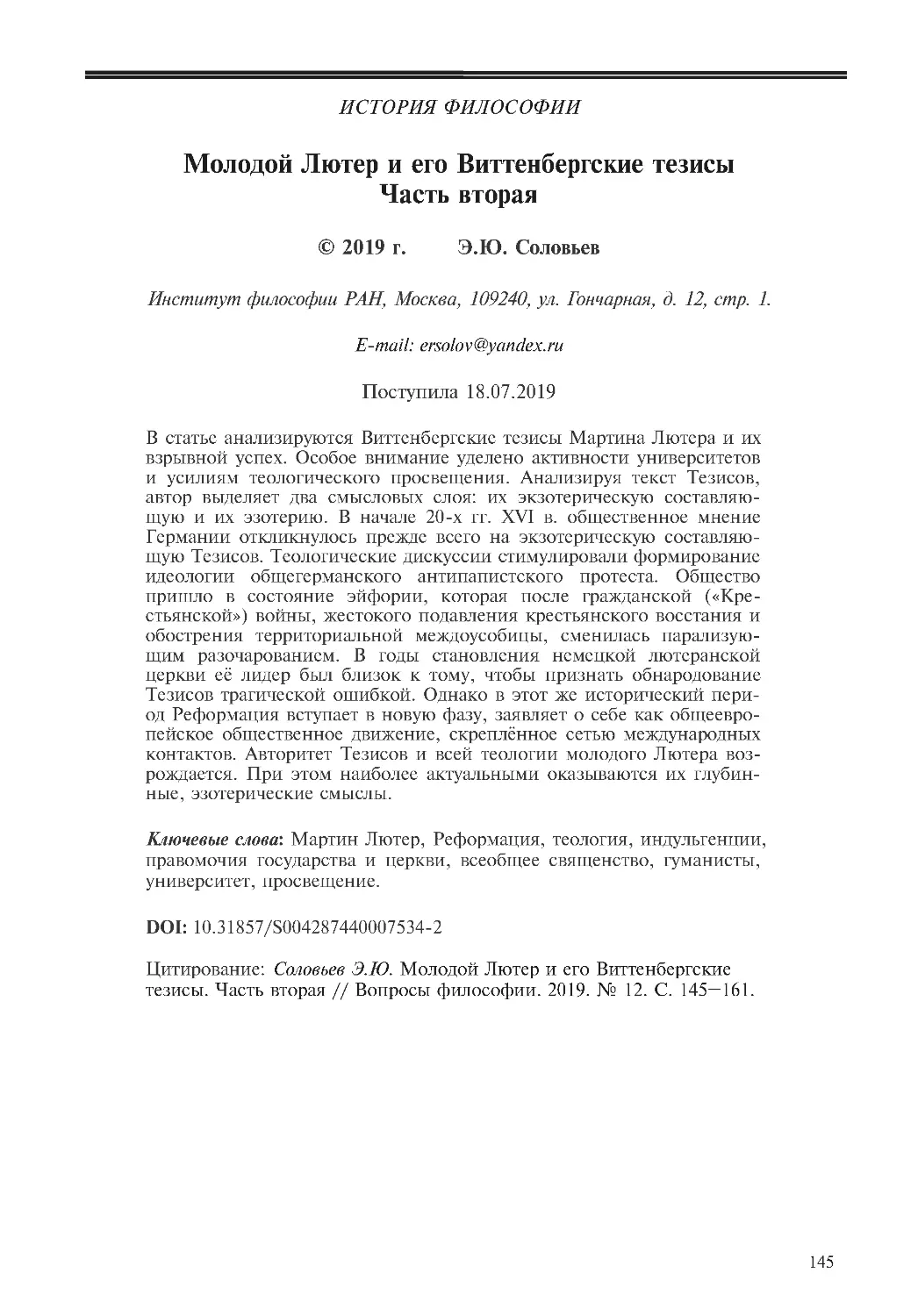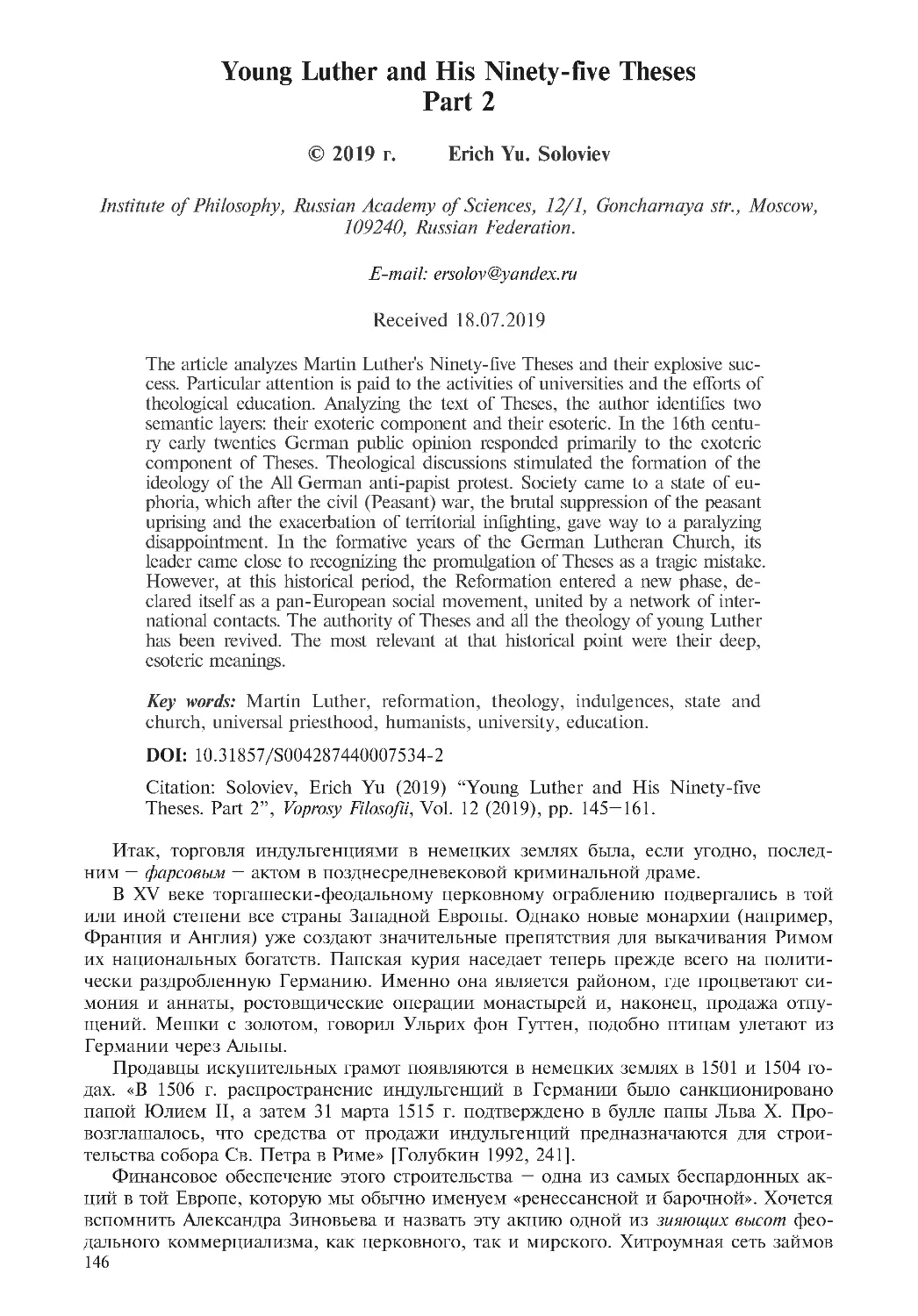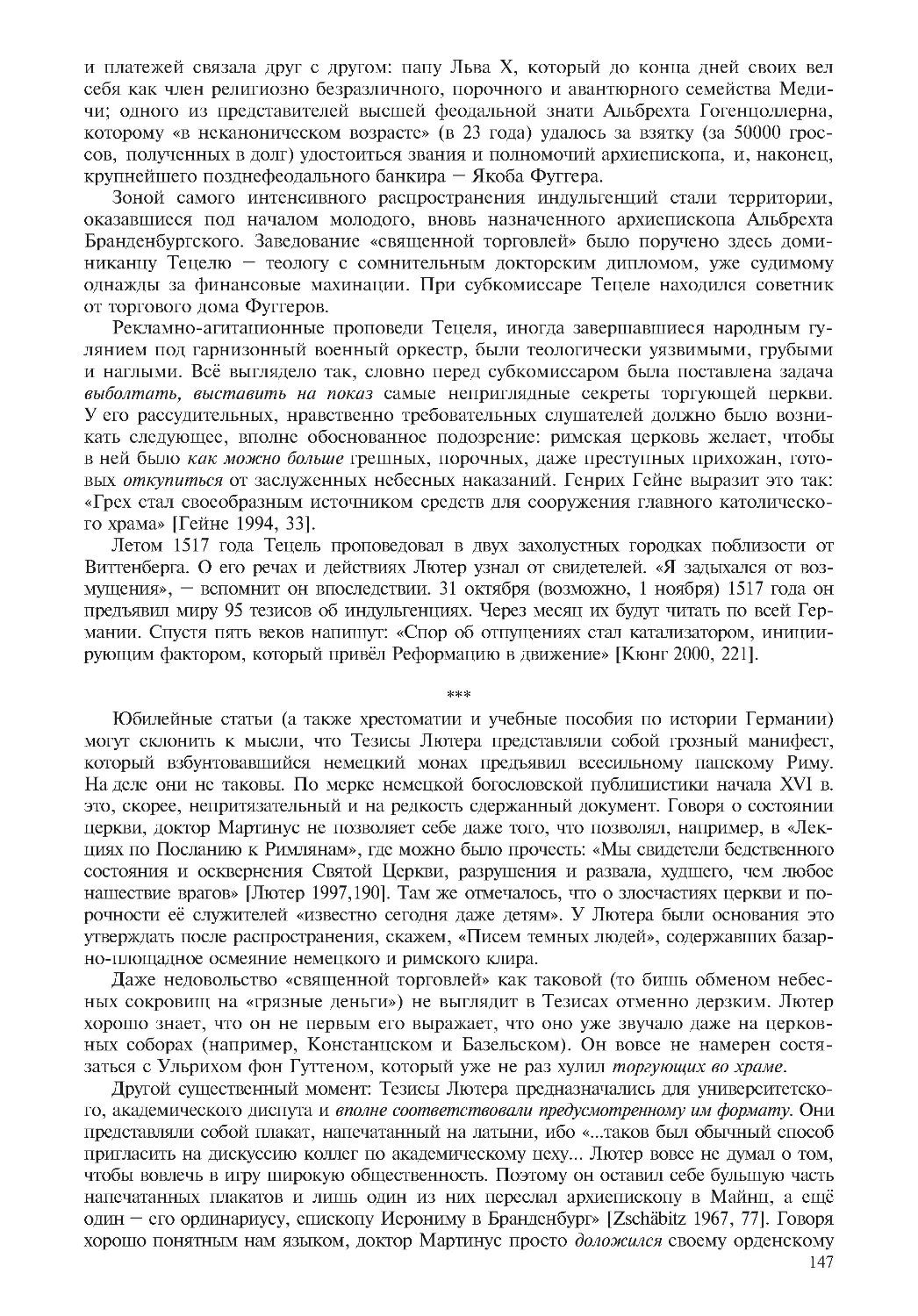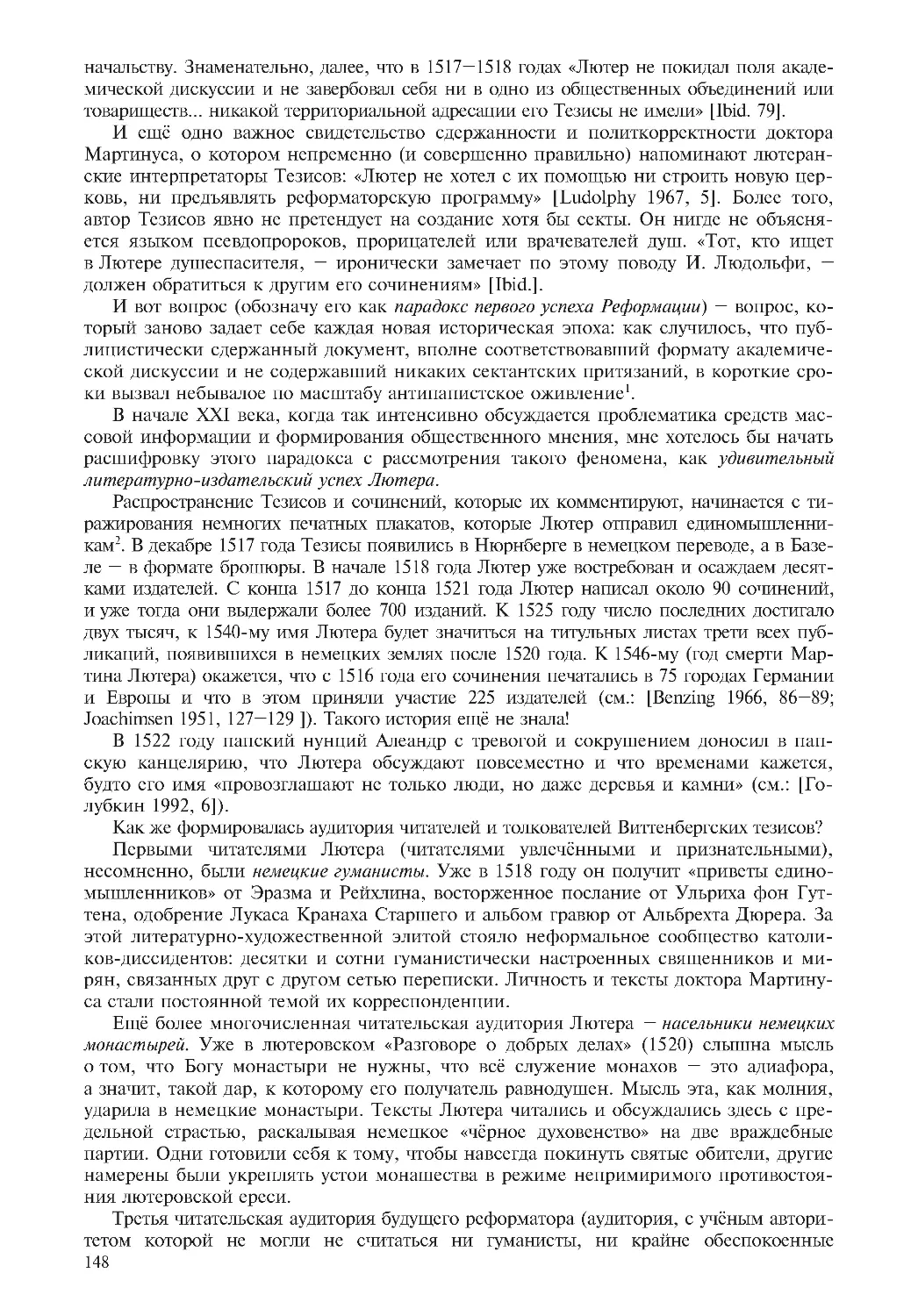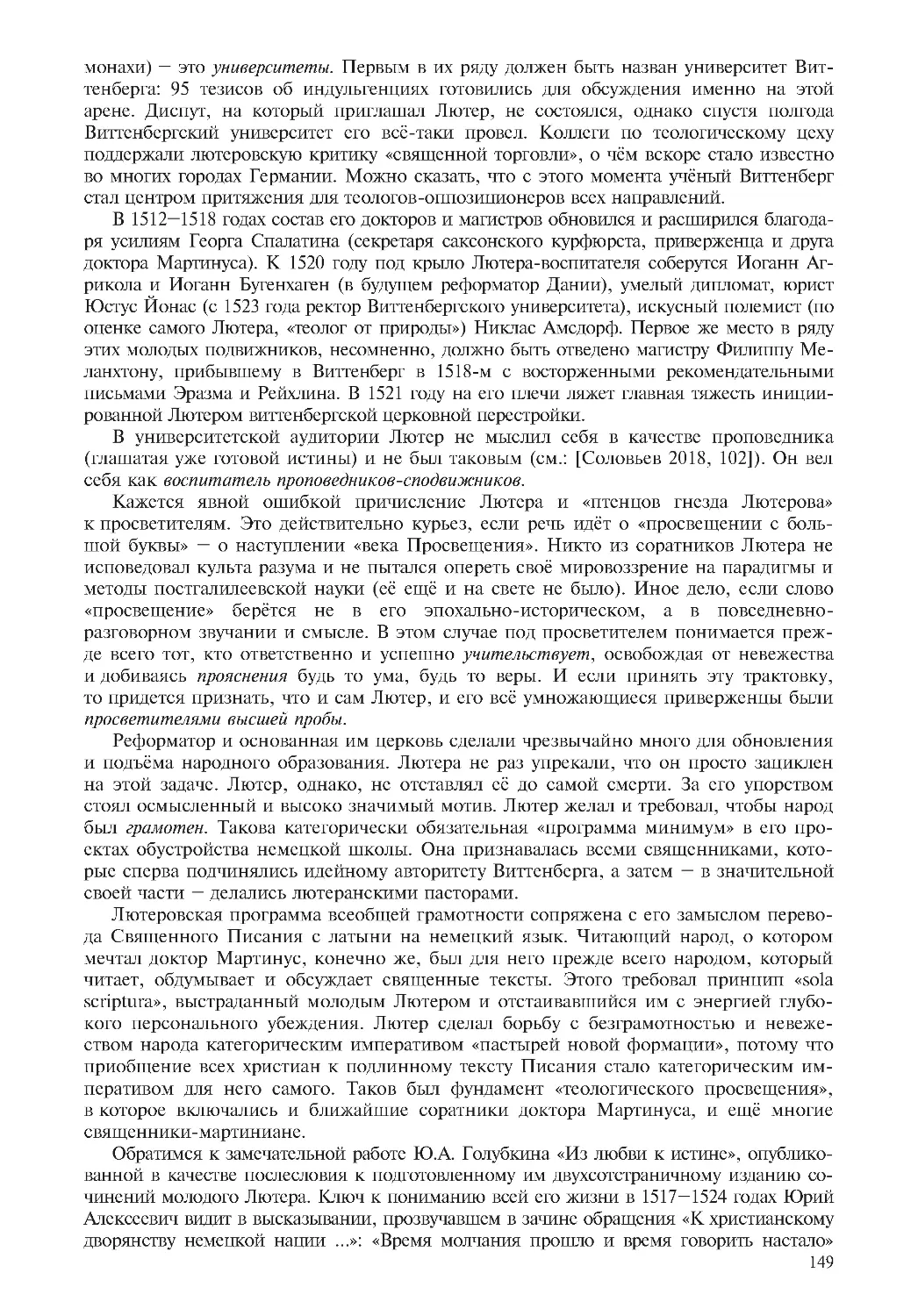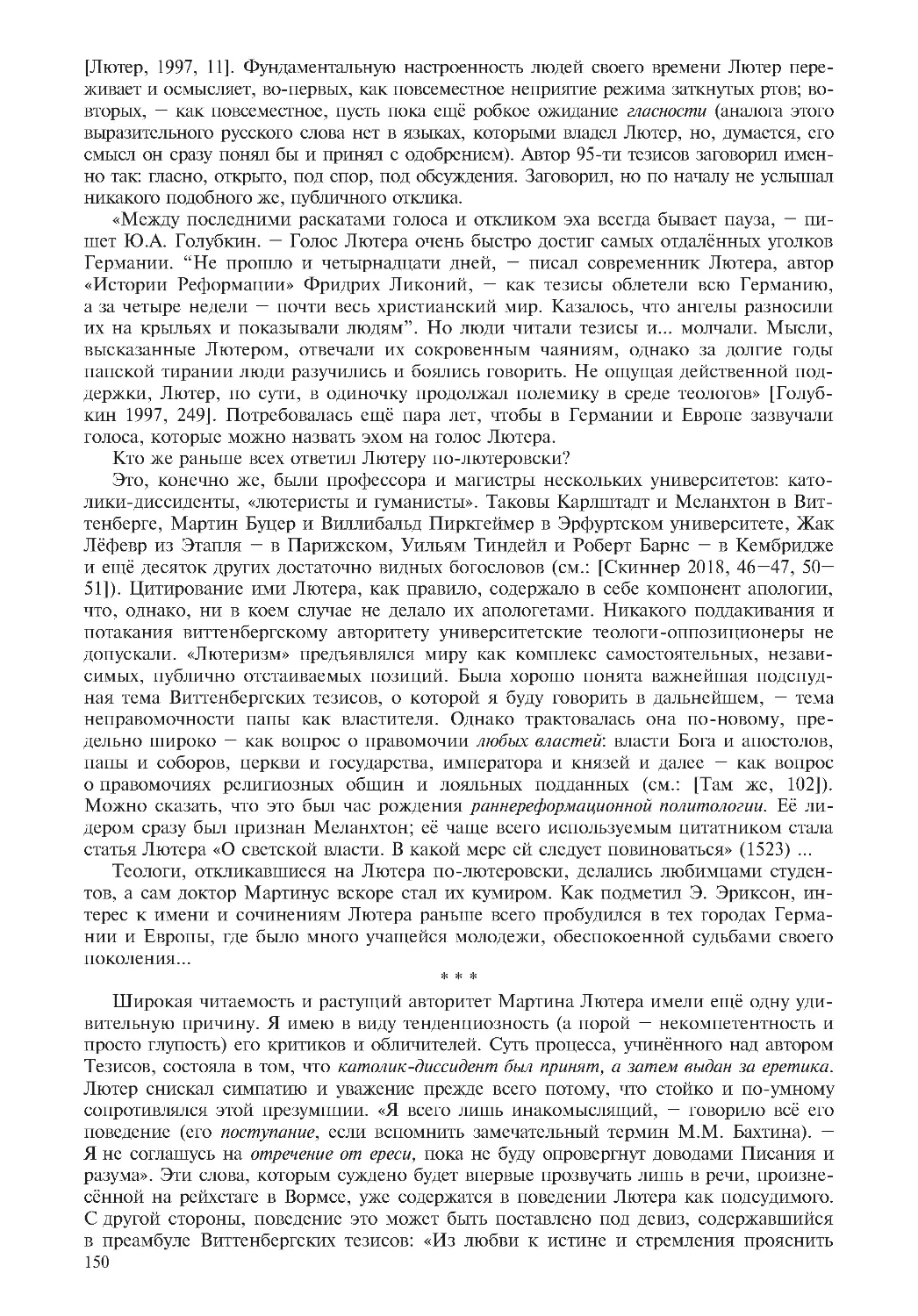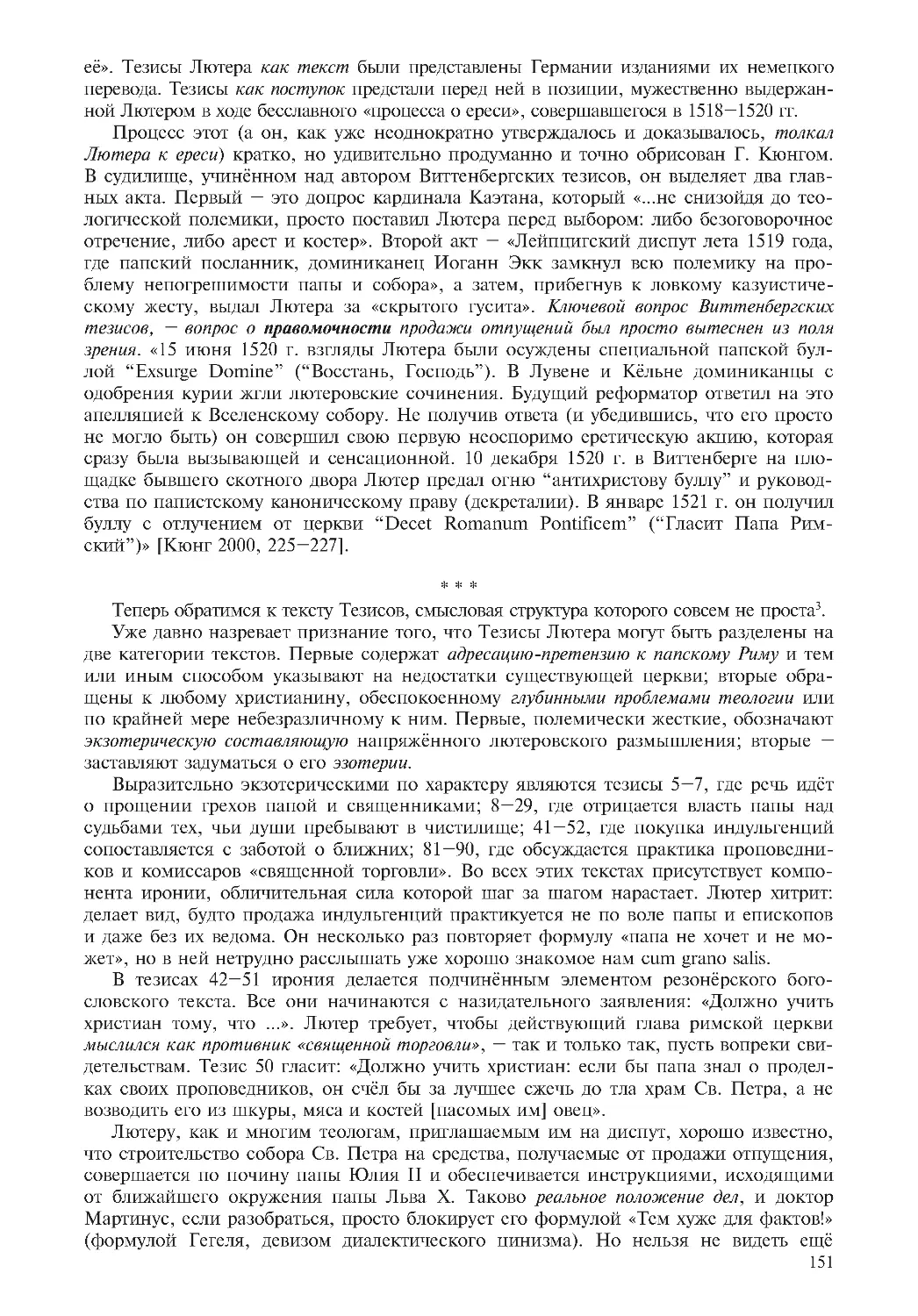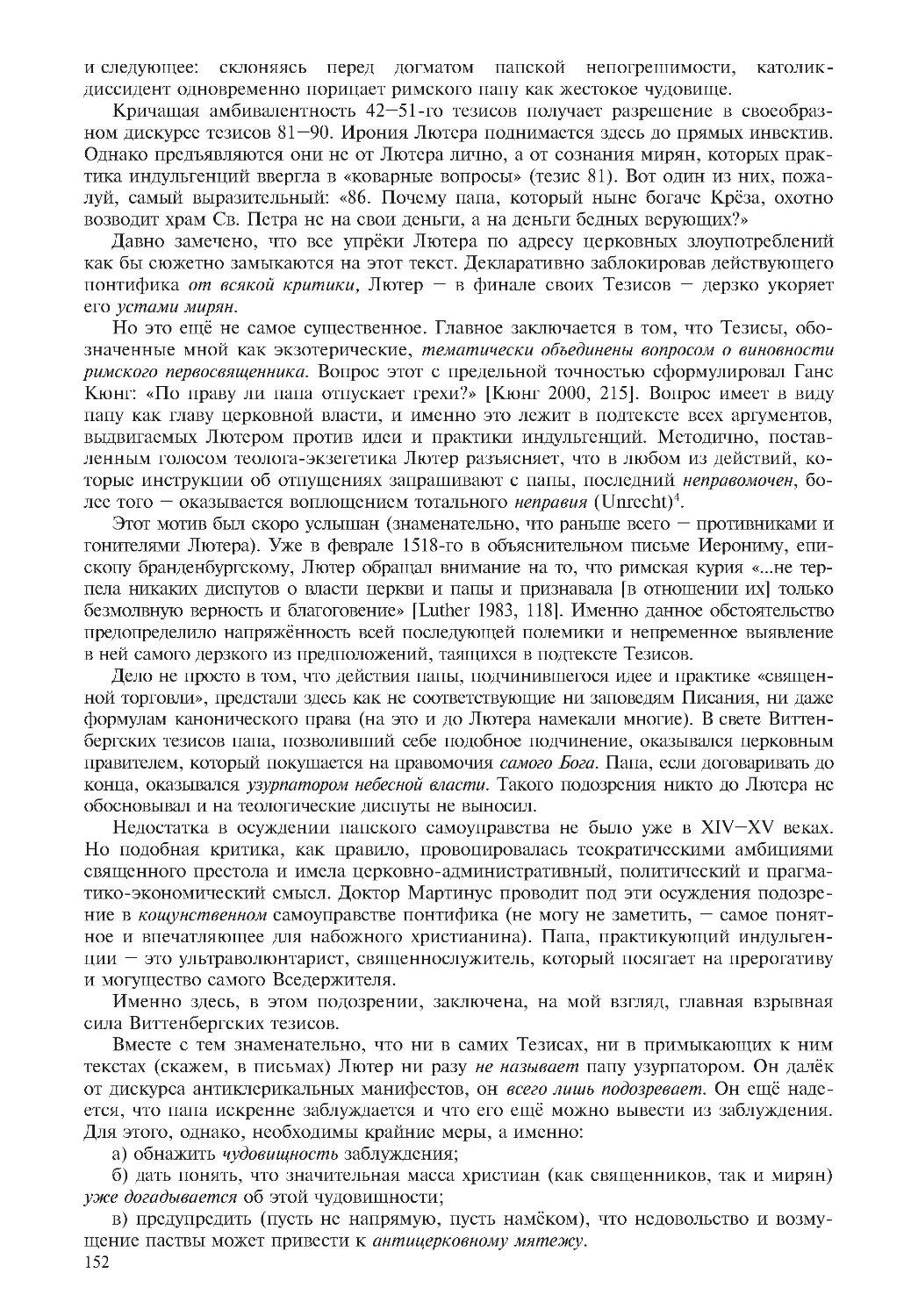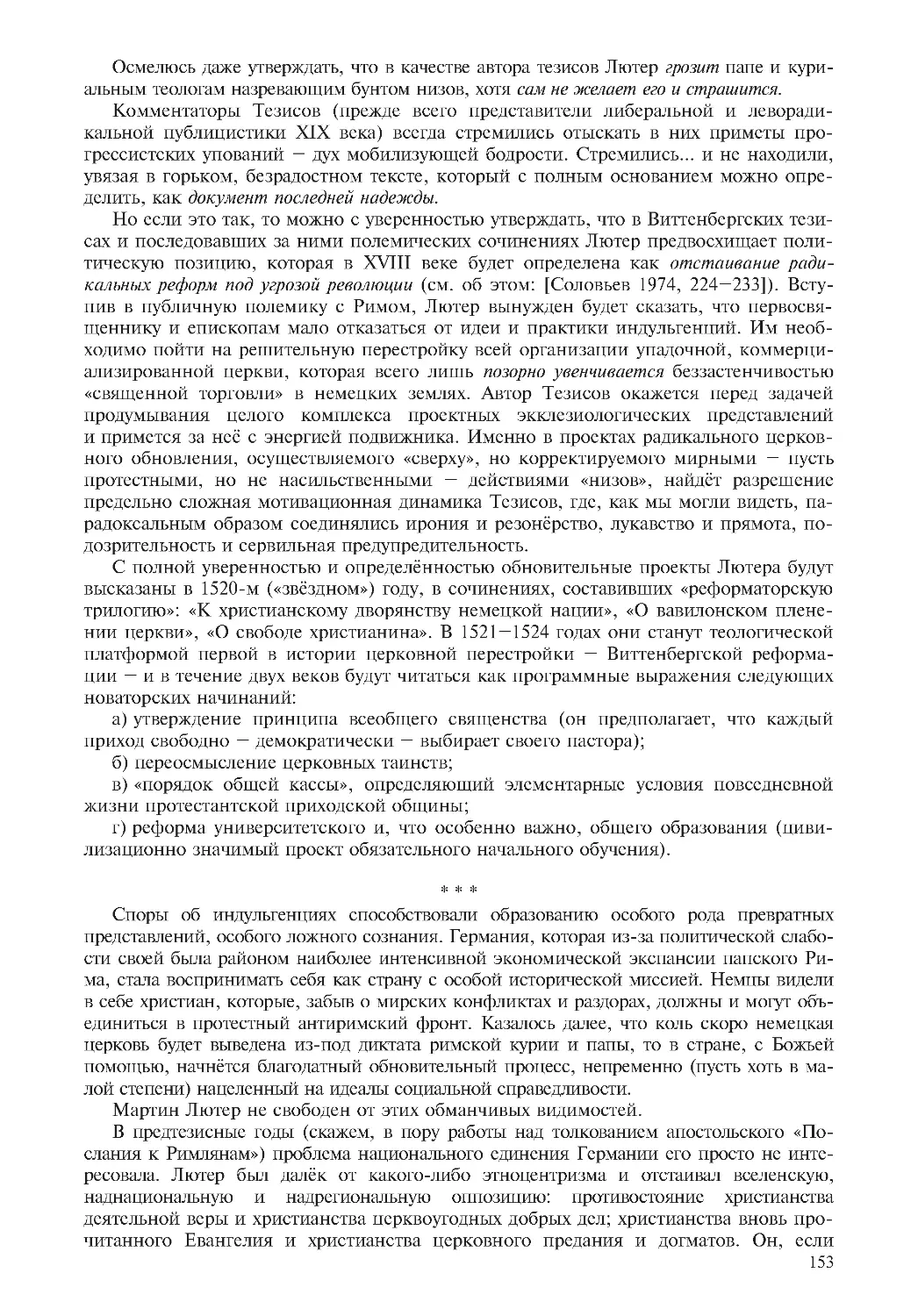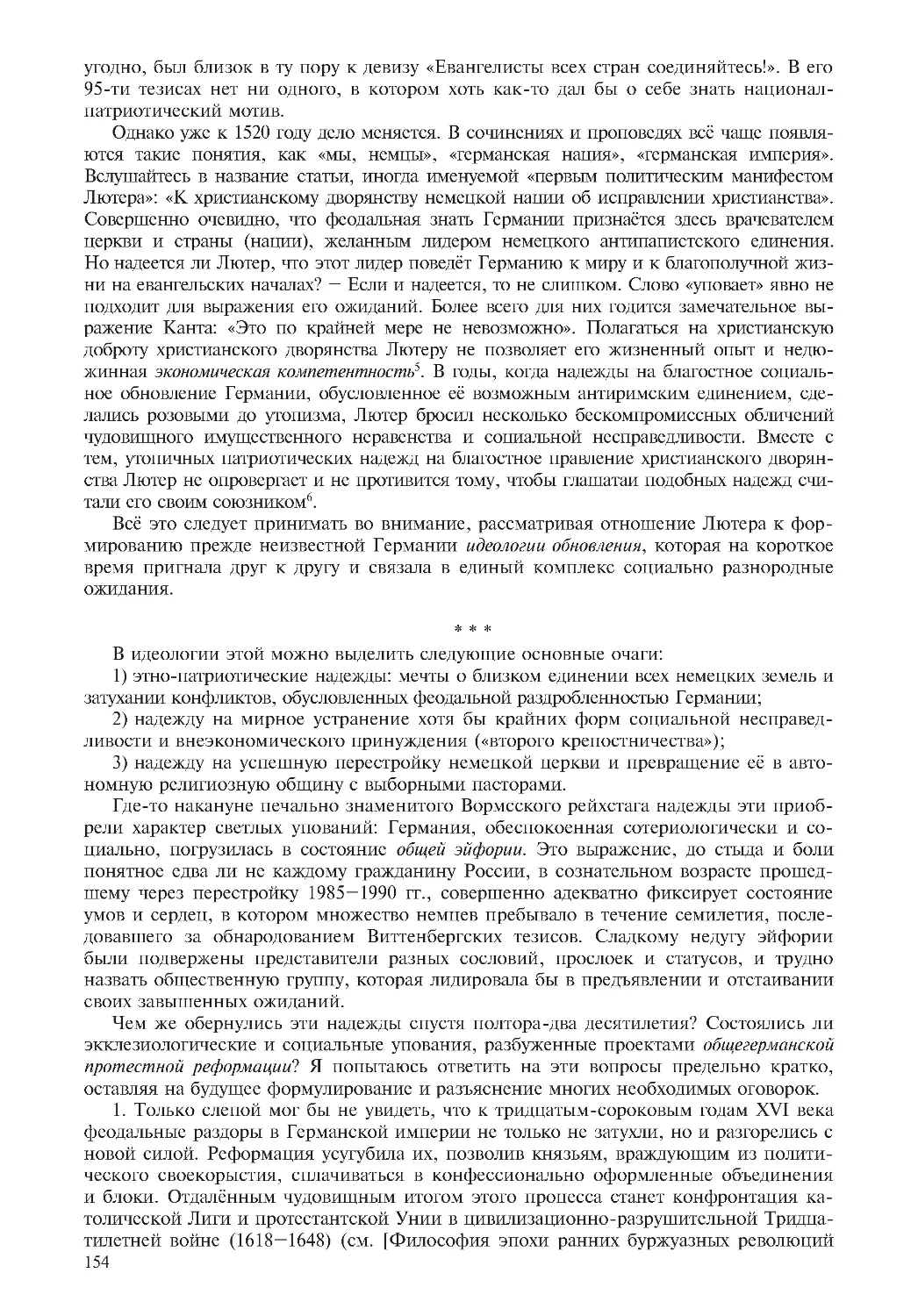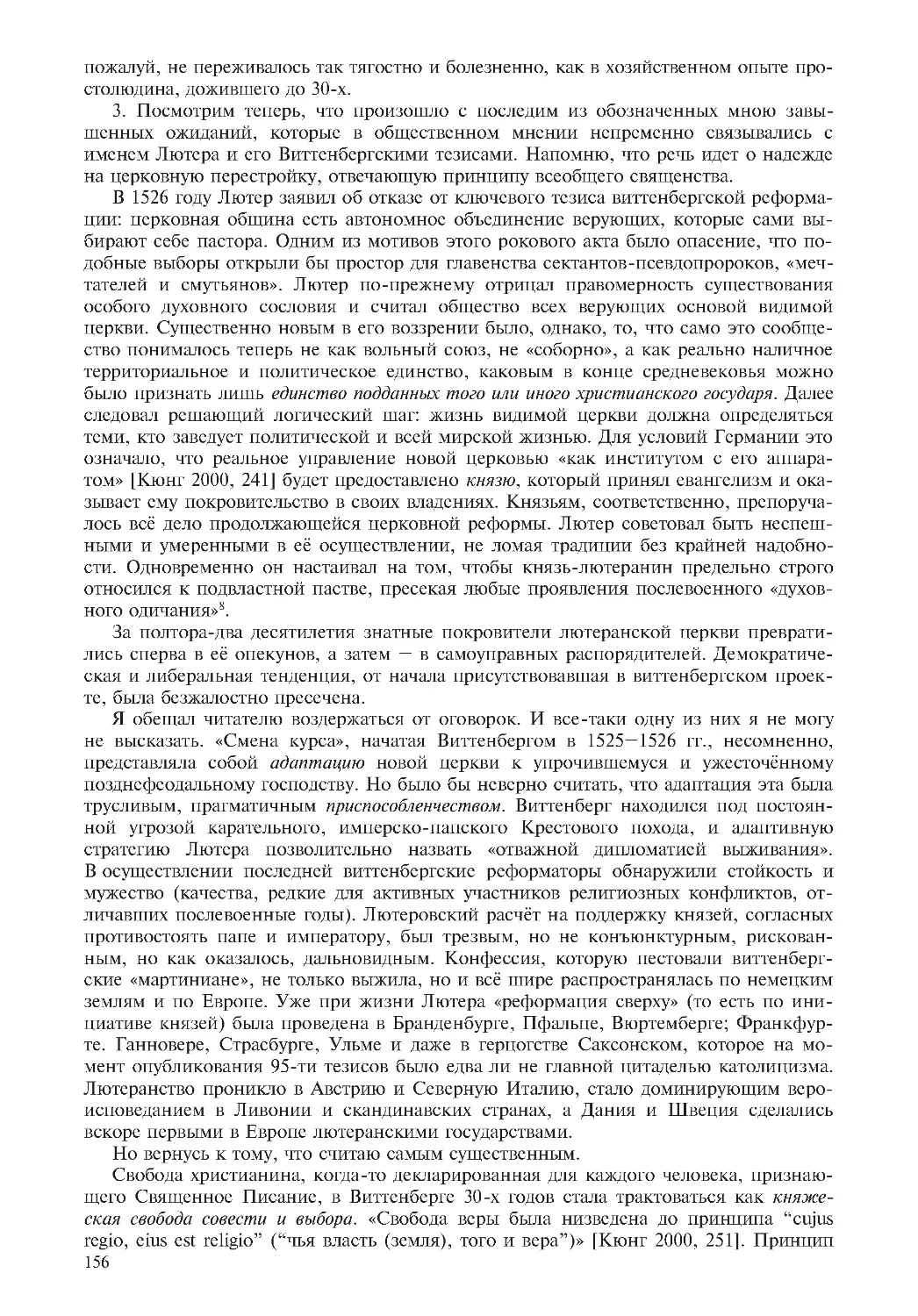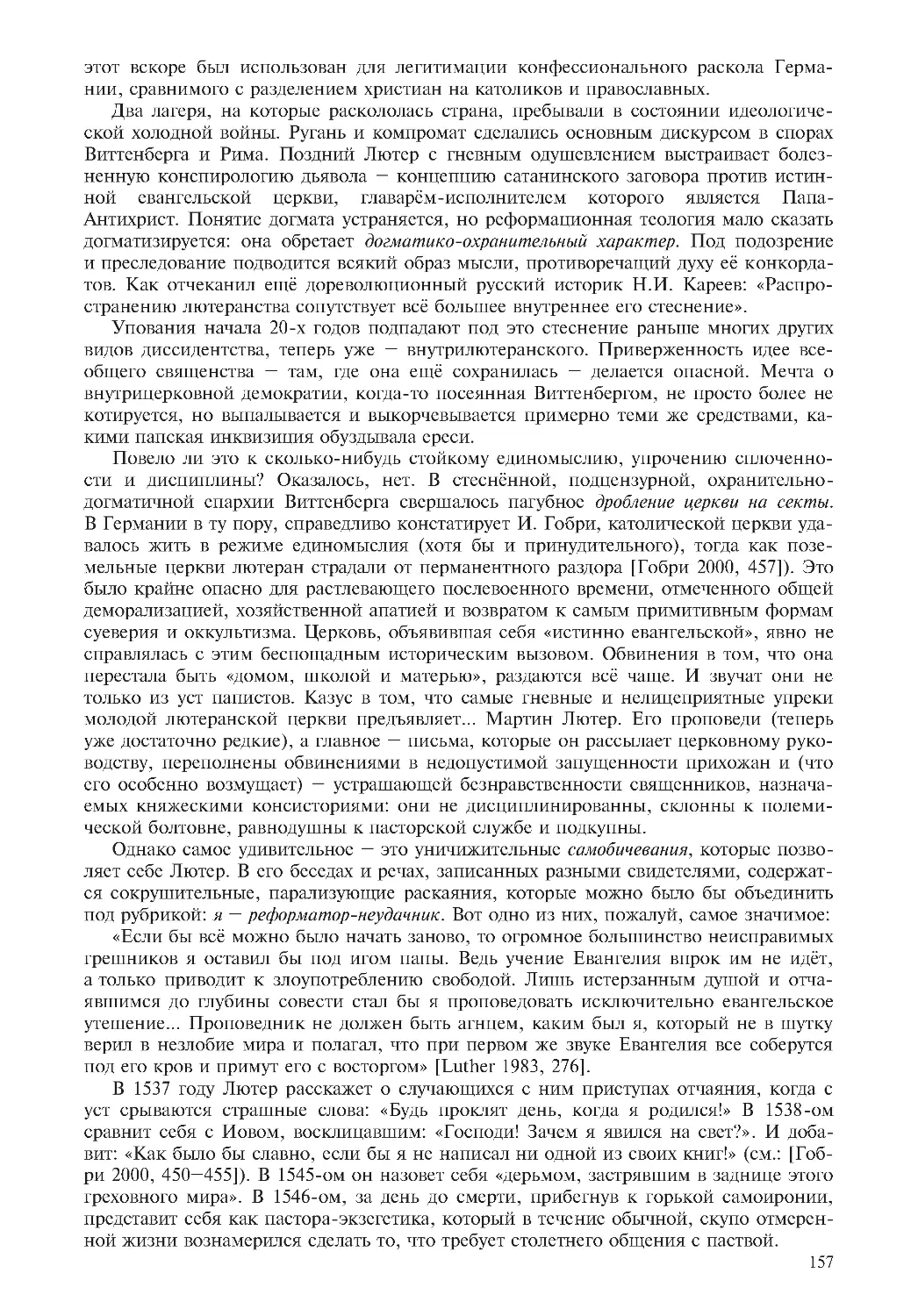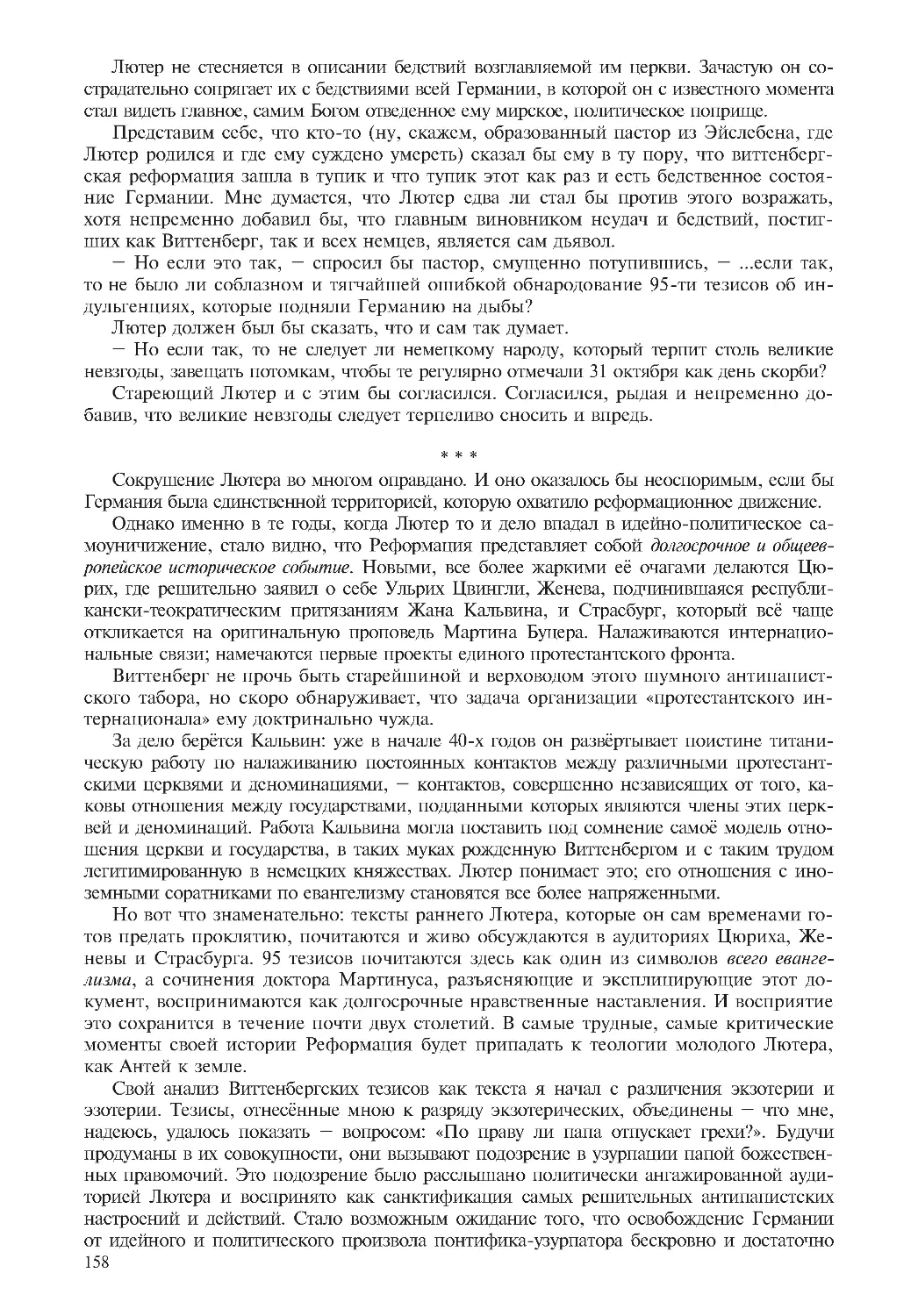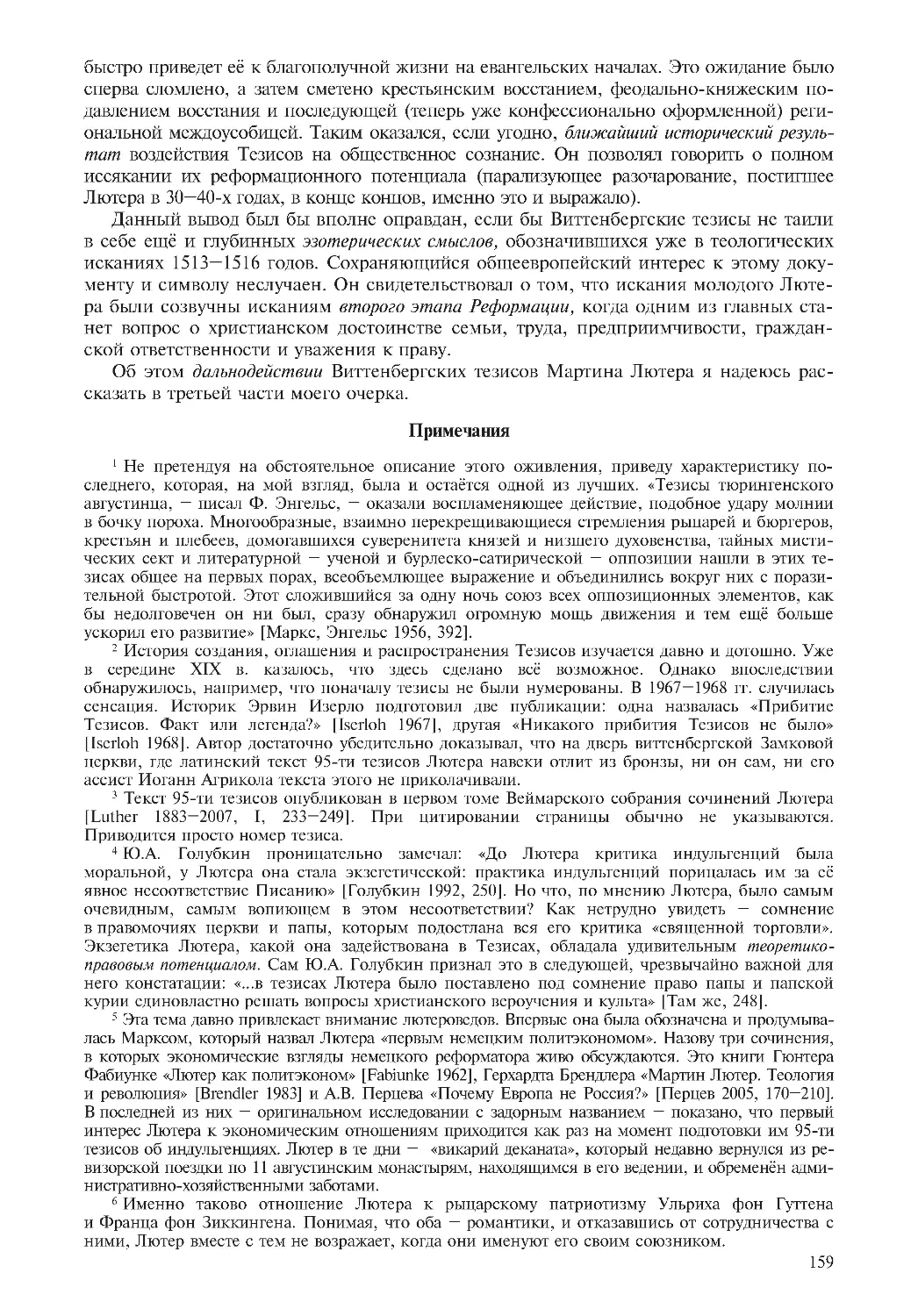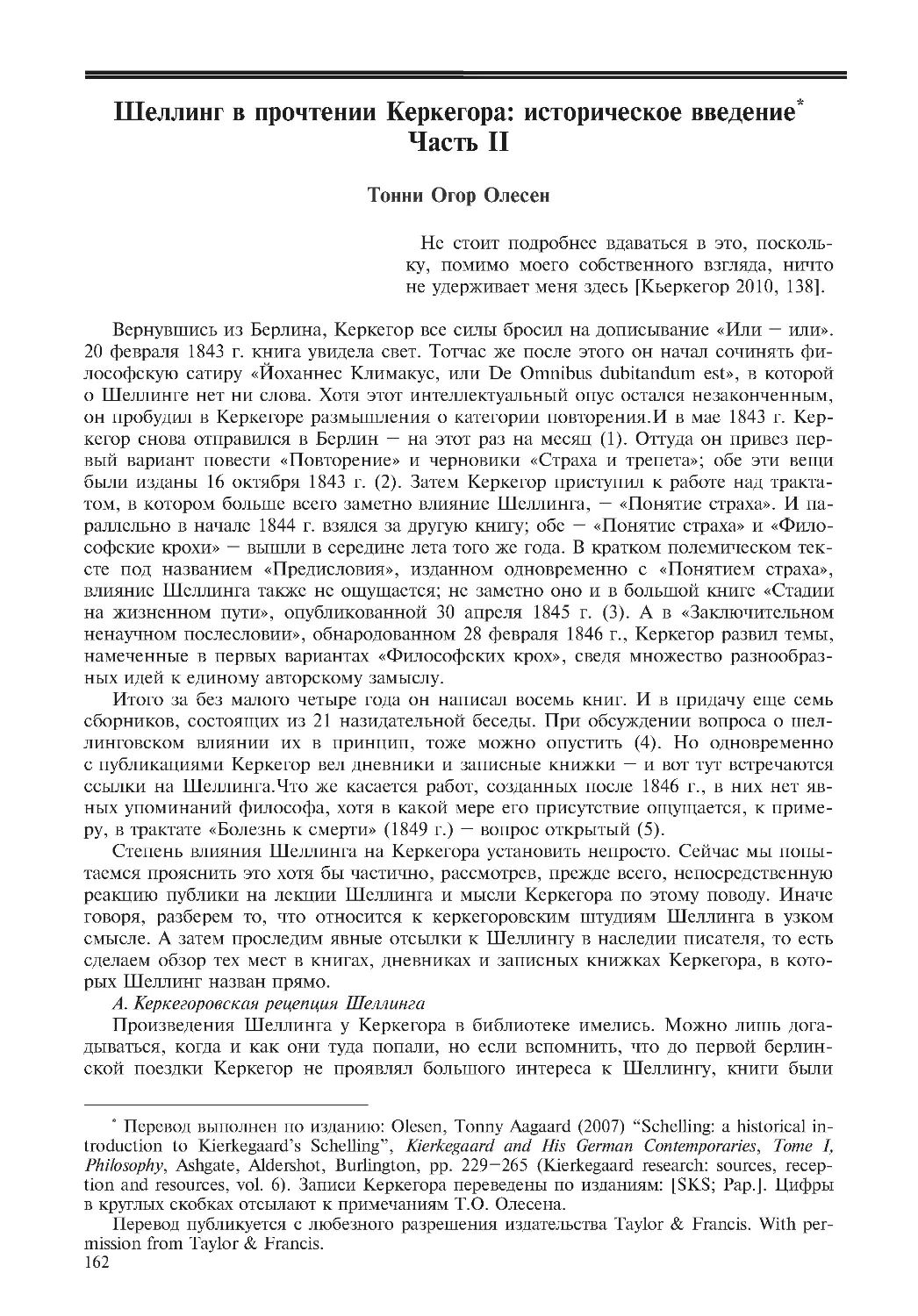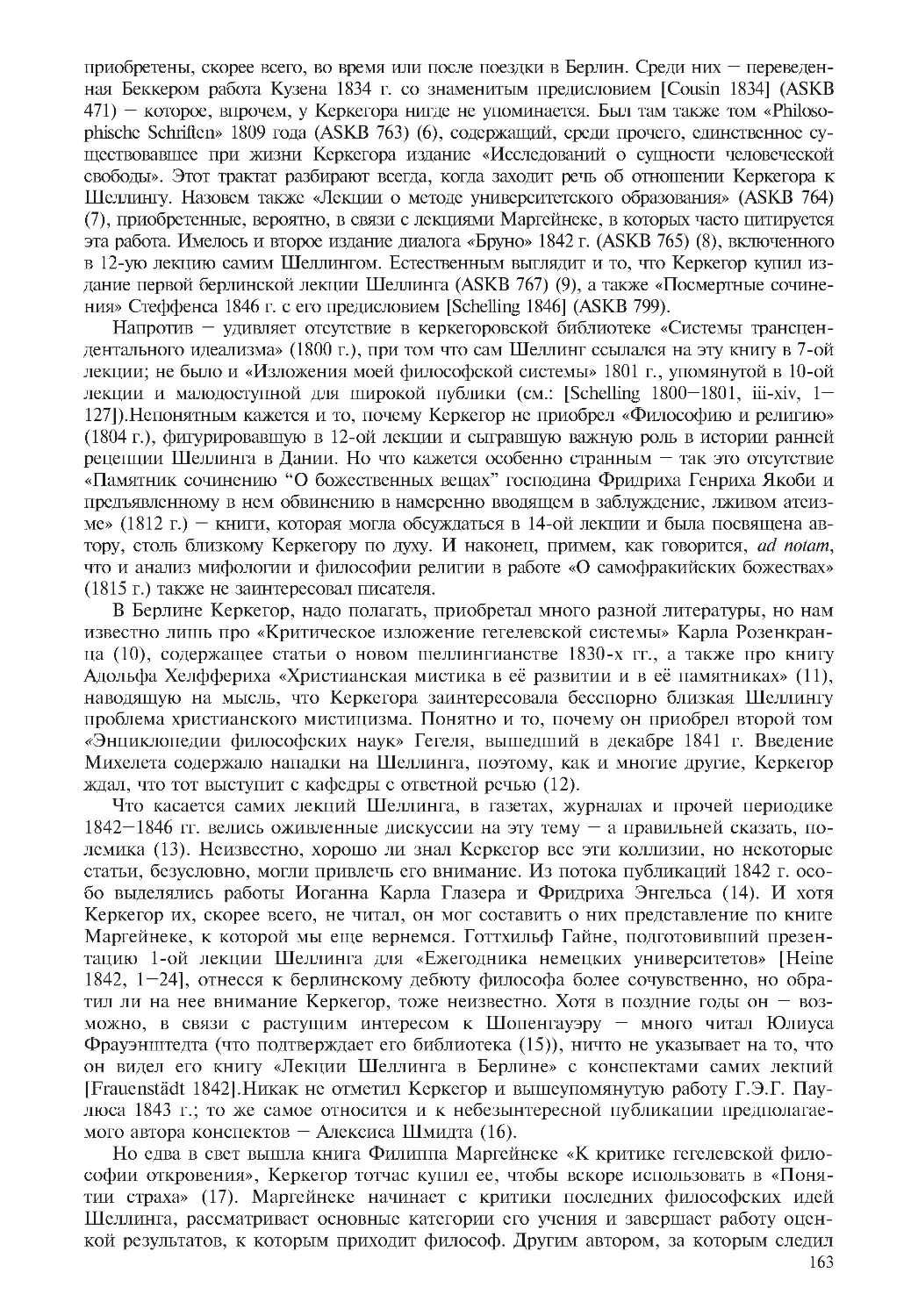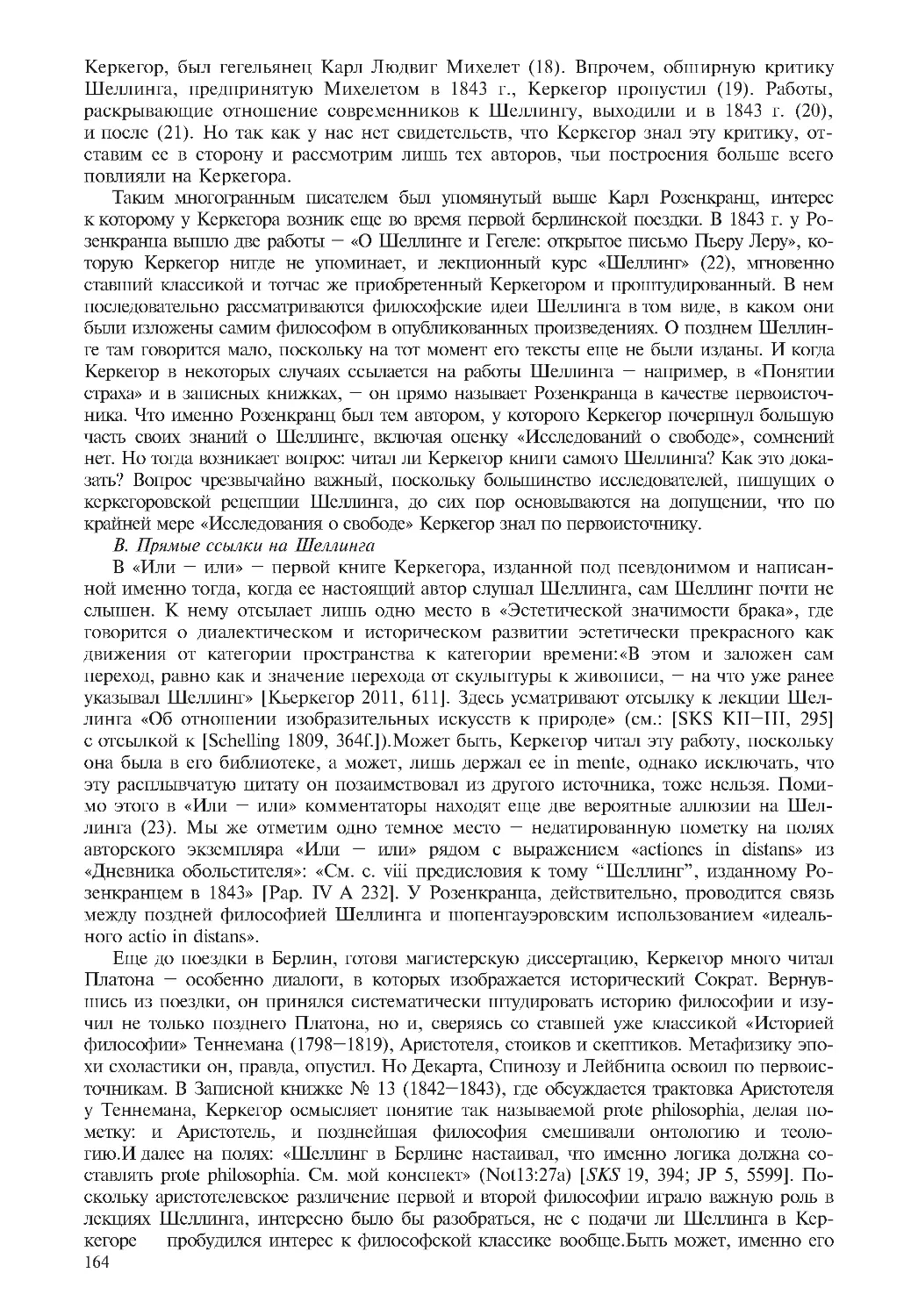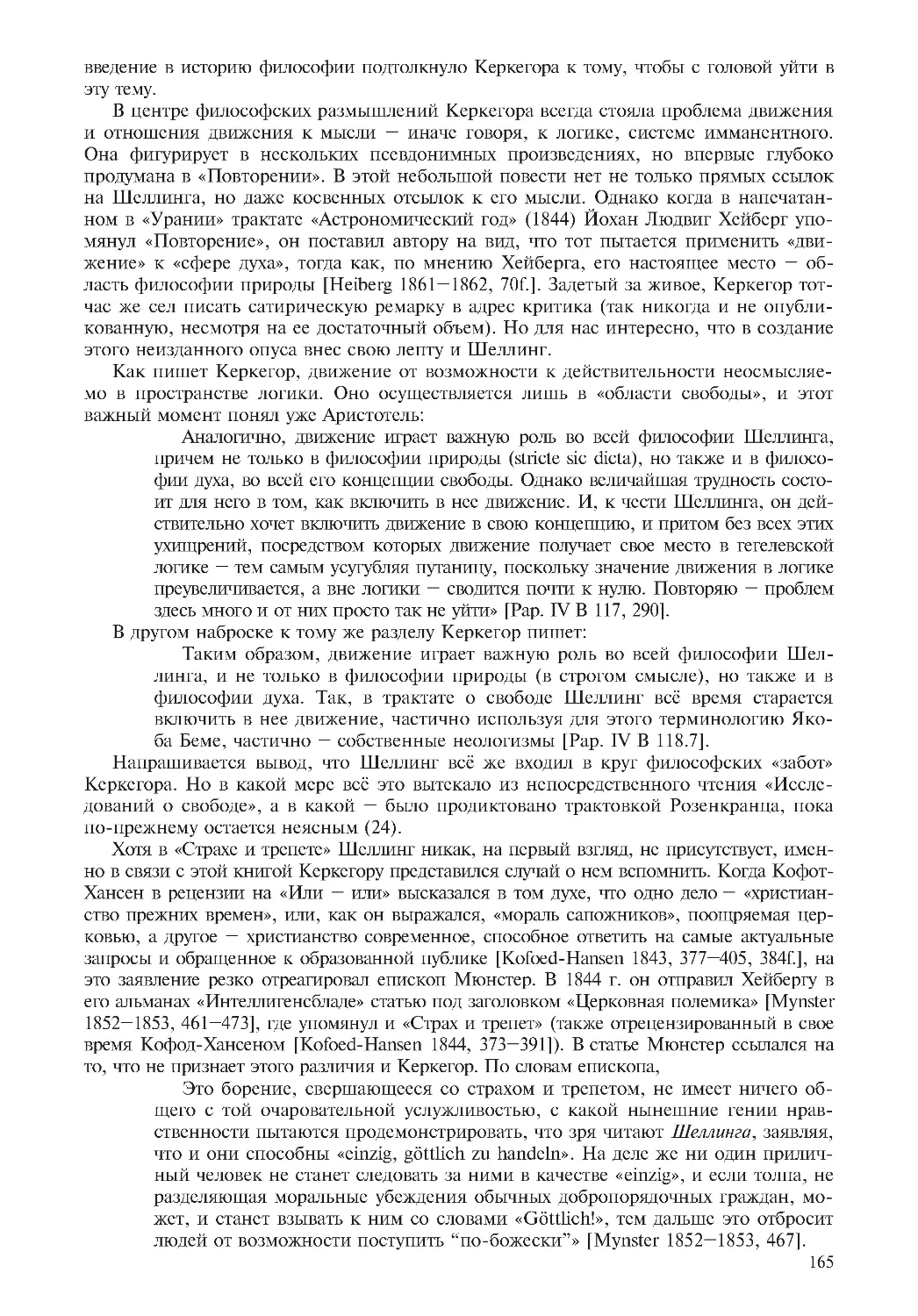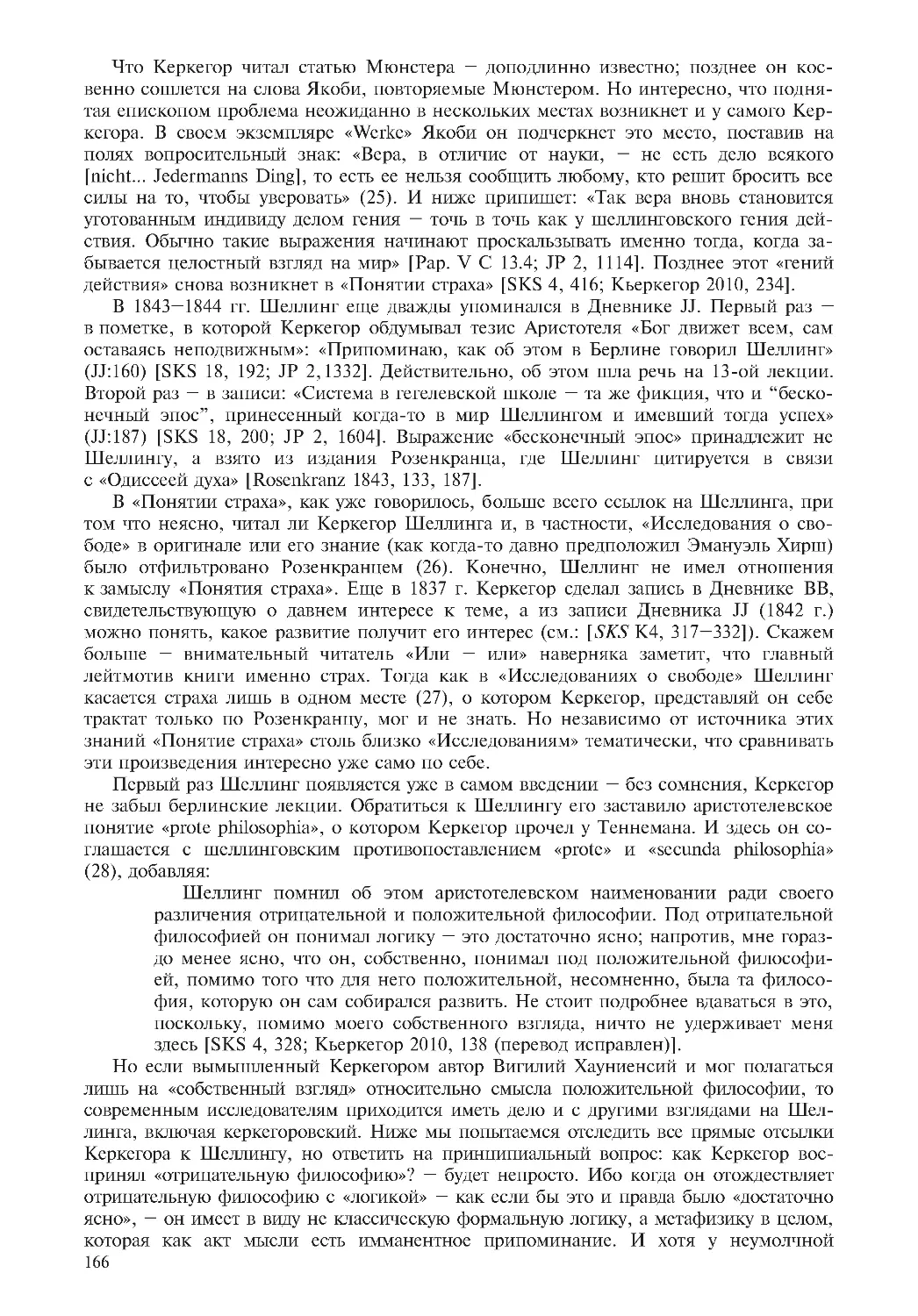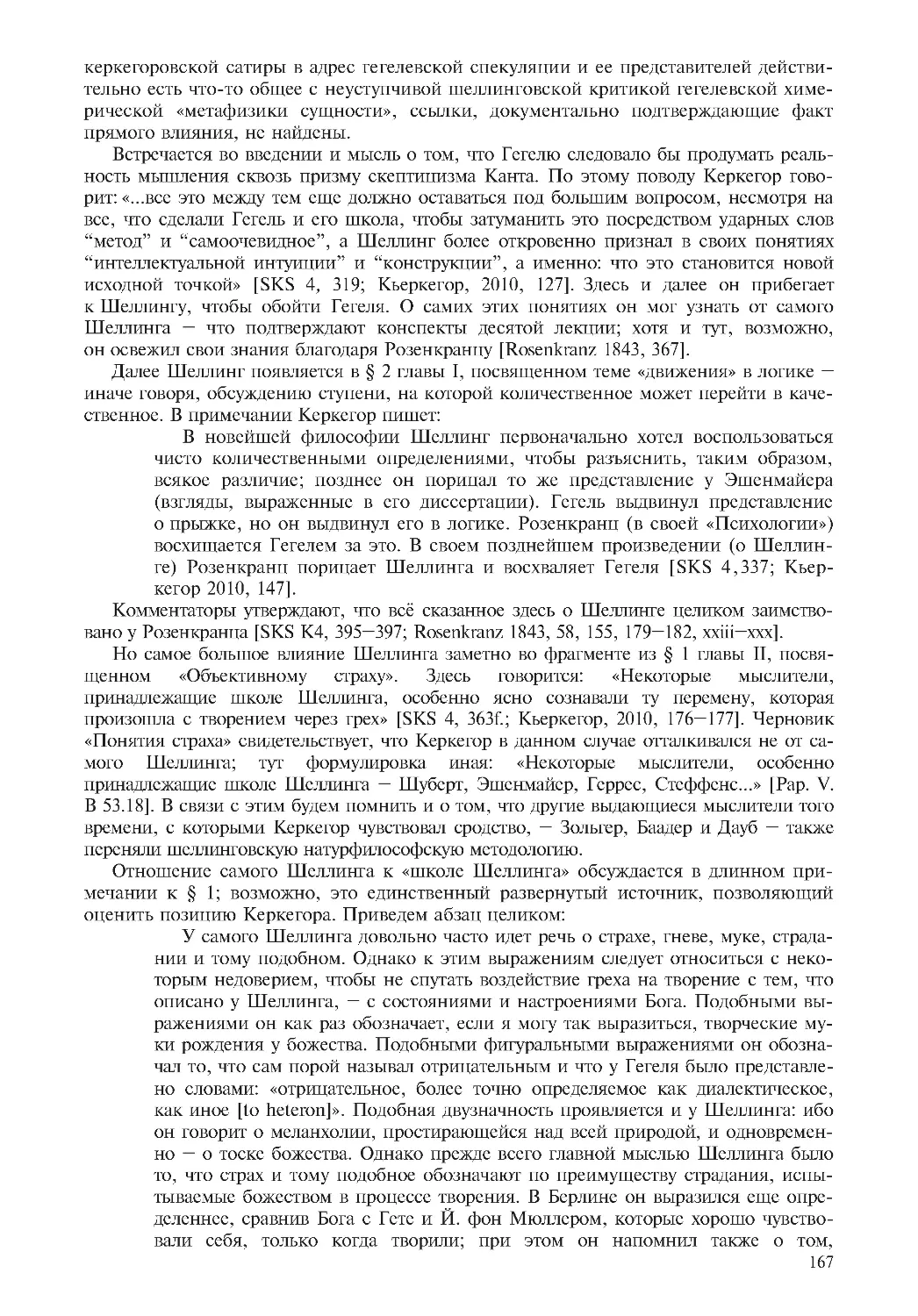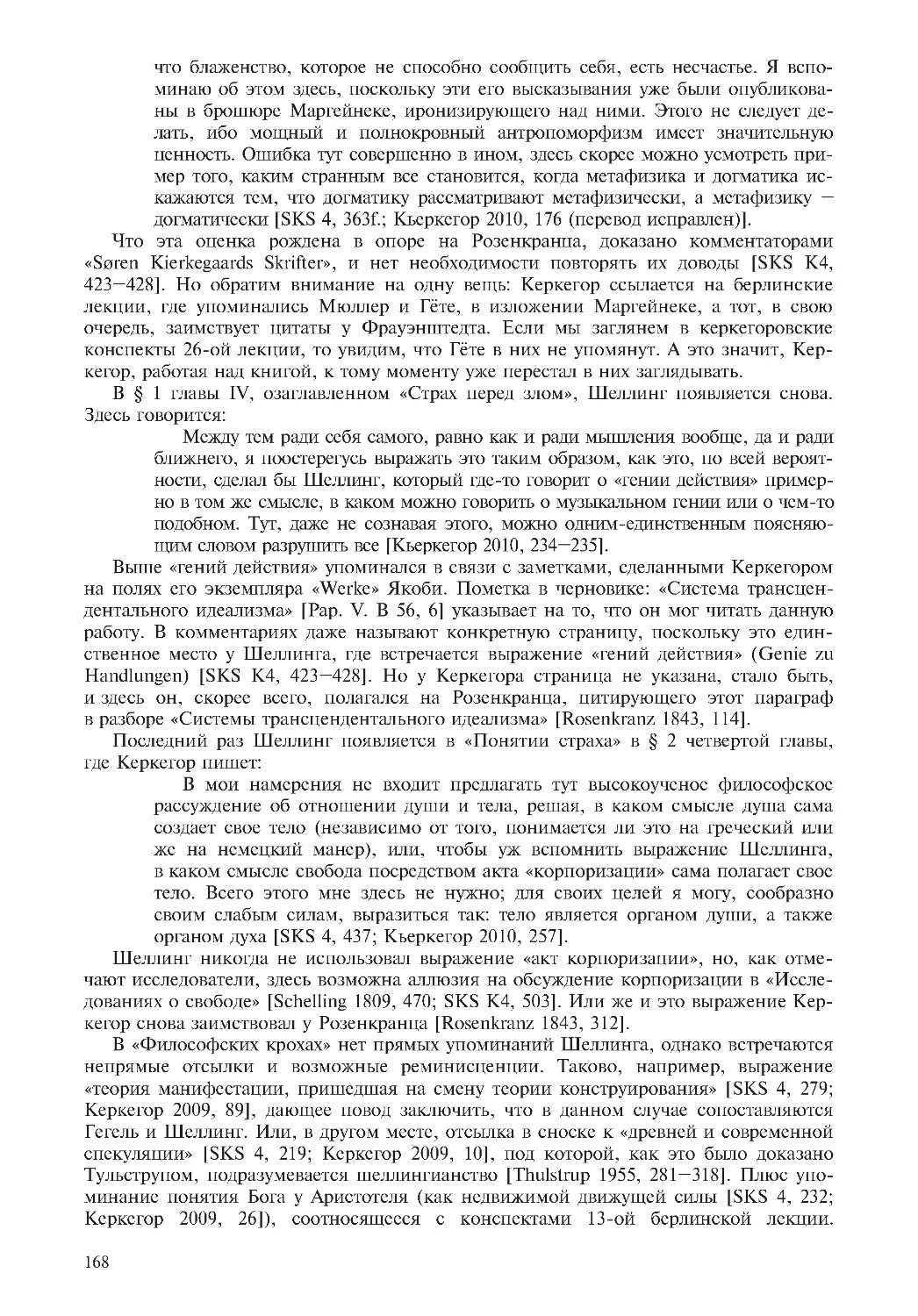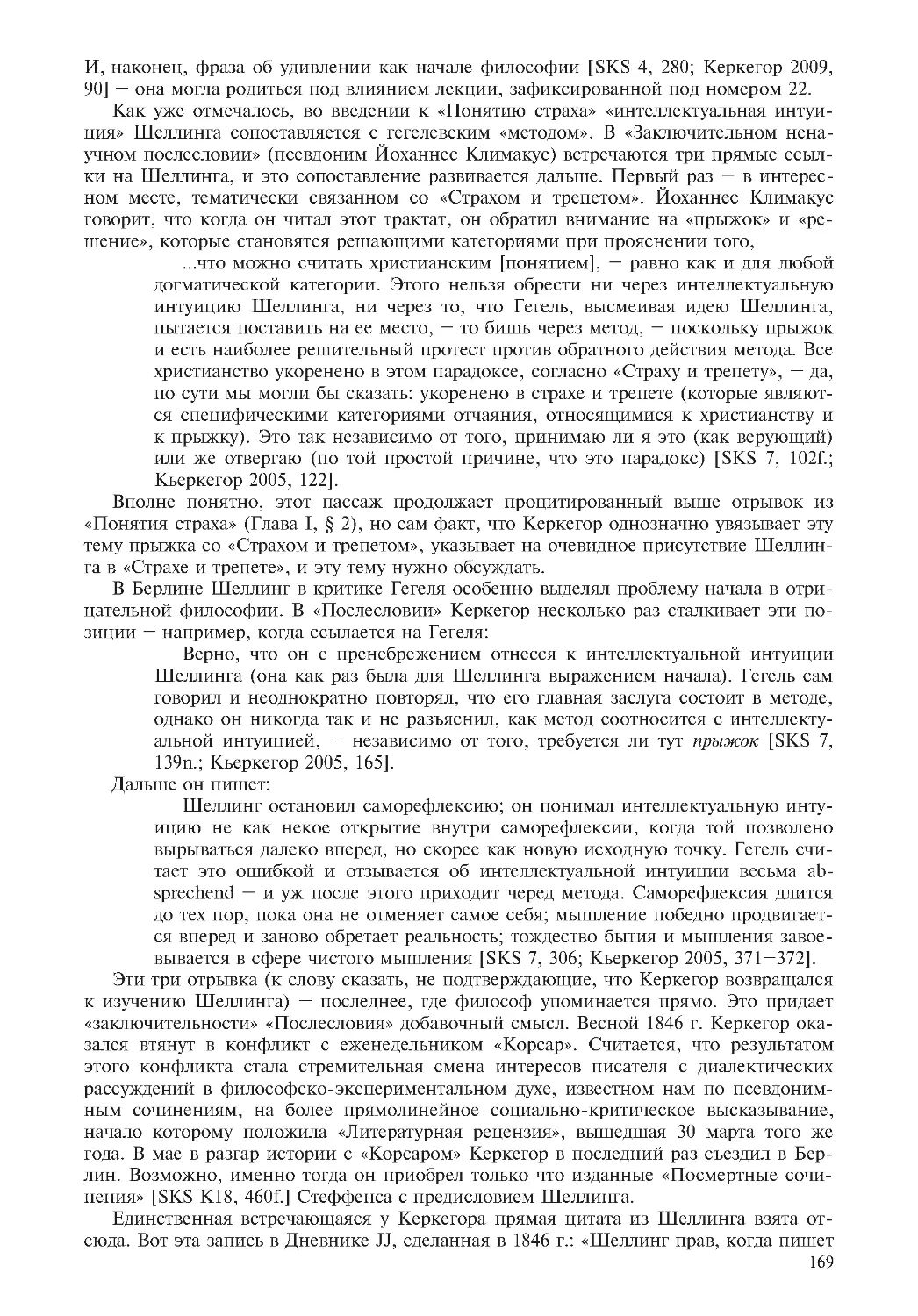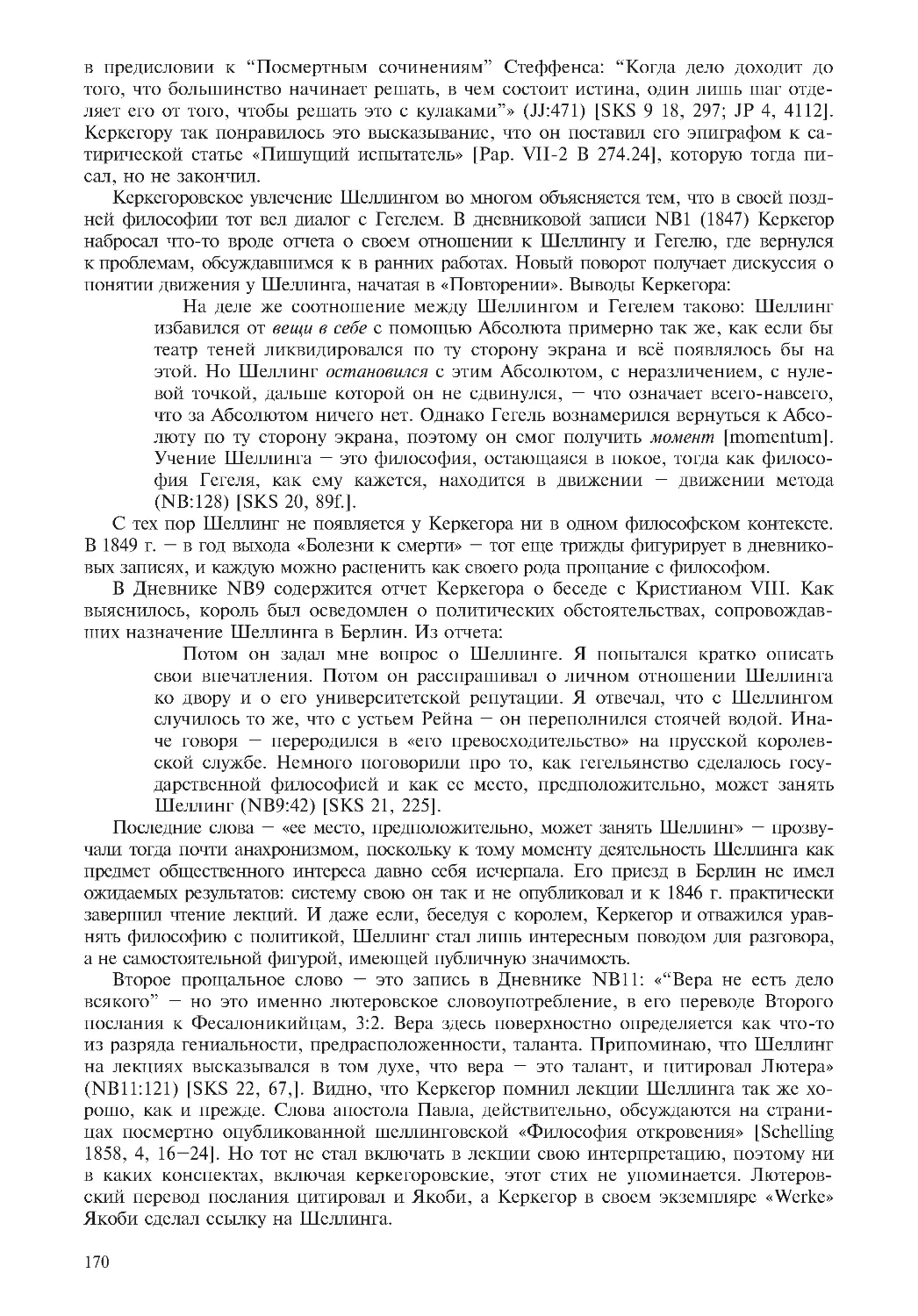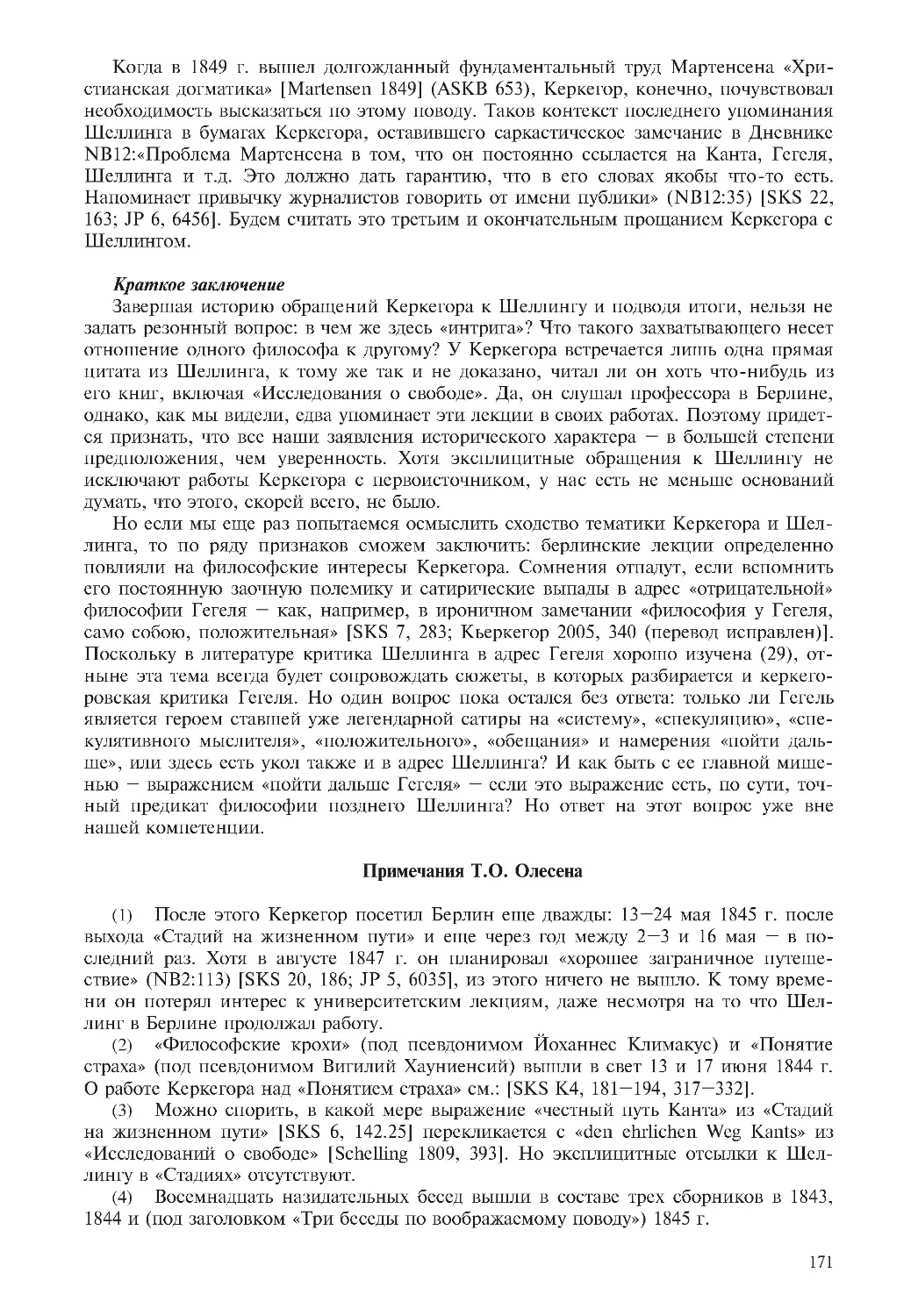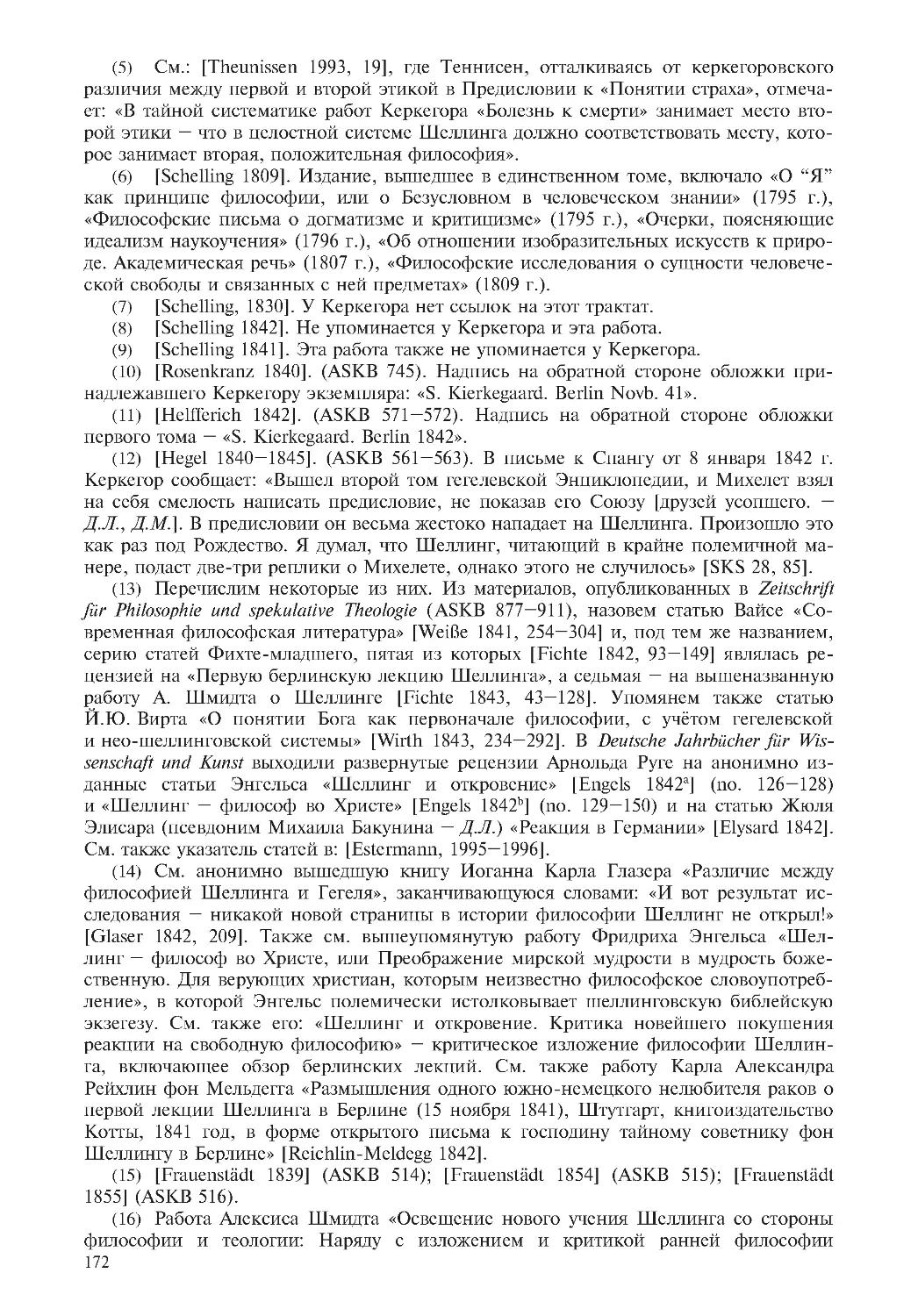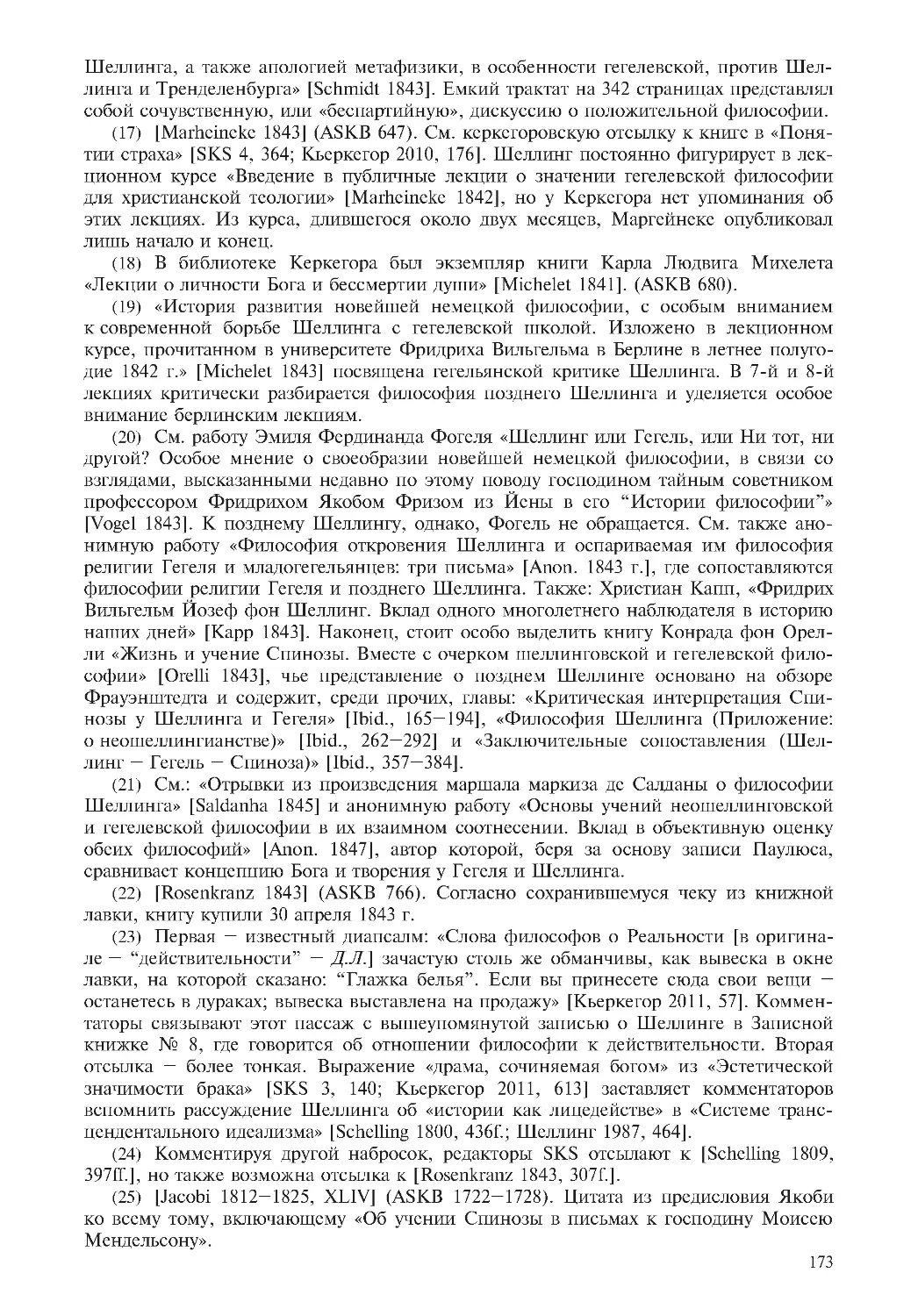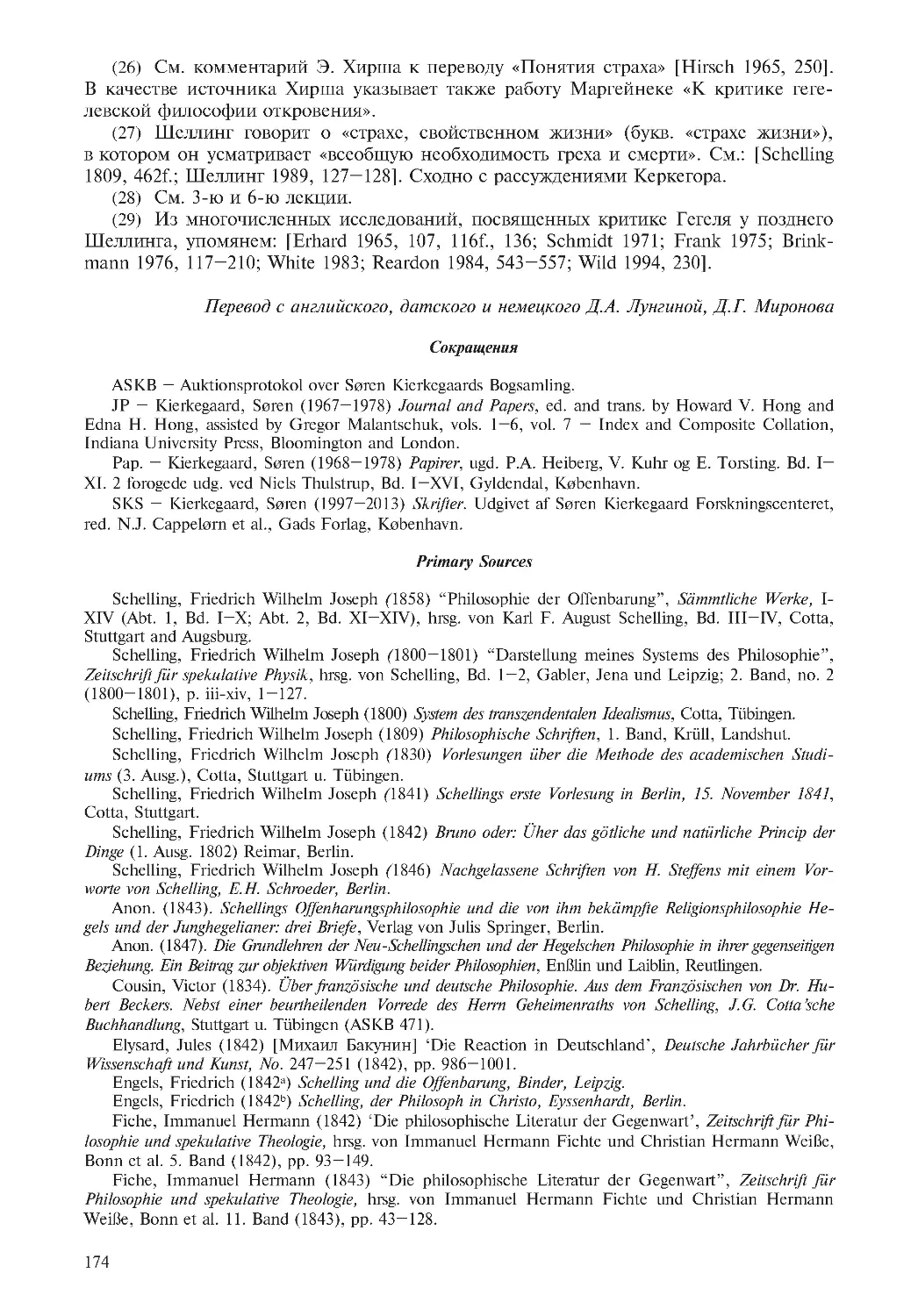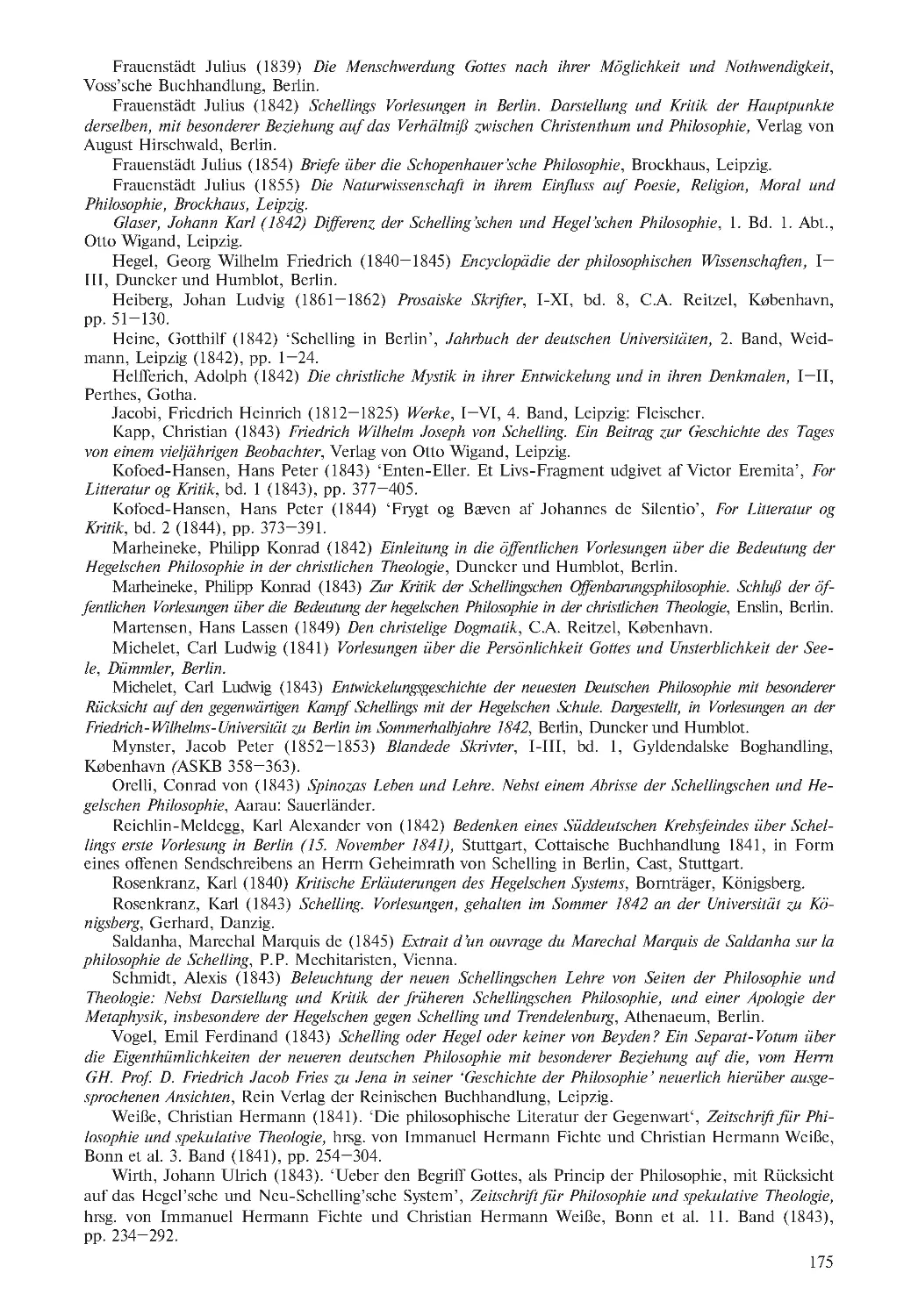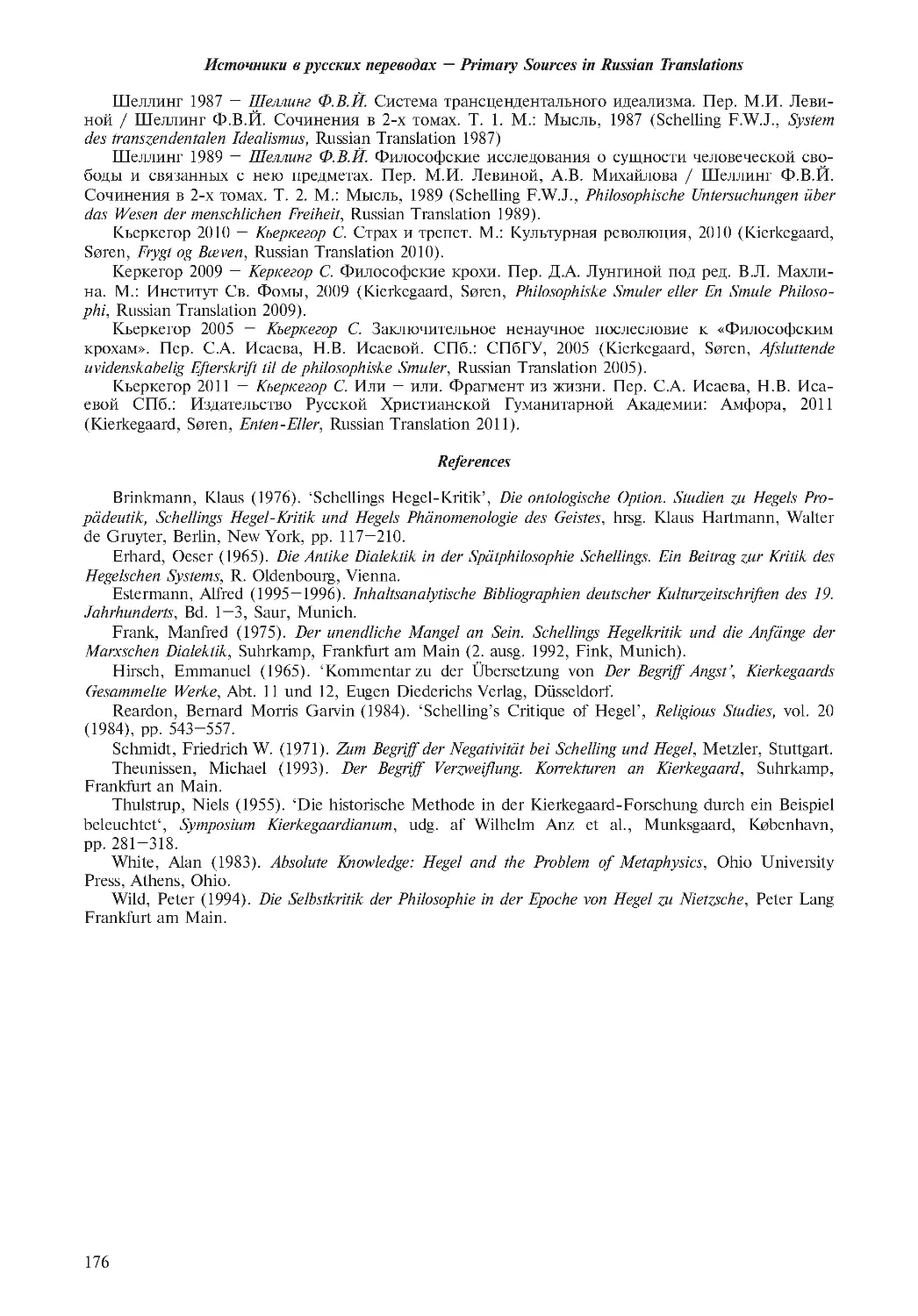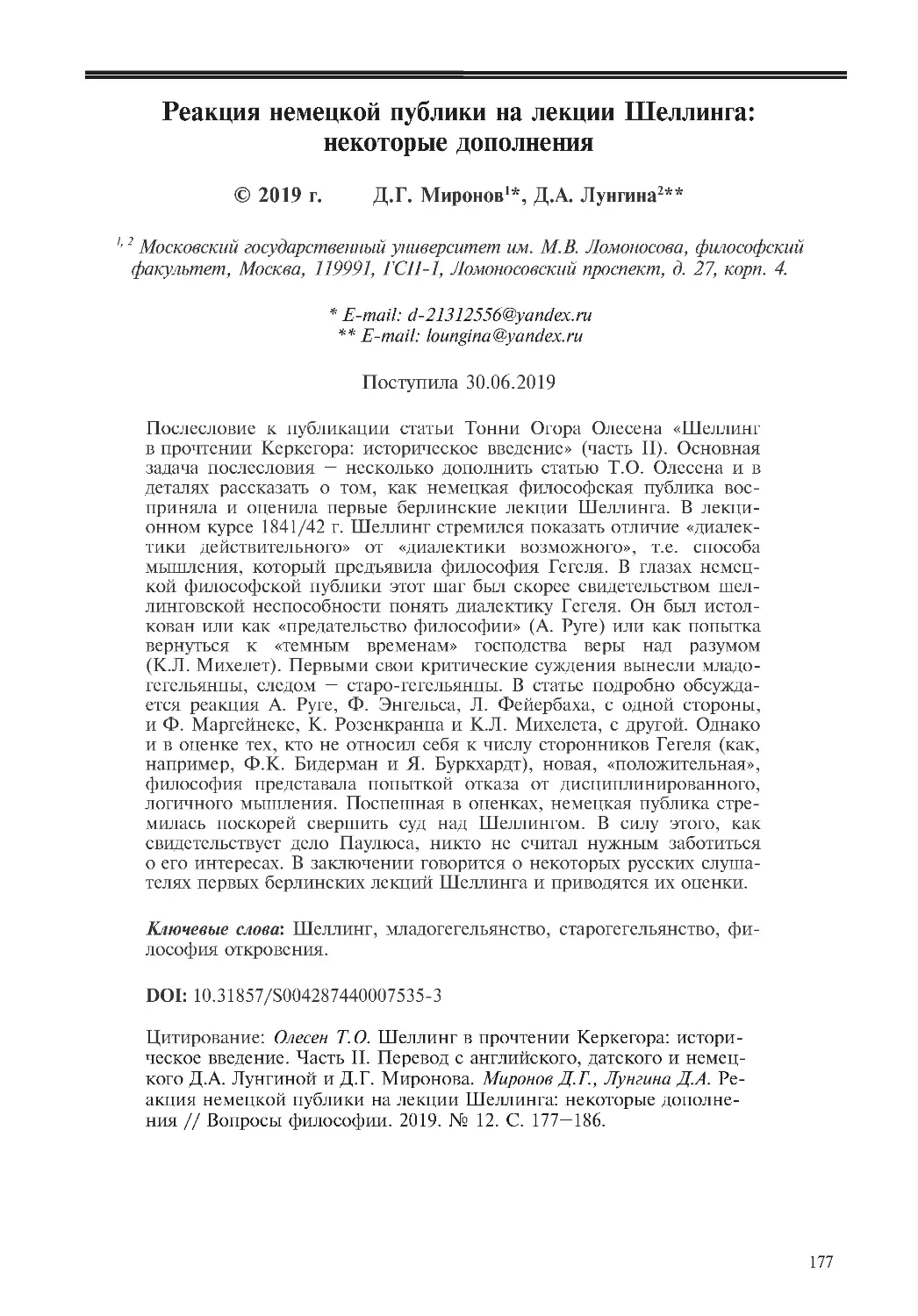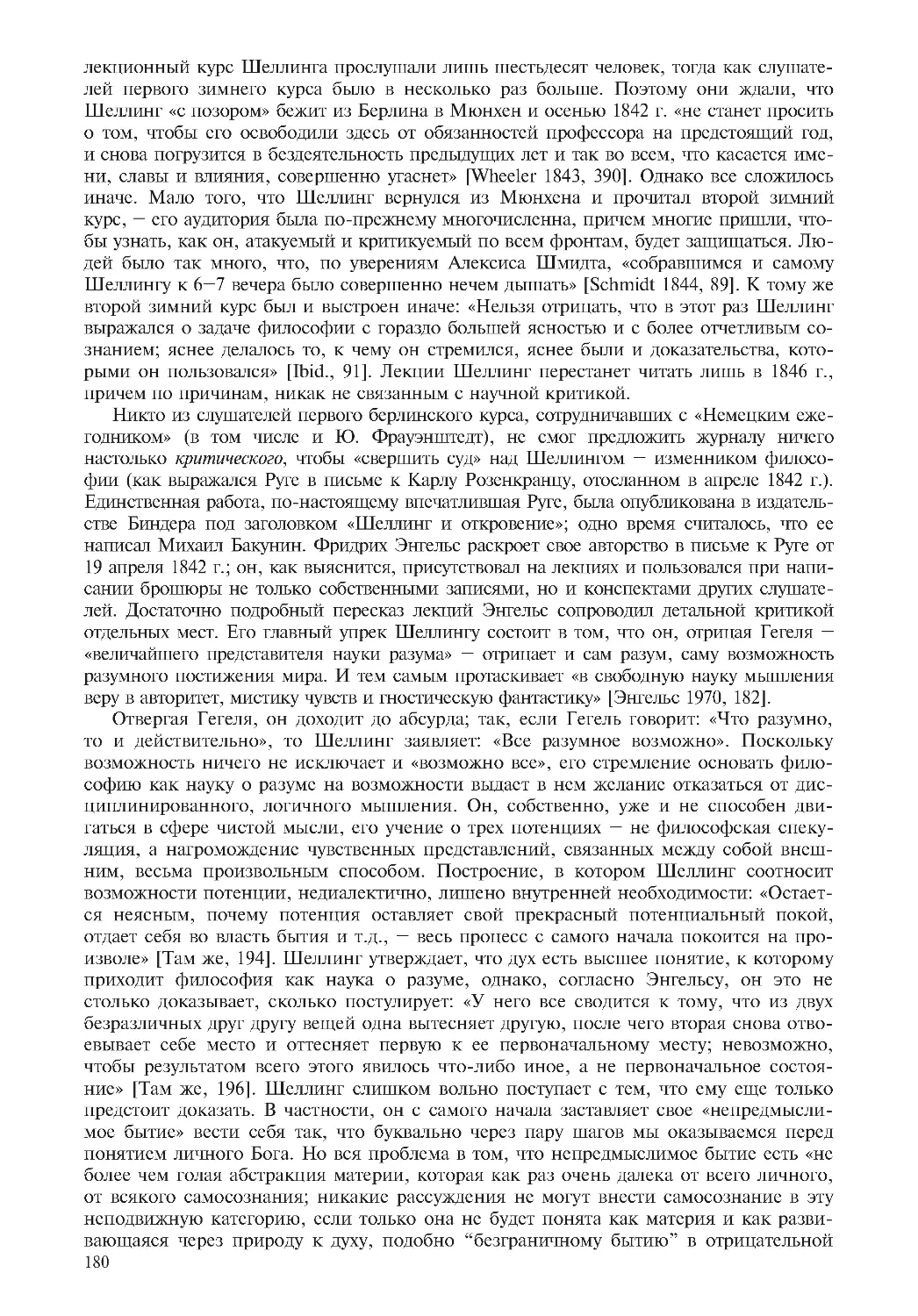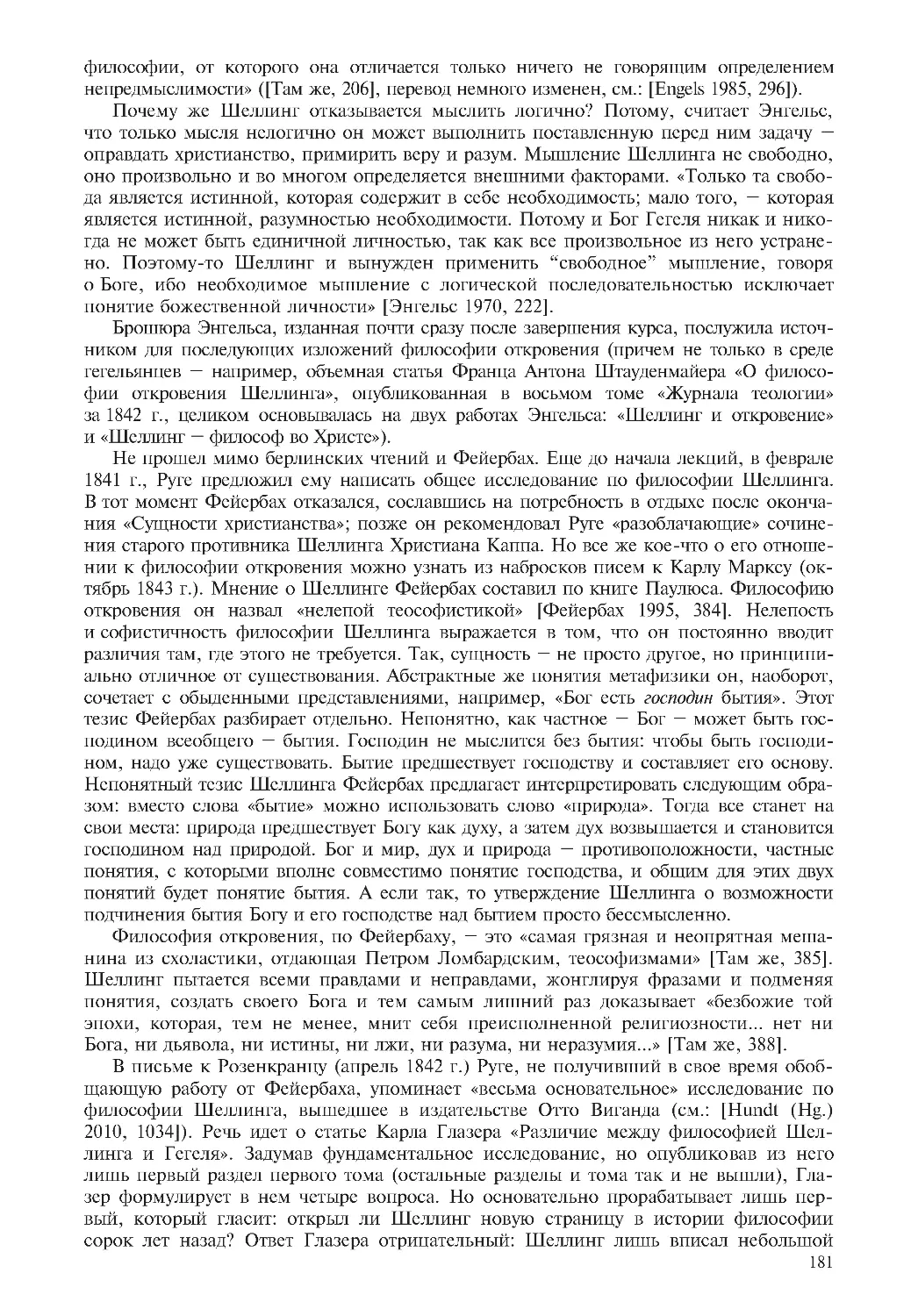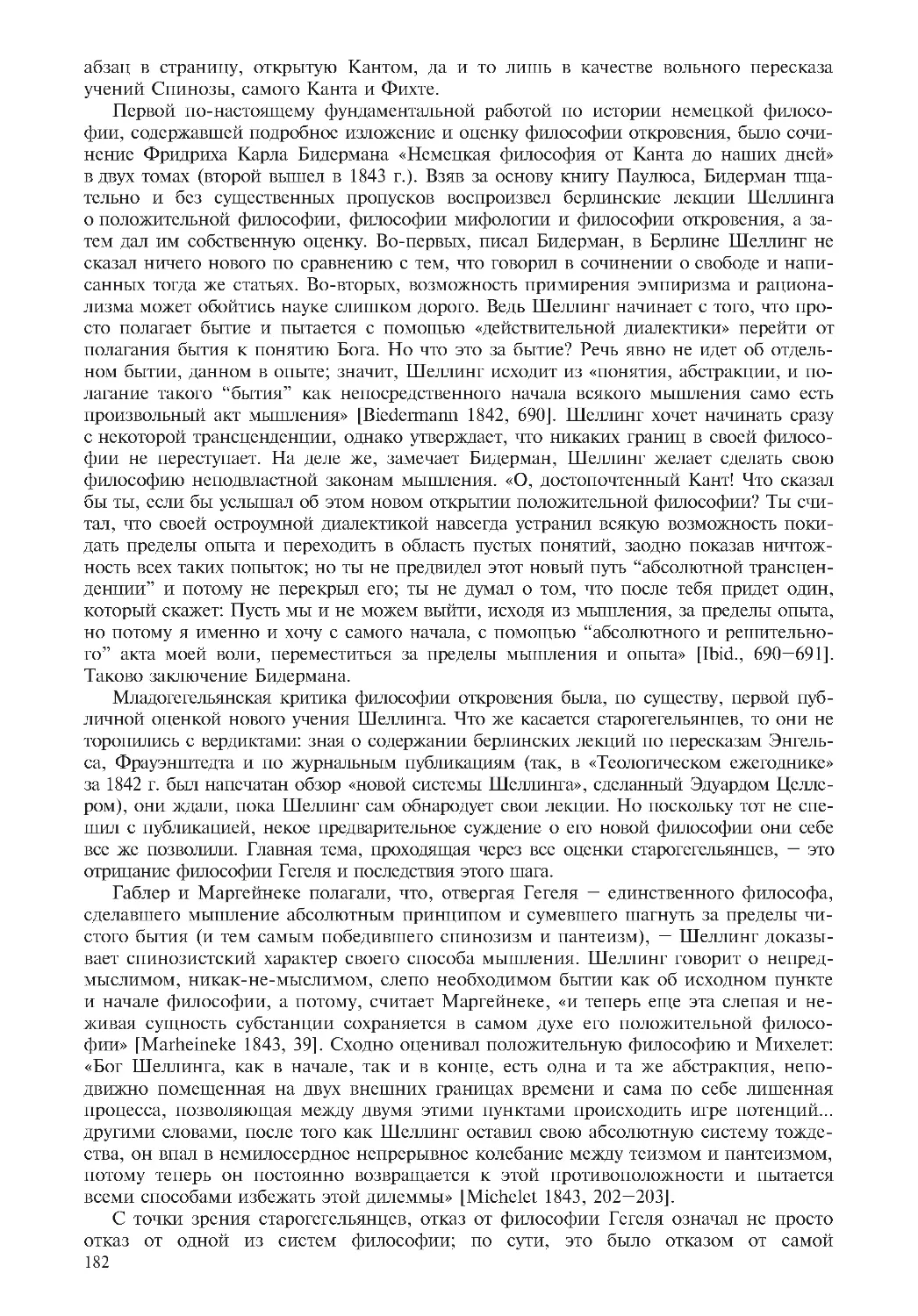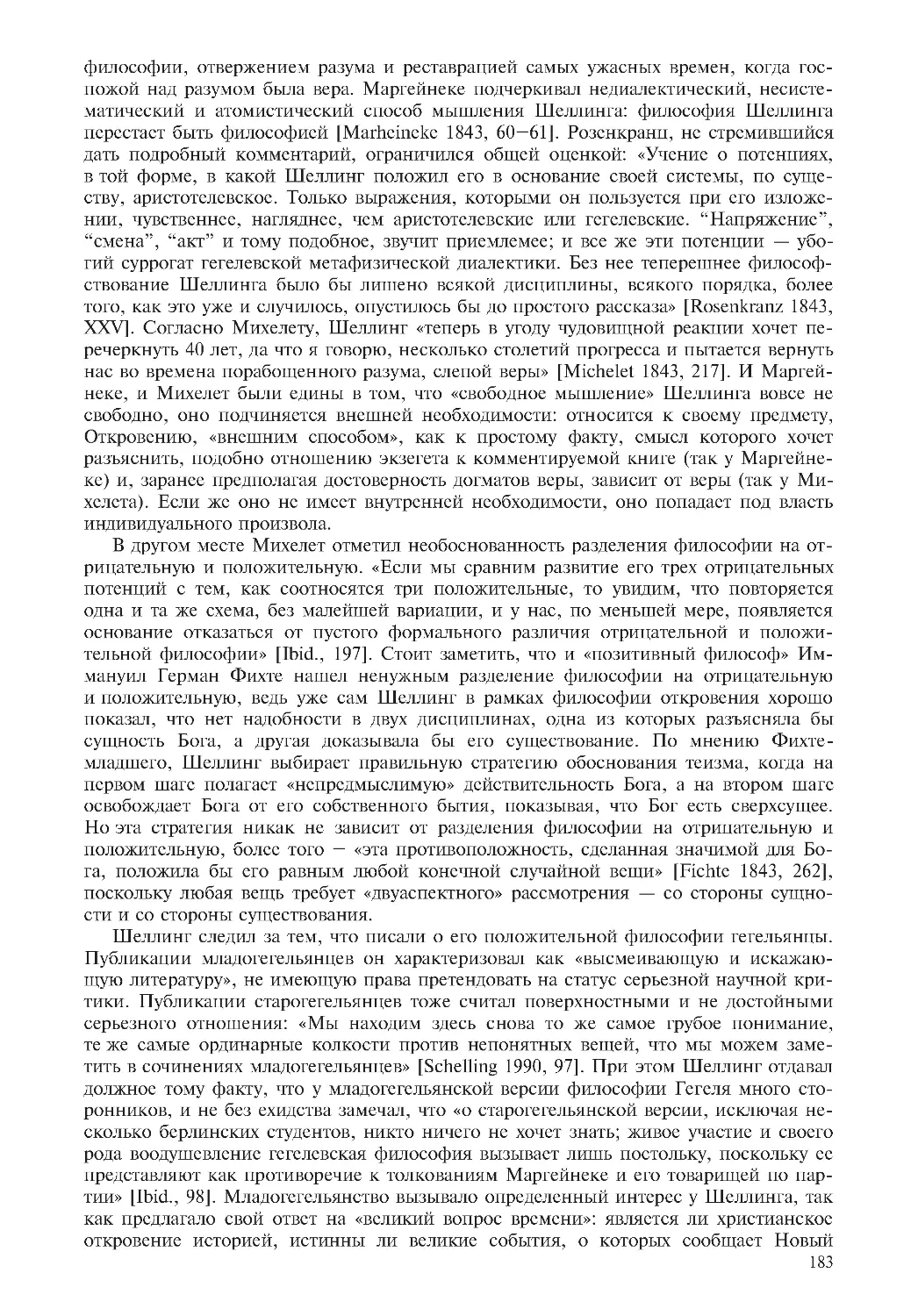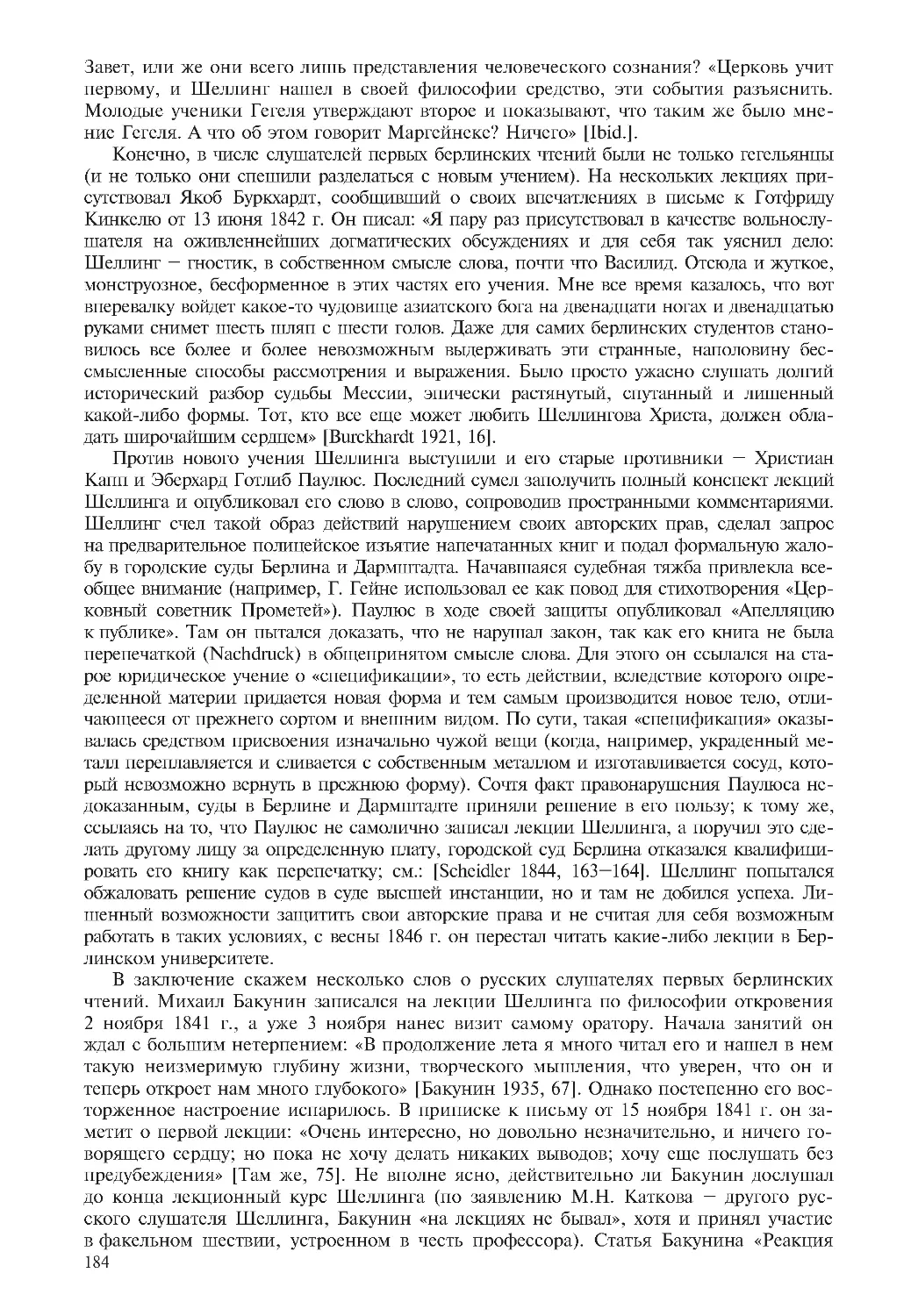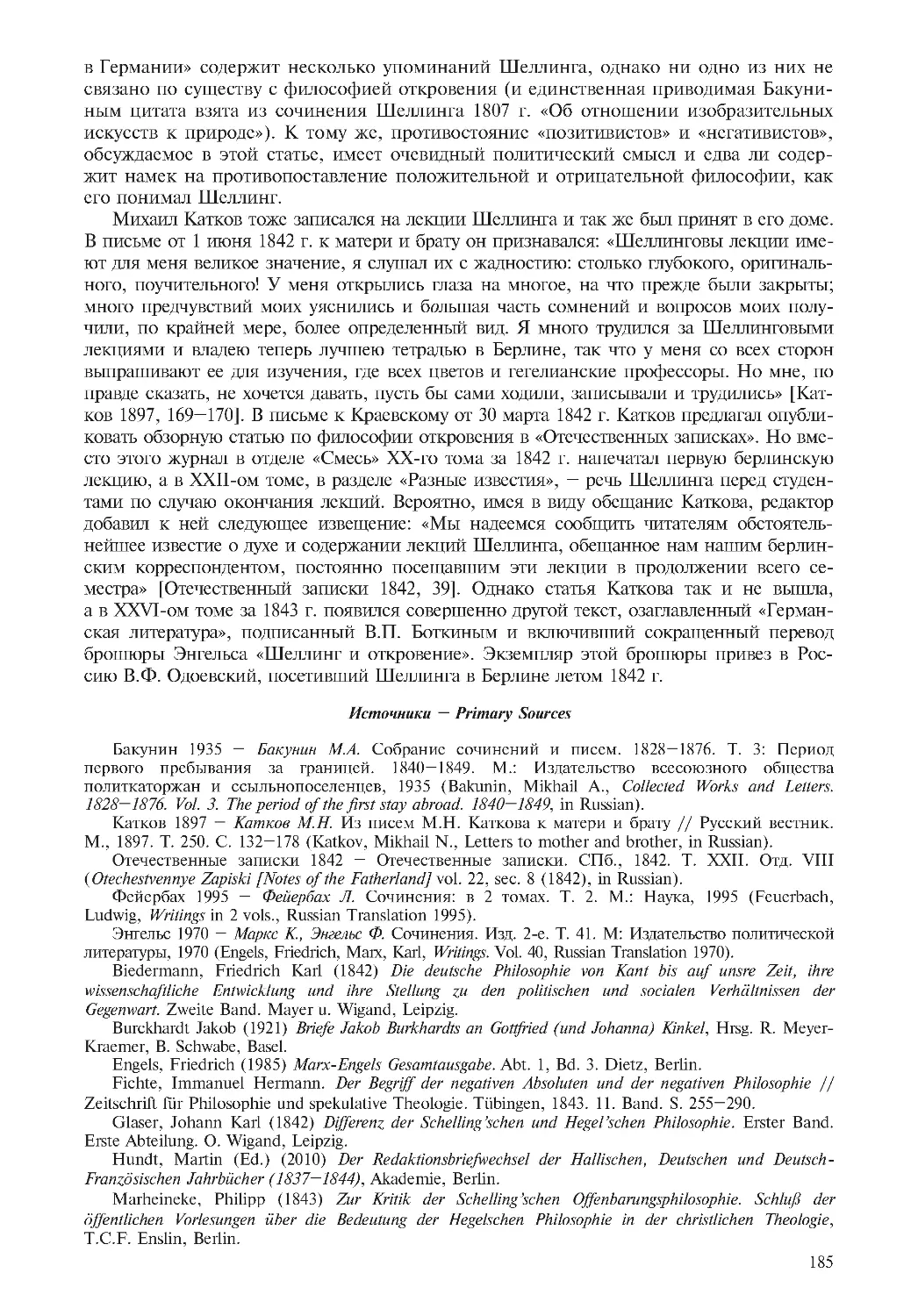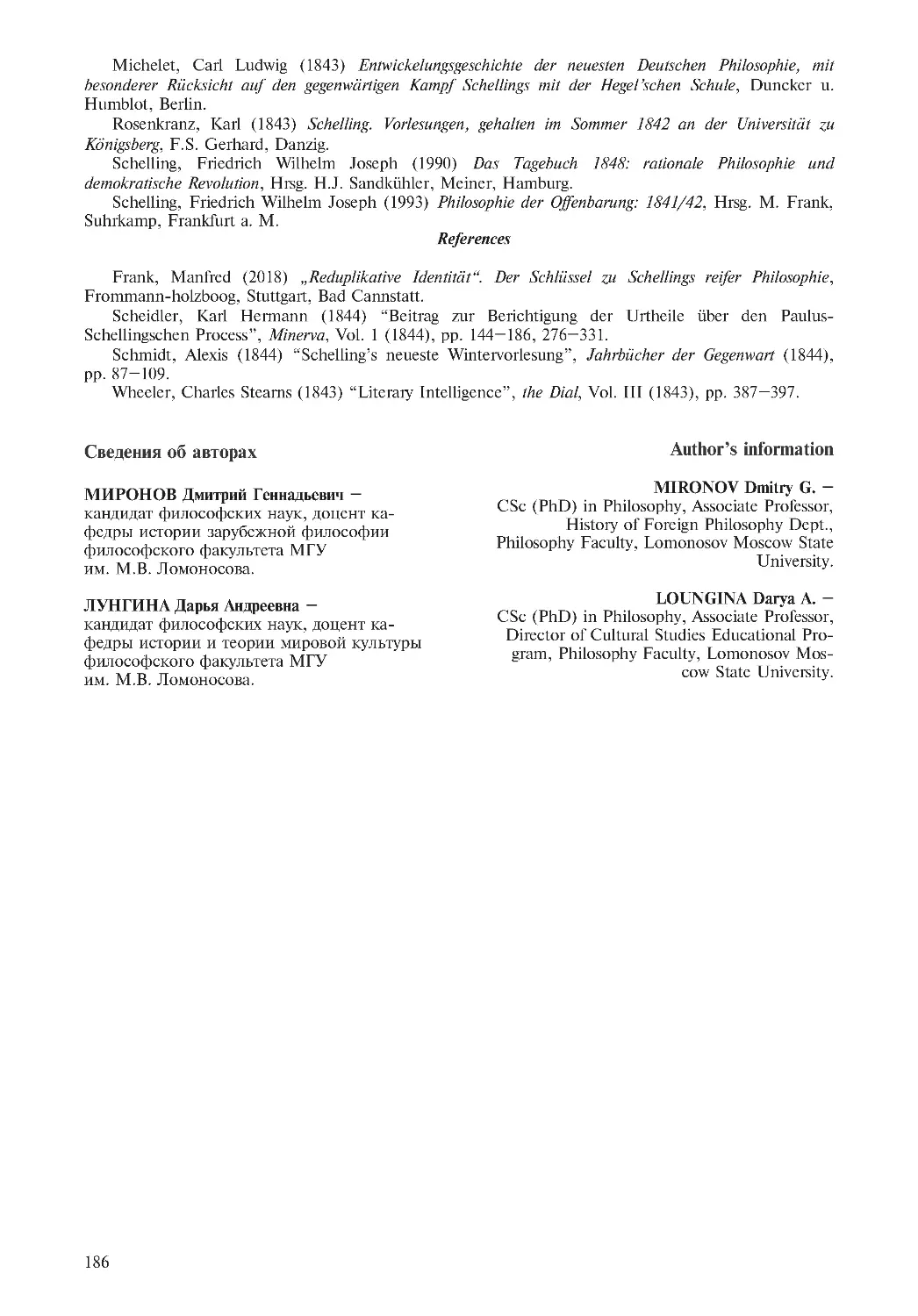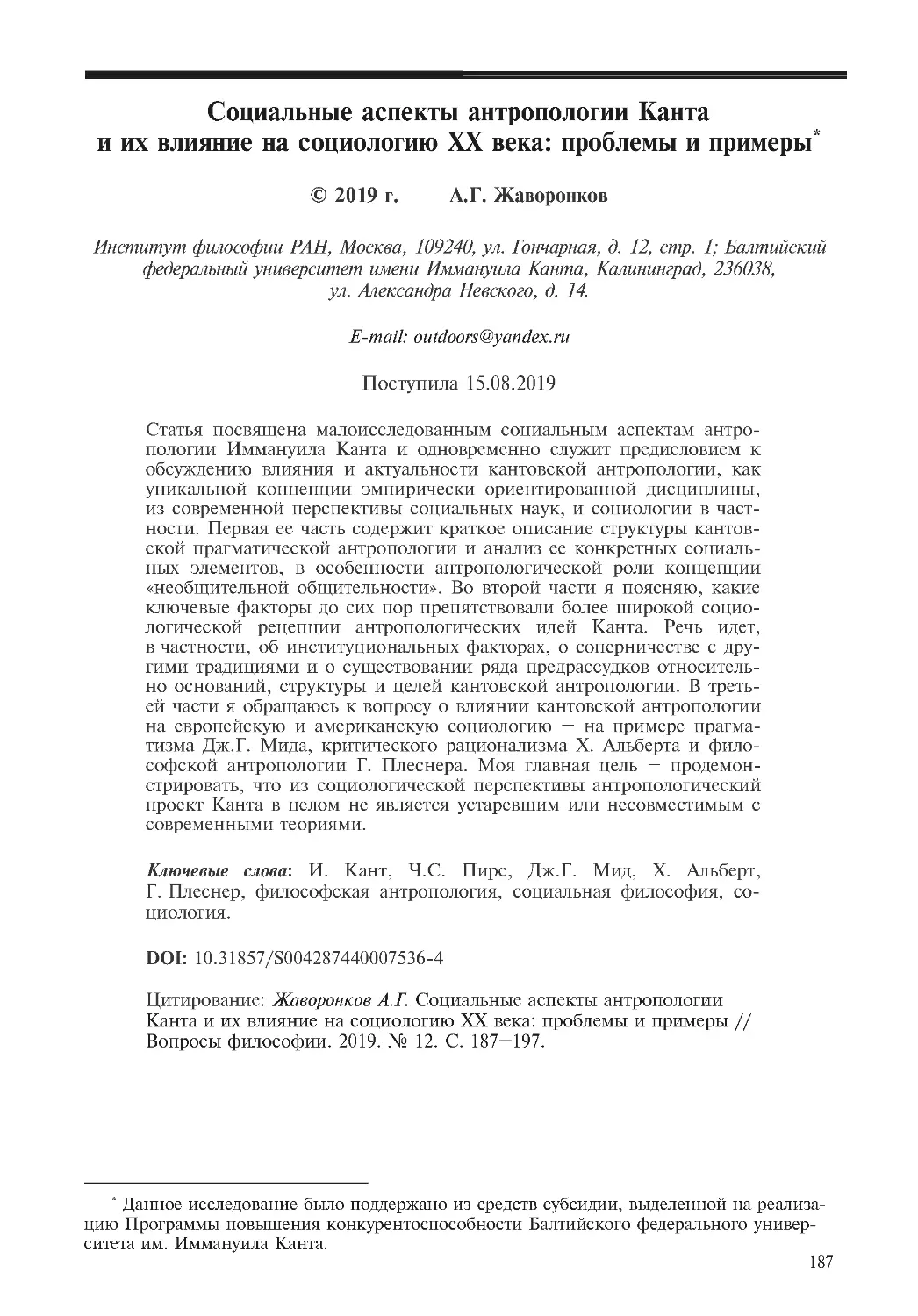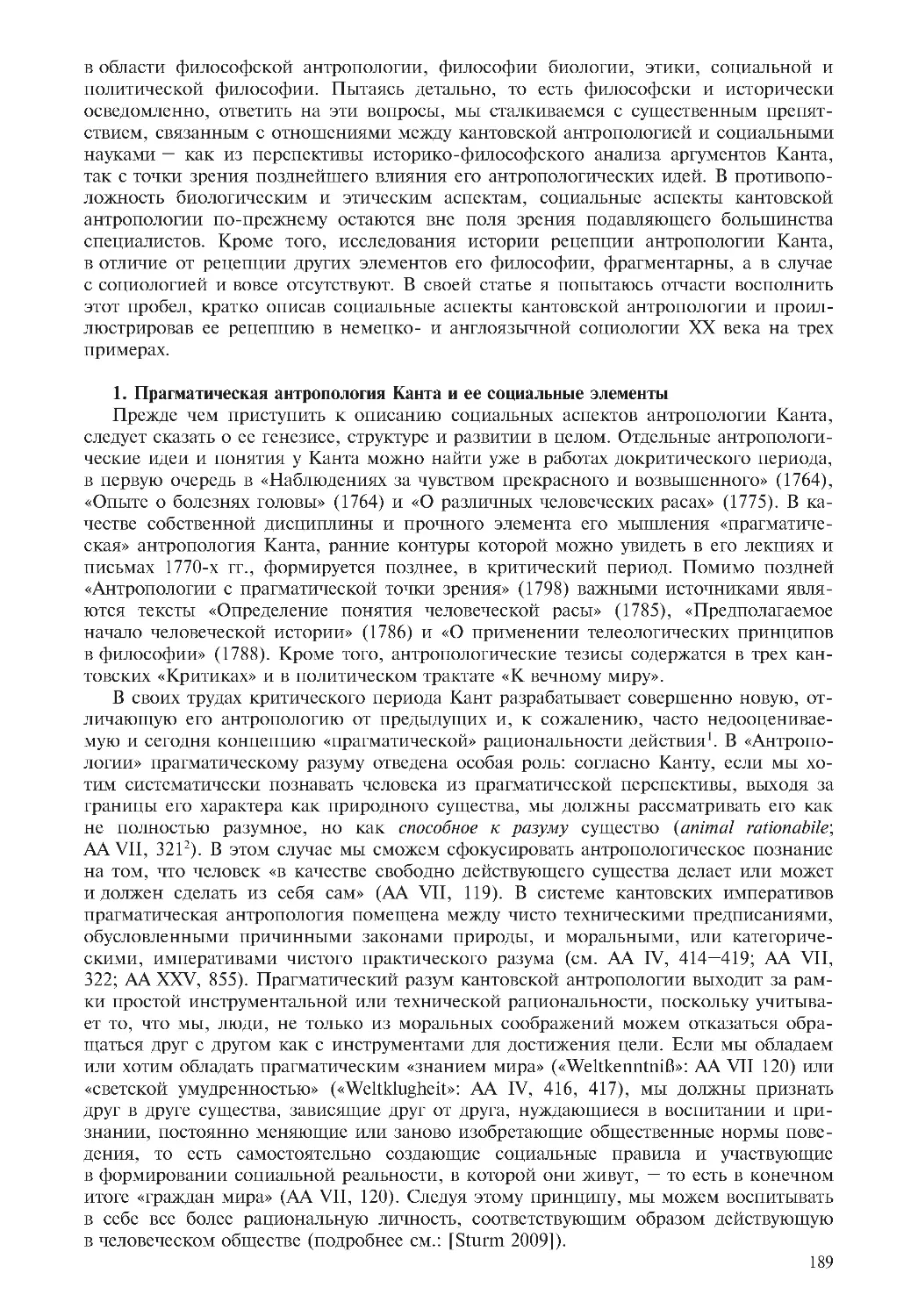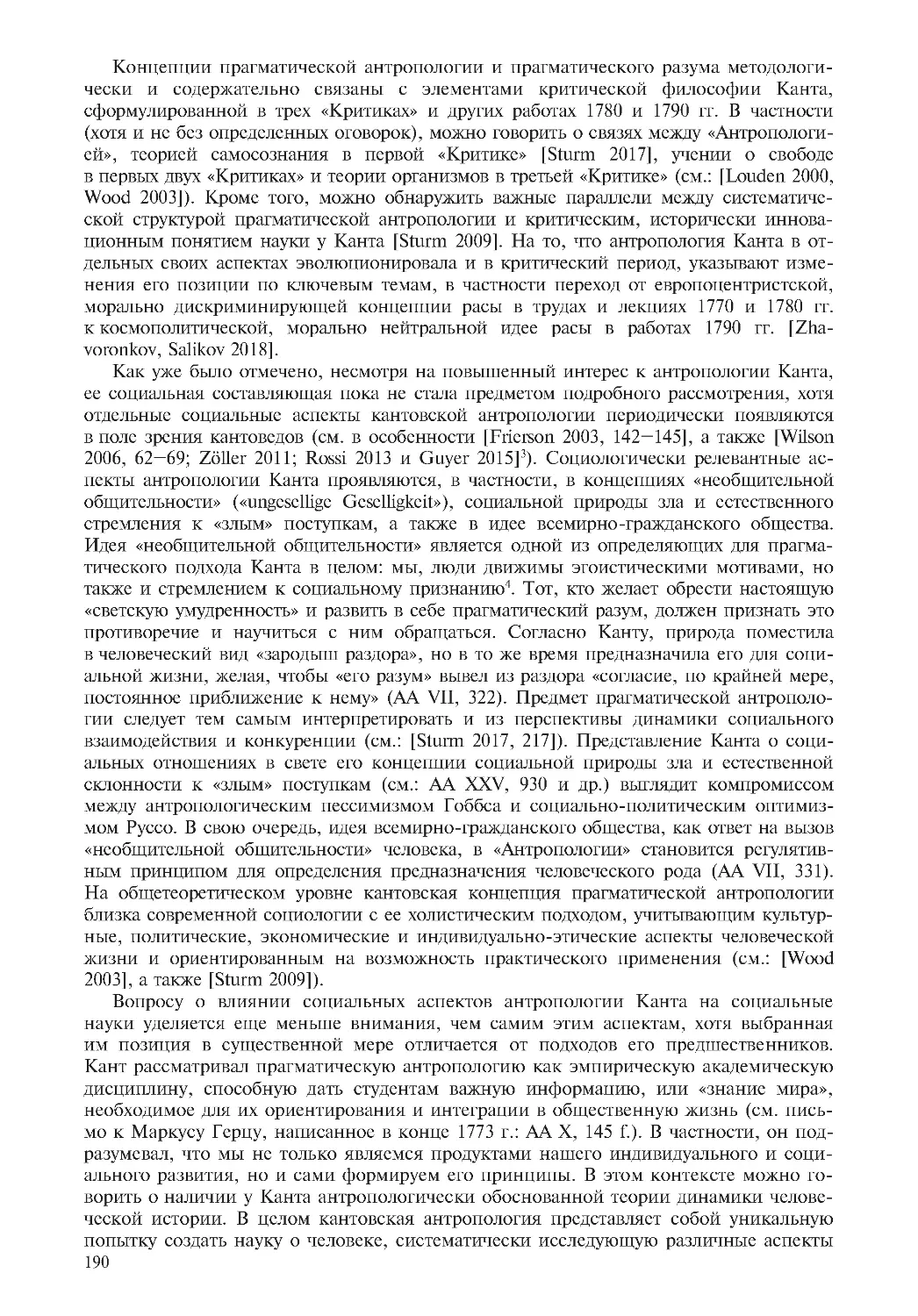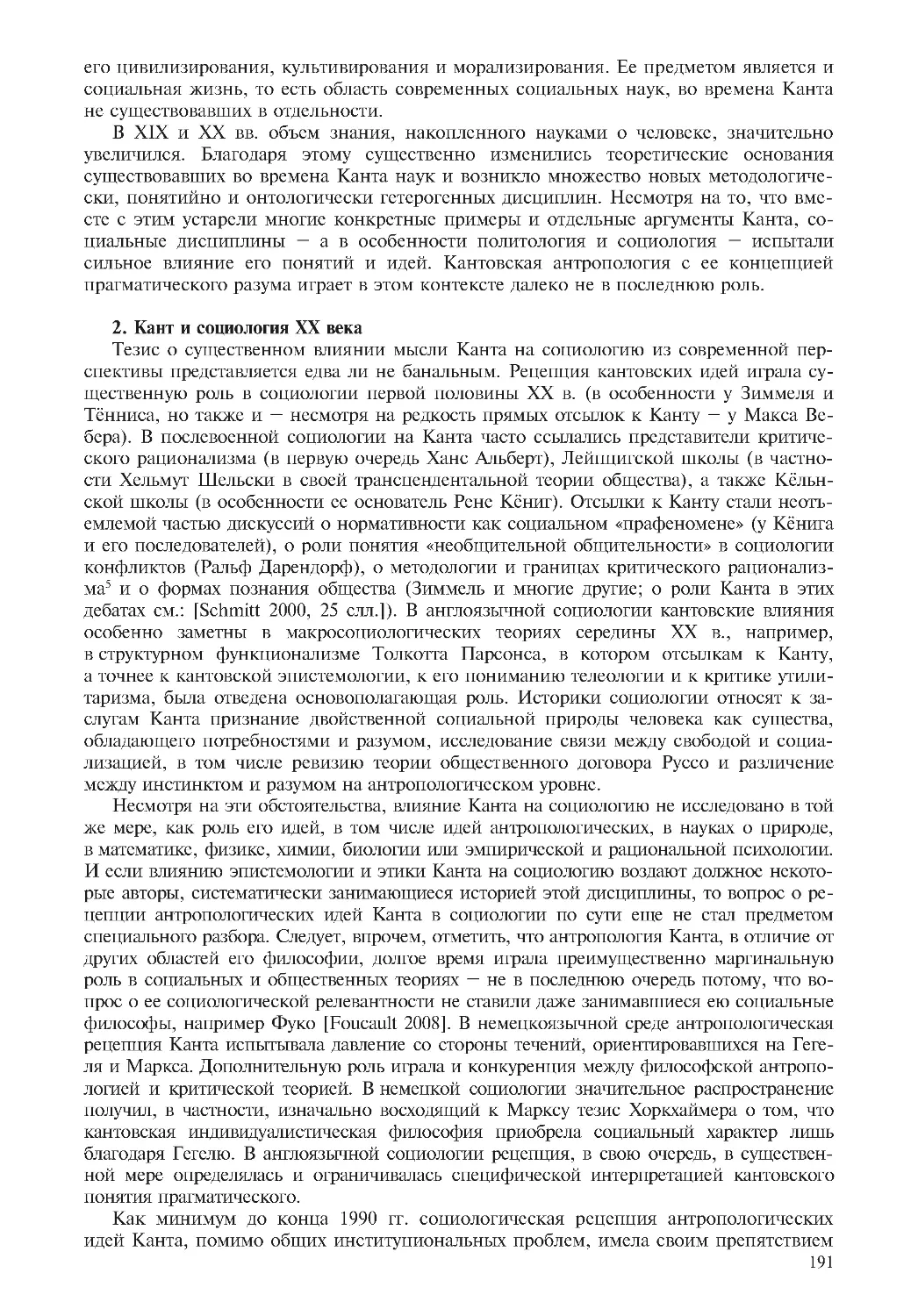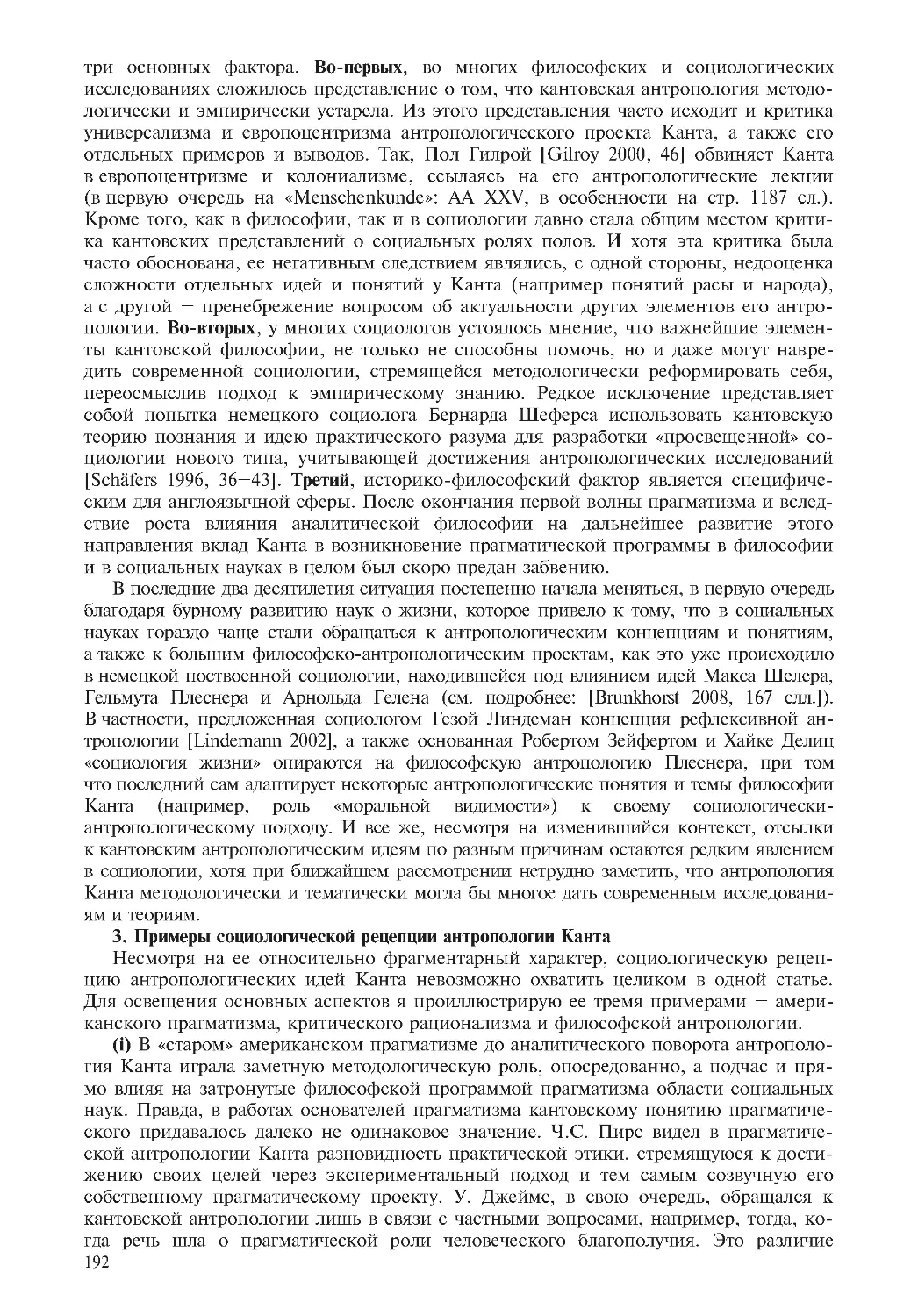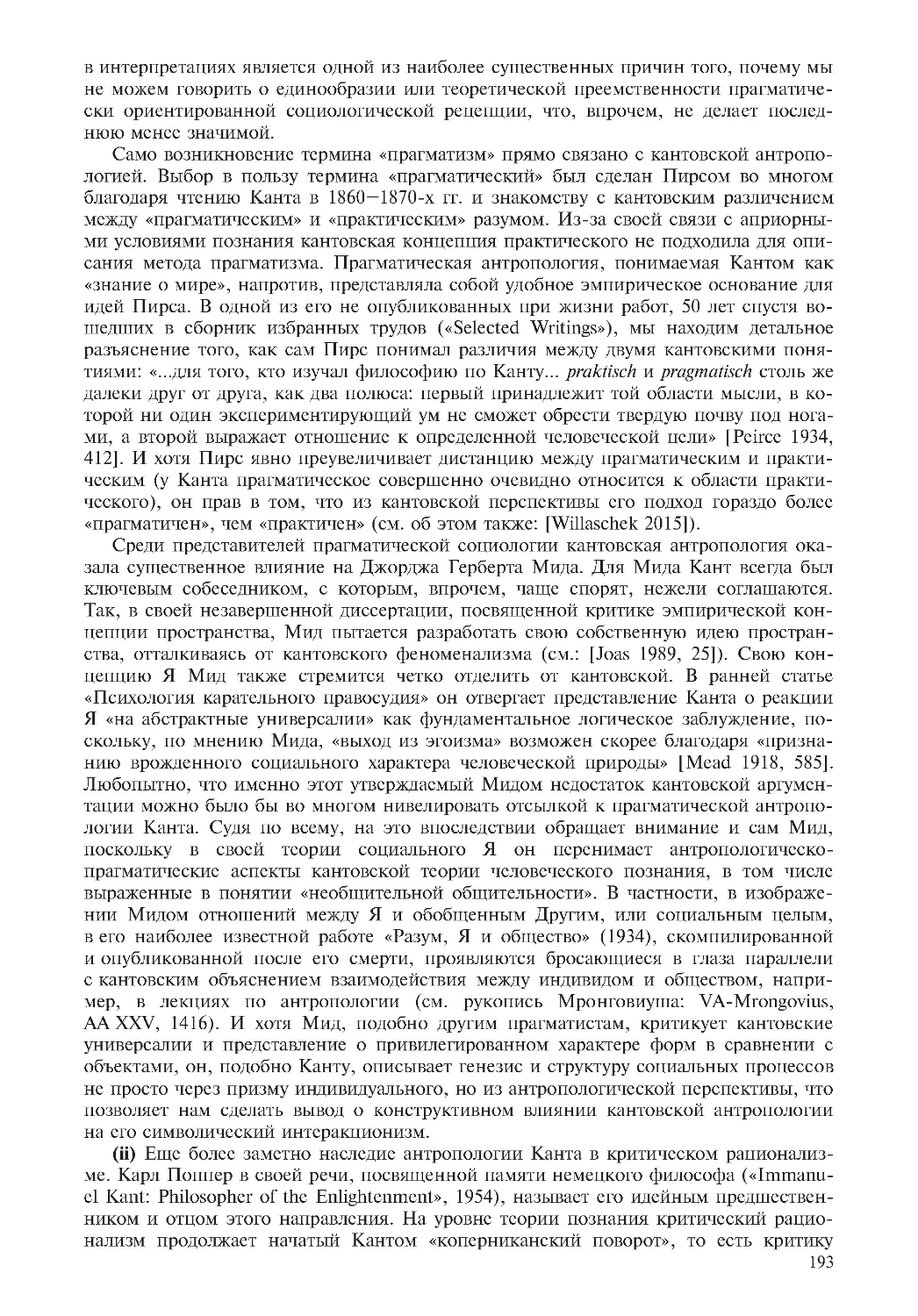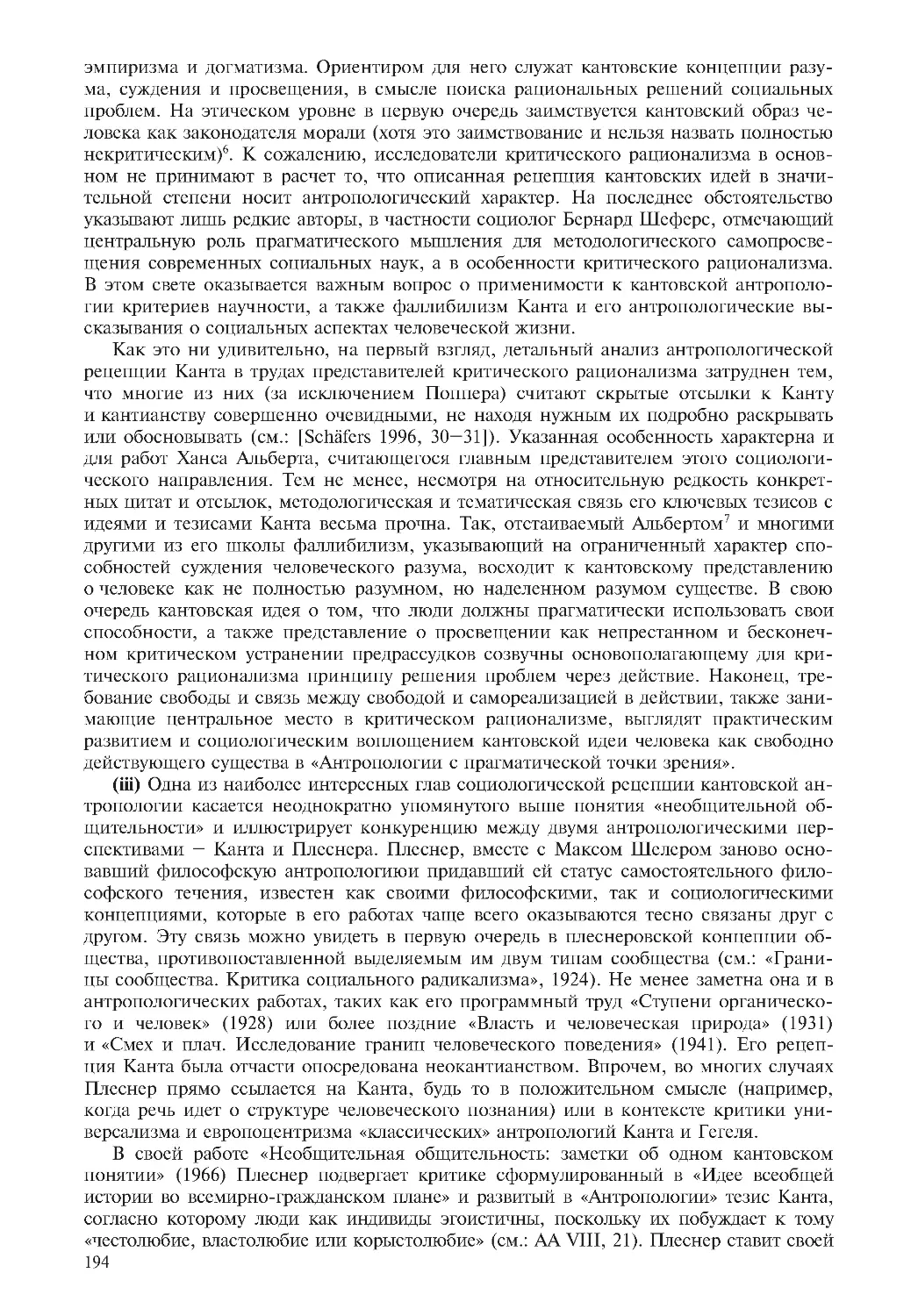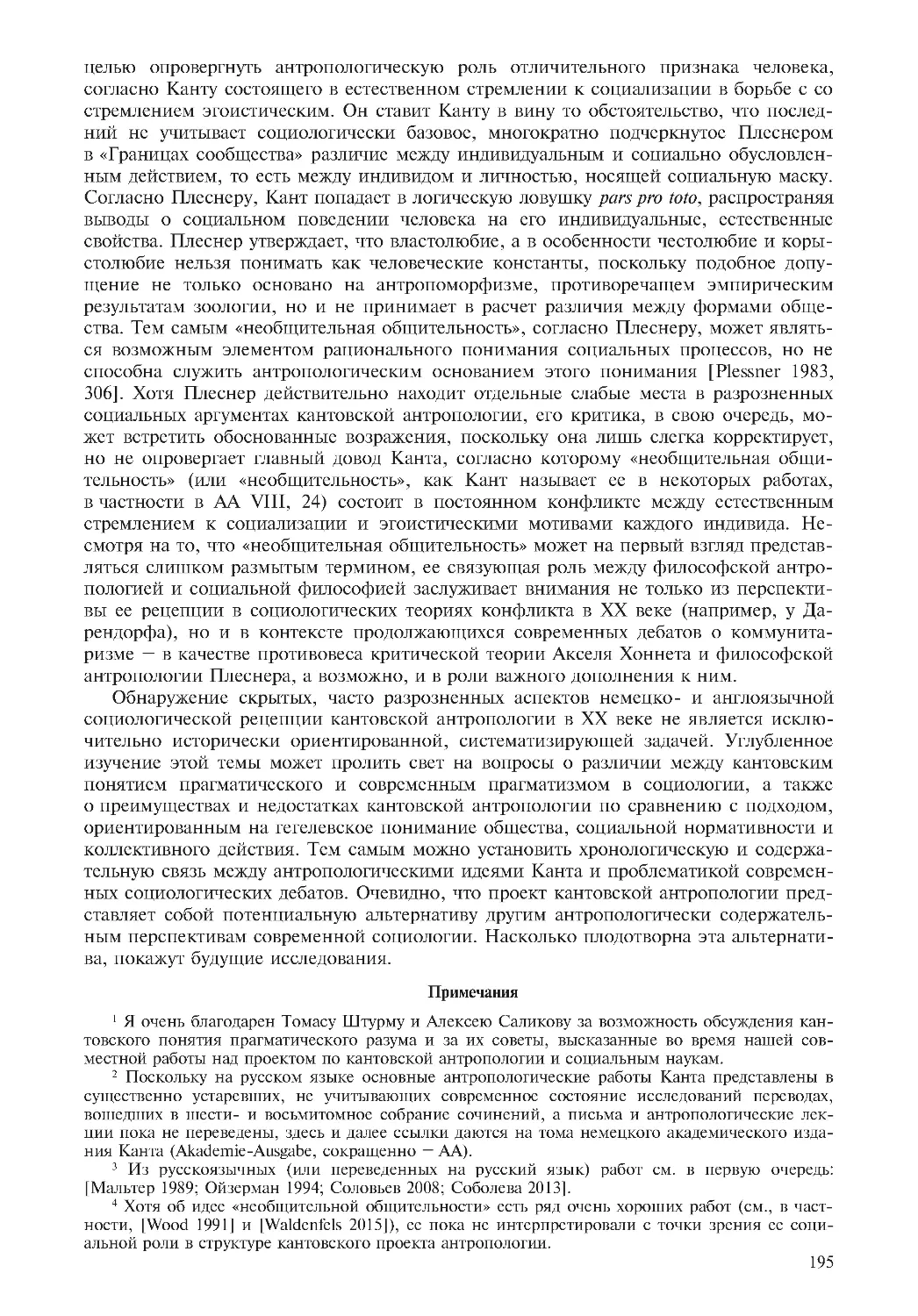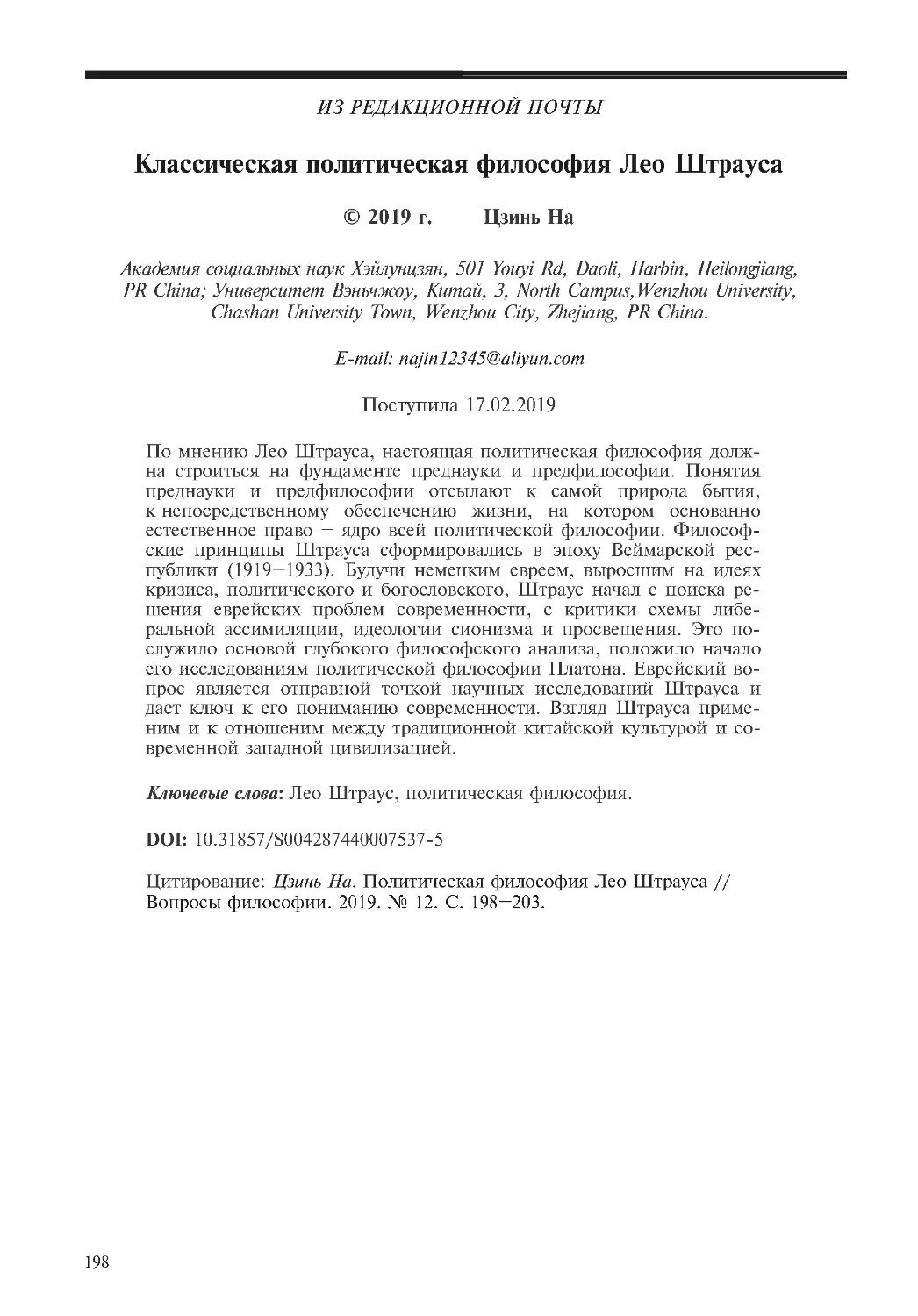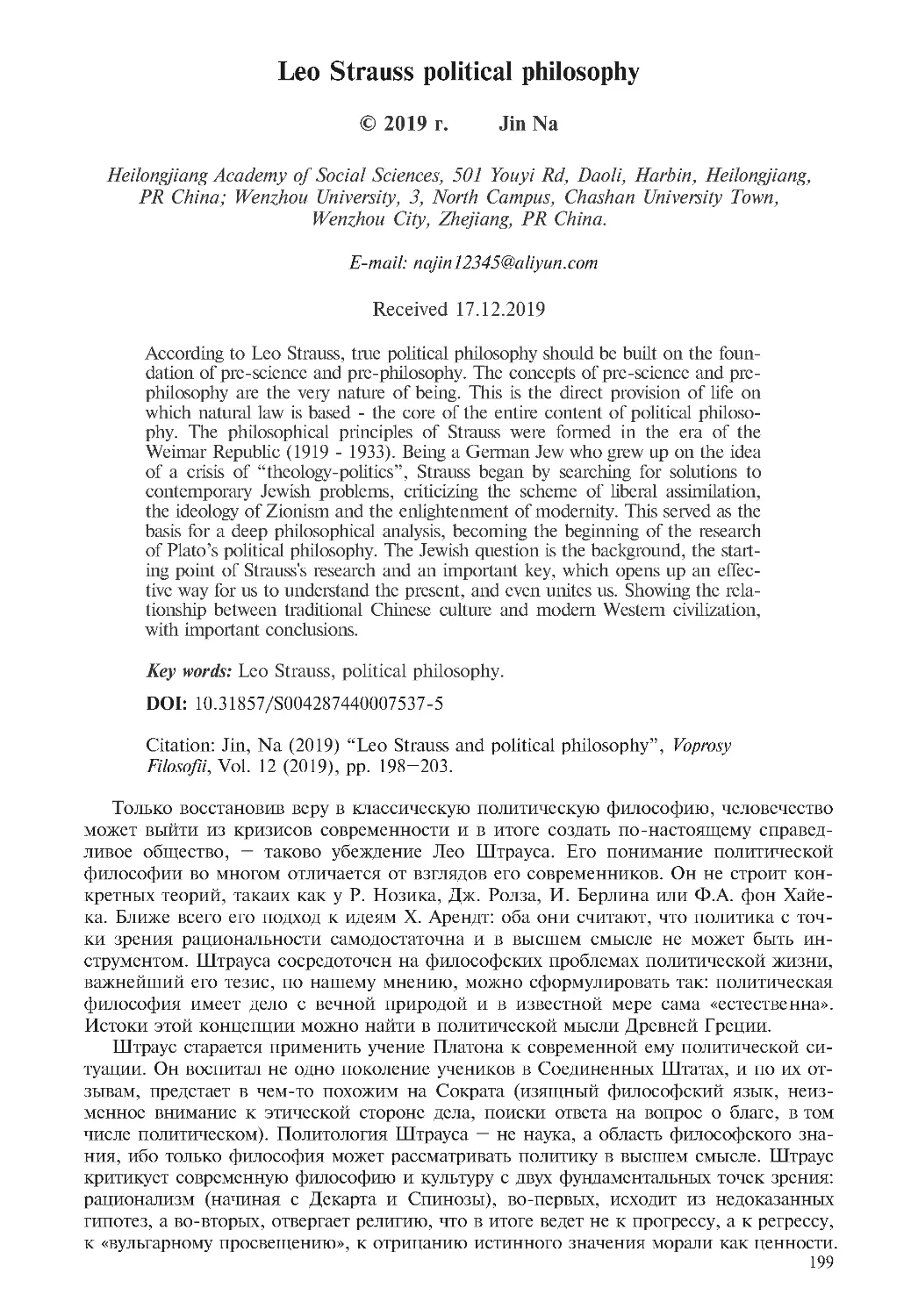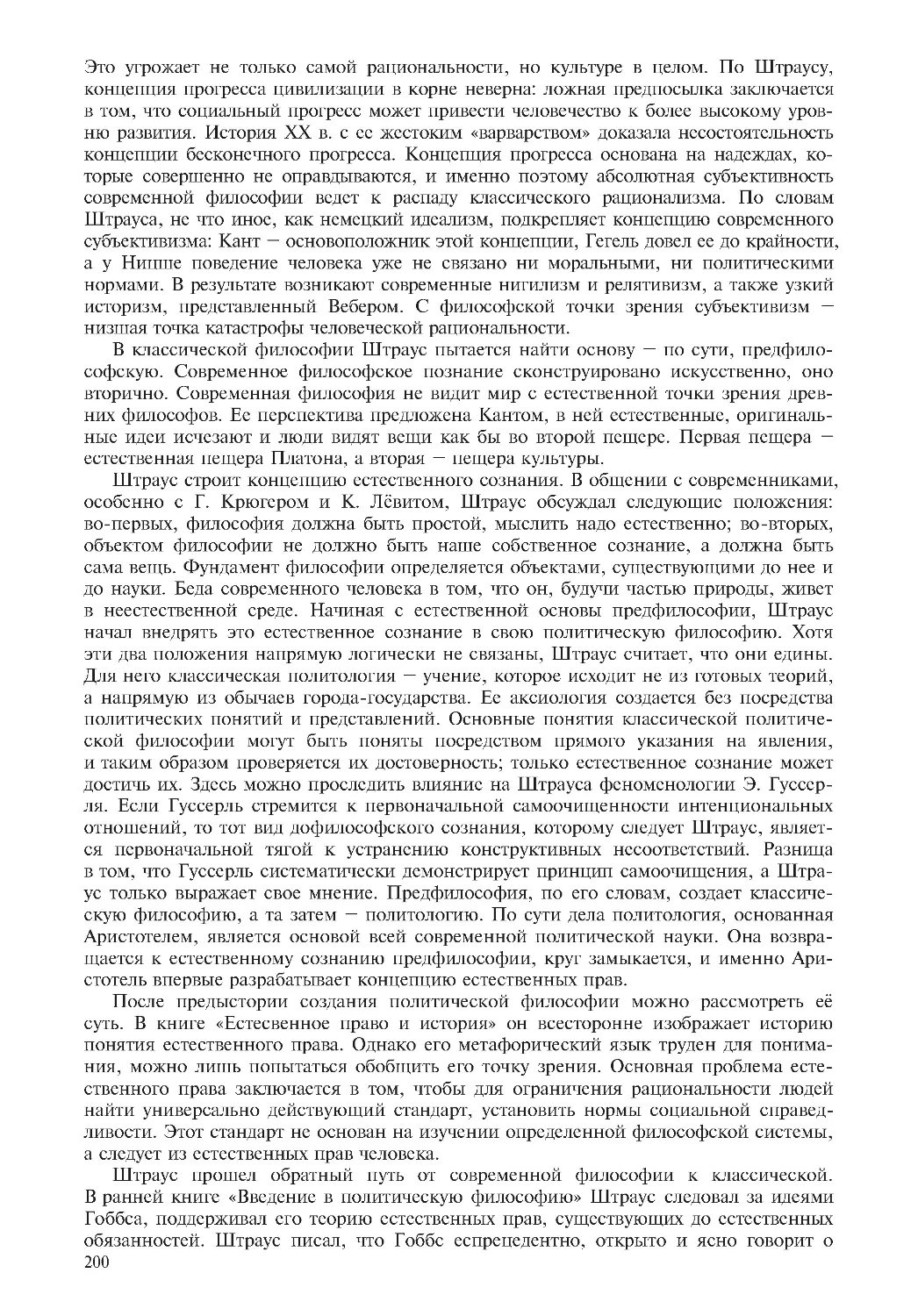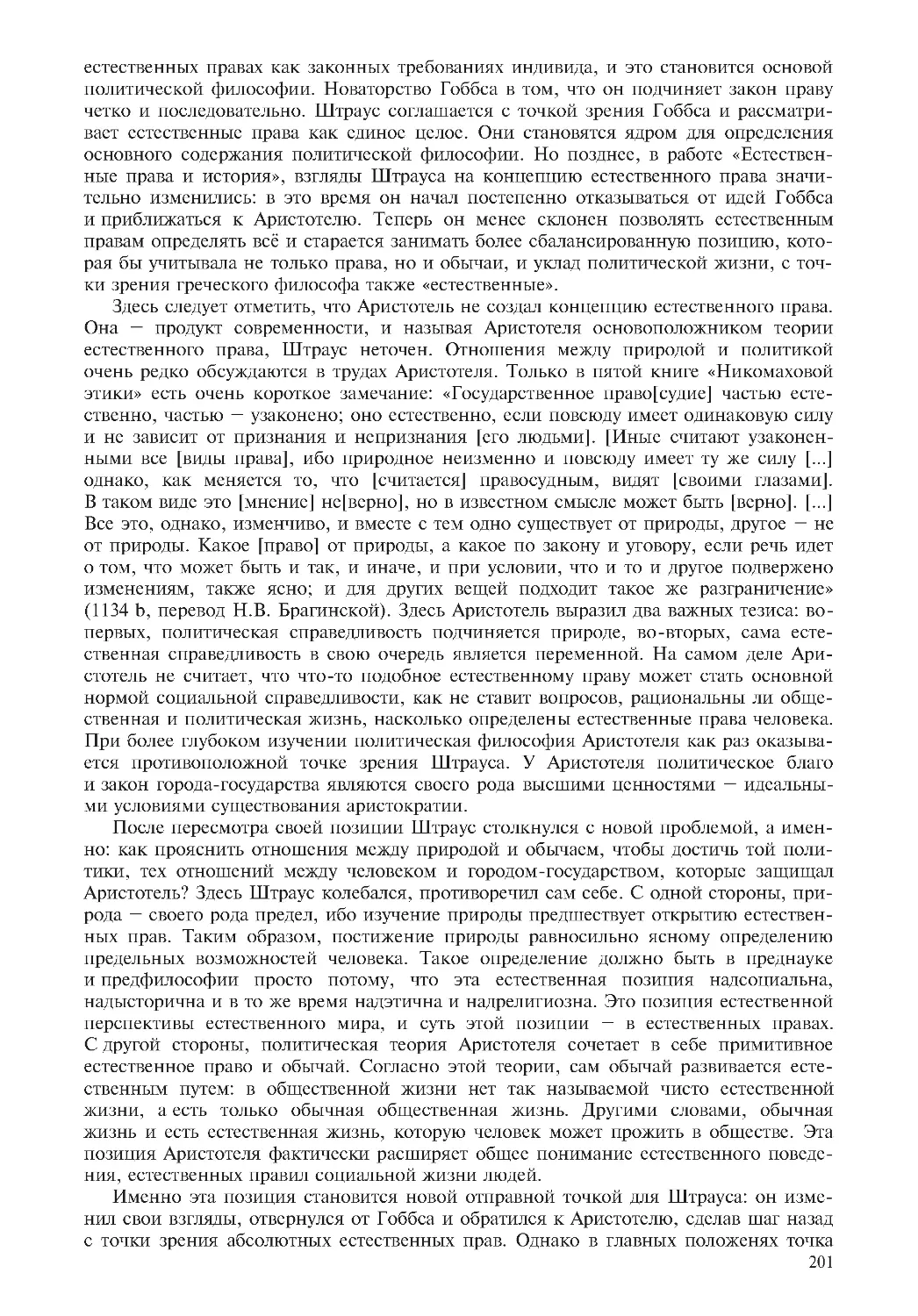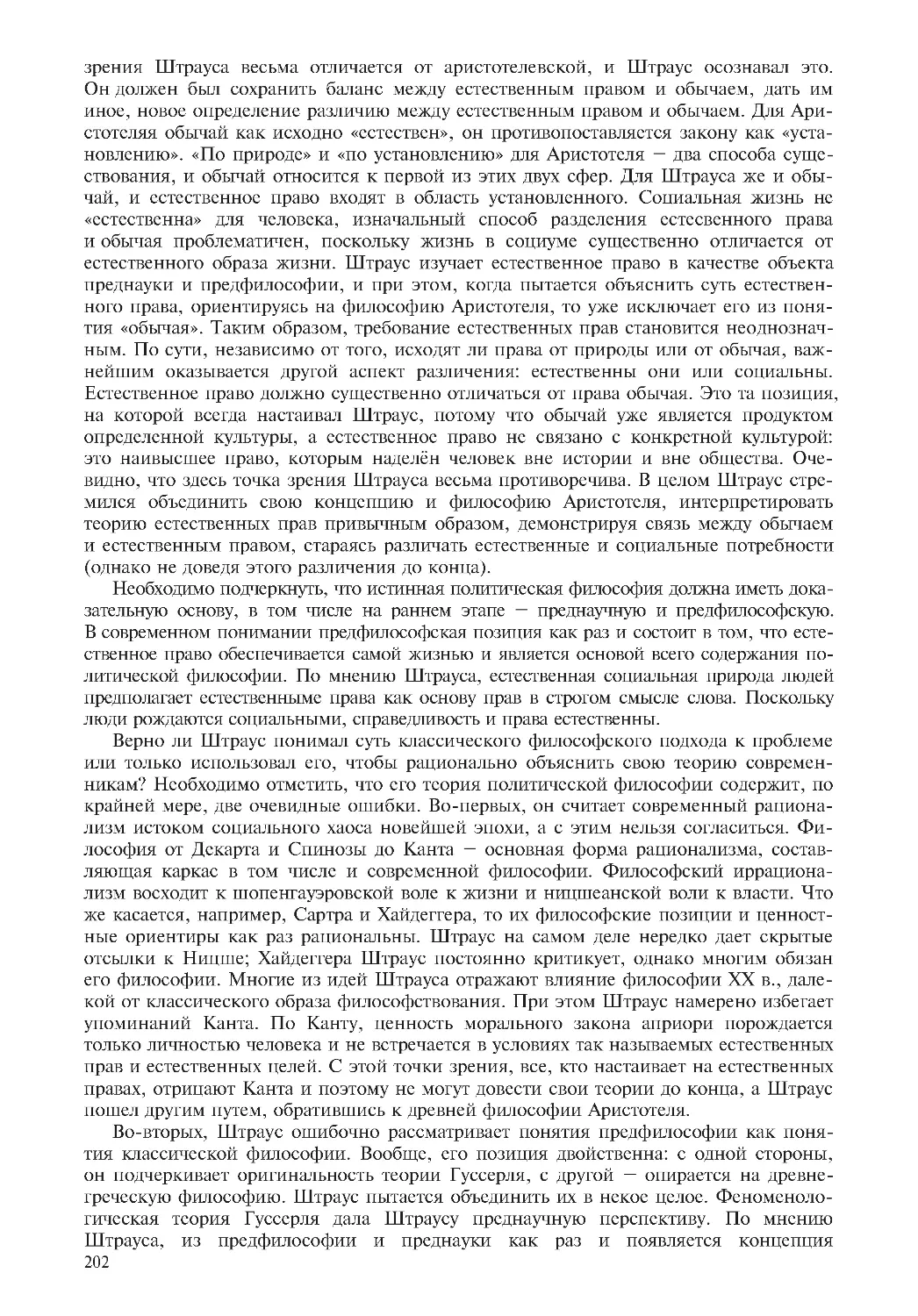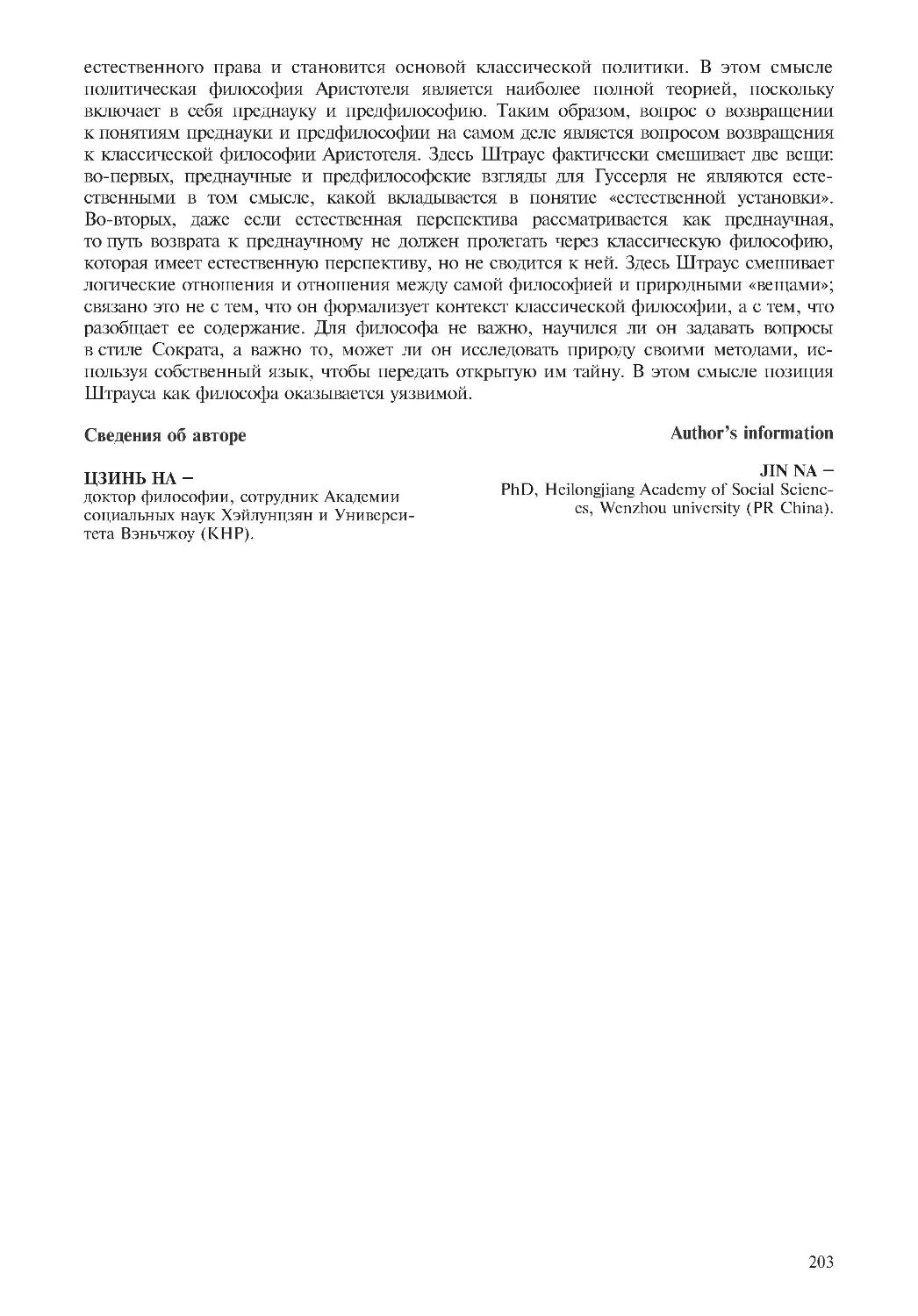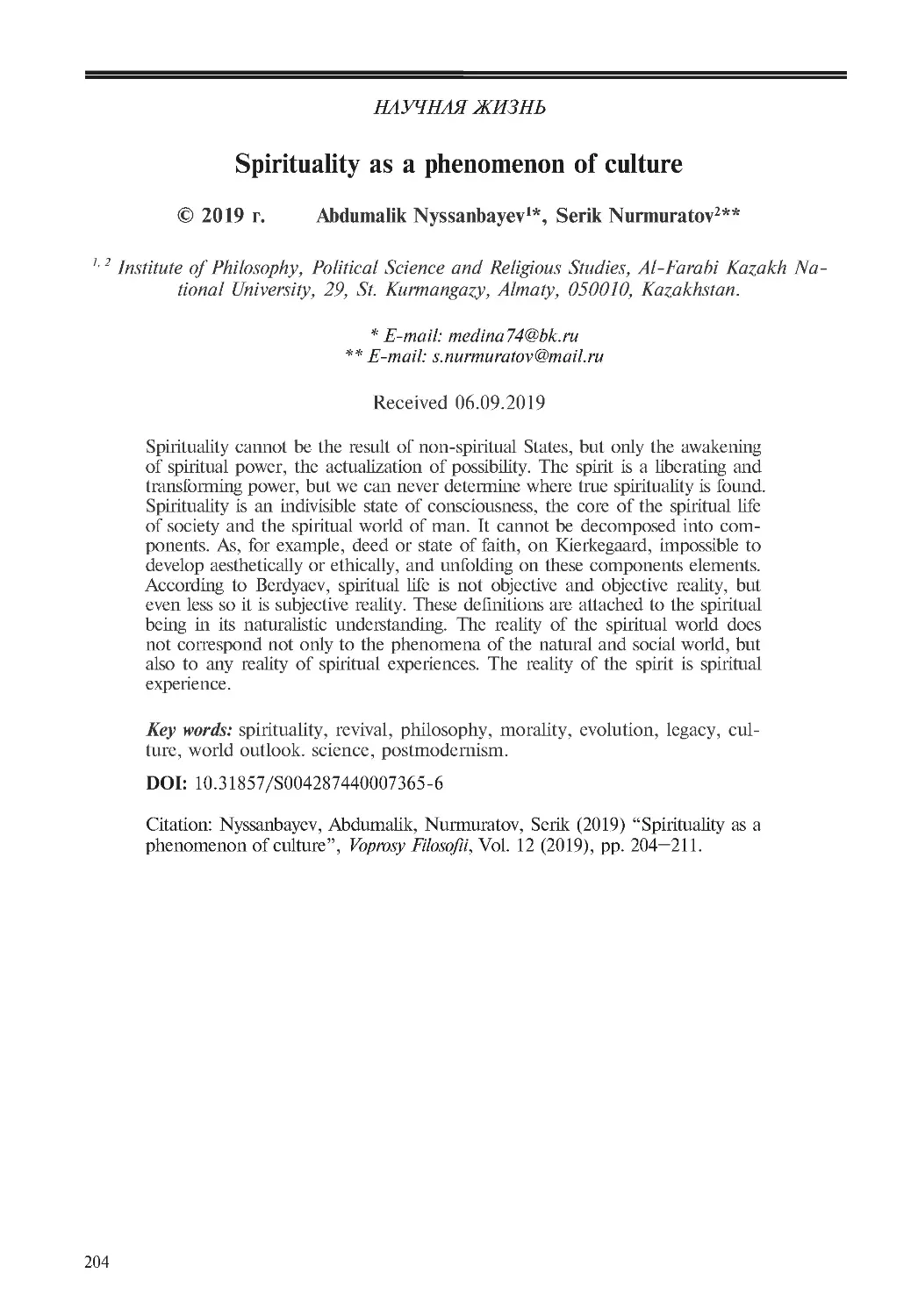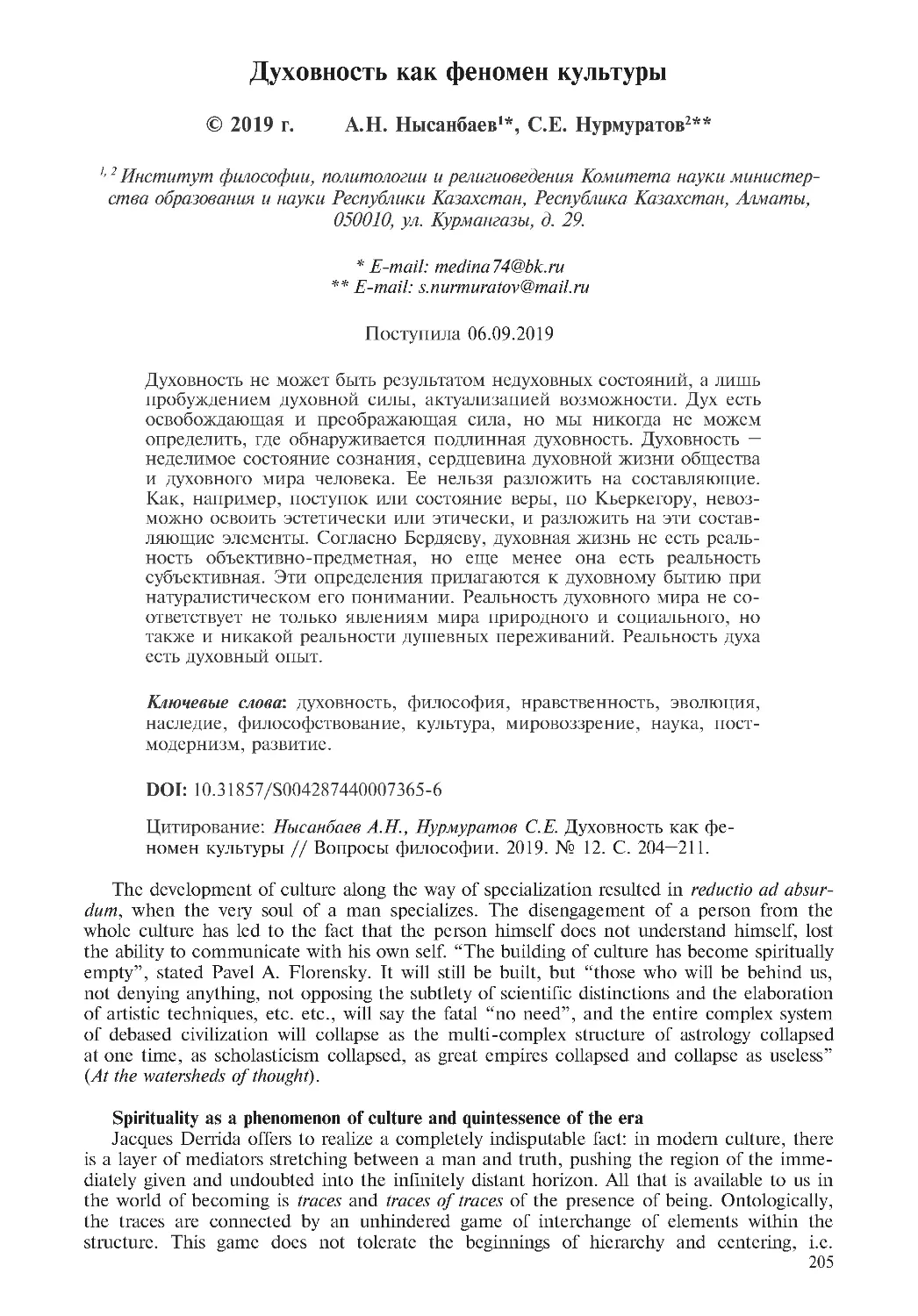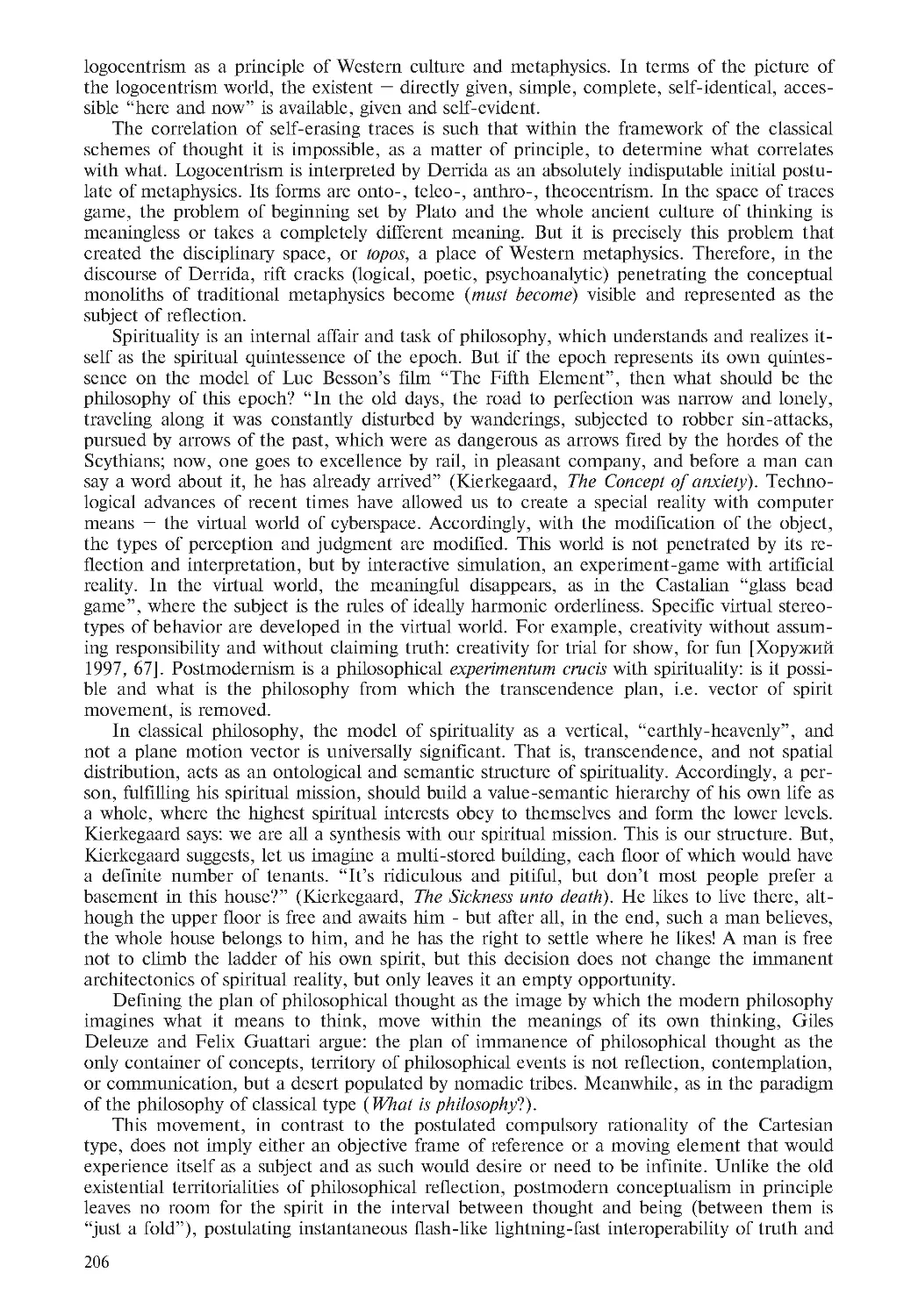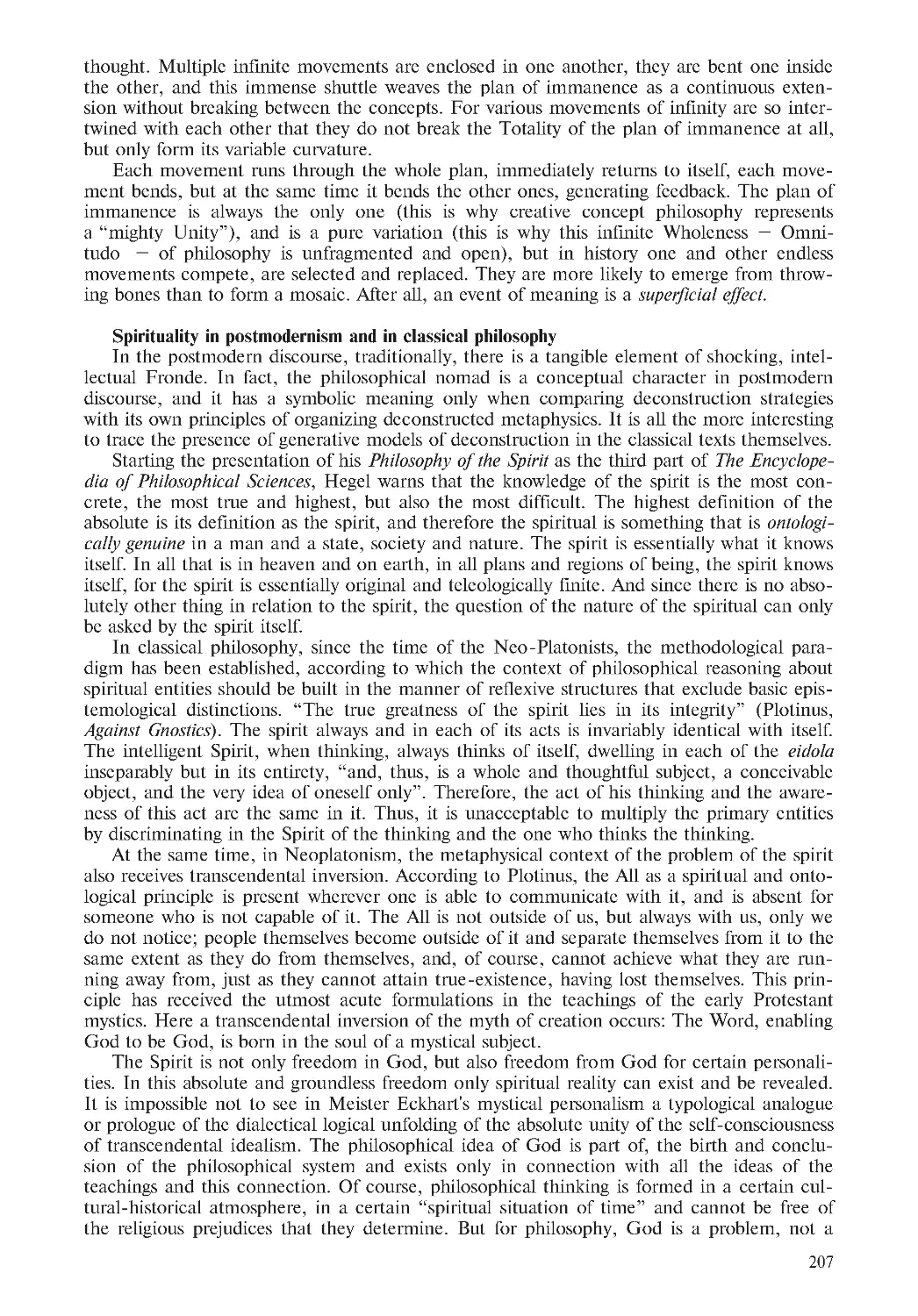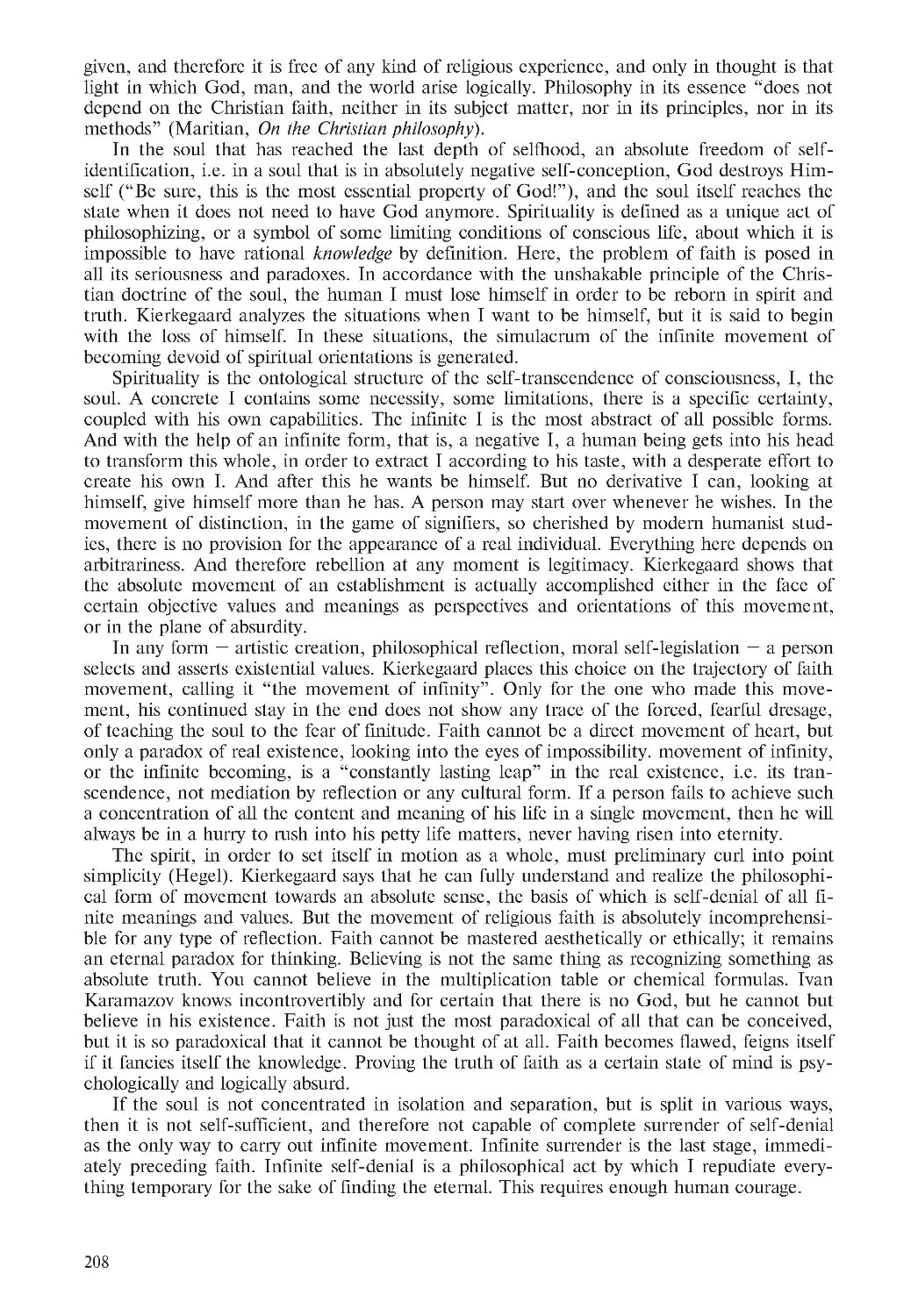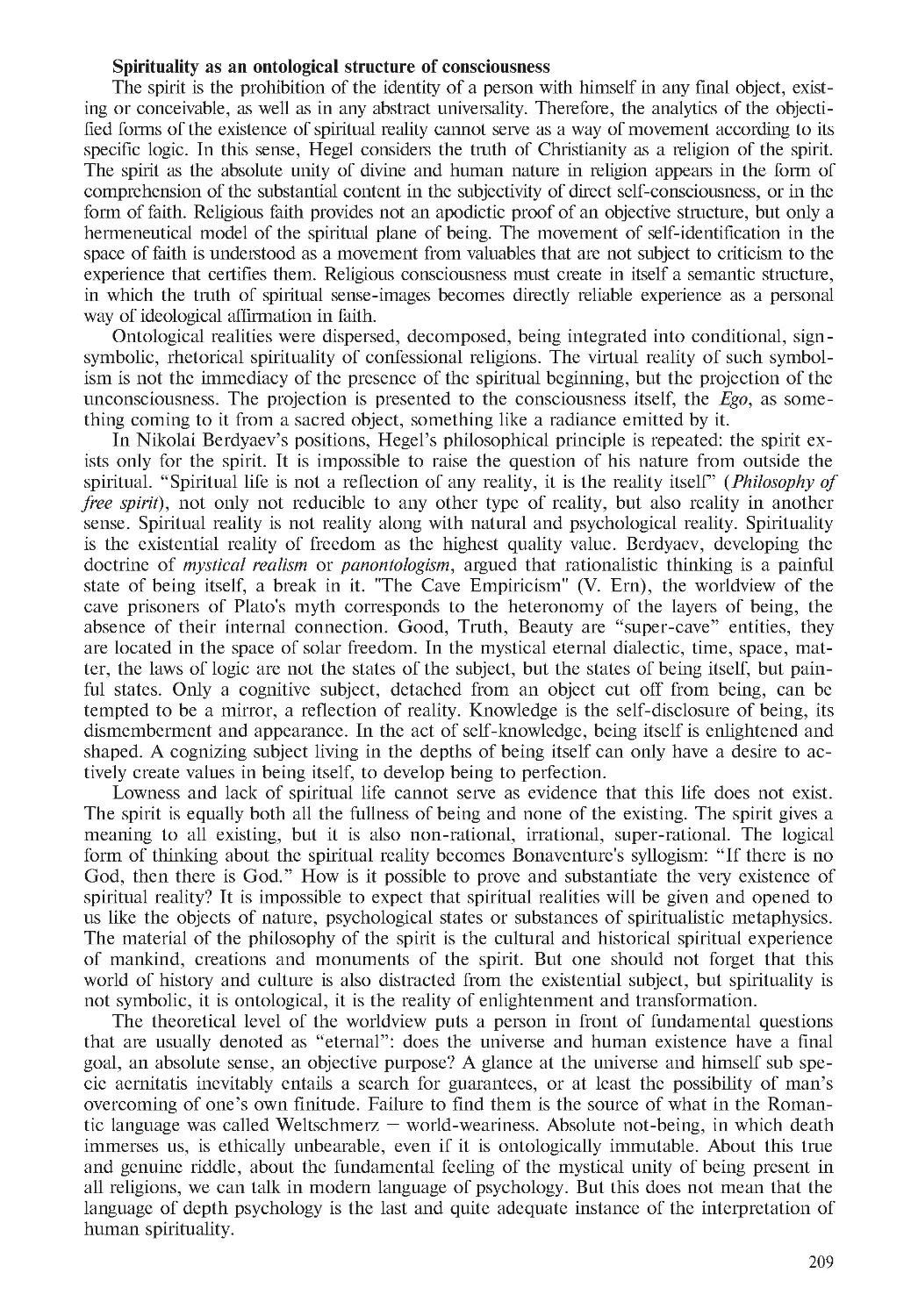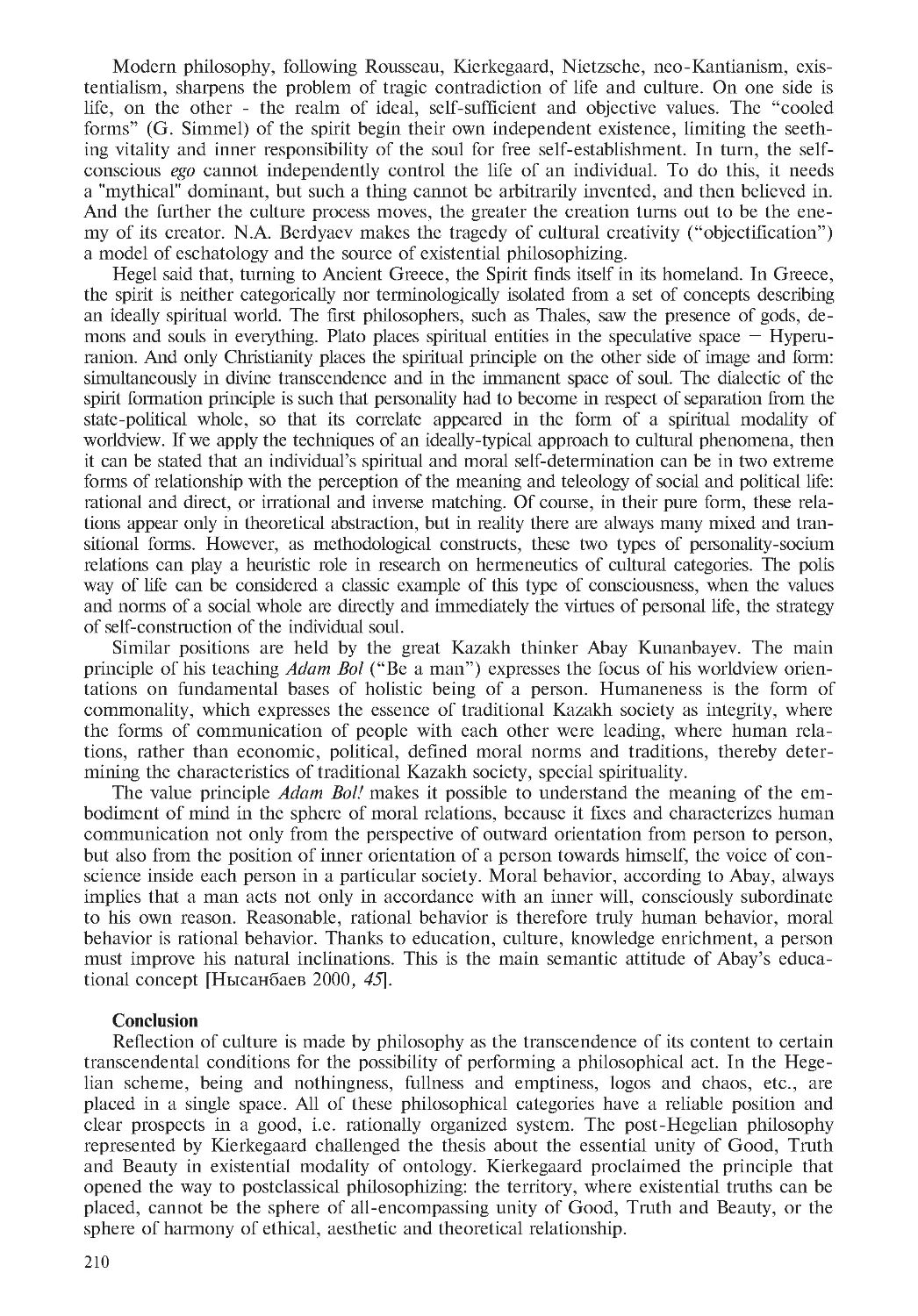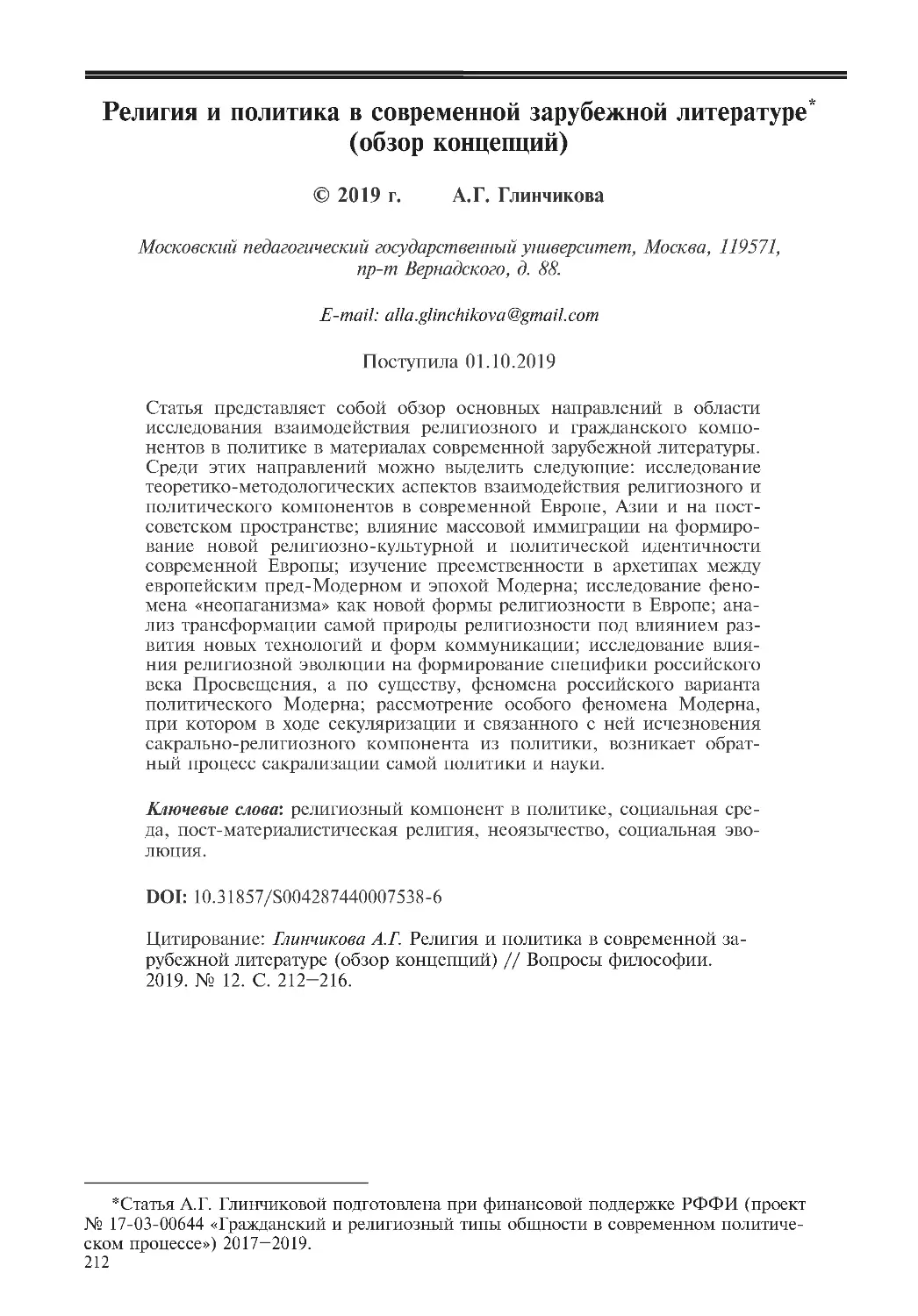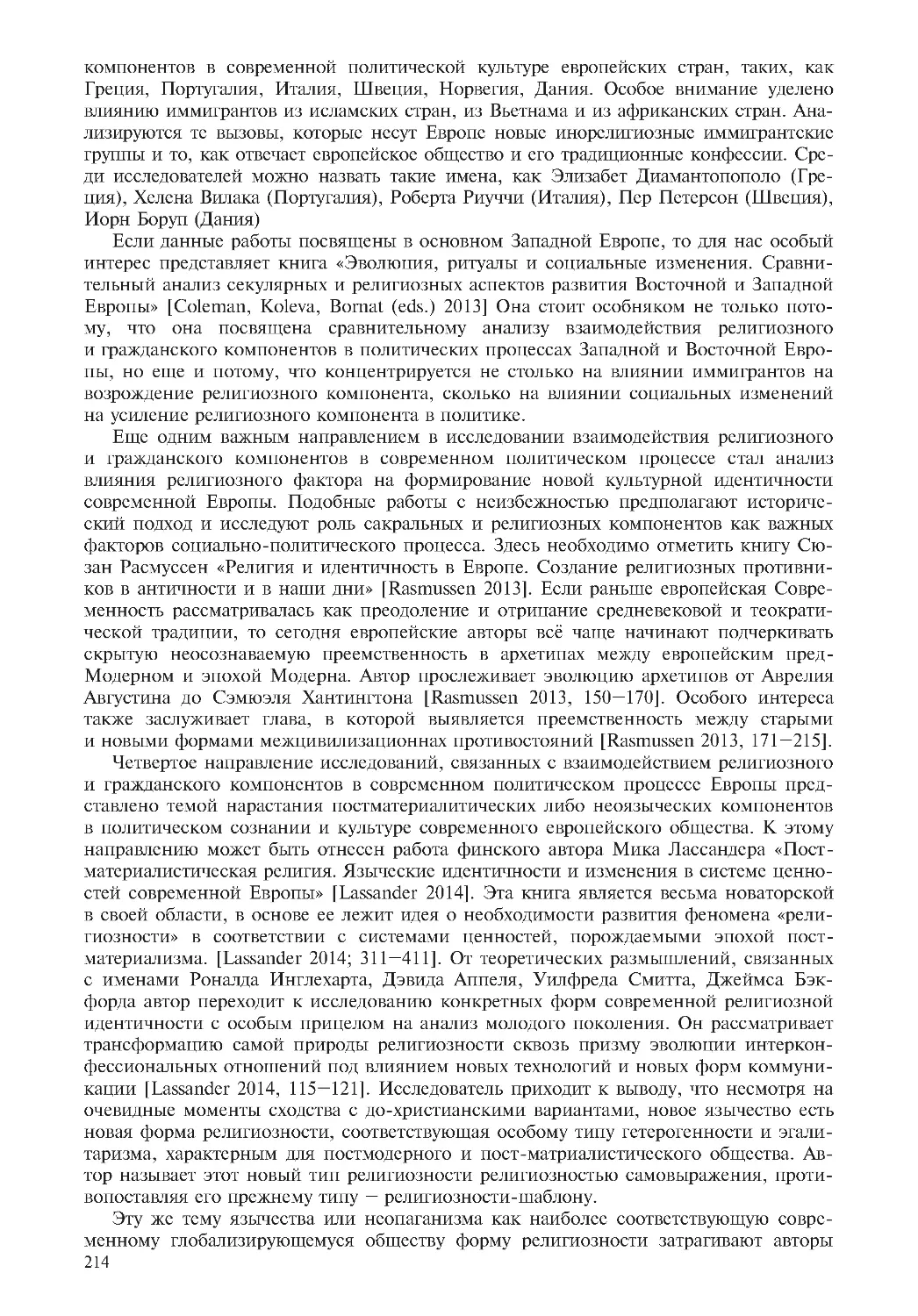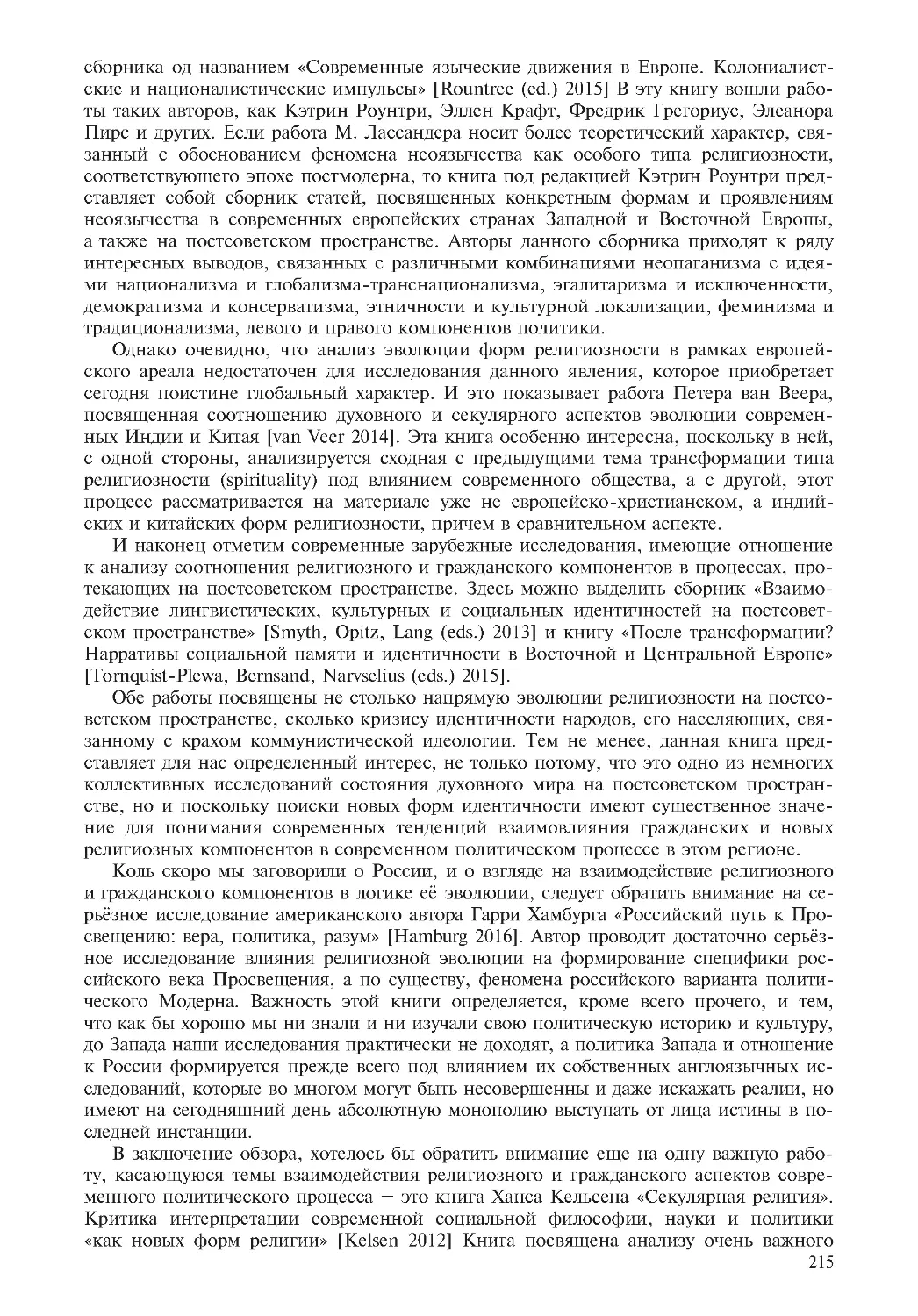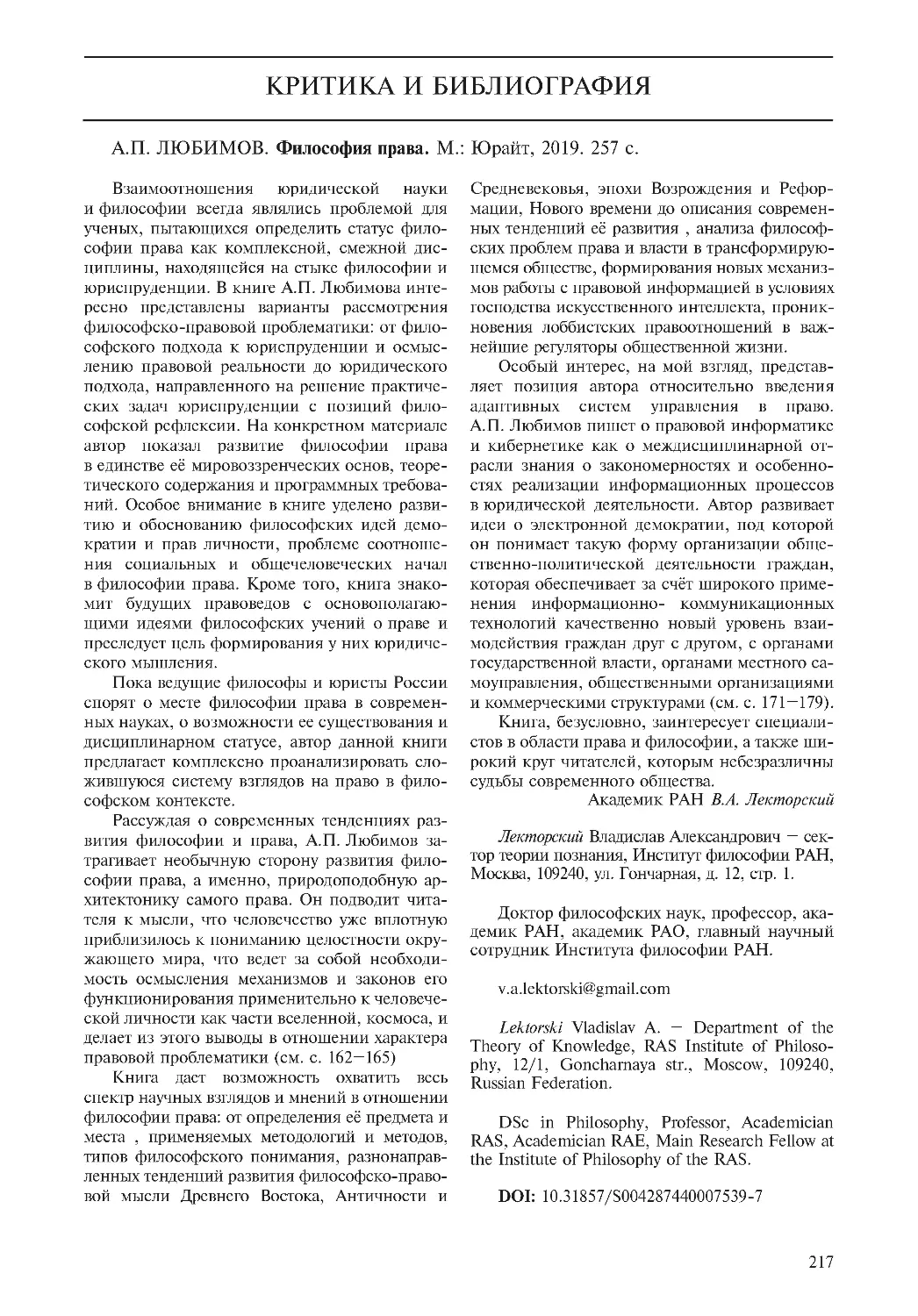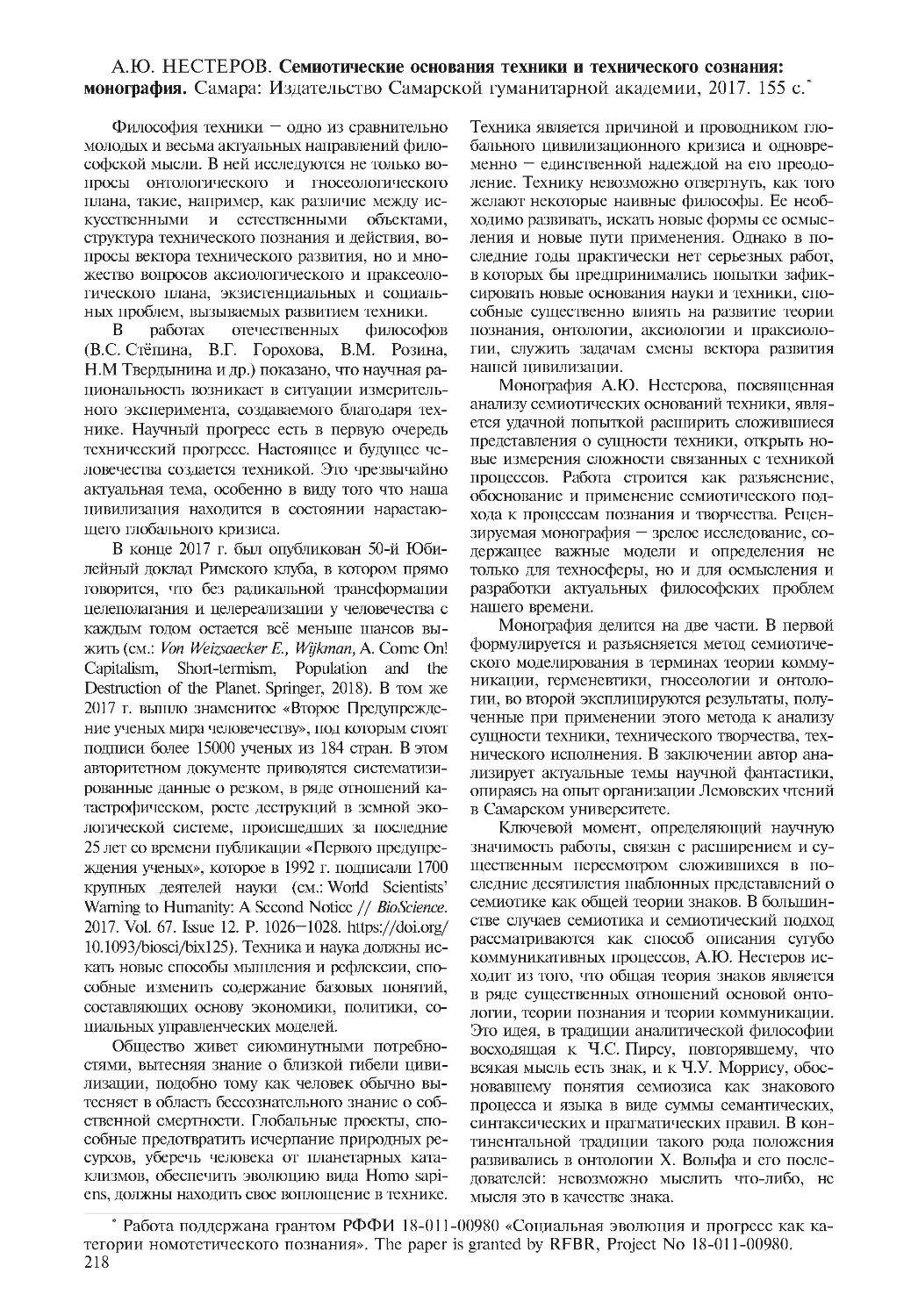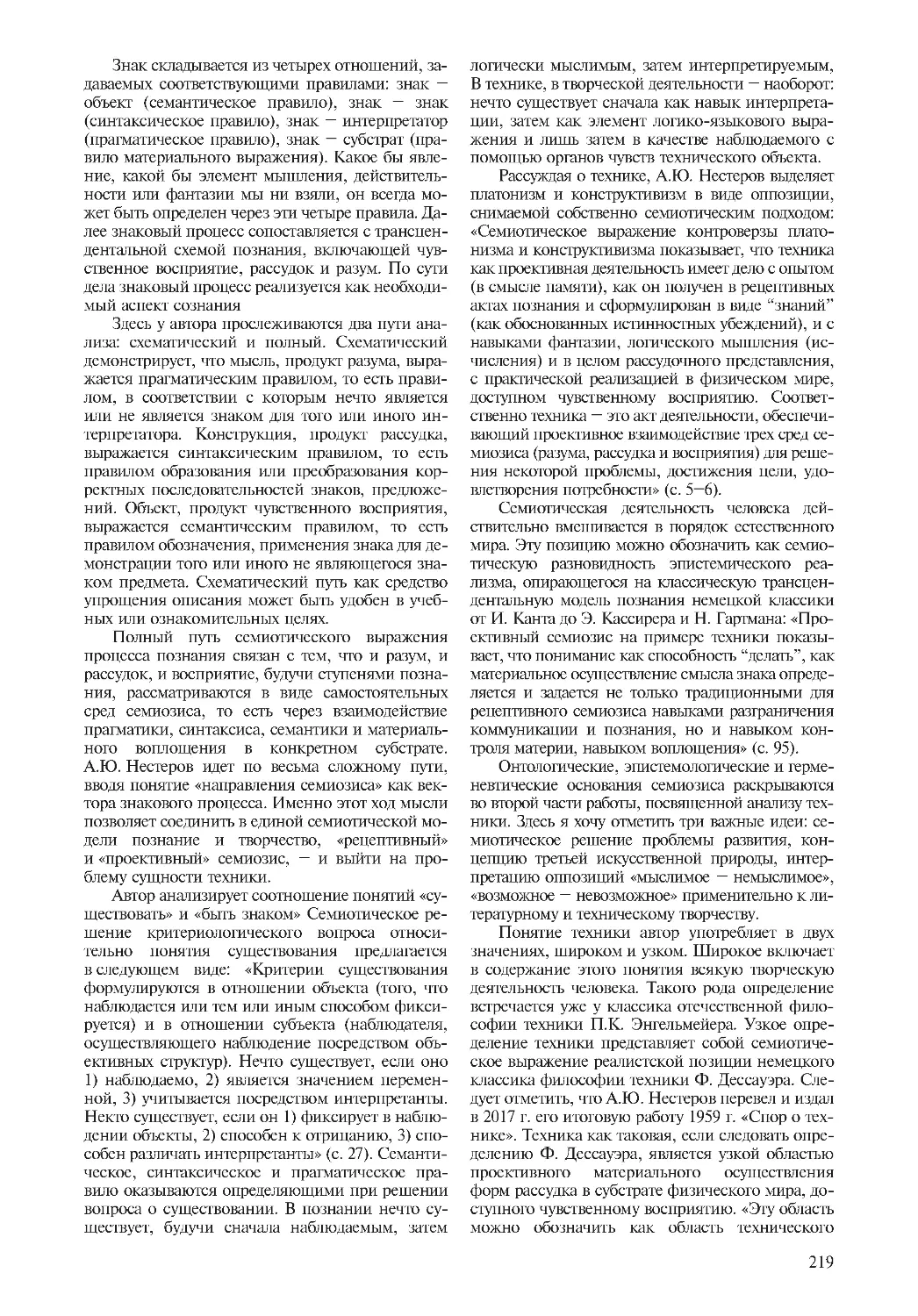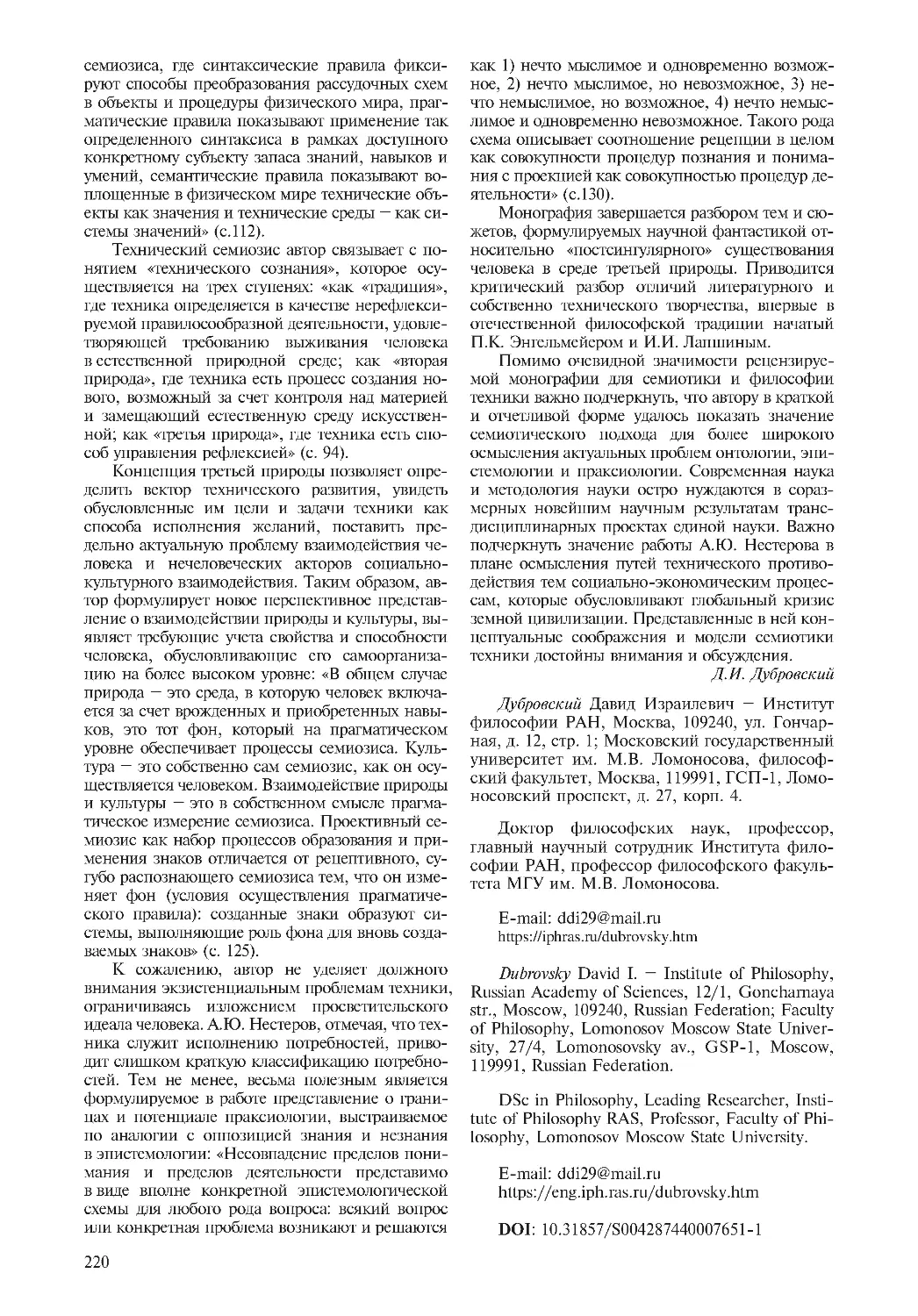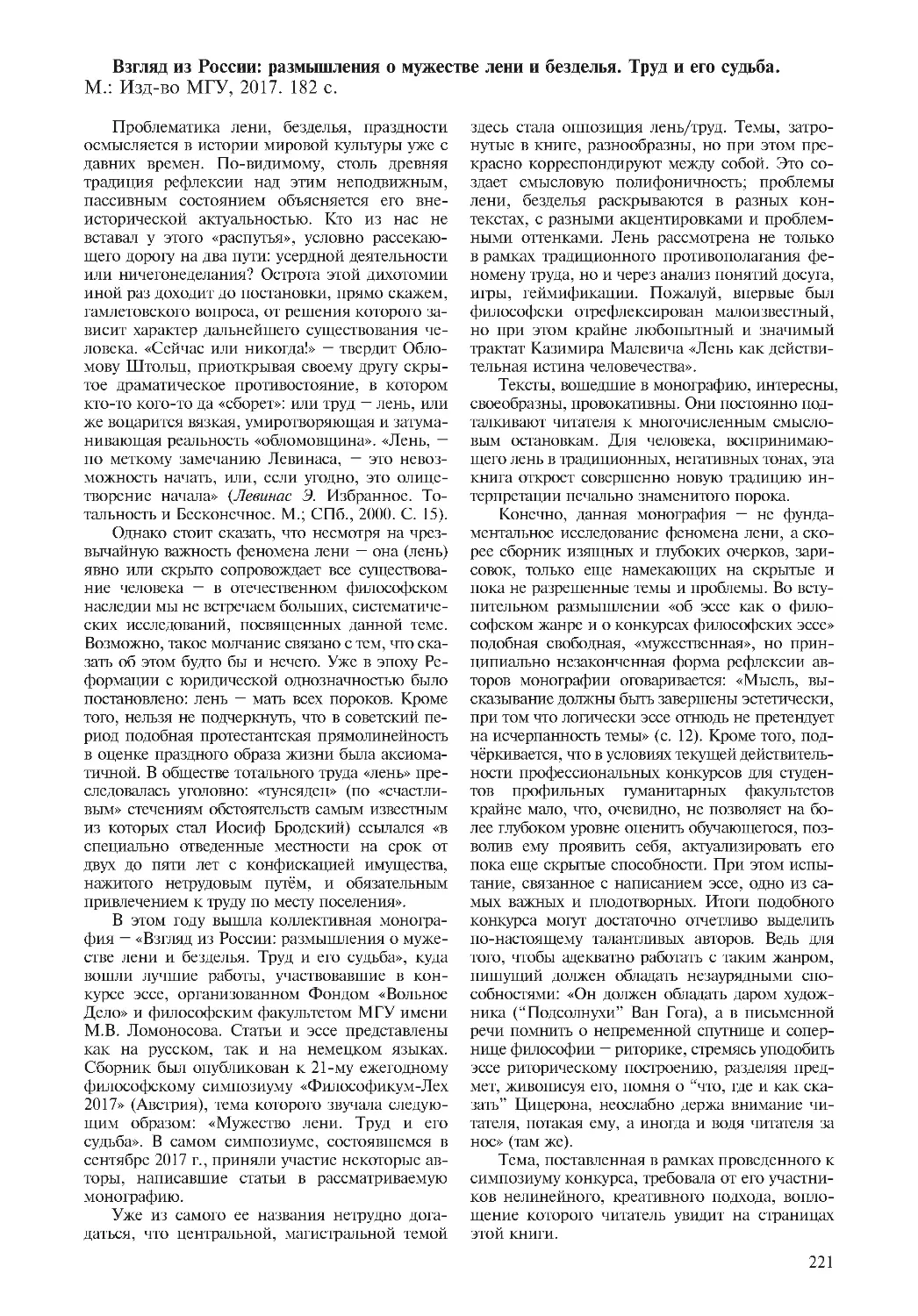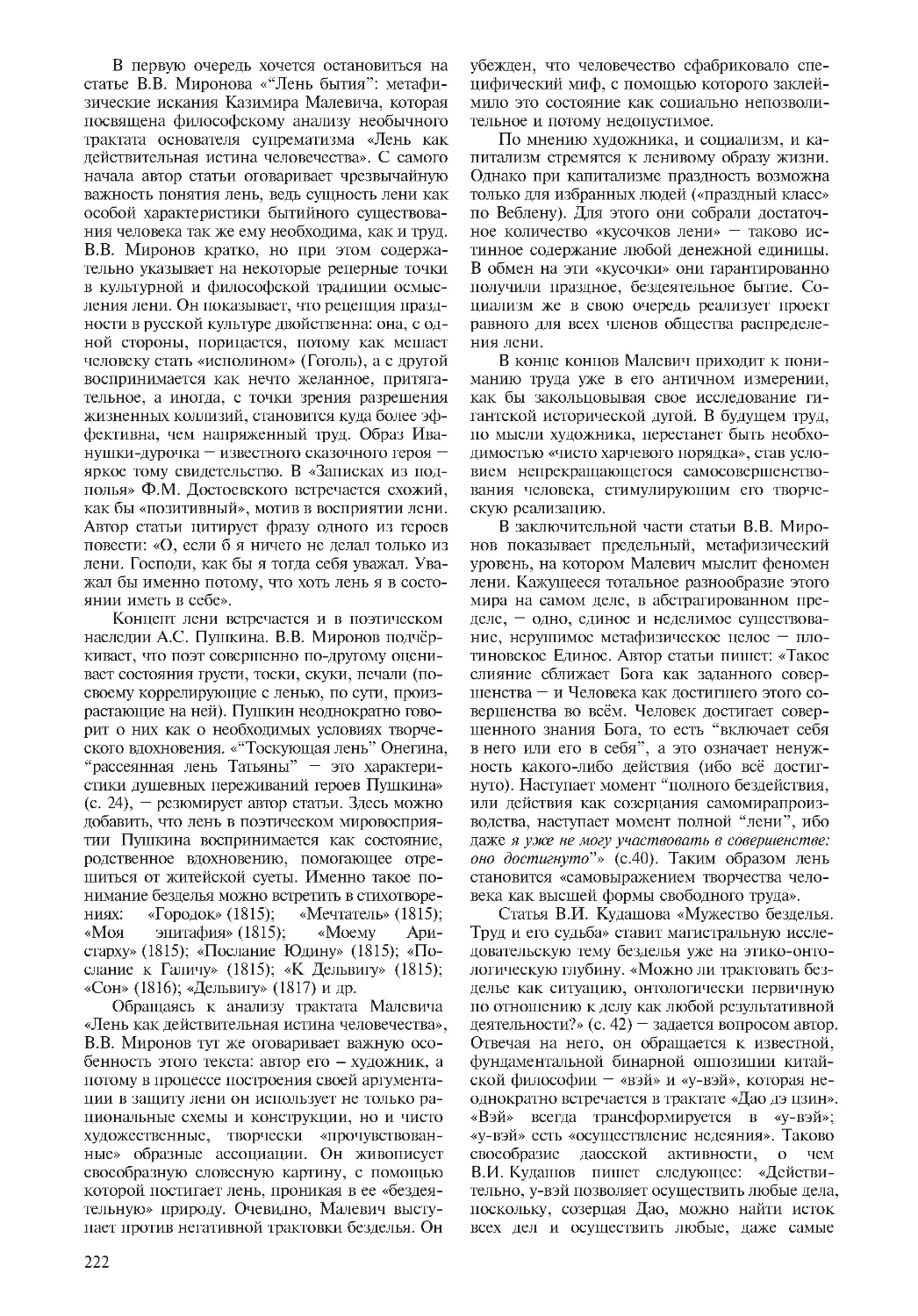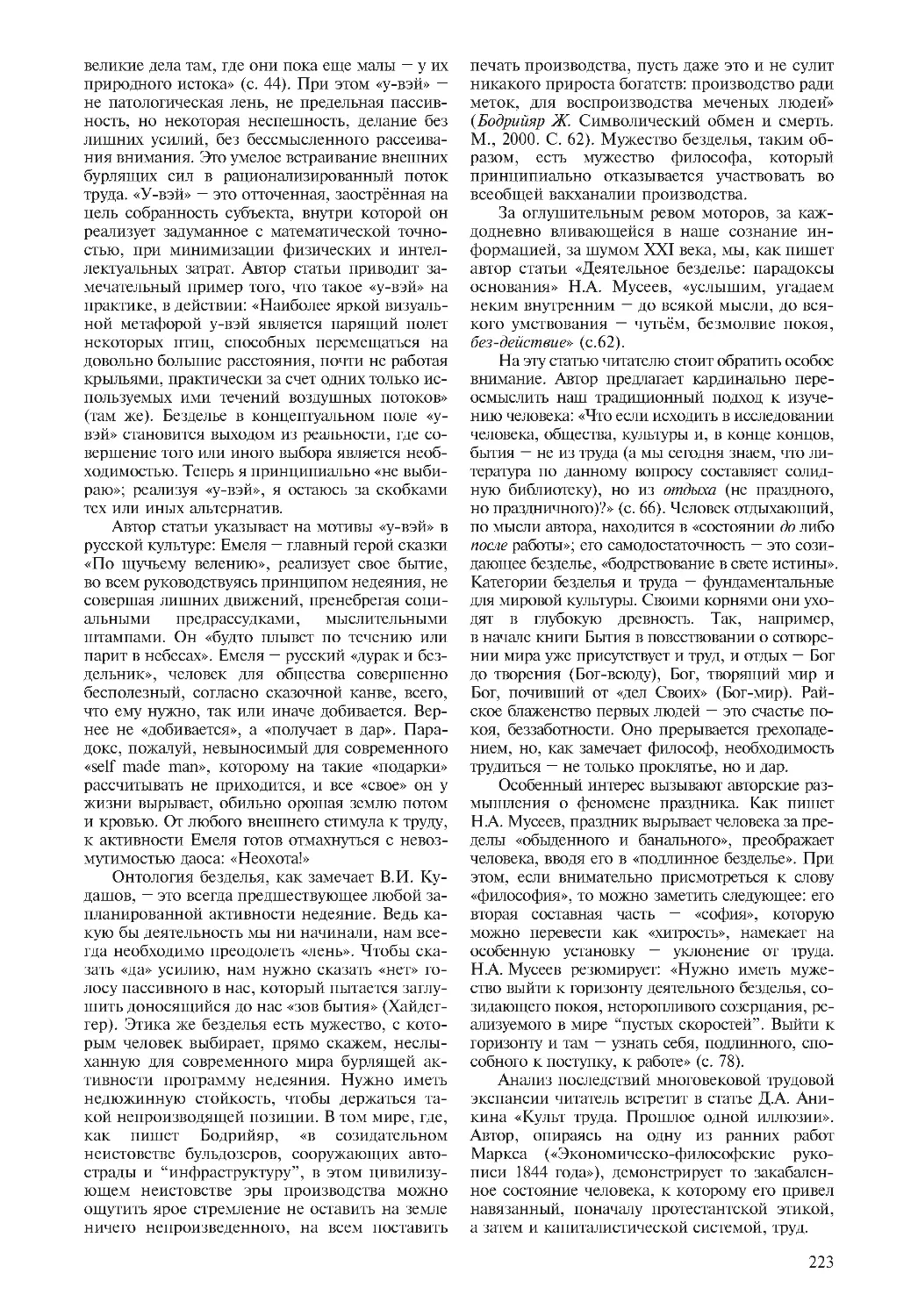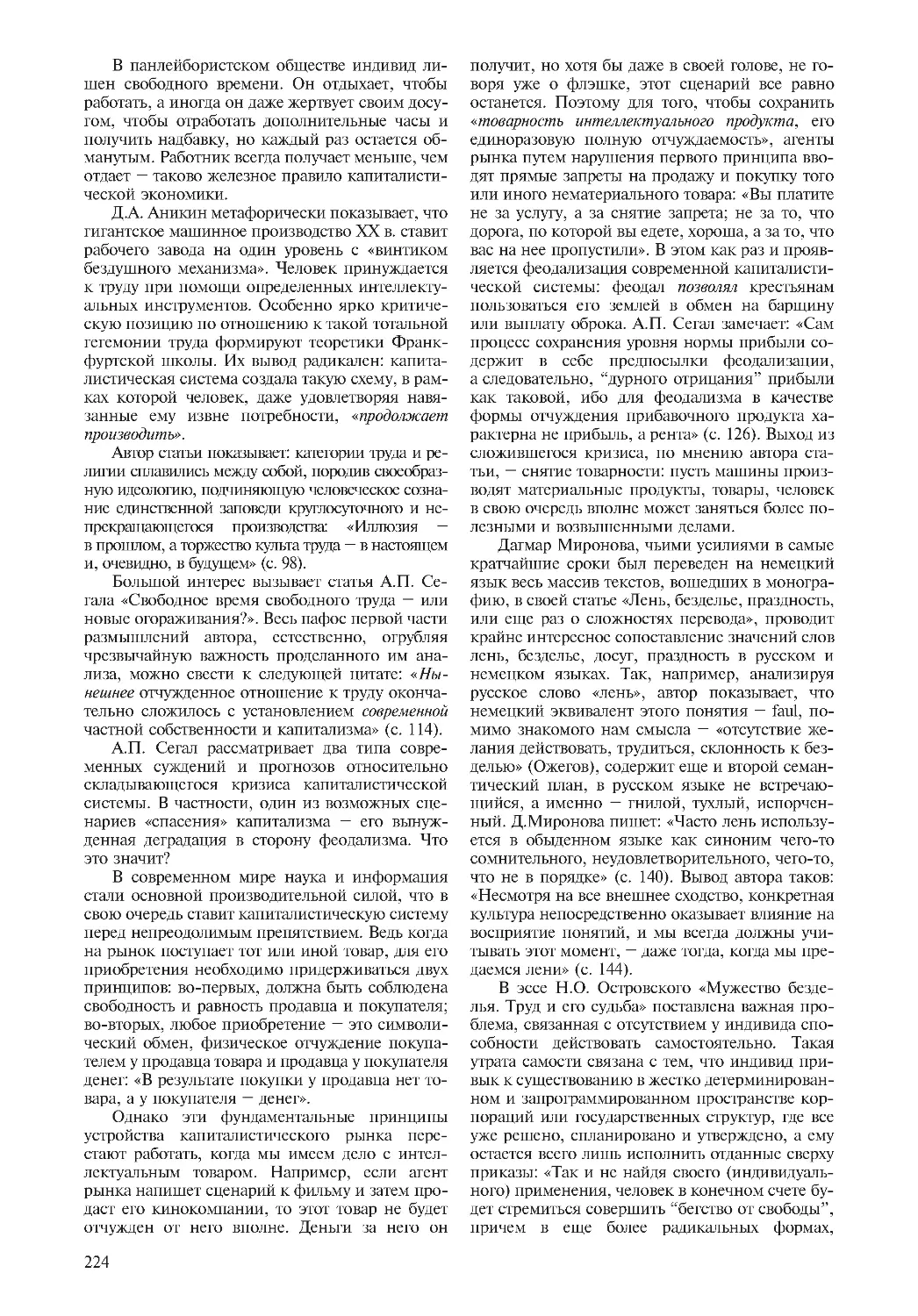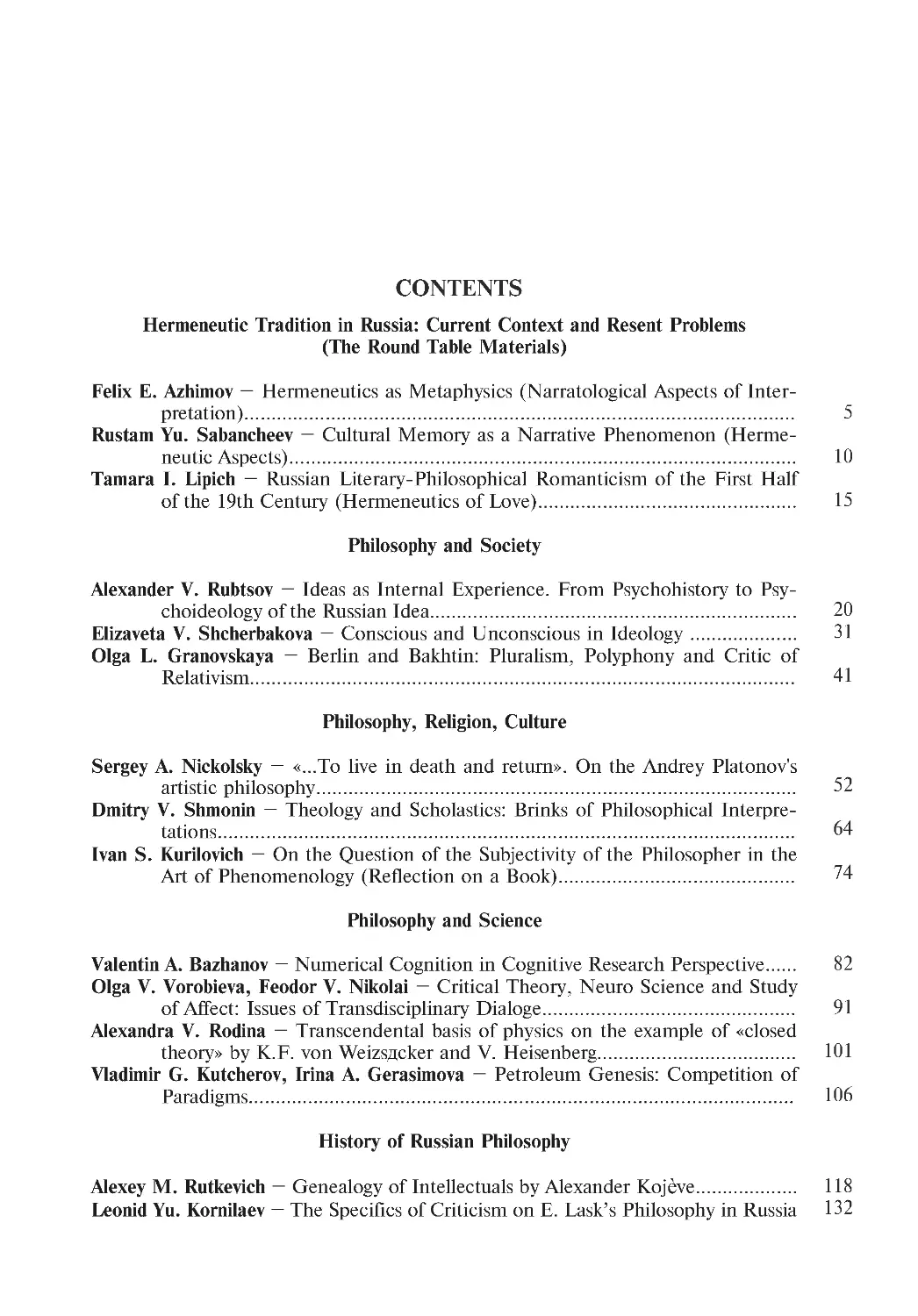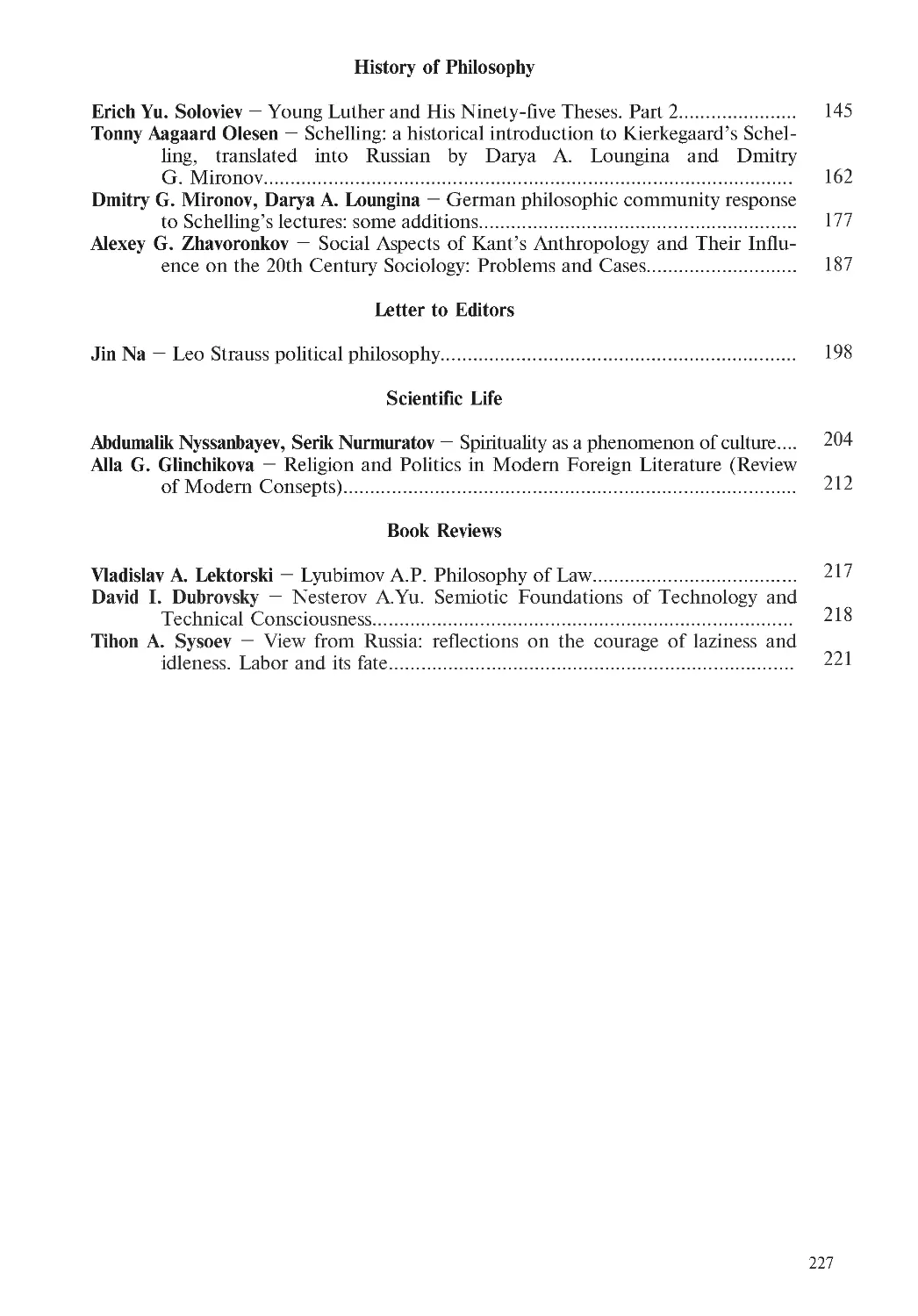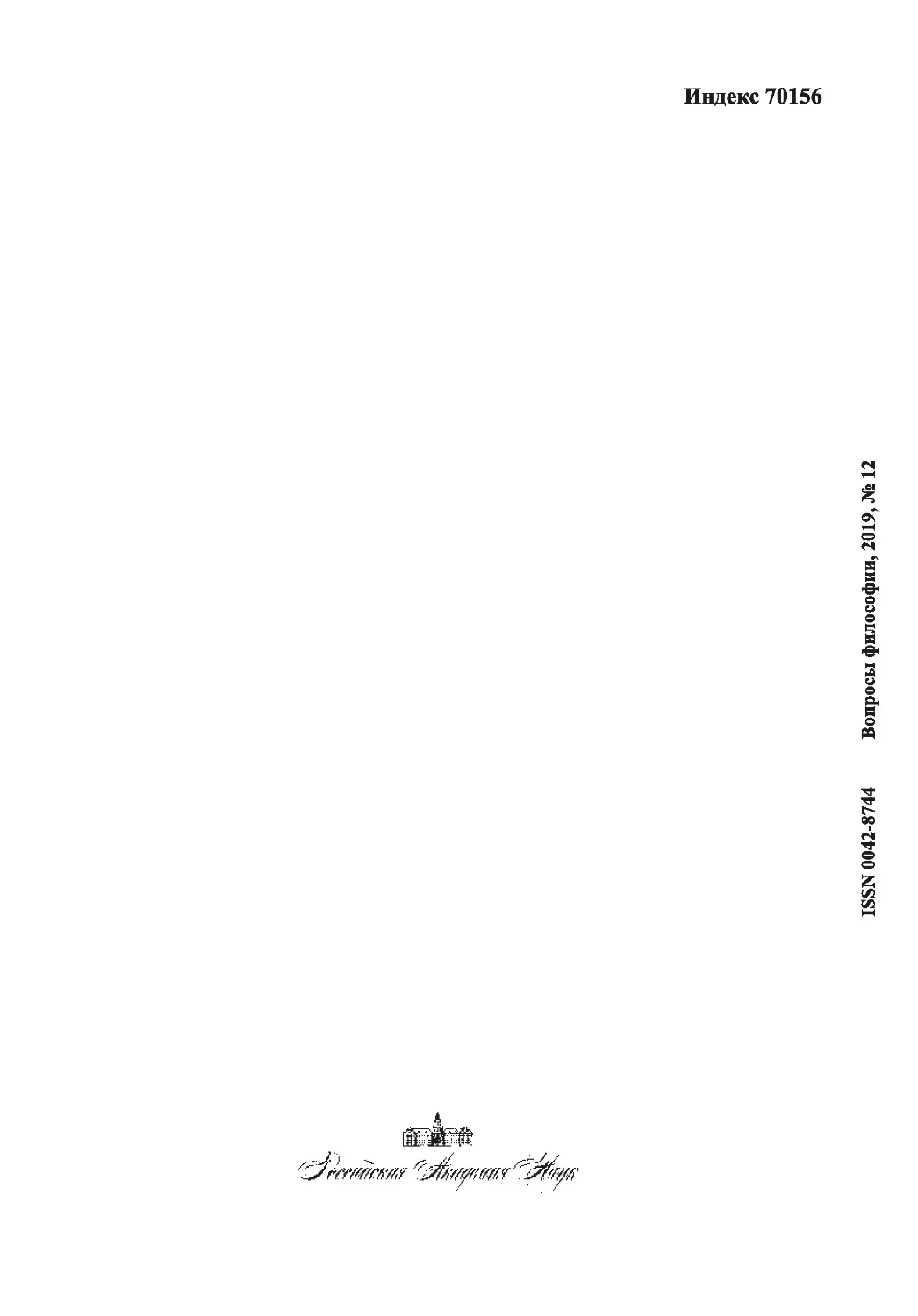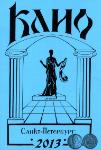Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН
ВОПРОСЫ
ФИЛОСОФИИ
No12
МОСКВА
СОДЕРЖАНИЕ
Герменевтическая традиция в России: актуальные контексты и современные
проблемы (материалы “круглого стола”)
Ф.Е . Ажимов – Герменевтика как метафизика (нарратологические аспекты ин-
терпретации).................................................................................................
Р.Ю. Сабанчеев – Культурная память как нарративный феномен (герменевти-
ческие аспекты)...........................................................................................
Т.И. Липич – Русский литературно-философский романтизм I половины
XIX века (герменевтика любви).................................................................
Философия и общество
А.В. Рубцов – Идеи как переживание. От психоистории к психоидеологии рус-
ской идеи......................................................................................................
Е.В . Щербакова – Сознательное и бессознательное в идеологии........................
О.Л. Грановская – Берлин и Бахтин: плюрализм, полифония и критика реля-
тивизма..........................................................................................................
Философия, религия, культура
С.А . Никольский – « ...Пожить в смерти и вернуться». О художественной фи-
лософии Андрея Платонова........................................................................
Д.В . Шмонин – Теология и схоластика: грани философских интерпретаций
(размышление над книгами)......................................................................
© Российская академия наук, 2019 г.
© Редколлегия журнала “Вопросы философии” (составитель), 2019 г.
5
10
15
20
31
41
52
64
2019
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО
Журнал издается под руководством
Президиума Российской академии наук
2
И.С . Курилович – К вопросу о субъективности философа в искусстве феноме-
нологии (размышление над книгой)..........................................................
Философия и наука
В.А . Бажанов – Числовое познание в контексте когнитивных исследований.....
О.В. Воробьева, Ф.В . Николаи – Критическая теория, нейронауки и исследо-
вания аффекта: проблемы трансдисциплинарного диалога.....................
А.В. Родина – Трансцендентальное обоснование физики на примере «замкну-
той теории» у К.Ф . фон Вайцзеккера и В. Гейзенберга ...........................
В.Г . Кучеров, И.А . Герасимова – Генезис нефти и природного газа: конкурен-
ция парадигм...............................................................................................
Из истории отечественной философской мысли
А.М. Руткевич – Генеалогия интеллектуалов Александра Кожева......................
Л.Ю . Корнилаев – Особенности критики философии Э. Ласка в России............
История философии
Э.Ю . Соловьев – Молодой Лютер и его Виттенбергские тезисы. Часть вторая...
Т.О . Олесен – Шеллинг в прочтении Керкегора: историческое введение.
Часть II. Перевод с английского, датского и немецкого Д.А . Лунгиной
и Д.Г . Миронова..........................................................................................
Д.Г . Миронов, Д.А . Лунгина – Реакция немецкой публики на лекции Шел-
линга: некоторые дополнения....................................................................
А.Г . Жаворонков – Социальные аспекты антропологии Канта и их влияние на
социологию XX века: проблемы и примеры.............................................
Из редакционной почты
Цзинь На – Классическая политическая философия Лео Штрауса....................
Научная жизнь
Abdumalik Nyssanbayev, Serik Nurmuratov – Spirituality as a phenomenon of culture
А.Г . Глинчикова – Религия и политика в современной зарубежной литературе
(обзор концепций).......................................................................................
Критика и библиография
В.А . Лекторский – Любимов А.П. Философия права............................................
Д.И . Дубровский – А.Ю. Нестеров. Семиотические основания техники и тех-
нического сознания: монография...............................................................
Т.А . Сысоев – Взгляд из России: размышления о мужестве лени и безделья.
Труд и его судьба............................................................ ..............................
Contents....................................................................................................................
74
82
91
101
106
118
132
145
162
177
187
198
204
212
217
218
221
226
3
Редакционная коллегия
Пружинин Борис Исаевич – доктор философских наук, главный редактор
Анохин Константин Владимирович – доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН и
РАМН, руководитель отдела нейронаук НИЦ “Курчатовский институт”
Бажанов Валентин Александрович – доктор философских наук, профессор, заслуженный де-
ятель науки РФ, заведующий кафедрой философии Ульяновского государственного университета
Гайденко Пиама Павловна – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, главный
научный сотрудник Института философии РАН
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – академик РАН, научный руководитель Института фи-
лософии РАН
Кантор Владимир Карлович – доктор философских наук, ординарный профессор НИУ “Выс-
шая школа экономики”
Лекторский Владислав Александрович – академик РАН, заведующий сектором Института фи-
лософии РАН
Макаров Валерий Леонидович – академик РАН, директор Центрального экономико -матема -
тического института РАН
Миронов Владимир Васильевич – доктор философских наук, член-корреспондент РАН, декан
философского факультета МГУ им. М .В . Ломоносова
Паршин Алексей Николаевич – академик РАН, заведующий отделом алгебры и теории чисел
Математического института им. В .А. Стеклова РАН
Руденко Виктор Николаевич – доктор юридических наук, член-корреспондент РАН, директор
Института философии и права УрО РАН
Руткевич Алексей Михайлович – доктор философских наук, ординарный профессор, научный
руководитель факультета гуманитарных наук НИУ “Высшая школа экономики”
Смирнов Андрей Вадимович – доктор философских наук, академик РАН, директор Институт а
философии РАН
Трубникова Надежда Николаевна – доктор философских наук, заместитель главного редактора
Черниговская Татьяна Владимировна – доктор биологических наук, доктор филологических
наук, профессор, заведующая кафедрой и лабораторией СПбГУ
Щедрина Татьяна Геннадьевна – доктор философских наук, ответственный секретарь
Юревич Андрей Владиславович – доктор психологических наук, член-корреспондент РАН,
заместитель директора Института психологии РАН
Международный редакционный совет
Лекторский Владислав Александрович – академик РАН, Председатель Совета
Агацци Эвандро – профессор университета г. Генуи, Италия
Ань Цинянь – профессор Народного университета Пекина, председатель общества по изуче-
нию русской и советской философии, Китайская Народная Республика
Бэкхерст Дэвид – профессор Королевского университета Куинс, г. Кингстон, Канада
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович – академик РАН, директор Института философии РАН
Данилов Александр Николаевич – доктор социологических наук, профессор БГУ, член -кор-
респондент НАН Беларуси
Зотов Анатолий Федорович – доктор философских наук, профессор философского факультета
МГУ им. М .В . Ломоносова
Мамедзаде Ильхам – доктор философских наук, директор Института философии, социологии
и права НАН Азербайджана
Мотрошилова Нелли Васильевна – доктор философских наук, главный научный сотрудник
Института философии РАН
Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич – академик НАН Республики Казахстан
Погосян Геворк Арамович – доктор социологических наук, профессор, академик НАН Рес-
публики Армения, директор Института философии, социологии и права НАН РА
Старобинский Алексей Александрович – академик РАН, главный научный сотрудник Инсти-
тута теоретической физики им. Л.Д . Ландау РАН
Хабермас Юрген – профессор Франкфуртского университета, Федеративная Республика Гер-
мания
Харре Ром – профессор Оксфордского университета, Великобритания
4
Editorial board
Boris I. Pruzhinin – DSc in Philosophy, Chief Editor
Konstantin V. Anokhin – DSc in Medical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy
of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences, Head of Department
of Neurosciences, Kurchatov Institute (Moscow)
Valentin A. Bazhanov – DSc in Philosophy, Professor, Head of Department, Ulyanovsk State Uni-
versity (Ulyanovsk)
Tatiana V. Chernigovskaya – DSc in Linguistics and in Human Physiology, Professor, Head of De-
partment, St. Petersburg State University
Piama P. Gaidenko – DSc in Philosophy, Corresponding Member of the Russian Academy of Sci-
ences, Chief Researcher, Institute of Philosophy RAS (Moscow)
Abdusalam A. Guseynov – Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Principal
Adviser for Academic Affairs, Institute of Philosophy RAS (Moscow)
Vladimir K. Kantor – DSc in Philosophy, Professor, National Research University “Higher School
of Economics” (Moscow)
Vladislav A. Lectorsky – Full Member of the Russian Academy of Sciences (Moscow)
Valery L. Makarov – Full Member of the Russian Academy of Sciences, Director, Central Economic
Mathematical Institute RAS (Moscow)
Vladimir V. Mironov – DSc in Philosophy, Corresponding Member of the Russian Academy of
Sciences, Dean, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University
Aleksei N. Parshin – Full Member of the Russian Academy of Sciences, Head of Department of
Algebra and Number Theory, Steklov Mathematical Institute RAS (Moscow)
Viktor N. Rudenko – DSc in Physics and Mathematics, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Director, Institute of Philosophy and Law, Ural branch of Russian Academy of
Sciences (Ekaterinburg)
Alexey M. Rutkevich – DSc in Philosophy, Professor, Academic Supervisor, Faculty of Humanities,
National Research University “Higher School of Economics” (Moscow)
Andrey V. Smirnov – DSc in Philosophy, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Direc-
tor, Institute of Philosophy RAS (Moscow)
Nadezhda N. Trubnikova – DSc in Philosophy, Deputy Chief Editor (Moscow)
Tatiana G. Shchedrina – DSc in Philosophy, Executive Secretary (Moscow)
Andrei V. Yurevich – DSc in Psychology, Corresponding Member of the Russian Academy of Sci-
ences, Deputy Director, Institute of Psychology RAS (Moscow)
International Editorial Council
Vladislav A. Lectorsky – Full Member of the Russian Academy of Sciences (Moscow)
Evandro Agazzi – Department of Philosophy, University of Genova, Italy
An Quinan – Professor, Renmin University of China, China
David Backhurst – Professor, Queen’s University, Kingston, Canada
Alexander N. Danilov – Doctor of Sociology, Professor, Belarusian State University, C orresponding
member of the National Academy of Sciences of Belarus
Abdusalam A. Guseynov – Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, Director,
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences
Jurgen Habermas – Professor, University of Frankfurt, Germany
Rom Harre – Professor, Oxford University, England
Ilham Ramiz oglu Mammadzada – DSc in Philosophy, Director, Institute of Philosophy, Sociology
and Law, Azerbaijan National Academy of Sciences (Baku)
Nelly V. Motroshilova – DSc in Philosophy, Professor, Chief Researcher, Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences
Abdumalik N. Nysanbaev – Academician of the National Academy of Sciences of Republic of Ka-
zakhstan
Gevorg A. Poghosyan – DSc in Sociology, Professor, Full Member of National Academy of Sciences,
Republic Armenia, Director of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA (Erevan)
Miroslav V. Popovich – Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Professor,
Director, Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kiev)
Aleksei A. Starobinsky – Full Member of the Russian Academy of Sciences, Chief Researcher, Landau
Institute for Theoretical Physics RAS (Moscow)
Anatoly F. Zotov – DSc in Philosophy, Professor, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State
University
5
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ (МАТЕРИАЛЫ “КРУГЛОГО СТОЛА”)
Герменевтика как метафизика
(нарратологические аспекты интерпретации)*
© 2019 г.
Ф.Е . Ажимов
Школа искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета,
Владивосток, о. Русский, полуостров Саперный, 690922, поселок Аякс, д. 10.
E-mail: felix02@mail.ru
Поступила 06.06.2019
Статья посвящена осмыслению методологического статуса современ-
ной герменевтики, которая приобретает черты, характерные для ме-
тафизического взгляда на мир – ее видение социально-гуманитарной
реальности онтологизируется. В русской философии проблемами гер-
меневтики как методологии гуманитарного познания занимался Гу-
став Густавович Шпет. Он разрабатывал оригинальную «философию
слова», в которой особое внимание уделялось процедурам понимания
и интерпретации. Истолкование смыслов высказываний становится
для него исходным пунктом и важнейшей составляющей философ-
ского рассуждения о мире («вся Вселенная есть Слово»), и именно
в этом качестве герменевтика соприкасается с повествованием (нарра-
тивом) и приобретает статус методологического основания социаль-
ных и гуманитарных наук. В рукописи «Герменевтика и ее проблемы»
Шпет рассматривает проблемы истолкования и интерпретации в ис-
торическом развитии, фиксируя моменты изменения и расширения
герменевтической проблематики в различные исторические эпохи.
Оригинальная шпетовская интерпретация герменевтики как методо-
логии остается актуальной и для современной философии. В статье
показано, что особую значимость сегодня приобретает его мысль
о том, что герменевтика – это прежде всего интеллектуальная практи-
ка, погруженная в предметное содержание социально-гуманитарного
видения реальности. Причем такое видение не ориентировано на ана-
литическое расчленение целого, но обращено на удерживающий це-
лое культурно-исторический ракурс, который, собственно, и наделяет
это видение объективностью. По мнению автора, современная герме-
невтика востребована именно в качестве онтологизированной фило-
софской методологии социального и гуманитарного познания.
Ключевые слова: герменевтика, философия, метафизика, онтология,
метод, социально-гуманитарное познание, культурно-исторический
контекст, интерпретация.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект No 18-011 -01252 «Ис-
торическая память и историческое понимание: эпистемологические риски обращения к
нарративу». Расширенный вариант этого доклада см.: Ажимов Ф.Е. Нарратологические
аспекты герменевтики и метафизика (опыт историко-философской интерпретации) //
Герменевтическая традиция в России: актуальные контексты и современные проблемы /
Под ред. Б .И . Пружинина, Т.Г. Щедриной. М ., СПб.: ЦГИ Принт, 2019. С . 188 –194.
6
DOI: 10.31857/S004287440007518-4
Цитирование: Ажимов Ф.Е. Герменевтика как метафизика (нарратологиче-
ские аспекты интерпретации) // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 5–9 .
Hermeneutics as Metaphysics
(Narratological Aspects of Interpretation)*
© 2019 г.
Felix E. Azhimov
School of Arts and Humanities, of the Far Eastern Federal University, 10, Ajax village,
Peninsula Sapernay, Russky Island, Vladivostok, 690922, Russian Federation.
E-mail: felix02@mail.ru
Received 06.06.2019
The article is devoted to understanding the methodological status of modern
hermeneutics, which acquires features characteristic of a metaphysical view of
the world – its vision of social and humanitarian reality is ontologized. In Rus-
sian philosophy, the problems of hermeneutics as a methodology of humanitar-
ian knowledge were dealt with by Gustav Gustavovich Shpet. He developed the
original “philosophy of the Word”, in which special attention was paid to the
procedures of understanding and interpretation. The interpretation of the mean-
ings of statements becomes for him the starting point and the most important
component of the philosophical discussion of the world (“the whole Universe is
the Word”), and it is in this quality that hermeneutics comes into contact with
the story (narrative) and acquires the status of the methodological foundation of
the social sciences and humanities. In the manuscript “Hermeneutics and its
problems”, Shpet examines the problems of interpretation and explanation in
historical development, fixing the moments of change and expansion of herme-
neutical problems in various historical eras. The original interpretation of her-
meneutics as a Shpet methodology remains relevant for modern philosophy.
The article shows that the idea that hermeneutics is first and foremost an intel-
lectual practice immersed in the objective content of the social-humanitarian
vision of reality gains particular significance today. Moreover, such a vision is
not oriented towards the analytic dismemberment of the whole but is directed
towards the cultural-historical perspective that holds the whole, which, in fact,
gives this vision objectivity. According to the author, modern hermeneutics is in
demand precisely as an ontologized philosophical methodology of social-
humanitarian knowledge.
Key words: hermeneutics, philosophy, metaphysics, ontology, method, so-
cial-humanitarian knowledge, cultural-historical context, interpretation.
DOI: 10.31857/S004287440007518-4
Citation: Azhimov, Felix E. (2019) ‘Hermeneutics as Metaphysics (Narra-
tological Aspects of Interpretation)’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019),
pp. 5–9.
*
The research is carried out at expense of RFBR, project No 18-011 -01252 «Historical
Memory and Historical Understanding: Epistemological Risks of Appeal to Narrative».
7
Современная философская герменевтика буквально нацелена на выявление кон-
кретных исторических и культурных контекстов предметности, рассматриваемой
в ходе социально-гуманитарных (и, в значительной части, фундаментальных есте-
ственнонаучных) исследований. Она сегодня фактически погружена в онтологиче-
скую тематику, обращена к проблемам бытия, поскольку в современной интеллекту-
альной культуре существование означает понимание. В этом развороте герменевтики
к онтологии есть заслуга и Г.Г. Шпета [Шпет 2005], причем состоит она, прежде все-
го, в том, что он проецировал герменевтику на методологический опыт историческо-
го повествования, с одной стороны, и соотносил ее с феноменологическим видением
реальности, с другой. Кроме того, в концепции «внутренней формы слова» он акцен-
тировал внутреннюю связность, если угодно, целостность языковой формы осмысле-
ния предметной реальности. Именно таким образом он представлял главную функ-
цию герменевтики – реконструировать проблемные контексты предметности с целью
понимания ее как текста.
Представляется, что сегодня, опираясь на эти герменевтические идеи Шпета,
мы можем выйти к новым методологическим стратегиям, где соотносятся истолкова-
ние и высказывание (нарратив). И прежде всего потому, что Шпет в процессе анали-
за герменевтических концепций акцентирует внимание именно на проблеме выраже-
ния мысли для другого. Он задает вопрос о том, как возможно понимающее выска-
зывание в связном тексте. В современной трактовке это может быть представлено
как обращение к нарративным аспектам понимания и общения. Действительно,
сегодня под текстом понимаются практически все формы гуманитарной, знаково -
символической по сути, реальности (в том числе и комиксы, и музыкальные компо-
зиции), а способами работы со знаковыми формами текста являются процедуры и н-
терпретации и истолкования, с помощью которых можно выявить культурно-
исторические смыслы словесно представленных знаков и символов. А это значит,
что мы можем рассмотреть современную проблематику нарратологии в контексте
историко-герменевтических исследований (причем не только Шпета, но и Гадамера,
и Рикера) и осмыслить их методологическую эффективность.
Надо признать, что ХХ в., частично преодолев метафизику в науках о природе, вы-
водил самобытность научного гуманитарного знания (онтологию наук о духе)
из «герменевтико-феноменологической» метафизики человеческого бытия. В метафи-
зических повествованиях раскрывается необходимость существования, поскольку она
всегда незримо присутствует в человеческих высказываниях не как порождение опре-
деленной культуры или образования, но в качестве неотъемлемой черты человеческого
общения. Представители герменевтики ХХ в. именно посредством онтолого-
метафизических интерпретаций гуманитарной проблематики выявили ряд существен-
ных черт таких специфических для всего социально-гуманитарного знания категорий
как мышление, язык, высказывание и повествование. И в философско-гуманитарных
исследованиях второй половины ХХ в. уже довольно смело зазвучали высказывания
о том, что герменевтика может занять место метафизики и стать «новой онтологией»
[Zimmerli 1986, 331]. Причем, в этой онтологии отчетливо заметна тенденция наррати-
визации (исследователи отмечают, что метафизика и герменевтика в современной фи-
лософии совпадают посредством онтологической проблематики, к которой можно от-
нести и исследования «нарративных секвенций» [Соколов 1998, 8]).
В современных герменевтических практиках слово рассматривается как знак, со-
держащий, точнее, сосредоточивающий в себе совокупность различающихся значе-
ний. Определенный смысл оно обретает лишь в определенном же культурном и ис-
торическом контекстах. Именно к этому аспекту слова обращается Х. - Г. Гадамер,
представляющий «язык» и «текст» в качестве феноменов онтологических. При этом
он настаивал: погруженная в онтологическую тематику современная герменевтика
обретает специфическое звучание благодаря тому, что в сферу ее интересов попадает
не только научное познание, но и словесные искусства (в частности, литературное
повествование) (см.: [Гадамер 1991, 126]). Преломляясь сквозь «язык», мир, по Гада-
меру, обретает «событийность». «Бытие, которое может быть понято, является
8
языком» [Там же]. Ибо текст, настаивал он, по самой своей сути, «предназначен для
истолкования и понимания», которые направлены на устранение в нем противоречий
[Там же, 135], он предстает как развертывание связного повествования. В данном
случае мы обнаруживаем внутреннюю соотносимость герменевтического подхода и
подхода нарратологического – бытие предстает в форме последовательного языково-
го повествования. Таким образом, герменевтические практики истолкования и пони-
мания рассматриваются Гадамером в качестве методологического инструмента, поз-
воляющего раскрывать онтологический смысл социально-гуманитарной реальности
как интегрированного целого. И, опираясь на его рассуждения, я думаю, можно сде-
лать обоснованный вывод: «Герменевтика всегда является нарративной, и даже авто-
нарративной, поскольку истолкование и самоистолкование исследователя едины»
[Ажимов 2019, 193].
Эту же особенность герменевтических практик как практик нарративных акцен-
тировал П. Рикер (см.: [Рикер 2000]). Его мысль можно реконструировать так: «если
бытие доступно путем его интерпретации, то неизбежно будет существовать разница
в прочтении одного и того же текста, обусловленная посредничеством знаков
и называемая конфликтом. <...> Объяснение и понимание сопутствуют только це-
лостному тексту, который может быть адекватен литературному произведению – рас-
сказу» [Ажимов 2011, 163]. Иначе говоря, процедуры понимания и непротиворечиво-
го объяснения оказываются созвучными и даже соотносимыми в последовательно
развертывающемся повествовании (в нарративе). Истолковываемый и понимаемый
как рассказ гуманитарный научный текст именно благодаря тому, что он развертыва-
ется в виде последовательного повествования, способен снимать смысловую дистан-
цию между текстом и читателем, «включая смысл этого текста в нынешнее понима-
ние, каким обладает читатель» [Рикер 2008, 40].
В заключение замечу, что герменевтика в концептуальных построениях Шпета,
Гадамера и Рикера (у каждого по-своему) «обрела философичность через онтологиза-
цию нарратива. Герменевтика в ХХ в. окончательно становится философской дисци-
плиной, когда герменевтический угол зрения полностью совпадает с онтологиче-
ским» [Ажимов 2019, 193].
Источники – Primary sources in Russian, German and Russian Translation
Гадамер 1991 – Гадамер Г.Г. Философия и литература // Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного.
М.: Искусство, 1991. C. 126–146 [Gadamer, Hans-Georg Was ist Literatur? (Russian Translation, 1991)].
Рикер 2008 – Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Академиче-
ский проект, 2008 [Ricoeur, Paul Le Conflit des Interpretations. Essais d'hermeneutique (Russian
Translation, 2008)].
Рикер 2000 – Рикер П. Время и рассказ. Т . 1 . СПб .: Университетская книга, 2000 [Ricoeur,
Paul Temps et Récit (Russian translation, 1999)].
Шпет 2005 – Шпет Г.Г . Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Мысль и Слово. Избран-
ные труды / Отв. ред. -со с т. Т .Г . Щедрина. М .: РОССПЭН, 2005. С . 248 –418 [Shpet, Gustav G.
Hermeneutics and its Problems (in Russian)].
Zimmerli, Walther Ch. (1986) ‘Die Grenzen der Rationalität als Problem der europäischen Gegen-
wartsphilosophie’, Zur Kritik der wissenschaftlichen Rationalität, hrsg. von H. Lenk, Freiburg – München.
Cсылки – References in Russian
Ажимов 2011 –Ажимов Ф.Е . Метафизические основания гуманитарного познания. Владиво-
сток: ДВФУ, 2011.
Ажимов 2019 – Ажимов Ф.Е . Нарратологические аспекты герменевтики и метафизика (опыт
историко-философской интерпретации) // Герменевтическая традиция в России: актуальные
контексты и современные проблемы / Под ред. Б.И. Пружинина, Т.Г . Щедриной. М ., СПб.:
ЦГИ Принт, 2019. С . 188 –194.
Соколов 1998 – Соколов Б.Г . Герменевтика метафизики. СПб .: СПбГУ, 1998.
9
References
Azhimov, Felix E. (2011) Metaphysical Foundations of Humanitarian Knowledge , FEFU, Vladivostok
(In Russian).
Azhimov, Felix E. (2019) ‘Narratological Aspects of Hermeneutics and Metaphysics (Experience
of Historical and Philosophical Interpretation)’, The Hermeneutic Tradition in Russia: Current Contexts
and Contemporary Problems, eds. Tatiana Shchedrina, Boris Pruzhinin, CGI Print, Moscow, St. Peters-
burg (In Russian).
Sokolov, Boris G. (1998) Hermeneutics of Metaphysics, Publishing House of St. Petersburg Universi-
ty, St. Petersburg (In Ruissian).
Сведения об авторе
АЖИМОВ Феликс Евгеньевич –
доктор философских наук, профессор,
директор Школы искусств и гуманитарных
наук Дальневосточного федерального уни-
верситета.
Author’s information
AZHIMOV Felix E. –
DSc in Philosophy, Professor, Director of the
School of Arts and Humanities of the Far
Eastern Federal University.
10
Культурная память как нарративный феномен
(герменевтические аспекты)*
© 2019 г.
Р.Ю. Сабанчеев
Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва, 119049,
Мароновский пер., д. 26.
E-mail: Silvermarker@yandex.ru
Поступила 06.09.2019
Автор статьи пытается провести анализ современных концепций
культурной памяти, исходя из общей тематической проблематики
коллективной памяти, которая сложилась, как отмечают многие уче-
ные, вокруг двух противоположных тенденций: методологического
холизма («коллективистская» трактовка памяти) и методологического
индивидуализма («индивидуалистская» трактовка). Показано, что в
концепциях методологического индивидуализма феномен коллектив-
ной памяти истолковывается сквозь призму личного опыта субъекта
(«коллективное» предстает как продукт частностей, коллективный
опыт формируется посредством индивидуального). В то же время
в концепциях методологического холизма индивидуальный опыт име-
ет куда меньшее значение и может объясняться сквозь призму кол-
лективного. В статье анализируются идеи П. Коннертона и С. Стюарт,
их исследования, связанные с телесностью и материальной культурой.
Работы этих ученых позволяют понять основные механизмы форми-
рования нарратива, выявить его ценностную значимость для социума.
По мнению автора статьи, на сегодняшний день появилась острая по-
требность обратиться к этой теме, поскольку ее изучение позволит
расширить горизонт понимания функционирования коллективной
памяти. В качестве методологических и теоретических оснований ра-
боты были использованы эпистемологические идеи В.А. Лекторского,
который акцентировал внимание на достоинствах и недостатках кол-
лективистской и индивидуалистской трактовок культурной памяти,
а также психологические исследования П. Жане, благодаря которым
удалось проанализировать проблемы субъекта памяти и определить
связь нарратива и коллективной памяти.
Ключевые слова: коллективная память, культурная память, нарратив, эпи-
стемология, коммуникация, переживание, телесность, объект, познание.
DOI: 10.31857/S004287440007519-5
Цитирование: Сабанчеев Р.Ю . Культурная память как нарративный
феномен (герменевтические аспекты) // Вопросы философии. 2019.
No12.С.10–14.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект No 18-011 -01252 «Ис-
торическая память и историческое понимание: эпистемологические риски обращения к
нарративу». Расширенный вариант этого доклада см.: Сабанчеев Р.Ю . Нарративные страте-
гии культурной памяти: герменевтические аспекты // Герменевтическая традиция в Рос-
сии: актуальные контексты и современные проблемы / Под ред. Б .И . Пружинина,
Т.Г. Щедриной. М ., СПб.: ЦГИ Принт, 2019. С . 195–203 .
11
Cultural Memory as a Narrative Phenomenon
(Hermeneutic Aspects)*
© 2019 г.
Rustam Yu. Sabancheev
State Academic University for the Humanities, 26, Maronovskiy lane, Moscow, 119049,
Russian Federation.
E-mail: Silvermarker@yandex.ru
Received 06.09.2019
The author of the article is trying to analyze modern concepts of cultural
memory, based on the general thematic issues of collective memory, which has
developed, as many scientists note, around two opposite trends: methodological
holism (the “collectivist” interpretation of memory) and methodological indi-
vidualism (“individualistic” interpretation). It is shown that in the concepts of
methodological individualism the phenomenon of collective memory is inter-
preted through the prism of the subject’s personal experience (“collective” ap-
pears as a product of particulars, collective experience is formed through the
individual). At the same time, in the concepts of methodological holism, indi-
vidual experience is much less important and can be explained through the
prism of the collective. The article analyzes the ideas of P. Connerton and
S. Stuart, their research related to embodiment and material culture. The works
of these scientists allow us to understand the basic mechanisms of the formation
of a narrative, to reveal its value significance for society. According to the au-
thor of the article, today there is an urgent need to address this theme, since its
study will expand the horizon of understanding the functioning of collective
memory. As the methodological and theoretical foundations of the work, the
epistemological ideas of V.A. Lektorsky were used, which focused on the ad-
vantages and disadvantages of the collectivist and individualist interpretations of
cultural memory, as well as psychological research by P. Janet, thanks to whom
it was possible to analyze the problems of the subject of memory and determine
the relationship of narrative and collective memory.
Key words: collective memory, cultural memory, narrative, epistemology,
communication, experience, physicality, object, cognition.
DOI: 10.31857/S004287440007519-5
Citation: Sabancheev, Rustam Yu. (2019) ‘Cultural Memory as a Narrative Phe-
nomenon (Hermeneutic Aspects)’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 10 –14.
Тема «нарратива» и «памяти» приобретает сегодня особую актуальность и значи-
мость в контексте таких сложных идеологических процессов, как переписывание ис-
тории и стирание коллективной памяти, навязывание новых исторических «стерео-
типов» и клише, и культивирование новых «героев» для нашего времени. Все эти
процессы не просто требуют объяснения и реконструкции предпосылок, они нужда-
ются в герменевтическом (понимающем) промысливании настоящего, прошлого и
будущего. Это значит, что проблематика культурной памяти как коллективного и как
*
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 18 -011 -
01252, “Historical memory and Historical Understanding: Epistemological Risks of Recourse to
Narrative”. For an expanded version of this report, see: Sabancheev R.Yu. Narrative Strategies of
Cultural Memory: Hermeneutic Aspects // Hermeneutic tradition in Russia: actual contexts and
modern problems / Ed. B .I . Pruzhinin, T.G . Shchedrina. Moscow, St. Petersburg: CGI Print,
2019. P. 195–203 .
12
индивидуального феномена требует культурно-исторического осмысления. Нам сего-
дня важно понять предпосылки этой проблематики, опираясь на философско-
гуманитарный опыт первой половины ХХ в.
Так, Пьер Жане в труде «Эволюция памяти и понятия времени» пишет, что «па-
мять – это сложный акт, акт речи, который называют рассказом, и что для построе-
ния этого сложного акта требуется развитое сознание», а «хорошая память – вид ли-
тературного таланта, таланта рассказчика» [Жане 2010, 353]. Жане пытается модели-
ровать ситуацию запоминания через повествование, выделяя в нарративе памяти фе-
номен ожидания. Рассказ должен быть построен так, чтобы завоевать интерес слу-
шающего: предыстория события, по мнению Жане, уже не интересна, когда известна
развязка. Память эволюционирует, и с каждой эпохой формируются новые модели ее
понимания и истолкования. В античности, к примеру, память была игрой: искусство
поэта в античности заставляло слушателей переживать, плакать или смеяться. Спустя
сотни лет значимость приобрел автобиографический нарратив памяти. Тем актуаль-
нее сегодня звучат рассуждения Жане о значимости памяти как автонарратива: «Со-
седи, друзья довольно суровы и будут нас упрекать, если мы забудем важные события
нашей жизни. Полиция также спрашивает более или менее точное «curriculum vitae»;
от нас требуют, и мы пытаемся это сделать, чему способствует наше литературное
образование» [Жане 2010, 364].
При этом мы должны иметь в виду, что понятия «коллективное и социальное» не
равнозначны применительно к осмыслению проблем культурной памяти. Коллектив-
ная память может быть не только социальной, но и индивидуальной. Универсум
смыслов и значений, формирующих надындивидуальную идентичность на протяже-
нии многих поколений – культурная память – также имеет свои индивидуальные
нарративные черты. Как пишет В.А. Лекторский, коллективный субъект не имеет
структуры Я: «Можно говорить о коллективном мышлении, о коллективном решении
познавательных задач, о коллективной памяти. Но вряд ли можно приписывать пе-
реживания коллективному субъекту (хотя индивидуальные переживания всегда кол-
лективно опосредованы). Коллективного субъекта не существует без входящих в него
индивидуальных» [Лекторский 2001, 156]. Между тем, «переживание» как опыт имеет
ключевое значение для понимания взаимодействия коллективной и индивидуальной
памяти, поскольку сами событие и время познаются сквозь призму переживания,
преломляясь через индивидуальное сознание. «Снять» кажущийся антагонизм двух
подходов позволяет обращение не к проблеме субъекта, а к проблеме трансляции,
передачи опыта. Таким образом, нам необходимо ответить на вопрос: с помощью
каких инструментов происходит процесс «коллективизации» памяти? Один из самых
значимых, на мой взгляд, – это нарратив. Мартин Хайдеггер, к примеру, был уверен,
что событие укоренено не только во времени и бытии, но и в рассказе о нем «Поко-
ящийся в событии сказ есть как указывание самый собственный способ события.
Событие говоряще» [Хайдеггер web].
В социальном плане культурная память включает в себя стереотипы и смыслы.
К культурным стереотипам можно отнести феномены, связанные с областью бессо-
знательного. Например, телесную память, о которой пишет Пол Конне ртон. По его
мнению, мы можем «сознательно сохранять прошлое, не пересказывая его словами и
образами» [Connerton 2010, 72]. Образ прошлого может быть воспроизведен нашим
телом: «Мы можем не помнить, как или когда мы впервые научились плавать, но мы
можем продолжать успешно плавать, вспоминая, как это сделать без какой-либо ре-
презентативной деятельности с нашей стороны вообще» [Connerton 2010, 72]. Дей-
ствительно, прошлое буквально «оседает» в нашем теле. И в этой трактовке памяти
есть весьма значимый нарративный аспект. Дело в том, что о многих наших стерео-
типах нам когда-то рассказали, – научили нас вести себя так, а не иначе. Рассказан-
ные когда-то правила и инструкции постепенно растворяются, утрачивают смысл, но
остаются в человеке на бессознательном уровне. Особенно ярко культурные стерео-
типы проявляются в разных способах позирования. Власть и положение в обществе,
как указывает Коннертон, обычно выражаются именно через них: в одной культуре
13
«правильная» сидячая поза для женщин может быть с вытянутыми ногами, в дру-
гой – сидячая поза для мужчины может быть со скрещенными ногами. При этом
взрослые в таких культурах будут жестом или словом указывать ребенку, как он дол-
жен правильно сидеть в той или иной ситуации. Стереотипы не просто рассказыва-
ются в определенной культуре, они требуют особого герменевтического схватывания
и после растворения в бессознательном понимаются без слов.
Вместе с тем, механизм нарратива памяти, связанной с культурными смыслами,
будет во многом отличаться от системы стереотипов. Этой проблематикой занима-
лись Я. Ассман, А. Ассман, П. Нора и многие другие ключевые теоретики коллек-
тивной памяти. Появилось понятие «мест памяти», как особых лакун, в которых со-
держатся представления, образы, смыслы эпох , связанные с личностями и события-
ми. Однако особое внимание хочется уделить проблеме материальных объектов, ко-
торые выполняют функцию «проводников» в системе культурных смыслов. Так,
к примеру, в одной из своих работ Сьюзан Стюарт говорит о том, что до лю бой ве-
щи, которая указывает на прошлое, был опыт: «по мере того как опыт становится все
более опосредованным и абстрактным, живое отношение тела к феноменологическо-
му миру заменяется ностальгическим мифом о контакте и присутствии. "Подлинный"
опыт становится и неуловимым, и неуловимым по мере того, как он выходит за го-
ризонт настоящего жизненного опыта, за пределы, в которых артикулируются антич-
ная, пасторальная, экзотическая и другие фантастические области» [Stewart 1993,
133]. В этом процессе, по мнению Стюарт, дистанцирования память тела заменяется
памятью объекта, памятью, стоящей вне Я. Опыт объекта лежит вне опыта тела – он
насыщен смыслами, которые никогда не будут полностью раскрыты нам.
Стюарт интересуется, к примеру, темой сувениров. Она интерпретирует их как
«образец отдаленного опыта, который не отражен полностью». Она полагает, что су-
венир всегда интенционален, это ссылка, которую можно дополнять повествования-
ми: «сувенирная реплика – это аллюзия, а не модель. Она приходит после факта
и остается как частичной, так и более экспансивной, чем факт. Она не будет функ-
ционировать без дополнительного повествовательного дискурса, который одновре-
менно привязывает ее к своим истокам и создает миф относительности этих истоков»
[Stewart 1993, 136]. Исследовательница считает, что с помощью нарратива сувениры
меняют контексты, они ценностно закрепляются и превращаются из товара в до-
стойное знание. При этом нужно помнить, что массовизация сувениров в обществе
потребления приводит сувенир (как достойное знание) к девальвации.
Итак, повествование играет в отношении культурной памяти особую роль. Рас-
сказывание позволяет транслировать знаки прошлого и истолковывать их. В транс-
ляции опыта происходит передача знаний и норм, являющихся регуляторами соци-
альных отношений. В процессе истолкования знаков прошлого нарратив становится
ключом к подлинному бытию предмета или любого другого источника, ключом
к пониманию семиосферы культуры в целом. И еще, и при трансляции, и при истол-
ковании рассказчик уже обладает экзистенциальным и интеллектуальным опытом,
выстроенным на основе общения, что позволяет ему создавать культурную память
определенной социальной группы.
Ссылки – References in Russian
Жане 2010 – Жане П. Психологическая эволюция личности / Пер. с фр. Н .Ю . Федуниной.
М.: Академический проект, 2010.
Лекторский 2001– Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.: Эди-
ториал УРСС, 2001.
Хайдеггер web – Хайдеггер М. Путь к языку // http://www.bibikhin.ru/put_k_yaziku.
References
Connerton, Paul (1989) How Societies Remember, Cambrige University Press, Cambridge.
Heidegger, Martin (1959) Unterwegs zur Sprache, Verlag Günther Neske, Pfullingen (Russian Trans-
lation, 1975).
14
Janet, Pierre (1929) L’évolution psychologique de la personnalité, Chahine, Paris (Russian
Translation, 2010).
Lektorsky, Vladislav A. (2001) Epistemology Classical and Non-Classical, Editorial URSS, Moscow
(In Russian).
Stewart, Susan (1993) On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collec-
tion, Duke University Press, London.
Сведения об авторе
САБАНЧЕЕВ Рустам Юнусович –
младший научный сотрудник ГАУГН.
Author’s information
SABANCHEEV Rustam Yu. ‒
Junior Researcher of State Academic Universi-
ty for the Humanities.
15
Русский литературно-философский романтизм первой
половины XIX века (герменевтика любви)
© 2019 г.
Т.И . Липич
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород,
308015, ул. Победы, д. 85.
E-mail: lipich@bsu.edu.ru
Поступила 04.06.2019
Герменевтические дискуссии сегодня приобретают все большее зна-
чение, так как философская герменевтика ставит перед собой задачу
выяснения сущности понимания, толкования, интерпретации как
важнейших способов получения знания, как в обла сти философии,
так и в области литературы. Обращение к проблематике философской
герменевтики обусловлено необходимостью реконструкции темы люб-
ви в русском литературно-философском романтизме, сформировав-
шемся в первой половине XIX в. Современное гуманитарное знание
особо обращает внимание на философию романтизма, в силу того,
что он представляет собой определенную мировоззренческую пара-
дигму, в которой личность стремится к возвышенному идеалу и про-
тивостоит действительности. Романтизм олицетворяет особое цен-
ностное отношение к действительности, поэтическое и эмоциональ-
но-чувственное отношение к миру и человеку. Характерной особен-
ностью нравственного возрождения является возвышенное отношение
к любви. Тема любви в русском литературно-философском романтиз-
ме приобретает особую духовную ценность, которая демонстрирует
концепцию мира, где человек обладает самоценной силой. Мифоло-
гическая персонификация неземного мира в женских образах, про-
блематика двоемирия показывают особый смысл философии любви
у романтиков. Сущность миропорядка у романтиков заключается
в самой любви, понимаемой в космическом смысле. Представители
романтической герменевтики предложили рассматривать литератур-
ные художественные произведения как универсальный способ освое-
ния мира, в котором происходит некоторое сотворчество автора и
толкователя текста. При помощи метода исторической интерпретации
и интеллектуальной интуиции появляется возможность более полного
и всестороннего исследования данного явления.
Ключевые слова: романтизм, герменевтика, исторический метод, лю-
бовь, ценность, русская литература, автор, слово.
DOI: 10.31857/S004287440007520-7
Цитирование: Липич Т.И . Русский литературно-философский роман-
тизм первой половины XIX века (герменевтика любви) // Вопросы
философии. 2019. No 12. С. 15 –19.
16
Russian Literary-Philosophical Romanticism of the First Half
of the 19th Century (Hermeneutics of Love)
© 2019 г.
Tamara I. Lipich
Belgorod State National Research University, 85, Pobedy str., Belgorod, 308015, Russian
Federation.
E-mail: lipich@bsu.edu.ru
Received 04.06.2019
Hermeneutic discussions today are becoming increasingly important because
philosophical hermeneutics sets itself the task of clarifying the essence of under-
standing, interpretation, interpretation, as the most important ways of obtaining
knowledge, both in the field of philosophy and in the field of literature. The
appeal to the problems of philosophical hermeneutics is due to the need to re-
construct the theme of love in Russian literary and philosophical romanticism,
which emerged in the first half of the nineteenth century. Modern humanitarian
knowledge pays special attention to the philosophy of romanticism, by virtue of
the fact that it represents a certain ideological paradigm in which a person
strives for a lofty ideal and opposes reality. Romanticism embodies a special
value attitude to reality, a poetic and emotional-sensual attitude to the world
and man. A characteristic feature of moral rebirth is an elevated attitude to-
wards love. The theme of love in Russian literary and philosophical romanti-
cism acquires a special spiritual value, which demonstrates the concept of a
world where a person has intrinsic value. The mythological personification of
the unearthly world in female images, the problems of dual peace show the
special meaning of the philosophy of love among romantics. The essence of the
world order among the romantics lies in love itself, understood in the cosmic
sense. Representatives of romantic hermeneutics proposed to consider literary
works of art as a universal way of mastering the world in which some co-
creation of the author and interpreter of the text takes place. Using the method
of historical interpretation and intellectual intuition, it becomes possible to
more fully and comprehensively study this phenomenon.
Key words: romanticism, hermeneutics, historical method, love, value, Rus-
sian literature, author, word.
DOI: 10.31857/S004287440007520-7
Citation: Lipich, Tamara I. (2019) ‘Russian Literary-Philosophical Roman-
ticism of the First Half of the 19th Century (Hermeneutics of Love)’, Vo-
prosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 15 –19.
В современном гуманитарном знании одним из ведущих философских векторов
исследования выступает тема понимания. Многие ученые отмечают, что герменевти-
ка является основной проблемой современности. На мой взгляд, это утверждение
связано, прежде всего, с различными трактовками самой герменевтики. Некоторые
авторы видят в ней методологию гуманитарных наук, для других она есть универ-
сальный метод познания или даже онтологическая основа любого познания. На про-
тяжении всего XX в. интерес к данной проблематике не угасал, хотя, к примеру,
в Советском Союзе только в 70–80 -е гг. можно было увидеть некоторый всплеск ин-
тереса к герменевтическим вопросам. Об этом писали такие авторы, как Г.И. Богин,
А.А. Брудный, П.П . Гайденко, В.Г. Кузнецов, А.А. Митюшин и др. (см.: [Богин 1982;
Брудный 1998; Гайденко 1997; Кузнецов 1991; Митюшин 1989]). В XXI в. интерес
17
к философской герменевтике, в частности к идеям М. Хайдеггера, Г.Г . Гадамера,
а также Г.Г . Шпета, значительно возрос.
Сегодня можно констатировать, что герменевтическая традиция в России объеди-
няет междисциплинарные исследования, в том числе и культурно-историческую про-
блематику, неотъемлемой частью которой является литературно-философская роман-
тическая традиция. В философии романтизма рассматривается особый тип личности,
который воспроизводится в различные исторические, чаще переломные эпохи.
В частности, в европейской культуре на рубеже XVIII–XIX вв. с зарождением роман-
тизма как реакции на разрыв с традициями Просвещения и с развитием романтиче-
ской эстетики, философии и языка, происходит универсализация герменевтической
проблематики, в которой прослеживалась связь искусства понимания и истолкова-
ния. Эти же процессы происходят и на рубеже XIX–XX вв. в России. Обращение
к романтической традиции понимания личности, ее души, устремленности к идеалу
дают возможность в герменевтических дискуссиях как в области философии, так и в
области литературы, реконструировать тему любви в русском литературно-
философском романтизме, сформировавшемся в первой половине XIX в. На основе
герменевтического метода, предложенного Ф. Шлейермахером, появилась возмож-
ность интерпретации текстов различных культур и душевно-духовных миров. Именно
этот принцип был особенно близок романтикам, которые ратовали за своеобразие
различных культур и несводимость их друг к другу. Шлейермахер и романтики счи-
тали, что необходимо настроиться на «волну автора», войти в контекст его идей
и представлений, в его психику, стать «им самим» и созерцать как бы изнутри саму
индивидуальность автора. В современной философской мысли именно его психоло-
гическая интерпретация понимания и толкования приобрела дискуссионный харак-
тер. По мнению Шлейермахера, понимание, интерпретация, толкование как целого,
так и части, является процессом принципиально незавершенным, к нему «можно
лишь приближаться» [Schleiermacher 1995, 76].
Однако герменевтическим можно назвать только такое отношение к произведе-
нию, благодаря которому происходит своеобразная трансформация его культурных
смыслов в современные образы и формы культуры. Этим в полной мере воспользо-
вались представители романтической герменевтики. Романтики предложили изучать
поэтический язык и литературное произведение как универсальный способ освоения
действительности. В их представлении художественное произведение выступает как
своеобразная объективация культурной традиции эпохи. Шлейермахер отмечал, что
при помощи истолкования можно понять самого автора лучше, чем он сам себя мо-
жет понять, т.е . предметом герменевтического анализа может стать и авторское бес-
сознательное. Следовательно, это позволяет интерпретатору пойти даже дальше авто-
ра текста в его понимании. В этом смысле Г.Г. Шпет признавал значимость постули-
руемой Шлейермахером взаимосвязи герменевтики и мышления, при этом у Шпета
«интерпретируемое должно быть не вполне нам чуждо, но и не вполне свое» [Шпет
2005, 320]. Этим, преимущественно, объясняется некая субъективность интерпрета-
тора в толковании художественного произведения.
Романтики исходили из принципа внерассудочного, внерационального познания
мира. В формате таких установок они подходили и к теме любви, и к образу женщины.
Любовь у романтиков рассматривается через призму соотнесения земной, чувственной
любви и любви божественной. Более того, женщина, как «вечный прообраз, частица
неведомого мира» (Новалис), обожествляется, становится предметом поклонения. От-
сюда и романтическая любовь, как правило, не может достичь полноты гармонии, она
приобретает мистический характер. Возлюбленная наделяется при этом чертами земно-
го и «неведомого», идеального мира, появляется образ женщины из другой реальности.
Как стихи, так и проза русских романтиков предоставляют образы женщин нечелове-
ческой природы. К примеру, И. Киреевский в романтической сказке «Опал» описывает
любовь сирийского царя к девице Музыке Солнца, встреченной им на далекой плане-
те: «Вдруг растворились легкие двери, и в одежде из солнечных лучей, в венце из ярких
звезд, опоясанная радугой, вышла девица» [Киреевский 1990, 218]. Становится
18
понятным, что этот неземной образ девушки, навеянный фантастическими произве-
дениями романтиков, особенно немецких, имеет ряд ассоциаций как богословского,
так и мистико-масонского характера. Отношения влюбленного мужчины и неземной
девушки не могут закончиться соединением двух любящих сердец. Романтическая
эстетика предполагает только возможность проявления такой любви за гранью зем-
ного мира, в мире потустороннем.
В произведениях русских писателей-романтиков тема мистической любви, роко-
вой любви-ненависти, где неземные образы женщин это проводники в иной мир и в
то же самое время – центр этого мира, становится одной из основных. К примеру,
она выходит на первый план у К.С. Аксакова в рассказе «Вальтер Эйзенберг (Жизнь
в мечте)»: «...и вот ему показалось, что он видит и солнце, и небо, и поляну, и рощу,
но только видит все это из глаз Цецилии: вот ему кажется, что на каждом цветочке
сидит сильфида и ловит душ солнечный и росу вечернюю, умывает и разглядывает
свой цветочек» [Аксаков 2013, 294–295]. Другим примером может послужить образ
небесной Девы-облака в фантастической повести К.С . Аксакова «Облако» (1837),
которая не сможет осчастливить героя Лотария. В ряде произведений одного из ве-
дущих идеологов русского романтизма В.Ф. Одоевского эта тема также поднимается,
к примеру, в его повести «Сильфида».
В творениях романтиков прослеживается недостижимость романтического идеала
счастливой любви. Тема двоемирия, мифологическая персонификация неземного мира
в женских образах выявляет смысл философии любви у романтиков, раскрывая при
этом проблемы соотношения мира и сущности человека, актуализирующихся при по-
мощи постижения любви. Для романтиков сущность миропорядка заключена в самой
любви, понимаемой не только в религиозном или эротическом плане, а в космическом
масштабе. Так, скажем, Ф.И. Тютчев усматривает в любви двойственность, единство
и борьбу, характерные для космоса: это «луч солнца», но это и «роковая страсть», они
описываются в таких стихотворениях, как «Я встретил вас – и все былое...», «Я помню
время золотое...», «Предопределение» и др.
Душа человека предстает как целая вселенная, и бесконечность этого мира заключа-
ется, по мнению романтиков, во всякой истинной любви. Русские романтики в пости-
жении любви особое внимание уделяли ее духовной составляющей. И если для евро-
пейского романтизма чувственная любовь приобретает сакральный смысл, то в русском
литературно-философском романтизме имеют место интерпретация и переинтерпрета-
ция базовых категорий, каковой является категория любви. Появляется возможность
создания «вторичных текстов» (например, тексты романтиков-любомудров), в которых
тема любви имеет в большей степени философский смысл. Истолкование и интерпре-
тация философии любви постепенно переходит у немецких романтиков в анализ темы
равенства полов, эмансипации и раскрепощения женщин. В частности, Ф. Шлегель
считал, что нет различий между предназначением мужчин и женщин. Однако в русском
литературно-философском романтизме эта тема практически не поднимается.
Источники – Primary Sources in Russian and German
Аксаков 2013 – Аксаков К.С . Вальтер Эйзенберг (жизнь в мечте) // Мистика золотого века
русской литературы. М ., СПб.: Книжный клуб Книговек: Терра, Северо-Запад, 2013. C . 284 –311
[Aksakov, Konstantin S. Walter Eisenberg (Live in a dream) (In Russian)].
Киреевский 1990 – Киреевский И.В . Опал // Русская фантастическая проза эпохи романтиз-
ма (1820–1840). Л .: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. C . 211 –222 [Kireevsky, Ivan V. Opal
(In Russian)].
Шпет 2005 – Шпет Г.Г . Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г.Г . Мысль и Слово. Избран-
ные труды / Отв. ред. -со с т. Т .Г . Щедрина. М .: РОССПЭН, 2005. С . 248 –468 [Shpet, Gustav G.
Hermeneutics and Its Problems (In Russian)].
Schleiermacher, Friedrich D.E. (1995) Hermeneutik und Kritik, hrsg. und eingeleitet v. M. Frank,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1995.
19
Ссылки – References in Russian
Богин 1982 – Богин Г.И . Филологическая герменевтика. Калинин: КГУ, 1982.
Брудный 1998 – Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М .: Лабиринт, 1998.
Гайденко 1997 – Гайденко П.П . Прорыв к трансцендентному: новая онтология ХХ века. М .:
Республика, 1997.
Кузнецов 1991 – Кузнецов В.Г . Герменевтика и гуманитарное познание. М .: МГУ, 1991.
Митюшин 1989 – Митюшин А.А. Об исследовании Г.Г . Шпета «Герменевтика и ее пробле-
мы» // Контекст. Ли тературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1989.
References
Bogin, Georgiy I. (1982) Philological hermeneutics, KGU, Kalinin (in Russian).
Brudny, Aron A. (1998) Psychological hermeneutics, Labirint, Moscow (in Russian).
Gaidenko, Piama P. (1997) Break to the Transcendent: a New Ontology of the 20th Century , Respu-
blika, Moscow (in Russian).
Kuznetsov, Valery G. (1991) Hermeneutics and humanitarian knowledge, MGU, Moscow (in Russian).
Mityushin, Aleksandr A. (1989) ‘About the study of G.G . Shpet Hermeneutics and its problems’,
Context. Literary and theoretical studies , Nauka, Moscow, pp. 229–230 (in Russian).
Сведения об авторе
ЛИПИЧ Тамара Ивановна –
доктор философских наук, профессор,
заведующая кафедрой философии и теологии
Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета.
Author’s information
LIPICH Tamara I. –
DSc in Philosophy, Professor, Head of the
Department of Philosophy and Theology of the
Belgorod State National Research University.
20
ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО
Идеи как переживание
От психоистории к психоидеологии русской идеи
© 2019 г.
Александр Рубцов
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: roubcov@inbox.ru
https://iphras.ru/roubtsov.htm
Поступила 20.09.2019
Понятие психоидеологии вводится в контексте подхода психоистории
(Ллойд Де Моз). Философии свойственно анализировать идеологии
прежде всего как контент, то есть с точки зрения порождения и соот-
ношения идей, их филиации и констелляции. Реже учитываются свя-
занные с идеологиями психологические комплексы и эмоциональные
реакции. Однако в ключевых моментах порождения и воздействия
идей решающую роль могут играть именно личностные и коллектив-
ные, массовые переживания. Данные аспекты особенно важн ы в не-
классических ситуациях латентной, теневой и диффузной, «проника-
ющей» идеологии. В отличие от представлений об идеологии исклю-
чительно как о «сознании для другого» рассматривается собственная
психоидеология личности. Во внутренней оппозиции «друг – враг»
воспроизводятся все стандартные функции идеологической работы и
борьбы. Собственная цензура внутреннего диалога и внутренней речи
фильтрует, что может или не может говорить человек самому себе.
Для выявления структур психоидеологии применяются методы со-
ставления композиционных психологических портретов целых идео-
логических линий, а также биографический анализ зарождения и пер-
вичного оформления базовых идей.
Ключевые слова: психоистория, психоидеология, русская идея, поли-
тический нарциссизм, теневая и латентная идеология, внутренний
диалог, постмодернизм.
DOI: 10.31857/S004287440007521-8
Цитирование: Рубцов А.В. Идеи как переживание. От психоистории к
психоидеологии русской идеи // Вопросы философии. 2019. No 12.
С. 20–30.
21
Ideas as Internal Experience
From Psychohistory to Psychoideology of the Russian Idea
© 2019 г.
Alexander V. Rubtsov
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: roubcov@inbox.ru
https://iphras.ru/roubtsov.htm
Received 20.09.2019
The concept of psychoideology is introduced in the context of the psychohisto-
ry approach (Lloyd DeMause). Philosophy tends to analyze ideologies primarily
as content, that is, in terms of the generation and relationship of ideas, their fil-
iation and constellation. Less often, the psychological complexes and emotional
responses associated with ideologies are taken into account. However, in the
key moments of creation and influence of ideas, it is personal and collective,
mass experiences that can play a decisive role. These aspects are especially im-
portant in non-classical situations of latent, shady and diffuse, “penetrating”
ideology. In contrast to the notions of ideology exclusively as “consciousness for
the Other”, the text considers one's own personal psychoideology. In the inter-
nal opposition “friend-enemy” are reproduced all the standard functions of ide-
ological work and struggle. Own censorship of the inner dialogue and speech
filters what a person can or cannot say to himself/herself. To identify the struc-
tures of psychoideology, methods of compiling compositional psychological
portraits of entire ideological lines are used, as well as a biographical analysis of
the origin and initial design of basic ideas.
Key words: psychohistory, psychoideology, Russian idea, political narcissism,
shadow and latent ideology, internal dialogue, ideological postmodernism.
DOI: 10.31857/S004287440007521-8
Citation: Rubtsov, Alexander V. (2019) “Ideas as Internal Experience.
From Psychohistory to Psychoideology of the Russian Idea”, Voprosy
Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 20–30 .
I.
Идеей психоистории Ллойд Де Моз реагирует на известную максиму социологии:
«...Правило Дюркгейма: "Когда социальное явление прямо объясняется психологиче-
ским явлением, можно не сомневаться, что объяснение ложно" мы заменяем следу-
ющим правилом: "Все групповые явления имеют психологическое объяснение; инди-
виды в группе и поодиночке действуют по-разному лишь потому, что по-разному
решают свои психические конфликты...» [Де Моз 2000, 176–177].
Кажется, что это типичный спор о сущностях – о сущности истории как науки и
как процесса. Однако сама полемика ближе к методологии: объяснительная сила
концепции оправдывает конституирование предмета. «Психоистория есть н аука об
исторической мотивации – не больше и не меньше» [Де Моз 2000, 6]. Это «не боль-
ше» защищает от обвинений в редукционизме, а «не меньше» даёт контратаку:
«Похоже, что после слов «жажда власти» историки уже не считают нужным пускаться
в дальнейшие рассуждения» и даже пускаясь в экономические «объяснения», они
«никогда не доходят до того, чтобы спросить, почему именно война становилась
средством разрешения того или иного экономического разногласия» [там же]. Еще
никто не составлял список экономических выгод за вычетом стоимости войны,
22
«однако историки продолжают наполнять целые библиотеки описаниями экономиче-
ских условий перед войной, не затрудняя себя анализом слов и поступков лидеров,
развязавших войну...» [там же]. «Мои собственные исследования <...> держат в центре
внимания мотивы поступков тех, кто принимает решение, а также тех, кто создает ат-
мосферу ожидания и способствует тем самым решению о войне» [Де Моз 2000, 120].
Создавать атмосферу ожидания – это уже про психоидеологию, а держать что-либо
в центре внимания собственных исследований – законное право исследователя, и это
не о сущностях. Это ближе к постсовременному прагматизму Ричарда Рорти: «Мета-
физики верят, что там, вовне этого мира существуют реальные сущности, раскрывать
которые наш долг, да и сами сущности расположены к тому, чтобы их открывали»
[Рорти 1996, 106]. «Ироник же, наоборот, является номиналистом и историцистом»
[Рорти 1996, 105]. Де Моз тоже номиналист и тоже ироничен: обвинение в редукци-
онизме «заденет психоисторика не больше, чем Галилея обвинение со стороны аст-
ролога в "пренебрежении" целым звездным небом ради описания траектории одной-
единственной планеты» [Де Моз 2000, 114]. «Обычное обвинение, что психоистория
"сводит все к психологии", философски бессмысленно: конечно, с этой точки зрения
психоистория действительно склонна к редукционизму, потому что изучает исключи-
тельно историческую мотивацию» [Де Моз 2000, 117]. И хотя в одном месте автор все
же решается осадить Маркса и «вновь поставить на ноги» Гегеля, достаточн о того,
что психоистория имеет свою, работающую «методологию открытия».
Привычные подходы к идеологии обычно мало отличаются от исследований исто-
рии до появления «The Journal of Psychohistory». Описывается либо филиация идей,
либо сопутствующая политэкономия. Мотивы сводятся к легитимации власти в кон-
сервативно-охранительных идеологиях или к её делегитимации в идеологиях револю-
ционных. Но если в рассуждениях Де Моза слово «война» заменить словом «идеоло-
гия», мы обнаружим провал в мотивациях самих идеологов и всех участников процесса.
В особо сложных эпизодах психоистория сама выходит на психоидеологию. «Ко-
гда кайзер Вильгельм II, подстрекавший Австро-Венгрию вести дело к войне с Сер-
бией, узнал, что Сербия согласилась фактически на все чрезмерные требования Ав-
стрии, он <...> объявил: "Тогда все причины для войны отпадают", и приказал Вене
вести примирительную политику. Но позывы групповой фантазии были слишком
сильны <...> и война все равно началась» [Де Моз 2000, 121]. «Маниакальный опти-
мизм и неизбежная недооценка длительности и жестокости войны, усиление пара-
нойи при оценке мотивации противника <...>
–
эти и другие явные иррационально-
сти служат приметами того, что начала воплощаться могущественная групповая фан-
тазия» [Де Моз 2000, 121 –122]. Вильсон в начале 1917 г.: «Все равно это еще не то,
чего я жду, этого недостаточно. Вот когда они будут готовы бежать с криками "ура",
я воспользуюсь их готовностью» [Де Моз 2000, 126].
Эти проблемы не обходят и силовые акции конца XX – начала XXI вв. В малень-
ких победоносных войнах это всегда работа с сознанием, и аффекты здесь не мень-
шие, чем в крестовых походах.
II.
Все это ставит под вопрос исключительность трактовки идеологии как «сознания
для другого». В сознании индивида как в микрокосме социума функционирует целый
пласт внутренней идеологии. Это не внешняя идеология, перенесённая в голову, но
именно собственная «идеология головы» – идеологическое внутренней жизни чело-
века, его сознания и бессознательного. Если идеологию вообще нельзя помыслить
без межсубъектной коммуникации, достаточно вспомнить о «внутреннем диалоге»
или «внутренней речи», об «аутокоммуникации». Помимо собственно ученых, таких
как Л.С. Выготский, В.С. Библер, М. Бубер, А.Р . Лурия, Ж. Пиаже, А.А. Ухтомский,
можно сослаться на Карлоса Кастанеду – исключительно за позицию воина, раз уж
речь зашла о войнах: «Мы непрерывно разговариваем с собой о нашем мире. Факти-
чески, мы создаём наш мир своим внутренним диалогом <...> Мы также выбираем
свои пути в соответствии с тем, что мы говорим себе. Так мы повторяем тот же
23
самый выбор ещё и ещё, до тех пор, пока не умрём <...> Воин осознаёт это и стре-
мится прекратить свой внутренний диалог» [Кастанеда 2014, 15].
Интерполяция стандартных функций идеологии обнаруживает в личности ту же
идеологическую работу и борьбу, что и в социуме. Индивид выстраивает целые
идейные конструкции (порой весьма громоздкие), оправдывающие и его бездействие,
и само существующее положение, если оно комфортно или не хватает решимости его
изменить, или, наоборот, осуждающие контекст, если нужна сильная мотивация
к его изменению. Идеологическая фантазия здесь особенно свободна и результатив-
на. Работают все те же механизмы мобилизации и консолидации, психической защи-
ты и самотерапии, формирования картины мира и ориентации в мире (но уже в сво-
ём собственном внутреннем мире). Это тоже «сознание для другого», но только для
другого в себе (во внутреннем диалоге) или для себя другого (в самоизменении). Речь
не о шизофрении и не о диссоциативном расстройстве идентичности (в быту оши-
бочно называемом раздвоением личности). В интрапсихических процессах внутрен-
ний диалог это нормальное состояние человека – если, конечно, он не воин, нужда-
ющийся в предельной концентрации внимания и воли отрешением от всего, что ме-
шает эффективно убивать и достойно умирать.
Внутренняя идеология так же обслуживает внутреннюю политику личности в оппо-
зиции «друг – враг», как это описано у Карла Шмитта для политики в целом. Обна-
ружение в себе и друга, и врага выводит на встречные метафоры: личность как малое
государство и государство как огромная личность с полным набором антропомор-
физмов, примиряющих даже Дюркгейма с Де Мозом: «Сплачиваясь друг с другом,
взаимно дополняя и проникая друг в друга, индивидуальные души дают начало но-
вому существу, если угодно, психическому, но представляющему психическую инди-
видуальность иного рода» [Дюркгейм 1991, 493–494].
Во внутренней идеологии так же существует дихотомия системы идей и системы
институтов. Структуры внутреннего контроля отвечают за производство, обращение
и воспроизводство правильного «сознания для себя». Идеологическое супер-Эго про-
реживанием дискурса и цензурой отсекает спонтанно возникающие «неправильные»
мысли и эмоции. Но это не обычная самоцензура, фильтрующая обращение вовне,
а особый самоконтроль, определяющий, что человек может или не может говорить
самому себе. И если Фуко считает, что нельзя мыслить власть только через государ-
ство, для психоидеологии также нельзя мыслить идеологию только через политику.
При всех обычных идеологических рационализациях, клише и априори, в этой
внутренней активности все же больше психики, чем рацио. Тем более некорректно
сводить идеологию к её исключительно рациональным, дискурсивным и вербальным
формам в условиях postmodernity, резко активизирующей теневую, латентную и диф-
фузную – «проникающую» идеологию [Рубцов 2018].
В психоидеологии план выражения не менее значим, чем план содержания. Идеоло-
гию по умолчанию анализируют исключительно как контент, как констелляцию значе-
ний и смыслов, хотя людям часто важнее не что им говорят, а как с ними разговарива-
ют. «Содержательный заказ» реципиента определяет далеко не все: в идеологиях часто
важнее уровни претензий и самомнения, тон и стиль. Здесь идеи даны аналитику не как
материал для ответного самовыражения («как философ философу») и не как превращен-
ное сознание, скрывающее «подлинные» интересы и сущности. Не менее важны сугге-
стия и иллокутивность, энергетика вещания и восприятия, баланс между аффективно-
импульсивными и когнитивными, интеллектуально-волевыми аспектами поведения.
Такое описание целых идеологических линий требует особой деконструкции и ре-
композиции корпуса текстов. Характерные блоки монтируются, как в композиционных
портретах судебной габитологии и габитоскопии. Идентифицирующие черты (особые
приметы) гарантируют узнаваемость групповую, типологическую. Так, возможно постро-
ение общего композиционного портрета «русской идеи», не отягощенного особенностя-
ми её частных реализаций, весьма разных, нередко враждующих. Идеология это такая
среда, в которой политические животные перегрызают друг другу глотки, прекрасно по-
нимая, что «мы с тобой одной крови».
24
Однако ещё до появления свидетелей криминалист составляет даже не словесный
(композитный), а именно психологический портрет преступника, уже намекающий на
истинные масштабы деяния. В той же русской идее, в ее прототипах и последователях,
важно увидеть не только конкретные смысловые откровения, но и близость стереоти-
пов и установок в организованном идейном сообществе. Этот групповой психологиче-
ский портрет русской идеи в интерьере российской истории важен для анализа процес-
са, в ходе которого, по выражению О.Ю. Малиновой, «идеи становятся идеологиями»
[Малинова 2001]. Не менее значимы моменты зарождения идей. С точки зрения пси-
хоидеологии «решение» идеи и её первичное оформление мало отличается от решения
о войне – те же проблемы с психологическими факторами и мотивациями.
Идеям свойственно отделяться от авторов и жить своей собственной жизнью. Од-
нако, как и в становлении личности, сами условия авторского зачатия, вынашивания
и появления идеи на свет могут быть значимы для её будущего развития.
«...Историки обычно убирают из своих повествований большую часть материала, ко-
торый необходим психоисторику для определения мотивов: персональные образы,
метафоры, оговорки, замечания со стороны, шутки, пометки на полях документов и
т.д.» [Де Моз 2000, 120]. Но чтобы понять психо-эмоциональную суть той же русской
идеи, «Пушкинскую» речь Достоевского надо читать только вкупе со всем эпистоля-
рием его «последнего года» – с личными письмами, деловыми переговорами, отзы-
вами экзальтированных поклонников и проклятиями вдруг прозревших оппонентов.
Для Жака Деррида «новая проблематика вообще биографического и, в частности,
биографии философов должна мобилизовать новые ресурсы». Речь идёт о «кромке
между произведением и жизнью, системой и ее субъектом»: «Делимая кромка эта
пересекает оба "корпуса", свод и тело, сообразно законам, о которых мы только
начинаем смутно догадываться» [Деррида 2002, 44 –45]. И это не просто «замочная
скважина»: одновременно триумфальные и скандальные обстоятельства речи на от-
крытии памятника нашему всему потом будут системно воспроизводиться в истории
русской идеи и в российской истории в целом.
III.
«...Если взять трехтомную «Историю крестовых походов» Рансимэна, – пишет
Де Моз, – то там мотивации посвящена одна лишь страница в начале книги <...>
а остальные несколько тысяч страниц посвящены маршрутам войск, битвам и другим
событиям <...> Если бы за изучение крестовых походов взялся психоисторик, он по-
тратил бы десятилетия и написал бы тысячи страниц ради выяснения одного из са-
мых захватывающих вопросов психоистории: что побудило такое количество людей
отправиться в путь ради спасения мощей» [Де Моз 2000, 113 –114].
Символично, что само словосочетание «русская идея» впервые появляется
в письме Достоевского к А.Н . Майкову от 18 января 1856 г. о стихотворении, живо-
писующем экстаз Клермонтского собора – начала эпохи крестовых походов: «Я гово-
рю о патриотизме, об русской идее (курсив мой – А .Р.), об чувстве долга, чести наци-
ональной, обо всем, о чём Вы с таким восторгом говорите» [Достоевский 1985, 208].
«Как хорошо окончание, последние строки в Вашем «Клермонтском соборе»! Где Вы
взяли такой язык, чтоб выразить так великолепно такую огромную мысль? Да! разде-
ляю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия <...> Для меня это
давно было ясно» [там же].
У Майкова уже есть все знаки богоизбранности: «...Нам пришлось на долю /
Свершить, что Запад начинал; / Что нас отныне бог избрал / Творить его святую во-
лю...» [Майков web]. Логически тут пока вообще нет ничего выдающегося в сравне-
нии с тем же Третьим Римом, но с точки зрения психоидеологии эта переписка го-
ворит о русской идее многое, если не все.
В своём этапном стихотворении Майков затянуто, избыточно ярко и даже цвета-
сто описывает и антураж, и всю историю события Клермонтского собора. Папа и
кардиналы, цвет рыцарства всей Европы. «Знамена, шарфы, перья, ризы, / Гербы, и
ленты, и девизы» и даже дамы «в млечных жемчугах». Бежавший из восточного плена
25
паломник произносит с благословения папы и от имени Бога зажигательную речь
о необходимости разбить с чад Христа оковы и из храма огненным мечом изгнать
неверных поколенья. Так начинается новая священная история крестовых походов.
«Умолк. В ответ как будто громы / Перекатилися в горах / То клик один во всех
устах: / «Идем, оставим жен и домы!» / И в умилении святом / Вокруг железные ба-
роны / В восторге плакали, как жены; / Враг лобызался со врагом; / И руку жал
герой герою <...> И радость всех была светла / Ее литавры возвещали / И в небесах
распространяли / Со всех церквей колокола».
Пророссийское окончание «Клермонтского собора» выглядит много скромнее по
фактуре и эмоциям. Россия своим «стационарным крестовым походом» спасла Евро-
пу от Азии и может повторить. Но здесь вообще нет ярких, живых образов. Дело,
конечно же, в дефиците исторического материала, но и в экономии выразительных
средств при перераспределении смыслов. Священный трепет поэта как мастера слова
вызывает сама возможность столь мощного воздействия на публику и на саму исто-
рию. Предыстория спасения Россией целого мира подана контурно, зато доминирует
образ клермонтского оратора, способного одним только Словом сотрясать и двигать
части света. В своих восторгах и Достоевский видит себя тем самым паломником,
которому с благословения первосвященника (ср. отношение Достоевского к власти)
дано вещать от имени Бога, вызывая немыслимую экзальтацию. Здесь подвижник
русской идеи будто провидит апофеоз своей будущей «Пушкинской» речи, случив-
шийся через 24 года.
В Клермонте были грозные предзнаменования: крест в небе, стон с Востока, кро-
вавая заря и слезы лица Луны. Все ждали «чего -то страшного», «И били грозную тре-
вогу / Со всех церквей колокола». В триумфе русской идеи светла сама увертюра,
описанная писателем в письме жене 7 июня – прозой и о себе. В этой переписке
психологически важны максимально полные цитаты: здесь даже размер раскрывает
состояние. «. . .Прием, мне оказанный вчера, был из удивительных <...> толпами муж-
чины и дамы приходили ко мне за кулисы жать мне руку. В антракте прошел по зале
и бездна людей, молодежи и седых и дам бросились ко мне, говоря: «Вы наш пророк,
вы нас сделали лучшими <...> Сегодня, выходя из утреннего заседания, в котором я
не говорил, случилось то же. На лестнице и при разборе платьев меня останавлива ли
мужчины, дамы и прочие. За вчерашним обедом две дамы принесли мне цветов <...>
Сегодня был второй обед, литературный – сотни две народу. Молодежь встретила
меня по приезде, потчевала, ухаживала за мной, говорили мне исступленные речи –
и это еще до обеда. За обедом многие говорили и провозглашали тосты. Я не хотел
говорить, но под конец обеда вскочили из-за стола и заставили меня говорить. Я ска-
зал лишь несколько слов, – рев энтузиазма, буквально рев. Затем уже в другой зале
обсели меня густой толпой – много и горячо говорили (за кофеем и сигарами). Ко-
гда же в 1/2 10-го я поднялся домой (еще две трети гостей оставалось), то прокрича-
ли мне ура <...> Затем вся толпа бросилась со мной по лестнице и без платьев, без
шляп вышли со мной на улицу и усадили меня на извозчика. И вдруг бросились це-
ловать мне руки – и не один, а десятки людей, и не молодежь лишь, а седые стари-
ки» [Достоевский 1988а
, 182–183].
Но уже 8 июня происходит истинный «российский Клермонт». «“Указующий
перст, страстно поднятый”, необходимый, по его (Достоевского – А. Р .) понятиям,
во всякой художественной деятельности, отныне мог быть поднят прилюдно <...>
На глазах у публики слово воссоединялось со своим творцом: такое видимое преоб-
ражение, конечно, превышало эффект “чистого” чтения» [Волгин 1990, 16–17].
В ряду ошеломительных описаний выделяется А.Ф. Кони: «...Наступила минута
молчания, а затем как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною
в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как го-
ворится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к незнакомым соседям с
возгласами и приветствиями; и какой-то молодой человек лишился чувств от охва-
тившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что, казалось, пошли бы
за оратором, по первому его призыву, куда угодно!» (цит по: [Смолененкова web]).
26
В описании речи не отстаёт и сам Достоевский: «Нет, Аня, нет, никогда ты не
можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! <...> Ко-
гда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали
читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать – ничто не помогало:
восторг, энтузиазм <...> Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой
странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. <. . .> Когда же я про-
возгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике; когда
я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между
публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими,
не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: все рину-
лось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студен-
ты – все это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эст-
раде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы
продолжались полчаса, махали платками. Вдруг, например, останавливают меня два
незнакомых старика: "Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг другу, а
теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, Вы наш святой, вы наш
пророк!". "Пророк, пророк!" – кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул
доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал
жать мою руку и целовать меня в плечо. "Вы гений, вы более чем гений!" – говорили
они мне оба. Аксаков (Иван) выбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя –
есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт, и вот слова
Достоевского, как появившееся солнце, все рассеяло, всё осветило. С этой поры
наступает братство и не будет недоумений. «Да, да!» – закричали все и вновь обни-
мались, вновь слёзы. Заседание закрылось» [Достоевский 1988б
, 184–185]. Чистый
Клермонт: «Враг лобызался со врагом; / И руку жал герой герою <...> / И радость
всех была светла»...
От речи паломника в Клермонте осталась только история крестовых походов. От речи
Достоевского в истории России осталась только сама речь. Более того, тут же приходит и
прозрение. «Это очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь
всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия <...>
Понятно, что публика сомлела от этих комплиментов...» [Тургенев 1967, 272]. Чуть позже
в беседе с В.В. Стасовым (который сам именует речь “показной и дурацкой”) Тургенев
признается, «как ему была противна речь Достоевского, от которой сходили у нас с ума
тысячи народа» [Стасов 1888 web]. Тургеневу отвечает и Анненков, только что лобызав-
ший автора речи в плечо: «Хорошо сделали, что отказались от намерения войти в диспут
с одержимым бесом и святым духом одновременно Достоевским <...> Пусть останется
достоянием фельетона, пасквиля, баб, ищущих Бога, и России для развлечений и студен-
тов с задатками чёрной немощи. Это его настоящая публика» (цит. по: [Волгин 1990]).
Он же о самобичевании «высоко честного и правдивого» Салтыкова: «Не то что Достоев-
ский например – тот печатно объявляет, что Христа проглотил и чувствует его у себя
в животе» [Анненков 2003, 294].
Когда дым рассеялся, триумфа уже не было. «На Федора Михайловича обрушилась
целая лавина газетных и журнальных обвинений, опровержений, клевет и даже руга-
тельств. Те представители литературы, которые с таким восторгом слушали его Пуш-
кинскую речь <...> вдруг как бы опомнились, пришли в себя от постигшего их гипноза
и начали бранить речь и унижать ее автора» (цит. по: [Соина 2001]). «Получается, что
потрясающее впечатление, произведенное речью, оказалось основанным почти что на
недоразумении, массовом психозе, минутном увлечении» [Смолененкова web].
Проще всего сослаться на различие в восприятии устной и письменной речи. По-
началу Достоевский вообще соглашался выступить только «изустно, в виде речи»,
отклонив предложение о статье для «Русской мысли»: «Написать же – не то, что ска-
зать. О Пушкине нужно написать что-нибудь веское и существенное» [Габдуллина
web]. Однако сразу после триумфа Достоевский начинает изводить редактора требо-
ваниями скорейшей публикации, чем сам торопит расплату за превращение заздрав-
ного тоста в писаную идеологию.
27
IV.
Скоротечность этого триумфа имеет и более глубокие причины, свойственные
русской идее в целом: самонадеянная богоизбранность и культ Слова.
«С давних времен было предчувствие, что Россия предназначена к чему-то велико-
му <...> Русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богонос-
ности России» [Бердяев 1990]. Эта идея подкупает даже поэтические души вроде Вяч.
Иванова. И.А. Ильин просто образец напыщенной риторики и проповеди грандиозно-
сти нашего Мы на грани богохульства: «...Наша русская способность – незримо воз-
рождаться в зримом умирании, да славится в нас Воскресение Христово!» [Ильин web].
Вл. С. Соловьев тоже пишет «о смысле существования России во всемирной исто-
рии» [Соловьев 1989, 219] на уровне афоризма: «...Идея нации есть не то, что она
сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности » [там же, 220].
Но в этом мощном неоплатонизме, вскормленном школой Гегеля, Шеллинга и ро-
мантика Франца Баадера (идея нации как эманация ее эйдоса в истории) больше
метафизики, чем самолюбования. С.Л . Франк писал о «мистической национальной
самовлюбленности»: «Русский национализм отличается от естественных национализ-
мов европейских народов именно тем, что проникнут фальшивой религиозной вос-
торженностью и именно этим особенно гибелен» [Франк 1996, 99]. Это – «органиче-
ское и, по-видимому, неизлечимое нравственное заболевание русского духа. Харак-
терно, что Вл. Соловьев в своей борьбе с этой национальной самовлюбленностью не
имел ни одного последователя. Все, на кого он имел в других отношениях влия-
ние, – и Булгаков, и Бердяев, и Блок, – свернули на удобную дорожку самовлюб-
ленности. Бердяева это прямо погубило...» [там же]. Ещё Чаадаев писал: «Когда все
цивилизованные нации начинают отрекаться от презрительного самодовольства
в своих взаимных отношениях, нам взбрело в голову стать в позу бессмысленного
созерцания наших воображаемых совершенств». «Глуповатое благополучие, блажен-
ное самодовольство – вот наиболее выдающаяся черта эпохи у нас...» [Чаадаев web].
Е.Н. Трубецкой описывает «зловещие признаки головокружения, вызванного нацио-
нальной гордостью» с откровенным сарказмом: «В общем наш национальный месси-
анизм выражает собою <...> пожелание, чтобы наша мать Россия сидела в Царстве
Божием по правую руку Спасителя». «Нам тщательно внушали мысль, что Россия –
или народ-Мессия, или ничто, что вселенское и истинно русское – одно и то же.
Когда же рушится эта дерзновенная мечта, мы обыкновенно сразу впадаем в преуве-
личенное разочарование» [Трубецкой 1992, 256].
Разочарованием не обошлось. В 1917 г. пришли совсем другие дерзновенные меч-
татели и все сделали как надо.
«Русские философы <...> устремив свои мысленные взоры к идеальной России, ал-
чущей хлеба небесного, проглядели Россию реальную, которая все громче требовала
в это время хлеба насущного <...> Народ, в котором они видели «богоносца», пошел
путем, указанным ему не Достоевским и Соловьевым, а Лениным и Троцким, желая
обрести не вселенскую правду и царство духа, но землю и волю» [Кочеров web]. Очень
правдоподобно, но с недооценкой диагноза. Можно ли говорить, что реальность про-
глядел Нарцисс, если он по определению вообще не видит ничего, кроме собственного
отражения. Вся эта линия русской идеи вовсе не философия, а чистой воды идеология,
в свою очередь, являющаяся диагностированным нарциссом среди прочих обитателей
сознания [Рубцов 2018]. Даже как бессубъектная структура сознания идеология облада-
ет всеми прописанными в диагностическом справочнике DSM-5 симптомами НРЛ
(нарциссического расстройства личности). У нас это ещё и фиксация на грандиозности
и всемогущественности, преувеличенное самомнение, гипертрофия собственных до-
стоинств, стремление непременно находиться в эпицентре внимания и быть предметом
всеобщего восхищения. Но не надо забывать, что и сам Нарцисс, и его акустический
двойник Эхо умерли не столько от неразделенной любви, сколько от банального голо-
да. Здесь вообще нет речи о хлебе насущном: «Даже и после – уже в обиталище принят
Аида – В воды он Стикса смотрел на себя» (Овидий «Метаморфозы»). В идеологии
русской идеи роль этого отражения играет культ Слова.
28
Достоевский предугадывает упрёк: «"...Это нам-то, дескать, нашей-то нищей,
нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве выска-
зать новое слово?". Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча
или науки?», [Достоевский 1984, 148]. За вычетом экономики, меча и науки от вели-
кой миссии само только Слово и остаётся. И это профессиональное: Менделеев свёл
бы русскую идею к известной таблице и славному рецепту. Но не случайно судьбу
страны у Достоевского и его последователей предвосхитил гений Пушкина – поэта,
представляющего собою «нечто почти даже чудесное не слыханное и не виданное до
него нигде и ни у кого (курсив мой – А .Р .)» [Достоевский 1984, 145]. Придуманная
литераторами русская идея заранее предполагает, что Россия обяжет мир... именно
своей литературой. И это слово превзойдёт все мыслимые пределы грандиозности
и всемогущественности.
Уже в «Признании славянофила» (июль–август 1877) Достоевский писал:
«...Великая наша Россия <...> скажет всему миру, всему европейскому человечеству
и цивилизации его своё новое, здоровое и ещё неслыханное миром слово» [Достоев-
ский 1983а
, 195]. Рефрен «неслыханного слова» дословно повторяется потом у самого
Достоевского, у адептов и эпигонов, даже у его критиков – почти у всех и десятками
раз. Однако первоисточник превосходит мыслимые пределы: России предначертано
сказать «величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал (курсив
мой – А .Р.)» [Достоевский 1983б, 20]. Ещё большая претензия возможна только в
трансценденции, и Достоевский это делает: России предназначено «изречь оконча-
тельное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех
племен по Христову Евангельскому закону» [Достоевский 1984, 148].
Пророчество о «величайшем слове» сбылось: Достоевский предрёк себя. Неважно,
что сообщила Россия человечеству, но Достоевский сказал о ней величайшее слово
всему миру, которое тот когда-либо слышал, и которое только можно помыслить
даже в самой высоком самомнении. Новая итерация Третьего Рима; все возможные
высоты здесь взяты и превосходные степени исчерпаны.
Однако проблема таких идеологических комплексов в их завышенной фиксации
на себе при невнимании к прозе жизни – даже политической. Идея Третьего Рима
была трагически недооценена и практически проигнорирована Иваном III, более
занятым делами московского княжества и царства. Уваровская триада «Православие,
Самодержание, Народность» была лозунгом для верховной политики, но не для стра-
ны. Перед войной 1914 г. самодержавие также проигнорировало все идеологические
упражнения русской идеи, сосредоточившись на феодальной схеме богоданной мо-
нархии, чем поначалу провалило патриотический подъём (в отличие от Германии
и стран Антанты).
Однако идея живёт и работает в других, прежде всего психоидеологических гори-
зонтах. Ею до сих пор питаются наши мессианство и миссионизм, культивирующие
отражения в мониторах в ущерб жизненным реалиям. Но это и более общая тенден-
ция, делающая нарциссизм эпидемией века и психодрамой постмодерна. Не случай-
но сам термин «психоидеология» был предложен А.Г . Асмоловым при обсуждении
названия книги, посвящённой именно идеологическому и политическому нарцис-
сизму [Рубцов 2019]. Психоидеология тем более уместна, когда само идеологическое
смещается от видимых идеократий и доктринального рацио к диффузному воздей-
ствию на психику. В этих схемах идеология работает в кантовском режиме als ob –
как если бы субъекты были носителями вербальных идей и жертвами обычной индок-
тринации.
В этом смысле психоидеология востребована как постсовременными трендами,
так и застарелыми свойствами русской души. Акценты на аффективном либо когни-
тивном могут отличать сам объект, тип предметности. Это может становиться реша-
ющим, когда люди говорят исключительно устами Бога и о концах сущего, в катего-
риях трансценденции и экзистенции, языком пророчества и страсти, в состоянии
хронической экзальтации. «Эта сложность души, – писал о. Георгий Флоровский, –
от слабости, от чрезмерной впечатлительности <...> Есть что-то артистическое в рус-
29
ской душе, слишком много игры» [Флоровский 1983]. Научная идеология в СССР
пыталась это преодолеть, но сейчас эмоциональная эклектика вновь набирает силу
в натиске политического постмодернизма.
Источники и переводы – Primary Sources and Russian Translations
Анненков 2003 – Анненков П.В. Письма к И.С . Тургеневу. СПб .: Наука, 2003 (Annenkov P. V .
Letters to I.S . Turgenev. In Russin).
Бердяев 1990 – Бердяев Н.А. Судьба России. М .: Философское общество СССР, 1990 (Ber-
dyaev N. A. The Fate of Russia. In Russian).
Волгин 1990 – Волгин И.Л . Последний год Достоевского. М .: Известия, 1990 (Volgin I. L .
Dostoyevsky's Last Year. In Russian).
Де Моз 2000 – Де Моз Л. Психоистория. Ростов-на -Дону: Феникс, 2000 (DeMause L. Foun-
dations of Psychohistory. Russian translation).
Деррида 2002 – Деррида Ж. Ухобиографии. Учение Ницше и политика имени собственного.
Спб.: Академический проект, 2002 (Derrida J. Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la Poli-
tique du Nom Propre. Russian translation).
Достоевский 1983а
–
Достоевский Ф.М . Признания славянофила // Достоевский Ф.М. Сочи-
нения в тридцати томах. Т . 25 . Л .: Наука, 1983. С . 195–198 (Dostoevsky F. M. Confessions of a
Slavophile. In Russian).
Достоевский 1983б – Достоевский Ф.М. Примирительная мечта вне науки // Достоевский
Ф.М . Сочинения в тридцати томах. Т . 25 . Л .: Наука, 1983. С . 17 –20 (Dostoevsky F. M. A Concilia-
tory Dream Outside of Science. In Russian).
Достоевский 1984 – Достоевский Ф.М. Пушкин (Очерк) // Достоевский Ф.М. Сочинения в
тридцати томах. Т . 26. Л.: Наука, 1984. С . 136–149 (Dostoevsky F. M. Pushkin (Essay). In Russian).
Достоевский 1985 – Достоевский Ф.М. Письмо А.Н. Майкову 18 января 1856 г. // Достоев-
ский Ф.М. Сочинения в тридцати томах. Т . 28 (1). Л .: Наука, 1985. С . 206–210 (Dostoevsky F. M .
Letter to A.N . Maykov. January 18, 1856. In Russian).
Достоевский 1988а
–
Достоевский Ф.М . Письмо А.Г . Достоевской 7 июня 1880 г. // Достоев-
ский Ф.М. Сочинения в тридцати томах. Т . 30 (1). Л .: Наука, 1988. С . 182 –183 (Dostoevsky F. M .
Letter to A.G . Dostoevskaya. June 7, 1880 . In Russian).
Достоевский 1988б – Достоевский Ф.М . Письмо А.Г . Достоевской 8 июня 1880 г. // Достоев-
ский Ф.М. Сочинения в тридцати томах. Т . 30 (1). Л .: Наука, 1988. С . 184 –185 (Dostoevsky F. M .
Letter to A.G . Dostoevskaya. June 8, 1880 . In Russian).
Дюркгейм 1991 – Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. О разделении обществен-
ного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. С . 391–532 (Durkheim É. Les Règles de la
Méthode Sociologique. Russian translation).
Ильин web – Ильин И.А. О России. Три речи. // https://www.gumer.info/bogo-
slov_Buks/Philos/il3/index.php (Iliyn I. A. On Russia. Three Speeches. 1926–1933. In Russian).
Кастанеда 2014 – Кастанеда К. Колесо времени. М .: София, 2014 (Castaneda C. The Wheel of
Time. Russian translation).
Майков web – Майков А.Н. Клермонтский собор // http://www.christianart.ru/ pdf_book/stMaykov.pdf
(Maykov A. N. Claremont Cathedral. In Russian).
Рорти 1996 – Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское феноменологиче-
ское общество, 1996 (Rorty R. Contingency, Irony and Solidarity. Russian translation).
Соловьев 1989 – Соловьев В.С . Русская идея / Соловьев В.С . Сочинения в двух томах. Т . 2.
М.: Правда, 1989. С . 219–246 (Solovyov V.S. The Russian Idea. In Russian).
Стасов 1888 web – Стасов В.В. Двадцать писем Тургенева и моё знакомство с ним // Север-
ный вестник. 1888 . No 10 // http://lib.pushkinskijdom.ru/ LinkClick.aspx?fileticket=xbsMwkfCoyU%3D-
&tabid=10826 (Stasov V. V. Twenty Letters from Turgenev and My Acquaintance with Him. In Russian).
Трубецкой 1992 – Трубецкой Е.Н. Старый и новый национальный мессианизм // Русская идея.
М.: Республика, 1992. С. 241 –257 (Troubetzkoy E.N. Old and New National Messianism. In Russian).
Тургенев 1967 – Тургенев И.С. Сочинения в двадцати восьми томах. Т . XII . Кн. 2 -я .
Л.: Наука, 1967 (Turgenev I. S. Letter to Stasyulevich, June 13, 1880 . In Russian).
Флоровский 1983 – Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Париж: YMCA-Press,1983
(Florovsky G. V . Ways of Russian Theology. In Russian).
Франк 1996 – Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб .: Наука, 1996 (Frank S. L . The Russian
Worldview. In Russian).
Чаадаев web – Чаадаев П.Я . Письмо А.И. Тургеневу 1835 года // http:// li-
brary.khpg.org/files/docs/1462098690.pdf (Chaadayev P.Ya. Letter to A.I. Turgenev in 1835. In Russian).
30
Ссылки – References in Russian
Габдуллина web – Габдуллина В.И. «Пушкинская» речь Ф. М . Достоевского (к вопросу о
жанре) // https://cyberleninka.ru/article/n/pushkinskaya-rech-f -m-dostoevskogo -k -voprosu-o -zhanre)
Кочеров web – Кочеров С.Н . Русская идея в XX и в XXI веке // https://publications.hse.ru/
mirror/pubs/share/direct/218372191
Малинова 2001 – Малинова О.Ю . Когда идеи становятся идеологиями. К вопросу об изуче-
нии «измов» // Философский век. История идей как методология гуманитарных исследований.
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский центр истории идей, 2001. С . 11 –26.
Рубцов 2018 – Рубцов А.В . Превращения идеологии. Понятие идеологического в «предель-
ном» расширении // Вопросы философии. 2018 . No 7. С . 18 –27 .
Рубцов 2019 – Рубцов А.В. Нарцисс в броне. Психоидеология грандиозного Я в политике и
власти. М.: Прогресс-Традиция, 2019 (в производстве).
Смолененкова web – Смолененкова В.В. Пушкинская речь Ф. М. Достоевского. Риторико -
критический анализ //http://genhis.philol.msu.ru/article_104 .shtml (in Russian)
Соина web – Соина О.С . «Пушкинская речь» Ф.М . Достоевского. Опыт современного про-
чтения // Человек. 2001 . No 3–4 // http://www.sibstrin.ru/files/pushkinskaya_rech.pdf
References
Gabdullina, Valentina I. (web) “Pushkin” Speech by F. M. Dostoyevsky (On the Problem of Genre) ,
https://cyberleninka.ru/article/n/pushkinskaya -rech-f -m -dostoevskogo-k -voprosu-o -zhanre (in Russian).
Kocherov, Sergei N. (web) Russian Idea in 20th and 21st Century, https://publications.hse.ru/ mir-
ror/pubs/share/direct/218372191 (in Russian).
Malinova, Olga Yu. (2001) ”When Ideas Become Ideologies. On the Proble m of 'isms'”, Philosophi-
cal Age. The History of Ideas as a Methodology of Humanitarian Research . St. Petersburg Center for the
History of Ideas, St. Petersburg, pp. 11 –26. (in Russian).
Rubtsov, Alexander V. (2018) ”The Transformation of Ideology. The Con cept of the Ideological in
the 'Extreme' Expansion”, Voprosy Filosofii, Vol.7 (2018), pp. 18–27 (in Russian)
Rubtsov, Alexander V. (2019) Narcissus in Armor. Psychopathology of “Grandiose Self” in Politics and
Power, Progress-Traditsiya, Moscow (in Russian).
Smolenkova, Valeriya V. (web) Pushkin Speech by F. M . Dostoyevsky. Rhetoric-critical Analysis,
http://genhis.philol.msu.ru/article_104 .shtml
Soina, Olga S. (web) “Pushkin Speech” by F.M . Dostoyevsky. Experience of Modern Reading ,
http://www.sibstrin.ru/files/pushkinskaya_rech.pdf (in Russian).
Сведения об авторе
РУБЦОВ Александр Вадимович –
кандидат философских наук, руководитель
сектора философских исследований идео-
логических процессов Института филосо-
фии РАН.
Author’s information
RUBTSOV, Alexander V. –
CSc in Philosophy, Head of the Department
of the Philosophical Studies of Ideological
Processes, Institute of Philosophy RAS.
31
Сознательное и бессознательное в идеологии*
© 2019 г.
Е.В . Щербакова
Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, ГСП-1,
Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4.
E-mail: ev-philos@yandex.ru
Поступила 31.05.2019
Статья посвящена анализу роли бессознательных структур человече-
ской психики в формировании и распространении идеологических
конструктов. Автор обращается к рассмотрению концепции «иллю-
зорного сознания» К. Маркса и теории бессознательного З. Фрейда,
и приходит к выводу, что между ними существует определенное сход-
ство. Индивид в рамках обеих теорий не осознает подлинных причин
своих взглядов и убеждений, однако в одном случае источником его
заблуждений является экономическая борьба, в другом – борьба
внутренних влечений. Говоря о связи бессознательных структур пси-
хики и идеологии, автор выделяет два взаимосвязанных аспекта их
отношений: генетический и функциональный. Генетический аспект
позволяет проследить, в какой мере бессознательные представления
влияют на формирование рационализированных конструкций, обра-
зующих идеологию. Функциональный аспект показывает, каким обра-
зом конструкты идеологии утверждают себя в социальной практике,
используя в качестве средства такого утверждения апелляцию к бессо-
знательным интенциям людей. Также оговаривается, что идеология
обязана включать в себя реалистическую, рациональную компоненту,
поскольку стремится к достижению реальных социальных и полити-
ческих целей, а не к их фантазийному воплощению.
Ключевые слова: аутистическое мышление, бессознательное, «иллю-
зорное сознание», идеология.
DOI: 10.31857/S004287440007522-9
Цитирование: Щербакова Е.В. Сознательное и бессознательное в
идеологии // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 31–40 .
*Статья подготовлена в рамках деятельности ведущей научной школы МГУ
им. М.В. Ломоносова «Трансформации культуры, общества и истории: философско-
теоретическое осмысление». Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект
No 18-011-01097 «Социальная теория и власть: современная российская перспектива».
32
Conscious and Unconscious in Ideology*
© 2019 г.
Elizaveta V. Shcherbakova
Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosovsky av., GSP-1, Moscow, 119991,
Russian Federation.
E-mail: ev-philos@yandex.ru
Received 31.05.2019
The article is devoted to the analysis of the role of unconscious structures of the
human psyche in the formation of ideological constructs. The author turns to
the consideration of the concept of hjhj “illusory consciousne” of K. Marx and
S. Freud’s theory of the unconscious and concludes that there is a certain simi-
larity between them. The individual within the framework of both theories is
not aware of the real reasons of his views, however in one case the source of his
errors is the economic struggle, in the other – the struggle of internal drives.
The author identifies two interrelated aspects of relationship between uncon-
scious structures and ideology: genetic and functional. The genetic aspect allows
us to observe how unconscious perceptions influence the formation of rational-
ized structures of ideology. The functional aspect shows how ideological con-
structs assert themselves in social practice, by appealing to people's unconscious
intentions. The author considers that the ideology must also include a realistic,
rational component, since it seeks to achieve real social and political goals, and
not their fantasy embodiment.
Key words: autistic thinking, unconscious, “illusory consciousness”, ideology.
DOI: 10.31857/S004287440007522-9
Citation: Shcherbakova, Elizaveta V. (2019) “Conscious and unconscious in
ideology”, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 31–40 .
Проблема идеологии вызывала и вызывает ожесточенные споры в научном и по-
литическом сообществах. Взгляды людей, считающих ее необходимым условием
успешной политической деятельности, противостоят мнению противников идеоло-
гии, называющих ее «дефектным» сознанием, провоцирующим серьезные политиче-
ские ошибки. Особую остроту эта полемика приобретает в современной России. Сто-
ронники первого подхода считают приоритетной задачей конструирование некоторой
общенациональной идеи, в основе которой лежат идеологические мотиваторы, спо-
собные мобилизовывать широкие массы людей для решения актуальных для страны
проблем. Противники идеологии рассматривают ее как деструктивный фактор, огра-
ничивающий свободу мысли и политической практики, и считают утопичным наме-
рение создать общенациональную идеологию в условиях реального конфликта между
социальными группами, образующими нашу страну.
Для того, чтобы разобраться в сути полемики необходимо отчетливо понимать,
что такое феномен идеологии. В настоящее время существует огромное количество
различных его определений. В самом широком смысле идеология понимается как
совокупность идей без какой-либо определенной спецификации. В этом смысле ее
содержание представляет собой некие теоретические постулаты безотносительно к их
*
The work is done in the framework of the leading scientific school of Lomonosov Moscow State
University “Transformations of culture, society and history: a philosophical and theoretical understand-
ing”. This paper is prepared with the support of Russian Foundation for Basic Research, project No 18-
011-01097 «Social Theory and Authority: Contemporary Russian Perspective».
33
природе и значению. В рамках другой, наиболее распространенной точки зрения,
идеология понимается как альтернатива научного мышления и квалифицируется как
«иллюзорное сознание». При этом отмечается, что она стремится походить на науку
по своей форме, но отличается от нее по содержанию. Впервые такое понимание
обнаруживается в работах раннего К. Маркса.
Существует также понимание идеологии как особого раздела научно-
теоретического знания об обществе, осмысляющего социальные процессы с точ ки
зрения интересов той или иной социальной группы. Соответственно, она становится
истинной или ложной в зависимости от того, насколько прогрессивен социальный
класс, интересы которого она отображает. Такой подход встречается, к примеру,
в работах В.И. Ленина. Советские ученые выделяли идеологию в качестве одного из
уровней общественного сознания, который надстраивается над уровнем обществен-
ной психологии. При этом последняя понималась ими как совокупность чувств,
настроений, побуждений, характерных для данного общества в целом и для каждой
из больших социальных групп по отдельности, а общественная идеология – как сис -
тема теоретических взглядов, отражающая степень познания обществом мира и от-
дельных его сторон. В таком понимании она представляет собой уровень теоретиче-
ского отражения мира. Отношение между общественной психологией и обществен-
ной идеологией в данном случае рассматривается как отношение между чувственным
и рациональным уровнями общественного сознания: см. [Уледов 1968].
В предыдущих работах автора показано, что идеология представляет собой про-
цесс и одновременно совокупность продуктов духовной деятельности, имеющий це-
лью легитимацию социально-экономического и общественно-политического строя
и/или программ, направленных на его изменение: см. [Смирнова 2018]. Мы утвер-
ждаем, что определяющей для идеологии является ее способность моделировать со-
циальную реальность в целях ее изменения. Таким образом, мы делаем акцент на ее
рассмотрении в качестве организующей общественной силы, способной выступать
как апологетом существующего порядка, так и его противником.
Структура идеологии включает в себя суждения различного рода: проектные
и ориентационные. Проектные суждения имеют своей задачей придумывание, кон-
струирование того, чего в мире еще нет. Задача ориентационных суждений – пони -
мание существующего мира: см. [Момджян 2013]. Ориентационные суждения раз-
личного вида играют разную роль в идеологических построениях. Рефлективные суж-
дения, являющиеся результатом стремления познать мир в собственной логике его
бытия, включены в состав идеологии, но в основном являются прерогативой такой
формы духовной деятельности, как наука. Сердцевину идеологии составляют не под-
дающиеся процедуре гносеологической верификации суждения ценности. Системо-
образующей задачей идеологии является ценностное осмысление мира с позиций
различных социальных групп и конструирование соответствующих моделей социаль-
ного устройства. Однако в отличие от чистой этики идеология обязательно ищет пути
воплощения своих ценностных предпочтений в реальной социальной практике.
В настоящий момент мы хотим сконцентрировать внимание на новом аспекте про-
блемы, ранее нами не рассматривавшемся Речь идет о месте и роли бессознательных
структур человеческой психики в формировании идеологических конструктов.
В современном мире все больше исследователей приходят к выводу, что рациональная
и чувственная части общественного сознания оказываются связаны между собой. В поле
внимания ученых попадает иррациональное содержание культуры. Говоря об идеологии,
современные исследователи утверждают, что для правильного понимания данного фено-
мена необходимо привлечение понятия бессознательного. Так, А.В. Рубцов пишет:
«В ситуации, в которой официальной идеологии нет там, где мы привыкли ее видеть, тем
более важны не только манифестированные, квазирациональные и вербально-
дискурсивные идеологические формы, но также не столь очевидные формы, включая
особого рода идеологическое бессознательное» [Рубцов 2018, 21].
В действительности еще в работах К. Маркса мы встречаем множество при меров
того, что называется «мистификациями», посредством которых люди искажают
34
реальность в собственном восприятии и обманывают других. Маркс известен своим
определением идеологии в качестве «иллюзорного сознания». Этот концепт подразу-
мевает, что в сознании образ мира определенным способом искажается, переворачи-
вается с ног на голову «будто в камере-обскуре», и при этом причины такого иска-
жения не осознаются. В «Капитале» Маркс пишет: «Приравнивая свои различные
продукты при обмене один к другому как стоимости, люди приравнивают свои раз-
личные виды труда один к другому как человеческий труд. Они не сознают этого, но
они это делают» [Маркс 1960, 84]. Друг и соратник К. Маркса Ф. Энгельс писал:
«Отражение экономических отношений в виде правовых принципов точно так же
необходимо ставит эти отношения на голову. Этот процесс отражения происходит
помимо сознания действующего; юрист воображает, что оперирует априорными по-
ложениями, а это всего лишь отражения экономических отношений. Таким образом,
все стоит на голове» [Энгельс 1965, 418]. Таким образом, несмотря на то, что
К. Маркс и Ф. Энгельс напрямую разработкой понятия бессознательного не занима-
лись, в их работах, в частности, в концепции «иллюзорного сознания» этот концепт
уже подразумевается. Люди не осознают ни самого факта собственных заблуждений,
ни их причин, и в то же время им кажется, будто они понимают, какими принципа-
ми руководствуются в своих рассуждениях. Подлинным же источником человеческих
заблуждений, по мнению немецких философов, является социальная действитель-
ность. (Интересно, что очень похожим образом впоследствии австрийский психиатр
и ученик З. Фрейда А. Адлер трактовал невроз как отражение общественных отноше-
ний, которые индивид переносит на свою психику).
Наиболее фундаментальную разработку концепт бессознательного получил в рамках
психоаналитической теории. Разделение психического на сознательное и бессознатель-
ное есть основная предпосылка учения Фрейда. Он также описывал некое переходное
пространство между двумя данными уровнями психики – систему предсознательного.
Бессознательное в его понимании неисчерпаемо, алогично, многообразно, противоре-
чиво. При этом оно обычно скрыто или замаскировано тем или иным образом, никогда
не доступно нашему наблюдению напрямую, не может быть никаким способом зафик-
сировано или измерено, а потому не может быть постигнуто до конца. Оно проявляет
себя только косвенно, зачастую парадоксально, при этом некоторые явления могут ка-
заться сознательными, но на самом деле являются дериватами бессознательного.
Занимаясь психопатологией обыденной жизни, Фрейд указал, что неосознаваемое
содержание психики может неожиданно прорываться, проявляя себя в различного
рода ошибках (оговорках, описках и т.д.), а также в противоречиях в рассуждениях о
чем-либо (бессознательное не подчиняется законам логики, а потому там могут ужи-
ваться абсолютно противоречивые суждения). «Королевской» дорогой к пониманию
бессознательного Фрейд называл интерпретацию сновидений. При этом им выдели-
лись манифестный и латентный уровни сна, первый из которых представляет собой
его видимый сюжет, второй – его подлинное бессознательное значение. «Работа»
сновидения состоит в том, чтобы замаскировать неприемлемые или болезненные пе-
реживания и стремления человека, скрыть их от его сознания. Иногда же, когда аф-
фективный заряд слишком сильный, ему удается прорваться за этот защитный ре-
прессивный барьер. Сновидения такого рода называются кошмарами. Таким обра-
зом, с точки зрения Фрейда, индивид также не понимает ни факта, ни причин своих
заблуждений, думая, что рассуждает осознанно, хотя причины этих заблуждений
кроются в глубинах его собственной психики.
Стоит отметить, что сам Фрейд напрямую об идеологии не писал, он выступал
с критикой такой формы общественного сознания, как религия. Однако его методы
и идеи могут быть применены и к анализу идеологии. Как известно, создатель психо-
анализа утверждал, что люди стремятся скрыть от себя внутренние конфликты и тре-
воги: «ценностные суждения людей, безусловно, проистекают из их желания счастья,
то есть представляют собой попытку подкрепить свои иллюзии аргументами» [Фрейд
2016, 160]. Если сравнивать теорию К. Маркса и теорию З. Фрейда, можно обнару-
жить несколько неожиданное сходство – так, сознание оказывается вторичным и
35
там, и там, только в одном случае по отношению к экономической борьбе, в дру-
гом – по отношению к борьбе внутренних влечений. Индивид в рамках обеих теорий
лишь полагает, что мыслит свободно.
Идеи о возможности применения психоаналитической теории в гуманитарных
и социальных науках появлялись на протяжении всего ХХ в. В 1913 г. был опублико-
ван манифест О. Ранка и Г. Сакса «О значении психоанализа для гуманитарных
наук». В нем утверждалось, что психоанализ – не только терапевтический метод, но
и теория, включающая в себя определенное истолкование социокультурных феноме-
нов, таких как мифология, литература, искусство, сравнительное религиоведение,
фольклор: см. [Rank, Sachs 1913].
Определенное сходство, существующее в построениях К. Маркса и З. Фрейда яв-
ляется причиной, почему различные мыслители, желая концептуализировать фено-
мен идеологии, предпринимали так или иначе попытки синтезировать эти теории.
К. Манхейм был первым социологом, определявшим идеологию через понятие бессо-
знательного. В своей работе 1929 г. он характеризует идеологию следующим образом:
«коллективное бессознательное определенных групп скрывает действительное состо-
яние общества, как от себя, так и от других и тем самым стабилизирует его» [Ман-
хейм 1992, 67]. Таким образом, по его мнению, именно «бессознательные коллектив-
ные мотивации» направляют социальную деятельность и одновременно являются
источником заблуждений. Не будучи марксистом, в частности, не признавая классо-
вую теорию К. Маркса, он , тем не менее, считал свои взгляды на идеологию разви-
тием его концепции «иллюзорного сознания».
Первой крупной группой социальных теоретиков, увидевших релевантность идей
Фрейда для изучения общества, была Франкфуртская школа в лице Т. Адорно,
М. Хоркхаймера, Г. Маркузе и Э. Фромма. Их целью был глубокий анализ таких фе-
номенов как нацизм, фашизм, тоталитаризм. Опираясь на марксистский категори-
альный аппарат, они обратили внимание, что социальные субъекты, в частности
классы, далеко не всегда ведут себя рационально в соответствии с собственными
экономическими интересами. Напротив, политическая жизнь, по их м нению, зача-
стую управлялась феноменами экстремального национализма и ксенофобии, антисе-
митизма, культа личности, которые возносили насилие и жестокость над разумным
обсуждением и дискурсом.
Таким образом, целью Франкфуртской школы было понять роковой прорыв бес-
сознательных агрессивных влечений в политическую и социальную практику. Для
этого, по их мнению, хорошо подходило психоаналитическое учение. Внутренний
дуализм взгляда Фрейда на человеческую природу – основанный на диспозиции
любви и ненависти, влечения к жизни и влечения к смерти – был инкорпорирован
здесь в социальную теорию, которая стремилась объяснить катастрофический провал
ценностей гуманизма и надежд Просвещения в эпоху нацизма и фашизма. Возмож-
ность просвещенной человеческой цивилизации, утверждение которой можно обна-
ружить как в работах К. Маркса, так и в работах З. Фрейда, Франкфуртской школе
казалась утраченной. В работе «Диалектика просвещения. Философские фрагменты»
М. Хоркхаймер и Т. Адорно задаются вопросом: «почему человечество вместо того,
чтобы войти в эпоху подлинно человеческого состояния, проваливается в новую раз-
новидность варварства» [Хоркхаймер, Адорно 1997, 8]. По своему собственному
утверждению, Адорно стремился использовать идеи К. Маркса и З. Фрейда «контра-
пунктом» – рассматривал психологические явления как отражение социально-
экономической структуры, а социально-экономическую структуру рассматривал
в терминах ментальных явлений (культура, познание, структура характера).
Необходимым привлекать теорию Фрейда для понимания феномена идеологии счи-
тал и французский философ-неомарксист Л. Альтюссер, разрабатывавший собственную
теорию «идеологии как таковой». Активно использует представление об идеологическом
бессознательном, синтезируя его с концепцией «иллюзорного сознания» К. Маркса и
современный философ С. Жижек, определяющий идеологию с помощью формулировки
К. Маркса «Они не сознают этого, но они это делают» [Маркс 1960, 84].
36
Таким образом, мы видим, что различные исследователи уже на протяжении практи-
чески всего ХХ в. считали необходимым использовать психоаналитический концептуаль-
ный аппарат для понимания феномена идеологии. Однако именно с развитием совре-
менных средств массовой коммуникации на передний план выходит понимание того, что
идеологическое воздействие и идеологическая пропаганда происходят скрыто, незаметно,
анонимно, минуя сознание. Становится все более очевидным тот факт, что «философии
всегда имеют автора, а идеологии – нет, будучи анонимными сгустками массового со-
знания (корпоративного, локального)» [Сыродеева 2018, 210].
Действительно, в ХХ веке произошло радикальное изменение способов функцио-
нирования идеологии, что позволило ей действовать «анонимно». Некоторые иссле-
дователи (Д. Белл, Ж. Фурастье, С. Липсет) приняли эти изменения за приход эпохи
«конца» идеологии. Так в 50–70 гг. ХХ в. на Западе (в 1990-е гг. в России) было со-
здано множество различных концепций деидеологизации. Однако уже в 60-е гг. ХХ в.
все больше мыслителей стали понимать, что роль идеологии в обществе не снизи-
лась, а просто произошли радикальные изменения в ее способе существования,
а потому требуется привлечение новых концептуальных инструментов для ее описа-
ния. Концепции реидеологизации всесторонне обосновали, что окончательно изба-
виться от идеологии невозможно, ее можно только критиковать. Одним из инстру-
ментов этой критики становится концепция бессознательного.
Как было указано выше, мы придерживаемся трактовки идеологии как формы ду-
ховной деятельности, обладающей ценностной сердцевиной, при этом обращающей-
ся к процедурам научного дискурса, когда речь идет о поиске средств осуществления
постулируемых ценностных приоритетов. Духовная деятельность имеет осознаваемый
и бессознательный уровни мотивации, а потому и продукты идеологии являются вы-
ражением сразу двух интенций. При этом следует помнить, что многие исследователи
(Э. Блейлер, З. Фрейд) указывали на то, что любая психическая функция может ста-
новиться то сознательной, то бессознательной в зависимости от того, насколько она
связана с цельным комплексом Я в конкретный момент времени. Таким образом, для
того, чтобы в мышлении человека проявлялось бессознательное содержание, вовсе не
обязательно, чтобы этот процесс был полностью неосознаваемым, протекал «будто в
забытьи». Сам человек может, по своему мнению, достаточно ясно понимать, что он
делает или говорит, и в то же время его действие или слова все-таки будут обладать
бессознательными смыслами.
Говоря о связи бессознательных структур психики и идеологии, можно выделить
два взаимосвязанных, но отличающихся друг от друга аспекта. Генетический аспект
позволяет проследить, в какой мере бессознательные представления влияют на фор-
мирование рационализированных конструкций, образующих идеологию. Функцио-
нальный аспект показывает, каким образом конструкты идеологии утверждают себя
в социальной практике, используя в качестве средства такого утверждения распро-
страненные стереотипы бессознательного.
В качестве иллюстрации влияния бессознательных интенций на генезис идеологи-
ческих представлений можно рассмотреть антисемитизм. Важнейшей целью любой
идеологии является консолидация общества и/или образующих его групп. Когда ин-
тегрированность группы оказывается под угрозой (например, в ситуации затяжного
социального и экономического кризиса, когда нарастает фрустрация и уровень тре-
вожности населения), то для поддержания солидарности может уже не хватать либи-
динальных сил. Становится невозможным выражать агрессию дозированными спосо-
бами, и она как таковая становится уничтожающей и пугающей. И тогда, используя
терминологию З. Фрейда, можно сказать, что «влечение к смерти», разрушительные
импульсы отклоняются вовне – начинается бессознательный поиск своего рода
«козла отпущения», фигуры врага. Это можно наблюдать на примере целых обществ
(например, нацистская Германия). Иррациональность подобных тенденций к разру-
шению показана во многих работах, посвященных рассмотрению тоталитарных ре-
жимов (к примеру, у Х. Арендт). Еще Т. Адорно отмечал, что «антисемитизм не так
сильно зависит от природы объекта, как от психических потребностей и влечений
37
субъекта» [Адорно 2016, 107]. Объективные социальные условия (кризис, послевоен-
ное состояние, безработица), радикально усилили общий уровень тревожности, тем
самым воздействуя не только на психическое состояние людей, но и создавая объек-
тивные посылки для краха системы. Выбор евреев в качестве объекта ненависти
можно объяснить тем, что некоторое негативное отношение к ним на тот момент уже
получило закрепление в различных широко распространенных стереотипах. Это поз-
воляло выдавать подобное отношение к ним за неотъемлемый элемент традиции и в
каком-то смысле даже за историческую необходимость.
Таким образом, часть идеологического содержания выходит за рамки рационально-
сти, является отражением бессознательного. В бессознательном, как отмечалось выше,
могут уживаться противоречивые и даже взаимоисключающие представления. Они могут
проявляться и в идеологическом мышлении. При этом стоит оговорить, что даже ирра-
циональная часть содержания идеологии носит неслучайный характер и может быть ис-
пользована при попытках понять происходящее в обществе. Также как самые бредовые
идеи больного представляют собой не случайный хаос, а в определенной, хоть и иска-
женной форме, выражают психические аффекты и его жизненный опыт, так и любые
идеологические идеи, которые нашли резонанс в обществе, являются следствием опреде-
ленных социальных причин, объясняющих их содержание.
Анализируя феномен идеологии, следует обратить внимание на идеи известного
психиатра Э. Блейлера (создателя термина «шизофрения»), который описал в своих
работах определенный тип мышления, названный им аутистическим, который управ-
ляется аффектами, а значит желаниями и страхами, и не ориентируется на реаль-
ность. В этом случае «мысль знать не желает (или не может) действительности»
[Блейлер 1920, 35]. По мнению ученого, этот тип мышления проявляется в снах, ми-
фах, фантазиях и т.д. Мы считаем уместным предположить, что аутистическое мыш-
ление проявляет себя и в идеологии. Данный тип рассуждения иррационален по сво-
ей природе и является выражением психической реальности, но при этом может
быть частично осознаваемым и частично бессознательным. Его суть и неизбежное
следствие – конфликты и противоречия с окружающей средой. Препятствия к до-
стижению поставленных аутистическим мышлением грандиозных целей либо игно-
рируются, либо их суть и характер фантазийным образом искажаются. В этом смысле
Блейлер противопоставлял его другому типу рассуждения, ориентированному на дей-
ствительность, – реалистическому. Стоит оговорить, что в каждом конкретном акте
мышления (в том числе и в идеологических построениях) в разных пропорциях пред-
ставлены аутистическая и реалистическая компоненты, также как сознательная
и бессознательная. Безусловно, идеология обязана содержать в себе и реалистиче-
скую, рефлективную компоненту. Идеология, полностью неадекватная действитель-
ности, не была бы жизнеспособна. Она направлена на действительную реализацию
собственных целей, а не на их фантазийное галлюцинаторное воплощение, поэтому
не может не ориентироваться на действительные данные.
Говоря о функциональном аспекте идеологического бессознательного, стоит упо-
мянуть, что аутистическое мышление особым образом взаимодействует с психиче-
ской реальностью. Как писал Э. Блейлер: «бредом величия оно может больного
осчастливить, а если его планы рушатся, оно снимает с него вину и взваливает ее на
внешние преследования, оставляя в стороне его собственное неумение» и далее:
«аутистические цели мы ценим гораздо выше, чем реальные преимущества, потерю
которых можно компенсировать. Этим объясняется особая дикость религиозных
войн» [Блейлер 1920, 36].
Мы утверждали раннее, что идеология, в которой побеждает аутистическая со-
ставляющая, чье описание действительной социальной ситуации не соответствует ре-
альности, становится нежизнеспособной. Но идеология, напрочь лишенная подобной
иррациональной составляющей, не будет вызывать столь глубокого эмоционального
отклика у населения, и потому с большой долей вероятности проиграет в конкурент-
ной борьбе другим идеологиям, менее разумным, но более притягательным. Действи-
тельно, если бы идеологии удалось избавиться от аффективных иррациональных
38
частей своего содержания, их привлекательность и мотивационная сила заметным
образом пострадали бы. На это же указывает А.В. Рубцов: «Идеология сплошь и рядом
эффективнее воздействует именно через образы, через управление настроениями, эмо-
циями и страстями, включая ненавязчивые подсказки действий» [Рубцов 2018, 21].
Важнейшая причина того, почему рациональные формы познания мира не спо-
собны вытеснить идеологию, связана с ее компенсаторной функцией. Ставя перед
человеком цели, к достижению которых надо стремиться, идеология нередко дает
людям смысл существования, устраняет дефицит жизненных смыслов, помогает сми-
риться с тяжелой социальной реальностью. Таким образом, она выполняет важные
психологические задачи. Многие исследователи (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Л. Бол-
тански и др.) отмечали, что идеология (в том случае, если она ориентирована на кон-
сервацию существующего порядка) делает повседневную жизнь людей более прият-
ной, позволяет переносить различного рода лишения. Кроме того, наука, несмотря
на свою рациональность и объективность, не всегда может объяснить субъекту про-
исходящее. На некоторые вопросы она ответить неспособна, а иногда предлагаемый
ей ответ оказывается для субъекта неприемлемым. В то же время идеол огия является
не единственной формой духовной деятельности, выполняющей компенсаторную
функцию – именно в этом отношении наиболее сильно проявляется ее сходство с
религией. Способность идеологии выполнять психологическую функцию делает ее
объектом интереса не только социальных исследователей, но и психологов и психо-
аналитиков, таких как В. Райх, Э. Фромм, О. Кернберг и другие.
Важно упомянуть способность идеологии придавать смысл непонятным социаль-
ным ситуациям и показывать образ действий, в этих ситуациях необходимый. Блей-
лер указывал: «Мы мыслим аутистически везде, где познание действительности не-
полно, а практические потребности или стремления к знанию нас все-таки побужда-
ют к дальнейшему мышлению (проблемы возникновения и цели мира и человече-
ства, проблема Божества, откуда появились на свете болезни и зло вообще, как их
избегнуть)» [Блейлер 1920, 36]. Таким образом, наподобие того, как раньше люди
объясняли неизученные природные явления через создание мифов, современные лю-
ди объясняют происходящее в обществе с помощью идеологий. Социальная действи-
тельность также порой содержит в себе множество загадок и неизвестных перемен-
ных. Подчас происходящие процессы практически невозможно ни понять, ни пред-
видеть, и в то же время человек испытывает потребность в осмыслении происходя-
щего, в определенных гарантиях и уверенности, особенно в ситуациях социальной
нестабильности. Сходство идеологии и мифа отмечали многие исследователи, напри-
мер, Трунов А.А. пишет, что все традиционные функции мифа постепенно перешли
к современным идеологиям: см. [Поддубный, Трунов, 2016].
Чтобы обладать необходимой силой внушения, идеология должна соответствовать
и определенным интеллектуальным требованиям. При этом, как мы показали, даже
иррациональное содержание идеологии в определенном смысле стремится удовлетво-
рять интеллектуальным потребностям человека. Стоит упомянуть наблюдение
Х. Арендт, заключающее в утверждении, что большинство идеологий подчеркнуто
логичны [Арендт 1996, 608–610] – да, действительно это необходимо, чтобы соответ-
ствовать интеллектуальным запросам последователей. И одновременно идеология
часто не замечает собственных противоречий с реальностью. Как пишет С. Жижек:
«Любая идеология действительно успешна ровно в той мере, в какой она не позволяет
увидеть противоречия между предлагаемыми ею конструкциями и действительностью,
когда она задает сам модус действительного повседневного опыта» [Жижек 1999, 28].
Действительно, не существует прямой связи между логичностью рассуждения и его
истинностью. Грамотное рассуждение, основанное на ложных посылках (например,
если его автор начал свои построения с того, что выдал желаемое за действительное),
в итоге придет к ложным выводам. Кроме того, ничто не мешает идеологии одно-
временно подчеркивать логичность своих выводов, и психически отторгать информа-
цию, которая им противоречит. Еще Маркс указывал, что ошибочность представле-
ний идеологов «проистекает из исторического процесса их жизни», а не связана
39
с недостаточностью их интеллектуальных способностей [Маркс, Энгельс 1985, 20].
В свою очередь, стоит оговорить, что часть ошибок не является проявлением аффек-
тивных желаний или социальной ангажированности – логическая путаница, недоста-
точная осведомленность и т.д. также имеют место быть. Что не отменяет того факта,
что, возможно, роль ошибок, связанных с аффективно значимыми для рассуждающе-
го представлениями, недооценивается.
Следует отличать подлинную рациональность от того, что в психологии называют
рационализацией, являющейся определенным видом психической защиты. Она пред-
ставляет собой псевдорациональное рассуждение, которое по форме похоже на логи-
ческое построение, но, по сути, движимо аффектом, и не является объективным
и непредвзятым, хотя и может производить такое впечатление. Схожим образом под-
час функционируют и идеологические построения – создающие видимость логиче-
ских и объективных, но преследующие субъективные цели и готовые поступиться
ради них объективностью и непредвзятостью.
Философы-рационалисты предполагали, что научное мышление способно подме-
нить собой различного рода мифологемы. Похожих взглядов придерживались и сто-
ронники концепций деидеологизации – Д. Белл, Р. Арон и др. Однако история
ХХ века показала, что это не совсем так. Несмотря на невиданный прогресс рацио-
нального знания, наука не вытеснила ни идеологию, ни мифологию, ни религию, ни
другие иррациональные виды духовных практик. Напротив, некоторые исследователи
отмечают даже расцвет подобного рода мировоззрения. Эти процессы привели скорее к
необходимости пересмотра отношения науки и идеологии в современном мире.
К примеру, Ю. Хабермас в своей работе «Техника и наука как идеология» рассматри-
вал науку как идеологическое по своей сути сознание: см. [Хабермас 2007]. Предлагае-
мый нами подход в отличие от концепции «иллюзорного сознания», делающего акцент
исключительно на познавательном потенциале идеологии, а потому описывающего
только часть ее содержания, не ведет к формированию однозначно отрицательного,
негативного отношения к ней. Мы не соглашаемся с тем, что верно жесткое противо-
поставление идеологии и науки (как было введено в теории К. Маркса), так как идео-
логия является принципиально отличной от науки формой духовной деятельности,
преследующей другие цели, включающей в себя не только суждения истины, но в
первую очередь суждения ценности, проектные и бессознательные элементы.
Таким образом, мы показали, что рациональная и иррациональная компоненты
общественного сознания оказываются тесно связаны между собой, и феномен идео-
логии является тому подтверждением. Она содержит в себе и сознательные и бессо-
знательные части. При этом в ней также парадоксальным образом сочетаются аути-
стическая компонента, движимая аффектами, связанная с отвлечением от внешнего
мира, и ориентация на реальную практическую реализацию собственных целей в со-
циальной действительности. Нельзя игнорировать ни один из компонентов идеоло-
гии, желая концептуализировать данный феномен. Бессознательное иногда выступает
как причина формирования определенных идеологических конструктов, а иногда как
средство их распространения, одна из «опор» пропаганды. Иррациональная компо-
нента идеологии, с одной стороны, может препятствовать достижению ей своих ре-
альных практических целей, с другой – является причиной ее притягательной силы,
а также позволяет ей надежно и незаметно осуществлять свое воздействие.
Источники и переводы – Primary Sources and Russian Translations
Адорно 2016 – Адорно Т. Исследование авторитарного характера // Адорно Т., Френкель-
Брюнсвик Э., Левинсон Д., Сэнфорд Н. Исследования авторитарного характера М.: Профит
стайл, 2016 (Adorno Th., Frenkel -Brunswik E., Levinson D., Sanford N., The Authoritarian Personality.
Russian translation).
Арендт 1996 – Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М .: Центр Ком, 1996 (Arendt H. The Origins
of Totalitarianism. Russian translation).
Блейлер 1920 – Блейлер Э. Руководство по психиатрии. Берлин: Изд-во товарищества
«Врач», 1920 (Bleuler Eu. Lehrbuch der Psychiatrie. Russian tranlation).
40
Жижек 1999 – Жижек С. Возвышенный Объект Идеологии. М .: Художественный журнал,
1999 (Žižek S. The Sublime Object of Ideology. Russian translation).
Манхейм 1992 – Манхейм К. Идеология и утопия. М.: ИНИОН, 1992 (Mannheim K. Ideologie
und Utopie. Russian translation).
Маркс 1960 – Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Т . 23.
М.: Государственное издательство политической литературы, 1960 (Marx K. Das Kapital. Russian
translation).
Маркс, Энгельс 1985 – Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Избранные сочинения в
9 т. Т. 2 . М .: Политиздат, 1985 (Marx K., Engels F. Die deutsche Ideologie. Russian translation).
Момджян 2013 – Момджян К.Х . Социальная философия. Деятельностный подход к анализу
человека, общества и истории . М .: Издательство Московского университета, 2013. (Momdzhyan
K. K. Activity Approach to Analysis of Human, Society and History. In Russian).
Уледов 1968 – Уледов А.К . Структура общественного сознания (теоретико -социологическое
исследование). М .: Мысль 1968 (Uledov А. The Structure of Social Consciousness (Theoretical and
Sociological Research). In Russian).
Фрейд 2016 – Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Хрестоматия. Т. 2 . М .: Когито-
центр, 2016 (Freud S. Das Unbehagen in der Kultur. Russian translation).
Хабермас 2007 – Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». М .: Праксис, 2007 (Haber-
mas J. Technik und Wissenschaft als „Ideologie“ , Russian translation).
Хоркхаймер, Адорно 1997 – Хоркхаймер М, Адорно Т. В. Диалектика просвещения. М .-С П б.:
Медиум , Ювента, 1997 (Horkheimer M., Adorno Th. Dialektik der Aufklaerung . Philosophische Frag-
mente. Russian translation).
Энгельс 1965 – Энгельс Ф. Письмо к Конраду Шмидту 27 октября 1890 // Маркс К., Энгельс
Ф. Сочинения. Издание второе. М.: Издательство политической литературы. Т . 37, 1965 (Engels
F. Brief an Conrad Schmidt, 27 October 1890. Russian translation).
Primary Sources
Rank, Otto, Sachs, Hanns (1913) Die Bedeutung der Psychoanalyse für die Geisteswissenschaften,
Bergmann, Wiesbaden.
Ссылки – References in Russian
Поддубный, Трунов 2016 – Поддубный Н.В. Трунов А.А., Почему идеология не стала наукой о
рациональном мышлении? // Историческая психология и социология истории. 2016. No 2.
С. 105 –120 .
Рубцов 2018 – Рубцов А.В . Превращения идеологии. Понятие идеологического в «предель-
ном» расширении // Вопросы философии. 2018 . No 7. С . 18 –27 .
Смирнова 2018 – Смирнова Е.В. Идеология как основание типологии обществ? // Вестник
Московского университета. Серия 7. Философия. 2018 . No 2. С . 105 –118
Сыродеева 2018 – Сыродеева А.А. Философия и идеология: иллюзия деидеологизации (обзор
«круглого стола») // Вопросы философии. 2018 . No 7. С . 207 –217 .
References
Poddubny, Nikolai V. Trunov, Anatoly A. (2016) “Why did not Ideology Become a Science of Ra-
tional Thinking?” Historical Psychology & Sociology, Vol. 9, No 2, pp. 105 –120.
Rubtsov, Alexander V. (2018) ”The Transformation of Ideology. The Concept of the Ideological in
the 'Extreme' Expansion”, Voprosy Filosofii, Vol. 7 (2018), pp. 18 –27 .
Smirnova, Elizaveta V. (2018) “Totalitarian Stylization of Ideology as the Basis of a Typology of
Societies?” Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7. Filosofiya. Vol 2 (2018) pp. 105 –118 .
Syrodeeva, Asya A. (2018) ”Philosophy and Ideology: Illusion of the Deideologization (Review of
the 'Round Table')”, Voprosy Filosofii, Vol. 7 (2018), pp. 207 –217 .
Сведения об авторе
ЩЕРБАКОВА (Смирнова)
Елизавета Валерьевна –
кандидат философских наук, старший пре-
подаватель кафедры социальной филосо-
фии и философии истории философского
факультета МГУ им. М .В . Ломоносова.
Author’s information
SHCHERBAKOVA (Smirnova) Elizaveta V. –
CSc in Philosophy, Senior Lecturer at the
Department of Social Philosophy and Philoso-
phy of History, Faculty of Philosophy, Lo-
monosov Moscow State University.
41
Берлин и Бахтин: плюрализм, полифония
и критика релятивизма*
© 2019 г.
О.Л . Грановская
Школа искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета,
Владивосток, о. Русский, полуостров Саперный, 690922, поселок Аякс, д. 10.
E-mail: olg@vladivostok.com
Поступила 06.09.2019
В статье исследуется проблема единства русской философии и ее
встроенности в общемировой смысловой контекст через сопоставление
концепций плюрализма ценностей и полифонии, лежащих в основании
мировоззрений двух мыслителей – И. Берлина и М. Бахтина. Выявля-
ются точки их интеллектуальных пресечений: антидогматизм, плюра-
лизм, историзм. Осмысливается отношение И. Берлина и М. Бахтина
к одной из центральных эпистемологических проблем – релятивизму,
являющемуся неизбежным следствием признания множественности
мира. И Бахтин, и Берлин не платоники и не эссенциалисты, в их рас-
суждениях присутствует как универсалистский, так и анти-
универсалистский элементы, поэтому их обоих часто причисляют к ре-
лятивистскому лагерю. Однако сами они постоянно сопротивлялись
этому определению ради самих себя и ради своих философских героев.
Автор демонстрирует общность их аргументов против релятивизма,
а так
же
способы
их
осмысления
проблемы
истинности
и объективности для плюралистических мировоззрений. В основе их
концептуальных построений лежит идея интерсубъективности, выра-
женная в понятиях «общий горизонт ценностей» (И. Берлин) и «Дру-
гой» (М. Бахтин). Еще одно общее для Берлина и Бахтина методологи-
ческое требование: сохранение исторической дистанции между субъек-
том и объектом исследования. Историзм проявляется также в постоян-
ном «разговоре» с персонифицированным адресатом или «вторым субъ-
ектом». Бахтина и Берлина объединяет стиль, выросший из общего по-
нимания философии, как результата деятельности активной и самосо-
зидающей личности. Они считали, что объективная согласованность
и непротиворечивость идей появляется в результате их проговаривания.
Ключевые слова: Russian philosophy, M. Bakhtin, I. Berlin, polyphony,
value pluralism, antidogmatism, critic of relativism.
DOI: 10.31857/S004287440007523-0
Цитирование: Грановская О.Л . Берлин и Бахтин: плюрализм, полифо-
ния и критика релятивизма // Вопросы философии. 2019. No 12.
С. 41–51.
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект No 18-011 -01132
«Перекрестки культур: европейская философия с русскими корнями (на примере
творчества А. Койре, А. Кожева и И. Берлина)».
42
Berlin and Bakhtin: Pluralism, Polyphony
and Critic of Relativism*
© 2019 г.
Olga L. Granovskaya
School of Arts and Humanities, of the Far Eastern Federal University, 10, Ajax village,
Peninsula Sapernay, Russky Island, Vladivostok, 690922, Russian Federation.
E-mail: olg@vladivostok.com
Received 06.09.2019
This article examines the problem of the Russian philosophy unity and its em-
beddedness in the global semantic context by comparing the concepts of value
pluralism and polyphony that underlie in the worldviews of two Russian think-
ers – I. Berlin and M. Bakhtin. The points of their intellectual crossings are re-
vealed: anti-dogmatism, pluralism, historicism. It comprehends the attitude of
I. Berlin and M. Bakhtin to one of the central epistemological problems – rela-
tivism, which is an inevitable consequence of the recognition of the plurality of
the world. Both Bakhtin and Berlin are neither Platonists nor Essentialists, in
their reasoning there are both universalist and anti–universalist elements, there-
fore both of them are often ranked as a relativistic camp. However, they them-
selves constantly resisted this definition for their own sake and for the sake of
their philosophical heroes. The author demonstrates the commonality of their
arguments against relativism, as well as the ways of their understanding of the
problem of truth and objectivity for pluralistic worldviews. The basis of their
conceptual constructions is the idea of intersubjectivity, expressed in the con-
cepts of “Common horizon of values” (I. Berlin) and “The Other” (M. Bakh-
tin). Another common methodological requirement for Berlin and Bakhtin:
maintaining the historical distance between the subject and the object of study.
Historicism is also manifested in a constant “conversation” with a personified
addressee or “second subject”. Bakhtin and Berlin are united by a style that has
grown from a common understanding of philosophy, as a result of the activity
of an active and self-creating person. They believed that the objective consisten-
cy and consistency of ideas appears as a result of their utterance.
Key words: Russian philosophy, M. Bakhtin, I. Berlin, polyphony, value
pluralism, antidogmatism, critic of relativism.
DOI: 10.31857/S004287440007523-0
Citation: Granovskaya, Olga L. (2019) ‘Berlin and Bakhtin: pluralism, polyph-
ony and critic of relativism’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 41–51.
М. Бахтина и И. Берлина, не только как мыслителей, но и как преподавателей,
прежде всего, объединяет интерес к природе и методологии гуманитарных наук, где
релятивизм всегда имеет педагогический аспект. Историк, если не хочет стать про-
стым компилятором, должен спрашивать себя не только о том, что произошло, но и
думать о том, как видят эту ситуацию представители различных культур и обладатели
противоположных взглядов [Berlin 2000b
, 49]. Критика фундаментализма и монизма –
одна из основных черт современной философии – остро ставит необходимость ответа
на вопросы, долгое время волновавшие антропологов и преподавателей языка.
*
The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research. Project No. 18 -011 -
01132 ‘Crossroads of Cultures: European Philosophy with Russian Roots (on the Example of
A. Koyre, A. Kozhev and I. Berlin)’.
43
Может ли субъект в принципе научиться говорить на языке другого мира, выражать
этот мир? Должен ли я забыть себя, свой язык и просто имитировать другого или же
я должен непредвзято пропускать новое знание через фильтр моего прошлого, стара-
ясь во всем сохранять уникальность своей индивидуальности?
Отвечая на данные вопросы в одном из эссе, И. Берлин обращается к философии
истории Дж. Вико. Он подчеркивает, что вера в воображение, имажинативное сопе-
реживание, «эмпатическое проникновение» [Berlin 1989, 6], свойственные Вико, яв-
ляются одними из релевантных методов исторического познания. Однако даже во-
оружившись фантазией, осуществляя историческую реконструкцию, понимающий
субъект не может полностью перенестись из своей социокультурной среды в ситуа-
цию автора текста, т.е . достичь такого вживания понимающего в понимаемое, что
между ними не остается зазора.
В 1970 г. по просьбе журнала «Новый мир» прокомментировать современные под-
ходы к исследованию литературы и культуры Бахтин написал короткое открытое
письмо, где одобрял множество методов, критиковал упрощающие структуралистские
модели и в итоге отмечал: «Существует... неверное представление о том, что для
лучшего понимания чужой культуры надо как бы переселиться в нее и, забыв свою,
глядеть на мир глазами этой чужой культуры» [Бахтин 1986, 353]. Известное вжива-
ние в чужую культуру «есть необходимый момент в процессе ее понимания» [Там
же], при этом всегда необходимо помнить о потенциальной опасности излишней эм-
патической идентификации, поскольку если бы понимание сводилось к ней одной,
то «оно было бы простым дублированием и не несло бы в себе ничего нового и обо-
гащающего» [Там же].
Историчность, согласно Берлину и Бахтину, неотъемлемая характеристика нашего
существования, и она принципиально не снимается. Таким образом, в теории позна-
ния релятивизм преодолевается историзмом. Основная особенность их исторического
стиля – интенциональность. Вместо того, чтобы подобно многим своим современни-
кам выстраивать эмпирическую реальность из частей опыта, у каждого из них были
свои литературные и философские герои. У Берлина в число этих мыслителей входи-
ли уже упомянутый Дж. Вико, А. Герцен и отдельное место в нем занимал Лев Тол-
стой. Для Бахтина истина проверяется в мирах Рабле, Гете, Достоевского. Такая ме-
тодологическая тактика, конечно, возможна, но недостаточна. Когда «объект» изуче-
ния становится личным другом и понимается изнутри, тогда увеличивается и степень
сочувствия его идеям. Противоречия начинают казаться привлекательными, плохой
характер или суждения эпизодическими, а определенные черты изучаемого предмета
совсем исчезают, не замечаются или просто забываются. Так, Герцен для Берлина
это только лишь либеральный мыслитель середины XIX в. (см. об этом: [Kelly 2000,
10]), а не видный утопист этого периода. Подобным образом, Рабле для Бахтина не
кто иной, как мятежный шут и хранилище энергии народа, но не гуманист эпохи
Возрождения. Однако для Берлина и Бахтина сопереживание любимому герою более
важно, нежели объективность. Это внимание к персонифицированному адресату или
«второму субъекту» еще одна особенность, делающая их непревзойденными мыслите-
лями диалогического стиля.
Их наиболее устойчивыми общими характеристиками можно считать идею плю-
ралистичности мира, критику универсализма и монизма. У Бахтина плюрализм
и множественность скрывается под многими именами: «полифония», «диалогизм»,
«гетероглоссия», «центробежная сила», каждое из которых выражает идею движения
от центра, одновременности звучания многих голосов и необходимость присутствия
более, чем одного сознания для появления истинно человеческого события. Свою
концепцию Берлин называет «ценностный плюрализм»: вера в несовместимость и
несоизмеримость человеческих благ. Несмотря на то, что формы жизни, создаваемые
людьми, чрезвычайно разнообразны, они в высокой степени взаимоинтеллигибель-
ны: это не закрытые картины мира, не релятивистские мировоззрения, отгороженные
друг от друга. Напротив, они обладают объективностью, которая происходит из их
публичности и взаимной интеллигибельности. Именно наличие «общего горизонта
44
человеческой мысли» (Берлин) и «Другого» (Бахтин) делает общение между культу-
рами во времени и пространстве возможным.
Они полагали, что релятивизм, скрывающийся под маской толерантности или
свободы, на самом деле фатален для ценностей, лежащих в основании этики: инди-
видуальной ответственности, возможности придерживаться собственной позиции,
одновременно осознавая ценность другой точки зрения. Это сопротивление реляти-
визму, как мне представляется, повлияло на этику данных мыслителей и на их выбор
«любимых» собеседников. Преданность плюрализму и критика релятивизма прежде
всего проявляется в их «разговорах» с гениями русской литературы XIX в. Как ре-
зультат этих бесед появляются две «авторитетных пары с длинной историей полеми-
ческого противостояния» [Emerson web] Ф. Достоевский/Бахтин, Л. Толстой/Берлин.
Берлин и Бахтин полагают, что мир открыт релятивизму, с сопутствующей ему идеей
децентрализации личности, ослаблением способности выносить суждения 1, и ниги-
лизмом. Тем не менее, у каждого из них есть идея, в которую они верят намного
больше, чем в релятивизм. У Берлина такой идеей является «общечеловеческий гори-
зонт ценностей», у Бахтина – понятие «Другого».
С точки зрения Бахтина: «Великое дело для понимания – это вненаходимость по-
нимающего – во времени, в пространстве, в культуре – по отношению к тому, что
он хочет творчески понять» [Бахтин 1986, 353]. Чтобы это произошло, субъект дол-
жен оставаться сознательно отстраненным, а не копией или отражением в зеркале.
Как бы хорошо я ни старался, я никогда не смогу увидеть себя так, как может уви-
деть меня другой2
.
Это гносеологическое правило работает не только на индивиду-
альном уровне, но и на уровне коммуникации народов и культур. «В области культу-
ры вненаходимость – самый могучий рычаг понимания. Чужая культура только
в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже... между ними начинается
как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов,
этих культур» [Там же, 354]. Только «Другой» дарует мне понимание границ моего
«я», то, чего я сам себе даровать не могу. До тех пор, пока «другой» не смотрит на
меня и не отвечает мне, я точно не знаю, кто я и что мне надо. Пристально вгляды-
ваясь в «другого» извне, вы не нарушаете его автономии, не присваиваете его лич-
ность себе. Вглядывание в другого, с точки зрения мыслителя, это наша экзистенци-
альная обязанность и благословение.
«Первоначально – это “я”, относительно автономная личность» [Холквист 2002
web], а не автономная самодостаточность, «изолированной эстетизованной, завер-
шенности и отрешенности сознания, разума и веры» [Махлин 2002 web]. Когда «дру-
гой» смотрит на меня, такая коммуникация не делает меня зависимым или беспо-
мощным, напротив, эта интерсубъективность обеспечивает истинность моей позиции
и ценностей; в это мгновение мои ценности для меня абсолютны. Другой проецирует
на меня свой образ и это именно то, что не позволяет моей идентичности стать пол-
ностью относительной, скользящей по поверхности, зависящей от моего внутреннего
состояния или нарциссического желания, вещью. Моя идентичность – это то, что
созданно «другим» из меня, «вытащено» из меня наружу, и таким образом, она ста-
новится объективным фактом, а не чьим -либо мнением.
Проблема интерсубъективной природы истины, т.е. проблема того, как автоном-
ные самосозидающие субъекты создают истину, важна и для Бахтина, и для Берлина.
Свои философские основания Бахтин разрабатывает в раннем очерке «К философии
поступка». Для того, чтобы сделать нечто целостной и значимой ценностью, я дол-
жен принять в этом личное участие, то есть я должен извлечь это из теоретической
области и присоединить к своей личности. Наш поступок ориентируется только на
действительно переживаемый мир [Бахтин 2003, 14]. Каждая мысль и ее содержание
есть индивидуально ответственный поступок, из таких отдельных поступков склады-
вается вся жизнь человека, как «сплошное поступление» [Бахтин 2003, 444].
И мысль, и ценность историчны, но это не доказывает, по Бахтину, правоты «реляти-
визма, отрицающего автономность истины и пытающегося сделать ее чем-то относи-
тельным... Значимость истины себе довлеет, абсолютна и вечна, и ответственный
45
поступок познания учитывает...это ее существо» [Бахтин 2003, 14]. Познанная истина не
может быть «вещью в себе», пока ее не откроют. Законы Ньютона («вечные в себе» ис-
тины) не существовали до их открытия Ньютоном, хотя Америка существовала до ее от-
крытия Колумбом. Чтобы познать что-то новое, человеку требуется много энергии, этот
творческий заряд появляется в результате коммуникации нескольких сознаний.
Бахтин ясно высказывает свое отношение к релятивизму в монографии «Пробле-
мы творчества Достоевского», в которой он впервые представляет идею полифонии
и разрабатывает типологию двуголосого слова. Полифония, как она определяется
в данной работе, это специальное литературное средство для создания вымышленных
героев. Она позволяет создать «множественность самостоятельных и н еслиянных го-
лосов и сознаний, подлинную полифонию полноценных голосов...» [Бахтин 2000,
14]. При помощи полифонии создается роман совершенно нового типа, где в отли-
чие от монологического романа представлены не «множество судеб и жизней в еди-
ном объективном мире в свете единого авторского сознания..., но именно множе-
ственность равноправных сознаний с их мирами сочетаются здесь, сохраняя свою
неслиянность, в единство некоторого события» [Бахтин 2000, 12]. Герои, созданные
таким способом, не только «объекты авторского слова, но и субъекты собственного
непосредственно значащего слова» [Бахтин 2000, 12]. Не только автор создает своих
героев, но и герои могут создавать сами себя. «Полифонический подход не имеет
ничего общего с релятивизмом (как и с догматизмом). Нужно сказать, что и реляти-
визм, и догматизм одинаково исключают всякий спор, всякий подлинный диалог,
делая его либо ненужным (релятивизм), либо невозможным (догматизм). Полифония
же как художественный метод вообще лежит в другой плоскости» [Бахтин 2002, 81].
На первый взгляд, здесь возникает парадокс: с одной стороны, мы видим отсутствие
иерархии и единства смысла, с другой – отрицание релятивизма. Но Бахтин не видит
в этой позиции парадокса, и чтобы понять эту идею, необходимо знать его концепцию
авторской интенции. Бахтин считает, что у автора нет намерения, чтобы его смыслы
расшифровывали, как азбуку Морзе. Интерсубъективная истина не находится в некоем
внешнем мире, как Америка до ее открытия. Автор хочет, чтобы его послание обрастало
смыслами, интерпретировалось, ставилось под сомнение, а не просто воспроизводилось
или открывалось. Читатель может начать с распознавания скрытого смысла текста, но он
не ограничен только этим. Творческая интерпретация текстов и культур зависит от пред-
рассудков, желаний и личного опыта читателя, и предполагает присоединение чего-то
нового к изначальному смыслу. Как можно защитить текст от произвольной интерпрета-
ции? По Бахтину – бесконечный контр-ответ.
Мир, в котором люди отворачиваются друг от друга, это, согласно Бахтину, ми р
«ценностной пустоты», где невозможно никакое высказывание, невозможно самое
сознание, поскольку оценка является ключевым компонентом познавательного про-
цесса. Как только мы начнем считать, что все точки зрения, формы жизни, ценност-
ные миры равноправны, уже никто не сможет поместить себя в определенное место
и время, и никто не сможет обозначить границы личности, которые воспроизводятся
конкретными обязательствами. Если догматизм сливает все голоса в один, то у по-
следовательного релятивизма совсем нет голоса.
Помимо идеи равноправия миров релятивизму обычно сопутствует противоположная
идея: между индивидами есть фундаментальное и объяснимое различие; то, что важно и
истинно в одном контексте, не является таким в другом; то, что правильно и рациональ-
но в одной ситуации, может быть нерациональным в другой. И с этим утверждением
Бахтин, очевидно, согласен. Однако Бахтин не согласен с релятивистским отрицанием
существования абсолютных ценностей и универсальных норм, поскольку именно эта
идея разрушает этику поступка. Бахтин ничего не боится так сильно, как самореферен-
ции. Если человек лишен «другого», с которым можно разговаривать, под которого мож-
но подстраиваться, которому можно сопротивляться и, таким образом, стабилизировать
собственные импульсы, он рискует оказаться в аморальном мире.
И, наконец, Бахтин не предполагал, что «первый голос» в дискурсе может не за-
хотеть слышать второй, или захочет обидеть или даже убить его. Он не думал, что
46
убеждения, разделяющие людей, приводят к унижению, кровопролитию и отказу от
коммуникации. И тот факт, что Бахтин пришел к этой доброжелательной эмпатиче-
ской идее полифонии, изучая тексты Достоевского в один из самых драматичных
периодов XX в., делает его самым оригинальным литературным критиком своего
времени. Бахтин ценил у Достоевского не убийства и страдания сами по себе (сам
сюжет произведения его не очень увлекал), а скорее факт того, что мир Достоевско-
го – это вселенная, в которой у каждого человека есть идея, которая производит
ценностное суждение. В его романах нет ничего нейтрального, фонового, все отчет-
ливо выражено и артикулировано. Такие персонажи, как Раскольников или Иван
Карамазов, могут исповедовать противоречивые идеи, но нельзя сказать, что у них
совершенно нет никакой позиции или что их нерешительность или неуверенность
результат праздного ума. В его романах идеи не просто проверяются, они проверяют-
ся смертью. И это именно полифония, а не релятивизм.
Что касается Берлина, он тоже любил специфическую литературу и особых героев
и, пожалуй, самыми особенными из них были русский социалист и мечтатель Герцен
и Макиавелли. Он их читал с такой же эмпатией, как Бахтин читал Рабле и Достоев-
ского. Его соприкосновение с ними не столько историческая реконструкция, сколько
осторожный философский разговор (см.: [Щедрина 2015]), где две стороны тактично
соглашаются не касаться болезненных и противоречивых аспектов. Берлин, как и Бах-
тин, нетерпим к монистам и утопистам. Пару для «полифонии» Бахтина составляет
берлиновская идея плюрализма ценностей, выражающаяся в трех основных суждениях:
ценности создаются людьми и часто вступают в конфликт; рациональные люди доброй
воли часто имеют непримиримые противоречия по поводу концепции блага и ценно-
стей; и соответственно, совершая нравственный выбор, мы выбираем между несовме-
стимыми и часто несоизмеримыми ценностями, при этом не имея в распоряжении
какого-либо универсального рационального критерия выбора. Выбор всегда трагичен,
поскольку, выбирая, мы всегда что-то теряем. По этой же причине, мы всегда живем
в состоянии моральной неопределенности. Философские герои Берлина – это люди,
которые осознали этот факт, приняли его и научились с ним жить.
Хотя Берлин не разработал никакой общей критической теории релятивизма
(См.: [Williams 1980]), он, очевидно, ему противостоял. Это противостояние отчетливо
выражено в эссе «Alleged Relativism in Eighteen-century European Thought», в котором он
обращается к двум своим излюбленным плюралистам И. - Г. Гердеру и Дж. Вико.
В отличие от многих современников-философов Просвещения они не были утописта-
ми и монистами, но являлись сторонниками культурно-исторического подхода в фило-
софии, но в то же время, Берлин, утверждает, что они не были ценностными реляти-
вистами. «Релятивизм – это нечто другое. ...Это учение, согласно которому суждение
человека или группы людей постольку, поскольку оно является выражением вкуса, или
эмоциональной позиции или мнения, просто есть то, что оно есть, и не обладает ни-
каким объективным критерием, определяющим его истинность или ложность» [Berlin
1990, 80]. «Я предпочитаю доброту, а Вы концентрационные лагеря» – каждый из нас
имеет свои собственные ценности, которые нельзя объединить» [Berlin 2000a
, 12]. Так
можно кратко описать крайность релятивизма. Невозможность судить об истинности
или ложности – сводить все к субъективности или психологии – неприемлемо для
Берлина так же, как это было неприемлемо для Бахтина.
Однако критика релятивизма базируется у Берлина и Бахтина на разных основаниях.
Для Бахтина «точка зрения», «мнение» являются основными философскими понятиями.
Точка зрения – это точка отсчета, но, кроме того, это точка, в которой любое «я», в лю-
бой момент может создать объективную ценность в сотрудничестве с другим «я». Пози-
ция Берлина по отношению к релятивизму – это позиция философа истории. Берлин
противостоял всем утопическим формам сознания, не признающим того факта, что со-
циальная жизнь всегда состоит из трагических потерь. Но тем не менее, он дистанциро-
вался от позиции культурного релятивизма, согласно которой люди настолько обуслов-
лены своим социальным окружением и психологией, что не могут совершать осознанно-
го выбора и не могут рационально признать необходимость потери в результате этого
47
выбора. Если для Бахтина самым неприемлемым возможным результатом культурного
релятивизма является «ценностная пустота», где стираются границы между «я» и «дру-
гим», то для политического философа Берлина таким результатом является оптимистич-
ное допущение гармоничного сосуществования всех ценностей и форм жизни, основан-
ное на идее отсутствия единого критерия оценки и невозможности установления еди-
ного центра.
Этому аспекту релятивизма Берлин противопоставлял идеи Романтизма несмотря
на то, что он прекрасно понимал его опасные моменты. В работе «The Roots of
Romanticism» Берлин пишет: «Новый кластер ценностей появился вместе с появле-
нием движения романтизма». «Поскольку все люди являются волями... , м отивы важ-
нее последствий. Мы не можем контролировать последствия, но можем контролиро-
вать мотивы. Поскольку мы должны быть свободны и должны быть собой настолько,
насколько это возможно, самой большой ценностью из всех является то, что экзи-
стенциалисты называли аутентичностью, а романтики – искренностью» [Berlin 1999,
139]. В качестве примера появления новых ценностей Берлин приводит такой эпизод:
в ранние исторические эпохи искренность еретика, готового пожертвовать своей
жизнью ради бредовой идеи, в которую он верит, совершенно не воспринималась как
морально ценная вещь, но романтики возвели такое поведение в ранг морально цен-
ного; они утверждают, что каждая целостная личность, каждый, кто готов положить
свою жизнь на алтарь, неважно ради чего, обладает моральной ценностью, заслужи-
вающей уважения, независимо от того, насколько истинной или ложной является
идея, перед которой он преклоняется. Именно так идеализм становится ценностью
[Berlin 1999, 139]. Искренность становится новой ценностью; в первый раз в евро-
пейской культуре не знание ценности, а созидание ценностей становится основной
добродетелью. Такая революция в философии могла произойти на фоне сопутствую-
щей идеи – изначально нет никакой структуры вещей. И через этот зазор возникают
убежденность и творчество. Релятивизм же фатален для них обоих.
Для подтверждения этой мысли Берлин обращается к жизни и творчеству Льва
Толстого. Эссе 1951 г. «Еж и лиса», посвященное анализу скептической философии
истории Толстого, возможно, лучшая литературно–критическая работа Берлина. Ве-
ликий писатель восхищал Берлина, поскольку Толстой не хотел приносить в жертву
искренность и в то же время, при всей грандиозности интеллектуального поиска,
у него не было какого-то единственного понимания жизни, которому он был ис-
кренне привержен. В этом эссе Берлин характеризует Толстого как личность, в кото-
рой независимо друг от друга существовали два несовместимых, но в то же время
одинаково убедительных стремления – он хотел быть «ежом», который знает одну
большую вещь, но на самом деле его ум, его беспощадная сила наблюдения, весь его
литературный гений сделали его мудрой «лисой», которой известно много различных
вещей. Эта погоня Толстого за единственной истиной в мире, где сосуществует мно-
жество конфликтных ценностей, было тем напряжением, которое подливало огонь
в топку его творчества. «Согласно Толстому, все наше знание изначально носит эм-
пирический характер, другого не дано; однако оно приведет нас не к истинному по-
ниманию, а только к накоплению абстрагированных на случайных основаниях фраг-
ментов и обрывков знания» [Берлин 2001а
, 259]. Более того, «иногда Толстой почти
проговаривается: чем больше мы знаем, говорит он, о данном человеческом деянии,
тем более неизбежным, тем более детерминированным оно нам представляется» [Там
же]. Гений Толстого, утверждает Берлин, по природе своей разрушителен. Из всех
человеческих качеств поверхностность была меньше всего присуща Толстому, он про-
сто не мог спокойно плыть по течению, его неудержимо влекло в глубину, исследо-
вать зияющие внизу провалы. Не мог он и не видеть того, что видел, и не сомневаться
в увиденном; он мог закрыть глаза, но забыть о том, что закрыл их по собственной
воле, он был не в состоянии» [Там же, 268]. Это диалектика была невыносима для
него. Релятивистская позиция, которая была бы удобна для «лисы», могла бы спасти
его, но ищущий и жаждущий «еж», живущий в нем, не мог этого допустить. «Толстов-
ское чувство реальности было до самой его смерти слишком опустошительным,
48
чтобы ужиться с каким бы то ни было нравственным идеалом, который он смог бы
выстроить из обломков разрушенного собственной интеллектуальной мощью миро-
здания» [Там же]. Берлин делает вывод, что именно поэтому жизнь Толстого была
так трагична.
В заключительной части этого эссе Берлин описывает Толстого на смертном одре
как отчаявшегося старика, окруженного обожанием домашних, «преданностью по-
следователей, восхищением всего цивилизованного мира» [Там же, 269] и почти со-
вершенно одинокого, как самого трагического из всех великих писателей, «которому
никто не в состоянии помочь, поскольку он сам себе выколол глаза и бредет в Ко-
лон» [Там же]. Жизнь, в которой было так много всего – слишком много денег,
слишком много аристократической свободы, слишком много славы, слишком много
таланта, слишком много здоровья, слишком много слов – теперь совершенно опу-
стошена всеми этими множественными подарками, поскольку он не мог связать их
вместе в одну истину. Если бы Бахтин прочел эту характеристику Толстого, он бы во
многом согласился с Берлиным. Толстой для Бахтина – антигерой, своеобразный
антипод полифоничного Достоевского, который мог вжиться в разные точки зрения,
понять мировоззрение падших людей, преступников, убийц. Толстой – это пример
монологизма в литературе, он боится смерти и ревниво защищает «неразделенный
авторитет своего собственного мира» [Emerson web]. Толстой, в отличие от Достоев-
ского, не испытывал эмпатии к персонажам, мировоззрение которых он не разделял.
Напротив, он считал такую непоследовательность неэтичной.
Настоящее произведение искусства не может появиться, если у писателя нет яс-
ного, определенного и нового взгляда на мир. С самого начала творческого пути и до
конца жизни Толстой считал, что мировоззрение автора не может быть противоречи-
вым, художественное произведение составляет одно целое, не потому что все постро-
ено на одной завязке или описывается жизнь одного человека, а потому, что в нем
присутствует «единство самобытного нравственного отношения автора к предмету»
[Толстой 1983, 240]. С точки зрения Бахтина, и в этом состоит особая ирония, Тол-
стой со своим монологическим догматизмом попадает в ту же ловушку, что и реляти-
висты – человек у него остается одиноким и изолированным. Каким остался в конце
жизни и сам Толстой, неспособный (или не желавший) слышать голос другого, вы-
ражающего противоположную точку зрения. Он был склонен заимствовать те фило-
софские взгляды, которые поддерживали его собственные идеи (так, он использовал
философию истории Гегеля, потому что она соответствовала его пониманию приро-
ды человека) и поэтому лишился собственных творческих ресурсов. Таким образом,
Бахтин как бы утверждает, что тот конец жизни Толстого, как его рисует Берлин,
был неизбежным концом сознания, не только пытающегося упаковать все внутрь
себя, но создать все из собственного «я».
Этот образ изможденного и одинокого старика Толстого, как его рисует Берлин –
полная противоположность любимому герою Бахтина Достоевскому. Хотя его жизнь
в отличие от жизни Толстого состояла из сплошных потерь, как мыслитель и писа-
тель Достоевский заканчивает ее богато одаренным. У него была последовательная
позиция и вера, он умел избавиться от навязчивого авторитарного голоса и таким
образом умел сохранить признательность и любопытство и делил его со своими чита-
телями и персонажами книг. Это стало возможным, по мнению Бахтина, пот ому, что
такие две крайности, как догматизм и релятивизм разделены в творчестве Достоев-
ского пространством диалога. И именно в этом пространстве диалога с «другим»
рождается объективная истина.
Если коснуться «истоков», «условий», «предпосылок» феномена плюралистической
философии, необходимо сказать несколько слов о «русскости» русской философии,
поскольку именно она задает контекст для текстов Берлина и Бахтина. Для русской
философии характерно чувство настороженности к известным упрощениям абстракт-
но-упорядочивающего теоретизирования, т.е. в ней заложен пафос радикальной крити-
ки формальной рациональности. Но если в западной философской традиции эту
функцию критики исполнял сам разум, – он как бы «расщеплялся», что позволяло ему
49
развиваться, совершенствуя свои рефлективные структуры, то в традиции русской фи-
лософской культуры эту же функцию выполняло преимущественно чувство (в этом,
видимо, специфика «русскости»), увеличивая и развивая не «чистоту рефлексии», но
глубину сострадательной человечности. Для Берлина, как и для его героев (Герцена и
Макиавелли), характерно не наращивание инструментария рациональности, а «чув-
ство реальности», т.е. способность «отличить реальное от иллюзорного» [Берлин
2001б, 31], художественная интуиция, чувство истории.
Аксиологическая концепция Берлина, основанная на принципе реализма, может
быть определена как объективный плюрализм в этике. В центре внимания Берлина
находится понятие «общечеловеческого горизонта ценностей», которое приобретает
особый смысл в свете отрицания абсолютных ценностей и признания возможности
волевого выбора ценностей. Этот «горизонт ценностей» можно определить и как не-
кий набор целей и норм, свойственных всем людям, и как смысловую область,
в пределах которой могут изменяться цели и нормы отдельного чел овека. Плюрализм
и антидогматизм Берлина, во многом обусловлены приобретенным в революционной
России экзистенциальным опытом и проявляются в его борьбе с марксизмом, поли-
тическими экспериментами и утопическими проектами. Он создает концепцию аго-
нального либерализма (это не единая теория блага и не доктрина, а механизм урав-
новешивания конфликтов целей, ценностей, форм жизни).
По мнению политических философов М. Сэндела [Sandel 1984, 14] и Л. Штрауса
[Штраус 2000, 127], плюрализм объективных ценностей в этике и аксиологии –
именно эту точку зрения защищал Берлин – невозможен . Со Штраусом дискутирует
последователь Берлина М. Уолцер: плюрализм можно признать необходимым след-
ствием свободы и самосозидания человека, но это не означает неизбежности реляти-
визма. Во-первых, плюральная реальность – неоспоримый факт бытия; на самом
деле существует множество разных мнений и альтернатив, самодостаточных и несов-
местимых. Во-вторых, свобода, благодаря которой возникает все это множество
взглядов и путей, является истинной ценностью [Walzer 1986, XVII].
Плюрализм Берлина отличается от полифонии Бахтина. Берлин не верил в чудо
и дар Бога, в некотором смысле его можно назвать нерелигиозным экзистенциали-
стом. Единственное, на что может положиться человек в момент конфликта ценно-
стей, – выбор. Этот выбор трагичен и радикален, поскольку не имеется никакого
критерия или инструкции для его осуществления. В центре же полифонии и диалога
Бахтина находится вера в чудо и благо. Откровение, по мнению Бахтина, один из
естественных законов. Вера совместима с научным знанием. Что доставляет человеку
наибольшую тревогу так это доверие. Вдохновение, очевидность не делают человека
уязвимым, каким делает его доверие, поскольку оно зависит не только от моего «я»,
но и от «другого». «Я» необходимо вести диалог с другим, часто непонятным и не-
приятным «я», вставать на его позицию, испытывать по отношению к нему эмпатию,
иначе оно рискует быть изолированным и скованным своим собственным мораль-
ным законом. Бахтин связывает боязнь веры с боязнью принять дар, боязнью быть
должным. Подобные люди всегда находятся на грани релятивизма, поскольку не мо-
гут найти критерий истины вне себя.
Антидогматизм, плюрализм и историзм, общие для Берлина и Бахтина, можно
также считать основными характеристиками мысли Герцен а, Достоевского, Шестова
и в целом русской философской традиции. Берлин и Бахтин в философском поиске
обращались к своим предшественникам – русским мыслителям, идеи которых со-
вершенно оригинальным образом интерпретировали и инкорпорировали в свои. Их
работы сами по себе подтверждают высказывание Бахтина о том, что зеркал не суще-
ствует, есть лишь отражение нас самих в глазах «других». Противостояние мыслите-
лей релятивизму во многом объясняется их «русскостью». Берлин и Бахтин, прежде
всего ценившие многообразие, принимали релятивизм, как ведущий к укреплению
толерантности. Неконфликтные мировоззрения понимались ими как утопии, кото-
рые всегда могут переродиться в тоталитаризм и монизм.
50
Примечания:
1 В статье Джеймса Рачела [Rachels 2009 web] представлено кр асивое доказательство в духе
аналитической философии того, что следствием релятивизма является невозможность вынести
оценочное суждение и, таким образом, критиковать свое общество и улучшать его. Релятивизм
парализует способность выносить этическое суждени е.
2 Зеркало остается основной метафорой Бахтина на протяжении всего его творчества. Впечат-
ленный работами Шпета, Наторпа, Кассирера, Бахтин оставил запись карандашом в своей тетради,
позже опубликованную в 5-м томе его собрания сочинений и названную редактором «Человек у
зеркала»: «Фальшь и ложь, неизбежно проглядывающие во взаимоотношении с самим собою... Не я
смотрю изнутри своими глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одер-
жим другим... У меня нет точки зрения на себя извне, у меня нет подхода к своему собственному
внутреннему образу. Из моих глаз глядят чужие глаза» [Бахтин 1997, 71].
Источники – Primary Sources in Russian, English and Russian Translation
Бахтин 1986 – Бахтин М.М . Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Бахтин М.М . Эсте-
тика словесного творчества / Сост. С .Г . Бочаров. М .: Искусство , 1986. С . 347 –354 [Bakhtin, Mi-
khail M. The Answer to the Question of the Editorial Staff of the ‘New World’ (in Russian)].
Бахтин 1997 – Бахтин М.М . Человек у зеркала // Бахтин М.М. Собрание сочинений. В 7 т.
Т. 5 . М .: Русские словари: Языки славянской культуры, 1997. C . 71 [Bakhtin, Mikhail M. Man at
the Mirror (in Russian)].
Бахтин 2000 – Бахтин М.М . Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М.М. Собрание
сочинений. В 7 т. Т. 2. М .: Русские словари: Языки славянской культуры, 2000. C . 7 –175
[Bakhtin, Mikhail M. Problems of Dostoevsky's writing (in Russian)].
Бахтин 2002 – Бахтин М.М . Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М . Собрание со-
чинений. В 7 т. Т . 6 . М .: Русские словари: Языки славянской культуры, 2002 . C . 6 –300 [Bakhtin,
Mikhail M. Problems of Dostoevsky's Poetics (in Russian)].
Бахтин 2003 – Бахтин М.М . К философии поступка // Бахтин М.М . Собрание сочинений.
В 7 т. Т . 1. М.: Русские словари: Языки славянской культуры, 2003. С . 7 –68 [Bakhtin, Mikhail M.
To the Philosophy of Action (in Russian)].
Берлин 2001а
–
Берлин И. Eж и лиса // Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое ли-
тературное обозрение, 2001. C . 183 –268 [Berlin, Isaiah The Hedgehog and the Fox (Russian
Translation, 2001)].
Берлин 2001б – Берлин И. Чувство реальности / Берлин И. Философия свободы. Европа
Россия. М.: Новое литературное обозрение, 2001 С. 26–69 [Berlin, Isaiah The Sense of Reality
(Russian Translation, 2001)].
Толстой 1983 – Толстой Л.Н . Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана // Толстой
Л.Н . Собрание сочинений. В 22 т. Т . 15 . М .: Художественная литература, 1983. С . 225 –247 [Tol-
stoy, Lev N. Introduction to The Works of Guy de Maupassant (in Russian)].
Berlin, Isaiah (1989) ‘The Counter-Enlightenment’, Against the Current, Clarendon Press, Oxford,
pp. 1–24.
Berlin, Isaiah (1990) ‘Alleged Relativism in Eighteen -century European Thought’, The Crooked
Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas , John Murray, London, pp. 250 –267.
Berlin, Isaiah (1999) The Roots of Romanticism, Princeton University Press, Princeton.
Berlin, Isaiah (2000a) ‘My intellectual path’, The Power of Ideas, Chatto & Windus, London, pp. 1 –23 .
Berlin, Isaiah (2000b) ‘The concept of scientific history’, The Proper Study of Mankind, Farrar,
Straus and Giroux, N.Y, pp. 17 –58.
Ссылки – References in Russian
Махлин 2002 web – Махлин В.Л. В зеркале неабсолютного сочувствия // http://russianway.rhga.ru/
upload/main/12_Makhlin.pdf.
Холквист 2002 web – Холквист М. Диалог истории и поэтики // http://russianway.rhga.ru/upload/
main/09_Holquist.pdf.
Штраус 2000 – Штраус Л. Релятивизм // Введение в политическую философию. М.: Логос,
Праксис, 2000. С . 122 –138 .
Щедрина 2015 – Щедрина Т.Г . Федор Степун: разговор как форма философской жизни //
Вопросы философии. 2015 . No 10. С . 119–124.
References
Emerson, Caryl (1999) web – ‘Isaiah Berlin and Mikhail Bakhtin: Relativistic Affiliations ’, Sym-
plokē, 7, 1–2 // https://www.jstor.org/stable/i40023966
51
Holquist, Michael Dialogue of History and Poetics, http://russianway.rhga.ru/upload/
main/09_Holquist.pdf (Russian Translation, 1990)
Kelly, Aileen (2000) ‘A Revolutionary Without Fanatism’, Ab Imperio , 3–4, pp. 9 –26.
Makhlin, Vitaly L. In the Mirror of Non–absolute Sympathy, http://russianway.rhga.ru/
upload/main/12_Makhlin.pdf (in Russian)
Rachels, James (2009) web – ‘The Challenge of Cultural Relativism’ // https://web.ics.purdue.edu/
~drkelly/RachelsChallengeCulturalRelativism.pdf
Sandel, Michael J. (1984) ‘Introduction’, Liberalism and Its C ritics, New York University Press,
N.Y, pp. 3 –12.
Shchedrina, Tatiana G. (2015) ‘Feodor Stepun: Talk as a Form of Philosophical Life’, Voprosy
Filosofii, Vol. 10 (2015), pp. 119–124 (In Russian).
Strauss, Leo (1961) web Relativism, http://dhspriory.org/kenny/PhilTexts/Strauss/Relativism.pdf
(Russian Translation, 2000)
Walzer, Michael (1986) ‘Introduction’, The Hedgehog and The Fox : An Essay on Tolstoy's View of
History, Simon & Schuster, N.Y, pp. XII –XVII .
Williams, Bernard (1980) ‘Introduction’, Concepts and Categories, Oxford University Press, Oxford,
pp. XVI –XVII .
Сведения об авторе
ГРАНОВСКАЯ Ольга Леонидовна –
доктор философских наук, профессор депар-
тамента философии и религиоведения Шко-
лы искусств и гуманитарных наук Дальнево-
сточного федерального университета.
Author’s information
GRANOVSKAYA Olga L. –
DSc in Philosophy, professor, Department of
Philosophy and Religious Studies, Far Eastern
Federal University.
52
ФИЛОСОФИЯ, РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА
«...Пожить в смерти и вернуться»
О художественной философии Андрея Платонова
© 2019 г.
С.А. Никольский
Институт философии Российской академии наук, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12,
стр. 1.
E-mail: s-nickolsky@yandex.ru
Поступила 04.07.2019
Философско-художественное творчество Андрея Платонова двадца-
тых – первой половины тридцатых гг. не может быть адекватно поня-
то вне культурного и вне исторического контекста. Особенностью та-
кового было превращение европейского марксизма в его российский
вариант – большевизм, и это нашло выражение в уничтожении част-
ной собственности вместе с ее носителями; в превращении демокра-
тического правления в самодержавие; в насильственном объединении
мелких аграрных производителей в целях форсированного индустри-
ального развития для решения задач обороны и поддержки будущей
мировой революции.
Работая в условиях цензуры и со сталинским ярлыком «мерзавец»,
Платонов должен был находить скрытые способы адекватной реакции
и оценки действительности. Таковыми стали формы философско-
художественного анализа: от простых, непосредственных высказыва-
ний о событиях или героях, до сложных – соединения сюжетов с раз-
ными смыслами, в результате чего происходило их взаимное усиление
и возникновение нового смысла. Невнимание читателей и исследова-
телей к этим формам платоновского анализа делает его текст «закры-
тым» или неверно интерпретируемым.
Проза Андрея Платонова философична. И понять ее можно, лишь
представив жизненную цель писателя. Думаю, что подобно своему ге-
рою, рыбаку с озера Мутево, Платонов хотел понять современный
ему российский тектонический сдвиг, «пожить в смерти и вернуться»,
чтобы рассказать народу о виденном и, тем самым, дать ему возмож-
ность самому, как народу джан, решать – жить оседло или кочевать
по пустыне.
Ключевые слова: Андрей Платонов философия, литература, история,
человек, общество, сознание, любовь, смерть, отражение, интерпрета-
ция, смысл, ирония.
DOI: 10.31857/S004287440007524-1
Цитирование: Никольский С.А . «...Пожить в смерти и вернуться».
О художественной философии Андрея Платонова // Вопросы фило-
софии. 2019. No 12. С. 52 –63.
53
«...To live in death and return»
On the Andrey Platonov's artistic philosophy
© 2019 г.
Sergey A. Nickolsky
Institute of philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: s-nickolsky@yandex.ru
Received 4.07 2019
Philosophical and artistic creativity of Andrei Platonov of the twenties – the
first half of the thirties of the XX-th century can not be adequately understood
outside the cultural and historical context. The peculiarity of such a period was
the transformation of European Marxism into its Russian version – Bolshevism,
which was expressed in the destruction of private property together with its
bearers; the transformation of democratic rule into autocratic; in the forced
economic unification of peasants for the purpose of the guaranteed withdrawal
of the product, made by them, for the forced industrial development – the so-
lution of problems of defense of the country and future world revolution.
Working in conditions of censorship and with Stalin's label "scoundrel", Pla-
tonov had to find hidden ways of adequate research and evaluation of reality.
These were the forms of philosophical and artistic cross-semantic analysis: from
simple – direct statements about events and heroes, to the complex – conjunc-
tion in the text of plots with different meanings, which led to their mutual
strengthening and creation of new meaning. The inattention of readers and re-
searchers to these forms of Platonov's analysis makes the text "closed" or incor-
rectly interpreted.
The prose of Andrey Platonov is philosophical. To adequately comprehend it is
possible only by imagining the life goal of the writer. I think that like his hero –
fisherman from lake Mutevo, Platonov wanted to understand modern to him
Bolshevik tectonic shift, "to live in death and return" with the aim to tell the
people about what he saw and, thus, to give them the opportunity, like the
people of Jan, to decide how to live.
Key words: Andrey Platonov, philosophy, literature, history, person, society,
consciousness, love, death, reflection, interpretation, meaning, irony.
DOI: 10.31857/S004287440007524-1
Citation: Nickolsky, Sergey S. (2019) «...To live in death and return». On
the Andrey Platonov's artistic philosophy // Voprosy filosofii, Vol. 12 (2019),
pp. 52 –63.
Выбор предметом рассмотрения проблемы философско-художественного представле-
ния и анализа действительности в текстах Андрея Платонова на материале его произве-
дений 20-х
–
первой половины 30-х гг. определяется рядом причин. Отмечу главные.
Первая и основная состоит в том, что Платонов как писатель-мыслитель ориентирован на
фундаментальные вопросы человеческого бытия, масштабен в исканиях, глубок в прозрениях,
адекватно сопричастен эпохе. Его предмет – не феномены, а ноумены. Среди произведений
этого периода, на материале которых может быть раскрыта природа российского обще-
ства, кроме ранних рассказов, выделю основные, на мой взгляд, романы и повести «Че-
венгур», «Котлован», «Ювенильное море» и «Джан».
Андрей Платонов – свидетель, который прозревал развитие и заключительный этап
генезиса большевизма как социально-экономического уклада. Его начало было поло-
жено в 1917 г., а завершение состоялось спустя двадцать лет, в 1937 г.
–
финалом
54
коллективизации, полным разгромом всех оппозиций и пиком репрессий. В этот пе-
риод европейский марксизм был окончательно преобразован в марксизм ленинско -
сталинский. За два десятилетия большевизм в своей эволюции прошел начальный
этап «бури и натиска» – политику «военного коммунизма», попытку немедленного и
непосредственного уничтожения капитализма и создания на освободившемся месте
«коммунистического производства и распределения». Далее уклад вынужденно допу-
стил «новую экономическую политику» – временное отступление, смысл которого
состоял в том, чтобы, как однажды образно выразился Ленин, «сделать веревку под-
линнее, отпустить посвободнее, не разрывая совсем» [Ленин 1970, 372]. Затем насту-
пил черед коллективизации. С конца 20-х гг. с целью защиты создаваемого строя,
а также, если возникнет возможность, то и для воплощения в жизнь идеи мировой
революции, жертвенным ресурсом для превращения аграрно-индустриальной страны
в индустриально-аграрную было избрано загнанное в колхозы отечественное кресть-
янство. Следующим шагом, параллельно с началом индустриализации, стало созда-
ние ГУЛАГа. Одновременно в течение двадцатилетия шел процесс демонтажа пар-
тийной демократии и создания на ее месте административно-бюрократической си-
стемы самодержавного типа. Венчал преобразования процесс переформатирования
общественной памяти и укоренения в общественном сознании идеологии сталиниз-
ма, с ее главными императивами: «воля вождя – воля народа» и «цель оправдывает
средства». Все это составляло совокупность условий и обстоятельств личной и писа-
тельской жизни Андрея Платонова, которые он критически осмысливал и отражал
своими текстами.
Случилось, однако, так, что уже в самом начале коллективизации хорошо знав-
ший российскую деревню Платонов неосторожно и в ироническом ключе высказался
относительно ее условий и организационных форм. Рассказ «Усомнившийся Макар»
стал известен Сталину, назван «кулацкой хроникой» и ее автор, как сообщается, по-
учил клеймо «мерзавец», «негодяй», «гад» [Варламов 2011, 223 –224]. Именно поэто-
му, практически до конца жизни писатель был лишен возможности печататься, и его
основные крупные произведения стали доступны отечественному читателю лишь
в конце 80-х гг.
Со времени получения сталинской метки автора «Чевенгура» сопровождал явный и
тайный присмотр, а его текстами занималась советская цензура. Тем не менее, открытую
и скрытую критику власти он не прекращал. Такое поведение писателя – не только про-
дукт его личной воли. Вспомним Марину Цветаеву: письмо и сон «...не по заказу: спится
и пишется не когда нам хочется: письму – быть написанным, сну – быть увиденным»
(M. Цветаева, 1922). Сам Платонов писал жене 26 января 1927 г. из Тамбова: «Я должен
опошлять и варьировать свои мысли, чтобы получались приемлемые произведения.
Именно – опошлять! А если бы я давал в сочинения действительную кровь своего мозга,
их бы не стали печатать» [Платонов 2019, 199].
В творчестве Платонова этого периода мы имеем уникальный опыт говорения из-под
пресса и поэтому анализ писательского антибольшевистского художественно-
философского высказывания, сосредоточенного в его текстах, в целом, требует изучения.
К тому же, наблюдающийся сегодня дефицит внимания исследователей к философству-
ющей литературе вряд ли можно считать достоинством. «Жизненные смыслы, – отмеча-
ет В.А. Лекторский, – может предлагать литература. Она обладает перед философией тем
преимуществом, что является уникальным способом приобщения к чужому опыту на
основе воображения и вчувствования, эмпатии...» [Лекторский 2009, 57].
***
Выделив в качестве первого основания философичности мыслителя всестороннюю
сопричастность эпохе, следует упомянуть и яркую культурную особенность рассматрива-
емого исторического периода, связанную с надеждами на преобразующую роль научного
знания в жизни «нового социалистического человека», всего будущего человечества.
Марксистская модель, развившаяся в начале ХХ в. на волне критики либеральных
представлений о социально-экономическом развитии в ряде европейских стран и США,
в России обнаружила сходство с большевизмом и отечественным космизмом как фор-
мой переустройства жизни человечества. Среди тех, кто владел умами многих
55
гуманитариев в этот период в первую очередь следует назвать Н.Ф. Федорова,
К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского и А.Л . Чижевского. Два первых верили в кос-
мическое предназначение существования человечества: Федоров видел его в актив-
ном сотворчестве с Богом, а в воззрениях Циолковского технократизм сочетался
с натурфилософией. Вернадский развивал концепцию ноосферы и был убежден
в вечности жизни, в то время как Чижевский говорил о влиянии космоса на историю
и культуру [Алешин 2014]. Тема космоса, миссии человека в освоении вселенной,
вера в безграничные возможности машин и техники – одна из сквозных и в плато-
новском творчестве.
Идейное содержание эпохи двадцатых – середины тридцатых гг., на которую
и приходится пик платоновских философских размышлений, состояло во всесторон-
нем приспособлении (перетолковании) учения К. Маркса и Ф. Энгельса к условиям
России. (Как говорил председатель чевенгурского ревкома Чепурный: «Ты, Прош, не
думай сильней Карла Маркса: он же от осторожности выдумывал, что хуже, а раз мы
сейчас коммунизм можем поставить, то Марксу тем лучше...» [Платонов 2011, 249].
Уже Ленину было очевидно, что европейский марксизм мог стать руководством
к практическому действию, лишь будучи адаптирован к российскому общественно-
экономическому укладу и менталитету народа. Основная его идея «... состояла в том,
чтобы, используя непредвиденную благоприятную политическую ситуацию, благода-
ря перевороту, благодаря массовому восстанию напрямую достичь социализма.
Как известно, Ленину удалось добиться своей цели с неожиданным успехом. Успех
Ленина убедительно опроверг марксистский тезис о том, что социализм возникает
как созревший плод развитого капитализма. Высокоразвитая буржуазная культура
Запада, с ее устоявшейся традицией частной собственности, правового государства
и личной свободы, хотя имела тенденцию развиться в социальную демократию, про-
явила себя именно поэтому не как питательная почва, но как препятствие для инте-
грального коммунизма. Напротив, коммунизм добился победы в экономически
и юридически отсталой России с преобладающим сельским населением, живущим
в примитивных отношениях» [Франк 2017, 101].
Не затрагивая проблемы исследования приспособительной, к условиям России,
трансформации марксистского учения в целом, назову лишь те его аспекты, которые
значимы для дальнейшего рассмотрения нашей темы.
Заявленное в «Манифесте Коммунистической партии» положение об уничтоже-
нии буржуазной частной собственности, в котором «могильщику буржуазии» адресо-
валось обещание «нечего ...терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир»
[Маркс, Энгельс 1955, 459], в России было истолковано радикально. Русские боль-
шевики, наследники террористов, не могли пойти иным путем, кроме уничтожения,
вместе с собственностью, и ее обладателей.
Смена капитализма коммунизмом должна была произойти во всемирном масшта-
бе и поскольку опыт Октября сделал реальностью именно революционный путь, то и
всемирный формационный процесс виделся как мировая революция, в которой Рос-
сии отводилась роль опорной базы.
И, наконец, третьей особенностью адаптации марксизма к условиям России стал
особенно важный для страны аграрный вопрос и его ядро – проблема обобществле-
ния хозяйствующих крестьян. Конечно, Маркс и Энгельс говорили о возникновении
крупных аграрных предприятий, что должно было произойти по мере внедрения в
аграрное производство машин и механизмов, использование которых на маленьких
фермерских наделах не давало бы нужной отдачи. Но укрупнение мыслилось ими как
естественный ход вещей. В России же, где ресурсом интенсивного индустриального
развития (в том числе и для нужд будущей мировой революции) была назначена де-
ревня, дожидаться естественного укрупнения не собирались. Поскольку, отмечал
Сталин, «...у нас нет частной собственности на землю, приковывающей крестьянина
к его индивидуальному хозяйству», а земля принадлежит государству, это облегчает
«...дело перехода индивидуального крестьянина на рельсы коллективизации» [Сталин
1949, 153]. Форсированная коллективизация стала еще одним важным пунктом
большевистского перетолкования марксизма.
56
Как философствующий писатель, Андрей Платонов был продуктом своей эпохи.
Начиная как большевик, он был увлечен идеями переделки мира, боготворил маши-
ны, электричество и управлявших ими «рабочих-мастеров» 1
.
Он подбирал на улице
нищих и бомжей, надеясь вернуть им человеческий облик2, в качестве мелиоратора
строил в деревнях плотины и рыл колодцы. Возможно, на него оказывали влияние
идеи Федорова, Вернадского и Циолковского. Однако он жил с «широко раскрыты-
ми глазами» и то, что реально происходило в стране и с народом, не замечать не мог.
Его отношение к действительности, к большевизму отразилось в его текстах и было
критично. Подобно своему герою, рыбаку с озера Мутево, он х отел понять новый
российский тектонический сдвиг, «пожить в смерти и вернуться», чтобы рассказать
народу о виденном и поэтому дать ему возможность самому, как народу джан, ре-
шать – жить оседло или кочевать по пустыне [Платонов 2010].
Конечно, анализ платоновской человеческой и писательской сопричастности эпо-
хе становления большевизма можно было бы продолжать. Однако пока ограничусь
сказанным, а в завершение отмеченного скажу об общей оценке этой ситуации у Ан-
дрея Платонова. Она выступает как проходящий через все его произведения феномен
насильственной смерти – знак времени [Никольский 2014].
Отмечу, что с этим моим утверждением согласятся не все исследователи плато-
новского творчества. Так, литературовед А. Варламов, например, тотальность смерти
у Платонова не признает. Он полагает, что, например, в «Чевенгуре» «...можно уви-
деть противоречие, разлом между художественным и историческим. Правда смерти
принадлежит Дванову, а правда жизни остается за кооперацией, за строительством,
за тем безымянным инструктором птицеводства из Почепского УЗО, который забре-
дает в Чевенгур из реального времени для того, чтобы найти кур и петухов для пле-
менного разведения и уходит ни с чем, ибо все куры в Чевенгуре истрачены на до-
вольствие ревотряда, а новым неоткуда взяться» [Варламов 2011, 158].
Конечно, допустить, что «правда смерти» Андрея Платонова, хотя и была много
меньше четырех миллионов умерших в голод 1921–1922 гг., равно как и не меньшего
количества в рукотворный голод начала тридцатых годов, но все же была, требует
исторического знания, гражданского мужества, коррекции личного мировидения,
освобождения от комфортных политических ориентаций. Без всего этого в оценках
берут верх идеи о якобы присутствующей в платоновских произведениях жизне-
утверждающей (а, возможно, и доминирующей) «правде жизни».
Вместе с тем есть и реальная «правда жизни», зафиксированная в истории. Она –
в большевистской политике в отношении кооперации, начиная с изначального ленин-
ского извращения кооперативной идеи как неприемлемого для большевиков хозяйствен-
ного объединения свободных производителей с демократическим управлением (один
член – один голос), которая была распространена в России до октябрьского переворота
и была в первую очередь уничтожена большевиками. После Октября эта правда состояла
и в насильственном насаждении отвергаемых крестьянством коммун и колхозов (коопе-
рации производственной), равно как и организуемого новой властью административно-
бюрократического типа управления [Берелович, Данилов 2000]. Будучи с этим знакомым
в каждодневной практике, Платонов и рисует картину провальной командировки куро-
вода: идея государства – возрождать птицеводство на костях уничтоженной кооперации
не осуществима и подается в ироническом ключе.
Показать, как постепенно, от текста к тексту, накапливалось содержан ием ноуме-
нальное платоновское высказывание о коммунизме как большевизме – задача не
простая. Для этого прежде всего нужно проследить процесс создания автором от тек-
ста к тексту выразителей большевизма – литературных героев-смыслов . При этом,
естественно, возникнет вопрос о сущностном определении и «родстве» этих героев.
Поэтому следует очертить пределы исследовательского внимания, которые будут за-
даны интерпретацией, как и выбором-оценкой того, что определяется как значимое и
существенное в платоновском анализе. В результате творчество Андрея Платонова
может быть рассмотрено как целостное философско-художественное высказывание.
Метод предлагаемой работы с текстом-высказыванием Андрея Платонова можно
назвать кросс-семантическим анализом, аналитическим движением между поздними,
крупными и сложными произведениями (одна группа) и более ранними и относительно
57
простыми (другая часть его наследия). Должна быть выявлена смысловая связь между
героями – вершинами платоновского творчества – «Чевенгура», «Котлована», «Юве-
нильного моря» и «Джан», с одной стороны, и героями ранних текстов, с другой.
Конечно, такая смысловая связь обнаруживается не всегда непосредственным об-
разом. Не будем забывать, что Платонов пишет, будучи под надзором и в условиях
жесткой цензуры. Поэтому смысл большевизма, герои-смыслы и связь между ними
часто устанавливается не прямым образом и раскрывается посредством применяемо-
го им метода критического философско-художественного представления и анализа.
Кроме того, в случае Платонова мы имеем дело с философскими, по своей природе,
утверждениями, которые, в отличие от писательских наблюдений и даже размышле-
ний, должны каким-то образом обосновываться. Можно, продолжая мысль далее,
даже говорить «...о применении к художественному тексту элементов теоретического
анализа и конструирования» [Порус 2016, 85]. И это будет явлено «...в виде аргумента-
ции или же в использовании особого рода интеллектуальной техники» [Лекторский
2009, 57]. Вот об этом анализе, конструировании и интеллектуальной технике, но не
привнесенной со стороны, а найденной в произведениях писателя, я и буду говорить.
***
В процессе критического философско-художественного представления и анализа
действительности Андрей Платонов, во-первых, прибегает к ее интерпретации и оценке
в скрытой форме. Вот, например, в повести «Ювенильное море» инженер-коммунист
Николай Вермо читает сталинскую книгу «Вопросы ленинизма», «...в которой дно ис-
тины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким, потому что
стиль был составлен из одного мощного чувства целесообразности, без всяких приме-
сей смешанных украшений, и был ясен до самого горизонта, как освещенное простое
пространство, уходящее в бесконечность времени и мира» [Платонов 2011а 429]. Обра-
тим внимание на следующие смыслы. Первый – «одно мощное чувство целесообразно-
сти». Оно явно извлечено из разрабатываемой Платоновым трактовки большевизма как
идеи фанатической, об этом будет сказано далее. Что до второго смысла, то он наме-
ренно скрыт заведомо неподходящим эпитетом к термину «пространство». Как пони-
мать слова «простое пространство»? Ведь естественно говорить, например, о простран-
стве пустом. Однако в контексте оценки сталинского труда слово «пустое» (думаю, по
цензурным соображениям) заведомо не может быть употреблено, и Платонов его скры-
вает, давая возможность умному читателю его угадать. Кроме того, то, что здесь требу-
ется слово «пустое», внимательному читателю открывается смысловым переносом идей
«Вопросов ленинизма» в ткань других платоновских текстов. (Здесь, в частности,
и обнаруживается кросс-семантический анализ). Вот, например, в «Чевенгуре» кузнец
Сотых возражает большевику Дванову: «...Мужику от земли один горизонт остается.
Кого вы обманываете-то?» И далее: «...Дурень ты, народ ведь умирает – кому ж твоя
революция останется?» [Платонов 2011б, 158]. Что получается? Если народ умирает
(исчезает), то на его месте возникает («остается») пустота, что у Андрея Платонова си-
ноним отсутствия жизни (когда ее еще нет) или смерти (когда жизни уже нет). Что до
слов «ясность до самого горизонта», то это парафраз ясности до полного исчезновения
и пустоты. Думаю, что такого рода смысловая цепочка рассуждений вполне может воз-
никнуть в сознании думающего читателя. А если может, то можно ли ее считать похва-
лой сталинской мудрости?
Андрей Платонов, далее, часто интерпретирует и оценивает действительность
в форме непосредственных высказываний. Например, он включает в текст не суще-
ственную для сюжета реплику неизвестного человека, встретившего в степи Дванова
и Копенкина: «Товарищи грабить поехали, пропасти на них нет!» – про себя решил
человек с мешком, отошедши достаточно далеко» [Платонов 2011 б
, 153]. Или замеча-
ние: «В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя
в хатах света не держала» [Платонов 2011б, 161]. А вот эпизод в финале «Чевенгура»,
когда жители города и пришедшие в коммунизм «прочие» увидели в степи прохожего
и бросились к нему. «Там шел человек, – рассказывали прочие.
–
Мы думали, он к
нам идет, а он скрылся.
58
Чепурный же стоял и не видел надобности в одном далеком человеке, когда есть
близко множество людей и товарищей. И он сказал о таком недоуменном положении
подъехавшему Копенкину.
–
А ты думаешь, я знаю! – произнес Копенкин с высоты коня.
–
Я им все время
вслед кричал: граждане, товарищи, дураки, куда вы скачете – остановись! А они бе-
гут: наверно, как и я, интернационала захотели, – что им один город на всей земле!»
[Платонов 2011б
, 336].
Задумаемся: разве приведенные выдержки из текста не имеют отношения к ле-
нинским идеям безденежного «непосредственного продуктообмена между городом
и деревней», а в результате продотрядовского грабежа; разве не согласуются они с
идеями III Интернационала о подготовке мировой революции и ее экспорта за рубеж
посредством обучающихся в России революционеров-иностранцев? Очевидно, что
подобного рода отступления от основного содержания должны иметь какую -то
назначенную им автором цель. И какова эта цель, если не косвенное, скрываемое от
цензуры критические суждения автора о реальности?
Еще один способ авторского философско-художественного представления и ана-
лиза российского мира – прямые высказывания о героях – выразителях авторского от-
ношения. Вот, например, о Саше Дванове: «Он в душе любил неведение больше куль-
туры: невежество — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но
культура – уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего боль-
ше не вырастет. Поэтому Дванов был доволен, что в России революция выполола
начисто те редкие места зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался
чистым полем – не нивой, а порожним плодородным местом» [Платонов 2011б, 138].
Большевик Дванов приветствует уничтожение российской культуры, потому что на
пустом месте ему легче творить «мир сначала» (О. Мандельштам). Неужели это по-
хвала наблюдаемому явлению?
Андрей Платонов, на мой взгляд, изобретает еще один оригинальный способ фи-
лософско-художественного анализа, неожиданное тесное соседство сюжетов с разны-
ми, на первый взгляд, но глубинно связанными между собой смыслами, в результате чего
происходит их взаимное усиление и возникает новый смысл. Вот разговор Гопнера
и Захара Павловича про «козла отпущения», про неблагоприятные объективные усло-
вия – наличие буржуазии. Но после того, как буржуев уничтожили, негативные объ-
ективные условия исчезают. То есть, говорит платоновский герой, «козла отпущения»
уже «съели», на неблагоприятные условия ссылаться теперь нельзя, и поскольку
большевикам уже ничто не мешает, им придется самим отвечать за свои действия.
И тут неожиданно, без переходов, в сюжете возникает посторонний персонаж, со-
сед Захара Павловича по жилищу – «низовой» комсомолец-истопник, который живет
за дощатой стеной, «без всякого продвижения к высшим должностям» и поэтому
плачет и сетует на свою судьбу: начальство на автомобилях катается, на толстых ар-
тистках женится, а о нем забыли. «В чем дело?» Очевидно, что этим ходом Платонов
дает читателю представление о тех, кто идет на смену первопроходцам и кто теперь
вынужден обходиться без «козла» [Платонов 2011б].
А вот беседа Чепурного с Гопнером о постулатах Маркса в российских реалиях
и в связи с личным чевенгурским опытом. Чевенгурец, например, утверждает, что у
них в городе наступил «всему конец» и на вопрос Гопнера, чему именно, отвечает:
«Да всей всемирной истории — на что она нам нужна?» [Платонов 2011б
, 182]. Че-
пурной интуитивно понимает и своими словами трактует смысл коммунизма как
устранение эксплуатации, прекращение господства и подчинение личностному раз-
витию индивидов отчужденных и овеществленных сил. Ведь, по Марксу, это и есть
«конец предыстории» и начало истории подлинной, когда начнется формирование
«богатой индивидуальности, которая одинаково всестороння и в своем производстве,
и в своем потреблении» [Маркс, Энгельс 1968, 281]. И тут же, прямо и без перехода,
следует новый эпизод, описание блуждания по крыше пожарного наблюдателя, над
которым звездное небо. Когда ему надоедает дежурить и он направляется с пать, по-
является контролер, инспектор пожарной охраны, который за проступок обещает
наказать наблюдателя отправкой на принудительные работы. На это пожарный отве-
чает, что наказание ему безразлично – паек одинаковый, а работают по кодексу.
59
Образ звездного неба – бесконечного прошлого и будущего, с «отчужденными и
овеществленными силами» дополняется новой жизнью – принудительными работа-
ми. Но они не страшны, потому как и на них вместо «новой истории» – те же «ко-
декс и паек». Кроме того, звездное небо ранее уже обозначено в сознании внима-
тельного читателя фразой: «...жителям надоели большие идеи и бесконечные про-
странства: они убедились, что звезды могут превратиться в пайковую горсть пшена,
а идеалы охраняет тифозная вошь» [Платонов 2011,
, 172].
А вот по степи к Чевенгуру идет Фирс (аллюзия с забытым старым слугой в че-
ховском «Вишневом саде» – С .Н.?), который до революции служил в кредитной ко-
операции. Что с кооперацией потом стало, хорошо известно. И лишь спустя годы
Ленин, боясь утратить власть и по этой причине вынужденно пойдя на НЭП, к ко-
операции вновь обратился [Никольский 1990], как точно формулирует Андрей Пла-
тонов, «допустил».
«Вечный» Фирс узнает об этой политике уже после смерти Ленина, «когда социа-
лизм назвался кооперацией» и в ней стали искать «спасение людей от бедности и от
взаимной душевной лютости». Поэтому Фирс «... прижался душой к Советской власти
и принял ее теплое народное добро. Перед ним открылась столбовая дорога святости,
ведущая в божье государство житейского довольства и содружества» [Платонов 2011б,
199]. Новая ирония относительно коммунистической политики? И вновь взаимное
усиление идеями друг друга: сперва кооперация уничтожена, а потом возрождена. Так
же, как и в другом месте романа по поводу земли, отнятой в период военного ком-
мунизма, а затем, при НЭПе, возвращенной крестьянам, герой и, возможно, его го-
лосом и автор, говорит: «Ланин взял, Ленин и дал» [Платонов 2011б, 172].Таковы
примеры применяемого Платоновым метода взаимного усиления смыслов.
Андрей Платонов прибегает к художественно-философскому анализу и тем спосо-
бом, при котором сопрягает свою ироничную интерпретацию большевизма с реальными,
выдвигаемыми партией идеями. Вот «высказыватель» коммунистических идей Саша
Дванов в его разговоре в сельсовете с «богом»: «Пока Дванов писал, около его стола
чего-то дожидался крестьянин со своенравным лицом и психической, самодельно
подстриженной бородкой.
–
Все стараетесь! – сказал этот человек, уверенный во всеобщем заблуждении.
–
Стараемся! – понял его Дванов.
–
Надо же вас на чистую воду в степь выво-
дить!
Крестьянин сладострастно почесал бородку.
–
Ишь ты какой! Стало быть, теперь самые умные люди явились! А то без вас не до-
гадались бы, как сытно харчиться! (Здесь и далее выделено мной.
–
С.Н.).
–
Нет, не догадались бы! – равнодушно вздохнул Дванов.
–
Эй, мешаный, уходи отсюда! – крикнул председатель Совета с другого стола.
–
Ты же бог, чего ты с нами знаешься!
Оказывается, этот человек считал себя богом и все знал. По своему убеждению он
бросил пахоту и питался непосредственно почвой. Он говорил, что раз хлеб из поч-
вы, то в почве есть самостоятельная сытость – надо лишь приучить к ней желудок.
Думали, что он умрет, но он жил и перед всеми ковырял глину, застрявшую в зубах.
За это его немного почитали.
Когда секретарь Совета повел Дванова на постой, то бог стоял на пороге и зяб.
–
Бог, – сказал секретарь, – доведи товарища до Кузи Поганкина, скажи, что из
Совета – ихняя очередь!
Дванов пошел с богом.
Встретился нестарый мужик и сказал богу:
–
Здравствуй, Никанорыч, — тебе б пора Лениным стать, будя богом-то!
Но бог стерпел и не ответил на приветствие. Только когда отошли подальше, бог
вздохнул:
–
Ну и держава!
–
Что, – спросил Дванов, – бога не держит?
–
Нет, – просто сознался бог.
–
Очами видят, руками щупают, а не верят.
А солнце признают, хоть и не доставали его лично. Пущай тоскуют до корней, поку-
да кора не заголится» [Платонов 2011б, 87–88].
60
Что внимательный читатель прочитает в эпизоде? В замечании бога в ответ на
уверенность Дванова, что без большевиков крестьяне не догадаются, как жить лучше,
сквозит авторская ирония (или насмешка), а само замечание Дванова от имени
большевиков тождественно идее бога «питаться непосредственно почвой». (Здесь,
наверное, также возможна и скрытая платоновская насмешка над ленинской идеей
непосредственного – без торговли и денег – продуктообмена между городом и де-
ревней). Читателю очевидно, что если крестьяне не выходили на чистую воду в степь,
то у них были свои резоны, о которых не знают и не хотят знать открывшие истину
всеобщего счастья «умные люди» большевики.
Предложением встречного о переименовании бога в Ленина автор дает дополни-
тельный намек на близость боговых (крестьянина со «своенравным лицом») и боль-
шевистских идей. И, наконец, неверие крестьян «богу – Ленину» (держава «бога не
держит») подается Платоновым как фундаментальное и неизменное. Большевистские
идеи тоже не достигают цели.
И, наконец, платоновский художественно-философский анализ содержится
в итоговом разрешении сюжета романа. Герой «Чевенгура» Саша Дванов, разуверив-
шись в возможностях большевизма осчастливить людей – устроить коммунизм
в уездном городе, а также наблюдая гибель не только его жителей, но – и это самое
важное для Андрея Платонова – детей как символа будущего, возвращается к исход-
ной утопической затее, подобно отцу, попробовать найти новую жизнь на дне озера.
Возможно, такой финал – символ гибельного итога напрасно или ошибочно про-
житой личной жизни. Но этот финал также может быть интерпретирован и как крах
идеи строительства коммунизма, нежизненности большевистских идей, печ альный и,
главное, бесполезный результат страшной череды смертей реальных и мнимых экс-
плуататоров. Мы помним, что и в «Котловане» смерть девочки Насти рушит смысл
коммунистического замысла-строительства. Да и в «Ювенильном море» будущее, ес-
ли и не свидетельствует о трагедии, то представляется открытым и вряд ли покорным
большевикам огромным пространством Атлантики, через которую герои на пароходе
отплывают из России в Америку с целью найти чудодейственный способ материали-
зации коммунистического замысла. Однако тот порядок уже устроенной в стране
общей жизни, который остается у них за спиной, надежд на счастливый (коммуни-
стический) конец не вселяет. Напротив, он ироничен, поскольку провожает героев за
океан странная компания – ультра-революционерка Федератовна и ультра-
реакционер Умрищев, с явной усмешкой автора соединенные в супружеском союзе.
***
«Устроить на родине счастливый мир блаженства, а больше неизвестно, что делать
в жизни <...> сделать счастье среди одной земли» [Платонов 2011 б, 127, 132], – такой
видит свою жизненную цель молодой большевик Назар Чагатаев. Уже именем героя
Андрей Платонов задает повести философский смысл: Назар (Назарий) – от древне-
еврейского, означающее «посвятивший себя богу». Бог этот – большевизм, к которо-
му обращается за помощью Чагатаев и получает ee. Но за это герой должен решить
задачу – сделать народ оседлым. Как и библейскому пророку Моисею, которому было
определено вывести евреев из египетского плена, сплотить и дать заповеди, Чагатаеву
надлежит собрать разбредающийся по пустыне народ джан. И хотя о большевистских
заповедях для джан впрямую не говорится, они, естественно, подразумеваются:
вспомним, что в стране в это время шла коллективизация и сообщество-
производственная единица была единственной нормой жизнеустройства. Однако
оседлость по чужой воле – это конец народным поискам собственного способа жиз-
ни, приятие большевистского устройства жизни, покорность, наконец. Человек
«...сам себе выдумает жизнь, какая ему нужна», – говорит один из героев повести
«Джан» старик Суфьян [Платонов 2010, 224], повторяя сказанное в «Чевенгуре»
Гопнером о паровой машине внутри каждого человека.
Конечно, у библейской и платоновской историй есть существенное различие. Ес-
ли евреи объединяются и в течение сорока лет ходят за Моисеем, то народ джан при-
сланного властью вождя не принимает и вновь разбредается. Собирается же он вме-
сте исключительно по своей воле.
61
В этом, народном, своеволии – скрытая антибольшевистская мысль Андрея Платоно-
ва, обозначенная, кстати, и в более раннем рассказе «Песчаная учительница», вышедшая
намного раньше «Джан», в 1927 г. Девушка-героиня учит людей останавливать пески
садами. Но этого мало перед тысячелетней традицией кочевников бродить по пустыне,
вслед за скудной пищей. Вождь кочевников говорит учительнице: «Мы не злы, и вы не
злы, но мало травы. Кто-нибудь умирает и ругается». И далее: «Степь наша, барышня.
Зачем пришли русские?» [Платонов 2004б
, 47]. За этим – опасная грань: советы –
наследник и продолжатель колониальной Российской империи.
«Насадить» свободу нельзя. Найдется закономерность более высокого уровня (ло-
гика кочевников), которая окажется сильнее локальной, «малой» рациональности
(логики жителей деревни). И даже выявится закономерность, которая опрокинет ло-
гику «чужеродную» (русские колонизировали другой н арод, отобрали у него степь и с
ними, как с захватчиками, степные народы борются). Конечно, этот вывод никогда
не мог быть высказан Андреем Платоновым, но что вытекает из его анализа? Как по-
иному можно было высказаться о том, что значительная часть большевистских за-
мыслов и планов – волюнтаризм и авантюра?
***
Анализ платоновских способов философско-художественного анализа значим не
только для их адекватного прочтения, но и для продуктивной работы в сфере фило-
софии истории (историософии). То, что философствующая литература выполняет
серьезную работу в области гуманитаристики вообще, и философии истории, в част-
ности, я уже пытался показать [Никольский 2018]. Но анализ способов философско-
художественного анализа имеет значение и для профессиональных исследователей
его творчества. Показать это можно на примере упрощенной трактовки такого слож-
ного философско-художественного образования как роман «Чевенгур». Так
М.Н. Эпштейн видит в нем тотальное стремление к созданию царства лени, всеоб-
щую страсть к безделью. В созданных Платоновых образах он обнаруживает «выда-
ющиеся черты российского характера», в котором, уживались гражданская и трудовая
сонливость – с воинской решимостью и напором. Как помыслить Россию в единстве
мечтательного сибарита и не знающего жалости к себе и к другим энтузиаста? Обло-
мовское мы давно уже научились опознавать в себе – это неощущение реальности,
отмашку от практических дел, попущение любой инерции и застоя. Но ведь и Корча-
гина, с его жестким прищуром и пальцем на взведенном курке, из России не выки-
нешь. Даже сбитый с ног, поваленный болезнью, он способен выпрямиться, «ухва-
титься за руль обеими руками», «разорвать железное кольцо», «с новым оружием
вернуться в строй», чтобы «в штурмующих колоннах появился и [его] штык» («Как
закалялась сталь»).
Тайна этого родства вскрыта народнейшим из народных писателей – Андреем
Платоновым. Голодные и решительные герои его «Чевенгура», строящие коммуну,
в которой главным работником было бы солнце, а они – его равными и праздными
нахлебниками, – ведь это удивительная помесь корчагинского энтузиазма и обломов-
ского сибаритства. Они готовы совершить неслыханные ратные подвиги, дабы про-
стой человек, скинув иго принуждающих его к труду хозяев, мог ничего не делать
и беспечно прозябать под солнцем. Чевенгурская коммуна с растениями и солныш-
ком в качестве главных действующих лиц, ведь это больше всего напоминает не кам-
панелловский город Солнца, а сонное царство Обломовки. Разница только та, что в
Обломовке покой и беспамятство сытости, а в Чевенгуре – голода. Но как пресыще-
ние и истощение одинаково ведут к погашению жизненных энергий – так, позити-
вом и негативом, совпадают в своих очертаниях две идиллии: помещичья и комму-
нарская» [Эпштейн 2015, 134].
В чем причина внешне схожей, но содержательно неадекватной аналогии? Думаю,
отчасти, в том, что не замечается важнейшая смысловая часть текста – наличеству-
ющий у Платонова непрерывный философско-художественный анализ. Невнимание
к нему закрывает для исследователя возможность адекватного прочтения, понимания
и истолкования романа. Тем самым, далее, создается возможность для сопоставления
62
непонятого Андрея Платонова со столь же непонятым Ильей Ильичем Обломовым в
романе Гончарова.
Павка Корчагин и в самом деле фанатик коммунистической идеи. И в этом Ни-
колай Островский как прообраз вполне солидарен со своим героем. Но разве есть
настоящие «воинская решимость и напор» у жителей Чевенгура? Разве вызывает ужас
главный воин, международный революционер Копенкин? И даже тогда, когда Че-
пурный с Пиюсей и чекистами «кончают» буржуев, это подается не как трагедия,
а как внимательный анализ одного из проявлений большевизма. В этом эпизоде, как
и в тексте романа в целом, довлеет авторская установка – «пожить в смерти и вер-
нуться». Для чего? Чтобы решить, как жить дальше. Даже в этом смертном сюжете
Андрею Платонову удается остаться наблюдателем-исследователем большевизма, ведь
это был не только анализ, но и рефлексия, исследование им самого себя, в прошлом
большевика.
***
Выработка особых способов «теоретического анализа и конструирования» [Порус
2016, 85] исследовательского предмета в писательской работе в условиях тоталитар-
ной цензуры или даже прямого давления со стороны власти – проблема творчества
не только Андрея Платонова. В определенной мере это было свойственно многим
другим философствующим авторам советского периода, поэтому изучение применяе-
мого ими художественно-философского представления и анализа действительности
впереди.
Примечания
1 Приведу выдержку из его статьи 1921 г.: «Каждый час отсутствия у нас электрификации
приносит миллиарды убытков и горы трупов, если перевести бесполезную трату труда на
потерю кусочков жизни в каждом рабочем человеке. <...> Электрификация мира есть шаг к
нашему пробуждению от трудового сна – начало освобождения от труда, передача производства
машине, начало действительно новой, никем не предвиденной формы жизни. < ...>
Электрификация есть осуществление коммунизма в материи – в камне, металле и в огне»
(Платонов 2004а, 137).
2 Андрей Платонов «...с моим мужем очень подружился, – вспоминает В.А . Трошкина.
–
Они ходили в народ, приводили домой бродяг каких -то ночевать . Приведут какого-нибудь
обездоленного, обиженного, пьющего, опустившегося. Они таких вот находили и старались
возродить их к жизни» (Платонов 2004в, 2).
Источники – Primary Sources
2011 – Варламов А. Андрей Платонов. М .: Молодая гвардия, 2011 [Varlamov A. Andrey Pla-
tonov . Moscow: Molodaya gvardiya, 2011(in Russian)].
Ленин 1970 – Ленин В.И. Материалы к Х съезду РКП(б) // Ленин В.И . Полное собрание со-
чинений. М .: Издательство политической ли тературы. 1970. Т. 43 . С . 371 –373 [Lenin, Vladimir I.
Proceedings of X Party Congress (in Russian)].
Маркс, Энгельс 1955 – Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс
К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2-е. Т . 4 . М .: Издательство политической литературы, 1955.
С. 419–459 (Marx K., Engels F. Соmmunist Manifest. (Russian Translation).
Маркс, Энгельс 1968 – Маркс К., Экономические рукописи 1857 –1859 годов // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Издание 2 -е. Т . 46. Часть I. М .: Издательство политической литературы,
1968 [Marx, Karl (Russian Translation)].
Платонов 2004а
–
Платонов Андрей. Электрификация (Общие понятия) // А.П. Платонов.
Сочинения. T . 1 . 1918–1927. Книга 2. Статьи . Научное издание. М .: ИМЛИ РАН, 2004. С . 133 –
142 [Platonov, Andrey P. Electrification (General concept) (in Russian)].
Платонов 2004б – Платонов Андрей. Песчаная учительница // А.П. Платонов. Сочинения.
T. 1. 1918–1927. Книга 1. Рассказы. Стихтворения. Научное издание. М .: ИМЛИ РАН, 2004.
С. 42 –48 [Platonov, Andrey P. The Sandy Teacher (in Russian).]
Платонов 2004в
–
Андрей Платонов в воспоминаниях друзей и коллег. Мюнхен: Im Werden
Verlag, 2004 [Andrey Platonov in Memories of Friends and Collegues, Im Werden Verlag, München (in
Russian)].
Платонов 2010 – Платонов Андрей. Джан. // Платонов А.П. Счастливая Москва. Собрание.
М.: Время, 2010 [Platonov, Andrey P. Djan (in Russian)].
63
Платонов 2011а
–Платонов Андрей. Ювенильное море. // Платонов А.П . Эфирный тракт.
Повести 1920-х
–
начала 1930-х годов. Собрание. М.: Время, 2011. [Platonov, Andrey P. The Sea
of Youth (in Russian)].
Платонов 2011б – Платонов Андрей. Чевенгур // Платонов А.П. Котлован, Чевенгур. Собра-
ние. М .: Время, 2011. C . 9 –410 [Platonov, Andrey P. “Chevengur” (in Russian)].
Платонов 2019 – Платонов Андрей. Письмо жене 26 января 1927 г. // Платонов А.П. «...я
прожил жизнь». Письма (1920–1950 гг.) . Изд. 2 -е, дополненное. М.: Астрель , 2019. С . 205 –209
[Platonov, Andrey P. The Letter to Wife of January, 26, 1927 (in Russian)].
Сталин 1949 – Сталин И. В. Речь на Конференции аграрников-марксистов «К вопросам аграр-
ной политики в СССР». Сочинения. Т. 12. М.: Государственное издательство политической литера-
туры, 1949. С. 141–172 [Stalin, Joseph. Speech for Conference of Marxists-Agrarians (in Russian)].
Франк 2017 – Франк С.Л. Живая Европа: Происхождение и сущность русского марксизма //
Вопросы философии. 2017 . No 6. С . 92–104 [Frank S. Living Europe: The Origin and Essence of
Russian Marxism (in Russian)].
Ссылки – References in Russian
Алешин 2014 – Алешин А. Размышление о феномене русского космизма // Вопросы фило-
софии. 2014, No 4. С . 79–92.
Берелович, Данилов 2000 –Советская деревня глазами ВЧК – ОГПУ
–
НКВД (1918 – 1939).
Под ред. Береловича А. и Данилова В. Документы и материалы в 4-х томах. М.: РОССПЭН,
2000–2012
–http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=52 .Дата об-
ращения – 14 .06.2019.
Варламов 2011 – Варламов А. Андрей Платонов. М .: Молодая гвардия, 2011/
Лекторский 2009 – Лекторский В. Круглый стол «Философия и литература: проблемы вза-
имных отношений» // Вопросы философии. 2009, No 9. C . 56–96.
Никольский 1990 – Никольский С.А. Власть и земля. Хроника утверждения бюрократии в
дер евне после Октября. М.: Агропромиздат, 1990.
Никольский 2018 – Никольский С.А. Российская философия истории и литература // Вопро-
сы философии. 2018, No 10. C . 116–127 .
Порус 2016 – Порус В.Н. Что значит «понять» художественный текст?// Вопросы филосо-
фии. 2016, No7. C. 84– 96.
Эпштейн 2015 – Эпштейн М. Ирония идеала. М .: Новое литературное обозрение, 2015.
References
Aleshin, Albert I. (2015) Reflection on the Phenomenon of Russian Cosmism, Voprosy Filosofii,
2015, Vol. 4, pp. 79–92 (in Russian).
Andrey Platonov in Memories of Friends and Colleague, Im Werden Verlag, München (in Russian).
Berelovitch, Alexis, Danilov, Victor (2000–2012) Les Compagne Sovietiques vues pur la Tcheka–
O.G.P .U. 1918–1939. Documents et Materiaux. 4 Tomes, ed. A . Berelovich, V.Danilov, ROSSPEN,
Moscow (in Russian).
Epstein, Mikhail N. (2015) The Irony of the Ideal Parodoxes of Russian Literature, Novoe litera-
turnoe obozrenie, Moscow (in Russian).
Lectorsky, Vladislav A. Philosophy and the Literature: Problems of Mutual Relations, Voprosy
Filosofii, 2009, Vol. 9 . pp . 56–96 (in Russian).
Nickolsky, Sergey A. (2018) Russian philosophy of history and literature, Voprosy Filosofii, Vol. 10,
pp. 116–127 (in Russian).
Nickolsky, Sergey A. (1990) The Power and the Land. The Chronicle of the Approval of the bureau-
cracy in the village after October 1917, Agropromizdat, Moscow, (in Russian).
Porus, Vladimir N. (2016) What Does It Mean to «Understand» a Literary Text? Voprosy Filosofii,
Vol. 7. pp . 84 – 96 (in Russian).
Varlamov A. (2011) Andrey Platonov, Molodaya gvardiya, Moscow In Russian.
Сведения об авторе
НИКОЛЬСКИЙ Сергей Анатольевич –
доктор философских наук, главный науч-
ный сотрудник, руководитель сектора фи-
лософии культуры Института философии
Российской академии наук.
Author’s information
NICKOLSKY Sergey A. –
DSc in philosophy, chief researcher, head of
the sector of philosophy of culture, Institute of
philosophy, Russian Academy of Sciences.
64
Теология и схоластика: грани философских интерпретаций
© 2019 г.
Д.В . Шмонин
Общецерковная аспирантура и докторантура имени св. равноап. Кирилла и Мефодия,
Москва, 115035, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр.1; Российский государственный педагогиче-
ский университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербург, 191186,
наб. реки Мойки, д. 48.
E-mail: dmitry.shmonin@gmail.com
Поступила 06.06.2019
В статье анализируется ресурс теологии, особенности взаимосвязей и,
вместе с тем, различия в методах философии и теологии. Раскрывая
религиозно-конфессиональную принадлежность теологических уче-
ний, автор привлекает внимание к интеллектуальному и ценностно-
мировоззренческому ресурсам теологии в современной жизни. Лейт-
мотивом статьи стали размышления о двух новых монографиях рос-
сийских философов В.К. Шохина [Шохин 2018] и Г.В . Вдовиной
[Вдовина 2019]. Первая работа описывает разнообразие дискурсивных
практик современной «философской теологии» и (или) аналитической
философии религии. Автор статьи указывает на специфические по-
следствия позиции современных нам «философских теологов» (кото-
рых скорее следует относить к аналитической традиции в философии),
в том числе, связанные с отсутствием четко выраженных разграниче-
ний между предметными полями естественной теологии и философии.
Вторая работа, книга Г.В . Вдовиной, фокусируется на когнитивном
аспекте психологических разделов в университетских схоластических
курсах по философии XVII в. Вопреки распространенному мнению о
негативном влиянии теологии на развитие свободного мышления,
становится ясным, что основные философские новации в схоластике
возникали или внутри теологии, или из нужд теологии, или для ее
целей. Автор статьи показывает важную роль этих двух книг в форми-
ровании современного адекватного представления о различных аспек-
тах теологии и демонстрирует целесообразность обращения к схола-
стике как методологии рационального познания и первой классиче-
ской системе производства продуктивного знания, предшествовавшей
экспериментально-математическому естествознанию и философии
нового времени.
Ключевые слова: теология, философия, схоластика, философская пси-
хология аналитическая философия, дисциплинарные границы, мето-
ды, ценности.
DOI: 10.31857/S004287440007525-2
Цитирование: Шмонин Д.В. Теология и схоластика: грани философ-
ских интерпретаций // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 64–73.
65
Theology and Scholastics: Brinks of Philosophical Interpretations
© 2019 г.
Dmitry V. Shmonin
SS Cyril and Methodius Institute of Post-Graduate Studies, 4/2, bd. 1, Pyatnitskaya str.,
Moscow, 115035, Russian Federation; Herzen State Pedagogical University of Russia, 48,
Moyka emb., Saint-Petersburg, 191186, Russian Federation.
E-mail: dmitry.shmonin@gmail.com
Received 06.06.2019
The article analyzes the resource of theology, features of interconnections and,
at the same time, difference in methods of philosophy and theology. Reveal-
ing the religious and denominational affiliation of theological teachings, the
author draws attention to the intellectual and value-worldview importance of
theology. The motive of this article was an author’s reflection on two recent
monographs of Russian philosophers: Vladimir Shokhin [Shokhin 2018] and
Galina Vdovina [Vdovina 2019]. The first book describes the variety of dis-
cursive practices of analytical philosophy of religion also known as a “philo-
sophical theology”. The author of the article points to the specific conse-
quences of the position of modern “philosophical theologians” (who should
rather be attributed to an analytical tradition in philosophy), including those
related to the absence of clearly defined distinctions between subject fields of
natural theology and philosophy. The second work, the monograph of Galina
Vdovina, focuses on the cognitive aspect of psychological sections in universi-
ty scholastic courses of 17th century philosophy. Contrary to common opin-
ions about the negative impact of theology on the development of creative
thinking, it becomes clear that main philosophical innovations in scholasti-
cism arose either within theology, or from the needs of theology, or for its
purposes. The author of the article shows the important role of these two
books in the formation of adequate understanding of various aspects of theol-
ogy and demonstrates the feasibility of turning to scholastics as a methodolo-
gy of rational cognition and the first classical system of creating of productive
knowledge, which (the system) preceded as the mathematics and experi-
mental science as the philosophical thought of the Modern Age.
Key words: theology, philosophy, scholastics, philosophical psychology, ana-
lytical philosophy, disciplinary boundaries, methods, values.
DOI: 10.31857/S004287440007525-2
Citation: Shmonin, Dmitry (2019) ‘Theology and Scholastics: Brinks of
Philosophical Interpretations’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 64–73.
Регулярно публикуемые в журнале «Вопросы философии» статьи, в которых спе-
цифика теологической рациональности анализируется в научно-методологическом
и историко-философском контекстах ([Антонов 2012; Польсков 2010; Польсков 2018]
и др.), позволяют нам не начинать с вопроса о том, является ли теология наукой,
и если является, то в какой мере. Очевидно, что нюансы ответа на него связаны, по-
мимо прочего, с меняющимися представлениями о научности (напр.: [Пружинин
2009, 21; Ракитов 2016, 65–66]), об объективности научного знания [Шиповалова
2012; Шиповалова, Малышкин, 2016], а также с осмыслением дисциплинарной инва-
риантности теологии, науки и философии [Петров 1991, 233 –239].
Учитывая то, что наука никогда не была единым целым, но представляла собой
конгломераты развивающихся областей с конкурирующими внутри каждой из них
школами, исследовательскими программами, методами, эпистемологическими разры-
вами [Огурцов 2011, 464], а также принимая во внимание российский характер
66
дискуссий в связи с вхождением теологии в научно-образовательное пространство,
я предлагаю посмотреть на теологию как на современный интеллектуальный и цен-
ностно-мировоззренческий ресурс, сфокусировав внимание на том, как подошли к ее
рассмотрению два современных российских философа.
Новые монографии В.К. Шохина [Шохин 2018] и Г.В. Вдовиной [Вдовина 2019]
написаны с разными интенциями и различными целями. Однако помимо прилагательно-
го «философский» в заглавиях монографий, авторов объединяет профессиональный ис-
следовательский интерес к теологии. Обращение к этим работам позволит нам показать
актуальность наследия теологии, ее познавательные возможности и, при этом, нежела-
тельность смешения теологии с различными философскими «дискурсивными практика-
ми» [Шохин 2018, 38], в том числе, с «философской теологией» и (или) аналитической
философией религии. И что особенно важно для нас, эти книги выводят к тому, что
названо выше ценностно-мировоззренческим ресурсом теологии.
Теология как «наука о божественном» – высшая среди умозрительных наук, утвер-
дилась в «Метафизике» Аристотеля. Ее смысл, однако, раскрылся лишь в языке,
на котором христианство «объясняло эллинам» свою веру. Сам термин теология орга-
нично вписался в грекоязычную святоотеческую традицию и вместе с ней распростра-
нился на латинский интеллектуальный мир. В этом плане theologia philosophica Фомы
Аквинского – логичное классификационное решение: оценив масштаб и возможности
аристотелевской философии, включающей не только «Метафизику», но и «Физику»,
и корпус малых физических сочинений («Parva naturalia»), и книги «О душе», Аквинат
встроил аристотелевское учение в схоластическую систему, создав надстройку над под-
водящим к теологии квадривиумом. Это не значит, что аристотелевская философия
заменила собой теологию. Theologia philosophica, оставаясь рациональной наукой
о Боге, использующей логический инструментарий, получила новый – универсальный
в ту эпоху – набор философских инструментов как подспорье в решении теологиче-
ских вопросов. О том, что главным в этом названии является существительное, а не
прилагательное, свидетельствует и то, что схоласты, выстраивая синонимический ряд,
постепенно заменяют это понятие более сильными и общими: естественная теология
(theologia naturalis) и рациональная теология (theologia rationalis), о которых будет ска-
зано ниже. Однако важно другое: в ходе эволюции схоластического знания происходит
взаимное обогащение «двух факультетов», в процессе которого не только фиксируется
различие методов и задач естественной теологии и философии, но и закрепляется са-
мостоятельный статус университетских «философских курсов» (cursus philosophicus),
обретающих все большую исследовательскую глубину и все более строгое внутреннее
научно-дисциплинарное деление.
Схоластическая традиция неразрывно связана и с теологией, и с философией, но не
исчерпывает их, как не исчерпывается ими сама [Шмонин 2011]. Существительное
σχολή как своего рода философский термин впервые начинает работать у Аристотеля
(«Никомахова этика»,1177 b 22; «Политика» 1313 b 2–3; 1322 b 38–39; 1341 a 18–1).
Слово σχολαστικός описывает деятельность, имеющую самодостаточный характер,
а «схоластическая жизнь» (βίος σχολαστικός) становится синонимом «созерцательной
жизни» ученого (βίος θεωρητικός). В латинской культуре schola превратилась в учебный
класс, место занятий, и прилагательное «схоластический» стало обозначать все связан-
ное со школой. Средневековая обыденность добавила в словоупотребление ряд смыс-
ловых оттенков: scholasticus – это еще и юрист, и государственный служащий, и глава
кафедральной или монастырской школы. Термин стал описывать уровень образован-
ности и modus vivendi людей, связанных с умственным трудом и письменной культу-
рой; учебные и научные сочинения определенных типов и жанров; а также особый
стиль мышления и изложения мыслей – дидактический и, плюс к этому, систематиче-
ский, когда речь идет о школе как об определенной научной традиции.
Схоластика (которая вплоть до XVI в., до начала реформационных процессов и
утраты теологическим мировоззрением единства, а университетской ученостью – мо-
нопольной позиции в системе образования), включала в свой объем всю совокупность
рационального знания и систему его трансляции, в том числе тривиум, квадривиум,
67
а также выходящие за пределы семи искусств, но примыкающие к ним философские
дисциплины. Схоластика также вбирала в себя ту самую естественную теологию, кото-
рая увенчивает университетский учебный план и приводит школяра, превращающегося
в магистра, к вершинам знания – на теологический факультет. Схоластикой как типом
мышления можно назвать также совокупность методов познания, построенных на тео-
логически обоснованных определениях и преимущественно дедуктивных способах вы-
вода. В христианской интеллектуальной и духовной культуре онтологической основой
языка является Слово (Ин 1:1), сотворившее мир и человека, которые существуют по
установленному Богом закону, и схоластический тип мышления воспринимает всю
реальность в связи с универсальными значениями слов. Поэтому интересно и, в то же
время, понятно, что способы обучения на двух других, наряду с теологическим, выс-
ших факультетах средневекового университета также имели схоластический характер.
На юридическом факультете основой были принципы правоприменения, исходящие из
вечного божественного закона и естественного права, основанные на позитивном за-
конодательстве, а на медицинском факультете – вытекающие из теоретических знаний
о физиологии и об анатомии человека принципы лечения по врачебному канону.
(В этом плане и сегодня юриспруденция и медицина остаются предельно регламенти-
рованными, требовательными к соблюдению дисциплинарных правил профессиональ-
ными областями, а корпоративная культура членов сообществ юристов и врачей сохра-
няет традицию использования в документах остаточных элементов варварской латыни.)
Попытки содержательного и терминологического отделения теологии и философии
от схоластики можно отчетливо увидеть лишь в христианском гуманизме Эразма Рот-
тердамского и реформационных идеях Мартина Лютера. Эразм и Лютер противопо-
ставляют собственные сочинения схоластической теологии, в трех основных направле-
ниях которой (томизм, скотизм и оккамизм) они видят слепую подчиненность автори-
тету Аристотеля и далекие от жизни бесплодные логические упражнения. Резкая не-
приязнь реформаторов к католической учености, характерная для XVI в., сменилась
в начале – первой половине XVII в. уважительным интересом, когда университеты
в протестантских странах усваивали учебные курсы католических университетов, а за-
тем начинали создавать и собственные – в том же схоластическом духе. Поэтому гово-
рят о существовании протестантской схоластики раннего нового времени, например –
о немецкой лютеранской «неосхоластике». Хотя католическая интеллектуальная куль-
тура в этом плане неизмеримо богаче.
Интересно, что XVII в. рождает новый терминологический нюанс «на стыке» теоло-
гии и схоластики. К католическому систематическому богословию начинают применять
название схоластической теологии (theologia scholastica). Эта дисциплина (в православной
церковно-академической традиции ей соответствует догматическое богословие) считается
ключевой теоретической частью университетских богословских курсов (cursus
theologicus).
Христианская схоластическая scientia, таким образом, никуда не исчезает
с наступлением Нового времени. Она продолжает существовать и в университетах,
в католических коллегиях и семинариях как живая традиция, хотя и утрачивает свою
ведущую нормотворческую роль в системе образования. Интеллектуальная работа схола-
стов продолжается и в Век Просвещения, когда теология и философия в схоластических
курсах были оттеснены на периферию ученых занятий в католических и протестантских
странах. Даже поверхностное знакомство с этой постсредневековой схоластикой убеждает
в том, что она не утратила, в сравнении со Средневековьем, ни внутреннего многообра-
зия, ни плодотворности в разработке старых проблем, но даже усилила чувствительность
к новой проблематике в изменившемся мире [Вдовина 2009; Вдовина 2019].
Университетская схоластика породила интересный эффект в XIX столетии – основ -
ное богословие (буквально Fundamentaltheologie, fundamental theology). Название не
должно обманывать современного читателя. Основное богословие – это не собственно
естественная теология, излагающая конфессиональную догматику, но именно основы
теологии, пропедевтика теологии через философию. Важная роль основного богосло-
вия в процессе обучения состоит в использовании ресурса и демонстративных средств
68
философско-гуманитарного и естественнонаучного знания для рационализации прин-
ципов христианской веры. Эту дисциплину можно считать теологической постольку,
поскольку она разработана теологами и излагается с теологических позиций. Она пред-
ставляет собой комплекс философских, лингвистических и историко-критических при-
емов, иллюстрирующих основные истины веры в апологетико-образовательных целях.
Однако это в полной мере верно лишь в отношении православного основного богосло-
вия, от XIX столетия до наших дней, и католической фундаментальной теологии, но не
вполне верно в отношении того, что под этим названием на Западе понимают сейчас.
Нынешние католические апологеты «усвоили документы II Ватиканского собора,
в которых говорится только об уважении к представителям других религий (в том числе
и отрицающих существование Бога), но не об оценочном сопоставлении христианского
теизма с другими мировоззрениями» [Шохин 2018, 381].
Последнее более позднее обстоятельство связано с авторизацией томизма в каче-
стве официальной философско-богословской доктрины Католической церкви (с 1879
по 1962 г.). Католический теолог кардинал Эйвери Р. Даллас ограничивает этот пе-
риод неосхоластики столетием с 1850 по 1950 г. [Шохин 2018, 103]. Но при всей де-
монстративной консервативности неосхоластики начала и первой половины ХХ в.,
именно благодаря невероятной филологической, исторической и, главное богослов-
ской начитанности католических авторов, достоянием философствующей публики
стали многие памятники средневековья.
Сегодня изучение схоластической мысли, освободившись от навязанных идеологи-
ческих схем, переживает подъем: исследователи обращаются к полузабытым именам и
текстам и ежегодно открывают новые. Они обнаруживают в схоластических сочинени-
ях такие темы и проблемы, о существовании которых в середине XX в. неосхоластиче-
ские теологи знали крайне мало, а широкие круги философов и любителей философии
даже не подозревали. При этом важно принимать во внимание, что эти массивы есте-
ственной теологии и философии (последней – во всем объеме аристотелистской
philosophia universa) содержательно и жанрово связанные с curricula теологических фа-
культетов, отличаются и от богооткровенной теологии (theologia revelata, theologia
mystica), связь с которой – тема отдельного разговора.
Говоря о схоластике в период раннего нового времени, возьмем в качестве примера
трактаты «О душе» XVII – начала XVIII вв., которые исследуются в книге
Г.В. Вдовиной «Интенциональность и жизнь. Философская психология постсредневе-
ковой схоластики» [Вдовина 2019]. Наука «о душе», исторически восходившая к одно-
именному сочинению Аристотеля и его комментаторов, претерпевает в этот период
глубокие преобразования как «цельное, автономное, но теологически ориентированное
знание» [Вдовина 2019, 561]. Общеизвестно колоссальное влияние, которое оказало на
развитие средневековой богословской мысли Запада усвоение античной философии;
Г.В. Вдовина же развертывает картину «обратного» движения – плодотворного и сти-
мулирующего воздействия теологической мысли на философию, в том числе на фор-
мирование терминологии и проблематики, полностью актуализированных лишь в но-
вейшей философии. Вопреки широко распространенному мнению об исключительно
негативной роли теологии в развитии свободного мышления, можно увидеть, что
«в схоластике все значимые философские новации возникали либо внутри теологии,
либо из нужд теологии, либо для целей теологии» [Вдовина 2019, 9].
В центре обновленной науки о душе, как показывает Г.В . Вдовина, находятся поня-
тия жизни и живого. Жизнь раскрывается как сочетание двух ее универсальных моду-
сов – физического и интенционального. К физическому модусу жизни схоластика
XVII в. относила не только физиологические процессы, но и реальные акты чувствова-
ния, воления и мышления; к интенциональному – их иррациональные содержания, ко-
торые у некоторых автором интерпретировались как внутренние интенциональные объ-
екты, а у других – как прозрачные для мысли формальные знаки, отсылающие к объек-
там вне души. Эти темы оставались практически незамеченными со стороны внесхола-
стических философов-современников, зато в новейшей философии, начиная с Брентано
и до наших дней, составляют одну из основных сфер философского интереса.
69
Исходный импульс исходил из потребности теологии в серьезной интерпретации воле-
ния и мышления Бога в терминах соответствующих актов, но с учетом совершенно
особых условий их выполнения в божественной реальности, где никакие условия,
ограничивающие интенциональную жизнь творения, не действуют.
Отрыв учения о душе от аристотелевской схемы не только давал «отпускную грамоту»
философской психологии в схоластике, но и закладывал основы психологии как науки.
Причем это была не «свобода от», но «свобода для», позволявшая строить изучение чело-
веческих когнитивных процессов, оставаясь на теологическом фундаменте, и раскрывать
структуры человеческой психики в соотнесении жизни человека с христианской перспек-
тивой спасения. В этом состоял ценностно-мировоззренческий фокус целостного пони-
мания жизни, «сопрягающего Бога и ничтожную былинку в едином понятии живого»
[Вдовина 2019, 561]. В этом же состоит методологический смысл включения Бога в схему
интенционального познания как «превосходнейшего объекта» [Вдовина 2019, 86–87].
Фактически тогда был совершен следующий шаг в процессе разделения философии и
теологии за тем шагом, который в схоластической метафизике был осуществлен Фран-
сиско Суаресом, сделавшим Бога «превосходнейшим», хотя и неадекватным (несораз-
мерным возможностям познающего разума) предметом метафизики.
В процессе рассмотрения темы «интенциональности до Брентано» в «философской
психологии», можно увидеть, как рационально и оптимистично описывают этот реаль-
ный мир представители схоластики XVII в. Среди различных когнитивных подходов
(от идеи анамнезиса у Платона до интуитивного чувственного познания вещей у Окка-
ма), наиболее востребованной оказывается концепция интенциональных форм
(species) – чувственных и интеллектуальных, которые суть «различные по своей физи-
ческой природе носители информации о познаваемых предметах, непосредственно или
опосредованно берущие начало в самих предметах и способные прямо передавать эту
информацию соответствующей познавательной способности через реальное воздей-
ствие на нее, тем самым активируя ее и тем самым запуская процесс дальнейшей пере-
работки информации» [Вдовина 2019, 116].
Интересны когнитивно-психологические новации «философских психологов», та-
ких как Рубио, Искьердо и Овьедо, относительно чувственной рефлексии или рефлек-
тивного чувства (sensus reflexus). Искьердо подробно и аргументированно описывает
доступность «опытного самопознания», то есть процедур чувственной саморефлексии,
которые могут осуществляться одновременно с познанием внешнего предмета, в том
же самом интенциональном акте (так называемая сопутствующая рефлексия). Овьедо к
этому «фоновому восприятию собственной чувственности» добавляет рефлексию вооб-
ражения, обращенную к актам, запечатленным в памяти [Вдовина 2019, 162–165].
На примере отказа схоластическими авторами XVII в. от идей рецептивного и пассив-
ного чувственного познания и его зависимости от внешних материальных форм, перед
нами раскрывается «нулевой цикл» психологии как науки, о котором имеют представ-
ление далеко не все (скажем мягко) современные психологи. Кроме того, схоластика
преподает психологии конкретный, весьма актуальный сегодня, урок: учение о челове-
ческой душе не только в когнитивном, но и в моральном плане. И, наконец, предло-
женные схоластами модели описания структуры когнитивного акта свидетельствуют о
фактическом обращении «к самим вещам» за три столетия до Гуссерля [Вдовина 2019].
Итак, мы видим, как четкое разделение философии (включая философскую психо-
логию) и теологии сопровождается не менее четким пониманием того, в чем состоит
ценность философии для христианского мыслителя. Несмотря на то, что схоласты,
погружаясь в тонкие дистинкции формальной структуры когнитивного акта [Вдовина
2019, 326–343], или обсуждая теологические основания построения мысленного экспе-
римента [Вдовина 2019, 410–412], иногда, как кажется, забывают о второй части завета
Суареса: «Наша философия должна быть христианкой и служанкой божественной тео-
логии» [Вдовина 2019, 560], верность первой части они соблюдают неукоснительно.
Философская психология показывает нам хороший исторический пример того, как
происходит демаркация и дисциплинарная организация научного знания внутри схола-
стики, причем без пафоса «великого восстановления наук», за которым следуют
70
многочисленные «дуализмы» – тела и души, материи и духа, науки и религии, физики
и метафизики, а затем противостояние между естествознанием и этикой, миром при-
роды и миром свободы, вплоть до противопоставления в XIХ столетии наук о природе
наукам о культуре.
В отличие от Суареса или от Луиса де Молины, о котором как о философе упоми-
нает В.К. Шохин [Шохин 2018, 197], и который, как и Суарес, прекрасно понимал, где
он выступает в роли философа, а где в роли богослова, разбираемые В.К. Шохиным
современные нам «философские теологи» и аналитические философы религии, похо-
же, границы между теологией и философией не видят. В этих областях интеллектуаль-
ного творчества, преимущественно англо-саксонского, распространены гораздо более
широкие трактовки теологии как предметной области, захватывающей то, что соответ-
ствует нашим религиоведческим исследованиям, философским трактатам о религиоз-
ных предметах («сакральном», «духовном»), о религиозном опыте, о психологии рели-
гиозного сознания, об аргументах божественного бытия и т.п. При этом, как показыва-
ет В.К. Шохин, аналитическая «философская теология» методологически оказывается
частью аналитической философии [Шохин 2018, 343]. И в этом случае, не следует
удивляться, что полемика вокруг атрибутов божественного бытия или божественного
присутствия в мире оказывается важнее чем образ личного Бога, в которого теологу
следовало бы верить. Может показаться даже, что и атрибуты не столь важны, а важно
то, как эти вопросы аргументируются и интерпретируются теми или иными мыслите-
лями. Красноречивый пример – рассуждение о богодухновенности Священного Писа-
ния из «Оксфордского руководства по философской теологии», где речь идет даже не о
предмете, а о том, «с какими трудностями сталкивались те, кто писал на тему богодух-
новенности» [Флинт, Рей 2013, 82].
Содержание и границы теологии приобретают в этом дискурсе весьма размытый ха-
рактер. Интересен другой пример из упомянутого «Оксфордского руководства». В этом
коллективном томе, после разделов о «христианской философской теологии» и «нехри-
стианской философской теологии», в котором, кроме иудейской и исламской тради-
ций, можно найти и конфуцианскую теологию, а также раздел, описывающий внекон-
фессиональную философскую теологию [Флинт, Рей 2013, 787–860]. Применительно к
такого рода рассуждениям В.К. Шохин упоминает «о бренде религиозного плюрализ-
ма», «при котором христианство мыслится уже далеко не как первое среди равных,
а лишь как одно из множества совершенно равноценных мировоззрений. Я думаю, –
пишет В.К. Шохин <и я полностью разделяю его мнение – Д.Ш.>, – что избыточная в
настоящее время эксплуатация христианских догматов уже очень скоро (при уходе со
сцены “остаточных консерваторов”) может быть с легкостью замещена чем-то вроде
сравнительной теологии, в которую, во имя политкорректности будет вписываться
практически любая а-теология, разумеется, при запрете на какие-либо сравнительные
оценки сравниваемого...» [Шохин 2018, 460].
Именно так: под видом религиозного плюрализма теология смешивается с филосо-
фией; ее, теологии, конкретная религиозно-конфессиональная принадлежность стано-
вится необязательной, а правила толерантного поведения приводят процесс к абсур-
ду – к «а-теологии» как варианту теологии и запрещению «сравнительных оценок
сравниваемого».
Очевидно, что теология (речь о теологии в традиционном, раскрытом выше
плане) – особая область знания, отличная от философии и лишь частично пересекаю-
щаяся с тем, что принято называть наукой, научным познанием. Особенность, попа-
дающей в эту зону пересечения теологической рациональности, то есть естественной
теологии, состоит, среди прочего, в том, что она имеет не только дескриптивный, но и
четко выраженный нормативный характер. И это обстоятельство является изначально
гораздо более важным для восприятия ее не только с внутрихристианских позиций, но
и шире, «извне», со стороны интеллектуальной и духовной культуры. Особенность тео-
логии как совокупности различных способов постижения мира (включая научно-
теологический, то есть естественную теологию) состоит в привязке к определенной
религии. Как подчеркивалось выше, христианская теология, во-первых, может
71
пониматься буквально, как Слово Бога, творящее мир и обращенное к нам (Ин 1:1–2).
Во-вторых, теология – это слово о Боге, молитвенное выражение веры в сочетании
с религиозной жизнью (упомянутые выше theologia revelata, theologia mystica). И лишь
в-третьих – это естественная теология, то есть систематическое выражение религиоз-
ной доктрины и комплекс связанных с этим дисциплин, а также методология познания
как внутренних для данной религии и Церкви объектов, так и внешних объектов,
включая осмысление с соответствующих мировоззренческих позиций существования
и развития человека, природного и социального мира. Уточним еще раз: именно по-
нимаемая таким образом – и нормативно (в сочетании с теологией в двух высших зна-
чениях), и дескриптивно – естественная теология может претендовать на законные
позиции в системе научного знания.
О непродуктивности включения в объем понятия теологии внеконфессиональных
(иногда говорят – экуменических), не принадлежащих определенной религиозно-
конфессиональной традиции, способов описания теологических предмета, объекта
и методов, уже было сказано [Шмонин 2019]. Действительно, сложно говорить о ре-
зультативности поиска и обсуждения «общего» с точки зрения теологической рефлек-
сии, поскольку это «общее» и так признается каждой из вступивших в диалог сторон.
Дискуссии же о «различном» переносят центр нашего внимания с предмета на то, как
этот предмет понимается в каждой их традиций, с учетом «истории расхождений».
Но в таком случае также сложно говорить о результатах с богословской точки зрения,
если речь не пойдет о сравнительном богословии, то есть об обработке и авторизован-
ной оценке итогов дискуссий с позиции одной (или каждой) из дискутировавших сто-
рон. Вместе с тем, подобные споры могут быть продуктивны без такой теологической
авторизации и иметь важный философский, исторический, политико-дипломатический
и т.п. характер [Шмонин 2019].
О том, как современные конфессиональные богословские традиции пользуются
различными мыслительными ходами, обстоятельно рассуждает в своей книге
В.К. Шохин. Он анализирует, из каких источников верующий разум получает знание
о божественном. В частности, на примере работ того же кардинала Э.Р . Даллеса,
В.К. Шохин показывает, как работает современная католическая теология, опосредо-
ванная протодеистическими и деистическими философскими учениями раннего нового
времени [Шохин 2018, 99, прим. 1], «религией разума» («в пределах только разума»
эпохи Просвещения и немецкой философской классики), а также иными разнообраз-
ными интеллектуальными явлениями новейшего времени [Шохин 2018, 100–105].
Он приводит пять типов «понимания откровения» кардинала Даллеса (откровение как
доктрина, как история, как внутренний опыт, как диалектическое присутствие,
как новое сознание), получившие «очевидное “рамочное” значение для “философских
теологов”, пишущих об откровении» [Шохин 2018, 105], которые (типы понимания)
претендуют на статус «принципиально новой типологизации видений того, что соб-
ственно есть откровение». При этом, по мнению В.К. Шохина, кардиналу Даллесу не
удается убедительно обосновать универсальность своей классификации и заполнить
смысловые лакуны в каждой из пяти моделей. Однако дело, как нам представляется,
этим не ограничивается. Оценка рассматриваемой богословской работы может быть
дана с нескольких позиций. На наш взгляд, прежде всего, с позиций магистериума –
церковного учительного авторитета в том формате, конечно, в какой это принято
в современной Римской церкви; затем – с философских позиций, одну из которых
демонстрирует сам В.К. Шохин; кроме того, со сравнительно-богословских, также тре-
бующих авторизации, позиций, например, с православной. Первый и третий подходы
можно отнести к теологической рефлексии, второй – нет.
Дело в том, что если философ вправе рождать собственные идеи и даже теории ре-
лигиозного плана, исходя из «беспредпосылочных начал» [Шохин 2018, 8], не опираясь
на принципы догматического богословия и богословскую традицию определенной
Церкви (а он может вообще не иметь своей Церкви, быть скептически или атеистически
ориентированным мыслителем), то теолог лишен таких привилегий. Если философ более
свободен, то в отношении теолога можно говорить об обязательствах (в англоязычном
72
лексиконе используется термин commitment, не имеющий хорошего русского эквивален-
та) перед своей конфессией [Шохин 2018, 8–9]. Усилим этот момент: теолог принадле-
жит религии, конфессии, он стоит на фундаменте определенной традиции и должен быть
неразрывно связан со своей Церковью как с сообществом верующих людей. Два эти вза-
имодополняющих момента – помимо научно-богословской квалификации – дают теоло-
гу возможность и право говорить от имени традиции.
«Тонкий баланс» между возможностями индивидуализированного философского, ин-
дивидуального теологического и соборного, экклезиологического разума [Шохин 2018, 8]
нужно искать, на мой взгляд, понимая, что в последнем можно видеть не только когни-
тивную составляющую и эвристический потенциал «коллективной мудрости», но и связь
индивидуального с живой религиозной традицией, которой должен принадлежать и «ин-
дивидуальный» теолог. С этой точки зрения понятно «стремление совместить философ-
ский подход с конфессиональным», которое еще сохраняется, по замечанию В.К. Шохи-
на, у части «аналитических теологов». Однако, обязательства по отношению к конфессии
у теолога должны носить не столько канонический и юридический, сколько жизненно-
практический характер.
Заметим еще раз, что тексты «философских психологов», и работы «философских
теологов», заставляющие нас обращаться к теме ratio во «внеалгометрических областях»,
к тематике субъективности и объективности интерпретативных суждений, к вопросу
о кумулятивном характере формирования религиозной (почему бы не добавить сюда и
научную) картины мира и ряду других потенциально и актуально интересных направле-
ний мышления [Шохин 2018, 72–73], видится полезными и интересными как для исто-
рико-философского (философско-религиоведческого) анализа, так и для богословской
мысли, ибо они обращают нас к осмыслению обширного предметного поля «теистиче-
ской рациональности», расположенному «между доказательными алгоритмами» и «ирра-
циональным прыжком».
Размышления о дисциплинарных полях философии и теологии открывают новые
перспективы, рождают новые задачи. Недостаточно лишь терминологически и предметно
провести межевание этих полей, ограничив «незаконные пересечения» с обеих сторон.
Следует прочертить грани соприкосновения теологии и философии в разных плоскостях,
в трехмерном пространстве, отобразив многоуровневый, разнонаправленный характер
как философского, так и теологического знания. В этот рисунок можно добавить и упо-
мянутую выше многогранную предметную область религиоведения, да и вообще, речь
следует вести о стереометрическом образе науки, знания в целом. И, поскольку взаимо-
связи разумно выстраивать в ключе взаимодополнительности, а не в стиле «пограничных
споров», следующая задача – определить оптимальные профессиональные формы взаи-
модействия теологии и философии. На этом пути важны анализ и уточнение понятий,
а также работа с содержанием таких явлений нашей интеллектуальной практики как фи-
лософская психология, схоластическая теология, религиоведение, философия религии,
религиозная философия, философская теология, различные «теологии родительного па-
дежа», включая теологию культуры, теологию образования, теологию науки и – почему
бы нет? – теологию философии. Ну, а тот исследовательский срез, который здесь пред-
ставлен читателю, можно было бы описать так: философия теологии.
Ссылки – References in Russian
Антонов 2012 – Антонов К.М. Теология как научная специальность // Вопросы философии.
2012. No6. С. 73–84.
Вдовина 2009 – Вдовина Г.В . Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII века.
М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009.
Вдовина 2019 – Вдовина Г.В . Интенциональность и жизнь. Философская психология
постсредневековой схоластики. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2 019.
Огурцов 2011 – Огурцов А.П . Философия науки. Двадцатый век. Концепции и проблемы:
В 3 частях. Ч. 2. СПб.: Мiръ, 2011.
Петров 1991 – Петров М.К . Язык. Знак. Культура. M .: Наука, 1991.
Польсков 2010 – Польсков К.О . К вопросу о научном богословском методе // Вопросы
философии. 2010 . No 7. С . 93–101 .
73
Польсков 2018 – Польсков К.О. Верификация и теология // Вопросы философии. 2018 . No 9 .
С. 90–100 .
Пружинин 2009 – Пружинин Б.И. Rаtio serviens? Контуры культурно -исторической
эпистемологии. М.: РОССПЭН, 2009.
Ракитов 2016 – Ракитов А.И . Эпистемология социально-гуманитарных наук // Вопросы
философии. 2016. No 9 . С . 63–71 .
Флинт, Рей 2013 – Оксфордское руководство по философской теологии / Сост. Т.П. Флинт
и М.К. Рей; ред. М .О. Кедрова; пер. В.В . Васильева. М .: Языки славянской культуры, 2013.
Шиповалова 2012 – Шиповалова Л.В. О возможной совместимости историчности и
объективности научного знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 2012. No 4.
С. 19–23 .
Шиповалова, Малышкин, 2016 – Шиповалова Л.В., Малышкин Е.В . Исторический исток
научной объективности или О возможном ответе на «скандальный» вопрос философии //
Вопросы философии. 2016. No 12. С . 96–105 .
Шмонин 2011 – Шмонин Д.В. Схоластика как философия образования // Вопросы
философии. 2011 . No 10. С . 145 –154 .
Шмонин 2019 – Шмонин Д.В . Научная рациональность и «возвращение к теологии» // Во-
просы теологии. 2019. Т. 1 . No 3. С . 280 –306.
Шохин 2018 – Шохин В.К . Философская теология: канон и вариативность. СПб .: Нестор-
История, 2018.
References
Antonov, Konstantin M. (2012) ‘Theology as a Scientific Specialty’, Voprosy Filosofii, Vol. 6 (2012),
pp. 73–84 (in Russian).
Flint, Thomas P., Rea, Michael (eds.) (2013) Oxford Handbook of Philosophical Theology, Oxford
University Press, Oxford (Russian translation , 2013).
Ogurtsov, Alexander P. (2011) Philosophy of Science: XX Century. Concepts and problems , Mir,
St. Petersburg (in Russian).
Petrov, Mikhail K. (1991) Language. Sign. Culture, Nauka, Moscow (in Russian).
Polskov, Konstantin O. (2010) ‘To the question of the scientific theological method’, Voprosy
Filosofii, Vol. 7 (2010), pp. 93–101 (in Russian).
Polskov, Konstantin O. (2018) ‘Verification and theology’, Voprosy Filosofii, Vol. 9 (2018), pp. 90–
100 (in Russian).
Pruzhinin, Boris I. (2009) Ratio serviens? The Contours of Cultural-historical epistemology,
ROSSPEN, Moscow (in Russian).
Rakitov, Anatoly I. (2016) ‘Epistemology of Social Sciences and Humanities’, Voprosy Filosofii,
Vol. 9 (2016), pp. 63–71 (in Russian).
Shipovalova, Lada V. (2012) ‘On the Possible Compatibility of Historicity and Objectivity of Scien-
tific Knowledge’, Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, 6, 4, pp. 19–23 (in Russian).
Shipovalova, Lada V., Malyshkin, Evgeny V. (2016) ‘The Historical Source of Scientific Objectivity
or On a Possible Answer to the Scandalous Question of Philosophy’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2016),
pp. 96–105 (in Russian).
Shmonin, Dmitry V. (2011) ‘Scholastics as a philosophy of education’, Voprosy Filosofii, Vol. 10
(2011), pp. 145 –154 (in Russian).
Shmonin, Dmitry V. (2019) ‘Scientific rationality and Reduction to Theology’, Issues of Theology, 1,
3, pp. 280 –306 (in Russian).
Shokhin, Vladimir K. (2018) Philosophical Theology: Canon and Variability, Nestor-Istoriya, St. Pe-
tersburg (in Russian).
Vdovina, Galina V. (2009) The language is not evident. Teachings on Signs in the 17th Century Scho-
lasticism, Institute of Philosophy, Theology and History of St. Thomas, Moscow (in Russian).
Vdovina, Galilna V. (2019) Intentionality and life. The Philosophical Psychology of Post-Medieval
Scholasticism, Centr Gumanitarnyh Iniciativ, Moscow, St. Petersburg (in Russian).
Сведения об авторе
ШМОНИН Дмитрий Викторович –
доктор философских наук, профессор, про-
ректор по научной работе Общецерковной
аспирантуры и докторантуры имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия;
профессор кафедры ЮНЕСКО «Образова-
ние в поликультурном обществе» при Рос-
сийском государственном педагогическом
университете имени А.И. Герцена.
Author’s information
SHMONIN Dmitry V. –
DSc in Philosophy, Professor, Vice-Rector for
Research at the SS Cyril and Methodius Institute
of Post-Graduate Studies; professor of the
UNESCO Chair on Sciences of Education at the
Herzen State Pedagogical University of Russia.
74
К вопросу о субъективности философа в искусстве
феноменологии (размышление над книгой)
© 2019 г.
И.С. Курилович
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 125047,
Миусская пл., д. 6, кор 7.
E-mail: ivankurilovich@gmail.com
Поступила 22.04.2019
Феноменологическое внимание к вещам, само по себе проблемное,
заставляет проделать два невозможных для зрительной метафоры об-
ращения: взглянуть на того, кто возвращается к самим вещам,
и устремиться к условиям его возможности. Тем большая сложность
в утрате феноменологом почвы самопонятной естественной установки.
С остротой, доходящей до границ разумного, данные проблемы по-
ставлены в постфеноменологии. Новая книга российского феномено-
лога А. Ямпольской позволяет не только понять, как соотн осятся фи-
лософские подходы представителей французской постфеноменологии,
но, и прежде всего, увидеть, как живет феноменологическая мысль.
На материале, если не сказать «плоти», субъективности читателя и
самого автора обнаруживаются и выстраиваются пересечения между
современной континентальной философской мыслью и оригинально
понятым наследием теоретиков русского формализма, аналитической
философией, различными психологическими школами и даже средне-
вековой патристикой. Если учесть, что практики последней восходят
к классической и эллинистической античной мысли, автор демон-
стрирует единство философии на протяжении двух с половиной тысяч
лет, единство в поисках «новой жизни». Для этого российский фено-
менолог обратилась к искусству, а также интерпретации чувственного
опыта и творческой практики. Значимость эстезиса и праксиса пони-
мается широко и парадигмально: от аналогии с философствованием
до образца и даже самого философствования как такового. В самом
сильном толковании уже не человек искусства учит философа, а фи-
лософ-феноменолог оказывается большим художником, чем живопи-
сец, архитектор или поэт. Книга Анны Ямпольской предельно акту-
альна, она говорит о сегодняшней, современной жизни феноменоло-
гической мысли в истории философии, и показывает ее как прибли-
жение к «жизни вечной», в далеко не только узко теологическом
смысле, через философскую установку мышления. И как исследова-
тельская монография, но, прежде всего, как самостоятельное выска-
зывание современного феноменолога, «Искусство феноменологии»
помогает заново поставить вопрос: как и зачем философ превращает
себя в инструмент познания?
Ключевые слова: французская феноменология, постфеноменология,
Марк Ришир, Жан-Люк Марион, Жак Деррида, русский формализм,
философское обращение, теологический поворот.
DOI: 10.31857/S004287440007526-3
Цитирование: Курилович И.С . К вопросу о субъективности философа в
искусстве феноменологии (размышление над книгой) // Вопросы фи-
лософии. 2019. No 12. С. 74–81 .
75
On the Question of the Subjectivity of the Philosopher in the Art
of Phenomenology (Reflection on a Book)
© 2019 г.
Ivan S. Kurilovich
Russian State University for the Humanities, 6/7, Miusskaya sq. Moscow, 125047, Russian
Federation.
E-mail: ivankurilovich@gmail.com
Received 22.04.2019
Phenomenological attention to the things themselves, in itself problematic,
forces us to make two reversal (and conversion) impossible in the visual meta-
phor: appeal to the one who returns to the things themselves, and rush to the
conditions of his ability. An even greater difficulty is that the phenomenologist
loses the support of an obvious natural attitude. With a severity that reaches the
limits of reasonable, these problems are posed in post-phenomenology. The
new book by the Russian phenomenologist Anna Yampolskaya allows not only
to understand how the philosophical approaches of the representatives of
French post-phenomenology relate, but, above all, to see how the phenomeno-
logical thought lives. Intersections between modern continental philosophical
thought and the originally understood legacy of the theorists of Russian formal-
ism, analytical philosophy, various psychological schools and even medieval pa-
tristics are found and built on the material, or on the „flesh“, of the subjectivity
of the reader and the author himself. Given that medieval practices come from
classical and Hellenistic ancient thought, the author demonstrates the unity of
philosophy for two and a half thousand years, the unity in the search for a
„new life“. For this the Russian phenomenologist turned to art and to the in-
terpretation of sensory experience and creative practice. The significance of es-
thesis and praxis was understood broadly and paradigmally: from the analogy
with philosophizing to the model and even philosophizing itself. According to
the strongest interpretation, it is no longer the artist who teaches the philoso-
pher, but the philosopher-phenomenologist is recognized as a greater artist than
a painter, architect or poet. Anna Yampolskaya’s book is extremely relevant, it
talks about contemporary life of phenomenological thought in the history of
philosophy, and shows it as an approximation to „eternal life“ (not only in a
narrowly theological sense) thanks to the philosophical mindset. As a research
monograph, but first of all as an independent statement of a contemporary
phenomenologist, “The Art of Phenomenology” helps to re-pose the question:
how and why does a philosopher turn himself into an instrument of knowledge?
Key words: french phenomenology, post-phenomenology, Marc Richir,
Henri Maldiney, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Jacques Derrida, Rus-
sian formalism, philosophical conversion, theological turn.
DOI: 10.31857/S004287440007526-3
Citation: Kurilovich, Ivan S. (2019) “On the Question of the Subjectivity of
the Philosopher in the Art of Phenomenology (Reflection on a Book)”, Vo-
prosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 74–81 .
Чему учил Платон: насильно обращать и быть обращенным к Солнцу, смотреть
на него прямо и возвращаться в пещеру подслеповатым возмутителем спокойствия
(Государство. 515e–517a). После аналогии с принуждением и травмой нельзя обойти
и ту физиологическую подробность, что созерцающий глаз можно только повернуть,
но оборачиваются действием – всем телом . Отсюда фундаментальный вопрос: так как
76
становятся философом? Правда ли, что философское теоретическое видение имеет
необходимый характер, а описанный способ перехода к философской установке –
лишь один из путей обращения, или сами действия, духовно-аскетическая практика,
сам процесс обращения конституирует видение, а значит, разные действия создадут
разные философии, либо теория и практика едины и универсальны? Повод задумать-
ся над этими вопросами дает философ Анна Ямпольская в книге «Искусство фено-
менологии» [Ямпольская 2018]. Названные вопросы автор нигде прямо не ставит, но
говорит о них на каждой странице. И ответы её далеки от, например, социологии
знания, где альтернативы институционализированы: между сциентизмом университе-
та и иррационализмом его задворок. Решения Ямпольской иные, интерналистские
в высшей степени, доходящей до трансцендентальности. Начнем со знакомства
с «Искусством феноменологии», а затем рассмотрим, что историко-философский
анализ круга авторов второй половины XX – начала XXI в. может сказать,
во-первых, о принципиальном понимании философии и, во-вторых, о персональном
познавательном и духовном опыте всякого философа.
Книга А. Ямпольской уникальна. Предсказуемым для читателя могло быть каче-
ство историко-философского анализа новой французской феноменологии: автор –
признанный специалист по данному вопросу, а ее прошлая большая работа, «Фено-
менология в Германии и Франции: проблемы метода» [Ямпольская 2013], уже стала
обязательной в курсах по современной философии. Но ценность книги этим не ис-
черпывается. Оглавление, в котором указаны Введение и две большие части, в каж-
дой из которых по четыре проблемные главы, подсказывает, что за исследуемыми
именами и концепциями возможно самостоятельное авторское философское выска-
зывание. Тем примечательнее, что по формальным признакам «Искусство феномено-
логии» не является рецензируемым научным изданием: издательство «Рипол-
Классик» выпустило книгу в литературно-художественной серии «Kairos». Получает-
ся, что по всем необходимым составляющим современного научного произведения –
научному аппарату, 30-страничной библиографии и по месту произведения в ряду
других научных работ автора – перед нами научная монография, но без научного
статуса. Можно подумать, что автор отказывается защищать произведение конвенци-
ональными нормами. Читатель получает ровно столько научности, сколько смог
взять без статусных заверений.
С первых же слов автор вводит нас в прагматику текста. Само заглавие книги
«Искусство феноменологии» вызывает вопросы: почему именно искусство, а не труд,
не религия, не философия, не наука феноменологии? И если искусство важно,
то почему не искусство в феноменологии, почему не искусство под названием фено-
менология и не феноменология искусства? Требует прояснения и то, как здесь по-
нимается искусство: как процесс или как произведение, как художественный процесс
или как творческий в самом широком смысле, как, например, искусства кулинара
или искусства врача? Может быть, речь об искусности? Так или иначе, «искусство»
в заглавии готовит нас, читателей, к интимности переживания встречи. Что касается
«феноменологии», то это самоопределение автора из феноменологического движения
и характеристика большей части референций, однако масштаб проблем книги выно-
сит нас за пределы феноменологической «школы», или «движения», в два с полови-
ной тысячелетия европейской философии, вырывает из созерцательности один на
один с произведением. Книга оказывается феноменологическим введением в пульса-
цию философской жизни, в «новую жизнь». Вхождение в «новую», философскую
жизнь – это то, каким именно образом человек покидает пещеру, как он меняет
свою исходную, «естественную» установку на феноменологическую, философскую.
Способ изменения должен показать и то, как возможно радикальное преобразование
субъекта вообще. И двухчастная структура работы раскрывает нам эти пути преобра-
зования: теоретический, или «эстетика», как называется первая часть книги, и прак-
тический, или «прагматика», как называется вторая часть.
Тематика преобразования субъекта, становящегося философствующим, в феноме-
нологическом движении восходит к Гуссерлю: «Тотальная феноменологическая
77
установка и соответствующее ей ἐποχή прежде всего по своему существу призваны
произвести в личности полную перемену, которую можно было бы сравнить с религи-
озным обращением» [Гуссерль 2004, 187]. И Ямпольская с гуссерлевским сравнением
согласна: «„Обращение в феноменологию“ сопряжено с теми же теоретическими
трудностями, что и религиозное обращение» [Ямпольская 2018, 12]. Вместе с тем,
тематика «обращения» исторически или филологически имеет обратное происхожде-
ние: не философское обращение сходно с религиозным, но религиозное – следствие
жанровой мимикрии [Йегер 1997; Алиева 2013] или повторения духовных упражне-
ний [Адо 2005], на которые пошли ранние христиане. Проповедь, керигма, особенно
прозелитическая, есть христианская форма особой речи обращения-вербовки учени-
ков в философскую школу. В самом общем виде жанровое деление можно предста-
вить, как конкурентное противостояние философов софистическому «эпидейксису»
(ἐπίδειξις) – демонстрации беспомощности аудитории перед софистическими прие-
мами с целью вызвать желание эти приемы освоить. В противоположность софистам,
цель философской речи не в том, чтобы обещать удовлетворение дофилософских
желаний слушателя, но в том, чтобы изменился он сам, его желания и действия
(Платон. Государство. 493b–d). Прежде всего, этой цели служило сообщение с теоре-
тическим увещеванием – «протрептик» (προτρεπτικός) – разъяснение учителя об из-
менении образа мысли, изменении метафизической, теоретической, духовной уста-
новки, пройдя которое, развернувшись, обратившись, ученик получит новое виде-
ние – видение подлинного, сулящего или сразу дающего и нечто искомое всяким
не-философом (благо, счастье, спасение, успех, богатство и т.д.), вслед за которым
меняются и действия. Иногда протрептик существовал в форме опровержения –
«эленхос» (ἔλεγχος). Христианская прозелитическая проповедь вполне наследует
жанр. С другой стороны, возможно и сообщение с практическим увещеванием –
«паренеза» (παραίνεσις) – разъяснение учителя об изменении образа действий, при-
няв и выполняя которые, ученик придет к некоторой общей цели. Часть христиан-
ских посланий также наследует жанр. Таким образом, говоря о «феноменологии»,
причем в русле её «теологического поворота» [Janicaud 1991], Ямпольская на деле
обращает нас к античной борьбе литературных жанров и образов жизни. Только те-
перь на стороне теоретического, или созерцательного, преобразования стоят не Пла-
тон и Аристотель, а русские формалисты, прежде всего Виктор Шкловский и Юрий
Тынянов, и французские феноменологи Марк Ришир, Анри Мальдине, Мишель Ан-
ри – именно в таком порядке представляет их нам автор. Практическое же по исход-
ному усилию обращение в философы исповедуют теперь не киники и стоики, а Жак
Деррида и Жан-Люк Марион, не без участия Эмманюэля Левинаса, Поля Рикёра,
Яна Паточки, Владимира Янкелевича, Ханны Арендт, а также Аврелия Августина и
Джона Остина. Две разные стратегии вхождения в «новую жизнь» уравниваются по-
следним героем книги – смертью.
Указанная драматургия наполнена локальными историко-философскими, бого-
словскими, психологическими и искусствоведческими сюжетами, распределенными
по девяти главам книги. Первая глава, «Вместо введения: феноменология как новая
жизнь», соответствует своему названию и не входит ни в одну из двух больших ча-
стей книги. Именно там мы встречаем сильную аналогию философского и религиоз-
ного обращения, которая, вместе с аналогией с искусством, развивается на протяже-
нии всего произведения, и там же указывается общая цель работы: «Выйти из мира
и вернуться к миру; пережить глубокое духовное преобразование, перестать быть со-
бой, чтобы стать самим собой в полном смысле слова – вот под каким углом мы хо-
тим взглянуть на искусство феноменологии» [Ямпольская 2018, 39]. Последующие
восемь глав – шаги феноменолога из пещеры естественной установки и обратно.
При этом научным целям философского обращения служат пост- или квазирелиги-
озная модель данного обращения и приемы искусства.
Первая часть, «Эстетика», начинается с главы «Видеть и чувствовать». Глава являет
нам пример параллельного чтения двух корпусов текста: фрагментов, преимущественно
из Гуссерля, о процессе и целях феноменологической редукции и размышлений русских
78
формалистов, преимущественно Шкловского, об эстетическом приеме остранения. Вы-
вод Анны Ямпольской: «Сущность эстетического опыта, равно как и сущность феноме-
нологической работы, состоит в производстве новых, неожиданных смыслов, которое
связано с нашей чувственной и аффективной вовлеченностью в мир и/или в произведе-
ние искусства» [Там же, 78]. Следующая глава «Редукция как прием», по словам автора,
есть изложение эпизода истории философии языком истории искусства, а именно взгляд
на концепцию гиперболизированной редукции Марка Ришира как на эстетический при-
ем, и здесь снова используется наследие русского формализма. Наверное, один из самых
сильных историко-философских тезисов содержит именно эта глава: прочтение ре-
дукции как приема, который выражает потребность феноменологии постоянно рас-
ширять поле своей работы, вовлекать в феноменологическое исследование то, что
вряд ли мог принять Гуссерль и его ранние ученики, – лик, зов, след, дар, проще-
ние – и чем славна французская феноменология; прием требует себе новый материал
и находит его. Глава «Эстетический опыт как опыт чувственный» и главный ее герой,
Анри Мальдине, погружаются вглубь субъекта; как философия в прошлых главах по-
нималась через эстетику, так эстетика раскрывается теперь через феноменологиче-
скую психиатрию. Денормализация приводит к «Метаморфозам субъекта» – так
называется последняя глава «эстетической» части книги. В ней на материале спора
Анри Мальдине и Мишеля Анри о творчестве и, в еще большей мере, о теоретиче-
ском наследии Василия Кандинского проясняется неочевидный для ранней феноме-
нологии доинтенциональный уровень сознания (или даже души), открывается воз-
можность трансформации субъекта посредством освобождения от опыта мира и опы-
та времени.
Вторая часть, «Прагматика», тоже состоит из четырех глав: «Исповедь: сотворение
истины», «Обещание: создание события», «Прощение: время мое и чужое» и «Смерть:
что значит стать субъектом». В первых трех последовательно исследуется как именно
радикальное преобразование субъекта связано со словом в работах, прежде всего, Жака
Деррида, его собеседников и комментируемых им мыслителей прошлого. Последняя
глава, о смерти, тематически отсылает к первой главе о «новой жизни». Это не просто
феноменологический анализ смерти, и здесь уже нет цели прояснить тот или иной ис-
торико-философский сюжет. Автор вовлекает нас в философскую или даже духовную
практику, в опыт говорения об абсолютном отсутствии, опыт проживающего понима-
ния того, что осталось вместо ушедшей жизни и лежит за пределами понимания.
«Искусство феноменологии» не рядовая историко-философская монография. Без-
условно, книга содержит множество ценнейшего материала, но также и побуждает
к вопросам о философской позиции автора, о линиях сравнения, очевидности или
необходимости выводов. Отдельный интерес представляет то, насколько необходимо
наделять эстетический опыт особенной эвристической ценностью и универсальной
референциальной значимостью для философа, и как затем получается религиозное
представление метафизических конструкций – новые и продуктивные в постфеноме-
нологии, данные решения в рамках традиций мысли, более сосредоточенных на ло-
гике, интеллектуализме, рациональности или позитивизме, были бы признаны пря-
мым регрессом от идеи научности. Примечательно то, насколько очевидным предме-
том критики может оказаться авторская позиция в гегельянской перспективе, где
философия отличается преодолением абстрактности религии, нуждающейся в формах
представления всеобщего, в том числе представления на языке искусства, – именно
тех «готовых к употреблению мыслей, prêt-à-penser» и «готовых к употреблению
чувств, prêt-à-sentir» [Там же, 76], которые, как это ни парадоксально, «остранением»
стремятся расшатать исследуемые в книге писатели, художники, французские фено-
менологии и русские формалисты. Т .е. философия всю свою историю стремится
и учится говорить на собственном языке, языке понятия, языке мысли, а не статич-
ным языком рассудочных определений и, тем более, не языком представления искус-
ства или религии. Сближение философии с искусством вплоть до отождествления и
подмены одного другим [Там же, 119] ставит философское произведение, независимо
от его научной ценности, в данном случае безусловной, под удар критики как
79
претенциозной литературы, которая без всякого на то права пользуется символиче-
ским капиталом науки, чтобы компенсировать свою неконкурентоспособность на
книжном рынке. Определение философского опыта как квазирелигиозного открывает
множество дополнительных проблем поверхностной, но от того не менее необходи-
мой критики: подозрения в неоправданных аналогиях и определении неизвестного
через неизвестное, заведомая суггестивность философского высказывания, эзотери-
зация опыта мысли, утрата всеобщего необходимого характера философских сужде-
ний, чрезмерность философии в рамках образовательных программ университетов.
Важно и другое – не обращение в философы, но наличие после обращения мотива-
ции к философскому труду как к работе, в конечном итоге, рутинной, состоящей из
методичного чтения, комментирования, дискуссий, отчуждающего письма, препода-
вания. «Новая жизнь», говорит нам Ямпольская [Там же, 9], нужна не только для
экстатического самопревосхождения, для возделывания души, утешения или подго-
товки к смерти, но и для философской работы. Как художник не может бесконечно
вдохновляться, ловя приходящие на ум образы, но рано или поздно творит, б лагода-
ря чему только и становится художником, так и философ подвергается конверсии,
обращению своей субъективности, чтобы сделать ее инструментом философствова-
ния. Но зачем? Чем для причастного трансцендентальной жизни после «...эпохе
в отношении всех объективных теоретических интересов, всех целей и действий, ко-
торые свойственны нам как объективным ученым или просто как людям любозна-
тельным» [Гуссерль 2004, 185] мотивировано стремление дискутировать, преподавать
и создавать философские произведения, будь то речи или тексты статей и книг,
т.е. стремление к «...хабитуальному исполнению, которому отведено свое время, ко-
гда оно оказывает свое воздействие в работе» [Там же, 187]? Наконец, вопрос скеп-
тика: философская конверсия, не есть ли она всего лишь привлекательная выдумка
для экзальтированных умов? Не является ли «новая» жизнь фантазмом? Само
настойчивое отделение до-философской установки от философской – оправдано ли
оно? Не экономнее ли предположение об имманентном следовании или наблюдении
за изъявлением явления в логос и изолганием изложения? Историко-философски
имманентное следование восходит к иной феноменологии – «Феноменологии ду-
ха», – и крайне любопытно, как совпадает дегегельянизация изначально крайне геге-
льянизированной французской феноменологии с ее «радикализацией», ростом мето-
дичности и трансцендентализацией, как можно заметить в поздней французской фе-
номенологии, представителям которой в основном и посвящена книга Ямпольской.
Богатство историко-философских сюжетов дает ответы тем, кто готов их принять
в том косвенном, или «мерцающем», виде, аргументированном по касательной, ана-
логически и метафорически, как представлены они у исследуемых в книге современ-
ных философов. Наиболее предсказуемо для понимания поставленных общих вопро-
сов было бы обратиться к разделу, открывающему «Искусство феноменологии».
Но названным проблемам посвящено все произведение, и в заключение нашего раз-
мышления над книгой мы обратимся к содержанию главы, полностью построенной
на взаимной обратимости оппозиций теоретической и практической моделей квази-
религиозного философского обращения, к главе «Исповедь: сотворение исти-
ны», которой мы видим, как Деррида и Марион по-разному понимают намерение
Августина «творить истину» (facere veritatem).
Марион считал, что истину можно творить как практику, исповедуясь или мо-
лясь, когда речь производна от исповедальной ситуации, ибо такая речь производит
самосознание, знающее себя как предстоящее перед молчаливым зовом Бога, а уже
получившееся самосознание способно на авторскую речь, в том числе перформатив-
ную. Так, у Мариона на первом шаге практика исповеди (confessio) предшествует
переживанию истины. Истина открывается в результате смены теоретической уста-
новки или после обращения (conversio) исповедью, но на втором шаге отказывает
субъекту в самотождественности, ставит его под вопрос, превосходит созерцатель-
ность, ослепляет как Солнце. Истина «паренезы», открывшись практически, теперь
сама взламывает и обустраивает существование субъекта как истина «протрептика»,
80
она вступает в свои права так, что ее узнают всегда уже учреждающей и субъектив-
ность, и ситуацию, и мир, как если бы с нее все и началось. Так оно и оказывается,
если вспомнить, что у Мариона открывается Бог. У Деррида Бога нет, но есть Дру-
гой. С самого начала перформативная речевая практика у Деррида предшествует ис-
тине обращения, т.к. само обращение производится истинной речью, или речью об
истине, но говорящий субъект не обладает привилегированной позицией: он не гово-
рит истину – истина «делается» в ходе его речения, выговаривается как бы помимо
его воли и по отношению к всегда уже наличному адресату, Другому. И все же в
обоих случаях наблюдается утрата линейности отношения confessio и conversio, оба
философа лишают субъект самотождественности, у обоих речь Другого звучит по-
средством меня, меня же и создавая. Очевидно, позиции и Мариона, и Деррида вос-
ходят к Левинасу. Отличия между подходами Ямпольская видит в следующем:
«...если для Мариона confessio служит инструментом или даже мотором conversio, то
для Деррида, напротив, самый акт conversio – в силу присущего ему исторического
характера – делает confessio недействительным» [Ямпольская, 2018, 207]. Деррида
привычным и многократно повторенным жестом доводит ту или иную событийность
до состояния апории – до невозможности исповедоваться (а также свидетельство-
вать, каяться, пророчествовать, обещать и прощать – все это архетипические модусы
философской речи), т.к. субъект должен отказаться от внешних целей высказывания,
но также предполагать адресатов, и, что сложнее, должен сохраняться в обеих уста-
новках: в «новой жизни», чтобы говорить, и в «ветхой», чтобы моя речь была моей,
тогда как обращение требует «радикальности» – излюбленного слова французской
философии. Как следствие, «радикальной» становится ситуация, например, испове-
ди – она становится возможностью невозможного. Очередное подтверждение автор-
ского замысла в названии книги: этой возможностью невозможного является искус-
ство, фикция. Но, говорит нам Ямпольская, на месте искусства может быть и поли-
тика, другая форма духовного опыта, понимаемого через изменение субъектности, и,
возможно, тема будущих исследований автора.
Данная глава иллюстрирует познавательную стратегию всей книги: герменевтиче-
ское прояснение и феноменологическая дескрипция, а не аргументированное обос-
нование и опровержение – это, наверное, единственный способ говорения о том,
о чем говорить невозможно, но о чем невозможно не говорить. И это справедливо,
т.к. еще с первой главы, «Вместо введения», мы предупреждены: «Рассуждение пере-
стает двигаться естественным, логическим способом – тем способом, которым дви-
жется рассуждение в естественных науках, потому что философ начинает говорить
о том, о чем можно сказать только неестественно, по-философски» [Там же, 18].
Пара «философия и наука» – типичная проблема профессионального самоопреде-
ления и демаркации знания. Самый примиряющий союз «и» создает невротизирую-
щий ускользающий статус философа и его произведения между установками мысли и
путями преобразования установок, между профессиональной работой и пафосом
мысли, между речью логической и религиозно-эстетической. Именно в данном мер-
цании не-данности, не-заданности, рискованности не-признания представили нам
обстоятельства издания книгу «Искусство феноменологии» – исследование феноме-
нологии, но, вместе с тем, и самостоятельный философский трактат, высказывание,
обогащающее новыми интеллектуальными ходами. Книга позволяет не только по-
нять, как соотносятся философские подходы представителей французской постфено-
менологии, но, и прежде всего, увидеть одно из возможных пониманий жизни фено-
менологической мысли. Не in vitro, отстраненно, но in vivo, в субъективности читате-
ля и самого автора, проводит Ямпольская линии пересечений между идеями совре-
менных философов и теоретическим наследием русского формализма, обращается
к аналитической мысли, психологии и патристике, чтобы продемонстрировать тыся-
челетнее единство философии в поисках «новой жизни». Ключ для понимания рос-
сийский феноменолог нашла в искусстве, эстезисе и творческой практике; они вы-
ступают одновременно как аналогия, образец и как само философствование, вплоть
до того, что феноменолог оказывается большим художником, чем живописец,
81
архитектор или поэт. Книга позволяет задуматься, как феноменология встроена в
историю философии и в чем новизна феноменологической философии как провод-
ника в подлинно философскую установку мышления. Книга дает повод вспомнить,
как и зачем философ превращает себя в инструмент познания – абсолютного, транс-
цендентального, трансгрессивного. Безупречное в изложении фактического материа-
ла, произведение остается открытым для критики исследовательской позиции, кото-
рую небесспорно, но, тем не менее, возможно относить к тем или иным современ-
ным философским тенденциям, в частности, к «теологическому повороту феномено-
логии», российским участником которого оказывается Анна Ямпольская.
Источники – Primary Sources
Адо 2005 – Адо П. Духовные упражнения и античная философия. СПб .: Степной ветер, 2005
[Hadot, Pierre (1981) Exercices spirituels et philosophie antique (Russian translation 2005)].
Гуссерль 2004 – Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология:
Введение в феноменологическую философию / пер. Д . В . Скляднева. СПб.: Владимир Даль ,
2004 [Husserl, Edmund, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale
Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie (Russian translation 2004)].
Йегер 1997 – Йегер В. Пайдейа. Воспитание античного грека. Том 2. М.: Греко -латинский
кабинет Ю.А. Шичалина, 1997 [Jeager, Werner (1944 ) Paideia. Die Formung des griechischen
Menschen, Vol. 2 (Russian translation 1997)].
Ямпольская 2018 – Ямпольская А.В . Искусство феноменологии . М.: Рипол-Классик, 2018
[Yampolskaya, Anna (2018) The art of phenomenology, Ripol-Klassik, Moscow (in Russian)].
Ссылки – References in Russian
Алиева 2013 – Алиева О.В . Формирование и развитие жанров протрептика и паренезы в
античной и раннехристианской литературе. М .: ПСТГУ, 2013.
Ямпольская 2013 – Ямпольская А.В . Феноменология в Германии и Франции: проблемы
метода. М .: РГГУ, 2013.
References
Aliyeva, Olga V. (2013) Formation and development of the genres of Protreptic and Paraenesis in
ancient and early Christian literature , PSTGU, Moscow (in Russian).
Janicaud, Dominique (1991) Le tournant théologique de la phénoménologie française, Editions de
l’Eclat, Paris.
Yampolskaya, Anna (2013) Phenomenology in Germany and France: problems of the method , RGGU,
Moscow (in Russian).
Сведения об авторе
КУРИЛОВИЧ Иван Сергеевич –
кандидат философских наук, старший
научный сотрудник Центра фено менологи-
ческой философии, Российского государ-
ственного гуманитарного университета.
Author’s information
KURILOVICH Ivan S. –
CSc in Philosophy, Senior Researcher of the
Center for Phenomenological Philosophy of the
Russian State University for the Humanities.
82
ФИЛОСОФИЯ И НАУКА
Числовое познание в контексте когнитивных исследований*
© 2019 г.
В.А. Бажанов
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, 432017, ул. Льва Толстого, д. 42.
E-mail: vbazhanov@yandex.ru
Поступила 14.03.2019
В статье ставится проблема анализа феномена числового познания
под углом зрения биокультурного со-конструктивизма. Проводится
мысль, что числовое познание представляет собой социокультурный
артефакт, имеющий в основаниях онтогенетическую природу, универ-
сальную для живых существ, сформированную их адаптацией к окру-
жающей среде и длительной эволюцией. Культуры (а вслед за ними
и сообщества) можно разделить на числовые и нечисловые (в зависи-
мости от ряда социальных и культурных условий, а также от вида до-
минирующей деятельности). Автор статьи показывает, что приобрете-
ние способности оперировать числами открывает перед сообществами
перспективы экономического прогресса и тонкой настройки когни-
тивных механизмов, которые в определенной степени завязаны на со-
циокультурные и лингвистические особенности развития этих сооб-
ществ. Социокультурные факторы, которые играют важную роль
в обучении математике и совершенствовании математического мыш-
ления у представителей различных сообществ, накладывают отпечаток
на локализацию и активность нейроструктур. Определенный след
оставляет и язык, на котором осуществлялось начальное математиче-
ское образование. В статье обращается внимание на то, что для более
эффективного обучения математике в методологии и методике обра-
зовательного процесса целесообразно учитывать специфику числового
познания в различных культурах.
Ключевые слова: числовое познание, онтогенетические основания
числа, прото-арифметика, числовые и нечисловые культуры, биокуль-
турный со-конструктивизм, число как артефакт культуры, предикторы
в образовании.
DOI: 10.31857/S004287440007527-4
Цитирование: Бажанов В.А . Числовое познание в контексте когни-
тивных исследований // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 82–90.
*
Исследование поддерживалось грантом РФФИ No19-011 -00007а.
83
Numerical Cognition in Cognitive Research Perspective*
© 2019 г.
Valentin A. Bazhanov
Ulyanovsk State University, 42, L’va Tolstogo st. Ulyanovsk, 432017, Russian Federation.
E-mail: vbazhanov@yandex.ru
Received 14.03.2019
The article poses the problem of analyzing the phenomenon of numerical cog-
nition from the point of view of biocultural co-constructivism. The idea put
forward that this phenomenon we should study as a sociocultural artifact, in its
foundations having an ontogenetic nature, universal for living beings and
formed by a long evolution and their adaptation to the environment. Depend-
ing on a certain social and cultural conditions, the nature of dominant activity
the cultures are divided into numerical and non-numerical. We suggest that the
acquisition of the ability to operate with numbers opens up human communi-
ties the prospects for economic progress and fine-tuning of their cognitive
mechanisms, which are to some extent relate to the sociocultural and linguistic
features of the development of these communities. Socio-cultural factors that
play an important role in teaching mathematics and improving mathematical
skills among representatives of various civilizations leave their imprint on the
localization and activity of neural structures. A certain imprint leaves the lan-
guage in which the initial mathematical education as well. Attention paid to the
fact that for more effective teaching of mathematics in the methodology and
technique of the educational process, it is advisable to take into account the
specifics of numerical knowledge acquisition in various cultures.
Key words: numerical cognition, ontogenetic source of a number, proto-
arithmetic, numerical and non-numeric cultures, biocultural co-
constructivism, number as a culture artifact, predictors in education.
DOI: 10.31857/S004287440007527-4
Citation: Bazhanov, Valentin A. (2019) ‘Numerical Cognition in Cognitive
Research Perspective’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 82–90.
В современных когнитивных исследованиях заметное место занимают исследова-
ния особенностей так называемого «числового познания (numerical cognition)». Уже
несколько лет (с 2015 года) ежеквартально выходит Journal of Numerical Cognition, ко-
торый посвящен изучению этого феномена в психологических и нейропсихологиче-
ских аспектах. Однако в отечественной литературе анализ этого феномена фактиче-
ски отсутствует. Поиск в Интернете понятия «числовое познание» (или «цифровое
познание» – хотя содержание этих понятий, конечно, не тождественно) дает ссылку
на один-единственный ресурс, который представляет собой довольно грубый перевод
некоторых рубрик из какого-то краткого англоязычного справочника. Цель настоя-
щей статьи заключается в попытке восполнить этот пробел и осмыслить феномен
числового познания в контексте когнитивных исследований под философским углом
зрения: что из себя представляет предмет числового познания? Каковы подходы
к анализу этого феномена? Имеет ли отношение культура (или различные культуры
народов мира) к числовому познанию и, если да, то какое место она в этом виде по-
знания занимает? Возможны ли натуралистическое и социоцентристское измерения
числового познания? Наконец, какую роль в числовом познании и становлении ин-
теллекта играют методы обучения математике?
*
This work was supported by RBRF grant No 19-011 -00007а.
84
Выдающийся представитель генетической психологии Жан Пиаже рассматривал
особенности эволюции детского интеллекта, в значительной мере опираясь на воз-
можности ребенка оперировать математическими представлениями и операциями.
Его идеи касались развития интеллекта индивидуума. Овладение числом, по мнению
Пиаже, является результатом усложнения мышления ребенка как субъекта (индиви-
дуального) развития. Л .С. Выготский подходил к анализу становления интеллекта,
подразумевая имманентную погруженность субъекта в определенный социокультур-
ный контекст, который играет не просто важную, а решающую роль в этом процессе.
При этом Л.С. Выготский имел в виду и естественную линию развития интеллекта,
и социокультурную линию, которые пересекались и активно взаимодейс твовали,
причем, как считал ученый, это взаимодействие является диалектическим по своей
природе [Dafermos 2018, 26]. В определенном смысле подходы Ж. Пиаже и Л.С. Вы-
готского являются взаимодополнительными. Автор настоящей статьи, как и иные
современные исследователи числового познания (см.: [Saxe 2015, 5]), придерживается
линии Л.С. Выготского, поскольку интерпретирует числовое познание как преиму-
щественно социокультурный в своих основаниях артефакт.
Серьезный импульс к изучению числового познания содержался в трудах И. Лакато-
са, который обратил внимание академического сообщества на важность психологическо-
го момента в математических рассуждениях и указал на необходимость анализа его роли
в развитии математического знания [Бажанов 2009]. По существу, именно с И. Лакатоса
начался постепенный процесс переосмысления статуса платонизма (реализма) как
наиболее перспективного и востребованного направления в философии математики.
До появления работ И. Лакатоса активно не вспоминалось о том, что еще в 1840-х гг.
Дж. Милль и в 1870-х гг. Э. Шредер высказывали идеи, несовместимые с плотным сле-
дованием идеологии платонизма в основаниях математики [Everett 2017, 32].
Примерно с начала 1990-х гг . внимание исследователей приковывается к феноме-
ну числового познания (и числу как элементу этого познания) в аспекте его соци-
ального и психологического измерений. Именно тогда разворачивается процесс пе-
реоткрытия, казалось бы, давно известного и досконально изученного феномена чис-
ла и разнообразных процедур оперирования числовой информацией. С этого момен-
та число начинают трактовать как ключевой элемент, гарантирующий неоспоримое
практическое преимущество «числовым» культурам, опирающимся в развитии на ди-
гитальные категории, перед «нечисловыми». К «нечисловым» относятся культуры,
которые еще не сформировали категорийный ряд понятий – числительных , цвето-
обозначающих имен, страдательного залога. Эти культуры обладают крайне узкими
лексическими показателями времени, родства и т.д. [Кошелев 2018, 55 –57; Кронгауз,
2018, 18]. Таковыми даже в настоящее время являются некоторые племена (мундуру-
ки, пираха), обитающие в джунглях Амазонки.
Гипотеза лингвистической относительности получает в исследованиях многообразных
компонентов числового познания некоторые аргументы в свою пользу. Как подчеркивает
Калеб Эверетт, различия в языках влекут за собой различия в когнитивных установках [Ev-
erett 2017, 191]. В некотором смысле их можно отнести к онтогенетически предзаданным
факторам, «априорным интуициям», существование которых можно усмотреть в критиче-
ской философии И. Канта, переосмысленной в терминах современной нейронауки (хотя
иногда считается, что эту ситуацию точнее описывает не философия И. Канта, а интуици-
онизм голландских математиков Л.Э.Я. Брауэра и Г. Грисса [Graziano 2014, 375]).
Стоит также обратить внимание на то обстоятельство, что изучение числового по-
знания имеет и неожиданный медицинский или, точнее, терапевтический, аспект.
Изучая особенности этого познания у лиц, страдающих нейропатологиями развития
и/или аутизмом, можно обнаружить причины этих патологий на уровне тех или иных
участков мозга [Allman, Pelphrey, Meck 2012, 16–17]. Именно анализ специфики опе-
рирования числами позволяет эффективно моделировать функциональную активность
нейронных сетей мозга и создавать их топографический атлас [Arsalidou, Taylor 2011].
Еще в начале 1990-х гг. К. Уинн проводила эксперименты по исследованию спо-
собности младенцев возраста пяти месяцев к простейшим арифметическим операциям
85
(сложение и вычитание); ученая высказала предположение, что существуют врожден-
ные нейроструктуры, которые позволяют младенцам совершать такого рода опера-
ции, а также операцию отождествления количества предметов, причем эти
нейроструктуры обрабатывают и числовую и нечисловую (символическую) информа-
цию. Феномен получил название «младенческой» арифметики [Wynn 1992, 749]. Пер-
вая структура функционирует без участия языка, а формат функционирования второй
зависит и от языка, и от культуры, в которой развивался и находится интеллект. Так,
ее локализация в мозге различается у представителей западной и восточной цивили-
зации [Tang, Liu 2009, 152].
Позднее исследователи убедились, что возможность воспринимать небольшие ко-
личества предметов (обычно до четырех) и оперировать ими является универсальным
свойством всех сколько-нибудь сложных живых существ – от человеческих младен-
цев до рыбок семейства гуппи [Agrillo, Piffer, Bisazza, Butterworth 2012]. Это свойство
относится к гомологическим характеристикам человеческих и «нечеловеческих» ( non-
human) живых существ [Kadosh, Walsh 2009, 899]. Оно является филогенетически
ранней функцией, которая возникла с целью обеспечить эффективное сенсомоторное
взаимодействие с окружающей средой с целью наиболее оптимальной адаптации.
Феномен, состоящий в симультанном восприятии небольших количеств (дискрет-
ных) предметов в силу онтогенетических особенностей мозга получил название суби-
тации (иногда его описывают в терминах «дискретной числовой системы» – DNS, dis-
crete number system [Jones 2018]). Имеется много оснований полагать, что именно суби-
тация является стартовой точкой освоения понятийного сопровождения численного
познания и даже некоторых функций высшей нервной деятельности [Benoit, Lehalle,
Jouen 2004]. Речь идет о так называемом «чувстве числа» (sense of number или numerosi-
ty), открытом и изученном французским нейрофизиологом С. Деаном [Dehaene 2011].
Функционирует еще одна врожденная нейроструктура, позволяющая с некоторой точ-
ностью (приближенно) воспринимать и оперировать с такого рода группами предме-
тов, например, сравнивать их с точки зрения количества (ANS – approximate number
system). Именно эти два основных онтогенетически заданных механизма мозга, сфор-
мированных в результате длительных эволюционных процессов адаптации к окружаю-
щей среде и существенно повышающих шансы выжить при неблагоприятных условиях,
являются фундаментом не только «прото-арифметики», но и всей математики. Здесь
допустимо говорить о своего рода «скачке» от «прото-арифметики» к «полноценной»
арифметике и вообще математике. «Арифметика, – замечает М. Пантсар, – опирается
на прото-арифметические способности дифференцировать наблюдения в зависимости
от количества воспринимаемых предметов, – способности, которой мы обладаем
с раннего детства и разделяем со многими живыми существами» [Pantsar 2014, 4201;
см. также: Pantsar 2018, 299]. Эти способности – натуралистические предпосылки ма-
тематического мышления, которое в своих истоках имеет элементарные операции, со-
вершаемые системами DNS и ANS, и развивается в процессе математического образо-
вания и прогресса математического знания. Когда имеется в виду усложнение матема-
тического мышления на основе данных систем, то напрашивается аналогия с машиной
Тьюринга, простейшим устройством, состоящим всего из нескольких элементов, кото-
рое, однако, позволяет реализовывать алгоритмы сколько угодно сложной природы:
комбинации простых элементов конечного множества способны образовать едва ли не
бесконечное число вариантов решений.
С точки зрения модулярной теории когнитивных особенностей мозга [Spelke,
Kinzler 2007; см. также: Марютина 2014] обычно выделяют пять модулей: представ-
ляющие внешние объекты и их взаимодействия, целеполагание, порядок и величины,
определение расположения в пространстве, а также принадлежность человека к опре-
деленным социальным группам и партнерству. Эти модули могут быть интерпретиро-
ваны как фиксирующие отдельные предметы и их совокупности, субъекты и направ-
ленность их деятельности, количества, ординалы и кардиналы (имея в виду характе-
ристики множеств предметов), местоположения, человеческие сообщества и характер
взаимоотношений в пределах этих сообществ. С помощью этих ментальных по своей
86
природе модулей упорядочивается человеческий опыт. Их статус, опять -таки, может
быть осмыслен в терминах априоризма, восходящего к философии И. Канта [Kryszto-
fiak 2016, 6]. Человек как бы просматривает и препарирует мир, адаптируясь к нему,
с помощью этих «модульных» (нейро)образований.
Модулярная теория мозга дополняется теориями Куайновского бутстрапа («за-
шнуровки»; ранее представления о бутстрапе были приняты в теории, описывающей
поведение элементарных частиц – адронов), нейронного «синтеза» (neuralreuse)
и гипотезой «фильтрования» (filtering hypothesis) [Jones 2018]. Смысл Куайновского
бутстрапа и нейронного «синтеза» сводится к тому, что поступающая в мозг инфор-
мация распределяется и кодируется не только теми его областями, которые несут
основную нагрузку в этом функционале, но в этот процесс также вовлекаются и дру-
гие разделы мозга. Гипотеза «фильтрования» касается способности мозга отсеивать
нерелевантную для выполняемых его носителем действий информацию. Все это –
свидетельство высокой степени пластичности, типичной для нейроструктур, которые
в исходной точке сенсорного восприятия задают его априорный характер, а затем
перестраиваются в процессе филогенеза, обеспечивая мозгу в результате длительной
эволюции эту пластичность. Процессы, описываемые этими теориями, в полной мере
работают при численном познании [Piazza, De Feo, Panzeri, Dehaene 2018, 43], преж-
де всего в процессе совершенствования навыков математического мышления.
Понимание природы числа является ключевой задачей в контексте изучения фе-
номена числового познания. Каков модус существования числа? Является ли число
независимым от нашего сознания конструктом, природа которого соответствует идее
средневекового реализма или современного реализма (платонизма) в философии ма-
тематики, или это конструкт нашего сознания, порожденный при определенных со-
циокультурных условиях и связанный, с эволюционной точки зрения, с задачей
адаптации к окружающей среде?
Энактивизм настаивает на том, что числа – такие же артефакты культуры, как
письменность и/или архитектура. «Математические понятия, – утверждают Д. Ла-
кофф и Р. Нуньес <...> создаются мозгом на основе нервных структур и личного со-
циального опыта человека» [Лакофф, Нуньес 2012, 47]. В современной нейронауке
все больше укрепляется убеждение, что «познание – фундаментально культурный
феномен» [Bender, Beller 2013, 42]. Мозг имеет дело с количеством (предметов),
а число – порождение тех культур, которые когда-то перешли от охоты к земледе-
лию. Племена мундуруки и пираха, не знающие земледелия, до сих пор относятся к
нечисловым культурам. Охота составляет фактически единственный базис их жизне-
деятельности. Письменность у них отсутствует. Поэтому представители этих племен
способны различать количества предметов очень приблизительно, но в полном соот-
ветствии с законом Вебера-Фехнера, который описывает результаты действия суби-
тации и системы ANS.
Открытие числа, по мнению К. Эверетта, сопоставимо по своему значению с от-
крытием колеса и каменных орудий. Между числовыми обществами возникают тор-
говые отношения и коммуникация по поводу обмена товарами. Тем самым они по-
лучают неоспоримое преимущество в качестве и темпах развития перед нечисловыми
обществами (не воспроизводится ли в определенном смысле эта черта в нас тоящее
время, когда происходит дифференциация обществ в зависимости от перспектив пе-
рехода на так называемую «цифровую» экономику?..) . Торговля между нечисловыми
обществами, стержень существования которых составляет охота, фактически отсут-
ствует: добыча обычно столь невелика, что ее едва хватает для того, чтобы прокор-
мить членов этого общества, но эти общества в своем культурном развитии еще не
поднялись до земледелия (см: [Everett 2017, II]).
Однако и в случае числовых обществ активность мозга детерминируется по-разному
в условиях разных культур. Так, например, у китайцев и англичан в процессе решения
идентичных арифметических задач активируются различные участки мозга. Главная
причина этого кроется в глубинных различиях культур (коллективистского типа у ки-
тайцев и индивидуалистского – у англичан), языков, в традиции использования абака
87
при обучении счету у восточных народов и опоре на лингвистические средства у ан-
гличан [Tang, Zhang 2006, 10778]. Характер деятельности воздействует на нейрострукту-
ры и формирует модусы их активности, а, стало быть, и когнитивные особенности.
Если вспомнить о кантианской исследовательской программе в нейронауке, то с фило-
софско-методологической точки зрения здесь можно говорить о деятельностном типе
трансцендентализма [Бажанов 2017]. Имеет место и обратное воздействие: формат ак-
тивности мозга носителей определенной культуры связан с их специфичными когни-
тивными особенностями, и тем самым формирует соответствующую культуру. Есте-
ственная и социокультурная траектории развития человека и человеческих сообществ
взаимоопределяют друг друга. Механизмы этого взаимоопределения описываются кон-
цепцией биокультурного со-конструктивизма [Бажанов 2018]. Данная теория подчерки-
вает свойство удивительной пластичности мозга, неизменно реагирующего на социо-
культурные реалии и производящего своего рода «подстройку» под них («подстройку»,
детерминирующую в некоторой степени и сами эти реалии).
Казалось бы, привычные и давно усвоенные представления из области математи-
ки на самом деле являются продуктом человеческой культуры, важный компонент
которой и составляет математика. Скажем, такой общезначимый образ, как изобра-
жение натурального ряда чисел посредством геометрической линии, простирающейся
от минус до плюс бесконечности. Наглядное изображение множе ства натуральных
чисел в виде линии – достижение только XVII столетия. Даже у Р. Декарта, который,
«синтезировав» арифметику и геометрию, разработал аналитическую геометрию, от-
сутствовало изображение чисел в виде ныне интуитивно очевидной числовой пря-
мой. Она была введена Дж. Нэпером в «Описании удивительной таблицы логариф-
мов» 1614 г. и Дж. Уоллисом в «Трактате по алгебре» 1685 г. С этого момента число-
вая прямая становится общезначимым элементом культуры, который дает простой и
интуитивно очевидный образ множества натуральных чисел. Основной источник это-
го образа – уже начальное математическое образование.
В психологии и педагогике достаточно давно заметили, что образование играет
ключевую роль в развитии способностей оперировать с числами. Причем уже на
ранних стадиях развития ребенка можно высказать суждения относительно его мате-
матической одаренности в будущем. Так, об этом можно судить по тому, насколько
ребенок симультанно различает и сравнивает количество точек в сопоставляемых
множествах точек [Piazza, De Feo, Panzeri, Dehaene 2018]. В дальнейшем именно
культура, особенности языка и образование оказываются ответственными за развитие
математического мышления ребенка.
Наличие математических способностей в раннем возрасте является более эффек-
тивным предиктором (индикатором) последующих успехов в обучении ребенка, чем
темпы освоения букв, чтения, обогащения его словарного запаса [Duncan, Dowsett, et
al. 2007, 1443]. Эти способности напрямую говорят о его возможности сосредоточить-
ся на определенных задачах, концентрации внимания на наиболее существенных де-
талях, которые позволят отыскать правильные решения. Однако приобретение и со-
вершенствование этих способностей – непростой процесс, требующий учета множе-
ства факторов, относящихся как к возможностям нейроструктур работать с опреде-
ленной информацией, так и к методологии и методикам ее «преподнесения» [Cragg,
Gilmore 2014, 64].
Обучение китайских детей арифметике с опорой на абак, формирующий зрительно-
пространственное мышление и активирующий соответственные области мозга, приво-
дит к тому, что они несколько раньше осваивают навыки счета, чем их европейские
сверстники; китайские дети опережают европейских в «обратном» счете, но уступают
в операциях сравнения чисел и «прямом» счете [Dowker, Nuerk 2016, 3]. Замечено, что
если в процессе математических операций у носителей английского языка сильнее воз-
буждаются такие области мозга как область Вернике и центр Брока, то у китайцев и
других восточных народов такое возбуждение затрагивает премоторные отделы коры
мозга. Вообще, у представителей восточных народов такого рода операции в бòльшей
степени опираются на области мозга, ответственные за зрительно-пространственное
88
мышление, тогда как у представителей западных – на области мозга, связанные со
способностями к речи [Tcheang 2014, 61–62]. При этом у билингвов на характер актив-
ности мозга оказывает решающее влияние тот язык, на котором происходило обучение
математике; родной язык здесь играет меньшую роль [Rule, Freeman, Ambady 2011,
113]. Хотя и в пределах носителей одного языка имеются некоторые различия в актив-
ности, относящиеся к характеру связей тех или иных участков мозга [Willmes 2018].
Влияние языка распространяется и на такие базисные сенсорные способности че-
ловека как восприятие времени. У носителей северокитайского языка (Mandarin lan-
guage) доминирует «вертикальное» восприятие времени, тогда как у носителей индо-
европейских языков доминирует «горизонтальное» восприятие времени. Если линг-
вистические конструкции, относящиеся к числительным, близки к десятичной си-
стеме (где нет исключений, подобных eleven или twelve в английском языке, в кото-
ром нарушено правило прибавления единицы), то их носители быстрее овладевают
счетом [Boroditsky 2011, 65]. Фактически, отсюда вытекает вывод в духе гипотезы
лингвистической относительности (Сепира-Уорфа): различия в языках вносят неко-
торые нюансы в когнитивные стратегии носителей этих языков.
Думается, что в практике отечественного образования следовало бы полнее учи-
тывать и высокую степень правдоподобия индикаторов последующих успехов обуча-
ющегося, связанных с ранними математическими способностями, и, казалось бы, не
столь значительные по своему статусу особенности языковой среды, влияющие на
когнитивный потенциал детей.
Таким образом, числовое познание в онтогенетическом плане баз ируется на
функционировании двух основных нейроструктур, обеспечивающих процесс субита-
ции и оперирования приближенными оценками количеств предметов. Между тем
особенности функционирования этих нейроструктур зависят от того, в атмосфере
каких культур и социумов они сформировались и находятся. Естественная траекто-
рия развития субъекта числового познания теснейшим образом переплетена с его
социокультурной траекторией. И число, и числовое познание оказываются социо-
культурными артефактами, что позволяет осмысливать это познание в терминах био-
культурного со-конструктивизма. Наконец, в процессе обучения детей имеет смысл
учитывать индикаторы, которые проливают свет на их математические способности и
некоторые факторы, которые относятся к их языковой среде.
Необходимо обратить внимание на те обстоятельства, которые говорят о слабой
изученности числового познания. Нейрофизиологи, анализирующие механизмы чис-
лового познания, прекрасно осознают это и намечают пути перспективных исследо-
ваний. Почти три десятка ключевых проблем были сформулированы большой груп-
пой ученых в программной статье с характерным названием «Вызовы со стороны
(изучения) математического анализа» [Alcock, Ansari, et al. 2016]. Другая группа
нейрофизиологов выдвинула альтернативную программу исследований, в которой
существенно больший акцент сделан на учете влияния культуры на математическое
познание [Bender, Beller, Christomalis, et al. 2018]. Дальнейшее исследование числово-
го познания обещает много интересных находок, которые могут пролить новый свет
на архитектуру мозга и его когнитивный потенциал.
Ссылки – References in Russian
Бажанов 2009 – Бажанов В.А . Переосмысливая И. Лакатоса заново // Вопросы философии.
2009. No 8. C . 92–97.
Бажанов 2017 – Бажанов В.А. Деятельностный подход и современная когни тивная наука //
Вопросы философии. 2017 . No 9 . С . 162–169.
Бажанов 2018 – Бажанов В.А. Социум и мозг: биокультурный со -конструктивизм // Вопро-
сы философии. 2018. No 2. С. 78–88.
Кошелев 2018 – Кошелев А.Д . О влиянии культуры социума на его язык (на примере а мазон-
ского племени пираха) // Российский журнал когнитивной науки. 2018 . Т . 5 . No 1. С . 44 –62.
Кронгауз 2018 – Кронгауз М.А. Дэниел Эверетт и Бенджамин Уорф: лингвистические и нелинг-
вистические параллели // Российский журнал когнитивной науки. 2018. Т. 5. No 1. С. 14 –19.
89
Лакофф, Нуньес 2012 – Лакофф Д., Нуньес Р. Откуда взялась математика: как разум во пло-
ти создает математику // Горизонты когнитивной психологии. М: ЯСК, РГГУ, 2012. С . 29–47 .
Марютина 2014 – Марютина Т.М. Нейроконструктивизм – новая парадигма возрастной
психофизиологии? // Современная зарубежная психология. 2014 . Т. 3 . No 4. С . 132 –143 .
References
Agrillo, Christian, Piffer, Laura, Bisazza, Angelo, Butterworth, Brian (2012) ‘Evidence for Two Numer-
ical Systems that are Similar in Humans and Guppies’, PLoS One, 7 (2), e31923.
Alcock, Lara, Ansari, Daniel, et al. (2016) ‘Challenges in Mathematical Cognition. A Collaborative-
ly-Derived Research Agenda’, Journal of Numerical Cognition, 2 (1), pp. 20 –41 .
Allman, Melissa J., Pelphrey, Kevin A., Meck, Warren H. (2012) ‘Developmental Neuroscience of
Time and Number: Implications for Autism and other Neurodevelopmental Disabilities’, Frontiers in
Integrative Neuroscience, 6, 7, pp. 1 –18 .
Arsalidou, Marie, Taylor, MargotJ. (2011) ‘Is 2+2=4? Meta-Analyses of Brain Areas Needed for
Numbers and Calculations’, Neuroimage, 54, 3, pp. 2382 –2393.
Bazhanov, Valentin A. (2009) Rethinking I. Lakatos Again, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2009), pp. 92–
97 (in Russian).
Bazhanov, Valentin A. (2017) Activity Approach and Contemporary Cognitive Science, Voprosy
Filosofii, Vol. 9 (2017), pp. 162–169 (in Russian).
Bazhanov, Valentin A. (2018) Society and the Brain: Biocultural Co -Constructivism, Voprosy Filoso-
fii, Vol. 2 (2018), pp. 78 –88 (in Russian).
Bender, Andrea, Beller, Si eghard (2013) ‘Cognition is... Fundamentally Cultural’, Behavioral Sci-
ences, 3, pp. 42 –54 .
Bender, Andrea, Beller, Sieghard, Christomalis, Stephen, et al. (2018) ‘The Cultural Challenge in
Mathematical Cognition’, Journal of Numerical Cognition, 4 (2), pp. 448–463.
Benoit, Laurent, Lehalle, Henri, Jouen, Francois (2004) ‘Do Young Children Acquire Number
Words through Subitizing or Counting?’, Cognitive Development, 19, pp. 291–307.
Boroditsky, Lera (2011) ‘How Language Shapes Thought’, Scientific American, 2, pp. 63‒65.
Cragg, Lucy, Gilmore, Camilla (2014) ‘Skills underlying mathematics: The role of executive function in
the development of mathematics proficiency’, Trends in Neuroscience and Education, 3, pp. 63–68.
Dafermos, Manolis (2018) Rethinking Cultural-Historical Theory. A Dialectical Perspective to Vygot-
sky, Springer, Singapore.
Dehaene, Stanislas (2011) The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics , Oxford University
Press, New York.
Dowker, Ann, Nuerk, Hans-Christoph (2016) ‘Editorial: Linguistic Influences on Mathematics’,
Frontiers in Psychology, 7, 1035, pp. 1 –3 .
Duncan, Greg J, Dowsett, Chantelle J., Claessens, Amy, et al. (2007) ‘School Readiness and Later
Achievement’, Developmental Psychology, 43, 6, pp. 1428 –1446.
Everett, Caleb (2017) Number and the Making of Us: Counting and the Course of Human Cultures,
Harvard University press, Cambridge.
Graziano, Mario (2014) ‘Numerical Cognition and Philosophy of Mathematics. Dehaene’s (Neu-
ro)Intuitionism and the Relevance of Language’, RIFL/SFL, pp. 362–377.
Jones, Max (2018) ‘Numerals and Neural Reuse’, Synthese, 195, pp. 1 –25 .
Kadosh, Roi C., Walsh, Vinsent (2009) ‘Numerical Cognition: Reading Numbers from the Brain’,
Current Biology, 19, 19, pp. 898–899.
Koshelev, Alexey D. (2018) On the Influence of the Culture of Society on its Language (the Case of
the Amazonian Tribe Pyrah), Rossiyskiy zhurnal kognitivnoy nauki, 5, 1, pp. 44 –62 (in Russian).
Krongauz, Maxim A. (2018) Daniel Everett and Benjamin Whorf: Linguistic and Non -Linguistic
Parallels, Rossiyskiy zhurnal kognitivnoy nauki, 5, 1, pp. 14 –19 (in Russian).
Krysztofiak, Wojciech (2016) ‘Representational Structures of Arithmetical Thinking. Part 1’, Axio-
mates, 26, pp. 1 –40 .
Lakoff, George, Núñez, Rafael (2000). Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind
Brings Mathematics into Being, Basic book, New York (Russian Translation? 2012).
Maryutina, Tatyana M. (2014) Neuroconstructivism ‒ a New Paradigm of Age Psychophysiology?
Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya, 3, 4, pp. 132 –143 (in Russian).
Pantsar, Marcus (2014) ‘An Empirically Feasible Approach to the Epistemology of Arithmetic’,
Synthese, 191, pp. 4201 –4229.
Pantsar, Marcus (2018) ‘Early Numerical Cognition and Mathematical Processes’, Theoria, 33/2,
pp. 285 –304 .
Piazza, Manuela, De Feo, Vito, Panzeri, Stefano, Dehaene, Stanislas (2018) ‘Learning to Focus on
Number’, Cognition, 181, pp. 35 –45 .
90
Rule, Nicolas O., Freeman, Jonathan B., Ambady, Nalini (2011) ‘Brain, Behavior, and Culture: In-
sight from Cognition, Perception, and Emotion’, C ulture and Neural Fr am es of Cognition and C om -
munication / Eds. Han S., Pöppel E. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 109–122 .
Saxe, Geoffrey (2015) ‘Culture, Language, and Number’, The Oxford Handbook of Numerical Cogni-
tion, Oxford University press, Oxford .
Spelke, Elizabeth S., Kinzler, Katherine D (2007) ‘Core Knowledge’, Developmental Science, 10, 1,
pp. 89–96.
Tang, Yi -Yuan, Liu, Yijin (2009) ‘Numbers in the Cultural Brain’, Progress in Brain Research, 178,
pp. 151 –157 .
Tang, Yi-Yuan, Zhang, Wutian et al (2006) ‘Arithmetic Processing in the Brain Shaped by Cul-
tures’, PNAS, 103, 28, pp. 10775 –10780 .
Tcheang, Lili (2014) ‘Culture and Math’, Cognitive Neuroscience, 6, 1, pp. 54 –65.
Willmes, Klaus (2018) ‘Discussion: Specific Contributions of Language Functions to Numerical
Cognition ’, Heterogeneity of Function in Numerical Cognition / Eds. A. Henik, W. Fias , Academic press,
New York, pp. 75 –89.
Wynn, Karen (1992) ‘Addition and Subtraction by Human Infants’, Nature, 358, 27, pp. 749–750.
Сведения об авторе
БАЖАНОВ Валентин Александрович –
доктор философских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой философии Ульянов-
ского государственного университета.
Author’s information
BAZHANOV Valentin A. –
DSc in Philosophy, Professor, Philosophy
Department Chairperson at Ulyanovsk State
University.
91
Критическая теория, нейронауки и исследования аффекта:
проблемы трансдисциплинарного диалога
© 2019 г.
О.В. Воробьева1**
, Ф.В . Николаи2***
1
Институт всеобщей истории РАН; Москва, 119334, Ленинский проспект, д. 32А;
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 125993,
Миусская площадь, д. 6.
2
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина,
Нижний Новгород, 603950, ул. Ульянова, д. 1; Российский государственный
гуманитарный университет, Москва, 125993, Миусская площадь, д. 6.
**E-mail: vorobushek1@yandex.ru
***E-mail: fvnik@list.ru
Поступила 04.08 .2019
В статье анализируются попытки использования достижений нейро-
наук в сфере социально-гуманитарных исследований. Отталкиваясь от
критических нейроисследований, авторы расматривают отсутствие
общих рамок диалога между нейронауками, гуманитарным знанием и
философией и полагают, что такой диалог не может сводиться к од-
носторонней рецепции и должен предполагать как синтетическую, так
и критическую составляющие. Возможными актуальными перспекти-
вами использования нейронаук авторы статьи считают «поворот к
аффекту», включение нейропроблематики в комплекс проблем, свя-
занных с культурной нейронаукой, с изучением исторической памяти
и исследованиями функционирования сложных комплексов аффек-
тов – ощущений, габитусов, эмоций, ценностей, суждений, целераци-
ональных действий, социально-культурного контекста. Однако по-
добные перспективы требуют от исследователей не только формиро-
вания особой «культуры мозга», но и существенного обновления ис-
следовательских практик, появления новых форматов накопления ин-
теллектуального капитала и способов производства знания. Не менее
актуальной задачей представляется аналитика сопровождающих такой
диалог вызовов, рисков и угроз.
Ключевые слова: критическая теория, нейронауки, поворот к аффекту,
культура, диалог, структура ощущений.
DOI: 10.31857/S004287440007528-5
Цитирование: Воробьева О.В., Николаи Ф.В. Критическая теория,
нейронауки и исследования аффекта: проблемы трансдисциплинарно-
го диалога // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 91–100 .
Статья подготовлена при поддержке фонда РНФ, проект No 17-78-30029 «Когнитив-
ные механизмы и дискурсивные стратегии преодоления социокультурных угроз в истори-
ческой динамике: мультидисциплинарное исследование».
92
Critical Theory, Neuro Science and Study of Affect:
Issues of Transdisciplinary Dialoge*
© 2019 г.
Olga V. Vorobieva1**
, Feodor V. Nikolai2***
1
Institute of Universal History of Russian Academy of Sciences, 32A, Leninskiy prospect,
Moscow, 125993, Russian Federation; Russian State University for the Humanities, 6,
Miusskaya square, Moscow, 125993, Russian Federation.
2
Minin Nizhny Novgorod Pedagogical University, 1, Ulyanov street, Nizhny Novgorod,
603950, Russian Federation; Russian State University for the Humanities, 6,
Miusskaya square, Moscow, 125993, Russian Federation.
**E-mail: vorobushek1@yandex.ru
***E-mail: fvnik@list.ru
Received 04.08 .2019
The article analyzes the attempts to use the achievements of neuroscience in
the field of social and humanitarian research. Starting from critical neurosci-
ence, the authors think about the absence of common framework of the dia-
logue between neuroscience, humanities and philosophy, and believe that such
a dialogue cannot come down to one-sided reception and should involve both
synthetic and critical components. Possible current perspectives of using neuro-
science are connected with “affective turn”, memory studies, cultural neurosci-
ence and studies of affects – sensations – habitus – emotions – values –
judgments –practical actions – socio-cultural complexes. However, such per-
spectives require from researchers not only the formation of a special “brain
culture”, but also a substantial renewal of research practices, the emergence of
new frames and methods of sharing knowledge. An analysis of the challenges,
risks and threats accompanying such a dialogue seems absolutely urgent.
Key words: critical theory, neuroscience, turn towards affect, cultural studies,
dialogue, structure of feelings.
DOI: 10.31857/S004287440007528-5
Citation: Vorobieva, Olga V., Nikolai, Feodor V. (2019) Critical Theory,
Neuro Science and Study of Affect: Issues of Transdisciplinary Dialoge,
Voprosy filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 91–100 .
Несомненные успехи нейронаук в 1990–2000 -е гг. вызвали многочисленные по-
пытки использовать их достижения в гуманитарных исследованиях, это привело
к появлению нейрофилософии, нейросоциологии, нейроэкономики и т.д. Сторонни-
ки этих новаций называют происходящее «нейрореволюцией» Lynch, 2009. Критики
подобной моды говорят о контрпродуктивности «нейромании», опирающейся на по-
пулярные изложения и не всегда корректные метафоры Legrenzi, Umilta, 2011.
В отечественной философии диалог с нейронауками стал вызывать интерес отно-
сительно недавно. Возможно, именно поэтому в его рамках проблемы взаимосвязи
физиологических детерминант формирования психики и культурных традиций1 дис-
куссии о «социальном мозге» и зеркальных нейронах2
, исследования языка и нейро-
лингвистика3, теория когнитона К.В . Анохина, проблемы демаркации нейрофилосо-
фии и философии нейронаук, а также влияние последних на представления о свобо-
де воли и философию сознания Бажанов 2016; Секацкая 2016; и др., перспективы
*
The article was supported by the Russian Science Foundation, project No. 17 -78-30029
" Cognitive mechanisms and discourse strategies for overcoming sociocultural threats in historical
dynamics: multidisciplinary research" .
93
работы с искусственным интеллектом 4 и целый ряд других проблем обсуждаются
отдельно. Однако пока работы отечественных авторов предполагают скорее рецепцию
идей наиболее известных западных исследований (А. Дамасио, К. Малабу,
П. Чёрленд). Редкие критические высказывания о сложностях такого трансдисци-
плинарного диалога касаются, с одной стороны, опасностей подмены серьезных ис-
следований популярными, но не квалифицированными адаптациями. С другой сто-
роны, вызывает опасение «рецептурный» интерес к нейронаукам (особенно к идеям
нейропластичности – трасформации мозга под влиянием социально-культурной сре-
ды) со стороны военно-промышленного комплекса и неолиберального менеджмента.
«Порожденная феноменальным прогрессом в области исследований мозга актив-
ность – государственные программы национальной безопасности, косметическая
психофармакология, брейн-фитнес и др.,
–
притягивает к себе финансовые и люд-
ские ресурсы, что не всегда является оправданным; плюс к этому, как в случае с ре-
кламой антидепрессантов, порой вводит в заблуждение и формирует ложные п ред-
ставления, что, в свою очередь, наносит вред уже науке» Шкурко 2017, 33. Подоб-
ное сочетание околонаучной популяризации и завышенных ожиданий от нейроис-
следований провоцирует появление ряда сомнительных понятий (например, «нейро-
государственное управление») и образовательных программ («Нейромаркетинг:
управление потребительским поведением»). В некоторых случаях при этом филосо-
фия позиционируется как перспективный модератор или даже «эффективный мене-
джер» подобного рода проектов Петрунин 2015, 28.
Все это делает предельно актуальным обсуждение формата и перспектив диалога
между гуманитарными исследованиями, философией и нейронауками. Такой диалог
не может сводиться к односторонней рецепции и неизбежно предполагает как синте-
тическую, так и критическую составляющие.
Нейроисследования и критическая теория
В 2008–2010 гг. в Берлине из междисциплинарной группы историков науки, со-
циологов и философов сформировалось такое направление, как «критические нейро-
науки». Отталкиваясь от предложенного М. Хоркхаймером разграничения традици-
онной и критической теории, Ян Слаби, Супарна Чоудхури и их сторонники настаи-
вали на том, что сознание невозможно отделить от перцепции и практики, – оно
всегда воплощено в теле и связано с действиями, а также социально-культурной сре-
дой. С этой точки зрения, нейронауки не просто исследуют нейронные сети и био-
химимические процессы, определяющие работу головного мозга, – они представляют
собой комплекс когнитивных практик, связанных с существующими социально-
политическими отношениями и во многом воспроизводящих их структуру. Вслед за
К. Малабу они настаивают, что «любая концепция мозга является политической»
Kirmayer 2012, 371. «Нейроученые работают во время беспрецедентной политизации
исследований через их коммерциализацию» Slaby, Choudhury 2012, 43.
Кроме того, Я. Слаби и его сторонники доказывают, что изменение метафор,
в которых описывается работа головного мозга – от телеграфа к компьютерным се-
тям – не нейтрально. «Мы – это наш мозг» Vidal, 2009, 7–8, – подобный язык опи-
сания редуцирует сознание к работе головного мозга, который превращается в команд-
ный центр знания / власти, контролирующий сердце, тело и периферическую нервную
систему. Эта иерархическая модель работает на идею технической функциональности
и, в конечном итоге, на неолиберальную модель эффективной организации капитала
в терминологии гибких, децентрализованных сетей. Ключевым качеством личности
здесь оказывается способность адаптироваться к внешним изменениям «гибкого капи-
тализма» Hartmann, 2012, 80. Технические эксперименты и использование визуализа-
ции работы нейросетей посредством фМРТ не самоценны, но требуют интерпретации.
Известный историк эмоций Ян Плампер доказывает это, комментируя эксперимент
Крэйга Беннета: «<...> с фМРТ связаны серьезные статистические проблемы и про-
блемы с программным обеспечением. Особенно наглядно это показал следующий экс-
перимент: в 2009 году один американский нейробиолог положил в томограф лосося и
94
показал ему фотографии людей в различных социальных ситуациях, обладавшие
различной эмоциональной окраской – положительной или отрицательной. Затем он
спросил лосося, “какую эмоцию испытывал человек на снимке”. Лосось, как лаконич-
но сказано в статье, был “приблизительно 18 дюймов в длину, весил 3,8 фунта и не
был живым на момент сканирования”. Тем не менее, томограмма его мозга показала
цветовые пятна, свидетельствующие о мозговой активности» Плампер 2018, 340.
Сами представители критической нейронауки занимают антирепрезентационист-
скую позицию, декларируя интерактивность исследований по отношению к реально-
сти. Они подчеркивают взаимосвязь научной деятельности с демократизацией, разви-
тием публичной сферы и эмансипационным пафосом эпохи модерна. Например,
нейроэтика рассматривается ими не столько как юридическая экспертиза или регла-
ментация практического внедрения результатов нейроисследований, сколько как
публичная вовлеченность, готовность обсуждать вопросы донорства, клонирования
и т.д. на разных общественных площадках. Кроме того, сторонники Я. Слаби
и С. Чоудхури поднимают вопрос об изменении функций университета в эпоху нео-
либерализма, когда из относительно независимой коллаборации студентов и препо-
давателей университет все чаще превращается в «фирму» – исследовательский центр,
нанимающий высококвалифицированных специалистов для временн ой работы над
конкретными проектами и ориентирующий их на прагматические результаты, кото-
рые можно капитализировать. Безусловно, такая критика не очень оригинальна,
но от этого не менее справедлива.
То же самое можно сказать о критике новаторского пафоса нейронаук, конструи-
рующих свою генеалогию через бинарное противопоставление грядущей «нейрорево-
люции» и сложной, весьма противоречивой эволюции нейроисследований в ХХ в.
(включавшей и «недостойные» практики евгеники, вивисекции, сотрудничество с
военными и расовые теории). Такая условная оппозиция искусственно конструирует
фигуративный реверс от скепсиса к романтическому оптимизму, противопоставляя
механическое прошлое кибернетическому будущему. Кроме того, она во многом за-
тушевывает гетерогенность локальных практик и отсутствие общих рамок диалога
между нейронауками и гуманитарным знанием, что осознается как серьезная про-
блема многими современными исследователями.
От социальной критики нейронаук к исследованиям аффекта
Достаточно гетерогенная критика социально-культурных форм развития нейроис-
следований разворачивается и в гендерных исследованиях, и в истории науки, и из-
нутри самих нейронаук. Основные ее направления представлены в сборнике «Нейро-
науки и критика: исследуя границы нейро-поворота» (2016). Его авторы рассматри-
вают «нейро-поворот» в рамках общего наследия эпохи «модерности», со всеми ее
противоречиями. Так, например, Нимо Бассири из университета Дьюка и Джозеф
Дамит из Калифорнийского университета в Дэвисе доказывают, что развитие нейро-
исследований вписано в длительные трансформации социально-культурных границ
между нормой и патологией в европейской культуре Bassiri, 2016; Dumit 2012.
С этой точки зрения, попытка рассматривать функционирование мозга и сознания
независимо от социального мира оказывается симптомом современного кризиса гу-
манитарной сферы и разочарования в модернистской идее прогресса, которую нео-
либералы по-прежнему пытаются использовать для обоснования своих антикоммуни-
таристских проектов, для оправдания растущего экономического неравенства и воз-
вращения к элитарной модели образования.
Подобная критика смыкается с внутренними дискуссиями об организации нейро-
наук. Филипп Хауэйс и уже упоминавшийся Ян Слаби подробно описывают полеми-
ку вокруг крупнейшего в Европе проекта исследования головного мозга, амбициоз-
ной целью которого должно стать создание нейрокомпьютера, полностью моделиру-
ющего процессы головного мозга. Преобладание представителей IT-индустрии, не-
прозрачность финансирования (при том, что бюджет проекта составляет 1,2 млрд.
евро), отказ от сотрудничества с локальными исследовательскими сообществами,
95
приоритет внешних параметров стандартизации над содержательной экспертизой,
а также ряд других факторов спровоцировали открытое письмо 750 нейроисследова-
телей в Еврокомиссию с требованием публичного обсуждения проекта и корректи-
ровки управления им со стороны академического сообщества Haueis, Slaby, 2016.
Сторонники фукольдианского анализа знания / власти обвиняют нейронауки
в поддержке неоконсервативного отрицания рационального экономического поведе-
ния акторов: «В рамках этого сценария роль правительства сводится к анализу при-
чин поведения и разработке эффективных способов руководства (guiding) гражданами
в их собственных долгосрочных интересах» Pykett, 2016. Одновременно экспертное
мнение представителей нейронаук необходимо для оправдания коммодификации
сложных исследований в сфере здравоохранения, которое из сферы «общего блага»
сегодня все чаще становится доступно лишь представителям высшего класса. Одной
из наиболее актуальных альтернатив подобного использования нейронаук Д. Пикетт
и ее коллеги считают «поворот к аффекту», сторонники которого признают, что
«... мозг и(ли) тело действуют до того, как мы когнитивно осмысливаем, узнаем или
концептуализируем то, что происходит» Ibid, 915
, но они пытаются использовать
понятие аффекта для критики капитализма. Так, например, профессор Нью -
Йоркского университета Патрисия Клаф в работе «Бессознательное пользователя:
аффект, медиа и измерение [эффективности]» рассматривает влияние соврем енного
неолиберализма на изменения техник субъективации и микрофизику власти Clough
2018. По ее мнению, основной тренд распределенной «аффективной экономики»
современного капитализма – вытеснение рационального (основанного на символиче-
ской репрезентации) выбора бессознательной работой аффекта.
Впрочем, жесткое разделение эмоций и аффектов, свойственное такой критике,
все чаще подвергается сомнению сторонниками истории эмоций и исследований
культуры, которые склонны рассматривать аффект как составную часть сложного
социально-культурного комплекса, включающего тело и его окружение и работающе-
го по законам репрезентации. Разумеется, история эмоций и ее отношение к нейро-
исследованиям – тема отдельного разговора (подробнее см.: Воробьева 2015, 10; Ни-
колаи 2019). Пока же обозначим еще один вектор не столько критики, сколько ре-
визии отношений между нейронауками и исследованиями культуры.
Нейроисследования культур
В центре внимания «культурных нейронаук» или «нейроисследований культур» (cul-
tural neuroscience) оказываются вопросы нейробиологического объяснения культурного
разнообразия, а также компаративный анализ холистического / аналитического восприя-
тия и когнитивных процессов разных народов (американцев и японцев, британцев и ки-
тайцев, и т.д.). «Современные исследования показывают, что культурные различия суще-
ственным образом влияют на активность нейронов головного мозга. Одни и те же сти-
мулы воспринимаются по-разному носителями разных культур. Одни и те же задачи и их
решения задействуют разные зоны головного мозга или делают это с разной интенсивно-
стью» Northoff 2016, 21. Вслед за Ш. Китаяма сторонники нейроисследований культур
говорят об «инкультурации мозга» Kitayama, Uskul 2011. По их мнению, основные ко-
гнитивные процессы одновременно социальны и биологичны: «Человеческий мозг по
определению социален, – он адаптирован к обучению, социальным интеракциям и пере-
даче культуры. Более того, его структурная пластичность зависит от опыта и времени»
Seligman, Choudhury, Kirmayer 2016, 4.
Основная проблема для данного направления исследований – неизбежное нало-
жение национальных, социальных, поколенческих и индивидуальных различий
в протекании этих когнитивных процессов. Кроме того, помимо рационально фик-
сируемых суждений, во всех культурах огромную роль играют разного рода повсе-
дневные практики, которые влияют на тела, эмоции и когнитивные установки на
неотрефлексированном уровне. А символически вычленить их и отделить от контек-
ста не так просто. Особенно это касается различий понимания здоровья и болезни,
памяти о насилии и исторических травмах. Как отмечают Анжела Гатчесс и Сара
96
Хафф, кросс-культурные различия в этой сфере вызваны тремя факторами.
Во-первых, в разных культурах оказываются задействованы различные когнитивные
стратегии, – например, отличается степень фиксации фигуры и фона у американцев
и японцев. Во-вторых, разный культурный фон влияет на смысловые коннотации
информации. В -третьих, отличается таксономия запоминания, – европейцы сорти-
руют информацию тематически (по категориям со схожими признаками), а жители
Восточной Азии – по функциональным отношениям Gutchess, Huff 2016. Примени-
тельно к автобиографической памяти это объясняет восприятие европейцами себя как
ключевого агента воспоминаний, тогда как жители Восточной Азии гораздо сильнее
ощущают интерсубъективные связи и чаще вспоминают о прошлом своей семьи или
социальной группы. Европейские дети обсуждают свои мысли и ощущения после собы-
тий, в Китае и Японии чаще говорят о своих чувствах во время событий и т.д.
Такая программа нейроисследований представляет несомненный интерес, но неиз-
бежно вызывает критику ввиду слишком линейного использования понятия «культуры»,
фактически редуцируованного к «народному характеру». Подобная его трактовка прин-
ципиально нивелирует социальные различия и внутреннюю полифонию любой культу-
ры. В этом контексте представляется продуктивным сначала оптимизировать взаимодей-
ствие между разными направлениями гуманитарных исследований, и лишь после этого
проектировать трансдисциплинарные исследования с представителями нейронаук. Весь-
ма продуктивным в этом отношении примером можно считать попытки совместить ис-
следования аффекта и программу культурных исследований, разработанную британскими
теоретиками С. Холлом, Р. Уильямсом и др.
Как известно, Раймонд Уильямс еще в 1970-е гг. предложил понятие «структура
ощущений» Williams, 1977. Критикуя нейтральный академический анализ литера-
турных текстов (основанный на институционализации разделения приватного и пуб-
личного), он в неогегельянском духе доказывал, что литература вызывает отклик
в настоящем и составляет неотъемлемую часть актуального опыта. Разделение смысла
на психологические, эстетические и идеологические составляющие, в ходе анализа,
всегда условно и конструируется социально. Кроме этой аналитической дифферен-
циации, опыт читателя всегда предполагает синтетическое отыгрывание и аффектив-
ное оживление текста через повседневные практики. Именно на эти практики опи-
раются социально-политические структуры. Качественный переход между этими
уровнями вполне можно описать как переход в структуре ощущений. Однако в со-
временном капиталистическом обществе искусственно формируется разрыв между
ними – литература и повседневность вытесняются на уровень приватного, отделяясь
от политического / публичного6.
Сегодня идеи Уильямса оказываются весьма востребованными как среди следующего
поколения представителей культурных исследований Highmore, 2017, так и у сторонни-
ков «поворота к аффекту». Последних интересует попытка Уильямса наложить анализ
социальной структуры на «аффективную инфраструктуру» опыта. С их точки зрения,
основой аффекта становится не «потенциальность» Б. Массуми, но консьюмеризм –
исторический рост практик потребления в ХХ в.: «Консьюмеризм учит нас постоянно
совершать микро-выбор и тренирует нашу способность отдавать свое предпочтение или
отказываться, – гораздо чаще, чем это обусловлено какой-либо жизненной необходимо-
стью. Потребление, а следовательно, и производство, все больше управляются аффектом.
<...> Другими словами, аффект становится важнейшим элементом в организации нашего
образа жизни. Не существует “приватных” взглядов, которые можно было бы отделить от
политических предпочтений; сегодня нет “тайных” желаний, существующих независимо
от нашего рационального выбора; нет “личностных” качеств, не связанных с работой,
которую мы выбираем, – то, что когда-то было “субъективным” дополнением, сегодня
становится важной и эффективной частью нашей социальной активности. Производство,
потребление и соучастие, – в каждом из этих случаев мы оказываемся задействованы как
операторы или регулировщики аффекта» Sharma, Tygstrup 2015, 4, (также см.: Engle,
Wong (ed.) 2018). Если у Б. Массуми и сторонников Ж. Делеза аффект предельно мате-
риален и (в отличие от эмоций) не символизируем, то концепция «структуры ощущений»
97
позволяет включить его в сложные цепи ощущений / эмоций / ценностных установок /
идеологических интерпелляций и экономических интересов. Аффект здесь оказывается
предельно важной и вполне рационально используемой частью современной экономики
и накопления «эмоционального капитала» Ahmed, 2004. Аккумуляция аффекта в эмо-
ции при этом происходит благодаря изменениям в эстетическом аппарате – апелляции
не столько к оппозиции возвышенного / прекрасного, сколько к комплексу более низо-
вых категорий «забавно», «мило», интересно», эксплуатируемых повседневной консью-
меристской эстетикой.
***
Гуманитарные исследования сегодня работают с нейронауками в очень разных
контекстах. Существенно отличаются и исследовательские практики, складывающие-
ся в ходе этого трансдисциплинарного диалога. Поэтому предельно актуальной зада-
чей представляется не просто их систематизация, но аналитика сопровождающих
такой диалог рисков и вызовов, а также осмысление его рамок и перспектив.
Возможно, прежде чем продвигаться дальше по пути сотрудничества с нейронау-
ками, когнитивным исследованиям, философской антропологии, STS, культурным
исследованиям, критической теории, исследованиям аффекта и истории эмоций бы-
ло бы неплохо согласовать свои позиции и выработать приемлемые рамки междис-
циплинарного взаимодействия. Лишь совместно эти направления способны провести
системный анализ и согласовать языки описания сложных комплексов аффектов –
ощущений – габитусов – эмоций – ценностей – суждений – целерациональных дей-
ствий – социально-культурного контекста.
Более того, следует признать продуктивность напряжения смыслов в ходе такого
диалога. И одним из наиболее актуальных вызовов, порождающих споры о нейтраль-
ности / публичной ангажированности исследователя сегодня, представляется торже-
ство неолиберальной политэкономии, во многом определяющей рамки научных про-
ектов и влияющей на серьезную трансформацию академических институтов. Выстра-
ивание аналитической дистанции и поиск альтернатив этому неолиберальному режи-
му предполагает переосмысления функции Университета в современном мире. С дру-
гой стороны, не менее важным представляется внимание к феноменологии повсе-
дневного опыта представителей разных культур и социальных групп, совместная ра-
бота с которыми может способствовать переосмыслению не только границ между
приватной и публичной сферой, академическим и неакадемическим миром, но и
между представителями разных ветвей и «культур» знания.
Очевидно, что решение подобного рода задач предполагает не только другой
набор исследовательских вопросов, но и принципиально иные методологические об-
разцы и исследовательские программы. Активная дисциплинарная экспансия нейро-
наук в область гуманитарных исследований требует от гуманитариев понимания со-
временного мира как мира других ментальных возможностей, нуждающегося в дру-
гом, конвергентном взгляде, который возникает даже не на грани наук, а в трансдис-
циплинарном пространстве; появления новых «зон» накопления интеллектуального
капитала и способов производства знания; открытия новых (косвенных) форм вла-
сти; углубленного осмысления массива данных о работе системы «человек -среда»,
а также о функционировании т.н . «социального мозга». Говоря о перспективах при-
менения нейронауки, например, в современных исторических исследованиях, веро-
ятно, следует задуматься о процессах включения нейропроблематики в комплекс
проблем, связанных с изучением исторической памяти, с культурной нейронаукой,
с нейрокоммуникациями как каналом для переживания и воссоздания чужого опыта.
Однако данная интеллектуальная ситуация, как уже было отмечено выше, далеко
не однозначна и несет в себе новые риски и угрозы, в том числе угрозу вульгариза-
ции нейроисследований в гуманитарной сфере. Все эти проблемы являются принци-
пиально новыми для гуманитарного знания и требуют комплексного обсуждения фи-
лософских и социогуманитарных проблем развития нейронауки и нейротехнологий.
Еще раз подчеркнем, что отношения между ними не стоит рассматривать как про-
стую рецепцию или «улицу с односторонним движением». Критическая теория
98
показывает влияние социального заказа на структуру, организацию и постановку за-
дач в нейронауках. При переходе от эмпирических исследований к макро-
обобщениям (предельно востребованным сегодня) возникает разрыв, который часто
заполняется околонаучной популяризацией и прагматической эклектикой, ориенти-
рованной на воспроизводство позднекапиталистического режима знания / власти.
Именно поэтому рамки рассматриваемого трансдисциплинарного диалога должны
выстраиваться с участием всех сторон, в равной степени заинтересованных в поиске
новых форматов сотрудничества.
Примечания
1 Например, см.: [Александров, Александрова 2009].
2 Подробнее см.: [Глозман, Круков 2013; Рычкова, Холмогорова 2012].
3 Подробнее см.: [Черниговская 2013; Черниговская 2014].
4 Например, о работе междисциплинарного семинара «Фило софско-методологические
проблемы искусственного интеллекта» см.: Алексеев, Кузнецов, Савельев, Янковская, 2015.
5 Подробнее о теории аффекта см.: Clough, Halley (ed.) 2007; Кобылин 2017.
6 Безусловно, эти идеи были неразрывно связаны с общей программой культурных
исследований, как они складывались в 1950–60-е гг . Подробнее см.: Куренной, 2012.
Ссылки – References in Russian
Александров, Александрова 2009 – Александров Ю.И ., Александрова Н.Л. Субъективный
опыт, культура и социальные представления. М .: Институт психологии РАН, 2009.
Алексеев, Кузнецов, Савельев, Янковская 2015 – Алексеев А.Ю ., Кузнецов В.Г., Савельев А.В.,
Янковская Е.А. Становление отечественной нейрофилософии // Философские науки. 2015 .
No11. С. 48–56.
Бажанов 2016 – Бажанов В.А. Социально-культурная революция в нейронауке: новые грани
кантианской программы // Вопросы философии. 2016. No 8. С . 126–137 .
Воробьева 2015 – Воробьева О.В. «Индустрия эмоций»: институциональные и интеллектуаль-
ные ресурсы истории эмоций // Электронный научно -образовательный журнал «История».
2015. No 9. С. 10.
Глозман, Круков 2013 – Глозман Ж.М ., Круков П. Социальный мозг: новая трактовка поня-
тия // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2013 . No 2. С . 121 –133 .
Кобылин 2017 – Кобылин И.И. «Автоно мия аффекта»: история, становление, биополитика //
Диалог со временем. 2017 . No 58. С . 25 –38 .
Куренной 2012 – Куренной В. Исследовательская и политическая программа культурных ис-
следований // Логос. 2012 . No 1. С . 14 –79.
Николаи 2019 – Николаи Ф.В . История эмоций: три версии // Новое литературное обозре-
ние. 2019. No 2. С . 289–297.
Петрунин 2015 – Петрунин Ю.Ю . Критический потенциал нейрофилософии // Философ-
ские науки. 2015. No 11. С. 23–30.
Плампер 2018 – Плампер Я. История эмоций / Пер. с англ. К. Левинсона. М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2018.
Рычкова, Холмогорова 2012 – Рычкова О.В., Холмогорова А.Б. Концепция «социального моз-
га» как основы социального познания и его нарушений при психиатрической патологии //
Культурно -историческая психология. 2012 . No 3. С . 86–94.
Секацкая 2016 – Секацкая М.А. Свобода воли и предсказуемость. Философский анализ со-
временных исследований в нейронауке // Вопросы философии. 2016. No 3. С . 163–169.
Черниговская 2014 – Черниговская Т.В. «До опыта приобрели черты»: мозг человека и поро-
дивший его язык // Логос. 2014 . No 1. С . 79–96.
Черниговская 2013 – Черниговская Т.В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и созна-
ние. М.: Языки славянской культуры, 2013.
Шкурко 2017 – Шкурко Ю.С . Нейротехнологии и пролиферация идей нейронауки // Соци-
альная психология и общество. 2017 . No 8. С . 32–42 .
References
Ahmed, Sara (2004) ‘Affective Economies’, Social Text, Vol. 22 (2004), No. 2, pp. 117 –139.
Aleksandrov, Yurij I., Aleksandrova, Natalya L. (2009) Subjective Experience and Culture. Structure
and Dynamics. Moscow: Institute of Psychology RAN, 2009 (in Russian).
99
Alekseev, Andrey Yu., Kuznetsov,, Valery G., Saveliev Alexander V., Yankovskaya, Ekaterina A.
‘The Formation of the Russian Neurophilosophy’ (2015), Fhilosofskie nauki = Russian Journal of Philo-
sophical Sciences, Vol. 11, pp. 48 –56 (in Russian).
Bassiri, Nima (2016) ‘Who Are We, Then, If We Are Indeed Our Brains? Reconsidering a Critical
Approach to Neuroscience’, Neuroscience and Critique: Exploring the Limits of the Neurological Turn, ed.
by J. De Vos, E. Pluth. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2016, pp. 41 –61.
Bazhanov, Valentin A. (2016) ‘Neurotheology: Religion in the Focus of Modern Cultural Neurosci-
ence”, Voprosy Filosofii, Vol. 8 (2016), pp. 126–137 (in Russian).
Chernigovskaya, Tatiana V. (2014) ‘Prior To Any Learning Acquired Their Traits: Human Brain
Results From Language’, Philosophical Literary Journal “Logos”, Vol. 1 (2014), pp . 79–96 (in
Russian).
Chernigovskaya, Tatiana V. (2013) Schrödinger Cat Cheshire Smile: Language and Consciousness.
Moscow: Languages of Slavic Culture, 2013 (in Russian).
Clough Patricia T. (2018) The User Unconscious: On Affect, Media, and Measure , Minneapolis: Uni-
versity of Minnesota Press, 2018.
Dumit, Joseph (2016) ‘The Fragile Unity of Neuroscience’ Neuroscience and Critique: Exploring the Limits
of the Neurological Turn, ed. by J. De Vos, E. Pluth, Abingdon, N.Y.: Routledge, 2016, pp. 223 –230.
Feelings of Structure: Explorations in Affect, ed. by K. Engle, Y. -S. Wong, Montreal, L.: McGill-
Queen's University Press, 2018.
‘For the Brain’s Enculturation?’ The Oxford Handbook of Cultural Neuroscience, ed. by J. Chiao,
S. -C . Li, R. Seligman, R. Turner. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 2016, pp. 21 –40 .
Glozman Zhanna M., Krukov Pavel (2013) ‘Social Brain: New Interpretation of the Concept’,
Moscow University Psychology Bulletin, Vol. 2 (2013), pp. 121 –133 (in Russian).
Gutchess, Angela H., Huff, Sarah. (2016) ‘Cross-Cultural Differences in Memory’, The Oxford
Handbook of Cultural Neuroscience, ed. by J. Chiao, S.-C . Li, R. Seligman, R. Turne, Oxford, N.Y.:
Oxford University Press, 2016, pp. 155 –170 .
Hartmann, Martin (2012) ‘Against First Nature: Critical Theory and Neuroscience’, Critical Neuro-
science: A Handbook of the Social and Cultural Contexts of Neuroscience, ed. by S. Choudhury, J. Slaby,
Oxford, Chichester: Wiley -Blackwell, 2012, pp. 67–84.
Haueis, Philipp, Slaby, Jan (2016) ‘Brain in the Shell: Assessing the Stakes and the Transformative
Potential of the Human Brain Project’, Neuroscience and Critique, ed. by J. De Vos, E. Pluth, Abing-
don, N.Y.: Routledge, 2016, pp. 117 –140 .
Highmore, Ben (2017) Cultural Feelings, N.Y.: Routledge.
Kirmayer, Laurence J. (2012) ‘The Future of Critical Neuroscience’, Critical Neuroscience: A Hand-
book of the Social and Cultural Contexts of Neuroscience, ed. by S. Choudhury, J. Slaby. Oxford, Chich-
ester: Wiley-Blackwell, 2012, pp. 367–384 .
Kitayama, Shinobu, Uskul, Ayse K. ‘Culture, Mind, and the Brain: Current Evidence and Future
Directions’, Annual Review of Psychology, 2011, Vol. 62, pp. 419–449 (in Russian).
Kobylin, Igor I. (2017) ‘The “Autonomy of Affect”: History, Becoming, Biopolitics’’, Dialog so
vremenev = Dialogue with the Time, Vol. 58 (2017), pp, 25–38 (in Russian).
Kurennoy, Vitaly A. (2012) ‘Research and Politic Programme of Cultural Studies’, Philo-
sophical Literary Journal “Logos”, Vol 1 (2012), pp . 14 –79 (in Russian).
Legrenzi, Paolo, Umiltà, Carlo (2011) Neuromania: On the Limits of Brain Science , Oxford, N.Y.:
Oxford University Press.
Lynch, Zach (2009) The Neuro Revolution: How Brain Science is Changing our World , N.Y.:
St. Martin’s Press.
Nikolai, Feodor V. (2019) ‘History of Emotion: Three Version’, Novoe literaturnoe obozrenie =New
Literary Review, Vol. 2 (2019), pp. 289–297 (in Russian).
Northoff, George (2016) ‘Cultural Neuroscience and Neurophilosophy: Does the Neural Code Al-
low for the Brain’s Enculturation?’, The Oxford Handbook of Cultural Neuroscience, ed. by J. Chiao, S. -
C. Li, R. Seligman, R. Turner, Oxford, N.Y.: Oxford University Press, pp. 21 –40.
Petrunin, Yury Yu. (2015) ‘Critical Potential of Neurophilosophy’, Fhilosofskie nauki = Russian
Journal of Philosophical Sciences . Vol. 11 (2015), pp. 23 –30 (in Russian).
Plamper, Jan. The History of Emotions / Transl. (Engl.) K. Levinsona. Moscow: Novoe literaturnoe
obozrenie; 2018. 568 p. (Russian Translation.)
Pykett, Jessica (2016) ‘From Global Economic Change to Neuromolecular Capitalism’, Neurosci-
ence and Critique. Exploring the Limits of the Neurological Turn, ed. by J. De Vos, E. Pluth, Abingdon,
N.Y.: Routledge, pp. 81 –99 .
Rychkova, Olga V., Kholmogorova, Alla B. (2012) ‘Social Brain Concept as a Basis for Social Cognition-
and Its Deficits in Mental Disorders’, Cultural-Historical Psychology, Vol. 3 (2013), pp. 86–94 (in Russian).
Sekatskaya, Maria A. (2016) ‘Free Will and Predictability. A Philosophical Analysis of the Current
Research in Neuroscience’, Voprosy Filosofii. Vol. 3 (2016), pp. 163–169 (in Russian).
Seligman, Rebecca, Choudhury, Suparna, Kirmayer, Laurence J. (2016) ‘Locating Culture in the
Brain and in the World: From Social Categories to the Ecology of Mind’, The Oxford Handbook of
100
Cultural Neuroscience, ed. by J. Chiao, S. -C . Li, R. Seligman, R. Turner, Oxford, N.Y.: Oxford Univer-
sity Press, 2016, pp. 3–20 .
Sharma, Devika, Tygstrup, Frederik (2015) ‘Introduction’, Structures of Feeling: Affectivity and the
Study of Culture, ed. by D. Sharma, F. Tygstrup, Berlin: de Gruyter, pp. 1 –19.
Shkurko, Yulia S. (2017) Neurotechnologies and Proliferation of the Ideas of Neuroscience, Sotsi-
alnaya Psikhologiya I obschestvo = Social Psychology and Society, Vol. 8 (2017), pp. 32 –42 (in Russian).
Slaby, Jan, Choudhury, Suparna (2012) ‘Proposal for a Critical Neuroscience’, Critical Neurosci-
ence: A Handbook of the Social and Cultural Contexts of Neuroscience, ed. by S. Choudhury, J. Slaby,
Oxford, Chichester: Wiley -Blackwell, 2012, pp. 29–52 .
The Affective Turn: Theorizing the Social, ed. by P. Clough, J. Halley. Duke University Press, 2007, 328 p.
Vidal, Fernando (2009) ‘Brainhood: Anthropological figure of modernity’, History of the Human Sci-
ences, Vol. 22 (2009), No. 1, pp. 6 –35 .
Vorobieva, Olga V. (2015) ‘Industry of Emotions: Institutional and Intellectual Resources of the
History of Emotions’, Journal of Education and Science “ISTORIYA” (“History”), Vol. 9 (42) (2015)
(in Russian).
Williams, Raymond (1977) Marxism and Literature, Oxford, N.Y.: Oxford University Press.
Сведения об авторах
ВОРОБЬЕВА Ольга Владимировна –
кандидат исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института всеобщей истории
РАН; доцент кафедры теории и истории гума-
нитарного знания, научный сотрудник Науч-
но-образовательного центра когнитивных
программ и технологий Российского государ-
ственного гуманитарного университета.
НИКОЛАИ Федор Владимирович –
доктор философских наук, доцент кафедры
всеобщей истории НГПУ им. К. Минина;
старший научный сотрудник Научно-
образовательного центра когнитивных про-
грамм и технологий Российского государ-
ственного гуманитарного университета.
Author’s information
VOROBIEVA Olga V. –
CSc in History, Leading Researcher, Institute of
World History RAS; Associate Professor, De-
partment of Theory and History of Humanitarian
Knowledge, Researcher, Research-education
Centre for Cognitive Programs and Technologies,
Russian State University for the Humanities.
NIKOLAI Feodor V. –
DSc in Philosophy, Associate Professor, De-
partment of World History, Minin Nizhny Nov-
gorod State Pedagogical University; Senior Re-
searcher, Research-education Centre for Cog-
nitive Programs and Technologies, Russian
State University for the Humanities.
101
Трансцендентальное обоснование физики на примере
«замкнутой теории» К.Ф. фон Вайцзеккера и В. Гейзенберга*
© 2019 г.
А.В . Родина
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: alekrodina@yandex.ru
Поступила 18.08 .2019
Согласно Т. Куну периоды нормальной науки сменяются научными
революциями, и научная парадигма меняется вследствие данных ре-
волюций. Развитие физики демонстрирует иную тенденцию, связан-
ную с преемственностью. Физические теории соотносятся друг с дру-
гом по принципу включения, одна теория включает в себя другую как
пограничный случай, новая теория позволяет выявить границы
предыдущей
теории.
Специальная
теория
относительности
А. Эйнштейна при малых скоростях позволяет получать те же след-
ствия, что и классическая механика, а Н. Бор выявил, что квантоме-
ханическая система стремится к классической физике в пределе
больших чисел. Статья посвящена трансцендентальному обоснованию
физики на примере размышлений физика В. Гейзенберга и физика и
философа К.Ф. фон Вайцзеккера. Вайцзеккер пытается показать, что
физика исторически стремится к единству. Исходя из этого, он пред-
полагает, что физика предстает завершенной в «замкнутой» теории.
Для него замкнутая теория выводится из немногих предпосылок и не
содержит постоянно изменяемых параметров. Все предпосылки един-
ства физики следуют из условий возможности опыта. Однако Гейзен-
берг полагает, что, в отличие от таких всеобщих и фундаментальных
категорий мышления, как пространство, время и причинность, отно-
сительно сложные формы мышления, свойственные замкнутым тео-
риям последних столетий, не могут истолковываться как априорные.
Однако для Вайцзеккера применение кантианского априоризма в об-
ласти методологии физики оказывается более продуктивным.
Ключевые слова: единство физики, замкнутая теория, априоризм,
принцип соответствия.
DOI: 10.31857/S004287440007529-6
Цитирование: Родина А.В. Трансцендентальное обоснование физики
на примере «замкнутой теории» К.Ф. фон Вайцзеккера и В. Гейзен-
берга // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 101 –105 .
*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта No 19-311-90011.
102
Transcendental basis of physics on the example
of «closed theory» by K.F. von Weizsäcker and V. Heisenberg*†
© 2019 г.
Alexandra V. Rodina
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: alekrodina@yandex.ru
Received 18.08 .2019
According to T. Kun, periods of normal science are replaced by scientific revo-
lutions, and the scientific paradigm changes as a result of these revolutions.
The development of physics shows a different tendency, connected with conti-
nuity. Physical theories theories relate to each other on the principle of inclu-
sion, one theory includes another as a boundary case, the new theory allows
you to reveal the boundaries of the previous theory. The special theory of rela-
tivity of A. Einstein at low speeds allows to receive the same consequences, as
classical mechanics, and N. Bohr revealed that the quantum mechanical system
tends to classical physics in the limit of large numbers. The article is devoted to
the transcendental substantiation of physics on the example of the reflections of
physicist V. Heisenberg and physicist and philosopher K. F. von weizsecker.
Weizsäcker tries to show that physics historically seeks unity. On this basis, he
suggests that physics appears completed in a "closed" theory. According to his
point of view closed theory is derived from few prerequisites and does not con-
tain permanently variable parameters. All the prerequisites for the unity of phys-
ics follow from the conditions of the possibility of experience. However, Hei-
senberg believes that, in contrast to universal and fundamental categories of
thinking as space, time, and causality, the relatively complex forms of thinking
characteristic of closed theory cannot be interpreted as a priori. Thus, we face
with an attempt by scientists to analyze the application of the Kantian a priori
in the field of physics methodology.
Key words: unity of physics, closed theory, a priori, correspondence principle.
DOI: 10.31857/S004287440007529-6
Citation: Rodina, Alexandra V. (2019) ‘Transcendental basis of physics on
the example of «closed theory» by K.F . von Weizsäcker and V. Heisenberg’,
Voprosy Filosofii, Vol 12 (2019), pp. 101 –105 .
Объектом рассмотрения в данной статье стало понятие «замкнутой теории» у
К.Ф. фон Вайцзеккера и В. Гейзенберга. Была поставлена задача провести сравни-
тельный анализ взглядов ученых. На Вайцзеккера во многом повлияло мировоззре-
ние его учителя В. Гейзенберга, который еще в юношеском возрасте посоветовал ему
сначала заняться физикой, а потом перейти к философии. Поэтому интересно про-
следить, как различаются позиции ученых.
Гейзенберг говорил в данном отношении о последовательности замкнутых теорий,
которые сменяют друг друга. Замкнутая теория – понятие, введенное В. Гейзенбер-
гом для характеристики теорий, достигших зрелой, стабильной формы и в известной
степени исчерпавших внутренние ресурсы к дальнейшему совершенствованию [Эн-
циклопедия... 2009, 300]. Замкнутая теория обладает четкой терминологией, которая
уже не терпит малейших изменений. Замкнутая теория вводит новые понятия. Она
*
The reported study was funded by RFBR, project number 19-311-90011.
103
должна объяснить действие прошлых теорий, а именно ввести их как пограничный
случай. Классическая механика является замкнутой теорией с понятием простран-
ства, времени, тела и силы.
Историческое движение физики к единству связано с движением от многообразия
опыта к его единству. Здесь Вайцзеккер представляет следующую схему: физика бе-
рет свое начало в ограниченной сфере опыта → замкнутая теория описывает сферу
опыта → первая замкнутая теория в своей сфере опыта еще не знает своих границ →
применение первой теории выходит за рамки определенной сферы опыта [Weizsäcker
1984, 184]. Вайцзеккер пытается показать, что физика исторически стремится к един-
ству. Исходя из этого, он предполагает, что физика предстает завершенной в «за-
мкнутой» теории. Для него замкнутая теория выводится из немногих предпосылок и
не содержит постоянно изменяемых параметров. Все предпосылки единства физики
следуют из условий возможности опыта. Вайцзеккер использует это как эвристиче-
ский принцип, который служит для вывода данных предпосылок.
Среди основных проблем, к которым подходит Вайцзеккер, можно выделить сле-
дующие: необходим ли постулат единства физики для трансцеден тального обоснова-
ния (целостного обоснования частей физики)? Есть ли конечная теория, границы
которой нельзя определить посредством физики?
Физика стремится по своей природе к тому, чтобы стать завершенной теорией
(замкнутой теорией по Гейзенбергу). Если это действительно так, то целесообразно
выделить 4 тезиса:
1. Физика сейчас ближе к своему понятийному единству, чем это было прежде,
потому что она приближается к своему завершенному образу.
2. Достижение подобного образа физики – конечная задача.
3. За этим построенным образом науки не будет больше единой всеобъемлющей
теории, которую можно было бы назвать физикой в современном смысле слова.
4. Завершенная единая теория будет иметь, тем не менее, границы применения,
о которых она сможет предполагать, но не называть их [Weizsäcker 1984, 184]. Далее
Вайцзеккер предполагает, что понятийное единство можно рассмотреть на эволюции
понятия атома.
Описание атома в классической физике связано с классической механикой. Затем
наступает кризис описания атома и завершается он лишь в квантовой механике. Она
выступает как всеобщая механика, т.е . как теория движения любых объектов. Кван-
товая механика решает проблему понятия атома и сближает химию и классическую
механику. Если их дополнить теорией элементарных частиц, то можно было бы при-
близиться к объединению всей физики. Атом у Вайцзеккера является сущим, т.е . он
обладает бытием.
Гейзенберг также подчеркнул особый характер, ситуации, сложившийся в кванто-
вой механике: «Во-первых, невозможно прямо объективировать математически опи-
санные обстоятельства, с чем непосредственно связана и невозможность представить
их в наглядной форме; во-вторых – и это отличие, пожалуй, даже более важно, –
вытекающей отсюда необходимостью продолжать использование понятий классиче-
ской физики» [Гейзенберг 1987, 181]. Классическая механика тем самым является
замкнутой теорией. Там, где могут быть применены ее понятия, она дает «правиль-
ное» описание природы.
Можно привести определение замкнутой теории по Вайцзеккеру, а именно это
такая теория, в которую уже невозможно внести изменение. Под изменением тогда
понимается введение новых констант, которые повлекут затем за собой новые поня-
тия и еще большие изменения.
У Вайцзеккера: «Замкнутая теория может служить одновременно начальным про-
ектом для освоения гораздо более широкой сферы последующего опыта. Где-то в
этом расширенном пространстве она упирается в границы того, что могут охватить ее
понятия. Из кризиса этого первоначального проекта рождается, в конце концов, но-
вая замкнутая теория, например, специальная теория относительности. Она в свою
очередь, включает предшествующую теорию как предельный случай и именно этим
104
она очерчивает границы той сферы, в пределах которой можно, так или иначе,
использовать старую» [Weizsäcker 1984, 280]. Он к понятию замкнутой теории Гей-
зенберга и пограничному случаю добавляет, что «замкнутая теория» закрывается в
своей непререкаемой полноте и не приемлет затем никаких изменений, поэтому шаг
к замкнутой теории весьма решительный. Только новая теория может описать нам
границы старой. В некотором смысле здесь Вайцзеккер здесь придерживается отно-
шения соответствия боровского и эйнштейновского типа.
Одной их ключевых задач Вайцзеккера становится интерпретация своеобразия
квантовой механики. Как воплощается единая физическая теория в рамках кванто-
вой механики? «Квантовая теория в той форме, в которой она существует сегодня,
является всеобщей теорией, объясняющей закономерное поведение предметов опыта.
Какие предметы существуют или могут существовать – это она не может дедуциро-
вать из своих всеобщих принципов» [Weizsäcker 1984, 215]. Идеал завершенности во-
площается в замкнутой теории. Интерпретация теории, формирование и изменение
научной картины мира посредством теории – это серьезная задача, границы которой
мы еще не можем охватить. Вайцзеккер утверждает: «Но мы, возможно, можем по-
высить степень рефлексии и развивать не теории о природных явлениях, а те орию
о возможных теориях. Мы можем задаться вопросом: как должны быть построены
теории в физике, чтобы она могла быть завершённой, и как они должны быть по-
строены, чтобы она могла быть бесконечной? Если мы видим, что подтверждение
вызывает затруднение, то это уже что-то. Прогресс в физике мы рассматриваем как
последовательность отдельных теорий. Если физика конечна, то должна быть по-
следняя теория. Предположим, что у этой теории нет границ применения. Если же
у неё есть ограничения, то не уместна ли ещё одн а теория, определяла бы эти огра-
ничения? Но если есть такая теория, которая определяет эти границы, то какой об-
ласти она будет принадлежать, как не физике? И наоборот: если физика бесконечна,
то не должна ли быть бесконечная последовательность возможных от дельных тео-
рий?» [Weizsäcker 1971, 22]. Здесь Вайцзеккер поднимает вопрос о возможных теори-
ях. В случае философского осмысления теории мы скорее подходим к изучению тео-
рий как таковых, к построению теории теорий. С одной стороны, это внешний ана-
лиз теории, экстерналистский подход. С другой стороны, степень абстракции может
стать такой высокой, что мы не сможем применить ее к конкретной науке.
Необходимо обосновать мысль, что стремление физики к единству – это не толь -
ко эволюционный путь развития науки, но и компонент саморефлексии науки, фи-
лософско-методологический аспект осмысления ее истории представителями есте-
ственнонаучной традиции в лице Л. Больцмана, Н. Бора, А. Эйнштейна, В. Гейзен-
берга. Здесь можно выделить сходство положений развития научного знания в рамках
«замкнутой теории» Вайцзеккера с идеями Гейзенберга. Среди общих черт можно
обозначить естественнонаучный монизм и принцип единства, который лежит в осно-
вании всего существующего.
Вайцзеккер выделил и подверг анализу концепцию «объединительной н ауки»
и «единой физики». В этой концепции принцип единства применяется к специальной
научной деятельности в рамках физики. Вайцзеккер опирается на понятия замкнутой
теории Гейзенберга, но интерпретирует ее по-новому. Он подмечает, развивая тезис
Гейзенберга о замкнутой теории, что не может быть завершенных теорий, ведь тогда
она теория «замкнется» в своей полноте и исключительности. Отсюда следует, что
переход к новой теории – это революционный шаг. Исключительно последующая
теория может судить о достижениях предыдущей [Weizsäcker 1971, 208]. Замкнутые
теории связаны по принципу включения: одна более совершенная теория включает в
себя другую как предельный случай. У него складывается систематическое описание
завершённой теории: критерии к ней, семантическое единство теории, реконструкция
и проблема основания теории, однако, как считает автор данной статьи, необходимо
провести различия между картиной мира и теорией, какие у неё основания. При этом
Вайцзеккер работает не только перспективно – движение теории к завершенному со-
стоянию, но и ретроспективно – поиск ее оснований в квантовой механике. Он
105
использует как методологический принцип – монизм, пытается свести все к единому
основанию. А именно к квантовой альтернативе, которая представляет собой кубит.
Научная теория на любом этапе своего развития оказывается «парадигмой», по
Т. Куну или «замкнутой теорией» в терминах В. Гейзенберга или шире, представляет
целостную культурную форму, задающую человеку априорные условия всякого опы-
та. Здесь важно подчеркнуть, насколько важны для Вайцзеккера взгляды Канта, но и
в то же время своеобразие его анализа «возможности физики как науки». В отличие
от Канта условия всякого возможного опыта коренятся не в абсолютных основаниях
ноуменальной сферы, а в конкретно-исторических культурных формах. Историче-
ским подходом Вайцзеккер обязан не метафизике (Платону и Канту), а физике.
Ввиду краха программы обосновать единство физики из исторической перспекти-
вы, нужно разобрать единство физики как философскую проблему, а значит, повы-
сить степень рефлексии: «Тот, кто достаточно сознательно мог бы проанализировать,
при каких условиях опыт вообще возможен, тот должен был бы показать, что уже из
условий опыта следуют все всеобщие законы физики. Выводимая физика была бы
тем самым единой физикой» [Weizsäcker 1984, 220]. Очевидно, что здесь мы имеем
дело с трансцендентальными размышлениями. Вайцзеккер ищет условия возможно-
сти опыта в физике, ищет трансцедентальное обоснование возможности опыта в фи-
зике. Гейзенберг идет другим путем и в этом их принципиальное различие. Он отвер-
гает попытки истолковать понятия некоторых старых замкнутых теорий, прежде все-
го классической механики, как априорные предпосылки точного естествознания. Од-
нако Гейзенберг считает, что, в отличие от таких всеобщих и фундам ентальных кате-
горий мышления, как пространство, время и причинность, относительно сложные
формы мышления, свойственные замкнутым теориям последних столетий, не могут
истолковываться как априорные. Точнее трактовать завершенные замкнутые теории
как части нашего естественнонаучного языка, постоянно интегрированные в дей-
ствующее понимание мира [Энциклопедия... 2009, 300].
Вайцзеккер предлагает идею обосновать полностью физическую теорию a priori.
Это целесообразно, пока существует возможность единой теории. Замысел трансцен-
дентально обосновать единую физическую теорию предполагает то, что будет найде-
на единая физическая теория. В данном случае мы сталкиваемся с попыткой ученых
анализировать применение кантианской программы в области методологии физики.
Если Гейзенберг отказывается от применения априоризма к таким фундаментальным
категориям мышления как пространство, время и причинность, то для Вайцзеккера
предпосылки единства физики следуют из условий возможности опыта. Кантовский
априоризм как исследовательская программа в методологии физики оказывается для
него более продуктивным.
Ссылки – References in Russian
Гейзенберг 1987 – Гейзенберг В. Шаги за горизонт. Сост. А .В . Ахутин; Общ. ред. и вступ. ст .
Н. Ф. Овчинникова. М .: Прогресс, 1987.
Энциклопедия... 2009 – Энциклопедия эпистемологии и философии науки. Под ред.
И.Т . Касавина. М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2009.
References
Heisenberg, Werner K. (1987) Steps over boarders, Comp. by A.V. Ahutin, Progress, Moscow (in Russian).
Encyclopedia of Epistemology and Philosophy of Science (2009), ed. by I.T. Kasavin, «Kanon+»,
Moscow (in Russian).
Weizsäcker, Carl F. von (1984) Die Einheit der Natur, Hanser, München.
Weizsäcker, Carl F. von (1971) Die Einheit der Natur, Hanser, München.
Сведения об авторе
РОДИНА Александра Вячеславовна –
аспирантка Института философии Россий-
ской академии наук.
Author’s information
RODINA Alexandra Vyacheslavovna –
graduate student at the Institute of Philosophy
of the Russian Academy of Sciences.
106
Генезис нефти и природного газа: конкуренция парадигм
© 2019 г.
В.Г. Кучеров1*
, И.А. Герасимова2**
1
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина,
Москва, 119296, Ленинский пр., д. 65; Королевский технологический университет,
Швеция, Стокгольм, 10044, Линдстедсвэген, 30.
2
Институт философии РАН, Москва 109240, ул. Гончарная, д. 12/1;
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина,
Москва, 119296, Ленинский пр., д. 65.
*E-mail: vladimir.kutcherov@indek.kth.se
**E-mail: homegera@gmail.com
Поступила 03.06.2019
Проблема генезиса нефти и природного газа представляет интерес как
case-study в социальной философии науки. Вопрос о происхождении
углеводородов поднимался в отечественной науке М.В. Ломоносовым,
В.И. Вернадским, Д.И. Менделеевым. Его значимость для науки
о нефти напрямую связывалась с задачами поиска и разведки залежей
углеводородного сырья. Сформировались две доминирующих концеп-
ции генезиса нефти и природного газа, которые вошли в историю как
концепция биогенного происхождения углеводородов и концепция
абиогенного происхождения углеводородов. Концепция биогенного
происхождения углеводородов изначально имела значительный пере-
вес сторонников, но с недавним открытием сверхгигантских залежей
нефти на глубине свыше 10 км, с несоответствием между идентифи-
цированными биогенными источниками и доказанными запасами уг-
леводородов для большинства гигантских нефтегазовых скоплений,
с наличием крупных залежей углеводородов в кристаллическом фун-
даменте в отсутствие нефтематеринских свит, а также с появлением
новых концептуальных, математических и технологических возмож-
ностей встал вопрос о смене парадигм в науке о нефти. В предлагае-
мой статье смена парадигм понимается как гештальт-переключение
или смена видения. Анализ драматической истории конкуренции па-
радигм вскрывает методологические проблемы научных дискуссий,
особенности научных теорий и обоснованности гипотез в такой обла-
сти как наука о нефти. Проблематизируется тема эволюции научной
рациональности.
Авторы благодарят главного научного сотрудника Института филосо-
фии РАН, доктора философских наук Владимира Ивановича Арши-
нова за ценные советы в работе над рукописью.
Ключевые слова: методология науки, социальная история науки, наука
о нефти, биогенная концепция происхождения углеводородов, абио-
генная концепция происхождения углеводородов, Ломоносов, Менде-
леев, Вернадский, парадигма, междисциплинарность, эволюция науч-
ной рациональности.
DOI: 10.31857/S004287440007530-8
Цитирование: Кучеров В.Г ., Герасимова И.А . Генезис нефти и природ-
ного газа: конкуренция парадигм // Вопросы философии. 2019. No 12.
С. 106–117 .
107
Petroleum Genesis: Competition of Paradigms
© 2019 г.
Vladimir G. Kutcherov1*
, Irina A. Gerasimova2**
1
Gubkin University, 65, Leninsky av., Moscow, 119296, Russian Federation; KTH Royal
Institute of Technology, 30, Lindstedtsvagen, Stockholm, 10044, Sweden.
2
Institute of Philosophy Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation; Gubkin University, 65, Leninsky av., Moscow, 119296,
Russian Federation.
*E-mail: vladimir.kutcherov@indek.kth.se
**E-mail: homegera@gmail.com
Received 03.06.2019
The problem of petroleum genesis is of interest as a case study in the social phi-
losophy of science. The question of the origin of hydrocarbons was raised in the
domestic science by M.V. Lomonosov, V.I. Vernadsky, D.I. Mendeleev. Its
importance for the petroleum science is directly associated with the tasks
of prospecting and exploration of hydrocarbon deposits. The problem of the pe-
troleum genesis presented in two dominant concepts of the genesis of oil and
natural gas, that went down in history as the concept of the biogenic origin of
hydrocarbons and the concept of the abiogenic origin of hydrocarbons. The
concept of biogenic origin of hydrocarbons initially had a significant margin of
support. But with the recent discovery of super-giant oil deposits at a depth of
over 10 km, a discrepancy between identified biogenic sources and proven hy-
drocarbon reserves for most of the giant oil and gas accumulations, the pres-
ence of large hydrocarbon deposits in the crystalline basement in the absence of
source rocks suites, as well as the emergence of new conceptual, mathematical
and technological capabilities the question of a paradigm shift in the petroleum
science has appeared. In the article, a paradigm shift is understood as a gestalt-
switch or a vision shift. An analysis of the dramatic history of the competition
of paradigms reveals the methodological problems of scientific discussions, the
features of scientific theories and the validity of hypotheses in the field of petro-
leum science. The subject of evolution of scientific rationality is problematized.
The authors are grateful to Vladimir I. Arshinov, the chief researcher of the
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, for valuable
advice on the manuscript.
Key words: methodology of science, social history of science, petroleum sci-
ence, concept of biogenic origin of hydrocarbons, concept of abiogenic
origin of hydrocarbons, Lomonosov, Mendeleev, Vernadsky, paradigm, in-
terdisciplinarity, evolution of scientific rationality.
DOI: 10.31857/S004287440007530-8
Citation: Kutcherov, Vladimir G., Gerasimova, Irina A. (2019) ‘Petroleum
Genesis: Competition of Paradigms’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019),
pp. 106–117 .
Становление и развитие науки о нефти вызвано топливно-энергетическими потреб-
ностями ускоренного развития техногенной цивилизации в XX–XXI вв. В цивилизаци-
ях традиционного типа были известны горючие свойства нефти и природного газа, их
использовали в качестве топлива и в военных целях, но локально. В начале XX в.
в структуре мирового энергопотребления использовались главным образом уголь и дро-
ва, на долю нефти приходилось всего 3%, а природный газ совсем не применялся
(рис. 1). Понадобилось около 60 лет для того чтобы нефть стала доминирующим
108
источником энергии. В последней четверти XX в. были открыты гигантские залежи
природного газа, создана сеть магистральных газопроводов. Это привело к тому, что в
первой декаде XXI в. доля природного газа в структуре мирового энергопотребления
существенно увеличилась. В 2017 г. совместная доля нефти и природного газа в струк-
туре мирового энергопотребления составила более 53%.
Согласно доминирующему представлению ученых (биогенная концепция), нефть
и природный газ относятся к «невозобновляемым» источникам энергии, которые
накапливались в земной коре миллионы лет. В конце 70-х гг. исследователи прогно-
зировали истощение углеводородных запасов, величину которых при существовавших
тогда темпах отбора оценивали как достаточные примерно на 35 лет [Гаврилов 1978,
25]. Время прошло, но прогнозы не подтвердились. Ключевой проблемой для науки
о нефти была и продолжает оставаться проблема происхождения углеводородов.
В зависимости от ее решения определяются подходы к поиску залежей углеводород-
ного сырья, запасы, структура и распределение углеводородов на нашей планете.
С методологической точки зрения, проблема происхождения углеводородов фокуси-
рует науку и практику, эмпирический, теоретический и метатеоретический (фило-
софский) уровни научного исследования.
Рис. 1 . Доля различных источников энергии в мировом энергетическом балансе
[Бессель и др. 2017].
Методологические особенности науки о нефти
Духовно-нравственные и методологические основы русской науки закладывались в
трудах гениальных отечественных ученых-энциклопедистов, оказавших влияние на ста-
новление и развитие науки о нефти. М.В. Ломоносов, выдвинувший органическую гипо-
тезу происхождения нефти, ставил вопрос о ценности наук по-философски всеобъем-
люще: «Наука есть ясное постижение истины, просвещение разума, непорочное увеселе-
ние в жизни, похвала в юности, в старости подпора, строительница градов, полков, кре-
пость, утеха в несчастии, в счастии украшение, везде верный и безотлучный спутник»
[Ломоносов 1952, 262]. Сочетание фундаментальных исследований с практической
направленностью и служением отечеству – качества ученого-гражданина.
«Третья служба моя Родине наименее видна, хотя заботила меня с юных лет. Эта
служба по мере сил и возможности на пользу роста русской промышленност и», –
писал о себе Д.И. Менделеев, выделяя общественно-практическую деятельность
109
наряду со своей научной и педагогической деятельностью [Менделеев 1952, 663].
Дмитрий Иванович был настоящим «волонтером нефтяного дела». Более 70-и работ
ученого посвящено проблемам развития науки о нефти и российской нефтяной про-
мышленности. «Третье служение» Менделеева определило особенности методологиче-
ского сознания ученого, наследие которого содержит работы по общим вопросам мето-
дологии науки [Баранец, Веревкин 2011, 273–277]. Специфика работы химиков, кото-
рые имеют дело с конкретными веществами природы и их взаимопревращениями,
определяет и их отношение к методу. Для Менделеева-химика приоритет отдается ме-
тодам непосредственного наблюдения и эксперимента: «от многого наблюдаемого
к немногому проверенному и несомненному, подвергаемому затем дедуктивной обра-
ботке» [Менделеев 1958, 590]. «Наблюдательность» химии определяет специфику науч-
ного исследования, но не приоритет эмпиризма над теоретическими рассуждениями.
Менделеев полагал, что естествоиспытателю полезно знать философию, которая акку-
мулирует конкретные знания исторической эпохи, соединяя достижения отдельных
дисциплин в общенаучную картину мира и задавая направления научного поиска на
уровне «гипотез, объясняющих, выражающих и вызывающих еще не точно известные
отношения и явления» [Менделеев 1954, 37]. Научное познание – безграничный про-
цесс, но конкретно-исторические научные обобщения «ограничены тем, что удалось
изучить (а изучены лишь “песчинки на берегу океана неизвестного”, как сказал Нью-
тон) <...> признать громадность массы совершенно неизвестного – неизбежно необхо-
димо» [Менделеев 1954, 458]. Практическая направленность химии определяет ее двой-
ственную специфику как технологии (действия, мастерства) и как науки (знания).
Методологические рассуждения ученого с углубленным знанием запросов промыш-
ленности в полной мере определяют специфику науки о нефти, в которой теория тесно
связана с практикой. Корреляция практической инженерной деятельности с теоретиче-
ской передается в понятии технонауки. Технонаука в существенной степени опирается
на приборы и технические устройства, которые выходят далеко за пределы физиологи-
ческой чувствительности человека. Высокотехнологичные установки позволяют созда-
вать условия и проводить эксперименты, которые до техногенной цивилизации были
невозможны. Благодаря цифровым технологиям возрастает доля компьютерного моде-
лирования и виртуальных экспериментов. Исследуя природу, технонаука создает теоре-
тические модели реальности с разными онтологиями, включая так называемые нена-
блюдаемые сущности. Меняется не только характер эксперимента, но и понимание
роли теорий, соотношения теории и факта. Дифференциация наук ставит вопросы ин-
теграции знания, в том числе путем многоуровнего сопряжения высоко абстрактных
теорий с прикладными теориями, моделями и технологиями.
Изучая конкретные, уникальные объекты природы с различных точек зрения,
в науке о нефти работают с теориями, направленными на описание и объяснение
определенного круга объектов и процессов, изучение которых доступно эмпириче-
ской проверке. Последнее не исключает проведение фундаментальных исследований,
практические результаты которых могут быть неочевидными в конкретно-
исторический момент. Особенности организации познания в условиях технонауки
направляют усилия ученых на создание синтетических теорий, которые могут в бу-
дущем стать фундаментальными. Примечательно то, что интегративная функция фи-
лософии, о которой на рубеже XIX–XX вв. писал Менделеев, частично передается
междисциплинарно и трансдисциплинарно организованной науке.
История идей и история людей ткет ткань социальной истории науки, которая
всегда драматична. Примером тому может служить борьба двух подходов к проблеме
генезиса нефти и природного газа – абиогенного и биогенного.
Концепции биогенного и абиогенного генезиса нефти и природного газа
(нафтидогенез). История
Анализ точек зрения в научных дискуссиях требует щепетильности в оценке вы-
двигаемых гипотез, их соотношения с данными наблюдений и фактами, а также
в оценке их описательных, объяснительных и прогностических возможностей
110
Исторический анализ гипотез предполагает учет познавательного и социального кон-
текста исследования и прежде всего особенностей языка и концептуального аппарата
науки конкретного времени. Уточним особенности научной терминологии в интере-
сующем нас вопросе. Природный газ состоит главным образом из смеси насыщенных
углеводородов – метана (до 90–98%), этана, пропана и бутана. Нефть представляет
собой сложное, структурированное соединение. В физико-химическом аспекте угле-
водороды только преобладают в составе нефтей, содержащих значительное количе-
ство (до десятков процентов) кислородо-, азото-, фосфоро- и серосодержащих со-
единений, распределение которых варьируется в широком диапазоне. Именно соот-
ношение всех этих соединений и делает каждое месторождение уникальным. Уни-
кальность месторождениям также придают геофизические и геологические условия
генезиса и залегания. Отсюда вопросы о генезисе нефти и всего разнообразия угле-
водородов – смежные, но разные вопросы. Уникальность месторождений углеводо-
родов вынуждает придерживаться принципа гибкости в исследованиях и оценках,
сочетая признанные научные наработки с творческим подходом.
В отечественной истории науки первую гипотезу происхождения горючих ископае-
мых выдвинул М.В. Ломоносов. В классическом труде «Первые основания металлургии
или рудных дел» (1763) дополнительный раздел «О слоях земных» был посвящен проис-
хождению горючих полезных ископаемых – каменного угля, торфа и нефти. Ломоносов
считал каменный уголь и нефть продуктами органического происхождения, возникшими
в результате длительной естественной переработки веществ в земной коре. В выдвиже-
нии своей гипотезы ученый опирался на наблюдения, которые выражал, согласно мыш-
лению того времени, на языке чувственных качеств: «Увериться можем о происхождении
сих горючих подземных материй из растущих вещей их легкостью. Ибо все минералы
в воде потопают, нефть по ней плавает, несмотря на то, что, бывши в земных породах,
приняла на себя несколько тяжелой горной материи» [Ломоносов 1986, 418]. Подтвер-
ждение одного из главных факторов нефтеобразования – длительного прогрева «расти-
тельного вещества» в водно-осадочных отложениях «подземным огнем», он искал в про-
водимых опытах «по перегонке жирных материй»: «Через перегонку дают горные уголья
черное, горькое масло и несколько кислой материи» [Ломоносов 1986, 380]. Его гипотеза
о генетической связи горючих ископаемых, «которые чистотою разнятся», нашла под-
тверждение в современной науке. Их называют каустобиолиты. Исследования Ломоносо-
вым вопросов происхождения и свойств горючих ископаемых заложили ряд ключевых
направлений науки о нефти. Особое значение для становления научной картины мира
имели его рассуждения фундаментально-философского характера относительно длитель-
ного процесса формирования поверхности Земли под влиянием внешних и внутренних
факторов, взаимосвязанности геологических, химических и биологических процессов.
В XIX в. большинство химиков придерживались концепции биогенного происхож-
дения нефти либо из растительного, либо из животного сырья, либо из их смеси. Про-
водились опыты по перегонке органического сырья с последующим получением
нефтепродуктов. Параллельно зарождалась иная концепция – концепция абиогенного
происхождения нефти. В начале XIX в. выдающийся немецкий натуралист Александр
фон Гумбольдт высказал сомнение в справедливости концепции биогенного происхож-
дения нефти. В 1866 г. французский химик М. Бертло предположил, что нефть образо-
валась в недрах Земли из минеральных веществ. 15 января 1876 г. на заседании Русско-
го химического общества Д.И. Менделеев выступил с докладом о гипотезе минерально-
го происхождения нефти, которая получила название карбидной [Менделеев 1949].
Согласно предположению Менделеева, во время горнообразовательных процессов
вглубь через трещины просачивалась вода, взаимодействие которой с карбидами железа
при высоком давлении и высоких температурах могло вести к образованию окислов
металла и углеводородов. Свои предположения Менделеев подтверждал опытами
С. Клоэца, который получал водород и ненасыщенные углеводороды, воздействуя
соляной или серной кислотой на чугун, содержащий до 4% углерода. Наличие тре-
щин – глубинных разломов в земной коре Менделеев обсуждал с геологом-
нефтяником Г.В . Абихом во время их экспедиции в Баку.
111
Большинство геологов не приняли карбидной гипотезы Менделеева. Геологам ка-
залась сомнительной идея существования карбидов в глубине земной коры, однако
его подход дал мощный импульс развитию исследований физико-химических свойств
нефти и нефтепродуктов, разработке технологий нефтеперегонки. Для проведения
доказательных экспериментов в то время технологические, концептуальные и мате-
матические ресурсы были ограничены.
В восприятии сторонников концепции органического происхождения нефти вызыва-
ла сомнение идея существования глубинных разломов в земной коре. Наблюдения прак-
тиков-геологов, свидетельствовавшие о наличии обладающих большой подвижностью
разломов в земной коре, становятся фактами только по мере развития концептуального
аппарата и технологических возможностей геологии и геофизики. Первая концепция
разломов была выдвинута американским геологом У. Хоббсом (1905–1911), но убеди-
тельные доказательства роли разломов в образовании полезных ископаемых были пред-
ставлены только в 1945 г. советским академиком А.В. Пейве [Гаврилов 1978, 94].
В 60-х гг. геологи выдвигают концепцию глобальной тектоники плит, которая ныне при-
знается большинством ученых. Согласно этой концепции земная кора состоит из лито-
сферных плит, находящихся в постоянном движении друг относительно друга. При этом
в зонах субдукции происходит погружение океанической коры под континентальную.
Геологоразведочные работы сегодня ведутся с учетом этих факторов.
В 20-х гг., когда В.И. Вернадский писал свои труды по наукам нового типа –
геохимии и ее отрасли, биогеохимии, большинство геологов и химиков придержива-
лись органической гипотезы происхождения нефти. В «Очерках по геохимии» есть раз-
дел, посвященный углероду в живом веществе земной коры, а особый параграф – ге-
незису нефти [Вернадский 1994, 281–348]. В последнем обстоятельно представлены все
значимые результаты геологических и биохимических исследований нефти, бывших
к тому времени уже дифференцированными областями научного знания. Вернадский
развивает собственную концепцию газообразования и органического генезиса нефти,
обращая внимание на процессы метаморфизма останков растительного и животного
происхождения в верхних слоях геосферы под влиянием солнца и внутренних процес-
сов разложения. Ученый приводит ряд геохимических доказательств органогенного
происхождения в нефти азота, серы, кислорода и фосфора. Принимая во внимание
актуальные на тот момент данные о термическом градиенте земной коры, Вернадский
считал, что едва ли образование нефти могло происходить глубже, чем на глубине
1,5 км [Вернадский 1994, 303]. Он отмечает, что на рубеже XIX–XX вв. были известны
факты вулканического происхождения углеводородов, указывалось на аналогии с ме-
теоритами. Основатель учения о биосфере допускал эти возможности относительно
незначительных, но не крупных скоплений углеводородов: «Углеводороды (главным
образом, метан), которые, несомненно, приходят из глубинных слоев земной коры,
только отчасти ювенильного происхождения» [Вернадский 1994, 309]. Как ученый-
естествоиспытатель он не усматривал достаточных оснований для выводов относитель-
но абиогенной гипотезы: «Состояние наших знаний о первичных ювенильных углеро-
дистых минералах довольно печальное. Нам недостает точных фактов, и невозможно
изложить геохимию ювенильного углерода чисто эмпирически, не прибегая к более
или менее обоснованным гипотезам» [Вернадский 1994, 287].
Существенное влияние на научное сообщество оказала работа выдающего отече-
ственного геолога и организатора нефтегазовой промышленности И.М. Губкина «Учение
о нефти» (1932), который придерживался биогенного подхода. Он основательно меняет
представления о нефтематеринских свитах, областях формирования и залегания гигант-
ских месторождений Его подход позволил значительно повысить эффективность геоло-
горазведочных работ.
На конференциях нефтяников в конце 60-х гг . ХХ в. окончательно утверждается
концепция биогенного генезиса нефти и газа. Согласно ее сторонникам, «были
приведены важные доводы в пользу органической гипотезы, которая, получив фун-
даментальные доказательства, уже переросла в строгую научную теорию», на ее осно-
ве и шло освоение недр больших территорий России [Гаврилов 1978, 46].
112
Однако вопрос об истине не решается простым голосованием. Научно-
технический прогресс несет кардинальные сдвиги в научных подходах и миропони-
мании. Обратим внимание на некоторые значимые достижения.
Одно из пионерских направлений – геофизика. На заре нефтяной промышленно-
сти поиск залежей нефти велся почти вслепую. В Америке даже появился термин
«метод дикой кошки», когда бурили наугад. В конце 70-х в основном еще так и бу-
рили наугад, но постепенно набирали силу технологические и концептуальные воз-
можности геофизики. Благодаря сейсморазведке и цифровым технологиям моделиро-
вания и интерпретации удается сократить время бурения скважин и сделать более
эффективными работы по разработке углеводородных залежей. Если еще совсем не-
давно считалось, что нефть залегает на глубине 1,5 –4 км, а газ – 4 –6 км, то сегодня
бурят на глубины 8 и более километров, и это не считается пределом.
Итоги научных исследований генезиса нефти, газа и их производных (нафтидоге-
нез) рубежа XX–XXI вв., а также их ближайшие перспективы обсуждаются в работе
академика А.Э . Конторовича [Конторович 1998].
Конкуренция парадигм по Томасу Куну
Высокие технологии вывели экспериментальные исследования на новый каче-
ственный уровень. Казалось бы, «окончательно» опровергнутый абиогенный подход,
получает новые и новые доказательства. Начинается новый этап в научных дискусси-
ях, сценарий которого вполне вписывается в концепцию парадигм Т. Куна – науч-
ных достижений, признанных сообществом ученых на определенном историческом
этапе и направляющих исследования в определенных концептуальных и фактологи-
ческих рамках [Кун 1977].
По сложившейся традиции биогенная парадигма утверждает, что углеводороды на
нашей планете – нефть, природный газ, горючие сланцы, битумы, мальты, асфальты
и др.
–
возникли из останков живых организмов или растений, которые в течение
многих миллионов лет накапливались на дне древних морей и озер, погружались на
глубину нескольких километров, и в результате превращений преобразовывались в ор-
ганическое вещество – кероген. При дальнейшем погружении вглубь земной коры из
керогена выделялись частицы рассеянной микронефти, которые в процессе первичной
миграции поступали из нефтематеринских пород в пористые породы-коллекторы.
В процессе вторичной миграции происходила концентрация углеводородов и формиро-
вание нефтегазовых залежей. Развитие идей плитной тектоники внесло существенные
коррекции в концепцию биогенного происхождения углеводородов. В современной
интерпретации этой концепции углеводороды образовались из органического вещества
осадков океанического дна в зонах субдукций при погружении на глубину с температу-
рой порядка 100–3000С. Образовавшаяся нефть мигрирует вверх через надвинутую кон-
тинентальную плиту и аккумулируется в осадочных породах.
Получившая развитие в XXI в. концепция глубиного абиогенного генезиса
углеводородов основана на представлениях о том, что их генерация происходит
в мантийных очагах вследствие неорганического синтеза. Согласно этой концепции,
образовавшиеся в глубине мантии Земли углеводороды по глубинным разломам
мигрируют в земную кору и аккумулируются в месторождения углеводородов. Кроме
мантийных очагов углеводороды могут образовываться в нижних слоях земной коры
в результате процесса серпинтинизации – образования углеводородов в системе
оливин-вода-двуокись углерода. Нефтегазоносность рассматривается как одно из
проявлений природного процесса дегазации Земли, создавшего на ранних этапах ее
гидросферу, атмосферу и биосферу [Краюшкин и др. 2005].
Ряд фактов, на которых основана биогенная парадигма, получают объяснение при
глубинном абиогенном подходе. Так, залегание нефти и природного газа в осадочных
породах объясняется миграцией углеводородов из глубины. Углеводородные флюиды,
пришедшие из глубины, где они синтезировалисть абиогенным путем, попали в ло-
вушки –пористые породы (коллекторы), покрытые непроницаемыми породами (по-
крышками) и там остались. На пути миграции углеводородный флюид обогащался
113
молекулярными остатками – продуктами жизнедеятельности бактерий, живущих на
различных глубинах. Именно так можно объяснить наличие в нефтях углеводородов,
сохранивших характерные черты исходных биоорганических соединений – так назы -
ваемых биомаркеров.
Абиогенная парадигма кардинально меняет наши представления об объеме и рас-
пределении запасов углеводородов на нашей планете, предлагает новые подходы
к поиску и разработке углеводородных залежей, говорит о неисчерпаемости и возоб-
новляемости углеводородных ресурсов на Земле.
Важнейшей функцией парадигмы Кун считал решение «задач-головоломок», про-
блем, которые имеют гарантированное решение, и, кроме того, существуют правила,
«которые ограничивают как природу приемлемых решений, так и те шаги, посредством
которых достигаются эти решения» [Кун 1977, 63]. В период нормальной науки био-
генная парадигма с успехом решала определенные задачи. В рамках биогенного подхо-
да был разработан ряд критериев поиска залежей углеводородов. Выделены нефтегазо-
носные бассейны – зоны земной коры с мощными слоями осадочных пород ограничи-
вали территории для поиска скоплений углеводородов. Понятия «нефтяного и газового
окон» указывали возможную глубину разведочного бурения. Предположения о транс-
формации органического вещества, послужившие основой понятия «масштабы генера-
ции», определяли объем углеводородов в данной залежи. Все это позволило повысить
эффективность поиска и разведки нефтегазовых залежей.
Согласно Куну, периоды спокойного развития («нормальной науки») сменяются
кризисом, который может разрешиться революцией, заменяя господствующую пара-
дигму. В науке о нефти можно наблюдать кризисное состояние. Биогенная парадигма
возникла, основываясь на идеях одной научной школы – школы, объясняющей проис-
хождение всех без исключения углеводородов на Земле из органической материи. Теоре-
тически допускался абиогенный синтез, но он не имел практического значения для
широкого фронта исследовательских работ. Появляются новые знания и информация,
которые выглядят аномалиями в пределах принятой парадигмы. В таких условиях уче-
ные – защитники доминирующей парадигмы пытаются улучшить, скорректировать
принятую концепцию и интерпретировать новые явления, подстраивая их под нее.
Первая волна фактов прокатилась в 30–40 -е гг. прошлого века, когда было открыто
значительное количество сверхгигантских нефтяных и газовых залежей на Ближнем Во-
стоке и в Южной Америке, для которых достаточный для их формирования органиче-
ский источник – нефтематеринские породы не был идентифицирован даже к 70-м годам
XX в. Примером может служить группа гигантских нефтяных месторождений – Боливар
Костал (Bolivar Coastal) в Венесуэле. Их разработка ведется с 1922 г. и установлено, что
нефтематеринские породы представлены известняком LaLuna. Геохимическая модель
показывает, что нефтегенерирующий бассейн для такого огромного количества нефти
при средней мощности нефтематеринских пород 1000 м должен иметь площадь около
570 км2
.
Но реальная средняя мощность известняка LaLuna составляет всего 91 м
[Bockmeulenetal 1983]. В этом случае площадь нефтегенерирующего бассейна должна со-
ставлять примерно 50% территории Венесуэлы. А каков тогда источник органического
вещества для других сверхгигантских месторождений Венесуэлы, Колумбии и других
стран Южной Америки? Биогенная парадигма затрудняется дать ответ на вопрос об ис-
точнике. В тоже время абиогенная парадигма, утверждающая, что источником углеводо-
родов в этих сверхгигантских месторождениях является мантийный углеводородный
флюид, дает ответ на этот вопрос.
Вторая волна фактов стала набирать силу благодаря новому уровню технологий.
В конце прошлого века началось систематическое экспериментальное изучение углево-
дородных систем при экстремальных термобарических условиях. Полученные достовер-
ные и воспроизводимые экспериментальные данные подтвердили возможность синтеза
сложных углеводородных систем из неорганических веществ в условиях, соответствую-
щих мантийным [Kenney et al. 2002; Kutcherov et al. 2010; Kolesnikov et al. 2017].
В это же время начались исследования включений в алмазах. Мантийное проис-
хождение алмазов не вызывает сомнений, поэтому все газожидкостные включения
114
внутри них также имеют мантийное происхождение. Результаты исследования вклю-
чений выявили наличие в них насыщенных углеводородов до С4 включительно
[Melton, Giardini 1974].
Биогенной парадигме пришлось признать возможность синтеза углеводородов в
мантийных условиях. В основном, признавалась возможность синтеза метана и его
ближайших гомологов – этана, пропана и бутана. Следуя исторически допускавшей-
ся гипотезе «незначительной дегазации Земли», сторонники биогенного подхода счи-
тали, что количество этих углеводородов пренебрежительно мало. С методологиче-
ской точки зрения гипотеза «незначительной дегазации Земли» относится к вопросам
научной веры. Исторически не было возможностей ни подтвердить ее, ни опроверг-
нуть. С позиций абиогенного подхода появляется возможность оценить углеводород-
ный потенциал мантии Земли.
Третью волну фактов породило открытие новых месторождений. В 2006 г. был открыт
целый ряд сверхгигантских месторождений тяжелых нефтей в нефтяном поясе Ориноко
(восток Венесуэлы). Совокупные запасы только двух месторождений Карабобо-1 и Ху-
нин-1 оценены экспертами в более чем 14 млрд тонн. Общие ресурсы тяжелой нефти
пояса Ориноко оцениваются в 400–500 млрд тонн [Валяев 2002, 11]. Это больше, чем все
подтвержденные запасы нефти и природного газа во всем мире.
В начале XXI в. произошло открытие целого ряда гигантских сверхглубоких зале-
жей углеводородов на глубинах, превышающих 8 км. Так, например, в 2009 г. компа-
ния British Petroleum открыла гигантское нефтяное месторождение в акватории Мек-
сиканского залива. Месторождение, получившее название Тайбер (Tiber), находится
на глубине более 10600 м, под слоем воды в 1300 м. В основном сверхглубокие зале-
жи, открытые в Мексиканском заливе, являются нефтяными или газонефтяными.
Практически все разрабатываемые залежи залегают существенно ниже так называе-
мого «нефтяного окна», граница которого не превышает глубины 7000 м. Существо-
вание залежей нефти на глубинах свыше 7000 м не может быть объяснено с точки
зрения концепции биогенного образования углеводородов.
За последнее десятилетие появился целый ряд новых экспериментальных данных,
убедительно доказывающих возможность абиогенного синтеза сложных углеводород-
ных систем в глубинных условиях. В зависимости от исходных веществ – доноров
углерода и водорода были получены «жирный» и «сухой» природный газ, сложные
системы, содержащие углеводороды до С16, включая альдегиды при условиях, соот-
ветствующих условиям верхней мантии [Kolesnikov et al. 2017]. Анализы проб, ото-
бранных из сотен мест, где столетия и даже тысячелетия наблюдались газопроявле-
ния, подтвердили, что эти газы являются продуктом абиогенного процесса серпенти-
низации [Etiope, Lollar 2013].
Анализ микроэлементного состава образцов сырой нефти Западной Сибири и Та-
тарстана выявил геохимическую черту, характерную для всех без исключения иссле-
дованных образцов нефтей – наличие выраженной положительной европиевой ано-
малии [Иванов и др. 2008]. При этом как в нефтематерин ских породах, так и в поро-
дах коллектора положительной европиевой аномалии не обнаружено. Откуда
в нефтях появилось избыточное количество европия? Известно, что положительная
европиевая аномалия характерна для глубинных образований, то есть для геологиче-
ских объектов, сформированных в нижних частях земной коры и глубже. Например,
для базальтов и серпентинитов. Наличие европиевой аномалии в нефтях подтвержда-
ет их мантийное происхождение.
И, наконец, новые результаты исследования включений в изверженных из м ан-
тийных глубин минералов. Эти минералы (гранат и оливин) попадают на поверх-
ность по кимберлитовым трубкам и являются прямыми источниками информации о
составе мантии. В составе включений обнаружены различные углеводороды от мета-
на СН4 до гексана С6Н14 [Томиленко и др. 2009].
Реакция на кризис – возникновение аномальных фактов, стимулировала каче-
ственно новое развитие концепции абиогенного глубинного происхождения углево-
дородов на Земле, которое в экстраординарных условиях научных коммуникаций
115
отстаивает свои позиции. Методологи указывают на множество причин непринятия
новаций – логико-когнитивные, коммуникативные, психологические, социальные
[Герасимова 2004; Баранец, Веревкин 2011]. После первых работ Куна произошли
изменения в методологических концепциях. Указывается на гранулированность
науки, сосуществование множества конкурирующих парадигм, обеспечивающих ди-
намику научного познания. Революционная смена парадигмы понимается скорее как
смена видения, гештальт-переключение. Гештальты отвечают критериям междисци-
плинарности, сосуществованию дополняющих друг друга парадигм. Именно возмож-
ность гештальт-переключения становится барьером для ортодоксальных представите-
лей биогенной парадигмы. Узкий профессионализм, служебное положение, наличие
школы и многие другое препятствуют «открытой рациональности» (В.С. Швырев).
Метапарадигмальные проблемы в науке о нефти
Экстраординарную ситуацию конкуренции парадигм в науке о нефти рассмотрим
с позиции метапарадигмы – методологической концепции академика В.С. Степина
относительно эволюции научной рациональности. По отношению к научной дея-
тельности, Степин выделяет три типа научной рациональности, становление каждого
из которых означало научную революцию – классический, неклассический и постне-
классический. Простые системы составляют объекты исследования классической
науки, их категориальное описание лежало в основе механической картины мира
с XVII и отчасти до первой половины XIX в. Объектами неклассической рациональ-
ности становятся сложные саморегулирующиеся системы. В технике это – автомати-
ческие станки, заводы-автоматы, системы управления спутниками и пр. «В живой
природе и обществе – это организмы, популяции, биоценозы, социальные объекты,
рассмотренные как устойчиво воспроизводящиеся организованности» [Степин 2018,
245]. Постнеклассическая рациональность осваивает сложные саморазвивающиеся
системы, в ходе развития которых происходит переход от одного вида саморегуляции
к другому. Они характеризуются открытостью, обменом веществом , энергией, ин-
формацией с внешней средой. Согласно Степину, постнеклассическая рациональ-
ность не отменяет, а включает в себя все предшествующие типы.
Онтологические и методологические принципы синергетики Степин рассматрива-
ет как экземплификации постнеклассической рациональности. «Ключевые понятия
синергетики – “сложность” (complexity) и “самоорганизация” – фиксируют главные
признаки сложных систем – их открытость, процессуальность, нередуцируемость
системной целостности к свойствам элементов» [Степин 2018, 253 –254 .] . В истории
химии примером применения методологии синергетики служат модели циклических
реакций (автокатализ). Синергетическую парадигму развивал А.П . Руденко в своей
концепции химической эволюции и биогенеза (химических факторов происхождения
жизни), уделяя внимание и концепции абиогенного генезиса нефти [Руденко 1986].
В освоении постнеклассической рациональности огромную роль играют методо-
логии междисциплинарных подходов. Как показывает практика, особую роль в ста-
новлении новых междисциплинарных концепций и парадигм играют «зоны обмена».
Выбор той или иной парадигмы в науке о нефти в конечном счете будет зависеть от
факторов самоорганизации научного сообщества, но сегодня именно в «зонах обме-
на» создается будущее науки.
В историческом докладе Дмитрия Ивановича Менделеева на заседании Химиче-
ского общества, по существу, была разработана программа фундаментальных иссле-
дований в науке о нефти, которая включала вопросы геохимической эволюции, стро-
ения недр Земли, динамики геофизических и геологических процессов, космической
химии, исследования космических пришельцев – «метеорных камней», дальнейших
органических превращений нефти [Менделеев 1949]. В космический век наука ин-
тенсивно осваивает саморазвивающуюся систему «Земля – солнечная система
–
наблюдаемая Вселенная». Метан и другие углеводороды найдены в составе атмосфе-
ры Урана и Титана, спутника Сатурна. Сложные углеводородные системы обнаруже-
ны в космических пылевых туманностях, названных учеными «роддомами» звезд.
116
Успехи в исследовании космической жизни расширяют горизонты понимания зем-
ной жизни. Жизнь есть и в наблюдаемой Вселенной, но то, что эволюция земной
жизни шла уникальным путем, доказано. Сравнительный анализ свойств и превра-
щений химических элементов в метапарадигме наблюдаемой Вселенной как самораз-
вивающейся системы открывает возможности новых гештальт-переключений виде-
ний, в том числе и для вполне практических, земных исследований генезиса нефти,
природного газа и их производных.
Источники – Primary Sources in Russian and English
Вернадский 1994 – Вернадский В.И . Труды по геохимии. М .: Наука, 1994 [Vernadsky, Vladimir
Proceedings in Geochemistry (In Russian)].
Кун 1977 – Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И .З .Налетова. 2 -е изд. М .:
Прогресс, 1977 [Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions (Russian Translation)].
Ломоносов 1986 – Ломоносов М.В. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1986
[Lomonosov, Mikhail V. Selected Works (In Russian)].
Ломоносов 1952 – Ломоносов М.В . Полное собрание сочинений. В 10 т. Т. 7. М .; Л.: Изд-во
АНСССР, 1952 [Lomonosov, Mikhail V. Complete Set of Works (In Russian)].
Менделеев 1949 – Менделеев Д.И . Гипотеза о происхождении нефти // Менделеев Д.И . Со-
брание сочинений. В 25 т. Т. 10 . М.; Л.: Изд-во АНСССР. С . 14–15 [Mendeleev, Dmitry I. Oil
Origin Hypothesis (In Russian)].
Менделеев 1952 – Менделеев Д.И . Письмо С.Ю . Витте // Менделеев Д.И . Собрание сочине-
ний. В 25 т. Т. 25 . М .; Л.: Изд-во АНСССР, 1952.С . 663–666 [Mendeleev, Dmitry I. Letter to
S.Yu.Witte (In Russian)].
Менделеев 1954 – Менделеев Д.И. Мировоззрение// Менделеев Д.И. Собрание сочинений. В 25 т.
Т. 24. М.; Л.: Изд-во АНСССР, 1954.С. 455–461 [Mendeleev, Dmitry I. The Worldview (In Russian)].
Менделеев 1958 – Менделеев Д.И . Периодический закон. Основные статьи . М .: Изд-
воАНСССР, 1952 [Mendeleev, Dmitry I. Periodic Law.Main articles (In Russian)].
Степин 2018 – Степин В.С . Человек, деятельность, культура. СПб .: СПбГУП, 2018 [Stepin,
Vyacheslav S. Man, Activity, Culture (In Russian)].
Ссылки –References in Russian
Баранец, Веревкин 2011 – Баранец Н.Г., Веревкин А.Б. Методологическое сознание россий-
ских ученых. Ч.1 . XIX–начало XX века. Ульяновск: Издатель Качалин А.В ., 2011.
Бессель и др. 2017 – Бессель В.В ., Кучеров В.Г., Лопатин А.С ., Мартынов В.Г . Смена парадиг-
мы на мировом энергетическом рынке // Газовая промышленность. 2017 . No 4 (751). С . 28 –33 .
Валяев 2012 – Валяев Б.М. Природа и особенности пространственного распространения не-
традиционных ресурсов углеводородов и их скоплений // Газовая промышленность. Спецвы-
пуск «Нетрадиционные ресурсы нефти и газа». 2012 . С . 9 –16.
Гаврилов 1978 – Гаврилов В.П . «Черное золото» планеты. М .: Недра, 1978.
Герасимова 2004 – Герасимова И.А. Творческие стили научных дискуссий // Синергетиче-
ская парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. М.:
Прогресс-Традиция, 2004. С . 473 –489.
Иванов и др., 2008 – Иванов К.С ., Кучеров В.Г., Федоров Ю.Н. К вопросу о глубинном про-
исхождении нефти // Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала
Западной Сибири. Тюмень: Западно-Сибирский НИИ геологии и геофизики, 2008. C . 160–173 .
Конторович 1998 – Конторович А.Э. Осадочно-миграционная теория нафтидогенеза: состояние
на рубеже XX и XXI вв., пути дальнейшего развития // Геология нефти и газа. 1998. No10. C. 8–16.
Краюшкин и др. 2005
–
Краюшкин В.А., Кучеров В.Г., Клочко В.П ., Гожик П.Ф . Неорганиче-
ское происхождение нефти: от гео логической к физической теории // Геологічний журнал.
2005. No 2. С. 35–43.
Кучеров и др. 2010
–
Кучеров В.Г ., Колесников А.Ю ., Дюжева Т.И., Кулагина Л.Н., Николаев
Н.А., Бражкин В.В . Синтез сложных углеводородных систем при термобарических условиях,
сходных с мантийными // Доклады Российской Академии Наук. 2010 . Т. 433 . C . 361–364.
Руденко, Кулакова 1986 – Руденко А.П ., Кулакова И.И . Физико-химическая модель абиоген-
ного синтеза углеводородов в природной среде // Журнал Всесоюзного химического общества
им. Д.И. Менделеева. 1986. Т . 31 . Вып. 5 .
Томиленко и др. 2009 – Томиленко А.А., Ковязин С.В., Похиленко Л.Н., Соболев Н.В . Первич-
ные углеводородные включения в гранате алмазо носного эклогита из кимберли товой трубки
Удачная, Якутия // Доклады Академии наук, 2009. Т . 426. С . 533 –536.
117
References
Baranets, Natalya G., Verevkin, Andrey B. (2011) Methodological Consciousness of Russian Scientists.
Part 1. Kachalin Alexander V. (Publ.), Ulyanovsk (In Russian).
Bessel, Valery V., Kutcherov, Vladimir G., Lopatin, Alexey S., Martinov, Viktor G. (2017) ‘A Paradigm
Shift in the Global Energy Market’, Gazovaya Promyshlennost, Vol. 4 (751), pp. 28 –33 (In Russian).
Bockmeulen, Harry, Bark er, Colin, and Dickey, Parke A. (1983) ‘Geology and Geochemistry of
Crude Oil, Bolivar Coastal Fields, Venezuela’, American Association of Petroleum Geologists (AAPG) Bul-
letin, 67, 242–270 .
Etiope, Giuseppe, Sherwood Lollar, Barbara (2013)‘Abiotic methane on Earth’, Reviewsof Geophys-
ics, 51, 276–299, doi:10.1002/rog.20011.
Gavrilov, Viktor P. (1978) The “Black Gold” of the Planet, Nedra, Moscow (In Russian).
Gerasimova, Irina A. (2004) ‘Creative Styles of Scientific Discussions’, Kiyashchenko, Larisa P.
(Ed.) Synergetic paradigm, Progress -Tradition, Moscow, (In Russian).
Ivanov, Konstantin S., Kutcherov, Vladimir G., Fedorov, Yury N. (2008) ‘To the Question of the
Deep Origin of Petroleum’, The State, Trends and Problems of the Development of Oil and Gas Po tential
of Western Siberia, Western-Siberian Research Institute of Geology and Geophysics , Tumen, pp. 160–
173 (In Russian).
Kenney, Jack F., Kutcherov, Vladimir G., Bendeliani, Nikolay A., Alekseev, Vladimir A. (2002)
‘The Evolution of Multicomponent Systems at High Pressures: VI. The Thermodynamic Stability of the
Hydrogen-carbon System: the Genesis of Hydrocarbons and the Origin of Petroleum’, Proceedings of
National Academy of Sciences (PNAS), 99(17), pp. 10976–10981.
Kolesnikov, Anton Yu., Saul, John M., Kutcherov, Vladimir G. (2017) ‘Chemistry of Hydrocarbons
under Extreme Thermobaric Conditions’, ChemistrySelect, 2(4), pp. 1336–1352 .
Kontorovich, Alexey E. (1998) ‘Sedimentary -migration Theory of Naftidogenesis: State -of-art at the
Turn of the 20th and 21st Centuries, Ways of Further Development’, Geologiya nefti i gaza, Vol. 10
(1998), pp. 8 –16 (In Russian).
Krayushkin, Vladilen A., Kutcherov, Vladimir G., Klochko, Viktor P., Gozhik, Pyotr F. (2005)
‘Non -organic Genesis of Petroleum: from Geological Hypothesis to Physical Theory’, Geological Jour-
nal, Vol. 2 (2005), pp. 35 –43 (In Russian).
Kutcherov, Vladimir G., Kolesnikov, Anton Yu., Dyuzheva Tatyana I., Kulagina, Larisa N., Niko-
laev, Nikolay A., Braghkin Vadim V. (2010) ‘Synthesis of Complex Hydrocarbo n Systems under Ther-
mobaric Conditions Similar to those in Mantle’, Reports of the Russian Academy of Sciences, 433(3),
pp. 361–364 (In Russian).
Melton, Charles E., Giardini A.A. (1974) ‘The Composition and Significance of Gas Released from
Natural Diamonds from Africa and Brazil’, American Mineralogist, 59(7–8), pp. 775 –782 .
Rudenko, Alexander P., Kulakova, Inna I. (1986) ‘Physicochemical Model of Abiogenic Synthesis
of Hydrocarbons in the Natural Environment’, Journal of the Mendeleev All-Union Chemical Society,
Vol. 31 (1986), Issue 6 (In Russian).
Valyaev, Boris M. (2012) ‘The Nature and Features of the Spatial Distribution of Unconventional
Hydrocarbon Resources and Their Accumulations’ Gazovaya Promyshlennost, Special Issue: Non -
traditional Resources of Oil and Gas, pp. 9 –16 (In Russian).
Tomilenko, Anatoly A., Kovyazin Sergey V., Pohilenko, Liudmila N., Sobolev, Nikolay V. (2009)
Primary Hydrocarbon Inclusions in Garnet of Diamondiferous Eclogite from the Kimberlite Pipe
Udachnaya, Yakutia’, Proceedings of Russian Academy of Science, Vol. 426, pp. 533 –536 (In Russian).
Сведения об авторах
КУЧЕРОВ Владимир Георгиевич –
доктор физико-математических наук, про-
фессор РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И.М. Губкина; доцент КТН Королевского
технологического университета.
ГЕРАСИМОВА Ирина Алексеевна –
доктор философских наук, главный науч-
ный сотрудник Института философии
РАН; профессор РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И .М . Губкина.
Author’s information
KUTCHEROV Vladimir G. –
DSc in Physical and Mathematical Sciences,
professor, Gubkin University; docent, KTH
Royal Institute of Technology.
GERASINOVA Irina A. –
DSc in Philosophy, Chief Researcher, Institute
of Philosophy, Russian Academy of Sciences;
professor, Gubkin University.
118
ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Генеалогия интеллектуалов Александра Кожева*
© 2019 г.
А.М. Руткевич
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва,
105066, ул. Старая Басманная, д. 21/4.
E-mail: rutkevitch@yandex.ru
Поступила 02.08 .2019
В статье проводится мысль о том, что для А. Кожева на протяжении
его курса «Введение в чтение Гегеля» центральной фигурой являлся
«гештальт» интеллектуала. Автор статьи подчеркивает: начало перехо-
да от отношения господства и рабства к буржуазному миру Кожев ви-
дит уже в поздней Римской империи, а в Новое время мы имеем дело
с преобладанием буржуа как человеческого типа. Интеллектуал Коже-
ва предстает как разновидность буржуа, а именно, бедного буржуа,
желающего стать богатым. Автор прослеживает мысль Кожева: начи-
ная с гуманистов эпохи Возрождения, через моралистов XVII в. он
переходит к просветителям, затем к тематике Французской револю-
ции, переходящей в империю Наполеона. Вместе с падением этой
империи, вместе с развитием национальных государств и преоблада-
нием буржуазии («Раб без Господина» или «Раб Капитала») для Коже-
ва вновь появляется фигура Интеллектуала (романтизм, либерализм)
и характерная для нее «Республика письмен». В статье ставится ак-
цент на том, что Интеллектуал не желает ничем жертвовать ради Ис-
тины, Добра и Красоты, он стремится лишь к самовыражению. Автор
осмысливает следующее рассуждение Кожева: желание признания со
стороны Интеллектуала является карикатурой на истинное стремле-
ние к универсальному признанию со стороны Гражданина. Ради тако-
го нужно сражаться и рисковать жизнью, тогда как Интеллектуал же-
лает остаться «над схваткой».
Ключевые слова: Господство, рабство, феноменология, буржуа, Про-
свещение, революция, романтизм, интеллектуалы.
DOI: 10.31857/S004287440007531-9
Цитирование: Руткевич А.М . Генеалогия интеллектуалов Александра
Кожева // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 118 –131 .
*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект No 18-011 -01132 «Пе-
рекрестки культур: европейская философия с русскими корнями (на примере творчества
А. Койре, А. Кожева и И. Берлина)».
119
Genealogy of Intellectuals by Alexander Kojève*
© 2019 г.
Alexey M. Rutkevich
National Research University Higher School of Economics, 21/4, Staraya Basmannaya str.,
Moscow, 105066, Russian Federation.
E-mail: rutkevitch@yandex.ru
Received 02.08 .2019
The article holds the idea that for A. Kojève during his lecture course «In-
troduction to Hegel's Reading» the central figure of the course was «Ge-
stalt» of the Intellectual. The author of the article emphasizes: the begin-
ning of the transition from Master–Slave relationship to the bourgeois
world, Kojève sees in times of the late Roman Empire, and with the begin-
ning of Modernity we have to do with the predominance of bourgeois as a
human type. The Intellectual of Kojève represents as a kind of bourgeois,
namely of the poor bourgeois wanting to be rich. The author traces the
thought of Kojève: beginning with the humanists of Renaissance through
moralists of the 16th century he comes to Enlightenment, which prepared
the French Revolution and Napoleon’s Empire. With the fall of this Empire
and the development of bourgeois national states («Slave without Master»
or «Slave of the Capital») once more emerges the figure of the Intellectual
(Romanticism, Liberalism) and the typical for this figure «Republic of Let-
ters» reappear for Kojève. The article focuses on the fact that the Intellec-
tual don’t like to sacrifice anything for Truth, Goodness or Beauty, he
strives only for self-realization. The author comprehends the following rea-
soning of Kojève: the wish of recognition of Intellectual for him is simply a
caricature of the authentic pursuit of universal recognition of the Citizen.
For the last one, we must fight and risk our lives, while the Intellectual
wants to stay «over the fray».
Key words: Master, Slave, Phenomenology, Modernity, Bourgeois, Enlight-
enment, Revolution, Romanticism, Intellectual.
DOI: 10.31857/S004287440007531-9
Citation: Rutkevich, Alexey M. (2019) ‘Genealogy of Intellectuals by Alex-
ander Kojève’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 118 –131 .
Курс лекций, который Александр Кожев читал в высшей школе практических ис-
следований в 1934–39 гг. назывался «Религиозная философия Гегеля», поскольку
должен был служить продолжением религиоведческих курсов А. Койре. Так как
в действительности содержание далеко выходило за пределы названия, то издавший
свой конспект и рукописи ряда лекций Р. Кено предложил заглавие «Введение в чте-
ние Гегеля». Хотя формально этот 600-страничный том представляет собой коммен-
тарий к «Феноменологии духа», излагаемые в нем идеи далеки от гегелевской фило-
софии. Утверждая, что феноменология Гегеля «столь же «экзистенциальна» как фе-
номенология Хайдеггера», Кожев поясняет: «Что бы ни думал по этому поводу сам
Гегель, Феноменология представляет собой философскую антропологию» [Kojève
1947, 39]. Онтология Гегеля в «Феноменологии» (в отличие от поздних трудов) есть
«онтология Человека», поскольку, говоря о «духе», он имеет в виду исключительно
*
The research is carried out at expense of RFBR, project Crossroads of cultures in the XX cen-
tury: European philosophy with Russian roots (A. Koyré, A. Kojève and I. Berlin).
120
человеческое бытие. Иначе говоря, онтология Гегеля есть антропология, а феномено-
логия есть «идеизирующая абстракция», т.е. рассмотрение конкретного человека, кон-
кретных исторических эпох. Сущность человека есть совокупность возможностей его
исторических проявлений, когнитивных и аффективных потенций, способностей дей-
ствовать. Они менялись на протяжении истории, поскольку та или иная культура, эпо-
ха, социальное окружение способствуют реализации только некоторых из них.
А потому «Феноменология духа» есть описание следующих друг за другом форм
(«гештальтов»), в которых происходила реализация этой сущности. Она представляет
собой своего рода «интериоризирующее воспоминание» (Er-innerung) завершившейся
человеческой истории. Сама диалектика для Кожева ограничивается человеческой ис-
торией, миром мышления, труда и борьбы людей – никакой «борьбы противополож-
ностей» нет в природе, «понять диалектически» – значит понять исторически, не sub
specie aeterni, но как творческое движение, результат замысленного человеком проекта,
где не только результат зависит от проекта, но и проект от предполагаемого результата
[Kojève 1947, 377]. Диалектична не природа, а человеческое «бытие-в-мире».
Но не только феноменология Гуссерля и Daseinsanalytik Хайдеггера входят в эту
интерпретацию. Хотя лишь несколько раз им упоминается Маркс, след марксизма
очевиден. Кожев пишет о труде, который создает человека, а затем ведет его вперед
в истории. Понятийное познание и труд являются двумя сторонами одной медали.
Наконец, двигателем истории является борьба Господина и Раба, в которой часто
узнается борьба классов. Гегелевская система не только сводится к антропологии,
а тем самым к исторической последовательности человеческих типов, она и социоло-
гизируется, поскольку человек есть «общественное животное», а сами эти типы пред-
ставляют собой группы со своими навыками, интересами и установками. Француз-
ские историки той поры стали употреблять словосочетание «история ментально-
стей» – оно также восходит (через труды В. Зомбарта) к немецкой «истории духа»
(Geistesgeschichte). Кожев именует гегелевскую смену один на другой таких «гешталь-
тов» дескрипцией «саморазрушения идеологий». Каждая из них претендует на истин-
ность, но истинной оказывается сама Феноменология, как связный и полный рассказ
о всех предшествующих идеологиях [Kojève 1947, 86].
Одной из таких исторических фигур («гештальтов») оказывается фигура Интел-
лектуала. Кожев уделил этому историческому феномену почти два года своего курса
лекций, указывая, что «Гегель проявлял значительный интерес к феномену христиан-
ского и буржуазного Интеллектуала. Он говорит о нем в разделе B VI главы и по-
свящает ему всю V главу» [Kojève 1947, 193]. Более того, в примечании Кожев добав-
ляет, что Гегель прослеживает этот феномен на всех этапах буржуазного мира, но в
своем описании он имел в виду прежде всего своих современников эпохи Просвеще-
ния. Если учесть, что «буржуазным» Кожев полагал уже мир Римской империи, то
оказывается, что практически все «гештальты» связаны с фигурой интеллектуала.
Между тем Гегель по понятным причинам не употреблял этого термина – слово «ин-
теллектуал» возникнет во Франции почти через век во время «дела Дрейфуса».
В отечественной публицистике частым является противопоставление «русского
интеллигента» и «западного интеллектуала». Второго чаще всего обозначают как спе-
циалиста, узкого профессионала, включенного в «машину» цивилизации и неплох о
в ней обустроившегося, тогда как наш интеллигент со времен чуть ли не Радищева
находится между «народом» и «властью», причем последней он всеми силами проти-
вится. Не входя в историю наших дебатов по поводу интеллигенции, стоит сказать,
что введенный французскими публицистами (из круга М. Барреса) термин «интел-
лектуал» был близок по значению нашему «интеллигенту», обозначая тех профессо-
ров, писателей и адвокатов, которые собирали подписи под коллективными обраще-
ниями, да еще и нередко именовали себя «совестью нации». Иначе говоря, во Фран-
ции это слово имело примерно то же значение, которое в России приобрело слово
«интеллигент». Собственно говоря, критика в «Вехах» русской интеллигенции хотя
бы отчасти восходит к аналогичной критике Ш. Морраса в небольшой книге «Буду-
щее интеллигенции», которая начинается со слов: «мы говорим об Интеллигенции
121
так, как о ней говорят в Санкт-Петербурге» – Моррас на момент выхода книги
(1905 г.) еще не пользуется словом «интеллектуал», но замечает несомненное сход-
ство французских и российских литераторов и публицистов из «левого» лагеря [Мор-
рас 2003, 15]. Понятно то, что в обоих случаях группы людей обозначаются словами,
традиционно используемыми как синонимы «ума» или «разума». Просвещенная ра-
зумность этой группы отличает ее как от «темного» народа, так и от заинтересован-
ных в сохранении своих привилегий властных элит, пользующихся предрассудками –
прежде всего религиозными – для угнетения масс. Слово «интеллектуал» во Франции
на протяжении всего ХХ в. практически никогда не употреблялось применительно
к «правым» мыслителям и писателям. Ж. Помпиду мог быть выходцем из народа
и превосходным знатоком французской поэзии, будучи автором одной из лучших
антологий, но «интеллектуалом» он быть никак не мог; то же самое можно сказать о
таких философах, как А. Бергсон или Ж. Маритен, – они не относились к этой кате-
гории, но это место мог занимать какой-нибудь «левый» журналист, который не от-
личался ни умом, ни порядочностью, но всегда был в позе «оппозиционера» и пола-
гал, что он продвигает массы к «эмансипации» своими статьями в Le Monde или в La
Liberation. Такой же журналист в Le Figaro (даже если его звали Р. Арон), по опреде-
лению, интеллектуалом не числился. С другой стороны, в число интеллектуалов не
включали и тех, кто желал выражать интересы этих же «народных масс» в рамках
какой-нибудь партии (во Франции – прежде всего ФКП). Тогда он утрачивал неза-
висимость суждений, сходил с вершин «чистого разума» до уровня материальных
требований. Когда К. Маннхайм писал о «свободнопарящей интеллигенции»
(freischwebende Intelligenz), он подчеркивал ее положение между социальными груп-
пами, отсутствие у нее собственного классового интереса.
Разумеется, на протяжении известной нам истории разных цивилизаций мы не-
редко сталкиваемся с группами оппонентов господствующим элитам, осуждаемым
с позиций той или иной религиозной или этической доктрины. Элиты правят не
только и не столько силой, они легитимируют свое господство, определяют, что во-
обще считать реальным, будь то соотношение земной и небесной иерарх ии, круг сан-
сары, божественность императора или права человека. Эти дефиниции задают иден-
тичности индивидам, устанавливая, в каком космосе и каком социуме мы существу-
ем, каково наше в них место. Не все индивиды успешно проходят социализацию
и приспособлены к так определяемой реальности, не говоря уж о том, что далеко не
все такой реальностью довольны. Когда не только маргиналы, но и оппонирующие
элитам лица, начинают соединяться в длительно существующие социальные группы,
они дают иные дефиниции реальности и идентичности, подрывая прежние установ-
ления1. Можно вспомнить о китайских даосах (восстание «желтых повязок»), антич-
ных киниках, ранних христианах, гуситах, пуританах Кромвеля и т.д., но все же не
они являются непосредственными предшественниками интеллектуалов. Разумеется,
в той же Франции во времена религиозных войн уже появились скептически настро-
енные либертины, но они еще не были значимым социальным слоем 2
.
Таковой мы
без труда обнаруживаем во Франции второй половины XVIII в. А. де Токвиль писал
о литераторах эпохи Просвещения, посетителях модных салонов, которые писали от-
влеченные трактаты об идеальном способе правления с полной симметрией в законах,
не имея ни малейшего представления об опасностях даже самых желательных реформ.
Они доверяли теории и презирали факты, им было свойственно «желание переделать
одновременно все государственное устройство в соответствии с правилами логики
и единым планом, вместо внесения в него частичных изменений» [Токвиль 1997, 256].
Только теперь эти трактаты, романы Вольтера, «Энциклопедию» читают десятки тысяч.
Наполеон презрительно назвал наследников этих литераторов «идеологами», расширив
значение этого слова за пределы учений Дестюта де Траси и Кабаниса.
Словосочетание buergerliche Intelligenz стало применяться по отношению к слою
читающих и пишущих книги людей в начале XIX в. и пришло это обозначение из
философских учений Шеллинга и Гегеля, в которых Intelligenz относилось к разуму,
теоретическому созерцанию, критической рефлексии. « Интеллигенция раскрылась
122
перед нами как дух, возвращающийся из объекта в самого себя, в нем делающий себя
внутренним и свое внутреннее существо признающий за объективное» [Гегель 1956,
280], – писал Гегель. Когда философский термин был перенесен на социальную
группу, главное его значение – критичная мысль – сочеталось с нравственным им-
перативом. Образованные бюргеры желали и политических свобод, и единения
немецкого народа, разорванного на множество княжеств. Язык и культура этих бюр-
геров, а заодно и всего немецкого народа, противопоставлялись изящным манерам,
парикам и французской речи дворянства. Со времени борьбы с Наполеоном полити-
ческая составляющая все возрастала, а от критики текстов Ветхого завета ученики
Гегеля перешли к критике государственных институтов. Вершиной политической
активности этой группы была неудачная революция 1848–49 гг. Мы помним о том,
какую роль играла русская интеллигенция в подготовке революции – она не была
первой в этом ряду «властителей дум». Так как «конец истории» в учении Кожева
прямо увязывается с революцией и возникновением империи, в которой фигура
Гражданина синтезирует и сменяет Господина и Раба, понятен его интерес к фигуре
Интеллектуала.
Хотя Кожев потратил год (курс 1933–34 гг.) на истолкование первых трех разделов
«Феноменологии духа», конспект этой части предельно краток, да и не эти главы важ-
ны для его концепции. Переход от «субъективного духа» к «объективному», т.е. к об-
ществу и к истории, начинается с борьбы самосознаний за признание (IV раздел); бо-
лее того, эта борьба не «снимается» дальнейшим развитием общества, она сохраняется
вплоть до конца истории (или «цели истории» – fin de l’histoire означает и то,
и другое). Поэтому на протяжении всего курса Кожев постоянно возвращается к этой
борьбе и к возникающей из нее диалектике господина и раба. Решимость вступить
в борьбу, риск делают человека свободным, выводят его из животного состояния. Так
как борьба эта идет «не на жизнь, а на смерть», то ее итогом оказывалась смерть одно-
го из соперников; тогда нет и признания, а ведь именно оно было целью борьбы. При-
знание происходит в тот момент, когда один из участников борьбы в страхе за жизнь
сдается на милость победителя. Тому, кто покорился воле победителя, уготована участь
раба – он признал другого господином. Так на сцене истории появляются первые две
фигуры, Господина и Раба; вернее сказать, сама сцена истории возникает вместе с ни-
ми. Труд раба служит господину, принудив раба трудиться, господин реализует свою
свободу. Он готов сражаться, считая всякий труд уделом раба. Раб не сражается,
в смертном страхе он принужден к труду, и без этого страха не было бы труда как
такового. Кожев развивает эту мысль Гегеля, подчеркивая значимость ужаса, ломаю-
щего изначальное своеволие человека. Гегелю принадлежит и та мысль, что отноше-
ние господина к миру является потребительским, тогда как раб вынужденно сталки-
вается с «самостоятельностью вещи» и, обрабатывая вещи мира, меняется и сам [Ге-
гель 1959, 103]. Присутствует у Гегеля и тот тезис, что раба очеловечил страх смерти,
хотя Гегель, очевидным образом, не описывает этот страх в терминах Хайдеггера,
тогда как у Кожева страх небытия выявляет небытие («Ничто») как исток временно-
сти и негативности человеческого существования. Однако далее трактовка Кожева
все дальше отходит от оригинала.
Гегель не утверждал того, что на протяжении всей дальнейшей истории господин
не изменяется, оставаясь точно таким же воином, готовым умирать на поле боя, но
более не играющим никакой роли в развитии человечества. Для Кожева и воспетый
Ницше аристократ эллинских времен, и средневековый барон , и японский самурай,
и придворный времен Людовика XIV представляют собой одну и ту же неизменную
фигуру, не играющую никакой роли в развитии человечества. Господин для него есть
«экзистенциальный тупик»: «Господин может либо оскотиниться в удовольствиях,
либо господски погибнуть на поле боя, но он не может жить сознательно, осознавая
свою удовлетовренность тем, кто он есть» [Kojève 1947, 174]. Даже признание со сто-
роны раба не является подлинным признанием, поскольку господином его именует
«говорящее орудие», презренный холоп. Господин проявил свою человечность отва-
гой, риском во имя не определяемых биологическим инстинктом целей, но его
123
существование потребителя во всем остальном является животным. Человечность же
находится на стороне тяжкого подневольного труда, связанного с ним познания
предметного мира и постепенно меняющейся техники, приспосабливающей природ-
ный мир к человеческим потребностям. Вся роль Господина в истории сводится
к тому, что он ее начинает, порождая Раба, чтобы затем – в конце истории – быть
диалектически «снятым» (вместе с Рабом) фигурой Гражданина.
Историчность проистекает из временности и негативности человека, отрицающего
наличное бытие своим проектом будущего, своим действием, а такое действие всегда
выступает как борьба и труд (Kampf und Arbeit, поясняет Кожев по-немецки).
«Посредством страха смерти Раб улавливает (человеческое) Ничто, лежащее в основе
его (природного) Бытия; он понимает себя и понимает Человека лучше, чем Госпо-
дин. Начиная с «первоначальной» Борьбы, Раб наделен интуицией человеческой ре-
альности, и по этой глубокой причине именно он, а не Господин, в конечном счете,
завершит Историю, выявив истину о Человеке» [Kojève 1947, 176]. Вопреки Гегелю,
Кожев выводит и понятийное мышление, и научное познание из труда : «Познание,
абстрактная мысль, наука, техника, искусства – все это имеет своим истоком подне-
вольный труд Раба» [Kojève 1947, 176]. Сама идея свободы, освобождения могла ро-
диться только в сознании Раба; все то, что именуется прогрессом имеет смысл только
для рабского сознания, тогда как своеволие господина остается тупиком для челове-
чества, поскольку он «способен по-человечески умереть, но жить он способен только
как животное» [Kojève 1947, 55]. Поэтому дальнейшие «гештальты» гегелевской «Фе-
номенологии духа» рассматриваются Кожевом как «рабские идеологии», как формы
самосознания Раба.
Разумеется, это расходится и с замыслом Гегеля, и с тем, как излагается история
философии и религии в любом учебнике. Уже стоицизм рассматривался Гегелем как
«снятие» отношения господства и рабства [Гегель 1959, 108], а дальнейшие формы
самосознания вообще лишены отсылок к этому отношению. Всем известно, что со-
здатели эллинистических учений (стоицизм, скептицизм) рабами не были. Вернее,
иные из них (скажем, Эпиктет) таковыми бывали, но это не меняет того, что фило-
софские учения создавались свободными («господами»). Даже в самых вульгарных
марксистских версиях истории античной философии некое подобие «рабской идеоло-
гии» обнаруживалось разве что у киников. Однако следует иметь в виду, что у Коже-
ва фигура Раба совсем не тождественна рабу в полном смысле слова, будь то антич-
ный раб или раб на плантациях южных штатов США до гражданской войны. Рабом
является всякий занятый трудом, причем не только физическим: философия Стои
или физика Ньютона выражают у Кожева ментальность и понятийный аппарат тех,
кто трудится. Иначе говоря, и лично свободные метеки античных полисов, и рим-
ские peregrine, и средневековые бюргеры, и буржуа времен Просвещения равным об-
разом обозначаются как Рабы.
Французские гегелеведы нередко упрекали Кожева за то, что тот переводили
немецкое слово Knecht как «раб» (esclave), а не «слуга» (valet). В действительности им
следовало бы упрекать самого Гегеля, а заодно и Гоббса, который, в свою очередь,
ссылался на римлян, не различавших рабов и слуг, обозначая их одним словом servus.
Сам Кожев делал оговорки относительно соотношения эмпирической истории и ис-
ториософии. В частности, в написанной во время Оккупации книге по философии
права, он замечал, что «Господин и Раб – это лишь логические «принципы», факти-
чески не существующие в чистом виде» [Kojève 1981, 243], но всемирная история
подчинена диалектике, ведущей к синтезу этих принципов в фигуре Гражданина.
Эта философия истории определяет то, как им рассматриваются те «идеол огии»,
которые одна за другой появляются в «Феноменологии духа». Стоицизм и скепти-
цизм суть формы внутреннего освобождения Раба, который трудится, но не вступает
в борьбу с Господином. К феномену «несчастного сознания», т.е. к подразумеваемо-
му христианству, Кожев не единожды возвращается на протяжении всего курса, так
как последний формально именовался «Религиозная философия Гегеля». Самая об-
щая характеристика христианского монотеизма такова: Раб делается «рабом Божьим»,
124
а тем самым «он равен Господину в том смысле, что и сам он , и Господин равным
образом рабы Бога» [Kojève 1947, 66]. Человек остается Рабом, даже если он отверга-
ет наличие Господина в посюстороннем мире, ибо такового он обнаруживает в мире
потустороннем, создавая его из того же страха смерти. В резюме курса 1934–35 гг.,
на протяжении которого рассматривались упомянутые выше «гештальты», Кожев
пишет: «Чтобы освободиться от несчастья и достичь Удовлетворения, т.е . осуществ-
ленной полноты своего бытия, Человек должен поэтому прежде всего избавиться от
идеи потустороннего. Он должен признать, что его подлинной и единственной ре-
альностью является его свободно осуществленное действие – в посюстороннем и для
посюстороннего; он должен понять, что нет ничего, кроме его деятельного существо-
вания в Мире, в котором он рождается, живет и умирает, в котором он способен до-
стичь совершенства» [Kojève 1947, 75 –76]. Понимание этого выводит человека за
пределы «несчастного сознания» религии. Это мир философского и научного разума.
К поздней античности Кожев возвращ ается в лекциях 1936–37 гг., посвященных
VI разделу («Дух»). Принятие римскими императорами христианства является завер-
шением начавшегося ранее движения, подрывающего позиции Господина. Христиан-
ство Кожев – вслед за многими предшественниками – именует «религией рабов».
Теперь эту религию перенимают Господа: «Не Раб освобождается, но Господин уда-
ляется от своего Господства» [Kojève 1947, 115]. Господин без Раба, Раб без Господи-
на – таков в будущем буржуа. Пока же начавшийся с походов Александра закат сво-
бодных полисов, аристократически управляемых Господами, приводит к Империи,
в которой свободные граждане постепенно утрачивают свою воинскую доблесть и
делаются частными лицами под властью принцепса, т.е . становятся «буржуа». Над
этими формально равными (римское право) частными лицами возвышается деспоти-
ческая власть, делающая прежде свободных Господ подневольными – Кожев ссыла-
ется на небольшой раздел «Абстрактное лицо, господин мира», в котором речь идет о
«чудовищном разгуле» и «разрушительном всевластии» цезарей. Поэтому бывшие
господа могут принять ту религию, которая возникла среди рабов: «Римский Буржуа
может воспринять эти идеологии, поскольку сам он стал квази-рабом Деспота»
[Kojève 1947, 116]. Римские сенаторы и всадники становятся христианами именно
потому, что «они уже не являются истинными Господами, это – Буржуа, рабы Им-
ператора» [Kojève 1947, 106]. Именно частная собственность и партикуляризм ведут
к такому результату.
Итак, христианский мир для Кожева есть мир псевдо-Рабов и псевдо-Господ.
Он почти ничего не говорит о феодальной Европе, хотя бы потому, что она из этой
логики выпадает: вооруженное рыцарство, воинственные бароны никак не походят
на псевдо-Раба («христианина-Буржуа»). Кожев считает само собой разумеющимся
то, что феодалы и их потомки были Господами, восстановившими власть меча; одна-
ко, они являются и христианами, «рабами божьими». Взгляд на христианство Кожева
отчасти совпадает с воззрениями Ницше, изложенными, скажем, в «Генеалогии мо-
рали» и в «Антихристе»: «рабская идеология» совращает воинственных аристократов
и постепенно ведет их к гибели. Более того, его понимание фигуры Господина за-
ставляет вспомнить о «сверхчеловеке» немецкого мыслителя. Только вся система
оценок у Кожева расходится и с Ницше, и с той критикой христианства, которую со
времен Просвещения вели (и ведут доныне) всякого рода «свободомыслящие». Хри-
стианство для Кожева содержало великую истину: это оно ввело время в самопозна-
ние человека, создало предпосылки исторического мышления. Собственно говоря,
собственную философию Кожев именует «антропотеизмом», а всякое «Человекобо-
жество» генетически восходит к «Богочеловечеству». Причем уже раннее христиан-
ство находит у него слова одобрения, поскольку оно выступало прежде всего как от-
рицание сущего, как «критика Мира в его тотальности – обесценивание языческих
ценностей государства, семьи» и им подобных [Kojève 1947, 117].
Воплощенной истиной христианства является универсальная история, «обожение»
человека в ее конце. Он находит в христианстве корни и картезианства, и Просвеще-
ния, и революции. Подчеркивается и значение теологии, поскольку в ней в
125
христианском мире выражается всеобщее, тогда как философ в этом мире есть част-
ное существо. «Оппозиция между (богословской) Верой и (философским) Разумом
в христианском Мире необходима и неизбежна» [Kojève 1947, 119]. Догегелевская
философия рассматривает человека в изолированности от природного и социального
мира, тогда как теология раскрывает «универсальный аспект человеческого существо-
вания: Государство, Общество, Народ» [Kojève 1947, 265]. Только философия Гегеля
как синтез всеобщего и частного смогла преодолеть это противостояние, но только
потому, что сама она уже перестала быть философией, но сделалась Мудростью.
Если просветители писали о христианстве как об обмане, а Ницше видел в нем
ressentiment, «восстание рабов в морали», то для Кожева именно христианство меняет
самосознание, образ человека. Если язычник таковым рожден, то христианином
нужно стать: «Христианин признается как христианин лишь потому, что он соверша-
ет усилие, чтобы стать таковым» [Kojève 1947, 120]. Хотя это действие еще устремлено
к трансцендентному, христианин действует, трудится ради этой цели. Христианский
Мир является миром, в котором труд обладает положительной ценностью. А потому
мы имеем дело с триумфом идеологии труженика-Раба... Труд преобразует Природу
и внутренний мир труженика: Христианин делается «культурным» человеком
(gebildet). Отсюда проистекает доминирование абстрактной мысли и рационализма»
[Kojève 1947, 121]. Он остается «частным человеком», живет вне политики, будучи
«пассивным подданным деспота-суверена», а не гражданином. «Этот Буржуа появля-
ется в поздней Империи и его история простирается вплоть до французской револю-
ции 1789 г. Именно в этот исторический период две «буржуазных» идеологии, проти-
востоящие друг другу, но и взаимодополняющие – религиозного Христианства и ате-
истического или светского Христианства, а они и являются тем индивидуадизмом Ин-
теллектуала, который был описан в V главе» [Kojève 1947, 121]. Иначе говоря, курс
1935–36 гг. был посвящен указанному разделу «Феноменологии духа», который Ко-
жев считал дескрипцией феномена Интеллектуала. «Христианский Мир есть мир Ин-
теллектуалов и Идеологов» [Kojève 1947, 117].
Дошедший до нас конспект комментария Кожева к V разделу «Феноменологии
духа» («Достоверность и истина разума»), представляющему собой примерно четверть
всего сочинения Гегеля, крайне невелик по размеру, причем наибольший интерес
у интерпретатора вызывают не основные мысли этого раздела, связанные с логикой,
психологией, научным познанием, а суждения относительно человека – носителя
разума в эпохи Возрождения и Нового времени (курс 1935–36 гг.). Так как мы имеем
дело с конспектом Р. Кено, то уже невозможно установить, являются ли многочис-
ленные лакуны и разрывы чертой самой интерпретации Кожева, либо объясняются
невнимательностью или недопониманием слушателя курса – Кено был писателем,
а не философом, он мог не придавать внимания довольно сложным диалектическим
переходам от одной формы сознания к другой. Но этот краткий конс пект верно пе-
редает социологическое прочтение «Феноменологии духа» Кожевом.
Нельзя сказать, что Гегель, рассматривая в этом разделе развитие идеалистиче-
ской философской мысли, вообще обходится без отсылок к социальной реальности.
Подспудно он намечает связь философии Нового времени с индивидуализмом. Но в
комментарии Кожева преобладают именно социально-исторические характеристики.
Для Кожева, автор «Феноменологии духа» занят в этом большом разделе «критикой
буржуазного индивидуализма и либерализма» [Kojève 1947, 85]. Любая философия
принадлежит определенному типу человека, а человек Нового времени, буржуа, оста-
ется Рабом даже тогда, когда у него нет Господина.
Исходный пункт представлен индивидом, утратившим связь с тем, что Гегель
называл «нравственной субстанцией», каковой могли быть хоть греческий полис,
хоть средневековая община. Такова «чистая индивидуальность» стремящегося к
наслаждению индивида. Гегель пишет о низменном «духе земли», для которого имеет
значение истинной действительности только то, что входит в это единичное сознание
и оценивается как доставляющее удовольствие или страдание 3 . Для Кожева такой
индивид отличается от первобытного человека с его вожделением; удовольствие
126
желает получать уже живущий в «общественном состоянии» человек, описанный
в произведениях Гоббса и Локка, изолированный субъект права, политики и позна-
ния. Он противостоит природе и желает ее познать и подчинить себе – таково нача-
ло хоть науки, хоть философии Нового времени. Но политически он пассивен
и примиряется с властью суверена, пока тот не угрожает его собственности. Имеется
в виду только вышедший из средневековья человек эпохи Возрождения с его радост-
ным принятием земной жизни. Понятно, что Гегель не говорил об этой эпохе – ее
изобретут через полвека историки (прежде всего К. Буркхардт и Ж. Мишле) [Февр
1991], хотя чрезвычайно ярко охарактеризовал ее как «небо духа», наступающий по-
сле «ужасной ночи средних веков» [Гегель 2000, 418 –419]. Тем не менее, он предель-
но критично смотрит на того изолированного индивида, который из этой «ночи»
вышел. Взгляд Кожева на буржуа той поры еще более жесткий: это люди, которые
желают наслаждаться, как Господа, созданными предметами, ничего при этом не
делая. Только истинные Господа готовы сражаться, убивать и умирать сами, тогда
как эти буржуа являются самовыражающимися гедонистами, а все их действия в ми-
ре ради признания со стороны других сводятся к литературе. Гегель говорил о «ду-
ховном животном царстве», а Кожев переводил на французский по см ыслу: «интел-
лектуальный бестиарий» (le bestiaire intellectual), имея в виду прежде всего гуманистов
с их красочным индивидуализмом, эстетством, оригинальничанием, безудержным
самовосхвалением, инвективам и т.п . средствам в «борьбе за признание». Коррелятом
этих литературных битв в формирующейся «республике письмен» является совсем не
интеллектуальное «животное царство»: Макиавелли не изобретал «макиавеллизм», он
был внимательным свидетелем того, что делали папы римские и тираны итальянских
городов, все эти буржуа, «освобожденные» от «ужасной ночи». Но предметом изуче-
ния Кожева были не Медичи и Пацци с их кровавой борьбой, а генезис интеллектуа-
лов. Как и Гегель, Кожев совсем не отрицал великих достижений «титанов Возрож-
дения» или философов и ученых Нового времени. Он связывал детерминизм и нату-
рализм той эпохи с рождавшейся тогда идеологией, видевшей в человеке прежде все-
го часть природы4
.
Но число гениев науки и искусства в толпе самовыражающихся
ничтожеств во все времена было незначительным. Типичные для эпохи биографии
настоящих творцов – Кардано, Бруно, Парацельса – сходны с биографиями авантю-
ристов и писак, ничем мир не обогативших.
Экономический коррелят такой «борьбы всех против всех» также известен – это
безжалостная конкуренция частных собственников. Этот «порядок мира» с его хищ-
ническим эгоизмом («общий ход вещей», Weltlauf) видится как необходимость, кото-
рая не может не вызывать протест в воспитанном христианством сознании, воспри-
нимающем «бестиарий» как нечто извращенное. Фигура Интеллектуала возникает из
этого протеста и предстает как оппозиция «закона сердца» и насильственного миро-
порядка. Как замечает Гегель, это «уже более не есть легкомыслие прежней формы,
которая желала только единичное удовольствие, а есть серьезность некой высокой
цели». Только «биение сердца для блага человечества» переходит «в неистовство
безумного самомнения» [Гегель 1959, 197–200], поскольку извращено само это со-
знание, хотя его обвинения направлены против «развратных деспотов», «фанатичных
жрецов» и их прислужников, угнетающих нижестоящих, чтобы вознаградить себя за
собственное унижение. Гегель иронически пишет о «помешательстве» этого созна-
ния, обвиняющего других в стремлении «причинить невыразимые бедствия обману-
тому человечеству», тогда как именно это «сердце» со своим законом «есть внутри
себя то, что извращено и что извращает». Или, как комментировал «Феноменологию
духа» Куно Фишер, «своеволие с его самомнением есть принцип извращенности
и извращения», а мнимые исправители мира являются не настоящими реформатора-
ми, а кривляками на сцене истории – они принадлежат не всемирной истории, но
одной лишь феноменологии [Фишер 1902, 368–369].
Для Кожева речь идет о «чисто словесной критике» со стороны изолированных
индивидов, каковые на деле и не хотят ничего менять, поскольку ц енность их крити-
ки предполагает сохранение того общества, которое они критикуют, да и сами они не
127
желают меняться. Морализаторские утопии произрастают из самомнения и неудовле-
творенности: «я лучше мира», а мир плох, так как мне не нравится. Его отличия от
сластолюбца могут быть случайными: моралистом делается тот, у кого не реализова-
ны желания («Лиса и виноград»). Это тот же эгоистичный одиночка, только не пре-
успевший в своей борьбе за «место под солнцем». Здесь начинается то самоотчужде-
ние духа, его разорванность, каковым Гегель посвящает несколько десятков страниц.
Претворяя в действительность свой «закон сердца», индивид лишь подкрепляет су-
ществующий порядок, «и притом вовлекается в него как в некоторую ему не только
чуждую, но и враждебную превосходящую его мощь» [Гегель 1959, 198]5. Пока исход-
ным пунктом остается самовлюбленная единичность, общественным порядком будет
«эта всеобщая вражда, в которой каждый прибирает к рукам, что может, учиняет суд
над единичностью других и утверждает свою, которая точно так же исчезает благода-
ря другим» [Гегель 1959, 202].
Над такого рода «безумным самомнением» возвышается добродетель, поскольку
для нее стремящееся к наслаждению самосознание, пустая индивидуальность есть то,
«что подлежит снятию и притом как в самом ее сознании, так и в общем ходе ве-
щей»6
.
Общее морального закона противостоит хаосу единичных воль. Как и ранее,
формально Кожев следует за Гегелем, но уже явно модернизирует мысль последнего.
Известно, что Гегель был суровым критиком всякого рода морализаторства и пола-
гал, что «общий ход вещей» одерживает верх над теми, кто желает изменить мир
проповедями. Декламации выражают только самомнение, «это напыщенность, кото-
рая набивает голову себе и другим, но набивает ее чванством» [Гегель 1959, 207].
Добродетель античного мира была действительной добродетелью, поскольку опира-
лась на субстанциальную нравственность полиса, моралисты Нового времени остают-
ся индивидуалистами. Для Кожева «люди добродетели» уже солидаризируются друг
с другом и «составляют партию», только это – партия нереализуемого идеала; это
«партия социальной реформы посредством моральной реформы» [Kojève 1947, 88],
начинающейся с самого себя, с внутренней дисциплины. Идеальное общество осу-
ществится в таком случае через внутреннее преображение отдельных лиц. Существу-
ющий порядок на деле сохраняется, избавившись только от своей «извращенности».
От XVII в. Кожев переключается на современность: действительно меняет и обще-
ство, и индивида только революционное действие, тогда как «социализм человека
добродетели есть псевдо-социализм, это буржуазный индивидуализм, для которого
индивид является частным лицом; это не Гражданин, реализующий себя в социаль-
ной революционной борьбе» [Kojève 1947, 89]. Он идет еще дальше в применении
гегелевской мысли для ХХ в.: реформисты такого рода желают сохранять капитализм,
чтобы всегда было поле деятельности реформистской социалистической партии
(вожди ее неплохо устроились на скамьях парламентской оппозиции).
Переход к идеологии Просвещения у Кожева связывается с фигурой, которую Ге-
гель обозначил как «Индивидуальность, которая видит себя реальной в себе самой и
для себя самой». Собственно говоря, это и есть «царство Интеллектуала» или «духов-
ное животное царство». Добродетельный человек эпохи Просвещения верит в то, что
человек по природе своей добр, портят его социальные институты. Для Кожева «по
природе» человек есть животное, а в человека его превращает отрицающее природу
действие – он творит себя в истории. Интеллектуал признает лишь один тип дей-
ствия, а именно, литературное творчество. В этом он является наследником «челове-
ка религии»: на место трансцендентного Бога приходят Искусство, Наука (Добро,
Истина, Красота). Слова Гегеля о «духовном животном царстве» интерпретируются
следующим образом: «Интеллектуал есть разумное животное; он попросту выражает
свою (врожденную) «природу», свой «характер», нечто уже существующее, «есте-
ственное», т.е. животное» [Kojève 1947, 89]. Идеология эпохи Просвещения является
натуралистической.
Главным и определяющим интересом Интеллектуала является признание его та-
ланта. Поэтому он так много времени уделяет сопоставлению творений – литератур-
ная критика делается ремеслом именно в это время. Лучшими произведениями
128
признаются «выражающие» природу, «внутренний мир», какими бы они ни были.
Свои эгоистические интересы Интеллектуал выдает за «суть дела», за интересы обще-
ственные. Но это явный обман: «Его интересует не действие в рамках социальной
реальности или против нее, но лишь “успех” его творения; он желает “положения”,
“ранга”, “места” в данном (природном и социальном) Мире.... Идеальный универ-
сум, который он противопоставляет миру, есть одна лишь фикция. То, что Интеллек-
туал предлагает другим, не имеет реальной ценности, он их обманывает» [Kojève
1947, 93‒94]. Хотя идеализм Канта и Фихте философски безусловно возвышается над
болтовней «образованцев» эпохи Просвещения, этот идеализм Кожев также относит
к «идеологии Интеллектуалов».
Стоит отметить, что Кожев в эти годы довольно много занимался философией
раннего Просвещения и писал в 1937 г. книгу, которая осталась неоконченной –
«Тождество и Реальность в “Словаре” Пьера Бейля». В 1936–37 гг. он читал курс
о Бейле в Высшей школе практических исследований («Критика религии в XVII веке:
Пьер Бейль»), а затем получил заказ на книгу от Ж. Фридмана, философа и социоло-
га-марксиста, возглавлявшего издательство «Editions Sociales Internationales». Судя по
недавно опубликованной рукописи [Kojève 2010], его интересовал не столько Бейль с
его словарем и не особенности эпохи трехсотлетней давности, сколько соотн ошение
разума и веры, формирование критического рационализма Канта и Фихте, а также
того, что он называл «критическим позитивизмом», имея в виду науку ХХ в. Важным
является еще один момент: Кожева здесь интересует не только формирование скеп-
тического взгляда на религию, но также генезис автономной «республики писем»,
Просвещения, а в долгой перспективе – и политического либерализма.
Если у Гегеля мы находим тонкие (и долгие) размышления о противостоянии веры и
Просвещения, то для Кожева роль интеллектуалов исчерпывается привнесением атеизма
в общественную жизнь. Вместе со смертью «суеверий» лишается смысла и само Просве-
щение. Оно для Кожева наиболее полно выражено фигурой героя Дидро: «Универсализи-
рованный племянник Рамо – таково Просвещение» [Kojève 1947, 155]. Отличием от
прежних «рабских идеологий» является то, что Просвещение становится социальным
движением, оно обращается к массам, желая избавить их от невежества. Появляется тип
«агитатора и пропагандиста». Пропаганда как таковая извращает любые идеи, поскольку
она всегда лжива. Просвещение тоже лживо в своих разоблачениях религии, оно лживо и
в своей проповеди утилитаризма («идея полезности»), но оно вносит движение в непо-
движность «старого порядка», оно пробуждает массы к действию.
«Благородное сознание» уже целиком перешло от «героизма служения» к «героизму
лести» ‒ былое «дворянство шпаги» сменили не только «дворяне мантии», но и множе-
ство лиц, просто купивших себе титулы. «К моменту Революции подлинная Аристокра-
тия уже исчезла. Остались только Буржуа. Французская Революция была подавлением не
Аристократии, но Буржуазии как таковой» [Kojève 1947, 128], поскольку она была пре-
одолением партикулярного, она восстановила ценность и действительность универсаль-
ного Государства. Революция ведет к смене мира бюргеров, будь они верующими или
атеистами, на мир Граждан, отменяющий вместе со «старым порядком» и всю эпоху Ра-
бов и Господ. Возобновляется борьба за признание, которая освобождает всех от преж-
них взаимозависимостей. Она несет «абсолютную свободу» начального момента револю-
ции, а за нею Террор. Революционеры по большей части истребляют друг друга во фрак-
ционной борьбе. В обществе взаимного признания «тружеников-воинов» нет места для
интеллектуалов. История завершается Империей Наполеона, но это логическое заверше-
ние (система Гегеля) представляет собой лишь первый набросок окончательного «уни-
версального и гомогенного» общества.
В комментируемой Кожевом работе движение объективного духа на этом не за-
канчивается: в разделе «Дух, обладающий достоверностью самого себя» речь идет о
морали, совести, добре и зле. Для Кожева конец истории уже наступил, а Гегель
здесь просто возвращается к идеологии «абсолютной свободы» на философском
уровне: Кант и Фихте выступают как идейно готовившие революцию мыслители.
Этой философии соответствует пост-революционный человек, еще не сделавший
129
необходимых выводов из революции. Он отстаивает универсализм только в морали,
он прославляет всеобщую свободу, но не признает средств ее достижения, т.е . «кро-
вавую Борьбу и Труд для всех». Романтики утверждают индивидуальность («прекрас-
ная душа»), но не желают сражаться за всеобщее признание. Вновь появляется фигу-
ра Интеллектуала, удовлетворенного лицемерным пожеланием терпимости по отно-
шению к любым убеждениям (за исключением «нетолерантных»). «Это пацифистская
идеология Gewissen, это политический и экономический Либерализм. Романтики бол-
тают об общественном благе, тогда как дельцы действуют в согласии со своими
частными интересами» [Kojève 1947, 151]. Иначе говоря, частично воспроизводится
до-революционная идеология буржуа, равно как и тип Интеллектуала, отличающего-
ся от своего дореволюционного предшественника тем, что он уже не бежит в царство
грез, но гордо провозглашает себя в качестве «творца» и высшего типа человека. Ро-
мантики уже достигли антропотеизма, но он является убогим превознесением поэти-
ческого воображения. Романтическая «прекрасная душа» для Кожева есть «христиан-
ское Несчастное сознание, утратившее Бога» [Kojève 1947, 152].
Этим духовным явлениям соответствует историческая реальность: универсальная
по замыслу империя Наполеона рушится в противостоянии с пробуждающимися
нациями. Фихте и романтики являются идеологами такого пробуждения народов.
Однако сами эти нации идут тем же путем построения гражданских обществ, техни-
ческого прогресса и социальных революций. Прежний Буржуа порождает два борю-
щихся класса. Кожев отчасти следует здесь за Марксом, но только для него цен-
тральным феноменом буржуазного общества является не борьба пролетария с пора-
бощением. Рабочий – это бедный буржуа, желающий стать богатым. И богатый,
и бедный буржуа порабощен Капиталом. Буржуа является рабом самого себя. Господ
в этом мире давно нет, остались одни буржуа, а потому нет и классовой борьбы
в полном смысле слова (когда Рабу противостоит настоящий Господин). Индивидуа-
листические идеологии способствуют бегству Интеллектуала от реальности, его уходу
в воображаемые миры. Вместе с секуляризацией Интеллектуал бежит уже не в транс-
цендентное, но в посюстороннее. «Таков пассивный индивидуализм Интеллектуала-
атеиста (ученого, художника, философа и т.п.), оправдываемый идеей существования
абсолютных, вечных, внеэмпирических ценностей; это всего лишь секуляризация
экзистенциального солипсизма религиозного Христианина» [Kojève 1947, 109]. Кожев
не случайно возводит такого сорта «ячество» к романтизму с его эстетизацией поли-
тики, вероятно, не без влияния К. Шмитта7
.
Интеллектуал – это бедный буржуа, мечтающий сделаться буржуа богатым.
Он может сделаться скептиком и нигилистом, может вернуться к языку раннего хри-
стианства и провозгласить бедность вечным идеалом. Но все это – мир нескончае-
мой болтовни: «Мир, в котором он живет, есть мир, где все критикуют друг друга и
где каждый критикует все, что угодно; всякий день происходит переворачивание
ценностей. Только сам реальный Мир от этого Языка не меняется» [Kojève 1947,
130–131]. «Республика письмен» есть мир тщеславных себялюбцев, речистых прохо-
димцев, «обворованных воров». Изображающие из себя революционеров в сфере
мысли, скептиков и нигилистов, интеллектуалы на деле являются конформистами.
Поза нравственного негодования и чтение морали миру со стороны не всегда лично
порядочных, а зачастую продающих свое перо людей – такова и сегодняшняя реаль-
ность мировых СМИ и той тусовки, которая периодически выступает с воззваниями,
которые должны подписывать все «рукопожатные» литераторы. Близкий друг Коже-
ва, Р. Арон емко охарактеризовал эту публику: «Они не хотят ни осмыслять мир,
ни изменять его, они хотят его разоблачать».
Подобные суждения об интеллектуалах разбросаны по всему курсу «Введения
в чтение Гегеля», нередки они и в других сочинениях Кожева. То, что при чтении
курса они явно были направлены на то, чтобы провоцировать аудиторию, подтвер-
ждается воспоминаниями слушателей; таковыми были талантливые и стремящиеся
к самоутверждению индивидуальности, которые вдруг обнаруживали, что их често-
любивое желание признания есть лишь «буржуазное» бегство от действительности,
130
«рабская идеология». В дальнейшем, уже после войны, эти оценки Кожева станут
еще более язвительными: к «левой» (нередко «революционной») болтовне француз-
ских философов и публицистов он относился иронически. Все прежние типы ничуть
не изменились, это ищущие похвал и гонораров литераторы и артисты, читающие
мораль миру индивидуалисты, обещающие реформы дельцы. Иногда среди них
встречаются и те, кто именует себя «революционерами», только революции делаются
все более «цветными». Если учесть то, что для Кожева история уже завершилась, то
мы живем в мире «вечного возвращения», повторения ранее пройденного. Предска-
занная им Империя пока не осуществилась целиком и полностью, поскольку сохра-
няется власть капитала как над бедными, так и над богатыми буржуа. Вряд ли он
посчитал бы нынешнюю глобальную Империю последней главой истории – вопреки
как ее воспеванию идеологами, вроде Ф. Фукуямы, или поношению со стороны
крайне левых – вспомним «Империю» А. Негри и М. Хардта или повлиявшего на
них А. Бадью, повторяющего вслед за председателем Мао: «Бунт дело правое». Толь-
ко преобладают бунтари от «политкоректности», полагающие, что смена диск урса
уже есть революция, а логорея тождественна свободе. Генезис давно пройден, движе-
ние теперь идет по кругу: от тщеславного «гуманиста» через моралиста, просветителя,
реформатора обратно к «Республике письмен» (включающей сегодня необъятное
число блогеров).
Кожев снисходительно относится к литераторам и артистам, поскольку они зави-
сят от признания куда больше людей дела. Успех построившего прочный мост инже-
нера, получившего высокую прибыль менеджера, выигравшего сражение полководца,
синтезировавшего новый материал химика, относительно не зависят от мнения дру-
гих, тогда как успех романа или театральной роли всегда находятся в зависимости от
оценки читателя или зрителя. Отсюда тщеславие, зависть и прочие не всегда прият-
ные особенности этой «творческой» среды. Куда менее терпим Кожев к всякого рода
«садам», «академиям», «республикам письмен» и прочим «часовням», в которых мне-
ния делаются предрассудками, каковые культивируются и увековечиваются. «Здесь
легко могут дойти до того, что в число обитателей “часовни” допускаются только те,
кто разделяет предрассудки, коими в ней гордятся.... Всякое закрытое общество,
принимающее какую-нибудь доктрину, всякая “элита” , отобранная в зависимости от
обучения в духе такой доктрины, имеют тенденцию к упрочивать присущие этой
доктрине предрассудки» [Кожев 2006, 246]. Интеллектуалы принадлежат именно
к таким сообществам, в которых господствуют некритически воспринятые мнения,
почитаются авторитеты (будь таковыми даже самые яростные ниспровергатели).
Внутри «скорлупы» царит догматизм, стоит интеллектуалу ее покинуть, как он дела-
ется полным релятивистом по неумению и нежеланию думать. Если вспомнить
Ф. Бэкона, мы имеем дело с «идолами театра». Философа от интеллектуала отличает
именно то, что он покидает все закрытые «часовни» и стремится жить в большом
мире – «на форуме», «на улице», как жил Сократ.
Примечания
1 См.: [Бергер, Лукман 1995, 268–270]. Задолго до всякой социологии знания об этом писал
Паскаль: «Искусство фрондировать и сотрясать государство состоит в умении подрывать гос-
подствующие обычаи , доискиваясь до их истоков и показывая, сколь мало в них состоятельно-
сти и справедливости». Чтобы власть выглядела законной, «нужно представлять ее подлинной и
вечной и скрывать ее происхождение, если не хочешь, чтобы ей вскорости при шел конец»
[Паскаль 2011, 64–65].
2 Ж. де Лабрюйер четко указывает место пребывания этих свободомыслящих «сильных
умов» – это двор, где «...процветают два сорта людей и попеременно господствуют – вольно -
думцы и лицемеры...». [Лабрюйер 1964, 380].
3 В «Феноменологии духа» это параграф «Удовольствие и необходимость» V главы.
4 Стоит заметить, что некоторая односторонность в видении Возрождения и раннего Нового
времени объясняется тем, что и Гегель, и Кожев вслед за ним, занимались не историей фило-
софии, а феноменологией. В XIV –XVII вв. хватало тех, кто зачитывался диалогами Платона и
Цицерона, брал за образец «Политику» Аристотеля или «Град Божий» Августина и вообще
131
размышлял о всеобщем благе, а не о собственном благополучии. Но для феноменолога это про-
сто убеждения тех, кто продолжал жить прошлым, тогда как новым историческим феноменом
был изолированный индивид в уходящем от прежних иерархий и моральных образцов обществе.
Говоря языком социологии Ф. Тенниса, на место прежнего органического Gemeinschaft прихо-
дит механическое Gesellschaft, в котором отношения между атомизированными людьми регули-
руются контрактом.
5 Здесь легко различим исток концепции отчуждения молодого Маркса.
6 Отметим, что вероятнее всего оппозиция «наслаждения и долга» в «Или –Или»
С. Кьеркегора имеет своим источником этот раздел «Феноменологии духа»
7 Лично он познакомился с Шмиттом только в 1950-е гг ., но был хорошо знаком с его рабо-
тами 1920-х гг., включая и «Политический романтизм»; достаточно сравнить его оценки интел-
лектуалов с дескрипцией романтической субъективности у Шмитта. См.: [Шмитт 2015]. В трак-
товке Кожевом царства «рабочего-солдата», синтеза прежних исторических фигур в рамках вос-
ставшего Народа, реализующего себя в Государстве, вообще хорошо виден след немецкой мыс-
ли («Рабочий» Э. Юнгера, «Революция справа» Х. Фрайера и др.).
Источники – Primary Sources in French and Russian Translation
Гегель 1956 – Гегель Г.В.Ф. Философия духа // Гегель Г.В .Ф . Энциклопедия философских
наук. М.: Госполитиздат, 1956 [Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Die Wissenschaft des Geistes (Russian
Translation, 1956)].
Гегель 1959 – Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем . Г .Г . Шпета. М .: Соцэкгиз,
1959 [Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Phänomenologie des Geistes (Russian Translation, 1959)].
Гегель 2000 – Гегель Г.В .Ф . Лекции по философии истории , СПб.: Наука, 2000 [Hegel, Georg
Wilhelm Friedrich Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte (Russian Translation , 1935)].
Кожев 2006 – Кожев А. Тирания и мудрость // Штраус Л. О Тирании. СПб .: СПбГУ, 2006
[Kojève Alexandre Tyrannie et Sagesse (Russian Translation , 1998)].
Лабрюйер 1964 – Лабрюйер Ж. де Характеры, или нравы нынешнего века. М .: Художествен-
ная литература, 1964 [La Bruyere, Jean de Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle (Russian
Translation, 1964)].
Моррас 2003 – Моррас Ш. Будущее интеллигенции. М.: Праксис, 2003 [Maurrass, Charles De
l'intelligence (Russian Translation, 2003)].
Паскаль 2011 – Паскаль Б. Мысли. М .: АСТ, Астрель, 2011 [Pascal, Blaise Pensées, (Russian
Translation, 1995)].
Токвиль (1997) – Токвиль А. де Старый порядок и революция. М.: Московский философский
фонд, 1997 [Toqueville, Alexis de L'ancien Régime et la Révolution (Russian Translation, 1997].
Фишер 1902 – Фишер К. Гегель, его жизнь, сочинения и учение // Фишер К. История новой
философии. В 8 т. Т . 8 . СПб .: Д.Е . Жуковский , 1902 [Fischer, Ernst Kuno Berthold Hegels Leben,
Werke und Lehre (Russian Translation, 1902)].
Kojève, Alexandre (1947) Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, Paris.
Kojève, Alexandre (1981) Esquisse d'une phénoménologie du droit, Gallimard, Paris.
Kojève, Alexandre (2010) Identité et Réalité dans le ‘Dictionnaire’ de Pierre Bayle, Gallimard, Paris.
Ссылки – References in Russian
Бергер, Лукман (1995) – Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.:
Медиум, 1995.
Февр 1991 – Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991.
Шмитт 2015 – Шмитт К. Политический романтизм. М.: Праксис, 2015.
References
Berger, Peter L., Luckmann, Thomas (1966), The Social Construction of Reality. A Treatise on soci-
ology of Knowledge, Anchor Books, New York (Russian Translation, 1995)
Febvre, Lucien (1953), Combats pour l’histoire, A. Colin, Paris (Russian Translation, 1991).
Schmitt, Carl (1925), Politische Romantik, Verlag von Duncker und Humbolt, München, Leipzig
(Russian Translation, 2015).
Сведения об авторе
РУТКЕВИЧ Алексей Михайлович –
доктор философских наук, профессор НИУ
ВШЭ.
Author’s information
RUTKEVICH Alexey M. –
DSc in Philosophy, professor, National Research
University Higher School of Economics.
132
Особенности критики философии Э. Ласка в России*
© 2019 г.
Л.Ю. Корнилаев
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград, 236038,
ул. Александра Невского, д. 14.
E-mail: LKornilaev@kantiana.ru
Поступила 28.02.2019
В начале XX века анализ и рецензирование значимых философских
проектов, появляющихся в Европе, стали нормой для центральных
русскоязычных философских изданий и русского философского со-
общества в целом. В статьях и книгах русских философов находили
свой отклик и реакцию практически все наиболее заметные западные
философские учения. Не остался без внимания и яркий проект «ло-
гики философии» неокантианского философа Э. Ласка. Критику уче-
ния Ласка в текстах русских философов можно рассматривать в каче-
стве органичной части рецепции неокантианских идей в России. Са-
мыми презентативными текстами, содержащими конструктивный
и последовательный разбор системы логики философии, являются
тексты русских неокантианцев Б.В . Яковенко и Б.П . Вышеславцева и
русских религиозных философов Е.Н . Трубецкого и С.А. Аскольдова.
В исследовании осуществляется попытка реконструкции и сравнения
критических аргументов русских философов в отношении основных
положений и терминологии учения гейдельбергского философа. Дан-
ное рассмотрение позволяет расширить представления о рецепции и
критике неокантианства в России на рубеже XIX–XX вв.
Ключевые слова: Эмиль Ласк, логика философии, русская философия,
неокантианство, история философии.
DOI: 10.31857/S004287440007532-0
Цитирование: Корнилаев Л.Ю . Особенности критики философии
Э. Ласка в России // Вопросы философии. 2019. No 12. С . 132 –144 .
*
Данное исследование было поддержано билатеральным грантом DAAD Immanuel
Kant Programm – Linie A, 2018 (91688422) и Министерства науки и высшего образования
РФ (шифр проекта 35.12716.2018/12.2).
133
The Specifics of Criticism on E. Lask’s Philosophy in Russia*†
© 2019 г.
Leonid Yu. Kornilaev
Immanuel Kant Baltic Federal University, 14, Alexandre Nevsky str., Kaliningrad, 236038,
Russian Federation.
E-mail: LKornilaev@kantiana.ru
Received 28.02.2019
At the beginning of the 20th century, the analysis and the reviewing of the re-
markable European philosophical projects became routine in the central Russian
philosophical editions and the Russian philosophical community as a whole.
In Russian philosophers’s articles and books, almost all the most prominent
Western philosophical doctrines found their response and reaction. The striking
project of the ‘logic of philosophy’ by the Neo-Kantian philosopher E. Lask did
not remain without attention, too. The criticism of the Lask’s doctrine in the texts
of Russian philosophers can be seen as an organic part of the reception of Neo-
Kantian ideas in Russia. The most presentative texts containing the constructive
and consistent analysis of the ‘logic of philosophy’ are the texts of Russian Neo-
Kantians B.V. Yakovenko and B.P. Vysheslavtsev, and the Russian religious phi-
losophers E.N. Trubetskoy and S.A. Askoldov. The research attempts to recon-
struct and compare the critical arguments of the Russian philosophers regarding
the main points and terminology of Lask’s doctrine. This study allows us to ex-
pand and refine our understanding of reception and criticism of Neo-Kantianism
in Russia at the turn of the 19th and 20th centuries.
Key words: Emil Lask, Russian philosophy, Neo-Kantianism, logic of phi-
losophy, history of philosophy.
DOI: 10.31857/S004287440007532-0
Citation: Kornilaev, Leonid Yu. (2019) ‘The Specifics of Criticism on E. Lask’s
Philosophy in Russia’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 132–144 .
Философские работы Эмиля Ласка неизменно пробуждали живой интерес и вни-
мание современников. Хотя Ласк считался и считается представителем Баденской
школы неокантианства, его известность была связана, прежде всего, с самостоятель-
ностью его философского проекта, зарождавшегося в рамках неокантианской тради-
ции и впитавшего в себя идеи иных значительных философских течений своей эпо-
хи. Идеи Ласка не остались без внимания и в русской философской среде начала
XX века. Свидетельством этого служат многочисленные упоминания о нем в работах
отечественных философов и, главным образом, у русских неокантианцев – С.И. Гес-
сена, Ф.А. Степуна, Б.В . Яковенко, проходивших обучение в Гейдельбергском уни-
верситете (в том числе, у самого Ласка) и впоследствии основавших международный
ежегодник по философии культуры «Логос». Значительная часть их текстов, в кото-
рых фигурирует Ласк, опубликована именно в русском варианте журнала «Логос».
Показательно наличие в «Логосе» рецензий на обе главные работы Ласка за автор-
ством С.И. Гессена [Гессен 1911] и Т.И. Райнова [Райнов 1914]. Упоминания о фи-
лософских идеях Ласка встречаются и в журнале «Вопросы философии и психоло-
гии» [Яковенко 1913б, Аскольдов 1914а
, Румер 1915, Бердяев 1910]. Особого внимания
*
This research was supported by the bilateral grant of the DAAD Immanuel Kant Program –
Linie A, 2018 (91688422) and the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Fed-
eration (no. 35.12716.2018/12.2).
134
заслуживает крайне эмоциональный критический отзыв А. Белого на выход «Логики
философии» Ласка в статье «Круговое движение» [Белый 1912] и ответы русских
неокантианцев на этот отзыв [Степун 2017], биографические фрагменты из воспоми-
наний Ф.А. Степуна [Степун 1926, 152 –154; Степун 1956, 113] 1 и некролог
Л.В. Успенского [Успенский 1915]. Неокантианскому философу посвящены отдель-
ные главы в книгах Г.Д. Гурвича [Gurvitch 1949, Gurwitsch 1924]. Краткие упомина-
ния Ласка обнаруживаются в трудах Б.А. Кистяковского [Кистяковский 1998],
Н.А. Бердяева [Бердяев 1989], Г.Г . Шпета [Шпет 2014], Я.И. Гордина [Гордин 2016],
А.З. Штейнберга [Штейнберг 1991].
В данной статье я ограничусь текстами только четырех русских философов, в которых
наиболее ярко и аргументативно представлена критика философской системы Э. Ласка.
Среди работ русских неокантианцев таковыми оказались статьи Б.В. Яковенко [Яковен-
ко 1912, Яковенко 1913а] и книга Б.П. Вышеславцева «Этика Фихте» [Вышеславцев
1914]. Из текстов русских религиозных философов особого внимания заслуживают два:
глава в книге Е.Н. Трубецкого «Метафизические предположения познания. Опыт преодоле-
ния Канта и кантианства» [Трубецкой 1917] и большой фрагмент в книге С.А. Асколь-
дова «Мысль и действительность» [Аскольдов 1914б]. В рассматриваемых текстах в центре
внимания находится главное сочинение Ласка – «Логика философии и учения о катего-
риях». Анализ указанных текстов позволит реконструировать критическую аргументацию
русских философов и выявить ее особенности, а также дает возможность сравнить кри-
тические замечания русских неокантианцев и русских религиозных философов в отно-
шении одного из центральных неокантианских проектов2
.
Критика логики философии Ласка в статьях Б.В. Яковенко
Статьи Б. Яковенко стали одним из первых результатов осмысления «Логики фи-
лософии» в России3. В текстах русского неокантианца философия Ласка подвергается
наиболее детальной и при этом конструктивной критике4.
В статье «Что такое философия? Введение в трансцендентализм» Яковенко в каче-
стве «типичнейшего» и «характернейшего» примера современных спекулятивных тео-
рий выбирает концепции Ласка и английского философа Ф.Г. Бредли [Яковенко
1912, 37]. Русский философ критикует их и стремится показать их полную несостоя-
тельность. Остановимся на критике учения Ласка.
Основным упреком в адрес философии Ласка становится обвинение в дуализме.
По мнению Яковенко, Ласку при всей его критике теорий двух миров, догматично
разделяющих мир на две части: чувственную и сверхчувственную, чувственную и
умопостигаемую и др. [Ласк 2017, 9 –10], самому не удалось избежать постулирования
дуальной системы. Напротив, Ласк догматически формулирует два новых дуализма:
формы и материи, познания и смысла. Несостоятельность дважды дуалистичной тео-
рии Ласка Яковенко доказывает при помощи четырех аргументов.
Первый аргумент Яковенко указывает на противоречивость ласковских понятий
«чистая форма» и «чистая материя». Дело в том, что Ласк предложил систему, в ко-
торой предметом познания может быть только «теоретический смысл» (или «пред-
мет», «истина»)5, представляющий из себя соотношение логической формы и алоги-
ческого материала. Форма и материал – два независимых элемента, никак не прони-
кающих друг в друга6. «Чистыми» они, по Ласку, являются потому, что принадлежат
противостоящим сферам, не имеющим между собой никакой возможности сопри-
косновения. Образование теоретического смысла происходит через «охватывание»
логической формой, т.е . категорией, абсолютно непроницаемого материала.
Яковенко указывает, что «чистые» элементы, если они «чистые», по самому свое-
му определению не могут переходить один в другой ни «на конечных полюсах Суще-
го», ни в «сосозидании познавательного смысла» [Яковенко 1912, 39]. А если это всё-
таки возможно, то либо смысл образуется из каких-то других «нечистых» элементов,
либо образование смысла невозможно.
Второй аргумент Яковенко развивает первый: «чистые» элементы, если они «чи-
стые», не могут составлять ничего третьего и не могут смешиваться: либо в «чистых»
135
форме и материи есть что-то родственное – и тогда они не чисты, либо они чисты
и не имеют ничего единого, но в таком случае не могут образовывать ничего третье-
го, а при смешивании – взаимоуничтожаются.
В следующих двух аргументах Яковенко показывает невозможность всякого по-
знания в системе Ласка, и причиной тому второй дуализм – дуализм познания
и смысла, напрямую связанный с непроясненностью понятий формы и материала.
Русский философ указывает на противоречивость отношения «познавательного акта»
и «познавательного содержания». «Познавательное содержание» есть «теоретический
смысл», образованный в результате охватывания формой материала. Однако никакой
«познавательный акт» не в состоянии проникнуть в «содержание», так как «чистые»,
тотально изолированные форма и материал не могут слагаться в «смысл». Следова-
тельно, либо «чистые» форма и материя – «выдумки, недопустимые понятия» [Яко-
венко 1912, 39], либо для познавательного акта не требуется наличия «смысла».
В четвертом аргументе Яковенко доводит свое рассуждение до логического завер-
шения, указывая на взаимоисключение сфер бытия и значимости в системе Ласка.
«Познавательный акт» у Ласка относится к сфере психофизического временного бы-
тия (познание как переживание) 7
, а «содержание» содержит в себе вневременную
форму сферы значимости, и невозможно никакое их соединение в познании смысла.
Акт и содержание акта находятся в исключающих друг друга сферах. Получается,
что-либо эти сферы всё-таки родственны, либо они различны и, таким образом, раз-
рушается вся, соединяющая их теория Ласка. И именно на этом «подводном камне
изначального и по существу своему глубоко-противоречивого дуализма» [Яковенко
1912, 41] терпит крушение его система.
Таким образом, в первой статье Яковенко мы видим следующую схему критики:
непроясненность понятий формы и материала приводят к невозможности познания,
а характеристики познавательного процесса как переживания делают его систему
психологизированной.
Яковенко расширяет критику философского проекта Ласка в своей статье «Об им-
манентном трансцендентизме, трансцендентальном имманентизме и дуализме вообще».
Русский философ диагностирует, что в современном ему философском сообществе
постепенно происходит онтологический поворот в гносеологическом решении про-
блемы трансцендентальности. Для демонстрации этого процесса он выбирает совре-
менных философов, наиболее совершенных в гносеологическом отношении: Гуссер-
ля, Риля, Риккерта, Ласка. Аргументация Яковенко в отношении всех философов
схожа и заключается в выявлении противоречия при постулировании сводимости
двух несводимых сфер. В случае Ласка такими сферами становятся сфера форм и
сфера материала, сфера бытия и сфера значимости. Яковенко вновь приводит четыре
аргумента, расширяющие и дополняющие критические замечания из первой статьи.
В первом аргументе Яковенко продолжает настаивать на принципиальной несо-
единимости формы и материала. С его точки зрения, Ласк маскирует эту несоедини-
мость, с одной стороны, описывая форму терминами, обозначающими ее направлен-
ность во вне, к чему-то ей потустороннему8 [Яковенко 1913а
, 128], с другой стороны,
постулируя обязательное наличие чего-то, на что она устремлена. Такие «интенцио-
нальные» описания не кажутся Яковенко убедительными и очевидными – «невоз-
можное не становится возможным» [Яковенко 1913а
, 128], а проблема соотношения
формы и материала остается нерешенной. «Связная двойственность формы и мате-
рии просто постулируется им», а все учение представляет из себя «догматизм пред-
установленной дисгармонио-гармонии», – резюмирует Яковенко свои размышления
по этому вопросу [Яковенко 1913а
, 129].
Во втором аргументе Яковенко рассматривает несколько проблем, вытекающих из
другой сложности системы Ласка, а именно проблемы перехода формы в материал.
Такой переход, по утверждению Ласка, происходит на более высоком философском
уровне познания, где форма первого уровня становится материалом для формы вто-
рого уровня – «формы формы». То, как это происходит, Ласк объясняет в своей тео-
рии уровней познания (Stockwerktheorie), см. [Ласк 2017, 64–64, 120–122, 160].
136
Однако, как замечает Яковенко, «стать материалом для формы в таком случае значит
во всех отношениях перестать быть формой, т.е. не быть; совершенно так же, как для
красноты стать не-краснотой значит не быть» [Яковенко 1913а
, 130]. Форма по опре-
делению не может быть материалом, а материал формой. Путаница увеличивается,
когда у Ласка наряду с постулированием перехода формы в материал встречаются
формулировки о раздвоении чистой формы на категориальную форму формы и на
материал формы. С точки зрения Яковенко, совершенно невозможно помыслить раз-
ложимость формы на противоположные элементы. Если допустить в форме противо-
положные признаки, сразу же «идет прахом» всё своеобразие сферы значимости
[Яковенко 1913а
, 131].
Следующая проблема, на которой заостряет внимание Яковенко – проблема
дифференциации формы материалом. Ласк настаивает, что первичным материалом
познания является чувственный материал – и форма первого уровня, и форма второ-
го уровня (форма формы) в конечном счете дифференцируются первичным алогич-
ным материалом. Яковенко видит в этом неразрешимое противоречие: «мир значи-
мости оказывается зависящим от мира незначимости» [Яковенко 1913а
, 132]. Неудо-
влетворительное решение, с его точки зрения, имеет также проблема «падения в бес-
конечность», заключающуюся в том, что при принятии существования «формы фор-
мы» мы также можем полагать существование «формы формы формы» и т .д.9 Яко-
венко не устраивают попытки Ласка снять эту проблему через утверждение, что
«форма третьего и т.д. порядка» не будет представлять ничего более нового по срав-
нению с «формой формы» и есть просто «форма» значимости. Яковенко очень въед-
ливо разбирает этот момент и в результате настаивает на необходимости утверждения
тождественности или нетождественности форм второго уровня и форм третьего уров-
ня. Только так можно решить проблему «падения в бесконечность».
В третьем аргументе Яковенко критически рассматривает понятие алогического мате-
риала, которое, с его точки зрения, так же противоречиво. Если материал алогичен, то о
нем ничего нельзя сказать, даже то, что он алогичен. Всякое высказывание о нем будет
содержать определенный формальный логический момент, а значит материал перестанет
быть абсолютно алогичным: «всякое отдаленнейшее и косвенейшее опознание его было
бы уже нарушением его непроницаемости» [Яковенко 1913а
, 134]. Яковенко довольно
точно проводит параллель между непознаваемостью материала Ласка и «вещью в себе»
Канта и далее задается вопросом о том, может ли непроницаемый материал дифферен-
цировать форму. Ведь тогда он должен содержать внутри себя определенные различия,
которые, согласно Ласку, находятся исключительно в сфере логического. Если материал
алогичен, рассуждает Яковенко, и если в то же время материалом могут становиться
формы всех уровней, то всё становится алогичным и непознаваемым. Сама логическая
сущность познания становится непознаваемой. «Логическое есть алогическое, – резуль-
тат понятный и живительный с точки зрения панлогизма Гегеля, но смертоносный для
панархизма Ласка»
10
[Яковенко 1913а
, 135].
Четвертый аргумент по структуре и содержанию близок к контраргументу против
Гуссерля в этой же статье. Яковенко считает совершенно недопустимым у Ласка пони-
мание познания как своеобразного теоретического «мнения» в отношении смысла, как
своеобразной теоретической «интенциональности» [Яковенко 1913а
, 135], т.е. пережи-
вания логического в теоретическом смысле. Согласно Ласку, как материал, находя-
щийся в логической обнаженности, так и охватывающая его форма могут только пере-
живаться (в двух видах познавательных процессов: «познавании» форм и непосред-
ственной «жизни» в материале). Познавательные процессы в системе Ласку имеют
психический характер, и психическое уже наличествует в смысле в виде материального
момента наравне с логическим моментом. Психическое как часть познания не прихо-
дит в смысл извне и не может быть на него направлено, поэтому оно не может быть
интенционально направленным на логическое. Яковенко утверждает, что переживание
по определению внепознавательно, следовательно, о форме и материале ничего нельзя
сказать в познавательных терминах: «...нельзя говорить того, что они суть, нельзя даже
говорить, что они переживаются» [Яковенко 1913а
, 136]. В переживание нельзя
137
вкладывать формы, так как переживание непосредственно, а о наличности формы
можно только знать.
Проблемы, обнаруженные Яковенко в учении Ласка, были сформулированы в ре-
зультате строгого и глубокого анализа идей одного неокантианского философа дру-
гим неокантианским философом и отразили специфику их интерпретации Канта и
кантианства. Цель Яковенко, однако, состояла не в том, чтобы разрушить систему
Ласка, а, напротив, чтобы найти пути ее корректировки.
Критика Б.П . Вышеславцева. «Неподвижность» системы Ласка
В главе «Проблема иррационального в современной философии. Шуппе, Риккерт,
Ласк» своей книги «Этика Фихте» (1914) Б.П . Вышеславцев рассматривает указан-
ных в названии главы философов в качестве главных представителей иррациональ-
ной философии того времени. В этом тексте Вышеславцев дает собственную оценку
и краткий анализ вышедшей в 1910 г. «Логики философии» Ласка. Книга Ласка, по
мнению русского философа, «посвящена выяснению и углублению» противопостав-
ления рационального и иррационального [Вышеславцев 1914, 55], причем в понима-
нии последнего немецкий философ делает важный шаг вперед.
В чем же, согласно Вышелавцеву, заключается «важный шаг» Ласка? Во-первых,
в стремлении преодолеть ошибочное отождествление индивидуального с иррацио-
нальным и всеобщего с рациональным, которое имеет место, например, в философии
его учителя Риккерта. И индивидуальное, и всеобщее «состоит из формы и материа-
ла, и то и другое содержит в себе рациональное и иррациональное» [Вышеславцев
1914, 55], обобщает Вышеславцев концепцию Ласка11
.
Во-вторых, «важный шаг» за-
ключается в истолковании непосредственного переживания как части иррациональ-
ного [Вышеславцев 1914, 56–57]12, об иррациональном невозможно никакое знание,
оно может только переживаться.
Однако наряду с плодотворными идеями Ласка Вышеславцев обнаруживает в «Ло-
гике философии» и некоторые противоречия. Наибольшее количество вопросов
у русского философа вызывает всё та же проблема соотношения формы и материала.
Он называет все попытки Ласка объяснить соотношение формы и материала «нагро-
мождением метафор», показывающих на самом деле полную изолированность
и разорванность этих элементов – «их взаимодействие есть такое же чудо, как взаи-
модействие субстанций у Декарта» [Вышеславцев 1914, 61]. Непреодолимая пропасть
между формой и материей в концепции Ласка приводит, согласно Вышелавцеву,
к невозможности познания: материал так и остается непроницаемым, как бы его не
оформляли формы. У Ласка получается простое переливание материала из одной
формы в другую: «Сколько бы мы не разливали чернила по сосудам различных форм,
они все также останутся непроницаемыми; сколько бы мы не расставляли по полкам
книги, написанные на непонятном языке, сколько бы мы не накладывали штемпеля,
привешивали этикетки или одевали их переплетами, книги останутся для нас одина-
ково непонятными» [Вышеславцев 1914, 61]. И все утверждения о степени погружен-
ности материала в форму не имеют никакого смысла до тех пор, пока постулируется
полная непроницаемость материала. Элементы стоят рядом «в своей бесплодной про-
тиворечивости», из-за чего материя не способна «воспринять в себя семена логоса»
[Вышеславцев 1914, 63].
Где, по мнению Вышеславцева, источник такой неподвижности системы Ласка?
В непоследовательном заимствовании и ошибочной трансформации понятий Аристо-
теля. Ласк вместе с понятиями формы и материи перенимает у Аристотеля и «реля-
тивность этого противопоставления», заключающуюся в том, что каждая форма мо-
жет быть формой и материалом. Вместе с релятивностью формы Ласк переносит
в свою систему и аристотелевский вывод о необходимости предела и конечности всей
трехэтажной структуры «материя-форма-форма формы», а эта мысль, по мнению
Вышеславцева, догматична: «Мы получаем типичный догматизм, обреченный на
вечную неподвижность: глубже спуститься нельзя и выше подняться невозможно»
[Вышеславцев 1914, 64]. Отрицая «падение в бесконечность», философская система
138
Ласка теряет всякое диалектическое движение и превращается в «неподвижное зда-
ние из трех этажей». Более плодотворным для немецкого философа было бы допу-
щение диалектического взаимодействия между материей и формой. Ласк изначально
следовал за Фихте, у которого философия – это «философия бесконечного движе-
ния». У неокантианского философа это движение остановилось. Формулировки Лас-
ка, описывающие понятия «логическая форма» и «значимость», Вышеславцев считает
неудачными, потому что они совершенно не отражают сущность логоса, и предлагает
альтернативные: «Предел и беспредельное, πέρας и απειροη останутся для нас самыми
совершенными выражениями для того, что Ласк называет формой и материей, раци-
ональным и иррациональным» [Вышеславцев 1914, 64].
Важным упоминанием Ласка в книге Вышеславцева является фрагмент, посвя-
щенный Плотину [Вышеславцев 1914, 110] 13
.
Сам Ласк во многом связывал свои
идеи именно с Плотином. В историческом обзоре в конце своей книги Ласк прямо
об этом заявляет [Ласк 2017, 305 –314]. Так, у Плотина материя понимается как нечто
индифферентное к форме. Она остается всегда одной и той же, совершенно неиз-
менной и непроницаемой для логоса, какие бы формы она ни принимала. Как мож-
но заметить, данное описание материи очень близко к описанию Ласка. Но разница
есть, и она существенна, считает Вышеславцев. Материя у Ласка бесплодна, но сам
немецкий философ оставляет это незамеченным , тогда как Плотин прямо признает-
ся, что «только понятие способно рождать, природа непонятного – бесплодна»14
.
Таким образом, особенностью критики Вышеславцева становится ее историко-
философская перспектива: указание на всё ту же непроясненность ласковских поня-
тий формы и материала русский философ проводит, принимая во внимание важные
исторические параллели с Аристотелем, Плотином, Риккертом. Вышеславцев интер-
претирует логику философии Ласка так же, как и Яковенко, с неокантианских пози-
ций, однако, его анализ выглядит значительно благосклоннее. Вышеславцев подчер-
кивает правильность выбранного Ласком направления для анализа процесса позна-
ния, но «ошибочные» ходы немецкого философа делают логику философии догма-
тичной и неподвижной («недиалектичной») системой.
Критика С.А . Аскольдова. Смешение онтологического и гносеологического у Ласка
Подробному анализу логики философии Ласка посвящен большой фрагмент
в книге С.А. Аскольдова «Мысль и действительность» – глава «Гносеология Риккерта
и её продолжение у Ласка» [Аскольдов 1914б
, 60], где философия Ласка выступает
в качестве заключительного этапа в корне кризисной философии риккертианства.
Свой анализ Аскольдов предваряет тезисом о философской концепции Ласка в це-
лом: «Философия Ласка может быть названа философией ценностей по преимуще-
ству. Риккерт только приходит к понятию недействительной ценности, Ласк же берет
его как уже нечто готовое и обоснованное и делает предметом дальнейшего уясне-
ния» [Аскольдов 1914б
, 61].
Русский философ выделяет ряд заслуг Ласка. Во-первых, «исправление Канта, в том
пункте, на который до сих пор было обращаемо мало внимания» [Аскольдов 1914б
, 61],
а именно, распространение применения категорий на нечувственный мир. В этом за-
ключалась эвристическая интерпретация коперниканского поворота у Ласка, казавшаяся
совершенно обоснованной Аскольдову. Ласк понимает «коперниковское деяние» не как
разворот субъект-объектного отношения, а как утверждение о том, что логическая опре-
деленность изначально заложена в предмет. С точки зрения русского философа, вопрос,
подтверждающий правомерность такой интерпретации, теперь должен звучать так: мож-
но ли считать познанием гносеологическое исследование категорий, составляющих со-
держание самой «Критики чистого разума»? Если это возможно, то есть все основания
полагать, что категории применимы также и по отношению к самим себе, т.е. не только
к чувственному материалу, но также и к нечувственному.
Однако в трактовке «коперниканского поворота» Ласком Аскольдов видит и основ-
ной порок философских построений немецкого философа, выраженный в «догматиче-
ской уверенности, что... “коперниковское деяние” Канта есть некоторая ратификованная
139
высшим философским судом истина» [Аскольдов 1914б, 61]. В системе Ласка ошибки и
догматизм Канта более заметны, чем в текстах самого Канта. Так, противопоставление
формы и материи у Канта – один из наиболее слабых пунктов всего кантианства,
и поздние последователи стремились замаскировать этот пункт. Ласк же положил его
в основу всей своей теории.
Противоречивость системы Ласка следует из уже знакомой нам трактовки поня-
тия материал. Неясно, как материал, будучи алогичным, может быть условием для
образования теоретического смысла. Ласк утверждает, что в познании познается
именно материал, но если познается материал, то в нем уже потенциально должно
содержаться всё, что может быть познано. А «роль логической категории заключается
лишь в том, чтобы величественно произнести “быть по сему”» [Аскольдов 1914б
, 64].
Если так, то от «коперниканского поворота» Канта в системе Ласка практически ни-
чего не остается. Если мы признаем такие свойства материала, то нам совсем нет
никакой нужды обращаться к критицизму Канта. Каков статус этого «логически ого-
ленного материала»? Не напоминает он и кантовскую «вещь в себе», от которой и
Ласк, и все неокантианцы решительно отказывались.
«Логика философии» в связи с этим производит впечатление сочетания «крайнего
эмпиризма с критицизмом» [Аскольдов 1914б
, 65]. Этой странности можно бы было из-
бежать, если бы опыт у Ласка понимался как уже пронизанный логикой, считает Ас-
кольдов. А у него получается парадоксальная картина: с одной стороны, «бытие» (область
предметов) через логику становится доступным познанию, с другой стороны, до позна-
ния в переживании уже содержатся «элементы логического». Такие рассогласования вы-
зывают недоумение. Как формы могут существовать вне человеческого знания? Перене-
сение логики за пределы человеческого мышления и знания противоречит кантовскому
«коперниканскому перевороту». В связи с чем проявляется ещё один дефект системы
Ласка: превращение онтологии в логику, а логики в онтологию, что Аскольдов признает
«одним из самых бесплоднейших занятий» [Аскольдов 1914б, 66].
Основания для такого превращения, считает Аскольдов, были заложен ы уже Вин-
дельбандом в его противопоставлении номотетического и идиографического метода,
из чего выросла методологическая установка Риккерта, противопоставляющая эмпи-
рическую действительность царству недействительных ценностей и смыслов.
По мнению Аскольдова, частично обе эти интенции реализованы у Ласка в его кон-
цепции уровней познания, причем у него несоединимость двух сфер проявилась со
всей принципиальностью. Ласк не только резко противопоставляет материал и фор-
му, сферу логического и сферу алогичного, н о и постулирует полную гетерогенность
элементов этих сфер. С одной стороны, бытие пронизано небытием, с другой сторо-
ны, отрицается их всякое сосуществование.
С точки зрения Аскольдова, ошибка Ласка состоит в стремлении приписать гно-
сеологическим категориям онтологические характеристики «безвременности», «не-
протяженности» и «внепричинности». Может ли гносеология вывести такие характе-
ристики, например, для истины? Нет, считает Аскольдов. Если мы говорим, что тео-
рема Пифагора истинна в определенном месте и в определенный момент времени,
можем ли мы сразу говорить о её «безвременности» и «внепространственности»?
Проблема соотношения истины и акта, в котором истина дается, напоминает Ас-
кольдову проблему с кольцом и отверстием в кольце. Если истина сформирована до
акта, как утверждает Ласк, то, получается, мы говорим об отверстии кольца до само-
го кольца [Аскольдов 1914б, 68]. Аскольдов настаивает, что именно в мыслительном
акте происходит оформление, «окольцовывание» отверстия. Ласк лишает истину её
субъектного измерения, получается «истина ни для кого и ни о чем» [Аскольдов
1914б, 69(сн)]. Да, суждение 2х2=4 может быть безвременным, и Риккерт с Ласком в
этом отношении выглядят последовательными. Но будет ли оно безвременным, если
допустить исчезновение того, кто будет мыслить это утверждение, или не будет того,
к чему утверждение будет приложимо? Будет ли шахматная игра истиной, если
убрать человека?
140
Таким образом, в анализе Аскольдова мы видим несколько иной разворот про-
блематики и критики идей Ласка. С точки зрения Аскольдова, «дисгармония» в фи-
лософии Ласка напрямую связана с ошибочностью общей кантианской установки н а
придание гносеологической проблематике и категориям онтологического статуса.
Исходные понятия всего баденского неокантианства, в числе которых «гноселогиче-
ский субъект» и «надэмпирические ценности», могли стать сильными позициями,
однако стали самыми слабыми местами всего неокантианства. «В результате получи-
лось нечто неустойчивое, по существу переходящее за границы критицизма и удер-
живающее эти границы при помощи до чрезвычайности искусственных самооправ-
даний» [Аскольдов 1914б
, 71].
Е.Н . Трубецкой. Кризис кантианства в учении Ласка
В книге Е.Н . Трубецкого «Метафизические предположения познания. Опыт пре-
одоления Канта и кантианства» Ласку посвящена отдельная глава с характерным
названием «Кризис кантианства в учении Ласка». Логика философии Ласка, по мне-
нию русского философа, яркий пример неокантианского учения, свидетельствующего
о безвыходном положении всего кантианства в целом. Причина такого положения
кроется в безнадежной попытке Ласка «...провести теорию познания между Сциллой
и Харибдой психологизма и метафизики» [Трубецкой 1917, 289]. Кантианство всегда
неизбежно склоняется в одну из сторон: либо отрицание метафизического знания
происходит под влиянием кантовского психологизма, либо, открещиваясь от психо-
логизма, кантианство впадает в метафизику15
.
Русский философ пишет, что в «Логике философии» Ласка «ясно намечается»
кризис кантианства, однако в стремлении немецкого философа распространить дей-
ствие категорий на сферу нечувственного Трубецкой, как и Аскольдов, видит оправ-
данную попытку завершения «коперниканского поворота» Канта, исключающего
всякую предметность независимую от логической формы. Трансцендентально-
логический формализм Канта должен получить универсальное значение и распро-
страниться в том числе на понятие кантовской «вещи в себе». Универсальный статус
логического делает систему Ласка более метафизичной, что, по мнению русского
философа, выгодно отличает её от систем Риккерта и Когена, у которых метафизиче-
ские предположения теории познания проявляются только неосознанно в силу борь-
бы с психологизмом. Таким образом, философия Ласка является «переходной ступе-
нью от чистого кантовского гносеологизма к ясно осознанному метафизическому
оправданию познания» [Трубецкой 1917, 296].
Во второй части главы, которая называется «Противоречия Ласка в у чении
о форме и материи», Трубецкой выделяет ряд критических затруднений в системе
неокантианского философа, которые неизбежно связаны с попыткой решить теоре-
тико-познавательный вопрос, исключая метафизику. Фундаментальное замечание
связано с дуализмом внутри области предметов – «роковое логическое затруднение»,
о которое, по мнению Трубецкого, разбиваются все рассуждения Ласка. Пропасть,
которую устанавливает неокантианский философ своими определениями формы
и материала, оказывается, невозможно устранить: «Всякий, кто утверждает непрохо-
димую пропасть между алогическим материалом и логической формой, а затем пыта-
ется через нее перескочить, неизбежно обречен на усилия бесплодные и трагикоми-
ческие. Именно такие прыжки мы видим у Ласка; и посторонний наблюдател ь сле-
дит за ними не без некоторого эстетического наслаждения, смешанного с сострада-
нием» [Трубецкой 1917, 299–300]. Категория, будучи единственным источником зна-
чимости, вне отношения к материалу ничего не значит. Как тогда категория вообще
может сообщить материалу ту значимость, которой она сама не имеет? Как мы мо-
жем называть нечто отличным в материале, если в нем ничего друг от друга не отли-
чается, по крайней мере, нельзя увидеть какие-либо отличия? «Вообще предлагаемое
Ласком решение теоретико-познавательного вопроса заключает в себе величайший
курьез, напоминающий известный вопрос Козьмы Пруткова, – “что к чему приве-
шено, – хвост к собаке или собака к хвосту” » [Трубецкой 1917, 299].
141
Трубецкой указывает также на две противоречащие друг другу трактовки истины
в системе Ласка. С одной стороны, Ласк говорит о вечных и вневременных истинах
(в том числе фактических), с другой стороны, он утверждает, что истина, понимае-
мая как предмет познания, т.е. соотношение формы и материала, не имеет вневре-
менного характера, вневременна только логическая форма. С точки зрения Трубецко-
го, существование вечных истин о временной эмпирической действительности абсо-
лютно бесспорно. «Вечно истинным, например, остается тот факт, что Ласк родился
в Германии и что в 1815 году немецкие войска вступили в Варшаву» [Трубецкой
1917, 299]. Но для всего неокантианства и для Ласка, в частности, именно статус
вечных истин представляет неразрешимую задачу: оставаясь на почве «Критики чи-
стого разума», преодолеть пропасть между категориями рассу дка и многообразием
материала, к которому они применяются. Этот дефект наблюдается уже у Канта.
Ласк еще сильнее углубляет эту пропасть, после него «основная нелепость кантиан-
ства становится еще более наглядной» [Трубецкой 1917, 301]. В результате у Ласка
получились вечные истины о заведомо незначащем.
Отсюда вытекают уже знакомые проблемы: как можно что-то вообще знать о ма-
териале? Как можно знать, что он существует, не прибегая к категориям, которые
суть единственное условие всякого знания? Гносеология Ласка нарушает те условия,
которые он «вслед за Кантом, считает необходимыми» [Трубецкой 1917, 301]. Поня-
тие «акатегориального материала» у Ласка также незаконно, как и понятие «вещи
в себе» у Канта. И Кант, и Ласк непоследовательно допускают эти понятия, о трицая
возможность акатегориального знания.
Трубецкой считает, что ошибку Ласка можно исправить. Для этого нужно пройти до
конца путь, по которому начал идти Ласк, дать «коперниканскому деянию» Канта логи-
ческое завершение. Категория должна обладать тотальной универсальностью и абсолют-
ным значением. Понятие «алогического» должно быть отброшено. «Нет ничего алогиче-
ского и акатегориального!» [Трубецкой 1917, 302]. Нет такого «нечто», которое не имело
бы своей категории. Мыслить – значит относиться к логическому всеединству, «позна-
вать – значит предполагать абсолютное сознание и абсолютную мысль во Всеедином»
[Трубецкой 1917, 302]. Логическим продолжением и завершением коперниканского по-
ворота Канта должен быть полным разрыв с антропологизмом.
Таким образом, особенность критики Трубецкого заключается не просто в указа-
нии на противоречия, но и в указании на необходимость завершения коперникан-
ского поворота через религиозно-философскую идею Всеединого: через установление
положения о всеединстве можно устранить неразрешимый разрыв формы и материи.
Заключение
Результатом осмысления логики философии Ласка в России стала довольно со-
держательная и глубокая критика идей немецкого философа. Критические аргументы
русских философов при различии акцентов всё же составляют целостную картину,
обладающую рядом особенностей. Во-первых, содержательно критика философии
Ласка религиозными философами не сильно отличается от критики представителями
русского неокантианства: «болевые точки» оказываются одинаковыми, и все рас-
смотренные философы «бьют по ним единым фронтом». Стоит только отметить, что
в текстах Е.Н . Трубецкого и С.А. Аскольдова имеется единая тенденция к оценке
Ласка как завершающего этапа всего неокантианства. В то время как в текстах
Б.В . Яковенко и Б.П . Вышеславцева Ласк предстает как неокантианский философ,
допустивший несколько просчетов, но эти просчеты, да и вся система Ласка никак
не символизируют конец неокантианства. В остальном критику философии Ласка
вышеперечисленных философов можно рассматривать как единый горизонт осмыс-
ления его идей в России. Во-вторых, все эти философы, несмотря на стремление
показать несостоятельность основных положений «Логики философии», признавали
ряд преимуществ системы Ласка по сравнению с его неокантианскими предшествен-
никами (например, в трактовке проблемы иррационального и необходимости завер-
шения «коперниканского поворота»). Во-третьих, оценка идей Ласка в России
142
носила критический характер. В текстах русских мыслителей явно прослеживается
стремление «расшатать» построения Ласка. Причем противоречивость философского
проекта Ласка как системы показывается по приблизительно схожей схеме: указание
на непроясненность понятий формы и материала, указание на ошибочность постули-
рованная полного разрыва между ними, вследствие чего возникает тотальная невоз-
можность всякого познания, а вся система представляется, с одной стороны, догма-
тичной, с другой стороны, психологистичной. В -четвертых, русские философы всегда
указывают на историко-философские источники противоречивости системы Ласка
(ошибочное применение терминов Аристотеля, замкнутость кантовских «явления»
и «вещи в себе», противопоставление номотетического и идиографического методов
у Виндельбанда и др.) . В -пятых, у указанных философов всегда можно встретить по-
пытку исправления Ласка, стремление показать, как можно было бы избежать его
ошибок (избавление от понятия «алогического», придание системе диалектического
движения, утверждение универсальности «логического» и др.). Данный анализ не
исчерпывает всех деталей рецепции идей Ласка в России, но дает довольно четкое
представление о критике его идей русскими философами, что безусловно, важно для
понимания развития русской и немецкой философии на рубеже XIX–XX вв.
Примечания
1 Цитаты из воспоминаний Степуна с описанием Ласка часто используются в зарубежных
монографиях. Напр., [Ollig 1979, 66–67; Karádi 1995, 380; Sommerhäuser 1965, 138].
2 Критику Ласка, безусловно, можно рассматривать как важный элемент полемики русских
неокантианцев и русских религиозных философов, особенно по вопросу об отношении иррацио-
нального и рационального. По мнению Н.А. Дмитриевой, именно в спорах с религиозными фило-
софами у русских неокантианцев «выкристаллизовалась» проблема иррационального, см. [Dmitrieva
2016, 387], а Ласк был одним из тех, кто в неокантианстве первым поставил эту проблему.
3 Статья «Что такое философия?» была опубликована сразу после выхода «Логики филосо-
фии » Ласка с разницей в несколько месяцев.
4 Философский проект Ласка был яркой попыткой разрашения «проблемы теоретико -
познавательного оправдания метафизики», остро стоявшая перед русскими философами [Пан-
кова 2013, 75].
5 Понятия «теоретического смысла», «предмета познания» и «истины» для Ласка синони-
мичны и отражают результат соотношения формы и материала.
6 Подробнее о соотношении формы и материала в системе Ласка см. [Корнилаев 2017а
, 25–28].
7 Ласк говорит о двух видах познавательной данности: непосредственная «жизнь» (Leben) и
опосредованное теоретическое познавание (Erkennen). Под первым видом данности Ласк пони-
мает «жизнь» в материале, чем, например, занимается художник, «живущий» в мире -материале
эстетического, под вторым – переживание категориальных форм, чем занимается, например,
философ [Ласк 2017, 248–249]. Оба эти акта по своей сути психофизические, так как в их осно-
ве лежи т «переживание».
8 Например, «значение-к» (hingelten), «затронутое значащим» (gelten betreffs), «о-значивание»
(umgelten), «охватывание» (umgreifen), «легитимирование», или «узаконение» (Legitimirung), «запе-
чатление» (Besiegelung), «припечатывание» (Stempelung) и др. Перевод терминов по: [Ласк 2017].
Подробнее о трудностях перевода «Логики философии» Ласка см. в рецензии [Корнилаев 2017 б].
9 Такое нагромождение терминологии у Ласка высмеивает в своем критическом отзыве
А. Белый: «Или это – трагедия без названия, или это сальтомортале человека... с резиновою
головою: упадет, подпрыгнет (ибо резина упруга), опишет в воздухе круг, и опять, ощутив под
ногами твердую почву, уверенно побежит по улице университетского городка – читать о слу-
чившемся рефератик, при помощи троякого приставления к слову “Форма” слова “форма”. Как
будто бы, если скажешь “сознанье есть форма”, то все еще разобьешься, а если скажешь “созна-
ние есть форма формы сознания”, то станешь небьющимся» [Белый 1912, 56–57].
10 В утверждении Яковенко присутствует прямая отсылка к тексту Ласка, где он говорит
о необходимости «...восстановить в прежнем достоинстве – не панлогизм, но панархию Логоса».
Установление «всевластия логического» позволяет построить «подлинно универсальное учение
о категориях». См. [Ласк 2017,173].
11 Вышеславцев отмечает, что истоки такой интерпретации отношения рационального и ир-
рационального появляются уже в первой диссертации Ласка «Идеализм Фихте и история». От-
сылки к диссертации о Фихте Ласка применительно к философии истор ии встречаются также у
Я.И. Гордина [Гордин 2016] и Г.Г . Шпета [Шпет 2014]. О рецепции Гординым философии Лас-
ка см. [Дмитриева 2016, 108; Гордин 2016, 117, 139].
143
12 Любопытно сравнение Вышеславцевым этой идеи Ласка с похожим истолкованием ирра-
ционального у русского философа С. Гессена в статье «Мистика и метафизика». Более подроб-
но о проблеме индивидуального и иррационального у С. Гессена см. [Mehlich 2016].
13 Философия Плотина была одной из центральных тем для марбургских неокантианцев, к кото-
рым в дореволюционный период принадлежал Вышеславцев. См. [Дмитриева 2007, 111–112]
14 Plotin. Enn. III . VI . 19. (пер. Б.П . Вышеславцева). По [Вышеславцев 1914, 110].
15 По мнению А.Н . Круглова, выбор Трубецким философов – Когена, Риккерта, Ласка – для
критики объясняется общим замыслом его книги: продемонстрировать несостоятельность раз-
ли чных систем неокантианцев, не зависимо от их отношения к метафизике – от антиметафизи-
чности Когена до возможности метафизики у Ласка. См. [Krouglov A.N. (2016), 409–410].
Источники – Primary Sources in Russian and Russian Translations
Аскольдов 1914а
–
Аскольдов С.А. Внутренний кризис трансцендентального идеализма // Во-
просы философии и психологии. Кн. 125, 1914. С . 781 –796 (Askoldov S. The Inner Сrisis of Tran-
scendental Idealism. In Russian).
Аскольдов 1914б – Аскольдов С.А. Мысль и действительность. М .: Путь, 1914. (Askoldov S.
Thought and Reality. In Russian).
Белый 1912 – Белый А. Круговое движение. (Сорок две арабески) // Труды и дни. 1912.
No 4–5 . С . 51 –73 . (Bely A. Circular Movement (Forty Two Arabesques). In Russian).
Бердяев 1910 – Бердяев Н. Гносеологическая проблема (К критике критицизма) // Вопросы
философии и психологии. 1910. Кн. 105 . С . 281 –308 . (Berdyaev N. The Gnoseological Problem (To-
wards Critique of Criticism). In Russian).
Бердяев 1989 – Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М .: Правда, 1989. (Ber-
dyaev N. The Philosophy of Freedom. The Meaning of the Creative Act . In Russian).
Вышеславцев 1914 – Вышеславцев Б.П . Этика Фихте: Основы права и нравственности в си-
стеме трансцендентальной философии . М .: Печатня А. Снегиревой , 1914. (Vysheslavtsev B. Fich-
te’s Ethics: Fundamentals of Law and Morality in the System of Transcendental Philosophy. In Russian).
Гессен 1911 – Гессен С. [Рецензия] // Логос. Международный ежегодник по философии
культуры. 1911. Кн. 1 . С . 226–227 . Рец. на кн .: Emil Lask. Die Logik der Philosophie und die Kate-
gorienlehre. Eine Studie über den Herrschftsbereich der logischen Form. Heidelberg, 1911. (Hessen S.
[Review on ‘Emil Lask. Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre’]. In Russian).
Гордин 2016 – Гордин Я.И. Антроподицея («только доклад»). Публ. и примеч. Н.А. Дмитрие-
вой // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2016, No 3 (5).
С. 115 –146. (Gordin J. Anthropodicy (“only lecture”). In Russian).
Кистяковский 1998 – Кистяковский Б.А. Философия и социология права. СПб .: Изд-во Рус-
ского Христианского института, 1998. (Kistyakovskii B. Philosophy and Sociology of Law. In Russian).
Ласк 2017 – Ласк Э. Логика философии и учение о категориях / Пер. с нем . А .К. Судакова.
М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2017. (Lask E. The Logic of Philosophy and the Doctrine of
Categories. Russian translation).
Райнов 1914 – Райнов Т. [Рецензия] // Логос. Международный ежегодник по фи лософии
культуры. 1914. Книга II. С . 344 –346. Рец. на кн .: Emil Lask. Die Lehre vom Urteil. Tübingen,
1912. (Rainov T. [Review on ‘Emil Lask. Die Lehre vom Urteil’]. In Russian).
Румер 1915 – Румер И. Философия бесконечного и закон противоречия (По поводу книги
Г. Вышеславцева «Этика Фихте») // Вопросы философии и психологии Кн.129, 1915. С .530–544
(Rumer I. The Philosophy of the Infinite and the Law of Contradiction (Regarding the Book of Vysheslav-
tsev ‘Fichte’s Ethics’). In Russian).
Степун 1956 – Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. Т.1 . Нью-Йорк: Изд. им . Чехова, 1956.
(Stepun F. Fulfilled and Unfulfilled. In Russian).
Степун 1926 – Степун Ф.А. Из писем прапорщика артиллериста. Прага: Пламя, 1926. (Ste-
pun F. Letters of an Artillery Ensign. In Russian).
Степун 2017 – Степун Ф.А. Открытое письмо Андрею Белому по поводу статьи «Круговое
движение» // Большевизм и христианская экзистенция. Избранные сочинения. М .; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив, 2017. С . 351 –362 (Stepun F. Open Letter to Andrei Bely about the Article
“Circular Movement”. In Russian).
Трубецкой 1917 – Трубецкой Е.Н. Метафизические предположения познания. Опыт преодоления
Канта и кантианства, М.: Типография «Русская печатня», 1917. (Trubetskoy E. Metaphysical Presuppo-
sitions of Knowledge. An Attempt to Overcome Kant and Kantianism. In Russian).
Успенский 1915 – Успенский Л.В. Эмиль Ласк // Юридическое обозрение. Кн . XII (IV),
1915. С . 141 –144 . (Uspensky L. Emil Lask. In Russian).
Шпет 2014 – Шпет Г. Г. История как проблема логики: Критические и методологические
исследования. Часть первая. Материалы / Отв. ред. -с ос т ав ит ель Т. Г . Щедрина. М .; СПб.: Уни-
верситетская книга, 2014. (Shpet G. History as a Problem of Logic. Critical and Methodological Investi-
gations. Part I: Materials. In Russian).
144
Штейнберг 1991 – Штейнберг А.З . Друзья моих ранних лет. Париж: Синтаксис, 1991. (Stein-
berg A. Friends of My Early Years. In Russian).
Яковенко 1912 – Яковенко Б.В. Что такое философия? Введение в трансцендентализм // Ло-
гос. Международный ежегодник по философии ку льтуры. 1911–1912. Кн. II и III. С . 27 –103 .
(Yakovenko B. What is Philosophy? Introduction to Transcendentalism . In Russian).
Яковенко 1913а
–
Яковенко Б.В. Об имманентном трансцендентизме, трансцендентальном
имманентизме и дуализме вообще // Логос. Международный ежегодник по философии культу-
ры. 1912–1913. Кн. I и II. С . 99 –179. (Yakovenko B. About Immanent Transcendentalism, Transcen-
dental Immanentism and Dualism Altogether. In Russian).
Яковенко 1913б – Яковенко Б.В. Учение Риккерта о сущности философии // Вопросы фило-
софии и психологии. 1913. Кн . 119. С . 427 –470 (Yakovenko B.V . Rickert’s Doctrine of the Essence of
Philosophy. In Russian).
Gurvitch 1949 – Gurvitch, Georg (1949) Les tendances actuelles de la philosophie allemande:
E. Husserl, M. Scheler, E. Lask, M. Heidegger. Paris, 1949.
Gurwitsch 1924 – Gurwitsch, Georg (1924) Fichtes System der konkreten Ethik. Tübingen, 1924.
Ссылки – References in Russian
Дмитриева 2007 – Дмитриева Н.А . Философия гуманизма и просвещения: критерии, специ-
фика, проблематика русского неокантианства // Философские науки. 2007 . No 1. С . 111 –112 .
Дмитриева 2016 – Дмитриева Н.А. На перепутье традиций: неокантианская антроподицея
Якова Гордина // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2016,
No3 (5). С. 99–114.
Корнилаев 2017а
–
Корнилаев Л.Ю . Философский проект Эмиля Ласка // Вестник Москов-
ского университета. Серия 7: Философия. 2017 . No 1. C . 13 –32 .
Корнилаев 2017б – Корнилаев Л.Ю . [Рец.] Эмиль Ласк. Логика философии и учение о кате-
гориях (Пер. с немецкого А.К. Судакова) // Кантовский сборник. 2017 . Т. 36, No 4. С .109–112 .
Панкова 2013 – Панкова Т.Ю . Б.В . Яковенко и журнал «Логос» // Кантовский сборник.
2013. No1 (43). С. 73–77.
References
Dmitrieva, Nina A. (2016) ‘Back to Kant, or Forward to Enlightenment: The Particularities and Is-
sues of Russian Neo-Kantianism’, Russian Studies in Philosophy, vol. 54, no. 5, pp. 378 –394.
Dmitrieva, Nina A. (2016) ‘On the Cross -road of Traditions. The Neo-Kantian Anthropodicy of Ja-
cob Gordin. Part two’, RSUH/RGGU BULLETIN. Series Philosophy. Social Studies. Art Studies, vol. 3,
pp. 99 –114 (in Russian).
Dmitrieva, Nina A. (2007) ‘Philosophy of Humanism and Enlightenment: criteria, specificity, prob-
lems of Russian Neo-Kantianism’, Filosofskie nauki, vol. 1, pp. 111 –112 (in Russian).
Karádi, Éva (1995) ‘Emil Lask in Heidelberg oder Philosophie als Beruf ’, Heidelberg im Schnittpunkt
(1903–1935) intellektuelle Kreise. Opladen, 1995.
Kornilaev, Leonid Yu. (2017) ‘Lask E. The Logic of Philosophy and the Doctrine of Categories
(Review)’, Kantian Journal, vol. 36, no. 4, pp. 109–112 .
Kornilaev, Leonid Yu. (2017) ‘The Philosophical Project of Emil Lask’ , Vestnik Moskovskogo Uni-
versiteta. Seriya 7: Filosofiya, no. 1, pp. 13 –32 .
Krouglov, Alexey N. (2016) ‘Evgeny N. Trubetskoy and Overcoming the Neo -Kantian Kant’, Rus-
sian Studies in Philosophy, vol. 54, no. 5, рр. 409–410 .
Mehlich, Julia B. (2016) ‘The Transcendental Foundations of the Individual in the Philosophy of
Sergei I. Hessen’, Russian Studies in Philosophy, vol. 54, no. 5, pp. 368–377.
Ollig H.-L . (1979) Der Neukantianismus. Stuttgart, 1979.
Pankova, Tatyana Yu. (2013) ‘Boris V. Yakovenko and the Journal Logos’, Kantian Journal,
no. 1(43), pp. 73 –77 .
Sommerhäuser, H. (1965) Emil Lask in der Auseinandersetzung mit Heinrich Rickert. Berlin, 1965.
Сведения об авторе
КОРНИЛАЕВ Леонид Юрьевич –
кандидат философских наук, научный со-
трудник Академии Кантианы Института
гуманитарных наук Балтийского федераль-
ного университета имени И. Канта.
Author’s information
KORNILAEV Leonid Yu. –
CSc in Philosophy, research fellow, Academia
Kantiana, Institute for the Humanities, Im-
manuel Kant Baltic Federal University.
145
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
Молодой Лютер и его Виттенбергские тезисы
Часть вторая
© 2019 г.
Э.Ю. Соловьев
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
E-mail: ersolov@yandex.ru
Поступила 18.07.2019
В статье анализируются Виттенбергские тезисы Мартина Лютера и их
взрывной успех. Особое внимание уделено активности университетов
и усилиям теологического просвещения. Анализируя текст Тезисов,
автор выделяет два смысловых слоя: их экзотерическую составляю-
щую и их эзотерию. В начале 20-х гг. XVI в. общественное мнение
Германии откликнулось прежде всего на экзотерическую составляю-
щую Тезисов. Теологические дискуссии стимулировали формирование
идеологии общегерманского антипапистского протеста. Общество
пришло в состояние эйфории, которая после гражданской («Кре-
стьянской») войны, жестокого подавления крестьянского восстания и
обострения территориальной междоусобицы, сменилась парализую-
щим разочарованием. В годы становления немецкой лютеранской
церкви её лидер был близок к тому, чтобы признать обнародование
Тезисов трагической ошибкой. Однако в этот же исторический пери-
од Реформация вступает в новую фазу, заявляет о себе как общеевро-
пейское общественное движение, скреплённое сетью международных
контактов. Авторитет Тезисов и всей теологии молодого Лютера воз-
рождается. При этом наиболее актуальными оказываются их глубин-
ные, эзотерические смыслы.
Ключевые слова: Мартин Лютер, Реформация, теология, индульгенции,
правомочия государства и церкви, всеобщее священство, гуманисты,
университет, просвещение.
DOI: 10.31857/S004287440007534-2
Цитирование: Соловьев Э.Ю . Молодой Лютер и его Виттенбергские
тезисы. Часть вторая // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 145 –161.
146
Young Luther and His Ninety-five Theses
Part 2
© 2019 г.
Erich Yu. Soloviev
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation.
E-mail: ersolov@yandex.ru
Received 18.07.2019
The article analyzes Martin Luther's Ninety-five Theses and their explosive suc-
cess. Particular attention is paid to the activities of universities and the efforts of
theological education. Analyzing the text of Theses, the author identifies two
semantic layers: their exoteric component and their esoteric. In the 16th centu-
ry early twenties German public opinion responded primarily to the exoteric
component of Theses. Theological discussions stimulated the formation of the
ideology of the All German anti-papist protest. Society came to a state of eu-
phoria, which after the civil (Peasant) war, the brutal suppression of the peasant
uprising and the exacerbation of territorial infighting, gave way to a paralyzing
disappointment. In the formative years of the German Lutheran Church, its
leader came close to recognizing the promulgation of Theses as a tragic mistake.
However, at this historical period, the Reformation entered a new phase, de-
clared itself as a pan-European social movement, united by a network of inter-
national contacts. The authority of Theses and all the theology of young Luther
has been revived. The most relevant at that historical point were their deep,
esoteric meanings.
Key words: Martin Luther, reformation, theology, indulgences, state and
church, universal priesthood, humanists, university, education.
DOI: 10.31857/S004287440007534-2
Citation: Soloviev, Erich Yu (2019) “Young Luther and His Ninety-five
Theses. Part 2”, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 145 –161.
Итак, торговля индульгенциями в немецких землях была, если угодно, послед-
ним – фарсовым – актом в позднесредневековой криминальной драме.
В XV веке торгашески-феодальному церковному ограблению подвергались в той
или иной степени все страны Западной Европы. Однако новые монархии (например,
Франция и Англия) уже создают значительные препятствия для выкачивания Римом
их национальных богатств. Папская курия наседает теперь прежде всего на полити-
чески раздробленную Германию. Именно она является районом, где процветают си-
мония и аннаты, ростовщические операции монастырей и, наконец, продажа отпу-
щений. Мешки с золотом, говорил Ульрих фон Гуттен, подобно птицам улетают из
Германии через Альпы.
Продавцы искупительных грамот появляются в немецких землях в 1501 и 1504 го-
дах. «В 1506 г. распространение индульгенций в Германии было санкционировано
папой Юлием II, а затем 31 марта 1515 г. подтверждено в булле папы Льва X. Про-
возглашалось, что средства от продажи индульгенций предназначаются для строи-
тельства собора Св. Петра в Риме» [Голубкин 1992, 241].
Финансовое обеспечение этого строительства – одна из самых беспардонных ак-
ций в той Европе, которую мы обычно именуем «ренессансной и барочной». Хочется
вспомнить Александра Зиновьева и назвать эту акцию одной из зияющих высот фео-
дального коммерциализма, как церковного, так и мирского. Хитроумная сеть займов
147
и платежей связала друг с другом: папу Льва Х, который до конца дней своих вел
себя как член религиозно безразличного, порочного и авантюрного семейства Меди-
чи; одного из представителей высшей феодальной знати Альбрехта Гогенцоллерна,
которому «в неканоническом возрасте» (в 23 года) удалось за взятку (за 50000 грос-
сов, полученных в долг) удостоиться звания и полномочий архиепископа, и, наконец,
крупнейшего позднефеодального банкира – Якоба Фуггера.
Зоной самого интенсивного распространения индульгенций стали территории,
оказавшиеся под началом молодого, вновь назначенного архиепископа Альбрехта
Бранденбургского. Заведование «священной торговлей» было поручено здесь доми-
никанцу Тецелю – теологу с сомнительным докторским дипломом, уже судимому
однажды за финансовые махинации. При субкомиссаре Тецеле находился советник
от торгового дома Фуггеров.
Рекламно-агитационные проповеди Тецеля, иногда завершавшиеся народным гу-
лянием под гарнизонный военный оркестр, были теологически уязвимыми, грубыми
и наглыми. Всё выглядело так, словно перед субкомиссаром была поставлена задача
выболтать, выставить на показ самые неприглядные секреты торгующей церкви.
У его рассудительных, нравственно требовательных слушателей должно было возни-
кать следующее, вполне обоснованное подозрение: римская церковь желает, чтобы
в ней было как можно больше грешных, порочных, даже преступных прихожан, гото-
вых откупиться от заслуженных небесных наказаний. Генрих Гейне выразит это так:
«Грех стал своеобразным источником средств для сооружения главного католическо-
го храма» [Гейне 1994, 33].
Летом 1517 года Тецель проповедовал в двух захолустных городках поблизости от
Виттенберга. О его речах и действиях Лютер узнал от свидетелей. «Я задыхался от воз-
мущения», – вспомнит он впоследствии. 31 октября (возможно, 1 ноября) 1517 года он
предъявил миру 95 тезисов об индульгенциях. Через месяц их будут читать по всей Гер-
мании. Спустя пять веков напишут: «Спор об отпущениях стал катализатором, иниции-
рующим фактором, который привёл Реформацию в движение» [Кюнг 2000, 221].
***
Юбилейные статьи (а также хрестоматии и учебные пособия по истории Германии)
могут склонить к мысли, что Тезисы Лютера представляли собой грозный манифест,
который взбунтовавшийся немецкий монах предъявил всесильному папскому Риму.
На деле они не таковы. По мерке немецкой богословской публицистики начала XVI в.
это, скорее, непритязательный и на редкость сдержанный документ. Говоря о состоянии
церкви, доктор Мартинус не позволяет себе даже того, что позволял, например, в «Лек-
циях по Посланию к Римлянам», где можно было прочесть: «Мы свидетели бедственного
состояния и осквернения Святой Церкви, разрушения и развала, худшего, чем любое
нашествие врагов» [Лютер 1997,190]. Там же отмечалось, что о злосчастиях церкви и по-
рочности её служителей «известно сегодня даже детям». У Лютера были основания это
утверждать после распространения, скажем, «Писем темных людей», содержавших базар-
но-площадное осмеяние немецкого и римского клира.
Даже недовольство «священной торговлей» как таковой (то бишь обменом небес-
ных сокровищ на «грязные деньги») не выглядит в Тезисах отменно дерзким. Лютер
хорошо знает, что он не первым его выражает, что оно уже звучало даже на церков-
ных соборах (например, Констанцском и Базельском). Он вовсе не намерен состя-
заться с Ульрихом фон Гуттеном, который уже не раз хулил торгующих во храме.
Другой существенный момент: Тезисы Лютера предназначались для университетско-
го, академического диспута и вполне соответствовали предусмотренному им формату. Они
представляли собой плакат, напечатанный на латыни, ибо «...таков был обычный способ
пригласить на дискуссию коллег по академическому цеху... Лютер вовсе не думал о том,
чтобы вовлечь в игру широкую общественность. Поэтому он оставил себе бульшую часть
напечатанных плакатов и лишь один из них переслал архиепископу в Майнц, а ещё
один – его ординариусу, епископу Иерониму в Бранденбург» [Zschäbitz 1967, 77]. Говоря
хорошо понятным нам языком, доктор Мартинус просто доложился своему орденскому
148
начальству. Знаменательно, далее, что в 1517–1518 годах «Лютер не покидал поля акаде-
мической дискуссии и не завербовал себя ни в одно из общественных объединений или
товариществ... никакой территориальной адресации его Тезисы не имели» [Ibid. 79].
И ещё одно важное свидетельство сдержанности и политкорректности доктора
Мартинуса, о котором непременно (и совершенно правильно) напоминают лютеран-
ские интерпретаторы Тезисов: «Лютер не хотел с их помощью ни строить новую цер-
ковь, ни предъявлять реформаторскую программу» [Ludolphy 1967, 5]. Более того,
автор Тезисов явно не претендует на создание хотя бы секты. Он нигде не объясня-
ется языком псевдопророков, прорицателей или врачевателей душ. «Тот, кто ищет
в Лютере душеспасителя, – иронически замечает по этому поводу И. Людольфи, –
должен обратиться к другим его сочинениям» [Ibid.] .
И вот вопрос (обозначу его как парадокс первого успеха Реформации) – вопрос, ко-
торый заново задает себе каждая новая историческая эпоха: как случилось, что пуб-
лицистически сдержанный документ, вполне соответствовавший формату академиче-
ской дискуссии и не содержавший никаких сектантских притязаний, в короткие сро-
ки вызвал небывалое по масштабу антипапистское оживление1
.
В начале ХХI века, когда так интенсивно обсуждается проблематика средств мас-
совой информации и формирования общественного мнения, мне хотелось бы начать
расшифровку этого парадокса с рассмотрения такого феномена, как удивительный
литературно-издательский успех Лютера.
Распространение Тезисов и сочинений, которые их комментируют, начинается с ти-
ражирования немногих печатных плакатов, которые Лютер отправил единомышленни-
кам2
. В декабре 1517 года Тезисы появились в Нюрнберге в немецком переводе, а в Базе-
ле – в формате брошюры. В начале 1518 года Лютер уже востребован и осаждаем десят-
ками издателей. С конца 1517 до конца 1521 года Лютер написал около 90 сочинений,
и уже тогда они выдержали более 700 изданий. К 1525 году число последних достигало
двух тысяч, к 1540-му имя Лютера будет значиться на титульных листах трети всех пуб-
ликаций, появившихся в немецких землях после 1520 года. К 1546-му (год смерти Мар-
тина Лютера) окажется, что с 1516 года его сочинения печатались в 75 городах Германии
и Европы и что в этом приняли участие 225 издателей (см.: [Benzing 1966, 86–89;
Joachimsen 1951, 127–129 ]). Такого история ещё не знала!
В 1522 году папский нунций Алеандр с тревогой и сокрушением доносил в пап-
скую канцелярию, что Лютера обсуждают повсеместно и что временами кажется,
будто его имя «провозглашают не только люди, но даже деревья и камни» (см.: [Го-
лубкин 1992, 6]).
Как же формировалась аудитория читателей и толкователей Виттенбергских тезисов?
Первыми читателями Лютера (читателями увлечёнными и признательными),
несомненно, были немецкие гуманисты. Уже в 1518 году он получит «приветы едино-
мышленников» от Эразма и Рейхлина, восторженное послание от Ульриха фон Гут-
тена, одобрение Лукаса Кранаха Старшего и альбом гравюр от Альбрехта Дюрера. За
этой литературно-художественной элитой стояло неформальное сообщество католи-
ков-диссидентов: десятки и сотни гуманистически настроенных священников и ми-
рян, связанных друг с другом сетью переписки. Личность и тексты доктора Мартину-
са стали постоянной темой их корреспонденции.
Ещё более многочисленная читательская аудитория Лютера – насельники немецких
монастырей. Уже в лютеровском «Разговоре о добрых делах» (1520) слышна мысль
о том, что Богу монастыри не нужны, что всё служение монахов – это адиафора,
а значит, такой дар, к которому его получатель равнодушен. Мысль эта, как молния,
ударила в немецкие монастыри. Тексты Лютера читались и обсуждались здесь с пре-
дельной страстью, раскалывая немецкое «чёрное духовенство» на две враждебные
партии. Одни готовили себя к тому, чтобы навсегда покинуть святые обители, другие
намерены были укреплять устои монашества в режиме непримиримого противостоя-
ния лютеровской ереси.
Третья читательская аудитория будущего реформатора (аудитория, с учёным автори-
тетом которой не могли не считаться ни гуманисты, ни крайне обеспокоенные
149
монахи) – это университеты. Первым в их ряду должен быть назван университет Вит-
тенберга: 95 тезисов об индульгенциях готовились для обсуждения именно на этой
арене. Диспут, на который приглашал Лютер, не состоялся, однако спустя полгода
Виттенбергский университет его всё-таки провел. Коллеги по теологическому цеху
поддержали лютеровскую критику «священной торговли», о чём вскоре стало известно
во многих городах Германии. Можно сказать, что с этого момента учёный Виттенберг
стал центром притяжения для теологов-оппозиционеров всех направлений.
В 1512–1518 годах состав его докторов и магистров обновился и расширился благода-
ря усилиям Георга Спалатина (секретаря саксонского курфюрста, приверженца и друга
доктора Мартинуса). К 1520 году под крыло Лютера-воспитателя соберутся Иоганн Аг-
рикола и Иоганн Бугенхаген (в будущем реформатор Дании), умелый дипломат, юрист
Юстус Йонас (с 1523 года ректор Виттенбергского университета), искусный полемист (по
оценке самого Лютера, «теолог от природы») Никлас Амсдорф. Первое же место в ряду
этих молодых подвижников, несомненно, должно быть отведено магистру Филиппу Ме-
ланхтону, прибывшему в Виттенберг в 1518-м с восторженными рекомендательными
письмами Эразма и Рейхлина. В 1521 году на его плечи ляжет главная тяжесть иниции-
рованной Лютером виттенбергской церковной перестройки.
В университетской аудитории Лютер не мыслил себя в качестве проповедник а
(глашатая уже готовой истины) и не был таковым (см.: [Соловьев 2018, 102]). Он вел
себя как воспитатель проповедников-сподвижников.
Кажется явной ошибкой причисление Лютера и «птенцов гнезда Лютерова»
к просветителям. Это действительно курьез, если речь идёт о «просвещении с боль-
шой буквы» – о наступлении «века Просвещения». Никто из соратников Лютера не
исповедовал культа разума и не пытался опереть своё мировоззрение на парадигмы и
методы постгалилеевской науки (её ещё и на свете не было). Иное дело, если слово
«просвещение» берётся не в его эпохально-историческом, а в повседневно-
разговорном звучании и смысле. В этом случае под просветителем понимается преж-
де всего тот, кто ответственно и успешно учительствует, освобождая от невежества
и добиваясь прояснения будь то ума, будь то веры. И если принять эту трактовку,
то придется признать, что и сам Лютер, и его всё умножающиеся приверженцы были
просветителями высшей пробы.
Реформатор и основанная им церковь сделали чрезвычайно много для обновления
и подъёма народного образования. Лютера не раз упрекали, что он просто зациклен
на этой задаче. Лютер, однако, не отставлял её до самой смерти. За его упорством
стоял осмысленный и высоко значимый мотив. Лютер желал и требовал, чтобы народ
был грамотен. Такова категорически обязательная «программа минимум» в его про-
ектах обустройства немецкой школы. Она признавалась всеми священниками, кото-
рые сперва подчинялись идейному авторитету Виттенберга, а затем – в значительной
своей части – делались лютеранскими пасторами.
Лютеровская программа всеобщей грамотности сопряжена с его замыслом перево-
да Священного Писания с латыни на немецкий язык. Читающий народ, о котором
мечтал доктор Мартинус, конечно же, был для него прежде всего народом, который
читает, обдумывает и обсуждает священные тексты. Этого требовал принцип «sola
scriptura», выстраданный молодым Лютером и отстаивавшийся им с энергией глубо-
кого персонального убеждения. Лютер сделал борьбу с безграмотностью и невеже-
ством народа категорическим императивом «пастырей новой формации», потому что
приобщение всех христиан к подлинному тексту Писания стало категорическим им-
перативом для него самого. Таков был фундамент «теологического просвещения»,
в которое включались и ближайшие соратники доктора Мартинуса, и ещё многие
священники-мартиниане.
Обратимся к замечательной работе Ю.А. Голубкина «Из любви к истине», опублико-
ванной в качестве послесловия к подготовленному им двухсотстраничному изданию со-
чинений молодого Лютера. Ключ к пониманию всей его жизни в 1517–1524 годах Юрий
Алексеевич видит в высказывании, прозвучавшем в зачине обращения «К христианскому
дворянству немецкой нации ...»: «Время молчания прошло и время говорить настало»
150
[Лютер, 1997, 11]. Фундаментальную настроенность людей своего времени Лютер пере-
живает и осмысляет, во-первых, как повсеместное неприятие режима заткнутых ртов; во-
вторых, – как повсеместное, пусть пока ещё робкое ожидание гласности (аналога этого
выразительного русского слова нет в языках, которыми владел Лютер, но, думается, его
смысл он сразу понял бы и принял с одобрением). Автор 95-ти тезисов заговорил имен-
но так: гласно, открыто, под спор, под обсуждения. Заговорил, но по началу не услышал
никакого подобного же, публичного отклика.
«Между последними раскатами голоса и откликом эха всегда бывает пауза, – пи-
шет Ю.А. Голубкин.
–
Голос Лютера очень быстро достиг самых отдалённых уголков
Германии. “Не прошло и четырнадцати дней, – писал современник Лютера, автор
«Истории Реформации» Фридрих Ликоний, – как тезисы облетели всю Германию,
а за четыре недели – почти весь христианский мир. Казалось, что ангелы разносили
их на крыльях и показывали людям”. Но люди читали тезисы и... молчали. Мысли,
высказанные Лютером, отвечали их сокровенным чаяниям, однако за долгие годы
папской тирании люди разучились и боялись говорить. Не ощущая действенной под-
держки, Лютер, по сути, в одиночку продолжал полемику в среде теологов» [Голуб-
кин 1997, 249]. Потребовалась ещё пара лет, чтобы в Германии и Европе зазвучали
голоса, которые можно назвать эхом на голос Лютера.
Кто же раньше всех ответил Лютеру по-лютеровски?
Это, конечно же, были профессора и магистры нескольких университетов: като-
лики-диссиденты, «лютеристы и гуманисты». Таковы Карлштадт и Меланхтон в Вит-
тенберге, Мартин Буцер и Виллибальд Пиркгеймер в Эрфуртском ун иверситете, Жак
Лёфевр из Этапля – в Парижском, Уильям Тиндейл и Роберт Барнс – в Кембридже
и ещё десяток других достаточно видных богословов (см.: [Скиннер 2018, 46–47, 50–
51]). Цитирование ими Лютера, как правило, содержало в себе компонент апологии,
что, однако, ни в коем случае не делало их апологетами. Никакого поддакивания и
потакания виттенбергскому авторитету университетские теологи-оппозиционеры не
допускали. «Лютеризм» предъявлялся миру как комплекс самостоятельных, незави-
симых, публично отстаиваемых позиций. Была хорошо понята важнейшая подспуд-
ная тема Виттенбергских тезисов, о которой я буду говорить в дальнейшем, – тем а
неправомочности папы как властителя. Однако трактовалась она по-новому, пре-
дельно широко – как вопрос о правомочии любых властей: власти Бога и апостолов,
папы и соборов, церкви и государства, императора и князей и далее – как вопрос
о правомочиях религиозных общин и лояльных подданных (см.: [Там же, 102]).
Можно сказать, что это был час рождения раннереформационной политологии. Её ли-
дером сразу был признан Меланхтон; её чаще всего используемым цитатником стала
статья Лютера «О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться» (1523) ...
Теологи, откликавшиеся на Лютера по-лютеровски, делались любимцами студен-
тов, а сам доктор Мартинус вскоре стал их кумиром. Как подметил Э. Эриксон, ин-
терес к имени и сочинениям Лютера раньше всего пробудился в тех городах Герма-
нии и Европы, где было много учащейся молодежи, обеспокоенной судьбами своего
поколения...
***
Широкая читаемость и растущий авторитет Мартина Лютера имели ещё одну уди-
вительную причину. Я имею в виду тенденциозность (а порой – некомпетентность и
просто глупость) его критиков и обличителей. Суть процесса, учинённого над автором
Тезисов, состояла в том, что католик-диссидент был принят, а затем выдан за еретика.
Лютер снискал симпатию и уважение прежде всего потому, что стойко и по-умному
сопротивлялся этой презумпции. «Я всего лишь инакомыслящий, – говорило всё его
поведение (его поступание, если вспомнить замечательный термин М.М . Бахтина).
–
Я не соглашусь на отречение от ереси, пока не буду опровергнут доводами Писания и
разума». Эти слова, которым суждено будет впервые прозвучать лишь в речи, произне-
сённой на рейхстаге в Вормсе, уже содержатся в поведении Лютера как подсудимого.
С другой стороны, поведение это может быть поставлено под девиз, содержавшийся
в преамбуле Виттенбергских тезисов: «Из любви к истине и стремления прояснить
151
её». Тезисы Лютера как текст были представлены Германии изданиями их немецкого
перевода. Тезисы как поступок предстали перед ней в позиции, мужественно выдержан-
ной Лютером в ходе бесславного «процесса о ереси», совершавшегося в 1518–1520 гг.
Процесс этот (а он, как уже неоднократно утверждалось и доказывалось, толкал
Лютера к ереси) кратко, но удивительно продуманно и точно обрисован Г. Кюнгом.
В судилище, учинённом над автором Виттенбергских тезисов, он выделяет два глав-
ных акта. Первый – это допрос кардинала Каэтана, который «...не снизойдя до тео-
логической полемики, просто поставил Лютера перед выбором: либо безоговорочное
отречение, либо арест и костер». Второй акт – «Лейпцигский диспут лета 1519 года,
где папский посланник, доминиканец Иоганн Экк замкнул всю полемику на про-
блему непогрешимости папы и собора», а затем, прибегнув к ловкому казуистиче-
скому жесту, выдал Лютера за «скрытого гусита». Ключевой вопрос Виттенбергских
тезисов, – вопрос о правомочности продажи отпущений был просто вытеснен из поля
зрения. «15 июня 1520 г. взгляды Лютера были осуждены специальной папской бул-
лой “Exsurge Domine” (“Восстань, Господь”). В Лувене и Кёльне доминиканцы с
одобрения курии жгли лютеровские сочинения. Будущий реформатор ответил на это
апелляцией к Вселенскому собору. Не получив ответа (и убедившись, что его просто
не могло быть) он совершил свою первую неоспоримо еретическую акцию, которая
сразу была вызывающей и сенсационной. 10 декабря 1520 г. в Виттенберге на пло-
щадке бывшего скотного двора Лютер предал огню “антихристову буллу” и руковод-
ства по папистскому каноническому праву (декреталии). В ян варе 1521 г. он получил
буллу с отлучением от церкви “Decet Romanum Pontificem” (“Гласит Папа Рим-
ский”)» [Кюнг 2000, 225 –227].
***
Теперь обратимся к тексту Тезисов, смысловая структура которого совсем не проста3.
Уже давно назревает признание того, что Тезисы Лютера могут быть разделены на
две категории текстов. Первые содержат адресацию-претензию к папскому Риму и тем
или иным способом указывают на недостатки существующей церкви; вторые обра-
щены к любому христианину, обеспокоенному глубинными проблемами теологии или
по крайней мере небезразличному к ним. Первые, полемически жесткие, обозначают
экзотерическую составляющую напряжённого лютеровского размышления; вторые –
заставляют задуматься о его эзотерии.
Выразительно экзотерическими по характеру являются тезисы 5–7, где речь идёт
о прощении грехов папой и священниками; 8–29, где отрицается власть папы над
судьбами тех, чьи души пребывают в чистилище; 41–52, где покупка индульгенций
сопоставляется с заботой о ближних; 81–90, где обсуждается практика проповедни-
ков и комиссаров «священной торговли». Во всех этих текстах присутствует компо-
нента иронии, обличительная сила которой шаг за шагом нарастает. Лютер хитрит:
делает вид, будто продажа индульгенций практикуется не по воле папы и епископов
и даже без их ведома. Он несколько раз повторяет формулу «папа не хочет и не мо-
жет», но в ней нетрудно расслышать уже хорошо знакомое нам cum grano salis.
В тезисах 42–51 ирония делается подчинённым элементом резонёрского бого-
словского текста. Все они начинаются с назидательного заявления: «Должно учить
христиан тому, что ...». Лютер требует, чтобы действующий глава римской церкви
мыслился как противник «священной торговли», – так и только так, пусть вопреки сви-
детельствам. Тезис 50 гласит: «Должно учить христиан: если бы папа знал о продел-
ках своих проповедников, он счёл бы за лучшее сжечь до тла храм Св. Петра, а не
возводить его из шкуры, мяса и костей [пасомых им] овец».
Лютеру, как и многим теологам, приглашаемым им на диспут, хорошо известно,
что строительство собора Св. Петра на средства, получаемые от продажи отпущения,
совершается по почину папы Юлия II и обеспечивается инструкциями, исходящими
от ближайшего окружения папы Льва X. Таково реальное положение дел, и доктор
Мартинус, если разобраться, просто блокирует его формулой «Тем хуже для фактов!»
(формулой Гегеля, девизом диалектического цинизма). Но нельзя не видеть ещё
152
и следующее: склоняясь перед догматом папской непогрешимости, католик -
диссидент одновременно порицает римского папу как жестокое чудовище.
Кричащая амбивалентность 42–51 -го тезисов получает разрешение в своеобраз-
ном дискурсе тезисов 81–90. Ирония Лютера поднимается здесь до прямых инвектив.
Однако предъявляются они не от Лютера лично, а от сознания мирян, которых прак-
тика индульгенций ввергла в «коварные вопросы» (тезис 81). Вот один из них, пожа-
луй, самый выразительный: «86. Почему папа, который ныне богаче Крёза, охотно
возводит храм Св. Петра не на свои деньги, а на деньги бедных верующих?»
Давно замечено, что все упрёки Лютера по адресу церковных злоупотреблений
как бы сюжетно замыкаются на этот текст. Декларативно заблокировав действующего
понтифика от всякой критики, Лютер – в финале своих Тезисов – дерзко укоряет
его устами мирян.
Но это ещё не самое существенное. Главное заключается в том, что Тезисы, обо-
значенные мной как экзотерические, тематически объединены вопросом о виновности
римского первосвященника. Вопрос этот с предельной точностью сформулировал Ганс
Кюнг: «По праву ли папа отпускает грехи?» [Кюнг 2000, 215]. Вопрос имеет в виду
папу как главу церковной власти, и именно это лежит в подтексте всех аргументов,
выдвигаемых Лютером против идеи и практики индульгенций. Методично, постав-
ленным голосом теолога-экзегетика Лютер разъясняет, что в любом из действий, ко-
торые инструкции об отпущениях запрашивают с папы, последний неправомочен, бо-
лее того – оказывается воплощением тотального неправия (Unrecht)4.
Этот мотив был скоро услышан (знаменательно, что раньше всего – противниками и
гонителями Лютера). Уже в феврале 1518-го в объяснительном письме Иерониму, епи-
скопу бранденбургскому, Лютер обращал внимание на то, что римская курия «...не тер-
пела никаких диспутов о власти церкви и папы и признавала [в отношении их] только
безмолвную верность и благоговение» [Luther 1983, 118]. Именно данное обстоятельство
предопределило напряжённость всей последующей полемики и непременное выявление
в ней самого дерзкого из предположений, таящихся в подтексте Тезисов.
Дело не просто в том, что действия папы, подчинившегося идее и практике «священ-
ной торговли», предстали здесь как не соответствующие ни заповедям Писания, ни даже
формулам канонического права (на это и до Лютера намекали многие). В свете Виттен-
бергских тезисов папа, позволивший себе подобное подчинение, оказывался церковным
правителем, который покушается на правомочия самого Бога. Папа, если договаривать до
конца, оказывался узурпатором небесной власти. Такого подозрения никто до Лютера не
обосновывал и на теологические диспуты не выносил.
Недостатка в осуждении папского самоуправства не было уже в XIV–XV веках.
Но подобная критика, как правило, провоцировалась теократическими амбициями
священного престола и имела церковно-административный, политический и прагма-
тико-экономический смысл. Доктор Мартинус проводит под эти осуждения подозре-
ние в кощунственном самоуправстве понтифика (не могу не заметить, – самое понят -
ное и впечатляющее для набожного христианина). Папа, практикующий индульген-
ции – это ультраволюнтарист, священнослужитель, который посягает на прерогативу
и могущество самого Вседержителя.
Именно здесь, в этом подозрении, заключена, на мой взгляд, главная взрывная
сила Виттенбергских тезисов.
Вместе с тем знаменательно, что ни в самих Тезисах, ни в примыкающих к ним
текстах (скажем, в письмах) Лютер ни разу не называет папу узурпатором. Он далёк
от дискурса антиклерикальных манифестов, он всего лишь подозревает. Он ещё наде-
ется, что папа искренне заблуждается и что его ещё можно вывести из заблуждения.
Для этого, однако, необходимы крайние меры, а именно:
а) обнажить чудовищность заблуждения;
б) дать понять, что значительная масса христиан (как священников, так и мирян)
уже догадывается об этой чудовищности;
в) предупредить (пусть не напрямую, пусть намёком), что недовольство и возму-
щение паствы может привести к антицерковному мятежу.
153
Осмелюсь даже утверждать, что в качестве автора тезисов Лютер грозит папе и кури-
альным теологам назревающим бунтом низов, хотя сам не желает его и страшится.
Комментаторы Тезисов (прежде всего представители либеральной и леворади-
кальной публицистики XIX века) всегда стремились отыскать в них приметы про-
грессистских упований – дух мобилизующей бодрости. Стремились... и не находили,
увязая в горьком, безрадостном тексте, который с полным основанием можно опре-
делить, как документ последней надежды.
Но если это так, то можно с уверенностью утверждать, что в Виттенбергских тези-
сах и последовавших за ними полемических сочинениях Лютер предвосхищает поли-
тическую позицию, которая в XVIII веке будет определена как отстаивание ради-
кальных реформ под угрозой революции (см. об этом: [Соловьев 1974, 224 –233]). Всту-
пив в публичную полемику с Римом, Лютер вынужден будет сказать, что первосвя-
щеннику и епископам мало отказаться от идеи и практики индульгенций. Им необ-
ходимо пойти на решительную перестройку всей организации упадочной, коммерци-
ализированной церкви, которая всего лишь позорно увенчивается беззастенчивостью
«священной торговли» в немецких землях. Автор Тезисов окажется перед задачей
продумывания целого комплекса проектных экклезиологических представлений
и примется за неё с энергией подвижника. Именно в проектах радикального церков-
ного обновления, осуществляемого «сверху», но корректируемого мирными – пусть
протестными, но не насильственными – действиями «низов», найдёт разрешение
предельно сложная мотивационная динамика Тезисов, где, как мы могли видеть, па-
радоксальным образом соединялись ирония и резонёрство, лукавство и прямота, по-
дозрительность и сервильная предупредительность.
С полной уверенностью и определённостью обновительные проекты Лютера будут
высказаны в 1520-м («звёздном») году, в сочинениях, составивших «реформаторскую
трилогию»: «К христианскому дворянству немецкой нации», «О вавилонском плене-
нии церкви», «О свободе христианина». В 1521 –1524 годах они станут теологической
платформой первой в истории церковной перестройки – Виттенбергской реформа-
ции – и в течение двух веков будут читаться как программные выражения следующих
новаторских начинаний:
а) утверждение принципа всеобщего священства (он предполагает, что каждый
приход свободно – демократически – выбирает своего пастора);
б) переосмысление церковных таинств;
в) «порядок общей кассы», определяющий элементарные условия повседневной
жизни протестантской приходской общины;
г) реформа университетского и, что особенно важно, общего образования (циви-
лизационно значимый проект обязательного начального обучения).
***
Споры об индульгенциях способствовали образованию особого рода превратных
представлений, особого ложного сознания. Германия, которая из-за политической слабо-
сти своей была районом наиболее интенсивной экономической экспансии папского Ри-
ма, стала воспринимать себя как страну с особой исторической миссией. Немцы видели
в себе христиан, которые, забыв о мирских конфликтах и раздорах, должны и могут объ-
единиться в протестный антиримский фронт. Казалось далее, что коль скоро немецкая
церковь будет выведена из-под диктата римской курии и папы, то в стране, с Божьей
помощью, начнётся благодатный обновительный процесс, непременно (пусть хоть в ма-
лой степени) нацеленный на идеалы социальной справедливости.
Мартин Лютер не свободен от этих обманчивых видимостей.
В предтезисные годы (скажем, в пору работы над толкованием апостольского «По-
слания к Римлянам») проблема национального единения Германии его просто не инте-
ресовала. Лютер был далёк от какого-либо этноцентризма и отстаивал вселенскую,
наднациональную и надрегиональную оппозицию: противостояние христианства
деятельной веры и христианства церквоугодных добрых дел; христианства вновь про-
читанного Евангелия и христианства церковного предания и догматов. Он, если
154
угодно, был близок в ту пору к девизу «Евангелисты всех стран соединяйтесь!». В его
95-ти тезисах нет ни одного, в котором хоть как-то дал бы о себе знать национал-
патриотический мотив.
Однако уже к 1520 году дело меняется. В сочинениях и проповедях всё чаще появля-
ются такие понятия, как «мы, немцы», «германская нация», «германская империя».
Вслушайтесь в название статьи, иногда именуемой «первым политическим манифестом
Лютера»: «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства».
Совершенно очевидно, что феодальная знать Германии признаётся здесь врачевателем
церкви и страны (нации), желанным лидером немецкого антипапистского единения.
Но надеется ли Лютер, что этот лидер поведёт Германию к миру и к благополучной жиз-
ни на евангельских началах? – Если и надеется, то не слишком. Слово «уповает» явно не
подходит для выражения его ожиданий. Более всего для них годится замечательное вы-
ражение Канта: «Это по крайней мере не невозможно». Полагаться на христианскую
доброту христианского дворянства Лютеру не позволяет его жизненный опыт и недю-
жинная экономическая компетентность5. В годы, когда надежды на благостное социаль-
ное обновление Германии, обусловленное её возможным антиримским единением, сде-
лались розовыми до утопизма, Лютер бросил несколько бескомпромиссных обличений
чудовищного имущественного неравенства и социальной несправедливости. Вместе с
тем, утопичных патриотических надежд на благостное правление христианского дворян-
ства Лютер не опровергает и не противится тому, чтобы глашатаи подобных надежд счи-
тали его своим союзником6.
Всё это следует принимать во внимание, рассматривая отношение Лютера к фор-
мированию прежде неизвестной Германии идеологии обновления, которая на короткое
время пригнала друг к другу и связала в единый комплекс социально разнородные
ожидания.
***
В идеологии этой можно выделить следующие основные очаги:
1) этно-патриотические надежды: мечты о близком единении всех немецких земель и
затухании конфликтов, обусловленных феодальной раздробленностью Германии;
2) надежду на мирное устранение хотя бы крайних форм социальной несправед-
ливости и внеэкономического принуждения («второго крепостничества»);
3) надежду на успешную перестройку немецкой церкви и превращение её в авто-
номную религиозную общину с выборными пасторами.
Где-то накануне печально знаменитого Вормсского рейхстага надежды эти приоб-
рели характер светлых упований: Германия, обеспокоенная сотериологически и со-
циально, погрузилась в состояние общей эйфории. Это выражение, до стыда и боли
понятное едва ли не каждому гражданину России, в сознательном возрасте прошед-
шему через перестройку 1985–1990 гг., совершенно адекватно фиксирует состояние
умов и сердец, в котором множество немцев пребывало в течение семилетия, после-
довавшего за обнародованием Виттенбергских тезисов. Сладкому недугу эйфории
были подвержены представители разных сословий, прослоек и статусов, и трудно
назвать общественную группу, которая лидировала бы в предъявлении и отстаивании
своих завышенных ожиданий.
Чем же обернулись эти надежды спустя полтора-два десятилетия? Состоялись ли
экклезиологические и социальные упования, разбуженные проектами общегерманской
протестной реформации? Я попытаюсь ответить на эти вопросы предельно кратко,
оставляя на будущее формулирование и разъяснение многих необходимых оговорок.
1. Только слепой мог бы не увидеть, что к тридцатым-сороковым годам XVI века
феодальные раздоры в Германской империи не только не затухли, но и разгорелись с
новой силой. Реформация усугубила их, позволив князьям, враждующим из полити-
ческого своекорыстия, сплачиваться в конфессионально оформленные объединения
и блоки. Отдалённым чудовищным итогом этого процесса станет конфронтация ка-
толической Лиги и протестантской Унии в цивилизационно-разрушительной Тридца-
тилетней войне (1618–1648) (см. [Философия эпохи ранних буржуазных революций
155
1983, 206–212]) и далее – Вестфальский мир, который «...признал существование
350 суверенных германских государств, каждое из которых имело право воевать с
другими и вести независимую внешнюю политику. Немецкий народ на сто с лишним
лет превратился в жертву грабежей и массового уничтожения, эпидемий и разрухи»
[Горби 2000, 502].
Призывы к объединению Германии не сразу сошли с политической сцены, но уже к
моменту первой из германских «религиозных войн» – Шмалькальденской (1546–1547) –
превратились в расхожие (зачастую лицемерные) фразы. Каждая из враждующих партий
настаивала на своём (единственно правильном) восприятии смысла и выгод общегерман-
ского единения: отстаивание последнего превратилось в противоборство католического
и протестантского толкования «истинно германского патриотизма».
2. Реформация, начавшаяся в Виттенберге, не вызвала никакого смягчения внеэко-
номического принуждения, никакого стыда в отношении вопиющего имущественного
неравенства. Оживилось, правда, граваминное движение (Gravamina – жалобы): отыски-
вались всё новые формулы просительных петиций, всё новые способы их ненасиль-
ственного продвижения и отстаивания (серьёзным успехом граваминного движения надо
признать «Меморандум», предъявленный императору в Вормсе в 1521 году) (см.: [Скин-
нер 2018, 89–90]). Всё это потонуло, однако, в терроре гражданской войны 1524–
1525 годов, обычно именуемой «Крестьянской».
Восстание немецких крестьян – крупнейшее за всю историю средневековой Западной
Европы – не может рассматриваться как порождение и следствие Реформации. Тракто-
вать его таким образом значило бы просто согласиться с подстрекательскими вердиктами
папского Рима. Важно понять, что крестьянская война была стихийно-катастрофическим
событием. Неофеодальные бесчинства загнали крестьян в бунт (в заведомо обречённый
«немецкий бунт», который никак не назовёшь осмысленным и щадящим). Движущей
силой повстанческого движения была ненависть к господскому грабежу и беспределу.
В будущее крестьяне устремлялись либо вслепую, либо в согласии с давними «катакомб-
ными» мечтаниями. Рецепты справедливого («праведного») общественного устройства
заимствовались из сектантских учений, появившихся ещё в XII–XIII веках. Речь шла
либо об уравнительном распределении, либо о полной общности имуществ, либо о кар-
навальной (но отнюдь не шуточной) «перемене ролей», когда бедняки делались господа-
ми, а господа ставились в положение бедняков.
Возрождению, а затем форсированию и огрублению давних рецептов справедли-
вости способствовал радикальный анабаптизм. По мере развития военных действий
(до какого-то момента успешных для крестьян) экспроприация и уравниловка вытес-
няли все другие представления о социальной справедливости, ещё обсуждавшиеся на
первой стадии повстанческого движения7.
Победа над повстанцами многократно усилила власть князей. Им достались цер-
ковные имения, захваченные восставшими крестьянами. В их казну поступали кон-
трибуции, наложенные на города, которые добровольно или по принуждению подчи-
нились восставшим. Что касается основного, крестьянского населения Германии,
то его угнетение сделалось ещё более тяжким. «Немалое количество более зажиточ-
ных крестьян разорились, многие зависимые крестьяне были насильн о обращены
в крепостных, были конфискованы новые обширные пространства общинных зе-
мель» [Маркс, Энгельс 1956, 432]. Повсеместно ужесточилось внеэкономическое
принуждение, умножились поборы, появились новые, ухищрённые формы эксплуа-
тации, зачастую подсказанные до срока родившимся финансовым капиталом.
Безрадостная история разрастания и поражения Крестьянской войны выявила
скрытую силу коммерциализированного феодализма. Обнаружилось (и это было зна-
чимо не только для Германии, но и для всей Европы), что установившийся порядок
господства не мог быть подорван попытками насильственных радикальных преобразо-
ваний «снизу», а мог лишь крепнуть и наглеть в подавлении этих попыток. Наступило
время застойного, изнурительного торжества торгашески-феодальной экономики.
И пробуждение от эйфории, которая опьянила Германию в начале 20-х годов, нигде,
156
пожалуй, не переживалось так тягостно и болезненно, как в хозяйственном опыте про-
столюдина, дожившего до 30-х .
3. Посмотрим теперь, что произошло с последим из обозначенных мною з авы-
шенных ожиданий, которые в общественном мнении непременно связывались с
именем Лютера и его Виттенбергскими тезисами. Напомню, что речь идет о надежде
на церковную перестройку, отвечающую принципу всеобщего священства.
В 1526 году Лютер заявил об отказе от ключевого тезиса виттенбергской реформа-
ции: церковная община есть автономное объединение верующих, которые сами вы-
бирают себе пастора. Одним из мотивов этого рокового акта было опасение, что по-
добные выборы открыли бы простор для главенства сектантов-псевдопророков, «меч-
тателей и смутьянов». Лютер по-прежнему отрицал правомерность существования
особого духовного сословия и считал общество всех верующих основой видимой
церкви. Существенно новым в его воззрении было, однако, то, что само это сообще-
ство понималось теперь не как вольный союз, не «соборно», а как реально наличное
территориальное и политическое единство, каковым в конце средневековья можно
было признать лишь единство подданных того или иного христианского государя. Далее
следовал решающий логический шаг: жизнь видимой церкви должна определяться
теми, кто заведует политической и всей мирской жизнью. Для условий Германии это
означало, что реальное управление новой церковью «как институтом с его аппара-
том» [Кюнг 2000, 241] будет предоставлено князю, который принял евангелизм и ока-
зывает ему покровительство в своих владениях. Князьям, соответственно, препоруча-
лось всё дело продолжающейся церковной реформы. Лютер советовал быть неспеш-
ными и умеренными в её осуществлении, не ломая традиции без крайней надобно-
сти. Одновременно он настаивал на том, чтобы князь-лютеранин предельно строго
относился к подвластной пастве, пресекая любые проявления послевоенного «духов-
ного одичания»8
.
За полтора-два десятилетия знатные покровители лютеранской церкви преврати-
лись сперва в её опекунов, а затем – в самоуправных распорядителей. Демократиче-
ская и либеральная тенденция, от начала присутствовавшая в виттенбергском проек-
те, была безжалостно пресечена.
Я обещал читателю воздержаться от оговорок. И все-таки одну из них я не могу
не высказать. «Смена курса», начатая Виттенбергом в 1525–1526 гг., несомненно,
представляла собой адаптацию новой церкви к упрочившемуся и ужесточённому
позднефеодальному господству. Но было бы неверно считать, что адаптация эта была
трусливым, прагматичным приспособленчеством. Виттенберг находился под постоян-
ной угрозой карательного, имперско-папского Крестового похода, и адаптивную
стратегию Лютера позволительно назвать «отважной дипломатией выживания».
В осуществлении последней виттенбергские реформаторы обнаружили стойкость и
мужество (качества, редкие для активных участников религиозных конфликтов, от-
личавших послевоенные годы). Лютеровский расчёт на поддержку князей, согласных
противостоять папе и императору, был трезвым, но не конъюнктурным, рискован-
ным, но как оказалось, дальновидным. Конфессия, которую пестовали виттенберг-
ские «мартиниане», не только выжила, но и всё шире распространялась по немецким
землям и по Европе. Уже при жизни Лютера «реформация сверху» (то есть по ини-
циативе князей) была проведена в Бранденбурге, Пфальце, Вюртемберге; Франкфур-
те. Ганновере, Страсбурге, Ульме и даже в герцогстве Саксонском, которое на мо-
мент опубликования 95-ти тезисов было едва ли не главной цитаделью католицизма.
Лютеранство проникло в Австрию и Северную Италию, стало доминирующим веро-
исповеданием в Ливонии и скандинавских странах, а Дания и Швеция сделались
вскоре первыми в Европе лютеранскими государствами.
Но вернусь к тому, что считаю самым существенным.
Свобода христианина, когда-то декларированная для каждого человека, признаю-
щего Священное Писание, в Виттенберге 30 -х годов стала трактоваться как княже-
ская свобода совести и выбора. «Свобода веры была низведена до принципа “cujus
regio, eius est religio” (“чья власть (земля), того и вера”)» [Кюнг 2000, 251]. Принцип
157
этот вскоре был использован для легитимации конфессионального раскола Герма-
нии, сравнимого с разделением христиан на католиков и православных.
Два лагеря, на которые раскололась страна, пребывали в состоянии идеологиче-
ской холодной войны. Ругань и компромат сделались основным дискурсом в спорах
Виттенберга и Рима. Поздний Лютер с гневным одушевлением выстраивает болез-
ненную конспирологию дьявола – концепцию сатанинского заговора против истин-
ной евангельской церкви, главарём-исполнителем которого является Папа-
Антихрист. Понятие догмата устраняется, но реформационная теология мало сказать
догматизируется: она обретает догматико-охранительный характер. Под подозрение
и преследование подводится всякий образ мысли, противоречащий духу её к онкорда-
тов. Как отчеканил ещё дореволюционный русский историк Н.И. Кареев: «Распро-
странению лютеранства сопутствует всё большее внутреннее его стеснение».
Упования начала 20-х годов подпадают под это стеснение раньше многих других
видов диссидентства, теперь уже – внутрилютеранского. Приверженность идее все-
общего священства – там, где она ещё сохранилась – делается опасной. Мечта о
внутрицерковной демократии, когда-то посеянная Виттенбергом, не просто более не
котируется, но выпалывается и выкорчевывается примерно теми же средствами, ка-
кими папская инквизиция обуздывала ереси.
Повело ли это к сколько-нибудь стойкому единомыслию, упрочению сплоченно-
сти и дисциплины? Оказалось, нет. В стеснённой, подцензурной, охранительно-
догматичной епархии Виттенберга свершалось пагубное дробление церкви на секты.
В Германии в ту пору, справедливо констатирует И. Гобри, католической церкви уда-
валось жить в режиме единомыслия (хотя бы и принудительного), тогда как позе-
мельные церкви лютеран страдали от перманентного раздора [Гобри 2000, 457]). Это
было крайне опасно для растлевающего послевоенного времени, отмеченного общей
деморализацией, хозяйственной апатией и возвратом к самым примитивным формам
суеверия и оккультизма. Церковь, объявившая себя «истинно евангельской», явно не
справлялась с этим беспощадным историческим вызовом. Обвинения в том, что она
перестала быть «домом, школой и матерью», раздаются всё чаще. И звучат они не
только из уст папистов. Казус в том, что самые гневные и нелицеприятные упреки
молодой лютеранской церкви предъявляет... Мартин Лютер. Его проповеди (теперь
уже достаточно редкие), а главное – письма, которые он рассылает церковному руко-
водству, переполнены обвинениями в недопустимой запущенности прихожан и (что
его особенно возмущает) – устрашающей безнравственности священников, назнача-
емых княжескими консисториями: они не дисциплинированны, склонны к полеми-
ческой болтовне, равнодушны к пасторской службе и подкупны.
Однако самое удивительное – это уничижительные самобичевания, которые позво-
ляет себе Лютер. В его беседах и речах, записанных разными свидетелями, содержат-
ся сокрушительные, парализующие раскаяния, которые можно было бы объединить
под рубрикой: я – реформатор-неудачник. Вот одно из них, пожалуй, самое значимое:
«Если бы всё можно было начать заново, то огромное большинство неисправимых
грешников я оставил бы под игом папы. Ведь учение Евангелия впрок им не идёт,
а только приводит к злоупотреблению свободой. Лишь истерзанным душой и отча-
явшимся до глубины совести стал бы я проповедовать исключительно евангельское
утешение... Проповедник не должен быть агнцем, каким был я, который не в шутку
верил в незлобие мира и полагал, что при первом же звуке Евангелия все соберутся
под его кров и примут его с восторгом» [Luther 1983, 276].
В 1537 году Лютер расскажет о случающихся с ним приступах отчаяния, когда с
уст срываются страшные слова: «Будь проклят день, когда я родился!» В 1538 -ом
сравнит себя с Иовом, восклицавшим: «Господи! Зачем я явился на свет?» . И доба-
вит: «Как было бы славно, если бы я не написал ни одной из своих книг!» (см.: [Гоб-
ри 2000, 450–455]). В 1545 -ом он назовет себя «дерьмом, застрявшим в заднице этого
греховного мира». В 1546-ом, за день до смерти, прибегнув к горькой самоиронии,
представит себя как пастора-экзегетика, который в течение обычной, скупо отмерен-
ной жизни вознамерился сделать то, что требует столетнего общения с паствой.
158
Лютер не стесняется в описании бедствий возглавляемой им церкви. Зачастую он со-
страдательно сопрягает их с бедствиями всей Германии, в которой он с известного момента
стал видеть главное, самим Богом отведенное ему мирское, политическое поприще.
Представим себе, что кто-то (ну, скажем, образованный пастор из Эйслебена, где
Лютер родился и где ему суждено умереть) сказал бы ему в ту пору, что виттенберг-
ская реформация зашла в тупик и что тупик этот как раз и есть бедственное состоя-
ние Германии. Мне думается, что Лютер едва ли стал бы против этого возражать,
хотя непременно добавил бы, что главным виновником неудач и бедствий, постиг-
ших как Виттенберг, так и всех немцев, является сам дьявол.
–
Но если это так, – спросил бы пастор, смущенно потупившись, –
...если
так,
то не было ли соблазном и тягчайшей ошибкой обнародование 95-ти тезисов об ин-
дульгенциях, которые подняли Германию на дыбы?
Лютер должен был бы сказать, что и сам так думает.
–
Но если так, то не следует ли немецкому народу, который терпит столь великие
невзгоды, завещать потомкам, чтобы те регулярно отмечали 31 октября как день скорби?
Стареющий Лютер и с этим бы согласился. Согласился, рыдая и непременно до-
бавив, что великие невзгоды следует терпеливо сносить и впредь.
***
Сокрушение Лютера во многом оправдано. И оно оказалось бы неоспоримым, если бы
Германия была единственной территорией, которую охватило реформационное движение.
Однако именно в те годы, когда Лютер то и дело впадал в идейно-политическое са-
моуничижение, стало видно, что Реформация представляет собой долгосрочное и общеев-
ропейское историческое событие. Новыми, все более жаркими её очагами делаются Цю-
рих, где решительно заявил о себе Ульрих Цвингли, Женева, подчинившаяся республи-
кански-теократическим притязаниям Жана Кальвина, и Страсбург, который всё чаще
откликается на оригинальную проповедь Мартина Буцера. Налаживаются интернацио-
нальные связи; намечаются первые проекты единого протестантского фронта.
Виттенберг не прочь быть старейшиной и верховодом этого шумного антипапист-
ского табора, но скоро обнаруживает, что задача организации «протестантского ин-
тернационала» ему доктринально чужда.
За дело берётся Кальвин: уже в начале 40-х годов он развёртывает поистине титани-
ческую работу по налаживанию постоянных контактов между различными протестант-
скими церквями и деноминациями, – контактов, совершенно независящих от того, ка-
ковы отношения между государствами, подданными которых являются члены этих церк-
вей и деноминаций. Работа Кальвина могла поставить под сомнение самоё модель отно-
шения церкви и государства, в таких муках рожденную Виттенбергом и с таким трудом
легитимированную в немецких княжествах. Лютер понимает это; его отношения с ино-
земными соратниками по евангелизму становятся все более напряженными.
Но вот что знаменательно: тексты раннего Лютера, которые он сам временами го-
тов предать проклятию, почитаются и живо обсуждаются в аудиториях Цюриха, Же-
невы и Страсбурга. 95 тезисов почитаются здесь как один из символов всего еванге-
лизма, а сочинения доктора Мартинуса, разъясняющие и эксплицирующие этот до-
кумент, воспринимаются как долгосрочные нравственные наставления. И восприятие
это сохранится в течение почти двух столетий. В самые трудные, самые критические
моменты своей истории Реформация будет припадать к теологии молодого Лютера,
как Антей к земле.
Свой анализ Виттенбергских тезисов как текста я начал с различения экзотерии и
эзотерии. Тезисы, отнесённые мною к разряду экзотерических, объединены – что мне,
надеюсь, удалось показать – вопросом: «По праву ли папа отпускает грехи?». Будучи
продуманы в их совокупности, они вызывают подозрение в узурпации папой божествен-
ных правомочий. Это подозрение было расслышано политически ангажированной ауди-
торией Лютера и воспринято как санктификация самых решительных антипапистских
настроений и действий. Стало возможным ожидание того, что освобождение Германии
от идейного и политического произвола понтифика-узурпатора бескровно и достаточно
159
быстро приведет её к благополучной жизни на евангельских началах. Это ожидание было
сперва сломлено, а затем сметено крестьянским восстанием, феодально-княжеским по-
давлением восстания и последующей (теперь уже конфессионально оформленной) реги-
ональной междоусобицей. Таким оказался, если угодно, ближайший исторический резуль-
тат воздействия Тезисов на общественное сознание. Он позволял говорить о полном
иссякании их реформационного потенциала (парализующее разочарование, постигшее
Лютера в 30–40 -х годах, в конце концов, именно это и выражало).
Данный вывод был бы вполне оправдан, если бы Виттенбергские тезисы не таили
в себе ещё и глубинных эзотерических смыслов, обозначившихся уже в теологических
исканиях 1513–1516 годов. Сохраняющийся общеевропейский интерес к этому доку-
менту и символу неслучаен. Он свидетельствовал о том, что искания молодого Люте-
ра были созвучны исканиям второго этапа Реформации, когда одним из главных ста-
нет вопрос о христианском достоинстве семьи, труда, предприимчивости, граждан-
ской ответственности и уважения к праву.
Об этом дальнодействии Виттенбергских тезисов Мартина Лютера я надеюсь рас-
сказать в третьей части моего очерка.
Примечания
1 Не претендуя на обстоятельное описание этого оживления, приведу характеристику по-
следнего, которая, на мой взгляд, была и остаётся одной из лучших. «Тезисы тюрингенского
августинца, – писал Ф. Энгельс, – оказали воспламеняющее действие, подобное удару молнии
в бочку пороха. Многообразные, взаимно перекрещивающиеся стремления рыцарей и бюргеров,
крестьян и плебеев, домогавшихся суверенитета князей и низшего духовенства, тайных мисти-
ческих сект и литературной – ученой и бурлеско-сатирической – оппозиции нашли в этих те-
зисах общее на первых порах, всеобъемлющее выражение и объединились вокруг них с порази-
тельной быстротой. Этот сложившийся за одну ночь союз всех оппозиционных элементов, как
бы недолговечен он ни был, сразу обнаружил огромную мощь движения и тем ещё больше
ускорил его развитие» [Маркс, Энгельс 1956, 392].
2 История создания, оглашения и распространения Тезисов изучается давно и дотошно. Уже
в середине XIX в. казалось, что здесь сделано всё возможное. Однако впоследствии
обнаружилось, например, что поначалу тезисы не были нумерованы. В 1967–1968 гг. случилась
сенсация. Историк Эрвин Изерло подготовил две публикации: одна назвалась «Прибитие
Тезисов. Факт или легенда?» [Iserloh 1967], другая «Никакого прибития Тезисов не было»
[Iserloh 1968]. Автор достаточно убедительно доказывал, что на дверь виттенбергской Замковой
церкви, где латинский текст 95-ти тезисов Лютера навеки отлит из бронзы, ни он сам, ни его
ассист Иоганн Агрикола текста этого не приколачивали.
3 Текст 95-ти тезисов опубликован в первом томе Веймарского собрания сочинений Лютера
[Luther 1883–2007, I, 233–249]. При цитировании страницы обычно не указываются.
Приводится просто номер тезиса.
4 Ю.А. Голубкин проницательно замечал: «До Лютера критика индульгенций была
моральной, у Лютера она стала экзегетической: практика индульгенций порицалась им за её
явное несоответствие Писанию» [Голубкин 1992, 250]. Но что, по мнению Лютера, было самым
очевидным, самым вопиющем в этом несоответствии? Как нетрудно увидеть – сомнение
в правомочиях церкви и папы, которым подостлана вся его критика «священной торговли».
Экзегетика Лютера, какой она задействована в Тезисах, обладала удивительным теоретико -
правовым потенциалом. Сам Ю.А. Голубкин признал это в следующей, чрезвычайно важной для
него констатации: «...в тезисах Лютера было поставлено под сомнение право папы и папской
курии единовластно решать вопросы христианского вероучения и культа» [Там же, 248].
5 Эта тема давно привлекает внимание лютероведов. Впервые она была обозначена и продумыва-
лась Марксом, который назвал Лютера «первым немецким политэкономом». Назову три сочинения,
в которых экономические взгляды немецкого реформатора живо обсуждаются. Это книги Гюнтера
Фабиунке «Лютер как политэконом» [Fabiunke 1962], Герхардта Брендлера «Мартин Лютер. Теология
и революция» [Brendler 1983] и А.В. Перцева «Почему Европа не Россия?» [Перцев 2005, 170–210].
В последней из них – оригинальном исследовании с задорным названием – показано, что первый
интерес Лютера к экономическим отношениям приходится как раз на момент подготовки им 95-ти
тезисов об индульгенциях. Лютер в те дни – «викарий деканата», который недавно вернулся из ре-
визорской поездки по 11 августинским монастырям, находящимся в его ведении, и обременён адми-
нистративно-хозяйственными заботами.
6 Именно таково отношение Лютера к рыцарскому патриотизму Ульриха фон Гуттена
и Франца фон Зиккингена. Понимая, что оба – романтики, и отказавшись от сотрудничества с
ними, Лютер вместе с тем не возражает, когда они именуют его своим союзником.
160
7 Таковы «Двенадцать статей», удивительный документ первого этапа войны (южная Германия).
Это, по сути, крестьянские гравамины, предъявленные под угрозой революционного насилия.
На втором этапе войны (срединная Германия), когда восстание возглавят радикальные ана-
баптисты (перекрещенцы), его социальная про ективность сойдет на нет. Анабаптисты будут
руководить восстанием в ожидании гарантированного скорого прихода тысячелетнего царства
досуга и блаженства, когда Христос сойдет на землю и сделает за людей всё необходимое для
общего блага. Последняя социальная задача, которая ещё остается за вновь крестившимися –
это разрушение существующего порядка власти и собственности.
К лидерам анабаптизма Лютер от начала испытывал антипатию едва ли не большую, чем к
куриальным теологам. Ему претила их тяга к беспределу, а также их пророческое самомнение и
культ пророка, который они насаждали.
Лютер немало говорил о близости Последнего Суда, имея в виду прежде всего повсеместно
ощущаемую внезапность смерти. Что касается пришествия земного Царства Христова, то Лютер
видел в нём событие, целиком находящееся во власти Бога и для нас, людей, по времени неис-
числимое. Встречать Царство Христа разрушительным мятежом представлялось ему очевидным
кощунством. Ожидая прихода этого Царства, надо терпеливо переустраивать самих себя, а не
ломать неизбежно несовершенное общественно-политическое устройство.
8 Предполагалось, что князья, получившие статус «светских епископов от Бога», предоставят
надзор за церковной жизнью особым суперинтендантам, а эти последние будут назначать при-
ходских священников. С середины 30-х годов место суперинтендантов заняли так называемые
княжеские консистории, осуществлявшие судебную и административную власть над приходами.
Не могу не напомнить, что в 1703 г. Петр I заимствовал лютеранскую (а точнее,
лютеранско -англиканскую) модель церковного устройства. Патриаршество в Ро ссии было
отменено, государь стал почитаться главой православной церкви, а заведование её делами
поручалось Святейшему правительствующему синоду.
Источники и переводы – Primary Sources and Russian Translations
Гейне 1994 – Гейне Г. К истории религии и философии в Германии. М .: Прогресс [Heinrich,
Heine J., Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland (Russian translation 1994)].
Лютер 1996 – Лютер М. Лекции по «Посланию к Римлянам». Минск: ПИКОРП, 1996 [Lu-
ther, Martin, Römerbrief-Vorlesung (Russian translation 1996)].
Маркс, Энгельс 1956 – Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2 -е изд., Т. 7 . М .: Государственное
издательство политической литературы, 1956 [Marx, Karl, Engels, Friedrich, Collected works (Rus-
sian translation 1956)].
Benzing, Josef (1956) Lutherbibliographie. Verzeichnis der gedrückten Schriften Martin Luthers bis zu
dessen Tod, Baden-Baden.
Joachimsen, Paul (1951) Die Reformation als Epoche der deutschen Geschichte, R. Oldenbourg,
München.
Luther, Martin (1883–2009) Dr. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Aus-
gabe), H. Böhlau Nachfolger, Weimar.
Luther, Martin (1983) Martin Luthers Hausbuch. Der Mensch, Reformator und Familienvater – in
seinen Liedern, Sprechen, Tischreden und Briefe, Gondrom, Beyreuth.
Ссылки – Reference in Russian
Гобри 2000 – Гобри И. Лютер. М .: Молодая гвардия. 2000 .
Голубкин 1992 – Голубкин Ю.А. Из любви к истине // Мартин Лютер. Время молчания про-
шло. Избранные произведения 1520 –1526 / Пер. с нем . Ю .А. Голубкина. Харьков: Око, 1992.
С. 231 –344 .
Кюнг 2000 – Кюнг Г. Великие христианские мыслители. СПб.: Алетейя, 2000
Философия эпохи ранних буржуазных революций 1983 – Философия эпохи ранних буржу-
азных революций // Под ред. Т .И .Ойзермана. М.: Наука, 1983.
Перцев 2005 – Перцев А.В . Почему Европа не Россия? Как был придуман капитализм. М .:
Академический проект, 2005
Скиннер 2018 – Скиннер К. Истоки современной политической мысли. В 2 тт. Т . 2 . Эпоха
Реформации / Пер. с англ. А .А. Яковлева. М .: Дело, 2018.
Соловьев 1974 – Соловьев Э.Ю. Теории общественного договора и кантовское моральное
обоснование права // Философия Канта и современность / Под ред. Т.И. Ойзермана. М .:
Мысль, 1974. С . 184 –235.
Соловьев 2018 – Соловьев Э.Ю . Молодой Лютер и его Виттенбергские тезисы. Часть
первая // Вопросы философии . 2018, No12. С . 94–110 .
161
References
Brendler, Gerhardt (1983) Martin Luther. Theologie und Revolution, DVW, Berlin.
Fabiunke, Günter (1963) Martin Luther als Nationalökonom, Akademie-Verlag, Berlin.
Gobry, Ivan (1991) Martin Luther, La table ronde, Paris (Russian translation).
Golubkin, Yurii A. (1992) “For the love of truth”, Martin Luther. The time of silence has passed. Se-
lected works 1520–1526, Oko, Kharkov (in Russian).
Iserloh, Ervin (1967) “Luthers Thesensanschlag. Tatsache oder Legende? “ Trierer theologische Zeit-
schrift, No70, SS. 309–321.
Iserloh, Ervin (1968) Luther zwischen Reform und Reformation. Der Thesenanschlag fand nicht statt ,
München.
Küng, Hans (1994) Große christliche Denker. Piper, München (Russian translation).
Ludolphy, Ingetraut (1967) Die 95 Thesen Martin Luthers, Evangelische Verlagsanstalt, GmbH, Berlin.
Pertsev, Aleksandr V. (2007) Why Europe is not Russia? Uralskii rabochii, Ekaterinburg (in Russian).
Philosophy of the early bourgeois revolutions (1983), Oizerman, Teodor (Hg.), Nauka, Moskow (in
Russian).
Skinner, Quentin (1978) The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 2: The Age of Refor-
mation, Cambridge University Press, Cambridge (Russian translation).
Soloviev, Erich Yu. (1974) “Theories of social contract and Kant's mo ral justification of law”,
Kant's Philosophy and modernity, Mysl, Moscow, pp. 184 –235 (in Russian).
Soloviev, Erich Yu. (2018) “Young Luther and His Ninety-five Theses. Part 1”, Voprosy Filosofii,
Vol. 12 (2018), pp. 94–110 (in Russian).
Zschäbitz, Gerhard (1967) Martin Luther. Grösse und Grenze, Teil 1 (1483 – 1526), DVW, Berlin.
Сведения об авторе
СОЛОВЬЕВ Эрих Юрьевич –
доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник Института
философии РАН.
Author’s information
SOLOVIEV Erich Yu. –
DSc in Philosophy, Professor, Principal Re-
searcher of the Institute of Philosophy, Rus-
sian Academy of Sciences.
162
Шеллинг в прочтении Керкегора: историческое введение*
Часть II
Тонни Огор Олесен
Не стоит подробнее вдаваться в это, посколь-
ку, помимо моего собственного взгляда, ничто
не удерживает меня здесь [Кьеркегор 2010, 138].
Вернувшись из Берлина, Керкегор все силы бросил на дописывание «Или – или».
20 февраля 1843 г. книга увидела свет. Тотчас же после этого он начал сочинять фи-
лософскую сатиру «Йоханнес Климакус, или De Omnibus dubitandum est», в которой
о Шеллинге нет ни слова. Хотя этот интеллектуальный опус остался незаконченным,
он пробудил в Керкегоре размышления о категории повторения.И в мае 1843 г. Кер-
кегор снова отправился в Берлин – на этот раз на месяц (1). Оттуда он привез пер-
вый вариант повести «Повторение» и черновики «Страха и трепета»; обе эти вещи
были изданы 16 октября 1843 г. (2). Затем Керкегор приступил к работе над тракта-
том, в котором больше всего заметно влияние Шеллинга, – «Понятие страха». И па-
раллельно в начале 1844 г. взялся за другую книгу; обе – «Понятие страха» и «Фило-
софские крохи» – вышли в середине лета того же года. В кратком полемическом тек-
сте под названием «Предисловия», изданном одновременно с «Понятием страха»,
влияние Шеллинга также не ощущается; не заметно оно и в большой книге «Стадии
на жизненном пути», опубликованной 30 апреля 1845 г. (3). А в «Заключительном
ненаучном послесловии», обнародованном 28 февраля 1846 г., Керкегор развил темы,
намеченные в первых вариантах «Философских крох», сведя множество разнообраз-
ных идей к единому авторскому замыслу.
Итого за без малого четыре года он написал восемь книг. И в придачу еще семь
сборников, состоящих из 21 назидательной беседы. При обсуждении вопроса о шел-
линговском влиянии их в принцип, тоже можно опустить (4). Но одновременно
с публикациями Керкегор вел дневники и записные книжки – и вот тут встречаются
ссылки на Шеллинга.Что же касается работ, созданных после 1846 г., в них нет яв-
ных упоминаний философа, хотя в какой мере его присутствие ощущается, к приме-
ру, в трактате «Болезнь к смерти» (1849 г.) – вопрос открытый (5).
Степень влияния Шеллинга на Керкегора установить непросто. Сейчас мы попы-
таемся прояснить это хотя бы частично, рассмотрев, прежде всего, непосредственную
реакцию публики на лекции Шеллинга и мысли Керкегора по этому поводу. Иначе
говоря, разберем то, что относится к керкегоровским штудиям Шеллинга в узком
смысле. А затем проследим явные отсылки к Шеллингу в наследии писателя, то есть
сделаем обзор тех мест в книгах, дневниках и записных книжках Керкегора, в кото-
рых Шеллинг назван прямо.
А. Керкегоровская рецепция Шеллинга
Произведения Шеллинга у Керкегора в библиотеке имелись. Можно лишь дога-
дываться, когда и как они туда попали, но если вспомнить, что до первой берлин-
ской поездки Керкегор не проявлял большого интереса к Шеллингу, книги были
*
Перевод выполнен по изданию: Olesen, Tonny Aagaard (2007) “Schelling: a historical in-
troduction to Kierkegaard’s Schelling”, Kierkegaard and His German Contemporaries, Tome I,
Philosophy, Ashgate, Aldershot, Burlington, pp. 229–265 (Kierkegaard research: sources, recep-
tion and resources, vol. 6). Записи Керкегора переведены по изданиям: [SKS; Pap.]. Цифры
в круглых скобках отсылают к примечаниям Т.О . Олесена.
Перевод публикуется с любезного разрешения издательства Taylor & Francis. With per-
mission from Taylor & Francis.
163
приобретены, скорее всего, во время или после поездки в Берлин. Среди них – переведен-
ная Беккером работа Кузена 1834 г. со знаменитым предисловием [Cousin 1834] (ASKB
471) – которое, впрочем, у Керкегора нигде не упоминается. Был там также том «Philoso-
phische Schriften» 1809 года (ASKB 763) (6), содержащий, среди прочего, единственное су-
ществовавшее при жизни Керкегора издание «Исследований о сущности человеческой
свободы». Этот трактат разбирают всегда, когда заходит речь об отношении Керкегора к
Шеллингу. Назовем также «Лекции о методе университетского образования» (ASKB 764)
(7), приобретенные, вероятно, в связи с лекциями Маргейнеке, в которых часто цитируется
эта работа. Имелось и второе издание диалога «Бруно» 1842 г. (ASKB 765) (8), включенного
в 12-ую лекцию самим Шеллингом. Естественным выглядит и то, что Керкегор купил из-
дание первой берлинской лекции Шеллинга (ASKB 767) (9), а также «Посмертные сочине-
ния» Стеффенса 1846 г. с его предисловием [Schelling 1846] (ASKB 799).
Напротив – удивляет отсутствие в керкегоровской библиотеке «Системы трансцен-
дентального идеализма» (1800 г.), при том что сам Шеллинг ссылался на эту книгу в 7-ой
лекции; не было и «Изложения моей философской системы» 1801 г., упомянутой в 10-ой
лекции и малодоступной для широкой публики (см.: [Schelling 1800–1801, iii-xiv, 1–
127]).Непонятным кажется и то, почему Керкегор не приобрел «Философию и религию»
(1804 г.), фигурировавшую в 12-ой лекции и сыгравшую важную роль в истории ранней
рецепции Шеллинга в Дании. Но что кажется особенно странным – так это отсутствие
«Памятник сочинению “О божественных вещах” господина Фридриха Генриха Якоби и
предъявленному в нем обвинению в намеренно вводящем в заблуждение, лживом атеиз-
ме» (1812 г.) – книги, которая могла обсуждаться в 14-ой лекции и была посвящена ав-
тору, столь близкому Керкегору по духу. И наконец, примем, как говорится, ad notam,
что и анализ мифологии и философии религии в работе «О самофракийских божествах»
(1815 г.) также не заинтересовал писателя.
В Берлине Керкегор, надо полагать, приобретал много разной литературы, но нам
известно лишь про «Критическое изложение гегелевской системы» Карла Розенкран-
ца (10), содержащее статьи о новом шеллингианстве 1830 -х гг., а также про книгу
Адольфа Хелффериха «Христианская мистика в её развитии и в её памятниках» (11),
наводящую на мысль, что Керкегора заинтересовала бесспорно близкая Шеллингу
проблема христианского мистицизма. Понятно и то, почему он приобрел второй том
«Энциклопедии философских наук» Гегеля, вышедший в декабре 1841 г. Введение
Михелета содержало нападки на Шеллинга, поэтому, как и многие другие, Керкегор
ждал, что тот выступит с кафедры с ответной речью (12).
Что касается самих лекций Шеллинга, в газетах, журналах и прочей периодике
1842–1846 гг. велись оживленные дискуссии на эту тему – а правильней сказать, по-
лемика (13). Неизвестно, хорошо ли знал Керкегор все эти коллизии, но некоторые
статьи, безусловно, могли привлечь его внимание. Из потока публикаций 1842 г. осо-
бо выделялись работы Иоганна Карла Глазера и Фридриха Энгельса (14). И хотя
Керкегор их, скорее всего, не читал, он мог составить о них представление по книге
Маргейнеке, к которой мы еще вернемся. Готтхильф Гайне, подготовивший презен-
тацию 1-ой лекции Шеллинга для «Ежегодника немецких университетов» [Heine
1842, 1 –24], отнесся к берлинскому дебюту философа более сочувственно, но обра-
тил ли на нее внимание Керкегор, тоже неизвестно. Хотя в поздние годы он – воз-
можно, в связи с растущим интересом к Шопенгауэру – много читал Юлиуса
Фрауэнштедта (что подтверждает его библиотека (15)), ничто не указывает на то, что
он видел его книгу «Лекции Шеллинга в Берлине» с конспектами самих лекций
[Frauenstädt 1842].Никак не отметил Керкегор и вышеупомянутую работу Г.Э.Г. Пау-
люса 1843 г.; то же самое относится и к небезынтересной пу бликации предполагае-
мого автора конспектов – Алексиса Шмидта (16).
Но едва в свет вышла книга Филиппа Маргейнеке «К критике гегелевской фило-
софии откровения», Керкегор тотчас купил ее, чтобы вскоре использовать в «Поня-
тии страха» (17). Маргейнеке начинает с критики последних философских идей
Шеллинга, рассматривает основные категории его учения и завершает работу оцен-
кой результатов, к которым приходит философ. Другим автором, за которым следил
164
Керкегор, был гегельянец Карл Людвиг Михелет (18). Впрочем, обш ирную критику
Шеллинга, предпринятую Михелетом в 1843 г., Керкегор пропустил (19). Работы,
раскрывающие отношение современников к Шеллингу, выходили и в 1843 г. (20),
и после (21). Но так как у нас нет свидетельств, что Керкегор знал эту критику, от-
ставим ее в сторону и рассмотрим лишь тех авторов, чьи построения больше всего
повлияли на Керкегора.
Таким многогранным писателем был упомянутый выше Карл Розенкранц, интерес
к которому у Керкегора возник еще во время первой берлинской поездки. В 1843 г. у Ро-
зенкранца вышло две работы – «О Шеллинге и Гегеле: открытое письмо Пьеру Леру», ко-
торую Керкегор нигде не упоминает, и лекционный курс «Шеллинг» (22), мгновенно
ставший классикой и тотчас же приобретенный Керкегором и проштудированный. В нем
последовательно рассматриваются философские идеи Шеллинга в том виде, в каком они
были изложены самим философом в опубликованных произведениях. О позднем Шеллин-
ге там говорится мало, поскольку на тот момент его тексты еще не были изданы. И когда
Керкегор в некоторых случаях ссылается на работы Шеллинга – например, в «Понятии
страха» и в записных книжках, – он прямо называет Розенкранца в качестве первоисточ-
ника. Что именно Розенкранц был тем автором, у которого Керкегор почерпнул большую
часть своих знаний о Шеллинге, включая оценку «Исследований о свободе», сомнений
нет. Но тогда возникает вопрос: читал ли Керкегор книги самого Шеллинга? Как это дока-
зать? Вопрос чрезвычайно важный, поскольку большинство исследователей, пишущих о
керкегоровской рецепции Шеллинга, до сих пор основываются на допущении, что по
крайней мере «Исследования о свободе» Керкегор знал по первоисточнику.
B. Прямые ссылки на Шеллинга
В «Или – или» – первой книге Керкегора, изданной под псевдонимом и написан-
ной именно тогда, когда ее настоящий автор слушал Шеллинга, сам Шеллинг почти не
слышен. К нему отсылает лишь одно место в «Эстетической значимости брака», где
говорится о диалектическом и историческом развитии эстетически прекрасного как
движения от категории пространства к категории времени:«В этом и заложен сам
переход, равно как и значение перехода от скульптуры к живописи, – на что уже ранее
указывал Шеллинг» [Кьеркегор 2011, 611]. Здесь усматривают отсылку к лекции Шел-
линга «Об отношении изобразительных искусств к природе» (см.: [SKS KII–III, 295]
с отсылкой к [Schelling 1809, 364f.]).Может быть, Керкегор читал эту работу, поскольку
она была в его библиотеке, а может, лишь держал ее in mente, однако исключать, что
эту расплывчатую цитату он позаимствовал из другого источника, тоже нельзя. Поми-
мо этого в «Или – или» комментаторы находят еще две вероятные аллюзии на Шел-
линга (23). Мы же отметим одно темное место – недатированную пометку на полях
авторского экземпляра «Или – или» рядом с выражением «actiones in distans» из
«Дневника обольстителя»: «См. с. viii предисловия к тому “Шеллинг”, изданному Ро-
зенкранцем в 1843» [Pap. IV A 232]. У Розенкранца, действительно, проводится связь
между поздней философией Шеллинга и шопенгауэровским использованием «идеаль-
ного actio in distans».
Еще до поездки в Берлин, готовя магистерскую диссертацию, Керкегор много читал
Платона – особенно диалоги, в которых изображается исторический Сократ. Вернув-
шись из поездки, он принялся систематически штудировать историю философии и изу-
чил не только позднего Платона, но и, сверяясь со ставшей уже классикой «Историей
философии» Теннемана (1798–1819), Аристотеля, стоиков и скептиков. Метафизику эпо-
хи схоластики он, правда, опустил. Но Декарта, Спинозу и Лейбница освоил по первоис-
точникам. В Записной книжке No 13 (1842–1843), где обсуждается трактовка Аристотеля
у Теннемана, Керкегор осмысляет понятие так называемой prote philosophia, делая по-
метку: и Аристотель, и позднейшая философия смешивали онтологию и теоло-
гию.И далее на полях: «Шеллинг в Берлине настаивал, что именно логика должна со-
ставлять prote philosophia. См. мой конспект» (Not13:27a) [SKS 19, 394; JP 5, 5599]. По-
скольку аристотелевское различение первой и второй философии играло важную роль в
лекциях Шеллинга, интересно было бы разобраться, не с подачи ли Шеллинга в Кер-
кегоре
пробудился интерес к философской классике вообще.Быть может, именно его
165
введение в историю философии подтолкнуло Керкегора к тому, чтобы с головой уйти в
эту тему.
В центре философских размышлений Керкегора всегда стояла проблема движения
и отношения движения к мысли – иначе говоря, к логике, системе имманентного.
Она фигурирует в нескольких псевдонимных произведениях, но впервые глубоко
продумана в «Повторении». В этой небольшой повести нет не только прямых ссылок
на Шеллинга, но даже косвенных отсылок к его мысли. Однако когда в напечатан-
ном в «Урании» трактате «Астрономический год» (1844) Йохан Людвиг Хейберг упо-
мянул «Повторение», он поставил автору на вид, что тот пытается применить «дви-
жение» к «сфере духа», тогда как, по мнению Хейберга, его настоящее место – об-
ласть философии природы [Heiberg 1861–1862, 70f.] . Задетый за живое, Керкегор тот-
час же сел писать сатирическую ремарку в адрес критика (так никогда и не опубли-
кованную, несмотря на ее достаточный объем). Но для нас интересно, что в создание
этого неизданного опуса внес свою лепту и Шеллинг.
Как пишет Керкегор, движение от возможности к действительности неосмысляе-
мо в пространстве логики. Оно осуществляется лишь в «области свободы», и этот
важный момент понял уже Аристотель:
Аналогично, движение играет важную роль во всей философии Шеллинга,
причем не только в философии природы (stricte sic dicta), но также и в филосо-
фии духа, во всей его концепции свободы. Однако величайшая трудность состо-
ит для него в том, как включить в нее движение. И, к чести Шеллинга, он дей-
ствительно хочет включить движение в свою концепцию, и притом без всех этих
ухищрений, посредством которых движение получает свое место в гегелевской
логике – тем самым усугубляя путаницу, поскольку значение движения в логике
преувеличивается, а вне логики – сводится почти к нулю. Повторяю – проблем
здесь много и от них просто так не уйти» [Pap. IV B 117, 290].
В другом наброске к тому же разделу Керкегор пишет:
Таким образом, движение играет важную роль во всей философии Шел-
линга, и не только в философии природы (в строгом смысле), но также и в
философии духа. Так, в трактате о свободе Шеллинг всё время старается
включить в нее движение, частично используя для этого терминологию Яко-
ба Беме, частично – собственные неологизмы [Pap. IV В 118 .7].
Напрашивается вывод, что Шеллинг всё же входил в круг философских «забот»
Керкегора. Но в какой мере всё это вытекало из непосредственного чтения «Иссле-
дований о свободе», а в какой – было продиктовано трактовкой Розенкранца, пока
по-прежнему остается неясным (24).
Хотя в «Страхе и трепете» Шеллинг никак, на первый взгляд, не присутствует, имен-
но в связи с этой книгой Керкегору представился случай о нем вспомнить. Когда Кофот-
Хансен в рецензии на «Или – или» высказался в том духе, что одно дело – «христиан-
ство прежних времен», или, как он выражался, «мораль сапожников», поощряемая цер-
ковью, а другое – христианство современное, способное ответить на самые актуальные
запросы и обращенное к образованной публике [Kofoed-Hansen 1843, 377–405, 384f.], на
это заявление резко отреагировал епископ Мюнстер. В 1844 г. он отправил Хейбергу в
его альманах «Интеллигенсбладе» статью под заголовком «Церковная полемика» [Mynster
1852–1853, 461–473], где упомянул и «Страх и трепет» (также отрецензированный в свое
время Кофод-Хансеном [Kofoed-Hansen 1844, 373–391]). В статье Мюнстер ссылался на
то, что не признает этого различия и Керкегор. По словам епископа,
Это борение, свершающееся со страхом и трепетом, не имеет ничего об-
щего с той очаровательной услужливостью, с какой нынешние гении нрав-
ственности пытаются продемонстрировать, что зря читают Шеллинга, заявляя,
что и они способны «einzig, göttlich zu handeln». На деле же ни один прилич-
ный человек не станет следовать за ними в качестве «einzig», и если толпа, не
разделяющая моральные убеждения обычных добропорядочных граждан, мо-
жет, и станет взывать к ним со словами «Göttlich!», тем дальше это отбросит
людей от возможности поступить “по-божески”» [Mynster 1852–1853, 467].
166
Что Керкегор читал статью Мюнстера – доподлинно известно; позднее он кос-
венно сошлется на слова Якоби, повторяемые Мюнстером. Но интересно, что подня-
тая епископом проблема неожиданно в нескольких местах возникнет и у самого Кер-
кегора. В своем экземпляре «Werke» Якоби он подчеркнет это место, поставив на
полях вопросительный знак: «Вера, в отличие от науки, – не есть дело всякого
[nicht... Jedermanns Ding], то есть ее нельзя сообщить любому, кто решит бросить все
силы на то, чтобы уверовать» (25). И ниже припишет: «Так вера вновь становится
уготованным индивиду делом гения – точь в точь как у шеллинговского гения дей-
ствия. Обычно такие выражения начинают проскальзывать именно тогда, когда за-
бывается целостный взгляд на мир» [Pap. V C 13.4; JP 2, 1114]. Позднее этот «гений
действия» снова возникнет в «Понятии страха» [SKS 4, 416; Кьеркегор 2010, 234].
В 1843–1844 гг. Шеллинг еще дважды упоминался в Дневнике JJ. Первый раз –
в пометке, в которой Керкегор обдумывал тезис Аристотеля «Бог движет всем, сам
оставаясь неподвижным»: «Припоминаю, как об этом в Берлине говорил Шеллинг»
(JJ:160) [SKS 18, 192; JP 2, 1332]. Действительно, об этом шла речь на 13-ой лекции.
Второй раз – в записи: «Система в гегелевской школе – та же фикция, что и “беско-
нечный эпос”, принесенный когда-то в мир Шеллингом и имевший тогда успех»
(JJ:187) [SKS 18, 200; JP 2, 1604]. Выражение «бесконечный эпос» принадлежит не
Шеллингу, а взято из издания Розенкранца, где Шеллинг цитируется в связи
с «Одиссеей духа» [Rosenkranz 1843, 133, 187].
В «Понятии страха», как уже говорилось, б ольше всего ссылок на Шеллинга, при
том что неясно, читал ли Керкегор Шеллинга и, в частности, «Исследования о сво-
боде» в оригинале или его знание (как когда-то давно предположил Эмануэль Хирш)
было отфильтровано Розенкранцем (26). Конечно, Шеллинг не имел отношения
к замыслу «Понятия страха». Еще в 1837 г. Керкегор сделал запись в Дневнике BB,
свидетельствующую о давнем интересе к теме, а из записи Дневника JJ (1842 г.)
можно понять, какое развитие получит его интерес (см.: [SKS K4, 317–332]). Скажем
больше – внимательный читатель «Или – или» наверняка заметит, что главный
лейтмотив книги именно страх. Тогда как в «Исследованиях о свободе» Шеллинг
касается страха лишь в одном месте (27), о котором Керкегор, представляй он себе
трактат только по Розенкранцу, мог и не знать. Но независимо от источника этих
знаний «Понятие страха» столь близко «Исследованиям» тематически, что сравнивать
эти произведения интересно уже само по себе.
Первый раз Шеллинг появляется уже в самом введении – без сомнения, Керкегор
не забыл берлинские лекции. Обратиться к Шеллингу его заставило аристотелевское
понятие «prote philosophia», о котором Керкегор прочел у Теннемана. И здесь он со-
глашается с шеллинговским противопоставлением «prote» и «secunda philosophia»
(28), добавляя:
Шеллинг помнил об этом аристотелевском наименовании ради своего
различения отрицательной и положительной философии. Под отрицательной
философией он понимал логику – это достаточно ясно; напротив, мне гораз-
до менее ясно, что он, собственно, понимал под положительной философи-
ей, помимо того что для него положительной, несомненно, была та филосо-
фия, которую он сам собирался развить. Не стоит подробнее вдаваться в это,
поскольку, помимо моего собственного взгляда, ничто не удерживает меня
здесь [SKS 4, 328; Кьеркегор 2010, 138 (перевод исправлен)].
Но если вымышленный Керкегором автор Вигилий Хауниенсий и мог полагаться
лишь на «собственный взгляд» относительно смысла положительной философии, то
современным исследователям приходится иметь дело и с другими взглядами на Шел-
линга, включая керкегоровский. Ниже мы попытаемся отследить все прямые отсылки
Керкегора к Шеллингу, но ответить на принципиальный вопрос: как Керкегор вос-
принял «отрицательную философию»? – будет непросто. Ибо когда он отождествляет
отрицательную философию с «логикой» – как если бы это и правда было «достаточно
ясно», – он имеет в виду не классическую формальную логику, а метафизику в целом,
которая как акт мысли есть имманентное припоминание. И хотя у неумолчной
167
керкегоровской сатиры в адрес гегелевской спекуляции и ее представителей действи-
тельно есть что-то общее с неуступчивой шеллинговской критикой гегелевской химе-
рической «метафизики сущности», ссылки, документально подтверждающие факт
прямого влияния, не найдены.
Встречается во введении и мысль о том, что Гегелю следовало бы продумать реаль-
ность мышления сквозь призму скептицизма Канта. По этому поводу Керкегор гово-
рит: «...все это между тем еще должно оставаться под большим вопросом, несмотря на
все, что сделали Гегель и его школа, чтобы затуманить это посредством ударных слов
“метод” и “самоочевидное”, а Шеллинг более откровенно признал в своих понятиях
“интеллектуальной интуиции” и “конструкции”, а именно: что это становится новой
исходной точкой» [SKS 4, 319; Кьеркегор, 2010, 127]. Здесь и далее он прибегает
к Шеллингу, чтобы обойти Гегеля. О самих этих понятиях он мог узнать от самого
Шеллинга – что подтверждают конспекты десятой лекции; хотя и тут, возможно,
он освежил свои знания благодаря Розенкранцу [Rosenkranz 1843, 367].
Далее Шеллинг появляется в § 2 главы I, посвященном теме «движения» в логике –
иначе говоря, обсуждению ступени, на которой количественное может перейти в каче-
ственное. В примечании Керкегор пишет:
В новейшей философии Шеллинг первоначально хотел воспользоваться
чисто количественными определениями, чтобы разъяснить, таким образом,
всякое различие; позднее он порицал то же представление у Эшенмайера
(взгляды, выраженные в его диссертации). Гегель выдвинул представление
о прыжке, но он выдвинул его в логике. Розенкранц (в своей «Психологии»)
восхищается Гегелем за это. В своем позднейшем произведении (о Шеллин-
ге) Розенкранц порицает Шеллинга и восхваляет Гегеля [SKS 4,337; Кьер-
кегор 2010, 147].
Комментаторы утверждают, что всё сказанное здесь о Шеллинге целиком заимство-
вано у Розенкранца [SKS K4, 395–397; Rosenkranz 1843, 58, 155, 179–182, xxiii–xxx].
Но самое большое влияние Шеллинга заметно во фрагменте из § 1 главы II, посвя-
щенном «Объективному страху».
Здесь говорится: «Некоторые мыслители,
принадлежащие школе Шеллинга, особенно ясно сознавали ту перемену, которая
произошла с творением через грех» [SKS 4, 363f.; Кьеркегор, 2010, 176–177]. Черновик
«Понятия страха» свидетельствует, что Керкегор в данном случае отталкивался не от са-
мого Шеллинга; тут формулировка иная: «Некоторые мыслители, особенно
принадлежащие школе Шеллинга – Шуберт, Эшенмайер, Геррес, Стеффенс...» [Pap. V.
В 53.18]. В связи с этим будем помнить и о том, что другие выдающиеся мыслители того
времени, с которыми Керкегор чувствовал сродство, – Зольгер, Баадер и Дауб – также
переняли шеллинговскую натурфилософскую методологию.
Отношение самого Шеллинга к «школе Шеллинга» обсуждается в длинном при-
мечании к § 1; возможно, это единственный развернутый источник, позволяющий
оценить позицию Керкегора. Приведем абзац целиком:
У самого Шеллинга довольно часто идет речь о страхе, гневе, муке, страда-
нии и тому подобном. Однако к этим выражениям следует относиться с неко-
торым недоверием, чтобы не спутать воздействие греха на творение с тем, что
описано у Шеллинга, – с состояниями и настроениями Бога. Подобными вы-
ражениями он как раз обозначает, если я могу так выразиться, творческие му-
ки рождения у божества. Подобными фигуральными выражениями он обозна-
чал то, что сам порой называл отрицательным и что у Гегеля было представле-
но словами: «отрицательное, более точно определяемое как диалектическое,
как иное [to heteron]». Подобная двузначность проявляется и у Шеллинга: ибо
он говорит о меланхолии, простирающейся над всей природой, и одновремен-
но – о тоске божества. Однако прежде всего главной мыслью Шеллинга было
то, что страх и тому подобное обозначают по преимуществу страдания, испы-
тываемые божеством в процессе творения. В Берлине он выразился еще опре-
деленнее, сравнив Бога с Гете и Й. фон Мюллером, которые хорошо чувство-
вали себя, только когда творили; при этом он напомнил также о том,
168
что блаженство, которое не способно сообщить себя, есть несчастье. Я вспо-
минаю об этом здесь, поскольку эти его высказывания уже были опубликова-
ны в брошюре Маргейнеке, иронизирующего над ними. Этого не следует де-
лать, ибо мощный и полнокровный антропоморфизм имеет значительную
ценность. Ошибка тут совершенно в ином, здесь скорее можно усмотреть при-
мер того, каким странным все становится, когда метафизика и догматика ис-
кажаются тем, что догматику рассматривают метафизически, а метафизику –
догматически [SKS 4, 363f.; Кьеркегор 2010, 176 (перевод исправлен)].
Что эта оценка рождена в опоре на Розенкранца, доказано комментаторами
«Søren Kierkegaards Skrifter», и нет необходимости повторять их доводы [SKS K4,
423–428]. Но обратим внимание на одну вещь: Керкегор ссылается на берлинские
лекции, где упоминались Мюллер и Гёте, в изложении Маргейнеке, а тот, в свою
очередь, заимствует цитаты у Фрауэнштедта. Если мы заглянем в керкегоровские
конспекты 26-ой лекции, то увидим, что Гёте в них не упомянут. А это значит, Кер-
кегор, работая над книгой, к тому моменту уже перестал в них заглядывать.
В § 1 главы IV, озаглавленном «Страх перед злом», Шеллинг появляется снова.
Здесь говорится:
Между тем ради себя самого, равно как и ради мышления вообще, да и ради
ближнего, я поостерегусь выражать это таким образом, как это, по всей вероят-
ности, сделал бы Шеллинг, который где-то говорит о «гении действия» пример-
но в том же смысле, в каком можно говорить о музыкальном гении или о чем-то
подобном. Тут, даже не сознавая этого, можно одним-единственным поясняю-
щим словом разрушить все [Кьеркегор 2010, 234–235].
Выше «гений действия» упоминался в связи с заметками, сделанными Керкегором
на полях его экземпляра «Werke» Якоби. Пометка в черновике: «Система трансцен-
дентального идеализма» [Pap. V. B 56, 6] указывает на то, что он мог читать данную
работу. В комментариях даже называют конкретную страницу, поскольку это един-
ственное место у Шеллинга, где встречается выражение «гений действия» (Genie zu
Handlungen) [SKS K4, 423 –428]. Но у Керкегора страница не указана, стало быть,
и здесь он, скорее всего, полагался на Розенкранца, цитирующего этот параграф
в разборе «Системы трансцендентального идеализма» [Rosenkranz 1843, 114].
Последний раз Шеллинг появляется в «Понятии страха» в § 2 четвертой главы,
где Керкегор пишет:
В мои намерения не входит предлагать тут высокоученое философское
рассуждение об отношении души и тела, решая, в каком смысле душа сама
создает свое тело (независимо от того, понимается ли это на греческий или
же на немецкий манер), или, чтобы уж вспомнить выражение Шеллинга,
в каком смысле свобода посредством акта «корпоризации» сама полагает свое
тело. Всего этого мне здесь не нужно; для своих целей я могу, сообразно
своим слабым силам, выразиться так: тело является органом души, а также
органом духа [SKS 4, 437; Кьеркегор 2010, 257].
Шеллинг никогда не использовал выражение «акт корпоризации», но, как отме-
чают исследователи, здесь возможна аллюзия на обсуждение корпоризации в «Иссле-
дованиях о свободе» [Schelling 1809, 470; SKS K4, 503]. Или же и это выражение Кер-
кегор снова заимствовал у Розенкранца [Rosenkranz 1843, 312].
В «Философских крохах» нет прямых упоминаний Шеллинга, однако встречаются
непрямые отсылки и возможные реминисценции. Таково, например, выражение
«теория манифестации, пришедшая на смену теории конструирования» [SKS 4, 279;
Керкегор 2009, 89], дающее повод заключить, что в данном случае сопоставляются
Гегель и Шеллинг. Или, в другом месте, отсылка в сноске к «древней и современной
спекуляции» [SKS 4, 219; Керкегор 2009, 10], под которой, как это было доказано
Тульструпом, подразумевается шеллингианство [Thulstrup 1955, 281–318]. Плюс упо-
минание понятия Бога у Аристотеля (как недвижимой движущей силы [SKS 4, 232;
Керкегор 2009, 26]), соотносящееся с конспектами 13-ой берлинской лекции.
169
И, наконец, фраза об удивлении как начале философии [SKS 4, 280; Керкегор 2009,
90] – она могла родиться под влиянием лекции, зафиксированной под номером 22.
Как уже отмечалось, во введении к «Понятию страха» «интеллектуальная интуи-
ция» Шеллинга сопоставляется с гегелевским «методом». В «Заключительном нена-
учном послесловии» (псевдоним Йоханнес Климакус) встречаются три прямые ссыл-
ки на Шеллинга, и это сопоставление развивается дальше. Первый раз – в интерес-
ном месте, тематически связанном со «Страхом и трепетом». Йоханнес Климакус
говорит, что когда он читал этот трактат, он обратил внимание на «прыжок» и «ре-
шение», которые становятся решающими категориями при прояснении того,
...что
можно считать христианским [понятием], – равно как и для любой
догматической категории. Этого нельзя обрести ни через интеллектуальную
интуицию Шеллинга, ни через то, что Гегель, высмеивая идею Шеллинга,
пытается поставить на ее место, – то бишь через метод, – поскольку прыжок
и есть наиболее решительный протест против обратного действия метода. Все
христианство укоренено в этом парадоксе, согласно «Страху и трепету», – да,
по сути мы могли бы сказать: укоренено в страхе и трепете (которые являют-
ся специфическими категориями отчаяния, относящимися к христианству и
к прыжку). Это так независимо от того, принимаю ли я это (как верующий)
или же отвергаю (по той простой причине, что это парадокс) [SKS 7, 102f.;
Кьеркегор 2005, 122].
Вполне понятно, этот пассаж продолжает процитированный выше отрывок из
«Понятия страха» (Глава I, § 2), но сам факт, что Керкегор однозначно увязывает эту
тему прыжка со «Страхом и трепетом», указывает на очевидное присутствие Шеллин-
га в «Страхе и трепете», и эту тему нужно обсуждать.
В Берлине Шеллинг в критике Гегеля особенно выделял проблему начала в отри-
цательной философии. В «Послесловии» Керкегор несколько раз сталкивает эти по-
зиции – например, когда ссылается на Гегеля:
Верно, что он с пренебрежением отнесся к интеллектуальной интуиции
Шеллинга (она как раз была для Шеллинга выражением начала). Гегель сам
говорил и неоднократно повторял, что его главная заслуга состоит в методе,
однако он никогда так и не разъяснил, как метод соотносится с интеллекту-
альной интуицией, – независимо от того, требуется ли тут прыжок [SKS 7,
139n.; Кьеркегор 2005, 165].
Дальше он пишет:
Шеллинг остановил саморефлексию; он понимал интеллектуальную инту-
ицию не как некое открытие внутри саморефлексии, когда той позволено
вырываться далеко вперед, но скорее как новую исходную точку. Гегель счи-
тает это ошибкой и отзывается об интеллектуальной интуиции весьма ab-
sprechend – и уж после этого приходит черед метода. Саморефлексия длится
до тех пор, пока она не отменяет самое себя; мышление победно продвигает-
ся вперед и заново обретает реальность; тождество бытия и мышления завое-
вывается в сфере чистого мышления [SKS 7, 306; Кьеркегор 2005, 371–372].
Эти три отрывка (к слову сказать, не подтверждающие, что Керкегор возвращался
к изучению Шеллинга) – последнее, где философ упоминается прямо. Это придает
«заключительности» «Послесловия» добавочный смысл. Весной 1846 г. Керкегор ока-
зался втянут в конфликт с еженедельником «Корсар». Считается, что рез ультатом
этого конфликта стала стремительная смена интересов писателя с диалектических
рассуждений в философско-экспериментальном духе, известном нам по псевдоним-
ным сочинениям, на более прямолинейное социально-критическое высказывание,
начало которому положила «Литературная рецензия», вышедшая 30 марта того же
года. В мае в разгар истории с «Корсаром» Керкегор в последний раз съездил в Бер-
лин. Возможно, именно тогда он приобрел только что изданные «Посмертные сочи-
нения» [SKS K18, 460f.] Стеффенса с предисловием Шеллинга.
Единственная встречающаяся у Керкегора прямая цитата из Шеллинга взята от-
сюда. Вот эта запись в Дневнике JJ, сделанная в 1846 г.: «Шеллинг прав, когда пишет
170
в предисловии к “Посмертным сочинениям” Стеффенса: “Когда дело доходит до
того, что большинство начинает решать, в чем состоит истина, один лишь шаг отде-
ляет его от того, чтобы решать это с кулаками”» (JJ:471) [SKS 9 18, 297; JP 4, 4112].
Керкегору так понравилось это высказывание, что он поставил его эпиграфом к са-
тирической статье «Пишущий испытатель» [Pap. VII -2 В 274 .24], которую тогда пи-
сал, но не закончил.
Керкегоровское увлечение Шеллингом во многом объясняется тем, что в своей позд-
ней философии тот вел диалог с Гегелем. В дневниковой записи NB1 (1847) Керкегор
набросал что-то вроде отчета о своем отношении к Шеллингу и Гегелю, где вернулся
к проблемам, обсуждавшимся к в ранних работах. Новый поворот получает дискуссия о
понятии движения у Шеллинга, начатая в «Повторении». Выводы Керкегора:
На деле же соотношение между Шеллингом и Гегелем таково: Шеллинг
избавился от вещи в себе с помощью Абсолюта примерно так же, как если бы
театр теней ликвидировался по ту сторону экрана и всё появлялось бы на
этой. Но Шеллинг остановился с этим Абсолютом, с неразличением, с нуле-
вой точкой, дальше которой он не сдвинулся, – что означает всего-навсего,
что за Абсолютом ничего нет. Однако Гегель вознамерился вернуться к Абсо-
люту по ту сторону экрана, поэтому он смог получить момент [momentum].
Учение Шеллинга – это философия, остающаяся в покое, тогда как филосо-
фия Гегеля, как ему кажется, находится в движении – движении метода
(NB:128) [SKS 20, 89f.] .
С тех пор Шеллинг не появляется у Керкегора ни в одном философском контексте.
В 1849 г.
–
в год выхода «Болезни к смерти» – тот еще трижды фигурирует в дневнико-
вых записях, и каждую можно расценить как своего рода прощание с философом.
В Дневнике NB9 содержится отчет Керкегора о беседе с Кристианом VIII. Как
выяснилось, король был осведомлен о политических обстоятельствах, сопровождав-
ших назначение Шеллинга в Берлин. Из отчета:
Потом он задал мне вопрос о Шеллинге. Я попытался кратко описать
свои впечатления. Потом он расспрашивал о личном отношении Шеллинга
ко двору и о его университетской репутации. Я отвечал, что с Шеллингом
случилось то же, что с устьем Рейна – он переполнился стоячей водой. Ина-
че говоря – переродился в «его превосходительство» на прусской королев-
ской службе. Немного поговорили про то, как гегельянство сделалось госу-
дарственной философией и как ее место, предположительно, может зан ять
Шеллинг (NB9:42) [SKS 21, 225].
Последние слова – «ее место, предположительно, может занять Шеллинг» – прозву-
чали тогда почти анахронизмом, поскольку к тому моменту деятельность Шеллинга как
предмет общественного интереса давно себя исчерпала. Его приезд в Берлин не имел
ожидаемых результатов: систему свою он так и не опубликовал и к 1846 г. практически
завершил чтение лекций. И даже если, беседуя с королем, Керкегор и отважился урав-
нять философию с политикой, Шеллинг стал лишь интересным поводом для разговора,
а не самостоятельной фигурой, имеющей публичную значимость.
Второе прощальное слово – это запись в Дневнике NB11: «“Вера не есть дело
всякого” – но это именно лютеровское словоупотребление, в его переводе Второго
послания к Фесалоникийцам, 3:2. Вера здесь поверхностно определяется как что-то
из разряда гениальности, предрасположенности, таланта. Припоминаю, что Шеллинг
на лекциях высказывался в том духе, что вера – это талант, и цитировал Лютера»
(NB11:121) [SKS 22, 67,]. Видно, что Керкегор помнил лекции Шеллинга так же хо-
рошо, как и прежде. Слова апостола Павла, действительно, обсуждаются на страни-
цах посмертно опубликованной шеллинговской «Философия откровения» [Schelling
1858, 4, 16–24]. Но тот не стал включать в лекции свою интерпретацию, поэтому ни
в каких конспектах, включая керкегоровские, этот стих не упоминается. Лютеров-
ский перевод послания цитировал и Якоби, а Керкегор в своем экземпляре «Werke»
Якоби сделал ссылку на Шеллинга.
171
Когда в 1849 г. вышел долгожданный фундаментальный труд Мартенсена «Хри-
стианская догматика» [Martensen 1849] (ASKB 653), Керкегор, конечно, почувствовал
необходимость высказаться по этому поводу. Таков контекст последнего упоминания
Шеллинга в бумагах Керкегора, оставившего саркастическое замечание в Дневнике
NB12:«Проблема Мартенсена в том, что он постоянно ссылается на Канта, Гегеля,
Шеллинга и т.д. Это должно дать гарантию, что в его словах якобы что-то есть .
Напоминает привычку журналистов говорить от имени публики» (NB12:35) [SKS 22,
163; JP 6, 6456]. Будем считать это третьим и окончательным прощанием Керкегора с
Шеллингом.
Краткое заключение
Завершая историю обращений Керкегора к Шеллингу и подводя итоги, нельзя не
задать резонный вопрос: в чем же здесь «интрига»? Что такого захватывающего несет
отношение одного философа к другому? У Керкегора встречается лишь одна прямая
цитата из Шеллинга, к тому же так и не доказано, читал ли он хоть что -нибудь из
его книг, включая «Исследования о свободе». Да, он слушал профессора в Берлине,
однако, как мы видели, едва упоминает эти лекции в своих работах. Поэтому придет-
ся признать, что все наши заявления исторического характера – в большей степени
предположения, чем уверенность. Хотя эксплицитные обращения к Шеллингу не
исключают работы Керкегора с первоисточником, у нас есть не меньше оснований
думать, что этого, скорей всего, не было.
Но если мы еще раз попытаемся осмыслить сходство тематики Керкегора и Шел-
линга, то по ряду признаков сможем заключить: берлинские лекции определенно
повлияли на философские интересы Керкегора. Сомнения отпадут, если вспомнить
его постоянную заочную полемику и сатирические выпады в адрес «отрицательной»
философии Гегеля – как, например, в ироничном замечании «философия у Гегеля,
само собою, положительная» [SKS 7, 283; Кьеркегор 2005, 340 (перевод исправлен)].
Поскольку в литературе критика Шеллинга в адрес Гегеля хорошо изучена (29), от-
ныне эта тема всегда будет сопровождать сюжеты, в которых разбирается и керкего-
ровская критика Гегеля. Но один вопрос пока остался без ответа: только ли Гегель
является героем ставшей уже легендарной сатиры на «систему», «спекуляцию», «спе-
кулятивного мыслителя», «положительного», «обещания» и намерения «пойти даль-
ше», или здесь есть укол также и в адрес Шеллинга? И как быть с ее главной мише-
нью – выражением «пойти дальше Гегеля» – если это выражение есть, по сути, точ-
ный предикат философии позднего Шеллинга? Но ответ на этот вопрос уже вне
нашей компетенции.
Примечания Т.О. Олесена
(1) После этого Керкегор посетил Берлин еще дважды: 13 –24 мая 1845 г. после
выхода «Стадий на жизненном пути» и еще через год между 2 –3 и 16 мая – в по-
следний раз. Хотя в августе 1847 г. он планировал «хорошее заграничное путеше-
ствие» (NB2:113) [SKS 20, 186; JP 5, 6035], из этого ничего не вышло. К тому време-
ни он потерял интерес к университетским лекциям, даже несмотря на то что Шел-
линг в Берлине продолжал работу.
(2) «Философские крохи» (под псевдонимом Йоханнес Климакус) и «Понятие
страха» (под псевдонимом Вигилий Хауниенсий) вышли в свет 13 и 17 июня 1844 г.
О работе Керкегора над «Понятием страха» см.: [SKS K4, 181–194, 317 –332].
(3) Можно спорить, в какой мере выражение «честный путь Канта» из «Стадий
на жизненном пути» [SKS 6, 142.25] перекликается с «den ehrlichen Weg Kants» из
«Исследований о свободе» [Schelling 1809, 393]. Но эксплицитные отсылки к Шел-
лингу в «Стадиях» отсутствуют.
(4) Восемнадцать назидательных бесед вышли в составе трех сборников в 1843,
1844 и (под заголовком «Три беседы по воображаемому поводу») 1845 г.
172
(5) См.: [Theunissen 1993, 19], где Теннисен, отталкиваясь от керкегоровского
различия между первой и второй этикой в Предисловии к «Понятии страха», отмеча-
ет: «В тайной систематике работ Керкегора «Болезнь к смерти» занимает место вто-
рой этики – что в целостной системе Шеллинга должно соответствовать месту, кото-
рое занимает вторая, положительная философия».
(6) [Schelling 1809]. Издание, вышедшее в единственном томе, включало «О “Я”
как принципе философии, или о Безусловном в человеческом знании» (1795 г.),
«Философские письма о догматизме и критицизме» (1795 г.), «Очерки, поясняющие
идеализм наукоучения» (1796 г.), «Об отношении изобразительных искусств к приро-
де. Академическая речь» (1807 г.), «Философские исследования о сущности человече-
ской свободы и связанных с ней предметах» (1809 г.).
(7) [Schelling, 1830]. У Керкегора нет ссылок на этот трактат.
(8) [Schelling 1842]. Не упоминается у Керкегора и эта работа.
(9) [Schelling 1841]. Эта работа также не упоминается у Керкегора.
(10) [Rosenkranz 1840]. (ASKB 745). Надпись на обратной стороне обложки при-
надлежавшего Керкегору экземпляра: «S. Kierkegaard. Berlin Novb. 41».
(11) [Helfferich 1842]. (ASKB 571–572). Надпись на обратной стороне обложки
первого тома – «S. Kierkegaard. Berlin 1842».
(12) [Hegel 1840–1845]. (ASKB 561–563). В письме к Спангу от 8 января 1842 г.
Керкегор сообщает: «Вышел второй том гегелевской Энциклопедии, и Михелет взял
на себя смелость написать предисловие, не показав его Союзу [друзей усопшего.
–
Д.Л., Д.М .] . В предисловии он весьма жестоко нападает на Шеллинга. Произошло это
как раз под Рождество. Я думал, что Шеллинг, читающий в крайне полемичной ма-
нере, подаст две-три реплики о Михелете, однако этого не случилось» [SKS 28, 85].
(13) Перечислим некоторые из них. Из материалов, опубликованных в Zeitschrift
für Philosophie und spekulative Theologie ( ASKB 877–911), назовем статью Вайсе «Со-
временная философская литература» [Weiße 1841, 254–304] и, под тем же названием,
серию статей Фихте-младшего, пятая из которых [Fichte 1842, 93–149] являлась ре-
цензией на «Первую берлинскую лекцию Шеллинга», а седьмая – на вышеназванную
работу А. Шмидта о Шеллинге [Fichte 1843, 43–128]. Упомянем также статью
Й.Ю . Вирта «О понятии Бога как первоначале философии, с учётом гегелевской
и нео-шеллинговской системы» [Wirth 1843, 234–292]. В Deutsche Jahrbücher für Wis-
senschaft und Kunst выходили развернутые рецензии Арнольда Руге на анонимно из-
данные статьи Энгельса «Шеллинг и откровение» [Engels 1842a] (no. 126–128)
и «Шеллинг – философ во Христе» [Engels 1842b] (no. 129–150) и на статью Жюля
Элисара (псевдоним Михаила Бакунина – Д .Л .) «Реакция в Германии» [Elysard 1842].
См. также указатель статей в: [Estermann, 1995–1996].
(14) См. анонимно вышедшую книгу Иоганна Карла Глазера «Различие между
философией Шеллинга и Гегеля», заканчивающуюся словами: «И вот результат ис-
следования – никакой новой страницы в истории философии Шеллинг не открыл!»
[Glaser 1842, 209]. Также см. вышеупомянутую работу Фридриха Энгельса «Шел-
линг – философ во Христе, или Преображение мирской мудрости в мудрость боже-
ственную. Для верующих христиан, которым неизвестно философское словоупотреб-
ление», в которой Энгельс полемически истолковывает шеллинговскую библейскую
экзегезу. См. также его: «Шеллинг и откровение. Критика новейшего покушения
реакции на свободную философию» – критическое изложение философии Шеллин-
га, включающее обзор берлинских лекций. См. также работу Карла Александра
Рейхлин фон Мельдегга «Размышления одного южно-немецкого нелюбителя раков о
первой лекции Шеллинга в Берлине (15 ноября 1841), Штутгарт, книгоиздательство
Котты, 1841 год, в форме открытого письма к господину тайному советнику фон
Шеллингу в Берлине» [Reichlin-Meldegg 1842].
(15) [Frauenstädt 1839] (ASKB 514); [Frauenstädt 1854] (ASKB 515); [Frauenstädt
1855] (ASKB 516).
(16) Работа Алексиса Шмидта «Освещение нового учения Шеллинга со стороны
философии и теологии: Наряду с изложением и критикой ранней философии
173
Шеллинга, а также апологией метафизики, в особенности гегелевской, против Шел-
линга и Тренделенбурга» [Schmidt 1843]. Емкий трактат на 342 страницах представлял
собой сочувственную, или «беспартийную», дискуссию о положительной философии.
(17) [Marheineke 1843] (ASKB 647). См. керкегоровскую отсылку к книге в «Поня-
тии страха» [SKS 4, 364; Кьеркегор 2010, 176]. Шеллинг постоянно фигурирует в лек-
ционном курсе «Введение в публичные лекции о значении гегелевской философии
для христианской теологии» [Marheineke 1842], но у Керкегора нет упоминания об
этих лекциях. Из курса, длившегося около двух месяцев, Маргейнеке опубликовал
лишь начало и конец.
(18) В библиотеке Керкегора был экземпляр книги Карла Людвига Михелета
«Лекции о личности Бога и бессмертии души» [Michelet 1841]. (ASKB 680).
(19) «История развития новейшей немецкой философии, с особым вниманием
к современной борьбе Шеллинга с гегелевской школой. Изложено в лекционном
курсе, прочитанном в университете Фридриха Вильгельма в Берлине в летнее полуго-
дие 1842 г.» [Michelet 1843] посвящена гегельянской критике Шеллинга. В 7 -й и 8-й
лекциях критически разбирается философия позднего Шеллинга и уделяется особое
внимание берлинским лекциям.
(20) См. работу Эмиля Фердинанда Фогеля «Шеллинг или Гегель, или Ни тот, ни
другой? Особое мнение о своеобразии новейшей немецкой философии, в связи со
взглядами, высказанными недавно по этому поводу господином тайным советником
профессором Фридрихом Якобом Фризом из Йены в его “Истории философии”»
[Vogel 1843]. К позднему Шеллингу, однако, Фогель не обращается. См. также ано-
нимную работу «Философия откровения Шеллинга и оспариваемая им философия
религии Гегеля и младогегельянцев: три письма» [Anon. 1843 г.], где сопоставляются
философии религии Гегеля и позднего Шеллинга. Также: Христиан Капп, «Фридрих
Вильгельм Йозеф фон Шеллинг. Вклад одного многолетнего наблюдателя в историю
наших дней» [Kapp 1843]. Наконец, стоит особо выделить книгу Конрада фон Орел-
ли «Жизнь и учение Спинозы. Вместе с очерком шеллинговской и гегелевской фило-
софии» [Orelli 1843], чье представление о позднем Шеллинге основано на обзоре
Фрауэнштедта и содержит, среди прочих, главы: «Критическая интерпретация Спи-
нозы у Шеллинга и Гегеля» [Ibid., 165–194], «Философия Шеллинга (Приложение:
о неошеллингианстве)» [Ibid., 262–292] и «Заключительные сопоставления (Шел-
линг – Гегель – Спиноза)» [Ibid., 357–384].
(21) См.: «Отрывки из произведения маршала маркиза де Салданы о философии
Шеллинга» [Saldanha 1845] и анонимную работу «Основы учений неошеллинговской
и гегелевской философии в их взаимном соотнесении. Вклад в объективную оценку
обеих философий» [Anon. 1847], автор которой, беря за основу записи Паулюса,
сравнивает концепцию Бога и творения у Гегеля и Шеллинга.
(22) [Rosenkranz 1843] (ASKB 766). Согласно сохранившемуся чеку из книжной
лавки, книгу купили 30 апреля 1843 г.
(23) Первая – известный диапсалм: «Слова философов о Реальности [в оригина-
ле – “действительности” – Д.Л .] зачастую столь же обманчивы, как вывеска в окне
лавки, на которой сказано: “Глажка белья”. Если вы принесете сюда свои вещи –
останетесь в дураках; вывеска выставлена на продажу» [Кьеркегор 2011, 57]. Коммен-
таторы связывают этот пассаж с вышеупомянутой записью о Шеллинге в Записной
книжке No 8, где говорится об отношении философии к действительнос ти. Вторая
отсылка – более тонкая. Выражение «драма, сочиняемая богом» из «Эстетической
значимости брака» [SKS 3, 140; Кьеркегор 2011, 613] заставляет комментаторов
вспомнить рассуждение Шеллинга об «истории как лицедействе» в «Системе транс-
цендентального идеализма» [Schelling 1800, 436f.; Шеллинг 1987, 464].
(24) Комментируя другой набросок, редакторы SKS отсылают к [Schelling 1809,
397ff.], но также возможна отсылка к [Rosenkranz 1843, 307f.] .
(25) [Jacobi 1812–1825, XLIV] (ASKB 1722–1728). Цитата из предисловия Якоби
ко всему тому, включающему «Об учении Спинозы в письмах к господину Моисею
Мендельсону».
174
(26) См. комментарий Э. Хирша к переводу «Понятия страха» [Hirsch 1965, 250].
В качестве источника Хирша указывает также работу Маргейнеке «К критике геге-
левской философии откровения».
(27) Шеллинг говорит о «страхе, свойственном жизни» (букв. «страхе жизни»),
в котором он усматривает «всеобщую необходимость греха и смерти». См.: [Schelling
1809, 462f.; Шеллинг 1989, 127–128]. Сходно с рассуждениями Керкегора.
(28) См. 3 -ю и 6-ю лекции.
(29) Из многочисленных исследований, посвященных критике Гегеля у позднего
Шеллинга, упомянем: [Erhard 1965, 107, 116f., 136; Schmidt 1971; Frank 1975; Brink-
mann 1976, 117–210; White 1983; Reardon 1984, 543 –557; Wild 1994, 230].
Перевод с английского, датского и немецкого Д.А . Лунгиной, Д.Г . Миронова
Сокращения
ASKB – Auktionsprotokol over Søren Kierkegaards Bogsamling.
JP – Kierkegaard, Søren (1967–1978) Journal and Papers, ed. and trans. by Howard V. Hong and
Edna H. Hong, assisted by Gregor Malantschuk, vols. 1 –6, vol. 7
–
Index and Composite Collation,
Indiana University Press, Bloomington and London.
Pap. – Kierkegaard, Søren (1968–1978) Papirer, ugd. P.A . Heiberg, V. Kuhr og E. Torsting. Bd . I–
XI. 2 forogede udg. ved Niels Thulstrup, Bd. I –XVI, Gyldendal, København.
SKS – Kierkegaard, Søren (1997–2013) Skrifter. Udgivet af Søren Kierkegaard Forskningscenteret,
red. N.J . Cappelørn et al., Gads Forlag, København.
Primary Sources
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1858) “Philosophie der Offenbarung”, Sämmtliche Werke, I-
XIV (Abt. 1, Bd. I –X; Abt. 2, Bd. XI –XIV), hrsg. von Karl F. August Schelling, Bd. III –IV, Cotta,
Stuttgart and Augsburg.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1800–1801) “Darstellung meines Systems des Philosophie”,
Zeitschrift für spekulative Physik, hrsg. von Schelling, Bd. 1 –2, Gabler, Jena und Leipzig; 2. Band, no. 2
(1800–1801), p. iii-xiv, 1 –127 .
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1800) System des transzendentalen Idealismus, Cotta, Tübingen.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1809) Philosophische Schriften, 1. Band, Krüll, Landshut.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1830) Vorlesungen über die Methode des academischen Studi-
ums (3. Ausg.), Cotta, Stuttgart u. Tübingen.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1841) Schellings erste Vorlesung in Berlin, 15. November 1841,
Cotta, Stuttgart.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1842) Bruno oder: Üher das götliche und natürliche Princip der
Dinge (1. Ausg. 1802) Reimar, Berlin.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1846) Nachgelassene Schriften von H. Steffens mit einem Vor-
worte von Schelling, E.H. Schroeder, Berlin.
Anon. (1843). Schellings Offenharungsphilosophie und die von ihm bekämpfte Religionsphilosophie He-
gels und der Junghegelianer: drei Briefe , Verlag von Julis Springer, Berlin.
Anon. (1847). Die Grundlehren der Neu-Schellingschen und der Hegelschen Philosophie in ihrer gegenseitigen
Beziehung. Ein Beitrag zur objektiven Würdigung beider Philosophien, Enßlin und Laiblin, Reutlingen.
Cousin, Victor (1834). Über französische und deutsche Philosophie. Aus dem Französischen von Dr. Hu-
bert Beckers. Nebst einer beurtheilenden Vorrede des Herrn Geheimenraths von Schelling, J.G. Cotta’sche
Buchhandlung, Stuttgart u. Tübingen (ASKB 471).
Elysard, Jules (1842) [Михаил Бакунин] ‘Die R eaction in Deutschland ’, Deutsche Jahrbücher für
Wissenschaft und Kunst, No . 247 –251 (1842), pp. 986–1001 .
Engels, Friedrich (1842a) Schelling und die Offenbarung, Binder, Leipzig.
Engels, Friedrich (1842b) Schelling, der Philosoph in Christo, Eyssenhardt, Berlin.
Fiche, Immanuel Hermann (1842) ‘Die philosophische Literatur der Gegenwart’, Zeitschrift für Phi-
losophie und spekulative Theologie, hrsg. von Immanuel Hermann Fichte und Christian Hermann Weiße,
Bonn et al. 5 . Band (1842), pp. 93–149.
Fiche, Immanuel Hermann (1843) “Die philosophische Literatur der Gegenwart”, Zeitschrift für
Philosophie und spekulative Theologie, hrsg. von Immanuel Hermann Fichte und Christian Hermann
Weiße, Bonn et al. 11 . Band (1843), pp. 43 –128 .
175
Frauenstädt Julius (1839) Die Menschwerdung Gottes nach ihrer Möglichkeit und Nothwendigkeit,
Voss’sche Buchhandlung, Berlin.
Frauenstädt Julius (1842) Schellings Vorlesungen in Berlin. Darstellung und Kritik der Hauptpunkte
derselben, mit besonderer Beziehung auf das Verhältniß zwischen Christenthum und Philosophie, Verlag von
August Hirschwald, Berlin.
Frauenstädt Julius (1854) Briefe über die Schopenhauer’sche Philosophie, Brockhaus, Leipzig.
Frauenstädt Julius (1855) Die Naturwissenschaft in ihrem Einfluss auf Poesie, Religion, Moral und
Philosophie, Brockhaus, Leipzig.
Glaser, Johann Karl (1842) Differenz der Schelling’schen und Hegel’schen Philosophie, 1. Bd . 1 . Abt.,
Otto Wigand, Leipzig.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1840–1845) Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften, I–
III, Duncker und Humblot, Berlin.
Heiberg, Johan Ludvig (1861–1862) Prosaiske Skrifter, I-XI, bd. 8, C.A . Reitzel, København,
pp. 51 –130 .
Heine, Gotthilf (1842) ‘Schelling in Berlin ’, Jahrbuch der deutschen Universitäten, 2. Band, Weid-
mann, Leipzig (1842), pp. 1 –24 .
Helfferich, Adolph (1842) Die christliche Mystik in ihrer Entwickelung und in ihren Denkmalen, I–II,
Perthes, Gotha.
Jacobi, Friedrich Heinrich (1812–1825) Werke, I–VI, 4. Band, Leipzig: Fleischer.
Kapp, Christian (1843) Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Ein Beitrag zur Geschichte des Tages
von einem vieljährigen Beobachter, Verlag von Otto Wigand, Leipzig.
Kofoed-Hansen, Hans Peter (1843) ‘Enten-Eller. Et Livs -Fragment udgivet af Victor Eremita’, For
Litteratur og Kritik, bd. 1 (1843), pp . 377 –405 .
Kofoed-Hansen, Hans Peter (1844) ‘Frygt og Bæven af Johannes de Silentio’, For Litteratur og
Kritik, bd. 2 (1844), pp. 373 –391.
Marheineke, Philipp Konrad (1842) Einleitung in die öffentlichen Vorlesungen über die Bedeutung der
Hegelschen Philosophie in der christlichen Theologie , Duncker und Humblot, Berlin.
Marheineke, Philipp Konrad (1843) Zur Kritik der Schellingschen Offenbarungsphilosophie. Schluß der öf-
fentlichen Vorlesungen über die Bedeutung der hegelschen Philosophie in der christlichen Theologie, Enslin, Berlin.
Martensen, Hans Lassen (1849) Den christelige Dogmatik, C.A. Reitzel, København.
Michelet, Carl Ludwig (1841) Vorlesungen über die Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der See-
le, Dümmler, Berlin.
Michelet, Carl Ludwig (1843) Entwickelungsgeschichte der neuesten Deutschen Philosophie mit besonderer
Rücksicht auf den gegenwärtigen Kampf Schellings mit der Hegelschen Schule. Dargestellt, in Vorlesungen an der
Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin im Sommerhalbjahre 1842, Berlin, Duncker und Humblot.
Mynster, Jacob Peter (1852–1853) Blandede Skrivter, I-III, bd. 1, Gyldendalske Boghandling,
København (ASKB 358–363).
Orelli, Conrad von (1843) Spinozas Leben und Lehre. Nebst einem Abrisse der Schellingschen und He-
gelschen Philosophie, Aarau: Sauerländer.
Reichlin -Meldegg, Karl Alexander von (1842) Bedenken eines Süddeutschen Krebsfeindes über Schel-
ling s erste Vorlesung in Berlin (15. November 1841), Stuttgart, Cottaische Buchhandlung 1841, in Form
eines offenen Sendschreibens an Herrn Geheimrath von Schelling in Berlin, Cast, Stuttgart.
Rosenkranz, Karl (1840) Kritische Erläuterungen des Hegelschen Systems, Bo rnträger, Königsberg.
Rosenkranz, Karl (1843) Schelling. Vorlesungen, gehalten im Sommer 1842 an der Universität zu Kö-
nigsberg, Gerhard, Danzig.
Saldanha, Marechal Marquis de (1845) Extrait d’un ouvrage du Marechal Marquis de Saldanha sur la
philosophie de Schelling , P.P. Mechitaristen, Vienna.
Schmidt, Alexis (1843) Beleuchtung der neuen Schellingschen Lehre von Seiten der Philosophie und
Theologie: Nebst Darstellung und Kritik der früheren Schellingschen Philosophie, und einer Apologie der
Metaphysik, insbesondere der Hegelschen gegen Schelling und Trendelenburg , Athenaeum, Berlin.
Vogel, Emil Ferdinand (1843) Schelling oder Hegel oder keiner von Beyden? Ein Separat-Votum über
die Eigenthümlichkeiten der neueren deutschen Philosophie mit besonderer Beziehung auf die, vom Herrn
GH. Prof. D . Friedrich Jacob Fries zu Jena in seiner ‘Geschichte der Philosophie’ neuerlich hierüber ausge-
sprochenen Ansichten, Rein Verlag der Reinischen Buchhandlung, Leipzig.
Weiße, Christian Hermann (1841). ‘Die philosophische Literatur der Gegenwart‘, Zeitschrift für Phi-
losophie und spekulative Theologie, hrsg. von Immanuel Hermann Fichte und Christian Hermann Weiße,
Bonn et al. 3 . Band (1841), pp. 254 –304 .
Wirth, Johann Ulrich (1843). ‘Ueber den Begriff Gottes, als Princip der Philosophie, mit Rücksicht
auf das Hegel’sche und Neu-Schelling’sche System’, Zeitschrift für Philosophie und spekulative Theologie,
hrsg. von Immanuel Hermann Fichte und Christian Hermann Weiße, Bonn et al. 11 . Band (1843),
pp. 234 –292.
176
Источники в русски х переводах – Primary Sources in Russian Translations
Шеллинг 1987 – Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма. Пер. М .И . Леви-
ной / Шеллинг Ф.В .Й. Сочинения в 2-х томах . Т . 1 . М .: Мысль , 1987 (Schelling F.W .J ., System
des transzendentalen Idealismus, Russian Translation 1987)
Шеллинг 1989 – Шеллинг Ф.В.Й . Философские исследования о сущности человеческой сво-
боды и связанных с нею предметах. Пер. М.И. Левиной, А.В . Михайлова / Шеллинг Ф.В.Й .
Сочинения в 2-х томах . Т . 2. М .: Мысль, 1989 (Schelling F.W .J ., Philosophische Untersuchungen über
das Wesen der menschlichen Freiheit, Russian Translation 1989).
Кьеркегор 2010 – Кьеркегор С. Страх и трепет. М .: Культурная революция, 2010 (Kierkegaard,
Søren, Frygt og Bæven, Russian Translation 2010).
Керкегор 2009 – Керкегор С. Философские крохи. Пер. Д.А. Лунгиной под ред. В .Л . Махли-
на. М.: Институт Св. Фомы, 2009 (Kierkegaard , Søren, Philosophiske Smuler eller En Smule Philoso-
phi, Russian Translation 2009).
Кьеркегор 2005 – Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским
крохам». Пер. С .А . Исаева, Н.В . Исаевой. СПб .: СПбГУ, 2005 (Kierkegaard, Søren, Afsluttende
uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler , Russian Translation 2005).
Кьеркегор 2011 – Кьеркегор С. Или – или. Фрагмент из жизни. Пер. С .А . Исаева, Н.В . Иса-
евой СПб.: Издательство Русской Христианской Гуманитарной Академии: Амфора, 2011
(Kierkegaard, Søren, Enten-Eller, Russian Translation 2011).
References
Brinkmann, Klaus (1976). ‘Schellings Hegel-Kritik’, Die ontologische Option. Studien zu Hegels Pro-
pädeutik, Schellings Hegel-Kritik und Hegels Phänomenologie des Geistes, hrsg. Klaus Hartmann, Walter
de Gruyter, Berlin, New York, pp. 117 –210 .
Erhard, Oeser (1965). Die Antike Dialektik in der Spätphilosophie Schellings. Ein Beitrag zur Kritik des
Hegelschen Systems, R. Oldenbourg, Vienna.
Estermann, Alfred (1995–1996). Inhaltsanalytische Bibliographien deutscher Kulturzeitschriften des 19.
Jahrhunderts, Bd. 1 –3, Saur, Munich.
Frank, Manfred (1975). Der unendliche Mangel an Sein. Schellings Hegelkritik und die Anfänge der
Marxschen Dialektik, Suhrkamp, Frankfurt am Main (2. ausg. 1992, Fink, M unich).
Hirsch, Emmanuel (1965). ‘Kommentar zu der Übersetzung von Der Begriff Angst’, Kierkegaards
Gesammelte Werke, Abt. 11 und 12, Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf.
Reardon, Bernard Morris Garvin (1984). ‘Schelling’s Critique of Hegel’, Religious Studies, vol. 20
(1984), pp. 543 –557 .
Schmidt, Friedrich W. (1971). Zum Begriff der Negativität bei Schelling und Hegel, Metzler, Stuttgart.
Theunissen, Michael (1993). Der Begriff Verzweiflung. Korrekturen an Kierkegaard, Suhrkamp,
Frankfurt an Main.
Thulstrup, Niels (1955). ‘Die historische Methode in der Kierkegaard -Forschung durch ein Beispiel
beleuchtet‘, Symposium Kierkegaardianum, udg. af Wilhelm Anz et al., Munksgaard, København,
pp. 281 –318 .
White, Alan (1983). Absolute Knowledge: Hegel and the Problem of Metaphysics, Ohio University
Press, Athens, Ohio.
Wild, Peter (1994). Die Selbstkritik der Philosophie in der Epoche von Hegel zu Nietzsche, Peter Lang
Frankfurt am Main.
177
Реакция немецкой публики на лекции Шеллинга:
некоторые дополнения
© 2019 г.
Д.Г. Миронов1*, Д.А. Лунгина2**
1,2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, философский
факультет, Москва, 119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4.
* E-mail: d-21312556@yandex.ru
** E-mail: loungina@yandex.ru
Поступила 30.06.2019
Послесловие к публикации статьи Тонни Огора Олесена «Шеллинг
в прочтении Керкегора: историческое введение» (часть II). Основная
задача послесловия – несколько дополнить статью Т.О. Олесена и в
деталях рассказать о том, как немецкая философская публика вос-
приняла и оценила первые берлинские лекции Шеллинга. В лекци-
онном курсе 1841/42 г. Шеллинг стремился показать отличие «диалек-
тики действительного» от «диалектики возможного», т.е. способа
мышления, который предъявила философия Гегеля. В глазах немец-
кой философской публики этот шаг был скорее свидетельством шел-
линговской неспособности понять диалектику Гегеля. Он был истол-
кован или как «предательство философии» (А. Руге) или как попытка
вернуться к «темным временам» господства веры над разумом
(К.Л . Михелет). Первыми свои критические суждения вынесли младо-
гегельянцы, следом – старо-гегельянцы. В статье подробно обсужда-
ется реакция А. Руге, Ф. Энгельса, Л. Фейербаха, с одной стороны,
и Ф. Маргейнеке, К. Розенкранца и К.Л . Михелета, с другой. Однако
и в оценке тех, кто не относил себя к числу сторонников Гегеля (как,
например, Ф.К . Бидерман и Я. Буркхардт), новая, «положительная»,
философия представала попыткой отказа от дисциплинированного,
логичного мышления. Поспешная в оценках, немецкая публика стре-
милась поскорей свершить суд над Шеллингом. В силу этого, как
свидетельствует дело Паулюса, никто не считал нужным заботиться
о его интересах. В заключении говорится о некоторых русских слуша-
телях первых берлинских лекций Шеллинга и приводятся их оценки.
Ключевые слова: Шеллинг, младогегельянство, старогегельянство, фи-
лософия откровения.
DOI: 10.31857/S004287440007535-3
Цитирование: Олесен Т.О . Шеллинг в прочтении Керкегора: истори-
ческое введение. Часть II. Перевод с английского, датского и немец-
кого Д.А. Лунгиной и Д.Г. Миронова. Миронов Д.Г ., Лунгина Д.А . Ре-
акция немецкой публики на лекции Шеллинга: некоторые дополне-
ния // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 177 –186.
178
German philosophic community response to Schelling’s lectures:
some additions
© 2019 г.
Dmitry G. Mironov1*, Darya A. Loungina2**
1,2
Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, 27/4, Lomonosovsky av.
GSP-1, Moscow, 119991, Russian Federation.
*E-mail: d-21312556@yandex.ru
** E-mail: loungina@yandex.ru
Received 30.06.2019
Afterword to Tonny Aagaard Olesen’s article “Schelling: a historical introduc-
tion to Kierkegaard’s Schelling” (Part II). The main task of the afterword is to
supplement the article of T.O. Olesen and to tell in detail how the German
philosophical public perceived and appreciated the first Berlin lectures of
F.W.J. Schellling. In the lecture course of 1841/42, Schelling sought to show
the difference between the “dialectic of the real” and the “dialectic of the pos-
sible”, the way of thinking that was characteristic for Hegel's philosophy.
In evaluation of the Hegelian part (the largest) of the German philosophical
public, such a step on Schelling’s side rather meant an inability to understand
the dialectics of Hegel and was interpreted as a “betrayal of philosophy”
(A. Ruge) or as an attempt to return to the “Dark ages” of the rule of faith over
reason (C.L. Michelet). The young Hegelians were the first to make their criti-
cal judgments, followed by the old Hegelians. The article discusses the reaction
of A. Ruge, F. Engels, L. Feuerbach, on the one hand, and that of Ph. Mar-
heineke, K. Rosenkranz, and C.L. Michelet, on the other. However, even in
the evaluation of those contemporaries of Schelling who were not supporters of
Hegel (such as F.K. Biederman and J. Burckhardt), the new, “positive” philos-
ophy appeared to be an attempt to abandon disciplined, logical thinking. The
German public wanted to do for Schelling the court and therefore did not think
it possible to take care of his interests (Paulus case). The article concludes with
some Russian listeners of Schelling's first Berlin lectures and their assessments.
Key words: Schelling, Young Hegelians, Old Hegelians, Phil osophy of
Revelation.
DOI: 10.31857/S004287440007535-3
Citation: Loungina, Darya A., Mironov, Dmitry G. (2019) “German philo-
sophic community response to Schelling’s lectures: some additions ”,
Olesen, Tonny Aagaard, Schelling: a historical introduction to Kierke-
gaard’s Schelling, translated into Russian by Darya A. Loungina and Dmit-
ry G Mironov”, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 177 –186.
Прежде чем перейти к основной теме нашего послесловия, сделаем небольшое
терминологическое замечание. Мы переводим «die negative Philosophie» и «die positive
Philosophie» как «отрицательная философия» и «положительная философия». Такое
решение обусловлено тем, что «die positive Philosophie» для Шеллинга — это филосо-
фия, способная показать существование предмета того понятия, содержание которого
раскрывается в «die negative Philosophie», но если последняя отвлекается от вопросов
о существовании предмета, о котором ведет речь, то первая, имея дело с «die
Position», напрямую отвечает на вопрос о его бытии. Принимая точку з рения Ман-
фреда Франка, утверждавшего, что Шеллинг следовал в своей терминологии за Кан-
том, а тот, в свою очередь, основывался на латинском словоупотреблении Баумгарте-
на, мы предлагаем сохранить за термином «Position» смысл родового имени для
179
(видового) термина «бытие» [Frank 2018, 197–198]. Поэтому, передавая «die Position»
как «полагание» и, соответственно, «die positive Philosophie» – как «положительная
философия», мы подчеркиваем ее главную цель – иметь дело с «положительным»
своего предмета, то есть с его существованием.
Способы рассуждения, применяемые в отрицательной и положительной филосо-
фии, для Шеллинга также различны. Прием, принятый в отрицательной философии,
он характеризует как диалектику возможного. За исходный пункт такой диалектики
берется понятие бесконечной потенции, в качестве ее задачи – раскрытие содержа-
ния этого понятия. От диалектики возможного Шеллинг отличает действительную
диалектику. Исходный пункт действительной диалектики – не какое -либо понятие,
а «чистое существование», или «das unvordenkliche Sein». Термин «das unvordenkliche
Sein» мы вслед за П.В . Резвых переводим как «непредмыслимое бытие»: бытие, кото-
рому не предшествует какая-либо потенция и которое не может быть понято исходя
из того, что ему предшествует. Иначе говоря – это бытие, недоступное в опыте и не
мыслимое в понятиях. «Непредмыслимое бытие» высшей сущности – исходный
пункт положительной философии; именно с него начинается «действительная диа-
лектика реального мира»; см.: [Schelling 1993, 168]. Движущим мотивом «действи-
тельной диалектики» выступает то обстоятельство, что с «непредмыслимого бытия»,
лишенного какой-либо потенции, по определению не может ничего начаться. Оно
словно застыло в своей неподвижности и именно потому и заставляет искать ответ
на вопрос, почему помимо этого непредмыслимого бытия есть еще что-то другое.
А теперь обратимся к основной теме. Сообщение о том, что в зимний семестр 1841–
1842 гг. Шеллинг прочитает курс лекций в Берлине, гегельянцы встретили довольно
враждебно. Арнольд Руге в письме к Фейербаху от 11 февраля 1841 г. предлагал встретить
философа «бомбами и картечью». В написанном тогда же письме к Морицу Каррьеру
Руге советовал «посещать его лекции только для того, чтобы вывести на свет критики
скрытую мудрость и документально доказать то, что весь мир и так уже знал: он [Шел-
линг – Д.М., Д.Л.] не знает ничего нового» [Hundt (Hg.) 2010, 675].
О чем же будет этот курс и как его представят, намерен ли Шеллинг полностью от-
вергнуть гегелевскую философию или все же признает ее некоторые результаты (в виде
младогегельянского движения), в августе 1841 г. Руге попытался выяснить у самого
автора. В письме к Прутцу от 21 августа 1841 г. он, не скрывая удивления, писал, что
Шеллинг «очень уважительно и даже с симпатией относится к “Ежегодникам”», более
того, он даже «признает критику Штрауса и вообще религиозно и политически свобо-
домыслен» [Ibid., 806]. Сделанные Шеллингом либеральные признания вдохновили
Руге на то, чтобы выдвинуть неожиданную гипотезу: «он хорошо повлияет на Берлин...
и я заверяю тебя, что считаю весьма возможной, при определенных обстоятельствах,
полную литературную эмансипацию» [Ibid.] . Статью о своем знакомстве с Шеллингом
и о беседах с ним Руге опубликовал в No 254 «Allgemeine Zeitung. Augsburg» от 11 сен-
тября 1841 г. и назвал ее «Спор между Шеллингом и Гегелем». Там сообщалось не
только о свободомыслии Шеллинга, но и о том, что он, возможно, будет публиковать-
ся в «Немецком ежегоднике». Но очень скоро Руге понял, что Шеллинг, лишенный
всяких политических притязаний, крайне амбициозен философски и должен во что бы
то ни стало продвинуться вперед «еще на один шаг», то есть показать отрицательный
характер гегелевской философии и преобразовать ее при помощи философии положи-
тельной (письмо Фляйшеру от 16 октября 1841 г.). Но поскольку ему, как считал Руге,
не доступна ни логика исторического развития, ни метод, каким должна руководство-
ваться современная философия, потешить свое философское самолюбие в Берлине ему
не удастся. Иначе говоря, ему грозит полный провал.
Гегельянцы действительно думали, что Шеллинг ничем не удивит берлинцев и
лишь окончательно докажет, что его философия — дело прошлого. Как писал Эн-
гельс в памфлете «Шеллинг – философ во Христе»: «Чего хотели они [берлинцы –
Д.М., Д.Л.] от Шеллинга, кроме того, чтобы услышать нечто новое, и как они пре-
зрительно морщились, когда он преподнес им лишь старое Евангелие!» [Энгельс
1970, 243]. В оправдание своих прогнозов гегельянцы ссылались на то, что летний
180
лекционный курс Шеллинга прослушали лишь шестьдесят человек, тогда как слушате-
лей первого зимнего курса было в несколько раз больше. Поэтому они ждали, что
Шеллинг «с позором» бежит из Берлина в Мюнхен и осенью 1842 г. «не станет просить
о том, чтобы его освободили здесь от обязанностей профессора на предстоящий год,
и снова погрузится в бездеятельность предыдущих лет и так во всем, что касается име-
ни, славы и влияния, совершенно угаснет» [Wheeler 1843, 390]. Однако все сложилось
иначе. Мало того, что Шеллинг вернулся из Мюнхена и прочитал второй зимний
курс, – его аудитория была по-прежнему многочисленна, причем многие пришли, что-
бы узнать, как он, атакуемый и критикуемый по всем фронтам, будет защищаться. Лю-
дей было так много, что, по уверениям Алексиса Шмидта, «собравшимся и самому
Шеллингу к 6–7 вечера было совершенно нечем дышать» [Schmidt 1844, 89]. К тому же
второй зимний курс был и выстроен иначе: «Нельзя отрицать, что в этот раз Шеллинг
выражался о задаче философии с гораздо большей ясностью и с более отчетливым со-
знанием; яснее делалось то, к чему он стремился, яснее были и доказательства, кото-
рыми он пользовался» [Ibid., 91]. Лекции Шеллинг перестанет читать лишь в 1846 г.,
причем по причинам, никак не связанным с научной критикой.
Никто из слушателей первого берлинского курса, сотрудничавших с «Немецким еже-
годником» (в том числе и Ю. Фрауэнштедт), не смог предложить журналу ничего
настолько критического, чтобы «свершить суд» над Шеллингом – изменником филосо-
фии (как выражался Руге в письме к Карлу Розенкранцу, отосланном в апреле 1842 г.).
Единственная работа, по-настоящему впечатлившая Руге, была опубликована в издатель-
стве Биндера под заголовком «Шеллинг и откровение»; одно время считалось, что ее
написал Михаил Бакунин. Фридрих Энгельс раскроет свое авторство в письме к Руге от
19 апреля 1842 г.; он, как выяснится, присутствовал на лекциях и пользовался при напи-
сании брошюры не только собственными записями, но и конспектами других слушате-
лей. Достаточно подробный пересказ лекций Энгельс сопроводил детальной критикой
отдельных мест. Его главный упрек Шеллингу состоит в том, что он, отрицая Гегеля –
«величайшего представителя науки разума» – отрицает и сам разум, саму возможность
разумного постижения мира. И тем самым протаскивает «в свободную науку мышления
веру в авторитет, мистику чувств и гностическую фантастику» [Энгельс 1970, 182].
Отвергая Гегеля, он доходит до абсурда; так, если Гегель говорит: «Что разумно,
то и действительно», то Шеллинг заявляет: «Все разумное возможно». Поскольку
возможность ничего не исключает и «возможно все», его стремление основать фило-
софию как науку о разуме на возможности выдает в нем желание отказаться от дис-
циплинированного, логичного мышления. Он, собственно, уже и не способен дви-
гаться в сфере чистой мысли, его учение о трех потенциях – не философская спеку-
ляция, а нагромождение чувственных представлений, связанных между собой внеш-
ним, весьма произвольным способом. Построение, в котором Шеллинг соотносит
возможности потенции, недиалектично, лишено внутренней необходимости: «Остает-
ся неясным, почему потенция оставляет свой прекрасный потенциальный покой,
отдает себя во власть бытия и т.д.,
–
весь процесс с самого начала покоится на про-
изволе» [Там же, 194]. Шеллинг утверждает, что дух есть высшее понятие, к которому
приходит философия как наука о разуме, однако, согласно Энгельсу, он это не
столько доказывает, сколько постулирует: «У него все сводится к тому, что из двух
безразличных друг другу вещей одна вытесняет другую, после чего вторая снова отво-
евывает себе место и оттесняет первую к ее первоначальному месту; невозможно,
чтобы результатом всего этого явилось что-либо иное, а не первоначальное состоя-
ние» [Там же, 196]. Шеллинг слишком вольно поступает с тем, что ему еще только
предстоит доказать. В частности, он с самого начала заставляет свое «непредмысли-
мое бытие» вести себя так, что буквально через пару шагов мы оказываемся перед
понятием личного Бога. Но вся проблема в том, что непредмыслимое бытие есть «не
более чем голая абстракция материи, которая как раз очень далека от всего личного,
от всякого самосознания; никакие рассуждения не могу т внести самосознание в эту
неподвижную категорию, если только она не будет понята как материя и как разви-
вающаяся через природу к духу, подобно “безграничному бытию” в отрицательной
181
философии, от которого она отличается только ничего не говорящим определением
непредмыслимости» ([Там же, 206], перевод немного изменен, см.: [Engels 1985, 296]).
Почему же Шеллинг отказывается мыслить логично? Потому, считает Энгельс,
что только мысля нелогично он может выполнить поставленную перед ним задачу –
оправдать христианство, примирить веру и разум. Мышление Шеллинга не свободно,
оно произвольно и во многом определяется внешними факторами. «Только та свобо-
да является истинной, которая содержит в себе необходимость; мало того, – которая
является истинной, разумностью необходимости. Потому и Бог Гегеля никак и нико-
гда не может быть единичной личностью, так как все произвольное из него устране-
но. Поэтому-то Шеллинг и вынужден применить “свободное” мышление, говоря
о Боге, ибо необходимое мышление с логической последователь ностью исключает
понятие божественной личности» [Энгельс 1970, 222].
Брошюра Энгельса, изданная почти сразу после завершения курса, послужила источ-
ником для последующих изложений философии откровения (причем не только в среде
гегельянцев – например, объемная статья Франца Антона Штауденмайера «О филосо-
фии откровения Шеллинга», опубликованная в восьмом томе «Журнала теологии»
за 1842 г., целиком основывалась на двух работах Энгельса: «Шеллинг и откровение»
и «Шеллинг – философ во Христе»).
Не прошел мимо берлинских чтений и Фейербах. Еще до начала лекций, в феврале
1841 г., Руге предложил ему написать общее исследование по философии Шеллинга.
В тот момент Фейербах отказался, сославшись на потребность в отдыхе после оконча-
ния «Сущности христианства»; позже он рекомендовал Руге «разоблачающие» сочине-
ния старого противника Шеллинга Христиана Каппа. Но все же кое-что о его отноше-
нии к философии откровения можно узнать из набросков писем к Карлу Марксу (ок-
тябрь 1843 г.). Мнение о Шеллинге Фейербах составил по книге Паулюса. Философию
откровения он назвал «нелепой теософистикой» [Фейербах 1995, 384]. Нелепость
и софистичность философии Шеллинга выражается в том, что он постоянно вводит
различия там, где этого не требуется. Так, сущность – не просто другое, но принципи-
ально отличное от существования. Абстрактные же понятия метафизики он, наоборот,
сочетает с обыденными представлениями, например, «Бог есть господин бытия». Этот
тезис Фейербах разбирает отдельно. Непонятно, как частное – Бог – может быть гос-
подином всеобщего – бытия. Господин не мыслится без бытия: чтобы быть господи-
ном, надо уже существовать. Бытие предшествует господству и составляет его основу.
Непонятный тезис Шеллинга Фейербах предлагает интерпретировать следующим обра-
зом: вместо слова «бытие» можно использовать слово «природа». Тогда все станет на
свои места: природа предшествует Богу как духу, а затем дух возвышается и становится
господином над природой. Бог и мир, дух и природа – противоположности, частные
понятия, с которыми вполне совместимо понятие господства, и общим для этих двух
понятий будет понятие бытия. А если так, то утверждение Шеллинга о возможности
подчинения бытия Богу и его господстве над бытием просто бессмысленно.
Философия откровения, по Фейербаху, – это «самая грязная и неопрятная меша-
нина из схоластики, отдающая Петром Ломбардским, теософизмами» [Там же, 385].
Шеллинг пытается всеми правдами и неправдами, жонглируя фразами и подменяя
понятия, создать своего Бога и тем самым лишний раз доказывает «безбожие той
эпохи, которая, тем не менее, мнит себя преисполненной религиозности... нет ни
Бога, ни дьявола, ни истины, ни лжи, ни разума, ни неразумия...» [Там же, 388].
В письме к Розенкранцу (апрель 1842 г.) Руге, не получивший в свое время обоб-
щающую работу от Фейербаха, упоминает «весьма основательное» исследование по
философии Шеллинга, вышедшее в издательстве Отто Виганда (см.: [Hundt (Hg.)
2010, 1034]). Речь идет о статье Карла Глазера «Различие между философией Шел-
линга и Гегеля». Задумав фундаментальное исследование, но опублико вав из него
лишь первый раздел первого тома (остальные разделы и тома так и не вышли), Гла-
зер формулирует в нем четыре вопроса. Но основательно прорабатывает лишь пер-
вый, который гласит: открыл ли Шеллинг новую страницу в истории философии
сорок лет назад? Ответ Глазера отрицательный: Шеллинг лишь вписал небольшой
182
абзац в страницу, открытую Кантом, да и то лишь в качестве вольного пересказа
учений Спинозы, самого Канта и Фихте.
Первой по-настоящему фундаментальной работой по истории немецкой филосо-
фии, содержавшей подробное изложение и оценку философии откровения, было сочи-
нение Фридриха Карла Бидермана «Немецкая философия от Канта до наших дней»
в двух томах (второй вышел в 1843 г.). Взяв за основу книгу Паулюса, Бидерман тща-
тельно и без существенных пропусков воспроизвел берлинские лекции Шеллинга
о положительной философии, философии мифологии и философии откровения, а за-
тем дал им собственную оценку. Во-первых, писал Бидерман, в Берлине Шеллинг не
сказал ничего нового по сравнению с тем, что говорил в сочинении о свободе и напи-
санных тогда же статьях. Во-вторых, возможность примирения эмпиризма и рациона-
лизма может обойтись науке слишком дорого. Ведь Шеллинг начинает с того, что про-
сто полагает бытие и пытается с помощью «действительной диалектики» перейти от
полагания бытия к понятию Бога. Но что это за бытие? Речь явно не идет об отдель-
ном бытии, данном в опыте; значит, Шеллинг исходит из «понятия, абстракции, и по-
лагание такого “бытия” как непосредственного начала всякого мышления само есть
произвольный акт мышления» [Biedermann 1842, 690]. Шеллинг хочет начинать сразу
с некоторой трансценденции, однако утверждает, что никаких границ в своей филосо-
фии не переступает. На деле же, замечает Бидерман, Шеллинг желает сделать свою
философию неподвластной законам мышления. «О, достопочтенный Кант! Что сказал
бы ты, если бы услышал об этом новом открытии положительной философии? Ты счи-
тал, что своей остроумной диалектикой навсегда устранил всякую возможность поки-
дать пределы опыта и переходить в область пустых понятий, заодно показав ничтож-
ность всех таких попыток; но ты не предвидел этот новый путь “абсолютной трансцен-
денции” и потому не перекрыл его; ты не думал о том, что после тебя придет один,
который скажет: Пусть мы и не можем выйти, исходя из мышления, за пределы опыта,
но потому я именно и хочу с самого начала, с помощью “абсолютного и решительно-
го” акта моей воли, переместиться за пределы мышления и опыта» [Ibid., 690–691].
Таково заключение Бидермана.
Младогегельянская критика философии откровения была, по существу, первой пуб-
личной оценкой нового учения Шеллинга. Что же касается старогегельянцев, то они не
торопились с вердиктами: зная о содержании берлинских лекций по пересказам Энгель-
са, Фрауэнштедта и по журнальным публикациям (так, в «Теологическом ежегоднике»
за 1842 г. был напечатан обзор «новой системы Шеллинга», сделанный Эдуардом Целле-
ром), они ждали, пока Шеллинг сам обнародует свои лекции. Но поскольку тот не спе-
шил с публикацией, некое предварительное суждение о его новой философии они себе
все же позволили. Главная тема, проходящая через все оценки старогегельянцев, – это
отрицание философии Гегеля и последствия этого шага.
Габлер и Маргейнеке полагали, что, отвергая Гегеля – единственного философа,
сделавшего мышление абсолютным принципом и сумевшего шагнуть за пределы чи-
стого бытия (и тем самым победившего спинозизм и пантеизм), – Шеллинг доказы-
вает спинозистский характер своего способа мышления. Шеллинг говорит о непред-
мыслимом, никак-не-мыслимом, слепо необходимом бытии как об исходном пункте
и начале философии, а потому, считает Маргейнеке, «и теперь еще эта слепая и не-
живая сущность субстанции сохраняется в самом духе его положительной филосо-
фии» [Marheineke 1843, 39]. Сходно оценивал положительную философию и Михелет:
«Бог Шеллинга, как в начале, так и в конце, есть одна и та же абстракция, непо-
движно помещенная на двух внешних границах времени и сама по себе лишенная
процесса, позволяющая между двумя этими пунктами происходить игре потенций...
другими словами, после того как Шеллинг оставил свою абсолютную систему тожде-
ства, он впал в немилосердное непрерывное колебание между теизмом и пантеизмом,
потому теперь он постоянно возвращается к этой противоположности и пытается
всеми способами избежать этой дилеммы» [Michelet 1843, 202 –203].
С точки зрения старогегельянцев, отказ от философии Гегеля означал не просто
отказ от одной из систем философии; по сути, это было отказом от самой
183
философии, отвержением разума и реставрацией самых ужасных времен, когда гос-
пожой над разумом была вера. Маргейнеке подчеркивал недиалектический, несисте-
матический и атомистический способ мышления Шеллинга: философия Шеллинга
перестает быть философией [Marheineke 1843, 60–61]. Розенкранц, не стремившийся
дать подробный комментарий, ограничился общей оценкой: «Учение о потенциях,
в той форме, в какой Шеллинг положил его в основание своей системы, по суще-
ству, аристотелевское. Только выражения, которыми он пользуется при его изложе-
нии, чувственнее, нагляднее, чем аристотелевские или гегелевские. “Напряжение”,
“смена”, “акт” и тому подобное, звучит приемлемее; и все же эти потенции — убо-
гий суррогат гегелевской метафизической диалектики. Без нее теперешнее философ-
ствование Шеллинга было бы лишено всякой дисциплины, всякого порядка, более
того, как это уже и случилось, опустилось бы до простого рассказа» [Rosenkranz 1843,
XXV]. Согласно Михелету, Шеллинг «теперь в угоду чудовищной реакции хочет пе-
речеркнуть 40 лет, да что я говорю, несколько столетий прогресса и пытается вернуть
нас во времена порабощенного разума, слепой веры» [Michelet 1843, 217]. И Маргей-
неке, и Михелет были едины в том, что «свободное мышление» Шеллинга вовсе не
свободно, оно подчиняется внешней необходимости: отн осится к своему предмету,
Откровению, «внешним способом», как к простому факту, смысл которого хочет
разъяснить, подобно отношению экзегета к комментируемой книге (так у Маргейне-
ке) и, заранее предполагая достоверность догматов веры, зависит от веры (так у Ми-
хелета). Если же оно не имеет внутренней необходимости, оно попадает под власть
индивидуального произвола.
В другом месте Михелет отметил необоснованность разделения философии на от-
рицательную и положительную. «Если мы сравним развитие его трех отрицательных
потенций с тем, как соотносятся три положительные, то увидим, что повторяется
одна и та же схема, без малейшей вариации, и у нас, по меньшей мере, появляется
основание отказаться от пустого формального различия отрицательной и положи-
тельной философии» [Ibid., 197]. Стоит заметить, что и «позитивный философ» Им-
мануил Герман Фихте нашел ненужным разделение философии на отрицательную
и положительную, ведь уже сам Шеллинг в рамках философии откровения хорошо
показал, что нет надобности в двух дисциплинах, одна из которых разъясняла бы
сущность Бога, а другая доказывала бы его существование. По мнению Фихте-
младшего, Шеллинг выбирает правильную стратегию обоснования теизма, когда на
первом шаге полагает «непредмыслимую» действительность Бога, а на втором шаге
освобождает Бога от его собственного бытия, показывая, что Бог есть сверхсущее.
Но эта стратегия никак не зависит от разделения философии на отрицательную и
положительную, более того – «эта противоположность, сделанная значимой для Бо-
га, положила бы его равным любой конечной случайной вещи» [Fichte 1843, 262],
поскольку любая вещь требует «двуаспектного» рассмотрения — со стороны сущно-
сти и со стороны существования.
Шеллинг следил за тем, что писали о его положительной философии гегельянцы.
Публикации младогегельянцев он характеризовал как «высмеивающую и искажаю-
щую литературу», не имеющую права претендовать на статус серьезной научной кри-
тики. Публикации старогегельянцев тоже считал поверхностными и не достойными
серьезного отношения: «Мы находим здесь снова то же самое грубое понимание,
те же самые ординарные колкости против непонятных вещей, что мы можем заме-
тить в сочинениях младогегельянцев» [Schelling 1990, 97]. При этом Шеллинг отдавал
должное тому факту, что у младогегельянской версии философии Гегеля много сто-
ронников, и не без ехидства замечал, что «о старогегельянской версии, исключая не-
сколько берлинских студентов, никто ничего не хочет знать; живое участие и своего
рода воодушевление гегелевская философия вызывает лишь постольку, поскольку ее
представляют как противоречие к толкованиям Маргейнеке и его товарищей по пар-
тии» [Ibid., 98]. Младогегельянство вызывало определенный интерес у Шеллинга, так
как предлагало свой ответ на «великий вопрос времени»: является ли христианское
откровение историей, истинны ли великие события, о которых сообщает Новый
184
Завет, или же они всего лишь представления человеческого сознания? «Церковь учит
первому, и Шеллинг нашел в своей философии средство, эти события разъяснить.
Молодые ученики Гегеля утверждают второе и показывают, что таким же было мне-
ние Гегеля. А что об этом говорит Маргейнеке? Ничего» [Ibid.] .
Конечно, в числе слушателей первых берлинских чтений были не только гегельянцы
(и не только они спешили разделаться с новым учением). На нескольких лекциях при-
сутствовал Якоб Буркхардт, сообщивший о своих впечатлениях в письме к Готфриду
Кинкелю от 13 июня 1842 г. Он писал: «Я пару раз присутствовал в качестве вольнослу-
шателя на оживленнейших догматических обсуждениях и для себя так уяснил дело:
Шеллинг – гностик, в собственном смысле слова, почти что Василид. Отсюда и жуткое,
монструозное, бесформенное в этих частях его учения. Мне все время казалось, что вот
вперевалку войдет какое-то чудовище азиатского бога на двенадцати ногах и двенадцатью
руками снимет шесть шляп с шести голов. Даже для самих берлинских студентов стано-
вилось все более и более невозможным выдерживать эти странные, наполовину бес-
смысленные способы рассмотрения и выражения. Было просто ужасно слушать долгий
исторический разбор судьбы Мессии, эпически растянутый, спутанный и лишенный
какой-либо формы. Тот, кто все еще может любить Шеллингова Христа, должен обла-
дать широчайшим сердцем» [Burckhardt 1921, 16].
Против нового учения Шеллинга выступили и его старые противники – Христиан
Капп и Эберхард Готлиб Паулюс. Последний сумел заполучить полный конспект лекций
Шеллинга и опубликовал его слово в слово, сопроводив пространными комментариями.
Шеллинг счел такой образ действий нарушением своих авторских прав, сделал запрос
на предварительное полицейское изъятие напечатанных книг и подал формальную жало-
бу в городские суды Берлина и Дармштадта. Начавшаяся судебная тяжба привлекла все-
общее внимание (например, Г. Гейне использовал ее как повод для стихотворения «Цер-
ковный советник Прометей»). Паулюс в ходе своей защиты опубликовал «Апелляцию
к публике». Там он пытался доказать, что не нарушал закон, так как его книга не была
перепечаткой (Nachdruck) в общепринятом смысле слова. Для этого он ссылался на ста-
рое юридическое учение о «спецификации», то есть действии, вследствие которого опре-
деленной материи придается новая форма и тем самым производится новое тело, отли-
чающееся от прежнего сортом и внешним видом. По сути, такая «спецификация» оказы-
валась средством присвоения изначально чужой вещи (когда, например, украденный ме-
талл переплавляется и сливается с собственным металлом и изготавливается сосуд, кото-
рый невозможно вернуть в прежнюю форму). Сочтя факт правонарушения Паулюса не-
доказанным, суды в Берлине и Дармштадте приняли решение в его пользу; к тому же,
ссылаясь на то, что Паулюс не самолично записал лекции Шеллинга, а поручил это сде-
лать другому лицу за определенную плату, городской суд Берлина отказался квалифици-
ровать его книгу как перепечатку; см.: [Scheidler 1844, 163–164]. Шеллинг попытался
обжаловать решение судов в суде высшей инстанции, но и там не добился успеха. Ли-
шенный возможности защитить свои авторские права и не считая для себя возможным
работать в таких условиях, с весны 1846 г. он перестал читать какие-либо лекции в Бер-
линском университете.
В заключение скажем несколько слов о русских слушателях первых берлинских
чтений. Михаил Бакунин записался на лекции Шеллинга по философии откровения
2 ноября 1841 г., а уже 3 ноября нанес визит самому оратору. Начала занятий он
ждал с большим нетерпением: «В продолжение лета я много читал его и нашел в нем
такую неизмеримую глубину жизни, творческого мышления, что уверен, что он и
теперь откроет нам много глубокого» [Бакунин 1935, 67]. Однако постепенно его вос-
торженное настроение испарилось. В приписке к письму от 15 ноября 1841 г. он за -
метит о первой лекции: «Очень интересно, но довольно незначительно, и ничего го-
ворящего сердцу; но пока не хочу делать никаких выводов; хочу еще послушать без
предубеждения» [Там же, 75]. Не вполне ясно, действительно ли Бакунин дослушал
до конца лекционный курс Шеллинга (по заявлению М.Н. Каткова – другого рус-
ского слушателя Шеллинга, Бакунин «на лекциях не бывал», хотя и принял участие
в факельном шествии, устроенном в честь профессора). Статья Бакунина «Реакция
185
в Германии» содержит несколько упоминаний Шеллинга, однако ни одно из них не
связано по существу с философией откровения (и единственная приводимая Бакуни-
ным цитата взята из сочинения Шеллинга 1807 г. «Об отношении изобразительных
искусств к природе»). К тому же, противостояние «позитивистов» и «негативистов»,
обсуждаемое в этой статье, имеет очевидный политический смысл и едва ли содер-
жит намек на противопоставление положительной и отрицательной философии, как
его понимал Шеллинг.
Михаил Катков тоже записался на лекции Шеллинга и так же был принят в его доме.
В письме от 1 июня 1842 г. к матери и брату он признавался: «Шеллинговы лекции име-
ют для меня великое значение, я слушал их с жадностию: столько глубокого, оригиналь-
ного, поучительного! У меня открылись глаза на многое, на что прежде были закрыты;
много предчувствий моих уяснились и большая часть сомнений и вопросов моих полу-
чили, по крайней мере, более определенный вид. Я много трудился за Шеллинговыми
лекциями и владею теперь лучшею тетрадью в Берлине, так что у меня со всех сторон
выпрашивают ее для изучения, где всех цветов и гегелианские профессоры. Но мне, по
правде сказать, не хочется давать, пусть бы сами ходили, записывали и трудились» [Кат-
ков 1897, 169–170]. В письме к Краевскому от 30 марта 1842 г. Катков предлагал опубли-
ковать обзорную статью по философии откровения в «Отечественных записках». Но вме-
сто этого журнал в отделе «Смесь» XX-го тома за 1842 г. напечатал первую берлинскую
лекцию, а в XXII-ом томе, в разделе «Разные известия», – речь Шеллинга перед студен-
тами по случаю окончания лекций. Вероятно, имея в виду обещание Каткова, редактор
добавил к ней следующее извещение: «Мы надеемся сообщить читателям обстоятель-
нейшее известие о духе и содержании лекций Шеллинга, обещанное нам нашим берлин-
ским корреспондентом, постоянно посещавшим эти лекции в продолжении всего се-
местра» [Отечественный записки 1842, 39]. Однако статья Каткова так и не вышла,
а в XXVI-ом томе за 1843 г. появился совершенно другой текст, озаглавленный «Герман-
ская литература», подписанный В.П. Боткиным и включивший сокращенный перевод
брошюры Энгельса «Шеллинг и откровение». Экземпляр этой брошюры привез в Рос-
сию В.Ф. Одоевский, посетивший Шеллинга в Берлине летом 1842 г.
Источники – Primary Sources
Бакунин 1935 – Бакунин М.А. Собрание сочинений и писем. 1828 –1876. Т. 3: Период
первого пребывания за границей. 1840 –1849. М .: Издательство всесоюзного общества
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1935 (Bakunin, Mikhail A., Collected Works and Letters.
1828–1876. Vol. 3 . The period of the first stay abroad. 1840 –1849, in Russian).
Катков 1897 – Катков М.Н. Из писем М.Н . Каткова к матери и брату // Русский вестник.
М., 1897. Т. 250 . С . 132 –178 (Katkov, Mikhail N., Letters to mother and brother, in Russian).
Отечественные записки 1842 – Отечественные записки. СПб., 1842. Т . XXII . Отд. VIII
(Otechestvennye Zapiski [Notes of the Fatherland] vol. 22, sec. 8 (1842), in Russian).
Фейербах 1995 – Фейербах Л. Сочинения: в 2 томах. Т . 2 . М.: Наука, 1995 (Feuerbach,
Ludwig, Writings in 2 vols., Russian Translation 1995).
Энгельс 1970 – Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2 -е. Т. 41. М: Издательство политической
литературы, 1970 (Engels, Friedrich, Marx, Karl, Writings. Vol. 40, Russian Translation 1970).
Biedermann, Friedrich Karl (1842) Die deutsche Philosophie von Kant bis auf unsre Zeit, ihre
wissenschaftliche Entwicklung und ihre Stellung zu den politischen und socialen Verhältnissen der
Gegenwart. Zweite Band. Mayer u. Wigand, Leipzig.
Burckhardt Jakob (1921) Briefe Jakob Burkhardts an Gottfried (und Johanna) Kinkel, Hrsg. R . Meyer-
Kraemer, B. Schwabe, Basel.
Engels, Friedrich (1985) Marx-Engels Gesamtausgabe. Abt. 1, Bd. 3 . Dietz, Berlin.
Fichte, Immanuel Hermann. Der Begriff der negativen Absoluten und der negativen Philosophie //
Zeitschrift für Philosophie und spekulative Theologie. T übingen, 1843. 11 . Band. S. 255 –290.
Glaser, Johann Karl (1842) Differenz der Schelling’schen und Hegel’schen Philosophie . Erster Band.
Erste Abteilung. O. Wigand, Leipzig.
Hundt, Martin (Ed.) (2010) Der Redaktionsbriefwechsel der Hallischen, Deutschen und Deutsch -
Französischen Jahrbücher (1837–1844), Akademie, Berlin.
Marheineke, Philipp (1843) Zur Kritik der Schelling’schen Offenbarungsphilosophie. Schluß der
öffentlichen Vorlesungen über die Bedeutung der Hegelschen Philosophie in der christlichen Theologie,
T.C .F . Enslin, Berlin.
186
Michelet, Carl Ludwig (1843) Entwickelungsgeschichte der neuesten Deutschen Philosophie, mit
besonderer Rücksicht auf den gegenwärtigen Kampf Schellings mit der Hegel’schen Schule, Dunсker u.
Humblot, Berlin.
Rosenkranz, Karl (1843) Schelling. Vorlesungen, gehalten im Sommer 1842 an der Universität zu
Königsberg, F.S. Gerhard, Danzig.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1990) Das Tagebuch 1848: rationale Philosophie und
demokratische Revolution, Hrsg. H.J . Sandkühler, Meiner, Hamburg.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1993) Philosophie der Offenbarung: 1841/42, Hrsg. M. Frank,
Suhrkamp, Frankfurt a. M .
References
Frank, Manfred (2018) „Reduplikative Identität“. Der Schlüssel zu Schellings reifer Philosophie,
Frommann-holzboog, Stuttgart, Bad Cannstatt.
Scheidler, Karl Hermann (1844) “Beitrag zur Berichtigung der Urtheile über den Paulus-
Schellingschen Process ”, Minerva, Vol. 1 (1844), pp. 144 –186, 276–331.
Schmidt, Alexis (1844) “Schelling’s neueste Wintervorlesung”, Jahrbücher der Gegenwart (1844),
pp. 87 –109.
Wheeler, Charles Stearns (1843) “Literary Intelligence”, the Dial, Vol. III (1843), pp. 387 –397.
Сведения об авторах
МИРОНОВ Дмитрий Геннадьевич –
кандидат философских наук, доцент ка-
федры истории зарубежной философии
философского факультета МГУ
им. М .В . Ломоносова.
ЛУНГИНА Дарья Андреевна –
кандидат философских наук, доцент ка-
федры истории и теории мировой культуры
философского факультета МГУ
им. М .В . Ломоносова.
Author’s information
MIRONOV Dmitry G. –
CSc (PhD) in Philosophy, Associate Professor,
History of Foreign Philosophy Dept.,
Philosophy Faculty, Lomonosov Moscow State
University.
LOUNGINA Darya A. –
CSc (PhD) in Philosophy, Associate Professor,
Director of Cultural Studies Educational Pro-
gram, Philosophy Faculty, Lomonosov Mos-
cow State University.
187
Социальные аспекты антропологии Канта
и их влияние на социологию ХХ века: проблемы и примеры*
© 2019 г.
А.Г. Жаворонков
Институт философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1; Балтийский
федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининград, 236038,
ул. Александра Невского, д. 14.
E-mail: outdoors@yandex.ru
Поступила 15.08 .2019
Статья посвящена малоисследованным социальным аспектам антро-
пологии Иммануила Канта и одновременно служит предисловием к
обсуждению влияния и актуальности кантовской антропологии, как
уникальной концепции эмпирически ориентированной дисциплины,
из современной перспективы социальных наук, и социологии в част-
ности. Первая ее часть содержит краткое описание структуры кантов-
ской прагматической антропологии и анализ ее конкретных социаль-
ных элементов, в особенности антропологической роли концепции
«необщительной общительности». Во второй части я поясняю, какие
ключевые факторы до сих пор препятствовали более широкой социо-
логической рецепции антропологических идей Канта. Речь идет,
в частности, об институциональных факторах, о соперничестве с дру-
гими традициями и о существовании ряда предрассудков относитель-
но оснований, структуры и целей кантовской антропологии. В треть-
ей части я обращаюсь к вопросу о влиянии кантовской антропологии
на европейскую и американскую социологию – на примере прагма-
тизма Дж.Г. Мида, критического рационализма Х. Альберта и фило-
софской антропологии Г. Плеснера. Моя главная цель – продемон-
стрировать, что из социологической перспективы антропологический
проект Канта в целом не является устаревшим или несовместимым с
современными теориями.
Ключевые слова: И. Кант, Ч.С. Пирс, Дж.Г . Мид, Х. Альберт,
Г. Плеснер, философская антропология, социальная философия, со-
циология.
DOI: 10.31857/S004287440007536-4
Цитирование: Жаворонков А.Г . Социальные аспекты антропологии
Канта и их влияние на социологию ХХ века: проблемы и примеры //
Вопросы философии. 2019. No 12. С. 187 –197.
*
Данное исследование было поддержано из средств субсидии, выделенной на реализа-
цию Программы повышения конкурентоспособности Балтийского федерального универ-
ситета им. Иммануила Канта.
188
Social Aspects of Kant’s Anthropology and Their Influence
on the 20th Century Sociology: Problems and Cases*†
© 2019 г.
Alexey G. Zhavoronkov
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya str., Moscow,
109240, Russian Federation; Institute for the Humanities, Immanuel Kant Baltic Federal
University, 14, Al. Nevskogo str., 236038, Kaliningrad, Russian Federation
E-mail: outdoors@yandex.ru
Received 15.08 .2019
The paper examines the often neglected social aspects of Kant’s anthropology,
as an introduction to the discussion concerning its influence and actuality from
the modern perspective of social sciences, and sociology in particular. Its first
part, containing a brief description of the structure of Kant’s pragmatic anthro-
pology as a unique concept of an empirically oriented discipline, analyzes its
social elements, with an emphasis on the anthropological role of the concept of
‘unsocial sociability’. In the second part, I shed light on the main factors which
so far have been a major impediment to a wider sociological reception of
Kant’s anthropological ideas. These factors include institutional issues, rivalry
with other traditions and the existence of several prejudices concerning the
foundations, structure and goals of Kant’s anthropology. In the third part, I
turn to the question of Kant’s anthropological influence on the European and
American sociology – on the examples of George H. Mead’s pragmatism,
Hans Albert’s critical rationalism and philosophical anthropology of Helmuth
Plessner. My main aim is to demonstrate that from a sociological point of view
the project of Kant’s anthropology is neither overall obsolete nor incompatible
with modern theories.
Key words: Immanuel Kant, Ch.S. Peirce, G.H . Mead, H. Albert, H. Pless-
ner, philosophical anthropology, social philosophy, sociology.
DOI: 10.31857/S004287440007536-4
Citation: Zhavoronkov, Alexey G. (2019) ‘Social Aspects of Kant’s Anthro-
pology and Their Influence on the 20th Century Sociology: Problems and
Cases’, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 187 –197.
За последние полтора десятилетия антропология Канта превратилась из марги-
нального предмета, интересующего лишь немногих историков философии, в одну из
наиболее обсуждаемых в немецко- и англоязычном кантоведении тем. Несмотря на
во многом совершенно оправданную критику некоторых его аспектов (понятия расы,
попыток описать характер отдельных народов, архаичных представлений о социаль-
ной роли женщин), кантовский антропологический проект, а в первую очередь «Ан-
тропологию с прагматической точки зрения», больше не считают банальным собра-
нием современных Канту предрассудков, теоретически и эмпирически ущербным
предприятием или курьезом кантовской мысли, не вписывающимся в его филосо-
фию. По мере обсуждения структуры и основных аспектов кантовской антропологии
на первый план выходят вопросы о ее конкурентоспособности по отношению к дру-
гим антропологическим философским проектам и о ее роли в современных дебатах
*
This research was supported by the Russian Academic Excellence Project at the Immanuel
Kant Baltic Federal University.
189
в области философской антропологии, философии биологии, этики, социальной и
политической философии. Пытаясь детально, то есть философски и исторически
осведомленно, ответить на эти вопросы, мы сталкиваемся с существенным препят-
ствием, связанным с отношениями между кантовской антропологией и социальными
науками – как из перспективы историко-философского анализа аргументов Канта,
так с точки зрения позднейшего влияния его антропологических идей. В противопо-
ложность биологическим и этическим аспектам, социальные аспекты кантовской
антропологии по-прежнему остаются вне поля зрения подавляющего большинства
специалистов. Кроме того, исследования истории рецепции антропологии Канта,
в отличие от рецепции других элементов его философии, фрагментарны, а в случае
с социологией и вовсе отсутствуют. В своей статье я попытаюсь отчасти восполнить
этот пробел, кратко описав социальные аспекты кантовской антропологии и проил-
люстрировав ее рецепцию в немецко- и англоязычной социологии ХХ века на трех
примерах.
1. Прагматическая антропология Канта и ее социальные элементы
Прежде чем приступить к описанию социальных аспектов антропологии Канта,
следует сказать о ее генезисе, структуре и развитии в целом. Отдельные антропологи-
ческие идеи и понятия у Канта можно найти уже в работах докритического периода,
в первую очередь в «Наблюдениях за чувством прекрасного и возвышенного» (1764),
«Опыте о болезнях головы» (1764) и «О различных человеческих расах» (1775). В ка-
честве собственной дисциплины и прочного элемента его мышления «прагматиче-
ская» антропология Канта, ранние контуры которой можно увидеть в его лекциях и
письмах 1770-х гг ., формируется позднее, в критический период. Помимо поздней
«Антропологии с прагматической точки зрения» (1798) важными источниками явля-
ются тексты «Определение понятия человеческой расы» (1785), «Предполагаемое
начало человеческой истории» (1786) и «О применении телеологических принципов
в философии» (1788). Кроме того, антропологические тезисы содержатся в трех кан-
товских «Критиках» и в политическом трактате «К вечному миру».
В своих трудах критического периода Кант разрабатывает совершенно новую, от-
личающую его антропологию от предыдущих и, к сожалению, часто недооценивае-
мую и сегодня концепцию «прагматической» рациональности действия1. В «Антропо-
логии» прагматическому разуму отведена особая роль: согласно Канту, если мы хо-
тим систематически познавать человека из прагматической перспективы, вых одя за
границы его характера как природного существа, мы должны рассматривать его как
не полностью разумное, но как способное к разуму существо (animal rationabile;
AA VII, 3212). В этом случае мы сможем сфокусировать антропологическое познание
на том, что человек «в качестве свободно действующего существа делает или может
и должен сделать из себя сам» (AA VII, 119). В системе кантовских императивов
прагматическая антропология помещена между чисто техническими предписаниями,
обусловленными причинными законами природы, и моральными, или категориче-
скими, императивами чистого практического разума (см. AA IV, 414 –419; AA VII,
322; AA XXV, 855). Прагматический разум кантовской антропологии выходит за рам-
ки простой инструментальной или технической рациональности, поскольку учитыва-
ет то, что мы, люди, не только из моральных соображений можем отказаться обра-
щаться друг с другом как с инструментами для достижения цели. Если мы обладаем
или хотим обладать прагматическим «знанием мира» («Weltkenntniß»: AA VII 120) или
«светской умудренностью» («Weltklugheit»: AA IV, 416, 417), мы должны признать
друг в друге существа, зависящие друг от друга, нуждающиеся в воспитании и при-
знании, постоянно меняющие или заново изобретающие общественные нормы пове-
дения, то есть самостоятельно создающие социальные правила и участвующие
в формировании социальной реальности, в которой они живут, – то есть в конечном
итоге «граждан мира» (AA VII, 120). Следуя этому принципу, мы можем воспитывать
в себе все более рациональную личность, соответствующим образом действующую
в человеческом обществе (подробнее см.: [Sturm 2009]).
190
Концепции прагматической антропологии и прагматического разума методологи-
чески и содержательно связаны с элементами критической философии Канта,
сформулированной в трех «Критиках» и других работах 1780 и 1790 гг. В частности
(хотя и не без определенных оговорок), можно говорить о связях между «Антропологи-
ей», теорией самосознания в первой «Критике» [Sturm 2017], учении о свободе
в первых двух «Критиках» и теории организмов в третьей «Критике» (см.: [Louden 2000,
Wood 2003]). Кроме того, можно обнаружить важные параллели между систематиче-
ской структурой прагматической антропологии и критическим, исторически иннова-
ционным понятием науки у Канта [Sturm 2009]. На то, что антропология Канта в от-
дельных своих аспектах эволюционировала и в критический период, указывают изме-
нения его позиции по ключевым темам, в частности переход от европоцентристской,
морально дискриминирующей концепции расы в трудах и лекциях 1770 и 1780 гг.
к космополитической, морально нейтральной идее расы в работах 1790 гг. [Zha-
voronkov, Salikov 2018].
Как уже было отмечено, несмотря на повышенный интерес к антропологии Канта,
ее социальная составляющая пока не стала предметом подробного рассмотрения, хотя
отдельные социальные аспекты кантовской антропологии периодически появляются
в поле зрения кантоведов (см. в особенности [Frierson 2003, 142–145], а также [Wilson
2006, 62–69; Zöller 2011; Rossi 2013 и Guyer 2015]3). Социологически релевантные ас-
пекты антропологии Канта проявляются, в частности, в концепциях «необщительной
общительности» («ungesellige Geselligkeit»), социальной природы зла и естественного
стремления к «злым» поступкам, а также в идее всемирно-гражданского общества.
Идея «необщительной общительности» является одной из определяющих для прагма-
тического подхода Канта в целом: мы, люди движимы эгоистическими мотивами, но
также и стремлением к социальному признанию4. Тот, кто желает обрести настоящую
«светскую умудренность» и развить в себе прагматический разум, должен признать это
противоречие и научиться с ним обращаться. Согласно Канту, природа поместила
в человеческий вид «зародыш раздора», но в то же время предназначила его для соци-
альной жизни, желая, чтобы «его разум» вывел из раздора «согласие, по крайней мере,
постоянное приближение к нему» (AA VII, 322). Предмет прагматической антрополо-
гии следует тем самым интерпретировать и из перспективы динамики социального
взаимодействия и конкуренции (см.: [Sturm 2017, 217]). Представление Канта о соци-
альных отношениях в свете его концепции социальной природы зла и естественной
склонности к «злым» поступкам (см.: AA XXV, 930 и др.) выглядит компромиссом
между антропологическим пессимизмом Гоббса и социально-политическим оптимиз -
мом Руссо. В свою очередь, идея всемирно-гражданского общества, как ответ на вызов
«необщительной общительности» человека, в «Антропологии» становится регулятив-
ным принципом для определения предназначения человеческого рода (AA VII, 331).
На общетеоретическом уровне кантовская концепция прагматической антропологии
близка современной социологии с ее холистическим подходом, учитывающим культур-
ные, политические, экономические и индивидуально-этические аспекты человеческой
жизни и ориентированным на возможность практического применения (см.: [Wood
2003], а также [Sturm 2009]).
Вопросу о влиянии социальных аспектов антропологии Канта на социальные
науки уделяется еще меньше внимания, чем самим этим аспектам, хотя выбранная
им позиция в существенной мере отличается от подходов его предшественников.
Кант рассматривал прагматическую антропологию как эмпирическую академическую
дисциплину, способную дать студентам важную информацию, или «знание мира»,
необходимое для их ориентирования и интеграции в общественную жизнь (см. пись -
мо к Маркусу Герцу, написанное в конце 1773 г.: AA X, 145 f.). В частности, он под-
разумевал, что мы не только являемся продуктами нашего индивидуального и соци-
ального развития, но и сами формируем его принципы. В этом контексте можно го-
ворить о наличии у Канта антропологически обоснованной теории динамики челове-
ческой истории. В целом кантовская антропология представляет собой уникальную
попытку создать науку о человеке, систематически исследующую различные аспекты
191
его цивилизирования, культивирования и морализирования. Ее предметом является и
социальная жизнь, то есть область современных социальных наук, во времена Канта
не существовавших в отдельности.
В ХIХ и ХХ вв. объем знания, накопленного науками о человеке, значительно
увеличился. Благодаря этому существенно изменились теоретические основания
существовавших во времена Канта наук и возникло множество новых методологиче-
ски, понятийно и онтологически гетерогенных дисциплин. Несмотря на то, что вме-
сте с этим устарели многие конкретные примеры и отдельные аргументы Канта, со-
циальные дисциплины – а в особенности политология и социология – испытали
сильное влияние его понятий и идей. Кантовская антропология с ее концепцией
прагматического разума играет в этом контексте далеко не в последнюю роль.
2. Кант и социология ХХ века
Тезис о существенном влиянии мысли Канта на социологию из современной пер-
спективы представляется едва ли не банальным. Рецепция кантовских идей играла су-
щественную роль в социологии первой половины ХХ в. (в особенности у Зиммеля и
Тённиса, но также и – несмотря на редкость прямых отсылок к Канту – у Макса Ве-
бера). В послевоенной социологии на Канта часто ссылались представители критиче-
ского рационализма (в первую очередь Ханс Альберт), Лейпцигской школы (в частно-
сти Хельмут Шельски в своей трансцендентальной теории общества), а также Кёльн-
ской школы (в особенности ее основатель Рене Кёниг). Отсылки к Канту стали неотъ-
емлемой частью дискуссий о нормативности как социальном «прафеномене» (у Кёнига
и его последователей), о роли понятия «необщительной общительности» в социологии
конфликтов (Ральф Дарендорф), о методологии и границах критического рационализ-
ма5 и о формах познания общества (Зиммель и многие другие; о роли Канта в этих
дебатах см.: [Schmitt 2000, 25 слл.]). В англоязычной социологии кантовские влияния
особенно заметны в макросоциологических теориях середины ХХ в., например,
в структурном функционализме Толкотта Парсонса, в котором отсылкам к Канту,
а точнее к кантовской эпистемологии, к его пониманию телеологии и к критике утили-
таризма, была отведена основополагающая роль. Историки социологии относят к за-
слугам Канта признание двойственной социальной природы человека как существа,
обладающего потребностями и разумом, исследование связи между свободой и социа-
лизацией, в том числе ревизию теории общественного договора Руссо и различение
между инстинктом и разумом на антропологическом уровне.
Несмотря на эти обстоятельства, влияние Канта на социологию не исследовано в той
же мере, как роль его идей, в том числе идей антропологических, в науках о природе,
в математике, физике, химии, биологии или эмпирической и рациональной психологии.
И если влиянию эпистемологии и этики Канта на социологию воздают должное некото-
рые авторы, систематически занимающиеся историей этой дисциплины, то вопрос о ре-
цепции антропологических идей Канта в социологии по сути еще не стал предметом
специального разбора. Следует, впрочем, отметить, что антропология Канта, в отличие от
других областей его философии, долгое время играла преимущественно маргинальную
роль в социальных и общественных теориях – не в последнюю очередь потому, что во-
прос о ее социологической релевантности не ставили даже занимавшиеся ею социальные
философы, например Фуко [Foucault 2008]. В немецкоязычной среде антропологическая
рецепция Канта испытывала давление со стороны течений, ориентировавшихся на Геге-
ля и Маркса. Дополнительную роль играла и конкуренция между философской антропо-
логией и критической теорией. В немецкой социологии значительное распространение
получил, в частности, изначально восходящий к Марксу тезис Хоркхаймера о том, что
кантовская индивидуалистическая философия приобрела социальный характер лишь
благодаря Гегелю. В англоязычной социологии рецепция, в свою очередь, в существен-
ной мере определялась и ограничивалась специфической интерпретацией кантовского
понятия прагматического.
Как минимум до конца 1990 гг. социологическая рецепция антропологических
идей Канта, помимо общих институциональных проблем, имела своим препятствием
192
три основных фактора. Во-первых, во многих философских и социологических
исследованиях сложилось представление о том, что кантовская антропология методо-
логически и эмпирически устарела. Из этого представления часто исходит и критика
универсализма и европоцентризма антропологического проекта Канта, а также его
отдельных примеров и выводов. Так, Пол Гилрой [Gilroy 2000, 46] обвиняет Канта
в европоцентризме и колониализме, ссылаясь на его антропологические лекции
(в первую очередь на «Menschenkunde»: AA XXV, в особенности на стр. 1187 сл.) .
Кроме того, как в философии, так и в социологии давно стала общим местом крити-
ка кантовских представлений о социальных ролях полов. И хотя эта критика была
часто обоснована, ее негативным следствием являлись, с одной стороны, недооценка
сложности отдельных идей и понятий у Канта (например понятий расы и народа),
а с другой – пренебрежение вопросом об актуальности других элементов его антро-
пологии. Во-вторых, у многих социологов устоялось мнение, что важнейшие элемен-
ты кантовской философии, не только не способны помочь, но и даже могут нав ре-
дить современной социологии, стремящейся методологически реформировать себя,
переосмыслив подход к эмпирическому знанию. Редкое исключение представляет
собой попытка немецкого социолога Бернарда Шеферса использовать кантовскую
теорию познания и идею практического разума для разработки «просвещенной» со-
циологии нового типа, учитывающей достижения антропологических исследований
[Schäfers 1996, 36–43]. Третий, историко-философский фактор является специфиче-
ским для англоязычной сферы. После окончания первой волны прагматизма и вслед-
ствие роста влияния аналитической философии на дальнейшее развитие этого
направления вклад Канта в возникновение прагматической программы в философии
и в социальных науках в целом был скоро предан забвению.
В последние два десятилетия ситуация постепенно начала меняться, в первую очередь
благодаря бурному развитию наук о жизни, которое привело к тому, что в социальных
науках гораздо чаще стали обращаться к антропологическим концепциям и понятиям,
а также к большим философско-антропологическим проектам, как это уже происходило
в немецкой поствоенной социологии, находившейся под влиянием идей Макса Шелера,
Гельмута Плеснера и Арнольда Гелена (см. подробнее: [Brunkhorst 2008, 167 слл.]).
В частности, предложенная социологом Гезой Линдеман концепция рефлексивной ан-
тропологии [Lindemann 2002], а также основанная Робертом Зейфертом и Хайке Делиц
«социология жизни» опираются на философскую антропологию Плеснера, при том
что последний сам адаптирует некоторые антропологические понятия и темы философии
Канта (например, роль «моральной видимости») к своему социологически-
антропологическому подходу. И все же, несмотря на изменившийся контекст, отсылки
к кантовским антропологическим идеям по разным причинам остаются редким явлением
в социологии, хотя при ближайшем рассмотрении нетрудно заметить, что антропология
Канта методологически и тематически могла бы многое дать современным исследовани-
ям и теориям.
3. Примеры социологической рецепции антропологии Канта
Несмотря на ее относительно фрагментарный характер, социологическую рецеп-
цию антропологических идей Канта невозможно охватить целиком в одной статье.
Для освещения основных аспектов я проиллюстрирую ее тремя примерами – амери-
канского прагматизма, критического рационализма и философской антропологии.
(i) В «старом» американском прагматизме до аналитического поворота антрополо-
гия Канта играла заметную методологическую роль, опосредованно, а подчас и пря-
мо влияя на затронутые философской программой прагматизма области социальных
наук. Правда, в работах основателей прагматизма кантовскому понятию прагматиче-
ского придавалось далеко не одинаковое значение. Ч .С. Пирс видел в прагматиче-
ской антропологии Канта разновидность практической этики, стремящуюся к дости-
жению своих целей через экспериментальный подход и тем самым созвучную его
собственному прагматическому проекту. У. Джеймс, в свою очередь, обращался к
кантовской антропологии лишь в связи с частными вопросами, например, тогда, ко-
гда речь шла о прагматической роли человеческого благополучия. Это различие
193
в интерпретациях является одной из наиболее существенных причин того, почему мы
не можем говорить о единообразии или теоретической преемственности прагматиче-
ски ориентированной социологической рецепции, что, впрочем, не дела ет послед-
нюю менее значимой.
Само возникновение термина «прагматизм» прямо связано с кантовской антропо-
логией. Выбор в пользу термина «прагматический» был сделан Пирсом во многом
благодаря чтению Канта в 1860–1870 -х гг. и знакомству с кантовским различением
между «прагматическим» и «практическим» разумом. Из-за своей связи с априорны-
ми условиями познания кантовская концепция практического не подходила для опи-
сания метода прагматизма. Прагматическая антропология, понимаемая Кантом как
«знание о мире», напротив, представляла собой удобное эмпирическое основание для
идей Пирса. В одной из его не опубликованных при жизни работ, 50 лет спустя во-
шедших в сборник избранных трудов («Selected Writings»), мы находим детальное
разъяснение того, как сам Пирс понимал различия между двумя кантовскими поня-
тиями: «...для того, кто изучал философию по Канту... praktisch и pragmatisch столь же
далеки друг от друга, как два полюса: первый принадлежит той области мысли, в ко-
торой ни один экспериментирующий ум не сможет обрести твердую почву под нога-
ми, а второй выражает отношение к определенной человеческой цели» [Peirce 1934,
412]. И хотя Пирс явно преувеличивает дистанцию между прагматическим и практи-
ческим (у Канта прагматическое совершенно очевидно относится к области практи-
ческого), он прав в том, что из кантовской перспективы его подход гораздо более
«прагматичен», чем «практичен» (см. об этом также: [Willaschek 2015]).
Среди представителей прагматической социологии кантовская антропология ока-
зала существенное влияние на Джорджа Герберта Мида. Для Мида Кант всегда был
ключевым собеседником, с которым, впрочем, чаще спорят, нежели соглашаются.
Так, в своей незавершенной диссертации, посвященной критике эмпирической кон-
цепции пространства, Мид пытается разработать свою собственную идею простран-
ства, отталкиваясь от кантовского феноменализма (см.: [Joas 1989, 25]). Свою кон-
цепцию Я Мид также стремится четко отделить от кантовской. В ранней статье
«Психология карательного правосудия» он отвергает представление Канта о реакции
Я «на абстрактные универсалии» как фундаментальное логическое заблуждение, по-
скольку, по мнению Мида, «выход из эгоизма» возможен скорее благодаря «призна-
нию врожденного социального характера человеческой природы» [Mead 1918, 585].
Любопытно, что именно этот утверждаемый Мидом недостаток кантовской аргумен-
тации можно было бы во многом нивелировать отсылкой к прагматической антропо-
логии Канта. Судя по всему, на это впоследствии обращает внимание и сам Мид,
поскольку в своей теории социального Я он перенимает антропологическо-
прагматические аспекты кантовской теории человеческого познания, в том числе
выраженные в понятии «необщительной общительности». В частности, в изображе-
нии Мидом отношений между Я и обобщенным Другим, или социальным целым,
в его наиболее известной работе «Разум, Я и общество» (1934), скомпилированной
и опубликованной после его смерти, проявляются бросающиеся в глаза параллели
с кантовским объяснением взаимодействия между индивидом и обществом, напри-
мер, в лекциях по антропологии (см. рукопись Мронговиуша: VA-Mrongovius,
AA XXV, 1416). И хотя Мид, подобно другим прагматистам, критикует кантовские
универсалии и представление о привилегированном характере форм в сравнении с
объектами, он, подобно Канту, описывает генезис и структуру социальных процессов
не просто через призму индивидуального, но из антропологической перспективы, что
позволяет нам сделать вывод о конструктивном влиянии кантовской антропологии
на его символический интеракционизм.
(ii) Еще более заметно наследие антропологии Канта в критическом рационализ-
ме. Карл Поппер в своей речи, посвященной памяти немецкого философа («Immanu-
el Kant: Philosopher of the Enlightenment», 1954), называет его идейным предшествен-
ником и отцом этого направления. На уровне теории познания критический рацио-
нализм продолжает начатый Кантом «коперниканский поворот», то есть критику
194
эмпиризма и догматизма. Ориентиром для него служат кантовские концепции разу-
ма, суждения и просвещения, в смысле поиска рациональных решений социальных
проблем. На этическом уровне в первую очередь заимствуется кантовский образ че-
ловека как законодателя морали (хотя это заимствование и нельзя назвать полностью
некритическим)6. К сожалению, исследователи критического рационализма в основ-
ном не принимают в расчет то, что описанная рецепция кантовских идей в значи-
тельной степени носит антропологический характер. На последнее обстоятельство
указывают лишь редкие авторы, в частности социолог Бернард Шеферс, отмечающий
центральную роль прагматического мышления для методологического самопросве-
щения современных социальных наук, а в особенности критического рационализма.
В этом свете оказывается важным вопрос о применимости к кантовской антрополо-
гии критериев научности, а также фаллибилизм Канта и его антропологические вы-
сказывания о социальных аспектах человеческой жизни.
Как это ни удивительно, на первый взгляд, детальный анализ антропологической
рецепции Канта в трудах представителей критического рационализма затруднен тем,
что многие из них (за исключением Поппера) считают скрытые отсылки к Кант у
и кантианству совершенно очевидными, не находя нужным их подробно раскрывать
или обосновывать (см.: [Schäfers 1996, 30–31]). Указанная особенность характерна и
для работ Ханса Альберта, считающегося главным представителем этого социологи-
ческого направления. Тем не менее, несмотря на относительную редкость конкрет-
ных цитат и отсылок, методологическая и тематическая связь его ключевых тезисов с
идеями и тезисами Канта весьма прочна. Так, отстаиваемый Альбертом 7 и многими
другими из его школы фаллибилизм, указывающий на ограниченный характер спо-
собностей суждения человеческого разума, восходит к кантовскому представлению
о человеке как не полностью разумном, но наделенном разумом существе. В свою
очередь кантовская идея о том, что люди должны прагматически использовать свои
способности, а также представление о просвещении как непрестанном и бесконеч-
ном критическом устранении предрассудков созвучны основополагающему для кри-
тического рационализма принципу решения проблем через действие. Наконец, тре-
бование свободы и связь между свободой и самореализацией в действии, также зани-
мающие центральное место в критическом рационализме, выглядят практическим
развитием и социологическим воплощением кантовской идеи человека как свободно
действующего существа в «Антропологии с прагматической точки зрения».
(iii) Одна из наиболее интересных глав социологической рецепции кантовской ан-
тропологии касается неоднократно упомянутого выше понятия «необщительной об-
щительности» и иллюстрирует конкуренцию между двумя антропологическими пер-
спективами – Канта и Плеснера. Плеснер, вместе с Максом Шелером заново осно-
вавший философскую антропологиюи придавший ей статус самостоятельного фило-
софского течения, известен как своими философскими, так и социологическими
концепциями, которые в его работах чаще всего оказываются тесно связаны друг с
другом. Эту связь можно увидеть в первую очередь в плеснеровской концепции об-
щества, противопоставленной выделяемым им двум типам сообщества (см.: «Грани-
цы сообщества. Критика социального радикализма», 1924). Не менее заметна она и в
антропологических работах, таких как его программный труд «Ступени органическо-
го и человек» (1928) или более поздние «Власть и человеческая природа» (1931)
и «Смех и плач. Исследование границ человеческого поведения» (1941). Его рецеп-
ция Канта была отчасти опосредована неокантианством. Впрочем, во многих случаях
Плеснер прямо ссылается на Канта, будь то в положительном смысле (например,
когда речь идет о структуре человеческого познания) или в контексте критики уни-
версализма и европоцентризма «классических» антропологий Канта и Гегеля.
В своей работе «Необщительная общительность: заметки об одном кантовском
понятии» (1966) Плеснер подвергает критике сформулированный в «Идее всеобщей
истории во всемирно-гражданском плане» и развитый в «Антропологии» тезис Канта,
согласно которому люди как индивиды эгоистичны, поскольку их побуждает к тому
«честолюбие, властолюбие или корыстолюбие» (см.: AA VIII, 21). Плеснер ставит своей
195
целью опровергнуть антропологическую роль отличительного признака человека,
согласно Канту состоящего в естественном стремлении к социализации в борьбе с со
стремлением эгоистическим. Он ставит Канту в вину то обстоятельство, что послед-
ний не учитывает социологически базовое, многократно подчеркнутое Плеснером
в «Границах сообщества» различие между индивидуальным и социально обусловлен-
ным действием, то есть между индивидом и личностью, носящей социальную маску.
Согласно Плеснеру, Кант попадает в логическую ловушку pars pro toto, распространяя
выводы о социальном поведении человека на его индивидуальные, естественные
свойства. Плеснер утверждает, что властолюбие, а в особенности честолюбие и коры-
столюбие нельзя понимать как человеческие константы, поскольку подобное допу-
щение не только основано на антропоморфизме, противоречащем эмпирическим
результатам зоологии, но и не принимает в расчет различия между формами обще-
ства. Тем самым «необщительная общительность», согласно Плеснеру, может являть-
ся возможным элементом рационального понимания социальных процессов, но не
способна служить антропологическим основанием этого понимания [Plessner 1983,
306]. Хотя Плеснер действительно находит отдельные слабые места в разрозненных
социальных аргументах кантовской антропологии, его критика, в свою очередь, мо-
жет встретить обоснованные возражения, поскольку она лишь слегка корректирует,
но не опровергает главный довод Канта, согласно которому «необщительная общи-
тельность» (или «необщительность», как Кант называет ее в некоторых работах,
в частности в AA VIII, 24) состоит в постоянном конфликте между естественным
стремлением к социализации и эгоистическими мотивами каждого индивида. Не-
смотря на то, что «необщительная общительность» может на первый взгляд представ-
ляться слишком размытым термином, ее связующая роль между философской антро-
пологией и социальной философией заслуживает внимания не только из перспекти-
вы ее рецепции в социологических теориях конфликта в ХХ веке (например, у Да-
рендорфа), но и в контексте продолжающихся современных дебатов о коммунита-
ризме – в качестве противовеса критической теории Акселя Хоннета и философской
антропологии Плеснера, а возможно, и в роли важного дополнения к ним.
Обнаружение скрытых, часто разрозненных аспектов немецко- и англоязычной
социологической рецепции кантовской антропологии в ХХ веке не яв ляется исклю-
чительно исторически ориентированной, систематизирующей задачей. Углубленное
изучение этой темы может пролить свет на вопросы о различии между кантовским
понятием прагматического и современным прагматизмом в социологии, а также
о преимуществах и недостатках кантовской антропологии по сравнению с подходом,
ориентированным на гегелевское понимание общества, социальной нормативности и
коллективного действия. Тем самым можно установить хронологическую и содержа-
тельную связь между антропологическими идеями Канта и проблематикой современ-
ных социологических дебатов. Очевидно, что проект кантовской антропологии пред-
ставляет собой потенциальную альтернативу другим антропологически содержатель-
ным перспективам современной социологии. Насколько плодотворна эта альтернати-
ва, покажут будущие исследования.
Примечания
1 Я очень благодарен Томасу Штурму и Алексею Саликову за возможность обсуждения кан-
товского понятия прагматического разума и за их советы, высказанные во время нашей сов-
местной работы над проектом по кантовской антропологии и социальным наукам.
2 Поскольку на русском языке основные антропологические работы Канта представлены в
существенно устаревших, не учитывающих современное состояние исследований переводах,
вошедших в шести- и восьмитомное собрание сочинений, а письма и антропологические лек-
ции пока не переведены, здесь и далее ссылки даются на тома немецкого академического изда-
ния Канта (Akademie-Ausgabe, сокращенно – AA).
3 Из русскоязычных (или переведенных на русский язык) работ см. в первую очередь:
[Мальтер 1989; Ойзерман 1994; Соловьев 2008; Соболева 2013].
4 Хотя об идее «необщительной общительности» есть ряд очень хороших работ (см., в част-
ности, [Wood 1991] и [Waldenfels 2015]), ее пока не интерпретировали с точки зрения ее соци-
альной роли в структуре кантовского проекта антропологии.
196
5 См. утверждение о том, что Кант был «духовным предшественником» этого направления
[Lührs/Sarrazin/Spreer/Tietzel 1975, 2].
6 См. уже критику Поппера в адрес Канта. C критическим рационализмом оказываются
несовместимыми, в частности, концепция синтетических суждений a priori и кантовская идея
времени. См. подробнее: [Schäfers 1996, 30].
7 См. в особенности работы Альберта «Трактат о критическом разуме» («Traktat über Kritische
Vernunft», 1968), «Критический разум и человеческая практика» («Kritische Vernunft und mensch-
liche Praxis», 1977), «Наука и способность разума ошибаться» («Die Wissenschaft und die Fehlbar-
keit der Vernunft» 1982) и «Свобода и порядок» («Freiheit und Ordnung», 1986).
Источники
AA – Kant, Immanuel (1900–н .в.) Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Berlin.
Ссылки – References in Russian
Мальтер 1989 – Мальтер Р. Индивидуум и общество в кантовской антропологии и филосо-
фии истории // Кантовский сборник. 1989. Вып. 14 . С . 25 –34 .
Ойзерман 1994 – Ойзерман Т.И. Учение Канта об изначальном зле в человеческой приро-
де // Кантовский сборник. 1994. Вып. 18 . С . 11 –20 .
Соболева 2013 – Соболева М.Е . О зле в человеческой природе в трудах Канта // Кантовский
сборник. 2013 . Вып. 4 (46). С . 15 –29.
Соловьев 2008 – Соловьев Э.Ю. Человек под вопросом (нелживость, правдивость и право на
молчание) // Логос. 2008 . No 5 (68). С . 23 –34 .
References
Brunkhorst, Hauke (2008) ‘Die Kommunikative Wende der Soziologie. Jürgen Habermas im Kon-
text der Nachkriegssoziologie’, Das Feld der Frankfurter Kultur- und Sozialwissenschaften nach 1945,
ed. by R. Faber, Königshausen & Neumann, W ürzburg, pp. 167–188 .
Foucault, Michel (2008) Anthropologie du point de vue pragmatique. Introduction а l’Anthropologie
[1964], Vrin, Paris.
Frierson, Patrick J. (2003) Freedom and Anthropology in Kant’s Moral Philosophy, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge.
Gilroy, Paul (2000) Against Race: Imagining Political Culture Beyond the Color Line , Belknap Press,
Cambridge.
Guyer, Paul (2015) ‘Play and Society in Kant’s Anthropology’, Reading Kant’s Lectures, ed. by
R.R. Clewis, De Gruyter, Berlin, Boston, pp. 223 –241 .
Joas, Hans (1989) Praktische Intersubjektivität: Die Entwicklung des Werkes von George Herbert
Mead, Suhrkamp, Frankfurt a.M .
Lindemann, Gesa (2002) Die Grenzen des Sozialen: Zur sozio-technischen Konstruktion von Leben und
Tod in der Intensivmedizin, Wi lhelm Fink, Mü nchen.
Louden, Robert B. (2000) Kant’s Impure Ethics: From Rational Beings to Human Being s, Oxford
University Press, New York.
Lührs, Georg, Sarrazin, Thilo, Spreer, Frithjof, Tietzel, Manfred (1975) ‘Kritischer Rationalismus
und Sozialdemokratie’, Kritischer Rationalismus und Sozialdemokratie , ed. by G. Lührs, T. Sarrazin,
F. Spreer, M. Tietzel, Dietz Verlag, Berlin, Bonn, Bad Godesberg, pp. 1 –54 .
Malter, Rudolf (1989) ‘Individual and Society in Kant’s Anthropology and Philosophy of History’,
Kantovsky Sbornik, Vol. 14, pp. 25 –34 (in Russian).
Mead, George H. (1918) ‘The Psychology of Punitive Justice’, American Journal of Sociology,
Vol. 23, pp. 577–602.
Oizerman, Teodor I. (1994), ‘Kant’s Doctrine of Primordial Evil in the Human Nature’, Kantovsky
Sbornik, Vol. 18, pp. 11 –20 (in Russian).
Peirce, Charles S. (1934) Collected Papers, Vol. 5, ed. by C. Hartshorne, P. Weiss, Ha rvard Univer-
sity Press, Cambridge.
Plessner, Helmuth (1983) ‘Ungesellige Geselligkeit. Anmerkungen zu einem Kantischen Begriff
[1966]’, Gesammelte Schriften, Bd. VIII: Conditio humana, Suhrkamp, Frankfurt a.M., pp. 294–306.
Rossi, Philip J. (2013) ‘Cosmopolitanism – Kant’s Social Anthropology of Hope’, Kant und die
Philosophie in weltbürgerlicher Absicht: Akten des XI. Kant -Kongresses 2010, Bd. 4, ed. by S. Bacin,
A. Ferrarin, C. La Rocca, M. Ruffing, De Gruyter, Berlin, pp. 827 –837.
Schäfers, Bernhard (1996) ‘Kant und die Entwicklung einer aufgeklärten Erkenntnistheorie und So-
zialwissenschaft’, Soziologie und Gesellschaftsentwicklung: Aufsätze 1966–1996, Springer, Wiesbaden,
pp. 22–43.
197
Schmitt, Jürgen (2000) Die Grenzen der Rational Choice Theorie, Springer, Wiesbaden.
Soboleva, Maja E. (2013) ‘Kant on Evil in the Human Nature’, Kantovsky Sbornik, Vol. 4 (46),
pp. 15 –29 (in Russian).
Soloviev, Erikh Yu. (2008) ‘The Question of Human Being (Non-Falsehood, Truthfulness and the
Right to Silence)’, Logos, Vol. 5 (68), pp. 23 –34 (in Russian).
Sturm, Thomas (2017) ‘Reines und empirisches Bewusstsein in Kants Anthropologie: Das “Ich”
und die rationale Charakterentwicklung’, Immanuel Kant – Die Einheit des Bewusstseins, ed. by G. Mot-
ta, U. Thiel, De Gruyter, Berlin, Boston, pp. 195–220 .
Sturm, Thomas (2009) Kant und die Wissenschaften vom Menschen, Mentis Verlag, Paderborn.
Waldenfels, Bernhard (2015) ‘Das Dilemma einer ungeselligen Geselligkeit’, Sozialität und Alterität:
Modi sozialer Erfahrung, Suhrkamp, Berlin, pp . 29–72 .
Willaschek, Marcus (2015) ‘Kant and Peirce on Belief’, Pragmatism, Kant and Transcendental Phi-
losophy, ed. by G. Gava, R. Stern, Routledge, New York, pp. 133 –151 .
Wilson, Holly J. (2006) Kant’s Pragmatic Anthropology: Its Origin, Meaning and Critic Significance,
SUNY Press, New York.
Wood, Allen (2003) ‘Kant and the Problem of Human Nature’, Essays on Kant’s Anthropology,
ed. by B. Jacobs, P. Kain, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 38 –59.
Wood, Allen (1991) ‘Unsocial Sociability: The Anthropological Basis of Kantian Ethics’, Philosophi-
cal Topics, Vol. 19, pp. 325 –351 .
Zhavoronkov, Alexey G., Salikov, Alexey N. (2018) ‘The Concept of Race in Kant’s Lectures on
Anthropology’, Con-Textos Kantianos, Vol. 7, pp. 275 –292.
Zöller, Günter (2011) ‘Kant’s Political Anthropology’, Kant Yearbook, Vol. 3, pp. 131 –161.
Сведения об авторе
ЖАВОРОНКОВ Алексей Геннадьевич –
кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института философии
РАН; старший научный сотрудник Инсти-
тута гуманитарных наук БФУ им. И. Канта.
Author’s information
ZHAVORONKOV Alexey G. –
CSc in Classical Philology, Senior Research
Fellow, Institute of Philosophy, Russian Acad-
emy of Sciences; Senior Research Fellow,
Institute for the Humanities, Immanuel Kant
Baltic Fed eral University.
198
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Классическая политическая философия Лео Штрауса
© 2019 г.
Цзинь На
Академия социальных наук Хэйлунцзян, 501 Youyi Rd, Daoli, Harbin, Heilongjiang,
PR China; Университет Вэньчжоу, Китай, 3, North Campus,Wenzhou University,
Chashan University Town, Wenzhou City, Zhejiang, PR China.
E-mail: najin12345@aliyun.com
Поступила 17.02.2019
По мнению Лео Штрауса, настоящая политическая философия долж-
на строиться на фундаменте преднауки и предфилософии. Понятия
преднауки и предфилософии отсылают к самой природа бытия,
к непосредственному обеспечению жизни, на котором основанно
естественное право – ядро всей политической философии. Философ-
ские принципы Штрауса сформировались в эпоху Веймарской рес-
публики (1919–1933). Будучи немецким евреем, выросшим на идеях
кризиса, политического и богословского, Штраус начал с поиска ре-
шения еврейских проблем современности, с критики схемы либе-
ральной ассимиляции, идеологии сионизма и просвещения. Это по-
служило основой глубокого философского анализа, положило начало
его исследованиям политической философии Платона. Еврейский во-
прос является отправной точкой научных исследований Штрауса и
дает ключ к его пониманию современности. Взгляд Штрауса приме-
ним и к отношеним между традиционной китайской культурой и со-
временной западной цивилизацией.
Ключевые слова: Лео Штраус, политическая философия.
DOI: 10.31857/S004287440007537-5
Цитирование: Цзинь На. Политическая философия Лео Штрауса //
Вопросы философии. 2019. No 12. С. 198–203.
199
Leo Strauss political philosophy
© 2019 г.
Jin Na
Heilongjiang Academy of Social Sciences, 501 Youyi Rd, Daoli, Harbin, Heilongjiang,
PR China; Wenzhou University, 3, North Campus, Chashan University Town,
Wenzhou City, Zhejiang, PR China.
E-mail: najin12345@aliyun.com
Received 17.12.2019
According to Leo Strauss, true political philosophy should be built on the foun-
dation of pre-science and pre-philosophy. The concepts of pre-science and pre-
philosophy are the very nature of being. This is the direct provision of life on
which natural law is based - the core of the entire content of political philoso-
phy. The philosophical principles of Strauss were formed in the era of the
Weimar Republic (1919 - 1933). Being a German Jew who grew up on the idea
of a crisis of “theology-politics”, Strauss began by searching for solutions to
contemporary Jewish problems, criticizing the scheme of liberal assimilation,
the ideology of Zionism and the enlightenment of modernity. This served as the
basis for a deep philosophical analysis, becoming the beginning of the research
of Plato’s political philosophy. The Jewish question is the background, the start-
ing point of Strauss's research and an important key, which opens up an effec-
tive way for us to understand the present, and even unites us. Showing the rela-
tionship between traditional Chinese culture and modern Western civilization,
with important conclusions.
Key words: Leo Strauss, political philosophy.
DOI: 10.31857/S004287440007537-5
Citation: Jin, Na (2019) “Leo Strauss and political philosophy”, Voprosy
Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 198–203.
Только восстановив веру в классическую политическую философию, человечество
может выйти из кризисов современности и в итоге создать по-настоящему справед-
ливое общество, – таково убеждение Лео Штрауса. Его понимание политической
философии во многом отличается от взглядов его современников. Он не строит кон-
кретных теорий, такаих как у Р. Нозика, Дж. Ролза, И. Берлина или Ф.А. фон Хайе-
ка. Ближе всего его подход к идеям Х. Арендт: оба они считают, что политика с точ-
ки зрения рациональности самодостаточна и в высшем смысле не может быть ин-
струментом. Штрауса сосредоточен на философских проблемах политической жизни,
важнейший его тезис, по нашему мнению, можно сформулировать так: политическая
философия имеет дело с вечной природой и в известной мере сама «естестве нна».
Истоки этой концепции можно найти в политической мысли Древней Греции.
Штраус старается применить учение Платона к современной ему политической си-
туации. Он воспитал не одно поколение учеников в Соединенных Штатах, и по их от-
зывам, предстает в чем-то похожим на Сократа (изящный философский язык, неиз-
менное внимание к этической стороне дела, поиски ответа на вопрос о благе, в том
числе политическом). Политология Штрауса – не наука, а область философского зна-
ния, ибо только философия может рассматривать политику в высшем смысле. Штраус
критикует современную философию и культуру с двух фундаментальных точек зрения:
рационализм (начиная с Декарта и Спинозы), во-первых, исходит из недоказанных
гипотез, а во-вторых, отвергает религию, что в итоге ведет не к прогрессу, а к регрессу,
к «вульгарному просвещению», к отрицанию истинного значения морали как ценности.
200
Это угрожает не только самой рациональности, но культуре в целом. По Штраусу,
концепция прогресса цивилизации в корне неверна: ложная предпосылка заключается
в том, что социальный прогресс может привести человечество к более высокому уров-
ню развития. История XX в. с ее жестоким «варварством» доказала несостоятельность
концепции бесконечного прогресса. Концепция прогресса основана на надеждах, ко-
торые совершенно не оправдываются, и именно поэтому абсолютная субъективность
современной философии ведет к распаду классического рационализма. По словам
Штрауса, не что иное, как немецкий идеализм, подкрепляет концепцию современного
субъективизма: Кант – основоположник этой концепции, Гегель довел ее до крайности,
а у Ницше поведение человека уже не связано ни моральными, ни политическими
нормами. В результате возникают современные нигилизм и релятивизм, а также узкий
историзм, представленный Вебером. С философской точки зрения субъективизм –
низшая точка катастрофы человеческой рациональности.
В классической философии Штраус пытается найти основу – по сути, предфило-
софскую. Современное философское познание сконструировано искусственно, оно
вторично. Современная философия не видит мир с естественной точки зрения древ-
них философов. Ее перспектива предложена Кантом, в ней естественные, оригиналь-
ные идеи исчезают и люди видят вещи как бы во второй пещере. Первая пещера –
естественная пещера Платона, а вторая – пещера культуры.
Штраус строит концепцию естественного сознания. В общении с современниками,
особенно с Г. Крюгером и К. Лёвитом, Штраус обсуждал следующие положения:
во-первых, философия должна быть простой, мыслить надо естественно; во-вторых,
объектом философии не должно быть наше собственное сознание, а должна быть
сама вещь. Фундамент философии определяется объектами, существующими до нее и
до науки. Беда современного человека в том, что он, будучи частью природы, живет
в неестественной среде. Начиная с естественной основы предфилософии, Штраус
начал внедрять это естественное сознание в свою политическую философию. Хотя
эти два положения напрямую логически не связаны, Штраус считает, что они едины.
Для него классическая политология – учение, которое исходит не из готовых теорий,
а напрямую из обычаев города-государства. Ее аксиология создается без посредства
политических понятий и представлений. Основные понятия классической политиче-
ской философии могут быть поняты посредством прямого указания на явления,
и таким образом проверяется их достоверность; только естественное сознание может
достичь их. Здесь можно проследить влияние на Штрауса феноменологии Э. Гуссер-
ля. Если Гуссерль стремится к первоначальной самоочищенности интенциональных
отношений, то тот вид дофилософского сознания, которому следует Штраус, являет-
ся первоначальной тягой к устранению конструктивных несоответствий. Разница
в том, что Гуссерль систематически демонстрирует принцип самоочищения, а Штра-
ус только выражает свое мнение. Предфилософия, по его словам, создает классиче-
скую философию, а та затем – политологию . По сути дела политология, основанная
Аристотелем, является основой всей современной политической науки. Она возвра-
щается к естественному сознанию предфилософии, круг замыкается, и именно Ари-
стотель впервые разрабатывает концепцию естественных прав.
После предыстории создания политической философии можно рассмотреть её
суть. В книге «Естесвенное право и история» он всесторонне изображает историю
понятия естественного права. Однако его метафорический язык труден для понима-
ния, можно лишь попытаться обобщить его точку зрения. Основная проблема есте-
ственного права заключается в том, чтобы для ограничения рациональности людей
найти универсально действующий стандарт, установить нормы социальной справед-
ливости. Этот стандарт не основан на изучении определенной философской системы,
а следует из естественных прав человека.
Штраус прошел обратный путь от современной философии к классической.
В ранней книге «Введение в политическую философию» Штраус следовал за идеями
Гоббса, поддерживал его теорию естественных прав, существующих до естественных
обязанностей. Штраус писал, что Гоббс еспрецедентно, открыто и ясно говорит о
201
естественных правах как законных требованиях индивида, и это становится основой
политической философии. Новаторство Гоббса в том, что он подчиняет закон праву
четко и последовательно. Штраус соглашается с точкой зрения Гоббса и рассматри-
вает естественные права как единое целое. Они становятся ядром для определения
основного содержания политической философии. Но позднее, в работе «Естествен-
ные права и история», взгляды Штрауса на концепцию естественного права значи-
тельно изменились: в это время он начал постепенно отказываться от идей Гоббса
и приближаться к Аристотелю. Теперь он менее склонен позволять естественным
правам определять всё и старается занимать более сбалансированную позицию, кото-
рая бы учитывала не только права, но и обычаи, и уклад политической жизни, с точ-
ки зрения греческого философа также «естественные».
Здесь следует отметить, что Аристотель не создал концепцию естественного права.
Она – продукт современности, и называя Аристотеля основоположником теории
естественного права, Штраус неточен. Отношения между природой и политикой
очень редко обсуждаются в трудах Аристотеля. Только в пятой книге «Никомаховой
этики» есть очень короткое замечание: «Государственное право[судие] частью есте-
ственно, частью – узаконено; оно естественно, если повсюду имеет одинаковую силу
и не зависит от признания и непризнания [его людьми]. [Иные считают узаконен-
ными все [виды права], ибо природное неизменно и повсюду имеет ту же силу [...]
однако, как меняется то, что [считается] правосудным, видят [своими глазами].
В таком виде это [мнение] не[верно], но в известном смысле может быть [верно]. [ ...]
Все это, однако, изменчиво, и вместе с тем одно существует от природы, другое – не
от природы. Какое [право] от природы, а какое по закону и уговору, если речь идет
о том, что может быть и так, и иначе, и при условии, что и то и другое подвержено
изменениям, также ясно; и для других вещей подходит такое же разграничение»
(1134 b, перевод Н.В . Брагинской). Здесь Аристотель выразил два важных тезиса: во-
первых, политическая справедливость подчиняется природе, во -вторых, сама есте-
ственная справедливость в свою очередь является переменной. На самом деле Ари-
стотель не считает, что что-то подобное естественному праву может стать основной
нормой социальной справедливости, как не ставит вопросов, рациональны ли обще-
ственная и политическая жизнь, насколько определен ы естественные права человека.
При более глубоком изучении политическая философия Аристотеля как раз оказыва-
ется противоположной точке зрения Штрауса. У Аристотеля политическое благо
и закон города-государства являются своего рода высшими ценностями – идеальны-
ми условиями существования аристократии.
После пересмотра своей позиции Штраус столкнулся с новой проблемой, а имен-
но: как прояснить отношения между природой и обычаем, чтобы достичь той поли-
тики, тех отношений между человеком и городом-государством, которые защищал
Аристотель? Здесь Штраус колебался, противоречил сам себе. С одной стороны, при-
рода – своего рода предел, ибо изучение природы предшествует открытию естествен-
ных прав. Таким образом, постижение природы равносильно ясному определению
предельных возможностей человека. Такое определение должно быть в преднауке
и предфилософии просто потому, что эта естественная позиция надсоциальна,
надысторична и в то же время надэтична и надрелигиозна. Это позиция естественной
перспективы естественного мира, и суть этой позиции – в естественных правах.
С другой стороны, политическая теория Аристотеля сочетает в себе примитивное
естественное право и обычай. Согласно этой теории, сам обычай развивается есте-
ственным путем: в общественной жизни нет так называемой чисто естественной
жизни, а есть только обычная общественная жизнь. Другими словами, обычная
жизнь и есть естественная жизнь, которую человек может прожить в обществе. Эта
позиция Аристотеля фактически расширяет общее понимание естественного поведе-
ния, естественных правил социальной жизни людей.
Именно эта позиция становится новой отправной точкой для Штрауса: он изме-
нил свои взгляды, отвернулся от Гоббса и обратился к Аристотелю, сделав шаг назад
с точки зрения абсолютных естественных прав. Однако в главных положенях точка
202
зрения Штрауса весьма отличается от аристотелевской, и Штраус осознавал это.
Он должен был сохранить баланс между естественным правом и обычаем, дать им
иное, новое определение различию между естественным правом и обычаем. Для Ари-
стотеляя обычай как исходно «естествен», он противопоставляется закону как «уста-
новлению». «По природе» и «по установлению» для Аристотеля – два способа суще-
ствования, и обычай относится к первой из этих двух сфер. Для Штрауса же и обы-
чай, и естественное право входят в область установленного. Социальная жизнь не
«естественна» для человека, изначальный способ разделения естесвенного права
и обычая проблематичен, поскольку жизнь в социуме существенно отличается от
естественного образа жизни. Штраус изучает естественное право в качестве объекта
преднауки и предфилософии, и при этом, когда пытается объяснить суть естествен-
ного права, ориентируясь на философию Аристотеля, то уже исключает его из поня-
тия «обычая». Таким образом, требование естественных прав становится неоднознач-
ным. По сути, независимо от того, исходят ли права от природы или от обычая, важ-
нейшим оказывается другой аспект различения: естественны они или социальны.
Естественное право должно существенно отличаться от права обычая. Это та позиция,
на которой всегда настаивал Штраус, потому что обычай уже является продуктом
определенной культуры, а естественное право не связано с конкретной культурой:
это наивысшее право, которым наделён человек вне истории и вне общества. Оче-
видно, что здесь точка зрения Штрауса весьма противоречива. В целом Штраус стре-
мился объединить свою концепцию и философию Аристотеля, интерпретировать
теорию естественных прав привычным образом, демонстрируя связь между обычаем
и естественным правом, стараясь различать естественные и социальные потребности
(однако не доведя этого различения до конца).
Необходимо подчеркнуть, что истинная политическая философия должна иметь дока-
зательную основу, в том числе на раннем этапе – преднаучную и предфилософскую.
В современном понимании предфилософская позиция как раз и состоит в том, что есте-
ственное право обеспечивается самой жизнью и является основой всего содержания по-
литической философии. По мнению Штрауса, естественная социальная природа людей
предполагает естественныме права как основу прав в строгом смысле слова. Поскольку
люди рождаются социальными, справедливость и права естественны.
Верно ли Штраус понимал суть классического философского подхода к проблеме
или только использовал его, чтобы рационально объяснить свою теорию современ-
никам? Необходимо отметить, что его теория политической философии содержит, по
крайней мере, две очевидные ошибки. Во-первых, он считает современный рациона-
лизм истоком социального хаоса новейшей эпохи, а с этим нельзя согласиться. Фи-
лософия от Декарта и Спинозы до Канта – основная форма рационализма, состав-
ляющая каркас в том числе и современной философии. Философский иррациона-
лизм восходит к шопенгауэровской воле к жизни и ницшеанской воли к власти. Что
же касается, например, Сартра и Хайдеггера, то их философские позиции и ценност-
ные ориентиры как раз рациональны. Штраус на самом деле нередко дает скрытые
отсылки к Ницше; Хайдеггера Штраус постоянно критикует, однако многим обязан
его философии. Многие из идей Штрауса отражают влияние философии ХХ в., дале-
кой от классического образа философствования. При этом Штраус намерено избегает
упоминаний Канта. По Канту, ценность морального закона априори порождается
только личностью человека и не встречается в условиях так называемых естественных
прав и естественных целей. С этой точки зрения, все, кто настаивает на естественных
правах, отрицают Канта и поэтому не могут довести свои теории до конца, а Штраус
пошел другим путем, обратившись к древней философии Аристотеля.
Во-вторых, Штраус ошибочно рассматривает понятия предфилософии как поня-
тия классической философии. Вообще, его позиция двойственна: с одной стороны,
он подчеркивает оригинальность теории Гуссерля, с другой – опирается на древне-
греческую философию. Штраус пытается объединить их в некое целое. Феноменоло-
гическая теория Гуссерля дала Штраусу преднаучную перспективу. По мнению
Штрауса, из предфилософии и преднауки как раз и появляется концепция
203
естественного права и становится основой классической политики. В этом смысле
политическая философия Аристотеля является наиболее полной теорией, поскольку
включает в себя преднауку и предфилософию. Таким образом, вопрос о возвращении
к понятиям преднауки и предфилософии на самом деле является вопросом возвращения
к классической философии Аристотеля. Здесь Штраус фактически смешивает две вещи:
во-первых, преднаучные и предфилософские взгляды для Гуссерля не являются есте-
ственными в том смысле, какой вкладывается в понятие «естественной установки».
Во-вторых, даже если естественная перспектива рассматривается как преднаучная,
то путь возврата к преднаучному не должен пролегать через классическую философию,
которая имеет естественную перспективу, но не сводится к ней. Здесь Штраус смешивает
логические отношения и отношения между самой философией и природными «вещами»;
связано это не с тем, что он формализует контекст классической философии, а с тем, что
разобщает ее содержание. Для философа не важно, научился ли он задавать вопросы
в стиле Сократа, а важно то, может ли он исследовать природу своими методами, ис-
пользуя собственный язык, чтобы передать открытую им тайну. В этом смысле позиция
Штрауса как философа оказывается уязвимой.
Сведения об авторе
ЦЗИНЬ НА –
доктор философии, сотрудник Академии
социальных наук Хэйлунцзян и Универси-
тета Вэньчжоу (КНР).
Author’s information
JINNA–
PhD, Heilongjiang Academy of Social Scienc-
es, Wenzhou university (PR China).
204
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Spirituality as a phenomenon of culture
© 2019 г.
Abdumalik Nyssanbayev1*, Serik Nurmuratov2**
1,2
Institute of Philosophy, Political Science and Religious Studies, Al -Farabi Kazakh Na-
tional University, 29, St. Kurmangazy, Almaty, 050010, Kazakhstan.
* E-mail: medina74@bk.ru
** E-mail: s.nurmuratov@mail.ru
Received 06.09.2019
Spirituality cannot be the result of non-spiritual States, but only the awakening
of spiritual power, the actualization of possibility. The spirit is a liberating and
transforming power, but we can never determine where true spirituality is found.
Spirituality is an indivisible state of consciousness, the core of the spiritual life
of society and the spiritual world of man. It cannot be decomposed into com-
ponents. As, for example, deed or state of faith, on Kierkegaard, impossible to
develop aesthetically or ethically, and unfolding on these components elements.
According to Berdyaev, spiritual life is not objective and objective reality, but
even less so it is subjective reality. These definitions are attached to the spiritual
being in its naturalistic understanding. The reality of the spiritual world does
not correspond not only to the phenomena of the natural and social world, but
also to any reality of spiritual experiences. The reality of the spirit is spiritual
experience.
Key words: spirituality, revival, philosophy, morality, evolution, legacy, cul-
ture, world outlook. science, postmodernism.
DOI: 10.31857/S004287440007365-6
Citation: Nyssanbayev, Abdumalik, Nurmuratov, Serik (2019) “Spirituality as a
phenomenon of culture”, Voprosy Filosofii, Vol. 12 (2019), pp. 204–211 .
205
Духовность как феномен культуры
© 2019 г.
А.Н. Нысанбаев1*, С.Е . Нурмуратов2**
1,2
Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки министер-
ства образования и науки Республики Казахстан, Республика Казахстан, Алматы,
050010, ул. Курмангазы, д. 29.
* E-mail: medina74@bk.ru
** E-mail: s.nurmuratov@mail.ru
Поступила 06.09.2019
Духовность не может быть результатом недуховных состояний, а лишь
пробуждением духовной силы, актуализацией возможности. Дух есть
освобождающая и преображающая сила, но мы никогда не можем
определить, где обнаруживается подлинная духовность. Духовность –
неделимое состояние сознания, сердцевина духовной жизни общества
и духовного мира человека. Ее нельзя разложить на составляющие.
Как, например, поступок или состояние веры, по Кьеркегору, невоз-
можно освоить эстетически или этически, и разложить на эти состав-
ляющие элементы. Согласно Бердяеву, духовная жизнь не есть реаль-
ность объективно-предметная, но еще менее она есть реальность
субъективная. Эти определения прилагаются к духовному бытию при
натуралистическом его понимании. Реальность духовного мира не со-
ответствует не только явлениям мира природного и социального, но
также и никакой реальности душевных переживаний. Реальность духа
есть духовный опыт.
Ключевые слова: духовность, философия, нравственность, эволюция,
наследие, философствование, культура, мировоззрение, наука, пост-
модернизм, развитие.
DOI: 10.31857/S004287440007365-6
Цитирование: Нысанбаев А.Н ., Нурмуратов С.Е. Духовность как фе-
номен культуры // Вопросы философии. 2019. No 12. С. 204–211.
The development of culture along the way of specialization resulted in reductio ad absur-
dum, when the very soul of a man specializes. The disengagement of a person from the
whole culture has led to the fact that the person himself does not understand himself, lost
the ability to communicate with his own self. “The building of culture has become spiritually
empty”, stated Pavel A. Florensky. It will still be built, but “those who will be behind us,
not denying anything, not opposing the subtlety of scientific distinctions and the elaboration
of artistic techniques, etc. etc., will say the fatal “no need”, and the entire complex system
of debased civilization will collapse as the multi-complex structure of astrology collapsed
at one time, as scholasticism collapsed, as great empires collapsed and collapse as useless”
(At the watersheds of thought).
Spirituality as a phenomenon of culture and quintessence of the era
Jacques Derrida offers to realize a completely indisputable fact: in modern culture, there
is a layer of mediators stretching between a man and truth, pushing the region of the imme-
diately given and undoubted into the infinitely distant horizon. All that is available to us in
the world of becoming is traces and traces of traces of the presence of being. Ontologically,
the traces are connected by an unhindered game of interchange of elements within the
structure. This game does not tolerate the beginnings of hierarchy and centering, i.e.
206
logocentrism as a principle of Western culture and metaphysics. In terms of the picture of
the logocentrism world, the existent – directly given, simple, complete, self-identical, acces-
sible “here and now” is available, given and self-evident.
The correlation of self-erasing traces is such that within the framework of the classical
schemes of thought it is impossible, as a matter of principle, to determine what correlates
with what. Logocentrism is interpreted by Derrida as an absolutely indisputable initial postu-
late of metaphysics. Its forms are onto-, teleo-, anthro-, theocentrism. In the space of traces
game, the problem of beginning set by Plato and the whole ancient culture of thinking is
meaningless or takes a completely different meaning. But it is precisely this problem t hat
created the disciplinary space, or topos, a place of Western metaphysics. Therefore, in the
discourse of Derrida, rift cracks (logical, poetic, psychoanalytic) penetrating the conceptual
monoliths of traditional metaphysics become (must become) visible and represented as the
subject of reflection.
Spirituality is an internal affair and task of philosophy, which understands and realizes it-
self as the spiritual quintessence of the epoch. But if the epoch represents its own quintes-
sence on the model of Luc Besson’s film “The Fifth Element”, then what should be the
philosophy of this epoch? “In the old days, the road to perfection was narrow and lonely,
traveling along it was constantly disturbed by wanderings, subjected to robber sin-attacks,
pursued by arrows of the past, which were as dangerous as arrows fired by the hordes of the
Scythians; now, one goes to excellence by rail, in pleasant company, and before a man can
say a word about it, he has already arrived” (Kierkegaard, Тhe Concept of anxiety). Techno-
logical advances of recent times have allowed us to create a special reality with computer
means – the virtual world of cyberspace. Accordingly, with the modification of the object,
the types of perception and judgment are modified. This world is not penetrated by its re-
flection and interpretation, but by interactive simulation, an experiment-game with artificial
reality. In the virtual world, the meaningful disappears, as in the Castalian “glass bead
game”, where the subject is the rules of ideally harmonic orderliness. Specific virtual stereo-
types of behavior are developed in the virtual world. For example, creativity without assum-
ing responsibility and without claiming truth: creativity for trial for show, for fun [Хоружий
1997, 67]. Postmodernism is a philosophical experimentum crucis with spirituality: is it possi-
ble and what is the philosophy from which the transcendence plan, i.e . vector of spirit
movement, is removed.
In classical philosophy, the model of spirituality as a vertical, “earthly-heavenly”, and
not a plane motion vector is universally significant. That is, transcendence, and not spatial
distribution, acts as an ontological and semantic structure of spirituality. Accordingly, a per-
son, fulfilling his spiritual mission, should build a value-semantic hierarchy of his own life as
a whole, where the highest spiritual interests obey to themselves and form the lower levels.
Kierkegaard says: we are all a synthesis with our spiritual mission. This is our structure. But,
Kierkegaard suggests, let us imagine a multi-stored building, each floor of which would have
a definite number of tenants. “It’s ridiculous and pitiful, but don’t most people prefer a
basement in this house?” (Kierkegaard, Тhe Sickness unto death). He likes to live there, alt-
hough the upper floor is free and awaits him - but after all, in the end, such a man believes,
the whole house belongs to him, and he has the right to settle where he likes! A man is free
not to climb the ladder of his own spirit, but this decision does not change the immanent
architectonics of spiritual reality, but only leaves it an empty opportunity.
Defining the plan of philosophical thought as the image by which the modern philosophy
imagines what it means to think, move within the meanings of its own thinking, Giles
Deleuze and Felix Guattari argue: the plan of immanence of philosophical thought as the
only container of concepts, territory of philosophical events is not reflection, contemplation,
or communication, but a desert populated by nomadic tribes. Meanwhile, as in the paradigm
of the philosophy of classical type (What is philosophy?).
This movement, in contrast to the postulated compulsory rationality of the Cartesian
type, does not imply either an objective frame of reference or a moving element that would
experience itself as a subject and as such would desire or need to be infinite. Unlike the old
existential territorialities of philosophical reflection, postmodern conceptualism in principle
leaves no room for the spirit in the interval between thought and being (between them is
“just a fold”), postulating instantaneous flash-like lightning-fast interoperability of truth and
207
thought. Multiple infinite movements are enclosed in one another, they are bent one inside
the other, and this immense shuttle weaves the plan of immanence as a continuous exten-
sion without breaking between the concepts. For various movements of infinity are so inter-
twined with each other that they do not break the Totality of the plan of immanence at all,
but only form its variable curvature.
Each movement runs through the whole plan, immediately returns to itself, each move-
ment bends, but at the same time it bends the other ones, generating feedback. The plan of
immanence is always the only one (this is why creative concept philosophy represents
a “mighty Unity”), and is a pure variation (this is why this infinite Wholeness – Omni-
tudo – of philosophy is unfragmented and open), but in history one and other endless
movements compete, are selected and replaced. They are more likely to emerge from throw-
ing bones than to form a mosaic. After all, an event of meaning is a superficial effect.
Spirituality in postmodernism and in classical philosophy
In the postmodern discourse, traditionally, there is a tangible element of shocking, intel-
lectual Fronde. In fact, the philosophical nomad is a conceptual character in postmodern
discourse, and it has a symbolic meaning only when comparing deconstruction strategies
with its own principles of organizing deconstructed metaphysics. It is all the more interesting
to trace the presence of generative models of deconstruction in the classical texts themselves.
Starting the presentation of his Philosophy of the Spirit as the third part of The Encyclope-
dia of Philosophical Sciences, Hegel warns that the knowledge of the spirit is the most con-
crete, the most true and highest, but also the most difficult. The highest definition of the
absolute is its definition as the spirit, and therefore the spiritual is something th at is ontologi-
cally genuine in a man and a state, society and nature. The spirit is essentially what it knows
itself. In all that is in heaven and on earth, in all plans and regions of being, the spirit knows
itself, for the spirit is essentially original and teleologically finite. And since there is no abso-
lutely other thing in relation to the spirit, the question of the nature of the spiritual can only
be asked by the spirit itself.
In classical philosophy, since the time of the Neo-Platonists, the methodological para-
digm has been established, according to which the context of philosophical reasoning about
spiritual entities should be built in the manner of reflexive structures that exclude basic epis-
temological distinctions. “The true greatness of the spirit lies in its integrity” (Plotinus,
Against Gnostics). The spirit always and in each of its acts is invariably identical with itself.
The intelligent Spirit, when thinking, always thinks of itself, dwelling in each of the eidola
inseparably but in its entirety, “and, thus, is a whole and thoughtful subject, a conceivable
object, and the very idea of oneself only”. Therefore, the act of his thinking and the aware-
ness of this act are the same in it. Thus, it is unacceptable to multiply the primary entities
by discriminating in the Spirit of the thinking and the one who thinks the thinking.
At the same time, in Neoplatonism, the metaphysical context of the problem of the spirit
also receives transcendental inversion. According to Plotinus, the All as a spirit ual and onto-
logical principle is present wherever one is able to communicate with it, and is absent for
someone who is not capable of it. The All is not outside of us, but always with us, only we
do not notice; people themselves become outside of it and separate themselves from it to the
same extent as they do from themselves, and, of course, cannot achieve what they are run-
ning away from, just as they cannot attain true-existence, having lost themselves. This prin-
ciple has received the utmost acute formulations in the teachings of the early Protestant
mystics. Here a transcendental inversion of the myth of creation occurs: The Word, enabling
God to be God, is born in the soul of a mystical subject.
The Spirit is not only freedom in God, but also freedom from God for certain personali-
ties. In this absolute and groundless freedom only spiritual reality can exist and be revealed.
It is impossible not to see in Meister Eckhart's mystical personalism a typological analogue
or prologue of the dialectical logical unfolding of the absolute unity of the self-consciousness
of transcendental idealism. The philosophical idea of God is part of, the birth and conclu-
sion of the philosophical system and exists only in connection with all the ideas of the
teachings and this connection. Of course, philosophical thinking is formed in a certain cul-
tural-historical atmosphere, in a certain “spiritual situation of time” and cannot be free of
the religious prejudices that they determine. But for philosophy, God is a problem, not a
208
given, and therefore it is free of any kind of religious experience, and only in thought is that
light in which God, man, and the world arise logically. Philosophy in its essence “does not
depend on the Christian faith, neither in its subject matter, nor in its principles, nor in its
methods” (Maritian, On the Christian philosophy).
In the soul that has reached the last depth of selfhood, an absolute freedom of self-
identification, i.e . in a soul that is in absolutely negative self-conception, God destroys Him-
self (“Be sure, this is the most essential property of God!”), and the soul itself reaches the
state when it does not need to have God anymore. Spirituality is defined as a unique act of
philosophizing, or a symbol of some limiting conditions of conscious life, about which it is
impossible to have rational knowledge by definition. Here, the problem of faith is posed in
all its seriousness and paradoxes. In accordance with the unshakable principle of the Chris-
tian doctrine of the soul, the human I must lose himself in order to be reborn in spirit and
truth. Kierkegaard analyzes the situations when I want to be himself, but it is said to begin
with the loss of himself. In these situations, the simulacrum of the infinite movement of
becoming devoid of spiritual orientations is generated.
Spirituality is the ontological structure of the self-transcendence of consciousness, I, the
soul. A concrete I contains some necessity, some limitations, there is a specific certainty,
coupled with his own capabilities. The infinite I is the most abstract of all possible forms.
And with the help of an infinite form, that is, a negative I, a human being gets into his head
to transform this whole, in order to extract I according to his taste, with a desperate effort to
create his own I. And after this he wants be himself. But no derivative I can, looking at
himself, give himself more than he has. A person may start over whenever he wishes. In the
movement of distinction, in the game of signifiers, so cherished by modern humanist stud-
ies, there is no provision for the appearance of a real individual. Everything here depends on
arbitrariness. And therefore rebellion at any moment is legitimacy. Kierkegaard shows that
the absolute movement of an establishment is actually accomplished either in the face of
certain objective values and meanings as perspectives and orientations of this moveme nt,
or in the plane of absurdity.
In any form – artistic creation, philosophical reflection, moral self-legislation – a person
selects and asserts existential values. Kierkegaard places this choice on the trajectory of faith
movement, calling it “the movement of infinity”. Only for the one who made this move-
ment, his continued stay in the end does not show any trace of the forced, fearful dresage,
of teaching the soul to the fear of finitude. Faith cannot be a direct movement of heart, but
only a paradox of real existence, looking into the eyes of impossibility. movement of infinity,
or the infinite becoming, is a “constantly lasting leap” in the real existence, i.e. its tran-
scendence, not mediation by reflection or any cultural form. If a person fails to achieve such
a concentration of all the content and meaning of his life in a single movement, then he will
always be in a hurry to rush into his petty life matters, never having risen into eternity.
The spirit, in order to set itself in motion as a whole, must preliminary curl into point
simplicity (Hegel). Kierkegaard says that he can fully understand and realize the philosophi-
cal form of movement towards an absolute sense, the basis of which is self-denial of all fi-
nite meanings and values. But the movement of religious faith is absolutely incomprehensi-
ble for any type of reflection. Faith cannot be mastered aesthetically or ethically; it remains
an eternal paradox for thinking. Believing is not the same thing as recognizing something as
absolute truth. You cannot believe in the multiplication table or chemical formulas. Ivan
Karamazov knows incontrovertibly and for certain that there is no God, but he cannot but
believe in his existence. Faith is not just the most paradoxical of all that can be conceived,
but it is so paradoxical that it cannot be thought of at all. Faith becomes flawed, feigns itself
if it fancies itself the knowledge. Proving the truth of faith as a certain state of mind is psy-
chologically and logically absurd.
If the soul is not concentrated in isolation and separation, but is split in various ways,
then it is not self-sufficient, and therefore not capable of complete surrender of self-denial
as the only way to carry out infinite movement. Infinite surrender is the last stage, immedi-
ately preceding faith. Infinite self-denial is a philosophical act by which I repudiate every-
thing temporary for the sake of finding the eternal. This requires enough human courage.
209
Spirituality as an ontological structure of consciousness
The spirit is the prohibition of the identity of a person with himself in any final object, exist-
ing or conceivable, as well as in any abstract universality. Therefore, the analytics of the objecti-
fied forms of the existence of spiritual reality cannot serve as a way of movement according to its
specific logic. In this sense, Hegel considers the truth of Christianity as a religion of the spirit.
The spirit as the absolute unity of divine and human nature in religion appears in the form of
comprehension of the substantial content in the subjectivity of direct self-consciousness, or in the
form of faith. Religious faith provides not an apodictic proof of an objective structure, but only a
hermeneutical model of the spiritual plane of being. The movement of self-identification in the
space of faith is understood as a movement from valuables that are not subject to criticism to the
experience that certifies them. Religious consciousness must create in itself a semantic structure,
in which the truth of spiritual sense-images becomes directly reliable experience as a personal
way of ideological affirmation in faith.
Ontological realities were dispersed, decomposed, being integrated into conditional, sign -
symbolic, rhetorical spirituality of confessional religions. The virtual reality of such symbol-
ism is not the immediacy of the presence of the spiritual beginning, but the projection of the
unconsciousness. The projection is presented to the consciousness itself, the Ego, as some-
thing coming to it from a sacred object, something like a radiance emitted by it.
In Nikolai Berdyaev’s positions, Hegel’s philosophical principle is repeated: the spirit ex-
ists only for the spirit. It is impossible to raise the question of his nature from outside the
spiritual. “Spiritual life is not a reflection of any reality, it is the reality itself” (Philosophy of
free spirit), not only not reducible to any other type of reality, but also reality in another
sense. Spiritual reality is not reality along with natural and psychological reality. Spirituality
is the existential reality of freedom as the highest quality value. Berdyaev, developing the
doctrine of mystical realism or panontologism, argued that rationalistic thinking is a painful
state of being itself, a break in it. "The Cave Empiricism" (V. Ern), the worldview of the
cave prisoners of Plato's myth corresponds to the heteronomy of the layers of being, the
absence of their internal connection. Good, Truth, Beauty are “super-cave” entities, they
are located in the space of solar freedom. In the mystical eternal dialectic, time, space, mat-
ter, the laws of logic are not the states of the subject, but the states of being itself, but pain-
ful states. Only a cognitive subject, detached from an object cut off from being, can be
tempted to be a mirror, a reflection of reality. Knowledge is the self-disclosure of being, its
dismemberment and appearance. In the act of self-knowledge, being itself is enlightened and
shaped. A cognizing subject living in the depths of being itself can only have a desire to ac-
tively create values in being itself, to develop being to perfection.
Lowness and lack of spiritual life cannot serve as evidence that this life does not exist.
The spirit is equally both all the fullness of being and none of the existing. The spirit gives a
meaning to all existing, but it is also non-rational, irrational, super-rational. The logical
form of thinking about the spiritual reality becomes Bonaventure's syllogism: “If there is no
God, then there is God.” How is it possible to prove and substantiate the very existence of
spiritual reality? It is impossible to expect that spiritual realities will be given and opened to
us like the objects of nature, psychological states or substances of spiritualistic metaphysics.
The material of the philosophy of the spirit is the cultural and historical spiritual experience
of mankind, creations and monuments of the spirit. But one should not forget that this
world of history and culture is also distracted from the existential subject, but spirituality is
not symbolic, it is ontological, it is the reality of enlightenment and transformation.
The theoretical level of the worldview puts a person in front of fundamental questions
that are usually denoted as “eternal”: does the universe and human existence have a final
goal, an absolute sense, an objective purpose? A glance at the universe and himself sub spe-
cie aernitatis inevitably entails a search for guarantees, or at least the possibility of man’s
overcoming of one’s own finitude. Failure to find them is the source of what in the Roman-
tic language was called Weltschmerz – world-weariness. Absolute not-being, in which death
immerses us, is ethically unbearable, even if it is ontologically immutable. About this true
and genuine riddle, about the fundamental feeling of the mystical unity of being present in
all religions, we can talk in modern language of psychology. But this does not mean that the
language of depth psychology is the last and quite adequate instance of the interpretation of
human spirituality.
210
Modern philosophy, following Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche, neo -Kantianism, exis-
tentialism, sharpens the problem of tragic contradiction of life and culture. On one side is
life, on the other - the realm of ideal, self-sufficient and objective values. The “cooled
forms” (G. Simmel) of the spirit begin their own independent existence, limiting the seeth-
ing vitality and inner responsibility of the soul for free self-establishment. In turn, the self-
conscious ego cannot independently control the life of an individual. To do this, it needs
a "mythical" dominant, but such a thing cannot be arbitrarily invented, and then believed in.
And the further the culture process moves, the greater the creation turns out to be the ene-
my of its creator. N.A. Berdyaev makes the tragedy of cultural creativity (“objectification”)
a model of eschatology and the source of existential philosophizing.
Hegel said that, turning to Ancient Greece, the Spirit finds itself in its homeland. In Greece,
the spirit is neither categorically nor terminologically isolated from a set of concepts describing
an ideally spiritual world. The first philosophers, such as Thales, saw the presence of gods, de-
mons and souls in everything. Plato places spiritual entities in the speculative space – Hyperu-
ranion. And only Christianity places the spiritual principle on the other side of image and form:
simultaneously in divine transcendence and in the immanent space of soul. The dialectic of the
spirit formation principle is such that personality had to become in respect of separation from the
state-political whole, so that its correlate appeared in the form of a spiritual modality of
worldview. If we apply the techniques of an ideally-typical approach to cultural phenomena, then
it can be stated that an individual’s spiritual and moral self-determination can be in two extreme
forms of relationship with the perception of the meaning and teleology of social and political life:
rational and direct, or irrational and inverse matching. Of course, in their pure form, these rela-
tions appear only in theoretical abstraction, but in reality there are always many mixed and tran-
sitional forms. However, as methodological constructs, these two types of personality-socium
relations can play a heuristic role in research on hermeneutics of cultural categories. The polis
way of life can be considered a classic example of this type of consciousness, when the values
and norms of a social whole are directly and immediately the virtues of personal life, the strategy
of self-construction of the individual soul.
Similar positions are held by the great Kazakh thinker Abay Kunanbayev. The main
principle of his teaching Adam Bol (“Be a man”) expresses the focus of his worldview orien-
tations on fundamental bases of holistic being of a person. Humanene ss is the form of
commonality, which expresses the essence of traditional Kazakh society as integrity, where
the forms of communication of people with each other were leading, where human rela-
tions, rather than economic, political, defined moral norms and traditions, thereby deter-
mining the characteristics of traditional Kazakh society, special spirituality.
The value principle Adam Bol! makes it possible to understand the meaning of the em-
bodiment of mind in the sphere of moral relations, because it fixes and characterizes human
communication not only from the perspective of outward orientation from person to person,
but also from the position of inner orientation of a person towards himself, the voice of con-
science inside each person in a particular society. Moral behavior, according to Abay, always
implies that a man acts not only in accordance with an inner will, consciously subordinate
to his own reason. Reasonable, rational behavior is therefore truly human behavior, moral
behavior is rational behavior. Thanks to education, culture, knowledge enrichment, a person
must improve his natural inclinations. This is the main semantic attitude of Abay’s educa-
tional concept [Нысанбаев 2000, 45].
Conclusion
Reflection of culture is made by philosophy as the transcendence of its content to certain
transcendental conditions for the possibility of performing a philosophical act. In the Hege-
lian scheme, being and nothingness, fullness and emptiness, logos and chaos, etc., are
placed in a single space. All of these philosophical categories have a reliable position and
clear prospects in a good, i.e . rationally organized system. The post-Hegelian philosophy
represented by Kierkegaard challenged the thesis about the essential unity of Good, Truth
and Beauty in existential modality of ontology. Kierkegaard proclaimed the principle that
opened the way to postclassical philosophizing: the territory, where existential truths can be
placed, cannot be the sphere of all-encompassing unity of Good, Truth and Beauty, or the
sphere of harmony of ethical, aesthetic and theoretical relationship.
211
Deleuze and Guattari consider the creation of still absent land and people, which have
no place in Western democracies, as a correlate of philosophical creativity in the new socio-
cultural reality. In our opinion, the potential of classical forms of philosophy, for which
spirituality is both the ontological structure of consciousness and the condition of their own
possibility, is far from being exhausted. The resolution of the aporia of culture and spirituali-
ty is that socially conditioned forms of communication, within which and according the
logic of which identification strategies are built, must succumb to semantization in terms of
hermeneutics of irrelevant spiritual and ontological realities. For this ontological self-
assertion, an overwhelming obstacle is only that the foundations of our reality accepted by
ourselves are not true. Socio-humanistic science in modern conditions discovers and makes
the spiritual dimension of being, the transcending totality of all immediate definiteness of
consciousness binding for itself. The true (infinite) form of human self-consciousness con-
sists in the completely free relationship of an individual and the absolute infinity of the spir-
it. The meaning of spiritual self-determination is always objective for us and is realized as
the conceptual transformation of being.
Ссылки – References in Russian
Нысанбаев 2000 – Нысанбаев А.Н. Становление исламской философии в Казахстане. Алма-
ты: ИФПР КН МОН РК, 2000.
Хоружий 1997 – Хоружий С.С . Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности // Во-
просы философии. 1997. No 6. С . 53 –68.
References
Horuzhiy, Sergei S. (1997) “Notes to ontology of virtuality”, Voprosy filosofii, Vol. 6 (2007),
pp. 53 –68 (In Russian).
Nyssanbayev, Abdumalik (2000) Formation of Islamic philosophy in Kazakhstan . Institute of philoso-
phy and political science CS MES RK, Almaty (in Russian).
Сведения об авторах
НЫСАНБАЕВ Абдумалик Нысанбаевич –
Академик НАН РК, доктор философских
наук, профессор, академик-секретарь Ин-
ститута философии, политологии и рели-
гиоведения КН МОН РК.
НУРМУРАТОВ Серик Есентаевич –
Доктор философских наук, профессор.
заместитель директора Института филосо-
фии , политологии и религиоведения КН
МОН РК
Author’s information
NYSSANBAYEV Abdumalik –
Academician of NAS RK, Doctor of
Philosophical Sciences, professor,
Academician -secretary of the Institute for
Philosophy, Political Science and Religion
Studies CS MES RK.
NURMURATOV Serik –
DSc in Philosophy, professor, Deputy Director
of the Institute for Philosophy, Political
Science and Religion Studies CS MES RK.
212
Религия и политика в современной зарубежной литературе*
(обзор концепций)
© 2019 г.
А.Г. Глинчикова
Московский педагогический государственный университет, Москва, 119571,
пр-т Вернадского, д. 88.
E-mail: alla.glinchikova@gmail.com
Поступила 01.10 .2019
Статья представляет собой обзор основных направлений в области
исследования взаимодействия религиозного и гражданского компо-
нентов в политике в материалах современной зарубежной литературы.
Среди этих направлений можно выделить следующие: исследован ие
теоретико-методологических аспектов взаимодействия религиозного и
политического компонентов в современной Европе, Азии и на пост-
советском пространстве; влияние массовой иммиграции на формиро-
вание новой религиозно-культурной и политической идентичности
современной Европы; изучение преемственности в архетипах между
европейским пред-Модерном и эпохой Модерна; исследование фено-
мена «неопаганизма» как новой формы религиозности в Европе; ана-
лиз трансформации самой природы религиозности под влиянием раз-
вития новых технологий и форм коммуникации; исследование влия-
ния религиозной эволюции на формирование специфики российского
века Просвещения, а по существу, феномена российского варианта
политического Модерна; рассмотрение особого феномена Модерна,
при котором в ходе секуляризации и связанного с ней исчезновения
сакрально-религиозного компонента из политики, возникает обрат-
ный процесс сакрализации самой политики и науки.
Ключевые слова: религиозный компонент в политике, социальная сре-
да, пост-материалистическая религия, неоязычество, социальная эво-
люция.
DOI: 10.31857/S004287440007538-6
Цитирование: Глинчикова А.Г . Религия и политика в современной за-
рубежной литературе (обзор концепций) // Вопросы философии.
2019. No 12. С. 212 –216.
*Статья А.Г. Глинчиковой подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект
No 17-03-00644 «Гражданский и религиозный типы общности в современном политиче-
ском процессе») 2017–2019.
213
Religion and Politics in Modern Foreign Literature
(Review of Modern Consepts)*
© 2019 г.
Alla G. Glinchikova
Moscow Pedagogical State Unyversity, 88, Vernadskogo av., Moscow, 119571,
Russian Federation.
E-mail: alla.glinchikova@gmail.com
Received 01.10 .2019
The article is aimed to give a survey of the main trends in the field of investiga-
tion of interactions between religious and civil aspects in politics in modern
western literature. The main trends can be represented as following: theoretical
and methodological aspects of interconnection between religious and civil com-
ponents in modern politics in Europe, Asia and post-soviet countries; the influ-
ence of massive immigration on the development of religious, cultural and po-
litical identity of modern Europe; the investigation of phenomena of “new pa-
ganism” as a new form of spirituality, comprising elements of post-materialist
values, neo-nationalism, globalism, feminism and other postmodern trends; the
analysis of transformation of the nature of religious and spiritual attitudes under
the influence of new technologies and new forms of communication; the re-
search, devoted to the development of Modernity in Russia and specifics of the
Russian path to Enlightenment.
Key words: religious aspect of politics, social environment, neopaganism,
post-materialist religion, social change.
DOI: 10.31857/S004287440007538-6
Citation: Glinchikova, Alla G. (2019) “Religion and Politics in Modern
Foreign Literature (Review of Modern Consepts)”, Voprosy Filosofii, Vol. 12
(2019), pp. 212 –216.
Отличительной чертой современной литературы, посвященной теме возвращения
религии в политический дискурс является то, что большинство книг – либо сборни-
ки статей, либо диалоги ведущих политических мыслителей. Что касается сборников,
то целый пласт современной литературы касается возвращения религиозного компо-
нента в социально-политический процесс современной Европы. Здесь можно выде-
лить такие книги, как «Эволюция европейской души. Религия и миграции в Север-
ной и Южной Европе». Книга эта издана в серии Ashgate AHRCIESRC religion and
society series. В данном сборнике хотелось бы отметить теоретико-методологические
работы в области исследования религиозного компонента современной европейской
социальной среды Энцо Паче «Религия в развитии: миграция, религия и социальная
теория» [Pace 2014, 9 –24], Жозе Пинто «Новая экономика, миграция и социальные
изменения: воздействие религии» [Pinto 2014, 25 –46] и Томаса Мартикайнена «Рели-
гии иммигрантов в контексте «принятия» в развитом индустриальном обществе»
[Martikainen 2014, 47–68].
Основной темой этих работ является осмысление влияния массовой иммиграции
в Европу из стран Третьего мира на возрождение религиозного и кризис гражданского
*
The paper of A.G . Glinchikova was prepared with financial support of Research grant No 17-
03-00644 of Russian Foundation of Basic Research “Civil and Religious types of communality in
modern political process” 2017–2019.
214
компонентов в современной политической культуре европейских стран, таких, как
Греция, Португалия, Италия, Швеция, Норвегия, Дания. Особое внимание уделено
влиянию иммигрантов из исламских стран, из Вьетнама и из африканских стран. Ана-
лизируются те вызовы, которые несут Европе новые инорелигиозные иммигрантские
группы и то, как отвечает европейское общество и его традиционные конфессии. Сре-
ди исследователей можно назвать такие имена, как Элизабет Диамантопополо (Гре-
ция), Хелена Вилака (Португалия), Роберта Риуччи (Италия), Пер Петерсон (Швеция),
Иорн Боруп (Дания)
Если данные работы посвящены в основном Западной Европе, то для нас особый
интерес представляет книга «Эволюция, ритуалы и социальные изменения. Сравни-
тельный анализ секулярных и религиозных аспектов развития Восточной и Западной
Европы» [Coleman, Koleva, Bornat (eds.) 2013] Она стоит особняком не только пото-
му, что она посвящена сравнительному анализу взаимодействия религиозного
и гражданского компонентов в политических процессах Западной и Восточной Евро-
пы, но еще и потому, что концентрируется не столько на влиянии иммигрантов на
возрождение религиозного компонента, сколько на влиянии социальных изменений
на усиление религиозного компонента в политике.
Еще одним важным направлением в исследовании взаимодействия религиозного
и гражданского компонентов в современном политическом процессе с тал анализ
влияния религиозного фактора на формирование новой культурной идентичности
современной Европы. Подобные работы с неизбежностью предполагают историче-
ский подход и исследуют роль сакральных и религиозных компонентов как важных
факторов социально-политического процесса. Здесь необходимо отметить книгу Сю-
зан Расмуссен «Религия и идентичность в Европе. Создание религиозных противни-
ков в античности и в наши дни» [Rasmussen 2013]. Если раньше европейская Совре-
менность рассматривалась как преодоление и отрицание средневековой и теократи-
ческой традиции, то сегодня европейские авторы всё чаще начинают подчеркивать
скрытую неосознаваемую преемственность в архетипах между европейским пред-
Модерном и эпохой Модерна. Автор прослеживает эволюцию архетипов от Аврелия
Августина до Сэмюэля Хантингтона [Rasmussen 2013, 150 –170]. Особого интереса
также заслуживает глава, в которой выявляется преемственность между старыми
и новыми формами межцивилизационнах противостояний [Rasmussen 2013, 171 –215].
Четвертое направление исследований, связанных с взаимодействием религиозного
и гражданского компонентов в современном политическом процессе Европы пред-
ставлено темой нарастания постматериалитических либо неоязыческих компонентов
в политическом сознании и культуре современного европейского общества. К этому
направлению может быть отнесен работа финского автора Мика Лассандера «Пост -
материалистическая религия. Языческие идентичности и изменения в системе ценно-
стей современной Европы» [Lassander 2014]. Эта книга является весьма новаторской
в своей области, в основе ее лежит идея о необходимости развития феномена «рели-
гиозности» в соответствии с системами ценностей, порождаемыми эпохой пост-
материализма. [Lassander 2014; 311–411]. От теоретических размышлений, связанных
с именами Роналда Инглехарта, Дэвида Аппеля, Уилфреда Смитта, Джеймса Бэк-
форда автор переходит к исследованию конкретных форм современной религиозной
идентичноcти с особым прицелом на анализ молодого поколения. Он рассматривает
трансформацию самой природы религиозности сквозь призму эволюции интеркон-
фессиональных отношений под влиянием новых технологий и новых форм коммуни-
кации [Lassander 2014, 115 –121]. Исследователь приходит к выводу, что несмотря на
очевидные моменты сходства с до-христианскими вариантами, новое язычество есть
новая форма религиозности, соответствующая особому типу гетерогенности и эгали-
таризма, характерным для постмодерного и пост-матриалистического общества. Ав-
тор называет этот новый тип религиозности религиозностью самовыражения, проти-
вопоставляя его прежнему типу – религиозности-шаблону.
Эту же тему язычества или неопаганизма как наиболее соответствующую совре-
менному глобализирующемуся обществу форму религиозности затрагивают авторы
215
сборника од названием «Современные языческие движения в Европе. Колониалист-
ские и националистические импульсы» [Rountree (ed.) 2015] В эту книгу вошли рабо-
ты таких авторов, как Кэтрин Роунтри, Эллен Крафт, Фредрик Грегориус, Элеанора
Пирс и других. Если работа М. Лассандера носит более теоретический характер, свя-
занный с обоснованием феномена неоязычества как особого типа религ иозности,
соответствующего эпохе постмодерна, то книга под редакцией Кэтрин Роунтри пред-
ставляет собой сборник статей, посвященных конкретным формам и проявлениям
неоязычества в современных европейских странах Западной и Восточной Европы,
а также на постсоветском пространстве. Авторы данного сборника приходят к ряду
интересных выводов, связанных с различными комбинациями неопаганизма с идея-
ми национализма и глобализма-транснационализма, эгалитаризма и исключенности,
демократизма и консерватизма, этничности и культурной локализации, феминизма и
традиционализма, левого и правого компонентов политики.
Однако очевидно, что анализ эволюции форм религиозности в рамках европей-
ского ареала недостаточен для исследования данного явления, которое приобретает
сегодня поистине глобальный характер. И это показывает работа Петера ван Веера,
посвященная соотношению духовного и секулярного аспектов эволюции современ-
ных Индии и Китая [van Veer 2014]. Эта книга особенно интересна, поскольку в ней,
с одной стороны, анализируется сходная с предыдущими тема трансформации типа
религиозности (spirituality) под влиянием современного общества, а с другой, этот
процесс рассматривается на материале уже не европейско-христианском, а индий-
ских и китайских форм религиозности, причем в сравнительном аспекте.
И наконец отметим современные зарубежные исследования, имеющие отношение
к анализу соотношения религиозного и гражданского компонентов в процессах, про-
текающих на постсоветском пространстве. Здесь можно выделить сборник «Взаимо-
действие лингвистических, культурных и социальных идентичностей на постсовет-
ском пространстве» [Smyth, Opitz, Lang (eds.) 2013] и книгу «После трансформации?
Нарративы социальной памяти и идентичности в Восточной и Центральной Европе»
[Tornquist-Plewa, Bernsand, Narvselius (eds.) 2015].
Обе работы посвящены не столько напрямую эволюции религиозности на постсо-
ветском пространстве, сколько кризису идентичности народов, его населяющих, свя-
занному с крахом коммунистической идеологии. Тем не менее, данная книга пред-
ставляет для нас определенный интерес, не только потому, что это одно из немногих
коллективных исследований состояния духовного мира на постсоветском простран-
стве, но и поскольку поиски новых форм идентичности имеют существенное значе-
ние для понимания современных тенденций взаимовлияния гражданских и новых
религиозных компонентов в современном политическом процессе в этом регионе.
Коль скоро мы заговорили о России, и о взгляде на взаимодействие религиозного
и гражданского компонентов в логике её эволюции, следует обратить внимание на се-
рьёзное исследование американского автора Гарри Хамбурга «Российский путь к Про-
свещению: вера, политика, разум» [Hamburg 2016]. Автор проводит достаточно серьёз-
ное исследование влияния религиозной эволюции на формирование специфики рос-
сийского века Просвещения, а по существу, феномена российского варианта полити-
ческого Модерна. Важность этой книги определяется, кроме всего прочего, и тем,
что как бы хорошо мы ни знали и ни изучали свою политическую историю и культуру,
до Запада наши исследования практически не доходят, а политика Запада и отношение
к России формируется прежде всего под влиянием их собственных англоязычных ис-
следований, которые во многом могут быть несовершенны и даже искажать реалии, но
имеют на сегодняшний день абсолютную монополию выступать от лица истины в по-
следней инстанции.
В заключение обзора, хотелось бы обратить внимание еще на одну важную рабо-
ту, касающуюся темы взаимодействия религиозного и гражданского аспектов совре-
менного политического процесса – это книга Ханса Кельсена «Секулярная религия».
Критика интерпретации современной социальной философии, науки и политики
«как новых форм религии» [Kelsen 2012] Книга посвящена анализу очень важного
216
феномена Модерна, при котором в ходе секуляризации и связанного с ней исчезно-
вения сакрально-религиозного компонента из политики, возникает обратный про-
цесс сакрализации самой политики и науки. Т.е . в ходе секуляризации и формально-
го вытеснения религиозного компонента сакральный момент не уходит из жизни,
а принимает опасную форму сакрализации того, что должно быть строго секуляр-
ным – науки и политики. Автор обращает внимание на особую опасность этой тен-
денции в условиях глобализации.
References
Coleman, Peter, Koleva, Daniela, Bornat, Joanna (eds) (2013) Ageing, Ritual and Social Change.
Comparing the Secular and Religious in Eastern and Western Europe, Ashgate, Farnham.
Hamburg, Gary M. (2016) Russia’s Path toward Enlightenment. Faith, Politics and Reason, 1500 –
1801, Yale University Press, New Haven, London.
Kelsen, Hans (2012) Secular Religion: A Polemic against the Misinterpretation of Modern Social
Philosophy, Science and Politics as 'New Religions', Springer Verlag, Wi en.
Lassander, Mika T. (2014) Post-materialist Religion. Pagan Identities and Value Change in Modern
Europe, Bloomsbury, London.
Martikainen, Tuomas (2014) “Immigrant Religions and the Сontext of Reception in Advanced In-
dustrial Societies”, Vilaça, Helena, Pace, Enzo, Furseth, Inger, Pettersson, Per (eds.) The Changing
soul of Europe. Religions and Migrations in Northern and Southern Europe, Ashgate, Farnham,
pp. 47 –65.
Pace, Enzo (2014) “Religion in Motion: Migration, Religion and Social Theory”, Vilaça, Helena,
Pace, Enzo, Furseth, Inger, Pettersson, Per (eds.) The Changing Soul of Europe. Religions and Migra-
tions in Northern and Southern Europe, Ashgate, Farnham, pp. 9 –24 .
Pinto, Jose M. (2014) “New Economy, Migration and Social Change: The Impact of Religion”, Vi-
laça, Helena, Pace, Enzo, Furseth, Inger, Pettersson, Per (eds.) The Changing Soul of Europ e. Reli-
gions and Migrations in Northern and Southern Europe, Ashgate, Farnham, pp. 25 –46.
Rasmussen, Susanne W. (2013) “Religion and Identity in Europe. The Making of Religious Ene-
mies in Antiquity and Today”. University Press of Southern Denmark.
Rountree, Kathryn (ed.) (2015) Contemporary Pagan and Native Faith Movements in Europe. Co-
lonialist and Nationalist impulses, Bergharn Books, New York.
Smyth, Sarah, Opitz, Conny, Lang, Peter (eds,) (2013) Negotiating Linguistic, Cultural and Social
Identity in the Post-Soviet World, International Academic Publishers, Bern
Tornquist-Plewa, Barbara, Bernsand, Niklas, Narvselius, Eleonora (eds.) (2015) Beyond Transition?
Memory and Identity Narratives in Eastern and Central Europe, Center for European Studiea at Lund
University.
Veer van, Peter (2014) The Modern Spirit of Asia. The Spiritual and Secular in China and India,
Prin ceton University Press, Princeton and Oxford.
Сведения об авторе
ГЛИНЧИКОВА Алла Григорьевна –
доктор политических наук, профессор ка-
федры политологии Московского педагоги-
ческого государственного университета.
Author’s information
GLINCHIKOVA Alla Grigorievna –
DSc in Politics, Professor of Politics Depart-
ment, Moscow Pedagogical State University.
217
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
А.П . ЛЮБИМОВ . Философия права. М .: Юрайт, 2019. 257 с.
Взаимоотношения юридической науки
и философии всегда являлись проблемой для
ученых, пытающихся определить статус фило-
софии права как комплексной, смежной дис-
циплины, находящейся на стыке философии и
юриспруденции. В книге А.П . Любимова инте-
ресно представлены варианты рассмотрения
философско -правовой проблематики: от фило-
софского подхода к юриспруденции и осмыс-
лению правовой реальности до юридического
подхода, направленного на решение практиче-
ских задач юриспруденции с позиций фило-
софской рефлексии. На конкретном материале
автор показал развитие философии права
в единстве её мировоззренческих основ, теоре-
тического содержания и программных требова-
ний. Особое внимание в книге уделено разви-
тию и обоснованию философских идей демо-
кратии и прав личности, проблеме соотноше-
ния социальных и общечеловеческих начал
в философии права. Кроме того, книга знако-
мит будущих правоведов с основополагаю-
щими идеями философских учений о праве и
преследует цель формирования у них юридиче-
ского мышления.
Пока ведущие философы и юристы России
спорят о месте философии права в современ-
ных науках, о возможности ее существования и
дисциплинарном статусе, автор данной книги
предлагает комплексно проанализировать сло-
жившуюся систему взглядов на право в фило-
софском контексте.
Рассуждая о современных тенденциях раз-
вития философии и права, А.П. Любимов за-
трагивает необычную сторону развития фило-
софии права, а именно, природоподобную ар-
хитектонику самого права. Он подводит чита-
теля к мысли, что человечество уже вплотную
приблизилось к пониманию целостности окру-
жающего мира, что ведет за собой необходи-
мость осмысления механизмов и законов его
функционирования применительно к человече-
ской личности как части вселенной, космоса, и
делает из этого выводы в отношении характера
правовой проблематики (см. с . 162–165)
Книга дает возможность охватить весь
спектр научных взглядов и мнений в отношении
философии права: от определения её предмета и
места , применяемых методологий и методов,
типов философского понимания, разнонаправ-
ленных тенденций развития философско-право-
вой мысли Древнего Востока, Античности и
Средневековья, эпохи Возрождения и Рефор-
мации, Нового времени до описания современ-
ных тенденций её развития , анализа философ-
ских проблем права и власти в трансформирую-
щемся обществе, формирования новых механиз-
мов работы с правовой информацией в условиях
господства искусственного интеллекта, проник-
новения лоббистских правоотношений в важ-
нейшие регуляторы общественной жизни.
Особый интерес, на мой взгляд, представ-
ляет позиция автора относительно введени я
адаптивных систем управления в право.
А.П. Любимов пишет о правовой информатике
и кибернетике как о междисциплинарной от-
расли знания о закономерностях и особенно-
стях реализации информационных процессов
в юридической деятельности. Автор развивает
идеи о электронной демократии, под которой
он понимает такую форму организации обще-
ственно-политической деятельности граждан,
которая обеспечивает за счёт широкого приме-
нения информационно - коммуникационных
технологий качественно новый уровень взаи-
модействия граждан друг с другом, с органами
государственной власти, органами местного са-
моуправления, общественными организациями
и коммерческими структурами (см. с . 171 –179).
Книга, безусловно, заинтересует специали-
стов в области права и философии, а также ши-
рокий круг читателей, которым небезразличны
судьбы современного общества.
Академик РАН В.А. Лекторский
Лекторский Владислав Александрович – сек-
тор теории познания, Институт философии РАН,
Москва, 109240, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.
Доктор философских наук, профессор, ака-
демик РАН, академик РАО, главный научный
сотрудник Института философии РАН.
v.a .lektorski@gmail.com
Lektorski Vladislav A.
–
Department of the
Theory of Knowledge, RAS Institute of Philoso-
phy, 12/1, Goncharnaya str., Moscow, 109240,
Russian Federation.
DSc in Philosophy, Professor, Academician
RAS, Academician RAE, Main Research Fellow at
the Institute of Philosophy of the RAS.
DOI: 10.31857/S004287440007539-7
218
А.Ю. НЕСТЕРОВ . Семиотические основания техники и технического сознания:
монография. Самара: Издательство Самарской гуманитарной академии, 2017. 155 с.
*
Философия техники – одно из сравнительно
молодых и весьма актуальных направлений фило-
софской мысли. В ней исследуются не только во-
просы онтологического и гносеологического
плана, такие, например, как различие между ис-
кусственными и естественными объектами,
структура технического познания и действия, во-
просы вектора технического развития, но и мно-
жество вопросов аксиологического и праксеоло-
гического плана, экзистенциальных и социаль-
ных проблем, вызываемых развитием техники.
В работах
отечественных
философов
(В.С. Стёпина, В.Г. Горохова, В.М. Розина,
Н.М Твердынина и др.) показано, что научная ра-
циональность возникает в ситуации измеритель-
ного эксперимента, создаваемого благодаря тех-
нике. Научный прогресс есть в первую очередь
технический прогресс. Настоящее и будущее че-
ловечества создается техникой. Это чрезвычайно
актуальная тема, особенно в виду того что наша
цивилизация находится в состоянии нарастаю-
щего глобального кризиса.
В конце 2017 г. был опубликован 50-й Юби-
лейный доклад Римского клуба, в котором прямо
говорится, что без радикальной трансформации
целеполагания и целереализации у человечества с
каждым годом остается всё меньше шансов вы-
жить (см.: Von Weizsaecker E., Wijkman, A. Come On!
Capitalism, Short-termism, Population and the
Destruction of the Planet. Springer, 2018). В том же
2017 г. вышло знаменитое «Второе Предупрежде-
ние ученых мира человечеству», под которым стоят
подписи более 15000 ученых из 184 стран. В этом
авторитетном документе приводятся систематизи-
рованные данные о резком, в ряде отношений ка-
тастрофическом, росте деструкций в земной эко-
логической системе, происшедших за последние
25 лет со времени публикации «Первого предупре-
ждения ученых», которое в 1992 г. подписали 1700
крупных деятелей науки (см.: World Scientists’
Warning to Humanity: A Second Notice // BioScience.
2017. Vol. 67. Issue 12. P. 1026–1028. https://doi.org/
10.1093/biosci/bix125). Техника и наука должны ис-
кать новые способы мышления и рефлексии, спо-
собные изменить содержание базовых понятий,
составляющих основу экономики, политики, со-
циальных управленческих моделей.
Общество живет сиюминутными потребно-
стями, вытесняя знание о близкой гибели циви-
лизации, подобно тому как человек обычно вы-
тесняет в область бессознательного знание о соб-
ственной смертности. Глобальные проекты, спо-
собные предотвратить исчерпание природных ре-
сурсов, уберечь человека от планетарных ката-
клизмов, обеспечить эволюцию вида Homo sapi-
ens, должны находить свое воплощение в технике.
*
Работа поддержана грантом РФФИ 18-011 -00980 «Социальная эволюция и прогресс как ка-
тегории номотетического познания». The paper is granted by RFBR, Project No 18-011 -00980.
Техника является причиной и проводником гло-
бального цивилизационного кризиса и одновре-
менно – единственной надеждой на его преодо-
ление. Технику невозможно отвергнуть, как того
желают некоторые наивные философы. Ее необ-
ходимо развивать, искать новые формы ее осмыс-
ления и новые пути применения. Однако в по-
следние годы практически нет серьезных работ,
в которых бы предпринимались попытки зафик-
сировать новые основания науки и техники, спо-
собные существенно влиять на развитие теории
познания, онтологии, аксиологии и праксиоло-
гии, служить задачам смены вектора развития
нашей цивилизации.
Монография А.Ю. Нестерова, посвященная
анализу семиотических оснований техники, явля-
ется удачной попыткой расширить сложившиеся
представления о сущности техники, открыть но-
вые измерения сложности связанных с техникой
процессов. Работа строится как разъяснение,
обоснование и применение семиотического под-
хода к процессам познания и творчества. Рецен-
зируемая монография – зрелое исследование, со-
держащее важные модели и определения не
только для техносферы, но и для осмысления и
разработки актуальных философских проблем
нашего времени.
Монография делится на две части. В первой
формулируется и разъясняется метод семиотиче-
ского моделирования в терминах теории комму-
никации, герменевтики, гносеологии и онтоло-
гии, во второй эксплицируются результаты, полу-
ченные при применении этого метода к анализу
сущности техники, технического творчества, тех-
нического исполнения. В заключении автор ана-
лизирует актуальные темы научной фантастики,
опираясь на опыт организации Лемовских чтений
в Самарском университете.
Ключевой момент, определяющий научную
значимость работы, связан с расширением и су-
щественным пересмотром сложившихся в по-
следние десятилетия шаблонных представлений о
семиотике как общей теории знаков. В большин-
стве случаев семиотика и семиотический подход
рассматриваются как способ описания сугубо
коммуникативных процессов, А.Ю. Нестеров ис-
ходит из того, что общая теория знаков является
в ряде существенных отношений основой онто-
логии, теории познания и теории коммуникации.
Это идея, в традиции аналитической философии
восходящая к Ч.С. Пирсу, повторявшему, что
всякая мысль есть знак, и к Ч.У. Моррису, обос-
новавшему понятия семиозиса как знакового
процесса и языка в виде суммы семантических,
синтаксических и прагматических правил. В кон-
тинентальной традиции такого рода положения
развивались в онтологии Х. Вольфа и его после-
дователей: невозможно мыслить что-либо, не
мысля это в качестве знака.
219
Знак складывается из четырех отношений, за-
даваемых соответствующими правилами: знак –
объект (семантическое правило), знак – знак
(синтаксическое правило), знак – интерпретатор
(прагматическое правило), знак – субстрат (пра-
вило материального выражения). Какое бы явле-
ние, какой бы элемент мышления, действитель-
ности или фантазии мы ни взяли, он всегда мо-
жет быть определен через эти четыре правила. Да-
лее знаковый процесс сопоставляется с трансцен-
дентальной схемой познания, включающей чув-
ственное восприятие, рассудок и разум. По сути
дела знаковый процесс реализуется как необходи-
мый аспект сознания
Здесь у автора прослеживаются два пути ана-
лиза: схематический и полный. Схематический
демонстрирует, что мысль, продукт разума, выра-
жается прагматическим правилом, то есть прави-
лом, в соответствии с которым нечто является
или не является знаком для того или иного ин-
терпретатора. Конструкция, продукт рассудка,
выражается синтаксическим правилом, то есть
правилом образования или преобразования кор-
ректных последовательностей знаков, предложе-
ний. Объект, продукт чувственного восприятия,
выражается семантическим правилом, то есть
правилом обозначения, применения знака для де-
монстрации того или иного не являющегося зна-
ком предмета. Схематический путь как средство
упрощения описания может быть удобен в учеб-
ных или ознакомительных целях.
Полный путь семиотического выражения
процесса познания связан с тем, что и разум, и
рассудок, и восприятие, будучи ступенями позна-
ния, рассматриваются в виде самостоятельных
сред семиозиса, то есть через взаимодействие
прагматики, синтаксиса, семантики и материаль-
ного воплощения в конкретном субстрате.
А.Ю. Нестеров идет по весьма сложному пути,
вводя понятие «направления семиозиса» как век-
тора знакового процесса. Именно этот ход мысли
позволяет соединить в единой семиотической мо-
дели познание и творчество, «рецептивный»
и «проективный» семиозис, – и выйти на про-
блему сущности техники.
Автор анализирует соотношение понятий «су-
ществовать» и «быть знаком» Семиотическое ре-
шение критериологического вопроса относи-
тельно понятия существования предлагается
в следующем виде: «Критерии существования
формулируются в отношении объекта (того, что
наблюдается или тем или иным способом фикси-
руется) и в отношении субъекта (наблюдателя,
осуществляющего наблюдение посредством объ-
ективных структур). Нечто существует, если оно
1) наблюдаемо, 2) является значением перемен-
ной, 3) учитывается посредством интерпретанты.
Некто существует, если он 1) фиксирует в наблю-
дении объекты, 2) способен к отрицанию, 3) спо-
собен различать интерпретанты» (с. 27). Семанти-
ческое, синтаксическое и прагматическое пра-
вило оказываются определяющими при решении
вопроса о существовании. В познании нечто су-
ществует, будучи сначала наблюдаемым, затем
логически мыслимым, затем интерпретируемым,
В технике, в творческой деятельности – наоборот:
нечто существует сначала как навык интерпрета-
ции, затем как элемент логико-языкового выра-
жения и лишь затем в качестве наблюдаемого с
помощью органов чувств технического объекта.
Рассуждая о технике, А.Ю. Нестеров выделяет
платонизм и конструктивизм в виде оппозиции,
снимаемой собственно семиотическим подходом:
«Семиотическое выражение контроверзы плато-
низма и конструктивизма показывает, что техника
как проективная деятельность имеет дело с опытом
(в смысле памяти), как он получен в рецептивных
актах познания и сформулирован в виде “знаний”
(как обоснованных истинностных убеждений), и с
навыками фантазии, логического мышления (ис-
числения) и в целом рассудочного представления,
с практической реализацией в физическом мире,
доступном чувственному восприятию. Соответ-
ственно техника – это акт деятельности, обеспечи-
вающий проективное взаимодействие трех сред се-
миозиса (разума, рассудка и восприятия) для реше-
ния некоторой проблемы, достижения цели, удо-
влетворения потребности» (c. 5–6).
Семиотическая деятельность человека дей-
ствительно вмешивается в порядок естественного
мира. Эту позицию можно обозначить как семио-
тическую разновидность эпистемического реа-
лизма, опирающегося на классическую трансцен-
дентальную модель познания немецкой классики
от И. Канта до Э. Кассирера и Н. Гартмана: «Про-
ективный семиозис на примере техники показы-
вает, что понимание как способность “делать”, как
материальное осуществление смысла знака опреде-
ляется и задается не только традиционными для
рецептивного семиозиса навыками разграничения
коммуникации и познания, но и навыком кон-
троля материи, навыком воплощения» (с. 95).
Онтологические, эпистемологические и герме-
невтические основания семиозиса раскрываются
во второй части работы, посвященной анализу тех-
ники. Здесь я хочу отметить три важные идеи: се-
миотическое решение проблемы развития, кон-
цепцию третьей искусственной природы, интер-
претацию оппозиций «мыслимое – немыслимое»,
«возможное – невозможное» применительно к ли-
тературному и техническому творчеству.
Понятие техники автор употребляет в двух
значениях, широком и узком. Широкое включает
в содержание этого понятия всякую творческую
деятельность человека. Такого рода определение
встречается уже у классика отечественной фило-
софии техники П.К. Энгельмейера. Узкое опре-
деление техники представляет собой семиотиче-
ское выражение реалистской позиции немецкого
классика философии техники Ф. Дессауэра. Сле-
дует отметить, что А.Ю . Нестеров перевел и издал
в 2017 г. его итоговую работу 1959 г. «Спор о тех-
нике». Техника как таковая, если следовать опре-
делению Ф. Дессауэра, является узкой областью
проективного материального осуществления
форм рассудка в субстрате физического мира, до-
ступного чувственному восприятию. «Эту область
можно обозначить как область технического
220
семиозиса, где синтаксические правила фикси-
руют способы преобразования рассудочных схем
в объекты и процедуры физического мира, праг-
матические правила показывают применение так
определенного синтаксиса в рамках доступного
конкретному субъекту запаса знаний, навыков и
умений, семантические правила показывают во-
площенные в физическом мире технические объ-
екты как значения и технические среды – как си-
стемы значений» (с.112).
Технический семиозис автор связывает с по-
нятием «технического сознания», которое осу-
ществляется на трех ступенях: «как «традиция»,
где техника определяется в качестве нерефлекси-
руемой правилосообразной деятельности, удовле-
творяющей требованию выживания человека
в естественной природной среде; как «вторая
природа», где техника есть процесс создания но-
вого, возможный за счет контроля над материей
и замещающий естественную среду искусствен-
ной; как «третья природа», где техника есть спо-
соб управления рефлексией» (с. 94).
Концепция третьей природы позволяет опре-
делить вектор технического развития, увидеть
обусловленные им цели и задачи техники как
способа исполнения желаний, поставить пре-
дельно актуальную проблему взаимодействия че-
ловека и нечеловеческих акторов социально-
культурного взаимодействия. Таким образом, ав-
тор формулирует новое перспективное представ-
ление о взаимодействии природы и культуры, вы-
являет требующие учета свойства и способности
человека, обусловливающие его самоорганиза-
цию на более высоком уровне: «В общем случае
природа – это среда, в которую человек включа-
ется за счет врожденных и приобретенных навы-
ков, это тот фон, который на прагматическом
уровне обеспечивает процессы семиозиса. Куль-
тура – это собственно сам семиозис, как он осу-
ществляется человеком. Взаимодействие природы
и культуры – это в собственном смысле прагма-
тическое измерение семиозиса. Проективный се-
миозис как набор процессов образования и при-
менения знаков отличается от рецептивного, су-
губо распознающего семиозиса тем, что он изме-
няет фон (условия осуществления прагматиче-
ского правила): созданные знаки образуют си-
стемы, выполняющие роль фона для вновь созда-
ваемых знаков» (с. 125).
К сожалению, автор не уделяет должного
внимания экзистенциальным проблемам техники,
ограничиваясь изложением просветительского
идеала человека. А.Ю. Нестеров, отмечая, что тех-
ника служит исполнению потребностей, приво-
дит слишком краткую классификацию потребно-
стей. Тем не менее, весьма полезным является
формулируемое в работе представление о грани-
цах и потенциале праксиологии, выстраиваемое
по аналогии с оппозицией знания и незнания
в эпистемологии: «Несовпадение пределов пони-
мания и пределов деятельности представимо
в виде вполне конкретной эпистемологической
схемы для любого рода вопроса: всякий вопрос
или конкретная проблема возникают и решаются
как 1) нечто мыслимое и одновременно возмож-
ное, 2) нечто мыслимое, но невозможное, 3) не-
что немыслимое, но возможное, 4) нечто немыс-
лимое и одновременно невозможное. Такого рода
схема описывает соотношение рецепции в целом
как совокупности процедур познания и понима-
ния с проекцией как совокупностью процедур де-
ятельности» (с.130).
Монография завершается разбором тем и сю-
жетов, формулируемых научной фантастикой от-
носительно «постсингулярного» существования
человека в среде третьей природы. Приводится
критический разбор отличий литературного и
собственно технического творчества, впервые в
отечественной философской традиции начатый
П.К. Энгельмейером и И.И. Лапшиным.
Помимо очевидной значимости рецензируе-
мой монографии для семиотики и философии
техники важно подчеркнуть, что автору в краткой
и отчетливой форме удалось показать значение
семиотического подхода для более широкого
осмысления актуальных проблем онтологии, эпи-
стемологии и праксиологии. Современная наука
и методология науки остро нуждаются в сораз-
мерных новейшим научным результатам транс-
дисциплинарных проектах единой науки. Важно
подчеркнуть значение работы А.Ю. Нестерова в
плане осмысления путей технического противо-
действия тем социально-экономическим процес-
сам, которые обусловливают глобальный кризис
земной цивилизации. Представленные в ней кон-
цептуальные соображения и модели семиотики
техники достойны внимания и обсуждения.
Д.И . Дубровский
Дубровский Давид Израилевич – Институт
философии РАН, Москва, 109240, ул. Гончар-
ная, д. 12, стр. 1; Московский государственный
университет им. М.В . Ломоносова, философ-
ский факультет, Москва, 119991, ГСП-1, Ломо-
носовский проспект, д. 27, корп. 4.
Доктор философских наук, профессор,
главный научный сотрудник Института фило-
софии РАН, профессор философского факуль-
тета МГУ им. М .В . Ломоносова.
E-mail: ddi29@mail.ru
https://iphras.ru/dubrovsky.htm
Dubrovsky David I.
–
Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences, 12/1, Goncharnaya
str., Moscow, 109240, Russian Federation; Faculty
of Philosophy, Lomonosov Moscow State Univer-
sity, 27/4, Lomonosovsky av., GSP-1, Moscow,
119991, Russian Federation.
DSc in Philosophy, Leading Researcher, Insti-
tute of Philosophy RAS, Professor, Faculty of Phi-
losophy, Lomonosov Moscow State University.
E-mail: ddi29@mail.ru
https://eng.iph.ras .ru/dubrovsky.htm
DOI: 10.31857/S004287440007651-1
221
Взгляд из России: размышления о мужестве лени и безделья. Труд и его судьба.
М.: Изд-во МГУ, 2017. 182 с.
Проблематика лени, безделья, праздности
осмысляется в истории мировой культуры уже с
давних времен. По-видимому, столь древняя
традиция рефлексии над этим неподвижным,
пассивным состоянием объясняется его вне-
исторической актуальностью. Кто из нас не
вставал у этого «распутья», условно рассекаю-
щего дорогу на два пути: усердной деятельности
или ничегонеделания? Острота этой дихотомии
иной раз доходит до постановки, прямо скажем,
гамлетовского вопроса, от решения которого за-
висит характер дальнейшего существования че-
ловека. «Сейчас или никогда!» – твердит Обло-
мову Штольц, приоткрывая своему другу скры-
тое драматическое противостояние, в котором
кто-то кого -то да «сборет»: или труд – лень, или
же воцарится вязкая, умиротворяющая и затума-
нивающая реальность «обломовщина». «Лень, –
по меткому замечанию Левинаса, – это невоз-
можность начать, или, если угодно, это олице-
творение начала» (Левинас Э. Избранное. То-
тальность и Бесконечное. М.; СПб., 2000. С. 15).
Однако стоит сказать, что несмотря на чрез-
вычайную важность феномена лени – она (лень)
явно или скрыто сопровождает все существова-
ние человека – в отечественном философском
наследии мы не встречаем больших, систематиче-
ских исследований, посвященных данной теме.
Возможно, такое молчание связано с тем, что ска-
зать об этом будто бы и нечего. Уже в эпоху Ре-
формации с юридической однозначностью было
постановлено: лень – мать всех пороков. Кроме
того, нельзя не подчеркнуть, что в советский пе-
риод подобная протестантская прямолинейность
в оценке праздного образа жизни была аксиома-
тичной. В обществе тотального труда «лень» пре-
следовалась уголовно: «тунеядец» (по «счастли-
вым» стечениям обстоятельств самым известным
из которых стал Иосиф Бродский) ссылался «в
специально отведенные местности на срок от
двух до пяти лет с конфискацией имущества,
нажитого нетрудовым путём, и обязательным
привлечением к труду по месту поселения».
В этом году вышла коллективная моногра-
фия – «Взгляд из России: размышления о муже-
стве лени и безделья. Труд и его судьба», куда
вошли лучшие работы, участвовавшие в кон-
курсе эссе, организованном Фондом «Вольное
Дело» и философским факультетом МГУ имени
М.В . Ломоносова. Статьи и эссе представлены
как на русском, так и на немецком языках.
Сборник был опубликован к 21-му ежегодному
философскому симпозиуму «Философикум-Лех
2017» (Австрия), тема которого звучала следую-
щим образом: «Мужество лени. Труд и его
судьба». В самом симпозиуме, состоявшемся в
сентябре 2017 г., приняли участие некоторые ав-
торы, написавшие статьи в рассматриваемую
монографию.
Уже из самого ее названия нетрудно дога-
даться, что центральной, магистральной темой
здесь стала оппозиция лень/труд. Темы, затро-
нутые в книге, разнообразны, но при этом пре-
красно корреспондируют между собой. Это со-
здает смысловую полифоничность; проблемы
лени, безделья раскрываются в разных кон-
текстах, с разными акцентировками и проблем-
ными оттенками. Лень рассмотрена не только
в рамках традиционного противополагания фе-
номену труда, но и через анализ понятий досуга,
игры, геймификации. Пожалуй, впервые был
философски отрефлексирован малоизвестный,
но при этом крайне любопытный и значимый
трактат Казимира Малевича «Лень как действи-
тельная истина человечества».
Тексты, вошедшие в монографию, интересны,
своеобразны, провокативны. Они постоянно под-
талкивают читателя к многочисленным смысло-
вым остановкам. Для человека, воспринимаю-
щего лень в традиционных, негативных тонах, эта
книга откроет совершенно новую традицию ин-
терпретации печально знаменитого порока.
Конечно, данная монография – не фунда-
ментальное исследование феномена лени, а ско-
рее сборник изящных и глубоких очерков, зари-
совок, только еще намекающих на скрытые и
пока не разрешенные темы и проблемы. Во всту-
пительном размышлении «об эссе как о фило-
софском жанре и о конкурсах философских эссе»
подобная свободная, «мужественная», но прин-
ципиально незаконченная форма рефлексии ав-
торов монографии оговаривается: «Мысль, вы-
сказывание должны быть завершены эстетически,
при том что логически эссе отнюдь не претендует
на исчерпанность темы» (с. 12). Кроме того, под-
чёркивается, что в условиях текущей действитель-
ности профессиональных конкурсов для студен-
тов профильных гуманитарных факультетов
крайне мало, что, очевидно, не позволяет на бо-
лее глубоком уровне оценить обучающегося, поз-
волив ему проявить себя, актуализировать его
пока еще скрытые способности. При этом испы-
тание, связанное с написанием эссе, одно из са-
мых важных и плодотворных. Итоги подобного
конкурса могут достаточно отчетливо выделить
по-настоящему талантливых авторов. Ведь для
того, чтобы адекватно работать с таким жанром,
пишущий должен обладать незаурядными спо-
собностями: «Он должен обладать даром худож-
ника (“Подсолнухи” Ван Гога), а в письменной
речи помнить о непременной спутнице и сопер-
нице философии – риторике, стремясь уподобить
эссе риторическому построению, разделяя пред-
мет, живописуя его, помня о “что, где и как ска-
зать” Цицерона, неослабно держа внимание чи-
тателя, потакая ему, а иногда и водя читателя за
нос» (там же).
Тема, поставленная в рамках проведенного к
симпозиуму конкурса, требовала от его участни-
ков нелинейного, креативного подхода, вопло-
щение которого читатель увидит на страницах
этой книги.
222
В первую очередь хочется остановиться на
статье В.В . Миронова «“Лень бытия”: метафи-
зические искания Казимира Малевича, которая
посвящена философскому анализу необычного
трактата основателя супрематизма «Лень как
действительная истина человечества». С самого
начала автор статьи оговаривает чрезвычайную
важность понятия лень, ведь сущность лени как
особой характеристики бытийного существова-
ния человека так же ему необходима, как и труд.
В.В. Миронов кратко, но при этом содержа-
тельно указывает на некоторые реперные точки
в культурной и философской традиции осмыс-
ления лени. Он показывает, что рецепция празд-
ности в русской культуре двойственна: она, с од-
ной стороны, порицается, потому как мешает
человеку стать «исполином» (Гоголь), а с другой
воспринимается как нечто желанное, притяга-
тельное, а иногда, с точки зрения разрешения
жизненных коллизий, становится куда более эф-
фективна, чем напряженный труд. Образ Ива-
нушки-дурочка – известного сказочного героя –
яркое тому свидетельство. В «Записках из под-
полья» Ф.М. Достоевского встречается схожий,
как бы «позитивный», мотив в восприятии лени.
Автор статьи цитирует фразу одного из героев
повести: «О, если б я ничего не делал только из
лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Ува-
жал бы именно потому, что хоть лень я в состо-
янии иметь в себе».
Концепт лени встречается и в поэтическом
наследии А.С . Пушкина. В.В. Миронов подчёр-
кивает, что поэт совершенно по-другому оцени-
вает состояния грусти, тоски, скуки, печали (по-
своему коррелирующие с ленью, по сути, произ-
растающие на ней). Пушкин неоднократно гово-
рит о них как о необходимых условиях творче-
ского вдохновения. «“Тоскующая лень” Онегина,
“рассеянная лень Татьяны” – это характери-
стики душевных переживаний героев Пушкина»
(с. 24), – резюмирует автор статьи. Здесь можно
добавить, что лень в поэтическом мировосприя-
тии Пушкина воспринимается как состояние,
родственное вдохновению, помогающее отре-
шиться от житейской суеты. Именно такое по-
нимание безделья можно встретить в стихотворе-
ниях: «Городок» (1815); «Мечтатель» (1815);
«Моя
эпитафия» (1815); «Моему Ари-
старху» (1815); «Послание Юдину» (1815); «По-
слание к Галичу» (1815); «К Дельвигу» (1815);
«Сон» (1816); «Дельвигу» (1817) и др.
Обращаясь к анализу трактата Малевича
«Лень как действительная истина человечества»,
В.В. Миронов тут же оговаривает важную осо-
бенность этого текста: автор его ‒ художник, а
потому в процессе построения своей аргумента-
ции в защиту лени он использует не только ра-
циональные схемы и конструкции, но и чисто
художественные, творчески «прочувствован-
ные» образные ассоциации. Он живописует
своеобразную словесную картину, с помощью
которой постигает лень, проникая в ее «бездея-
тельную» природу. Очевидно, Малевич высту-
пает против негативной трактовки безделья. Он
убежден, что человечество сфабриковало спе-
цифический миф, с помощью которого заклей-
мило это состояние как социально непозволи-
тельное и потому недопустимое.
По мнению художника, и социализм, и ка-
питализм стремятся к ленивому образу жизни.
Однако при капитализме праздность возможна
только для избранных людей («праздный класс»
по Веблену). Для этого они собрали достаточ-
ное количество «кусочков лени» – таково ис-
тинное содержание любой денежной единицы.
В обмен на эти «кусочки» они гарантированно
получили праздное, бездеятельное бытие. Со-
циализм же в свою очередь реализует проект
равного для всех членов общества распределе-
ния лени.
В конце концов Малевич приходит к пони-
манию труда уже в его античном измерении,
как бы закольцовывая свое исследование ги-
гантской исторической дугой. В будущем труд,
по мысли художника, перестанет быть необхо-
димостью «чисто харчевого порядка», став усло-
вием непрекращающегося самосовершенство-
вания человека, стимулирующим его творче-
скую реализацию.
В заключительной части статьи В.В. Миро-
нов показывает предельный, метафизический
уровень, на котором Малевич мыслит феномен
лени. Кажущееся тотальное разнообразие этого
мира на самом деле, в абстрагированном пре-
деле, – одно, единое и неделимое существова-
ние, нерушимое метафизическое целое – пло -
тиновское Единое. Автор статьи пишет: «Такое
слияние сближает Бога как заданного совер-
шенства – и Человека как достигшего этого со-
вершенства во всём. Человек достигает совер-
шенного знания Бога, то есть “включает себя
в него или его в себя”, а это означает ненуж-
ность какого-либо действия (ибо всё достиг-
нуто). Наступает момент “полного бездействия,
или действия как созерцания самомирапроиз-
водства, наступает момент полной “лени”, ибо
даже я уже не могу участвовать в совершенстве:
оно достигнуто”» (с.40). Таким образом лень
становится «самовыражением творчества чело-
века как высшей формы свободного труда».
Статья В.И. Кудашова «Мужество безделья.
Труд и его судьба» ставит магистральную иссле-
довательскую тему безделья уже на этико-онто -
логическую глубину. «Можно ли трактовать без-
делье как ситуацию, онтологически первичную
по отношению к делу как любой результативной
деятельности?» (с. 42) – задается вопросом автор.
Отвечая на него, он обращается к известной,
фундаментальной бинарной оппозиции китай-
ской философии – «вэй» и «у-вэй», которая не-
однократно встречается в трактате «Дао дэ цзин».
«Вэй» всегда трансформируется в «у-вэй»;
«у-вэй» есть «осуществление недеяния». Таково
своеобразие даосской активности, о чем
В.И. Кудашов пишет следующее: «Действи-
тельно, у-вэй позволяет осуществить любые дела,
поскольку, созерцая Дао, можно найти исток
всех дел и осуществить любые, даже самые
223
великие дела там, где они пока еще малы – у их
природного истока» (с. 44). При этом «у-вэй» –
не патологическая лень, не предельная пассив-
ность, но некоторая неспешность, делание без
лишних усилий, без бессмысленного рассеива-
ния внимания. Это умелое встраивание внешних
бурлящих сил в рационализированный поток
труда. «У-вэй» – это отточенная, заострённая на
цель собранность субъекта, внутри которой он
реализует задуманное с математической точно-
стью, при минимизации физических и интел-
лектуальных затрат. Автор статьи приводит за-
мечательный пример того, что такое «у-вэй» на
практике, в действии: «Наиболее яркой визуаль-
ной метафорой у-вэй является парящий полет
некоторых птиц, способных перемещаться на
довольно большие расстояния, почти не работая
крыльями, практически за счет одних только ис-
пользуемых ими течений воздушных потоков»
(там же). Безделье в концептуальном поле «у-
вэй» становится выходом из реальности, где со-
вершение того или иного выбора является необ-
ходимостью. Теперь я принципиально «не выби-
раю»; реализуя «у-вэй», я остаюсь за скобками
тех или иных альтернатив.
Автор статьи указывает на мотивы «у-вэй» в
русской культуре: Емеля – главный герой сказки
«По щучьему велению», реализует свое бытие,
во всем руководствуясь принципом недеяния, не
совершая лишних движений, пренебрегая соци-
альными
предрассудками,
мыслительными
штампами. Он «будто плывет по течению или
парит в небесах». Емеля – русский «дурак и без-
дельник», человек для общества совершенно
бесполезный, согласно сказочной канве, всего,
что ему нужно, так или иначе добивается. Вер-
нее не «добивается», а «получает в дар». Пара-
докс, пожалуй, невыносимый для современного
«self made man», которому на такие «подарки»
рассчитывать не приходится, и все «свое» он у
жизни вырывает, обильно орошая землю потом
и кровью. От любого внешнего стимула к труду,
к активности Емеля готов отмахнуться с невоз-
мутимостью даоса: «Неохота!»
Онтология безделья, как замечает В.И . Ку-
дашов, – это всегда предшествующее любой за-
планированной активности недеяние. Ведь ка-
кую бы деятельность мы ни начинали, нам все-
гда необходимо преодолеть «лень». Чтобы ска-
зать «да» усилию, нам нужно сказать «нет» го-
лосу пассивного в нас, который пытается заглу-
шить доносящийся до нас «зов бытия» (Хайдег-
гер). Этика же безделья есть мужество, с кото-
рым человек выбирает, прямо скажем, неслы-
ханную для современного мира бурлящей ак-
тивности программу недеяния. Нужно иметь
недюжинную стойкость, чтобы держаться та-
кой непроизводящей позиции. В том мире, где,
как пишет Бодрийяр, «в созидатель ном
неистовстве бульдозеров, сооружающих авто-
страды и “инфраструктуру”, в этом цивилизу-
ющем неистовстве эры производства можно
ощутить ярое стремление не оставить на земле
ничего непроизведенного, на всем поставить
печать производства, пусть даже это и не сулит
никакого прироста богатств: производство ради
меток, для воспроизводства меченых людеи
̆
»
(Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть.
М., 2000. С . 62). Мужество безделья, таким об-
разом, есть мужество философа, который
принципиально отказывается участво вать во
всеобщей вакханалии производства.
За оглушительным ревом моторов, за каж-
додневно вливающейся в наше сознание ин-
формацией, за шумом XXI века, мы, как пишет
автор статьи «Деятельное безделье: парадоксы
основания» Н.А . Мусеев, «услышим, угадаем
неким внутренним – до всякой мысли, до вся-
кого умствования – чутьём, безмолвие покоя,
без-действие» (с.62).
На эту статью читателю стоит обратить особое
внимание. Автор предлагает кардинально пере-
осмыслить наш традиционный подход к изуче-
нию человека: «Что если исходить в исследовании
человека, общества, культуры и, в конце концов,
бытия – не из труда (а мы сегодня знаем, что ли-
тература по данному вопросу составляет солид-
ную библиотеку), но из отдыха (не праздного,
но праздничного)?» (с. 66). Человек отдыхающий,
по мысли автора, находится в «состоянии до либо
после работы»; его самодостаточность – это сози-
дающее безделье, «бодрствование в свете истины».
Категории безделья и труда – фундаментальные
для мировой культуры. Своими корнями они ухо-
дят в глубокую древность. Так, например,
в начале книги Бытия в повествовании о сотворе-
нии мира уже присутствует и труд, и отдых – Бог
до творения (Бог-всюду), Бог, творящий мир и
Бог, почивший от «дел Своих» (Бог-мир). Рай-
ское блаженство первых людей – это счастье по-
коя, беззаботности. Оно прерывается грехопаде-
нием, но, как замечает философ, необходимость
трудиться – не только проклятье, но и дар.
Особенный интерес вызывают авторские раз-
мышления о феномене праздника. Как пишет
Н.А. Мусеев, праздник вырывает человека за пре-
делы «обыденного и банального», преображает
человека, вводя его в «подлинное безделье». При
этом, если внимательно присмотреться к слову
«философия», то можно заметить следующее: его
вторая составная часть – «софия», которую
можно перевести как «хитрость», намекает на
особенную установку – уклонение от труда.
Н.А. Мусеев резюмирует: «Нужно иметь муже-
ство выйти к горизонту деятельного безделья, со-
зидающего покоя, неторопливого созерцания, ре-
ализуемого в мире “пустых скоростей”. Выйти к
горизонту и там – узнать себя, подлинного, спо-
собного к поступку, к работе» (с. 78).
Анализ последствий многовековой трудовой
экспансии читатель встретит в статье Д.А. Ани-
кина «Культ труда. Прошлое одной иллюзии».
Автор, опираясь на одну из ранних работ
Маркса («Экономическо-философские руко-
писи 1844 года»), демонстрирует то закабален-
ное состояние человека, к которому его привел
навязанный, поначалу протестантской этикой,
а затем и капиталистической системой, труд.
224
В панлейбористском обществе индивид ли-
шен свободного времени. Он отдыхает, чтобы
работать, а иногда он даже жертвует своим досу-
гом, чтобы отработать дополнительные часы и
получить надбавку, но каждый раз остается об-
манутым. Работник всегда получает меньше, чем
отдает – таково железное правило капиталисти-
ческой экономики.
Д.А. Аникин метафорически показывает, что
гигантское машинное производство XX в. ставит
рабочего завода на один уровень с «винтиком
бездушного механизма». Человек принуждается
к труду при помощи определенных интеллекту-
альных инструментов. Особенно ярко критиче-
скую позицию по отношению к такой тотальной
гегемонии труда формируют теоретики Франк-
фуртской школы. Их вывод радикален: капита-
листическая система создала такую схему, в рам-
ках которой человек, даже удовлетворяя навя-
занные ему извне потребности, «продолжает
производить».
Автор статьи показывает: категории труда и ре-
лигии сплавились между собой, породив своеобраз-
ную идеологию, подчиняющую человеческое созна-
ние единственной заповеди круглосуточного и не-
прекращающегося производства: «Иллюзия –
в прошлом, а торжество культа труда – в настоящем
и, очевидно, в будущем» (с. 98).
Большой интерес вызывает статья А.П. Се-
гала «Свободное время свободного труда – или
новые огораживания?». Весь пафос первой части
размышлений автора, естественно, огрубляя
чрезвычайную важность проделанного им ана-
лиза, можно свести к следующей цитате: «Ны-
нешнее отчужденное отношение к труду оконча-
тельно сложилось с установлением современной
частной собственности и капитализма» (с. 114).
А.П. Сегал рассматривает два типа совре-
менных суждений и прогнозов относительно
складывающегося кризиса капиталистической
системы. В частности, один из возможных сце-
нариев «спасения» капитализма – его вынуж-
денная деградация в сторону феодализма. Что
это значит?
В современном мире наука и информация
стали основной производительной силой, что в
свою очередь ставит капиталистическую систему
перед непреодолимым препятствием. Ведь когда
на рынок поступает тот или иной товар, для его
приобретения необходимо придерживаться двух
принципов: во-первых, должна быть соблюдена
свободность и равность продавца и покупателя;
во-вторых, любое приобретение – это символи -
ческий обмен, физическое отчуждение покупа-
телем у продавца товара и продавца у покупателя
денег: «В результате покупки у продавца нет то-
вара, а у покупателя – денег».
Однако эти фундаментальные принципы
устройства капиталистического рынка пере-
стают работать, когда мы имеем дело с интел-
лектуальным товаром. Например, если агент
рынка напишет сценарий к фильму и затем про-
даст его кинокомпании, то этот товар не будет
отчужден от него вполне. Деньги за него он
получит, но хотя бы даже в своей голове, не го-
воря уже о флэшке, этот сценарий все равно
останется. Поэтому для того, чтобы сохранить
«товарность интеллектуального продукта, его
единоразовую полную отчуждаемость», агенты
рынка путем нарушения первого принципа вво-
дят прямые запреты на продажу и покупку того
или иного нематериального товара: «Вы платите
не за услугу, а за снятие запрета; не за то, что
дорога, по которой вы едете, хороша, а за то, что
вас на нее пропустили». В этом как раз и прояв-
ляется феодализация современной капиталисти-
ческой системы: феодал позволял крестьянам
пользоваться его землей в обмен на барщину
или выплату оброка. А.П. Сегал замечает: «Сам
процесс сохранения уровня нормы прибыли со-
держит в себе предпосылки феодализации,
а следовательно, “дурного отрицания” прибыли
как таковой, ибо для феодализма в качестве
формы отчуждения прибавочного продукта ха-
рактерна не прибыль, а рента» (с. 126). Выход из
сложившегося кризиса, по мнению автора ста-
тьи, – снятие товарности: пусть машины произ-
водят материальные продукты, товары, человек
в свою очередь вполне может заняться более по-
лезными и возвышенными делами.
Дагмар Миронова, чьими усилиями в самые
кратчайшие сроки был переведен на немецкий
язык весь массив текстов, вошедших в моногра-
фию, в своей статье «Лень, безделье, праздность,
или еще раз о сложностях перевода», проводит
крайне интересное сопоставление значений слов
лень, безделье, досуг, праздность в русском и
немецком языках. Так, например, анализируя
русское слово «лень», автор показывает, что
немецкий эквивалент этого понятия – faul, по-
мимо знакомого нам смысла – «отсутствие же-
лания действовать, трудиться, склонность к без-
делью» (Ожегов), содержит еще и второй семан-
тический план, в русском языке не встречаю-
щийся, а именно – гнилой, тухлый, испорчен-
ный. Д.Миронова пишет: «Часто лень использу-
ется в обыденном языке как синоним чего-то
сомнительного, неудовлетворительного, чего-то,
что не в порядке» (с. 140). Вывод автора таков:
«Несмотря на все внешнее сходство, конкретная
культура непосредственно оказывает влияние на
восприятие понятий, и мы всегда должны учи-
тывать этот момент, – даже тогда, когда мы пре-
даемся лени» (с. 144).
В эссе Н.О. Островского «Мужество безде-
лья. Труд и его судьба» поставлена важная про-
блема, связанная с отсутствием у индивида спо-
собности действовать самостоятельно. Такая
утрата самости связана с тем, что индивид при-
вык к существованию в жестко детерминирован-
ном и запрограммированном пространстве кор-
пораций или государственных структур, где все
уже решено, спланировано и утверждено, а ему
остается всего лишь исполнить отданные сверху
приказы: «Так и не найдя своего (индивидуаль-
ного) применения, человек в конечном счете бу-
дет стремиться совершить “бегство от свободы”,
причем в еще более радикальных формах,
225
поскольку “мужество безделья” – это прежде
всего повышение ставок перед самим собой»
(с. 152). И это при том, что, как замечает автор
статьи, в современном постиндустриальном об-
ществе когда-то базовые и нерушимые этиче-
ские установки постепенно размываются. Че-
ловек приучается мыслить гибко, ему предла-
гается множество различных альтернатив, цен-
ностных установок, а это значит, что прин-
ципы трудовой этики, как и само отношение
к труду, будут пересмотрены.
А.С . Салин свои размышления «По то сто-
рону труда и безделья: к критике геймифика-
ции как проекта» выстраивает вокруг понятия
«игра», которое, как он пишет, занимает про-
межуточное положение между бездельем и тру-
дом. Исследователь уверен, что безрадостное
состояние, которое испытывает работающий
человек, может быть снято, если сам процесс
производства будет «геймифицирован»: «Пре-
вратить труд в игру – это проект, который со-
дер жит возможности для выхода по ту сторону
отчуждения» (с. 166).
Заключительное эссе Ю.И. Чугайновой
«Труд, игра и безделье» – замечательно тем,
что ставит важный концептуальный вопрос:
«Где мы можем найти подлинное безделье?»
Анализируя уклад жизни современного чело-
века, автор показывает, что найти его (безде-
ль е) не так-то просто. Ведь даже когда индивид
бесцельно гуляет, реализуя, казалось бы, под-
ли нную лень, его организм в это время сжигает
калории, а современные смартфоны могут
предоставить человеку по итогам совершенной
прогулки статистику, отражающую не только
количество сделанных им шагов, но и число
уничтоженных за это время калорий. А это зна-
чит, что прогулка оказалось вовсе не бездельной.
У нее появилась цель, польза. Был достигнут
конкретный результат. Автор эссе резюмирует:
«Оказывается, что обнаружить лень в человече-
ской жизни гораздо сложнее, чем работу. Воз-
можно, феномен лени еще не был так сильно
концептуализирован, как феномен труда» (с. 176).
Хочется еще раз настоятельно порекомен-
довать каждому внимательно прочитать статьи
и эссе этой коллективной монографии. Зна-
комство с такой книгой будет полезно, хотя бы
даже для того, чтобы осознать, какое мужество
п отр ебуется тому, кто р еши тся на бездель е в
современно м мире то тальной занятости и
неудержи мой пр оизводительности . Лень – не
всегда только нечто поро чное и недо стойное.
Своего приверженца и поклонника она мо жет
одарить сладостным состояни ем покоя, без-
мятежности, как его еще любят лапидар но
и менова ть европейские празднолюбцы –
«dolce far niente».
Т.А. Сысоев
Сысоев Тихон Алексеевич – Московский
государственный университет им. М.В . Ломо-
носова, философский факультет, Москва,
119991, ГСП-1, Ломоносовский проспект, д. 27,
корп. 4 .
Аспирант кафедры этики.
tihonsysoev@inbox.ru
Sysoev Tihon A. – Faculty of Philosophy, Lo-
monosov Moscow State University, 27/4, Lomon-
osovsky av. GSP-1, Moscow, 119991, Russian
Federation.
Department of Ethics, Postgraduate.
DOI: 10.31857/S004287440001366-7
CONTENTS
Hermeneutic Tradition in Russia: Current Context and Resent Problems
(The Round Table Materials)
Felix E. Azhimov – Hermeneutics as Metaphysics (Narratological Aspects of Inter-
pretation)......................................................................................................
Rustam Yu. Sabancheev – Cultural Memory as a Narrative Phenomenon (Herme-
neutic Aspects)..............................................................................................
Tamara I. Lipich – Russian Literary-Philosophical Romanticism of the First Half
of the 19th Century (Hermeneutics of Love)................................................
Philosophy and Society
Alexander V. Rubtsov – Ideas as Internal Experience. From Psychohistory to Psy-
choideology of the Russian Idea....................................................................
Elizaveta V. Shcherbakova – Conscious and Unconscious in Ideology ....................
Olga L. Granovskaya – Berlin and Bakhtin: Pluralism, Polyphony and Critic of
Relativism.....................................................................................................
Philosophy, Religion, Culture
Sergey A. Nickolsky – « ...To live in death and return». On the Andrey Platonov's
artistic philosophy.........................................................................................
Dmitry V. Shmonin – Theology and Scholastics: Brinks of Philosophical Interpre-
tations...........................................................................................................
Ivan S. Kurilovich – On the Question of the Subjectivity of the Philosopher in the
Art of Phenomenology (Reflection on a Book)............................................
Philosophy and Science
Valentin A. Bazhanov – Numerical Cognition in Cognitive Research Perspective......
Olga V. Vorobieva, Feodor V. Nikolai – Critical Theory, Neuro Science and Study
of Affect: Issues of Transdisciplinary Dialoge...............................................
Alexandra V. Rodina – Transcendental basis of physics on the example of «closed
theory» by K.F . von Weizsäcker and V. Heisenberg.....................................
Vladimir G. Kutcherov, Irina A. Gerasimova – Petroleum Genesis: Competition of
Paradigms.....................................................................................................
History of Russian Philosophy
Alexey M. Rutkevich – Genealogy of Intellectuals by Alexander Kojève...................
Leonid Yu. Kornilaev – The Specifics of Criticism on E. Lask’s Philosophy in Russia
5
10
15
20
31
41
52
64
74
82
91
101
106
118
132
227
History of Philosophy
Erich Yu. Soloviev – Young Luther and His Ninety-five Theses. Part 2......................
Tonny Aagaard Olesen – Schelling: a historical introduction to Kierkegaard’s Schel-
ling, translated into Russian by Darya A. Loungina and Dmitry
G. Mironov..................................................................................................
Dmitry G. Mironov, Darya A. Loungina – German philosophic community response
to Schelling’s lectures: some additions...........................................................
Alexey G. Zhavoronkov – Social Aspects of Kant’s Anthropology and Their Influ-
ence on the 20th Century Sociology: Problems and Cases............................
Letter to Editors
Jin Na – Leo Strauss political philosophy..................................................................
Scientific Life
Abdumalik Nyssanbayev, Serik Nurmuratov – Spirituality as a phenomenon of culture....
Alla G. Glinchikova – Religion and Politics in Modern Foreign Literature (Review
of Modern Consepts)....................................................................................
Book Reviews
Vladislav A. Lektorski – Lyubimov A.P. Philosophy of Law......................................
David I. Dubrovsky – Nesterov A.Yu. Semiotic Foundations of Technology and
Technical Consciousness..............................................................................
Tihon A. Sysoev – View from Russia: reflections on the courage of laziness and
idleness. Labor and its fate...........................................................................
145
162
177
187
198
204
212
217
218
221
1
Подписано к печати 10.12 .2019 г.
Формат 70х100 /16
У
Тираж 630 экз., включая 5 экз. бесплатно.
Зак. 4/12а Цена свободная.
Учредители: Российская Академия наук (РАН)
Издатель: Российская академия наук
Исполнитель по контракту No 4У-ЭА-014-18
ООО “Интеграция: Образование и Наука”
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 47
Отпечатано в ООО “Институт информационных технологий”
ч.-изд. л. 21,9.