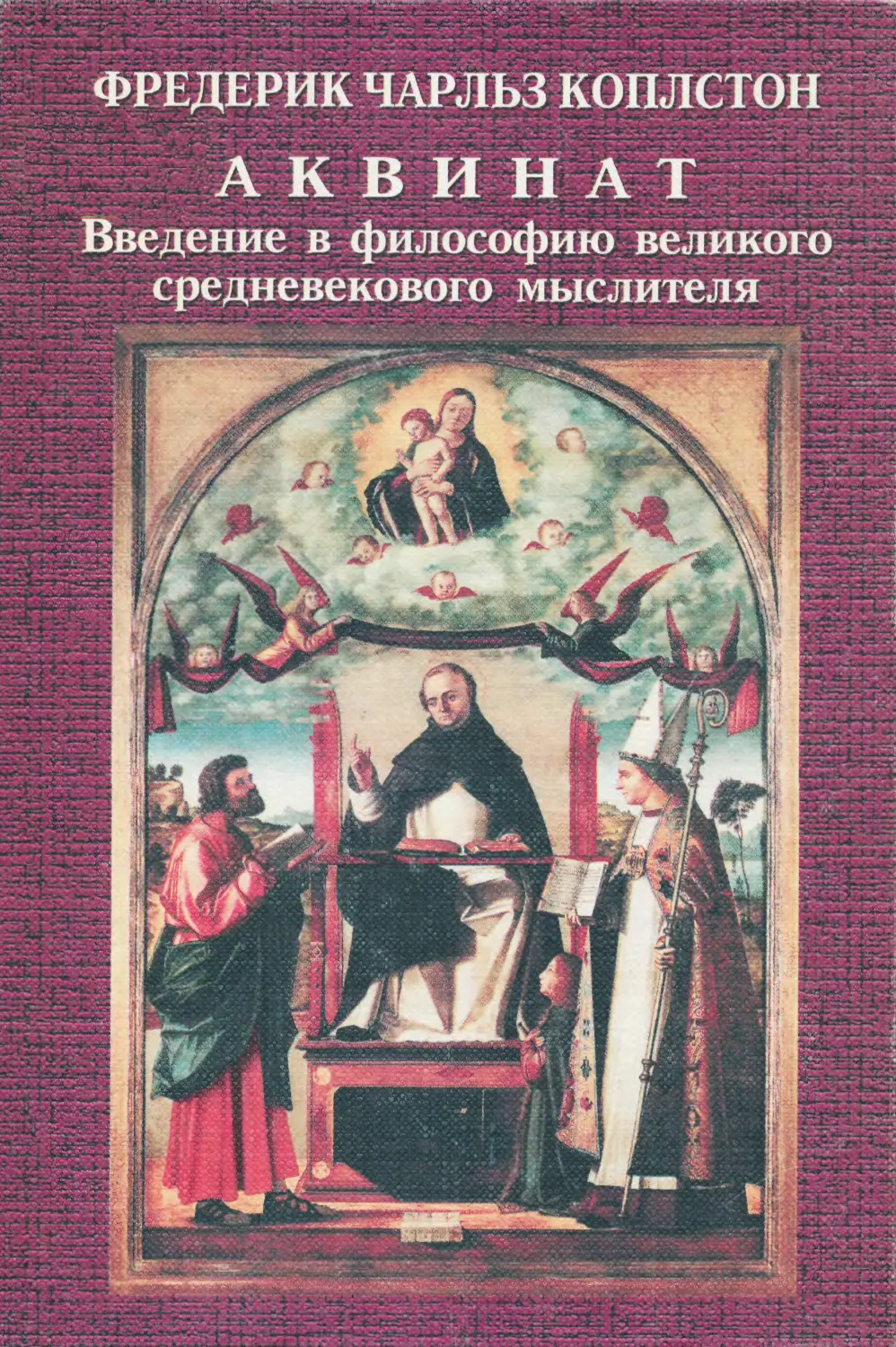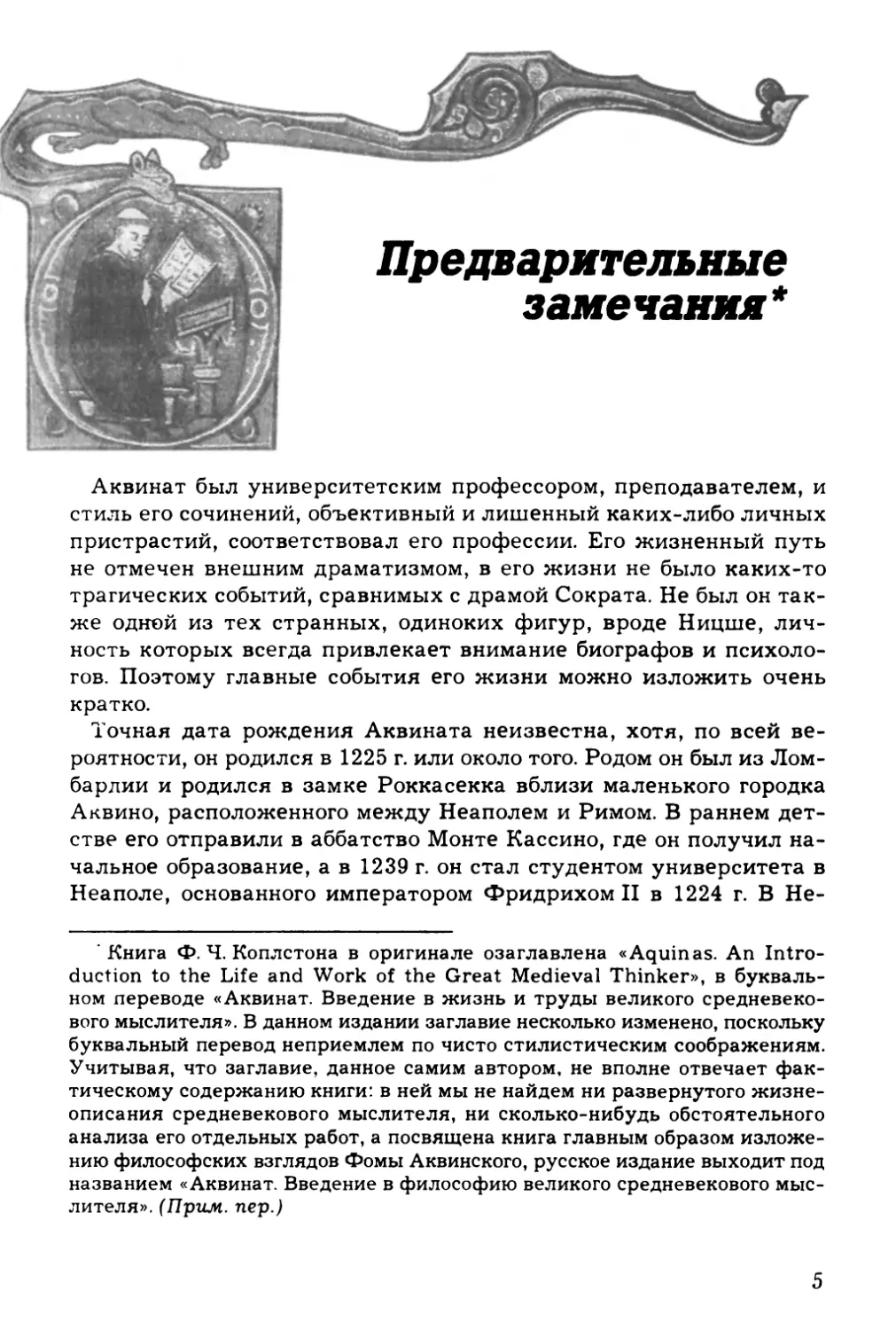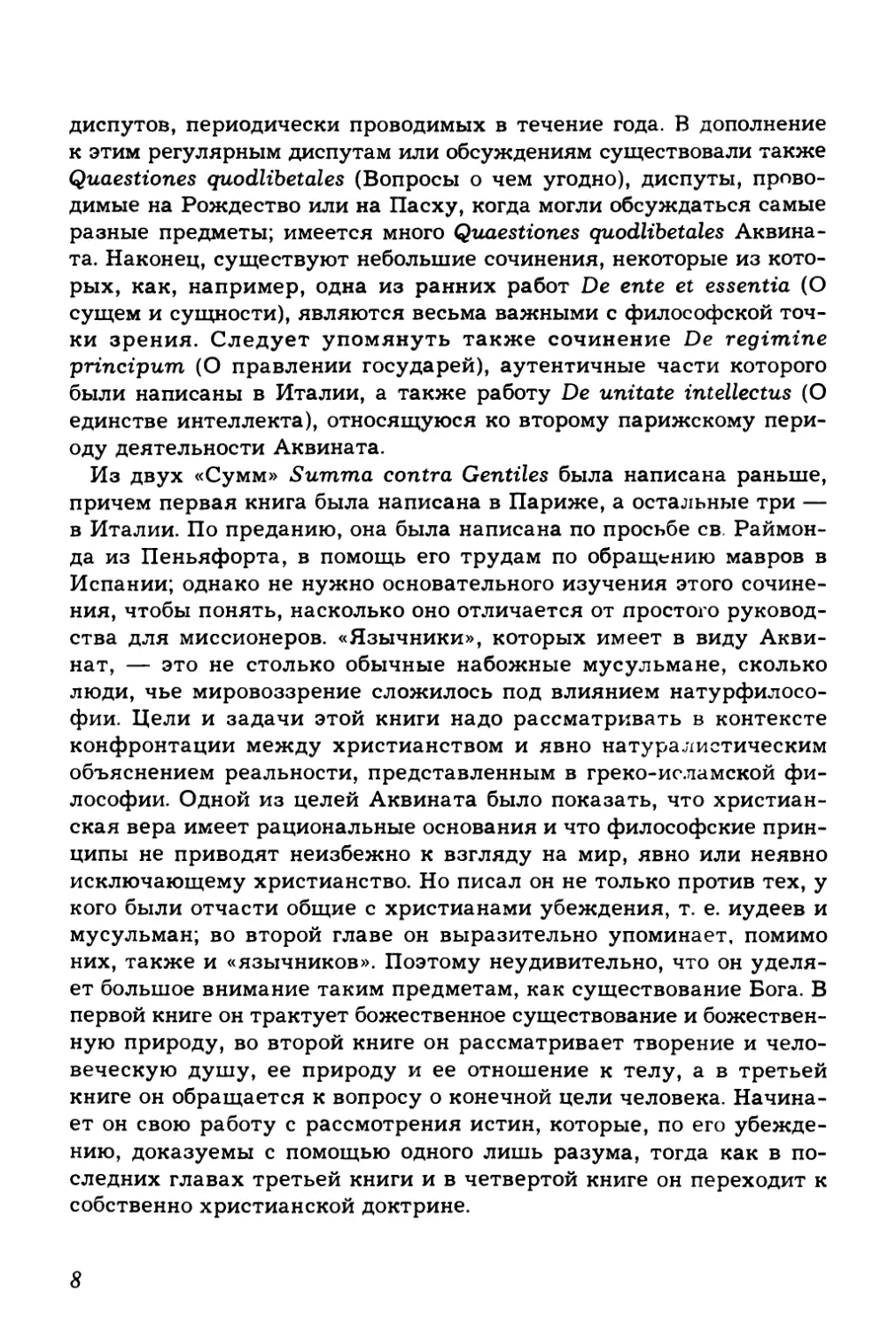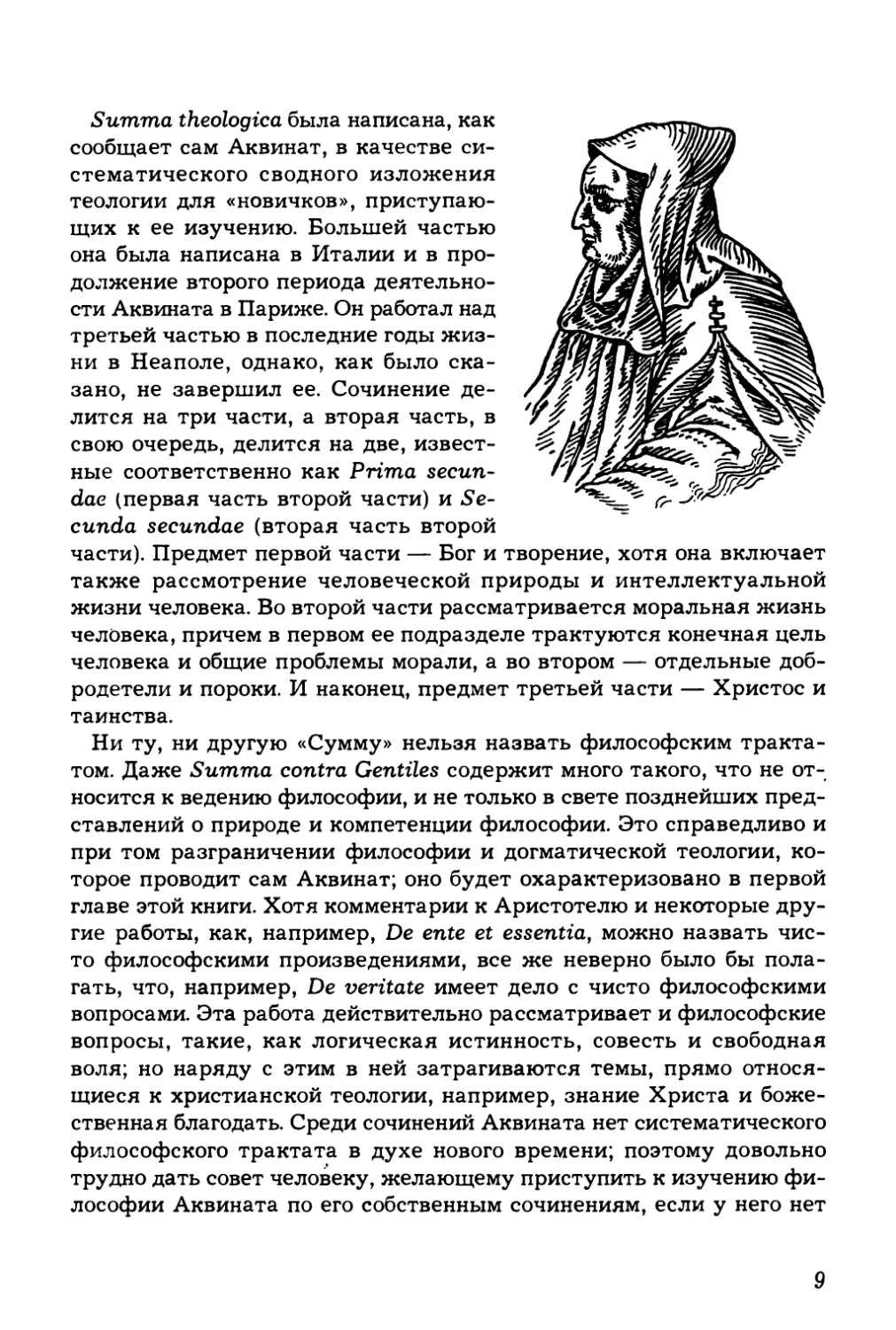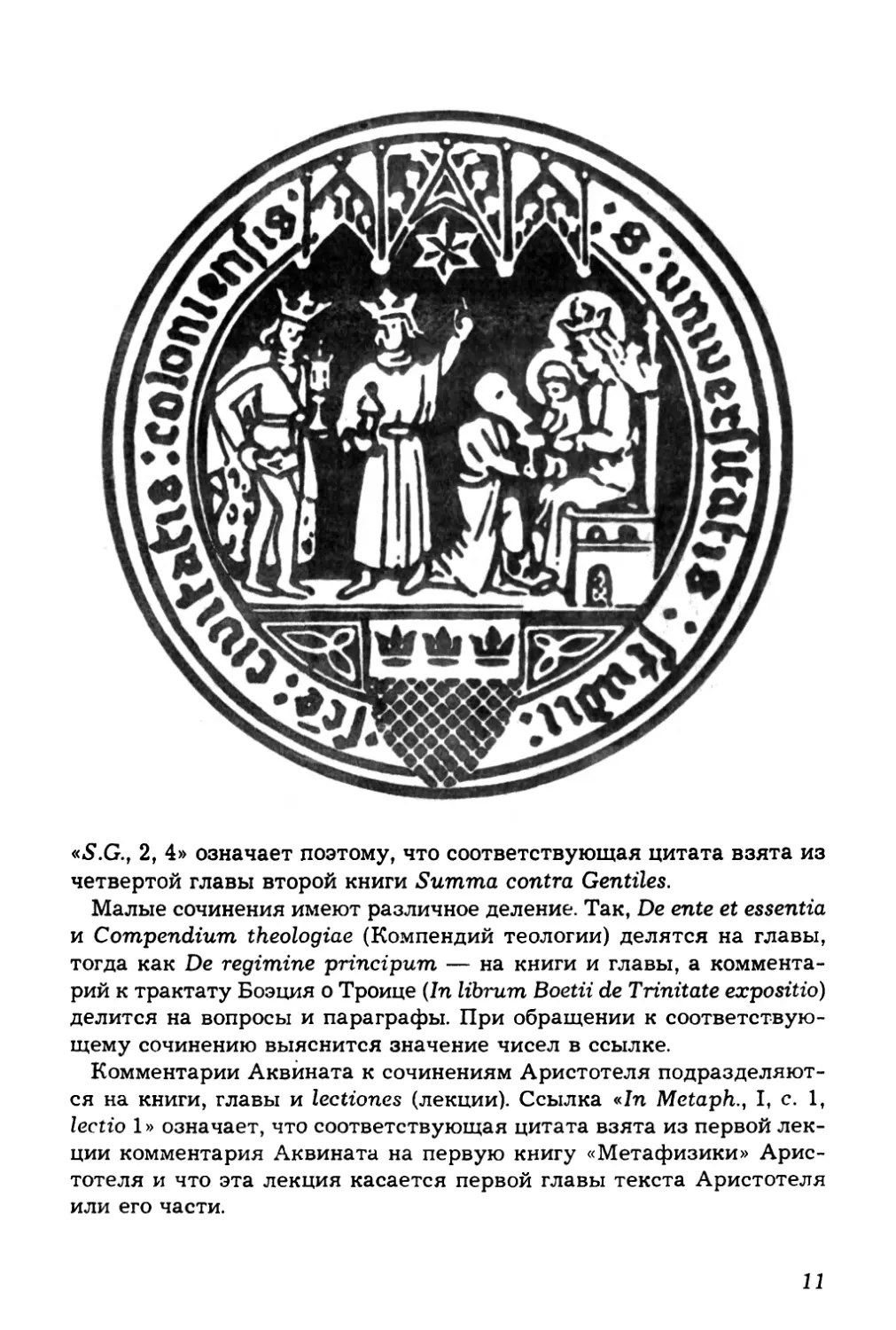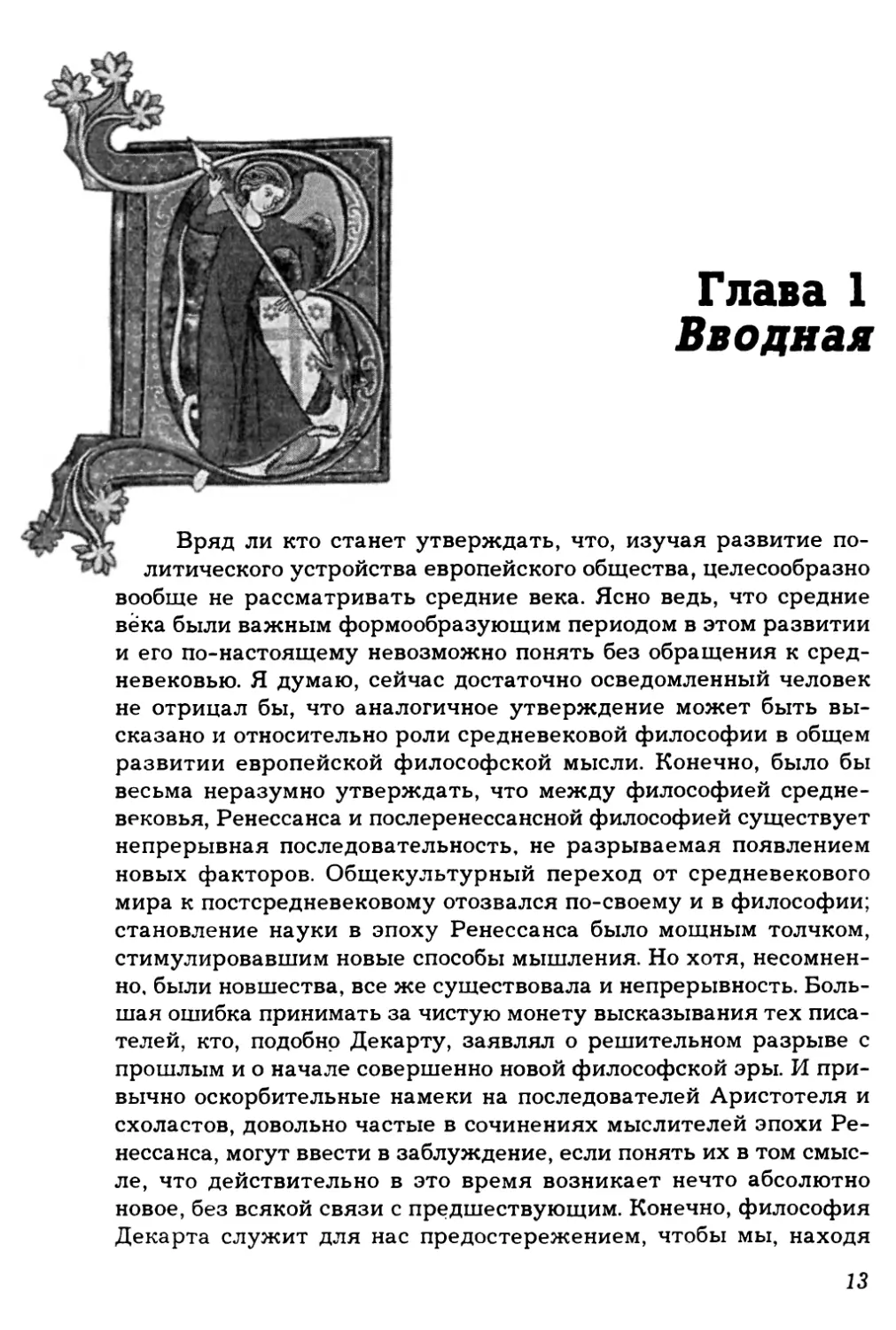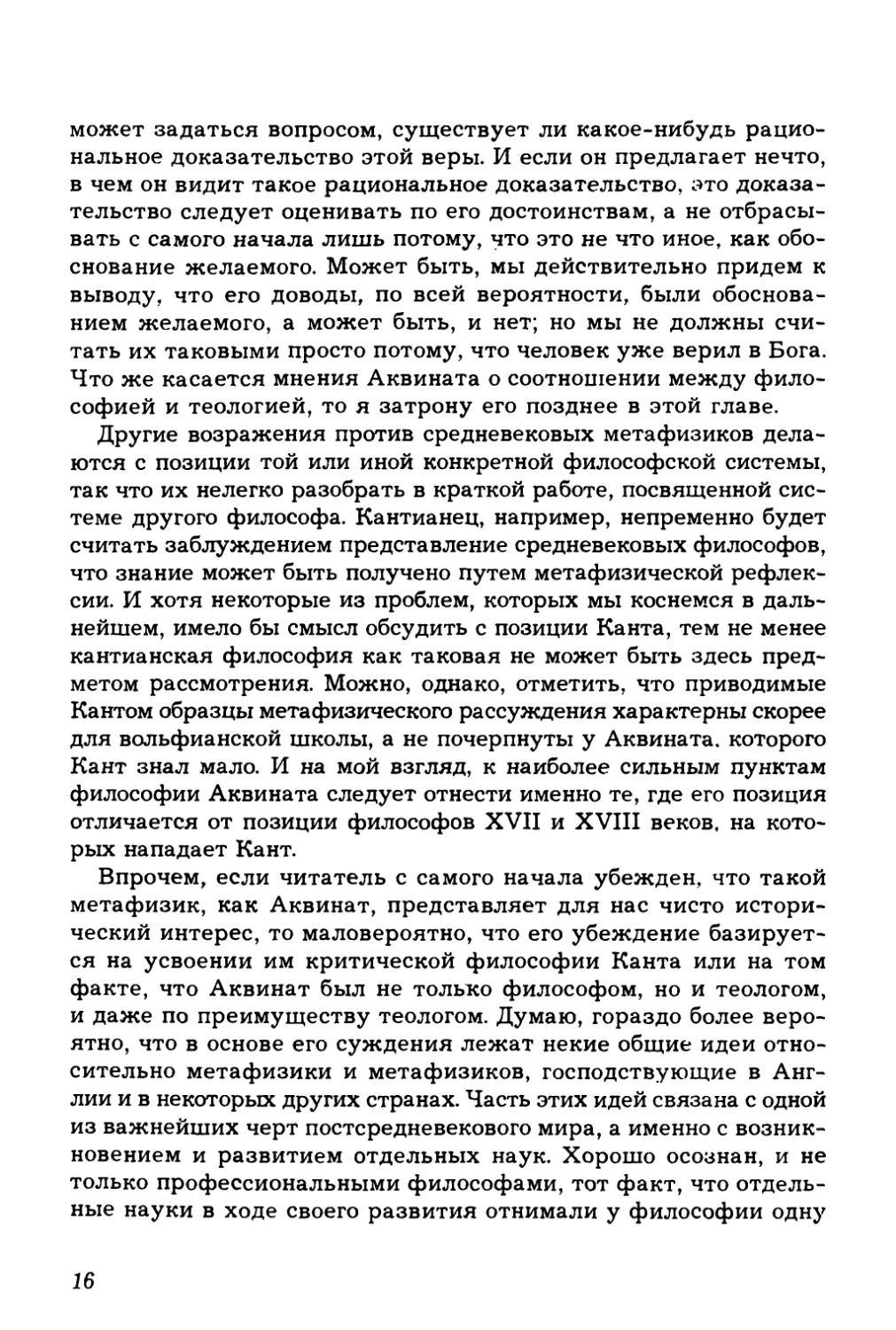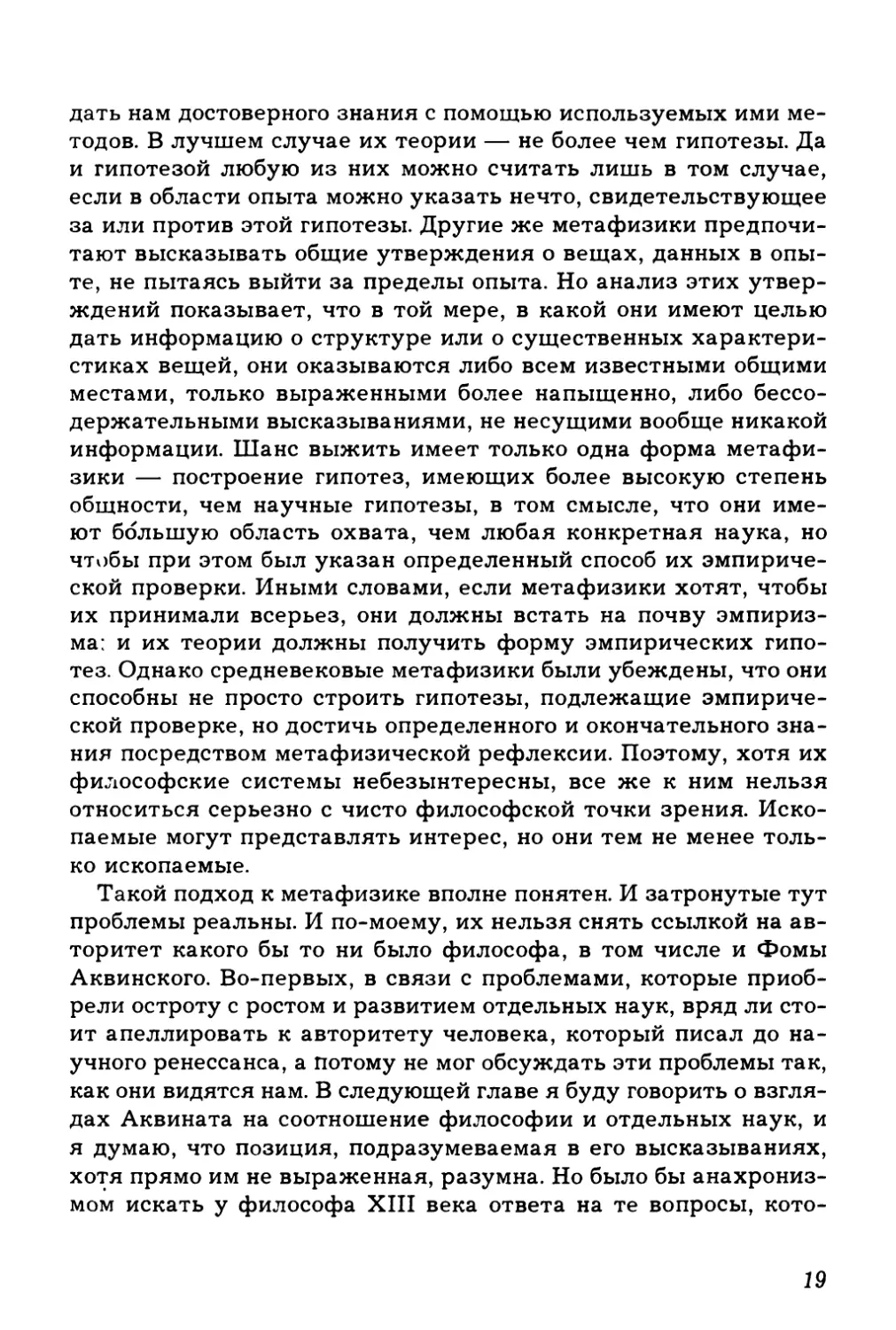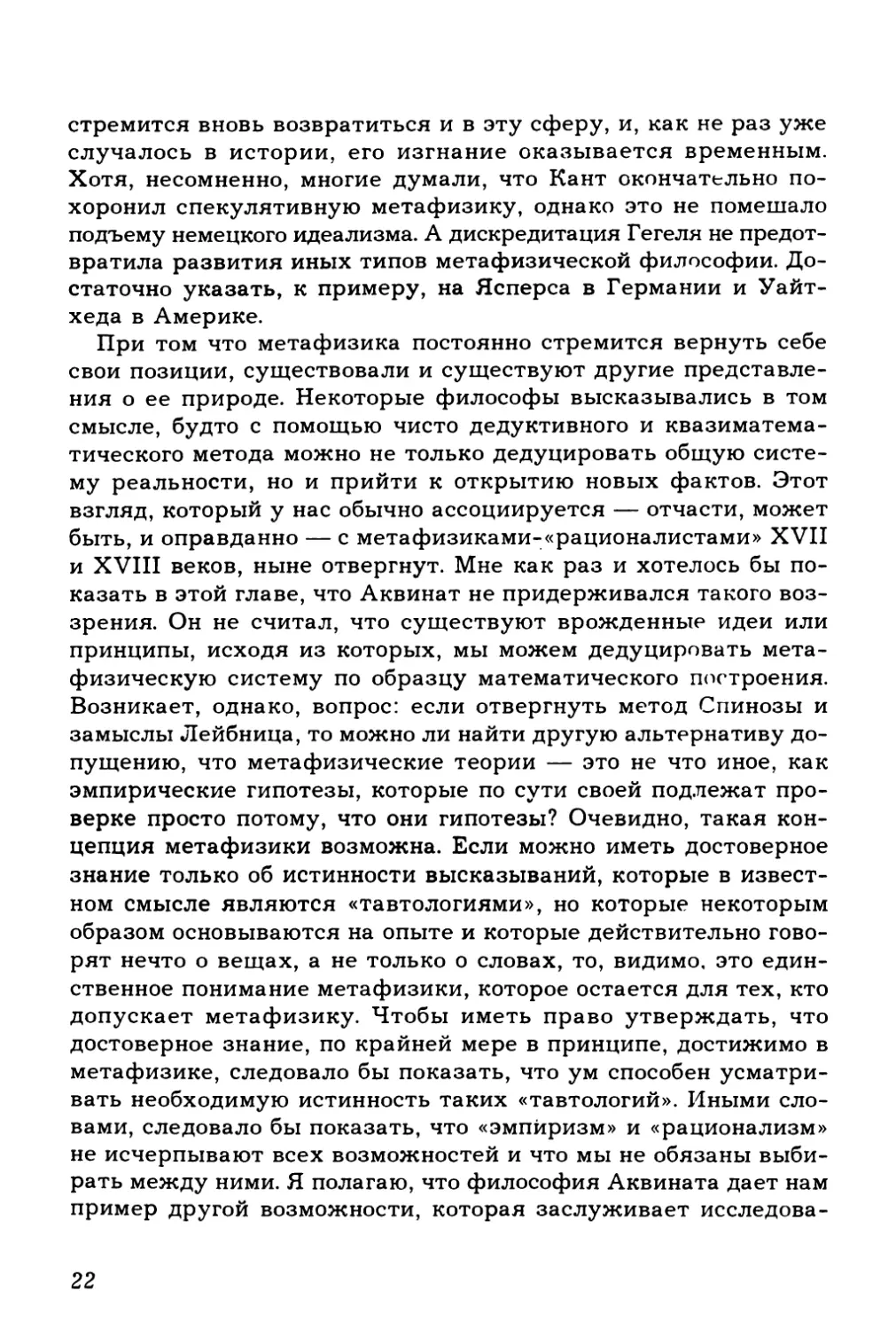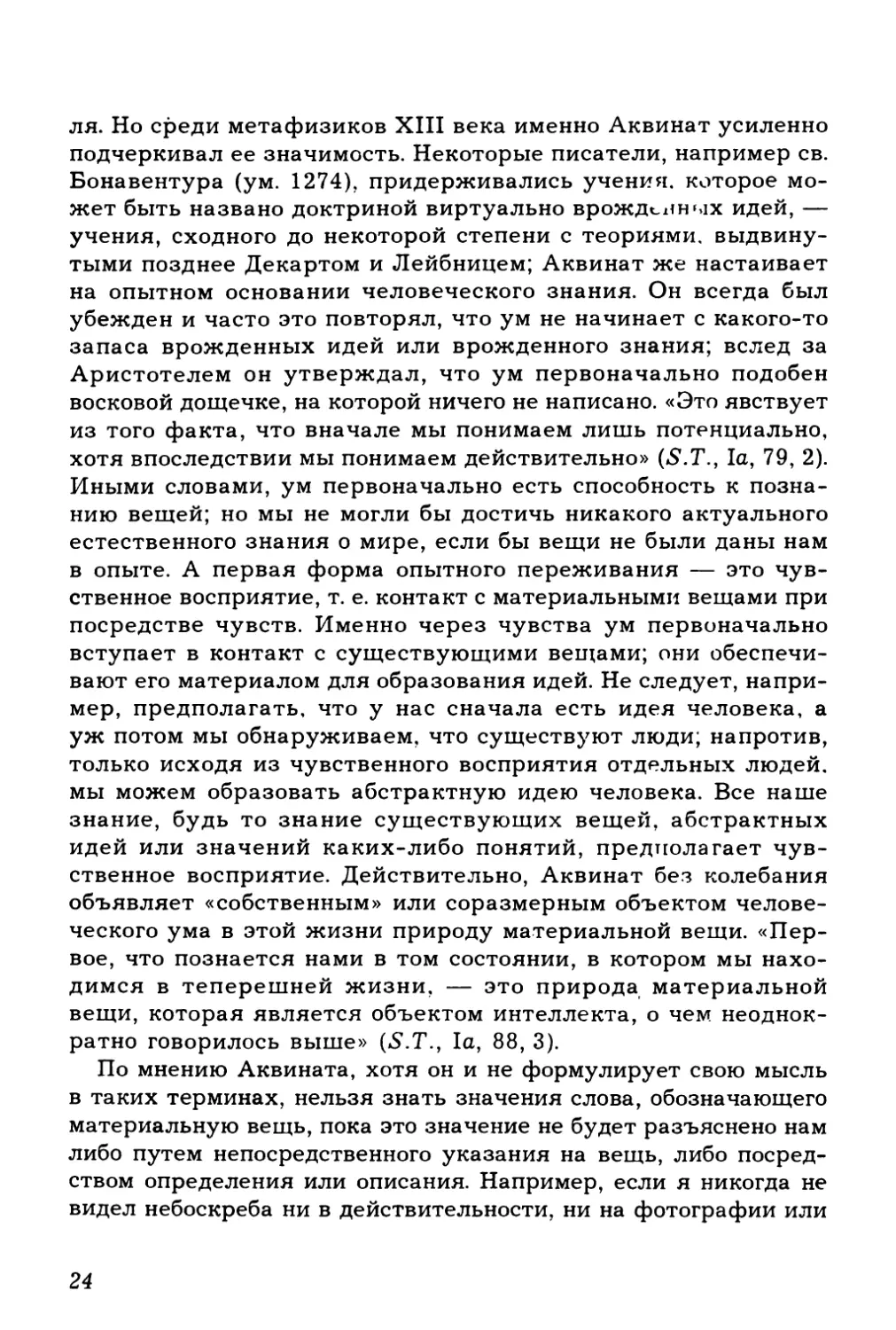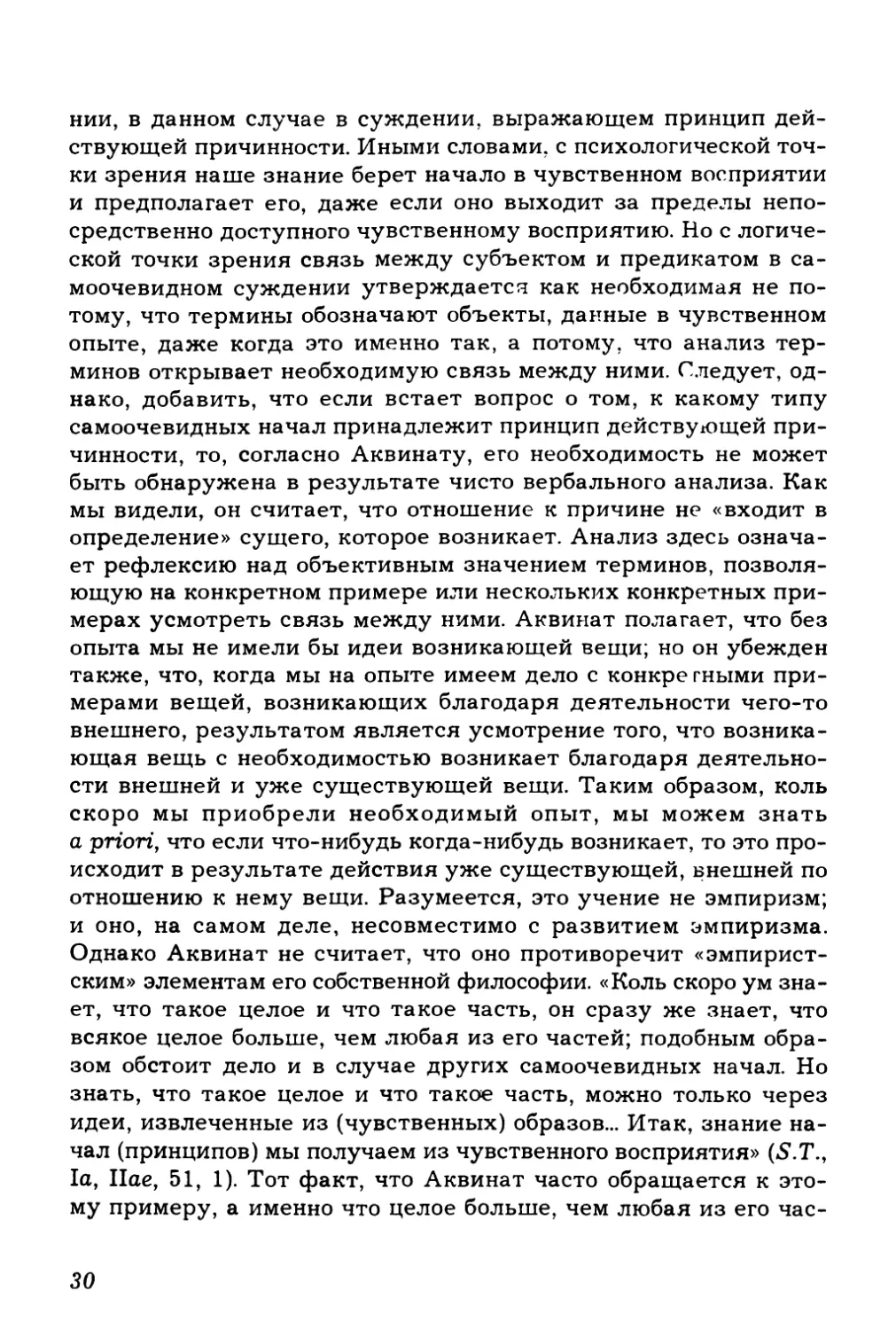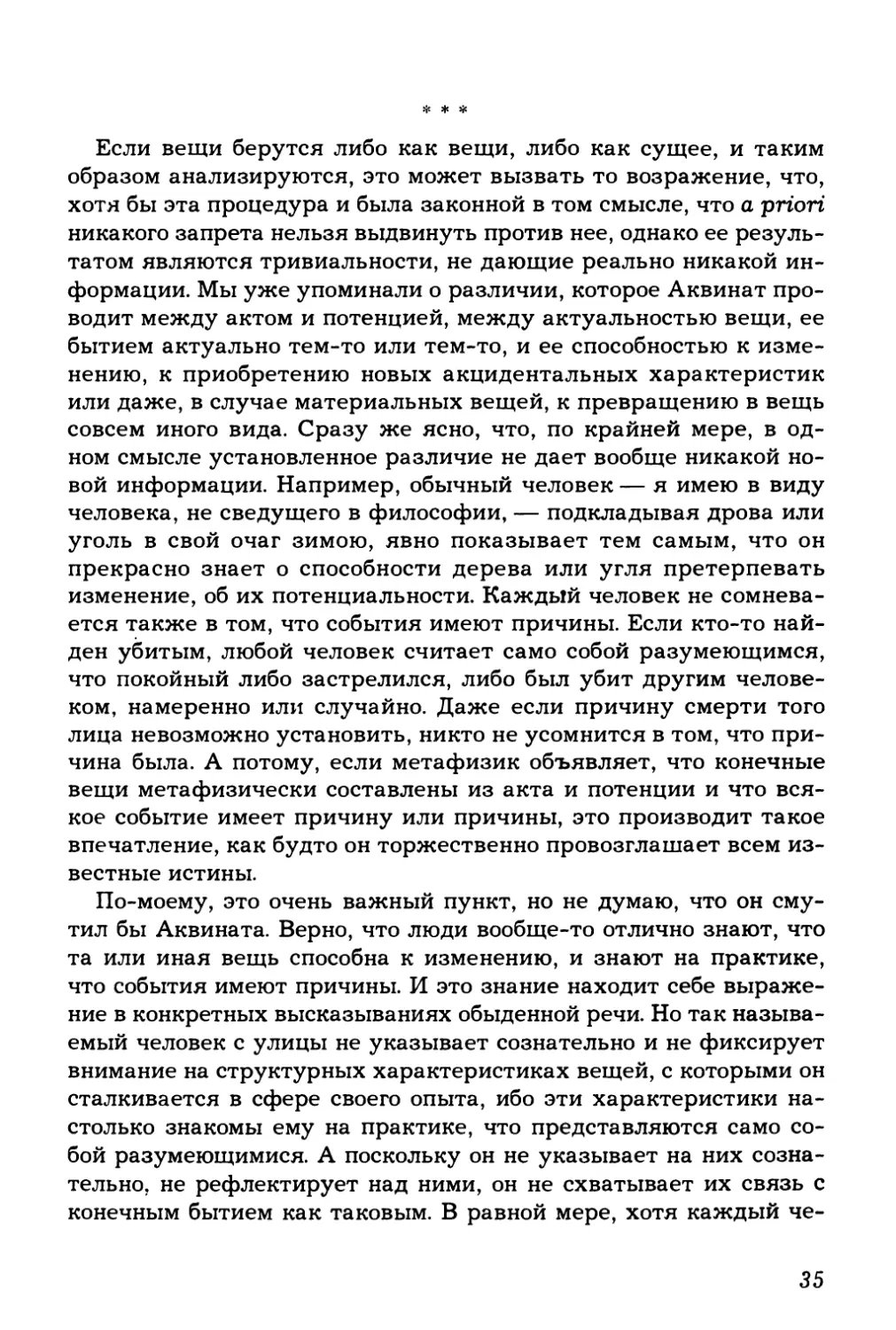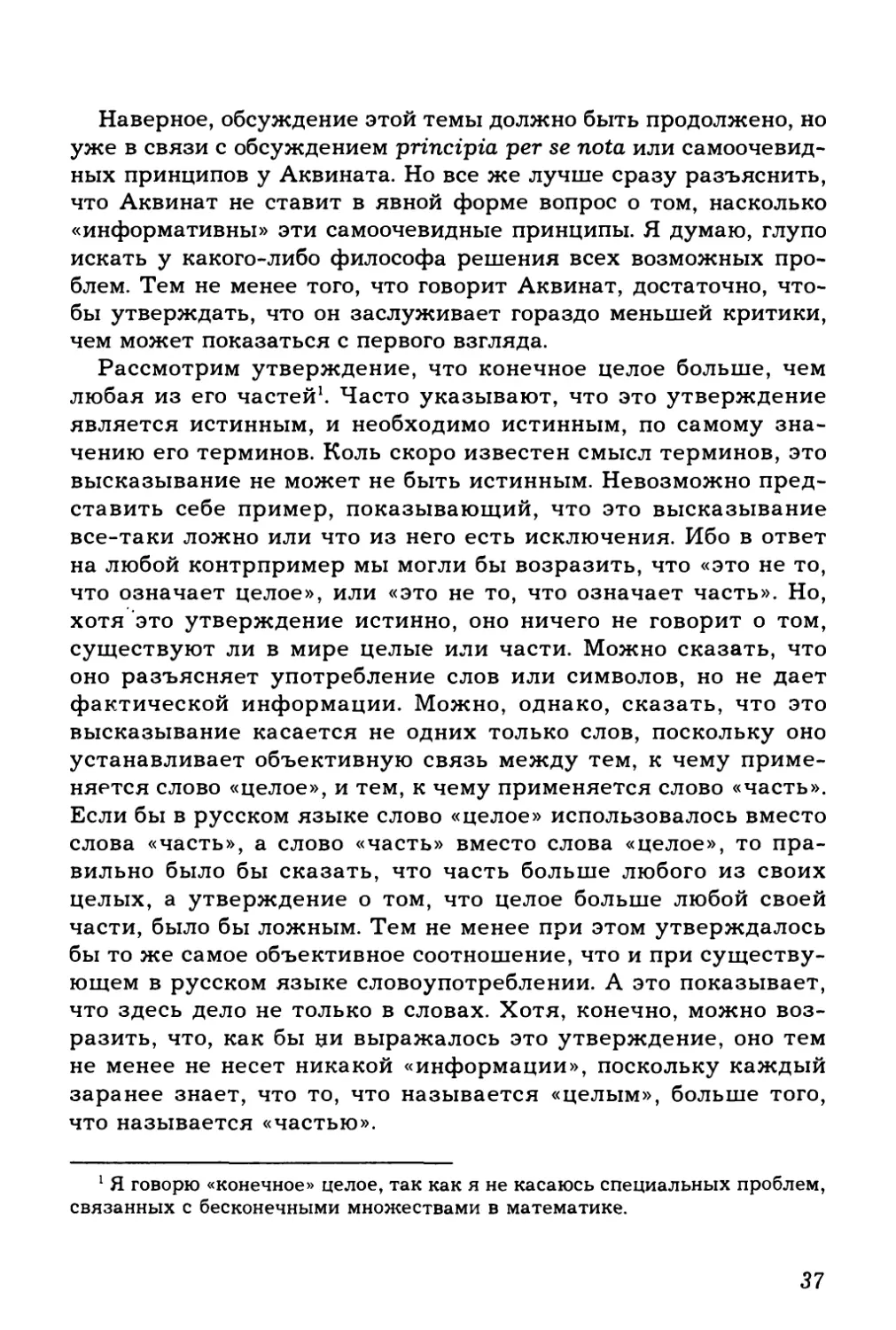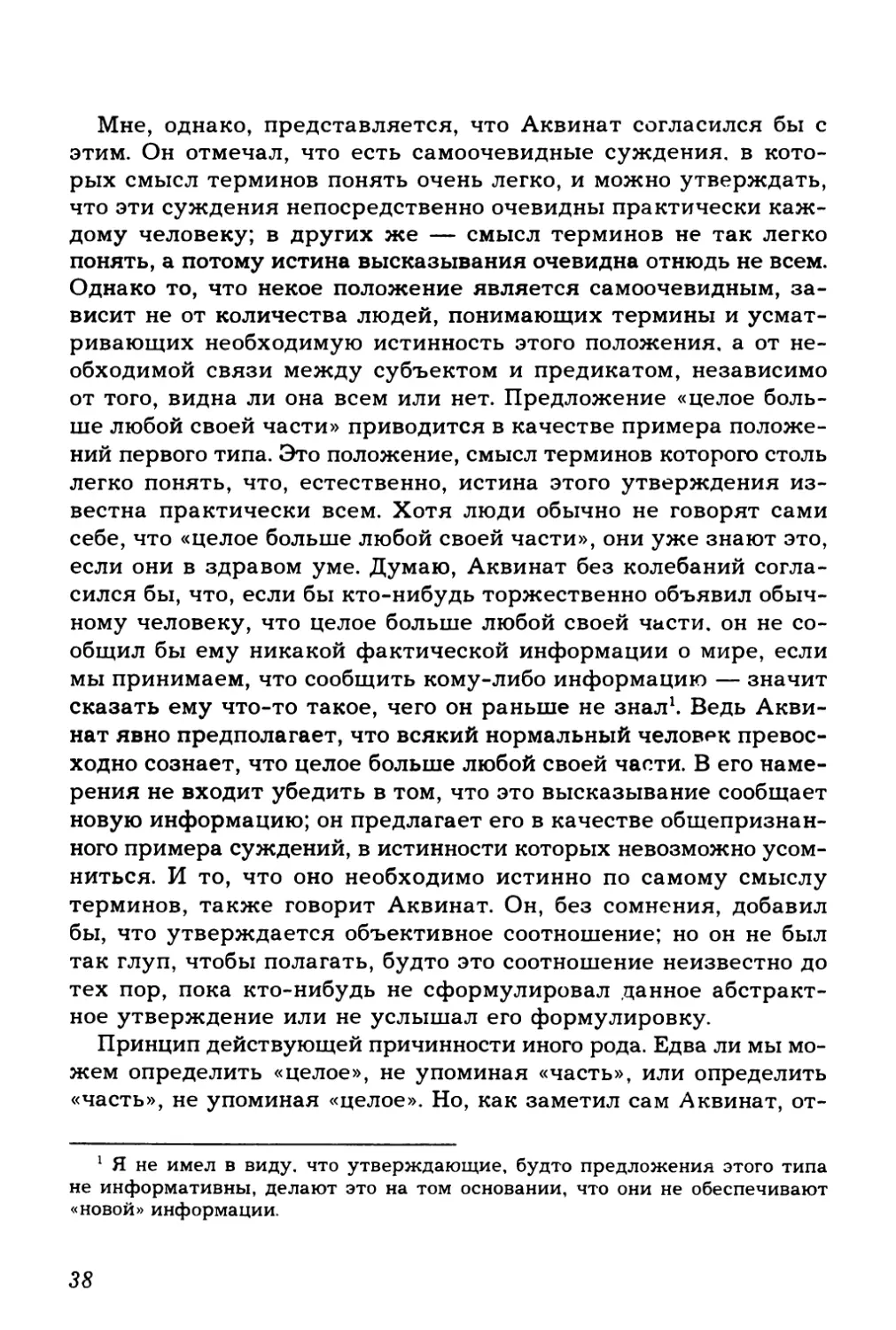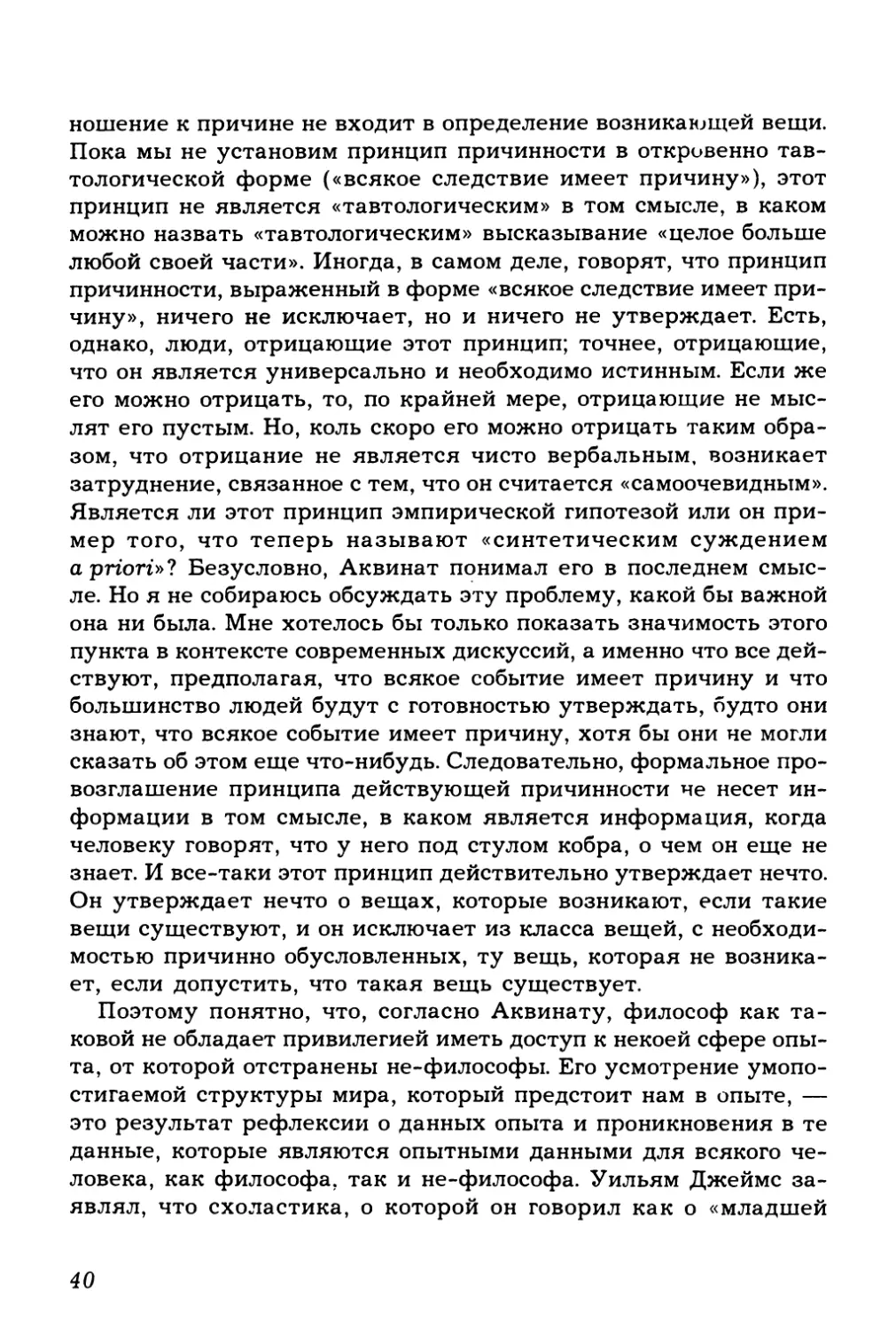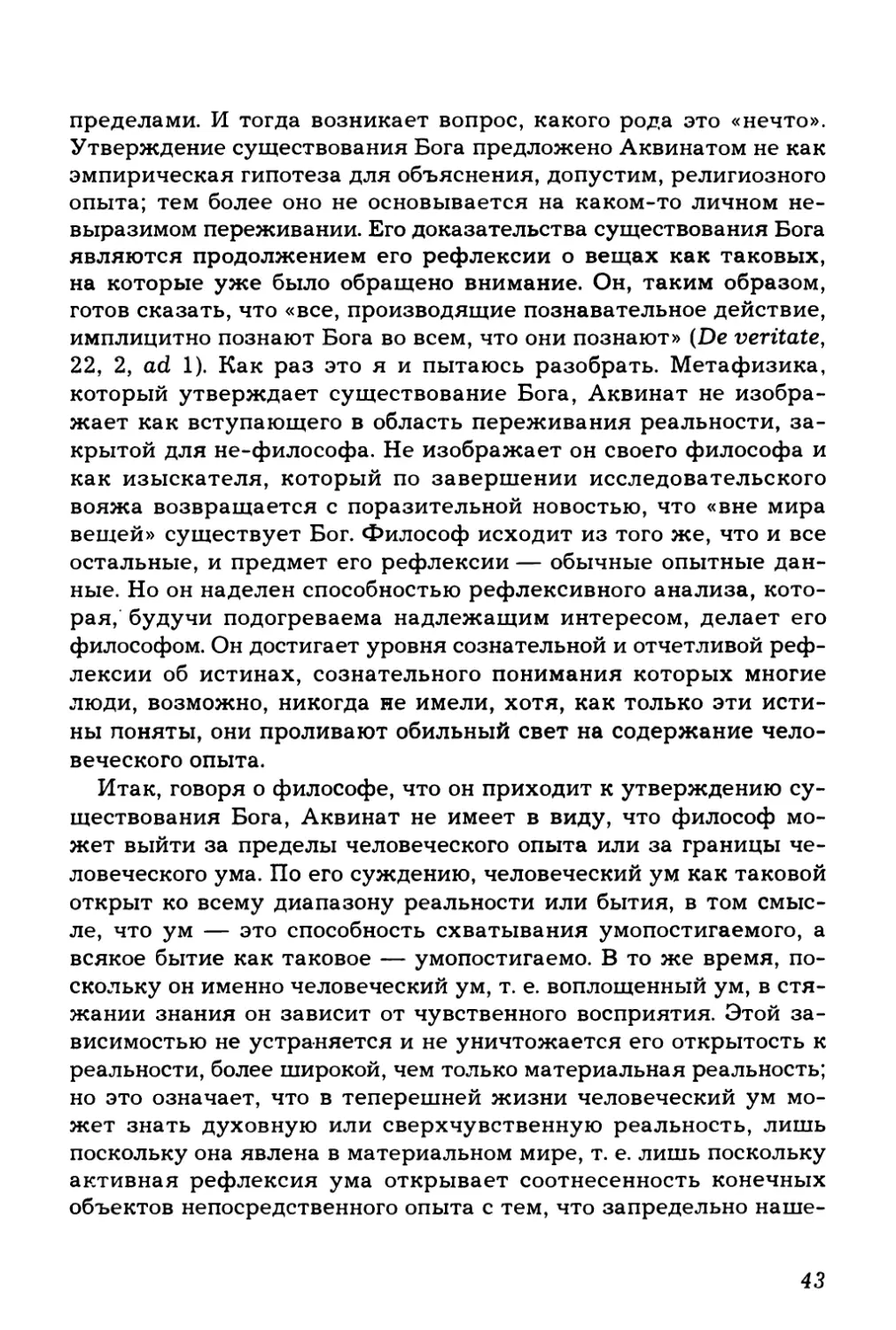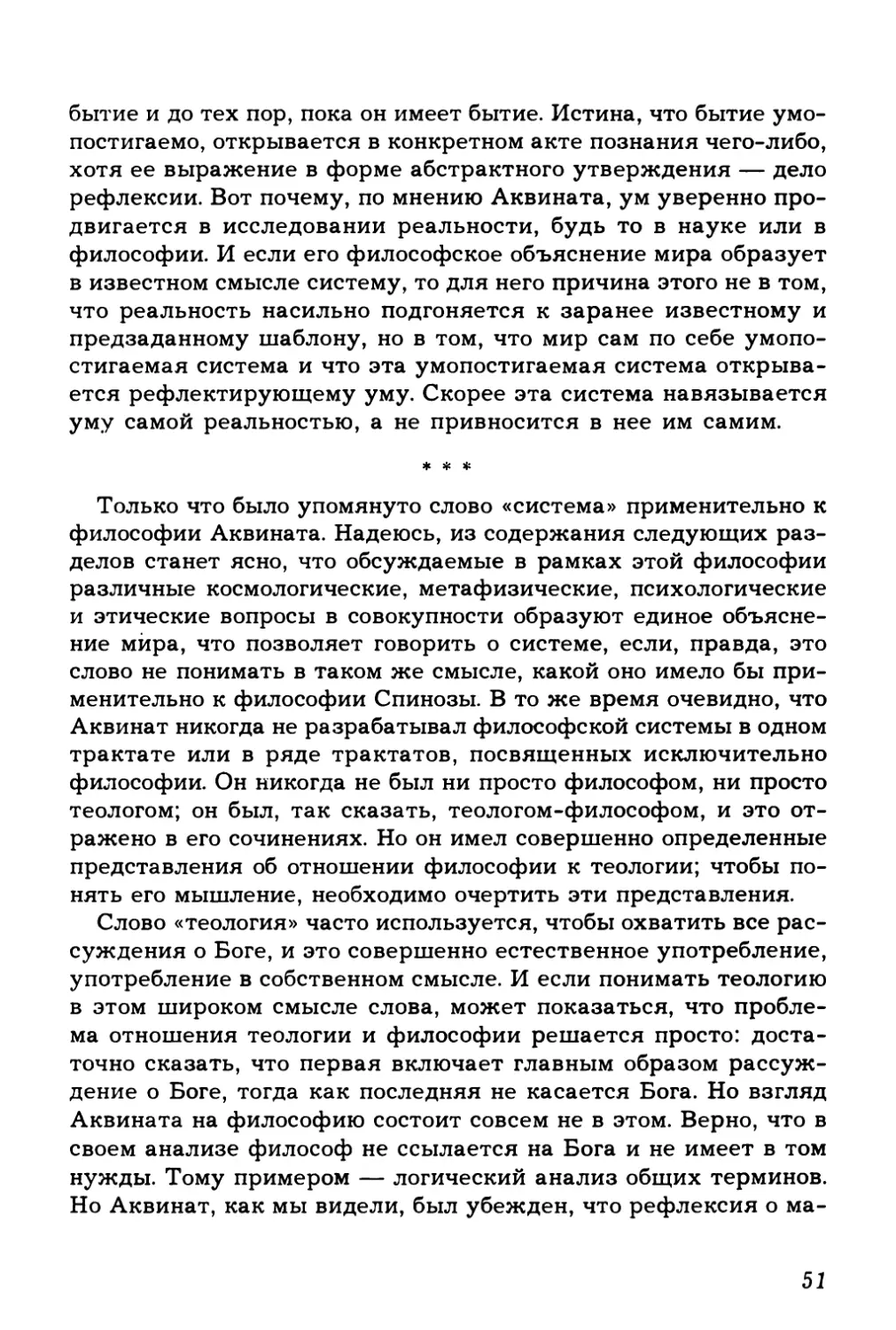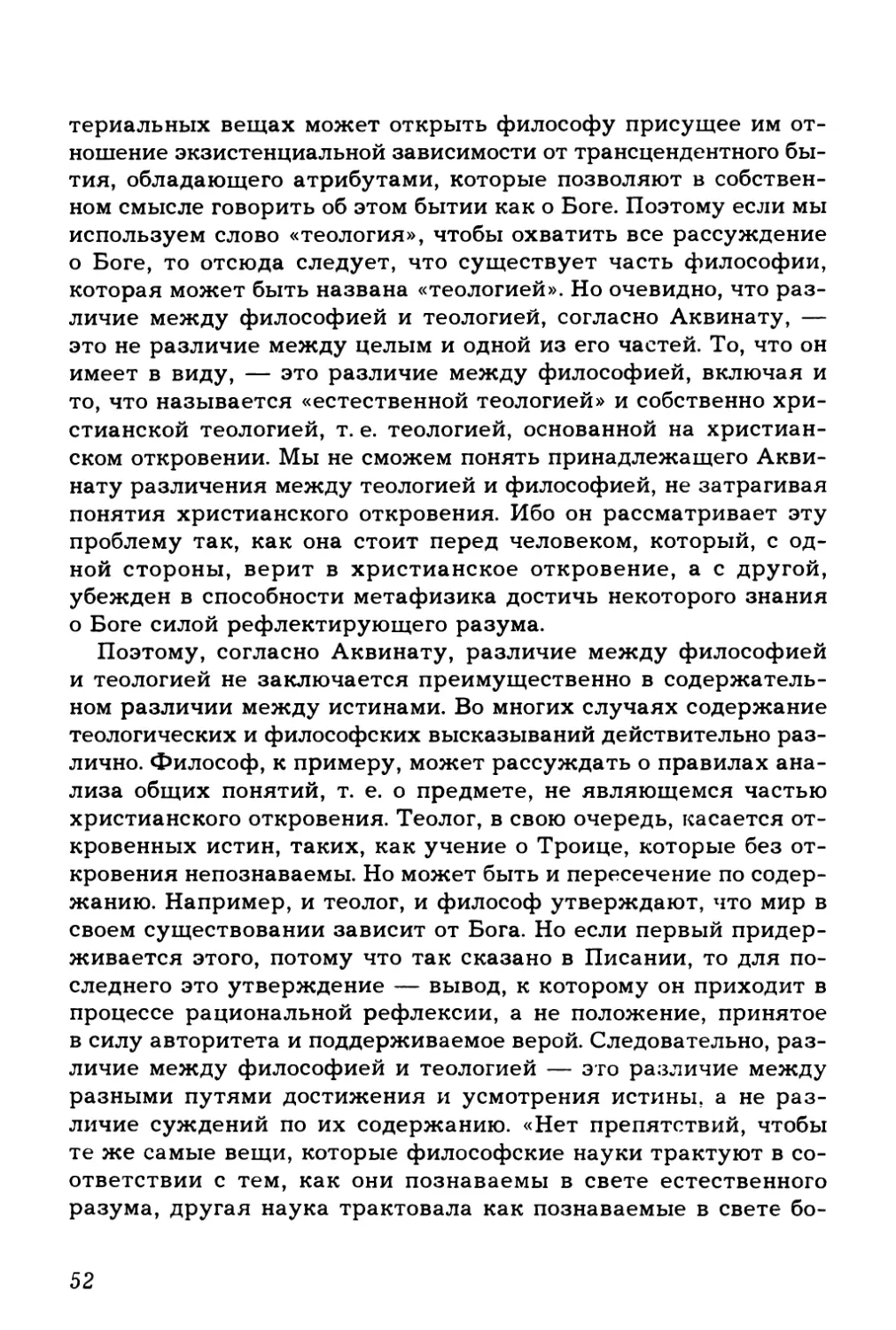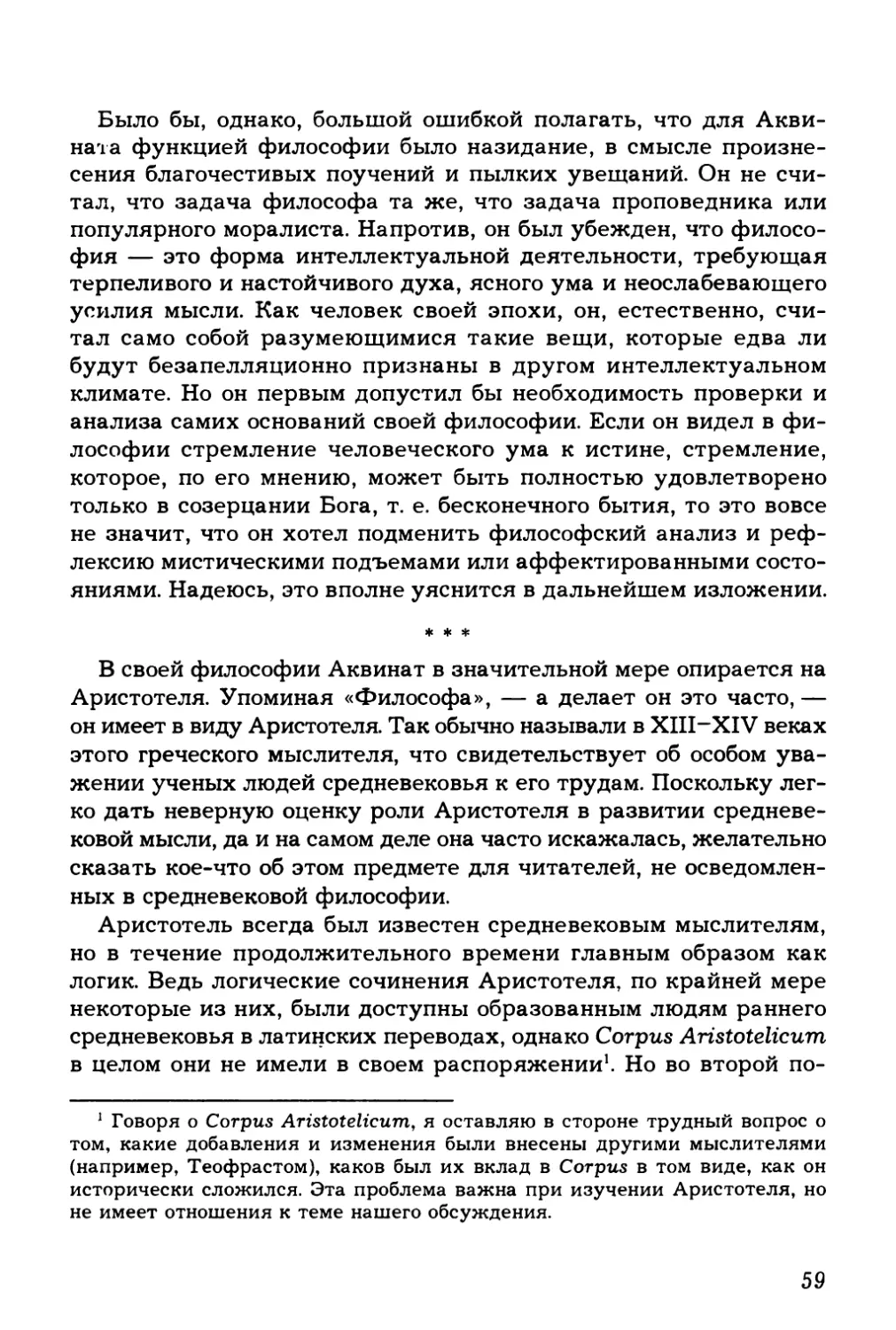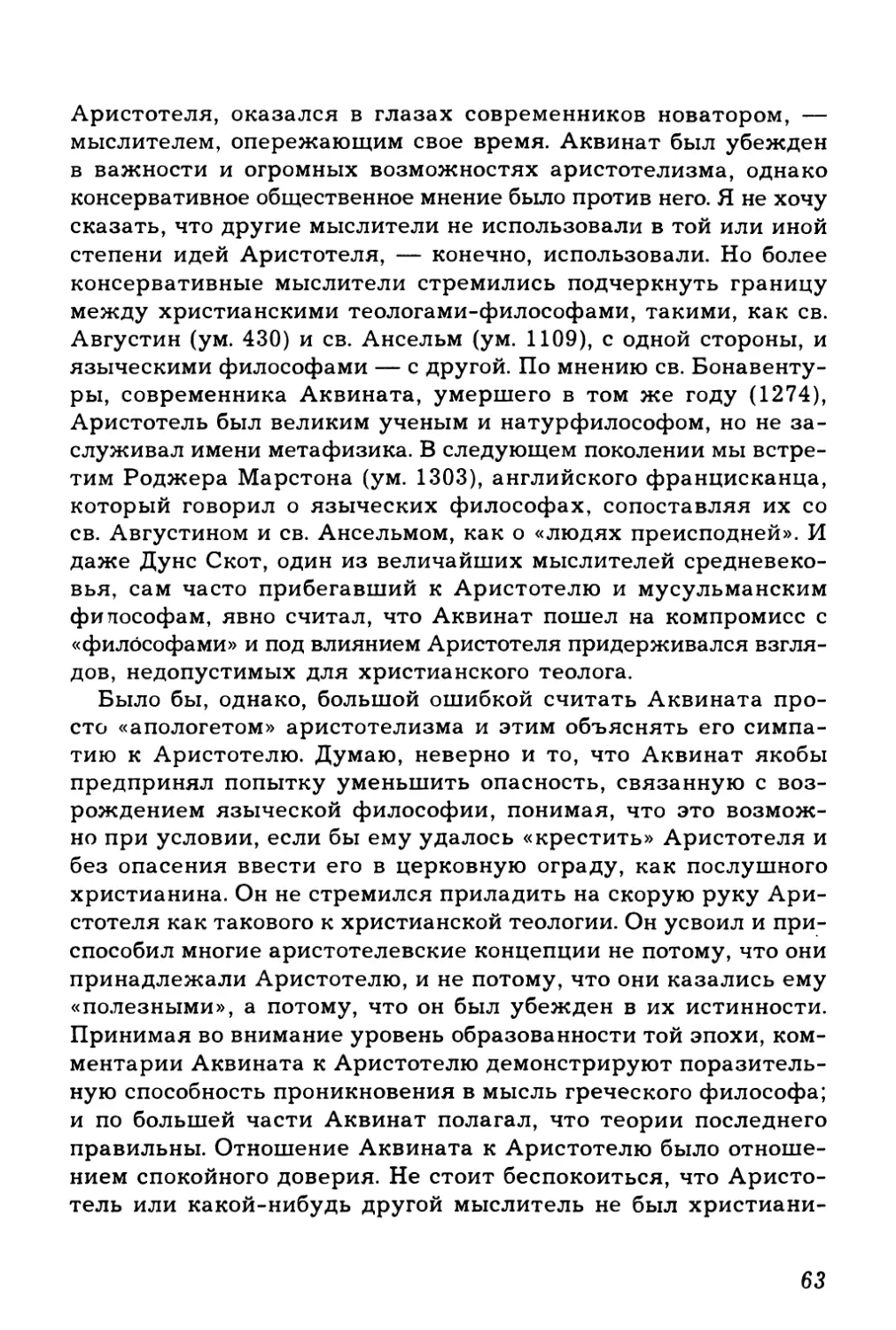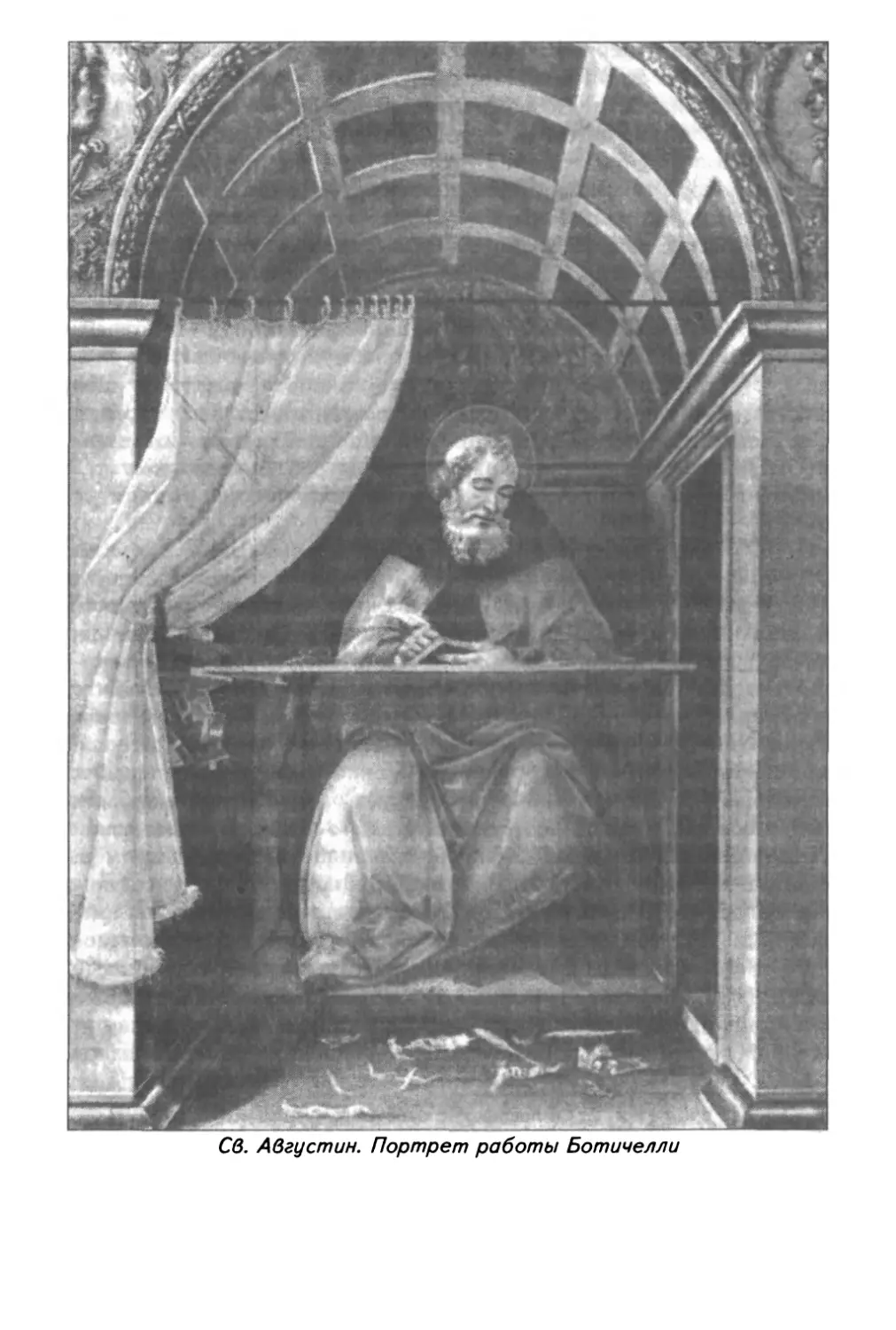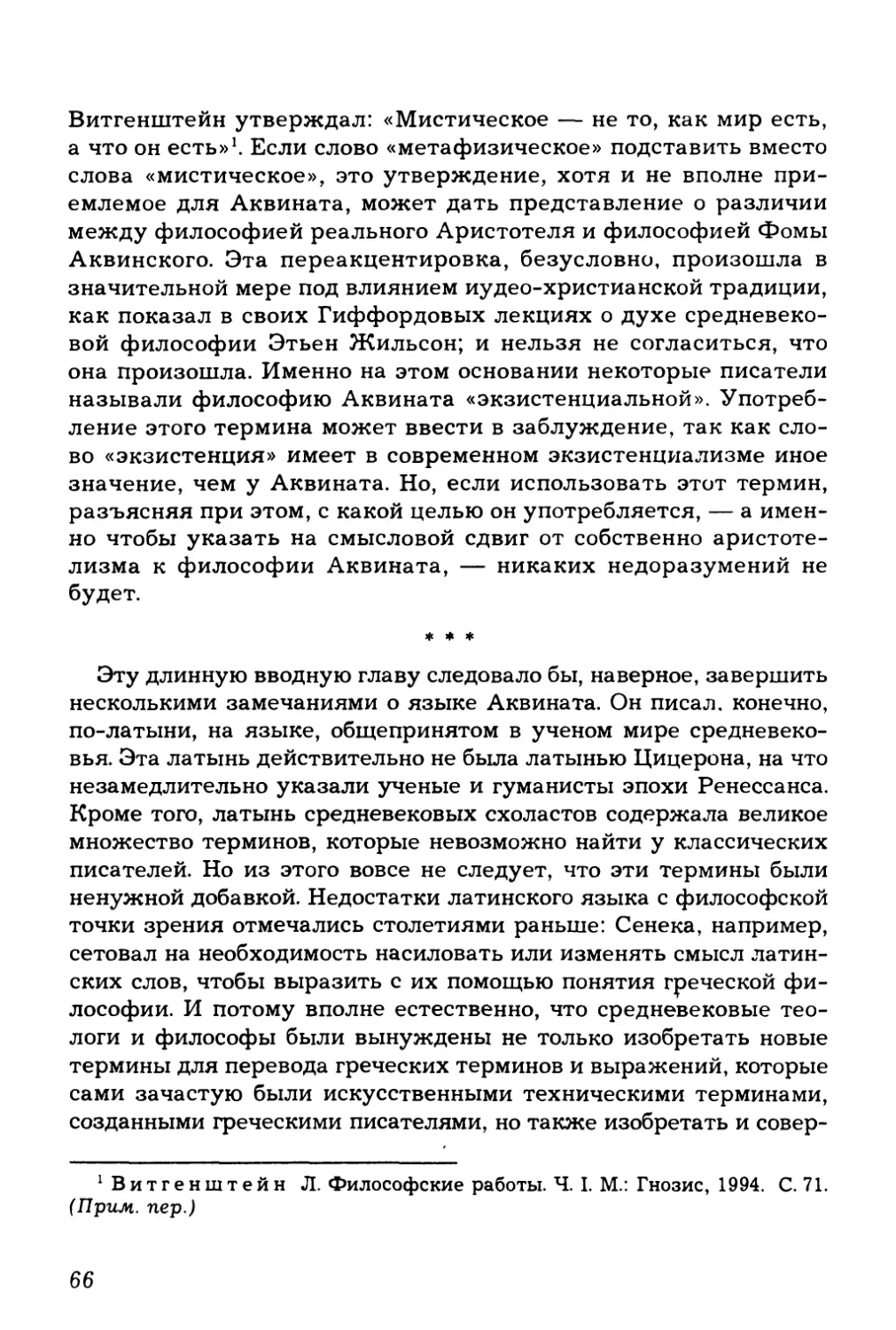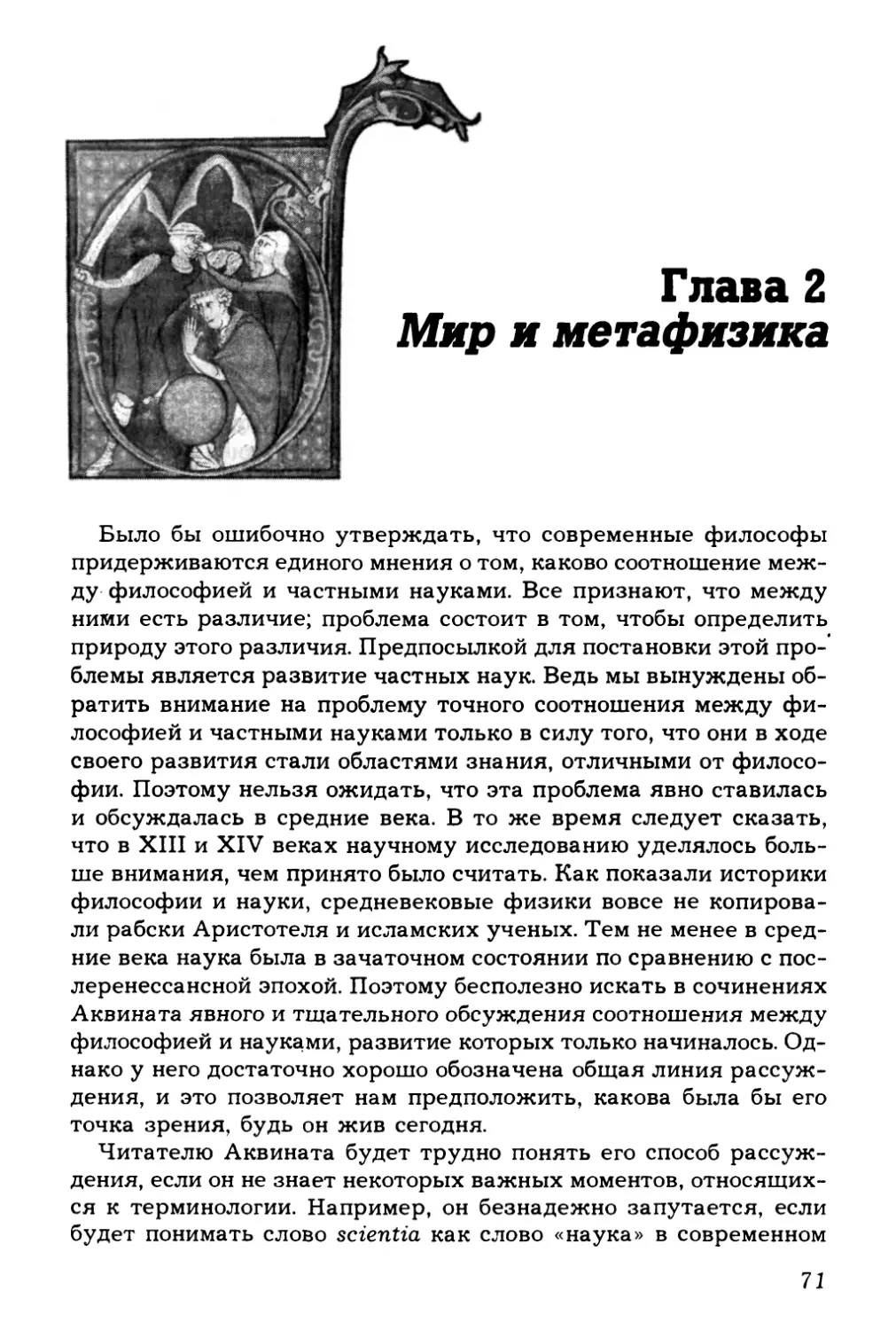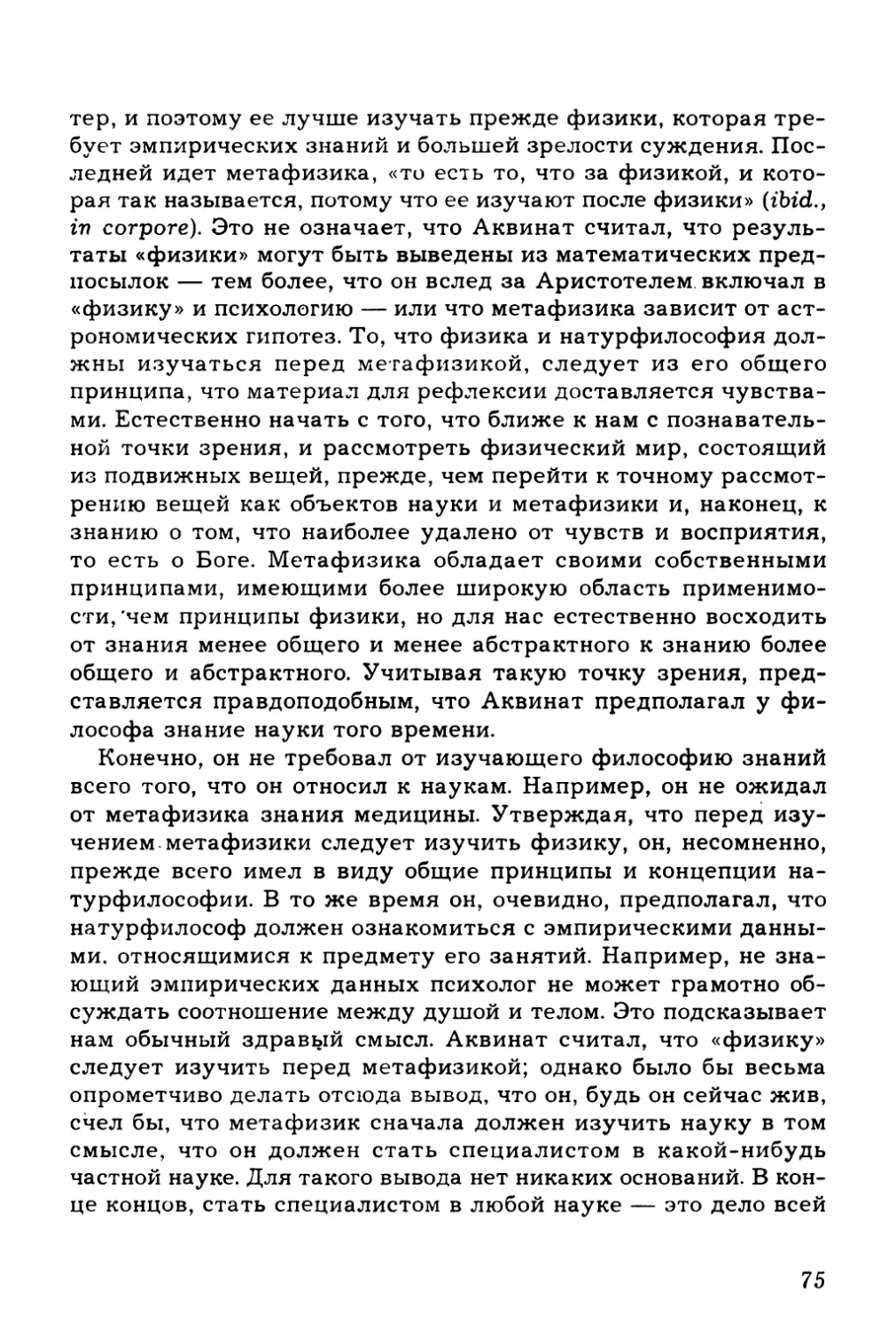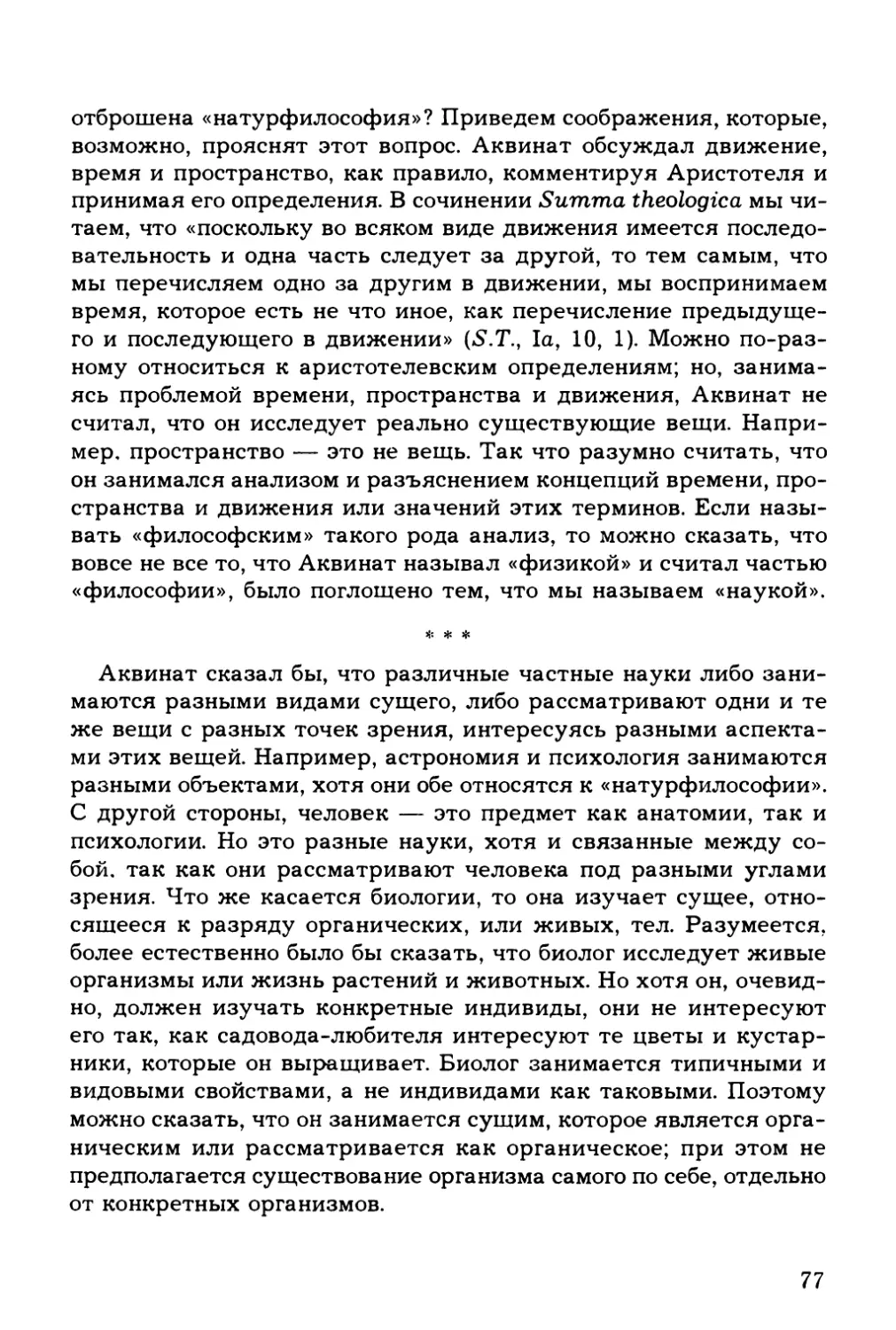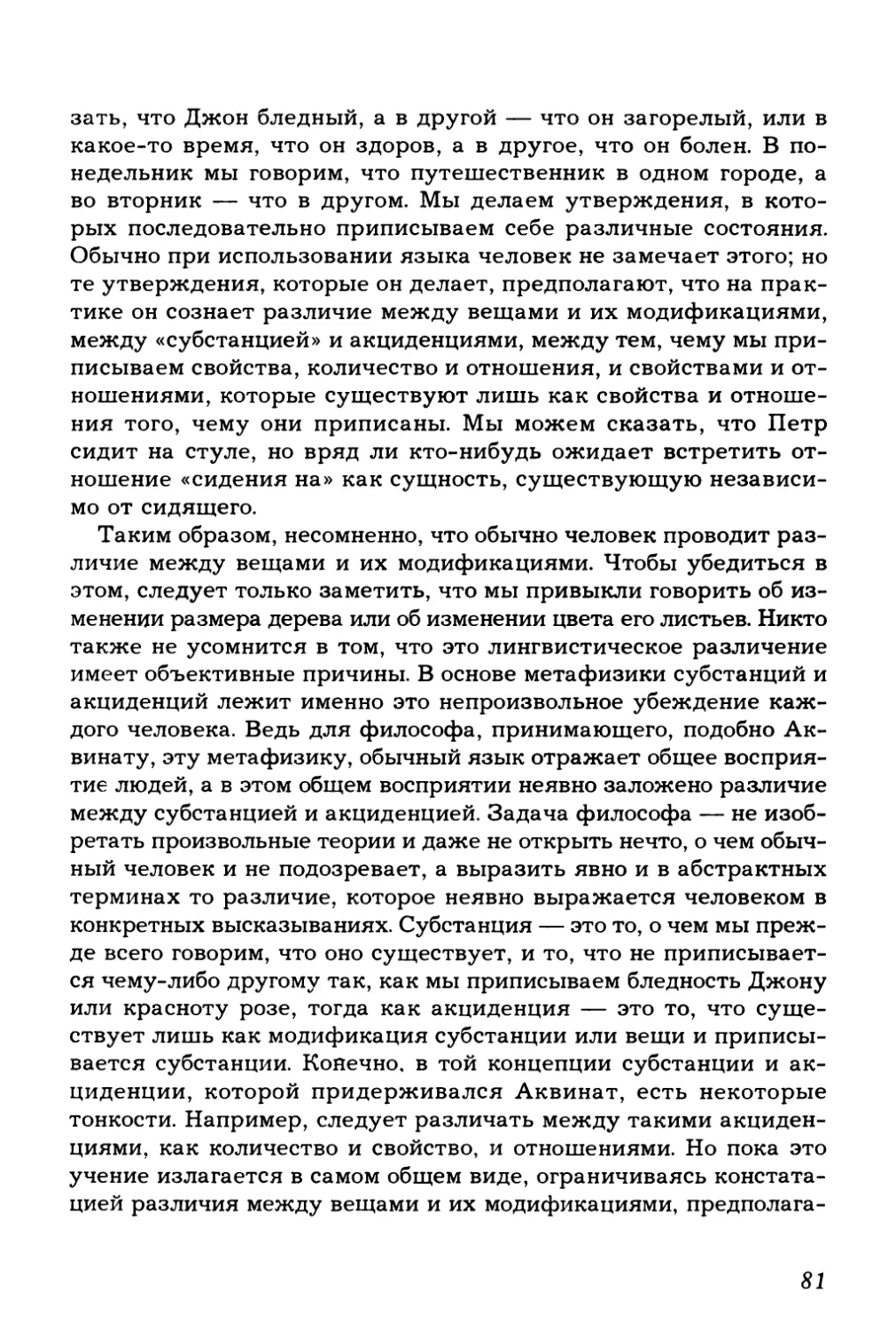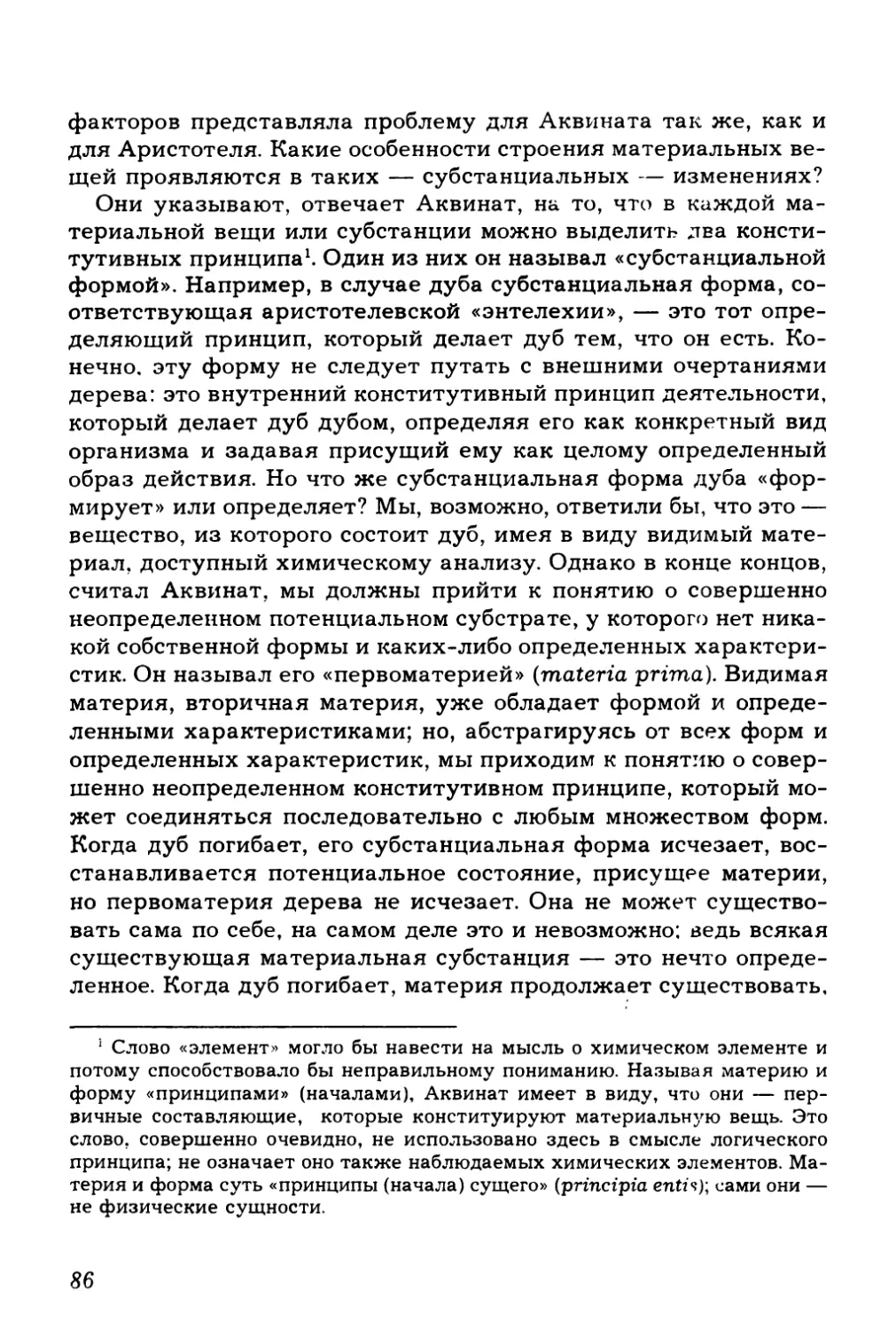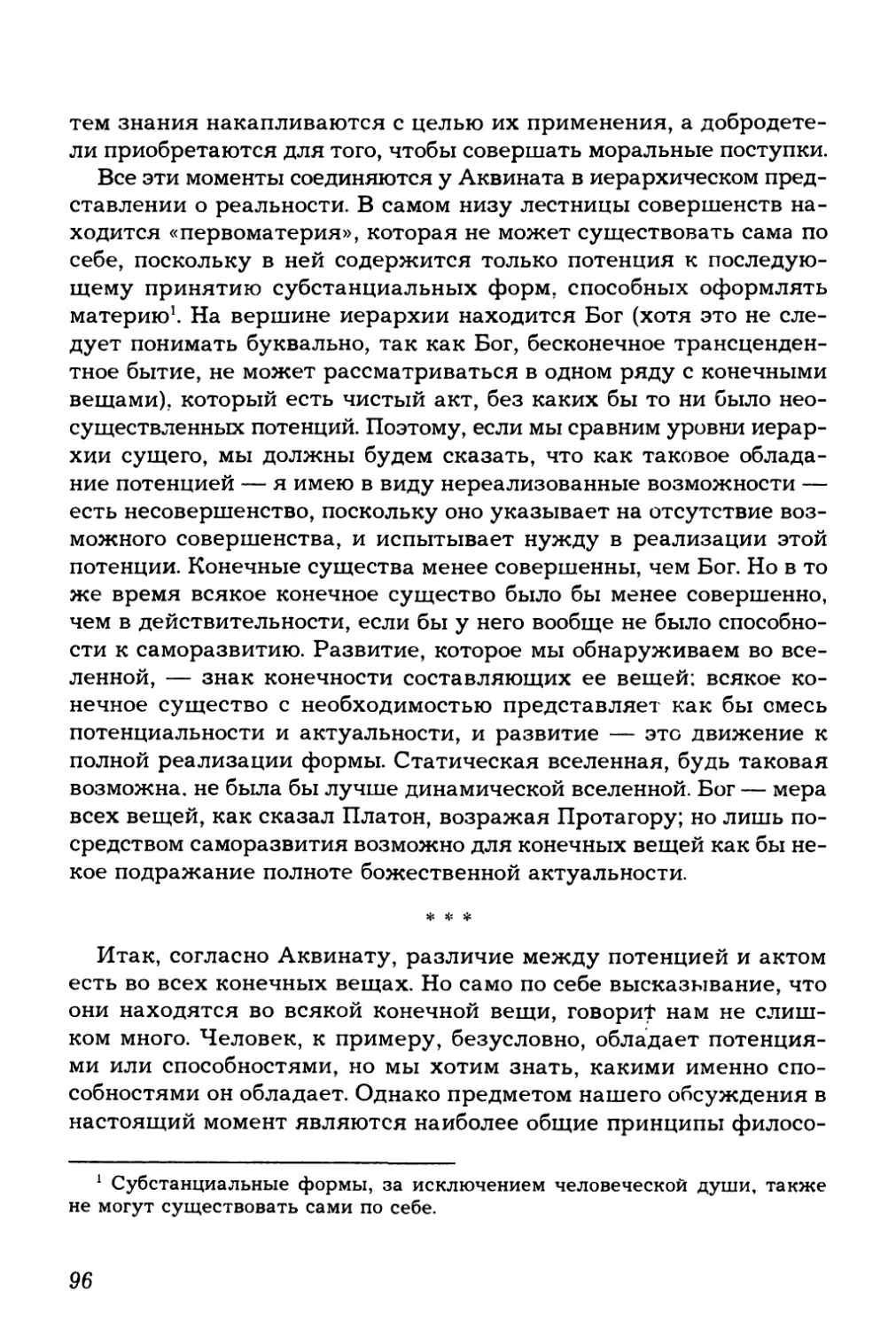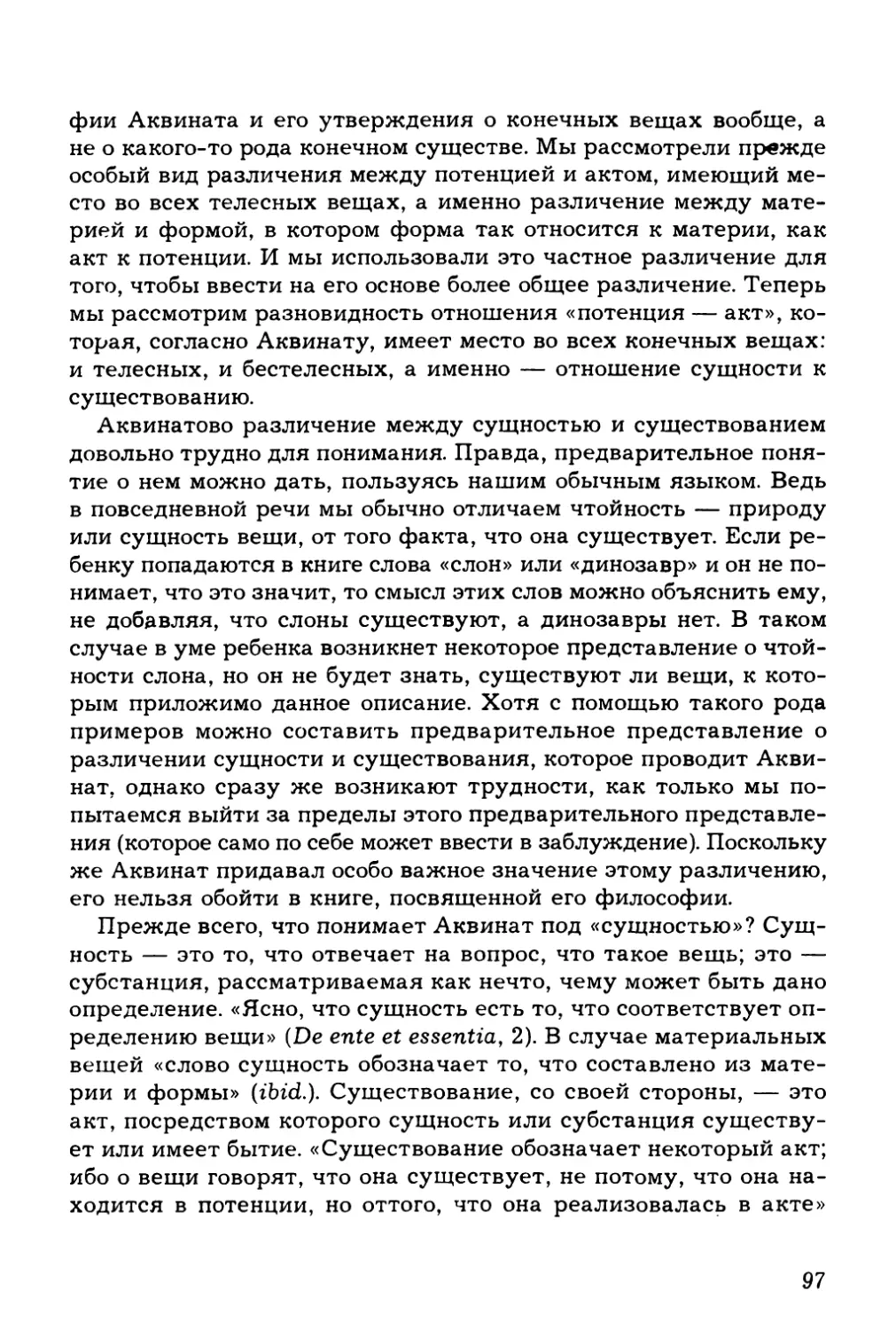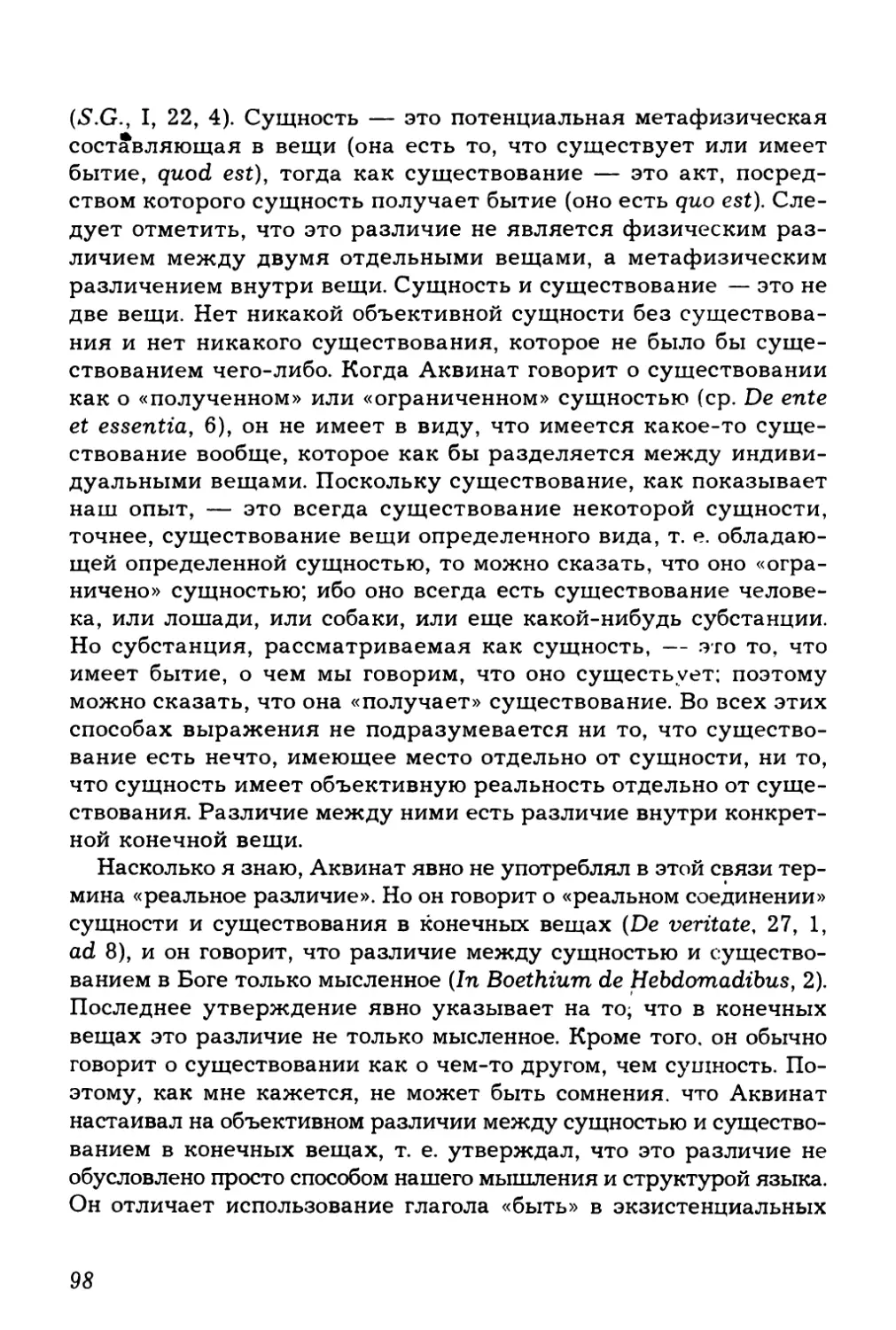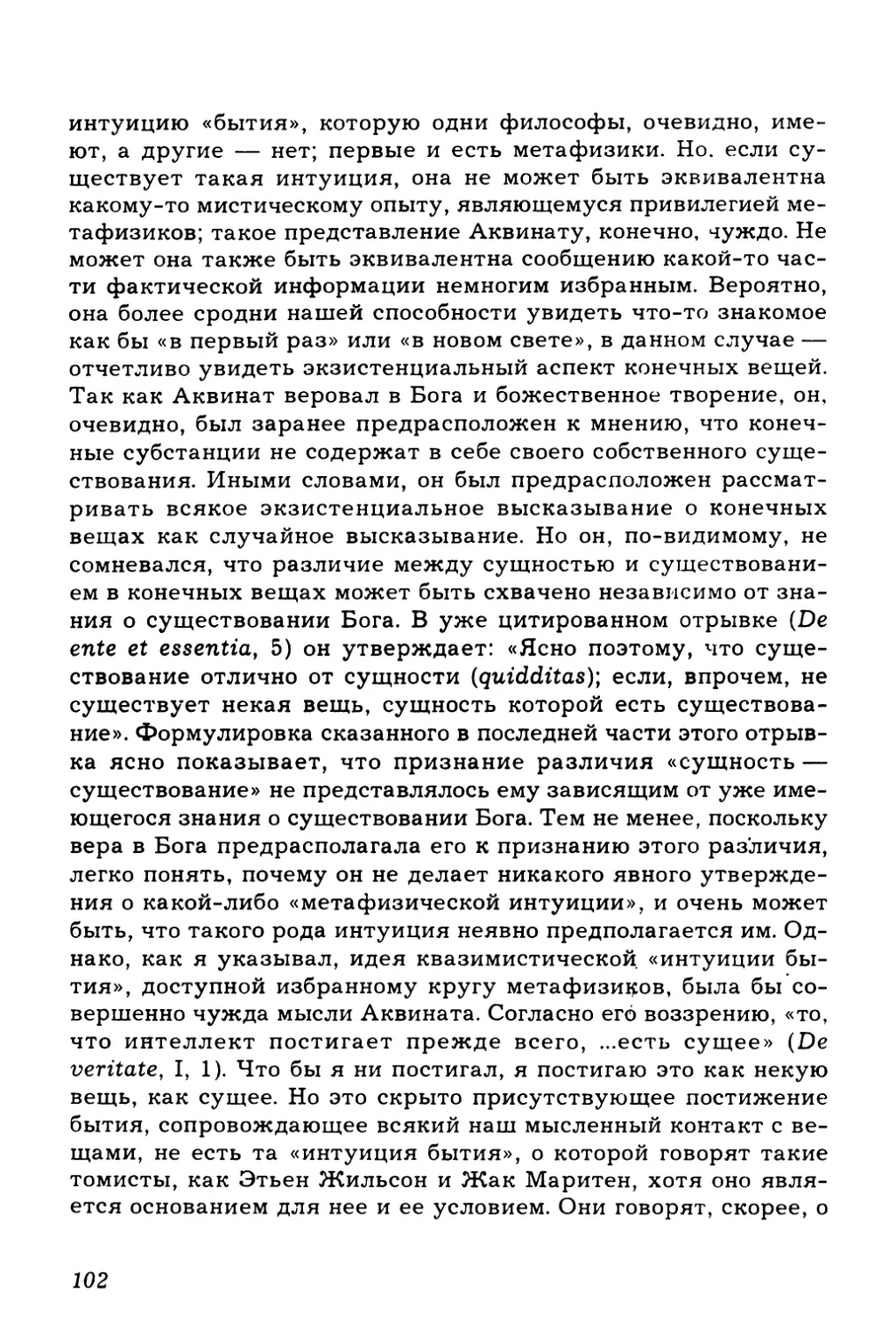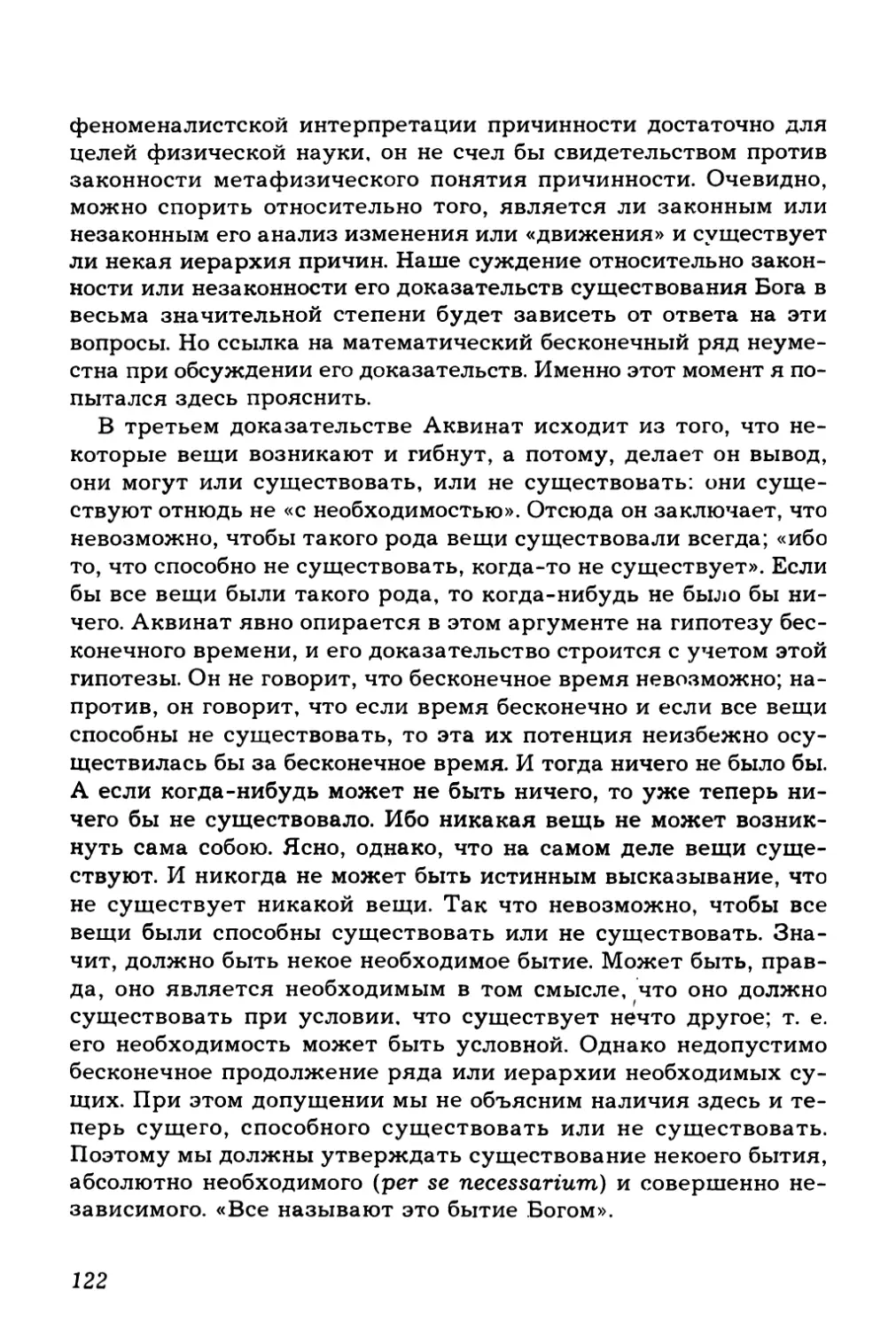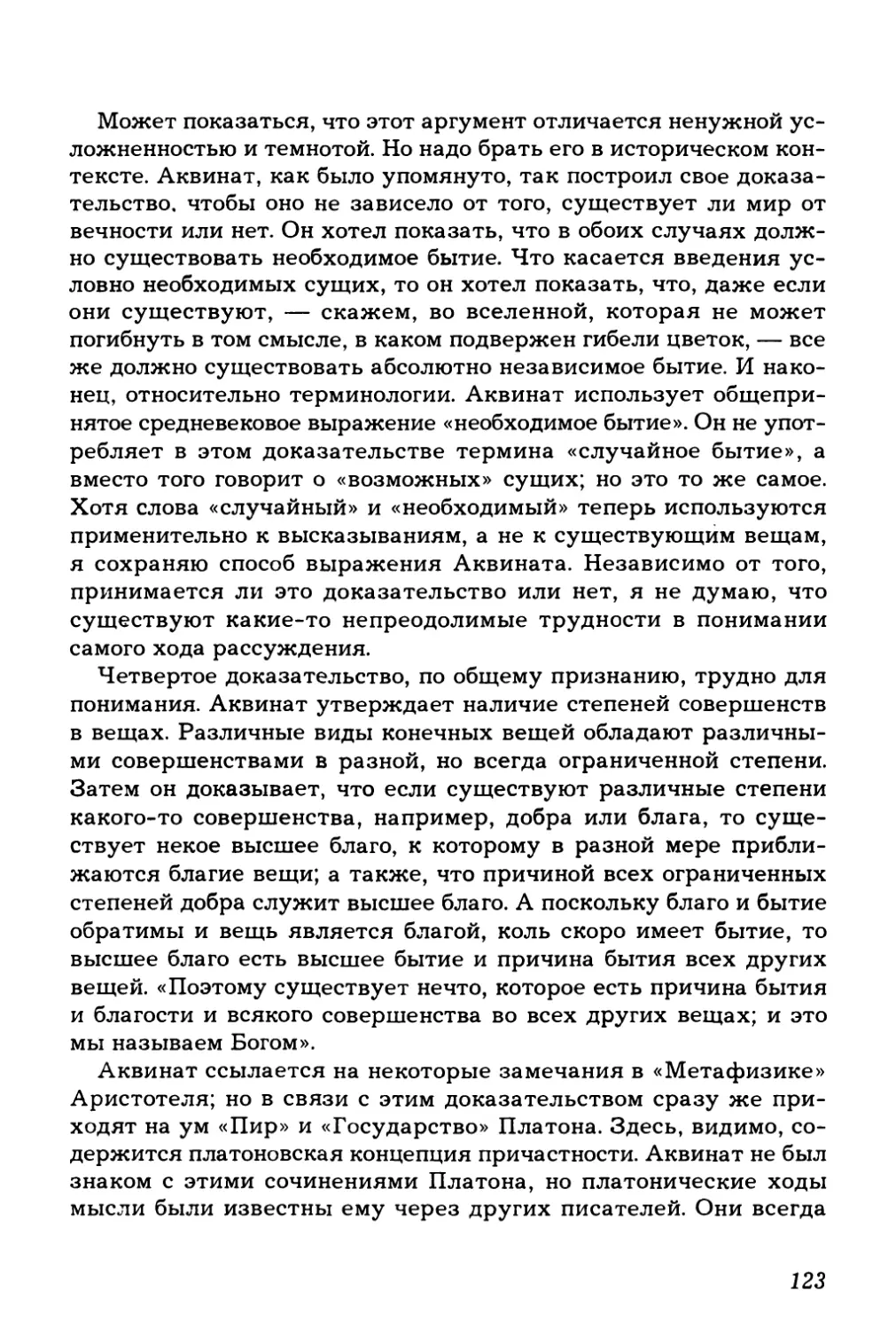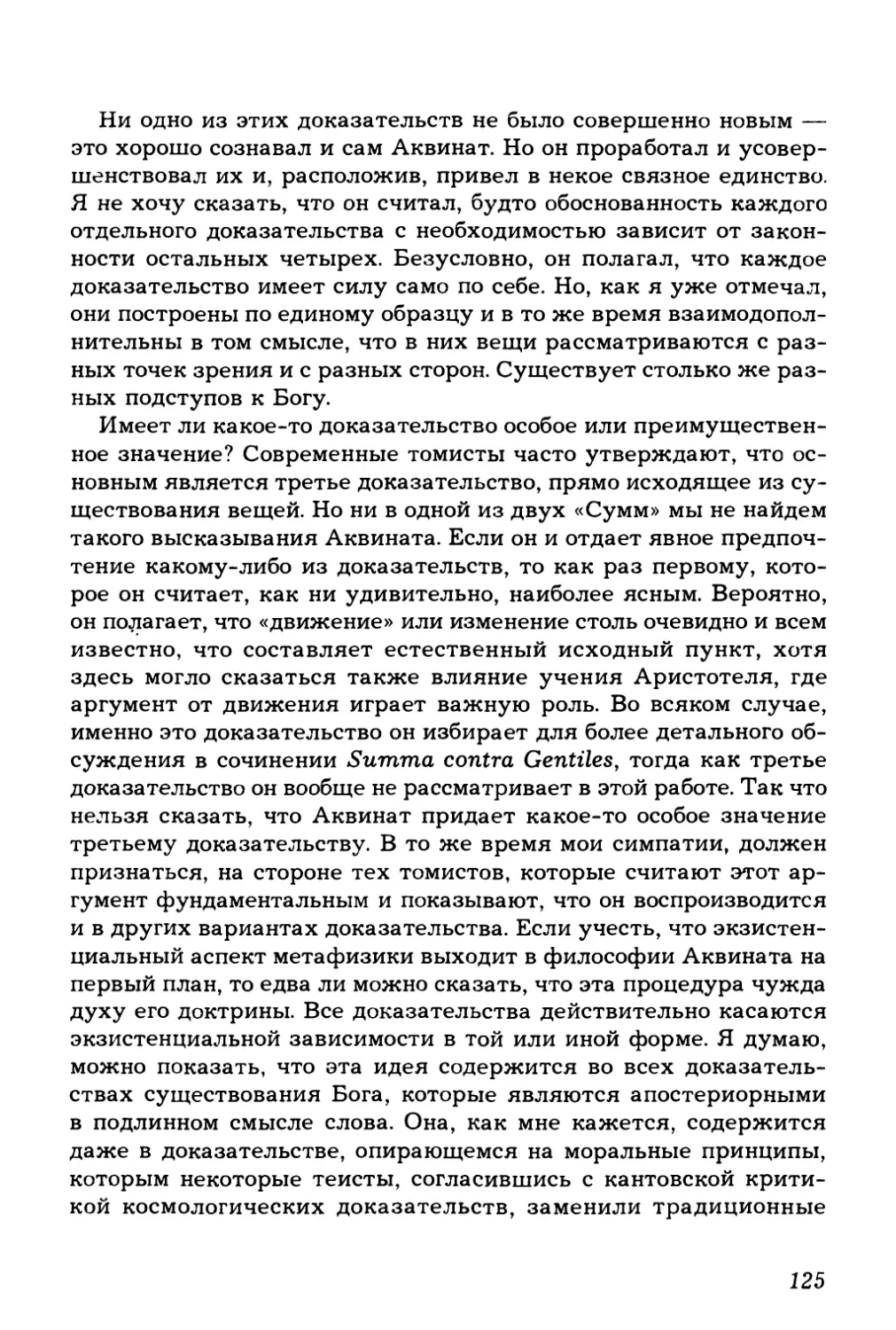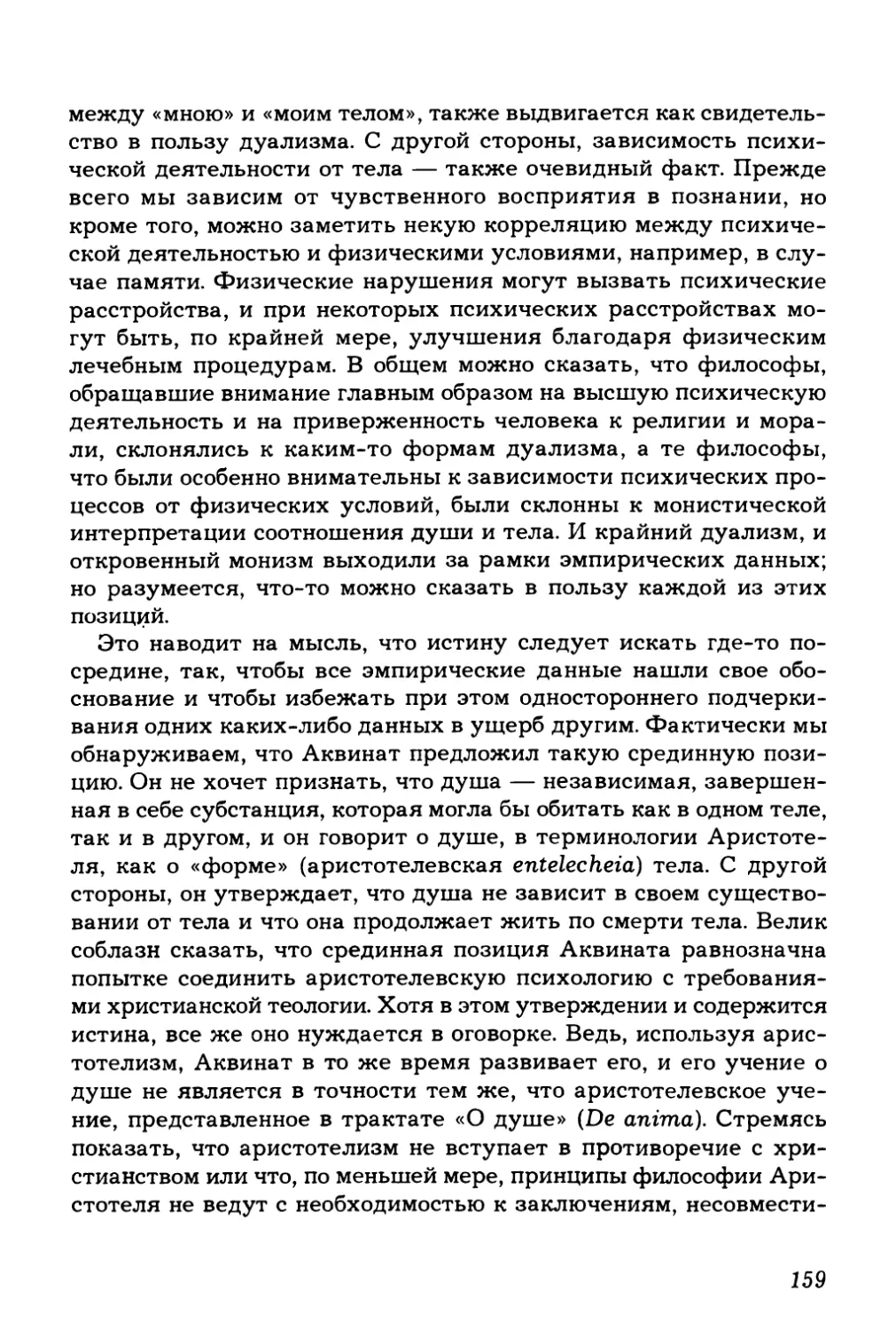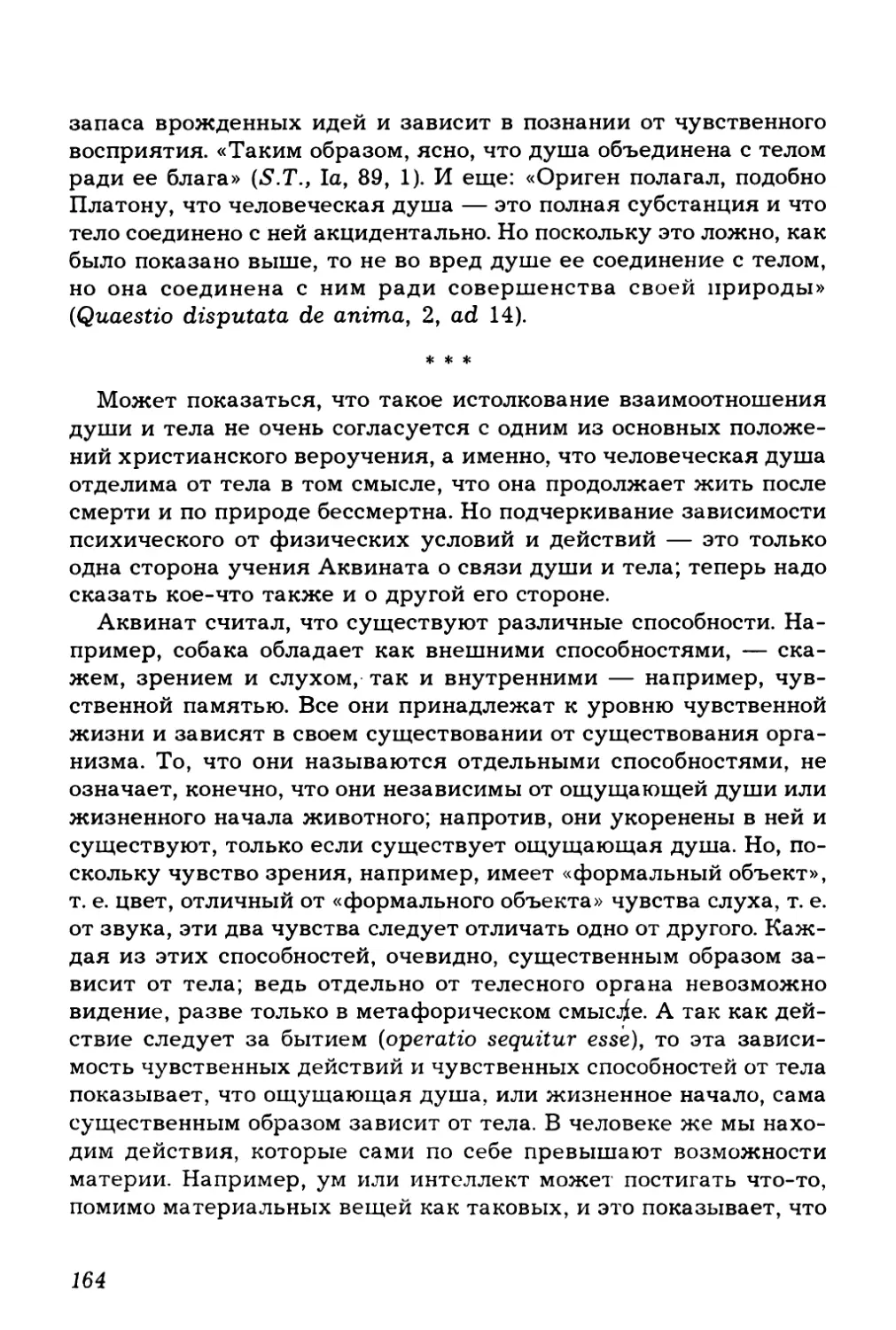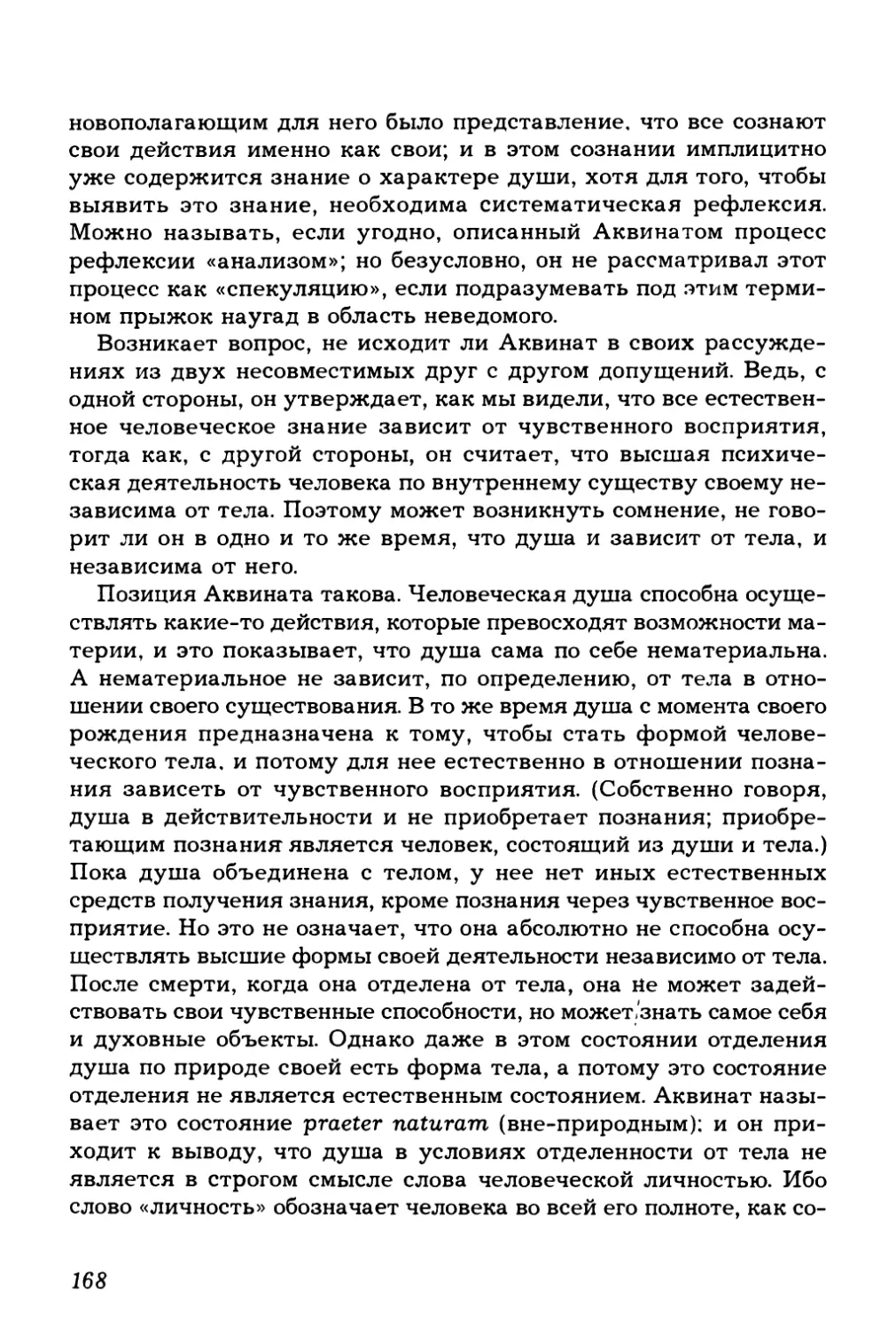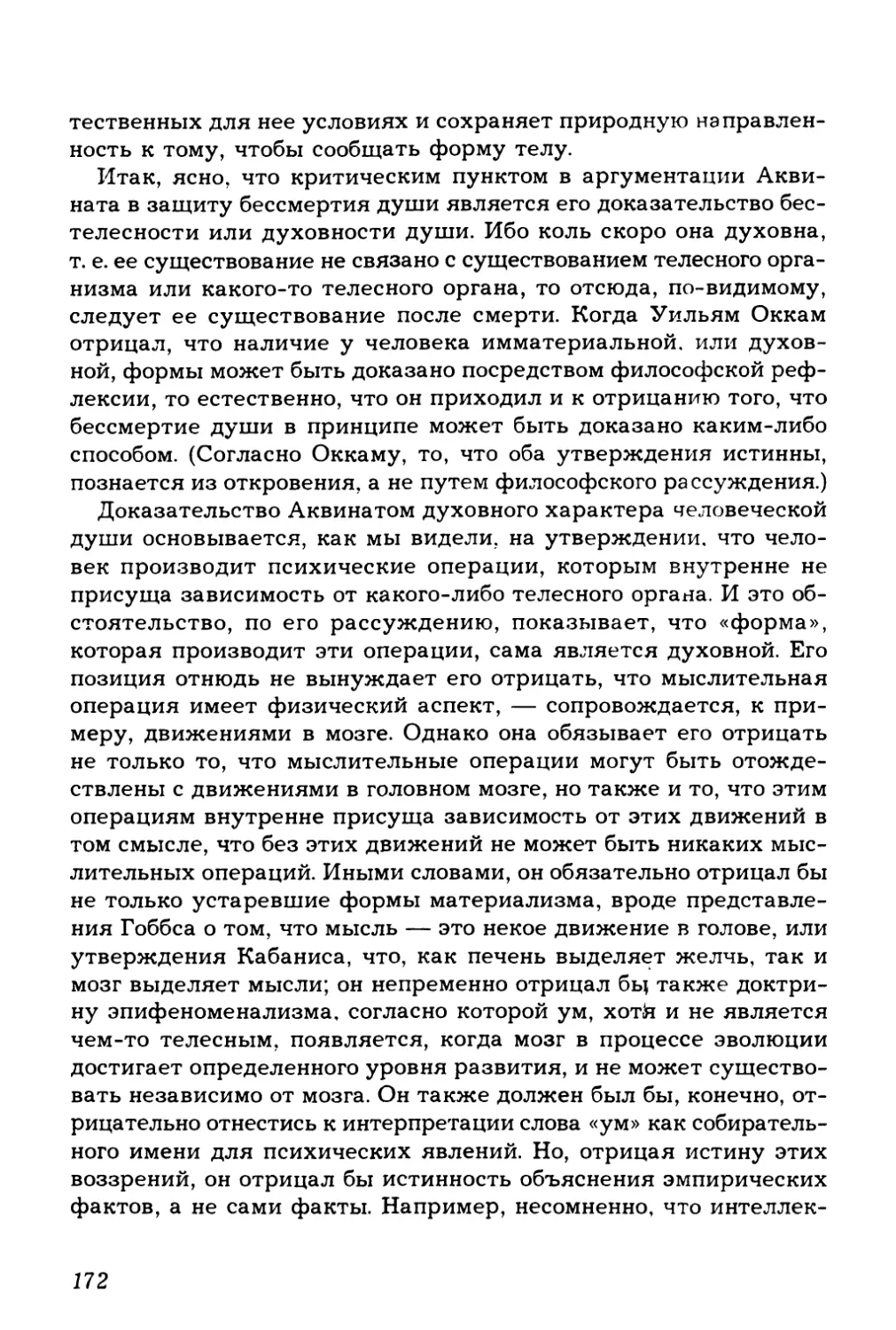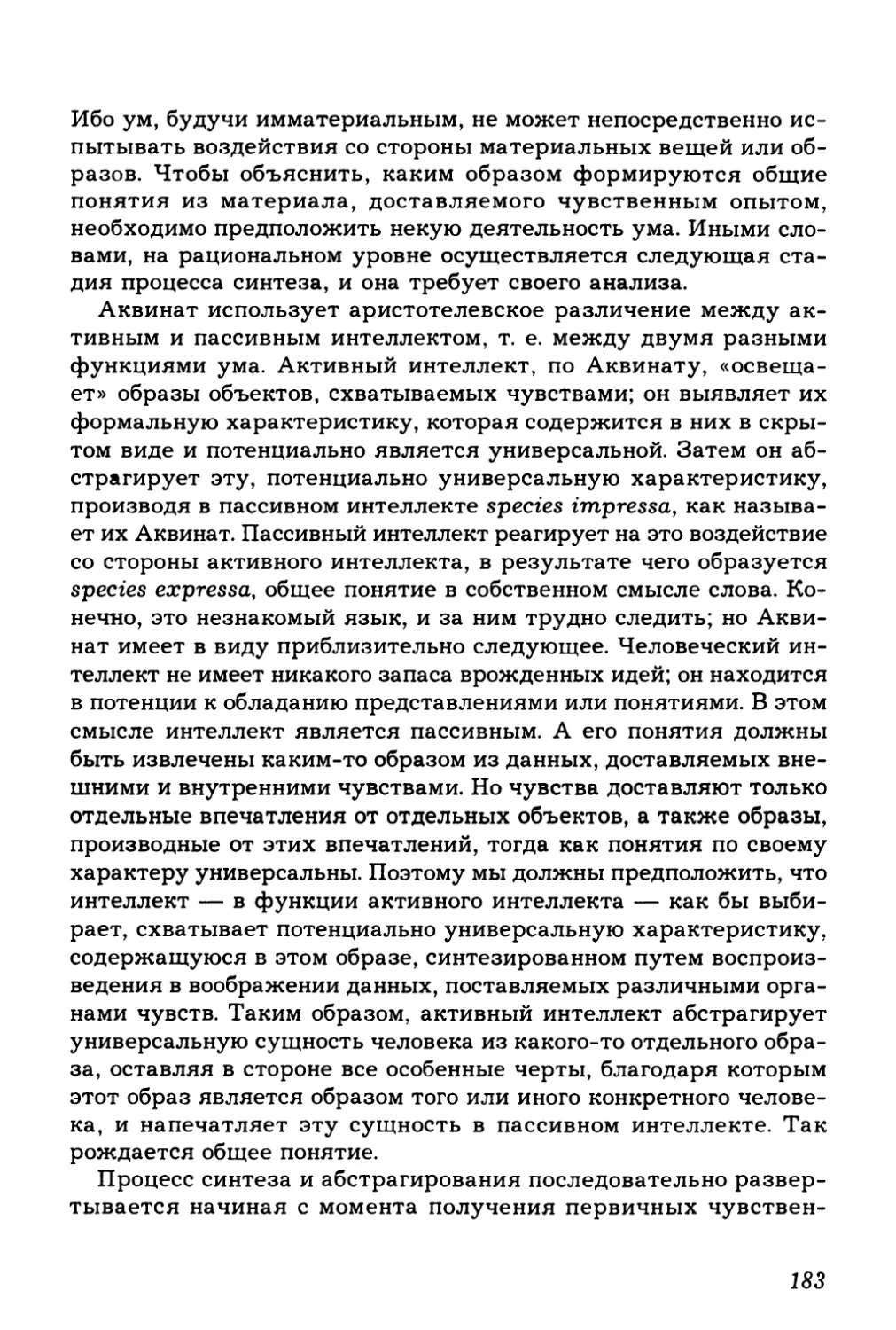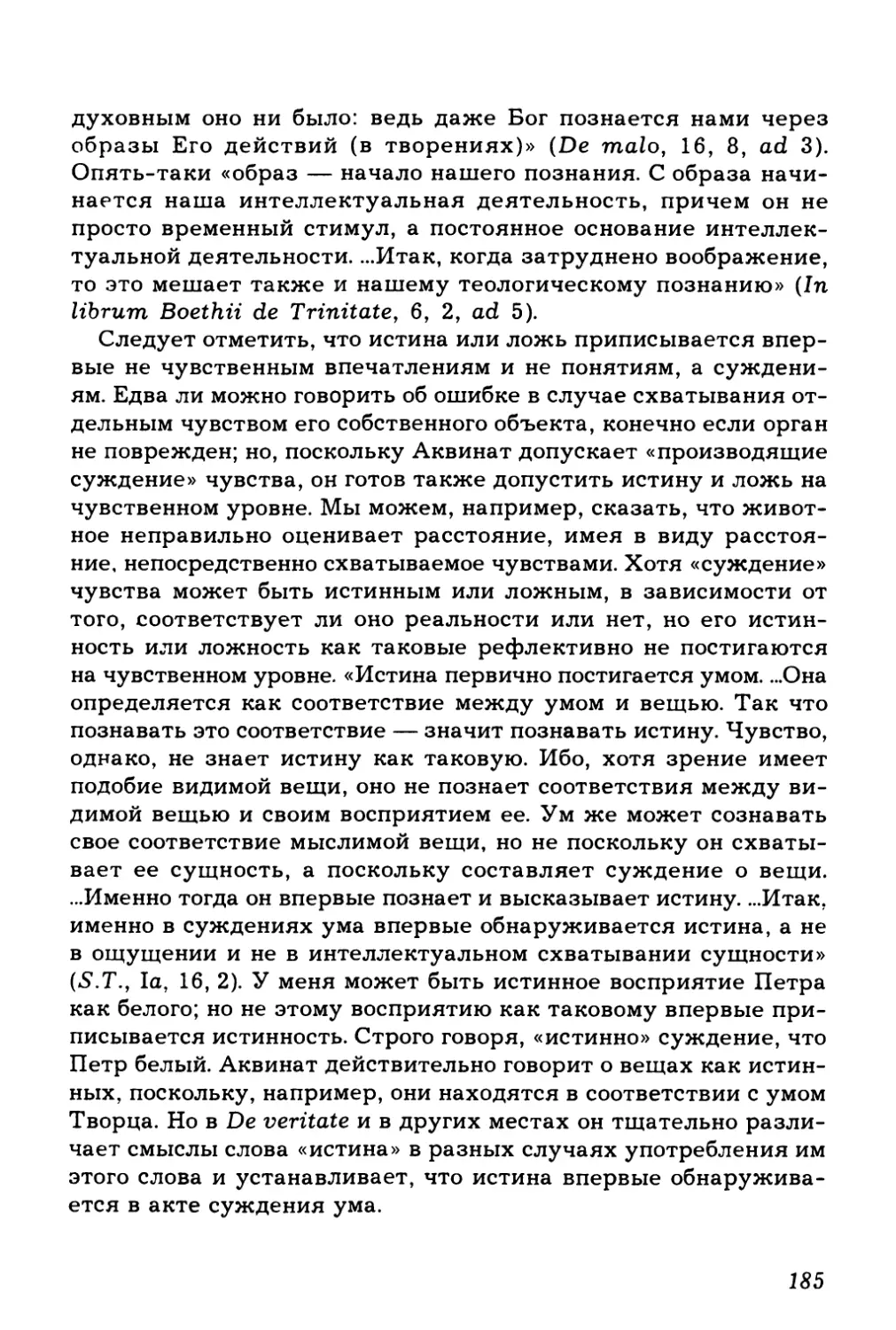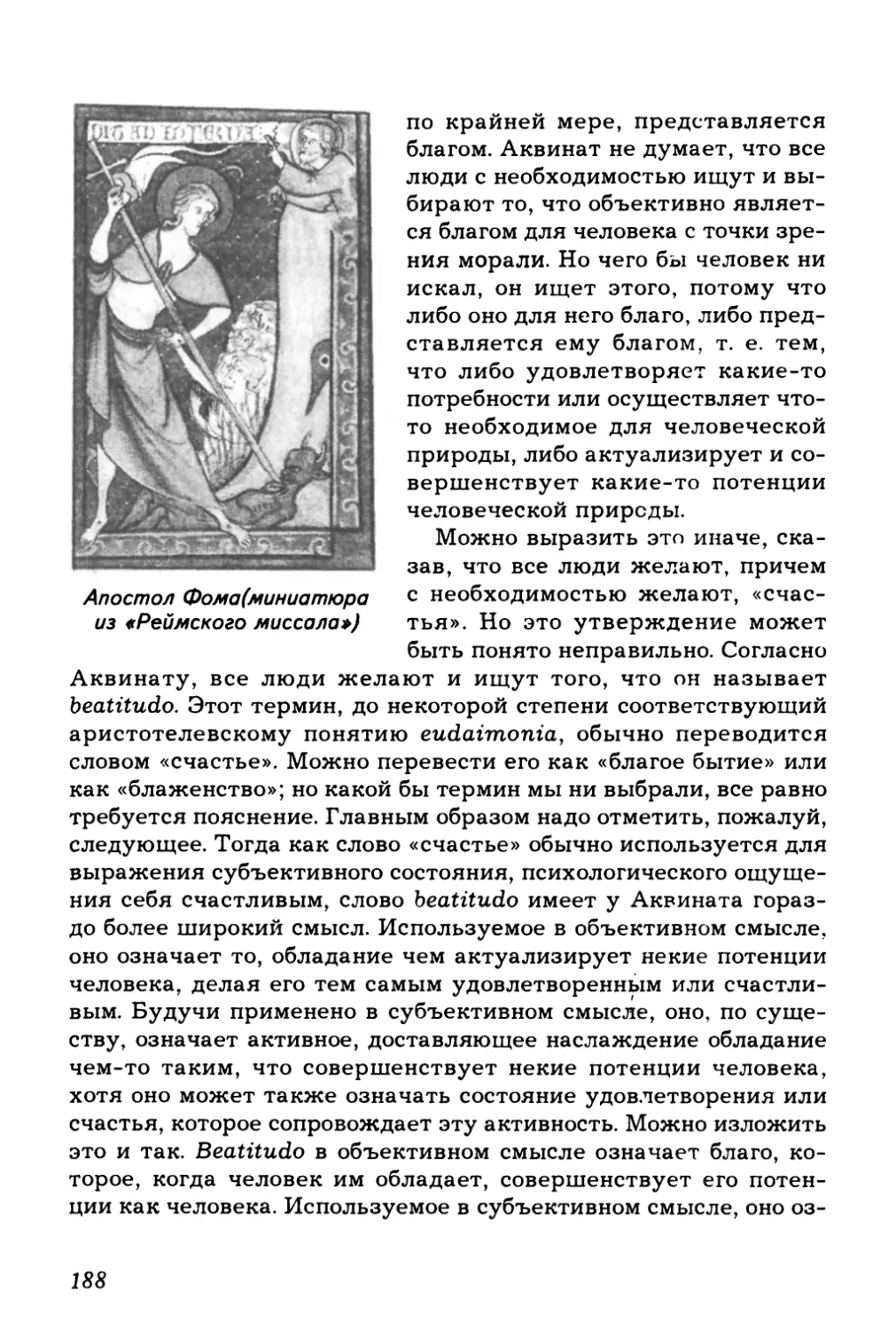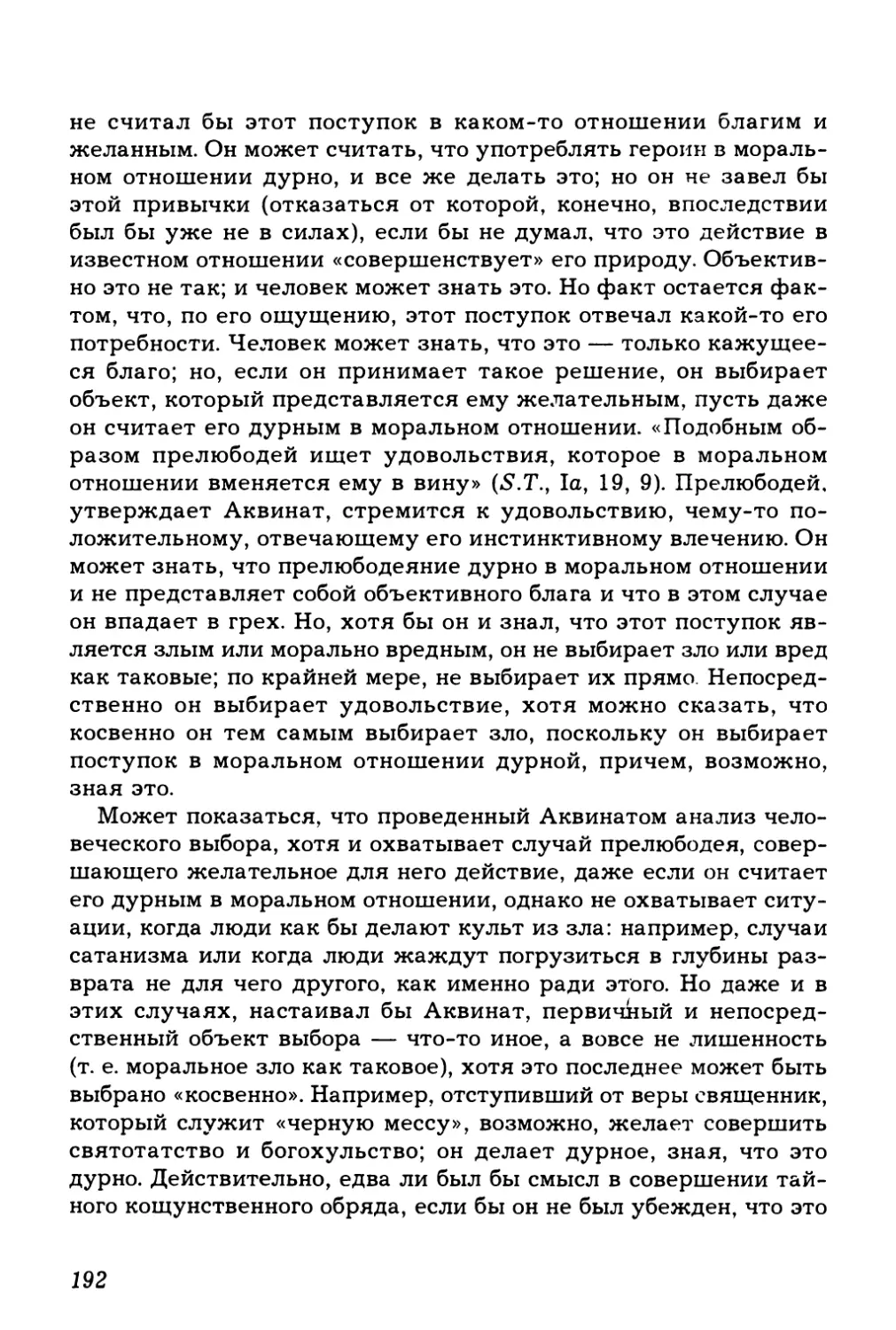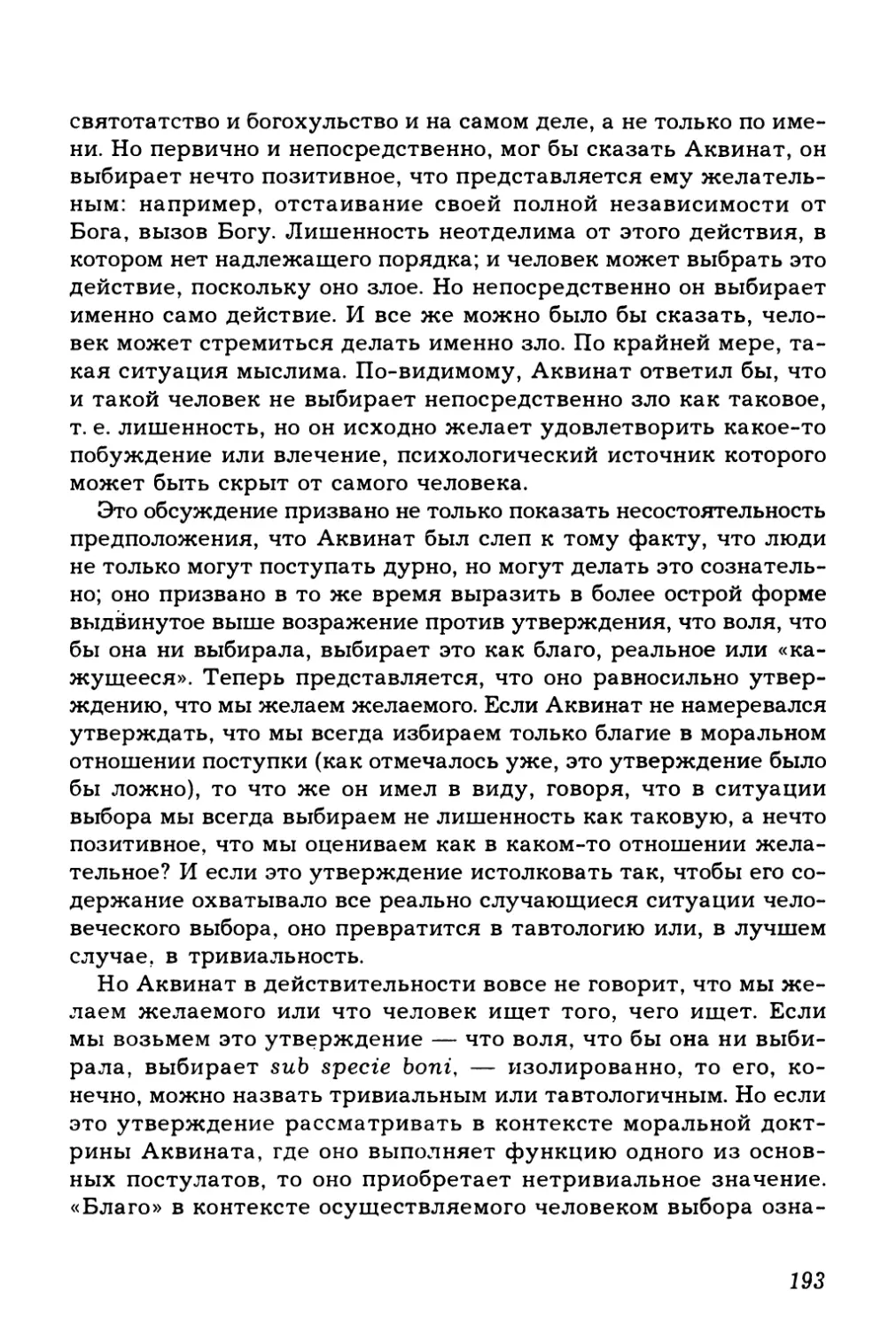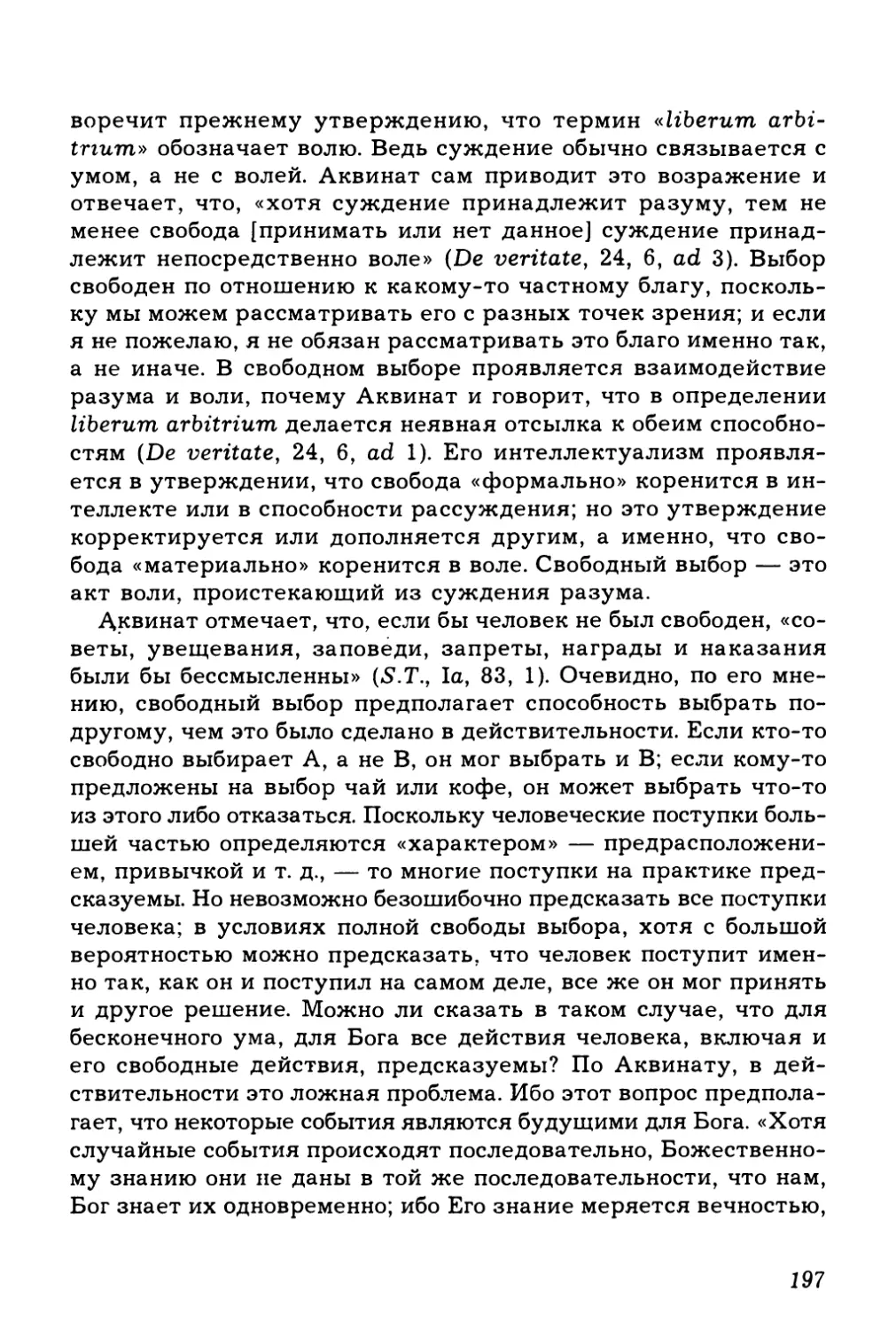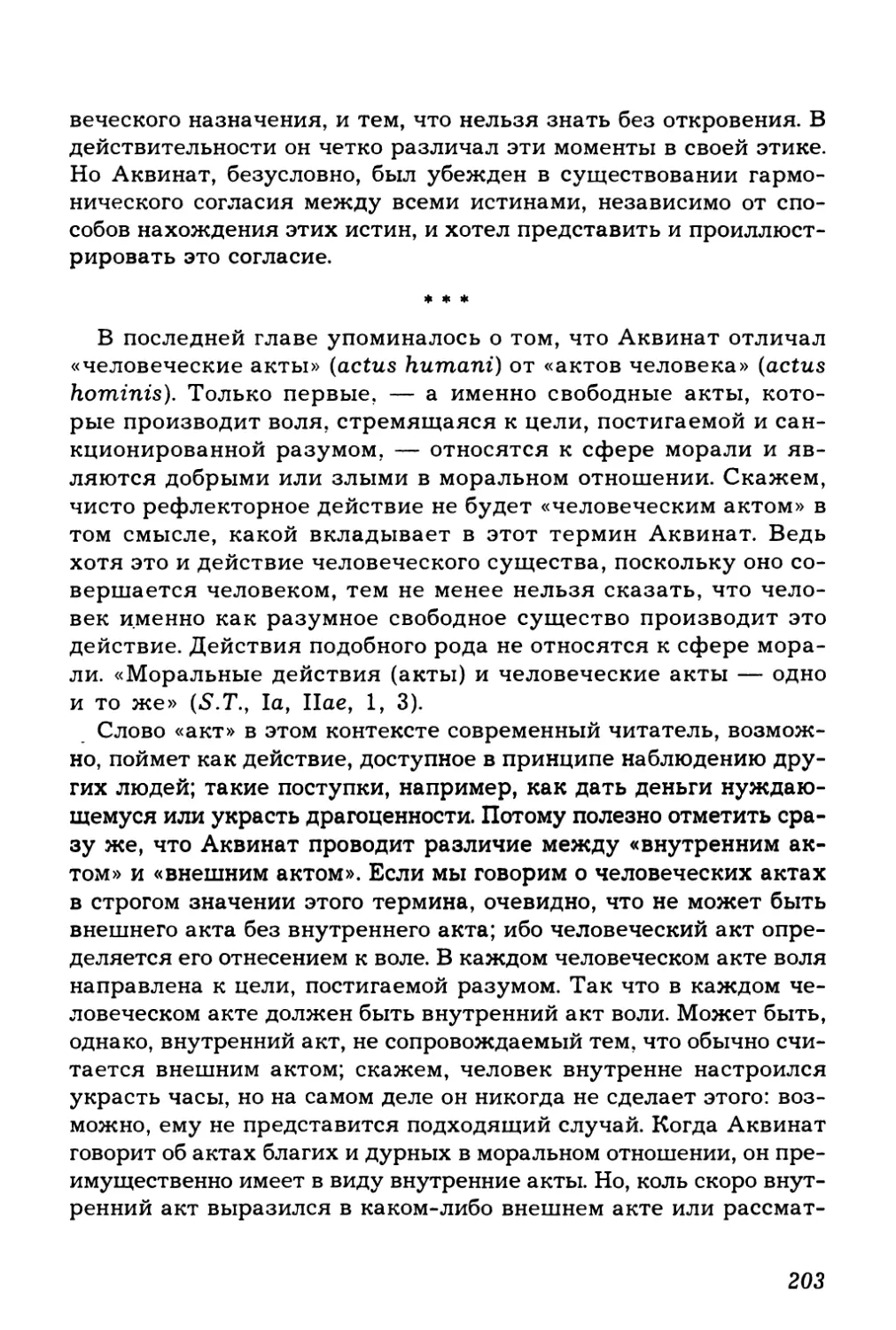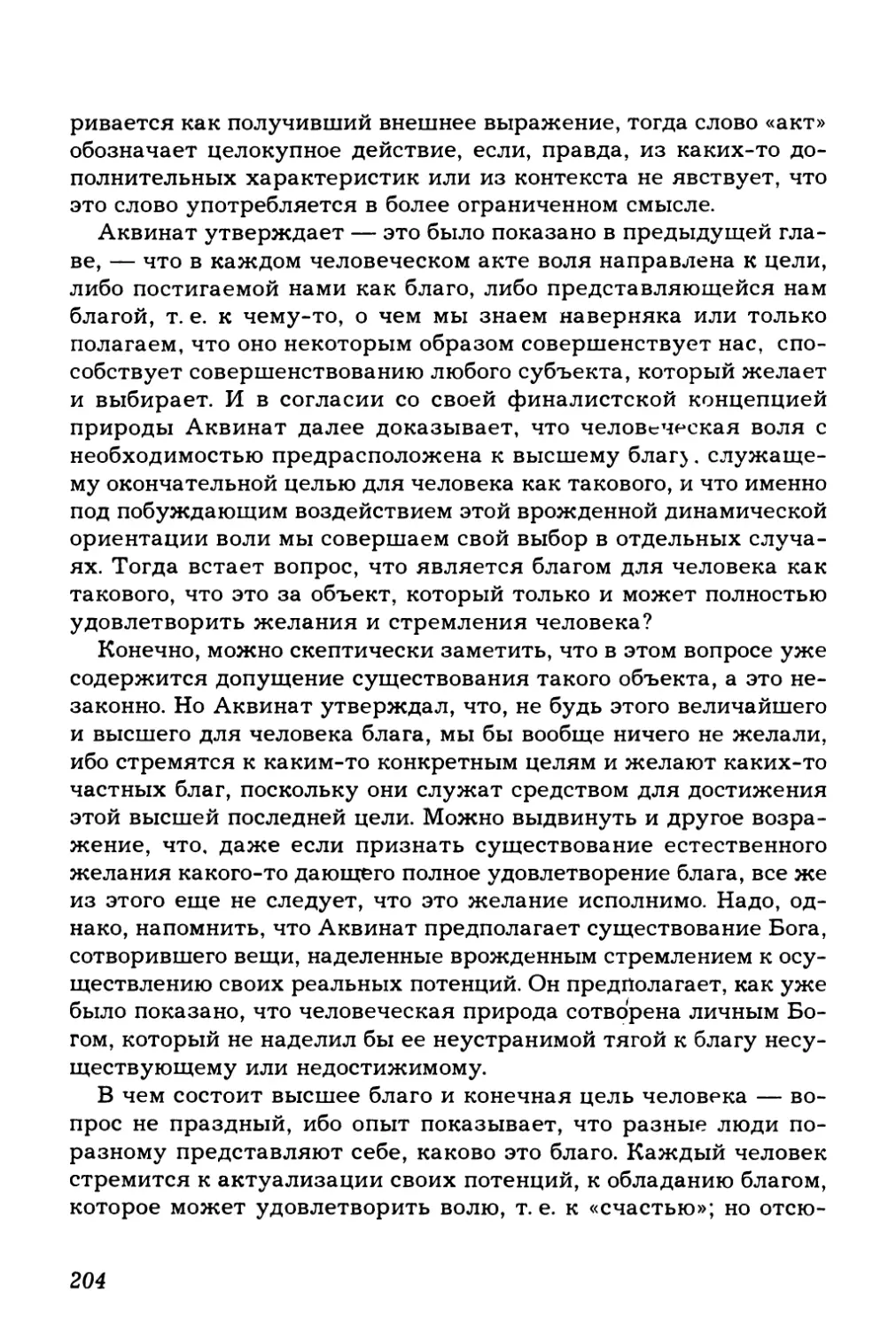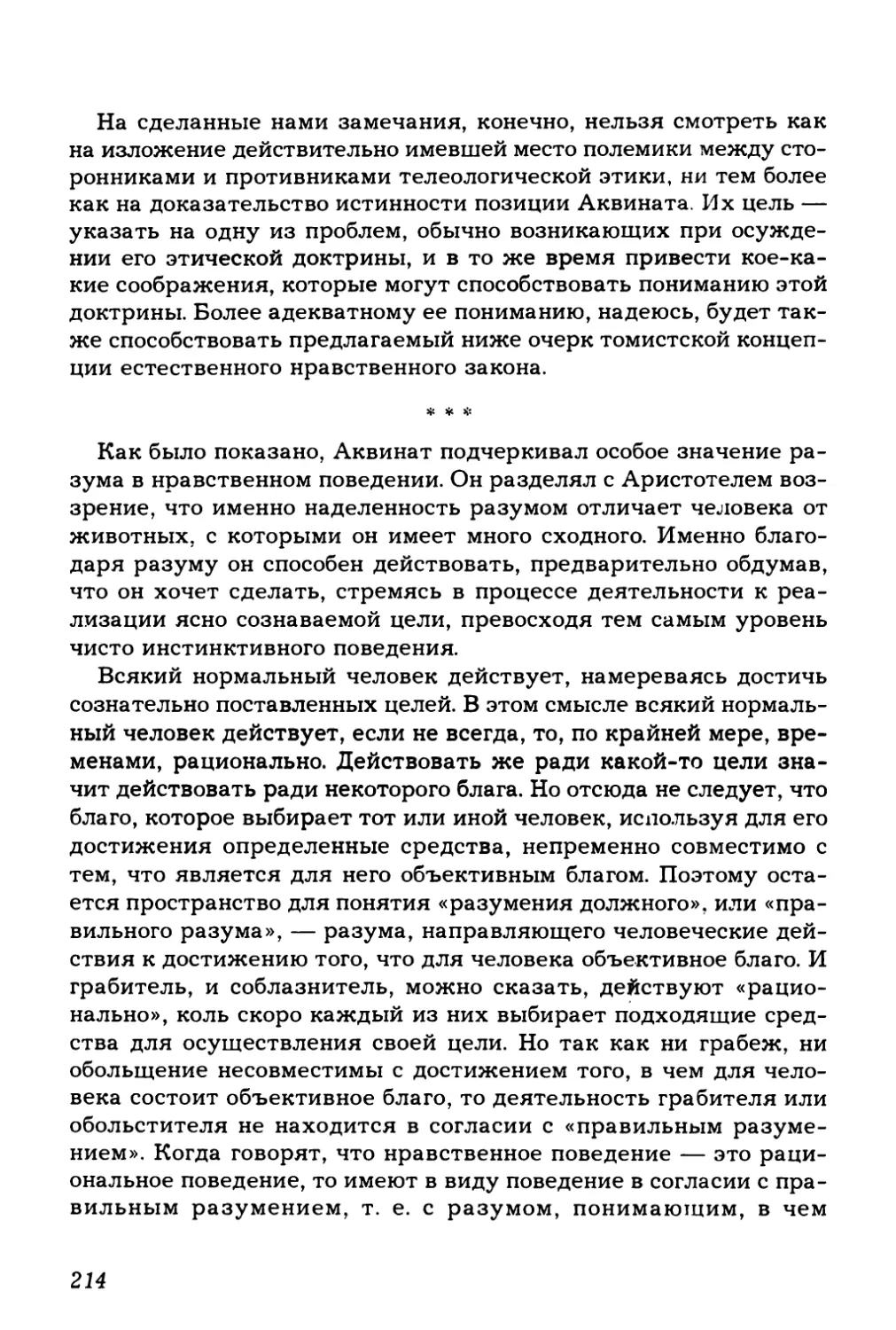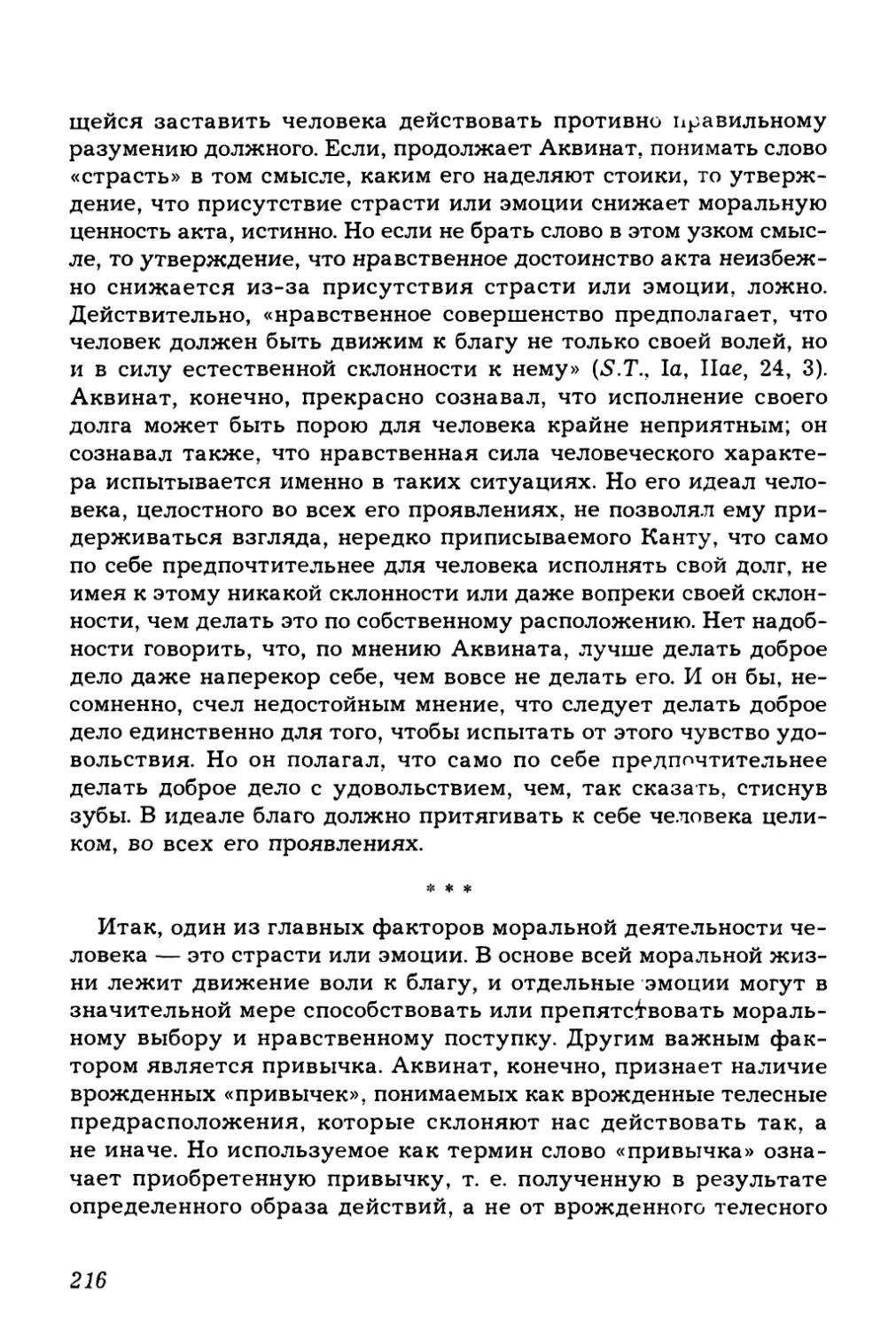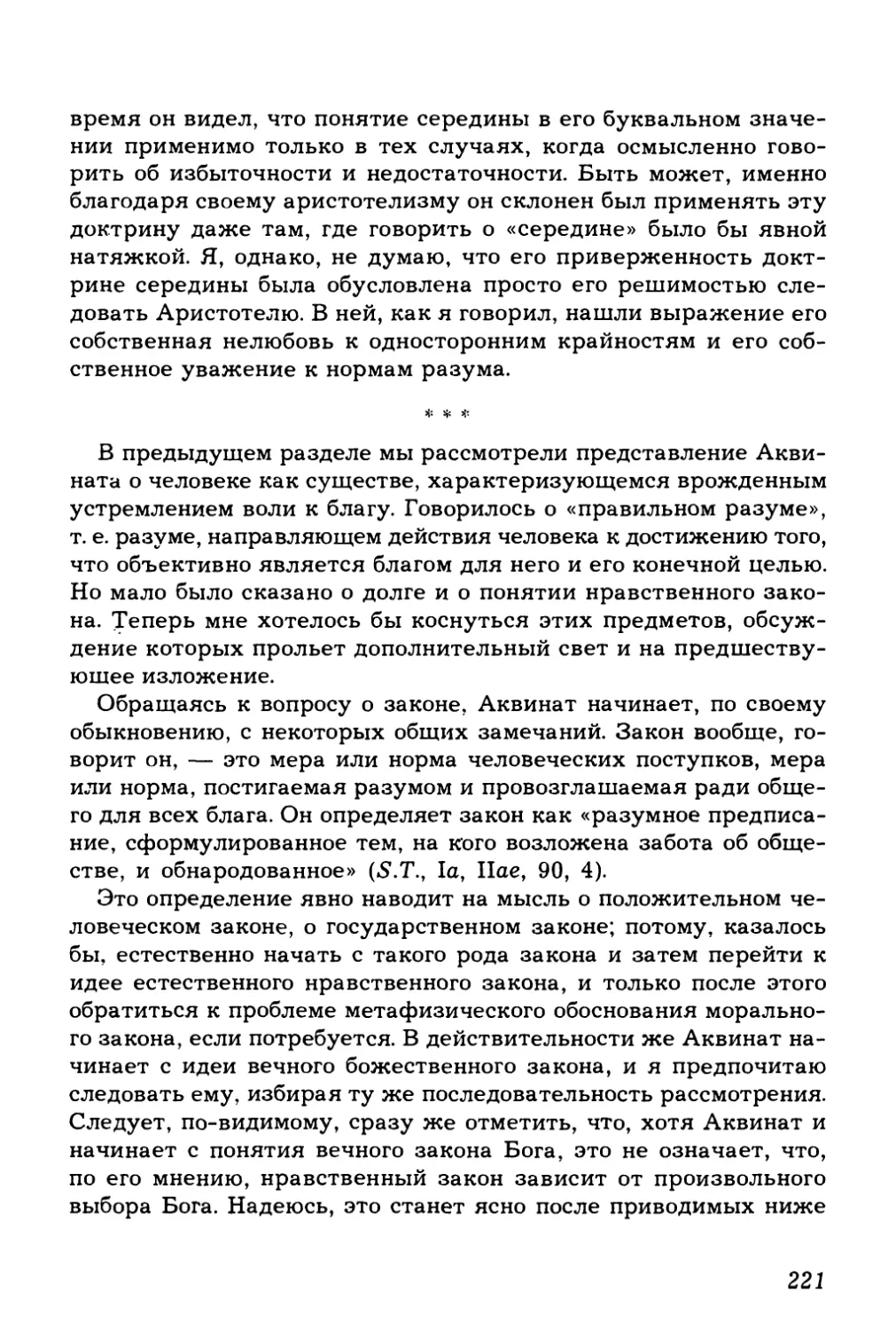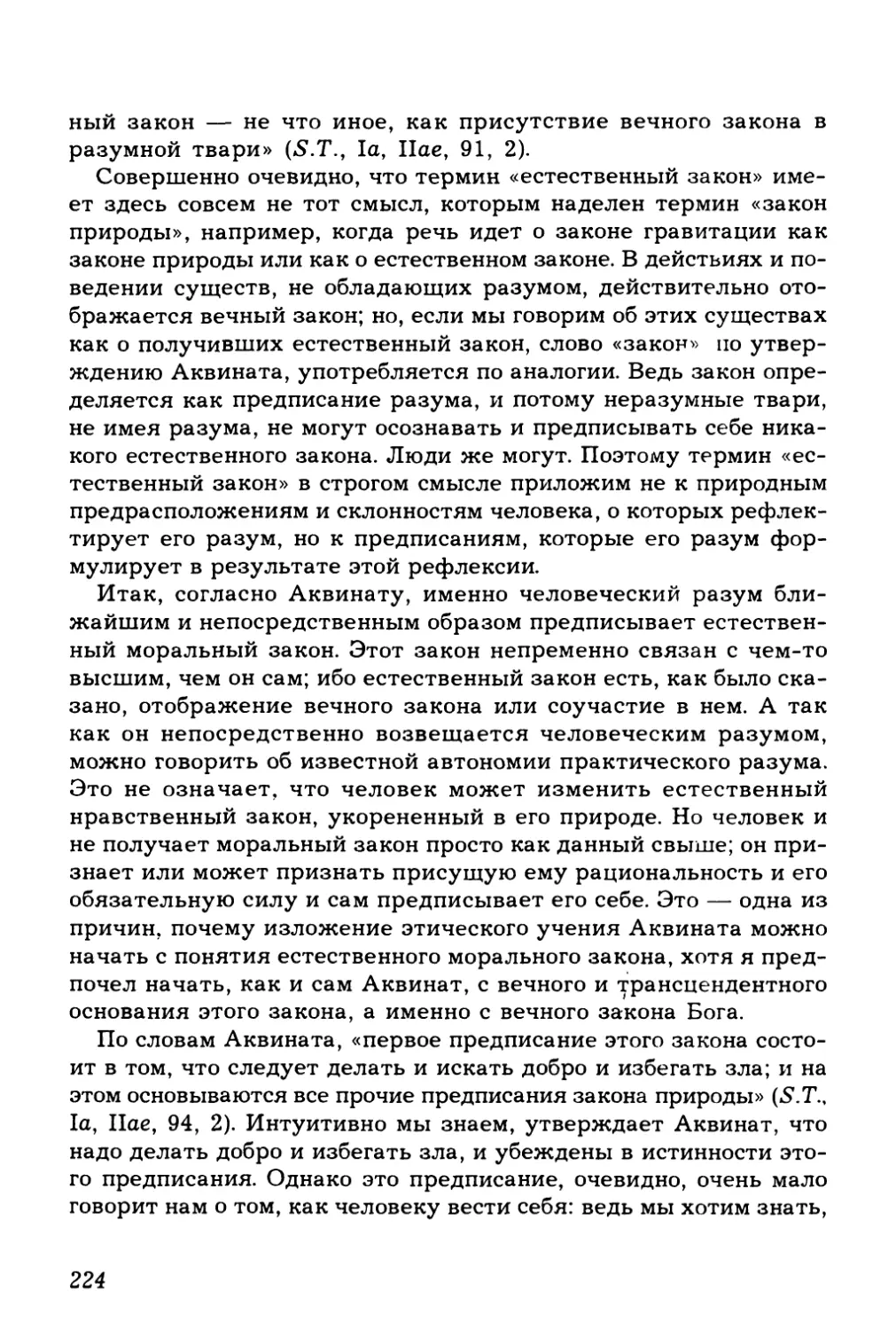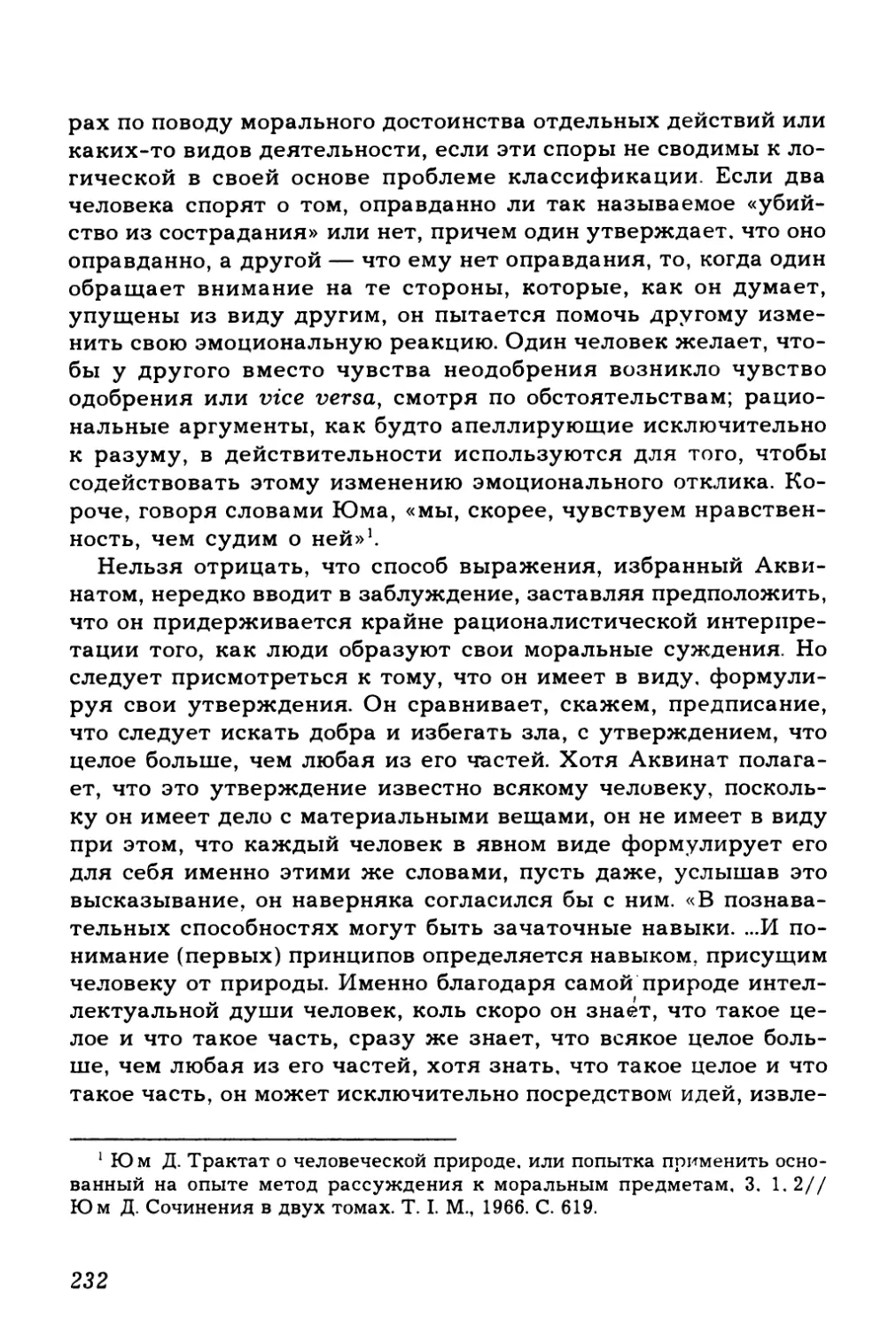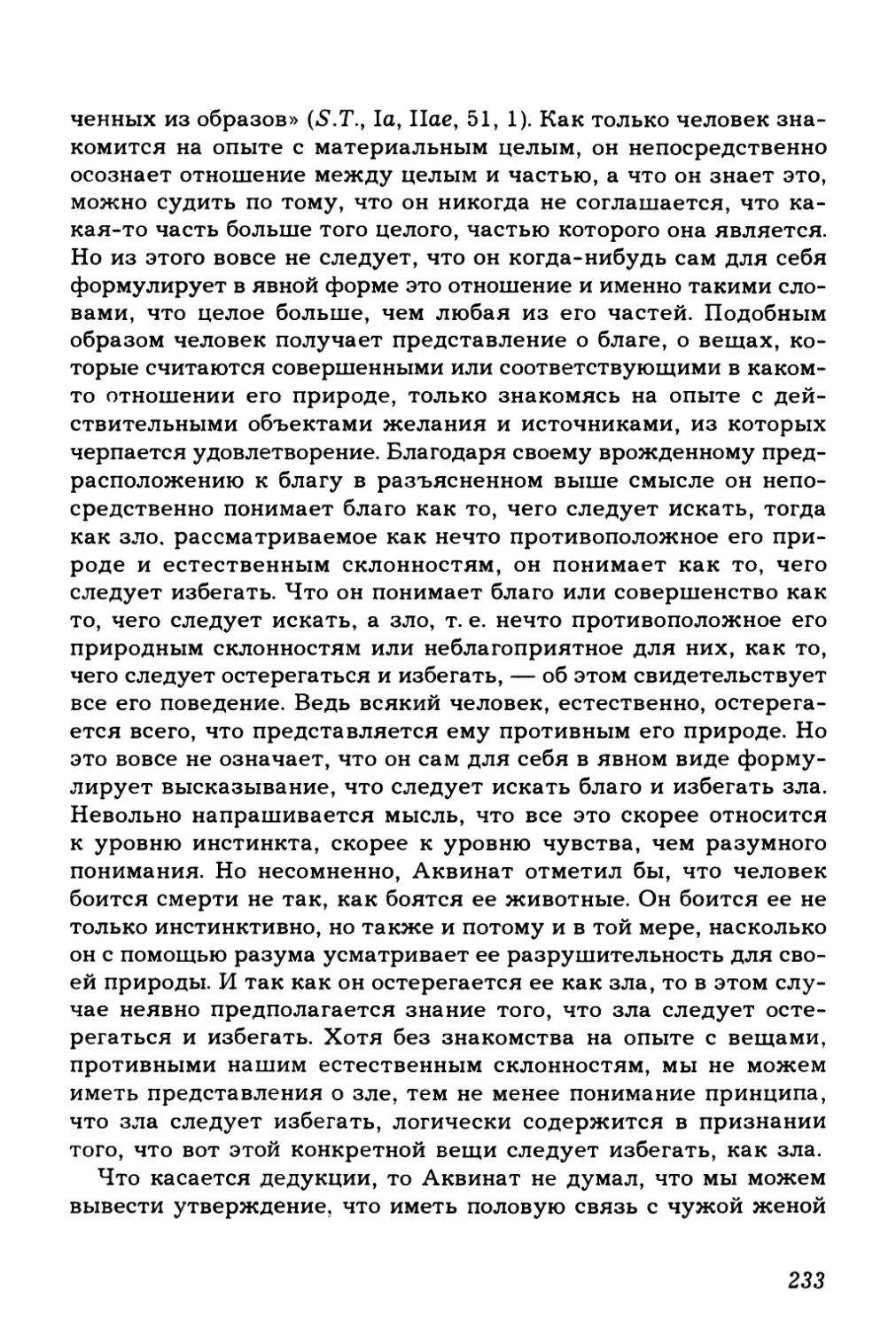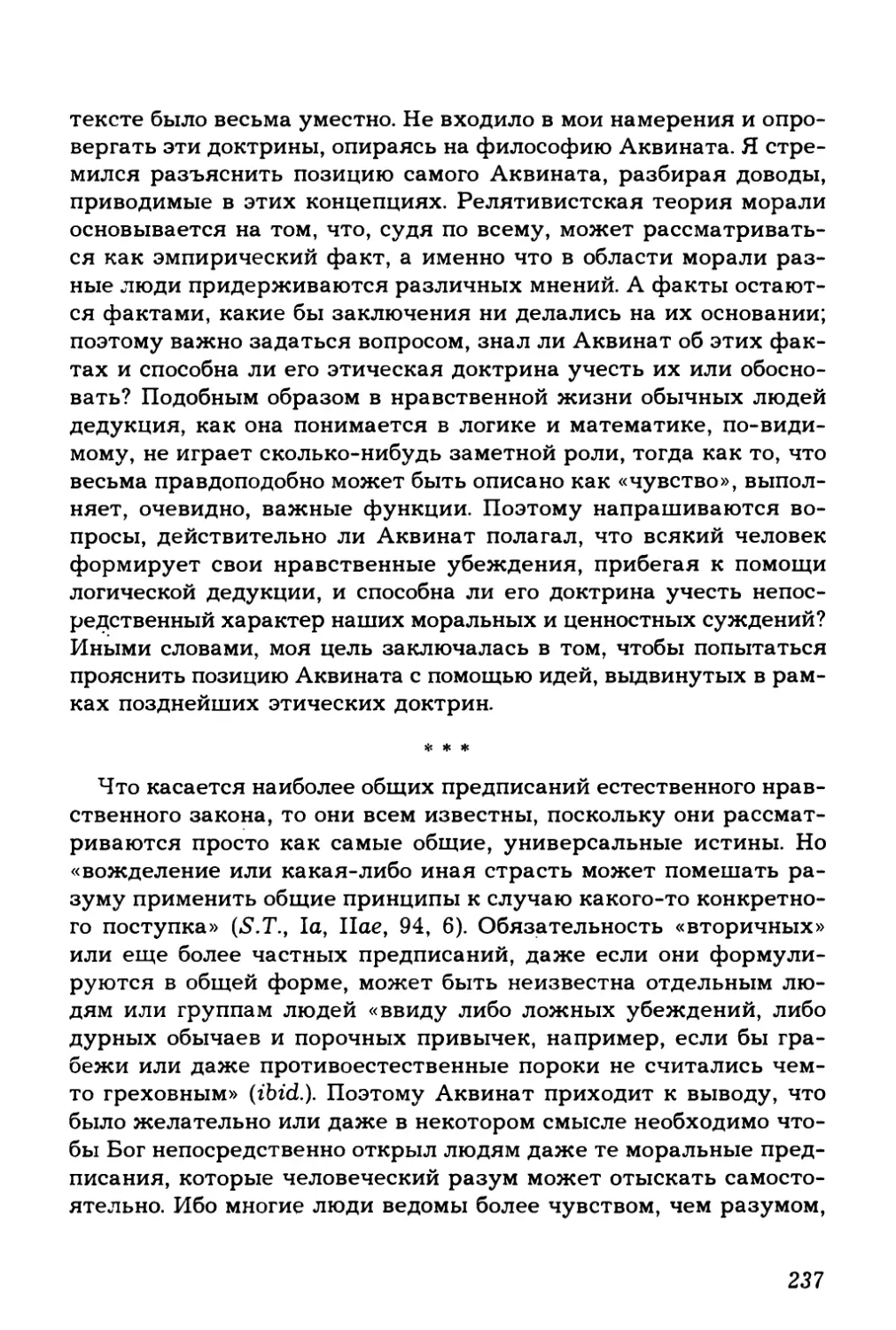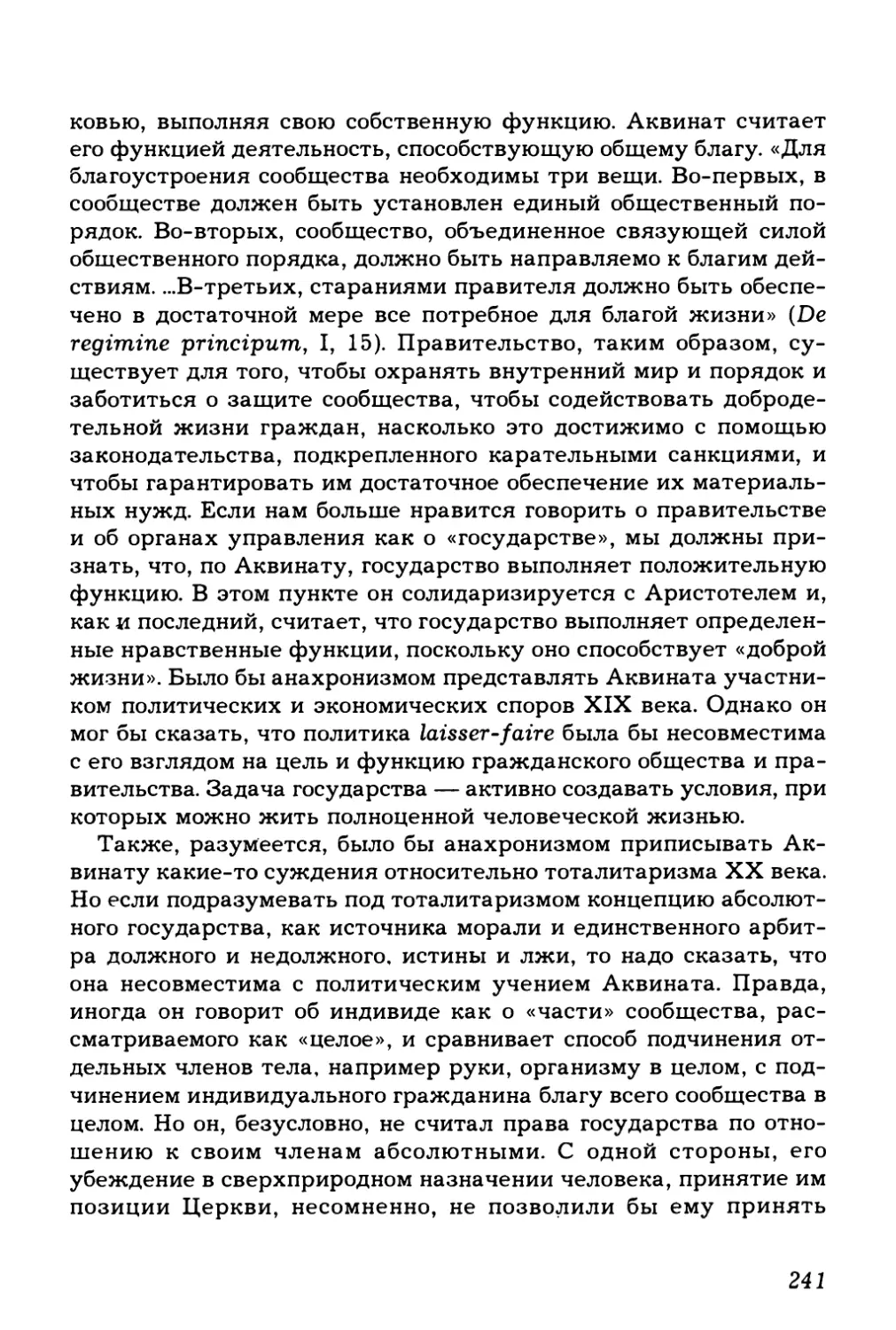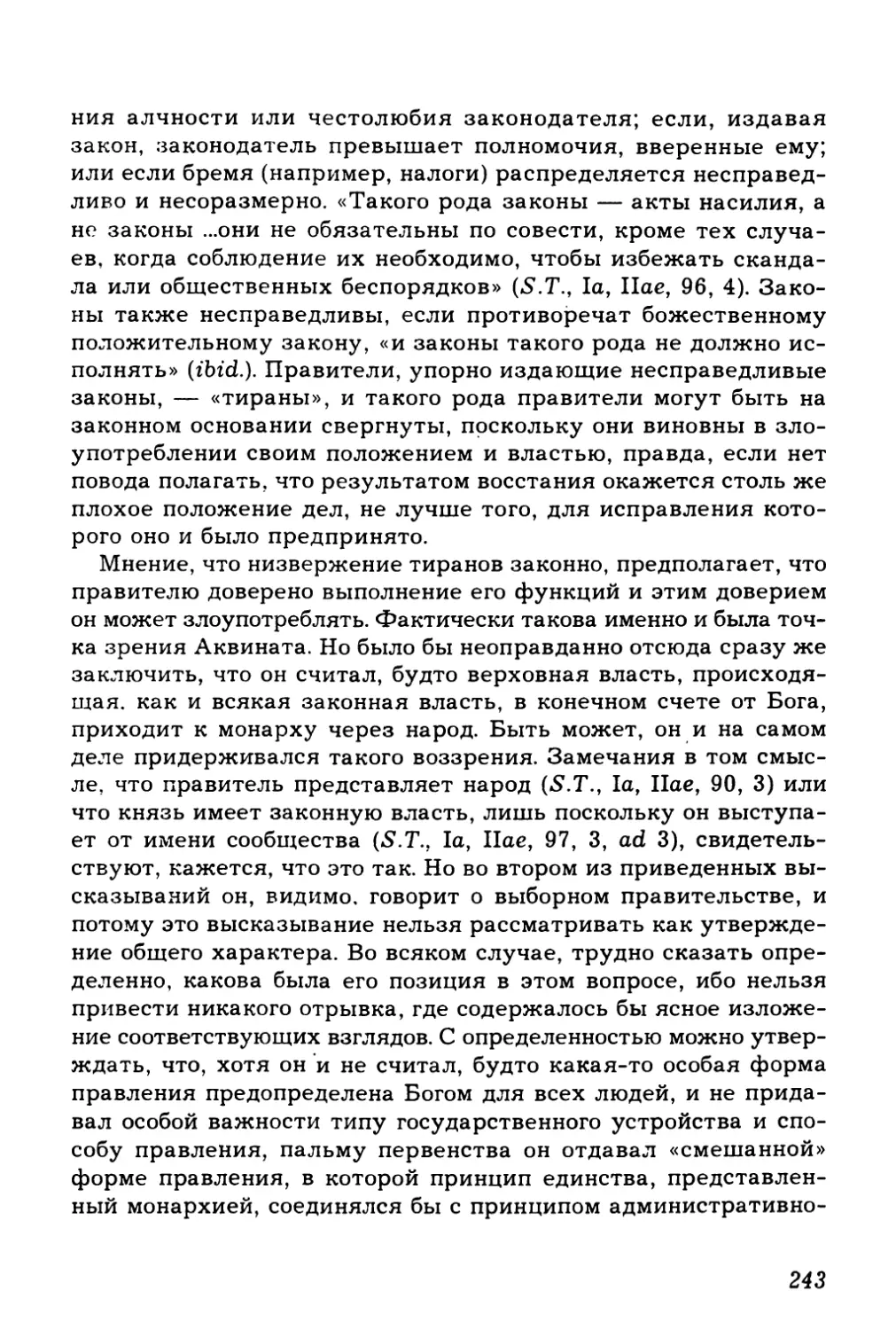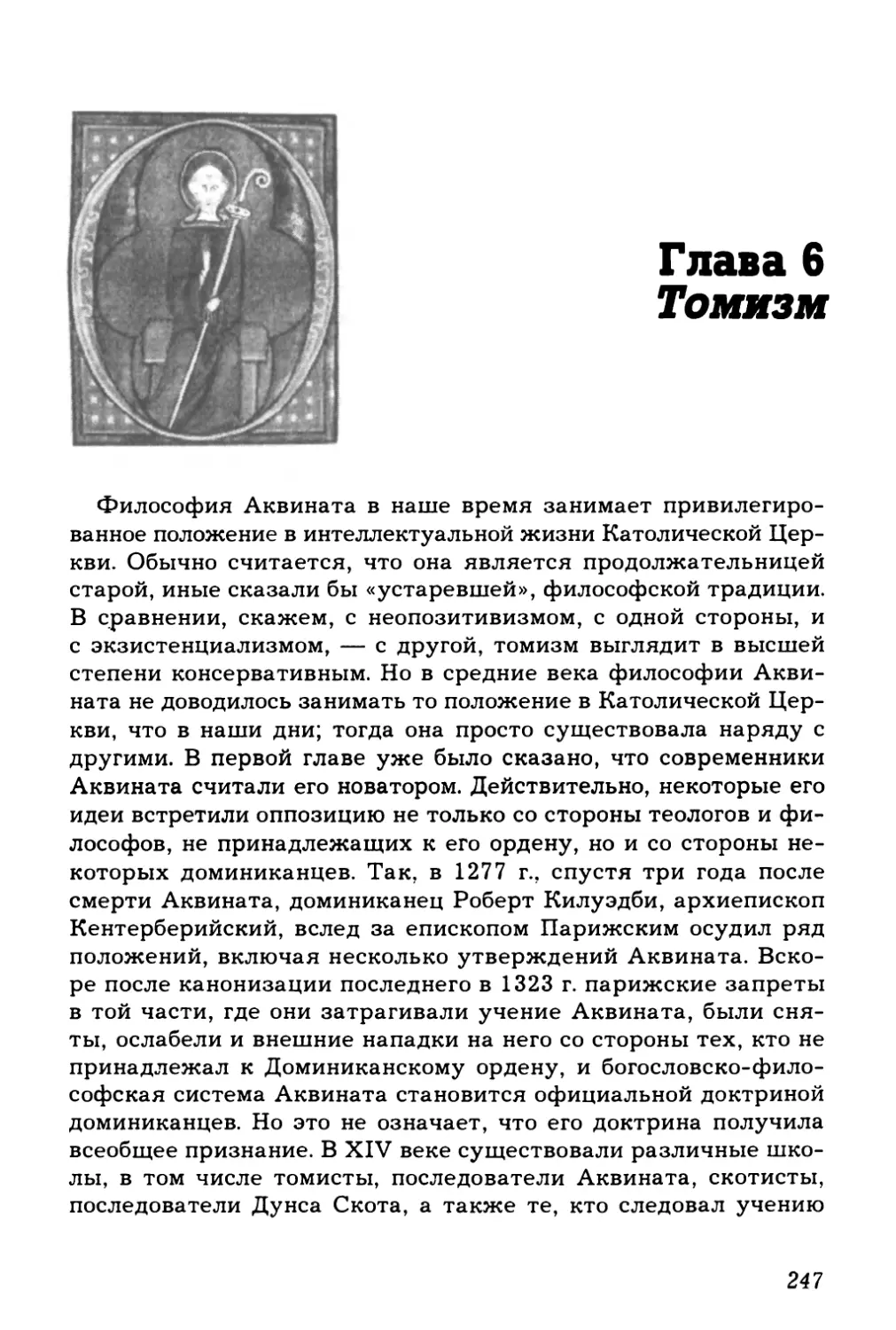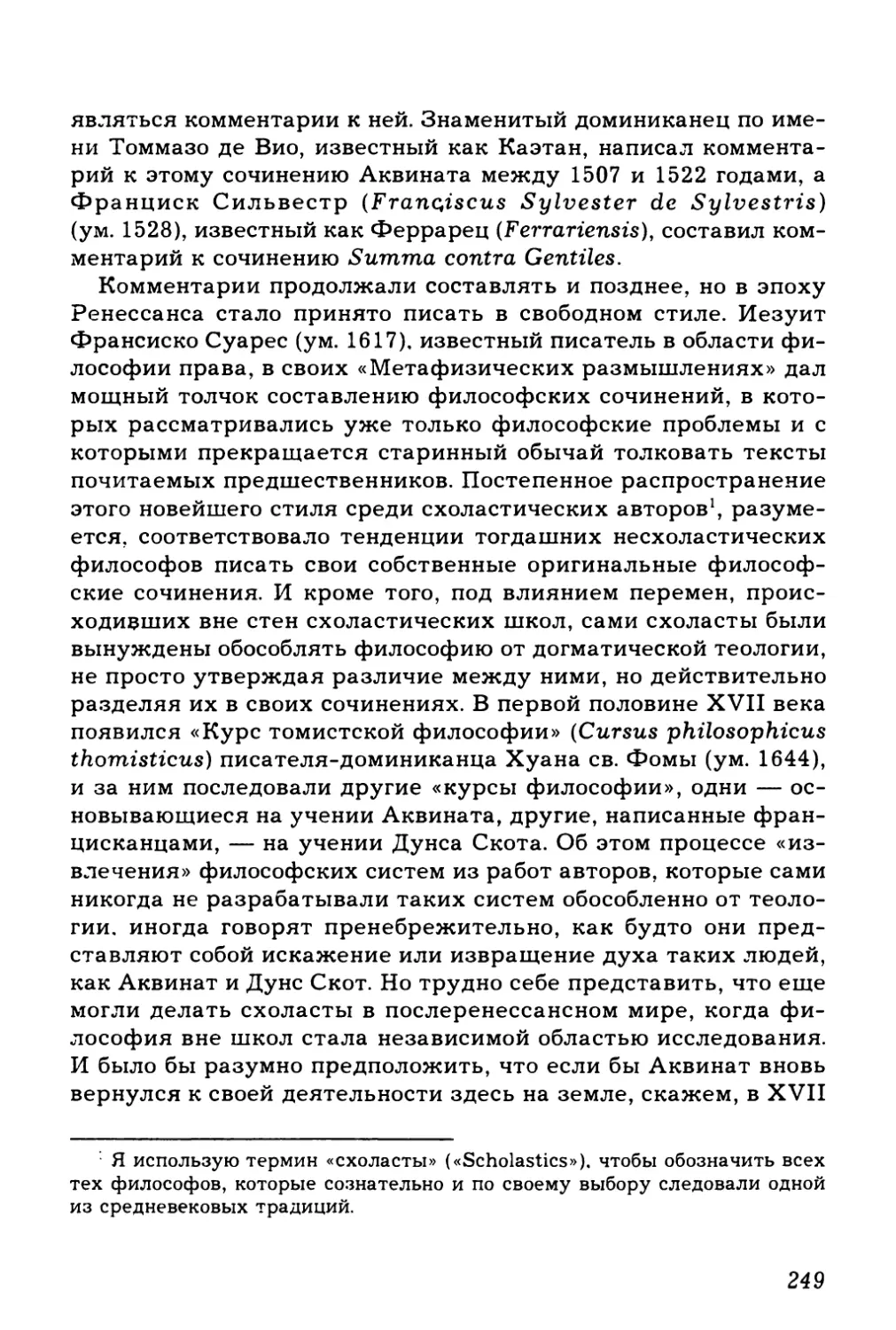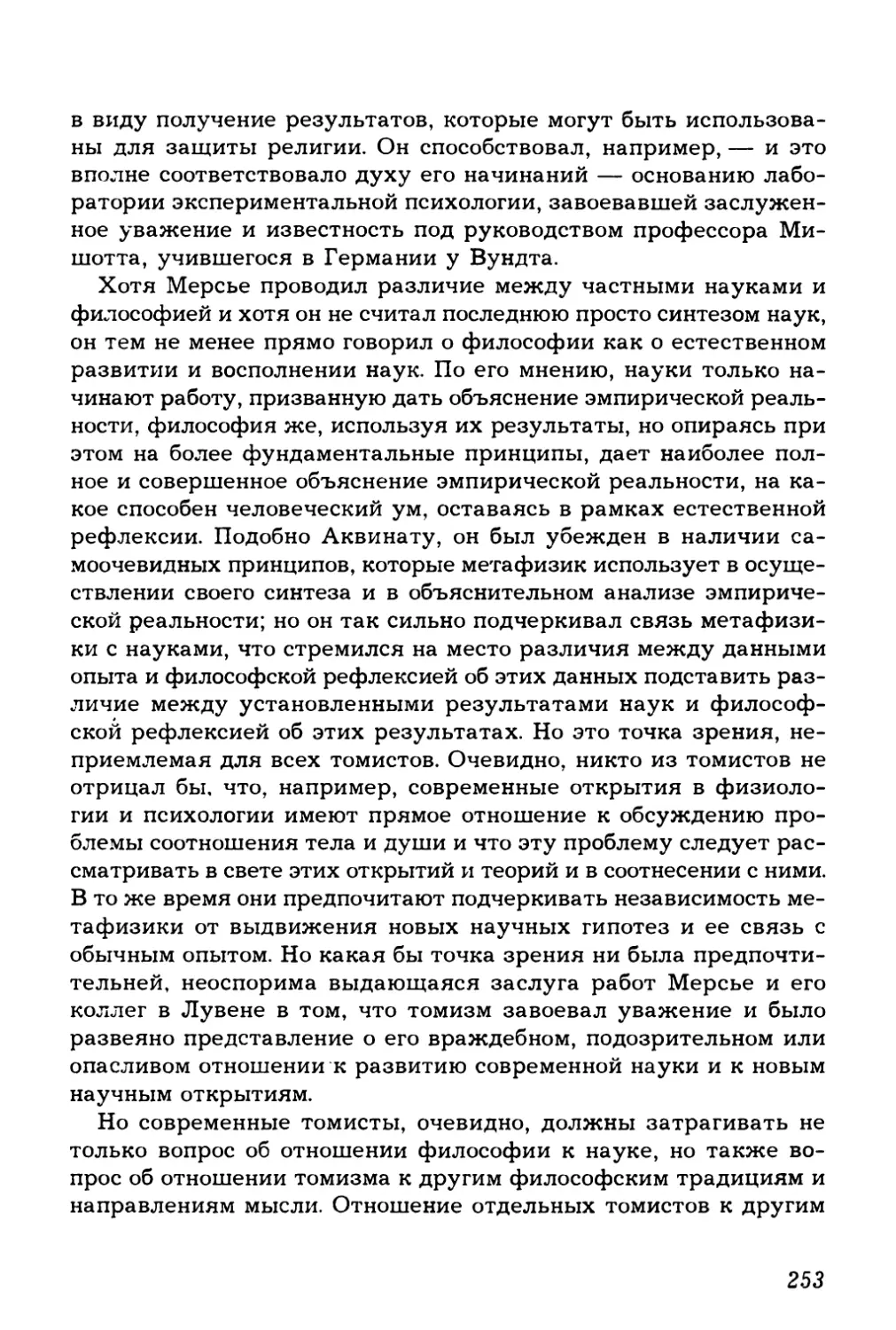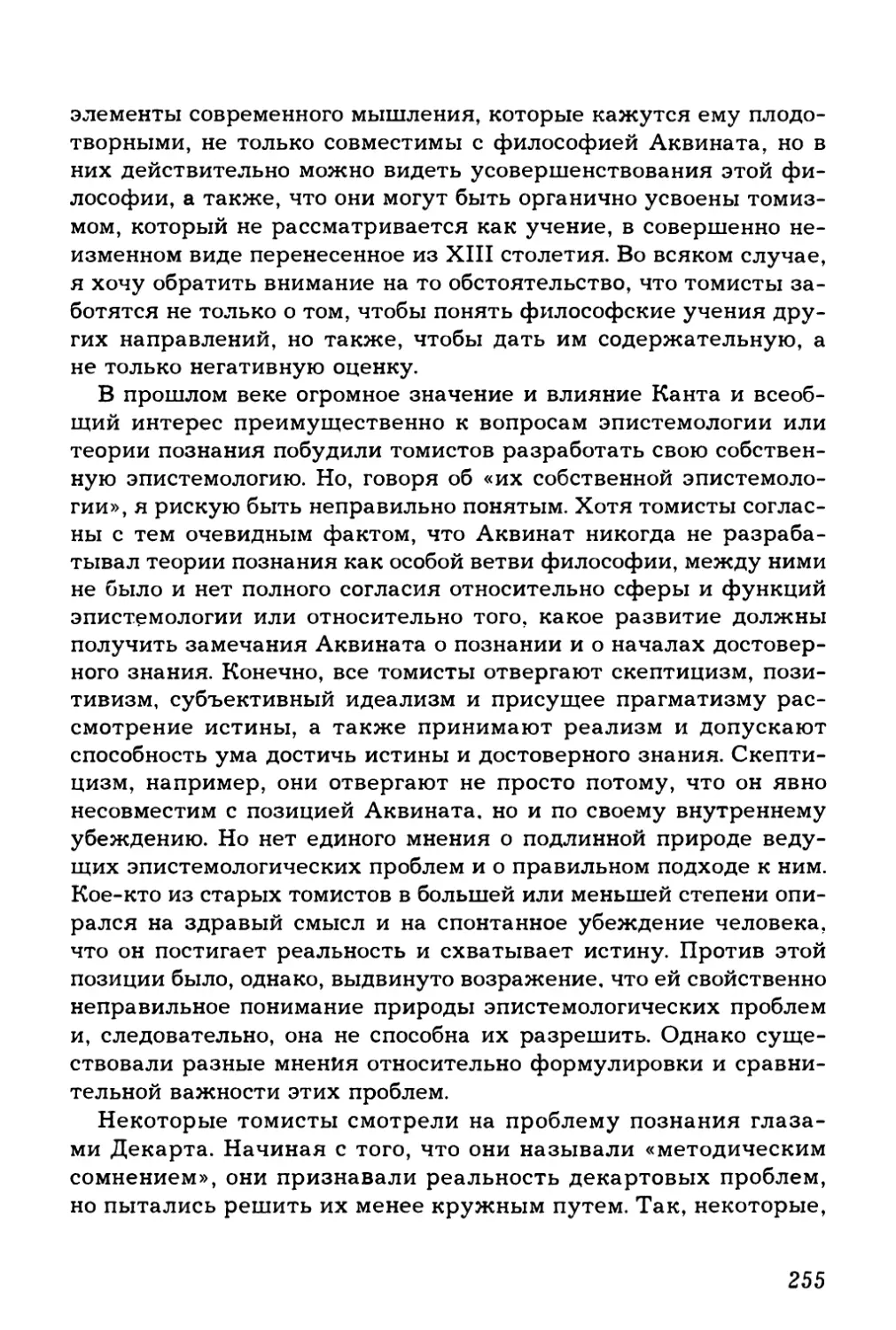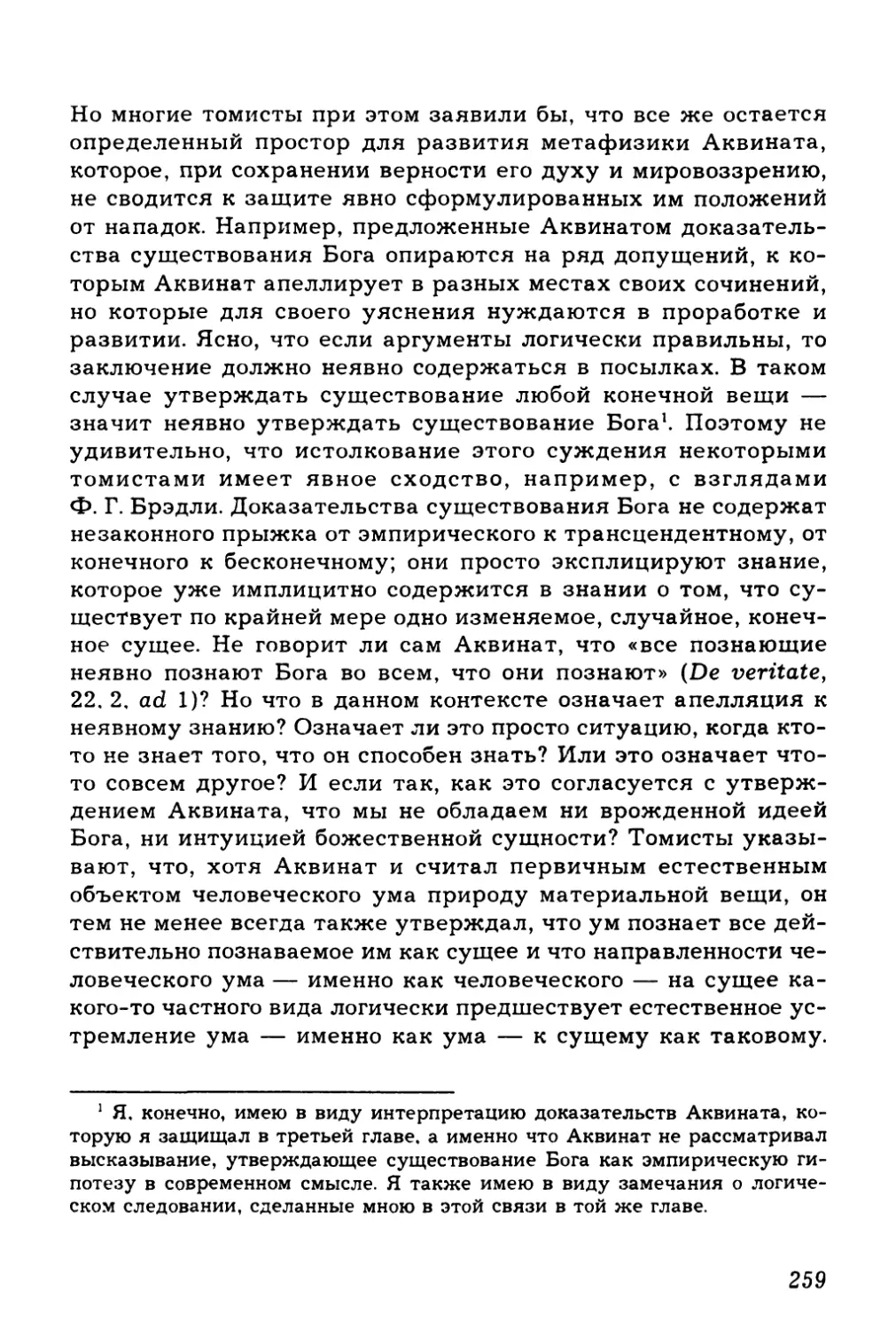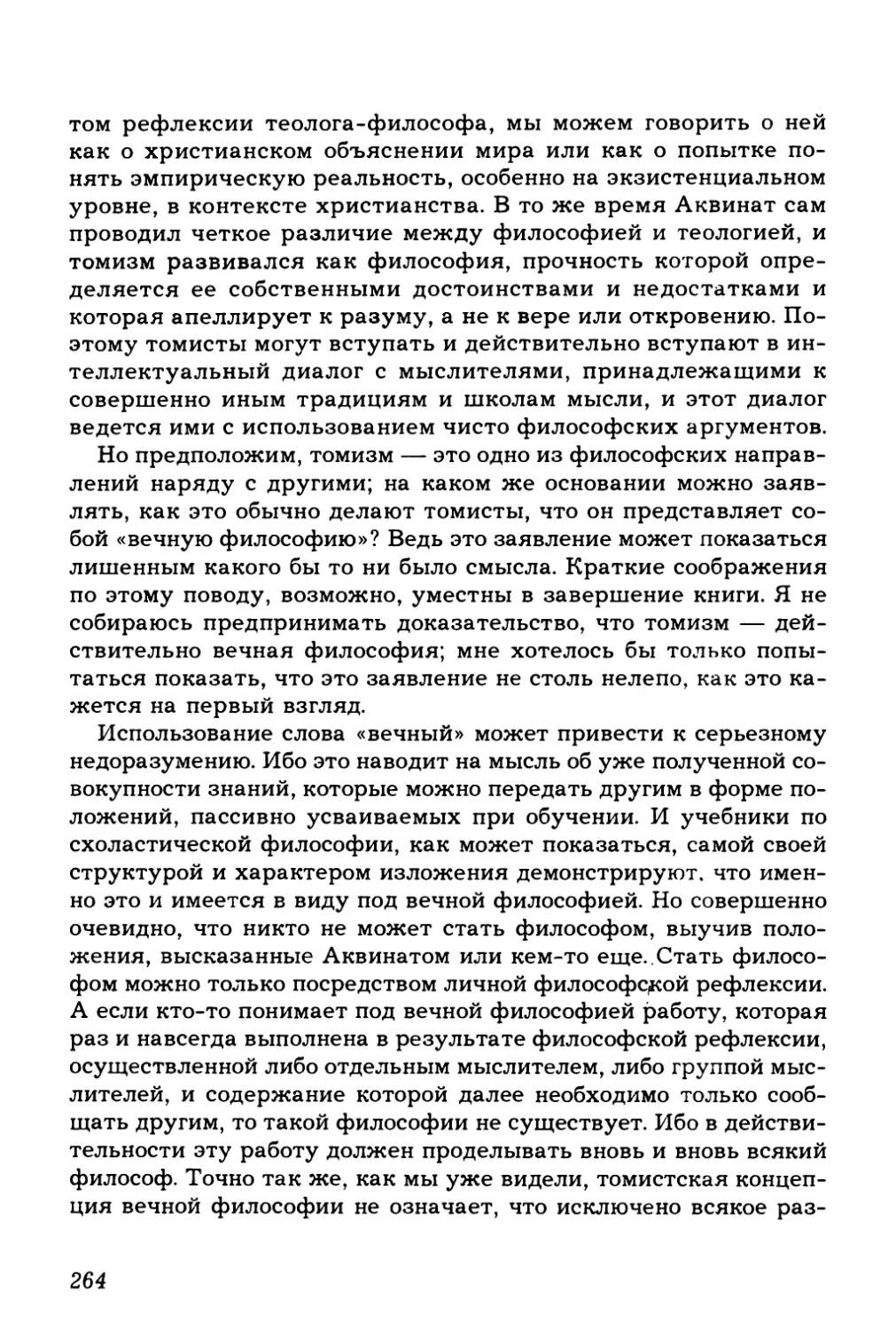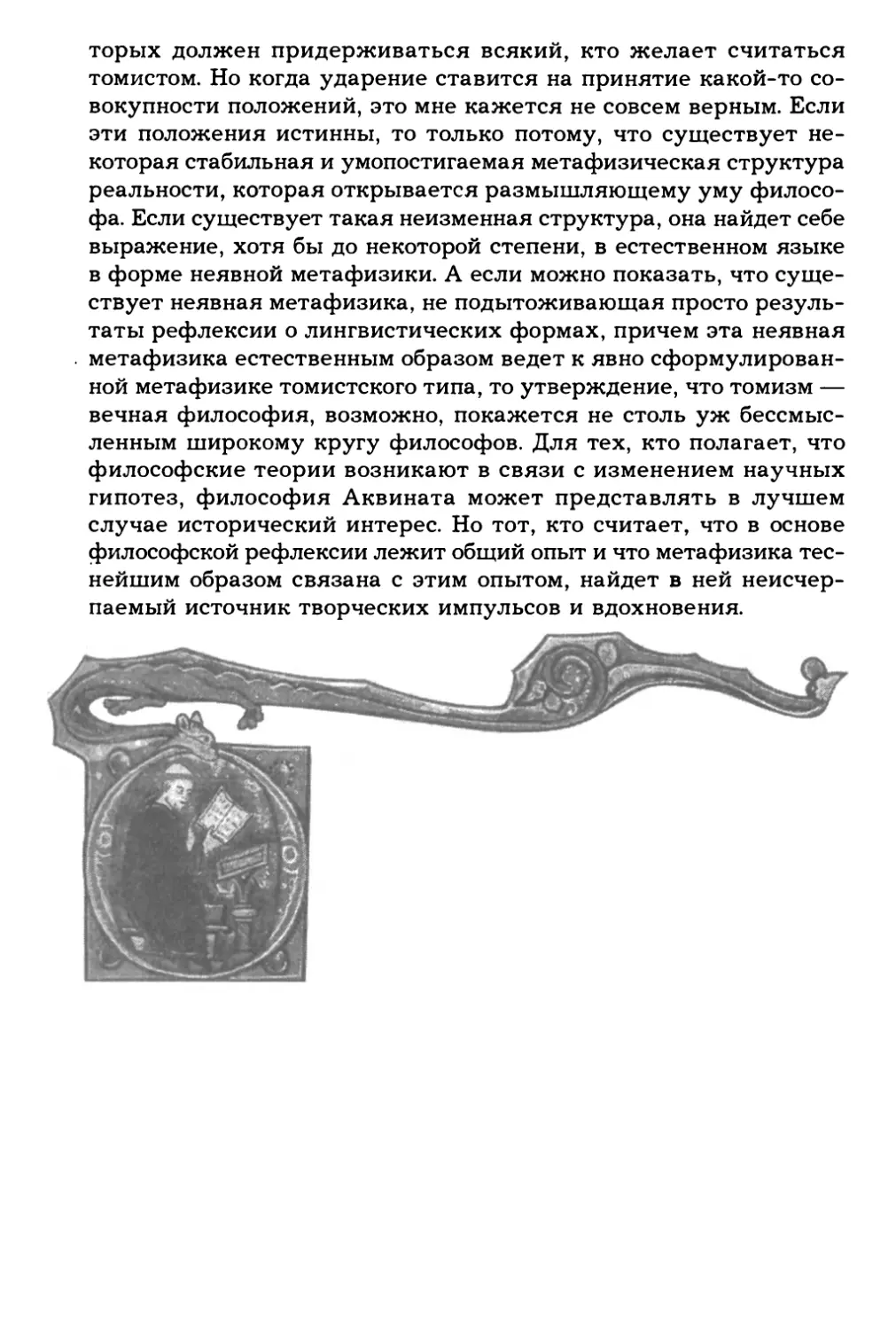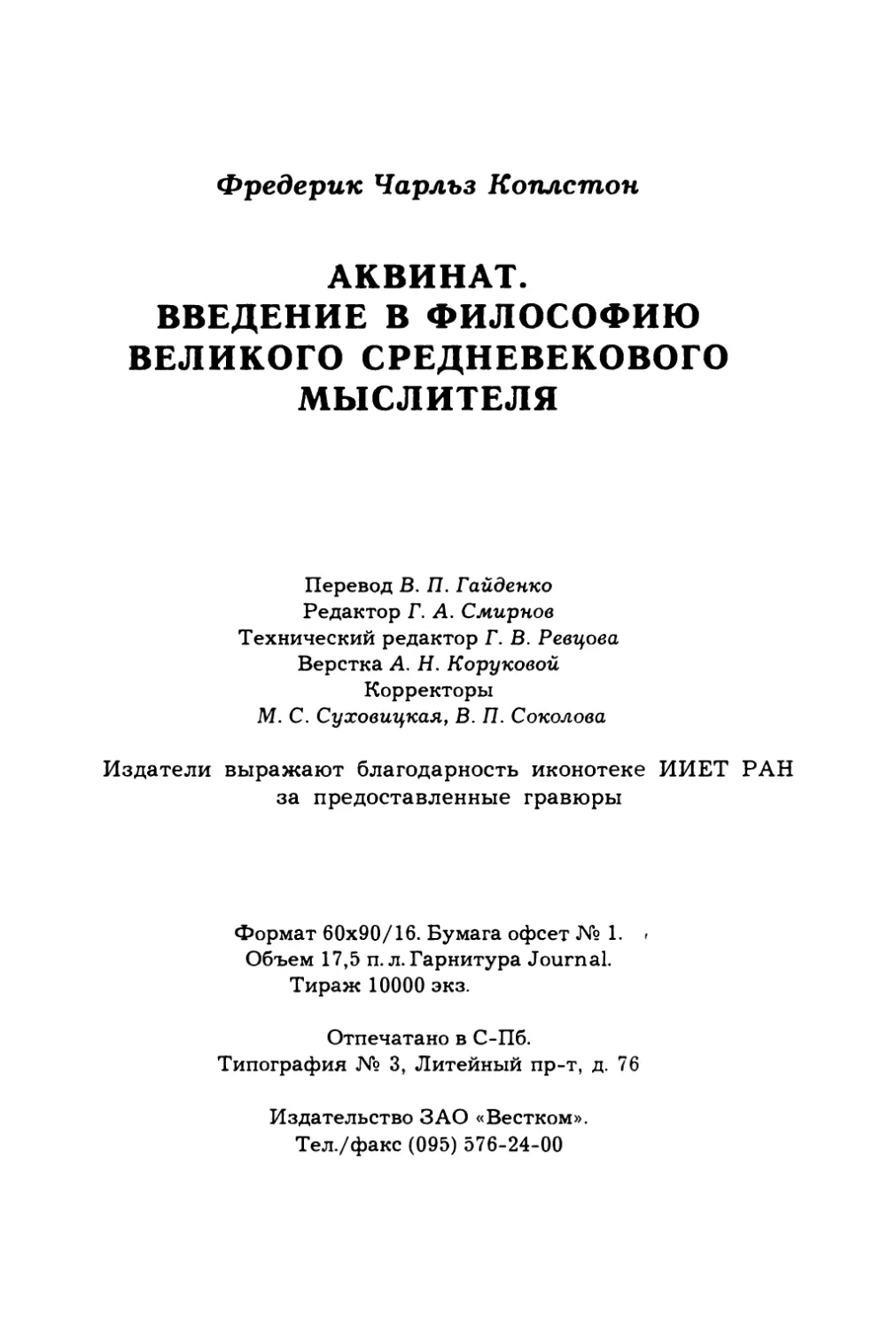Автор: Коплстон Ф.Ч.
Теги: философия психология биографические и подобные исследования история философии история средневековье
ISBN: 5-9200-0002-3
Год: 1999
Текст
Frederick Charles
Copleston
AQUINAS.
AN INTRODUCTION
TO THE LIFE
AND WORK OF THE GREAT
MEDIEVAL THINKER
L.,N.Y. etc., 1955
Фредерик Чарльз
Коппстон
АКВИНАТ.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
ВЕЛИКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО
МЫСЛИТЕЛЯ
(Перевод В. П. Гайденко)
Вестком
Долгопрудный • 1999
Фома Аквинский (1225-1274) был убежден, что совершенное
устроение человеческой жизни предполагает наличие гармонии между
верой и разумом. Исходя из этого, он разработал всеобъемлющую фило-
софско-теологическую доктрину, в которой рациональное познание
мира трактуется как один из путей, ведущих к познанию Бога.
Книга Ф. Ч. Коплстона (1907-1994) вводит читателя в сложный, но
удивительно цельный мир философии Аквината. В ней в доступной форме
излагаются основные положения томистской доктрины; ясность
изложения достигается не за счет упрощения, а благодаря формулировке
этих положений в понятиях, привычных для современного человека.
Автор показывает, что многие идеи Фомы Аквинского перекликаются с
проблемами, обсуждаемыми в философии XX века. Это позволяет
понять, почему философию Аквината иногда называют «вечной
философией» и почему томизм — одно из влиятельных течений современной
мысли.
Книга предназначена для интересующихся историей средневековой
философии, а также для изучающих философию XX века; она будет
полезна всем, кто размышляет над проблемами метафизики, теории
познания и этики.
Обложка: Карпаччо. Св. Фома Аквинский во славе
со св. Марком и св. Людовиком Тулузским.
Макет серии — И. В. Давиденко
ISBN 5-9200-0002-3
© 1955 by Pelican Books
© Издательство ЗАО «Вестком», 1999
© Перевод В. П. Гайденко, 1999
Изображение Фомы Аквинского: так называемое «Поклонение снопов»
(надпись: «Вот, мы вяжем снопы посреди поля;
и вот, мой сноп встал, и встал прямо;
и вот, ваши снопы стали кругом,
и поклонились моему снопу» (Быт. 37,7))
Предварительные
замечания*
Аквинат был университетским профессором, преподавателем, и
стиль его сочинений, объективный и лишенный каких-либо личных
пристрастий, соответствовал его профессии. Его жизненный путь
не отмечен внешним драматизмом, в его жизни не было каких-то
трагических событий, сравнимых с драмой Сократа. Не был он
также одной из тех странных, одиноких фигур, вроде Ницше,
личность которых всегда привлекает внимание биографов и
психологов. Поэтому главные события его жизни можно изложить очень
кратко.
Точная дата рождения Аквината неизвестна, хотя, по всей
вероятности, он родился в 1225 г. или около того. Родом он был из
Ломбардии и родился в замке Роккасекка вблизи маленького городка
Аквино, расположенного между Неаполем и Римом. В раннем
детстве его отправили в аббатство Монте Кассино, где он получил
начальное образование, а в 1239 г. он стал студентом университета в
Неаполе, основанного императором Фридрихом II в 1224 г. В Не-
' Книга Ф. Ч. Коплстона в оригинале озаглавлена «Aquinas. An
Introduction to the Life and Work of the Great Medieval Thinker», в
буквальном переводе «Аквинат. Введение в жизнь и труды великого
средневекового мыслителя». В данном издании заглавие несколько изменено, поскольку
буквальный перевод неприемлем по чисто стилистическим соображениям.
Учитывая, что заглавие, данное самим автором, не вполне отвечает
фактическому содержанию книги: в ней мы не найдем ни развернутого
жизнеописания средневекового мыслителя, ни сколько-нибудь обстоятельного
анализа его отдельных работ, а посвящена книга главным образом
изложению философских взглядов Фомы Аквинского, русское издание выходит под
названием «Аквинат. Введение в философию великого средневекового
мыслителя». (Прим. пер.)
5
аполе он вступил в Доминиканский орден. Этот поступок его семьей
был встречен враждебно, в течение некоторого времени его
держали дома под надзором. Получив свободу, он отправился на
север продолжить свое обучение у Альберта Великого, также
доминиканца, в Париже и потом в Кельне. По возвращении из Кельна в
Париж в 1252 г. он читал лекции, в согласии с обычаем сначала по
св. Писанию — с 1252 г. по 1254 г., а затем по «Сентенциям» Петра
Ломбардского — с 1254 г. по 1256 г. В практике средневековых
университетов объяснение и комментирование текста играло важную
роль, a Libri quattuor sententiarum (Четыре книги сентенций) —
теологическое сочинение, составленное Петром Ломбардским в
XII веке, — оставались учебным пособием вплоть до конца XVI века.
Ведущие теологи и философы XIII и XIV столетий, включая Ак-
вината, Дунса Скота и Уильяма Оккама, читали по ним лекции и
писали к ним комментарии.
В 1256 г. Аквинат стал ординарным профессором геологии,
заняв одну из двух кафедр, предоставленных доминиканцам в
Париже, хотя до следующего года его назначение не было
окончательно признано университетом. Причиной этого промедления был спор
между белым духовенством и новыми монашескими орденами. С
1259 г. по 1269 г. он жил в Италии, где преподавал поочередно в Ана-
ньи, в Орвьето, Риме и Витербо. В 1269 г. он возобновил свои
лекции в Париже, но в 1272 г. отправился в Неаполь, чтобы
организовать там Доминиканскую школу для изучения теологии. Два года
спустя он получил приказание папы Григория X принять участие
в Лионском соборе, но по пути в Лион 7 марта 1274 г. он умер.
Такая беспокойная жизнь с постоянными переменами места является
мало подходящей для ученого или мыслителя; но его прилежание
к ученым занятиям, его упорная решимость продолжать писать при
всех обстоятельствах позволили ему за его довольно короткую
жизнь — всего около сорока девяти лет — создать поразительно
много. Говорят, он был довольно рассеянным, как бы
«отсутствующим» человеком: поглощенный своими мыслями, он порой забывал
об окружающем. Он был известен своей добротой; несмотря на
постоянную углубленность в свои изыскания, он находил время, чтобы
регулярно говорить проповеди. И священником, и
монахом-доминиканцем он был образцовым; в конце жизни он пережил
мистическое состояние. В декабре 1273 г., после этого таинственного
переживания, случившегося, когда он служил мессу, он прекратил
работу над третьей частью Summa theologica и сказал своему
секретарю, что он больше не будет писать, ибо, как он сказал, «пе-
6
ред тем, что я видел и что мне было открыто, все, что я писал, —
как солома». Он был канонизирован 18 июля 1323 г.
Наиболее известными из сочинений Аквината являются две
систематические работы: Summa contra Gentiles (Сумма против
язычников) и Summa theologica (Теологическая сумма). Комментарий к
«Сентенциям» Петра Ломбардского — ранняя работа; в своих
комментариях к Аристотелю Аквинат в основном занят разъяснением
текста; комментарии к св. Писанию не имеют отношения к нашей теме.
Именно две его «Суммы» — творения зрелого ума. Есть, однако, и
другие его сочинения, посвященные отдельным темам, и некоторые
из них чрезвычайно важны для изучения его философии.
Некоторые из них, например De veritate (Об истине), De potentia (О
могуществе) и De malo (О зле), известны как Quaestiones disputate
(«Вопросы диспутов», или «Рассмотренные вопросы»). Они
представляют собой изложенный профессором отчет о результатах регулярных
Аббатство Монте Кассеино в средние века (реконструкция)
7
диспутов, периодически проводимых в течение года. В дополнение
к этим регулярным диспутам или обсуждениям существовали также
Quaestiones quodlibetales (Вопросы о чем угодно), диспуты,
проводимые на Рождество или на Пасху, когда могли обсуждаться самые
разные предметы; имеется много Quaestiones quodlibetales Аквина-
та. Наконец, существуют небольшие сочинения, некоторые из
которых, как, например, одна из ранних работ De ente et essentia (О
сущем и сущности), являются весьма важными с философской
точки зрения. Следует упомянуть также сочинение De regimine
principum (О правлении государей), аутентичные части которого
были написаны в Италии, а также работу De unitate intellectus (О
единстве интеллекта), относящуюся ко второму парижскому
периоду деятельности Аквината.
Из двух «Сумм» Summa contra Gentiles была написана раньше,
причем первая книга была написана в Париже, а остальные три —
в Италии. По преданию, она была написана по просьбе св.
Раймонда из Пеньяфорта, в помощь его трудам по обращению мавров в
Испании; однако не нужно основательного изучения этого
сочинения, чтобы понять, насколько оно отличается от простого
руководства для миссионеров. «Язычники», которых имеет в виду Акви-
нат, — это не столько обычные набожные мусульмане, сколько
люди, чье мировоззрение сложилось под влиянием
натурфилософии. Цели и задачи этой книги надо рассматривать в контексте
конфронтации между христианством и явно натуралистическим
объяснением реальности, представленным в греко-исламской
философии. Одной из целей Аквината было показать, что
христианская вера имеет рациональные основания и что философские
принципы не приводят неизбежно к взгляду на мир, явно или неявно
исключающему христианство. Но писал он не только против тех, у
кого были отчасти общие с христианами убеждения, т. е. иудеев и
мусульман; во второй главе он выразительно упоминает, помимо
них, также и «язычников». Поэтому неудивительно, что он
уделяет большое внимание таким предметам, как существование Бога. В
первой книге он трактует божественное существование и
божественную природу, во второй книге он рассматривает творение и
человеческую душу, ее природу и ее отношение к телу, а в третьей
книге он обращается к вопросу о конечной цели человека.
Начинает он свою работу с рассмотрения истин, которые, по его
убеждению, доказуемы с помощью одного лишь разума, тогда как в
последних главах третьей книги и в четвертой книге он переходит к
собственно христианской доктрине.
8
Summa theologica была написана, как
сообщает сам Аквинат, в качестве
систематического сводного изложения
теологии для «новичков»,
приступающих к ее изучению. Большей частью
она была написана в Италии и в
продолжение второго периода
деятельности Аквината в Париже. Он работал над
третьей частью в последние годы
жизни в Неаполе, однако, как было
сказано, не завершил ее. Сочинение
делится на три части, а вторая часть, в
свою очередь, делится на две,
известные соответственно как Prima secun-
dae (первая часть второй части) и Se-
cunda secundae (вторая часть второй
части). Предмет первой части — Бог и творение, хотя она включает
также рассмотрение человеческой природы и интеллектуальной
жизни человека. Во второй части рассматривается моральная жизнь
человека, причем в первом ее подразделе трактуются конечная цель
человека и общие проблемы морали, а во втором — отдельные
добродетели и пороки. И наконец, предмет третьей части — Христос и
таинства.
Ни ту, ни другую «Сумму» нельзя назвать философским
трактатом. Даже Summa contra Gentiles содержит много такого, что не
относится к ведению философии, и не только в свете позднейших
представлений о природе и компетенции философии. Это справедливо и
при том разграничении философии и догматической теологии,
которое проводит сам Аквинат; оно будет охарактеризовано в первой
главе этой книги. Хотя комментарии к Аристотелю и некоторые
другие работы, как, например, De ente et essentia, можно назвать
чисто философскими произведениями, все же неверно было бы
полагать, что, например, De veritate имеет дело с чисто философскими
вопросами. Эта работа действительно рассматривает и философские
вопросы, такие, как логическая истинность, совесть и свободная
воля; но наряду с этим в ней затрагиваются темы, прямо
относящиеся к христианской теологии, например, знание Христа и
божественная благодать. Среди сочинений Аквината нет систематического
философского трактата в духе нового времени; поэтому довольно
трудно дать совет человеку, желающему приступить к изучению
философии Аквината по его собственным сочинениям, если у него нет
9
желания касаться проблем, относящихся именно к христианской
теологии. Впрочем, можно предложить два способа. Либо выбрать
какую-нибудь хрестоматию — несколько таких хрестоматий
приведены в конце книги — и использовать ее в качестве ключа к
сочинениям Аквината. Либо взять Summa theologica и изучать ее
с помощью «Руководства к изучению "Суммы"» Уолтера Фаррела
(A Companion to the Summa by Walter Farrell, О. Р.), также
приведенного в библиографических примечаниях.
Наконец, нужно сказать несколько слов об используемой мною
системе ссылок.
Как было сказано, Summa theologica состоит из трех частей (к
ним добавлено Приложение), причем вторая часть, в свою
очередь, делится на две части. Каждая из частей подразделяется на
«вопросы», и большинство вопросов содержит по несколько
«параграфов». Нумерация вопросов в каждой части начинается
заново (в том числе во второй половине второй части), параграфы в
каждом вопросе также нумеруются отдельно. В каждом
параграфе Аквинат сначала приводит возражения против тезиса,
который он намерен выдвинуть. Затем он представляет свою
концепцию или гипотезу в так называемом «ядре» (corpus, т. е. основной
части) параграфа. Наконец, он поочередно отвечает на
возражения, основываясь на представленной концепции. Ссылки на Summa
theologica всегда относятся к «ядру» соответствующего параграфа,
если не добавлено выражение типа «ad 1» или «ad 2»; в последнем
случае ссылка относится к ответу на возражения. In corpore
означает, что соответствующая цитата взята из ядра (основной
части) параграфа, на который была последняя ссылка. Так, ссылка
«S.T., la, 16, 3» означает, что цитата взята из первой части (pars
prima) «Теологической суммы»: вопрос 16, параграф 3, ядро
параграфа. Ссылка «S.T., Пае, 98, 2, ad 1» означает, что цитата взята
из второй половины второй части «Теологической суммы»: вопрос
98, параграф 2, ответ на первое возражение.
Quaestiones disputatae, такие, как De veritate, De potentia и De malo,
также делятся на вопросы и параграфы, хотя иногда, как,
например, в случае De anima, ставится только один вопрос. Строение
параграфа такое же, как в сочинении Summa theologica. Ссылка «De
potentia 6, 4, ad 2» означала бы, что соответствующая цитата взята
из четвертого параграфа шестого вопроса De potentia, из ответа на
второе возражение.
Заглавие Summa contra Gentiles в ссылках приводится
сокращенно как S.G. Это сочинение подразделяется на книги и главы. Ссылка
10
«S.G., 2, 4» означает поэтому, что соответствующая цитата взята из
четвертой главы второй книги Summa contra Gentiles.
Малые сочинения имеют различное деление. Так, De ente et essentia
и Compendium theologiae (Компендий теологии) делятся на главы,
тогда как De regimine principum — на книги и главы, а
комментарий к трактату Боэция о Троице (In librum Boetii de Trinitate expositio)
делится на вопросы и параграфы. При обращении к
соответствующему сочинению выяснится значение чисел в ссылке.
Комментарии Аквината к сочинениям Аристотеля
подразделяются на книги, главы и lectiones (лекции). Ссылка «In Metaph., I, с. 1,
lectio 1» означает, что соответствующая цитата взята из первой
лекции комментария Аквината на первую книгу «Метафизики»
Аристотеля и что эта лекция касается первой главы текста Аристотеля
или его части.
11
Глава 1
Вводная
Вряд ли кто станет утверждать, что, изучая развитие
политического устройства европейского общества, целесообразно
вообще не рассматривать средние века. Ясно ведь, что средние
века были важным формообразующим периодом в этом развитии
и его по-настоящему невозможно понять без обращения к
средневековью. Я думаю, сейчас достаточно осведомленный человек
не отрицал бы, что аналогичное утверждение может быть
высказано и относительно роли средневековой философии в общем
развитии европейской философской мысли. Конечно, было бы
весьма неразумно утверждать, что между философией
средневековья, Ренессанса и послеренессансной философией существует
непрерывная последовательность, не разрываемая появлением
новых факторов. Общекультурный переход от средневекового
мира к постсредневековому отозвался по-своему и в философии;
становление науки в эпоху Ренессанса было мощным толчком,
стимулировавшим новые способы мышления. Но хотя,
несомненно, были новшества, все же существовала и непрерывность.
Большая ошибка принимать за чистую монету высказывания тех
писателей, кто, подобно Декарту, заявлял о решительном разрыве с
прошлым и о начале совершенно новой философской эры. И
привычно оскорбительные намеки на последователей Аристотеля и
схоластов, довольно частые в сочинениях мыслителей эпохи
Ренессанса, могут ввести в заблуждение, если понять их в том
смысле, что действительно в это время возникает нечто абсолютно
новое, без всякой связи с предшествующим. Конечно, философия
Декарта служит для нас предостережением, чтобы мы, находя
13
у позднейших мыслителей термины, встречающиеся в
средневековой философии, не считали, что эти термины
употребляются в том же самом значении; и тем не менее справедливо, что
таких писателей, как Декарт и Локк, нельзя понять до конца без
знания средневековой философии. Например, чтобы правильно
понимать учение Локка о естественном законе морали и о
естественном праве, необходимо не только учитывать то, что оно
отчасти, через Хукера, восходит к средневековой доктрине, но
и разобраться, в чем его отличие от учения такого философа, как
Аквинат. Если даже кто-то предпочитает видеть в средневековой
философии не более чем подготовительный этап в развитии
европейской мысли, это все же этап, причем важный, и его
влияние сказывается далеко за пределами средневековья.
Действительно, историческое значение средневековой
философии признано теперь в Англии гораздо более широко. Признан
не только сам факт существования средневековой философии, но
также и то, что в средние века были разнообразные
философские воззрения и идеи, диапазон которых весьма широк: от
глубокомысленной метафизической спекуляции до эмпиристской
критики метафизики и от духовного постижения высокого
предназначения философии до преимущественного внимания к
тонкостям логического анализа. Уже по крайней мере два
британских университета, — один из которых Оксфорд, важный центр
философской мысли в средние века, — ввели преподавание
средневековой философии. Признается, во всяком случае, что этот
предмет — законная область исторического исследования и
способен дать материал для докторской диссертации.
В то же время, по-видимому, все еще считается разумной
практика, когда студент, изучающий европейскую философию,
должен перепрыгивать от Аристотеля, умершего в 322 г. до Р. X.,
к Фрэнсису Бэкону и Декарту, родившимся соответственно в
1561 г. и в 1596 г. И я полагаю, что глубинной причиной
живучести пренебрежительного отношения к средневековой
философии является убеждение, явное или неявное, что средневековые
философы не могут предложить нам ничего ценного. Правда, не
отрицают, что многие из них — люди выдающегося ума и
дарований. Но распространено мнение, что их мировоззрение и
общепринятые тогда способы мышления о мире устарели и что их
философские системы прекратили свое существование вместе с
культурой, к которой они принадлежали. А так как некоторые
14
читатели могут подходить к книге об Аквинате со скрытым
недоверием, сомневаясь, что в сочинениях средневекового
философа можно найти что-то, способное внести значимый вклад в
нынешние философские дискуссии, то я и хочу высказать в этой
главе некоторые общие замечания, которые, возможно,
сделают таких читателей более расположенными прислушаться к
Аквинату. В рамках этой книги я, конечно, не могу подробно
обсуждать различные представления о природе и назначении
философии. Не могу я также в книге, посвященной конкретно
Аквинату, предпринять защиту средневековой философии вообще.
Это уж во всяком случае было бы бессмысленным
предприятием. Ибо одновременно защищать позиции, скажем, Дунса
Скота и Николая из Отрекура столь же трудно, как защищать в
одно и то же время философские воззрения Ф. Г. Брэдли и
Рудольфа Карнапа. Более того, даже «защита»'Аквината не
является главной моей задачей. Я не придерживаюсь мнения, что
философия Аквината представляет собой корпус истинных
утверждений, которые можно сообщить и заучить, как таблицу
умножения; согласится ли читатель с идеями Аквината или
нет — это решать ему самому. Но в то же время я убежден, что
большая часть того, что хотел сказать Аквинат, имеет
непреходящее значение; и моей целью было сделать все возможное,
чтобы читателю легче было отнестись с симпатией к его стилю
философствования и его объяснению мира.
Некоторые возражения против средневековой философии
связаны с чертами, в большей или меньшей степени составляющими
своеобразие интеллектуальной жизни средневековья. Например,
тот факт, что в средние века большинство ведущих философов,
включая и Аквината, были теологами, легко рождает
уверенность, что их философствование было неоправданно подчинено
теологическим убеждениям и интересам и что их
метафизические аргументы нередко являли собой образцы того, что мы
называем «обоснованием желаемого». Насчет этого я должен только
заметить, что если мы избираем определенную линию
аргументации в защиту какого-то убеждения или позиции, то с
философской точки зрения уместным будет вопрос, является ли сам
довод обоснованным, а не вопрос о том, хотел ли писатель
прийти к тому выводу, к которому он на самом деле пришел, или о
том, не был ли он еще прежде уверен в этом заключении по
другим причинам. Например, человек, с детства веровавший в Бога,
15
может задаться вопросом, существует ли какое-нибудь
рациональное доказательство этой веры. И если он предлагает нечто,
в чем он видит такое рациональное доказательство, это
доказательство следует оценивать по его достоинствам, а не
отбрасывать с самого начала лишь потому, что это не что иное, как
обоснование желаемого. Может быть, мы действительно придем к
выводу, что его доводы, по всей вероятности, были
обоснованием желаемого, а может быть, и нет; но мы не должны
считать их таковыми просто потому, что человек уже верил в Бога.
Что же касается мнения Аквината о соотношении между
философией и теологией, то я затрону его позднее в этой главе.
Другие возражения против средневековых метафизиков
делаются с позиции той или иной конкретной философской системы,
так что их нелегко разобрать в краткой работе, посвященной
системе другого философа. Кантианец, например, непременно будет
считать заблуждением представление средневековых философов,
что знание может быть получено путем метафизической
рефлексии. И хотя некоторые из проблем, которых мы коснемся в
дальнейшем, имело бы смысл обсудить с позиции Канта, тем не менее
кантианская философия как таковая не может быть здесь
предметом рассмотрения. Можно, однако, отметить, что приводимые
Кантом образцы метафизического рассуждения характерны скорее
для вольфианекой школы, а не почерпнуты у Аквината. которого
Кант знал мало. И на мой взгляд, к наиболее сильным пунктам
философии Аквината следует отнести именно те, где его позиция
отличается от позиции философов XVII и XVIII веков, на
которых нападает Кант.
Впрочем, если читатель с самого начала убежден, что такой
метафизик, как Аквинат, представляет для нас чисто
исторический интерес, то маловероятно, что его убеждение
базируется на усвоении им критической философии Канта или на том
факте, что Аквинат был не только философом, но и теологом,
и даже по преимуществу теологом. Думаю, гораздо более
вероятно, что в основе его суждения лежат некие общие идеи
относительно метафизики и метафизиков, господствующие в
Англии и в некоторых других странах. Часть этих идей связана с одной
из важнейших черт постсредневекового мира, а именно с
возникновением и развитием отдельных наук. Хорошо осознан, и не
только профессиональными философами, тот факт, что
отдельные науки в ходе своего развития отнимали у философии одну
16
Житие св. Фомы Аквинского
за другой те области, которые ей принадлежали. Космология
открыла дорогу физике, философия живой природы —
научной биологии, а спекулятивная психология постепенно сдает
позиции точной науке, поскольку идет процесс возникновения
научной психологии. Науки, конечно, не решают теологических
проблем и не отвечают на «последние» метафизические
вопросы. Но и метафизике так и не удалось показать, что она владеет
методом, с помощью которого можно ответить на эти вопросы.
Метафизики пытались объяснить мир или сделать его понятным.
Но даже когда мы можем понять то, что они пытаются сказать,
все же, по-видимому, не существует признанного способа
подтверждения и проверки их теорий. Представляется, что нам
доступно только то понимание мира, которое предлагают науки.
Все это ведет к заключению, что как философия заняла место
теологии, так науки занимают место философии, по крайней
мере, всей спекулятивной философии. Философу остается
довольствоваться задачей разъяснения утверждений и терминов;
его дело — анализ и прояснение неясного, а не системосозида-
ние или нахождение истины о реальности. Вполне естественно,
что в средние века, когда наука была в зачаточном состоянии,
люди должны были искать знания о мире у теологов и
философов; несомненно, их нельзя за это порицать. Но нельзя ожидать
большого внимания к писателям, поддерживающим претензии
философии на объяснение мира, о которых идет речь. Таким
образом, труды Аквината, если мы оцениваем их в
историческом контексте, могут вызывать восхищение; но при этом нельзя
ожидать, что мы найдем у него что-то имеющее непреходящее
значение.
Однако такое отношение к метафизике, как представляется,
характерно только для тех, кто предпочел бы вообще упразднить
ее; поэтому рассмотрим другой взгляд на метафизику. С этой
точки зрения метафизиков можно разделить на две группы,
которые не являются взаимоисключающими в том смысле, что ни
один философ не может входить сразу в обе. Одни метафизики
предполагают, что у них есть свой собственный априорный
метод, с помощью которого они способны получить информацию о
реальном мире и даже выйти за пределы опыта, доставляя нам
информацию о трансцендентной реальности. Но если их
притязания оправданны, почему же оказывается, что их.образы
реальности несовместимы друг с другом? Очевидно, они не могут
18
дать нам достоверного знания с помощью используемых ими
методов. В лучшем случае их теории — не более чем гипотезы. Да
и гипотезой любую из них можно считать лишь в том случае,
если в области опыта можно указать нечто, свидетельствующее
за или против этой гипотезы. Другие же метафизики
предпочитают высказывать общие утверждения о вещах, данных в
опыте, не пытаясь выйти за пределы опыта. Но анализ этих
утверждений показывает, что в той мере, в какой они имеют целью
дать информацию о структуре или о существенных
характеристиках вещей, они оказываются либо всем известными общими
местами, только выраженными более напыщенно, либо
бессодержательными высказываниями, не несущими вообще никакой
информации. Шанс выжить имеет только одна форма
метафизики — построение гипотез, имеющих более высокую степень
общности, чем научные гипотезы, в том смысле, что они
имеют большую область охвата, чем любая конкретная наука, но
чтобы при этом был указан определенный способ их
эмпирической проверки. Иными словами, если метафизики хотят, чтобы
их принимали всерьез, они должны встать на почву
эмпиризма; и их теории должны получить форму эмпирических
гипотез. Однако средневековые метафизики были убеждены, что они
способны не просто строить гипотезы, подлежащие
эмпирической проверке, но достичь определенного и окончательного
знания посредством метафизической рефлексии. Поэтому, хотя их
философские системы небезынтересны, все же к ним нельзя
относиться серьезно с чисто философской точки зрения.
Ископаемые могут представлять интерес, но они тем не менее
только ископаемые.
Такой подход к метафизике вполне понятен. И затронутые тут
проблемы реальны. И по-моему, их нельзя снять ссылкой на
авторитет какого бы то ни было философа, в том числе и Фомы
Аквинского. Во-первых, в связи с проблемами, которые
приобрели остроту с ростом и развитием отдельных наук, вряд ли
стоит апеллировать к авторитету человека, который писал до
научного ренессанса, а потому не мог обсуждать эти проблемы так,
как они видятся нам. В следующей главе я буду говорить о
взглядах Аквината на соотношение философии и отдельных наук, и
я думаю, что позиция, подразумеваемая в его высказываниях,
хотя прямо им не выраженная, разумна. Но было бы
анахронизмом искать у философа XIII века ответа на те вопросы, кото-
19
рые и поставлены адекватно могут быть лишь в современной
ситуации. Во-вторых, в ряду тех, кто полагает, что
философские проблемы можно снять, прибегая к авторитету великих
имен, Аквинат окажется последним. «Доказательство от
авторитета, имеющего основание в человеческом разуме, является
слабейшим» (S.T., la, I, 8, ad 2). То есть аргумент в пользу
данного философского или научного положения будет слабейшим,
если он покоится просто на престиже выдающегося философа
или ученого. В расчет принимается внутренняя значимость
аргумента, а не репутация человека, выдвигавшего в прошлом этот
аргумент.
Хотя для разрешения проблем, возникающих при
обсуждении природы и назначения метафизики, ничего не дает ссылка
на авторитет Аквината или любого другого мыслителя, мне все
же кажется, что общая позиция Аквината и его концепция
философии имеют непреходящее значение. В наши дни многие
философы черпают вдохновение в его трудах; правда, влияние его
сильнее во Франции, Бельгии, Германии, Италии и даже в
Соединенных Штатах Америки, чем в Англии. Несомненно, его
главные положения нуждаются в дальнейшем развитии — этой
темы я намереваюсь коснуться в последней главе, — и тем не
менее вполне уместно обратиться к ним в связи с
современными проблемами философии. Ибо он выступает как представитель
особого типа философствования и широкого понимания сферы
философии, которое берет начало в естественном стремлении
человеческого ума, желающего понять данные опыта, понять
человека и окружающий его мир с максимально возможной
полнотой. Желание понять, разумеется, не является прерогативой
одной только философии, но, если ему следовать до конца, оно
неизбежно ведет к философии и даже к метафизике. Может ли
увенчаться успехом попытка дать единое объяснение
познаваемой нами реальности, и тем более попытка понять
существование конечных вещей и достичь ясности в отношении всеобщего,
которое обусловливает возможность всех частных случаев, —
это вопрос, на который нельзя ответить наперед и a priori. Но
желание предпринять такую попытку достаточно естественно.
Человеческому уму, видимо, присуще неискоренимое
стремление сводить многообразие в единство, искать объяснений и
гипотез, которые охватывали бы все более широкий круг фактов
и событий. Это стремление, безусловно, работает в науке, оно
20
явственно видно и в метафизике. Это, конечно, справедливо, что
если понятным рассуждением считается рассуждение на языке
науки, то тогда окажется, что смысловая нагрузка терминов
метафизического языка столь велика, что постижение их
значения требует предельного напряжения, но столь же справедливо,
что импульс к объединению многообразия событий и явлений
присущ и науке, и метафизической философии. Ни ученого, ни
метафизика не удовлетворяет картина абсолютно хаотичного
множества разнородных и несвязанных событий; она
неприемлема для нас и в обыденной жизни. Возможно, и в науке, и в
метафизике порой затушевываются важные различия из-за
стремления к поспешному объединению, однако
представляется, что импульс к объединению неотделим от процесса
понимания. Согласно Аквинату, задача метафизика, или одна из его
задач, — понять бытие конечных вещей; а что возникает
необходимость еще что-то понять в этой связи — это обусловлено
существованием у конечных вещей признаков, которые,
будучи рассмотрены как таковые, требуют соответствующего
объяснения. Если мы допустим, что существуют такие признаки, то
процесс продвижения к пониманию будет включать соотнесение
конечных вещей с метаконечной последней реальностью, как
бы мы ее ни трактовали. Совершенно невероятно, что
человеческий ум когда-нибудь окончательно откажется от поисков
«последнего объяснения» и перестанет ставить вопросы о
«последней реальности».
Это невероятно, в частности, и потому, что побудительным
мотивом к постановке метафизических проблем служат
очевидные факты изменения и непостоянства, неустойчивости и
зависимости, с которыми мы сталкиваемся в своем восприятии себя
и других вещей. Спиноза выразил мнение многих, когда он
отметил, что ум ищет постоянство и устойчивость, ищет
бесконечную реальность, трансцендентную непрестанной
переменчивости и нестабильности, которые, очевидно, свойственны всем
конечным вещам. И метафизика, если она не сводится к
простому повторению традиционных формул и не перерождается в
бесплодное словопрение, реализует этот импульс на
соответствующем уровне интеллектуальной жизни и рефлексии. Этот
импульс проявляется в области академической философии то более,
то менее отчетливо; если же он изгоняется из сферы
академической философии, то обнаруживается вне ее. Кроме того, он
21
стремится вновь возвратиться и в эту сферу, и, как не раз уже
случалось в истории, его изгнание оказывается временным.
Хотя, несомненно, многие думали, что Кант окончательно
похоронил спекулятивную метафизику, однако это не помешало
подъему немецкого идеализма. А дискредитация Гегеля не
предотвратила развития иных типов метафизической философии.
Достаточно указать, к примеру, на Ясперса в Германии и Уайт-
хеда в Америке.
При том что метафизика постоянно стремится вернуть себе
свои позиции, существовали и существуют другие
представления о ее природе. Некоторые философы высказывались в том
смысле, будто с помощью чисто дедуктивного и
квазиматематического метода можно не только дедуцировать общую
систему реальности, но и прийти к открытию новых фактов. Этот
взгляд, который у нас обычно ассоциируется — отчасти, может
быть, и оправданно — с метафизиками-«рационалистами» XVII
и XVIII веков, ныне отвергнут. Мне как раз и хотелось бы
показать в этой главе, что Аквинат не придерживался такого
воззрения. Он не считал, что существуют врожденные идеи или
принципы, исходя из которых, мы можем дедуцировать
метафизическую систему по образцу математического построения.
Возникает, однако, вопрос: если отвергнуть метод Спинозы и
замыслы Лейбница, то можно ли найти другую альтернативу
допущению, что метафизические теории — это не что иное, как
эмпирические гипотезы, которые по сути своей подлежат
проверке просто потому, что они гипотезы? Очевидно, такая
концепция метафизики возможна. Если можно иметь достоверное
знание только об истинности высказываний, которые в
известном смысле являются «тавтологиями», но которые некоторым
образом основываются на опыте и которые действительно
говорят нечто о вещах, а не только о словах, то, видимо, это
единственное понимание метафизики, которое остается для тех, кто
допускает метафизику. Чтобы иметь право утверждать, что
достоверное знание, по крайней мере в принципе, достижимо в
метафизике, следовало бы показать, что ум способен
усматривать необходимую истинность таких «тавтологий». Иными
словами, следовало бы показать, что «эмпиризм» и «рационализм»
не исчерпывают всех возможностей и что мы не обязаны
выбирать между ними. Я полагаю, что философия Аквината дает нам
пример другой возможности, которая заслуживает исследова-
22
ния. Я не имею в виду, что его философию можно просто
принять так, как она есть, без всякого улучшения и
совершенствования и без дальнейшего исследования фундаментальных
положений Аквината. Мне хотелось бы показать, что эта философия
есть организм, способный к росту и развитию, причем такому,
чтобы примирить на более высоком уровне противоположные
утверждения, сформулированные в последующей истории
философской мысли.
Может показаться, что понятие «достоверность» применительно
к метафизике должно быть вообще отвергнуто ввиду
расхождений между философскими системами, а также ввиду того, что
ни одна система не получила всеобщего и постоянного признания.
Но, во-первых, понятие достоверности незачем связывать с
представлением о статичной, окаменелой системе. А во-вторых, между
метафизиками, возможно, существует большее согласие, чем
может показаться на первый взгляд. Например, существует
достаточно значительное единство мнений и западных, и
восточных метафизиков в вопросе о существовании бесконечного бытия,
трансцендентного конечным вещам. Острые разногласия
возникают иногда в тех случаях, когда философ пытается переступить
границы, положенные человеческому уму, и проникнуть в
сферы, закрытые от нашего познания. Думаю, читатель увидит, что
суждение Аквината о пределах компетентности метафизика
является здравым и умеренным.
В следующих разделах этой главы я предполагаю обсудить
несколько важных пунктов философии Аквината, что послужило бы
и введением в мир его мысли и в то же время показало бы
читателю, что философия Аквината заслуживает уважительного и
серьезного рассмотрения. В других разделах этой книги я ограничусь
преимущественно изложением и разъяснением того, что говорит
сам Аквинат, без учета возможной критики его положений,
разбор которой потребовал бы значительно большего объема.
* * *
Я хотел бы прежде всего указать на ошибочность
представления о том, будто фундаментальная роль чувственного
восприятия в человеческом познании была открыта в классическом
английском эмпиризме. Еще в XIII веке Аквинат утверждал это
и утверждал весьма настоятельно. Правда, и он не был здесь
первым; подобного рода доктрину мы найдем уже у Аристоте-
23
ля. Но среди метафизиков XIII века именно Аквинат усиленно
подчеркивал ее значимость. Некоторые писатели, например св.
Бонавентура (ум. 1274), придерживались учения, которое
может быть названо доктриной виртуально врожденных идей, —
учения, сходного до некоторой степени с теориями,
выдвинутыми позднее Декартом и Лейбницем; Аквинат же настаивает
на опытном основании человеческого знания. Он всегда был
убежден и часто это повторял, что ум не начинает с какого-то
запаса врожденных идей или врожденного знания; вслед за
Аристотелем он утверждал, что ум первоначально подобен
восковой дощечке, на которой ничего не написано. «Это явствует
из того факта, что вначале мы понимаем лишь потенциально,
хотя впоследствии мы понимаем действительно» (S.Т., 1а, 79, 2).
Иными словами, ум первоначально есть способность к
познанию вещей; но мы не могли бы достичь никакого актуального
естественного знания о мире, если бы вещи не были даны нам
в опыте. А первая форма опытного переживания — это
чувственное восприятие, т. е. контакт с материальными вещами при
посредстве чувств. Именно через чувства ум первоначально
вступает в контакт с существующими вещами; они
обеспечивают его материалом для образования идей. Не следует,
например, предполагать, что у нас сначала есть идея человека, а
уж потом мы обнаруживаем, что существуют люди; напротив,
только исходя из чувственного восприятия отдельных людей,
мы можем образовать абстрактную идею человека. Все наше
знание, будь то знание существующих вещей, абстрактных
идей или значений каких-либо понятий, предполагает
чувственное восприятие. Действительно, Аквинат без колебания
объявляет «собственным» или соразмерным объектом
человеческого ума в этой жизни природу материальной вещи.
«Первое, что познается нами в том состоянии, в котором мы
находимся в теперешней жизни, — это природа материальной
вещи, которая является объектом интеллекта, о чем
неоднократно говорилось выше» (S.Т., 1а, 88, 3).
По мнению Аквината, хотя он и не формулирует свою мысль
в таких терминах, нельзя знать значения слова, обозначающего
материальную вещь, пока это значение не будет разъяснено нам
либо путем непосредственного указания на вещь, либо
посредством определения или описания. Например, если я никогда не
видел небоскреба ни в действительности, ни на фотографии или
24
на картине, я все же могу узнать смысл этого слова, если мне
предложат определение или описание его с помощью слов
«здание», «этаж», «высокий» и т. д. Очевидно, однако, что я не могу
понять описания, если я не знаю смысла встречающихся в нем
слов. Но рано или поздно мне попадутся слова, значение
которых должно быть уяснено посредством предъявления
соответствующей вещи, т. е. если моему вниманию будут предложены
примеры того, что стоит за этими словами. Конечно, я могу узнать
смысл слова «небоскреб», не зная того, что небоскребы
существуют, т. е. что существует нечто, к чему приложимо определение
или описание небоскреба. Но я не могу узнать смысл слова, не
указывая вообще ни на какие реально существующие вещи,
постигаемые опытным путем.
Более того, в каком-то смысле Аквинат даже больше, чем
классический английский эмпиризм, подчеркивал роль
чувственного восприятия в человеческом познании. Хотя он не отвергал
интроспекцию или рефлексию в качестве источников знания, тем
не менее он не считал чувственное восприятие и рефлексию
источниками знания одного порядка. Он не полагал, что
интроспекция или рефлексия является первоначальным источником
в том же самом смысле, что и чувственное восприятие. С его
точки зрения, я начинаю сознавать свое собственное
существование только через конкретные акты восприятия материальных
вещей, иных, чем я сам, поскольку этому сопутствует осознание
этих актов как моих. Я не обладаю непосредственной
интуицией себя самого как такового; я прихожу к знанию себя только
через акты, направленные на вещи, отличные от меня самого.
Я не только воспринимаю, например, человека, но этому
сопутствует мое сознание, что это я воспринимаю его, что акт
восприятия — мой акт. И это сознание включает сознание
существования меня как некоего «я». «Душа познаваема по своим
действиям. Ибо человек ощущает, что он имеет душу, и живет,
и существует, благодаря тому, что он ощущает, что он
чувствует, и понимает, и выполняет иные подобного рода жизненные
операции. ...Всякий ощущает, что он понимает, не иначе, как
посредством того обстоятельства, что он понимает нечто, ибо
понимание чего-либо предшествует пониманию самого факта
понимания. Таким образом, душа приходит к осознанию своего
существования через то обстоятельство, что она понимает или
ощущает» (De veritate, 10, 8).
25
Чтобы предотвратить неправильное понимание этот о
отрывка, следовало бы добавить, что Аквинат проводит различие
между сознанием существования самого себя (своего «я») и
знанием природы своего «я». Знать, что у меня есть душа или что
во мне существует нечто, посредством чего я ощущаю, желаю
и понимаю, — это одно; знать же природу души — совсем
другое. Для последнего знания требуется преднамеренная, или
«вторая», рефлексия; но рефлексия, посредством которой кто-
то сознает свое «я» в самом общем смысле, не есть
преднамеренная рефлексия, и она является общей для всех людей. Ее
не следует смешивать с философской рефлексией; она
является автоматической в том смысле, что я не могу ощущать, не
осознавая при этом, что я ощущаю. Дело в том, что сознание,
что я ощущаю, возникает в момент ощущения мною чего-либо.
Я действительно могу сознательно и намеренно
рефлектировать по поводу своих внутренних актов; но предварительным
условием этого является ненамеренное или автоматическое
осознание мною своих направленных вовне актов (видения,
слушания, желания и т. д.) именно как моих. А это, в свою
очередь, предполагает фундаментальную роль чувственного
опыта или чувственного восприятия. Аквинат полагал, что
человек состоит не из двух сосуществующих субстанций, чьи
операции независимы друг от друга, но представляет собой
нечто единое, поскольку в нем душа объединена с телом. В силу
тесной связи души и тела приобретение умом идей и знания
естественным образом зависит от чувств.
* * *
Как явствует из сказанного, Аквинат не считал, что философ
может дедуцировать содержание философской системы из неких
врожденных идей или принципов (начал). Ведь он не признавал
существования каких-либо врожденных идей или принципов. Он,
однако, допускал существование самоочевидных суждений, в
которых в некотором смысле заключена определенная информация
о реальности. Иными словами, он полагал, что существуют
положения, которые являются необходимыми и тем не менее дают
информацию о реальности; он называл их princlpiu ver se nota
(самоочевидными принципами). Можно сказать, что они
являются аналитическими, если определить аналитические суждения как
такие, относительно которых, если их термины понятны, тотчас
26
Собор Парижской Богоматери
усматривается, что они необходимо истинны. Но если
аналитические суждения понимать как те, которые не говорят ни о чем,
кроме употребления символов, Аквинат не согласился бы, что его
principia per se nota являются аналитическими в этом смысле;
по крайней мере, он не согласился бы, что они все являются
аналитическими в данном смысле. Ибо он был убежден, что
существуют необходимые суждения, которые действительно говорят
нечто о реальности1. Ниже я вернусь к обсуждению этого
вопроса. Теперь же я хочу показать, во-первых, как Аквинат
примиряет допущение таких суждений, или принципов, с упомянутой
выше доктриной, что все наше естественное знание зависит от
чувственного восприятия, а во-вторых, почему их допущение,
согласно Аквинату, не означает, что они являются источником,
из которого информация о реальности может быть дедуцирована
квазиматематическим способом.
Аквинат различает самоочевидные принципы двоякого рода.
К первому относятся те суждения, в которых предикат
«подпадает под определение субъекта», т.е. где предикат выражает
(полностью или частично) смысловое содержание субъекта либо
содержится в понятии субъекта. Такого рода положениями
являются определения и чисто формальные положения вида
«А есть А». Ко второму роду относятся те суждения, в которых
предикат является необходимым атрибутом или свойством
субъекта. Что предикат принадлежит субъекту с
необходимостью, показывает анализ. Вне всякого сомнения, Аквинат
рассматривал принцип действующей причинности, взятый в его
метафизической форме (например, «все возникающее возникает
благодаря действию уже существующей внешней вещи»), как
самоочевидный принцип именно второго рода. Он прекрасно
сознавал, что «отношение к причине не входит в определение того,
что вызвано причиной» (S.Т., 1а, 44, 1, ad 1); и следует
учитывать, что он сознавал это. Но он утверждал, что анализ приро-
1 В наше время суждения, которые претендуют на то, чтобы быть и
необходимыми, и информативными, часто называются «синтетическими
суждениями a priori»; синтетическими — поскольку они дают информацию о
реальности, а не являются чисто формальными, a priori— поскольку
являются необходимыми и универсальными. Этот термин, как мне
представляется, очень подходит по смыслу. Но ввиду исторической ассоциации с
философией Канта он способен ввести в заблуждение. Поэтому я избегаю
употреблять здесь этот термин.
28
ды вещи, которая возникает, показывает ее связь с
производящим агентом, которого мы называем «причиной». Он не
допускал, что принцип действующей причинности может быть
некогда отвергнут, и конечно, полагал, что этот принцип
содержит информацию о природе возникающего.
Если бы доктрина, утверждающая зависимость всего нашего
естественного знания в конечном счете от чувственного
восприятия, строилась исходя из допущения, что процесс
приобретения знания о реальности сводится к пассивному процессу
приобретения чувственных впечатлений, а деятельность ума — к
пассивному получению впечатлений в готовом виде, то
признание существования таких принципов было бы невозможно. Но
Аквинат и не думал, что ум является чисто пассивным. Как мы
увидим в первой из двух глав о человеке, он был убежден, что
познание даже видимых вещей предполагает активность ума,
осуществление актов синтеза. Да и вообще никто в
действительности и не предполагает, что ум не более чем пассивный
получатель чувственных впечатлений. Если бы это было так, была
бы невозможна не только метафизика, но также и научная
деятельность Ньютона или Эйнштейна. Ясно, что в науке процесс
выдвижения гипотез и выведения из них подтверждаемых и
проверяемых заключений неосуществим без активной
деятельности ума — деятельности синтеза и интерпретации. Учение о
фундаментальной роли чувственного восприятия в приобретении
знания никоим образом не приводит к выводу, что в процессе
познания мы должны исходить только из непосредственно
схватываемых и никак не упорядоченных опытных данных.
Аквинат вполне мог подписаться под известным утверждением
Канта, что «хотя всякое наше познание и начинается с опыта, из
этого вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта»
(Критика чистого разума. Введение, I; М., 1994. С. 32), если
рассматривать это утверждение само по себе, вне контекста кан-
товского учения об априорных предпосылках опытного знания.
Согласно Аквинату, сначала мы из опыта узнаем, например,
о реально возникающих вещах, а также о деятелях (агентах),
являющихся причиной их возникновения. Таким образом,
понятия возникающей вещи и деятеля-причины основываются на
опыте. Но, коль скоро у нас есть понятия и нам ясны термины,
их обозначающие, анализ открывает необходимую связь или
соотношение, которые утверждаются в соответствующем сужде-
29
нии, в данном случае в суждении, выражающем принцип
действующей причинности. Иными словами, с психологической
точки зрения наше знание берет начало в чувственном восприятии
и предполагает его, даже если оно выходит за пределы
непосредственно доступного чувственному восприятию. Но с
логической точки зрения связь между субъектом и предикатом в
самоочевидном суждении утверждается как необходимая не
потому, что термины обозначают объекты, данные в чувственном
опыте, даже когда это именно так, а потому, что анализ
терминов открывает необходимую связь между ними. Следует,
однако, добавить, что если встает вопрос о том, к какому типу
самоочевидных начал принадлежит принцип действующей
причинности, то, согласно Аквинату, его необходимость не может
быть обнаружена в результате чисто вербального анализа. Как
мы видели, он считает, что отношение к причине не «входит в
определение» сущего, которое возникает. Анализ здесь
означает рефлексию над объективным значением терминов,
позволяющую на конкретном примере или нескольких конкретных
примерах усмотреть связь между ними. Аквинат полагает, что без
опыта мы не имели бы идеи возникающей вещи; но он убежден
также, что, когда мы на опыте имеем дело с конкре гными
примерами вещей, возникающих благодаря деятельности чего-то
внешнего, результатом является усмотрение того, что
возникающая вещь с необходимостью возникает благодаря
деятельности внешней и уже существующей вещи. Таким образом, коль
скоро мы приобрели необходимый опыт, мы можем знать
a priori, что если что-нибудь когда-нибудь возникает, то это
происходит в результате действия уже существующей, внешней по
отношению к нему вещи. Разумеется, это учение не эмпиризм;
и оно, на самом деле, несовместимо с развитием эмпиризма.
Однако Аквинат не считает, что оно противоречит «эмпирист-
ским» элементам его собственной философии. «Коль скоро ум
знает, что такое целое и что такое часть, он сразу же знает, что
всякое целое больше, чем любая из его частей; подобным
образом обстоит дело и в случае других самоочевидных начал. Но
знать, что такое целое и что такое часть, можно только через
идеи, извлеченные из (чувственных) образов... Итак, знание
начал (принципов) мы получаем из чувственного восприятия» (S.T.,
1а, Пае, 51, 1). Тот факт, что Аквинат часто обращается к
этому примеру, а именно что целое больше, чем любая из его час-
30
тей, дает повод для выдвижения самого серьезного
возражения против учения о необходимых и информативных
суждениях: если они являются необходимыми, то они суть
лингвистические, а не фактические информативные утверждения. Я,
однако, оставляю пока этот вопрос в стороне, чтобы не
прерывать ход рассуждения.
Хотя Аквинат допускает самоочевидные принципы, которые
в каком-то смысле дают информацию о реальности, он не
думает, что мы можем дедуцировать из этих абстрактных
положений всю систему философии. Верно, конечно, что, по его
мнению, мы не можем осознать принцип действующей
причинности, если мы не познакомились на опыте с причинными
отношениями. Значит, учитывая психологическое происхождение
нашего знания об этих принципах, мы можем сказать, что
осознание принципа действующей причинности предполагает и
показывает, что существуют причины. Но нельзя, начиная с этого
принципа, чисто логически вывести заключение, что в мире
существуют причины. Если какая-то вещь возникает, то это с
необходимостью происходит благодаря деятельности уже
существующей внешней вещи; но нет логической необходимости
в том, что должна существовать возникшая или возникающая
вещь. Этот принцип может быть выражен гипотетически. Если
уже есть какая-то возникающая вещь, то она возникает
благодаря деятельности уже существующей внешней вещи. То же
самое справедливо и для других самоочевидных начал.
Аквинат признавал одно-единственное самоочевидное суждение,
утверждающее необходимое существование, а именно суждение
«Бог существует»; но, хотя это утверждение самоочевидно
«само по себе», оно не является самоочевидным ни для какого
человека. Поэтому мы можем сказать, что, согласно Фоме,
практически во всех случаях не существует самоочевидных для
нас суждений, утверждающих необходимое существование.
Следовательно, мы не можем дедуцировать систему
существующей реальности ни из какого набора определений или
аксиом и ни из какого набора метафизических принципов. В силу
этого мы не можем, исходя из того, что Аквинат называет
первыми началами спекулятивного порядка, наподобие закона
противоречия, вывести все прочие самоочевидные начала. Когда
он говорит о «сведении» некоторого самоочевидного положения
к закону противоречия, он имеет в виду демонстрацию того,
31
что отрицание данного положения влечет противоречие. В этом
смысле говорится, что нечто «сводимо» к закону противоречия
или «основывается» на нем. Но заключение, что данное
утверждение может быть выведено из принципа противоречия,
отсюда не следует с необходимостью.
Поэтому мы не можем построить чисто дедуктивную систему
самоочевидных положений. А даже если бы могли, то все же мы
не могли бы прийти к заключению, что некие сущности
существуют. Это — важный пункт. Ибо это показывает, что Аквинат
понимает деятельность философа совсем не так, будто тот
обладает своим собственным, особым методом для решения задач всех
частных наук. Философ не может вывести из принципа
действующей причинности отдельные причины отдельных событий.
Например, он не может сказать нам, каковы причины и условия
роста раковых опухолей. Также из общего утверждения, что
всякая материальная вещь обладает умопостигаемой структурой или
«формой» (эта теория будет рассмотрена в следующей главе), он
не может заключить, составлены ли физически материальные
вещи из четырех элементов, как в античной традиции, или из
атомов и электронов. Мы не можем дедуцировать из чисто
метафизических предпосылок гипотезы и выводы наук.
Это станет яснее, если мы, несколько забегая вперед,
обратим внимание на предложенную Аквинатом общую концепцию
деятельности метафизика. Эта деятельность касается истолкования
и понимания данных опыта; и постольку коренная устремленность
его ума является общей для него и для ученого. Но метафизик
преимущественно рассматривает все вещи в самом широком и
наиболее общем плане, т. е. как сущие или вещи. Согласно Акви-
нату, внимание метафизика обращено прежде всего на вещи,
поскольку они существуют; именно их существование
приковывает его взгляд, и его-то он пытается понять. И как раз по этой
причине Аквинат говорит, как мы впоследствии увидим, что вся
метафизика направлена к познанию Бога. В то же время
метафизик прежде всего рассматривает умопостигаемую структуру
вещей, взятых именно как таковые, а также фундаментальные
отношения между ними. Он касается, можно сказать,
категориальной структуры эмпирической реальности. Аквинат
рассматривает, например, категории субстанции и акциденции,
различие во всякой конечной вещи между актом и потенцией — эти
темы будут обсуждаться в следующей главе.
32
Во всех этих случаях предметом рассмотрения у Аквината
является структура вещей, взятых на гораздо более высоком уровне
общности, чем это бывает в частных науках. Говоря, например,
что всякая конечная вещь составлена из потенции и акта, т. е. что
она есть нечто определенное, но не все, чем она может быть, он
прекрасно сознавал, что вовсе не говорит о том, какова
конкретная потенция той или иной определенной вещи и какую именно
форму примет ее развитие; и говоря, будто живой организм —
это развивающееся единство, в котором мы можем различить
«материю», то, что является общим у него со всеми материальными
вещами, и «форму», как бы печать, которая напечатляется в нем,
как в вещи определенного типа, он сознавал, что ничего не
говорит нам о конкретном физическом строении нарцисса в отличие
от маргаритки. Для познания физического строения того или иного
организма, той или иной неорганической вещи нам следует
обратиться к соответствующим наукам. Подобным образом,
метафизический взгляд на природу отношений ничего не говорит
нам — да и не может сказать — о том, какие конкретные
отношения могут быть обнаружены в мире. Метафизика не то же
самое, что эмпирическая наука; и последнюю нельзя вывести из
первой. Как мы увидим в следующей главе, в сочинениях
Аквината не указано ясное различие между философией и частными
науками. Впрочем, и нельзя ожидать, чтобы в то время было дано
четкое различение. Но, думаю, он сказал достаточно, чтобы
показать, что его система остро нуждается в выражении такого
различия. Его позиция, видимо, предполагает и очищение науки от
метафизики в том смысле, что использование метафизических
утверждений в качестве конкретных научных гипотез
недопустимо, и предохранение метафизики от того, чтобы она была
истолкована как своего рода примитивная физика. Метафизика не
препятствует развитию наук; она оставляет место для их
развития и на самом деле даже требует их развития, чтобы наделить
конкретным содержанием голый каркас общих категорий. С
другой стороны, развитие наук не делает метафизику чем-то
поверхностным. Если увеличивается наше знание конкретной структуры
вещей того или иного рода, то высказывание, что всякая
материальная вещь имеет структуру, не становится от этого менее
истинным. Знание этого, последнего, типа действительно
«бесполезно», если подразумевать под этим, что оно не может быть
использовано точно так же, как используются научные гипотезы.
33
Но оно не бесполезно для тех, кто движим желанием познавать
именно общие категории и структурные принципы сущего,
поскольку они соразмерны человеческому уму.
Аквинат действительно полагал, что метафизика доставляет
общие эвристические принципы, которые использует ученый. Но
он не имел в виду, что ученому необходимо сознательно брать
эвристические принципы у метафизика. Скорее ученый, как и
другие, имплицитно схватывает, например, различие между
вещью и ее отношениями и мыслит в этих терминах. Задача
метафизика — не диктовать ученому, а выделить и
проанализировать на абстрактном уровне наиболее общие принципы и
категории, которые, по мнению Аквината, ученый, как и любой
человек, с необходимостью использует на практике;
использует не потому, что человеческий ум определен или обусловлен
чисто субъективными формами или категориями, но потому, что
всякий ум имплицитно схватывает их в опыте. Метафизический
анализ, при условии, что его метафизический характер
сохраняется в чистоте, может достичь известной завершенности, но
при этом может продолжаться рост научного знания. И рост
научного знания вовсе не предполагает необходимости революции
в метафизике. Ибо их функции различны.
В заключение можно сказать: если причина недоверия к
метафизике коренится в представлении, что ей непременно
свойственна претензия, будто философ может дедуцировать
систему мира из априорных принципов, то было бы ошибочно
относить это и к философии Аквината. Верно, что в дальнейшем
некоторые представители аристотелизма действительно
закрывали глаза на научные достижения Ренессанса и по всякому
поводу смешивали метафизику с физикой. Верно также, что уже
в постсредневековый период иные метафизики высказывали
мысль, будто философию можно превратить в строго
дедуктивную систему, вроде чистой математики. Думаю, что Аквинат
отказался бы присоединиться к тем и другим. Правда, остается,
очевидно, открытым вопрос, утверждал ли он что-нибудь
вообще, делая утверждения о вещах как о вещах. Неясно также,
не было ли в его рассуждениях о Боге попытки каким-то
образом выйти за пределы опыта, что было бы совершенно
несовместимо с его взглядом на фундаментальную роль чувственного
восприятия в человеческом познании. Оба эти вопроса мне
хотелось бы теперь кратко обсудить.
34
* * *
Если вещи берутся либо как вещи, либо как сущее, и таким
образом анализируются, это может вызвать то возражение, что,
хотя бы эта процедура и была законной в том смысле, что a priori
никакого запрета нельзя выдвинуть против нее, однако ее
результатом являются тривиальности, не дающие реально никакой
информации. Мы уже упоминали о различии, которое Аквинат
проводит между актом и потенцией, между актуальностью вещи, ее
бытием актуально тем-то или тем-то, и ее способностью к
изменению, к приобретению новых акцидентальных характеристик
или даже, в случае материальных вещей, к превращению в вещь
совсем иного вида. Сразу же ясно, что, по крайней мере, в
одном смысле установленное различие не дает вообще никакой
новой информации. Например, обычный человек — я имею в виду
человека, не сведущего в философии, — подкладывая дрова или
уголь в свой очаг зимою, явно показывает тем самым, что он
прекрасно знает о способности дерева или угля претерпевать
изменение, об их потенциальности. Каждый человек не
сомневается также в том, что события имеют причины. Если кто-то
найден убитым, любой человек считает само собой разумеющимся,
что покойный либо застрелился, либо был убит другим
человеком, намеренно или случайно. Даже если причину смерти того
лица невозможно установить, никто не усомнится в том, что
причина была. А потому, если метафизик объявляет, что конечные
вещи метафизически составлены из акта и потенции и что
всякое событие имеет причину или причины, это производит такое
впечатление, как будто он торжественно провозглашает всем
известные истины.
По-моему, это очень важный пункт, но не думаю, что он
смутил бы Аквината. Верно, что люди вообще-то отлично знают, что
та или иная вещь способна к изменению, и знают на практике,
что события имеют причины. И это знание находит себе
выражение в конкретных высказываниях обыденной речи. Но так
называемый человек с улицы не указывает сознательно и не фиксирует
внимание на структурных характеристиках вещей, с которыми он
сталкивается в сфере своего опыта, ибо эти характеристики
настолько знакомы ему на практике, что представляются само
собой разумеющимися. А поскольку он не указывает на них
сознательно, не рефлектирует над ними, он не схватывает их связь с
конечным бытием как таковым. В равной мере, хотя каждый че-
35
ловек имеет практическое знание о причинной связи и хотя,
несомненно, он часто исследует конкретные причины конкретных
событий, тем не менее он не пытается анализировать природу
причинного отношения. Метафизик же обращает внимание на то,
что столь известно, чтобы считаться само собой разумеющимся,
и пытается анализировать абстрактным образом
характеристики и отношения, о которых все имеют имплицитное и нерефлек-
тированное знание. И когда он анализирует, скажем, причинное
отношение, он не сообщает людям новой информации о том, что
существует причинная связь; это они уже знают. Тем более он
не говорит им, что существует конкретная причина этого
конкретного события. Он анализирует, что значит сказать, что X —
причина Y, a Y — следствие X1. Но, кстати, разве значительная
часть философии не состоит в проясняющем анализе вещей, в
некотором смысле уже известных? Людям, к примеру, не было
нужды дожидаться Сократа, чтобы уметь различать между
хорошим и дурным и чтобы правильно назвать один поступок
справедливым, а другой —• несправедливым. Простой афинянин,
разумеется, имел некоторое представление о моральных ценностях.
Но отсюда не следует, что он мог дать определение
справедливости, мужества и т. д. Все, что он мог сделать, — а те, кому
Сократ задавал вопросы, чаще всего именно это и делали — это
указать конкретный пример. Знание обычного афинянина о
моральных ценностях было имплицитным и практическим, а не явно
выраженным, теоретическим или абстрактным знанием. И без
сомнения, в его идеях часто были неясность и путаница. Сократ
как раз и пытался сделать ясным то, что было смутным и
путанным, и эксплицировать то, что было имплицитным. Но мы не
скажем на этом основании, что деятельность Сократа была
бесполезной. Когда метафизик анализирует причинное отношение или
обращает внимание на сущностную структуру конечного бытия,
нет основания говорить, что его деятельность бесполезна, если
мы не хотим сказать, что философия вообще бесполезна.
1 Я имею в виду, что многое из того, что теперь называется
«лингвистическим анализом», принципиально не отличается от того, что Аквинат счел
бы метафизическим анализом. Понятия, используемые для описания двух
методов анализа, могут отличаться; но то, что реально делают в процессе
применения этих методов, по-видимому, чаще всего совпадает.
Результаты произведенного Аквинатом анализа и современного анализа могут часто
отличаться друг от друга, но это уже другой вопрос.
36
Наверное, обсуждение этой темы должно быть продолжено, но
уже в связи с обсуждением principia per se nota или
самоочевидных принципов у Аквината. Но все же лучше сразу разъяснить,
что Аквинат не ставит в явной форме вопрос о том, насколько
«информативны» эти самоочевидные принципы. Я думаю, глупо
искать у какого-либо философа решения всех возможных
проблем. Тем не менее того, что говорит Аквинат, достаточно,
чтобы утверждать, что он заслуживает гораздо меньшей критики,
чем может показаться с первого взгляда.
Рассмотрим утверждение, что конечное целое больше, чем
любая из его частей1. Часто указывают, что это утверждение
является истинным, и необходимо истинным, по самому
значению его терминов. Коль скоро известен смысл терминов, это
высказывание не может не быть истинным. Невозможно
представить себе пример, показывающий, что это высказывание
все-таки ложно или что из него есть исключения. Ибо в ответ
на любой контрпример мы могли бы возразить, что «это не то,
что означает целое», или «это не то, что означает часть». Но,
хотя это утверждение истинно, оно ничего не говорит о том,
существуют ли в мире целые или части. Можно сказать, что
оно разъясняет употребление слов или символов, но не дает
фактической информации. Можно, однако, сказать, что это
высказывание касается не одних только слов, поскольку оно
устанавливает объективную связь между тем, к чему
применяется слово «целое», и тем, к чему применяется слово «часть».
Если бы в русском языке слово «целое» использовалось вместо
слова «часть», а слово «часть» вместо слова «целое», то
правильно было бы сказать, что часть больше любого из своих
целых, а утверждение о том, что целое больше любой своей
части, было бы ложным. Тем не менее при этом утверждалось
бы то же самое объективное соотношение, что и при
существующем в русском языке словоупотреблении. А это показывает,
что здесь дело не только в словах. Хотя, конечно, можно
возразить, что, как бы ни выражалось это утверждение, оно тем
не менее не несет никакой «информации», поскольку каждый
заранее знает, что то, что называется «целым», больше того,
что называется «частью».
1 Я говорю «конечное» целое, так как я не касаюсь специальных проблем,
связанных с бесконечными множествами в математике.
37
Мне, однако, представляется, что Аквинат согласился бы с
этим. Он отмечал, что есть самоочевидные суждения, в
которых смысл терминов понять очень легко, и можно утверждать,
что эти суждения непосредственно очевидны практически
каждому человеку; в других же — смысл терминов не так легко
понять, а потому истина высказывания очевидна отнюдь не всем.
Однако то, что некое положение является самоочевидным,
зависит не от количества людей, понимающих термины и
усматривающих необходимую истинность этого положения, а от
необходимой связи между субъектом и предикатом, независимо
от того, видна ли она всем или нет. Предложение «целое
больше любой своей части» приводится в качестве примера
положений первого типа. Это положение, смысл терминов которого столь
легко понять, что, естественно, истина этого утверждения
известна практически всем. Хотя люди обычно не говорят сами
себе, что «целое больше любой своей части», они уже знают это,
если они в здравом уме. Думаю, Аквинат без колебаний
согласился бы, что, если бы кто-нибудь торжественно объявил
обычному человеку, что целое больше любой своей части, он не
сообщил бы ему никакой фактической информации о мире, если
мы принимаем, что сообщить кому-либо информацию — значит
сказать ему что-то такое, чего он раньше не знал1. Ведь
Аквинат явно предполагает, что всякий нормальный человек
превосходно сознает, что целое больше любой своей части. В его
намерения не входит убедить в том, что это высказывание сообщает
новую информацию; он предлагает его в качестве
общепризнанного примера суждений, в истинности которых невозможно
усомниться. И то, что оно необходимо истинно по самому смыслу
терминов, также говорит Аквинат. Он, без сомнения, добавил
бы, что утверждается объективное соотношение; но он не был
так глуп, чтобы полагать, будто это соотношение неизвестно до
тех пор, пока кто-нибудь не сформулировал данное
абстрактное утверждение или не услышал его формулировку.
Принцип действующей причинности иного рода. Едва ли мы
можем определить «целое», не упоминая «часть», или определить
«часть», не упоминая «целое». Но, как заметил сам Аквинат, от-
1 Я не имел в виду, что утверждающие, будто предложения этого типа
не информативны, делают это на том основании, что они не обеспечивают
«новой» информации.
38
Св. Фома Аквинский. Портрет работы Фра Бартоломео
ношение к причине не входит в определение возникающей вещи.
Пока мы не установим принцип причинности в откровенно
тавтологической форме («всякое следствие имеет причину»), этот
принцип не является «тавтологическим» в том смысле, в каком
можно назвать «тавтологическим» высказывание «целое больше
любой своей части». Иногда, в самом деле, говорят, что принцип
причинности, выраженный в форме «всякое следствие имеет
причину», ничего не исключает, но и ничего не утверждает. Есть,
однако, люди, отрицающие этот принцип; точнее, отрицающие,
что он является универсально и необходимо истинным. Если же
его можно отрицать, то, по крайней мере, отрицающие не
мыслят его пустым. Но, коль скоро его можно отрицать таким
образом, что отрицание не является чисто вербальным, возникает
затруднение, связанное с тем, что он считается «самоочевидным».
Является ли этот принцип эмпирической гипотезой или он
пример того, что теперь называют «синтетическим суждением
a priori»? Безусловно, Аквинат понимал его в последнем
смысле. Но я не собираюсь обсуждать эту проблему, какой бы важной
она ни была. Мне хотелось бы только показать значимость этого
пункта в контексте современных дискуссий, а именно что все
действуют, предполагая, что всякое событие имеет причину и что
большинство людей будут с готовностью утверждать, будто они
знают, что всякое событие имеет причину, хотя бы они не могли
сказать об этом еще что-нибудь. Следовательно, формальное
провозглашение принципа действующей причинности не несет
информации в том смысле, в каком является информация, когда
человеку говорят, что у него под стулом кобра, о чем он еще не
знает. И все-таки этот принцип действительно утверждает нечто.
Он утверждает нечто о вещах, которые возникают, если такие
вещи существуют, и он исключает из класса вещей, с
необходимостью причинно обусловленных, ту вещь, которая не
возникает, если допустить, что такая вещь существует.
Поэтому понятно, что, согласно Аквинату, философ как
таковой не обладает привилегией иметь доступ к некоей сфере
опыта, от которой отстранены не-философы. Его усмотрение
умопостигаемой структуры мира, который предстоит нам в опыте, —
это результат рефлексии о данных опыта и проникновения в те
данные, которые являются опытными данными для всякого
человека, как философа, так и не-философа. Уильям Джеймс
заявлял, что схоластика, о которой он говорил как о «младшей
40
сестре здравого смысла, получившей школьное образование», не
что иное, как здравый смысл, которому преданы и педантично
следуют. Это было сказано не как комплимент; и вердикт
Джеймса не был всеми одобрен. Но, полагаю, есть известная истина в
этом замечании. Ведь Аквинат не думал, если отнести это
наблюдение к нему, что философ имеет какой-то приватный доступ к
сфере реальности, закрытой для обычных людей. Каждый
человек в каком-то смысле постигает фундаментальные
метафизические принципы, хотя он не формулирует их абстрактно, как это
делает философ. Часто философ выявляет то, что имплицитно
известно всем людям. Например, человек обычно правильно
употребляет общие термины и, можно сказать, знает — в особом
значении слова «знать», — что нет никаких самостоятельно, вне
вещей существующих универсалий. Ему никогда бы не пришло в
голову выглянуть за ограду или взять телескоп, чтобы узнать,
существует ли, помимо лошадей и отдельно от них,
универсалия, именуемая «лошадностью». Однако он, вероятно, оказался
бы в затруднении, если бы его попросили дать логический
анализ универсальных терминов. Так что, когда философ, подобно
Аквинату, говорит, что не существует никаких универсальных
сущностей, существующих независимо, отдельно от вещей, он
не сообщает новой информации. Но с другой стороны, его анализ
универсальных терминов не является бесполезным.
* * *
Возможно, все это и хорошо. Согласимся ли мы или нет с
принадлежащим Аквинату анализом причинности или акта и
потенции, ясно, во всяком случае, что здесь он не исходит из
презумпции, что он пользуется привилегией свободного доступа
к некоторой сфере реальности, закрытой для обычного
человека. Иными словами, ясно, что в своем метафизическом
анализе, по крайней мере некоторых вопросов, он не претендует
на роль исследователя, доставляющего нам новые сведения о
существовании вещей, совершенно неизвестных до тех пор
простым смертным. Но в этой книге уже отмечалось, что, по
Аквинату, вся метафизика направлена на познание Бога.
Действительно ли он и здесь не претендует на то, что способен
выйти за пределы области обычного опыта и доставить новые
сведения о существовании некоего сущего, находящегося вне сферы
естественного человеческого познания?
41
Нужно понять позицию Аквината как метафизика. Имея за
собой столетия теизма, мы, естественно, усвоили некоторое
понятие о Боге; и если мы сомневаемся в истине теизма, мы
неизбежно будем ставить вопросы такого рода, как «Есть ли Бог?»
или «Действительно ли Бог существует?», или, если мы более
искушенны, «Действительно ли дело обстоит так, что
существует некая вещь, и притом одна-единственная, которая является
бесконечной, всеведущей, всемогущей и пр.?». А коль скоро
вопрос поставлен таким образом, то естественно пойти дальше
и сказать, что прежде, чем пытаться ответить на него, следует
найти метод, посредством которого эти вопросы могут быть
разрешены. Хотя этот подход совершенно понятен и хотя вопрос мог
быть поставлен таким образом и в XIII веке, поскольку люди,
подобные Аквинату, также имели представление о Боге до того,
как задавались вопросом о том, существует ли какое-нибудь
рациональное свидетельство в подтверждение веры в Бога, — на
самом деле у Аквината подход был совсем иной. Ведь понятно,
что для него рефлексия об объективном смысле, скажем,
возникновения и уничтожения открывает отношение зависимости
возникающих и уничтожающихся вещей от какой-то вещи,
отличной от них, которая сама не является возникающей и
уничтожающейся и не может быть таковой. Он был убежден, что,
если человек обращает внимание (чего он может, конечно, не
делать) на структуру вещей как таковых, их экзистенциальная
зависимость от чего-то, находящегося за пределами области
вещей, становится очевидной. Назначение доказательств бытия
Бога — дать явное выражение процессу метафизического
анализа и рефлексии. Таким образом, объективное существование
совершенно независимого сущего, от которого зависит
существование вещей, принадлежащих к области нашего естественного
опыта, само навязчиво представляется уму, предпринимающему
анализ метафизической структуры этих вещей. Поэтому мы
можем сказать, что для Аквината предложение, содержащее
утверждение существования Бога, — это не столько ответ на
вопрос «Существует ли Бог?», сколько ответ на вопрос «Что
такое вещи, взятые просто как сущие?». По его мнению, ум
прежде всего узнает материальные вещи. Он может
рассматривать эти вещи с метафизической точки зрения. Делая это, ум,
по убеждению Аквината, будет приведен самим процессом
анализа к усмотрению их зависимости от какого-то «нечто» за их
42
пределами. И тогда возникает вопрос, какого рода это «нечто».
Утверждение существования Бога предложено Аквинатом не как
эмпирическая гипотеза для объяснения, допустим, религиозного
опыта; тем более оно не основывается на каком-то личном
невыразимом переживании. Его доказательства существования Бога
являются продолжением его рефлексии о вещах как таковых,
на которые уже было обращено внимание. Он, таким образом,
готов сказать, что «все, производящие познавательное действие,
имплицитно познают Бога во всем, что они познают» (De veritate,
22, 2, ad 1). Как раз это я и пытаюсь разобрать. Метафизика,
который утверждает существование Бога, Аквинат не
изображает как вступающего в область переживания реальности,
закрытой для не-философа. Не изображает он своего философа и
как изыскателя, который по завершении исследовательского
вояжа возвращается с поразительной новостью, что «вне мира
вещей» существует Бог. Философ исходит из того же, что и все
остальные, и предмет его рефлексии — обычные опытные
данные. Но он наделен способностью рефлексивного анализа,
которая, будучи подогреваема надлежащим интересом, делает его
философом. Он достигает уровня сознательной и отчетливой
рефлексии об истинах, сознательного понимания которых многие
люди, возможно, никогда не имели, хотя, как только эти
истины поняты, они проливают обильный свет на содержание
человеческого опыта.
Итак, говоря о философе, что он приходит к утверждению
существования Бога, Аквинат не имеет в виду, что философ
может выйти за пределы человеческого опыта или за границы
человеческого ума. По его суждению, человеческий ум как таковой
открыт ко всему диапазону реальности или бытия, в том
смысле, что ум — это способность схватывания умопостигаемого, а
всякое бытие как таковое — умопостигаемо. В то же время,
поскольку он именно человеческий ум, т. е. воплощенный ум, в
стяжании знания он зависит от чувственного восприятия. Этой
зависимостью не устраняется и не уничтожается его открытость к
реальности, более широкой, чем только материальная реальность;
но это означает, что в теперешней жизни человеческий ум
может знать духовную или сверхчувственную реальность, лишь
поскольку она явлена в материальном мире, т. е. лишь поскольку
активная рефлексия ума открывает соотнесенность конечных
объектов непосредственного опыта с тем, что запредельно наше-
43
му естественному непосредственному опыту. «Наше естественное
познание начинается с чувства. Поэтому оно простирается лишь
в тех пределах, куда может быть ведомо (рефлексией над)
чувственными вещами» (S.Т., 1а, 12, 12). Опять-таки «те вещи,
которые не находятся в области действия наших чувств, не могут
схватываться человеческим умом, разве только знание их
можно извлечь из чувственно воспринимаемого» (S.G.. 1, 3). Таким
образом, мы можем иметь естественное знание о Боге, лишь
поскольку конечные вещи указывают за свои границы и ясно
показывают существование того, от чего они зависят.
Следовательно, доказательства существования Бога говорят нечто главным
образом о вещах — тех вещах, которые относятся к сфере
опыта. Они говорят, что эти вещи зависят от чего-то,
трансцендентного им. Они не могут дать ни философу, ни вообще кому бы то
ни было интуиции Бога. Всякое более непосредственное
переживание Бога должно быть сверхъестественного характера и
производиться самим Богом в нашей душе; оно не может быть
получено путем философского анализа и рефлексии.
Чтобы сделать позицию Аквината более ясной, следует
добавить, что не только в первоначальном получении знания наш ум
зависит от чувственного восприятия. Аквинат утверждает, что мы
не можем пользоваться уже приобретенным знанием без помощи
образов или «фантазмов»; а образы — результат чувственного
восприятия. «Чтобы ум действительно понимал, что нечто
существует, требуется акт воображения и других (чувственных)
способностей не только при получении нового знания, но и при
использовании уже приобретенного знания. ...Всякий может узнать
на собственном опыте: пытаясь понять что-либо, он формирует
для себя какие-либо образы посредством примеров, в которых он
может как бы увидеть то, что он стремится понять. А значит, когда
и мы хотим сделать что-то понятным другому, мы предлагаем ему
примеры, отталкиваясь от которых, он может сформировать для
себя образы с целью понимания» (S.T., 1а, 84, 7). Аквинат не
верит в безобразное мышление, и он усматривает в необходимости
прибегать к образам свидетельство фактической зависимости
мыслительной деятельности от чувственных способностей или сил.
Действительно ли мышление всегда сопровождается образами или
нет — вопрос спорный; во всяком случае, чтобы сделать точку
зрения Аквината более приемлемой, следовало бы понимать
термин «образ» как охватывающий значения терминов «слово» и «сим-
44
вол». Иначе было бы очень трудно показать, что символическая
логика и чистая математика требуют использования образов. Но,
как считает Аквинат, истина общего утверждения, что
мыслительная деятельность фактически требует использования
воображения, подтверждается опытом. Он отмечает, например, что
«если использование воображения затруднено каким-то
органическим повреждением, то способность человека использовать уже
приобретенное знание тем самым ослабляется» (там же; ср. De
potentia, 3, 9 ad 22).
Аквинат делает эти замечания, когда он прилагает свое
учение о необходимости того, что он называет «обращением к фан-
тазмам», к нашему мышлению о духовных вещах. «Бестелесные
вещи, которые не имеют образов, познаваемы нами через их
отношение к чувственно воспринимаемым телам, которые
имеют образы. ...Поэтому, когда мы постигаем нечто о бестелесных
вещах, мы прибегаем к образам тел, хотя сами бестелесные вещи
не имеют образов» (S.T., 1а, 84, 7, ad 3). Например, когда мы
мыслим божественную безмерность, мы не можем не воображать
Бога как простирающегося повсюду, как если бы Он был
протяженным в пространстве. Мы не можем избежать использования
каких-то образов или символов, даже если мы знаем, что Бог не
является материальной вещью, способной простираться или быть
протяженной. И философ также не может освободиться от
зависимости своего ума от чувственного восприятия.
Всякое притязание на раскрытие божественной сущности,
всякое выявление внутренней природы Бога силами спекулятивного
разума было бы, по Аквинату, псевдознанием, и не более того.
Он был убежден, что существует естественное стремление
познать высшее бытие, стремление, которое проявляется на
сознательном уровне, например, в метафизической рефлексии. Но
он добавил бы, что желать этого разумно лишь в такой мере,
насколько доступны средства для этого. Философская же
рефлексия не есть средство для удовлетворения этого желания не
просто потому, что так утверждают теологи, и не потому, что
они налагают запрет своим уведомлением: «преступившие
будут преследоваться законом», но поскольку наша естественная
зависимость от чувственного опыта и воображения делает для
нас невозможным постижение божественной сущности. Если мы,
вместе с Гегелем, попытаемся это сделать, результатом будет
последовательное исключение божественной трансцендентности
45
и создание карикатуры на непостижимую тайну Бога. Как мы
увидим в главе о Боге, Аквинат полагал, что философская
рефлексия дает нам, скорее, знание о том, чем Бог не является,
чем о том, что Он есть. Границы человеческого ума, общие для
всех людей, непреодолимы и для метафизика. Поэтому не
следует ожидать сенсационных открытий в метафизике,
сопоставимых с теми поразительными открытиями, которые сделаны в
частных науках.
* * *
Хотя Аквинат и не заявлял чрезмерных претензий от имени
метафизики, он, тем не менее, считал, что метафизика может
достичь достоверного знания внутри некоторой ограниченной
области. Может показаться, что он просто исходил из
предпосылки, что ум способен к достижению знания. Действительно,
высказывалась мысль, будто средневековые философы вообще были
наивными догматиками, поскольку их философские доктрины
излагались без предварительного обсуждения
теоретико-познавательных предпосылок их построения. Но, хотя и есть
определенные основания для такого утверждения и хотя на самом деле
изложение философии Аквината не предваряется описанием
теории познания, вряд ли можно сомневаться, что он отнесся бы с
большой симпатией к попытке «оправдать» знание, если бы это
не означало оправдания его как бы извне. Да и как можно
оправдать знание извне? Между тем, Аквинат в действительности
предпринял определенные шаги к обоснованию нашего
спонтанного убеждения в том, что познание истины достижимо,
анализируя основания этого убеждения и обратив внимание на акты
познания, обеспечивающие достижение знания, в истинности
которого невозможно усомниться. Мы можем назвать это, если
хотим, оправданием (обоснованием) изнутри. И хотя Аквинат немного
мог сказать об этом предмете, он, во всяком случае, сказал
достаточно, чтобы прояснить свою общую позицию и указать общее
направление, которого он придерживался против скептицизма.
Согласно Аквинату, именно в акте познания истины ум
сознает свою способность достичь истины. Истина приписывается
главным образом высказываниям; или, как он говорит, истина
преимущественно находится в суждении. Существуют
несомненные высказывания, истина которых в действительности не
может быть подвергнута сомнению, хотя, конечно, на словесном
46
уровне ее можно отрицать. «Целое больше, чем любая из его
частей» — пример такого высказывания. Признавая истину таких
несомненных высказываний, ум признает и тот факт, что он
знает их истину и что в том и состоит его собственная природа,
чтобы сообразовываться с реальностью и тем самым знать. В
довольно темном отрывке Аквинат устанавливает, что истина есть
«результат деятельности ума, когда суждение ума относится к
вещи, как она есть. Истина познается умом, поскольку ум
рефлектирует о своем акте, не только в том смысле, что он знает о
своем акте, но что он осознает отношение согласованности,
имеющее место между этим актом и вещью (proportionem eius ad
rem). Истина действительно не может быть познана без знания
природы этого акта, чего, в свою очередь, нельзя знать, если
не познана природа действующего начала, т. е. самого ума; а ему
по природе присуще быть согласованным с реальностью (с
вещами, rebus). Поэтому ум познает истину, поскольку он
рефлектирует о себе» (De veritate, I, 9). Итак, ум познает свою
собственную способность достигать истины, рефлектируя о самом
себе в акте познания истины. С точки зрения Аквината, мы, по
крайней мере иногда, знаем нечто с достоверностью, и мы
знаем о том, что мы знаем это, и, познавая это, мы знаем, что
объект познаваем. Можно возразить, что этот взгляд является
некритическим и наивным, на том основании, что все это
сводится к воспроизведению спонтанного убеждения, свойственного
всякому человеку, — убеждения в том, что он может достичь
истины и часто достигает ее. Но следует заметить, что Аквинат
не считает это убеждение «наивным». Именно в акте познания
признается способность человека познавать; это именно и
признается обычно всяким человеком. Философ может
рефлектировать об этом признании и выявлять то, что обычно является
скрытым от человека. И эта процедура может быть названа
«вторичной рефлексией». Приведенный выше отрывок — пример
вторичной рефлексии. Однако «рефлексия», о которой говорится в
этом отрывке, сама не является философской рефлексией; она
есть то, что мы называем «первичной рефлексией», сознанием
знания истины, которое, по крайней мере иногда,
сопровождает обычную мыслительную деятельность человека. Иными
словами, философ может рефлектировать о присущем всякому
человеку сознании достижения истины, но он не имеет в своем
распоряжении каких-то экстраординарных, особых средств для
47
доказательства того, что мы можем знать истину или что
«знание» есть знание. Если бы какой-нибудь философ указал на то,
что в этом случае нам никогда не удастся доказать, что мы
способны достичь истины, а если не можем доказать этого, то мы
никогда не можем и знать истину, Аквинат отве!ил бы, что
такого рода доказательство, какого ищет этот философ, по
существу, бесполезно и действительно невозможно, но из этого
не следует, что мы не способны ни достичь истины, ни знать,
что мы можем достичь ее. Залогом нашей способности приходить
к истине является именно наше осознание или признание того
факта, что мы на самом деле достигаем истины, и мы не
нуждаемся в каких-либо иных гарантиях.
В De veritate (10, 12, ad 7) мы читаем, что, хотя кто-нибудь
и может помыслить утверждение, что он не существует,
никто, однако, не может дать на него согласия; т. е. никто не может
утверждать, действительно внутренне соглашаясь с этим, что
он не существует. «Ибо тем самым, что он постигает нечто, он
постигает, что он существует». Высказывая утверждение «я
существую», я знаю, что я высказываю истинное утверждение,
и не могу скептически относиться к его истине, хотя, конечно,
на словах могу утверждать, что «я не существую». Следует при
этом отметить, что Аквинат не говорит, будто человек
постигает, что в нем есть духовное начало или что он утверждает свое
существование как мыслящего субъекта, т. е. существование
того, что обозначается словом «ум». Сознание своего
собственного существования, о котором говорит Аквинат, -— это
сознание, которым обладают и те, кто не имеет понятия ни о какой
философии; оно предшествует всякой метафизической теории
«я». Обычный человек, о котором говорит Аквинат,
разумеется, утверждал бы, что он существует, будь он спрошен об этом,
но он не имел бы под этим в виду, что он существует просто
как ум. В самом деле, Аквинат не употреблял и не мог
употреблять утверждение «я существую» таким же образом, как
Декарт — свое «Cogito: ergo sum». Например, идея начать с
утверждения своего собственного существования как мыслящей
субстанции или ума, а затем попытаться доказать
существование внешнего мира, включая свое собственное тело, была
совершенно чужда его взглядам. Ибо, как мы видели, он был
убежден, что человеческое познание и сознание себя предполагают
чувственное восприятие. Исходным пунктом нашего первоначаль-
48
ного сознания себя является
сознание вовне направленных актов
как своих собственных. Значит,
пытаться, исходя из
обособленного «я» или ума, доказать
существование вещей, отличных от
этого «я» или ума, было бы, как
представляется Аквинату,
совершенно искусственным и
парадоксальным поступком. Он
использует высказывание «я существую»
как пример высказывания, о
котором я, высказывая его, знаю,
что оно истинно. И зная, что оно
истинно, я знаю, что могу
достичь истины. По Аквинату,
всякий в действительности знает это. Св. Фома Аквинский.
Но то обстоятельство, что для Портрет работы Ботичелли
Аквината утверждение «я
существую» служит примером высказывания, о котором я,
высказывая его, знаю, что оно истинно, не должно приводить нас к
представлению, что это утверждение занимает или могло бы
занимать в его философии то же самое место, как
утверждение «Cogito: ergo sum» в философии Декарта.
Аквинат утверждал, что обычно всякий человек осознает, что
обладает истиной; однако было бы ошибкой толковать это
утверждение как эквивалентное тому, что тот, кто думает, будто он
знает истину, действительно знает ее. В случае некоторых
высказываний это не было бы ошибочно, но это не означает, что мы
не можем высказывать ложные утверждения, полагая при этом,
что они истинны. Когда я говорю «Этот объект вдали — дерево»,
мое утверждение может оказаться ложным, даже если теперь я
убежден, что оно истинно. Но, хотя заблуждение возможно,
Аквинат не усматривает в этой возможности сколько-нибудь
законного основания для неограниченного скептицизма. В случаях, когда
существует возможность ошибки или когда есть основание
подозревать ошибку, Аквинат говорит о «сведении к первым началам».
Не следует интерпретировать «первые начала» исключительно в
смысле первых принципов логики и математики. Верно, если есть
основание подозревать ошибку в наших математических выклад-
49
ках, нам следует вернуться назад и снова проследить все наши
шаги. Но по отношению к обсуждаемому теперь предмету Акви-
нат в «первые начала» включает акт чувственного восприятия.
«Поскольку первое начало нашего познания есть чувство,
необходимо некоторым образом свести к чувству все, о чем мы
судим» (De veritate, 12, 3, ad 2). Если мое утверждение, что
удаленный объект в поле — это дерево, кажется сомнительным, то,
чтобы разрешить сомнение или исправить ошибку, необходимо
посмотреть с более близкого расстояния. Могут сказать, что Ак-
винат обходит вопрос о том, действительно ли чувственное
восприятие не может быть иллюзорным. Однако я не думаю, что он
был бы смущен проблемой такого рода. Термин «иллюзия» имеет
для нас смысл только в противоположность тому, что не является
иллюзией и о чем знают, что оно не иллюзия, а слово «ложный»
осмысленно для нас только в противоположность слову
«истинный». А мы знаем смысл слова «истинный», поскольку мы
высказываем истинные утверждения и знаем, что высказываем
именно таковые. И опять-таки, слово «знание» осмысленно для нас,
поскольку мы действительно знаем. И вопрос о том, является ли
«реально» знанием имеющееся у нас знание, — пустой вопрос.
Конечно, если, спрашивая, является ли «реально» знанием то,
что мы считаем знанием, мы имеем в виду вопрос, является ли
«математическим знанием» знание о том, что под столом кошка,
то ответ будет отрицательным. Если мы настаиваем, что в
собственном смысле «знанием» могут считаться только заключения
математических доказательств, то отсюда вытекает, что знание
нематематических истин не есть знание. Но тем самым мы
только предлагаем употреблять слова «знать» и «знание» особым
образом, который отличается от обычного употребления этих слов
и едва ли может быть для него полезен. Иначе говоря, я могу
предположить, что Аквинат сочувственно бы отнесся к усилиям тех
современных философов, которые проверяют с помощью
лингвистического анализа, что именно спрашивается, когда
спрашивают, не есть ли принимаемое нами за знание что-то иное, а. не
знание; не может ли всякое чувственное восприятие быть
иллюзорным; не может ли всякое переживание быть сном, и т. д.
Поэтому для Аквината именно в акте познания какой-либо
вещи мы осознаем, что знаем и что объект познаваем. И он был
убежден, что дальнейшая рефлексия показывает, что объект
является познаваемым или умопостигаемым, потому что он имеет
50
бытие и до тех пор, пока он имеет бытие. Истина, что бытие
умопостигаемо, открывается в конкретном акте познания чего-либо,
хотя ее выражение в форме абстрактного утверждения — дело
рефлексии. Вот почему, по мнению Аквината, ум уверенно
продвигается в исследовании реальности, будь то в науке или в
философии. И если его философское объяснение мира образует
в известном смысле систему, то для него причина этого не в том,
что реальность насильно подгоняется к заранее известному и
предзаданному шаблону, но в том, что мир сам по себе
умопостигаемая система и что эта умопостигаемая система
открывается рефлектирующему уму. Скорее эта система навязывается
уму самой реальностью, а не привносится в нее им самим.
* * *
Только что было упомянуто слово «система» применительно к
философии Аквината. Надеюсь, из содержания следующих
разделов станет ясно, что обсуждаемые в рамках этой философии
различные космологические, метафизические, психологические
и этические вопросы в совокупности образуют единое
объяснение мира, что позволяет говорить о системе, если, правда, это
слово не понимать в таком же смысле, какой оно имело бы
применительно к философии Спинозы. В то же время очевидно, что
Аквинат никогда не разрабатывал философской системы в одном
трактате или в ряде трактатов, посвященных исключительно
философии. Он никогда не был ни просто философом, ни просто
теологом; он был, так сказать, теологом-философом, и это
отражено в его сочинениях. Но он имел совершенно определенные
представления об отношении философии к теологии; чтобы
понять его мышление, необходимо очертить эти представления.
Слово «теология» часто используется, чтобы охватить все
рассуждения о Боге, и это совершенно естественное употребление,
употребление в собственном смысле. И если понимать теологию
в этом широком смысле слова, может показаться, что
проблема отношения теологии и философии решается просто:
достаточно сказать, что первая включает главным образом
рассуждение о Боге, тогда как последняя не касается Бога. Но взгляд
Аквината на философию состоит совсем не в этом. Верно, что в
своем анализе философ не ссылается на Бога и не имеет в том
нужды. Тому примером — логический анализ общих терминов.
Но Аквинат, как мы видели, был убежден, что рефлексия о ма-
51
териальных вещах может открыть философу присущее им
отношение экзистенциальной зависимости от трансцендентного
бытия, обладающего атрибутами, которые позволяют в
собственном смысле говорить об этом бытии как о Боге. Поэтому если мы
используем слово «теология», чтобы охватить все рассуждение
о Боге, то отсюда следует, что существует часть философии,
которая может быть названа «теологией». Но очевидно, что
различие между философией и теологией, согласно Аквинату, —
это не различие между целым и одной из его частей. То, что он
имеет в виду, — это различие между философией, включая и
то, что называется «естественной теологией» и собственно
христианской теологией, т. е. теологией, основанной на
христианском откровении. Мы не сможем понять принадлежащего
Аквинату различения между теологией и философией, не затрагивая
понятия христианского откровения. Ибо он рассматривает эту
проблему так, как она стоит перед человеком, который, с
одной стороны, верит в христианское откровение, а с другой,
убежден в способности метафизика достичь некоторого знания
о Боге силой рефлектирующего разума.
Поэтому, согласно Аквинату, различие между философией
и теологией не заключается преимущественно в
содержательном различии между истинами. Во многих случаях содержание
теологических и философских высказываний действительно
различно. Философ, к примеру, может рассуждать о правилах
анализа общих понятий, т. е. о предмете, не являющемся частью
христианского откровения. Теолог, в свою очередь, касается
откровенных истин, таких, как учение о Троице, которые без
откровения непознаваемы. Но может быть и пересечение по
содержанию. Например, и теолог, и философ утверждают, что мир в
своем существовании зависит от Бога. Но если первый
придерживается этого, потому что так сказано в Писании, то для
последнего это утверждение — вывод, к которому он приходит в
процессе рациональной рефлексии, а не положение, принятое
в силу авторитета и поддерживаемое верой. Следовательно,
различие между философией и теологией — это различие между
разными путями достижения и усмотрения истины, а не
различие суждений по их содержанию. «Нет препятствий, чтобы
те же самые вещи, которые философские науки трактуют в
соответствии с тем, как они познаваемы в свете естественного
разума, другая наука трактовала как познаваемые в свете бо-
52
жественного откровения. Следовательно, теология, которая
относится к священной доктрине, отличается по своему роду от
теологии, которая является частью философии» (S.Т., 1а, 1, 1,
ad 2). Подобным образом и теолог, и моральный философ
рассматривают высшее благо или конечную цель человека. Но «философ
рассматривает как высшее благо то, что находится в согласии с
человеческой способностью», тогда как «теолог считает высшим
благом нечто превосходящее природную способность, а именно
вечную жизнь» (De veritate, 14, 3).
В пояснение можно сказать следующее. Теолог, который
опирается в своих размышлениях на откровение, естественно,
начинает с Бога и только затем переходит к рассмотрению
Божьего творения. Но философ движется в обратном направлении. Он
исходит из непосредственных данных опыта, и только
посредством рефлексии об этих данных он приобретает некоторое
знание о том, что, по существу, выходит за пределы естественного
опыта. Таким образом, та часть метафизики, которая
посвящена рассмотрению Бога, оказывается с философской точки
зрения последней по порядку. Философ не может, отправляясь от
Бога, вывести конечные вещи; он отправляется от конечных
вещей, данных в опыте, и приходит к познанию духовной
реальности лишь путем рефлексии об этих вещах. Но это различие
сохраняется до тех пор, пока теолог действует как теолог, а
философ — как философ. Аквинат не мог не понимать, что и
теолог как человек не свободен от общей всем людям зависимости
от чувственного восприятия и что всякий человек мог получить
свое первое представление о Боге от своих родителей или из
учения Церкви1.
Иногда говорят, что такой взгляд на вещи свойствен скорее
«томистам», чем самому Аквинату. Это неверно. У Аквината не
только есть явное терминологическое разграничение между
философией и тем, что теперь назвали бы «догматической
теологией», но он к тому же последовательно придерживался этого
разграничения и принимал его всерьез. Например, как
христианский теолог Аквинат был убежден, что мир не сотворен от веч-
1 Может быть, имеет смысл добавить, что, по Аквинату, нельзя
одновременно и верить в истину какого-то положения, принимая его в силу
авторитета, и обосновывать его истину с помощью философских аргументов. То и
другое можно делать в различные моменты времени, но отнюдь не одновременно.
53
ности; однако он решительно настаивал, что философам
никогда не удастся доказать невозможность его творения от
вечности. Он не заявлял догматически, что разум только своими
силами не способен доказать невозможность творения от вечности;
он говорил только, что, по его мнению, никакой философ
никогда не сможет продемонстрировать невозможность этого с
помощью философских или математических аргументов. Никакой
философ никогда не сможет доказать невозможность ряда
событий, в котором отсутствует первый член. А если философия
не может доказать, что такой ряд невозможен, она не может
ответить на вопрос, был ли мир сотворен от вечности или нет.
Итак, вот вопрос, ответ на который никогда не был дан
философией, хотя он имеется у теологии. Ясно поэтому, что Аквинат
серьезно относился к своему собственному различению
теологии и философии. Кстати, можно обратить внимание на вопрос,
к которому я вернусь в главе о Боге. Если Аквинат был
убежден, что никакому философу никогда не удастся показать
невозможность бесконечного ряда, уходящего в прошлое, то ясно,
что, исключая в своих доказательствах существования Бога
регресс в бесконечность, он не имеет в виду ряд такого типа,
как ошибочно полагали некоторые критики.
Следует учесть, что Аквинат не строил философскую систему
в согласии с собственными канонами философского метода. В конце
концов, он был профессором теологии. Некоторые историки
приводили довод, что коль скоро он в обеих «Суммах» начинает с Бога,
то и излагать его философию следует таким же образом. На мой
взгляд, это ошибочный подход, по крайней мере, если
принимать это в узком и буквальном смысле. Мне представляется
неоправданным воспроизводить при изложении его философских
взглядов порядок, которому он следовал в своих сочинениях,
предназначенных для других целей, где философские задачи
отнюдь не были главными. Он прямо говорит, что прежде, чем
переходить к тому разделу метафизики, который касается Бога,
необходимо сначала узнать много других вещей. «Для познания
того, что разум может открыть о Боге, необходимо прежде
узнать много (других) вещей, так как почти всякое размышление в
философии ведет к познанию Бога. Поэтому метафизика,
которая рассматривает божественное, является последней в порядке
изучения частью философии» (5.G., I, 4). Так что я без
колебания ставлю главу «Мир и метафизика» до главы о Боге.
54
Далее, имея в виду это различение между философией и
теологией, многие томисты высказывали мнение, что Аквинат
утверждал автономию философии и что потому ошибочно
говорить о его философии как о «христианской философии», если
вкладывать в это какой-то иной смысл, помимо того, что
просто она совместима с христианством. То обстоятельство, что
какая-то философия совместима с христианством, не в большей
мере делает ее особой христианской философией, чем факт
совместимости математической системы с христианством делал
бы ее христианской математической системой. Среди
предпосылок Аквината могут быть и истинные, и ложные
философские положения, так же как могут быть и истинные, и
ложные положения в биологии; но особая христианская философия
возможна не более, чем особая христианская биология.
Что здесь затрагиваются важные моменты, это бесспорно.
Совершенно справедливо утверждается, что христианство есть, по
существу, возвещенный через откровение путь спасения, а не
академическая философская система. Следует согласиться и с
тем, что не существует никакой философии, данной через
откровение. Одна философия может быть более совместима с
христианством, чем другая. Чисто материалистическая философия,
очевидно, несовместима с христианством в том отношении, в
каком, скажем, картезианство совместимо. Но в ходе времени
любая философская система может как сохранять свое влияние,
так и утрачивать его в зависимости от присущих ей достоинств
и недостатков. Осознание этого обстоятельства удерживает нас
от того, чтобы рассматривать томизм или любую другую
философию как часть христианской веры. С другой стороны, если на
этом, вполне законном самом по себе размежевании сфер
философии и теологии настаивают в тех случаях, когда речь идет
о самом Аквинате, это может произвести впечатление
искусственности и даже известной недобросовестности. Очевидно ведь,
что Аквинат не был раздвоенной личностью. Занимался ли он
теологическими или философскими вопросами — он всегда
оставался христианином; и конечно, в каком-то смысле мы не
погрешим против истины, если скажем, что он был верующим
христианином, попытавшимся дать единое связное объяснение
мира, человеческой жизни и человеческого опыта, используя
методы и теологии (если трактовать понятие теологии так, как
он сам его определял), и философии. Он был христианином, и
55
его объяснение реальности было объяснением христианина.
Однако это не означает, что я хотел бы взять назад сказанное мною
прежде о той серьезности, с которой Аквинат относился к
своему различению между философией и теологией. Мне кажется,
я мог бы кратко показать, как оба эти подхода соединяются в
его понимании роли философии в человеческой жизни.
Следует прежде всего отметить, что задача философии
рассматривается Аквинатом в свете сверхъестественного
призвания человека; т. е. он разъясняет ее, опираясь на христианскую
доктрину призвания человека к сверхъестественному
назначению — видеть Бога на небесах. Познание актуализирует
потенциальность человеческого ума, который, согласно Аквинату.
есть высшая способность человека; познание также обогащает
внутренний мир человека. Познание материального мира в
науках и натурфилософии само по себе есть некое обогащение
человеческой личности, частичное осуществление человеческого
стремления к истине. Через рефлексию о конечных вещах
эмпирического мира человеческий ум способен также познать
нечто о бесконечном бытии, от которого зависят все конечные
вещи; вершиной философии является метафизическое знание
о Боге, которое представляет собой высшее и самое
совершенное достижение человеческого ума, взятого исключительно в его
естественном состоянии. По причине нашей зависимости от
чувственного восприятия в области духовной реальности наш ум как
бы не у себя дома, и возможные для философа мгновенные уз-
рения, как бы проблески бесконечного бытия, даются с трудом,
и трудно их сохранить. «Даже относительно тех истин о Боге,
которые достижимы для человеческого разума, необходимо было
наставление с помощью божественного откровения. Ведь в
противном случае их смогли бы найти лишь немногие и после
долгих поисков, да и тогда к ним примешивалось бы множество
заблуждений. А все спасение человека, которое он может
найти в Боге, зависит от познания этих истин» (£.Т., 1а, 1,1).
Откровение подтверждает ту истину о Боге, к которой метафизик
может прийти и без него, хотя лишь с трудом; откровение, кроме
того, проливает свет на способ достижения человеком его
конечной цели, что невозможно постичь с помощью одной только
философии. В этом смысле философия, хотя и не
утверждается на специфически христианских основаниях, решает те же
задачи, что и христианская теология. Но вера не есть видение,
56
и познание человеком Бога через откровение остается все же
познанием по аналогии. Благодать помогает воле опередить
интеллект в том смысле, что благодать делает людей способными
непосредственно любить Бога, но в этой жизни они не могут знать
Его непосредственно. И лишь в созерцании Бога на небесах
человеческие поиски наконец достигают цели. «Естественное желание
знать не может быть удовлетворено, пока мы не знаем первую
причину, причем не путем косвенного усмотрения, а в ее
сущности. Но первая причина — это Бог. Поэтому конечная цель
разумной твари — созерцание божественной сущности»
(Compendium theologiae, 104). Это созерцание есть актуализация высших
потенций человека. Сверхъестественное по характеру, оно все же
включает полнейшее совершенство человеческой личности, как
со стороны познавательной, так и эмоциональной.
Такой взгляд на функцию философии теперь не в чести, по
крайней мере, в Англии. Следовало бы, однако, напомнить, что
философы нередко настаивают на связи философии с
человеческой жизнью и назначением человека. Достаточно указать на
Платона и Плотина в древнем мире, на Спинозу — в XVII веке
и на таких мыслителей, как Карл Ясперс, — в наше время. Даже
те, кто предпочитает другое употребление термина
«философия», возможно, признали бы, что существуют различные
концепции природы и назначения философии. В случае Аквината
важно, по крайней мере, упомянуть эту сторону его мышления.
Ибо в средние века люди обращались к самому христианству за
вестью о спасении; после возникновения христианства те, кто
приняли его, не могли больше смотреть на философию теми же
глазами, как не бывший христианином неоплатоник. Для
средневековой философии вполне естественна была тенденция к
превращению во что-то чисто академическое, в предмет
занятий профессоров и студентов университетов; абстрактный
анализ утрачивал связь с постоянным стремлением человека к
пониманию самого себя и своего назначения. Но какова бы ни была
ее тенденция развития, в глазах великих теологов-философов
XIII века философия не исчерпывалась этим. Как христианский
теолог, проповедник и святой, Аквинат, безусловно, был
заинтересован главным образом в достижении человеком его
сверхприродного назначения. И конечно, он не думал, что для этого
необходимо быть философом. В то же время он полагал, что
философия может способствовать, хотя бы отчасти, проясне-
57
нию смысла человеческого стремления к истине, очевидности и
его непрестанных поисков счастья. Он не принадлежал к тем
теологам, которые видели свою задачу в том, чтобы представить
все природное только как область отчуждения от Бога, а
деятельность философской рефлексии, анализа и синтеза —
просто как проявление гордыни человеческого разума. Благодать,
с его точки зрения, совершенствует природу, а не разрушает
ее; и откровение, проливая дополнительный свет на смысл
человеческого существования и значимость естественных склонностей
человеческого ума и воли, не в большей степени упраздняет
философскую рефлексию, чем основание Церкви устраняет
нужду человека в государстве или аннулирует позитивные
функции последнего. В постижении реальности вера и разум идут рука
об руку. Аквинат был мыслителем — и теологом и философом
одновременно, — в трудах которого эта идеальная гармония и
равновесие, характерные для мировоззрения зрелого
средневековья, воплотились наиболее полно. С течением времени
элементы, объединенные в его интеллектуальном синтезе,
отделившись, стали отчуждаться друг от друга; этот процесс начался
еще в средневековый период. В истории возобладали
центробежные силы и тенденции. Возникнет ли в будущем такая
культура, в которой начала, синтезированные Аквинатом, опять
будут приведены в гармонию, видимо, сказать невозможно. Но,
если это и произойдет, ясно все же, что та культура не будет
просто повторением средневековой; да такое повторение и не
нужно. Если когда-нибудь получит общее признание философия,
подобная философии Аквината, она не будет
воспроизведением написанного им. Но, если человечество не окажется целиком
во власти практического материализма, всегда найдется тот, кто
вновь обратится к вопросу о назначении человека, который едва
ли будет разрешен частными науками, и не потому, что мы
можем a priori установить какие-то пределы научному прогрессу,
а потому, что никакая из частных наук не задается этими
вопросами. А в согласии с убеждением любого христианина, если
он остается верен традиции Аквината, нельзя, рассматривая эти
вопросы, ни отвергать вообще всю философию во имя
откровения, ни отвергать идею откровения ради автономии философии.
В этом отношении философия Аквината задает образец
соблюдения меры и равновесия в сфере христианской мысли. И
согласны мы с Аквинатом или нет, он заслуживает нашего уважения.
58
Было бы, однако, большой ошибкой полагать, что для Акви-
ната функцией философии было назидание, в смысле
произнесения благочестивых поучений и пылких увещаний. Он не
считал, что задача философа та же, что задача проповедника или
популярного моралиста. Напротив, он был убежден, что
философия — это форма интеллектуальной деятельности, требующая
терпеливого и настойчивого духа, ясного ума и неослабевающего
усилия мысли. Как человек своей эпохи, он, естественно,
считал само собой разумеющимися такие вещи, которые едва ли
будут безапелляционно признаны в другом интеллектуальном
климате. Но он первым допустил бы необходимость проверки и
анализа самих оснований своей философии. Если он видел в
философии стремление человеческого ума к истине, стремление,
которое, по его мнению, может быть полностью удовлетворено
только в созерцании Бога, т. е. бесконечного бытия, то это вовсе
не значит, что он хотел подменить философский анализ и
рефлексию мистическими подъемами или аффектированными
состояниями. Надеюсь, это вполне уяснится в дальнейшем изложении.
* * *
В своей философии Аквинат в значительной мере опирается на
Аристотеля. Упоминая «Философа», — а делает он это часто, —
он имеет в виду Аристотеля. Так обычно называли в XIII-XIV веках
этого греческого мыслителя, что свидетельствует об особом
уважении ученых людей средневековья к его трудам. Поскольку
легко дать неверную оценку роли Аристотеля в развитии
средневековой мысли, да и на самом деле она часто искажалась, желательно
сказать кое-что об этом предмете для читателей, не
осведомленных в средневековой философии.
Аристотель всегда был известен средневековым мыслителям,
но в течение продолжительного времени главным образом как
логик. Ведь логические сочинения Аристотеля, по крайней мере
некоторые из них, были доступны образованным людям раннего
средневековья в латинских переводах, однако Corpus Aristotelicum
в целом они не имели в своем распоряжении1. Но во второй по-
1 Говоря о Corpus Aristotelicum, я оставляю в стороне трудный вопрос о
том, какие добавления и изменения были внесены другими мыслителями
(например, Теофрастом), каков был их вклад в Corpus в том виде, как он
исторически сложился. Эта проблема важна при изучении Аристотеля, но
не имеет отношения к теме нашего обсуждения.
59
ловине XII века и начале XIII века многие физические и
метафизические сочинения Аристотеля были переведены на латынь;
некоторые переводы были сделаны с арабского языка, другие —
с греческого. Таким образом, к началу ученой карьеры Аквината
в Париже аристотелевская философия была уже известна
средневековому христианскому миру1. Но отношение к ней было
неоднозначным. С одной стороны, она была встречена с
энтузиазмом многими преподавателями и студентами. С другой стороны,
когда в 1215 г. были утверждены папским легатом статуты
Парижского университета, натурфилософские и метафизические
сочинения Аристотеля попали под запрет, хотя изучение «Этики»
не было воспрещено, а изучение логических работ, напротив,
было предписано. В 1229 г. в Тулузе профессора, чтобы привлечь
студентов, объявили о том, что там можно слушать лекции по
сочинениям Аристотеля, запрещенным в Париже в 1210 г., а
затем еще раз в 1215 г. В 1245 г. была сделана попытка
распространить запрет также и на Тулузу, хотя к этому времени стало уже
невозможно контролировать распространение аристотелизма.
Вообще-то запреты были мало эффективны, и со временем
официальная политика радикально переменилась. Но тем, для кого
средневековая философия — синоним бесплодного окаменелого
аристотелизма, должно показаться странным, что запреты на
изучение аристотелевской философии практиковались очень
часто. Оказывается, усиленный интерес к Аристотелю в
университетах соединялся с изначальной враждебностью к нему со стороны
церковных властей и многочисленных теологов; и то, и другое
нуждается в объяснении, так как современным студентам
непонятно, как может Аристотель возбуждать энтузиазм, опасение
или враждебность. Кроме того, понимание этих фактов
необходимо для правильной оценки позиции Аквината.
На протяжении раннего средневековья философия, за
исключением системы Иоанна Скота Эриугены (ум. ок. 877), была на
самом деле синонимом диалектики или логики. Это одна из причин,
почему философия обычно считалась «служанкой теологии». Ведь
на логику смотрели как на инструмент, и теологи, естественно,
видели в ней инструмент для развития теологии, опирающейся на
1 Я не хочу тем самым сказать, что Аквинат не приобрел никаких
познаний об Аристотеле, учась в Неаполе; а еще больше он узнал об аристоте-
лизме в пору своего обучения у Альберта Великого в Париже и Кёльне.
60
Аристотель
Писание и сочинения Отцов Церкви. Со временем сфера
философии расширилась, стали более высокими нормы философского
мышления и анализа, в особенности благодаря Абеляру (1079-1141).
Но в сравнении с позднейшими представлениями о ее целях и сфере
ее приложения философия все еще была ограничена довольно
узкими рамками. Когда же Corpus Aristotelicum стал известен
средневековому западному христианству, новый мир открылся умам
людей того времени. Обнаруженные в нем в изобилии наблюдения,
размышления и теории было новыми для людей средневековья. В
нем было обаяние новизны, чувствовался ум выдающегося
мыслителя: он предлагал объяснение реальности, далеко
превосходящее своим охватом и полнотой все, что было до того в
распоряжении средневековых философов. Так что, если попытаться встать
на место студента университета начала XIII века, нетрудно
понять интерес к Аристотелю, и тот живой отклик, который
вызывали его труды. Многим сегодня аристотелизм представляется
устаревшим и вышедшим из употребления; но для студентов, о
которых я говорю, это было как новое откровение, проливающее
неожиданный свет на мир. Кроме того, поскольку очевидно было,
61
что аристотелизм стоит, как говорится, на своих собственных
ногах и ничем не обязан христианству, представления людей того
времени о природе и целях философии неизбежно должны были
расшириться.
В то же время легко понять, почему многим теологам казалось,
что философия Аристотеля может оказать опасное и
соблазнительное воздействие. Прежде всего, она от имени разума
вступала в спор с христианской доктриной по ряду пунктов. Например,
Аристотель учил, что мир вечен и является таким с
необходимостью; он отвергал идею творения в том виде, как он находил ее в
платонизме. Бог — двигатель, а не творец. Для христиан все
конечные вещи экзистенциально зависят от Бога, в то время как
для Аристотеля мир в своем существовании не зависит от Бога.
Но еще важнее, чем столкновение философии Аристотеля с
христианской доктриной по отдельным пунктам, было общее
впечатление, что она представляет собой знание природы,
соперничающее со сверхъестественной религией. Она представлялась
замкнутой системой, в которой Бог есть не более чем
физическая гипотеза, предназначенная для объяснения «движения» или
изменения, и в которой человеческая личность не может иметь
сверхъестественного назначения. Как раз о Платоне, насколько
он был известен средневековью, бытовало мнение, что он
развивал идеи, которые, будучи открыты к христианству и созвучны
ему, ожидали христианского откровения, где они были
утверждены в подобающей полноте. Многие раннехристианские
писатели и Отцы Церкви толковали Платона именно так. В отношении
же Аристотеля многим на первый взгляд казалось, что он
разработал натуралистическую систему, в которой для христианства
не остается места. Следует напомнить, что в средние века
Аристотель в гораздо большей степени считался создателем
догматической системы, чем это представляется современным
комментаторам. И симпатию церковных властей к «языческой» системе
отнюдь не увеличивали те профессора и преподаватели
факультета искусств в Париже, которые в своей приверженности
Аристотелю стали считать, что он сказал последнее слово обо всем,
что было предметом его рассмотрения.
Если мы представим себе огромный интерес к произведениям
Аристотеля, но вместе с тем первоначальную сдержанность и
враждебность со стороны церковных властей, мы сможем
понять, почему Аквинат. воспринявший и усвоивший многие идеи
62
Аристотеля, оказался в глазах современников новатором, —
мыслителем, опережающим свое время. Аквинат был убежден
в важности и огромных возможностях аристотелизма, однако
консервативное общественное мнение было против него. Я не хочу
сказать, что другие мыслители не использовали в той или иной
степени идей Аристотеля, — конечно, использовали. Но более
консервативные мыслители стремились подчеркнуть границу
между христианскими теологами-философами, такими, как св.
Августин (ум. 430) и св. Ансельм (ум. 1109), с одной стороны, и
языческими философами — с другой. По мнению св. Бонавенту-
ры, современника Аквината, умершего в том же году (1274),
Аристотель был великим ученым и натурфилософом, но не
заслуживал имени метафизика. В следующем поколении мы
встретим Роджера Марстона (ум. 1303), английского францисканца,
который говорил о языческих философах, сопоставляя их со
св. Августином и св. Ансельмом, как о «людях преисподней». И
даже Дуне Скот, один из величайших мыслителей
средневековья, сам часто прибегавший к Аристотелю и мусульманским
фитюсофам, явно считал, что Аквинат пошел на компромисс с
«философами» и под влиянием Аристотеля придерживался
взглядов, недопустимых для христианского теолога.
Было бы, однако, большой ошибкой считать Аквината
просто «апологетом» аристотелизма и этим объяснять его
симпатию к Аристотелю. Думаю, неверно и то, что Аквинат якобы
предпринял попытку уменьшить опасность, связанную с
возрождением языческой философии, понимая, что это
возможно при условии, если бы ему удалось «крестить» Аристотеля и
без опасения ввести его в церковную ограду, как послушного
христианина. Он не стремился приладить на скорую руку
Аристотеля как такового к христианской теологии. Он усвоил и
приспособил многие аристотелевские концепции не потому, что они
принадлежали Аристотелю, и не потому, что они казались ему
«полезными», а потому, что он был убежден в их истинности.
Принимая во внимание уровень образованности той эпохи,
комментарии Аквината к Аристотелю демонстрируют
поразительную способность проникновения в мысль греческого философа;
и по большей части Аквинат полагал, что теории последнего
правильны. Отношение Аквината к Аристотелю было
отношением спокойного доверия. Не стоит беспокоиться, что
Аристотель или какой-нибудь другой мыслитель не был христиани-
63
ном. Вынесем сказанное Аристотелем на суд разума Если он
утверждает что-то на законных основаниях, примем это. Если он
приходит к заключениям, фактически несовместимым с
христианской доктриной, необходимо проверить, действительно ли
они законно следуют из истинных предпосылок, и тогда будет
обнаружено, что это не так. Аристотель не был непогрешимым,
и сам тот факт, что он учит — или кажется, что учит, — чему-
то несовместимому с христианством, не является основанием для
того, чтобы, решительно отвергая аристотелизм, оставаться
слепым к новому знанию.
Поскольку Аквинат заимствовал из Аристотеля то, что
считал истинным, и включал это в систему своих собственных
воззрений, то нет необходимости обременять дальнейшее
изложение постоянными упоминаниями, что такие-то утверждения или
гипотезы основаны на сочинениях греческого мыслителя: книга
ведь посвящена философии Аквината, а не Аристотеля.
Впрочем, иногда будет полезно обратить внимание на сходство
между ними или расхождения, чтобы проиллюстрировать, каким
образом Аквинат, используя аристотелизм, критически
переосмысляет его по-своему, приводя в единство теологию и
философию и демонстрируя их согласие. Можно также отметить
сразу же, что расхождения во взглядах между этими двумя
мыслителями порой бывают скрыты или затемнены
«благосклонным» толкованием Аквината. В тех случаях, когда мысль
Аристотеля вступает в конфликт с христианской доктриной или
кажется, что ее следствия несовместимы с христианством,
Аквинат старается представить ее в максимально благоприятном с
христианской точки зрения свете или доказать, что выводы
Аристотеля не следуют с необходимостью из его допущений. Гораздо
важнее, однако, то обстоятельство, что философия аристоте-
лизма в осмыслении Аквината весьма отлична от
действительного учения Аристотеля. Предметом рассмотрения греческого
философа было «движение», понимаемое в широком смысле как
становление, тогда как для Аквината главной метафизической
проблемой была проблема существования. Аристотель
задавался вопросом, что такое вещи и как они становятся тем, что они
есть, но не ставил вопроса о том, почему они вообще
существуют или почему скорее существует нечто, чем ничто. А между
этими двумя вопросами огромная разница. В своем Tractatus
logico-phüosophicus («Логико-философском трактате») (6.44)
64
Св. Августин. Портрет работы Ботичелли
Витгенштейн утверждал: «Мистическое — не то, как мир есть,
а что он есть»1. Если слово «метафизическое» подставить вместо
слова «мистическое», это утверждение, хотя и не вполне
приемлемое для Аквината, может дать представление о различии
между философией реального Аристотеля и философией Фомы
Аквинского. Эта переакцентировка, безусловно, произошла в
значительной мере под влиянием иудео-христианской традиции,
как показал в своих Гиффордовых лекциях о духе
средневековой философии Этьен Жильсон; и нельзя не согласиться, что
она произошла. Именно на этом основании некоторые писатели
называли философию Аквината «экзистенциальной».
Употребление этого термина может ввести в заблуждение, так как
слово «экзистенция» имеет в современном экзистенциализме иное
значение, чем у Аквината. Но, если использовать этот термин,
разъясняя при этом, с какой целью он употребляется, — а
именно чтобы указать на смысловой сдвиг от собственно аристоте-
лизма к философии Аквината, — никаких недоразумений не
будет.
* * *
Эту длинную вводную главу следовало бы, наверное, завершить
несколькими замечаниями о языке Аквината. Он писал, конечно,
по-латыни, на языке, общепринятом в ученом мире
средневековья. Эта латынь действительно не была латынью Цицерона, на что
незамедлительно указали ученые и гуманисты эпохи Ренессанса.
Кроме того, латынь средневековых схоластов содержала великое
множество терминов, которые невозможно найти у классических
писателей. Но из этого вовсе не следует, что эти термины были
ненужной добавкой. Недостатки латинского языка с философской
точки зрения отмечались столетиями раньше: Сенека, например,
сетовал на необходимость насиловать или изменять смысл
латинских слов, чтобы выразить с их помощью понятия греческой
философии. И потому вполне естественно, что средневековые
теологи и философы были вынуждены не только изобретать новые
термины для перевода греческих терминов и выражений, которые
сами зачастую были искусственными техническими терминами,
созданными греческими писателями, но также изобретать и совер-
1 Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М.: Гнозис, 1994. С. 71.
(Прим. пер.)
66
шенно новые термины. Эти термины были предназначены для
выражения или указания тех аспектов реальности и различений,
которые не могли быть выражены средствами естественного
языка. Ревнителям классической правильности некоторые из этих
терминов определенно покажутся чужеродными или варварскими.
Например, слово quidditas (чтойность). Аристотель изобрел
выражение (to ti en ein ai), чтобы обозначить сущность или «чтойность»
вещи, и средневековые переводчики перевели этот термин словом
quidditas. Это, конечно, неологизм, и с классической точки
зрения варварский, что не означает, будто это ни на чем не
основанное добавление, не имеющее отношения ни к обыденному опыту,
ни к естественному языку. Ибо мы обычно спрашиваем о какой-
либо вещи, что она такое, а естественный язык знает разницу,
сказать ли, что есть вещь, или сказать, что она есть. Довольно
часто использование средневековыми философами чужеродных
терминов обусловлено необходимостью выразить ради краткости
и ясности на техническом абстрактном языке понятия и
различения, которые имплицитно присутствуют в естественном языке,
хотя представлены нестрого, путано и расплывчато. Не следует
пренебрежительно относиться к средневековым теологам и
философам на том основании, что они употребляют «жаргонные» слова и
выражения.
Неверно было бы также считать, что средневековые
мыслители просто потому, что они жили за несколько столетий до нас, были
наивными в лингвистическом отношении. Они сознавали, к
примеру, что одно и то же слово может иметь разные смыслы в
обыденной речи, что смысл слова, коль скоро оно используется как
технический термин в философии, может оказаться нетождественным
смыслу или смыслам, которыми оно наделено в нефилософском
языке, и что смысл слова, когда оно употребляется в философии,
должен быть точно определен. Они, кроме того, прекрасно сознавали
отличие между этимологическими корнями термина и его
смыслом в контексте его употребления. Так, Аквинат говорит:
«Этимология имени — это одно, а смысл имени — другое. Ведь
этимология определяется тем, откуда имя взято для обозначения чего-либо,
тогда как смысл термина определяется тем, как оно используется
для обозначения» (5.Т., На, Пае, 92, 1, ad 2). Этимологические
представления Аквината действительно зачастую наивны; как и его
современники, он нередко присоединяется к мнениям Исидора Се-
вильского (ум. ок. 636) в его известных «Этимологиях». Никто и не
67
утверждает, что филология в средние века была высокоразвитой.
Но Аквинат превосходно сознавал различие между этимологией
термина и его конкретным смыслом.
Стоит еще отметить и то, что средневековым мыслителям
незнакомо различие между грамматической формой предложения
и его логической формой, различие, которому современные
философы отводят видное место. Например, когда Аквинат говорит
о «творении из ничего», он тщательно разъясняет, как до него
это делал св. Ансельм, что «из ничего» означает «не из чего-либо»,
«как если бы сказали, он говорит ни о чем (т. е. о ничто), поскольку
он не говорит о чем-либо» {S.Т., 1а, 45, 1, ad 3). Аквинат был не
настолько глуп, чтобы полагать, что коль скоро высказывание
«Бог сотворил мир из ничего» по своей грамматической
структуре подобно высказыванию «Микеланджело создал статую из
мрамора», то слово «ничто» должно обозначать особого рода «нечто».
Я, конечно, не собираюсь безапелляционно утверждать, что
Аквинат никогда не был вводим в заблуждение языком. Но он,
разумеется, сознавал, что это возможно; об этом свидетельствует
разбор приведенной только что цитаты. В период раннего
средневековья господствовала позиция крайнего реализма, но
Аквинат не представлял себе дело так, что если мы можем сказать
Ioannes est homo (Иоанн — человек) и Petrus est homo (Петр —
человек), то должна существовать универсальная сущность
«человек», существующая вне ума.
Интерес Аквината к языку не вызывает сомнения. Разумеется,
он применял аналогию и метафору. Защиту использования
метафор в св. Писании он аргументировал тем, что наше знание
начинается с чувственного восприятия и что духовные сущности легче
понять, если изобразить их метафорически через вещи
материального мира (S.T., 1а, 1, 9). Но без нужды прибегать к образному
языку Аквинат не был склонен. Он предпочитал пользоваться для
выражения смысла точными и определенными терминами, а не
наводить на мысль, лишь указывая с разных сторон на смысл
посредством многочисленных метафор и примеров. Стиль
Бергсона, насыщенный живописными образами, возможно, приятнее и
привлекательнее для читателя, чем явно суховатый и без всяких
прикрас стиль Фомы; но Аквинат, наверное, пожелал бы узнать,
что же в точности выражают бергсоновы образы и метафоры. Он
разделял неодобрительное отношение Аристотеля к
использованию поэтического и метафорического языка в философии. Он от-
68
мечает, к примеру, что Платон плохо выражал свои мысли. «Ибо
он излагает все с помощью образов и символов, подразумевая под
словами что-то еще, помимо собственных значений слов, как,
например, когда он говорит, что душа — это круг» {In De anima,
3, с 1, lectio 8). Справедливо ли это по отношению к Платону —
другой вопрос; но во всяком случае это свидетельствует о
внимании Аквината к языку. Наверное, естественно связывать
оживление интереса к языку с теми философами XIV века, которые
в различной степени были критиками спекулятивной метафизики
предшествующего столетия. Но полезно напомнить, что ведущие
метафизики XIII века сами послужили в этом отношении
примером. В последнее время в английской философии обратили
внимание на смысл метафизических терминов, используемых по
аналогии. Когда некоторые исследователи высказывали сомнение
в осмысленности терминов, предицируемых Богу по аналогии,
порой создавалось впечатление, что изыскания такого рода —
прерогатива противников метафизики. И все же эти
аналитики просто возродили то направление исследования, которое в
XIII веке занимало важное место в мышлении таких людей,
как Аквинат, но практически было отброшено в последующие
эпохи. Действительно, внимание к языку было одной из
характеристик стиля мышления в XIII - XIV веках. Конечно, в
сочинениях философов этого периода можно найти много
такого, что трудно понять читателю, принадлежащему к
совершенно иной исторической эпохе, а также озабоченность
такими проблемами, которые вряд ли вызвали бы сегодня
живой интерес. Но, имея все это в виду, не следует
закрывать глаза на их стремление к ясности мысли и
точности ее выражения. Аквинат был святым и мистиком, он был
также теологом и метафизиком; но он не пренебрегал ни
логикой, ни терминологической точностью. Его
мнения, как и мнения любого другого
философа, открыты для критики. Но он совсем не
. был человеком, довольствующимся
расплывчатыми представлениями, основывающим
свою философию на «предчувствиях» и
прибегающим для убедительности к риторике.
Месяц март. Поль Лимбург и его братья
(из «Роскошного часослова герцога Беррийского»)
Глава 2
Мир и метафизика
Было бы ошибочно утверждать, что современные философы
придерживаются единого мнения о том, каково соотношение
между философией и частными науками. Все признают, что между
ними есть различие; проблема состоит в том, чтобы определить
природу этого различия. Предпосылкой для постановки этой про-'
блемы является развитие частных наук. Ведь мы вынуждены
обратить внимание на проблему точного соотношения между
философией и частными науками только в силу того, что они в ходе
своего развития стали областями знания, отличными от
философии. Поэтому нельзя ожидать, что эта проблема явно ставилась
и обсуждалась в средние века. В то же время следует сказать,
что в XIII и XIV веках научному исследованию уделялось
больше внимания, чем принято было считать. Как показали историки
философии и науки, средневековые физики вовсе не
копировали рабски Аристотеля и исламских ученых. Тем не менее в
средние века наука была в зачаточном состоянии по сравнению с пос-
леренессансной эпохой. Поэтому бесполезно искать в сочинениях
Аквината явного и тщательного обсуждения соотношения между
философией и науками, развитие которых только начиналось.
Однако у него достаточно хорошо обозначена общая линия
рассуждения, и это позволяет нам предположить, какова была бы его
точка зрения, будь он жив сегодня.
Читателю Аквината будет трудно понять его способ
рассуждения, если он не знает некоторых важных моментов,
относящихся к терминологии. Например, он безнадежно запутается, если
будет понимать слово scientia как слово «наука» в современном
71
его значении. У Аквината слово «наука» означает достоверное
знание, полученное в результате применения принципов,
которые либо самоочевидны, либо выводятся из принципов более
высокой науки. Догматическая теология рассматривалась им как
высшая наука, поскольку ее первые принципы абсолютно
достоверны, открыты самим Богом и дают достоверное знание.
Метафизику он также считал наукой, имеющей свои собственные
самоочевидные принципы. Таким образом, очевидно, что Акви-
нат использовал слово «наука» не в его современном значении.
Хотя можно по-разному относиться к познавательной ценности
теологии и метафизики, никто сейчас не называет их
«науками», по крайней мере без разъяснения смысла употребляемых
терминов. Не следует также считать, что Аквинат использует
такие термины, как «естественная наука» или «физика», в том
смысле, как они обычно употребляются в настоящее время. Под
«естественной наукой» у него понимается совокупность
достоверных утверждений о природе. Для Аквината «естественная
наука» или физика — часть философии, а именно часть
философии, рассматривающая вещи, способные двигаться. Поэтому он
мог обсуждать соотношение между физикой и метафизикой.
Вопрос же о соотношении между физикой и философией не был
для него естественным, так как он рассматривал физику как
часть философии.
Действительно, Аквинат говорит о «специальных» науках или
о «частных» науках. Но и здесь может возникнуть непонимание.
Например, он говорит о математике как о «частной» науке,
поскольку у нее есть свои собственные принципы, и тем не менее
включает ее в состав философии. Аквинат следует общему
аристотелевскому различению между теоретической наукой, которой
занимаются главным образом ради знания, и практической
наукой, которой занимаются в основном с практической целью.
Поэтому он проводит различие между физикой и, скажем,
медициной: ведь медицина развивается в практических целях, хотя
имеет, конечно, и теоретическую часть. По этой причине
Аквинат не считает ее частью физики — спекулятивной и точной
науки (ср. In Boethium de Trinitate, 5, 1, ad 5). Медицина косвенно
связана с физикой, поскольку она является знанием о
природных вещах, но она не входит в физику непосредственно как ее
часть. Тем не менее это различие между физикой и медициной
неправомерно рассматривать как различие между философией и
72
наукой в современном смысле этих терминов. Ведь для Аквината
«физика» включала не только то. что позднее отнесут к
космологии, философии природы или философии науки, но также и то,
что мы отнесли бы к науке в собственном смысле слова.
Например, она включала в себя общие принципы астрономии.
Проблема соотношения между философией и науками и не
могла возникнуть в том виде, как мы понимаем ее, при
использовании такой терминологии и при таком — подразумеваемом
этой терминологией — взгляде на предмет. Ведь постановка этой
проблемы предполагает, что частные науки уже достаточно
развиты и рассматриваются отдельно от философии. Но оставим в
стороне терминологию и почитаем внимательно Аквината. Мы
увидим, что он осознает различие между философскими
утверждениями, которые он считал истинными, и эмпирическими
гипотезами, которые всего лишь вероятны. Например, он
замечает, что птолемеевская теория эпициклов «спасает явления», но
это не доказывает истинности теории, «так как другая гипотеза,
возможно, тоже спасает явления» {S.T., 1а, 32, 1, ad 2). Таким
образом, хотя астроном может предполагать, что движение
подчиняется некоторым общим принципам, которые Аквинат
относил к натурфилософии или физике, однако отсюда не следует,
что гипотезы, предлагаемые им для того, чтобы объяснить
реальные явления, можно вывести из этих общих и достоверных
принципов. Астроном лишь предлагает некоторую гипотезу,
истинность которой не может быть доказана самим фактом
объяснения рассматриваемых явлений (в том смысле, что, если
гипотеза верна, данные явления будут иметь место), поскольку
другая гипотеза может так же или даже лучше объяснять эти
явления.
Некоторые авторы утверждают, что Аквинат считал
аристотелевские астрономические гипотезы истинными с точки зрения
философии. По мнению этих авторов, в утверждении
Аквината, что птолемеевская теория — это гипотеза, которая может
уступить место другой гипотезе, выражается надежда на
создание гипотезы, которая объясняла бы явления и не
противоречила бы Аристотелю. Однако, по-видимому, нет достаточных
оснований считать, что Аквинат отдавал предпочтение
исключительно гипотезе Аристотеля. В комментарии на De caelo et
mundo Аристотеля (2, с. 12, lectio 17) он отмечает, что
гипотеза, предложенная для объяснения движения планет, не обяза-
73
на быть истинной, даже если она объясняет факты, «так как
факты, может быть, объяснит и другая, еще неизвестная
людям гипотеза». А речь здесь идет об аристотелевской теории
концентрических сфер. Таким образом, он не делает различия
между аристотелевской теорией концентрических сфер и пто-
лемеевской теорией эпициклов и эксцентриков: и та, и другая
являются эмпирическими гипотезами, которые могут быть
пересмотрены. Поэтому неправомерно было бы утверждать, что
Аквинат не допускал возможности изменений в современной ему
науке и считал ее достоверной, как вытекающую из
утверждений натурфилософии, обладающих несомненной достоверностью.
Например, мы не можем вывести из общего определения
движения физическое объяснение конкретных движений или
наборов движений; предлагаемые же объяснения носят
гипотетический характер и могут быть пересмотрены.
Конечно, Аквинат явно не рассматривал вопрос, о различии
между философией и наукой в том смысле, как слово «наука»
стало употребляться позднее; однако мы можем с уверенностью
утверждать, что в зародышевой форме это различие уже
содержалось в различении, которое он проводит между
философскими утверждениями и эмпирическими гипотезами современной ему
физики и астрономии. Очевидно, будь он жив сейчас, он без труда
провел бы различие между философией и частными науками. Так
что мы не должны принимать слишком всерьез те примеры,
которые он иногда заимствует из науки того времени в качестве
иллюстраций к метафизическим аргументам. Он иллюстрирует
свои аргументы, используя идеи, знакомые ему самому и
другим современным ему мыслителям; но эти иллюстрации не
являются доказательствами, и не следует придавать им слишком
большого значения или думать, что его метафизика просто
опиралась на науку того времени, понимая при этом слово «наука» в
его современном значении.
Можно спросить, считал ли Аквинат, что философу
необходимо сначала изучить то, что мы называем наукой. Для
овладевшего уже логикой он предлагал следующий порядок
изучения областей теоретической философии: математика, физика,
метафизика. Знание математики необходимо, например, в
астрономии. Мы не можем изучать небесные тела «без астрономии,
которая требует знания всей математики» (In Boethium de Tri-
nitate, 5, 1, ad 9). Математика имеет более формальный харак-
74
тер, и поэтому ее лучше изучать прежде физики, которая
требует эмпирических знаний и большей зрелости суждения.
Последней идет метафизика, «то есть то, что за физикой, и
которая так называется, потому что ее изучают после физики» (ibid.,
in corpore). Это не означает, что Аквинат считал, что
результаты «физики» могут быть выведены из математических
предпосылок — тем более, что он вслед за Аристотелем включал в
«физику» и психологию — или что метафизика зависит от
астрономических гипотез. То, что физика и натурфилософия
должны изучаться перед метафизикой, следует из его общего
принципа, что материал для рефлексии доставляется
чувствами. Естественно начать с того, что ближе к нам с
познавательной точки зрения, и рассмотреть физический мир, состоящий
из подвижных вещей, прежде, чем перейти к точному
рассмотрению вещей как объектов науки и метафизики и, наконец, к
знанию о том, что наиболее удалено от чувств и восприятия,
то есть о Боге. Метафизика обладает своими собственными
принципами, имеющими более широкую область
применимости, 'чем принципы физики, но для нас естественно восходить
от знания менее общего и менее абстрактного к знанию более
общего и абстрактного. Учитывая такую точку зрения,
представляется правдоподобным, что Аквинат предполагал у
философа знание науки того времени.
Конечно, он не требовал от изучающего философию знаний
всего того, что он относил к наукам. Например, он не ожидал
от метафизика знания медицины. Утверждая, что перед
изучением метафизики следует изучить физику, он, несомненно,
прежде всего имел в виду общие принципы и концепции
натурфилософии. В то же время он, очевидно, предполагал, что
натурфилософ должен ознакомиться с эмпирическими
данными, относящимися к предмету его занятий. Например, не
знающий эмпирических данных психолог не может грамотно
обсуждать соотношение между душой и телом. Это подсказывает
нам обычный здравый смысл. Аквинат считал, что «физику»
следует изучить перед метафизикой; однако было бы весьма
опрометчиво делать отсюда вывод, что он, будь он сейчас жив,
счел бы, что метафизик сначала должен изучить науку в том
смысле, что он должен стать специалистом в какой-нибудь
частной науке. Для такого вывода нет никаких оснований. В
конце концов, стать специалистом в любой науке — это дело всей
75
жизни, и совершенно нереально требовать всеобъемлющего
знания наук. Он, несомненно, сказал бы, что если мы хотим
философствовать о науке или о соотношении души и тела, то
нам надо хорошо знать относящиеся сюда эмпирические
данные. При этом Аквинат исходил бы не только из здравого
смысла, но и из своей общей концепции о том, как мы приобретаем
знания. Рассматривая его идею метафизики, — она еще будет
обсуждаться ниже — мы неизбежно приходим к заключению,
что он особенно постарался бы отстоять независимость
метафизики от эмпирических научных гипотез. Например, он,
несомненно, указал бы на то, что факты, на которые опираются
его доказательства бытия Бога, никоим образом не были
опровергнуты в ходе развития науки. Мы можем считать, что вещи
состоят из пяти элементов, или описывать их строение,
прибегая к понятиям атомов и электронов; но это никак не влияет
на тот факт, что существуют вещи, которые изменяются, и
вещи, которые возникают и исчезают. Если существование
конечных вещей вытекает из существования бесконечного бытия,
то их экзистенциальная зависимость от бесконечного бытия не
затрагивается тем, на какой стадии находится научное
познание конечных вещей. Разумеется, можно возразить, что будь
Аквинат сейчас жив, он изменил бы свою концепцию
метафизики. Однако, чтобы поставить вопрос о том, что сказал бы
сегодня Аквинат о соотношении метафизики и науки, так, чтобы
он имел разумный смысл, не занимаясь при этом
конструированием гипотез, которые в принципе невозможно проверить,
его, как мне кажется, следует сформулировать таким образом:
какой взгляд на соотношение между метафизикой и наукой, в
современном значении этого слова, вытекает из того
представления о метафизике, которого в действительности
придерживался Аквинат? Исходя из этого, следует признать, что он
скорее подчеркнул бы, а не приуменьшил различие между
метафизикой и наукой. Можно, конечно, считать, что
метафизические теории — это всего лишь эмпирические теории,
зависящие от научных эмпирических гипотез; однако Аквинат
имел другую точку зрения.
Обсудим вкратце еще один момент. Аквинат включал в
«философию» многое из того, что мы отнесли бы к науке так что
возникает вопрос, было ли все то, что он называл «физикой»,
поглощено тем, что мы называем «наукой»? Не была ли целиком
76
отброшена «натурфилософия»? Приведем соображения, которые,
возможно, прояснят этот вопрос. Аквинат обсуждал движение,
время и пространство, как правило, комментируя Аристотеля и
принимая его определения. В сочинении Summa theologica мы
читаем, что «поскольку во всяком виде движения имеется
последовательность и одна часть следует за другой, то тем самым, что
мы перечисляем одно за другим в движении, мы воспринимаем
время, которое есть не что иное, как перечисление
предыдущего и последующего в движении» (S.T., 1а, 10, 1). Можно
по-разному относиться к аристотелевским определениям; но,
занимаясь проблемой времени, пространства и движения, Аквинат не
считал, что он исследует реально существующие вещи.
Например, пространство — это не вещь. Так что разумно считать, что
он занимался анализом и разъяснением концепций времени,
пространства и движения или значений этих терминов. Если
называть «философским» такого рода анализ, то можно сказать, что
вовсе не все то, что Аквинат называл «физикой» и считал частью
«философии», было поглощено тем, что мы называем «наукой».
* * *
Аквинат сказал бы, что различные частные науки либо
занимаются разными видами сущего, либо рассматривают одни и те
же вещи с разных точек зрения, интересуясь разными
аспектами этих вещей. Например, астрономия и психология занимаются
разными объектами, хотя они обе относятся к «натурфилософии».
С другой стороны, человек — это предмет как анатомии, так и
психологии. Но это разные науки, хотя и связанные между
собой, так как они рассматривают человека под разными углами
зрения. Что же касается биологии, то она изучает сущее,
относящееся к разряду органических, или живых, тел. Разумеется,
более естественно было бы сказать, что биолог исследует живые
организмы или жизнь растений и животных. Но хотя он,
очевидно, должен изучать конкретные индивиды, они не интересуют
его так, как садовода-любителя интересуют те цветы и
кустарники, которые он выращивает. Биолог занимается типичными и
видовыми свойствами, а не индивидами как таковыми. Поэтому
можно сказать, что он занимается сущим, которое является
органическим или рассматривается как органическое; при этом не
предполагается существование организма самого по себе, отдельно
от конкретных организмов.
77
Однако можно отвлечься от таких различий, как различие
между органическим и неорганическим, и рассматривать вещи
просто как нечто сущее. И Аквинат вслед за Аристотелем
определяет метафизику как науку о сущем как таковом. Но было бы
большой ошибкой понимать это в том смысле, что имеется
некое «сущее» отдельно от конкретных существ и вещей.
Конечно, Аквинат говорит о Боге как Сущем; но, когда он говорит,
что метафизика — это наука о сущем как таковом, он не
отождествляет ее с так называемой «естественной теологией». Он
хочет лишь сказать, что метафизика занимается анализом того,
что существует или может существовать, рассматривая его
именно как существующее. Согласно Аквинату, го о чем мы
прежде всего говорим, что оно существует или может
существовать, есть не что иное, как субстанция (мы вскоре вернемся к
этому понятию). Когда мы говорим, что Петр существует, мы
утверждаем, что существует определенная субстанция или вещь.
Когда мы утверждаем, что Петр белый, мы приписываем
Петру некоторое свойство. О нем говорят, что оно существует, но
как свойство Петра, а не само по себе. Утверждение о
существовании белизны как свойства Петра с необходимостью влечет
утверждение о существовании Петра. Ведь абсурдно было бы
сказать, что Петр не существует и что он белый. Так что в
первую очередь именно о субстанциях утверждают, что они
существуют. В соответствии с этим, если понимать под «сущим» то,
что существует или может существовать, метафизика
занимается в основном анализом субстанции и ее модификаций. Она
анализирует фундаментальные категории сущего, а именно
субстанцию и различные виды акциденций, такие, как свойство и
отношение.
Для Аквината, так же как и для Аристотеля, метафизика
включала в себя и анализ причин субстанции. Например, она
занимается анализом действующей причинности. В повседневной
жизни мы часто ищем отдельные причины отдельных событий.
Например, на вопрос, почему хлопнула дверь, мы, возможно,
ответим, что это произошло из-за порыва ветра, ворвавшегося
через открытое окно. Однако можно исследовать природу
действующей причинности как таковой, отвлекаясь от тех или иных
конкретных действующих причин или конкретных видов
действующих причин. Аналогично можно исследовать природу
целевой причинности. Таким образом, метафизик занимается ана-
78
лизом как категорий субстанции и акциденции, так и
различных видов причинности.
Очевидно, что если бы метафизика этим и ограничивалась, то
деятельность метафизика сводилась бы исключительно к
анализу понятий. Работа метафизика заключалась бы в разъяснении
понятий причинности, субстанции, отношения и т. д. И
действительно можно сказать, что он занимается анализом значений
определенных терминов, но при том условии, если мы исходим
из предположения, что он хочет выявить реальное или истинное
значение терминов в свете опытных данных, а не занимается
только грамматическим разбором высказываний. Некоторые
предпочтут сказать, что он занимается «сущностями»; но точно так
же можно сказать, что он занимается «значениями». Например,
нет никакой причинности-в-себе, существующей независимо от
конкретных причинных отношений; Аквинат и не предполагал
этого. Таким образом, правомерно говорить, что, анализируя
причинность, он анализирует значение термина «причинность», если
он при этом ставит задачу выяснить, как надо понимать этот
термин, а не просто перечисляет представления Смита или
Брауна о том, что этот термин означает или может означать.
В том, что Аквинат понимал под метафизикой, действительно
присутствует этот аспект; однако он не единственный. Слово
«сущее» можно понимать как означающее то же самое, что и глагол
«быть», или «существовать» (esse), от которого оно образовано.
Тогда утверждение, что метафизика занимается сущим,
равносильно тому, что она занимается существованием. Под
существованием же здесь понимается конкретный акт существования.
Рассматриваемая под таким углом зрения, метафизика, согласно
Аквинату, призвана прежде всего объяснить существование
вещей, которые изменяются, возникают и исчезают. Как мы уже
видели, Аквинат считает, что вся метафизика направлена к
познанию Бога. Бог находится за пределами обычного опыта, и мы
можем познать Его, лишь рассматривая отношение доступных в
опыте объектов к причине их существования. Таким образом,
теоцентрический характер метафизики определяет ее
центральную задачу — анализ экзистенциальной зависимости конечного
существования.
В действительности нельзя отделить друг от друга эти два
аспекта метафизики. Некоторые авторы называют первый аспект
«сущностным», а второй — «экзистенциальным». Можно сказать,
79
что, именно подчеркивая экзистенциальный аспект, Аквинат
отходит от Аристотеля. Ведь Аристотель не ставил проблему
существования конечных вещей; а это, конечно, означает, что он
не видел здесь проблемы. Он не видел здесь проблемы, так как
он интересовался тем, что есть вещь и каким образом нечто
существует или может существовать, а не самим актом
существования. Аквинат следовал Аристотелю в анализе субстанции и
акциденции, формы и материи, акта и потенции; однако в его
метафизике большее внимание уделяется не «сущности>\ или тому,
что есть вещь, а существованию, рассматриваемому как акт
существования. Понятие акта существования в действительности
очень сложно, и я еще вернусь к нему. Однако стоит указать, что
эта смена акцентов оказала влияние и на тот метафизический
анализ, который Аквинат унаследовал от Аристотеля.
Аристотель, например, признает, что субстанции существуют, в том
смысле, что вообще есть субстанции; но он как метафизик
занимается анализом понятий, в данном случае понятий субстанции
и акциденции, и ничего не говорит об экзистенциальной
зависимости конечных субстанций. Мир — это мир субстанций, или
вещей, причем мир вечный и несотворенный; это тот фон, на
котором Аристотель анализировал понятие субстанции. Аквинат
заимствовал у Аристотеля анализ субстанции, но в то же время
мир для него состоит из конечных субстанций, полностью
зависимых от Бога. При этом сам анализ природы субстанции не
изменяется; однако субстанции предстают в новом свете, поскольку
делается ударение на том акте, посредством которого
существуют субстанции, — на акте существования, полученном от
внешней причины. Совершенно верно, что Аквинат позаимствовал
аристотелевский метафизический анализ субстанции и акциденции,
акта и потенции, причинности и т. д.; но так же верно и то, что
мир, который описывал Аристотель в своей метафизике,
представал у Аквината в новом свете, поскольку он рассматривал
сущее как существование (как esse).
* * *
Мы можем говорить о дереве как о вещи, но мы вряд ли
отнесем к вещам цвет его листьев. Исследуя обычный язык, мы
видим, что во многих случаях делается различие между вещью
и ее атрибутами или между вещью и ее отношением к другим
вещам. Например, в один промежуток времени мы можем ска-
80
зать, что Джон бледный, а в другой — что он загорелый, или в
какое-то время, что он здоров, а в другое, что он болен. В
понедельник мы говорим, что путешественник в одном городе, а
во вторник — что в другом. Мы делаем утверждения, в
которых последовательно приписываем себе различные состояния.
Обычно при использовании языка человек не замечает этого; но
те утверждения, которые он делает, предполагают, что на
практике он сознает различие между вещами и их модификациями,
между «субстанцией» и акциденциями, между тем, чему мы
приписываем свойства, количество и отношения, и свойствами и
отношениями, которые существуют лишь как свойства и
отношения того, чему они приписаны. Мы можем сказать, что Петр
сидит на стуле, но вряд ли кто-нибудь ожидает встретить
отношение «сидения на» как сущность, существующую
независимо от сидящего.
Таким образом, несомненно, что обычно человек проводит
различие между вещами и их модификациями. Чтобы убедиться в
этом, следует только заметить, что мы привыкли говорить об
изменении размера дерева или об изменении цвета его листьев. Никто
также не усомнится в том, что это лингвистическое различение
имеет объективные причины. В основе метафизики субстанций и
акциденций лежит именно это непроизвольное убеждение
каждого человека. Ведь для философа, принимающего, подобно Ак-
винату, эту метафизику, обычный язык отражает общее
восприятие людей, а в этом общем восприятии неявно заложено различие
между субстанцией и акциденцией. Задача философа — не
изобретать произвольные теории и даже не открыть нечто, о чем
обычный человек и не подозревает, а выразить явно и в абстрактных
терминах то различие, которое неявно выражается человеком в
конкретных высказываниях. Субстанция — это то, о чем мы
прежде всего говорим, что оно существует, и то, что не
приписывается чему-либо другому так, как мы приписываем бледность Джону
или красноту розе, тогда как акциденция — это то, что
существует лишь как модификация субстанции или вещи и
приписывается субстанции. Конечно, в той концепции субстанции и
акциденции, которой придерживался Аквинат, есть некоторые
тонкости. Например, следует различать между такими
акциденциями, как количество и свойство, и отношениями. Но пока это
учение излагается в самом общем виде, ограничиваясь
констатацией различия между вещами и их модификациями, предполага-
81
емого структурой нашего языка, оно доступно практически
каждому. Трудности возникают при попытке строгого анализа.
Трудности только возрастут, если понимать эту концепцию в
том смысле, что существует непознаваемый субстрат,
называемый «субстанцией», предназначенный для того, чтобы собрать
воедино совокупность явлений и акциденций. Такое представление,
скорее, свойственно теории Локка, но совсем не соответствует
теории Аквината. Для него различие между субстанцией и
акциденцией — это различие не между непознаваемым субстратом и
познаваемыми модификациями, а между тем, что существует —
если оно действительно существует — как предмет, и тем, что
существует лишь как модификация предмета. Согласно
терминологии Аквината, слово «субстанция» обозначает «сущность,
которой присуще существовать самой по себе» (per se; S.T , la, 3, 5,
ad 1). При истолковании выражения per se следует проявлять
осторожность. Здесь не имеется в виду, что субстанция не имеет
причины и в этом смысле она существует «сама по себе»; это
выражение надо понимать как противопоставление тому, что
существует в зависимости от чего-то другого, т. е. как
модификация чего-то другого. Утверждение о том, что субстанция
существует per se, имеет другой смысл, чем утверждение, что Бог
существует per se. Действительно, Бог не относится к категории
субстанции, и Его можно назвать «субстанцией» только по
аналогии. Например, человек не существует per se, если понимать
под этим, что у какого-то конкретного мужчины или женщины
нет причины и что они совершенно независимы. В то же время
человек не существует как модификация какой-либо другой вещи,
подобно тому как гнев Джона не существует отдельно от Джона.
В этом смысле человек существует per se. Здесь не имеется в виду,
что субстанция Джона — это непознаваемый субстрат, скрытый
под акциденциями Джона: непознаваемое и совершенно
неизменное X, полностью недоступное человеческому уму. Познавая
акциденции или модификации Джона, мы познаем субстанцию
Джона настолько, насколько она проявляется в этих
модификациях. Субстанция, взятая сама по себе, отдельно от ее
модификаций, не является феноменом, т. е. недоступна ни чувствам, ни
интроспекции. Смотря на дерево, я не вижу субстанции этого
дерева отдельно от его цвета и т. п. Но, поскольку субстанция
проявляется в цвете дерева, можно сказать, что я воспринимаю
субстанцию. То, что я воспринимаю, — это не акциденция сама
82
по себе и не набор акциденций; в то же время это и не
субстанция без ее модификаций: я воспринимаю вещь в ее
модификациях. Точно так же интроспекция позволяет мне воспринимать
желания, эмоции и мысли; но, воспринимая их, я воспринимаю
субстанцию. Можно сказать, что у вещи изменяются
акциденции. У многих деревьев изменяется цвет листьев, с возрастом
изменяется рост человека. Однако, строго говоря, изменяется
именно субстанция; она изменяется «акцидентально». Так,
например, человек во многих отношениях изменяется в течение
своей жизни, оставаясь при этом тем же самым человеком.
Изменения не происходят вокруг неизменного ядра, чье
наименование — «субстанция»: изменяется именно сама субстанция. Так
что. познавая изменяющиеся состояния, модификации или
акциденции, мы познаем, по крайней мере в какой-то степени,
саму субстанцию. Да, Аквинат говорит, что слово «субстанция»
происходит от «стоящего под» (потеп епгт substantiae imponitur
a substando; In I Sent., 8, 4, 2) и что субстанция — это то, чьим
актом является стояние под (substantia (dicitur) cuius actus est sub-
stare; In I Sent., 23. 1, 1). Отсюда видно, что при употреблении
слова substantia делается ударение на одном из аспектов
субстанции; при употреблении же греческого слова ousia этот
аспект не столь подчеркнут. Тем не менее Аквинат говорит не о
неизменном и непознаваемом субстрате, а о подлежащем, которое
само по себе не является определением другой вещи, но
обладает определениями и модификациями и познается через них.
Конечно, согласно Аквинату, мы обычно не можем
непосредственно созерцать сущности или субстанции вещей. Например,
он говорит, что «субстанциальные различия, поскольку они
неизвестны, проявляются в акцидентальных различиях» (In De депе-
ratione et corruptione, I, с. 3, lectio 8). Однако из последней части
этой цитаты видно, что Аквинат вовсе не считал, что существует
некий непознаваемый субстрат, называемый «субстанцией». Как
мы видели, Аквинат утверждал, что нам недоступно
непосредственное созерцание наших душ: однако он не имел в виду, что
души — это непознаваемые духи, скрытые в наших телах1. Они
познаются в своей деятельности и через эту деятельность.
J Я не имею в виду, что, по Аквинату, душа сама по себе составляет
сущность или субстанцию человеческого существа. Петр — это единство души
и тела, а не душа, пребывающая в теле.
83
Это можно пояснить следующим образом. Когда Аквинат
рассматривает субстанцию как центр деятельности, он называет ее
«природой», и он называет ее «сущностью», когда
рассматривает ее как обладающую какими-то определениями. Один из его
принципов состоит в том, что деятельность или операция
«следует за» сущим и, таким образом, обнаруживает сущее: operatio
sequitur esse. Поэтому можно сказать, что, согласно Аквинату,
мы различаем различные субстанции как различные
индивидуальные центры деятельности, характерной для каждой
субстанции. А познавая их деятельность, мы познаем и субстанции, от
которых она исходит. Мы узнаем другого человека, слушая его
или наблюдая за его действиями; ведь его слова и деятельность
разными способами открывают его.
Выше уже отмечалась связь метафизики субстанции и
акциденции с обычным языком. Однако нередко высказывается
мнение, что эта метафизическая концепция лишь отражает
лингвистическое различие между субъектом и предикатом и переносит
на реальность субъектно-предикатную структуру высказывания.
Другими словами, утверждается, что эта концепция возникла из
практики использования языка. Если бы Аристотель говорил на
языке, не использующем такую форму высказывания, он бы не
создал учение о субстанции и акциденции1. Его создание
показывает, что Аристотель был обманут языком. Точно так же
обманывались и те средневековые схоласты, которые принимали это
учение.
Аквинат, без сомнения, сказал бы, что те, кто так
истолковывают концепцию субстанции и акциденции, ставят телегу
впереди лошади. Мы осознаем на опыте, что наши сменяющиеся
состояния — это наши состояния, а сменяющиеся состояния и
деятельность других вещей относятся к этим вещам. И в основе
метафизики субстанции и акциденции лежит именно это
ощущение, а не ошибочное убеждение, что структура реальности
должна соответствовать структуре языка. Аквинат мог бы
указать, что различие между вещью и ее состояниями и модифи-
1 Иногда говорят, что у Аристотеля нет никакой доктрины субстанции и
что ousia не следует переводить словом «субстанция». Это правильно, если,
следуя Локку, понимать под словом «субстанция» непознаваемый субстрат.
Но ни Аристотель, ни Аквинат не вкладывали такого смысла в указанные
термины.
84
кациями может быть проведено и проводится даже в тех
языках, где предложение, как правило, не строится из
подлежащего, глагола-связки и сказуемого. В семитских языках, та-,
ких, как иврит или арабский, утверждение о том, что некто
или нечто находится в том или ином состоянии или обладает
тем или иным свойством, обычно строится без использования
глагола-связки. Конечно, можно возразить, метафизика
субстанции и акциденции все же была разработана Аристотелем,
а этот философ говорил на языке, для которого характерна
именно указанная форма предложения; и средневековые
философы, принимавшие эту метафизику, пользовались
языками, где употребляется эта форма. Однако этого нельзя сказать
о средневековых исламских философах. Авиценна, например,
писал в основном по-арабски. На это, возможно, скажут, что
исламские перипатетики принимали концепцию субстанции и
акциденции просто потому, что она принадлежала
Аристотелю. Однако и они считали ее истинной. Будь Аквинат сейчас
жив, ему пришлось бы отвечать на те возражения против
метафизики субстанции и акциденции, которые не выдвигались
в его время, когда эта концепция была общепринята. И я
думаю, что против чисто лингвистической интерпретации он
привел бы доводы, сходные с рассмотренными выше, не принимая
при этом и локковскую доктрину непознаваемого субстрата.
* * *
Таким образом, мир состоит из множества субстанций, но сам
он не субстанция. Имеется большое количество отдельных
вещей, находящихся в различном отношении друг к другу, и все
они претерпевают акцидентальные изменения, т. е. изменения,
не затрагивающие отличительных признаков данной субстанции.
Человек, как бы он ни изменялся, остается человеком. Однако
можно продвинуться еще дальше в анализе материальных
вещей. Дуб растет, и цвет его листьев изменяется; а мы
продолжаем говорить о нем как о том же самом дубе. Но, если дерево
сгорело и превратилось в пепел, мы не говорим о пепле как о
дубе. После того как хлеб был переварен, мы не говорим о нем
как о хлебе. Однако и когда дуб превращается в пепел, и когда
переваривается хлеб, вещество дуба или хлеба не
уничтожается. Присутствует нечто постоянное, и в то же время налицо
более чем «акцидентальное» изменение. Комбинация этих двух
85
факторов представляла проблему для Аквината так же, как и
для Аристотеля. Какие особенности строения материальных
вещей проявляются в таких — субстанциальных — изменениях?
Они указывают, отвечает Аквинат, на то, что в каждой
материальной вещи или субстанции можно выделить два
конститутивных принципа1. Один из них он называл «субстанциальной
формой». Например, в случае дуба субстанциальная форма,
соответствующая аристотелевской «энтелехии», — это тот
определяющий принцип, который делает дуб тем, что он есть.
Конечно, эту форму не следует путать с внешними очертаниями
дерева: это внутренний конститутивный принцип деятельности,
который делает дуб дубом, определяя его как конкретный вид
организма и задавая присущий ему как целому определенный
образ действия. Но что же субстанциальная форма дуба
«формирует» или определяет? Мы, возможно, ответили бы, что это —
вещество, из которого состоит дуб, имея в виду видимый
материал, доступный химическому анализу. Однако в конце концов,
считал Аквинат, мы должны прийти к понятию о совершенно
неопределенном потенциальном субстрате, у которого нет
никакой собственной формы и каких-либо определенных
характеристик. Он называл его «первоматерией» (materia prima). Видимая
материя, вторичная материя, уже обладает формой и
определенными характеристиками; но, абстрагируясь от всех форм и
определенных характеристик, мы приходим к понятию о
совершенно неопределенном конститутивном принципе, который
может соединяться последовательно с любым множеством форм.
Когда дуб погибает, его субстанциальная форма исчезает,
восстанавливается потенциальное состояние, присущее материи,
но первоматерия дерева не исчезает. Она не может
существовать сама по себе, на самом деле это и невозможно; ведь всякая
существующая материальная субстанция — это нечто
определенное. Когда дуб погибает, материя продолжает существовать,
1 Слово «элемент» могло бы навести на мысль о химическом элементе и
потому способствовало бы неправильному пониманию. Называя материю и
форму «принципами» (началами), Аквинат имеет в виду, что они —
первичные составляющие, которые конституируют материальную вещь. Это
слово, совершенно очевидно, не использовано здесь в смысле логического
принципа; не означает оно также наблюдаемых химических элементов.
Материя и форма суть «принципы (начала) сущего» (principia entU); сами они —
не физические сущности.
86
сразу же приобретая другую форму или же разные формы. Когда
человек умирает, а его тело разлагается, материя сразу
оформляется посредством других форм. Однако изменениям
свойственна непрерывность, и именно первоматерия является
носителем непрерывности.
Таким образом, согласно Аквинату, всякая материальная вещь
или субстанция состоит из субстанциальной формы и материи. Ни
один из этих принципов не совпадает с вещью или субстанцией:
они оба выступают как начала, образующие субстанцию. И лишь
о субстанции правомерно говорить, что она существует. «Нельзя
сказать, что материя существует; существует только сама
субстанция» (S.G., 2, 54).
Концепция материи и формы1 не была новой. Она восходит к
Аристотелю и была общепризнанной в средние века, хотя
разные мыслители излагали ее по-разному. Но я не собираюсь
обсуждать ее истоки или различные трактовки: для наших
нынешних целей более уместно остановиться на следующих моментах.
Во-первых, есть определенная связь между этой концепцией и
обычным опытом и языком. Мы привыкли говорить, что одна
вещь становится другой вещью или один род вещей становится
другим родом вещей. Как представляется, этот способ
выражения указывает на то, что изменению присущи как
непрерывность, так и дискретность. Непрерывность связана с тем, что
то, что изменяется, не уничтожается, а дискретность отвечает
тому, что сначала имеется один вид вещей, а потом другой вид
вешей. Во-вторых, это все же чисто метафизическая концепция.
Первоматерия непосредственно не доступна и не может быть
доступна в опыте: она постулируется как результат анализа
вещей, данных в опыте. Это, очевидно, не физический или
химический анализ. Конечно, Аквинат ничего не знал о
современной химии или о теориях, в которых предполагается
существование атомов и электронов; но он считал, что концепция
формы и материи не опирается на современные ему
представления о таких, например, физических элементах, как огонь и
вода. Он считал ее результатом метафизического, а не
физического или химического анализа. Язык учения о форме и
материи — это язык метафизики.
1 Она обычно называется концепцией «гилеморфизма»; это название
происходит от соединения греческих слов hyle и morphe.
87
Это не означает, что для Аквината форма и материя — это
таинственные сущности в том смысле, что о них ничего не
может быть известно. Да, первоматерия не существует и не может
существовать сама по себе; ее как таковую нельзя увидеть; но
она присутствует как метафизическая составляющая в
материальных субстанциях, и это проявляется в субстанциальном
изменении. Мы опять же можем не знать форму данной
материальной субстанции настолько, чтобы определить ее как род или
указать ее специфическое отличие: на практике нам,
возможно, придется удовлетвориться перечислением отдельных
признаков, входящих в состав формы. Но форма служит принципом или
источником свойств, деятельности и поведения,
характеризующих ту или иную субстанцию, и мы знаем какую-либо
субстанцию в той мере, в какой она проявляется в этих свойствах и
деятельности. Например, присутствие и природа формы,
свойственной живому организму, обнаруживаются в характерной
деятельности организма.
Следует отметить еще один момент. Из предположения о том,
что теория формы и материи — это метафизическая теория и что
она не зависит от результатов эмпирического научного
исследования, следует, что из нее нельзя вывести новых научных
утверждений, доступных эмпирической проверке. Конечно, из этой
теории можно сделать вывод, что возможны изменения
определенного типа. Однако сама теория основывается прежде всего на
наблюдении таких изменений. Так что утверждение о
возможности таких изменений — это не новое утверждение, доступное
эмпирической проверке. Поэтому эта теория не может служить
средством для развития естественных наук. Позднее, в эпоху
Возрождения, были последователи Аристотеля, рассматривавшие
эту теорию как естественнонаучную; однако они заблуждались
относительно ее природы. Эта теория «бесполезна» для целей
естественных наук, если считать, что для естественных наук
«полезна» та теория, из которой можно вывести ноэые утверждения,
доступные эмпирической проверке.
Однако отсюда не следует, что эта теория вообще оказалась
бесполезной для науки. Ведь, согласно учению о формах, мир —
это не просто гераклитовский поток: мир устроен так, что он
изначально, в самой своей основе является умопостижимым.
Размышляя о деятельности и поведении вещей, мы можем получить
некоторое знание по крайней мере об их умопостигаемой струк-
88
4
ления о том, что мир постижим, а материальные субстанции
соразмерны человеческому уму и имеют относительно прозрачную
формальную структуру, было предварительным условием и
стимулирующим фактором для проведения эмпирических научных
исследований.
Здесь, в свою очередь, возникает вопрос, не отпала ли
нужда в метафизической концепции формы и материи, по крайней
мере по отношению к неорганическим субстанциям, по мере
развития этих исследований? Ведь научные исследования дают
конкретное наполнение той неясной идее формы, о которой идет
речь в метафизической теории. Этот вопрос связан с общим
вопросом о соотношении между научными гипотезами и
метафизическими учениями о видимых вещах; в такой общей постановке
этот вопрос увел бы нас слишком далеко, поэтому мы не будем
обсуждать его здесь. Но во всяком случае он заслуживает
упоминания. Что касается частного вопроса о соотношении теории
гилеморфизма и научных теорий атомно-электронного строения
вещества, то следует отметить, что те последователи Аквина-
та, которые придерживаются теории гилеморфизма и считают
ее применимой также и к неорганическому миру, настаивают
на том, что это метафизическая теория, не зависящая от
сменяющих друг друга научных гипотез. Форма и материя — это
метафизические конститутивные элементы тел в том смысле,
что их присутствие обнаруживается при рефлексивном
анализе тел или телесной субстанции как таковых, а не при анализе
того или иного вида телесной субстанции. Да, эта теория
«бесполезна» в указанном выше смысле; но это означает лишь то,
что она не относится к эмпирической науке. С другой стороны,
есть и такие последователи Аквината, по мнению которых эта
теория возникла в результате спекулятивной попытки решения
проблемы, которая была решена научным исследованием в той
степени, в какой она вообще может быть решена. Не стоит
гадать, что бы сказал Аквинат по этому поводу, будь он жив
сегодня. Очевидно, что на вопросы такого рода нельзя дать
определенного ответа. Достаточно сказать, что Аквинат считал эту
теорию независимой от «научных» идей того времени.
* * *
Хотя телесные вещи или субстанции сходны друг с другом в
том, что все они состоят из формы и материи, не все телесные
90
формы одинаковы. И собаки, и кошки относятся к телесным
вещам, но они имеют видовые отличия; на языке теории формы и
материи собачья форма отличается по виду от кошачьей
формы. Форма соли отличается от формы воды. Таким образом,
телесные вещи подразделяются на группы, представители которых
обладают сходными субстанциальными формами.
Представители одного вида, конечно, не обладают нумерически одной и той
же субстанциальной формой. Аквинат вообще отвергал
доктрину крайнего реализма, в которой предполагается, что коль скоро
мы можем использовать одно и то же слово применительно ко
многим индивидам, то должна существовать одна какая-то вещь,
соответствующая этому слову. Ошибочно утверждать, будто бы
поскольку мы говорим Petrus est homo (Петр — человек) и Ioannes
est homo (Иоанн — человек), то, следовательно, существует одна
универсальная сущность, присутствующая и в Петре, и в
Иоанне. Универсальность как таковая есть только «в уме» (ср. S.Т.,
1а, 85, 2, ad 2). Но в то же время Аквинат был убежден в
реальном существовании видов и в том, что представители одного
вида обладают сходными субстанциальными формами. И
именно это объективное сходство формы позволяет нам иметь
общие видовые понятия, а также прилагать один и тот же
общий термин ко всем представителям класса, составляющего вид.
Представители одного класса обладают сходной природой.
Таким образом, когда ум формирует общие понятия, он не строит
ложной картины реальности. Ибо то, что постигается, —
скажем, человеческая природа — существует вне ума, но вне ума
она существует не так, как усматривается в процессе познания,
т. е. не как нечто общее (ср. S.T., 1а, 85, 1, ad 1). Люди,
разумеется, знают об этом, не осознавая этого знания; ибо они
совершенно правильно используют общие термины в конкретных
высказываниях в повседневной речи, не пытаясь отыскать при этом
какие-либо универсальные сущности, соответствующие
используемым ими терминам. Эти трудности возникают только при
философском анализе. Мы можем сказать, что заслугой Аквината
и его предшественников в исследовании проблемы универсалий
было осознание и демонстрация ложности крайнего реализма.
Возможно, здесь следует указать, что, когда Аквинат говорит
о телесных вещах, обладающих сходной «природой» или
тождественных по своей «сущности», он не относит это просто к
форме. «Слово сущность по отношению к составным субстанциям
91
означает то, что составлено из материи и формы* (De ente et
essentia, II). Универсальная идея человека, например,
абстрагируется от индивидуальных характеристик Петра и Иоанна, но она
не абстрагируется от наличия материи. Иначе говоря,
универсальная идея «человеческого существа» — это идея субстанции,
составленной из материи и разумной души, которая, по Аквина-
ту, является формой в случае человека; это не идея одной только
души. Однако именно форма определяет то, что любая
субстанция является субстанцией, имеющей видовую характеристику,
т. е. входящей в некоторый класс субстанций. Так что именно
сходство форм у индивидов одного вида служит объективным
основанием формирования общего видового понятия.
Но при таком взгляде на вещи возникает следующая
проблема. Если субстанциальные формы представителей данного вида
существенным образом подобны, то отсюда следует,
заключает Аквинат, что различие между представителями одного класса
нельзя изначально приписывать форме как таковой. То, что
делает два куска кремня двумя кусками, а не одним, — это,
конечно, не то обстоятельство, что и тот, и другой — куски
кремня; в этом они как раз не отличаются друг от друга. Почему же
они предстают как два различных индивида? Причиной
индивидуализации является материя — но не материя,
рассматриваемая как нечто совершенно неопределенное, а поскольку она
делима на части, отличающиеся друг от друга положением и
величиной. В случае двух кусков кремня их кремневость
является объединяющим началом, которое не может использоваться
для их различения. Они различаются тем, что кремневость
одного присутствует в этой материи, а кремневость другого — в
иной материи. Именно материя есть начало индивидуализации
и именно благодаря материи данная телесная вещь отличается
от других представителей того же самого вида1. Но не следует
думать, что это означает, будто форма, скажем, дуба
существовала в виде некой универсалии до того, как появилось само
дерево. Как уже было сказано выше, не существует никаких
универсальных сущностей вне ума. Но если предполагается, что дуб
состоит из формы и материи, то резонно поставить вопрос, ка-
1 Исходя из этого, Аквинат приходит к заключению, что в случае
имматериальных существ не может быть никакой множественности внутри вида.
Каждый ангел — единственный представитель своего вида.
92
кая из этих составляющих обусловливает тот факт, что дуб
является этим конкретным дубом. По мнению Аквината,
изначально ответственна за это материя. Ибо дубовость одного дуба
не отличается от дубовости любого другого, несмотря на то, что
она формирует разную материю.
В концепции материи как начала индивидуализации есть много
неясностей и различных тонкостей, которые могли бы стать
предметом обсуждения. Однако я предпочитаю опустить их и
обратиться к одному важному приложению этой концепции,
которая была признана далеко не всеми современниками
Аквината. Она подверглась нападкам, потому что многим теологам она
представлялась несовместимой с христианским
представлением о душе. Утверждение, что человеческая душа в своей
индивидуальности определяется материей, представлялось
унижающим ее достоинство. Но Аквинат сразу ухватил быка за рога.
Он. разумеется, признавал, как мы увидим в одной из
следующих глав, что человеческая душа духовна и что она продолжает
жить после телесной смерти; но он, как мы видели,
придерживался также взгляда, что ум первоначально подобен восковой
дощечке, на которой ничего не написано. Человеческие души
отличны одна от другой именно благодаря соединению их с
различными телами. «Ибо одна душа соразмерна этому телу, а не
иному, другая душа — тому телу, и так же обстоит дело со всеми
душами» (S.G., 2, 81). И Аквинат делает вывод. «Ясно, что чем
лучше устроено какое-то тело, тем лучшая душа выпадает на
его долю»1. Это очевидно в случае существ, относящихся к
различным видам. А причина этого в том, что акт и форма,
которые воспринимаются материей, отвечают вместимости материи.
Коль скоро некоторые люди обладают лучше устроенными
телами, они обладают и душами, наделенными большей
способностью к пониманию. Поэтому, как говорит Аристотель в De
anima (О душе) (2, 9; 421 а, 25-6), мы «видим, что люди с более
мягким телом отличаются и более живым умом» (S.T., la, 85, 7).
Кое-что здесь довольно примитивно, но ясно, что Аквинат
отнесся бы весьма благосклонно к современным исследованиям за-
1 Эти слова не следует понимать в том смысле, будто Аквинат думал,
что человеческие души существуют прежде их объединения с телами. Он
был убежден в том, что каждая человеческая душа сотворена Богом, но не
в том, что ее творение предшествует образованию тела.
93
висимости психических особенностей от физических,
поскольку они подтверждают его концепцию материи как начала
индивидуализации.
* * *
Различие между формой и материей было, согласно Аквина-
ту, разновидностью более широкого различия между актом и
потенцией. Первая материя, рассматриваемая абстрактно, есть
чистая потенция к последующей актуализации посредством
субстанциальных форм, каждая из которых относится к своей
материи как акт к потенции, актуализируя потенцию материи. Но
если различие между материей и формой применимо только к
телесным вещам, то различие акта и потенции присуще всем
конечным вещам.
Общую идею различения между актом и потенцией довольно
легко проиллюстрировать примерами из обычной речи. Я могу
сказать о себе: «Я пишу, но, если хотите, могу пойти гулять». Или
мы можем сказать о ком-то: «Он вполне способен поднять этот
вес, если захочет». Или можно сказать о деревянной доске: «Да,
это — прекрасная доска, но если нужно, ее можно расколоть на
дрова». Или о воде можно сказать, что это — вода, но она может
обратиться в пар. Я в настоящий момент, т. е. актуально, пишу,
но я способен или имею потенцию идти гулять. Этот человек
актуально не поднимает тяжести, но он способен сделать это, т. е.
имеет способность или потенцию к этому. Доска — в настоящий
момент действительно доска, но может (способна) быть
расколота. Вода — актуально вода, но обладает силой или потенцией стать
паром. Конечно, можно заявить, что различения, к которым я
апеллирую в обычной речи, — это только лингвистические
различения и что единственное, что я делаю, — это обращаю
внимание на те различения, которые мы делаем, говоря об этих
вещах. Но Аквинат был убежден, что лингвистические различия
выявляют объективные различия в вещах. «О том/ что может
существовать, но не существует, говорят, что оно существует
потенциально; а о том, что уже существует, говорят, что оно
существует актуально* {De principiis naturae, первое положение).
Это различие между актом и потенцией обнаруживается, по
Аквинату, в каждой конечной вещи, но не обязательно
одинаковым способом. Дуб может претерпеть субстанциальное изменение,
духовное же существо не может. И все же ангел имеет потенцию
94
осуществлять акты любви к Богу. Где бы ни имела место
конечность, там имеется, так сказать, смесь акта и потенции.
Никакое конечное существо не может существовать, не будучи чем-то
определенным, но оно никогда не исчерпывает все свои
потенции разом. Всегда возможно какое-то развитие, какая-то
дальнейшая актуализация.
Таким образом, возможность развития — это проявление
конечности. Например, имеет смысл говорить об умственном
развитии посредством приобретения знания только в случае конечного
разумного существа. Высказывание, что бесконечный всеведущий
ум приобретает знание, было бы противоречивым. Ибо знание
может приобретаться только тем умом, который еще им не
обладает. Но из этого не следует, что способность конечного ума к
приобретению знания является несовершенством, т. е. чем-то таким,
о чем можно сказать, что лучше было бы, если бы его не было.
Человеческий ум, который начинает с полного неведения,
способен развиваться, приобретая знание; и Аквинат, разумеется,
никогда не думал, что для человеческого ума было бы лучше, если
бы он не имел этой способности и был обречен оставаться в
полном невежестве. Способность ума к приобретению знания
поэтому нельзя назвать несовершенством, хотя в ней проявляется
конечность ума. Таким образом, Аквинат не отрицает и не
принижает «динамическую» концепцию вселенной. Напротив, во всех
вещах он видит естественное стремление к осуществлению или
развитию каких-то своих потенций, и это стремление он
оценивает как благое. В идее саморазвития или
самосовершенствования посредством деятельности нет ничего несовместимого с
философией Аквината. В то же время способность к приобретению
знания, например, существует для того, чтобы актуально
овладеть знанием, и пассивное владение знанием существует ради его
актуального использования. «Завершение (т. е. цель) потенции —
акт» {S.Т., 1а, Пае, 55, 1). «Каждая вещь совершенна в той мере,
в какой она актуальна, ибо неактуализированная потенция
несовершенна» {S.T., la, Пае, 3, 2). Способность к саморазвитию не
является несовершенством в том смысле, что ею лучше не
обладать; но она — несовершенство в сравнении с актуальным
состоянием, достигаемым в итоге развития. Аквинат не ставил
стремление выше обладания, например, он не сказал бы, что лучше
бесконечно искать истину, чем знать, что истинно, или что
стремиться к добродетели превосходнее, чем обладать ею. И вместе с
95
тем знания накапливаются с целью их применения, а
добродетели приобретаются для того, чтобы совершать моральные поступки.
Все эти моменты соединяются у Аквината в иерархическом
представлении о реальности. В самом низу лестницы совершенств
находится «первоматерия», которая не может существовать сама по
себе, поскольку в ней содержится только потенция к
последующему принятию субстанциальных форм, способных оформлять
материю1. На вершине иерархии находится Бог (хотя это не
следует понимать буквально, так как Бог, бесконечное
трансцендентное бытие, не может рассматриваться в одном ряду с конечными
вещами), который есть чистый акт, без каких бы то ни было
неосуществленных потенций. Поэтому, если мы сравним уровни
иерархии сущего, мы должны будем сказать, что как таковое
обладание потенцией — я имею в виду нереализованные возможности —
есть несовершенство, поскольку оно указывает на отсутствие
возможного совершенства, и испытывает нужду в реализации этой
потенции. Конечные существа менее совершенны, чем Бог. Но в то
же время всякое конечное существо было бы менее совершенно,
чем в действительности, если бы у него вообще не было
способности к саморазвитию. Развитие, которое мы обнаруживаем во
вселенной, — знак конечности составляющих ее вещей; всякое
конечное существо с необходимостью представляет как бы смесь
потенциальности и актуальности, и развитие — это движение к
полной реализации формы. Статическая вселенная, будь таковая
возможна, не была бы лучше динамической вселенной. Бог — мера
всех вещей, как сказал Платон, возражая Протагору; но лишь
посредством саморазвития возможно для конечных вещей как бы
некое подражание полноте божественной актуальности.
* * *
Итак, согласно Аквинату, различие между потенцией и актом
есть во всех конечных вещах. Но само по себе высказывание, что
они находятся во всякой конечной вещи, говори!* нам не
слишком много. Человек, к примеру, безусловно, обладает
потенциями или способностями, но мы хотим знать, какими именно
способностями он обладает. Однако предметом нашего обсуждения в
настоящий момент являются наиболее общие принципы филосо-
1 Субстанциальные формы, за исключением человеческой души, также
не могут существовать сами по себе.
96
фии Аквината и его утверждения о конечных вещах вообще, а
не о какого-то рода конечном существе. Мы рассмотрели прежде
особый вид различения между потенцией и актом, имеющий
место во всех телесных вещах, а именно различение между
материей и формой, в котором форма так относится к материи, как
акт к потенции. И мы использовали это частное различение для
того, чтобы ввести на его основе более общее различение. Теперь
мы рассмотрим разновидность отношения «потенция — акт»,
которая, согласно Аквинату, имеет место во всех конечных вещах:
и телесных, и бестелесных, а именно — отношение сущности к
существованию.
Аквинатово различение между сущностью и существованием
довольно трудно для понимания. Правда, предварительное
понятие о нем можно дать, пользуясь нашим обычным языком. Ведь
в повседневной речи мы обычно отличаем чтойность — природу
или сущность вещи, от того факта, что она существует. Если
ребенку попадаются в книге слова «слон» или «динозавр» и он не
понимает, что это значит, то смысл этих слов можно объяснить ему,
не добавляя, что слоны существуют, а динозавры нет. В таком
случае в уме ребенка возникнет некоторое представление о чтой-
ности слона, но он не будет знать, существуют ли вещи, к
которым приложимо данное описание. Хотя с помощью такого рода
примеров можно составить предварительное представление о
различении сущности и существования, которое проводит Акви-
нат, однако сразу же возникают трудности, как только мы
попытаемся выйти за пределы этого предварительного
представления (которое само по себе может ввести в заблуждение). Поскольку
же Аквинат придавал особо важное значение этому различению,
его нельзя обойти в книге, посвященной его философии.
Прежде всего, что понимает Аквинат под «сущностью»?
Сущность — это то, что отвечает на вопрос, что такое вещь; это —
субстанция, рассматриваемая как нечто, чему может быть дано
определение. «Ясно, что сущность есть то, что соответствует
определению вещи» (De ente et essentia, 2). В случае материальных
вещей «слово сущность обозначает то, что составлено из
материи и формы» (ibid.). Существование, со своей стороны, — это
акт, посредством которого сущность или субстанция
существует или имеет бытие. «Существование обозначает некоторый акт;
ибо о вещи говорят, что она существует, не потому, что она
находится в потенции, но оттого, что она реализовалась в акте»
97
(S.G., I, 22, 4). Сущность — это потенциальная метафизическая
составляющая в вещи (она есть то, что существует или имеет
бытие, quod est), тогда как существование — это акт,
посредством которого сущность получает бытие (оно есть quo est).
Следует отметить, что это различие не является физическим
различием между двумя отдельными вещами, а метафизическим
различением внутри вещи. Сущность и существование — это не
две вещи. Нет никакой объективной сущности без
существования и нет никакого существования, которое не было бы
существованием чего-либо. Когда Аквинат говорит о существовании
как о «полученном» или «ограниченном» сущностью (ср. De ente
et essentia, 6), он не имеет в виду, что имеется какое-то
существование вообще, которое как бы разделяется между
индивидуальными вещами. Поскольку существование, как показывает
наш опыт, — это всегда существование некоторой сущности,
точнее, существование вещи определенного вида, т. е.
обладающей определенной сущностью, то можно сказать, что оно
«ограничено» сущностью; ибо оно всегда есть существование
человека, или лошади, или собаки, или еще какой-нибудь субстанции.
Но субстанция, рассматриваемая как сущность, — это то, что
имеет бытие, о чем мы говорим, что оно существует; поэтому
можно сказать, что она «получает» существование. Во всех этих
способах выражения не подразумевается ни то, что
существование есть нечто, имеющее место отдельно от сущности, ни то,
что сущность имеет объективную реальность отдельно от
существования. Различие между ними есть различие внутри
конкретной конечной вещи.
Насколько я знаю, Аквинат явно не употреблял в этой связи
термина «реальное различие». Но он говорит о «реальном соединении»
сущности и существования в конечных вещах (De veritate, 27, 1,
ad 8), и он говорит, что различие между сущностью и
существованием в Боге только мысленное (In Boethium de tiébdomadïbus, 2).
Последнее утверждение явно указывает на то; что в конечных
вещах это различие не только мысленное. Кроме того, он обычно
говорит о существовании как о чем-то другом, чем сущность.
Поэтому, как мне кажется, не может быть сомнения, что Аквинат
настаивал на объективном различии между сущностью и
существованием в конечных вещах, т. е. утверждал, что это различие не
обусловлено просто способом нашего мышления и структурой языка.
Он отличает использование глагола «быть» в экзистенциальных
98
утверждениях типа «Питер Браун существует» от его
использования в описательных или предикативных предложениях типа
«Человек разумен»; но различение между сущностью и
существованием, конечно, не было, на его взгляд, чисто лингвистическим
различением. Оно проявляется в лингвистических различениях, но
то, что проявляется, — это различие, объективно наличное, по
его мнению, в самих вещах, а не лингвистическое различение как
таковое. В то же время, называя это объективное различие
«реальным» различием, не следует его понимать как различие между
двумя вещами, которые могут быть физически обособлены друг
от друга, подобно стрелкам часов. До объединения сущности и
существования при образовании конкретной и актуальной вещи не
было ни объективной сущности, ни существования. А их
«обособление» означает просто уничтожение этой вещи.
Таким образом, различие между сущностью и
существованием у Аквината — это различие между сущностью и
существованием, возникающее в конечной вещи при ее переходе из
потенции в акт. Это не различие между нашим
представлением о сущности вещи и самой вещью; такое различие мы будем
рассматривать как само собою разумеющееся. Оно не означает
также, что прежде существования любого конкретного
человека его сущность пребывает в некоем особом мире сущностей
в ожидании своего существования. Аквинат не верил в
наличие такого призрачного мира пребывающих сущностей. В
некотором смысле сущность предсуществует в Боге как
божественная «идея». Но Аквинат прекрасно сознавал, что говорить
об «идеях» в Боге — значит использовать антропоморфные
представления и что нет никакого объективного различия между
божественными идеями и божественным бытием. Существование
божественных идей и божественное существование — это одно
и то же. Различие между сущностью и существованием не есть
различие между Богом и творениями; это различие
характеризует саму конечную вещь, рассматриваемую в ее
актуальном состоянии. Когда Аквинат говорит, что существование
«приходит извне и вместе с Сущностью образует составное сущее» (De
ente et essentia, 5), он не имеет в виду, что предварительно
«существующее» существование сообщается предварительно
«существующей» сущности, что было бы крайне нелепо; он полагает,
что акт, посредством которого некая сущность получает
бытие, имеет причину, и эта причина является внешней по от-
99
ношению к самой вещи. То, что возникает, есть
существующая субстанция; но она существует не просто потому, что она
есть вещь некоторого вида, например человек.
Подход Аквината к этому предмету, однако, способен порой
ввести в заблуждение. De ente et essentia — ранняя его работа,
и в том, как Аквинат в этом сочинении рассматривает
различие между сущностью и существованием, сказывается влияние
ал-Фараби и Авиценны. «Все, что не принадлежит к понятию
сущности или чтойности, приходит извне и вместе с сущностью
образует составное сущее. Ибо никакую сущность нельзя понять
без учета частей этой сущности. А всякая сущность или чтой-
ность может быть понята безотносительно к ее
действительному существованию. Ведь я могу понять, что такое человек или
феникс, и при этом не знать, существуют ли они в природе. Ясно
поэтому, что существование отлично от чтойности, если,
впрочем, не существует нечто, чья сущность есть существование»
(De ente et essentia, 5). Этот отрывок позволяет высказать
предположение, что Аквинат основывал свое различение сущности
и существования просто на нашей способности узнавать смысл
слова посредством описания, не зная, существует ли ^о, к чему
это описание действительно относится. Например, как мы
видели, если маленькому мальчику встречаются в книге слова
«слон» и «динозавр» и он не понимает их, он может попросить
отца объяснить. И хотя его отец мог бы, вероятно, сказать о том,
что слоны существуют, но что в наше время, насколько
известно, не существует динозавров, в этом не было бы
необходимости. Смысл слов можно объяснить посредством описания, не
упоминая о существовании слонов и несуществовании динозавров.
Исходя из этого, правомерно заключить, что все, что Аквинат
реально делает, сводится к тому, чтобы просто обратить
внимание на нашу способность узнавать смысл слова по описанию,
не касаясь вопроса о существовании чего-то такого, к чему это
описание приложимо. Но следует учесть, что Аквинат не
рассматривал существование такой способности как безошибочный
показатель существования объективного различия между
сущностью и существованием в самой вещи. Он ясно говорит, что
человек может знать смысл слова «Бог», не зная, что Бог
существует. «Не является необходимым, что, как только
известен смысл слова Бог, тотчас же должно быть известно, что Бог
существует» (S.G., 1, 11). Так как Аквинат был убежден, что нет
100
никакого объективного различия между сущностью и
существованием в Боге, он не мог считать, что наша способность
узнавать смысл слова по описанию, не зная, существует ли то, к
чему описание приложимо, является непогрешимым
доказательством объективного различия между сущностью и
существованием в именуемых вещах.
Если нет никакого объективного различия между сущностью и
существованием в Боге, тогда, по-видимому, узнать смысл
слова <Бог» — значит узнать о том, что оно означает Сущее, чья
сущность включает существование. Но из этого не следует, что,
узнав смысл слова «Бог», с необходимостью узнают, что Бог
существует. Так было бы только в том случае, если бы постижение
смысла слова «Бог» влекло за собой созерцание или
непосредственное постижение божественной сущности. Аквинат же не думал,
что мы обладаем подобного рода способностью. Следовательно, мы,
как представляется, вправе истолковать утверждение о том, что
мы способны понимать сущность, скажем, человека, не касаясь
вопроса о существовании людей, просто как основанное на
допущений возможности такого постижения сущности человека,
которое не включает постижение ее существования1. Или, скорее,
ум схватывает конкретную сущность или природу как то, что
имеет бытие, т. е. как существующую. Различие между
сущностью и существованием явно постигается только философской
рефлексией; но неявно оно присутствует в нашем
непосредственном познании вещей и подразумевается в обычном языке.
Аквинат, видимо, объяснил бы введение специального языка,
опирающегося на различение «сущность — существование»,
который, несомненно, многим из нас кажется странным,
необходимостью экспликации неявных составляющих обычного знания
и обычного языка. Дело не в том, что метафизик открывает
новый факт, а именно что сущность отлична от существования,
подобно тому как естествоиспытатель открывает прежде
неизвестный остров или цветок; то, что он делает, — это, скорее,
выявление чего-то имплицитно содержащегося в нашем
постижении вещей в их актуальном состоянии.
Некоторые современные томисты в качестве основания
метафизики постулируют некую изначальную метафизическую
1 Аквинат не считал, что мы в обычном состоянии имеем
непосредственную интуицию сущности вещей.
101
интуицию «бытия», которую одни философы, очевидно,
имеют, а другие — нет; первые и есть метафизики. Но. если
существует такая интуиция, она не может быть эквивалентна
какому-то мистическому опыту, являющемуся привилегией
метафизиков; такое представление Аквинату, конечно, чуждо. Не
может она также быть эквивалентна сообщению какой-то
части фактической информации немногим избранным. Вероятно,
она более сродни нашей способности увидеть что-то знакомое
как бы «в первый раз» или «в новом свете», в данном случае —
отчетливо увидеть экзистенциальный аспект конечных вещей.
Так как Аквинат веровал в Бога и божественное творение, он,
очевидно, был заранее предрасположен к мнению, что
конечные субстанции не содержат в себе своего собственного
существования. Иными словами, он был предрасположен
рассматривать всякое экзистенциальное высказывание о конечных
вещах как случайное высказывание. Но он, по-видимому, не
сомневался, что различие между сущностью и
существованием в конечных вещах может быть схвачено независимо от
знания о существовании Бога. В уже цитированном отрывке (De
ente et essentia, 5) он утверждает: «Ясно поэтому, что
существование отлично от сущности (quidditas); если, впрочем, не
существует некая вещь, сущность которой есть
существование». Формулировка сказанного в последней части этого
отрывка ясно показывает, что признание различия «сущность —
существование» не представлялось ему зависящим от уже
имеющегося знания о существовании Бога. Тем не менее, поскольку
вера в Бога предрасполагала его к признанию этого различия,
легко понять, почему он не делает никакого явного
утверждения о какой-либо «метафизической интуиции», и очень может
быть, что такого рода интуиция неявно предполагается им.
Однако, как я указывал, идея квазимистической «интуиции
бытия», доступной избранному кругу метафизиков, была бы
совершенно чужда мысли Аквината. Согласно его воззрению, «то,
что интеллект постигает прежде всего, ...есть сущее» (De
veritate, I, 1). Что бы я ни постигал, я постигаю это как некую
вещь, как сущее. Но это скрыто присутствующее постижение
бытия, сопровождающее всякий наш мысленный контакт с
вещами, не есть та «интуиция бытия», о которой говорят такие
томисты, как Этьен Жильсон и Жак Маритен, хотя оно
является основанием для нее и ее условием. Они говорят, скорее, о
102
сознательном обращении к экзистенциальному аспекту вещей,
о видении этого аспекта как бы в ярком свете. Вполне
возможно, что нельзя до конца понять, почему в философии Аквина-
та проблеме существования придается столь большое значение,
если сознательно не стремиться приобрести такого рода «опыт»
относительно того, что открыто всем, но что не всеми
сознается столь живо, как Аквинатом.
Я отнюдь не предполагаю, что приведенные рассуждения
устранят все трудности, возникающие при использовании языка,
опирающегося на различение «сущность — существование»; я
далек от этого. Едва ли можно избежать использования этого
языка, если стремиться к тому, чтобы провести различие между
сущностью и существованием в той плоскости, в какой оно было
проведено Аквинатом, а именно на метафизическом уровне.
Следует, однако, отметить, что структура нашего языка такова,
что об этом предмете очень трудно говорить, не употребляя
терминов и выражений, которые как бы «овеществляют» сущность
и существование. Кроме того, желающие сохранить язык,
опирающийся на различение «сущность — существование»,
обязаны тщательно проанализировать его. Просто говорить об
«интуиции», наверное, недостаточно. Даже если признать интуицию
в очерченном выше понимании, все же язык, используемый для
ее явного выражения, остается открытым для критического
анализа. Самому Аквинату, очевидно, не нужно было обосновывать
использование языка, хорошо знакомого его современникам, но
такие термины, как, например, «сущность», не могут
считаться само собой разумеющимися в наши дни. Одно дело —
сказать, что понимал под этим термином Аквинат; другое дело —
сделать его общепринятым для своих современников. Однако
недостаток места не позволяет продолжить обсуждение этой
темы; в заключение раздела я хотел бы сделать несколько
кратких замечаний, касающихся вопроса: действительно ли учение
Аквината свидетельствует о том, что он считал существование
предикатом.
Утверждение о различии между сущностью и
существованием было не новым. Философы мира ислама, такие, как ал-
Фараби (ум. ок. 950), Авиценна (Ибн Сина) (ум. 1037) и Альга-
цель (ал-Газали) (ум. 1111), уже проводили такое различие. Но
они говорили о существовании как об «акциденции», хотя
Авиценна и видел, что оно не может быть такой же акциденцией,
103
как другие. Аквинат отчетливо это осознал, и для него
существование вообще не было акциденцией, но тем, благодаря чему
возможно обладание акциденциями. Было бы нелепо, например,
сказать, что Петр белый, высокий, существующий и забавный.
Ибо если бы Петр не существовал, он не мог бы быть ни
белым, ни высоким, ни забавным. Существование, по Аквина-
ту, было актом, посредством которого субстанция получает
бытие; а пока она не имеет бытия, у нее не может быть акци-
дентальных модификаций. Он говорит о существовании как о
чем-то, что в вещи является наиболее глубоким и
сокровенным, как форма по отношению ко всем характеристикам вещи
(S.T., la, 8, 1, ad 4). Он действительно говорит о нем как о
«совершенстве», но оно есть «актуальность всех актов и, таким
образом, совершенство всех совершенств» (De potentia, 7, 2,
ad 9). Другими словами, существование не может быть
поставлено в один ряд с другими атрибутами, поскольку оно —
основание всех атрибутов. Язык Аквината может навести на мысль,
что существование — атрибут сущности; но по сути дела, оно
есть основание самой сущности, поскольку без акта
существования сущность не имела бы бытия. Может показаться, что тут
возникает терминологическое противоречие, поскольку
говорят, с одной стороны, что существование — акт, посредством
которого сущность имеет бытие, а с другой — что сущность
получает существование. Но Аквинат не рассматривал сущность
как нечто существующее, которое получает «существование»
как своего рода акциденцию. Возникновение вещи включает
одновременное произведение двух метафизических составляющих,
неотделимых друг от друга, — сущности, предопределяющей,
что акт существования должен привести к существованию этой,
имеющей определенный вид вещи, и существования,
актуализирующего сущность. О том, что одно начало по времени
предшествует другому, не может быть речи. Как я говорил,
уяснить себе эту концепцию довольно трудно, но понять учение
Аквината невозможно, если кто-то упорно приписывает ему
мысль о сущности и существовании как о двух вещах или о двух
физических компонентах вещи. Создана и существует единая
вещь; но в этой единой вещи мы должны, согласно Аквинату,
различать сущность и существование, которые объективно
различны, хотя они не отличаются друг от друга как
отдельные или отделимые вещи. Аквинат первым признал бы, что.
104
хотя молено приписать существование сущности в соответствии
с правилами грамматики, это не дает основания утверждать,
что существование является атрибутом в том смысле, в каком
другие атрибуты являются «атрибутами».
* * ♦
Данное нами описание различий между субстанцией и
акциденцией, материей и формой, сущностью и существованием, —
а все они иллюстрируют, каждое по-своему, самое общее
различие, присущее всем конечным вещам, а именно различие
между потенцией и актом, — может создать представление,
что метафизика Аквината состоит из сухих и замысловатых
рассуждений, изложенных на незнакомом языке и не особенно
приложимых к миру, который мы знаем. Поэтому, завершая
эту главу, я хочу указать некоторые следствия, вытекающие
из его метафизической доктрины, что, возможно, облегчит ее
понимание.
Различия между субстанцией и акциденцией, а также
между материей и формой привлекают внимание к двум
характеристикам мира — постоянству и изменению. Мы все говорим о
вещах так, как будто они до некоторой степени постоянны. Хотя
человек рождается и умирает, хотя дерево имеет определенное
время жизни, мы говорим и о человеке и о дереве, о каждом из
них, пока они живы, как об одном и том же индивидуальном
сущем. Даже в ненормальном, патологическом случае
«расщепления личности», или раздвоения личности, мы мыслим
соответствующие явления как случающиеся с определенным
человеком и как имеющие место внутри одного и того же человека.
Мы можем сказать, например, «он страдает от шизофрении»,
приписывая эти явления определенному индивидуальному
существу. В то же время мы все мыслим и говорим о вещах еще и
как о способных претерпевать и действительно претерпевающих
изменение. Мы сами изменяемся в известных пределах,
сохраняя при этом тождественность себе. Дерево изменяется, хотя эти
изменения и приписываются дереву, взятому как относительно
постоянная вещь. Объекты, носящие одни имена, изменяются в
объекты с другими именами, например в результате химической
реакции. Постоянство и изменение — две характерные черты
мира, данного в повседневном опыте и описываемого в
естественном языке, в котором отражен и выражен этот опыт. Эти ха-
105
рактеристики и находят абстрактное выражение в проводимых
Аквинатом различениях между актом и потенцией,
субстанцией и акциденцией, формой и материей. Он может говорить
непривычно для нас, но он говорит о знакомом нам. Он не
конструирует статичного мира, наподобие парменидовского, и не
ставит нас перед гераклитовским потоком; он описывает мир
таким, как он известен нам в повседневном опыте. Он ставит
нас перед миром, который весь как бы пронизан формой,
умопостигаемой структурой, и потому является умопостигаемым.
В то же время он ставит нас перед изменяющимся и
развивающимся миром. Акцентируя эти аспекты мира, он дает
теоретические основания для частных наук. Если бы мир был
вообще непостижим, наука была бы невозможна, разве что только
как мысленное и неверифицируемое построение. Но и
подчеркивание изменения и развития, с другой стороны, характерно
для наук. Безусловно, нельзя дедуцировать заключения
эмпирических наук из абстрактных метафизических принципов; но
Аквинат и не предполагал, что это возможно. Но между
миром, как он описывается в метафизике Аквината, — если
отвлечься от конкретных научных представлений той эпохи — и
современной наукой нет того расхождения, какое существует,
к примеру, между философией Парменида и современной
наукой. И метафизика Аквината, и современная наука исходят
из всем знакомого мира обыденного опыта, хотя метафизика
Аквината движется в более абстрактной плоскости, чем
эмпирические науки.
Этот аспект метафизики Аквината, а именно формирование
представления о мире путем объединения характеристик
постоянства и изменения, видимо, может быть назван
конструированием мира. Создается абстрактная теоретическая
картина развивающейся вселенной, обладающей в то же время и в
достаточной степени постоянством и постижимостью, чтобы
сделать возможным познание. Но существует и другой аспект —
его, видимо, можно определить как разрушение мира, если под
словом «мир» имеется здесь в виду самодостаточный Абсолют.
Этот аспект представлен различением сущности и
существования. Мы склонны обычно представлять все индивидуальные
вещи существующими и действующими «в мире», как если бы
мир был тоже вещью, но особого рода, — вместилищем, в
которое помещаются другие вещи. По Аквинату же, мир — это
106
система взаимосвязанных конечных субстанций, а не что-то,
отличное от них; и в каждой конечной вещи он обнаруживает
то, что можно назвать радикальной экзистенциальной
неустойчивостью, находящей свое абстрактное выражение
в различении «сущность — существование». Этой своей
стороной его метафизика в каком-то смысле выходит за
пределы знакомого повседневного мира, пусть даже сам
он считал, что это различение отображено в обычном
языке. Здесь намечается переход к его
метафизическому учению о Боге, на познание которого, как
настаивает Аквинат, метафизика существенным образом
ориентирована. Этот аспект его метафизики можно, конечно,
поставить в один ряд с системами других метафизиков,
которые указывали на необходимость сведения
множества к единству, зависимого — к независимому или
абсолютному. Следует, однако, отметить, что,
осуществляя переход от мира к Богу, Аквинат не аннулирует
мир конечных субстанций и не обращает их в
акциденции или модусы Абсолюта: он связывает конечные
субстанции, данные в опыте, с
Богом, и именно в самих
конкретных вещах он находит
нечто, что связывает их с
основанием их существования.
Его «разрушение» мира — это
критика идеи мира как
квазисущности, как псевдо-Абсо-
люта, а не вещей, которые в
своей взаимосвязи образуют
мир. Как он осуществляет
переход от конечных вещей к
Богу, будет рассмотрено в
следующей главе.
Святая троица.
Мастер «Санкт-Ламбрехтского образа, написанного по обету»
Глава 3
Бог и творение
Аквинат был прежде всего христианином, а
затем уже метафизиком. Его вера в Бога не была
следствием его метафизических аргументов. Он и без
того верил в высшую реальность, обладающую
теми атрибутами, которые христиане
приписывают Богу. Почему же тогда, спрашивается, он
предлагает какие-то доказательства существования
Бога? Можно выдвинуть разные предположения. Например,
следующее. Систематический труд по теологии, посвященный,
подобно трактату Summa theologica, изложению содержания
христианского вероучения, было совершенно естественно начать с
того, что Аквинат назвал «преамбулой» веры. Но необходимость
такой преамбулы диктовалась не только методологическими
соображениями; гораздо более важную роль сыграло его
убеждение в том, что существование Бога не самоочевидно. Все, что мы
знаем о жизни Аквината, свидетельствует о ясной и глубокой
вере, высшая полнота которой нашла свое выражение в
мистическом опыте; но это не означает, что он не подозревал о
возможности агностицизма и атеизма. А возможны они потому, что
существование Бога не самоочевидно. «Никто не может помыслить
противоположного тому, что самоочевидно. ...Но
противоположное утверждению «Бог существует» можно помыслить. ...Поэтому
утверждение, что Бог существует, не является самоочевидным»
(S.T., 1а, 2, 1, sed contra). Аквинат разбирает аргумент, который
нередко приводился (например, св. Бонавентурой) в
подтверждение того, что знание о существовании Бога от природы присуще
109
всем людям. Ход рассуждения
примерно таков. Всем людям по
природе свойственно врожденное желание
счастья. Счастье же заключается в
обладании Богом. Поэтому все люди
имеют естественное желание Бога. Но
в таком случае они должны иметь
врожденное знание о Боге, ибо,
чтобы желать чего-либо, надобно это
знать. Аквинат не отрицает
убедительности этой цепочки
умозаключений. Он допускает, что свойственное
человеку по природе желание
счастья предполагает какое-то, хотя и не
выраженное явно, знание о Боге; это
_ _ Л значит, что, как только мы узнаем,
Св. Бонавентира „
что Бог существует и что
устремленность к Нему составляет человеческое счастье, мы можем
увидеть в желании счастья желание Бога. Но этим не доказывается,
что кто-то имеет врожденное знание об истинности утверждения,
что Бог существует. «Знать, что кто-то приближается, — не
значит знать, что приближается Петр, хотя приближающийся
человек — на самом деле Петр. Так же и о счастье: многие ведь
думают, что совершенное благо человека, которое и есть счастье,
состоит в богатстве; а кто-то думает — что в удовольствии, а
иные— что в чем-то еще» (S.T., 1а, 2, 1, ad 1). Нельзя поступить
и следующим образом: сначала доказать самоочевидность
существования истины на том основании, что отрицающий ее
существование неявно утверждает его; а затем, исходя из того, что
Бог есть истина, прийти к заключению, что существование Бога
самоочевидно. Ведь то обстоятельство, что существует истина
«вообще», не делает самоочевидным существование Бога.
Аквинат отрицает также утверждение, что, как только понят
смысл слова «Бог», сразу же очевидно, что Бог существует.
Рассматривая это предположение в обеих «Суммах», он не
упоминает св. Ансельма по имени, но он, несомненно, име'ет в виду
принадлежащий ему так называемый «онтологический аргумент». Св.
Ансельм предполагает, что идея Бога — это идея того, «больше
чего ничего нельзя помыслить», т. е. в высшей степени
совершенного. Затем он доказывает, что если бы нечто, больше чего ниче-
110
го нельзя помыслить, существовало только в мысли или в нашей
идее, то оно не было бы тем, больше чего ничего нельзя
помыслить. Ибо можно было бы помыслить нечто большее (т. е. более
совершенное), а именно нечто, существующее не только в нашем
мысленном представлении о нем. И он приходит к заключению,
что никто не может иметь идею Бога и понимать ее и в то же время
отрицать, что Бог существует. Аквинат отмечает, что отнюдь
не каждый мыслит Бога как то, больше чего ничего нельзя
помыслить; ибо «многие из древних говорили, что мир есть Бог»
{S.G., I, 11). Во всяком случае, даже если мы принимаем как само
собой разумеющееся, что значение слова «Бог» — «нечто в
высшей степени совершенное», из этого вовсе не следует
безоговорочно, что Бог существует. Полагать, что это так, — значит
совершить незаконный переход с концептуального уровня на уровень
экзистенциальный. Нередко высказывалось мнение, что Аквинат
был несправедлив к ансельмову доказательству, что он, в
частности, не рассматривал его в том же контексте и под тем же
углом зрения, как его рассматривал автор. Такое утверждение,
возможно, и справедливо. Но нам нет нужды обсуждать здесь этот
вопрос, упирающийся в проблему интерпретации: для нас важно
подчеркнуть лишь то обстоятельство, что Аквинат отказывается
допустить, что мы можем начать с идеи Бога или с определения
слова «Бог» и из этого немедленно заключить, что Бог
существует. Если бы мы имели интуитивное знание о божественной
сущности, мы не могли бы отрицать существование Бога; ибо, как
считает Аквинат, в Боге нет реального различия между
сущностью и существованием. И в этом смысле утверждение «Бог
существует» «само в себе» самоочевидно. Но мы не имеем такого
интуитивного знания, и потому утверждение «Бог существует» не
является самоочевидным для человеческого ума и не может
рассматриваться как аналитическое суждение.
Отказ допустить," что существование Бога — это истина,
самоочевидная для человеческого ума, тесно связан с тем, что я
называю «эмпиристской» стороной философии Аквината. Наше
познание начинается с чувственного восприятия, и
психофизическая конституция человека такова, что именно материальные
вещи составляют первичный и естественный объект
человеческого ума. Всякое естественное знание, которое доступно нам о
каком-то предмете или предметах, запредельных видимому миру,
может быть получено посредством рефлексии о данных опыта.
111
Именно этот процесс рефлексии, систематически проведенной,
и доставляет доказательства утверждения, что Бог существует.
Без сомнения, можно*понять тех писателей, которые обвиняли
Аквината в «обосновании желаемого» ввиду того, что он строил
доказательство истинности утверждения, которое было уже
принято им на других основаниях. Не следует, однако, забывать его
общую философскую позицию. Ум должен начинать с данных
чувственного опыта; но рефлексия об этих данных, по его
убеждению, открывает экзистенциальную зависимость эмпирической
реальности от того, что находится за ее пределами. Аквинат не
был эмпириком в современном понимании, но именно «эмпирист-
ские» элементы его философии в значительной мере определили
его подход к проблеме высшей реальности — подход,
основанный на рефлексии о данных опыта. Он был убежден, что, если
агностик отнесется непредвзято к рациональным аргументам,
позволяющим осмыслить данное в опыте, он может прийти к
пониманию того, каким образом существование реальности, в
котором никто в действительности не сомневается, подразумевает
существование Бога. Что же касается христиан, то полное
понимание их веры требует осознания тех способов, которыми мир
конечных вещей ведет рефлектирующий ум к Богу, в которого
они уже уверовали с помощью веры, поддерживаемой молитвой.
* * *
Аквинат, конечно, не отрицает, что люди могут прийти к
знанию того, что Бог существует, другими путями, не посредством
философской рефлексии. И он никогда не утверждает, что
большинство людей, принимающих утверждение, что Бог
существует, приводятся к этому убеждению либо благодаря найденным
ими самими метафизическим аргументам, либо благодаря
пониманию метафизических аргументов, представленных
другими. Он также никогда не смешивал интеллектуальное согласие
с выводами таких метафизических доказательств; и живую
христианскую веру в Бога и любовь к Богу. Но он действительно
думал, что рефлексия о совершенно привычных характеристиках
мира дает достаточно полные свидетельства существования Бога.
Сама рефлексия, поддерживаемая и производимая на
метафизическом уровне, трудна, и Аквинат отчетливо осознает и
признает ее трудность; он, разумеется, не считает, что всякий
способен к длительной метафизической рефлексии. В то же время
112
эмпирические факты, на которых основывается эта
рефлексия. — это, как он считал, самые обычные факты. Чтобы
усмотреть связь конечных вещей с сущим, от которого они зависят,
нам не требуется предпринимать научное исследование, чтобы
открыть неизвестные прежде эмпирические факты. И
метафизик, когда он открывает Бога, ничуть не похож на
естествоиспытателя, внезапно наткнувшегося на неизвестный цветок или
увидевшего неведомый остров. Нужны скорее внимание и
рефлексия, чем исследование и поиск.
Каковы же те обычные факты, которые, по Аквинату,
предполагают существование Бога? Упоминание о них можно найти
в известных «пяти путях» доказательства существования Бога,
как они представлены в «Теологической сумме» (S.T., 1а, 2, 3).
Первое доказательство Аквината начинается с высказывания, что
«несомненно и явствует из чувственного опыта, что некоторые
вещи в этом мире движутся». Напомним, что Аквинат, подобно
Аристотелю, обозначает термином «движение» изменение
вообще, переход из потенциального состояния в актуальное; он не
имеет в виду исключительно движение перемещения. Исходным
пунктом второго доказательства служит высказывание, что «в
материальных вещах мы обнаруживаем наличие действующих
причин». Другими словами, из нашего опыта о вещах и их
отношениях друг к другу мы знаем о действующей причинности.
Таким образом, в первом случае мы начинаем с факта, что
некоторые вещи находятся в движении или в состоянии изменения, во
втором — исходя из факта, что одни вещи действуют на другие,
выполняя функцию действующих причин. В третьем варианте
доказательства Аквинат начинает с установления того, что «мы
обнаруживаем, что среди вещей некоторые способны и
существовать, и не существовать, так как мы находим, что некоторые вещи
возникают и уничтожаются». Иначе говоря, мы воспринимаем,
что некоторые вещи способны разрушаться и гибнуть. В
четвертом доказательстве он отмечает: «Мы находим, что некоторые
вещи в большей или в меньшей степени добры, истинны,
благородны и так далее (чем другие)». И наконец, в пятом случае он
говорит: «Мы видим, что некоторые вещи, которым не присуще
знание, а именно природные тела, действуют в виду некоторой
цели, что явствует из того обстоятельства, что они всегда или в
большинстве случаев действуют одинаково для достижения того,
что является наилучшим»/
113
Думаю, довольно легко согласиться, что исходные пункты
первых трех способов доказательства представляют собой
эмпирические факты. Ибо в действительности никто не сомневается, что
некоторые вещи подвергаются воздействию и изменяются или
«движутся», что некоторые вещи действуют на другие и что
некоторые вещи способны к гибели. Каждый из нас, к примеру,
сознает, что он подвергается воздействиям и изменяется, что
он выступает временами в качестве действующей причины и что
он может умереть. Даже если бы кто-то придрался к
утверждению, что он знает о себе, что он родился и умрет, то все же он
прекрасно знает, что другие люди рождались и умирали. Но
исходные пункты двух последних доказательств могут вызвать
известные трудности. Утверждение, что существуют различные
степени совершенств в вещах, нуждается в гораздо более
основательном анализе, чем дает Аквинат в своем кратком
изложении четвертого пути. Ведь схематический очерк пяти
доказательств не предназначался для того, чтобы удовлетворить
критический ум зрелого философа, он должен был служить
вводным материалом для «новичков» в изучении теологии. И во
всяком случае, Аквинат в XIII веке, конечно, мог считать
общепризнанными идеи, привычные для его современников и не
подвергшиеся еще радикальной критике, как это произойдет
впоследствии. В то же время не составляет большого труда
понять, что имелось в виду. Мы обычно мыслим и говорим так,
как если бы существовали, например, разные уровни
понимания и интеллектуальных способностей. Правда, чтобы оценить
различие по степени, необходимы образцы или фиксированные
точки отсчета; а если такие точки отсчета заданы, мы все обычно
делаем утверждения, предполагающие различные степени
совершенства. Хотя эти утверждения нуждаются в более
тщательном анализе, они относятся к чему-то, лежащему в области
обычного опыта и находят свое выражение в естественном
языке. Что касается пятого пути, современный читатель может
встретить большие трудности в понимании его смысла, если он
ограничится соответствующим отрывком из сочинения Summa
theologica. Но, если он обратится к работе Summa contra Gentiles
(I, 13), он обнаружит, что, по словам Аквината, мы видим, как
вещи разной природы согласно действуют в произведении и
поддержании относительно стабильного порядка или системы.
Когда Аквинат говорит, что мы видим, как неодушевленные вещи
114
действуют ради цели, он не подразумевает, что их действия
аналогичны сознательным действиям людей ради определенных
целей. И даже самая суть этого аргумента в том, что
неодушевленные вещи не действуют таким образом. Он имеет в виду, что
разнородные вещи, например огонь и вода, поведение которых
определяется различными «формами», согласованно действуют —
не сознательно, но на деле — таким образом, что существует
сравнительно стабильный порядок или система. Хотя
необходимость в основательном обсуждении предмета в этом случае
гораздо больше, однако и здесь также в основной идее нет ничего
экстраординарного, и она не противоречит нашему обычному
опыту и нашим ожиданиям.
Следует отметить также, что высказывания Аквината
отличаются большой строгостью, он избегает скоропалительных и
необоснованно широких обобщений. Так, в первом
доказательстве он не говорит, что все материальные вещи «движутся», но
лишь что мы видим, что некоторые вещи в этом мире движутся
и изменяются. В третьем доказательстве он исходит не из того,
что все конечные вещи случайны, но из того, что некоторые
веши, как известно, возникают и гибнут. В пятом
доказательстве также не утверждается, что существует неизменный
миропорядок или система, но что мы видим, что природные тела
всегда или в большинстве случаев действуют согласованно.
Поэтому трудности, которые могут возникнуть в связи с
предложенными Аквинатом доказательствами существования Бога, не
столько касаются эмпирических фактов или выбора им тех
эмпирических фактов, из которых он исходит, сколько
усмотрения того, каким образом из этих фактов выводится
существование Бога] ^^£2
Наверное^ следует сразу же сказать несколько слов о самом
понятии «выведение». В действительности Аквинат не
употребляет такого термина в изложении пяти путей — он говорит о
«доказательстве» или «демонстрации». Под «демонстрацией» в
этом контексте он понимает то, что у него называется demon-
stratio quia (S.T., la, 2, 2), а именно причинное доказательство
существования Бога, начинающееся с утверждения о каких-то
эмпирических фактах, например, что существуют
изменяющиеся вещи, и завершающееся заключением о наличии некоей
трансцендентной причины. Хотя только второе доказательство
может быть названо каузальным доказательством в собственном
115
смысле слова, поскольку оно прямо имеет дело с порядком
действующих причин, но и в других доказательствах идея
онтологической зависимости от трансцендентной причины проявляется в
том или ином виде. По убеждению Аквината, полное понимание
эмпирических фактов, избранных для рассмотрения в пяти
путях, включает усмотрение зависимости этих фактов от
трансцендентной причины. Существование, допустим,
изменяющихся вещей не является, по его мнению, само собою понятным;
оно становится постижимым, лишь поскольку рассматривается
как зависящее от трансцендентной причины, т. е. причины,
которая сама не принадлежит миру изменяющихся вещей.
Это может навести современного читателя на мысль, что
причинное объяснение у Аквината, по сути дела, не отличается от
выдвижения эмпирической гипотезы для объяснения
определенных фактов. Однако он не считал положение, утверждающее
существование Бога, причинной гипотезой, которая как таковая
в принципе может быть пересмотрена, т. е. мыслимы либо ее
преобразование в свете новых эмпирических данных, либо замена
ее более экономной гипотезой. Это обстоятельство, быть может,
наиболее ясно видно в случае его третьего доказательства,
опирающегося на факт существования возникающих и гибнущих
вещей. По мнению Аквината, никакое новое научное знание о
физическом устроении таких вещей никаким образом не может
повлиять на законность этого доказательства. «Демонстрация»
существования Бога не была у него эмпирической гипотезой в том
смысле, в каком теорию атомно-электронного строения
вещества можно назвать эмпирической гипотезой. Кто-то,
возможно, скажет, что он считает космологические доказательства
существования Бога действительно аналогичными эмпирическим
гипотезам конкретных наук и полагает, что они имеют
предсказательную силу. Но из этого не следует, что такую
интерпретацию законно было бы приписывать Аквинату. Нас не должны
вводить в заблуждение приводимые им порою примеры,
заимствованные из научных теорий того времени. Это просто
пояснительные примеры, понятные для его читателей; они не могут
служить подтверждением того, что доказательства
существования Бога были для Аквината эмпирическими гипотезами в
современном смысле этого термина.
Означает ли это, будто Аквинат считал, что существование
Бога логически вытекает из таких фактов, как изменение или
116
возникновение и уничтожение? Разумеется, он не считал, что
из положения «существуют возникающие и гибнущие вещи»
логически следует положение «существует абсолютно
необходимое, или не имеющее причины бытие» в том смысле, что
утверждение одного положения и отрицание другого приводит к
вербальному или формально-логическому противоречию.
Однако он полагал, что метафизический анализ того, что значит
быть возникающей и гибнущей вещью, показывает, что такая
вещь должна зависеть от абсолютно необходимого бытия. И он
полагал, что метафизический анализ того, что действительно
означает быть изменяющейся вещью, показывает, что такая
вещь зависит от высшего неподвижного двигателя.
Следовательно, согласно Аквинату, человек впадает в противоречие, если
он утверждает, что «существуют возникающие и гибнущие
вещи» и «существуют изменяющиеся вещи», и в то же время
отрицает, что «существует абсолютно необходимое бытие» и
«существует высший неподвижный двигатель». Но это
противоречие можно выявить только посредством метафизического
анализа. А искомое следование является, по существу,
онтологическим или причинным следованием.
Многие философы (и безусловно, все эмпирики), вероятно,
заметили бы по этому поводу, что если таково подлинное
мнение Аквината, то ясно, что он смешивал
причинно-следственное отношение с отношением логического следования. Надобно,
однако, напомнить, что, хотя Аквинат был убежден в
абсолютной несомненности положения, устанавливающего, что все
возникающее имеет некую причину, он тем не менее не думал, что
из существования одной конечной вещи вытекает
существование другой конечной вещи в том же самом смысле, в каком, по
нашему пониманию, из существования какой-то конечной вещи
следует существование Бога. На языке теологии, коль скоро мы
допускаем существование всемогущего Творца, мы можем
сказать, что Он может сотворить и поддерживать существование
какой-то конечной вещи без того, чтобы существовала другая
какая-то конечная вещь. Но отсюда не следует, что возможно
существование какой-то конечной вещи без Бога. Иными
словами, Аквинату нет нужды приводить другие примеры
онтологического следования, которое, по его утверждению, наличествует
между существованием конечных вещей и Богом. Хотя
отношение творений к Богу некоторым образом аналогично отношению
117
причинной зависимости одной конечной вещи от другой, все же
первое отношение, взятое как таковое, уникально. Аквинат не
смешивал причинно-следственное отношение с отношением
логического следования — он утверждал уникальность отношения
между конечными вещами и бесконечной трансцендентной
причиной, от которой они зависят.
Следует еще раз подчеркнуть: Аквинат не считал, что
метафизический подход к существованию Бога легко реализуем.
Правда, он был уверен в способности человеческого разума
достичь знания о существовании Бога; он не видел необходимости
подкреплять свои доказательства, прибегая для
убедительности к риторике или к эмоциям. В «Теологической сумме»,
написанной для «новичков» в теологии, он излагает доказательство
в сухой и, на удивление, безличной манере. Но мы не имеем
права делать отсюда вывод, что он полагал, будто каждый
может легко приобрести знание о существовании Бога при
помощи одной только философской рефлексии. В действительности
он явно высказывает утверждение противоположного свойства.
Он прекрасно знает, что в человеческой жизни имеют огромное
влияние и другие факторы, помимо метафизической рефлексии.
Кроме того, он, очевидно, согласился бы, что в любой момент
времени процесс рефлексии всегда может быть остановлен. По
Аквинату, всякое сущее, поскольку оно есть бытие или имеет
бытие, доступно постижению. Но мы можем рассматривать вещи
с разных точек зрения или с разных сторон. Например, я могу
рассматривать возникновение и уничтожение только в связи с
какими-то определенными обстоятельствами и с субъективной
точки зрения. Я прихожу в отчаяние при мысли, что любимый
мною человек умрет прежде меня и оставит пустоту в моей
жизни. Или меня угнетает мысль, что я умру и не смогу
завершить задуманной работы. Либо я могу рассматривать
возникновение и уничтожение с научной точки зрения. Каковы конечные
феноменальные причины органического распада или
зарождения организма? Но я могу также рассматривать возникновение
и уничтожение исключительно как таковые и по их существу,
избирая метафизическую позицию и обращая внимание на тот
род сущего, который как таковой способен к возникновению и
уничтожению. Никто не может принудить меня выбрать эту
точку зрения. Если я решаю придерживаться позиции, скажем,
какой-то частной науки, я ее и придерживаюсь; вот и все. Мета-
118
физическая рефлексия не будет иметь для меня никакого смысла.
Метафизическая точка зрения — это возможная точка зрения,
и без метафизической рефлексии нельзя достичь полного
понимания вещей, конечно, в той мере, насколько это возможно для
конечного ума. И если я выбрал эту точку зрения и сохраняю ее
в течение достаточно продолжительного времени в процессе
непрерывной рефлексии, то, по убеждению Аквината, для меня
должно стать ясным экзистенциальное отношение зависимости,
которое не уяснится, пока я остаюсь на другом уровне
рефлексии. Как внешние факторы (например, ходячие представления,
свойственные эпохе технической цивилизации) могут
способствовать моему решению остаться на неметафизическом уровне
рефлексии, точно так же внешние факторы могут побудить и к
метафизической рефлексии. Но мне представляется совершенно
неправильным мнение, что Аквинат не считал метафизическую
рефлексию возможным способом получения знания о
существовании Бога, а смотрел на нее, как утверждали некоторые
писатели, только как на рациональное обоснование уверенности,
которая приобретается извне. Ведь если она способна обеспечить
рациональное обоснование, то только потому, что она сама по
себе может привести к осознанию существования Бога. Но из
этого, конечно, не следует, что это — легкий или всем
доступный путь.
После этих общих замечаний я перехожу к пяти
принадлежащим Аквинату доказательствам существования Бога. В первом он
сначала доказывает, что «движение» или изменение означает
переход вещи из потенциального состояния в актуальное и что
вещь может быть переведена из потенции в акт только
воздействием деятеля (агента), который уже находится в актуальном
состоянии. Поэтому «все, что движимо, должно быть движимо
чем-то иным». И наконец, он доказывает, что для того, чтобы
избежать регресса в бесконечность в цепи двигателей, следует
допустить существование первого неподвижного двигателя. «Все
понимают, что это — Бог».
Такое утверждение, как «все понимают, что это — Бог», или
«все называют это Богом», имеется в конце каждого
доказательства, и я пока откладываю рассмотрение его. Что касается
исключения регресса в бесконечность, то я разъясню, что именно здесь
отвергается Аквинатом, после изложения второго доказательства,
сходного по структуре с первым.
119
В первом доказательстве Аквинат рассматривает вещи как
претерпевающие воздействие, как изменяемые или «движимые», во
втором же он рассматривает их как активные, деятельные
начала, как действующие причины. Сначала он доказывает, что
существует иерархия действующих причин, в рамках которой
подчиненная причина зависит от причины, стоящей выше в этой
иерархии. Затем он, отрицая допущение регресса в бесконечность,
приходит к заключению, что должна быть первая действующая
причина, «которую все называют Богом».
Очевидно, что бесполезно обсуждать эти аргументы, пока
они не поняты. А вероятность их неправильного понимания
очень велика, поскольку используемые термины и выражения
либо незнакомы, либо легко могут быть восприняты не в том
смысле, который в них вложен. В первую очередь важно
понять, что в первом доказательстве Аквинат предполагает, что
движение и изменение зависят от «двигателя», действующего
здесь и теперь, а во втором доказательстве он предполагает,
что существуют в мире действующие причины, которые в своей
каузальной активности зависят здесь и теперь от каузальной
активности других причин. Вот почему я говорю об «иерархии»,
а не о «ряде». Его мысль можно проиллюстрировать
следующим образом. Сын зависит от своего отца, поскольку он не
существовал бы, не будь причиной этого его отец. Но, когда сын
действует сам по себе, он не зависит здесь и теперь от своего
отца. Но он зависит здесь и теперь от других факторов.
Например, без воздуха, без воздействия, оказываемого воздухом на
его организм, он не мог бы действовать, а жизнетворное
действие воздуха само зависит здесь и теперь от других
факторов, а они, в свою очередь, — еще от каких-то третьих. Я не
думаю, что эта иллюстрация адекватна во всех отношениях;
но она, по крайней мере, помогает осознать тот факт, что,
когда Аквинат говорит о «порядке» действующих причин, он
мыслит не ряд, простирающийся назад в прощлое, но
иерархию причин, в которой подчиненный член зависит здесь и
теперь от каузальной активности более высокого члена. Если я
вечером завожу свои часы, они продолжают затем идти без
всякого вмешательства с моей стороны. Но действие ручки,
наносящей на бумагу эти слова, зависит здесь и теперь от действия
моей руки, а оно, в свою очередь, зависит здесь и теперь от
других факторов.
120
Смысл отрицания регресса в бесконечность должен теперь
несколько проясниться. Аквинат не отвергает возможности
бесконечного ряда как такового. Мы уже видели, что он сомневался,
чтобы кому-нибудь удалось показать невозможность
бесконечного ряда событий, простирающегося назад в прошлое.
Поэтому в его намерения не входило отрицать возможность
бесконечного ряда причин и следствий, в котором любой член зависит
от предшествующего, скажем, X от Y, но при этом, если он
уже существует, то не зависит здесь и теперь от наличной
каузальной активности предшествующего члена. Мы должны
представить себе не линейный или, так сказать, горизонтальный ряд,
но вертикальную иерархию, в которой стоящий ниже член
зависит здесь и теперь от наличной каузальной активности
стоящего выше члена. Именно ряд последнего типа, если
продолжить его до бесконечности, отвергает Аквинат. Он отвергает его
на том основании, что если не существует «первого» члена,
двигателя, который сам не движим, или причины, которая сама не
зависит от каузальной активности более высокой причины, то
невозможно объяснить «движение» или каузальную активность
стоящего ниже члена. Его точка зрения такова. Изымем первый
неподвижный двигатель — и нет никакого движения и
изменения здесь и теперь. Изымем первую действующую причину —
и нет никакой причинной активности здесь и теперь. Поэтому,
если мы находим, что некоторые вещи в мире изменяемы,
должен существовать первый неподвижный двигатель. И если в мире
существуют действующие причины, должна быть первая
действующая, совершенно независимая причина. Слово «первый»
означает не первого в порядке времени, но высшего или
первого в онтологическом порядке.
Здесь уместно замечание относительно слова «причина». Что
ответил бы Аквинат Давиду Юму четырнадцатого столетия или
Давиду Юму нового времени, очевидно, сказать невозможно.
Ясно, однако, что он был убежден в реальности причинного
действия и в реальности причинных отношений. Он сознавал,
конечно, что причинное действие не является видимым объектом
такого же рода, как цветовые пятна. Но человек, как он считал,
сознает реальные причинные отношения, и если мы понимаем
«восприятие» как то, что включает согласованную совместную
деятельность чувства и интеллекта, то можно сказать, что мы
«воспринимаем» причинность. И по-видимому, то обстоятельство, что
121
феноменалистской интерпретации причинности достаточно для
целей физической науки, он не счел бы свидетельством против
законности метафизического понятия причинности. Очевидно,
можно спорить относительно того, является ли законным или
незаконным его анализ изменения или «движения» и существует
ли некая иерархия причин. Наше суждение относительно
законности или незаконности его доказательств существования Бога в
весьма значительной степени будет зависеть от ответа на эти
вопросы. Но ссылка на математический бесконечный ряд
неуместна при обсуждении его доказательств. Именно этот момент я
попытался здесь прояснить.
В третьем доказательстве Аквинат исходит из того, что
некоторые вещи возникают и гибнут, а потому, делает он вывод,
они могут или существовать, или не существовать: они
существуют отнюдь не «с необходимостью». Отсюда он заключает, что
невозможно, чтобы такого рода вещи существовали всегда; «ибо
то, что способно не существовать, когда-то не существует». Если
бы все вещи были такого рода, то когда-нибудь не было бы
ничего. Аквинат явно опирается в этом аргументе на гипотезу
бесконечного времени, и его доказательство строится с учетом этой
гипотезы. Он не говорит, что бесконечное время невозможно;
напротив, он говорит, что если время бесконечно и если все вещи
способны не существовать, то эта их потенция неизбежно
осуществилась бы за бесконечное время. И тогда ничего не было бы.
А если когда-нибудь может не быть ничего, то уже теперь
ничего бы не существовало. Ибо никакая вещь не может
возникнуть сама собою. Ясно, однако, что на самом деле вещи
существуют. И никогда не может быть истинным высказывание, что
не существует никакой вещи. Так что невозможно, чтобы все
вещи были способны существовать или не существовать.
Значит, должно быть некое необходимое бытие. Может быть,
правда, оно является необходимым в том смысле, что оно должно
существовать при условии, что существует нечто другое; т. е.
его необходимость может быть условной. Однако недопустимо
бесконечное продолжение ряда или иерархии необходимых
сущих. При этом допущении мы не объясним наличия здесь и
теперь сущего, способного существовать или не существовать.
Поэтому мы должны утверждать существование некоего бытия,
абсолютно необходимого (per se necessarium) и совершенно
независимого. «Все называют это бытие Богом».
122
Может показаться, что этот аргумент отличается ненужной
усложненностью и темнотой. Но надо брать его в историческом
контексте. Аквинат, как было упомянуто, так построил свое
доказательство, чтобы оно не зависело от того, существует ли мир от
вечности или нет. Он хотел показать, что в обоих случаях
должно существовать необходимое бытие. Что касается введения
условно необходимых сущих, то он хотел показать, что, даже если
они существуют, — скажем, во вселенной, которая не может
погибнуть в том смысле, в каком подвержен гибели цветок, — все
же должно существовать абсолютно независимое бытие. И
наконец, относительно терминологии. Аквинат использует
общепринятое средневековое выражение «необходимое бытие». Он не
употребляет в этом доказательстве термина «случайное бытие», а
вместо того говорит о «возможных» сущих; но это то же самое.
Хотя слова «случайный» и «необходимый» теперь используются
применительно к высказываниям, а не к существующим вещам,
я сохраняю способ выражения Аквината. Независимо от того,
принимается ли это доказательство или нет, я не думаю, что
существуют какие-то непреодолимые трудности в понимании
самого хода рассуждения.
Четвертое доказательство, по общему признанию, трудно для
понимания. Аквинат утверждает наличие степеней совершенств
в вещах. Различные виды конечных вещей обладают
различными совершенствами в разной, но всегда ограниченной степени.
Затем он доказывает, что если существуют различные степени
какого-то совершенства, например, добра или блага, то
существует некое высшее благо, к которому в разной мере
приближаются благие вещи; а также, что причиной всех ограниченных
степеней добра служит высшее благо. А поскольку благо и бытие
обратимы и вещь является благой, коль скоро имеет бытие, то
высшее благо есть высшее бытие и причина бытия всех других
вещей. «Поэтому существует нечто, которое есть причина бытия
и благости и всякого совершенства во всех других вещах; и это
мы называем Богом».
Аквинат ссылается на некоторые замечания в «Метафизике»
Аристотеля; но в связи с этим доказательством сразу же
приходят на ум «Пир» и «Государство» Платона. Здесь, видимо,
содержится платоновская концепция причастности. Аквинат не был
знаком с этими сочинениями Платона, но платонические ходы
мысли были известны ему через других писателей. Они всегда
123
присутствовали в философии. И те теисты, которые отвергали
или подвергали сомнению «космологические» доказательства,
кажется, отдавали заметное предпочтение за его многосторонность
четвертому пути, доказывающему, что, признавая
объективные ценности, мы неявно признаем Бога как высшую ценность.
Но, чтобы ход мысли, представленный в четвертом
доказательстве, имел какой-нибудь смысл для современного читателя, он
должен быть выражен иначе, чем у Аквината, который опирался
на понятия и ходы мысли, привычные для его современников,
но которые уже не являются таковыми для нас.
Наконец, пятое доказательство, если мы примем в
рассмотрение его изложение в обеих «Суммах», можно представить
приблизительно так. Деятельность и поведение каждой вещи
определяются ее формой. Но мы видим, что материальные вещи, имеющие
различную форму, согласованно действуют таким образом,
чтобы производить и поддерживать относительно стабильный
миропорядок или систему. Они достигают некоторой «цели» —
произведения и поддержания космического порядка. Но согласованная
деятельность неразумных материальных вещей, конечно, не есть
сознательная деятельность ради какой-то цели. Когда говорится,
что они согласованно действуют при достижении некоторой цели
или результата, это не означает, что материальные вещи
намереваются осуществить этот порядок аналогично тому, как
человек сознательно действует ради достижения некоторой цели. Так
же, когда Аквинат говорит в этой связи о деятельности «ради
цели», он не имеет в виду полезности каких-либо вещей для рода
человеческого. Он не говорит, например, что трава растет,
чтобы идти в корм овцам, а овцы существуют, чтобы люди имели
пищу и одежду. Он имеет в виду именно несознательную
согласованную деятельность разнообразных материальных вещей по
произведению и поддержанию относительно устойчивой системы
космоса, а не пользу, извлекаемую нами из употребления
некоторых предметов. И аргумент его заключается в том, что эта
согласованная деятельность разнородных материальных вещей ясно
указывает на существование разумного существа,
согласовывающего их деятельность, которое действует, имея в виду некую
цель. Живи Аквинат в эпоху появления эволюционной теории, он,
вне всякого сомнения, утверждал бы, что принятие этой теории
не лишает его выводы их доказательной силы и даже, скорее,
подкрепляет их.
124
Ни одно из этих доказательств не было совершенно новым —
это хорошо сознавал и сам Аквинат. Но он проработал и
усовершенствовал их и, расположив, привел в некое связное единство.
Я не хочу сказать, что он считал, будто обоснованность каждого
отдельного доказательства с необходимостью зависит от
законности остальных четырех. Безусловно, он полагал, что каждое
доказательство имеет силу само по себе. Но, как я уже отмечал,
они построены по единому образцу и в то же время взаимодопол-
нительны в том смысле, что в них вещи рассматриваются с
разных точек зрения и с разных сторон. Существует столько же
разных подступов к Богу.
Имеет ли какое-то доказательство особое или
преимущественное значение? Современные томисты часто утверждают, что
основным является третье доказательство, прямо исходящее из
существования вещей. Но ни в одной из двух «Сумм» мы не найдем
такого высказывания Аквината. Если он и отдает явное
предпочтение какому-либо из доказательств, то как раз первому,
которое он считает, как ни удивительно, наиболее ясным. Вероятно,
он полагает, что «движение» или изменение столь очевидно и всем
известно, что составляет естественный исходный пункт, хотя
здесь могло сказаться также влияние учения Аристотеля, где
аргумент от движения играет важную роль. Во всяком случае,
именно это доказательство он избирает для более детального
обсуждения в сочинении Summa contra Gentiles, тогда как третье
доказательство он вообще не рассматривает в этой работе. Так что
нельзя сказать, что Аквинат придает какое-то особое значение
третьему доказательству. В то же время мои симпатии, должен
признаться, на стороне тех томистов, которые считают этот
аргумент фундаментальным и показывают, что он воспроизводится
и в других вариантах доказательства. Если учесть, что
экзистенциальный аспект метафизики выходит в философии Аквината на
первый план, то едва ли можно сказать, что эта процедура чужда
духу его доктрины. Все доказательства действительно касаются
экзистенциальной зависимости в той или иной форме. Я думаю,
можно показать, что эта идея содержится во всех
доказательствах существования Бога, которые являются апостериорными
в подлинном смысле слова. Она, как мне кажется, содержится
даже в доказательстве, опирающемся на моральные принципы,
которым некоторые теисты, согласившись с кантовской
критикой космологических доказательств, заменили традиционные
125
доказательства. Именно идея экзистенциальной зависимости
кратчайшим путем выводит нас на метафизический уровень. Сама
проблематичность факта существования конечных и случайных
вещей — если человек осознает эту проблематичность —
наиболее ясным образом указывает на существование бесконечного
бытия. Поясню, что здесь имеется в виду. Некоторые полагают,
что проблема, возникающая, например, в связи с объяснением
мистического опыта, лучше всего может быть решена, если
предположить, что в этот момент устанавливается контакт с
бесконечным бытием, Богом. Другие, хотя и признают реальность
проблемы, а именно, что мистический опыт нуждается в объяснении,
тем не менее думают, что его можно вполне удовлетворительно
объяснить, не постулируя существование Бога. Таким образом,
каким бы ни было правильное решение проблемы, очевидно, что
можно признавать реальность проблемы и тем не менее не
признавать, что ее решение включает утверждение существования
трансцендентного бытия. Но едва ли возможно, чтобы человек,
признающий, что существование конечного бытия вообще-то
составляет серьезную проблему, в то же время считал бы, что ее
решение можно найти, не утверждая существования
бесконечного. Кто не желает вступать на путь, ведущий к утверждению
трансцендентного бытия, как бы оно ни описывалось (если его
вообще можно описать), тот должен отрицать реальность этой
проблемы, заявляя, что вещи «просто существуют», а
рассматриваемая экзистенциальная проблема — это псевдопроблема. А
если кто отказывается даже сесть за шахматную доску и сделать
ход, ему, конечно, нельзя поставить мат.
Со времен Канта широко распространен взгляд, что
доказательства Аквината не имеют законной силы1, и многие люди не хотят
ими заниматься. Другие считают, что обоснованность, если не
всех, то, по крайней мере, некоторых из них, очевидна
всякому, кто рассматривает их беспристрастно и непредубежденно.
Доскональное обсуждение различных точек зрения увело бы нас
слишком далеко. Следует, однако, указать несколько важных для
обсуждения этой темы пунктов, которые Аквинат, как мне
кажется, оставил непроясненными. Например, порой создается
впечатление, что он думает, будто доказательство существова-
1 Фактически они были подвергнуты критике уже в XIV столетии,
например, Оккамом.
126
Св. Фома Аквинский. Портрет работы Фра Анжелико
ния Бога означает просто приложение некоторых общих
принципов. И некоторые томисты, по-видимому, интерпретируют его
именно так. Другие томисты указывают трудности, возникающие
при такой интерпретации. Если, скажем, доказательство,
основанное на рассмотрении причин, следует рассматривать просто
как частный случай применения общего принципа причинности,
то как можем мы заранее знать, что этот принцип применим не
только к конечному, но и к бесконечному бытию? А если мы
действительно знаем это, то не знаем ли мы уже о существовании
Бога? Подобное же замечание можно сделать о следующем
доказательстве. «Если существуют вещи, которые возникают и
гибнут, то существует абсолютно необходимое бытие. Но
возникающие и гибнущие вещи существуют. Поэтому существует абсолютно
необходимое бытие». Несомненно, если мы допустим большую
посылку, заключения едва ли удастся избежать. Доказательство это
следующего типа: если р, то g; но р; поэтому д. Можем ли мы,
однако, в действительности принять данную большую
посылку, не допуская существования Бога? Бесспорно, вся трудность
состоит в доказательстве большей посылки. В данной ситуации
едва ли мы можем сказать, что доказать существование Бога —
значит просто приложить в частном случае общий принцип,
законность которого известна независимо от всякой отсылки к Богу.
И примечательно, что Аквинат начинает не с общих принципов,
но с экзистенциальных утверждений, наподобие следующего: «Мы
находим, что некоторые вещи способны существовать или не
существовать, ибо мы обнаруживаем, что некоторые вещи
возникают и гибнут». Без сомнения, можно взять доказательства
Аквината точно так, как они представлены, и проверить
последовательно каждое утверждение, чтобы определить, обоснованно или
необоснованно все доказательство в целом. Но для плодотворного
обсуждения, думаю, было бы желательно прийти прежде к
какому-то заключению относительно того, что реально думал он о
вопросах, вроде того, который я только что рассмотрел. А так как
это предмет спорный, едва ли можно приступить здесь к нему,
не отведя непомерно большого места одной частной теме.
Стоит, впрочем, затронуть вопрос, чем объясняется, что
каждое доказательство Аквинат завершает фразой такого рода:
«Все называют это бытие Богом». Это заключение
представляется не бесспорным: даже если и признается, что существует
первый (высший) неподвижный двигатель, первая действую-
128
щая причина и абсолютно необходимое бытие, из этого
непосредственно не следует, что это бытие можно с полным
правом назвать «Богом».
Можно, однако, указать, что пятое доказательство
завершается утверждением существования разумного премирного
существа, а четвертое доказательство предполагает, что в
высшей степени совершенное бытие обладает в том числе
совершенством разумения. Так что если пять путей взять все вместе, то
утверждается в них именно существование личного высшего
сущего. Можно также подчеркнуть, что в результате
произведенного Аквинатом анализа движения или изменения и
действующей причинности первый неподвижный двигатель или первая
действующая причина, как нечто неподвижное, беспричинное
и независимое, должны выйти за уровень эмпирических
причин, превысить его. И тогда правильно будет сказать, что «все
люди» называют это сущее или это бытие «Богом»: ведь все,
кто признает существование трансцендентной, высшей и
беспричинной причины, в действительности признают это сущее
божественным. В то же время Аквинат отлично сознавал, что
понятия первой причины, или первого неподвижного
двигателя, или абсолютно необходимого бытия, взятые сами по себе,
не охватывают всего того, что подразумевается под словом
«Бог». И в следующих разделах трактата Summa theologica он
переходит к доказательству того, что это бытие должно
обладать определенными атрибутами. А потому, анализируя
обоснование теизма, данное Аквинатом, мы должны рассматривать
его пять путей вместе с последующими разделами о
божественных атрибутах.
* * *
В пяти путях Аквинат прибегает к аргументации a posteriori,
переходя от вещей, которые относятся к сфере нашего
естественного опыта, к бытию, от которого они зависят. При обсуждении
атрибутов этого бытия он должен обратиться главным образом
к рассмотрению a priori, ставя вопрос, каковы атрибуты
первого неподвижного двигателя, первой действующей причины
абсолютно необходимого и в высшей степени совершенного бытия.
Ибо мы, очевидно, не можем описывать Бога таким же
образом, как мы описываем видимые предметы, наподобие дерева
или животного: ведь мы не имеем непосредственного видения или
129
интуиции Бога. Поскольку Бог недоступен непосредственному
созерцанию, наш подход к описанию божественной природы
должен состоять преимущественно в отрицании. «Когда
существование вещи установлено, необходимо выяснить способ, каким
она существует, чтобы узнать ее природу. Поскольку мы не
можем знать, что есть Бог, но только что Он не есть наш
метод должен быть главным образом негативным. ...Какого рода
сущим Бог не является, можно узнать посредством исключения
всех неприложимых к нему характеристик, таких, как состав-
ленность, изменение, и так далее» (S.T., 1а, 3, prol.). Аквинат
доказывает, например, что Бог не может быть телесной или
материальной вещью. Каждая материальная вещь способна к
изменению, переходу из потенции в акт; она способна к
«движению». Бог же, как неподвижный двигатель, не может
претерпевать такого перехода из потенции в акт: Он с
необходимостью есть все, чем Он может быть. Поэтому Бог не может
быть материальным.
Здесь мы сталкиваемся с применением так называемого
«отрицательного пути», т. е. подхода к постижению природы Бога
посредством отрицания возможности отнесения к Нему
определенных характеристик, присущих либо всем, либо некоторым
конечным вещам: Бог не есть ни это, ни то. Этот негативный путь
никоим образом не был изобретением Аквината; он до него имел
долгую историю. Он присутствовал в платонической традиции.
Посмотрим, к примеру, на знаменитое описание совершенной
Красоты в «Пире» Платона; она описывается, как «не знающее
ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, ...не когда-то
прекрасное, а в другое время безобразное»1 и т. д. Такой способ
высказывания о Боге издревле применялся в христианской
философии, его использовал и обосновал псевдо-Дионисий,
писатель конца V века, чьи сочинения оказали глубокое влияние на
средневековых мыслителей. В краткой форме суть этого подхода
выражена в известном высказывании Аквината, что мы,
скорее, знаем о Боге, что Он не есть, а не что Он есть.
Последовательно отрицая по отношению к Богу определенные
характеристики, мы в известном смысле увеличиваем наше знание о
божественной природе: мы знаем, например, что Бог не
является ни материальным, ни составным. Но разумеется, с
помоем.: Платон, Пир, 211 а // Соч. в 3 т. Т. 2. М., 1970. С. 142. (Прим. пер.)
130
шью этого метода мы не можем достичь адекватного
положительного понимания божественной природы.
Следует отметить, что результатом приложения этого
метода является приписывание Богу атрибутов, которые
выражаются словами, имеющими, как может показаться,
положительный смысл. В случае таких слов, как, например, «неизменный»,
ясно, что оно — то же самое, что не-изменяемый. Подобным
образом «бесконечный» эквивалентно «не-конечному». Этот смысл
отрицания не сразу усматривается в таких словах, как
«простой» и «вечный», однако анализ показывает, что они означают
«не-составной» и «не подвластный ходу времени». Аквинат
проявляет большое внимание к анализу терминов. Он подмечает,
например, что слово «бесконечный» может употребляться в двух
значениях. Оно может использоваться, «во-первых, в смысле
лишенности; в этом смысле вещь называется бесконечной, когда
по природе она должна иметь границы, но не имеет их; это при-
ложимо только к величинам. Во-вторых, вещь называется
бесконечной в отрицательном смысле, т. е. когда она не имеет
вообще никаких границ. Бесконечность, понятая в первом смысле,
не может принадлежать Богу ...но бесконечность во втором,
отрицательном смысле принадлежит Богу...» (De potentia, I, 2).
Настаивая на негативном аспекте некоторых слов, предицируемых
Богу, Аквинат не имеет в виду, что эти слова не несут в себе
никакого положительного содержания. Божественная простота,
например, или божественная бесконечность — это не
отрицание. Но мы можем подойти, так сказать, к положительной
реальности только путем отрицания. Вещи, данные нам в опыте,
являются составными, конечными и временными, и наши
понятия абсолютной простоты, бесконечности и вечности могут
быть получены только посредством процесса отрицания. «Как мы
приходим к знанию о простых вещах через составные вещи, так
же мы достигаем знания о вечности через время» (S.T., 1а, 10, 1).
Что существует положительная реальность, обозначаемая
словом «простота», познается нами посредством рефлексии об
атрибутах, которыми должно обладать божественное бытие,
существование которого было доказано. Но по отношению к
нашему естественному познанию положительное и адекватное
знание этой реальности остается недостижимым идеалом. В силу
особенностей устроения нашей психики, т. е. ввиду того, что все
наши понятия должны иметь эмпирическое основание, мы мо-
131
жем познавать эту реальность лишь в той степени, которая
может быть достигнута на пути отрицания1.
Аквинат указывает (S.Т., 1а, 13, 2), что, когда мы предици-
руем Богу отрицательные термины, такие, как «неизменный» или
«бестелесный», мы как бы устраняем нечто от Бога, в
частности, изменчивость или телесность; иными словами, мы отрицаем
приложимость к Богу таких терминов, как «изменчивый» или
«телесный». Мы при этом отрицаем нечто о Боге, а не делаем
положительного утверждения о божественной субстанции. Но
есть иного рода термины, такие, как «мудрый» и «благой»,
которые предицируются Богу в положительном, утвердительном
смысле. Именно при установлении значения этих терминов
возникает определенное затруднение. С одной стороны,
приверженность исключительно негативному пути вела бы к агностицизму
относительно божественной природы; ибо простое прибавление
отрицаний не дает в результате положительного знания. С
другой стороны, при использовании утвердительного пути, т. е. при
приписывании Богу положительных предикатов, мы
сталкиваемся со следующей, весьма трудной проблемой. Некоторые
термины, как известно, приписываются Богу лишь
метафорически, например, когда его называют «камнем». Однако речь в
данном случае идет не об этом. Когда говорят, что Бог «мудр» или
«благ», эти термины не употребляются лишь иносказательно:
говорится, что Бог «реально», а не только в иносказательном
смысле мудр и благ. И мы сразу же оказываемся перед дилеммой. Если
мы имеем в виду, что Бог мудр точно в том же смысле, как мудр
или может быть мудрым человек, мы представляем Бога как бы
сверхчеловеком и скатываемся к антропоморфизму. Если же,
напротив, этот термин употребляется в разных смыслах, т. е.
если eFO смысл, когда он предицируется Богу, совершенно иной,
1 Если мы говорим, что «бесконечный» и «простой» — отрицательные
термины, это утверждение следует понимать, учитывая контекст
соответствующего рассуждения. Например, каждый объект естественного опыта, согласно
Аквинату, является составным, по крайней мере, метафизически. Тогда со-
ставленность следует отрицать в отношении к Богу, о котором говорят, что
он «простой». Но поскольку Бог не является объектом естественного опыта,
то мы постигаем божественную простоту как отсутствие составленности.
Таким образом, термин «простой» является по смыслу «отрицательным»
термином. В то же время он обозначает положительную реальность и с этой точки
зрения он является положительным термином.
132
чем тот, в котором он приписывается человеку, то
применительно к Богу он не имел бы никакого понятного нам значения.
Причина этого очевидна. «Термины в такой мере обозначают Бога,
в какой наш интеллект познает Его. А поскольку наш интеллект
познает Бога из творений, то он познает Бога в такой мере, в
какой творения представляют Его» (S.Т., 1а, 13, 2). Коль скоро
мы берем термин, первичное значение которого определяется
содержанием нашего опыта, и прилагаем его в совершенно ином
значении к сущему, запредельному нашему опыту, то первое
значение изымается, но при этом оно не замещается никаким
другим. И Аквинат указывает, что этой трудности не удается
избежать, принимая, что такое высказывание, как «Бог мудр»,
означает просто, что Бог — причина мудрости. Ибо, если бы
смысл утвердительных высказываний о божественной природе
был таким, «невозможно было бы объяснить, почему именно те,
а не другие термины приписываются Богу. Ведь Он в такой же
мере причина тел, как и причина благого» (S.Т., 1а, 13, 2). Если
Бог именуется «благим», поскольку Он причина благости, то Его
на том же основании можно было бы именовать телом, поскольку
Он в конечном счете причина тел.
Аквинат решает эту проблему следующим образом: когда
такие термины, как «мудрый» или «благой», приписываются Богу,
они приписываются не как имеющие однозначный смысл, т. е. не
в том же самом смысле, в каком они приписываются человеку, и
не как термины, смысл которых может быть истолкован
двояким образом, но по аналогии. Некоторые термины обозначают
характеристики или модусы бытия или «совершенства», которые
имеют место лишь в конечных вещах. Например, только
конечное и материальное может быть камнем. И такого рода термины
могут приписываться Богу только иносказательно. Но «чистые
совершенства», наподобие блага, которые не являются
неотъемлемой принадлежностью одного какого-то уровня бытия, как бы
закрепленные за ним наглухо, могут предицироваться Богу. Как раз
такие термины и предицируются в аналогическом смысле. Это
возможно, поскольку творения имеют реальную связь с Богом; они
зависят от Бога и в Нем черпают свои совершенства. Эти
«чистые совершенства», например, благо или мудрость, предсуще-
ствуют в Боге в сверхпревосходной и бесконечной степени. Бог —
не просто причина этих совершенств в творениях; эти
совершенства действительно существуют в Боге и могут быть приписаны
133
Ему в собственном смысле, однако по аналогии. Высказывание,
что некоторые термины предицируются Богу по аналогии, не
означает, конечно, что мы имеем адекватное положительное
знание о том, что объективно обозначается предицируемыми Богу
терминами. Наше знание совершенств почерпнуто из твари, и
происхождение наших понятий неизбежно придает окраску
понятиям этих совершенств. Мы с необходимостью мыслим и говорим о
Боге, используя термины, с лингвистической точки зрения
относящиеся преимущественно к творениям, и мы способны лишь
приближаться — никогда, впрочем, не достигая — к
адекватному пониманию того, что стоит за высказываниями, что Бог
«мудрый», или «благой», или «разумный», или «живой». Поэтому
Аквинат различает между тем, что он называет совершенством,
обозначаемым термином, и способом обозначения. «В терминах,
которые мы предицируем Богу, следует различать две вещи, а
именно действительные обозначаемые совершенства, как,
например, благость, жизнь и тому подобное, и способ обозначения.
Обозначаемые совершенства принадлежат самому Богу, причем
в действительности принадлежат Ему в более собственном
смысле, чем творениям; эти термины первично предицируются Богу.
В отношении же способа обозначения они не предицируются как
таковые Богу. Ибо они наделены способом обозначения,
благодаря которому они указывают на творения» {S.Т., 1а, 13, 3). С
психологической и лингвистической точек зрения такое слово, как
«разум», обозначает в первую очередь человеческое разумение, —
разумение, переживаемое нами на опыте. Когда это
приписывается Богу, то тем самым утверждается, что в Боге существует
совершенство, которому человеческий разум подобен и не
подобен в одно и то же время. И, поскольку это совершенство в Боге
есть первоисточник и высший образец для всякого сотворенного
разума, это слово с метафизической точки зрения
приписывается Богу первично. Но отсюда не следует, что мы,способны
составить адекватное представление об этом совершенстве, когда мы
действительно рассматриваем его как существующее в Боге. Мы
можем только попытаться очистить наше тварное понятие
разума, а это значит — соединить с утвердительным путем
отрицательный. «Модус сверхпревышения (или сверхпревосходства),
приобретаемый вышеупомянутыми совершенствами в том случае,
когда они находятся в Боге, нельзя обозначить прилагаемыми
именами, если не (охарактеризовать их) посредством отрицания, как
134
когда мы говорим, что Бог вечен или бесконечен, или путем
указания отношения к конечным вещам, как когда мы говорим, что
Бог есть первая причина или высшее благо. Ибо нам невозможно
понять о Боге, что Он есть; но (мы понимаем), что Он не есть и
как другие вещи относятся к Нему» (S. G., I, 30).
В суждении Аквината о возможности естественного познания
божественной природы присутствует, таким образом,
известный агностицизм. Говоря, что Бог мудр, мы наделяем Бога
положительным атрибутом; но мы не в состоянии дать
адекватного описания того, что объективно обозначается этим термином,
когда он предицируется Богу. Если нас спрашивают, что мы
подразумеваем, говоря, что Бог мудр, мы можем ответить, что мы
имеем в виду, что Бог обладает мудростью в бесконечно более
высокой степени, чем люди. Но мы не можем предложить
адекватного описания, так сказать, содержания этой бесконечно
более высокой степени; мы можем лишь приближаться к
этому, используя путь отрицания. Утверждаемое является
положительным, но положительное содержание понятия в нашем уме
определяется нашим опытом тварной мудрости, и нам доступны
только попытки очистить его или уточнить посредством
отрицания. Достаточно очевидно, что этот процесс никогда не
приведет к точному положительному пониманию объективного
смысла терминов, приписываемых Богу, т. е. того, что на самом деле
обозначается этими терминами. Но Аквинат никогда и не
претендовал на это. Напротив, он без колебания заключает:
«Первая причина превышает возможности человеческого понимания
и человеческого языка. Лучше всего познает Бога тот, кто
признает: все, что он думает или говорит, далеко отстоит от того,
что Бог есть в действительности» (In lïbrum De Causis, lectio 6).
Аквинат остался бы совершенно равнодушен к обвинению, что
он не может дать точного значения терминов, предицируемых
Богу, ибо он никогда не заявлял, что способен сделать это.
Ясно также, что приписывание разума Богу не то же, что
приписывание разума собаке. Если я называю собаку «разумной»,
я использую это слово по аналогии; а если меня спросят, что я
подразумеваю под этим, я укажу на некоторые поступки
собаки. Люди и их поступки, собаки и их поступки — все термины
аналогии относятся к области опыта. Мы не можем, однако,
наблюдать Бога или указать на Бога. Поэтому встает вопрос,
существует ли какое-то объективное основание, почему Богу сле-
135
дует предицировать одни термины и не предицировать другие.
Этот же вопрос можно сформулировать и в другой форме. Хотя
никакой здравый человек не будет требовать абсолютно
точного описания значения слова «разумный» в применении к Богу,
как все-таки можем мы знать, что это слово, будучи
приписано Богу, обозначает некую реальность? Аквинат ответил бы.
что об обладании божественной природы теми, а не иными
атрибутами можно заключить на основании рефлексии о природе
первого неподвижного двигателя, первой причины и
необходимого бытия. Другими словами, описательные высказывания о
божественной природе не делаются произвольно, они имеют
определенные основания. Если, скажем, Бог сотворил разумные
существа, нельзя предположить, что Он сам что-то меньшее,
чем разумный. Кроме того, последняя причина и необходимое
сущее не могут быть телесными, а бестелесное сущее — это
разумное сущее. Как мы можем узнать отсюда, нечто,
обозначаемое термином, который предицируется Богу по аналогии,
существует в Нем, хотя бы даже мы не могли понять с
точностью, что это такое. Объективное основание предикации по
аналогии в естественной теологии — это зависимость творений от
Бога как от действующей причины и причины-образца. И если
бы у нас не было никакого положительного знания о Боге, мы
не могли бы также и отрицать у Него наличия той или иной
характеристики. «Если бы человеческий интеллект ничего не знал
положительно о Боге, он ничего не мог бы и отрицать в
отношении Него» (De potentia, 7, 5). Говорить об аналогии в
естественной теологии было бы бессмысленно, если бы не было никаких
оснований для наших утверждений о существовании Бога.
Можно, правда, сказать, что на самом деле существует некое
сходство между случаями, когда я называю «разумной» собаку и
когда я называю Бога «разумным». Ведь я, хоть и не могу
указать на действие Бога так же, как я указываю на действие
собаки, все же могу обратить внимание на те проявления
деятельности Бога, которые относятся к области нашего опыта. Не делает
ли это сам Аквинат в своем пятом доказательстве
существования Бога? И не явствует ли из этого, что, по его мнению,
объективное онтологическое основание для предикации по аналогии
некоторых терминов Богу состоит в причастности творений
божественным совершенствам или в рефлексии о божественных
совершенствах? «Итак, что бы ни приписывалось Богу и творени-
136
ям, приписывается в силу отношения последних к Богу как к
началу и причине, в которой все совершенства вещей предсуще-
ствуют неким более превосходным образом» (S.T., 1а, 13, 5). Не
могу ли я тогда, указывая на совершенства творений, выявить
смысл терминов, которые предицирую Богу?
Это верно. Но смысл, который я таким образом выявляю, как
отлично сознавал Аквинат, — это смысл, который термин
имеет в моем уме, и никак нельзя отсюда заключить, что это точно
соответствует объективной реальности, являющейся вторым
значением этого термина, когда он приписывается Богу Это можно
показать на примере. Предположим, что единственное
основание, почему я называю Бога «разумным», заключается в том,
что я считаю, что существует умопостигаемая система миро-
устроения и что она — творение трансцендентного сущего,
которое я именую «Богом». В этом случае, если я мыслю Бога
разумным, я мыслю Его как некоего рода сущее, способное создать
такую мировую систему. Если бы меня попросили объяснить, что
я имею в виду, называя Бога «разумным», я сослался бы на
мировую систему. Но отсюда не следует, что я могу дать точное
положительное объяснение, что такое божественный разум сам
по себе. Божественный разум тождествен божественному бытию,
а Бог трансцендентен по отношению ко всем своим
проявлениям. Разумеется, надо иметь какие-то основания для предикации
по аналогии. Если приписывание Богу чего-либо по аналогии это
не пустая болтовня, то должна быть определенная причина,
почему употребляются те, а не иные термины. И эти основания
придадут терминам в моем уме определенный оттенок смысла. Но
толкование смысла терминов, которое я способен предложить,
неадекватно и не может быть адекватным объективной
реальности, сообозначаемой этими терминами. Как ясно видел
Аквинат, известная доля «агностицизма» неизбежна. Его можно
избежать, либо впадая в антропоморфизм, с одной стороны, либо,
с другой стороны, придерживаясь мнения, что все
высказывания о Боге — это многочисленные мифы, которые способны
выполнять какие-то полезные функции, скажем, стимулируя
нравственное поведение или определенный эмоциональный настрой,
но о которых нельзя утверждать, что они истинны. Аквинат не
мог допустить ни антропоморфизма по отношению к Богу, ни
интерпретации теологических положений просто как
совокупности мифов.
138
«Агностицизм» Аквината — это не агностицизм в современном
смысле. Он не сомневался в существовании Бога и был далек от
того, чтобы утверждать, что мы ничего не можем знать о
божественной природе или можем делать о ней только отрицательные
высказывания. В то же время он отчетливо сознавал
эмпирические основания всего человеческого знания и какие следствия это
имеет для естественной теологии. Мы не можем ни мыслить и ни
говорить о Боге, не используя термины, которые, будучи
терминами языка, предназначенного для описания эмпирической
реальности, относятся первично к конечным объектам нашего
опыта, и потому мы всегда вынуждены в этом случае ограничиваться
суждениями по аналогии. Это значит, что наше знание о Боге
неизбежно несовершенно и неадекватно. Мы, правда, можем
попытаться скорректировать антропоморфные представления, которые
естественны для нас. Например, хотя мы не можем не говорить так,
как если бы Бог «предвидел» будущие события, тем не менее мы
можем исправить ошибочное представление, подразумеваемое
такими речениями, осознавая, что Бог за пределами времени и
будущее не является для Него будущим1. Но это не означает, что
мы можем достичь какого-то адекватного положительного
понимания божественного интеллекта и божественного знания.
Читателю может прийти на ум идея, что во всех этих
разговорах о божественных атрибутах Аквинат — заложник структуры
нашего языка. На первый взгляд может показаться, что
Аквинат, исходя из наших способов высказывания о Боге, делает вывод
о наличии у Него различных атрибутов. Но на самом деле
Аквинат тщательно различает между языковыми формами и
реальностью, к которой относятся эти формы и способы речи. Мы
говорим, например, что Бог милостив и что Бог справедлив, и если
бы мы просто руководствовались этими высказываниями,
взятыми как таковые, мы могли бы прийти к мысли, что в
божественной природе существует нечто, именуемое «милостью», и нечто
иное, именуемое «справедливостью», причем эти два атрибута
объективно различны. Но в бесконечном бытии не может быть
1 Если Бог в буквальном смысле слова предвидит события, которые для
нас (а в этом случае и для Него) являются будущими, то Он включен в
последовательность времен. Аквинат же был убежден, что включенность во
временную последовательность несовместима с божественной природой,
которая бесконечна и неизменна.
139
реально различных атрибутов. Божественная справедливость и
божественная милость онтологически тождественны. «Все
божественные совершенства в действительности тождественны»
(Compendium theologiae, 22); они тождественны и друг другу, и
божественной природе. Однако божественная природа
познаваема только как бы по частям. Все наши представления извлечены
из творений, и мы постигаем Бога с разных сторон в соответствии
с разными Его проявлениями в конечных вещах. И естественно,
мы вносим различия туда, где нет никаких реальных различий.
Бесконечность божественного совершенства, непостижимая для
нашего ума, вынуждает нас к этому. Ибо бесконечное богатство
божественной природы не может быть схвачено нами посредством
одного понятия. Поскольку наши понятия основаны на опыте твар-
ного мира и обозначают различные атрибуты творений, то
термины, предицируемые Богу, не могут быть для нас синонимами;
они не означают все одного и того же, если мы говорим о том
значении, которое они имеют для нашего ума и которое мы
можем констатировать. Однако онтологически они все относятся к
одному и тому же сущему, в котором нет никакого реального
различия атрибутов. Если бы, приписывая различные атрибуты
Богу, мы действительно думали, что эти атрибуты — различные
модификации божественной субстанции, мы мыслили бы нечто
ложное. Но если, высказывая различные суждения о Боге, мы
сознаем в то же время отсутствие пропорции между нашим
(присущим нам по природе) способом говорить и реальностью, о
которой идет речь, мы не утверждаем ничего ложного. «Хотя
имена, приписываемые Богу, обозначают одну вещь, они обозначают
ее под многообразными углами зрения, и они не являются
синонимами» (S.T., 1а, 13, 4). «Но, хотя наш интеллект постигает Бога
с помощью различных понятий, он знает, что всем его понятиям
соответствует одно и то же простое бытие» (S.T., 1а, 13, 12).
Согласно Аквинату, наиболее подобающее имя для Бога — это
имя, открытое Моисею (Исход 3, 19), Qui est, Тот, Кто есть
(Сущий). «Во-первых, оно не обозначает никакой формы, но само
бытие ...во-вторых, взятое в его универсальности. ...Ибо оно
именует бесконечный океан субстанции. ...В-третьих, из-за его
значения. Ибо оно обозначает бытие, всецело наличное в
настоящем. И это наиболее подобающим образом утверждается о Боге,
чье бытие не знает ни прошлого, ни будущего» (S.T., la, 13, 11).
Бог не получает своего существования; в Нем нет никакого разли-
140
чия между сущностью и
существованием. Он есть
бесконечное существование, или само
бытие. Мы не можем образовать
никакого ясного понятия о том,
что это такое; ибо мы с
необходимостью различаем сущность
и существование, то, что есть
вещь, и факт ее существования.
Но полное отсутствие этого
различия в Боге означает, что
наиболее подобающее имя для
Него — это имя, произведенное
от сущего, рассматриваемого
как существующее. Само
произнесение этого имени, которое
неясно и не может быть ясным
для нас, напоминает нам о
божественной тайне и о
божественной трансцендентности по
отношению ко всем конечным
вещам, каждая из которых как
бы пронизана экзистенциальной зависимостью.
* * *
Когда говорят об экзистенциальной зависимости конечных
вещей от Бога, имеют в виду, разумеется, что они зависят от
Бога в своем существовании. Они находятся к Богу в
отношении творения к творцу. Но смысл таких терминов, как
«творить» и «творение», не самоочевиден. Что Бог сотворил мир,
было ортодоксальным иудео-христианским убеждением; но как
теолог и вместе с тем философ Аквинат стремился
проанализировать, что это значит, в той мере, в какой человеческий
ум способен анализировать его смысл.
Во-первых, сказать, что мир сотворен Богом, означает, что
он был создан «из ничего». Но эта фраза допускает двоякое
толкование, как указывает Аквинат {S.Т., 1а, 45, 1, ad 3; De ро-
tentia, 3, 1, ad 7). Если мы говорим о чем-то, что оно сотворено
из ничего, мы можем подразумевать, что оно вообще не
сотворено: отрицание, содержащееся в слове «ничто», как бы пере-
Сотворение мира (миниатюра
из «Реймского миссала»)
141
носится на сказуемое предложения. «В этом смысле мы можем
сказать о Боге, что Он создан из ничего, так как Он вообще не
создан; правда, так говорить не принято» (De potentia, loc.cit).
Но очевидно, не это имеют в виду, когда говорят о том, что мир
сотворен из ничего; ибо наша цель — утверждать творение или
создание, а не отрицать его. Впрочем, и после исключения
указанного смысла остается неопределенность. Ведь мы можем
говорить о статуе, сделанной из мрамора. И кто-то может
подумать, что говорить о мире, сотворенном из ничего, — значит
говорить, что мир был создан из ничего как из некоего
материала, наличного до акта творения. Но смысл фразы не таков.
Истинный смысл «из ничего» есть «не из чего-либо». Творение в
подразумеваемом здесь смысле не есть какое-то преобразование,
предполагающее наличие какого-то материала. Правда, мы
можем говорить о «творящем» художнике; но в этом контексте
творение предполагает заранее данный материал и не имеет того
же самого смысла, которым оно нагружено в высказывании,
утверждающем творение мира Богом.
Во-вторых, важно осознать, что концепция творения у Акви-
ната не является деистской. Говоря, что Бог сотворил мир, он не
подразумевает, что Бог привел мир в существование и что после
того мир существует как бы сам по себе. Всякая коночная вещь
находится в экзистенциальной зависимости от Бога в каждый
момент своего существования, и без божественного попечения о
ее сохранении и поддержании ее деятельности она тотчас же
перестала бы существовать. Воспроизводя соответствующие
высказывания св. Августина, он замечает (5.G., 3, 65), что не
следует уподоблять Бога человеку, который, построив дом, может
затем уйти и заняться чем-то еще, дом же будет стоять.
Конечные вещи существуют, будучи постоянно связаны отношением
экзистенциальной зависимости со своим творцом.
В-третьих, согласно Аквинату, можно показать посредством
философского рассуждения, что вещи зависят от Бога.
Метафизик может показать, что отношение^конечных вещей к Богу —
это отношение творения к творцу. И мы обычно говорим, что мир
«был сотворен» Богом, используя форму выражения,
подразумевающую, что мир имел начало во времени и это начало было
вместе с тем началом и времени, так что существует абсолютно
первый определенный момент времени. Аквинат убежден, что
так и было в действительности; но он не думает, что об этом
142
можно получить достоверное знание из какого-то источника,
помимо откровения. По его мнению, как мы уже видели в
другом месте, никакому философу никогда не удастся доказать, что
мир должен был иметь начало, т. е. что существовал
абсолютно первый определенный момент времени. «Что мир не всегда
существовал, познается только верой, и это не может быть
убедительно показано путем доказательства. Это невозможно
доказать, ни выбирая в качестве отправной точки мир (т. е.
анализируя понятие «мир») ...ни выбирая в качестве отправной точки
действующую причину, действующую произвольно (т. е.
анализируя идею творения)» (S.T., 1а, 46, 2). Так как Бог существует
вечно, Он мог, насколько мы способны усмотреть, сотворить
мир, совечный творцу, и поскольку нельзя доказать
невозможность бесконечного ряда последовательных событий, то
невозможно доказать, что Бог не мог действовать таким образом. Тогда
как некоторые из его современников, в особенности св. Бонавен-
тура, думали, что понятие вечного творения самопротиворечи-
во, Аквинат считал, что идея творения независима от идеи
начала во времени. «В идее вечности содержится представление
об отсутствии начала длительности; но представление о начале
длительности не содержится и в идее творения, в ней
содержится лишь принцип порождения, — если мы не берем «творение»
в том смысле, как его понимает вера» (De potentia, 3, 14, 8, ad 8).
Опять-таки, «нет никакого противоречия в утверждении, что
некая вещь была сотворена и что при этом она никогда не была
несуществующей» (De aeternitate mundi contra murmurantes).
В предыдущем абзаце была приведена цитата, где
упоминается «действующая причина, действующая произвольно». Плотин
и неоплатоники изображали мир, который, постепенно, через
разные стадии, развиваясь, происходит из Единого в
результате необходимого излияния и самораспространения
божественного блага. И хотя Аквинат утверждал, что намерением Бога в
творении было «только сообщить свое совершенство, которое есть
Его благость» (S.T., 1а, 44, 4), он все же придерживался того, что
мир не произошел, не эманировал из Бога по необходимости. Бог
творил с некоторой целью, и то, что мир вообще существует, и
то, что существует именно этот конкретный мир, — это
результат божественного выбора.
Пытаясь обосновать, что мир не был результатом присущей
Богу необходимости творить, Аквинат касается проблем, кото-
143
рые с трудом поддаются рациональному обсуждению. Если Бог
мыслится как простой и неизменный, то творческий акт, как
существующий в Боге, должен быть тождествен божественной
природе и субстанции. И иначе быть не может. Аквинат явно
признает, что творческий акт, поскольку он есть в Боге, тождествен
необходимости и неизменности божественной природы (ср. De
potentia, 3, 15, ad 8, 18 и ad 20). Но отсюда не следует,
доказывает Аквинат, что мир исходит от Бога с необходимостью. И
это остается в силе даже при допущении, что мир существовал
вечно. Если бы мир был сотворен от вечности, то и от вечности
он был бы сотворен свободно. На самом же деле он не был
сотворен от вечности. Надобно поэтому сказать, что, хотя
творческий акт, поскольку он существует в Боге, вечен и тождествен
божественной природе, но внешнее проявление этого акта, а
именно мир, не является вечным, а возникает, так что
оправданно утверждать, что есть абсолютно первый момент времени.
Бог от вечности пожелал, чтобы из всех возможных миров
начал существовать непременно этот конкретный мир и начал бы
он существовать таким образом, чтобы временной порядок был
таков, каков он есть.
Очевидно, здесь мы оказываемся перед тайной; сталкиваемся
с противоречием, как сказали бы некоторые. С одной стороны,
Аквинат был убежден, что Бог как личное и всецело разумное
бытие должен был умозрительно выбрать из бесконечной
сферы возможного именно те конечные вещи, которые Он сотворил.
Он не был приневолен своей природой творить, не был
приневолен не творить; не был принужден творить тот или иной
возможный мир. С другой стороны, Аквинат был также убежден,
что творческий акт. поскольку он существует в Боге, тождествен
божественной природе, которая, по сущности, своей
неизменна. Кроме того, он был убежден, с одной стороны, что
творческий акт, поскольку он существует в Боге, с необходимостью
вечен, а с другой стороны, что внешнее проявление этого акта
не вечно. Истина этого последнего пункта не была доказана
философами, но они не доказали и противоположного; мы же
знаем эту истину из теологии. Поэтому он считал, что мы должны
принять все эти положения, и был уверен, что они не
являются несовместимыми. В то же время мы достигаем такого пункта
в нашем анализе творения, когда мы принуждены допустить,
что полное понимание творческой деятельности Бога превыша-
144
ет компетенцию человеческого разума. И если здесь мы
останавливаемся перед тайной, в этом нет ничего удивительного. В конце
концов, опыт предоставляет нам только аналогии творческой,
в собственном смысле слова, деятельности. Цель христианского
мыслителя не исключить все тайны, а, скорее, указать, где
тайна скрыта1.
Нетрудно предугадать возможное замечание, что корень всех
трудностей — в попытке Аквината примирить требования
теологической ортодоксии с требованиями философского разума. Он,
можно сказать, обязан был сохранить иудео-христианскую
уверенность в том, что Бог отличен от сотворенного мира. Именно
это и приводит его к антиномии. Ведь если Бог бесконечен, Он
не может быть чем-то отличным от творений, ибо ничто не
может быть «вне» Бога; если же творения отличны от Него, Бог не
может быть бесконечным. Кроме того, если Бог и конечные вещи
различны, отношение между ними должно быть отношением
творца к творениям, и если творение происходит свободно, Ак-
винат немедленно впадает в другую антиномию: творческий акт
вечен и тождествен божественной природе, которая является
необходимой, тогда как мир не вечен и независимо от того, вечен
ли он или нет, не происходит от Бога с необходимостью,
присущей божественной природе. Может быть, Аквинат решил бы
стоящие перед ним проблемы более удовлетворительно,
допустив какую-то форму пантеизма? Если бы он смотрел на
творения как на существующие в Боге, т. е. как на модификации
божественной субстанции, ему не нужно было бы утверждать, что
может быть нечто онтологически отличное от бесконечного, и он
избежал бы трудностей, заключающихся в понятии свободного
творения.
Разумеется, нельзя ожидать от Аквината обсуждения
философии Спинозы. В то же время он высказал достаточно, чтобы
обозначить его возможный ответ на критику, подобную толь-
1 Очевидно, если слово «противоречие» подставляется вместо слова
«тайна», это утверждение не истинно. Ибо христианский мыслитель обязан
показать, что утверждения, которые он делает, не противоречат друг другу.
Хотя Аквинат считал, и вполне резонно, что мы не можем полностью
понять творческую деятельность, которая трансцендентна нашему опыту, он
все же не думал, что кто-то впадает в противоречие, утверждая, что Бог
свободно выбрал от вечности сотворить мир таким, чтобы был начальный
момент времени.
145
ко что упомянутой. Например, рассуждая о монизме Парменида
(In Metaph. I, с. 5, lectio 9), он говорит, что ошибка последнего
состояла в трактовке термина «бытие», как имеющего одно
значение, и в заключении, что, помимо одной-единственной
реальности, ничто не может существовать. По Аквинату,
существуют различные уровни бытия и различные виды
сущего, которые не относятся к одному роду и не могут быть
соединены друг с другом. Говорить так, как будто бесконечное
сущее, Бог, и конечные сущие, вещи, могут быть соединены,
образуя при этом более чем бесконечное сущее, что само по
себе противоречиво, — значит говорить так, как будто Бог и
творения являются членами одного рода. В действительности
же они несоизмеримы1. Что же касается идеи конечных вещей,
являющихся внутренними модификациями божественной
природы, то эта идея, очевидно, совершенно несовместима с
утверждением Аквината о божественной простоте. Кроме того, мы
можем припомнить в этой связи его суждение о высказанной
Аверроэсом концепции единого для всех людей интеллекта. По
словам Аквината, будь во всех людях один-единственный
интеллект, было бы невозможно объяснить разнообразие нашей
интеллектуальной жизни и деятельности (S.T., 1а, 76, 2).
Подобным образом, несомненно возразил бы он, основываясь на
концепции, что все человеческие умы — внутренние
модификации божественного ума, невозможно объяснить различие
идей и убеждений разных людей. Если эти различия не
объявить иллюзией, тогда в Боге могут быть даже противоречия.
Если же считать их иллюзией, то как может в Боге
возникнуть иллюзия? Пантеизм не дает ничего для уменьшения тех
трудностей, которые, как представляется, сопутствуют
теизму. Он сам порождает еще большие трудности, отрицая или
объявляя иллюзорным или ложным то основание, из которого
должна исходить вся наша метафизическая рефлексия, а
именно реальность множества различающихся друг от друга
конечных вещей, известных нам из опыта.
1 Я напоминаю об этом, поскольку иногда, оправдывая пантеизм и в пику
теизму, утверждают, что если Бог бесконечен, то не может быть никаких
вещей, реально отличных от Него. Но если бы таковые были, то было бы
возможно «добавлять» еще что-то к абсолютно бесконечному бытию.
Говорить же, что это возможно, — значит впадать в противоречие.
146
* * *
Рассматривая божественную творческую деятельность, Ак-
винат говорит, что Бог творит в согласии с божественными
идеями, а вещи отражают или выражают божественные идеи.
Делая это утверждение, он присоединяется к традиционному
словоупотреблению, имеющему за собой долгую историю.
Некоторые платоники, в том числе и неоплатоники, помещали
платоновские «идеи» в божественный ум; св. Августин
воспользовался этим выражением, хотя, в отличие от неоплатоников,
у него божественный ум не подчинен высшему божественному
началу. Аквинат усвоил тот же способ выражения, хотя он
хорошо сознавал, что разговор о божественных идеях способен
вводить в заблуждение, и вознамерился проанализировать, что
имеется в виду под утверждением, что существуют идеи в Боге.
С одной стороны, можно принять, что термин «идея» означает
модификацию ума. Если термин взять в этом смысле, то
утверждение, что в Боге существуют идеи, ложно. С другой
стороны, Бог вечно знает божественное совершенство, как
могущее быть воспроизведенным вне Бога множеством творений.
Поэтому мы вполне оправданно говорим об идеях в Боге,
понимая под этим, что Он знает свои собственные совершенства,
свою собственную сущность как образец для многих
возможных вещей. «Термин идея обозначает божественную сущность
не как таковую, но лишь поскольку она есть подобие или
начало тех или иных вещей. ...Простота божественного
интеллекта совместима с пониманием многих вещей; но состоять или
быть образованным из множества определений отдельных
вещей несовместимо с его простотой» (S.T., 1а, 15, 2, ad 1 и in
corpore).
Это — иллюстрация приема, нередко используемого Аквина-
том. Он заимствует традиционную форму выражения,
употреблявшуюся его предшественниками довольно свободно, и
пытается посредством своего анализа выявить значение, при
котором это выражение было бы совместимо с тем, в чем он видит
истинные и обоснованные философские принципы. Это,
конечно, одна из причин, почему представляется, что заметная часть
его философских изысканий посвящена терминологии и
проблемам языка. Действительно, проблемы языка занимают в его
исследованиях большое место. Но в некотором смысле можно ска-
147
зать, что вся философия занимается главным образом
проблемами языка. Но не всегда Аквината интересуют те же вопросы,
что и современных философов. Тот, кто вообще не верит в Бога,
вряд ли проявит большой интерес к анализу суждений, что
существуют идеи в Боге или что Бог творит в согласии с
божественными идеями. Отчасти поэтому многие люди склонны были
говорить, что средневековая философия занималась
«разговорами о словах», причем в данном случае эта фраза имела
уничижительный смысл. Правда, эти критики забывали, что
интерес к языку характерен не для одних только средневековых
мыслителей.
# * *
Существует, однако, одна проблема, которая неизбежно встает
перед философом-теистом и которая всегда вызывала интерес. Ее
едва ли можно назвать чисто лингвистической проблемой, хотя,
подобно другим философским проблемам, она непременно
касается и языка. Ибо ни одну проблему невозможно плодотворно
обсуждать без анализа языка. Я имею в виду проблему зла. Эта
проблема не возникает в атеистической философии в том виде, как
она стоит перед теистом. Но она, хотя бы чисто теоретически,
небезынтересна даже для атеиста. Ибо атеизм нередко отстаивали
на том основании, что существование зла не позволит никакому
проницательному и честному мыслителю верить в личного,
благого и бесконечного Бога, Бога всезнающего и всемогущего.
Если мы намереваемся обсуждать проблему зла, настаивал
бы Аквинат, мы должны прежде решить, что мы понимаем под
злом. Его собственное мнение было таково: зло не есть нечто,
обладающее какими-то собственными — позитивными —
определениями, но чистая лишенность. В этом воззрении он
следовал псевдо-Дионисию, который, в свою очередь, опирался на
неоплатонический анализ зла. Но нам нет необходимости
заниматься здесь историей этой доктрины; для нас'важен вопрос:
что значит, что зло есть лишенность? Следует пояснить с
самого начала, что для Аквината «лишенность» не то же самое,
что «отсутствие». Пример проиллюстрирует, в чем их отличие.
Неспособность видеть не есть лишенность для камня. Если бы
камень мог видеть, он просто не был бы камнем. Совершенство,
состоящее в том, чтобы быть способным видеть, отсутствует в
камне в том смысле, что камень им не обладает; но нельзя в соб-
148
ственном смысле сказать, что камень «лишен» способности
видеть. В человеке же слепота — это лишенность; слепой человек
лишен способности, которая есть принадлежность человеческой
природы. Но в то же время слепота не есть какая-то
положительная сущность, наподобие куска пирога или капли воды. «Зло
означает отсутствие Блага. Но не всякое отсутствие блага
называется злом. Ибо отсутствие блага можно понимать либо в при-
вативном смысле (т. е. в смысле лишенности), либо в чисто
негативном смысле. Отсутствие блага в последнем смысле — не зло.
...Иначе отсюда следовало бы, что вещь является злой, если ей
недостает блага, принадлежащего чему-то другому. Например,
человек был бы злым, поскольку ему недостает быстроты
дикого козла или силы льва. Именно отсутствие блага в смысле
лишенности называется злом. Так, например, лишенность зрения
называется слепотой» (S.Т., 1а, 5, 48, 3). То же самое можно
сказать о зле моральном. Это — отсутствие (лишенность) в
свободном человеческом действии той соотнесенности с моральным
законом, провозглашаемым разумом, или же с божественным
законом, которую ему надлежит иметь.
Однако сразу же надо добавить, что, когда Аквинат называет
зло «лишенностью», он не хочет сказать, что зло, физическое
или моральное, иллюзорно или нереально. Слепота в человеке есть
лишенность и не является чем-то (положительной сущностью);
но это не значит, что она нереальна или что она иллюзия. Она
есть реальная лишенность. Анализ зла как лишенности не
является поэтому попыткой доказать, что в мире вообще не существует
никакого реального зла. Описание зла как лишенности не
уменьшает в мире зло и тем более не уничтожает его. В самом деле,
если мы скажем, что темнота не является сама по себе
сущностью, имеющей какие-то положительные, а не только чисто
отрицательные определения, мы тем самым не обратим ночь в день.
Следует сказать еще кое-что об этом анализе зла.
Естественная реакция многих людей выразилась бы в восклицании:
«Какая чепуха! Опухоль мозга — это физическое зло. Но
разумеется, она есть некая сущность. Жестокость — моральное зло.
Но уж, конечно, это не лишенность». Такая реакция совершенно
понятна. Надо напомнить, однако, что Аквинат искал
формальную сущность или природу зла. В его намерения не входило
возражать против общепринятых высказываний, в данном случае,
например, против того, что опухоль — скверная вещь. Он толь-
149
ко спрашивал, что именно в ней скверно. Действительно ли
скверной является сама опухоль, рассматриваемая как некая
положительная сущность, т. е. сущность, обладающая
положительными — с логической точки зрения — определениями? По
его мнению, это не так. Удаленная опухоль не в большей мере
зло, чем мозг, из которого она удалена. Зло, заключенное в
опухоли на мозге, существенным образом состоит в беспорядке,
который вносится ее присутствием. А беспорядок — это
лишенность, отсутствие правильного порядка. И это не означает, что
проявления имеющейся на мозге опухоли не есть нечто
положительное. Если наличие опухоли вызывает, например,
слепоту, то ее действие есть нечто положительное; однако
слепота есть лишенность способности видеть, которая «должна» там
быть. Если опухоль служит причиной некоординированных
движений, то такие движения представляют собой некие
положительные проявления; зло же состоит, сказал бы Аквинат,
не в движениях как таковых, а в том, что кто-то лишен
способности нормально координировать движения. Что касается
жестокости, она, конечно, нечто положительное в том
смысле, что в ней содержатся желания, чувства, а также действия
или слова, а может быть, и то, и другое. Аквинату не пришло
бы в голову утверждать, что акция уничтожения евреев в
газовой камере концлагеря в Аушвице была лишенностью.
Убивать евреев в газовой камере, потому что они евреи,
несомненно, было положительной (в логическом смысле) акцией, и
столь же несомненно, это была морально злая акция. Но
высказать это — не значит решить вопрос, в чем именно состоит
зло этой положительной акции. Мы, возможно, ответили бы,
что оно состоит не в чем ином, как именно в помещении
евреев в газовую камеру только потому, что они евреи. Но
Аквинат, видимо, высказал бы замечание, что, безусловно, верно,
что помещать евреев в газовую камеру потому, что они евреи,
морально дурно; тем не менее говорить, что нечто морально
дурно, — значит говорить, что такой человеческий поступок
содержит в себе что-то противное моральному закону, а
отсутствие согласия с моральным законом в человеческих
поступках, которые должны быть в согласии с моральным законом, —
это лишенность. И утверждение этого никоим образом не
отменяет того факта, что обсуждаемый поступок был чем-то —
т. е. положительной в логическом смысле сущностью.
150
Ну что же, можно было бы сказать, пусть предпринятый Ак-
винатом анализ зла как лишенности не так нелеп, как это кажется
на первый взгляд, но что же он дает для решения проблемы зла?
Ведь если, как было допущено, технический анализ зла как
лишенности не отрицает и даже не уменьшает реальности зла и
количества его в мире, то трудно понять, как может он быть
использован для уяснения сути и решения проблемы зла.
Кажется, мы вернулись к тому, с чего начали.
В чем видел Аквинат пользу такого анализа для уяснения
проблемы зла, можно показать так. Если Бог сотворил все вещи и
если зло есть некая вещь, то мы должны сказать, что Бог
прямо сотворил зло. А может быть, чтобы не утверждать этого, мы
предпочли бы вслед за манихеями приписать творение зла
некоему злому божеству, утверждая тем самым метафизический
дуализм? Если же зло — это лишенность, нет нужды говорить
о Боге как о творце зла на том основании, что Бог сотворил все
вещи. Как лишенность зло может существовать только в чем-то
положительно сущем: оно является «привходящим» или
«побочным.результатом» (De potentia, 3, 6, ad 3). Аквинат не то имеет
в виду, будто зло является чем-то незначительным, неважным,
но что бессмысленно говорить о лишенности, если она не
является лишенностью некоторого совершенства в какой-то
определенной положительной сущности. Существование
положительной сущности и положительного совершенства, так сказать,
предшествует лишенности; прежде разрушения и беспорядка
должно быть в наличии то, в чем обнаружатся разрушение и
беспорядок. Согласно Аквинату, всякое сущее как таковое
является благим. Если мы смотрим на блоху сквозь призму
доставляемых ею нам неприятностей, мы можем назвать ее злом.
Но сама по себе, взятая просто как некое сущее, она благо. Ибо
всякое сущее актуально, поскольку оно сущее, актуальность же
включает совершенство. А совершенство является тем, «к чему
стремится» либо та вещь, которая обладает им, либо что-то
другое. Блоха имеет инстинкт самосохранения, и поэтому можно
сказать, что она «желает» своего собственного бытия, «стремится»
к нему. Бытие и благо (когда это слово употребляется в
онтологическом смысле) имеют одно и то же значение, хотя «благо»
здесь обозначает бытие, рассматриваемое по отношению к воле,
стремлению, или естественной склонности или направленности.
Если поэтому всякое сущее является «благим», нет нужды пред-
151
полагать (постулировать) злое божество в качестве творца зла;
ведь зло не является и не может быть непосредственным
конечным результатом его творческой деятельности. И действительно,
не может быть злого божества, если под этим подразумевается
абсолютно злое существо. Ибо чистое зло невозможно. Аквинат
не намеревается отрицать существование Сатаны. Но для него
Сатана вообще не является первичным сущим, но есть тварь.
Сотворенный благим, он остается благим, если смотреть на него
просто как на нечто сущее. Он не составляет исключения в том
смысле, что по отношению к нему теряет силу метафизический
анализ, относящийся ко всему без исключения. И коль скоро мы
употребляем термины в том значении, которое им приписывал
Аквинат, то для нас должно быть очевидно, что никакое сущее
не может быть полностью злым. Это вытекает из определения
терминов.
Но, если метафизический дуализм упомянутого нами типа
исключен, может показаться, что проблема зла становится еще
более острой. Не возлагается ли тогда вся ответственность на Бога?
Даже если мы не можем сказать, что Бог непосредственно
сотворил зло, Он ведь его «предвидел» и, будучи всемогущим, мог
предотвратить. Не должны ли мы сказать поэтому, что в
конечном счете Бог ответствен за зло?
Рассмотрим сначала физическое зло. Аквинат, конечно,
утверждает, что Бог не желал физического зла ради него самого;
но он указывает, что Бог, без сомнения, желал сотворить
вселенную, в которой некоторым образом содержится физическое
зло, поскольку это касается естественного порядка событий1.
Например, сотворить существа, обладающие чувством, значит, и
способные ощущать боль. Способность испытывать удовольствие,
естественно, неотделима от способности испытывать боль. По
крайней мере, поэтому Бог допустил существование
физических зол. Но Аквинат допускает, что Бог пожелал какое-то зло
и ради совершенства всей вселенной в целом. Например, он
говорит, что будто бы для совершенства всей вселенной в целом
1 Необходимо ввести это ограничение, так как Аквинат считал, что при
определенных обстоятельствах (если бы не произошло грехопадение)
физических зол, последовавших за грехопадением человека, не было бы.
Впрочем, эта тема относится к догматической теологии, а не к философии. Во
всяком случае, ясно, что Бог «предвидел», каким в действительности
окажется мир.
152
требуется существование и смертных существ, подвластных
смерти, и таких существ, которые не могут претерпевать
телесную смерть, а именно ангелов. Это относится, однако, только
к такому физическому злу, которое при данном природном
порядке неизбежно, а не к тому, которое обязано своим
происхождением человеческой глупости или злобе. Изображение Бога как
в некотором роде художника, а вселенной — как произведения
искусства, для создания которого нужны как свет, так и тени,
несмотря на то, что оно весьма традиционно, может многих
привести в смущение. Разумеется, это совсем не
антропоцентрический взгляд на вещи.
Что касается морального зла, на него ни в каком смысле не
было положительного волеизъявления Бога. Однако оно было
допущено ради блага, а именно чтобы человек мог быть
свободным, т. е. по своей собственной мере, ограниченно, участвовать
в божественной свободе и творческой деятельности. Возможно,
покажется, что коль скоро можно сказать, что Бог пожелал
каких-то физических зол, вроде смерти, не ради них самих, а ради
совершенства вселенной, то следует также сказать, что Он
пожелал моральное зло, чтобы по контрасту моральное добро
сияло более ярко. Но здесь различие очевидно. В телесной смерти
нет ничего морально постыдного. Она естественное явление,
которое по природному порядку событий является неотъемлемой
частью животного и человеческого существования. Когда Акви-
нат говорит, что Бог пожелал смерти ради совершенства
вселенной, хотя, конечно, не ради нее самой, он имеет в виду, что
Бог пожелал сотворить животных и людей ради совершенства
вселенной, но животные и люди по своей природе являются
смертными существами. Моральное же зло совсем не обязательно
сопровождает развитие человеческой природы; и нет никакой
необходимости, чтобы опыт свободы включал действительный
морально злой выбор. И Бог не мог действительно желать,
чтобы люди поступали безнравственно. Но без сверхъестественного
вмешательства Бога человеческая способность поступать
нравственно сопряжена в этой жизни со способностью
безнравственного выбора. Таким образом, надобно сказать, что Бог,
создавая человека, допустил моральное зло, хотя Он не желал,
чтобы человек, обладая способностью выбора, поступал
безнравственно, и фактически наделил человека средствами для
правильного выбора.
153
Кто-то, возможно, возразит, что все эти рассуждения не
решают проблемы зла. Вопрос не в том, допустил ли Бог зло, —
очевидно ведь, что он должен был это сделать, коль скоро он
сотворил именно этот мир, — но в том, как благой Бог мог
сотворить мир, в котором было бы так много зла. Помимо тех
физических зол, которые неизбежны в природном ходе вещей, Бог
предвидел и попустил моральное зло и физическое зло,
обусловленные человеческой глупостью и жестокостью. И вопрос
заключается в том, как Он, благой и всемогущий, мог попустить
это. Можно возразить, что никто не может вообразить
детальную картину событий в мире, в которой отсутствовало бы зло.
Возможно, это и так. Но это не отменяет того факта, что, по
Аквинату, Бог по свободному выбору сотворил мир, в котором
Он предвидел наличие всего того зла, которое действительно
наличествует в нем.
На вопрос, почему Бог выбрал этот мир, предвидя все зло,
которое действительно произойдет, думаю, нельзя дать
никакого ответа. На него не может быть дан ответ, который был бы
признан «решением» проблемы зла. Св. Бонавентура отмечал,
что, если кто-то спрашивает, почему Бог не создал лучшего мира
или не сделал этот мир лучшим, никакого ответа нельзя дать,
кроме того, что Он так пожелал и что Он сам знает основание,
почему Он сотворил мир таким, как он есть. Я не думаю, что
Аквинат мог бы сказать больше этого. Христианские
теологические догматы, вне всякого сомнения, некоторым образом
проясняют проблему зла, но они не представляют теоретического
решения проблемы. Доктрина искупления, например,
проливает свет на то, каким образом страдание может обратиться
благом для страдающего, но она не решает метафизической
«проблемы зла».
Важно, однако, иметь в виду следующее. Во-первых, об Ак-
винате нельзя сказать, что он был слеп к пррблеме зла. Хотя,
правда, он занимает не столь антропоцентрическую позицию
в отношении страдания и смерти, какая характерна для
многих, тем не менее он говорит, например, в своем
комментарии к Книге Иова, в прологе к нему, что труднее всего
примирить с божественным провидением страдания невинного.
В то же время он был убежден, что метафизик может
доказать существование Бога независимо от проблемы зла, а
потому мы знаем, что существует решение проблемы зла, хотя
154
мы не можем его найти. Этим, в частности, он отличается от
современных агностиков, которые склонны начинать с
проблемы зла, как ее формулирует наш разум, а не
рассматривать зло как то, что необходимо, насколько это возможно,
примирить с уже установленной истиной. В заключение, может
быть, стоит отметить следующее: утверждение, что Бог
допустил зло ради большего блага, которое в значительной
степени скрыто от нас, не означает, что люди не должны ничего
делать для уменьшения количества зла в мире. Следует
отличать практическую проблему облегчения страдания и
уменьшения его размеров от теоретической проблемы зла,
возникающей в метафизическом или теологическом
контексте. Нет никаких оснований приписывать Аквинату
мнение, что люди
должны занимать чисто
пассивную позицию по отношению к
злу. Очевидно, что ничего
подобного он не утверждал относительно
морального зла. Такого рода
соображений он не высказывал и
относительно физического зла.
Пожалуй, он сказал бы, что хотя Бог
предвидел и попустил зло, но он
предвидел также человеческие
усилия уменьшить его размеры и
действительно хотел этого.
Глава 4
Человек (1):
тело к душа
Возможны два крайних взгляда на психофизическое
устроение человека. С одной стороны, можно утверждать, что
«реальный» человек — это душа, или даже просто ум,
который обитает в теле, причем последнее в лучшем случае
рассматривается как инструмент тела, а в худшем — как
темница души или ее могила. По-видимому, этот взгляд находит себе
выражение в так называемых экзотерических сочинениях
Аристотеля, от которых до нас дошли только фрагменты и
которые относятся Вернером Йегером и другими учеными к
раннему периоду творчества Аристотеля, когда он
находился еще под сильным влиянием Платона. Другие
исследователи считают, что нет достаточных оснований приписывать
эти «экзотерические сочинения» юношескому периоду,
переходному в интеллектуальном развитии философа; но было бы
неуместно останавливаться здесь на этом спорном вопросе. Достаточно
указать, что в сочинениях, относящихся к определенному
периоду своей жизни, Аристотель придерживался еще более
радикального дуализма, чем Платон. Также и для неоплатоника
Плотина имеет значение только человеческая душа. Поскольку он,
подобно Платону, верил в предсуществование души или, по
крайней мере, ума, и в перевоплощение, то логическим следствием
его позиции было утверждение, что душа может
последовательно соединяться с разными телами и что поэтому она есть
независимая вещь, или самостоятельная субстанция. Безусловно, то же
воззрение свойственно тем восточным философским системам и
религиям, которые придерживаются доктрины перевоплощения.
157
В христианской мысли идея предсуществования души, как
правило, не возникала; исключением являются немногие ранние
мыслители, прежде всего Ориген, находившиеся под сильным
влиянием неоплатонизма. Однако взгляд на соотношение души и
тела, очень близкий платоновскому, подразумевается, например,
в принадлежащем св. Августину описании человека как
«разумной души, использующей смертное и земляное (земное) тело» (De
moribus eccl. I, 27, 52), или как «некоей субстанции, причастной
разуму и приспособленной для управления телом» (De quantitate
animae, 13, 21). Подобное понимание отношения души к телу
находит популярное выражение в большей части христианской
аскетической литературы. В философии нового времени этот
дуализм появляется в философии Декарта, по крайней мере, если
следовать обычно принятой интерпретации.
С другой стороны, была сделана попытка избежать этого
дуализма исключительно за счет сведения, в известном смысле, души
к телу. В греческой философии мы находим, к примеру,
воззрение атомистов, которого придерживался и Эпикур, что душа,
как и тело, составлена из атомов, пусть даже из каких-то
«превосходнейших» атомов. В позднейшем мышлении
монистическое рассмотрение соотношения души и тела также находит свое
выражение: от материализма некоторых мыслителей эпохи
Просвещения, особенно некоторых французских писателей, до
гораздо более усложненного эпифеноменализма — ближе к
нашему времени. Эпифеноменалисты не отрицают реальности ума
и не описывают психические действия как чисто материальный
процесс в обычном смысле слова; скорее, они считают, что, когда
организм достигает определенной стадии развития, тогда
возникает ум. Хотя они и рассматривают мышление как в некотором
смысле функцию материального процесса, они все же не
утверждают, что, кроме материального процесса, ничего нет. Тем не
менее ум, пусть даже рассматриваемый как некая реальность,
полностью зависит от тела, так что вопрос о его существовании
отдельно от тела даже не ставится.
Следует отметить, что оба крайних воззрения имеют под
собой некое эмпирическое основание. Платон, например,
доказывал, что душа не может быть просто «гармонией» тела на том
основании, что она может управлять телом. И он, и другие
философы доказывали, что деятельность ума превосходит
возможности материи. Самосознание, которое позволяет нам различать
158
между «мною» и «моим телом», также выдвигается как
свидетельство в пользу дуализма. С другой стороны, зависимость
психической деятельности от тела — также очевидный факт. Прежде
всего мы зависим от чувственного восприятия в познании, но
кроме того, можно заметить некую корреляцию между
психической деятельностью и физическими условиями, например, в
случае памяти. Физические нарушения могут вызвать психические
расстройства, и при некоторых психических расстройствах
могут быть, по крайней мере, улучшения благодаря физическим
лечебным процедурам. В общем можно сказать, что философы,
обращавшие внимание главным образом на высшую психическую
деятельность и на приверженность человека к религии и
морали, склонялись к каким-то формам дуализма, а те философы,
что были особенно внимательны к зависимости психических
процессов от физических условий, были склонны к монистической
интерпретации соотношения души и тела. И крайний дуализм, и
откровенный монизм выходили за рамки эмпирических данных;
но разумеется, что-то можно сказать в пользу каждой из этих
позиций.
Это наводит на мысль, что истину следует искать где-то
посредине, так, чтобы все эмпирические данные нашли свое
обоснование и чтобы избежать при этом одностороннего
подчеркивания одних каких-либо данных в ущерб другим. Фактически мы
обнаруживаем, что Аквинат предложил такую срединную
позицию. Он не хочет признать, что душа — независимая,
завершенная в себе субстанция, которая могла бы обитать как в одном теле,
так и в другом, и он говорит о душе, в терминологии
Аристотеля, как о «форме» (аристотелевская entelecheia) тела. С другой
стороны, он утверждает, что душа не зависит в своем
существовании от тела и что она продолжает жить по смерти тела. Велик
соблазн сказать, что срединная позиция Аквината равнозначна
попытке соединить аристотелевскую психологию с
требованиями христианской теологии. Хотя в этом утверждении и содержится
истина, все же оно нуждается в оговорке. Ведь, используя арис-
тотелизм, Аквинат в то же время развивает его, и его учение о
душе не является в точности тем же, что аристотелевское
учение, представленное в трактате «О душе» (De anima). Стремясь
показать, что аристотелизм не вступает в противоречие с
христианством или что, по меньшей мере, принципы философии
Аристотеля не ведут с необходимостью к заключениям,
несовместимо
мым с христианской теологией, он, скорее, приуменьшал
различия между своей собственной психологией и историческим
Аристотелем1. Он был полной противоположностью тому типу
мыслителей, которые заботятся о своем приоритете. Но различия тем
не менее существуют, и при внимательном чтении трактата De
anima, с одной стороны, и собственного учения Аквината о
душе — с другой, они сразу же обнаруживаются.
Подобно Аристотелю, Аквинат употребляет слово «душа» в
широком смысле. Душа есть «начало жизни в живых существах
вокруг нас» (S.T., 1а, 75, 1). Из такого самого общего понимания этого
слова, очевидно, следует, что все живое имеет «душу».
Конечно, было бы нелепо приписывать термину «душа», как он
употребляется Аквинатом, его сегодняшний смысл; anima у
Аквината эквивалентна psyche у Аристотеля. Она начало или составная
часть живого существа, благодаря которому последнее является
живым и которое как бы лежит в основе всей его
жизнедеятельности. Растение способно к питанию и размножению. Ни та, ни
другая деятельность сама по себе не есть душа, но в растении
имеется «растительная душа», или жизненное начало, в силу
которого возможны и питание, и размножение. Диапазон
проявлений, способов жизнедеятельности живого существа
показывает, какого рода душа присуща ему. Животные способны не только
к питанию и размножению, как растения, но еще и к ощущению,
а также к другим видам деятельности, к которым растения не
способны. Значит, животным следует приписать «ощущающую
душу», а не просто «растительную душу». Человеческое
существо, в свою очередь, способно еще к некоторым видам
деятельности — мышлению и свободному выбору, — к которым не
способны животные. Поэтому людям следует приписать высший род
души, а именно «разумную душу». Таким образом, имеется
иерархия душ или жизненных начал. Это не означает, что животное
обладает и растительной, и ощущающей душой, а человеческое
существо имеет три души. Животное обладает одной-единствен-
ной душой — ощущающей душой, и человек обладает одной-един-
1 Когда я говорю в этой связи об «историческом» Аристотеле, я имею в
виду его действительное учение в трактате De anima, хотя оно отнюдь не
всегда ясно, а возможно, даже и не всегда последовательно. Этой фразой я
не собираюсь поддержать мнение, будто все в трактате «О душе»
принадлежит лично Аристотелю.
160
ственной душой — разумной душой. Но силами своей
ощущающей души животное может осуществлять не только
жизнедеятельность, присущую растениям, но сверх того еще ряд
операций; поэтому ощущающая душа является высшей по отношению
к растительной душе. Подобным образом силами своей разумной
души человек может осуществлять не только жизнедеятельность,
присущую растениям и животным, но также и более высокие
формы жизнедеятельности, а именно те, что связаны с
наличием у него ума.
Помня о том, в каком широком смысле употребляется слово
«душа», следует также учесть, что, согласно Аквинату, во всех
живых существах душа относится к телу, как форма к материи.
Таким образом, человеческая душа — это форма человеческого
тела. Прежде речь уже шла о концепции формы и материи или о
доктрине «гилеморфизма»; с ее помощью может быть объяснено,
что, согласно Аквинату, назвать душу «формой» тела — значит
сказать, во-первых, что именно душа делает это тело
человеческим телом, и во-вторых, что душа и тело вместе — одна
субстанция. Человек не состоит из двух субстанций — души и тела;
он представляет собой единую субстанцию, в которой можно
различить два составных элемента. Когда мы что-то чувствуем, то
чувствует именно целый человек, а не только его душа или только
его тело. Точно так же наше понимание чего-либо было бы
невозможно, не будь у нас души, но понимает именно человек. Акви-
нат не думает, что душа и тело не являются различимыми
реальностями; он называет их «неполными субстанциями». Но вместе
они образуют одну субстанцию — человеческое существо,
которому в собственном смысле приписываются все человеческие
действия. Тело без души, строго говоря, вообще не есть тело; оно
есть совокупность тел, что делает явным его быстрый распад
после смерти. Хотя человеческая душа продолжает жить после
смерти, в случае ее обособления от тела уже нельзя говорить в
собственном смысле слова о человеческой личности. Ведь словом
«личность» обозначается полная субстанция разумной природы.
При таком взгляде на психофизическое единство человека Ак-
винат, естественно, отвергает концепцию, приписываемую им
Платону. «Некоторые утверждали, что никакая мыслящая
субстанция не может быть формой тела. Но поскольку этому
утверждению, по-видимому, противоречит сама природа человека, —
представляется ведь, что человек состоит из мыслящей души и
161
тела, — то они придумали способ, как объяснить человеческую
природу, чтобы сохранялось ее единство. Потому Платон и его
последователи полагали, что мыслящая душа объединяется с
телом не как форма с материей, но лишь как двигатель с
движимым, говоря, что душа присутствует в теле, как корабельщик
на корабле. ...Однако это учение, видимо, не отвечает положению
дел. Ибо в согласии с ним человек как таковой не был бы чем-то
одним. ...Он был бы чем-то одним только «акцидентально» (per
accidens). ...Чтобы избежать этого заключения, Платон
утверждает, что человек не есть нечто, составленное из души и тела,
но что сама душа, использующая тело, — это и есть человек,
подобно тому как Петр не есть нечто, составленное из человека
и его одежды, но он есть человек, использующий одежду.
Можно, однако, показать, что это невозможно. Ибо животное и
человек суть чувствующие природные существа; этого не было бы,
если бы тело и его части не принадлежали к сущности человека
и животного» (5.G., 2, 57). Далее Аквинат доказывает, что
ощущение — акт всего организма как единого психофизического
образования, а не просто души, использующей тело. Таким образом,
он отвергает всякую доктрину, согласно которой душа
находится в теле, как кормчий на корабле, и не признает, что
сравнение с мастером, использующим внешние инструменты вроде
топора, позволяет дать правильное представление об отношении
души к телу.
Кроме того, Аквинат применяет к душе свою общую
концепцию материи как принципа индивидуации внутри вида. По его
мнению, душа не существует в качестве своего рода
универсалии прежде своего соединения с телом; она вообще не
существует прежде своего соединения с телом. Но он в то же время не
считал, что душа в своем существовании зависит от тела; ведь он
утверждал, что каждая человеческая душа сотворена Богом. Он,
однако, полагал, что человеческая душа зависит от тела в
приобретении ею отдельных природных характеристик. В самом деле,
из его доктрины, уже упомянутой выше, вытекает, что ум
первоначально подобен восковой дощечке, способной получать на-
печатления, но еще не имеющей их. «Согласно порядку
природы, мыслящая душа занимает самое нижнее положение среди
мыслящих субстанций. Ведь она не имеет никакого врожденного
знания истины, как его имеют ангелы, но должна по частичкам
извлекать свое знание из материальных вещей, воспринимаемых
162
чувствами. ...Поэтому мыслящей душе нужна не только
способность понимания, но и способность ощущения. Но ощущение не
бывает без телесного инструмента (органа). Поэтому мыслящая
душа должна быть объединена с телом, которое могло бы стать
подобающим органом для чувства. Далее, основу всех чувств
составляет осязание. ...Среди животных человек имеет наиболее
высокоразвитое чувство осязания; а среди самих людей
наделенные наиболее тонким чувством осязания обладают и более ясным
умом. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что
превосходство в понимании неразлучно с более совершенным устроением
тела» (S.Т., 1а, 76, 5). Так ли это или нет — иной вопрос; во
всяком случае, ясно, что Аквинат находился под сильным
влиянием высказываний Аристотеля в трактате De anima относительно
зависимости психической деятельности от физиологического
состояния. И не только в своем комментарии к этому трактату
Аристотеля Аквинат говорит о том, что люди с хорошим чувством
осязания наделены более ясным умом и что толстокожие,
нечувствительные люди не блещут умственными способностями;
подобные замечания он делает и в сочинении Summa theologica,
например, в только что цитированном отрывке. Подобным образом,
он утверждает, что «человека делает способным к пониманию
надлежащее упорядочение внутренних сил (организма), которое
зависит от состояния тела» (S.T., 1а, Пае, 50, 4, ad 3).
Комментируя De anima, он соглашается с Аристотелем в том, что, хотя
чисто физического (или «бихевиористского») определения
страха как «воспламенения крови вокруг сердца» недостаточно, все
же и физической стороны дела нельзя отрицать. Возможно,
многое из сказанного Аквинатом об этих предметах достаточно
наивно, но ясно одно: он не был бы ни удивлен, ни обескуражен
современными исследованиями, подтверждающими наличие тесной
связи между психическими и физическими факторами. Он, по-
видимому, рассматривал бы многие современные открытия как
эмпирическое подтверждение своей общей позиции.
Понятно, что при таком взгляде на психофизическое единство
человека Аквинат относился неодобрительно к доктринам,
согласно которым душа соединена с телом в наказание за грех, и что
было бы для нее гораздо лучше, если бы у нее не было вообще
никакого тела. Человеческая душа наделена способностью
ощущения, но она не может задействовать эту способность без тела.
Она обладает также способностью понимания, но она не имеет
163
запаса врожденных идей и зависит в познании от чувственного
восприятия. «Таким образом, ясно, что душа объединена с телом
ради ее блага» (S.T., la, 89, 1). И еще: «Ориген полагал, подобно
Платону, что человеческая душа — это полная субстанция и что
тело соединено с ней акцидентально. Но поскольку это ложно, как
было показано выше, то не во вред душе ее соединение с телом,
но она соединена с ним ради совершенства своей природы»
(Quaestio disputata de anima, 2, ad 14).
* * *
Может показаться, что такое истолкование взаимоотношения
души и тела не очень согласуется с одним из основных
положений христианского вероучения, а именно, что человеческая душа
отделима от тела в том смысле, что она продолжает жить после
смерти и по природе бессмертна. Но подчеркивание зависимости
психического от физических условий и действий — это только
одна сторона учения Аквината о связи души и тела; теперь надо
сказать кое-что также и о другой его стороне.
Аквинат считал, что существуют различные способности.
Например, собака обладает как внешними способностями, —
скажем, зрением и слухом, так и внутренними — например,
чувственной памятью. Все они принадлежат к уровню чувственной
жизни и зависят в своем существовании от существования
организма. То, что они называются отдельными способностями, не
означает, конечно, что они независимы от ощущающей души или
жизненного начала животного; напротив, они укоренены в ней и
существуют, только если существует ощущающая душа. Но,
поскольку чувство зрения, например, имеет «формальный объект»,
т. е. цвет, отличный от «формального объекта» чувства слуха, т. е.
от звука, эти два чувства следует отличать одно от другого.
Каждая из этих способностей, очевидно, существенным образом
зависит от тела; ведь отдельно от телесного органа невозможно
видение, разве только в метафорическом смысле. А так как
действие следует за бытием (operatio sequitur esse), то эта
зависимость чувственных действий и чувственных способностей от тела
показывает, что ощущающая душа, или жизненное начало, сама
существенным образом зависит от тела. В человеке же мы
находим действия, которые сами по себе превышают возможности
материи. Например, ум или интеллект может постигать что-то,
помимо материальных вещей как таковых, и это показывает, что
164
Портрет св. Фомы Аквинского. Деталь фрески Фра Анжелико
сам он не является материальным. «Если бы интеллект был
телом, его действие было бы ограничено уровнем телесного. Так что
он не постигал бы ничего, кроме тел. Но очевидно, что это
ложно: ведь мы понимаем многие вещи, отнюдь не являющиеся
телами. Поэтому интеллект не является телом» (S.G., 2, 49). Мы не
могли бы заниматься логикой или математикой или строить
абстрактные физические теории, будь наш ум телесным. Тем
более невозможна была бы в этом случае даже постановка вопроса
о Боге, не говоря уже о разработке метафизической теологии.
Кроме того, показателем имматериального характера
человеческого ума является самосознание (ibid.)) и то же самое можно
сказать о свободном выборе. Во всех названных видах деятельности
проявляется имматериальность, или духовная сущность ума, а
тем самым человеческой души, природа которой
обнаруживается через высшие виды ее деятельности (опять-таки operatic*
sequitur esse).
Следует отметить, что, хотя Аквинат, исходя из действий или
деятельности, делает выводы о способностях и, исходя из
способностей, делает выводы о душе, обладающей этими
способностями, на самом деле для его аргументации несущественно, можно
ли говорить о реальном различии способностей или нет, поскольку
ход доказательства не изменится, если концепция реального
различия способностей будет поставлена под сомнение или
отвергнута. Ведь главное в этом доказательстве — переход от
характеристик явлений, наблюдаемых путем интроспекции и познаваемых
по аналогии, к характеристикам того, что само по себе не может
быть наблюдаемо. Если какая-то деятельность или какие-то
действия человеческой души превосходят возможности материи,
тогда и сама душа, характер которой проявляется в этой
деятельности, должна выходить за пределы материи.
Надлежит также указать, что Аквинат не занимается здесь
доказательством существования у человека души в широком смысле
слова, как жизненного начала или начала жизнедеятельности и
жизненных отправлений; он касается только характера этого
начала. Что у человека есть душа, очевидно, по его мнению, из того
всем известного факта, о котором или прямо, или косвенно
говорит наш привычный язык, а именно, что человек —
одушевленное существо. Кроме того, единство человека и наличие у
человека одной-единственной души всеми признано, по крайней мере,
в неявной форме. Ибо всякий человек говорит о «своей идее» или
166
«своем убеждении» и использует такие фразы, как «я выбираю»
или «я решаю»; и всякий человек признает своими
собственными, принадлежащими именно ему, различные действия: есть и
спать, видеть и слышать, помнить и воображать. Аквинат
уверен в наличии разных способностей, но он не хочет сказать на
этом основании, что у человека есть различные души,
соответствующие разным уровням жизнедеятельности. Такое утверждение
сделало бы бессмысленным общий человеческий опыт,
находящий свое выражение в естественном языке. Даже те роды
деятельности, которые общи у нас с другими живыми существами,
обретают особые характеристики, когда они осуществляются
человеком. «Чувственная жизнь (буквально: операции
чувствующей души) является гораздо более высокой в человеке, чем в
неразумных животных, что ясно видно на примере осязания и
внутренних чувств» (De potentia, 3, 11, ad 1). И это также
свидетельствует о том, что у человека одна-единственная душа.
Хотя наличие у человека души вполне очевидно, однако
непосредственно не очевидно, что она собой представляет. Как очень
хорошо сознавал Аквинат, допуская наличие души, все же
возможно утверждать, что душа есть функция материи, в том
смысле, что она существенным образом зависит от тела. Поэтому он
был убежден в необходимости доказательства ее духовного, или
имматериального, характера. В то же время он полагал, что
неявно каждый человек сознает имматериальный характер своей
души, потому что к заключению, что душа имматериальна,
приходят путем рефлексии о фактах сознания, непосредственно
известных каждому из нас. «Открытие» духовного характера души
не похоже на открытие доселе неизвестного острова, который
исследователь может неожиданно встретить на своем пути. Но душа
не высвечивается сама для себя во всей полноте. Я сознаю свои
действия как свои; но я не сознаю душу как таковую, помимо ее
действий. Также я не сознаю непосредственно такую способность,
как ум, обособленно от конкретной мыслительной деятельности.
Посредством интроспекции я познаю свои мысли, а также свои
акты выбора; но я не наблюдаю свой ум, помимо его операций,
или свою волю отдельно от актов выбора. Потому Аквинат
делает выводы о характере души, исходя из непосредственно
«наблюдаемого». С другой стороны, это не есть, согласно Аквинату,
умозаключение от известного к совершенно неизвестному, от
явного к совершенно непроявленному. Ибо, как мы видели, ос-
167
новопола га ющим для него было представление, что все сознают
свои действия именно как свои; и в этом сознании имплицитно
уже содержится знание о характере души, хотя для того, чтобы
выявить это знание, необходима систематическая рефлексия.
Можно называть, если угодно, описанный Аквинатом процесс
рефлексии «анализом»; но безусловно, он не рассматривал этот
процесс как «спекуляцию», если подразумевать под этим
термином прыжок наугад в область неведомого.
Возникает вопрос, не исходит ли Аквинат в своих
рассуждениях из двух несовместимых друг с другом допущений. Ведь, с
одной стороны, он утверждает, как мы видели, что все
естественное человеческое знание зависит от чувственного восприятия,
тогда как, с другой стороны, он считает, что высшая
психическая деятельность человека по внутреннему существу своему
независима от тела. Поэтому может возникнуть сомнение, не
говорит ли он в одно и то же время, что душа и зависит от тела, и
независима от него.
Позиция Аквината такова. Человеческая душа способна
осуществлять какие-то действия, которые превосходят возможности
материи, и это показывает, что душа сама по себе нематериальна.
А нематериальное не зависит, по определению, от тела в
отношении своего существования. В то же время душа с момента своего
рождения предназначена к тому, чтобы стать формой
человеческого тела, и потому для нее естественно в отношении
познания зависеть от чувственного восприятия. (Собственно говоря,
душа в действительности и не приобретает познания;
приобретающим познания является человек, состоящий из души и тела.)
Пока душа объединена с телом, у нее нет иных естественных
средств получения знания, кроме познания через чувственное
восприятие. Но это не означает, что она абсолютно не способна
осуществлять высшие формы своей деятельности независимо от тела.
После смерти, когда она отделена от тела, она йе может
задействовать свои чувственные способности, но может/знать самое себя
и духовные объекты. Однако даже в этом состоянии отделения
душа по природе своей есть форма тела, а потому это состояние
отделения не является естественным состоянием. Аквинат
называет это состояние praeter naturam (вне-природным); и он
приходит к выводу, что душа в условиях отделенности от тела не
является в строгом смысле слова человеческой личностью. Ибо
слово «личность» обозначает человека во всей его полноте, как со-
168
стоящего из души и тела. Аквинат был убежден и в том, что
человеческая душа в этой жизни зависит от чувственного
восприятия во всяком познании, которое она получает естественным
образом, и в том, что высшие формы ее деятельности превосходят
вместимость материи. Иными словами, высшие формы
деятельности души, и тем самым сама душа, по своему внутреннему
существу независимы от тела, поскольку они могут
осуществляться душою в состоянии отделения от тела; в то же время они
внешне зависимы от него, поскольку душа, пока она объединена с
телом, нуждается в чувственном восприятии, чтобы приобрести
естественным путем знание о чем-нибудь.
Это не значит, как отмечалось при обсуждении вопроса о
возможности познания Бога, что человек не способен знать ничего,
кроме телесных вещей. Скорее, это означает, что чувственное
восприятие является исходным пунктом для всякого познания и что
в этой жизни человек не может знать что-либо, не используя
образы, — даже то, что он узнает через божественное откровение.
Такая зависимость ума от образов является, скорее, внешней,
чем внутренне присущей ему. В этой жизни мы не можем знать
что-либо, не используя образов; но когда душа отделена от тела,
ее мыслительная деятельность не зависит от чувств и
воображения. Однако не следует делать вывод, что состояние отделения
от тела лучше в абсолютном смысле, чем состояние соединения.
С теологической точки зрения можно сказать, что если человек
умер благодатной смертью и достиг спасения, то его душе,
обособленной от тела после смерти, лучше, чем в этой жизни, где
она была не защищена от моральных опасностей. Но в
абсолютном смысле для души лучше, когда она соединена с телом, чем
когда не соединена, потому что по природе она — форма тела.
Это рассуждение как бы вплотную подводит к выводу, что
следует ожидать воскресения тела; и Аквинат готов принять это
заключение. «Противно природе души — существовать без тела. Но
ничто, противное природе, не может быть вечным. Значит, душа
не будет без тела вечно. Поскольку же душа пребывает вечно,
она опять должна быть соединена с телом, и именно это и
подразумевается под восстанием (из мертвых). Таким образом,
представляется, что бессмертие души требует будущего воскресения
тел» (S.G., 4, 79). Правда, в предыдущем параграфе он
показывает, что этот аргумент не может трактоваться как
доказательство воскресения тел, если он рассматривается сам по себе, вне
169
контекста воскресения Христа и христианского откровения. Но
обсуждение этого вопроса выходит за рамки моей задачи:
проводя различие между внешней и внутренне присущей
зависимостью, я попытался представить, что ответил бы Аквинат на
обвинение в принятии двух несовместимых допущений относительно
зависимости высших форм деятельности человека от его тела.
Так как Аквинат настаивал, что в человеке есть одна-един-
ственная душа и что душа вся целиком продолжает жить после
смерти (что как раз и означает отделение души от тела), то его
позиция не была той же самой, что позиция Аристотеля.
Правда, согласно Аристотелю, в человеке есть одна-единственная
душа {psyche), которая является энтелехией или формой тела;
но эта душа (psyche) не включает в себя бессмертный интеллект
{nous) или ум. Аристотель действительно говорит порой так, как
если бы бессмертный ум был отделимой частью души; его
позиция довольно ясно представлена в трактате De anima.
Человеческая душа (psyche) — начало биологических отправлений,
чувственной и в какой-то мере умственной деятельности, и она
есть форма тела; но именно поскольку она форма тела, она не
может существовать отдельно от тела. Сказать о чем-то, что оно
является формой человеческого тела, означает, по
Аристотелю, что оно неотделимо от этого тела. И он приходит к
заключению, что если и есть в человеке что-то бессмертное, то не
форма тела. Действительно, существует бессмертный интеллект;
но бессмертие Аристотель понимает не так, как Аквинат. По
мнению последнего, человеческая душа творится Богом как
форма тела в момент рождения человека, т. е. в тот момент, когда
тело начинает существовать как человеческое тело, и она
продолжает жить после смерти. Так что бессмертие — это
продолжение существования после распада составного сущего.
Согласно Аристотелю, бессмертный ум вечен, он существует и до и
после своего пребывания в теле. Поэтому Аристотель говорит о
нем, как о «приходящем извне». Следовательно, он не может
считаться частью души. Правда, Аристотель подчеркивает
трудность предмета и избегает прямолинейных утверждений; но
ясно, что он проводит отчетливое различие — во всяком случае
склоняется к этому — между человеческой душой (psyche) и
бессмертным умом. Когда Аквинат выдвинул воззрение, что
душа человека вся целиком продолжает жить после смерти, хотя
и не может осуществлять все свои потенции, будучи отделена
170
от тела, он утверждал, по сути, что возможно, чтобы нечто было
формой тела и все же продолжало жить после смерти, т. е.
распада составного сущего. Это не совпадает с позицией
Аристотеля, хотя Аквинат и не заостряет на этом внимания. Так что
неверно говорить, что он рабски следует концепции Аристотеля в
этом пункте, хотя она, безусловно, оказала на него сильное
влияние1.
Если бы слово «форма» означало «внешний вид» или «фигуру»,
очевидно, было бы абсурдно заявлять одновременно, что
человеческая душа является формой тела и что она переживет
телесную смерть. Из сказанного ясно, что Аквинат не употребляет
слово «форма» в этом смысле; и тем не менее может показаться,
что он пытается совместить оба эти момента. С одной стороны,
он утверждает не только то, что человеческая душа является
формой тела в том смысле, что она делает тело живым телом,
способным к чувственной деятельности, но также и то, что душе
по природе присуще «сообщать форму» телу. С другой стороны,
он утверждает, что человеческая душа по природе бессмертна.
А соединение этих двух утверждений представляется попыткой
заимствовать, так сказать, наиболее привлекательное из разных
миров: сочетать «платоническую» доктрину бессмертия души с
аристотелевским представлением о связи души с телом. Эти
критические замечания имеют некоторое основание. Но, по мысли
Аквината, среди форм, сообщающих форму телам, только
человеческая душа является духовным началом. Он согласен, что
из концепции души, по природе являющейся формой тела,
вытекает, что в состоянии обособленности между смертью и
воскресением она не находится в естественных для нее условиях и,
строго говоря, не является человеческой личностью: ведь слово
«личность» означает субстанцию во всей ее полноте, единство
души и тела. Но он настаивает, что человеческая душа имеет
духовную форму, которая, поскольку она духовна, не может
претерпеть никакого воздействия от распада тела. Утверждение,
что душа является по природе формой тела, не означает
утверждения, что она не может существовать отдельно от тела, но
означает, что, будучи отделена от тела, она не находится в ес-
1 Я понимаю, разумеется, что приведенная здесь интерпретация
Аристотеля не является общепринятой. Думается, она корректна, но я не имею
возможности привести аргументы в подтверждение этого.
171
тественных для нее условиях и сохраняет природную
направленность к тому, чтобы сообщать форму телу.
Итак, ясно, что критическим пунктом в аргументации Акви-
ната в защиту бессмертия души является его доказательство
бестелесности или духовности души. Ибо коль скоро она духовна,
т. е. ее существование не связано с существованием телесного
организма или какого-то телесного органа, то отсюда, по-видимому,
следует ее существование после смерти. Когда Уильям Оккам
отрицал, что наличие у человека имматериальной, или
духовной, формы может быть доказано посредством философской
рефлексии, то естественно, что он приходил и к отрицанию того, что
бессмертие души в принципе может быть доказано каким-либо
способом. (Согласно Оккаму, то, что оба утверждения истинны,
познается из откровения, а не путем философского рассуждения.)
Доказательство Аквинатом духовного характера человеческой
души основывается, как мы видели, на утверждении, что
человек производит психические операции, которым внутренне не
присуща зависимость от какого-либо телесного органа. И это
обстоятельство, по его рассуждению, показывает, что «форма»,
которая производит эти операции, сама является духовной. Его
позиция отнюдь не вынуждает его отрицать, что мыслительная
операция имеет физический аспект, — сопровождается, к
примеру, движениями в мозге. Однако она обязывает его отрицать
не только то, что мыслительные операции могут быть
отождествлены с движениями в головном мозге, но также и то, что этим
операциям внутренне присуща зависимость от этих движений в
том смысле, что без этих движений не может быть никаких
мыслительных операций. Иными словами, он обязательно отрицал бы
не только устаревшие формы материализма, вроде
представления Гоббса о том, что мысль — это некое движение в голове, или
утверждения Кабаниса, что, как печень выделяет желчь, так и
мозг выделяет мысли; он непременно отрицал бы, также
доктрину эпифеноменализма, согласно которой ум, хотя и не является
чем-то телесным, появляется, когда мозг в процессе эволюции
достигает определенного уровня развития, и не может
существовать независимо от мозга. Он также должен был бы, конечно,
отрицательно отнестись к интерпретации слова «ум» как
собирательного имени для психических явлений. Но, отрицая истину этих
воззрений, он отрицал бы истинность объяснения эмпирических
фактов, а не сами факты. Например, несомненно, что интеллек-
172
M
/
Уильям Оккам
туальная деятельность
имеет место, только когда некий
телесный орган достигает
определенного уровня
развития. Но сказать, что ум есть
своего рода эпифеномен или
высшее проявление
деятельности мозга, — значит
предложить определенное
теоретическое объяснение фактов,
объяснение, истинность
которого отнюдь не
самоочевидна и которое, во всяком
случае, остается открытым
для обсуждения. Опять-таки
утверждение, что «ум» не
более чем собирательный термин для психических явлений,
означает выдвижение некой теории или интерпретации, законность
кот.орой может быть подвергнута сомнению. Правда, суждение Ак-
вината о природе души также означает интерпретацию фактов и
выдвижение определенной теории; по его собственному
признанию, мы не имеем прямой интуиции души как духовной
«субстанции». Я только хочу указать, что его интерпретацию нельзя
исключать только на том основании, что это интерпретация. Вопрос
в том, какая интерпретация наиболее адекватна. Я вовсе не имею
в виду, что сказанное Аквинатом о человеческой душе — это все.
что можно и нужно сказать об этом предмете. Помимо всего
прочего, он был преимущественно теологом, а не философом или
психологом. Но быть может, после ознакомления с концепцией Ак-
вината кто-то задаст себе вопрос, находится ли наша способность
выдвигать любые, причем самые разные теории относительно
души в согласии с феноменалистским анализом психической
жизни человека.
Когда Аквинат обращается к вопросу о бессмертии, стиль его
изложения остается сухим и академичным; мы не встретим у него
ничего похожего на пламенные речи Мигеля де Унамуно. Даже
когда он говорит о желании вечной жизни, эмоциональные
обертоны отсутствуют; по крайней мере, явно не слышны. Объектив-
173
ный стиль изложения характерен не только для Аквината, но и
для работ многих других средневековых мыслителей. Возможно,
это — одна из тех особенностей средневековых сочинений, по
причине которых они представляются иным читателям очень
далекими от человеческой жизни, от человеческого
существования. Это впечатление отдаленности и отстраненности от проблем
человеческого существования и человеческого предназначения,
конечно, нередко оказывается обманчивым; примером этого,
несомненно, может служить предмет нашего теперешнего
рассмотрения. Ибо обсуждение вопроса о том, является ли смерть
последним пределом человеческого существования или нет, пусть
даже оно ведется в самой сухой и объективной манере, по
определению, касается проблем человеческого существования.
Кроме того, надо учесть, что Аквинат всегда был занят
разысканием истины, а он полагал, что познание истины достижимо путем
бесстрастного рассмотрения фактов и аргументов, апелляция же
к сердцу или эмоциям здесь бесполезна. Следует напомнить и то
обстоятельство, что Аквинат жил в эпоху, весьма отличную от
нашей. Общество, в котором он жил, нельзя назвать
христианским, если понимать под этим такое общество, где все живут по
нормам христианской жизни; но оно было христианским в том
смысле, что христианское учение было там общепринятым. Я не
думаю, что все жители христианских стран Европы были
твердо верующими; однако очевидно, что христианство было там
общепринятым, и это означало, что люди уже верили в
бессмертие. Они, по большей части, не нуждались в философах,
которые привели бы основания для веры в доктрину, уже принятую
ими, поскольку она дана в откровении. Надобно также помнить,
что для Аквината, как христианского теолога, вопрос о простом
продолжении жизни после смерти не был главным. Как всякий
ортодоксальный христианин, он считал целью человеческого
существования сверхъестественное видение Бога, недостижимое
посредством философской рефлексии, да и вообще никакими только
человеческими усилиями, и полагал, что вечная жизнь в ее
полноте включает восстановление целостности человеческой личности
и возвышение ее до более высокого уровня. Ясно, что никакая
вечная жизнь невозможна, если человек полностью уничтожается в
момент смерти, и Аквинат поэтому внимательно рассмотрел
философские основания для утверждения, что человеческая душа
продолжает жить после смерти. Но простое продолжение жизни
174
бесплотной души — это совсем
не то, что вечная жизнь в
христианском понимании. И
поскольку именно через
откровение, а не путем философской
рефлексии знает христианин о
сверхприродном назначении
человека, то нетрудно понять,
почему Аквинат писал без
всякого поэтического подъема о
таком предмете, как простое
продолжение жизни,
рассмотренное безотносительно к
христианскому откровению. Важным
вопросом для любого человека,
на его взгляд, был бы вопрос о
том, готов ли он исполнить при
содействии божественной
благодати свое сверхприродное
назначение, а не просто вопрос
о том, продолжится или нет его Бог HQ престоле (миниатюра
существование как бесплотно- из «Рейнского миссала»)
го ума.
Аквинат доказывает неуничтожимость души, апеллируя к ее
духовной природе. Человек способен к познанию всех тел. Но, если
бы ум был телесным, он был бы какого-то особого рода телом. В
таком случае он бы и не знал и не способен был познавать тела
никакого другого рода. Человек оказался бы в ситуации
больного, для которого все вещи горьки на вкус. Как глаз видит цвета и
не может слышать звуков, так и ум был бы приспособлен к
познанию только одного рода вещей, соответствующих ему.
«Человек, очевидно, может познавать своим умом природу всех тел.
Но в природе познающего начала не должно быть ничего от
природы его объектов. В противном случае то, что по природе
присутствует в H'vi. мешало бы познанию других вещей. Так мы
видим, что язык больного человека, пропитанный желчной
влагой, не может ощущать ничего сладкого; все вещи кажутся ему
горькими. Если бы поэтому постигающее начало содержало в себе
природу какого-нибудь тела, оно не могло бы познавать все тела.
Таким образом, невозможно, чтобы разумное постигающее на-
175
чало было телом» (S.Т., 1а, 75, 2). Так же и на том же основании
мы не можем предположить, что действительный орган
познания телесен. Если вода налита в цветней стеклянный графин и
мы смотрим на воду через стекло, нам кажется, что она того же
цвета, что стекло (ibid.). Если бы ум познавал посредством чисто
телесного органа, то этот орган был бы телом определенного рода
и препятствовал бы познанию другого рода телесных вещей.
Поэтому разумная душа человека должна быть бестелесной. Но в
таком случае она должна быть также и неуничтожимой.
Бессмысленно говорить об имматериальном начале или о форме, которая
как бы изнашивается и, разваливаясь на куски, распадается. Но,
если она не находится во внутренне присущей ей зависимости от
тела, она не может перестать существовать вместе с распадом
тела. Человеческая душа не может погибнуть ни per se.
действием какого-то ее собственного внутреннего фактора, ни per
aeeidens, вследствие распада тела (S.T., la, 75, 6).
Человеческая душа, таким образом, «по природе» бессмертна.
Это надо понимать не так, что Бог не мог бы уничтожить ее, но
что, пока Бог не прекратит свое хранительное действие, чего
ожидать нет никакого основания, она продолжает существовать,
причем никакого чуда для этого не требуется. Некоторые
позднейшие средневековые философы, как, например, Дуне Скот,
высказывали мнение, что. даже если признать, что какие-то виды
деятельности человека превышают возможности материального
действующего начала, из этого не следует с необходимостью, что
человеческая душа не уничтожается с распадом составного
существа. Рассуждение Аквината представляет собой, как они
считают, лишь правдоподобный аргумент, а не строгое
доказательство. Сам Аквинат считал, что может быть строго доказано, что
человеческая душа по своему характеру духовна и поэтому она
может продолжать существовать после телесной смерти. В таком
случае законность этого аргумента не зависела бы от
предварительного допущения существования Бога.
Едва ли можно сказать то же самое о следующем аргументе.
«На это (что душа неразрушима) указывает тот факт, что
каждая вещь, естественно, желает существования сообразно своим
возможностям. В том, что способно к знанию, желание
(существования) следует за знанием. Чувствам доступно знание только о
существовании здесь и теперь. Интеллект же постигает
существование как таковое и без всяких временных границ. Поэтому все
176
наделенное интеллектом естественным образом желает жить
всегда. А естественное желание не может быть тщетным. Поэтому
всякая разумная субстанция неразрушима» (S.T., 1а, 75, 6). В
сочинении Summa contra gentiles этот аргумент выражен так:
«Невозможно, чтобы естественное желание было тщетным. Но
человек по природе желает оставаться вечно. Это явствует из того,
что все вещи желают существования. Однако человек постигает
существование интеллектуально, т. е. не только существование
здесь и теперь, как, скажем, постигают его чувства, но
существование как таковое. Следовательно, душа человека достигает
вечного существования, поскольку она постигает существование
как таковое и без временных границ» (S.G., 2, 79). На уровне только
чувственной жизни существование схватывается лишь «здесь и
теперь», не обособленно от конкретных обстоятельств, также и
смерти остерегаются здесь и теперь, инстинктивно. Но человек
постигает и желает вечного существования. А поскольку от
природы присущее всем желание принимает в разумном существе
такую форму, оно должно исполниться.
В этом аргументе, который, кстати, был традиционным, Ак-
винат не говорит об инстинктивном стремлении сохранять свою
жизнь, остерегаясь и ограждая себя от всего, в чем чувствуется
угроза безопасности и жизни; иначе этот аргумент доказывал бы
слишком много, а именно, что животные бессмертны. Он говорит
о сознательном желании бессмертия, которое предполагает идею
вечного существования. Это желание естественно, поскольку
форму такого желания принимает в разумном существе стремление
к сохранению жизни, которым от природы наделены живые
существа. Можно ли, однако, исходя из наличия «естественного
желания», сделать вывод о том, что оно исполнится, если не
предположить существование Творца, который, насадив эти
естественные желания, заботится к тому же, чтобы они не остались
напрасными? Аквинат, видимо, думал, что можно. Но в таком
случае не следует ли сначала показать, что человеческая душа
способна пережить смерть? Таково было, во всяком случае,
замечание Дунса Скота. Однако в сочинении Summa theologica
Аквинат просто приводит свой аргумент в качестве «свидетельства»
неразрушимости человеческой души. Это может означать, что
способность человека постигать продолжающееся после смерти
существование и его желание этого помогают показать духовный
характер души и тем самым подтвердить аргумент, которому Ак-
177
винат придает наибольшее значение. Он, пытаясь доказать
какое-то положение, обычно приводил различные аргументы, не
заботясь о том, чтобы ясно указать, считает ли он какой-то
отдельный аргумент строгим доказательством, или правдоподобным
предположением, или убедительным доводом. Так что трудно
судить, какой именно вес придавал он заключению о бессмертии
на основании «естественного желания» бессмертия. Ясно, однако,
что основным он считал доказательство, опирающееся на
рассмотрение природы души с учетом высших форм ее деятельности. Он
не относился к людям, которые могли бы утверждать, что люди
бессмертны, только на основании «ощущения бессмертия», или
сказать вместе с Шиллером: «Что подсказывает внутренний
голос, то не обманет упований души»1, хотя он, безусловно, мог
усматривать в желании бессмертия свидетельство духовного
характера души. Если он имел в виду именно это, жаль, что он не
сказал об этом яснее. Исходя только из желания, делать вывод о
его осуществлении — такой аргумент не кажется мне
убедительным, даже если говорится, что это желание «естественно».
Когда Аквинат говорит о бессмертии, он, конечно, имеет в
виду личное бессмертие. Мусульманский философ Аверроэс
истолковал довольно темное утверждение о бессмертии в третьей
книге аристотелевского трактата De anima в том смысле, что
существует один бессмертный интеллект, который объединяется
на время с индивидуальным человеком или функционирует в нем.
Поэтому нет никакого личного бессмертия. Нельзя сказать, что
Иоанн или Петр, взятые как индивиды, в каком-то отношении
бессмертны; ведь бессмертный, или вернее, вечный, интеллект,
который функционирует и в Иоанне, и в Петре в продолжение
их жизни, не принадлежит лично Иоанну или Петру. Когда это
активное разумное начало функционирует в Иоанне и как бы
оказывает воздействие на способность Иоанна к формированию
представлений, то образуется своего рода личный интеллект,
принадлежащий Иоанну. Этот личный интеллект, или ум, в той
мере, в какой он продолжает существовать после смерти,
представляет собой лишь частицу единого активного интеллекта.
Поэтому можно сказать, что человеческий род в некотором
смысле бессмертен и что индивиды в известном смысле разделяют
1 Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.
178
это безличное бессмертие; но не может быть и речи о том, что
Петр или Иоанн как таковые переживут смерть.
Эта странная доктрина во времена Аквината разбиралась в
лекционных курсах ряда преподавателей факультета искусств
в Парижском университете. Они не утверждали, что эта
доктрина истинна на самом деле; но они, во всяком случае,
считали, что она верно представляет учение Аристотеля и следует
из его принципов. Этого придерживался одно время Сигер Бра-
бантский (ок. 1235 — ок. 1285), хотя впоследствии его взгляды
изменились. Сторонники этой доктрины, будучи обвинены
теологами в защите неортодоксального мнения, отвечали поэтому,
что они выступают как историки, как толкователи Аристотеля
и что они не утверждают, что эта доктрина истинна.
Представляется, однако, что некоторые из них в своем увлечении
Аристотелем считали, что она была бы истинна, если бы Бог не
распорядился по-иному. Иными словами, философская
рефлексия, как показал Аристотель, сама по себе приводит к
заключению, что существует один-единственный бессмертный
интеллект; однако заключения о действительности, к которым
философа приводят его собственные размышления, на самом деле,
как уверяет откровение, не имеют места.
Критика Аквинатом взглядов этих преподавателей имела два
аспекта. Во-первых, он утверждал, что доктрина,
утверждающая наличие единого бессмертного интеллекта во всех людях,
не вытекает из принципов Аристотеля и что она ложно
приписана ему экзегетами, неправильно объясняющими текст.
Входить в детали этого чисто исторического вопроса нам нет
необходимости. Во-вторых, он саму эту доктрину считал нелепой и
не имеющей под собой оснований. В этом утверждении он был
заодно с многими другими теологами-философами, с которыми
он расходился во взглядах по другим вопросам. Он, например,
доказывал, что на основании доктрины единого интеллекта во
всех людях совершенно невозможно объяснить, почему у
разных людей разные идеи, разный интеллектуальный мир.
Можно объяснить, пожалуй, наличие разных образов у отдельных
людей; но невозможно объяснить наличие разных понятий и
убеждений. «Если бы был один интеллект во всех людях, то
различные образы у разных людей не могли бы побудить их к
осуществлению различных интеллектуальных операций, как думает
Аверроэс. Но это доказывает, что невозможно и не подобает по-
179
стулировать один интеллект во всех людях» (S.T., 1а, 76,2). В
трактате De unitate intellectus contra Averroistas он подробно
доказывает, что учение Аверроэса делает бессмысленными все
утверждения типа «он думает...» или «я думаю...»; но
правомерность употребления таких оборотов речи не вызывает сомнения.
Подобным образом, если бы учение Аверроэса было верным,
было бы нелепо возлагать на себя или на других нравственную
ответственность за совершенные по своей воле поступки. Но мы
на самом деле признаем нравственную ответственность и
знаем, что в принципе мы правы, признавая ее. Аквинат,
очевидно, двигался наощупь в уяснении доктрины, противником
которой он был, о чем свидетельствует концовка трактата De
unitate intellectus contra Averroistas. Отметив, что, когда он
писал против этой доктрины, он пользовался рациональными
аргументами, не прибегая к авторитету, он оканчивает призывом,
чтобы те, для кого сказанное неубедительно, перестали
секретничать по углам с юнцами, не способными судить о таких
предметах, и опубликовали бы свои ответы, чтобы вопрос можно
было обсудить надлежащим образом.
* * *
Общая концепция Аквината, что наше познание по природе
зависит от чувственного восприятия, уже была изложена. Хотя,
конечно, мы не можем проследить во всех деталях его анализ
процесса достижения знания, следует, однако, остановиться на этом
несколько подробнее.
Первая стадия получения знания — чувственное восприятие.
Наши органы чувств подвергаются воздействию внешних
объектов, и мы получаем чувственные впечатления. Например, глаз
видит цвета или цветные пятна; он не видел бы их, если бы он
не испытывал воздействия от объектов, действующих на него
через некую среду. Таким образом, он получает впечатление и
претерпевает некое физическое изменение. Но йроцесс
ощущения нельзя сводить только к физическому изменению. «Если бы
для ощущения было достаточно физиологического изменения, то
все природные тела, претерпевая изменения, имели бы
ощущения» (S.T., 1а, 78, 3). Ощущение — это психофизический процесс
получения чувственных «форм».
Пока мы остаемся исключительно на уровне внешних чувств,
каждое из которых рассматривается по отдельности, то
правильно
но будет сказать, что существуют только отдельные
чувственные впечатления. Чувство зрения, говорит Аквинат, способно
отличать один цвет от другого (впечатление зеленого цвета
отлично от впечатления голубого цвета); но чувство зрения
совершенно не способно сравнить и отличить цвета от звуков,
поскольку оно не слышит. Однако очевидно, что даже животные
синтезируют свои чувственные впечатления. Собака
воспринимает человека и производит синтез различных чувственных
впечатлений зрения, слуха, обоняния и осязания. Так что ясно, что
даже на уровне чисто чувственной жизни имеет место синтез
данных различных внешних чувств. Поэтому Аквинат
постулирует наличие внутренних «чувств», с помощью которых
производится этот синтез. Употребление слова «чувство» может
показаться в данном контексте странным, так как мы обычно
используем это слово лишь по отношению к тому, что Аквинат
называет пятью внешними чувствами; здесь это слово
употреблено им с целью указать, что сила или способность, о которой
идет речь, принадлежит к уровню чувственной жизни и есть не
только у людей, но также и у животных.
Различение и сопоставление данных различных внешних чувств
осуществляется общим чувством (sensus communis). Мы также
должны допустить наличие силы воображения, которая
сохраняет формы, воспринятые чувствами. Далее, животное способно
понимать, что нечто ему полезно. Собака понимает, дружественно
или враждебно настроен какой-то человек. Так что нам следует
постулировать наличие силы, постигающей все это, или, иначе
говоря, предрасположенности к пониманию (vis estimativa) и силы,
сохраняющей такие постижения (vis memorativa). В допущении
всех этих сил или способностей Аквинат в значительной степени
следует Аристотелю; резонно, однако, задать вопрос, в каком
именно смысле мы можем говорить о различных «способностях»
или «внутренних чувствах», если о них вообще имеет смысл
говорить. Я хотел бы здесь обратить внимание на то, что Аквинат
настаивает именно на синтезирующей деятельности, которая
осуществляется в познании. Синтез, о котором шла речь, относится
к уровню чувственной жизни, и не следует думать, что это
сознательный, преднамеренный синтез; но что синтез имеет
место, в этом едва ли можно сомневаться.
Хотя синтез, осуществляемый на чувственном уровне, присущ
и животным, и людям, это не означает, что чувственное позна-
181
ние одинаково в обоих случаях. Я уже цитировал отрывок из
работы De potentia (3, 11, ad 1), где Аквинат говорит, что
чувственная жизнь, хотя по своему роду одна и та же у животных и у
людей, но не одна и та же по виду, так как она в последнем
случае «более высокая», «как это ясно видно на примере осязания и
внутренних чувств». Таким образом, согласно Аквинату,
человеческая способность, которая соответствует vis aestimativa
животных, заслуживает особого названия, поскольку она содержит
больше, чем просто инстинкт; он называет эту способность vis
cogitativa1. Он сознавал, что в человеческом восприятии участвуют
и чувство, и разум. Но из этого не следует, что попытка
абстрагировать или отделить относящееся к уровню чувственной
жизни от того, что относится к уровню разума, бесполезна или
приводит к заблуждению.
Согласно Аквинату, в объяснении нуждается переход от
чувственного к рациональному или интеллектуальному уровню.
Чувства схватывают отдельные объекты, и образы, даже смутные,
являются единичными. Ум, напротив, владеет универсальными
понятиями; он схватывает абстрагированные формы вещей.
Поэтому у нас есть, с одной стороны, чувственное постижение
единичного, с другой — интеллектуальное познание общего. Это не
означает, что универсалии как таковые имеют существование вне
ума. Например, существуют только отдельные люди; не
существует и не может существовать ничего такого, как
универсальный человек. Но индивидуальные люди обладают, по убеждению
Аквината, сходными по виду сущностями, и это сходство
сущности служит объективным основанием для универсального
понятия человека, почему один и тот же термин мы можем
приписывать в качестве предиката индивидуальным людям, говоря, что
Иоанн — человек и Петр — тоже человек. Но даже если мы
согласимся с этой точкой зрения, а именно, что универсалии как
таковые существуют в уме, а не вне ума, все-таки остается
проблема, как формируются общие понятия? В результате какого
процесса они формируются? Его нельзя рассматривать как
чисто пассивный процесс, пассивный, так сказать, со стороны ума.
1 Эта сила относится к уровню чувственной жизни человека, и «врачи
указывают для нее определенный орган, а именно среднюю часть головы»
(S.Т., 1а, 78,4). Она помещается как бы на границе с разумом, и Аквинат
называет ее также «отчасти разумной» {ibid.), поскольку она не постигает
универсалий, как это делает настоящий разум.
182
Ибо ум, будучи имматериальным, не может непосредственно
испытывать воздействия со стороны материальных вещей или
образов. Чтобы объяснить, каким образом формируются общие
понятия из материала, доставляемого чувственным опытом,
необходимо предположить некую деятельность ума. Иными
словами, на рациональном уровне осуществляется следующая
стадия процесса синтеза, и она требует своего анализа.
Аквинат использует аристотелевское различение между
активным и пассивным интеллектом, т. е. между двумя разными
функциями ума. Активный интеллект, по Аквинату,
«освещает» образы объектов, схватываемых чувствами; он выявляет их
формальную характеристику, которая содержится в них в
скрытом виде и потенциально является универсальной. Затем он
абстрагирует эту, потенциально универсальную характеристику,
производя в пассивном интеллекте species impressa, как
называет их Аквинат. Пассивный интеллект реагирует на это воздействие
со стороны активного интеллекта, в результате чего образуется
species expressa, общее понятие в собственном смысле слова.
Конечно, это незнакомый язык, и за ним трудно следить; но
Аквинат имеет в виду приблизительно следующее. Человеческий
интеллект не имеет никакого запаса врожденных идей; он находится
в потенции к обладанию представлениями или понятиями. В этом
смысле интеллект является пассивным. А его понятия должны
быть извлечены каким-то образом из данных, доставляемых
внешними и внутренними чувствами. Но чувства доставляют только
отдельные впечатления от отдельных объектов, а также образы,
производные от этих впечатлений, тогда как понятия по своему
характеру универсальны. Поэтому мы должны предположить, что
интеллект — в функции активного интеллекта — как бы
выбирает, схватывает потенциально универсальную характеристику,
содержащуюся в этом образе, синтезированном путем
воспроизведения в воображении данных, поставляемых различными
органами чувств. Таким образом, активный интеллект абстрагирует
универсальную сущность человека из какого-то отдельного
образа, оставляя в стороне все особенные черты, благодаря которым
этот образ является образом того или иного конкретного
человека, и напечатляет эту сущность в пассивном интеллекте. Так
рождается общее понятие.
Процесс синтеза и абстрагирования последовательно
развертывается начиная с момента получения первичных чувствен-
183
ных впечатлений, вплоть до образования универсального
понятия. Согласно Аквинату, связующим пунктом между данными
чувств и общим понятием служит образ. Важно отдавать себе
отчет, что Аквинат, говоря в этой связи об образах, не имеет
в виду произвольно сконструированных образов вроде образа
единорога. В нашем чувственном восприятии, скажем Петра,
глаз видит цветовые пятна, ухо слышит звуки и т. д. Эти
чувственные впечатления синтезируются в форме «образа». Именно
из этого синтезированного образа, согласно Аквинату.
абстрагируется универсалия «человек». То, что в первую очередь
познается умом, — это универсалия как форма, схватываемая
в момент познания в Петре. Петр познается как человек. И лишь
во вторую очередь ум постигает эту универсалию как нечто
общее, универсальное. Иначе говоря, он лишь потом
постигает универсалию, как то, что можно предицировать не только
Петру, но также Иакову, Иоанну и любому другому
индивидуальному человеку. Так что, согласно Аквинату, говорить об
«абстракции» не значит отсекать жизнь интеллекта от жизни
чувств и утверждать, что ум познает только свои собственные
идеи. Общее понятие — это модификация интеллекта,
посредством которой какая-то вещь (например, Петр) познается в
отношении ее формы или сущности.
Как мы видели, Аквинат считал, что ум зависит от
образов: он не только формирует свои понятия на основе образов,
но и использует их непосредственно, поскольку не бывает
мышления, не опирающегося на образы или символы. Так как ум
является активным и обладает способностью активной
рефлексии, он не ограничен познанием материальных вещей; но в то
же время он может познавать имматериальные вещи, лишь
поскольку какие-то материальные вещи соотнесены с ними и
открывают их уму. Кроме того, мысля об имматериальных вещах,
мы не можем обходиться без использования образов или
символов. Мы можем сознавать неадекватность этих образов,
основанных на чувственном восприятии, но не можем
избавиться от них. Мы можем постигать имматериальные вещи, даже
если об их существовании нам уже известно из откровения,
только по аналогии с видимыми вещами, хотя мы можем
затем пытаться извлечь умопостигаемое содержание наших идей
из чувственно-образной оболочки. «В нашей теперешней
жизни образы неизбежно сопровождают наше знание, сколь бы
184
духовным оно ни было: ведь даже Бог познается нами через
образы Его действий (в творениях)» (De malo, 16, 8, ad 3).
Опять-таки «образ — начало нашего познания. С образа
начинается наша интеллектуальная деятельность, причем он не
просто временный стимул, а постоянное основание
интеллектуальной деятельности. ...Итак, когда затруднено воображение,
то это мешает также и нашему теологическому познанию» (In
librum Boethii de Trinitate, 6, 2, ad 5).
Следует отметить, что истина или ложь приписывается
впервые не чувственным впечатлениям и не понятиям, а
суждениям. Едва ли можно говорить об ошибке в случае схватывания
отдельным чувством его собственного объекта, конечно если орган
не поврежден; но, поскольку Аквинат допускает «производящие
суждение» чувства, он готов также допустить истину и ложь на
чувственном уровне. Мы можем, например, сказать, что
животное неправильно оценивает расстояние, имея в виду
расстояние, непосредственно схватываемое чувствами. Хотя «суждение»
чувства может быть истинным или ложным, в зависимости от
того, соответствует ли оно реальности или нет, но его
истинность или ложность как таковые рефлективно не постигаются
на чувственном уровне. «Истина первично постигается умом. ...Она
определяется как соответствие между умом и вещью. Так что
познавать это соответствие — значит познавать истину. Чувство,
однако, не знает истину как таковую. Ибо, хотя зрение имеет
подобие видимой вещи, оно не познает соответствия между
видимой вещью и своим восприятием ее. Ум же может сознавать
свое соответствие мыслимой вещи, но не поскольку он
схватывает ее сущность, а поскольку составляет суждение о вещи.
...Именно тогда он впервые познает и высказывает истину. ...Итак,
именно в суждениях ума впервые обнаруживается истина, а не
в ощущении и не в интеллектуальном схватывании сущности»
(S.T., 1а, 16, 2). У меня может быть истинное восприятие Петра
как белого; но не этому восприятию как таковому впервые
приписывается истинность. Строго говоря, «истинно» суждение, что
Петр белый. Аквинат действительно говорит о вещах как
истинных, поскольку, например, они находятся в соответствии с умом
Творца. Но в De veritate и в других местах он тщательно
различает смыслы слова «истина» в разных случаях употребления им
этого слова и устанавливает, что истина впервые
обнаруживается в акте суждения ума.
185
* * *
Аквината называли интеллектуалистом. Подходит ли ему это
имя, на этот вопрос нельзя ответить, не уяснив себе сначала
его смысла. Если понимать под словом «интеллектуалист» того,
кто придает большое значение познанию и рациональной
деятельности, то, несомненно, есть основания дать Аквинату это
имя. В конце концов, следует ожидать от профессора
университета — а Аквинат и был им — особого подчеркивания
рациональной рефлексии и высокой оценки познания. В средние века
имела место дискуссия о способностях души, причем
обсуждался вопрос о том, какая способность «благороднее». Такая
дискуссия, надо думать, не вызвала бы сегодня живого
интереса; но стоит отметить, что Аквинат был убежден в
превосходстве интеллекта. Он утверждал, что, тогда как воля
стремится к своему объекту, интеллект обладает им в познании, а
обладание лучше, чем стремление к нему. В знании, по его
словам, познающий и познаваемое суть одно; т. е. познающий
становится тем, что он познает, посредством мысленного и
духовного усвоения, не переставая при этом быть самим
собой. Естественное познание, таким образом, — это слабое
предвосхищение видения Бога на небесах, в котором заключается
конечная цель человека.
Если же под словом «интеллектуалист» имеется в виду
человек, который слеп или относится с пренебрежением ко всем
остальным сторонам человеческой жизни, помимо
рефлективной деятельности разума, то это имя неприложимо к
Аквинату. Когда он говорит, что высшее счастье человека состоит
главным образом в интеллектуальном видении Бога, как Он есть в
Себе, он отнюдь не исключает любовь. Совершенная любовь,
по Аквинату, — плод совершенного знания. Тот факт, что он
придает особое значение в этой жизни интеллектуальной
деятельности, не свидетельствует ни о пренебрежении, ни о
слепоте Аквината к другим сторонам человеческой деятельности.
Пренебрежительное отношение к другим аспектам
жизнедеятельности недопустимо для него ни как для верующего
христианина, ни как для теолога. Но и как психолог и философ, он
сознавал важность других сторон человеческой природы:
влечения и воли. Следует сказать кое-что о его взглядах на этот
предмет.
186
У всякой вещи есть склонность или расположение к особой
форме поведения. Слово «склонность» наводит на мысль о
сознательном стремлении к некоторому объекту; но Аквинат
употребляет его в самом общем смысле, покрывающем в
частности, если воспользоваться его собственным примером,
естественное движение огня вверх. Это естественное и
бессознательное «влечение» определяется формой вещи, и оно неизменно.
В том, что способно к познанию, мы находим некое влечение,
следующее за постижением объекта как благого или
желанного. Поскольку оно имеет место на уровне чувственной жизни,
оно называется животным, или чувственным, влечением.
Когда собака видит пищу, ее подталкивает к пище ее
чувственное влечение, которое Аквинат называет также
«чувственностью». Но это последнее слово не следует брать в том смысле,
какой оно зачастую имеет в наши дни, например, когда мы
говорим о чувственном человеке. Согласно Аквинату, оно
означает просто «влечение, следующее за схватыванием в
ощущении» (S.T., 1а, 81, 1). Назвать его «чувственностью» не
значит сказать, что оно беспорядочно. Чувственное влечение к
пище не является чем-то беспорядочным. Напротив, оно
естественно и стремится к объективному благу для обладающего
этим влечением.
Такое чувственное влечение имеется, конечно, и у человека. Но
у человека есть также рациональное, или разумное, влечение,
посредством которого он сознательно желает блага, постигаемого
разумом; оно называется «волей». Согласно Аквинату, чувственное
влечение и воля — это две разные способности. «Следует сказать,
что разумное влечение — это способность, отличная от
чувственного влечения. ...Ибо объекты, схватываемые интеллектом,
отличны от объектов, схватываемых чувством» (S.T., 1а, 80, 2).
Во всяком выборе Аквинат усматривает желание блага или
любовь к благу. «Первое движение воли и всякой силы
влечения— любовь» {S.T., 1а, 20, 1). Эта склонность воли к благу
присуща ей по природе и с необходимостью: ведь воля самой
природой предрасположена к благу, и эта склонность не
подлежит свободному выбору. Разные люди могут желать разного.
«Одни люди ищут богатства как высшего блага, другие —
удовольствия, а иные — еще чего-либо» (S.Т., 1а, Пае, 1, 7). Но
если они чего-то желают и ищут, то желают и ищут его
именно как блага, т. е. потому, что либо оно для них благо, либо,
187
по крайней мере, представляется
благом. Аквинат не думает, что все
люди с необходимостью ищут и
выбирают то, что объективно
является благом для человека с точки
зрения морали. Но чего бы человек ни
искал, он ищет этого, потому что
либо оно для него благо, либо
представляется ему благом, т. е. тем,
что либо удовлетворяет какие-то
потребности или осуществляет что-
то необходимое для человеческой
природы, либо актуализирует и
совершенствует какие-то потенции
человеческой природы.
Можно выразить это иначе,
сказав, что все люди желают, причем
Апостол Фома(миниатюра с необходимостью желают, «счас-
из «Реймского миссола») тья». Но это утверждение может
быть понято неправильно. Согласно
Аквинату, все люди желают и ищут того, что он называет
beatitudo. Этот термин, до некоторой степени соответствующий
аристотелевскому понятию eudaimonia, обычно переводится
словом «счастье». Можно перевести его как «благое бытие» или
как «блаженство»; но какой бы термин мы ни выбрали, все равно
требуется пояснение. Главным образом надо отметить, пожалуй,
следующее. Тогда как слово «счастье» обычно используется для
выражения субъективного состояния, психологического
ощущения себя счастливым, слово beatitudo имеет у Аквината
гораздо более широкий смысл. Используемое в объективном смысле,
оно означает то, обладание чем актуализирует некие потенции
человека, делая его тем самым удовлетворенным или
счастливым. Будучи применено в субъективном смысле, оно, по
существу, означает активное, доставляющее наслаждение обладание
чем-то таким, что совершенствует некие потенции человека,
хотя оно может также означать состояние удовлетворения или
счастья, которое сопровождает эту активность. Можно изложить
это и так. Beatitudo в объективном смысле означает благо,
которое, когда человек им обладает, совершенствует его
потенции как человека. Используемое в субъективном смысле, оно оз-
188
начает активное обладание этим благом и удовлетворение или
счастье (в обычном смысле), сопровождающее это активное
обладание. Поэтому утверждение, что все люди с необходимостью
желают «счастья» (heatitudo), тождественно утверждению, что
все люди с необходимостью ищут того, что действительно
совершенствует их природу и удовлетворяет их естественные
потребности или что кажется им таковым, и что в каждом
отдельном случае их выбор продиктован этой естественной
склонностью воли. В каждом отдельном случае выбор какого-то
объекта обусловлен тем, что этот объект действительно вносит — или
человеку представляется, что вносит, — вклад в достижение
высшего для человека блага, обладание которым — счастье или
heatitudo в субъективном смысле.
Аквинат имел совершенно определенное представление о
том, что составляет высшее благо для человека,
представление, соответствующее духу христианского вероучения. Высшее
благо для человека в объективном смысле — Бог; в
субъективном смысле — это обретение Бога. Это обретение Бога, ибо Он —
и высшее бытие, и высшее благо, которое совершенствует
потенции человека в наивысшей степени и дарует совершенное
счастье в психологическом отношении. И поскольку все ищут
благо, в обладании которым заключено счастье, то можно
сказать, опираясь на только что сказанное, что все ищут Бога. Но
это не означает, что всякий человек сознательно ищет Бога,
что, очевидно, было бы неверно. Если бы Бог, как Он есть в
Себе, открылся нам, воля не могла бы не устремиться к Нему.
Но Бог не открывается нам таким образом. В самом деле, хотя
Бог — реальное высшее благо, Он может казаться какому-то
человеку «злом», например, как существо, чьи законы
сдерживают и ограничивают проявление человеческих порывов. Мы
не обладаем таким видением Бога, при котором Бог
становится неодолимо притягательным для воли. Для нас всякое
конкретное благо, даже Сам Бог, может представиться под тем или
иным углом зрения как нечто неблагоприятное для нас, как не
являющееся благим и желанным во всех отношениях.
Следовательно, в этой жизни воля не связана необходимостью
выбрать какое-либо определенное благо. Личные физиологические
и психологические особенности, влияние окружения или еще
что-нибудь могут склонить кого-то к желанию особого рода
блага, т. е. к тому, чтобы рассматривать какую-то особого рода
189
вещь как желанную, но воля сама по себе ничем не
детерминирована просто потому, что воля и состоит в том, чтобы
желать и искать того или другого. Поэтому утверждение, что воля
с необходимостью расположена к благу или что все люди с
необходимостью ищут счастья, следует понимать в самом общем
смысле. Оно означает: что бы человек ни избрал, он избирает
это как благо, реальное или мнимое, и что все люди ищут
актуализации своих потенций и удовлетворения своих нужд.
Некоторые примечания к этой теории фундаментальной
устремленности воли, возможно, будут здесь уместны.
Во-первых, как может показаться, утверждение, что все люди с
необходимостью ищут счастья, не соответствует реальным
фактам. Когда, например, человек кончает жизнь самоубийством,
разве он ищет счастья? Может быть, он верит, что смерть —
это полное и окончательное прекращение его индивидуального
существования. И если он верит именно в это, конечно, было
бы странным парадоксом говорить, что он ищет счастья, когда
кончает с собой. Далее, разве не факт, что некоторые люди
оставляют в стороне поиски счастья в погоне за славой или
за властью?
Наверное, Аквинат ответил бы, что если человек
совершает самоубийство потому, например, что у него жалкая или
несчастная жизнь, или потому, что ему угрожает публичный
позор, который он не может вынести, то он не желает
прекращения жизни как такового, но, скорее, избавления от
настоящего или угрожающего зла, и это избавление представляется
ему в виде некоего блага. Даже если он мыслит прекращение
жизни как нечто желанное, он рисует его себе наделенным
какими-то привлекательными чертами: например, как
состояние полного и окончательного покоя. Желая, всегда желают
чего-то. Что же касается человека, предпочитающего погоню
за властью поискам счастья, то этот случай вообще не
представляет затруднения. Здесь видится трудность лишь потому,
что слову «счастье» придается особый смысл, например,
наслаждение чувственными удовольствиями или спокойная
жизнь, не тревожимая честолюбием или жаждой власти. Но
человек, стремящийся к власти, а не к чувственному
удовольствию, также ищет счастья: он ищет того, что представляется
ему желанным и благим, способным актуализировать его
потенции и удовлетворить его природные потребности.
190
Могут выдвинуть такое возражение. Если утверждение, что
все, что выбирается, выбирается как благо, реальное или
мнимое, и что все люди ищут счастья, способно охватить все
возможные эмпирические факты, то только потому, что термины
«благо» и «счастье» получают столь широкий спектр значений, что
теряют смысл по отношению ко всем намерениям и целям. Если
кто-то высказывает утверждение, верное во всех случаях без
исключения, оно может быть только тривиальным. «Благо» в
общем смысле означает, по Аквинату, бытие в его отношении к
воле, т. е. бытие, рассматриваемое как желанное или как
способное совершенствовать деятеля. А высказывание, что все люди
желают желанного или того, что кажется им желанным, не очень
много сообщает нам, хотя оно, несомненно, истинно.
Это возражение вполне понятно. Но, прежде чем сделать
краткое замечание по этому вопросу, я хотел бы объяснить, чего не
имеет в виду Аквинат, говоря: что бы ни выбирала воля, она
выбирает это как благо, реальное или мнимое.
Если понять это высказывание в том смысле, что никто
никогда не делает намеренно того, что он считает морально
дурным, едва ли мы назвали бы его «тривиальностью» или
«тавтологией»; но мы сказали бы, что оно явно неверно. Ведь ясно не
только то, что люди порой поступают так, как, по их
убеждению, поступать в нравственном отношении дурно, но также и
то, что они поступают так намеренно и сознательно. Но
Аквинат не имел в виду, что это высказывание следует понимать в
таком смысле. Его утверждение состояло в том, что человек
может, зная, что какой-то поступок нехорош, все же совершить
его, но тогда то, чего он желает, не есть зло как таковое, но
нечто, кажущееся ему желанным, а потому и благом, даже если
бы он прекрасно сознавал, что достижение того, что кажется
ему благом, влечет за собой моральную вину. Мы должны
различить объективно благое и «мнимо благое». Первое — то, что
совершенствует человека в его целостности как человеческую
личность. Благо, которое является только «мнимо» благим,
отвечает какому-то отдельному стремлению или желанию
человека, но не совершенствует его природу во всей ее целостности.
Например, человек, начиная принимать опасный наркотик,
вовсе не выбирает того, что является объективно благим для него
как человека; но он вообще не стал бы принимать его, если бы
не думал, что это принесет ему известное удовлетворение, т. е.
191
не считал бы этот поступок в каком-то отношении благим и
желанным. Он может считать, что употреблять героин в
моральном отношении дурно, и все же делать это; но он не завел бы
этой привычки (отказаться от которой, конечно, впоследствии
был бы уже не в силах), если бы не думал, что это действие в
известном отношении «совершенствует» его природу.
Объективно это не так; и человек может знать это. Но факт остается
фактом, что, по его ощущению, этот поступок отвечал какой-то его
потребности. Человек может знать, что это — только
кажущееся благо; но, если он принимает такое решение, он выбирает
объект, который представляется ему желательным, пусть даже
он считает его дурным в моральном отношении. «Подобным
образом прелюбодей ищет удовольствия, которое в моральном
отношении вменяется ему в вину» (S.T., 1а, 19, 9). Прелюбодей,
утверждает Аквинат, стремится к удовольствию, чему-то
положительному, отвечающему его инстинктивному влечению. Он
может знать, что прелюбодеяние дурно в моральном отношении
и не представляет собой объективного блага и что в этом случае
он впадает в грех. Но, хотя бы он и знал, что этот поступок
является злым или морально вредным, он не выбирает зло или вред
как таковые; по крайней мере, не выбирает их прямо.
Непосредственно он выбирает удовольствие, хотя можно сказать, что
косвенно он тем самым выбирает зло, поскольку он выбирает
поступок в моральном отношении дурной, причем, возможно,
зная это.
Может показаться, что проведенный Аквинатом анализ
человеческого выбора, хотя и охватывает случай прелюбодея,
совершающего желательное для него действие, даже если он считает
его дурным в моральном отношении, однако не охватывает
ситуации, когда люди как бы делают культ из зла: например, случаи
сатанизма или когда люди жаждут погрузиться в глубины
разврата не для чего другого, как именно ради этого. Но даже и в
этих случаях, настаивал бы Аквинат, первичный и
непосредственный объект выбора — что-то иное, а вовсе не лишенность
(т. е. моральное зло как таковое), хотя это последнее может быть
выбрано «косвенно». Например, отступивший от веры священник,
который служит «черную мессу», возможно, желает совершить
святотатство и богохульство; он делает дурное, зная, что это
дурно. Действительно, едва ли был бы смысл в совершении
тайного кощунственного обряда, если бы он не был убежден, что это
192
святотатство и богохульство и на самом деле, а не только по
имени. Но первично и непосредственно, мог бы сказать Аквинат, он
выбирает нечто позитивное, что представляется ему
желательным: например, отстаивание своей полной независимости от
Бога, вызов Богу. Лишенность неотделима от этого действия, в
котором нет надлежащего порядка; и человек может выбрать это
действие, поскольку оно злое. Но непосредственно он выбирает
именно само действие. И все же можно было бы сказать,
человек может стремиться делать именно зло. По крайней мере,
такая ситуация мыслима. По-видимому, Аквинат ответил бы, что
и такой человек не выбирает непосредственно зло как таковое,
т. е. лишенность, но он исходно желает удовлетворить какое-то
побуждение или влечение, психологический источник которого
может быть скрыт от самого человека.
Это обсуждение призвано не только показать несостоятельность
предположения, что Аквинат был слеп к тому факту, что люди
не только могут поступать дурно, но могут делать это
сознательно; оно призвано в то же время выразить в более острой форме
выдвинутое выше возражение против утверждения, что воля, что
бы она ни выбирала, выбирает это как благо, реальное или
«кажущееся». Теперь представляется, что оно равносильно
утверждению, что мы желаем желаемого. Если Аквинат не намеревался
утверждать, что мы всегда избираем только благие в моральном
отношении поступки (как отмечалось уже, это утверждение было
бы ложно), то что же он имел в виду, говоря, что в ситуации
выбора мы всегда выбираем не лишенность как таковую, а нечто
позитивное, что мы оцениваем как в каком-то отношении
желательное? И если это утверждение истолковать так, чтобы его
содержание охватывало все реально случающиеся ситуации
человеческого выбора, оно превратится в тавтологию или, в лучшем
случае, в тривиальность.
Но Аквинат в действительности вовсе не говорит, что мы
желаем желаемого или что человек ищет того, чего ищет. Если
мы возьмем это утверждение — что воля, что бы она ни
выбирала, выбирает sub specie boni, — изолированно, то его,
конечно, можно назвать тривиальным или тавтологичным. Но если
это утверждение рассматривать в контексте моральной
доктрины Аквината, где оно выполняет функцию одного из
основных постулатов, то оно приобретает нетривиальное значение.
«Благо» в контексте осуществляемого человеком выбора озна-
193
чает развитие или «совершенствование» человеческой
природы, актуализацию потенций человека как личнопи, или то,
обладание чем актуализирует эти потенции и совершенствует
природу человека. И сказать, что воля всегда выбирает sub
specie boni, т. е. всегда выбирает благо, реальное или мнимое, —
значит обратить внимание на фундаментальное стремление,
стоящее за всяким нашим сознательным выбором, стремление
или импульс к саморазвитию и самосовершенствованию, к
«счастью». Так как этот естественный импульс не сопровождается
с необходимостью явным пониманием человеком объективного
блага и не зависит от такого понимания, то можно составить
себе об этом благе ошибочное представление. Кроме того,
поскольку это благо не усматривается нами, во всяком случае в
этой жизни, с такой ясностью, которая гарантировала бы
нерасторжимую привязанность к нему воли, то человек может,
зная, что оно есть, тем не менее сконцентрироваться на
каком-то частном импульсе или устремлении, которое может
оказаться несовместимым с достижением объективного блага для
человека. Поэтому Аквинат должен определить, что является
для человека объективным благом, т. е. что оно конкретно из
себя представляет. Эта тема будет обсуждена в следующей
главе, в связи с его моральной доктриной. Во всяком случае,
утверждение, что воля все всегда выбирает sub specie boni, как
некое благо, реальное или мнимое, приобретает
нетривиальный смысл, будучи рассмотрено в целостном контексте
моральной доктрины Аквината. Как и в некоторых других случаях,
он начинает с принятого, известного и в каком-то смысле
тривиального и стремится выявить все то, что, по его мнению,
здесь остается скрытым. В результате раскрывается смысл
исходных утверждений. Вот почему я думаю, что согласимся
ли мы с точкой зрения Аквината или нет, он говорит нечто
большее, чем нам может показаться при рассмотрении
отдельного положения изолированно от доктрины, построение
которой преследовало, в частности, и такую цель: раскрыть то, что
содержится в этом утверждении, и дать детальное описание
его смысла.
* * *
Уже было сказано, что, согласно Аквинату, в этой жизни
никакое конкретное благо, даже Бог, не даны нам таким образом,
194
чтобы воля должна была с необходимостью выбрать его. Значит,
можно сказать, что в отношении выбора отдельных благ наша
воля свободна. Но отсюда не следует, что все действия,
выполняемые людьми, являются свободными действиями. Слово
«свободный» в собственном смысле приложимо только к тем
действиям, которые имеют своим источником и разум, и волю; и эти
действия Аквинат называет «человеческими действиями
(актами)» (actus humani). Они могут, конечно, быть чисто
внутренними, например, когда человек сознательно решает обдумывать
математические проблемы. Но есть также действия, причиной
которых бывает сам человек, но которые не являются
сознательными действиями. Таковы так называемые рефлекторные
действия. Их Аквинат называет «действиями (актами) человека»
(actus hominis), чтобы указать, что они подлинно принадлежат
человеку, но в то же время отличить их от «человеческих
действий». «Только те действия (акты) могут быть названы
"человеческими" в собственном смысле слова, хозяином которых
является человек. Человек же господствует над своими действиями
посредством разума и воли. Поэтому следует сказать, что
свободная воля — это способность воли и разума. Таким образом,
"человеческими" называются в собственном смысле те действия
(акты), которые производятся по сознательному выбору» (S.Т.,
1а, Пае, 1, 1). Когда кто-то почесывается, не обращая на это
внимания, он, как полагает Аквинат, по сути, не производит
никакого человеческого действия; т. е. действия (акта),
относящегося к сфере свободы. Аквинат далек от того, чтобы считать
все действия человека свободными, и можно спорить, уместно
ли то или иное действие называть «свободным». Но он был
убежден, что все нормальные люди, по крайней мере иногда,
делают выбор и действуют свободно. Поэтому надлежит рассмотреть,
что Аквинат имел в виду под свободой и как он понимал
свободную волю (liberum arbitrium).
Для его анализа свободы характерен интеллектуализм —
подчеркивание функции разума в свободном выборе. Каждому акту
свободного выбора предшествует суждение разума, и Аквинат
говорит о выборе, как «формально» принадлежащем к актам
разума. Принимая во внимание его доктрину реального различия
отдельных способностей, это утверждение, на первый взгляд,
покажется странным. Ибо, рассуждая в терминах способностей,
естественно, казалось бы, связать выбор с волей, а не с разу-
195
мом. Поэтому необходимо разъяснение того, что имел в виду
Аквинат. Непонимание его словоупотребления, естественно,
приведет к неправильному пониманию его учения.
Ум или разум может рассматривать какое-то частное благо
с разных сторон или с разных точек зрения. Возьмем,
например, прогулку. Я могу рассматривать ее как некое благо: как
выполнение необходимого физического упражнения или как
приятное развлечение в солнечный день. С другой стороны, я
могу смотреть на нее как на «зло»: как на ходьбу по жаркой и
пыльной дороге или как на трату времени, из-за чего не
удастся написать письма, которые необходимо отправить в срок.
Как смотреть на нее, зависит от меня, и поэтому мое
суждение о ней свободно; пока я думаю о прогулке и оцениваю ее с
разных сторон, я еще, как говорится, «не составил мнения»,
идти мне гулять или нет. Но в конце концов я принимаю
определенное решение, например, «сейчас действительно надо
написать письма, я не должен, увиливая от работы, идти на
прогулку». Допустим, моя воля действует (или мой выбор
производится) в согласии с этим суждением, и я не иду на
прогулку. Акт выбора производится волей; в терминах Аквината
он «материально» или «субстанциально» является актом воли.
Но он производится по приказу или согласно суждению
разума, и поэтому, согласно Аквинату, он «формально» является
актом разума. «Если кто-то совершает мужественный поступок
из любви к Богу, то материально это акт мужества, но
формально — акт любви. Ясно, что разум некоторым образом
предшествует воле. ...Поэтому акт, посредством которого воля
стремится к тому, что разум представляет ей как благо, — материально
акт воли, но формально акт разума. ...Таким образом, выбор —
субстанциально акт воли, а не разума; ибо выбор
сопровождается неким движением души к избираемому благу. Отсюда
явствует, что выбор есть акт, производимый^ способностью
желать» (S.T., 1а, Пае, 13, 1). Свободная воля^гЪегига arbit-
rium) — это не какая-то особая способность, отличная от воли.
«Это именно сама воля, хотя так называют волю,
рассматриваемую не саму по себе, а в отношении к акту, называемому
"выбором"» (De veritate, 24, б). Аквинат говорит также, что
liberum arbitrium — это «способность, посредством которой
человек может свободно судить и принимать решения» (De
veritate, 24, 6). Представляется, что это утверждение проти-
196
воречит прежнему утверждению, что термин «liberum arbi-
tnum» обозначает волю. Ведь суждение обычно связывается с
умом, а не с волей. Аквинат сам приводит это возражение и
отвечает, что, «хотя суждение принадлежит разуму, тем не
менее свобода [принимать или нет данное] суждение
принадлежит непосредственно воле» (De veritate, 24, 6, ad 3). Выбор
свободен по отношению к какому-то частному благу,
поскольку мы можем рассматривать его с разных точек зрения; и если
я не пожелаю, я не обязан рассматривать это благо именно так,
а не иначе. В свободном выборе проявляется взаимодействие
разума и воли, почему Аквинат и говорит, что в определении
liberum arbitrium делается неявная отсылка к обеим
способностям (De veritate, 24, б, ad 1). Его интеллектуализм
проявляется в утверждении, что свобода «формально» коренится в
интеллекте или в способности рассуждения; но это утверждение
корректируется или дополняется другим, а именно, что
свобода «материально» коренится в воле. Свободный выбор — это
акт воли, проистекающий из суждения разума.
Аквинат отмечает, что, если бы человек не был свободен,
«советы, увещевания, заповеди, запреты, награды и наказания
были бы бессмысленны» (S.T., 1а, 83, 1). Очевидно, по его
мнению, свободный выбор предполагает способность выбрать по-
другому, чем это было сделано в действительности. Если кто-то
свободно выбирает А, а не В, он мог выбрать и В; если кому-то
предложены на выбор чай или кофе, он может выбрать что-то
из этого либо отказаться. Поскольку человеческие поступки
большей частью определяются «характером» —
предрасположением, привычкой и т. д., — то многие поступки на практике
предсказуемы. Но невозможно безошибочно предсказать все поступки
человека; в условиях полной свободы выбора, хотя с большой
вероятностью можно предсказать, что человек поступит
именно так, как он и поступил на самом деле, все же он мог принять
и другое решение. Можно ли сказать в таком случае, что для
бесконечного ума, для Бога все действия человека, включая и
его свободные действия, предсказуемы? По Аквинату, в
действительности это ложная проблема. Ибо этот вопрос
предполагает, что некоторые события являются будущими для Бога. «Хотя
случайные события происходят последовательно,
Божественному знанию они не даны в той же последовательности, что нам,
Бог знает их одновременно; ибо Его знание меряется вечностью,
197
а вечность в своей целостности одновременно содержит все время.
Поэтому все события, происходящие во времени, — для Бога
вечно даны в настоящем, ...и Его знание о них непогрешимо» (S.Т.,
1а, 14, 13). «Когда я вижу, что Сократ сидит, мое знание
определенно и безошибочно, но сам факт обладания таким знанием
не диктует Сократу необходимости именно сидеть. Так и Бог
определенно и непогрешимо знает как наличные в настоящем все
те вещи, которые для нас являются прошедшими, настоящими
и будущими. И все же этим никакой необходимости не
сообщается случайным событиям» (De rationibus fidei ad Contorem
antiochenum, 10).
Итак, Аквинат придерживался того мнения, что человек
свободен в своем выборе того или иного отдельного блага. Может
быть, выбор каких-то частных благ как средства для
достижения окончательной цели, счастья и является необходимым,
но даже если теоретически мы знаем, что это так, не
очевидно, что мы не можем смотреть на них с другой точки зрения
или с другой стороны. Можно, правда, возразить, что наш
выбор тех или иных частных целей, например, чувственного
удовольствия, власти или знания, определяется нашим
характером, который, в свою очередь, задан физиологическими и
психологическими факторами, окружающей средой и
воспитанием. Разумеется, бесполезно искать у Аквината обсуждения
того, как влияют, скажем, железы внутренней секреции на
характер и поведение человека. Было бы явным анахронизмом
ожидать чего-либо в таком роде. Но поскольку Аквинат сам
подчеркивал зависимость особенностей психики от
физиологического состояния, то было бы оправданно ожидать, по крайней
мере, упоминания о влиянии этой зависимости на выбор,
который человек должен сделать. И действительно, мы находим
у него высказывание, что «какая именно цель представится
человеку достойной того, чтобы он ее выбрал, зависит от его
физического сложения; ибо в силу телесного
предрасположения человек бывает склонен принять или отвергнуть что-либо»
(S.Т., 1а, 83, 1). Важное слово в данном контексте — «склонен».
Аквинат тотчас же прибавляет: «Но эти склонности
подчинены суждению разума. ...Поэтому они не уничтожают свободы
воли». То же самое он говорит о приобретенных привычках и
страстях. По его мнению, все эти факторы влияют на
человеческое поведение, но они, за исключением патологических
198
случаев, не определяют его. Конечно, когда он говорит, что
страсти и приобретенные привычки подчинены суждению
разума, он не имеет в виду, что от них можно немедленно
избавиться. Человеку с дурными привычками может
потребоваться долгое время, чтобы отказаться от них. Но их приобретение
не было для него предрешено с необходимостью, и, уже имея
их, он может, проявив должное упорство, избавиться от них;
конечно, если он и в самом деле не находится в
патологическом состоянии.
Позицию Аквината в этом вопросе можно назвать позицией
здравого смысла. Он был убежден, что в наших обычных
способах высказывания о себе и о других подразумевается
фактическое признание свободы, и он попытался объяснить
свободу выбора в категориях средств и цели. Это не означает, что
Аквинат рассматривал свободное действие исключительно как
каприз и произвол, как «беспричинное» событие. Если под
«причиной» понимать детерминирующий фактор, то свободные
действия, разумеется, «беспричинны». Но всякое свободное действие
совершается ради какой-то цели, в согласии с суждением
разума; таким образом, оно представляет собой случай целевой
причинности, а не просто произвольное, ничем не
обусловленное действие. Что же касается учения Аквината об отношении
между божественной действующей причинностью и
человеческими свободными действиями, то его толкование — вопрос
дискуссионный, и во всяком случае рассмотрение этого вопроса
заставило бы нас углубиться в область теологии значительно
сильнее, чем мне кажется здесь необходимым.
Николай Орем подносит французскому королю Карлу V свою книгу
Глава 5
Человек (2).
мораль и общество
Этическое учение Аквината излагается главным образом в
двух получастях второй части сочинения Summa theologica и в
третьей книге сочинения Summa contra gentiles, хотя
некоторые Quaestiones disputate (например, De virtutibus in communi) и
Quodlibeta также трактуют или затрагивают вопросы морали. Его
комментарий к «Этике» Аристотеля, конечно, ценен для
установления его собственных идей; но, очевидно, основная цель этой
работы — разъяснение учения этого греческого философа. Если
поэтому мы хотим выяснить собственные представления
Аквината о нравственном поведении человека, нам следует
обратиться преимущественно к двум сочинениям, одно из которых прямо
названо систематическим трактатом по теологии, а другое, как
мы уже говорили, нельзя назвать чисто философским
сочинением ни по его целям, ни по содержанию1.
Это не значит, что у Аквината не было собственно
философского учения о морали, т. е. нравственной философии, или что он
забыл свое различение между философией и теологией,
основывающейся на христианском откровении. Обсуждая грехи и
пороки, он отмечает, что «теолог рассматривает грех как
преступление против Бога, тогда как философ-моралист рассматривает его
как нечто, противное разуму» (S.Т., 1а, Пае, 71, б, ad 5). Он не
говорит, что существуют дурные в нравственном отношении
поступки, которые не являются преступлением против Бога, или
1 Я говорю «чисто философским», имея в виду собственное различение
Аквината между философией и догматической теологией.
201
что существуют преступления против Бога, которые не
противны правильному разумению. Он говорит только, что теолог и
философ-моралист рассматривают дурные в моральном
отношении поступки с разных точек зрения и с разных сторон.
Несомненно, когда он упоминает «философа-моралиста», он имеет в
виду главным образом Аристотеля, хотя не одного только его; но
его слова показывают, что он хорошо сознавал, когда он говорил
именно как христианский теолог. Он, безусловно, не пытался
разработать нравственную философию, совершенно
обособленную от христианской доктрины; было бы нелепо ожидать, чтобы
он сделал это в одной из своих «Сумм». Summa theologica была
написана им для изучающих теологию, а одна из целей, ради
которых была написана Summa contra gentiles, состояла в том,
чтобы показать, что христианская религия, хотя ее нельзя
вывести из философских истин, тем не менее не только находится
в согласии с этими истинами, но и как бы совершенствует их и
выставляет их в новом свете. Аквинат превосходно сознавал, что
греческий философ, такой, как Аристотель, был способен
отличать хорошие в моральном отношении действия от дурных, и в
своих работах он часто следует Аристотелю в анализе этических
проблем. Но он был также убежден, что без откровения мы
можем приобрести только несовершенное и неадекватное знание о
целях человеческой жизни и о высшем благе человека. Совершенно
естественно, что свое обсуждение окончательной цели человека
он начинает с аристотелевской концепции «счастья»,
заканчивает же христианским учением о блаженном видении Бога на
небесах, и что при обсуждении добродетелей завершающим
моментом является рассмотрение «теологических добродетелей»: веры,
надежды и любви.
Поэтому на следующих страницах я не собираюсь
абстрагироваться от вопросов религиозно-этического характера, входящих
в компетенцию теологии; это создало бы ложное представление
о мысли Аквината. Он был теологом-философом XIII столетия, а
не профессором моральной философии в современном английском
университете, который считал бы своим профессиональным
долгом не выдвигать в качестве предпосылки утверждение об
истинности своих личных религиозных убеждений. С другой стороны,
мне не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, будто
Аквинат не делал различия между тем, что доступно знанию
нехристианского философа относительно человеческой жизни и чело-
202
веческого назначения, и тем, что нельзя знать без откровения. В
действительности он четко различал эти моменты в своей этике.
Но Аквинат, безусловно, был убежден в существовании
гармонического согласия между всеми истинами, независимо от
способов нахождения этих истин, и хотел представить и
проиллюстрировать это согласие.
* * *
В последней главе упоминалось о том, что Аквинат отличал
«человеческие акты» (actus humant) от «актов человека» (actus
hominis). Только первые, — а именно свободные акты,
которые производит воля, стремящаяся к цели, постигаемой и
санкционированной разумом, — относятся к сфере морали и
являются добрыми или злыми в моральном отношении. Скажем,
чисто рефлекторное действие не будет «человеческим актом» в
том смысле, какой вкладывает в этот термин Аквинат. Ведь
хотя это и действие человеческого существа, поскольку оно
совершается человеком, тем не менее нельзя сказать, что
человек именно как разумное свободное существо производит это
действие. Действия подобного рода не относятся к сфере
морали. «Моральные действия (акты) и человеческие акты — одно
и то же» (5.Т., 1а, Нас, 1, 3).
Слово «акт» в этом контексте современный читатель,
возможно, поймет как действие, доступное в принципе наблюдению
других людей; такие поступки, например, как дать деньги
нуждающемуся или украсть драгоценности. Потому полезно отметить
сразу же, что Аквинат проводит различие между «внутренним
актом» и «внешним актом». Если мы говорим о человеческих актах
в строгом значении этого термина, очевидно, что не может быть
внешнего акта без внутреннего акта; ибо человеческий акт
определяется его отнесением к воле. В каждом человеческом акте воля
направлена к цели, постигаемой разумом. Так что в каждом
человеческом акте должен быть внутренний акт воли. Может быть,
однако, внутренний акт, не сопровождаемый тем, что обычно
считается внешним актом; скажем, человек внутренне настроился
украсть часы, но на самом деле он никогда не сделает этого:
возможно, ему не представится подходящий случай. Когда Аквинат
говорит об актах благих и дурных в моральном отношении, он
преимущественно имеет в виду внутренние акты. Но, коль скоро
внутренний акт выразился в каком-либо внешнем акте или рассмат-
203
ривается как получивший внешнее выражение, тогда слово «акт»
обозначает целокупное действие, если, правда, из каких-то
дополнительных характеристик или из контекста не явствует, что
это слово употребляется в более ограниченном смысле.
Аквинат утверждает — это было показано в предыдущей
главе, — что в каждом человеческом акте воля направлена к цели,
либо постигаемой нами как благо, либо представляющейся нам
благой, т. е. к чему-то, о чем мы знаем наверняка или только
полагаем, что оно некоторым образом совершенствует нас,
способствует совершенствованию любого субъекта, который желает
и выбирает. И в согласии со своей финалистской концепцией
природы Аквинат далее доказывает, что человеческая воля с
необходимостью предрасположена к высшему благу,
служащему окончательной целью для человека как такового, и что именно
под побуждающим воздействием этой врожденной динамической
ориентации воли мы совершаем свой выбор в отдельных
случаях. Тогда встает вопрос, что является благом для человека как
такового, что это за объект, который только и может полностью
удовлетворить желания и стремления человека?
Конечно, можно скептически заметить, что в этом вопросе уже
содержится допущение существования такого объекта, а это
незаконно. Но Аквинат утверждал, что, не будь этого величайшего
и высшего для человека блага, мы бы вообще ничего не желали,
ибо стремятся к каким-то конкретным целям и желают каких-то
частных благ, поскольку они служат средством для достижения
этой высшей последней цели. Можно выдвинуть и другое
возражение, что, даже если признать существование естественного
желания какого-то дающего полное удовлетворение блага, все же
из этого еще не следует, что это желание исполнимо. Надо,
однако, напомнить, что Аквинат предполагает существование Бога,
сотворившего вещи, наделенные врожденным стремлением к
осуществлению своих реальных потенций. Он предполагает, как уже
было показано, что человеческая природа сотворена личным
Богом, который не наделил бы ее неустранимой тягой к благу
несуществующему или недостижимому.
В чем состоит высшее благо и конечная цель человека —
вопрос не праздный, ибо опыт показывает, что разные люди по-
разному представляют себе, каково это благо. Каждый человек
стремится к актуализации своих потенций, к обладанию благом,
которое может удовлетворить волю, т. е. к «счастью»; но отсю-
204
да не следует, что имеется согласие относительно природы этого
блага. «Все стремятся к конечной цели, поскольку все желают
для себя совершенства, а оно и есть конечная цель. Но среди
людей нет согласия относительно конкретной природы конечной
цели» (S.Т., 1а, Пае, 1, 17). Высказыванием, что все желают для
себя совершенства, Аквинат не хочет сказать, что все люди
тянутся к нравственному совершенству, что явно было бы
ложно: он имеет в виду, что все стремятся к актуализации своих
природных потенций, даже если они никогда не употребляют
таких терминов, как «высшее благо» и «конечная цель».
Согласно его концепции, все сотворенные вещи стремятся к
актуализации своих потенций; людям свойственно стремиться к этому
не только инстинктивно, но и используя свой интеллект и свою
волю. Поскольку не существует никаких врожденных идей, а
высшее благо практически не доступно непосредственному
созерцанию, то на деле у людей могут быть разные
представления о том, в чем состоит высшее благо или конечная цель. Очень
часто об этом представлении можно судить лишь по косвенным
данным: по делам человека, по тому, как он устраивает свою
жизнь, можно догадаться о целях, которыми он
руководствуется, и об идеале, на который он фактически ориентируется.
Один человек может посвятить свою жизнь приобретению и
приумножению чувственных удовольствий, другой — достижению
власти, иной — приобретению познаний и т. д. У Аквината не
возникло бы ощущения, что необходимо что-то изменить в его
доктрине, чтобы «вписать» в нее результаты современных
психологических исследований, показывающих, что, когда
человек исповедует какие-либо идеалы и открыто заявляет, что он
преследует какие-то цели, то эти идеалы и цели отнюдь не всегда
совпадают с его фактическим идеалом, т. е. с целью,
сообразуясь с которой, он действительно устраивает свою жизнь. Но,
поскольку Аквинат был убежден, что, несмотря не все
различия между индивидами, существует такая вещь, как
человеческая природа, то вопрос, что является высшим благом или
конечной целью для человека как такового, представлял для него
серьезную проблему.
Аквинат начинает с рассмотрения различных благ: могут ли они
претендовать на роль высшего блага для человека как такового1.
Ср. 5.Т., 1а, Пае, 2, 1 /.; C.G., 3, 27 /.
205
Чувственное удовольствие, например, не может быть высшим
благом, так как оно совершенствует только тело: оно
актуализирует потенции и приносит удовлетворение только части
человеческого существа. Кроме того, чувственное удовольствие могут
получать как люди, так и животные, а мы ищем благо для
человека как такового, т. е. как «разумного животного». Власть также
не может быть высшим благом для человека. Нелепо ведь
говорить о высшем благе как о том, чем можно злоупотреблять и что
предоставляет возможности для реализации злых и недостойных
целей; но очевидно, что власть может быть использована как во
благо, так и во зло. Не может также и научное или
спекулятивное знание составлять высшее благо или конечную цель
человека. Процесс познания и достижение научного знания могут
приносить удовлетворение какому-то индивиду в том смысле, что
научное знание является именно тем, чего этот человек желает
и ради чего он жертвует развитием других сторон своей
природы; но оно не может обеспечить объективного
совершенствования целостной личности. Даже метафизическое знание о Боге не
может сделать этого. Действительно, оно несовершенно даже
просто как знание. Ибо посредством философской рефлексии мы
можем знать, чем Бог не является, а не то, что Он есть. Даже
знания о Боге, которое дается верой, недостаточно, чтобы
удовлетворить человеческий ум. Высшее благо и конечную цель
можно обрести в сверхъестественном видении Бога, достижимом лишь
в будущей жизни.
Может создаться впечатление, что Аквинат стал жертвой
своих интеллектуалистских стремлений, поскольку именно в знании
он видит высшее благо для человека. Разумеется, это верно, что
сущность beatitudo он усматривает в интуитивном знании или
созерцании Бога. Но это не означает, что он исключает, например,
любовь. По его мнению, совершенная удовлетворенность воли, а
также других составляющих человеческой личности вносит вклад
в «счастье» в широком смысле, но эта удовлетворенность —
результат видения Бога; именно поэтому интеллектуальное
созерцание Бога он считает формальной сущностью beatitudo. Однако,
хотя он и подчеркивает момент непосредственного созерцания при
описании конечного пункта на пути к Богу, его мышление
остается в кругу представлений христианского учения о преображении
человеческой личности, о ее восстановлении в совершенной
полноте. Не забывает он и христианскую доктрину об общении святых.
206
Итак, beatitudo может означать либо Самого Бога, если beatitudo
понимать как объект, обладание которым дарует счастье, либо
соединение с Богом, если beatitudo понимать как обладание этим
объектом. Именно это соединение с Богом, по Аквинату, в самой
высшей степени и наиболее совершенным образом
актуализирует потенции человека. Это соединение — как бы обладание тем,
что дарует счастье, — невозможно, по убеждению Аквината, без
сверхъестественного содействия благодати; оно превосходит
естественные способности человека, и без откровения мы не
способны знать, что это соединение-обладание достижимо и что оно
и составляет действительную конечную цель человека. Будучи
убежден в этом, он неизбежно должен был прийти к мысли, что
философ-моралист, оставаясь только философом, не может быть
уверен, в чем в действительности состоит высшее благо для
человека и конечная цель человеческого существования. А этот
вывод, очевидно, порождает значительные трудности для
телеологической этики, в которой понятие конечной цели играет
весьма важную роль. Ведь человеческие поступки считаются морально
благими или дурными в зависимости от того, совместимы ли они
с достижением этой цели.
Аквинат, впрочем, не думал, что без откровения вообще
невозможно никакое знание о том, что является для человека
благом. Даже если философ ничего не знает о блаженном видении Бога,
он вполне способен понимать, что некоторые поступки ведут к
человеческому совершенству, способствуют развитию и
совершенствованию человеческой природы, другие же противодействуют
этому. Аквинат и не говорит, что учение Аристотеля о
человеческом благе просто неверно или что Аристотель был
погруженным во мрак невежества язычником и не мог ничего знать о
морали. Предметом рассмотрения Аристотеля, считает Аквинат,
было несовершенное и временное счастье, которого человек
может достичь в этой жизни своими собственными усилиями.
Восхищаясь Аристотелем и стремясь показать, что философия
Аристотеля в своей основе не противоречит христианству, он старался
не акцентировать внимания на тех сторонах аристотелизма,
которые делали его в глазах иных критиков, чисто
натуралистической системой, исключающей сверхприродное бытие. Аквинат
был убежден, что воззрения Аристотеля на мир и на
человеческую жизнь были неполны и неадекватны, но они не были
неправильными или неистинными. Благодать совершенствует природу,
207
но не аннулирует ее; откровение проливает дополнительный свет
на истины, достижимые посредством чисто философской
рефлексии, а не отменяет их.
* * *
Как бы ни были велики расхождения во взглядах
Аристотеля и Аквината на конечную цель человека и высшее благо, в их
этических концепциях много общего: та и другая строятся как
телеологические системы, в той и другой идея блага занимает
главенствующее положение. Для обоих мыслителей моральная
ценность человеческих поступков определяется путем их
соотнесения с конечной целью человека.
Согласно Аквинату, всякий конкретный человеческий акт
является либо морально благим, либо морально дурным. При этом
слова «человеческий акт» следует понимать строго
терминологически, и слово «конкретный» здесь важно. Ведь если
рассматривать человеческие акты чисто теоретически, абстрагируясь
от конкретных мотивов их осуществления, некоторые из них
окажутся морально индифферентными. Например, прогулка в саду,
рассматриваемая абстрактно, может быть названа морально
индифферентным поступком. Но единичный, конкретный
человеческий акт является или морально благим, или морально дурным,
так как он либо способствует достижению человеком высшего
блага или конечной цели, либо препятствует этому. Когда мы
рассматриваем такой акт, как прогулка в саду, совершенно
абстрактно, мы не в состоянии назвать его ни морально благим, ни
морально дурным; это станет возможно, если мы будем
говорить о вот этой, конкретной прогулке в саду, об акте, который
сообразуется с определенной целью и характеризуется
определенными обстоятельствами. «Любой единичный акт
сопровождается некоторыми обстоятельствами, благодаря которым он
входит в разряд либо благих, либо дурных актов, хотя бы по
характеру намерения. ...Но если акт не является
преднамеренным... (как, например, когда поглаживают бороду или шевелят
рукой или ногой), то он, собственно говоря, не является
человеческим или моральным актом. ...Он будет, следовательно,
индифферентным актом, не относящимся к разряду моральных
актов» (S.Т., 1а, Пае, 18, 9).
Обратим внимание на фразу «акт, который сообразуется с
определенной целью». Она указывает на то, какое значение при-
208
дает Аквинат намерению. Когда он рассматривает внутренний акт
и внешний акт как составные части единого целого, он часто
прибегает к сравнению, заимствованному из доктрины гилеморфиз-
ма. Внутренний акт он сравнивает с «формой», а внешний — с
«материей». Намерение принадлежит внутреннему акту. Но оно
формирует акт в целом, в том смысле, что отсутствие благого
намерения или наличие дурного обесценивает весь акт, делая его
дурным в моральном отношении. Если материально благой акт
производится с дурным намерением, то и весь человеческий акт,
состоящий из обеих частей, оказывается морально дурным.
«Например, мы говорим, что подать милостыню из тщеславия
дурно» (S.T., 1а, Нас, 20, 1). Подача милостыни является
материально благим актом, но дурное намерение сообщает такую «форму»
данному единичному человеческому акту подачи милостыни,
которая превращает его в морально дурной акт. Чтобы
человеческий акт был морально благим, должно быть налицо много
факторов; достаточно отсутствия какого-либо из них, например,
должного намерения, чтобы его уже нельзя было безоговорочно
назвать благим.
Из этого, однако, не следует, что, по Аквинату, все
сводится к намерению. «Чтобы сделать внешний акт благим,
недостаточно той благости в воле, которая происходит от намерения
сделать что-то» (S.T., 1а, Пае, 20, 2). Ибо, как говорит Августин,
существуют такие вещи, которые нельзя оправдать ссылкой на
благие намерения (ibid., sed contra). Дурное намерение портит
человеческий акт, даже если внешнее его исполнение является
материально благим; но обратное неверно: материально дурной акт
не превращается в благой акт благодаря наличию похвального
намерения. Достаточно, чтобы недоставало одного-единственного
необходимого момента, чтобы человеческий акт в целом был
морально дурным. Но чтобы человеческий акт был безоговорочно
благим, наличия только одного необходимого фактора, скажем
благого намерения, недостаточно. Если я ворую деньги у одного
человека, чтобы подать милостыню другому, мой поступок
нельзя оправдать моим благим намерением.
Поэтому нельзя приписывать Аквинату мнение, что цель
оправдывает средства в расхожем смысле этого высказывания.
Когда он говорит, что моральное достоинство человеческих
актов производно от их отношения к конечной цели человека или
высшему для него благу, он не понимает это так, что какие
209
угодно поступки человека могут быть оправданы при условии,
что он имеет определенное намерение. Чтобы человеческий акт
был в полном смысле морально благим, он должен быть и
«формально», и «материально» совместимым с достижением
конечной цели. И то, что совершено, и намерение, с которым
осуществлялся акт, и способ его осуществления — все должно
быть совместимо с достижением конечной цели. Разумеется,
Аквинат не имеет в виду, что акт не может быть морально
благим при отсутствии явно сформулированной и ясно
осознаваемой связи данного акта с конечной целью человека и его
высшим благом. Человек, оказывающий благодеяние, может не
размышлять сознательно ни о чем, кроме нужды, в которой
оказался другой человек, и своей возможности помочь
нуждающемуся. Его поступок либо совместим с достижением того, что
является для человека благом, либо несовместим с ним; но его
поступок должен стоять в каком-то отношении к этому благу.
По Аквинату, именно из этого отношения в конечном счете
проистекает его моральное достоинство.
Каждый конкретный, или индивидуальный, человеческий акт
поэтому должен быть либо морально благим, либо морально
дурным. Но отсюда не следует с необходимостью, что, коль скоро
человеческий акт является благим, он является также и
обязательным. Акт будет морально обязательным только в том
случае, если не делать этого или делать что-либо иное было бы
морально дурным. Например, если я вижу, как ребенок упал в реку
и начинает тонуть, а кроме меня его некому спасти, то уйти и
позволить ему умереть, так как мне не хотелось бы промочить
одежду, — морально дурной поступок. Моя моральная
обязанность — совершить некое действие, которое, вероятно, спасет
ребенка. Но иногда случается, что моральный долг человека —
выбрать один из возможных способов действия, но при этом нет
моральной обязательности в том, чтобы выбрать именно тот, а
не иной конкретный способ действия. Предположим, например,
что человек должен поддержать свою семью, избрав
определенную профессию, и он может осуществить это, сделавшись либо
носильщиком, либо почтальоном. Выбрать ту или иную
профессию было бы в данных обстоятельствах его моральным долгом;
но он не обязан по нравственным соображениям стать именно
носильщиком, а не почтальоном, или же стать почтальоном, а
не носильщиком. Итак, морально обязательные акты — это под-
210
класс морально благих актов. В этическом учении Аквината
понятие блага остается высшим.
Предвосхищая в какой-то мере обсуждение понятия
нравственного закона у Аквината, можно выразить это таким
образом. Разум усматривает необходимость осуществления некоторых
актов для достижения того, что для человека является благом.
По Аквинату, разум видит, к примеру, что человеку
необходимо воспользоваться разумными средствами для сохранения
жизни. Поэтому разум приказывает ему принять пищу (мы
говорим, конечно, о нормальных условиях). Но это не значит, что
он морально обязан есть говядину, а не баранину, или мясо, а
не рыбу. Любой из этих поступков является морально благим,
поскольку ведет к достижению цели; но нельзя сказать о каком-
то одном из них конкретно, что именно он является морально
обязательным, если, конечно, не примешиваются какие-то
особые обстоятельства, диктующие обязательность именно этого
поступка.
Есть, конечно, очевидное возражение против такого
объяснения. Люди практически никогда не рассуждают таким образом.
Правда, бывают случаи, затруднительные в нравственном
отношении, когда человек должен все обдумать и ему необходимо
время, чтобы решить, как будет правильно поступить; но даже и
тогда люди обычно не принимают во внимание «конечную цель»
или «высшее благо». По большей части мы непосредственно
знаем, как нужно правильно поступить; мы чувствуем, что именно
мы должны сделать в известных обстоятельствах. Мы
чувствуем, что какие-то поступки недопустимы никогда, ни при каких
обстоятельствах. Так лечить людей, как лечили политических
заключенных в Дахау или Аушвице, дурно само по себе, а не
потому, что это несовместимо с какой-то дальнейшей целью.
Анализ морального долга в терминах средств и целей несовместим с
моральным сознанием.
Действительно, наша естественная реакция, когда мы читаем
описания мучений, которым подвергались политзаключенные в
Дахау, — что такие поступки дурны и не могут быть
оправданы апелляцией к каким бы то ни было целям и побочным
следствиям, скажем, к росту научного знания. Мы непосредственно
чувствуем отвращение к таким поступкам, по всей
вероятности, будем к тому же считать, что человек, не ощущающий, что
они дурны, является ущербным в моральном отношении. Но Ак-
211
винат и не отрицает, что мы сознаем мерзость некоторых
поступков, не опираясь на явно приведенные аргументы.
Разумеется, он не думает, что есть основание утверждать, будто все
люди интуитивно понимают, в чем состоит правильность
(достоинство) всех правильных (достойных) действий и
неправильность (недостоинство) всех неправильных (недостойных). К
этому я еще вернусь немного далее. Но в то же время он не думает
также, что, когда обычный человек оценивает некий акт как
дурной, прежде чем вынести это суждение, он непременно задает
себе вопрос, совместим ли этот акт с достижением высшего для
человека блага, и приходит затем к заключению об их
несовместимости. Поскольку человеку присуще врожденное стремление
к совершенству, т. е. к осуществлению своих потенций как
разумного существа, то вполне естественно, что многие люди
должны как бы инстинктивно понимать, что лечить других людей
так, как их нередко лечили в нацистских концлагерях, — это
преступление против человеческой личности, что оно и
свидетельствует о деградации действующего так лица и
одновременно способствует его дальнейшей деградации. Такие действия
дурны сами по себе, в том смысле, что их нельзя извинить ни
политической целесообразностью, ни стремлением к росту
научного знания; но из этого не следует, что нет причины, почему
они дурны. Следует различать, как сказал бы Аквинат, между
тем, каким образом человек приходит к убеждению или
признанию, что некий акт является дурным, и объективным
основанием, почему он таков. Какими бы путями люди ни
приходили к признанию недостоинства дурных актов, общим для этих
актов является то, что они дурны и их не следует производить.
И для философа совершенно естественно попытаться
исследовать, действительно ли это общее для них свойство — а именно
недостоинство — недоступно анализу, так что, признавая его
наличие, мы больше о нем ничего не можем сказать, или это
характеристика, которую можно анализировать.
Анализ доброго и злого, правильного (достойного) и
неправильного (недостойного) с помощью понятий средства и цели,
представленный в учении Аквината, можно понять неверно, если не
различить, в каком смысле мы говорим в тех или иных случаях
о средствах и цели. Если художник пишет картину, кисти
можно назвать средствами или инструментами, используемыми для
создания картины, но они не представляют собой части карти-
212
ны. Но линии, которые художник проводит на холсте, или
мазки краски, которые он наносит на холст, составляют части
самой картины. Их можно в известном смысле назвать
«средствами»; однако цель, т. е. сама картина, не есть нечто совершенно
иное, внешнее по отношению к ним. Она, правда, является
внешней по отношению к художнику. И в телеологической этике
Аристотеля морально обязательные акты не суть средства для цели,
совершенно внешней по отношению к этим актам, поскольку они
сами уже представляют собой ее частичное осуществление;
также и цель не есть нечто внешнее по отношению к деятелю. Если
мы возьмем слово beatitudo, как его иногда использует Акви-
нат, а именно как обозначающее объект, обладание которым
дарует счастье, то цель, безусловно, оказывается внешней по
отношению к действующему лицу; если же это слово берется в
ином значении — так оно тоже употребляется Аквинатом, — как
обозначающее сам акт обладания объектом, то конечная цель не
будет внешней по отношению к действующему лицу. Аквинат
вслед за Аристотелем утверждает, что конечная цель человека
состоит в деятельности, а деятельность, очевидно, не является
внешней для деятеля в том смысле, как картина является
внешней для художника. Можно сказать, что, согласно Аквинату,
весь мир, включая людей, с их потенциями и их различного рода
деятельностью, существует ради Божественной славы, так что
нравственное поведение людей с необходимостью подчинено
цели, лежащей вне их. Достоинство благих и обязательных
актов определяется их отношением к внешней цели. Но
совершенство творений, полное развитие их природы — это и есть, по
Аквинату, прославление Бога. Неоправданно было бы проводить
водораздел между человеческим моральным поведением, с
одной стороны, и Божественной славой — с другой, как если бы
она была неким tertium quid, помимо и Бога, и человека. Бог
прославляется высшим, какое только возможно, развитием
потенций человека как разумного существа, и поэтому всякий
нравственный акт человека имеет свою внутреннюю ценность. Этим
не утверждается, что нравственные акты имеют ценность как
отдельно взятые, атомарные акты; они приобретают присущую
им внутреннюю ценность в общем контексте движения
человека к его конечной цели, состоящей в реально достижимом, хотя
и не в силу природной необходимости факте, а именно в
сверхъестественном единении с бесконечным благом.
213
На сделанные нами замечания, конечно, нельзя смотреть как
на изложение действительно имевшей место полемики между
сторонниками и противниками телеологической этики, ни тем более
как на доказательство истинности позиции Аквината. Их цель —
указать на одну из проблем, обычно возникающих при
осуждении его этической доктрины, и в то же время привести
кое-какие соображения, которые могут способствовать пониманию этой
доктрины. Более адекватному ее пониманию, надеюсь, будет
также способствовать предлагаемый ниже очерк томистской
концепции естественного нравственного закона.
* * *
Как было показано, Аквинат подчеркивал особое значение
разума в нравственном поведении. Он разделял с Аристотелем
воззрение, что именно наделенность разумом отличает человека от
животных, с которыми он имеет много сходного. Именно
благодаря разуму он способен действовать, предварительно обдумав,
что он хочет сделать, стремясь в процессе деятельности к
реализации ясно сознаваемой цели, превосходя тем самым уровень
чисто инстинктивного поведения.
Всякий нормальный человек действует, намереваясь достичь
сознательно поставленных целей. В этом смысле всякий
нормальный человек действует, если не всегда, то, по крайней мере,
временами, рационально. Действовать же ради какой-то цели
значит действовать ради некоторого блага. Но отсюда не следует, что
благо, которое выбирает тот или иной человек, используя для его
достижения определенные средства, непременно совместимо с
тем, что является для него объективным благом. Поэтому
остается пространство для понятия «разумения должного», или
«правильного разума», — разума, направляющего человеческие
действия к достижению того, что для человека объективное благо. И
грабитель, и соблазнитель, можно сказать, действуют
«рационально», коль скоро каждый из них выбирает подходящие
средства для осуществления своей цели. Но так как ни грабеж, ни
обольщение несовместимы с достижением того, в чем для
человека состоит объективное благо, то деятельность грабителя или
обольстителя не находится в согласии с «правильным
разумением». Когда говорят, что нравственное поведение — это
рациональное поведение, то имеют в виду поведение в согласии с
правильным разумением, т. е. с разумом, понимающим, в чем
214
заключается объективное благо для человека, и
предписывающим средства для достижения этого объективного блага.
Отводя важное место человеческой способности разумения,
Аквинат тем не менее не считает, что человек, на самом деле
или в идеале, представляет собой своего рода бесплотный
интеллект. Хотя он особо подчеркивает функцию разума в
моральном поведении, он, безусловно, сознает роль эмоций и
страстей в человеческой жизни. Страсти1, по его словам, одинаково
свойственны и человеку, и животным, и, взятые сами по себе,
они не подлежат моральной регламентации; т. е. о них, по
существу, нельзя говорить как о морально благих или морально
дурных. Только когда они рассматриваются в связи с
человеческим разумом и волей, можно назвать их благими или дурными
в моральном отношении. Когда они находятся в согласии с
правильным разумом, т. е. разумением должного, и подчинены его
контролю, они являются благими; когда же им позволено
помрачать разум и заставлять нас совершать действия — причем
не только внешние, но и внутренние, — противные
правильному разумению, это — дурные страсти. Но было бы ошибкой
заявлять, что человеку лучше быть совсем без страстей и эмоций:
ибо без них человек не был бы человеком. Утверждать, что все
страсти — зло, неверно.
Обсуждая эту тему, Аквинат ссылается на спор между
стоиками и перипатетиками, или последователями Аристотеля.
«Стоики говорили, что все страсти злы, тогда как перипатетики
считали, что умеренные страсти — благие» (S.T., 1а, Пае, 24, 2). И он
дает следующий характерный комментарий: «Хотя на словах
различие между ними, как представляется, весьма значительно, на
самом деле различия между ними вообще нет, или, во всяком
случае, оно очень малое, если, разумеется, отдавать себе отчет
в том, что имеет в виду каждая партия» (ibid.). Ведь стоики, по
Аквинату, понимают под «страстями» чувственные влечения, не
управляемые разумом, и осуждая все страсти как зло, в
действительности осуждают то же самое, что и перипатетики, а именно
чрезмерный всплеск эмоции, не управляемой разумом и стремя-
' В наше время слово «страсть», как оно употребляется в обычном
языке, обозначает эмоцию, не управляемую разумом, как например, в
высказывании «Она впала в ярость». Аквинат же использует это слово в
нейтральном смысле, для обозначения любых эмоций и аффектов.
215
щейся заставить человека действовать противно правильному
разумению должного. Если, продолжает Аквинат, понимать слово
«страсть» в том смысле, каким его наделяют стоики, то
утверждение, что присутствие страсти или эмоции снижает моральную
ценность акта, истинно. Но если не брать слово в этом узком
смысле, то утверждение, что нравственное достоинство акта
неизбежно снижается из-за присутствия страсти или эмоции, ложно.
Действительно, «нравственное совершенство предполагает, что
человек должен быть движим к благу не только своей волей, но
и в силу естественной склонности к нему» (S.T., 1а, Пае, 24, 3).
Аквинат, конечно, прекрасно сознавал, что исполнение своего
долга может быть порою для человека крайне неприятным; он
сознавал также, что нравственная сила человеческого
характера испытывается именно в таких ситуациях. Но его идеал
человека, целостного во всех его проявлениях, не позволял ему
придерживаться взгляда, нередко приписываемого Канту, что само
по себе предпочтительнее для человека исполнять свой долг, не
имея к этому никакой склонности или даже вопреки своей
склонности, чем делать это по собственному расположению. Нет
надобности говорить, что, по мнению Аквината, лучше делать доброе
дело даже наперекор себе, чем вовсе не делать его. И он бы,
несомненно, счел недостойным мнение, что следует делать доброе
дело единственно для того, чтобы испытать от этого чувство
удовольствия. Но он полагал, что само по себе предпочтительнее
делать доброе дело с удовольствием, чем, так сказать, стиснув
зубы. В идеале благо должно притягивать к себе человека
целиком, во всех его проявлениях.
* * *
Итак, один из главных факторов моральной деятельности
человека — это страсти или эмоции. В основе всей моральной
жизни лежит движение воли к благу, и отдельные эмоции могут в
значительной мере способствовать или препятствовать
моральному выбору и нравственному поступку. Другим важным
фактором является привычка. Аквинат, конечно, признает наличие
врожденных «привычек», понимаемых как врожденные телесные
предрасположения, которые склоняют нас действовать так, а
не иначе. Но используемое как термин слово «привычка»
означает приобретенную привычку, т. е. полученную в результате
определенного образа действий, а не от врожденного телесного
216
предрасположения. Приобретенные привычки, или просто
привычки, он считает качествами; в согласии со своим
различением разнообразных способностей или сил он описывает их как
качества последних. Так что могут быть привычки, присущие не
только чувственным способностям человека, но даже его
интеллектуальным способностям. Причиной этих привычек служат
акты деятельности, хотя, очевидно, мы не можем сказать, как
много актов требуется для формирования привычки. Вообще
говоря, необходимы повторные акты одного и того же типа, хотя
«телесные привычки могут быть вызваны одним актом, если
действующее начало достаточно мощно, например, если сильное
лекарство сразу же делает здоровым» (S.T., la, Пае, 51, 3).
Привычка же располагает человека к тому, чтобы легко и охотно
действовать определенным образом.
Слово «привычка» — нейтральное слово с этической точки
зрения; ведь могут быть и хорошие, и плохие привычки.
Привычки к хорошим действиям Аквинат называет «добродетелями»,
привычки к дурным — «пороками». Не довольствуясь этим
различением, он вслед за Аристотелем отличает моральные
добродетели, которые сообщают чувственным склонностям человека
расположение действовать сообразно правильному разумению
должного, от интеллектуальных добродетелей,
совершенствующих разумные способности человека. Мы можем иметь какие-
то интеллектуальные добродетели, не обладая моральными
добродетелями. Можно, скажем, быть сведущим в метафизике или
в математике, не будучи, как говорится, нравственным
человеком в обычном смысле слова. Очевидно, можно иметь навык
самоконтроля, привычку контролировать страсти гнева или
вожделения, не будучи метафизиком или математиком.
Невозможно, однако, ни обладать моральными добродетелями без
интеллектуальной добродетели «благоразумия», располагающей нас
к выбору правильных средств для достижения объективного
блага, ни обладать благоразумием без моральных добродетелей1.
1 Можно, правда, иметь благоразумие и без моральных добродетелей,
если употреблять это слово безотносительно к морали, к примеру, как
предусмотрительность ловкого вора, включающую его способность выбрать
подходящие средства для достижения своей цели. Но Аквинат имеет в виду
привычку выбирать объективно благие средства для достижения
объективно благой для человека цели.
217
Поэтому мы не можем полностью отделить моральные
добродетели от интеллектуальных.
Аквинат пишет о добродетелях очень подробно, и у меня нет
намерения придерживаться хода его рассмотрения. Большая
часть сказанного им об этом предмете почерпнута из
Аристотеля, хотя на него, несомненно, оказали влияние также и
христианские Отцы, сами, в свою очередь, находившиеся под
влиянием Цицерона и стоиков. Но не только пример Аристотеля и
других писателей, касавшихся вопросов морали, побуждал его
столь пространно обсуждать добродетели. Он был убежден, что
«мы нуждаемся в добродетельных привычках в трех
отношениях» (De virtutibus in communi, 1), а именно, чтобы быть
способными действовать сообразно правильному разумению с
постоянством, готовностью и удовольствием. Человек совершенствует
себя и продвигается к достижению объективного блага в процессе
деятельности и через ее посредство; а привычки — один из
наиболее важных факторов, оказывающих влияние на деятельность.
Без привычки действовать добродетельно человек не будет в
состоянии действовать сообразно правильному разумению таким
образом, как ему следует действовать, а именно как бы
спонтанно. Верно, что «некоторые своим телесным сложением
предрасположены к воздержности или к кротости или к чему-либо в
этом роде» (5.Г., 1а, Пае, 51, 1); но тем не менее люди
потенциально способны совершать и нравственные, и аморальные
поступки, и, приобретая привычки действовать хорошо, т. е.
приобретая добродетели, они достигают хотя бы относительного,
пусть не абсолютного, постоянства в моральных действиях.
Очевидно, что, по мнению Аквината, существует идеальный
тип человека, идеал человеческого совершенства и целостности, —
представление, решительно отвергаемое, скажем,
экзистенциалистами, в частности Сартром. Это представление предполагает,
что человек обладает естественными добродетелями, и
моральными, и интеллектуальными. Но действительным идеалом для
человека является, согласно Аквинату, не идеал естественного
человека, полностью реализовавшего свои природные задатки. Ведь
под действием божественной благодати человек может
возвыситься до жизни в сверхъестественном единении с Богом. Чтобы стать
причастным этой высшей сфере жизни, ему нужны дарованные
свыше добродетели веры, надежды и любви. «Вера, надежда и
любовь превосходят человеческие добродетели, ибо это — доб-
218
родетели человека, наделенного божественной благодатью» (S.T.,
1а, Пае, 58, 3, ad 3). Потому, возводя свою конструкцию на
фундаменте, в значительной мере являющемся аристотелевским,
который позволяет обосновать, как мы сейчас сказали бы,
«гуманистический» элемент в его идеале человека, Аквинат переходит
затем к обсуждению теологических добродетелей, которые не
приобретаются тем же способом, что естественные добродетели,
будучи дарами Святого Духа. И сколь бы много он ни заимствовал
у Аристотеля и других античных писателей, его окончательное
изображение совершенно развитого человека весьма отличается
от того, которое мы найдем в «Никомаховой этике».
Может показаться еще более удивительным, что Аквинат
усвоил аристотелевское рассмотрение добродетели как
«середины». Почему Аристотель выдвинул эту концепцию, понятно
всякому, кто знаком с историей греческой медицинской
теории и с тем, как она влияла на этику. Но что ее мог принять
христианский теолог, это представляется странным. В каком
смысле можно назвать, допустим, св. Франциска Ассизского
примером «середины»?
По Аквинату, как и по Аристотелю, такая добродетель, как,
например, мужество, связана со страстями и эмоциями и
располагает человека действовать таким образом, чтобы избегать
крайностей, свойственных двум противоположным страстям.
Мужественный человек не бежит, гонимый страхом, как трус; но и не
впадает в крайность безрассудной храбрости и дерзкой отваги. Так
что можно сказать, что мужество — это «середина» между
трусостью и безрассудной отвагой, поскольку она приводит страсти
под правление разума и позволяет человеку в его деятельности
легко и охотно прокладывать путь между двумя крайностями. «В
соответствии со своей субстанцией», если воспользоваться
терминологией Аквината, мужество соединяет в себе
предусмотрительность труса с дерзостью отчаянно смелого или безрассудного
человека, и оно есть, таким образом, середина. Но если
сравнивать указанные виды поведения по их достоинству, то мужество
представляет собой нечто высшее. Впасть в излишество или иметь
недостаток сравнительно легко; совсем не легко следовать по
пути, намеченному правильным разумением. Есть только один
такой путь; и хотя он пролегает между западнями излишества и
недостаточности, но, если его рассматривать с точки зрения его
нравственной ценности, он оказывается не средним, но крайним.
219
Эта аристотелевская концепция «середины», без сомнения,
соответствовала темпераменту Аквината: он не был любителем
фанатизма или строгого пуританства, как не любил и моральной
неразборчивости. В то же время он явно ощущал, что существует
известная трудность при попытках примирить ее с
христианскими идеалами; ведь он сам ставит вопрос, действительно ли
нет никакой чрезмерности, когда кто-либо отказывается от
всякого имущества и ведет жизнь в бедности (S.T., 1а, Пае, 64, 1,
obj. 3). Его ответ приблизительно таков. Такие поступки
действительно представляли бы собой неумеренную крайность, если бы
совершались из суеверия или из желания прославиться. Но,
будучи откликом на призыв Христа, они находятся в согласии с
разумом и не могут быть названы чрезмерными. В доктрине
середины не подразумевается некая математически средняя
точка наподобие средней точки некоторого отрезка, которая может
быть вычислена. Находящееся в согласии с правильным
разумением — это середина, но в особом Схмысле, подразумеваемом
данной доктриной: она не означает средней точки между двумя
крайностями, которая вычисляется арифметически. В то же
время Аквинат признает существование, скажем, героизма как
особого рода добродетели, что не так легко увязать с доктриной
середины, разве что считать серединой предельную точку. Так,
в своем толковании пятой главы Евангелия от Матфея он
замечает, что, «когда храбрый человек страшится того, чего
должно страшиться, — это достоинство; противоположное было бы
недостатком. Когда же, полагаясь на божественную помощь, он
ничего в мире не страшится, это превышает человеческое.
Такого рода добродетели называются божественными».
Рассматривая теологические добродетели, он соглашается, что в каком-то
плане доктрина середины неприложима к ним. Если мы говорим
о добродетели любви как таковой, то невозможно любить Бога
слишком сильно; здесь не может быть речи о чрезмерности,
однако можно говорить о недостаточности. И тем не менее он
говорит, что если принимать во внимание жизненные
обстоятельства и способы проявления человеком своей любви к Богу, то
можно говорить о «середине» даже в этой связи. По-видимому,
он чувствовал, что доктрина середины каким-то образом при-
ложима ко всему, поскольку она базируется на уважении к
нормам правильного разумения, на высокой оценке пропорции и
меры, предписываемых правильным разумением; но в то же
220
время он видел, что понятие середины в его буквальном
значении применимо только в тех случаях, когда осмысленно
говорить об избыточности и недостаточности. Быть может, именно
благодаря своему аристотелизму он склонен был применять эту
доктрину даже там, где говорить о «середине» было бы явной
натяжкой. Я, однако, не думаю, что его приверженность
доктрине середины была обусловлена просто его решимостью
следовать Аристотелю. В ней, как я говорил, нашли выражение его
собственная нелюбовь к односторонним крайностям и его
собственное уважение к нормам разума.
si: * *
В предыдущем разделе мы рассмотрели представление Акви-
ната о человеке как существе, характеризующемся врожденным
устремлением воли к благу. Говорилось о «правильном разуме»,
т. е. разуме, направляющем действия человека к достижению того,
что объективно является благом для него и его конечной целью.
Но мало было сказано о долге и о понятии нравственного
закона. Теперь мне хотелось бы коснуться этих предметов,
обсуждение которых прольет дополнительный свет и на
предшествующее изложение.
Обращаясь к вопросу о законе, Аквинат начинает, по своему
обыкновению, с некоторых общих замечаний. Закон вообще,
говорит он, — это мера или норма человеческих поступков, мера
или норма, постигаемая разумом и провозглашаемая ради
общего для всех блага. Он определяет закон как «разумное
предписание, сформулированное тем, на кого возложена забота об
обществе, и обнародованное» (S.Т., 1а, Пае, 90, 4).
Это определение явно наводит на мысль о положительном
человеческом законе, о государственном законе; потому, казалось
бы, естественно начать с такого рода закона и затем перейти к
идее естественного нравственного закона, и только после этого
обратиться к проблеме метафизического обоснования
морального закона, если потребуется. В действительности же Аквинат
начинает с идеи вечного божественного закона, и я предпочитаю
следовать ему, избирая ту же последовательность рассмотрения.
Следует, по-видимому, сразу же отметить, что, хотя Аквинат и
начинает с понятия вечного закона Бога, это не означает, что,
по его мнению, нравственный закон зависит от произвольного
выбора Бога. Надеюсь, это станет ясно после приводимых ниже
221
разъяснений. Основание, чтобы начать именно с обращения к
сфере божественного законодательства, таково. Согласно
воззрению Аквината, нравственный закон — это один из способов,
посредством которых каждое творение направляется к своей
собственной цели. Он рассматривает моральную жизнь ь контексте
провиденциального правления всей тварью. Моральный закон,
согласно Аквинату, не является чем-то самодовлеющим,
безотносительным ко всему другому; это частное проявление общего
принципа мироустроения, согласно которому все конечные вещи,
реализуя свои потенции, продвигаются к осуществлению своих
целей. Если бы Аквинат писал сегодня трактат по этике,
возможно, он начал бы с другого пункта. Но он с самого начала
помещает нравственный закон в метафизический контекст, и я
намереваюсь следовать порядку его рассуждения.
Аквинат говорит о Боге как о художнике или мастере,
имеющем замысел всего, что должно быть сотворено или создано,
знающем также и'средства для осуществления этого. Бог от
вечности постигает все разнообразные творения соответственно их
родам. Он постигает их конечные цели и средства для
достижения этих целей. Божественная мудрость, если смотреть на нее как
на указующую для каждой вещи цель, к которой та должна
стремиться, как на подчиняющую частные цели отдельных вещей
единой цели всего сотворенного универсума, давая тем самым
вещам соучаствовать в божественном совершенстве, - это и есть
вечный закон. «Поэтому вечный закон не что иное, как план
божественной мудрости, поскольку он направляет все акты и
движения» творений (S.Т., 1а, Пае, 93, 1). Но это не означает, что
Бог как бы произвольно выбирает средства, которые приведут
тварь к совершенству. В человеческой природе, к примеру. Он
от вечности видит, через какие виды деятельности должно
осуществляться ее объективное развитие или развертывание; хотя
Он сотворил человека свободно, не будучи понуждаем какой-либо
необходимостью, Он тем не менее не мог, создавая человека,
войти в противоречие с тем, что с необходимостью вытекает из
определения человеческой природы. Ибо вечная идея
человеческой природы, по Аквинату, — это божественное совершенство,
которое мыслится Богом как воспроизведенное до некоторой
степени в сотворенном человеке. Поэтому сказать, что невозможно
для Бога и постигать человеческую природу, и в то же время
изменять предполагаемые этой природой способы надлежащей
222
актуализации ее потенций, не означает утверждать, что свобода
Бога ограничена некоей сущностью или природой,
существующей помимо Него. Скорее, это означает, что Бог, именно поскольку
Он — Бог, не может действовать иррационально и
противоречить себе.
Таким образом, вечный закон — это план божественной
мудрости, направляющий все вещи к достижению ими своих целей.
Неодушевленные тела действуют определенным образом, именно
поскольку они есть то, что они есть, и они не могут
действовать иначе; они не могут выполнять действия, противные их
природе. Животными правит инстинкт. Словом, все творения,
стоящие ниже человека, бессознательно подчиняются вечному
закону, который преломляется в их разнообразных
естественных склонностях, и они не обладают свободой, которая
позволила бы им производить действия, несовместимые с вечным
законом. Но человек, будучи разумным и свободным существом,
способен к действиям, несовместимым с вечным законом. Вот
почему так важно ему знать, чего требует от него вечный
закон. Но как может он узнать его? Ведь не дано же ему читать
мысли Бога. Не означает ли это, что Бог сам должен был открыть
ему нравственный закон? Аквинат отвечает, что, строго
говоря, в этом нет необходимости. Хотя человек и не может, так
сказать, вычитать вечный закон из божественного ума, он все же
может различить фундаментальные склонности и потребности
своей природы, а размышляя о них, он может прийти к
познанию естественного нравственного закона. Всякий человек имеет
естественные предрасположения к развитию своих потенций и
достижению того, что для человека благо. Всякий человек
наделен также светом разума, благодаря которому он может
осознать фундаментальные предрасположения своей природы и
сформулировать для себя естественный нравственный закон,
который представляет собой всю совокупность универсально
значимых указаний или предписаний правильного разума
относительно того, какого блага ему следует искать и какого зла
избегать. Благодаря свету своего собственного разума человек может
приобрести некое знание естественного закона. А поскольку
естественный закон — это преломление вечного закона
применительно к людям и их свободным действиям и через него люди
причастны вечному закону, то человек не остается в неведении
о вечном законе, высшей норме всякого поведения. «Естествен-
223
ный закон — не что иное, как присутствие вечного закона в
разумной твари» {S.T., 1а, Пае, 91, 2).
Совершенно очевидно, что термин «естественный закон»
имеет здесь совсем не тот смысл, которым наделен термин «закон
природы», например, когда речь идет о законе гравитации как
законе природы или как о естественном законе. В действиях и
поведении существ, не обладающих разумом, действительно
отображается вечный закон; но, если мы говорим об этих существах
как о получивших естественный закон, слово «закон» по
утверждению Аквината, употребляется по аналогии. Ведь закон
определяется как предписание разума, и потому неразумные твари,
не имея разума, не могут осознавать и предписывать себе
никакого естественного закона. Люди же могут. Поэтому термин
«естественный закон» в строгом смысле приложим не к природным
предрасположениям и склонностям человека, о которых
рефлектирует его разум, но к предписаниям, которые его разум
формулирует в результате этой рефлексии.
Итак, согласно Аквинату, именно человеческий разум
ближайшим и непосредственным образом предписывает
естественный моральный закон. Этот закон непременно связан с чем-то
высшим, чем он сам; ибо естественный закон есть, как было
сказано, отображение вечного закона или соучастие в нем. А так
как он непосредственно возвещается человеческим разумом,
можно говорить об известной автономии практического разума.
Это не означает, что человек может изменить естественный
нравственный закон, укорененный в его природе. Но человек и
не получает моральный закон просто как данный свыше; он
признает или может признать присущую ему рациональность и его
обязательную силу и сам предписывает его себе. Это — одна из
причин, почему изложение этического учения Аквината можно
начать с понятия естественного морального закона, хотя я
предпочел начать, как и сам Аквинат, с вечного и трансцендентного
основания этого закона, а именно с вечного закона Бога.
По словам Аквината, «первое предписание этого закона
состоит в том, что следует делать и искать добро и избегать зла; и на
этом основываются все прочие предписания закона природы» (S.T.,
la, Пае, 94, 2). Интуитивно мы знаем, утверждает Аквинат, что
надо делать добро и избегать зла, и убеждены в истинности
этого предписания. Однако это предписание, очевидно, очень мало
говорит нам о том, как человеку вести себя: ведь мы хотим знать,
224
что означают «добро» и «зло» в каждом конкретном случае.
Поскольку Аквината в первую очередь интересует вопрос о том, что
является благом для человека, то он и переходит к выяснению
содержания этого термина, анализируя фундаментальные
природные предрасположения и склонности человека. Ибо склонность,
или предрасположение, обращено к некоторому объекту как
благому, а естественное предрасположение, или склонность,
свойственное некоей вещи, поскольку она — сущее того или иного рода
(скажем, существо, наделенное чувством, или разумное
существо), направлено к какому-то объекту или цели как к
естественному благу для этой вещи. Поэтому, изучая природу человека и
его природные склонности, можно узнать, что является благом
для человека, соответствующим его природе.
«Порядок предписаний закона природы отвечает порядку
естественных предрасположений. Во-первых, человеку присуще
предрасположение к благу, которое есть благо для его
природы, поскольку она не отличается от природы всех остальных
субстанций. Ибо каждая субстанция стремится к поддержанию
своего существования в качестве субстанции соответствующего рода.
Вследствие этого предрасположения действия, способствующие
поддержанию жизни и позволяющие избежать смерти,
отвечают естественному закону» (S.T., 1а, Пае, 94, 2). Вместе со всеми
другими субстанциями человек наделен естественным
стремлением к самосохранению, и рефлексия разума об этом
стремлении, присутствующем в человеке, находит свое выражение в
предписании, что жизнь следует сохранять. «Во-вторых,
человеку присуще предрасположение, свойственное его природе,
поскольку она не отличается от природы других животных» (ibid.).
Это по природе присущее ему предрасположение, разделяемое
с ним в какой-то мере всеми существами, наделенными
чувственной жизнью, есть стремление к размножению своего вида и
воспитанию потомства. Рефлексия разума об этом естественном
стремлении находит свое выражение в предписании, что
надлежит размножать вид и воспитывать детей. «В-третьих,
человеку присуще предрасположение к своему благу, свойственное
ему как существу разумному. Так, человек имеет по природе
стремление познавать истину о Боге и жить в обществе» (ibid.).
Рефлексия разума о природе человека как разумного существа
выражается в предписании, что ему надлежит искать истину и
избегать неведения, особенно относительно тех предметов, зна-
225
ние которых необходимо для правильного жизнеустроения, и что
он должен жить в обществе с другими людьми.
Аквинат не только одобрял установление целибата для
клириков и усвоил идеалы религиозной жизни, но и сам был
монахом-доминиканцем, так что может показаться странным,
что, по его мнению, существует фундаментальное
предписание естественного нравственного закона к действиям, ведущим
к размножению человеческого рода. Его ответ на подобное
замечание таков: «Естественное предписание о питании с
необходимостью должно исполняться всяким индивидом: ибо
иначе он не может поддерживать свою жизнь. Но предписание
относительно произведения потомства относится к
человеческому сообществу, которому надлежит не только размножаться
телесно, но и возрастать духовно. Таким образом, достаточным
условием для этого будет, если одни будут заботиться только
о произведении потомства, тогда как другие посвятят себя
созерцанию предметов божественных ради духовного
возрастания и спасения всего рода человеческого. Это подобно тому, как
в армии одни охраняют лагерь, другие — несут знамена,
третьи — вступают в бой. Все это должно быть сделано, но все не
может сделать один человек» (S.Т., 1а, Пае, 152, 2, ad 1). И
подобно тому, как всякий человек не обязан как можно
больше есть, так и женатые люди не обязаны иметь как можно
больше детей независимо от жизненных обстоятельств.
Поведением руководит разум, опирающийся на знание человеческой
природы, а не разум, действующий на основе абстрактных
соображений. И разум видит неразумность не только всеобщего
самоубийства, что противоречило бы естественному
стремлению, вложенному в человека Богом, но и установления, что
всякий человек обязан жениться и иметь детей. Предписание,
касающееся продолжения человеческого рода, неопределенно
в том смысле, мог бы сказать Аквинат, что из него не следует
вывод, будто какой-нибудь конкретный человек обязан
жениться и иметь детей; но оно не настолько неопределенно, чтобы
не сказать вообще ничего. Мы можем, например, заключить на
его основании, что всякий, кто одобрил бы политику, ведущую
к гибели человеческого рода, или содействовал ей, действовал
бы дурно. Однако очевидно, что толкование закона, который
обязывает людей вообще, но не обязывает никого в частности,
вызывает значительные трудности.
226
Прежде чем двигаться дальше, может быть, будет полезно
сделать следующее замечание. Аквинат считал, что человек по
природе и неизбежно стремится к своему совершенству, к
актуализации своих потенций, к своей конечной цели или благу. Он
полагал также, что практический разум1 определяет, какие
действия необходимы для достижения этой цели, и упорядочивает
их, не допуская, чтобы они противоречили друг другу. В
определенном смысле практический разум как бы принуждает
свободную волю выполнять действия, необходимые для достижения
конечной цели для человека или блага, и воздерживаться от
действий, несовместимых с этим. Поэтому нравственный
императив — это не проблематический гипотетический императив, если
воспользоваться кантовскими различениями. Не говорится: «Если
ты хочешь добиться такой-то цели (стать умелым плотником или
удачливым вором), ты должен использовать такие-то средства».
Это не технический императив, или императив умения.
Нравственный императив гласит: «Ты должен добиваться этой цели,
поскольку ты человек; и тебе надлежит делать вот это и не
делать того». В этом смысле императив является безусловным и
абсолютным. Кант назвал бы его ассерторическим гипотетическим
императивом; он считал, что такой императив не эквивалентен
категорическому императиву, который в принципе не может быть
обоснован путем апелляции к чему-либо, находящемуся за
пределами морального сознания. Аквинат, очевидно, был убежден,
что, хотя нравственный императив реально является
безусловным и абсолютным, тем не менее могут быть выявлены в
результате рационального анализа основания, почему его требования
имеют обязательный характер, и может быть показано, какую
роль играет этот императив в человеческой жизни и в общем плане
вещей. По его мнению, все ищут «счастья» в каком-то
неопределенном смысле. Нравственный императив руководит выбором
средств для этой цели. А к таким средствам относится и
уяснение того, в чем именно заключается «счастье», и стремление к
достижению счастья, как к конкретно осознанной цели.
1 «Практический разум и спекулятивный разум — это не разные
способности» {S.T., 1а, 79, 11). Последний — это разум, поскольку он занят просто
познанием и рассмотрением истины, тогда как первый — это разум,
поскольку он занят приложением постигнутого им либо к сфере морального
поведения, либо к сфере художественного или технического производства.
227
Пока мы имеем дело с тремя первичными предписаниями
естественного закона, относящимися к человеку, рассматриваемому
соответственно как представитель мира живой природы в целом,
как представитель мира животных или существо чувствующее,
и как существо разумное. Аквинат, однако, считал, что разум,
размышляя о человеческой природе, как она проявляется в опыте,
может открыть не столь общие, более частные предписания. Он,
например, полагал, что из второго предписания, касательно
продолжения рода или размножения вида и воспитания детей, можно
вывести закон моногамии, исходя, в частности, из того
соображения, что это необходимо для надлежащей заботы о детях и их
воспитания (5.G., 3, 124). Таким образом, естественный
нравственный закон состоит из множества предписаний различной
степени общности. И в то же время все эти предписания виртуально
содержатся в фундаментальном предписании, что следует искать
добра и избегать зла1.
* * *
Предшествующий очерк принадлежащей Аквинату концепции
естественного морального закона поднимает целый ряд
вопросов. Но я могу лишь очень кратко разобрать только несколько
из них. Начну с вопроса, наиболее вероятно приходящего
читателю на ум.
Аквинат был убежден, что действия, которые противоречат
естественному моральному закону, дурны не просто потому, что
Бог запрещает их; они запрещаются Богом, потому что они
дурны. Самоубийство дурно; есть мясо по пятницам, когда
церковное правило предписывает воздержание, также дурно. Но если
в самом по себе ядении мяса в пятницу ничего дурного нет и
дурно это только в силу запрета, то самоубийство противно
естественному нравственному закону и, таким образом, дурно само
по себе. Церковные предписания, наподобие правила
воздержания по пятницам, могут быть временно отменены или
изменены, но естественный моральный закон является неизменным.
Правда, Аквинат проводит различие между первичными
предписаниями и вторичными, производными от первых, и говорит,
1 Две части этого предписания следует рассматривать вместе. Как мы
видели ранее, Аквинат утверждает, что мы морально обязаны совершать не все
возможные добрые поступки, но только те, пренебречь которыми было бы злом.
228
что последние могут быть в некоторых случаях «изменены» по
особым причинам. Он имел в виду, что в некоторых случаях
обстоятельства какого-то поступка могут быть такими, что он
больше не относится к классу действий, запрещаемых этим
предписанием. Например, можно сказать, что вообще, если кто-то
дает нам на сохранение свое имущество, а затем требует его
назад, мы должны вернуть его. Но ни один человек, находясь в
здравом уме, не сказал бы, что если кто-то дал нам на
сохранение нож или револьвер и требует возвратить, будучи
одержим манией убийства, то мы обязаны вернуть его. Тем не
менее, взятое в его общей форме, данное предписание остается
верным. С большой долей истины можно сказать, что Аквинат
был убежден в существовании системы неизменных моральных
предписаний.
Однако возникает вопрос, совместима ли эта концепция с тем
известным из опыта фактом, что разные люди и разные
социальные группы придерживаются различных моральных
убеждений. Не наводят ли эмпирические факты на мысль, что
моральный закон не является неизменным, но может меняться? Или,
рассуждая в терминах аксиологии, не наводят ли эмпирические
факты на мысль, что ценности исторически относительны и что
не существует никаких универсальных и абсолютных ценностей?
Убежденность в постоянстве человеческой природы заставила
Аквината постулировать существование неизменного
нравственного закона; но некоторые предписания, которые он считал
частью содержания этого закона, многие люди как в прошлом, так
и теперь вообще не считают моральными предписаниями. Может
быть, резонным был бы вывод, что Аквинат просто
канонизировал, так сказать, моральные убеждения и нормы, характерные
для его времени, или, по крайней мере, для общества, к
которому он принадлежал?
Это — проблема необъятная, и я вынужден довольствоваться
следующим замечанием. Различие моральных убеждений само по
себе не опровергает утверждения о существовании неизменного
нравственного закона. Ибо может существовать неизменный
моральный закон, и в то же время можно в разной степени
понимать содержание этого закона; а объяснять эти различия можно
влиянием разнообразных эмпирических факторов. Или, в
аксиологических терминах, могут существовать объективные и
абсолютные ценности, и в то же время возможно по-разному пони-
229
мать эти ценности. При этом я не имею в виду, что
существование неизменного морального закона было для Аквината некоей не
очень обоснованной гипотезой; речь также не идет о том, что если
возможно объяснить различные моральные убеждения, опираясь
на утверждение о существовании такого закона, то тем самым
доказывается, что это утверждение истинно. Я только хочу
указать на тот факт, что различие мнений относительно моральных
предписаний и моральных ценностей не доказывает
релятивистской позиции. И это должно быть принято во внимание при
любом обсуждении этой проблемы.
Сам Аквинат не мог не знать, что различные группы людей
имеют разные моральные убеждения. По его мнению, все люди
сознают наиболее фундаментальные принципы в их самой общей
форме. Все люди согласились бы, что в каком-то смысле к добру
следует стремиться, а зла — избегать. Если человек отрицает этот
принцип, то он, вероятно, отрицает не сам принцип, но что
действительно является благом то, что другой человек или данное
общество называет благом. Когда мы обращаемся к менее общим,
более конкретным заключениям, извлекаемым из
фундаментальных принципов, незнание, конечно, возможно. А именно «в том
случае, когда чей-то разум бывает ослеплен страстями, либо
дурными привычками, либо физическим состоянием. Например,
согласно Юлию Цезарю, среди германцев обычно не считалось,
что грабить нехорошо, хотя это явно против естественного
закона» (S.T., 1а, Пае, 94, 4). A fortiori могут быть различные мнения
о применении предписаний в частных случаях. Совесть может
заблуждаться, либо по нашей собственной вине, либо по какой-
нибудь причине, за которую мы не отвечаем1. Но, если наша
совесть говорит нам, что мы должны совершить какое-то
конкретное действие, наш моральный долг — совершить его. «Всякая
совесть, права ли она или неправа, беспокоится ли она о вещах,
которые злы сами по себе, или о вещах, морально
индифферентных, обязывает нас действовать, исходя из презумпции, что тот,
кто действует вопреки совести, грешит» (Quodlibetum, 3. 27). Из
этого не следует, что не существует правильного разумения и
объективно правильной моральной совести; но незнание и заблуж-
1 Аквинат обозначает знание первичных моральных принципов термином
synderesis, а акт применения моральных принципов к конкретным
поступкам — термином conscientia (ср. 5.Т., 1а, 79, 12-13).
230
дение возможны в области морали, и чем ближе мы к
конкретным единичным поступкам, тем больше простор для ошибок.
Даже если читатель и готов допустить, что самого по себе
факта наличия разных моральных убеждений недостаточно для
опровержения принадлежащей Аквинату концепции неизменного
морального закона, он, возможно, придет к выводу, что субъект
моральных предписаний, предполагаемый доктриной Аквина-
та, — существо искусственное и сугубо рассудочное. Он
рассуждает, как если бы люди производили или выводили менее
общие моральные предписания из более общих, а затем прилагали
бы эти предписания к отдельным конкретным действиям. На деле
это, разумеется, не так. Моральные предписания, видимо,
сводятся в конечном счете к чувству одобрения или неодобрения
определенных действий или определенного рода действий.
Правда, мы действительно формулируем общие моральные
предписания; и философы-моралисты, что вполне
естественно, пытаются рационально выразить свои собственные
моральные убеждения, а также моральные убеждения тех групп или
того.общества, к которому они принадлежат. Однако чувство
первично: оно составляет основание этики. Может, конечно,
показаться, что споры по проблемам этики могут быть разрешены
рациональными аргументами, и иногда это действительно так.
Например, если два человека согласны в определении того, что
такое убийство, они могут обсудить, приводя рациональные
аргументы, подходит ли под это определение действие,
причиняющее смерть больному, умирающему в мучениях от
неизлечимой болезни. Каждый из обсуждающих может указать другому
на какие-то стороны этого действия, которые, по его мнению,
тот упустил из виду, и возможно, в конце концов одному из них
удастся убедить другого. Но рациональные аргументы
возможны только при том условии, если оппоненты исходят из каких-
то общих моральных принципов. Кому неизвестно, что, когда
двое расходятся в трактовке основных моральных постулатов или
защищают противоположные системы ценностей, они не могут
убедить друг друга, какие бы доводы ни приводили? Они либо
признают свои расхождения, либо закончат ссорой и даже
взаимными оскорблениями. Кроме того, аргументы, выдвигаемые
каждым из них. призваны по большей части способствовать
изменению морального ощущения или эмоционального
отношения оппонента. То же самое, наверное, можно сказать и о спо-
231
pax по поводу морального достоинства отдельных действий или
каких-то видов деятельности, если эти споры не сводимы к
логической в своей основе проблеме классификации. Если два
человека спорят о том, оправданно ли так называемое
«убийство из сострадания» или нет, причем один утверждает, что оно
оправданно, а другой — что ему нет оправдания, то, когда один
обращает внимание на те стороны, которые, как он думает,
упущены из виду другим, он пытается помочь другому
изменить свою эмоциональную реакцию. Один человек желает,
чтобы у другого вместо чувства неодобрения возникло чувство
одобрения или vice versa, смотря по обстоятельствам;
рациональные аргументы, как будто апеллирующие исключительно
к разуму, в действительности используются для того, чтобы
содействовать этому изменению эмоционального отклика.
Короче, говоря словами Юма, «мы, скорее, чувствуем
нравственность, чем судим о ней»1.
Нельзя отрицать, что способ выражения, избранный Акви-
натом, нередко вводит в заблуждение, заставляя предположить,
что он придерживается крайне рационалистической
интерпретации того, как люди образуют свои моральные суждения. Но
следует присмотреться к тому, что он имеет в виду,
формулируя свои утверждения. Он сравнивает, скажем, предписание,
что следует искать добра и избегать зла, с утверждением, что
целое больше, чем любая из его частей. Хотя Аквинат
полагает, что это утверждение известно всякому человеку,
поскольку он имеет дело с материальными вещами, он не имеет в виду
при этом, что каждый человек в явном виде формулирует его
для себя именно этими же словами, пусть даже, услышав это
высказывание, он наверняка согласился бы с ним. «В
познавательных способностях могут быть зачаточные навыки. ...И
понимание (первых) принципов определяется навыком, присущим
человеку от природы. Именно благодаря самой природе
интеллектуальной души человек, коль скоро он знает, что такое
целое и что такое часть, сразу же знает, что всякое целое
больше, чем любая из его частей, хотя знать, что такое целое и что
такое часть, он может исключительно посредством идей, извле-
1 Ю м Д. Трактат о человеческой природе, или попытка применить
основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам, 3. 1. 2//
Юм Д. Сочинения в двух томах. Т. I. М., 1966. С. 619.
232
ченных из образов» (S.T., la, Пае, 51, 1). Как только человек
знакомится на опыте с материальным целым, он непосредственно
осознает отношение между целым и частью, а что он знает это,
можно судить по тому, что он никогда не соглашается, что
какая-то часть больше того целого, частью которого она является.
Но из этого вовсе не следует, что он когда-нибудь сам для себя
формулирует в явной форме это отношение и именно такими
словами, что целое больше, чем любая из его частей. Подобным
образом человек получает представление о благе, о вещах,
которые считаются совершенными или соответствующими в каком-
то отношении его природе, только знакомясь на опыте с
действительными объектами желания и источниками, из которых
черпается удовлетворение. Благодаря своему врожденному
предрасположению к благу в разъясненном выше смысле он
непосредственно понимает благо как то, чего следует искать, тогда
как зло, рассматриваемое как нечто противоположное его
природе и естественным склонностям, он понимает как то, чего
следует избегать. Что он понимает благо или совершенство как
то, чего следует искать, а зло, т. е. нечто противоположное его
природным склонностям или неблагоприятное для них, как то,
чего следует остерегаться и избегать, — об этом свидетельствует
все его поведение. Ведь всякий человек, естественно,
остерегается всего, что представляется ему противным его природе. Но
это вовсе не означает, что он сам для себя в явном виде
формулирует высказывание, что следует искать благо и избегать зла.
Невольно напрашивается мысль, что все это скорее относится
к уровню инстинкта, скорее к уровню чувства, чем разумного
понимания. Но несомненно, Аквинат отметил бы, что человек
боится смерти не так, как боятся ее животные. Он боится ее не
только инстинктивно, но также и потому и в той мере, насколько
он с помощью разума усматривает ее разрушительность для
своей природы. И так как он остерегается ее как зла, то в этом
случае неявно предполагается знание того, что зла следует
остерегаться и избегать. Хотя без знакомства на опыте с вещами,
противными нашим естественным склонностям, мы не можем
иметь представления о зле, тем не менее понимание принципа,
что зла следует избегать, логически содержится в признании
того, что вот этой конкретной вещи следует избегать, как зла.
Что касается дедукции, то Аквинат не думал, что мы можем
вывести утверждение, что иметь половую связь с чужой женой
233
дурно1, из правила, что следует искать благо и избегать зла,
просто как бы путем созерцания последнего предписания. Это так
же невозможно, как вывести из закона противоречия
утверждение, что какая-то вещь, целиком белая, не может в то же время
быть целиком красной. Наши идеи белизны и красноты мы
получаем из другого источника, а не из закона противоречия. В то же
время мы отвергаем утверждение, что какая-то вещь может быть
одновременно сплошь белой и сплошь красной именно потому, что
оно содержит противоречие. Точно так же представления о
другом человеке, о жене, о половой связи мы не получаем просто из
анализа предписания, что следует искать благо и избегать зла.
Но, коль скоро мы получаем эти представления, мы отвергаем
утверждение, что человек вправе вступить в половую связь с
чужой женой, — если мы на самом деле отвергаем это
утверждение, — поскольку мы мыслим поступки такого рода как
дурные. Поэтому слово «дедукция» легко может ввести в
заблуждение: то, что Аквинат действительно говорит, — это что другие
предписания естественного закона «основываются» на
предписании, что следует делать добро и избегать зла, или «опираются
на» него. Что является конкретно благом для человека, можно
знать только посредством рефлексии о человеческой природе, как
она проявляется и познается на опыте.
Выше было сказано, что мы отрицаем — «если действительно
отрицаем» — утверждение, что человек вправе иметь половую
связь с чужой женой, так как мы рассматриваем поступки
такого рода как дурные. Как мы видели, Аквинат полагал, что, чем
ближе мы к уровню конкретных поступков, тем более возможно
неведение или заблуждение относительно того, что составляет
объективное благо для человека. Речь в данном случае,
очевидно, идет о частных предписаниях естественного нравственного
закона. Но отдельные виды поступков практически всегда
рассматриваются как злые, так или иначе противоречащие
человеческой природе. Например, даже на низших уровнях цивилизации
люди интуитивно «чувствуют», что некоторые действия
разрушительны для социальных связей в группе, т. е. противны чело-
1 Я избегаю здесь слова «прелюбодеяние», потому что это слово, хотя можно
употреблять его в чисто техническом или юридическом смысле, может с
самого начала внушать представление о неправедности. А высказывание, что
неправедный поступок является дурным, представляет собой тавтологию.
234
веческой природе, взятой в социальном плане. Такие действия
вызывают как бы инстинктивное неодобрение. Слово «чувствуют»
взято мною в кавычки и отношение названо «как бы»
инстинктивным вот почему. Хотя Аквинат, возможно, согласился бы, что
термин «чувствовать» полезен для того, чтобы привлечь
внимание, скажем, к различию между непосредственной оценкой
первобытным человеком некоторого действия как злого и
рефлексивной оценкой философом-моралистом морального достоинства того
же самого действия, все же он утверждал бы, что первобытный
человек мысленно схватывает это действие как злое и что
термин «чувствовать» здесь не подходит, поскольку он
подразумевает отсутствие всякой мыслительной деятельности.
Можно выразить это и по-другому. Аквинат считал, что все
люди имеют представление, хотя и довольно смутное, о том, что
является благом для человека, просто потому, что они — люди,
и всем им по природе свойственно обладать некоторым
естественным стремлением или предрасположением. Так, для всех людей
очевидно, что следует стремиться к познанию жизненно
необходимых истин. Если кто-то хочет обратить внимание на
непосредственный характер этого представления, можно сказать, что они
«чувствуют» это. Но Аквинат, несомненно, настаивал бы на
участии в его формировании и мыслительной деятельности и счел
бы, что такого рода термины, как «постигать» или «понимать»,
здесь более уместны.
Когда, однако, дело доходит до постижения конкретных
жизненно важных истин или определения того, что в данном случае
следует рассматривать как благо для человека, и встает
проблема составления моральных суждений, менее общих, чем те,
которые Аквинат называет основоположениями естественного
закона в самом общем виде, то здесь открывается пространство для
дальнейшего продумывания и обсуждения. В то же время это
пространство и для проявления многообразных факторов, помимо
рациональной рефлексии, способных оказать значительное
влияние на формирование воззрений человека в области морали и
системы его ценностей. Эти факторы могут быть и внутренними,
физиологическими или психологическими, и внешними, такими,
как воспитание и социальная среда.
Наконец, когда возникает вопрос о применении общих
принципов к рассмотрению отдельных случаев и необходимо решить,
принадлежит ли данный поступок к тому или иному разряду, яв-
235
ляется ли он правильным или неправильным, Аквинат признает
(см. его комментарий к «Этике», 2, с. 2, lectio 2), что, хотя
философ-моралист и может оказать какую-то помощь в принятии
решения, обращая, к примеру, внимание на различные
характеристики этого поступка, тем не менее он не может снять дилемму,
стоящую перед человеком, прибегнув к строгой логической
дедукции. В конечном счете человек должен принять свое
собственное решение. Аквинат к тому же отмечает, что принятое
человеком решение может быть совершенно правильным, даже если оно
и не обосновано с помощью соответствующих рассуждений. По-
видимому, можно сказать, что в данном случае человек
«чувствует», что поступок является правильным или неправильным, и мы
обычно так и говорим, подчеркивая тем самым различие между
непосредственным характером такого суждения и заключением,
полученным в результате логической или математической
дедукции. Но Аквинат, без сомнения, сказал бы, что добродетель
«благоразумия» часто делает человека способным распознавать
объективное моральное достоинство поступка, хотя он и не в
состоянии привести адекватные основания для утверждения, что
поступок является правильным или неправильным, такие, чтобы
они удовлетворили философа-моралиста. По Аквинату, поступок
является правильным или неправильным в силу его отношения к
тому, что для человека благо, и это отношение распознается
умом, хотя бы даже распознавание происходило столь быстро и
непосредственно, что это могло бы навести нас на мысль о
«чувстве». Фундаментальное различие (или, по крайней мере, одно
из фундаментальных различий) между доктриной Аквината и
эмотивной концепцией морали заключается в том, что первая
утверждает наличие объективного и доступного определению
соотношения, в силу которого поступки являются хорошими или
дурными, правильными или неправильными, тогда как последняя
отрицает это. ,
В этом разделе я касался идей, выдвигаемых релятивистской
и эмотивной теориями морали. Делал я это не с полемической
целью, а ради внесения большей ясности; и чтобы избежать
неверного понимания, мне хотелось бы кое-что по этому поводу
сказать. В мои намерения не входило «излагать» эти теории,
поэтому я тщательно избегал называть имена каких-либо
философов, за исключением Юма, который был упомянут как автор
высказывания, процитировать которое в соответствующем кон-
236
тексте было весьма уместно. Не входило в мои намерения и
опровергать эти доктрины, опираясь на философию Аквината. Я
стремился разъяснить позицию самого Аквината, разбирая доводы,
приводимые в этих концепциях. Релятивистская теория морали
основывается на том, что, судя по всему, может
рассматриваться как эмпирический факт, а именно что в области морали
разные люди придерживаются различных мнений. А факты
остаются фактами, какие бы заключения ни делались на их основании;
поэтому важно задаться вопросом, знал ли Аквинат об этих
фактах и способна ли его этическая доктрина учесть их или
обосновать? Подобным образом в нравственной жизни обычных людей
дедукция, как она понимается в логике и математике,
по-видимому, не играет сколько-нибудь заметной роли, тогда как то, что
весьма правдоподобно может быть описано как «чувство»,
выполняет, очевидно, важные функции. Поэтому напрашиваются
вопросы, действительно ли Аквинат полагал, что всякий человек
формирует свои нравственные убеждения, прибегая к помощи
логической дедукции, и способна ли его доктрина учесть
непосредственный характер наших моральных и ценностных суждений?
Иными словами, моя цель заключалась в том, чтобы попытаться
прояснить позицию Аквината с помощью идей, выдвинутых в
рамках позднейших этических доктрин.
Что касается наиболее общих предписаний естественного
нравственного закона, то они всем известны, поскольку они
рассматриваются просто как самые общие, универсальные истины. Но
«вожделение или какая-либо иная страсть может помешать
разуму применить общие принципы к случаю какого-то
конкретного поступка» (S.T., la, Пае, 94, 6). Обязательность «вторичных»
или еще более частных предписаний, даже если они
формулируются в общей форме, может быть неизвестна отдельным
людям или группам людей «ввиду либо ложных убеждений, либо
дурных обычаев и порочных привычек, например, если бы
грабежи или даже противоестественные пороки не считались чем-
то греховным» (ibid.). Поэтому Аквинат приходит к выводу, что
было желательно или даже в некотором смысле необходимо
чтобы Бог непосредственно открыл людям даже те моральные
предписания, которые человеческий разум может отыскать
самостоятельно. Ибо многие люди ведомы более чувством, чем разумом,
237
и даже когда осуществляется деятельность рациональной
рефлексии, она осуществляется не в вакууме. Философ не
бесплотный дух, но человек с присущими ему предрассудками и
страстями, способными оказать влияние на его интеллектуальную
жизнь. И Аквинат убежден, что такого рода откровение было дано
иудеям в десяти заповедях.
Однако мы уже видели, что Аквинат, будучи христианским
теологом, полагал, что у человека есть сверхприродная конечная
цель, или высшее благо, достижение которого превышает его
естественные возможности. Правда, человеческая природа не
уничтожается вместе с присущими ей способностями в силу того
обстоятельства, что человек призван к блаженному видению Бога,
и человеческий ум не лишается из-за этого возможности
самостоятельно открыть естественный моральный закон. Но он не
может самостоятельно открыть ни того, что человек имеет
сверхприродное назначение, ни средств, указанных Богом для его
выполнения. Знание этого приобретается из откровения, и
потому откровение требуется не только для того, чтобы облегчить для
людей познание тех моральных предписаний, обязательность
которых разум вообще-то способен обнаружить, но также и для
того, чтобы наделить человека знанием о тех
сверхъестественных средствах, например, о Таинствах, которое он имеет по
милости Божией и которое необходимо для того, чтобы получать
сверхъестественную благодать и возрастать в ней. Поэтому в
добавление к естественному моральному закону мы имеем
положительный, т. е. сформулированный в явном виде и сообщенный
людям через откровение божественный закон. Закон,
понимаемый как человеческий положительный закон, как закон,
сформулированный самими людьми, иными словами, как
государственный закон, будет рассмотрен в следующем разделе, при
рассмотрении политического устроения общества.
* * * ,
Отождествление того, что есть благо для человека, со
«счастьем» или самосовершенствованием легко может произвести
впечатление, что идеал Аквината был чисто
индивидуалистическим и даже в каком-то смысле эгоистическим. Он, однако,
считал, что жизнь в обществе предписывается естественным
законом. Иначе говоря, он признавал наличие в человеке
естественного стремления жить в обществе со своими сородича-
238
ми, и не только в малой группе, образуемой его ближайшим
семейным кругом, но также и в тех больших группах,
которые в своей развитой форме называются государствами или
гражданскими (политическими) сообществами. Рефлексия
разума о фундаментальных предрасположениях и стремлениях
человека показывает, что образование таких обществ
необходимо для реализации человеческих потенций. «Человек по
природе является общественным и политическим животным,
живущим в сообществе; по отношению к нему это более истинно,
чем по отношению к любому другому животному, и это
обстоятельство диктуется его природными нуждами» (De regimine
principum, I, 1). Далее Аквинат иллюстрирует это положение.
Природа, например, наделила других животных пищей,
теплой шкурой и средствами защиты; человек же должен
заботиться об этом, используя свой разум, и индивид не может
удовлетворить все эти потребности в одиночку, разве только
на самом примитивном уровне. Для подобающего
удовлетворения хозяйственных нужд и телесных потребностей
необходимо хорошо организованное общество, а это доказывает, что
жизнь в обществе присуща человеку по природе. Кроме того,
о социальной природе человека свидетельствует развитие речи.
Другие животные выражают чувства звуками, но только
человек, видимо, способен к созданию языка, используемого и
для выражения мыслей, и в качестве средства общения.
Короче говоря, общество необходимо для удовлетворения и
телесных, и духовных потребностей человека. Оно не искусственная
конструкция, а естественное установление, присущее
человеку как таковому. Поскольку оно коренится в человеческой
природе, оно отвечает воле Бога, сотворившего человека. Это не
означает, конечно, что историческое деление на нации и
государства продиктовано Богом. Любое конкретное государство
обязано своим происхождением различным эмпирическим
причинам, подлежащим исследованию историками. Но что
должно быть гражданское или политическое общество, одно или
многие, — на то воля Бога; это подтверждается тем
обстоятельством, что Он сотворил человека, не способного возрасти
в полную меру без общества.
Кроме того, всякое общество нуждается в руководстве и
управлении. Ошибочно думать, что правительство существует только
для того, чтобы охранять мир и наказывать злодеев. Согласно Ак-
239
винату, потребность в управлении сохранилась бы, даже если бы
не было злодеев и ни у кого не было бы намерения нарушать мир.
Св. Августин склонялся к мнению, что государство якобы возникло
в результате грехопадения человека и политическая власть
существует главным образом потому, что люди после
грехопадения нуждаются в принудительной силе, которая ограничила бы
их злые устремления и наказывала преступления. Позиция Ак-
вината была совсем другой. «Человек по природе — социальное
животное. Следовательно, и в состоянии невинности (если бы не
было грехопадения) люди жили бы в обществе. Но совместная
жизнь в обществе была бы невозможна, если бы не было тех. кто
надзирал бы за соблюдением общего блага» (S.Т., 1а, 96, 4). Можно
проиллюстрировать это на следующем, довольно простом примере.
Если бы даже никто не намеревался нарушать правила
дорожного движения, они все же были бы нужны; поэтому должно быть
авторитетное учреждение, чтобы устанавливать и предписывать
их. Правительство существует главным образом для того, чтобы
заботиться об общем благе. Как и общество, оно естественный
институт и как таковое, подобно обществу, существует по воле
Бога.
Разные точки зрения Августина и Аквината можно,
конечно, объяснить исторически, принадлежностью к определенной
эпохе. Августин, размышляя о таких царствах, как Ассирия или
Вавилон, и их отношениях с иудейским народом, а также о
языческой Римской империи и ее отношении к христианству,
склонен был рассматривать государство как прискорбную
необходимость, обусловленную грехопадением, которая, если и может
быть отменена, как бы искуплена, то только через некоего рода
подчинение Церкви. Аквинату же, человеку средневековья,
естественно было придерживаться идеи христианского государства
и концепции разделения властей. Но нам следует также не
упускать из виду влияние системы римского права на
средневековых политических мыслителей, а в случае Аквината — также
и влияние аристотелевского учения о социальной природе
человека и политическом устройстве общества.
При таком взгляде на государство Аквинат, очевидно, не мог
считать, что государство должно быть поглощено Церковью или
что оно само по себе не выполняет никаких полезных функций.
Государство существовало и до возникновения Церкви, как
естественный институт оно существует также одновременно с Цер-
240
ковью, выполняя свою собственную функцию. Аквинат считает
его функцией деятельность, способствующую общему благу. «Для
благоустроения сообщества необходимы три вещи. Во-первых, в
сообществе должен быть установлен единый общественный
порядок. Во-вторых, сообщество, объединенное связующей силой
общественного порядка, должно быть направляемо к благим
действиям. ...В-третьих, стараниями правителя должно быть
обеспечено в достаточной мере все потребное для благой жизни» (De
regimine principum, I, 15). Правительство, таким образом,
существует для того, чтобы охранять внутренний мир и порядок и
заботиться о защите сообщества, чтобы содействовать
добродетельной жизни граждан, насколько это достижимо с помощью
законодательства, подкрепленного карательными санкциями, и
чтобы гарантировать им достаточное обеспечение их
материальных нужд. Если нам больше нравится говорить о правительстве
и об органах управления как о «государстве», мы должны
признать, что, по Аквинату, государство выполняет положительную
функцию. В этом пункте он солидаризируется с Аристотелем и,
как и последний, считает, что государство выполняет
определенные нравственные функции, поскольку оно способствует «доброй
жизни». Было бы анахронизмом представлять Аквината
участником политических и экономических споров XIX века. Однако он
мог бы сказать, что политика laisser-faire была бы несовместима
с его взглядом на цель и функцию гражданского общества и
правительства. Задача государства — активно создавать условия, при
которых можно жить полноценной человеческой жизнью.
Также, разумеется, было бы анахронизмом приписывать
Аквинату какие-то суждения относительно тоталитаризма XX века.
Но если подразумевать под тоталитаризмом концепцию
абсолютного государства, как источника морали и единственного
арбитра должного и недолжного, истины и лжи, то надо сказать, что
она несовместима с политическим учением Аквината. Правда,
иногда он говорит об индивиде как о «части» сообщества,
рассматриваемого как «целое», и сравнивает способ подчинения
отдельных членов тела, например руки, организму в целом, с
подчинением индивидуального гражданина благу всего сообщества в
целом. Но он, безусловно, не считал права государства по
отношению к своим членам абсолютными. С одной стороны, его
убеждение в сверхприродном назначении человека, принятие им
позиции Церкви, несомненно, не позволили бы ему принять
241
концепцию абсолютной власти государства. Но, помимо его
убеждения в божественной и совершенно независимой миссии
Церкви, его трактовка природы законодательной деятельности
несовместима с политической доктриной тоталитаризма. Он
усматривал функцию человеческого законотворчества в том,
чтобы как можно точнее сформулировать и поддерживать
санкциями, которыми располагает мирская власть, естественный закон,
по крайней мере, во всех случаях, когда это необходимо для
общественного блага. Например, если мы возьмем одну из десяти
заповедей «Не убий», ее неопределенность очевидна. Какие
действия, связанные с лишением жизни, следует квалифицировать
как «убийство», а какие — нет? Одна из функций
человеческого положительного (т. е. государственного) закона состоит в том,
чтобы определить такие понятия со всевозможной ясностью и
снабдить его теми карательными санкциями, которых нет у
естественного закона. Конечно, это не означает, что
законодательство должно быть ограничено определением запретов, которые
более или менее явно следуют из морального закона. Но
законодательство должно быть в согласии с моральным законом.
Поскольку назначение законодательства — содействовать общему
благу, критерием совершенства законодательства служит его
соотнесение с этой целью, насколько это достижимо для разума.
Дело не обстоит так, что всякое предписание или запрещение
естественного морального закона должно быть воплощено в
законодательстве; бывают такие случаи, когда это не
способствовало бы общественному благу. Это может наделать больше
вреда, чем добра. Но ни в коем случае государство не имеет права
принимать законодательство, идущее вразрез с естественным
законом. «Всякий человеческий закон имеет природу закона,
поскольку происходит от закона природы. Если в каком-то
случае он несовместим с естественным законом, то это не закон, а
извращение закона» (S.Т., 1а, Пае, 95, 2). Аквинат,
безусловно, требует от христианских правителей, чтобы они уважали
божественный положительный закон, как его толкует Церковь.
Из такого представления о связи человеческого
положительного закона с естественным нравственным законом вытекает,
что справедливые законы совпадают с требованиями совести.
Несправедливые же законы совесть не обязывает выполнять.
Закон несправедлив, по словам Аквината, если он возлагает
на граждан бремя не ради общего блага, а для удовлетворе-
242
ния алчности или честолюбия законодателя; если, издавая
закон, законодатель превышает полномочия, вверенные ему;
или если бремя (например, налоги) распределяется
несправедливо и несоразмерно. «Такого рода законы — акты насилия, а
не законы ...они не обязательны по совести, кроме тех
случаев, когда соблюдение их необходимо, чтобы избежать
скандала или общественных беспорядков» (S.T., 1а, Пае, 96, 4).
Законы также несправедливы, если противоречат божественному
положительному закону, «и законы такого рода не должно
исполнять» (ibid.). Правители, упорно издающие несправедливые
законы, — «тираны», и такого рода правители могут быть на
законном основании свергнуты, поскольку они виновны в
злоупотреблении своим положением и властью, правда, если нет
повода полагать, что результатом восстания окажется столь же
плохое положение дел, не лучше того, для исправления
которого оно и было предпринято.
Мнение, что низвержение тиранов законно, предполагает, что
правителю доверено выполнение его функций и этим доверием
он может злоупотреблять. Фактически такова именно и была
точка зрения Аквината. Но было бы неоправданно отсюда сразу же
заключить, что он считал, будто верховная власть,
происходящая, как и всякая законная власть, в конечном счете от Бога,
приходит к монарху через народ. Быть может, он и на самом
деле придерживался такого воззрения. Замечания в том
смысле, что правитель представляет народ (S.Т., 1а, Пае, 90, 3) или
что князь имеет законную власть, лишь поскольку он
выступает от имени сообщества (S.T.. 1а, Пае, 97, 3, ad 3),
свидетельствуют, кажется, что это так. Но во втором из приведенных
высказываний он, видимо, говорит о выборном правительстве, и
потому это высказывание нельзя рассматривать как
утверждение общего характера. Во всяком случае, трудно сказать
определенно, какова была его позиция в этом вопросе, ибо нельзя
привести никакого отрывка, где содержалось бы ясное
изложение соответствующих взглядов. С определенностью можно
утверждать, что, хотя он и не считал, будто какая-то особая форма
правления предопределена Богом для всех людей, и не
придавал особой важности типу государственного устройства и
способу правления, пальму первенства он отдавал «смешанной»
форме правления, в которой принцип единства,
представленный монархией, соединялся бы с принципом административно-
243
го управления, осуществляемого лучшими людьми, и с
некоторой долей общественного контроля, скажем, через
выборность части должностных лиц. Аквинат полагал, что монархия
в наибольшей степени способствует единству и является самой
«естественной» формой правления, аналогичной господству над
тварью Бога Вседержителя, аналогичной и управлению в
сообществах насекомых, например пчел. Но в то же время
государственное устройство должно быть таким, чтобы свести к
минимуму вероятность появления тиранов или тиранического
образа действий у правителей. Итак, если прибегнуть к
современной терминологии, можно сказать, что Аквинат отдавал
предпочтение конституционной монархии. Но каким бы ни было
государственное устройство, главным остается требование,
чтобы правитель или правители чувствовали себя обязанными
содействовать объективному общему благу и всемерно
заботиться о нем.
Государство, таким образом, выполняет определенные
положительные функции, и Аквинат не мыслил ни государство в
качестве подчиненного Церкви, ни правителя — как наместника
Папы. С другой стороны, он и Церковь рассматривал как
независимое сообщество, по своему достоинству превосходящее
государство, поскольку оно существует для того, чтобы помочь
человеку достичь своей сверхприродной и вневременной цели,
и Папу как подвластного только Богу. Но для него было совсем
нелегкой задачей четко выразить отношения между двумя
сообществами. И не следует ожидать, что мы найдем у него столь
же основательный анализ этого предмета, какой был
произведен в позднейший исторический период, когда в Европе
получили развитие сильные централизованные монархии. Он,
конечно, полагал, что государство занимается материальными и
земными делами, тогда как Церковь печется о сверхприродной
благой жизни. Но он не мог сказать, что государство заботится
о естественной цели человека, а Церковь — о его
сверхъестественной цели, ибо он был убежден, что человек на самом деле
имеет одну-единственную конечную цель, и это —
сверхъестественная цель. А потому он подчеркивал именно идею тесной
родственной связи между Церковью и государством. Дело
государства, а не Церкви — заниматься, к примеру, экономикой; но в
своей законодательной функции, во всех видах деятельности
государство — Аквинат, очевидно, имел в виду главным образом
244
христианское государство — должно облегчать, а не затруднять
достижение Человеком той цели, ради которой он сотворен. Ак-
винат, конечно, был прекрасно осведомлен о частых спорах
между Церковью и государством, которые возникали в
средневековом христианском мире; но попытки одного сообщества отрицать
права другого не казались ему наилучшим средством уладить
возникающие разногласия. В согласии и взаимном уважении
позиции и прав друг друга он видел идеал, к которому следует
стремиться. Воззрения сторонника секуляризации Марсилия
Падуанского1, разумеется, были совершенно чужды взглядам
Аквината как теолога XIII века; но столь же чужда была ему и
доктрина подчинения государства Церкви.
1 Марсилий Падуанский (ум. до 1343) приобрел широкую
известность благодаря своему сочинению Defensor pacts (Защитник мира), в
которой он высказался за подчинение Церкви государству. Он доказывал, что
только государственный закон (положительный человеческий закон, согласно
Аквинату) является в строгом смысле законом, и он считал, что обязанность
Церкви — служить государству, создавая желательный моральный и
духовный климат, который способствовал бы осуществлению его задач.
245
Св. Фома Аквинский (Кривелли. Деталь демидовского запрестольного образа)
Глава 6
Томизм
Философия Аквината в наше время занимает
привилегированное положение в интеллектуальной жизни Католической
Церкви. Обычно считается, что она является продолжательницей
старой, иные сказали бы «устаревшей», философской традиции.
В сравнении, скажем, с неопозитивизмом, с одной стороны, и
с экзистенциализмом, — с другой, томизм выглядит в высшей
степени консервативным. Но в средние века философии
Аквината не доводилось занимать то положение в Католической
Церкви, что в наши дни; тогда она просто существовала наряду с
другими. В первой главе уже было сказано, что современники
Аквината считали его новатором. Действительно, некоторые его
идеи встретили оппозицию не только со стороны теологов и
философов, не принадлежащих к его ордену, но и со стороны
некоторых доминиканцев. Так, в 1277 г., спустя три года после
смерти Аквината, доминиканец Роберт Килуэдби, архиепископ
Кентерберийский, вслед за епископом Парижским осудил ряд
положений, включая несколько утверждений Аквината.
Вскоре после канонизации последнего в 1323 г. парижские запреты
в той части, где они затрагивали учение Аквината, были
сняты, ослабели и внешние нападки на него со стороны тех, кто не
принадлежал к Доминиканскому ордену, и богословско-фило-
софская система Аквината становится официальной доктриной
доминиканцев. Но это не означает, что его доктрина получила
всеобщее признание. В XIV веке существовали различные
школы, в том числе томисты, последователи Аквината, скотисты,
последователи Дунса Скота, а также те, кто следовал учению
247
Эгидия Римского. Все вместе эти группы — а каждая из них
придерживалась учения одного из крупных предшествующих
мыслителей — представляли собой так называемый «старый путь»
(via antiqua); их влияние было наиболее сильным в монашеских
орденах. Этот «старый путь» был противоположен «новому пути»
(via moderna), представленному номиналистским движением
XIV века, крупнейшей фигурой в рамках которого был
английский францисканец Уильям Оккам (ум. 1349). Это движение
мысли было преимущественно аналитическим и критическим по
своему характеру, с явным интересом к логическим вопросам;
оно сходно до некоторой степени, а порою и весьма
значительно, с преобладающим направлением в современной1 английской
философии, хотя, впрочем, сходство не следует
преувеличивать. Как того и следует ожидать от нового и «современного»
(modern) движения, оно становится модным и приобретает
широкое распространение и популярность, получая
преимущественное влияние в большинстве новых университетов, основание
которых относится к XIV-XV векам, хотя оно имело сильную
поддержку и в старейших университетах, таких, как
Оксфордский и Парижский. Со временем номинализм сам становится уже
признанной традицией, философской школой, а не новым и
бурно распространяющимся движением мысли; в эпоху
Ренессанса мы обнаруживаем университетские кафедры,
представляющие не только томизм и скотизм, но также и номинализм.
Поэтому было бы большой ошибкой думать, что средневековая
философия и томизм — синонимы.
В средневековый период излюбленным учебником по
теологии и философии было уже упоминавшееся нами сочинение,
принадлежавшее писателю XII века Петру Ломбардскому, а
именно «Четыре книги сентенций», известные, как «Сентенции». И
Аквинат, и Дуне Скот, и Уильям Оккам — все читали лекции
по «Сентенциям» и писали комментарии к ним. Иоанн Капреол
(ум. 1444) защищал доктрину Аквината от критики со стороны
скотистов и номиналистов в своем комментарии к «Сентенциям»,
который он написал, опираясь на собственный комментарий
Аквината и ссылаясь на его трактат Summa theologica и другие
работы. С течением времени, однако, Summa theologica начинает
использоваться как учебник вместо «Сентенций» и начинают по-
: Сочинение Ф. Ч. Коплстона было опубликовано в 1955 г. (Прим. пер.)
248
являться комментарии к ней. Знаменитый доминиканец по
имени Томмазо де Вио, известный как Каэтан, написал
комментарий к этому сочинению Аквината между 1507 и 1522 годами, а
Франциск Сильвестр (FranCtiscus Sylvester de Sylvestris)
(ум. 1528), известный как Феррарец (Ferrariensis), составил
комментарий к сочинению Summa contra Gentiles.
Комментарии продолжали составлять и позднее, но в эпоху
Ренессанса стало принято писать в свободном стиле. Иезуит
Франсиско Суарес (ум. 1617), известный писатель в области
философии права, в своих «Метафизических размышлениях» дал
мощный толчок составлению философских сочинений, в
которых рассматривались уже только философские проблемы и с
которыми прекращается старинный обычай толковать тексты
почитаемых предшественников. Постепенное распространение
этого новейшего стиля среди схоластических авторов1,
разумеется, соответствовало тенденции тогдашних несхоластических
философов писать свои собственные оригинальные
философские сочинения. И кроме того, под влиянием перемен,
происходивших вне стен схоластических школ, сами схоласты были
вынуждены обособлять философию от догматической теологии,
не просто утверждая различие между ними, но действительно
разделяя их в своих сочинениях. В первой половине XVII века
появился «Курс томистской философии» (Cursus philosophicus
thomisticus) писателя-доминиканца Хуана св. Фомы (ум. 1644),
и за ним последовали другие «курсы философии», одни —
основывающиеся на учении Аквината, другие, написанные
францисканцами, — на учении Дунса Скота. Об этом процессе
«извлечения» философских систем из работ авторов, которые сами
никогда не разрабатывали таких систем обособленно от
теологии, иногда говорят пренебрежительно, как будто они
представляют собой искажение или извращение духа таких людей,
как Аквинат и Дуне Скот. Но трудно себе представить, что еще
могли делать схоласты в послеренессансном мире, когда
философия вне школ стала независимой областью исследования.
И было бы разумно предположить, что если бы Аквинат вновь
вернулся к своей деятельности здесь на земле, скажем, в XVII
1 Я использую термин «схоласты» («Scholastics»), чтобы обозначить всех
тех философов, которые сознательно и по своему выбору следовали одной
из средневековых традиций.
249
или в XVIII столетии, то он приспособил бы свой стиль
изложения к изменившимся обстоятельствам.
В этой деятельности по составлению сначала комментариев,
а затем философских курсов нельзя видеть свидетельство того,
что философия Аквината пользовалась неоспоримым
авторитетом в католических семинариях и образовательных
институтах XVII, XVIII и XIX веков. Оставляя в стороне
преданность доминиканцев Аквинату, а францисканцев — Дунсу
Скоту, а также значительное влияние Суареса и внутри, и за
пределами ордена иезуитов, можно сказать, что во многих
церковных семинариях и образовательных учреждениях
философия представляла собой выхолощенный схоластический
аристотелизм, окрашенный идеями, почерпнутыми из других
течений мысли, особенно из картезианства. Кроме того, эта
церковная философия не только зачастую не соприкасалась с
современной ей философской мыслью, развивавшейся вне церкви,
но и с современной ей наукой. Надобно помнить об этом
бедственном положении дел, чтобы оценить по достоинству поступок Папы
Льва XIII, заявившего в своей энциклике Aeterni Patris (1879) о
непреходящей ценности томистского синтеза и призвавшего
католических философов черпать вдохновение у Аквината, чтобы,
развивая томизм, они могли откликнуться на запросы своего
времени1. Он отнюдь не предлагал им закрыть глаза на все
движение мысли после XIII века, он призывал к дальнейшему
продвижению в направлении к тому синтезу, к которому
стремился мыслитель, соединивший глубокую и живую христианскую
веру с доверием к человеческому разуму и с убеждением в
ценности философской рефлексии, в ком готовность усматривать
истину, как бы она ни была открыта, совмещалась с верностью
фундаментальным интуициям разума, не позволяющим уму
легко принимать модные новшества только потому, что они в
моде. Понятно, что те, кто придерживается совсем других
взглядов на религию и кто считает философские убеждения
Аквината устаревшими, должны рассматривать призыв Папы как
«реакционный». Ставя так высоко томизм, Лев XIII не пытался
добиться полного прекращения философской деятельности среди
католиков; он пытался обновить ее и придать ей новые силы. Едва
1 Не совсем верно, что Лев XIII положил начало оживлению томизма. Но
он, несомненно, сообщил новый импульс уже существующему движению.
250
ли можно сомневаться, что оживление философии среди
католиков фактически совпало с оживлением томизма.
Томисты настаивают, что томизм как философия может быть
принят на основании его собственных достоинств. В самом деле,
ясно, что устойчивость и прочность всякой философской системы
определяется в конечном счете внутренне присущими ей
достоинствами и недостатками. Тем не менее отрицать, что de facto
томизм и католицизм тесно связаны, было бы неосновательно.
Правда, есть философы, и не католики, чьи философские взгляды более
или менее родственны воззрениям томистов, а иногда одинаковы
с ними. Но примечательно, что эти философы нередко являются
мыслителями, которые по своим религиозным убеждениям
близки католикам. Достаточно побывать на международном
философском конгрессе, чтобы осознать, насколько верно замечание о
существовании связи de facto между томизмом и католицизмом. А
при наличии этой связи понятно, что неминуемо возникнет
стремление использовать томизм в апологетических целях. Защитники
христианства, убежденные в обоснованности томистской системы,
имеют полное право опираться на его работы. Философ-томист,
который верит, как верил и сам Аквинат, что конечная цель
человека сверхъестественна и что самое главное дело его жизни —
достичь этой цели, возможно, захочет подчеркнуть те стороны
томистской философии, которые выводят за пределы собственно
философской системы. И хотя использование томизма в
апологетических целях легко понять, особенно в современном мире, вполне
уместно обратить внимание на тот факт, что, как бы его ни
использовать, томизм был и остается философией. Несмотря на его
связь de facto с католицизмом, он не является частью
католической веры1; и чтобы судить о его философских достоинствах и о его
потенциях к плодотворному развитию, нам следует обратиться к
тем томистам, которые известны как авторы серьезных
философских работ, а не к довольно гладкому изложению томистских
концепций популярными апологетами.
* * #
Одной из первейших задач философов-томистов в
современном мире, очевидно, было показать, что томизм вовсе не свя-
1 Католический философ не обязан придерживаться томизма в силу того,
что он католик.
251
зан нерасторжимыми узами с отвергнутыми научными
теориями, как это многим представлялось, и что значимость его
общих принципов не зависит от эволюции науки нового времени.
Иными словами, одна из самых важных их задач состояла в том,
чтобы опровергнуть мнение, будто развитие современной науки
превращает метафизическую философию в целом, и в
частности томизм, в образец давно преодоленного, безнадежно
устаревшего способа мышления. В наши дни существование томизма
и присутствие в философском сообществе томистов
несомненно; томизм — одно из признанных течений философской
мысли. Но в прошлом столетии дело обстояло не так. На стремление
придать новую жизнь философии Аквината смотрели обычно как
на проявление архаизма, неосуществимую попытку остановить
развитие современного познания с помощью ребяческой уловки
перевода назад часовых стрелок. Как можно совместить
возвращение к идеям средневековой философии с принятием твердо
установленных результатов современной науки, с духом
научного познания истины, который движет учеными?
Лувенский университет был основным центром, где была
выполнена эта задача; осуществление ее было связано главным
образом с трудами кардинала Мерсье (1851-1926) и его сотрудников. Я
не могу входить в детали деятельности Мерсье как профессора в
Лувене; необходимо, однако, подчеркнуть следующее. Мерсье был
глубоко убежден в обоснованности воззрения Аквината, что наше
познание начинается с чувственного восприятия и что
метафизическая рефлексия опирается на познание материального мира.
В его понимании это означало, что научное знание является
предпосылкой систематической философии, что последняя должна
сохранять контакт с науками и что она должна интегрировать в
себе их заключения. Поэтому его идеалом было не только
приобретение досконального знания научного метода и научных
результатов, полученных учеными повсюду за пределами Лувена, но
также и подготовка людей, которые посвятили бы себя
различным частным наукам, в сотрудничестве с его собственным
Высшим институтом философии (Institut Supérieur de Philosophies),
причем все это, как он настаивал, не имело в виду
апологетических целей. Ни религии, ни метафизике, по его утверждению,
науки ничем не угрожают; метафизик же нуждается в научном
знании. А научное знание может быть получено только теми, кто
посвятил себя какой-то частной науке ради нее самой, а не имея
252
в виду получение результатов, которые могут быть
использованы для защиты религии. Он способствовал, например, — и это
вполне соответствовало духу его начинаний — основанию
лаборатории экспериментальной психологии, завоевавшей
заслуженное уважение и известность под руководством профессора Ми-
шотта, учившегося в Германии у Вундта.
Хотя Мерсье проводил различие между частными науками и
философией и хотя он не считал последнюю просто синтезом наук,
он тем не менее прямо говорил о философии как о естественном
развитии и восполнении наук. По его мнению, науки только
начинают работу, призванную дать объяснение эмпирической
реальности, философия же, используя их результаты, но опираясь при
этом на более фундаментальные принципы, дает наиболее
полное и совершенное объяснение эмпирической реальности, на
какое способен человеческий ум, оставаясь в рамках естественной
рефлексии. Подобно Аквинату, он был убежден в наличии
самоочевидных принципов, которые метафизик использует в
осуществлении своего синтеза и в объяснительном анализе
эмпирической реальности; но он так сильно подчеркивал связь
метафизики с науками, что стремился на место различия между данными
опыта и философской рефлексией об этих данных подставить
различие между установленными результатами наук и
философской рефлексией об этих результатах. Но это точка зрения,
неприемлемая для всех томистов. Очевидно, никто из томистов не
отрицал бы, что, например, современные открытия в
физиологии и психологии имеют прямое отношение к обсуждению
проблемы соотношения тела и души и что эту проблему следует
рассматривать в свете этих открытий и теорий и в соотнесении с ними.
В то же время они предпочитают подчеркивать независимость
метафизики от выдвижения новых научных гипотез и ее связь с
обычным опытом. Но какая бы точка зрения ни была
предпочтительней, неоспорима выдающаяся заслуга работ Мерсье и его
коллег в Лувене в том, что томизм завоевал уважение и было
развеяно представление о его враждебном, подозрительном или
опасливом отношении к развитию современной науки и к новым
научным открытиям.
Но современные томисты, очевидно, должны затрагивать не
только вопрос об отношении философии к науке, но также
вопрос об отношении томизма к другим философским традициям и
направлениям мысли. Отношение отдельных томистов к другим
253
философам было самым разным. И это естественно. Тогда как одни
были склонны не только подчеркивать различия, но и делать это
в резко полемической форме, другие настойчиво пытались понять
точки зрения других философов и обнаружить в их мышлении
нечто ценное и истинное. У первых понятие «вечной философии»
становилось крайне узким, представители второй группы
стремились его расширить. И хотя есть такие томисты, которым
нетомистская философия представляется почти что абсурдом, все
же преобладающим является отношение второго типа. Тот. кто
посетит конгресс томистов, будет приятно удивлен
доброжелательностью и симпатией, с которыми обсуждаются взгляды
других мыслителей. Вообще говоря, нынешние томисты стремятся не
только понять, что говорят Кант, или Гуссерль, или Хайдеггер,
и почему они это говорят, но также выявить реальный вклад
каждого из них в философское мышление. Ведь общепризнанно,
что оригинальный мыслитель не высказал бы своих утверждений,
если бы он не владел какой-то истиной или не постиг какой-то
стороны реальности, на которую стоило обратить внимание.
Допуская, что возможны исключения, можно с уверенностью
сказать, что в наши дни серьезному философу-томисту не свойственна
та позиция, которую, по-видимому, занимают ортодоксальные
марксисты по отношению к философам, не разделяющим
марксизм. В самом деле, томисты, вероятно, дают марксизму
гораздо более уравновешенную и дифференцированную оценку, чем
сами они получают со стороны марксистов.
Важным следствием проявляемого томистами интереса к
другим течениям мысли и той благожелательной и вдумчивой
трактовке, которую они готовы и даже стремятся дать им, является
то, что они неизбежно оказываются под влиянием других
философских учений и направлений мысли. Может быть, это влияние
сразу и не заметно. Ведь в некоторых случаях томисты имеют
сомнительную привычку подыскивать тексты Аквината, которые
позволили бы им выдать за развитие его философии какие-то
идеи, которые они наверняка заимствовали у своих
современников, не принадлежащих к томизму. Часто можно, например,
встретить рассуждения, явно вдохновленные сочинениями
представителей современной феноменологии, но представленные как
размышления по поводу текстов Аквината. С другой стороны,
легко понять, что для философа, который убежден, что томизм —
«вечная философия», естественно стремление показать, что те
254
элементы современного мышления, которые кажутся ему
плодотворными, не только совместимы с философией Аквината, но в
них действительно можно видеть усовершенствования этой
философии, а также, что они могут быть органично усвоены
томизмом, который не рассматривается как учение, в совершенно
неизменном виде перенесенное из XIII столетия. Во всяком случае,
я хочу обратить внимание на то обстоятельство, что томисты
заботятся не только о том, чтобы понять философские учения
других направлений, но также, чтобы дать им содержательную, а
не только негативную оценку.
В прошлом веке огромное значение и влияние Канта и
всеобщий интерес преимущественно к вопросам эпистемологии или
теории познания побудили томистов разработать свою
собственную эпистемологию. Но, говоря об «их собственной
эпистемологии», я рискую быть неправильно понятым. Хотя томисты
согласны с тем очевидным фактом, что Аквинат никогда не
разрабатывал теории познания как особой ветви философии, между ними
не было и нет полного согласия относительно сферы и функций
эпистемологии или относительно того, какое развитие должны
получить замечания Аквината о познании и о началах
достоверного знания. Конечно, все томисты отвергают скептицизм,
позитивизм, субъективный идеализм и присущее прагматизму
рассмотрение истины, а также принимают реализм и допускают
способность ума достичь истины и достоверного знания.
Скептицизм, например, они отвергают не просто потому, что он явно
несовместим с позицией Аквината, но и по своему внутреннему
убеждению. Но нет единого мнения о подлинной природе
ведущих эпистемологических проблем и о правильном подходе к ним.
Кое-кто из старых томистов в большей или меньшей степени
опирался на здравый смысл и на спонтанное убеждение человека,
что он постигает реальность и схватывает истину. Против этой
позиции было, однако, выдвинуто возражение, что ей свойственно
неправильное понимание природы эпистемологических проблем
и, следовательно, она не способна их разрешить. Однако
существовали разные мнения относительно формулировки и
сравнительной важности этих проблем.
Некоторые томисты смотрели на проблему познания
глазами Декарта. Начиная с того, что они называли «методическим
сомнением», они признавали реальность декартовых проблем,
но пытались решить их менее кружным путем. Так, некоторые,
255
избрав в качестве исходного пункта конкретную интуицию «я»,
пытались оправдать, опираясь на анализ этой интуиции, как
принятие метафизических принципов, так и утверждение о
существовании материальной реальности. Двигаясь таким путем,
они надеялись избежать противопоставления идеальных
суждений, являющихся в известном смысле аналитическими, и
суждений о существовании, противопоставления, к которому,
думается, был склонен Мерсье и которое делает
затруднительным наведение мостов между порядком идей и порядком
вещей. Другие толковали проблемы, касающиеся познания,
преимущественно в понятиях философии Канта. Так, в пятой книге
своего сочинения Le point de départ de la métaphysique
(Исходный пункт метафизики) покойный о. Марешаль из Лувена дал
развернутое и обстоятельное критическое сопоставление
томистской и кантианской позиций. В первой части книги он
рассматривает позицию самого Аквината в свете требований
критической философии, подчеркивая прежде всего динамизм
интеллекта, его движение к бытию и анализируя
метафизические следствия этого интеллектуального динамизма. Во второй
части он пытается показать, почему тот, кто принимает
исходные допущения Канта и его метод, в конце бывает вынужден
выйти за рамки позиции Канта и обратиться к метафизике.
Поэтому для Марешаля Кант вовсе не был философским
людоедом, безжалостно уничтожавшим все философские системы,
как для многих других философов-схоластов, и в частности
томистов. Для него кантовская трансцендентальная критика
познания была мощным средством для развития зачатков
томистской критики, представленных в сочинениях Аквината. Хотя
сочинения Марешаля пользовались большим влиянием, было
много томистов, отвергавших самым решительным образом
любую попытку разрабатывать томистскую доктрину познания
на основе кантовских или картезианских исходных допущений.
Этьен Жильсон, например, не согласился б'ы, что декартова
проблема существования мира вне человеческого сознания
вообще есть реальная проблема. По крайней мере, это становится
реальной проблемой только в том случае, если приняты
начальные допущения и исходный пункт Декарта. Как и в случае с
Кантом, если начать с предпосылок трансцендентальной
критики знания, не может быть последовательного пути, ведущего
в направлении реалистической метафизики. Идеализм в своем
256
историческом развитии вывел логические заключения из
первоначально принятых предпосылок, и невозможно, будучи
последовательным и не впадая в противоречие, принять исходные
предпосылки и отрицать заключения1. Действительно,
установка, нацеливающая в первую очередь на разработку теории
познания и исходящая из представления о том, что прежде
должна бы :ь произведена критика знания и лишь затем можно
высказывать с полным правом экзистенциальные суждения и
что без предварительного осуществления такой критики
вообще невозможно построение какой бы то ни было
метафизической доктрины, и внутренне несостоятельна, и несовместима
с позицией Аквината. Это не значит, что томистская теория
познания вообще невозможна. Но она должна иметь форму
рефлексии о конкретном акте постижения объективно
существующего, а также о метафизических предпосылках этого акта и
метафизических следствиях, вытекающих из него. Г-н Жиль-
сон. конечно, не отрицает того очевидного факта, что мы
можем ошибаться, полагая, что некое суждение истинно. Но он
решительно отвергает представление о том, что мы можем
сначала подвергнуть сомнению возможность познания, а затем
«оправдать» познание с помощью каких-то априорных доводов.
Однако другие томисты, соглашаясь с Жильсоном, что
проблема существования какой-либо реальности, помимо
субъекта. — это псевдопроблема, все же не склонны утверждать, что
проблемы критического анализа предпосылок познавательной
деятельности вообще не существует и что критике знания и
предпосылок познания нет места, если не встать на позицию
идеализма. Проблема критики, сказали бы они, может быть
поставлена таким образом, чтобы сама ее формулировка заранее не
предрешала исхода спора между реализмом и идеализмом.
Если мы обратимся к метафизике Аквината, мы также
обнаружим значительные расхождения между взглядами различных
томистов. Некоторые из них, в основном, я думаю,
принадлежащие к старшему поколению, производят впечатление людей,
полагающих, что ничегЪ другого и не требуется, как повторить ска-
1 Обоснованность этой точки зрения, конечно, может быть поставлена под
сомнение. Можно оспаривать истину высказывания, что идеализм, в его
историческом развитии, — это строго логическая дедукция из данного
набора предпосылок.
257
занное Аквинатом. Это впечатление, конечно, не вполне
оправданно. Ведь эти писатели осознают то очевидное обстоятельство,
что на критику, направленную против концепций, отстаиваемых
Аквинатом, и против его аргументов в защиту этих концепций,
необходимо отвечать. А пытаясь возражать на критику, они не
могут обойтись простым повторением слов Аквината. Но
по-видимому, с их точки зрения, хотя концепции и аргументы
Аквината и нуждаются в каких-то пояснениях и защите ввиду
позднейшей критики, неоправданно ожидать и требовать развития его
учения по существу. Неверно полагать, сказали бы они, что если
Аквинат жил в XIII веке, то его метафизика, не подвергнись она
некоторому процессу «развития», окажется неадекватной для
XX века. Ошибка заключается в предположении, что
метафизика и науки — явления одного типа и коль скоро науки изменяются
и развиваются, то должна развиваться и метафизика.
Метафизика имеет дело с вещами, рассматриваемыми просто как нечто
сущее, и их онтологическая структура остается одной и той же
независимо от того, какие новые открытия сделают ученые и
какие новые теории они построят. Таким образом, вообще нет
основания, почему сам Аквинат не мог разработать такую систему
метафизики, которая всегда была бы законной. Разумеется, в
другую эпоху, определяемую мировоззрением, которое сильно
отличается от господствующего в XIII столетии, людям может
быть очень трудно оценить и понять взгляды Аквината и ходы
его мысли; но это — эмпирическое высказывание о фактическом
положении дел, касающееся людей, и оно не затрагивает саму
по себе метафизическую систему. Требовать предварительной
работы по истолкованию и разъяснению разумно, но эта работа
представляет собой педагогическое введение в метафизическую
систему, которая никогда не может устареть. Всякое развитие,
которого можно от нее требовать, будет на самом деле внешним
по отношению к данной системе: это — развитие, относящееся к
мировоззрению и мыслительным предрасположениям людей, а
не развитие системы как таковой.
До некоторой степени все томисты согласились бы с таким
взглядом. Если философ полагает, что развитие, в котором
нуждается метафизика Аквината, должно быть чем-то вроде
развития астрономии от геоцентрической гипотезы к
гелиоцентрической, его не с большим основанием можно называть
томистом, чем астронома-коперниканца — учеником Птолемея.
258
Но многие томисты при этом заявили бы, что все же остается
определенный простор для развития метафизики Аквината,
которое, при сохранении верности его духу и мировоззрению,
не сводится к защите явно сформулированных им положений
от нападок. Например, предложенные Аквинатом
доказательства существования Бога опираются на ряд допущений, к
которым Аквинат апеллирует в разных местах своих сочинений,
но которые для своего уяснения нуждаются в проработке и
развитии. Ясно, что если аргументы логически правильны, то
заключение должно неявно содержаться в посылках. В таком
случае утверждать существование любой конечной вещи —
значит неявно утверждать существование Бога1. Поэтому не
удивительно, что истолкование этого суждения некоторыми
томистами имеет явное сходство, например, с взглядами
Ф. Г. Брэдли. Доказательства существования Бога не содержат
незаконного прыжка от эмпирического к трансцендентному, от
конечного к бесконечному; они просто эксплицируют знание,
которое уже имплицитно содержится в знании о том, что
существует по крайней мере одно изменяемое, случайное,
конечное сущее. Не говорит ли сам Аквинат, что «все познающие
неявно познают Бога во всем, что они познают» (De veritate,
22, 2, ad 1)? Но что в данном контексте означает апелляция к
неявному знанию? Означает ли это просто ситуацию, когда кто-
то не знает того, что он способен знать? Или это означает что-
то совсем другое? И если так, как это согласуется с
утверждением Аквината, что мы не обладаем ни врожденной идеей
Бога, ни интуицией божественной сущности? Томисты
указывают, что, хотя Аквинат и считал первичным естественным
объектом человеческого ума природу материальной вещи, он
тем не менее всегда также утверждал, что ум познает все
действительно познаваемое им как сущее и что направленности
человеческого ума — именно как человеческого — на сущее
какого-то частного вида логически предшествует естественное
устремление ума — именно как ума — к сущему как таковому.
1 Я, конечно, имею в виду интерпретацию доказательств Аквината,
которую я защищал в третьей главе, а именно что Аквинат не рассматривал
высказывание, утверждающее существование Бога как эмпирическую
гипотезу в современном смысле. Я также имею в виду замечания о
логическом следовании, сделанные мною в этой связи в той же главе.
259
Фактически ум по своей природе как бы сориентирован на
бесконечное бытие: именно динамическая устремленность к
бесконечному является предпосылкой ориентации воли на
бесконечное благо и в конечном счете делает возможной
метафизику. Так как эта устремленность или ориентация ума не есть
врожденная идея Бога, а тем более не есть интуиция
божественной сущности, то человек способен подставить на место
реальной бесконечности псевдобесконечность, конструируя,
например, идею «Мира» как квази-Абсолюта, в котором
расположены конечные вещи, или даже вообще отрицать
бесконечность, хотя это отрицание не уничтожает естественной
ориентации ума на бесконечность. Всегда существует «неявное
знание» Бога, хотя оно не становится тем, что обычно
называется «знанием», пока оно не сделано явным. Доказательства
существования Бога как раз и есть один из способов сделать его
явным. Ибо они фокусируют внимание на тех сторонах
эмпирической реальности, которые действуют подобно указателям
и способствуют свободному проявлению естественной
ориентации ума. За явными аргументами, подтверждающими
существование Бога, скрыто естественное стремление ума к
трансцендентному, которое следует рассматривать в тесной связи со
стремлением воли к бесконечному благу. И на самом деле,
некоторые томисты пытаются сначала показать, что
действительно существует это естественное стремление или импульс
человеческого ума к бесконечному, а отсюда
непосредственно вывести, что этот естественный интеллектуальный
динамизм служит свидетельством наличия бесконечной
реальности, т. е. реального существования конкретного бесконечного Бога.
Они утверждали бы, что этот ход мысли находится в согласии
с учением Аквината. Аквинат говорит, например, что «наш ум
в своем понимании тянется к бесконечному. Об этом
свидетельствует тот факт, что, сколь бы изрядную величину мы ни
взяли, ум может постичь большую. Но эта направленность ума к
бесконечному была бы тщетной (frustra; т. е. непостижимой и
не поддающейся объяснению), если бы не существовало
бесконечной умопостигаемой вещи. Поэтому должна быть
бесконечная умопостигаемая вещь, которая должна быть высшим
бытием, и это мы называем Богом» (S.G., I, 43). Эти томисты
сказали бы в то же время, что намеки, сделанные Аквинатом
по этому вопросу, и высказанные им замечания следует раз-
260
вить, чтобы они в полной мере удовлетворяли требованиям,
предъявляемым к знанию философской критикой. А тот
способ, каким они должны быть развиты, можно уяснить себе,
изучая не только христианских философов, таких, как Блон-
дель, и мыслителей, принадлежащих к августинианской
традиции вообще, но также представителей идеалистического
направления.
Что томисты сознают также необходимость представить
томизм способным осмыслить ситуацию, в которой в наше
время находится человек, показывает разработка ими социальных
и политических идей и приложение принципов Аквината к
изучению общества в его нынешнем виде. В этом отношении
наиболее значительным был вклад Жака Маритена. Некоторые
склонны думать, правильно или неправильно, что в своем
общем представлении томизма Маритен придает слишком
большое значение письмам Аквината и комментариям Иоанна от св.
Фомы; во всяком случае, он, несомненно, дал толчок
оживлению и углублению томистской традиции. Действительно,
Маритен и Жильсон — наиболее известные современные
томисты. Маритен представил подробное рассмотрение современных
социально-политических реалий, например тоталитаризма, в
свете принципов Аквината. По своим личным убеждениям он,
как известно, примыкает, скорее, к «левым»; но какова бы ни
была его позиция в конкретных политических вопросах, он
всегда настаивает на томистской идее личности и на том, что
общество есть общество «личностей», а не просто индивидов.
На его взгляд, томистская социально-политическая теория,
подчеркивающая социальную природу человека и
положительную функцию гражданского общества и правительства,
поскольку она неразрывно связана с другим моментом в учении
Аквината — выдвижением на первый план духовного и
нравственного аспектов человеческого существования, т. е. того,
благодаря чему человек больше, чем просто член коллектива, —
может указать средний путь между тоталитаризмом, с одной
стороны, и атомистическим индивидуализмом,— с другой.
Исходя из идеи личности, он подчеркивает гуманистические
стороны томизма, утверждая, что позиция Аквината столь же
далека от пессимизма Гоббса, как и от оптимизма Руссо, и
показывая, что признание Аквинатом первостепенного значения
духовной стороны человеческой личности тесно связано с его
261
концепцией целостной личности, избегающей односторонней
оценки человека, его потребностей и развития, какую мы
находим, например, в марксистской философии.
Поэтому ясно, что, хотя томисты могут произвести на
постороннего наблюдателя впечатление мыслителей
ультраконсервативных и всегда повторяющих одно и то же, они отнюдь не
индифферентны ни к нетомистской мысли, ни к необходимости
развития положений Аквината. Осуществляя это, они
обнаруживают гораздо большую оригинальность мысли и большее
разнообразие идей, чем можно было бы ожидать. Иными словами,
томизм — это не музейный экспонат, а живое и развивающееся
течение мысли; томизм черпает вдохновение у Аквината, но
размышления томистов о его сочинениях идут в контексте
последующей философии и последующего развития культуры. Следует,
однако, отметить, что современные томисты преимущественно
интересуются континентальной философией спекулятивного типа.
В томистских кругах часто идет речь, к примеру, о Хайдеггере;
гораздо реже — о современных английских и американских
философах, принадлежащих к традиции эмпиризма, или о том, что
можно назвать лингвистическим движением в
англо-американской философии. Конечно, это легко объяснить, учитывая
различия между континентальной и англо-американской философией
вообще, а также то обстоятельство, что томизм гораздо больше
распространен и имеет гораздо большую жизненную энергию в
таких странах, как Франция, Бельгия и Германия, чем в
Британии. Но я думаю, что томистская философия может значительно
выиграть, если ее приверженцы обратят большее внимание, чем
до сих пор, на ведущие направления мысли в Англии и Америке.
Во-первых, влияние континентальной философии не всегда
способствует сохранению того стремления к точности и ясности,
которым отличаются труды самого Аквината и которое характерно
для многих более ранних томистов. Во-вторых, рефлексия об
основаниях их метафизики с точки зрения современных исследований,
посвященных критике опыта и проблемам лингвистического
анализа, возможно, позволила бы томистам достичь большей
ясности относительно, скажем, природы «метафизических
принципов», а также их соотношения с чистыми тавтологиями, с одной
стороны, и эмпирическими гипотезами — с другой.
Если в этом разделе совсем не были упомянуты логические
исследования, то по той причине, что о них мало что можно
262
сказать. Некоторые томисты, например польский доминиканец
И. М. Бохеньски, проводили сопоставительный анализ методов
современной логики и логики, используемой Аквинатом;
нужда в работах такого рода, безусловно, ощущается. Весьма
желательно, чтобы этот пробел был восполнен. Но, хотя томисты,
может быть, за исключением некоторых
ультратрадиционалистов, не испытывают никакой враждебности или
подозрительности к современным логическим исследованиям, они
скептически относятся к заявлениям, что современная логика может
оказаться источником революционных преобразований в
сфере философии. И конечно, не только им свойствен подобный
скепсис. Первооткрыватели новых направлений исследования
часто склонны к чрезмерным претензиям на всеобъемлющую
применимость разрабатываемых ими методов. В то же время
было бы резонно ожидать, что, по крайней мере, некоторые
из тех, кто черпает свое вдохновение в средневековой
философии, уделят особое внимание тем направлениям
исследований, которые в настоящее время продолжают разработку
проблем, интенсивно обсуждавшихся в средние века.
* * *
Как упоминалось, философия Аквината была не
единственной философской системой средневековья. Едва ли нужно
говорить, что и сегодня томизм не является единственной системой
философии. Но что действительно надо подчеркнуть, — это не
существование иных философских систем наряду с томизмом,
а что томизм — это на самом деле философия и что любые de
facto связи его с католицизмом не отменяют его философского
характера. По существу, томизм есть не что иное, как
настойчивая попытка человеческого ума понять человека и его ситуацию,
мир, в котором человек находится. Но в этом он не отличается
от других философских систем. Что составляет его особенность —
это, видимо, то особое значение, которым он наделяет
существование, акт существования, причем не в смысле существования
человека как существа свободного, «творящего» самого себя, как
о том пишут экзистенциалисты, но существование,
рассматриваемое как фундаментальный акт, в силу которого всякая вещь
есть реальность. Но это обстоятельство не исключает томизм из
разряда философских систем; оно лишь накладывает на него
особый отпечаток. Поскольку философия Аквината была результа-
263
том рефлексии теолога-философа, мы можем говорить о ней
как о христианском объяснении мира или как о попытке
понять эмпирическую реальность, особенно на экзистенциальном
уровне, в контексте христианства. В то же время Аквинат сам
проводил четкое различие между философией и теологией, и
томизм развивался как философия, прочность которой
определяется ее собственными достоинствами и недостатками и
которая апеллирует к разуму, а не к вере или откровению.
Поэтому томисты могут вступать и действительно вступают в
интеллектуальный диалог с мыслителями, принадлежащими к
совершенно иным традициям и школам мысли, и этот диалог
ведется ими с использованием чисто философских аргументов.
Но предположим, томизм — это одно из философских
направлений наряду с другими; на каком же основании можно
заявлять, как это обычно делают томисты, что он представляет
собой «вечную философию»? Ведь это заявление может показаться
лишенным какого бы то ни было смысла. Краткие соображения
по этому поводу, возможно, уместны в завершение книги. Я не
собираюсь предпринимать доказательство, что томизм —
действительно вечная философия; мне хотелось бы только
попытаться показать, что это заявление не столь нелепо, как это
кажется на первый взгляд.
Использование слова «вечный» может привести к серьезному
недоразумению. Ибо это наводит на мысль об уже полученной
совокупности знаний, которые можно передать другим в форме
положений, пассивно усваиваемых при обучении. И учебники по
схоластической философии, как может показаться, самой своей
структурой и характером изложения демонстрируют, что
именно это и имеется в виду под вечной философией. Но совершенно
очевидно, что никто не может стать философом, выучив
положения, высказанные Аквинатом или кем-то еще..Стать
философом можно только посредством личной философской рефлексии.
А если кто-то понимает под вечной философией работу, которая
раз и навсегда выполнена в результате философской рефлексии,
осуществленной либо отдельным мыслителем, либо группой
мыслителей, и содержание которой далее необходимо только
сообщать другим, то такой философии не существует. Ибо в
действительности эту работу должен проделывать вновь и вновь всякий
философ. Точно так же, как мы уже видели, томистская
концепция вечной философии не означает, что исключено всякое раз-
264
витие. Заявление, что существует вечная философия, содержит
утверждение о существовании в изменяющемся и развивающемся
мире постоянной метафизической основы, которую можно понять
и зафиксировать. Но конечно, вовсе не следует, что любой
человек всегда мог и теперь может иметь вполне адекватное ее
понимание. Концепция вечной философии — это концепция
развивающегося понимания, а не концепция статичного и раз навсегда
данного выражения ранее достигнутого понимания. Кроме того,
утверждение, что томизм — вечная философия, в устах его
представителей, по крайней мере наиболее здравомыслящих, не
подразумевает невозможности нового вклада в усмотрение истины,
причем и со стороны философов, не принадлежащих к томизму.
Напротив, предполагается, что такие новые усмотрения могут
быть органично усвоены развивающимся томизмом.
Такое органичное усвоение возможно, если томизм не будет
несбалансированной системой, где одни стороны реальности
подчеркнуты в такой степени, что другие стороны неизбежно
остаются вне поля зрения. Видимо, стоит обратить внимание на
одну-две характерные черты томизма, которые указывают, что
он, по сути, является гармоничной системой. Мы
обнаруживаем в нем, например, и «эмпиристские» и «рационалистические»
элементы. Мы обнаруживаем также глубокое доверие к
способностям человеческого разума вместе с ясным осознанием его
границ. Последний из упомянутых факторов предотвращает
вырождение томизма в какую-то форму «гностицизма»,
претендующего, скажем, на проникновение в глубины последней
реальности или, вслед за Гегелем, на способность как бы вычитывать
содержание божественного ума1. С другой стороны, уверенность
томизма в силе человеческого разума отделяет его от тех, кто
вслед за Киркегором и теми теологами, которые превратили
вполне понятное отношение Киркегора к гегельянству в
антифилософскую догму, отказывает философии в праве на
существование, рассматривая ее как знак интеллектуальной
гордыни человека и его бессилия вследствие грехопадения. Доверие
! Я не имею в виду, будто Гегель был «теистом» в обычном понимании
этого термина. Но отчасти, думаю, именно чрезмерная уверенность в силе
и всеобъемлющей мощи спекулятивного разума постепенно привела его к
отказу от убеждения в божественной трансцендентности, с которой он
начал в молодые годы.
265
томизма к человеческому разуму позволяет ему вступать в
интеллектуальный диалог с другими философами, тогда как
осознание наличия границ, непреодолимых для человеческого ума,
спасает его от тех спекулятивных экстравагантностей, которые
привлекают внимание читателей более к психологии авторов, чем
к их высказываниям. В своей концепции человека томизм
пытается избежать материализма, с одной стороны, и резкого
дуализма — с другой; в политической теории он пролагает свой путь
между Сциллой тоталитаризма и Харибдой атомистического
индивидуализма. Его гуманизм — гармоничный гуманизм. Тело не
объявляется чем-то никчемным или постыдным, науки и
искусства не отвергаются во имя религии. В то же время человека не
провозглашают, по примеру Протагора, мерой всех вещей.
Заявление, что томизм — гармоничная философия,
включает в себя утверждение, что он способен отдавать должное
различным сторонам реальности, не выдавая никакую из них
за целое. Но оно не содержит утверждения, что приведение в
единство всей философской истины окончательно осуществлено
Аквинатом. Так что, по крайней мере, в одном смысле томист
сам может сказать: «Мы не можем возвратиться в средние века;
мы не можем вернуться к Аквинату». Если мы рассматриваем
философию Аквината исключительно с исторической точки
зрения, тогда тот факт, что он высказал то или иное
утверждение, имеет первостепенное значение. Если же мы видим в
томизме живую и развивающуюся философию, то во внимание
принимаются сами философские положения, а то
обстоятельство, что Фома Аквинат утверждал их в XIII веке, не имеет
прямого отношения к делу. В то же время утверждение, что
томизм как живая и развивающаяся философская система
может отдавать должное различным сторонам реальности,
бессмысленно без оговорки, что он способен сделать это, не
переставая быть томизмом. Подобным образом, чтобы понятие
томизма как вечной философии имело какой-тб смысл,
должно быть нечто, остающееся тождественным себе и
позволяющее нам с полным правом говорить о «томизме», на какой бы
стадии развития ни находилась эта философия. В противном
случае слову «томизм», очевидно, угрожала бы опасность
лишиться смысла.
Действительно, предпринималась попытка составить перечень
положений, в которых как бы изложена сущность томизма и ко-
266
торых должен придерживаться всякий, кто желает считаться
томистом. Но когда ударение ставится на принятие какой-то
совокупности положений, это мне кажется не совсем верным. Если
эти положения истинны, то только потому, что существует
некоторая стабильная и умопостигаемая метафизическая структура
реальности, которая открывается размышляющему уму
философа. Если существует такая неизменная структура, она найдет себе
выражение, хотя бы до некоторой степени, в естественном языке
в форме неявной метафизики. А если можно показать, что
существует неявная метафизика, не подытоживающая просто
результаты рефлексии о лингвистических формах, причем эта неявная
метафизика естественным образом ведет к явно
сформулированной метафизике томистского типа, то утверждение, что томизм —
вечная философия, возможно, покажется не столь уж
бессмысленным широкому кругу философов. Для тех, кто полагает, что
философские теории возникают в связи с изменением научных
гипотез, философия Аквината может представлять в лучшем
случае исторический интерес. Но тот, кто считает, что в основе
философской рефлексии лежит общий опыт и что метафизика
теснейшим образом связана с этим опытом, найдет в ней
неисчерпаемый источник творческих импульсов и вдохновения.
Св. Фома Аквинский «Об истине» (Vatican Lat. 781)
Библиографическая
справка
I
Латинский текст пармского издания сочинений Аквината (Opera
omnia, 1852-1873, 25 vols.) был перепечатан в Нью-Йорке в 1948 г.
Другое издание: Opera omnia, Paris, Vives, 1871-1880, 34 vols.
Критическое издание сочинений Аквината («Leonine») (Rome, 1882- )
не завершено.
Имеются английские переводы сочинений Summa theologica,
Summa contra Gentiles и Quaestiones disputatae, изданные
английскими отцами-доминиканцами и издательством Burns, Oates
and Washbourne в Лондоне (1912-1936). Новое издание
сочинения Summa theologica (Summa theologiae) в 60 томах
публикуется в Лондоне доминиканцами в сотрудничестве с Eyre and Spottis-
woode, с параллельными английским и латинским текстами, с
введениями, примечаниями, приложениями и глоссариями.
Summa contra Gentiles (On the Truth of the Catholic Faith,
N. Y., 1955-1957; Notre Dame, 1975): I. God (transi, by A. C. Pegis);
II. Creation (transi, by J. F. Anderson); III. Providence (transi, by
V. J. Bourke); IV. Salvation (transi, by Ch. J. O'Neil:).
On Being and Essence (De ente et essentia) (transi, by A. Maurer,
Toronto, 1949). Truth (De veritate) (transi, by R. W. Mulligan, Chicago,
1952-1953, 2 vols.). On the Power of God (De potentia) (transi, by
L. Shapcote, Westminster, 1952). St. Thomas On Kingship to the King
of Cyprus (The Govern anse of Rulers) (transi, by I. T. Eschmann,
Toronto, 1949). On the Unity of the Intellect Against the Averroists
(De unitate intellectu contra Averroistas) (transi, by S. Zedler,
Milwaukee. 1968). Имеются также английские переводы некоторых
комментариев Фомы Аквинского к Аристотелю: Aristotle's De anima
with the Commentary of St. Thomas Aquinas (transi, by K.Foster
and S.Humphries, London and New Haven, 1951). Commentary on
Aristotle's Physics (transi, by R. J. Blackwell, R. J. Spath and W. E. Thir-
lkel, New Haven, 1963). Commentary on the Metaphysics of Aristotle
(transi, by J. P. Rowan, Chicago, 1961, 2 vols.). Commentary on the
Nicomachean Ethics (transi, by C. I. Litzinger, Chicago, 1964, 2 vols.).
Литература, приведенная в настоящем разделе, была дополнена при
переводе: включены позднейшие исследования, а также литература на русском языке.
269
На русском языке:
О сущем и сущности (пер. В. Кураповой;
Историко-философский ежегодник '88, М., 1988).
О началах природы (пер. В. Гайденко; «Время, истина,
субстанция: от античной рациональности к средневековой». М., 1991).
Можно указать также издания на английском языке
избранных сочинений или отрывков из сочинений Аквината:
Thomas Aquinas, Selected Writings, selected and edited by
M. С D'Arcy (Dent, Everyman's Library, 1934).
St. Thomas Aquinas, Philosophical Texts, selected and translated
by Thomas Gilby (Oxford, 1951).
Basic Writings of St. Thomas Aquinas, edited by A. Pegis (2 vols.,
New York, 1945).
На русском языке:
Извлечения из произведений Фомы Аквинского «Сумма
теологии» и «Сумма против язычников» (пер. С. С. Аверинцева; в кн.:
Ю. Боргош. Фома Аквинский. М.: Мысль, 1966; тж.: Антология
мировой философии. Т. I. Ч. 2. М.: Мысль, 1969).
Следующие работы могут быть полезны для изучающих
труды Аквината:
Farrel Walter. A Companion to the Summa [theologica] (4 vols.,
New York, 1941-1942).
Deferari R. J., Barry M. I. and McGuiness I. A Lexicon of St.
Thomas Aquinas (Catholic Univ.Of America Press, Washington, 1948).
Reding M. Die Struktur des Thomismus (Freiburg, 1974).
Kretzmann N. The Cambridge Companion to Aquinas (1993).
II
Труды no истории средневековой философии. Из более кратких:
Copleston F. С. Medieval Philosophy (Methuen, 1952).
— A History of Medieval Philosophy (Methuen,'1972); рус. пер.:
Ф. Ч. Коплстон, История средневековой философии. М., 1997 (пер.
И. Борисовой).
Curtis С. S. J. A Short History of Western Philosophy in the Middle
Ages (London, 1950).
Hawkins D. J. B. A Sketch of Medieval Philosophy (London, 1945).
Leff G. Medieval Thought: St. Augustine to Ockham (Penguin
Books, 1958).
270
Knowles D. The Evolution of Medieval Thought (Baltimore, 1962).
Из более обширных трудов:
Copleston F. С. A History of Philosophy (London*); vol. 2,
Augustine to Scotus (1950); vol. 3, Ockham to Suârez (1953).
Gilson E. History of Christian Philosophy in the Middle Ages (New
York, 1955).
Mclnerny R. M. A History of Western Philosophy; vol. 2,
Philosophy from Augustine to Ockham (Notre Dame, 1970).
De Wulf M. Histoire de la philosophie médiévale, 6 ed., 3 vols.
(Louvain, 1934, 1936, 1947); History of Medieval Philosophy (Engl.
transi., London and New York, I — 1935; II — 1938).
На русском языке:
Жильсон Э. Разум и откровение в средние века («Богословие в
культуре средневековья», Киев, 1992).
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до
наших дней. Т. 2. Средневековье (пер. с итал.). СПб., 1994.
Рожков В. Очерки по истории римско-католической Церкви
(М., 1994).
Соколов В. В. Средневековая философия (М., 1979).
Штекль А. История средневековой философии (М., 1912;
СПб., 1996).
III
Из работ о Фоме Аквинском можно назвать следующие:
Aquinas and Problems of His Time, ed. by G.Verbeke, D. Verhelst
(Leuven, 1976).
L'Anima nell'antropologia di S. Tommaso d'Aquino: Atti del
Congresso délia Societa internationale S. Tommaso d'Aquino, Roma,
1986 (Milan, 1987).
Bourke V.J. Aquinas' Search for Wisdom (Milwaukee, 1965).
Brown B. F. Accidental being: A Study in the Metaphysics of
St. Thomas Aquinas (Lanham, Md. 1985).
Chenu M. D. Thomas d'Aquin (Paris, 1959).
Chenu M. D. Towards Understanding Saint Thomas (Chicago, 1964).
Chesterton G. K. Saint Thomas Aquinas (London, 1933; 1947);
рус. пер. H. Трауберг в кн.: Г. К. Честертон. Вечный человек. М.,
Политиздат, 1991.
D'Arcy M. C.Thomas Aquinas (London, 1931; 2nd edition,
Dublin, 1953).
271
De Bruyne E. St. Thomas d'Aquin: le milieu, l'homme, la vision
du monde (Brussels, 1928).
De Finance J. Être et agir dans la philosophie de St. Thomas
(Paris, 1945).
Elders L. J. De metaphisica van St. Thomas van Aquino in historisch
perspectief (Brugge, 1882, Germ. tr. by К. Hedwig, Sal/burg, 1985);
The Metaphysics of Being of St. Thomas Aquinas in a Historical
Perspective (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des
Mittelalters, Band 34) (1993).
The Ethics of St. Thomas Aquinas: Proceedings of the Third
Symposium on St. Thomas Aquinas' Philosophy, Rolduc 1983 (Citta
del Vaticano, 1984).
Fabro C. La nozione metafisica di partecipazione secondo S. Tom-
maso (Turin, 1950, 2nd ed.).
Forest A. La structure métaphysique du concret selon S. Thomas
d'Aquin (Paris, 1931; 1956).
Foster A. The Life of St. Thomas Aquinas (London and
Baltimore, 1959).
Garrigou-Lagrange R. La synthèse thomiste (Paris, 1950); Reality:
A Synthesis of Thomistic Thought (St Louis, Mo., 1950).
Geiger L. В. La participation dans la philosophie de Saint Thomas
(Paris, 1942).
Gilby T. The Political Thought of Thomas Aquinas (Chicago,
1958).
Gilson É. Le thomisme (Paris, 1952).
— The Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas (New
York, 1956).
— Wisdom and Love in Saint Thomas Aquinas (Milwaukee, 1951).
Grabmann M. Der göttliche Grund menschlicher
Wahrheitserkenntnis nach Augustinus und Thomas von Aquin (Cologne,
1924).
— Thomas Aquinas (New York, 1928).
— Thomas von Aquin. Persönlichkeit und Gedankenwelt
(München, 1946).
Hayen A. Saint Thomas d'Aquin et la vie de l'Église (Louven, 1952).
— La communication de l'être d'après saint Thomas d'Aquin
(Paris, 1957-1959), 2 vols.
Jordan M. D. Ordering Wisdom: The Hierarchy of Philosophical
Discourses in Aquinas (Notre Dame, Ind. 1986).
Kenny A. Aquinas : a collection of critical essays (London, 1969).
272
— Five Ways : St. Thomas Aquinas' Proofs of God's Existence
(London, 1969).
Klubertanz G. P. St. Thomas Aquinas on Analogy (Chicago, 1960).
Kluxen W. Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin (Mainz,
1964).
Marc A. L'idée de l'être chez S. Thomas et dans la scolastique
postérieure (Paris. 1931; Archives de philosophie, X, 1).
Maritain J. Saint Thomas and the Problem of Evil
(Milwaukee, 1942).
— The Angelic Doctor: The Life and Thought of St. Thomas Aqui-
nas (N.Y., 1958).
Mclnerny R. St. Thomas Aquinas (1982).
— Ethica Thomistica: The Moral Philosophy of Thomas Aquinas
(Washington, D. C. 1982).
— Aquinas on Human Action: A Theory of Practice (1992).
Meyer H. The philosophy of St. Thomas Aquinas (St Louis, Mo.,
1944).
O'Mahony L. E. The Desire of God in the Philosophy of St.
Thomas Aquinas (London, 1929).
Owens J. Saint Thomas and the Future of Metaphysics
(Milwaukee, 1957).
Patterson R. L. The Concept of God in the Philosophy of
Aquinas (London, 1933).
Pegis A. С Saint Thomas and Philosophy (Milwaukee, 1964).
— St. Thomas and the Problem of the Soul in the Thirteenth
Century (Toronto, 1934; Leiden, 1976).
Phelan G. B. St. Thomas and Analogy (Milwaukee, 1941).
La philosophie de la nature de saint Thomas d'Aquin: Actes du
Symposium, Rolduc 1981 (Citta del Vaticano, 1882).
Pieper J. Guide to Thomas Aquinas (trans. R. and C.Winston,
New York, 1962).
Rahner K. Geist in Welt: Zur Metaphysik der endlichen Erkenntnis
bei Thomas von Aquin (Innsbruck, 1939); Spirit in the World (1995).
Reith H. The Metaphysics of St. Thomas Aquinas
(Milwaukee, 1958).
Rousselot P. The Intellectualism of St. Thomas, (trans. F. James,
London, 1935).
Sertillanges A.D. St. Thomas d'Aquin (Paris, 1925, 4th ed.,
2 vols).
— La philosophie morale de St Thomas d'Aquin (Paris, 1942).
273
Steenberghen F. Van. La problème de l'existence de Dieu dans
les écrits de s. Thomas d'Aquin (Louvain-la-Neuve, 1980).
St. Thomas Aquinas, 1274-1974: Commemorative Studies (ed.
A.Maurer et al., Toronto, 1974).
Thomas von Aquin: 1274-1974 (München, 1974).
Thomas von Aquin in philosophischen Gesprach (hrsg. von
W. Kluxen, Freiburg, 1975).
Walz A. Saint Thomas Aquinas (transi. S. T. Bullough,
Westminster, Md, 1951).
WeisheiplJ. A. Friar Thomas D' Aquino: His Life, Thought, and
Works (Garden City, N.Y., 1974).
Wippel J. F. Metaphysical themes in Thomas Aquinas
(Washington, 1984).
На русском языке:
Боргош Ю. Фома Аквинский. М.: Мысль, 1966.
Бронзов А. Аристотель и Фома Аквинат в отношении к их
учению о нравственности. СПб., 1884.
Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского (пер.
с англ.) (Вопросы философии. М., 1994, № 1).
Бандуровский К. В. Проблемы этики в «Сумме теологии» Фомы
Аквинского (Вопросы философии. М., 1997, № 9).
IV
Библиография приведена в следующих работах: Copleston.
A History of Philosophy, vol. 2. De Wulf, History of Medieval
Philosophy (указана выше) и Ueberweg-Geyer. Die patristische und
scholastische Philosophie (Berlin, 1928; Basel, 1951). Желающие
получить более подробные сведения могут обратиться к изданиям:
Mandonne Р. and Destrez J. Bibliographie thomiste (Paris, 1921);
revised by M. D. Chenu (Paris, 1960).
Bourke V. J. Thomistic Bibliography, 1920-194Ö (St. Louis, Mo.,
U.S.A., 1945).
Grabmann M. Die Werke des hl. Thomas von Aquin (Münster,
1949, 3rd ed.).
Bulletin thomist (Paris, 1924 f.).
Wyser P. Thomas von Aquin (Bern, 1950).
Miethe T. L. Thomistic Bibliography, 1940-1978. (1981).
Thomas Aquinas: International Bibliography 1977-1990
(Bibliographies of Famous Philosophers) R. Ingardia (Ed.) (1993).
274
Оглавление
Предварительные замечания 5
1. Вводная глава 13
2. Мир и метафизика 71
3. Бог и творение 109
4. Человек (1): тело и душа 157
5. Человек (2): мораль и общество 201
6. Томизм 247
Библиографическая справка 269
Фредерик Чарльз Коплстон
АКВИНАТ.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
ВЕЛИКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО
МЫСЛИТЕЛЯ