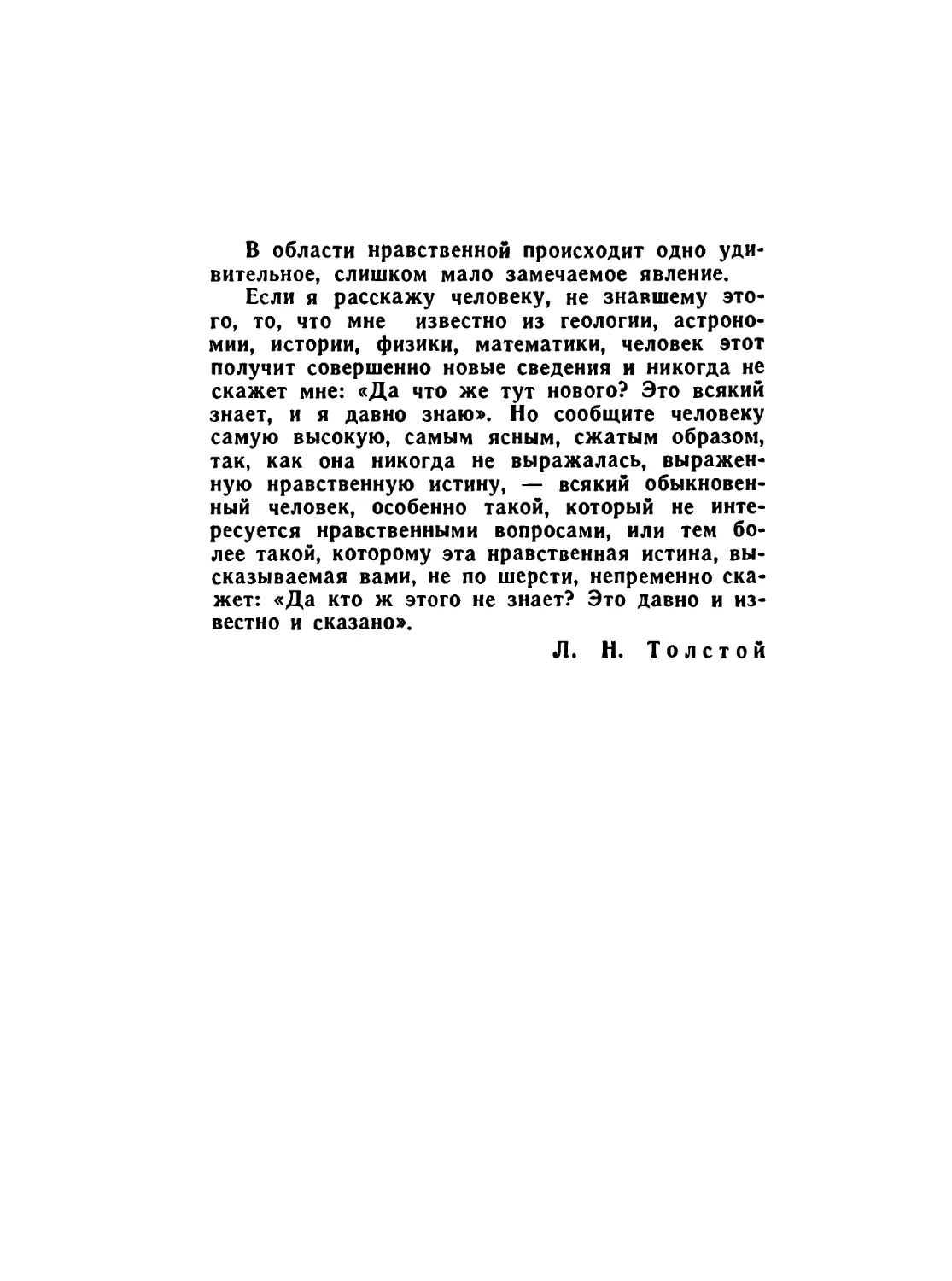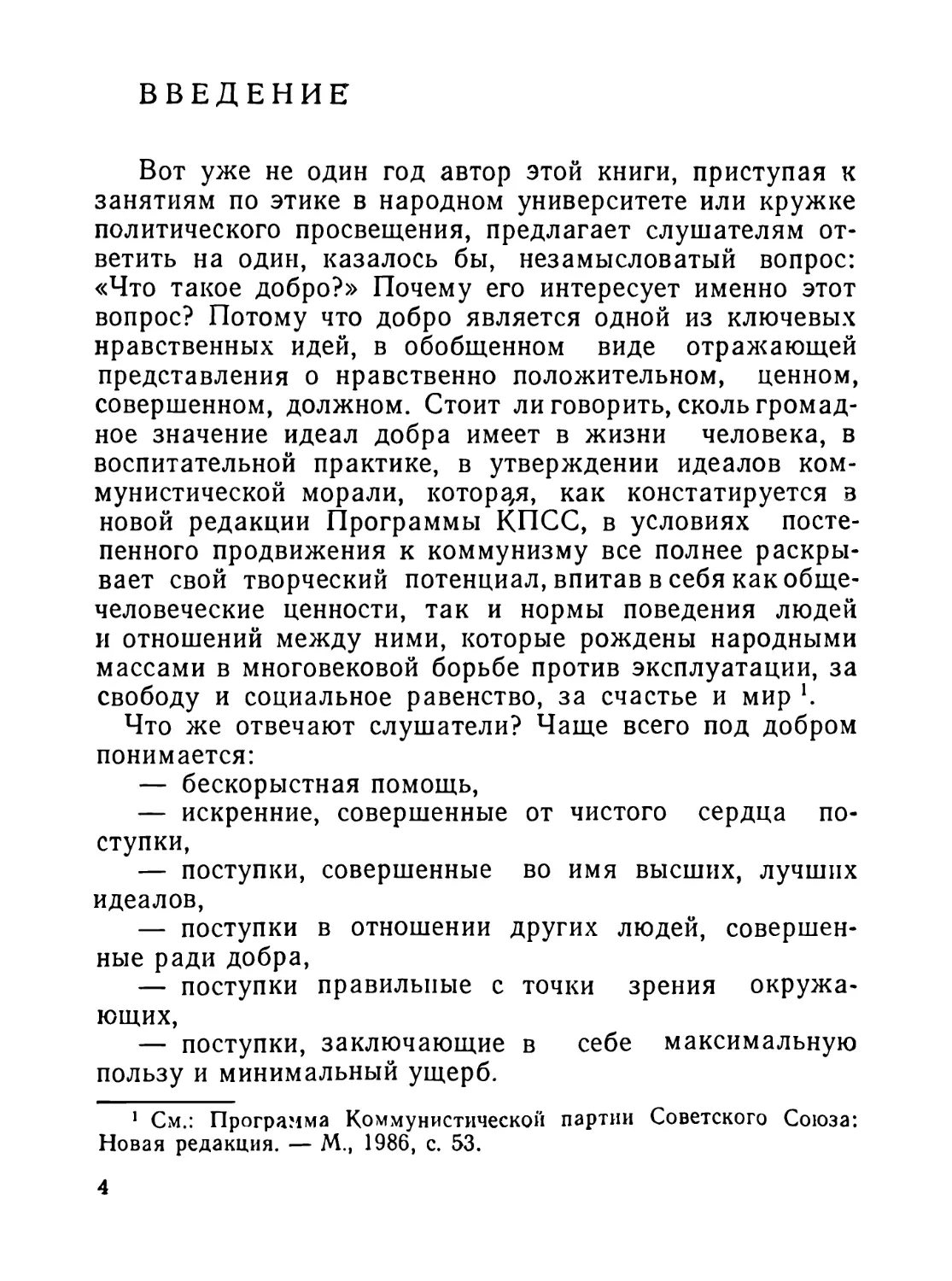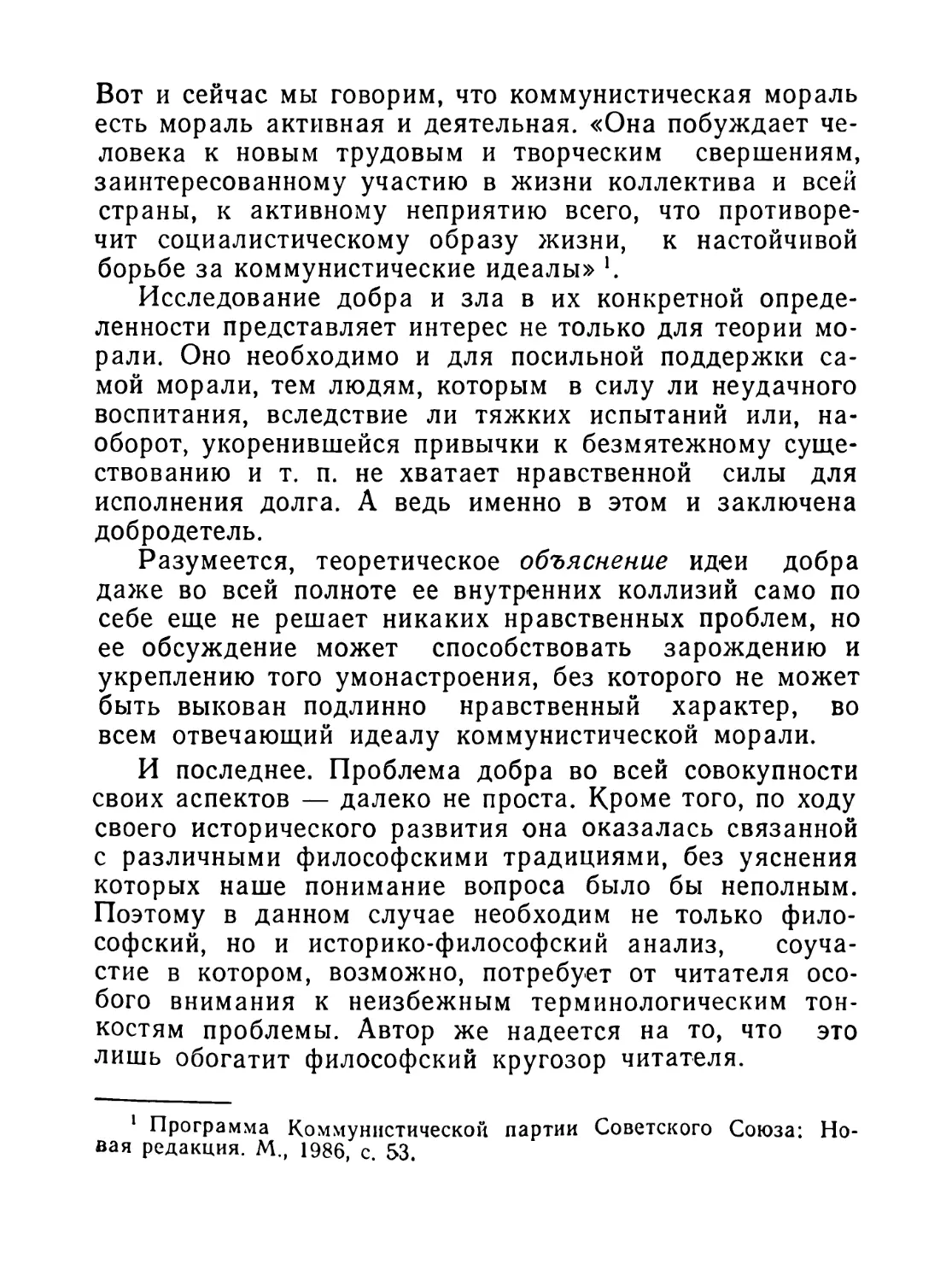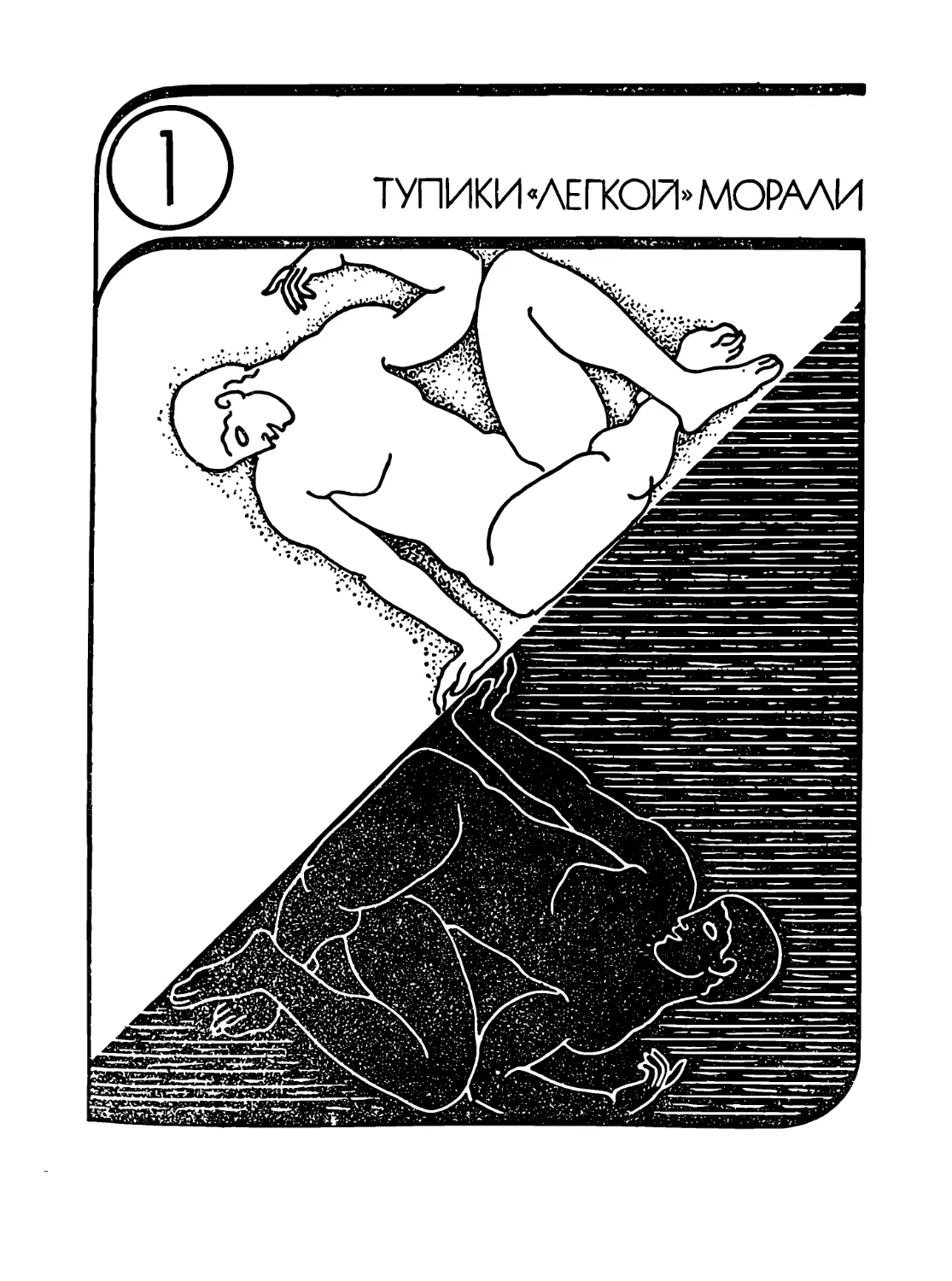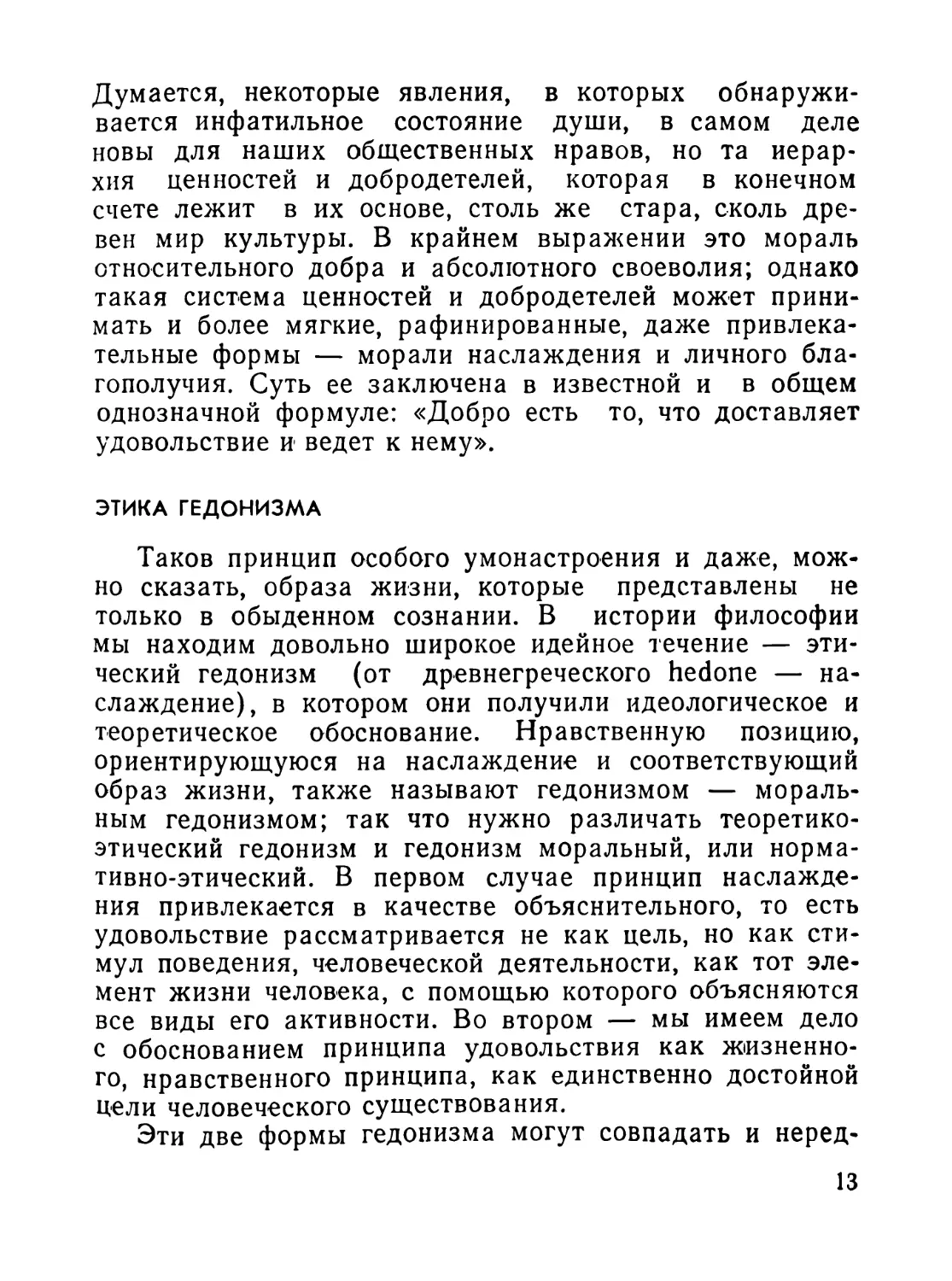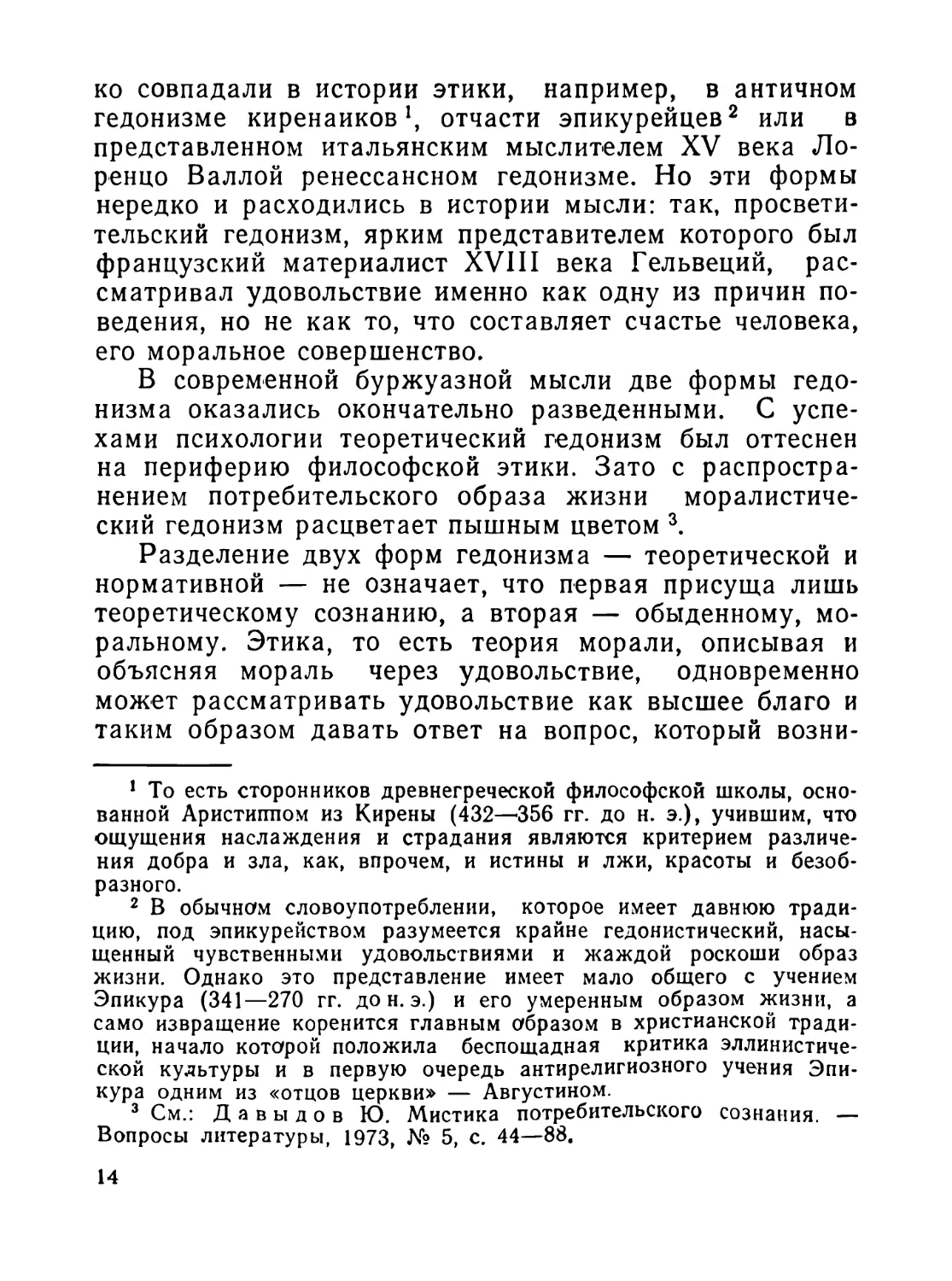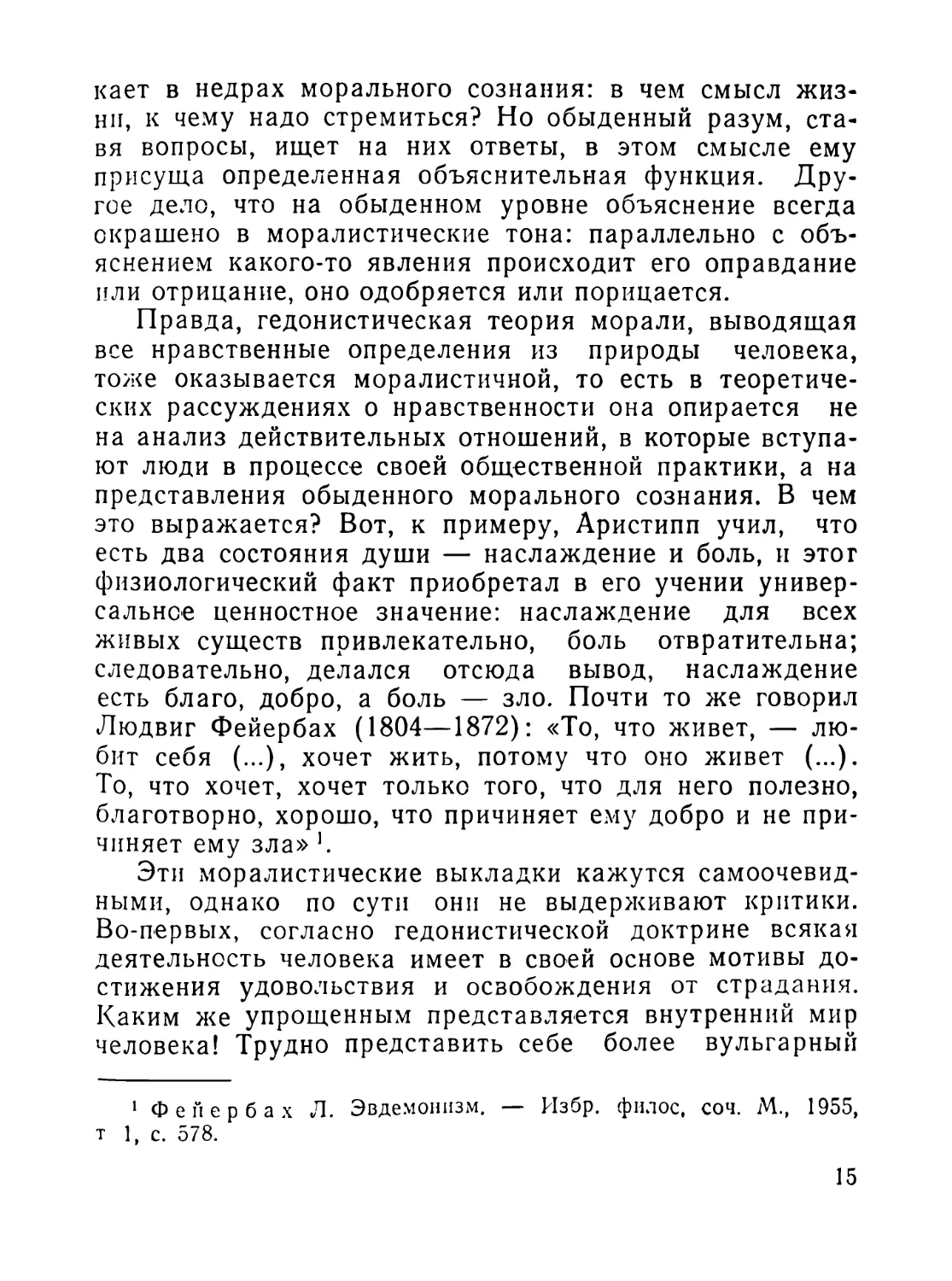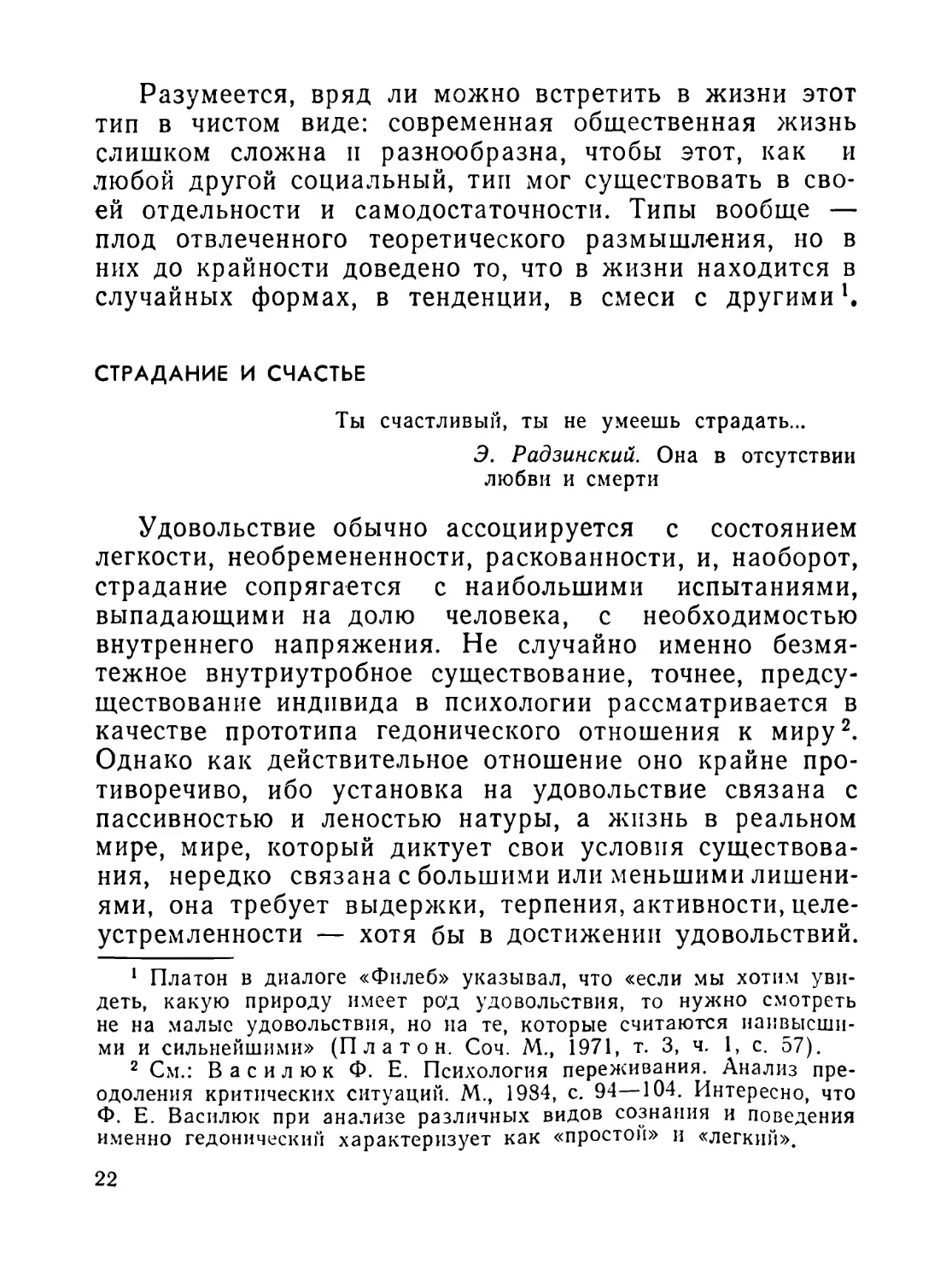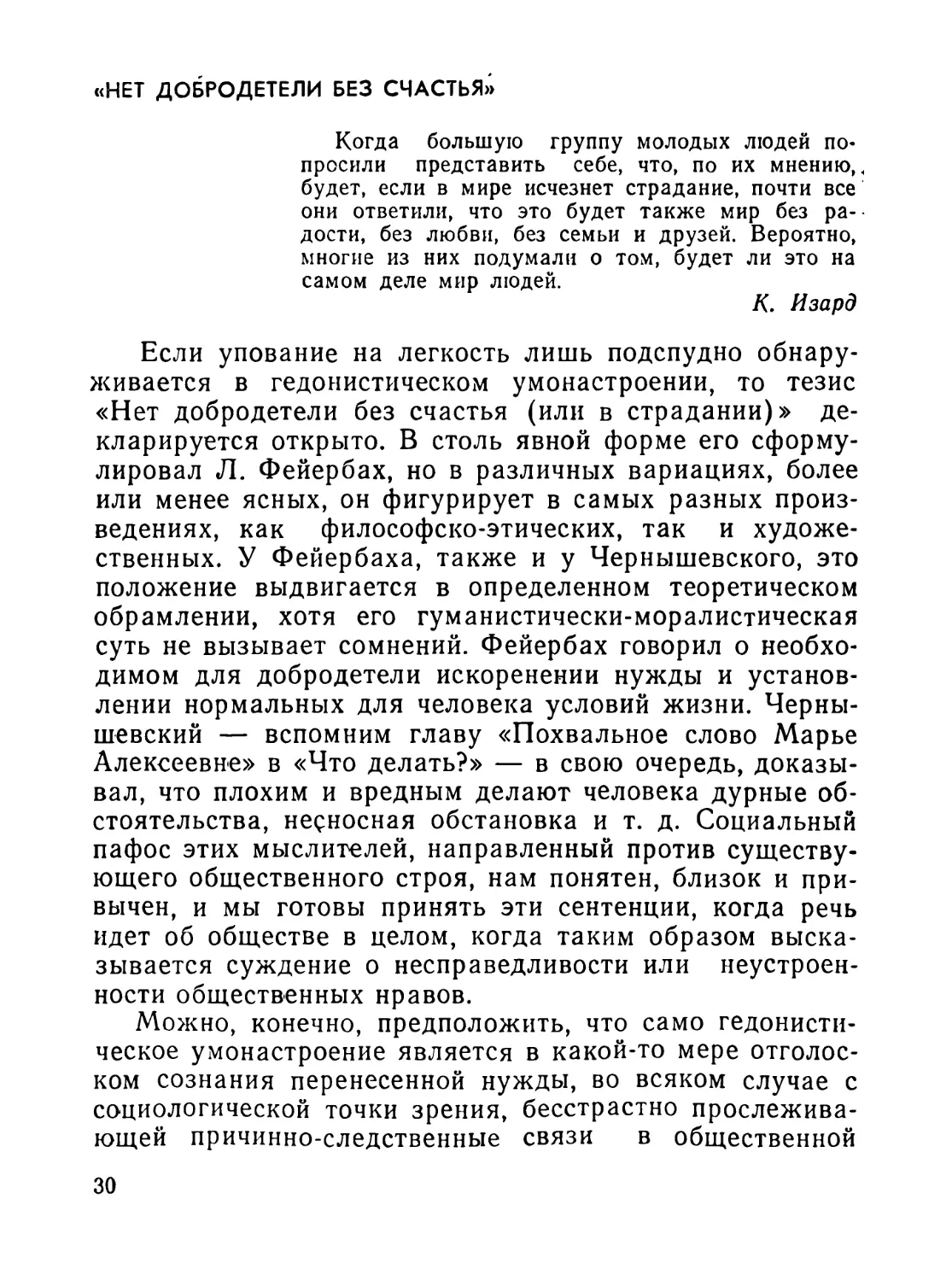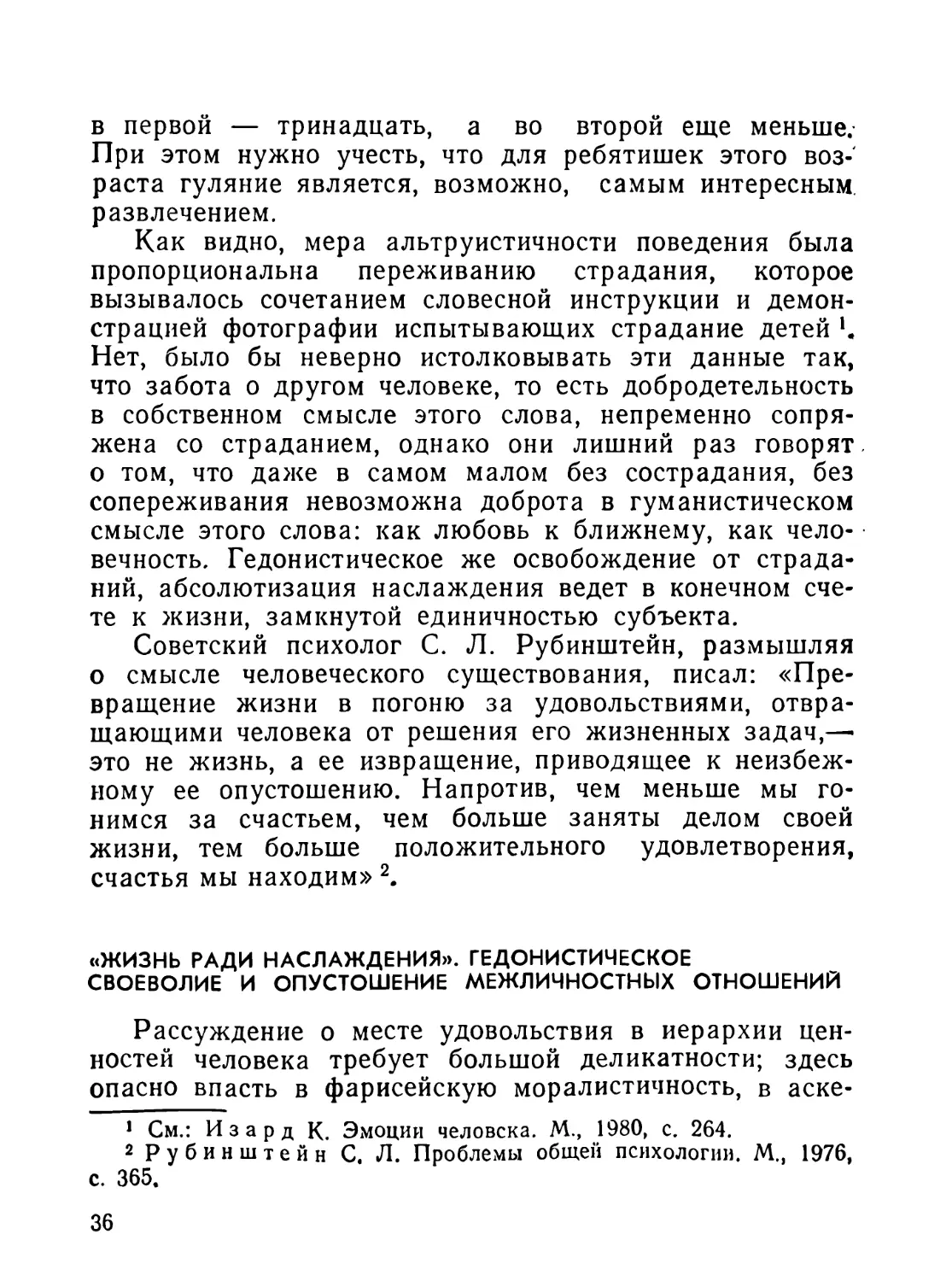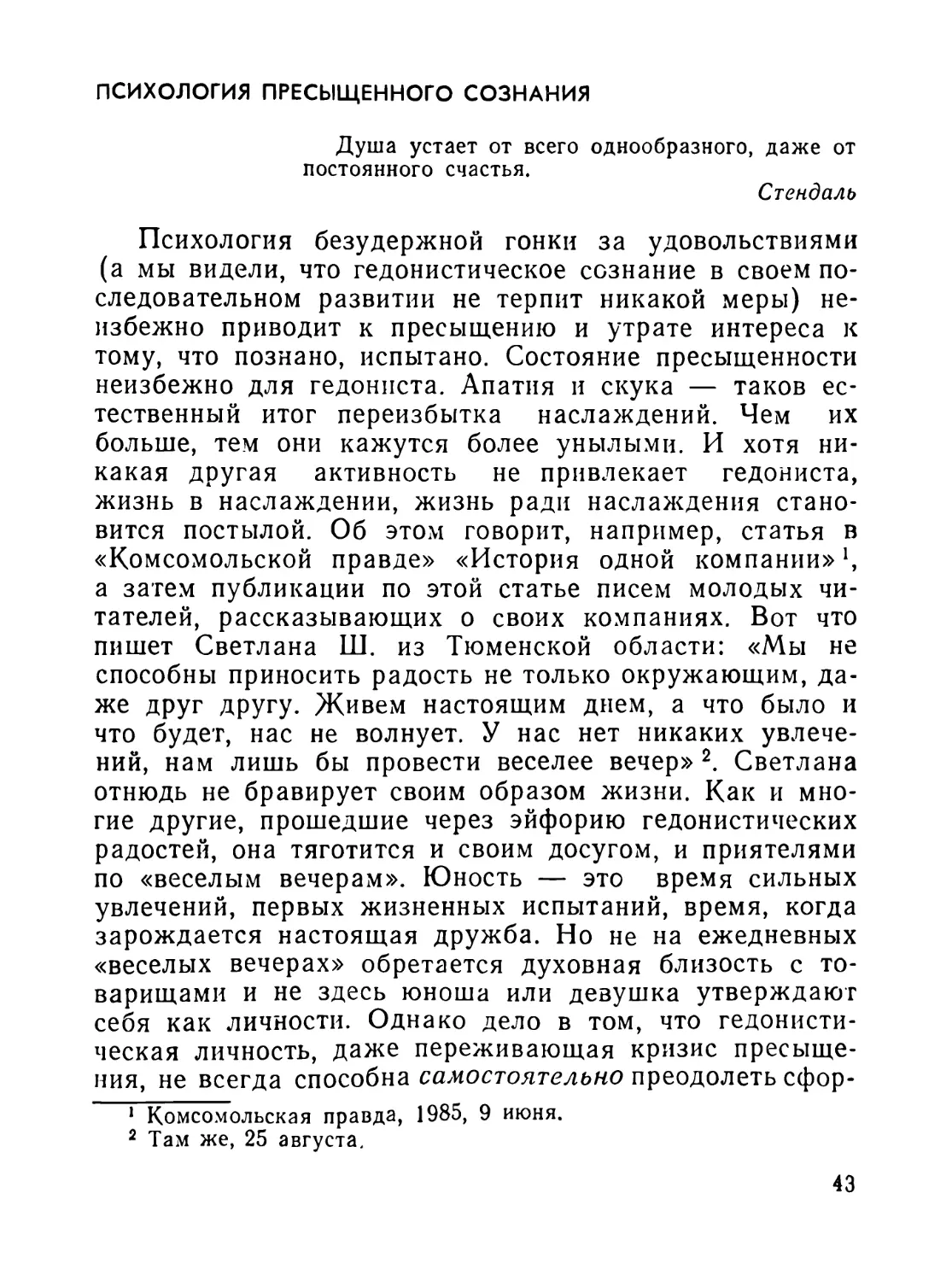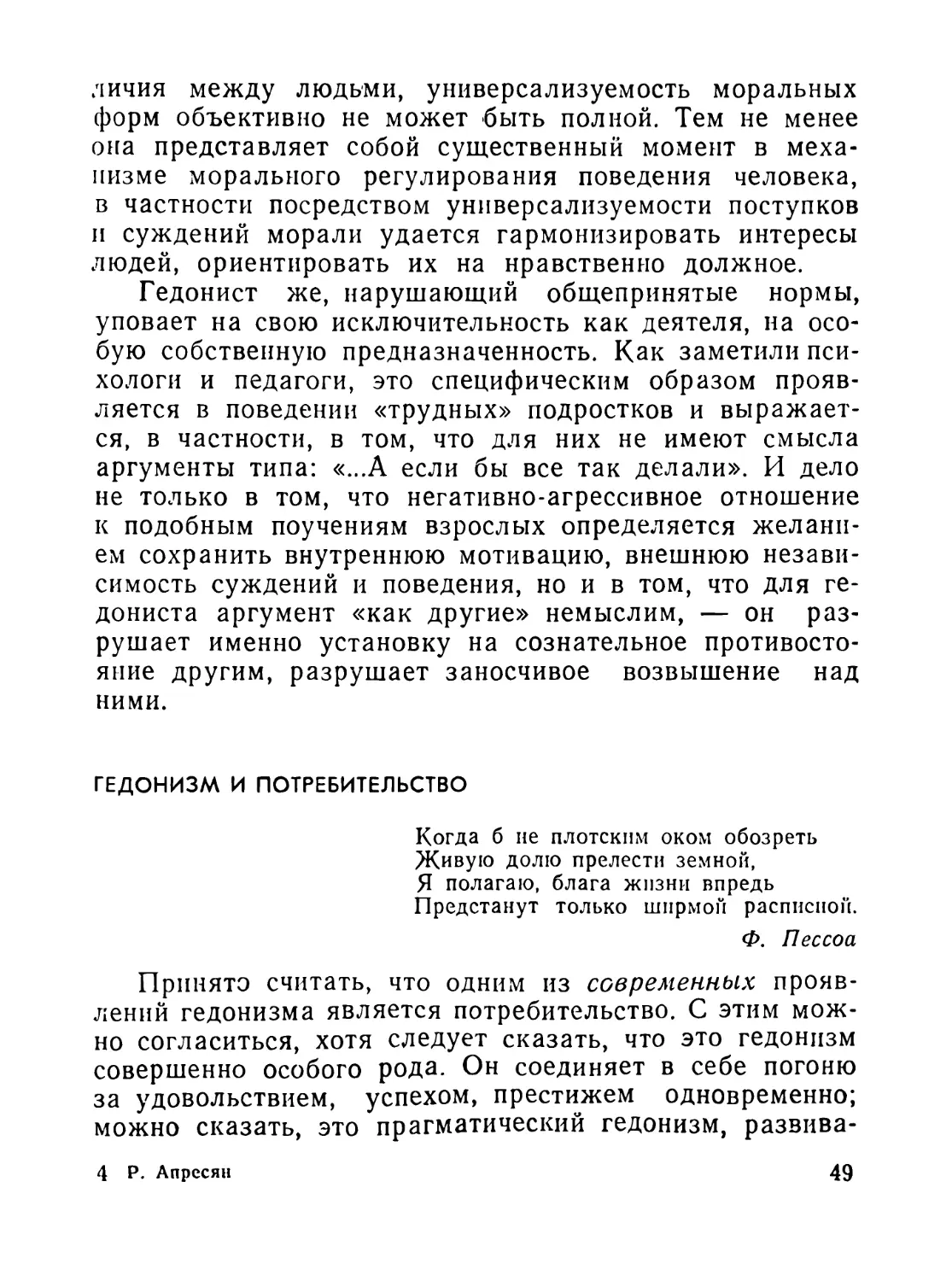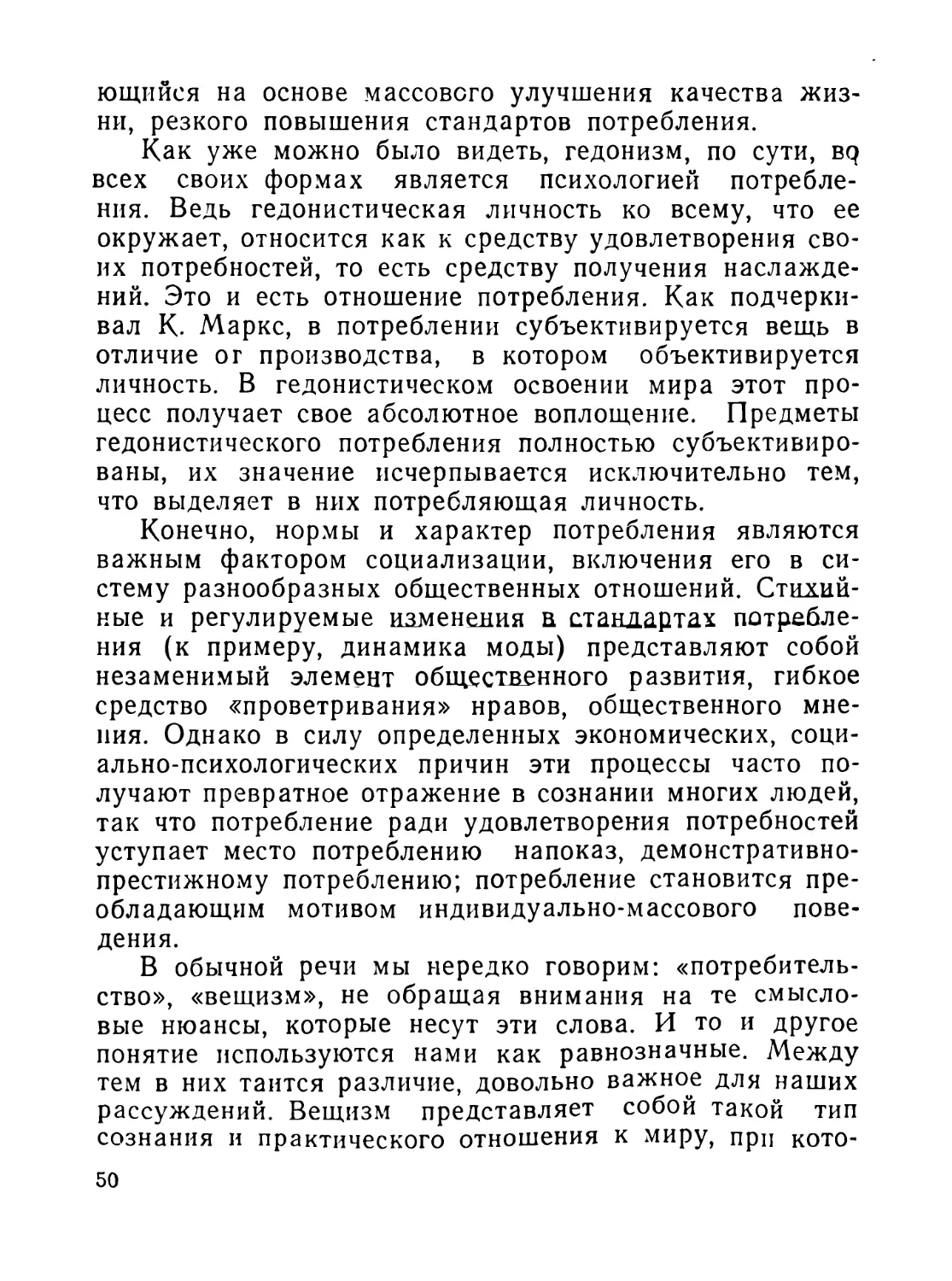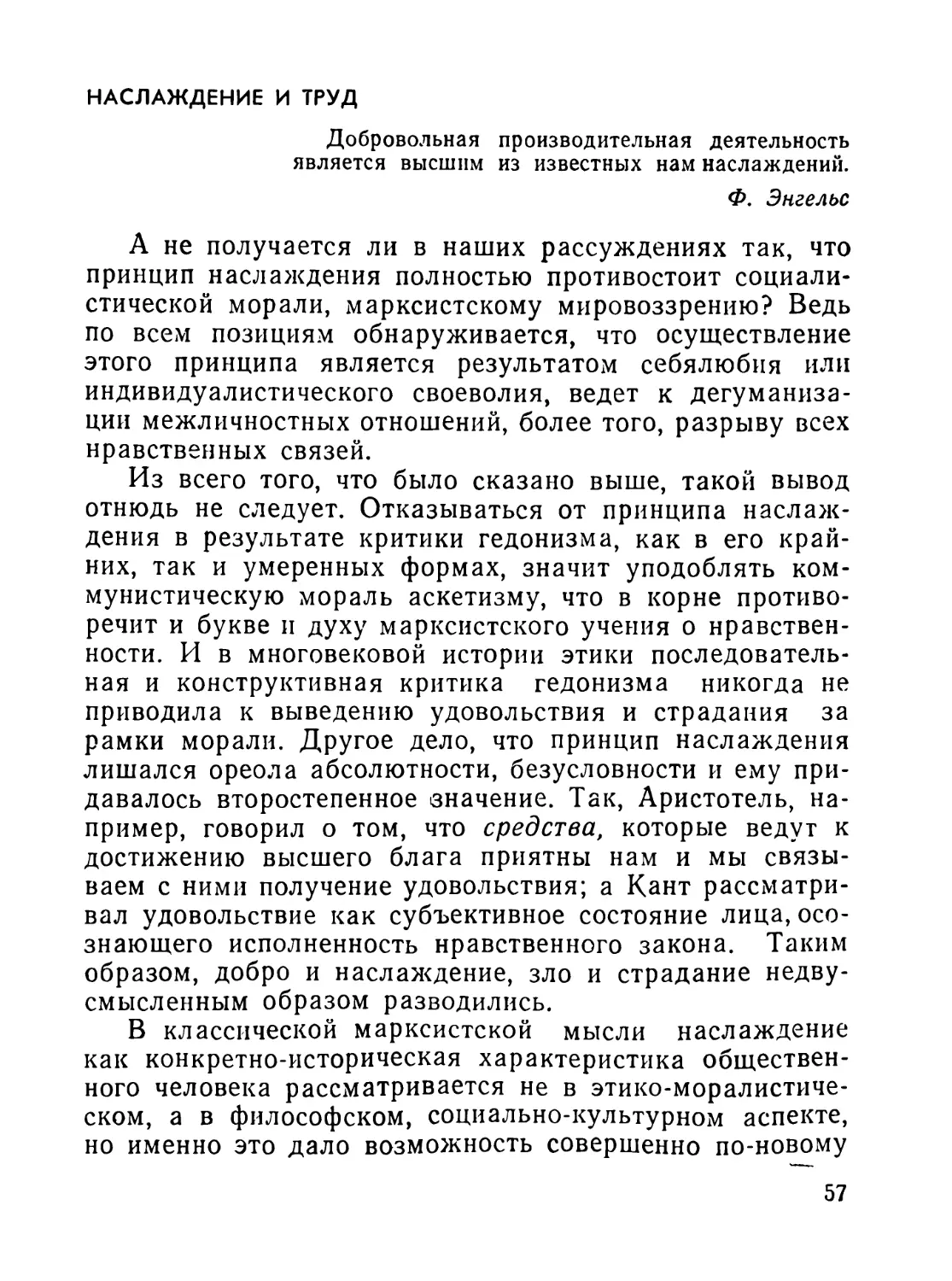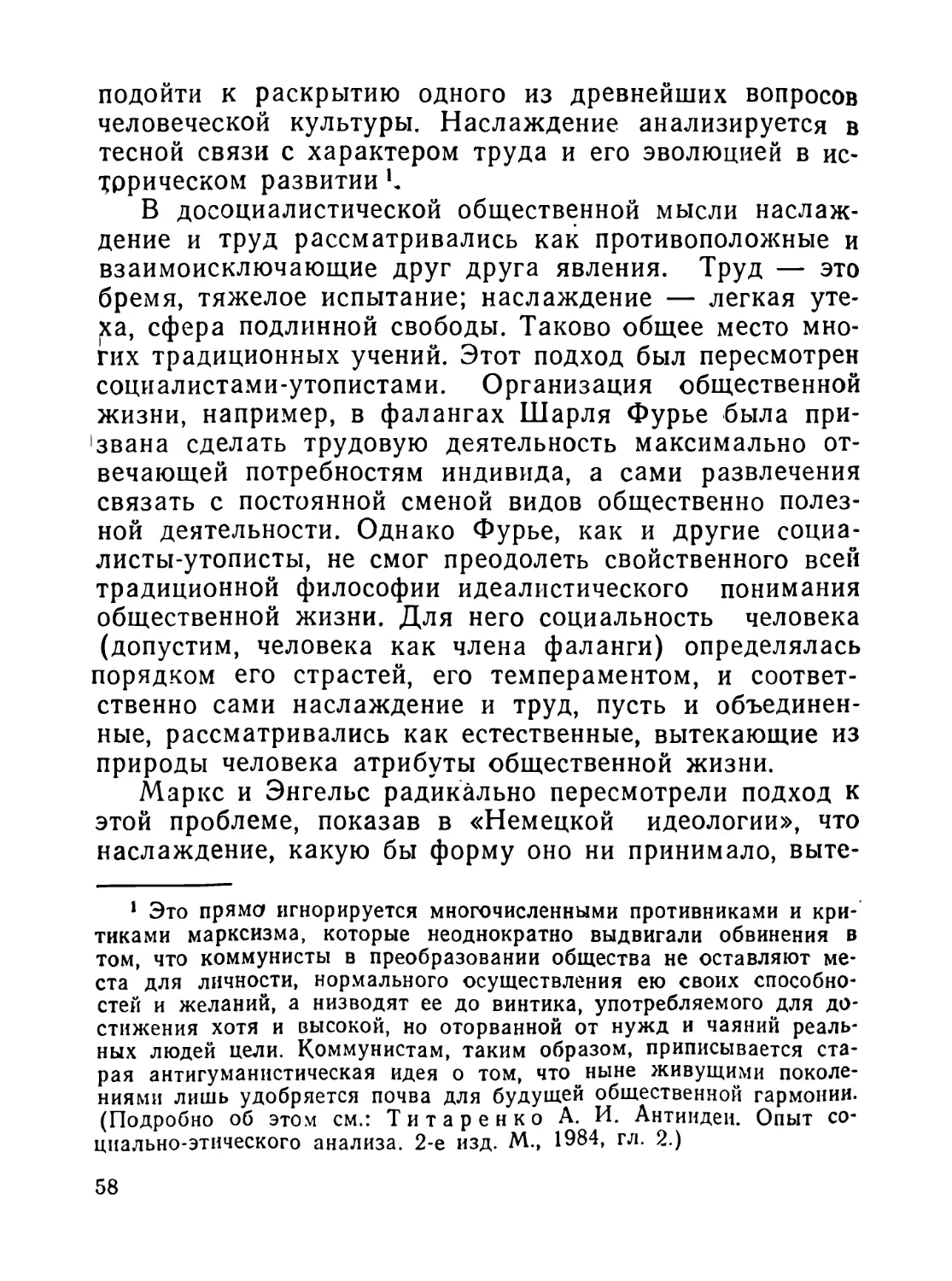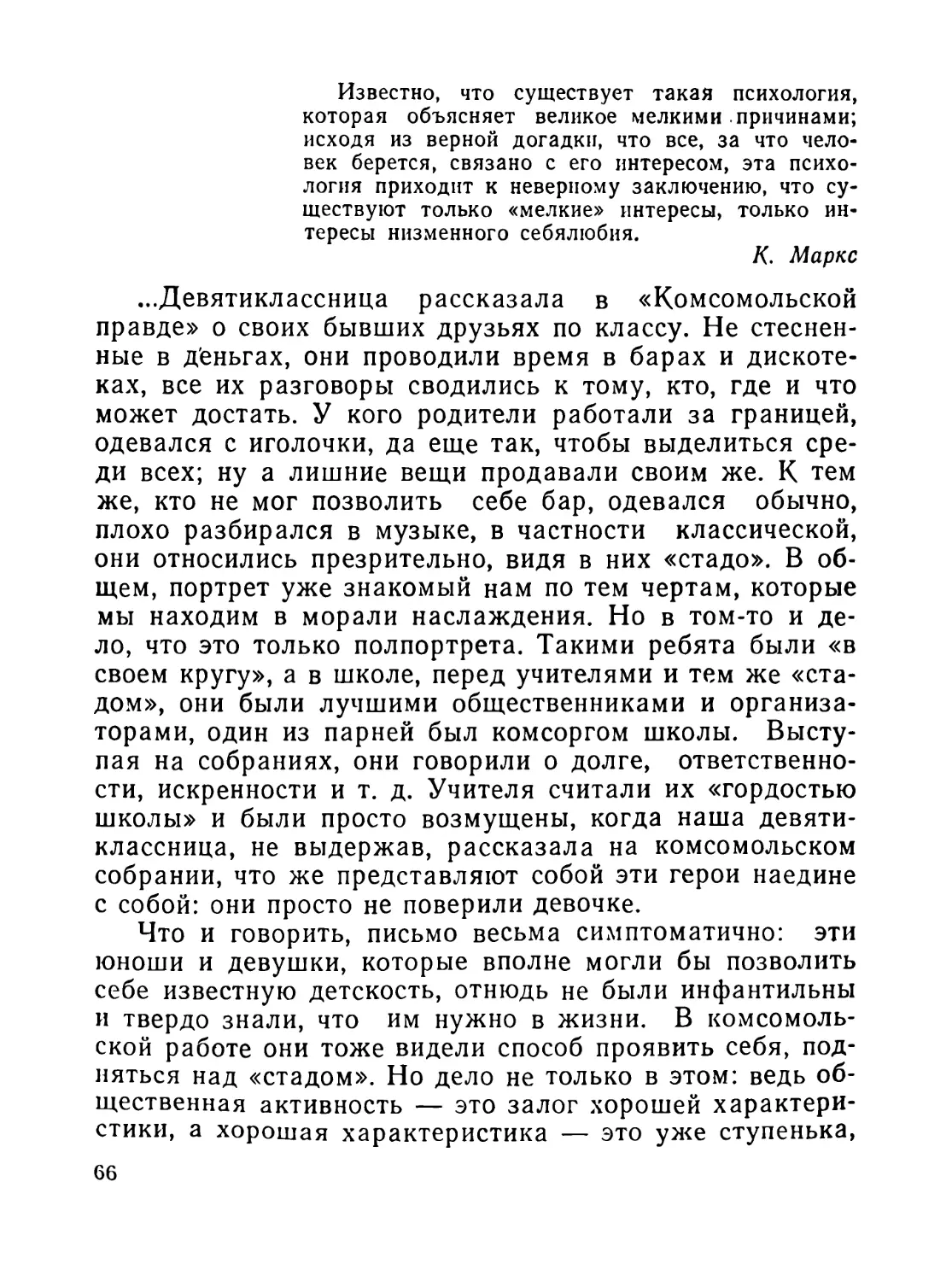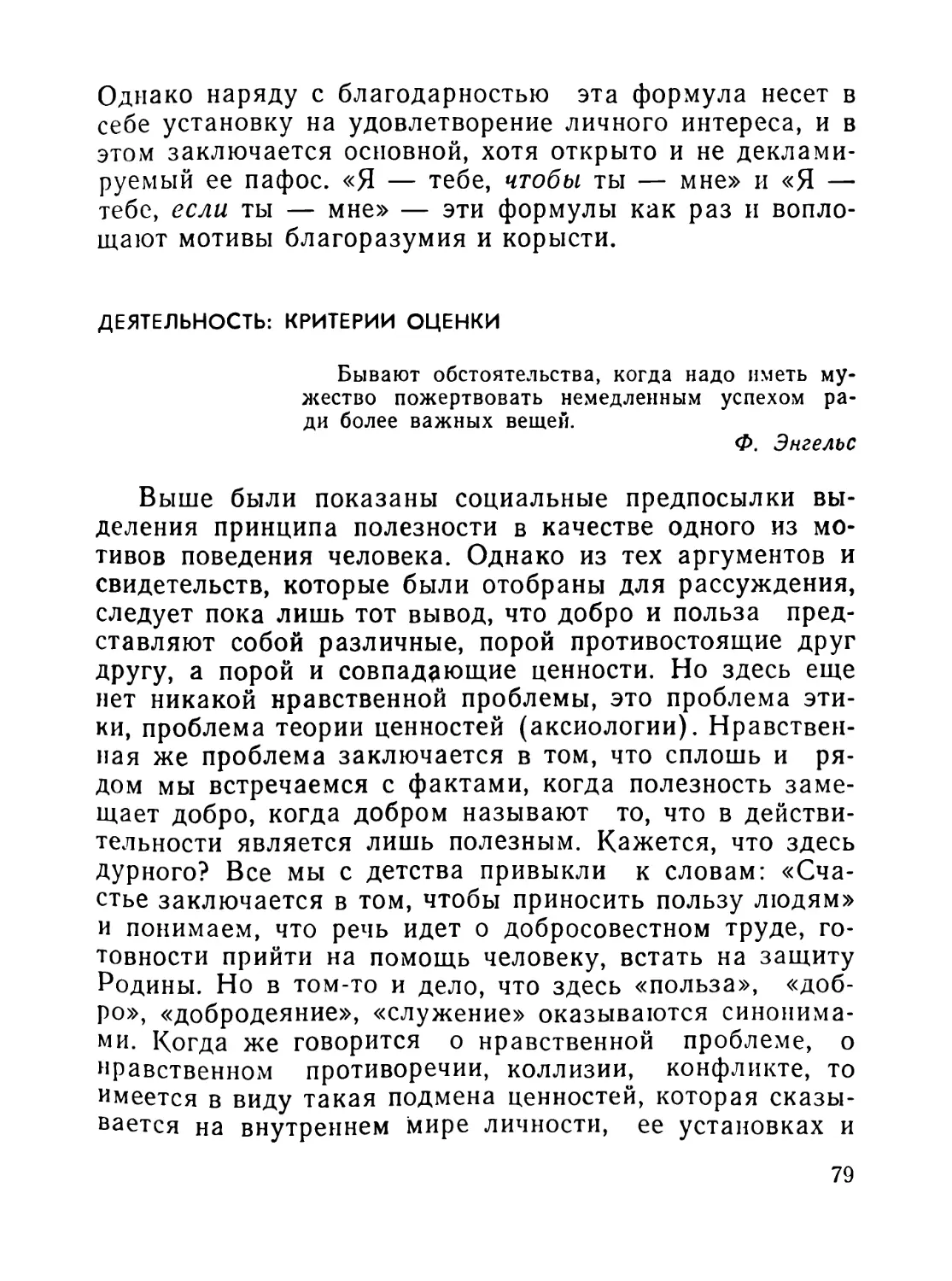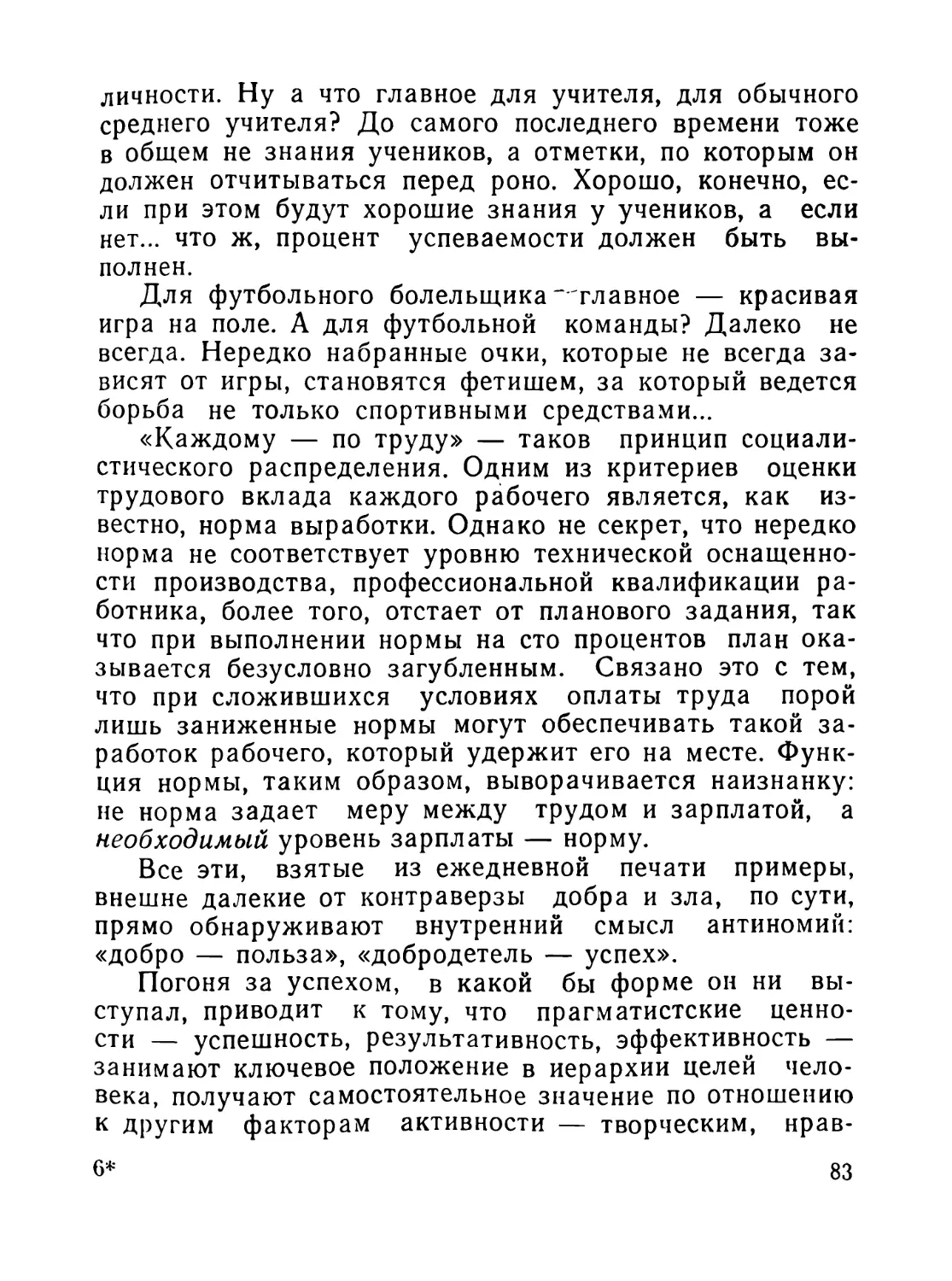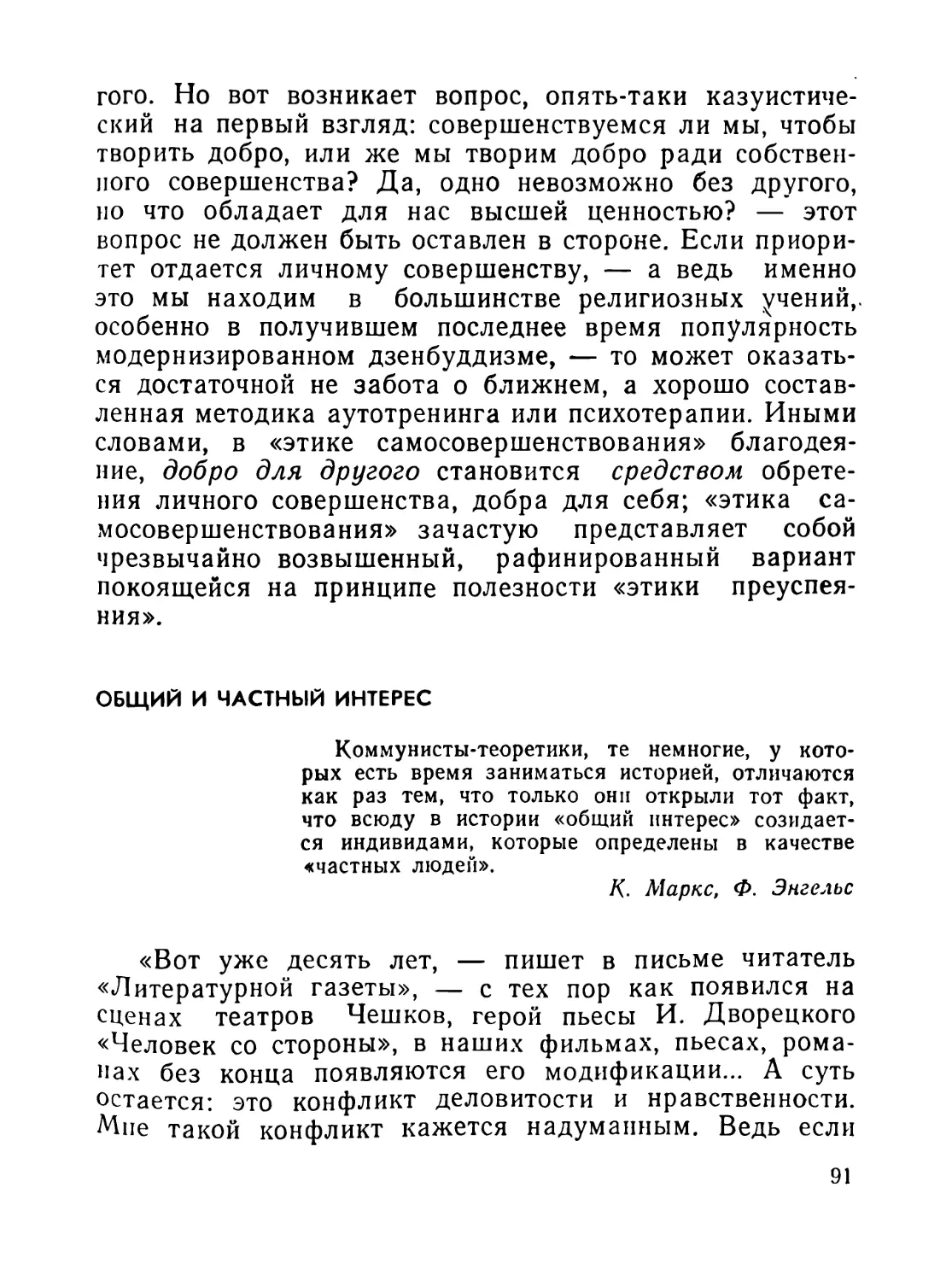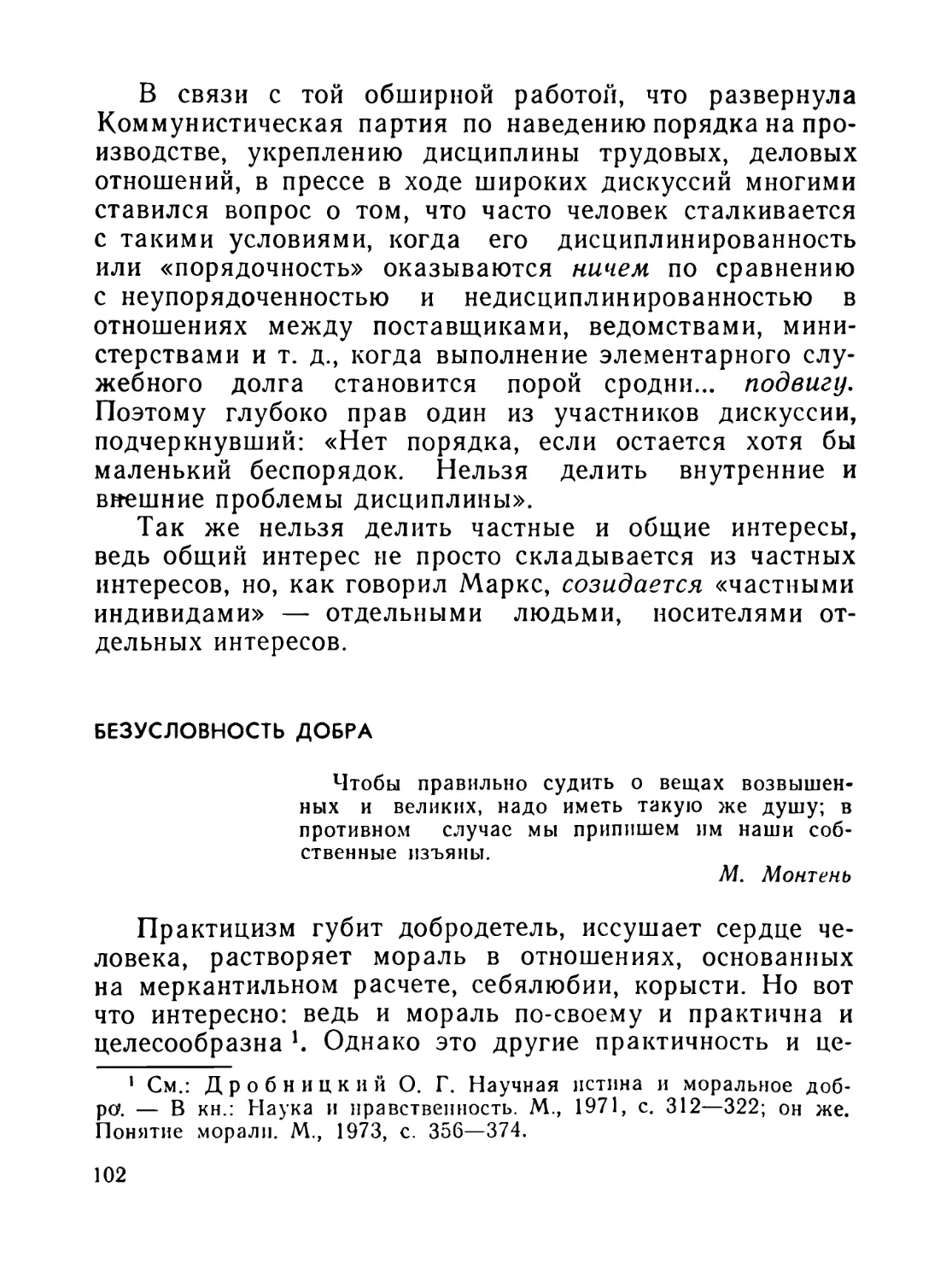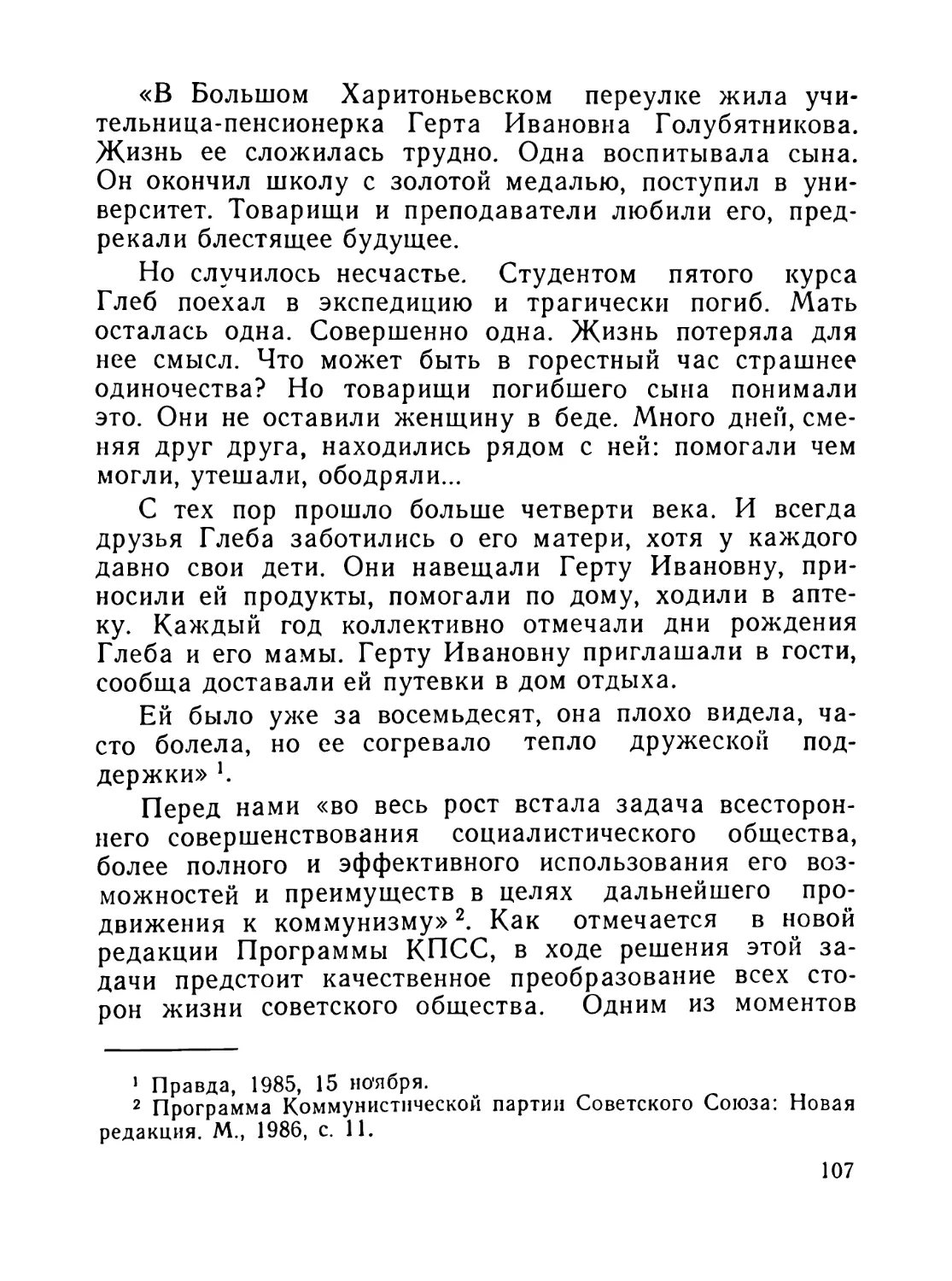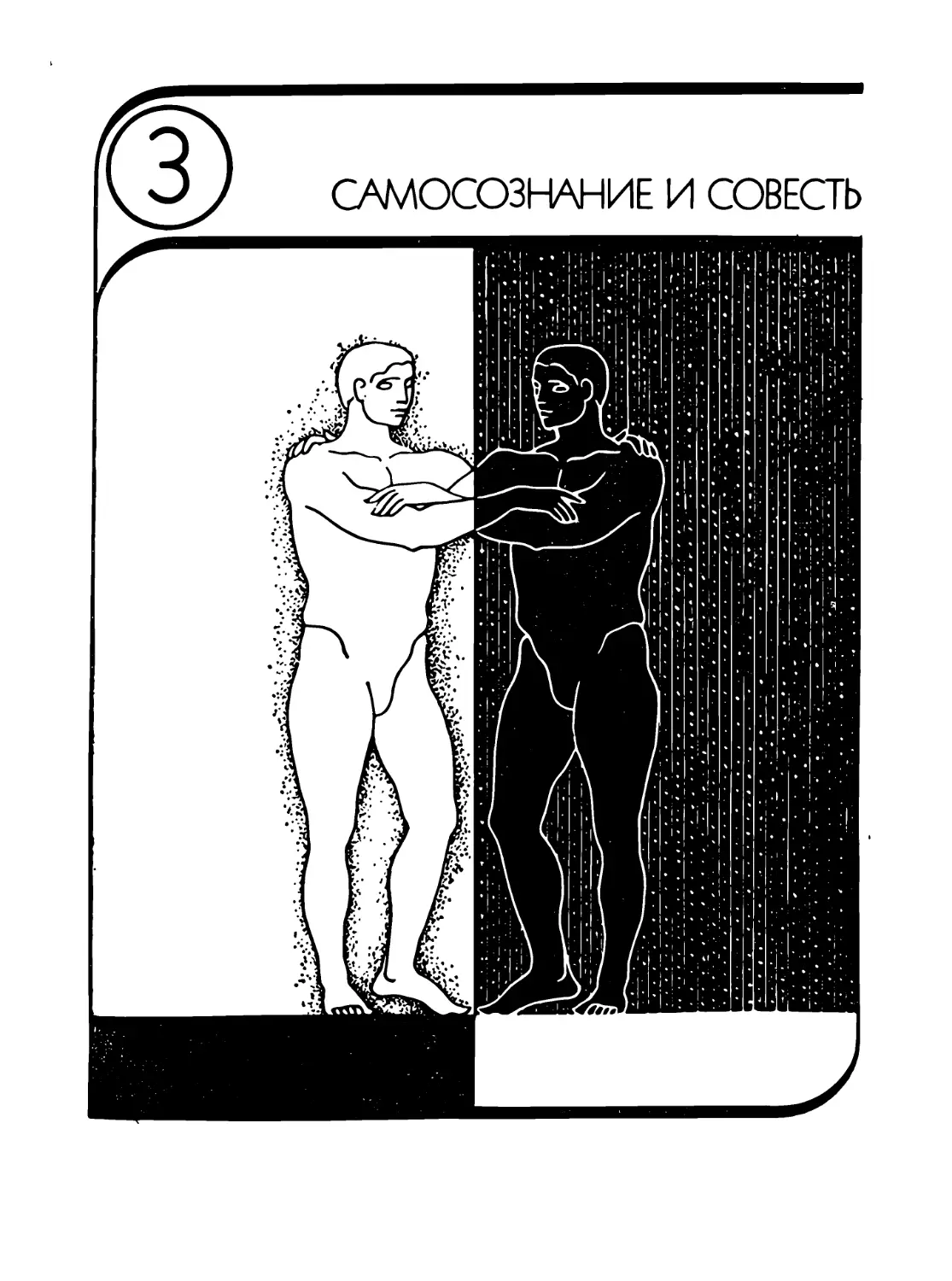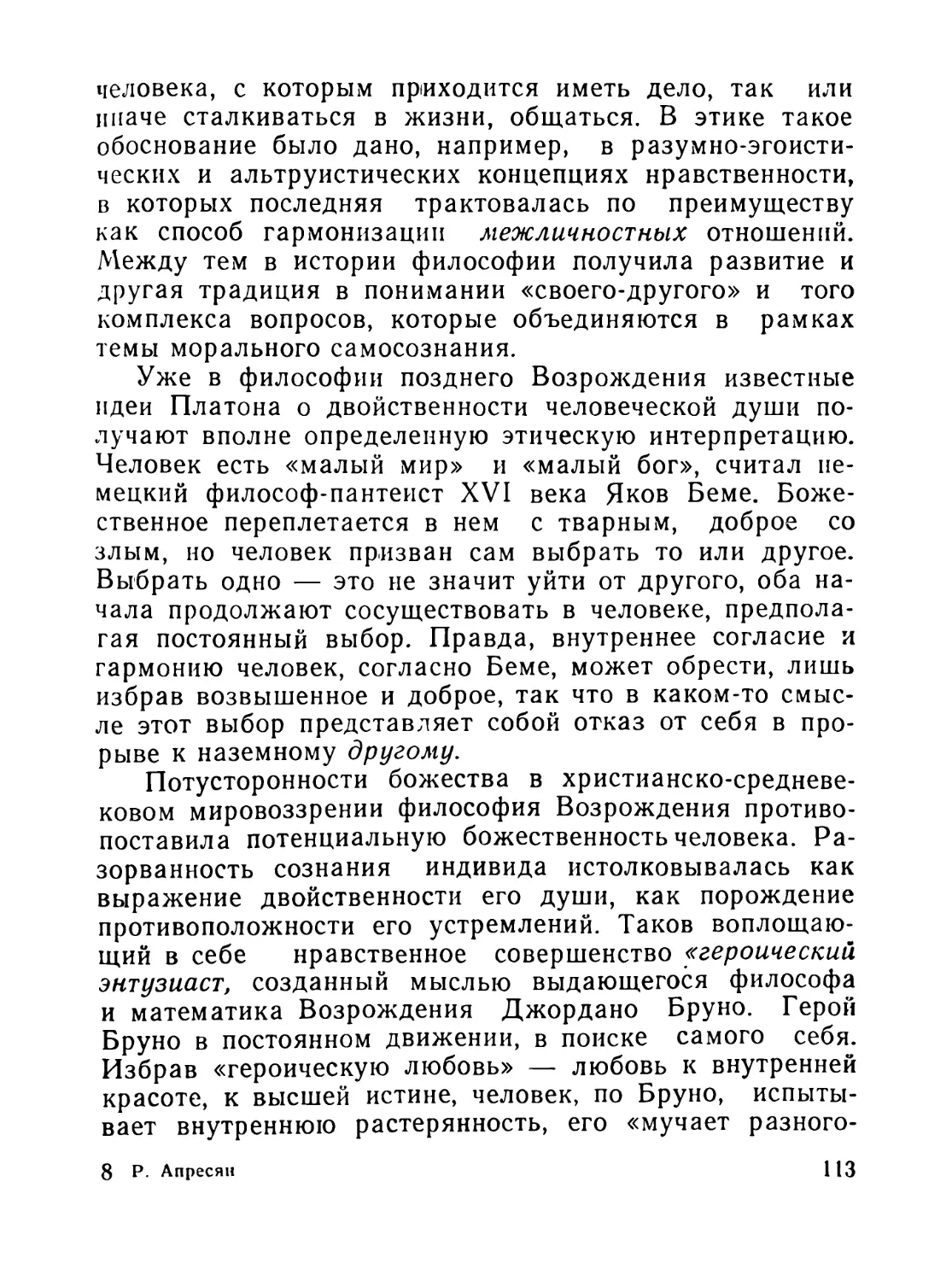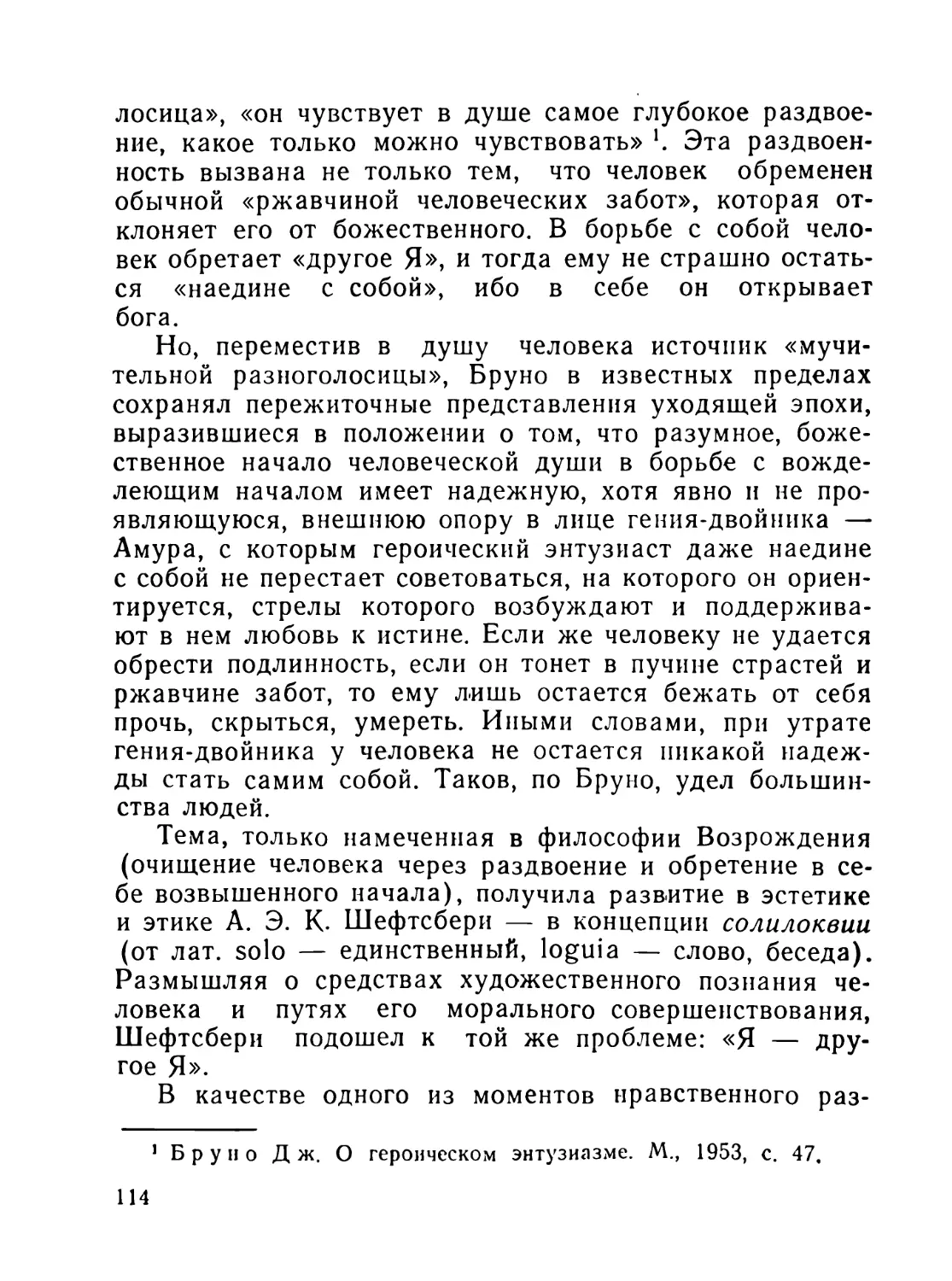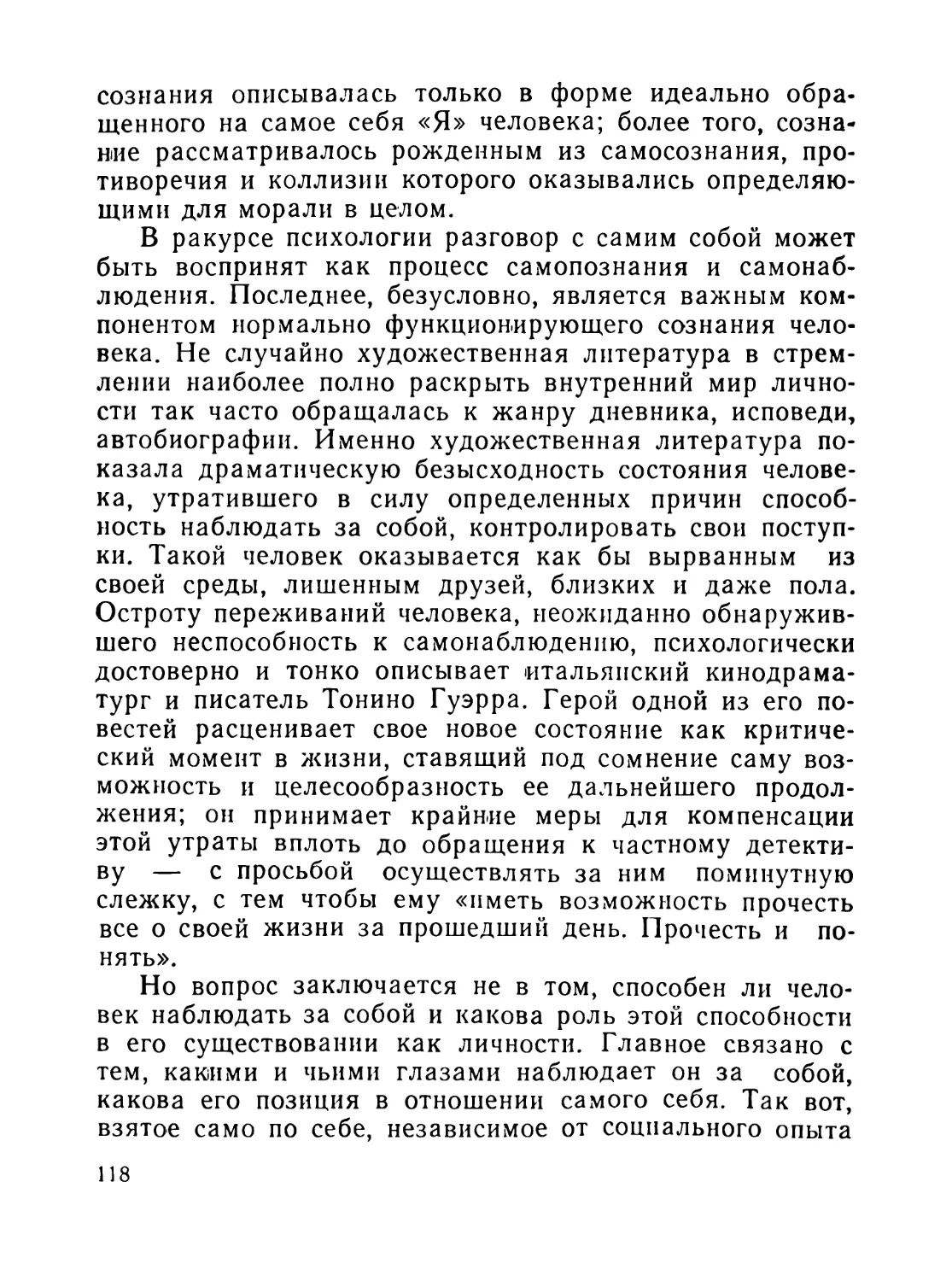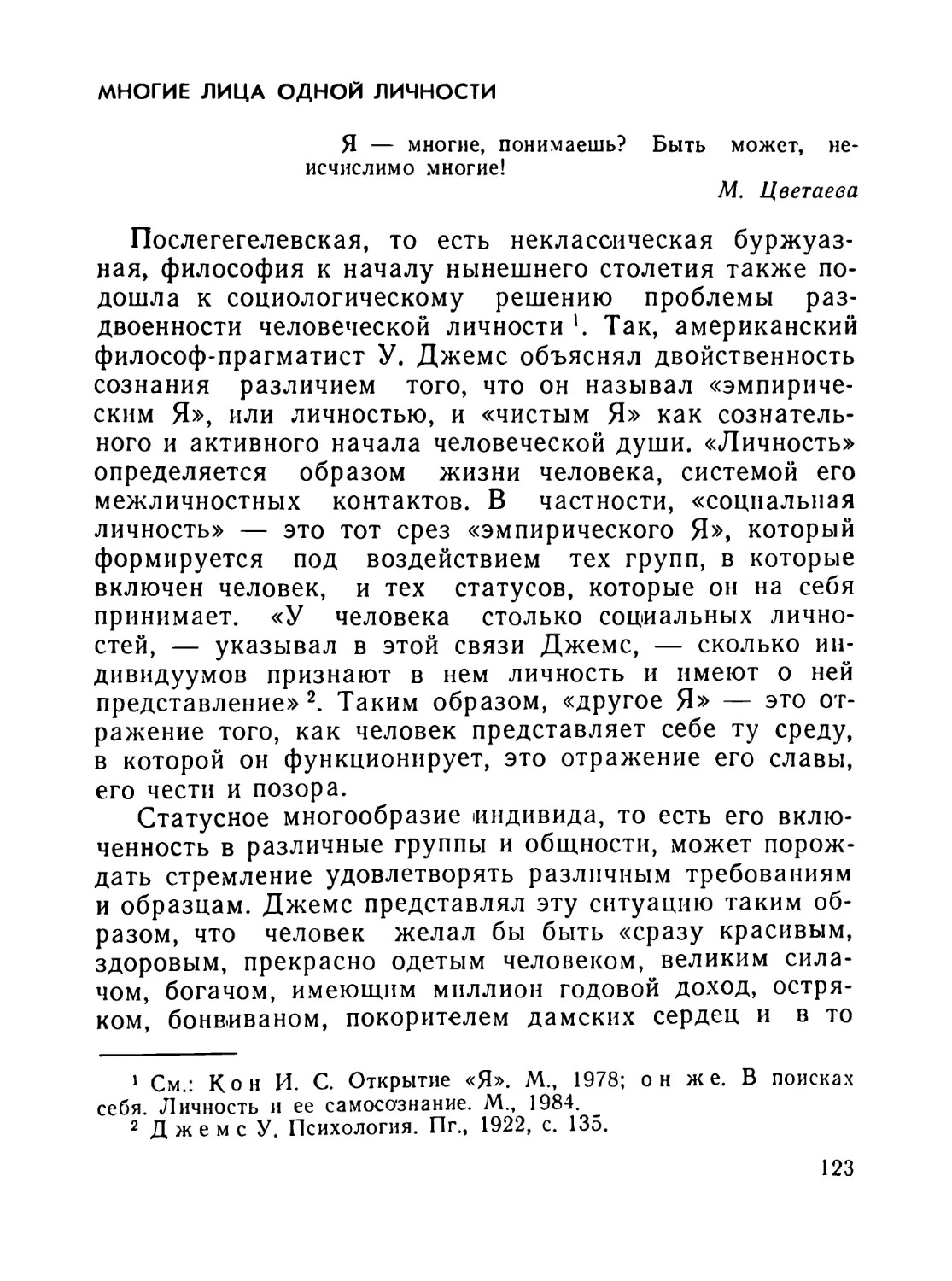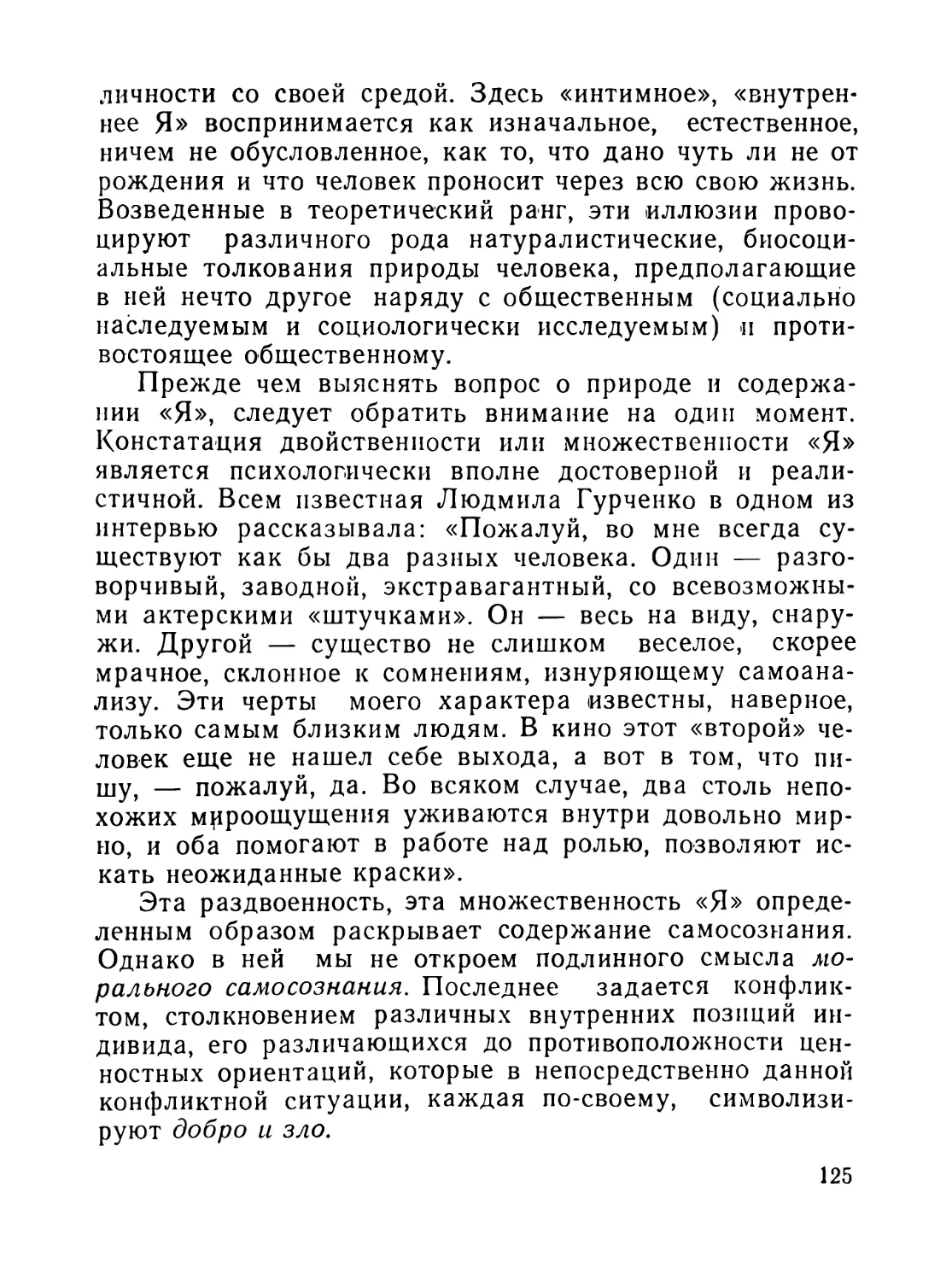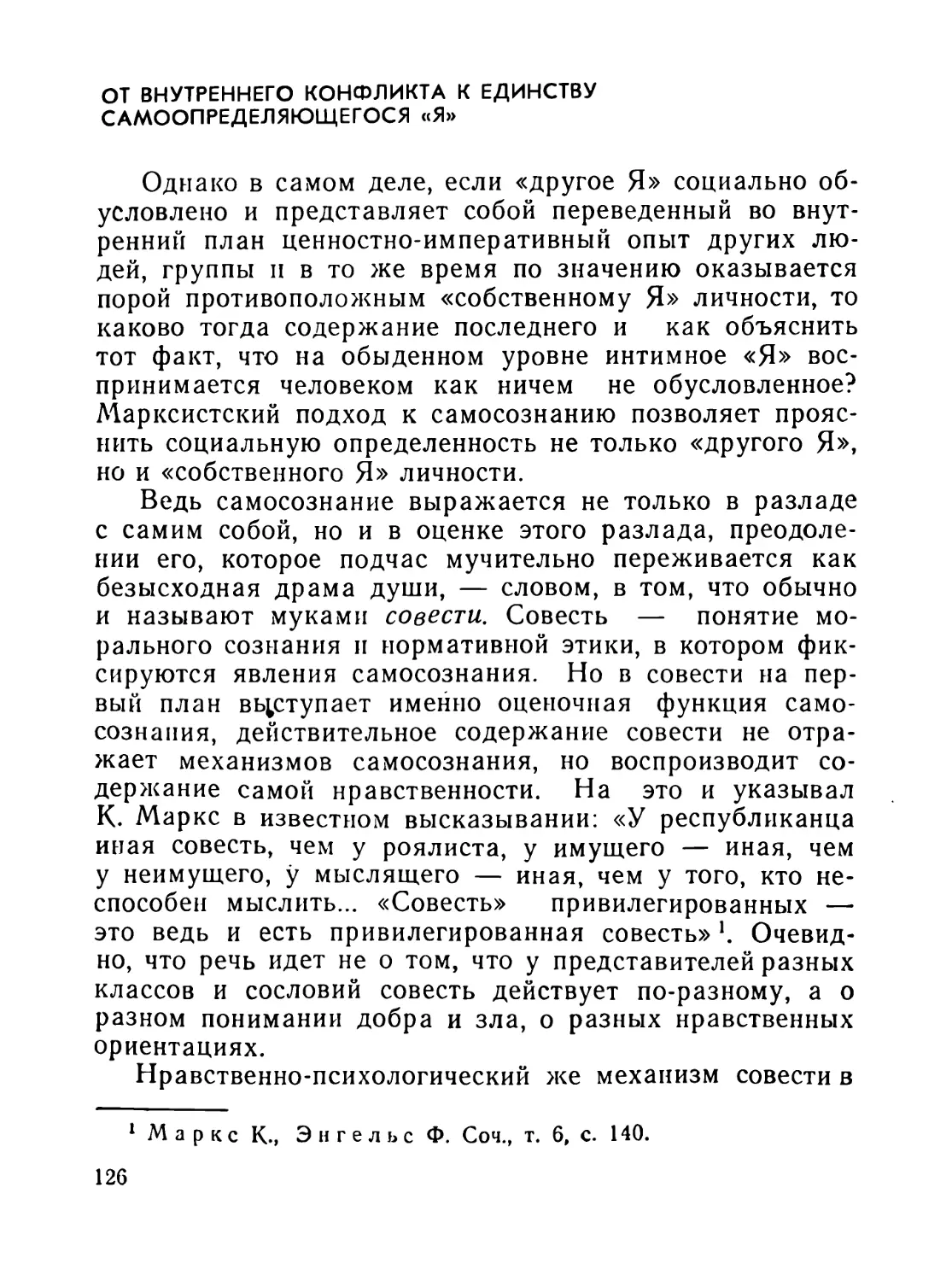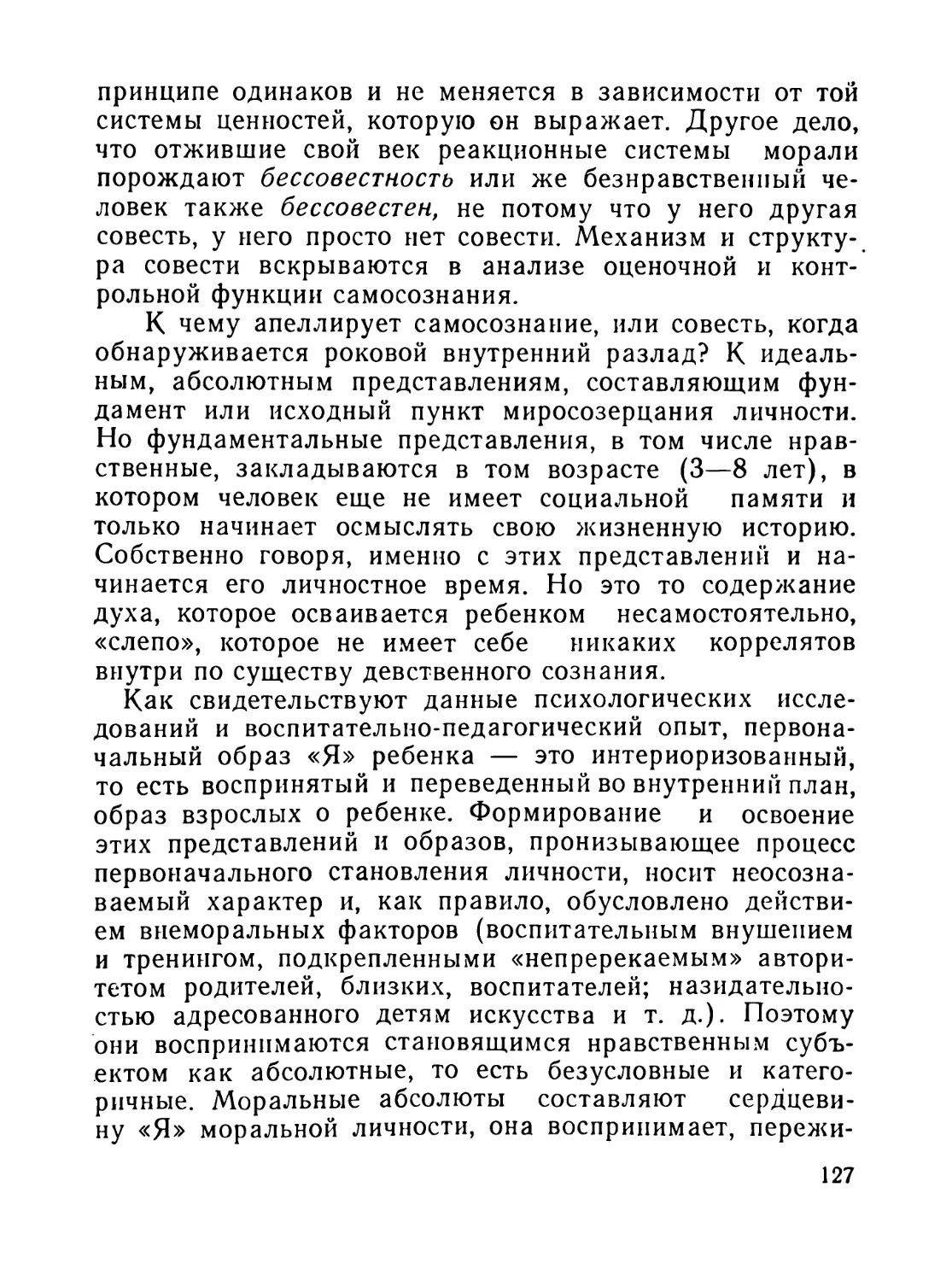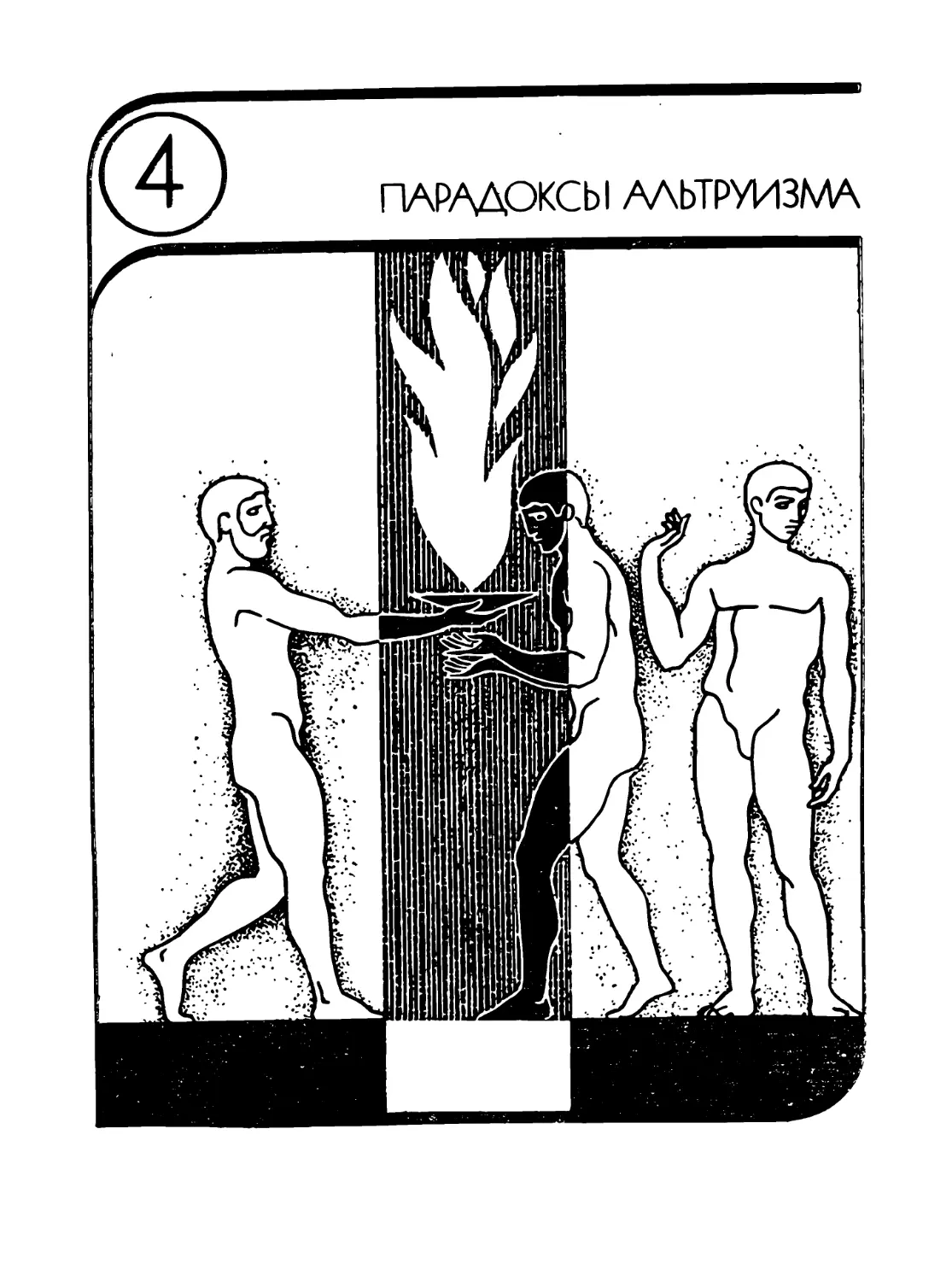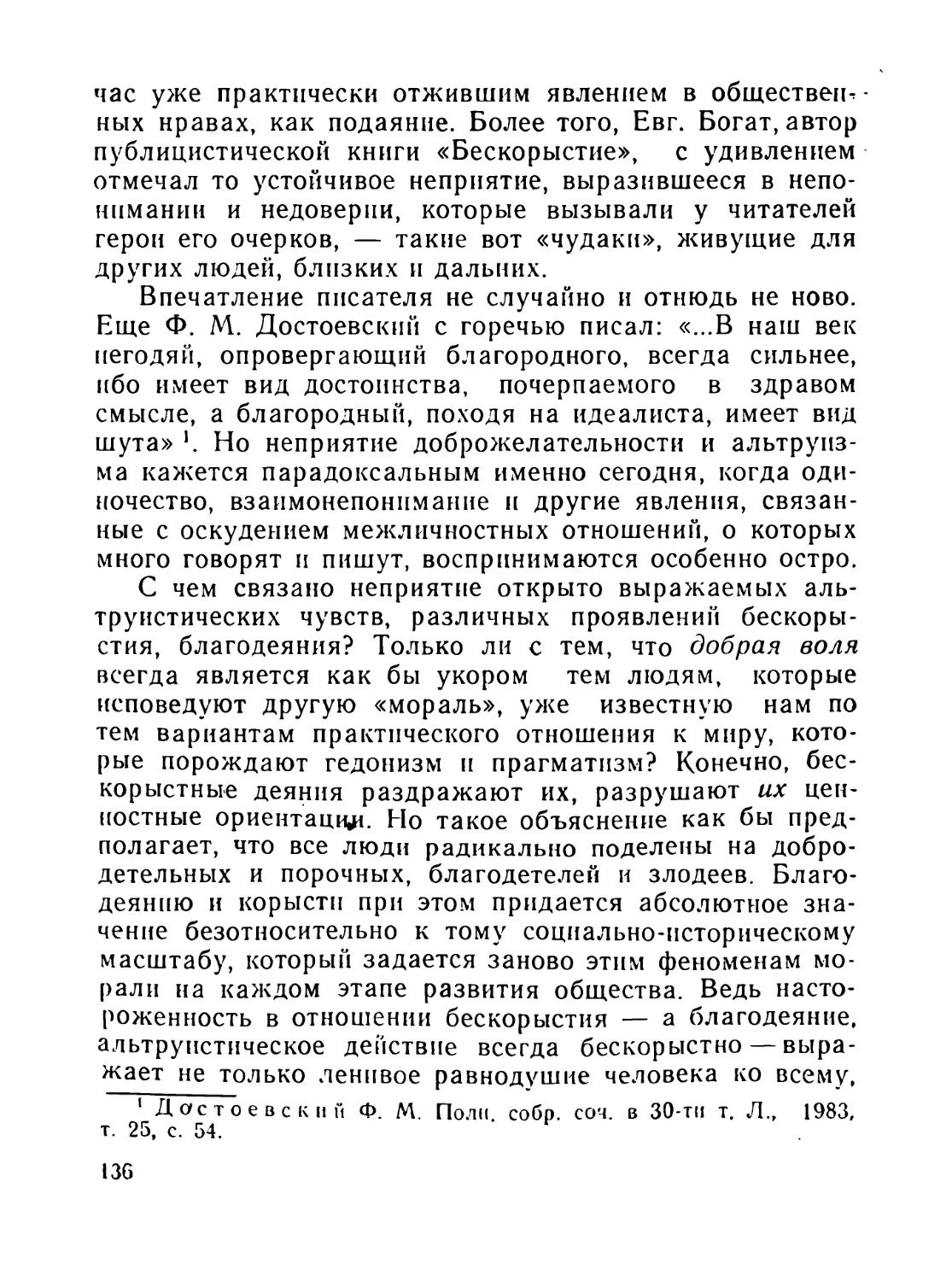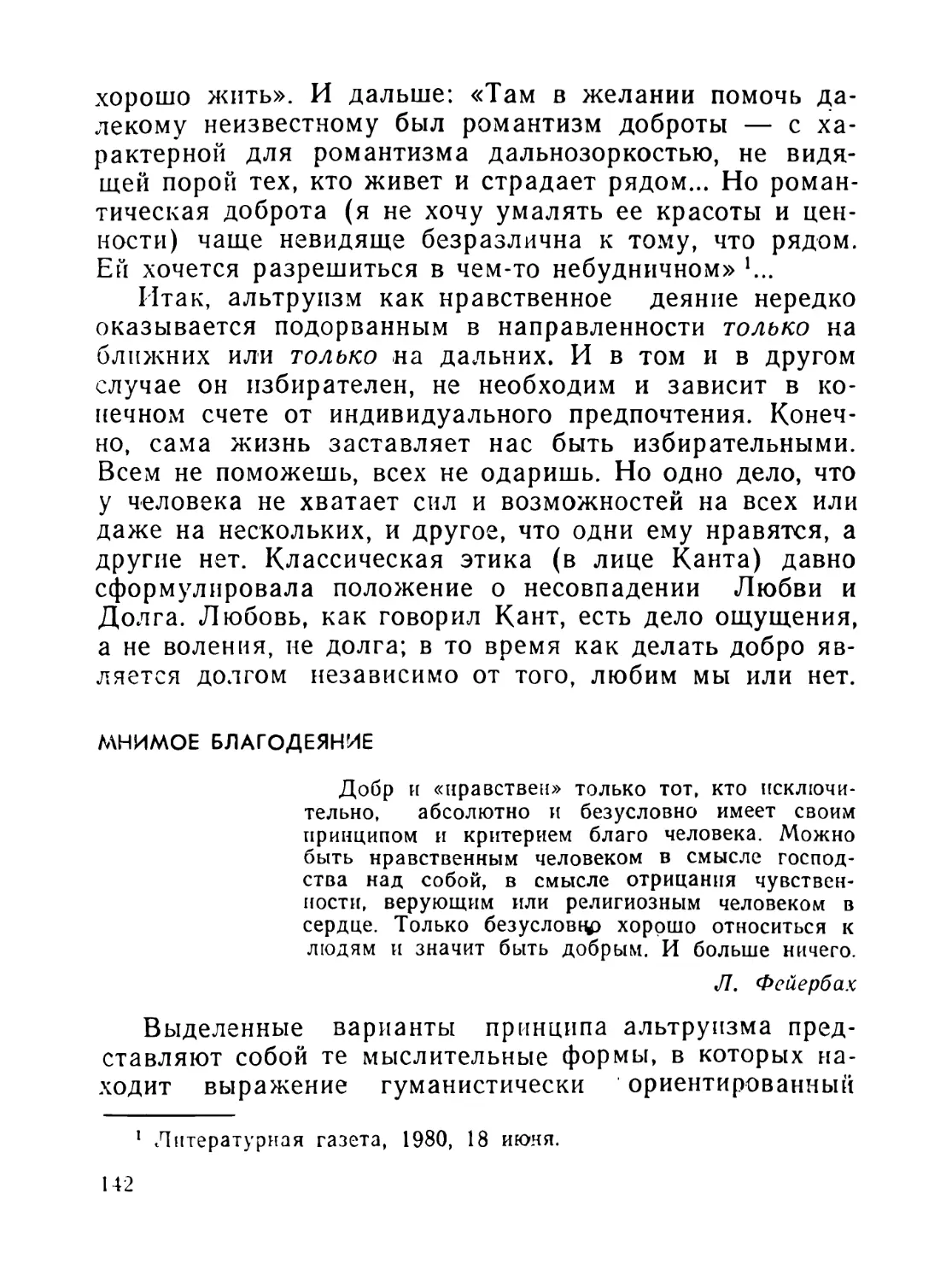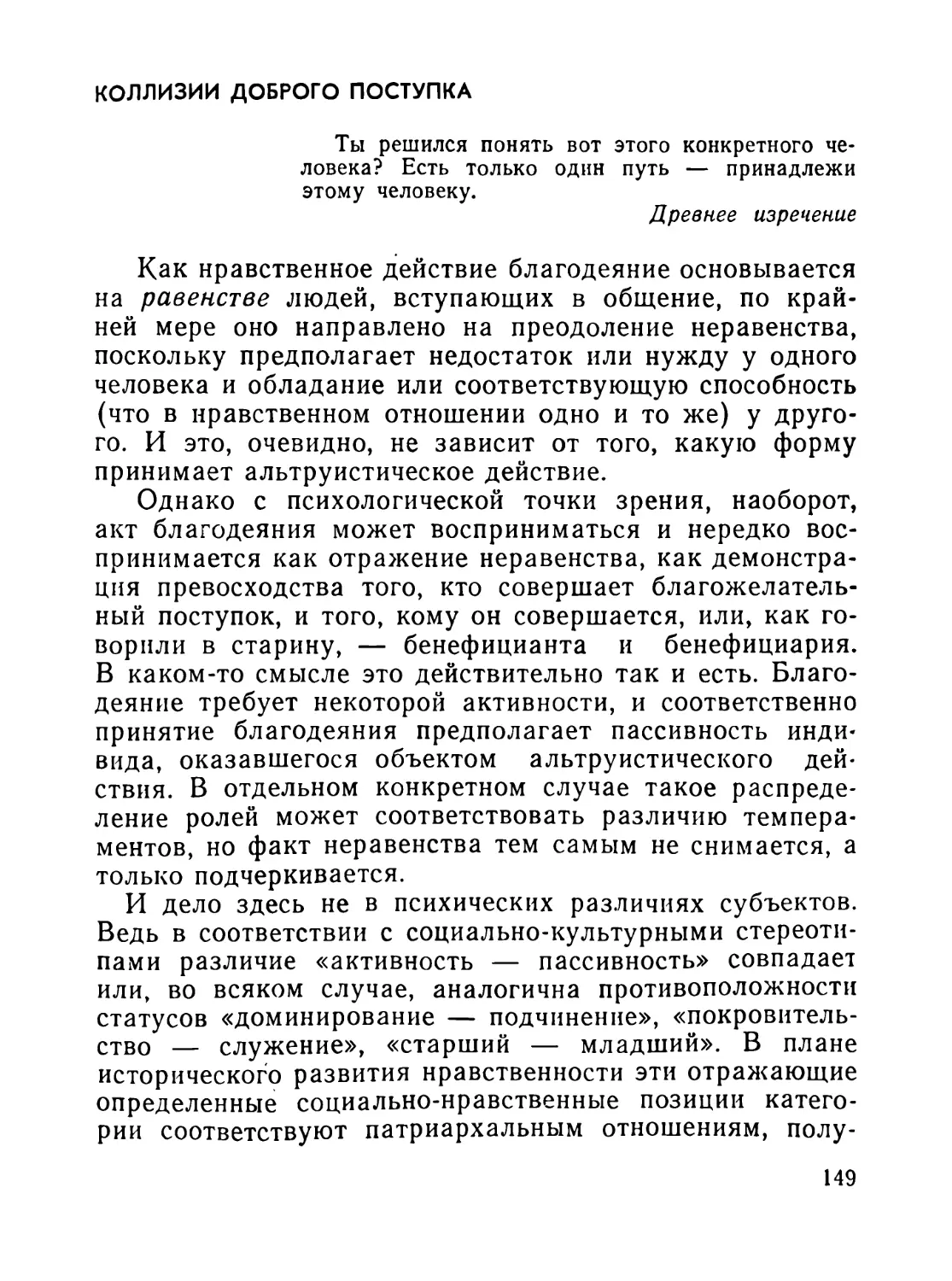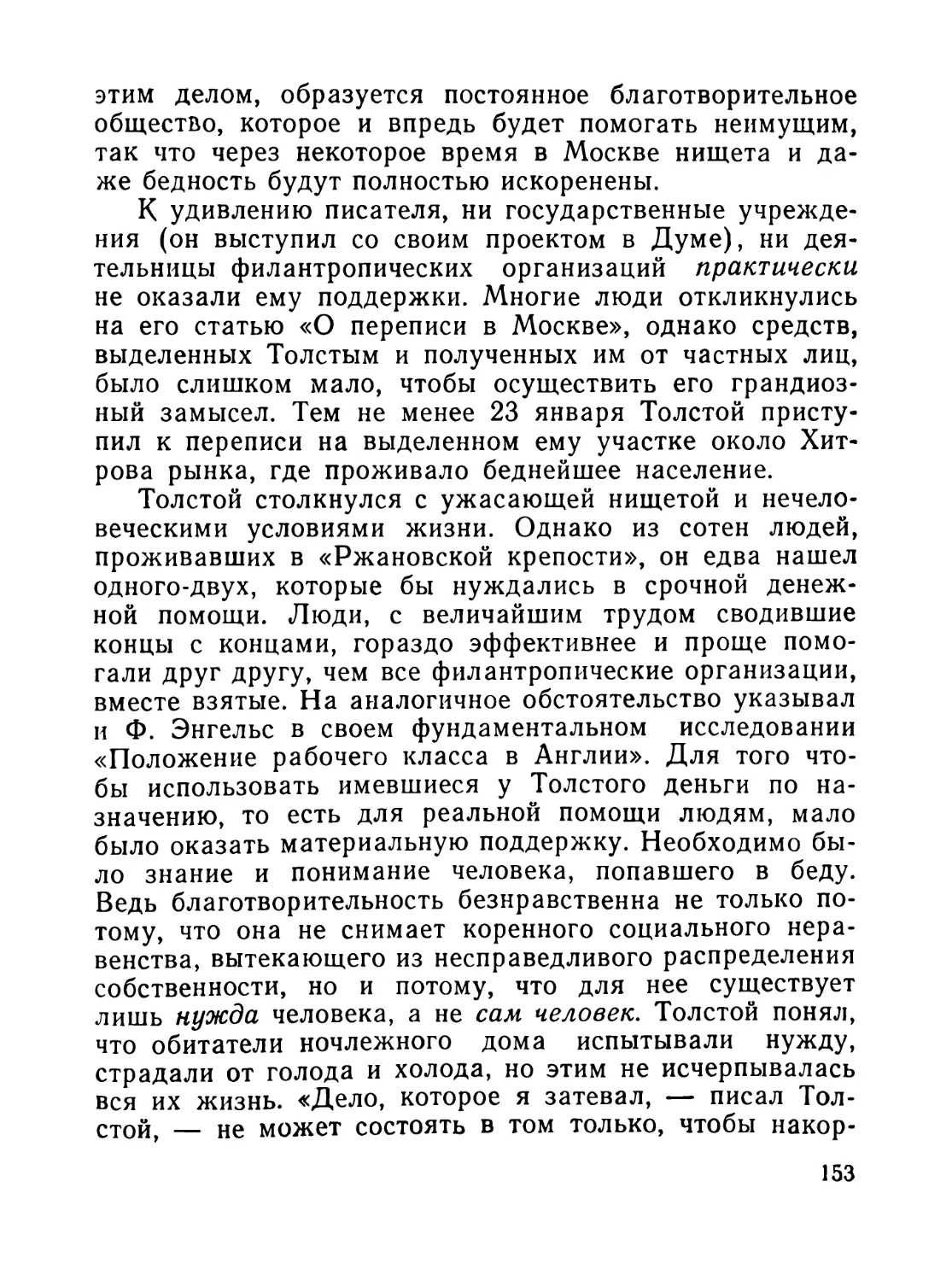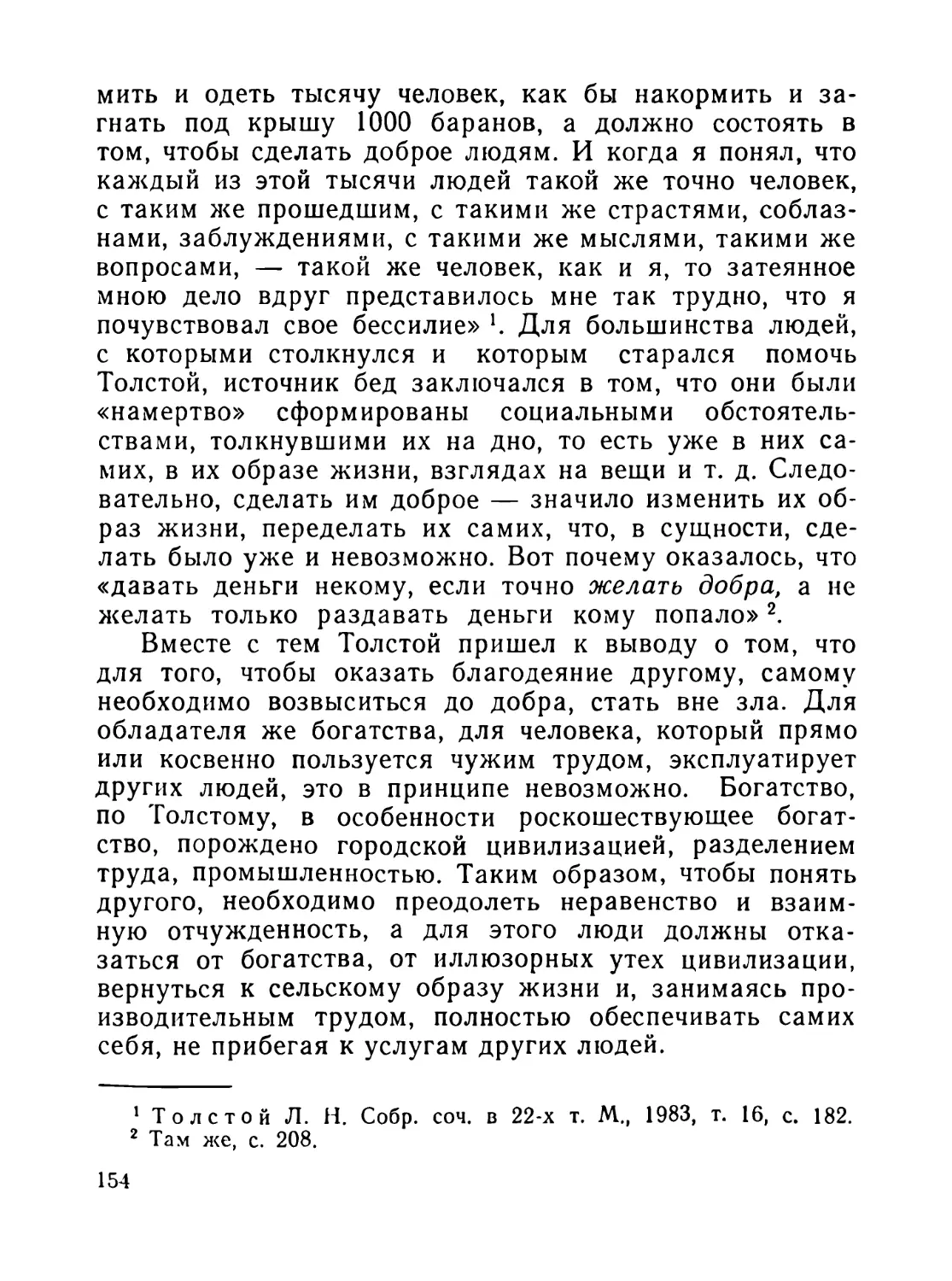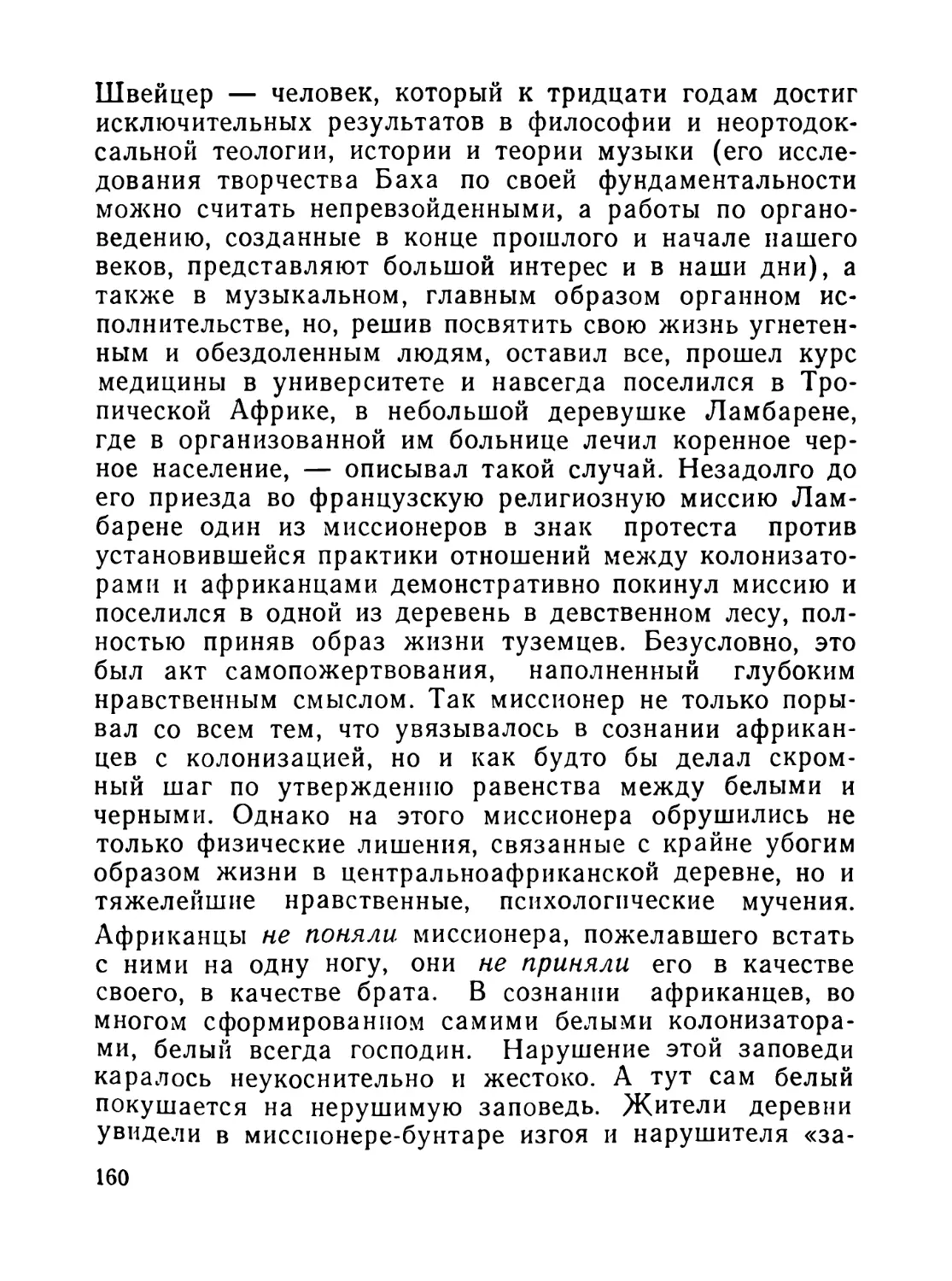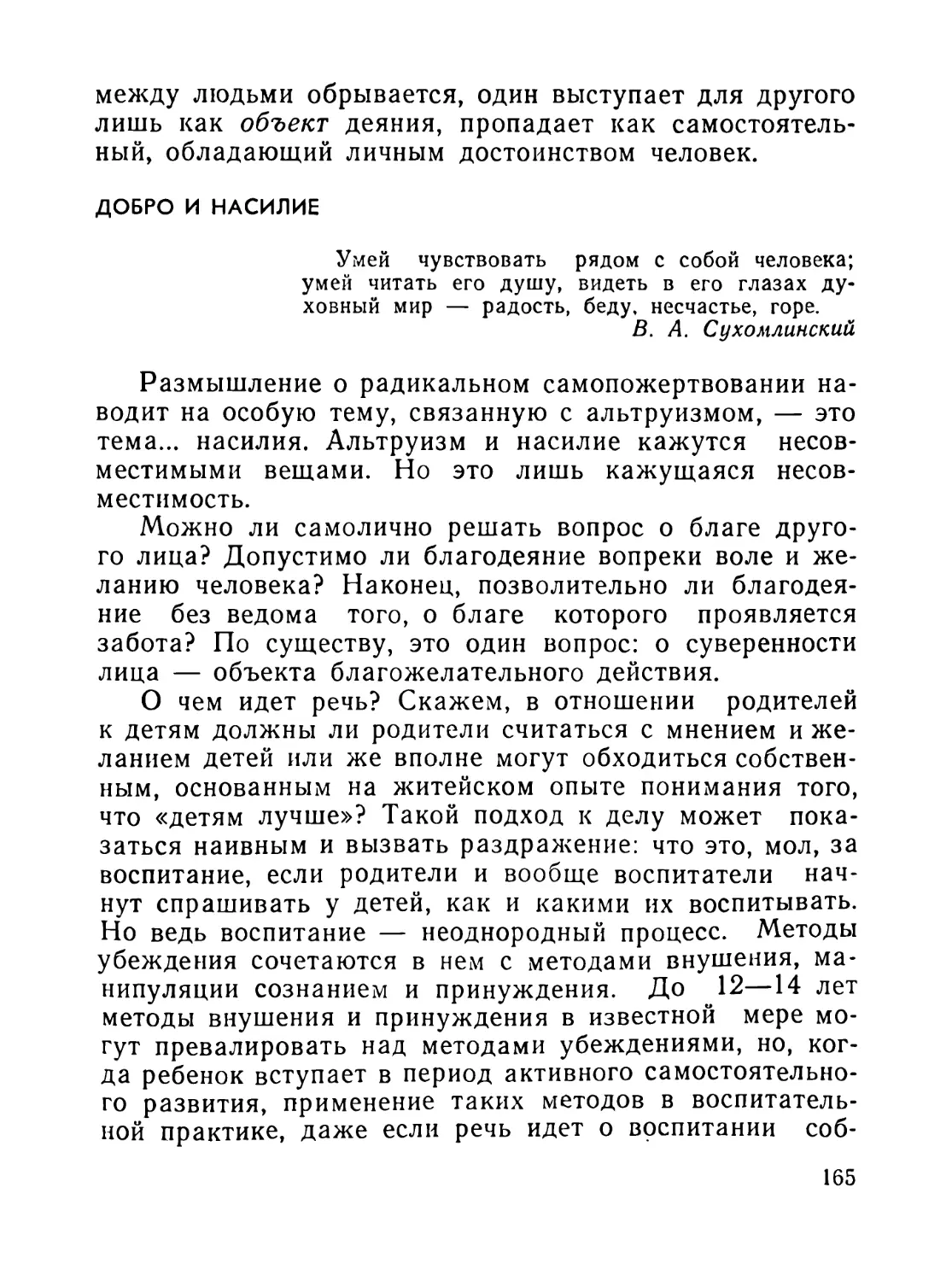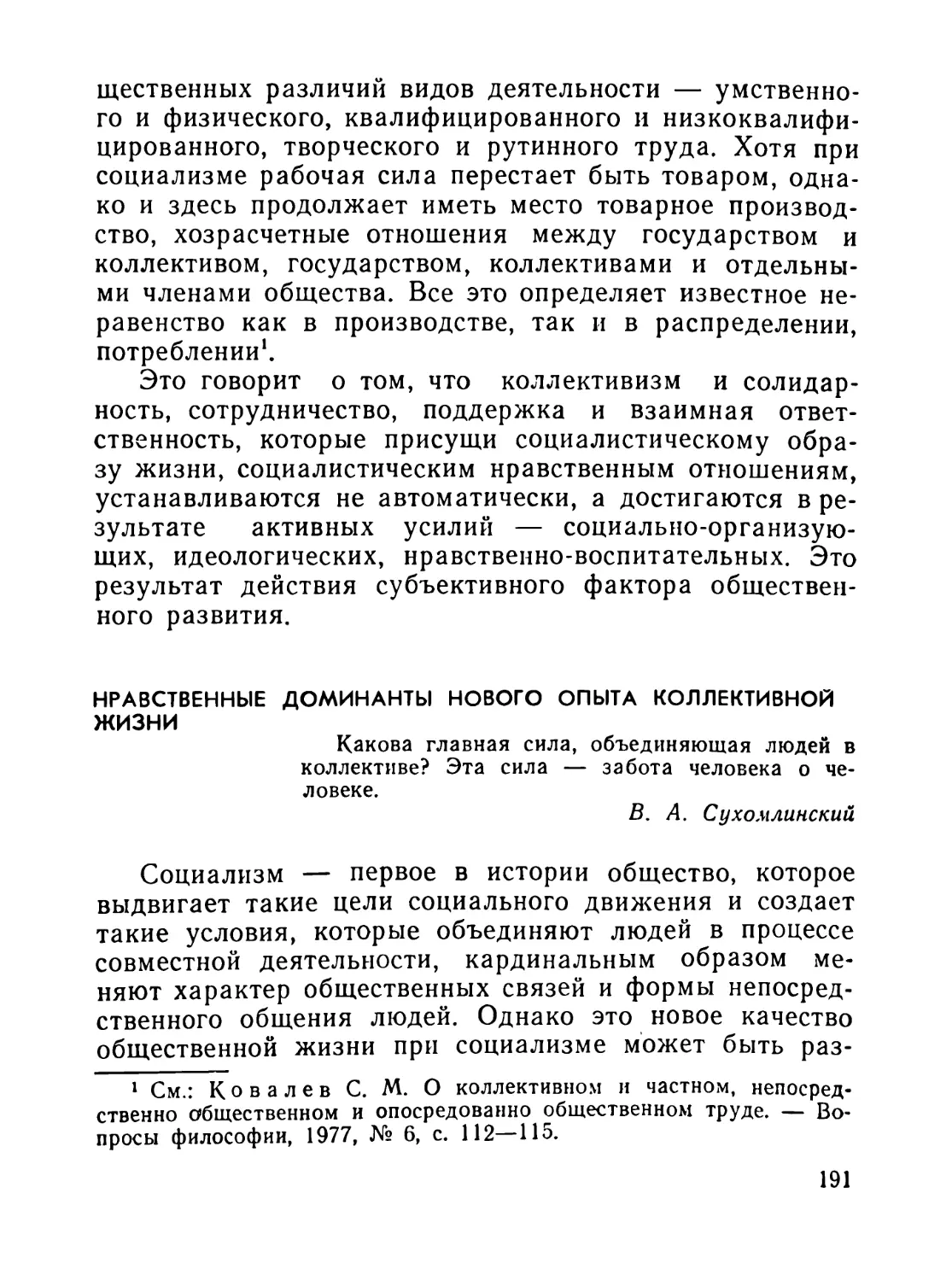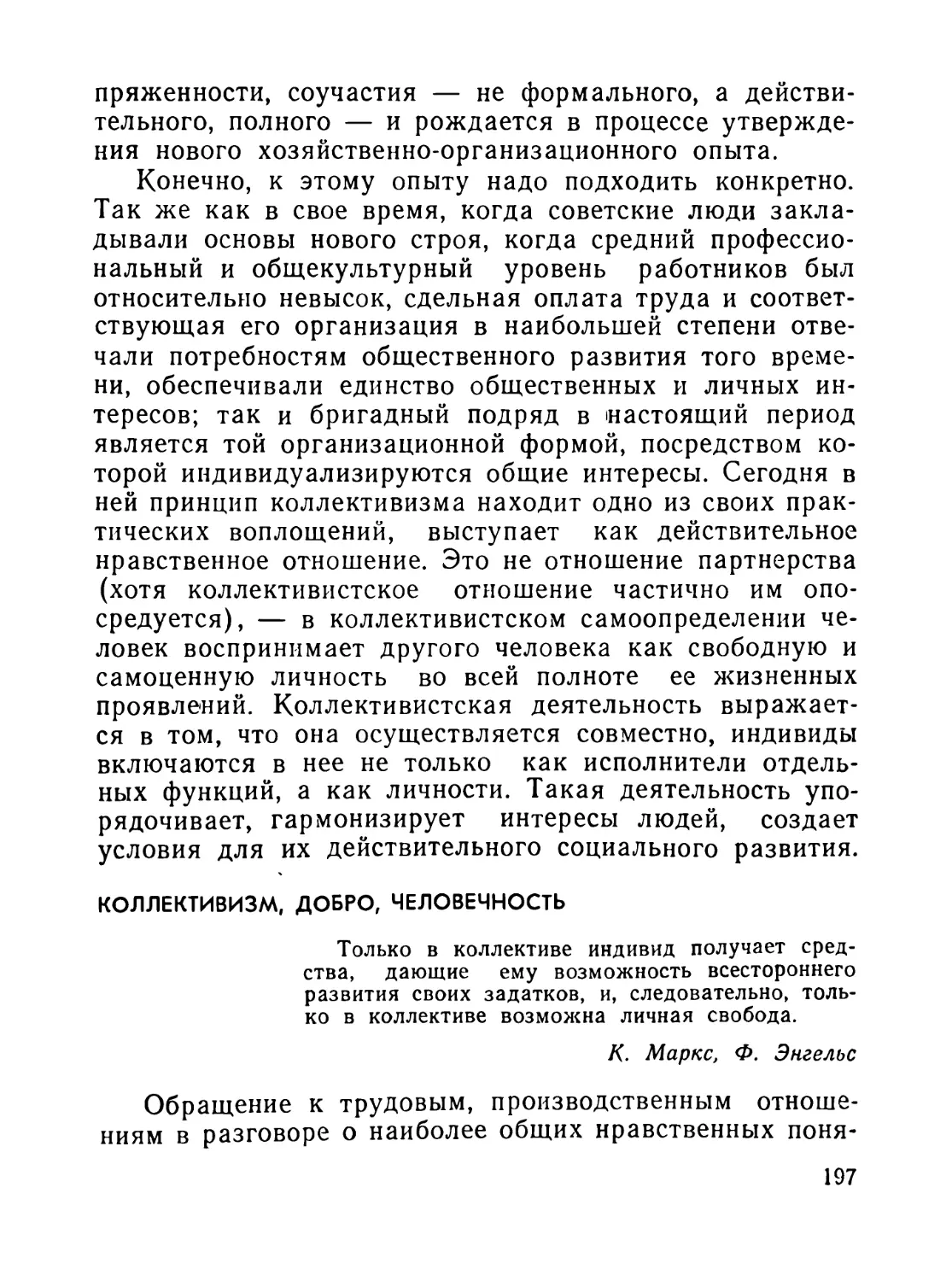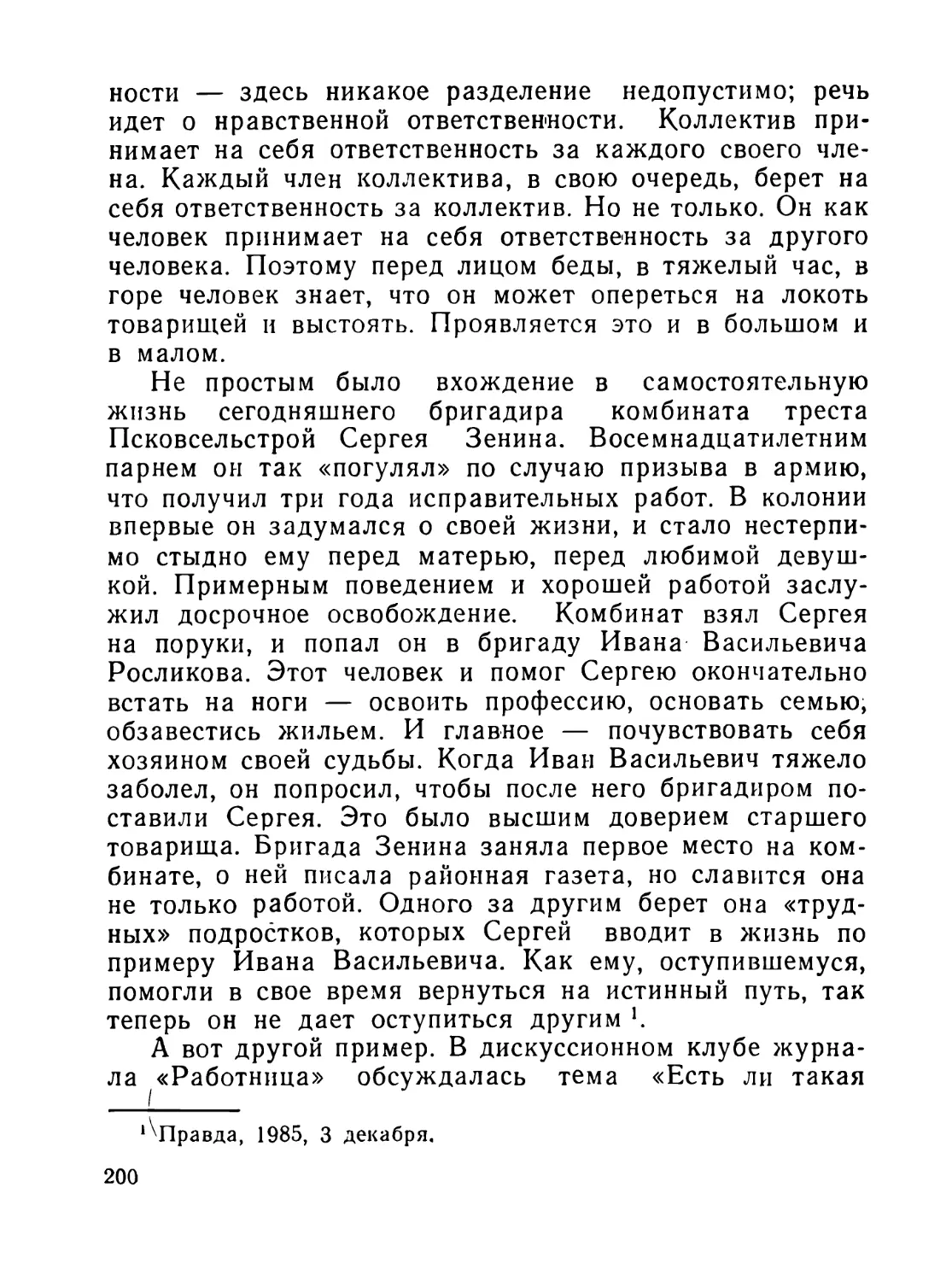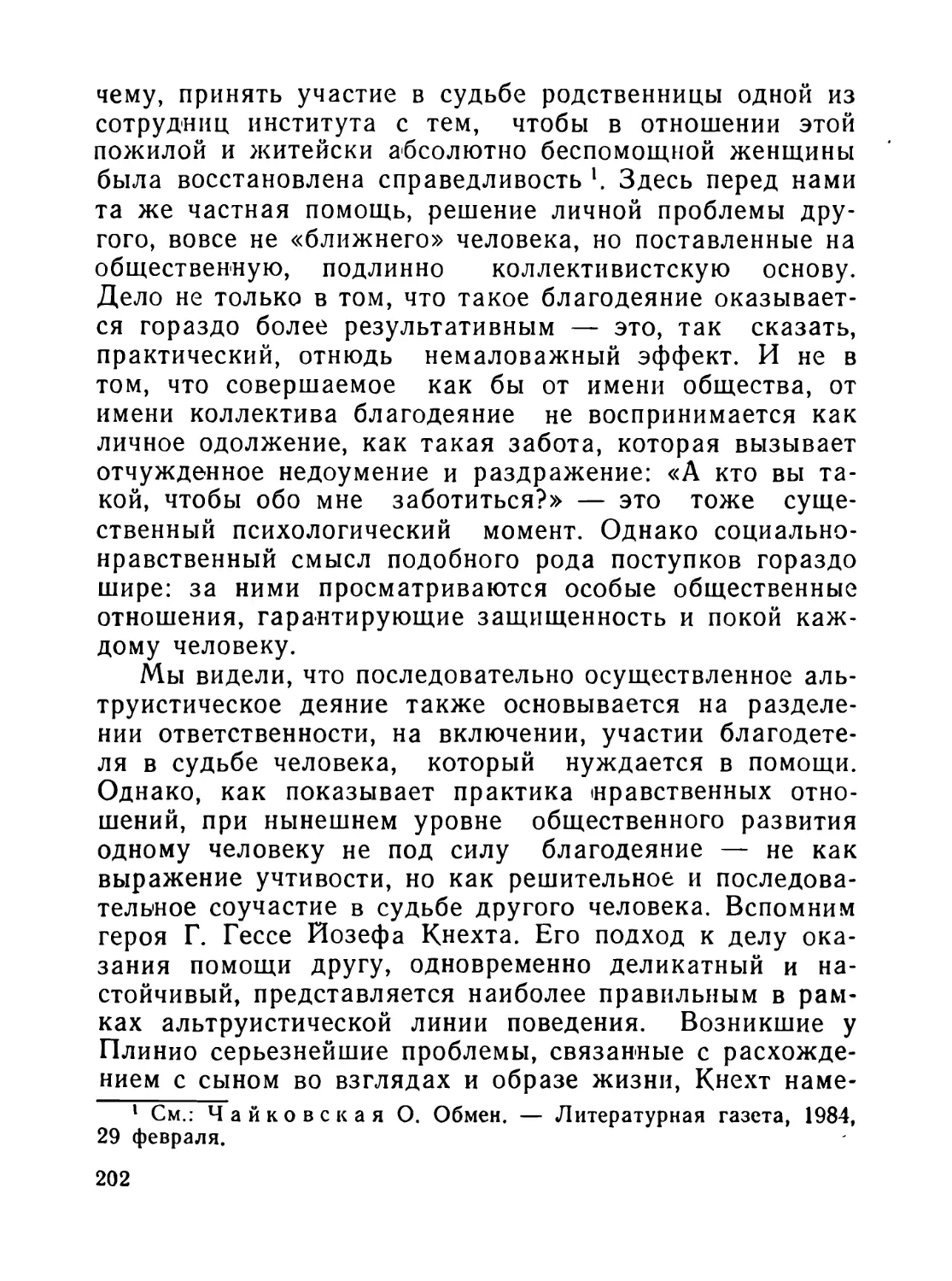Текст
АПРЕСЯН РУБЕН
ГРАНТОВИЧ —
кандидат философских
наук. В 1976 году окончил
философский факультет
Московского
университета, в 1979 году
защитил кандидатскую
диссертацию. С 1980 года
преподает этику в МГУ.
етор статей по истории
>тики, теории морали,
нравственным проблемам
социалистического
общества.
Р АПРЕСЯН
ПОСТИЖЕНИЕ ДОБРА
МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1986
ББК 87.7
А 77
Рецензенты:
доктор философских наук В. И. Щербаков,
доктор философских наук И. М. Кичанова
0302050000—170 Лп_пг
А 078(02) —86 49
© Издательство «Молодая гвардия», 1986 г.
В области нравственной происходит одно
удивительное, слишком мало замечаемое явление.
Если я расскажу человеку, не знавшему
этого, то, что мне известно из геологии,
астрономии, истории, физики, математики, человек этот
получит совершенно новые сведения и никогда не
скажет мне: «Да что же тут нового? Это всякий
знает, и я давно знаю». Но сообщите человеку
самую высокую, самым ясным, сжатым образом,
так, как она никогда не выражалась,
выраженную нравственную истину, — всякий
обыкновенный человек, особенно такой, который не
интересуется нравственными вопросами, или тем
более такой, которому эта нравственная истина,
высказываемая вами, не по шерсти, непременно
скажет: «Да кто ж этого не знает? Это давно и
известно и сказано».
Л. Н. Толстой
ВВЕДЕНИЕ
Вот уже не один год автор этой книги, приступая к
занятиям по этике в народном университете или кружке
политического просвещения, предлагает слушателям
ответить на один, казалось бы, незамысловатый вопрос:
«Что такое добро?» Почему его интересует именно этот
вопрос? Потому что добро является одной из ключевых
нравственных идей, в обобщенном виде отражающей
представления о нравственно положительном, ценном,
совершенном, должном. Стоит ли говорить, сколь
громадное значение идеал добра имеет в жизни человека, в
воспитательной практике, в утверждении идеалов
коммунистической морали, которауя, как констатируется з
новой редакции Программы КПСС, в условиях
постепенного продвижения к коммунизму все полнее
раскрывает свой творческий потенциал, впитав в себя как
общечеловеческие ценности, так и нормы поведения людей
и отношений между ними, которые рождены народными
массами в многовековой борьбе против эксплуатации, за
свободу и социальное равенство, за счастье и мир 1.
Что же отвечают слушатели? Чаще всего под добром
понимается:
— бескорыстная помощь,
— искренние, совершенные от чистого сердца
поступки,
— поступки, совершенные во имя высших, лучших
идеалов,
— поступки в отношении других людей,
совершенные ради добра,
— поступки правильные с точки зрения
окружающих,
— поступки, заключающие в себе максимальную
пользу и минимальный ущерб.
1 См.: Программа Коммунистической партии Советского Союза:
Новая редакция. — М., 1986, с. 53.
Только первый взгляд оставляет впечатление, что в
ответах повторяется в разных формах одно и то же
понимание добра. В действительности это не совсем так.
Стоит обратить внимание на те две трактовки, довольно
типичные, которые даны последними. Здесь неуловимо
проскальзывают мотивы, вносящие совсем иное звучание
в идею добра. Например, «поступки, правильные с
точки зрения окружающих», — это совсем не то же самое,
что «поступки, направленные на благо окружающих».
Последнее отличается также от понимания добра как
«поступка, несущего максимальную пользу и
минимальный вред». Возможны случаи, когда к одному и тому же
действию приложимы все три определения, то есть оно
направлено на благо людей, понято и принято ими, и
притом осуществлено наиболее целесообразным
образом. Но по сути эти определения добра различны, за
ними стоят разные ценностные ориентации, их высказали
разные личности. Ведь «бескорыстный поступок» и
«поступок, совершенный с оглядкой на лица» или
«поступок полезный» — это не одно и то же. Одно дело —
«добро ради добра», другое — «добро — это то, что
никому не причиняет беспокойства» или «добро то, что
приносит другому (мне) пользу» и т. д. Только
попервоначалу такие различения могут показаться ухищренной
игрой философствующего ума. За ними — вполне
определенные нравственные программы и линии поведения,
за ними — те противостоящие поступки и даже нравы,
которые на идеальном уровне и задают
противоположность добра и зла.
И все же в незатейливых экспромт-ответах схвачены
важные особенности морали. В первую очередь
интересно то, что «добро» понимается как характеристика
поступка. В этике, то есть в философской науке о морали,
добро трактуется шире: это и поступок (благодеяние),
и качество человека (добродетель), и характер
отношений между людьми, общественный уклад
(справедливость), наконец, оценка всего этого моральным сознани-
ем (добро в собственном, оценочном смысле этого
слова). В ответах же акцент был сделан на поведение, на
активность человека, добро было истолковано как
форма практического самовыражения личности.
Вместе с тем нравственный поступок — это
поступок, направленный на благо другого человека, он
совершается не по чьему-либо указанию, а от имени
самого действующего лица, он свободен от корысти и в
чем-то независим от складывающихся обстоятельств.
В этом смысле мораль во многом сродни творчеству —
научному, художественному, техническому. Собственно
говоря, мораль и является особого рода социальным
творчеством: верша добро, человек преобразует,
облагораживает людей и мир, который его окружает. Не
случайно В. И. Ленин подчеркивал, что нравственность
служит для того, чтобы общество поднялось выше. Эти
характеристики нравственности и отразились в
определениях, которые раскрывают понятие добра через деяние
во имя лучших идеалов, ради добра самого по себе, от
чистого сердца.
В заголовок этой книги вынесено слово «добро»,
однако иной читатель, если у него хватит терпения
прочитать ее до конца, будет удивлен, увидев, что в ней
гораздо больше речь идет о том, что представляет собой
зло, не всегда намеренное, часто совершаемое по
недомыслию, по простоте душевной, вследствие слабости
характера, нестойкости духа. Нередко мы проходим мимо
такого зла, и не потому, что, как сказал философ,
«люди добродетельные более склонны извинять, чем
порицать», не из снисходительности к человеку, но из
снисходительности ко злу, из наивного непонимания того,
что зло, как правило, прикрывается добром, зло
называет себя добром, из неспособности усмотреть за таким
«добром-перевертышем», себялюбивую, эгоистическую
ориентацию, абсолютизацию личного интереса.
Старинная индийская притча рассказывает о юноше,
который пришел к мудрецу с просьбой принять его к
6
себе в ученики. «Умеешь ли ты лгать?» — спросил
мудрец у юноши. «Конечно, нет!» — «А воровать?» —
«Нет». — «А убивать?» — «Нет...». — «Так иди и
познай все это, а познав, не делай!» Что хотел сказать
мудрец своим странным советом? Что надо окунуться
в зло и порок, чтобы постигнуть добро и обрести
истинное понимание нравственности? Такой путь к
добру неприемлем. Чему же должен научиться юноша,
чтобы стать добродетельным? Должен ли он научиться
лицемерить, ловчить, убивать, чтобы сказать: «Да, я
подготовлен к обретению мудрости»? Конечно, нет. Ведь
узнать зло — это не то же самое, что узнать «технику»
зла, механизмы зла,— узнать зло вовсе не значит
самому творить зло. Все дело в том, что творение добра
предполагает способность распознавания зла и
готовность последовательной борьбы с ним. Мудрец в этом
смысле был прав: кто не постиг зла, тот не может быть
по-настоящему, деятельно добр.
Ключ к уточнению и раскрытию этой важной
нравственной идеи мы находим в рассуждениях Маркса по
поводу сентиментального романа французского
писателя прошлого века Эжена Сю «Парижские тайны».
Рассматривая образ героини романа Флёр де Мари, Маркс
обращает внимание на то, что бесконечная доброта и
человечность Мари резко контрастировали с
бесчеловечным окружением и всем тем недобрым, что налагало
на нее неестественное принуждение. Как же возможна
ее доброта? Мари добра потому, что никому не
причинила страдания, потому, что «солнце и цветы
открывают ей ее собственную, солнечную как цветок,
невинную натуру», потому, что «она еще молода, полна
надежд и жизненной бодрости» *. Ее доброта
естественна: «Мерилом ее жизненного положения служит ей не
идеал добра, а ее собственная индивидуальность, при-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 187.
рода ее существа... сама она ни добра, ни зла, а только
человечна» К
Подобно юноше из индийской притчи, Флёр де Мари,
даже сталкиваясь со злом во всех его проявлениях,
сохраняла внутреннюю чистоту, невинность и в этом
смысле безразличие по отношению ко злу. Это кажется
парадоксальным, но тем не менее это так. Нравственный
выбор не исчерпывается выбором добра и отказом от
зла, выбором добродетели и игнорированием порока.
Дело здесь не в диалектике, требующей рассмотрения
вещей в единстве их противоположностей и,
следовательно, добра вкупе со злом, истины — с
заблуждением, красоты — с безобразием, а в том, что такова
жизнь самой морали, такова жизнь чвообще. Истина
остается лишь достоверным мнением, если она не
определена в отношении лжи, добродетель оказывается
случайной, если она не утверждается в открытом
противостоянии пороку. Вот почему в невинности так же нет
добродетели, как и в пороке.
Поверхностно и наивно то представление о свободе,
которое сводит ее к выбору одной из альтернатив.
Выбор чего-то одного вне зависимости от другого в
принципе невозможен; такой выбор будет произвольным, но
не свободным, ибо, определяя, что такое добро, человек
определяется в отношении зла. «Прежде, чем делать
добро, — писал Л. Н. Толстой, — надо самому стать вне
зла, в такие условия, в которых можно перестать
делать зло» 2. Как света нет без тени, так нет добра без
зла, нет утверждения добра без борьбы со злом.
Каждая эпоха, каждый период в развитии человечества
порождают свою меру добра и зла, прогресс же
заключается в том, что обновляется, обогащается конкретное
содержание представлений о добре и зле, и каждый раз
борьба между ними происходит на более высоком
уровне, в более гуманных и более сложных формах.
1 Маркс К, Энгельс Ф., Соч. т. 2, с. 187.
2 Толстой Л. Н. Собр. соч., в 22-х т. М., 1983, т. 16, с. 227.
Это важно понимать, потому что ориентация
нравственного чувства на добро зачастую однобока:
достаточно, мол, того, что я выбрал добро и не делаю зла.
Нет, этого недостаточно. Выбор добра означает, что
человек принимает на себя ответственность за мир,
понимая необходимость искоренения того зла, которое
противостоит добру. Конечно, человек может и не
осознавать свою связь с миром и с творящимся в нем злом.
Но о нравственной зрелости и мудрости человека мы
говорим лишь тогда, когда он осуществляет не простой
выбор чего-то одного — добра или (что трудно себе
представить) зла, а когда он осознает связь добра и
зла в каждом конкретном случае и готов к
преодолению этой противоположности, а значит, к изменению
обстоятельств, к обновлению образа жизни.
Нравственная мудрость состоит не в том, что человек
желает осуществить выбор между добром и злом, но в
том, что он оказывается готовым к этому выбору, что
он выбирает само желание. Выбор добра, таким
образом, есть определение личности в отношении зла, то есть
выбор самой морали.
Позиция добра вне зла — позиция иллюзорная, да
и само представление об эдаком чистеньком добре
позаимствовано из сказки для малышей, в которой
абсолютное добро противостоит абсолютному злу с тем,
чтобы в финале торжественно его победить. Юноше,
обратившемуся к мудрецу, предстояло научиться не злу в
дополнение к «познанному» добру — ему предстояло
научиться самой морали. Морали, открытой миру,
морали, наполненной миром, радостью и горем людей. Ему
предстояло понять, что нравственный прогресс
общества осуществляется не сам по себе и не в каких-то
высоких сферах духа, а в «грешном мире», в реальной
каждодневной деятельности людей, в их поступках,
поведении, отношении к другим людям, к Родине. Это
мораль активного, деятельного отношения к миру.
Древность часто перекликается с современностью.
Вот и сейчас мы говорим, что коммунистическая мораль
есть мораль активная и деятельная. «Она побуждает
человека к новым трудовым и творческим свершениям,
заинтересованному участию в жизни коллектива и всей
страны, к активному неприятию всего, что
противоречит социалистическому образу жизни, к настойчивой
борьбе за коммунистические идеалы» '.
Исследование добра и зла в их конкретной
определенности представляет интерес не только для теории
морали. Оно необходимо и для посильной поддержки
самой морали, тем людям, которым в силу ли неудачного
воспитания, вследствие ли тяжких испытаний или,
наоборот, укоренившейся привычки к безмятежному
существованию и т. п. не хватает нравственной силы для
исполнения долга. А ведь именно в этом и заключена
добродетель.
Разумеется, теоретическое объяснение идеи добра
даже во всей полноте ее внутренних коллизий само по
себе еще не решает никаких нравственных проблем, но
ее обсуждение может способствовать зарождению и
укреплению того умонастроения, без которого не может
быть выкован подлинно нравственный характер, во
всем отвечающий идеалу коммунистической морали.
И последнее. Проблема добра во всей совокупности
своих аспектов — далеко не проста. Кроме того, по ходу
своего исторического развития она оказалась связанной
с различными философскими традициями, без уяснения
которых наше понимание вопроса было бы неполным.
Поэтому в данном случае необходим не только
философский, но и историко-философский анализ,
соучастие в котором, возможно, потребует от читателя
особого внимания к неизбежным терминологическим
тонкостям проблемы. Автор же надеется на то, что это
лишь обогатит философский кругозор читателя.
1 Программа Коммунистической партии Советского Союза:
Новая редакция. М, 1986, с. 53.
г
ТУПИКИ «ЛЕГКОЙ» МОРАЛИ
Где воля определяется наслаждением, там нет
еще никакой нравственности.
Ф. Шиллер
Инфантилизм. Это слово замелькало в
публицистических статьях, посвященных молодежи, в
выступлениях социологов и педагогов, юристов и врачей. О чем
идет речь? О социальной, психической, нравственной
недоразвитости некоторой части молодых и не совсем
молодых людей, о сохранении в молодости и зрелости
таких черт характера, которые свойственны детству. Нет,
здесь не подразумевается наивная распахнутость души
или непосредственность восприятия, искренность
суждений, — чаще всего это-то и уходит вместе с детством.
Когда говорят об инфантильности, то имеют в виду
иждивенчество, безответственность, легкомыслие,
безволие. За возрастными рамкамм детства эти качества, как
показывают наблюдения, неизбежно переплетаются с
черствостью и жестокостью в отношениях с людьми,
цинизмом, равнодушием к идеалам. Нравственные
недоросли сторонятся любого напряжения, а смысл жизни
видят в свободе от обязанностей, в удовлетворении
собственных желаний и личном преуспеянии. Однако этот
портрет явно неполон, если учесть, что
инфантильностью порой пытаются объяснить поступки социально
опасные, дискредитирующие принятые в обществе
нормы и установления. Последнее указывает на то, что за
инфантилизмом кроется весьма своеобразная
«недоразвитость», в которой выражена вполне устоявшаяся
система ценностей и принципов, «ребячливость»
оказывается позицией с соответствующими идеалами и
критериями добра и зла, легкомыслие предстает образом
мыслей, отражающим своеобразное отношение к миру,
к людям и к самому себе.
Так что же это, «инфантилизм»? Новый модный
термин или же понятие, с помощью которого схватываются
действительные реалии современной жизни общества?
12
Думается, некоторые явления, в которых
обнаруживается инфатильное состояние души, в самом деле
новы для наших общественных нравов, но та
иерархия ценностей и добродетелей, которая в конечном
счете лежит в их основе, столь же стара, сколь
древен мир культуры. В крайнем выражении это мораль
относительного добра и абсолютного своеволия; однако
такая система ценностей и добродетелей может
принимать и более мягкие, рафинированные, даже
привлекательные формы — морали наслаждения и личного
благополучия. Суть ее заключена в известной и в общем
однозначной формуле: «Добро есть то, что доставляет
удовольствие и ведет к нему».
ЭТИКА ГЕДОНИЗМА
Таков принцип особого умонастроения и даже,
можно сказать, образа жизни, которые представлены не
только в обыденном сознании. В истории философии
мы находим довольно широкое идейное течение —
этический гедонизм (от древнегреческого hedone —
наслаждение), в котором они получили идеологическое и
теоретическое обоснование. Нравственную позицию,
ориентирующуюся на наслаждение и соответствующий
образ жизни, также называют гедонизмом —
моральным гедонизмом; так что нужно различать теоретико-
этический гедонизм и гедонизм моральный, или
нормативно-этический. В первом случае принцип
наслаждения привлекается в качестве объяснительного, то есть
удовольствие рассматривается не как цель, но как
стимул поведения, человеческой деятельности, как тот
элемент жизни человека, с помощью которого объясняются
все виды его активности. Во втором — мы имеем дело
с обоснованием принципа удовольствия как
жизненного, нравственного принципа, как единственно достойной
цели человеческого существования.
Эти две формы гедонизма могут совпадать и неред-
13
ко совпадали в истории этики, например, в античном
гедонизме киренаиков1, отчасти эпикурейцев2 или в
представленном итальянским мыслителем XV века Ло-
ренцо Валлой ренессансном гедонизме. Но эти формы
нередко и расходились в истории мысли: так,
просветительский гедонизм, ярким представителем которого был
французский материалист XVIII века Гельвеции,
рассматривал удовольствие именно как одну из причин
поведения, но не как то, что составляет счастье человека,
его моральное совершенство.
В современной буржуазной мысли две формы
гедонизма оказались окончательно разведенными. С
успехами психологии теоретический гедонизм был оттеснен
на периферию философской этики. Зато с
распространением потребительского образа жизни
моралистический гедонизм расцветает пышным цветом 3.
Разделение двух форм гедонизма — теоретической и
нормативной — не означает, что первая присуща лишь
теоретическому сознанию, а вторая — обыденному,
моральному. Этика, то есть теория морали, описывая и
объясняя мораль через удовольствие, одновременно
может рассматривать удовольствие как высшее благо и
таким образом давать ответ на вопрос, который возни-
1 То есть сторонников древнегреческой философской школы,
основанной Аристиппом из Кирены (432—356 гг. до н. э.), учившим, что
ощущения наслаждения и страдания являются критерием
различения добра и зла, как, впрочем, и истины и лжи, красоты и
безобразного.
2 В обычнам словоупотреблении, которое имеет давнюю
традицию, под эпикурейством разумеется крайне гедонистический,
насыщенный чувственными удовольствиями и жаждой роскоши образ
жизни. Однако это представление имеет мало общего с учением
Эпикура (341—270 гг. дон. э.) и его умеренным образом жизни, а
само извращение коренится главным образом в христианской
традиции, начало которой положила беспощадная критика
эллинистической культуры и в первую очередь антирелигиозного учения
Эпикура одним из «отцов церкви» — Августином.
3 См.: Давыдов Ю. Мистика потребительского сознания. —
Вопросы литературы, 1973, № 5, с. 44—88.
14
кает в недрах морального сознания: в чем смысл
жизни, к чему надо стремиться? Но обыденный разум,
ставя вопросы, ищет на них ответы, в этом смысле ему
присуща определенная объяснительная функция.
Другое дело, что на обыденном уровне объяснение всегда
окрашено в моралистические тона: параллельно с
объяснением какого-то явления происходит его оправдание
или отрицание, оно одобряется или порицается.
Правда, гедонистическая теория морали, выводящая
все нравственные определения из природы человека,
тоже оказывается моралистичной, то есть в
теоретических рассуждениях о нравственности она опирается не
на анализ действительных отношений, в которые
вступают люди в процессе своей общественной практики, а на
представления обыденного морального сознания. В чем
это выражается? Вот, к примеру, Аристипп учил, что
есть два состояния души — наслаждение и боль, и этот
физиологический факт приобретал в его учении
универсальнее ценностное значение: наслаждение для всех
живых существ привлекательно, боль отвратительна;
следовательно, делался отсюда вывод, наслаждение
есть благо, добро, а боль — зло. Почти то же говорил
Людвиг Фейербах (1804—1872): «То, что живет, —
любит себя (...), хочет жить, потому что оно живет (...).
То, что хочет, хочет только того, что для него полезно,
благотворно, хорошо, что причиняет ему добро и не
причиняет ему зла» '.
Эти моралистические выкладки кажутся
самоочевидными, однако по сути они не выдерживают критики.
Во-первых, согласно гедонистической доктрине всякая
деятельность человека имеет в своей основе мотивы
достижения удовольствия и освобождения от страдания.
Каким же упрощенным представляется внутренний мир
человека! Трудно представить себе более вульгарный
1 Фейербах Л. Эвдемонизм. — Избр. филос, соч. М, 1955,
т 1, с. 578.
15
подход, чем тот, который сводит все достижения
человеческой мысли, все свершения рук человеческих к
одним лишь стремлениям человека к удовольствию,
каким бы возвышенным это удовольствие ни
представлялось. Человек здесь уподобляется подопытным крысам,
наученным нажатием рычажка раздражать «центры
удовольствия» в мозгу и проводящим в этих нажатиях
все свое время. Но это, так сказать, негодование моего
морального чувства. С психологической точки зрения
такая интерпретация поведения человека неправомерна
потому, что выворачивает действительные механизмы
человеческой деятельности, выводя ее из
эмоциональных состояний человека. Но не эмоции стимулируют
и формируют деятельность, а уклад общественной
жизни, те общественные связи, в которые включается
человек. Наоборот, деятельность человека формирует его
эмоции, его оценки внутренних состояний организма,
положительных или отрицательных. Сформированная
эмоция может «оккупировать» сознание личности,
развиться до гипертрофированных размеров, уродующих и
разрушающих самую личность, как это делает,
например, пристрастие к алкоголю или наркотикам; но и в
основе этого болезненного пристрастия, постоянное
удовлетворение которого оказывается стержнем всей
жизни человека, лежат определенные практические
отношения, в которые оказался включенным человек,
известное стечение жизненных обстоятельств, которыми не
смог он овладеть, которые, наоборот, овладели им
самим.
Далее. Гедонистическая этика (не только этика, но
и психология и социология) исходит из представления
об эмоциях, в частности удовольствии и страдании, как-
заданных изначально от природы и имеющих
неизменяющуюся величину. Выше отмечалось, что никто
прежде так ясно, как просветители, не сформулировал
принцип гедонизма, и это объясняется именно тем, что
удовольствие и страдание рассматривались ими как посто-
16
янные характеристики человеческой природы; разуму
оставалось только определить, а воспитателю
сформировать в воспитаннике то, что в наибольшей степени
соответствует природе человека. Однако натуралистический
аргумент, то есть апелляция к природе в качестве бы-
тпйственной основы добродетелей человека, имел не
только метафизический, философский, но и важный
идеологический смысл. Выдвижение на передний план
«природы человека», по мысли
просветителей-рационалистов, нейтрализовывало доводы теологии в пользу
божественного происхождения нравственности и
духовной жизни человека вообще. В век Разума — в эпоху,
охватываемую XVII и XVIII столетиями, обращение к
«природе человека», к его естественным влечениям и
склонностям было важным шагом в преодолении
богословского учения о человеке и утверждении
материалистического воззрения на мир.
Однако в философском отношении рассуждения о
неизменности, естественности, о некоторой «разумности»
человеческой природы крайне наивны. «Способ и
содержание... наслаждения, — писали К. Маркс и Ф.
Энгельс, — всегда определялись всем строем остального
общества и страдали всеми его противоречиями»1. Это
определяется тем, что стремление к наслаждению как
характеристика социального человека и, значит,
человека в определенных конкретно-исторических
обстоятельствах, как и другие потребности, является
результатом процесса производства (материального и
духовного). Также и «предмет искусства... создает публику,
понимающую искусство и способную наслаждаться
красотой... Производство создает потребление... Оно
производит поэтому предмет потребления, способ
потребления и влечение к потреблению» 2. Таковы
фундаментальные положения марксизма, касающиеся общественного
производства и потребления, но Маркс указывал, что
1 Маркс К, Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 418.
2 Там же, т. 46, ч. 1, с. 28^29-
2 Р. Апресян 17
они'приложимы к отдельному
производителю-потребителю так же, как к группе производителей-потребителей.
Следовательно, содержание того, что человек
оценивает как привлекательное и отвратительное,
исторически изменчиво и варьирует в зависимости не только от
эпохи, но и от среды, возраста, образования. Здесь,
быть может, в наибольшей степени проявляется
богатство или убожество личности. О постоянстве эмоций
не приходится говорить даже в случаях простых, так
называемых чувственных удовольствий.
Видный советский психолог А. Н. Леонтьев, говоря
о неоднозначности удовольствия и неудовольствия,
приводил в качестве примера сюжет рассказа А. П. Чехова
«Смерть чиновника», герой которого, чихнув в театре в
затылок впереди сидевшего начальника, так из-за э^ого
страдает, что в результате умирает... хотя, как говорят,
сам по себе акт чихания приносит облегчение и
вызывает известное удовольствие.
Наконец, в гедонистической теории предполагается,
что если человек чего-либо желает, то он желает
приятного себе, а то, что ему приятно, является добром,
значит, он желает добра. Такой вот «силлогизм». Здесь
и обнаруживается «формула гедонизма», представить
которую в наиболее ясном виде решилось в силу
указанных обстоятельств рационалистическое просвещение.
Вот что писал, например, голландский философ
XVII века Бенедикт Спиноза: «Мы стремимся к чему-
либо, желаем чего-нибудь, чувствуем влечение и хотим
не вследствие того, что считаем это добром, а наоборот,
мы потому считаем что-либо добром, что стремимся к
нему, желаем, чувствуем к нему влечение и хотим его.
...Под добром я разумею здесь всякий род удовольствия
к затем все, что ведет к нему... под злом же я разумею
всякий род неудовольствия. ...Мы ничего не желаем
потому, что оно добро, но, наоборот, называем добром
то, что желаем, и, следовательно, то, к чему чувствуем
отвращение, называем злом. Поэтому всякий сообразно
18
со своим аффектом судит или оценивает то, что добро
и что зло, что лучше и что хуже» 1. Правда, в
эвдемонистической (от греч. eudamonia — счастье, блаженство)
этике, начиная с Эпикура и кончая Фейербахом и
Чернышевским, которая отличалась от гедонизма лишь тем,
что в качестве блага выставляла не чувственные
удовольствия, а возвышенные наслаждения души,
допускалось, что человек может видеть приятное в том, что
таковым на деле (или по природе) не является, и,
следовательно, человек, желая приятного, может в
действительности не желать добра. Однако логика
эвдемонизма по существу не отличается от логики гедонизма: в
конечном счете предполагается, что человек в своей
деятельности преследует достижение удовольствия2.
Эта логика приводит к произвольному определению
добра, основанному на том, что большинству людей
нравится. Рассказывают, что в свое время в Англии
публичные телесные наказания и казни были отменены
потому, что они нравились людям больше, нежели театр,
который они посещали гораздо реже. Вряд ли отсюда
можно было бы сделать вывод о том, что публичные
экзекуции и составляют эстетическую ценность,
заключают в себе прекрасное.
Таковы самые общие теоретические аргументы,
говорящие о том, что сами по себе положительные и
отрицательные эмоции объективно не несут в себе
определений добра и зла. Но на этом основании нельзя
отрицать роль удовольствия и страдания в обыденной жиз-
1 Спиноза Б. Этика. — Избр. произв. М., 1955, т. 1, с. 464,
487.
2 Вот, к примеру, и эвдемонист Чернышевский говорит: «Цель
всех человеческих стремлений состоит в получении наслаждений»
(Избр. филос. соч. М., 1951, т. III, с. 247). Другое дело, что
Чернышевский различает наслаждения мимолетные, или чувственные,
наслаждения устойчивые, которые он называет пользою, и
наслаждения постоянные, которые и составляют добро. В конечном счете
все равно сохраняется тезис, что человек стремится к добру в
поисках удовлетворения потребности наслаждения.
19
ни. Биологическое значение удовольствия и неудоволь]
ствия вполне определенно: удовольствие содействует
поддержанию той деятельности, которая благоприятна
для организма; неудовольствие направлено на разруше*
ние деятельности, вредной для организма, и в то же
время стимуляцию действий, полезных для организма,
Однако физиологическое значение положительных и от
рицательных эмоций не определяет их психологические
и нравственный смысл.
Положительное или отрицательное эмоционально©
состояние человека в различные моменты его жизни
влияет на его отношение к миру и к другим людям,^
на решения, которые он принимает, и ход
осуществления этих решений. В абсолютном, хотя и неразвитом,-
виде эта роль эмоций обнаруживается во внутриутроб-|
ном и младенческом развитии индивида, когда его от-'
ношения со средой полностью отражаются в ощущениях!
удовольствия и неудовольствия, в состояниях покоя и
беспокойства. Поведение маленького ребенка в меньшей
степени, но все же определяется переживаемыми им!
эмоциями. Он плачет — и взрослые стараются сделать^
все, чтобы как-то снять его недовольство, либо
устраняя действительную причину страдания, либо отвлекая
внимание ребенка, утешая его. Причем сами
эмоциональные реакции в этом возрасте носят нерасчлененный
характер, их источник практически безразличен для
малыша и во всяком случае не осознается.
Если это радость, то радость существования
вообще, если ярость, то уж ярость на мир в целом,
независимо от того, что вызвало эту ярость. Но с каждым
годом основным фактором положительного или
отрицательного настроения малыша все более становятся не
внутренние телесные его состояния, а отношение к нему
родителей, других взрослых, сверстников и т. д. Уже у
трехлетнего ребенка неудовольствие, допустим, по
поводу отношений с другими людьми выражается особым
образом в зависимости от того, ровесники ли это, роди-
20
тели или чужие взрослые. Причем не только его
эмоциональные реакции приобретают дифференцированный
характер: положительные эмоции — это уже не просто
состояние удовольствия, но и интереса, радости,
возбуждения, веселья, гордости, а позже и творческого
подъема, удовлетворенной любознательности; так же и
отрицательное состояние не сводится только к
страданию, а выражается в печали, тоске, горе, а в более
развитом виде — в униженности, безысходности и т. д.
Эмоциональные переживания удовольствия и страдания
перестают быть единственными мотивами действия; у
ребенка появляются представления о полезном,
пристойном, правильном, хорошем и т. д., и само
побуждение к удовольствию опосредуется этими мотивами.
Тип отношения к действительности, который задан
противоположностью удовольствия и неудовольствия,
хотя и преодолевается довольно быстро, не
искореняется полностью, он сохраняется на уровне подсознания
человека на протяжении всей его жизни. Однако
масштабы этого проявления и то, в какой мере происходит
сама перестройка, во многом зависят от характера
воспитания и отношений, складывающихся у ребенка с
окружающими его людьми, в первую очередь
родителями, иначе говоря, определяются особенностями процесса
его социализации, вхождения в общественный мир.
Понятно, что преодоление этого типа отношений к
действительности не может быть безусловным и
полным, ведь в его основе леж»ит, по существу, процесс
удовлетворения всякой потребности. Мера преодоления,
вытеснения этой формы мировосприятия выражается в
том, насколько это стремление к удовлетворению
непосредственных (простых) потребностей перестает быть
единственным смыслом жизненного бытия человека.
Возобладание же ее в сознании и поведении личности
ведет к формированию гедонической
нравственно-ценностной ориентации, а в конечном счете гедонистического
типа личности.
21
Разумеется, вряд ли можно встретить в жизни этот
тип в чистом виде: современная общественная жизнь
слишком сложна и разнообразна, чтобы этот, как и
любой другой социальный, тип мог существовать в
своей отдельности и самодостаточности. Типы вообще —
плод отвлеченного теоретического размышления, но в
них до крайности доведено то, что в жизни находится в
случайных формах, в тенденции, в смеси с другими Ч
СТРАДАНИЕ И СЧАСТЬЕ
Ты счастливый, ты не умеешь страдать...
Э. Радзинский. Она в отсутствии
любви и смерти
Удовольствие обычно ассоциируется с состоянием
легкости, необремененности, раскованности, и, наоборот,
страдание сопрягается с наибольшими испытаниями,
выпадающими на долю человека, с необходимостью
внутреннего напряжения. Не случайно именно
безмятежное внутриутробное существование, точнее, предсу-
ществование индивида в психологии рассматривается в
качестве прототипа гедонического отношения к миру2.
Однако как действительное отношение оно крайне
противоречиво, ибо установка на удовольствие связана с
пассивностью и леностью натуры, а жизнь в реальном
мире, мире, который диктует свои условия
существования, нередко связана с большими или меньшими
лишениями, она требует выдержки, терпения, активности,
целеустремленности — хотя бы в достижении удовольствий.
1 Платон в диалоге «Филеб» указывал, что «если мы хотим
увидеть, какую природу имеет ро'д удовольствия, то нужно смотреть
не на малые удовольствия, но на те, которые считаются
наивысшими и сильнейшими» (Платон. Соч. М., 1971, т. 3, ч. 1, с. 57).
2 См.: Василюк Ф. Е. Психология переживания. Анализ
преодоления критических ситуаций. М, 1984, с. 94—104. Интересно, что
Ф. Е. Василюк при анализе различных видов сознания и поведения
именно гедонический характеризует как «простой» и «легкий».
22
Вот почему еще древние говорили, что удовольствие и
страдание всегда идут рука об руку. Такова
элементарная «диалектика» жизни. Поразительно, какими
последствиями чревато осознание этого факта гедонистической
личностью! Коль жизнь неизменно приносит страдания,
а полное наслаждение предполагает отсутствие
страданий, то стоит ли жить, если жизнь не обеспечивает
полноту наслаждений, и не высшим ли наслаждением
будет избавление от жизни как средоточия страданий?
Именно так учил один из последователей Аристиппа,
Гигесий из Александрии, прозванный Смертопроповед-
ником, и предание гласит, что после лекций-проповедей
этого парадоксалиста некоторые слушатели решались
на самоубийство. Трудно сказать, сколь достоверна эта
легенда. Однако в ней верно подмечены тупики (пока
только логические) гедонистического мировосприятия.
Отказ от страданий может и не быть таким
радикальным. Если удовольствия и страдания неразрывны, то не
достаточно ли отказаться от удовольствий и такой
ценой добиться свободы от страданий? Моральное
сознание, конечно, не удержалось от этого зигзага в поисках
подлинного совершенства. Но его результатом оказался
воинствующий аскетизм, в античности
проповедовавшийся, в частности, кинической1 философией, ярчайшим
представителем которой был Диоген Синопский,
живший в килосе (большом глиняном сосуде для хранения
вина и зерна). Это о нем писал семнадцатилетний
Пушкин:
Меж тем, на милых грозно лая,
Злой циник, негу презирая,
Один, всех радостей лишен,
Дышал, от мира отлучен.
Но, с бочкой странствуя пустою
1 Киники — представители древнегреческой философской
школы, считавшие основой счастья и добродетели пренебрежение к
общественным нормам, отказ от богатства, славы, всех чувственных
удовольствий.
23
Вослед за мудростью слепою,
Пустой чудак был ослеплен;
И, воду черпая рукою,
Не мог зачерпнуть счастья он.
Конечно, для эпикурейски настроенного юноши ки-
нический образ жизни был абсолютно неприемлем, этим
вызвана его тонкая ирония, уступающая место порой
явному сарказму. Но в кинизме аскетическое
опрощение действительно граничило с отказом от достижений
цивилизации и культуры, с крайним, доходившим до
бесстыдства нигилизмом.
Более умеренным добродетелям учил Эпикур, он
видел высшее благо в отсутствии страданий, в
независимости от преходящих обстоятельств и в безмятежной
самодостаточности духа. Следует стремиться лишь к
тем удовольствиям, которые не несут за собой
страданий, и не обязательно избегать тех страданий, за
которыми можно ожидать большие удовольствия.
«Довольствуйся малым» — советовал Эпикур. Нравственный
идеал Эпикура по существу оставался в рамках
гедонизма: высшее благо — удовольствие, и даже красоту,
добродетель и т. д. нужно ценить сообразно тому,
приносят они удовольствия или нет, а в счастье главное —
отсутствие тревог.
В жизни Эпикур отличался необыкновенным
человеколюбием, участливостью, скромностью, но в истории
теоретической мысли именно он считается одним из
основателей индивидуалистической этики. И это отнюдь
не случайно, хотя на первый взгляд и может показаться
странным, что апология отсутствия страданий приводит
к индивидуализму: с практической, а не с
умозрительной точки зрения, жизнь без страдания — это жизнь
для себя самого, ибо безмятежность и покой
невозможно сохранить в деятельности, направленной на благо
других людей.
Конечно, альтернативы, предложенные в древности
24
Диогеном и Эпикуром, чужды современному
образованному, практически мыслящему сознанию, трезво
полагающему, что если от страдания и нельзя избавиться,
то от него можно убежать в... наслаждение. Но
гедонистическое бегство от страдания означает не что иное,
как «освобождение» от забот общественного мира,
мира, в котором живет человек. Это — свобода в
скорлупе личного наслаждения, дарующая беззаботное
состояние легкости и равнодушия!
Что и говорить, наш
индустриально-урбанизированный образ жизни с его необозримыми масштабами,
одновременной множественностью и стереотипностью
индивидуальных стилей поведения и, главное, с его
анонимностью нередко вынуждают человека к облачению в
«скафандр безучастия» к чужим заботам. Тем самым у
человека, скрывающегося в таком «скафандре»,
снимается или, во всяком случае, нейтрализуется
ощущение тревожности, и он избавляет себя от
нежелательных трудностей, вопросов, требующих собственного
решения и личного участия. Эта позиция (или отсутствие
позиции?) довольно удобна: отказ от ответственности
подразумевает и свободу от ответа, а следовательно,
покой и беззаботность.
Можно сказать, достигаемая таким образом свобода
универсальна: во многих случаях это свобода от
собственного мнения, от мук совести, от чувства вины, —
одним словом, это свобода от морали. Большую
легкость и раскованность, пожалуй, и предположить
трудно. Но, в конце концов, каждый человек сам должен
решить для себя старый, возможно, даже
казуистический вопрос, поставленный еще Эпикуром: «Что лучше:
с разумом быть несчастным либо без разума быть
счастливым?» Ф. М. Достоевский сформулировал этот
вопрос этически более пристрастно: «Что лучше —
дешевое ли счастье или возвышенные страдания?» Таков, по
сути, один из исходных выборов, который должен
совершить каждый человек, — между счастьем, заклю-
25
ченным в ограниченный мирок личного благополучия й
комфорта, и бременем, которое необходимо принять при
активном отношении к миру.
А не спешим ли мы поставить все точки над i? И
так ли прост этот обнаруживающий себя в гедонизме
способ самоосуществления, посредством которого чело?
век уходит от трудностей и забот большой жизни в ми-1
ре людей?
Здесь следует обратить внимание на то, что етюше-j
ние человека к страданиям и трудностям, мера его
способности к их активному преодолению по сути задается
характером воспитания, главным образом семейного,;
в раннем детстве. Как показывают наблюдения
психологов и педагогов, восприятие родителями страданий
ребенка и отношение к ним во многом определяет тип
становящейся личности. Ведь при переживании
ребенком боли, страха, неприятности родители по-разному
строят свое поведение. Одни родители, желая успокоить
ребенка, в первую очередь пытаются выяснить для себя
источник страдания и помогают ребенку справиться с
этим чувством, переключая его внимание на не
связанные со страданием предметы, «отвлекают» от боли или
неприятности. Такой подход родителей формирует
активный, устойчивый тип личности, которому
свойственны такие моральные качества, как оптимизм,
открытость, благожелательность.
Но это не единственно возможный вариант
отношения родителей к ребенку, испытывающему страдание.
Страдание ребенка может вызывать негативную
реакцию и выражаться в том, что родители попросту
наказывают малыша за то, что тот не умеет справиться со
своим страданием, кричит и плачет, то есть плохо себя
ведет в страдании. Если наказание при этом не
сочетается с помощью в преодолении страдания, то тем самым
складываются условия для формирования неразвитой,
боящейся своих индивидуальных проявлений личности с
апатичным отношением к миру. Скорее всего такая
26
личность будет отличаться малодушием, скрытностью
характера, двуличием.
Наконец, страдание ребенка может вызывать
чрезмерно сострадательное отношение родителей,
стремящихся первым делом успокоить ребенка нежностью и
лаской, игнорируя при этом те реальные причины,
которые вызывают страдание. Иными словами, действия
родителей определяются не страданием ребенка, а тем,
что сопровождает это страдание, — плачем. Ребенка
отвлекают от страдания, но не помогают ему, не
направляют на активное преодоление причины страдания
или хотя бы своего внутреннего отрицательного
состояния. Так складывается наиболее опасная, наиболее
рискованная линия воспитания, ведущая к формированию
пассивной, безынициативной личности; в таком
воспитании закладывается будущая позиция «неучастия». При
столкновении с трудностями, неудачами, даже легким
дискомфортом воспитанный таким образом человек
будет стараться не преодолеть сложившуюся ситуацию, а
найти успокоение в действиях, никоим образом с самой
ситуацией не связанных, иными словами, такой человек
оказывается не способным решать свои жизненные
проблемы.
С этого начинается, в частности, такая наиболее
распространенная форма неучастия, ухода от мира, как
пьянство. Не случайно говорят, пьянство —
удел слабых. Ведь в основе этой болезни
лежат не только социальные, но и психологические,
нравственные причины. Слабоволие пьяницы
заключается отнюдь не в том, что он не может удержаться от
возлияний, но в том, что ему нечем занять себя, ему не
хватает широты души, целеустремленности, не хватает
характера для подлинно насыщенной жизни, для заботы
хотя бы о себе, для заботы о близких, о семье, об об-
Шестве.
Разумеется, далеко не всегда уход от страданий и
Жизненных забот оборачивается медленным алкоголь-
27
ным< самоубийством. Занятие гедонистической позиции]
нередко принимает форму нонконформизма, бунтарского
отказа от неустраивающих общественных порядков. Нам
знаком подобного рода протест на примере массового,-
так называемого контркультурного движения молодежи
Запада в 60—70-х годах1. Этот протест оказался несо-,
стоятельным как в политическом, так и
социокультурном, нравственном отношении. Фиаско
контркультурного бунтарства коренится в заносчивой претензии
построить новый мир «рядом», «помимо» уже существующего
мира, при полном игнорировании последнего. И как не
раз уже было в истории, бунтарь оказался лишь иным
выражением того же самого порядка в£щей, против
которого он поднял бунт.
Упоминавшегося уже Диогена Синопского порой
называют сегодня «античным хиппи». В самом деле, есть
нечто общее в том образе жизни, который проповедовал
киник Диоген, и тем, что начертали на своих знаменах
хиппи (кроме разве что... отношения к наслаждениям).
Так вот, о Диогене Гегель в свое время писал, что он
своей фигурой представлял «продукт афинской
общественной жизни, и его определяло именно мнение,
против которого он вообще реагировал своим образом
жизни. Он поэтому не независим, а возник благодаря этому
общественному состоянию, и сам он представляет
собою некрасивый продукт роскоши»2.
Зачастую — особенно в наше время —
гедонистическая ориентация проявляется в более
«респектабельных», нежели у Диогена, формах — этакого
хронического недовольства или снисходительного пренебрежения
по отношению к социальной действительности. Такая
жизненная линия, выражающаяся опять-таки в позиции
1 См.: Социология контркультуры. (Инфантилизм как тип
мировосприятия и социальная болезнь). М., 1980; Баталов Э. Я. Со1-
циальная утопия и утопическое сознание в США. М., 1982.
2 Гегель Ф. Соч. М. — Л., 1934, т. VII, с. 221.
28
неучастия, может принимать видимость нравственного
самосовершенствования или напряженной духовной
жизни, поиска личного идеала и т. д. Однако если такая
позиция не реализуется в активной деятельности, направ*
ленной на благо других людей и общества в целом —
а, как мы видели, гедонистическая мораль в принципе
несовместима с такого рода активностью, — то
«нравственное совершенство» оказывается в действительности
«ширмой расписной» для бездеятельности, равнодушия,
духовной пустоты и фальши.
Не нужно обманываться, сама по себе деятельность,
которой предаются в усилии самосовершенствования
подобные лица, может быть насыщенной и эстетически
богатой, может в какой-то мере удовлетворять их
тягу к прекрасному, но она всегда будет представлять,
говоря словами Г. Гессе, «возвышенный вид
дезертирства» К
Замечательный итальянский мыслитель,
революционер, основатель Итальянской коммунистической партии
Антонио Грамши писал: «Ненавижу равнодушных.
Равнодушие — это не жизнь, а безволие, паразитизм,
трусость. Равнодушие — балласт истории. Это свинцовый
груз для новатора, это нечто инертное и вязкое,
зачастую гасящее самый пламенный энтузиазм!»2.
Крылатое выражение гласит: «Счастье — в борьбе».
Если быть строгим, это положение нужно несколько
уточнить: «Счастье — в победе, достигаемой в
результате борьбы, борьбы во имя лучших гуманистических и
общественных идеалов». Это трудное счастье... «Я
счастлив, но я не могу сказать, что мне легко» — эти
слова героя романа Г. Гессе Иозефа Кнехта выражают
суть активистского, негедонистического понимания
счастья.
1 Гессе Г. Игра в бисер. М., 1968, с. 146.
2 Г р а м ш и А. Избр. произв. М., 1980, с. 21.
29
«НЕТ ДОБРОДЕТЕЛИ БЕЗ СЧАСТЬЯ»
Когда большую группу молодых людей
попросили представить себе, что, по их мнению,,
будет, если в мире исчезнет страдание, почти все
они ответили, что это будет также мир без
радости, без любви, без семьи и друзей. Вероятно,
многие из них подумали о том, будет ли это на
самом деле мир людей.
К. Изард
Если упование на легкость лишь подспудно
обнаруживается в гедонистическом умонастроении, то тезис
«Нет добродетели без счастья (или в страдании)»
декларируется открыто. В столь явной форме его
сформулировал Л. Фейербах, но в различных вариациях, более
или менее ясных, он фигурирует в самых разных
произведениях, как философско-этических, так и
художественных. У Фейербаха, также и у Чернышевского, это
положение выдвигается в определенном теоретическом
обрамлении, хотя его гуманистически-моралистическая
суть не вызывает сомнений. Фейербах говорил о
необходимом для добродетели искоренении нужды и
установлении нормальных для человека условий жизни.
Чернышевский — вспомним главу «Похвальное слово Марье
Алексеевне» в «Что делать?» — в свою очередь,
доказывал, что плохим и вредным делают человека дурные
обстоятельства, несносная обстановка и т. д. Социальный
пафос этих мыслителей, направленный против
существующего общественного строя, нам понятен, близок и
привычен, и мы готовы принять эти сентенции, когда речь
идет об обществе в целом, когда таким образом
высказывается суждение о несправедливости или
неустроенности общественных нравов.
Можно, конечно, предположить, что само
гедонистическое умонастроение является в какой-то мере
отголоском сознания перенесенной нужды, во всяком случае с
социологической точки зрения, бесстрастно
прослеживающей причинно-следственные связи в общественной
30
жизни, — это предположение отнюдь не безосновательно.
В условиях нужды и лишений само по себе
удовлетворение потребностей, порой самых простых, витальных
оказывается непосредственным пределом бытия, за
которым все остальное утрачивает свое самостоятельное
значение.
Повторим: можно предположить, и вполне возможно,
что это предположение имеет под собой некоторое
основание; но ведь реальная нравственная жизнь людей
гораздо богаче отдельных «обоснованных» предположений.
В 1942 году в блокадном Ленинграде Ольга Берггольц
писала в «Февральском дневнике»:
В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурною дышали,
что внуки позавидовали б нам.
Для гедонистического сознания такое счастье в
принципе невообразимо, ибо оно видит смысл жизни в
удовлетворении потребности самой по себе, — в
гедонистическом отношении к миру, возбуждение и
удовлетворение желания оказывается самим процессом жизни.
Между тем мораль задает такое представление о
счастье, в котором человек мыслится приобщенным к
другим людям, их счастью. И в нужде, и в лишениях,
помимо вопроса о хлебе насущном, перед человеком
всегда стоит вопрос не менее важный, хотя кому-то он и
может показаться отвлеченным, — о назначении
человека в этом мире и его способности осуществить это
назначение, выполнить поставленную перед ним задачу.
Какова эта задача и в ком человек видит ее автора,
зависит от уровня его нравственного, гражданского
развития, широты его социального горизонта. Он может
видеть себя в ответе перед всем Человечеством, перед
историей, перед любимым человеком, родными,
соратниками, и в этой сопряженности с другими раскрывается
добродетель человеческого характера.
31
Это парадоксальное счастье в лишении покоится на
чувстве абсолютной исполненности, совершенности
бытия: когда жизненная задача заключается в том, чтобы
выжить, продержаться, выстоять, и эта задача
решается пусть каждый день, каждый отдельный момент
заново, но решается, и тогда индивидуальное бытие
представляется полностью осмысленным; а что есть счастье,
как не сознание осуществленности жизненного смысла?
Но ведь тогда, в немыслимую блокадную зиму, речь шла
не только о том, чтобы выжить, но выжить, сохранив
в себе все человеческое, сохранить вопреки голоду,
мраку, смерти. Более того — и это самое главное, —
выстоять и победить!
Вот почему с нравственной точки зрения тезис «нет
добродетели в страдании» нельзя принять в качестве
нормативного, ценностного положения, в качестве
такового он оказывается крайне двусмысленным и, по
существу, безнравственным. Тут всего лишь шаг до
отговорки: «Я несчастлив — не требуйте от меня
добродетели», «Я болен — что же вы ждете от меня
справедливости?», «Я вырос в плохой среде...», «У меня дурная
наследственность»... и т. д. — чего только не подскажет
человеку «услужливая совесть»! Как бы услышав
«Похвальное слово Марье Алексеевне», подпольный
человек Достоевского в истерике самооправдания
подхватывает: «Мне не дают... Я не хочу быть... добрым!»
Как будто дело других предоставить человеку
возможность быть добрым.
Правда, в психологическом плане все эти оговорки
и отговорки имеют некоторое основание: нравственные
отношения как отношения, в которых посредством
гармонизации интересов людей утверждается добро,
предполагают такие качества в человеке, как
благожелательность, терпимость, способность к взаимопониманию,
сочувствию, то есть в известном смысле деконцентрацию
внимания человека на самом себе, расположение к
другому. Характерно, что эти качества активизируются при
32
мажорном настроении и затормаживаются в печали или
в недомогании. В радостном состоянии,
свидетельствуют психологи, человек более восприимчив к красоте и
добру. Кажется, житейские наблюдения подтверждают
это. Есть люди, необязательно молодые и даже
необязательно мужчины, которые независимо от того,
напоминают ли им «...у нас принято уступать места
женщинам и пожилым людям», места уступают, причем не
только в метро, где подобные объявления поставлены
на современную основу, но и, например, в автобусе, где,
как правило, вообще редко что-нибудь объявляют. Но
даже среди этих достойных людей некоторые скорей
уступят место, находясь в хорошем настроении, нежели в
плохом, или же в хорошем настроении готовы уступить
место не только пожилой, но и просто женщине и т. п.
Иногда иронически даже говорят о добродетельном
состоянии души и, так сказать, о будничном настроении,
когда добродетельность «временно» можно отложить
или «оставить на десерт». Не только в области
межчеловеческих отношений, но и в познании, в деятельности,
направленной на достижение определенных целей, при
положительном настрое человек способен лучше себя
проявить, добиться более высоких результатов. Даже
оздоровительные комплексы физкультуры, чтобы они
были эффективны, рекомендуется исполнять,
предварительно подготовив себя психологически, настроившись
на «добрый лад».
Английские психологи поставили интересный
эксперимент, выявляющий зависимость между степенью
внутреннего удовлетворения, настроением человека, с одной
стороны, и его готовностью к доброжелательным
поступкам — с другой. Семи-восьмилетним детям в награду
за помощь, оказанную ими в выполнении некоторой
работы, выдавалось по 25 пенни. Затем ребятам говорили,
что не всех детей удалось привлечь к работе и было бы
неплохо пожертвовать немного денег в пользу тех, у
кого не было возможности заработать, — кто сколько
3 Р. Апресян 33
пожелает. Экспериментатор выходил, так что ребенок
был в полной уверенности, что никто не узнает, сколько
он положил денег в жертвенную копилку и положил ли
вообще. Суть эксперимента состояла в том, что до того,
как детям выдали деньги, одних просили подумать о
приятных вещах, других о нейтральных и третьих о
неприятных вещах. Так вот, те, кто думал о приятном,
пожертвовали значительно больше денег, чем те, кто
думал о нейтральных вещах, а те, кто думал о грустных
вещах, — значительно меньше. Следовательно, делали
вывод психологи, переживание радости и возникающее
при этом состояние счастья способствует
добродетельности, и, наоборот, грусть, плохое настроение —
препятствуют К
Раз так, то следует создать условия для того, чтобы
у человека постоянно было хорошее настроение, тогда
работа его будет более эффективной, а в области
межличностных отношений он всегда сможет проявить свою
добродетель. В современной буржуазной прикладной
этике даже появилось особое направление, трактующее
всю мораль как средство достижения индивидуального
счастья. Фелицитология (от лат. felicitas — счастье) —
это даже не столько этическое учение о счастье, а
технология счастья, психотехника счастья. Автор
популярнейшего наставления по деловому общению Дейл Корне-
ги учит: «Ведите себя так, словно вы уже счастливы,
и вы действительно почувствуете себя счастливым». Эта
заповедь детализируется, уточняется и переводится на
язык практических правил, исполняя которые
действительно можно добиться прилива бодрости, ощутить
внутреннюю радость, отключиться, расслабиться.
Словом, «хочешь быть счастливым — будь им»!
Это очень хорошо — уметь всегда сохранять
бодрость, оптимизм, спокойствие духа и поддерживать в
1 Эксперимент описан по кн.: Изард К. Эмоции человека. М.,
1980, с. 231—232.
34
себе состояние счастливой радости, невзирая на
перипетии судьбы, вне зависимости от того, каким
содержанием наполняется само понятие счастья и какие совершает
человек действия, дабы добиться его. Но ведь умение
быть счастливым само по себе не дает ответа на вопрос
о смысле этого счастья.
Более того, состояние счастья, удовлетворенности,
радости не гарантирует еще добродетельности, не
гарантирует той активности духа, которая направлена на
благо другого человека, ближнего или дальнего.
Выше были приведены результаты интересного
психологического эксперимента. При их интерпретации
нельзя забывать, что опыты ставились в лабораториях,
а участники эксперимента хотя и поступали свободно,
но сама ситуация, задуманная и заданная
экспериментатором, во многом определяла их поведение.
Лабораторное поведение в этом отношении однозначно,
односторонне. В данном случае это подтверждается
сравнением полученных результатов с итогами аналогичного
эксперимента, проведенного советскими психологами.
Исследование проводилось на трех группах четырех-
пятилетних детей. По условиям эксперимента ребенка
вводили в комнату, где были разбросаны игрушки, и
просили их собрать, чтобы другие дети смогли ими
поиграть. Через некоторое время после того, как ребенок
начинал убираться, его спрашивали, не хочет ли он
пойти погулять. Различие в проведении эксперимента
для трех групп заключалось в том, что
экспериментатор, предлагая собрать игрушки, одновременно
показывал ребятам одной группы фотографию детей,
опечаленных видом разбросанных в беспорядке игрушек, в
другой — это были фотографии больных детей,
которые не могли поиграть из-за беспорядка; детям третьей
группы экспериментатор не показывал никаких
фотографий, ограничиваясь лишь словесными инструкциями.
Так вот, из третьей группы на предложение пойГй
погулять откликнулись шестнадцать ребят из двадцати,
3* 35
в первой — тринадцать, а во второй еще меньше.
При этом нужно учесть, что для ребятишек этого
возраста гуляние является, возможно, самым интересным,
развлечением.
Как видно, мера альтруистичности поведения была
пропорциональна переживанию страдания, которое
вызывалось сочетанием словесной инструкции и
демонстрацией фотографии испытывающих страдание детей 1т
Нет, было бы неверно истолковывать эти данные так,
что забота о другом человеке, то есть добродетельность
в собственном смысле этого слова, непременно
сопряжена со страданием, однако они лишний раз говорят,
о том, что даже в самом малом без сострадания, без
сопереживания невозможна доброта в гуманистическом
смысле этого слова: как любовь к ближнему, как
человечность. Гедонистическое же освобождение от
страданий, абсолютизация наслаждения ведет в конечном
счете к жизни, замкнутой единичностью субъекта.
Советский психолог С. Л. Рубинштейн, размышляя
о смысле человеческого существования, писал:
«Превращение жизни в погоню за удовольствиями,
отвращающими человека от решения его жизненных задач,—•
это не жизнь, а ее извращение, приводящее к
неизбежному ее опустошению. Напротив, чем меньше мы
гонимся за счастьем, чем больше заняты делом своей
жизни, тем больше положительного удовлетворения,
счастья мы находим»2.
«ЖИЗНЬ РАДИ НАСЛАЖДЕНИЯ». ГЕДОНИСТИЧЕСКОЕ
СВОЕВОЛИЕ И ОПУСТОШЕНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Рассуждение о месте удовольствия в иерархии
ценностей человека требует большой деликатности; здесь
опасно впасть в фарисейскую моралистичность, в аске-
1 См.: Изард К. Эмоции человека. М., 1980, с. 264.
2 Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1976,
с. 365.
36
тпческий педантизм и потопить в назидательном пафосе
естественно присущее каждому человеку чувство пол-
поты жизни, игру телесных сил, блаженную память
нечастых мгновений полного отдохновения, веселья,
захватывающего развлечения.
Но одно дело ценить это, стремиться к этому и
другое — видеть в этом цель жизни, свое назначение.
Аристотель, подвергший вопрос о месте наслаждения в
жизни человека наиболее обстоятельному в античности
рассмотрению, указывал в связи с этим на один
малозначительный, как он сам считал, нюанс, благодаря
которому в гедонистическом отношении к миру
открывается еще одна важная черта. Вот что писал Аристотель:
«Во имя чего мы выбираем: жизнь во имя удовольствия
или удовольствие во имя жизни» К Конечно, нельзя
отделить одно от другого, но при гедонистическом ми-
роотношении происходит такая перестройка морального
сознания, что первой части Аристотелевой формулы
придается исключительное значение, и сама жизнь
приобретает ценность лишь как возможность получения
наслаждения. Как говорил В. Г. Белинский о
сладострастном повесе Дон Жуане, «для него жить — значит
наслаждаться». Для гедониста весь мир расщепляется
на то, что доставляет наслаждение, и на то, что
таковым качеством не обладает; причем первое
превозносится безусловно, каким бы оно ни было.
«Наслаждение является благом, даже если оно порождается
безобразнейшими вещами», — учил Аристипп; высшая цель
разумного человека, вторил своему учителю Гегессий,
«жить без боли и огорчения, а достигают этого более
всего те, кто не делает разницы между источниками
наслаждения» 2.
В этом пункте гедонистический образ мысли
получает наиболее опасную модуляцию: ведь если наслаж-
1 Аристотель. Соч., т. 4. М., 1983, с. 275.
2Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов. М., 1979, с. 131, 134.
37
дение оказывается тем, что представляет собой
ценность саму по себе, то все остальное воспринимается
лишь как условие или возможное средство
наслаждения. Такая логика не знает ни меры, ни предела.
Не случайно еще Платон устами Сократа указывал на
то, что гедонизм ведет к неистовству и разнузданности.
В самом деле, если удовольствие, вообще легкость
рассматриваются как самоцель, как единственное, ради
чего стоит жить, то всякая мера или масштаб,
накладывая узду на гедонистическое стремление, низводит
его до чего-то второстепенного, несамоценного,
обусловленного. Иными словами, при гедонистическом образе
мысли наслаждение и умеренность несовместимы.
Было бы наивным думать, что максимализация
наслаждения направлена на его сублимацию или
утонченность. Наоборот, духовные наслаждения обычно
гораздо менее интенсивны, нежели чувственно-телесные;
по сути, лишь последние и являются «абсолютными»,
«чистыми» наслаждениями.
В этой крайней своей форме гедонистическое
отношение к миру обращается в сладострастное
вожделение, посредством которого человек осознает себя
существующим лишь в объекте своего вожделения, а сам
объект независимо от того, что он объективно собой
представляет, воспринимается исключительно в плане
возможности утоления страсти. Обнаруживая объект
вожделения, гедонист полностью лишает его какого-
либо смысла, помимо того, что объект может насыщать
вожделеющую страсть, и самим актом
самоудовлетворения разрушает его. Именно это увидел в пушкинском
Дон Гуане В. Г. Белинский: «Его одностороннее
стремление не могло не обратиться в безнравственную
крайность, потому что для удовлетворения ее он
должен был губить женщин по их положению в
обществе — и он сделал себе из этого ремесло» *.
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1955, т. VII, с. 575.
38
Однако донжуанство, соединяющее в себе погоню за
наслаждениями и авантюрное приключение,
безрассудность и плутовское веселье, цинизм и
кратковременную пылкость необузданной страсти, еще не
представляет собой предел в развитии гедонистического
своеволия. Более того, в обиходе, когда мы говорим о ком-
то «донжуан», то редко вкладываем в это
определение негодование, скорее мы досадуем: «Вот проказник!»
Известная привлекательность образа Дон Жуана и
наша снисходительность к нему обусловлены не столько
бытующими нравами, сколько романтической
литературной традицией, представляющей героя хоть и
односторонне развившейся, но яркой личностью, — а его
жертв — безликими, психологически аморфными
«прелестницами». Они обманываются в намерениях Дон
Жуана, но не в том, на что он их соблазняет.
Распутный повеса лишь снимает запреты, ко всему
остальному его жертвы как будто уже готовы.
Донжуаны в жизни совсем не так блестящи, как в
литературе, а их жертвы, наоборот, не безликие маски,
но реальные лица с действительным горем и
трагическим поворотом судьбы. И тогда мы находим более
четкие и строгие определения, а не говорим:
«Донжуан». Развлечение за счет другого, счастье за счет
возможного несчастья другого — это вид морального
садизма. Собственно говоря, садизм является
своеобразным ответвлением гедонизма — явлением, в
котором все моменты гедонистического мироощущения
оказываются развитыми до крайней точки, где «мораль»
наслаждения органично срастается с «моралью»
насилия; где полнота неистово-эгоистического
наслаждения обеспечивается благодаря всеразрушающему
насилию.
При этом садистическое деяние зачастую
прослеживается в любых формах деспотизма, административного
ража, межличностной (неформальной) тирании и
связано с такими способами самореализации человека, ко-
39
торые основаны на унижении другого человека,
издевательстве над ним.
Вот почему садистическая психология и жизненная
позиция представляют собой одну из крайних форм
антигуманного элитаризма. Отношения Я — Ты
оборачиваются здесь полным доминированием Я над Ты,
отрицанием последнего в качестве самоценной,
обладающей достоинством личности.
...Трое молодых людей, на вид славных, веселых,
интеллигентных, знакомятся на улице большого города
с девушкой, предлагают ей приятно провести с ними
время, приглашают к одному из них домой, затем
подвергают оскорбительному насилию, наговаривают
всяких ужасов и, запугав с тем, чтобы гарантировать ее
молчание, требуют дать расписку в том, что она... агент
иностранной разведки. Этот случай описала Ольга
Чайковская, постаравшись вскрыть действительную
нравственно-психологическую подоплеку совершившегося в
наши дни варварского насилия. Один из ее выводов
заключается, в частности, в том, что образованные и
обходительные молодые люди, успевшие добиться
определенных результатов в той научной деятельности,
которую они избрали, видели в незнакомой им девушке
существо низшей породы и потому были убеждены, что
она, ничтожество, покорно смолчит и что ее можно
будет держать в руках с помощью идиотской расписки \
Насколько же типично это отношение к другому для
садистического характера! Вот и героиня романа
маркиза де Сада2 «Преуспеяние порока» аббатиса Дель-
бен, устроив в монастыре содомическое издевательство
над десятилетней девочкой, в ответ на чье-то робкое
замечание, что девочка при смерти, в экстазе воскли-
1 Чайковская О. Кто же они такие. — Лит. газета, 1973,
23 августа.
2 Маркиз де Сад (1740—1814) — французский писатель,
от имени которого и образовано название рассматриваемого
явления.
40
цает: «Ну-ну, это одно притворство! И потом, что для
меня значит существование этой шлюхи? Она здесь
только для наших развлечений, и черт побери, она им
послужит!» Нигилистический аморализм, насилие,
жажда наслаждений соединены здесь неразрывно. Но, надо
заметить, истинное отношение к жертве выражено здесь
не сразу: прежде высказывается недоверие к ее
чувствам и переживаниям, затем девочка называется
шлюхой, что как бы предрешает ее судьбу — шлюхе-то того
и надо! — и тем самым уже оправдывается то, что
разворачивается в оргиастическом насилии.
Героине очерка Евгения Богата Наташе Лавровой, к
счастью, далеко до неистовой аббатисы. Автор
встретился с Наташей в колонии, где Наташа отбывала
наказание за кражу и за жестокое избиение подруги.
К моменту встречи Наташа многое передумала, в чем-
то стала другой; но в разговоре с публицистом она
откровенно признается, что бить любит. С детства. «И
били с удовольствием?» — спрашивает Богат. «С
большим. С наслаждением», — отвечает она. Бить
приходилось довольно часто; как у подруги уведет девочка
мальчика, так бежали к Наташе, она и наказывала
девочку или хмальчика — в зависимости от того, кто
больше виноват. Что здесь интересно, так это мотивация
поступков (приносящих, как мы видели, Наташе
наслаждение). Била она, оказывается, «из любви к подругам»
и... «из чувства справедливости!»1
Сколь гибко и изворотливо извращенное моральное
сознание! Недоверие к человеку и связанное с этим
произвольное занижение нравственного статуса другой
личности, борьба за «справедливость» и исполнение
вытекающего из дружеских отношений «долга». Все это
оправдывает любое злодеяние. Но такой «моралист» не
ограничивается этими доводами. Он с готовностью
принимает еще и позу благодетеля, усматривая нравствен-
1 Богат Ев г. Чувства и вещи. М., 1975, с. 247—249.
41
ное возвышение своей жертвы в унижении.
«Оскорбление, — проносится в воспаленном уме такого человека
в минуту рокового разрыва с доверившейся ему до
конца женщиной, — да ведь это очищение, это самое едкое
и больное сознание!» Да как же после этого удержаться
от оскорбления, унижения, издевательства, если есть
такая возможность совершить благодеяние, способствовать
очищению и облагораживанию человека!
Собственно говоря, такое отношение к человеку было
заложено уже в гедонизме киренаиков, в их
представлении о мудреце — человеке, концентрирующем в себе
истинное знание и придерживающемся подлинного
образа жизни. Молодой К. Маркс в подготовительных
рукописях к докторской диссертации писал: «Греческая
философия начинается с семи мудрецов... и она
оканчивается первой попыткой выразить в понятиях образ
мудреца» !. Понятие мудреца — sofos — Маркс считал
центральным для греческой философии и этапы в ее
развитии выделял в соответствии с изменениями в
трактовке этого понятия различными греческими
мыслителями. Киренаики вносят в это традиционное для
древнегреческой философии представление своеобразное
содержание: киренаический мудрец — это тот самый
гедонист, который живет ради себя, полагая, что никто из
других людей его не стоит, а он приносит людям
гораздо больше пользы, чем кто-либо другой. Если мудрец
заводит дружбу, то лишь ради выгоды; блуд, кража,
святотатство для него ничего не значат: ведь «от
природы» в этом нет ничего мерзкого, а обычное мнение
придумало эти понятия для обуздания неразумных. В
такой перевернутости идеи мудреца мудрость перестает
быть предпосылкой повышения моральной
ответственности, достижения нравственного совершенства, — она
исчерпывается правом на нечестивое своеволие, умение
подняться над «толпой» и пользоваться ее же слабостями.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 40, с, 53,
42
ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСЫЩЕННОГО СОЗНАНИЯ
Душа устает от всего однообразного, даже от
постоянного счастья.
Стендаль
Психология безудержной гонки за удовольствиями
(а мы видели, что гедонистическое сознание в своем
последовательном развитии не терпит никакой меры)
неизбежно приводит к пресыщению и утрате интереса к
тому, что познано, испытано. Состояние пресыщенности
неизбежно для гедониста. Апатия и скука — таков
естественный итог переизбытка наслаждений. Чем их
больше, тем они кажутся более унылыми. И хотя
никакая другая активность не привлекает гедониста,
жизнь в наслаждении, жизнь ради наслаждения
становится постылой. Об этом говорит, например, статья в
«Комсомольской правде» «История одной компании»1,
а затем публикации по этой статье писем молодых
читателей, рассказывающих о своих компаниях. Вот что
пишет Светлана Ш. из Тюменской области: «Мы не
способны приносить радость не только окружающим,
даже друг другу. Живем настоящим днем, а что было и
что будет, нас не волнует. У нас нет никаких
увлечений, нам лишь бы провести веселее вечер» 2. Светлана
отнюдь не бравирует своим образом жизни. Как и
многие другие, прошедшие через эйфорию гедонистических
радостей, она тяготится и своим досугом, и приятелями
по «веселым вечерам». Юность — это время сильных
увлечений, первых жизненных испытаний, время, когда
зарождается настоящая дружба. Но не на ежедневных
«веселых вечерах» обретается духовная близость с
товарищами и не здесь юноша или девушка утверждают
себя как личности. Однако дело в том, что
гедонистическая личность, даже переживающая кризис
пресыщения, не всегда способна самостоятельно преодолеть сфор-
1 Комсомольская правда, 1985, 9 июня.
2 Там же, 25 августа,
43
мирозавшиеся наклонности, покинуть привычный круг
общения. Ведь это предполагает известную смену
ценностей, поиск нового стиля жизни, а иногда и
болезненный разрыв с компанией, для которой уход товарища
воспринимается как «вызов дружбе», недопустимое
отступничество. Пассивной, подвергшейся гедонистической
коррозии личности вынести все это не под силу, и, если
нет рядом готового помочь преданного друга или
мудрого наставника, она продолжает томиться
приевшимися удовольствиями, постепенно утрачивая веру в людей
и в смысл жизни.
Но не всегда пресыщение и порождаемая ею скука
означают смерть желания. Нередко они выливаются в
требование новизны наслаждений и, как следствие,
наслаждение новизной. Это стремление гедонистически
ориентированной личности обостряется тем больше, чем
глубже она осваивает нюансы гедонистической
практики. Ей необходимы все более интенсивные
раздражители, и в качестве таковых выступают вино и азартные
увлечения, сладости и сладострастие. Наш век породил
особый вид пресыщенности — интеллектуальную
пресыщенность; она носит социально-умеренный,
сдержанный характер и в чем-то даже респектабельна. Но суть
от этого не меняется. Томящееся от информационной
пресыщенности сознание находится в постоянной погоне
за новыми порциями информации, научной, скорее пара-
научной, политической, художественной. Ценность
информации как интеллектуального допинга
обусловливается не только тем, что ею заполняются пустоты
скучающего духа, но и тем, что обладание ею оказывается
символом особого достоинства, престижа. Гедонизм
обнаруживает себя в снобизме.
Жажда новизны во многом определяет линию
гедонистического поведения. Это связано с тем, что в
ориентирующемся на удовольствие отношении к миру у
человека изменяется переживание своего социального, или
жизненного, времени. Личное, психологически пережива-
44
емое время нельзя измерить единой мерой хронометра.
Оно протекает по-разному не только в детстве и в
старости; ритм жизни каждого человека постоянно меняет-,
ся, то ускоряясь, то замедляясь. Переживание нового,
неожиданного воспринимается как более длительное,
нежели переживание обычного, ставшего привычным. Вре-
мяощущение в страдании и удовольствии имеет свою
определенность, свой ритм: страдание протяженно,
удовольствие скоротечно. Это определяется как
физиологическими, так и психологическими закономерностями.
Современная наука в противоположность
классической философии говорит о том, что удовольствие и
страдание отнюдь не сбалансированы в организме
человека; более того, между ними имеется известная
асимметрия, выражающаяся в том, что биологически боль
охватывает большее количество нервных центров,
нежели удовольствие. Но дело не только в этом. Страдание
не обязательно физическое, но и духовное, — муки
совести, например, или переживание крупной неудачи,
срыва — ощущается человеком каждой клеточкой, чуть ли
не телесно. В удовольствии же, наоборот, он
концентрируется не на своих внутренних ощущениях, а на
объекте, явившемся источником наслаждения. Поэтому для
гедониста остается лишь один путь — разнообразие
наслаждений. Новизна и необычность наслаждения
становятся, таким образом, принципом гедонистического
отношения к миру. В известной мере этот принцип
противостоит другой ценности гедонизма — легкости и
необремененности бытия. Но с этой противоположностью
гедонистическое сознание примиряется, ибо те волевые
усилия, подчас довольно активные, которые
предпринимаются для разнообразия течения жизни, имеют
однозначный результат: развлечение и снятие в
наслаждении изнуряющего ощущения пресыщенности.
Такое стремление к неординарности,
экстравагантности поведения характерно для подросткового,
юношеского возраста. Психология этого возраста во многом гедо-
45
нистична, хотя нельзя сказать, что эта ориентация в
нем безусловно доминирует. Тем не менее (не
случайно рассуждение о гедонизме было начато с
инфантилизма) моральный гедонизм сохраняет в себе существенные
психологические черты подростково-юношеского
сознания, стихийно независимого от действительных
общественных и межличностных отношений, в какой-то
мере авантюрного, анархического.
Личность, ориентирующаяся только на наслаждение,
стремится к дискредитации любых норм и ценностей,
поскольку они препятствуют необузданности
эгоистического своеволия. Но в них она вполне резонно
усматривает и предел эксцентричной самореализации: более
того, именно в их преодолении она находит смысл
самореализации.
В принципе можно понять, что человеку иногда
приятно, интересно поступить так, как обычно он не
поступает или как не рекомендуется поступать. Он ищет
ситуации, в которых данные правила не применяются,
он сам создает условия, в которых они как будто
перестают быть значимыми. В момент нарушения правила
он видит себя самостоятельным, независимым,
оригинальным. Порой он стремится увильнуть даже от
правил, установленных им самим, нарушить однажды
заведенный для себя порядок. Такое «своеволие» является
формой отдыха, расслабления, и оно встречается, как
правило, не в отношении к операциональным, или
техническим, правилам, а к социальным, моральным
нормам. У некоторых народов такое отдохновение,
«рекреационное» освобождение от обычного распорядка
принимает организованные формы, например карнавала —
своеобразного «праздника непослушания». В
незначительной степени этот элемент присутствует в принятых
у нас праздничных гуляньях и выражается, скажем, во
временной отмене некоторых правил уличного движения.
Гедонистическая личность может воспользоваться
подобными формами приостановки социальных регулято-.
46
ров поведения, но она ни в коей мере не
довольствуется этим. Ее поступок должен быть вызовом, должен
быть антипоступком. Авантюрное сознание находит в
любом установлении, в любой регламентации лишь
морализацию. «Надоедает обычный распорядок и нудное
нравоучение и наставление, — объясняет свое поведение
«трудный» подросток. — Хочется, как пескарю из сал-
тыковской сказки, гоголем пройтись по реке. Ведь даже
и пескарю и тому бывает скучно на одном месте»1.
Поступок призван преодолеть эту морализацию, нарушить
установившийся порядок.
Такая установка содержится, в частности, в так
называемых немотивированных поступках.
«Немотивированность» — понятие условное, скорее даже
метафорическое, оно означает, что в намерения деятеля не
входит то, что оказывается затем результатом действия, да
и сама ситуация действия никак не сопряжена с
внутренним состоянием человека, его совершающего.
Отклоняющийся поступок — девиация, — выражается ли он
в актах вандализма и жестокости или в незаметном
воздержании от исполнения определенных рекомендаций,
имеет значение именно своим отрицанием
установившегося порядка, «эпатированием публики». При этом,
конечно, неважно, кто оказывается объектом девиантного
поведения.
Этот род действий, подчас откровенно
противоправных, вдруг открыли у известной части молодежи юристы
и педагоги; хотя то, что немотивированное поведение
открыто недавно, еще не означает его безусловной
новизны. Конечно, в результате резкой акселерации оно
получило значительное распространение, причем в особенно
жестоких формах, но как тип поведения оно всегда
содержалось в глубинах гедонистического образа жизни.
В идеальном и довольно мягком виде ее сумел изобра-
1 Филонов Л. Б. Отношение к нравственным нормам и
средства «оправдания» отклонений в поведении «трудных» подростков. —
В кн.: Социальная психология личности. М., 1979, с. 130.
47
зить еще Ф. М. Достоевский. Юная героиня романа
«Братья Карамазовы», несчастная Lise, лелеет мечту
именно о таком действии. В разговоре с Алешей она
признается, что ей хотелось бы сотворить зло, —
«чтобы нигде ничего не осталось». «Ах, как бы хорошо, —
восклицает она, — чтобы ничего не осталось!» И
далее: «Знаете, Алеша, я иногда думаю наделать ужасно
много зла и всего скверного, и долго буду тихонько
делать и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут
показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть.
Это очень приятно».
Как характерно это «чтобы ничего не осталось»! В
отличие от эпизодического отступления от отдельных норм
и ценностей здесь разрушенным видится весь
привычный и «скучный» в своей обыденности мир. ,
В самом по себе вызове порядку может и не быть
ничего своевольного и аморального. Более того, когда
этика говорит, что нравственности принадлежат особые
средства в регуляции и ценностной ориентации
поведения людей, то, в частности, предполагается, что мораль
в отличие от традиции, обычая, права взламывает
сложившиеся, ставшие рутинными стереотипы и в этом
смысле выполняет критическую, очищающую функцию
в обществе. Но одно дело, когда это очищение
осуществляется во имя людей, во имя общества, к другое
дело, когда оно рассматривается как средство личного
самоутверждения, причем такого, которое направлено
против других людей, совершается без какой бы то ни
было мысли о них. Ведь моральная позиция, моральная
точка зрения выражаются в том, что, поступая
определенным образом, человек исходит из того, что любой
другой на его месте должен поступать так же. Этика
говорит в таком случае об универсализуемости
моральной позиции (или морального действия, суждения), то
есть о ее возможности, ее тенденции быть всеобщей
моральной позицией. Конечно, до тех пор, пока
сохраняются социальные, психологические, нравственные раз-
48
личия между людьми, универсализуемость моральных
форм объективно не может быть полной. Тем не менее
она представляет собой существенный момент в
механизме морального регулирования поведения человека,
в частности посредством уннверсализуемости поступков
и суждений морали удается гармонизировать интересы
людей, ориентировать их на нравственно должное.
Гедонист же, нарушающий общепринятые нормы,
уповает на свою исключительность как деятеля, на
особую собственную предназначенность. Как заметили
психологи и педагоги, это специфическим образом
проявляется в поведении «трудных» подростков и
выражается, в частности, в том, что для них не имеют смысла
аргументы типа: «...А если бы все так делали». И дело
не только в том, что негативно-агрессивное отношение
к подобным поучениям взрослых определяется
желанием сохранить внутреннюю мотивацию, внешнюю
независимость суждений и поведения, но и в том, что для
гедониста аргумент «как другие» немыслим, — он
разрушает именно установку на сознательное
противостояние другим, разрушает заносчивое возвышение над
ними.
ГЕДОНИЗМ И ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО
Когда б не плотским оком обозреть
Живую долю прелести земной,
Я полагаю, блага жизни впредь
Предстанут только ширмой расписной.
Ф. Пессоа
Принято считать, что одним из современных
проявлений гедонизма является потребительство. С этим
можно согласиться, хотя следует сказать, что это гедонизм
совершенно особого рода. Он соединяет в себе погоню
за удовольствием, успехом, престижем одновременно;
можно сказать, это прагматический гедонизм, развива-
4 Р. Апресян 49
ющийся на основе массового улучшения качества
жизни, резкого повышения стандартов потребления.
Как уже можно было видеть, гедонизм, по сути, вс(
всех своих формах является психологией
потребления. Ведь гедонистическая личность ко всему, что ее
окружает, относится как к средству удовлетворения
своих потребностей, то есть средству получения
наслаждений. Это и есть отношение потребления. Как
подчеркивал К. Маркс, в потреблении субъективируется вещь в
отличие ог производства, в котором объективируется
личность. В гедонистическом освоении мира этот
процесс получает свое абсолютное воплощение. Предметы
гедонистического потребления полностью
субъективированы, их значение исчерпывается исключительно тем,
что выделяет в них потребляющая личность.
Конечно, нормы и характер потребления являются
важным фактором социализации, включения его в
систему разнообразных общественных отношений.
Стихийные и регулируемые изменения а стандартах
потребления (к примеру, динамика моды) представляют собой
незаменимый элемент общественного развития, гибкое
средство «проветривания» нравов, общественного
мнения. Однако в силу определенных экономических,
социально-психологических причин эти процессы часто
получают превратное отражение в сознании многих людей,
так что потребление ради удовлетворения потребностей
уступает место потреблению напоказ, демонстративно-
престижному потреблению; потребление становится
преобладающим мотивом индивидуально-массового
поведения.
В обычной речи мы нередко говорим:
«потребительство», «вещизм», не обращая внимания на те
смысловые нюансы, которые несут эти слова. И то и другое
понятие используются нами как равнозначные. Между
тем в них таится различие, довольно важное для наших
рассуждений. Вещизм представляет собой такой тип
сознания и практического отношения к миру, при кото-
50
ром объектом вожделения оказываются в первую
очередь материальные ценности — вещи или услуги. В их
потреблении и приобретении такая личность
усматривает подлинное свое предназначение. Потребительство —
явление более широкое, хотя во многих своих формах
перемежающееся с вещизмом. В потребительстве,
потребительском отношении к миру, предметом которого
могут быть и идеи, и произведения искусства, и
человеческие отношения, все окружающее воспринимается
человеком уже не только как источник наслаждения, но и
как способ личного самовыражения, решения
каких-либо личных проблем. Потребление, таким образом,
перестает быть самоценным, что мы находим в вещизме.
Потребительски-ориентированный индивид
устремляется в погоню не просто за вещами, а за
престижными, «фирмовыми» вещами. Последнее приобретает
самодовлеющее значение, фетишизируется. Этикетка-флажок
превращается в знамя потребительского
миросозерцания. Вот почему в потребительстве дегуманизация
личности приобретает особые размеры. В гедонизме дегу-
манизировался, низводился до вещи человек как объект
вожделения, сама же вожделеющая личность видела
себя воплощением всей полноты человеческих качеств и
способностей. Потребительская личность сама
оказывается дегуманизированной, сведенной к той сумме
вещей, которой она обладает, и мера ее человечности
исчерпывается ее способностями к приобретению.
Потребляющий субъект обезличивается во имя вещи,
растворяется в ней. Перефразируя слова К. Маркса, можно
сказать, что в потребительстве не вещь
субъективируется, а личность объективируется в вещи, но не в той,
которую она производит, а в той, которой она обладает.
Потребительская психология обнаруживает
поразительное сходство с капиталистической жаждой
накопления. В этом сходстве наиболее ярко проявляется
мелкобуржуазная, несоциалисткческая природа
потребительского образа жизни, потребительской нравственности.
4* 51
К. Маркс писал, что олицетворяющий капитал
буржуа — «деятельный капиталист» — видит в богатстве
высшую цель своих жизненных устремлений; он жаждет
богатства ради богатства, обогащения ради обогащения.
При этом капиталист заинтересован в увеличении не
потребительной стоимости своего богатства, не в том,
что может удовлетворить Есе многообразие его
действительных потребностей, он устремлен к увеличению
меновой стоимости, ибо обладание именно меновыми
стоимостями и означает в капиталистическом обществе
обладание богатством: посредством меновой стоимости
можно приобрести все. Приумножая меновую стоимость,
буржуа удовлетворяет лишь одну свою потребность —
потребность в обогащении, но, удовлетворяя эту одну
потребность, он удовлетворяет себя полностью.
«Правда, — писал К. Маркс, — чем больше возрастает его
богатство, тем больше он изменяет этому идеалу и сам
становится расточительным, хотя бы для того, чтобы
выставлять напоказ свое богатство». Так что он все
более стремится к «накоплению наслаждений, вместо
наслаждений накоплением» К
В демонстративно-престижном потреблении
обуреваемый страстью индивид так же стремится к
приобретению товаров-символов; их действительная способность
удовлетворять потребности при этом практически не
принимается им во внимание. И так же, как для
буржуа главное богатство заключается в капитале, для
потребителя деньги являются наиболее престижной,
открывающей широчайшие возможности вещью, —
символом всех символов. «Деньги приносят мне своего
рода счастье» — это признание из письма в
«Комсомольскую правду» молодой крановщицы из Сибири
подкупает своей прямотой. Вот уж действительно «замена
счастию» — универсальная замена!
В «Экономическо-философских рукописях 1844 года»
> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 276, 277.
52
К. Маркс на основе анализа двух отрывков из
Шекспира и Гёте так описывает сущность денег:
«То, что существует для меня благодаря деньгам, то,
что я могу оплатить, т. е. то, что могут купить деньги,
это — я сам, владелец денег... Свойства денег суть
мои — их владельца — свойства и сущностные силы.
Поэтому то, что я есть и что я в состоянии сделать,
определяется отнюдь не моей индивидуальностью. Я
уродлив, но я могу купить себе красивейшую женщину.
Значит, я не уродлив, ибо действие уродства, его
отпугивающая сила, сводится на нет деньгами. Пусть я по своей
индивидуальности — хромой, но деньги добывают мне
24 ноги; значит я не хромой. Я плохой, нечестный,
бессовестный, скудоумный человек, но деньги в почете, и
значит в почете и их владелец. Деньги являются
высшим благом — значит хорош и их владелец. ... И
разве я, который с помощью денег способен получить все,
что жаждет человеческое сердце, разве я не обладаю
всеми человеческими способностями? Итак, разве мои
деньги не превращают всякую мою немощь в ее прямую
противоположность?» 1
Этим рассуждениям К. Маркса созвучны мысли
Ф. М. Достоевского, высказанные им в «Записках из
Мертвого дома», в том месте, где он рассказывает о
значении денег в остроге. На каторге деньги были тем,
благодаря чему каторжник оказывался вроде бы
свободным. Деньги давали ему возможность преступить
правило, жесткий распорядок (достать вина,
«попользоваться клубничкой» и т. п.) и просто проявить свою волю.
Ведь, тратя деньги, он поступает по своей воле,
реализуя свой выбор. Хотя это, конечно, свобода каторжной
воли.
В том-то и дело, что свобода в мире
товарно-денежных отношений — отношений, отчужденных от
человека, не может не быть отчужденной свободой. Свобода
Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 148.
53
приобретения, свобода покупки — это тоже свобода, но
покупаемая и продаваемая свобода. Осуществляя свою
свободу в трате денег, я одновременно продаю ее,
утрачиваю свободу в приобретенном товаре, а если
сохраняю ее, то лишь как свободу господства над вещами.
Это односторонняя свобода односторонне развитой
индивидуальности. Но это такая односторонность,
которая самому обладателю денег (меновых стоимостей,
престижных вещей) представляется вполне
универсальной. Какое ему дело до того, что это универсальность
случая, иллюзорная, нечеловеческая универсальность
отторгнутого от своих действительных свойств и
способностей человека.
Нередко можно услышать мнение, что
потребительство представляет собой прежде всего экономическую
проблему, точнее, реакцию на нерешенность
экономических, хозяйственных проблем, связанных с
производством и распределением товаров и услуг. Стоит эти
проблемы решить, как сами собой снимутся острые
нравственные, психологические коллизии, связанные с
потребительством — этой болезнью роста.
Конечно, потребительские страсти в значительной
степени подогреваются наличием дефицита на многие виды
товаров и услуг. Когда на заработанные деньги
невозможно приобрести необходимые вещи, когда человек
оказывается вынужденным большую часть досуга
уделять задаче отыскания этих вещей, тогда, естественно,
процесс потребления может стать средоточием всех
мыслей, забот, дел. Более того, в этих условиях происходит
известная переориентация сознания. Психологи говорят,
что активизированная потребностью психическая
функция затухает далеко не сразу после удовлетворения
потребности; по инерции она продолжает находиться в
состоянии активности и оказывает обратное воздействие
на потребности организма. Так и в потреблении. Купив
(достав, «отхватив») вожделенный предмет, человек не
успокаивается, он испытывает даже некоторое разочаро-
54
вание. Не потому, что покупка оказалась неудачной,
хотя вынужденная покупка в самом деле не всегда
бывает нам по душе, но потому, что в покупке
осуществляется выбор, достигается цель. А между тем
сформированная внутренняя установка на поиск, борьбу по инерции
сохраняется; сам поиск оказывается увлекательным,
интересным. Не успокоенная, но только раззадоренная
приобретением натура вновь рвется в игру, жаждет для
себя дела. Ведь, будучи вовлеченным объективным
стечением обстоятельств в потребительскую деятельность
и освоившись с ней, человек обнаруживает, что эта
деятельность тоже может быть выражением
свободы, может удовлетворять высшую потребность —
в свободе выбора, хотя бы выбора покупки,
приобретения.
В одном из писем к Р. Рильке Марина Цветаева пи-
салаП^Т^гд^^ч^ч^р^к к^и я, не имеет HjLJ^£*v-«#-Rpe^
мени, он выбирает необходимость: насущное». У
современного Человека частд^есть-й- деньги и Бремя ом-у
Нёдбста-ГОЧНОi насущного^ да и само насущное он не
принимает более в прежних формах и масштЗТгихг
*Для многих приобретение вещей и пользование
услугами обусловлено не столько потребительскими
амбициями, сколько необходимостью оправдания статуса.
Обладание дефицитными, модными, дорогими вещами
—своего рода визитная карточка для тех, от мнения или
отношения которых зависит наш успех. Вот и
получается, что ценности потребительства, вещизма становятся
императивами, начинают регулировать поведение даже
тех, кто эти ценности не разделяет.
Упомянутый «экономический» подход неявно исходит
из пеешн^гг^то в Принципе возможна такая
организация общсстнетшои жизни, при которой в одинаковой
('топрпи мгнгтпГ^^удовлетворяхься все потрр^д*^^рй^"Нп
в том-тог-и-делоТ^о^^ развитии ибЩЕГсТва"
резко усиливается действие захпк^. ^о^яышения
потребностей. Па высоком уровне производства,....рлслределе-
55
ния и обмена можно добиться такого положения дел,
когда свободно удовлетворяются привычные, массовые
запросы и потребности, но всегда будет сохраняться
некоторая доля товаров и услуг — сверхмодных,
новейших, в которых временно будет испытываться известный
недостаток. И даже при полном удовлетворении
потребностей нет гарантии того, что само по себе потребление
перейдет на второй план в жизни каждого человека, а
духовные, культурные ценности будут определять его
ведущие ориентации. У некоторых категорий людей рост
благосостояния может создать лишь новые возможности
для гипертрофии потребительских, гедонистических
устремлений. Как говорил М. Монтень, «не нужда, но
скорей изобилие порождает в нас жадность» х.
Ограниченность «экономического» подхода к
рассматриваемому общественному явлению выражается, в
частности, в том, что социальная необходимость в нем
сводится только к материальным отношениям, а
надстроечные, идеологические отношения толкуются только
как «следствие» материальных отношений. Это
действительно так, когда речь идет об обществе в целом, но для
отдельной личности как материальные, так и
идеологические отношения выполняют роль детерминант ее
поведения и сознания.
«Наслаждаться, чтобы жить, или жить, чтобы
наслаждаться?» — этот вопрос Аристотеля возникает
вновь: потреблять, чтобы жить, или жить ради
потребления? От того, какую жизнь выбирает человек,
зависит его ответ и на этот вопрос. Он может принять ме-
щанско-мелкобуржуазное: «Каждому столько, сколько
он может себе присвоить», либо же вслед за героем
романа Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа», он может
повторить: «Я призван был отдавать отечеству все, а
получать лишь столько, сколько нужно было, чтобы
отдавать все».
1 Монтр-.о М. Опыты. М., 1979, т. 1, с. 60.
56
НАСЛАЖДЕНИЕ И ТРУД
Добровольная производительная деятельность
является высшим из известных нам наслаждений.
Ф. Энгельс
А не получается ли в наших рассуждениях так, что
принцип наслаждения полностью противостоит
социалистической морали, марксистскому мировоззрению? Ведь
по всем позициям обнаруживается, что осуществление
этого принципа является результатом себялюбия или
индивидуалистического своеволия, ведет к
дегуманизации межличностных отношений, более того, разрыву всех
нравственных связей.
Из всего того, что было сказано выше, такой вывод
отнюдь не следует. Отказываться от принципа
наслаждения в результате критики гедонизма, как в его
крайних, так и умеренных формах, значит уподоблять
коммунистическую мораль аскетизму, что в корне
противоречит и букве и духу марксистского учения о
нравственности. И в многовековой истории этики
последовательная и конструктивная критика гедонизма никогда не
приводила к выведению удовольствия и страдания за
рамки морали. Другое дело, что принцип наслаждения
лишался ореола абсолютности, безусловности и ему
придавалось второстепенное значение. Так, Аристотель,
например, говорил о том, что средства, которые ведут к
достижению высшего блага приятны нам и мы
связываем с ними получение удовольствия; а Кант
рассматривал удовольствие как субъективное состояние
лица,осознающего исполненность нравственного закона. Таким
образом, добро и наслаждение, зло и страдание
недвусмысленным образом разводились.
В классической марксистской мысли наслаждение
как конкретно-историческая характеристика
общественного человека рассматривается не в этико-моралистиче-
ском, а в философском, социально-культурном аспекте,
но именно это дало возможность совершенно по-новому
57
подойти к раскрытию одного из древнейших вопросов
человеческой культуры. Наслаждение анализируется в
тесной связи с характером труда и его эволюцией в
историческом развитии К
В досоциалистической общественной мысли
наслаждение и труд рассматривались как противоположные и
взаимоисключающие друг друга явления. Труд — это
бремя, тяжелое испытание; наслаждение — легкая уте-
рса, сфера подлинной свободы. Таково общее место
многих традиционных учений. Этот подход был пересмотрен
социалистами-утопистами. Организация общественной
жизни, например, в фалангах Шарля Фурье была
призвана сделать трудовую деятельность максимально
отвечающей потребностям индивида, а сами развлечения
связать с постоянной сменой видов общественно
полезной деятельности. Однако Фурье, как и другие
социалисты-утописты, не смог преодолеть свойственного всей
традиционной философии идеалистического понимания
общественной жизни. Для него социальность человека
(допустим, человека как члена фаланги) определялась
порядком его страстей, его темпераментом, и
соответственно сами наслаждение и труд, пусть и
объединенные, рассматривались как естественные, вытекающие из
природы человека атрибуты общественной жизни.
Маркс и Энгельс радикально пересмотрели подход к
этой проблеме, показав в «Немецкой идеологии», что
наслаждение, какую бы форму оно ни принимало, выте-
1 Это пряма игнорируется многочисленными противниками и
критиками марксизма, которые неоднократно выдвигали обвинения в
том, что коммунисты в преобразовании общества не оставляют
места для личности, нормального осуществления ею своих
способностей и желаний, а низводят ее до винтика, употребляемого для
достижения хотя и высокой, но оторванной от нужд и чаяний
реальных людей цели. Коммунистам, таким образом, приписывается
старая антигуманистическая идея о том, что ныне живущими
поколениями лишь удобряется почва для будущей общественной гармонии.
(Подробно об этом см.: Титаренко А. И. Антиидеи. Опыт
социально-этического анализа. 2-е изд. М., 1984, гл. 2.)
58
кает из условий жизни людей, особенностей их
производства и общения и в классовом обществе носит, по
существу, классовый характер. Эта мысль была
сформулирована Марксом еще в «Экономическо-философских
рукописях 1844 года»: в обществе, где господствуют от-
чужденные от человека общественные силы, и наслаж:
дентпюш! шчужденный характер, и хотя оуржуа в
лице торговца ли, предпринимателя или теоретика
политэкономии Адама Смита полагает, что труд несе_т
страдание, а в состоянии покоя индивид находит высшее
C4atVILt. 1ШШК0 В деисТРИКльнпгти птчуткУ
низыкяртк^к упгтплкгтвия пролетария, так и удоволь-
(ггБТГЗНТуржуа.
Это кажется'удивительным: как наслаждение может
быть отчужденным, если оно уже само по себе есть
удовлетворение потребности, то есть в определенном
смысле представляет собой самовыражение личности?
А тем не менее это так. Уже хотя бы потому, что сама
потребность в таком наслаждении возникает в
результате господства нечеловеческих, как говорит Маркс,
общественных сил. Но дело не только в этом.
Наслаждение буржуа «расточительным богатством» носит
демонстративный характер, служит средством
демонстрации им своего превосходства над массой других людей,
которым подобные развлечения по вполне понятным
причинам оказываются недоступными, хотя само
демонстративное расточительство становится возможным
благодаря тому, что многие другие приносятся в жертву
одному развлекающемуся. Не говоря уже о том, что в
надменном расточении того, что могло бы сохранить
сотню человеческих жизней, недвусмысленно
обнаруживается презрение к людям, чей кровавый пот
рассматривается буржуа как добыча его вожделений.
Вместе с тем в такой расточительности скрывается
«подлая иллюзия» относительно того, что
расточительность буржуа является благотворительной и создает
предпосылку труда, а значит, существования людей тру-
59
да. «Такое предназначение, — говорит Маркс, — ведет
к тому, что осуществление человеческих сущностных сил
мыслится только как осуществление чудовищных
прихотей и странных, фантастических причуд» 1.
Но, как будто господствуя над своим богатством,
расточительно развлекающийся буржуа на деле
оказывается в плену своего богатства, ибо истоки его жизни,
его удовольствий лежат в чуждом ему труде других
людей. Такова по преимуществу позиция рантье,
подчеркивает Маркс, то есть людей, ведущих наиболее
паразитический в капиталистическом обществе образ жизни
за счет доходов от ценных бумаг и облигаций или
процентов от предоставляемых ими в ссуду денежных
капиталов.
Позиция капиталиста-промышленника по отношению
к наслаждениям внешне противоположна: он
рассматривает наслаждения как объект эксплуатации, как
средство извлечения прибыли. Удовлетворение же
собственных потребностей в отдыхе, развлечении, наслаждении
промышленник рассматривает как издержку
производства, как вынужденное дополнение к
предпринимательской деятельности. Но производительность — принцип
восходящего капитализма; этот принцип значительно
ослабляется и даже частично замещается тем же
принципом наслаждения в современном капиталистическом
обществе.
Наслаждения пролетариев также чужды им, ибо они
«оторваны от общей жизнедеятельности индивидов, от
подлинного содержания их жизни»; с помощью
«ребяческих, утомительных либо грубых» наслаждений —
«бессодержательности деятельности давалось мнимое
содержание» 2.
Вот почему для коммунистов, поставивших задачу
построения нового общества, не существует противопо-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т, 42, с. 137.
2 Там же, т. 3, с, 419,
60
ложности между трудом и наслаждением: для
коммунистов труд — это свободный труд, имеющий в качестве
исходного пункта ликвидацию частной собственности и
обобществление производительных сил. Иными словами,
говоря о единстве труда и наслаждения, коммунисты
говорят о совершенно ином труде, противоположном
рабскому, барщинному, наемному труду, который всегда
был трудом по внешнему принуждению.
Противопоставляя коммунистическую организацию общественного
труда крепостнической и капиталистической, В. И. Ленин
указывал, что она «держится и чем дальше, тем
больше будет держаться на свободной, сознательной
дисциплине самих трудящихся»]. Зародыши такого труда
В. И. Ленин увидел в первых коммунистических
субботниках.
Социалистическое общество впервые создает
предпосылки для соединения труда и наслаждения. Несколько
лет назад писатель Ф. Родионов в очерке «Неутолимая
жажда» рассказал об известном московском рабочем
Алексее Ивановиче Беспалове. Беспалов — «крупный
рабочий», как говорит о нем писатель, рационализатор
и новатор, автор нескольких книг, в которых он делится
своим передовым опытом; его достижения неоднократно
отмечались наградами. Но главное в Беспалове — это
его отношение к своему делу. С помощью
усовершенствований и приборов он мог бы выполнять по два-три
плана и получать заработки, во много раз
превышающие средние. Однако не таков Алексей Иванович.
«Не могу я с такими приборами только на себя
работать, — говорит он автору очерка. — Тут надо
разумную меру находить... Сегодня я в литейном помогал,
вчера оснастку делал товарищам. Я свой рабочий день
делю на две части. В первой — выполняю
производственное задание, во второй — занимаюсь рационализацией
или помогаю товарищам» 2. Это и есть тот самый беско-
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 14.
2 Коммунист, 1978, № 12, с. 27—28.
61
рыстный труд, о котором писал В. И. Ленин, труд для
людей, труд во имя общества. Но коммунистический
труд — это не просто добросовестный труд, это труд,
доставляющий глубокое удовлетворение, радость, когда
работа идет удачно, и вызывающий глубокую досаду,
когда что-то не удается. Коммунистический труд — это
труд, созидающий новое, требующий от человека
новаторства, творчества; труд, в котором работник
утверждается как личность. Неважно, идет ли речь о труде
рабочего, конструктора, художника, ученого, пахаря, —
труд, к которому влечет человека «неутолимая жажда»,
страсть к творчеству, забота о людях, не может не
приносить человеку подлинного наслаждения.
Было бы неверным полагать, что марксизм сводит
все общественное бытие человека к его трудовой
деятельности. Но в том-то и дело, что в отношении к
труду, к результатам труда проявляется личность человека.
Свободный труд — это не только и не просто труд,
освобожденный от эксплуатации, но труд, не связанный
с индивидуалистическими, собственническими
амбициями — труд как самоосуществление личности. Характер
труда всегда определяет характер свободного времени,
досуга человека. И для того чтобы труд и наслаждение
в полной мере соединились, необходимо преодолеть
противоположность рабочего и свободного времени,
добиться того, чтобы рабочее время перестало быть, как
говорил Маркс, «рабочим временем рабочего скота»,,
чтобы труд, а равно и досуг стали временем свободного
развития личности.
Соединение труда и наслаждения определяет
радикальное изменение в иерархии и расстановке
нравственных ценностей. Гедонистическое сознание и, можно
сказать, вообще сознание, сформированное эпохой
отчужденного, подневольного труда, оценивает трудовую
деятельность по меркам, задаваемым антитезой
«наслаждение — страдание». В коммунис.ическом же
мировоззрении сами наслаждения оцениваются на основа-
62
нии критериев, выработанных в соответствии с идеалом
свободного труда, направленного на благо человека, на
благо общества. Наслаждения, следовательно, должны
отвечать общественной природе человека,
способствовать его развитию как личности, полноте раскрытия
его социальных и природных сил.
Но таковыми могут быть наслаждения только
свободного человека, чье отношение к миру — к
окружающим его людям, к семье, к делу, которым он занят,
условиям и обстоятельствам жизни, к отдыху и
развлечению — не замутнено эгоистическими страстями и
устремлениями.
Мы говорим о необходимости воспитания
гармонического человека и при этом, как правило, имеем в
виду внутреннюю гармонию его желаний и возможностей,
мышления и чувств, воли и действия. Но тем самым мы
как бы предполагаем человека, предоставленного
самому себе, замкнутого на самом себе. А ведь
гармоничным следует считать лишь такого человека, который
органично сочетает в своем образе жизни личные
интересы с интересами других людей, с интересами
общества; такого человека, который, реализуя свои
возможности, воплощая волю в действия, способствует
возвышению общества. Неверно думать, что последнее
непременно должно выражаться в масштабной созидательной
деятельности. Уже то, что человек находит радость в
таких, казалось бы, обычных вещах, как улыбка
ребенка, здоровье родного человека, успешно выполненное
задание, помощь близкому или осуществление
увлечения, говорит о многом. Эти маленькие радости в не
меньшей степени, чем крупные свершения, задают устои
человеческой жизни.
Таким образом, в марксистском освещении принципа
наслаждения, поскольку человек обретает наслаждение
в трудовой деятельности — в созидательной игре
физических и интеллектуальных сил, в положительной
творческой активности, — наслаждение уже не является
63
только -развлечением, забавой, перестает быть тем, что
разъединяет людей на наслаждающихся и приносимых
в жертву наслаждению. Наоборот, наслаждение в труде,
в общественно полезной деятельности становится
фактором объединения людей, ибо свободный труд — это
деятельность для других, деятельность совместно с
другими. Вот почему в марксистской интерпретации принцип
наслаждения переводится в иной по сравнению с
гедонизмом гуманистический контекст.
В соответствии с изменением содержания
наслаждения происходит перемена в характере потребностей
человека, в его представлении о богатстве и нужде. Как
писал К. Маркс, экономическое богатство и экономическая
нищета уступают место богатому человеку и богатой
человеческой потребности:
«Богатый человек — это в то же время человек,
нуждающийся во всей полноте человеческих проявлений
жизни, человек, в котором его собственное
осуществление выступает как внутренняя необходимость, как нужда.
Не только богатство человека, но и бедность его
получает при коммунизме в равной мере человеческое и
потому общественное значение. Она есть пассивная связь,
заставляющая человека ощущать потребность в том
величайшем богатстве, каким является другой человек» 1.
Эти теоретические положения К. Маркса во многом
относятся к коммунистической стадии общественного
развития, и в этом смысле они образуют основу
коммунистического социально-нравственного идеала. Как
показывает исторический и социальный опыт,
социалистическое общество создает фундамент для постепенной
реализации этого идеала и обеспечения в конечном счете
полноты удовлетворения потребностей человека как в
сфере производства (в том числе духовного
производства), так и в сфере потребления.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 125.
«ДОБРО ЕСТЬ ПОЛЬЗА...»?
5 Р. Апресян
Известно, что существует такая психология,
которая объясняет великое мелкими причинами;
исходя из верной догадки, что все, за что
человек берется, связано с его интересом, эта
психология приходит к неверному заключению, что
существуют только «мелкие» интересы, только
интересы низменного себялюбия.
К. Маркс
...Девятиклассница рассказала в «Комсомольской
правде» о своих бывших друзьях по классу. Не
стесненные в деньгах, они проводили время в барах и
дискотеках, все их разговоры сводились к тому, кто, где и что
может достать. У кого родители работали за границей,
одевался с иголочки, да еще так, чтобы выделиться
среди всех; ну а лишние вещи продавали своим же. К тем
же, кто не мог позволить себе бар, одевался обычно,
плохо разбирался в музыке, в частности классической,
они относились презрительно, видя в них «стадо». В
общем, портрет уже знакомый нам по тем чертам, которые
мы находим в морали наслаждения. Но в том-то и
дело, что это только полпортрета. Такими ребята были «в
своем кругу», а в школе, перед учителями и тем же
«стадом», они были лучшими общественниками и
организаторами, один из парней был комсоргом школы.
Выступая на собраниях, они говорили о долге,
ответственности, искренности и т. д. Учителя считали их «гордостью
школы» и были просто возмущены, когда наша
девятиклассница, не выдержав, рассказала на комсомольском
собрании, что же представляют собой эти герои наедине
с собой: они просто не поверили девочке.
Что и говорить, письмо весьма симптоматично: эти
юноши и девушки, которые вполне могли бы позволить
себе известную детскость, отнюдь не были инфантильны
и твердо знали, что им нужно в жизни. В
комсомольской работе они тоже видели способ проявить себя,
подняться над «стадом». Но дело не только в этом: ведь
общественная активность — это залог хорошей
характеристики, а хорошая характеристика — это уже ступенька,
66
пусть самая первая, на лестнице, по которой им
предстояло подниматься уже во взрослой жизни. Эти ребята
очень хорошо понимали, что удовольствия, к которым
они привыкли, просто так не даются.
В газете письмо девятиклассницы было помещено
под заголовком «Такие прекрасные... маски» \ Как
знать, маски ли это, не устойчивые ли лица? Ведь маску
можно снять. Лицо же, пусть и двойное, не
переменишь — оно выражает личность.
Но что это за личность? Что это за тип поведения и
каковы особенности соответствующего ему морального
сознания?
Можно сказать, перед нами прагматик, то есть
человек, четко знающий, чего он хочет в жизни, строго
следующий к этой цели, разбираясь, а порой и не разбираясь
в средствах ее достижения. «Прагматик» — слово,
происходящее от греческого pragma — дело. Значит,
прагматик — это человек дела? С этим можно
согласиться, но в обиходе, когда мы говорим о ком-то
«прагматик», имеется в виду, что это человек своего, личного
или корпоративного — то есть в любом случае частного
дела, человек, ставящий свои интересы выше интересов
других людей, более того, — и что самое главное в
характеристике прагматика, — приносящий интересы
других людей в жертву своим интересам. Иногда мы
говорим «утилитарист» или «рационалист» и имеем в виду
то же самое. Утилитарист (от лат. utilitas — польза,
выгода) — человек, стремящийся к своекорыстной
пользе; рационалист — человек, живущий только
рассудком, бездушно подсчитывающий жизненные выгоды
и потери, бесстрастно идущий к собственной цели.
Нужно оговориться, что все эти слова-образы
являются одновременно и философскими понятиями,
обладающими уже несколько иным значением, да и в
обычном языке они используются также и в других
значениях: например, «рационалист» — разумный, способный к
1 См.: Комсомольская правда, 1984, 19 сентября.
5* 67
аналитическому мышлению человек; или «прагматик» —
.человек хотя и не хватающий звезд с неба, но знающий
свое дело, практик, чувствующий почву под ногами,
реалист. Однако в моральном контексте эти образы имеют
именно первоначально данный смысл, что проявляется в
соответствующих жизненных типажах —
«конформиста», «карьериста», «деляги» и т. п. Эти образы задают
уже вполне определенное содержание данной жизненной
и нравственной позиции, однако пока они вряд ли
удовлетворительны для нас именно из-за этой их
однозначности. А между тем это явление в современных нам
нравах и нравственности — не столько новое, неожиданное,
сколько обостренно воспринимающееся — отнюдь не
так просто. И хотя Кант утверждал, что «границы
между нравственностью и себялюбием столь четко и резко
проведены, что даже простой глаз не ошибется и
определит, к чему относится то или другое» \ но понять
внутренний смысл того и другого в реальных сплетениях
обстоятельств, судеб, поступков, оценок нередко бывает
очень трудно. Добро и зло, в какой бы форме они ни
проявлялись, очень часто не даны в той
недвусмысленности и ясности, на восприятие которых только и
способен «простой глаз». И чем сложнее рассматриваемое
явление, тем сложнее в нем обнаруживается
определенность добра и зла.
СЛОЖНАЯ АНТИТЕЗА
Под добром я понимаю то, что, как мы наверное
знаем, для нас полезно. Под злом же — то, что, как
мы наверное знаем, препятствует нам обладать каким-
либо добром.
Б. Спиноза
Но вот вопрос: а почему, говоря об ориентации на
успех, полезность, автор как бы предполагает, что все
это противоречит добродетели? И разве в обычной ре-
1 Кант И. Соч., т. 4, ч. 1, с. 354.
68
чи не случается, что мы говорим «добро» и имеем в
виду полезность, и не называем ли мы «полезным» то, что
приносит человеку счастье, составляет его благо? Это
действительно так. В словаре В. Даля, например,
«добро» в первую очередь определяется как вещественный
достаток, имущество, стяжание, затем как нужное,
подходящее и лишь «в духовном значении» — как честное
и (опять-таки!) полезное, соответствующее долгу
человека, гражданина, семьянина. Интересно, что как
свойство «добрый» также относится Далем прежде всего к
вещи, скоту и потом только к человеку. А как
характеристика человека «добрый» сначала отождествляется с
«дельным», «сведущим», «умеющим», а уж потом — с
«любящим», «творящим добро», «мягкосердным» и т. д.
В современнОхМ русском языке акценты существенным
образом сместились, более того, лингвисты указывают,
что лишь в ироническом значении мы называем
имущество добром. Однако традиция, отраженная в
Толковом словаре Даля, постоянно дает о себе знать: мы
говорим «добрый конь», например, понимая, что конь не
имеет к морали никакого отношения.
Такова особенность не только русского языка. Поль
Лафарг, французский социалист, видный
популяризатор идей марксизма, в работе «Экономический
детерминизм Карла Маркса», рассматривая происхождение
идеи добра, подчеркивал: «Для обозначения
материальных благ и блага морального в главнейших европейских
языках употребляется одно и то же слово» К Греческое
to agaton и латинское bonurn происходят от слов,
обозначающих силу, мужество. То же мы имеем,
например, в английском или французском языках. Латинское
virtus — добродетель — также первоначально
служило для обозначения физической силы и мужества и
лишь позднее, в эпоху разложения героического идеала,
стало употребляться уже только для обозначения духов-
1 Лафарг П. Экономический детерминизм Карла Маркса. М,
1923, с. 141.
69
ных, нравственных достоинств человека. Как мужество
и храбрость в бою представлялись основой всех
добродетелей человека, так трусость (греч. kakos, лат. malos)
мыслилась предпосылкой всяческого порока. Это,
кстати говоря, относится и к другим нравственным
понятиям. Латинское honor — честь, обозначает также
земельное владение феодала; beneficium — благодеяние и
дарованный участок земли; gratia —любовь, милость и
подарок, возмещение ' и т. д. Таким образом, слова, в
которых фиксировались моральные понятия, так или иначе
отражали некоторые материальные отношения между
людьми, отношения собственности, взаимозависимости,
пользования, служения и порождаемые этими
отношениями качества человека.
Однако постепенно, с разложением традиционных
социальных структур, усложнением общественной жизни,
выразившейся в разнообразии общественных функций
(в частности, появлении специального войска и, значит,
необязательности для благородных и богатых быть
мужественными и сильными, когда мужество и храбрость
можно приобрести за деньги), углублении различия
умственного и физического труда, дифференциации
духовных и материальных ценностей эта связь значений
утрачивается безвозвратно.
Но в этом разрыве обнаружилось также осознание
того факта, что в основе поведения людей в
действительности лежат различные мотивы, что люди в своих
поступках могут ориентироваться на разные ценности,
преследовать разные цели. Вот как это представлял в
V веке до нашей эры философ-софист и политический
деятель Критий:
Виды любви в жизни у нас многообразны:
ведь сей вожделеет обладать родовитостью,
одному же не о том попечение, но он желает
слыть обладателем богатств великих в дому своем;
1 См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.,
1972, с. 264.
70
еще другому любо, никакой здравой мысли
отнюдь не высказывая, увлекать ближних худым
дерзновеньем;
иные же из смертных ищут постыдной выгоды нежели
нравственного благородства; таково житейское
блуждание людей.
Я же ничего из сих вещей улучить не хочу,
но желал бы иметь добрую славу 1.
Здесь ценное, должное, нравственное поведение
противопоставляется всем иным видам деятельности;
моральное совершенство обнаруживается в особенности
образа жизни, отличного от того, которого
придерживается толпа. Вместе с тем выдвигается положение о том,
что блага вещного мира не могут быть наградой
добродетели: добродетель сама себе награда! Это положение
противопоставлялось такому взгляду на жизнь, в
котором добро отождествлялось с полезностью, уже не в
силу, так сказать, языковой традиции, а в соответствии с
особым — прагматистским — умонастроением и
отношением к миру.
С вычленением идеального, нравственного смысла в
слове «добро» само это понятие постепенно
выворачивается наизнанку. Как сообщает П. Лафарг, английское
good, французское bons, греческое agatos становятся
основой для слов-синонимов смешного, незатейливого,
бездарного. В некоторых наречиях русского языка, по
свидетельству В. Даля, встречаются аналогичные
мутации, в которых «добро» означает уже никчемность, а
«добрый» — слабость ума и воли.
Антитеза «доброе — полезное», зафиксированная в
античности и воспринятая в христианстве — правда, в
несколько ином виде: «духовное — мирское», — до
предела обостряется в буржуазную эпоху на почве бурного
развития товарно-денежных отношений. Революционная
роль буржуазии в истории, по словам Маркса и
Энгельса, как раз заключалась в том, что она разрушила пат-
1 Цит. по: Вопр. литературы, 1981, № 4, с. 162 (подстрочи, пер.
С. С. Аверинцева).
71
риархальные и идиллические отношения и
«эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими
иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой,
бесстыдной, прямой, черствой» \ так что в буржуазном
обществе «все отношения практически подчинены только
одному абстрактному денежно-торгашескому
отношению»2. 1$>ггта иго Р™ПЬ1 пррлтцртнп-пряктицр^коцьи
вообще социальной деятельности опосредуются коммерче-
скйКГиотношениями, тогда мпряль о^аашя^^я сведен-
ной^к^сфере идеальных побуждений, v ^^f^—мотивов,
либо^Жепредставляется иллюзией, чем-то
несущественным. Антитеза «добро — польза», или «идеальные
мотивы — практическая деятельность» представляет собой
неразрешимую проблему для буржуазной философской
мысли.
Вполне отчетливо это обнаруживается уже в начале
XVIII века английскими философами — в сентимента-
листской этике Шефтсбери и Хатчесона, с одной
стороны, и эгоистической теории морали Мандевиля — с
другой. И это не случайно: английская революция
относится к одной из первых буржуазных революций, в
процессе которых буржуазия завоевывала себе политическую
власть. Полемика Шефтсбери — Хатчесона и
Мандевиля представляет собой своеобразное этико-моралистиче-
ское обобщение первых результатов капиталистического
преобразования общества.
В чем суть этой полемики? Сентименталистская
этика, как это видно из ее названия, выводила мораль из
особой познавательно-оценочной способности —
«морального чувства», которое мыслилось независимым от
каких бы то ни было корыстных, житейски-утилитарных
устремлений индивида. «Если мораль сама по себе не
ценна и не почтенна, — писал Шефтсбери, — то я не
вижу, какой почет может быть в том, чтобы следовать ей
'Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 426.
2 Там же, т. 3, с. 409.
72
ради выгодной сделки» 1. В то время как
гуманистически настроенные этики-сентименталисты настаивали
на неподкупности «морального чувства», Мандевиль,
которого Маркс называл «честным человеком и ясной
головой», видел в нравственных представлениях лишь
одну из химер человеческого разума, которой весьма ловко
пользуются правители и лицемерные моралисты,
чтобы направлять естественно присущие человеку
эгоистические страсти на благо государству. Мораль, таким
образом, рассматривается как форма политического
воздействия на поведение людей, манипуляции сознанием,
в конечном счете как средство эксплуатации,
извлечения пользы. Во всяком случае, в морали — в понятии
добра, чести, заслуги — нет ничего возвышенного и
самоценного, это то, с помощью чего люди прикрывают
свои некрасивые делишки. В самом деле беспощадное
изображение нравов капиталистического общества!
Выводы, сделанные сентиментализмом и
эгоистической этикой, на теоретически более развитой
философской основе были воспроизведены Кантом и
французскими материалистами. В буржуазной этике эпохи
империализма те же антитезы можно проследить в
противостоянии интуитивизма и прагматизма. Однако решения этой
проблемы, предлагаемые в рамках буржуазной
философской традиции, основываются на абсолютизации
либо одного, либо другого подхода, а значит,
представляют собой в лучшем случае сохранение проблемы, а по
сути — уход от нее. Дело, конечно, не в субъективных
качествах тех, кто берется за решение этой проблемы,
допустим, в их научной недобросовестности или
нелогичности, а в том, что ее теоретическое разрешение
возможно лишь в процессе практического преодоления того
типа общественной связи, который можно обозначить
одним словом — взаимопользование.
Суть отношений, основанных на принципе взаимо-
1 Шефтсбери. Эстетические о'пыты. М., 1975, с. 298.
73
пользования, заключается в том, что каждый человек
рассматривает себя в качестве цели, а всех других —
лишь в качестве средства осуществления собственной
цели. На первый взгляд может показаться, что здесь нет
никакого взаимопользования, а только пользование.
Но в том-то и дело, что отношения взаимопользования,
как это ни странно звучит, утверждают некоторый
стандарт взаимности — равенства и справедливости,
которые выражаются в том, что один индивид может
пользоваться другим лишь в той мере, в какой сам отдает себя
в пользование другому. Это оказывается возможным
именно потому, что само отношение взаимопользования
представляет собой обмен — товаров или услуг.
Эти отношения были подробно рассмотрены К.
Марксом. Соответствующие рассуждения можно встретить и
в ранних «Экономическо-философских рукописях 1844
года», и в «Капитале»; однако особый интерес
представляют в этой связи «Экономические рукописи 1857—1859
годов», в которых отношение взаимопользования
рассмотрено именно как межиндивидуальное отношение;
социальное отношение доведено до его личностной
определенности.
Взаимопользование оказывается возможным при
условии, что оба участника этого отношения выступают,
с одной стороны, как обладатели потребности, а с
другой, как производители определенного товара. Индивид
А обладает товаром а, в котором нуждается индивид В,
обладающий товаром Ьр составляющим предмет
потребности индивида А 1. Если, допустим, А обладает не
только товаром а, но и Ь, то ему никакого дела не будет
до В, и между Л и В не возникнет никакого отношения.
Вещный характер отношений взаимопользования,
приобретающих универсальную форму в капиталистическом
обществе, и заключается в том, что индивиды предстают
друг для друга как обладатели товаров, как исполните-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 188—191.
74
ли некоторых ролей и функций, но не как личности.
Такой характер отношений определяет и характер
свободы индивидов, задаваемый принципом полезности.
Это свобода обладателя товара, рыночная свобода.
А признает в В собственника определенного товара,
свободного решать, вступать ему в обмен или нет. Обмен
товарами или услугами совершается добровольно.
Другое дело, что в процессе обмена каждый старается
надуть другого, поживиться за его счет, но это уже входит
в «правила игры», тайный девиз которой гласит: «Либо
ты грабишь другого, либо другой грабит тебя».
В отношениях взаимопользования обмен легко
оборачивается обманом, расчет — обсчетом. В
капиталистическом обществе это пронизывает фундамент
общественных отношений. Как показал в «Капитале» Маркс,
договорный обмен наиболее грубым образом нарушается
в отношениях «капиталист — рабочий», заключающихся
в присвоении капиталистом создаваемой рабочим
прибавочной стоимости, и означает, по существу,
эксплуатацию.
В этом анализе Марксом характера отношений
между людьми в буржуазном обществе, анализе,
проводимом в контексте политико-экономических рассуждений,
удивительным образом находит продолжение и
разрешается одна из линий в развитии классических
этических идей, а именно та, которая хорошо известна в виде
категорического императива И. Канта.
Категорический императив, который Кант
рассматривал как высшее выражение нравственного закона, в
самом общем виде гласит: «В своих поступках исходи
из таких мотивов, которые мог бы принять любой другой
человек, т. е. которые могли бы стать всеобщими».
При этом Кант противопоставлял категорический
императив гипотетическому, или условному, императиву,
который, по Канту, представлял собой правила
полезности и благоразумия. Таким образом, Кант
принципиально разводил нравственность, нравственный поступок и
75
такое сознание, такое поведение, в основе которого
лежит личный интерес.
Сложность, однако, в том, что категорический
императив задает лишь форму морального поступка. Но
поведение прагматика в известном смысле тоже покоится
на универсальных основаниях: устремляясь к успеху,
выгоде или благополучию, он ни на минуту не
сомневается в том, что любой здравомыслящий человек в
каждом своем действии ориентируется именно на эти
цели. Чтобы оградить нравственный закон от
утилитаристских интерпретаций, Кант формулирует второй
практический принцип практического разума, который
гласит: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к
человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого
также как к цели и никогда не относился бы к нему только
как к средству» 1. Именно эта формулировка и
представляет сейчас для нас интерес.
Кант, по существу, предлагает содержательное
уточнение категорического императива, вводя в его
формулировку вполне определенный гуманистический момент:
относиться к человеку, кем бы и каким бы он ни был,
именно как к человеку, как к личности. Разбирая этот
принцип, Кант показывает, что такое отношение к
человеку возможно и необходимо.
К. Маркс, рассматривая буржуазное общество,
пришел к выводу, что человек, вовлеченный в отношения
обмена, может относиться к человечеству как к цели
только «в своем лице», но при роковом условии, что сам
он становится средством для другого и использует
другого как средство. «Каждый становится средством для
другого (бытием для другого), — пишет Маркс, —
только будучи для себя самоцелью (бытием для себя)...
Каждый является одновременно и средством, и целью и
притом достигает своей цели лишь постольку,
поскольку становится средством, и становится средством лишь
1 Кант И. Соч., т. 4, ч. 1, с. 270.
76
постольку, поскольку полагает себя в качестве
самоцели... каждый, таким образом, делает себя бытием для
другого, а этот другой делает себя бытием для него,
будучи бытием для себя» К Маркс подчеркивает при этом,
что эта взаимозависимость, по сути дела, безразлична
для самих участников обмена, не осознается ими:
возможность удовлетворения собственного личного
интереса застилает перед их взором все.
«Жизнь стяжателя как бы подневольна, и
богатство — это, конечно, не искомое благо, ибо оно полезно,
то есть существует ради чего-то другого» 2. Это
высказывание Аристотеля удивительно точно характеризует
образ жизни, посвященный наживе, пользе. Но его
подлинный смысл, очень близкий приведенным
рассуждениям Маркса, таится в значениях древнегреческих слов,
которые непереводимы на русский язык. Как
указывается в примечаниях к «Никомаховой этике», стяжатель —
khrematistes — это буквально деятель денег (khrefnata);
богатство, то есть деньги, — полезно (khresimon);
следовательно, стяжатель — khreVnatistes — это «полезник»,
человек, не только стремящийся к пользе, но и
существующий как бы для пользы, для использования.
Устремленный к цели, он сам оказывается средством
достижения этой цели, но уже для другого человека.
В этом заключаются и его господство, и его неволя.
Такова внутренняя логика отношений
взаимопользования, отношений по типу «эквивалентного воздаяния».
Разумеется, в наиболее развитом, всеобщем виде
принцип взаимопользования имеет место в
капиталистическом обществе. Но в той мере, в какой в
социалистическом обществе сохраняются товарно-денежные
отношения, в нем остается место и принципу полезности.
Другое дело, что он смещается на периферию нравственной
жизни общества, изменяется под воздействием
коммунистического идеала, под воздействием гуманистических
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 190.
2 Аристотель. Соч. М., 1984, т. 4, с. 59.
77
ценностей социалистической морали, а конкретными
носителями прагматического мировоззрения и
соответствующей психологии сознательно или бессознательно
облачается в новые, созвучные иным общественным
условиям формы. Но суть его остается прежней — отношение
к другому как к средству достижения собственных целей.
Конечно, моральное сознание, которое так или
иначе, но в любом обществе выполняет функцию
гармонизации разнонаправленных интересов (это не единственная,
но все-таки одна из ведущих функций нравственности),
не может принять принцип полезности с его явным и
неприкрытым торгашеским духом. Поэтому в морали
этот принцип получает несколько модифицированный
вид, в котором эквивалентность и та доля
справедливости, которая присуща ему, оказываются очевидными и
как бы безусловными: «Я — тебе, ты — мне» 1.
Конечно, когда термин «мораль» используется в
контексте рассуждений о принципе полезности, то это
понятие берется в нестрогом значении. «Мораль
полезности», «мораль успеха», так же как «мораль
наслаждения», означает не мораль как «мораль добра», «мораль
человеколюбия», но образ жизни, умонастроение,
систему мотивации, основывающиеся на принципе полезности
или принципе наслаждения.
Ясно поэтому, что даже в модифицированном виде
принцип полезности довольно далек от того содержания,
которое обнаруживается в подлинно нравственных
отношениях между людьми. В каком-то смысле он
соответствует отношению благодарности: «Я — тебе, ибо ты —
мне»; но ведь и это отношение само по себе еще не
является последовательно нравственным, не воплощает
нравственное совершенство человека; благодарность
может быть только реализацией правил приличия или
отражать надежду на новые услуги и благодеяния и т. д.
1 См.: Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания:
Опыт этико-философского исследования. М., 1974, с. 104—109, 263.
78
Однако наряду с благодарностью эта формула несет в
себе установку на удовлетворение личного интереса, и в
этом заключается основной, хотя открыто и не
декламируемый ее пафос. «Я — тебе, чтобы ты — мне» и «Я —
тебе, если ты — мне» — эти формулы как раз и
воплощают мотивы благоразумия и корысти.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Бывают обстоятельства, когда надо иметь
мужество пожертвовать немедленным успехом
ради более важных вещей.
Ф. Энгельс
Выше были показаны социальные предпосылки
выделения принципа полезности в качестве одного из
мотивов поведения человека. Однако из тех аргументов и
свидетельств, которые были отобраны для рассуждения,
следует пока лишь тот вывод, что добро и польза
представляют собой различные, порой противостоящие друг
другу, а порой и совпадающие ценности. Но здесь еще
нет никакой нравственной проблемы, это проблема
этики, проблема теории ценностей (аксиологии).
Нравственная же проблема заключается в том, что сплошь и
рядом мы встречаемся с фактами, когда полезность
замещает добро, когда добром называют то, что в
действительности является лишь полезным. Кажется, что здесь
Дурного? Все мы с детства привыкли к словам:
«Счастье заключается в том, чтобы приносить пользу людям»
и понимаем, что речь идет о добросовестном труде,
готовности прийти на помощь человеку, встать на защиту
Родины. Но в том-то и дело, что здесь «польза», «доб-
ро», «добродеяние», «служение» оказываются
синонимами. Когда же говорится о нравственной проблеме, о
нравственном противоречии, коллизии, конфликте, то
имеется в виду такая подмена ценностей, которая
сказывается на внутреннем мире личности, ее установках и
79
целях, отношении к делу и людям, на ее понимании
смысла жизни.
Человек — активное, деятельностное существо.
Философия говорит, что деятельность составляет сущность
человека, но дело не только в этом, — в деятельности,
какой бы она ни была, материальной или духовной,
предметно-преобразовательной или познавательной,
продуктивной (творческой) или репродуктивной
(воспроизводящей), человек находит себя как человека.
Можно сказать, что деятельность является способом
существования человека.
В процессе любой деятельности человек решает
определенные задачи, ставит перед собой цели и
стремится к их реализации. Решение задач и достижение
целей оказывается возможным благодаря тому, что
человек как-то воздействует на предмет своей деятельности
и на обстоятельства, взаимодействует с другими
людьми, что-то меняет в себе, то есть он использует те или
иные средства. Не всякие действия ведут к нужному
результату — это очевидно, так что человек должен
использовать такие средства, которые с практической
точки зрения соответствовали бы поставленным целям.
Такие средства называются полезными. «Полезность»,
таким образом, и является характеристикой средств. Если
человек, используя со знанием дела необходимые
средства, получает результаты, которые были задуманы или
запрограммированы в качестве цели, то его действия мы
называем успешными, а если к тому же эти результаты
достигнуты с наименьшими затратами, то мы говорим
об эффективности использованных средств. Все эти
вещи исследуются праксиологией (от греч. praksis —
практика), специальной прикладной дисциплиной об эффек-*
тивной деятельности, о выборе наилучших средств для
достижения заданной цели.
Занимаясь любой деятельностью, человек стремится
к достижению наилучших результатов. Конечно, когда
дело не по душе, когда цели, задаваемые человеку, ему
80
безразличны, а к самой деятельности он понуждается
вопреки своему желанию, ни о каком рвении не может
быть и речи. Но при нормальных и тем более
благоприятных условиях, выполняя определенные задачи,
человек стремится к наиболее эффективному и успешному их
решению. Гроссмейстер Александр Белявский, став в
1974 году чемпионом СССР по шахматам, в беседе с
журналистом сказал: «Заниматься шахматами и не
стремиться к высшей цели? Можно не достичь ее, но не
стремиться — это, если хотите, даже непорядочно по
отношению к любимому делу». Эти слова относятся к
любой, необязательно творческой деятельности. В них
отражается активное, сознательное,
целеустремленное отношение человека к тому делу, которым он
занят.
Неверно думать, что стремление к высоким
результатам, к продуктивности действий, к успеху заложено в
человеке, так сказать, от природы. Общество
воспитывает с ранних лет в человеке установку на успех, для
этого оно выработало разветвленную систему ценностей
и норм, поощрений и порицаний, с помощью которой
формируются способности индивида к целесообразной и
эффективной деятельности. В общественном сознании
стихийно и подчас неосознаваемо для него самого
функционируют конкретные образцы, символы успеха,
которые играют важную регулятивную, ценностно-ориенти-
рующую роль в социальной жизни. Иными словами, по
мере вхожд£И"д -р пбуррптдрннмй мир цчдивил нар^у г
профессиональными, интеллектуальными. нрявг.тв.енньт-
ш^иорМеткими и т. п. качествами так или иначе обре-
тярти «пряктичР™™0^, Mi III Л" Г'МЫ11, ЦТГт^^а
Успешным может быть как отдельное действие,
особый вид деятельности и занятий, так и сама жизнь
человека, ведь жизнь — это тоже своего рода деятельность.
Жизненный успех имеет свои символы. В чем видит
преуспеяние общественное мнение? В хороших
профессиональных результатах, в значительном обществен-
6 Р. Апресян gj
ном положении, в материальном достатке, семейном
благополучии. При этом об успехе должны
свидетельствовать признание в профессиональной среде, уважение
близких, обладание известными материальными
ценностями и т. д. Для разных людей в зависимости от их
жизненных позиций и ценностных ориентации в
качестве доминирующих могут выступать то одни, то другие
символы или же отсутствие одних может
компенсироваться усиленным стремлением к другим. Однако само
по себе доминирование символа говорит о том, что
символы утрачивают непосредственную связь с
отображаемым явлением, получают самостоятельное значение, так
что символы успеха постепенно занимают место самого
успеха, преуспеяние нередко связывается именно с
обладанием символами, а не с результатами напряженной
деятельности, и сами символы становятся более
ценными, чем результаты работы.
Именно такая переориентация, точнее,
трансформация происходит с сознанием, в котором прагматистская
ориентация оказалась возобладавшей. В этом моменте
прагматизм оказывается весьма близким вещизму,
потребительству; ценность вещи отрывается от ее
действительной способности удовлетворить потребность, символ
успеха отрывается от социальной активности, которую
предполагает успех; и в первом и во втором случае
ценность вещи или символ успеха задаются индивиду его
ближайшим окружением, более того, принимаются им
ради этого окружения.
Вот пример из совершенно иной области. Что главное
для школьника при современной, еще не до конца
преобразованной реформой системе оценки знаний —
получение знания или отметка? Хорошо известно, что, как
правило, отметка является для школьника самоцелью,
и он все делает для того, чтобы получить (что вовсе не
обязательно в данном случае означает «заработать»)
высокую оценку. Более того, отметка становится
оценкой не только знаний школьника, но и его самого как
82
личности. Ну а что главное для учителя, для обычного
среднего учителя? До самого последнего времени тоже
в общем не знания учеников, а отметки, по которым он
должен отчитываться перед роно. Хорошо, конечно,
если при этом будут хорошие знания у учеников, а если
нет... что ж, процент успеваемости должен быть
выполнен.
Для футбольного болельщика "главное — красивая
игра на поле. А для футбольной команды? Далеко не
всегда. Нередко набранные очки, которые не всегда
зависят от игры, становятся фетишем, за который ведется
борьба не только спортивными средствами...
«Каждому — по труду» — таков принцип
социалистического распределения. Одним из критериев оценки
трудового вклада каждого рабочего является, как
известно, норма выработки. Однако не секрет, что нередко
норма не соответствует уровню технической
оснащенности производства, профессиональной квалификации
работника, более того, отстает от планового задания, так
что при выполнении нормы на сто процентов план
оказывается безусловно загубленным. Связано это с тем,
что при сложившихся условиях оплаты труда порой
лишь заниженные нормы могут обеспечивать такой
заработок рабочего, который удержит его на месте.
Функция нормы, таким образом, выворачивается наизнанку:
не норма задает меру между трудом и зарплатой, а
необходимый уровень зарплаты — норму.
Все эти, взятые из ежедневной печати примеры,
внешне далекие от контраверзы добра и зла, по сути,
прямо обнаруживают внутренний смысл антиномий:
«добро — польза», «добродетель — успех».
Погоня за успехом, в какой бы форме он ни
выступал, приводит к тому, что прагматистские
ценности — успешность, результативность, эффективность —
занимают ключевое положение в иерархии целей
человека, получают самостоятельное значение по отношению
к другим факторам активности — творческим, нрав-
6* 83
ственным, гуманистическим, — приземляют ориентации
личности, понижают качество духовной жизни.
В прагматистском сознании успешность, полезность,
выгода, то есть то, что характеризует средства,
становится основной ценностной ориентацией личности,
приобретение символа успеха заменяет борьбу за
осуществление нравственного смысла жизни. Причем это
смещение ценностей проходит тем незаметнее и
стремительнее, чем менее развито ценностное сознание
индивида: ведь полезность — это тоже положительная
ценностная характеристика, так же как добро или,
допустим, красота, правда, удовольствие... Поэтому добром
начинает считаться то, что способствует достижению
успеха, что приносит пользу, злом — то, что
препятствует успеху. Соответственно меняется добродетель,
она становится деловой, благоразумной,
осмотрительной, корыстной.
Выше отмечалось, что понятие «прагматизм» имеет
и философский смысл: так называется влиятельное
направление в американской философии первой
половины нашего столетия. В известном смысле можно
сказать, что этика прагматизма явилась обобщением и
возвышенным оправданием именно практики частного
предпринимательства. Так вот одним из постулатов
этики прагматизма является так называемый «ситуа-
ционизм», то есть понимание добра как относительной
ценности, изменчивой в соответствии с потребностями
человека и в зависимости от той ситуации, по
отношению к которой приходится говорить о добре и зле.
Поскольку моральные ситуации вариативны, то и
моральное добро относительно, ситуативно. «По своему
характеру добро никогда не бывает дважды одинаковым, —
писал один из виднейших теоретиков прагматизма,
Дж. Дьюи, — оно никогда не повторяет себя. Оно
выступает в новом виде каждое утро, в свежем виде
каждый вечер». Дьюи высказывает это суждение в
связи с тем, что человек каждый раз должен заново решать
84
нравственные проблемы, что в- морали нет и не может
быть стереотипов, что моральные ситуации требуют
творческого подхода. Все это верно. Но в контексте
общих рассуждений о добре и зле подобное определение
основных понятий нравственности непосредственно ведет
к релятивизму и аморализму.
Раз каждая ситуация наполняет представление о
добре особым содержанием, раз добро уникально и
неповторимо, то не может быть общих критериев добра и зла,
нет оснований для порицания, осуждения, негодования.
Добро есть то — и здесь прагматизм в этике и прагма-
тистская мораль сливаются, — что способствует
решению возникающей в данных обстоятельствах задачи, а
зло есть то, что препятствует преодолению сложившейся
ситуации. Человека можно осудить за то, что его
действия оказались безуспешными, но если он добился
успеха, если он достиг цели, то все использованные им
средства оправдываются сами собой, да и стоит ли
рассуждать об использованных, то есть отслуживших свое,
средствах, раз цель достигнута!
При таком умонастроении оправдания приходят сами
собой: «Человек должен решать поставленные перед
ним задачи!» «Жизнь — это борьба!», иной разовьет
этот принцип: «...борьба за выживание». Наконец,
«Хочешь жить — умей вертеться». Эта житейская
«мудрость» не только воплощает нравственную глухоту,
бездуховность, но служит удачной ширмой для
компромиссного, сдавшегося и в этом смысле «бывшего»
морального сознания. Сопряженность внеморального
моральному, зла добру отнюдь не случайна.
Как мы видели, прагматик утверждает позитивные
(пусть только в определенном отношении) ценности.
Но дело не только в этом. Он проповедует такой образ,
тип личности, который внешне довольно близок самой
морали. Это — активная, самостоятельная личность,
принимающая на себя ответственность не только за
свои действия и свою судьбу, но и за действия и судьбы
85
других людей. Это — независимая личность, не
связанная с мнением окружающих людей и порой не
желающая считаться с чужим мнением. Это — сильная
личность, личность борца. Правда, эта сильная личность
признает право на самостоятельность и независимость
только собственного мнения и, уверенная в своей
непогрешимости, готова драться против любого другого
мнения. Ее высшая цель — достижение искомого
результата любой ценой, любыми средствами. Собственно
говоря, для прагматика все существует лишь как средство,
и достижение цели рассматривается им как трамплин
для новых целей. У него много терпения, и он живет
надеждой на то, что ему принесут успех те средства,
которыми он решил воспользоваться.
А как же быть с равенством и справедливостью,
которые, как мы уже знаем, вроде бы присущи прагма-
тистскому сознанию, исходящему из принципа
полезности? В том-то и дело, что равенство и справедливость
рассматриваются здесь как равенство возможностей и
возможность справедливости. В отношениях
взаимопользования каждый стремится к достижению
максимальных результатов, пусть за счет другого, и «более
сильный попирает более слабого» (Ф. Энгельс).
Логика прагматистского мышления такова, что вовсе
не обязательно занимать позицию силы, иногда
оказывается, что выгоднее принять противоположную
позицию: не перекраивать под себя обстоятельства и людей,
но приспосабливаться к ним и решать свои жизненные
проблемы.
Так прагматизм оказывается органически
сплетенным с конформизмом (от лат. confornns —
сообразный), то есть с сознательно принимаемой индивидом
зависимостью от мнения группы, с отказом от
собственных принципов и суждений в угоду тем, от кого зависит
личное благополучие, а в конечном счете с утратой
индивидуального своеобразия.
Хотя «конформизм» («конформист») как специаль-
86
ный термин появился в середине нашего века и само
это явление относительно недавно стало предметом
специальных философских и социально-психологических
исследований, мировая литература предлагает нам
обширную галерею героев конформизма. Не таков ли
мольеровский месье Журден? А уж грибоедовский Мол-
чалин выражает конформистское умонастроение в
классическом виде:
Мне завещал отец:
Во-первых, угождать всем людям без изъятья —
Хозяину, где доведется жить,
Начальнику, с кем буду я служить,
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику, для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была.
Мы видели, что нравственно неискушенному взгляду
«сильная личность» может показаться воплощением
моральности. Аналогичным образом нравственное начало
порой усматривается в поведении, осуществляющемся
из конформистских побуждений. Это возможно
вследствие абсолютизации в морали момента подчинения
личного интереса общему интересу, с одной стороны, и роли
общественного мнения — с другой. В самом деле, ведь
конформист подчиняет свой интерес интересу других
людей, поступает так, как поступают другие,
придерживается общих с другими ценностей, последовательно
ориентируется на общественное мнение и т. д. Все это
так на первый взгляд. Конформист высказывает те же
суждения, что и все, однако при этом следует
собственному интересу, реализация которого, возможно, и
требует приспособленчества, самой утонченной мимикрии
и даже порой отказа от своеобразного, личностного в
себе.
Конформистское сознание одно из своих выражений,
как правило, находит в авторитаризме, то есть в таком
истолковании нравственных представлений, которое
полностью ориентируется на суждения и позиции высшего
87
лица, авторитета 1. Раз мы вспомнили одного из
персонажей Грибоедова, то надо сказать, что Молчалин не
единственный конформист в том мире, который
разворачивается перед нами в «Горе от ума». Фамусов,
представитель «мира сильных сего», не был бы Фамусовым,
посмей он «свое суждение иметь». Конечно, он имеет
свое мнение, но для тех, кто ниже его по социальному
положению, кто слабее его. Мнение тех, кто сильнее
его, для него свято: «Ах, боже мой, что станет говорить
княгиня Марья Алексеевна!»
Не будь это восклицание столь одиозным, в нем тоже
можно было бы обнаружить, как это ни парадоксально,
что-то похожее на одну из формул морального сознания.
Речь идет о сакраментальном «А если узнают!»:
человек воздерживается от недостойного поступка или,
наоборот, совершает должное действие, представив себе
реакцию на такой поступок других людей или даже
одного человека, чьим мнением он дорожит. На первый
взгляд «А если узнают!» представляет собой типичную
формулу именно конформистского, прагматистского
сознания. Между тем это впечатление неочевидно. В
рамках морального сознания «А если узнают!»
представляет собой один из внутренних, проверочных,
контрольных механизмов совести, предполагающий проверку
поступка на подлинность, на гласность. Аналогичной
является и другая формула: «Быть честным во мраке»,
1 В наиболее полной форме авторитаризм содержится в
религиозном мировоззрении в его, так сказать, «массовом» варианте, и на
это обращали внимание те богословы, которые ратовали за
бескорыстное служение богу. Так, один из «отцов церкви», Климент
Александрийский, писал: «Если же кто-либо воздержится от совершения
зла в надежде на награду праведным от бога, то это не значит
быть праведным по доброй воле. Ибо подобно тому, как того
делает праведным страх, так этого делает праведным награда, —
вернее, приводит к тому, что он кажется праведным». Приводя это
высказывание, молодой Маркс совершенно точно замечает:
«Клименту небезызвестно, что надежда на загробную жизнь также
не свободна от принципа полезности» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч., т. 40, с, 129).
88
которая уже прямо противостоит той «морали на час»,
чьи принципы утрачивают всякий смысл, как только
человек остается наедине с собой, когда он оказывается
ответственным разве что перед ветром или перед
безмолвными звездами.
В этих внутренних механизмах сознания выражены
нравственная стойкость личности, ее высшее мужество:
«Я поступлю так, даже если об этом узнают все», или:
«Я не совершу этого, если даже об этом не узнает
никто», или: «Я не совершу этого, если даже в противном
случае мне будет рукоплескать весь свет». Обычный
здравый смысл усмотрит здесь упрямство или просто
глупость, но, по существу, в этих
высказываниях-формулах сфокусированы принципы автономной морали,
морали личного достоинства и свободы. Конечно, сама
по себе такая позиция в морали не гарантирует от
ошибок и заблуждений, она может быть правильной и
неправильной, но такую позицию мы никогда не
заподозрим в корыстолюбии или приспособленчестве, это
всегда внутренне честная, открытая позиция.
Автора могут упрекнуть, что в указанном наборе
«символов успеха» тенденциозно подобраны
«материальные» показатели. А как же быть с другими качествами
человека, другими «показателями» его жизненных
достижений? Почему в представление об успехе не вошли
такие моменты жизни человека, как добрые отношения
с людьми, круг друзей, хорошие дети, широта его
кругозора, уровень его гражданственности и нравственного
совершенства? В том-то и дело, что все это, будучи
положительными ценностями нашей жизни, не входит в
представление об успехе, — это то, что образует более
расплывчатое и неопределенное понятие счастья как
осуществленности жизненного предназначения, смысла
жизни.
Выше мы не случайно выделили два нюанса в
понятии успеха. Они как раз показывают, что к
нравственным поступкам, нравственной деятельности в целом,
89
если о таковой можно говорить, неприменимы критерии
успешности и безуспешности. В самом деле, каков
стандарт моральности поступка? Может ли поступок быть
более моральным или менее моральным и можно ли
задать стандарт добродетельности, а потом по нему
сверять, насколько совершенное действие было
добродетельным? Нам не найти такого стандарта, такого
критерия.
Представим себе, что в критической ситуации кто-то
бросается на помощь человеку и спасает его; у другого
в аналогичной ситуации может ничего не получиться.
Действия одного были успешными, другого — нет.
Можем ли мы на основе этого сделать вывод о том, что
первый добродетельнее второго. Наверное, нет.
Конечно, при совпадении практической и нравственной
ценности поступка можно говорить о культуре деяния, о
социально-нравственной зрелости личности, но и сама по
себе успешность действия еще не является показателем
нравственной ценности.
Здесь обычно говорят, что нравственный успех не
следует сводить к достижению какого-то отдельного
результата. Воспитать в себе культуру чувств, умение
владеть собой, духовно выстоять в трудной ситуации,
развить нравственные способности, выпестовать в себе
практическую мудрость в самом лучшем смысле этого
слова, — в этом и заключается нравственное, духовное
достижение личности. Все это действительно очень
важно. Но в этом перечне внутренних побед, которые с
трудом втискиваются в довольно определенное понятие
«успех», удивительным образом пропадает «другой», по
отношению к которому и имеют смысл все эти
совершенства. И это не случайная «пропажа». Конечно,
нельзя достичь совершенства, только культивируя свои
внутренние способности, познавая себя (об этом специально
будет речь в следующей главе);
самосовершенствование не может не быть опосредованным добрым
отношением к другому, заботой о счастье и совершенстве дру-
90
гого. Но вот возникает вопрос, опять-таки
казуистический на первый взгляд: совершенствуемся ли мы, чтобы
творить добро, или же мы творим добро ради
собственного совершенства? Да, одно невозможно без другого,
но что обладает для нас высшей ценностью? — этот
вопрос не должен быть оставлен в стороне. Если
приоритет отдается личному совершенству, — а ведь именно
это мы находим в большинстве религиозных учений,,
особенно в получившем последнее время популярность
модернизированном дзенбуддизме, — то может
оказаться достаточной не забота о ближнем, а хорошо
составленная методика аутотренинга или психотерапии. Иными
словами, в «этике самосовершенствования»
благодеяние, добро для другого становится средством
обретения личного совершенства, добра для себя; «этика
самосовершенствования» зачастую представляет собой
чрезвычайно возвышенный, рафинированный вариант
покоящейся на принципе полезности «этики
преуспеяния».
ОБЩИЙ И ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС
Коммунисты-теоретики, те немногие, у
которых есть время заниматься историей, отличаются
как раз тем, что только они открыли тот факт,
что всюду в истории «общий интерес»
созидается индивидами, которые определены в качестве
«частных людей».
К. Маркс, Ф. Энгельс
«Вот уже десять лет, — пишет в письме читатель
«Литературной газеты», — с тех пор как появился на
сценах театров Чешков, герой пьесы И. Дворецкого
«Человек со стороны», в наших фильмах, пьесах,
романах без конца появляются его модификации... А суть
остается: это конфликт деловитости и нравственности.
Мне такой конфликт кажется надуманным. Ведь если
91
деловитость приносит пользу обществу, то она же
нравственна! Разве не так?» 1
Это весьма характерная постановка вопроса, сама
по себе еще не выражающая прагматистскую
ориентацию, но свидетельствующая о вполне определенном
умонастроении в общественном сознании. Для такого
умонастроения существует только практический
результат — положительный или отрицательный, а для морали
в нем не остается места. Что такое «нравственный
результат» или «нравственные последствия»? В самом
деле, однозначно выявить параметры этого явления
довольно сложно. Чувство личности, внутреннего
достоинства, сознание собственной необходимости,
осмысленность существования, удовлетворенность делом,
«которому служишь», добрые отношения с людьми в процессе
деловых контактов — все это при ориентации на
практический результат зачастую бывает достаточно
эфемерно.
Когда это умонастроение, эта жизненная ориентация
получает приоритет в массовом сознании, когда она
становится объективным фактом общественной жизни,—
она включается в иерархию ценностей, начинает
выполнять регулятивную роль и тем самым оказывать
обратное воздействие на формирование
индивидуально-массового сознания, на формирование прагматистской
личности, а последнее уже закрепляется условиями
деятельности в различных сферах общественной жизни.
Особенно опасна эта личность, уверенная, что
деловитость на благо общества всегда сама по себе
нравственна, окажись она волею обстоятельств даже на
небольшой административной высоте. Тогда принцип
полезности, «мораль успеха» получает, так сказать,
массовое приложение. Знание дела, самозабвенное упорство
в достижении цели, умение мобилизовать людей на
выполнение плана любой ценой нередко оправдывает в
1 Литературная газета, 1984, 15 марта.
92
глазах общественного мнения, а скорее мнения
вышестоящего начальства и грубость, и несправедливость,
и безжалостность в отношении с людьми. Нравственные
последствия такого «успеха» в расчет не принимаются.
В последнее время много говорится и делается для
улучшения социально-психологического климата в
коллективах. Это очень важная работа, результаты которой
представляют собой одно из выражений заботы о
человеке, его душевном покое и внутреннем настрое. Но надо
иметь в виду, что и во внимании к психологическим
проблемам производственных, деловых отношений
может выражаться и выражается та же прагматистская
позиция: «Если для дела необходимо повышать
психологический настрой работника, будем изучать
психологию!» И нет гарантий, что если завтра не будет нужды
в этой хлопотной заботе о психологическом климате, то
прагматик-руководитель — из числа «тех
хозяйственников, для которых производство порой заслоняет
человека» 1 — не махнет рукой на психологию. Конечно,
такого «завтра» уже не будет. Как раз заглядывание в
завтра показывает, и об этом убедительно было сказано
на XXVII съезде КПСС, что решение крупных
социально-экономических задач, «перестройка хозяйственного
механизма... начинается с перестройки сознания»2.
Но пока это принципиальное положение не стало
действительным достоянием массового сознания и
исходным пунктом всей общественной практики, нам не
избежать всплесков — больших или меньших — прагма-
тистского образа мысли и стиля поведения.
В одном из очерков Инны Руденко рассказывается
о директоре совхоза — сильной, не щадящей себя в
деле, но властной и грубой женщине. Поводом для встречи
1 Горбачев М. С. Политический доклад Центрального
Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского
Союза. М., 1986, с. 73.
2 Там же, с. 48.
93
журналиста с ней был малоприятный, постыдный
эпизод: увидев во дворе мехмастерской молоденького
инженера с сигаретой в руке, она без всяких слов
закатила ему оплеуху, да такую, что шапка отлетела на
несколько шагов. Парень, выросший в этом совхозе и
выучившийся по путевке совхоза, от обиды был готов все
бросить и уехать. В районе про директора говорили:
«Хозяин — мужика не надо», — и действительно она
буквально в кулаке держала хозяйство, контролировала
всех, считая, что вокруг одни лодыри и бездельники,
готова была взяться за любое дело. А между тем за
глаза ее называли «барыней», ибо делала она в своем
совхозе все, что хотела, походя верша свой суд и
раздавая награды. О людях думать? Это дело социологов.
Уважение проявлять и заботу? На то есть
общественные организации. «Им легко быть добрыми. Мне же
работать надо... И если бы все так работали, как я, давно
б уже коммунизм построили» 1. Она действительно
любила свою работу, искренне была предана ей. Но в деле,
которым она занималась, в лесах и пашне, которые ее
окружали, в людях и даже, как видим, в строительстве
нового общества она прежде всего видела средство
утверждения по-своему понимаемого общего интереса,
некоего образца деловитости, а в конечном счете —
саму себя, все это было средством ее самореализации.
Да, она не лихоимствовала, а если и имела что со
своего директорства, так одну женскую печаль и
горькое одиночество. Она была честной! Но можно ли
восполнить тот колоссальный человеческий, нравственный
урон, который несут такие методы борьбы за общее
благо, за общественный интерес?
Проблема еще и в том, что такие «борцы» могут и
не заботиться об общественном интересе. По
наблюдениям социальных психологов, авторитарность почти
всегда стремится замаскировать свой себялюбивый интерес
под заботу об общественном благе. Причем себялюби-
1 Руденко И. В шести зеркалах. М., 1980, с. 125.
94
вым может становиться и интерес частной группы,
корпорации, ведомства, и необязательно этот себялюбивый,
корпоративный интерес выступает в непосредственно
материальной, практической форме, — здесь могут
таиться абстрактные, превратные представления о
должном гражданственном и т. д.
В истории нравов мы встречаем самые
поразительные спекуляции на высоких гуманистических идеях.
Достаточно упомянуть в этой связи «принципы» баку-
нинско-нечаевской революционно-анархической
организации «Народная расправа», которые, как говорили
Маркс и Энгельс, в нелепо утрированном виде
воспроизводили циничную мораль ордена иезуитов.
Насколько извращались элементарные нравственные понятия
анархистами, можно судить по некоторым положениям
составленного М. А. Бакуниным «Катехизиса
революционера»: «другом и милым человеком для
революционера может быть только человек, заявивший себя на
деле таким же революционным делом, как и он сам.
Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в
отношении к такому товарищу определяется единственно
степенью его полезности в деле всеразрушительной
практики революции; ...когда товарищ попадает в беду,
решая вопрос, спасать его или нет, революционер должен
соображаться не с какими-нибудь личными
чувствами, но только с пользою революционного дела.
Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем,
с одной стороны, а с другой — трату революционных
сил, потребных на избавление, и на которую перетянет,-
так и должен решить» *.
Трудно представить себе более концентрированное
воплощение прагматистской морали, нежели эта
мелкобуржуазно-анархическая программа. Человек
низводится до средства осуществления извне заданных
целей; все проявления его индивидуальности нивелируют-
1 Цнт. по: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 416—417.
95
ся в соответствии с этими целями; нравственные
понятия утрачивают свое самостоятельное значение, да и
сама мораль оказывается инструментализированной^
также сведенной к совокупности «революционных»
средств. Но все это порождение «зарвавшегося»,
нигилистского сознания, утратившего какие-либо связи с
гуманистическими ценностями духа.
В определенном смысле это предельный случай, но
именно в этом его типичность: здесь стерты все
случайные черты, и прагматистское умонастроение с
вытекающим из него стилем поведения обнаруживает себя во
всей полноте и очевидности. Само прагматистское
сознание или сознание, тяготеющее к прагматизму, готово
возразить, что различие нравственного и
праксиологического аспекта деятельности, общего и частного
интересов вытекает из характера самой общественной жизни,
и люди вынуждены порой жертвовать теми или иными
нравственными ценностями во имя достижения более
высоких и универсальных ценностей, что деятельность
по принципу «из двух зол выбирай наименьшее»
является гуманистически определенным и отражает
действительную диалектическую переплетенность добра и зла.
И т. д.
Но о чем идет речь, когда говорят о «меньшем зле»?
Очевидно, предполагается, что «меньшее зло» — это та
плата, которой дается добро, то есть человек выбирает
не зло, пусть и наименьшее, а добро, правда, ценою
небольшого зла.
Речь, стало быть, идет о целях и средствах:
существуют обстоятельства, когда нельзя избрать
безукоризненные средства, когда нужно пойти на компромисс1.
Но в выборе «наименьшего зла» порой происходят тре-
1 Проблема цели и средств достаточно полна проанализирована
в советской этической литературе. См. : Т и т а р е н к о А. И.
Мораль и политика. М., 1969; Бакштановский В. И. Моральный
выбор личности: альтернативы и решения. М., 1983.
9G
вожные аберрации в поведении и сознании: «меньшее
зло» выбирается не как средство, а как цель, хотя
компромиссное сознание со спокойной совестью
полагает, что произошел именно выбор средства. В свое
время, лет пятнадцать назад, воодушевленные
торжеством научного знания студенты на лекции по этике
уверяли философа, что если тонут двое — слесарь и
известный физик-теоретик, — то в первую очередь надо
спасать, конечно, физика: он еще может принести
гораздо больше пользы! 1
При этом забывается, что нравственная ценность
цели органически связана с нравственной ценностью
средств. Следовательно, даже тогда, когда
нравственное сознание удерживается от удобной подмены
средствами целей, когда в качестве меньшего зла
рассматриваются именно средства, от человека как
нравственного субъекта требуется огромная ответственность,
внимание, самоконтроль, чтобы не получилось само собой
так, что обстоятельства, которые вынуждают допустить
меньшее зло, выбраны самим человеком в результате
его безответственности, малодушия или просто
непонимания хода вещей.
Таким образом, ясно, что допускаемое прагматист-
ским сознанием решение общих проблем (даже тогда,
когда последнее не является ширмой или самообманом)
за счет игнорирования частных, личных интересов в
нравственном отношении рискованно и чревато
разрушением последних. В общесоциальном плане это
нередко ведет к тому, что решаются лишь текущие,
сиюминутные задачи и тем самым закладываются мины под
действительное осуществление и развитие общего
интереса в той исторической перспективе, которая,
возможно, и не просматривается в суете будней. Впрочем,
покоящемуся на здравом смысле прагматистскому созна-
1 Толстых В. Совесть с арифмометром. — Комсомольская
правда, 1972, 19 сентября.
7 Р. Апресян 97
нию нет никакого дела до исторических перспектив, —
они для него просто не существуют.
Одним из принципов социалистической морали
является главенствующее положение общественного,
коллективного интереса в отношении личного. Однако
каждый раз, когда мы осознаем факт расхождения
общественного и личного, когда перед нами стоит задача
разрешения возникшей таким образом
социально-нравственной проблемы, мы должны ответить на вопрос:
какова степень превышения общественным
(коллективным) интересом интереса личности? Разумеется, в
периоды войны, всеобщих лишений, стихийных бедствий
и т. д. постановка подобных вопросов, мягко говоря,
неуместна и может быть справедливо расценена как
попытка нравственного дезертирства, как своего рода
враждебный акт. Но, повторим, в периоды бедствий,
чрезвычайного положения. Напротив, в период
стабилизированного, упорядоченного развития такая
постановка вопроса безусловно необходима, хотя бы для того,
чтобы создать нравственный заслон всякого рода
попыткам волюнтаристского или, наоборот, анархистского
решения назревших социальных проблем.
...В одной из лекционных поездок по стране автору
этой книги довелось побывать на заводе электрического
оборудования с лекцией, посвященной культуре
отношений между руководителем и подчиненным, После
лекции, как водится, были вопросы, и когда все стали
расходиться, ко мне подошел относительно молодой
человек, больше всех задававший вопросов, и,
представившись главным технологом, предложил еще поговорить.
Не успели мы расположиться в его скромном кабинете,
как он с ходу начал:
— Вы тут все очень хорошо говорили об
уважительном отношении к подчиненным, о деловом этикете, но
ничего этого рабочим не нужно, с ними и так
невозможно работать, добрых слов не понимают и вообще
не хватает им сознательности! — И он рассказал о по-
98
дробностях борьбы, которую он безуспешно ведет не
один год с работницами сборочного цеха за то, чтобы
они не приносили из дома еду и в обеденный перерыв
в цехе не обедали. — А то ведь знаете, что такое
домашняя еда — зелень, прийравы! — такой запах стоит,
не знаешь, то ли ты в цехе, то ли на кухне. Какая после
этого работа!
Я, естественно, поинтересовался, где же обедать
работницам, если в цехе нельзя.
— Пусть идут в столовую и там обедают. Да только
им там запахи не нравятся. — Когда же я заговорил
о бытовках, которые видел в других местах, главный
технолог только пожал плечами: тут дополнительные
станки поставить некуда, не хватает складских
помещений — не до бытовок.
Но вопрос с обедами на первый взгляд был мелочью
по сравнению с тем, о чем я узнал минуту спустя.
Завод активно развивается, причем основное внимание
уделяется интенсификации производства, и, в частности,
в последние год-два был взят курс на внедрение
станков-автоматов с программным управлением. Но вот
беда — новые станки не дают желаемого эффекта,
поскольку... рабочие постоянно их портят! Признаться, я
не верил своим ушам. Луддиты XX века, да и не где-
нибудь в Англии, а у нас в стране — это не
укладывалось ни в какие рамки. Главный технолог сетовал, что
не просто ломают механизмы, но — по-научному! —
нарушают схемы, так что ремонт станков оказывается
особенно затрудненным и дорогостоящим.
Как я позже понял, главный технолог рассказал мне
не все. Но вскоре в «Правде» появилась статья,
посвященная проблемам внедрения в производство
микропроцессоров. В ней, в частности, говорилось о том, что
имеют место случаи порчи новых станков рабочими.
Указывались и причины такого отношения рабочих к
станкам-автоматам. Дело в том, что появление новых
станков на некоторых предприятиях вело к «автомати-
7* 99
ческому» повышению норм выработки и, естественно,
снижению расценок, что крайне невыгодно рабочим,
которые производят продукцию так же, как и прежде, но
теперь — по соседству с роботом . В ином свете
предстала и другая деталь в разговоре с главным
технологом. На том заводе одним из следствий широкой
автоматизации должен был быть переход на трехсменный
график работы, — перспектива ночных работ совсем не
улыбалась рабочим. К тому же не все рабочие
психологически подготовлены к внедрению автоматики. Здесь
срабатывают особые нравственно-психологические
механизмы сознания: «Мне понадобилось несколько лет на
получение профессии, повышение квалификации, и, вот
те на, все это может делать вместо меня машина. А что
завтра делать мне?»
В любом случае переоснащение, причем столь
радикальное, производства недопустимо было проводить
чисто технологическим способом, «забыв» о том, что у
него есть и социальные стороны. В данном случае
рабочие оказались уподобленными «железкам», у которых
ведь не спрашивают, оставлять их или менять на более
совершенные. Теперь не случайными выглядели и
перипетии борьбы главного технолога с работницами из-за
обедов в цехе. Их реальные бытовые заботы попросту
игнорировались как третьестепенные, неважные перед
лицом решения производственных задач.
Возможно, не следовало уделять столько внимания
отдельному явлению, но в нем как в капле воды
отразились практические результаты невнимания к такой
важной социально-нравственной проблеме, как соотношение
общественного и личного интересов: эти интересы
предполагались как бы тождественными. Трудно сказать,
вытекала ли эта тождественность из неправильной
интерпретации тезиса общественной теории о том, что при
социализме общие и частные интересы в принципе
едины (но единство и тождественность не одно и то же),
то ли перед нами типичная попытка заземления комму-
100
нистического идеала. Но факт остается фактом:
переоснащение производства, социальный смысл которого
отнюдь не однозначен, проводилось директивным методом,
«сверху», и вдохновлялось, по-видимому, мыслью о том,
что все, что ни делается в нашем обществе, делается
«для блага человека», сам же человек, тоже уповая на
единство общественных и личных интересов, проводил
это единство, правда, на свой манер, в жизнь.
Проведение в массы идеи о единстве интересов не было
подкреплено соответствующей
хозяйственно-организационной работой, направленной на формирование «чувства
хозяина».
Единство общественных и личных интересов
опосредуется в социалистическом обществе региональными,
ведомственными, коллективными, групповыми,
межличностными интересами, то есть целым ансамблем
интересов, которые по отношению к общественным
выступают в частной форме, а по отношению к личным — в
общей. При этом естественно, что время от времени
могут возникать противоречия между тем, что выгодно
стране, и что выгодно предприятию или выгодно
отдельному человеку. Эти противоречия отражают
объективную динамику общественных структур в процессе
поступательного развития общества, но нередко в них
выражаются перебои в функционировании
хозяйственных механизмов, вызванные несбалансированностью
планов, просчетами в стимулировании производственной
деятельности и т. д. И тогда пропадает зависимость
между общим результатом работы предприятия и
благополучием работающих на них людей, утрачивается
общественный смысл деятельности. Отдельному
человеку оказывается выгодным работать на себя, ну, на
бригаду, а остальное его как бы не касается. Вот здесь
явно или скрыто человек оказывается перед
нравственной дилеммой: отдаться воле обстоятельств или найти
в себе мужество для первого шага, для преодоления
обстоятельств.
101
В связи с той обширной работой, что развернула
Коммунистическая партия по наведению порядка на
производстве, укреплению дисциплины трудовых, деловых
отношений, в прессе в ходе широких дискуссий многими
ставился вопрос о том, что часто человек сталкивается
с такими условиями, когда его дисциплинированность
или «порядочность» оказываются ничем по сравнению
с неупорядоченностью и недисциплинированностью в
отношениях между поставщиками, ведомствами,
министерствами и т. д., когда выполнение элементарного
служебного долга становится порой сродни... подвигу.
Поэтому глубоко прав один из участников дискуссии,
подчеркнувший: «Нет порядка, если остается хотя бы
маленький беспорядок. Нельзя делить внутренние и
внешние проблемы дисциплины».
Так же нельзя делить частные и общие интересы,
ведь общий интерес не просто складывается из частных
интересов, но, как говорил Маркс, созидается «частными
индивидами» — отдельными людьми, носителями
отдельных интересов.
БЕЗУСЛОВНОСТЬ ДОБРА
Чтобы правильно судить о вещах
возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в
противном случае мы припишем им наши
собственные изъяны.
М. Монтень
Практицизм губит добродетель, иссушает сердце
человека, растворяет мораль в отношениях, основанных
на меркантильном расчете, себялюбии, корысти. Но вот
что интересно: ведь и мораль по-своему и практична и
целесообразна *. Однако это другие практичность и це-
1 См.: Дроби ицкий О. Г. Научная истина и моральное
добра — В кн.: Наука и нравственность. М., 1971, с. 312—322; он же.
Понятие морали. М., 1973, с. 356—374.
102
лееообразность, нежели те, которые находит прагма-
тистское сознание в стяжании успеха или реализации
принципа полезности, ловко передергивая содержание
моральных понятий и ценностей, переиначивая их роль
в жизни общества.
Иногда говорят, что полезность морали, так сказать,
созерцательна и носит духовный характер. Да, в нрав*
ственности запрет — осуждение или поддержка —
одобрение идеальны: они не предполагают штрафов или
премий, не ограничивают свободу и не наделяют особыми
привилегиями, — они не наносят человеку
материального ущерба и не увеличивают его достаток. В
моральной санкции, или оценке, речь идет о достоинстве
человека, его чести и бесчестье, благородстве и низости,
славе и позоре. В таком смысле мораль, конечно,
своеобразна, но не только в этом выражается ее социально-
практическая роль в общественной жизни.
Как ни странно, прагматистское сознание готово
согласиться с идеальностью морали. Прагматик готов
согласиться с тем, что мораль — весьма своеобразна, а
представления о добре и справедливости возвышенны
и утонченны, готов, ибо до этого ему, как говорится, нет
никакого дела. Кому не приятно, когда его хвалят, но,
принимая похвалу, прагматик научился легко
абстрагироваться от морального осуждения и даже негодования,
либо заслоняясь «своими» аргументами от морали, либо
просто не принимая их во внимание К И пусть морали-
1 Вот как в иронически-гротескном виде представил восприятие
морали расчетливым прагматиком-политэкономом К. Маркс: «Если
я задам политэконому вопрос: повинуюсь ли я экономическим
законам, когда я извлекаю деньги из продажи своего тела для
удовлетворения чужой похоти... и разве я не действую в духе политической
экономии, когда я продаю своего друга марокканцам... то
политэконом мне отвечает: ты не поступаешь вразрез с моими законами; но
посмотри, что скажут тетушка Мораль и тетушка Религия; моя
экономическая мораль и моя экономическая религия не имеют ничего
возразить против твоего образа действий... Политическая экономия
выражает моральные законы, но только на свой лад». (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. 132—1G3.)
103
сты читают свои проповеди и пишут книжки, уж он-то
не даст себя надуть пустыми словами. Это, правда, не
значит, что при случае он не воспользуется «добрым
словом» и даже «добрым делом», когда ими можно
заменить звонкую монету!
Признавая идеальность морали, прагматик, таким
образом, отказывает ей в практичности. Но надо
сказать, что и «лучшие друзья добродетели», ратующие
за нравственное совершенство каждого человека,
зачастую повторяют презираемого ими
прагматика-рационалиста. Сталкиваясь с реальностями общественной
жизни и обнаруживая, что добро не всегда торжествует над
злом, что порой трудно понять, где добро, а где зло,
осознавая расхождение практических и нравственных
ценностей, — они решительно отворачиваются от
реальности, сводят мораль лишь к идеалам и образцам,
изолируют добро от пользы, культуру от цивилизации, дух
от материального производства. Такая нравственность
вполне пригодна для «хрустального дворца» — это
мораль бездействия, аристократическая мораль
избранных.
В одной старинной армянской притче с иронией
изображается такая оторванная от жизни «возвышенная»
позиция. Затеяли спор Церковь и Мельница. Церковь,
возгордясь своей святостью, промолвила: «Я — храм и
дом божий. Чтобы во мне возносить молитвы богу и
совершать литургии, приходят священники и прихожане,
и примиряется бог с миром, и дается отпущение
грехов!» Мельница не без внутреннего достоинства
ответила на это: «То, что ты говоришь, правдиво и истинно,
но ты не забывай и моих заслуг: я день и ночь тружусь
и зарабатываю, чтобы священники и прихожане ели, а
затем шли к тебе!»
Мораль практична уже в силу того, что она вплетена
в ткань общественной жизни, коренится в ней и как
общественная мораль в конечном счете обусловлена
материальными отношениями. Те задачи и цели, которые
104
фиксируются в нравственных требованиях — в
понятиях добра и зла, чести, достоинства, равенства и
справедливости, — отражают закономерности исторического
развития, перспективы общественного движения.
При этом мораль как бы выходит за рамки наличных
возможностей, прорывается сквозь стихию
складывающихся обстоятельств и тем самым попирает «принцип
реальности», заставляя человека жить по законам добра
п красоты.
«Нравственность служит для того, — говорил
В. И. Ленин, — чтобы человеческому обществу
подняться выше... В основе коммунистической
нравственности лежит борьба за укрепление и завершение
коммунизма» 1. В период революционной перестройки
общества, в переломные исторические моменты
значение морали неизмеримо возрастает. Нравственные
ценности оказываются мощным идейным оружием для
борьбы с окостеневшими, рутинными структурами
отжившего себя общества. Вспомним, что даже такой
фундаментальный, исключительно теоретический труд
К. Маркса, как «Капитал», буквально каждой своей
строкой несет заряд нравственного негодования и
личной непримиримости автора с существующим порядком
вещей.
Но было бы неверным делать отсюда вывод, что в
обычной, спокойной жизни достаточно одних лишь
«добродетелей» благоразумия и успеха. В жизни каждого
человека бывают такие критические моменты, когда
смело надо взламывать ситуацию, решительно идти
против течения. Так утверждается справедливость и
правда, так сохраняется преемственность в духовном
развитии народа. Правое дело порой не обещает успеха,
более того, человеку не всегда бывает под силу
преодолеть инерцию привычки, противодействие обывателей,
но его активный выбор не проходит бесследно. Благо-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 313.
105
даря ему сохраняют свою жизненность самые
возвышенные нравственные идеалы.
Трудно не согласиться с тем, что в нравственных
идеях заложены опыт и мудрость многих поколений, что
они обладают безусловной ценностью. Правда, именно
эта безусловность, то есть независимость моральных
представлений от конкретных обстоятельств наталкивает
на мысль об их вневременности, абстрактности,
отвлеченности от мира. В самом деле, когда мораль требует
от человека быть честным, справедливым, добрым и т. д.,
она не ставит перед ним никаких конкретных целей, она
ничего ему не обещает: ведь добродетель сама себе
награда! Это «мудрый» здравый смысл поправляет
нравственность: «Будь честен, если хочешь, чтобы другие
были с тобой честны», или вариант для детской
песочницы: «Не жадничай, и тогда другие детишки будут
делиться с тобой игрушками». А если у других детишек
нет игрушек? А если у меня есть сильный приятель и
вдвоем мы заберем себе все игрушки? Вот и получается,
что в житейской мудрости мораль сразу обрастает
обстоятельствами и, таким образом, в какой-то степени
перестает быть самой собой.
Человек проверяется на гражданскую, нравственную
зрелость именно в независимости от обстоятельств, от
будничной конъюнктуры, в самостоятельном
определении поступка и своей судьбы, иными словами, в свободе.
В неутилитарности морали содержится особая
целесообразность. Главное в морали то, что она
ориентирует поведение человека, вменяет ему в обязанность
делать другого человека предметом своего особого
внимания.
Каждое такое проявление внимания и заботы по
отношению к человеку — крупица драгоценного
нравственного опыта общества, которая служит все более
широкому практическому осуществлению идеи добра.
Здесь для примера хочется привести выдержку из
письма, опубликованного в «Правде».
106
«В Большом Харитоньевском переулке жила
учительница-пенсионерка Герта Ивановна Голубятникова.
Жизнь ее сложилась трудно. Одна воспитывала сына.
Он окончил школу с золотой медалью, поступил в
университет. Товарищи и преподаватели любили его,
предрекали блестящее будущее.
Но случилось несчастье. Студентом пятого курса
Глеб поехал в экспедицию и трагически погиб. Мать
осталась одна. Совершенно одна. Жизнь потеряла для
нее смысл. Что может быть в горестный час страшнее
одиночества? Но товарищи погибшего сына понимали
это. Они не оставили женщину в беде. Много дней,
сменяя друг друга, находились рядом с ней: помогали чем
могли, утешали, ободряли...
С тех пор прошло больше четверти века. И всегда
друзья Глеба заботились о его матери, хотя у каждого
давно свои дети. Они навещали Герту Ивановну,
приносили ей продукты, помогали по дому, ходили в
аптеку. Каждый год коллективно отмечали дни рождения
Глеба и его мамы. Герту Ивановну приглашали в гости,
сообща доставали ей путевки в дом отдыха.
Ей было уже за восемьдесят, она плохо видела,
часто болела, но ее согревало тепло дружеской
поддержки» К
Перед нами «во весь рост встала задача
всестороннего совершенствования социалистического общества,
более полного и эффективного использования его
возможностей и преимуществ в целях дальнейшего
продвижения к коммунизму»2. Как отмечается в новой
редакции Программы КПСС, в ходе решения этой
задачи предстоит качественное преобразование всех
сторон жизни советского общества. Одним из моментов
1 Правда, 1985, 15 но'ября.
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза: Новая
редакция. М., 1986, с. 11.
107
этой обширной работы и является преодоление
различий между практической целесообразностью и
нравственной ценностью, между пользой и добром, в той
мере, в какой эти различия продолжают иметь место,—
создание действительных предпосылок того, чтобы
практическая деятельность ориентировалась на идею добра,
а само добро становилось практической идеей.
САМОСОЗНАНИЕ И СОВЕСТЬ
Совесть есть глубочайшее внутреннее одино^
чество, пребывание лишь с самим собою, в
котором исчезло все внешнее, всякая ограниченность;
она — уединение внутри себя самого.
Гегель
«Добро и зло стучатся в сердце человека...»
Так говорится в одном из стихов древнеиндийского
эпоса «Рамаяна». Мы знаем, что добро немыслимо без
зла, — они идут «рука об руку», несмотря на то, что
одно всегда утверждается в противоположность
другому: добродетель есть отрицание порока, добрый
поступок — злодеяния, достоинство — низости... Но в
древнеиндийском стихе отражена не только идея единства
противоположностей, существующих объективно, не
только то, что личность, осуществляя в своем поступке
добро, выступает против зла, исходящего из действия,
совершенного другим. Нет, человек в себе несет эту
противоположность, так что нравственное совершенство
личности есть внутренняя борьба, преодоление себя —
обретение себя. Осознание этой раздвоенности и
отражается в понятиях самосознания и совести.
Под моральным самосознанием обычно понимается
способность человека контролировать свои поступки и
автономно оценивать их, регулировать свои
потребности, влечения, представления в соответствии с
нравственными требованиями. Самосознание нередко
определяют и как знание самого себя в отличие от сознания
как знания других. В этом ракурсе самосознание
представляется как «рефлексированное сознание», как
«внутреннее око», обращенное на восприятие состояний
познающего объективный мир сознания.
Однако такой подход к самосознанию кажется
упрощенным и философски необоснованным. Во-первых,
самосознание — это не просто познание себя, но в первую
очередь познание мира как «своего мира», своего места
в мире и места мира в себе. Во-вторых, отношение к
себе редко бывает непосредственным: в нем отражается
ПО
отношение человека к обстоятельствам, к деятельности,
которую он осуществляет, к людям, совместно с
которыми и возможно совершение его деятельности как
социальной деятельности.
Однако что мы находим в «рефлексивной»
концепции самосознания, так это то, что самосознание
рассматривается как выражение раздвоенности человека,
наличия в нем как бы двух «Я», которые каким-то
образом соотносятся друг другом. От понимания этих
«Я» зависит истолкование природы самосознания и
морального самосознания, в частности.
Раздвоенность самосознания прослеживается уже в
исторически первых, пусть и простых, формах
нравственности, фиксировавших значительное несовпадение
частных и общих интересов и соответственно
задававших индивиду такой масштаб поведения, в соответствии
с которым он должен был соотносить свои поступки с
интересами и желаниями других людей, рассматривая
последних равными себе, и себя оценивать по тем
меркам, по каким оценивается любой другой.
Таково, в частности, «золотое правило»
нравственности: «Поступай по отношению к другим так, как бы
ты желал, чтобы они поступали по отношению к тебе».
Как показал А. А. Гусейнов, основное содержание
«золотого правила» составляло отношение к поведению
других, отношение, в котором другие приравнивались к
человеку как субъекту действия и суждения 1. Это
означает, что в индивиде предполагается не только
готовность к незаинтересованному (бескорыстному)
общению с другим, но и относительно развитая способность
к рефлексии, активное отношение к обстоятельствам,
свобода волеизъявления и, наконец, умение самоостра-
няться и смотреть глазами другого.
Но что это за «другой», глазами которого человек
смотрит на себя, устами которого себя судит, которого
' См.: Гусейнов А. А. Золотое правило нравственности. М.э
1982, с. 107—129.
111
он обнаруживает в себе и по которому строит свою
нравственную жизнь? Наличие «меня» и «другого во
мне», или «Я» и «другого Я» может фиксироваться
самым разным образом — как двойственность,
разорванность человеческой натуры, борьба мотивов,
противоположность долга и склонности, несовпадение
эмоционального и рационального. И само «другое» оказывается
иллюзией сознания, метафорой, но такой, в которой
наиболее метко схватываются особенности самосознания;
тем более что исторически осмысление самосознания
осуществлялось в основном в представлениях «Я» и
«другого Я».
Два «Я» человека, как это будет видно из
последующего рассуждения, различаются однозначно: одно
воспринимается как выражение «подлинных» интересов
человека, другое — второстепенных, не отвечающих
пониманию подобающего и достойного; в случае
радикальной противоположности частных и общих интересов два
«Я» символизируют на индивидуальном уровне
противоположность добра и зла. С психологической точки
зрения в зависимости от жизненной позиции индивида
ценностная определенность «Я» и «другого Я» может
взаимно меняться. «Другое Я» воспринимается и как
совесть человека, и как то бренное, суетное, чем
обрастает истинное «Я» в текучке будничных дел.
СТУПЕНИ К ИСТИНЕ
Так вот, обдумывай это и тому подобное сам
с собой днем и ночью и с подобным тебе
человеком, и ты никогда, ни наяву, ни во сне, не
придешь в смятение, а будешь жить как бог
среди людей.
Эпикур
Анализ классической формулировки «золотого
правила» наталкивает главным образом на
непосредственно данное, эмпирическое истолкование «другого» как
112
человека, с которым преходится иметь дело, так или
иначе сталкиваться в жизни, общаться. В этике такое
обоснование было дано, например, в
разумно-эгоистических и альтруистических концепциях нравственности,
в которых последняя трактовалась по преимуществу
как способ гармонизации межличностных отношений.
Между тем в истории философии получила развитие и
другая традиция в понимании «своего-другого» и того
комплекса вопросов, которые объединяются в рамках
темы морального самосознания.
Уже в философии позднего Возрождения известные
идеи Платона о двойственности человеческой души
получают вполне определенную этическую интерпретацию.
Человек есть «малый мир» и «малый бог», считал
немецкий философ-пантеист XVI века Яков Беме.
Божественное переплетается в нем с тварным, доброе со
злым, но человек призван сам выбрать то или другое.
Выбрать одно — это не значит уйти от другого, оба
начала продолжают сосуществовать в человеке,
предполагая постоянный выбор. Правда, внутреннее согласие и
гармонию человек, согласно Беме, может обрести, лишь
избрав возвышенное и доброе, так что в каком-то
смысле этот выбор представляет собой отказ от себя в
прорыве к наземному другому.
Потусторонности божества в христианско-средневе-
ковом мировоззрении философия Возрождения
противопоставила потенциальную божественность человека.
Разорванность сознания индивида истолковывалась как
выражение двойственности его души, как порождение
противоположности его устремлений. Таков
воплощающий в себе нравственное совершенство «героический
энтузиаст, созданный мыслью выдающегося философа
и математика Возрождения Джордано Бруно. Герой
Бруно в постоянном движении, в поиске самого себя.
Избрав «героическую любовь» — любовь к внутренней
красоте, к высшей истине, человек, по Бруно,
испытывает внутреннюю растерянность, его «мучает разного-
8 Р. Апресян ИЗ
лосица», «он чувствует в душе самое глубокое
раздвоение, какое только можно чувствовать» *. Эта
раздвоенность вызвана не только тем, что человек обременен
обычной «ржавчиной человеческих забот», которая
отклоняет его от божественного. В борьбе с собой
человек обретает «другое Я», и тогда ему не страшно
остаться «наедине с собой», ибо в себе он открывает
бога.
Но, переместив в душу человека источник
«мучительной разноголосицы», Бруно в известных пределах
сохранял пережиточные представления уходящей эпохи,
выразившиеся в положении о том, что разумное,
божественное начало человеческой души в борьбе с
вожделеющим началом имеет надежную, хотя явно и не
проявляющуюся, внешнюю опору в лице гения-двойника —
Амура, с которым героический энтузиаст даже наедине
с собой не перестает советоваться, на которого он
ориентируется, стрелы которого возбуждают и
поддерживают в нем любовь к истине. Если же человеку не удается
обрести подлинность, если он тонет в пучине страстей и
ржавчине забот, то ему лишь остается бежать от себя
прочь, скрыться, умереть. Иными словами, при утрате
гения-двойника у человека не остается никакой
надежды стать самим собой. Таков, по Бруно, удел
большинства людей.
Тема, только намеченная в философии Возрождения
(очищение человека через раздвоение и обретение в
себе возвышенного начала), получила развитие в эстетике
и этике А. Э. К. Шефтсбери — в концепции солилоквии
(от лат. solo — единственный, loguia — слово, беседа).
Размышляя о средствах художественного познания
человека и путях его морального совершенствования,
Шефтсбери подошел к той же проблеме: «Я —
другое Я».
В качестве одного из моментов нравственного раз-
1 Бруно Д ж. О героическом энтузиазме. М., 1953, с. 47,
114
вития Шефтсбери рассматривал сократические беседы
человека с «виртуозами» (от лат. virtus —
добродетель) — особыми людьми, чье знание достигает вершин
добродетели. Но вместе с тем Шефтсбери считал, что
общение с другим человеком, с виртуозом само по себе
еще не может быть основным средством нравственного
совершенствования человека, ибо это общение требует
подготовленности и даже некоторой «виртуозности» от
самого воспитуемого. Эта «виртуозность» достигается с
помощью солилоквии — беседы с самим собой,
самодиалога.
Так же как и Бруно, Шефтсбери сомневался, чтобы
все люди были способны к разговору с «внутренним
собеседником», — однако Шефтсбери не связывал соли-
локвию с той исключительностью, которая была
свойственна поискам себя героическим энтузиастом Бруно.
Шефтсбери саркастически замечал, что от
неспособности к солилоквии должны страдать проповедники,
ораторы, поэты и все те, кто в своей деятельности «всегда
косится на мир». В этом отношении знаменательна
строчка из «Сатир» римского поэта Персия, в качестве
эпиграфа предваряющая трактат «Солилоквия, или
Совет автору»: «Не ищи себя вовне». Отражая опыт
новой, буржуазной эпохи, Шефтсбери в самом человеке
усматривал истоки активности и инициативы. Извне
добродетель может быть подсказана, но основы ее
таятся в самом человеке, и поэтому он сам должен
выбрать себе дорогу — в напряженной душевной работе,
в солилоквии.
Согласно Шефтсбери, человек как бы сложен из двух
половин. Его индивидуальная душа заключает в себе
два Я, из которых одно олицетворяет в себе
добродетель и мудрость, а другое — порок и болезнь. В
уединении человек саморасчленяется, раздваивается,
«призывает себя к ответу и ни в чем, даже в самом малом, не
щадит себя». В солилоквии он — ученик и наставник,
учит и учится; он подвергает себя нелицеприятной кри-
8* 115
тике, чтобы суметь выстоять перед критикой других,
упорядочивает свой внутренний мир и достигает
согласия с самим собой. Причем солилоквия не означала
тягостного и бесплодного самокопания или мучительной
тяжбы человека со своим двойником (мотивы,
появившиеся в европейской культуре несколько позже — в
творчестве романтиков). Солилоквия — это
оживленный разговор с внутренним сотоварищем, диалог с
самим собой, в ходе которого и осуществляется
творчество человеком себя как морального субъекта.
В то же время, хотя Шефтсбери называл одно из
лиц в душе человека божественным, а другое —
рабским, низменным, оба лица признавались им навсегда
соединенными в человеке. В солилоквии как раз и
обнаруживается равенство человека с самим собой, одно
лицо переделывает другое, но не бежит от него.
Испытавший влияние платонистской традиции и уже тем блюз-
кий к Бруно, Шефтсбери также указывал на наличие
«гения», «демона», «ангела-хранителя», с которым
человек связан с раннего возраста и которому обязан
развитием своего разума. Но Шефтсбери переосмысливает
этот древний образ, отказываясь в отличие от Бруно от
его буквального истолкования и представляет как
метафору для обозначения того «другого», которое
внутренне присуще душе человека.
Этими двумя моментами не ограничивается
своеобразие учения Шефтсбери о двойственности человеческой
души. В контексте сентименталистской концепции мора-
Л1И Шефтсбери два лица, встречающиеся в солилоквии,
представляют собой не только различные способности
души человека — моральное чувство как практический
разум и эмоции как непосредственные побудители
действий человека, в отношении которых моральное чувство
выступает в качестве упорядочивающего начала:
«цензора», «надзирателя». Через тему солилоквии проходит
и антитеза морального чувства и меркантильного
рассудка. Соответственно человек предстает здесь, с одной
116
стороны, как «человек моральный», а с другой — как
«человек социальный», сформировавшийся под
воздействием группового влияния, стечения обстоятельств,
идеологической обработки. В этом плане солилоквия
оказывается формой борьбы мотивов, психологически
предельной конфликтной ситуацией, в которой
сталкиваются две линии поведения, две жизненные позиции:
моральная позиция долга, достоинства и позиция
житейского благополучия, наслаждения, корысти. Тем самым
различение Шефтсбери двух лиц в рамках одной
личности приобретает определенный социальный смысл, и в
нем неявным образом отражается не столько
онтологическая, природная двойственность натуры человека,
сколько противоречивая сущность социальной
действительности, которая противостоит активности субъекта.
Но это уже вывод, который лежит за пределами
рассуждений английского моралиста.
Шефтсбери в данном случае для нас интересен тем,
что он, развив и наполнив этическим смыслом идеи
Бруно, показал двойственность человека именно как
морального субъекта и фактически представил
моральное сознание существующим в форме самосознания.
Это, пожалуй, один из главных этапов развития идеи о
наличии «другого Я» в человеческой душе.
Другое дело, что это положение было
сформулировано в соответствующем просветительскому мышлению
виде. Шефтсбери на уровне явления точно воспроизвел
своеобразие морального мира человека, однако ему не
удалось показать действительный социальный смысл
внутренней раздвоенности сознания. Для просветителя
как теоретика, занявшего рефлексивную позицию,
исследование деятельности представлялось
второстепенной задачей в сравнении с исследованием сознания и
творчества, единственный смысл которого усматривался
в самоизменении субъекта в отрыве от изменения
обстоятельств. Деятельность воспринималась как данная
в сознании деятельность, а активность нравственного
117
сознания описывалась только в форме идеально
обращенного на самое себя «Я» человека; более того,
сознание рассматривалось рожденным из самосознания,
противоречия и коллизии которого оказывались
определяющими для морали в целом.
В ракурсе психологии разговор с самим собой может
быть воспринят как процесс самопознания и
самонаблюдения. Последнее, безусловно, является важным
компонентом нормально функционирующего сознания
человека. Не случайно художественная литература в
стремлении наиболее полно раскрыть внутренний мир
личности так часто обращалась к жанру дневника, исповеди,
автобиографии. Именно художественная литература
показала драматическую безысходность состояния
человека, утратившего в силу определенных причин
способность наблюдать за собой, контролировать свои
поступки. Такой человек оказывается как бы вырванным из
своей среды, лишенным друзей, близких и даже пола.
Остроту переживаний человека, неожиданно
обнаружившего неспособность к самонаблюдению, психологически
достоверно и тонко описывает итальянский
кинодраматург и писатель Тонино Гуэрра. Герой одной из его
повестей расценивает свое новое состояние как
критический момент в жизни, ставящий под сомнение саму
возможность и целесообразность ее дальнейшего
продолжения; он принимает крайние меры для компенсации
этой утраты вплоть до обращения к частному
детективу — с просьбой осуществлять за ним поминутную
слежку, с тем чтобы ему «иметь возможность прочесть
все о своей жизни за прошедший день. Прочесть и
понять».
Но вопрос заключается не в том, способен ли
человек наблюдать за собой и какова роль этой способности
в его существовании как личности. Главное связано с
тем, какими и чьими глазами наблюдает он за собой,
какова его позиция в отношении самого себя. Так вот,
взятое само по себе, независимое от социального опыта
118
индивида, как отношение «Я» к самому себе (если
даже представить, что такое возможно в чистом виде)
самонаблюдение не является преимущественным
средством формирования самосознания, развития
человеческой личности, ибо самосознание всегда предполагает
отношение человека к миру, восприятие последнего как
«своего мира» и оценка себя как «себя в мире».
Отвлечение же от мира, в первую очередь от мира людей,
концентрация внимания на собственной персоне чреваты
нарушением нормальных связей индивида с миром и
изменением его нравственно-психологического статуса.
На это указывал Кант, видевший в исключительности
самонаблюдения и всяческих попытках «подслушать
себя» истоки фантазерства и помешательства. «Тот, кто
держит себя так, как если бы он рассматривал себя
перед зеркалом, или говорит так, как если бы он сам (а
не кто-нибудь другой) прислушивался к своей речи, до
некоторой степени напоминает актера. Он рисуется и
стремится придать блеск своей персоне» 1. Иными
словами, отношение личности к самой себе не является ни
непосредственным, ни самодостаточным. Но этот вывод
стал возможным благодаря тому важному шагу в
объяснении природы самосознания, который сделал Гегель.
Гегель преодолел рефлексивное понимание
самосознания как замкнутого на себе «Я» и попытался
представить раздвоенность и внутреннюю расчлененность
личности как результат ее практической деятельности.
«Я» оказывается в себе различенным, ибо оно обращено
к объективному миру и формируется во взаимодействии
с ним. По Гегелю, изначально сознательный индивид
обращается к действительности, а самосознание
формируется в этой обращенности.
Гегель выделял три момента в функционировании
самосознания. С психологической точки зрения, эти
моменты могут выступать (Гегель их так и представляет)
1 Кант И. Соч. М., 1966, т. 6, с. 363.
119
как этапы становления самосознания. Это «вожделею-:
щее самосознание», которое опосредуется
гедонистически-потребительским отношением к миру; «признающее
самосознание», возникающее в процессе отношений
взаимопользования или функционального взаимодействия
между людьми, и «всеобщее самосознание»,
характеризующее отношения свободных и равноправных
индивидов.
Потребительским, или вещным, может быть не
только отношение человека к вещи, к предмету потребления,
но и отношение человека к другому человеку (это
отражается в «признающем самосознании»), когда он
воспринимается формально, внешне: либо как носитель
некоторых прагматически значимых качеств, либо как
обладатель определенного статуса. Человек здесь также
пытается подвести другого под себя, утвердить себя в
другом, добиться признания. Но именно в процессе этого
самоутверждения человек обнаруживает другого в
себе, «другое Я», столь же пока чуждое и
самостоятельное по отношению к нему, как и эмпирический другой.
Так что если в вожделеющем самосознании человек
полагал свое Я в другом предмете и тем самым делал
его сво'им предметом, то посредством признания другого
лица человек находит это лицо в себе как свое «другое
Я», которое еще предстоит постичь и освоить.
Тем самым Гегель подчеркивает внешнюю
обусловленность и заданность «другого Я» и соответственно
внутреннюю раздвоенность личности.
Однако осознание себя как своеобразного,
неповторимого субъекта осуществляется не в пользовании, не в
партнерстве, а в общении, то есть в субъект-субъектном
отношении, когда один человек выступает по отношению
к другому в качестве цели деятельности, но не средства.
Это-то и является собственно моральным отношением,
ибо в нем человек другого воспринимает и оценивает
как себя, а себя — как другого.
Бруно и Шефтсбери, как можно было видеть, обра-
120
тили внимание на отдельные моменты этого сложного
процесса: Бруно остановился на прорыве «героического
энтузиаста» к своему-другому — Амуру — в выборе
себя божественного, Шефтсбери — на «виртуозном»
саморасчленении и солилоквии и открытии в себе
другого. Причем обе процедуры были описаны ими как
спекулятивные, сугубо идеальные, это и было
диалектически преодолено Гегелем. Однако и Гегель не смог
показать практическое отношение человека, которое
формирует его самосознание, как общественное отношение,
как интериоризацию, перенесение вовнутрь
общественного требования. Иными словами, практическая
деятельность субъекта была представлена Гегелем сугубо
индивидуально, в лучшем случае как межличностное
общение.
Понимание самосознания как отражения
общественных связей человека было обосновано в марксизме. Как
показал К. Маркс, развитие самосознания соответствует
определенному состоянию общественных, практических
отношений между людьми, которые отражаются в
сознании, в идеологии в понятии равенства. Как каждая
эпоха порождает своеобразную форму равенства и
идейно-ценностные представления о нем, так же
исторически изменчиво содержание самосознания.
«Самосознание, — писал К. Маркс в «Святом семействе», — есть
равенство человека с самим собой в сфере чистого
мышления. Равенство есть осознание человеком самого
себя в сфере практики, т. е. осознание человеком другого
человека как равного себе и отношение человека к
другому человеку как к равному» К
В буржуазном обществе это — равенство,
возникающее на основе товарно-денежных отношений; так что
человек Петр и человек Павел оказываются равными
как производители товаров и обладатели разных
потребностей. Именно последнее обстоятельство сопрягает
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 42.
121
их как социальных индивидов, делает их
неравнодушными друг к другу. Вспомним, как описывает Маркс
разворачивание принципа полезности в условиях
капиталистических отношений. Через отношение взаимного
удовлетворения потребностей «каждый индивид в качестве
человека выходит за пределы своей собственной особой
потребности» ]. Усматривая в Павле средство
удовлетворения своей потребности, Петр относится к нему как
к себе, и, наоборот, в себе обнаруживая способность
удовлетворять потребность Павла, он может относиться
к себе как к другому. В «Капитале» это отношение
было выражено Марксом одной фразой: «В некоторых
отношениях человек напоминает товар. Так как он родится
без зеркала в руках и не фихтеанским философом:
«Я есмь я», то человек сначала смотрится, как в
зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку
Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает
относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и
Павел как таковой, во всей своей павловской
телесности, становится для него формой проявления рода
«человек» 2.
Таким образом, самосознание раскрывается в
процессе общественно значимой материальной и духовной
деятельности, а также в процессе возникающего на ее
основе общения.
В социалистическом обществе таким базовым
общественным отношением является отношение
партнерства и сотрудничества, в котором складываются другие
представления о равенстве и свободе, иной тип
самосознания. «Другой» рассматривается не как обладатель
потребности и производитель необходимого для
удовлетворения моей потребности товара, но как носитель
способностей, используемых им для общего блага, как
субъект трудовой деятельности.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 189.
2 Там же, т. 23, с. 62.
122
МНОГИЕ ЛИЦА ОДНОЙ ЛИЧНОСТИ
Я — многие, понимаешь? Быть может,
неисчислимо многие!
М. Цветаева
Послегегелевская, то есть неклассическая
буржуазная, философия к началу нынешнего столетия также
подошла к социологическому решению проблемы
раздвоенности человеческой личности *. Так, американский
философ-прагматист У. Джемс объяснял двойственность
сознания различием того, что он называл
«эмпирическим Я», или личностью, и «чистым Я» как
сознательного и активного начала человеческой души. «Личность»
определяется образом жизни человека, системой его
межличностных контактов. В частности, «социальная
личность» — это тот срез «эмпирического Я», который
формируется под воздействием тех групп, в которые
включен человек, и тех статусов, которые он на себя
принимает. «У человека столько социальных
личностей, — указывал в этой связи Джемс, — сколько
индивидуумов признают в нем личность и имеют о ней
представление»2. Таким образом, «другое Я» — это
отражение того, как человек представляет себе ту среду,
в которой он функционирует, это отражение его славы,
его чести и позора.
Статусное многообразие индивида, то есть его
включенность в различные группы и общности, может
порождать стремление удовлетворять различным требованиям
и образцам. Джемс представлял эту ситуацию таким
образом, что человек желал бы быть «сразу красивым,
здоровым, прекрасно одетым человеком, великим
силачом, богачом, имеющим миллион годовой доход,
остряком, бонвиваном, покорителем дамских сердец и в то
1 См.: Кон И. С. Открытие «Я». М„ 1978; о н ж е. В поисках
себя. Личность и ее самосознание. М., 1984.
2 Джемс У, Психология. Пг., 1922, с. 135.
123
же время философом, филантропом, государственным)
деятелем, военачальником, исследователем Африки^
модным поэтом и святым человеком» К Джемс, правда,
не сознает, что таким может быть желание ни с чем не
связанного, предоставленного самому себе человека, —
это даже не желание, не намерение, а мечта. При
идеальных социальных условиях это может стать
предпосылкой, ориентиром всестороннего развития личности,
но более вероятна возможность раздвоения личности и
образования в ней разных лиц с разными претензиями.
Реально в обществе, в котором функционирование
личности, как, например, служащего, отца семейства, члена
спортивной секции и т. д. оказывается до
противоречивости различным и противоположным ее
представлениям о достойной и хорошей жизни, а обязанности
человека как частного лица практически несоотносимы с его
обязанностями как члена организации или как
гражданина, — его самосознание радикально перестраивается.
Человек уже не в себе находит «другое Я», а себя
воспринимает как полностью другое «Я», как маску,
марионетку, исполняющую роль по чужому сценарию. Как
писал Ф. Пессоа,
Я здесь, но где — я не знаю,
щ Я жив, но это не я.
В таком положении личность пытается найти выход
в бегстве от себя как «носителя ролей» к
«естественному», «внутреннему» себе, освобожденному от каких бы
то ни было обязанностей и норм. Это бегство принимает
разные — негативистские, нонконформистские —
формы, в которых моральное самоопределение
осуществляется путем отказа от общепринятых нравственных норм
и общественных установлений. Таково же, по существу,
и инфантильное разрешение психологических и
нравственных трудностей, возникающих вследствие разлада
1 Джемс У. Психология, с. 138.
124
личности со своей средой. Здесь «интимное»,
«внутреннее Я» воспринимается как изначальное, естественное,
ничем не обусловленное, как то, что дано чуть ли не от
рождения и что человек проносит через всю свою жизнь.
Возведенные в теоретический ранг, эти иллюзии
провоцируют различного рода натуралистические,
биосоциальные толкования природы человека, предполагающие
в ней нечто другое наряду с общественным (социально
наследуемым и социологически исследуемым) и
противостоящее общественному.
Прежде чем выяснять вопрос о природе и
содержании «Я», следует обратить внимание на один момент.
Констатация двойственности или множественности «Я»
является психологически вполне достоверной и
реалистичной. Всем известная Людмила Гурченко в одном из
интервью рассказывала: «Пожалуй, во мне всегда
существуют как бы два разных человека. Один —
разговорчивый, заводной, экстравагантный, со
всевозможными актерскими «штучками». Он — весь на виду,
снаружи. Другой — существо не слишком веселое, скорее
мрачное, склонное к сомнениям, изнуряющему
самоанализу. Эти черты моего характера известны, наверное,
только самым близким людям. В кино этот «второй»
человек еще не нашел себе выхода, а вот в том, что
пишу, — пожалуй, да. Во всяком случае, два столь
непохожих мироощущения уживаются внутри довольно
мирно, и оба помогают в работе над ролью, позволяют
искать неожиданные краски».
Эта раздвоенность, эта множественность «Я»
определенным образом раскрывает содержание самосознания.
Однако в ней мы не откроем подлинного смысла
морального самосознания. Последнее задается
конфликтом, столкновением различных внутренних позиций
индивида, его различающихся до противоположности
ценностных ориентации, которые в непосредственно данной
конфликтной ситуации, каждая по-своему,
символизируют добро и зло.
125
ОТ ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА К ЕДИНСТВУ
САМООПРЕДЕЛЯЮЩЕГОСЯ «Я»
Однако в самом деле, если «другое Я» социально
обусловлено и представляет собой переведенный во
внутренний план ценностно-императивный опыт других
людей, группы п в то же время по значению оказывается
порой противоположным «собственному Я» личности, то
каково тогда содержание последнего и как объяснить
тот факт, что на обыденном уровне интимное «Я»
воспринимается человеком как ничем не обусловленное?
Марксистский подход к самосознанию позволяет
прояснить социальную определенность не только «другого Я»,
но и «собственного Я» личности.
Ведь самосознание выражается не только в разладе
с самим собой, но и в оценке этого разлада,
преодолении его, которое подчас мучительно переживается как
безысходная драма души, — словом, в том, что обычно
и называют муками совести. Совесть — понятие
морального сознания и нормативной этики, в котором
фиксируются явления самосознания. Но в совести на
первый план вцступает именно оценочная функция
самосознания, действительное содержание совести не
отражает механизмов самосознания, но воспроизводит
содержание самой нравственности. На это и указывал
К. Маркс в известном высказывании: «У республиканца
иная совесть, чем у роялиста, у имущего — иная, чем
у неимущего, у мыслящего — иная, чем у того, кто
неспособен мыслить... «Совесть» привилегированных —
это ведь и есть привилегированная совесть»'.
Очевидно, что речь идет не о том, что у представителей разных
классов и сословий совесть действует по-разному, а о
разном понимании добра и зла, о разных нравственных
ориентациях.
Нравственно-психологический же механизм совести в
1 М а р к с К., Энгельс Ф. Соч., т. б, с. 140.
126
принципе одинаков и не меняется в зависимости от той
системы ценностей, которую он выражает. Другое дело,
что отжившие свой век реакционные системы морали
порождают бессовестность или же безнравственный
человек также бессовестен, не потому что у него другая
совесть, у него просто нет совести. Механизм и
структура совести вскрываются в анализе оценочной и
контрольной функции самосознания.
К чему апеллирует самосознание, или совесть, когда
обнаруживается роковой внутренний разлад? К
идеальным, абсолютным представлениям, составляющим
фундамент или исходный пункт миросозерцания личности.
Но фундаментальные представления, в том числе
нравственные, закладываются в том возрасте (3—8 лет), в
котором человек еще не имеет социальной памяти и
только начинает осмыслять свою жизненную историю.
Собственно говоря, именно с этих представлений и
начинается его личностное время. Но это то содержание
духа, которое осваивается ребенком несамостоятельно,
«слепо», которое не имеет себе никаких коррелятов
внутри по существу девственного сознания.
Как свидетельствуют данные психологических
исследований и воспитательно-педагогический опыт,
первоначальный образ «Я» ребенка — это интериоризованный,
то есть воспринятый и переведенный во внутренний план,
образ взрослых о ребенке. Формирование и освоение
этих представлений и образов, пронизывающее процесс
первоначального становления личности, носит
неосознаваемый характер и, как правило, обусловлено
действием внеморальных факторов (воспитательным внушением
и тренингом, подкрепленными «непререкаемым»
авторитетом родителей, близких, воспитателей;
назидательностью адресованного детям искусства и т. д.). Поэтому
они воспринимаются становящимся нравственным
субъектом как абсолютные, то есть безусловные и
категоричные. Моральные абсолюты составляют
сердцевину «Я» моральной личности, она воспринимает, пережи-
127
вает эти представления как неизменные, аксиоматичные,
само собой разумеющиеся.
С этической точки зрения моральные абсолюты
также социально обусловлены и изменчивы, о чем
разнообразно свидетельствует как мемуарная литература, так
и историко-культурные, социально-психологические
исследования. Да и содержательно они могут быть
неоднозначными: в них закрепляются ценности и принципы
равно гуманистической и эгоистической нравственности.
Мы не касаемся в данном случае того важного момента,
что в действительности нравственные абсолюты чаще
оказываются наполненными гуманистическим
содержанием, ибо в современном обществе воспитание детей в
раннем возрасте, когда закладываются основы
абсолютных представлений нравственного сознания,
традиционно направлено на формирование у ребенка в
первую очередь альтруистических качеств и черт характера:
другое дело, что в разных социально-нравственных
системах эти качества оказываются ориентированными
либо на коллективистские, либо на индивидуалистические
ценности.
Наконец, следует отметить что в известных условиях
«воспитательного вакуума», когда ребенок
предоставляется «самом^ себе», а если говорить точно — стихии
случая, когда ленивые или невежественные в
педагогическом отношении родители считают, что общение со
сверстниками само по себе сформирует все требуемые
свойства личности, — тогда абсолютные представления
принимают, да простится такой каламбур, весьма
относительную форму. О человеке, прошедшем через такую
«систему» воспитания, люди говорят, что «у него нет
нравственного стержня», «ему не хватает цельности»,
что «он с червоточиной». При всем этом человек может
быть образованным и внешне культурным.
В раннем возрасте, по существу, закладывается и
характер морального сознания. Дети довольно легко
усваивают основные нравственные идеи, могут воспринимать
128
нк в императивной форме — как нормы, могут
высказывать на основе этих норм оценки, причем достаточно
точные. Однако при этом и оценочный, и императивный
заряд нравственных идей оказывается направленным
вовне, на других детей К Себя же ребенок как бы
«освобождает» — как правило, бессознательно — от
нравственной подотчетности, расхождение своих поступков с
нравственными идеями им не замечается. Нужны
особые воспитательные, подчас специальные усилия, чтобы
приобщить ребенка к действенному миру
нравственности.
Важную часть «сокровенного Я» личности
составляют наряду с абсолютными ценностями ее идеальные
представления, которые формируются в возрасте 7—
10 лет уже преимущественно в процессе
самостоятельных нравственных исканий человека. Эти представления
также категоричны и отчасти абсолютны. Юный человек
осознает значимость этих идей для себя, анализирует
свои поступки с точки зрения воплощения в них своих
идеальных представлений, переживает или
равнодушно констатирует их несовпадение, — иными
словами, именно в юности происходит оформление
морального самосознания.
Как ни велико значение абсолютных и идеальных
представлений в становлении индивидуального
морального сознания, диалектика нравственной жизни
человека такова, что их «абсолютное» развитие, гипертрофия
«Я» в структуре самосознания чревато перерождением
нравственного облика личности, утратой ею прочных
жизненных позиций. Именно при одностороннем
разрастании «Я» оно однозначно противостоит миру в
бессмысленном одиночестве, воспринимая его по меркам и
схемам абсолютных представлений. Мир не приемлется
им таким, каков он есть, так что ценность
действительного мира усматривается лишь в возможности преобра-
1 См.: Якубсон С, Прусс И. Последняя победа Буратино.
(Формирование морального сознания у дошкольников). М., 1983.
9 Р. Лпрссии 129
зования. Жажда немедленной реализации идеала в
лучшем случае выливается в тихий «взрыв» протеста
против... абсолютной идеи при первом же серьезном
столкновении с трудностями и в обращении к поискам новой,
более подходящей, но не менее абсолютной идеи.
Гораздо чаще моральный абсолютизм стремится к овладению
«другим» только как подчиненным собственной персоне,
радикально отказавшимся от самостоятельности в
угоду «Я» абсолютиста. Однако с таким
экстремистски-абсолютистским сознанием, не желающим признавать
права другого на сомнение, индивидуальный выбор,
утверждающим слепую убежденность и самодовольную веру,
происходит удивительная модуляция, заключающаяся в
том, что, интегрированное в группы, оно фактически
лишается возможности индивидуального самоконтроля,
суверенности, ответственности, с готовностью передает эти
функции групповому авторитету и таким образом
расщепляется как моральное самосознание.
В отдельные периоды общественного развития на
почве различных культур такое расщепление
самосознания может приобретать массовые формы. В этих
условиях личность фактически деперсонализуется,
«освобождается» от бремени личной ответственности, ее
моральная позиция подвергается насильственной институализа-
ции. Общество посредством своих учреждений и
организаций принимает на себя функции «Я», — внутренний
диалог, как это было в Китае в печальные годы
«культурной революции», оказывается обнародованным,
вынесенным на площади, драматически расписанным в
кошмарное шоу для экзальтированной толпы.
Таким образом, моральный абсолютизм несет в себе
возможность своей противоположности. При распаде
организации как основы абсолютистских идей такое
сознание находит себя один на один с отвергавшимся
прежде «другим» и, не имея своего «Я», впадает в цинизм и
анархический релятивизм, что опять-таки означает
разрушение этого сознания как морального сознания.
130
Основу самосознания составляет диалектика «Я» и
«другого Я». «Собственное Я» личности, воспринимаемое
как интимное, сокровенное, обладающее абсолютным и
идеальным содержанием, находится в непрерывном
диалоге с «другим Я». В качестве последнего выступают
близкие человеку люди, его партнеры, группы, с
которыми он себя идентифицирует, наконец, общество, в
котором он живет. Но чтобы стать «другим Я» человека,
все это должно наполниться для него личностным
смыслом, стать его внутренним миром.
Сознание человека обогащается, обновляется
благодаря тому «другому», которое им овладевается в
процессе практической деятельности. «Я»
взаимопроникается «другим Я» и в то же время освобождается от чего-
то своего, некогда сокровенного, которое утекает в
«другое», утрачивая значение морально абсолютного и
становясь подчас предметом мучительных сомнений и
внутреннего спора.
Объективно обусловленная раздвоенность сознания
создает основание для острых внутренних конфликтов,
которые неизбежны на пути человека, занимающего
активную н последовательную позицию в жизни. Эти
конфликты тем более драматичны, когда овладение
«своим другим» ограничивается лишь его «признанием»,
когда «другое Я» сохраняет свою независимость по
отношению к «Я», то есть когда человек не может прийти
к согласию с самим собой и той средой, которую он
хотя и принимает как свою среду, но не принимает
безусловно, не принимает абсолютно. Такие конфликты,
конденсируя в себе социальные, групповые, межличностные
противоречия, выражают столкновения различных «Я»
одной и той же личности.
Этим и определяется внутренний характер
нравственных конфликтов, а также то, что их разрешение
если и возможно посредством выбора одной из
альтернатив, то ценою отказа от богатства своего жизненного
опыта в его целостности и в конечном счете отказа от
9* 131
самого себя — отказа, который, собственно, знаменует
выход человека за рамки нравственного и наполнение
конфликта более широким, внеморальным содержанием.
Вот почему позитивное преодоление морального
конфликта предполагает активные усилия по согласованию
и гармонизации внутреннего мира личности, по
созданию условий для достижения его нравственной
целостности, при которой два лица, два «Я>> индивида
оказываются взаимопереплетенными. В разных условиях
характер целостности и рассогласованности «Я» и
«другого Я», безусловно, различен, однако всегда состояние
самосознания личности является результатом принятия
ею определенной социально-нравственной позиции.
Поэтому самосознание в морали никогда не
исчерпывается самопознанием, созерцанием человеком своего
«Я», рефлексией, хотя первоначально оно и
обнаруживается в таком идеальном виде. В моральном
самосознании как действительном процессе самопознание
опосредуется деянием, а рефлексия обращается в выражение
собственной воли, в намерение, то есть самосознание
обнаруживается в специфической форме самоопределения,
практического отношения человека к другим людям и к
самому себе.
ПАРАДОКСЫ ААЬТРУИЗМА
г
Я счастлив, что у меня был достаточный слух
и чутье к людям, — так что они выявлялись для
меня. И я убежден, что кругом нас, не всегда
заметно для нас, есть скрытый цветок, который
готов распуститься как предвестник того
прекрасного, всем нам общего, которое должно быть
впереди, чтобы объединить нас всех, таких
рассыпанных и жалких в своем слепом одиночестве,
в своей индивидуалистической культуре,
которой мы еще так гордимся.
А. А. Ухтомский
...Человек оказался жертвой омерзительного
хулиганского нападения: в поздний вечерний час он бросился
на помощь женщине и, приняв удар на себя, стал
доступным объектом мести, примитивной злобы и
циничной жестокости одновременно. Повалив смельчака на
землю, хулиганы ударами тяжелой урны по голове
пытались медленно его убить, и только случайность
предотвратила последний смертельный удар. Раздроблен
череп, сильно поврежден мозг. Благодаря сложнейшей
нейрохирургической операции жизнь была спасена, но
его ждала абсолютная неподвижность. К нему на
помощь пришли друзья — как раз в тот роковой вечер
он вместе с ними торжественно встретил
двадцатилетний юбилей окончания известного института
физкультуры. После операции лучшие массажисты массировали
его по восемнадцать часов в сутки многие дни подряд.
А когда вопреки всем прогнозам опытных врачей у него
одна за другой стали оживать мышцы, на смену
массажистам пришли «поводыри»-реабилитаторы,
которые ценою огромных усилий стали оживлять его тело,
сначала водя по комнате, затем по лестницам, по
улицам — пять километров и пятьдесят этажей каждый
день. У каждого из тех, кто пришел на помощь
товарищу, были свои обычные заботы, была работа и семья,
и не просто было выкроить часы для такого, совершенно
134
особенного, из ряда вон выходящего дела *. Дружба и
колоссальный труд сделали свое: человек,
находившийся на пороге смерти, а затем на грани абсолютной
парализованности, постепенно смог вернуться к
полноценной жизни, к любимому делу. Такова сила дружеской
поддержки, самоотверженной в полном смысле этого
слова солидарности.
Не только беда вызывает такое движение души.
«Если птица не летает — отмирают крылья, если человек
не творит добро — отмирает сердце» — так считает
инвалид войны, узбекский крестьянин Дехан Файзиев.
Вопреки тяжелейшим ранениям и болезням его сердце
живо — оно творит добро, даря людям радость и счастье.
Вот уже много лет он в разные концы нашей страны
посылает мед, яблоки, сухофрукты — строителям БАМа
и детям разрушенного Газли, курсантам суворовского
училища и незнакомому ветерану 2.
Кажется, можно ли найти примеры более полной
нравственной самоотдачи, служения людям, когда нет
надобности в красивых словах, потому что есть
замечательные дела. Однако в обыденном сознании можно
встретить двойственное отношение к такого рода
поступкам. Конечно, когда речь идет о жизни и смерти,
самоотверженность не вызывает сомнения, но в обычном
течении жизни, даже высоко оценивая подобные деяния и
восхищаясь ими, люди нередко воспринимают их с
долей иронии, как чудачество, своеобразное лукавство, как
то, что, конечно, замечательно, но необязательно к
исполнению и представляет, так сказать, превышение
нравственной нормы. В обыденном сознании сами слова
«благодеяние», «альтруизм» ассоциируются то ли с
нравственно-религиозными поучениями, то ли с
благотворительностью или филантропией, то ли с таким сей-
1 См.: Богат Ев г. За незримой чертой. — Литературная
газета, 1980, 18 июня.
2 См.: Солдатский мед. — Комсомольская правда, 1983, 10
декабря.
135
час уже практически отжившим явлением в обществен^ -
ных нравах, как подаяние. Более того, Евг. Богат, автор
публицистической книги «Бескорыстие», с удивлением
отмечал то устойчивое неприятие, выразившееся в
непонимании и недоверни, которые вызывали у читателей
герои его очерков, — такие вот «чудаки», живущие для
других людей, близких и дальних.
Впечатление писателя не случайно и отнюдь не ново.
Еще Ф. М. Достоевский с горечью писал: «...В наш век
негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее,
ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом
смысле, а благородный, походя на идеалиста, имеет вид
шута» '. Но неприятие доброжелательности и
альтруизма кажется парадоксальным именно сегодня, когда
одиночество, взанмонепонимание и другие явления,
связанные с оскудением межличностных отношений, о которых
много говорят п пишут, воспринимаются особенно остро.
С чем связано неприятие открыто выражаемых
альтруистических чувств, различных проявлений
бескорыстия, благодеяния? Только ли с тем, что добрая воля
всегда является как бы укором тем людям, которые
исповедуют другую «мораль», уже известную нам по
тем вариантам практического отношения к миру,
которые порождают гедонизм и прагматизм? Конечно,
бескорыстные деяния раздражают их, разрушают их
ценностные ориентации. Но такое объяснение как бы
предполагает, что все люди радикально поделены на
добродетельных и порочных, благодетелей и злодеев.
Благодеянию и корысти при этом придается абсолютное
значение безотносительно к тому социально-историческому
масштабу, который задается заново этим феноменам
морали на каждом этапе развития общества. Ведь
настороженность в отношении бескорыстия — а благодеяние,
альтруистическое действие всегда бескорыстно —
выражает не только ленивое равнодушие человека ко всему,
1 Достоевский Ф. М. Полк собр. соч. в 30-ти т. Л., 1983,
т. 25, с. 54.
136
что непосредственно его не касается, не только нежелание
принимать на себя взаимные обязанности перед другим,
ко и то недоверие, которое необязательно
свидетельствует об угрюмости характера, но вытекает из
известного житейского опыта.
АЛЬТРУИЗМ: УВАЖЕНИЕ, ЛЮБОВЬ, ДОЛГ
Человек оставляет себя в человеке.
В этом человеческое бессмертие.
В. Л. Сухомлинский
Что представляет собой альтруистическое действие,
или благодеяние? В самом общем виде принцип
альтруизма гласит: «Поступай так, чтобы твой личный
интерес был подчинен чужому интересу». При этом «чужой
интерес» может пониматься по-разному — как интерес
других людей, интерес общности (группы), интерес
общества и интерес другого человека, интерес ближнего,
с которым приходится входить в конкретные отношения,
общаться. В зависимости от того, как истолковывается
«чужой интерес», формулировка принципа альтруизма
получает различные модификации.
Первую из них можно условно назвать «социальным
альтруизмом»: «Поступай так, чтобы твой личный
интерес подчинялся общественному интересу». Именно так
понимал альтруизм французский социолог прошлого
века О. Конт, который и является автором этого понятия.
Так же истолковывал альтруизм Г. В. Плеханов. В
нашей этической литературе это понятие можно встретить
не так уж часто, по его использование, как правило,
связано именно с таким пониманием. Думается, оно не
вполне корректно.
Альтруизм является разновидностью
индивидуалистической позиции в нравственности, то есть такой, прц
котором остальные люди, социальные институты и
отношения рассматриваются как объект самостоятельной к
изолированной деятельности. На это стоит обратить спе-
137
циальное внимание, поскольку в работах по этике и
научному коммунизму индивидуализм истолковывается
как такой тип поведения (ценностная позиция или
принцип), при котором человек воспринимает весь
общественный мир отчужденным или даже враждебным
себе, как поле своей независимой, корыстной
деятельности, как средство достижения собственных целей.
Иными словами, индивидуализм сводится к эгоизму —
принципу, формула которого гласит: «Поступай сообразно
личному интересу», или: «Поступай так, чтобы только
твой личный интерес был целью твоего поступка».
Но возьмем так называемую «стоическую» позицию в
нравственности. Она заключается в строгом исполнении
долга, минимизации запросов и желаний, нравственном
совершенствовании и т. д. даже в самых
неблагоприятных обстоятельствах. Эта позиция отказа от активного
отношения к миру прямо противостоит
коллективистской нравственности; вместе с тем это именно такая
позиция, такой образ жизни, согласно которому индивид
мыслится атомарным, изолированным от мира, но не
враждебным ему даже при враждебности к нему мира.
Очевидно, что противоположный коллективизму
«моральный стоицизм» не может быть причислен к
эгоизму.
Или, к примеру, так называемая «мораль любви»,
«мораль сострадания», выраженная в обобщенном виде,
как и стоическая мораль, в принципе альтруизма. Это,
безусловно, индивидуалистическая система, или
программа морали, но сколь кощунственным было бы
отождествлять ее с эгоизмом — при всей присущей ей
конкретно-социальной ограниченности!
Таким образом, при отождествлении коллективизма
и альтруизма другие, противоположные коллективизму
формы морали оказываются автоматически
причисленными к эгоизму, который является антитезой
альтруизму.
Конечно, нельзя отрицать известную близость прин*
138
ципов альтруизма и коллективизма, но сведение одного
принципа к другому ведет к упрощенному пониманию
исторического развития и современного состояния
нравственности. То, что мы называем сейчас альтруизмом, —
поведение, направленное на благо другого, —
встречается уже на ранних этапах развития общества, задолго до
возникновения социально-экономических предпосылок
появления коллективистской морали. В
кодифицированном виде этот принцип встречается уже в христианстве:
«Возлюби ближнего своего как самого себя»; а в
буржуазную эпоху он получает классическую
формулировку в разнообразных философских и моралистических
интерпретациях от Шефтсбери до Канта, то есть именно
тогда, когда индивидуалистическая мораль развивается
в наиболее последовательном виде.
Наряду с «социальным альтруизмом» в истории эти-
ко-моралистической мысли содержится такое
истолкование этого принципа, которое можно определить как
«альтруизм межчеловеческих отношений». Оно имеет
следующий общий вид: «Поступай так, чтобы интерес
другого человека становился твоим собственным
интересом». Эта формулировка имеет два варианта —
«слабый» и «сильный». Первый соответствует принципу
уважения: «Поступай так, чтобы интерес другого человека
не становился для тебя средством достижения
собственных целей». Второй вариант соответствует принципу
любви: «Поступай так, чтобы интерес другого человека
становился целью твоего поступка». В этой последней
формулировке принцип альтруизма получает наиболее
полное выражение.
Конечно, альтруистическая любовь к ближнему не:
сколько иная, чем то, что мы обычно называем
любовью — это не любовь к лицу иного пола, не любовь
матери, не любовь к другу, хотя «любовь к человеку» в
широком моральном смысле этого слова предполагает
отношение к нему как к другу, как к родному. И в
истории этики мораль нередко основывали на принципе сим-
139
патии. В самом деле, трудно представить благодеяние,
совершенное без симпатии к человеку, без внутреннего
благосклонного к нему отношения. Но парадокс
заключается в том, что благодеяние, понятое таким образом,
благодеяние как «симпатическое благодеяние» вызывает
сомнение как нравственное деяние. Ведь нравственным
называется не всякий поступок, реализующий и
утверждающий определенную ценность, но поступок,
совершенный свободно, независимо от случайных обстоятельств,
от стихийного влечения, от соображений
«благоразумия», «пользы», «наслаждения» и других доводов
здравого смысла. Поэтому говорят, что нравственный
поступок носит всеобщий характер: он совершается в
отношении одного лица так же, как он был бы совершен в этой
ситуации в отношении любого другого. Такова логика
морального мышления. А принцип симпатии, хотя с
психологической точки зрения он вполне понятен, как
раз нарушает эту логику. Безусловно, он является одним
из важнейших стимулов человеческого поведения, но
сейчас речь идет не о поведении вообще, а именно о
нравственном поведении. Принцип симпатии требует
признать, что благожелательное действие, совершаемое
в отношении одного лица, может быть приостановлено в
отношении другого.
В реальных нравах так оно и есть. Руководствуясь
принципом симпатии, я не могу быть доброжелателен в
равной мере со веемы — не потому, что это физически
выше моих сил, а потому, что одни люди мне нравятся,
они мне симпатичны, а другие антипатичны (я же не
автомат, в самом деле). Ф. М. Достоевский подметил
это довольно метко: «Возлюбить ближнего как самого
себя, по заповеди Христовой, невозможно. Закон
личности на земле связывает. Я препятствует...» — так писал
он в своей записной книжке 16 апреля 1864 года. Но с
наибольшей яркостью он выразил эту мысль в «Братьях
Карамазовых»:
«Я тебе должен сделать одно признание... — это го-
140
ворит Иван Алеше в задушевной беседе-исповеди гв
трактире, — я никогда не мог понять, как можно
любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и
невозможно любить, а разве лишь дальних». Вот святой
Иоанн Милостивый, продолжает он, на просьбу
голодного и обмерзшего прохожего согреть его «лег вместе с
ним в постель, обнял его, начал дышать ему в
гноящийся, зловонный от какой-то ужасной болезни рот его.
Я убежден, что он это сделал с надрывом лжи, из-за
заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпн-
тимии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот
спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое — пропала
любовь». Алеша соглашается с ним: «Лицо человека
часто многим еще неопытным в любви мешает
любить...» — но Иван не слышит его: мы можем поверить,
что человек страдает от физических лишений, — а
готовы ли поверить в нравственное страдание человека,
страдание за идею? Особенно если при этом у человека
лицо не такое, какое «должно бы быть у человека,
страдающего за такую-то, например, идею».
Да, принцип симпатии здесь пропадает. Его место
занимает принцип антипатии. Но логика морального
мышления от этого не восстанавливается. Достоевский
безукоризненно точен во вскрытии логических
последовательностей такого образа мышления. Вот что
говорит в продолжение Иван: «Нищие, особенно
благородные нищие, должны бы были наружу никогда не
показываться, а просить милостыню через газеты. Отвлеченно
еще можно любить ближнего и даже иногда издали...»
Конечно, Достоевский писал сто лет назад. Но вот не
так давно «Литературная газета» опубликовала
«Исповедь одного человека»; теперь такого рода
«исповедальные» письма нередко можно встретить в печати. Но то
было первое письмо-исповедь, и оно вызвало широкий
отклик. Анализируя эти отклики, Евг. Богат писал: «...За
письмами открывалась страна добра, веры в человека и
душевного богатства, страна, в которой легко дышать л
1-31
хорошо жить». И дальше: «Там в желании помочь
далекому неизвестному был романтизм доброты — с
характерной для романтизма дальнозоркостью, не
видящей порой тех, кто живет и страдает рядом... Но
романтическая доброта (я не хочу умалять ее красоты и
ценности) чаще невидяще безразлична к тому, что рядом.
Ей хочется разрешиться в чем-то небудничном» 1...
Итак, альтруизм как нравственное деяние нередко
оказывается подорванным в направленности только на
ближних или только на дальних. И в том и в другом
случае он избирателен, не необходим и зависит в
конечном счете от индивидуального предпочтения.
Конечно, сама жизнь заставляет нас быть избирательными.
Всем не поможешь, всех не одаришь. Но одно дело, что
у человека не хватает сил и возможностей на всех или
даже на нескольких, и другое, что одни ему нравятся, а
другие нет. Классическая этика (в лице Канта) давно
сформулировала положение о несовпадении Любви и
Долга. Любовь, как говорил Кант, есть дело ощущения,
а не воления, не долга; в то время как делать добро
является долгом независимо от того, любим мы или нет.
МНИМОЕ БЛАГОДЕЯНИЕ
Добр и «нравствен» только тот, кто
исключительно, абсолютно и безусловно имеет своим
принципом и критерием благо человека. Можно
быть нравственным человеком в смысле
господства над собой, в смысле отрицания
чувственности, верующим или религиозным человеком в
сердце. Только безусловна хорошо относиться к
людям и значит быть добрым. И больше ничего.
Л. Фейербах
Выделенные варианты принципа альтруизма
представляют собой те мыслительные формы, в которых
находит выражение гуманистически ориентированный
1 Литературная газета, 1980, 18 июня.
142
нравственный поступок, или добрый поступок —
благодеяние и соответственно связи, которые возникают
между людьми по поводу благодеяния. В реальных же
нравах складываются такие отношения, когда «творение
добра» осуществляется не только из чувства долга, из
осознания своей гражданской позиции, но и из желания
заслужить уважение, понравиться, развлечься,
получить поддержку, завязать связи и т. д. Это, если можно
так сказать, мнимое благодеяние, которое, по существу,
реализуется с себялюбивых, эгоистических позиций.
Можно выделить несколько типов мнимого
благодеяния.
Таково гедонистически-утилитарное благодеяние.
Главной целью подобного рода поступков является ке
благо другого человека, но — явно или нет —
удовлетворение потребностей самого «благодетеля». Как это ни
абсурдно звучит, помощь другому выступает
своеобразным утешением и облегчением «больной совести»
человека, а чаще лишь ширмой, за которой он прячет свое
стремление к развлечению, совершению дел,
считающихся правильными, полезными для общества, а то и просто
прикрывающей обеспечение его личной выгоды. В
буржуазной и мелкобуржуазной среде такое «благодеяние»
получает массовые масштабы, примером чего может
служить филантропическая деятельность.
Нет надобности говорить о том, что действительная
экономическая помощь, оказываемая буржуазными
благотворительными организациями, столь незначительна,
что не идет ни в какое сравнение с прибылью, которую
извлекает капитал из беспощадной эксплуатации
трудящихся. Но и с нравственно-психологической точки
зрения благотворительность нельзя воспринимать как
своего рода «моральный энтузиазм» и благородный
порыв не подозревающих о реальном
социально-экономическом значении своих действий честных людей. Еще
полтора столетия назад К. Маркс, анализируя
деятельность благотворительных союзов в крупнейших странах
143
Европы, пришел к беспощадному выводу о том, что
«благотворительность давно уже организована как
развлечение... Сама человеческая нищета, — писал он, —
бесконечная отверженность, вынужденная принимать
милостыню, должна служить забавой для денежной
аристократии и аристократии образования, должна
существовать для удовлетворения их себялюбия, для
щекотания их тщеславия, для развлечения» '.
В каком-то смысле «филантропическую
нравственность» следует рассматривать как превращенную форму
человеческих отношений. Как в религиозном сознании
усердные молитвы и обеты принимаются в качестве
допустимой замены добрых дел, так и благотворительные
предприятия буржуа оцениваются им самим как вполне
достойная, гуманная и даже самоотверженная
деятельность во благо ближнего.
Благодеяние нередко стимулируется и такими
потребностями, как потребность быть любимым,
находиться в центре внимания, надежда на помощь со
стороны других. Все это может вести к поступкам,
являющимся для других людей благом, однако очевидно, что
последнее не является исключительной целью данных
поступков. Благодеяние другому как залог для
благодеяния со стороны другого в отношении себя перестает
быть благодеянием и имеет более прозаическое
название — услуга. Тут, говоря словами Канта, человек
делает другого своей целью, чтобы... себя сделать целью
других 2.
Особая форма себялюбивого благодеяния связана с
«разумно-эгоистической» позицией * в нравственности.
В грубой форме она предполагает, что совершение
блага другому является средством достижения собственного
блага. Однако, как правило, эта позиция обнаруживает
себя в рафинированном виде: страдание других людей
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с 212.
2 См.: Кант И. Соч., т. 4, ч. 2, с. 328—329.
1U
вызывает страдание и в моей душе; я сострадаю
страдающим не только из симпатии к ним, но и из
антипатии к страданию, из желания не страдать, из желания
быть счастливым. «Сострадание — это только
собственное стремление к счастью, ущербляемое и сострадающее
вместе с ущерблением другого, чужого стремления к
счастью... Чем равнодушнее, чем бесчувственнее будет
человек к своим собственным страданиям, тем
бесчувственнее будет он и к страданиям других. И только
потому, что страдания других причиняют боль ему самому
или по меньшей мере мешают ему в его счастье,
только потому, что он сам себе непроизвольно, без всякого
расчета делает благо, когда он делает благо другим, —
только потому он и оказывает им действенную
помощь» [. Так говорил Людвиг Фейербах, свято веря в
то, что без эгоизма — не намеренного, равнодушного к
другим, злонамеренного, а «доброго, участливого,
человечного» — нравственность и добрые отношения между
людьми невозможны.
В себялюбивом сострадании пропадает именно
сокровенное «со-», от страдающего другого остается лишь
страдание, которое противоречит моему счастью,
нарушает его. В себялюбивом сострадании объектом моей
заботы оказывается не другой, а я сам, во всяком
случае, другой лишь в той мере, в какой это необходимо
для моего счастья. Эта позиция (как рационально
отстаиваемая позиция, а не как стихийно возникающая в
нравах) вызывает сомнение еще и потому, что она
плохо согласуется с теми действительными особенностями,
которые присущи психологии морального сознания.
Фейербах, например, пишет, что человек тем более участлив
к страданиям другого, чем более тонко он переживает
свои собственные страдания, и, наоборот,
бесчувственный к собственным трудностям, он будет равнодушен и
к страданиям других. С точки зрения Фейербаха-теоре-
1 Фейербах Л. Избр. филос. соч. М., 1955, т. 1, с. 625—626.
10 Р. Апресян 145
тика, так оно и должно быть: человеческая природа
одинакова у всех «особей», следовательно, если человек
эмоционально развит, то эта развитость
обнаружится и в отношении себя, и в отношении других — в
равной мере.
Вопреки этой наивно-романтической точке зрения в
жизни сплошь и рядом встречаются человеческие типы,
отличающиеся удивительной утонченностью в
отношении собственных интересов и одновременно
поразительной глухотой к интересам других людей, которая
обусловлена не равнодушием, не злонамеренностью, а
именно неспособностью понять и почувствовать боль другого
человека как свою собственную боль. Кстати, именно
таков один из персонажей последнего романа
Достоевского — Ракитин, который умел, по словам
писателя, весьма чувствительно понимать все, что касалось
его самого, но был очень груб в понимании чувств
и ощущений ближних своих — отчасти по молодой
неопытности своей, а отчасти и по великому своему
эгоизму.
Моральное сознание своеобразно отражает эти
ценностные позиции в общественных нравах.
Соответствующий отклик можно даже найти в некоторых вариациях
«золотого правила» нравственности, о котором шла у
нас речь в предыдущей главе. В гуманистической
интерпретации «золотое правило» как бы предполагает:
«Делай добро другим, и ты своим поступком покажешь
пример, задашь масштаб для поступков других людей,
в частности для их поведения в отношении тебя».
В этой формулировке «золотого правила» указывается
на превалирующее значение, во-первых, других людей
для человека как нравственного субъекта и, во-вторых,
на, так сказать, инициативно-стимулирующую роль его
нравственной позиции.
В меркантильном же сознании «золотое правило»
выворачивается наизнанку, благодеяние расценивается
именно как средство получения блага от других людей:
146
«Хочешь, чтобы тебе делали добро, делай добро
другим», или, как это выражено в одной песне,
...И если ты добра не сделал,
То от других добра не жди.
Близким к этому и в какой-то степени также
себялюбивым является благодеяние, совершаемое в
ожидании одобрения и благодарности других. Так готова
была любить больных и страждущих героиня
Достоевского г-жа Хохлакова. «Видите ли, — страстно заявляет
ома старцу Зосиме, — я так люблю человечество, что,
верите ли, мечтаю иногда бросить все, все, что имею,
оставить Lise l и идти в сестры милосердия. Я
закрываю глаза, думаю и мечтаю, и в эти минуты я чувствую
в себе непреодолимую силу. Никакие раны, никакие
гнойные язвы не могли бы меня испугать. Я бы
перевязывала и обмывала собственными руками, я была бы
сиделкой у этих страдальцев, я готова целовать их
язвы». Однако г-жа Хохлакова довольно определенно
оговаривает свою благожелательность, которая
оказывается реализуемой лишь при условии непременной
благодарности со стороны больных, язвы которых собиралась
она обмывать. Надо отдать ей честь: она трезво
осознает свою неспособность к «деятельной» любви к
человечеству: «Я работница за плату, я требую тотчас же
платы, то есть похвалы себе и платы за любовь любовью.
Иначе я никогда не способна любить». Но и эта
искренность не случайна, она разыграна перед старцем опять-
таки в расчете на похвалу.
Это тот вид благожелательности и тот вид
моральности, который можно назвать апробативной (от лат.
approbatio — одобрение, проверка)
благожелательностью или добродетельностью и которое полностью
ориентировано на положительную санкцию — на одобрение,
похвалу. От нравственности, «самоотверженной» готов-
1 Речь идет о дочери с парализованными ногами, нуждающейся
в постоянном уходе.
Ю* 147
ности творить добро не остается и следа, как только
оказывается, что поступок, совершаемый ради
одобрения, может остаться незамеченным, непонятым,
непринятым и т. д.
Достоевский вывел образ г-жи Хохлаковой гротескно,
почти карикатурно, но было бы неверным считать его
одиозным, экстраординарным. Сознание,
ориентированное только лишь на одобрение со стороны других,
таково, что человек уже не мыслит своей нормальной
успешной деятельности без постоянного допинга одобрения
или хотя бы гласности. Тщеславное сознание еще и эк-
стравертно: раз меня знают, да еще знает так много
людей, значит, я должен соответствовать—не отступать
же от известного образа. Глядишь, и сам уже от этого
облика отступить не можешь: надо помочь —
поможешь, надо прилично жить с людьми — живешь.
Линия апробативного поведения обнаруживает себя
и в противоположных по смыслу поступках,
единственным мотивом которых выступает сакраментальное
«лишь бы не проштрафиться!». В качестве субъекта
оценки здесь принимается некто сторонний,
«проверяющий», реальный же человек, оказывающийся тем, кому
надлежит понять такое «благодеяние», во внимание не
принимается.
Уже простое перечисление различных видов
мнимого, «эгоистического» благодеяния, то есть поведения,
внешне направленного на благо другого человека, а по
сути являющегося средством реализации интересов
самого действующего субъекта, во многом объясняет
парадоксальный факт частого неприятия благодеяния,
недоверия к альтруистическим чувствам, даже отказа от
поступков, в которых они находят выражение. Все
типы псевдоблагодеяния демонстрируют удивительную
подвижность «самоотверженной» добродетельности, не
ориентированной на действительное благо другого
человека.
148
КОЛЛИЗИИ ДОБРОГО ПОСТУПКА
Ты решился понять вот этого конкретного
человека? Есть только один путь — принадлежи
этому человеку.
Древнее изречение
Как нравственное действие благодеяние основывается
на равенстве людей, вступающих в общение, по
крайней мере оно направлено на преодоление неравенства,
поскольку предполагает недостаток или нужду у одного
человека и обладание или соответствующую способность
(что в нравственном отношении одно и то же) у
другого. И это, очевидно, не зависит от того, какую форму
принимает альтруистическое действие.
Однако с психологической точки зрения, наоборот,
акт благодеяния может восприниматься и нередко
воспринимается как отражение неравенства, как
демонстрация превосходства того, кто совершает
благожелательный поступок, и того, кому он совершается, или, как
говорили в старину, — бенефицианта и бенефициария.
В каком-то смысле это действительно так и есть.
Благодеяние требует некоторой активности, и соответственно
принятие благодеяния предполагает пассивность
индивида, оказавшегося объектом альтруистического
действия. В отдельном конкретном случае такое
распределение ролей может соответствовать различию
темпераментов, но факт неравенства тем самым не снимается, а
только подчеркивается.
И дело здесь не в психических различиях субъектов.
Ведь в соответствии с социально-культурными
стереотипами различие «активность — пассивность» совпадает
или, во всяком случае, аналогична противоположности
статусов «доминирование — подчинение»,
«покровительство — служение», «старший — младший». В плане
исторического развития нравственности эти отражающие
определенные социально-нравственные позиции
категории соответствуют патриархальным отношениям, полу-
149
чившим, как известно, классическое развитие в эпоху
феодализма *, однако и с уходом этой эпохи в прошлое
в нравственной практике сохраняются некоторые
формы, которые сложились именно в ту относительно
далекую эпоху. Эта аналогичность отнюдь не случайна:
долгое время в истории человечества благодеяние
рассматривалось как первый шаг к установлению
определенного рода зависимости между дарителем и
принимающим дар. Заинтересованной в этой зависимости могла
быть как одна, так и другая сторона; соответственно
благодеяние зачастую либо навязывалось, либо
вымогалось. В неявной форме такой расклад ролей может
встречаться и в наше время — не только на уровне
представлений морального сознания, но и в
практических отношениях, на уровне поведенческих
стереотипов в отношениях «начальник—подчиненный»,
«опытный специалист — начинающий», «врач — пациент» 2.
Понятно поэтому, что люди подчас отказываются от
помощи, доброжелательного действия не просто из
неверия, но и из гордости. Самолюбивый отказ из
чувства гордости часто мотивируется сознанием того, что
люди, к чьей помощи я прибегаю, нуждаются во мне
меньше, чем я в них, а то и вовсе не нуждаются; и
тем более при сознании того, что я, возможно,
провоцирую благодеяние по отношению к себе. Последнее
отнюдь не надуманно. Нередко благодеяние, а чаще —
услуга под видом благодеяния действительно
провоцируется: нуждающийся специально демонстрирует свою
беспомощность, вынуждая другого к заботе, к занятию
положения «старшего», «активного», «инициативного»3.
С другой стороны, и человека, руководствующегося в
своем поведении альтруистическими принципами, мо-
1 См.: Т и т а р е н к о А. И. Структуры нравственного сознания:
Опыт этико-философского исследования. М., 1974, с. 38—88.
2 См.: Леви В. Л. Нестандартный ребенок. М., 1983,
с. 72—74.
3 См.: Столин В. В. Самосознание личности. М., 1983, с. 46.
150
жет беспокоить возможность обидеть или унизить
своими действиями другого, сделать другого обязанным
себе. Вспомним, как описывал Н. Г. Чернышевский
сомнения и терзания Дмитрия Сергеевича Лопухова,
предположившего, что Вера Павловна может усмотреть
в его решении отказаться от научной карьеры и
жениться на ней жертву! Не случайно в сочинениях
просветителей, активно боровшихся именно с феодальной
идеологией и культурой (другой вопрос, что они не
признавали за «мрачным» средневековьем никакой культуры),
нередко встречаются замечания относительно особых
требований к тому, как делать подарки и услуги, как
выражать благодарность и т. д. Кант предлагал даже
выработать своеобразную этикетную символику,
направленную на то, чтобы в отношениях добродеяния ничье
достоинство не было унижено.
Но это неравенство этикетного, психологического
порядка. Отношения благодеяния могут восприниматься и
как выражение нравственного неравенства. В этих
отношениях благодетель как бы выступает носителем
блага, добра, бенефициарий же, (то есть человек,
принимающий дар), наоборот, по меньшей мере олицетворяет
отсутствие или недостаток блага, а то и выступает как
носитель зла. Особенно остро эта ситуация
воспринимается в отношениях воспитателя и трудновоспитуемого,
в классической форме — в отношениях прокурора и
подсудимого, хотя это уже отношения другого рода.
Сказанное относится лишь к тому, как может
благодеяние восприниматься и оцениваться моральным
сознанием. Но нельзя не учитывать того, что благодеяние
само по себе все-таки не является однозначным, что
поступки, выступающие как благодеяние, могут иметь
различную внутреннюю обусловленность и отражать разный
характер отношений между людьми. Как нравственное
действие благодеяние не ограничивается собственно
поступком, в его оценке нужно учитывать не только
непосредственные результаты, но и результаты результа-
151
тов, иначе говоря, благодеяние необходимо
рассматривать как элемент нравственных отношений.
С объективной, социальной точки зрения такое
неприятие или непонимание благодеяния и в гораздо
большей степени мнимое благодеяние становятся
возможными при том, что интересы людей, вступающих в
общение, в контакт, оказываются различными,
расходящимися, противоположными. Только поэтому благо
одного человека может быть средством удовлетворения
потребности другого или поступок, совершенный во имя
блага другого, может таковым на самом деле и не быть.
Дело не только в том, что разделенность интересов
и взаимная отчужденность людей могут выливаться в
себялюбивое благодеяние. Субъективно человек может
рассматривать благо другого человека как цель своей
деятельности, однако доброжелательное действие
остается непонятым, если совершается не в соответствии с
реальным интересом реального человека, а лишь
согласно идее блага. Такое благодеяние абстрактно, ибо
альтруистические мотивы не реализуются здесь в
результатах действий, направленных на благо другого
человека.
...Осенью 1881 года Л. Н. Толстой с семьей переехал
жить в Москву. В городе его поразила совершенно
особенная, несравнимая с деревенской нищета многих
и многих людей. В Москве нищие составляли особое
сословие, вбиравшее в себя несчастных из всех слоев
общества. Столкнувшись с жизнью городских низов,
Толстой счел необходимым привлечь внимание
общественности к этой проблеме и тем или иным способом
содействовать улучшению положения обездоленных и
терпящих крайнюю нужду людей. В январе следующего года
в Москве проводилась перепись населения, и Толстой
решил воспользоваться ею, чтобы составить *себе точное
представление о бедноте и оказать ей действенную
помощь — кому деньгами, кому работой, образованием
и т. д. Писатель даже предполагал, что из лиц, занятых
152
этим делом, образуется постоянное благотворительное
общество, которое и впредь будет помогать неимущим,
так что через некоторое время в Москве нищета и
даже бедность будут полностью искоренены.
К удивлению писателя, ни государственные
учреждения (он выступил со своим проектом в Думе), ни
деятельницы филантропических организаций практически
не оказали ему поддержки. Многие люди откликнулись
на его статью «О переписи в Москве», однако средств,
выделенных Толстым и полученных им от частных лиц,
было слишком мало, чтобы осуществить его
грандиозный замысел. Тем не менее 23 января Толстой
приступил к переписи на выделенном ему участке около Хит-
рова рынка, где проживало беднейшее население.
Толстой столкнулся с ужасающей нищетой и
нечеловеческими условиями жизни. Однако из сотен людей,
проживавших в «Ржановской крепости», он едва нашел
одного-двух, которые бы нуждались в срочной
денежной помощи. Люди, с величайшим трудом сводившие
концы с концами, гораздо эффективнее и проще
помогали друг другу, чем все филантропические организации,
вместе взятые. На аналогичное обстоятельство указывал
и Ф. Энгельс в своем фундаментальном исследовании
«Положение рабочего класса в Англии». Для того
чтобы использовать имевшиеся у Толстого деньги по
назначению, то есть для реальной помощи людям, мало
было оказать материальную поддержку. Необходимо
было знание и понимание человека, попавшего в беду.
Ведь благотворительность безнравственна не только
потому, что она не снимает коренного социального
неравенства, вытекающего из несправедливого распределения
собственности, но и потому, что для нее существует
лишь нужда человека, а не сам человек. Толстой понял,
что обитатели ночлежного дома испытывали нужду,
страдали от голода и холода, но этим не исчерпывалась
вся их жизнь. «Дело, которое я затевал, — писал
Толстой, — не может состоять в том только, чтобы накор-
153
мить и одеть тысячу человек, как бы накормить и
загнать под крышу 1000 баранов, а должно состоять в
том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что
каждый из этой тысячи людей такой же точно человек,
с таким же прошедшим, с такими же страстями,
соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же
вопросами, — такой же человек, как и я, то затеянное
мною дело вдруг представилось мне так трудно, что я
почувствовал свое бессилие» 1. Для большинства людей,
с которыми столкнулся и которым старался помочь
Толстой, источник бед заключался в том, что они были
«намертво» сформированы социальными
обстоятельствами, толкнувшими их на дно, то есть уже в них
самих, в их образе жизни, взглядах на вещи и т. д.
Следовательно, сделать им доброе — значило изменить их
образ жизни, переделать их самих, что, в сущности,
сделать было уже и невозможно. Вот почему оказалось, что
«дазать деньги некому, если точно желать добра, а не
желать только раздавать деньги кому попало»2.
Вместе с тем Толстой пришел к выводу о том, что
для того, чтобы оказать благодеяние другому, самому
необходимо возвыситься до добра, стать вне зла. Для
обладателя же богатства, для человека, который прямо
или косвенно пользуется чужим трудом, эксплуатирует
других людей, это в принципе невозможно. Богатство,
по Толстому, в особенности роскошествующее
богатство, порождено городской цивилизацией, разделением
труда, промышленностью. Таким образом, чтобы понять
другого, необходимо преодолеть неравенство и
взаимную отчужденность, а для этого люди должны
отказаться от богатства, от иллюзорных утех цивилизации,
вернуться к сельскому образу жизни и, занимаясь
производительным трудом, полностью обеспечивать самих
себя, не прибегая к услугам других людей.
1 Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х т. М., 1983, т. 16, с. 182.
2 Там же, с. 208.
154
Важно обратить внимание на то, что истоки зла
Толстой усматривал в несправедливом общественном
устройстве. Однако преодоление социальной
несправедливости виделось им на путях личного нравственного
совершенствования каждого человека. На политическую
неискушенность и социальную наивность выводов
Л. Н. Толстого указывал В. И. Ленин. Горячий и
страстный протест, писал он в одной из статей, посвященных
великому русскому писателю, выливался у Толстого в
отрицание политики, в проповедь «непротивления злу
насилием», в «совершенно апатичное отношение к той
всемирной освободительной борьбе, которую ведет
международный социалистический пролетариат» *.
Патриархальная настроенность Толстого сказалась
не только в его социально-политических взглядах, но и
в той нормативной, нравственной программе, которую
он выводил из критики капиталистической цивилизации.
Интересно, что за несколько лет до написания
Толстым «Так что же нам делать?» в февральском
выпуске «Дневника писателя за 1877 год» Ф. М. Достоевский,
эпизодически разбирая только выходивший тогда в
журнале «Русский вестник» новый роман Л. Н. Толстого
«Анна Каренина», обращает внимание на ночной
разговор Левина и Стивы Облонского, в котором Левин
заявляет о своей готовности раздать имение бедным и
пойти работать на них. Этим актом Левин надеялся
внести свой вклад в преодоление неравенства и улучшение
жизни народа. Намерение Левина интересно тем, что
представляет собой своеобразный пролог будущего
толстовства.
Задуманное Левиным далеко от обычного
филантропического мероприятия. Он действительно готов отдать
все. Мы ни на минуту не сомневаемся в подлинности
его альтруистического, человеколюбивого решения.
Но Левина ожидают те же препятствия, на которые поз-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 21.
155
же натолкнулся сам Толстой. Это-то и показывает
Достоевский.
Глава II февральского «Дневника писателя»
открывается подглавкой «Один из главнейших современных
вопросов». В 1877 году таким виделся вопрос о долге
перед народом, вышедшем из крепостной зависимости;
но по существу вопрос был шире — о справедливости,
о равенстве. Это не одинаковые, не тождественные
вопросы, но в Новое время, в особенности после Великой
французской революции, смысл справедливости
усматривается именно в установлении равенства.
Другое дело как понимается это равенство. Ведь
представления о равенстве также зависят от социальной
позиции, политических и нравственных ориентации
того, кто рассуждает о равенстве. Для Левина равенство
заключалось, в частности, в том, что он должен раздать
свое имение крестьянам и пойти работать на них.
Однако очевидно, что исходный конфликт, в котором
отражаются социальные причины неравенства, таким
образом не разрешается. Достоевский прямо об этом не
говорит, но совершенно точно замечает, что даже если
все имеющие раздадут, всем все равно не раздашь.
Раздать — это полдела. А как распорядятся своим
прибытком те бедные, которых вдруг так
облагодетельствовали? Готовы ли они к сохранению равенства?
Конечно, с марксистской точки зрения это не последний
вопрос: здесь нужно выяснить и то, в какой мере
достаточен такой акт в социальном, экономическом плане
для установления равенства, или, другими словами,
возможно ли добрыми намерениями и благими поступками
преобразовать общественные отношения. За
игнорирование этого вопроса и критиковал, в частности,
Толстого Ленин.
Но Достоевский вскрывает нравственный аспект
возможной ситуации. Левина не поймут, считает
Достоевский, и сам Левин ближе народу от этого не
станет. Людей разделяет не столько различие в богатстве,
156
сколько неумение и нежелание понять друг друга.
Поделившись богатством, можно установить лишь
внешнее равенство. А ведь народу, говорит Достоевский, так
не хватает науки, света, любви. Если с открытым
сердцем, с наукой, со светом пойти к человеку, «тогда
богатство будет расти в самом деле, и богатство настоящее,
потому что оно не в золотых платьях заключается, а в
радости общего соединения и в твердой надежде
каждого на всеобщую помощь ему и детям его» К
Нравственная ограниченность подобного рода
планов заключается в той категоричности, непременности,
которые стоят за совершением конкретного действия
ради идеи. Есть в этом какая-то натужность, педантизм,
или, как говорит Достоевский, «мундир», «рубрика».
Лучше уж ничего не предпринимать, чем делать по
«рубрике», формально, только потому, что что-то надо
делать, то есть без сердца. Каждый должен отдать то,
что может отдать, но сделать это следует наилучшим
образом, наиболее сообразным — обстоятельствам и
людям — путем.
Достоевский подходит к этому вопросу именно с
нравственных позиций. Понимая утопичность проектов
установления нового нравственного порядка посредством
«честного» и «благородного» перераспределения
собственности, он тем не менее, конечно, не говорит о
социальных путях решения «главнейшего вопроса» и
ведет речь об обычном течении жизни. Можно ли быть
моральным в аморальном обществе? Вот вопрос,
который его занимает. Стива, понимая, что обстоятельства
плохи, с радостью находит в этом оправдание своей
жизни ради удовольствий. Левин, осознавая
несправедливость сложившегося порядка вещей, уверен, что
обязан противостоять аморальности этого порядка, однако
дальше романтически-утопической идеи о раздаче
имущества пойти не может.
Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч., т. 25, с. 61.
157
Конечно, если сердце велит раздать имение, говорит
Достоевский, надо раздать его. «Напротив, если
чувствуете, что будете полезны всем как ученый, идите в
университет и оставьте себе на то средства. Не раздача
имения обязательна и не надевание зипуна: все это
лишь буква и формальность, обязательна и важна лишь
решимость ваша делать все ради деятельной любви, все,
что возможно вам, что сами искренно признаете в себе
возможным». Не надо переряживаться, говорит
Достоевский, — «да и образование ваше не позволит вам
стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей «ос-
ложненности». Будьте только искренни и прямодушны,
это лучше всякого «опрощения» 1.
У этой нравственной программы есть определенная
«метафизическая» основа. Заключается она в
представлении писателя об изначальной доброте и гуманности
человеческой натуры. В силу тяжелых жизненных
обстоятельств, отсутствия должного воспитания и т. д.
натура может испортиться, но уж коли заговорит сердце,
так заговорит оно голосом правды, голосом добра и
справедливости. В этом «метафизическом» пункте
своего мировоззрения Достоевский ничуть не уступает
просветителям и романтикам, считавшим добродетель
естественным, природным свойством человека. Этим, по
существу, определяется отказ Достоевского от «этики
долга», от морали самоотречения. Не надо придумывать
и формулировать себе правила: достаточно правил, да
и притом самых гуманных. Главное, человека нужно
подготовить к исполнению этих правил. Ведь одно дело
эти правила отыскать, показать, даже «осмыслить и
прочувствовать», что не составляет труда. Но эти
правила должны отвечать внутреннему духу, настрою
человека! А вот «сделаться человеком нельзя разом, а надо
выделаться в человека. Тут дисциплина»2. Человекдол-
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч., т. 25, с. 61.
2 Там же, с. 47,
158
жен подготовить себя к деятельной любви, одолев себя.
Путь одоления — это путь проверки, искушения,
испытания, пройдя который можно говорить о долге, о
нравственных правилах. По существу, речь здесь идет о том,
что потом сформулирует и Толстой: надо самому
возвыситься до добра, искоренить в себе зло, чтобы
другому человеку совершить добро. «Исполни сам на себе
прежде, чем других заставлять, — восклицает
Достоевский, — вот в чем вся тайна первого Шага» 1.
Таким образом, благодеяние как нравственная
задача выражается не просто в готовности отдать, но и в
готовности понять другого человека, в готовности
преодолеть ограниченность своего мира, каким бы
внутренне богатым и разносторонним он ни казался, и встать
на точку зрения другого. Этим благодеяние отличается
от подаяния, услуги, помощи, в которых выражается
воспитанность, учтивость человека, его
доброжелательное отношение к другим людям.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что Достоевский
рассматривает эту проблему именно в нравственном
плане, то есть как проблему морального выбора.
Крайне некорректно оценивать подход Достоевского к этой
проблеме как «абстрактный гуманизм»,
«морализирование» только лишь потому, что он не доводил своего
рассуждения до анализа социальных проблем. Не
понимая социальной обусловленности тех явлений, о
которых он говорил, Достоевский умел реалистически
точно и в морально-психологическом аспекте чрезвычайно
корректно определить гуманистические моменты в
доброжелательном деянии.
Об этом живо свидетельствуют созданные писателем
художественные образы.
Этому отвечают реалии самой нравственной
действительности.
Выдающийся гуманист нашего столетия Альберт
1 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч., т. 25, с. 63.
159
Швейцер — человек, который к тридцати годам достиг
исключительных результатов в философии и
неортодоксальной теологии, истории и теории музыки (его
исследования творчества Баха по своей фундаментальности
можно считать непревзойденными, а работы по органо-
ведению, созданные в конце прошлого и начале нашего
веков, представляют большой интерес и в наши дни), а
также в музыкальном, главным образом органном
исполнительстве, но, решив посвятить свою жизнь
угнетенным и обездоленным людям, оставил все, прошел курс
медицины в университете и навсегда поселился в
Тропической Африке, в небольшой деревушке Ламбарене,
где в организованной им больнице лечил коренное
черное население, — описывал такой случай. Незадолго до
его приезда во французскую религиозную миссию
Ламбарене один из миссионеров в знак протеста против
установившейся практики отношений между
колонизаторами и африканцами демонстративно покинул миссию и
поселился в одной из деревень в девственном лесу,
полностью приняв образ жизни туземцев. Безусловно, это
был акт самопожертвования, наполненный глубоким
нравственным смыслом. Так миссионер не только
порывал со всем тем, что увязывалось в сознании
африканцев с колонизацией, но и как будто бы делал
скромный шаг по утверждению равенства между белыми и
черными. Однако на этого миссионера обрушились не
только физические лишения, связанные с крайне убогим
образом жизни в центральноафриканской деревне, но и
тяжелейшие нравственные, психологические мучения.
Африканцы не поняли миссионера, пожелавшего встать
с ними на одну ногу, они не приняли его в качестве
своего, в качестве брата. В сознании африканцев, во
многом сформированном самими белыми
колонизаторами, белый всегда господин. Нарушение этой заповеди
каралось неукоснительно и жестоко. А тут сам белый
покушается на нерушимую заповедь. Жители деревни
увидели в миссионере-бунтаре изгоя и нарушителя «за-
160
кона белого человека» и принялись унижать его точно
так же, как унижали их его соотечественники.
Представление о равенстве не является ни очевидным, ни тем
более врожденным представлением. Сформировать
чувство человеческого достоинства у раба — это особая и,
возможно, более сложная задача, нежели установление
формального юридического или даже экономического
равенства.
Таким образом, самоотверженный шаг французского
миссионера, так же как альтруистический проект
Левина, представляет собой такой подход к решению
важной социально-нравственной проблемы, который, по
существу, уводит от нее. Объективно он является
своеобразным откупом от необходимости решения реальных,
практических задач.
Как же после происшедшего должен был вести себя
Альберт Швейцер? Организация в девственном лесу
небольшой больницы для африканцев наталкивалась на
крайне «неожиданные» преграды. Как возможна была
активная работа среди людей, которые с недоверием
относились к белому человеку, для которых мысль о
равенстве белого и черного была дикой? Швейцер, говоря
словами Достоевского, не принял «рубрику», не нацепил
«мундир». Попервоначалу он вынужден был опираться
на авторитет колонизаторов, одно сознание содеянного
зла которыми глубоко возмущало и угнетало его. Но
этот авторитет, без опоры на который его деятельность
не могла иметь успеха, он соединил с духовным
братством. В отличие от миссионера-бунтаря Швейцер
назвал себя «старшим братом» африканцев, чем
гарантировалось и родство, и должный статус доктора в
иерархически ориентированном сознании туземцев. Швейцер
отказался от того представления о равенстве, которого
придерживался сам, но которое в новых условиях
становилось не чем иным, как формализмом. Это давало
ему возможность утверждать самые высокие принципы
гуманизма в практических отношениях с африканцами.
И Р. Апресян 161
Способность и готовность понять другого человека,
встать на его точку зрения особенно необходима в
случаях так называемого радикального самопожертвования,
то есть таких поступков, когда альтруистическая
самоотверженность достигает крайних пределов и на карту
ставится не только благополучие благодетеля, но и его
жизнь.
В свое время Кант, рассуждая на тему благодеяния,
указывал, что никакая норма не может установить
величину блага, которым должен человек пожертвовать
ради блага другого. Можно, конечно, сказать, что
самопожертвование не должно превышать такого уровня, за
которым сам благодетель может стать необходимым
объектом благодеяния. Но эта оговорка, хотя и весьма
здрава, вытравливает дух бескорыстия, который лежит
в основе альтруистического действия. В ней
высказывается забота о лишь возможной нужде одного
человека, когда речь должна идти о реальной беде другого.
В вопросе о благодеянии, может быть, как нигде
проявляется своеобразие нравственного
долженствования, нравственной повелительности. В рассказе Леонида
Андреева «Правила добра» Черт, уставший от
нечестивости, которой была пронизана его жизнь, обратился к
Попу с просьбой указать ему основные
принципы-правила, следуя которым он мог бы избежать зла. Поп ему
попался доброжелательный и скоренько изложил
основные положения христианского благочестия (поделиться
последней рубашкой, подставить левую щеку, коль
ударят по правой, и т. п. ...). Однако Черт, ушедший с
этими правилами в жизнь людей, вернулся побитым,
больным и голодным. Строго и безусловно следуя этим
правилам, он попадал впросак, встречал непонимание и
вражду. И тогда Поп решает расписать всю будущую
жизнь Черта по минутам в надежде, что, следуя его
рекомендациям, Черт сможет вопреки своей природе
творить добро. Многолетний труд пропадает даром:
возгордившийся Нечистый отправляется к своей братии с по-
162
учениями да наставлениями и... лишь с трудом спасает
собственную шкуру, от фолианта с наставлениями
остаются лишь жалкие обрывки. Исстрадавшийся, приходит
он к своему духовному отцу и успевает разве что лишь
к смертному одру. И здесь, вовсе не думая ни о добре,
ни о правилах, которым следует повиноваться, он и
совершает единственное в своей жизни благодеяние. В
последний час он поднимает умирающего старика на
колокольню, чтобы перед смертью тот мог насладиться
видом родного городка и лучами заходящего солнца.
Не думая о добре, Черт позаботился о своем друге —
Попе и, доставив ему последнюю радость, сам того не
зная, сделал добро.
Вернувшись к обрывкам многостраничного
наставления, он пытается разобраться в советах Попа и с
ужасом приходит к пониманию того, что Поп со своими
наставлениями ничем помочь ему не может. В
наставлениях речь шла о том, что каждый день исполняет любой
человек, о добре же не было ни слова.
В нравственности действительно нет правил и норм
в строгом смысле этого слова. Мораль не рекомендует
такие-то действия, не обозначает масштаб и санкцию
поступка, что имеет место, например, в обычае или тем
более в праве. Мораль указывает на ценность, на
«добро» и «зло», «хорошее» и «плохое», а уж как
исполнить добро и устоять перед злом, человек должен
решать сам. Нравственное требование не формулируется
по типу: «Всегда поступай так-то в таких-то ситуациях»,
оно, как правило, гласит: «Твори добро», «Не причиняй
страданий», «Исполняй свой долг», «Будь
справедливым» и т. д. Каждый человек реализует нравственное
требование в меру своего разумения, развитости
морального чувства, своей способности добиваться достижения
поставленных целей.
Так же и в случае благодеяния каждый определяет
для себя меру допустимого. В определенные моменты
творение добра прорывает рамки привычного, общепри-
П* 163
нятого и оказывается поистине героическим актом.
Таково радикальное самопожертвование.
В нашей печати промелькнула заметка о
самоубийстве сорокалетнего американца, бывшего служащего
фирмы. Как выяснилось, незадолго перед смертью он
заключил страховой договор, по которому семье
умершего была выплачена солидная сумма, позволившая ей
сохранить дом, расплатиться по долгам и на некоторое
время вздохнуть свободно. Ни жена, ни дети не знали
о роковом решении отца семейства. Можно ли
подобный трагический акт, на который решился безработный
ради спасения своей семьи, назвать благодеянием?
Конечно, таким образом обеспечивалось физическое
благо, но оно покупалось ценою человеческой жизни,
ценою морального благополучия оставшихся в живых,
кошмаров их измученной совести. Жизнь, доставшаяся
ценою жизни другого человека, тем более родного
человека, должна быть невыносимой даже тогда, когда
другой единолично принимал решение. Этот
исключительный пример в полной мере выявляет негуманность
радикального самопожертвования, когда оно
совершается не как безличный поступок, но как поступок
конкретного лица в отношении конкретного лица.
«Благородному» сознанию такая постановка
вопроса может показаться безнравственной. Что же,
восклицает оно, те, кто отдает свою кровь или кожу
больному, находящемуся в критическом состоянии, тоже
поступают неправильно? В том-то и дело, что такое
донорство совершается безлично, не предполагает согласия
или несогласия больного, не наносит вреда здоровью
донора, то есть не подпадает под понятие радикального
самопожертвования. Нельзя напрочь отрицать
радикальное самопожертвование: нередко оно совершается в
ситуациях, когда казуистические вопросы просто
неуместны. Но в иных обстоятельствах оно навязывается
нуждающемуся человеку, и тогда появляются
непосредственные возможности того, что нравственная связь
164
между людьми обрывается, один выступает для другого
лишь как объект деяния, пропадает как
самостоятельный, обладающий личным достоинством человек.
ДОБРО И НАСИЛИЕ
Умей чувствовать рядом с собой человека;
умей читать его душу, видеть в его глазах
духовный мир — радость, беду, несчастье, горе.
В. А. Сухомлинский
Размышление о радикальном самопожертвовании
наводит на особую тему, связанную с альтруизмом, — это
тема... насилия. Альтруизм и насилие кажутся
несовместимыми вещами. Но это лишь кажущаяся
несовместимость.
Можно ли самолично решать вопрос о благе
другого лица? Допустимо ли благодеяние вопреки воле и
желанию человека? Наконец, позволительно ли
благодеяние без ведома того, о благе которого проявляется
забота? По существу, это один вопрос: о суверенности
лица — объекта благожелательного действия.
О чем идет речь? Скажем, в отношении родителей
к детям должны ли родители считаться с мнением и
желанием детей или же вполне могут обходиться
собственным, основанным на житейском опыте понимания того,
что «детям лучше»? Такой подход к делу может
показаться наивным и вызвать раздражение: что это, мол, за
воспитание, если родители и вообще воспитатели
начнут спрашивать у детей, как и какими их воспитывать.
Но ведь воспитание — неоднородный процесс. Методы
убеждения сочетаются в нем с методами внушения,
манипуляции сознанием и принуждения. До 12—14 лет
методы внушения и принуждения в известной мере
могут превалировать над методами убеждениями, но,
когда ребенок вступает в период активного
самостоятельного развития, применение таких методов в
воспитательной практике, даже если речь идет о воспитании соб-
165
ственных детей, с нравственной точки зрения вызывает
сомнение. Что бы родители ни навязывали детям,
принуждение всегда связано с подавлением личности,
торможением ее активности. А это ни в коем случае не
может быть названо благом. Конечно, очень часто дети
противятся воле родителей (даже если речь идет о
доброй воле) из лени, упрямства, по привычке, однако
преодоление этих отрицательных качеств подрастающей
личности должно осуществляться в процессе не
подавления, а переделки человека, самопеределки, то есть
создания таких условий, когда активность
становящейся личности направляется в нужное русло. Это
чрезвычайно сложная задача; каждый раз ее приходится
решать заново, и насилие «во имя блага» подчас
скрывает именно неумение и нежелание воспитателей
ставить и тем более решать подобные задачи.
Насильственное благодеяние... Если
проанализировать подходы к этой проблеме в истории нравственно-
этических идей, то мы увидим, что, пожалуй, не было
мыслителя, который бы считал, что нужно отказаться
от совершения добра другому человеку, если он не
знает, не понимает и поэтому не желает стать более
счастливым. Мнения расходятся относительно того, как
в таком случае возможно благодеяние и какова мера
полномочий благодетеля.
В решении этого вопроса можно выделить две
традиции— прагматическую и гуманистическую.
Платон, более двух тысяч лет назад обсуждая в
диалоге «Политик» эту тему, приходил к вполне
однозначным выводам: как во врачевании, воспитании, так
и в управлении «если кто, никого не убедив, силой
навязывает лучшее» и применяет насилие, то он будет
вполне оправдан и ни о каком «зле, позоре,
несправедливости» здесь не может быть и речи1. Платон исходил
1 Платон. Соч., т. 3, ч. 2, с. 61—62.
166
из того, что врачуют, воспитывают людей, управляют
ими мудрейшие люди в государстве, и им лучше знать,
в чем заключается благо людей.
По существу, на этом тезисе основываются
религиозные, в частности христианско-католическая, а в
политике — тоталитаристские доктрины.
Вот типичнейшая для этого стиля мышления
средневековая притча, взятая из знаменитых «Римских
деяний». ...Некий отшельник, став свидетелем
несправедливости, решил оставить свою пещеру и вернуться в мир.
Господь, видя это, послал ему ангела добра в образе
человека, чтобы тот сопровождал отшельника. По
дороге они заночевали в доме одного рыцаря, который
очень радушно принял их. В полночь ангел подошел
к колыбели маленького сына рыцаря и задушил его.
Отшельник ужаснулся совершенному злодейству, но не
посмел сказать слово. На другую ночь они попросились
на ночлег в другом доме, где были приняты с почетом.
В полночь ангел встал и положил в свой кошель
любимый золотой кубок хозяина. Отшельник и это видел, но
смолчал. Днем на переправе нищий указал им дорогу,
а когда повернулся и хотел идти своей дорогой, ангел
выхватил кинжал и вонзил его нищему в спину.
Отшельник про себя удостоверился с точностью, что
спутник его — диавол, а не ангел добра; однако вновь не
сказал ни слова. На третью ночь они попросились
на ночлег в новом месте, их же обругали и пустили
только в хлев к свиньям. Наутро ангел, сердечно
благодаря хозяина, преподнес ему краденый кубок. Тут
отшельник не выдержал и отказался далее держать путь
с таким спутником. Ангел же вот что сказал в свое
оправдание: младенец был задушен, ибо до рождения
сына рыцарь был щедрым и милосердным, а став отцом,
ни о чем, кроме сына, уже не мог думать. Сейчас же он
вновь обратится к праведности, младенец же станет
ангелом. Кубок был украден, ибо хозяин, после того как
ему подарили кубок, забыл добронравие и пристрастил-
167
ся к пьянству. Теперь он вновь станет трезвенником и
сможет служить богу. Безвинный нищий был убит,
потому что через день с ним случилась бы беда, а
сейчас он попал в рай. Негостеприимный хозяин
получил в дар кубок, и кубок сделает его несчастным, и
злой человек попадет в ад. «Потому положи узду на
уста свои и не суди дел божиих, богу ведомо все».
Услышав эти слова, отшельник пал к ногам ангела и
попросил простить его, а сам воротился в покинутую
пещеру.
Этот трагический сюжет со счастливым, можно
сказать, концом представляет собой удивительный по
своей откровенности образчик двойственной религиозной
морали: людям предписывается один кодекс поведения,
богу же во имя «высшего добра» позволено любое
злодеяние. Вместе с тем здесь в зародыше дана схема
будущего еще в то время иезуитизма.
Эта же схема разворачивается в образе Великого
Инквизитора из легенды, или «поэмки», как
саркастически называет свою историю Иван Карамазов. Хотя
в легенде Инквизитор как будто отстаивает права
Римской католической церкви и ее роль в жизни людей, но
за этим стоит собственно нравственная проблема —
ответственности человека за судьбу другого, участие в
которой он принимает. Здесь можно занять позицию
универсального всеведения: «Я знаю, что это благо,
доверься мне во имя этого блага, и ты будешь
счастлив». Об этом в «Политике» говорил Платон. Так же
считает Инквизитор. Но облагодетельствование такого
рода предполагает одно жесткое условие: если
человек хочет обрести благо, то для полноты счастья ему
следует отказаться от своей свободы, которая
является, может быть, самым тяжким бременем, какое
только есть в этом мире. Но, как говорит Инквизитор,
надо не просто отказаться от свободы во имя блага; для
него в отказе от свободы и заключается первейшее
благо.
168
Отказ от свободы означает и отказ от других высших
духовных ценностей — истины, добра, красоты, — отказ
от личности. Упование на насилие в благодеянии
разрушает нравственность, делает из человека,
нуждающегося в поддержке, своего рода «пациента» или простого
«реципиента» — получателя блага, низводит его до
уровня скота, для которого «хлеб земной», «хлеб
единый» составляет единственный удел человеческой
радости. Счастье другого здесь понимается как исполнен-
ность вожделения, наслаждение — как удовлетворение
страсти, то есть как рабское счастье. Ну а свобода
оказывается уделом избранных, добровольно принявших на
себя бремя решений и распоряжений.
Такая концепция своеобразного морального
элитаризма, согласно которой сознание блага и обладание
им, знание добродетели приписывается избранным, и уж
последние передают его массе, — отстаивается
фактически всеми религиозными учениями. Ф. Энгельс
указывал, что в христианстве человечество поделено «на две
резко обособленные группы, на человечных людей и
людей-зверей, на добрых и злых, па овец и козлищ»,
так что «благочестивые овечки сами берут на себя —
и не без успеха — роль верховного судьи над своими
мирскими ближними — «козлищами»{.
В завуалированно-рафинированном и абсолютно
пристойном виде эта концепция отразилась и в теории
воспитания французских просветителей, а вслед за ними
и у некоторых социалистов-утопистов. По этой теории
совершенствование людей возможно как в процессе
изменения среды, так и в процессе изменения воспитания.
Таким образом, у части людей обнаруживается
особенная духовная просветленность, способность к
общественно-преобразовательной деятельности, все
остальные же лишь объект для «мудрой» переделки, за них,
по существу, уже все решили просветленные. Именно
!Маркс К, Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 102.
169
такую концепцию подверг критике в «Тезисах о
Фейербахе» Маркс. Вот что он писал: «Материалистическое
учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и
воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди
суть продукты иных обстоятельств и измененного
воспитания, — это учение забывает, что обстоятельства
изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен
быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к
тому, что делит общество на две части, одна из которых
возвышается над обществом (например, у Роберта
Оуэна)»1. Последние слова Маркса чрезвычайно важны.
Действительно, при таком подходе одни люди
отделяются от других и противопоставляются этим другим в
своей благости. Не это ли уже само в себе несет
предпосылку взаимонепонимания, предубежденности,
нежелания принять благодеяние!
Неверно было бы думать, что гуманистическая
традиция в данном вопросе не предполагает настойчивости
и твердости. Весь вопрос в том, какими ценностями
подкрепляется и обосновывается эта настойчивость.
В самом общем виде эта позиция выражена была
Кантом: «Пусть люди сами судят о том, что составляет
счастье для них; но и я вправе отвергать кое-что из
того, что они считают своим счастьем, а я таковым
не считаю...»2 Но одно дело, если в благодеянии я
буду стараться отстоять именно мое понимание счастья,
потому что оно мое, и другое, если целью моей
деятельности станет благо другого человека само по себе.
А. Швейцер выразил эту точку зрения по отношению
к вопросам колонизации и культурного прогресса
отсталых народов: «Имеем ли мы право навязывать
примитивным и полупримитивным народам... наше господство?
Нет, если мы хотим лишь властвовать над ними и
извлекать материальную выгоду из их страны. Да, если
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 2.
2 Кант И. Соч., т. 4, ч. 1, с. 322.
170
мы всерьез намерены воспитывать их и помочь им
достичь благосостояния» К
Обозначая альтернативу тщеславной, суетной
«благожелательности», Достоевский показывал, что,
предлагая человеку помощь, надо дать ему возможность
понять, в чем его благо, и самому выбрать то, что он
считает нужным. В «Братьях Карамазовых» есть
прелюбопытнейший в этом отношении эпизод, раскрывающий
нравственно-психологические механизмы «щадящего»,
если так можно выразиться, благодеяния. По поручению
Катерины Ивановны Алеша должен передать двести
рублей штабс-капитану, прежде безобразно униженному
Дмитрием. Приняв деньги, штабс-капитан поначалу
загорается: еще бы, эти двести рублей для него
действительно спасение — решается сразу столько
проблем! Но, искренне обнаружив перед Алешей свою
радость, — он вдруг резко отказывается от них. Алеша,
прекрасно понимая причины отказа, никак не
настаивает и не навязывает свою волю. Для него ясно, что отказ
штабс-капитана от столь нужной ему суммы — это
единственный способ для него сохранить свою честь,
отстоять свое человеческое достоинство. «А стало быть, —
говорит он, — теперь уже нет ничего легче, как
заставить его принять эти же двести рублей... Его,
главное, надо убедить теперь в том, что он со всеми
нами на равной ноге, несмотря на то, что он у нас
деньги берет... и не только на равной, но даже на высшей
ноге».
Дополнительные нюансы в интерпретацию этой темы
внес Г. Гессе, который воспринял многие мотивы
творчества Достоевского. Герой романа «Игра в бисер»
Йозеф Кнехт, узнав, что в жизни друга его юности
возникли значительные трудности, предлагает ему свою
помощь и поддержку; но именно это встречает у друга
1 Цит. по: Фрайер П. Г. Альберт Швейцер. Картина жизни.
М., 1984, с. 77.
171
настороженность. «Ты сказал, — заметил Плинио, —
что знаешь средство сделать меня счастливей,
радостней. Но тебе в голову не пришло спросить, хочу ли я
этого. — Ну, — засмеялся Кнехт, — если мы можем
сделать человека более счастливым и радостным, мы
в любом случае обязаны добиться этого, не ожидая,
когда нас этого спросят».
Но как сам Кнехт, а вместе с ним и Гессе мыслят
решение такой задачи? Возможно ли вообще «спасение
того, что само не желает быть спасенным»? В
отношении Плинио Кнехт предпринял целую серию усилий,
направленных на убеждение друга в необходимости той
помощи, которую он предлагал. Он прибегнул и к
совместному обсуждению создавшегося положения, и
постарался лучше узнать незнакомую ему жизнь Плинио,
те трудности, с которыми тот столкнулся, достаточно
мягко и деликатно попытался сблизиться с близкими
Плинио и, наконец, предложил конкретные шаги по
преодолению этих трудностей, то есть его активность
была направлена не столько даже на отдельного
человека, сколько на его образ жизни, на изменение той
ситуации, которая сложилась вокруг Плинио. Но при
этом Кнехт всегда исходил из того, что у Плинио могут
быть свои соображения, он может остаться при своем
мнении («Ваша доброта простирается слишком далеко.
Я вам очень благодарен и все же не могу ею
воспользоваться»), да и сам Кнехт не исключал возможность
собственной ошибки. При всем этом такое благодеяние
оказывалось возможным ценою отказа Иозефа Кнехта
от самого себя. Нет, он не рассматривал свой уход с
высокой должности и полную смену образа жизни
как жертву со своей стороны, скорее это было
продолжением его жизни, развитием судьбы. Но факт
остается фактом: разделенность интересов приводит к
тому, что последовательная реализация
альтруистических принципов возможна лишь как
самоотречение,
172
Это не случайно. Альтруизм исторически возникает
как своеобразная компенсация порождаемых частной
собственностью нравов — нравов, вдохновляющим
принципом которых является всепроникающий эгоизм. Это
просматривается в упоминавшейся уже христианской
формуле: «Возлюби ближнего своего как самого себя».
Чем, как не обращением к эгоистическому сознанию,
вызвано это характерное «как самого себя»? Любовь к
себе выступает здесь высшей мерой, которой
поверяется любовь к другому. Альтруизм представляет собой ту
особую форму индивидуалистической нравственности
и гуманистического сознания, которая возникает как
реакция на отношения эксплуатации человека
человеком, на отношения взаимно отчужденных людей. В этом
смысле альтруизм, конечно, не может не быть
самоотречением человека как носителя этих отношений. Не
поэтому ли Кант, усматривая в человеческой натуре
непреодолимую двойственность, указывал на то, что человек
может быть подлинно моральным и свободным лишь
в мире идеальных сущностей, в потустороннем «царстве
целей», а принадлежа земному миру, миру причинно-
следственных связей, он является не более как вещью,
влача жалкое существование раба своих желаний и
склонностей!
Таким образом, альтруистическая позиция в
нравственности, будучи в ценностном отношении гораздо
более высокой, нежели эгоистическая, в социальном
отношении оказывается столь же ограниченной, как
и последняя.
Конечно, в обществе, где товарно-денежные
отношения получают абсолютное распространение, а
эксплуатация человека человеком принимает ничем не
прикрытые формы, то есть в капиталистическом обществе, —
альтруизм в принципе возможен лишь как оборотная
сторона эгоизма. Кто-кто, а буржуа отлично знает, что
«правильно организованное милосердие начинается с
самого себя», и изреченьице «люби ближнего как самого
173
себя» он давно истолковал «в том смысле, что именно
каждый является ближним для самого себя» и он
«утверждает свои интересы в качестве интересов своих
ближних». При этом буржуа «удается довести до
совершенства практический эгоизм именно тем, что он
«отрекается от фразеологии эгоизма». И если даже он
кичится филантропическим пылом, но все-таки
относится к нему «с ледяной холодностью, недоверием и непри-
миримейшей враждой, чтобы не потерять себя при этом
как собственника, а остаться собственником филантро-
Лии» 1. В действительности «требование... самоотречения
предъявляется не капиталистам, а рабочим, и именно со
стороны капиталистов... К самоотречению призван
именно тот, для кого предметом обмена является жизненное
средство, а не тот, для кого предметом обмена служит
обогащение» 2.
Вот почему Маркс и Энгельс в «Немецкой
идеологии» специально подчеркивали, что коммунисты
отвергают как мораль эгоизма, так и мораль альтруизма,
мораль самоотречения, и в этом смысле коммунисты
не проповедуют никакой морали, ибо
противоположность эгоизма и альтруизма разрешается не в
отвлеченных нравственных проповедях, а в процессе
революционного преобразования общественных
отношений, в формировании «ассоциации свободных
тружеников» 3.
Но, принципиально по-новому подходя к
классическому вопросу морали и этики, классики марксизма
развивали именно гуманистическую традицию его
решения, хотя в своем анализе они вышли за рамки
межличностных отношений и рассматривали реализацию этого
вопроса в социально-политическом контексте.
Вот только два примера.
1 Маркс К-, Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 241, 248.
2 Там же, т. 46, ч. 1, с. 237.
3 Там же, т. 3, с. 236.
174
Излагая в конце 1894 года основы революционной
пролетарской позиции в решении аграрного вопроса,
Ф. Энгельс писал в статье «Крестьянский вопрос
во Франции и Германии»: «Наша задача по отношению
к мелким крестьянам состоит прежде всего в том, чтобы
их частное производство, их собственность перевести
в товарищескую, но не насильно, а посредством
примера, предлагая общественную помощь для этой цели.
И тогда у нас, конечно, будет достаточно средств, чтобы
показать мелкому крестьянину выгоды, которые ему
должны быть ясны уже и теперь» К
Другой пример взят из истории русского
революционного движения. В сентябре 1905 года В. И. Ленин
делает небольшой набросок для статьи. Называется он
«Буржуазия спавшая и буржуазия проснувшаяся»,
и речь в нем как будто идет о политике
социал-демократов в отношении к либералам в определенный
исторический момент развития революции. Однако социально-
нравственный смысл этого наброска гораздо шире
и прямо связан с рассматриваемой нами проблемой.
«Представьте себе, — писал В. И. Ленин, — что
небольшое число людей борется с вопиющим, безобразным
злом, которого не сознают или к которому равнодушна
масса спящих людей. Какая главная задача
борющихся? 1) разбудить как можно больше спящих, 2)
просветить их насчет задач их борьбы и условий ее, 3)
организовать их в силу, способную одержать победу,
4) научить их воспользоваться правильно плодами
победы» 2.
Глубоко закономерно, что Энгельс говорит о
решении задачи «не насильно, а посредством примера,
предлагая общественную помощь», а Ленин подчеркивает,
что в процессе реализации выдвинутых им пунктов
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 518.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 319—320.
175
по мере прохождения каждого этапа отношения с
людьми меняются, меняется и характер борьбы. Главное,
что вытекает из приведенных фрагментов, это что
борьба со злом, помощь и поддержка невозможны без
сотрудничества, без объединения интересов, без соучастия
в судьбе других людей, в судьбе каждого отдельного
человека.
Именно это положение составляет основу
исторически нового типа нравственности, нового способа
отношений между людьми, суть которого заключается в
принципе коллективизма.
КОЛЛЕКТИВИЗМ: НРАВОВЕННЬ IE
ГОРИЗОНТЫ ЛИЧНОСТИ
•Ж?
, • ./"vNV*!-,
Мы живем на вершине величайшего перевала
истории, в наши дни начинается новый строй
человеческих отношений, новая нравственность и
новое право, основанием для которых является
победившая идея человеческой солидарности.
А. С. Макаренко
Многие проблемы нравственного сознания получают
разрешение и практически преодолеваются в
социалистическом обществе, социально-экономической основой
которого является общественная собственность на
средства производства. В нем благодаря неутомимой
созидательной деятельности трудящихся, осуществляемой
под руководством Коммунистической партии,
общественная жизнь перестраивается на подлинно
коллективистских началах; в нем складываются отношения
солидарности, доверия и взаимопомощи между людьми.
Собственно говоря, коллективизм является одним из
фундаментальных, сердцевинных принципов
социалистической и коммунистической нравственности. Он в
концентрированном виде отражает моральное,
ценностное содержание социалистических общественных
отношений и норм обычных взаимоотношений между
людьми, характер связи личных, групповых и общественных
интересов.
Смело можно сказать, что этот принцип воплощает
суть и истинный пафос исторически нового типа
нравственности. В первую очередь своим коллективистским
духом социалистическая мораль противостоит
индивидуалистической буржуазной и мелкобуржуазной
морали.
В то же время в принципе коллективизма
прослеживаются те традиции социалистической нравственности,
которые формируются в среде промышленного
пролетариата, выковываются в его классовой и революционной
борьбе. Недаром коммунистическую нравственность
называют нравственностью революционной борьбы. Как
говорил В. И. Ленин, выступая перед молодежью, «на-
178
ша нравственность подчинена вполне интересам
классовой борьбы пролетариата... Коммунистическая
нравственность это та, которая служит этой борьбе, которая
объединяет трудящихся против всякой эксплуатации,
против всякой мелкой собственности»1. Иными
словами, коллективистская ориентация в морали всегда
предполагает определенную идейную, классовую,
гражданскую позицию личности, ее направленность на
удовлетворение коренных интересов трудящихся.
Историческое своеобразие коллективистской морали
заключается в том, что в ней как бы переплетаются
гуманистическая направленность культуры и реальные
социальные и экономические возможности
социалистического общества, так что обеспечение блага отдельных
индивидов совершается на основе возвышения блага
всех. Благо человека перестает быть исключительно
предметом заботы и самоотречения отдельных
добровольцев. Деятельность всего общества, его организаций
и групп перестраивается таким образом, что она
направлена в конечном счете на удовлетворение
потребностей каждого человека. При этом сами люди
вовлекаются в широкую деятельность по преобразованию
общества в соответствии с идеалами «реального
гуманизма» (К. Маркс).
Все эти принципы нравственных отношений в
социалистическом обществе получают свое наиболее полное
воплощение в элементах коммунистической морали,
которые все шире и основательнее утверждаются в нашей
жизни. Как записано в новой редакции Программы
КПСС, коммунистическая мораль — это прежде всего:
«— мораль коллективистская. «Один за всех, все за
одного» — таков ее основополагающий принцип. Она
несовместима с эгоизмом, себялюбием и
своекорыстием, гармонично сочетает общенародные, коллективные
и личные интересы;
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., г. 41, с. 309—311.
12* 179
— мораль гуманистическая. Она возвышает
человека труда, проникнута глубоким уважением к нему,
нетерпима к посягательствам на его достоинство. Она
утверждает подлинно человеческие отношения между
людьми — отношения товарищеского сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательность, честность,
простоту и скромность в личной и общественной жизни» *.
В буржуазной идеологии и антикоммунистической
пропаганде коллективистский характер нашего образа
жизни, нашей нравственности получает грубо
фальсифицированное, ложное изображение, при котором
коллективизм отождествляется с тоталитаризмом и униформиз-
мом. Он рассматривается как такой регулятивный
принцип, с помощью которого государство и политические
организации формируют одинаковые, послушные
личности «без лиц», используя их затем для решения
практических задач социального движения. Трудно
представить себе более циничное и безнравственное
извращение реальных отношений социалистического
общества. Да, социализм невозможен без дисциплины,
контроля и порядка. Однако как далеки эти дисциплина и
организованность от жертвенности и самоотречения
индивидуалистической морали! «Коммунистическая
организация общественного труда, к которой первым шагом
является социализм, — писал В. И. Ленин, —
держится и чем дальше, тем больше будет держаться на
свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся»2.
Ленинская характеристика полностью сохраняет
свою значимость и сегодня, когда перед советским
народом встают величественные задачи всестороннего
совершенствования и возвышения социалистического
общества. Как подчеркивалось на апрельском (1985 г.)
1 Программа Коммунистической партии Советского Союза:
Новая редакция. М, 1986, с. 53.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 14.
180
Пленуме ЦК КПСС, укрепление порядка и дисциплины
остается «настоятельным требованием дня, которое
советские люди понимают широко, включая сюда
порядок на производстве и в сфере обслуживания, в
общественной жизни и в быту, в каждой трудовой ячейке,
в каждом городе, в каждом селе» К
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВИЗМ И КОРПОРАТИВИЗМ
Коллективистской морали социалистического
общества, как и другим, исторически предшествующим ей
типам морали, соответствует своя диалектика добра и
зла, без осмысления которой невозможно познание и
конкретно-историческая оценка социалистической
морали в целом.
При определении коллективизма на первый план
выступает его противоположность индивидуалистической
морали. В этом прослеживается глубокий социально-
исторический и нравственный смысл. Коллективизм и
индивидуализм — это не просто различные
нравственные принципы или жизненные позиции личности.
Коллективизм и индивидуализм символизируют
историческое противостояние двух нравственных,
мировоззренческих систем — пролетарской, социалистической и
буржуазной нравственности. В рамках этого
противостояния линия раздела между прогрессивным и
реакционным, добром и злом, справедливым и несправедливым
пролегает определенным и совершенно четким образом.
Однако коллективизм, коллективистская мораль,
коллективистские отношения между людьми — все это
достаточно сложные явления, и выяснение добра и зла на
новом витке исторического развития нравственности
уже не кажется столь простым и однозначным.
1 Материалы Пленума ЦК КПСС 23 апреля 1985 года. М, 1985,
с 17.
181
В самом общем виде принцип коллективизма
гласит: «Поступай сообразно общему интересу». В
практике действительных нравственных отношений этот
принцип выступает в различных вариантах. Наиболее
адекватным социалистическим общественным отношением
являются следующие: «Поступай так, чтобы общий
интерес сочетался с твоим личным интересом», или:
«Поступай так, чтобы общий интерес доминировал над
твоим личным интересом». В различные периоды развития
социалистического общества в соответствии с
конкретно-историческими обстоятельствами превалировал то
один, то другой вариант этого принципа.
Однако иногда принцип коллективизма получает и
такую формулировку: «В своих поступках откажись от
реализации личного интереса». В этом, можно сказать,
«казарменном» коллективизме выхолащивается
гуманистическая суть революционно-преобразовательной
нравственности, она превращается в алтарь, на котором
интересы конкретных людей приносятся в жертву
абстрактному «общему». Наиболее законченный вид эта
идеология получила в маоизме и аналогичных формах
экстремистского социализма.
Порой понятие коллективизма наполняется, так
сказать, этикетным содержанием, что выражается, в
частности, в выделении у индивида таких
«коллективистских» качеств, как тактичность и доброжелательность,
умение поддерживать добрые отношения с людьми,
способствовать складыванию и сохранению благоприятного
нравственно-психологического климата в группе,
внимательность к мнению коллег, терпимость к чужим
мнениям. Иными словами, коллективизм рассматривается как
принцип внутригруппового взаимодействия. Все это само
по себе важно и правомерно. Но такой подход к
описанию коллективизма отличается известной теоретической
ограниченностью, а на практике оборачивается
серьезными нравственными, социальными противоречиями.
Еще А. С. Макаренко, характеризуя жизнь коллек-
182
тива в социалистическом обществе, указывал на то, что
в основе коллективистской деятельности лежат общие,
извне коллектива заданные цели, значимые как для
коллектива, так и для общества в целом. Именно в этом
отношении коллектив отличается от замкнутой
группировки — корпорации, а коллективизм — от
корпоративизма, или группового, эгоизма. «Этикетное»
определение коллективизма как раз и ориентируется, хотя и на
важные, но именно внутригрупповые характеристики
коллективной жизни.
Иногда высказывается мнение, что задача
марксистов состоит в том, чтобы показать непримиримую
противоположность коллективизма и индивидуализма,
отличия же коллективизма и корпоративизма не столь
принципиальны, во всяком случае, не актуальны для
нынешнего этапа социалистического и
коммунистического строительства. С таким мнением нельзя
согласиться.
Во-первых, групповой эгоизм точно так же
противостоит коллективизму, как и индивидуализм, ибо он
представляет собой наиболее распространенную и
типичную форму групповой активности в буржуазном
обществе1. Во-вторых, как мы видели, когда речь шла о
1 О корпоративистских ориентациях современного буржуазного
сознания см.: Замошкин Ю. А. Личность в современной
Америке. М., 1980, с. 33—89; Эп штейн С. Капитаны большого бизнеса:
Социальный портрет менеджера. М., 1979, с. 155—208.
Любопытный портрет «человека корпорации» мы встречаем в
повести «Заблудившийся автобус» американского* писателя Дж.
Стейнбека: «Мистер Причард был бизнесмен, президент не очень
большой корпорации. Он никогда не бывал один. Дела в его фирме
вершил круг людей, работавших одинаково и даже выглядевших
одинаково. Обедал он с людьми себе подобными, которые
собирались в клубах; чуждым элементам и чуждым идеям туда доступа
не было. Его религиозная жизнь опять-таки проходила в его ложе
и в его церкви — и та и другая были изолированы и ограждены...
Куда бы он ни пришел, он был не просто человеком, а единицей
в корпорации, единицей в клубе, в ложе, в церкви, в партии. Его
183
прагматистской ориентации в нравственности, и в
условиях социалистического общества порой складываются
такие своеобразные общественные отношения, которые
провоцируют возникновение элементов корпоративист-
ской психологии. При социализме она обнаруживается
в местничестве, ведомственности и других подобных
явлениях, принимая формы, внешне, как правило,
весьма близкие коллективизму, не говоря уже о той
цветистой фразеологии, с помощью которой она пытается
прикрыть свою суть.
В документах партии дана острая и нелицеприятная
критика этого явления. Как сказал М. С. Горбачев,
выступая на совещании в ЦК КПСС по вопросам
ускорения научно-технического прогресса, «непонимание
ситуации, нежелание перестраиваться, ведомственность не
должны возобладать над общенародными интересами.
Думаю, с руководителями, рассчитывающими втянуть
нашу страну в огромные необоснованные расходы, нам
не по пути» 1.
Так же как в формуле альтруизма представление о
чужом интересе получает различные содержательные
интерпретации, так и в формуле коллективизма «общий
интерес» может истолковываться по-разному: здесь
может предполагаться и интерес человечества (хотя
довольно редко), интерес общества, интерес государства и
интерес коллектива, непосредственной группы, в
которую включен человек. Таково социально-философское
идеи и мысли никогда не подвергались критике, потому что он
добровольно объединялся только с такими же, как он. Он читал
газету, выпускаемую его кругом и для него. Книги, попавшие в его
дом, были отобраны комитетом, отбрасывавшим все, что могло его
раздражать. Он терпеть не мот иные страны и иностранцев, потому
что среди них трудно найти своего двойника...»
1 Горбачев М. С. Коренной вопрос экономической политики
партии. Доклад на совещании в ЦК КПСС по вопросам
ускорения научно-технического прогресса 11 июня 1985 г, М., 1985, с. 8.
184
раскрытие этого понятия. Однако с
нравственно-психологической точки зрения общий интерес так или
иначе всегда опосредуется групповыми и личными
интересами и всегда реализуется в них. Поэтому под видом
общего интереса индивид может абсолютизировать (или
индивиду могут быть навязаны) именно групповые
интересы, не согласованные с общественными интересами,
а то и прямо противостоящие им. Это и порождает кор-
поративистское сознание, которое в развитом (или
откровенном) виде исходит из принципа: «Поступай так,
чтобы интерес твоей группы был твоим ведущим
интересом», или: «Поступай согласно групповому интересу».
Социально-экономические корни группового эгоизма
связаны с известной несбалансированностью
хозяйственно-экономических механизмов, несовершенством
показателей планирования и организации коллективной
деятельности. Мало ли мы знаем фактов, когда
прогрессивное изобретение отвергается или его внедрение
тормозится только потому, что оно сделано вне той
организации, профилю которой оно соответствует, или
новшество, сулящее и улучшение качества изделия^ и
повышение прибыли, игнорируется в силу того, что
противоречит показателям плана; или предприятию
выгодно производить материалоемкую и дорогую продукцию
и благодаря этому «вытягивать» необходимый объем
реализации в рублях; железной дороге выгодно
задерживать поезда с грузами на линии и не иметь
благодаря этому простоев на станциях; работникам ОТК «не
замечать» брак с тем, чтобы предприятие могло
отчитаться о выполнении плана, а «отэкашникам» получить
свою премию; или... Увы, примеров здесь достаточно.
Такие эпизоды общественной практики отражаются в
сознании, в ценностных ориентациях, которые, со своей
стороны, поддерживают превалирование частных
интересов, направляют на них поведение людей. Но то, что
для общества является частным интересом, по отноше-
185
нию к индивиду выступает как общий интерес; так что
индивид, согласуй и подчиняя свои личные интересы
групповым, отдается во власть иллюзии о сообразности
своей деятельности общим интересам.
Отличие коллективизма от группового эгоизма и
заключается в том, что цели коллективной деятельности
положительно соотнесены как с целями более высокого
порядка — с целями общества, так и с целями однопо-
рядковыми — целями других коллективов, с целями
людей, не включенных в деятельность данной группы1.
В этом суть. А с точки зрения внутригрупповой
сплоченности, солидарности и взаимовыручки корпорация может
ничуть не уступать коллективу. Дело в том, что в
психологическом и социологическом плане и корпорация и
коллектив представляет собой довольно развитую, стабильно
функционирующую группу с устоявшейся структурой и
иерархией внутренних взаимодействий, с отработанной
системой внешних связей и зависимостей. Разница в
том, как группа оценивает значение своей деятельности,
в чем видит ее смысл, разница в том
социально-нравственном кругозоре членов группы, который может
простираться далеко за рамки группы, а может упираться
в непосредственные цели групповой деятельности.
Возможность группового эгоизма в
социалистическом обществе может показаться преувеличенной, если
не вовсе надуманной. Ведь в основе коллективистского
мировоззрения лежат объективные условия,
заключающиеся в общественной собственности на средства
производства, отсутствии эксплуатации человека человеком,
класса классом. Все это верно. Однако коллективизм не
как идеал или нравственное требование, а как
практическая ценностная ориентация, характеристика
человеческих отношений и свойство личности определяется
общественной собственностью в той мере, в какой она за-
1 См.: Петровский А. В. Личность. Деятельность, Коллектив.
М., 1982, с. 22—41.
186
крепилась в повседневности общественного бытия, в
живых нравах, в многообразной конкретности внутригруп-
повых отношений. Говоря иначе, объективно заданное
единство общество должно приобрести в развитии
социалистического коллектива как исторически особенной
формы организации групповой деятельности и, шире,—
социалистической коллективности как качества
непосредственных связей между людьми.
Как цеховая организация символизирует
коллективность феодального общества, а корпорация —
коллективность буржуазного общества, которую, как известно,
К. Маркс называл «мнимой коллективностью», так
трудовой коллектив является типичной формой
коллективности социалистического общества.
Коллективизм, повторим, не как идеальное
требование, а как практическое отношение возникает на основе
такой организации групповой деятельности, когда ее
цели совпадают или соответствуют целям
общественного развития. И, наоборот, коллективизм остается
праздничным лозунгом, фразой, когда он не соединяется с
практическими социальными отношениями, когда
общественные, групповые и личные интересы оказываются
объективно разорванными.
Задумаемся, а в чем заключается, в чем
проявляется общественная собственность, в которой, как
правило, и усматривается исток коллективистских
отношений? Первоначально она утверждается в
национализации, то есть в переводе капиталистической
собственности в собственность социалистического государства. Но
этим обобществление не исчерпывается. Вот что
писал в мае 1918 года В. И. Ленин: «Сегодня
только слепые не видят, что мы больше национализировали,
иаконфисковали, набили и наломали, чем успели
подсчитать. А обобществление тем как раз и отличается от
простой конфискации, что конфисковать можно с одной
«решительностью», без умения правильно учесть и пра-
187
вильно распределить, обобществить же без такого
умения нельзя»1.
Обобществление собственности означает не только и
не столько обращение средств и предметов труда в
общественную собственность, но социалистическое
преобразование производственных процессов, которое в
конечном счете выражается в изменении характера
отношений между людьми как субъектами производства,
как субъектами общественных отношений. В идеале
каждый отдельный вид деятельности должен быть
включен в единую систему социалистического производства,
чтобы обрести реально общественную форму, должен
быть подчинен исключительной исторической цели —
развитию человека, гармоническому удовлетворению его
духовных и материальных потребностей.
Последовательно развитое обобществление производства выражается в
том, что участники производства становятся
непосредственными субъектами социалистической собственности.
Таким образом, социалистическое обобществление не
сводится к социально-экономическим,
производственным мероприятиям; в него вовлечены все сферы
общественной жизни — и материальные и духовные.
Социалистическое обобществление опосредовано
экономическими процессами в равной мере, как и политическими,
культурными, идеологическими, в нем отражается
развитость хозяйственных механизмов, общественного
характера труда, совершенство моральных отношений,
зрелость личности.
В концепции социализма как раз и делается акцент
на многоэтапности исторического движения
социалистического общества по пути к торжеству коммунистических
идеалов. Основные вехи становления, развития
социалистического общества, его совершенствования — это и
ступени обобществления социалистической
собственности, роста сбалансированности отдельных социальных
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 294.
188
структур, гармонизации общественных, коллективных и
индивидуальных интересов, расширения роли
морального, личностного фактора в общественной жизни.
С развитием социалистического общества
постепенно устанавливается равенство индивидов по отношению
к средствам производства. Но вряд ли из этого можно
с однозначностью сделать вывод о том, что при
социализме полностью исчезают предпосылки для той развет-
вленности интересов и социально-нравственных позиций
людей, которая ведет к взаимонепониманию,
отчужденности между людьми. Конечно, если сравнивать
социалистический образ жизни с тем, который порождается
капиталистическими общественными отношениями, то есть
с образом жизни, исторически преодоленным,
исчерпавшим свои прогрессивные социальные возможности, то
нравственные преимущества социализма оказываются
разительными.
В 1982 году преподаватель из Англии Дженнифер
Саттон после нескольких лет работы в Иркутском
педагогическом институте приняла решение навсегда
остаться в СССР. «Последняя причина моего желания
жить и работать здесь — это люди, — писала Дж.
Саттон в открытом письме. — За эти восемь лет я узнала
много очень интересных людей, а с некоторыми из них
я подружилась. Они обладают талантом видеть лучшее
в человеке и прощать ему плохое; они любят свою
страну и искренне интересуются миром. Я чувствую себя тут
как дома. Дома, потому что меня приняли и во мне
оценили не мою необычность, а меня саму. Мы
дискутируем и спорим в лучшем смысле этих слов, уважая и
доверяя друг другу»1.
Что и говорить, такая оценка нашего образа жизни
человеком далекой страны приятна. Но ведь это
оценка с позиций вчерашнего дня. Допустимо ли (к лицу
1 Она выбрала содиализм. — Собеседник, 1984, ноябрь, № 39.
189
ли) и нам ограничиваться такой позицией? Разумеется,
нет! Нравственная оценка сущего, бытующего в нравах
осуществляется с позиций должного, с позиций
перспективного, прогрессивного развития общества. Для
оценки нравственности и нравов социалистического
общества у нас есть безупречный критерий. Это —
коммунистический идеал. Соотнесение реалий
социалистического общества с коммунистическим идеалом не означает
романтического мечтательства, идеализирования жизни,
забегания вперед. Правда, в определенный период, как
отмечалось на XXVII съезде КПСС, задачи
развернутого строительства коммунизма преждевременно
переводились в плоскость непосредственных практических
действий \ что выражалось в игнорировании
объективных противоречий социалистического и
коммунистического строительства, в отрыве от практических условий
жизни. И именно ориентация на коммунистический
идеал позволяет трезво оценить действительные
достижения социалистического общества, уточнить направление
его движения, определить пути его всестороннего
совершенствования.
С точки зрения коммунистического идеала и
перспектив совершенствования социализма, в нашем
обществе сохраняется ряд черт социального бытия
человека, присущих и предшествующим формациям. При
юридическом равенстве индивидов по отношению к
средствам производства в рамках социалистического
способа производства продолжают функционировать
обособленные, доставшиеся нам от прежней эпохи
системы труда «работники — орудия труда». И при
социализме работник во многом продолжает оставаться
индивидуальным, обособленным от других тружеников.
Эта обособленность, определяемая профессией,
квалификацией, разрядом и т. п., усугубляется сохранением су-
1 Горбачев М. С. Политический доклад Центрального
Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского
Союза. М., 1986, с. 118.
190
щественных различий видов деятельности —
умственного и физического, квалифицированного и
низкоквалифицированного, творческого и рутинного труда. Хотя при
социализме рабочая сила перестает быть товаром,
однако и здесь продолжает иметь место товарное
производство, хозрасчетные отношения между государством и
коллективом, государством, коллективами и
отдельными членами общества. Все это определяет известное
неравенство как в производстве, так и в распределении,
потреблении1.
Это говорит о том, что коллективизм и
солидарность, сотрудничество, поддержка и взаимная
ответственность, которые присущи социалистическому
образу жизни, социалистическим нравственным отношениям,
устанавливаются не автоматически, а достигаются в
результате активных усилий —
социально-организующих, идеологических, нравственно-воспитательных. Это
результат действия субъективного фактора
общественного развития.
НРАВСТВЕННЫЕ ДОМИНАНТЫ НОВОГО ОПЫТА КОЛЛЕКТИВНОЙ
жизни
Какова главная сила, объединяющая людей в
коллективе? Эта сила — забота человека о
человеке.
В. А. Сухомлинский
Социализм — первое в истории общество, которое
выдвигает такие цели социального движения и создает
такие условия, которые объединяют людей в процессе
совместной деятельности, кардинальным образом
меняют характер общественных связей и формы
непосредственного общения людей. Однако это новое качество
общественной жизни при социализме может быть раз-
1 См.: Ковалев С. М. О коллективном и частном,
непосредственно общественном и опосредованно общественном труде. —
Вопросы философии, 1977, № 6, с. 112—115.
191
вито в полной мере только тогда, когда конкретные,
практические цели совместной деятельности становятся
близкими для каждого человека, участвующего в ней,
когда они соответствуют его потребностям, ценностным
ориентациям, осознаются и понимаются им.
Скажем, система общественного воспитания и
пропаганды формирует в сознании советских людей
устойчивые социально-нравственные установки на общность
интересов и целей. Но эти идеальные установки
должны быть испытаны в жизни. Действительная
общественная практика в целом соответствует этим идеальным
установкам, однако в силу разных причин, частично
рассмотренных выше, в ней могут получать развитие и
такие тенденции, которые отчасти противоречат
принципам, закладывающимся в процессе воспитания. Как
показывают конкретные исследования, в частности,
проведенные лабораторией социологии Пермского
политехнического института на промышленных предприятиях
Перми, уровень коллективизма в сознании молодых
рабочих, только поступивших на завод после ПТУ и в
особенности после десятилетки, достаточно высок, однако
это абстрактный, «розовый» коллективизм; он должен
еще трансформироваться в практику коллективных
отношений. Говоря языком социологии, это «ожидание»
коллективизма. Реальная жизнь бригады, цеха,
предприятия может оправдать ожидания, а может и внести
поправки в сформированные школой представления
молодых людей о совместной трудовой деятельности, об
отношениях между людьми вообще, — поправки корпо-
ративистского, прагматистского, либожегедонистическо-
потребительского характера.
Понятно, что сама по себе общественная
собственность и отсутствие антагонистических классов не
приводят к таким изменениям в практической
деятельности, к таким сдвигам в сознании, которые бы
обеспечивали и подкрепляли общность высших социальных
целей. Более того, сама эта общность не результат, так
192
сказать, единовременного исторического акта и,
однажды достигнутая, не может рассматриваться как
безусловный капитал на вечные времена. Общность
интересов — такая характеристика общественных отношений,
которая нуждается в постоянном воспроизводстве и
подкреплении. В динамично развивающемся обществе,
каким является социализм, изменяются, развиваются и
интересы. Следовательно, не остается неизменной и
мера соотношений общественных, групповых и личных
интересов.
Частным, но весьма существенным проявлением этой
закономерности развития социалистического общества,
выражающейся в изменении характера сопряженности
общих и частных интересов, может служить то
глубокое различие, которое обнаруживается при
сопоставлении социально-нравственных доминант двух форм
организации и стимуляции труда —
индивидуально-сдельной и бригадной.
Что показывает сравнение двух форм организации
труда? При индивидуальной сдельщине самим
порядком организации труда определяется то, что труд
каждого работника предельно обособлен. Участники
производственных процессов оказываются разъединенными,
разорванными: каждый отвечает за свой небольшой
участок работы, и ему фактически мало дела до всего
остального; каждый заинтересован в получении
высокооплачиваемого задания и делает все для того, чтобы
выгодные работы достались именно ему. Мастер, со
своей стороны, сложное, «выгодное» задание дает
опытным, заслуженным рабочим, тем, с кем у него сложились
«хорошие» отношения. Сдельщина ориентирует на
количество продукции (нередко в ущерб качеству), замыкает
работника на отдельной операции, снимая перспективы
на выполнение общего задания, изготовление готового
продукта. Наконец, сдельщина провоцирует разрыв
индивидуального, коллективного и общественного интересов,
выдвигает на передний план интерес личный.
13 Р. Апресян 193
При таком раскладе внутриколлективных ролей и
статусов появляются рабочие-«короли», или, как их
сейчас называют, «примы», которые считаются
незаменимыми, из которых делают «штатных» победителей
соцсоревнования, которые даже при перебоях в
поставках всегда обеспечиваются материалами и работой.
Личные отношения между рабочими, между рабочими
и мастером, начальниками цехов строятся в
соответствии со стереотипом, задаваемым различием в
производственных ролях.
Ключевым моментом коллективной (безнарядной,
подрядной) организации труда является оплата по
конечному продукту. Соответственно деятельность
каждого работника в такой бригаде ориентирована не на
отдельные задачи, а на конечный результат, общую для
всех цель. От достижения этой цели и зависит оценка
работы всего коллектива, каждого его члена.
Аналогичный опыт накоплен и при организации научного,
конструкторского труда. Мы не говорим здесь о том, что
такая организация труда ведет к повышению качества
работы, и отвлекаемся от конкретного производственно-
хозяйственного значения происходящих процессов.
Здесь следует обратить внимание на то, что изменение
в организации совместной деятельности несет в себе
глубокое социальное содержание: за отдельным
заданием человек начинает видеть цели всей бригады,
предприятия, его интересы оказываются слитыми с
интересами коллектива. Через изменение организации труда
рождаются принципиально новые отношения в
коллективе, формируется атмосфера взаимного доверия,
безусловной поддержки; здесь не остается места
социальному равнодушию, профессиональной апатии.
Не случайно новый опыт организации труда высоко
оценен ЦК КПСС: «...в коллективах, перешедших на
эту форму работы, как правило, выше
производительность и дисциплина труда. Здесь каждому работнику
виднее связь между его трудовым вкладом и заработ-
194
ком. Здесь наглядно проявляются дух товарищеской
взаимопомощи, воспитательное воздействие
высокоорганизованного социалистического труда»1.
Открывая новые перспективы организации и
культуры труда, бригадный подряд вместе с тем предъявляет
к работникам 'новые, более строгие требования. Эта
форма работы предполагает особо тщательную
организационную и психологическую подготовку дела.
Поспешность и непродуманность здесь может обернуться
формализмом, а это грозит снижением эффективности и
качества работы... Несовершенство механизмов
управления такими бригадами, а с другой стороны —
возвышение уровня коллективного сознания и роли
первичной производственной группы привели к тому, что при
непоследовательном осуществлении бригадной формы
организации труда рабочих последние начинают ниже
оценивать свои производственные возможности,
оказываются более склонными перекладывать ответственность
за плохие результаты на администрацию; в таких
коллективах даже возникают тенденции к групповой
замкнутости и обособлению внутренних, групповых
интересов 2.
Главное упущение здесь зачастую заключается в
том, что бригадная форма организации труда
ограничивается лишь способом оплаты — «на круг», — это и
оборачивается тем, что индивидуальная сдельщина
уступает место сдельщине бригадной. Но ведь новый
организационный опыт ведет не только к смене способа
оплаты, но к перевороту в методах управления, к
обновлению личностного статуса работника. Это-то последнее
и теряется при внедрении бригадного метода
административным решением, то есть «сверху», без солидной
не только плановой, технологической, но
организационной, психологической подготовки, перестройки.
1 Материалы Пленума ЦК КПСС 14—16 июня 1983 года. М
1983, с. 38.
2 См.: ЭКО, 1984, № 2, с. 57.
13* 195
Последовательное развертывание коллективной
организации труда предполагает создание совета бригады —
•на уровне первичного коллектива и советов
бригадиров — на уровне цеха, участка, предприятия. Это не
просто представительно-совещательные органы, но
действенные институты производственного самоуправления.
В лице советов рабочие принимают ответственное
участие в обсуждении принципиальных вопросов
коллективной жизни. Социальный, нравственно-психологический
смысл этих форм рабочего самоуправления состоит в
том, что перед каждым рабочим открываются более
широкие возможности участия в важных делах —
в управлении жизнью коллектива, цеха, участка и т. д.
Благодаря непосредственному участию в деловом
обсуждении текущих задач, в подготовке решений
преодолевается разорванность, существующая, как правило,
между исполнителем и руководителем, ущербное
сознание «винтика», сознание «маленького человека»,
вырабатывается подлинное чувство ответственности за
выполняемую работу, — ответственности не только перед
мастером, перед начальником, а прежде всего перед
своими же товарищами, перед самим собой.
Получить право хозяина и стать хозяином
настоящим, оправдав это высокое звание, далеко не одно и
то же. Как говорилось на XXVII съезде КПСС, «было
бы наивно представлять, будто чувство хозяина можно
воспитать словами. Отношение к собственности
формируется прежде всего теми реальными условиями, в
которые поставлен человек, возможностями его влияния
на организацию производства, распределение и
использование результатов труда... Нельзя быть хозяином
страны, не будучи подлинным хозяином у себя на
заводе или в колхозе, в цехе или на ферме» *. Сознание со-
1 Горбачев М. С. Политический доклад Центрального
Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского
Союза. М., 1986, с. 50.
196
пряженности, соучастия — не формального, а
действительного, полного — и рождается в процессе
утверждения нового хозяйственно-организационного опыта.
Конечно, к этому опыту надо подходить конкретно.
Так же как в свое время, когда советские люди
закладывали основы нового строя, когда средний
профессиональный и общекультурный уровень работников был
относительно невысок, сдельная оплата труда и
соответствующая его организация в наибольшей степени
отвечали потребностям общественного развития того
времени, обеспечивали единство общественных и личных
интересов; так и бригадный подряд в 'настоящий период
является той организационной формой, посредством
которой индивидуализируются общие интересы. Сегодня в
ней принцип коллективизма находит одно из своих
практических воплощений, выступает как действительное
нравственное отношение. Это не отношение партнерства
(хотя коллективистское отношение частично им
опосредуется), — в коллективистском самоопределении
человек воспринимает другого человека как свободную и
самоценную личность во всей полноте ее жизненных
проявлений. Коллективистская деятельность
выражается в том, что она осуществляется совместно, индивиды
включаются в нее не только как исполнители
отдельных функций, а как личности. Такая деятельность
упорядочивает, гармонизирует интересы людей, создает
условия для их действительного социального развития.
КОЛЛЕКТИВИЗМ, ДОБРО, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Только в коллективе индивид получает
средства, дающие ему возможность всестороннего
развития своих задатков, и, следовательно,
только в коллективе возможна личная свобода.
К. Маркс, Ф. Энгельс
Обращение к трудовым, производственным
отношениям в разговоре о наиболее общих нравственных поня-
197
тиях не должно восприниматься как занижение темы,
«экономизирование», как отрицание или недооценка
роли личности в морали, а также игнорирование
нравственного воспитания и других форм идеологического
воздействия на личность.
Конечно, опасность такого поворота в нравственно-
этическом рассуждении имеется. Это находит
выражение в сведении морального к сфере частных, бытовых,
индивидуальных проблем человеческой жизни, и тогда
предметная область добра и зла исчерпывается
различием благопристойного и неприличного. Одновременно
с этим человеколюбие и заботу о людях усматривают в
деятельности, направленной на благо «дальних» людей
в первую очередь и затем уже на благо «ближних».
Такая жесткая позиция в отношении нравственности
ведет к тому, что выполнение общественного задания
рассматривается как единственный и, по крайней мере,
достаточный повод морального самоопределения; а
общественная деятельность человека во всех ее формах,
по существу, противопоставляется его частной жизни.
Последняя если и вызывает интерес, то лишь как
средство активизации общественных устремлений личности.
Разумеется, линия поведения человека как
исполнителя формальных ролей, стандарт которых
относительно четко задается общественными структурами, может
отличаться и подчас серьезно отличается от той
позиции, которую он занимает в частной жизни: в семье, в
кругу друзей, в отношении с соседями и т. п. Можно
сказать, такая противоречивость определяется
современным сложным образом жизни, множественностью
ролей, которые приходится играть человеку в различных
сферах его жизни. Но насколько правильно было бы
говорить при этом, что, выполняя разные виды
деятельности, человек по-разному, с точки зрения добра и зла,
относится к людям, исповедует разные принципы?
Вспомним Марксов подход к принципу наслаждения.
Главный вывод, который следует из него, заключается
19S
в том, что наслаждения человека определяются образом
его жизни, что характер проведения им свободного
времени, то есть фактически характер частной жизни,
определяется характером труда, характером его
общественной жизни. Поэтому неверно думать, будто в сфере
труда отношения между людьми задаются
технологически, объективным содержанием труда или что в
сфере труда действует своя, профессиональная мораль, а
в частной жизни человек руководствуется принципами
другой морали, что в коллективной, трудовой
деятельности человек заботится о «дальних», а в частной
жизни — о «ближних».
И в частной жизни человек может проявлять
заботу о «дальних» и, наоборот, в общественной не то что
«дальних», но и «ближних» не замечать. Конечно, очень
многое в характере человека определяется тем
воспитанием, которое он получил в детстве, семейным
воспитанием. Но одно дело добрый человек или равнодушный,
мягкий или вздорный и другое — какие черты
характера человека активизируются самим порядком вещей,
а какие блокируются, какой характер востребуется
складывающимися обстоятельствами, а какой
затирается ими. Вот почему так важен нравственно-этический
анализ тех отношений, которые складываются между
людьми в процессе трудовой деятельности, в рамках
коллективной жизни.
Сама по себе включенность человека в коллективные
отношения не снимает все те нравственные коллизии,
которые возникают в процессе межличностных
взаимодействий людей, однако формирующиеся в
коллективной деятельности связь и духовная общность помогают
преодолеть многие из трудностей, которые так или
иначе встают на пути каждого человека.
Это становится возможным благодаря особому
качеству коллективистских отношений в социалистическом
обществе — «разделению ответственности». Речь идет
не о должностной, не об административной ответствен-
199
ности — здесь никакое разделение недопустимо; речь
идет о нравственной ответственности. Коллектив
принимает на себя ответственность за каждого своего
члена. Каждый член коллектива, в свою очередь, берет на
себя ответственность за коллектив. Но не только. Он как
человек принимает на себя ответственность за другого
человека. Поэтому перед лицом беды, в тяжелый час, в
горе человек знает, что он может опереться на локоть
товарищей и выстоять. Проявляется это и в большом и
в малом.
Не простым было вхождение в самостоятельную
жизнь сегодняшнего бригадира комбината треста
Псковсельстрой Сергея Зенина. Восемнадцатилетним
парнем он так «погулял» по случаю призыва в армию,
что получил три года исправительных работ. В колонии
впервые он задумался о своей жизни, и стало
нестерпимо стыдно ему перед матерью, перед любимой
девушкой. Примерным поведением и хорошей работой
заслужил досрочное освобождение. Комбинат взял Сергея
на поруки, и попал он в бригаду Ивана Васильевича
Росликова. Этот человек и помог Сергею окончательно
встать на ноги — освоить профессию, основать семью,
обзавестись жильем. И главное — почувствовать себя
хозяином своей судьбы. Когда Иван Васильевич тяжело
заболел, он попросил, чтобы после него бригадиром
поставили Сергея. Это было высшим доверием старшего
товарища. Бригада Зенина заняла первое место на
комбинате, о ней писала районная газета, но славится она
не только работой. Одного за другим берет она
«трудных» подростков, которых Сергей вводит в жизнь по
примеру Ивана Васильевича. Как ему, оступившемуся,
помогли в свое время вернуться на истинный путь, так
теперь он не дает оступиться другим *.
А вот другой пример. В дискуссионном клубе
журнала «Работница» обсуждалась тема «Есть ли такая
'^Правда, 1985, 3 декабря,
200
должность — хороший человек?». Толчком к дискуссии
послужило письмо читательницы, в котором, в
частности, указывалось на то, что нередко активное
стремление человека творить добро приходит в противоречие с
желанием и потребностями коллектива, членом
которого он является, работать с полной отдачей.
Рассматривая в предыдущей главе коллизии, порождаемые так
называемым «мнимым благодеянием», мы видели, что
помощь и добро другим людям могут оказываться из
прагматических соображений: решить какие-то свои
дела, получить одобрение. Кстати, в журнальной
дискуссии на это тоже обращалось внимание. Однако
противоречие возникает и по поводу подлинного благодеяния.
Но возникает оно тогда, когда в коллективе нет тех
отношений взаимопонимания и доверия, которые
рождаются благодаря развитым коллективистским отношениям.
Если же такие отношения есть, это возвышает
коллектив над мелкими проблемами, делает его
по-настоящему солидарным. Участница дискуссии Зинаида
Тихоновна Звягинцева, работница мытищинского объединения
Стройпластмасс, рассказывала: «Сколько раз
бывало у меня — на работу бегу, а соседке плохо. Ну что ж,
позвоню своим, объясню, что надо «скорую»
дождаться. И все — никаких вопросов. Каждый из нашей
бригады сделал бы то же» 1. Такое понимание основывается
на действительной взаимозаменяемости, когда бригада
делит с Зинаидой Тихоновной ее заботу об одинокой
женщине, компенсируя отсутствие на работе своего
товарища дополнительным трудом.
Кажется, это маленький эпизод, но, по существу, в
нем проявляются принципиально новые черты в
благодеянии — этом извечном, но не теряющем свою
притягательную силу явлении нравственности. Вот еще один
случай. Директор института поручает заместителю
заведующего отделом, человеку сообразительному и горя-
1 Работница, 1984, № 11, с. 18.
201
чему, принять участие в судьбе родственницы одной из
сотрудниц института с тем, чтобы в отношении этой
пожилой и житейски абсолютно беспомощной женщины
была восстановлена справедливость 1. Здесь перед нами
та же частная помощь, решение личной проблемы
другого, вовсе не «ближнего» человека, но поставленные на
общественную, подлинно коллективистскую основу.
Дело не только в том, что такое благодеяние
оказывается гораздо более результативным — это, так сказать,
практический, отнюдь немаловажный эффект. И не в
том, что совершаемое как бы от имени общества, от
имени коллектива благодеяние не воспринимается как
личное одолжение, как такая забота, которая вызывает
отчужденное недоумение и раздражение: «А кто вы
такой, чтобы обо мне заботиться?» — это тоже
существенный психологический момент. Однако социально-
нравственный смысл подобного рода поступков гораздо
шире: за ними просматриваются особые общественные
отношения, гарантирующие защищенность и покой
каждому человеку.
Мы видели, что последовательно осуществленное
альтруистическое деяние также основывается на
разделении ответственности, на включении, участии
благодетеля в судьбе человека, который нуждается в помощи.
Однако, как показывает практика (нравственных
отношений, при нынешнем уровне общественного развития
одному человеку не под силу благодеяние — не как
выражение учтивости, но как решительное и
последовательное соучастие в судьбе другого человека. Вспомним
героя Г. Гессе Иозефа Кнехта. Его подход к делу
оказания помощи другу, одновременно деликатный и
настойчивый, представляется наиболее правильным в
рамках альтруистической линии поведения. Возникшие у
Плинио серьезнейшие проблемы, связанные с
расхождением с сыном во взглядах и образе жизни, Кнехт наме-
1 См.: Чайковская О. Обмен. — Литературная газета, 1984,
29 февраля.
202
ревался преодолеть посредством облагораживания души
юного человека, его интеллектуального и
нравственного совершенствования. Однако Кнехту не суждено было
осуществить свой замечательный замысел, хотя ему и
удалось расположить к себе юношу, вызвать к себе
уважение и доверие. В первый же день их новой
совместной жизни происходит несчастье: в импровизированном
спортивном состязании с юношей Кнехт умирает от
разрыва сердца...
Такой трагический финал, думается, не случаен и
глубоко символичен. Г. Гессе показывает тем самым
практическую социальную обреченность даже
возвышенных и благородных нравственных деяний, если они
совершаются «одиноко», исключительно индивидуально.
В свете сказанного примечательна деятельность
воспитателя. Она тоже представляет собой особый вид
благодеяния. Что может быть более благодарным и
общественно значимым, чем созидание человеческого
характера, формирование личности! Однако именно
воспитательная деятельность нередко воспринимается
именно как индивидуальная, единолично-инициативная. Дело
представляется так, что воспитатель создает коллектив,
принимает на себя ответственность за воспитанников,
но сам не делит ответственности ни с кем, отвечает сам
за себя.
...Олег Афанасьев, студент Гомельского
политехнического, услышав об идее создания «макаренковского
отряда», бойцами которого должны были стать
«трудные» ребята, не засомневался, как другие, их ли,
будущих инженеров, дело воспитывать «трудных»; но,
обдумав все, направился в инспекцию по делам
несовершеннолетних Советского района Гомеля и убедил
инспектора в необходимости и возможности создания отряда 1.
Потом были трудные разговоры с ребятами и не
менее трудное хождение по инстанциям. И вот необычный
i См.: Ю ф е р о в а Я. Своя чужая боль. — Комсомольская
правда, 1984, 28 августа.
203
строительный отряд выехал на место. Конечно, летний
сезон не обошелся без эпизодов: однажды на сельской
свадьбе столкнулись с местными, другой раз двое
бойцов решили тряхнуть стариной и «взяли» буфет, как-то
у Олега пропала десятка. Но каждый раз ребята сами
наводили у себя порядок; в случае с буфетом
командиру пришлось даже прятать провинившихся от гнева
отряда.
Ребята согласились на странную затею
решившего за них взяться «кента» лишь при условии, что
заработают на джинсы. Но главный заработок оказался
другим. Как пишет корреспондент, «бывшие нахальные
и недоверчивые, злые и вредные «мужики» стали
проявлять нормальные человеческие характеры»! Парни не
только работали на стройке по восемь часов и больше,
но взяли шефство >над детским садом и
отремонтировали все игрушки. Бережно прибрали и покрасили
памятник над братской могилой. А когда в самый разгар
уборочной зарядили дожди и над собранным урожаем
нависла угроза, ребята днем и ночью помогали спасать
хлеб: надо было провеять, перелопатить сотни тонн
зерна.
В самом начале ребята поняли правильно: именно
Олег решил за них взяться. Но из его затеи ничего бы
не вышло, не поддержи его секретари Гомельского
обкома комсомола, не включись в это важное дело
председатель облисполкома. Да только ли они поняли Олега
и приняли близко к сердцу его «Отряд Надежды»!
Личная инициатива комсомольца оказалась реализованной
именно потому, что в «ей была аккумулирована
энергия многих людей, в конечном счете энергия всего
общества. Другое дело, что надо иметь большое
мужество и открытое сердце, чтобы принять эту энергию,
чтобы найти в себе нравственную силу, умение и такт
передать эту энергию тем, кто в ней так нуждается.
Но не в том ли заключается великий талант
человечности, что человек оказывается способным «видеть в
204
мире главное — человека, отдавать физические и
духовные силы во имя его счастья и радости»? 1 И не в
этом ли обнаруживается суть коллективистской
морали?
Как показывают приведенные примеры,
коллективистское разделение ответственности и коллективистское
отношение к другому не ограничиваются рамками
коллектива — это-то и было бы корпоративизмом, а в
случае с разделением ответственности — «круговой
порукой». Оно распространяется на любого человека.
Объективно такая связь между людьми обусловливается,
задается природой социалистического коллектива, цели
деятельности которого вынесены вовне, и личность как
член коллектива, таким образом, ориентируется через
•коллективные цели на цели других людей, на цели
общества. Отсюда следует, что коллективизм как
ценностная ориентация характеризуется «открытостью»,
нелокальностью мышления отдельного ли человека, группы
ли в целом; а сформированные в коллективистской
деятельности стиль поведения и тип сознания являются
универсальной формой нравственного самоопределения
личности. В направленности на каждого человека
коллективистское отношение наполняется моральным,
гуманистическим содержанием, соответствующим
исторически новому, социалистическому характеру
общественных связей.
Социалистическое общество впервые в развитии
человечества ставит практическую задачу воспитания
гармонической и всесторонне развитой личности. Реально это
оказывается возможным благодаря тому, что человек
включается в коллективную, общественно полезную
деятельность. Правда, объективные исторические условия
социализма таковы, что экономически и
организационно он еще не всегда может поставить во главу угла
1 Сухомлинский В. А. Методика воспитания коллектива. М.,
1981, с. 12.
205
конкретного человека, сделать его исключительной
целью всего общественного прогрессивного движения.
Однако участие человека в коллективной деятельности,
формирующее открытую личность, имеет тот эффект, что
личность вступает в разносторонние отношения, у нее
завязываются многообразные контакты с разными
людьми. В этих контактах осуществляется ее развитие
как индивидуальности, в них она обретает свою
социальную, нравственную целостность.
У известного писателя спросили: «Как жить?» —
«Просто и свободно, — ответил он, — делать добро,
пока можешь». К этой столь мудрой, сколь древней
мысли трудно что-либо добавить. Она может даже
разочаровать своей простотой, даже кажется банальной и
вместе с тем несет подлинный смысл человеческих
отношений.
«Твори добро! Живи для других!» — сколько
пророков и мыслителей призывали к этому человечество.
И всегда осуществление этой заповеди мыслилось как
самоограничение, подчинение нравственному долгу,
самопожертвование. Всегда творение добра оказывалось
действием, идущим вразрез с бытующими нравами и
разрушающим действительные интересы внемлющего,
этой заповеди человека. Вершение добра
воспринималось как героизм и высшая святость, но часто и как
удел чудаков, «е понимающих всех «прелестей»
однажды данной им жизни.
С началом коммунистического переустройства мира
старая нравственная истина о предназначении человека
к добру перестает быть только проповедью, благим
призывом, она получает характер реального общественного
требования. Творение добра становится формой
практического самоопределения человека, способом его
развития как личности, непременным условием его
наполненной и счастливой жизни.
206
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 4
ТУПИКИ «ЛЕГКОЙ» МОРАЛИ 11
Этика гедонизма 13
Страдание и счастье 22
«Нет добродетели без счастья» 30
«Жизнь ради наслаждения». Гедонистическое своеволие
и опустошение межличностных отношений 36
Психология пресыщенного сознания 43
Гедонизм и потребительство 49
Наслаждение и труд 57
«ДОБРО ЕСТЬ ПОЛЬЗА...»? 65
Сложная антитеза 68
Деятельность: критерии оценки 79
Общий и частный интерес 91
Безусловность добра 102
САМОСОЗНАНИЕ И СОВЕСТЬ 109
Ступени к истине 112
Многие лица одной личности 1'23
От внутреннего конфликта к единству
самоопределяющегося «Я» 126
ПАРАДОКСЫ АЛЬТРУИЗМА 133
Альтруизм: уважение, любовь, долг 137
Мнимое благодеяние 14i2
Коллизии доброго поступка 149
Добро и насилие 165
КОЛЛЕКТИВИЗМ: НРАВСТВЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ЛИЧНОСТИ 177
Социалистический коллективизм и корпоративизм . . 181
Нравственные доминанты нового опыта коллективной
жизни 191
Коллективизм, добро, человечность 197
207