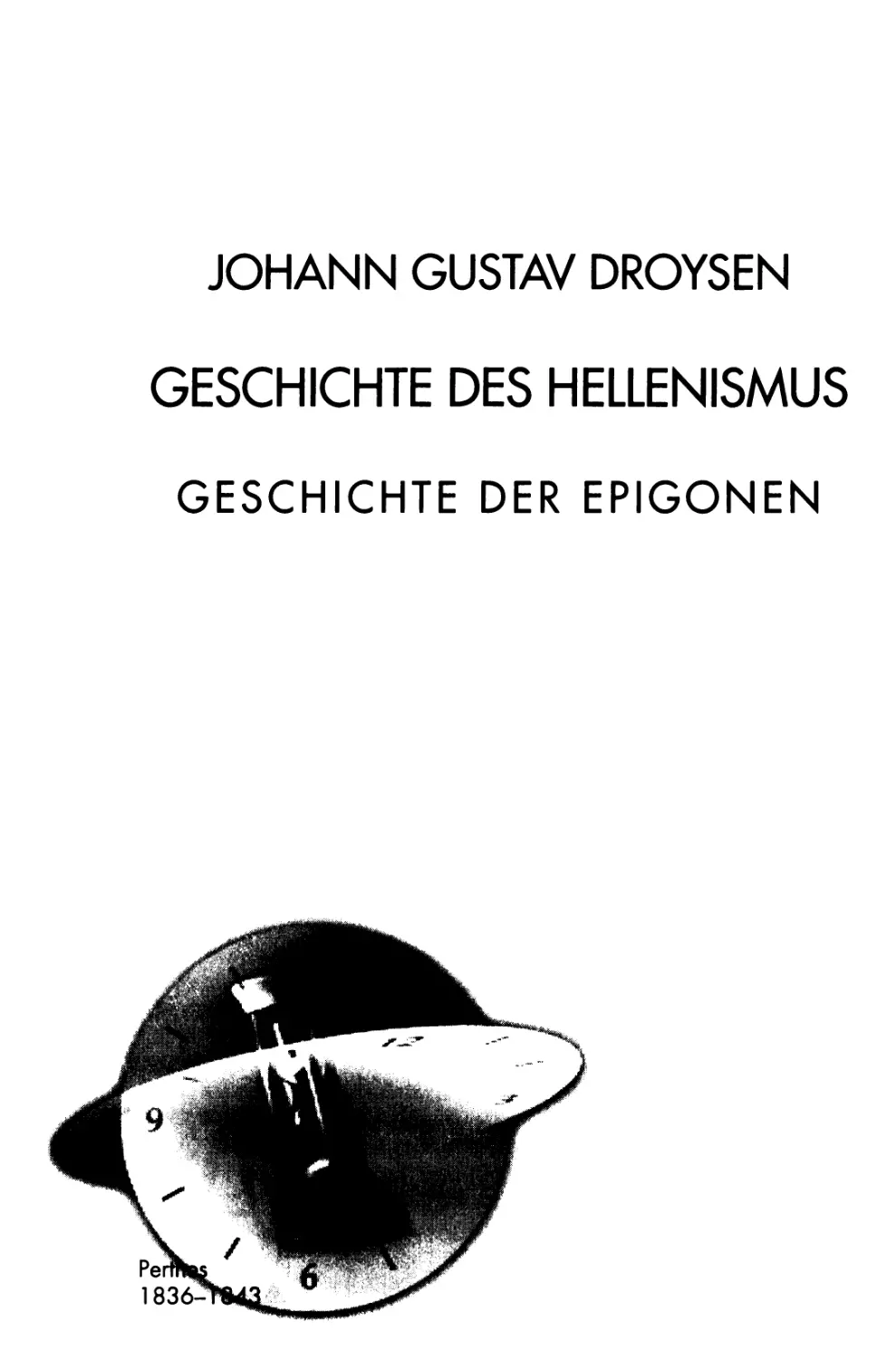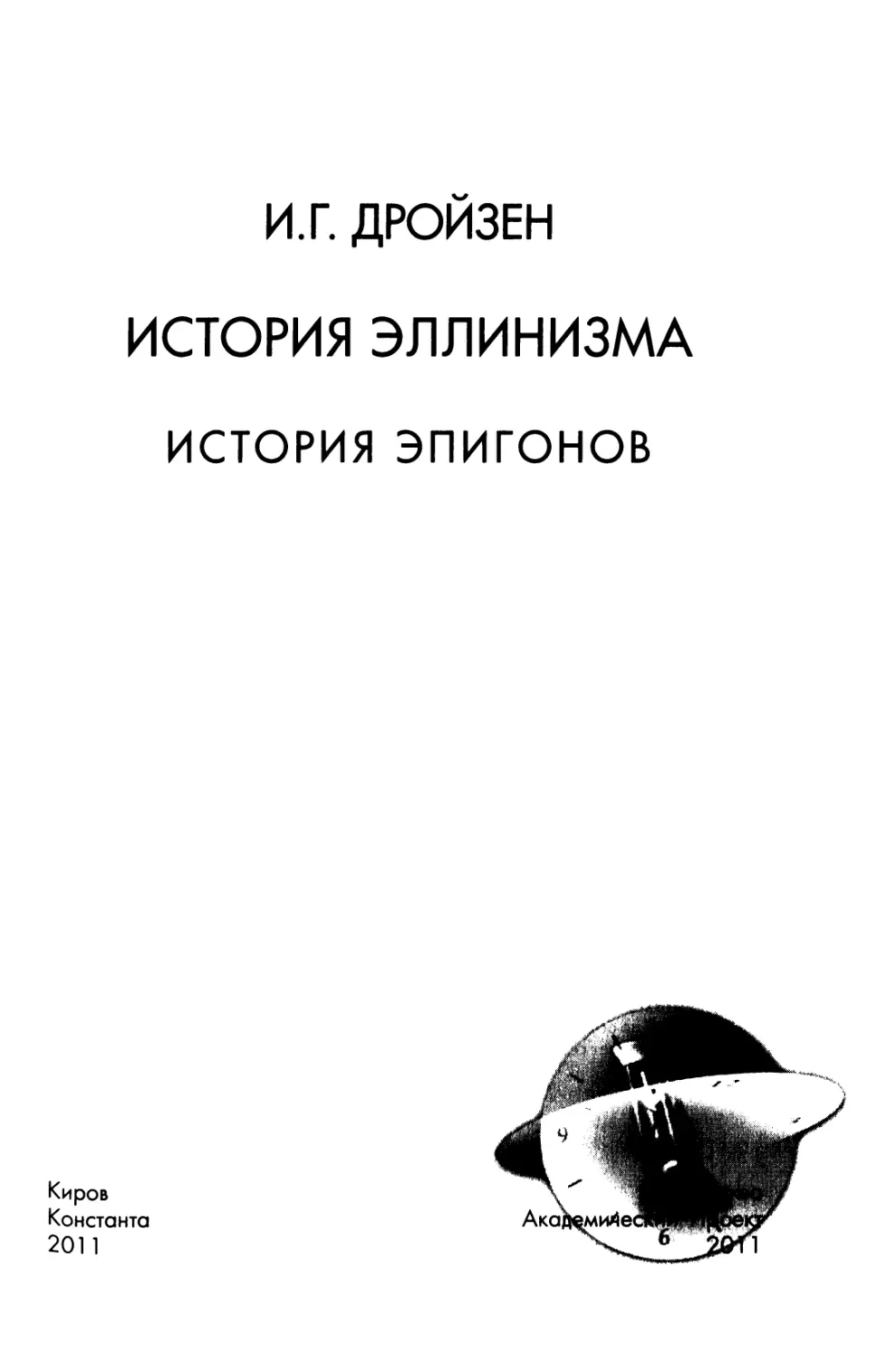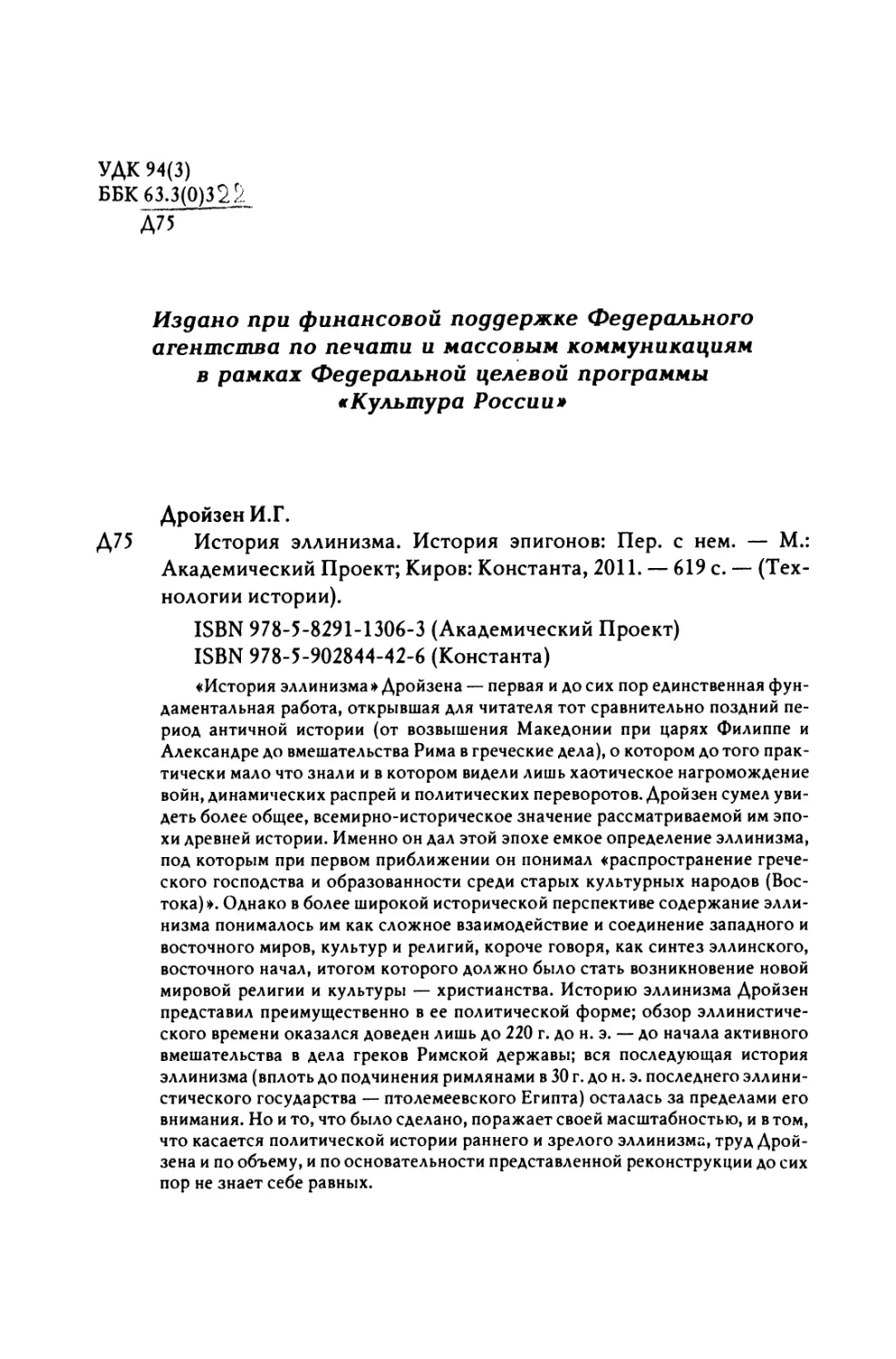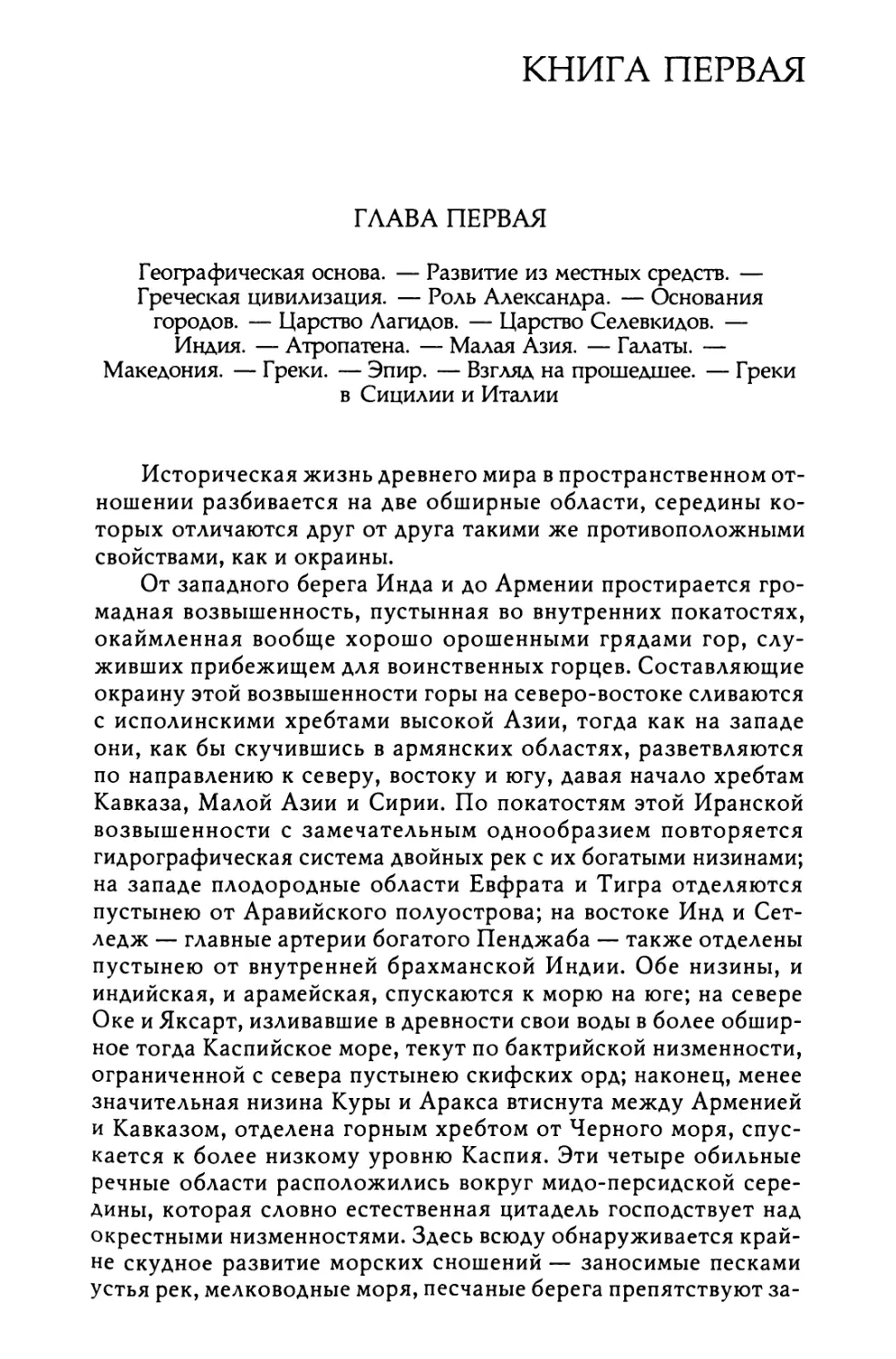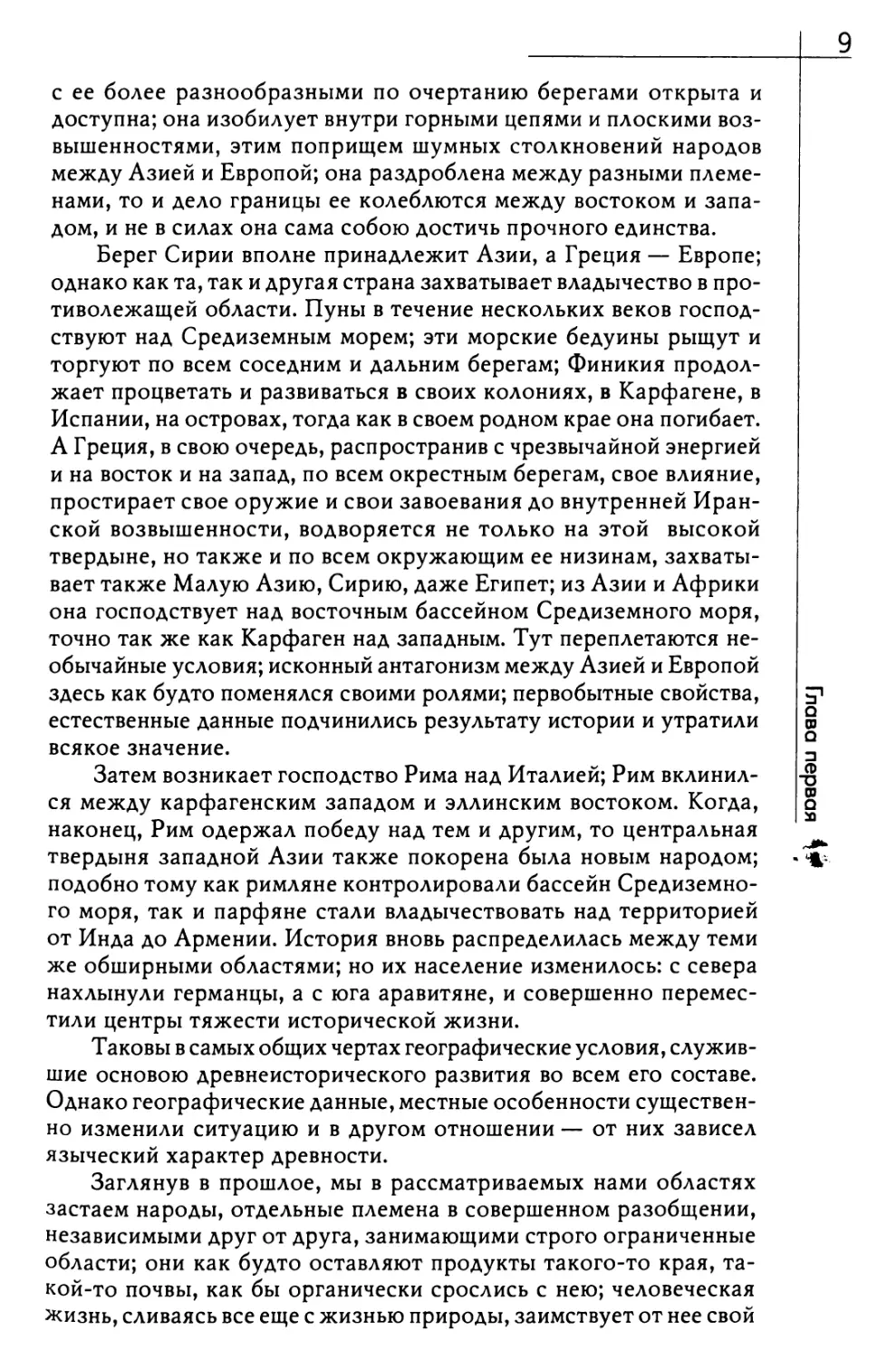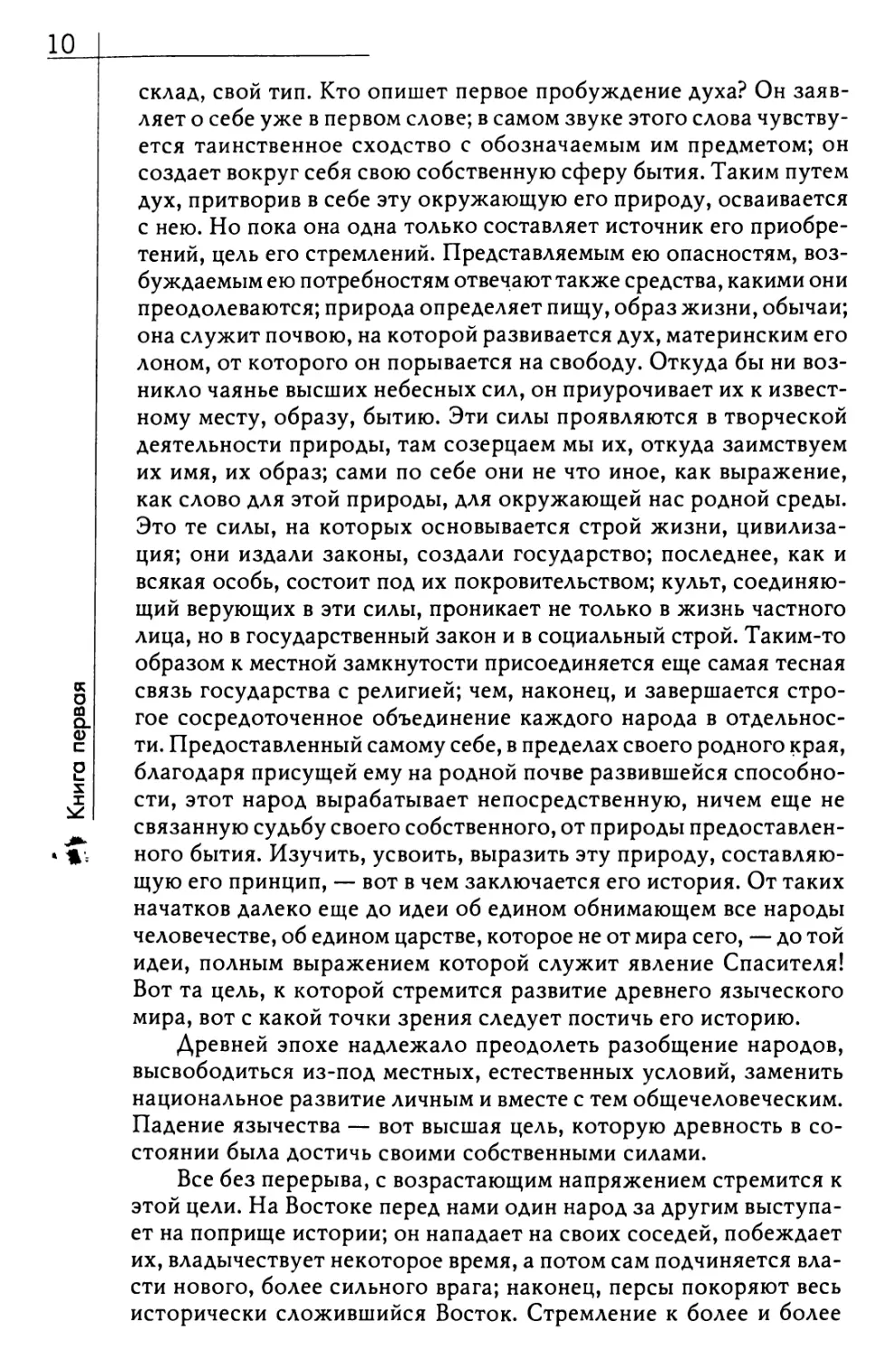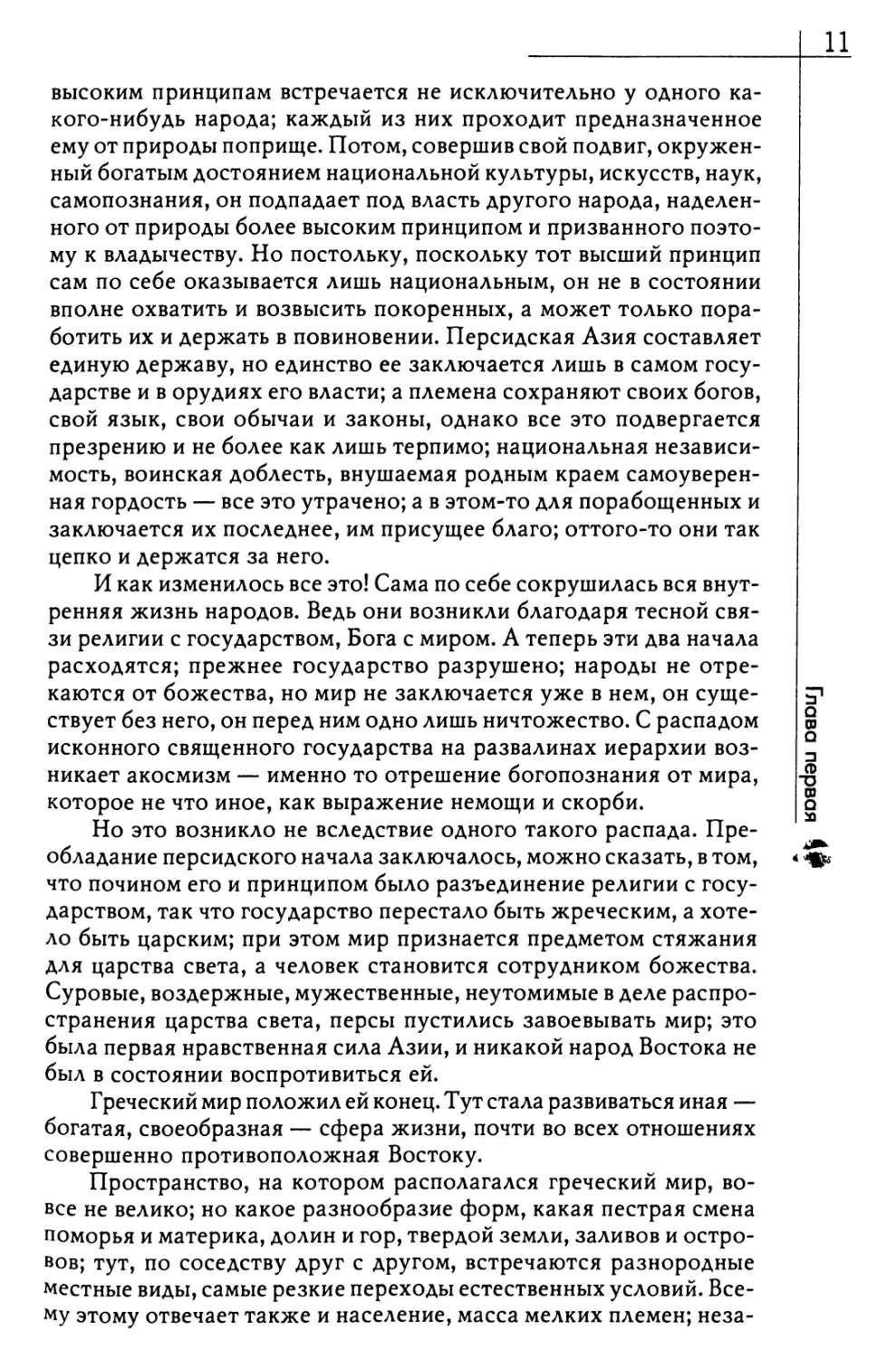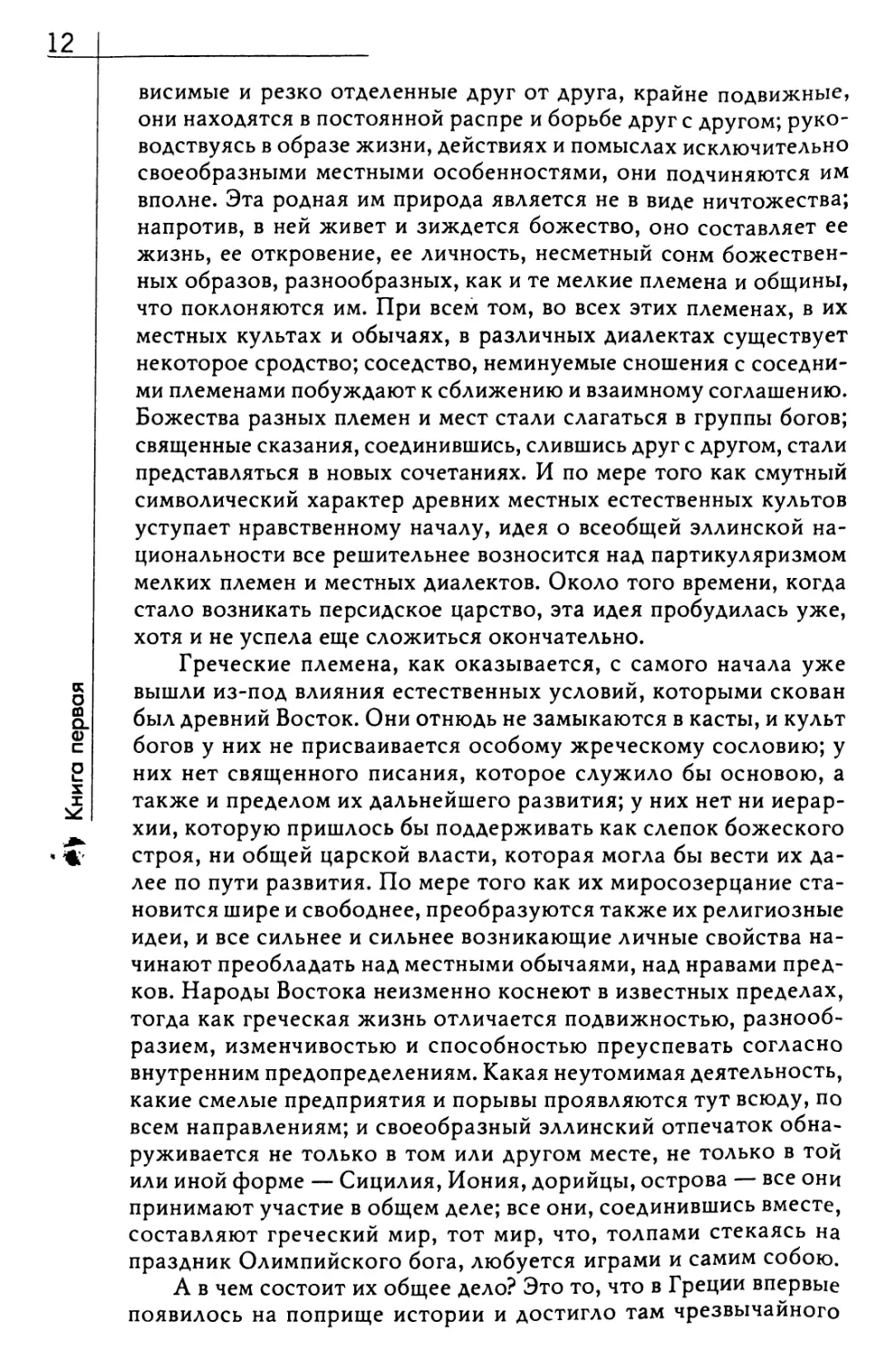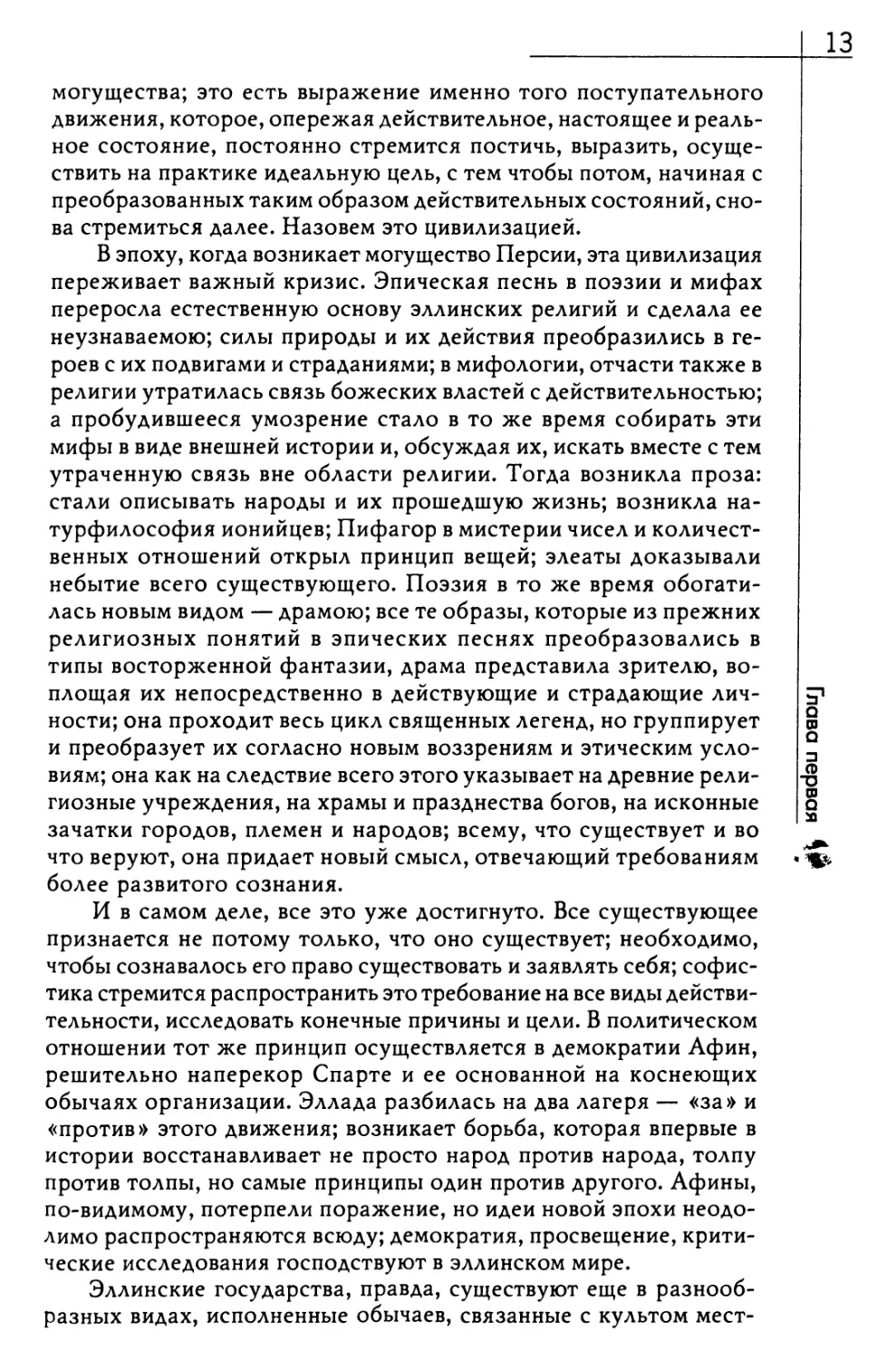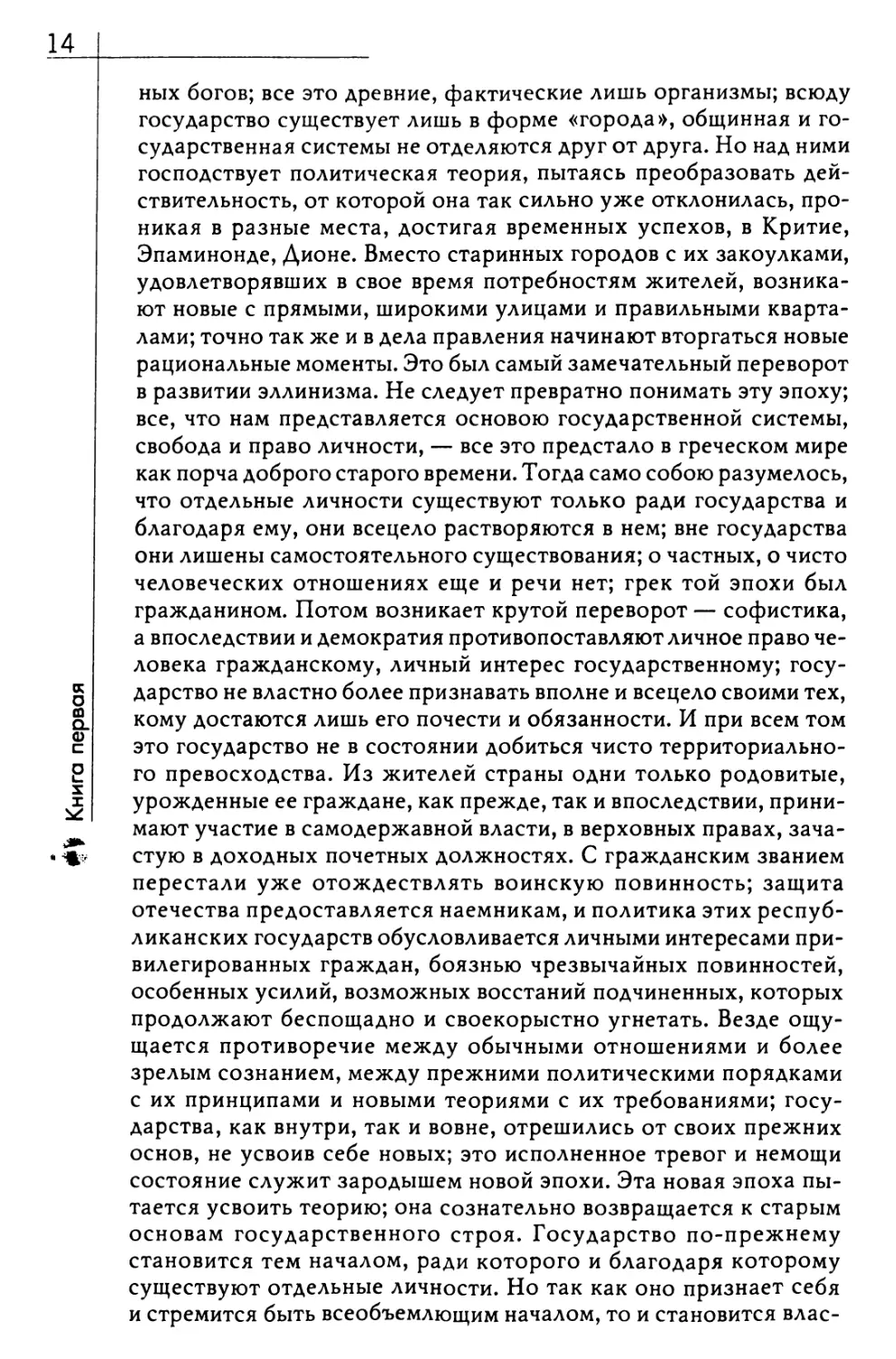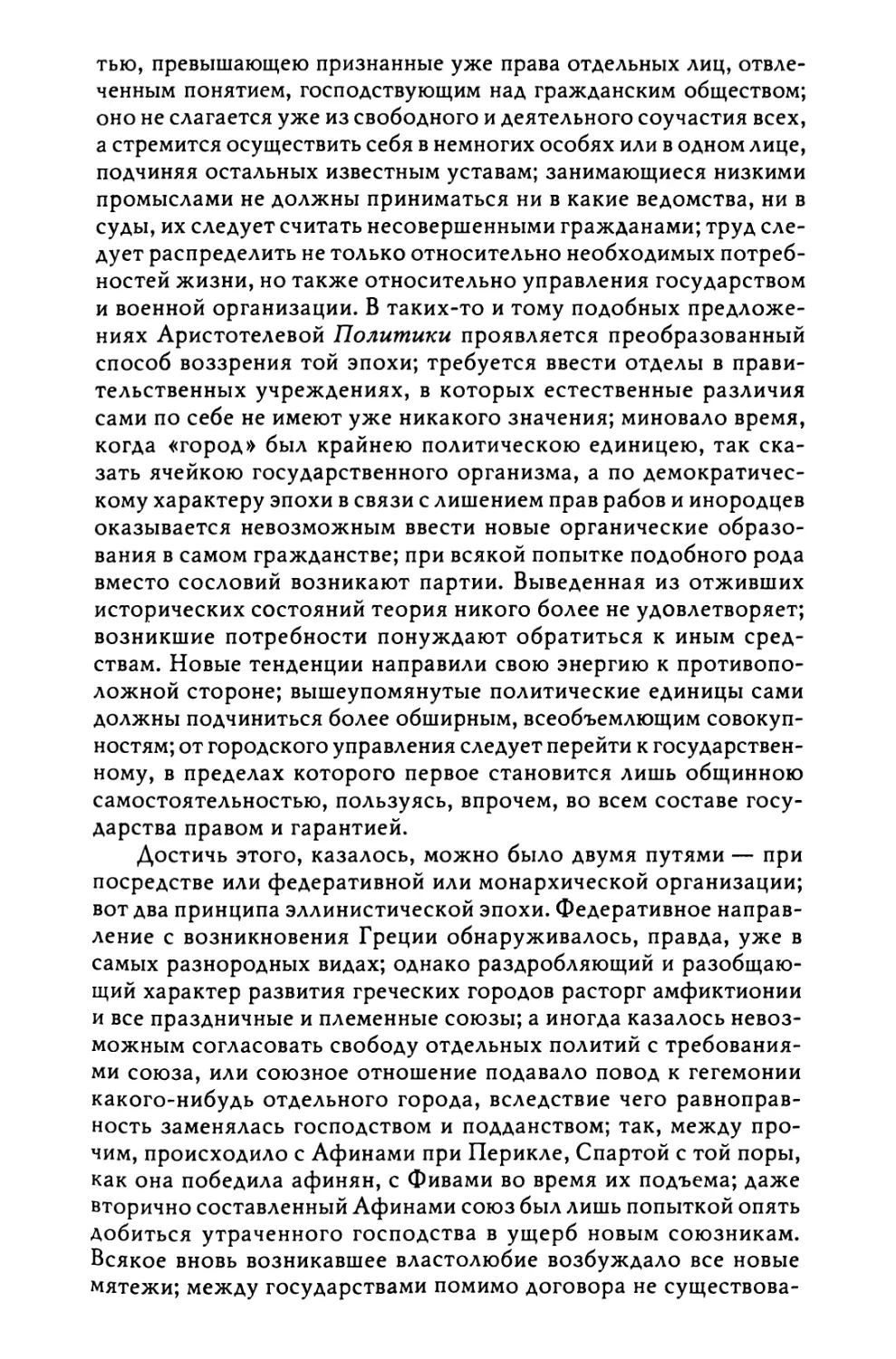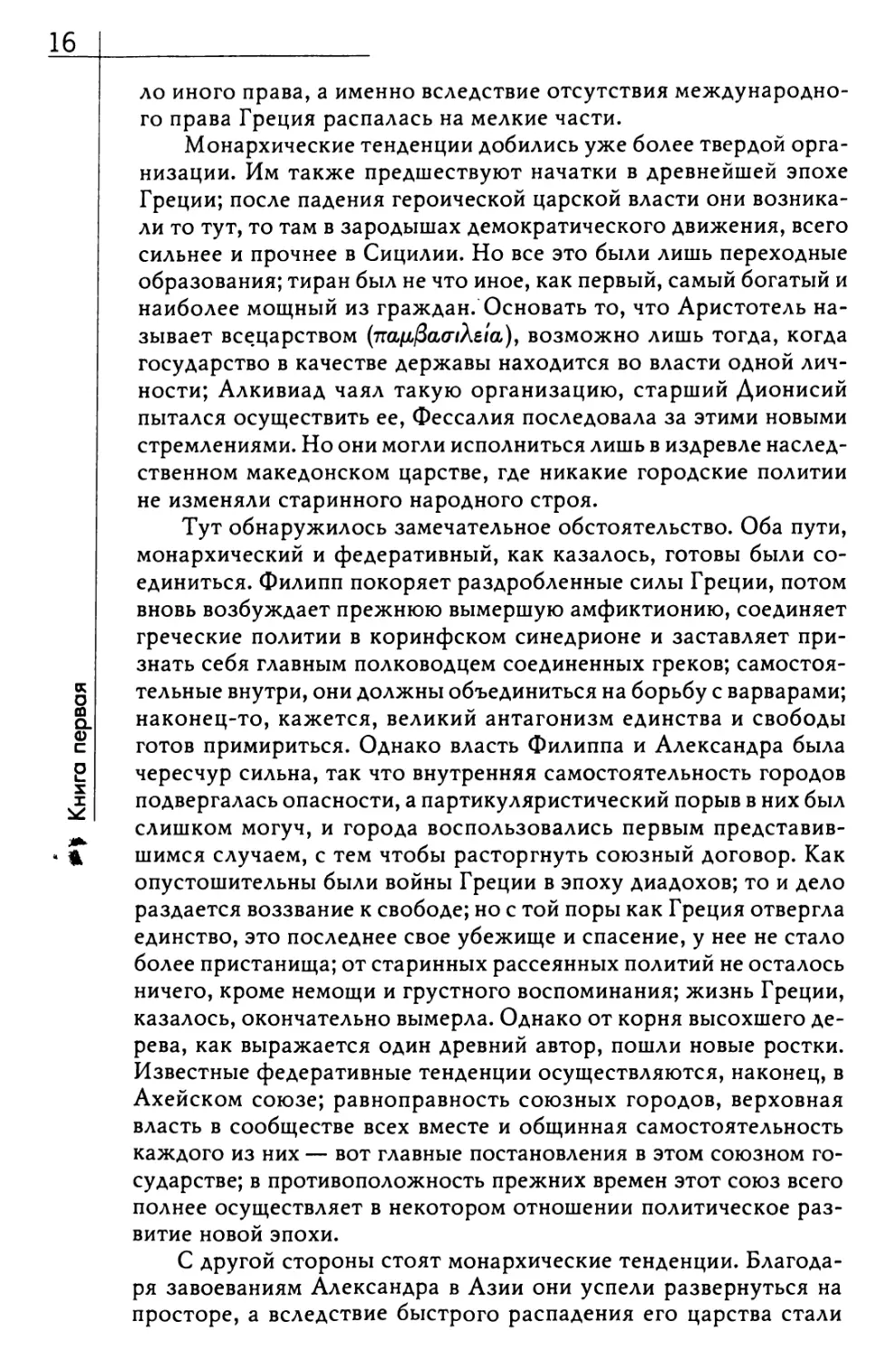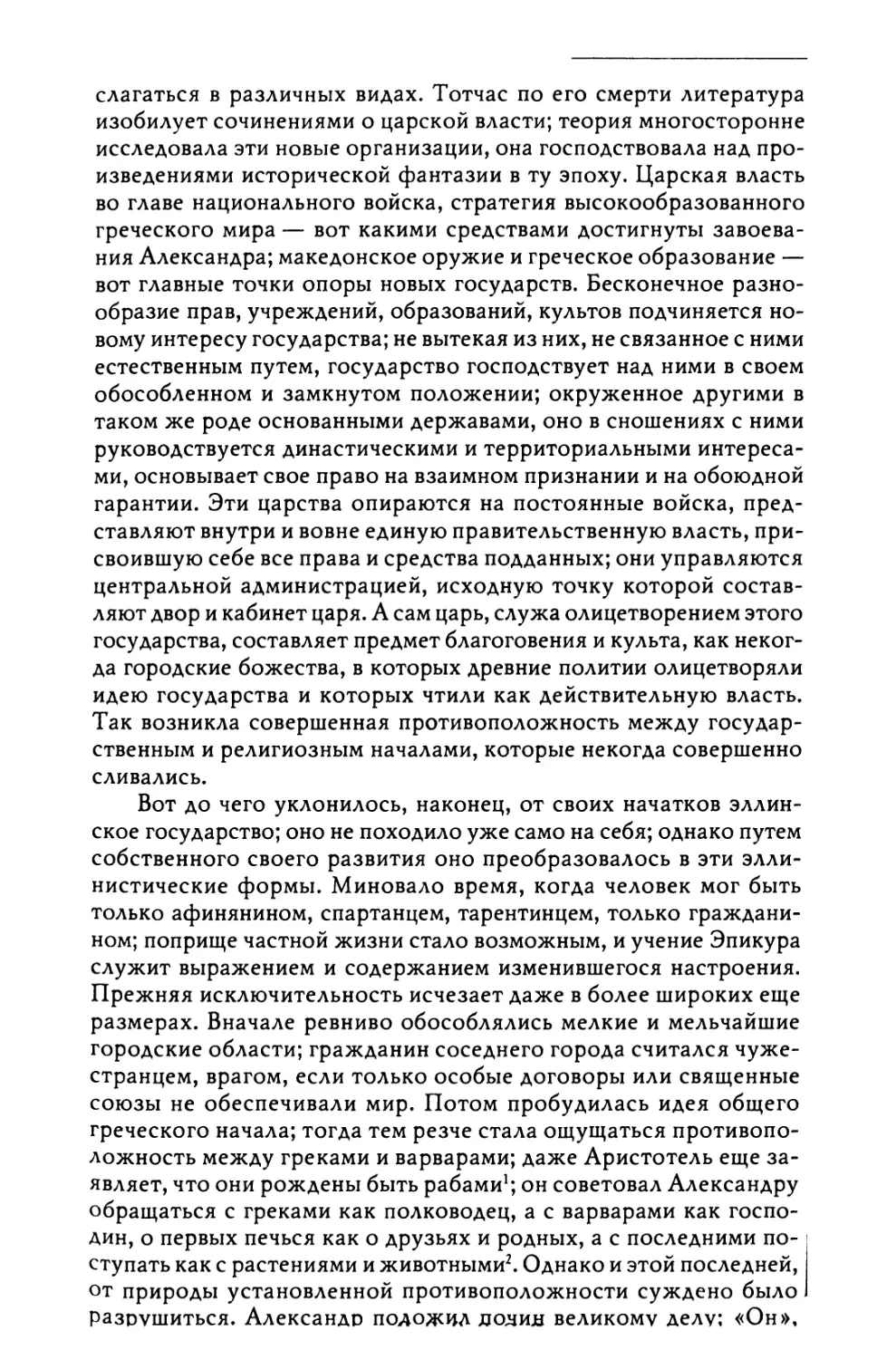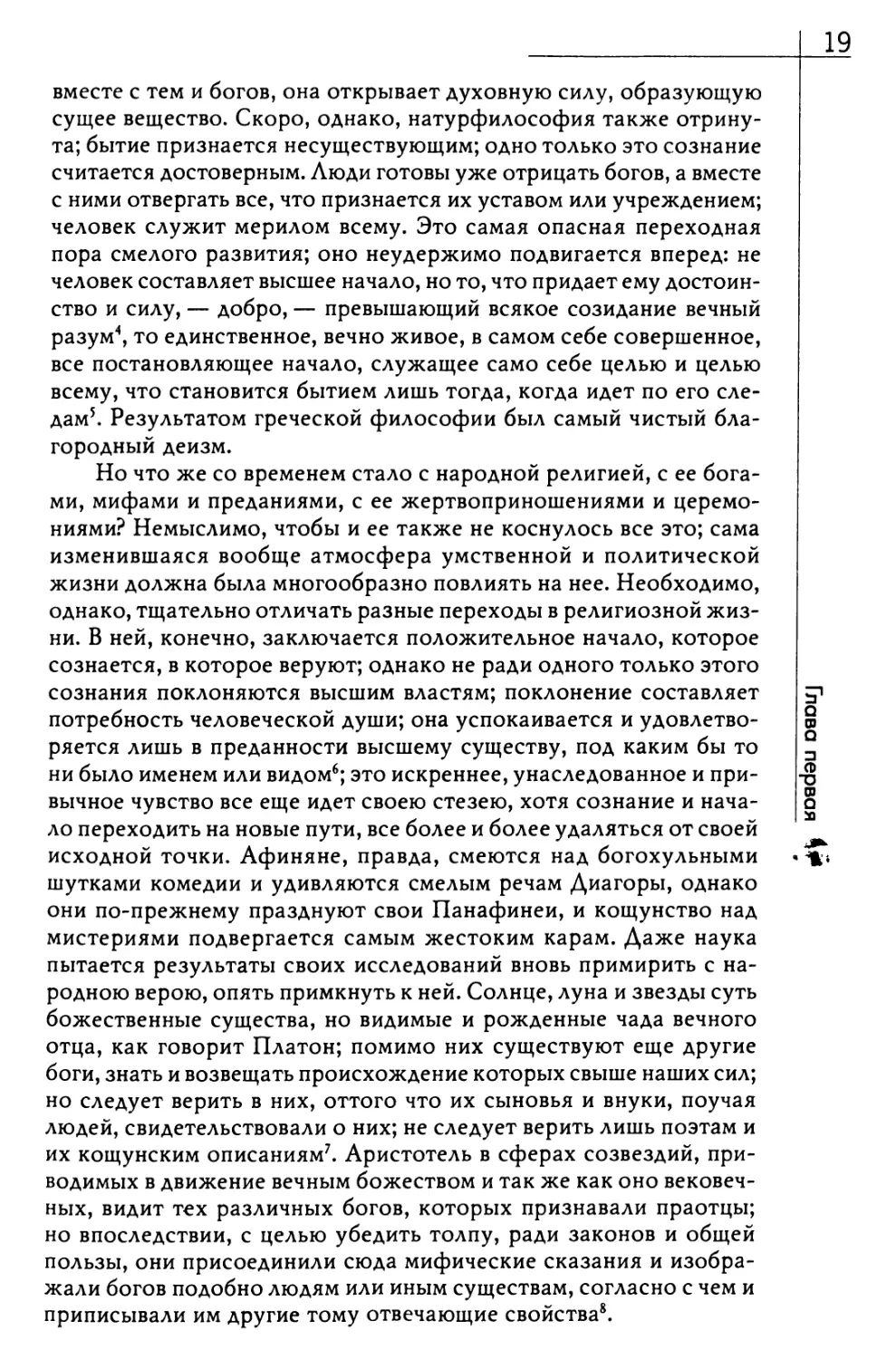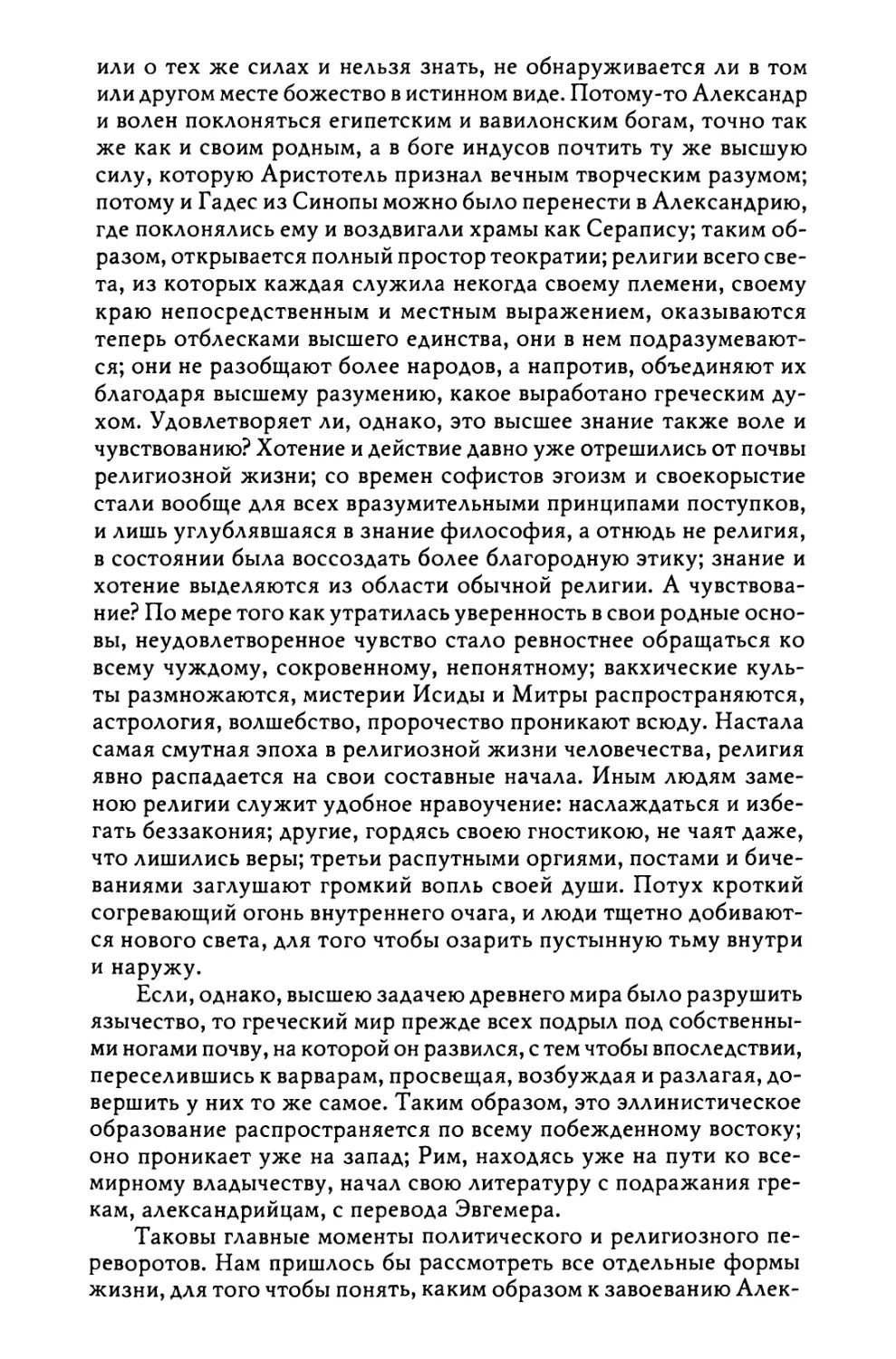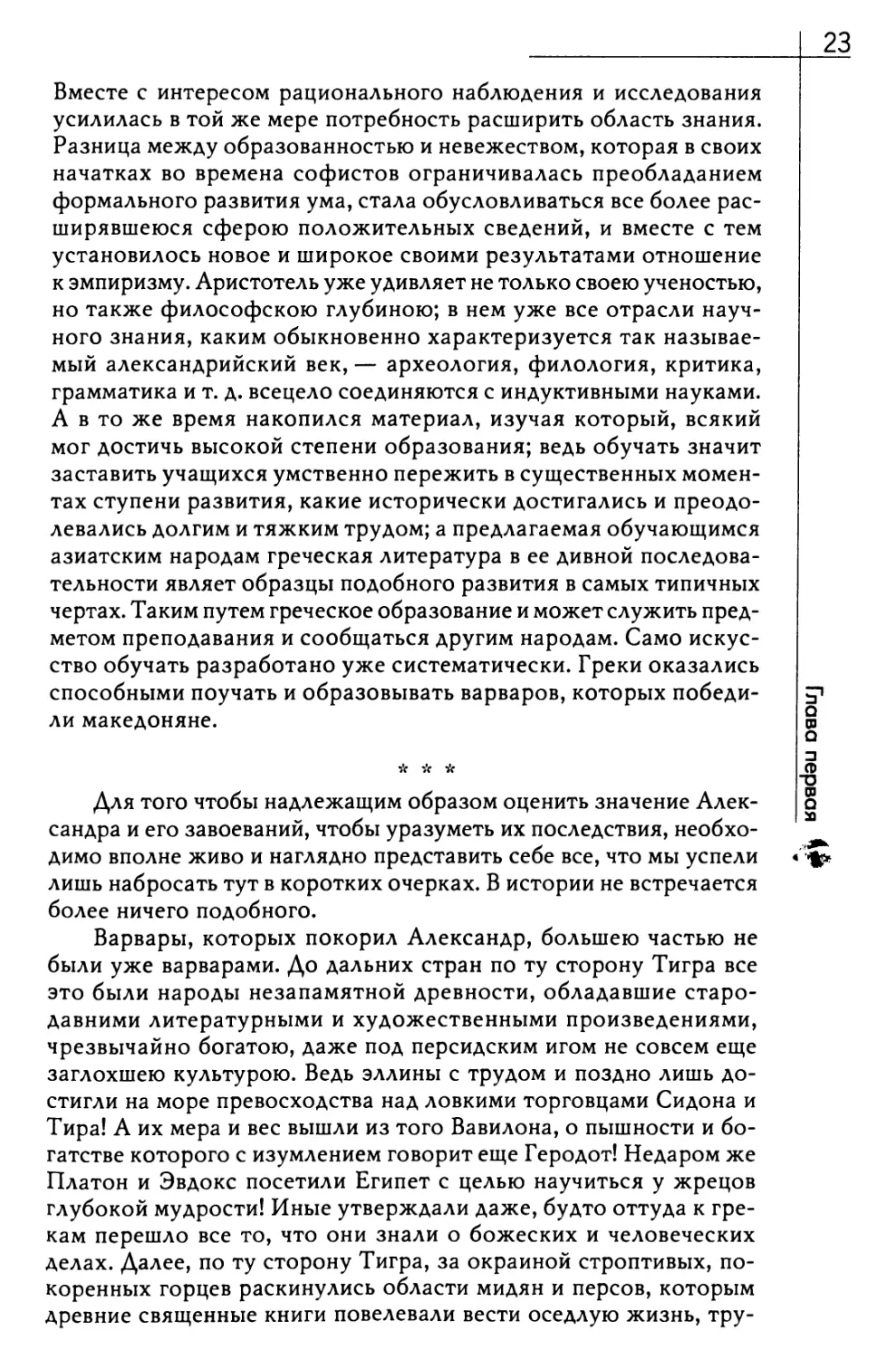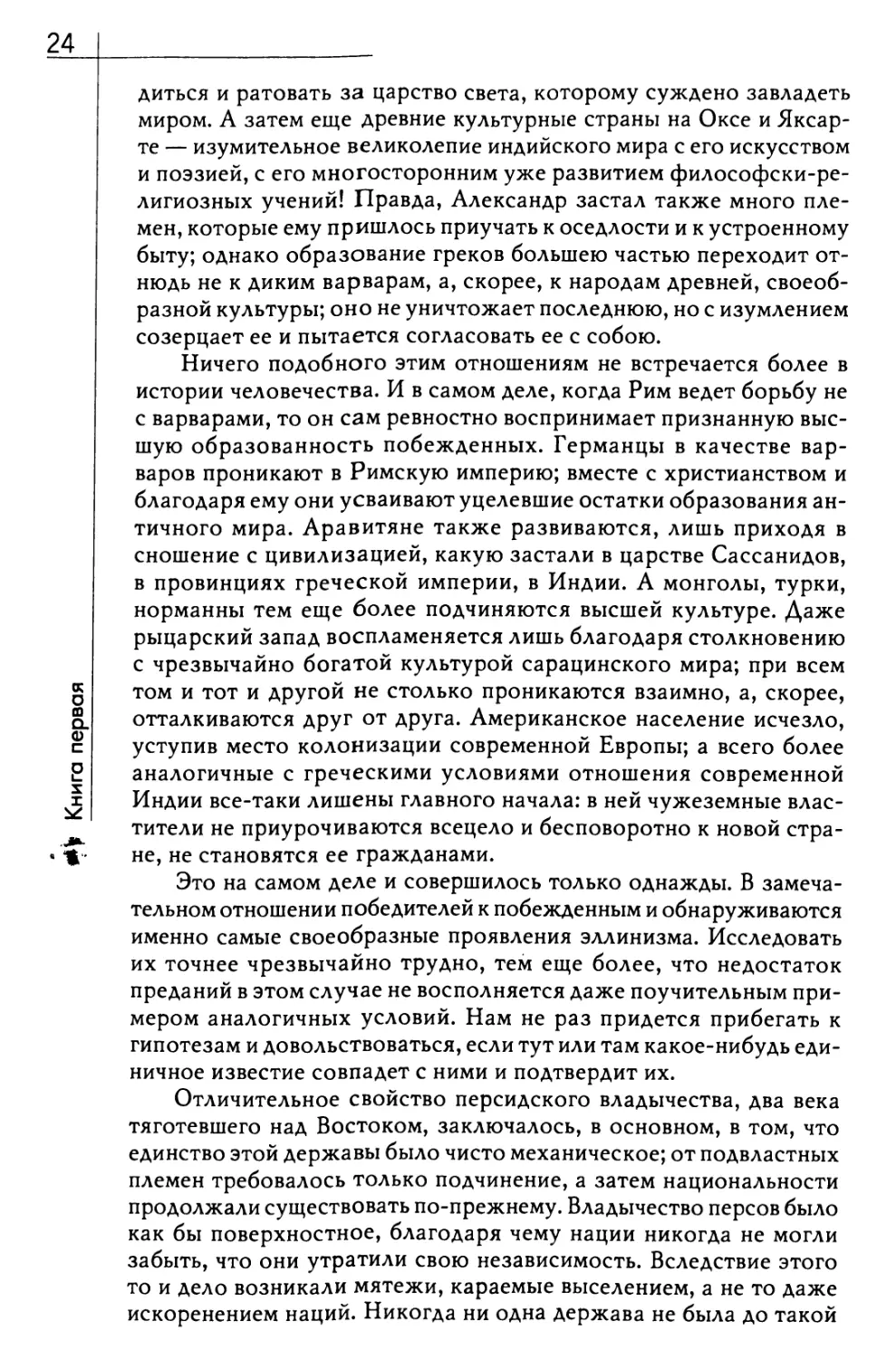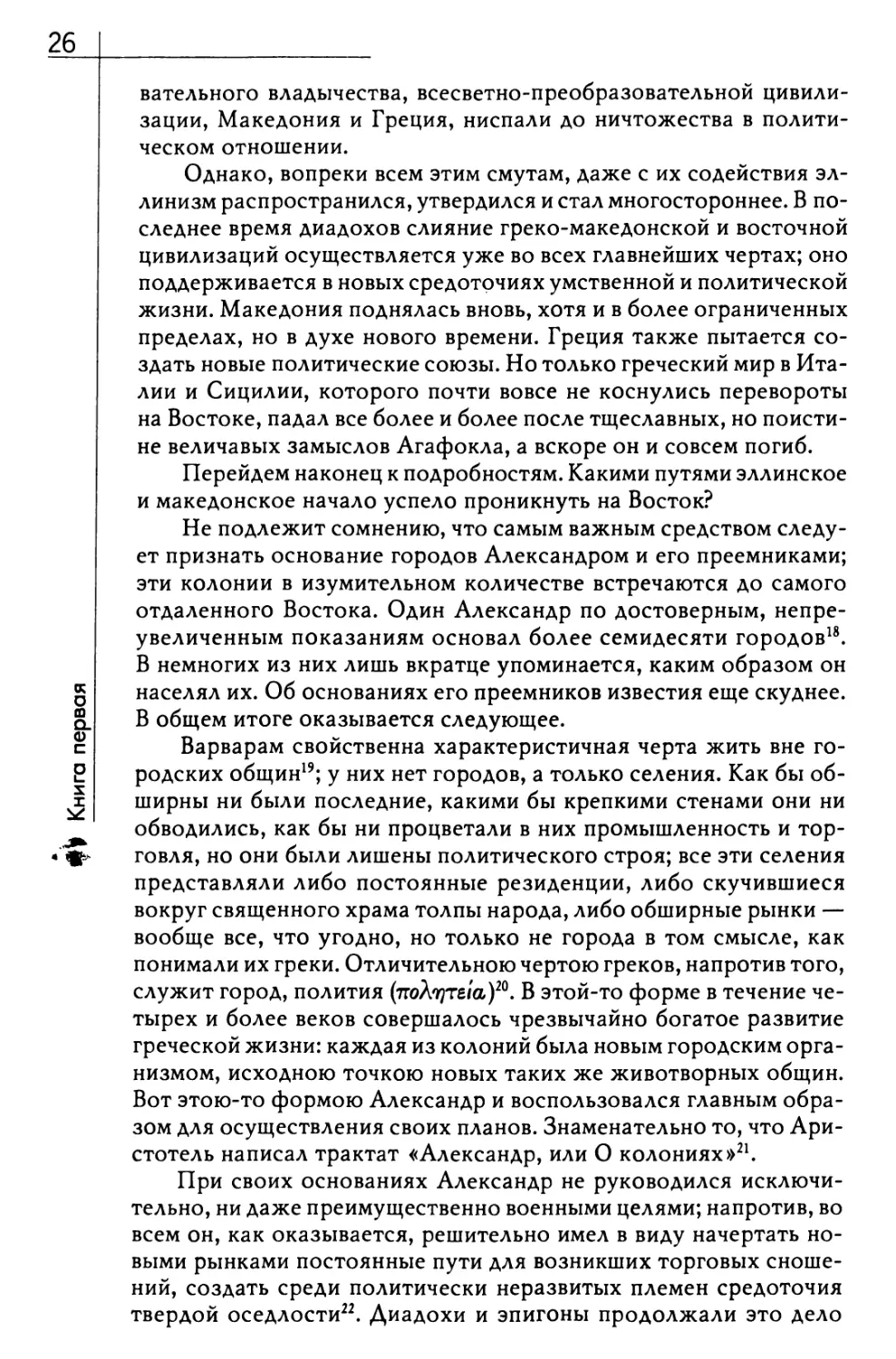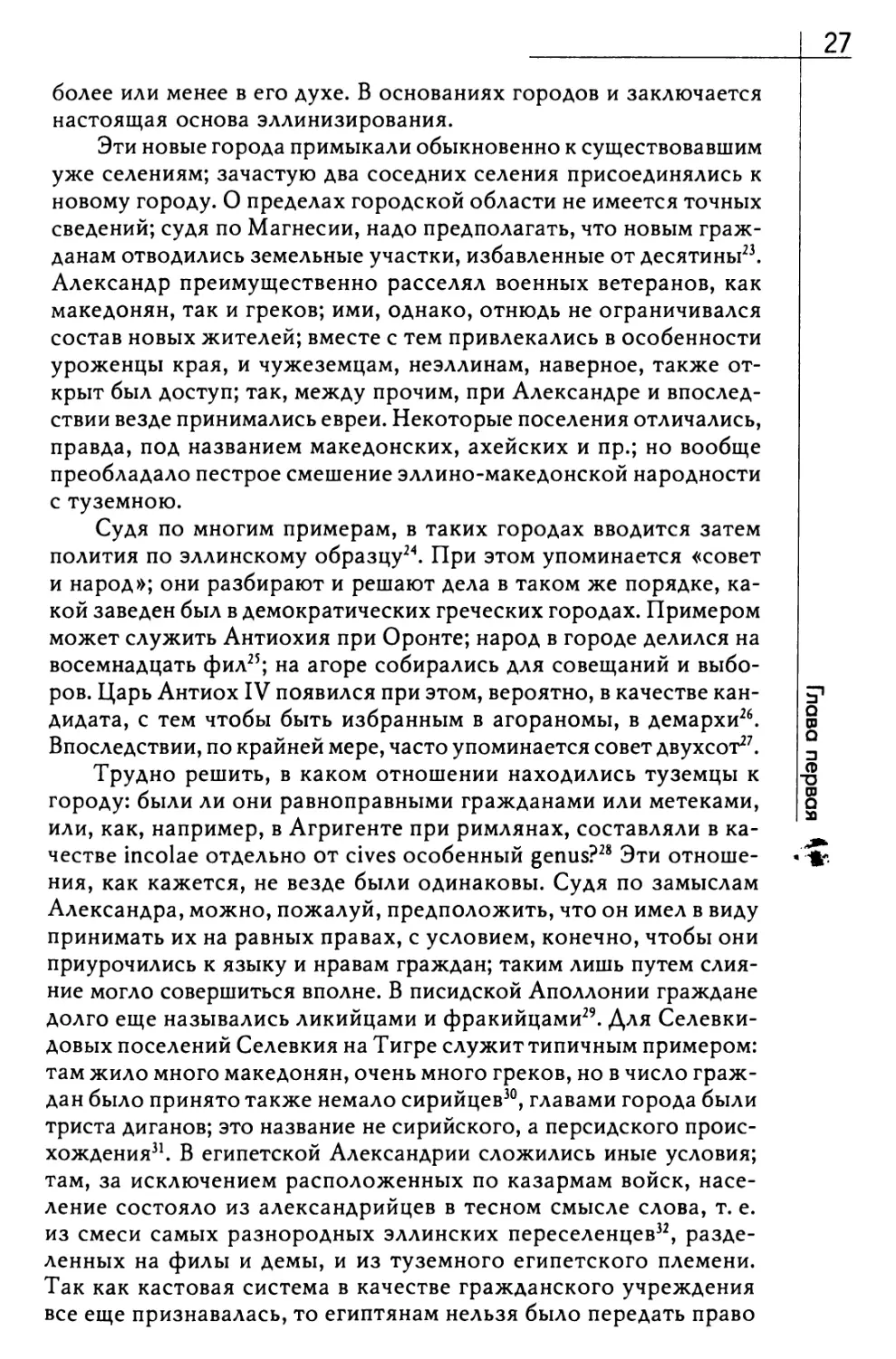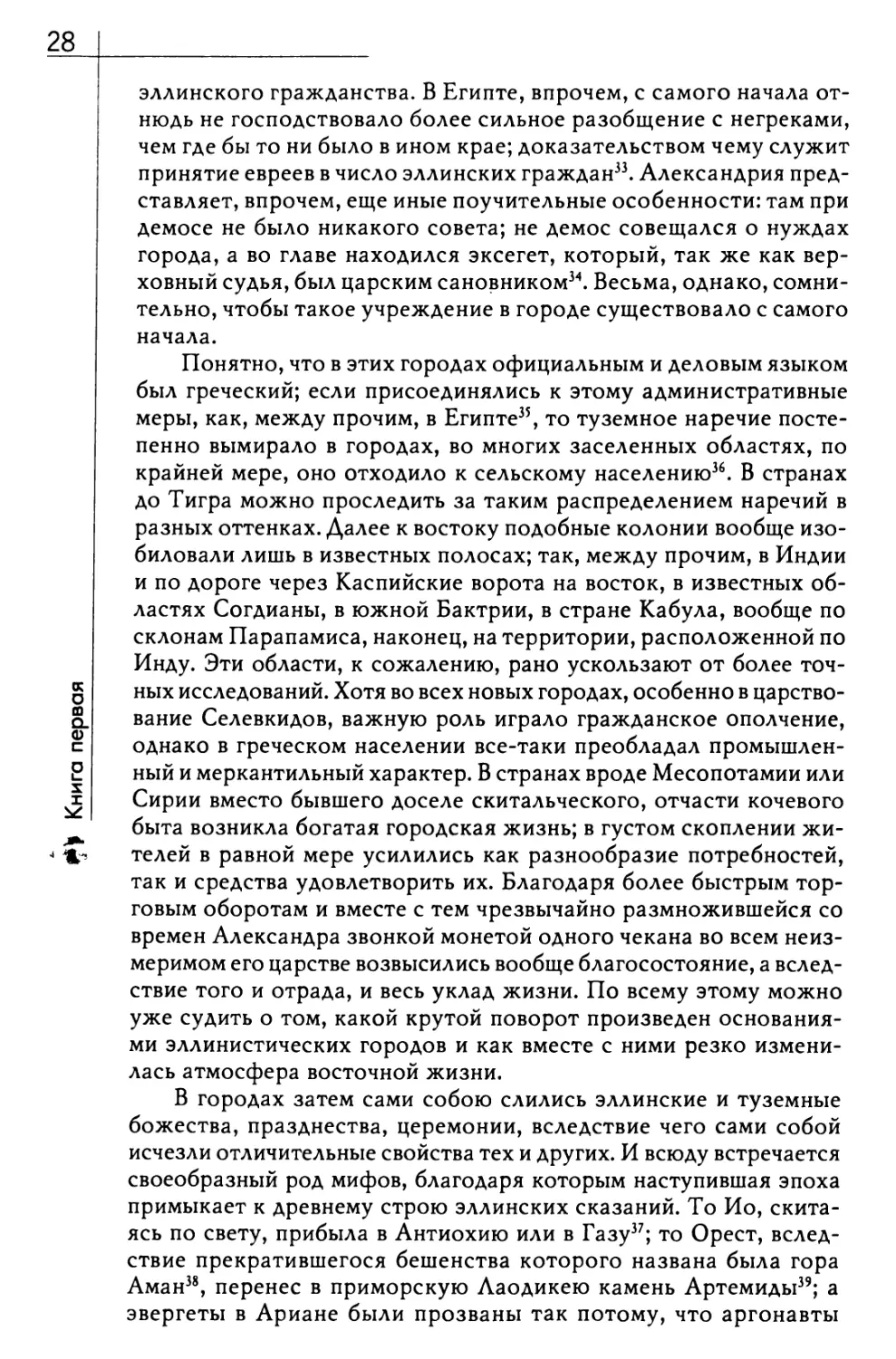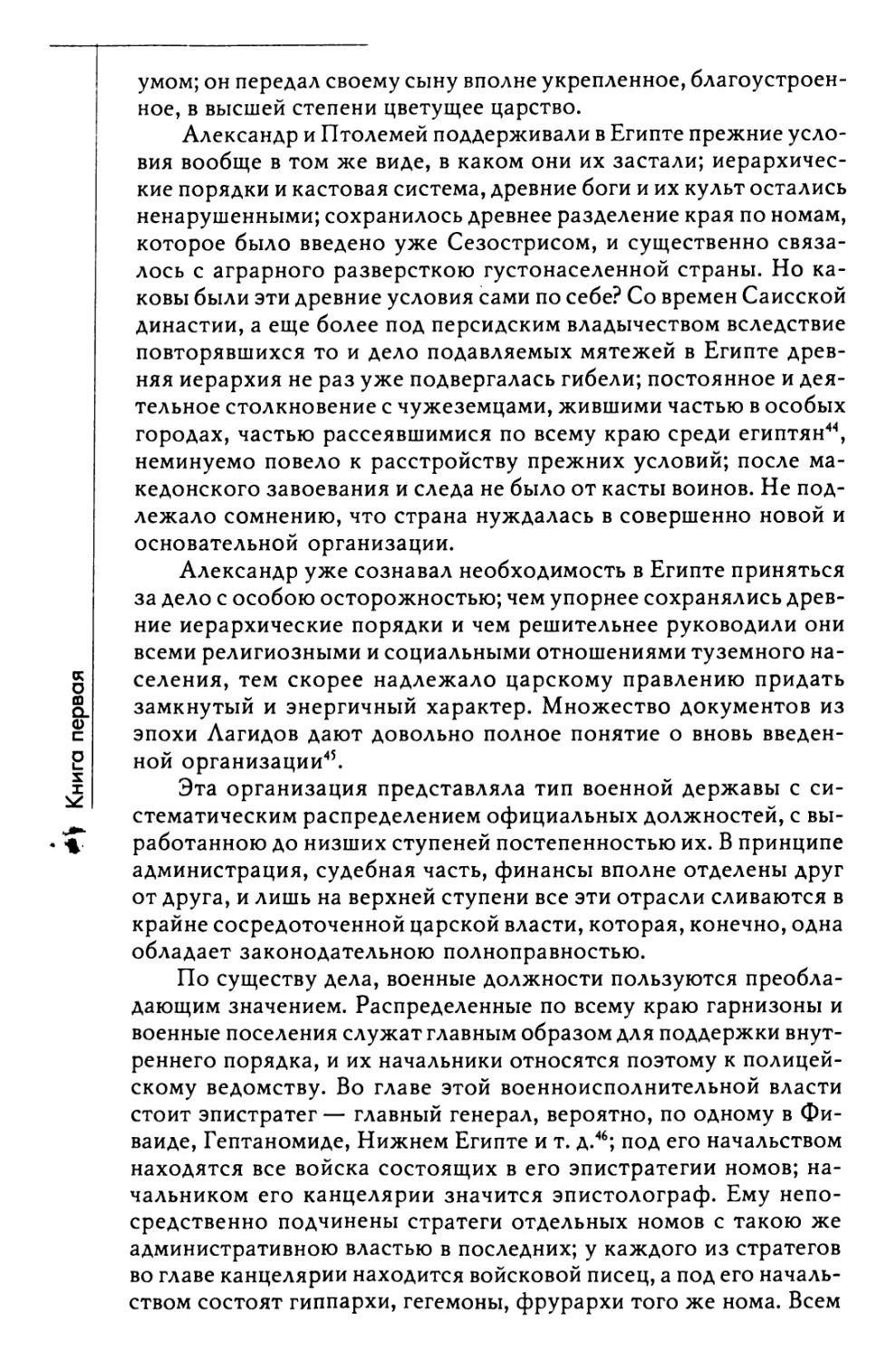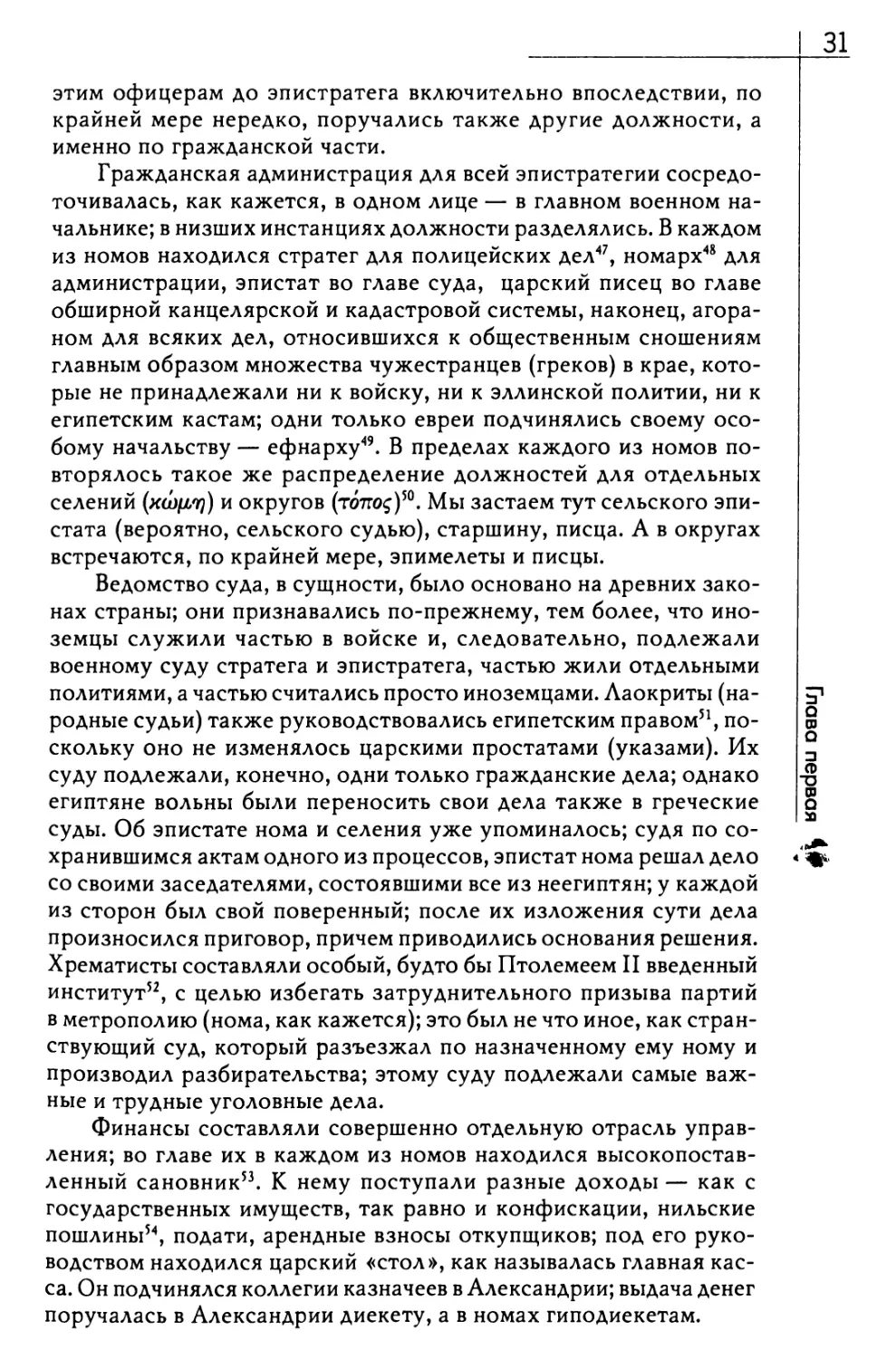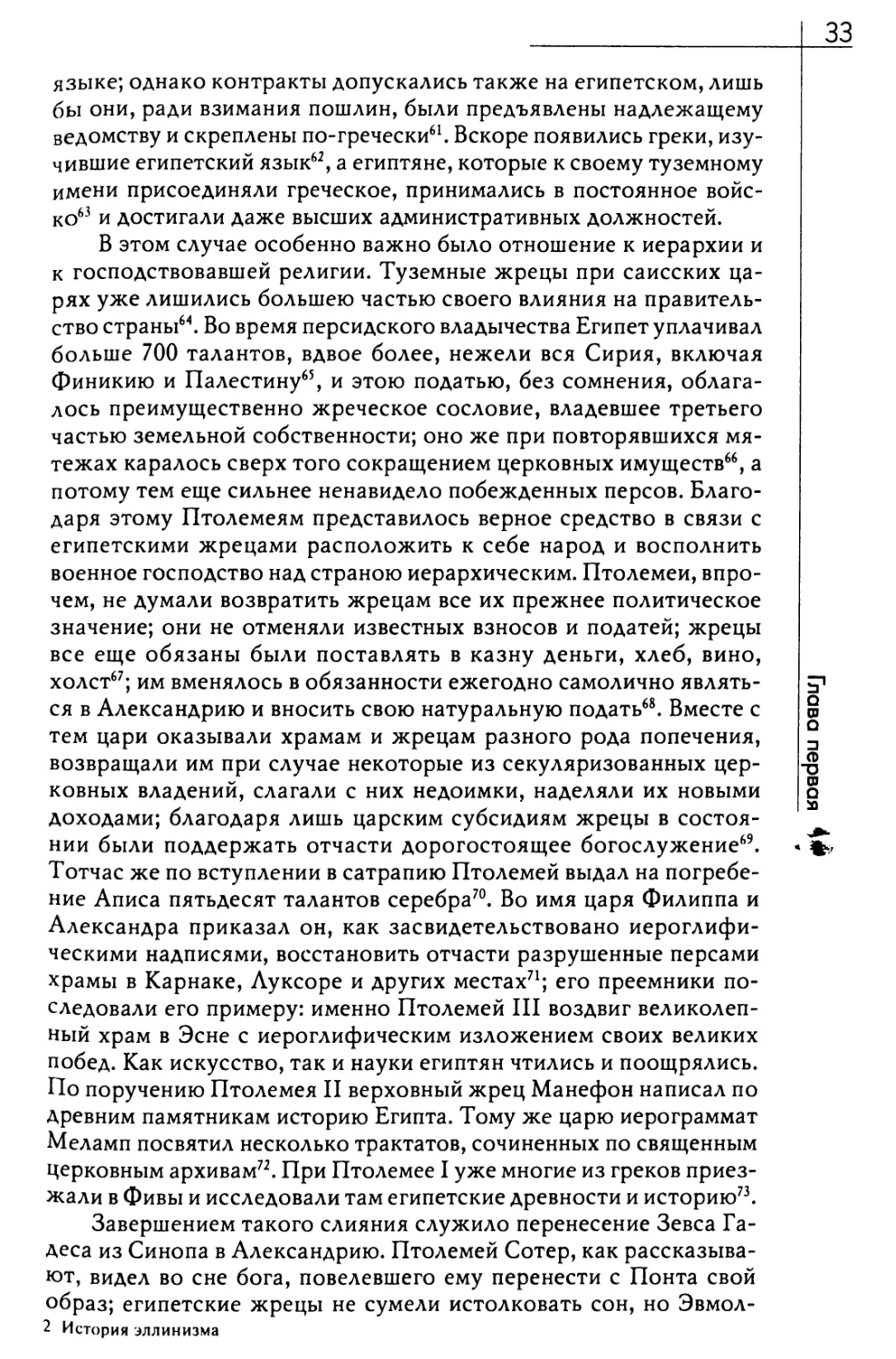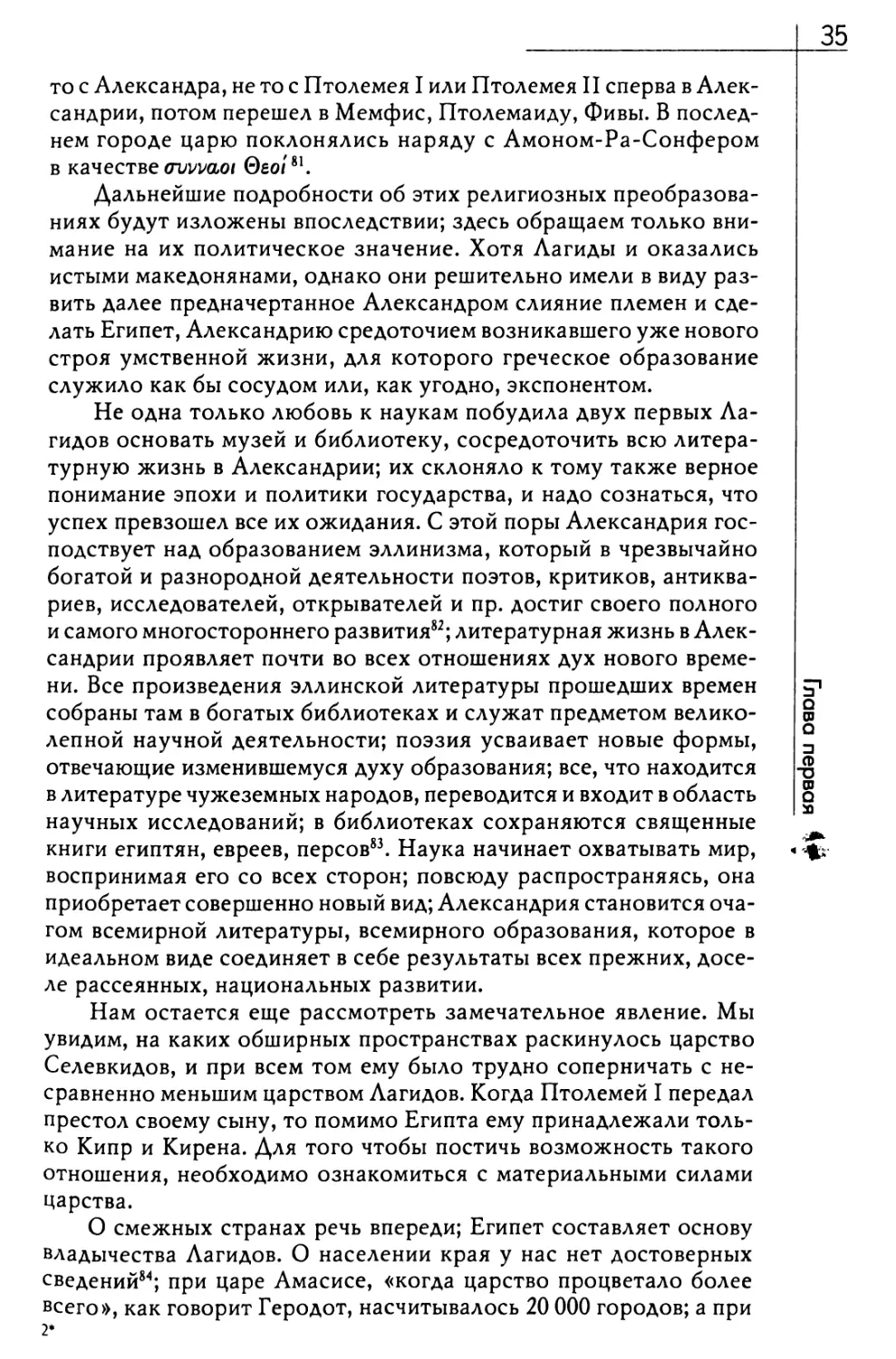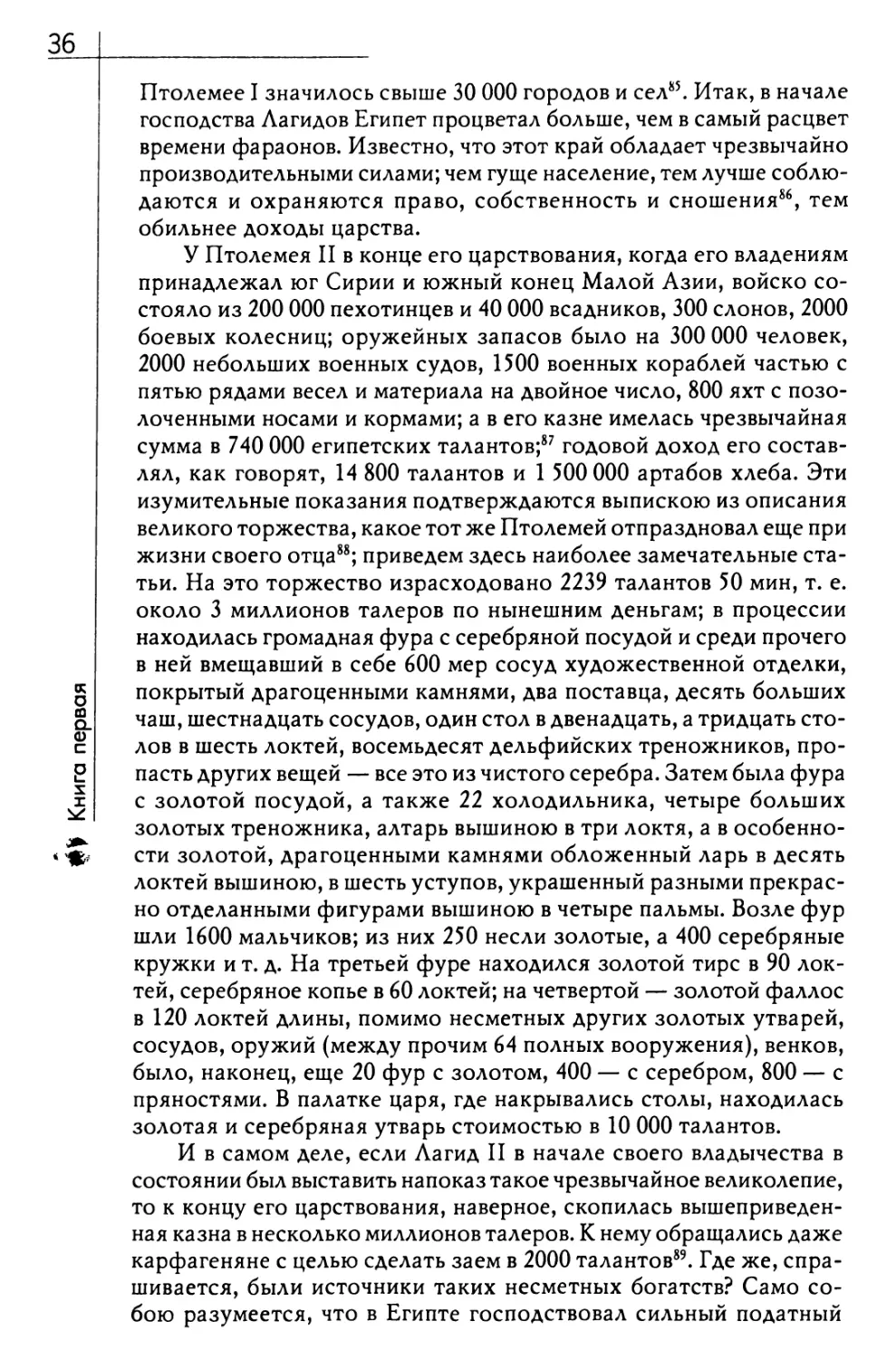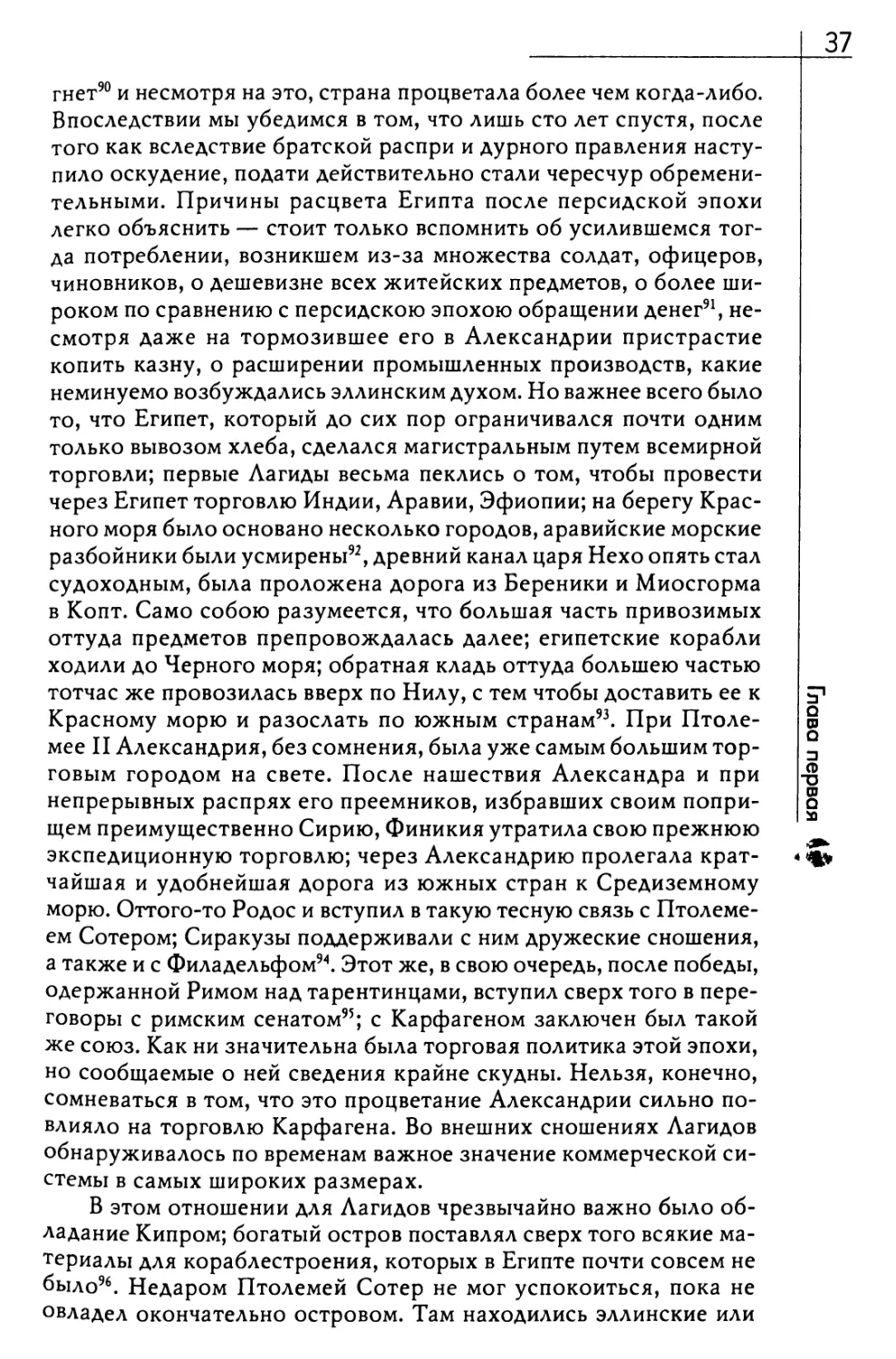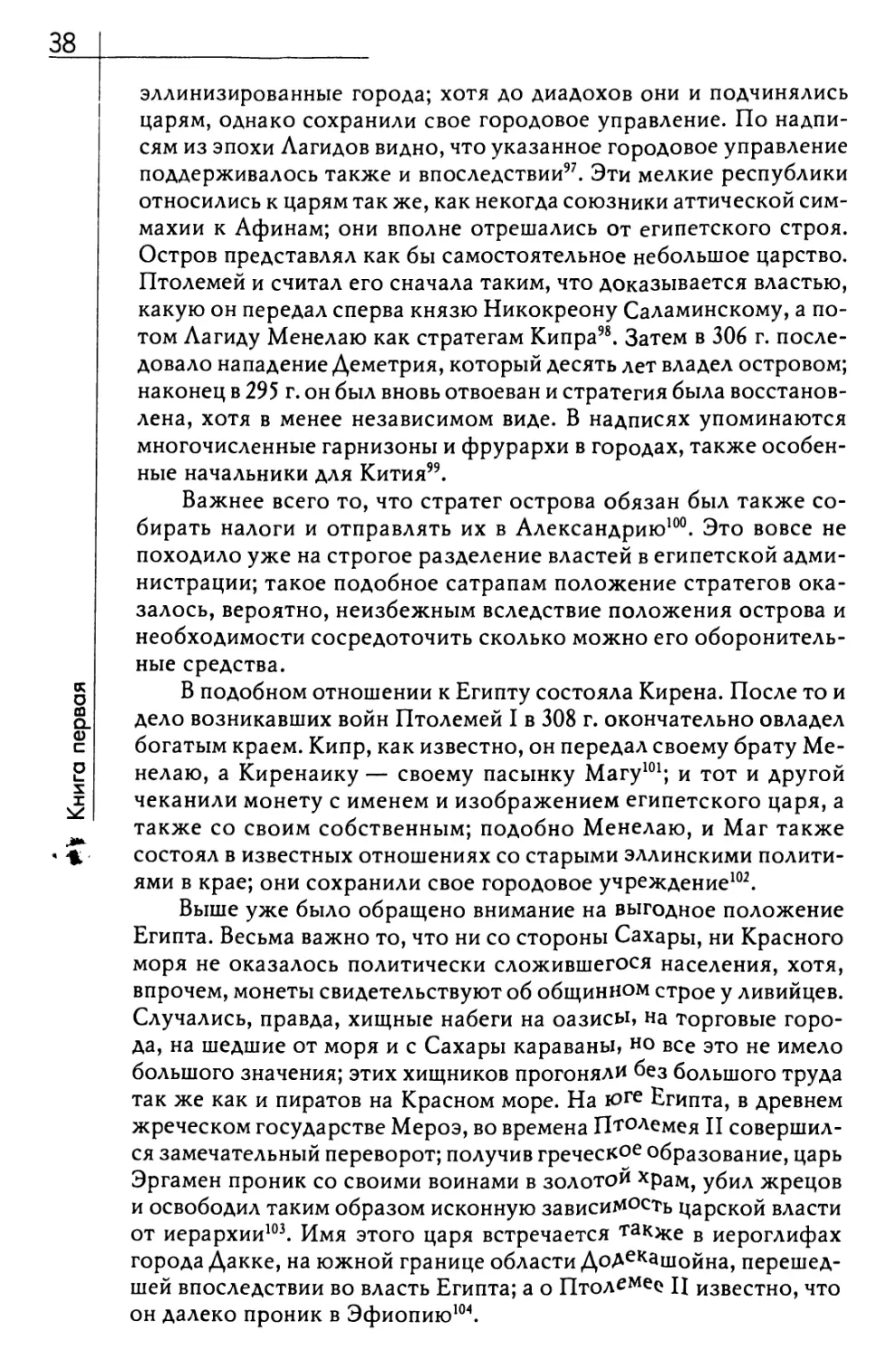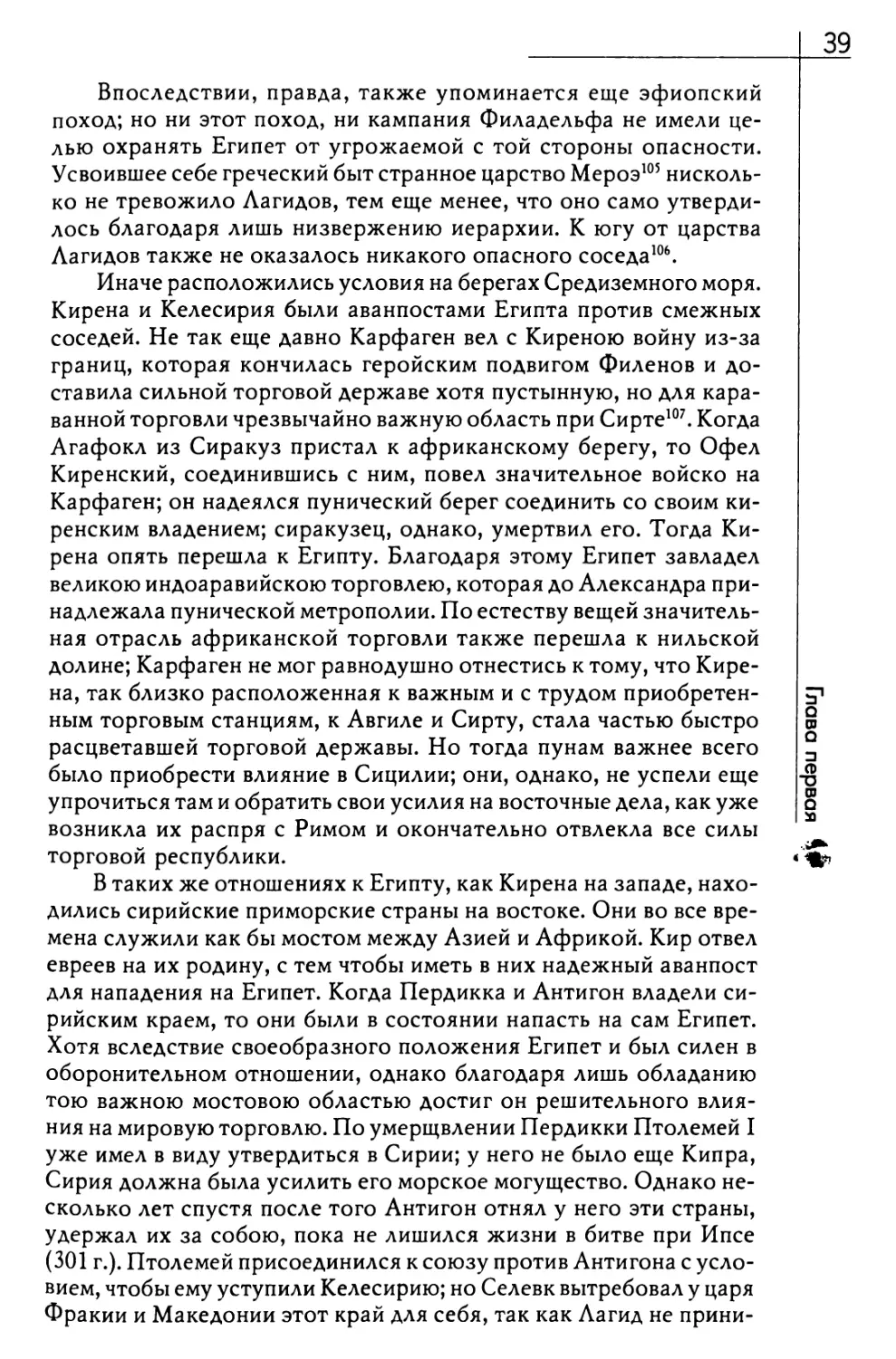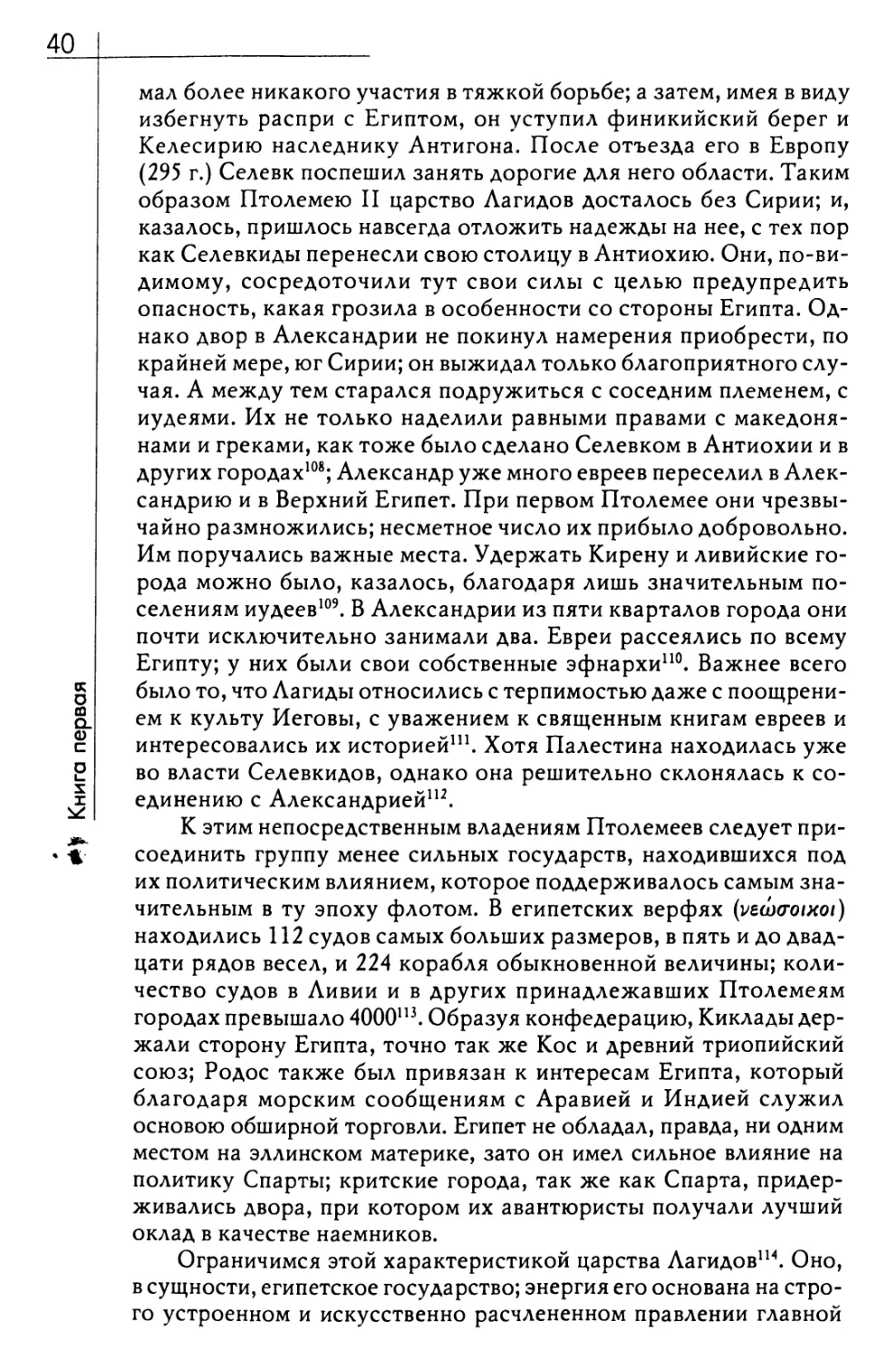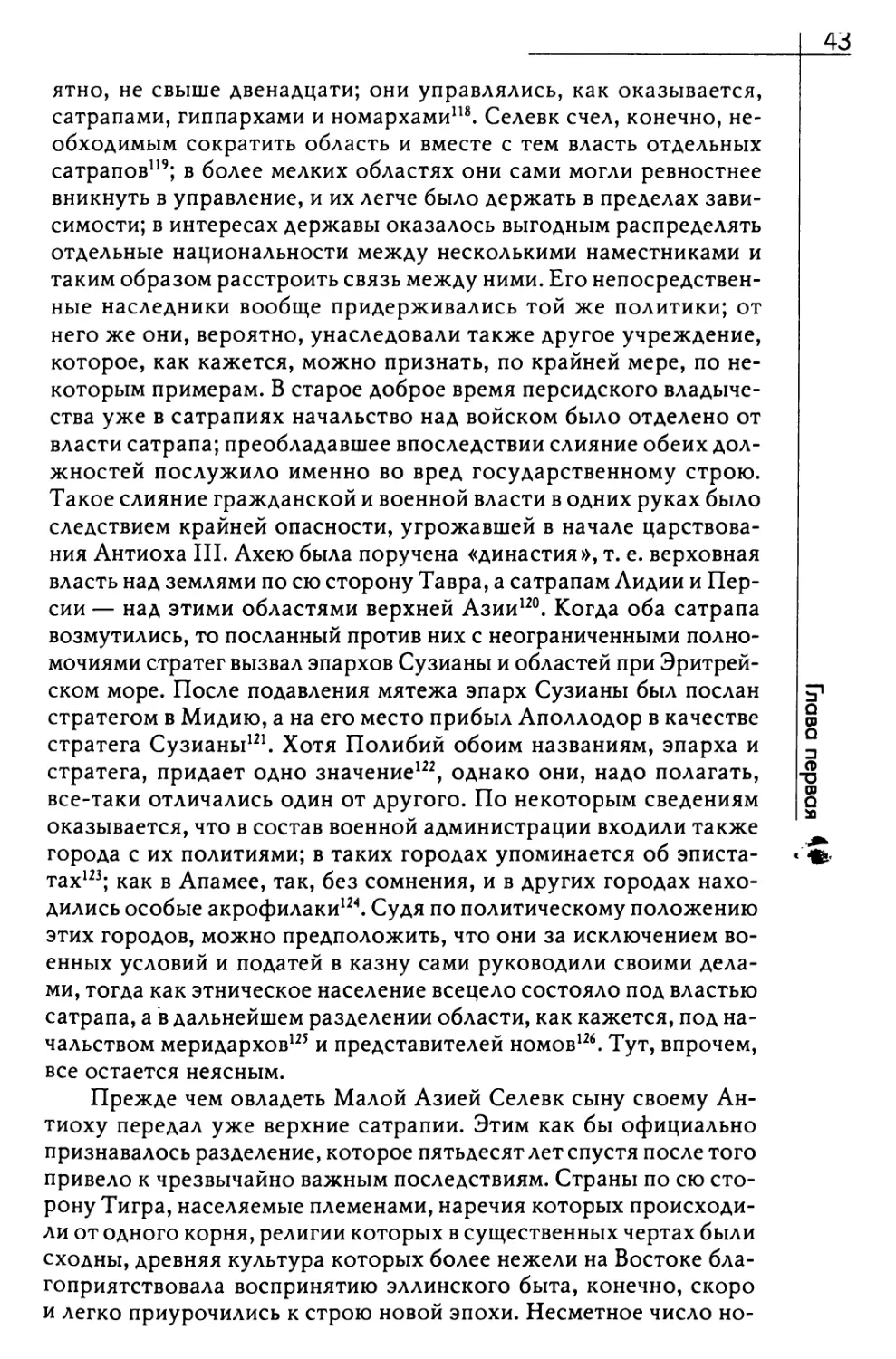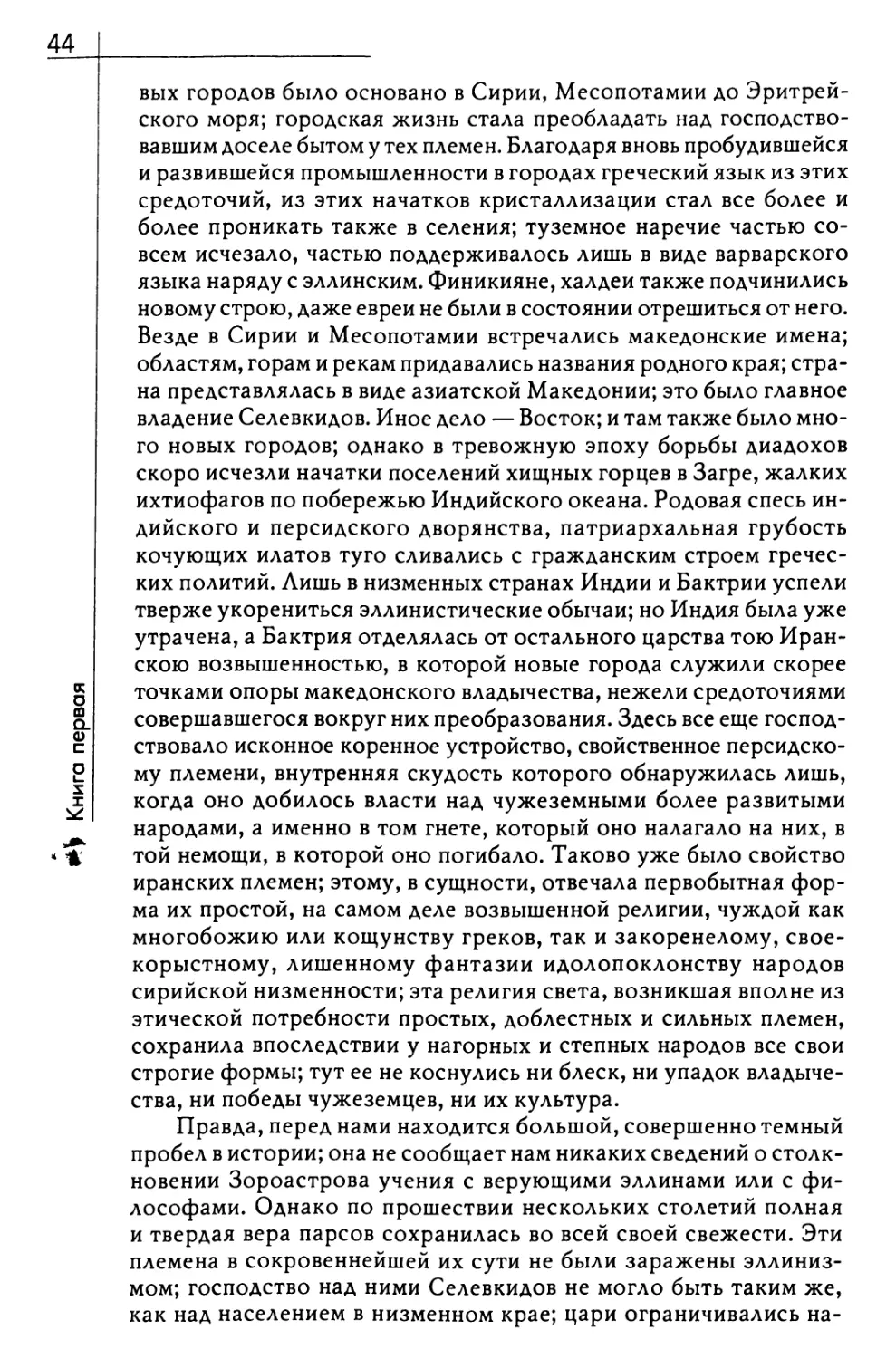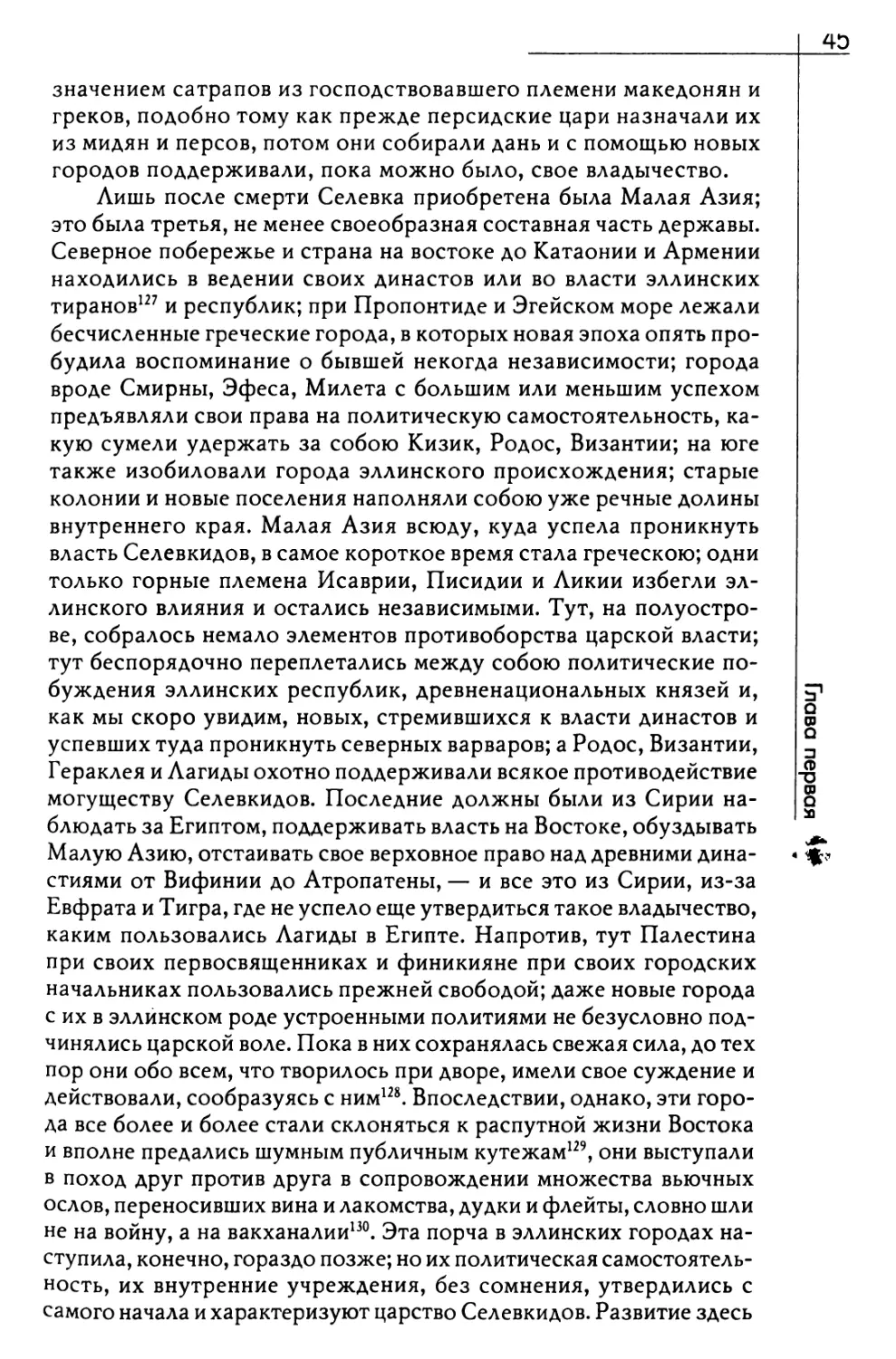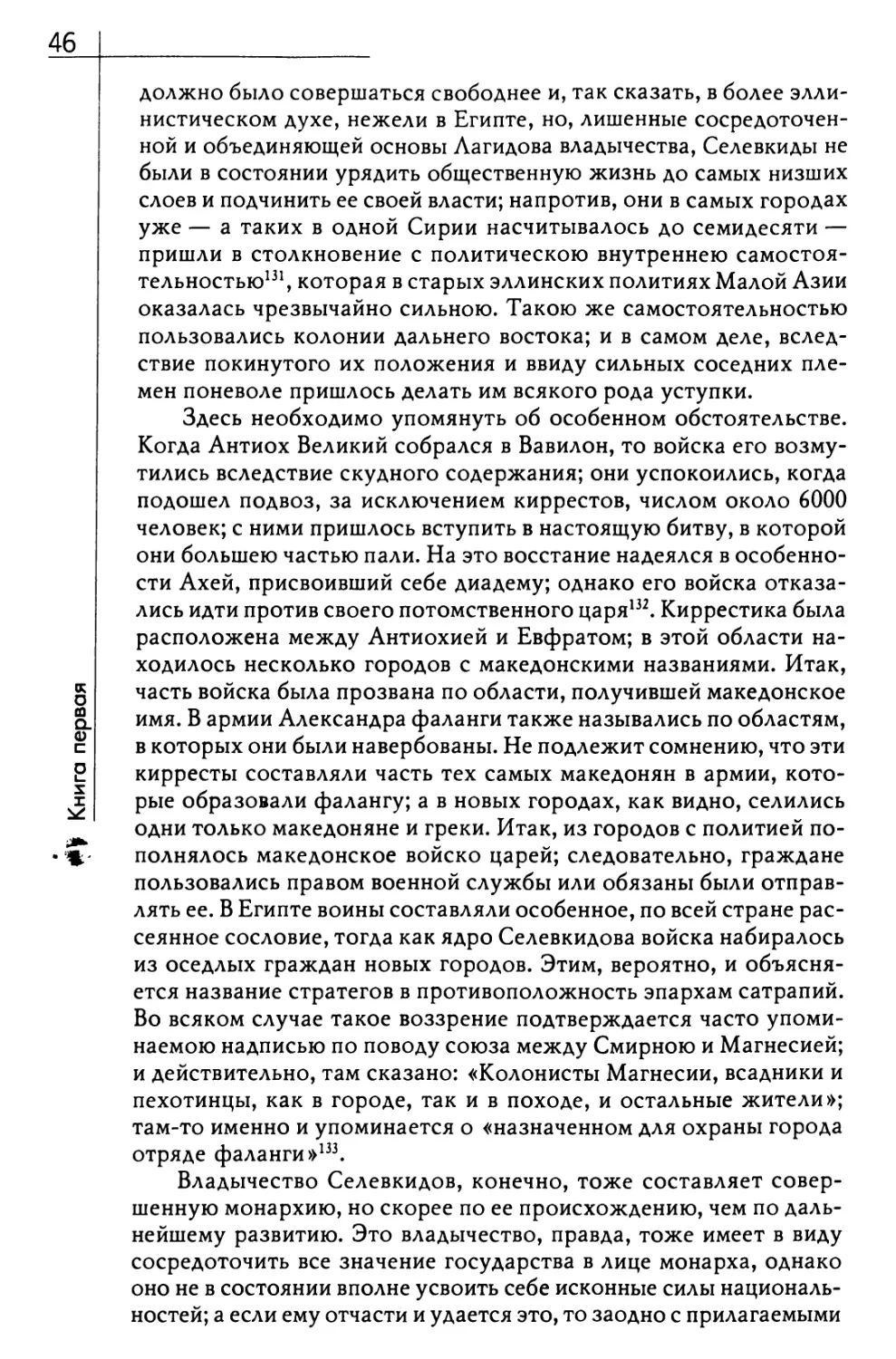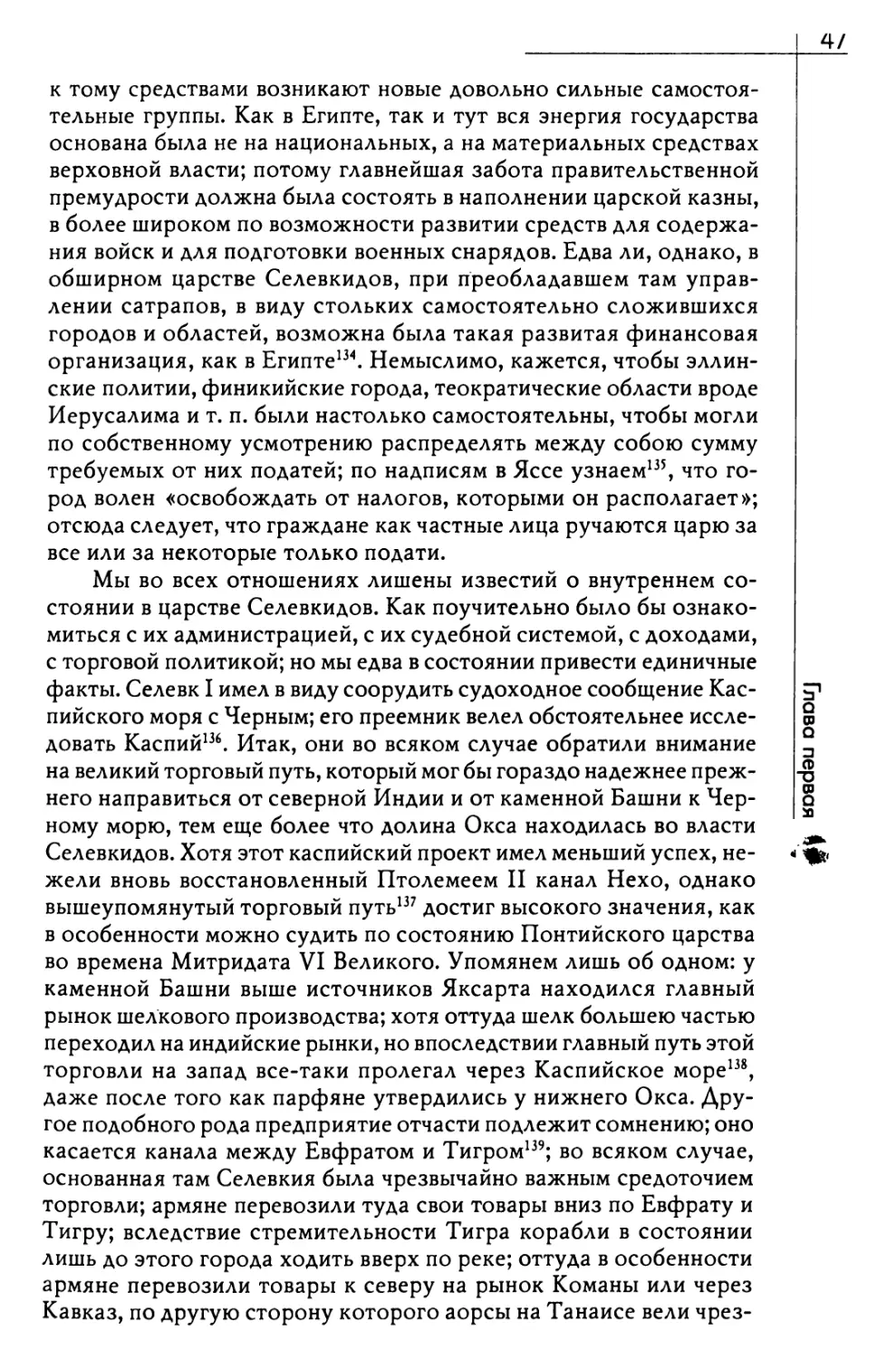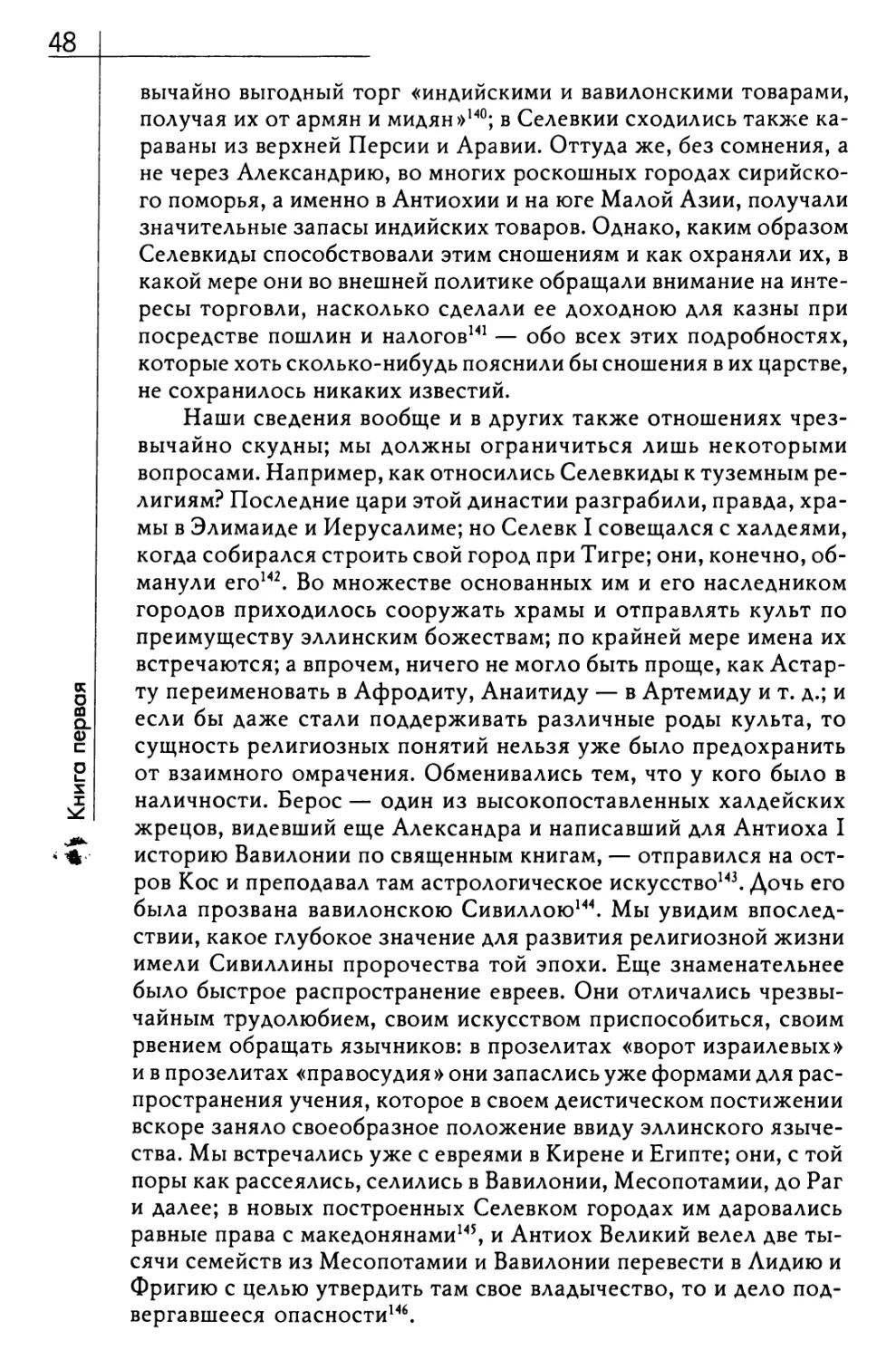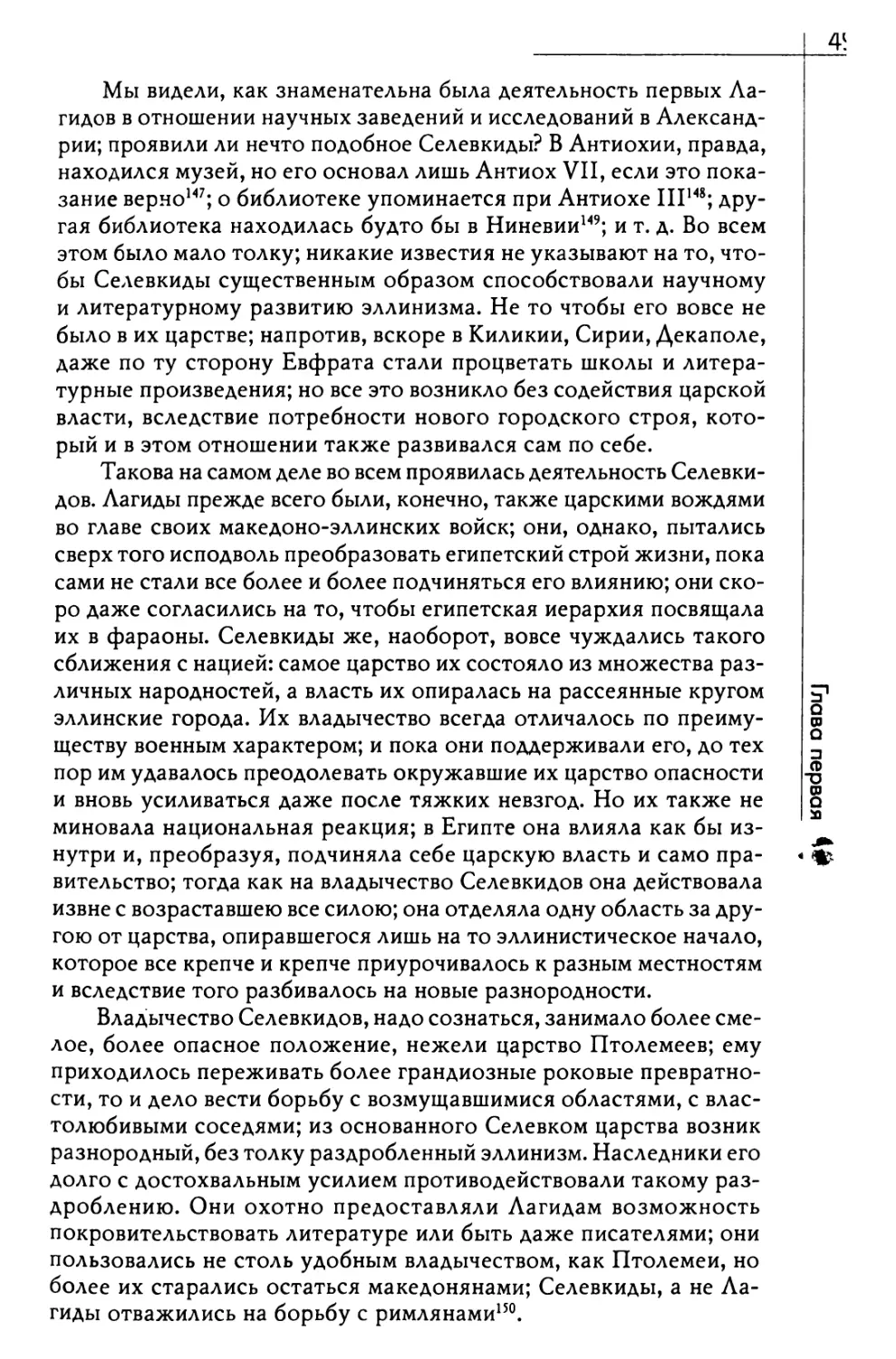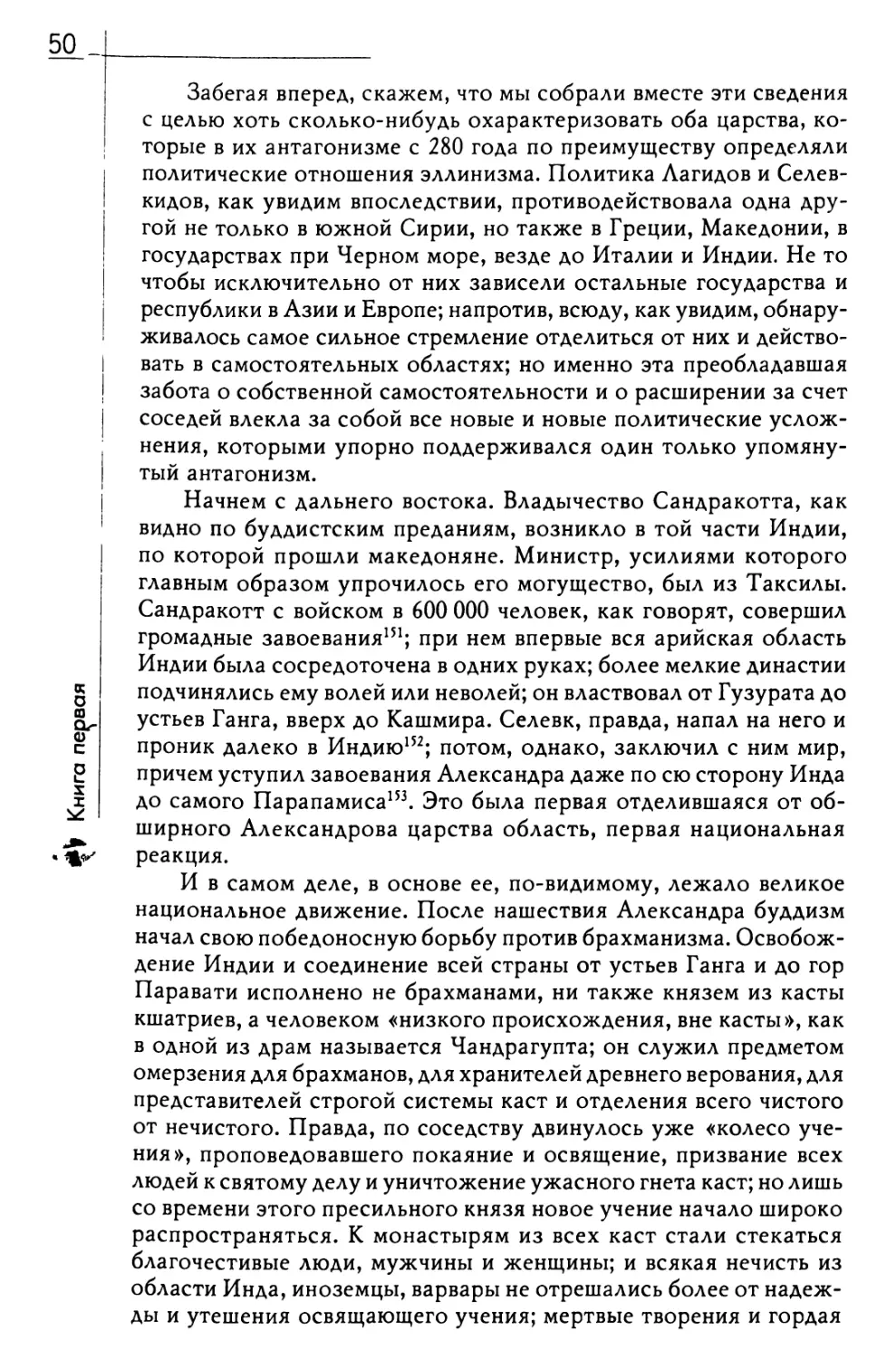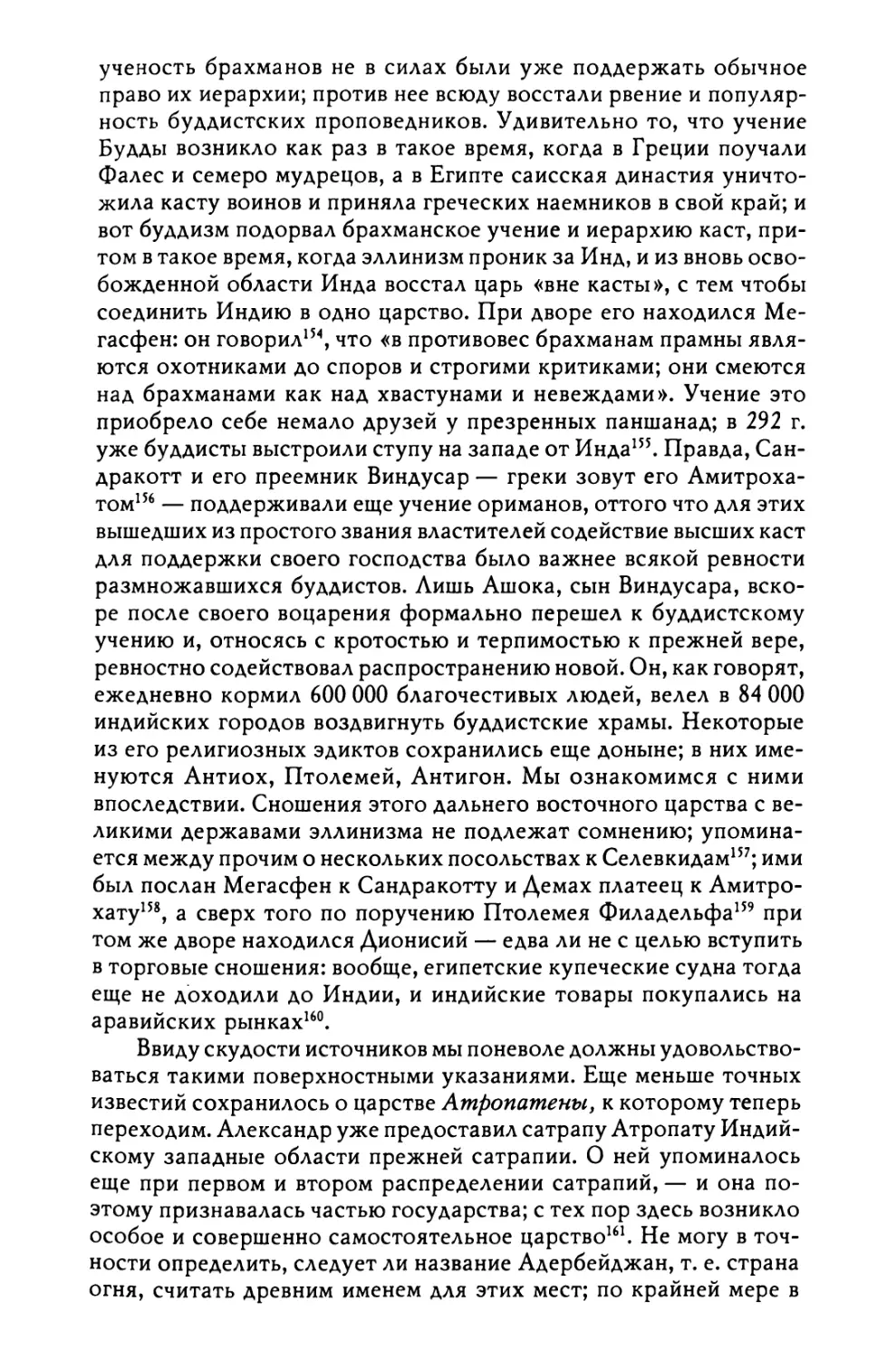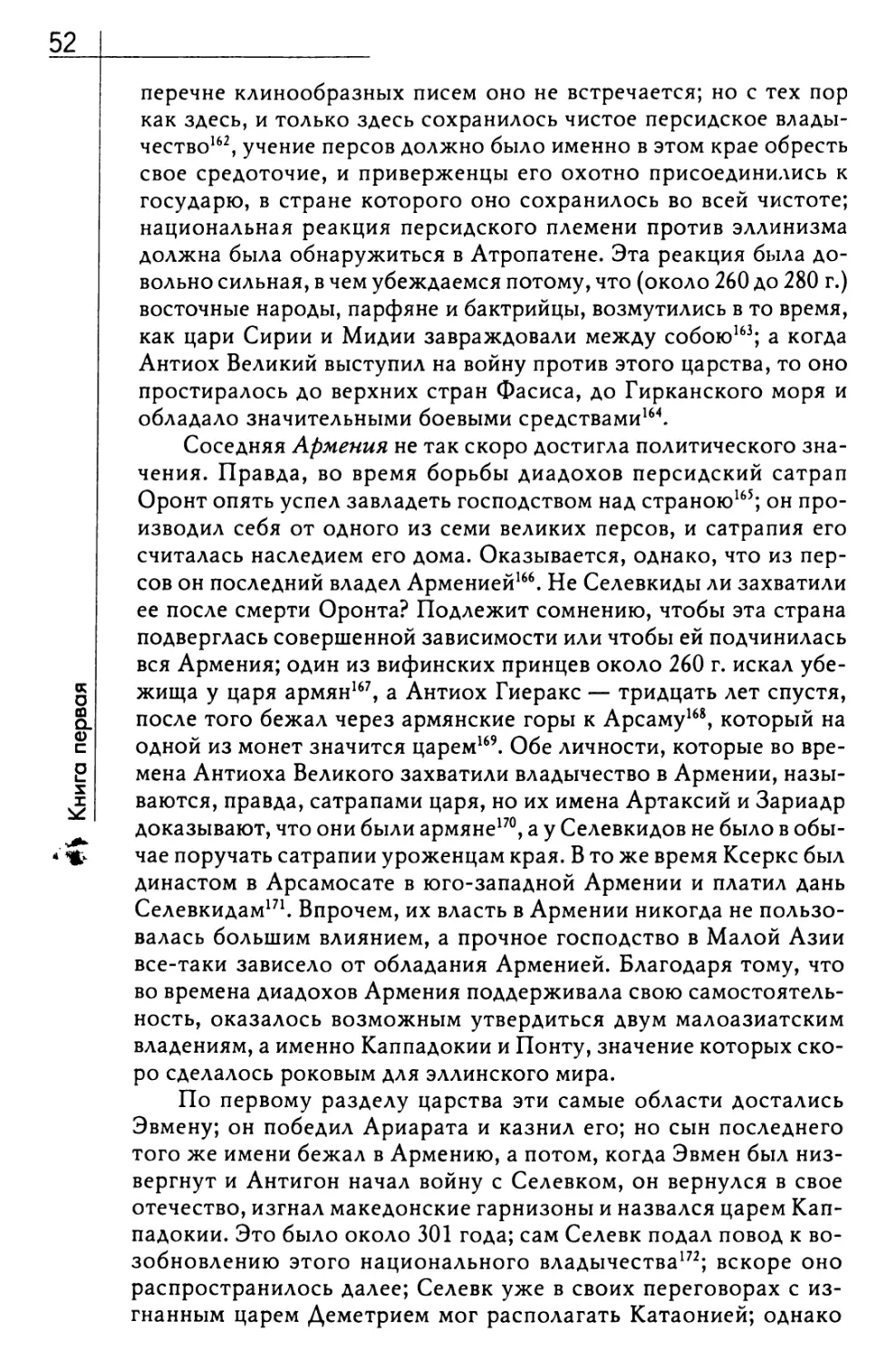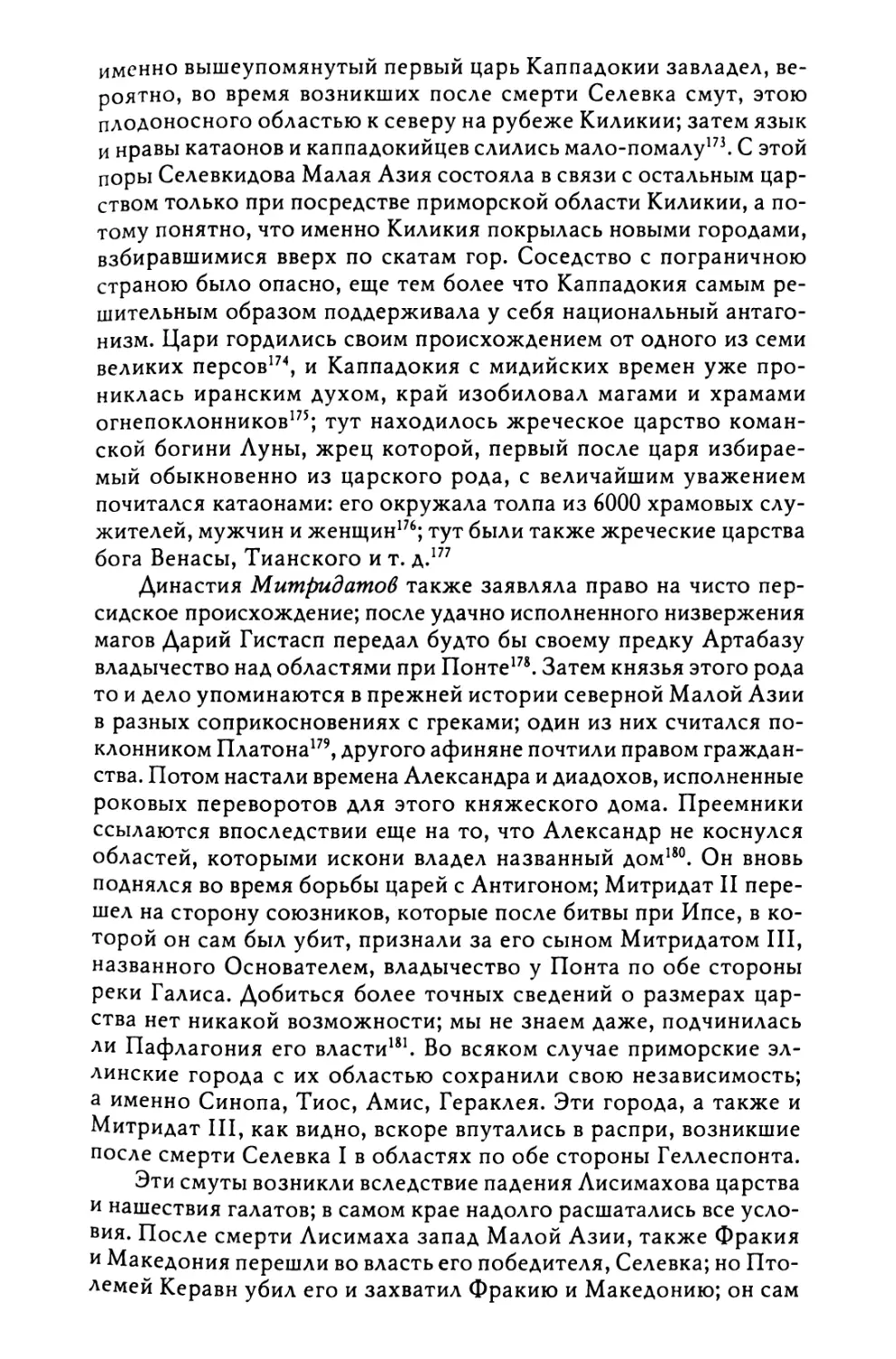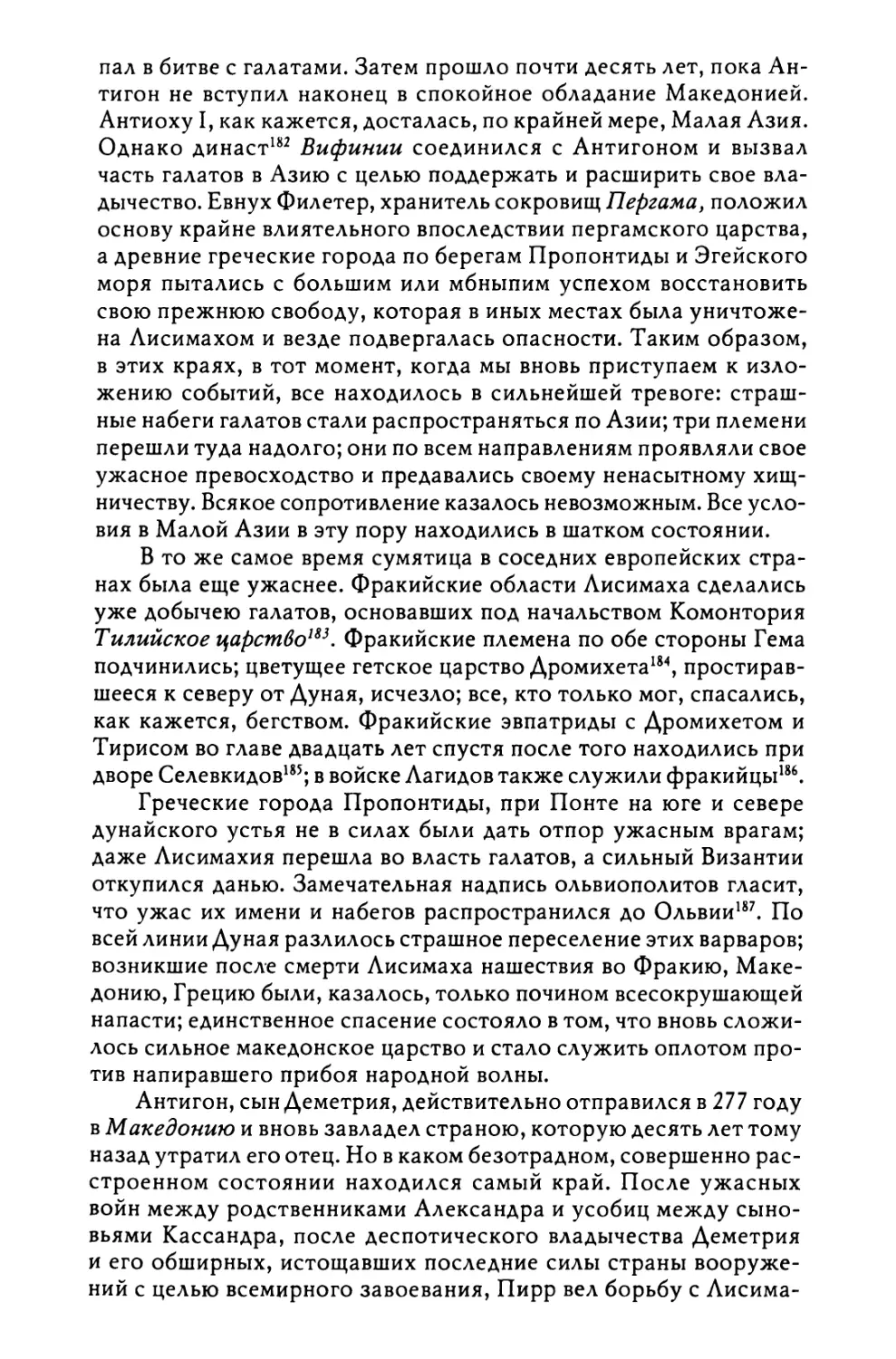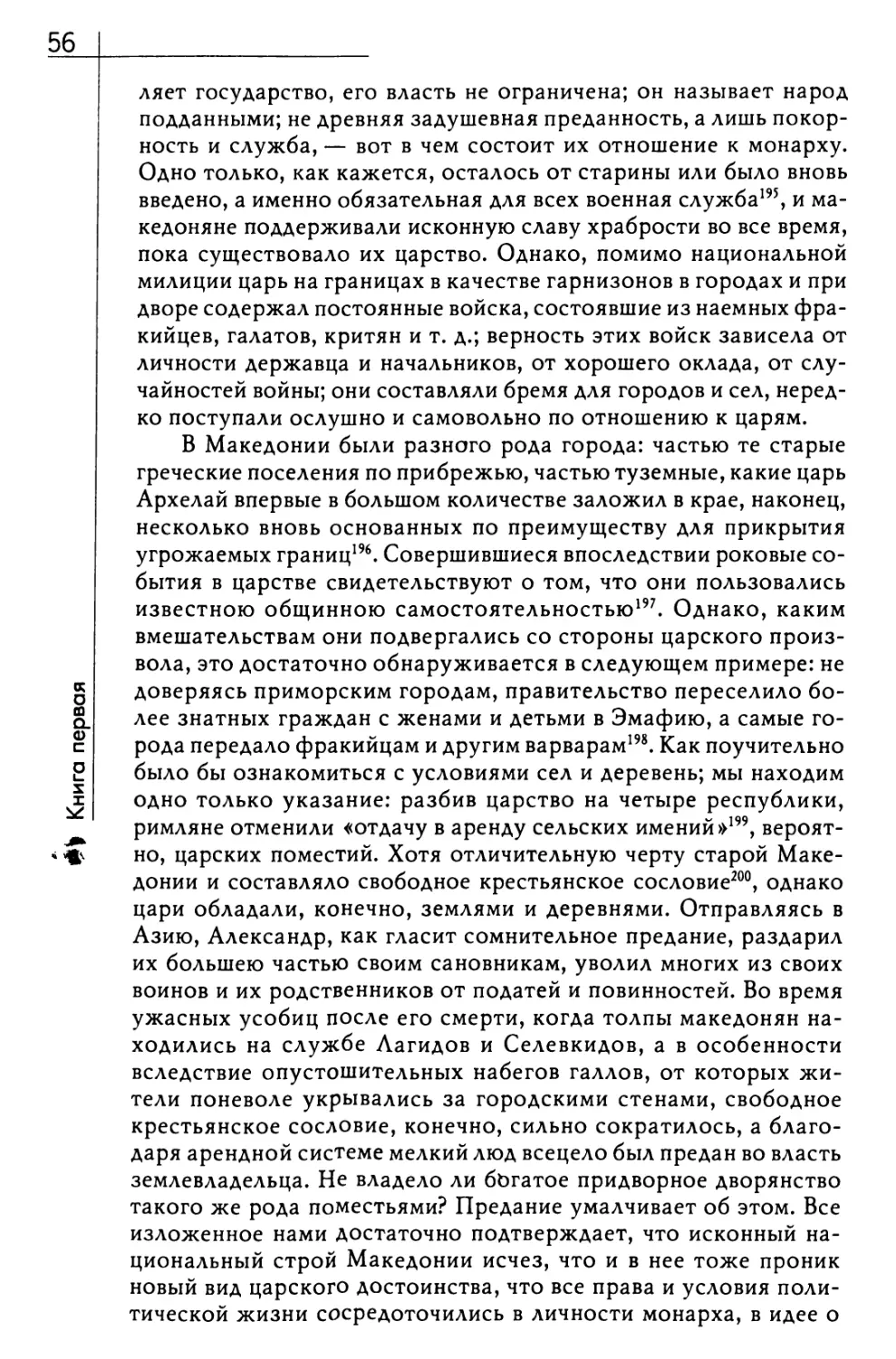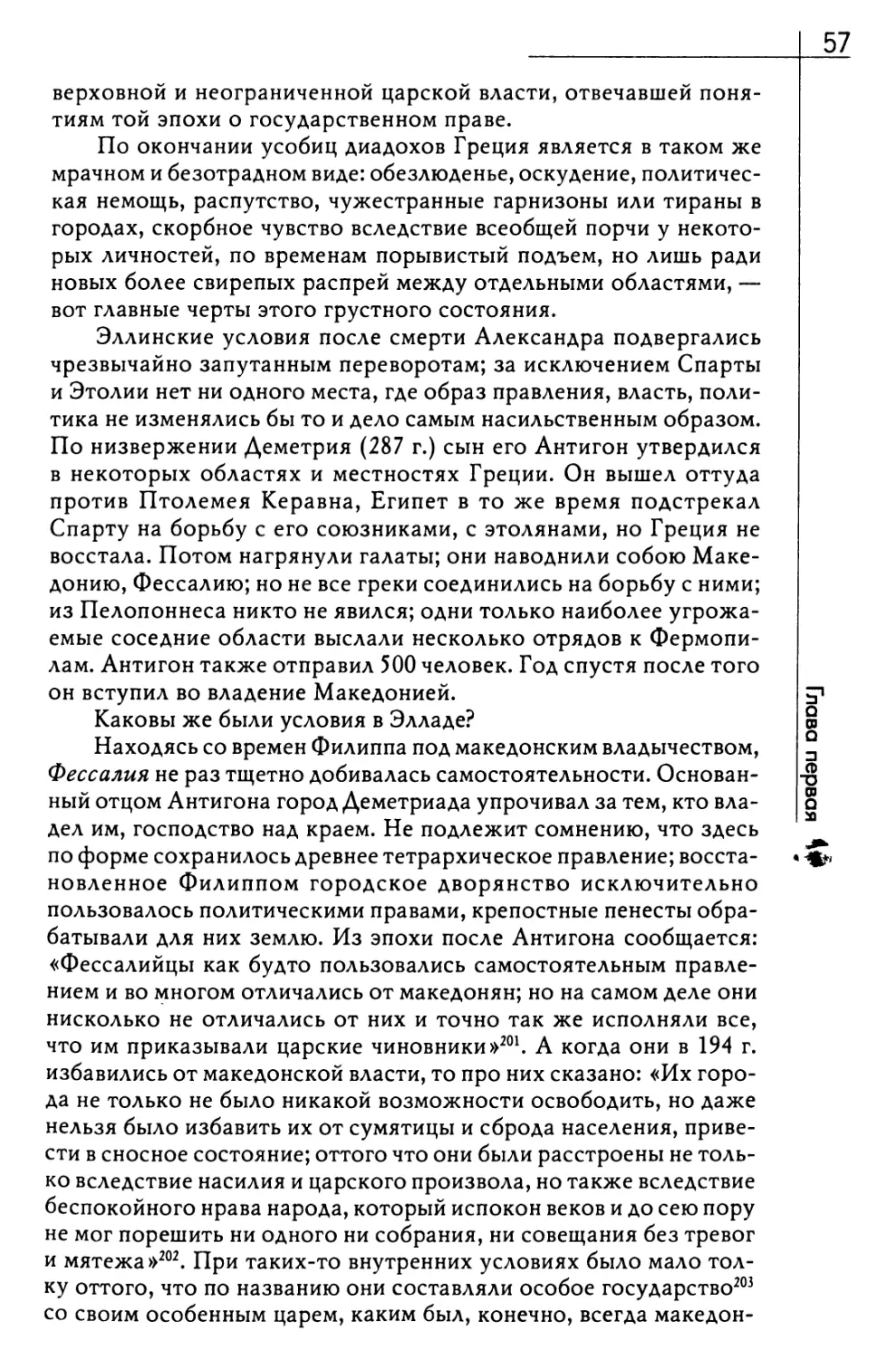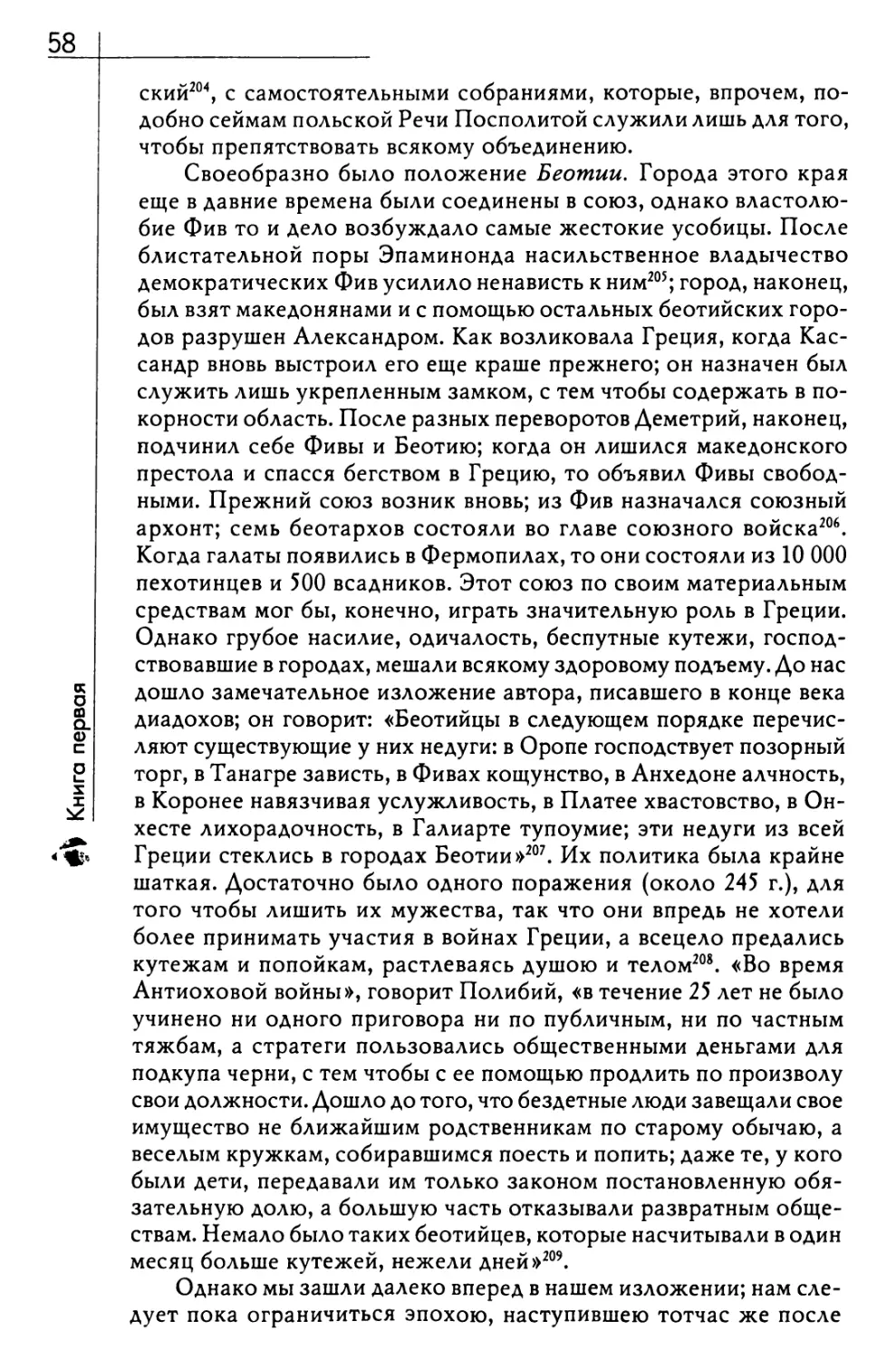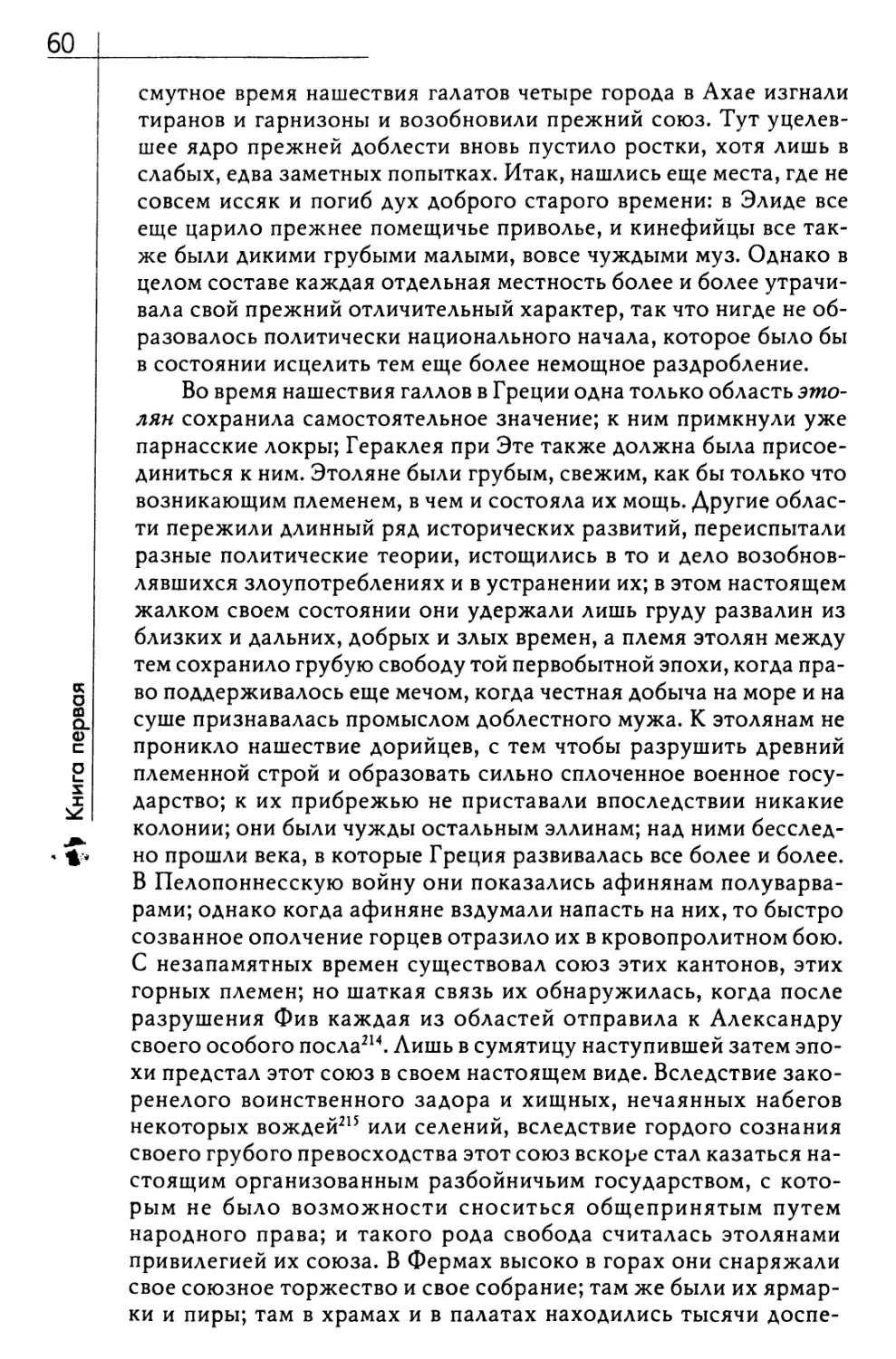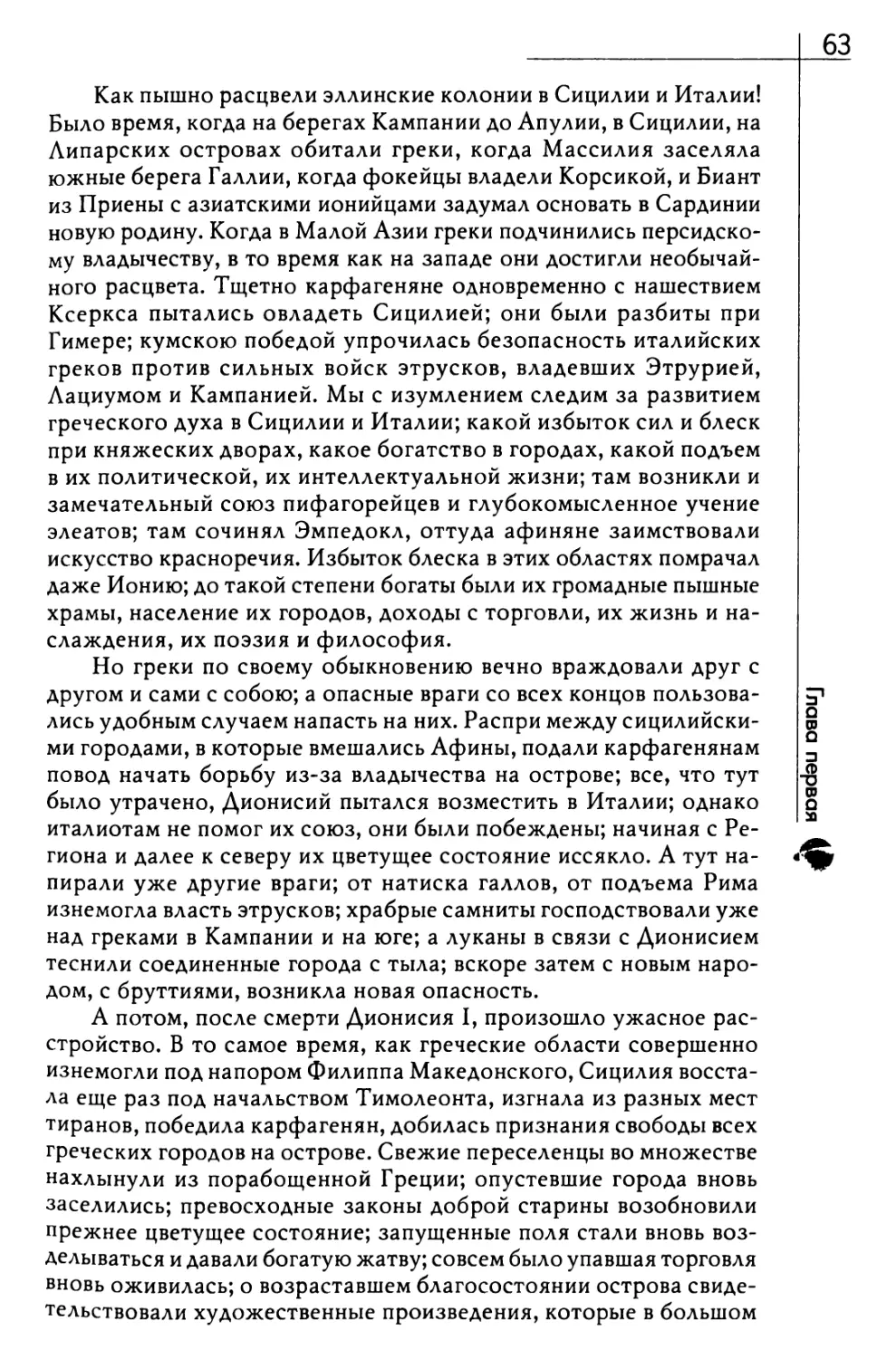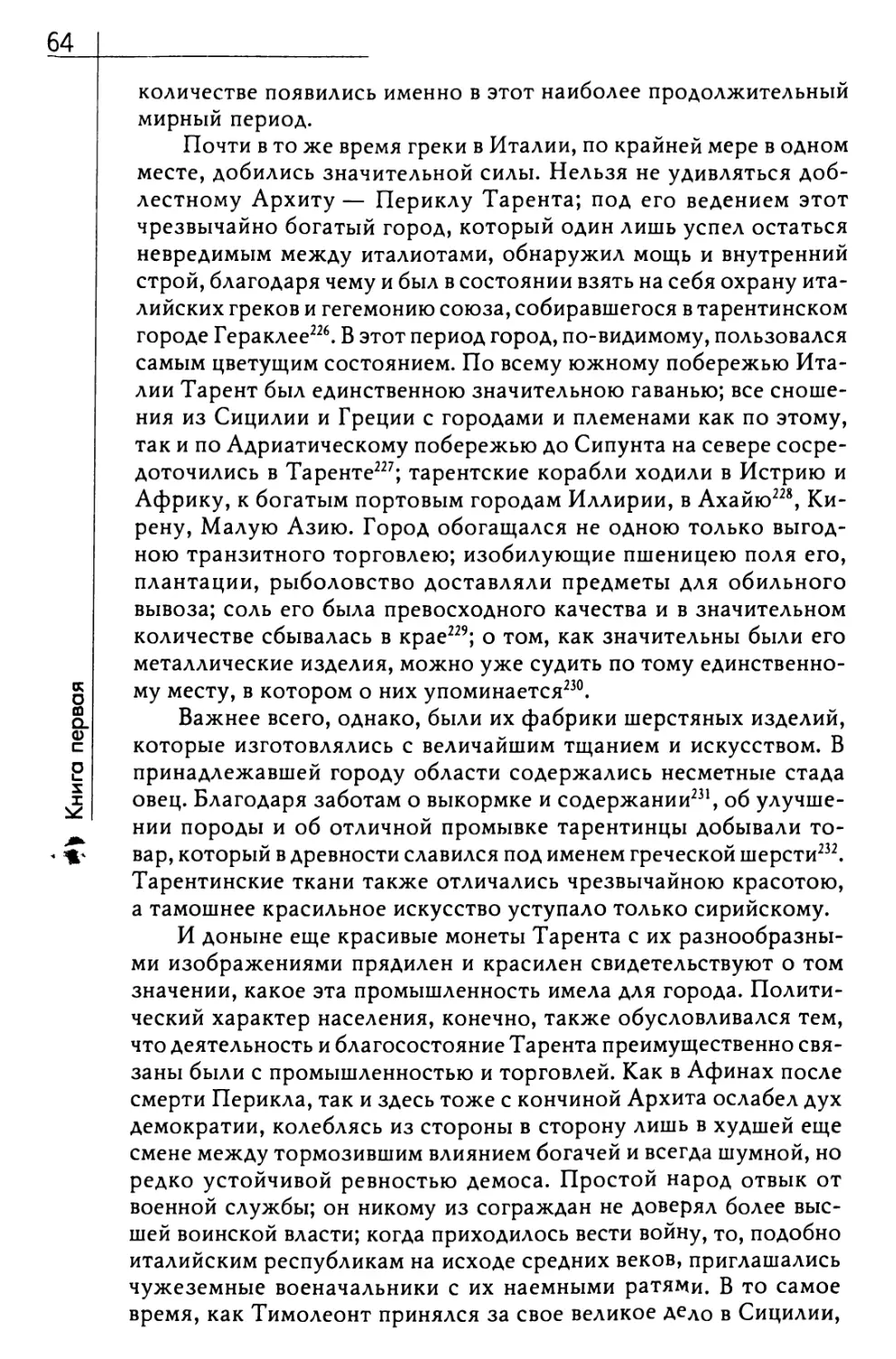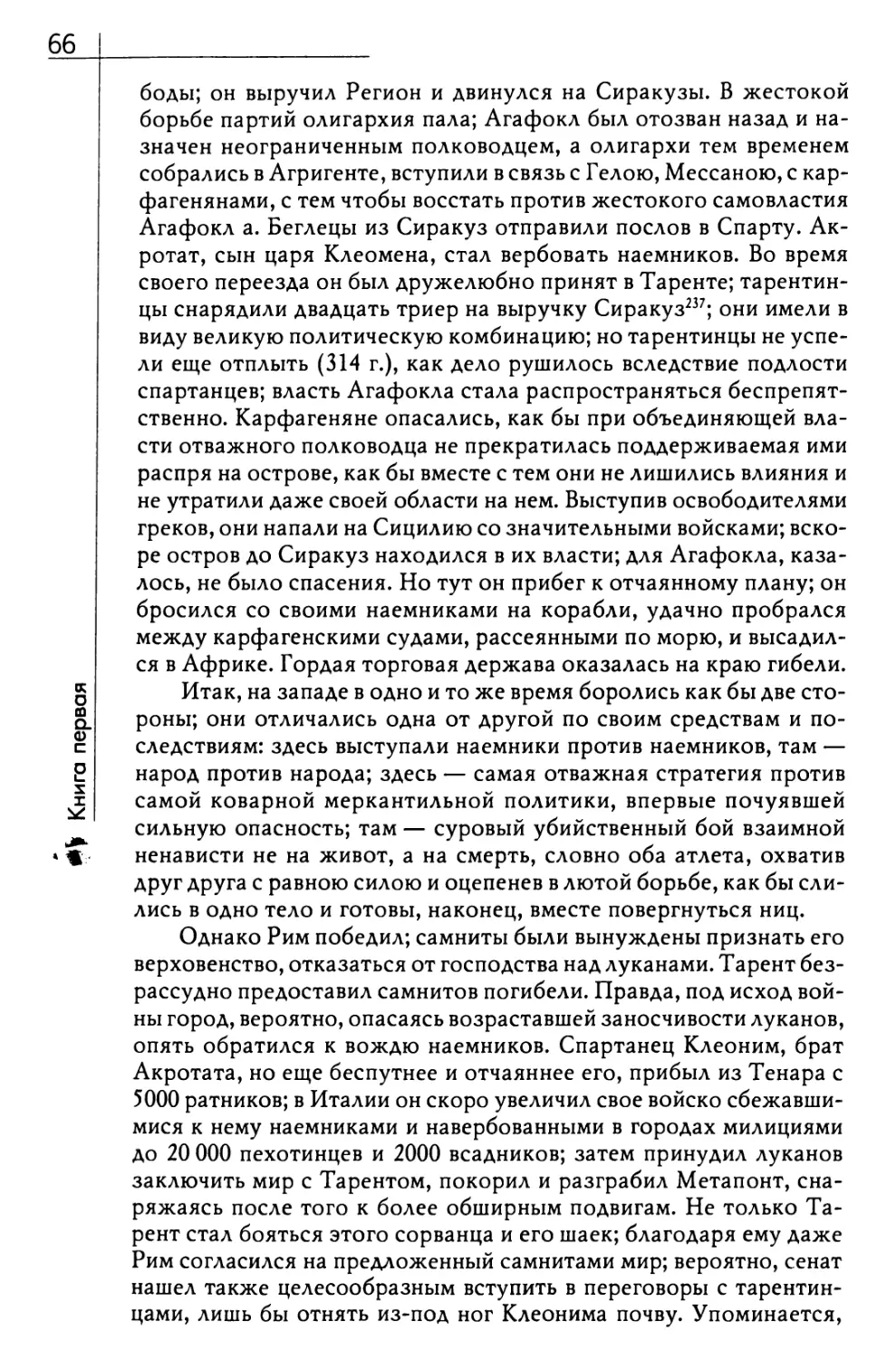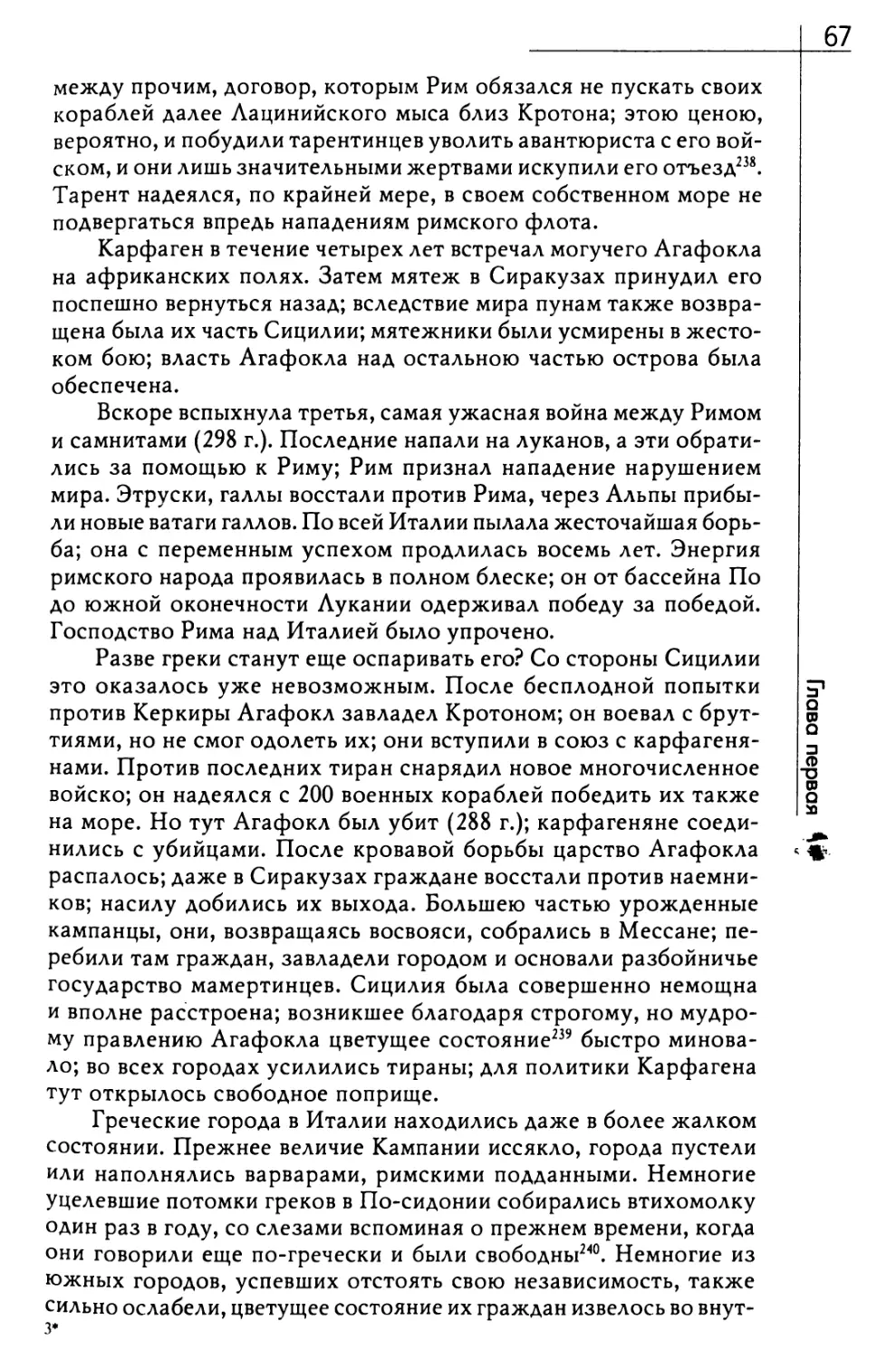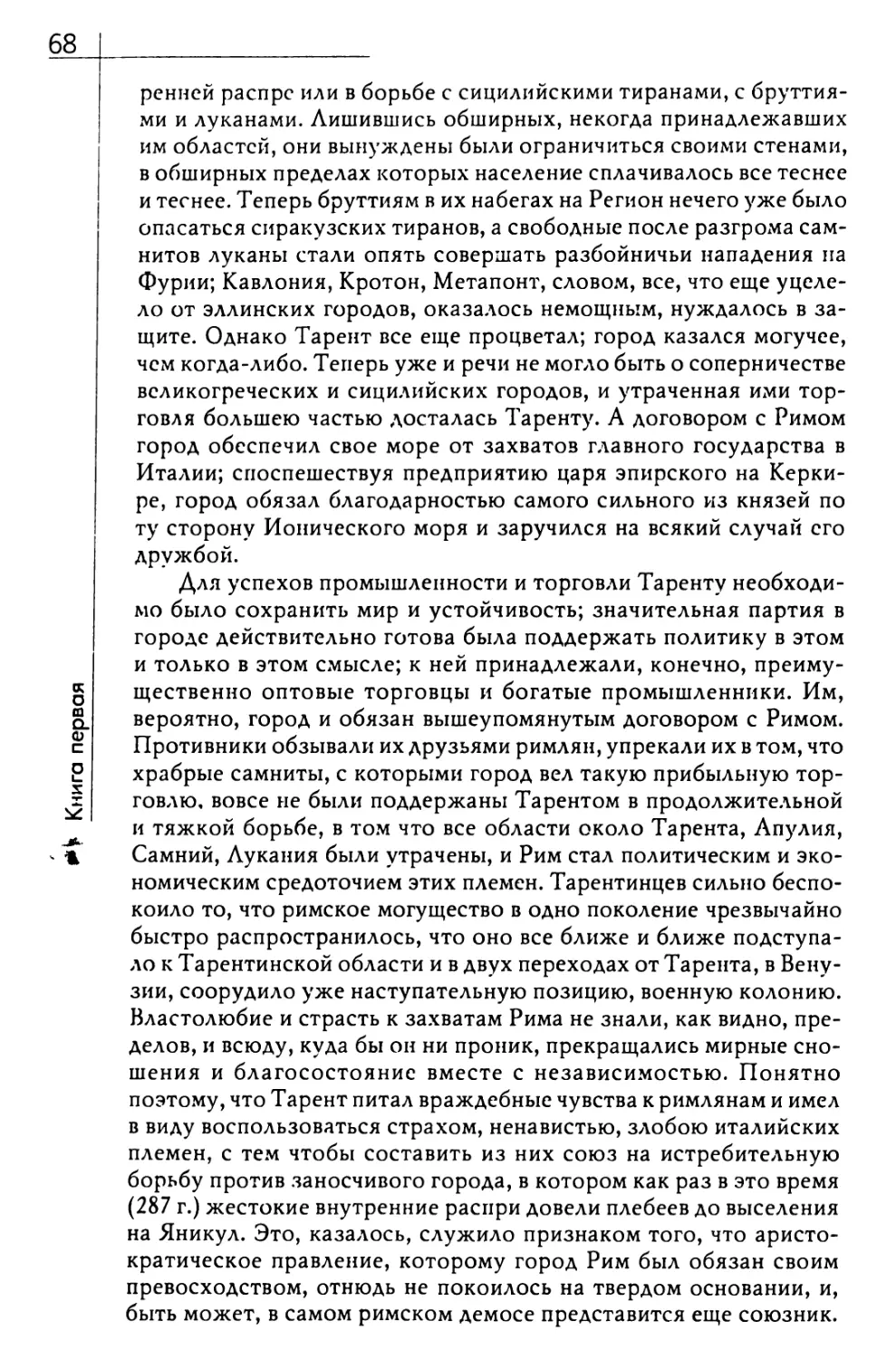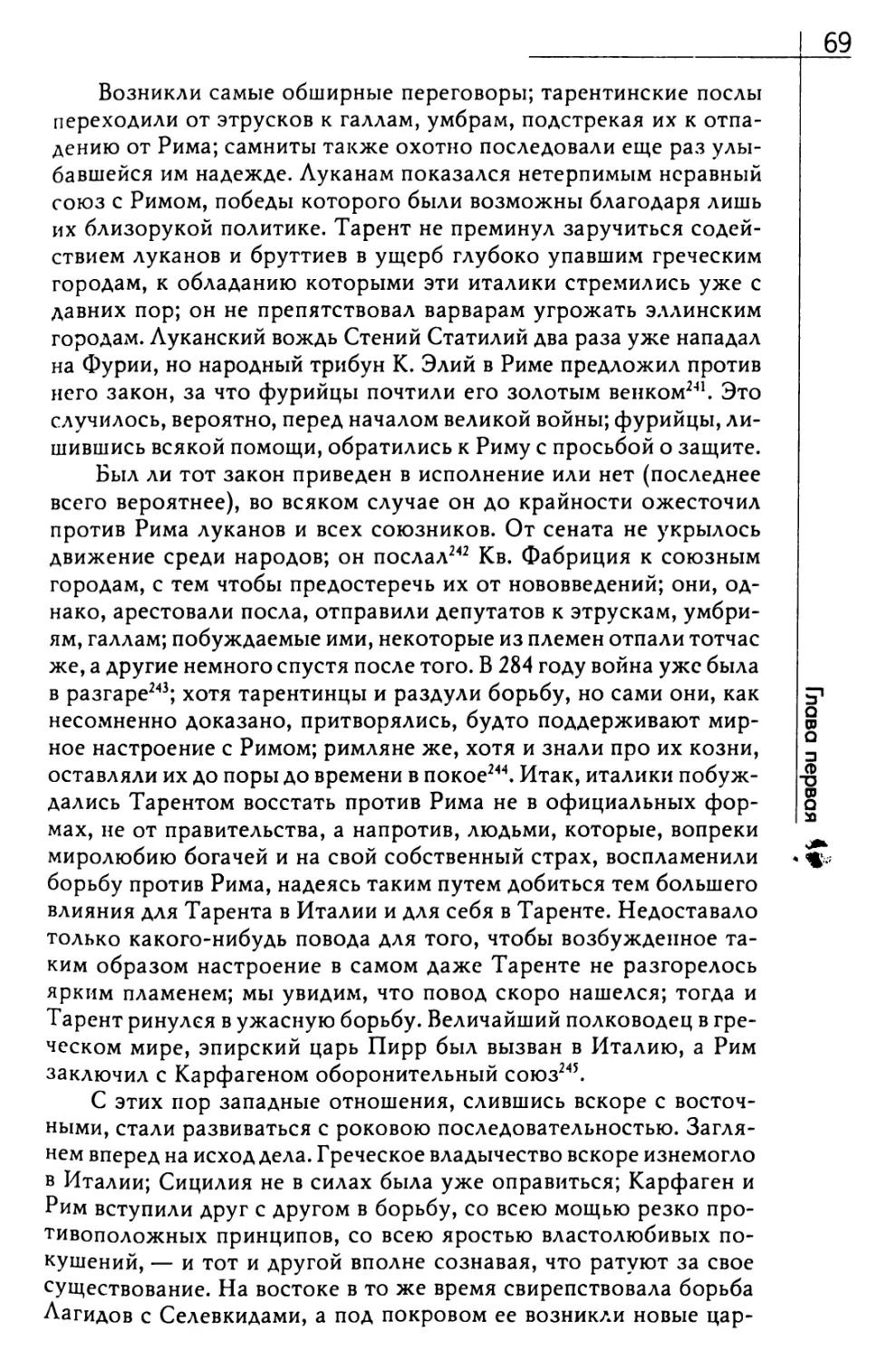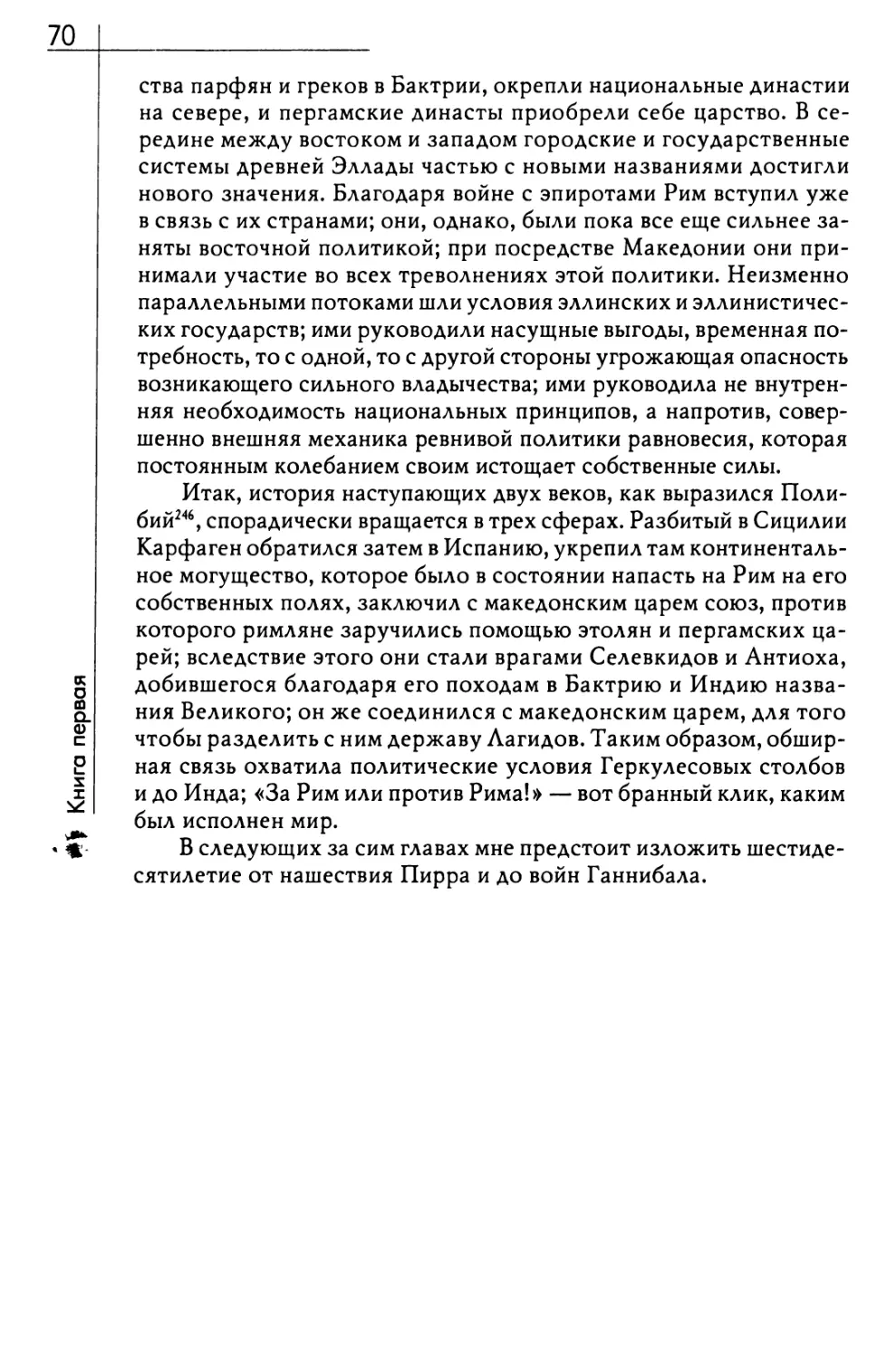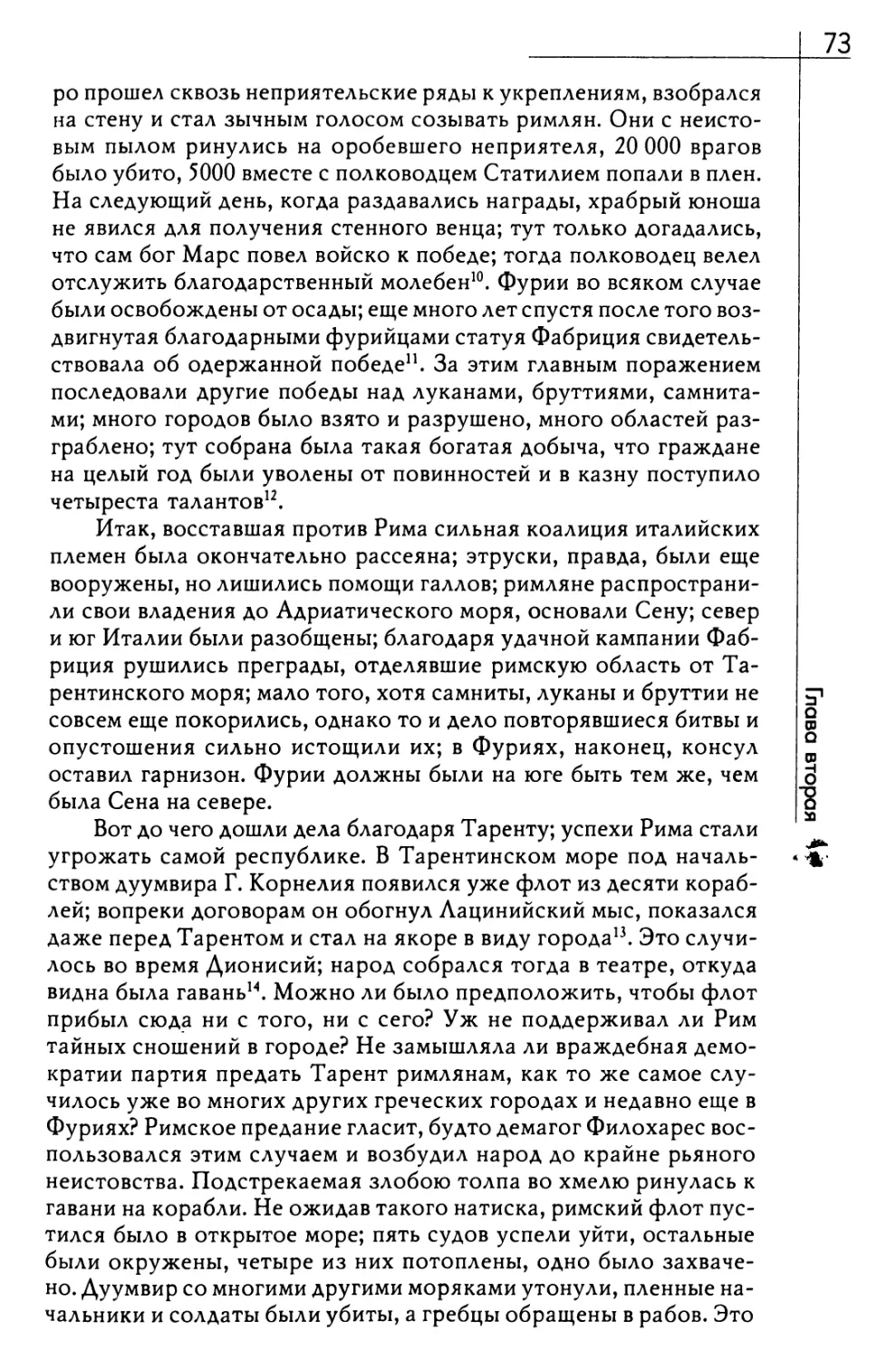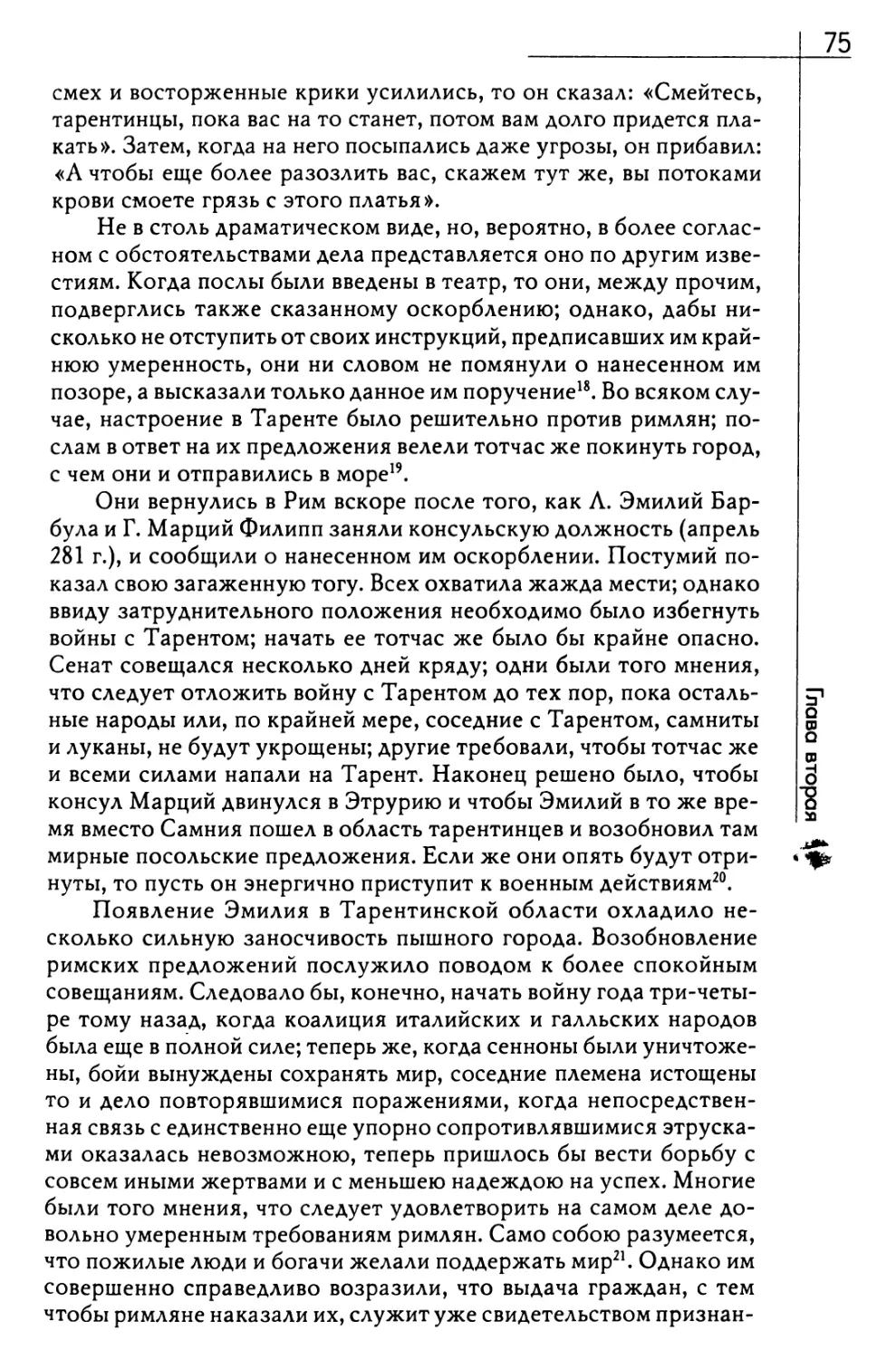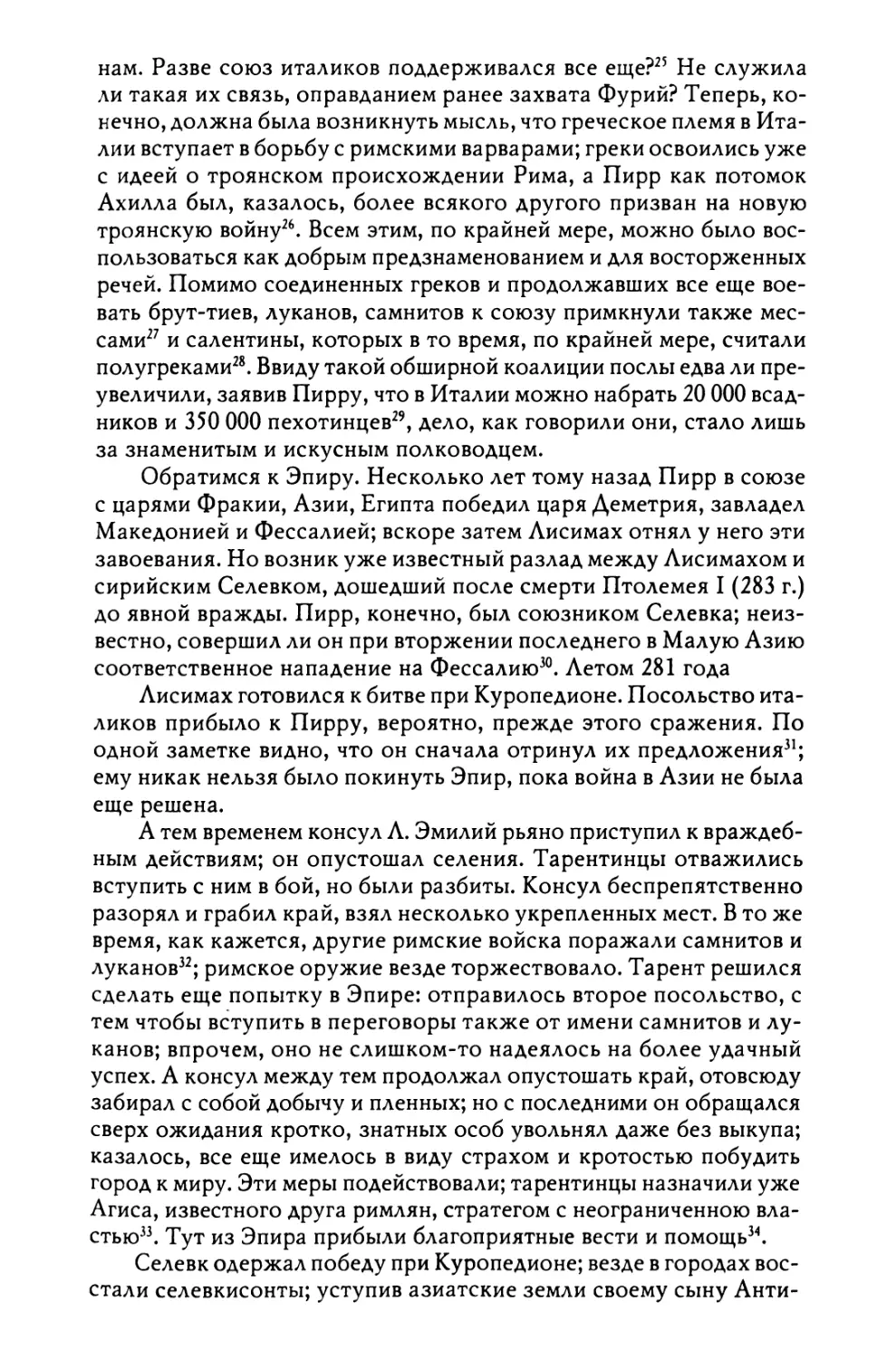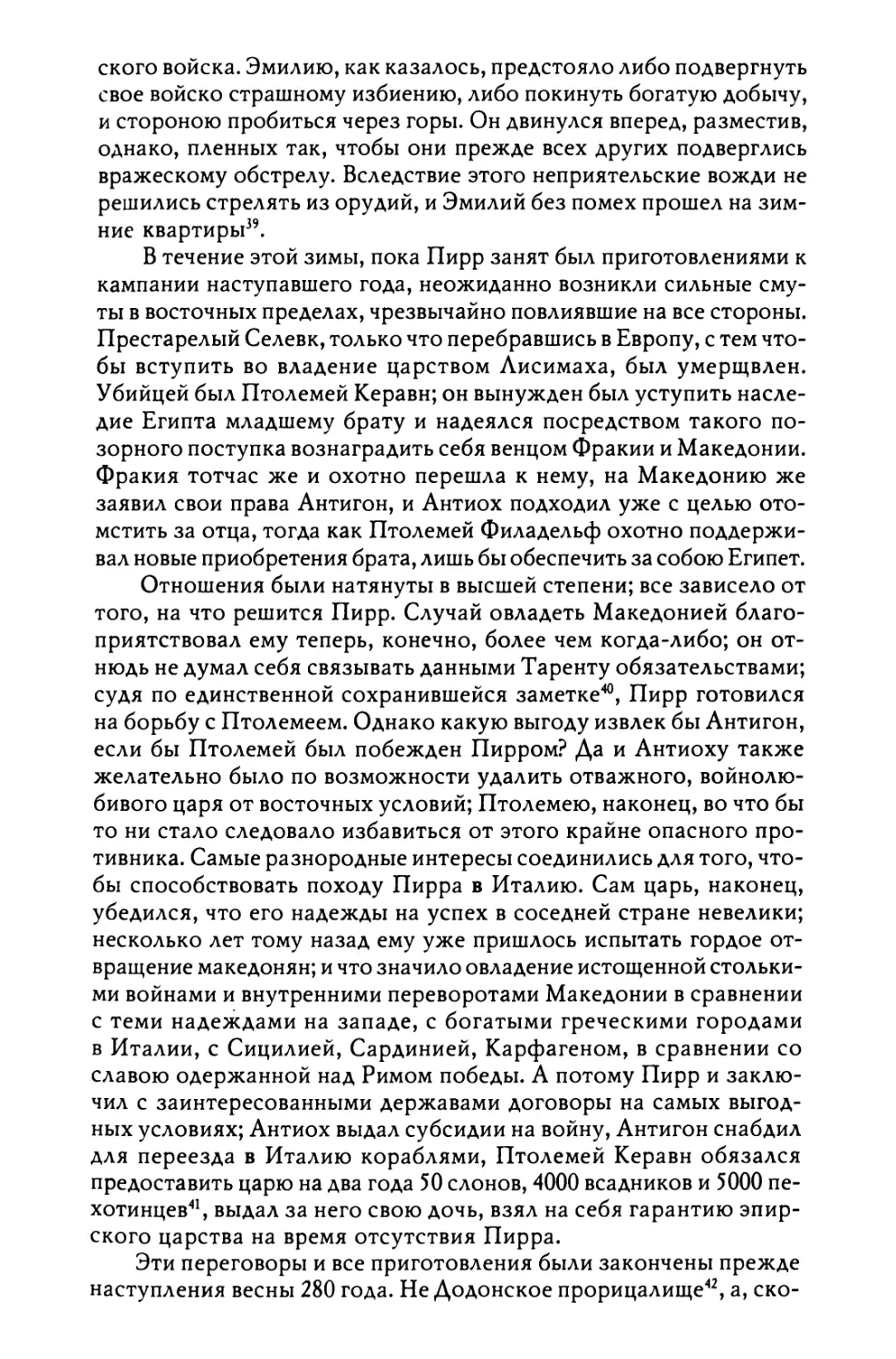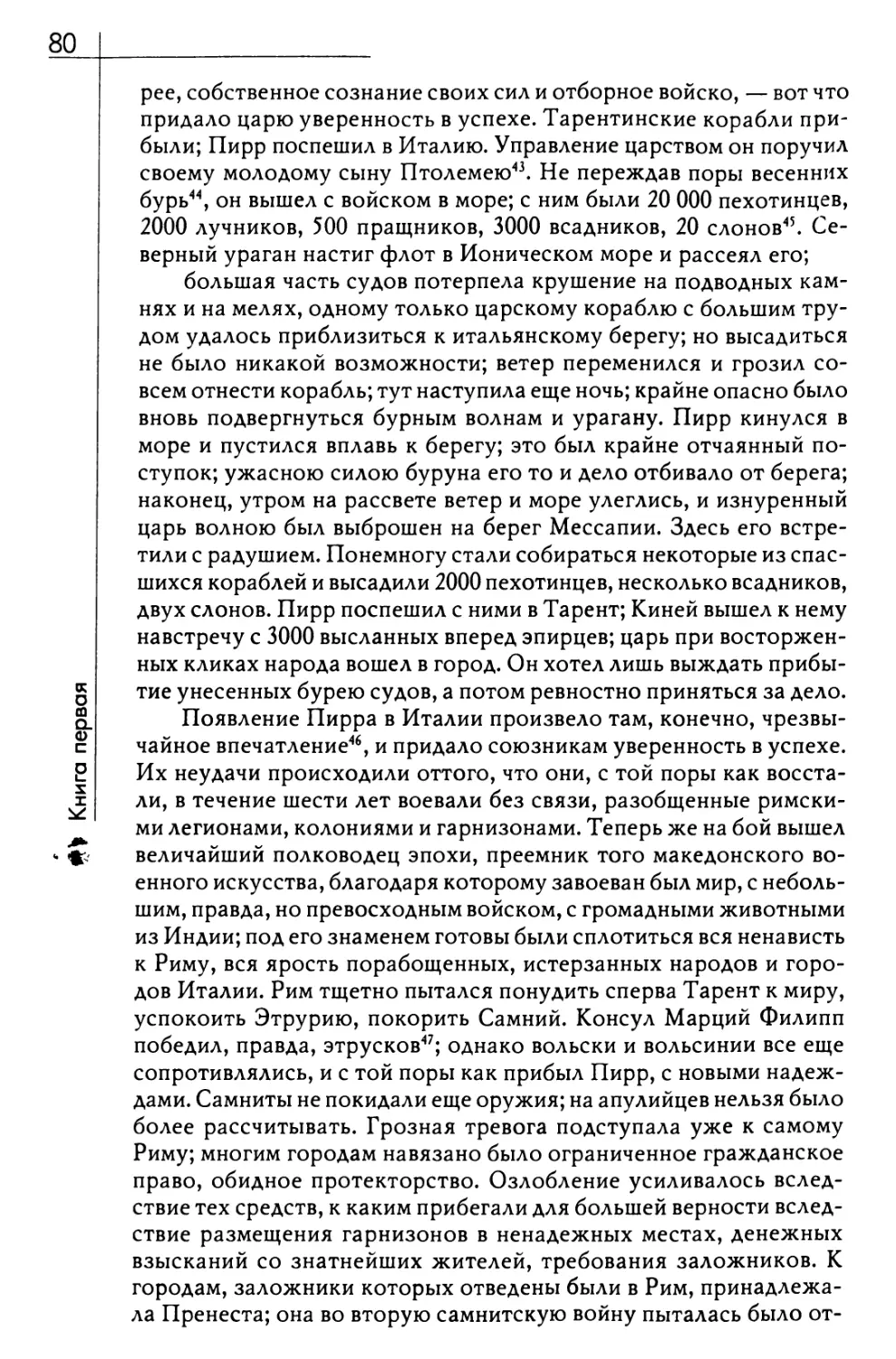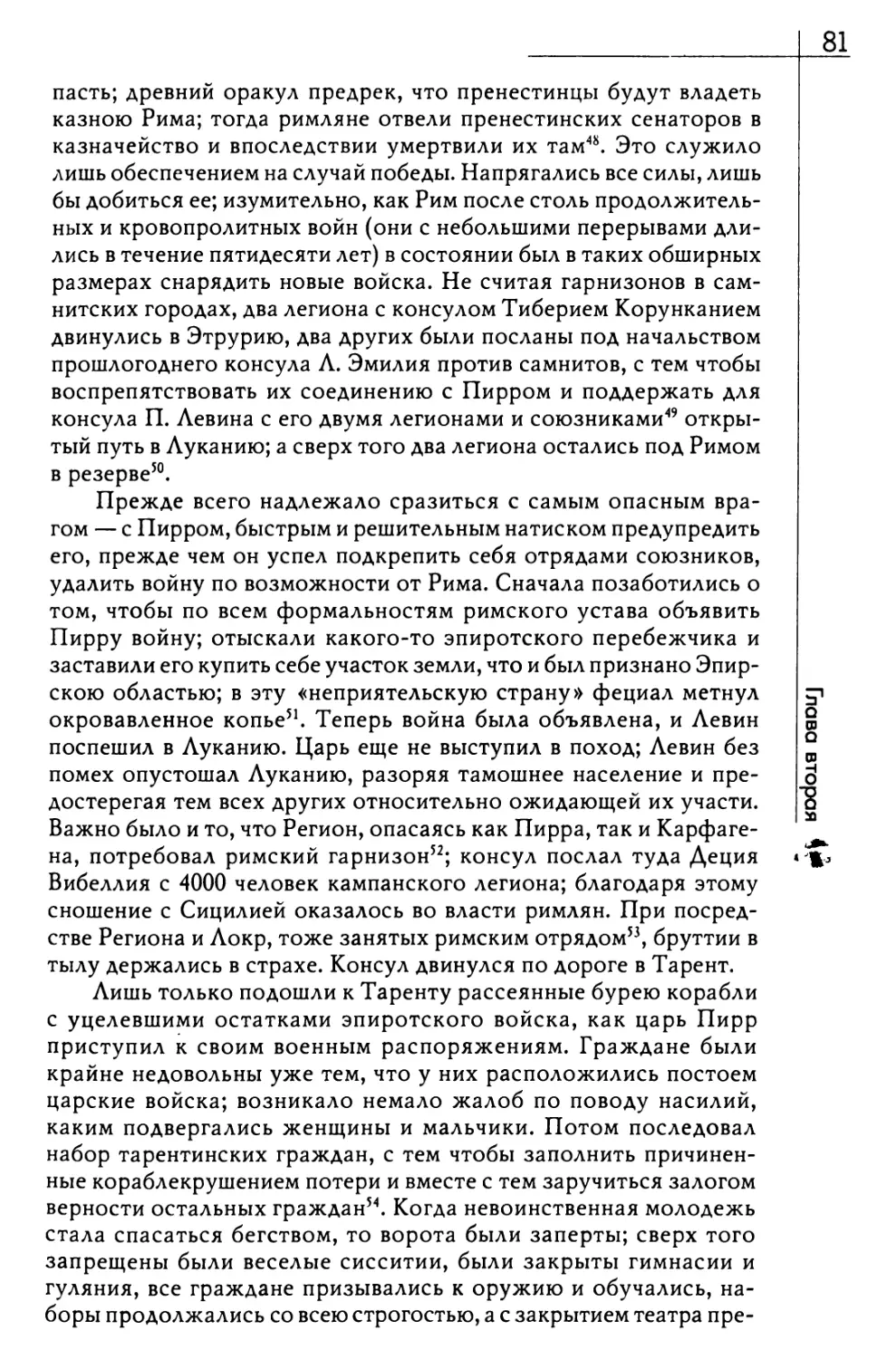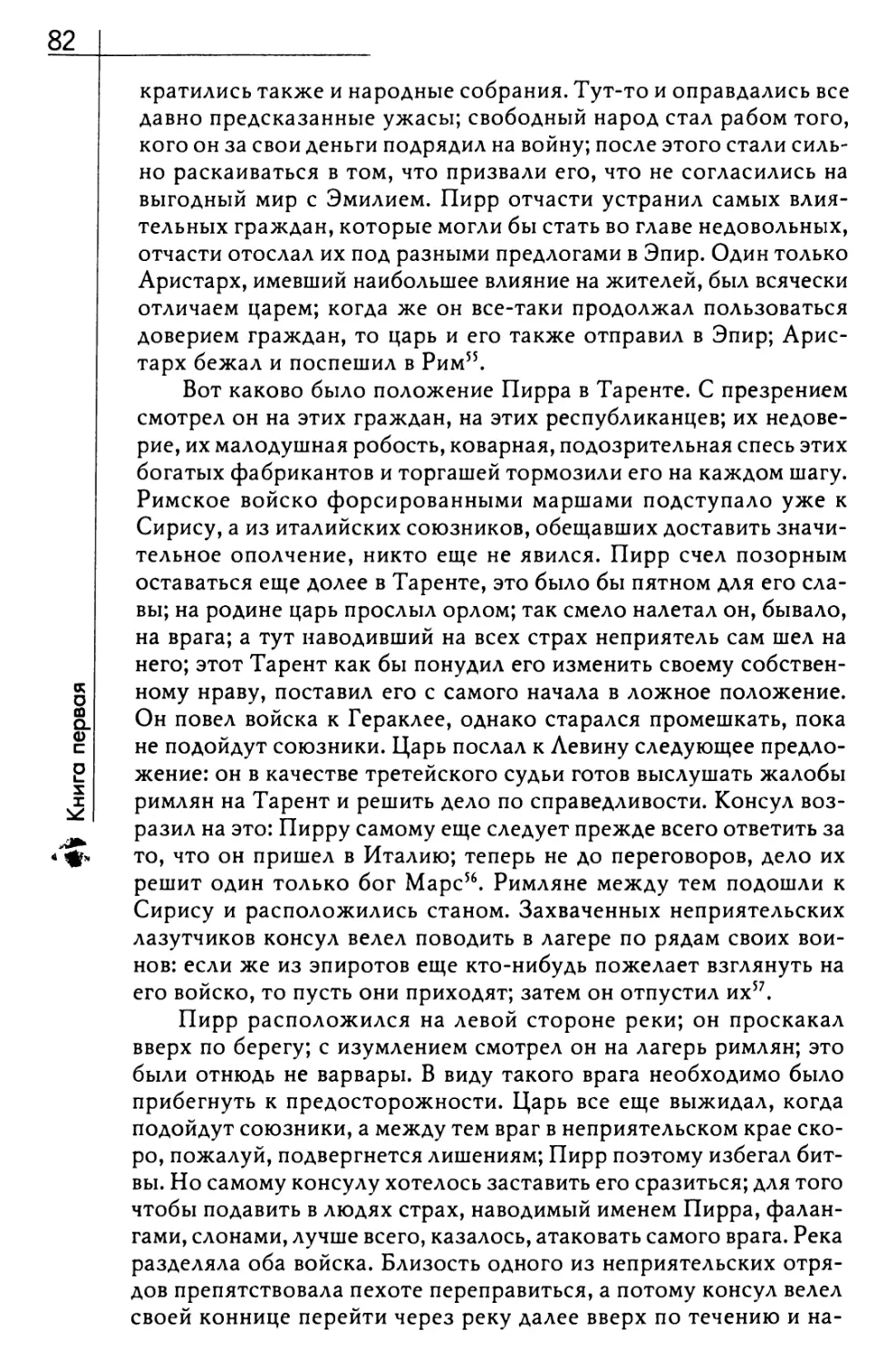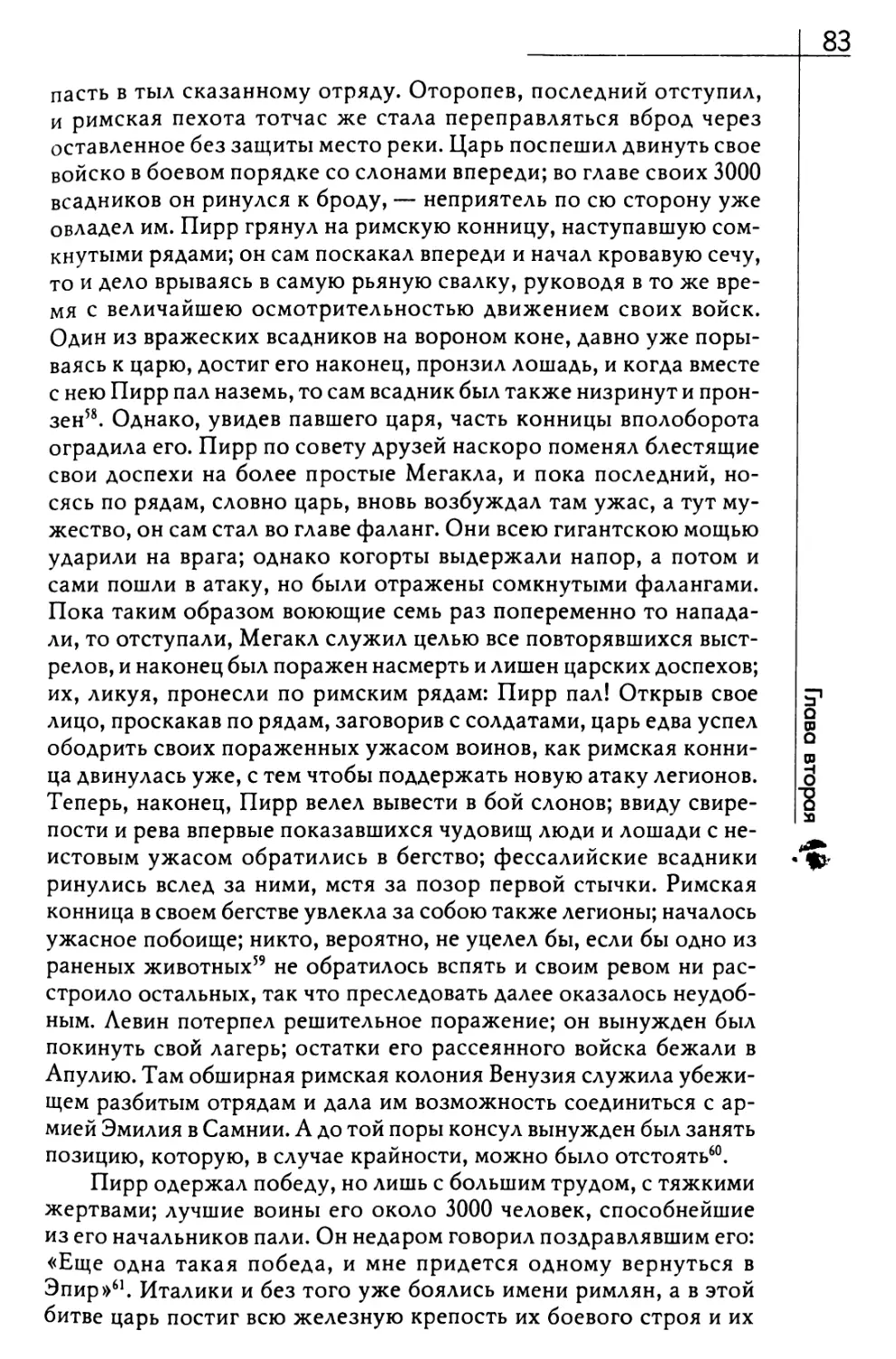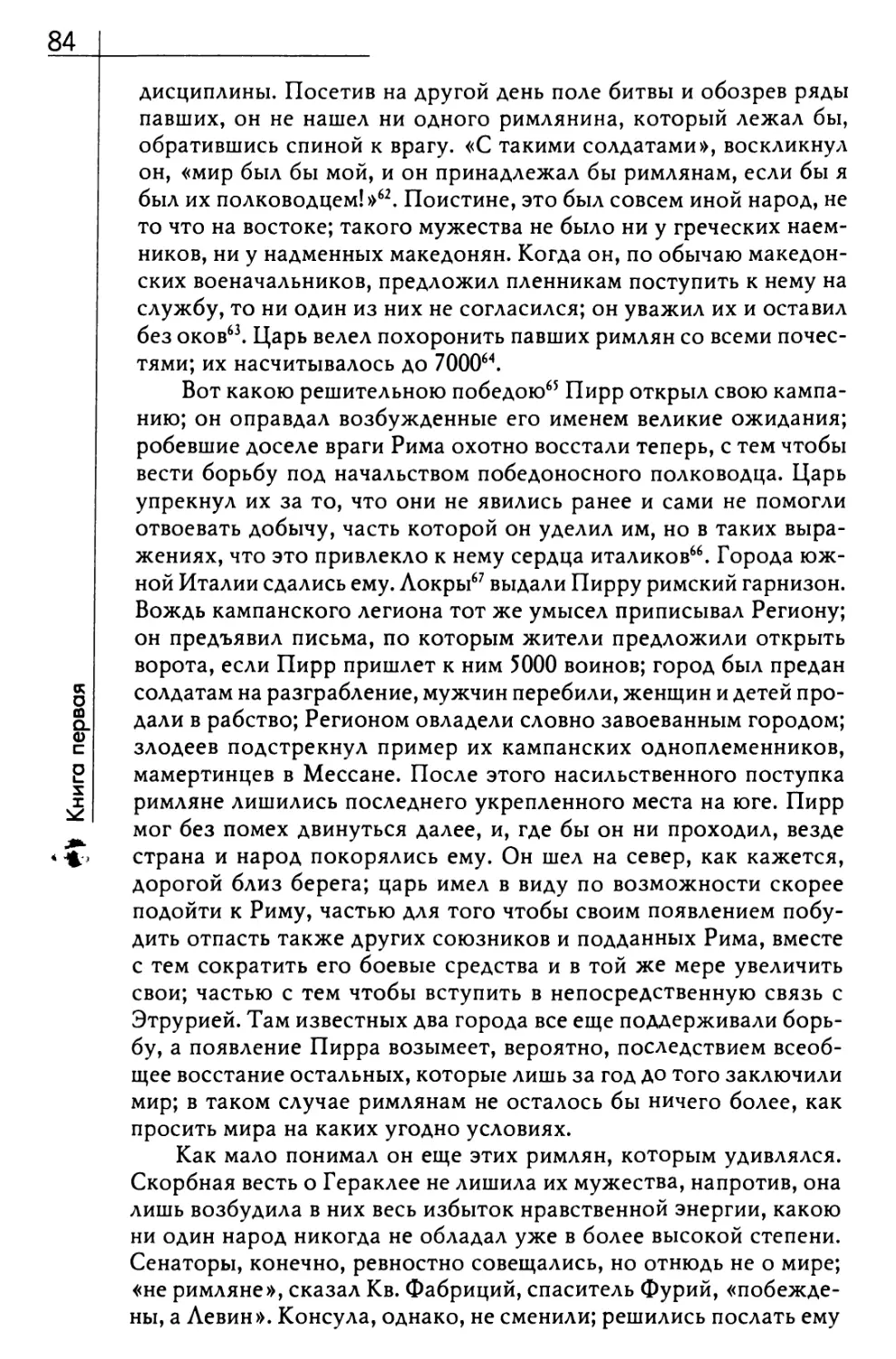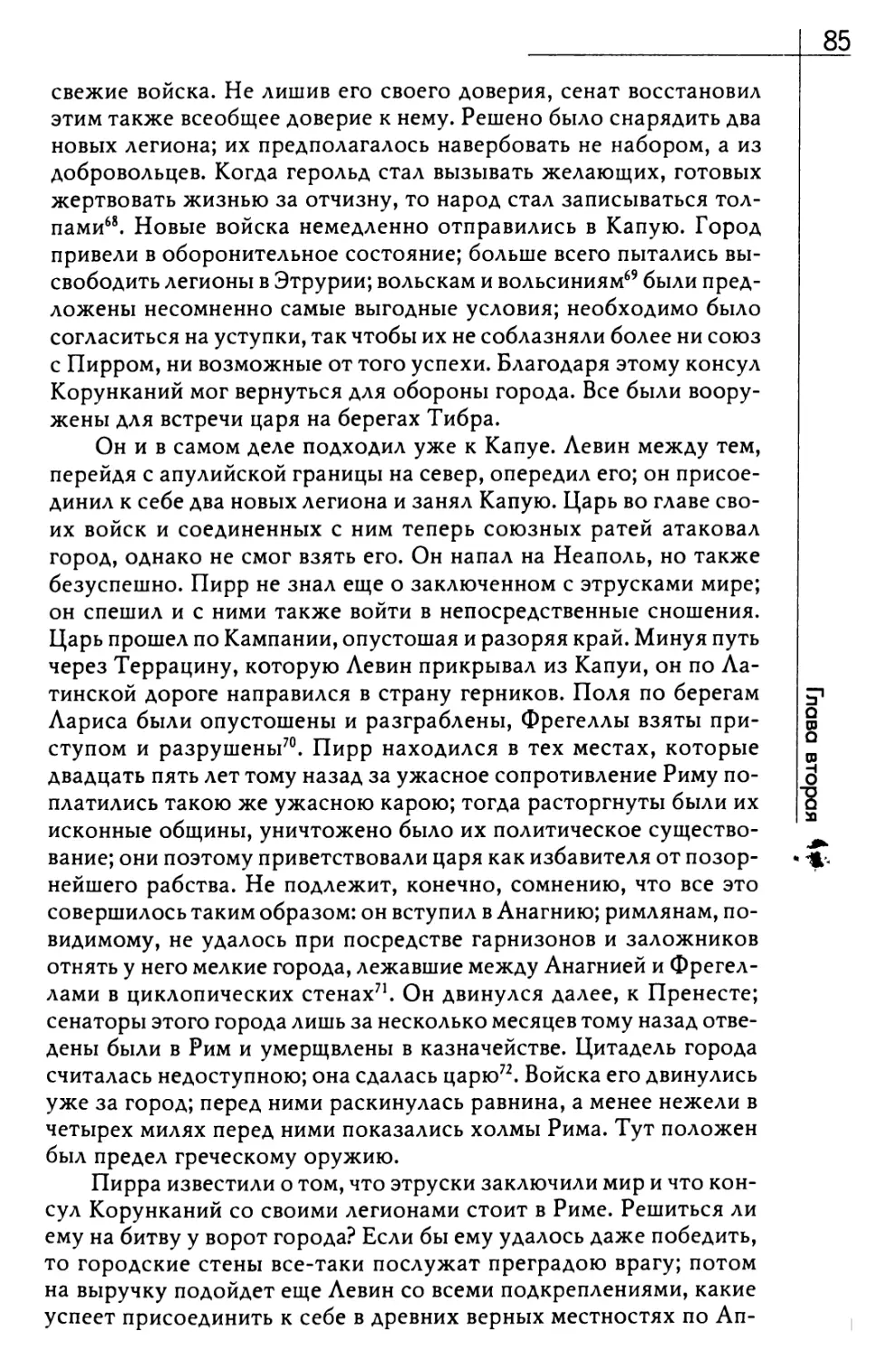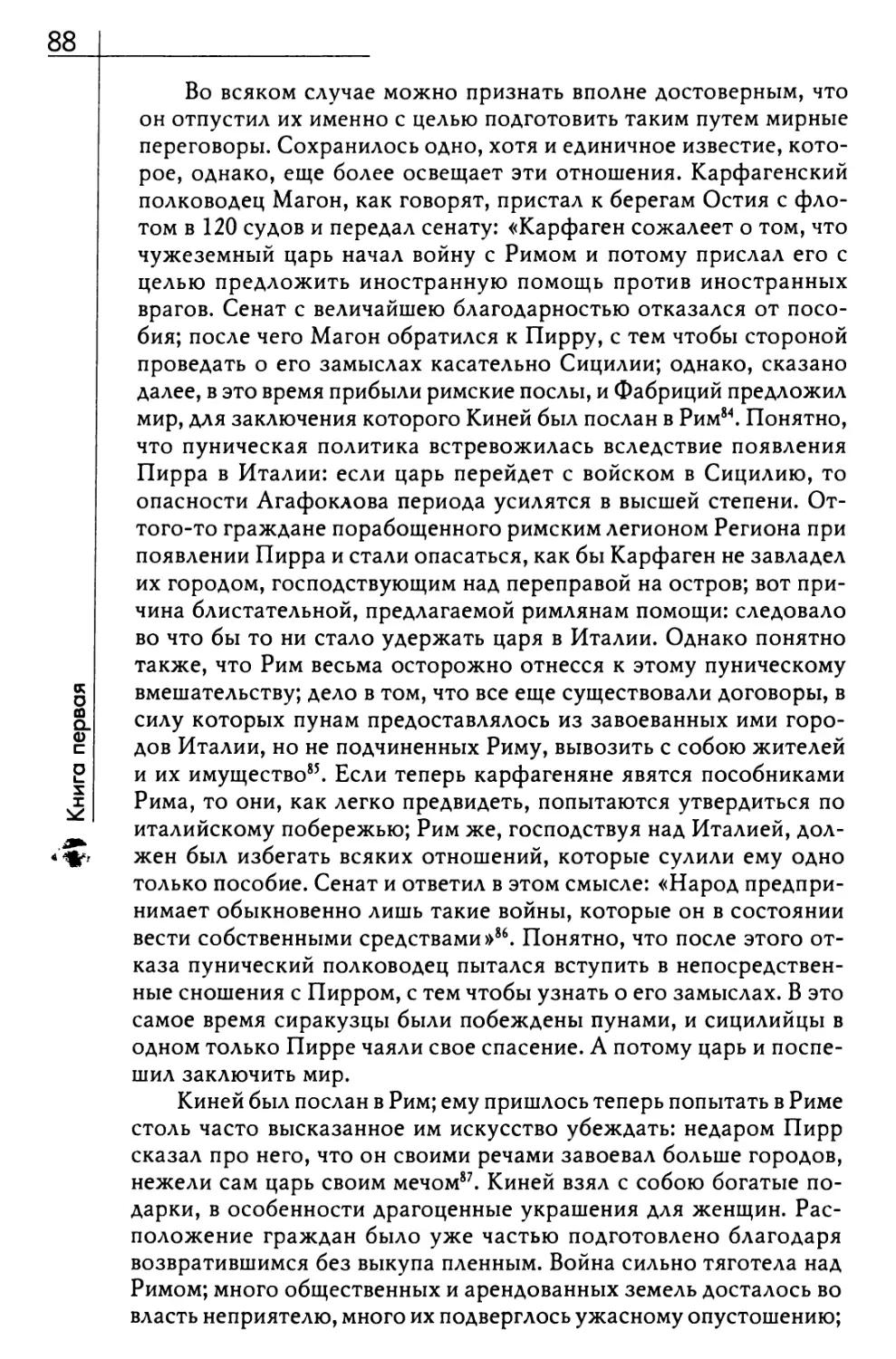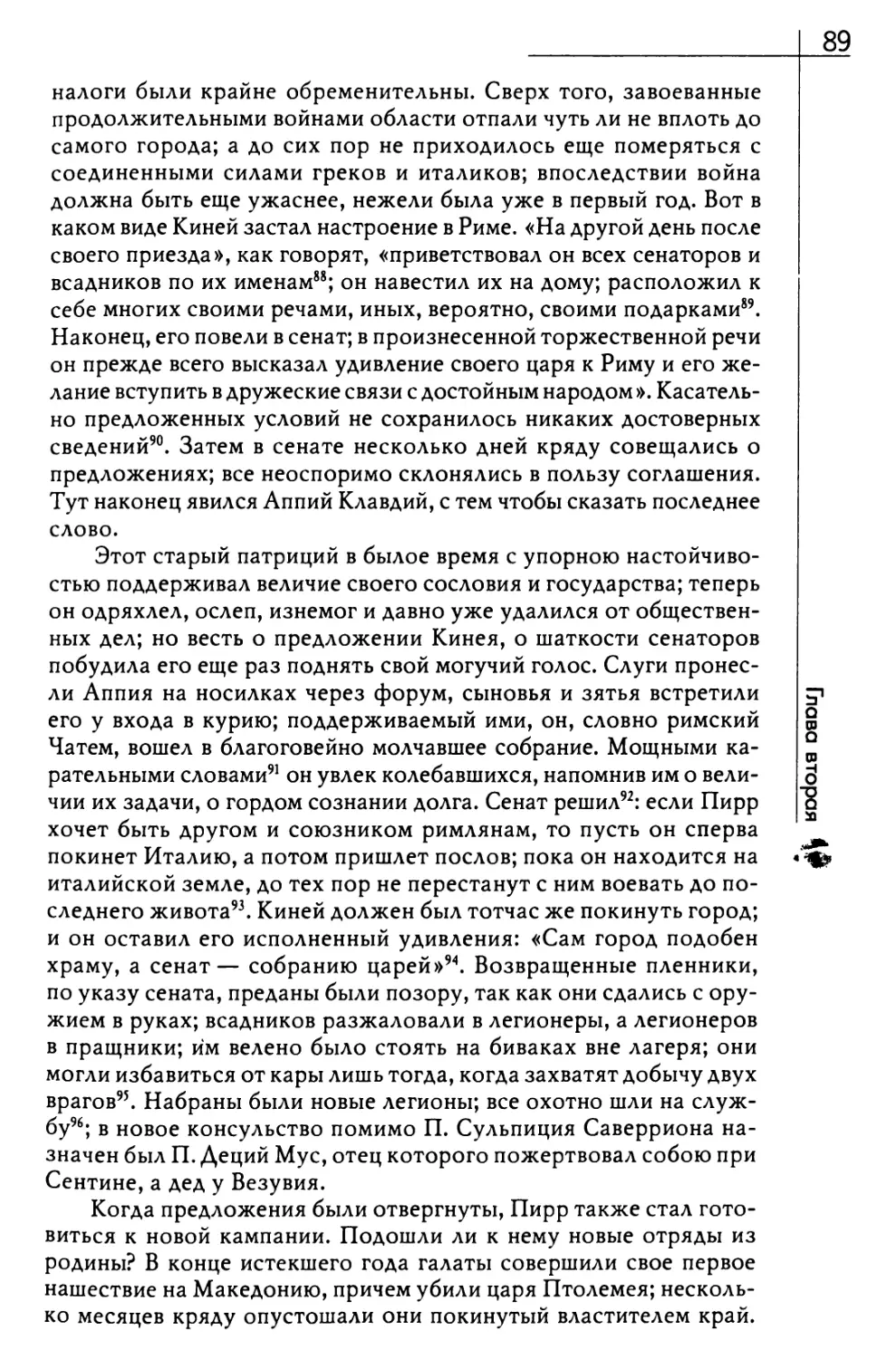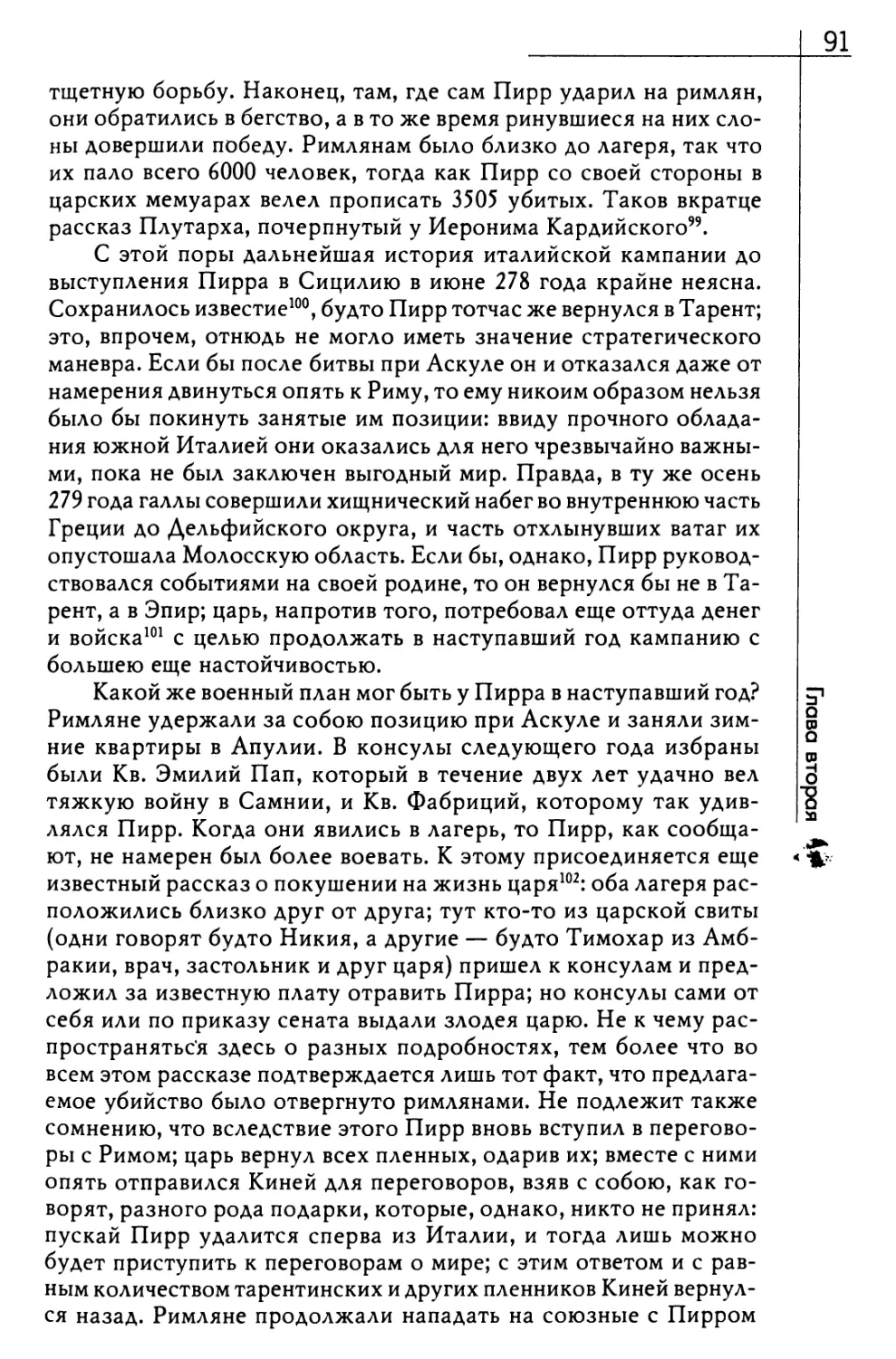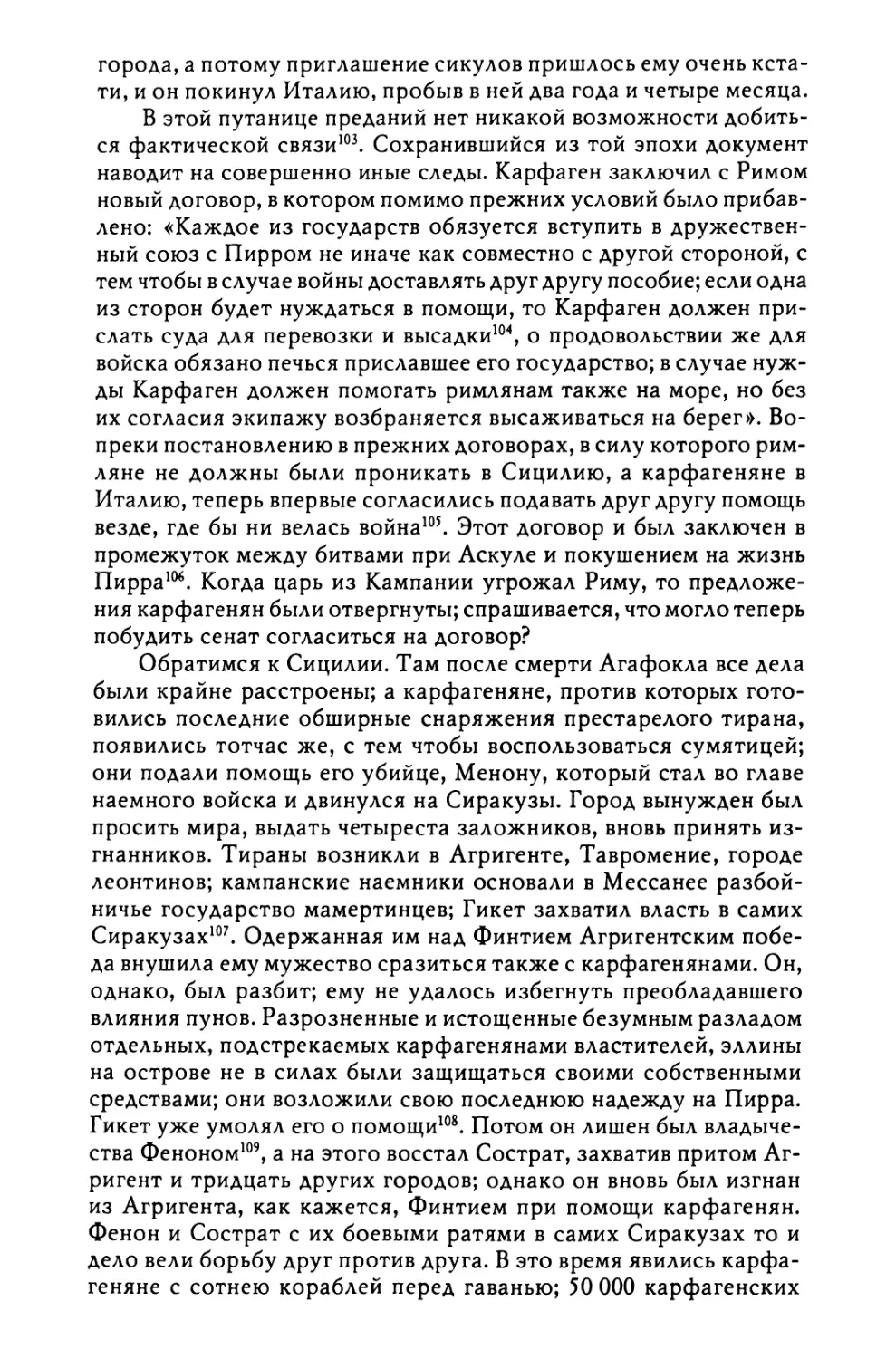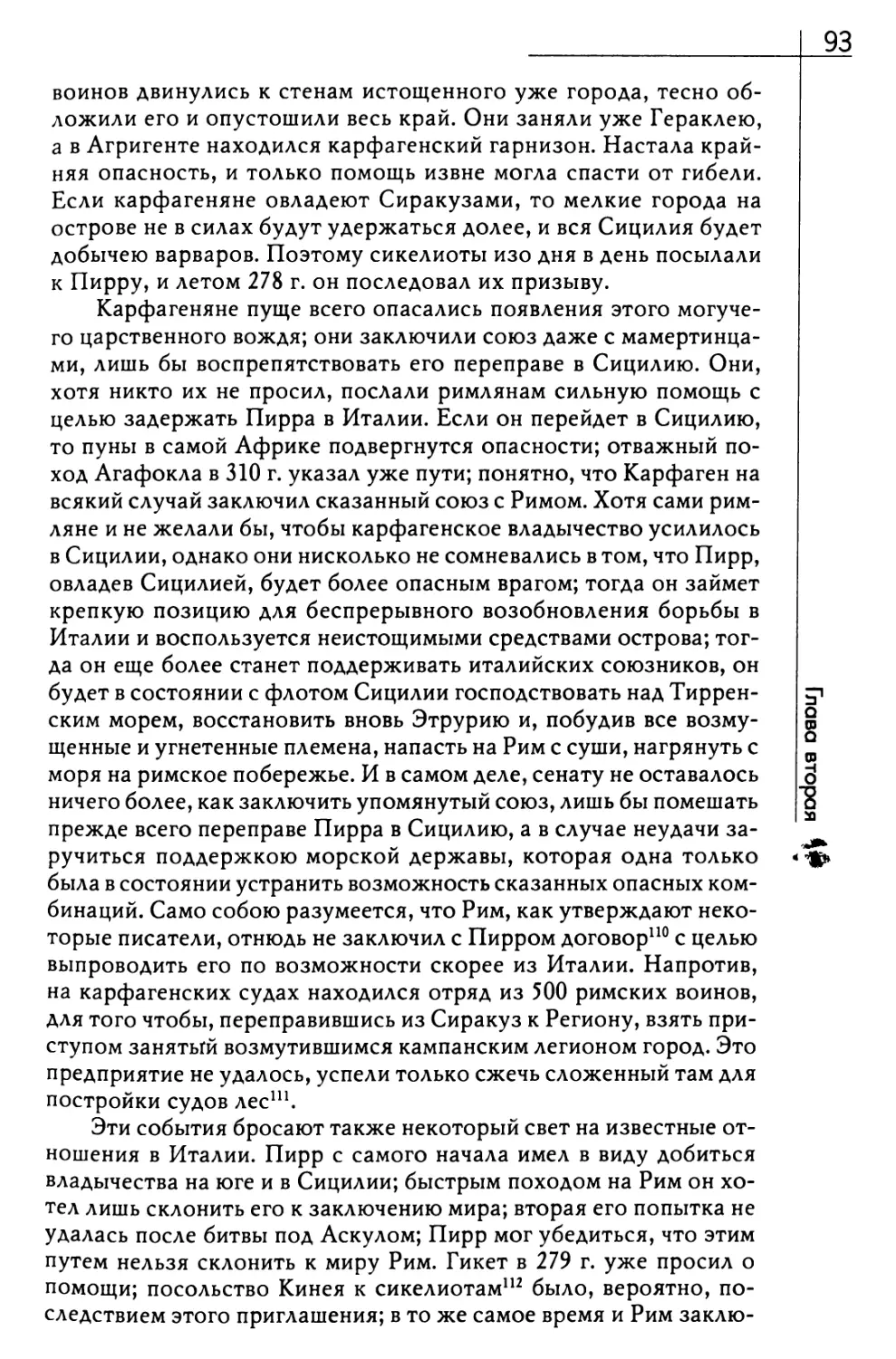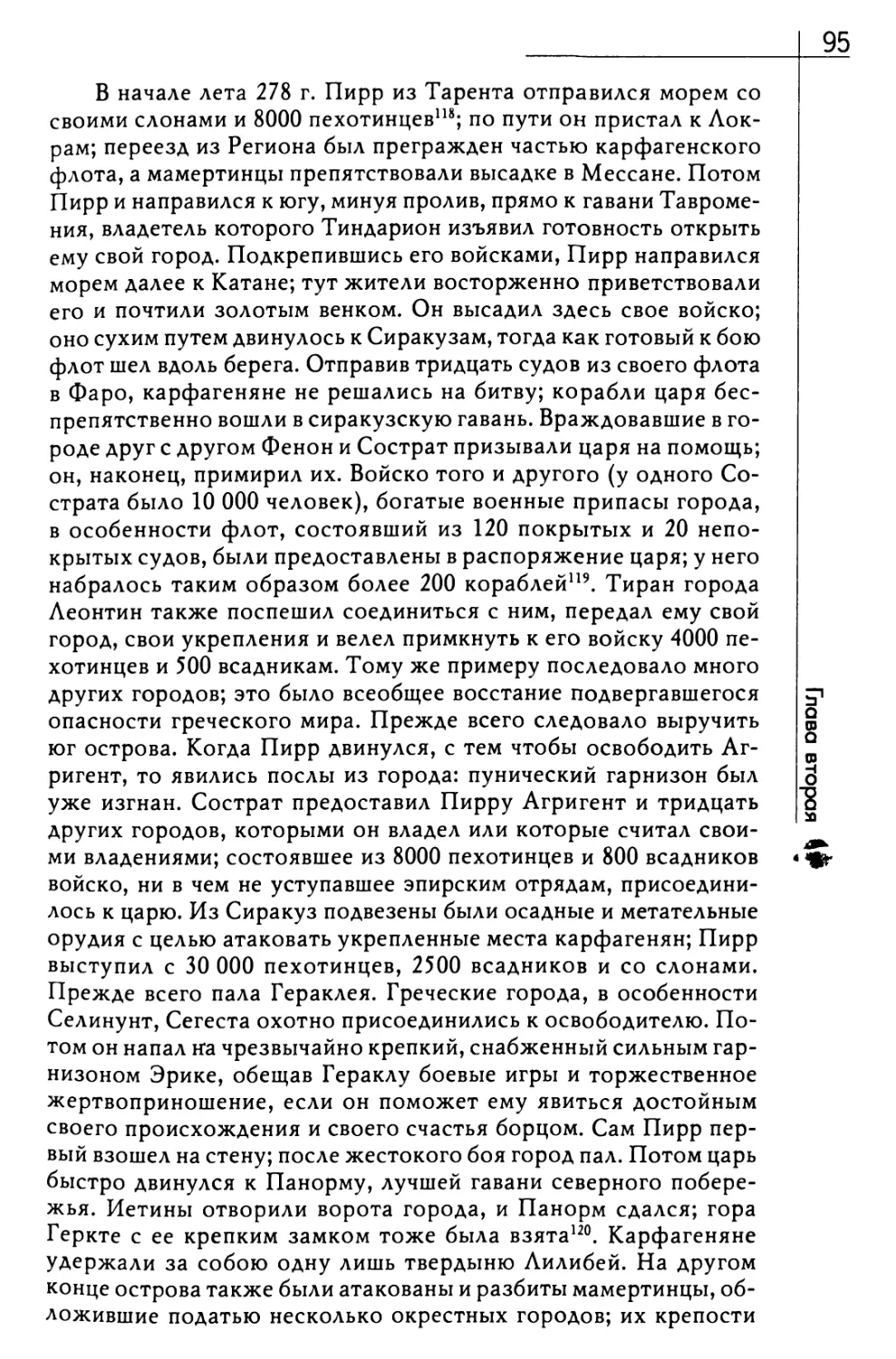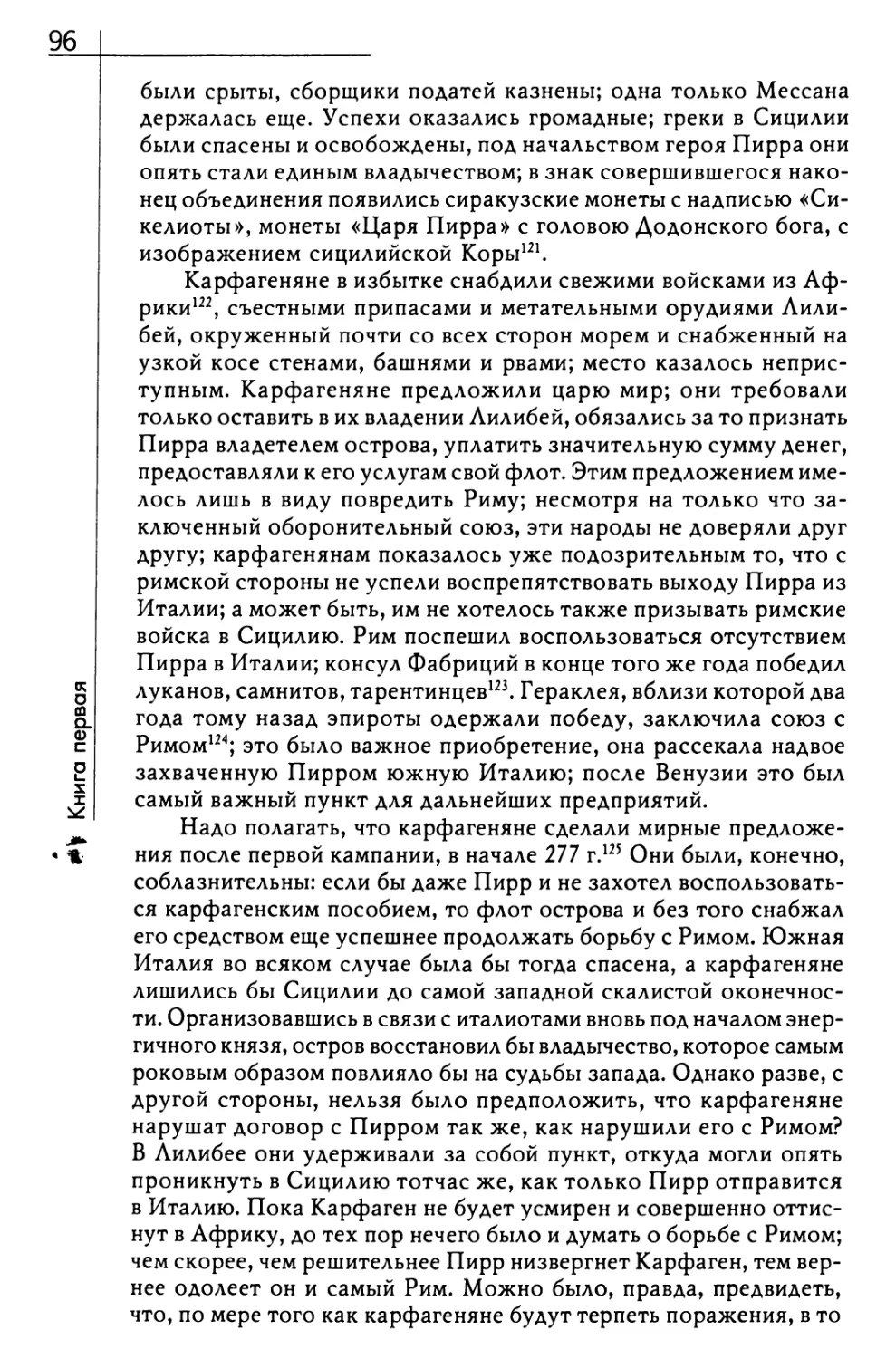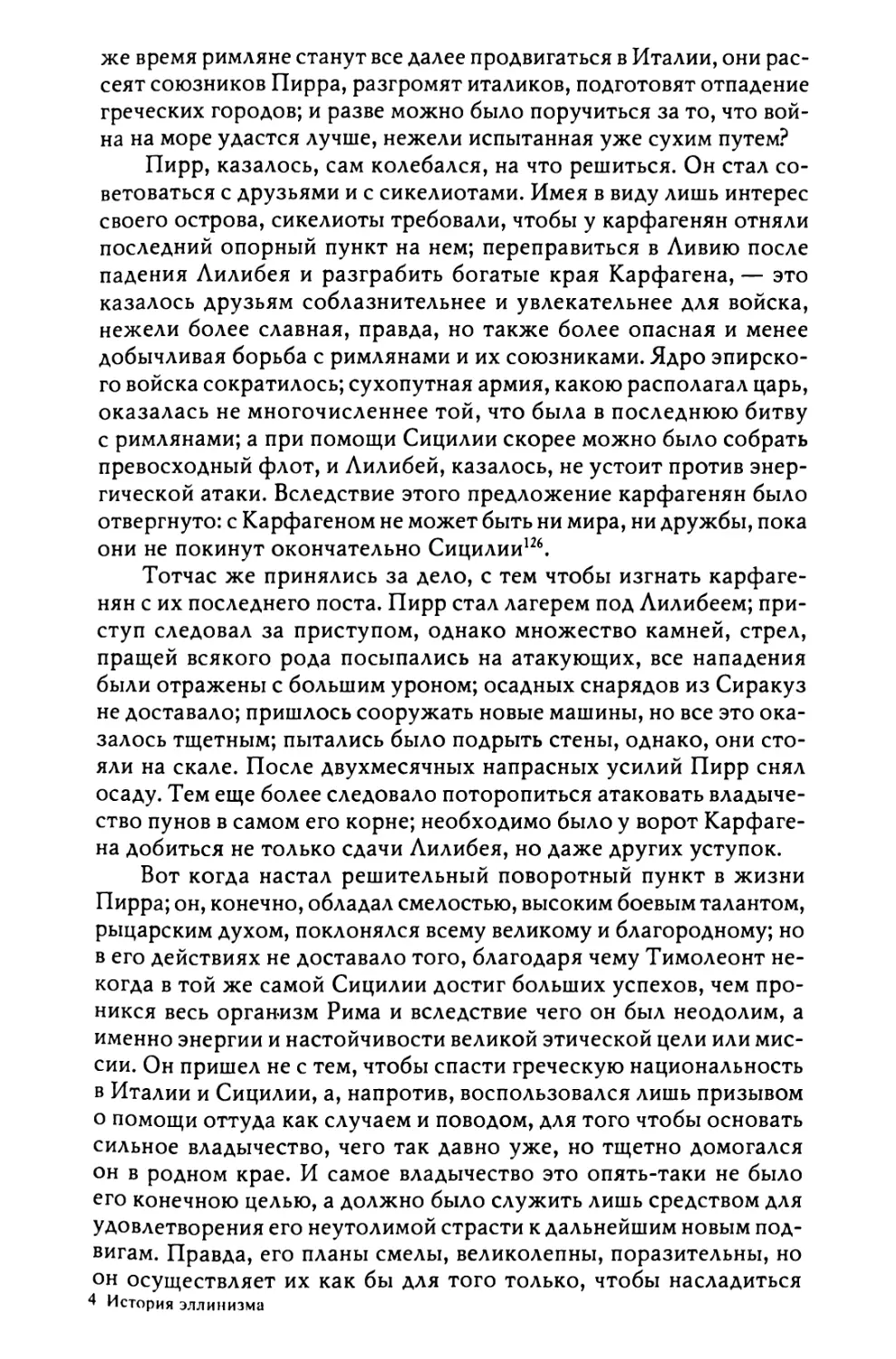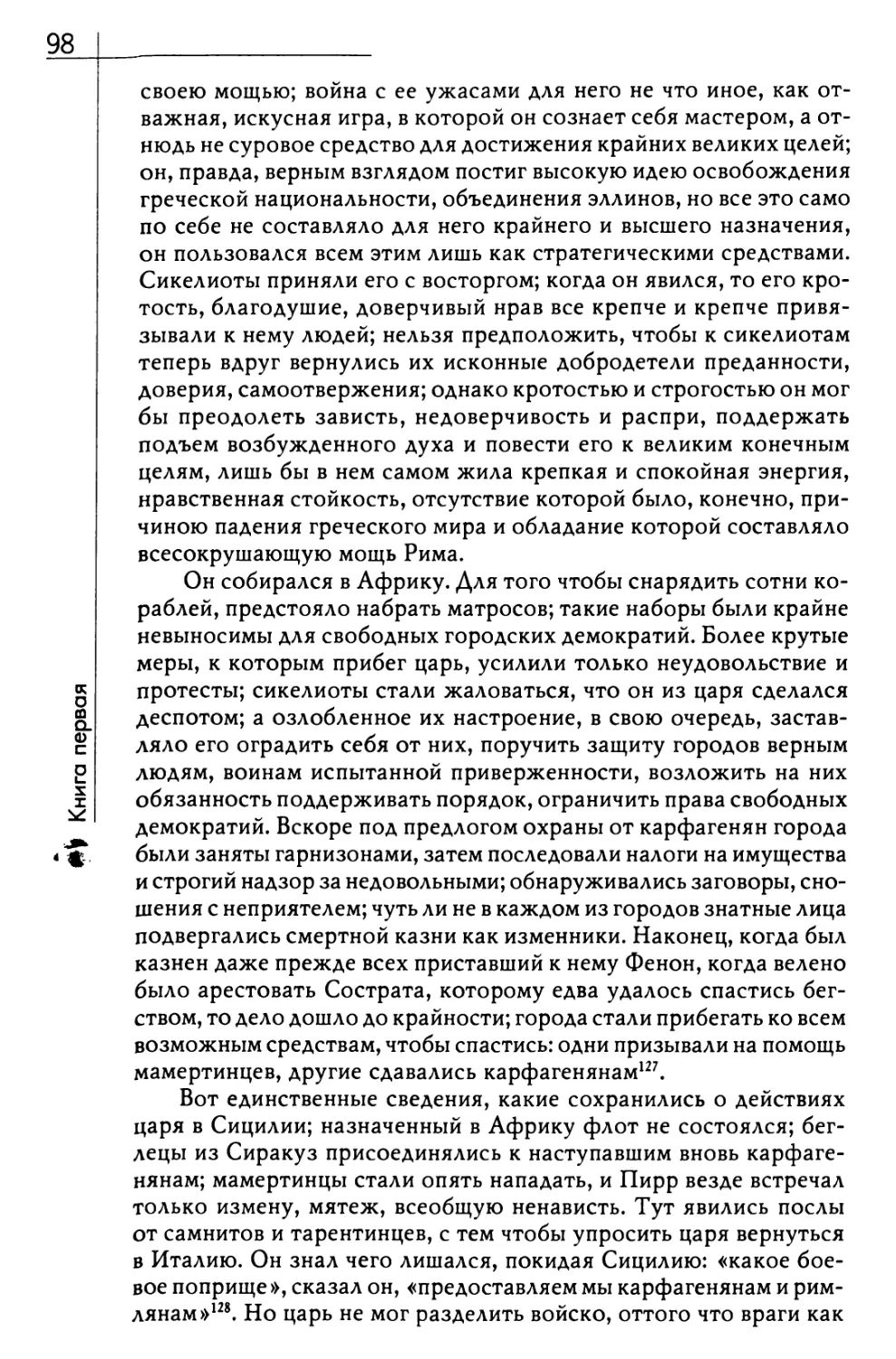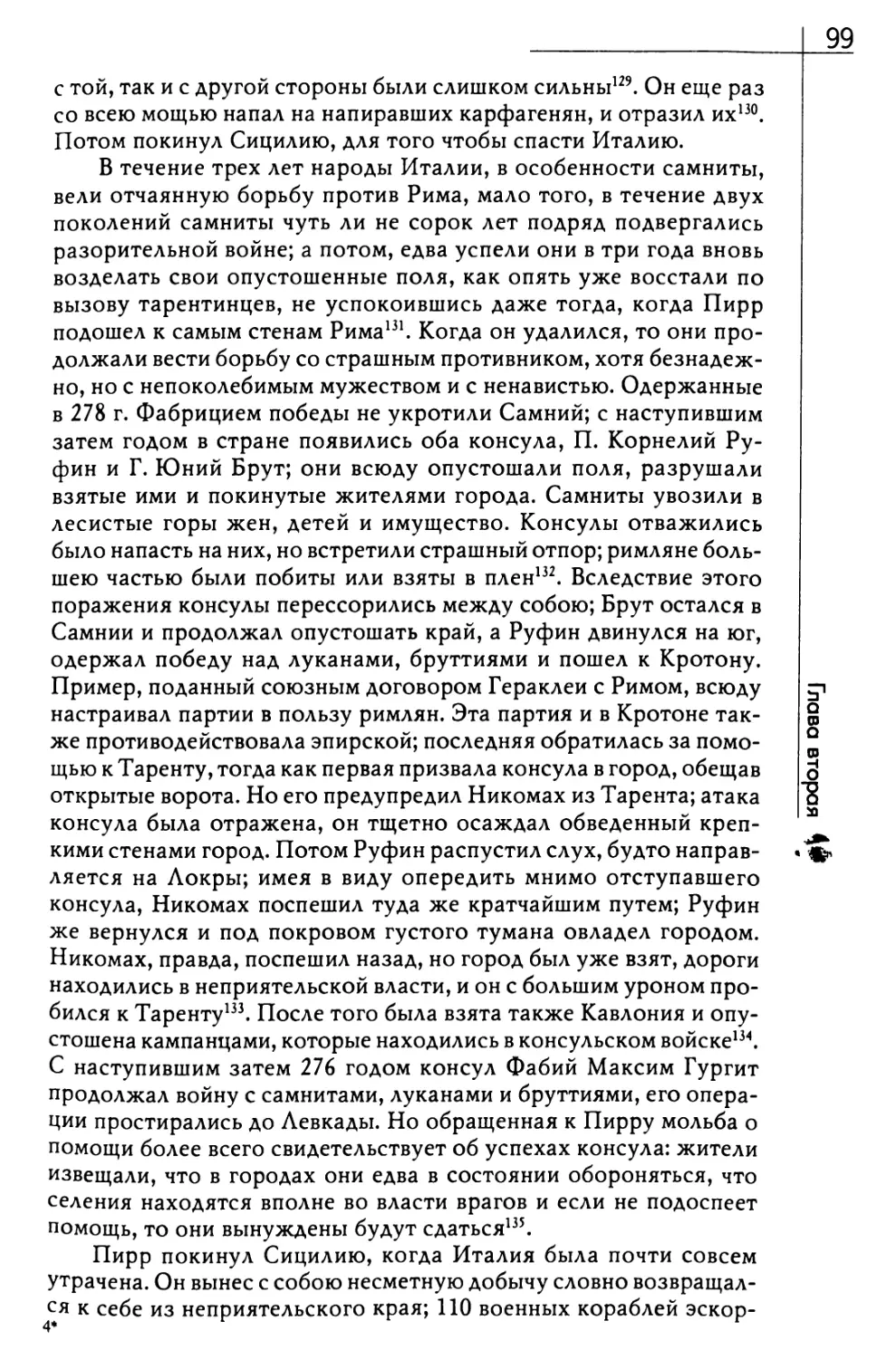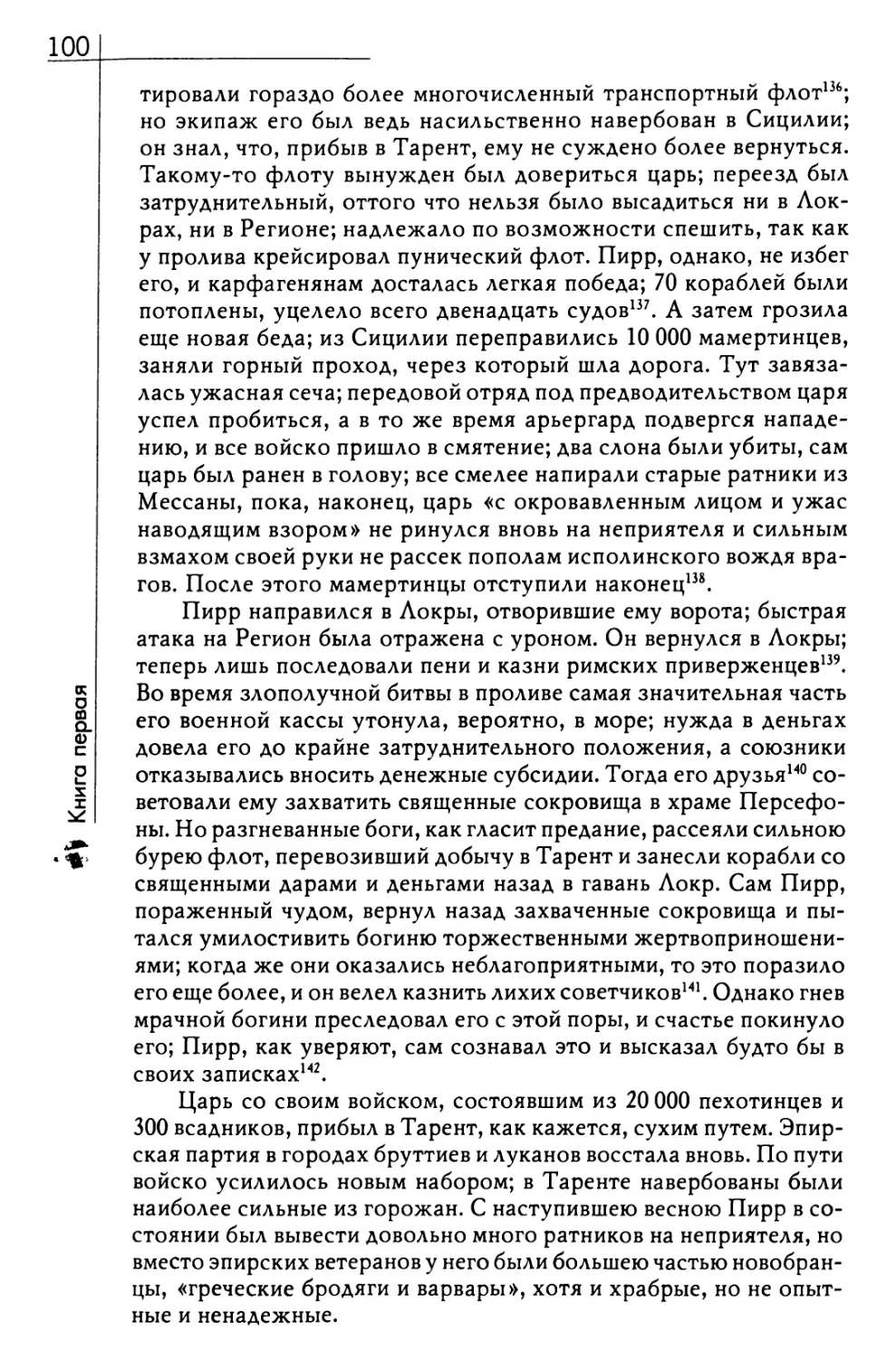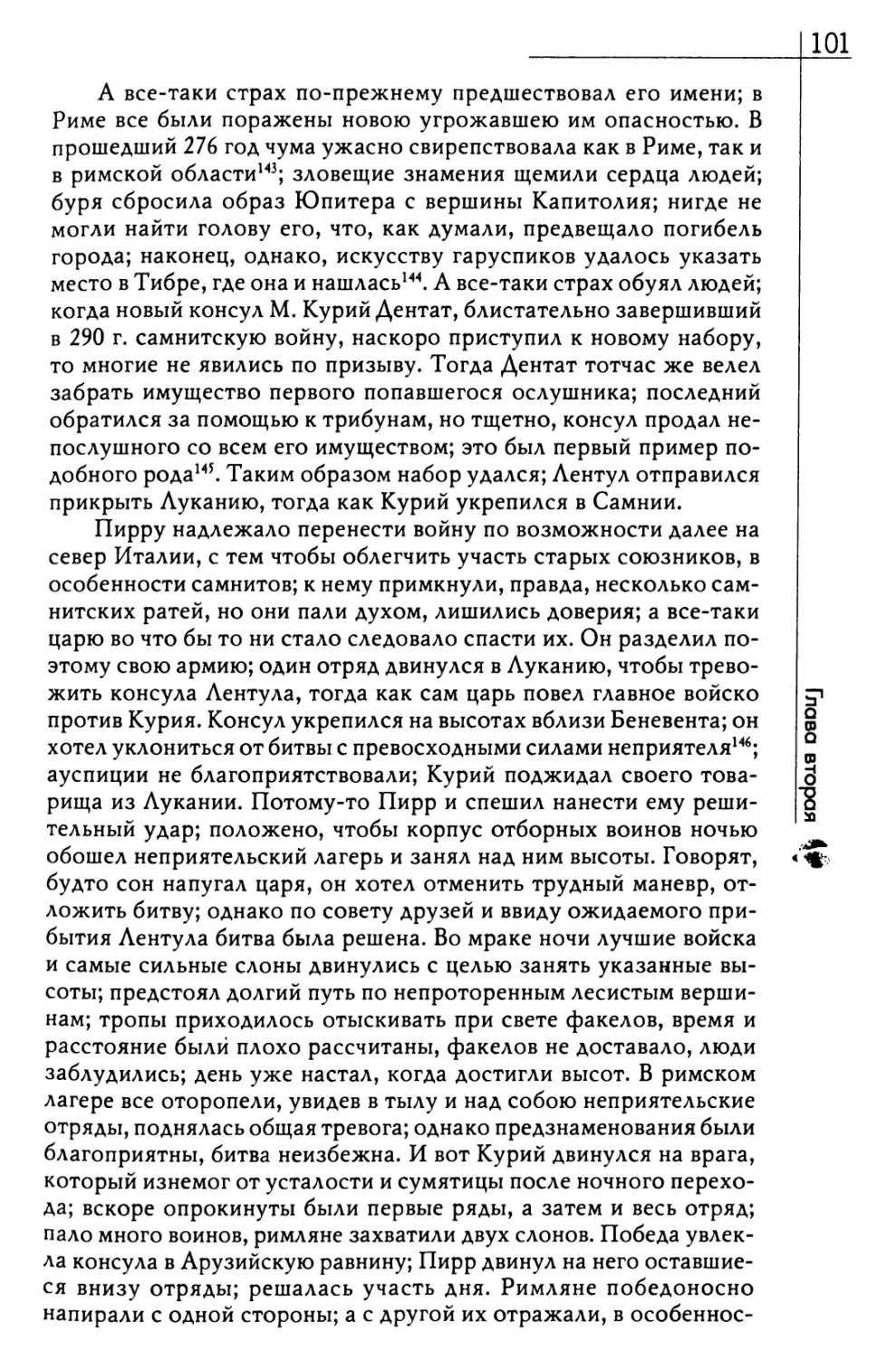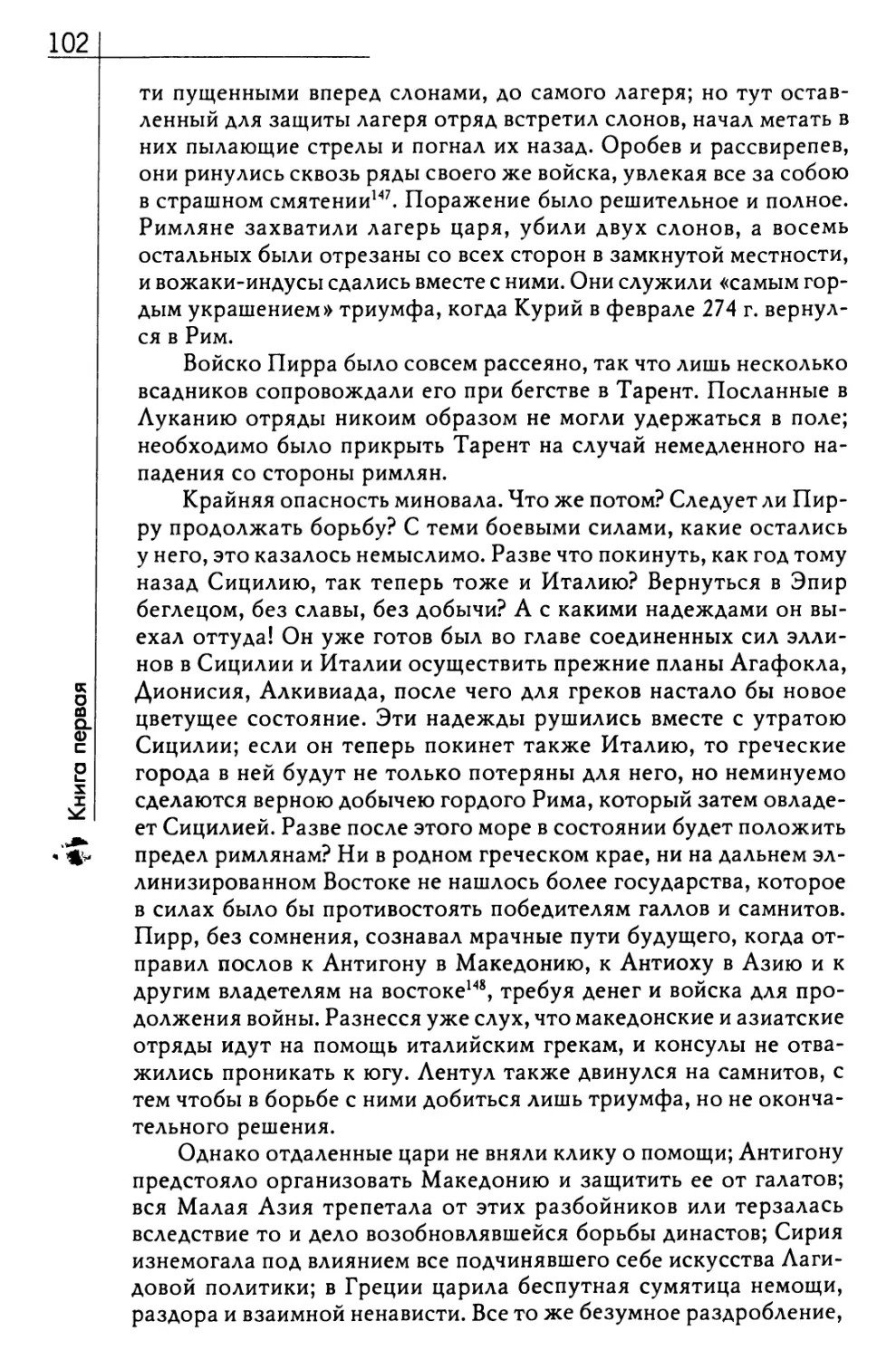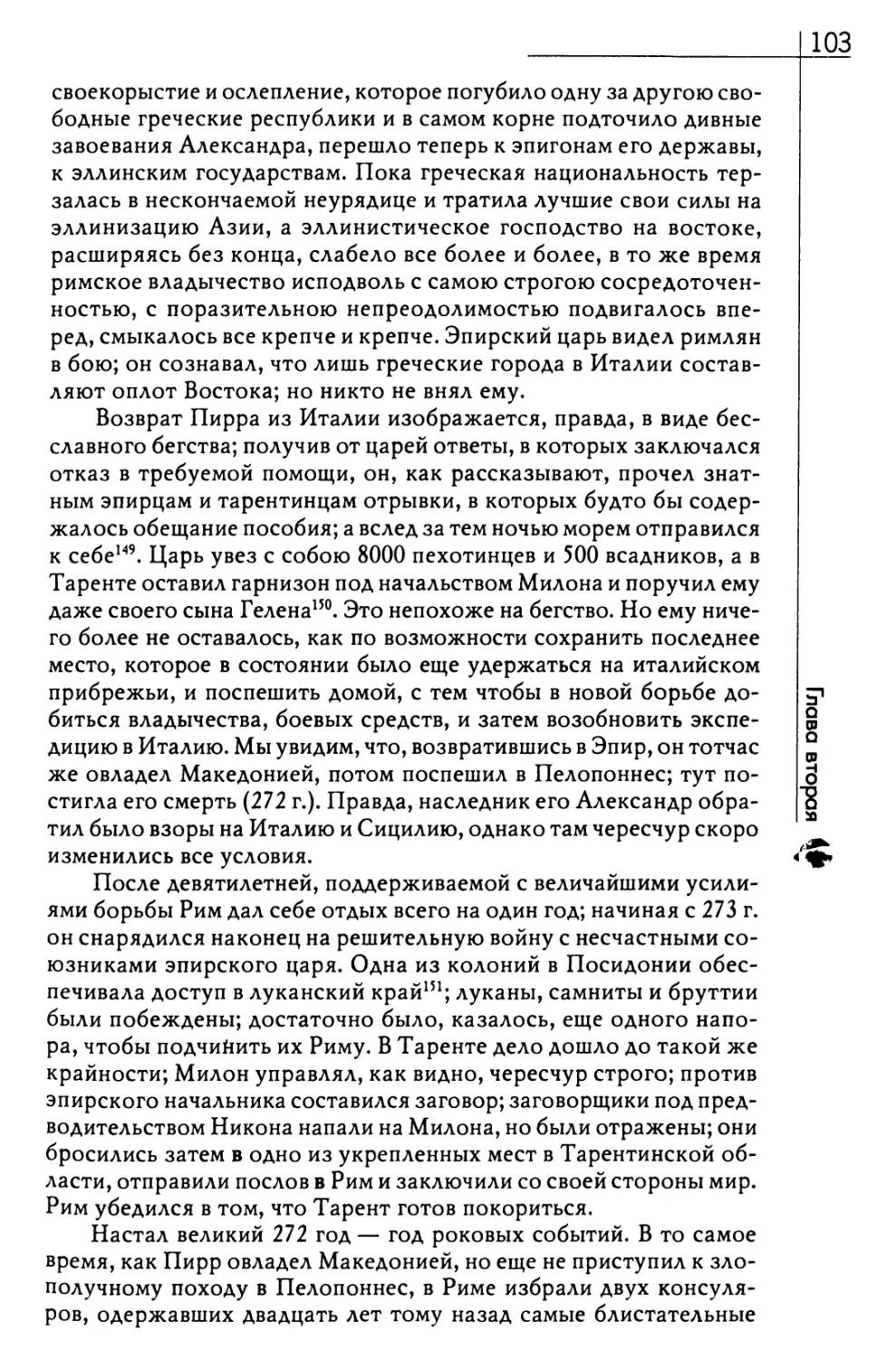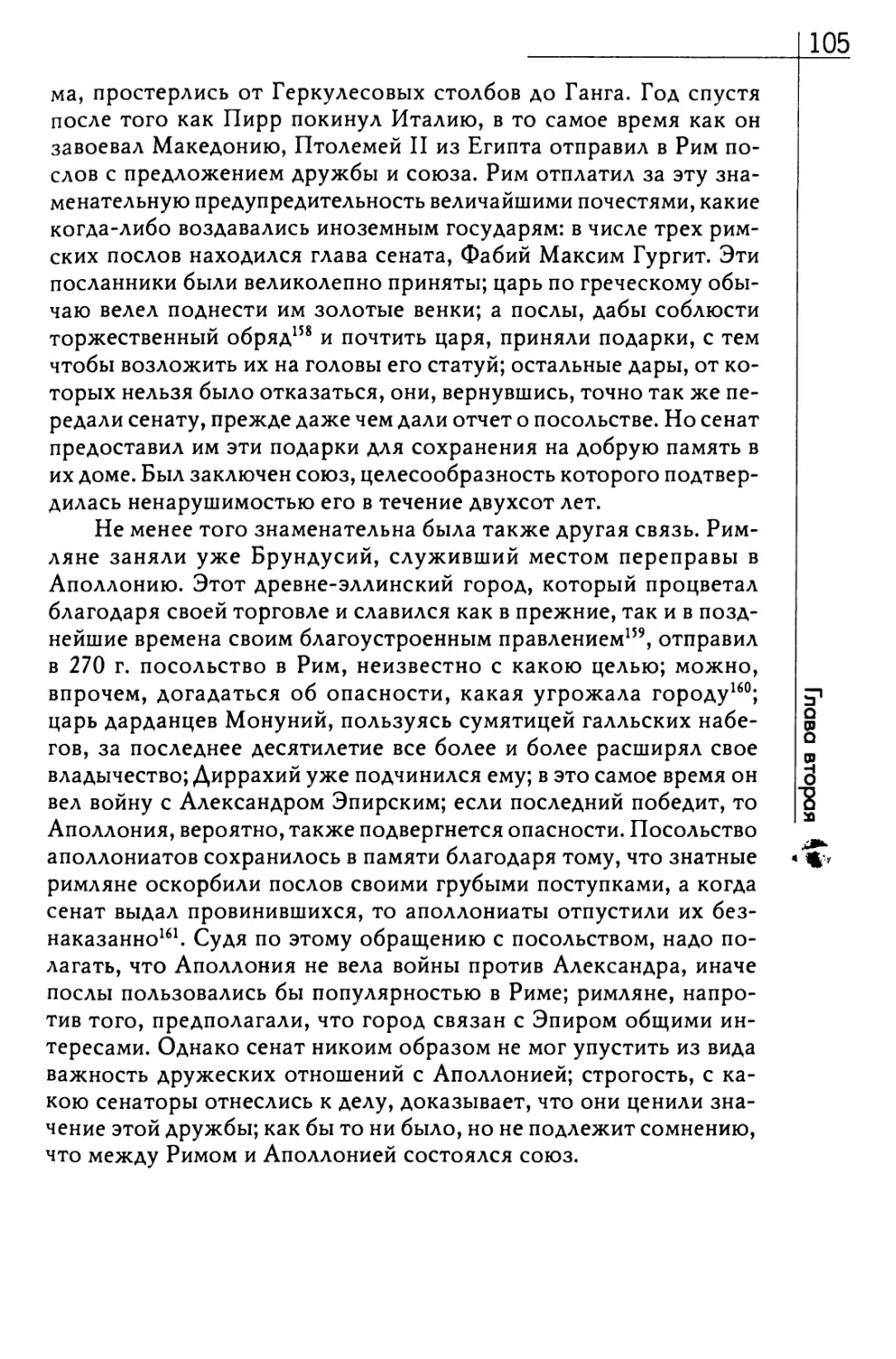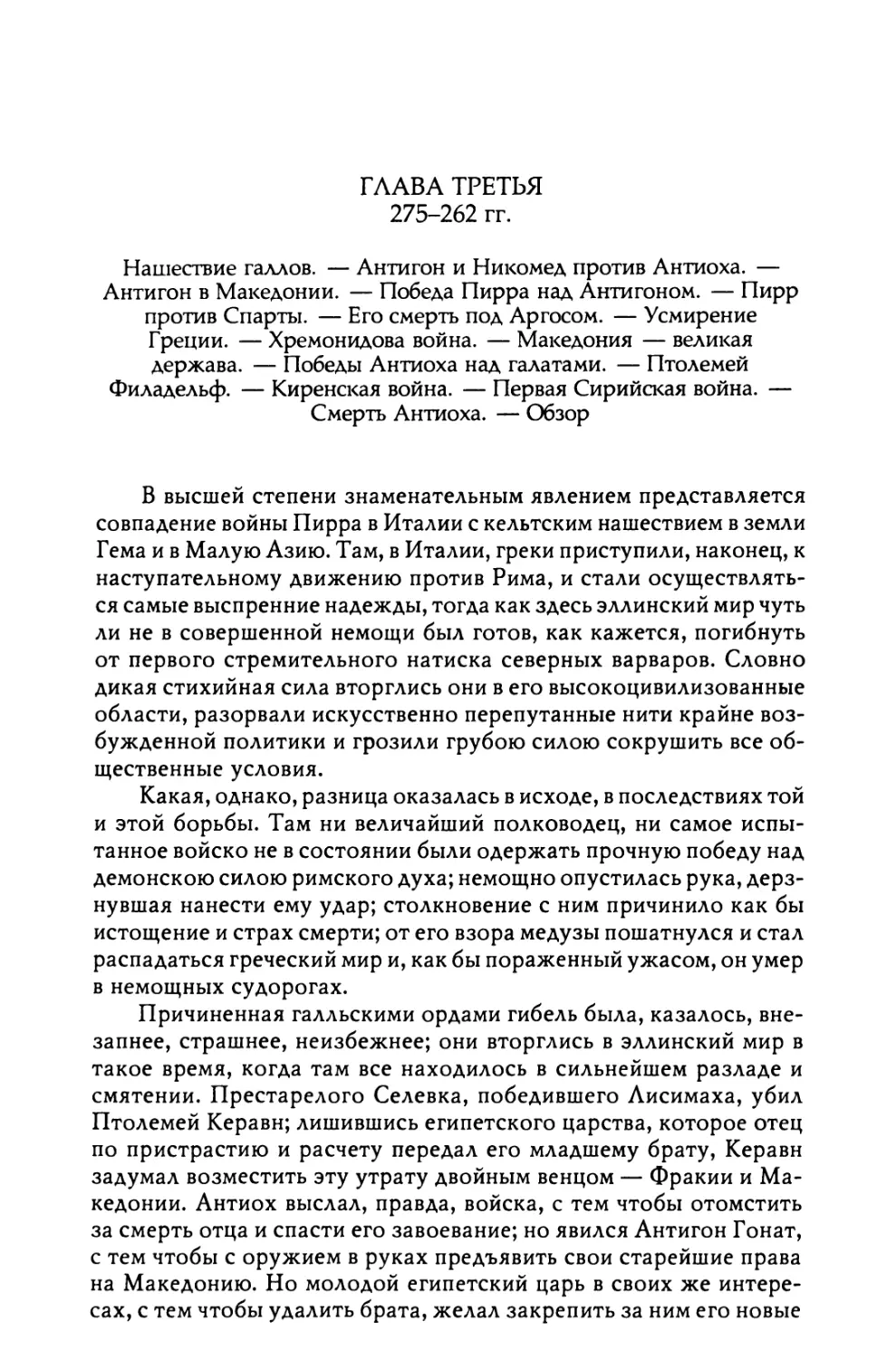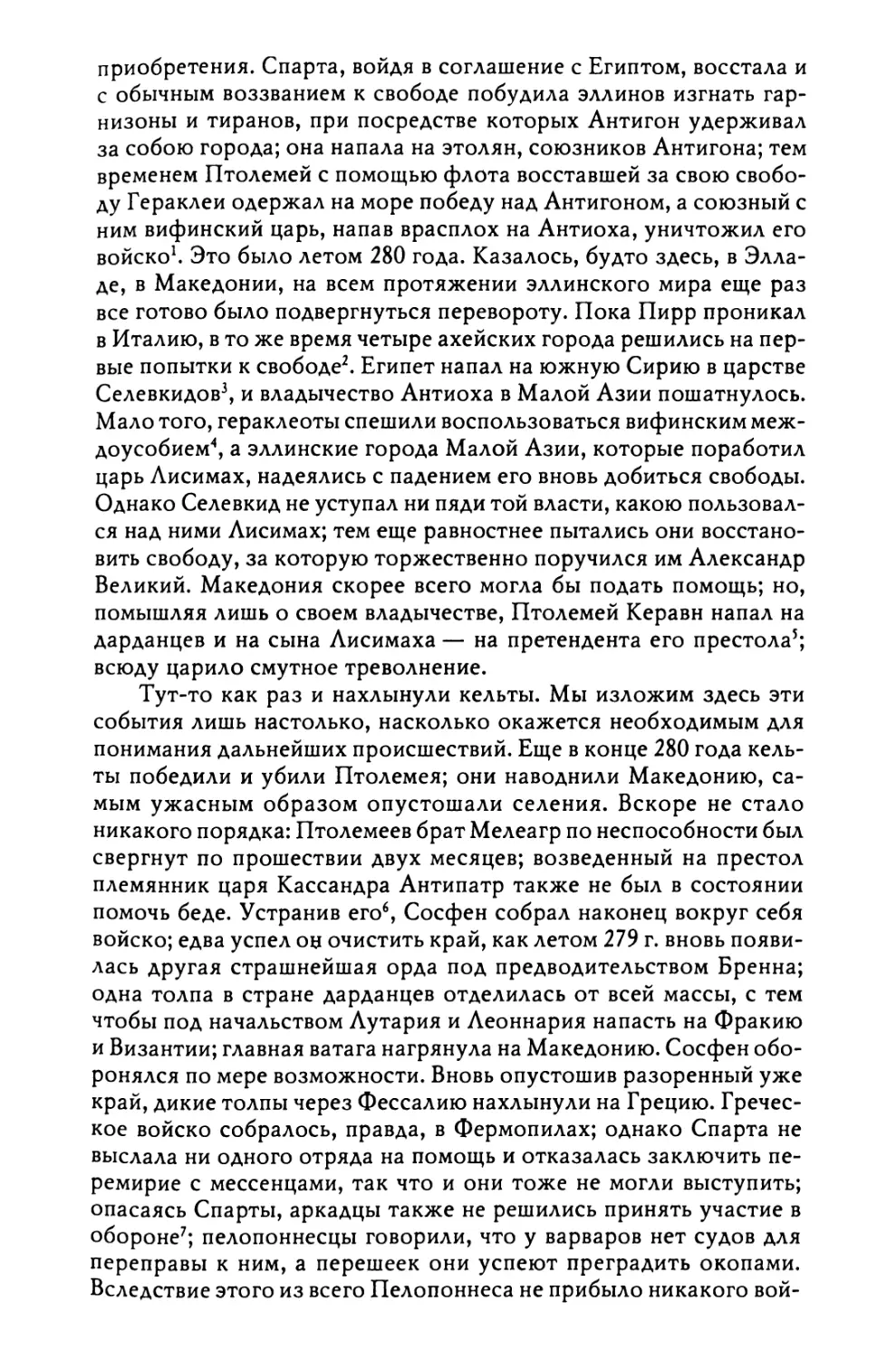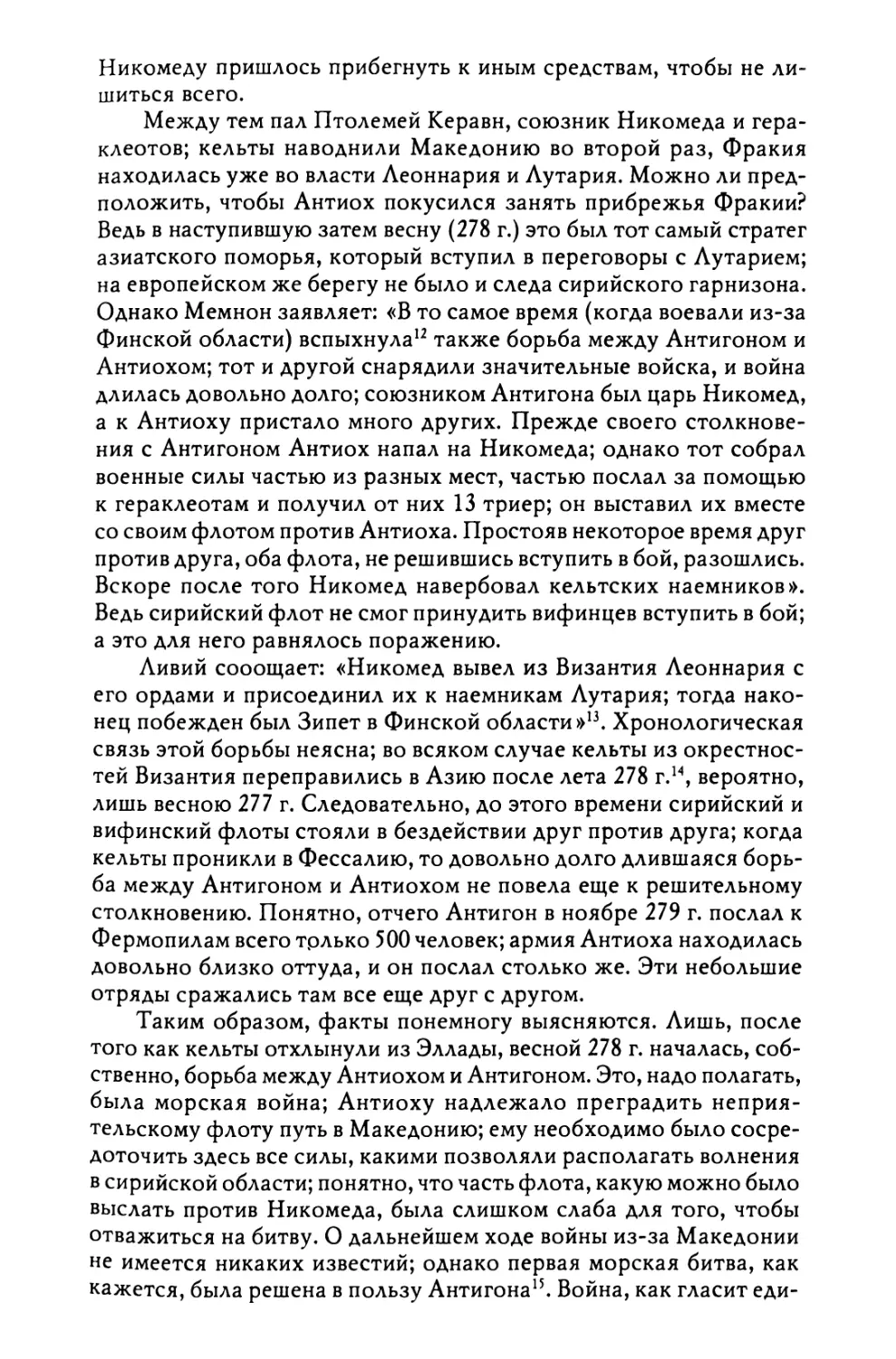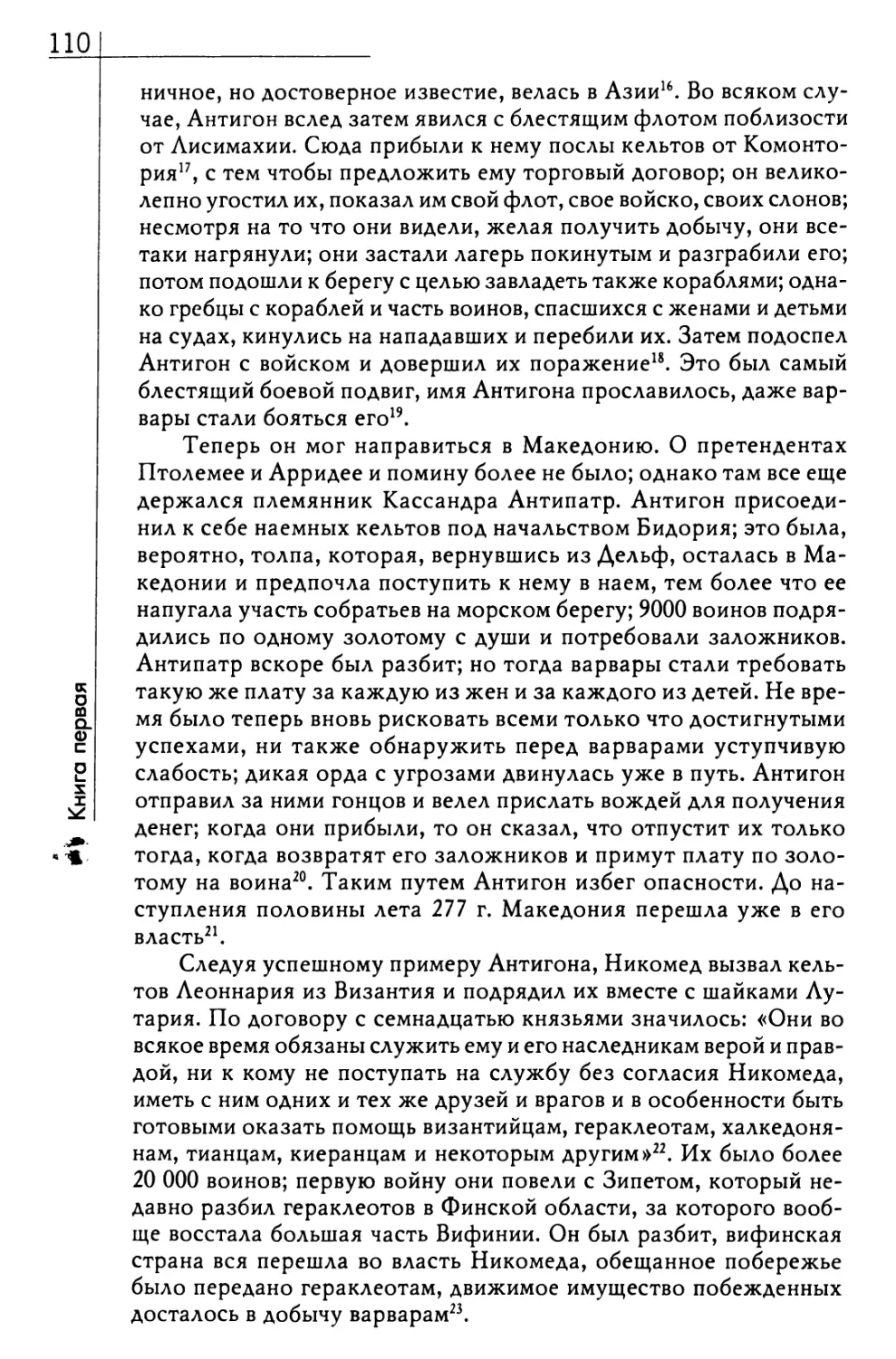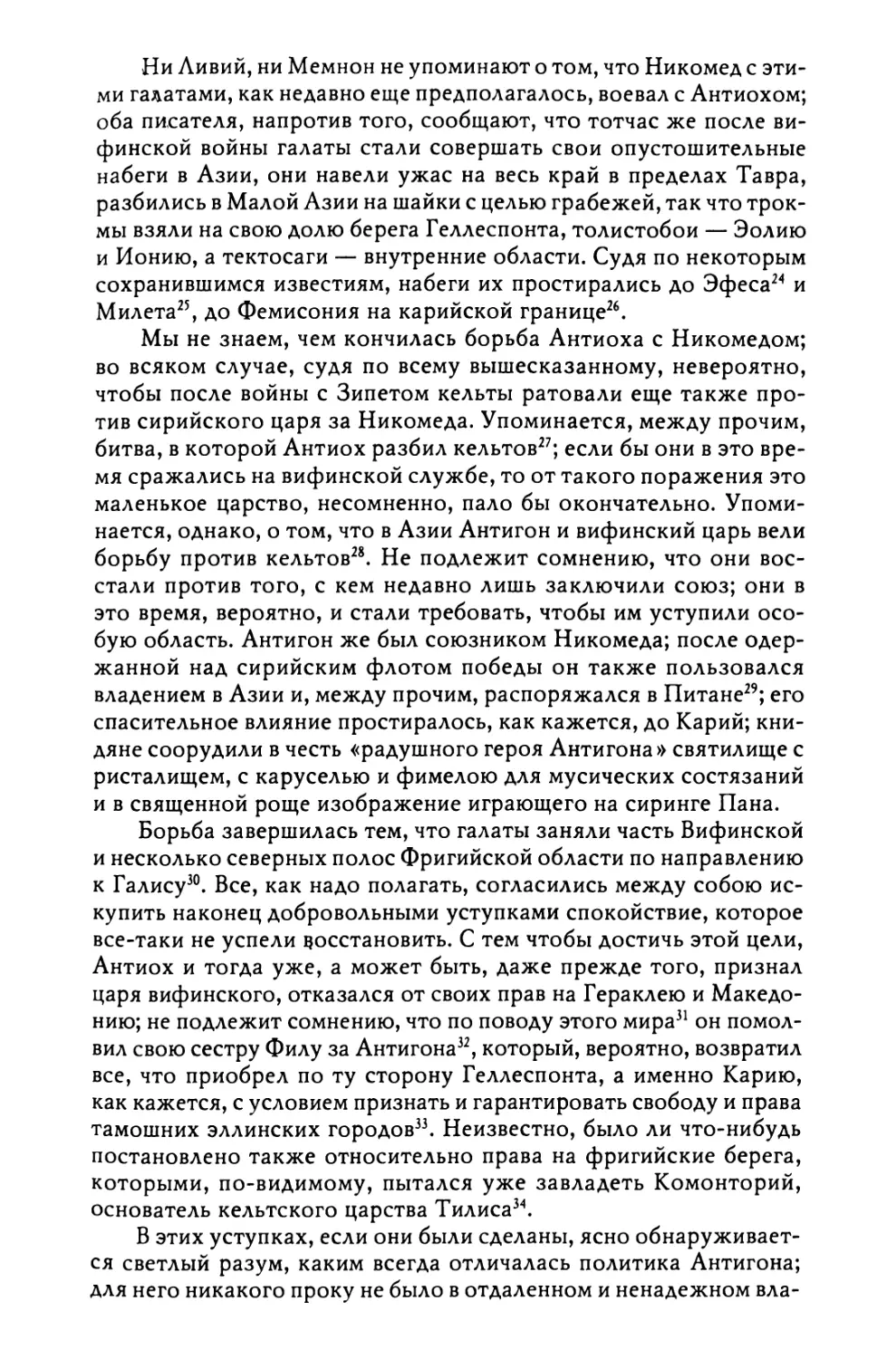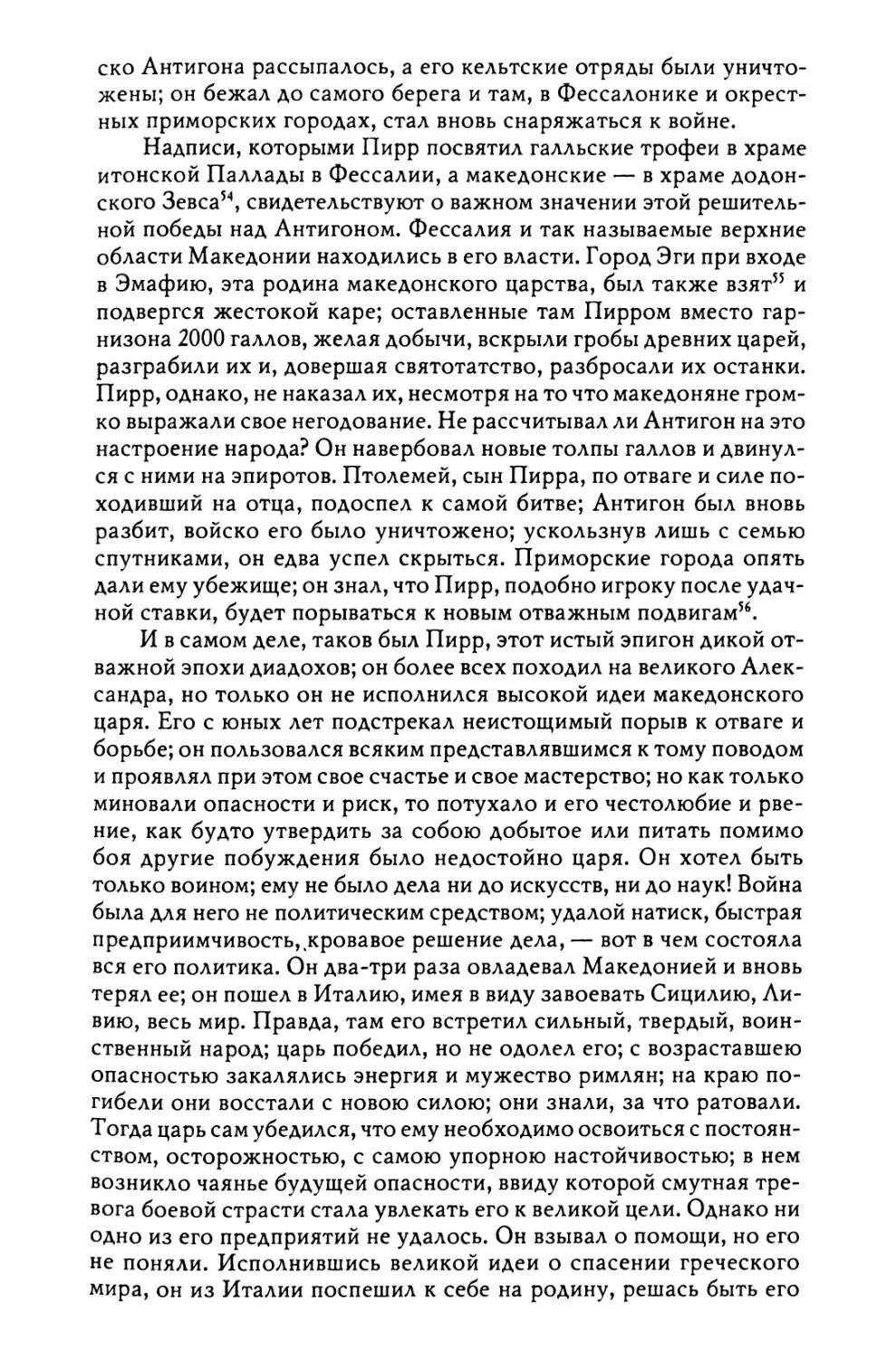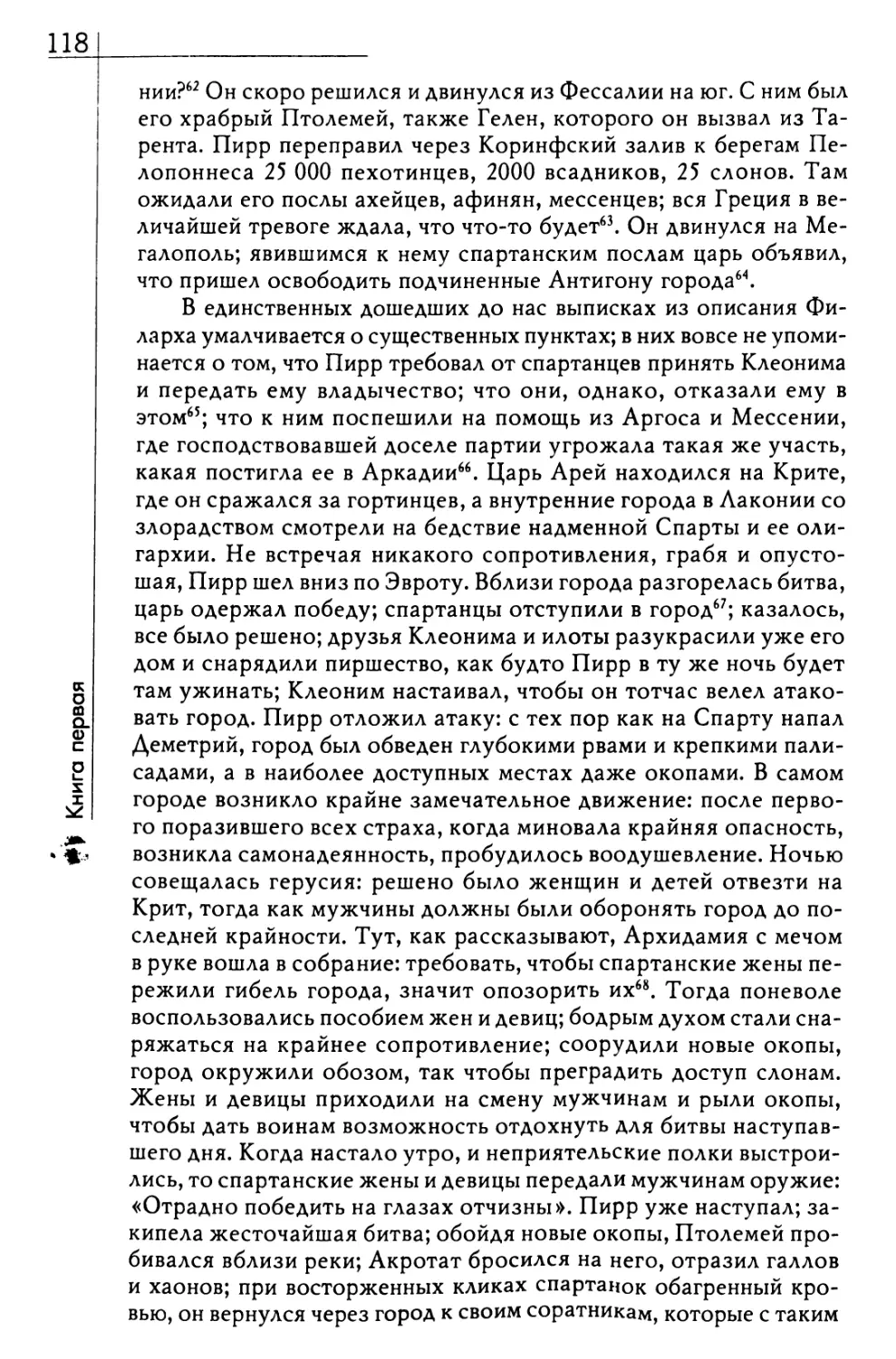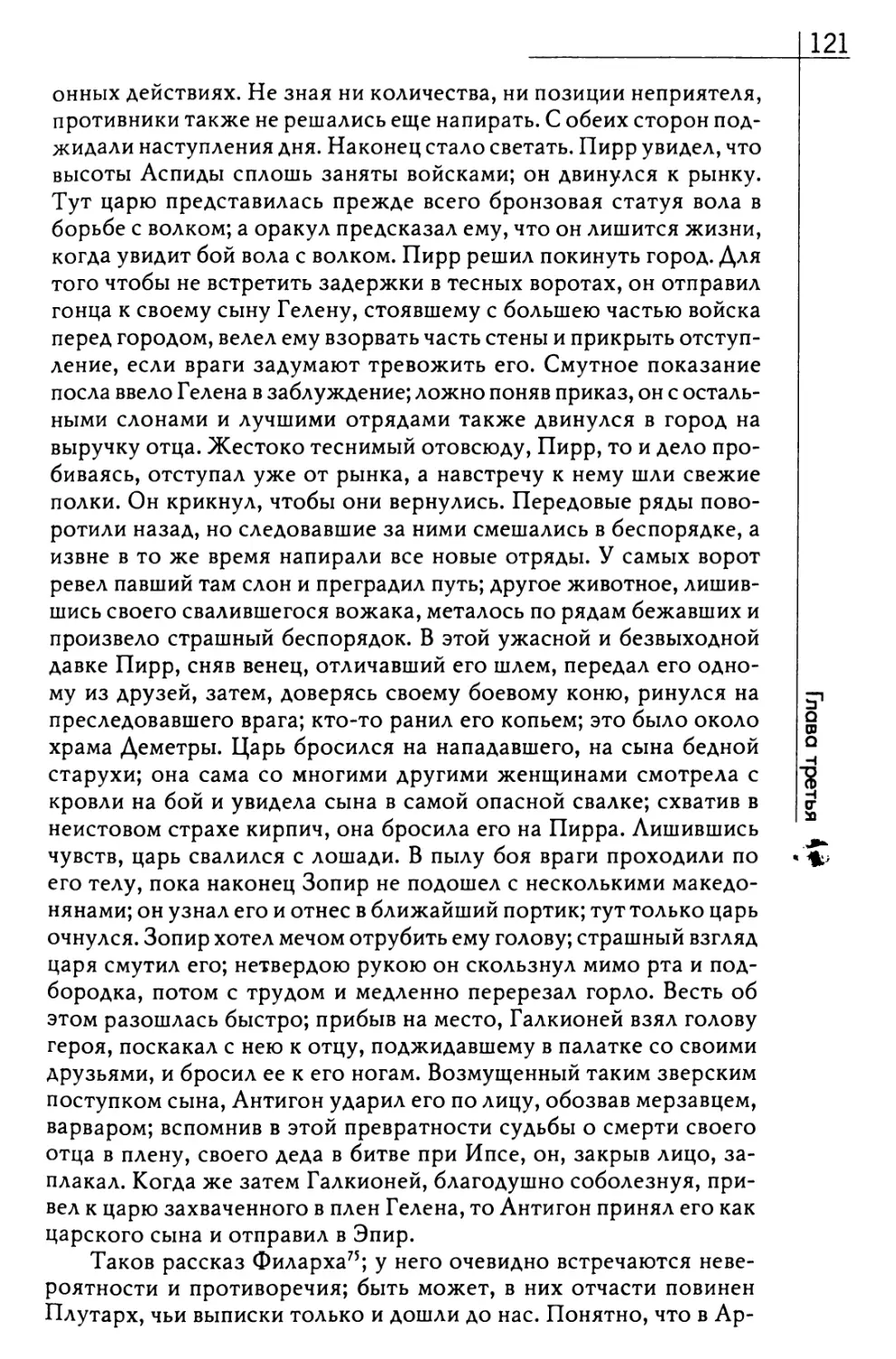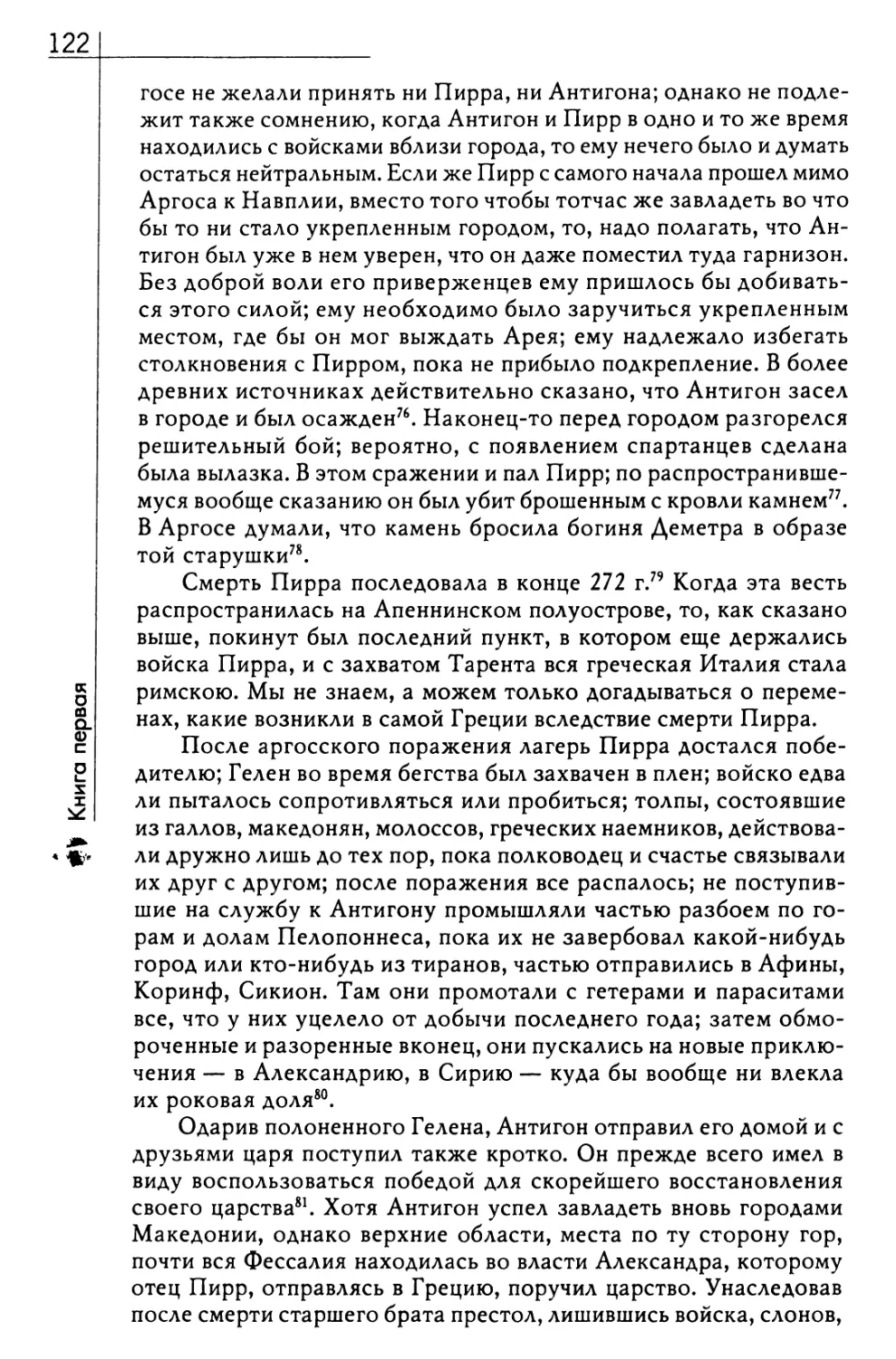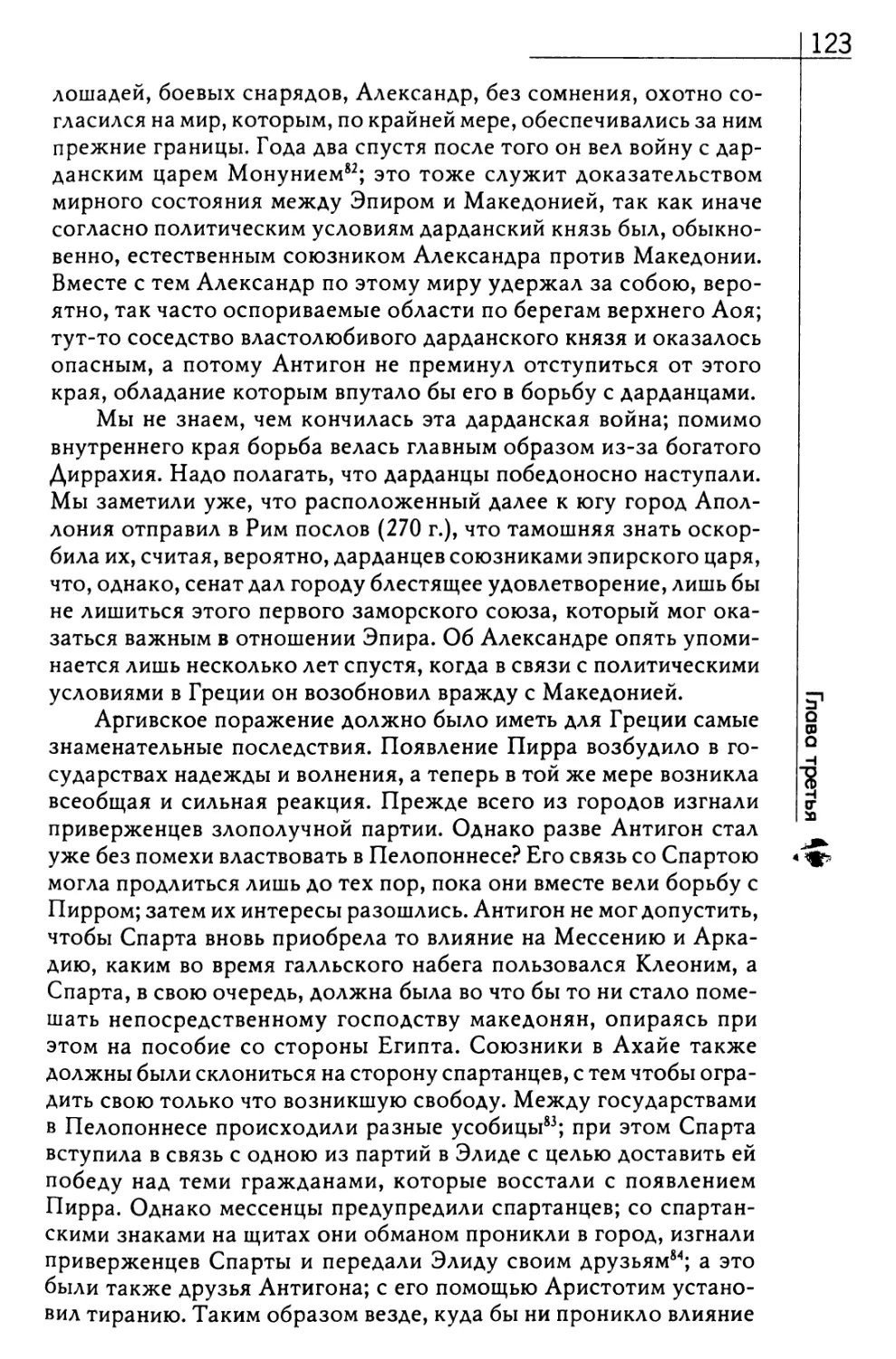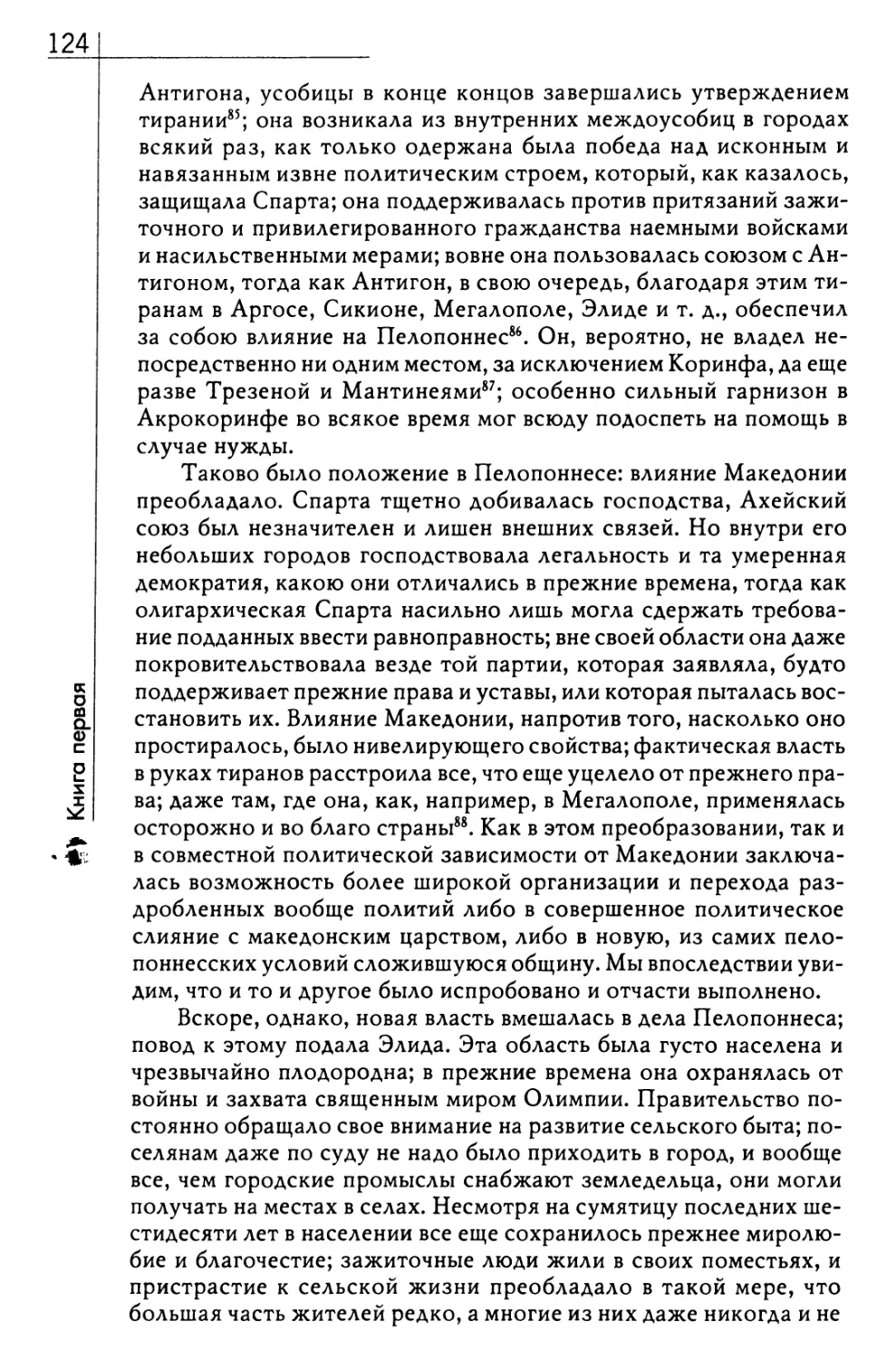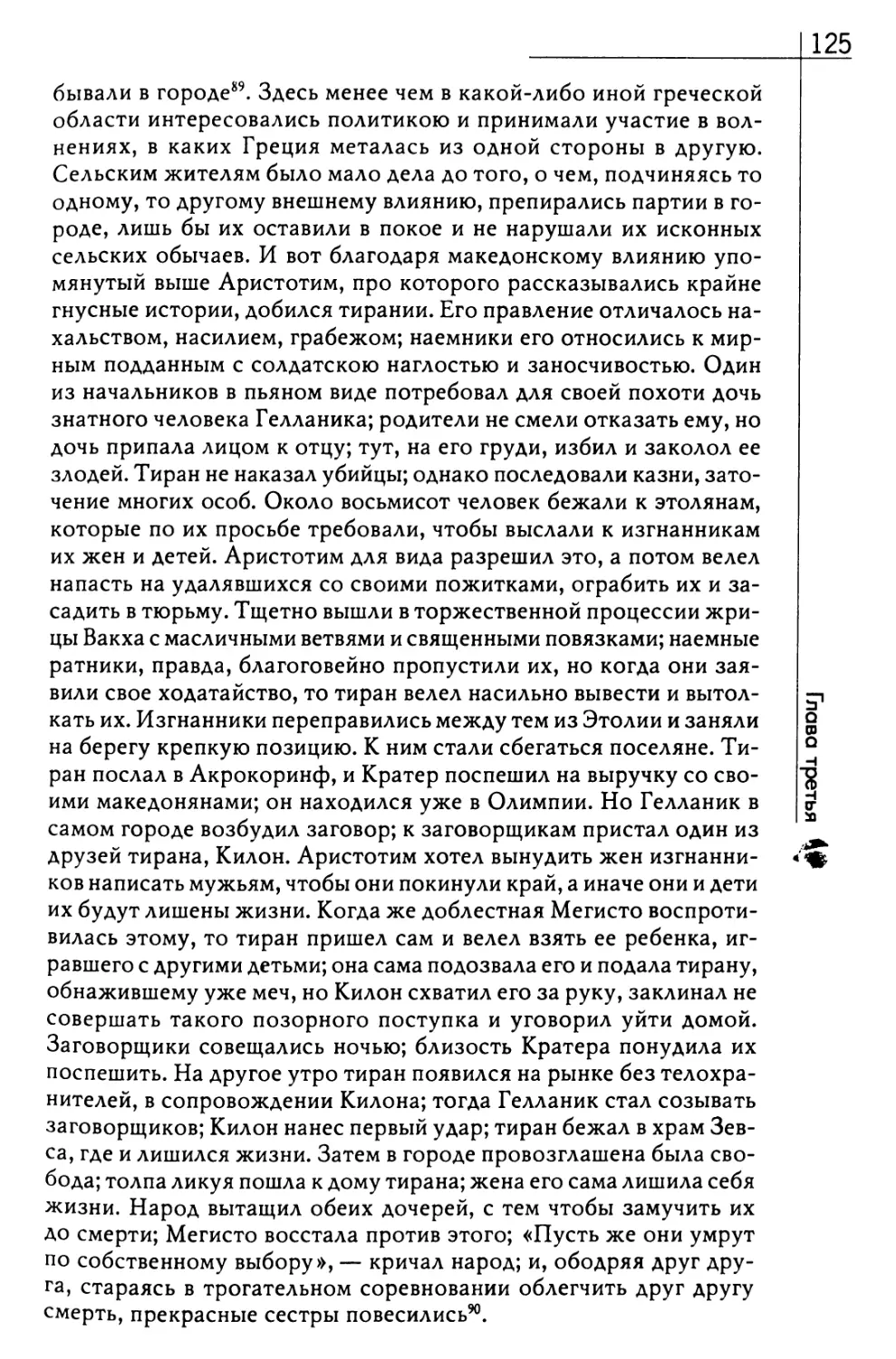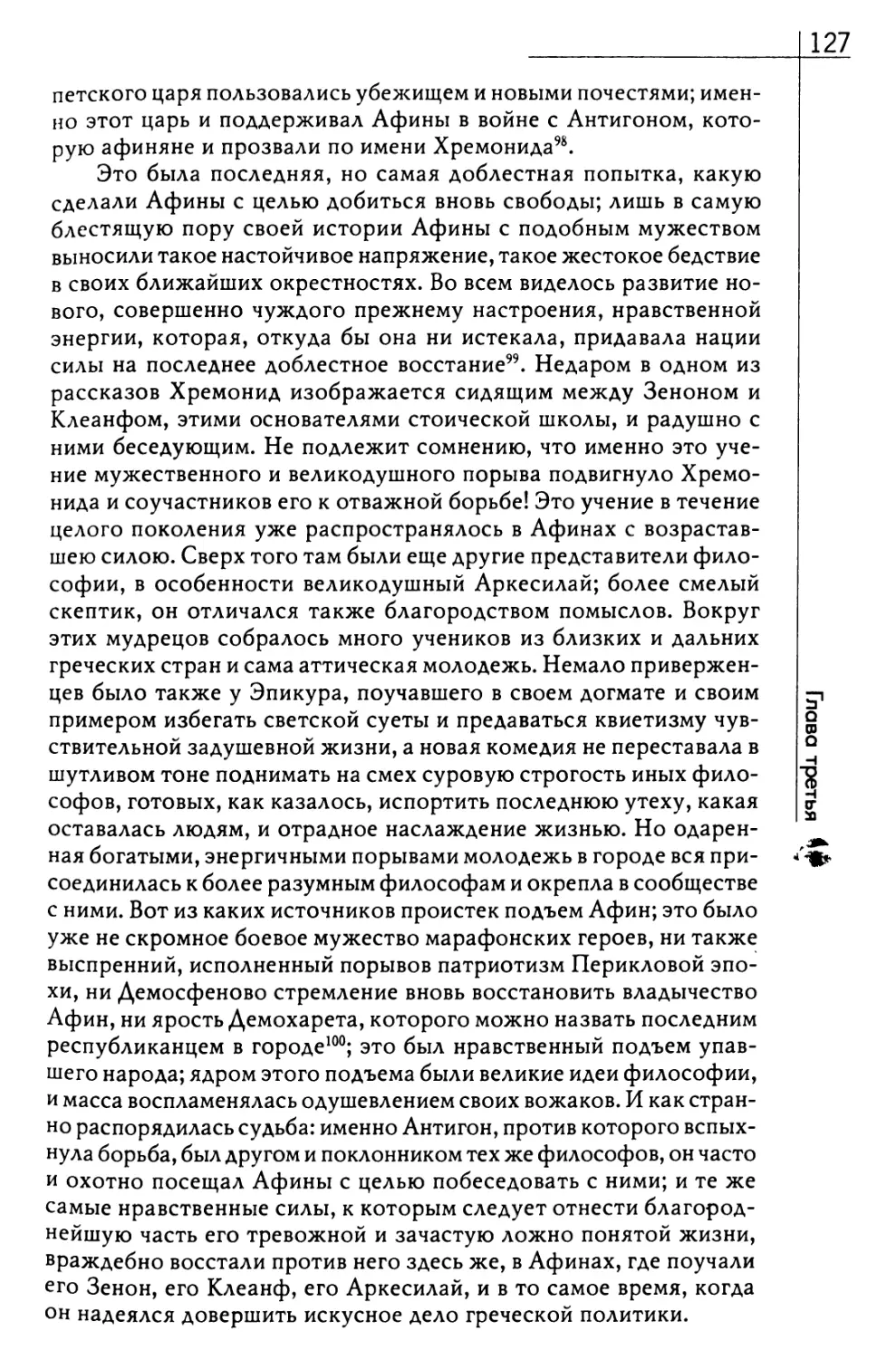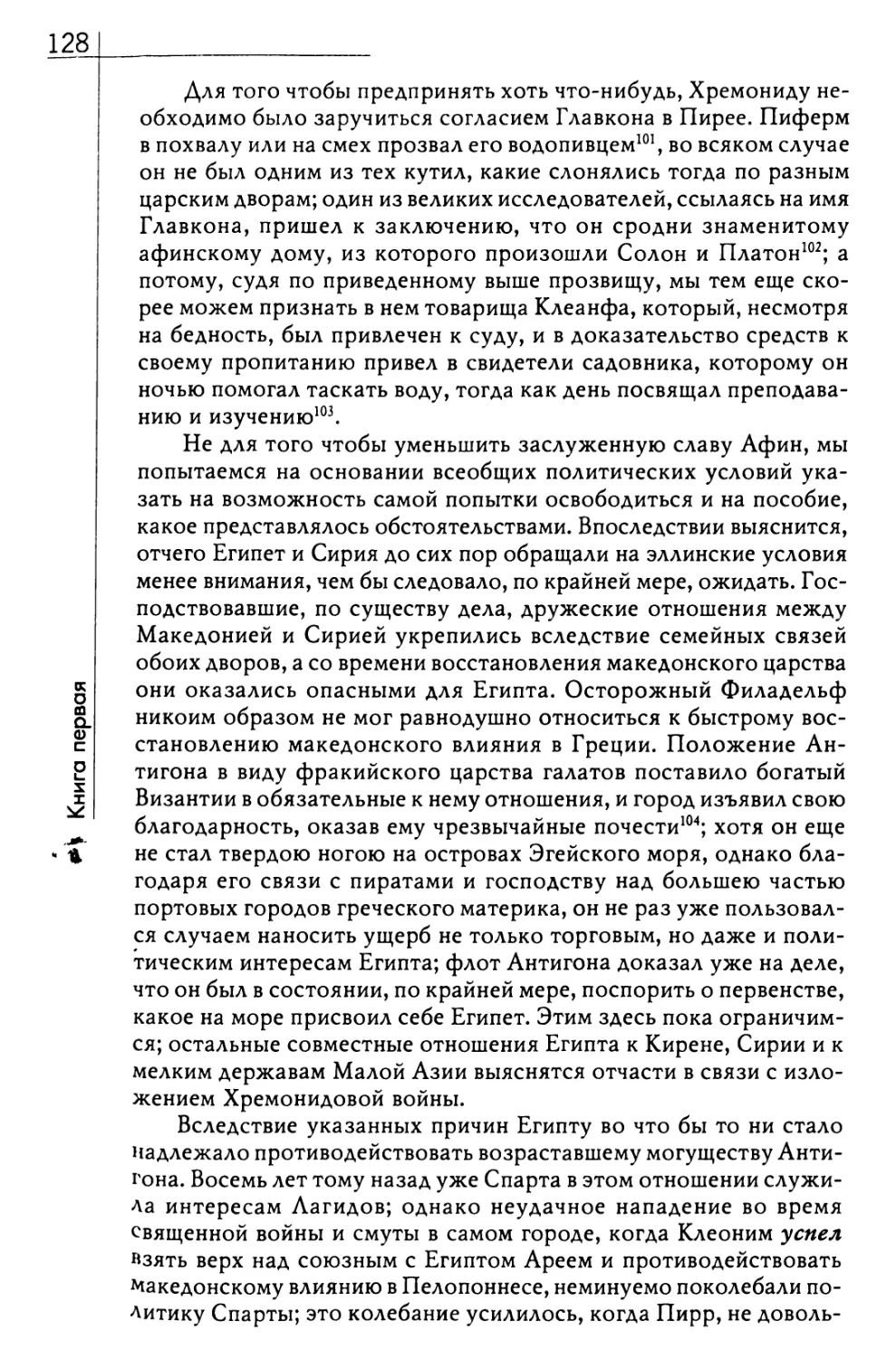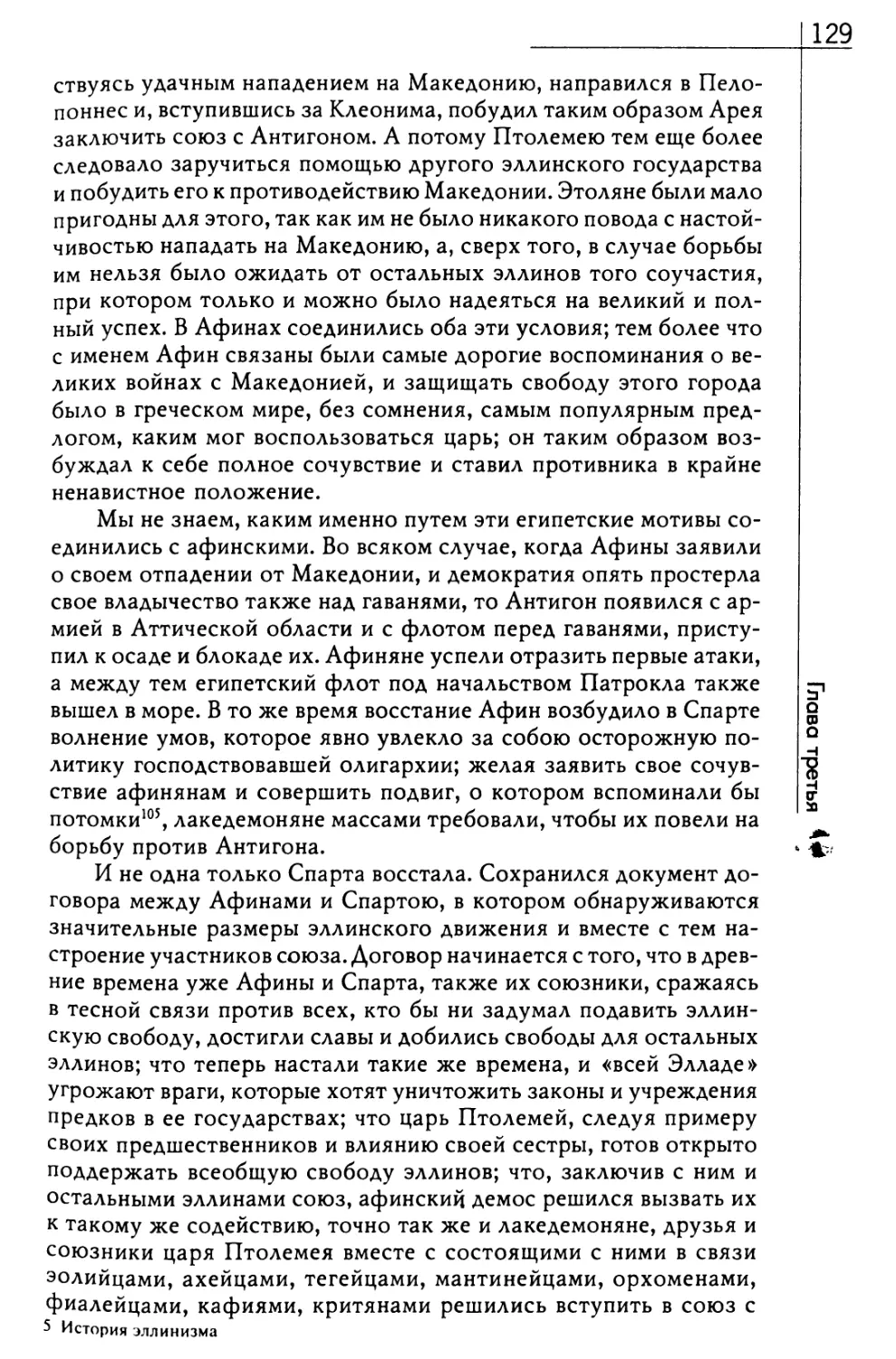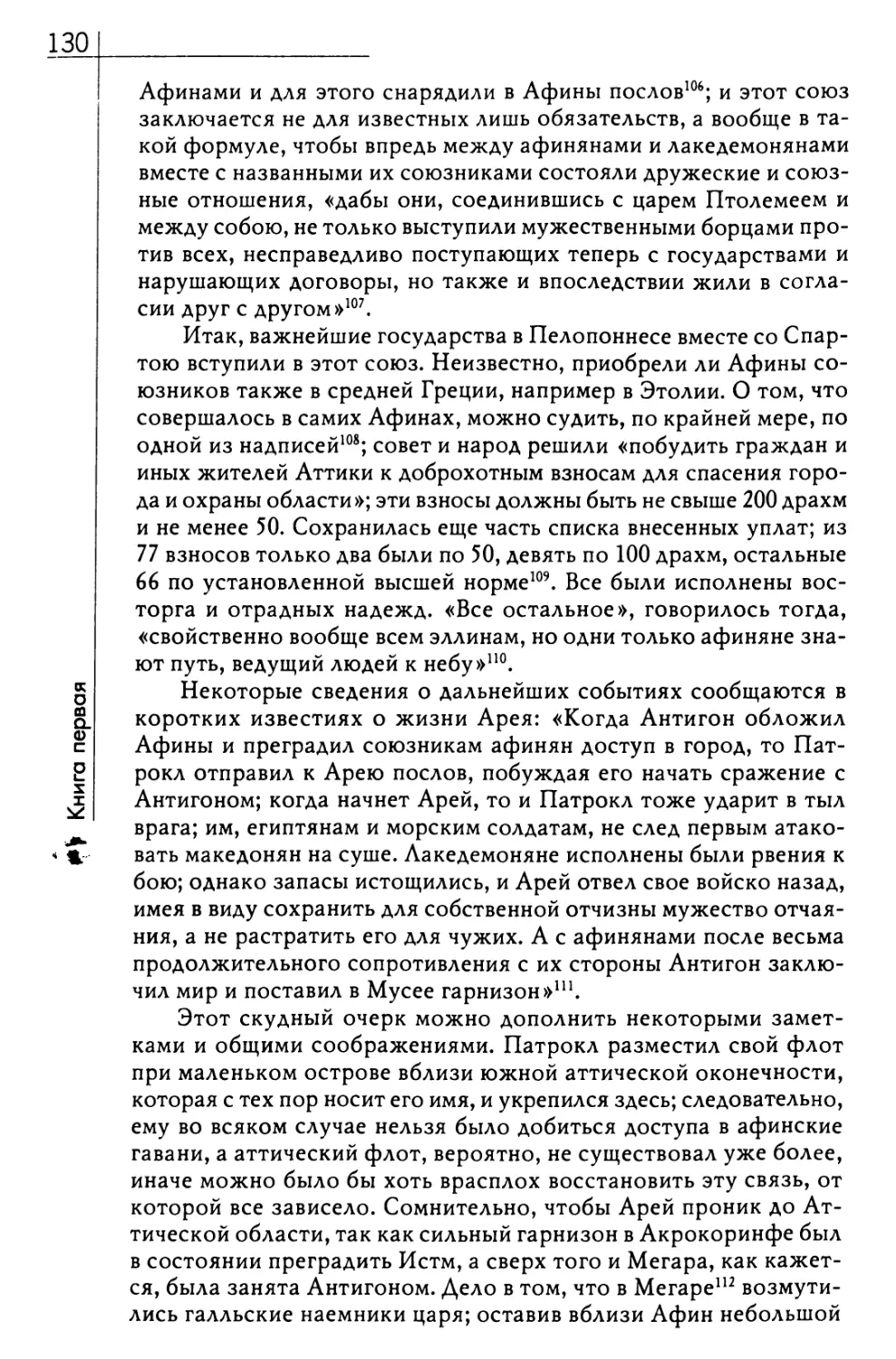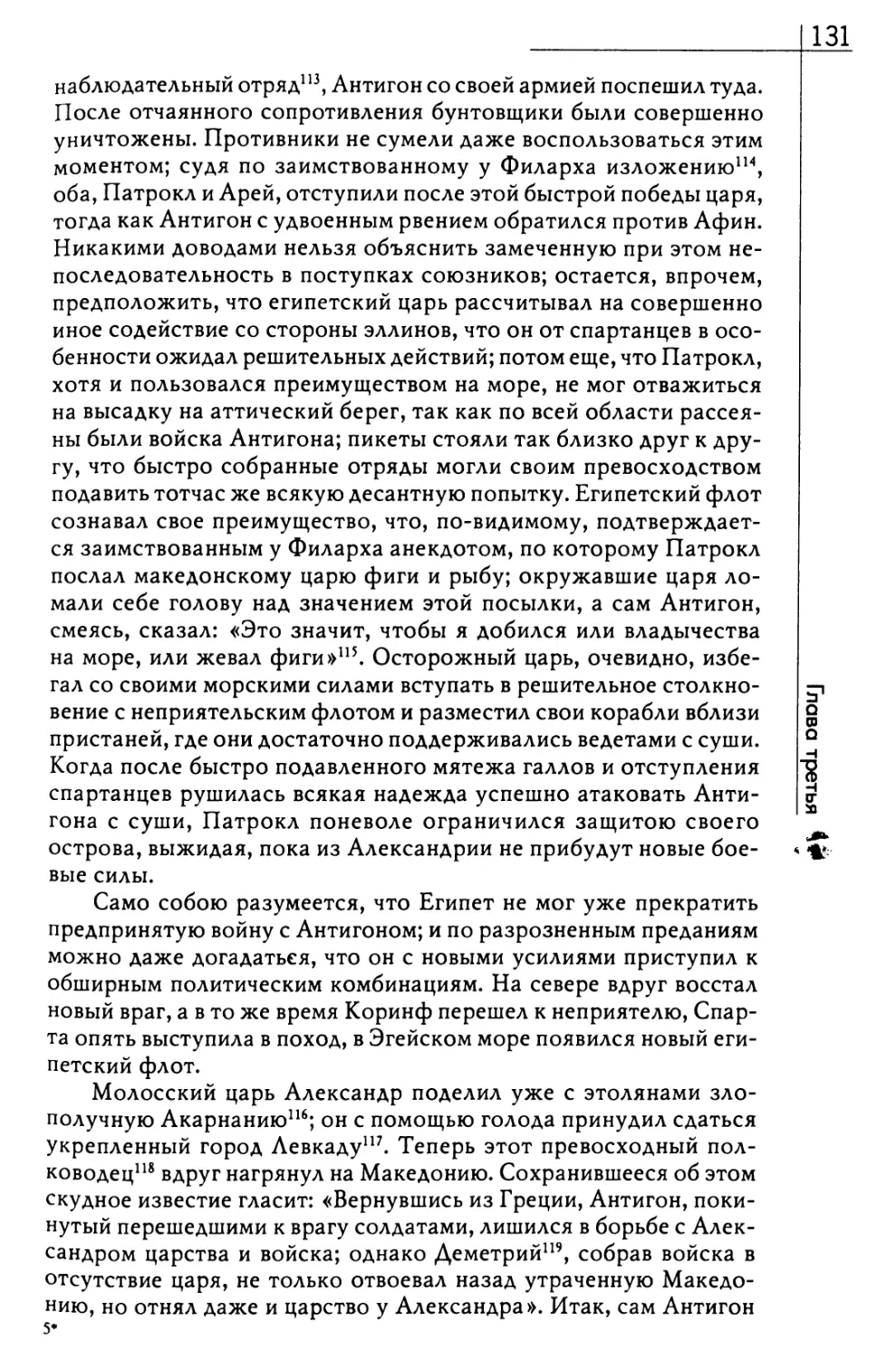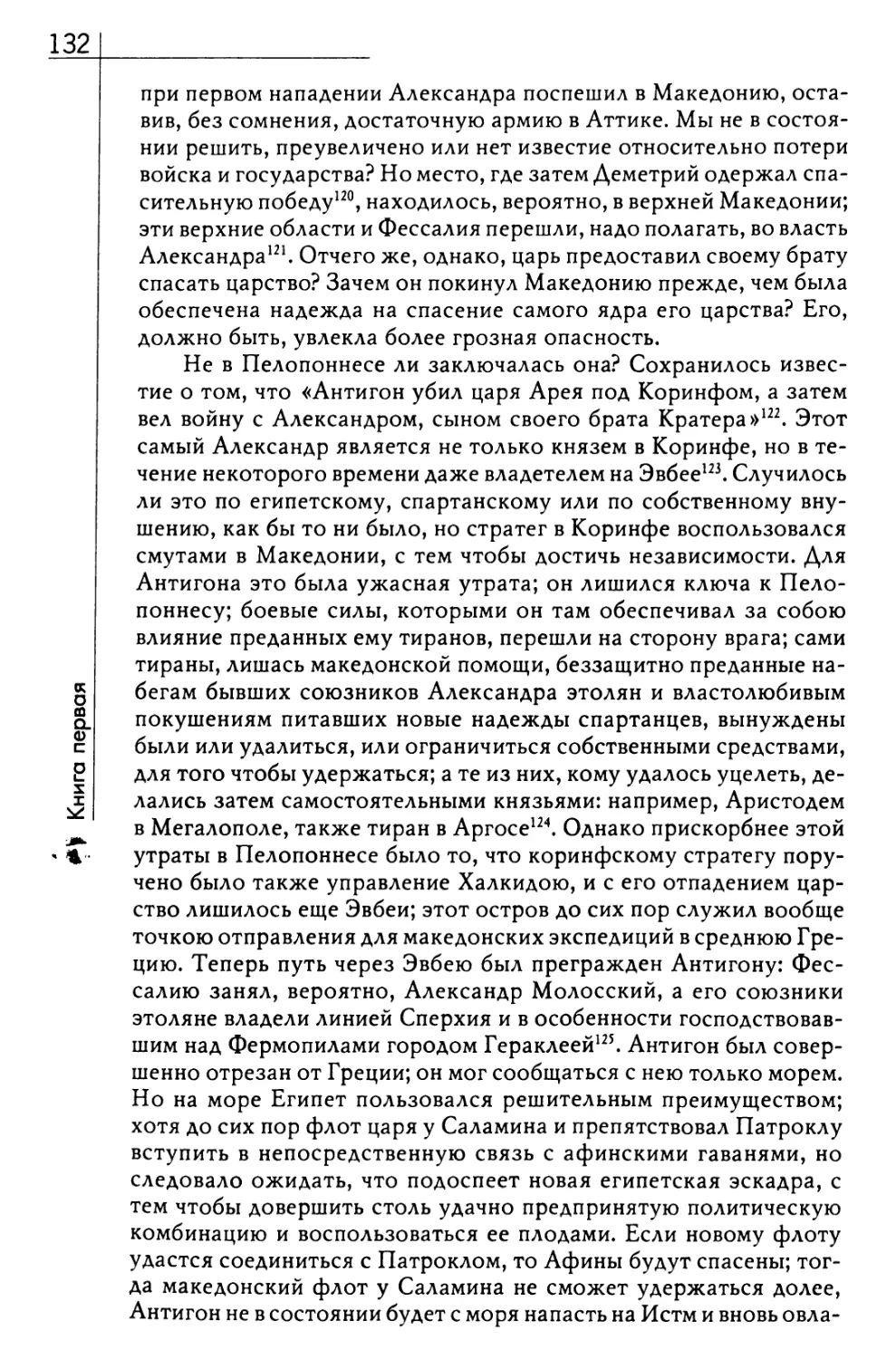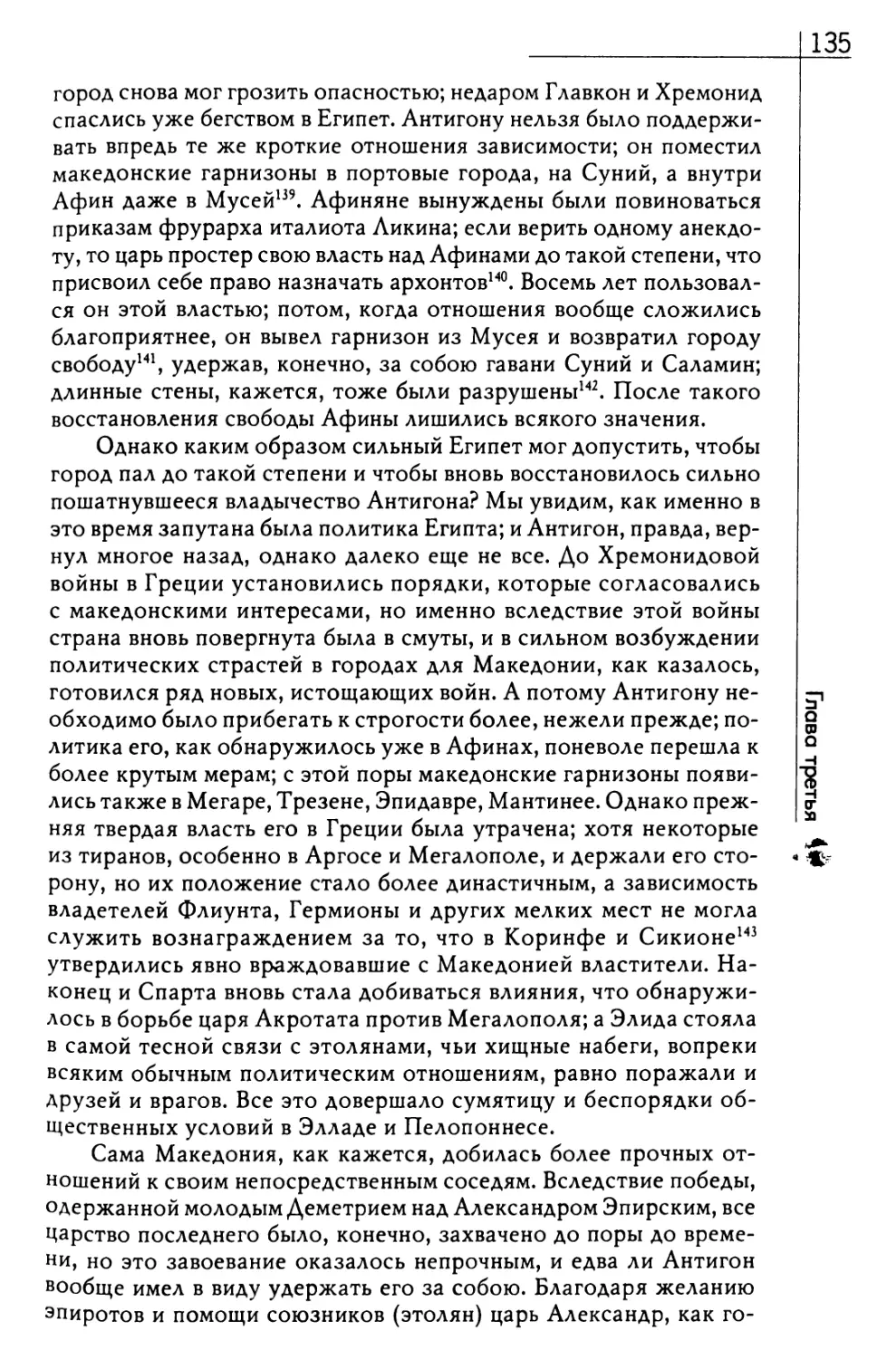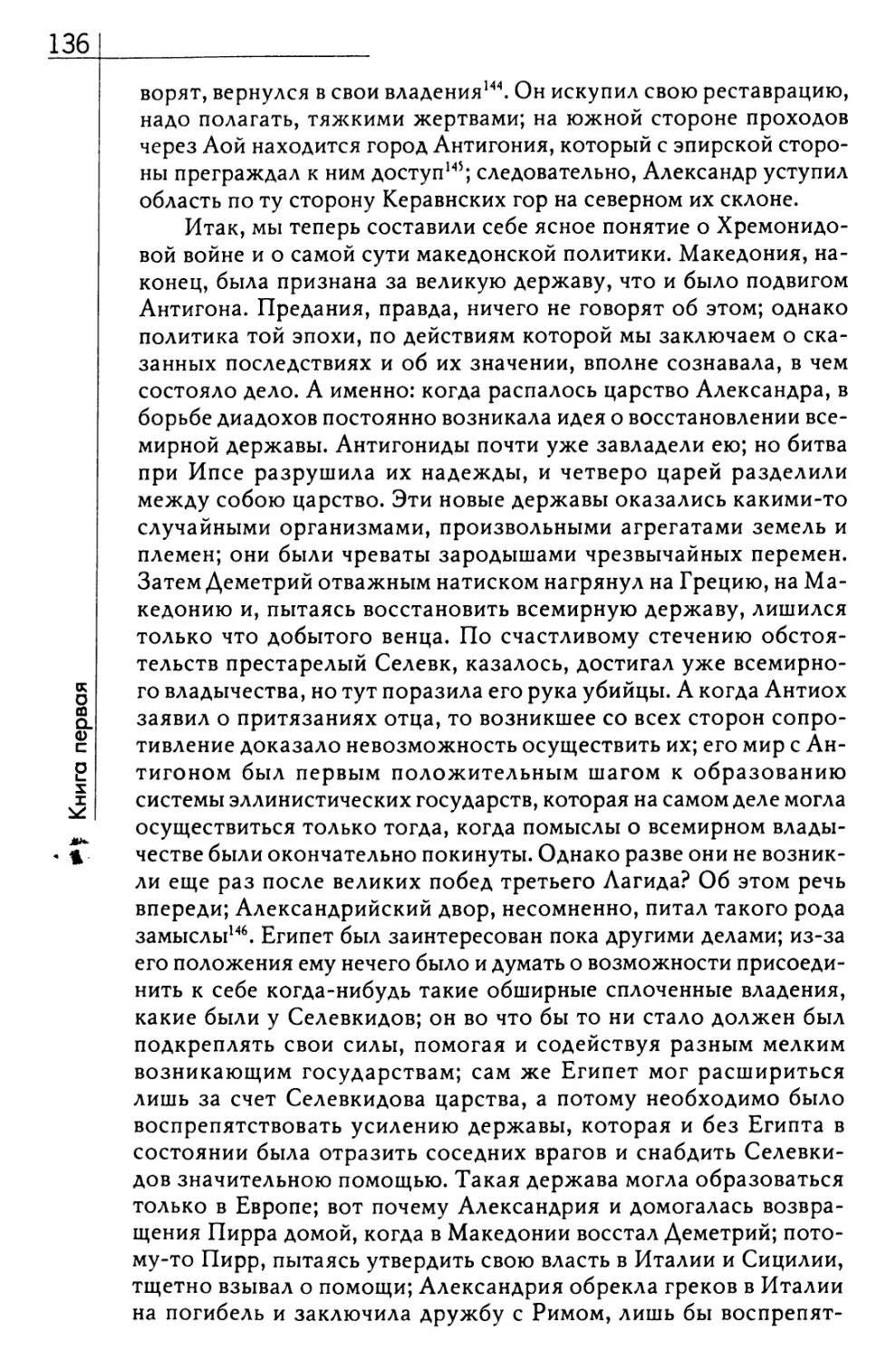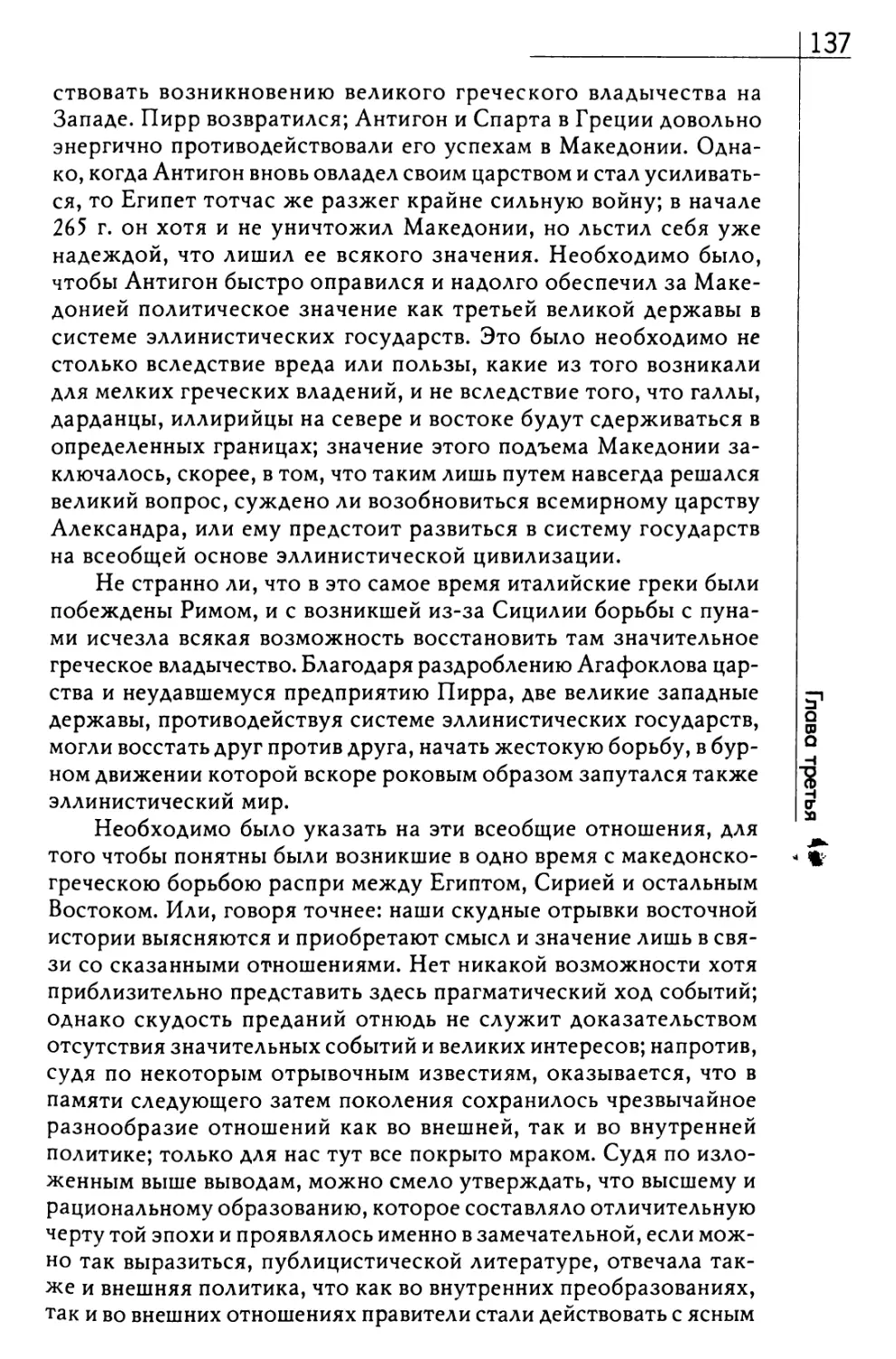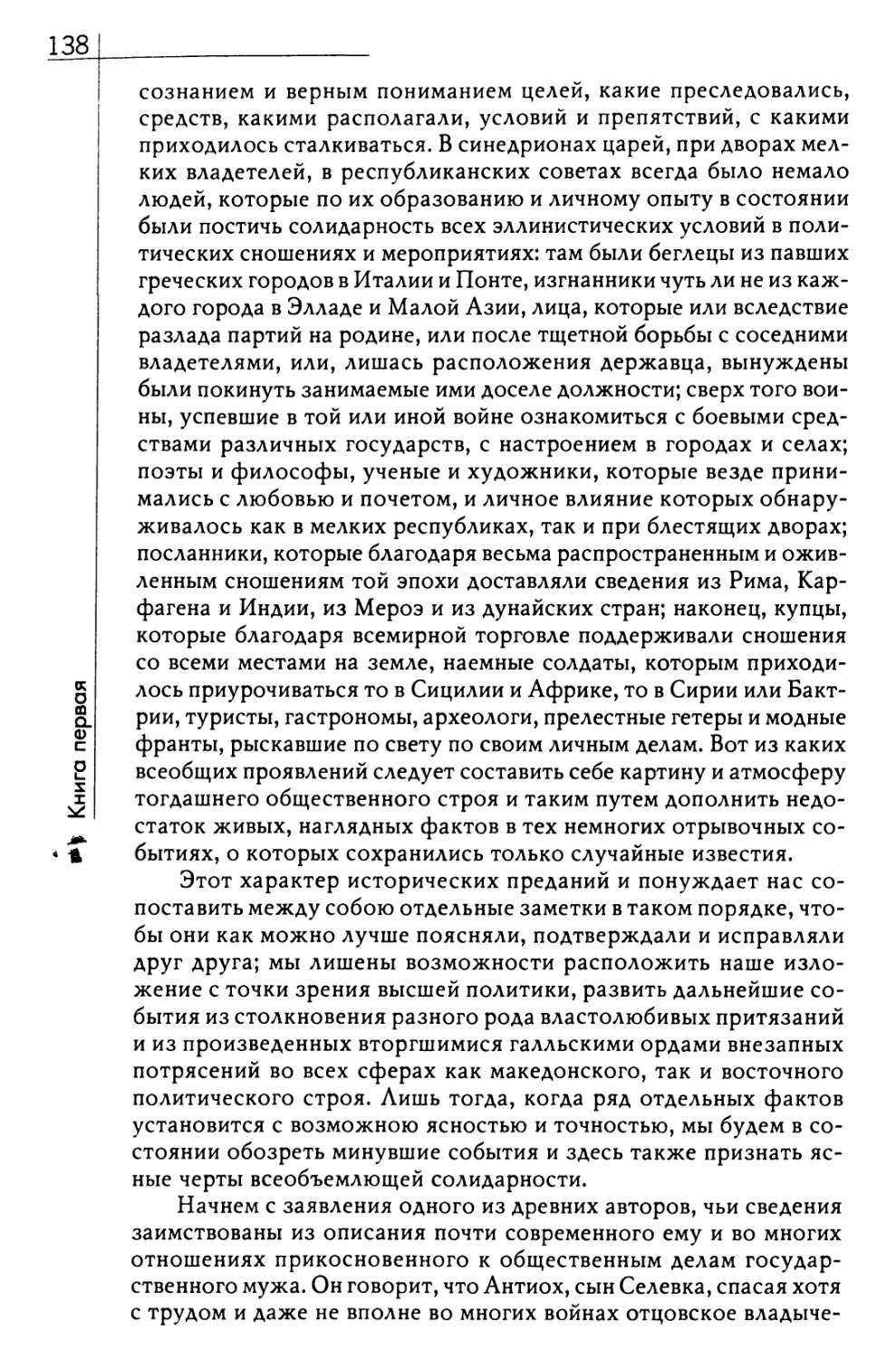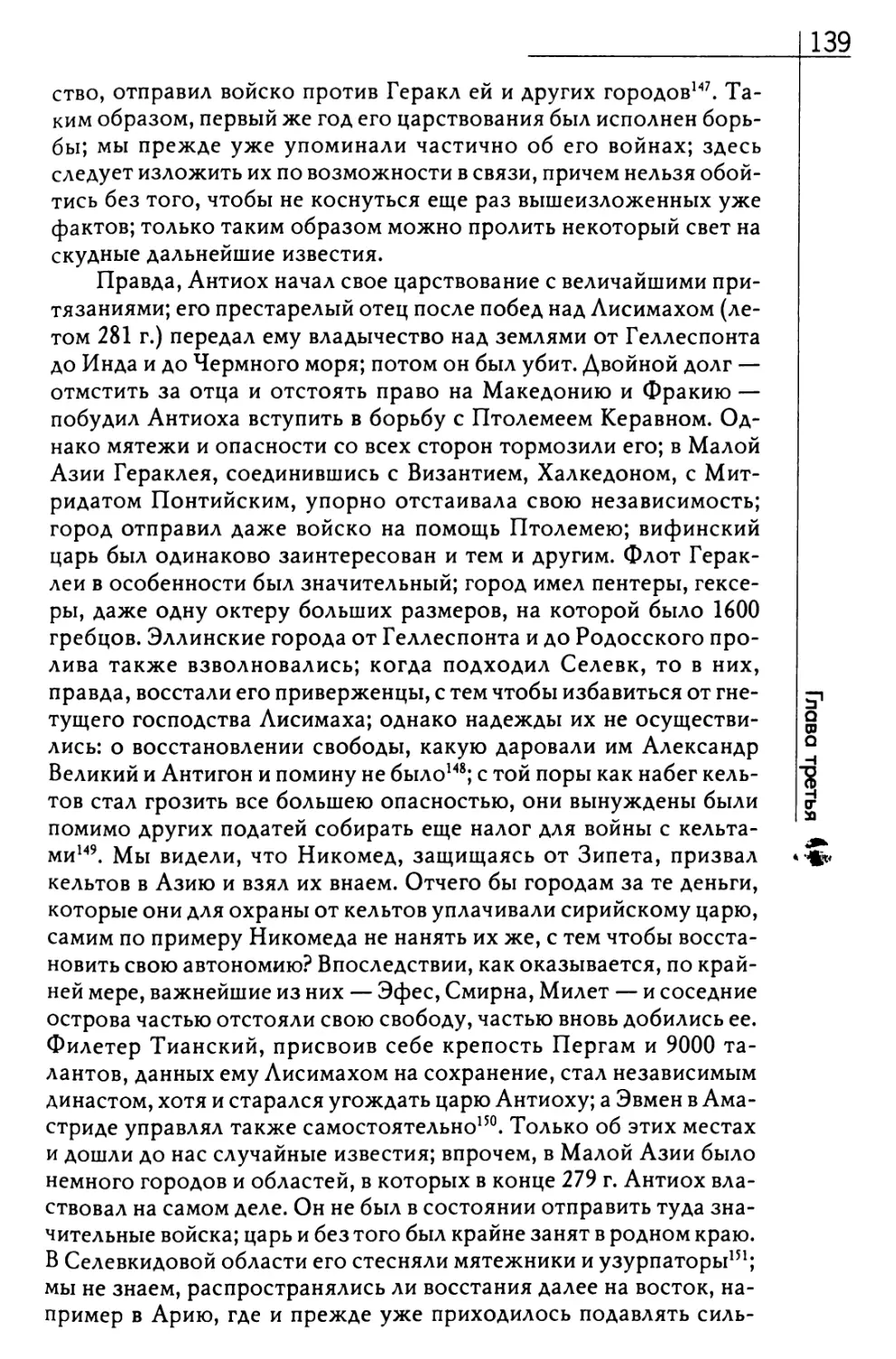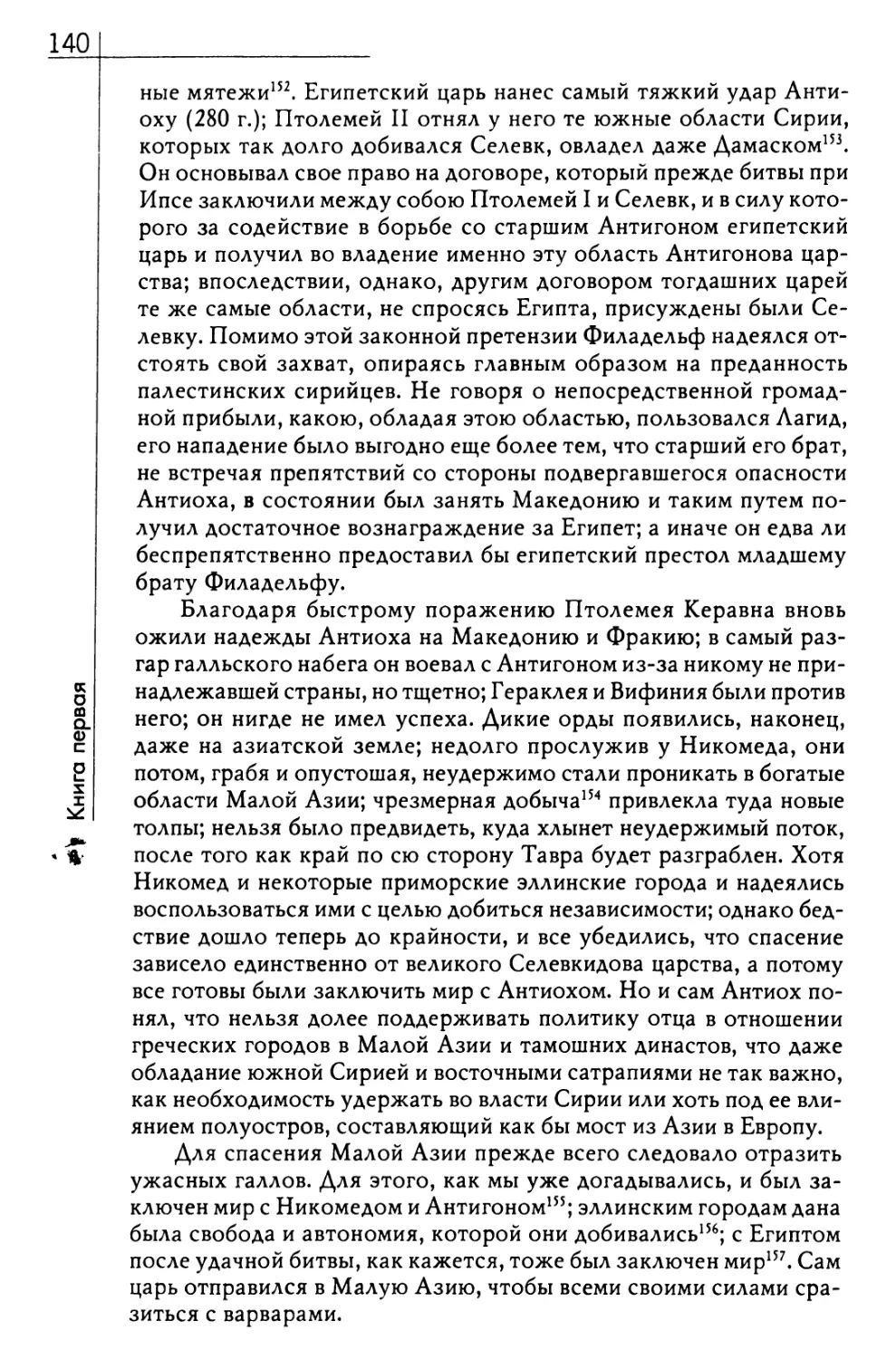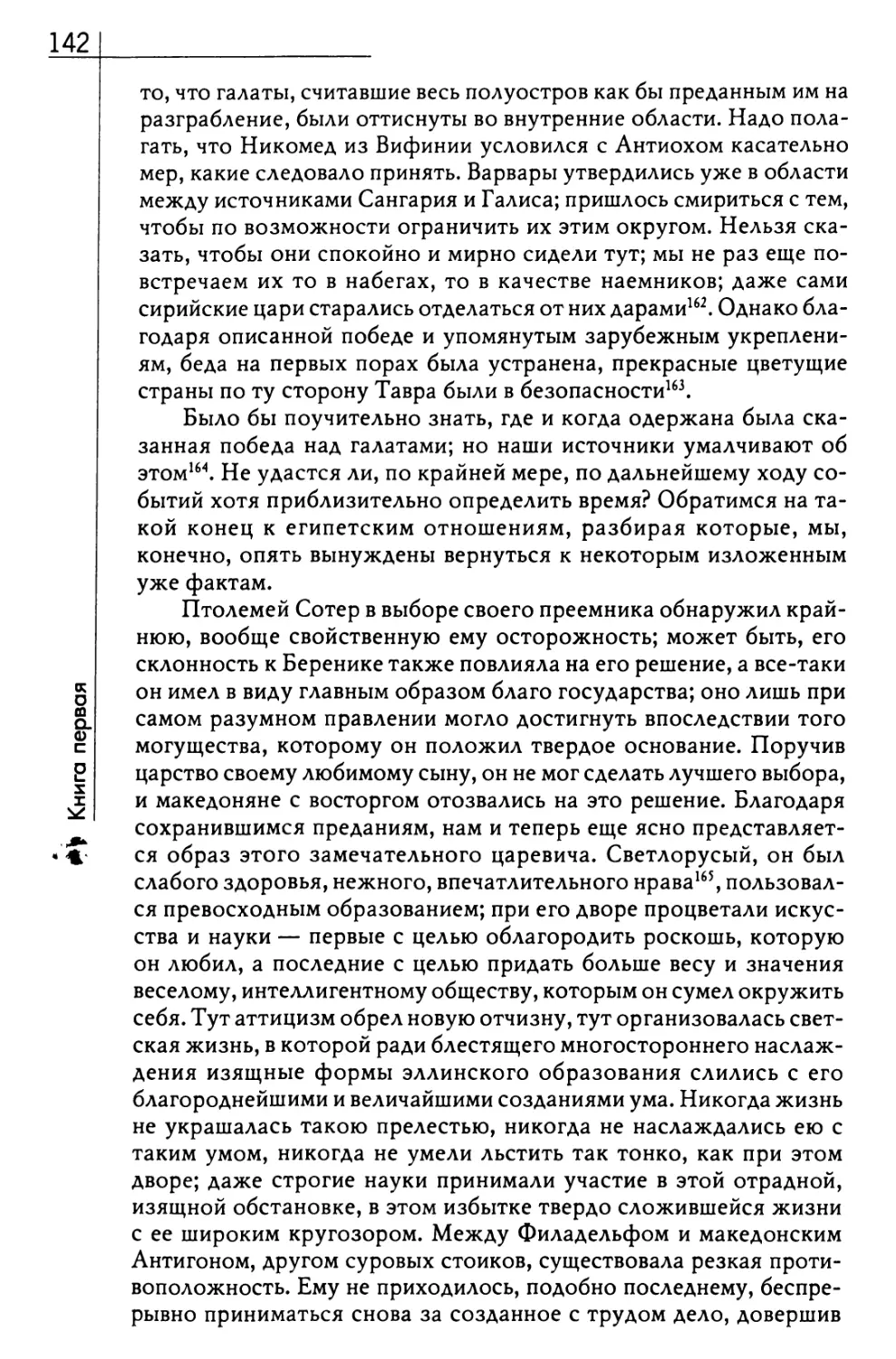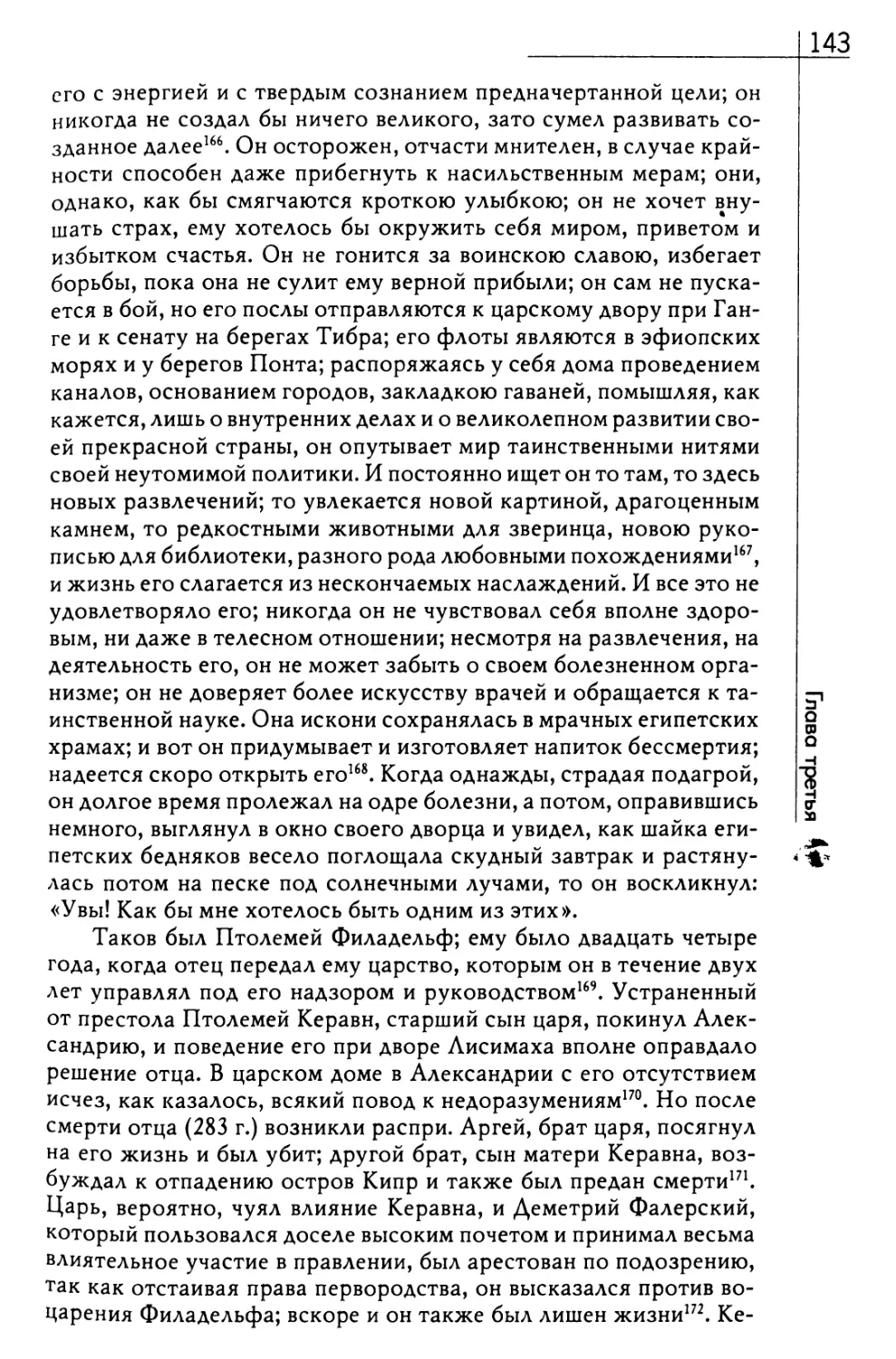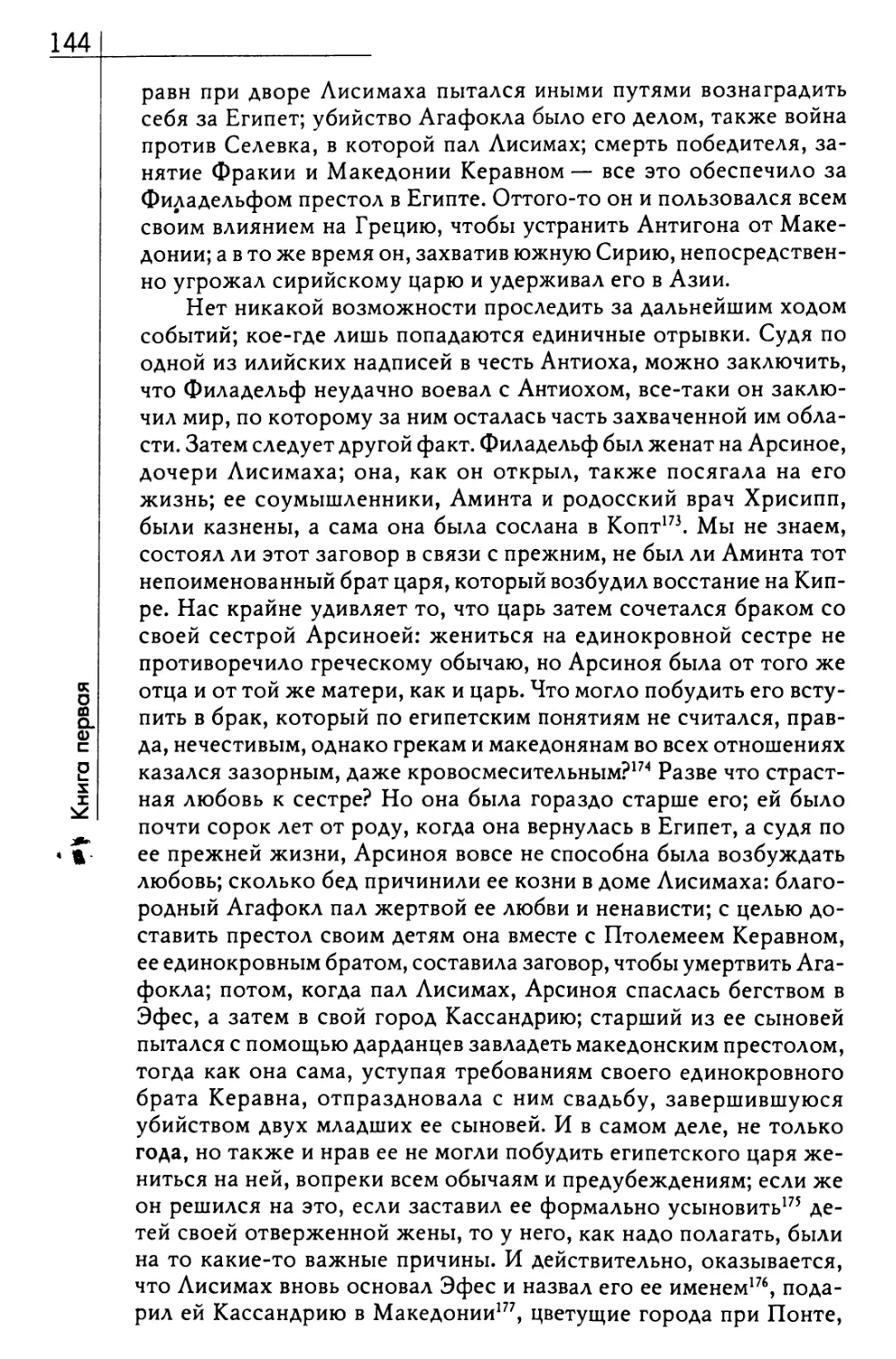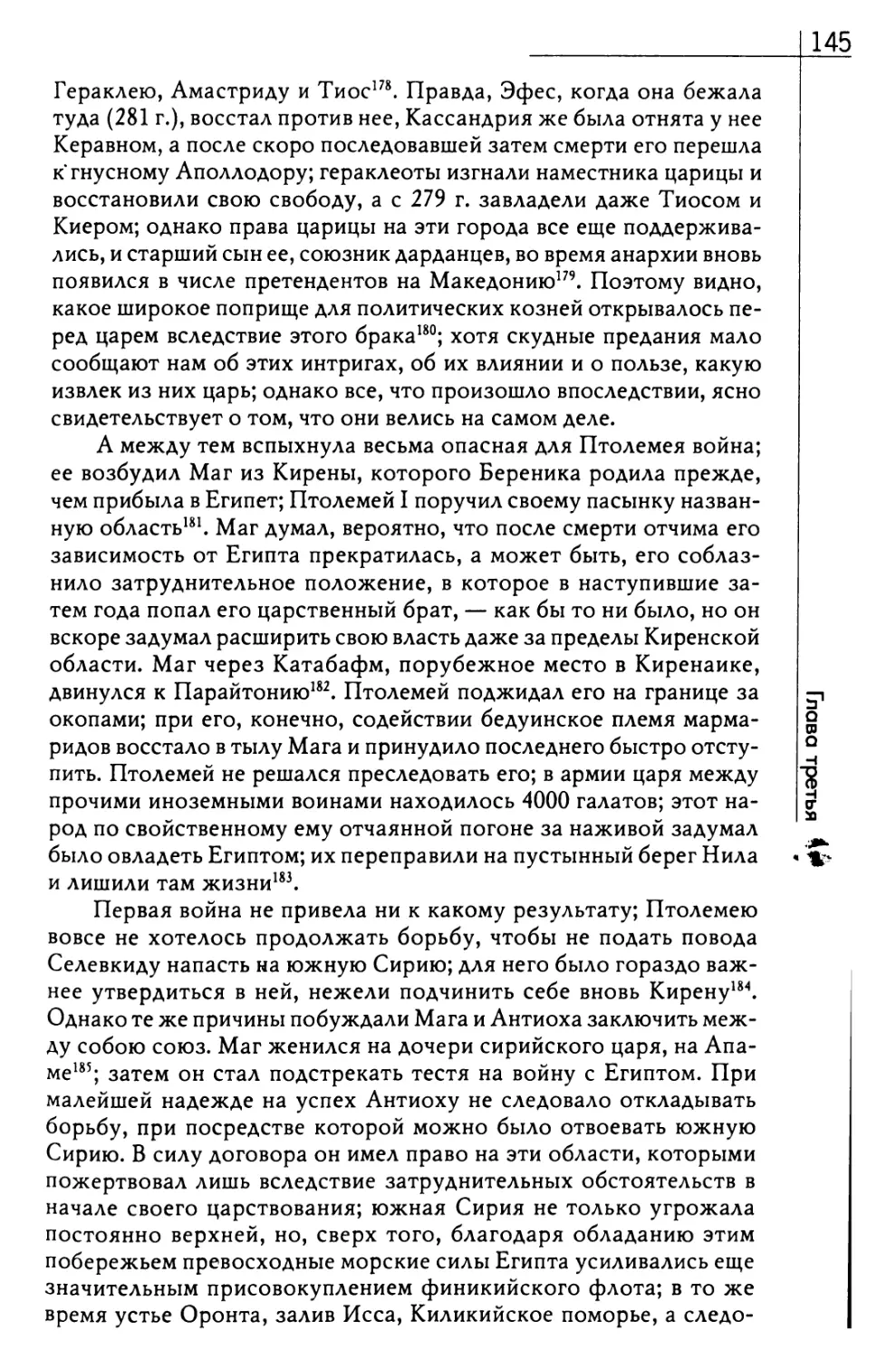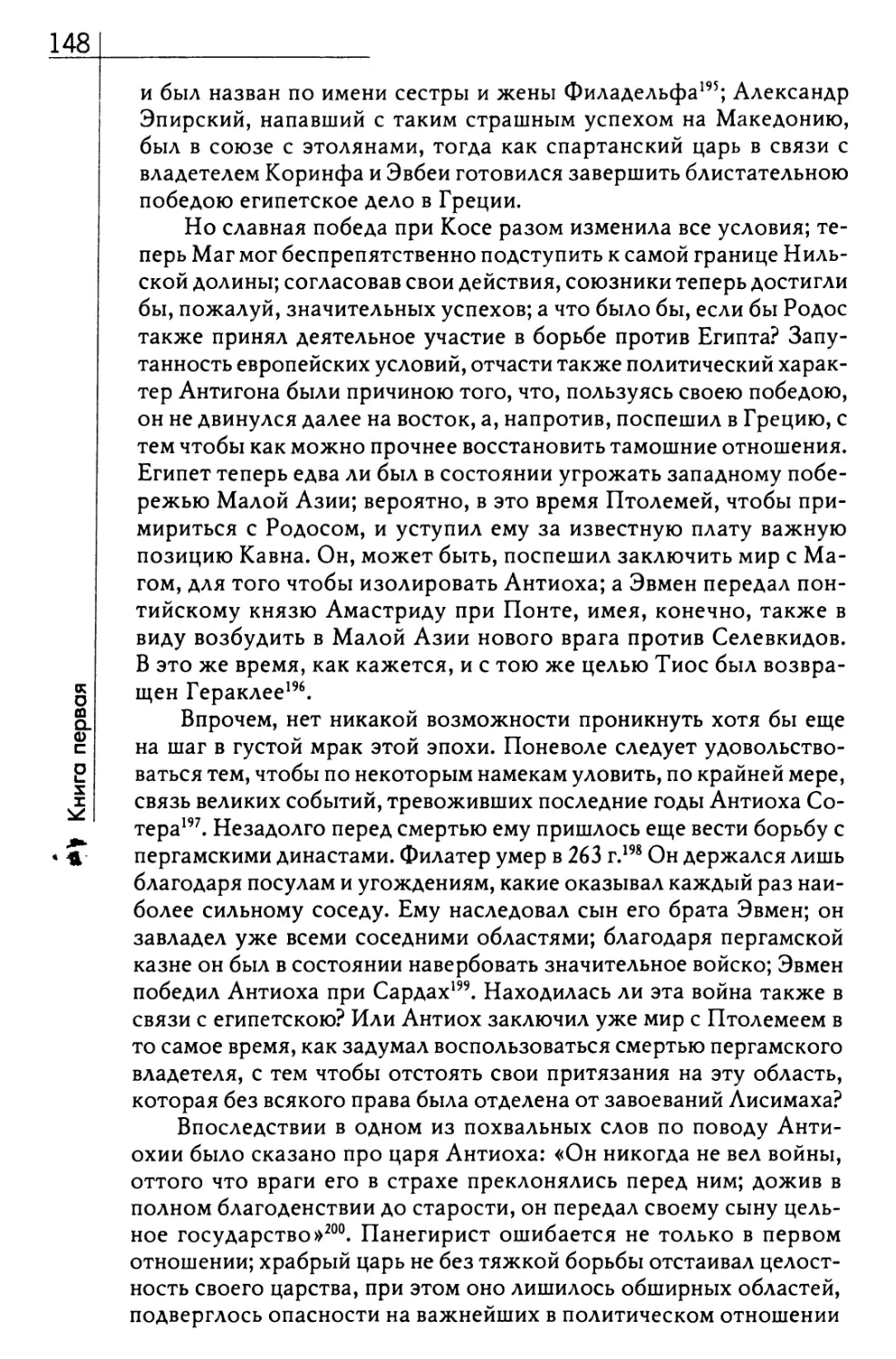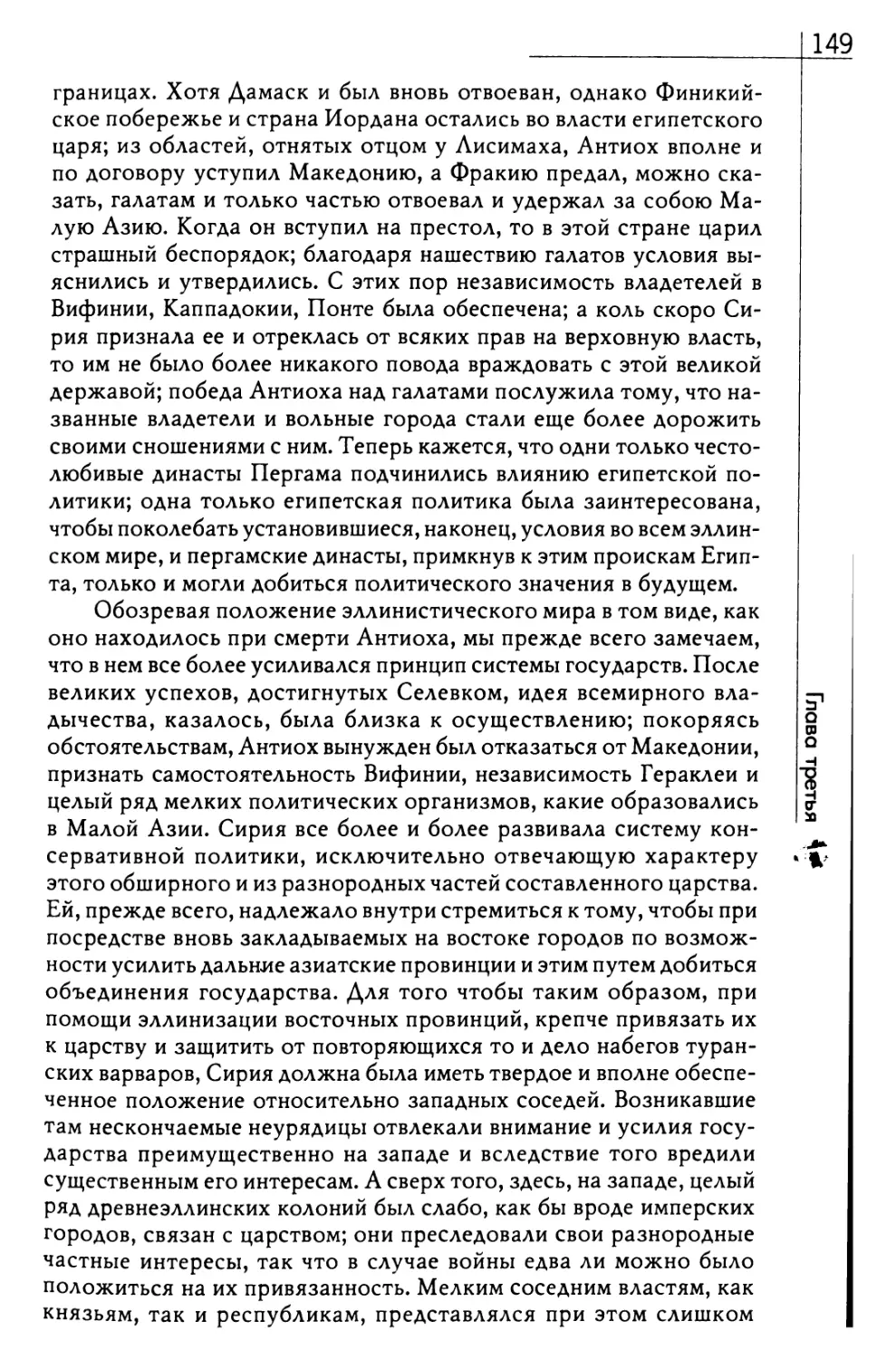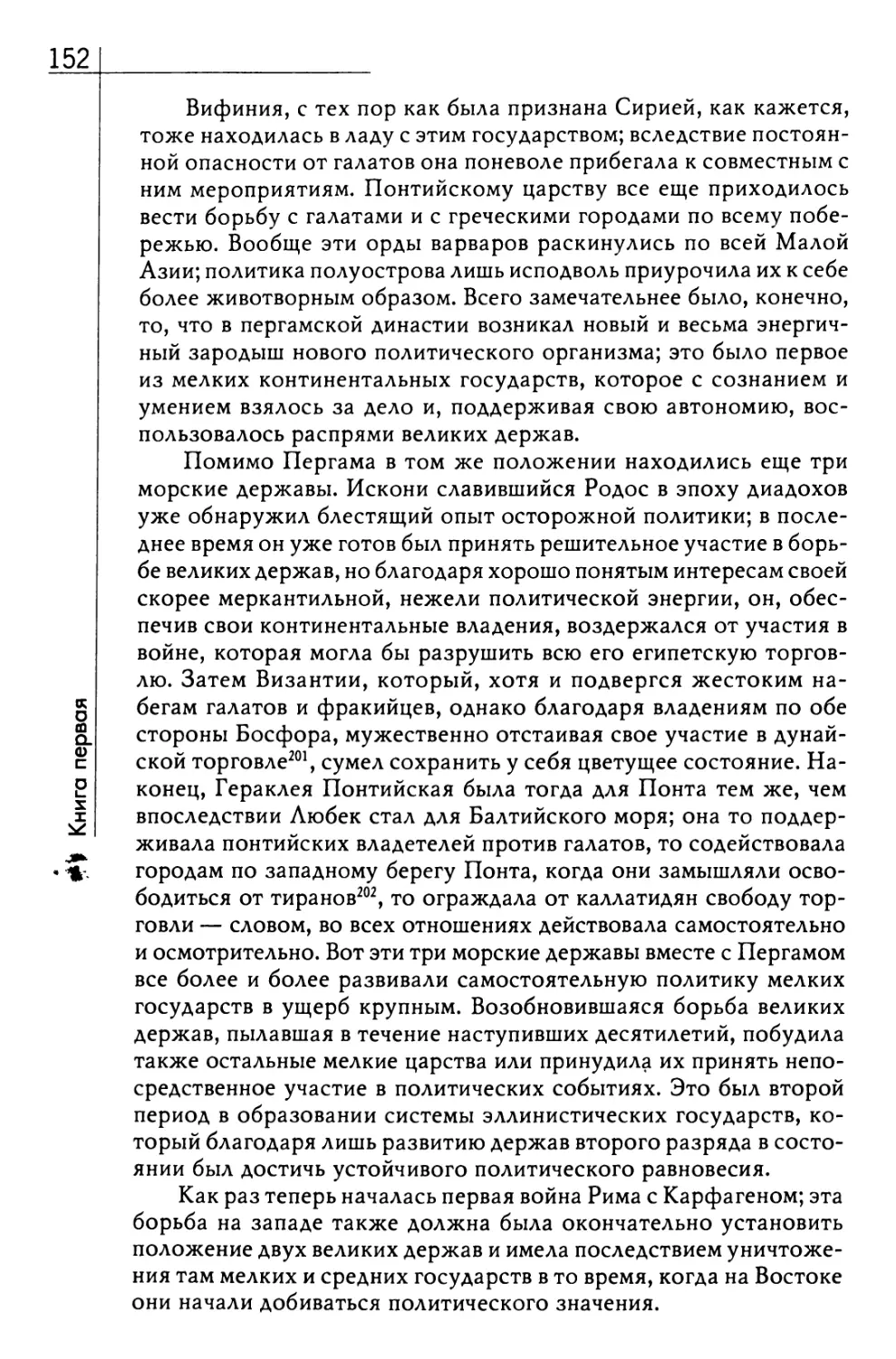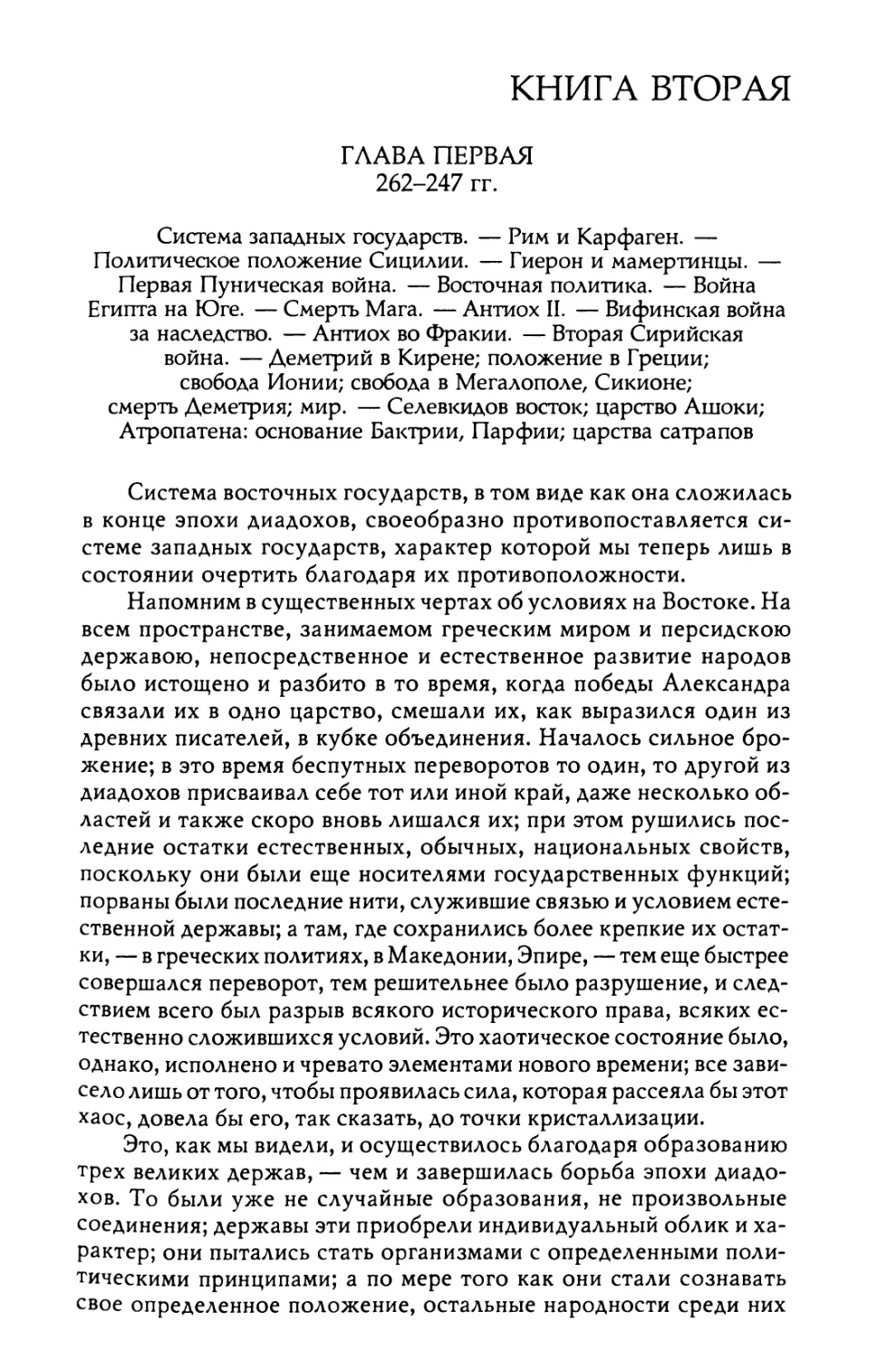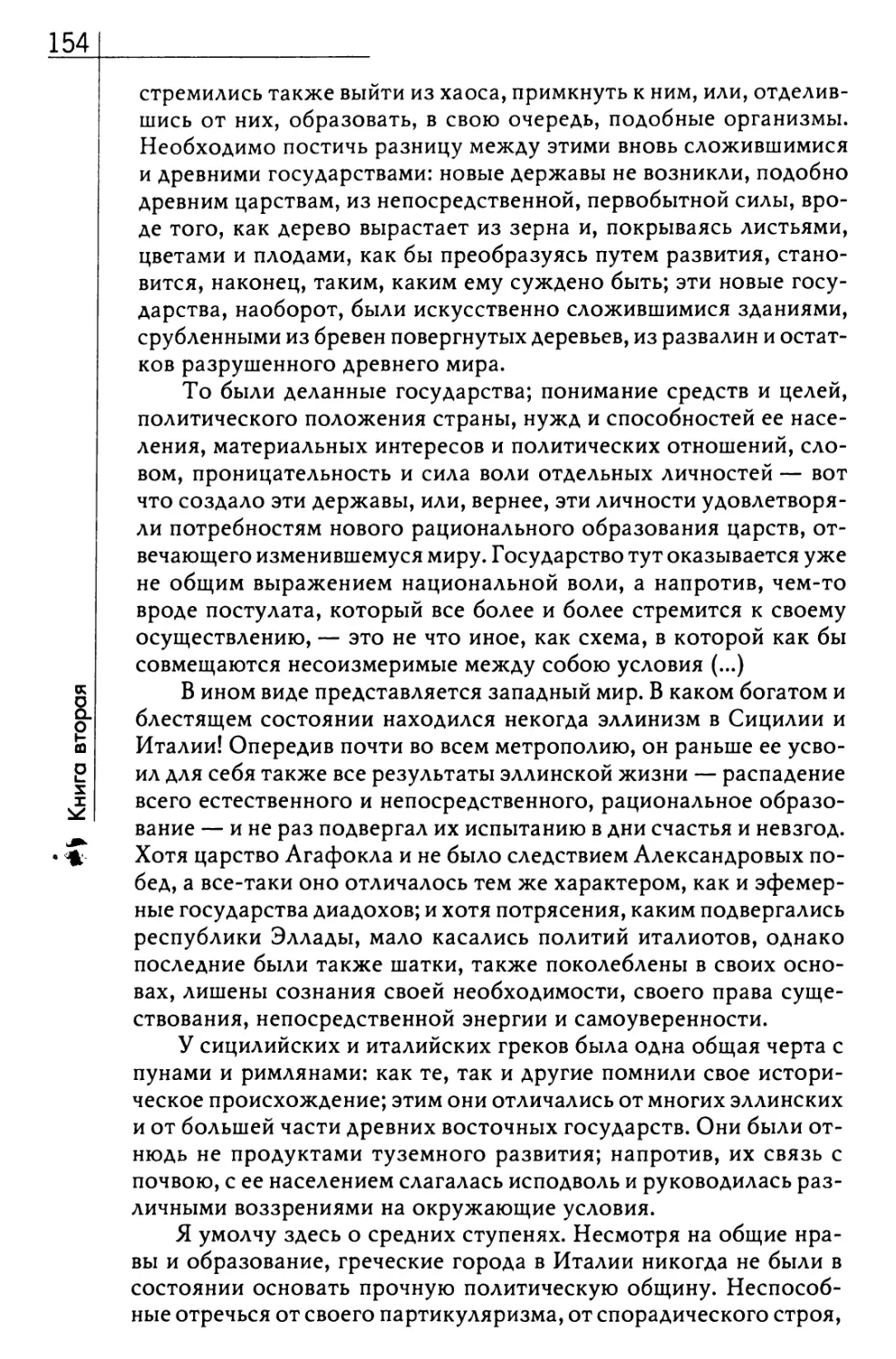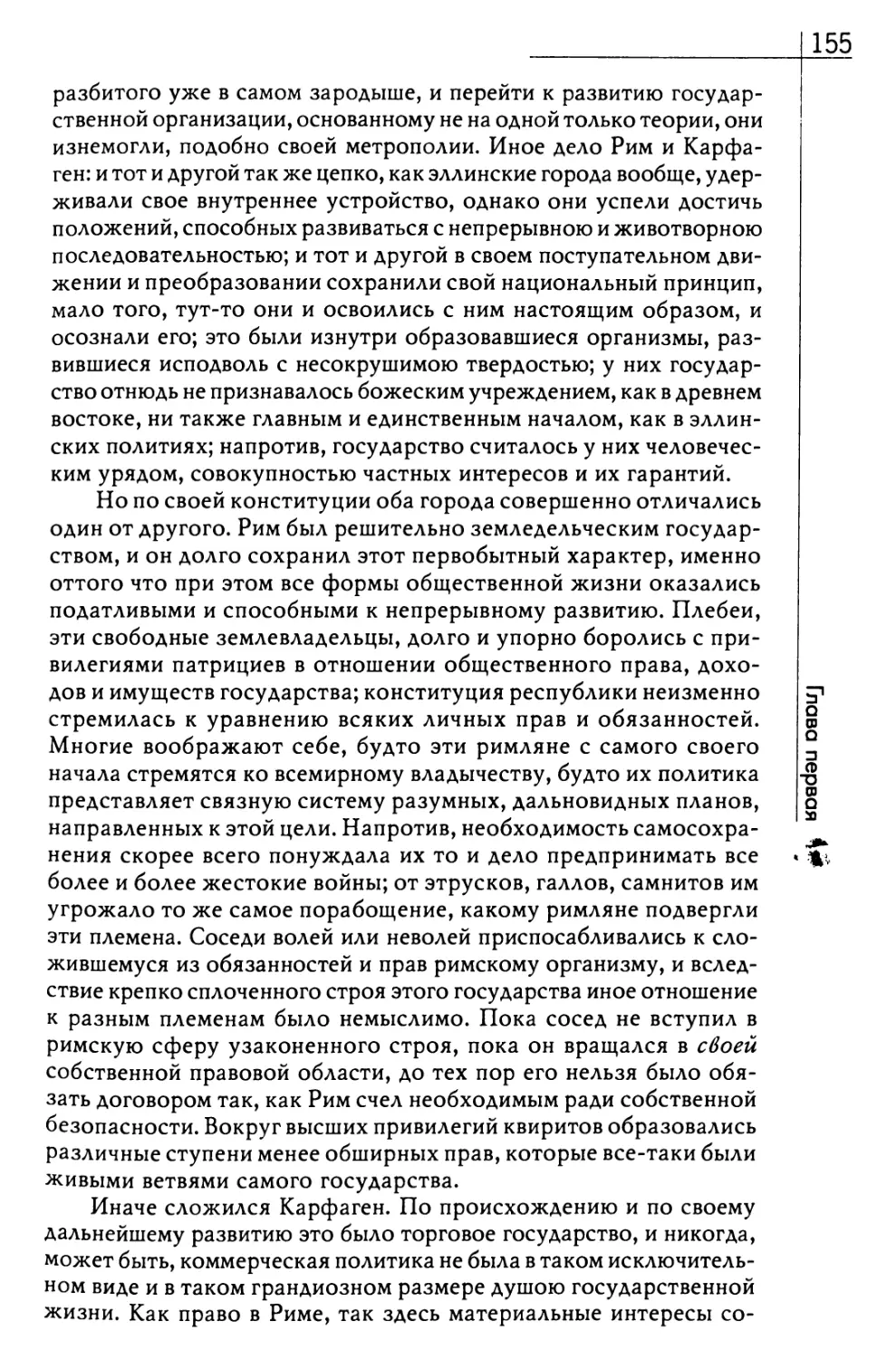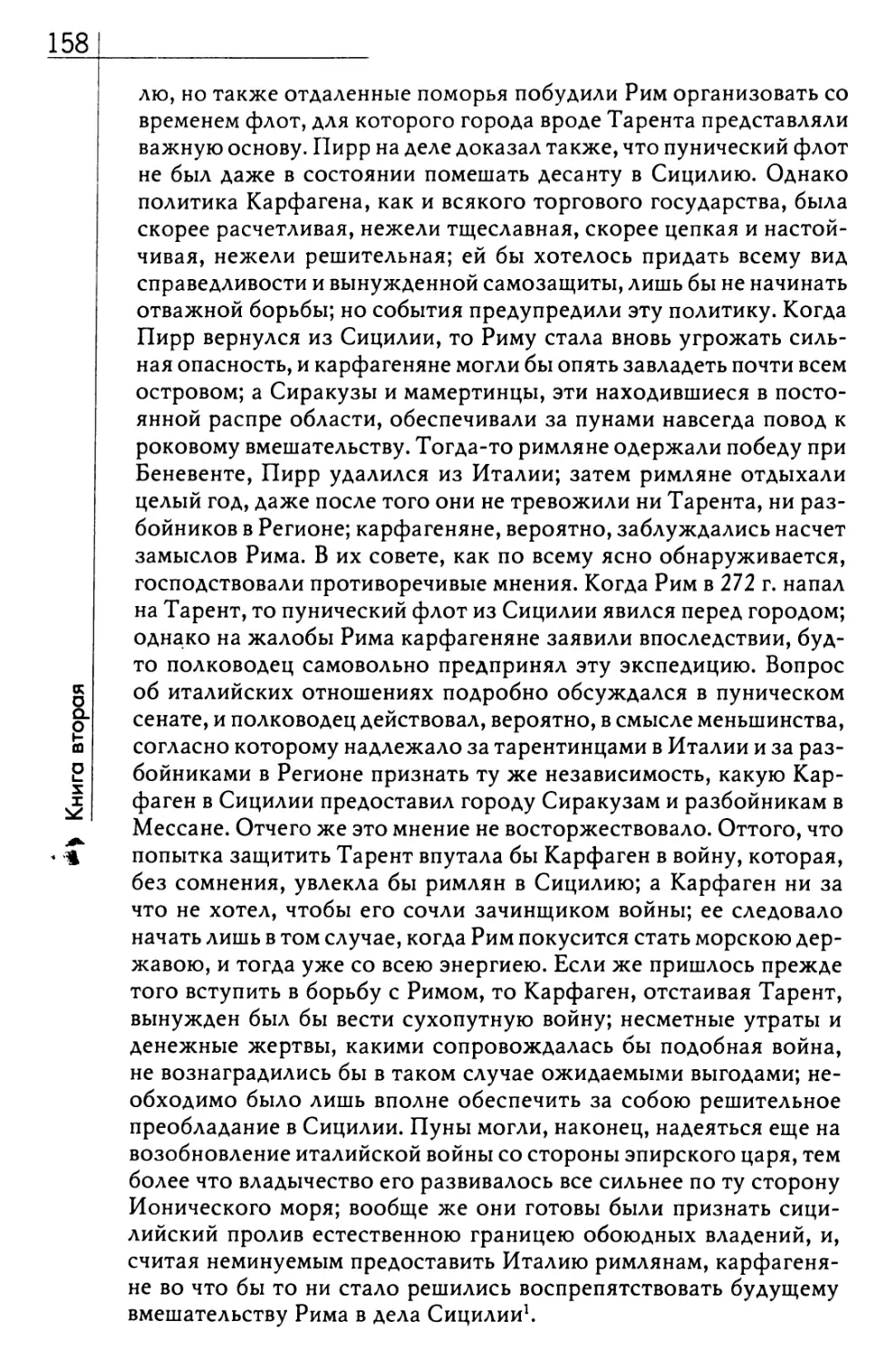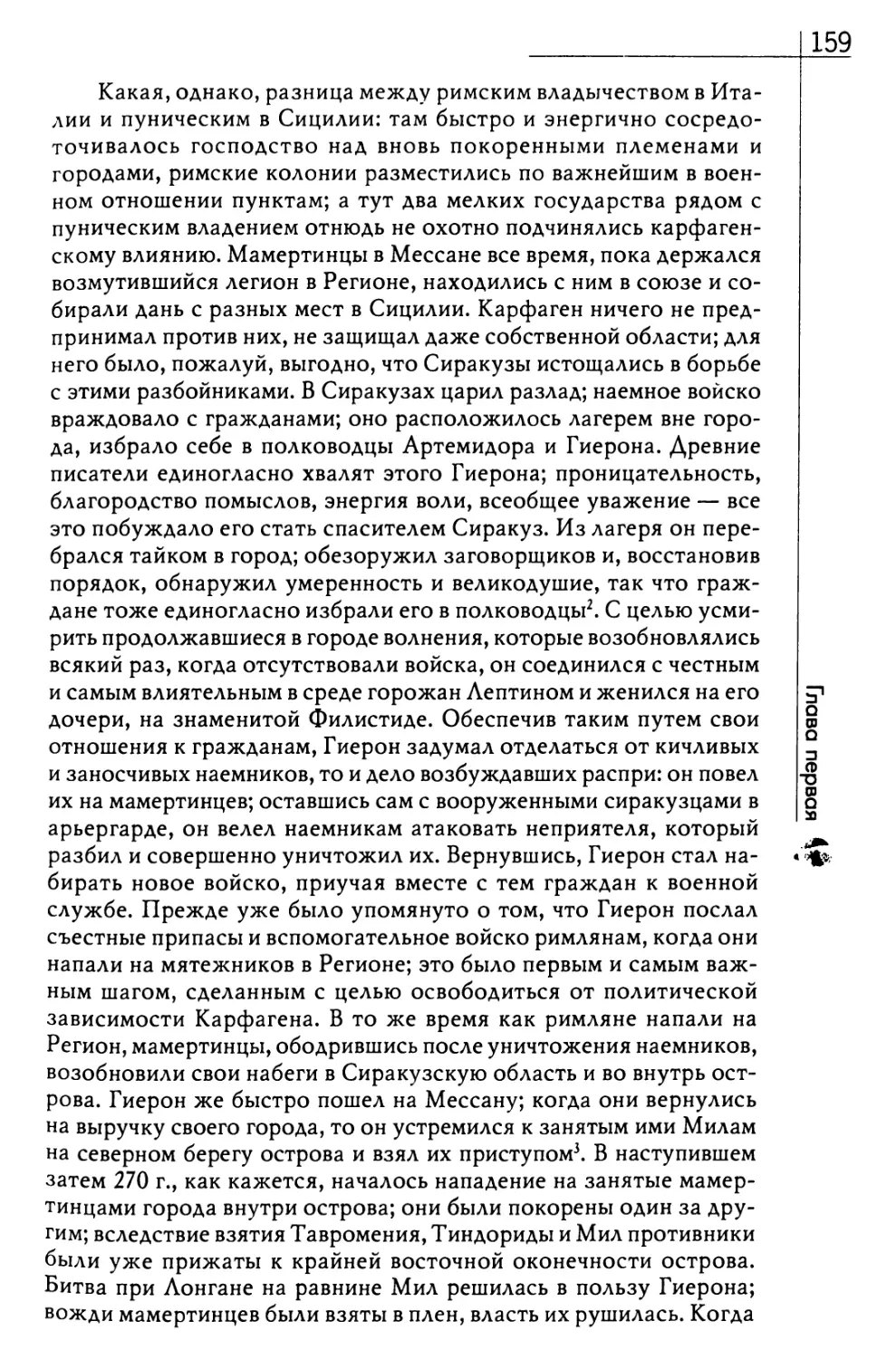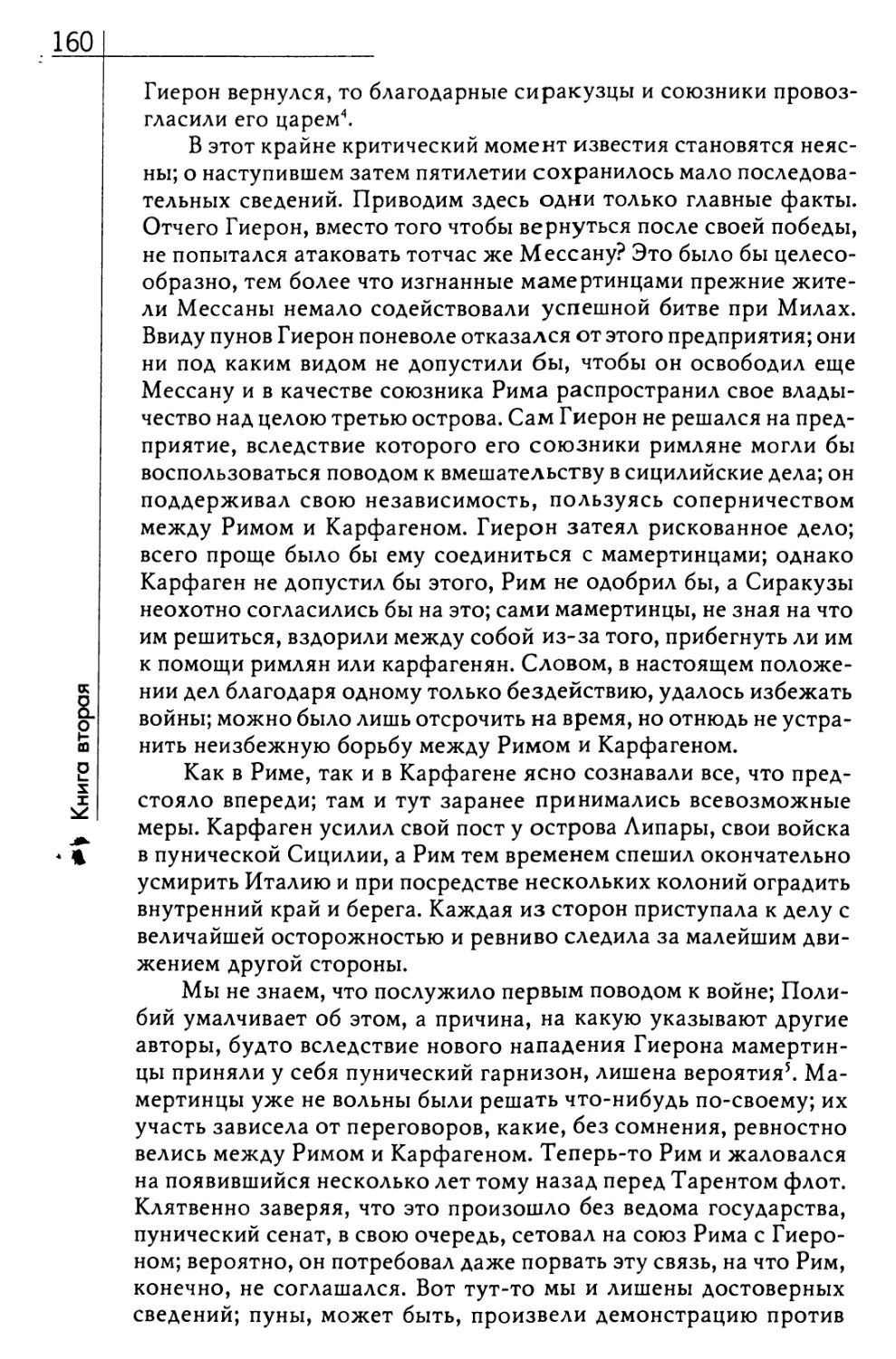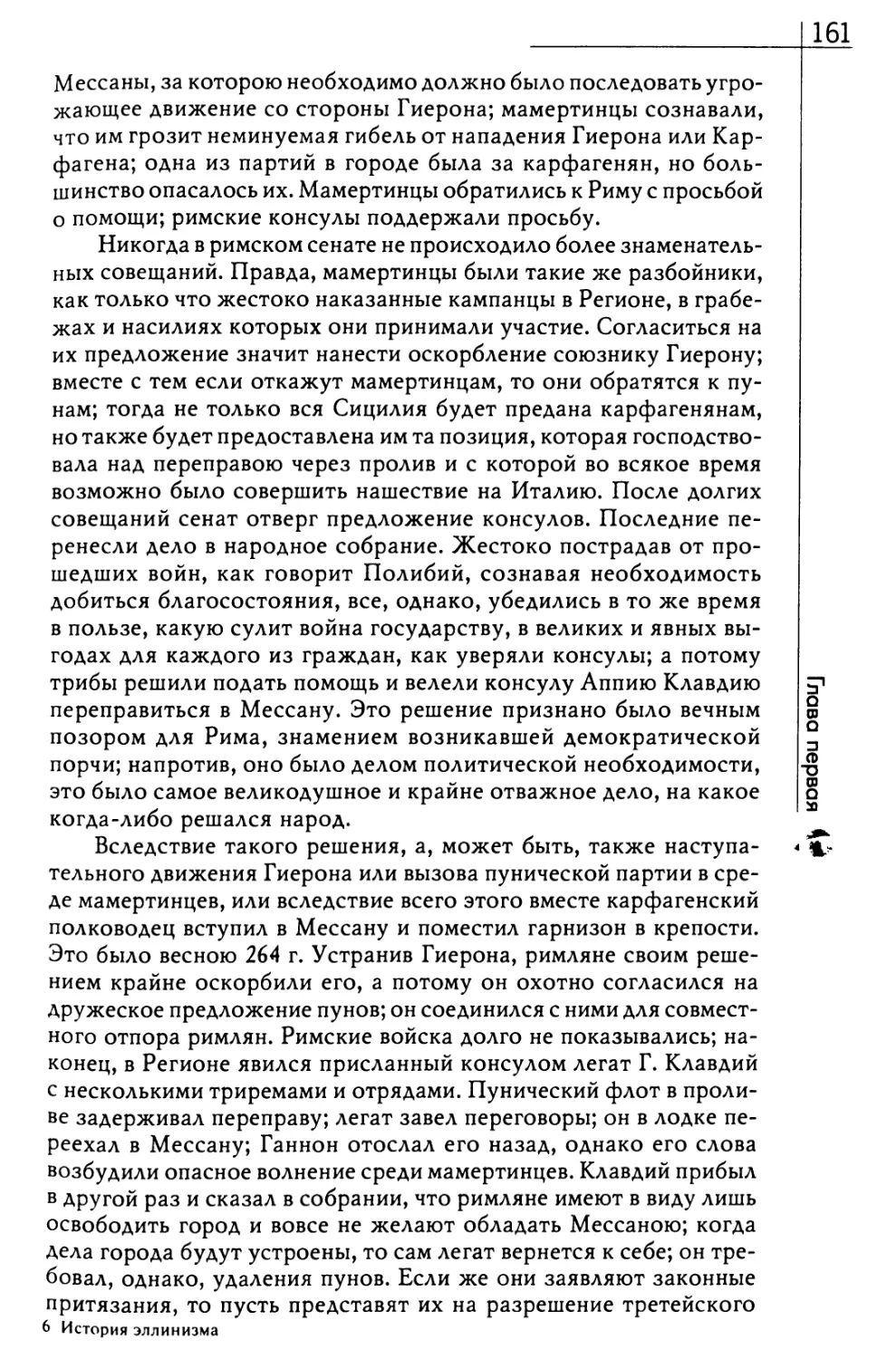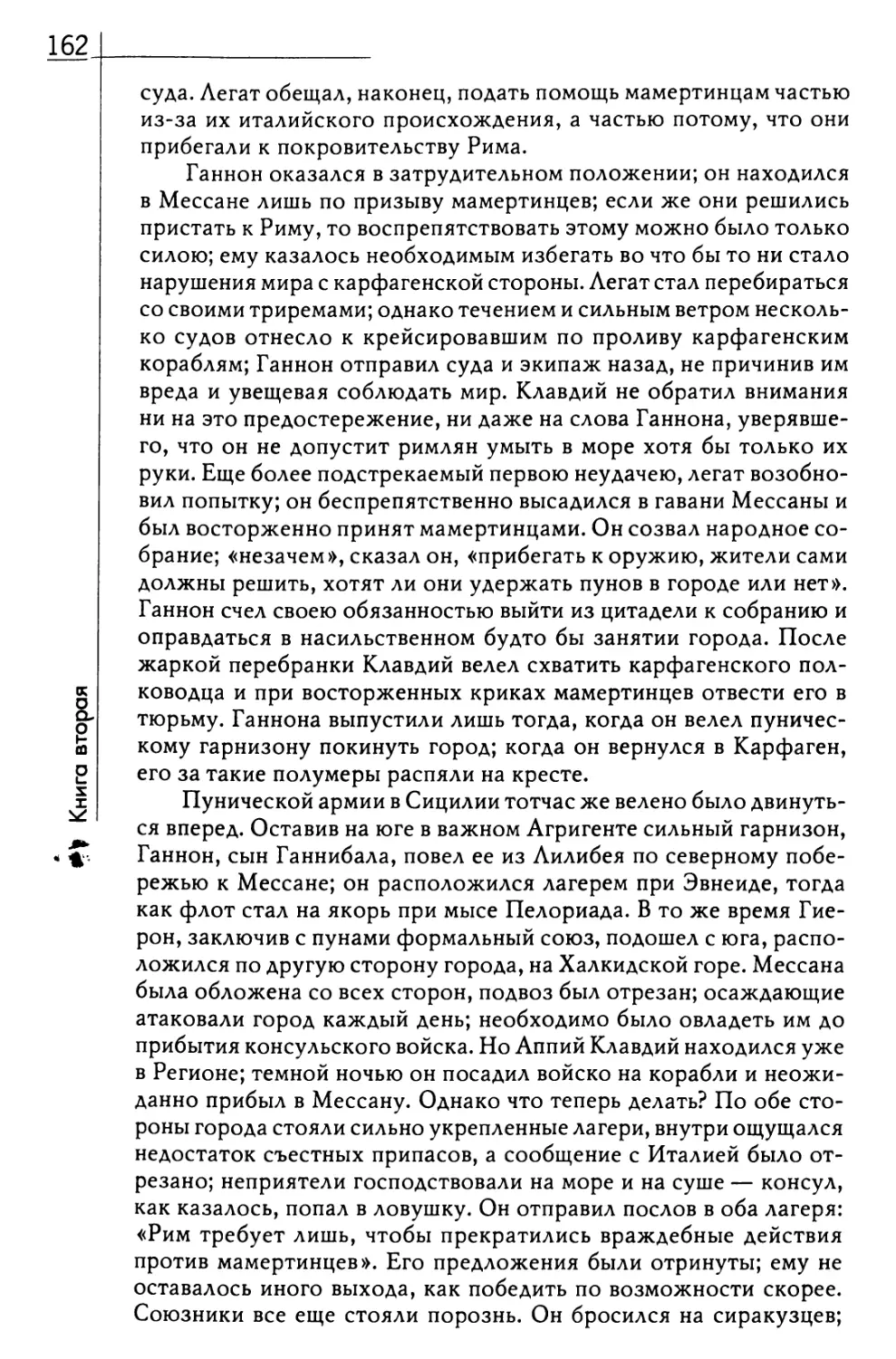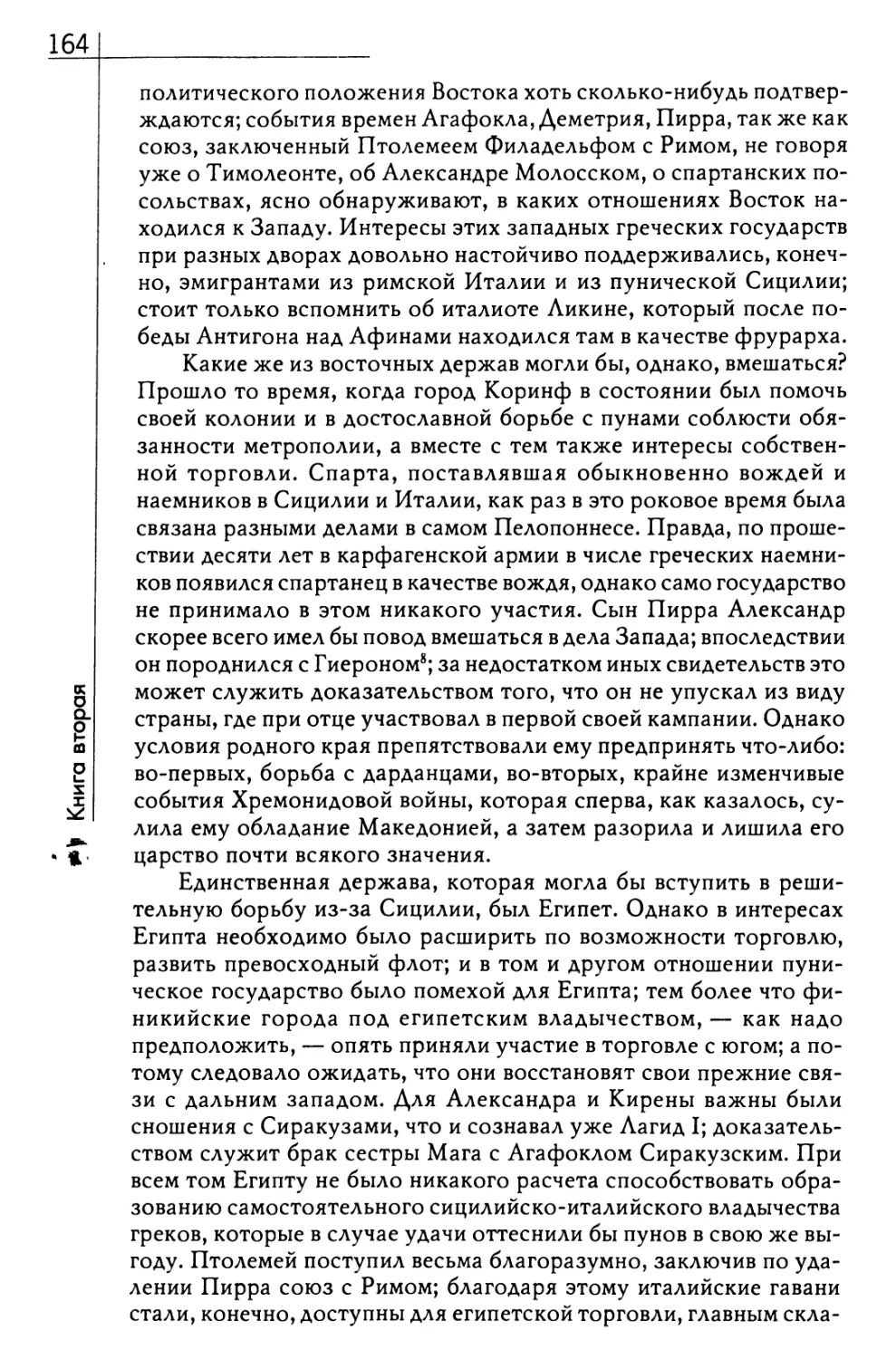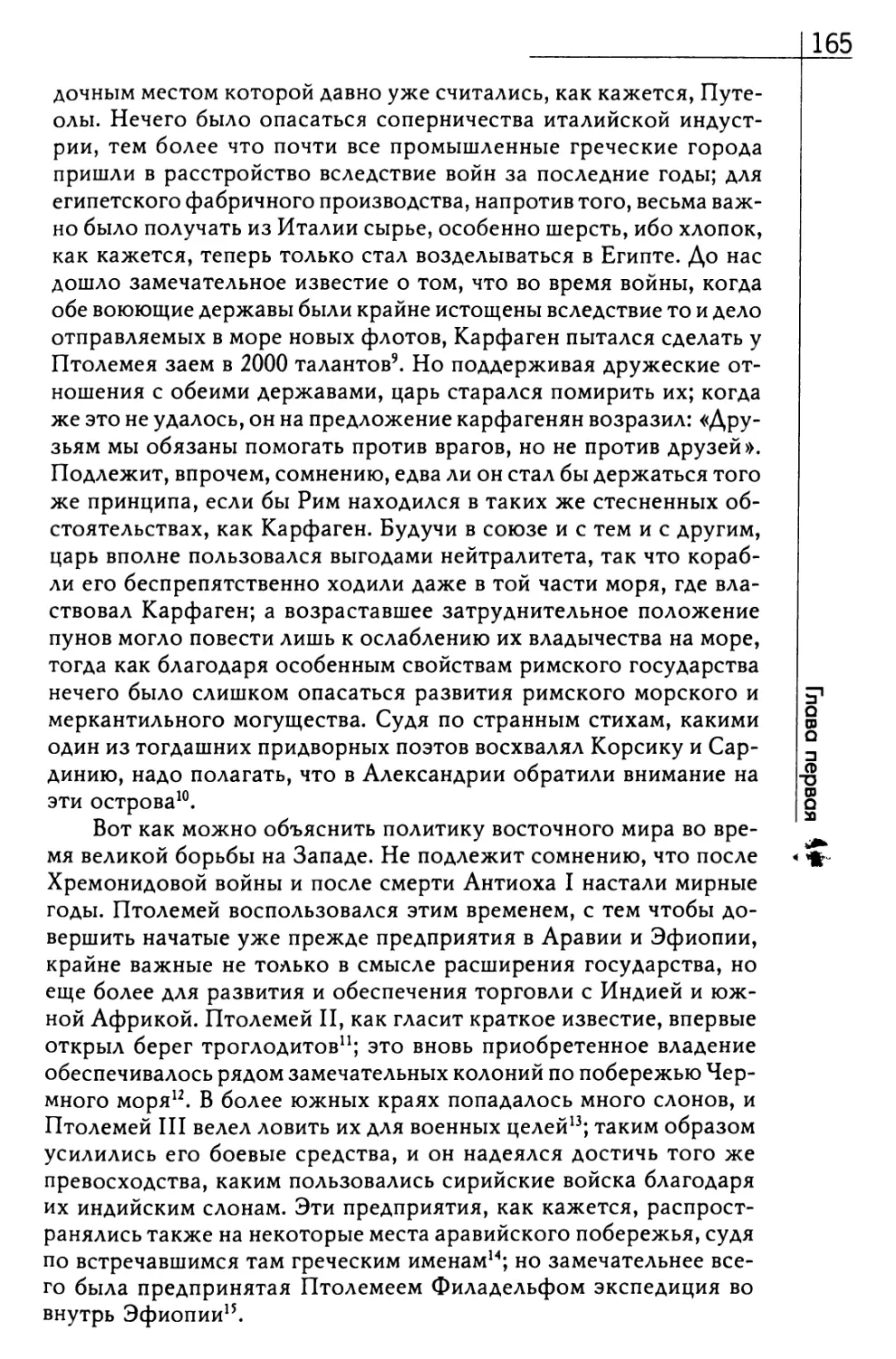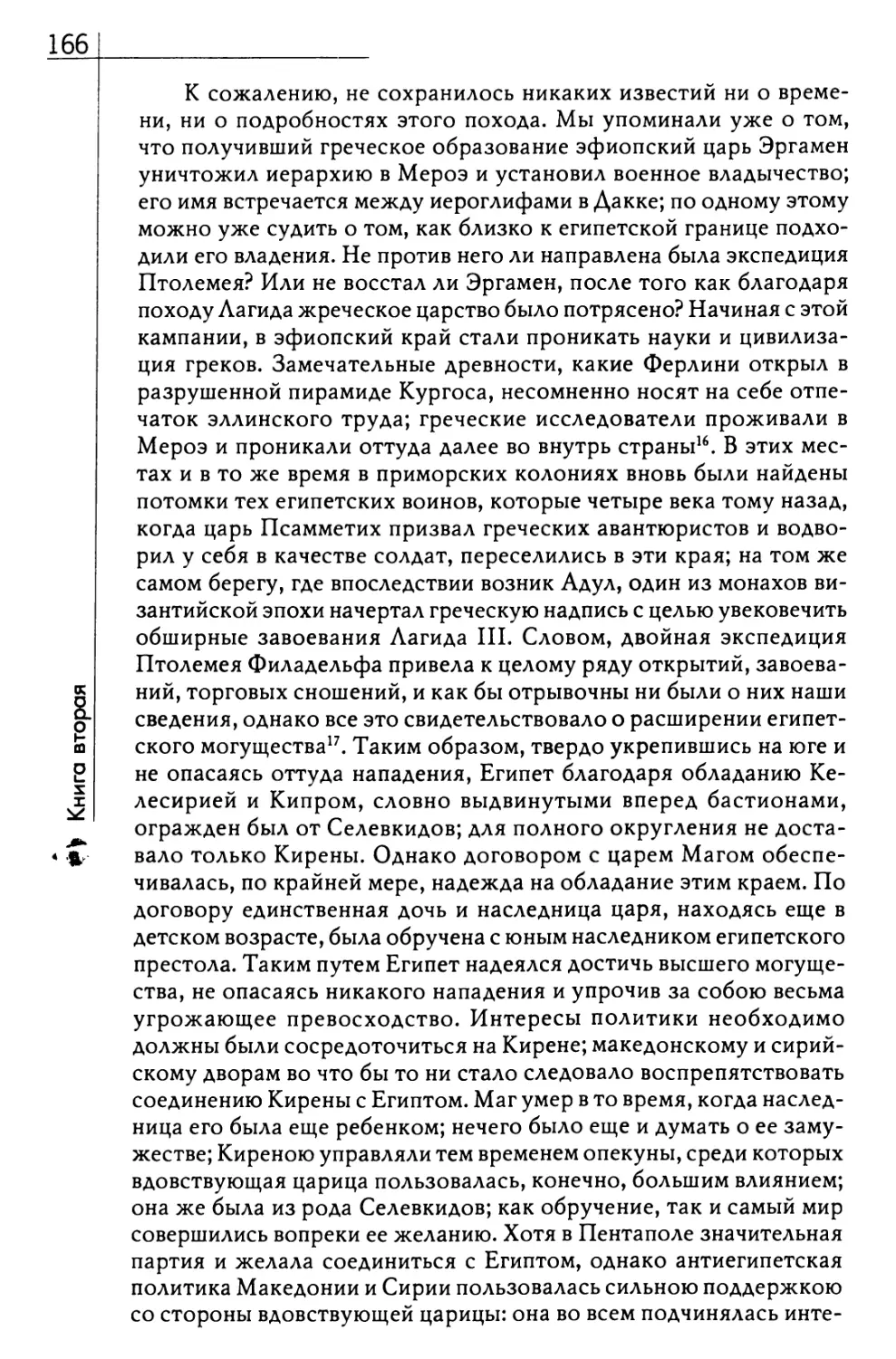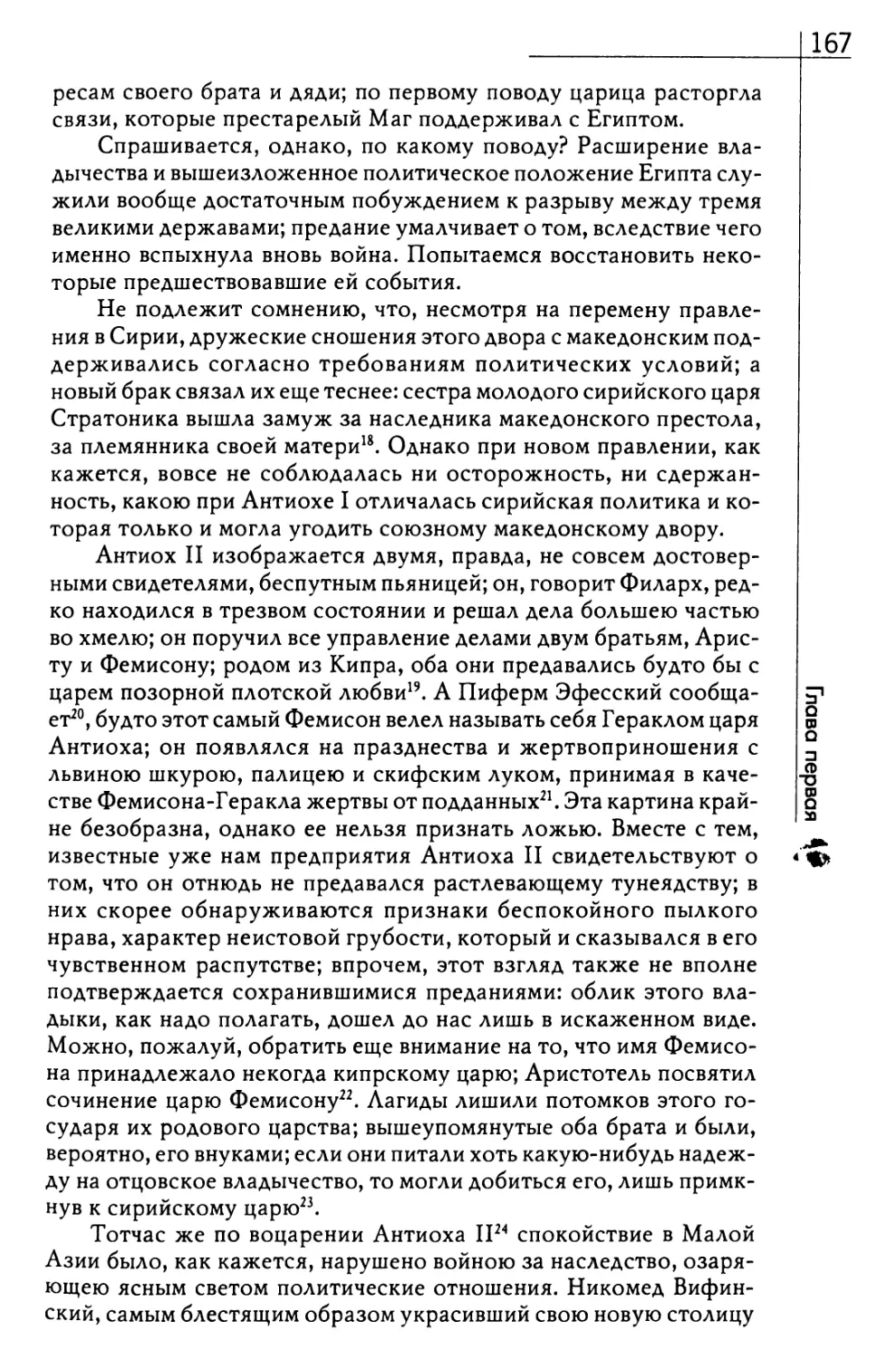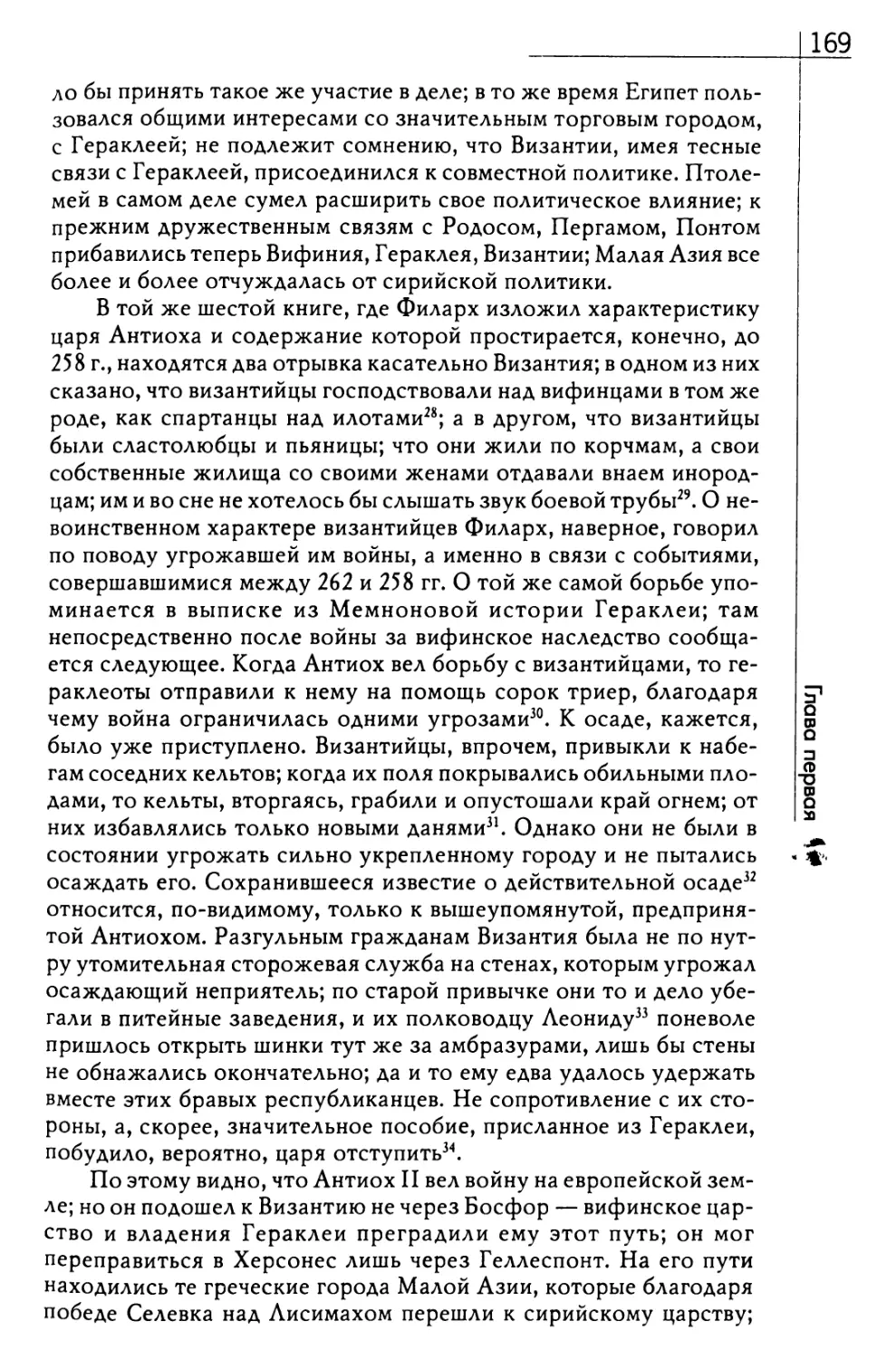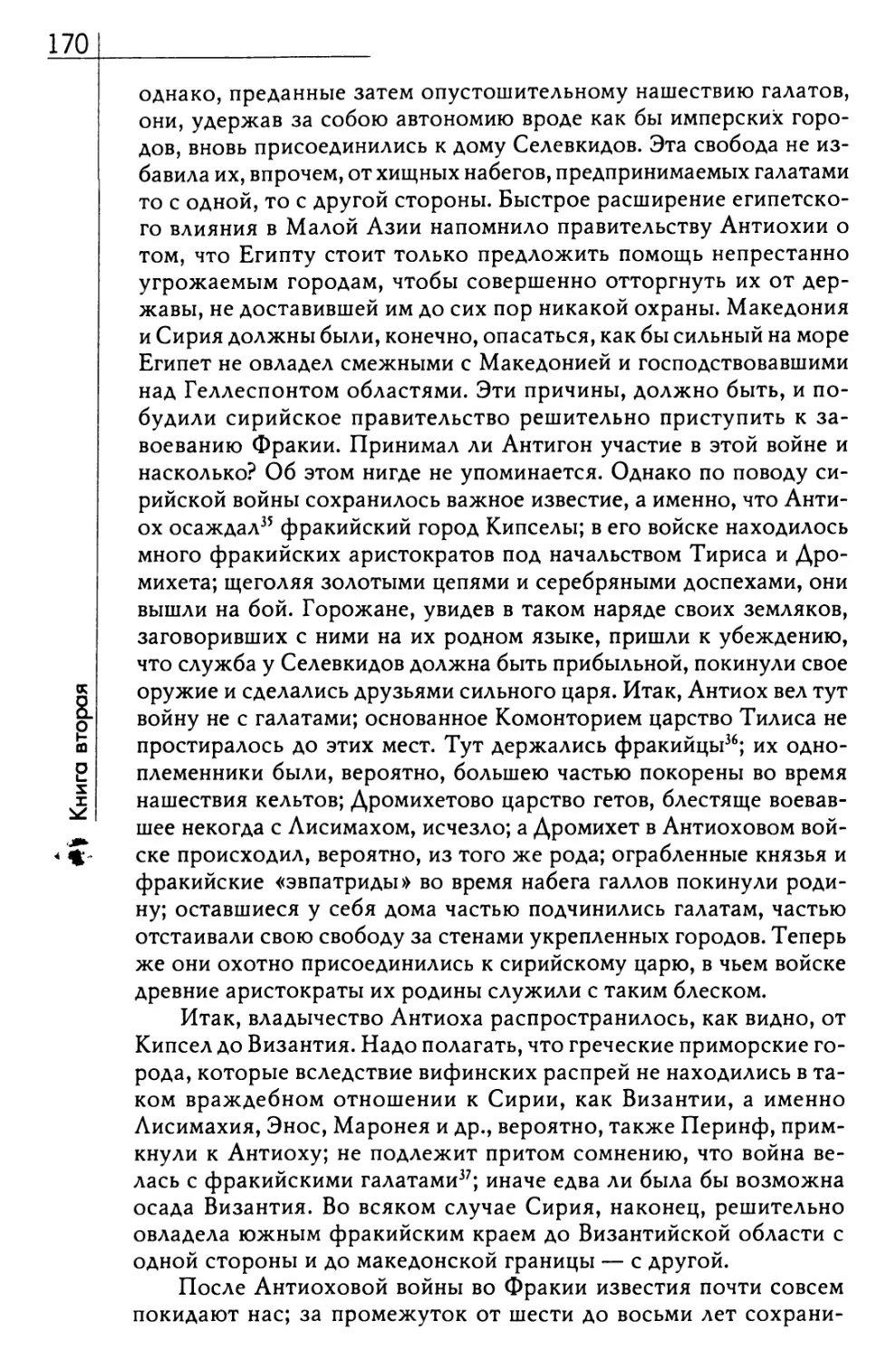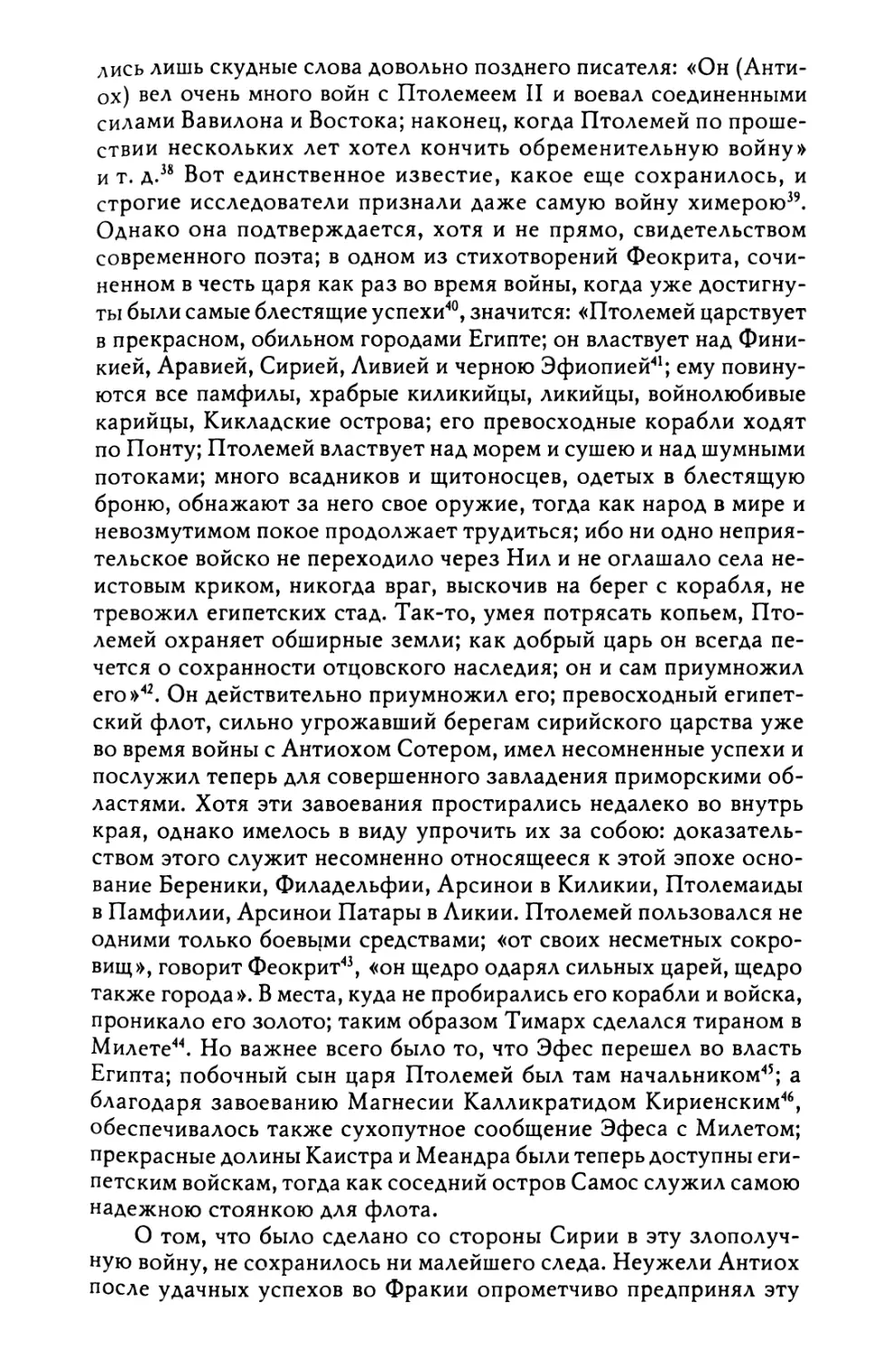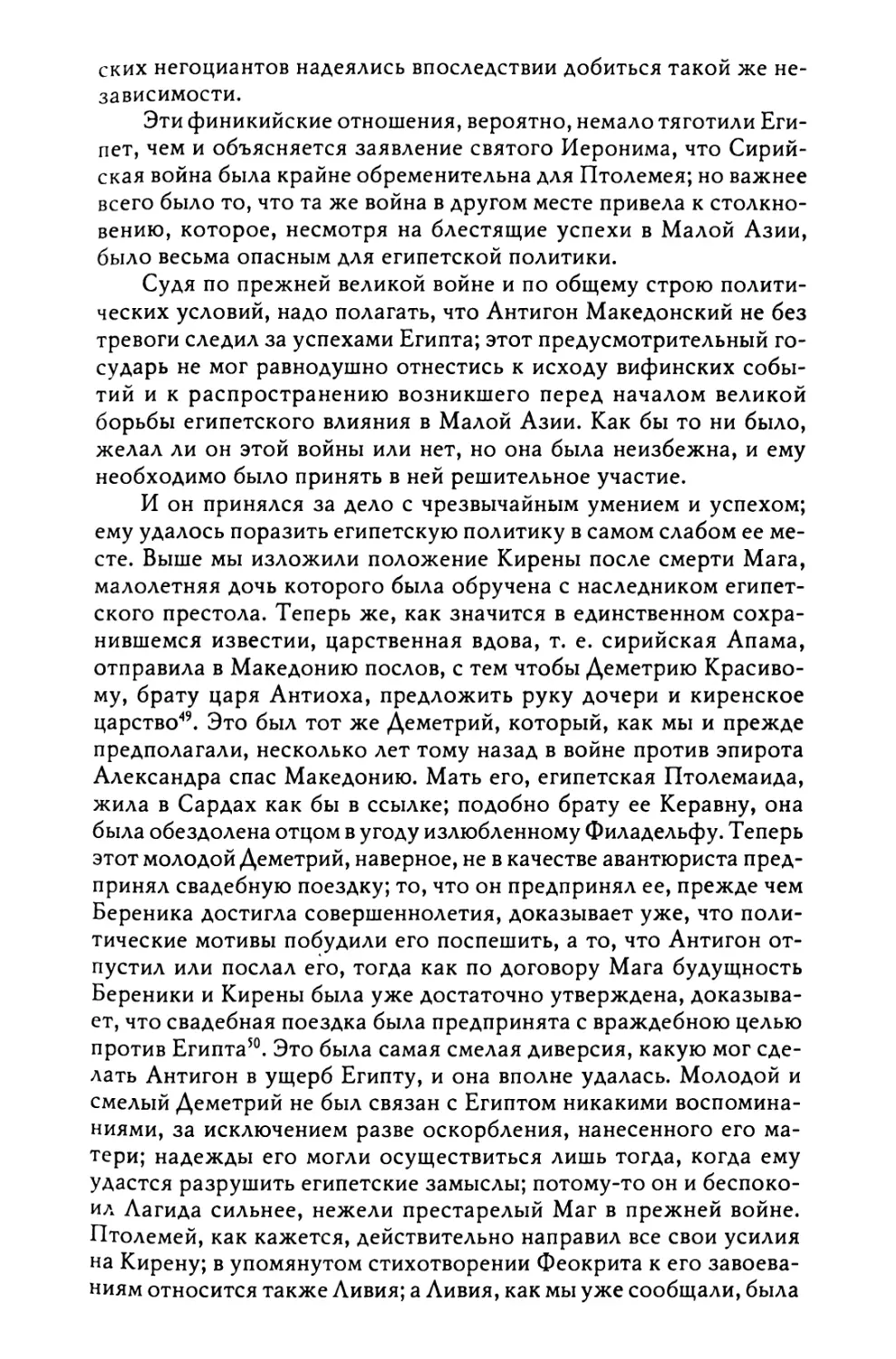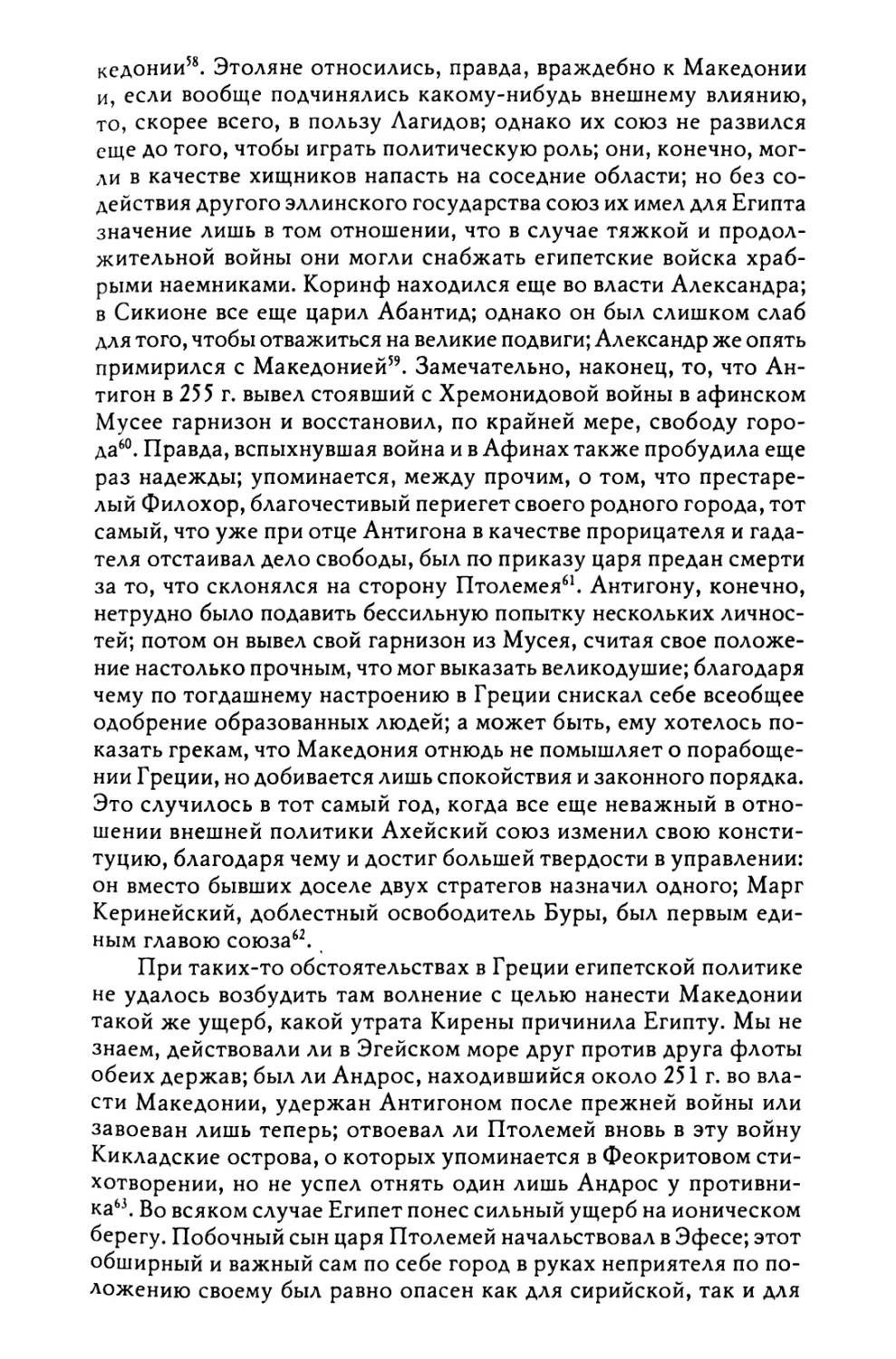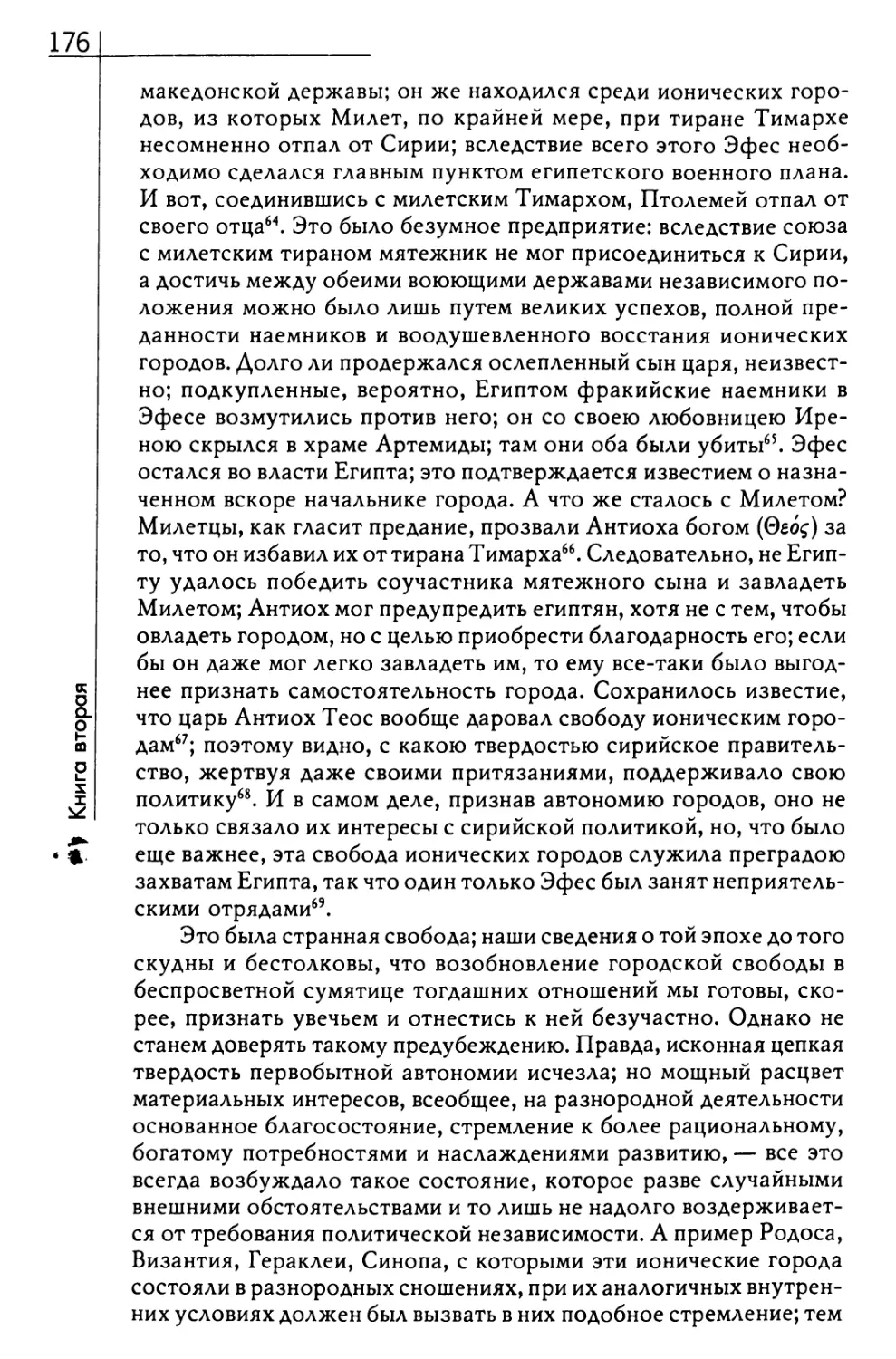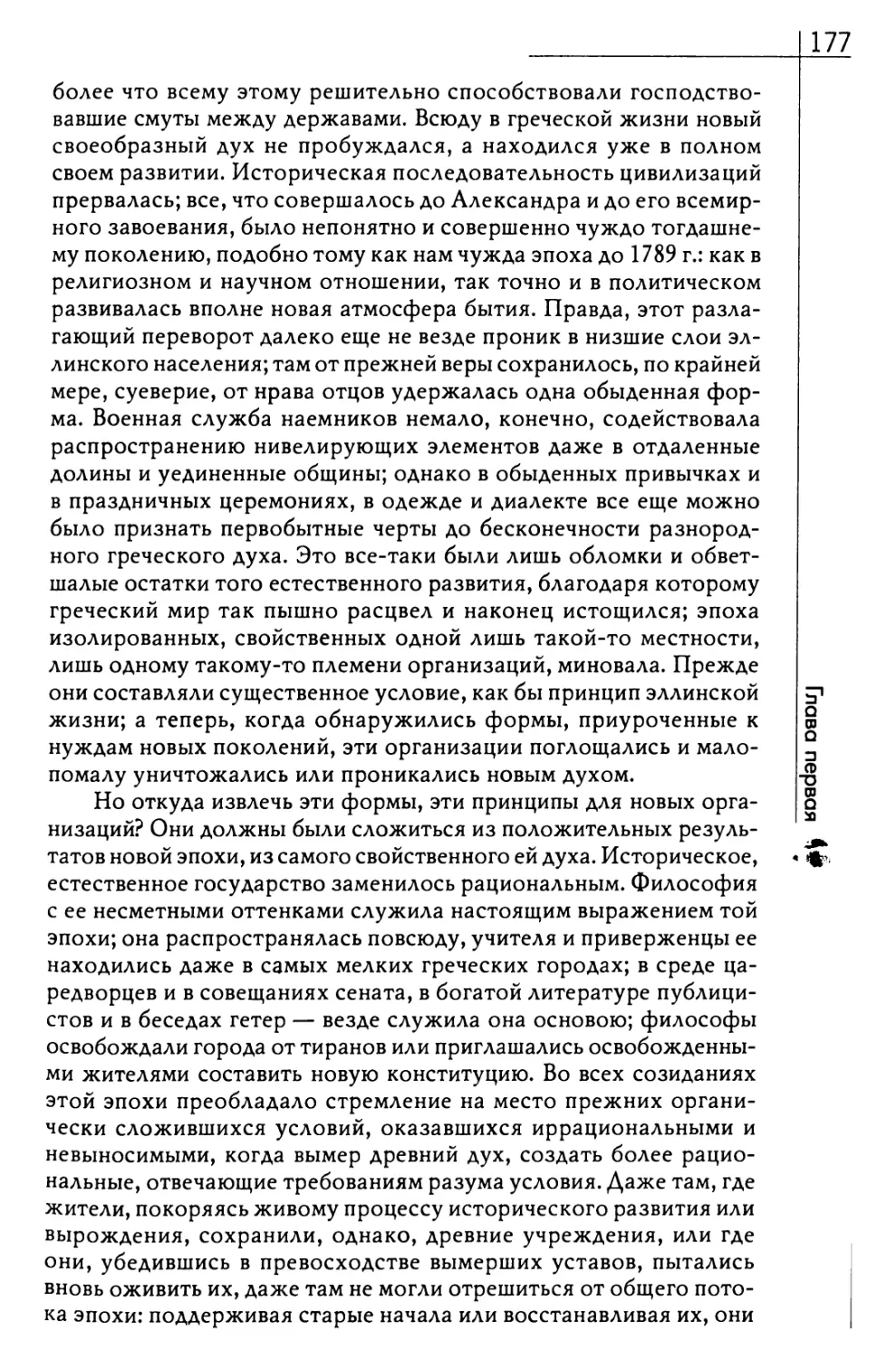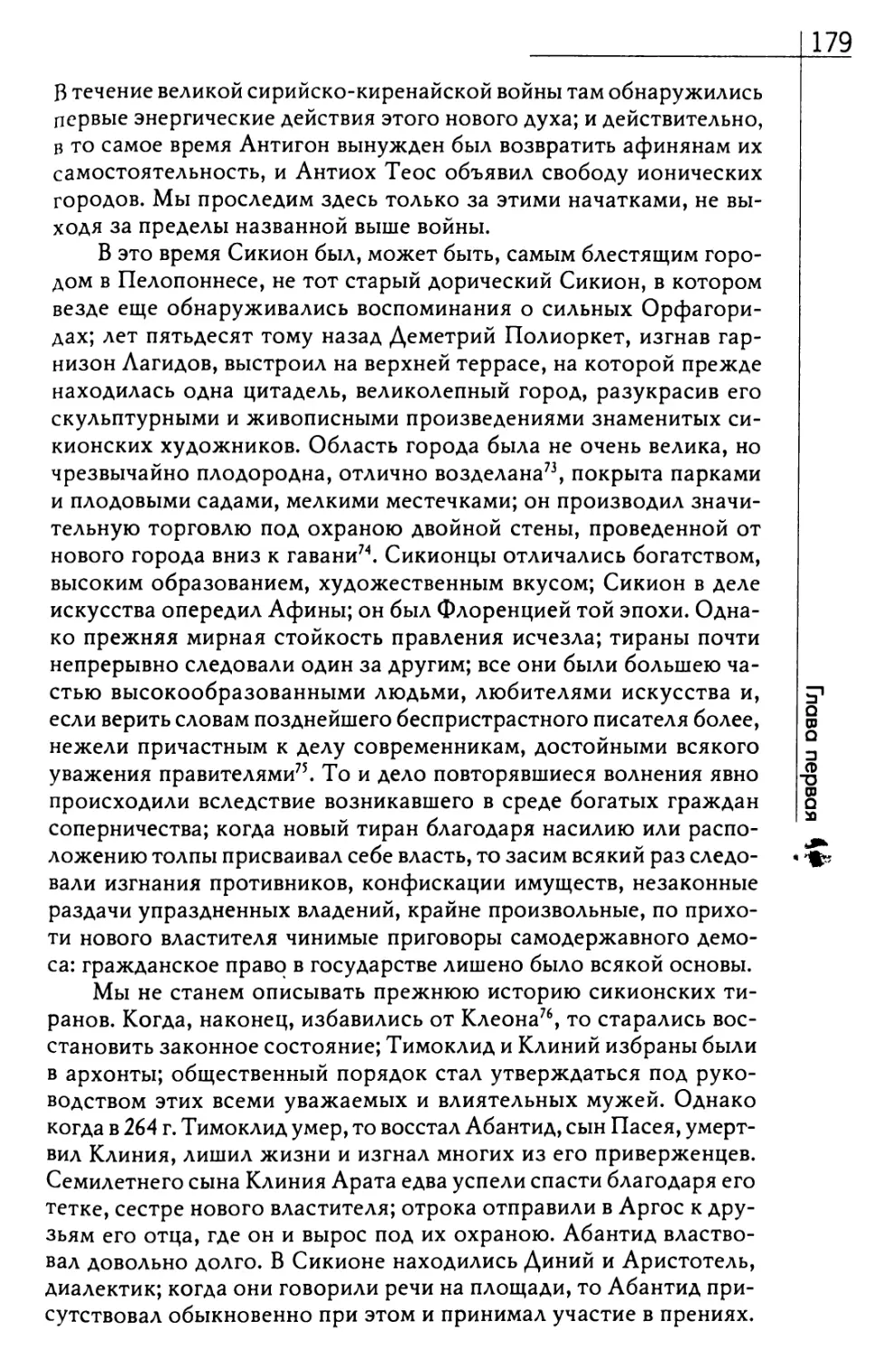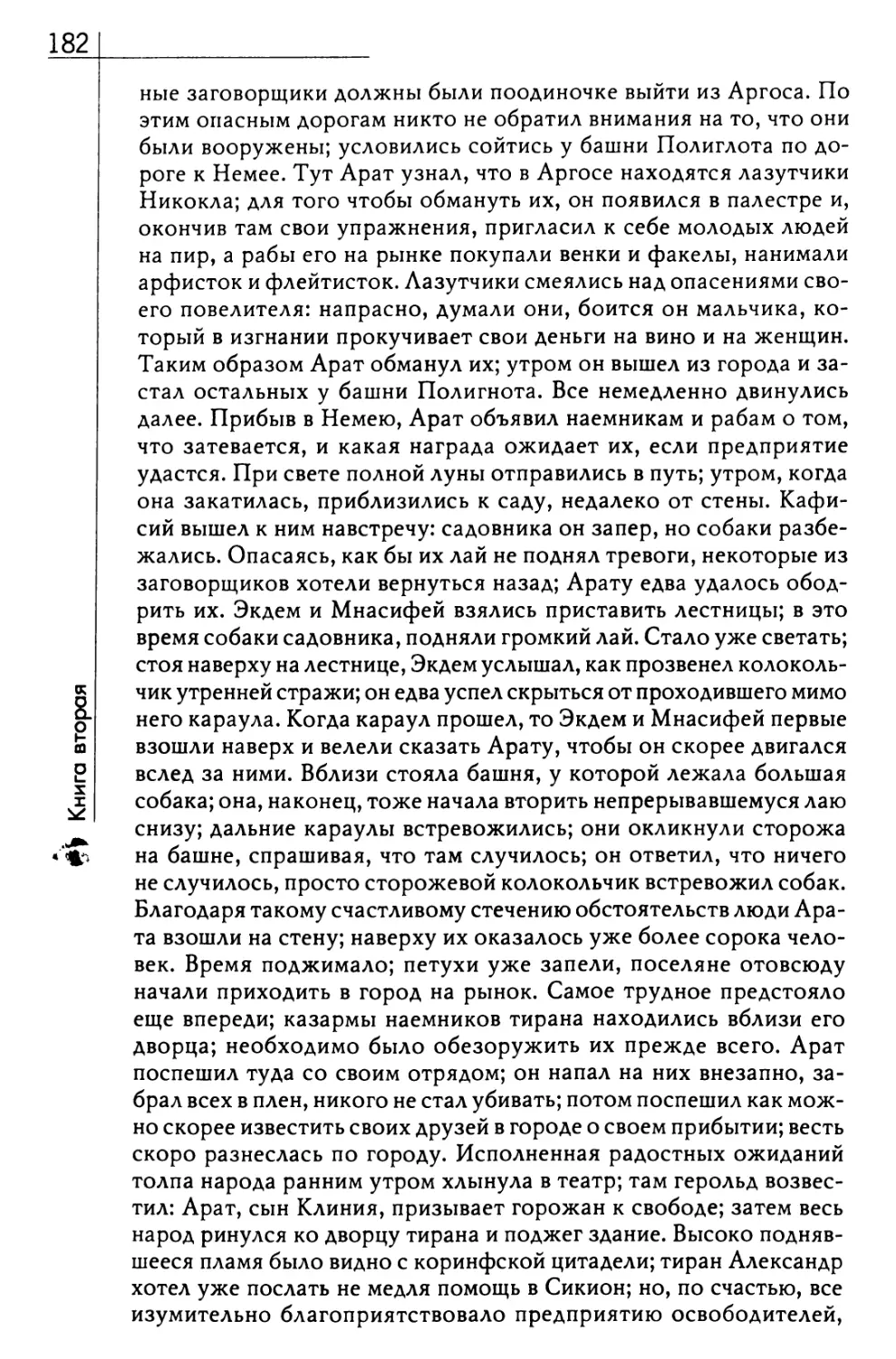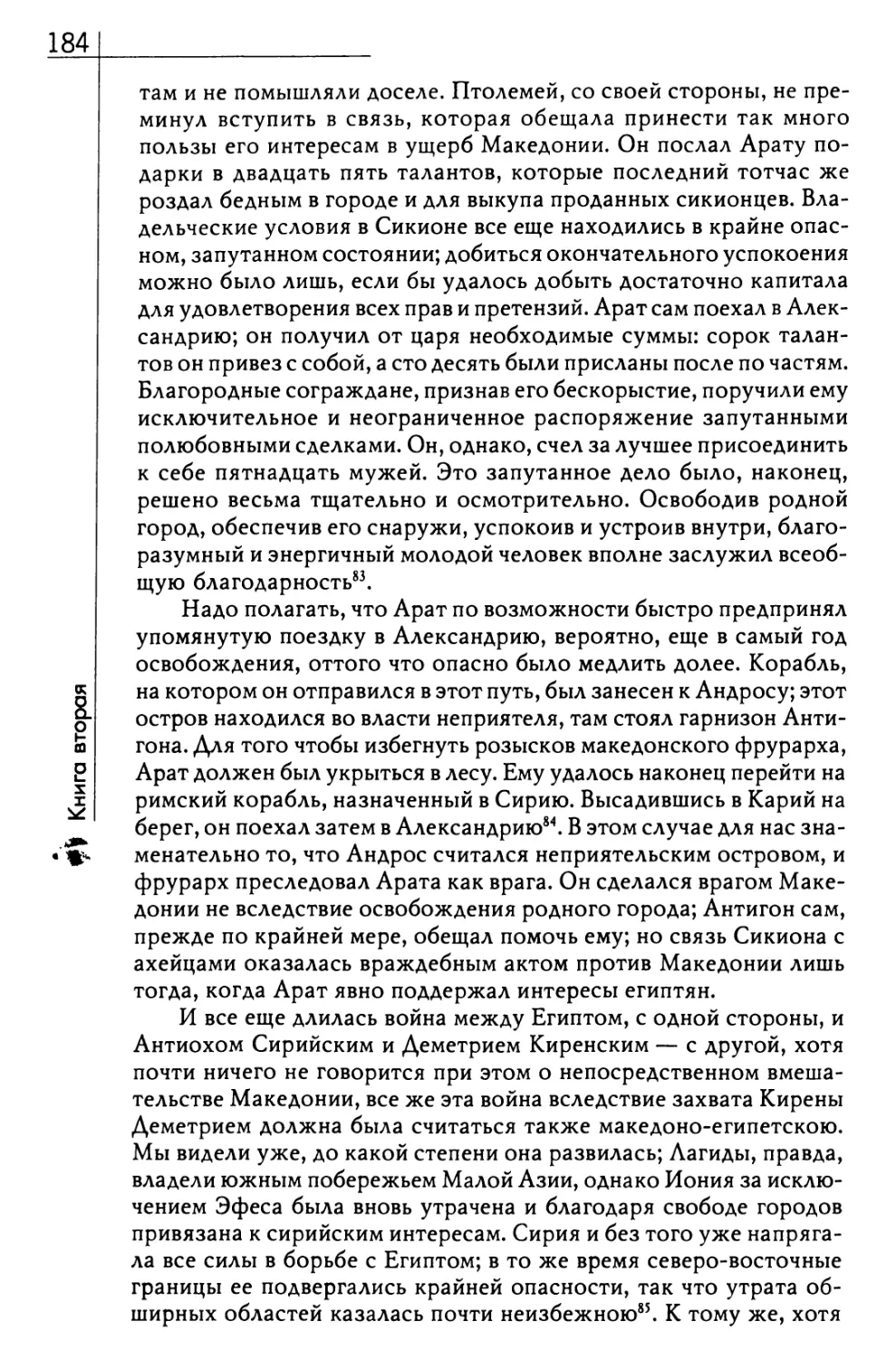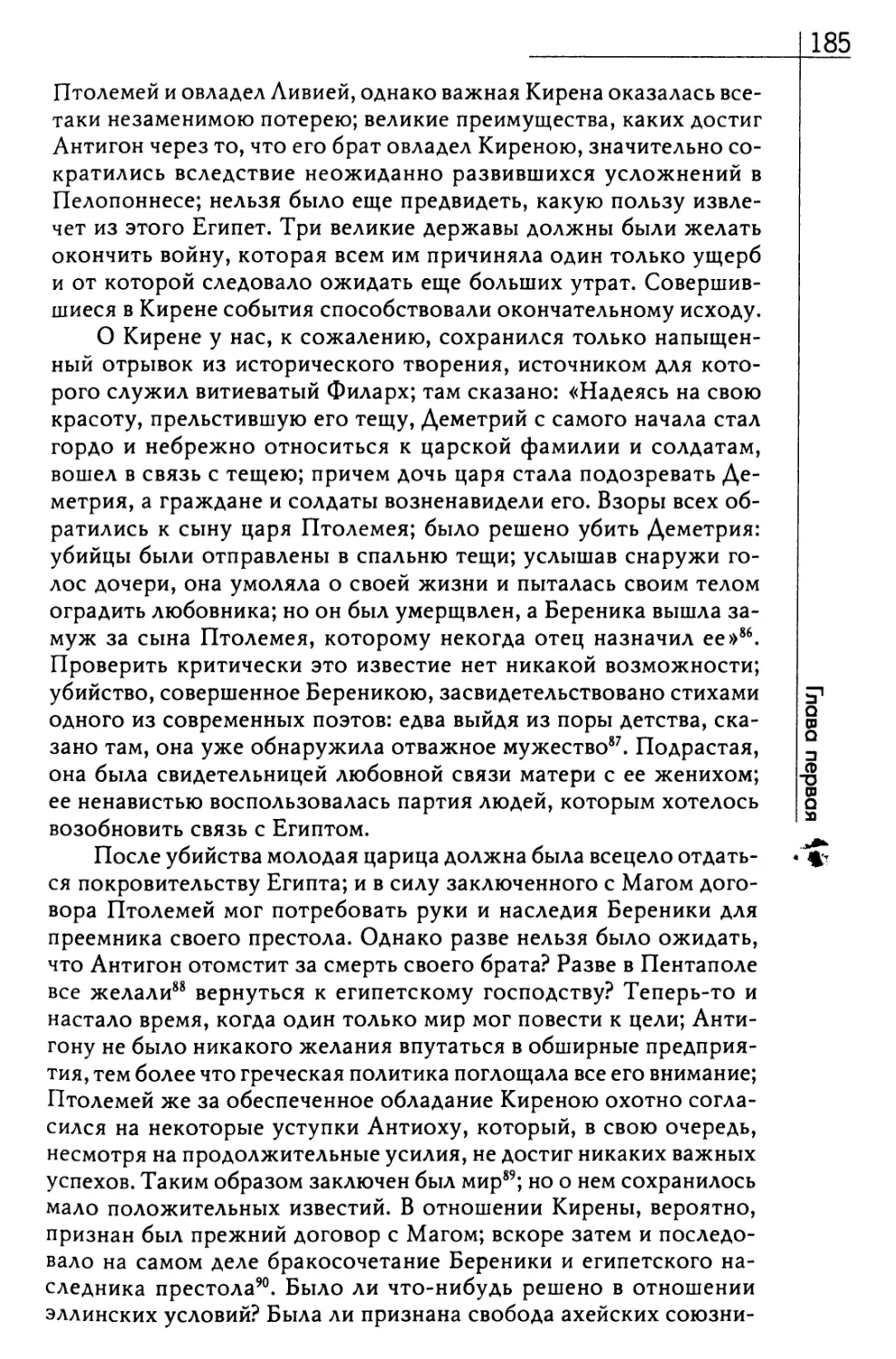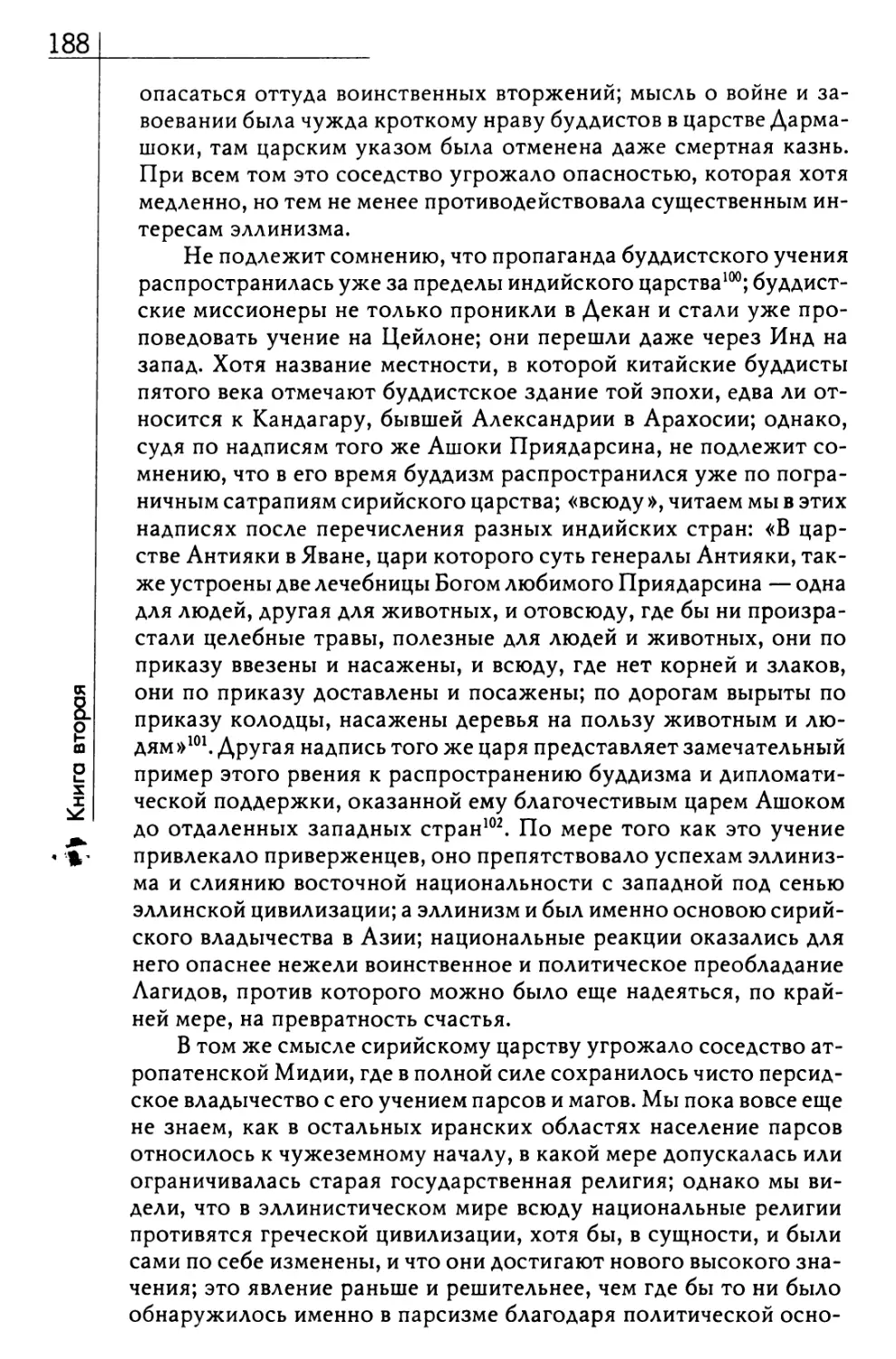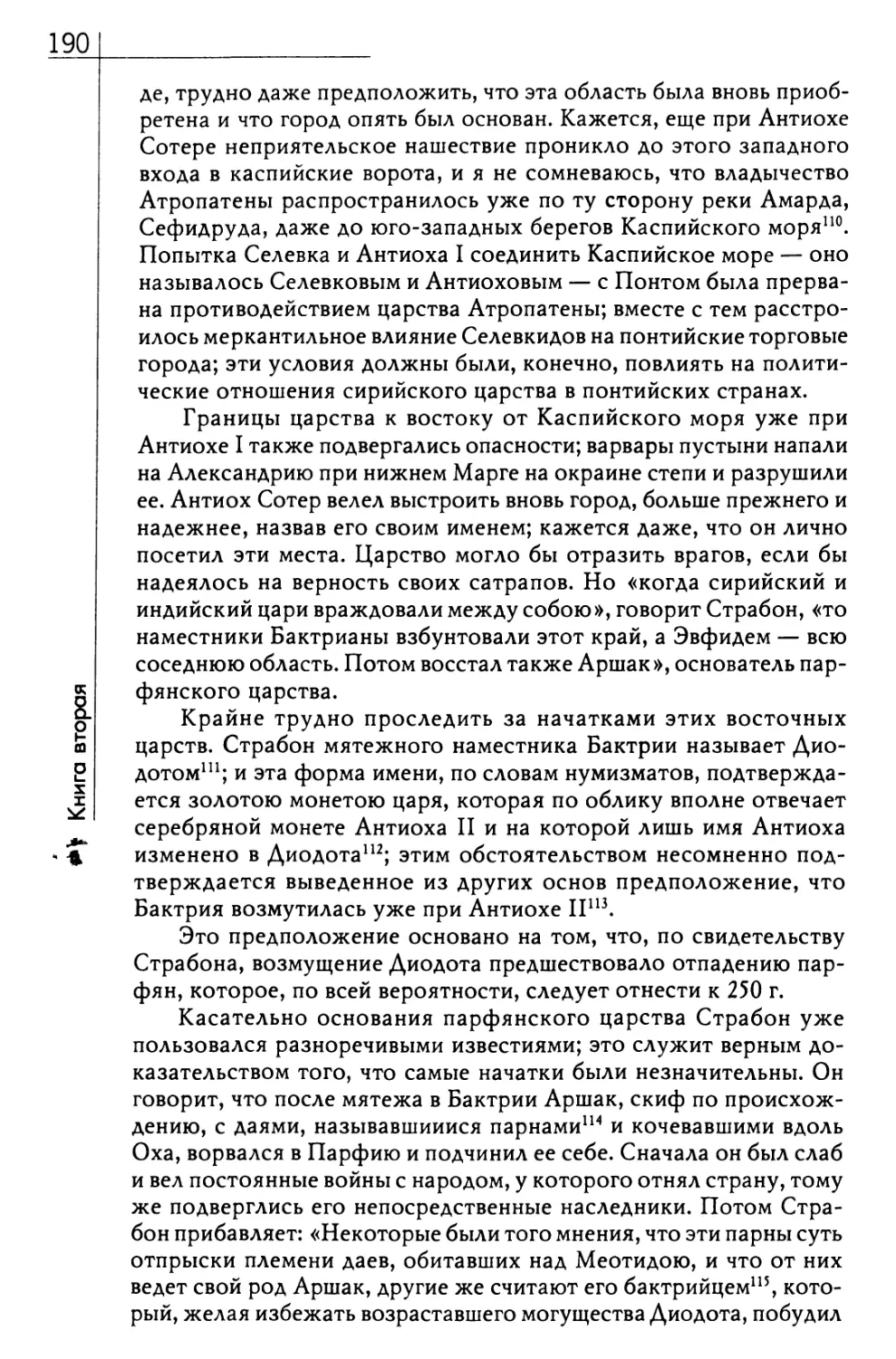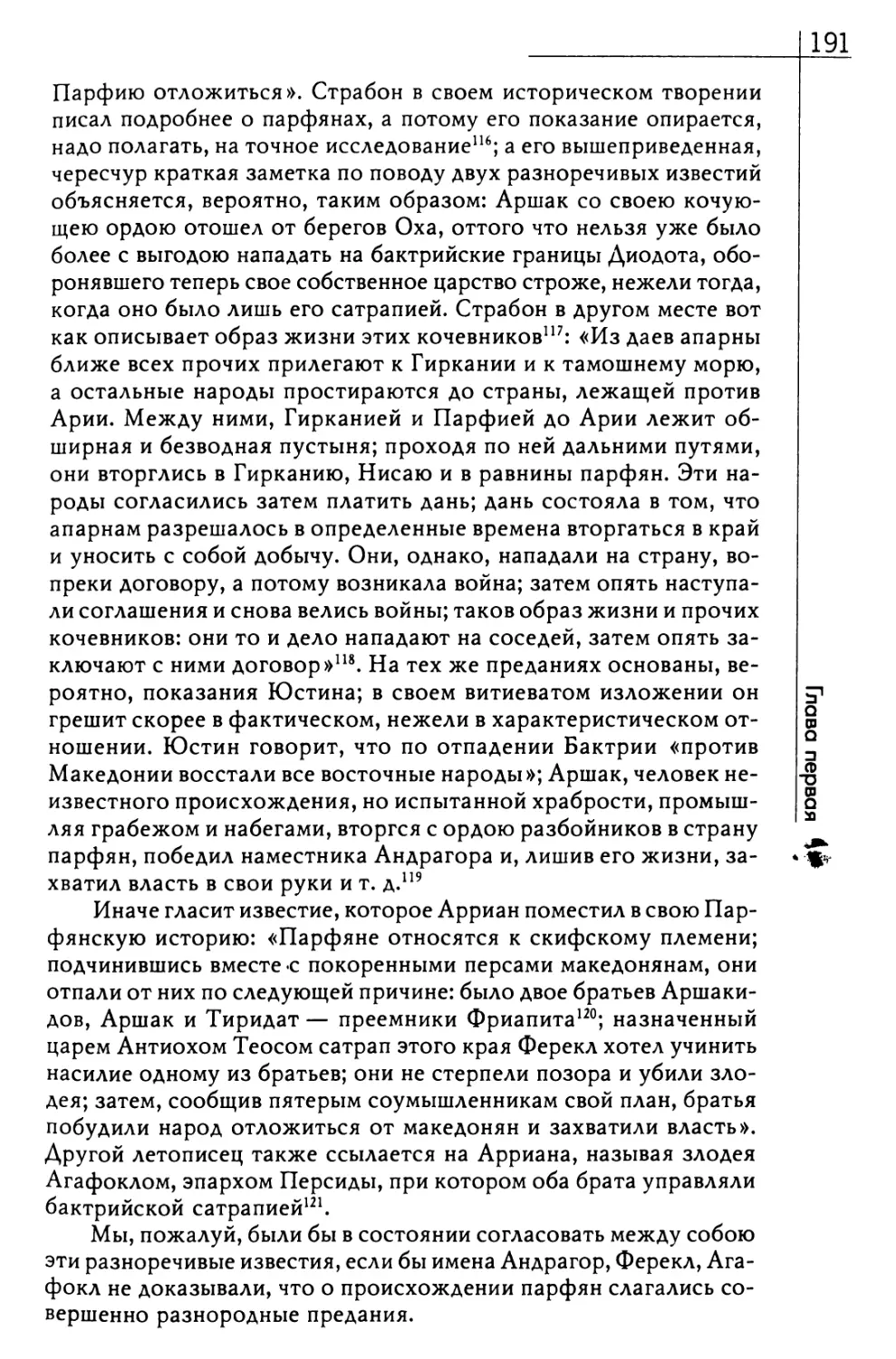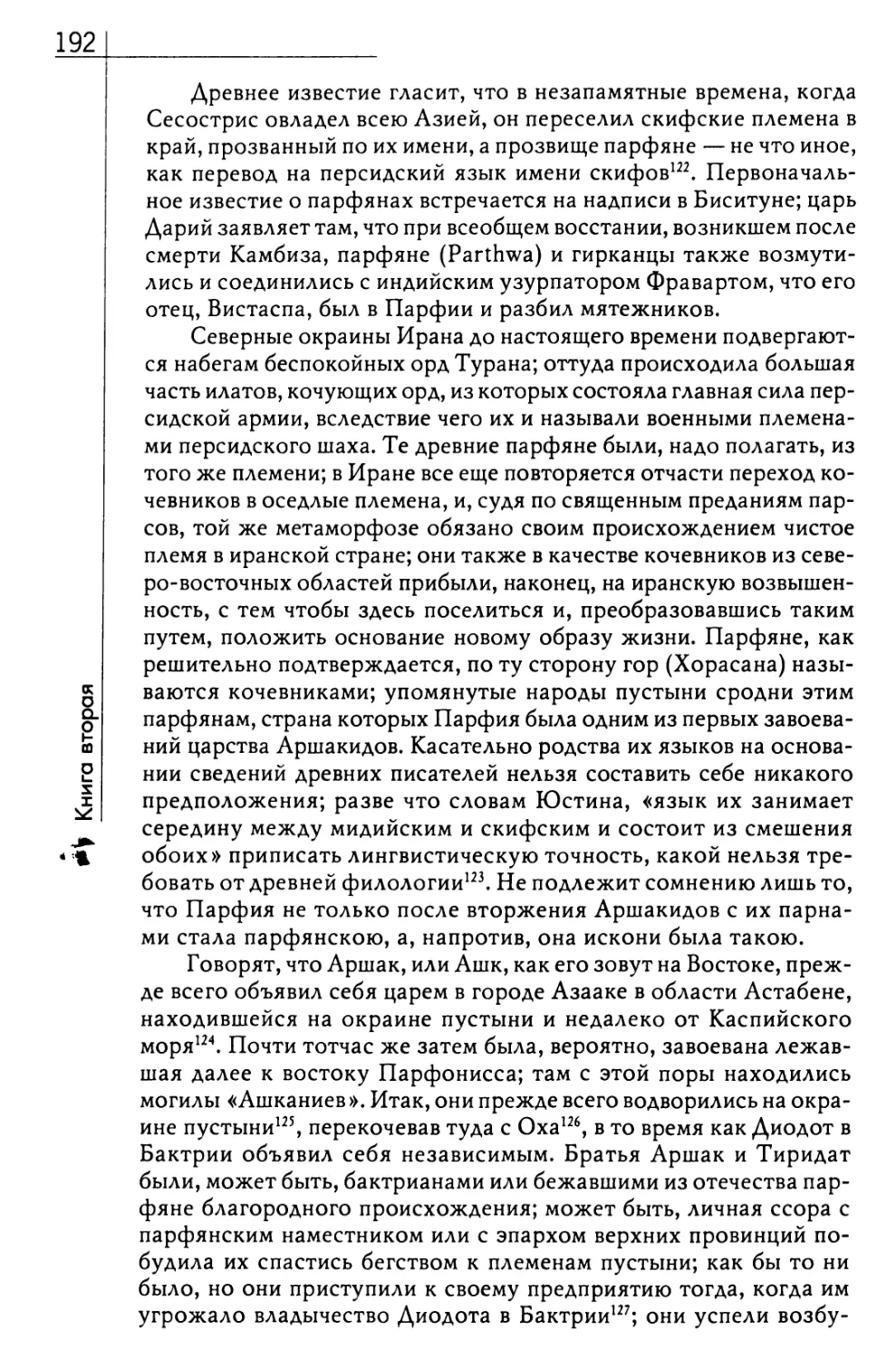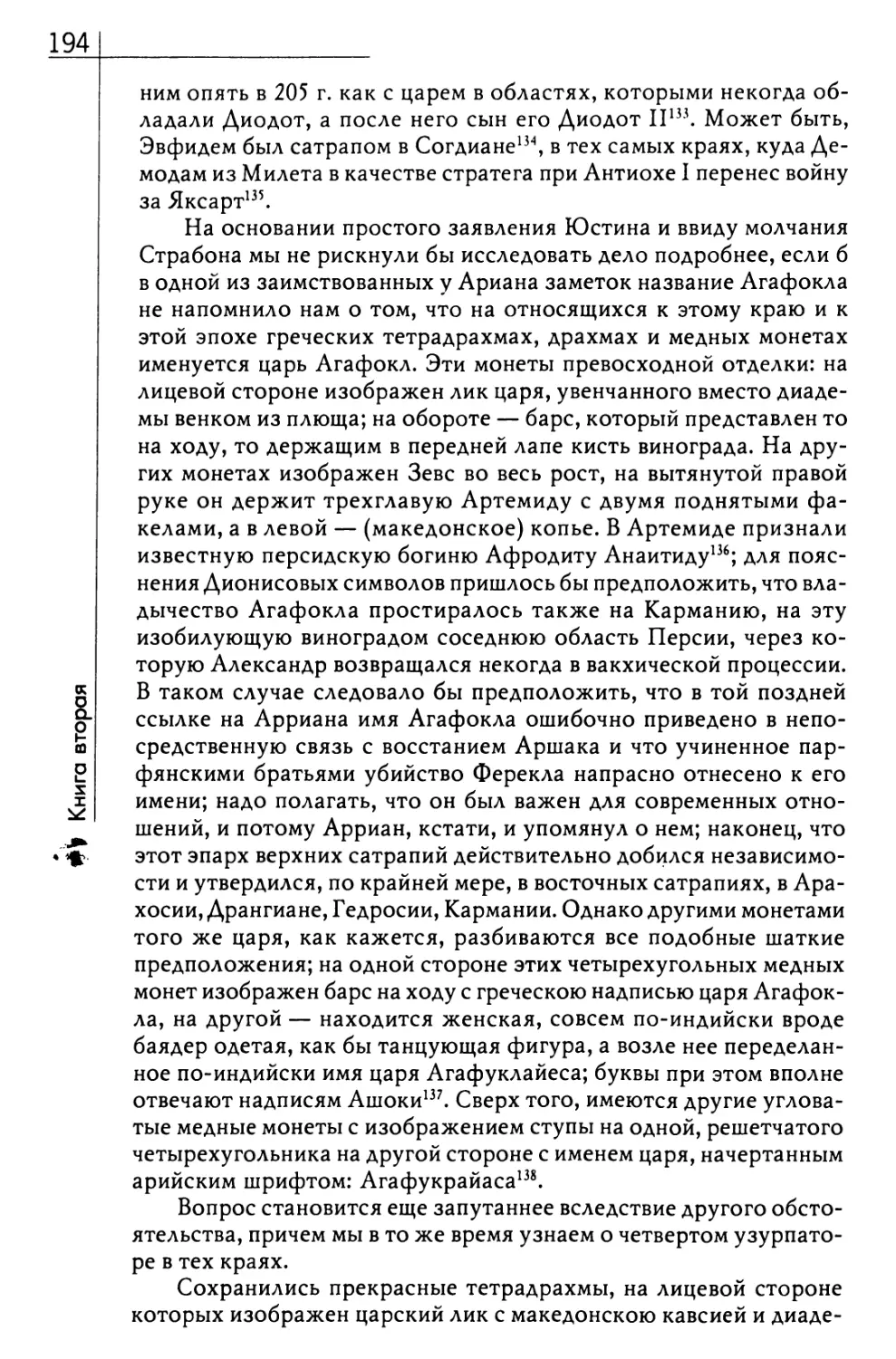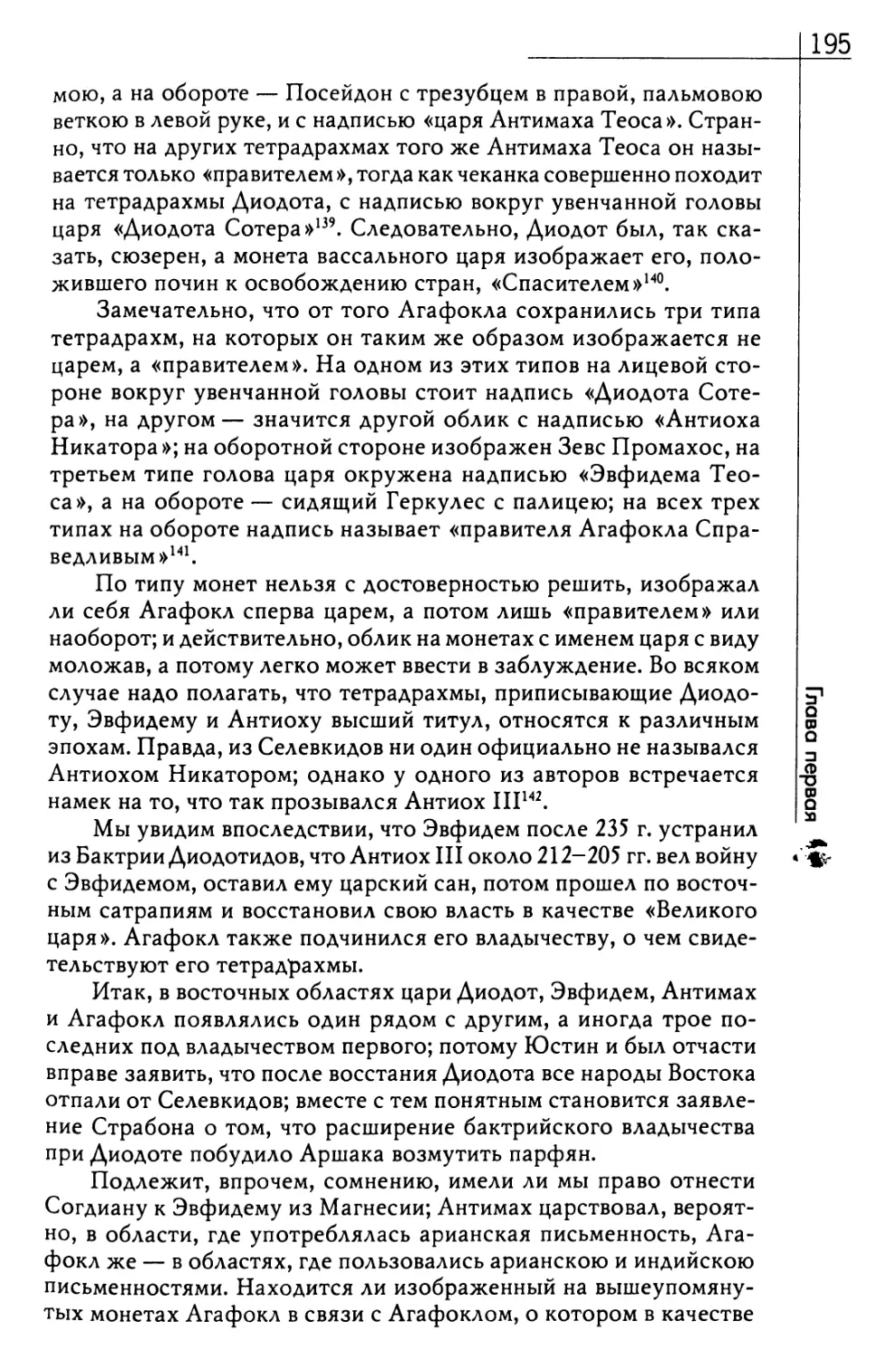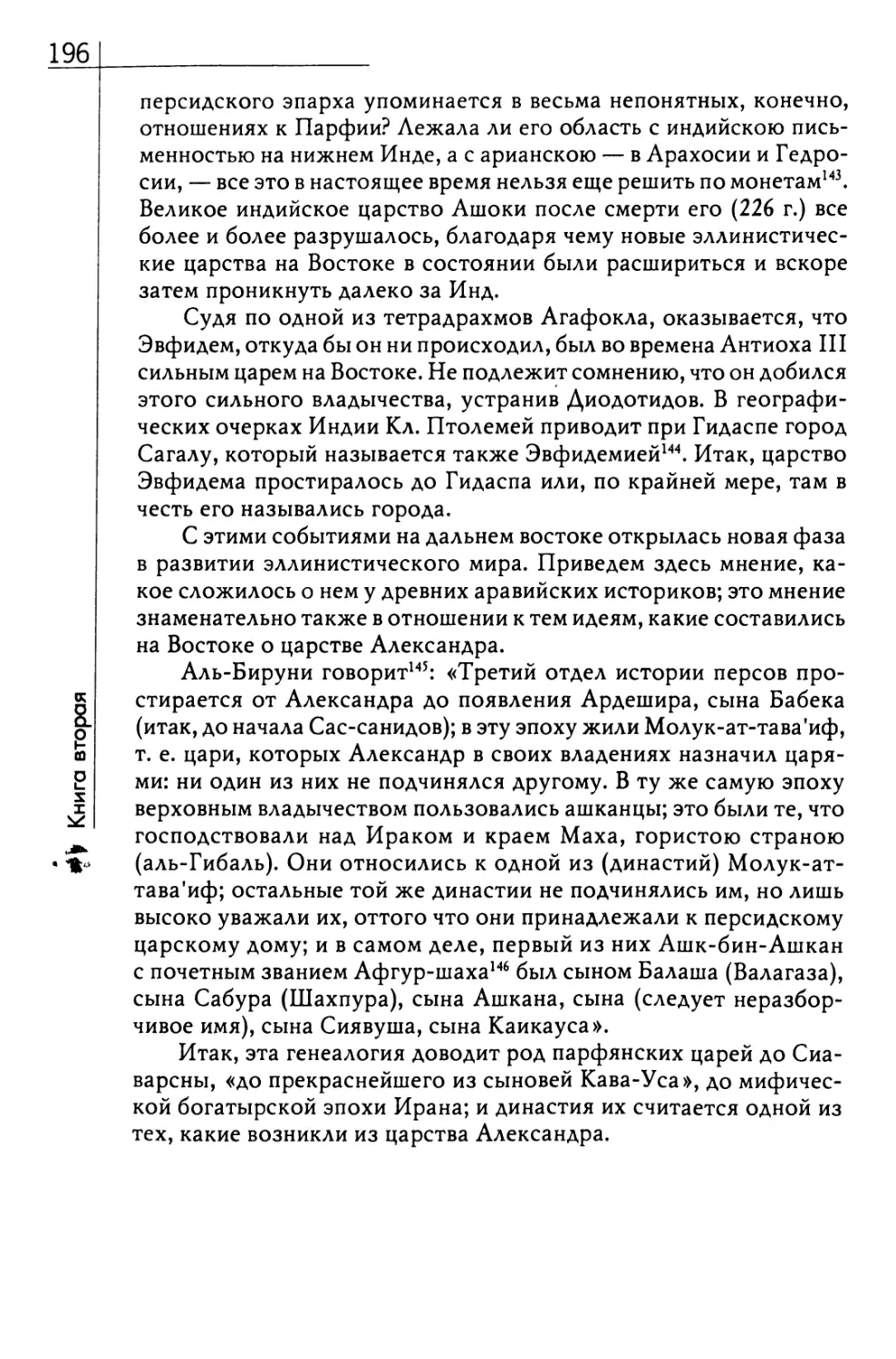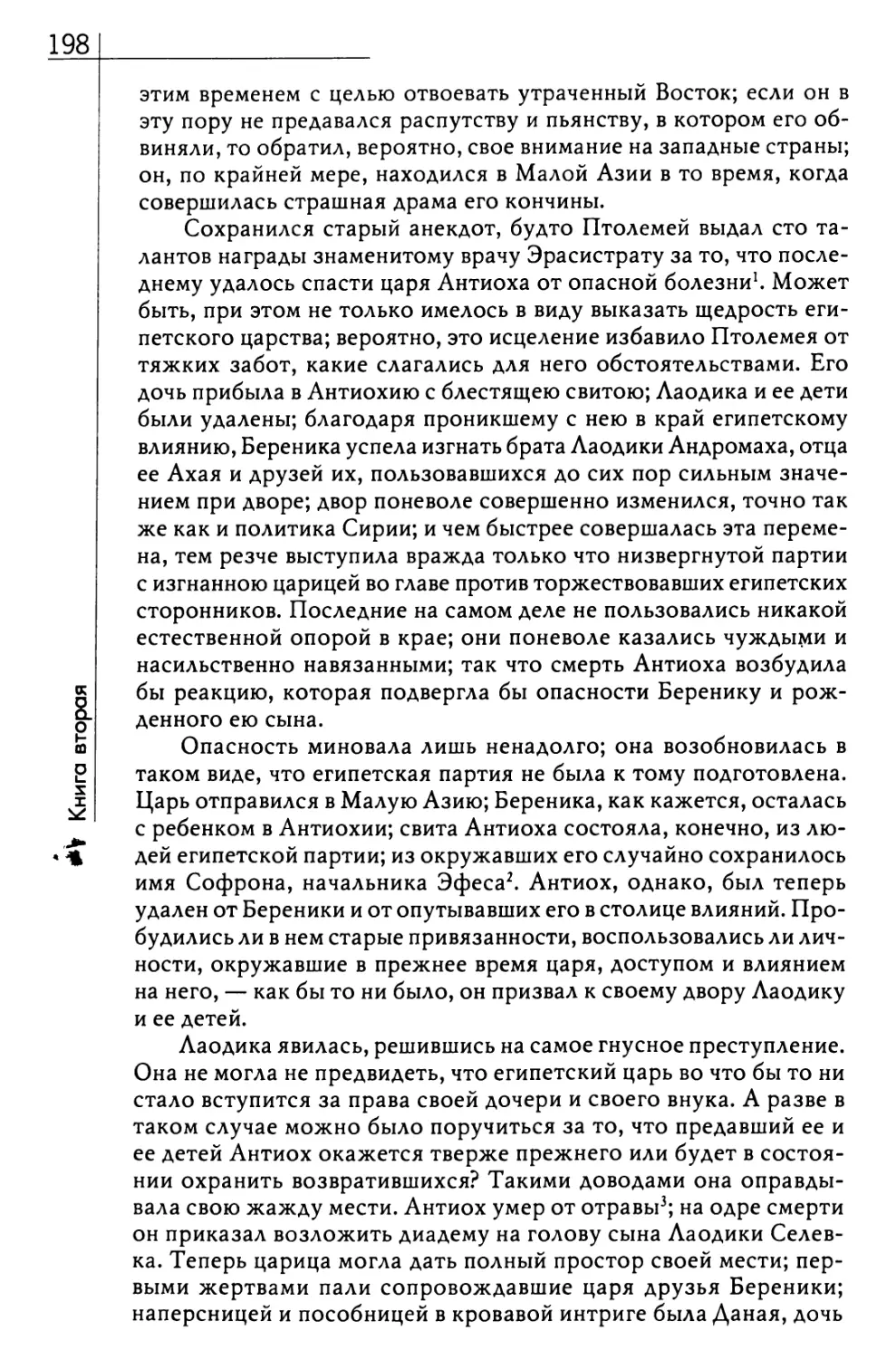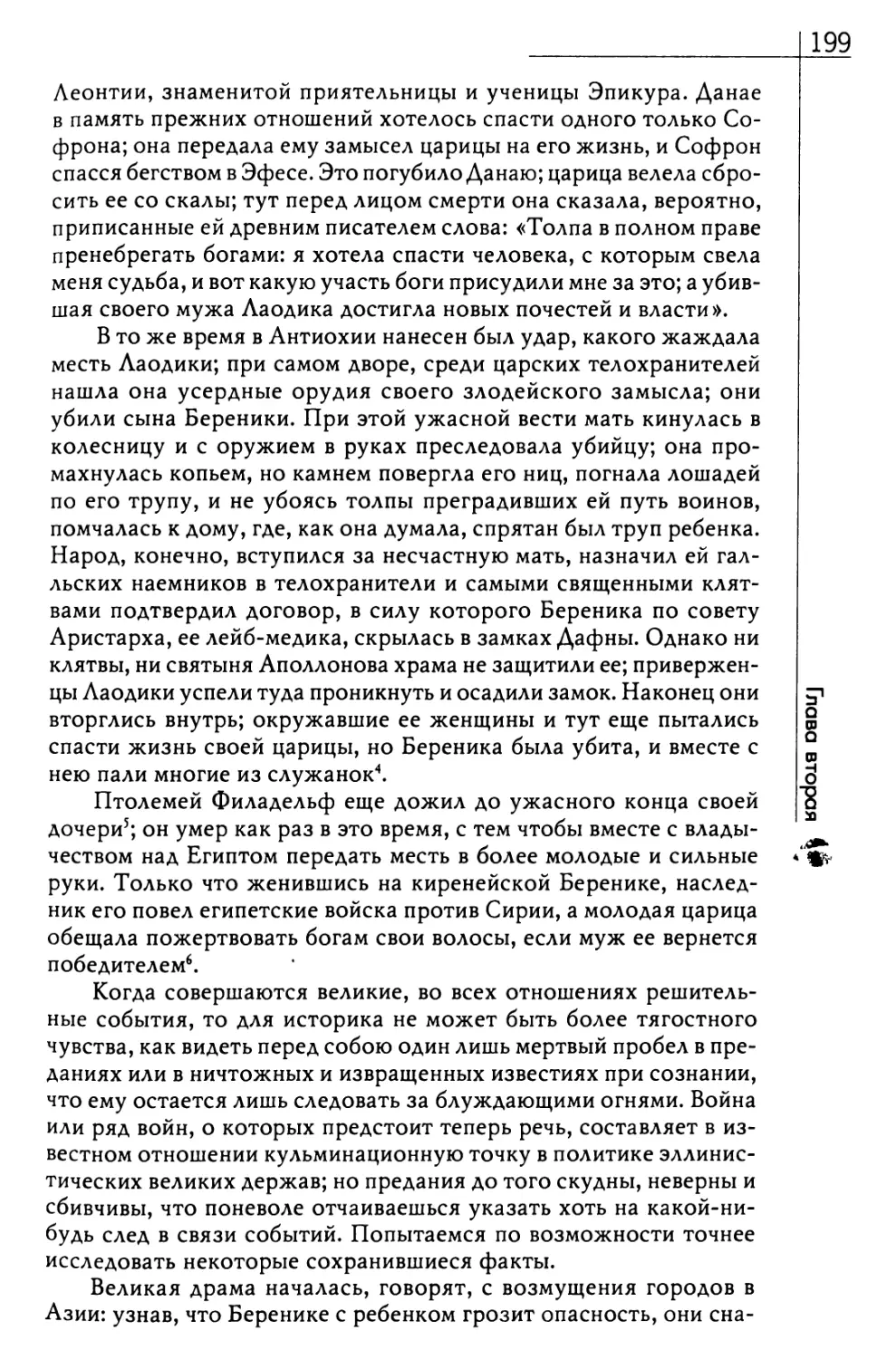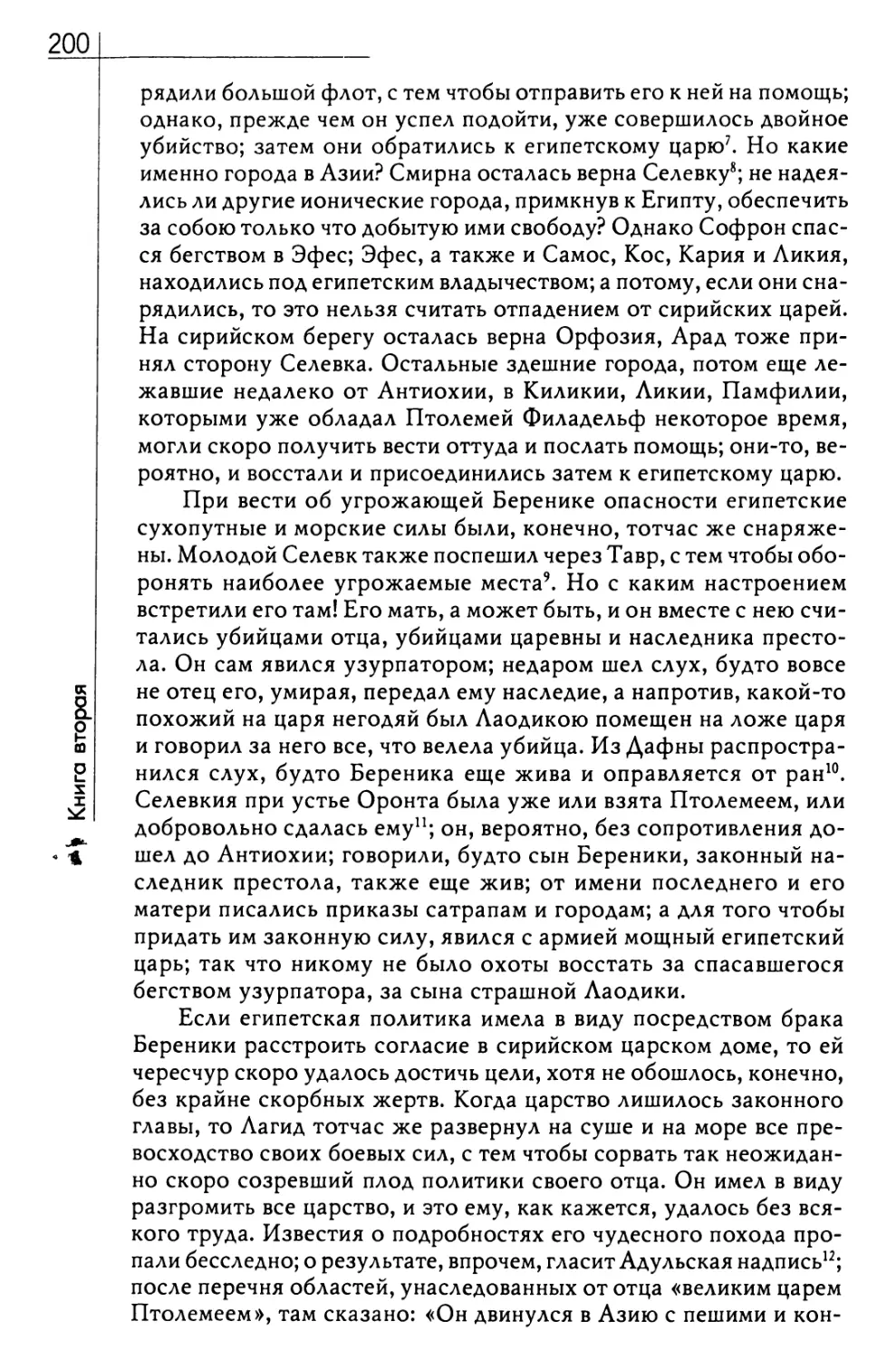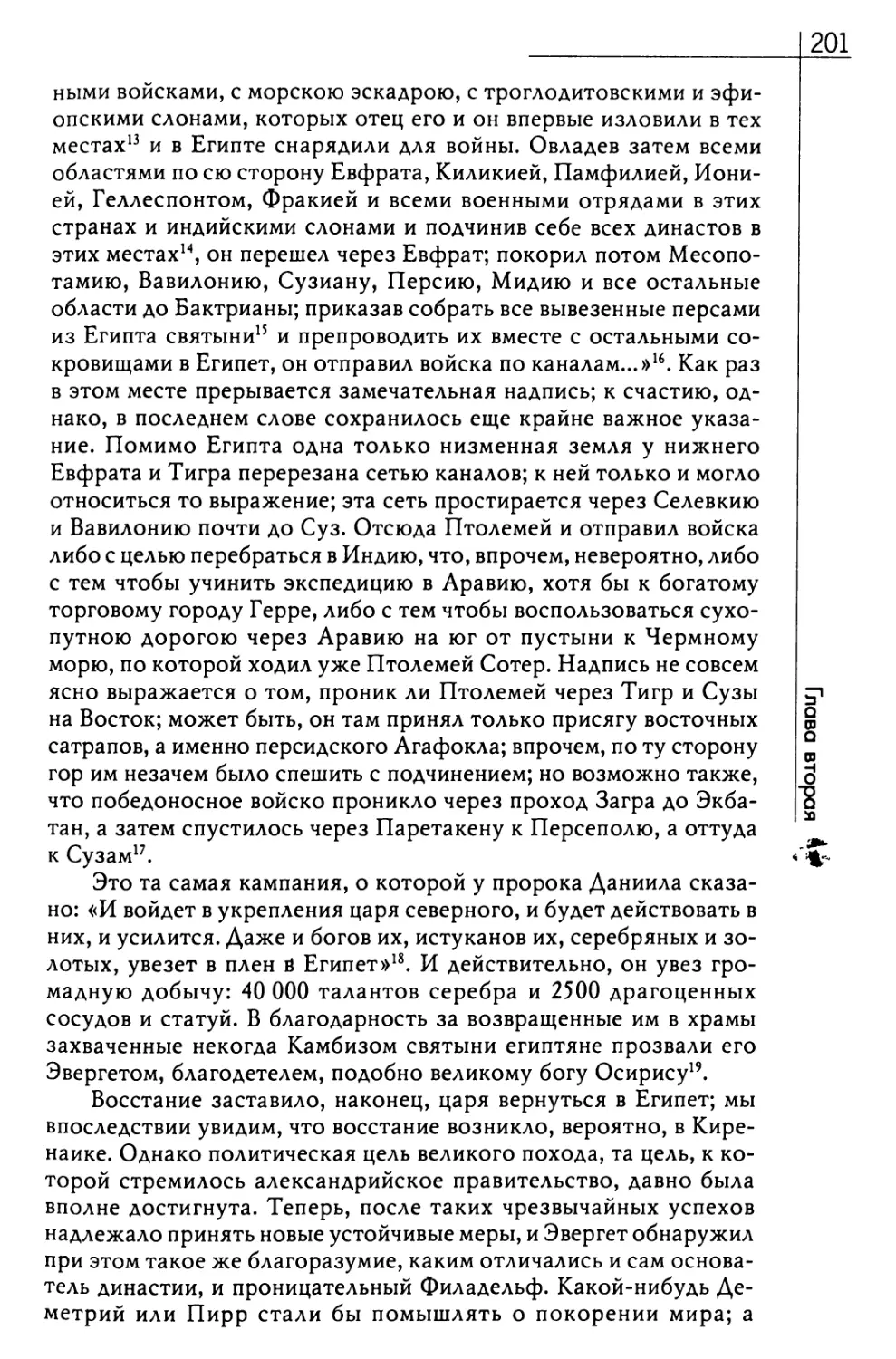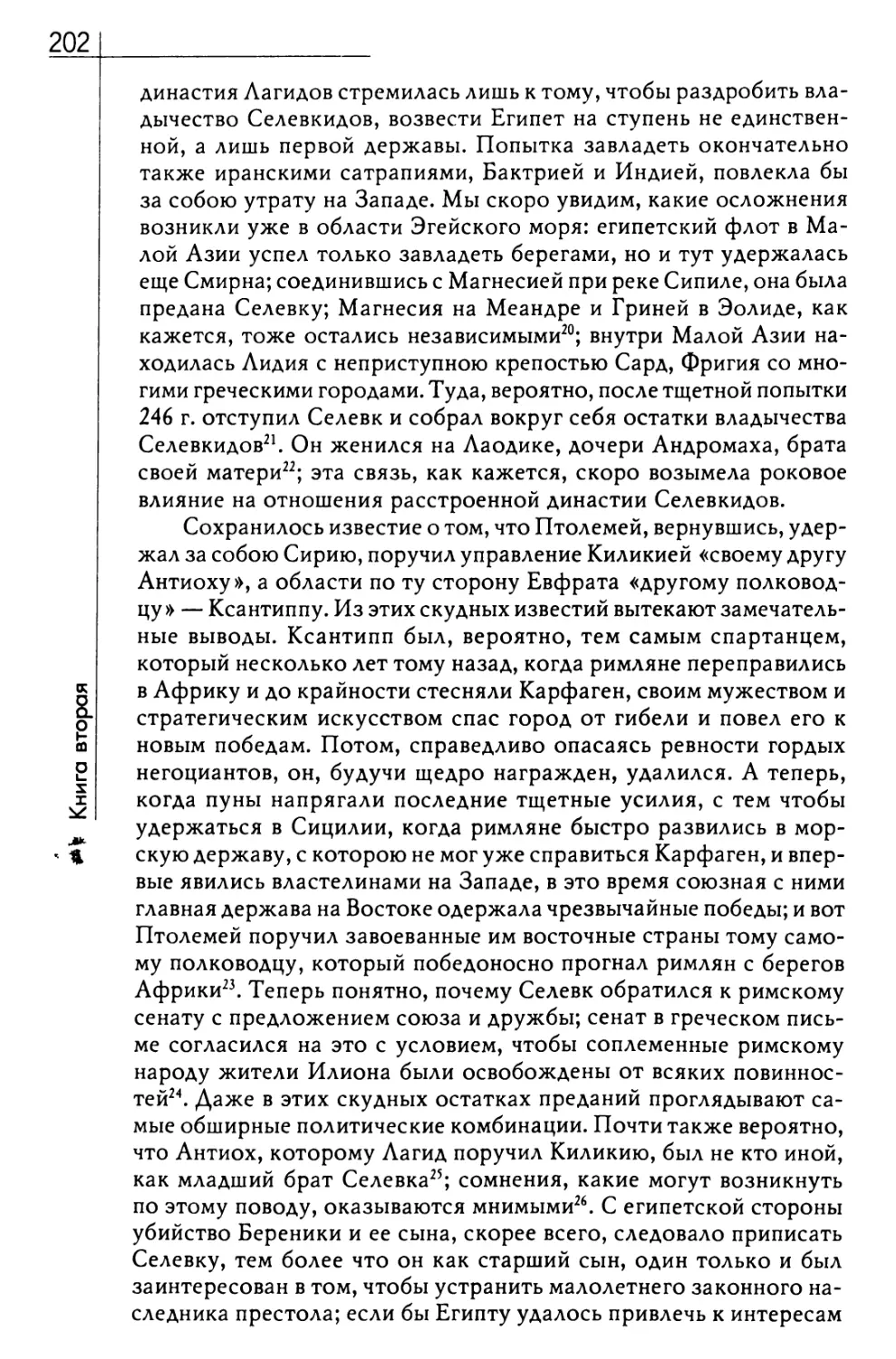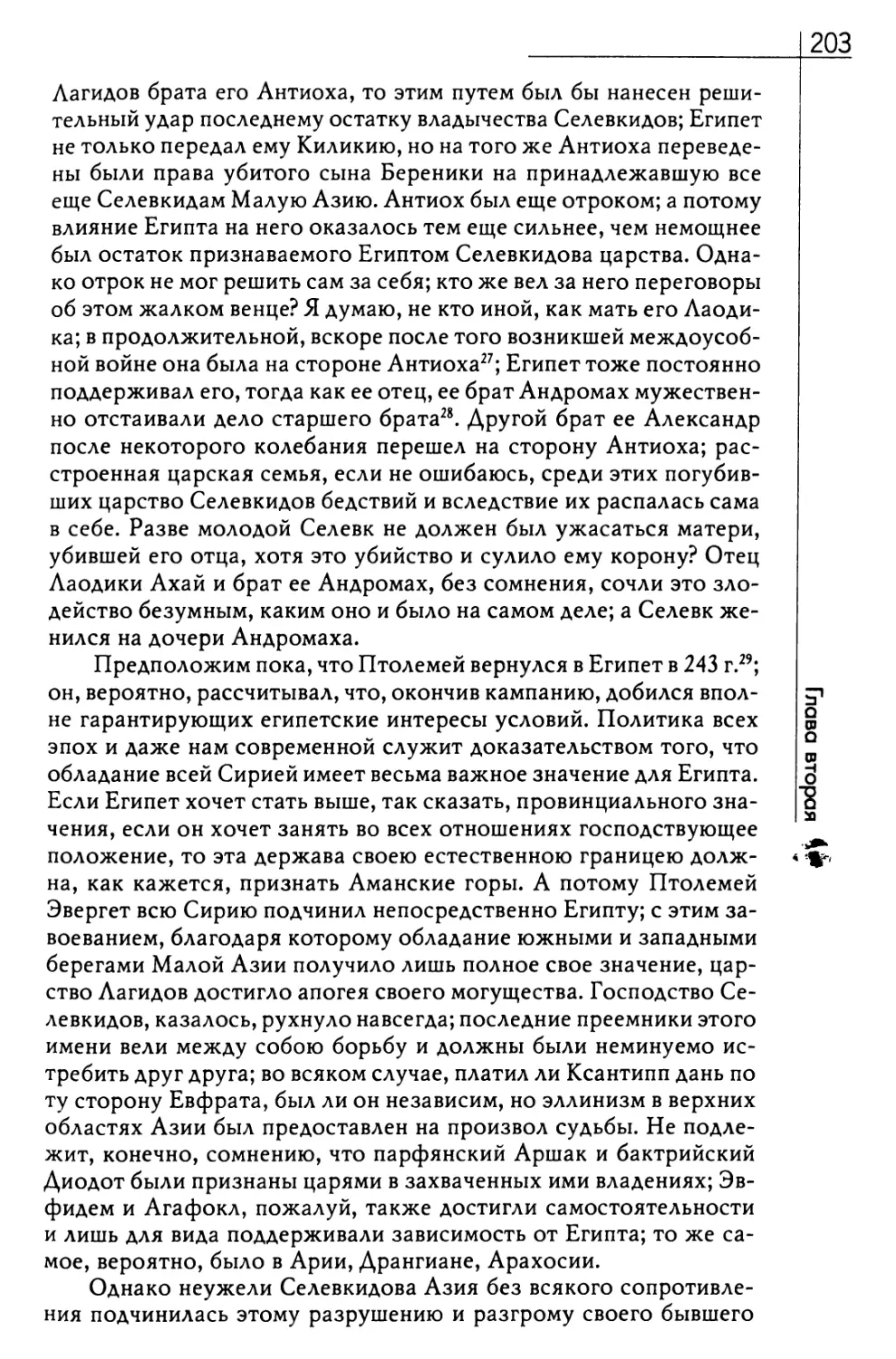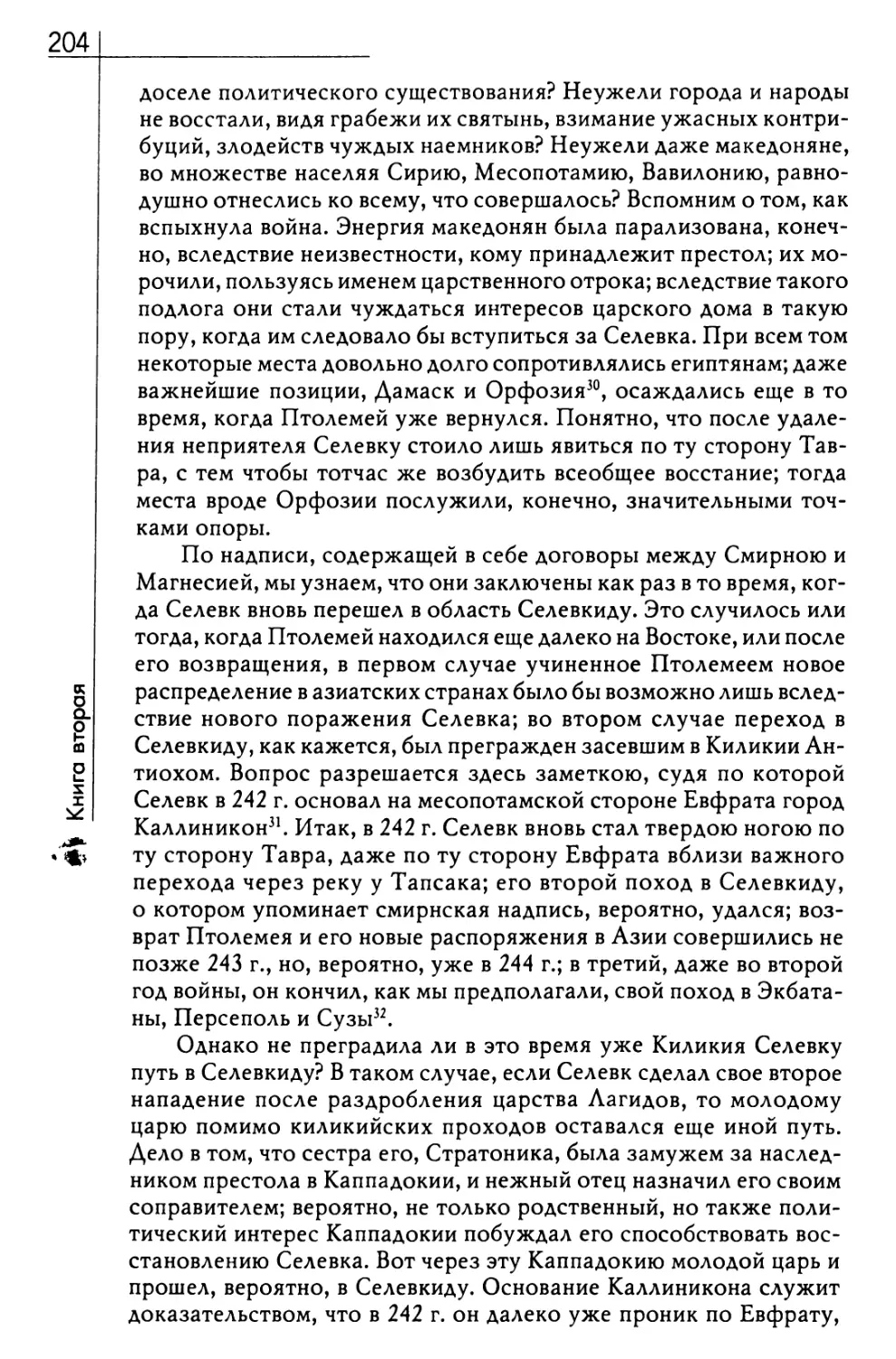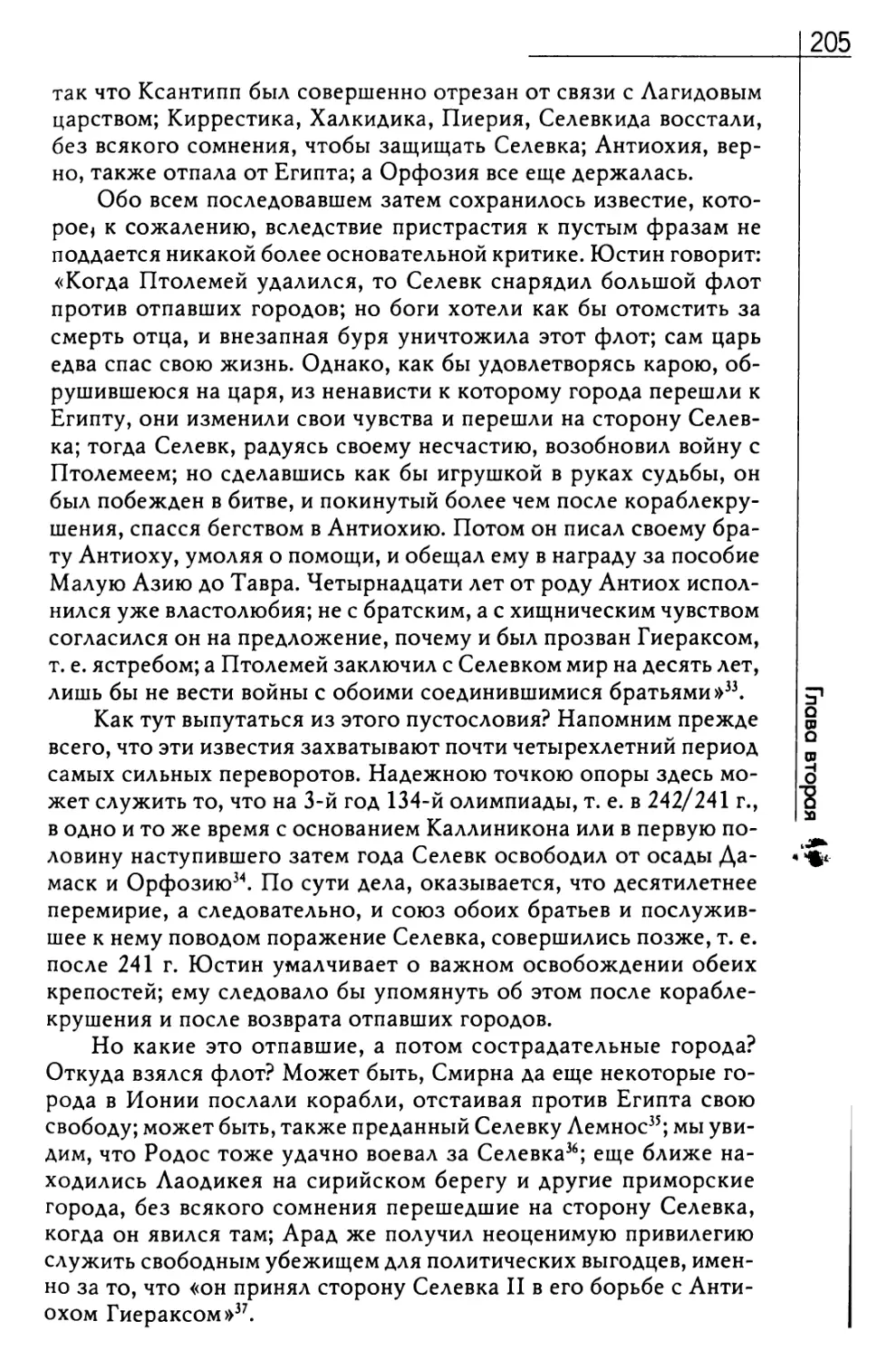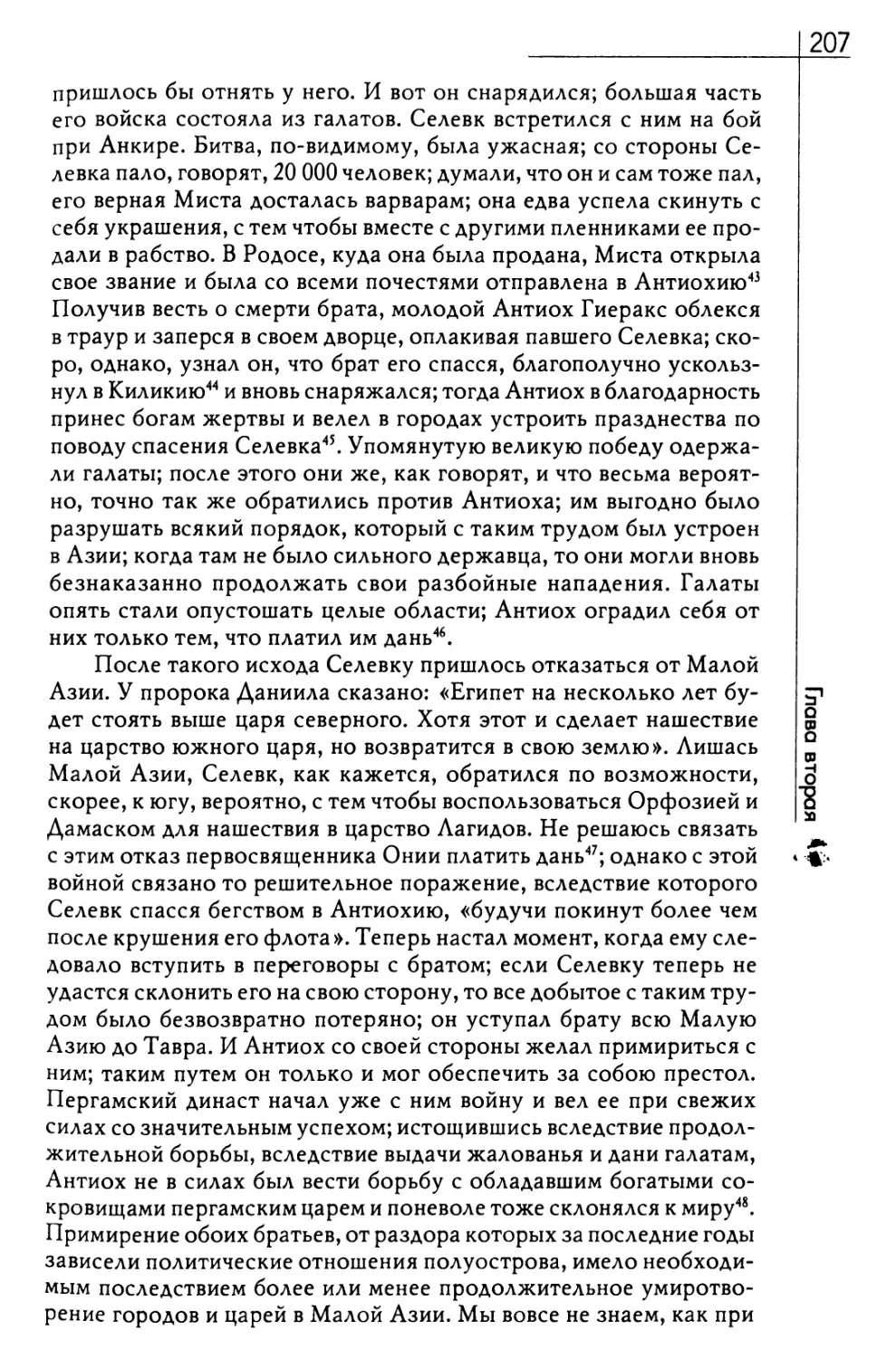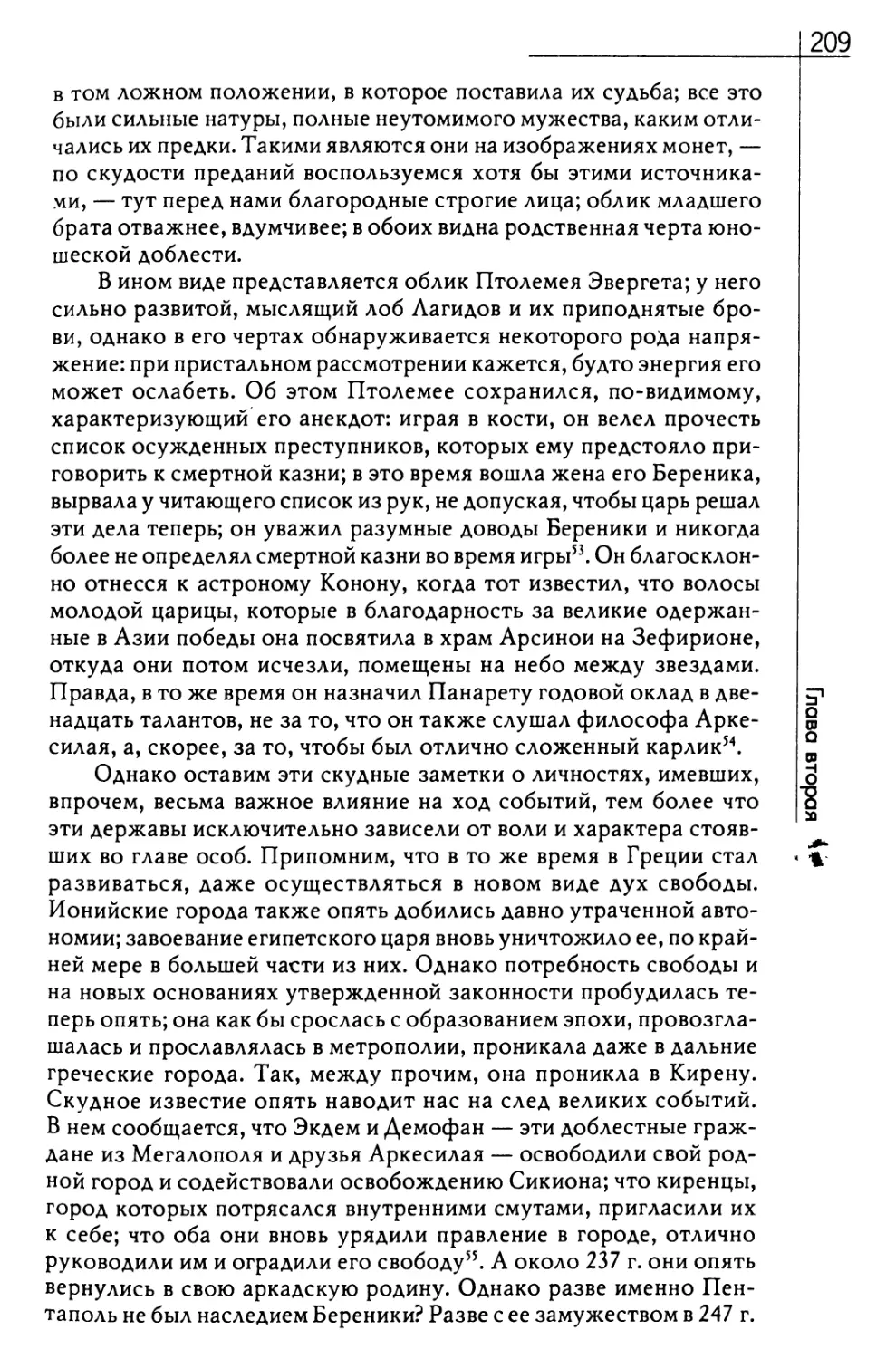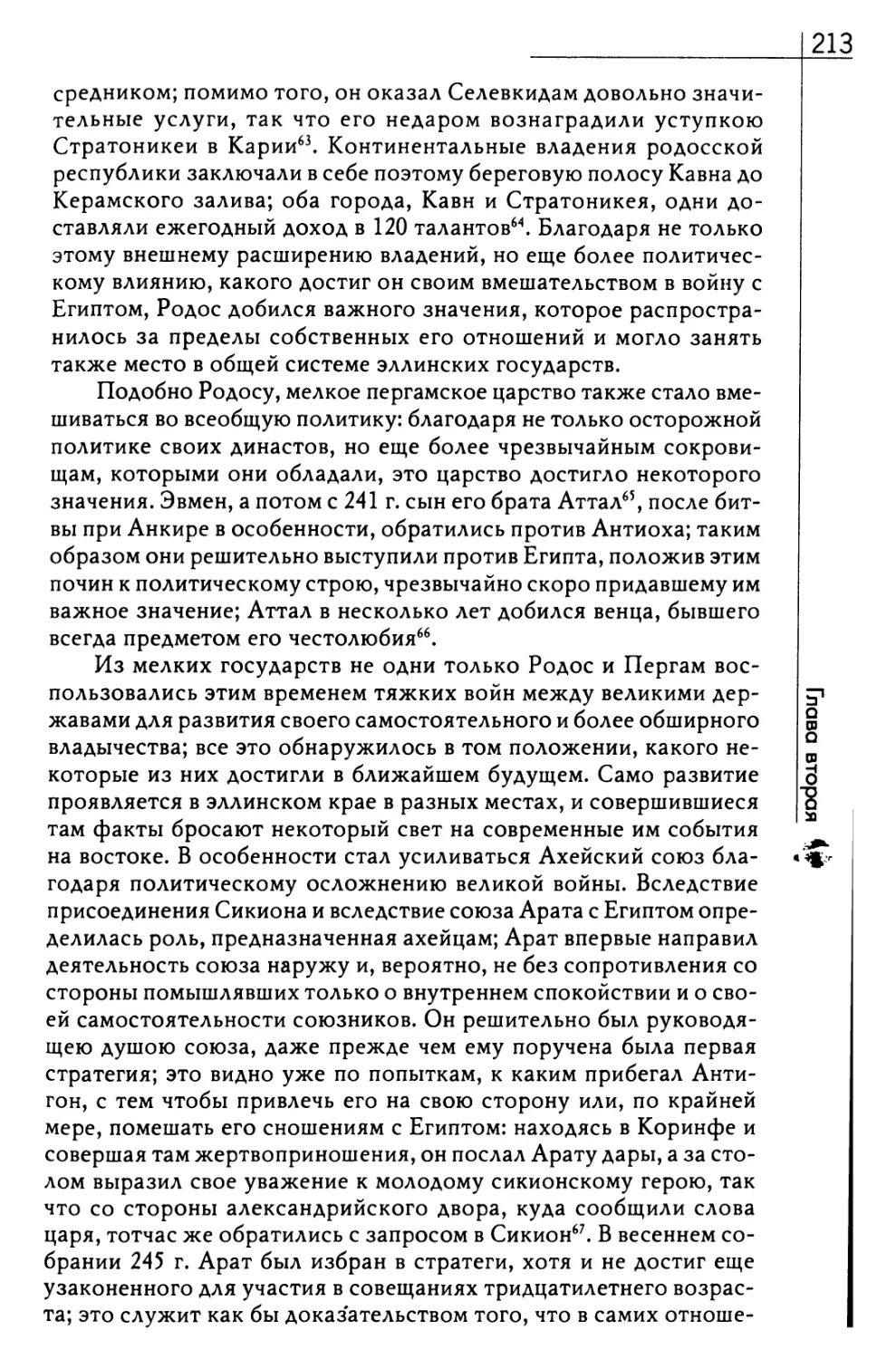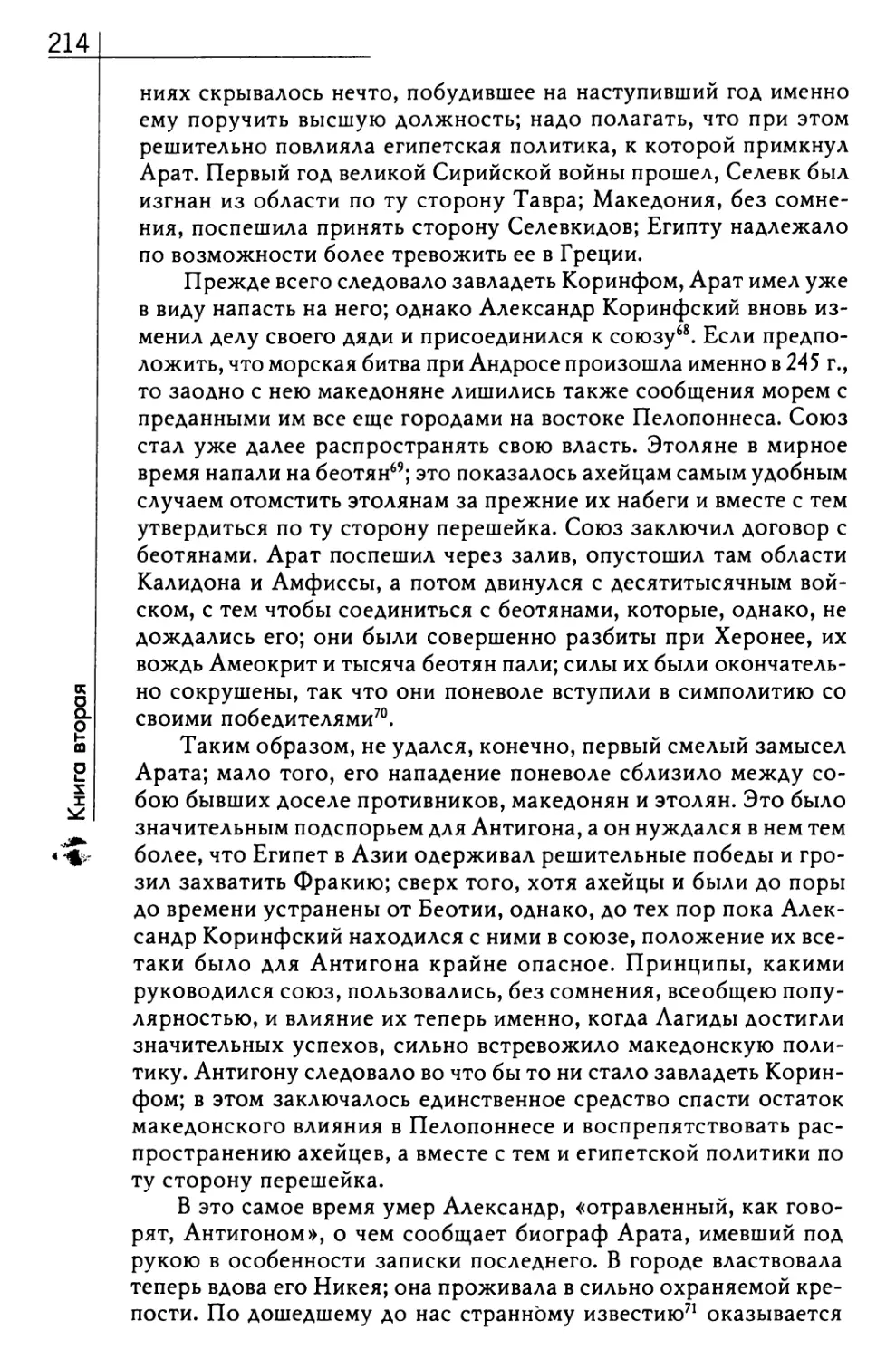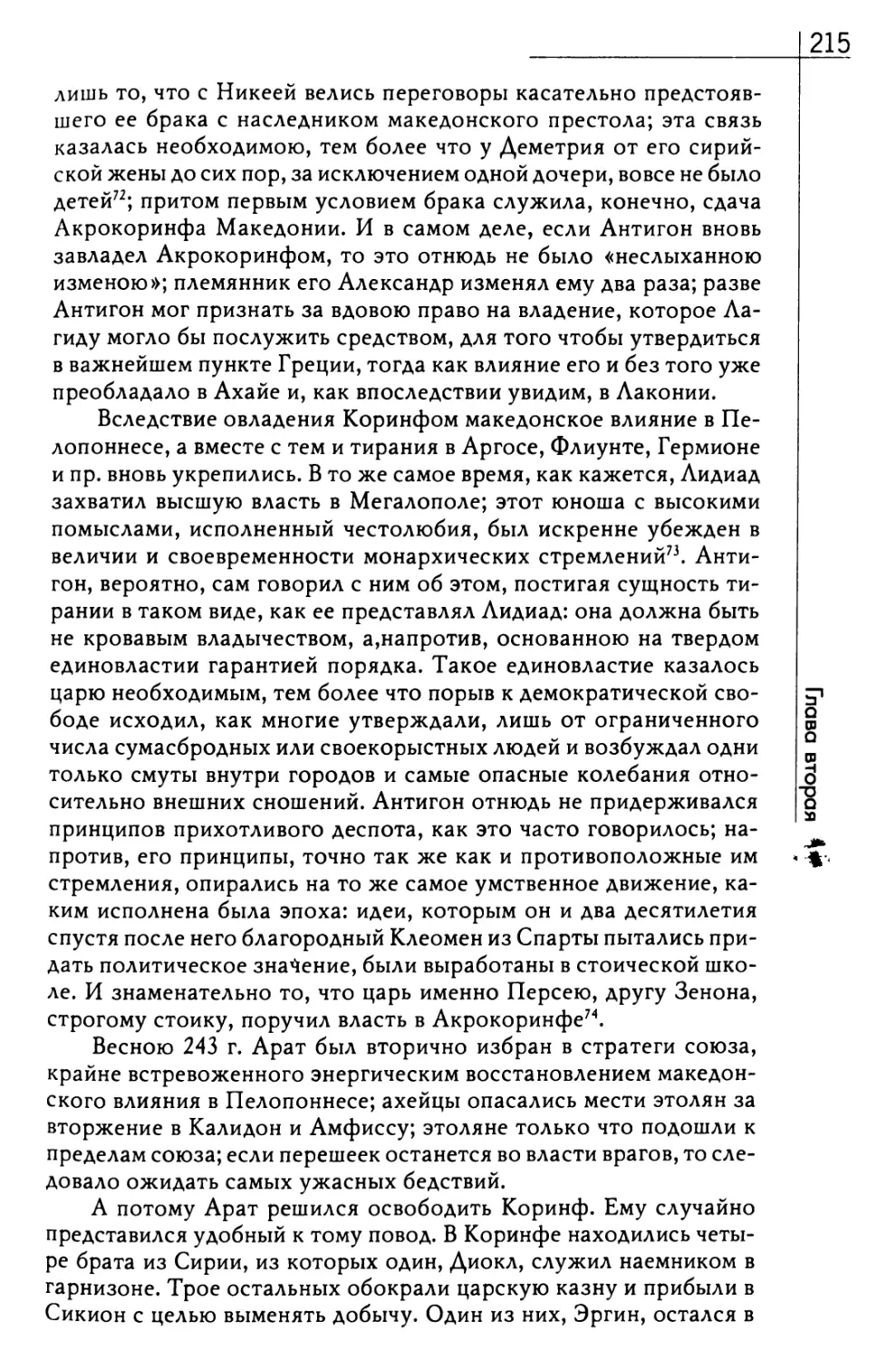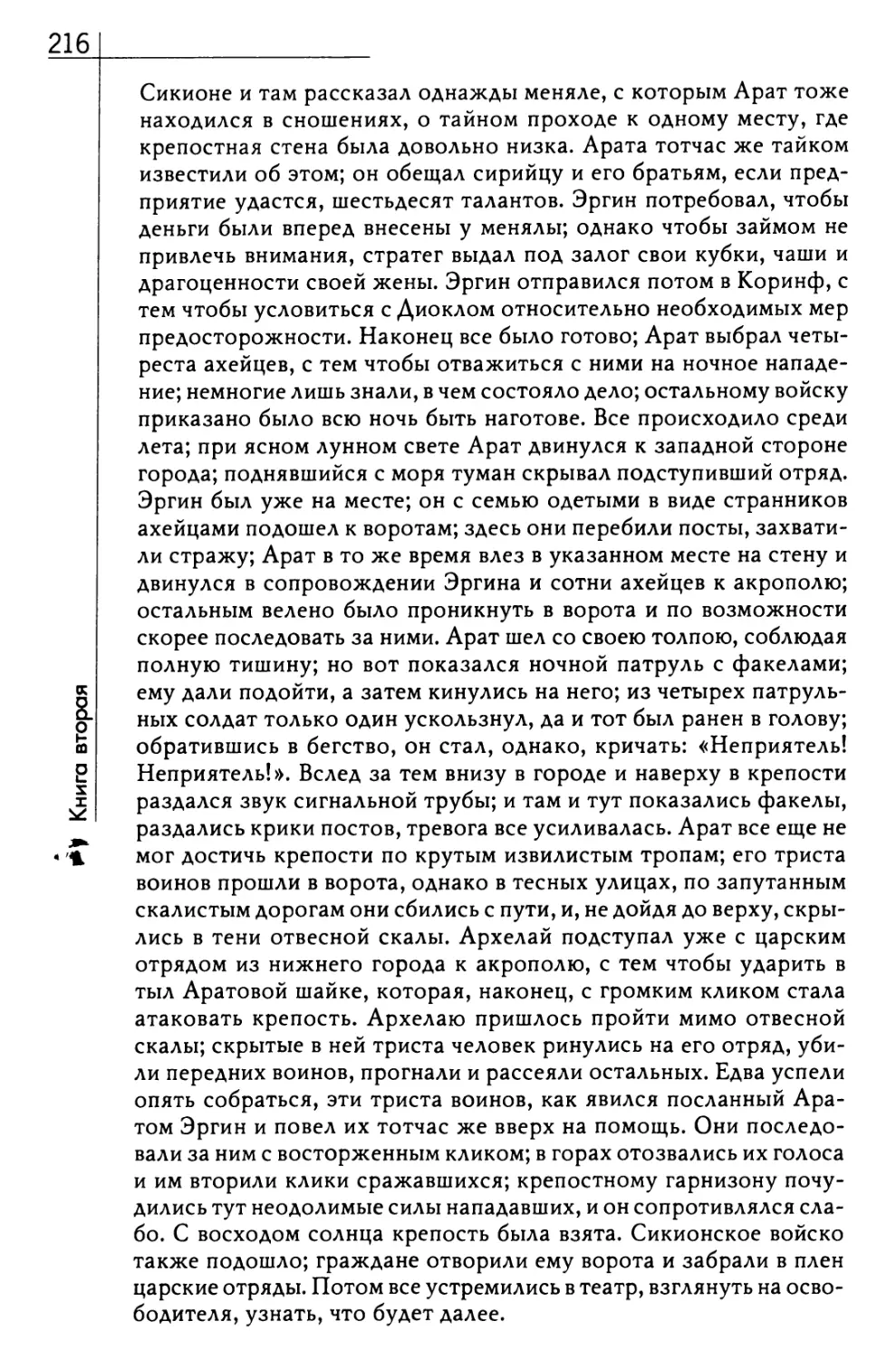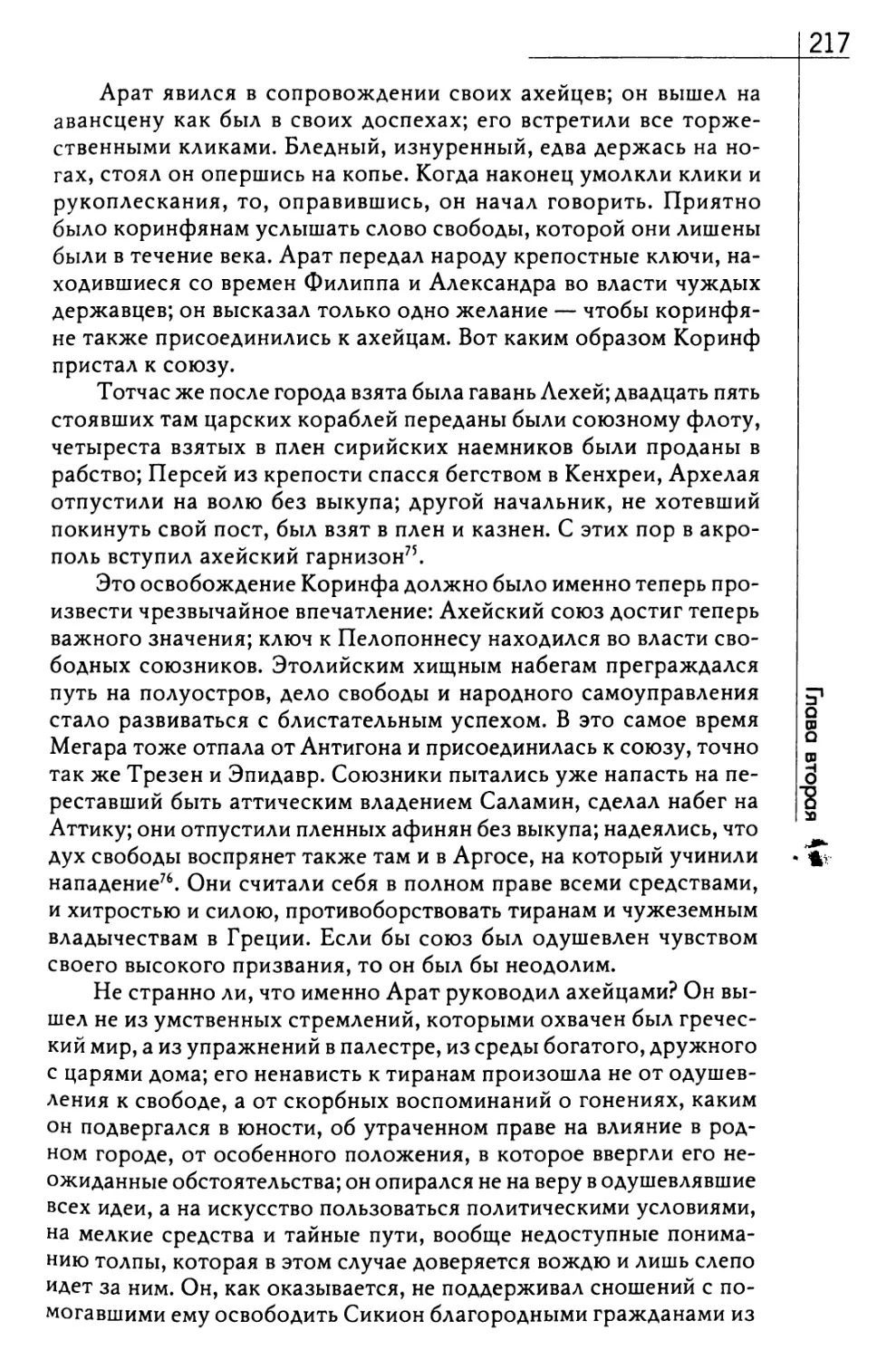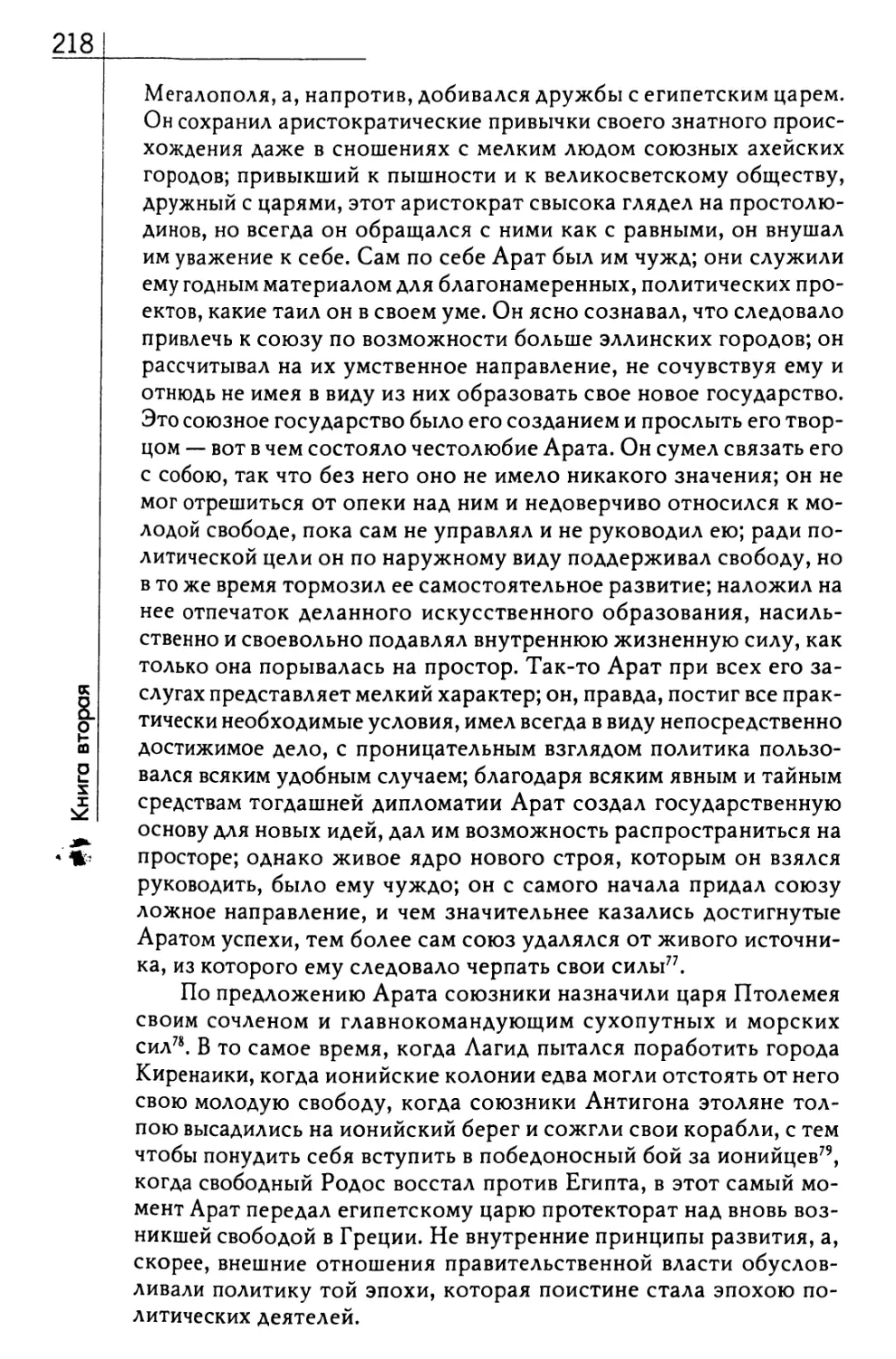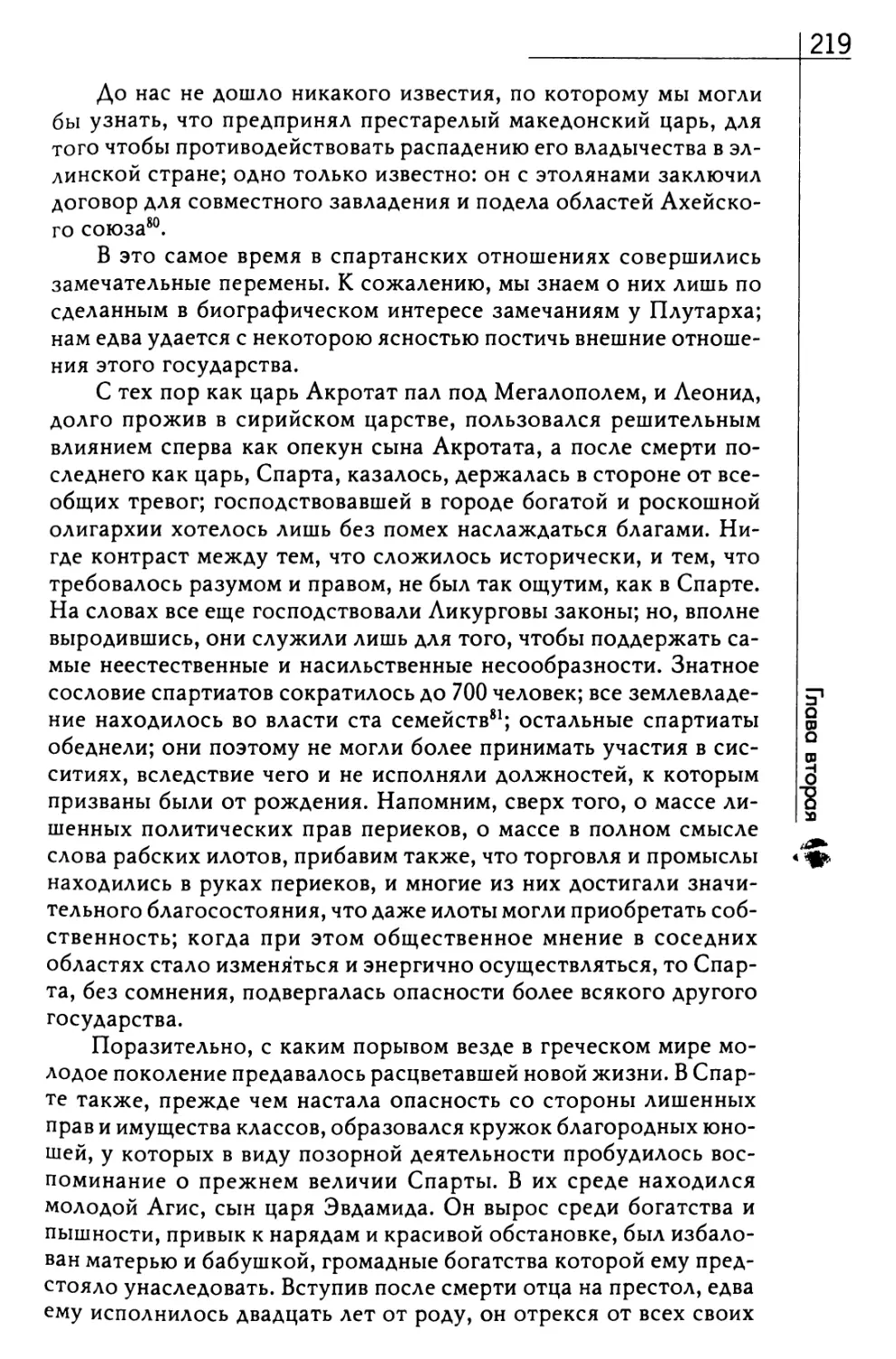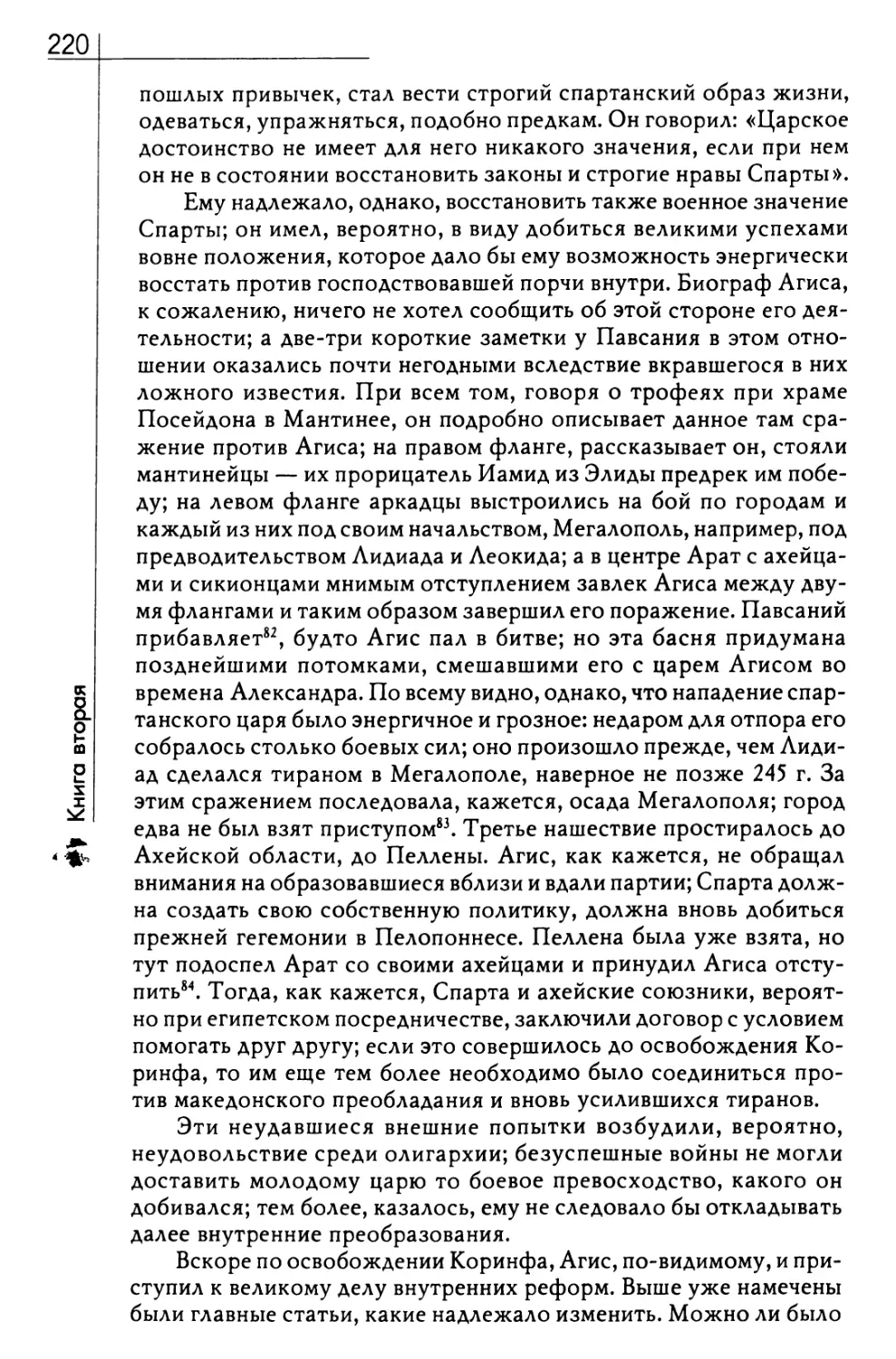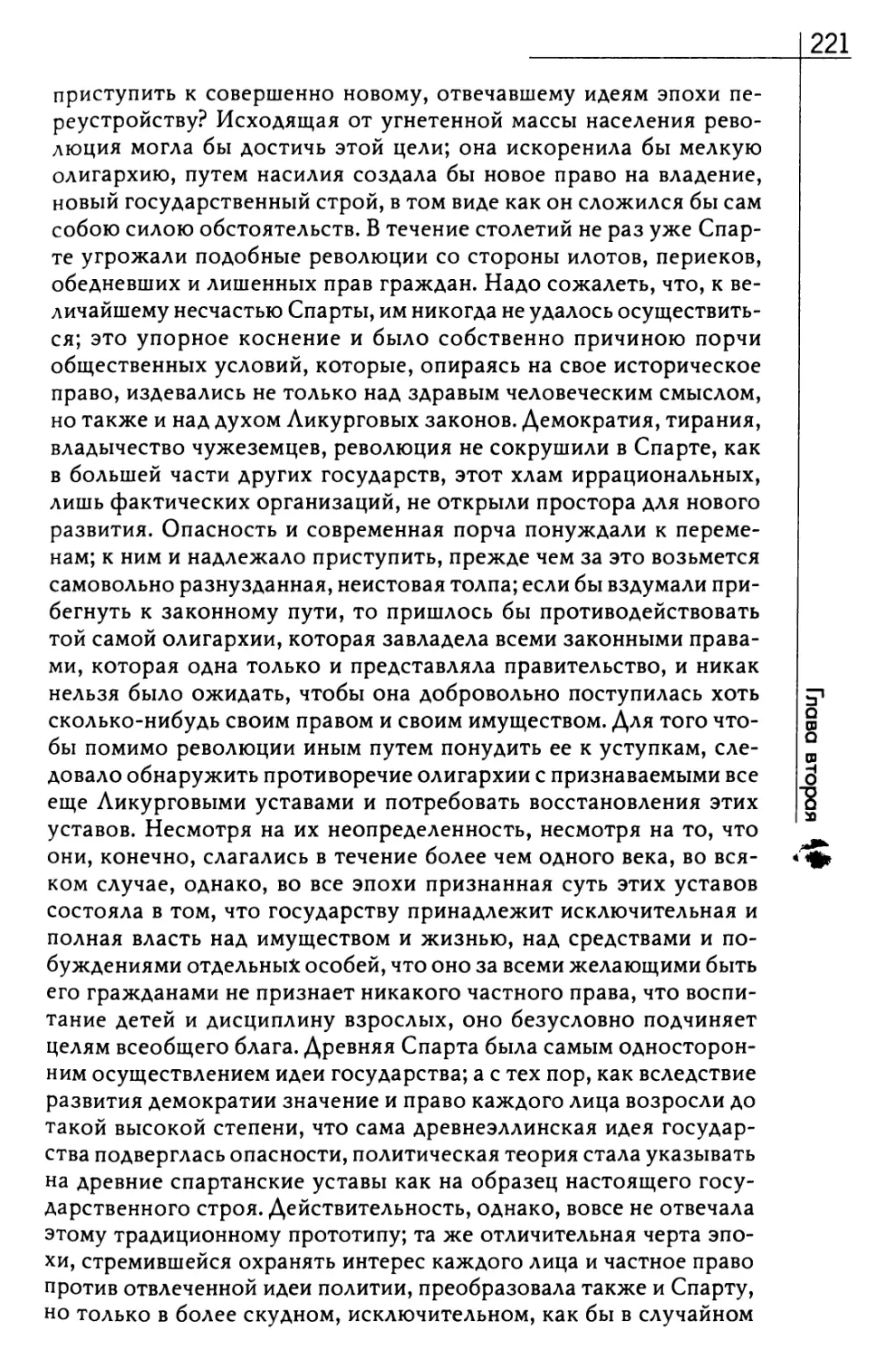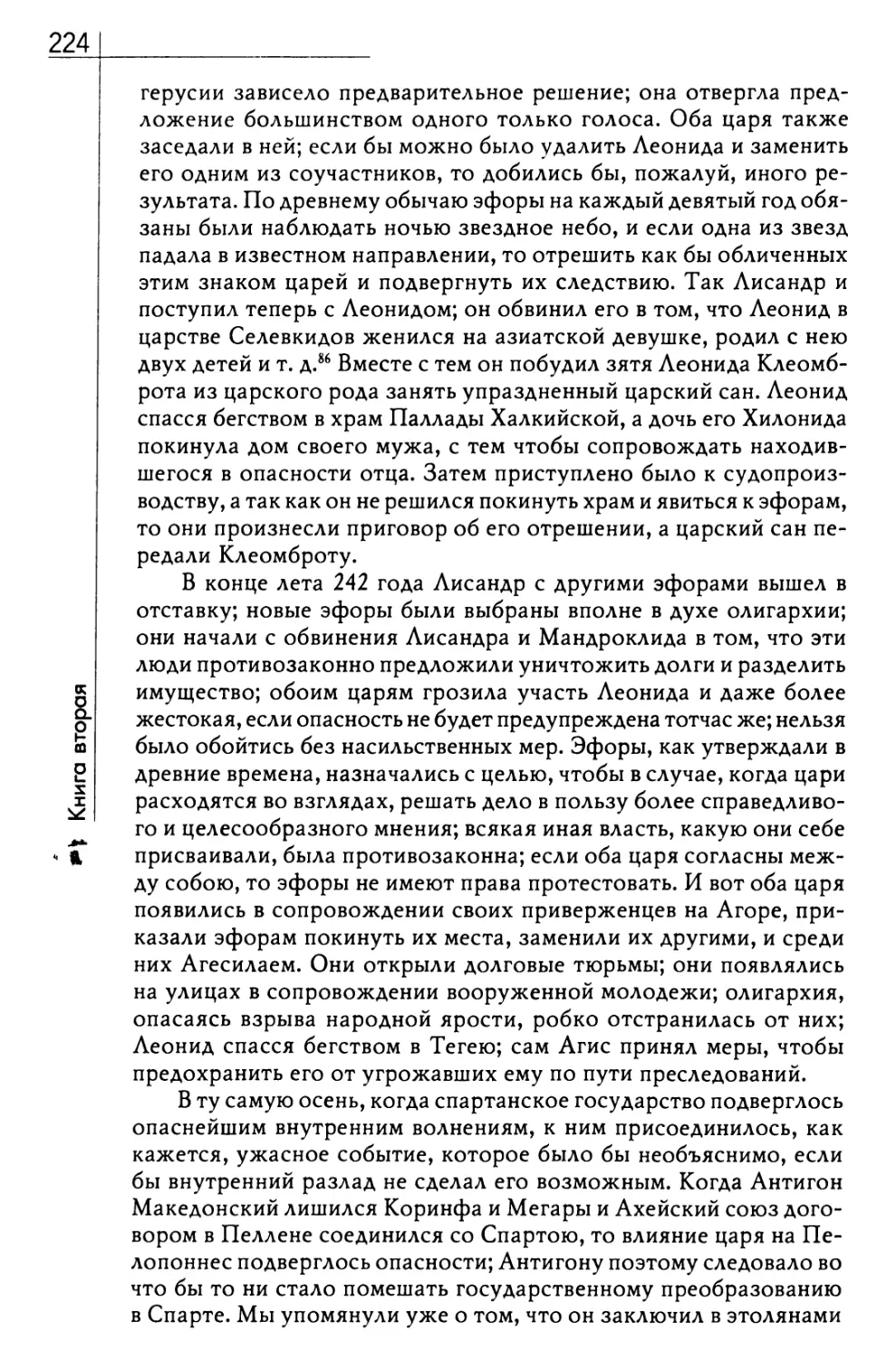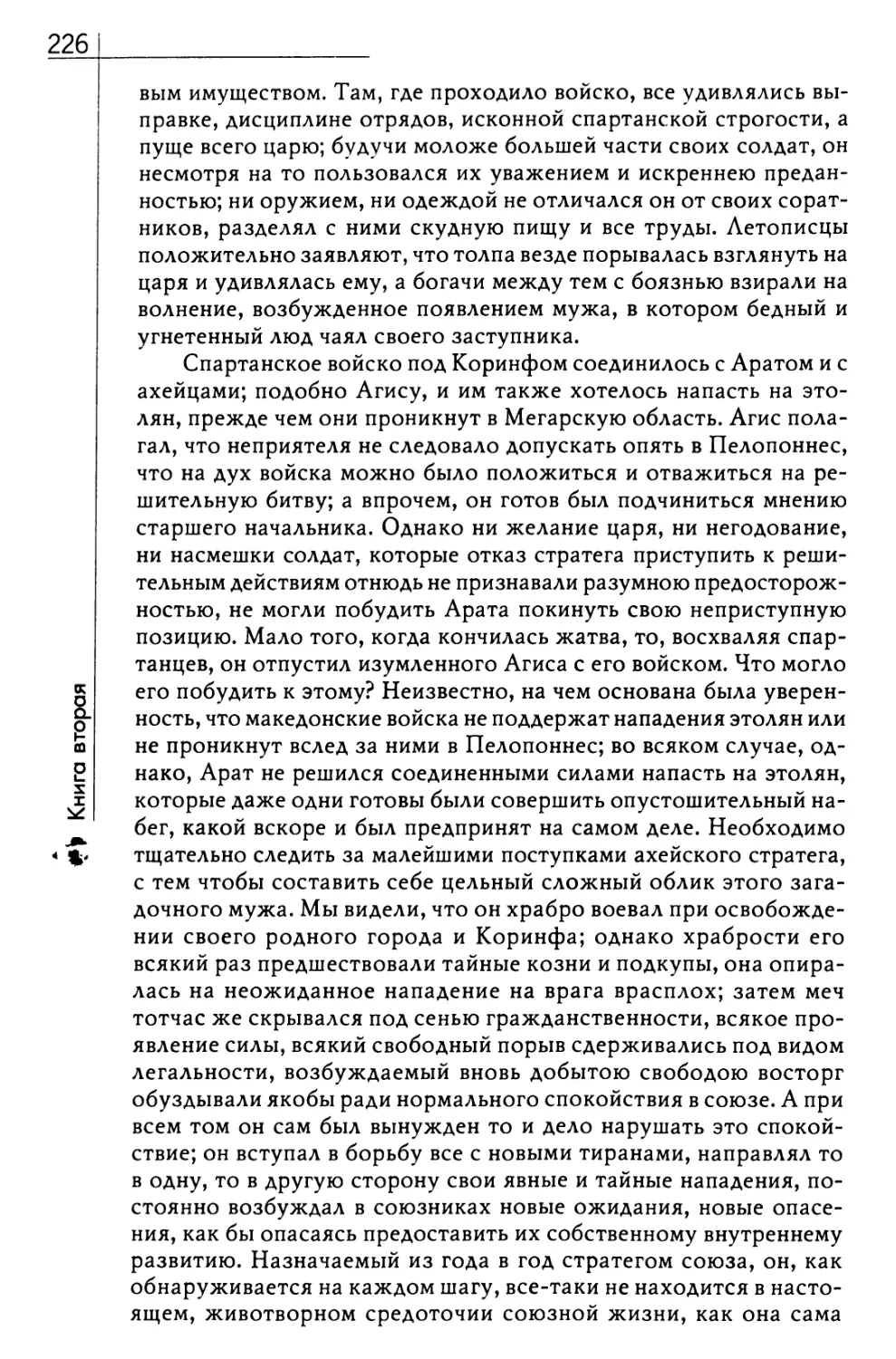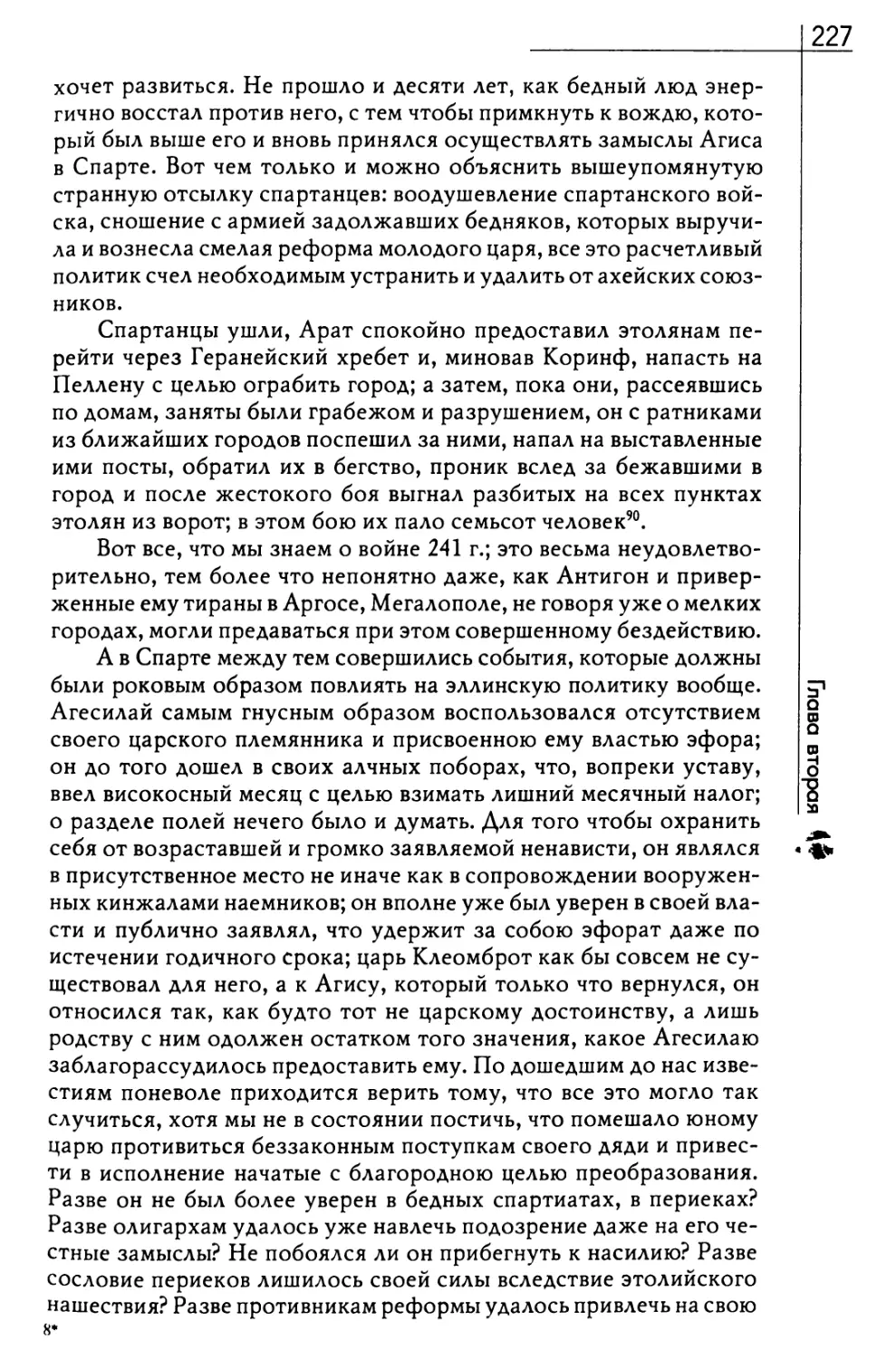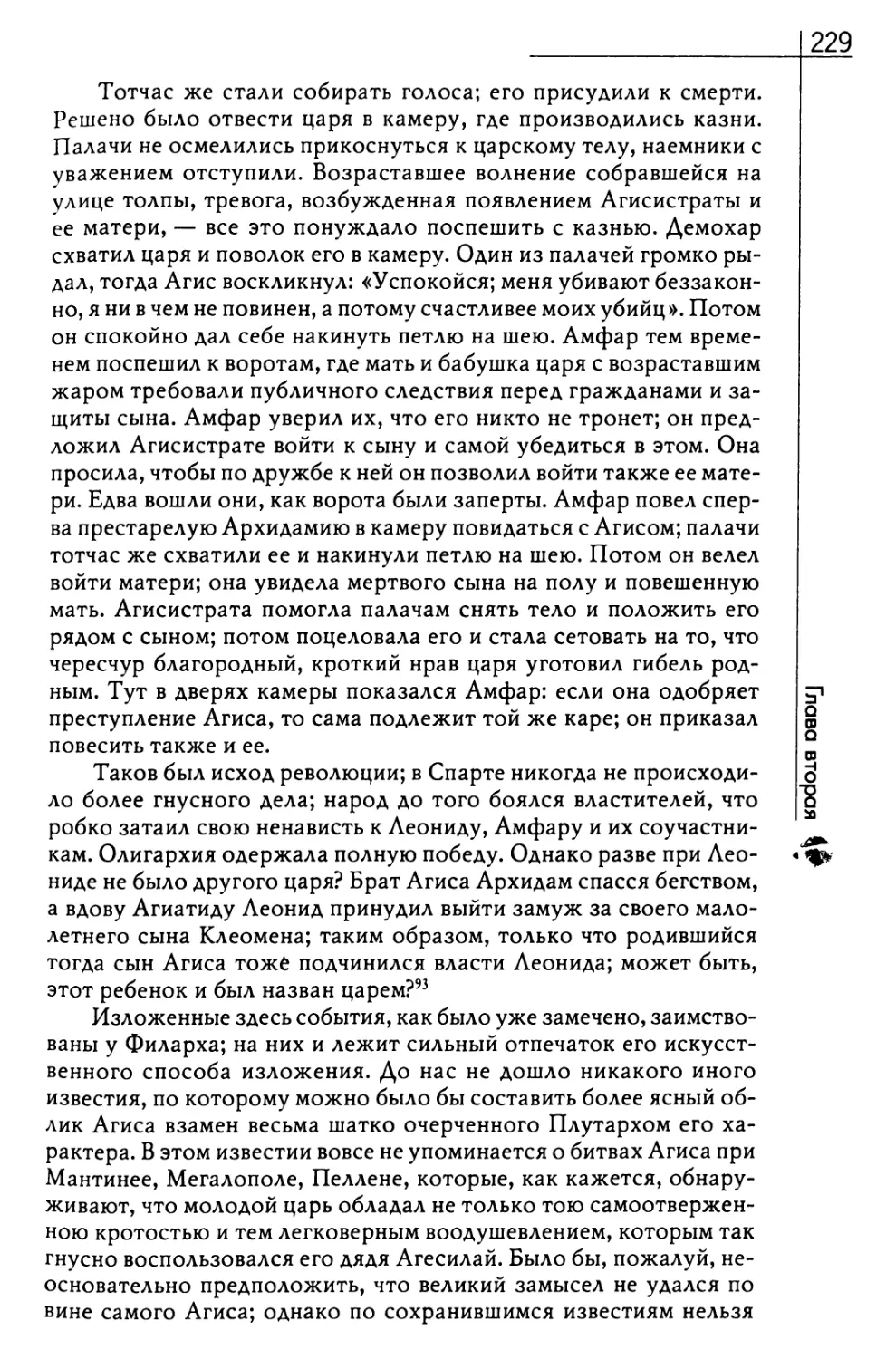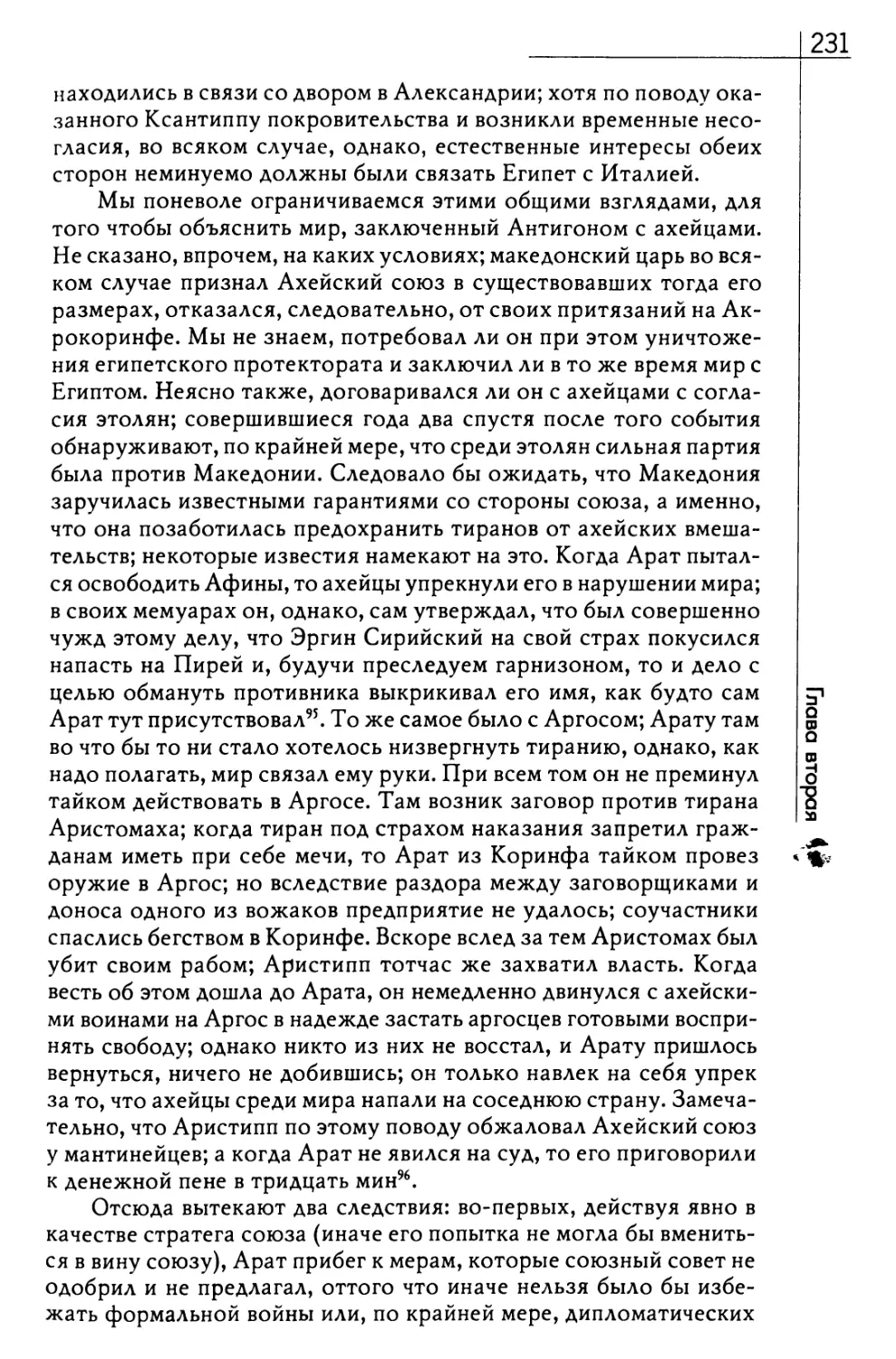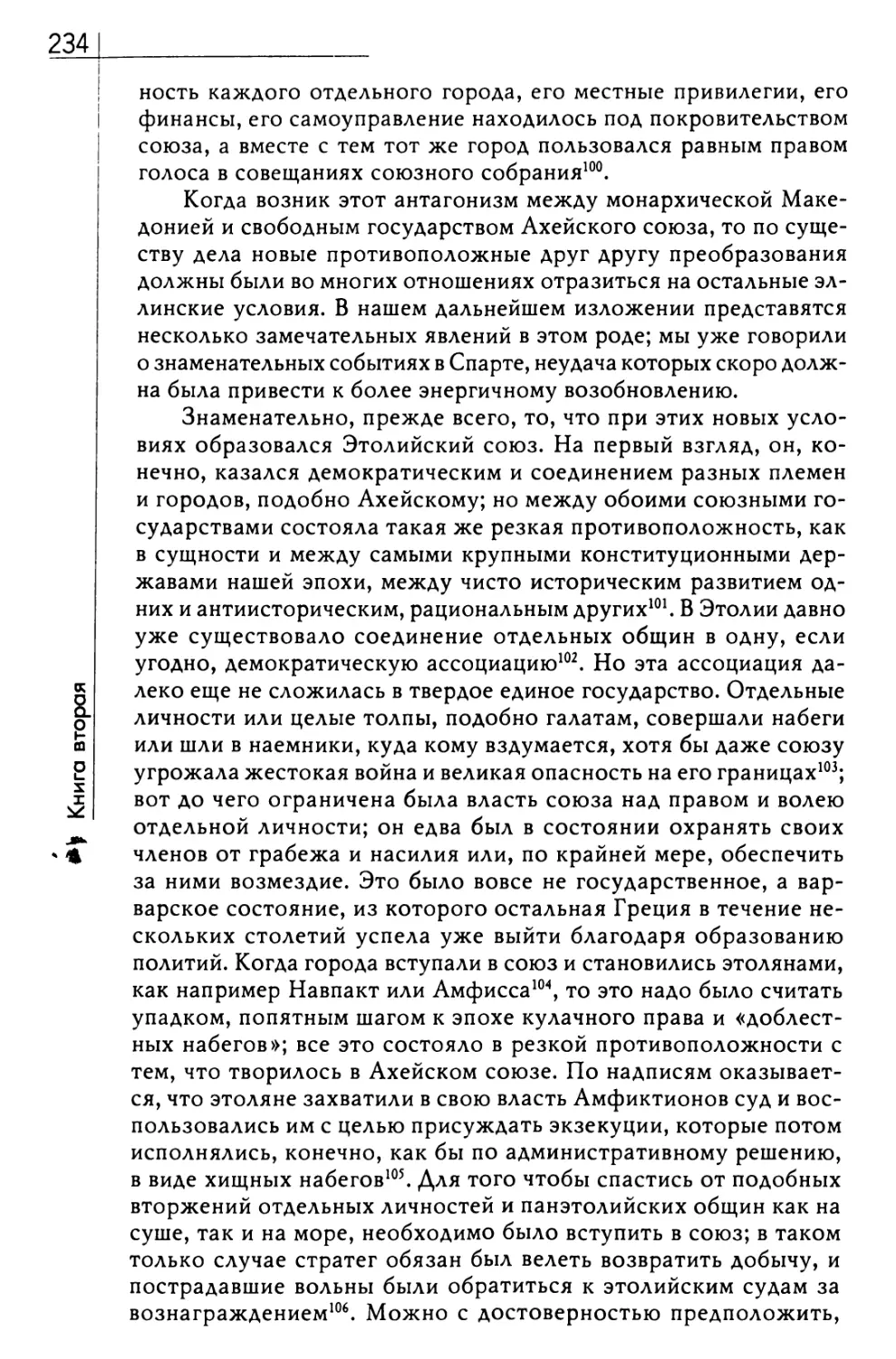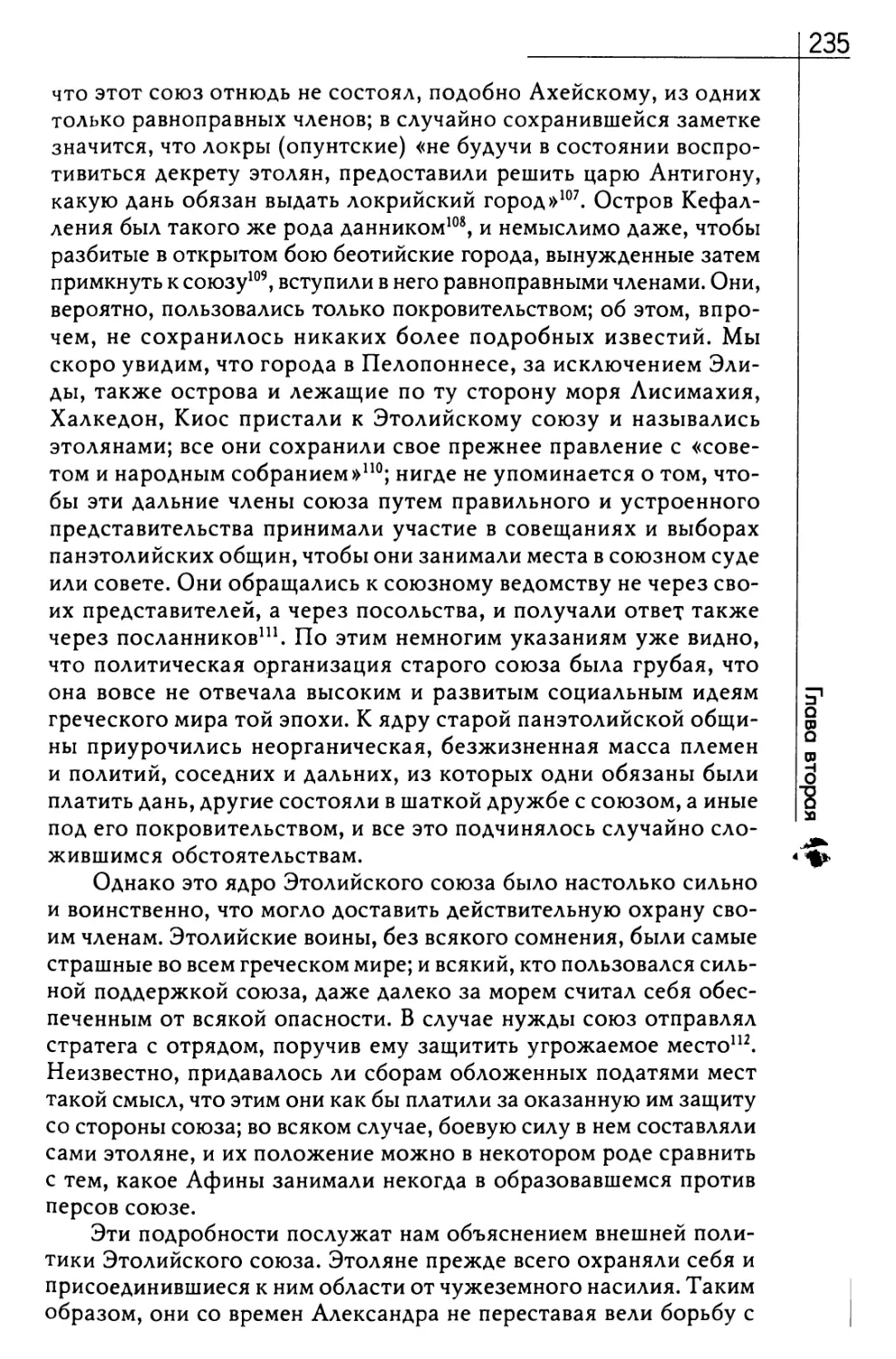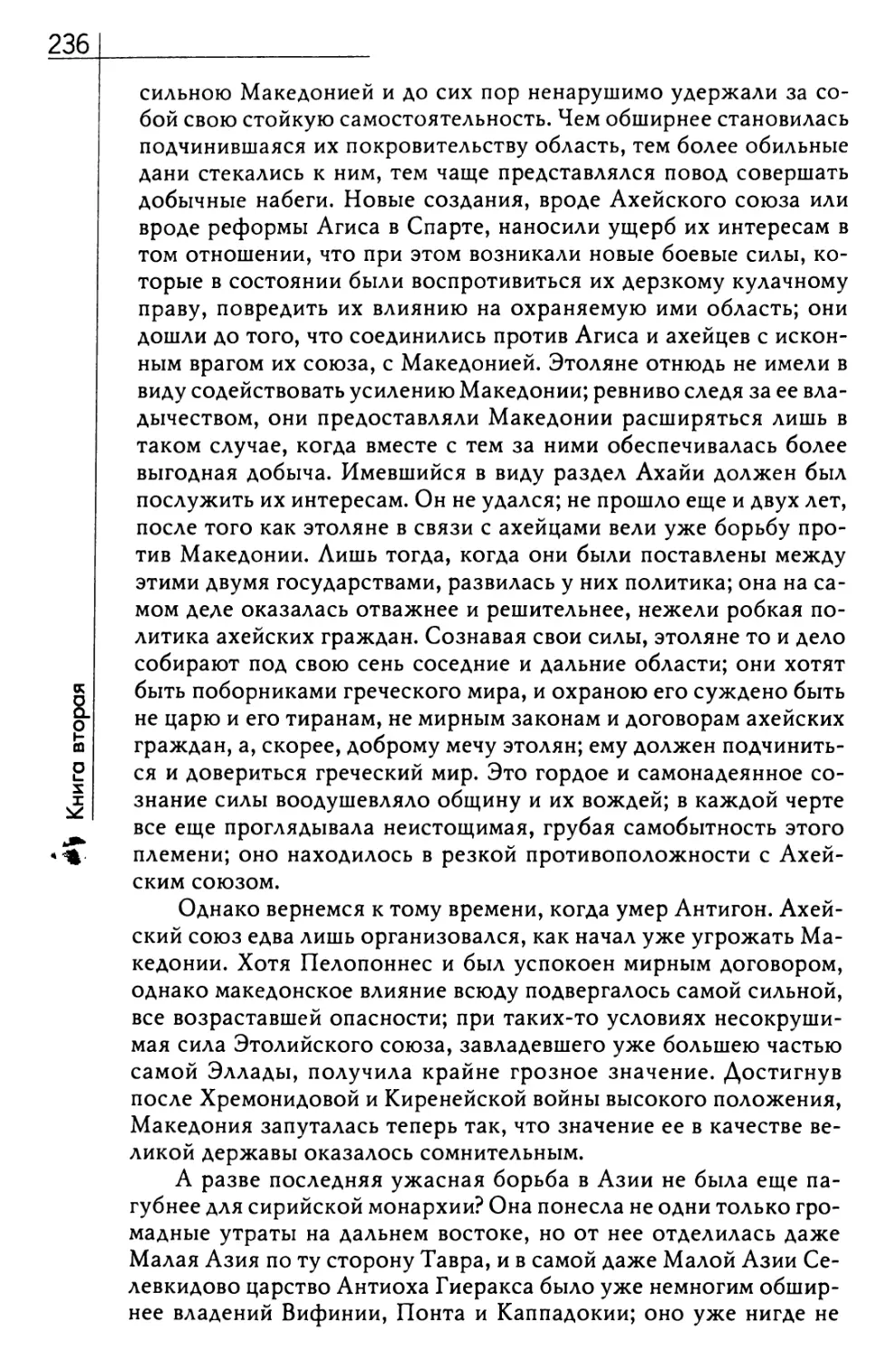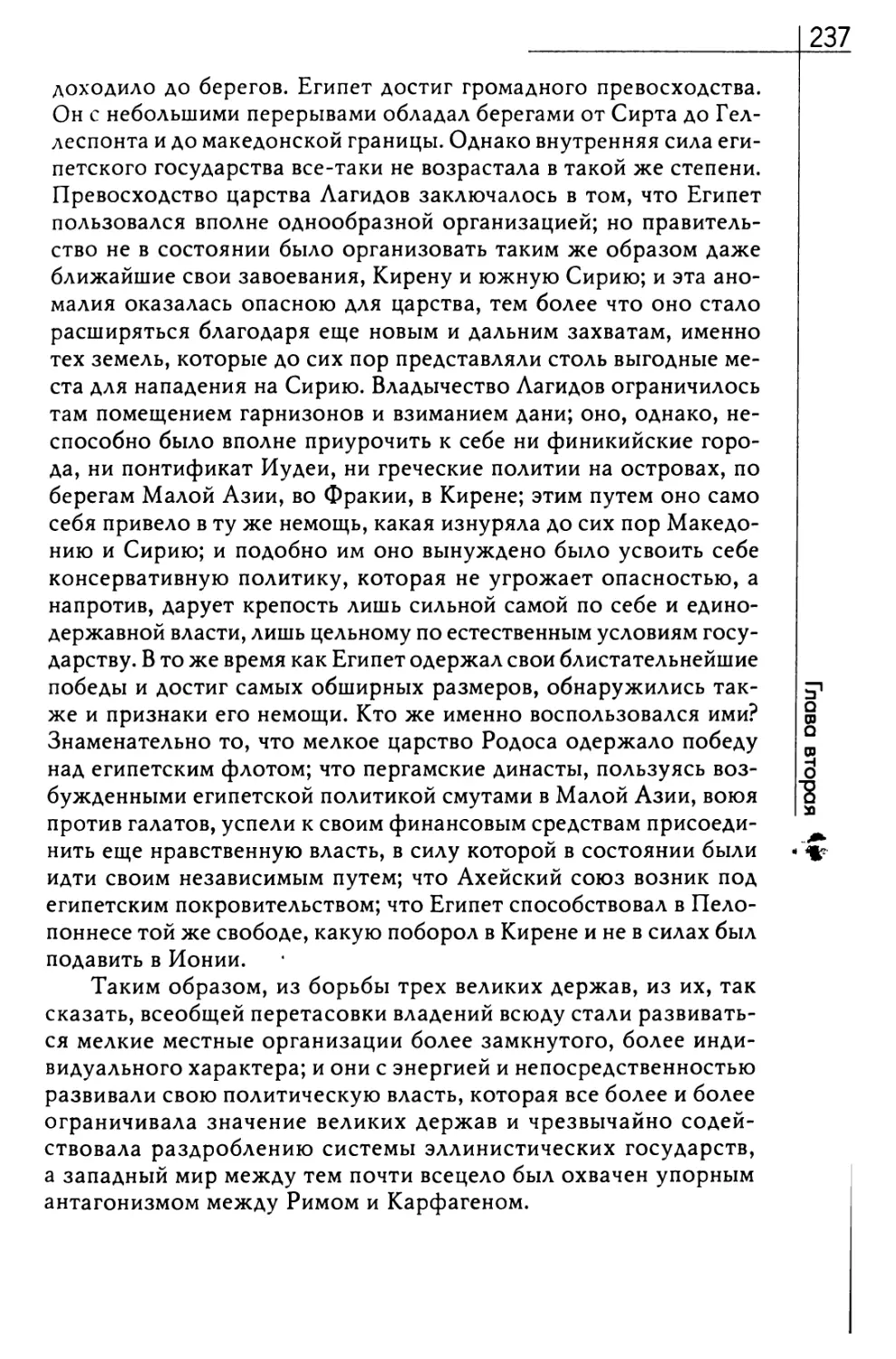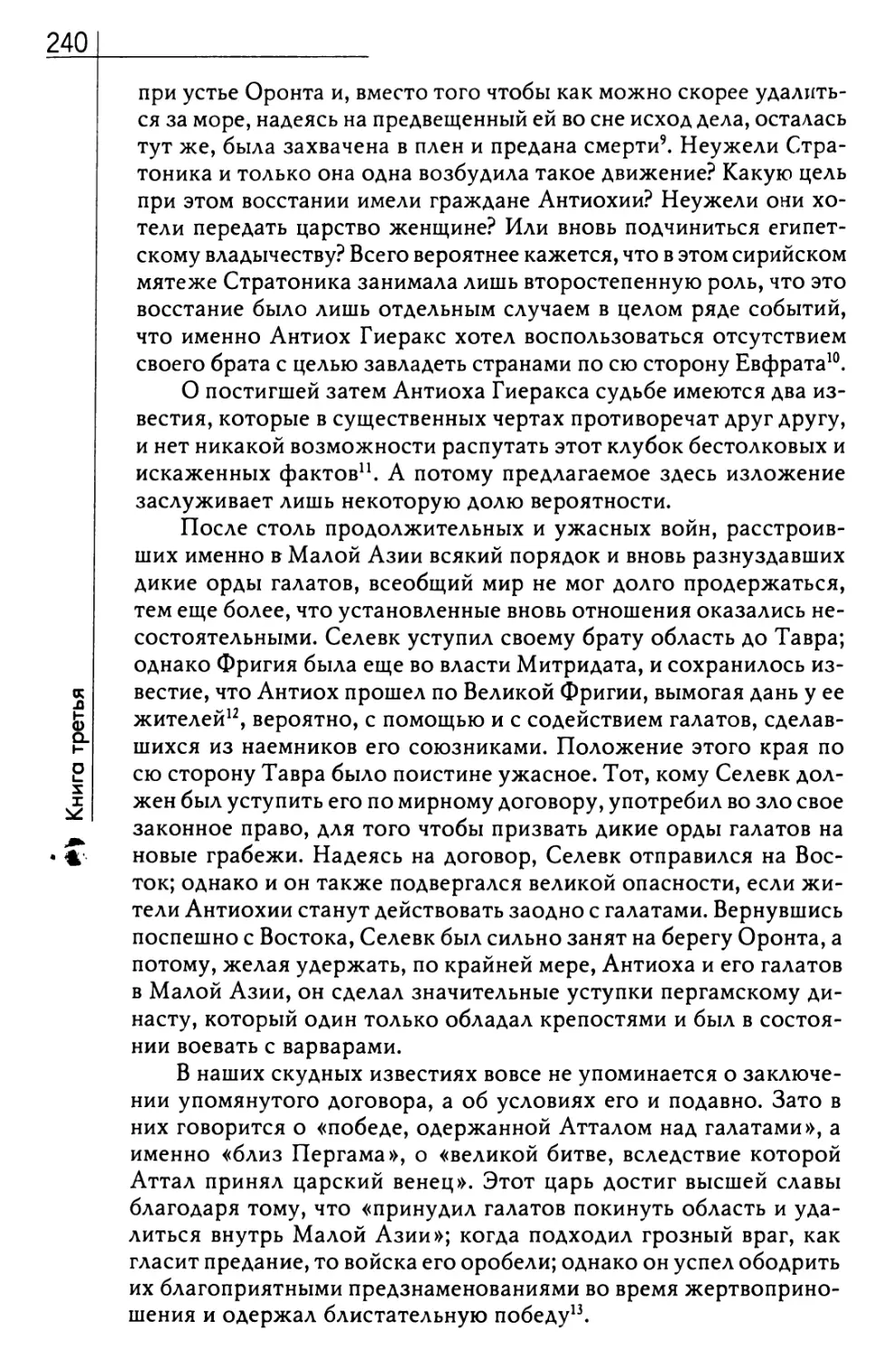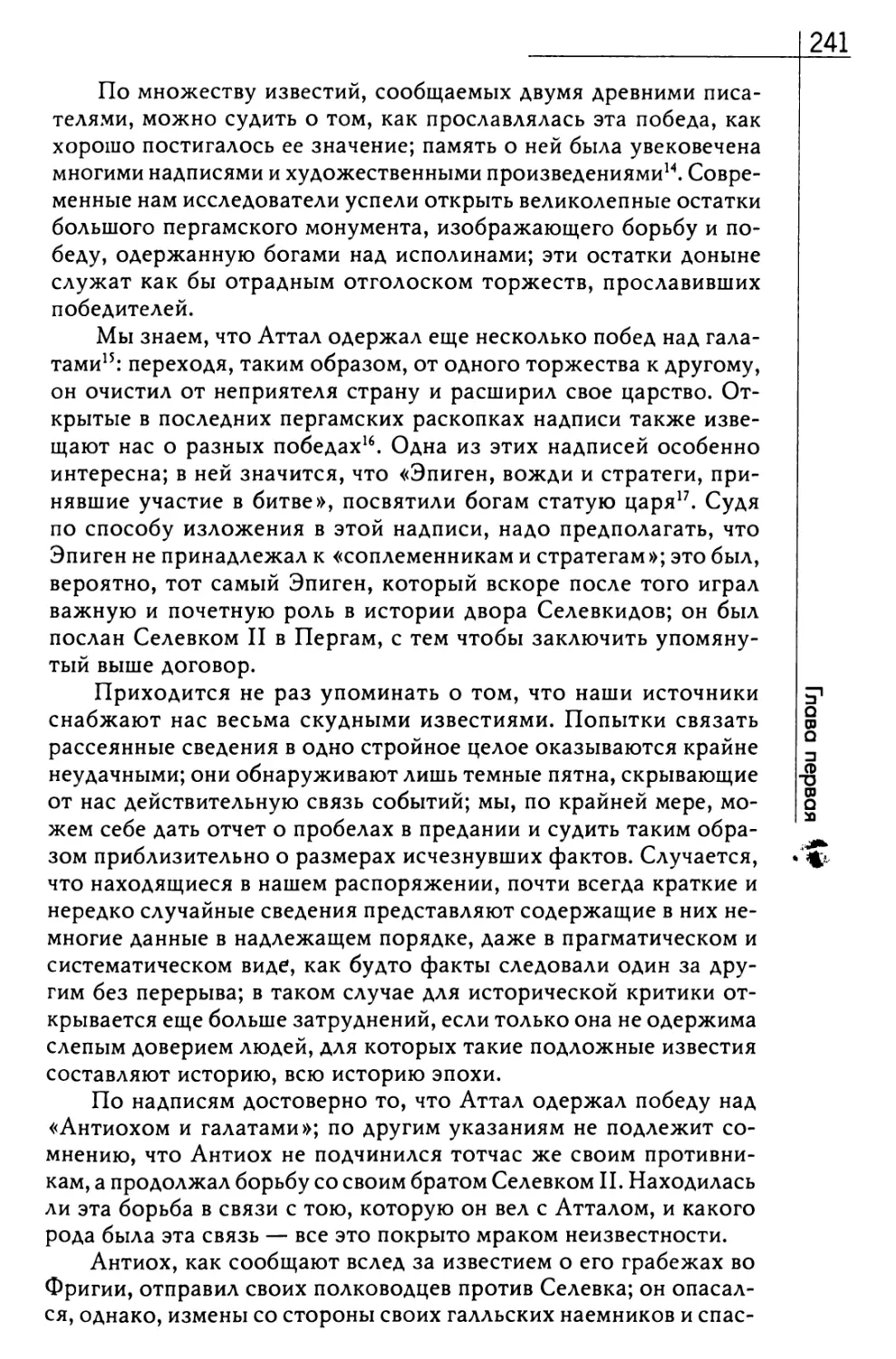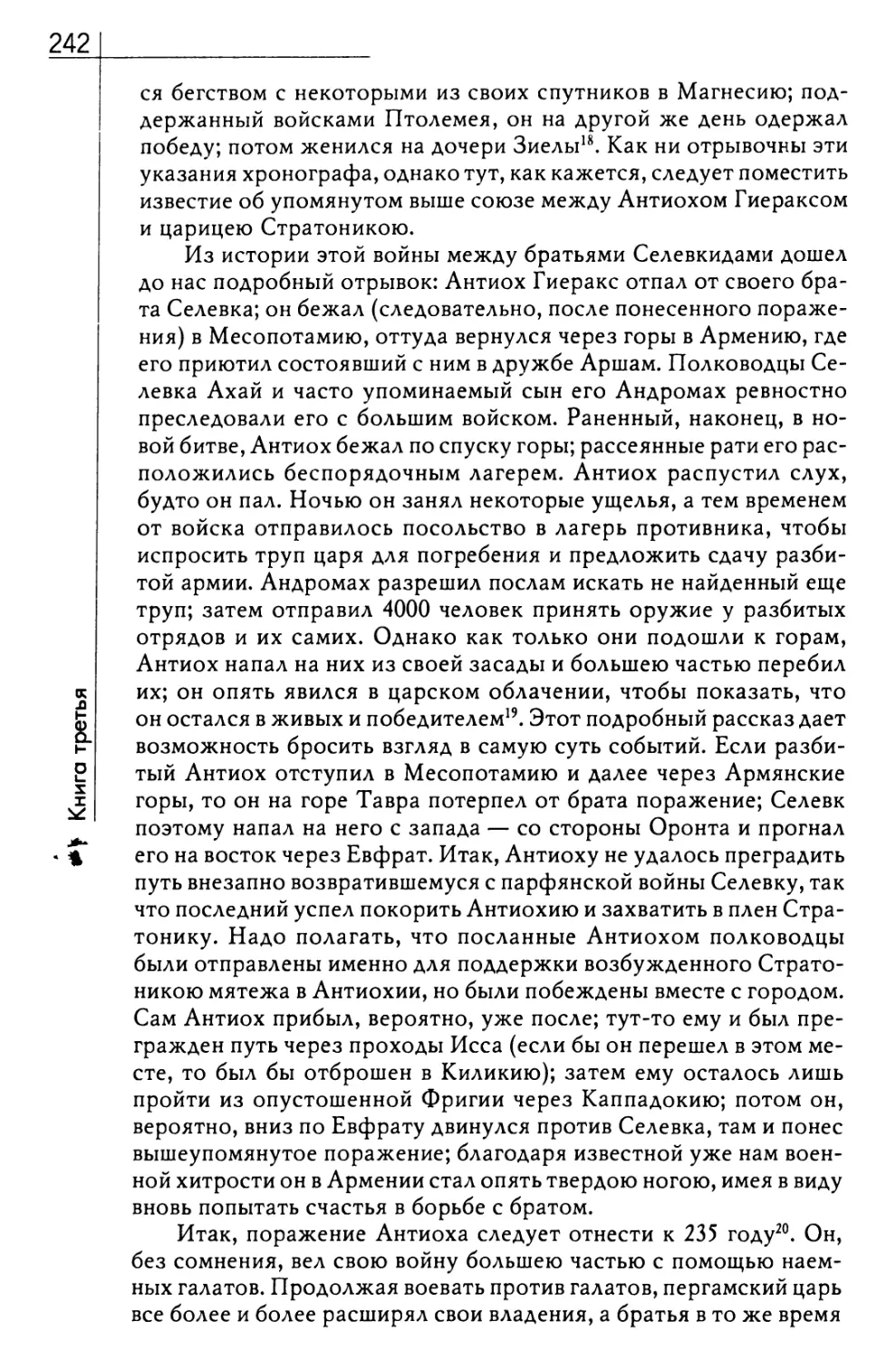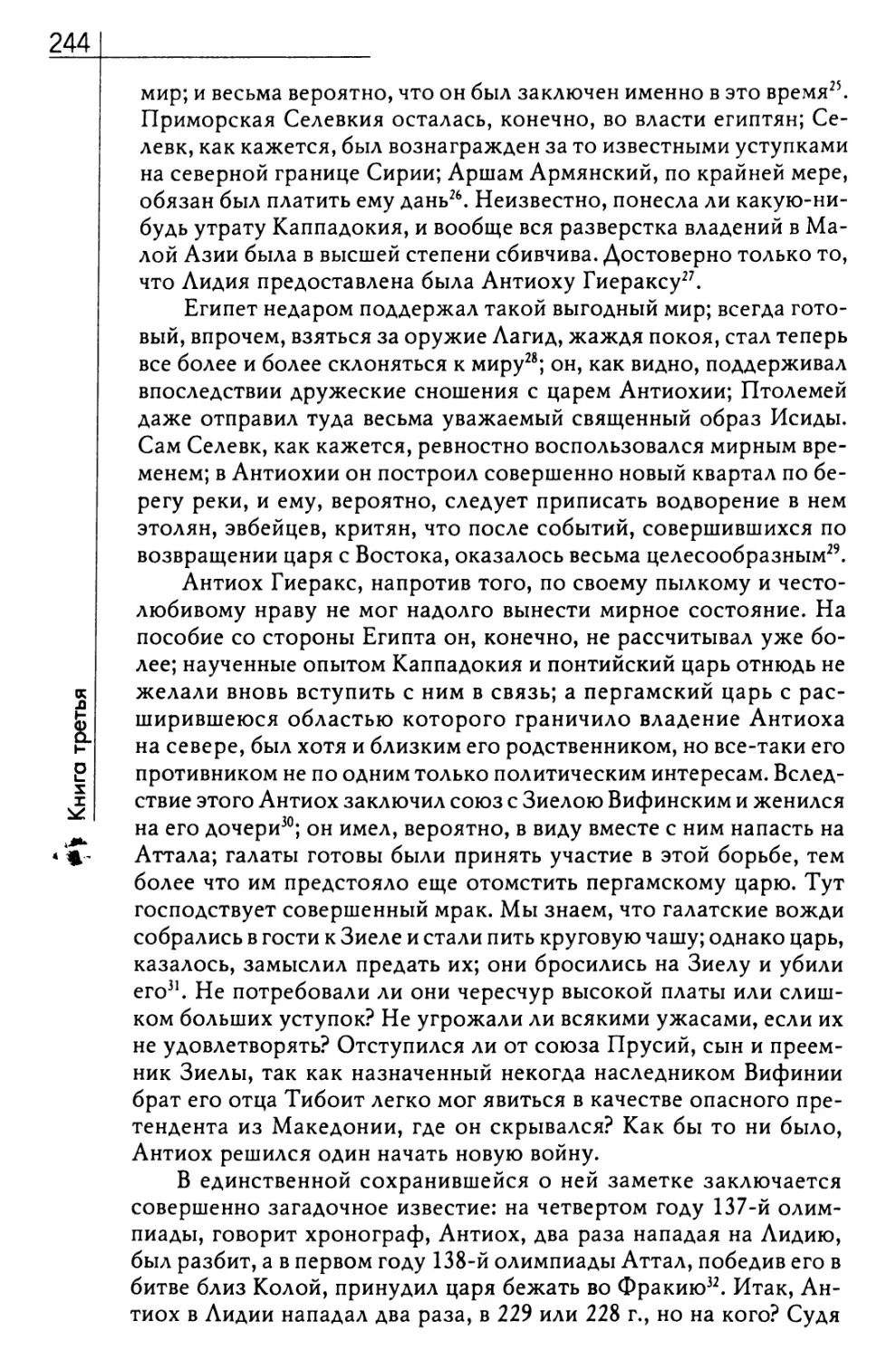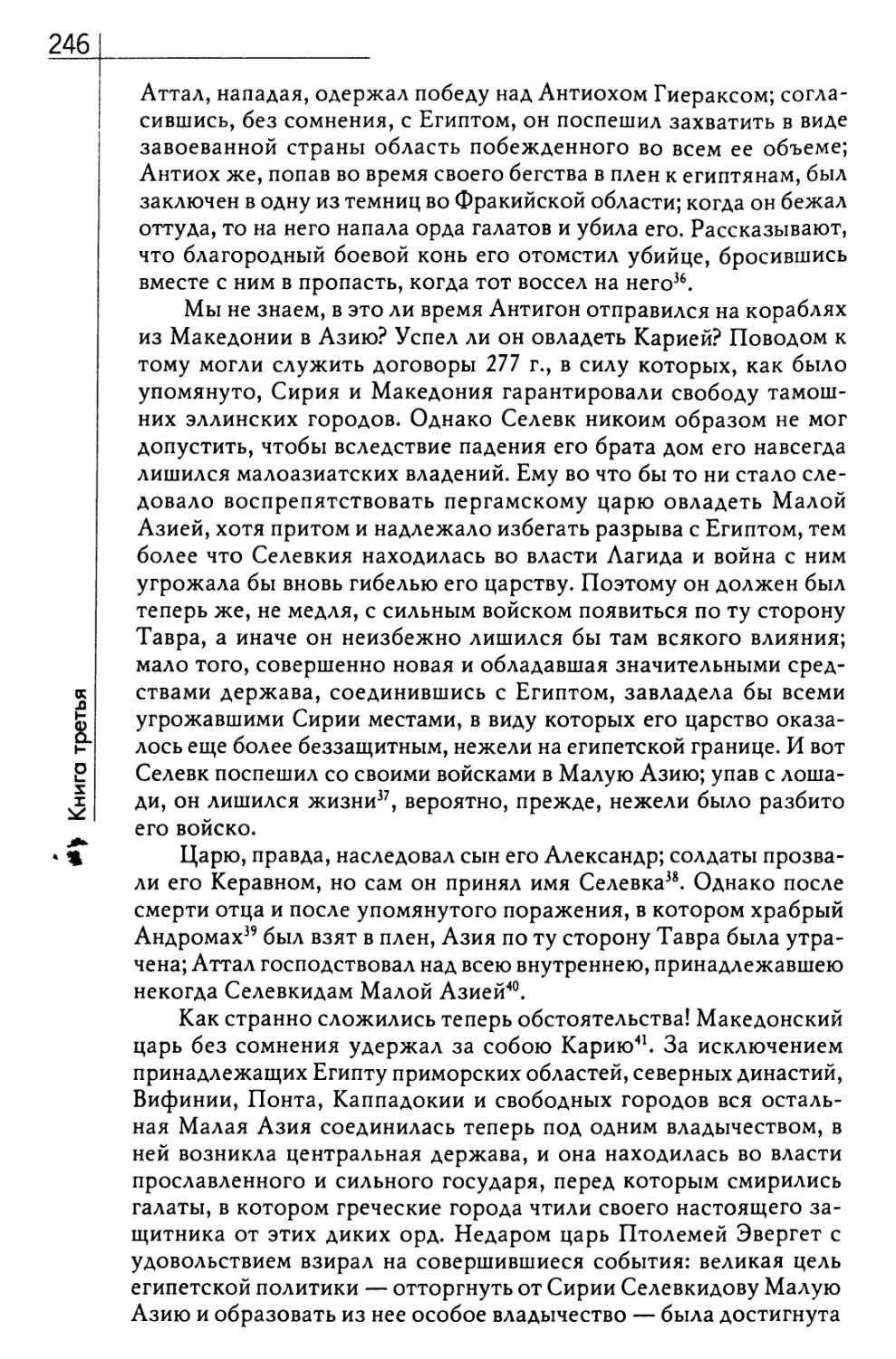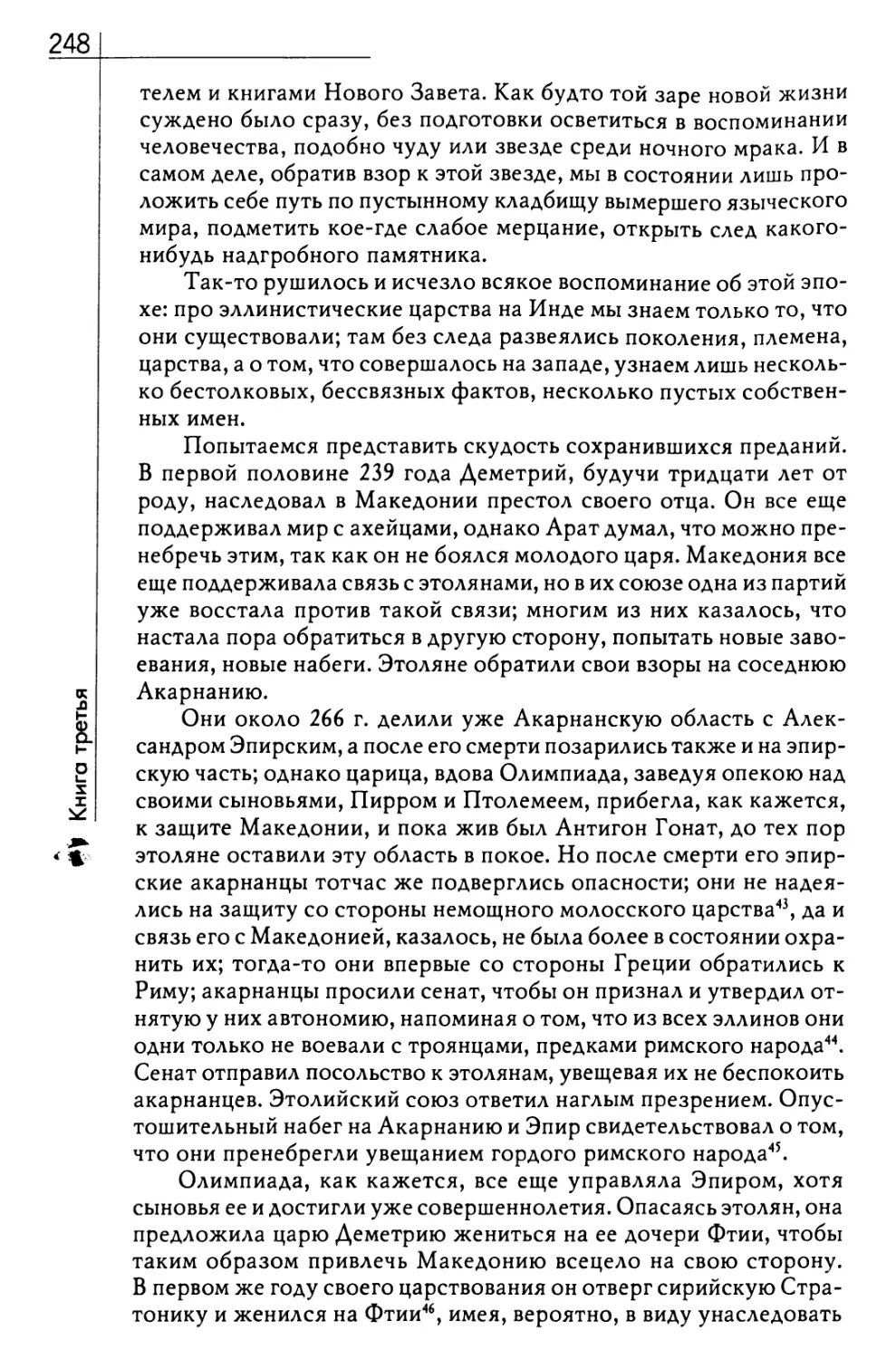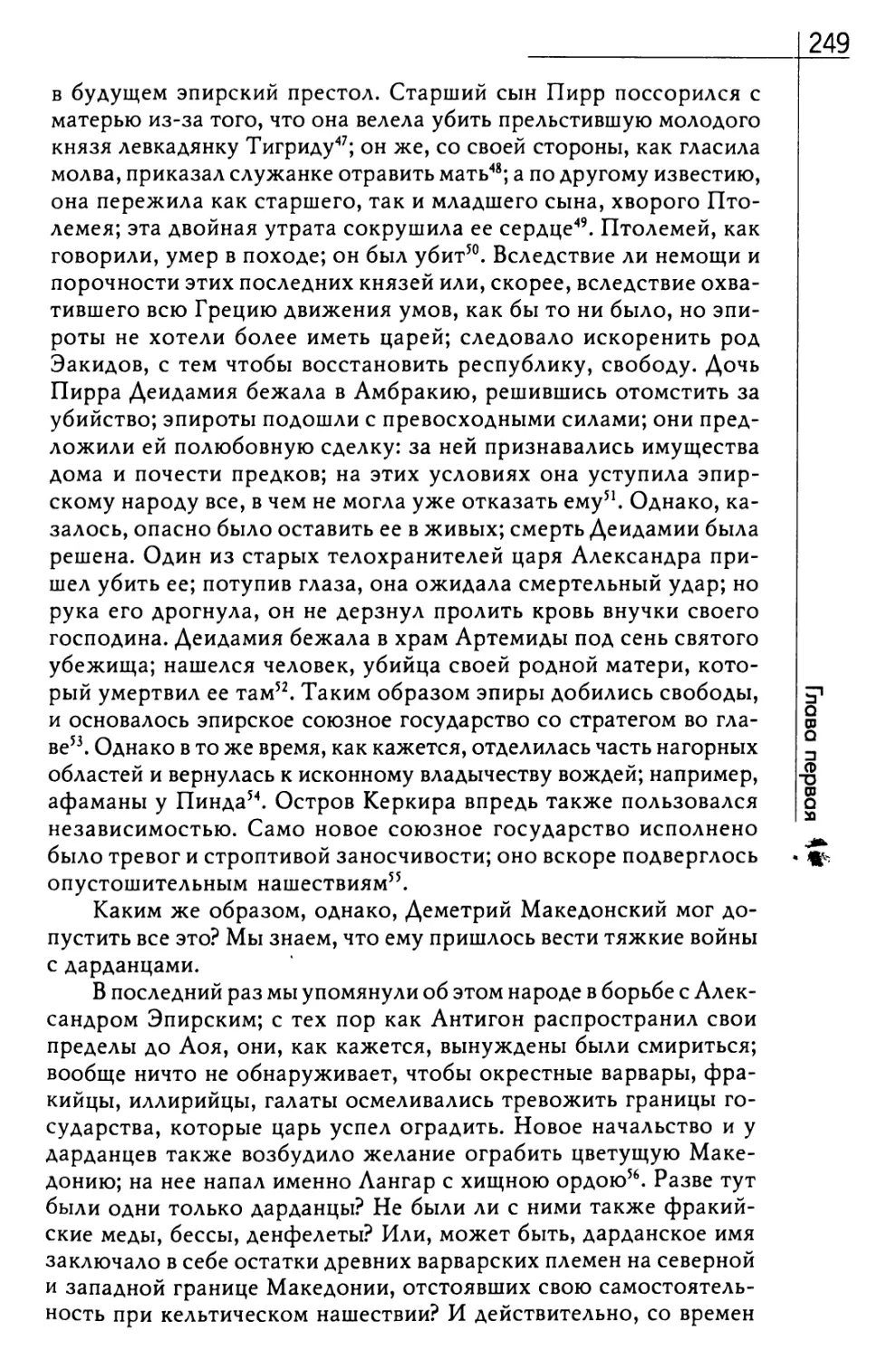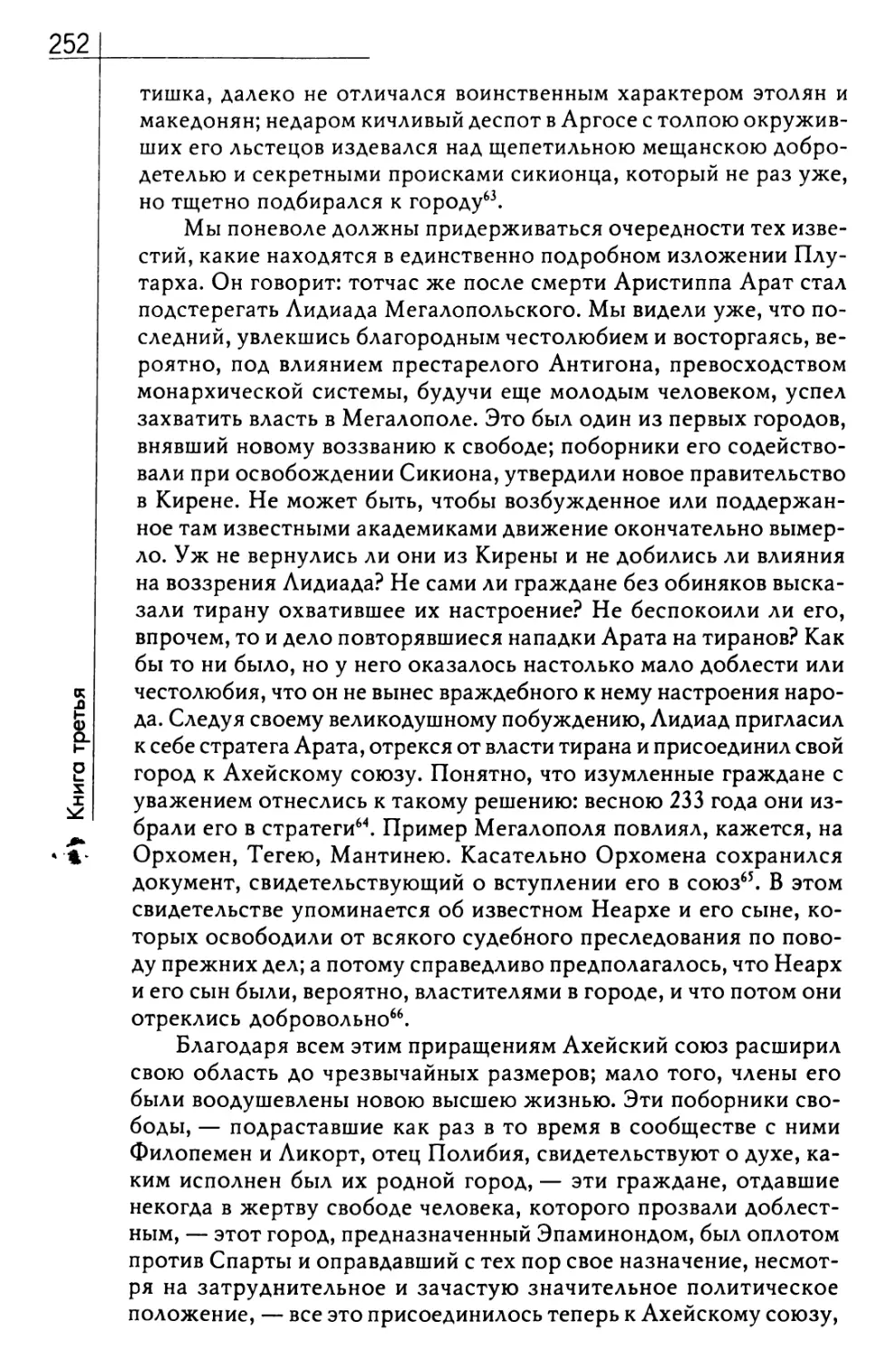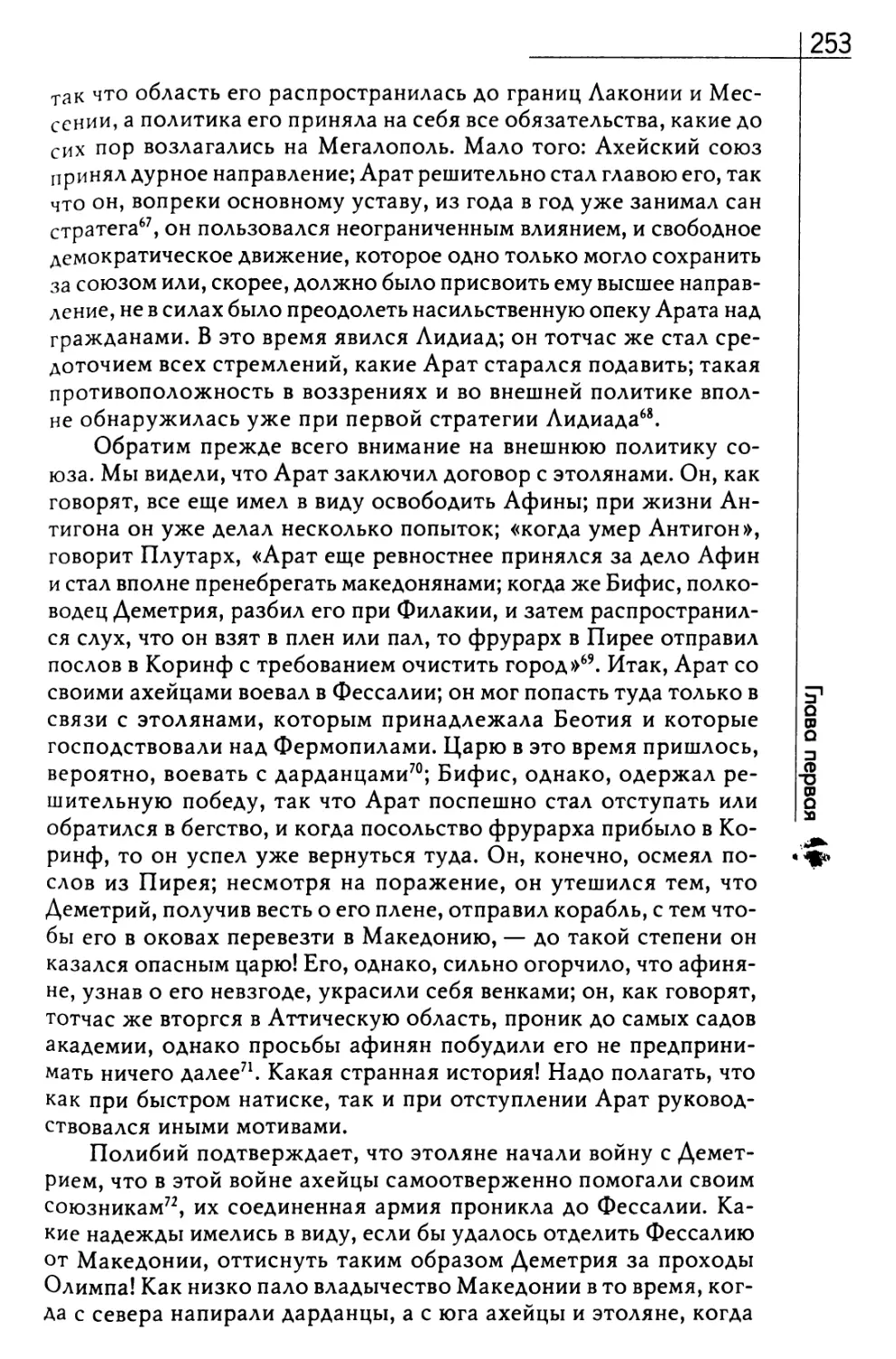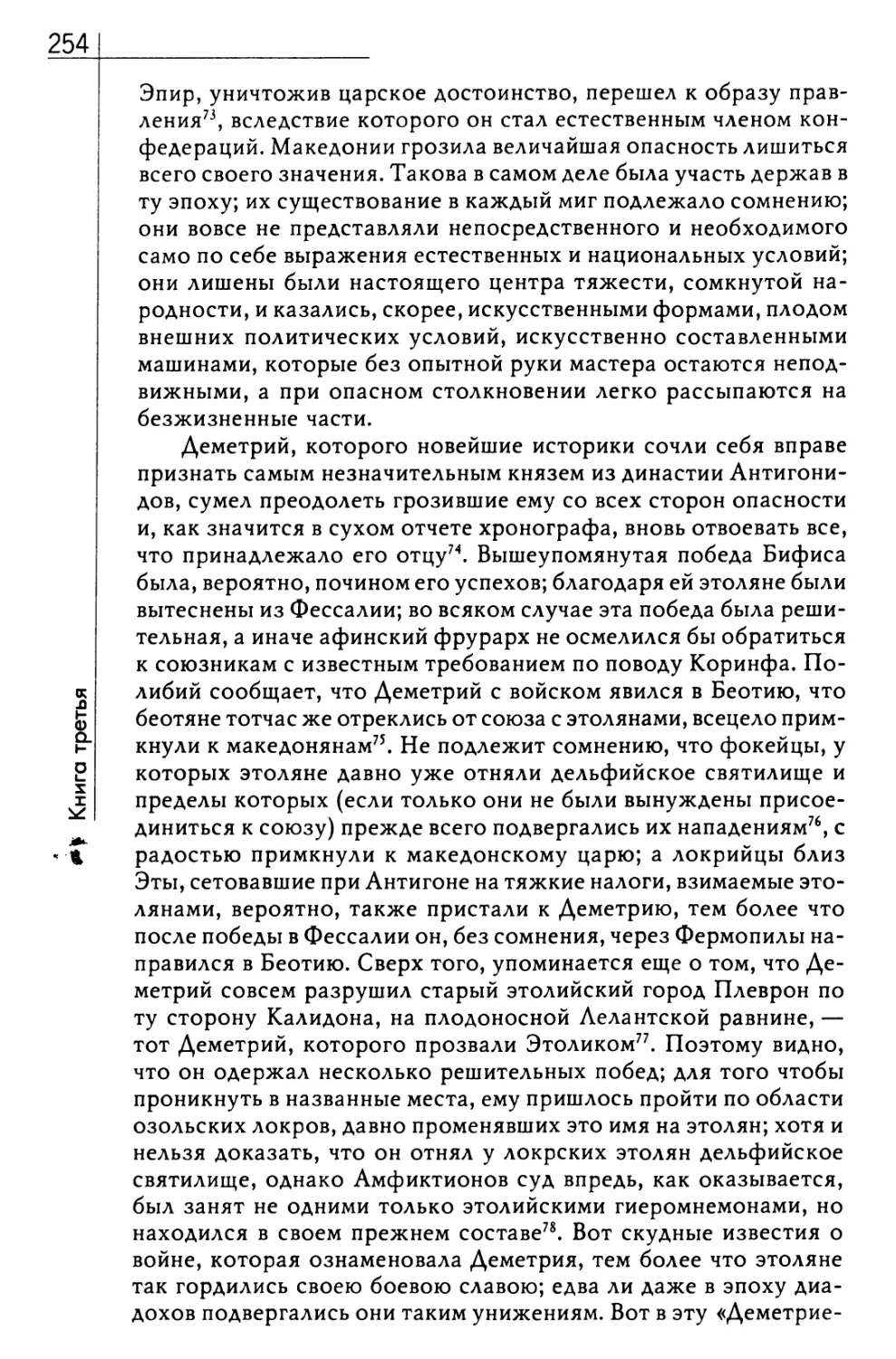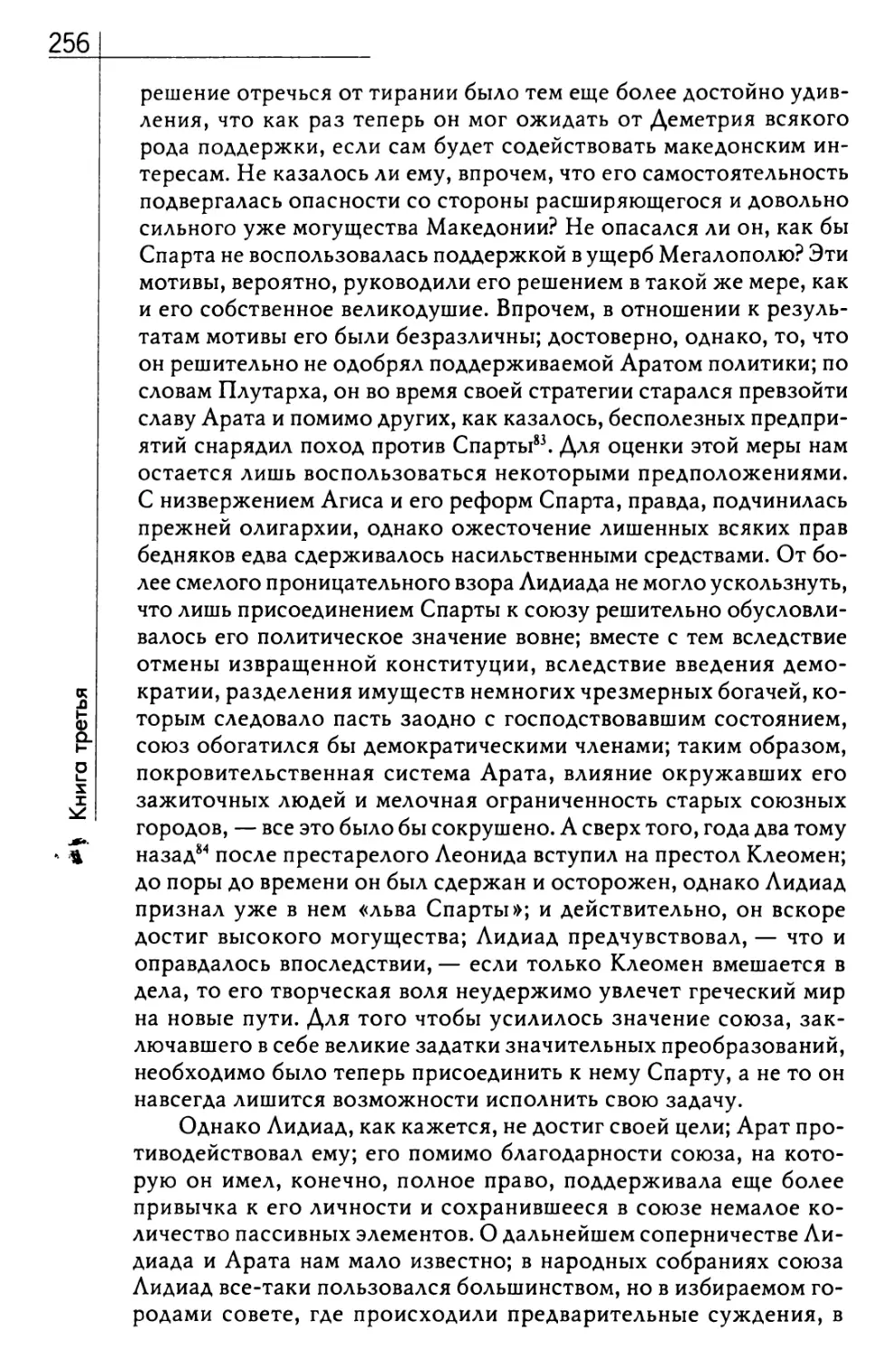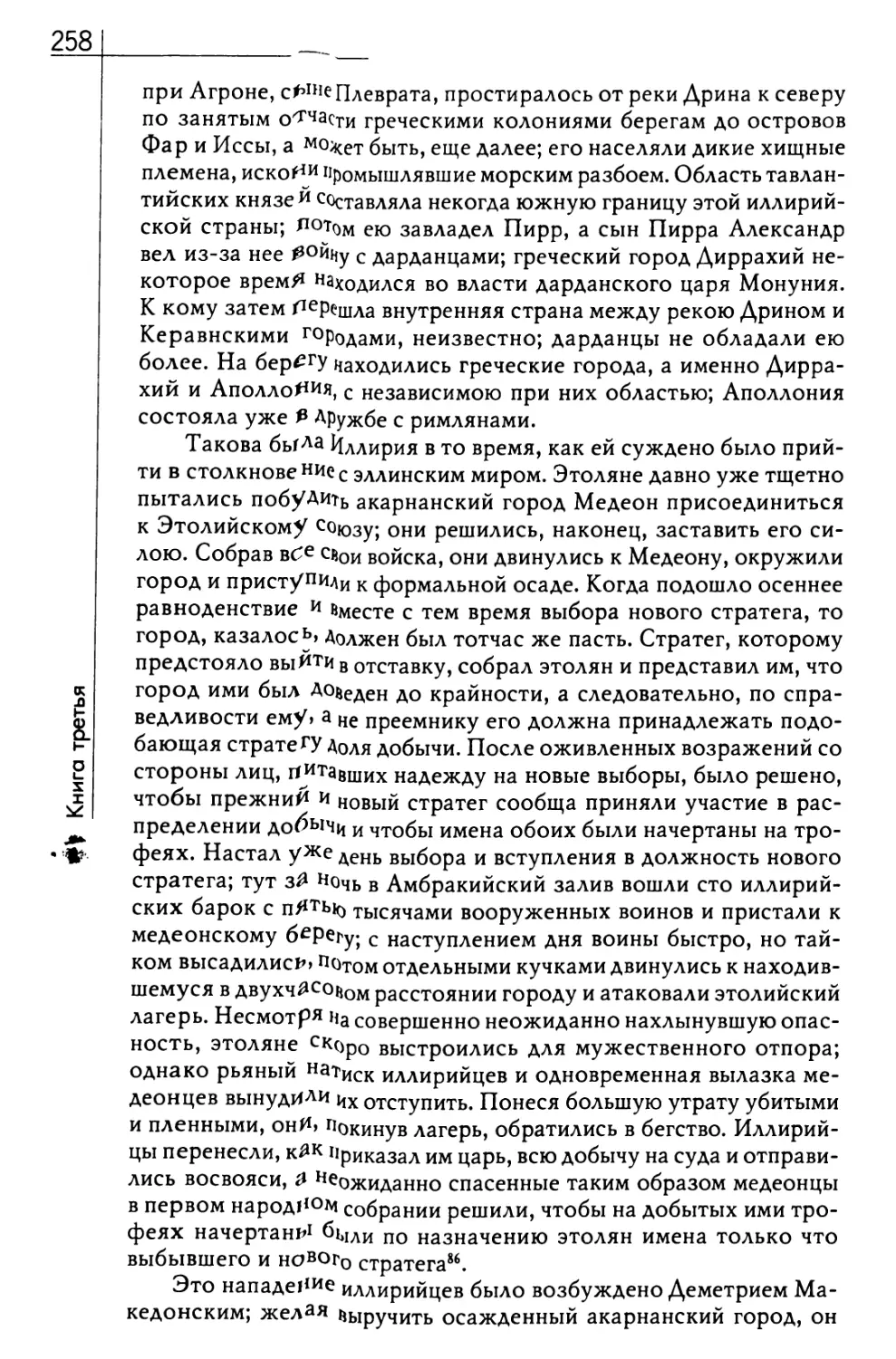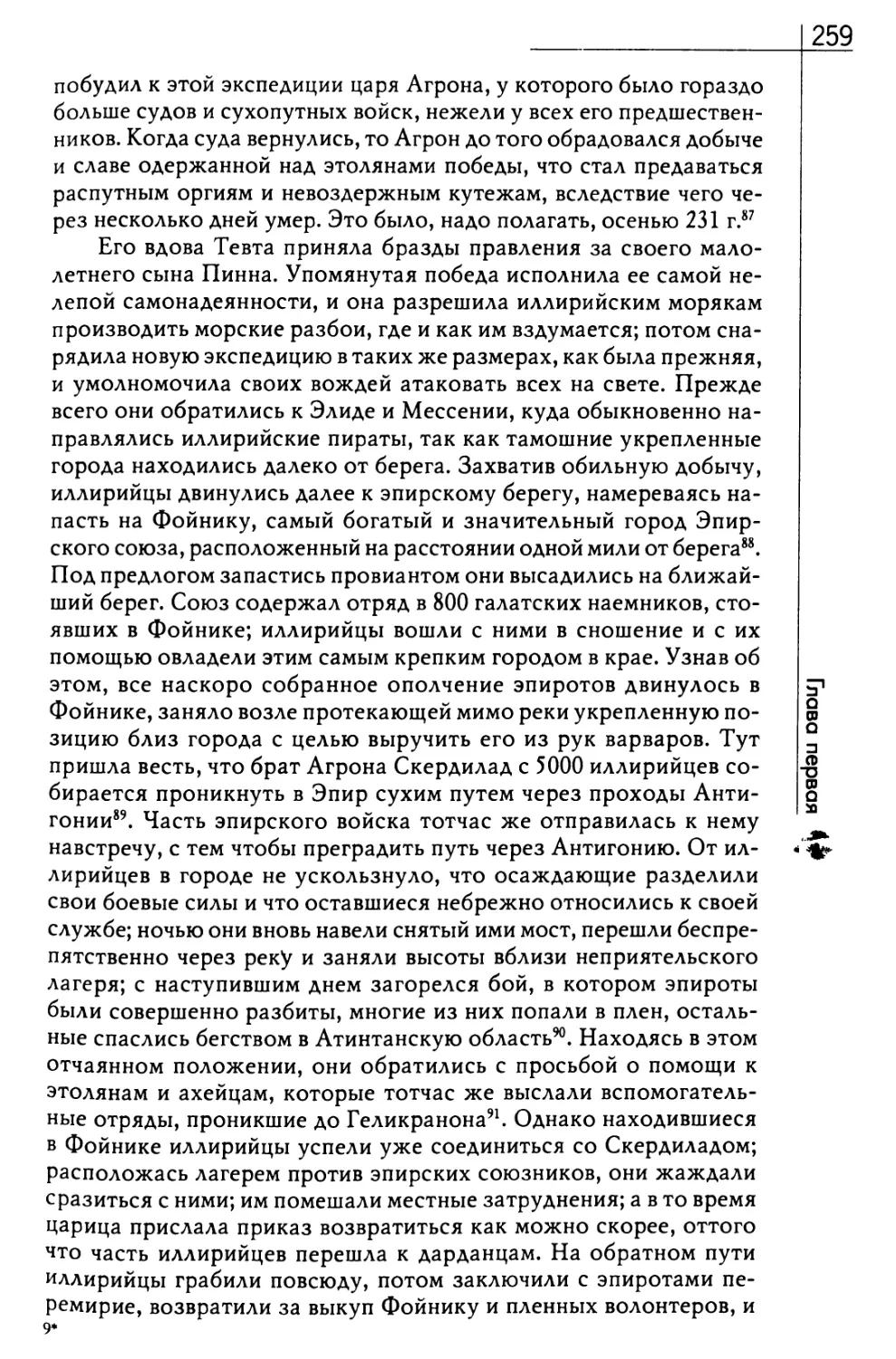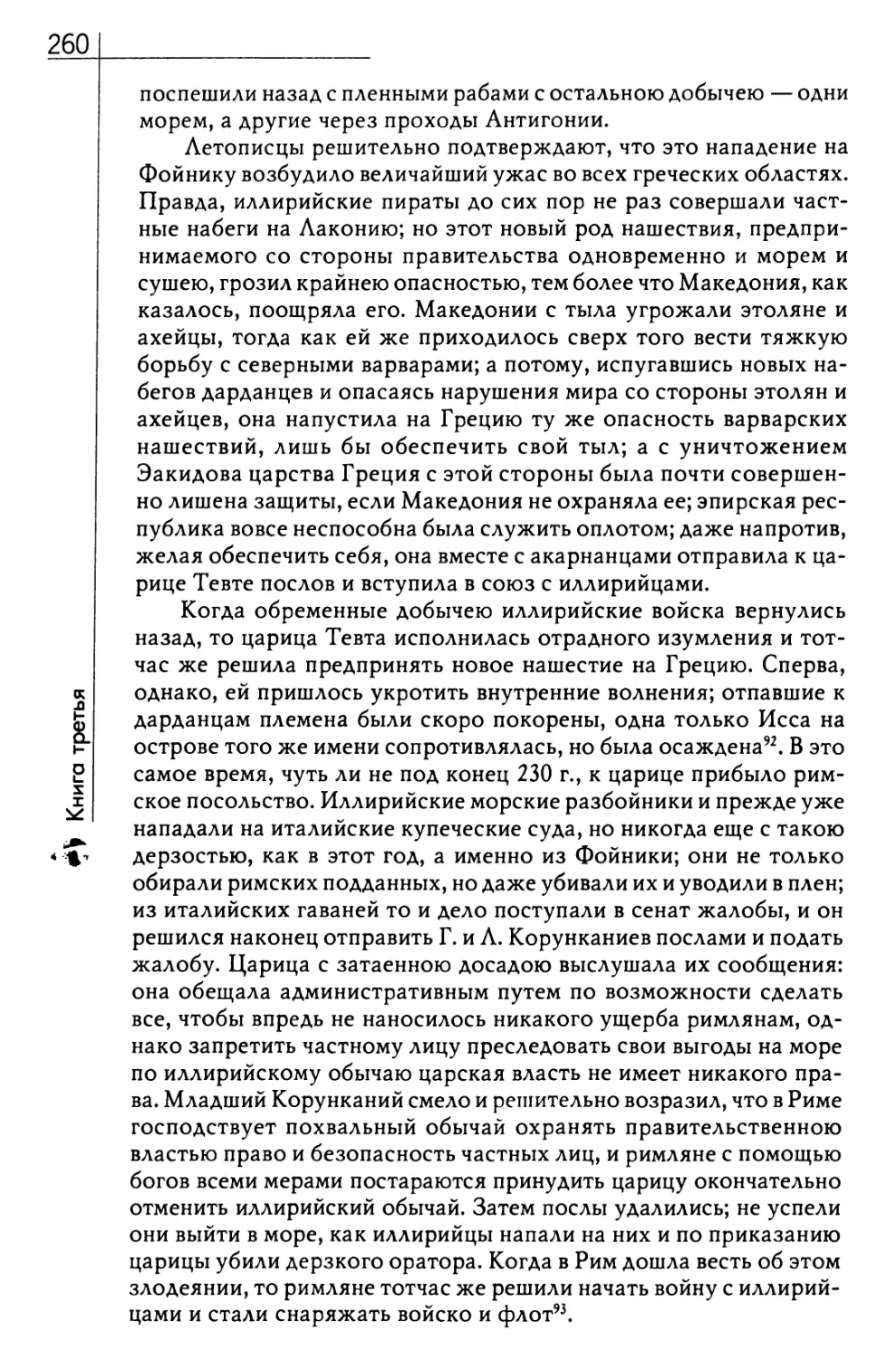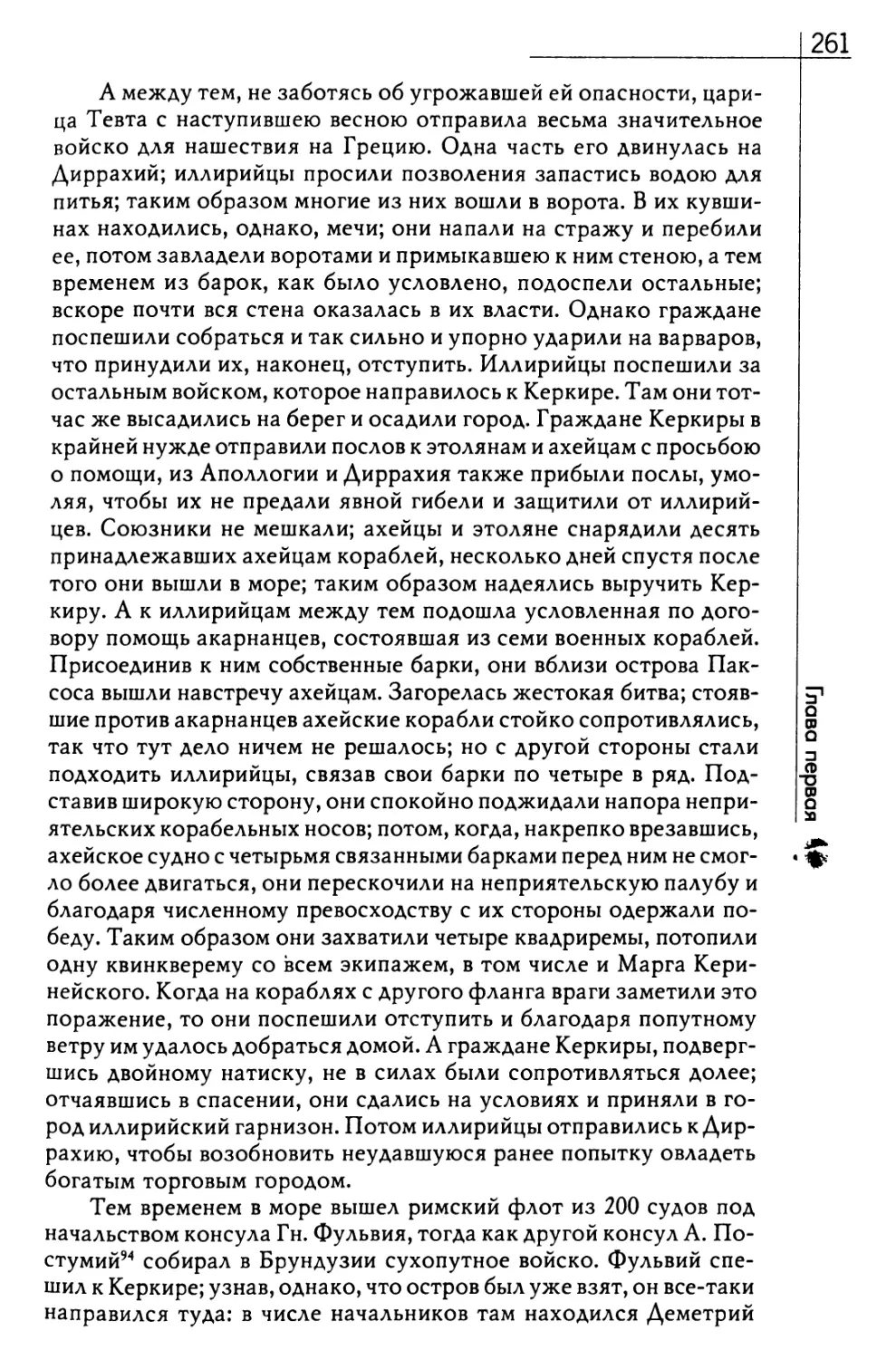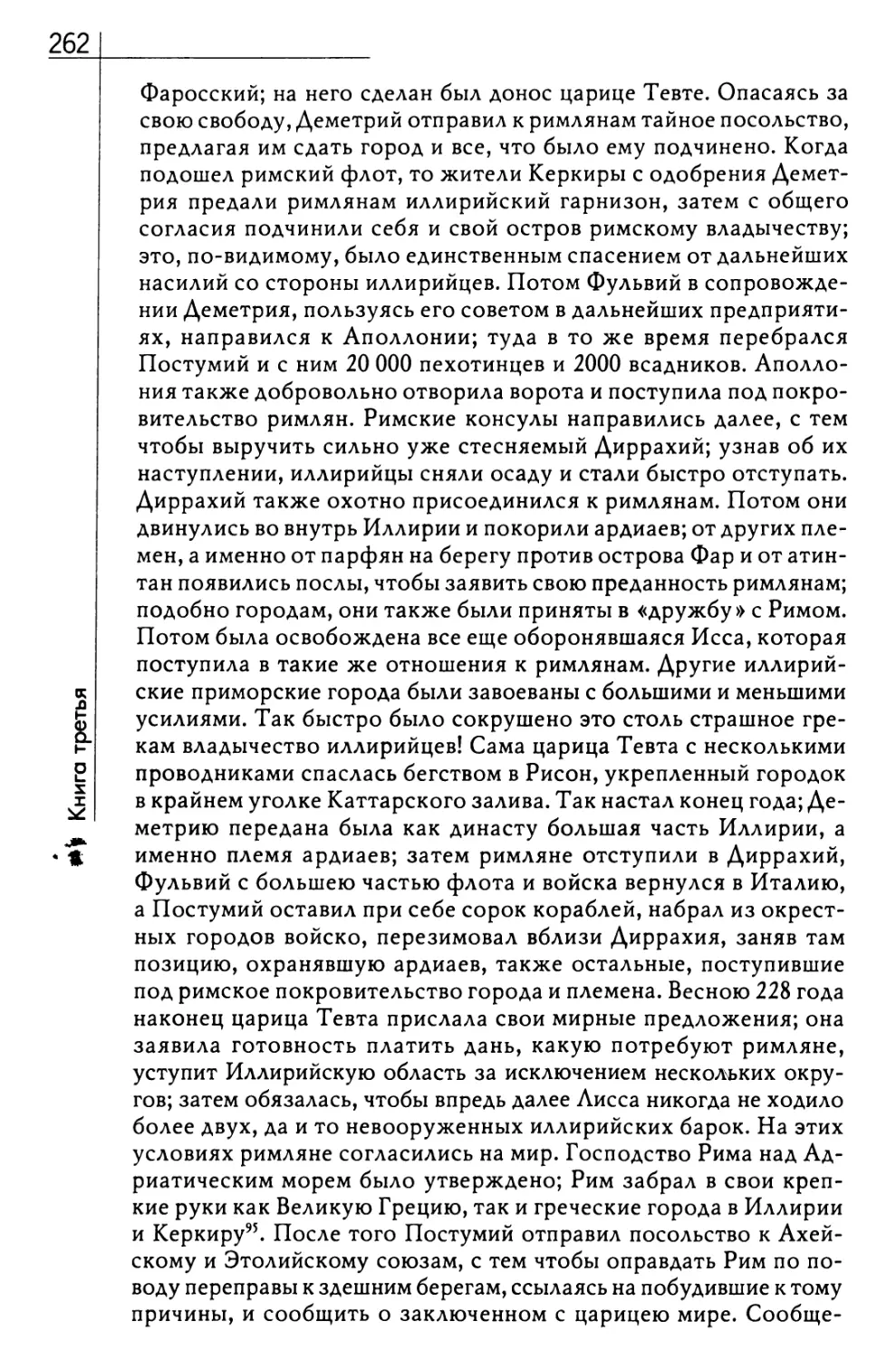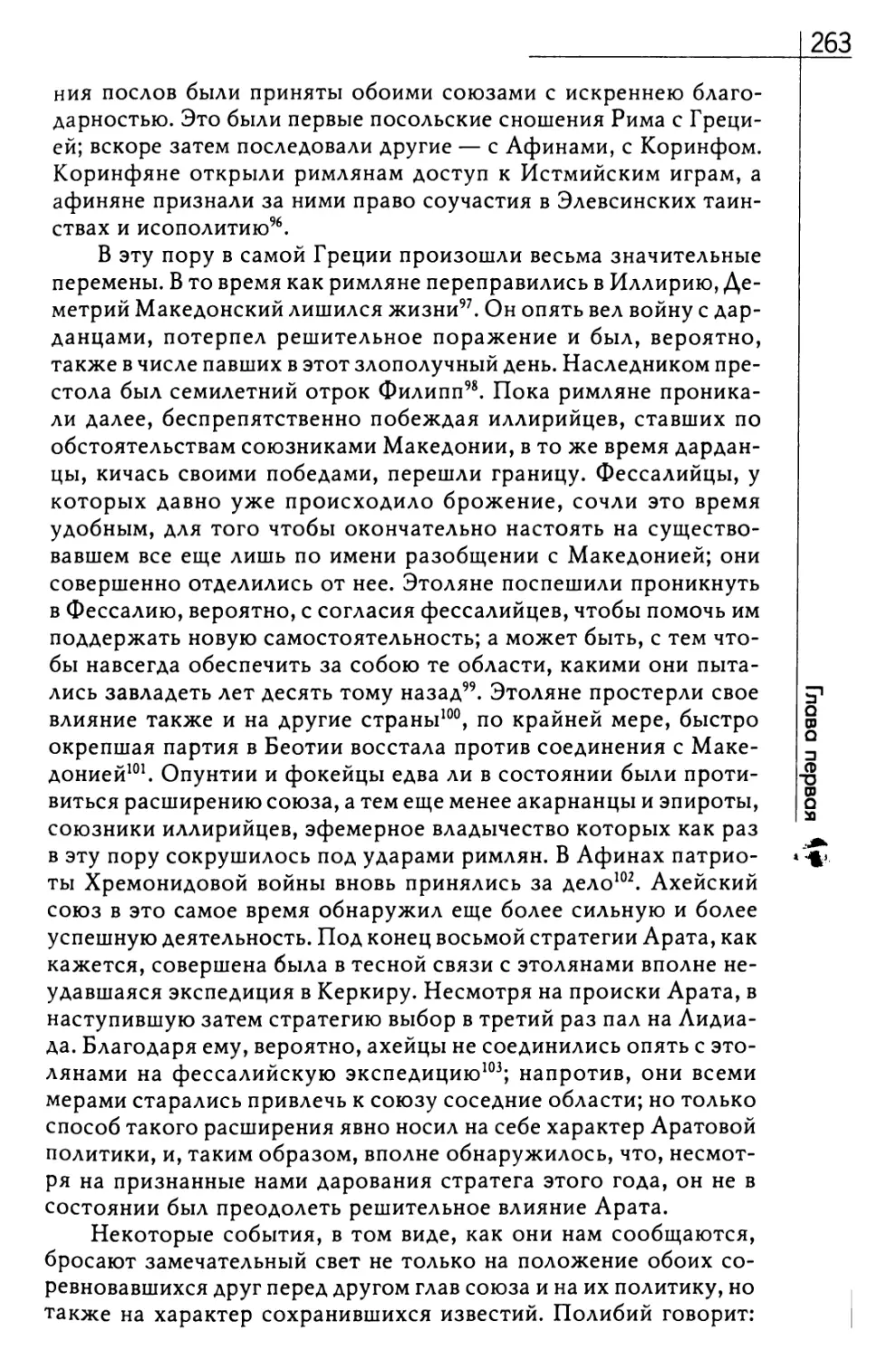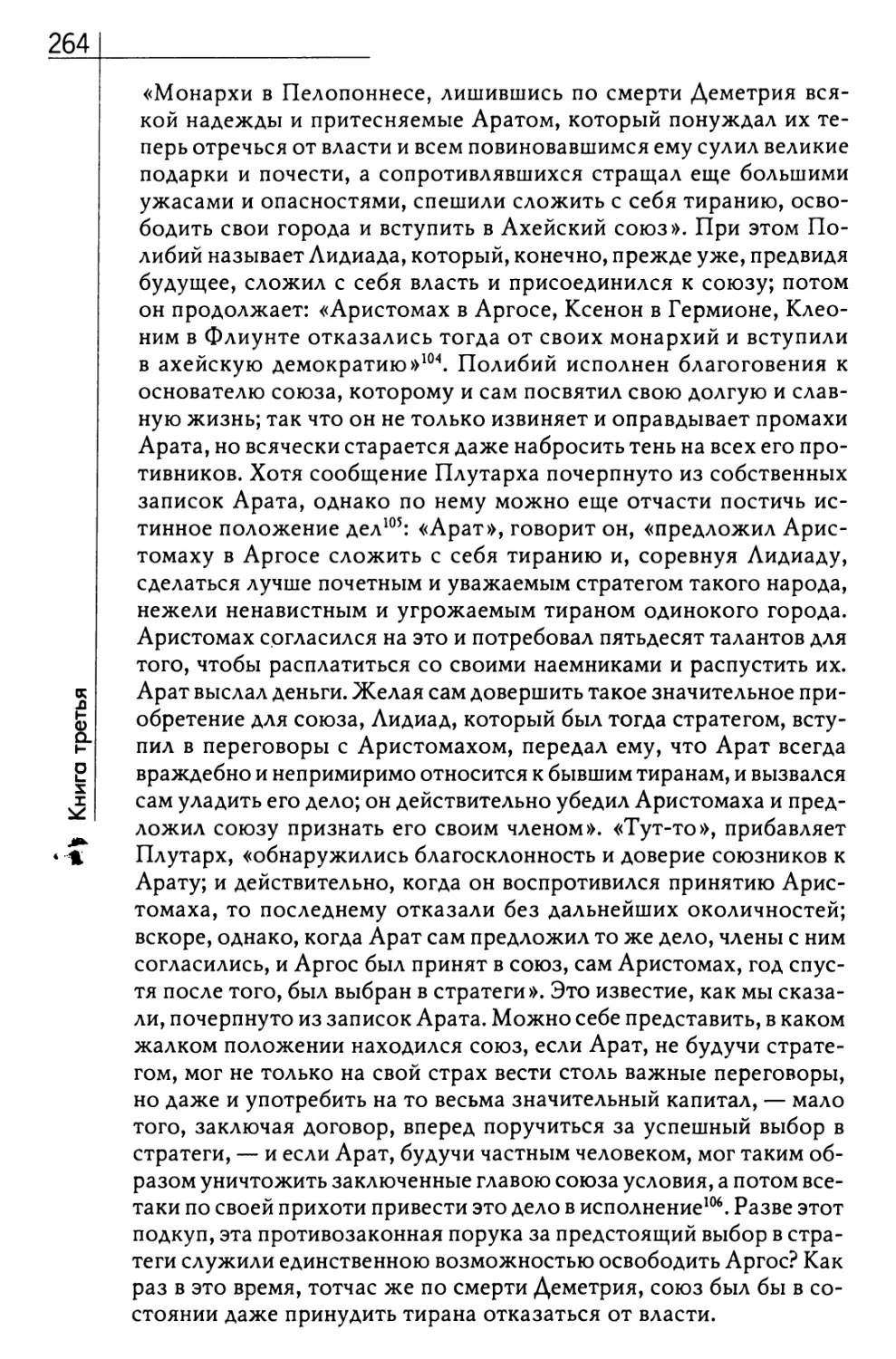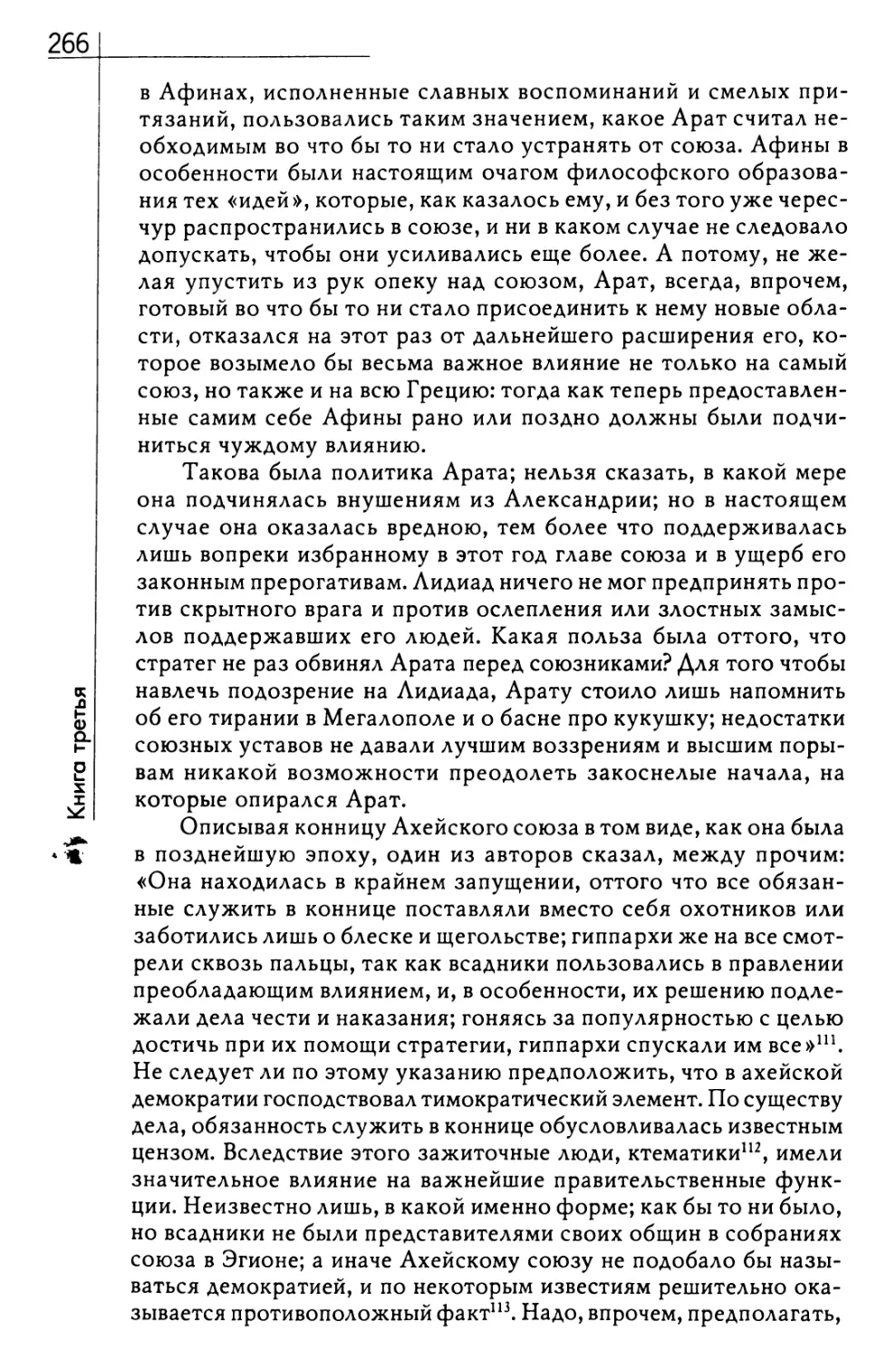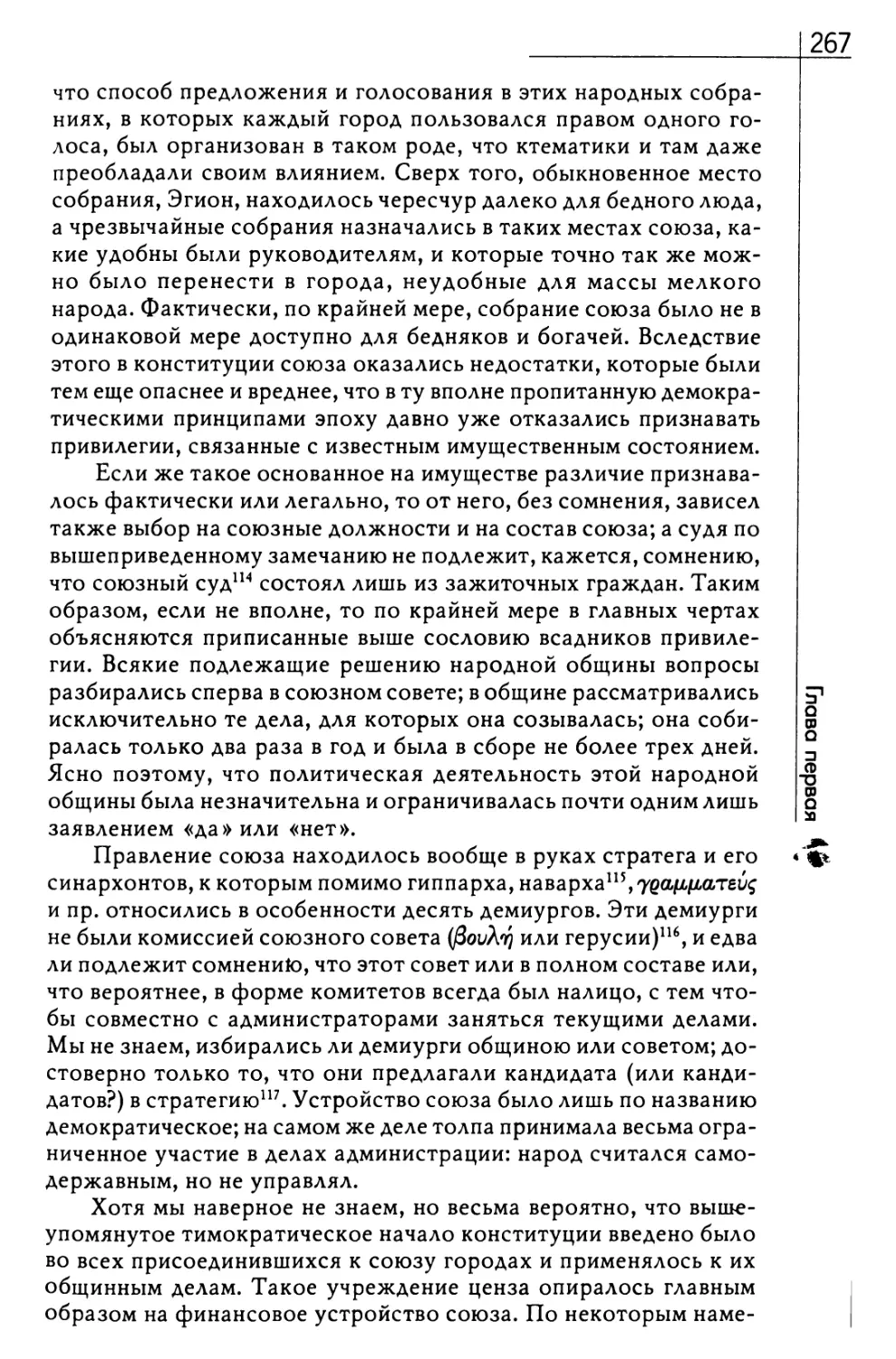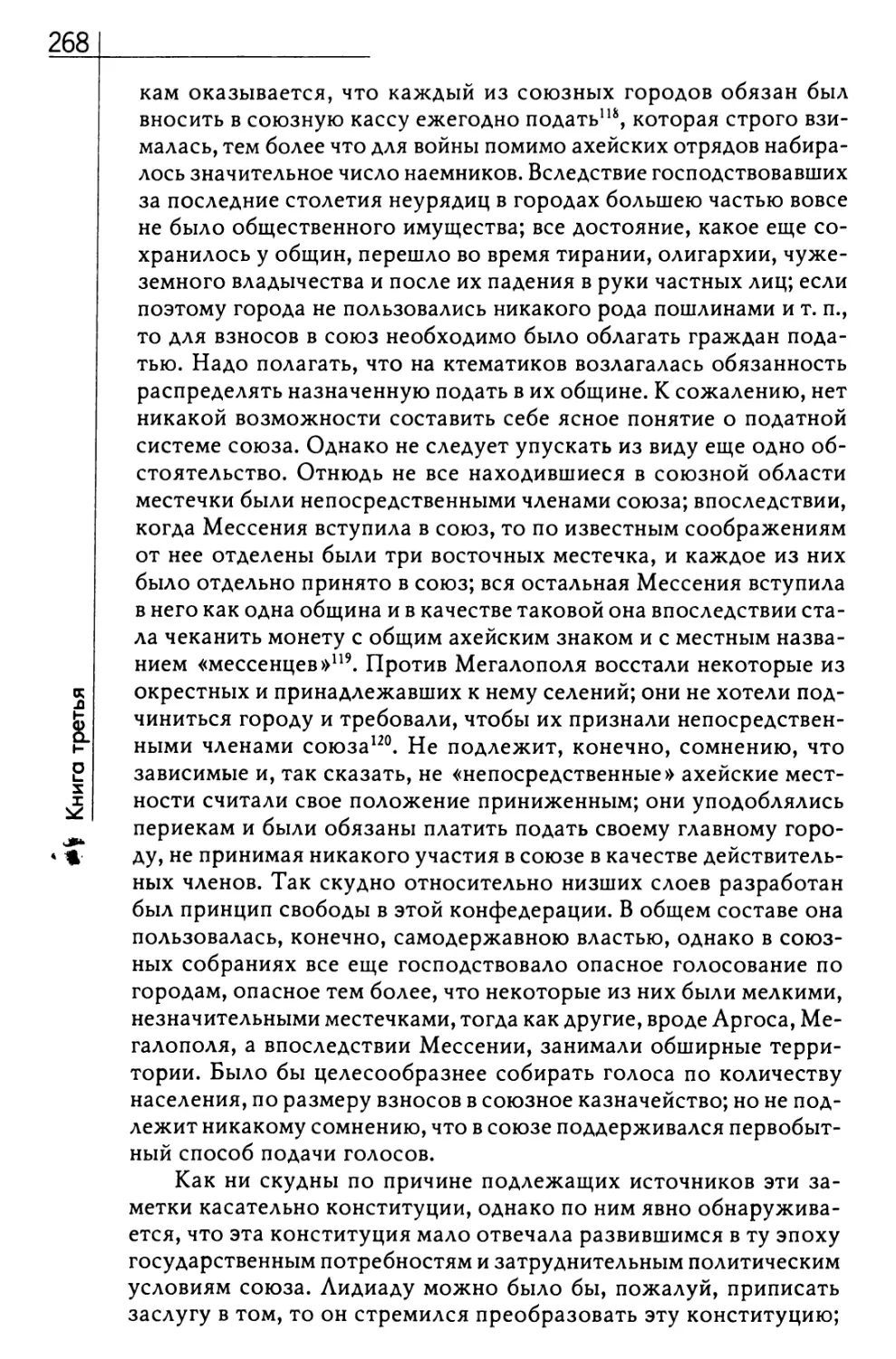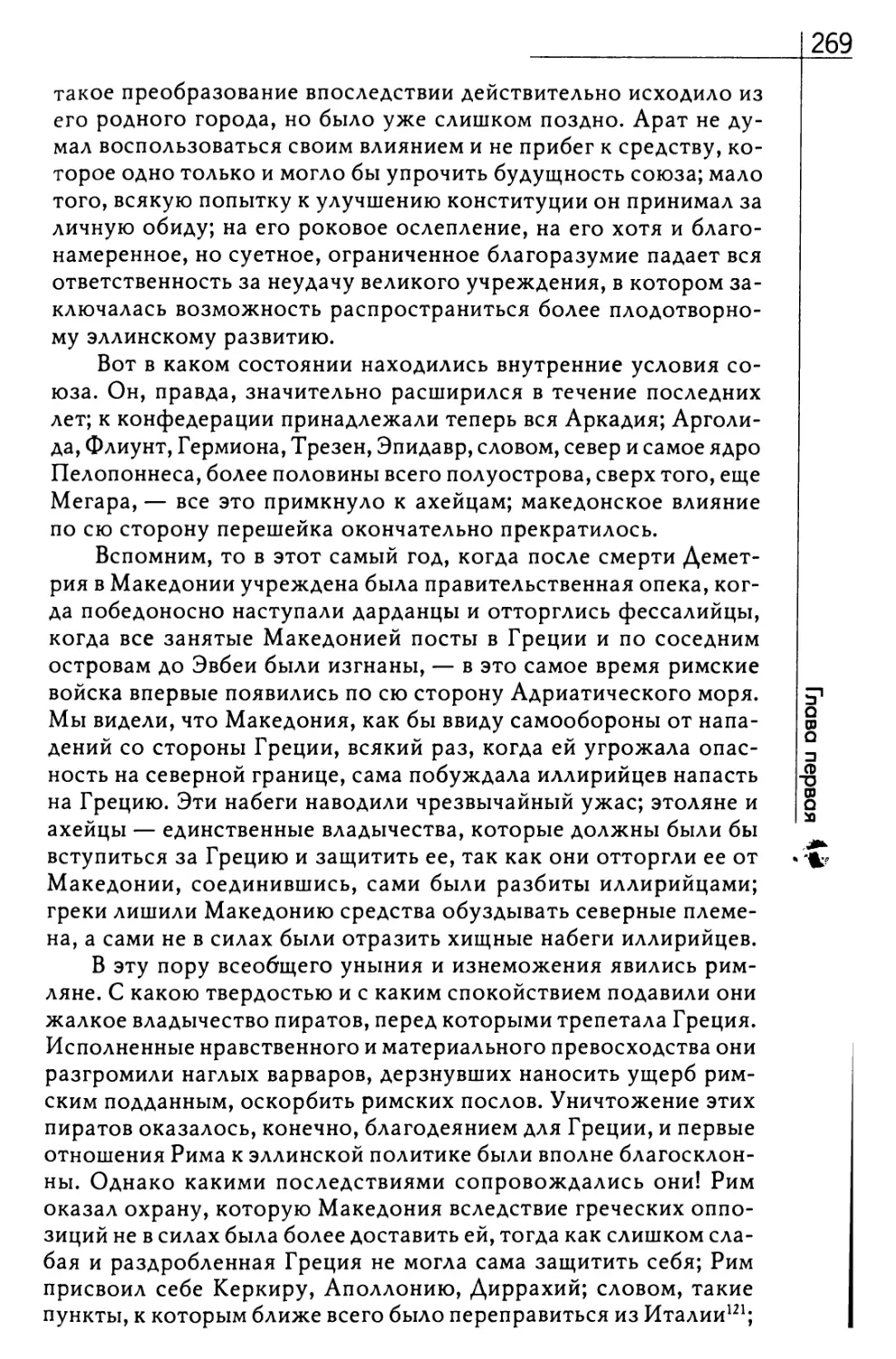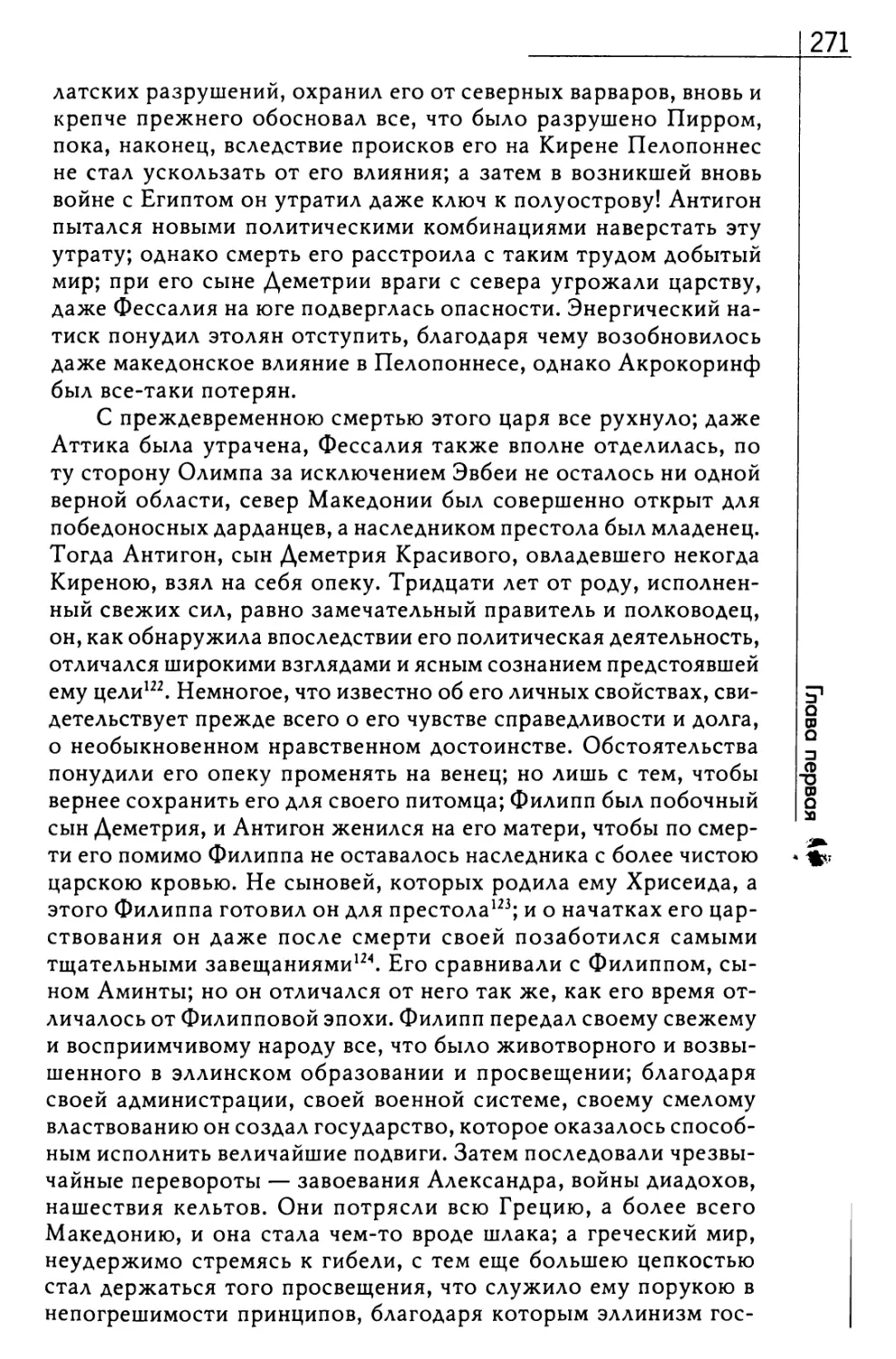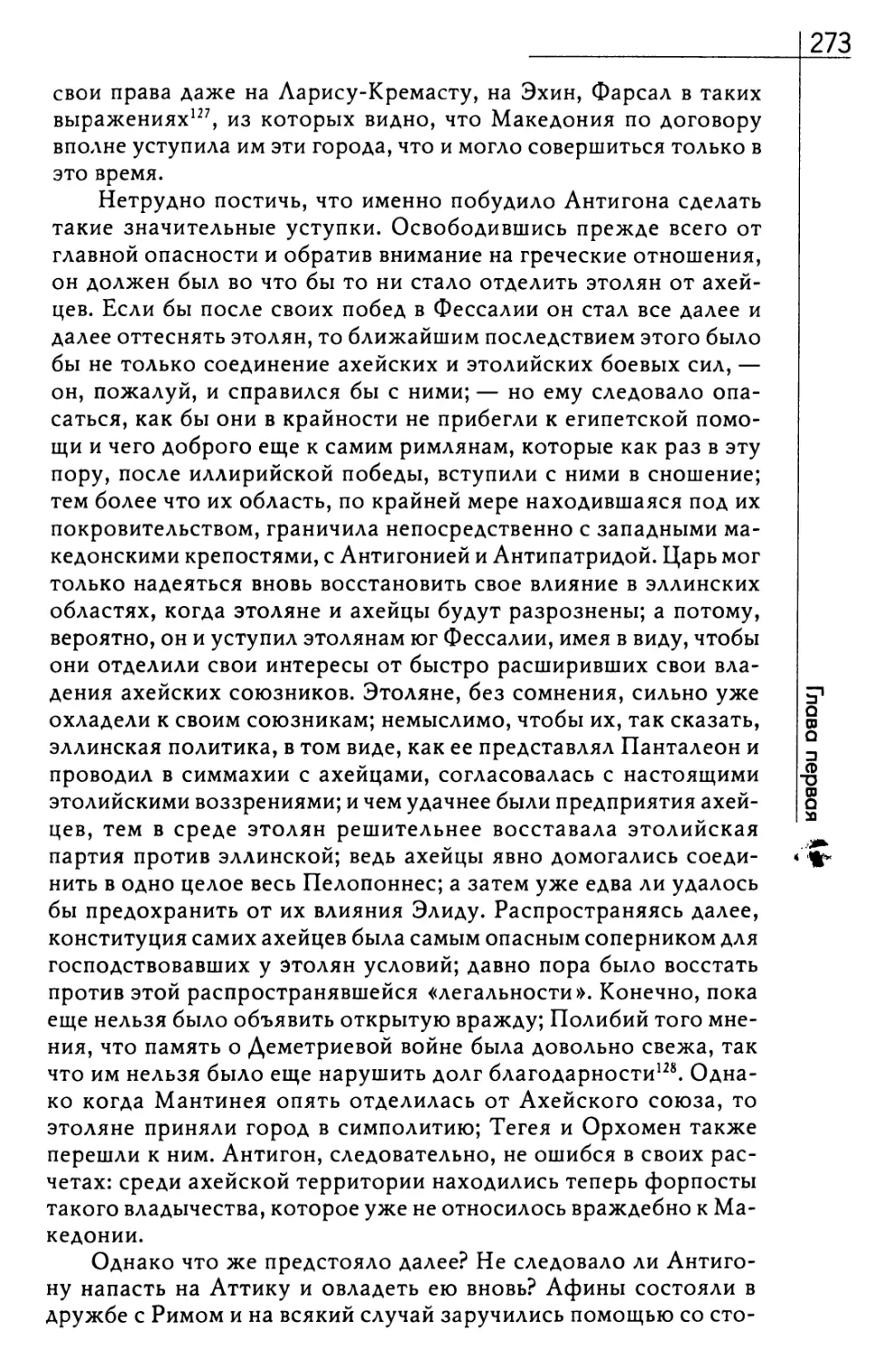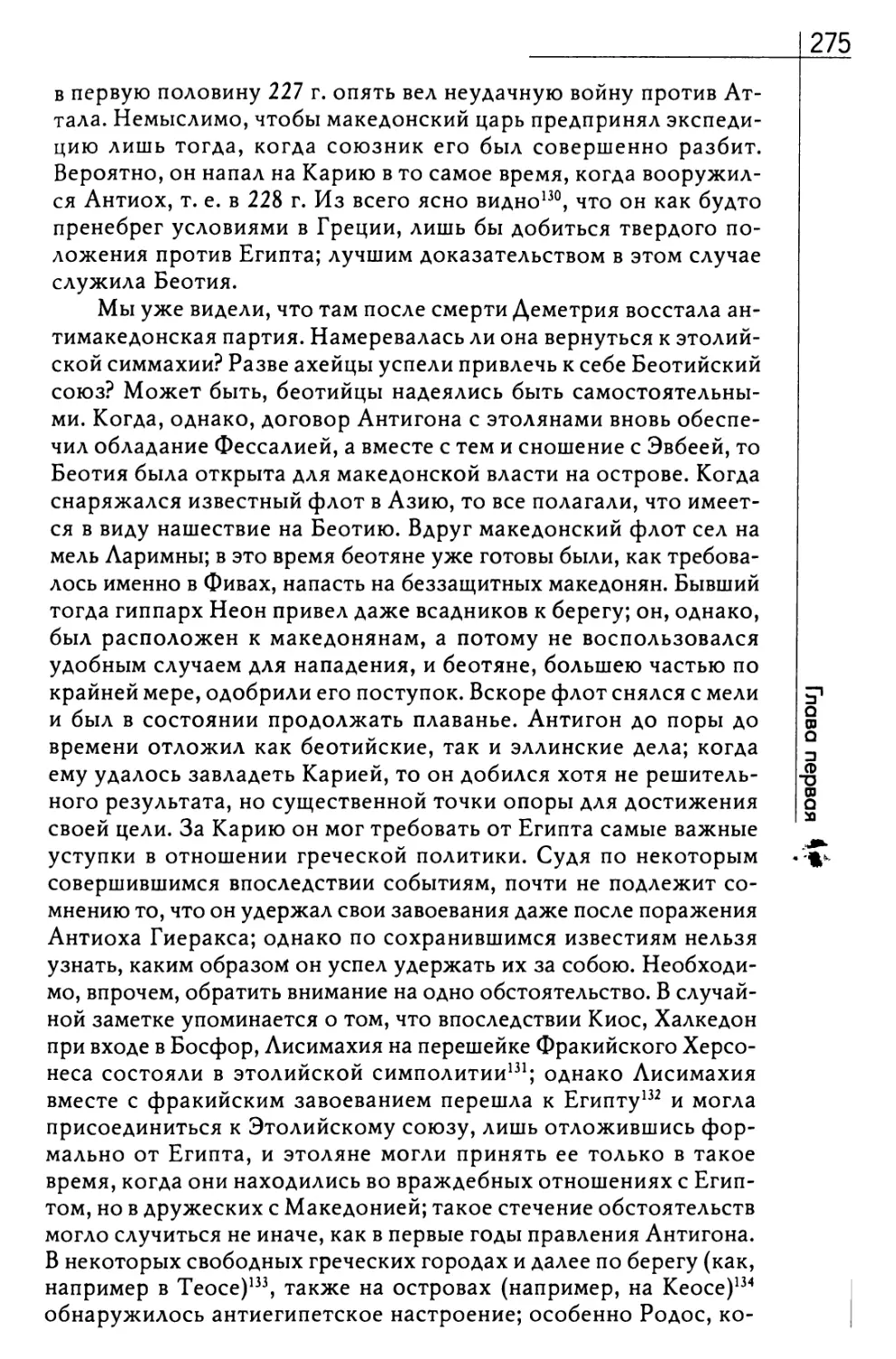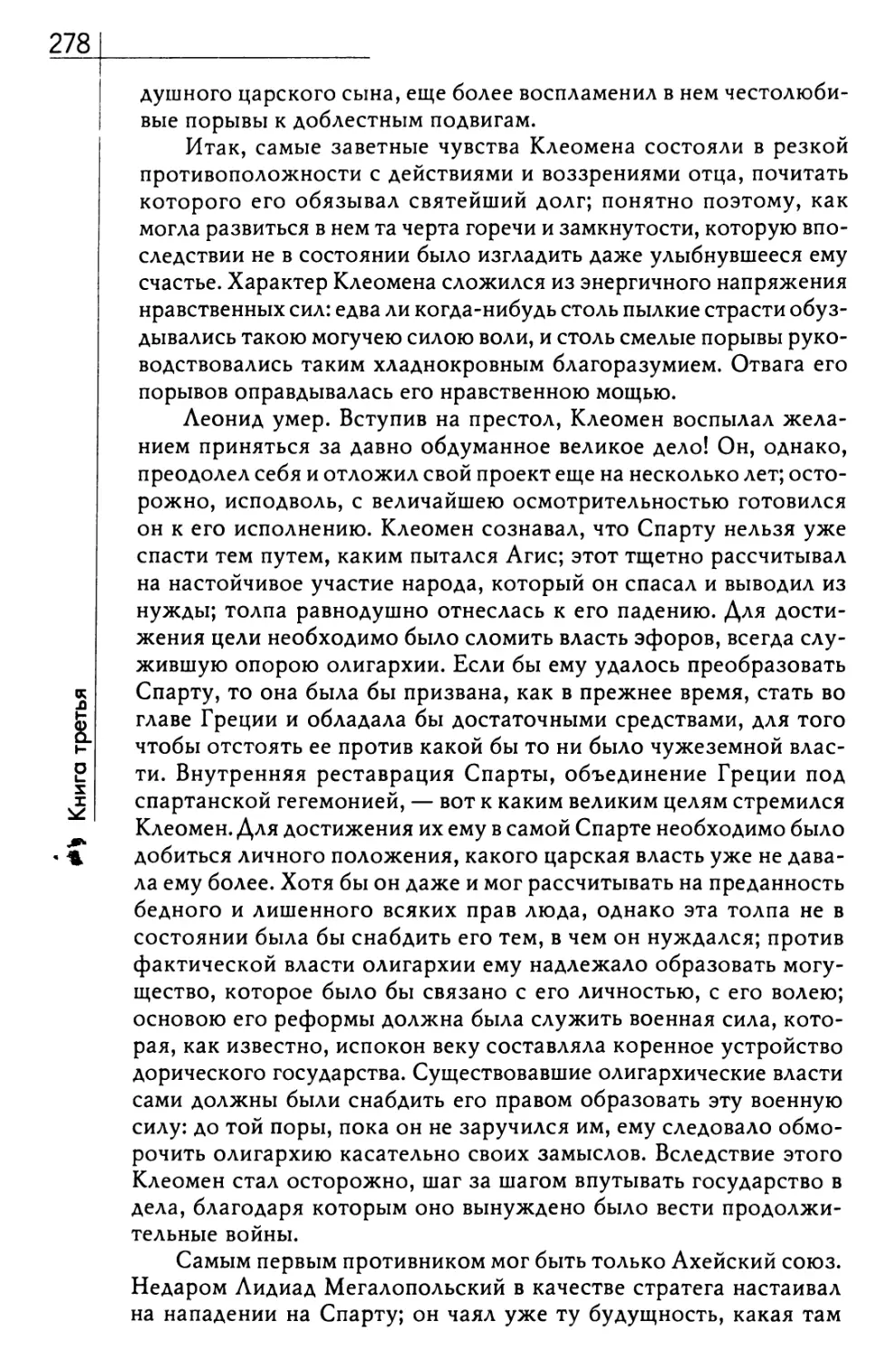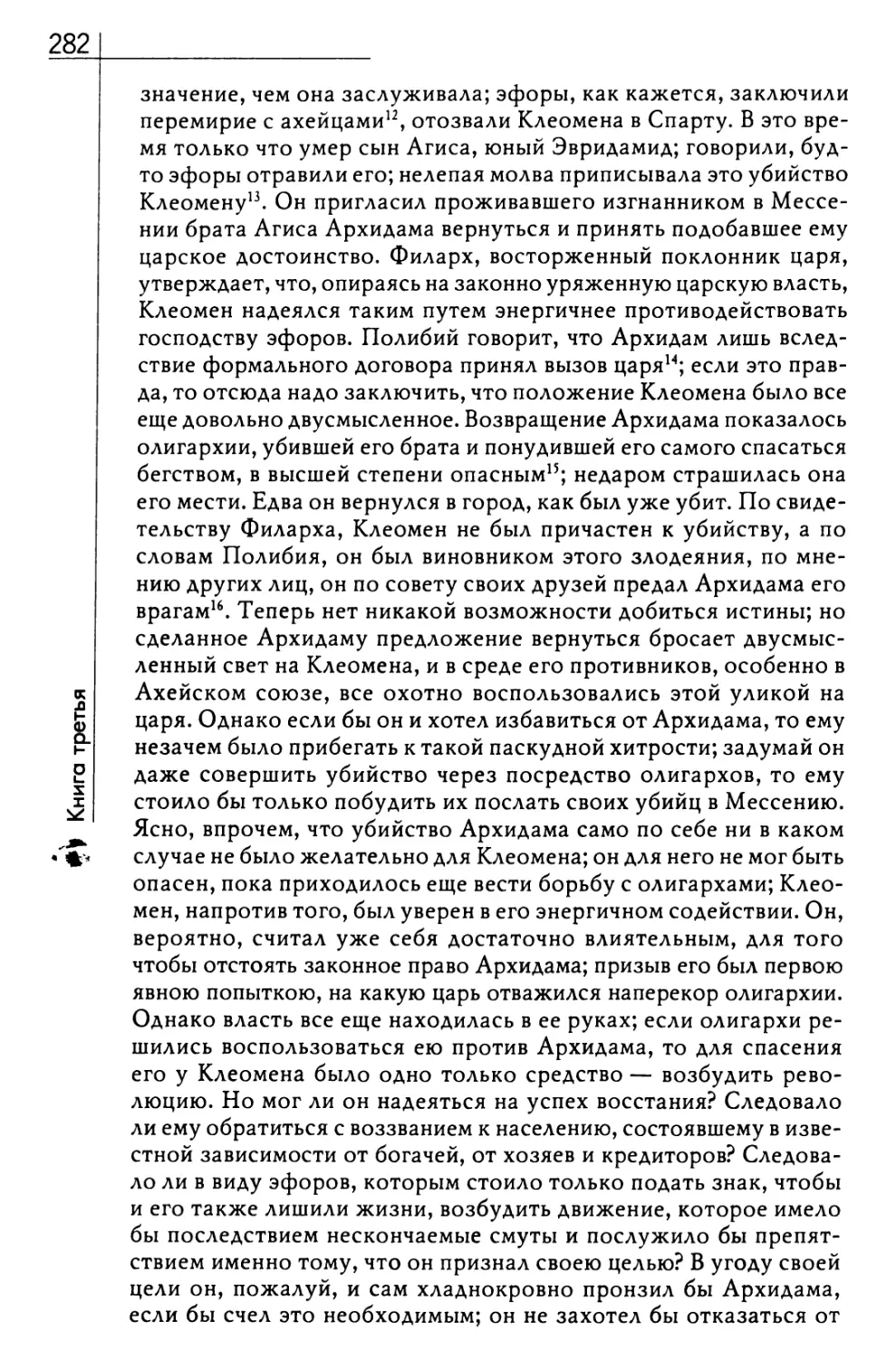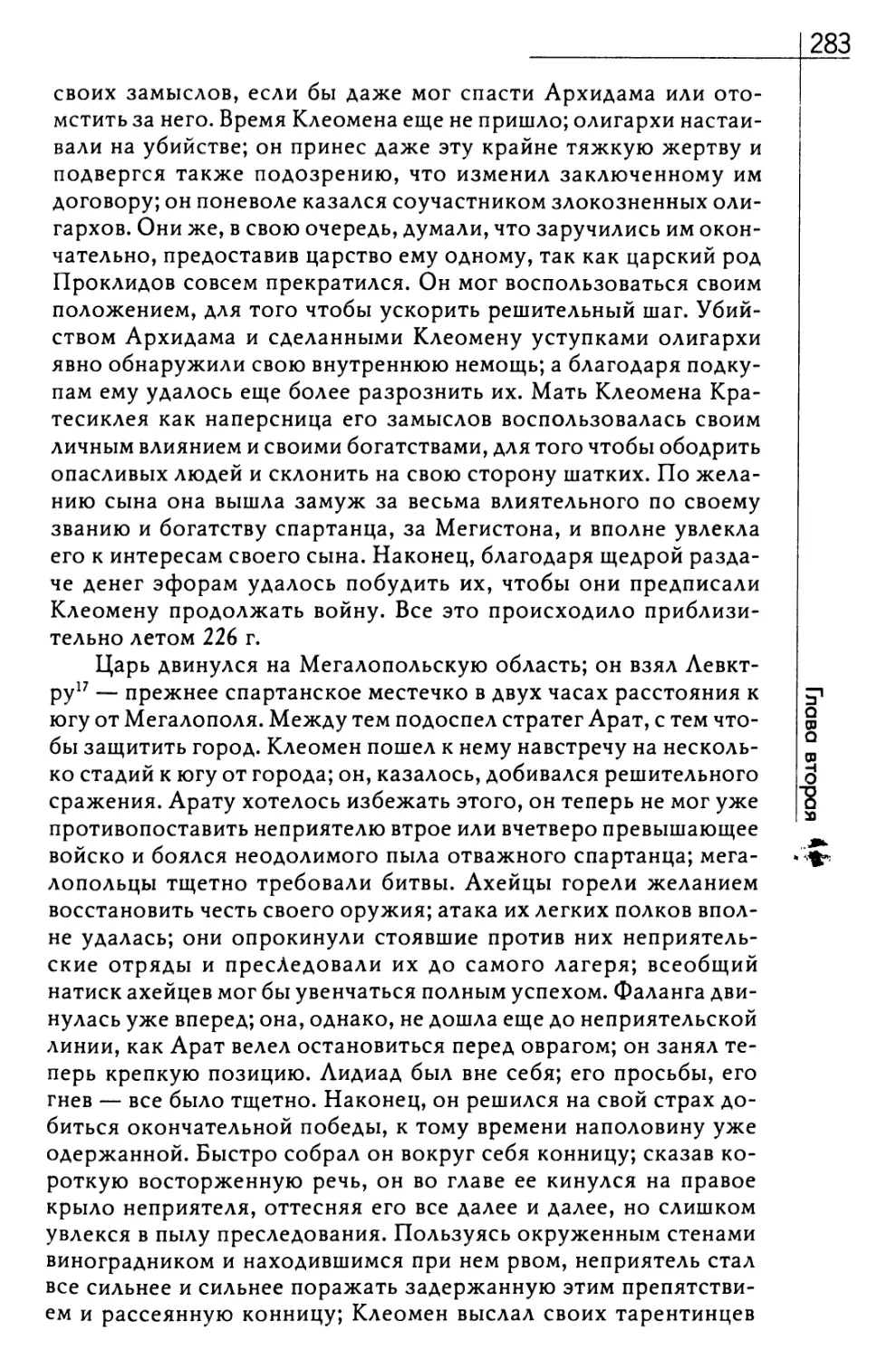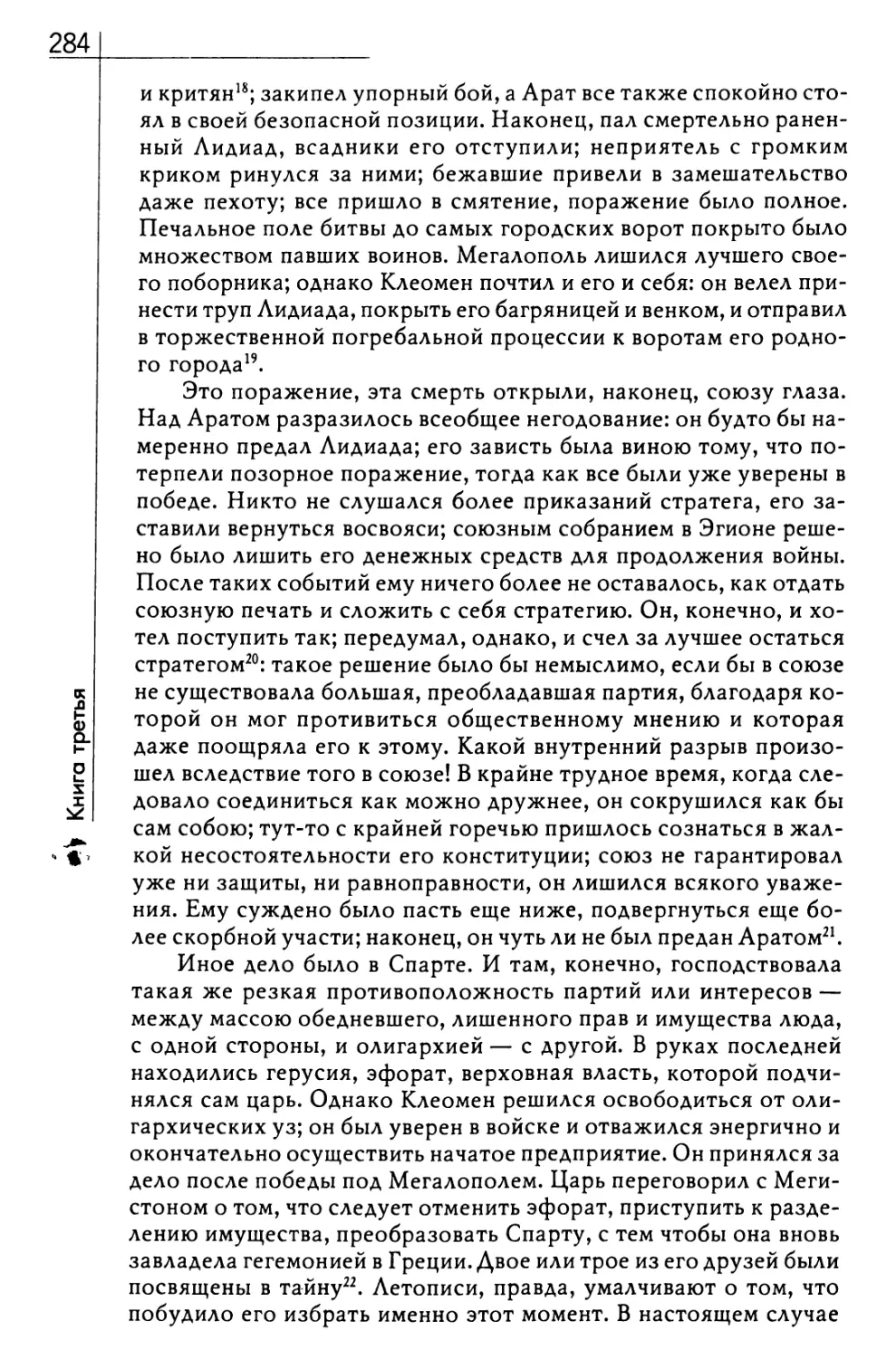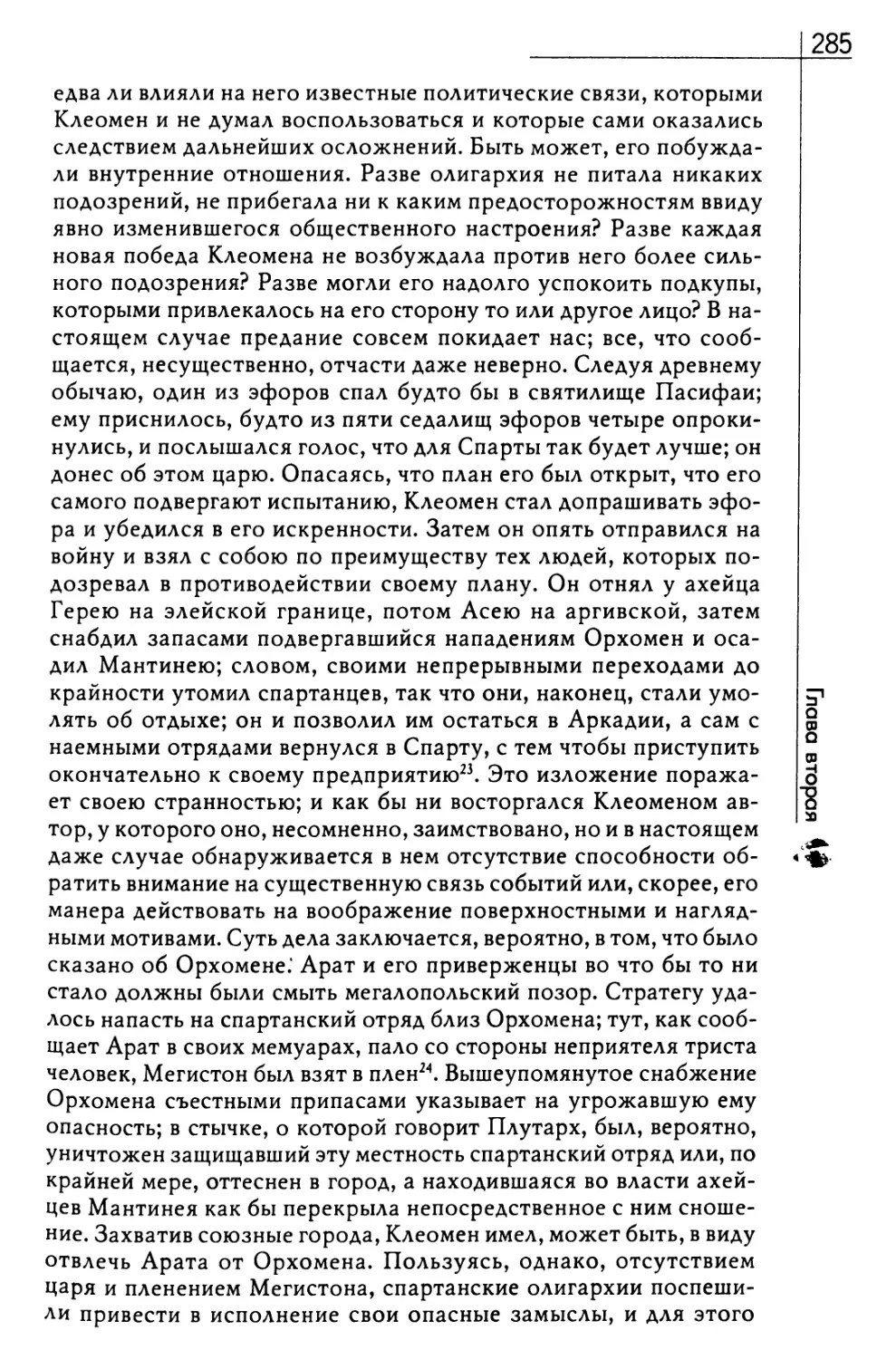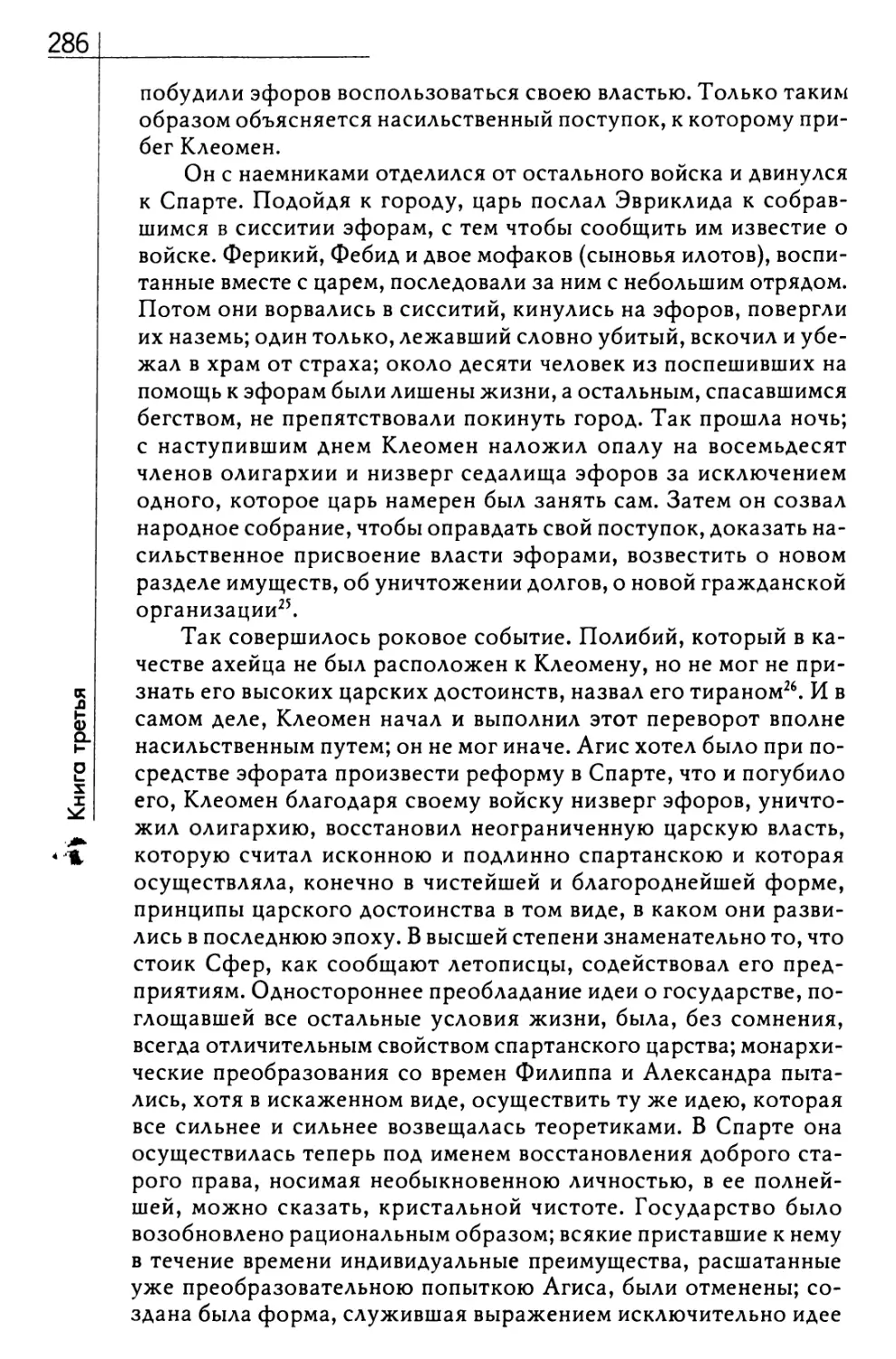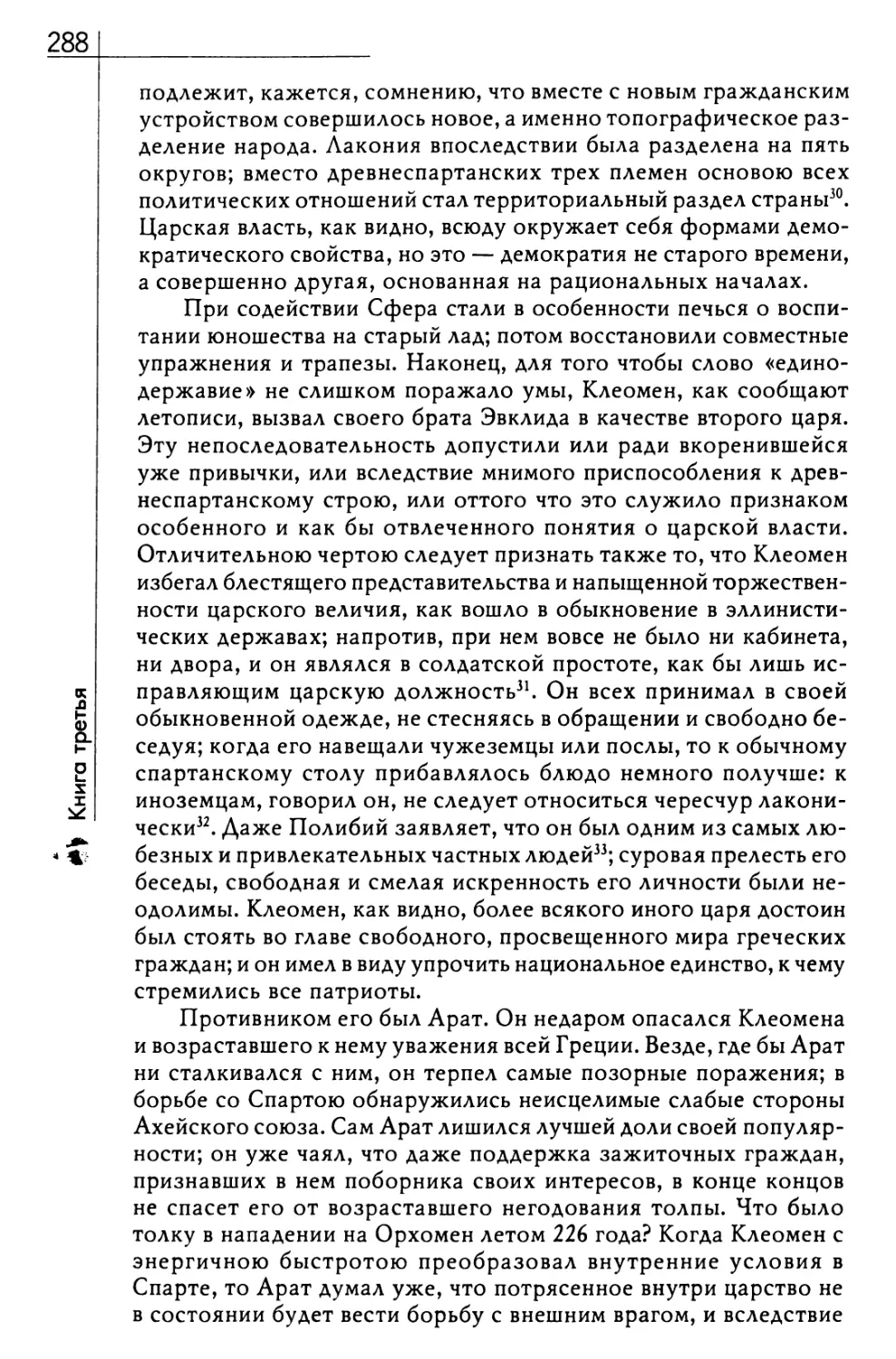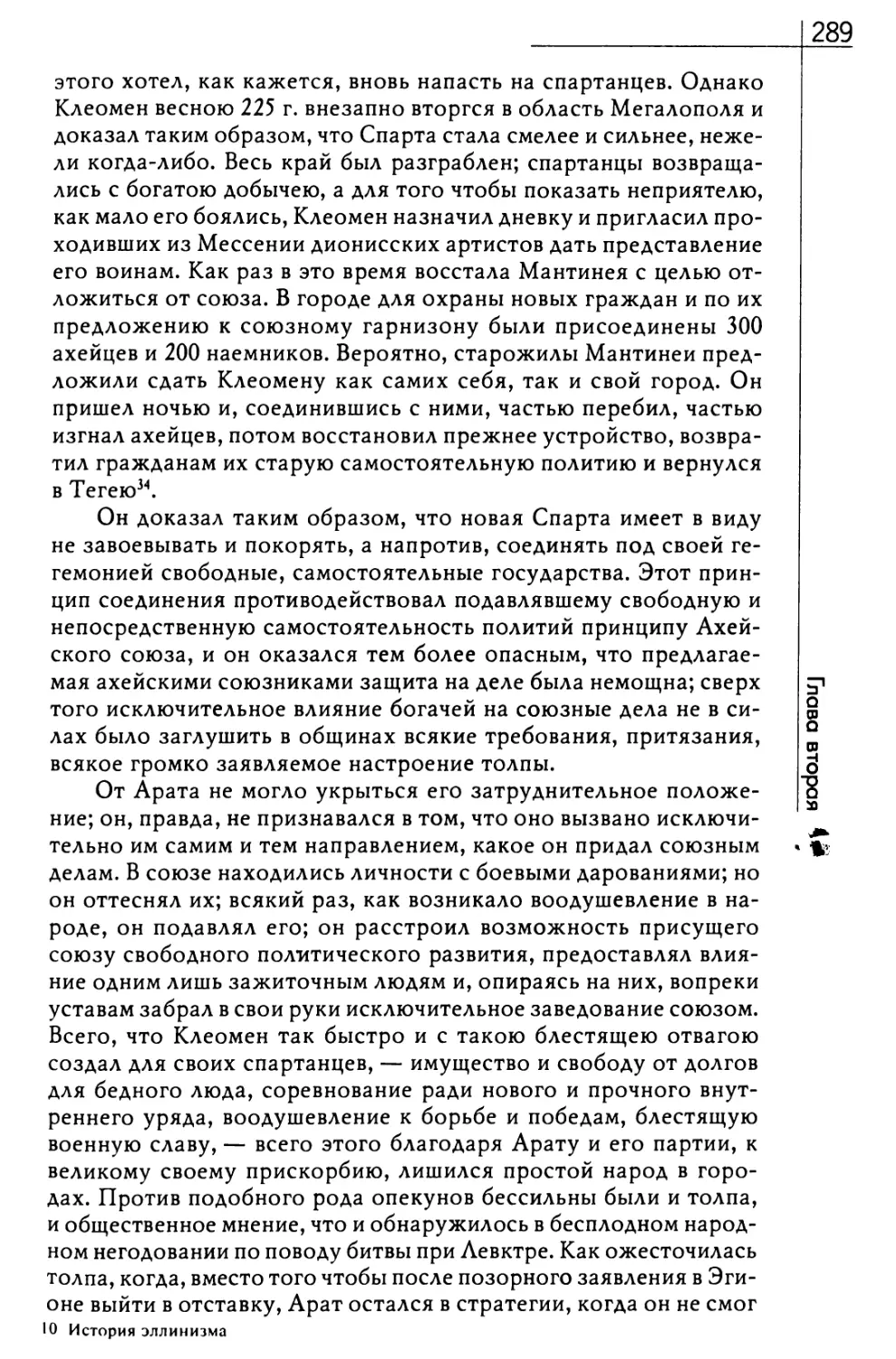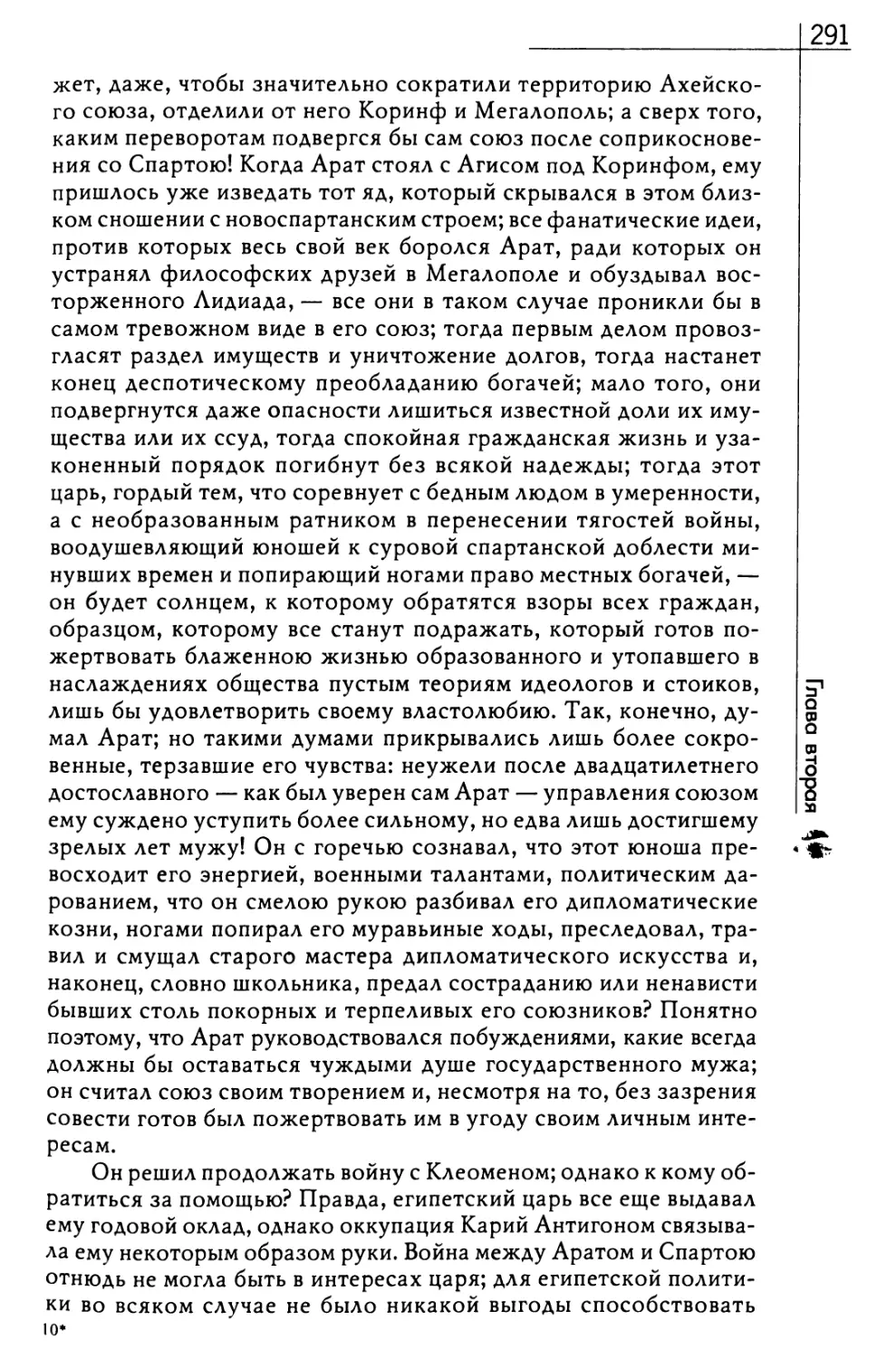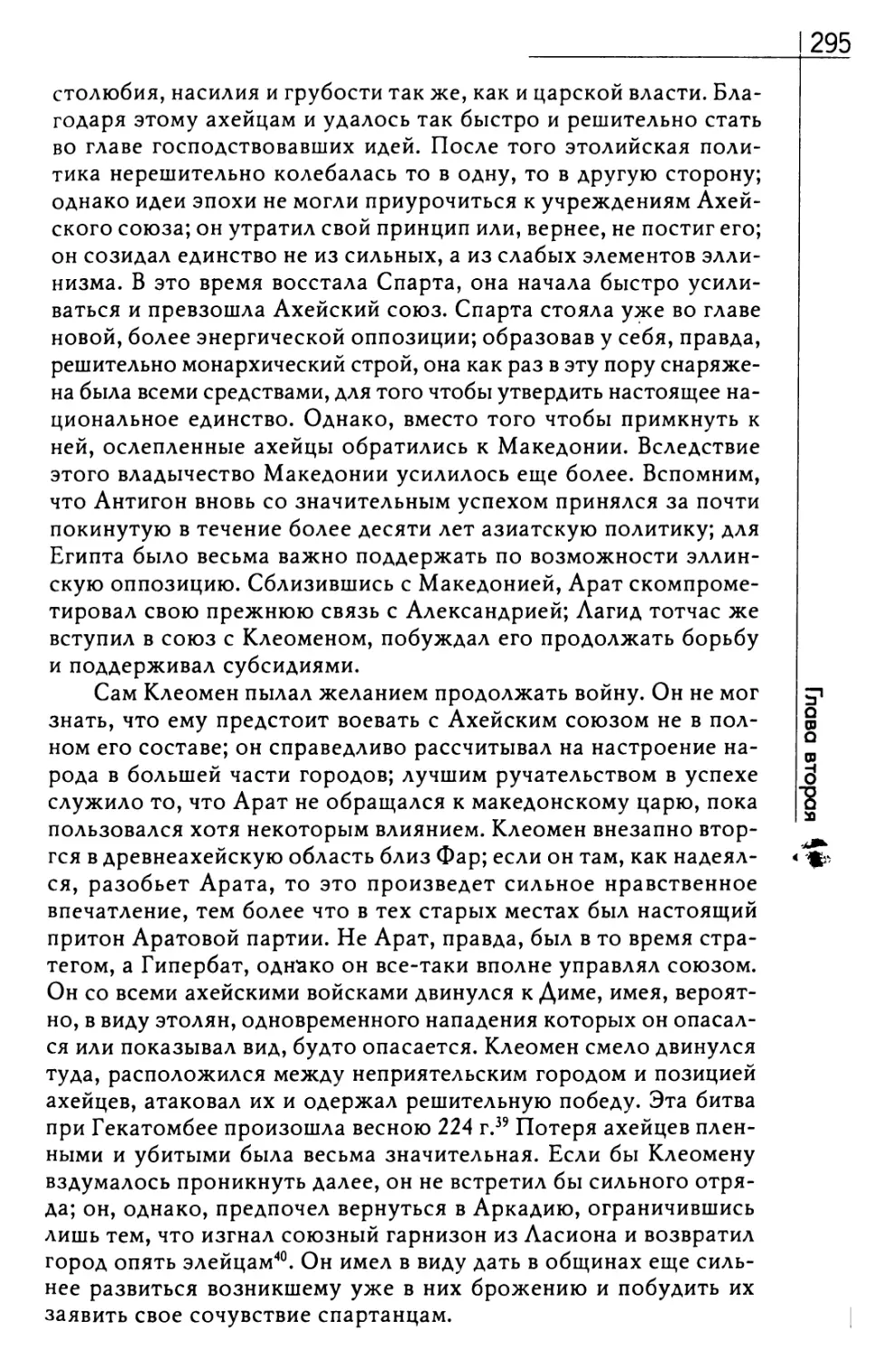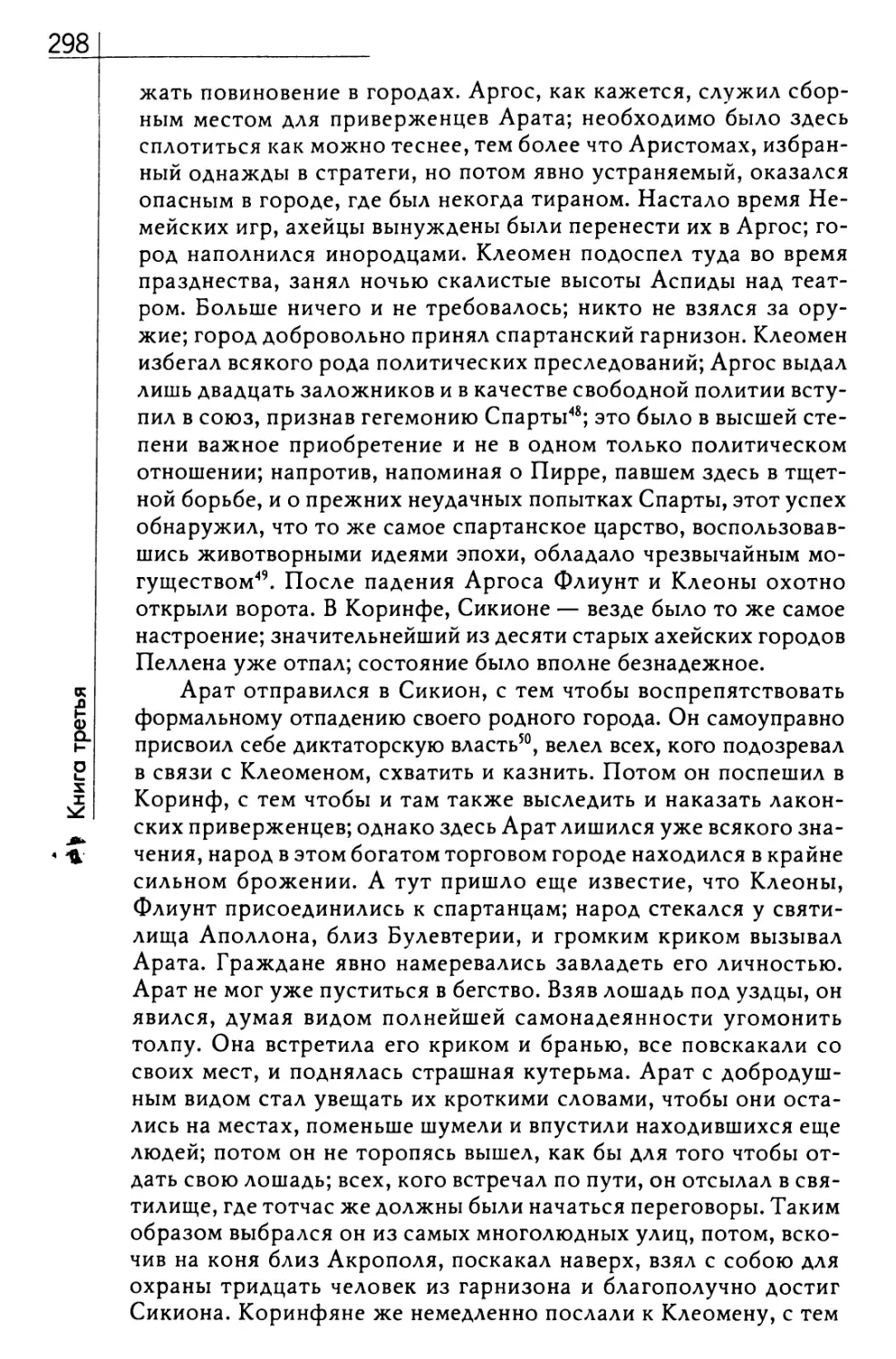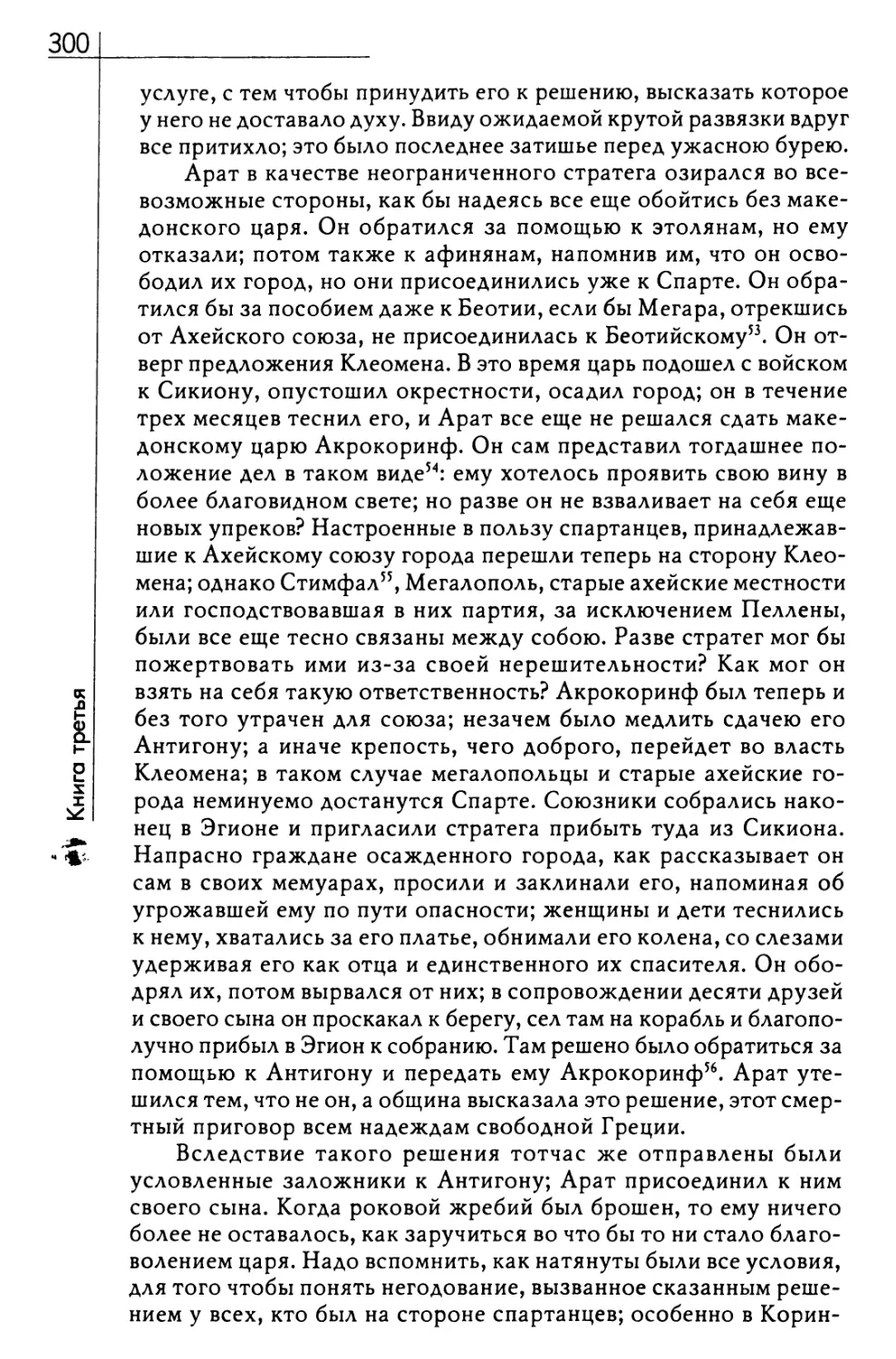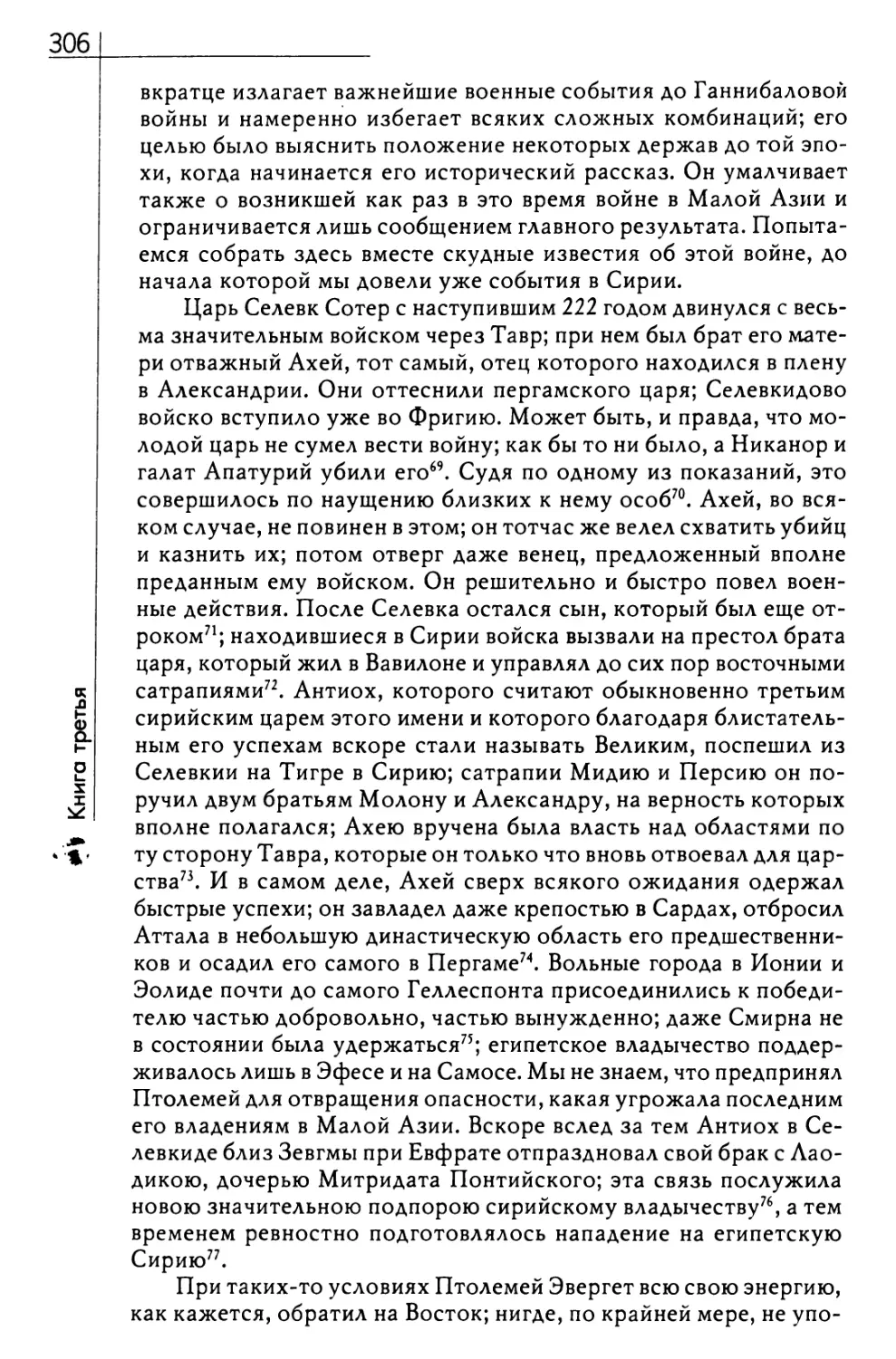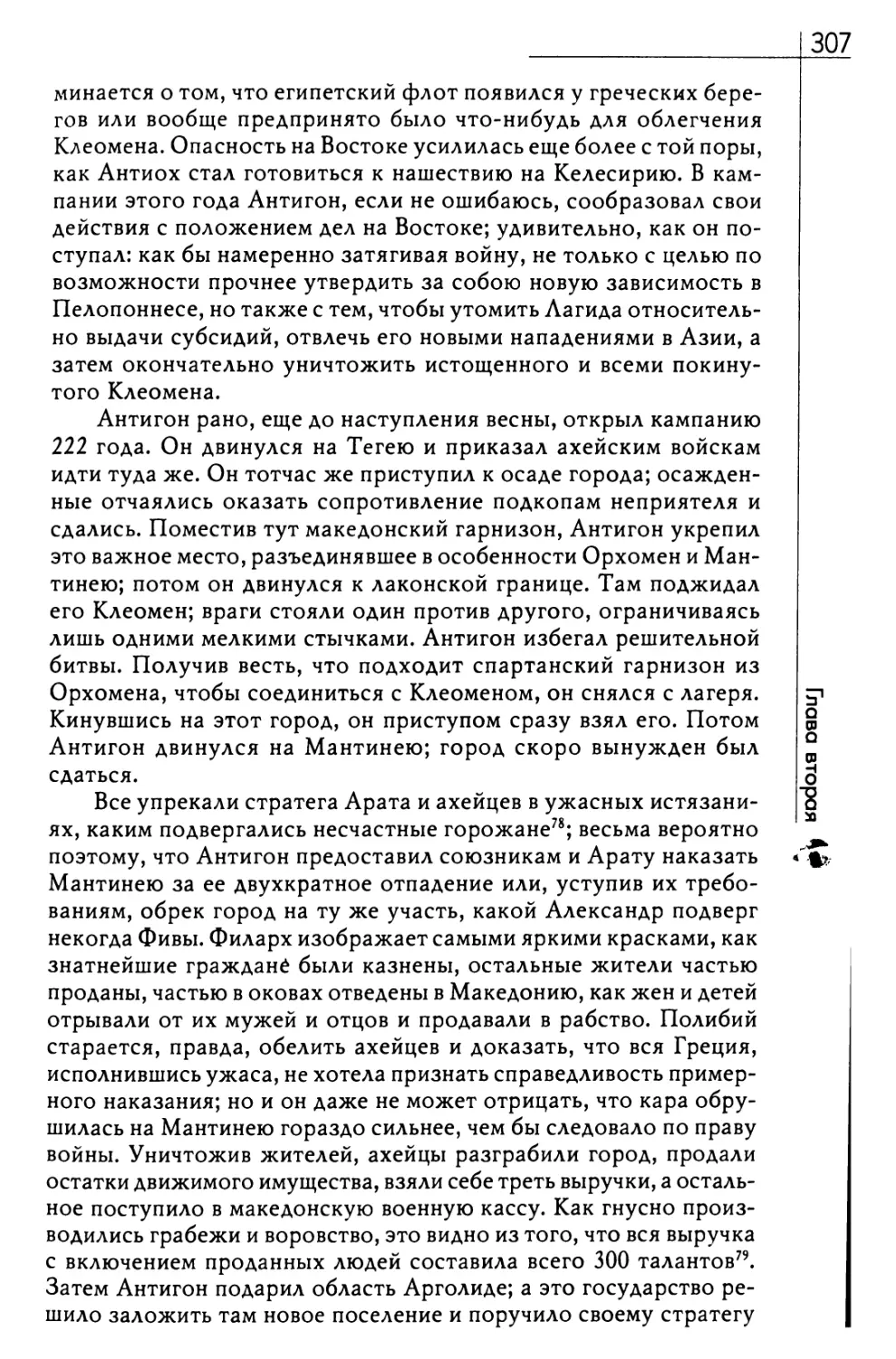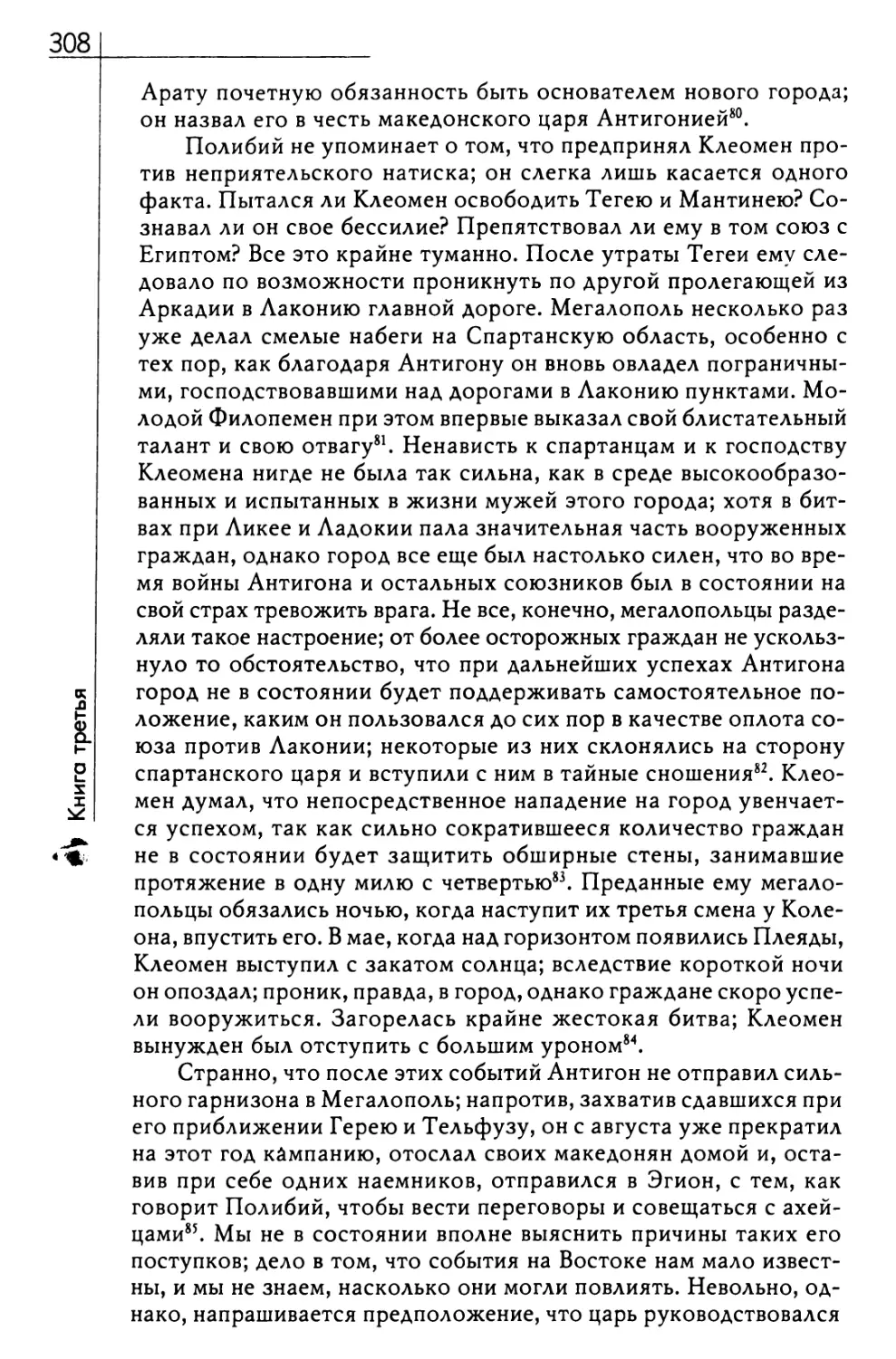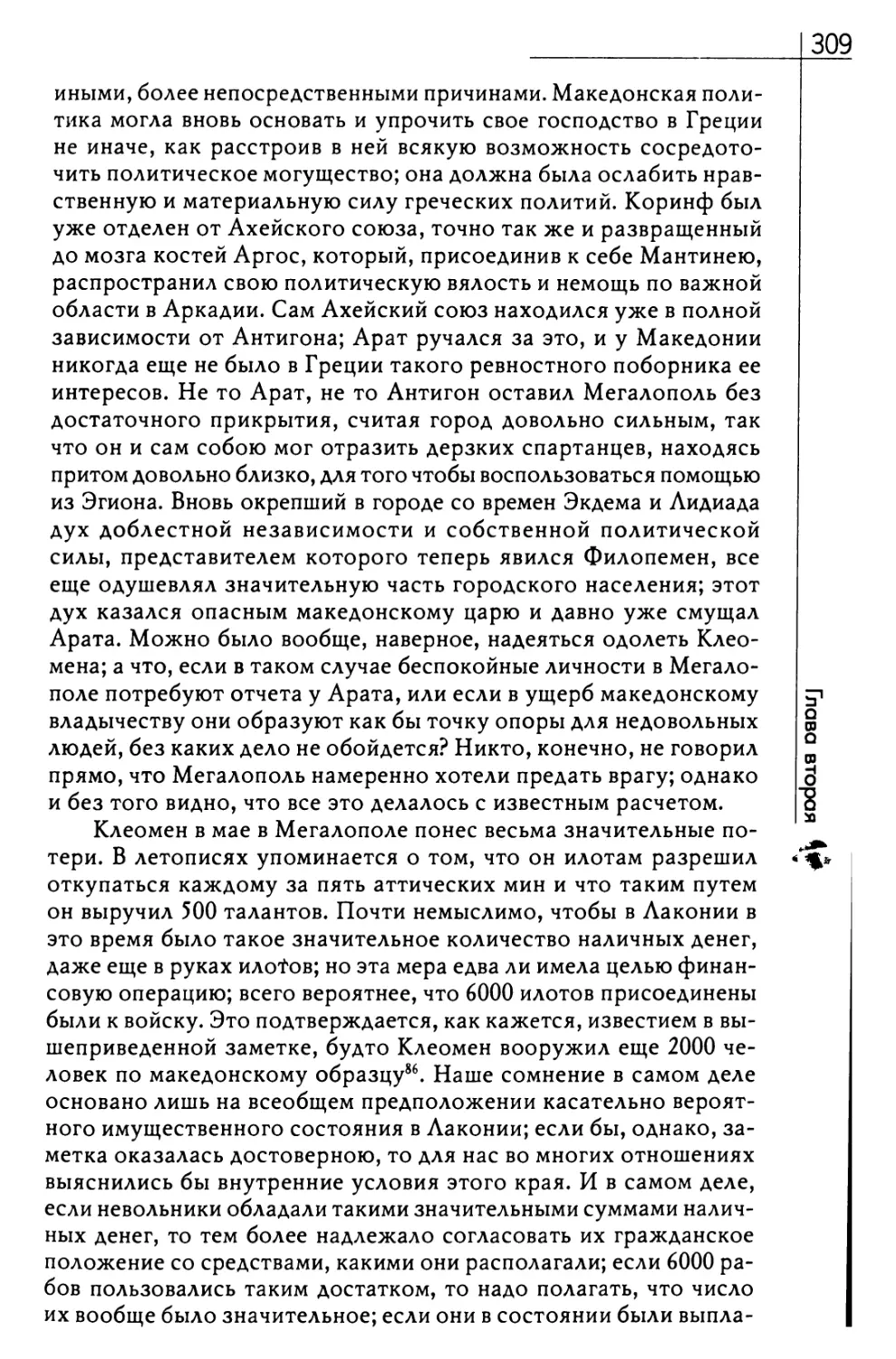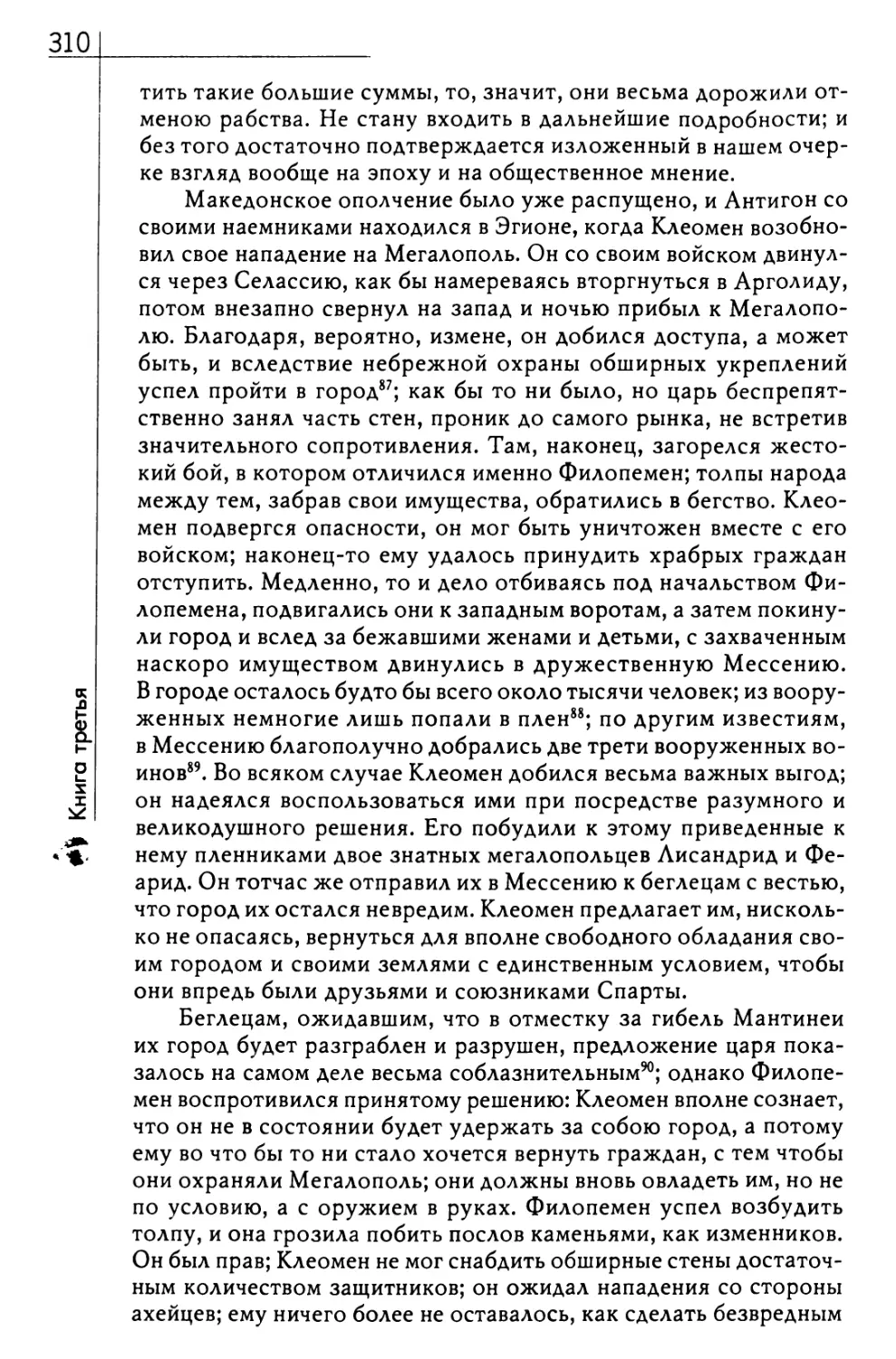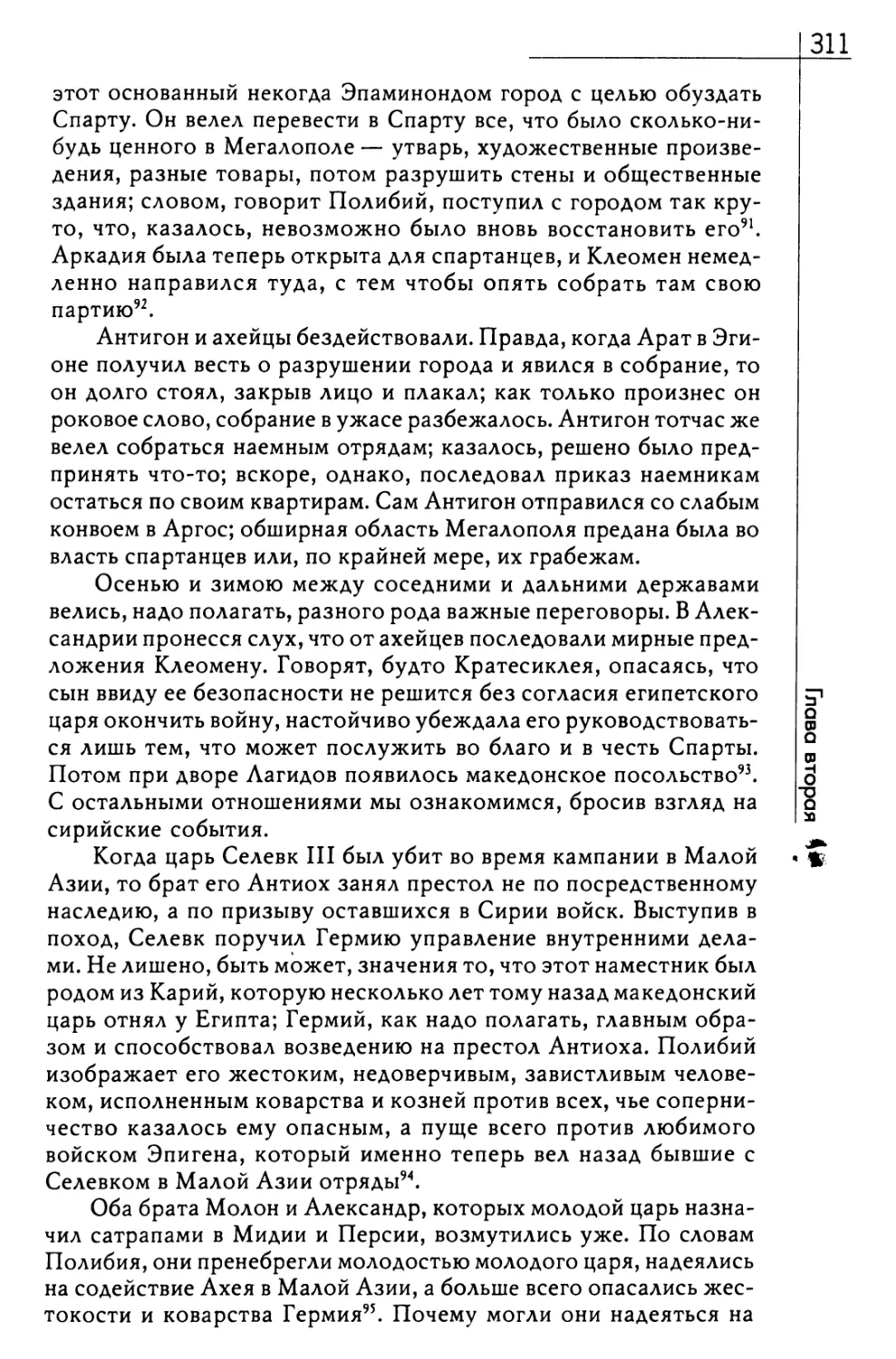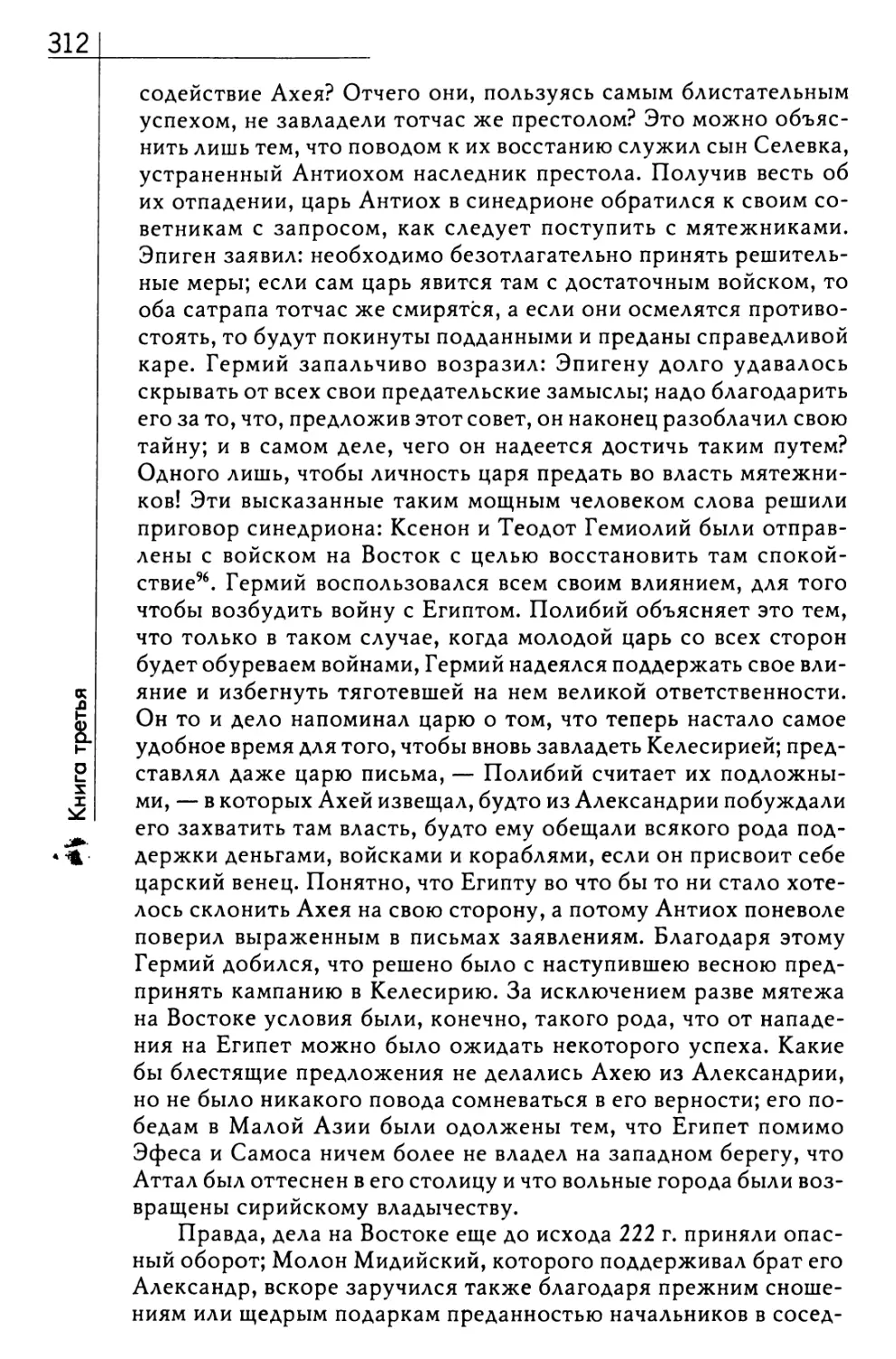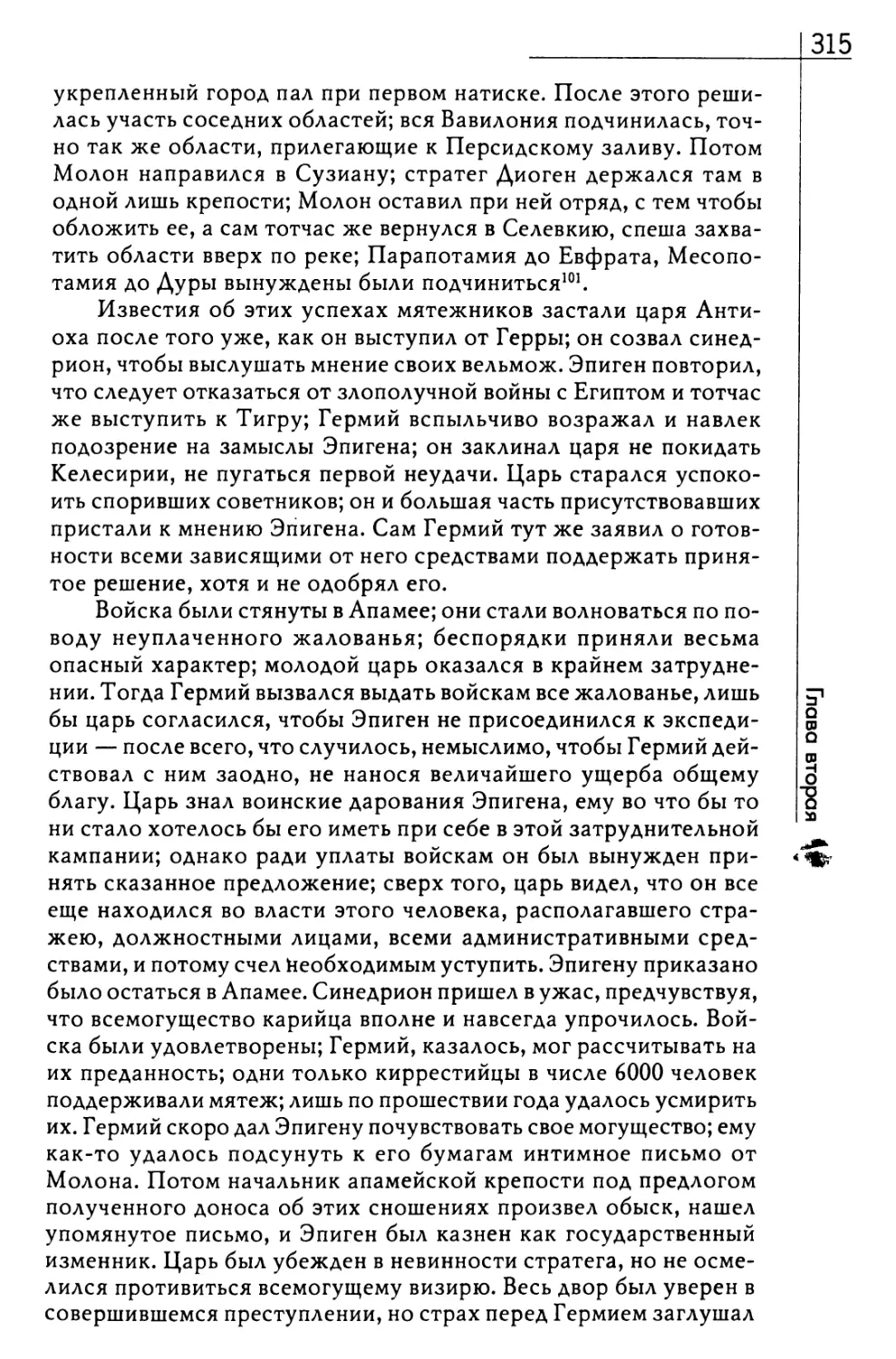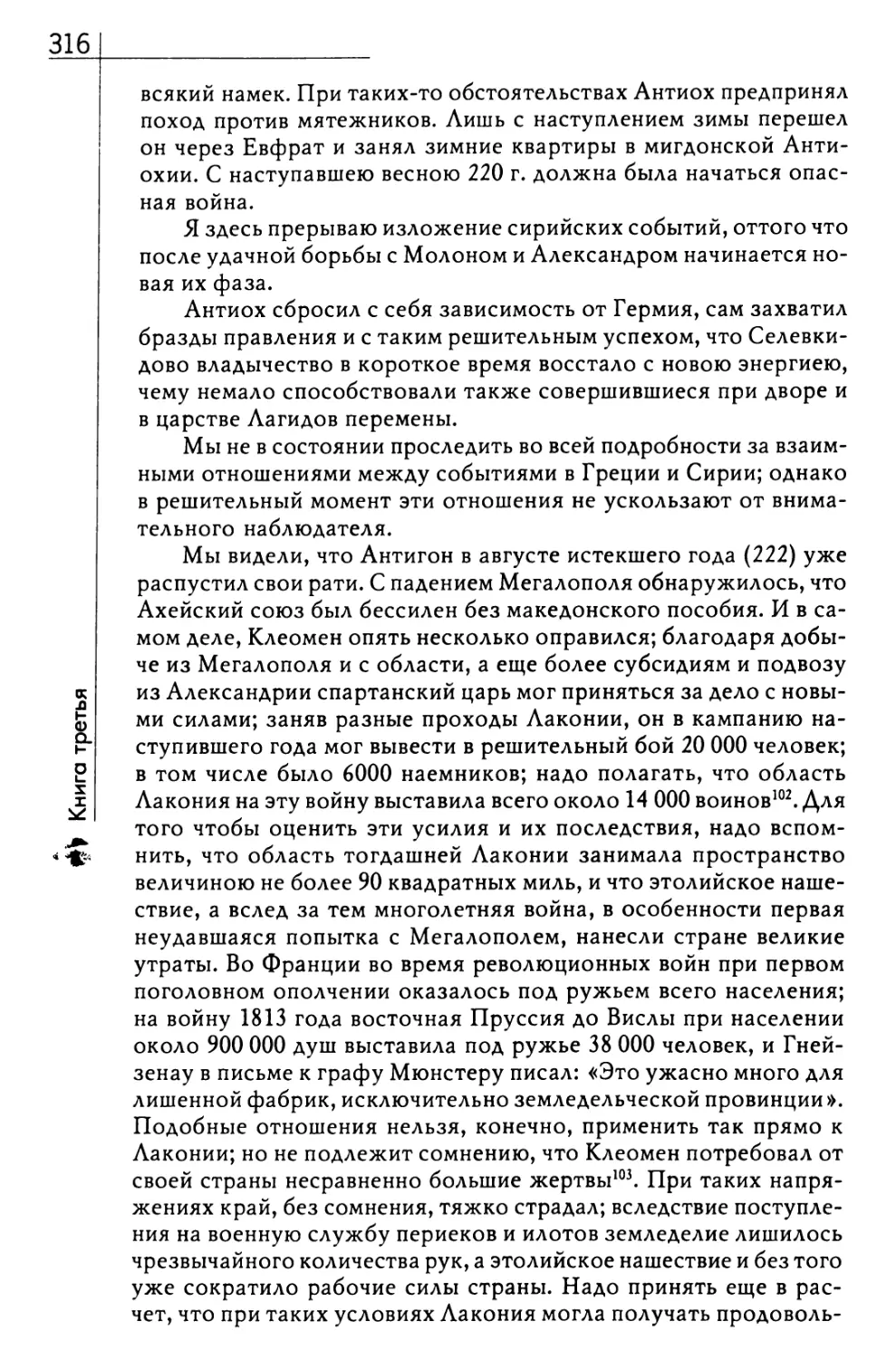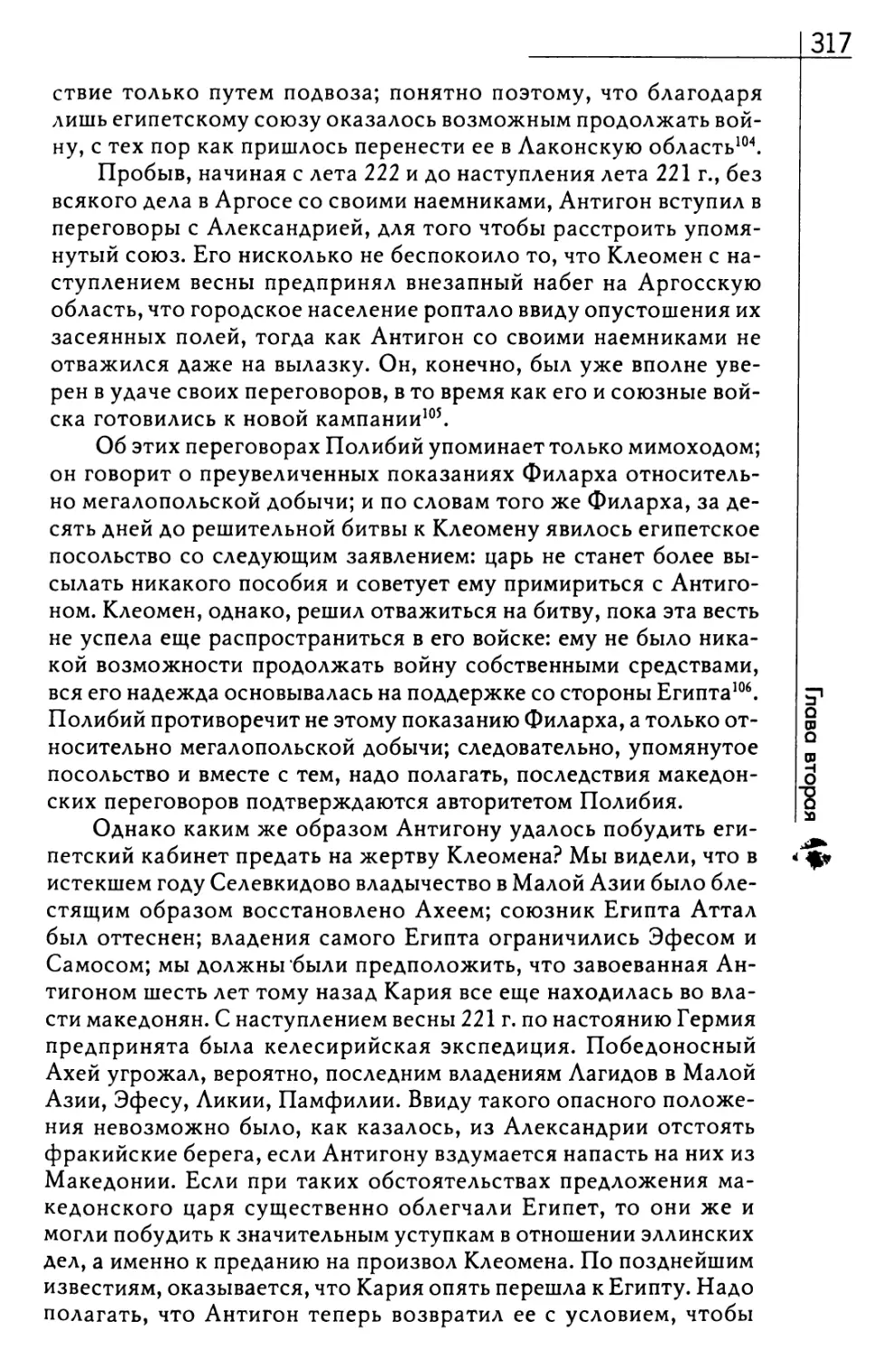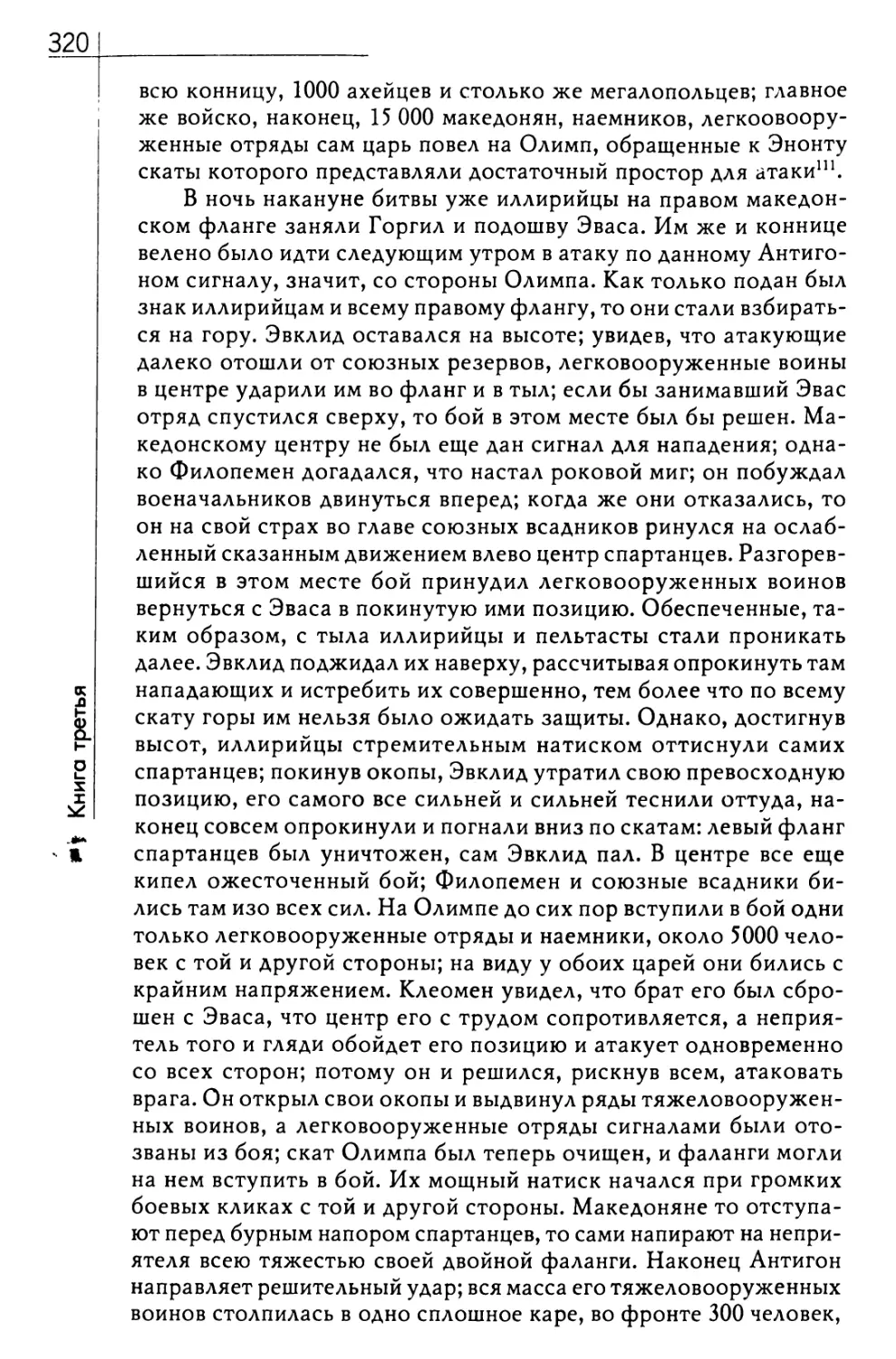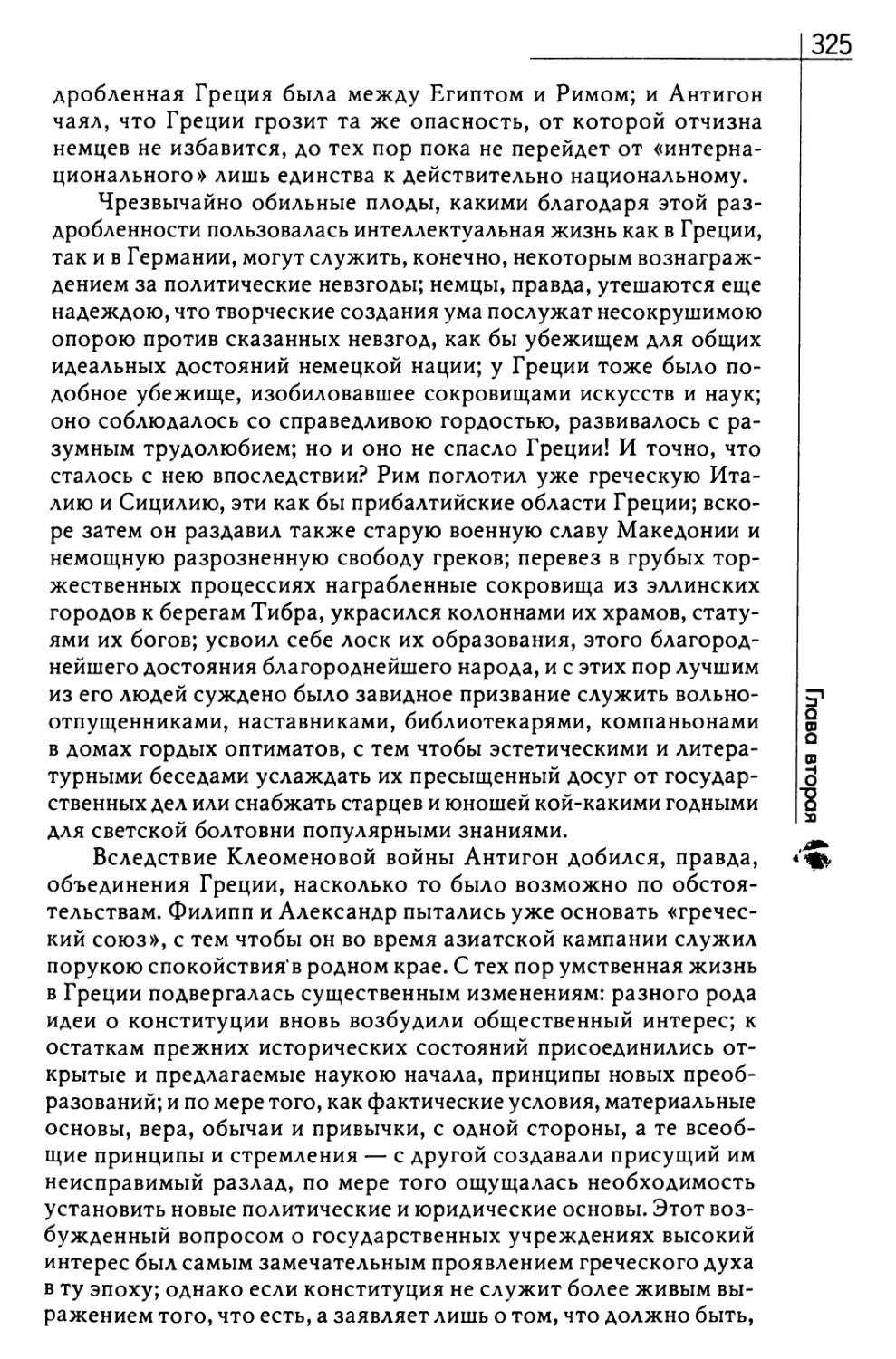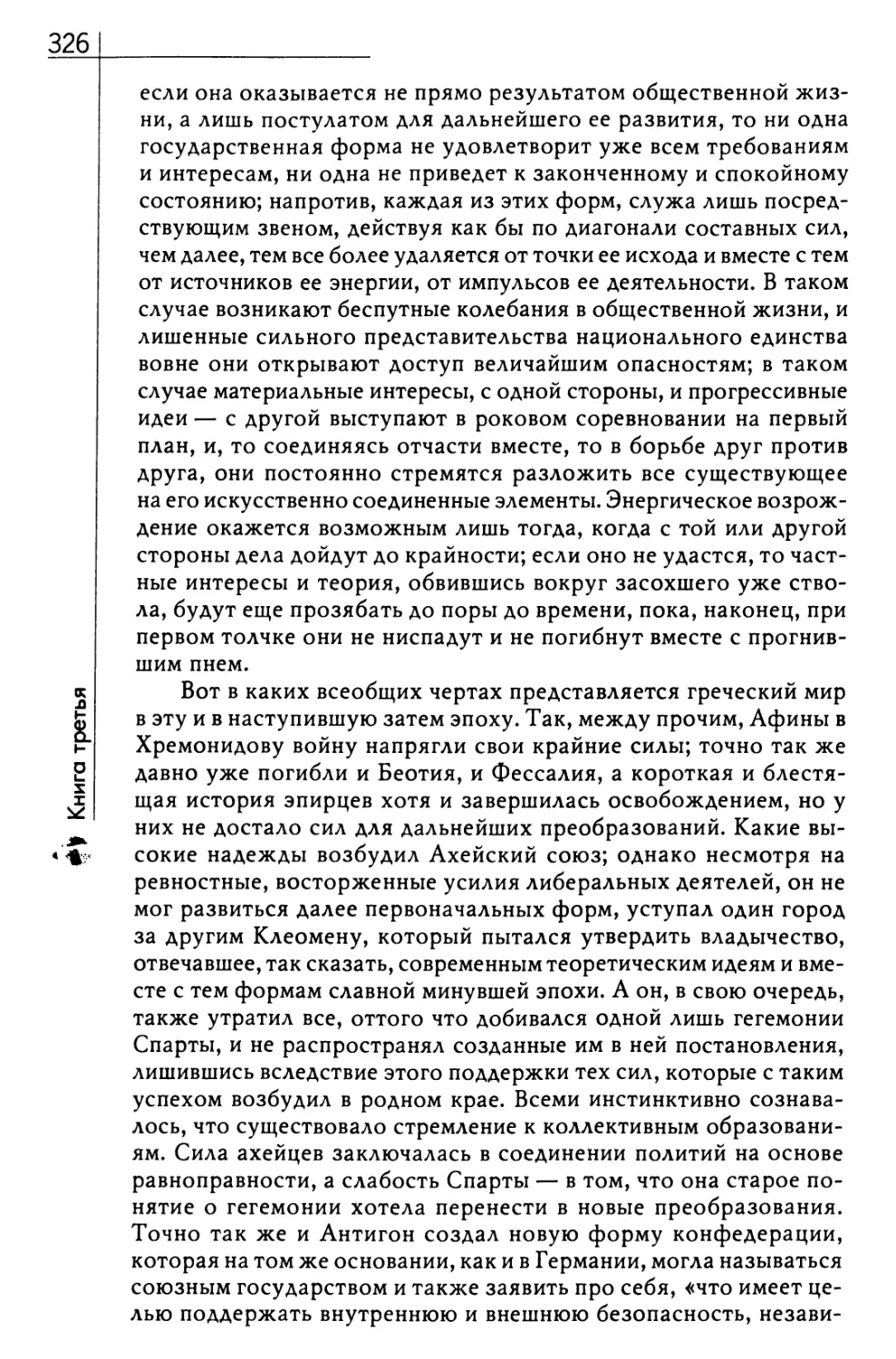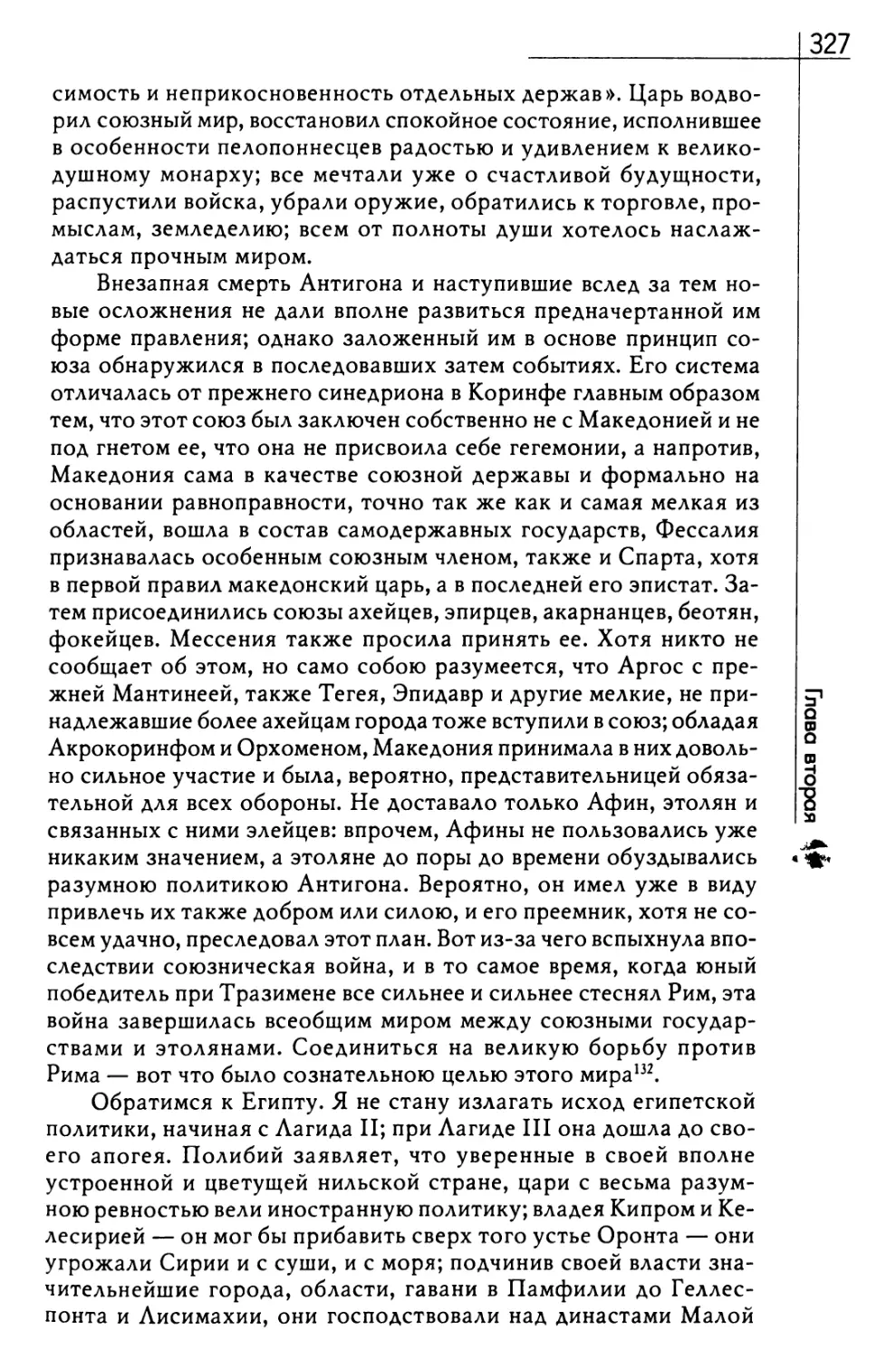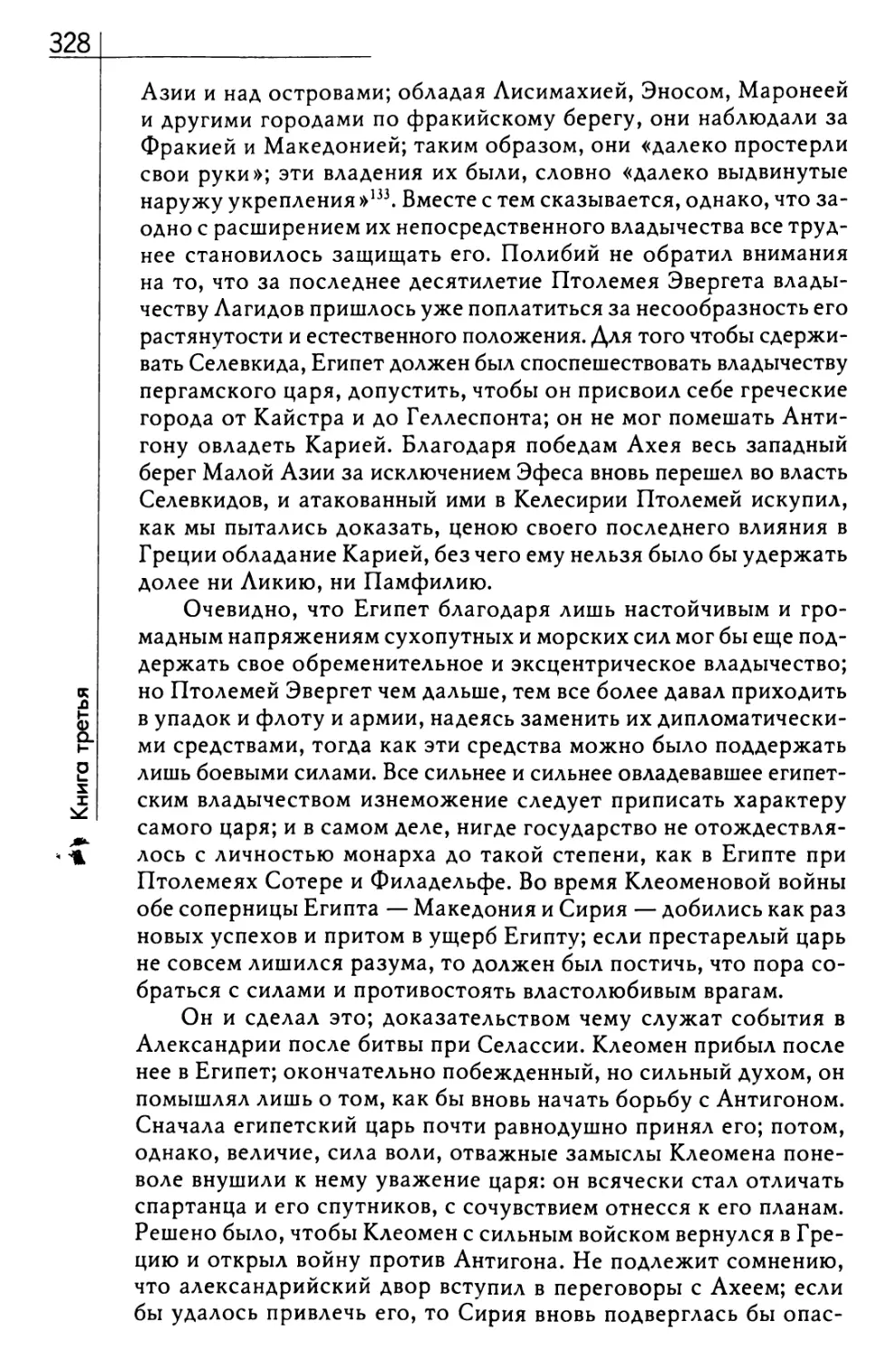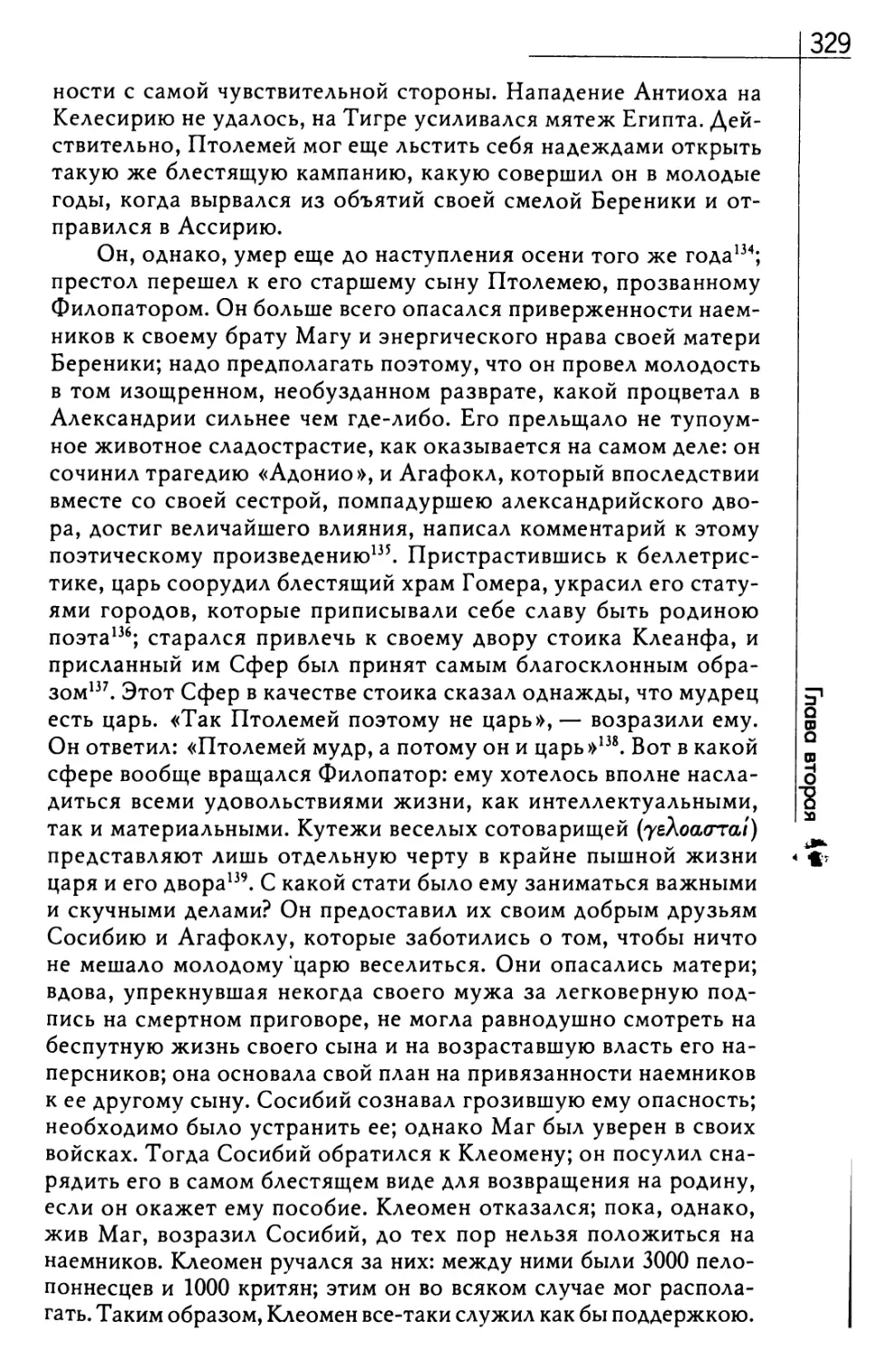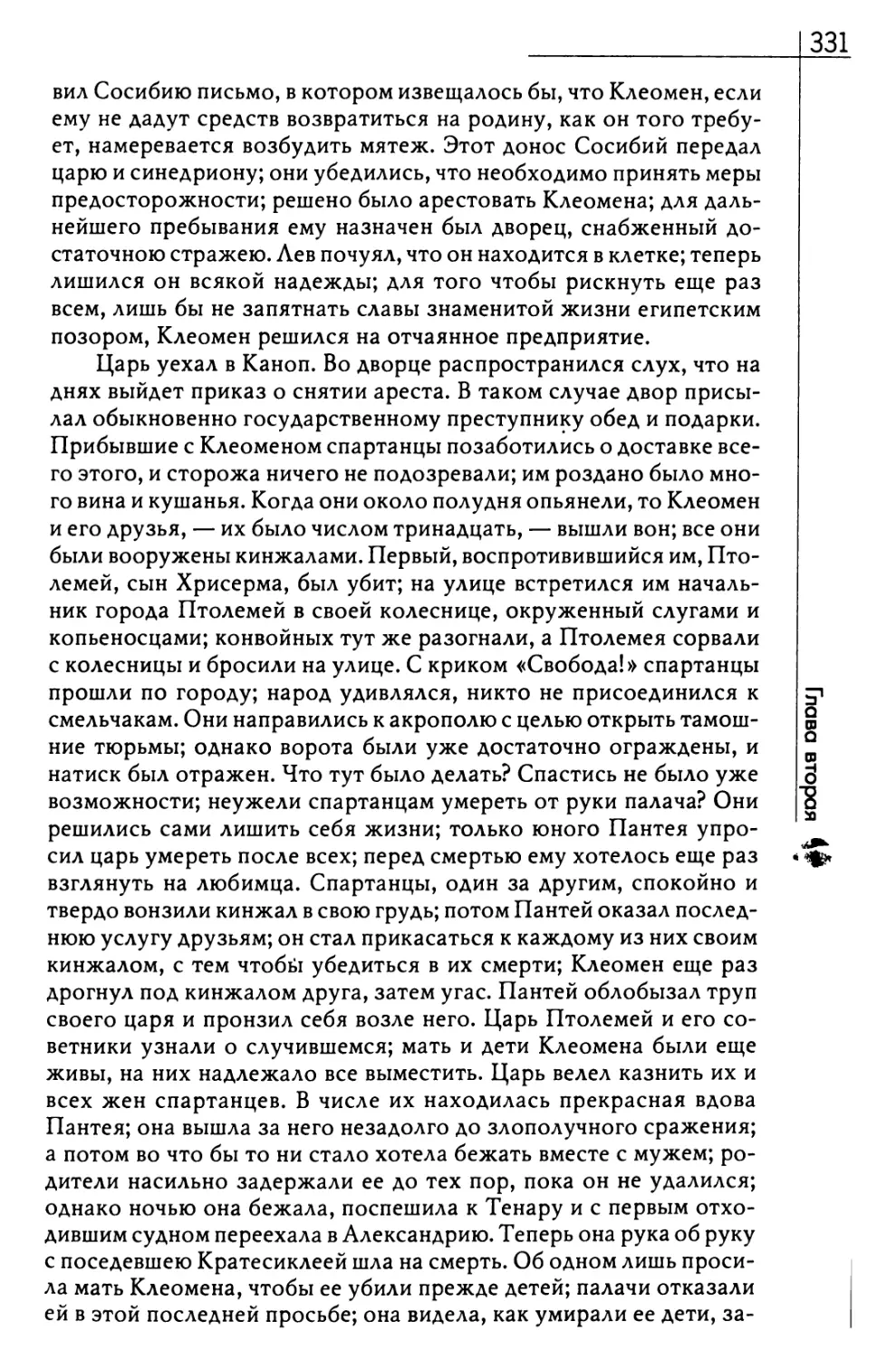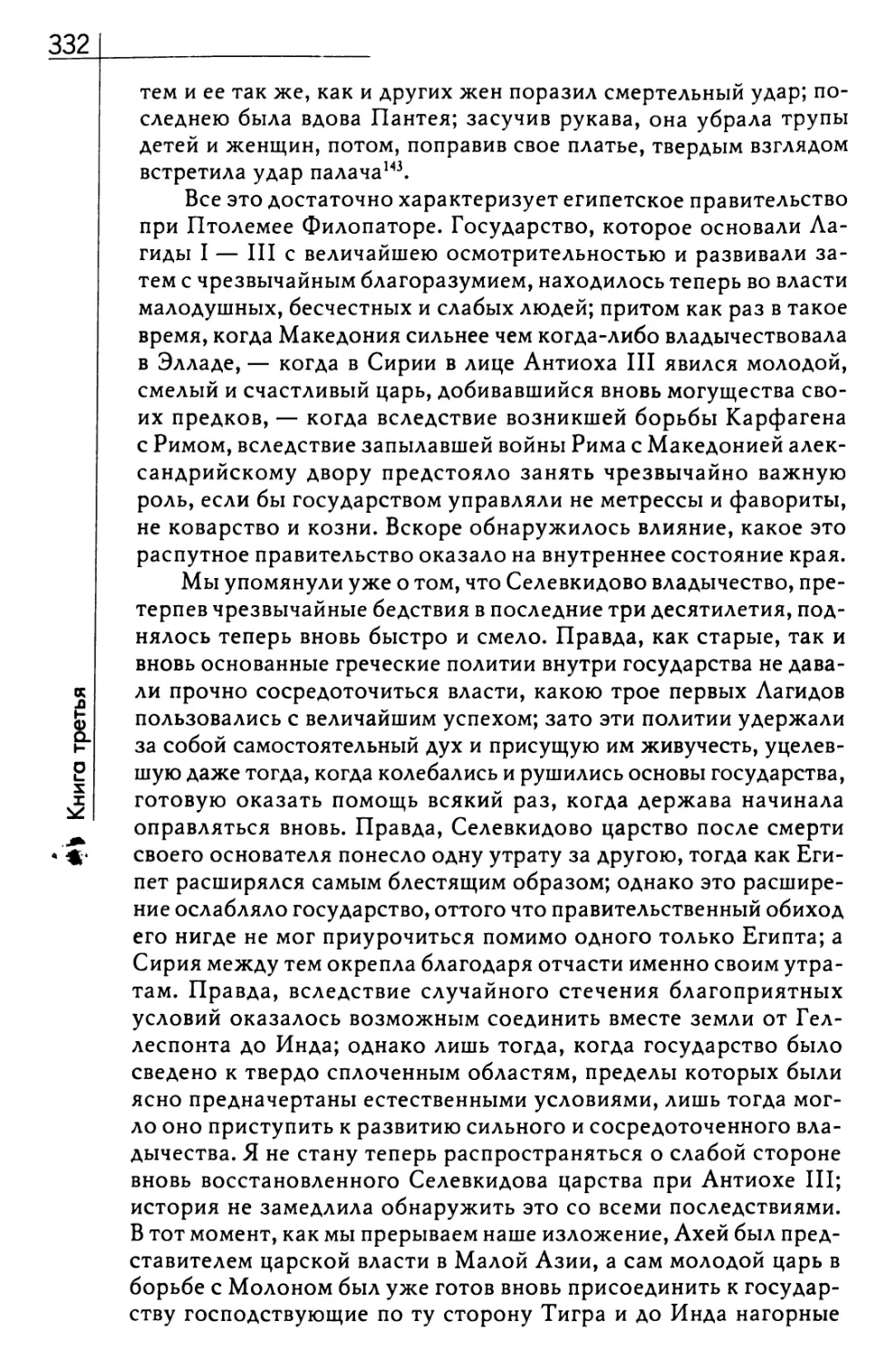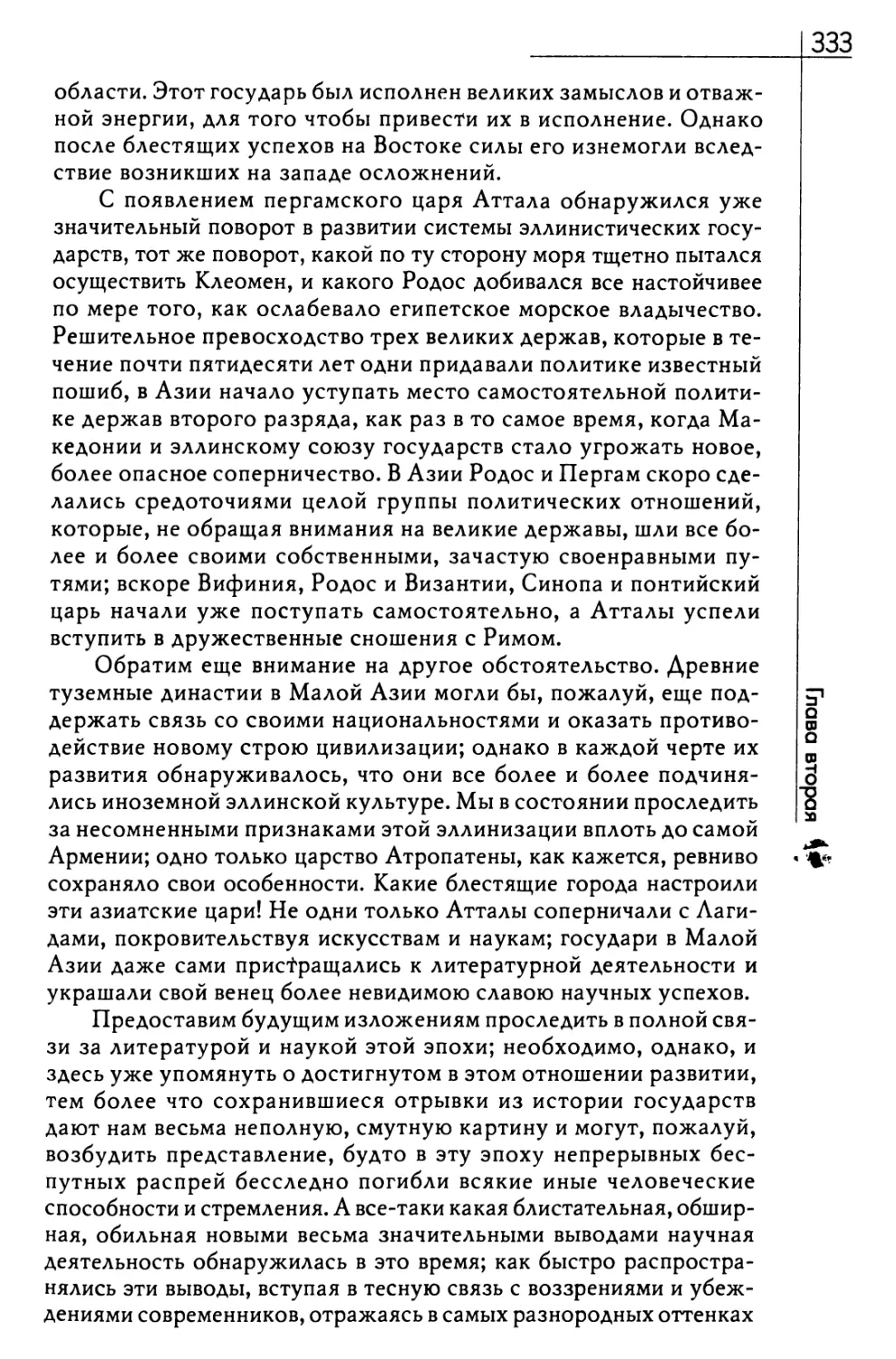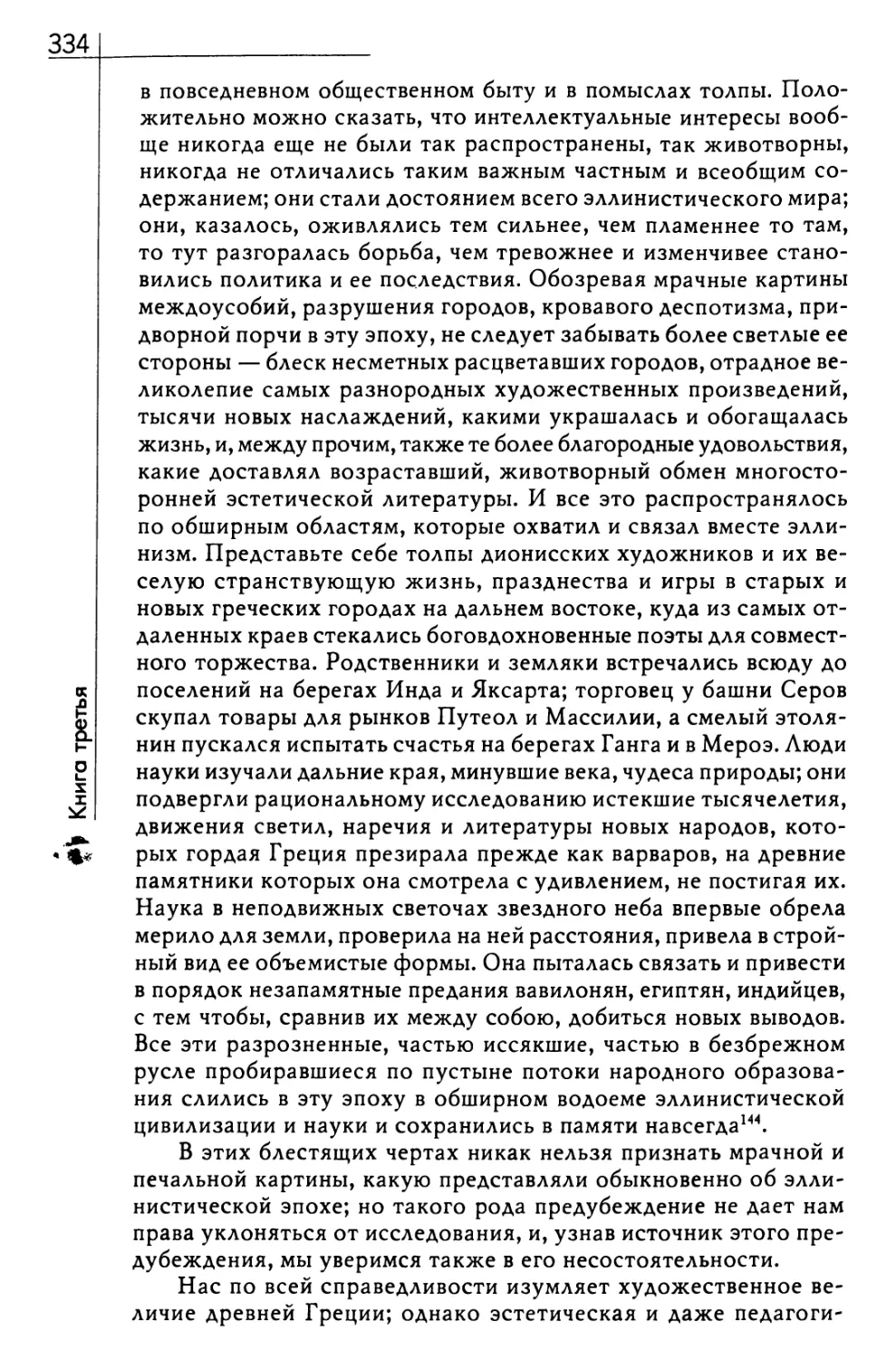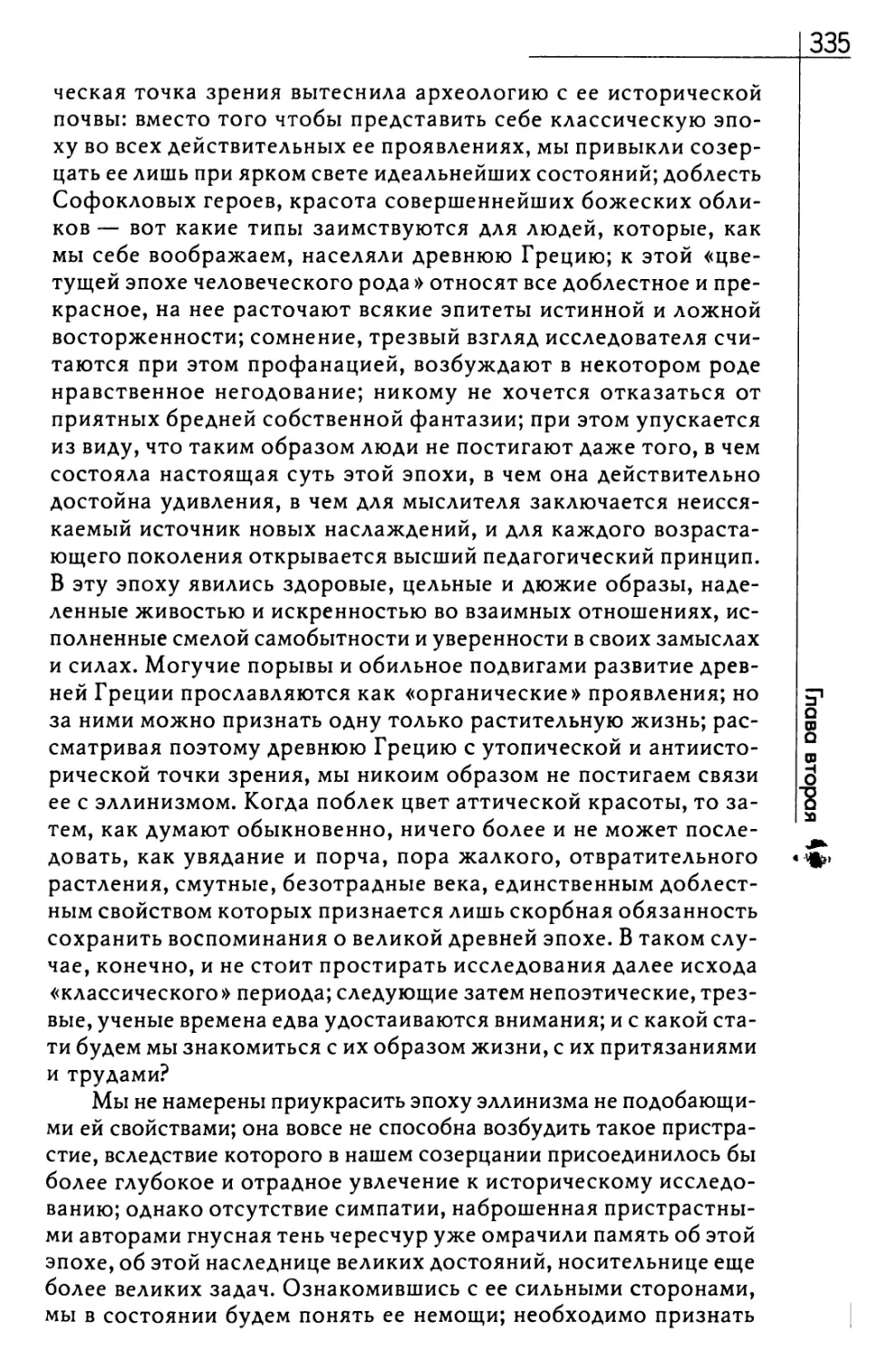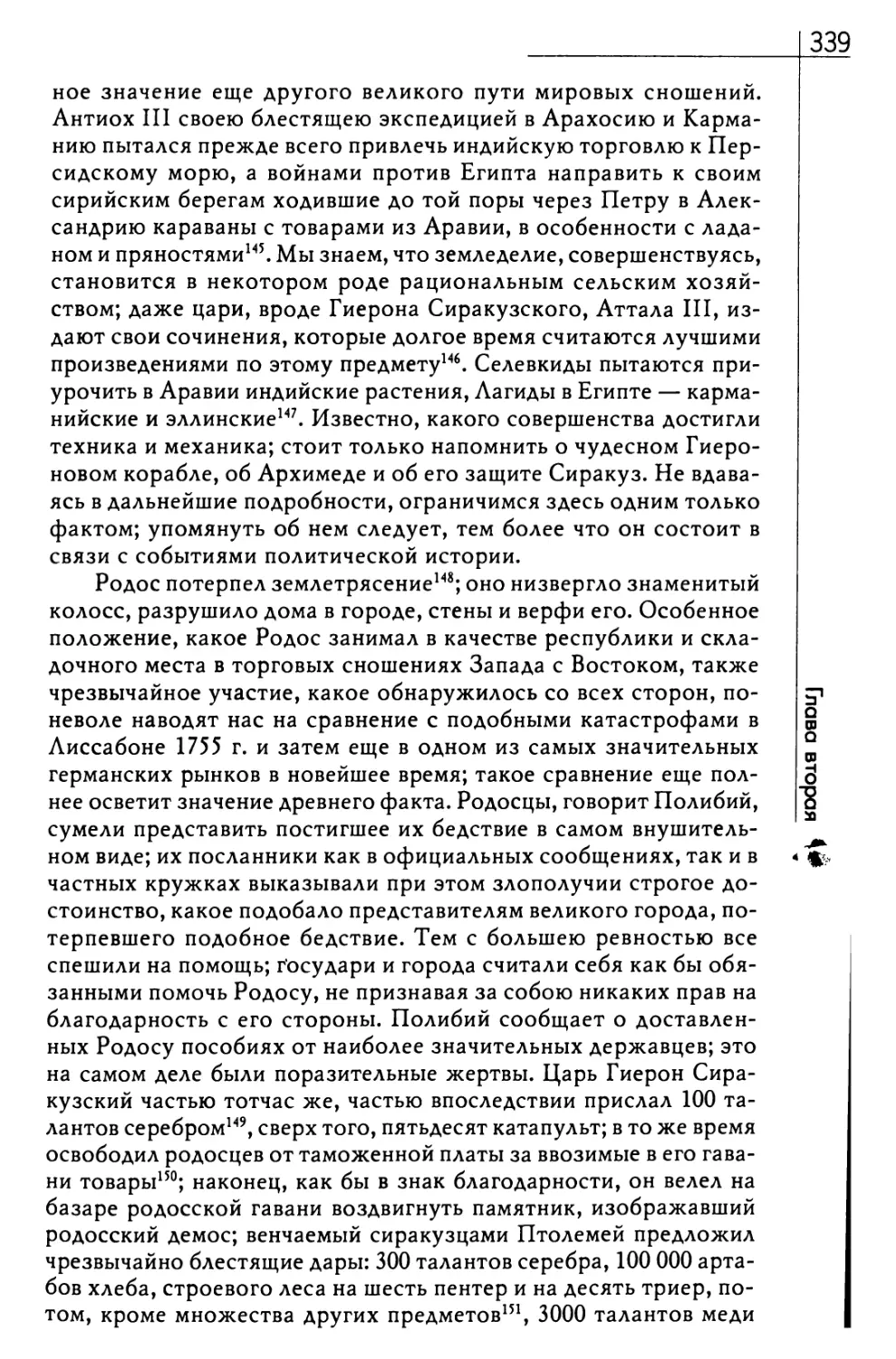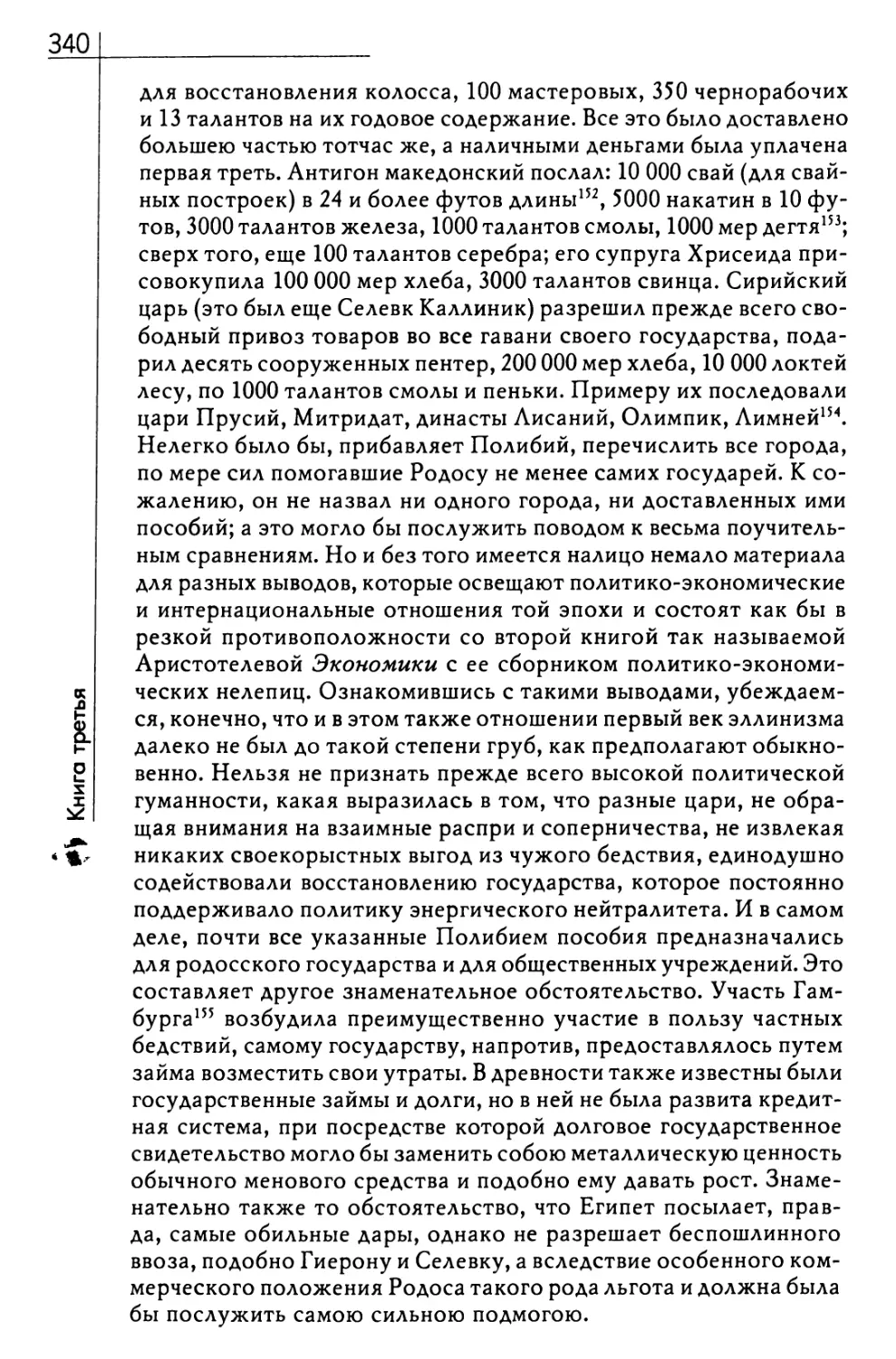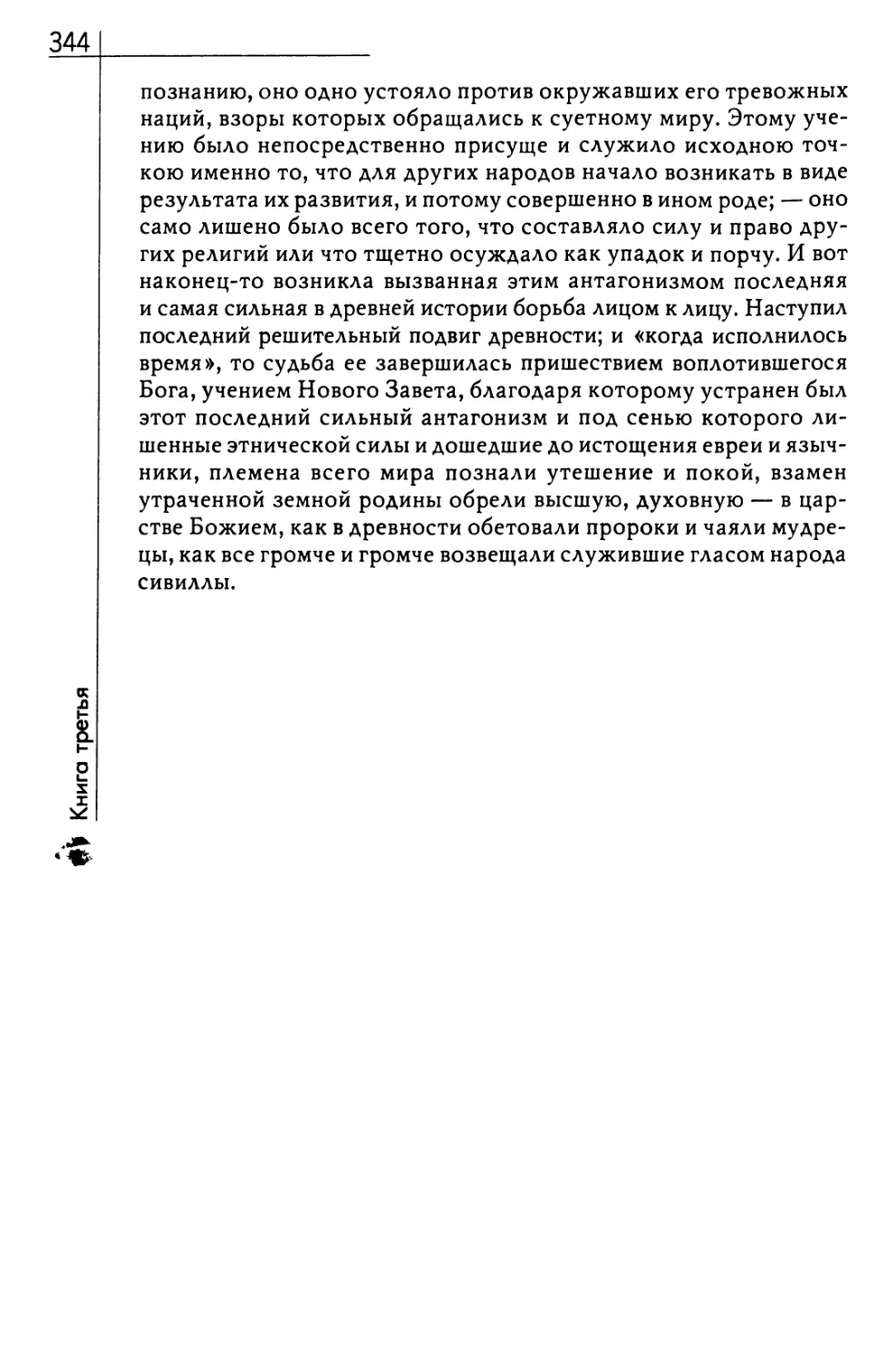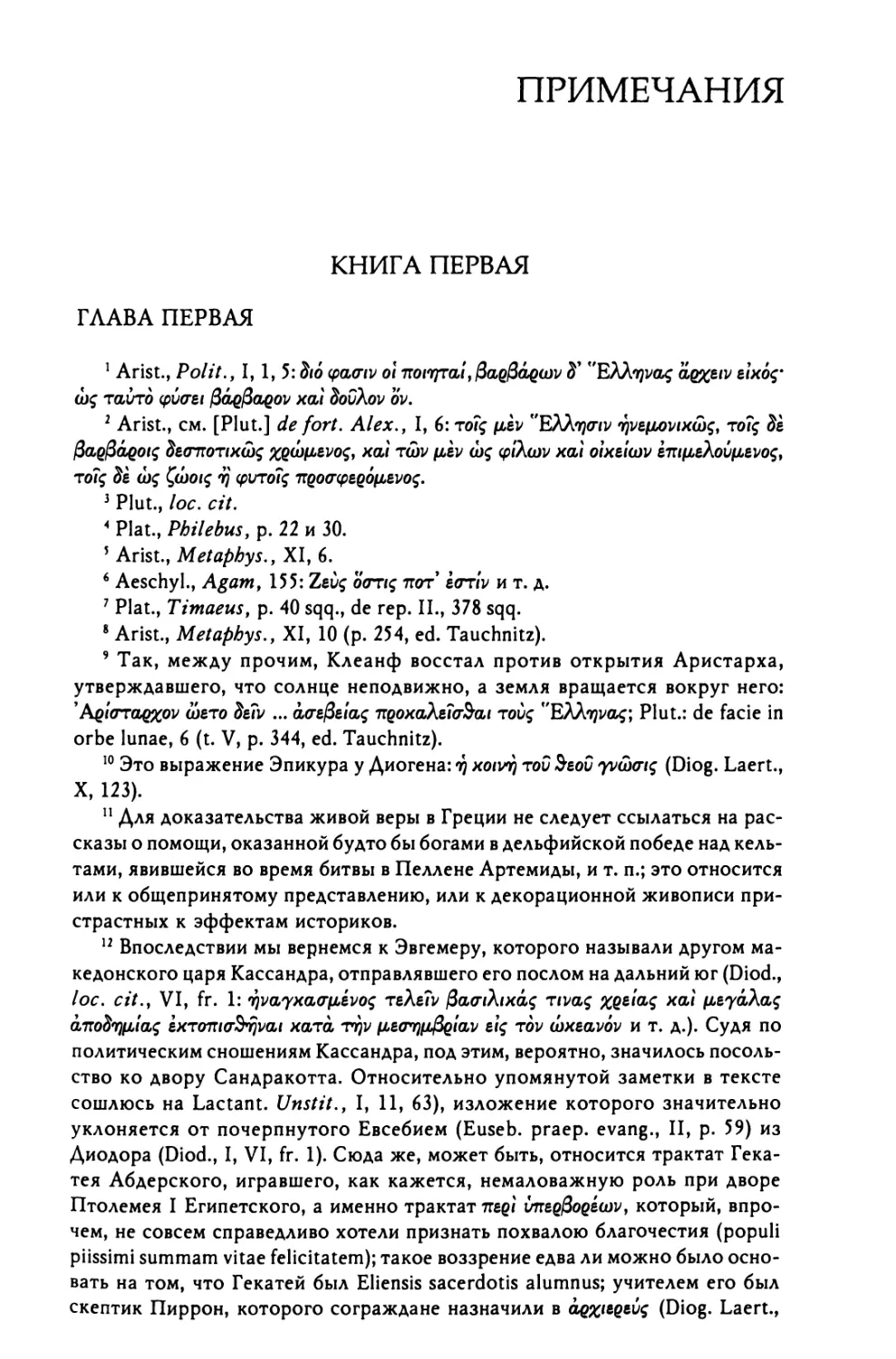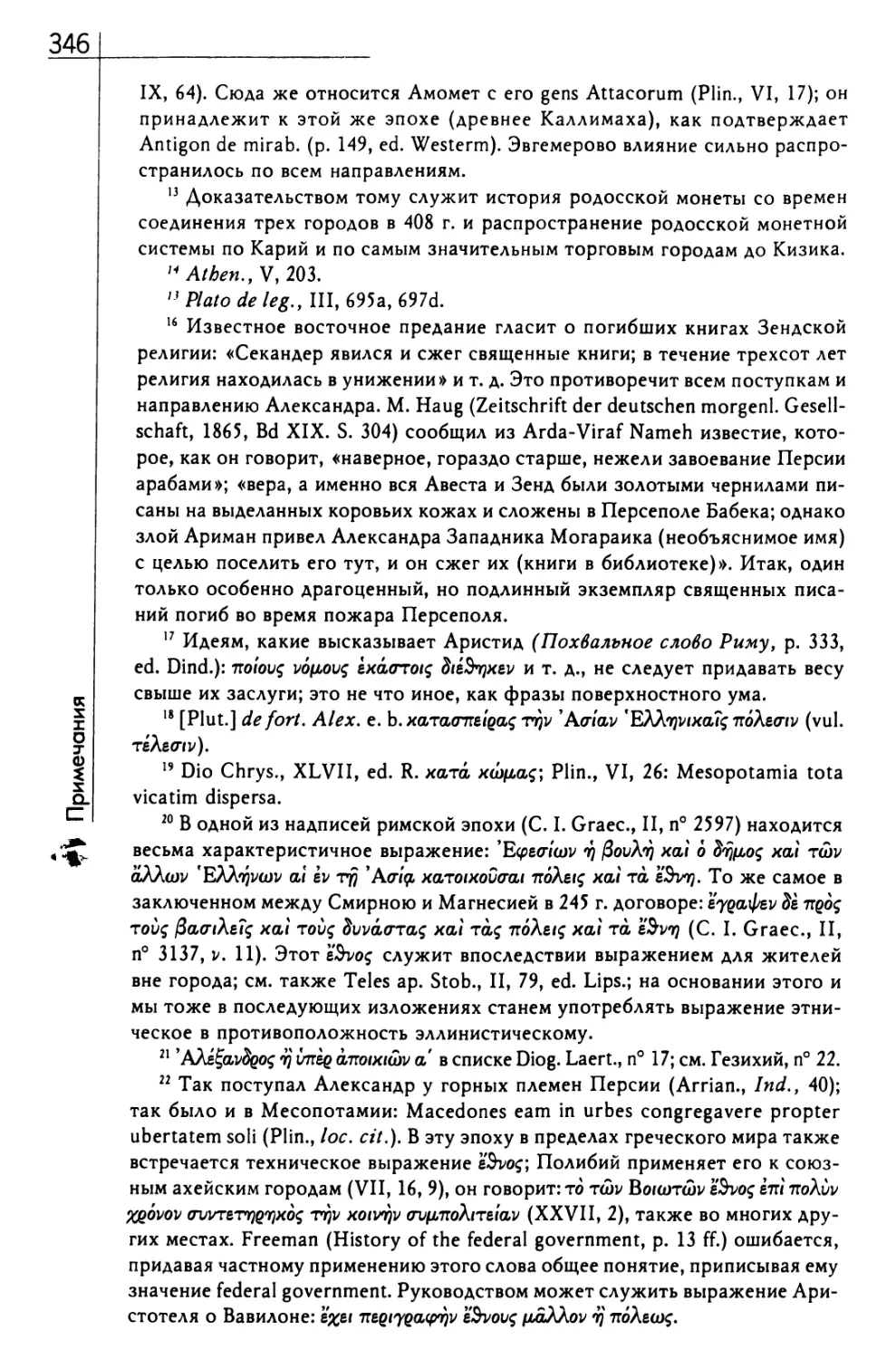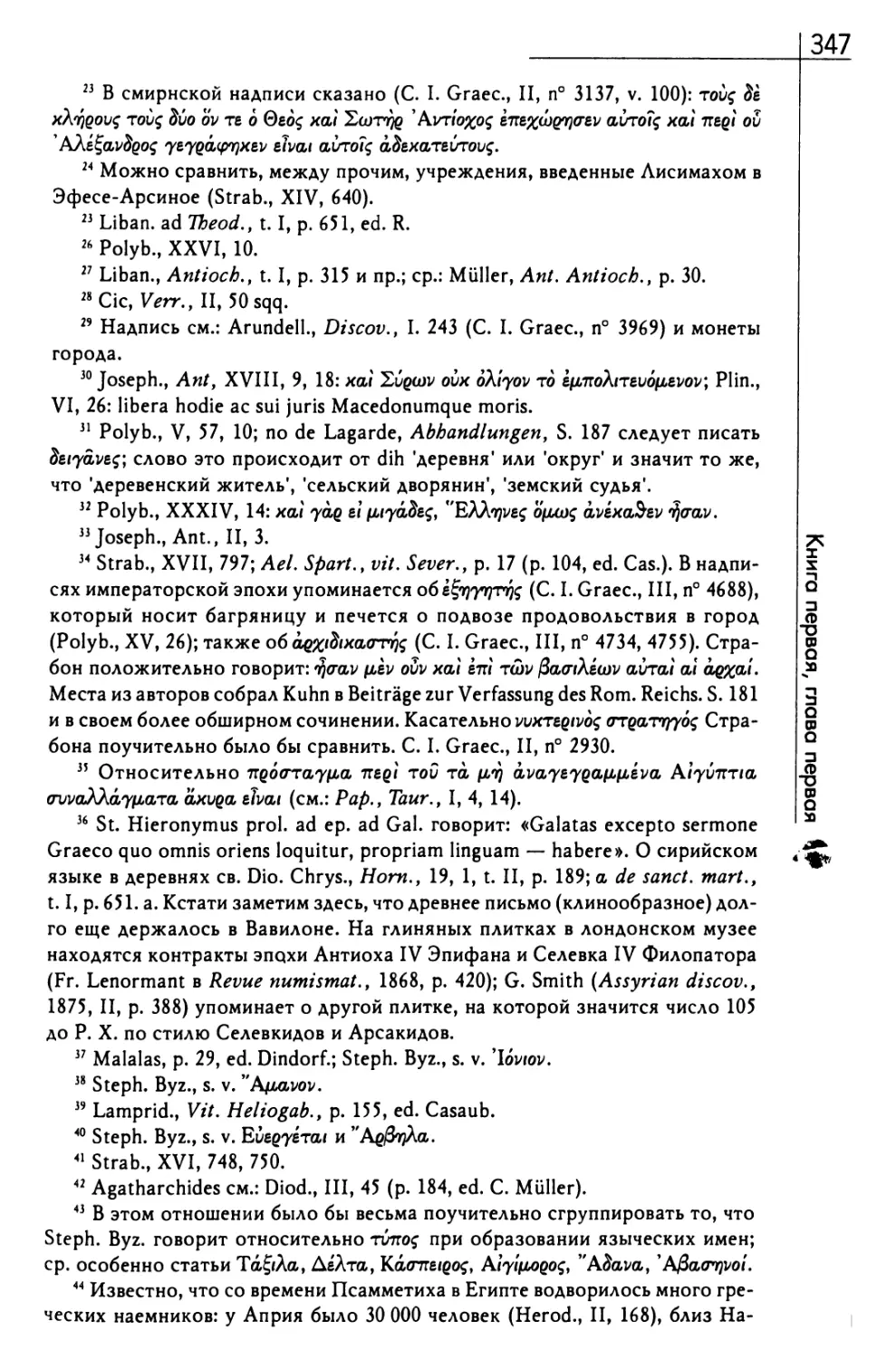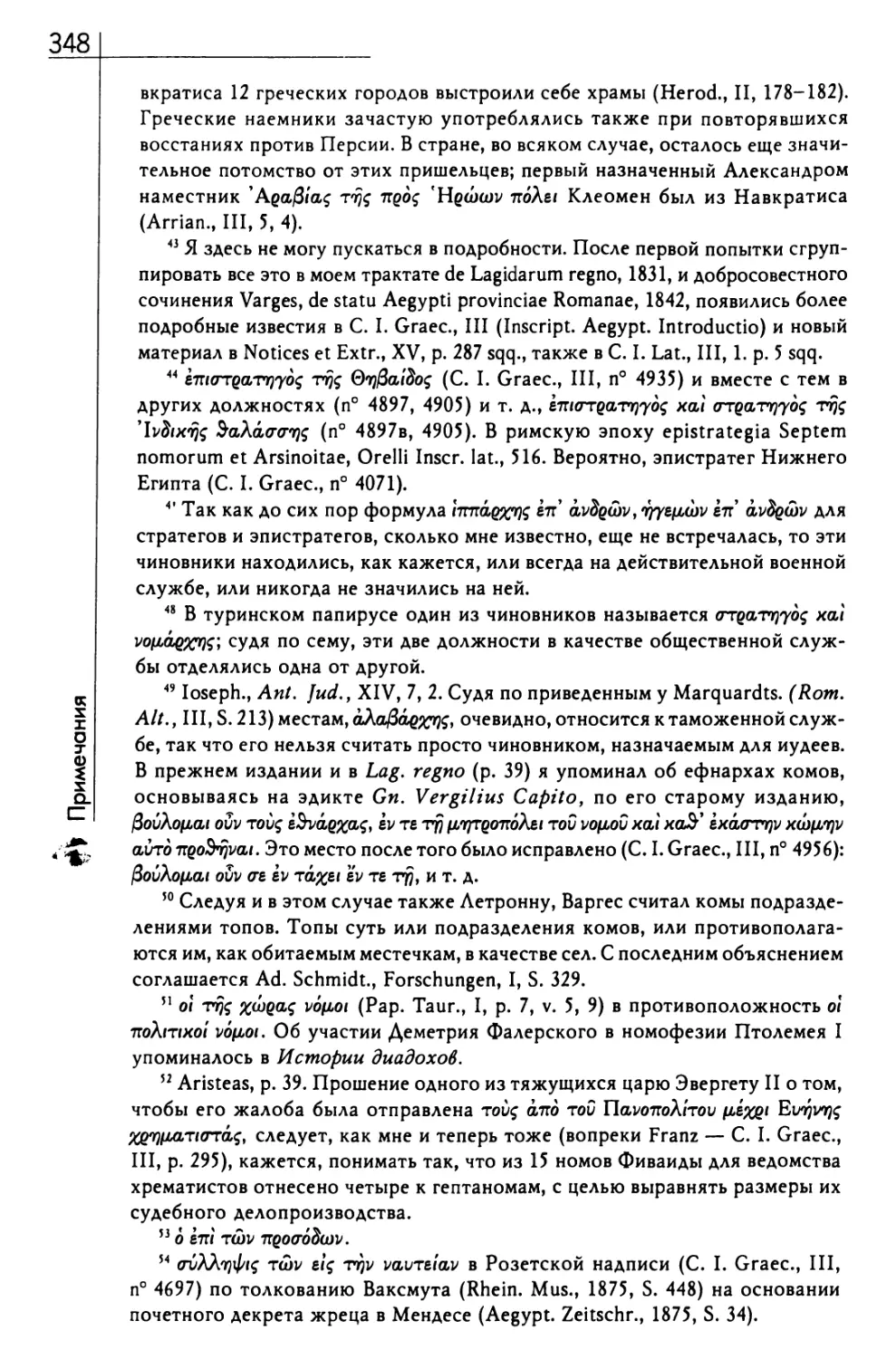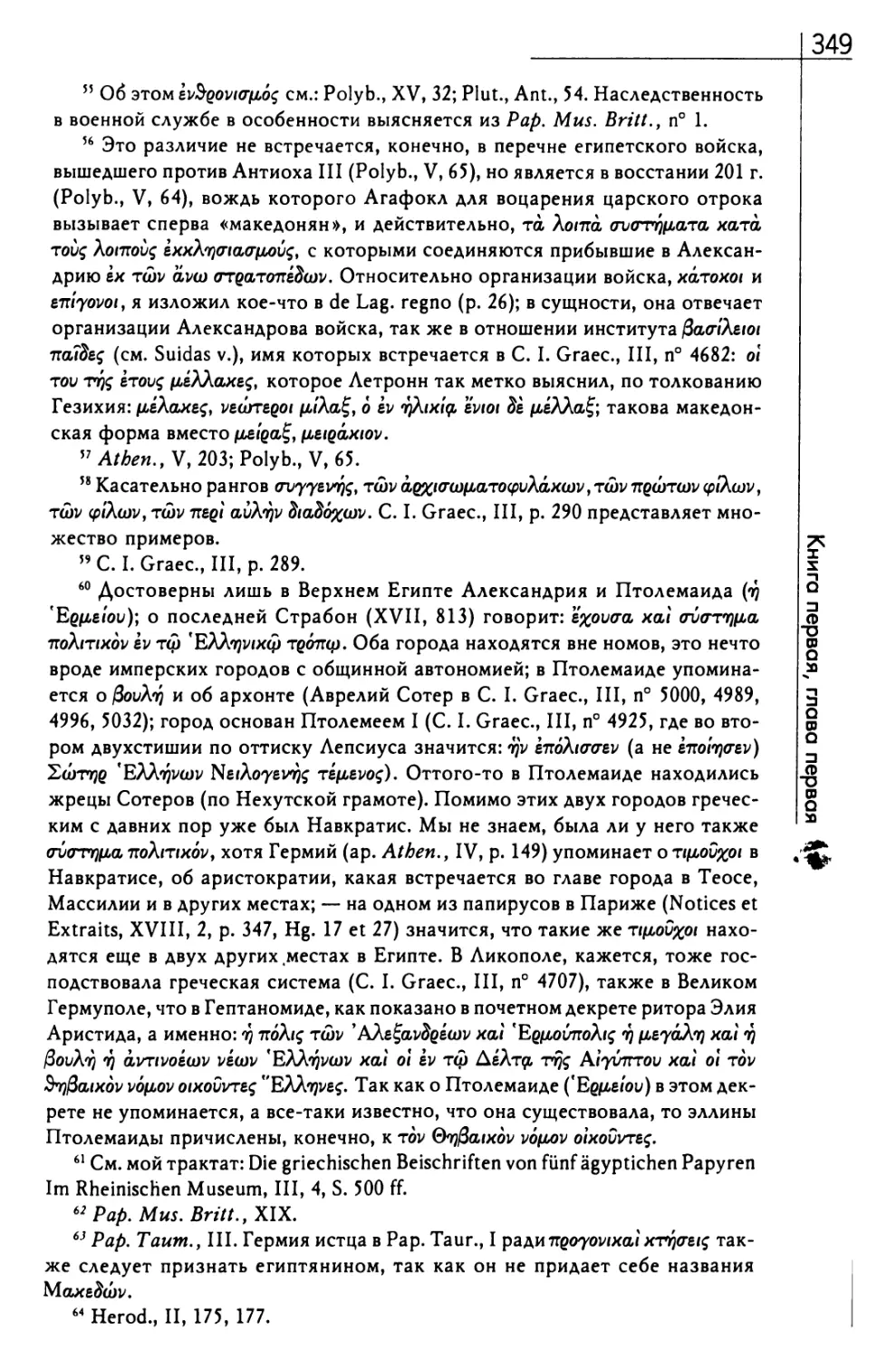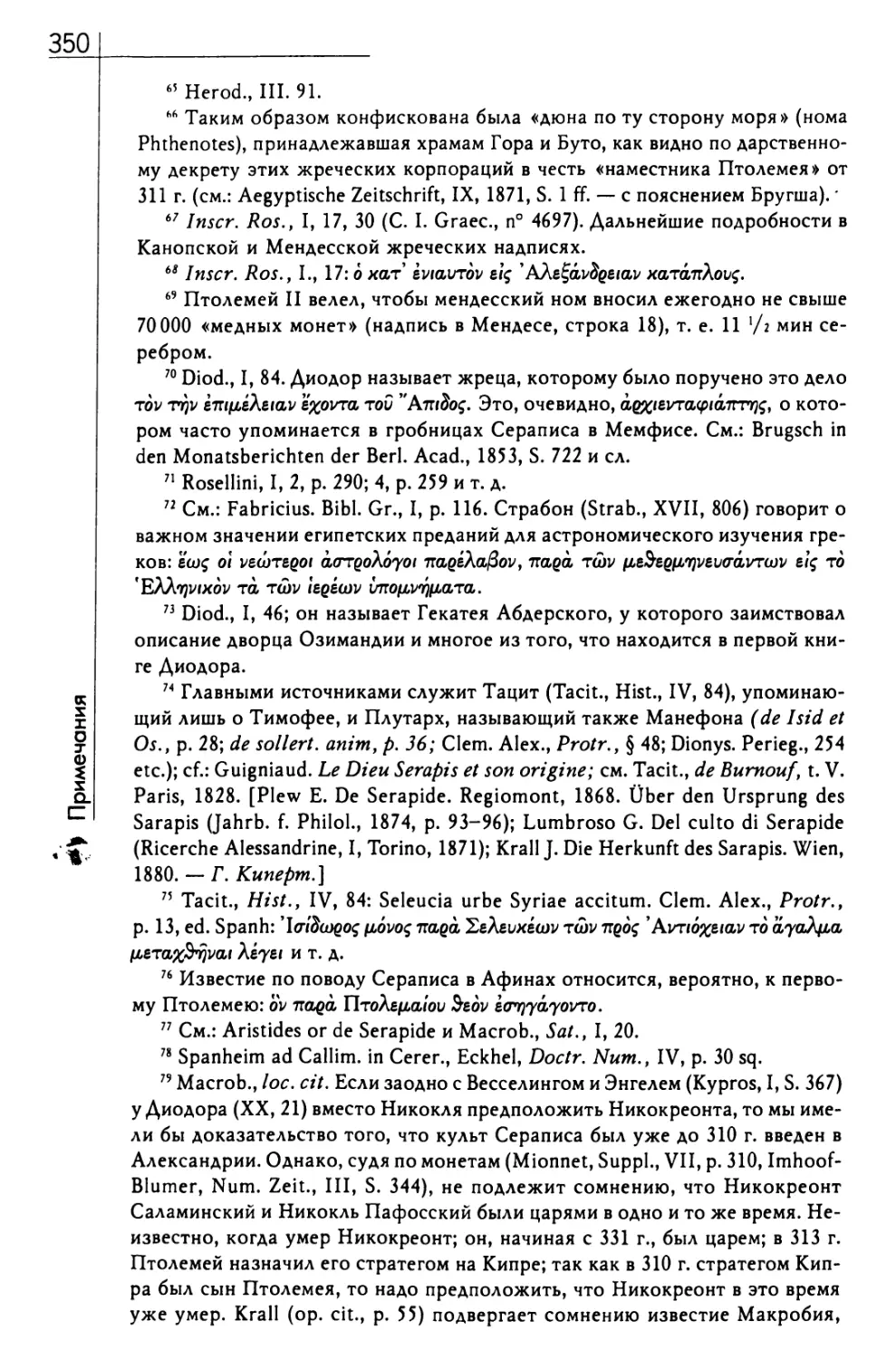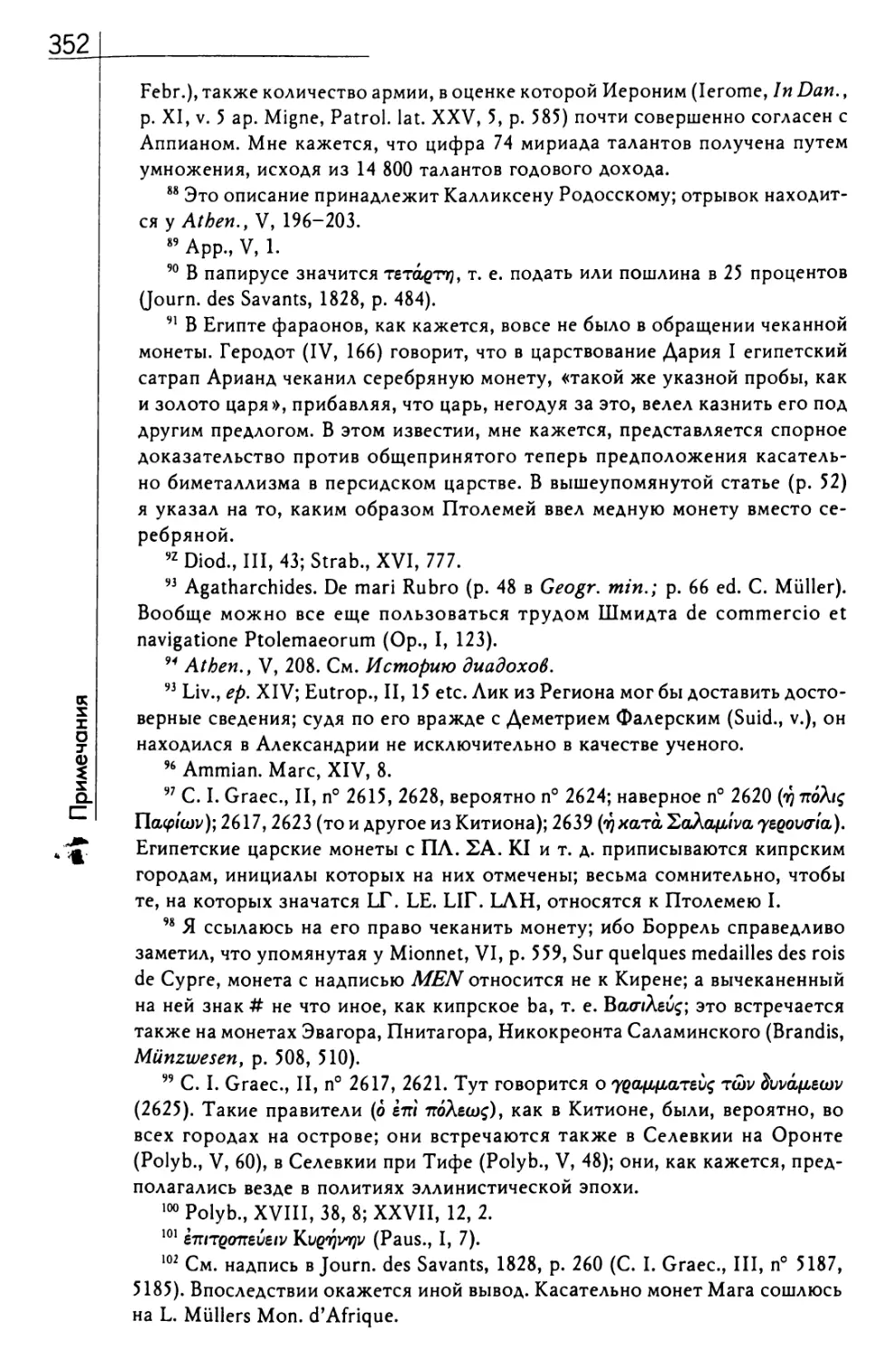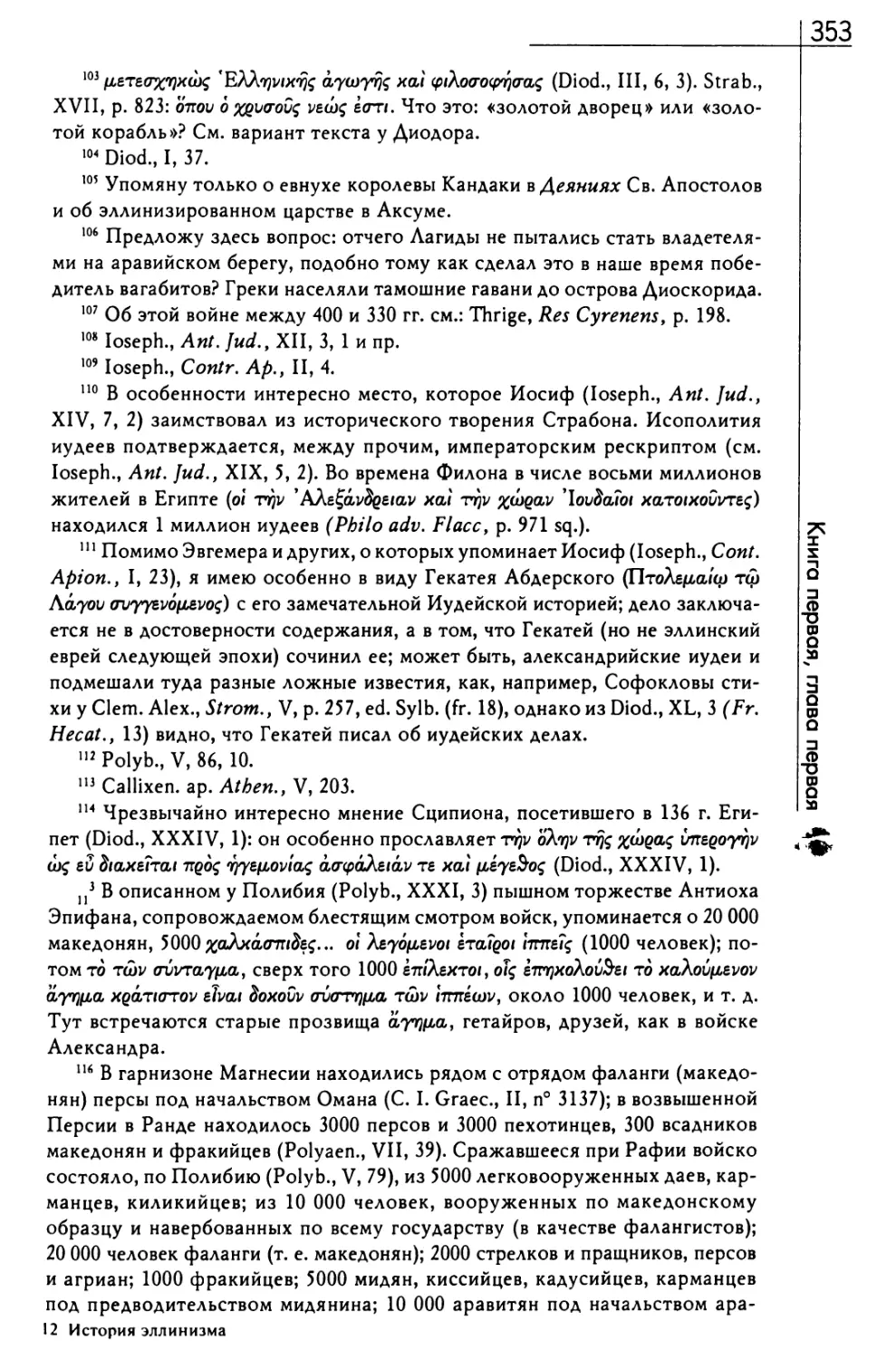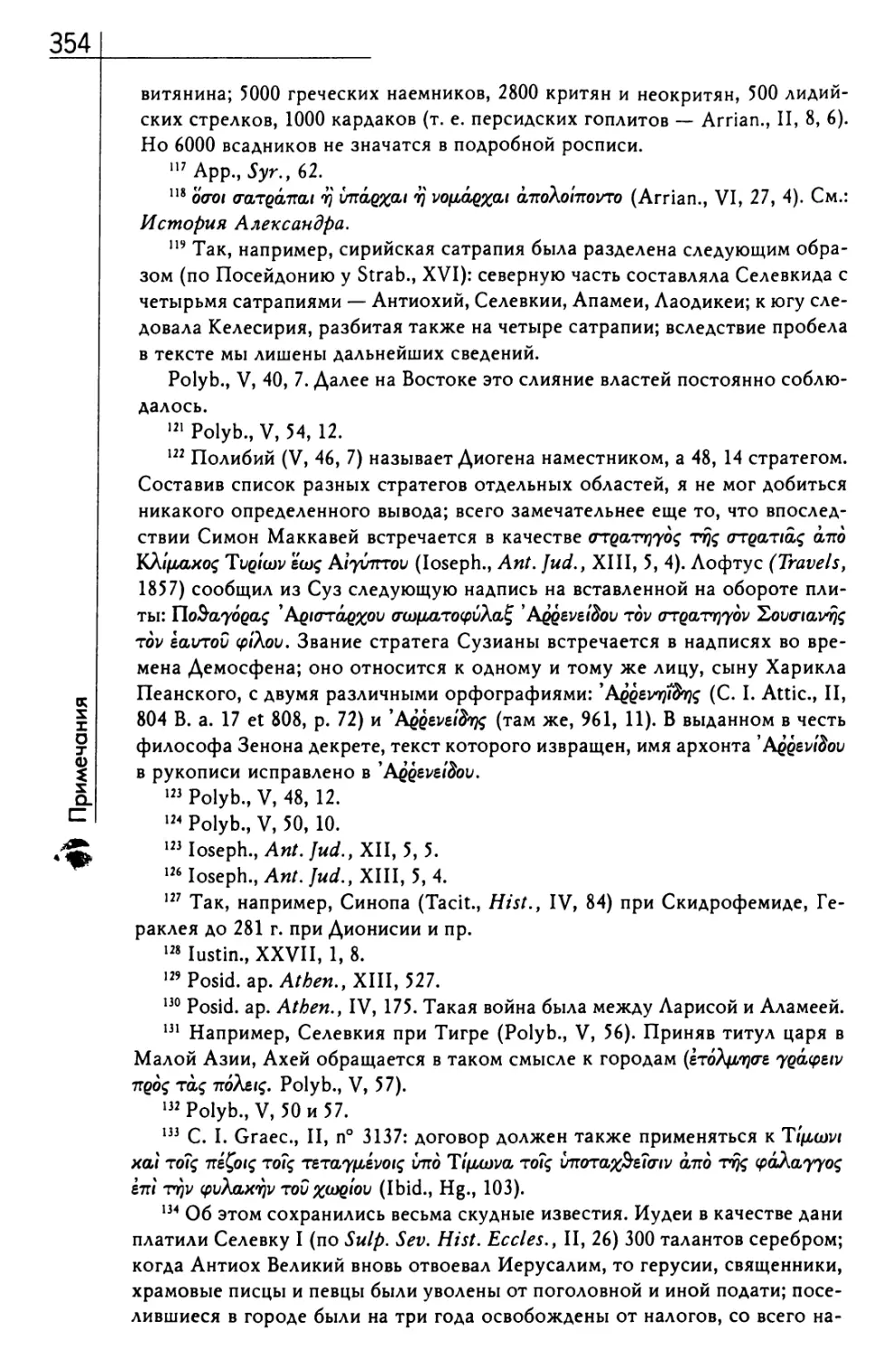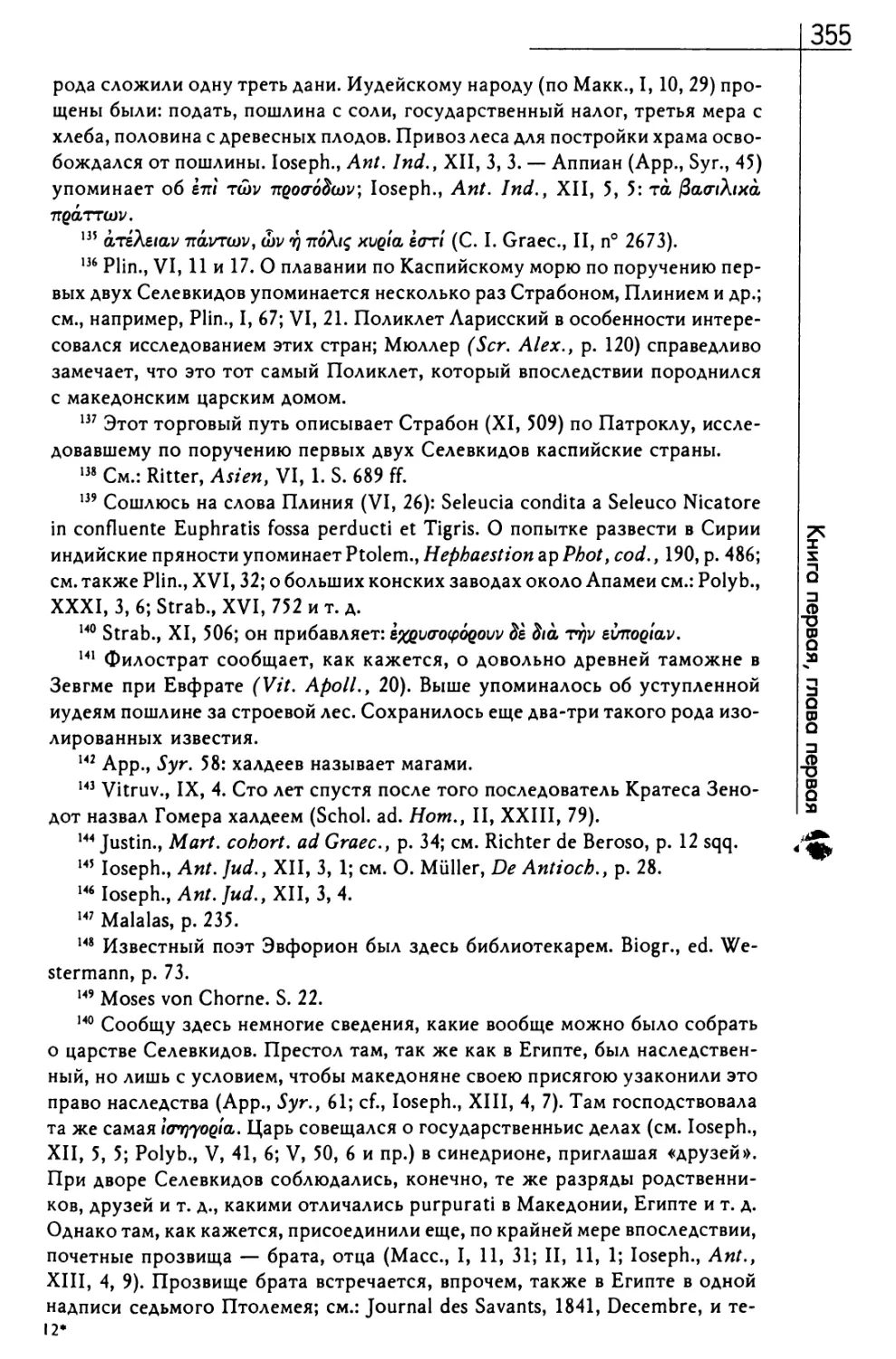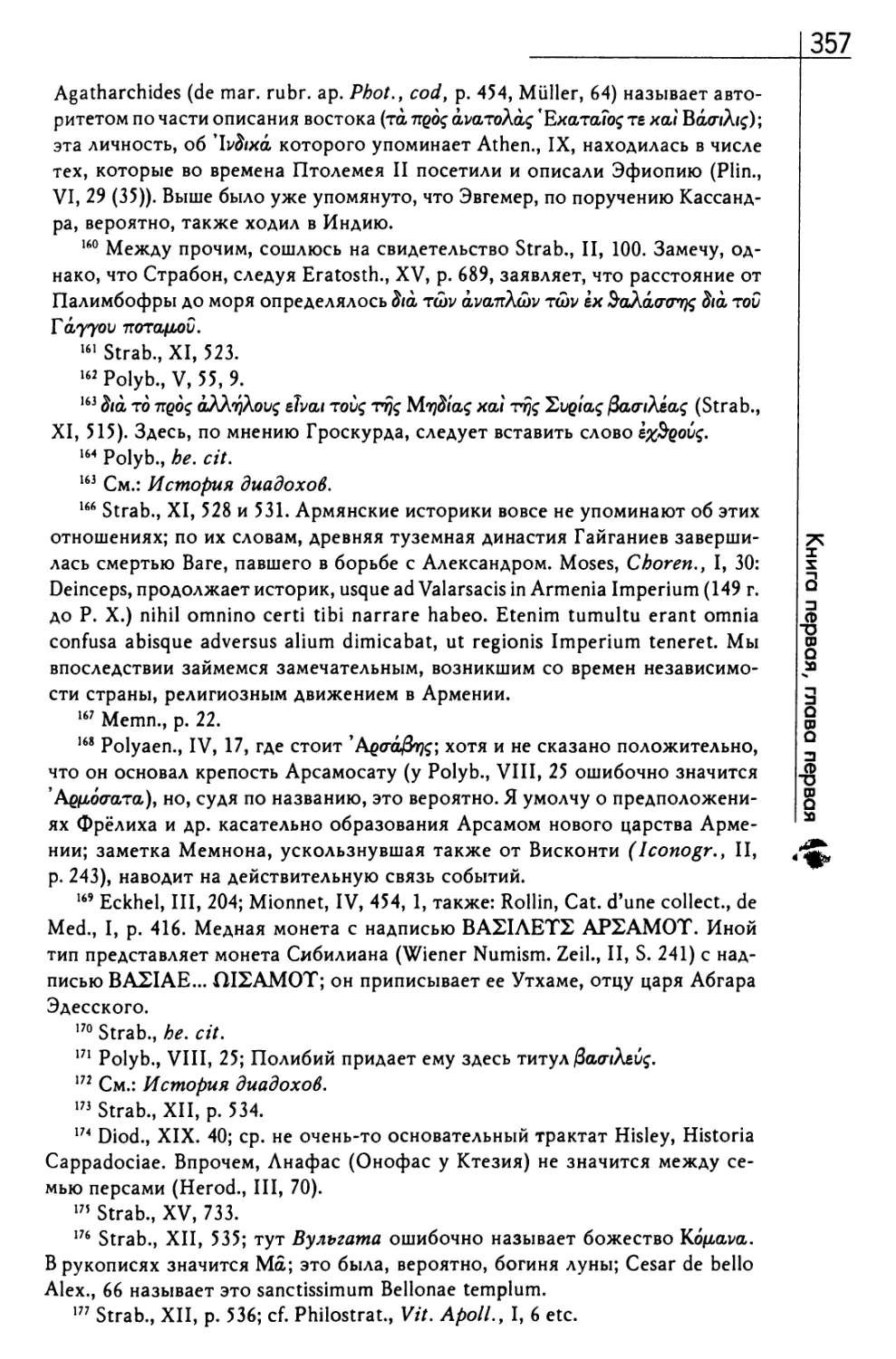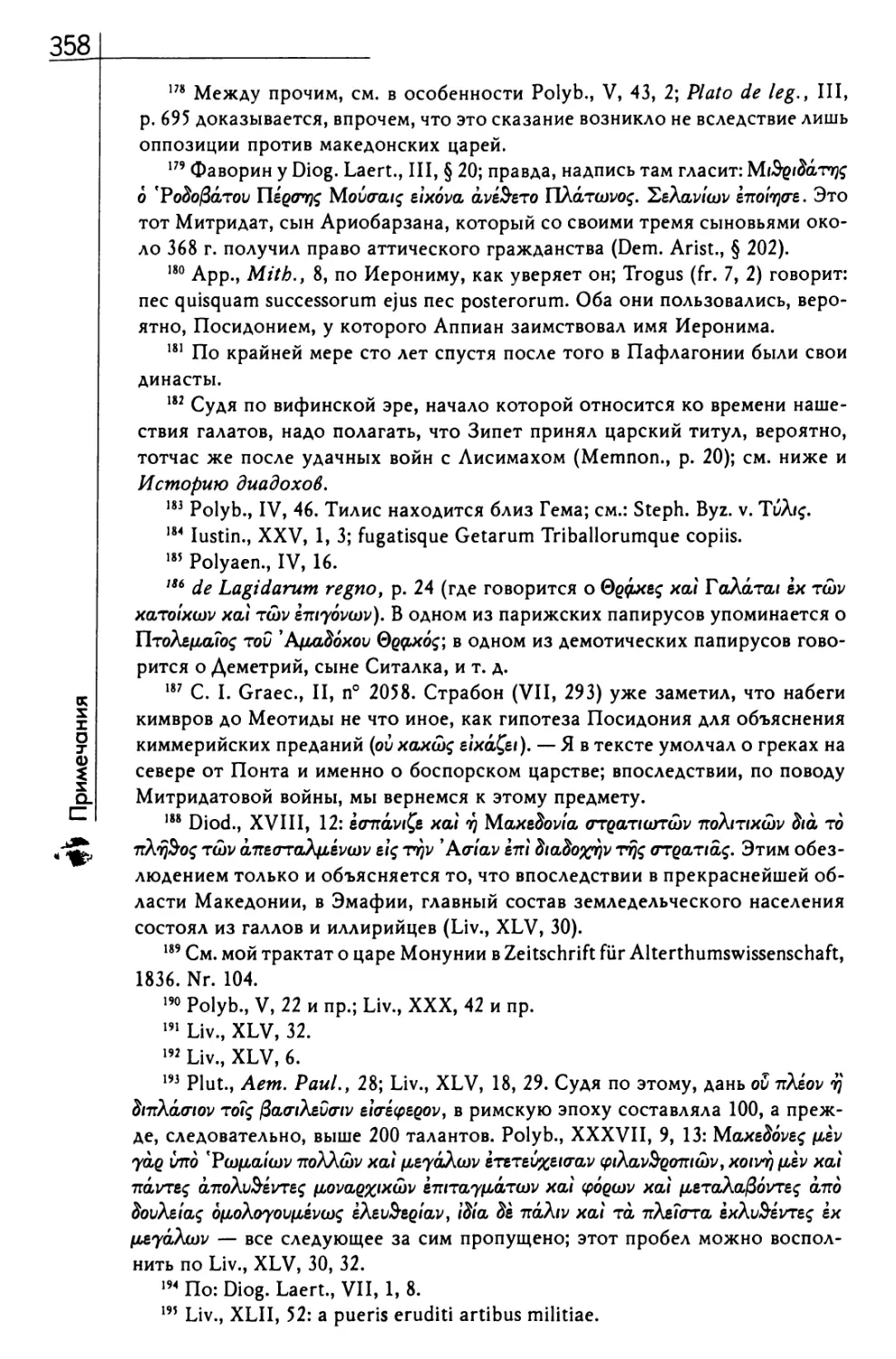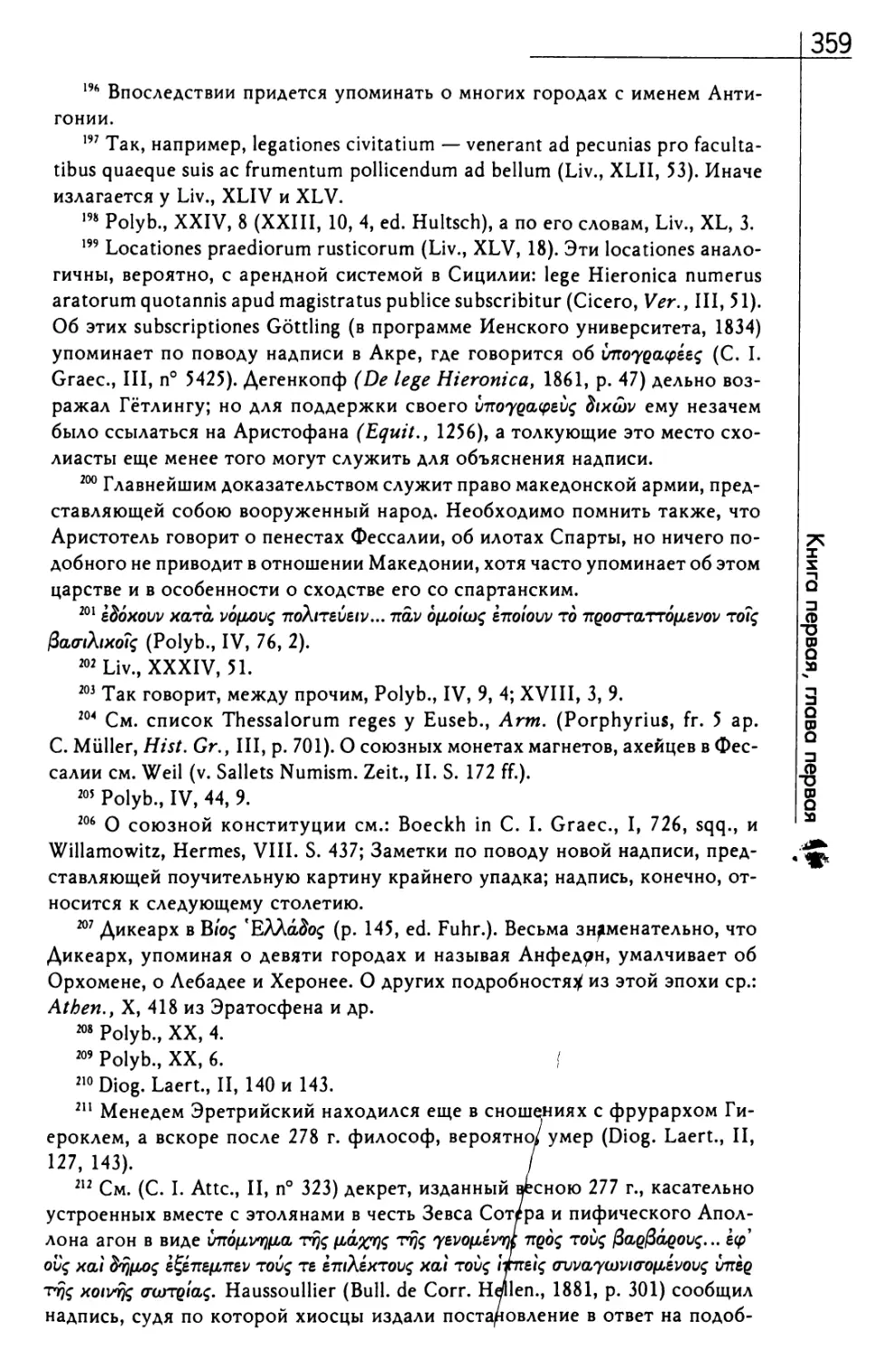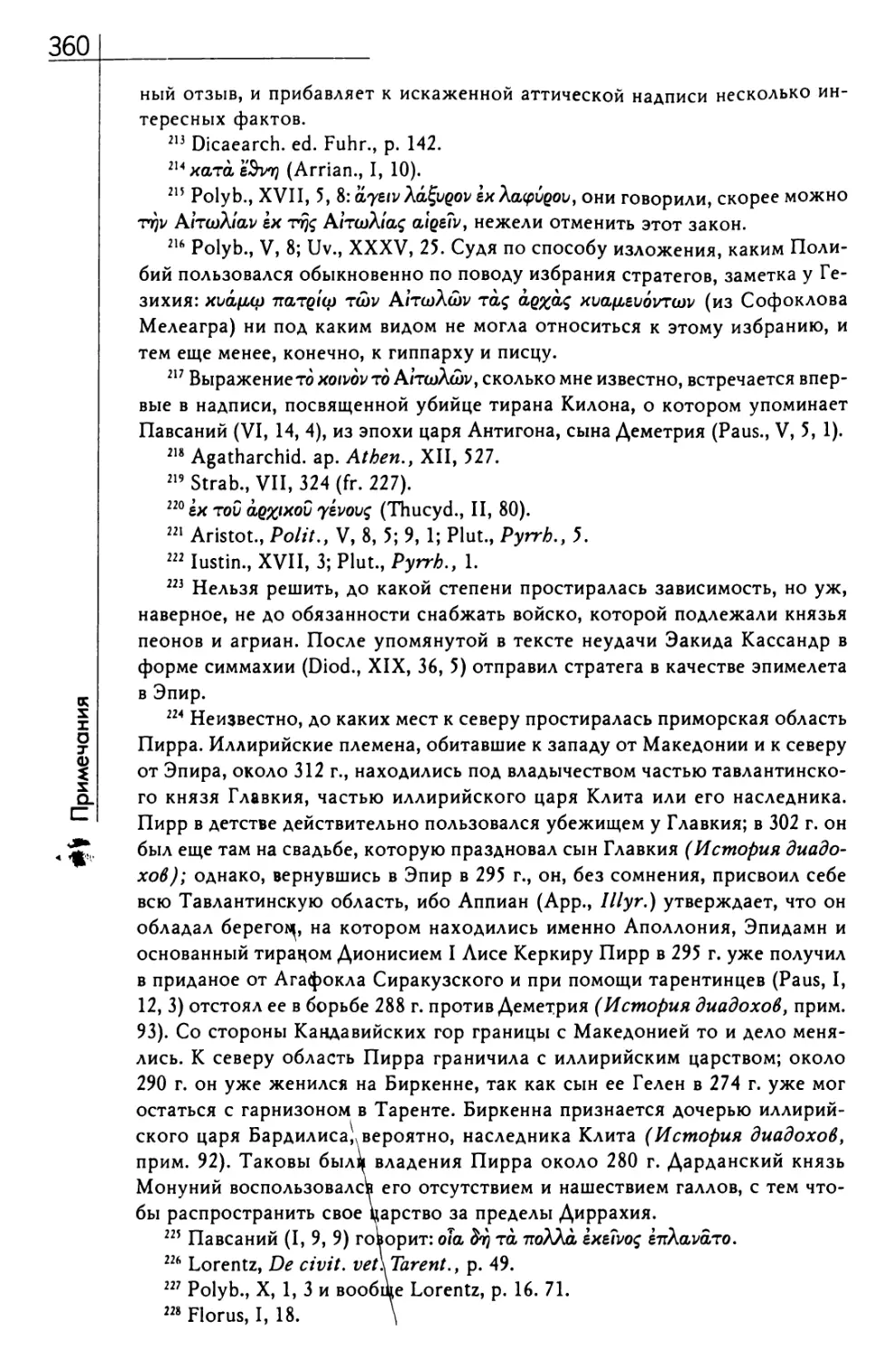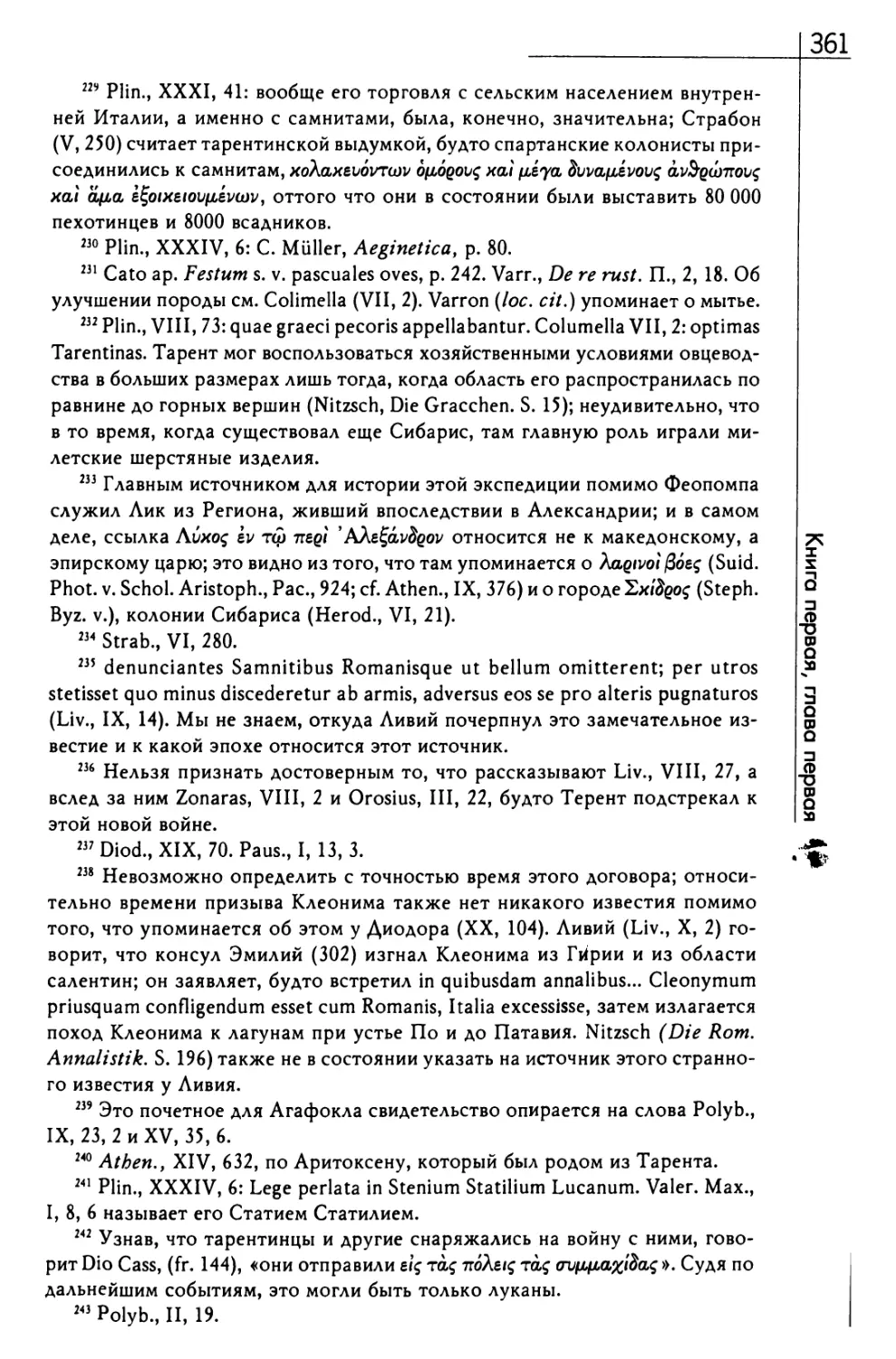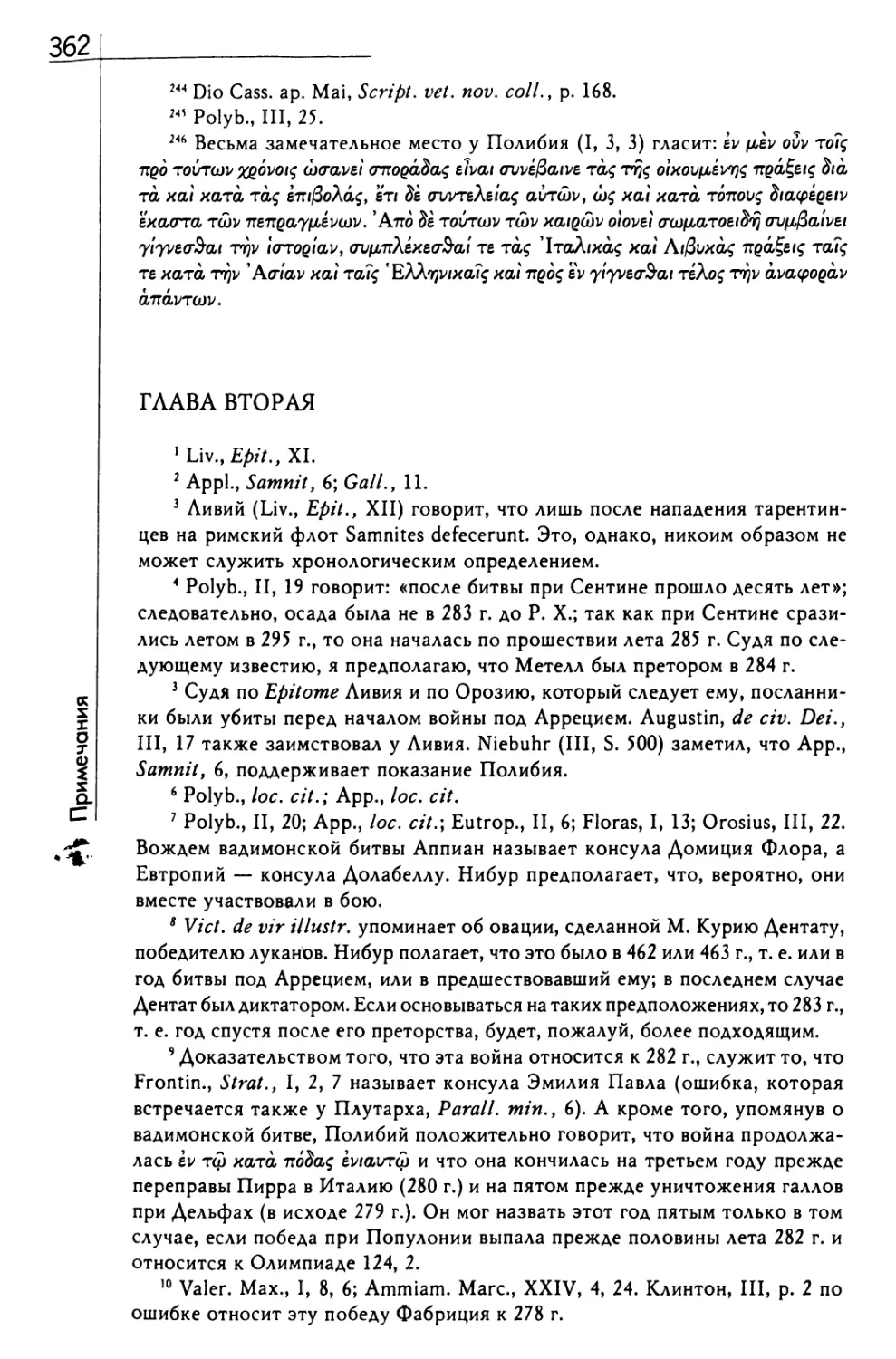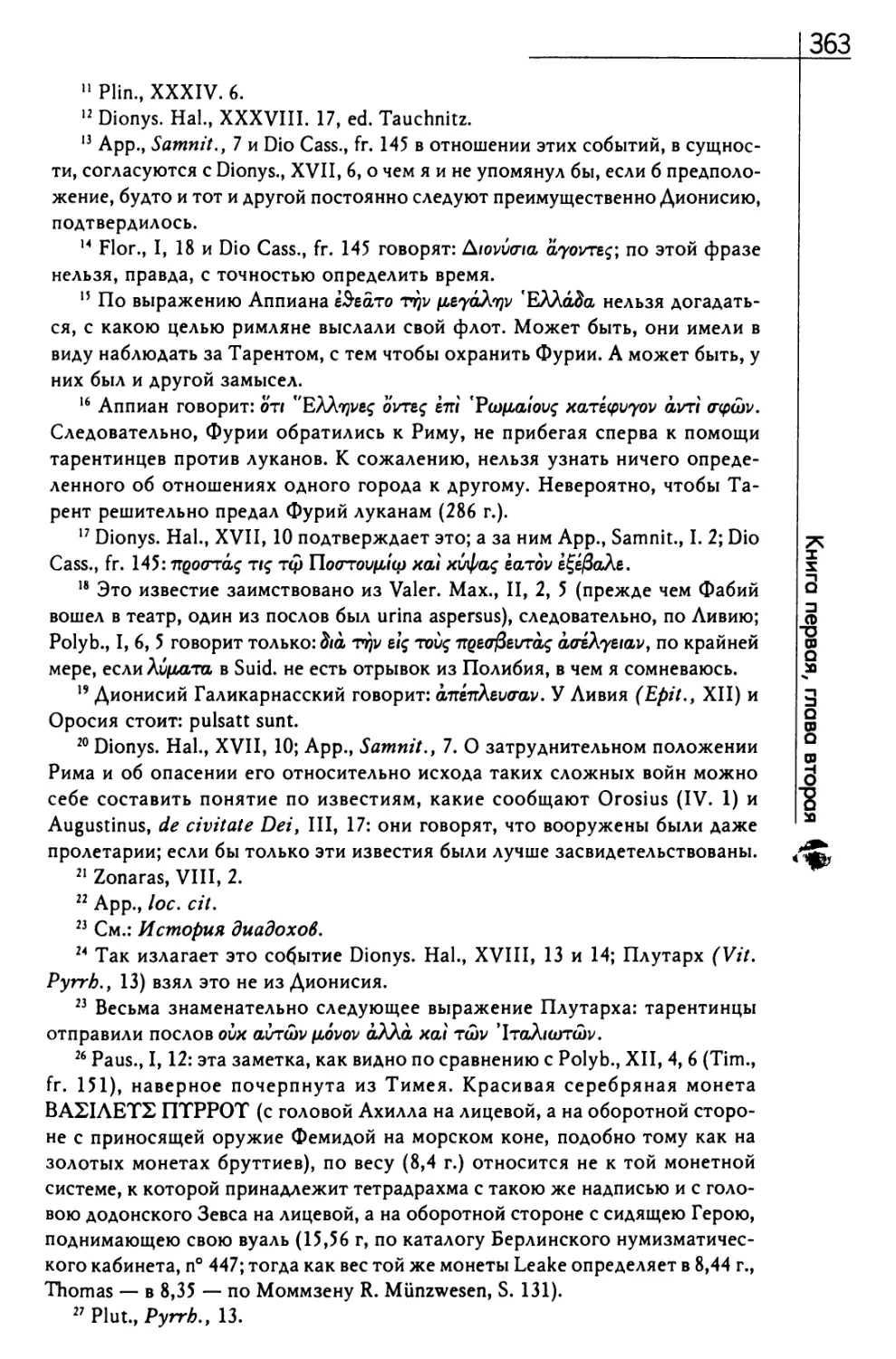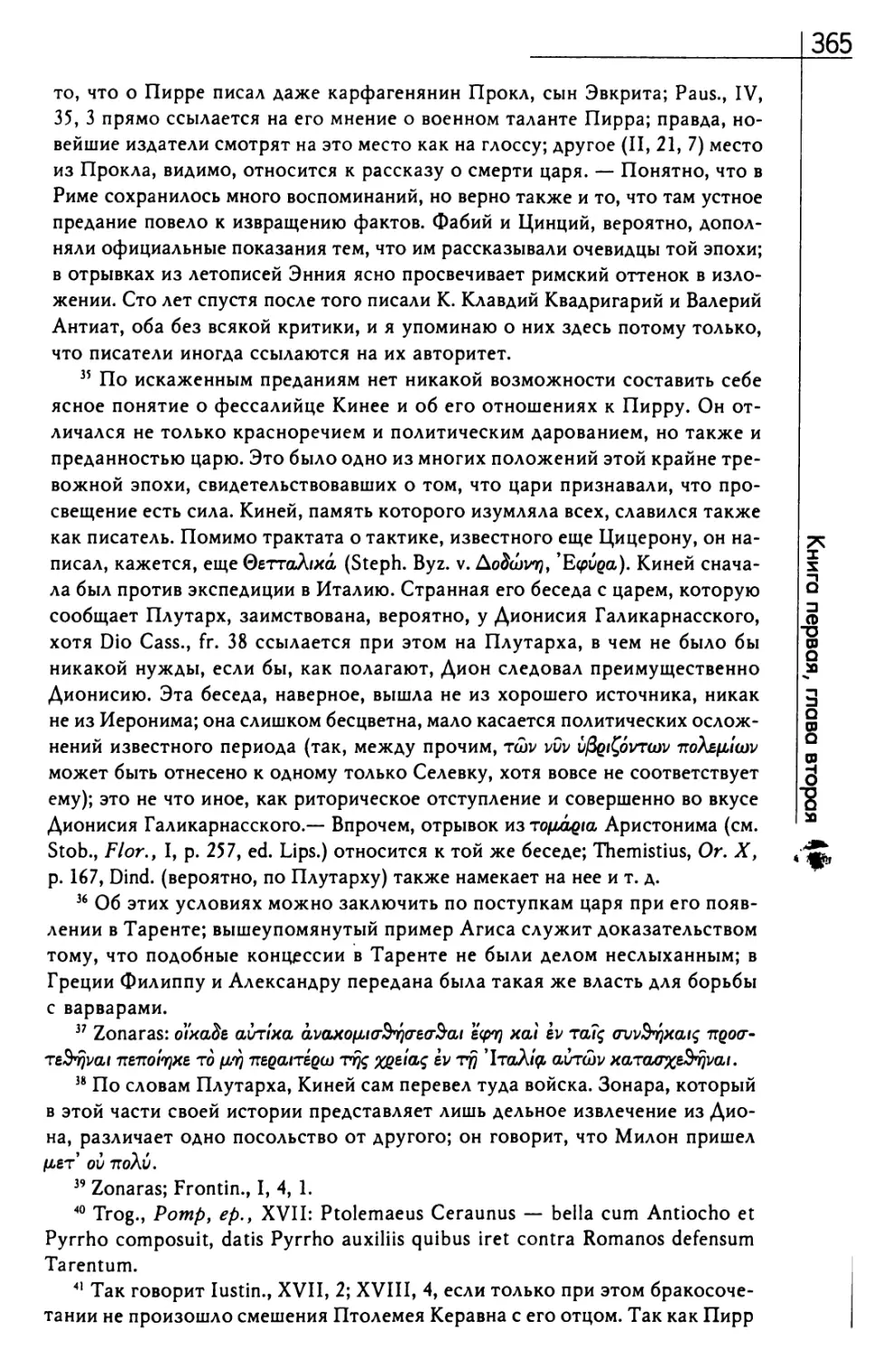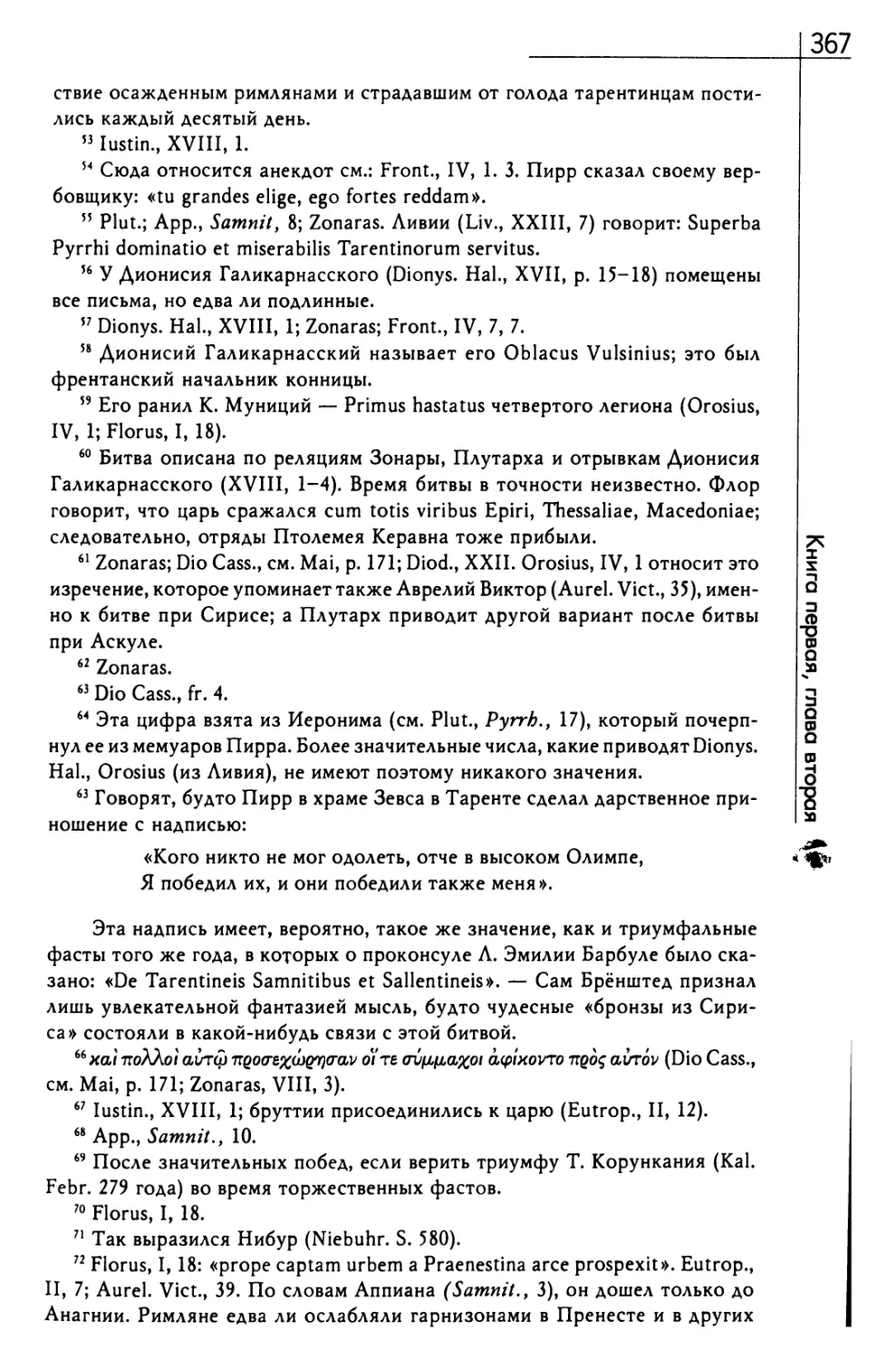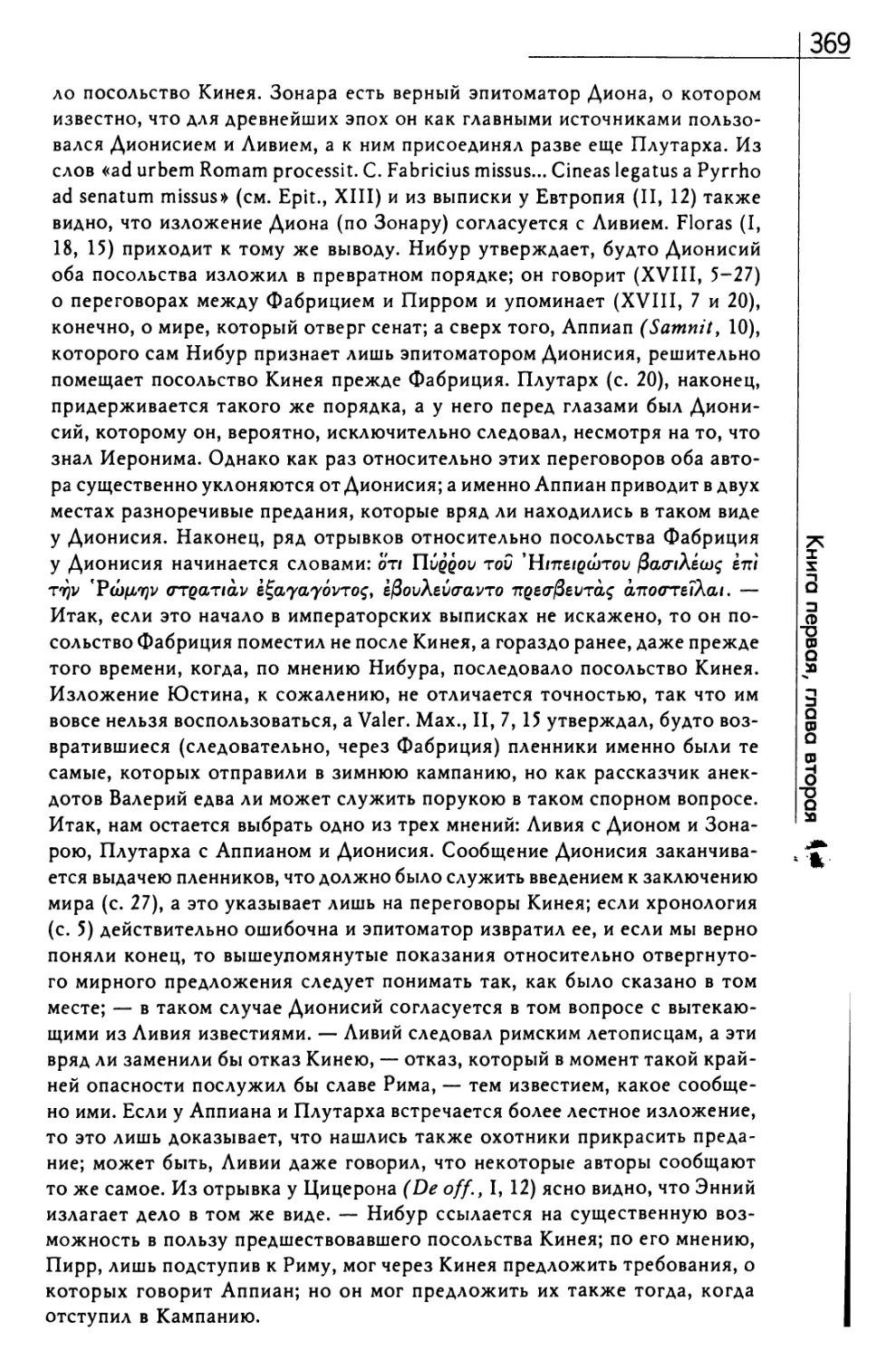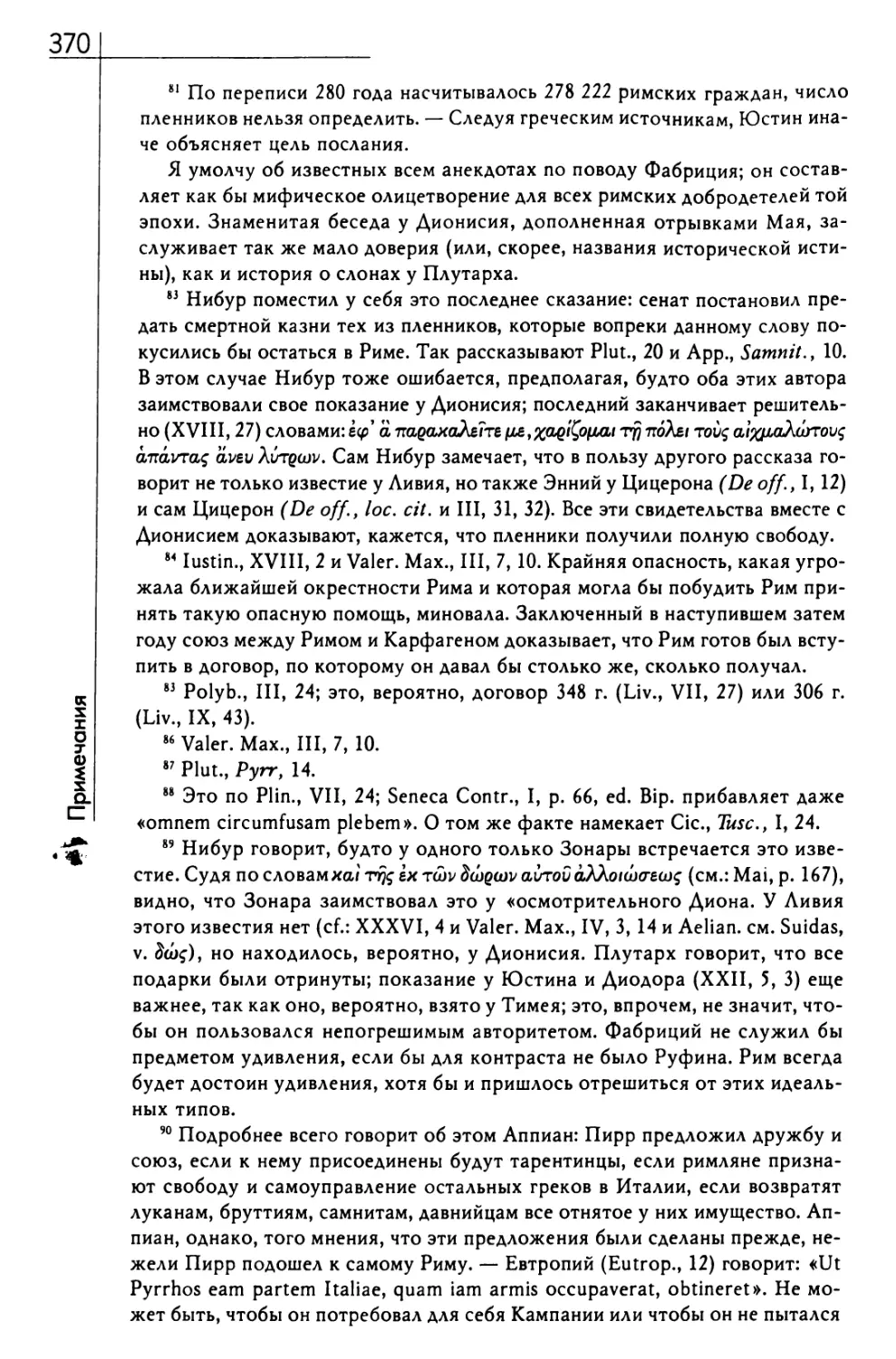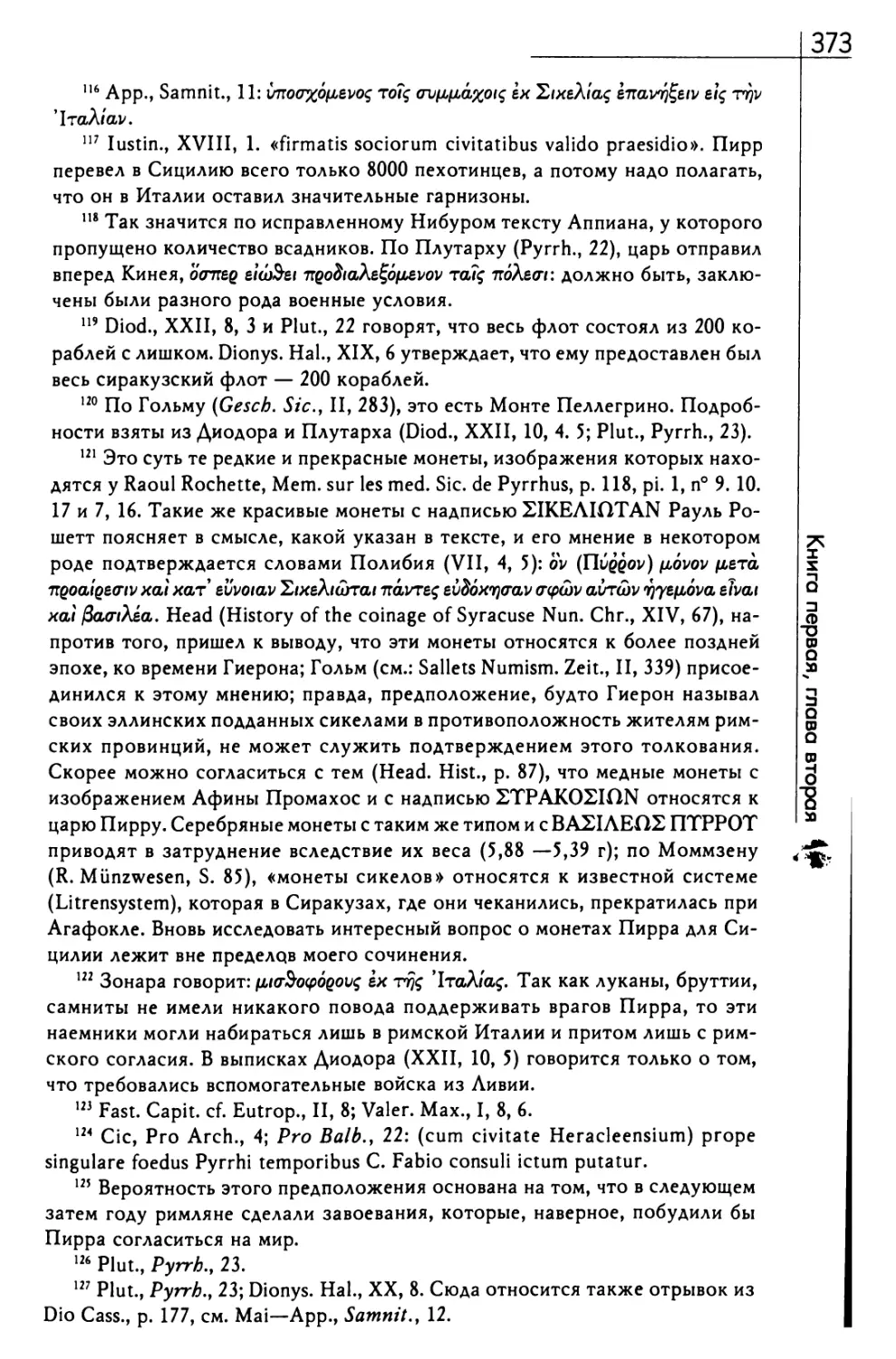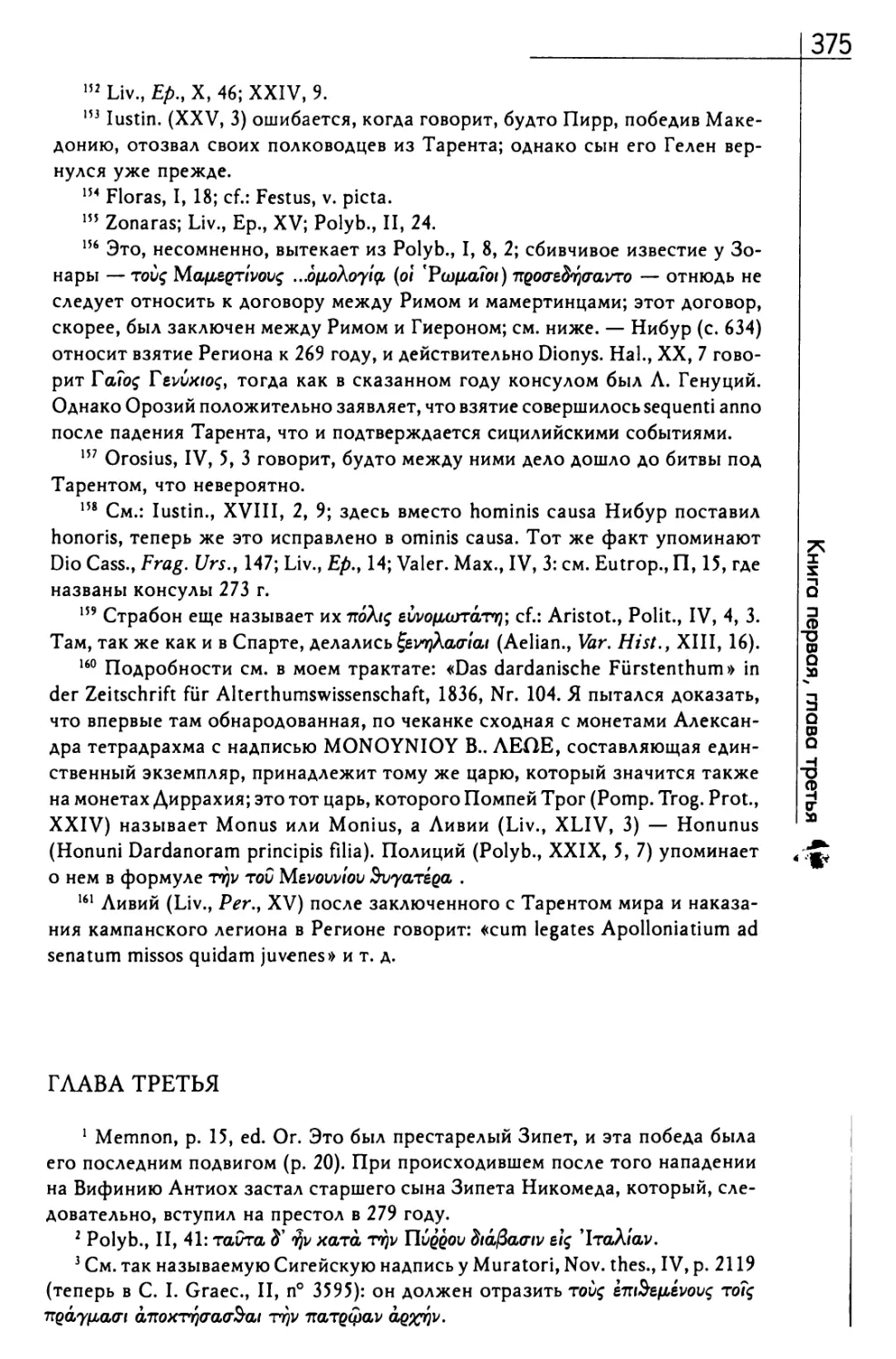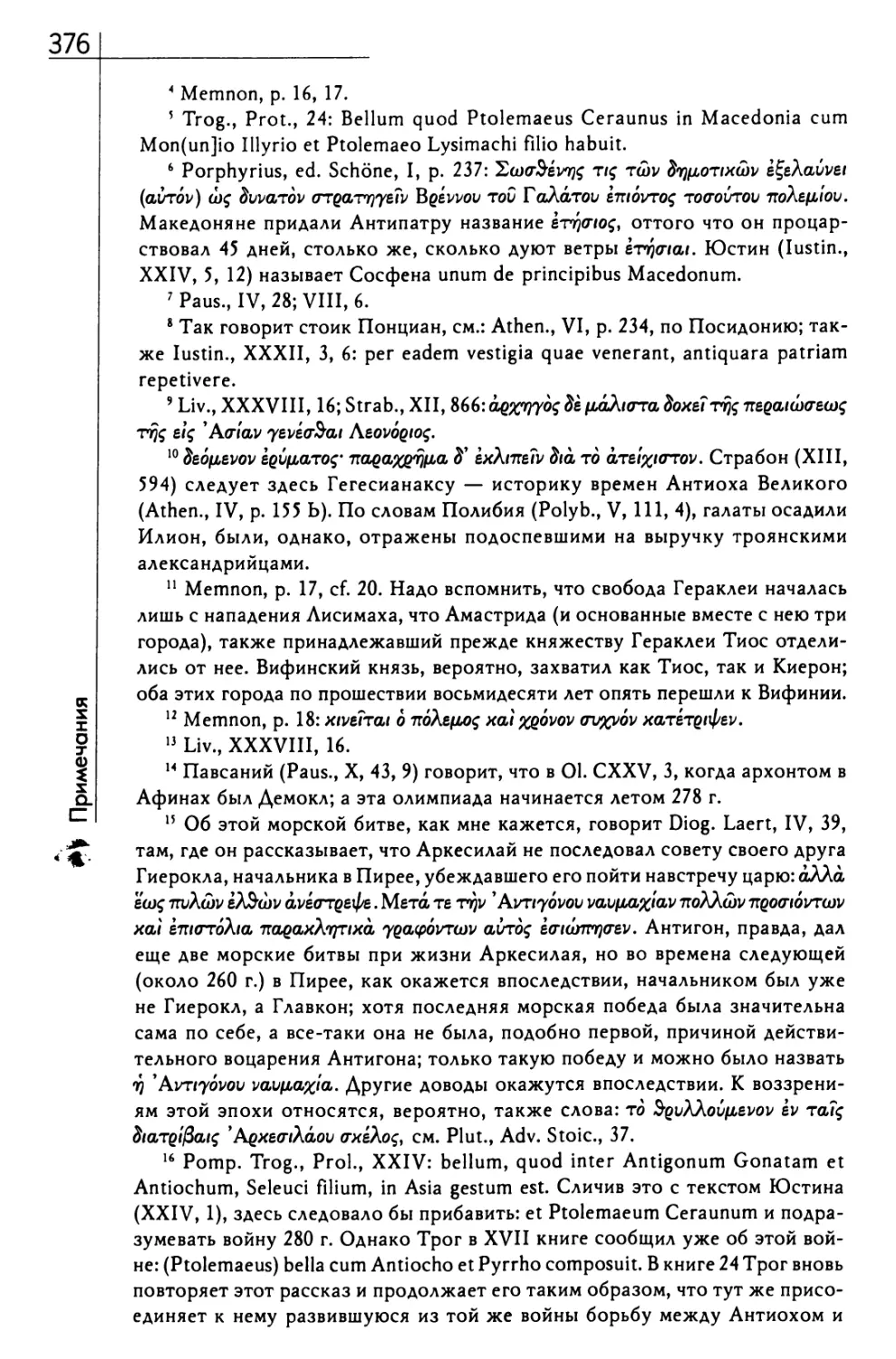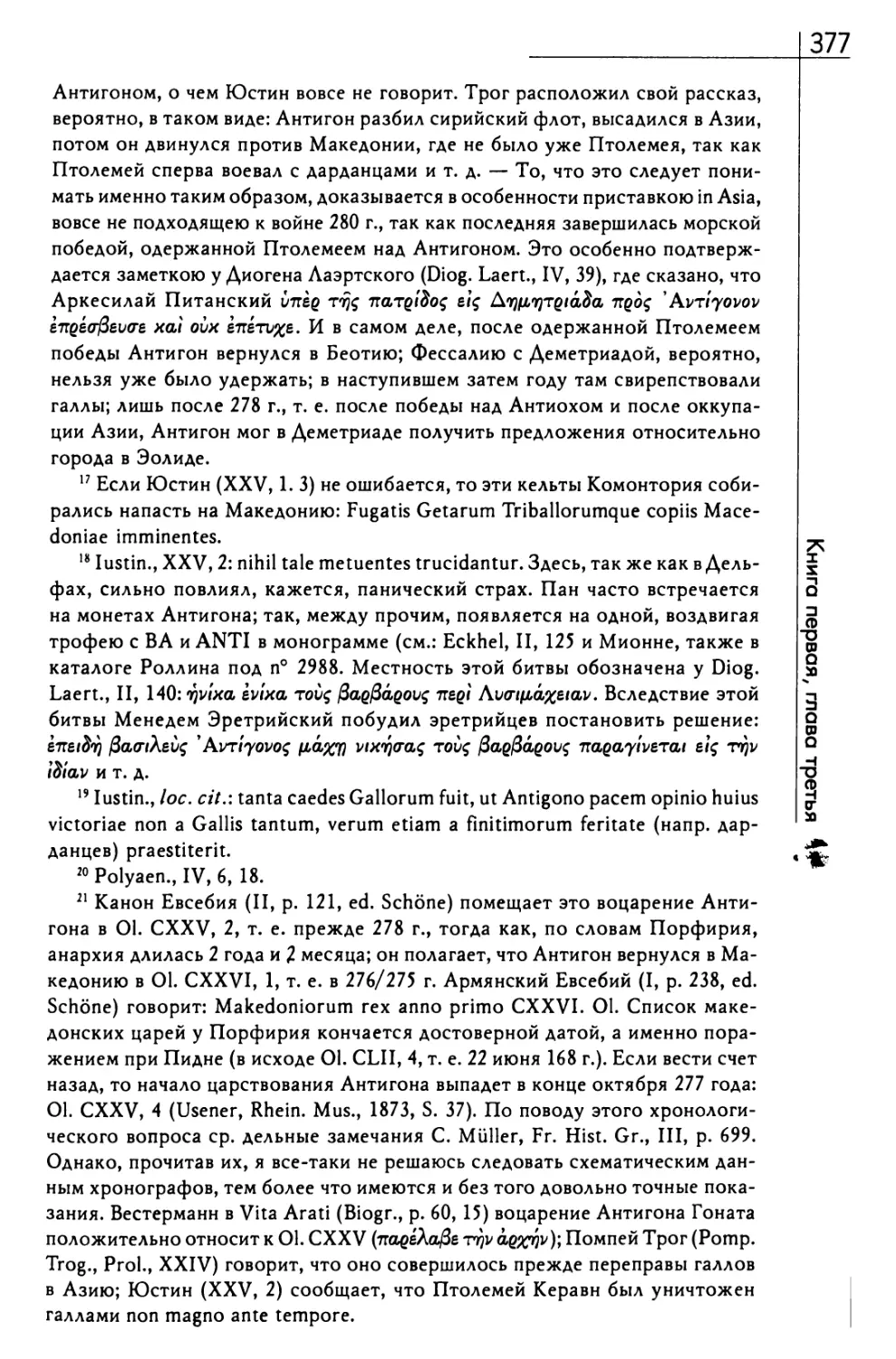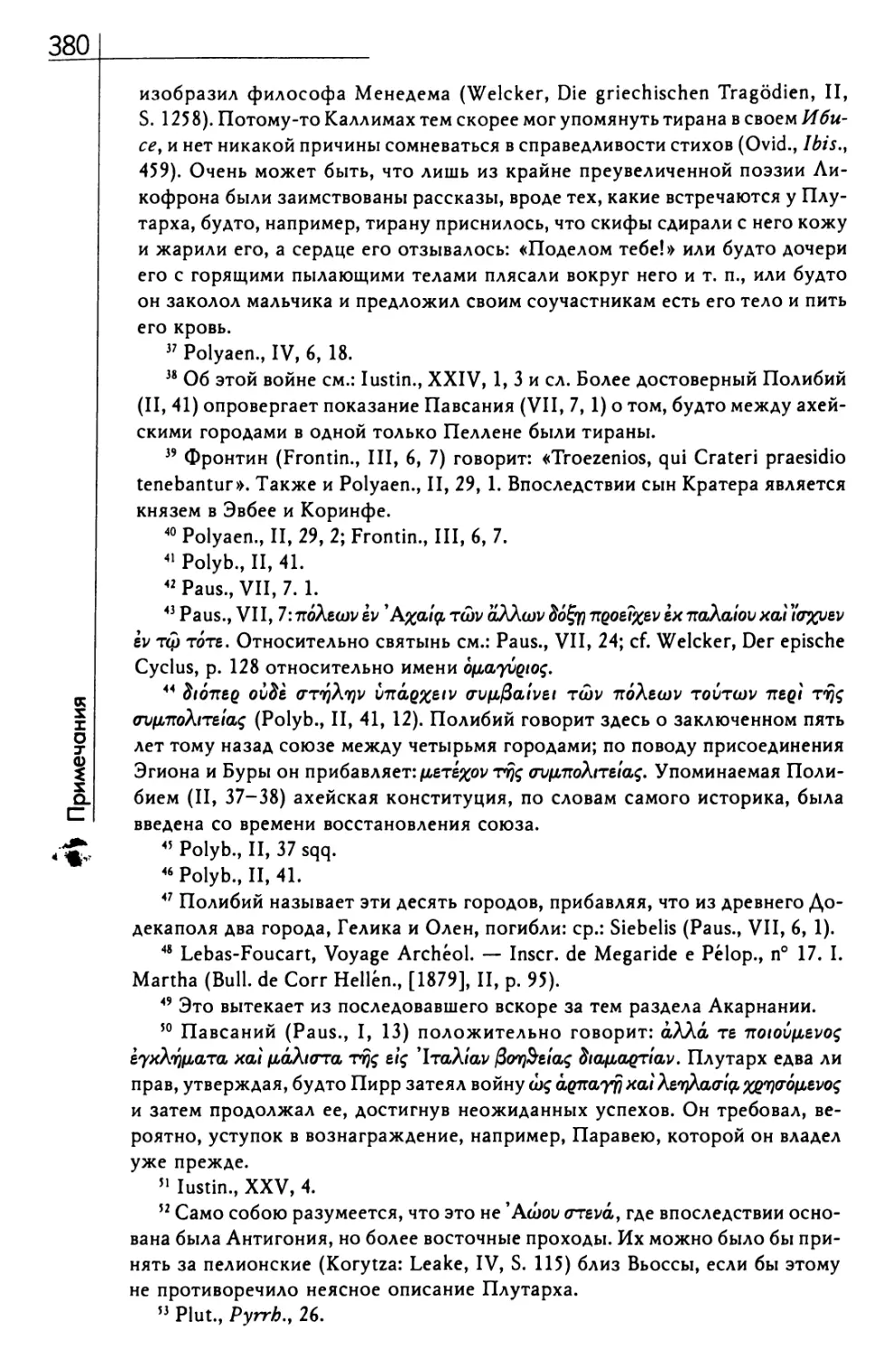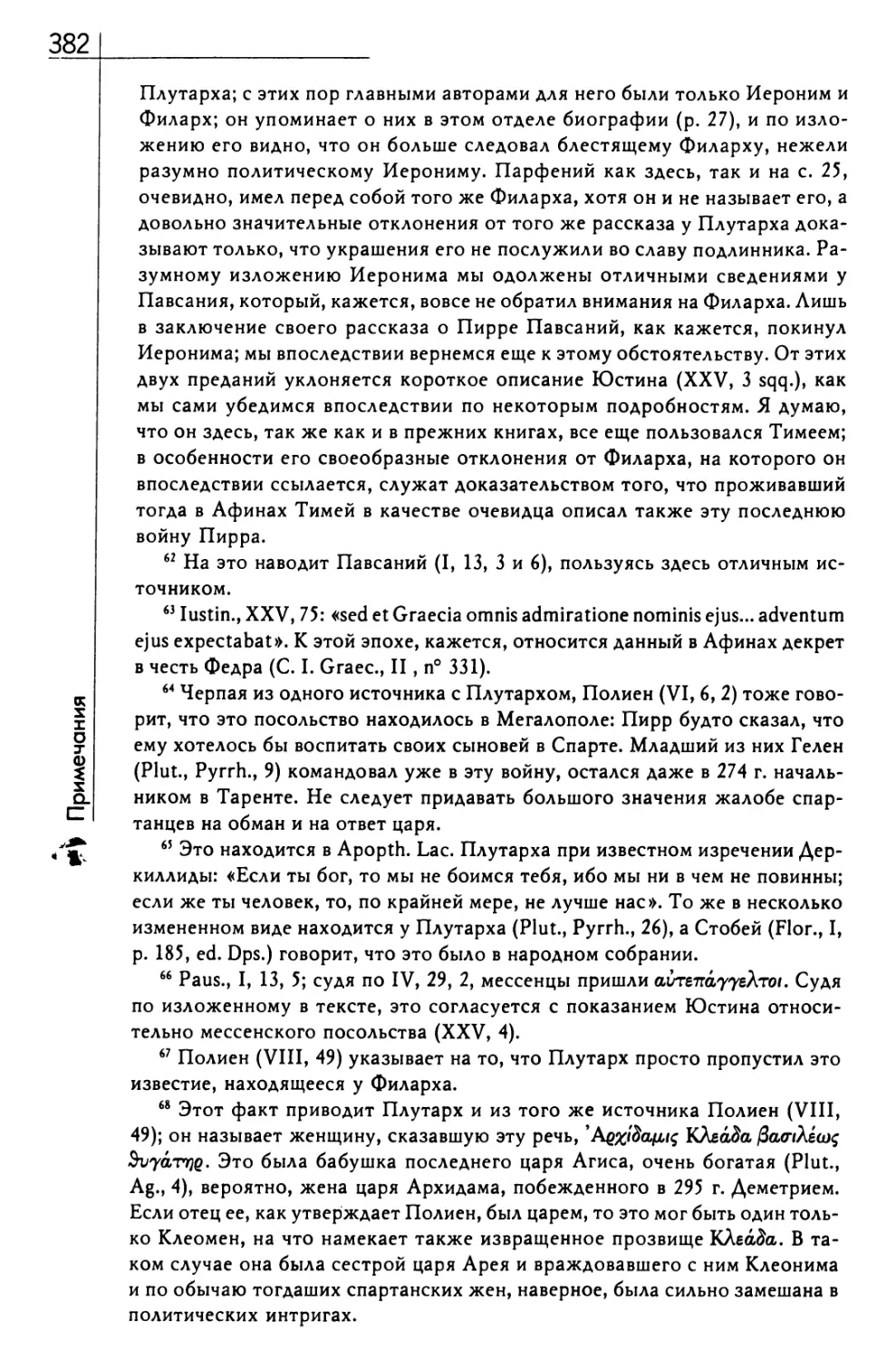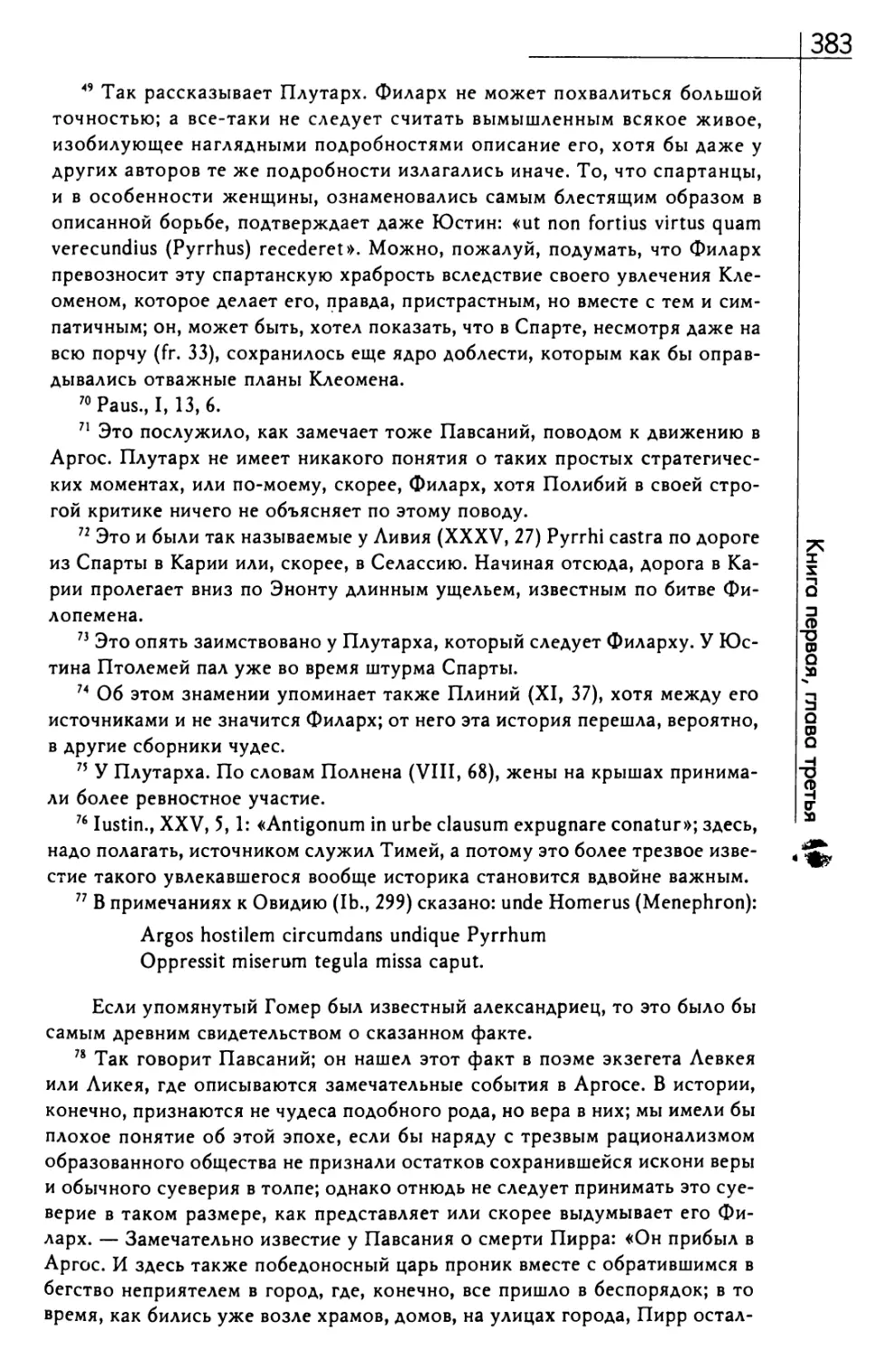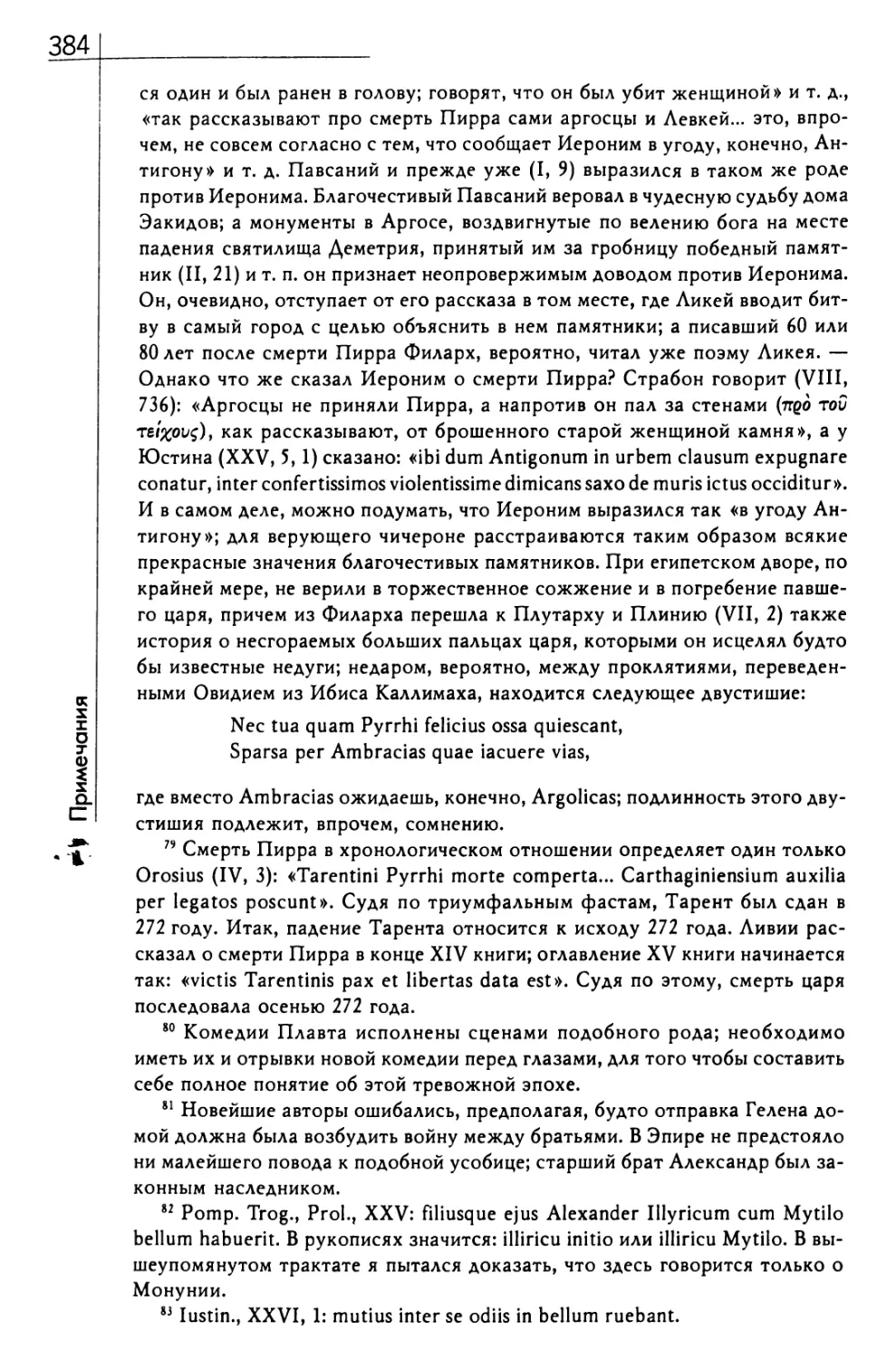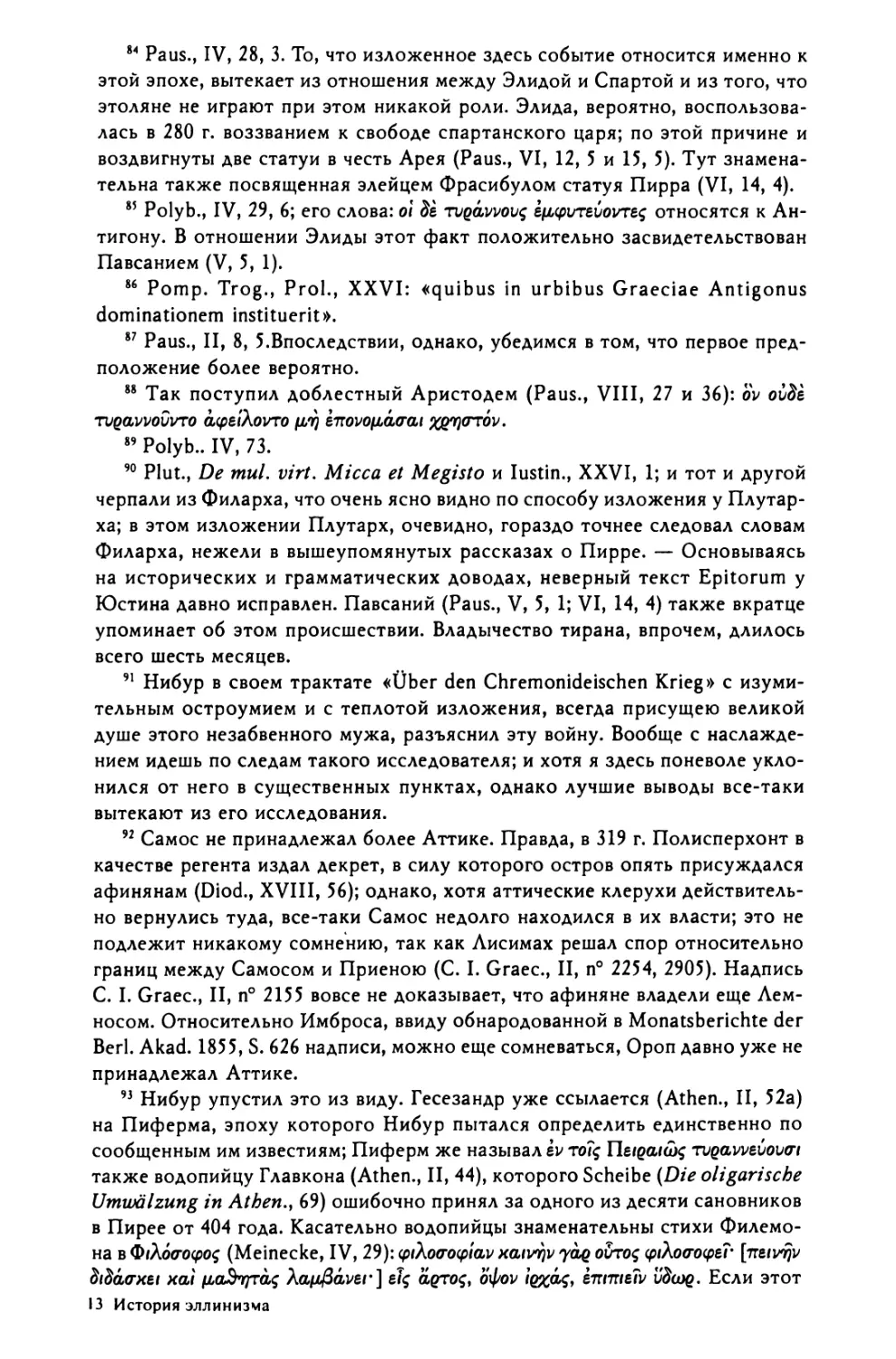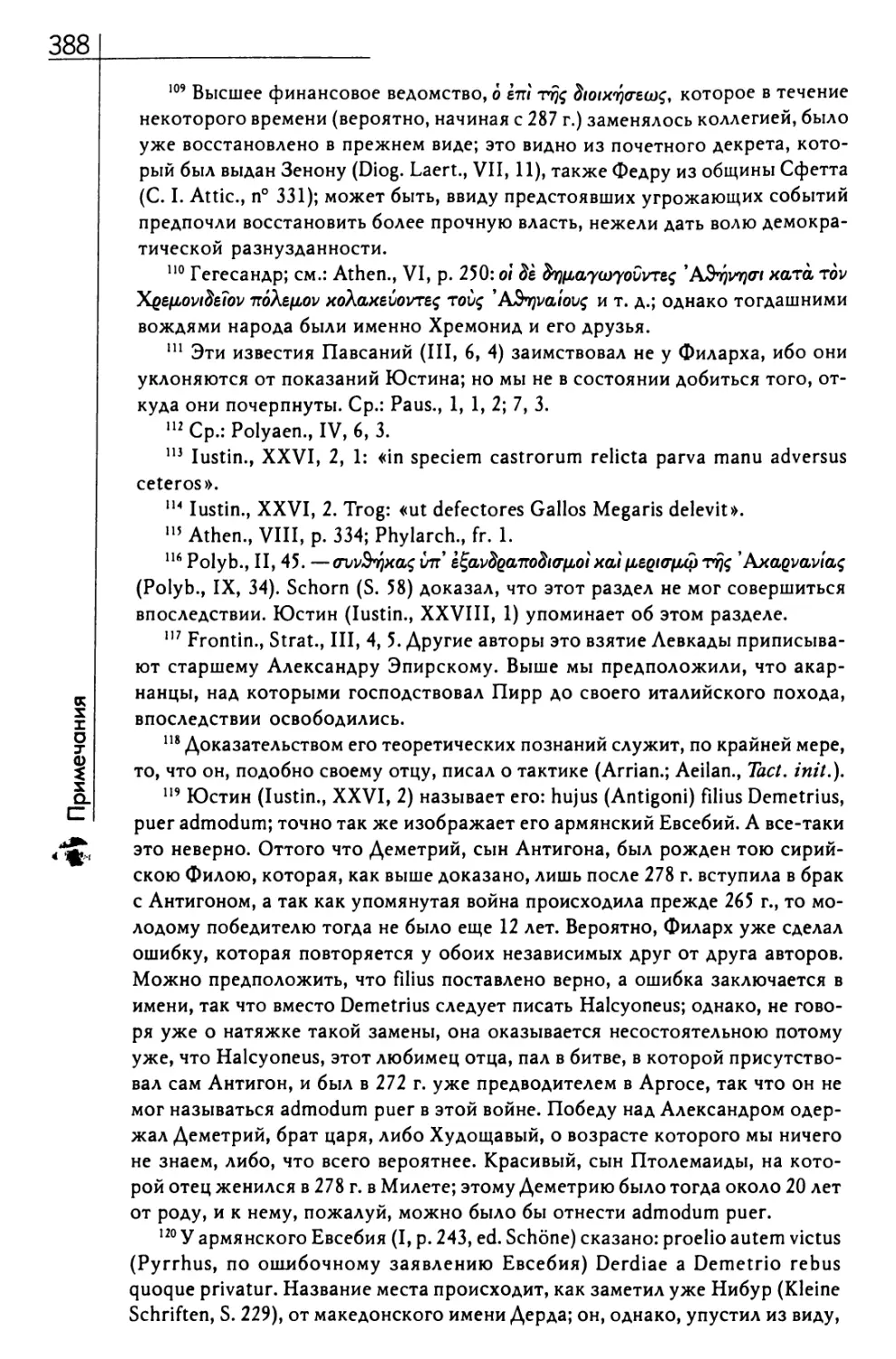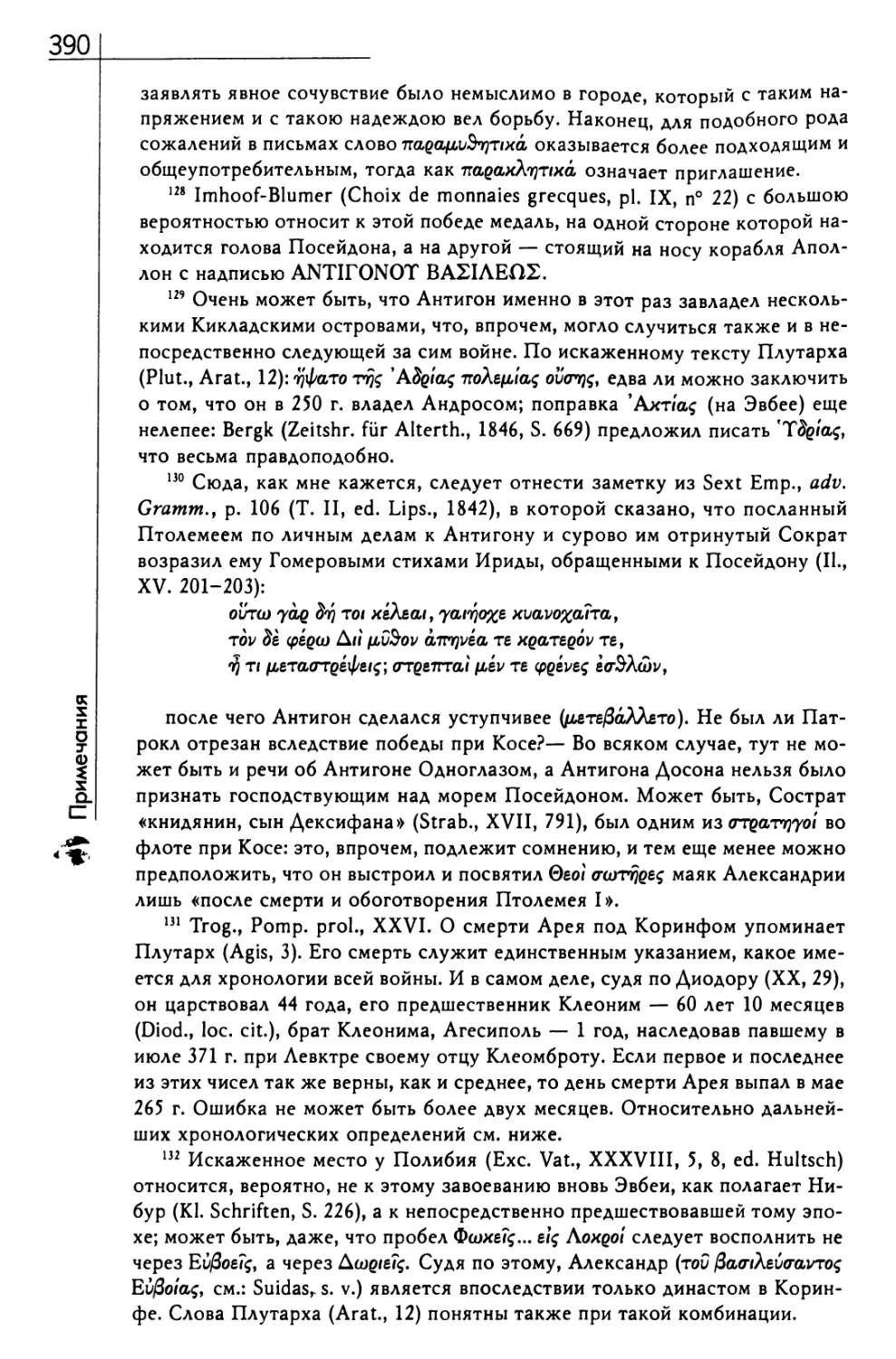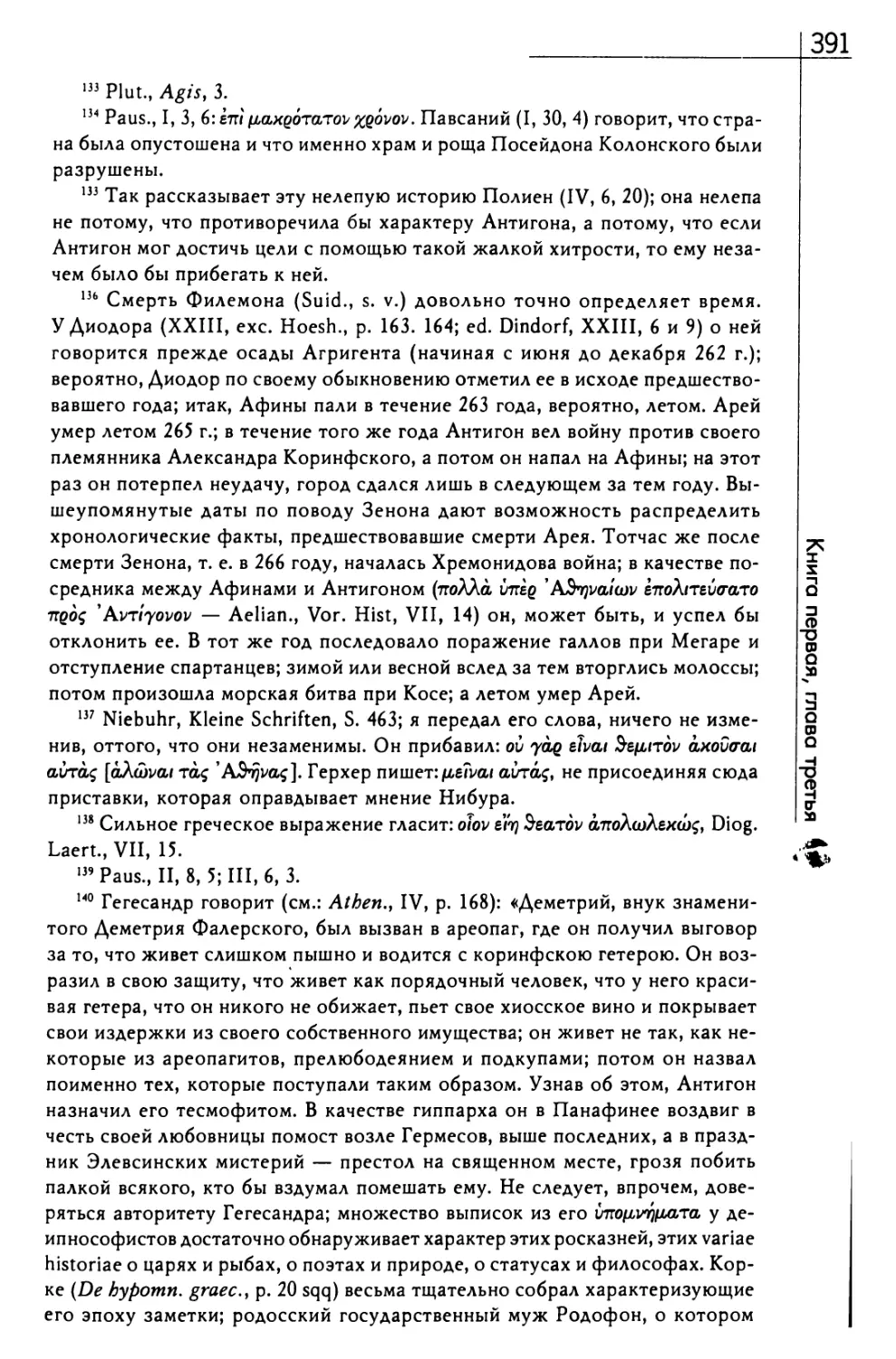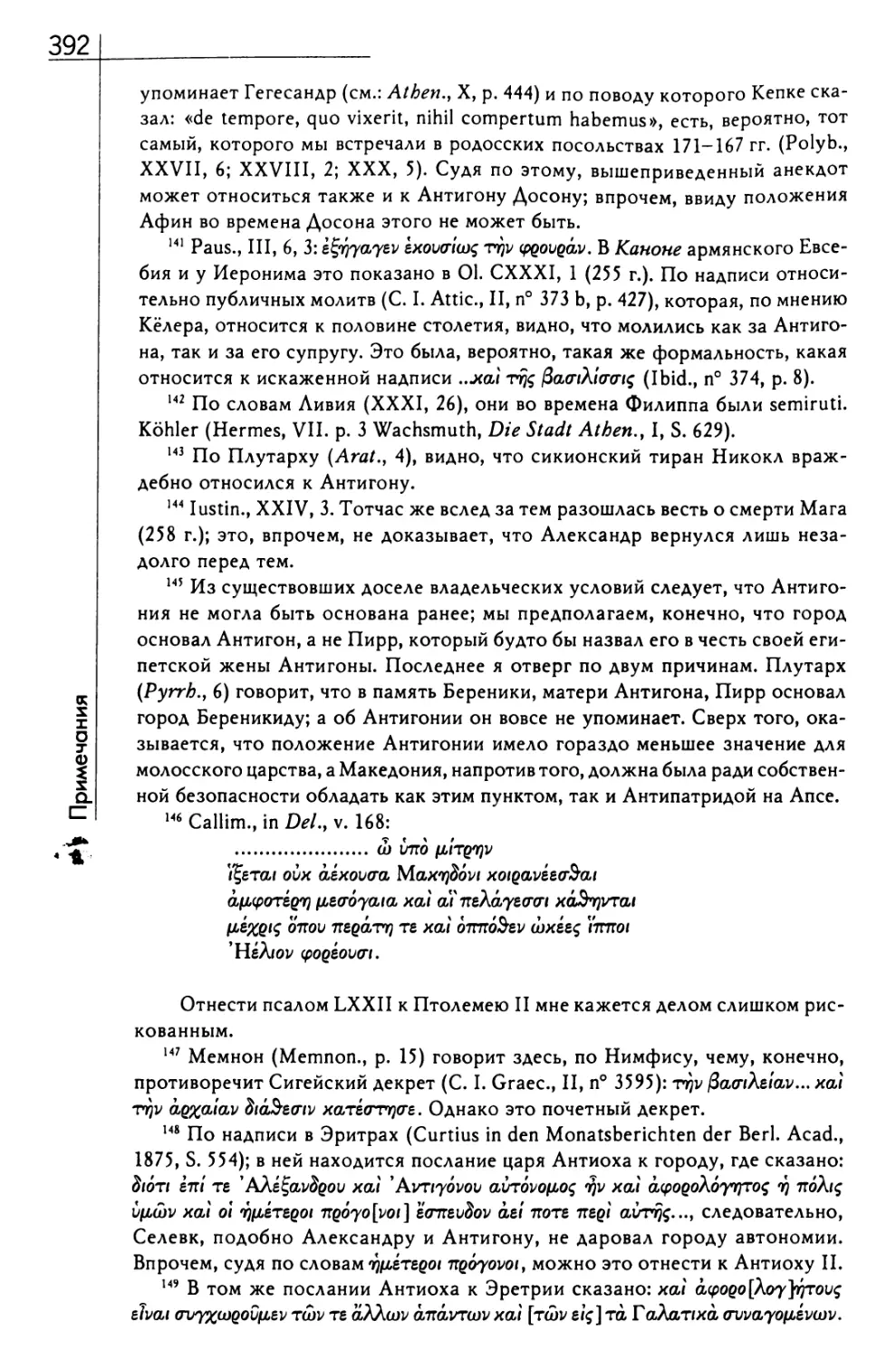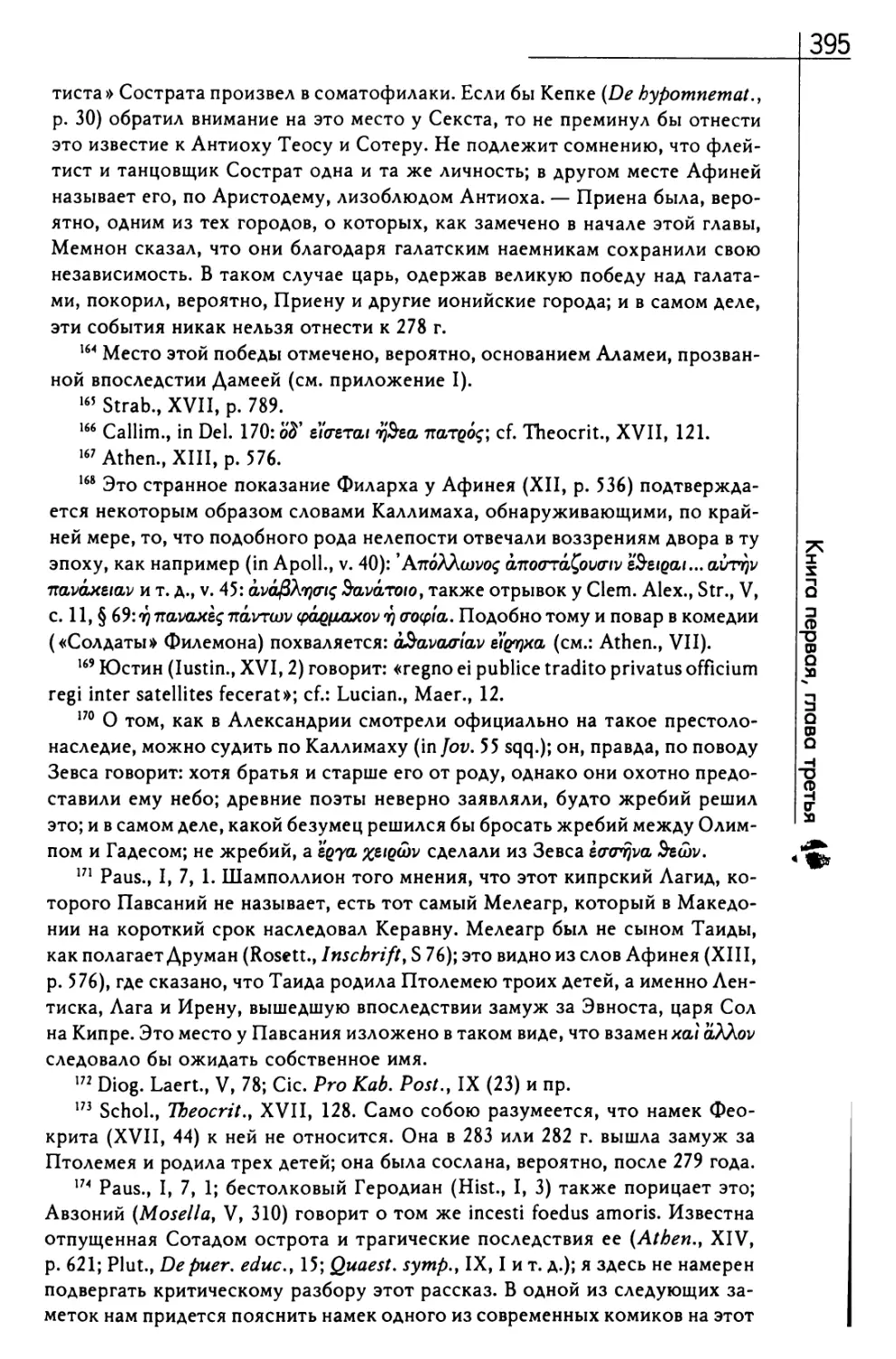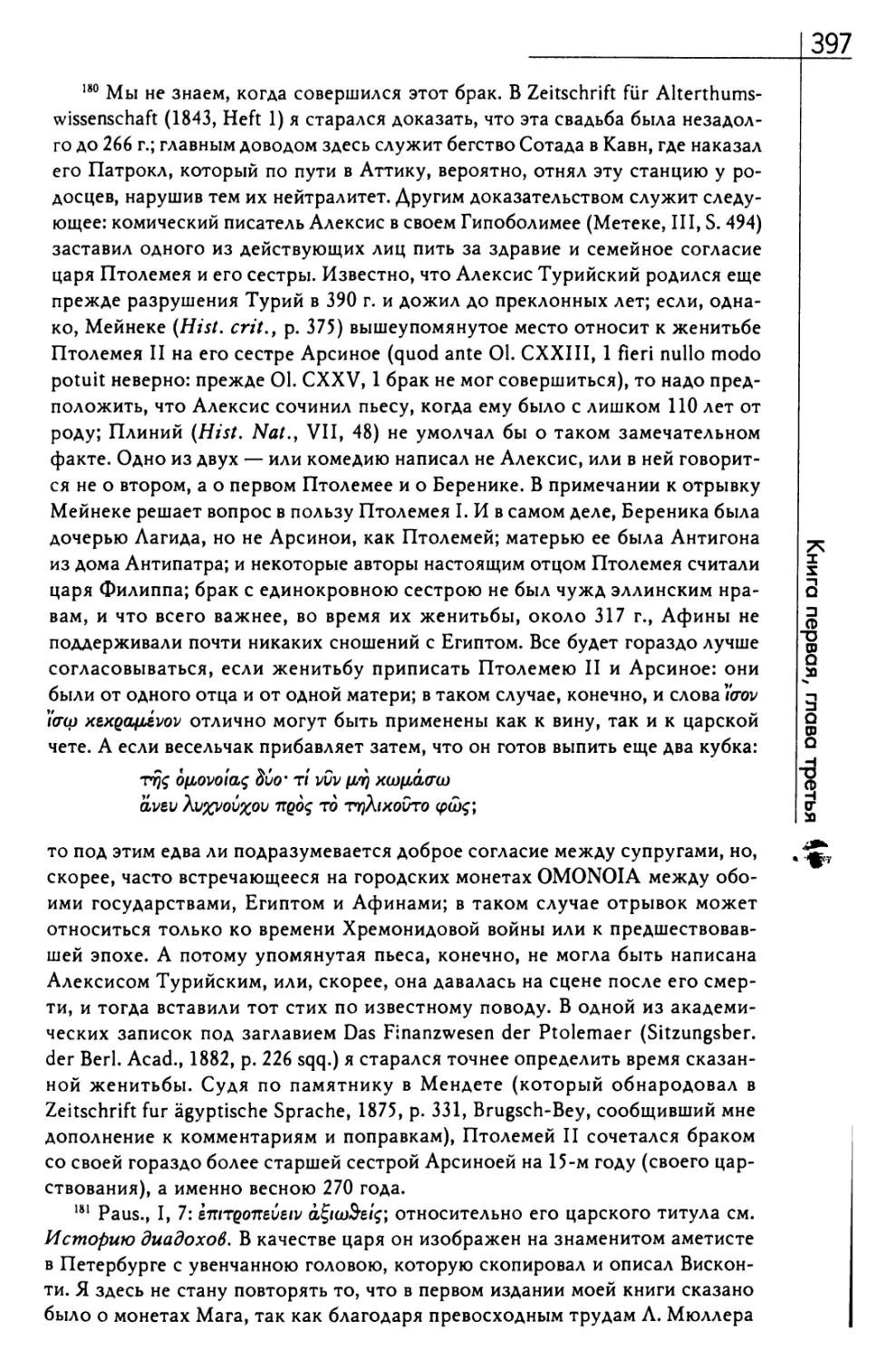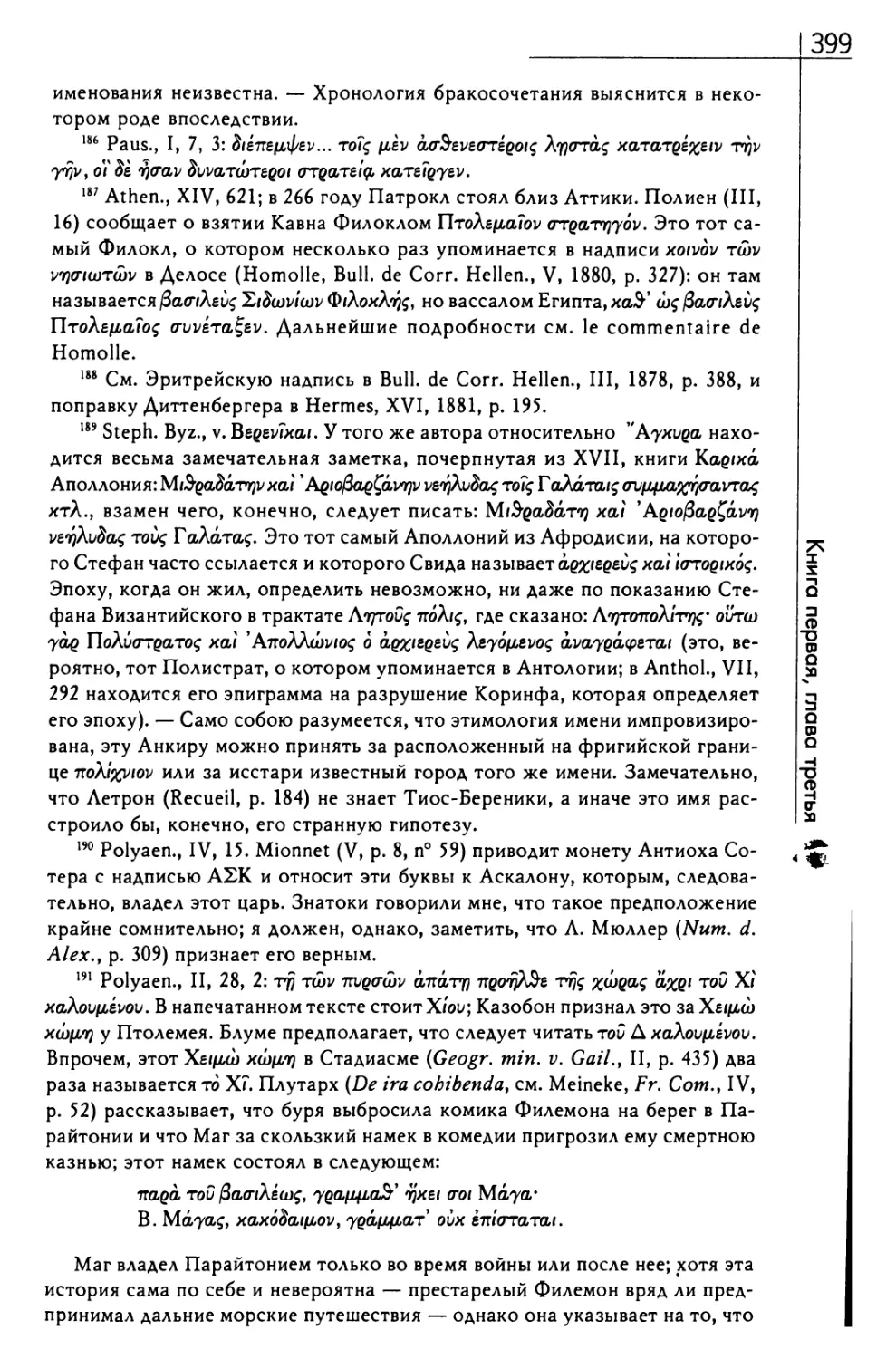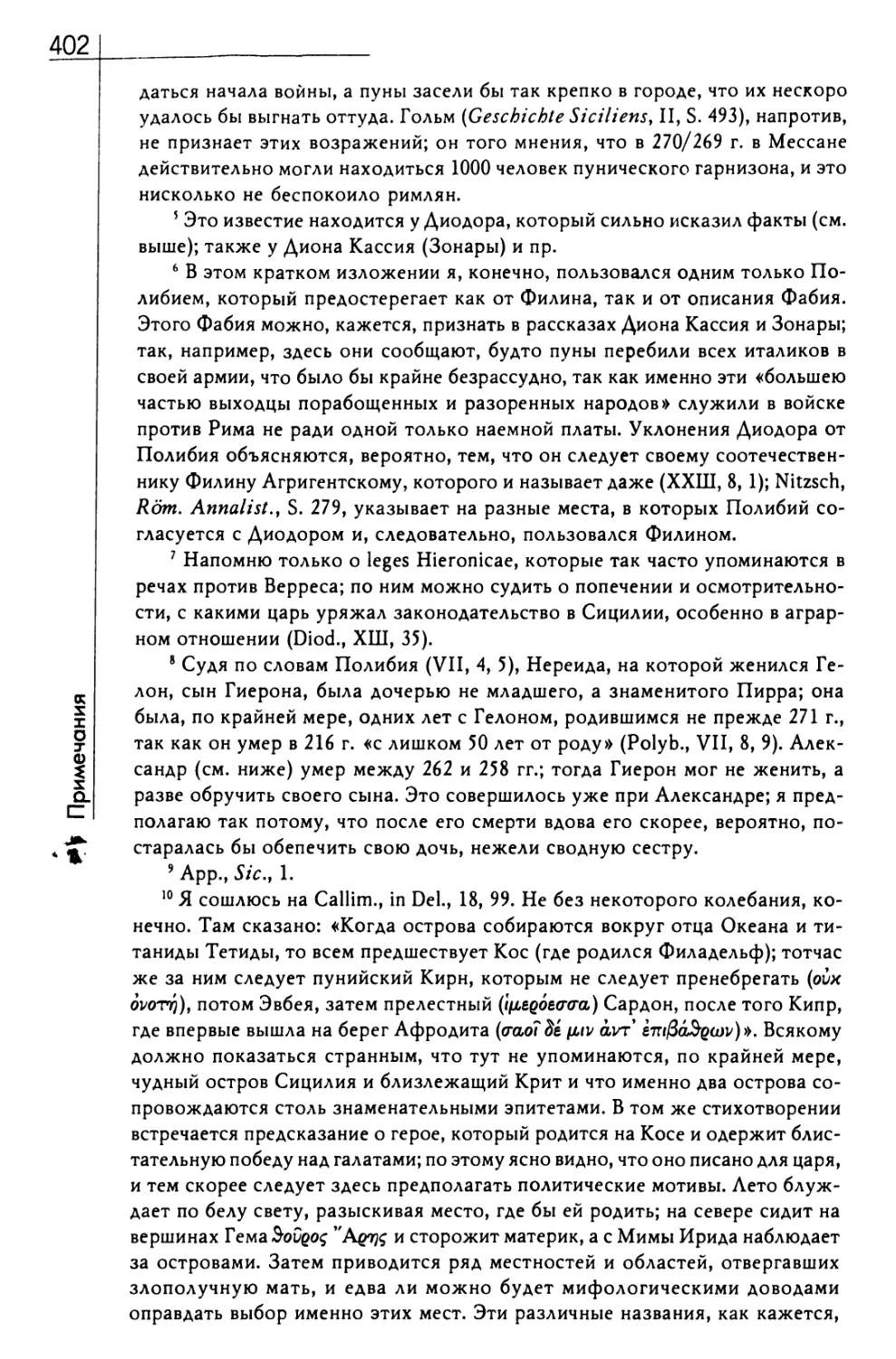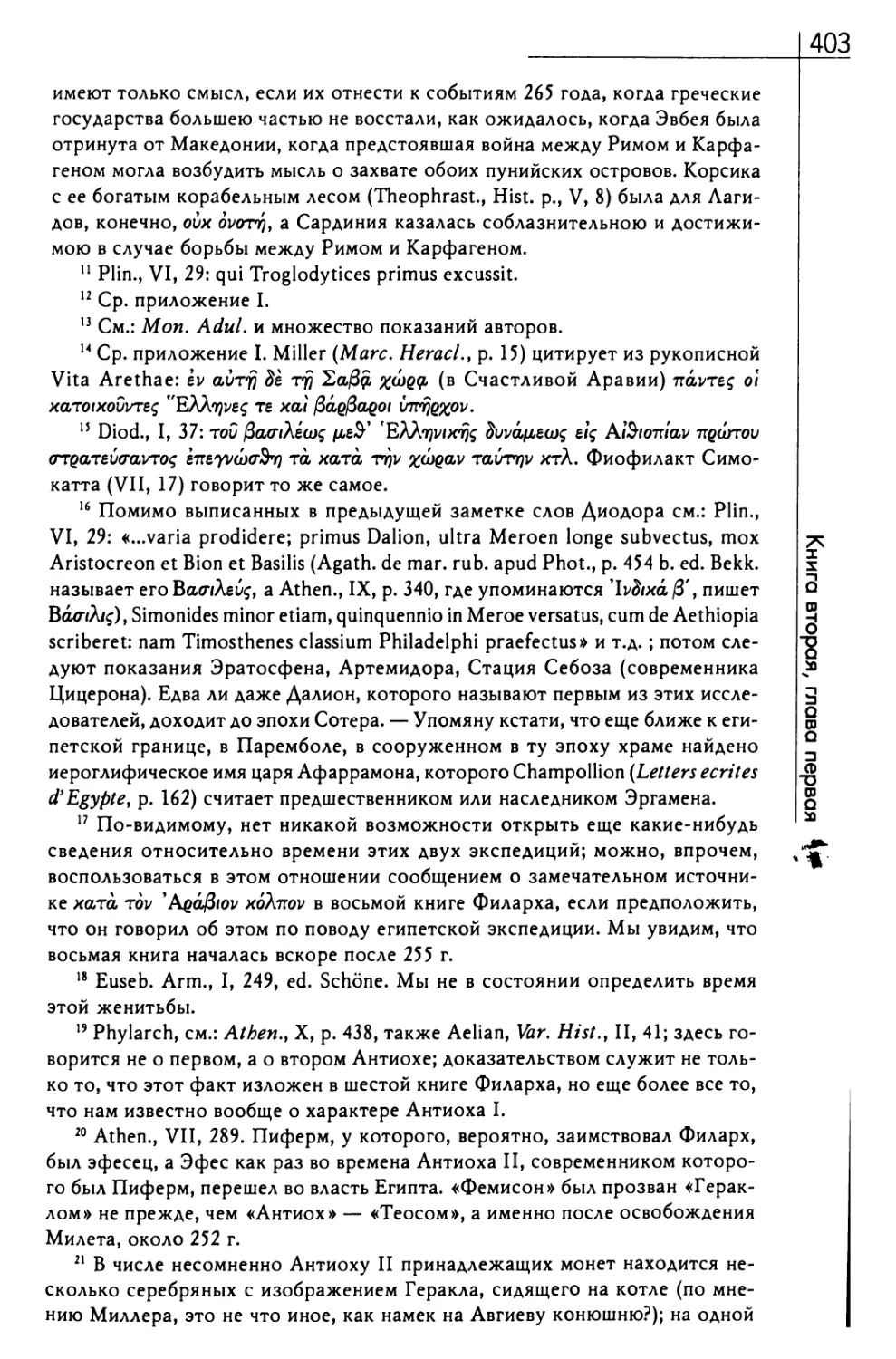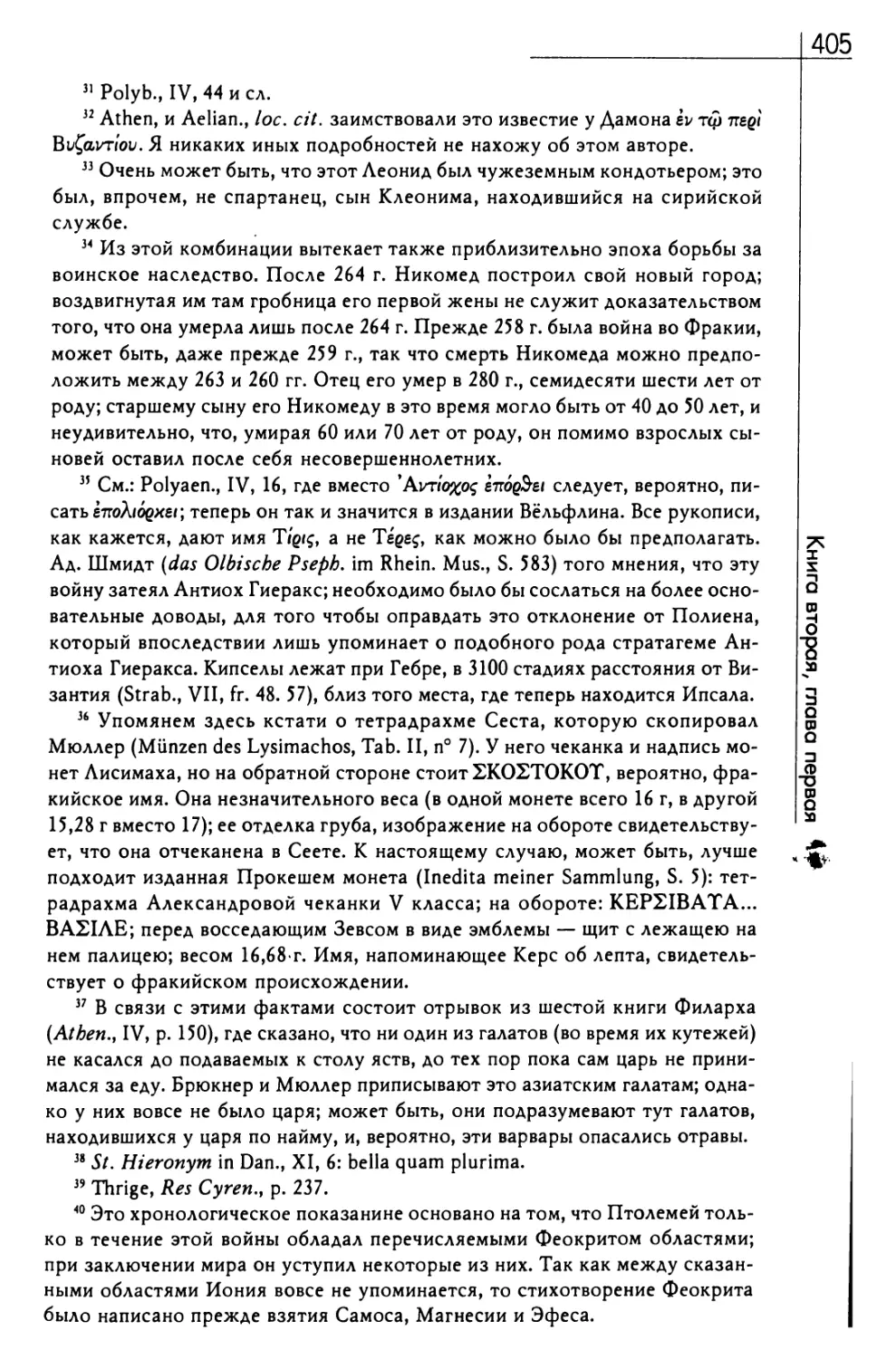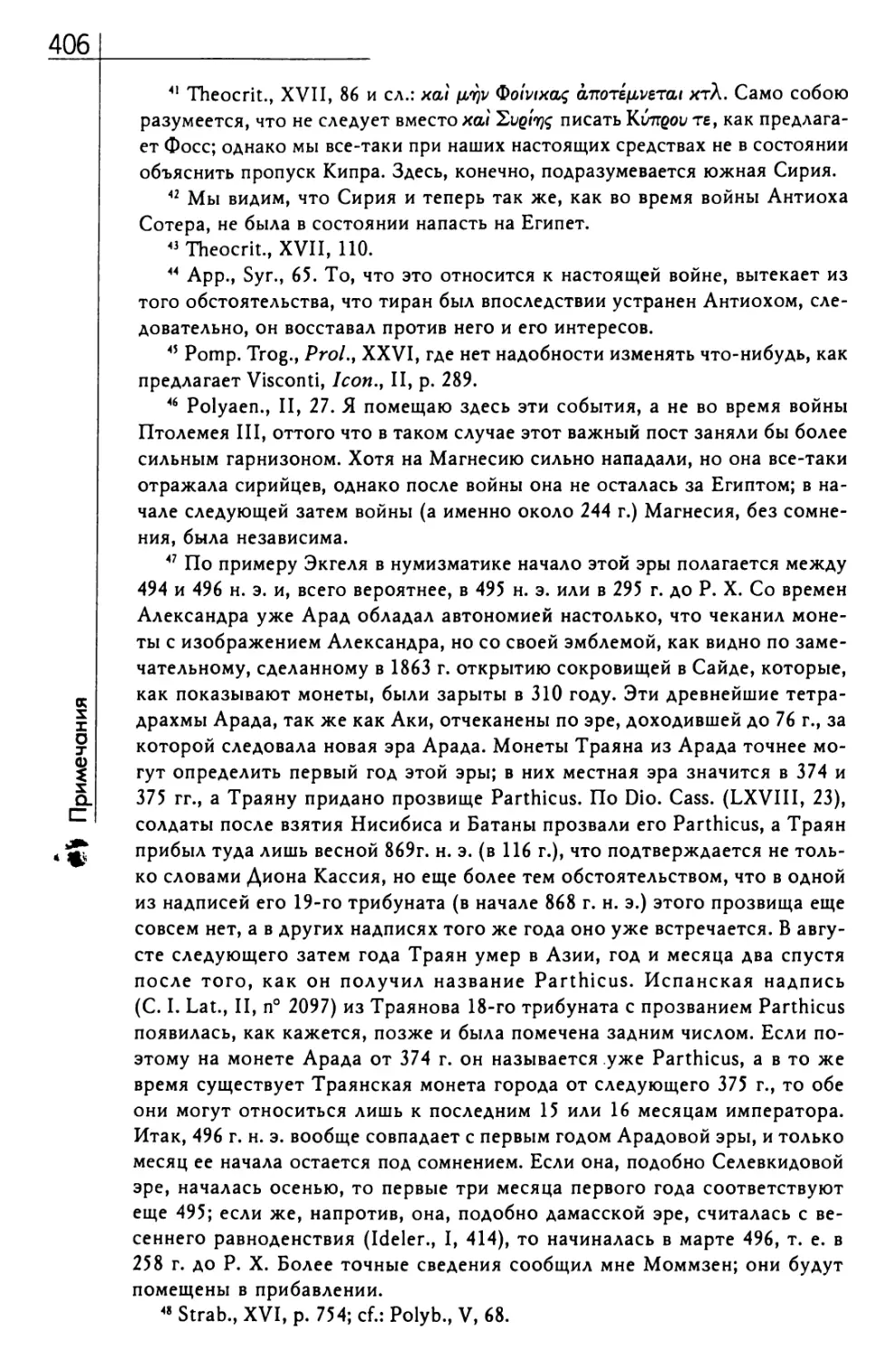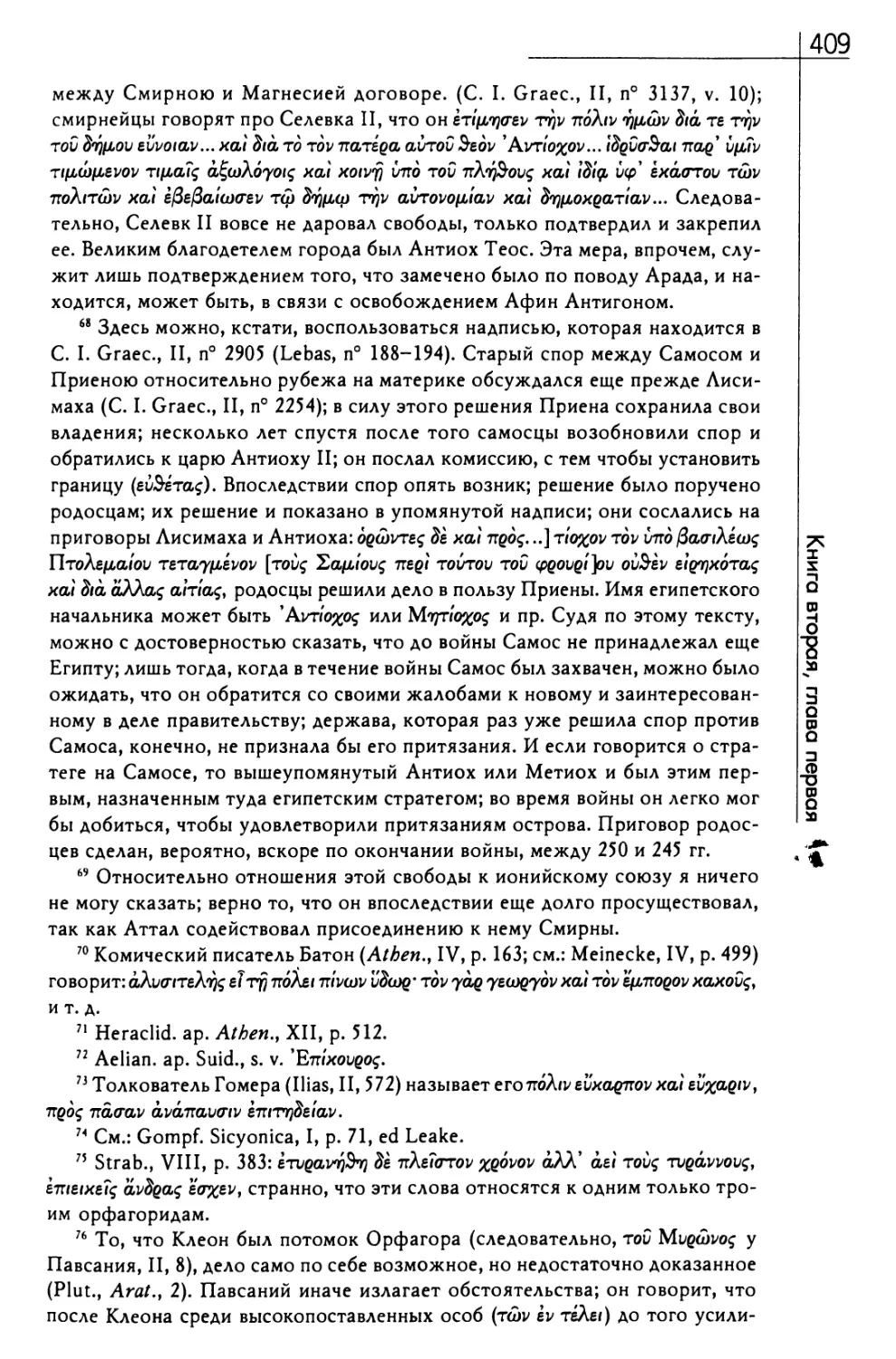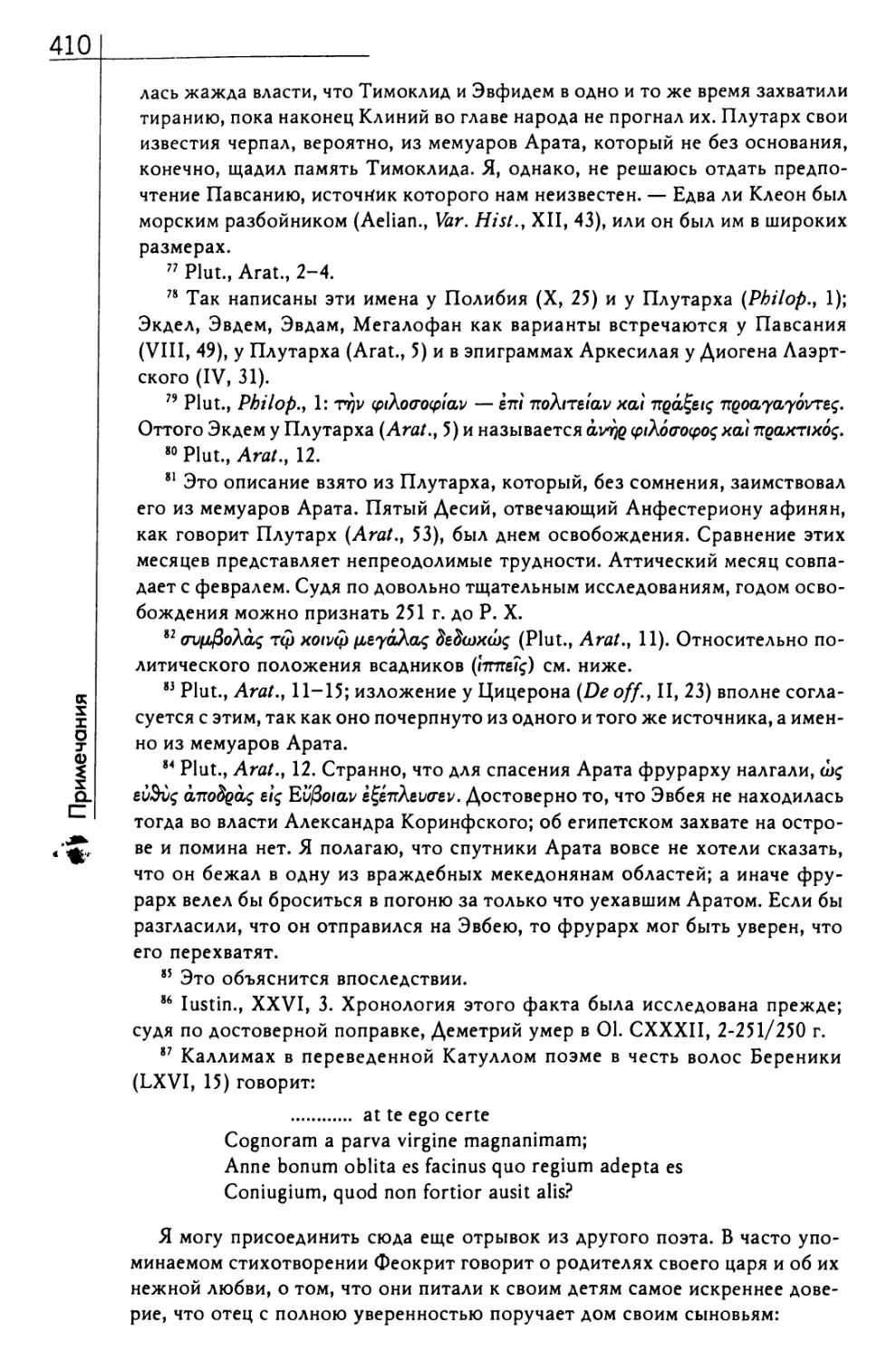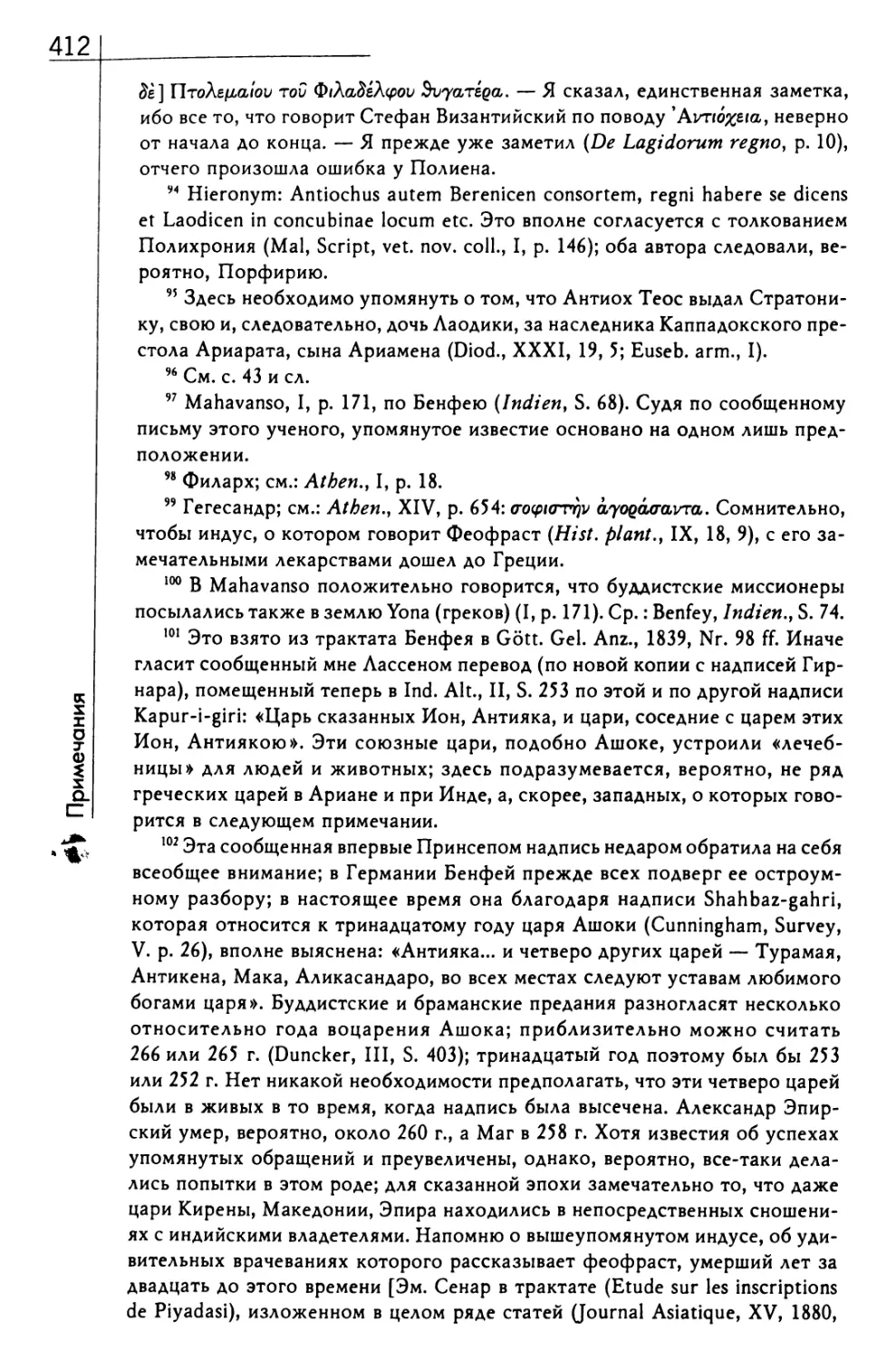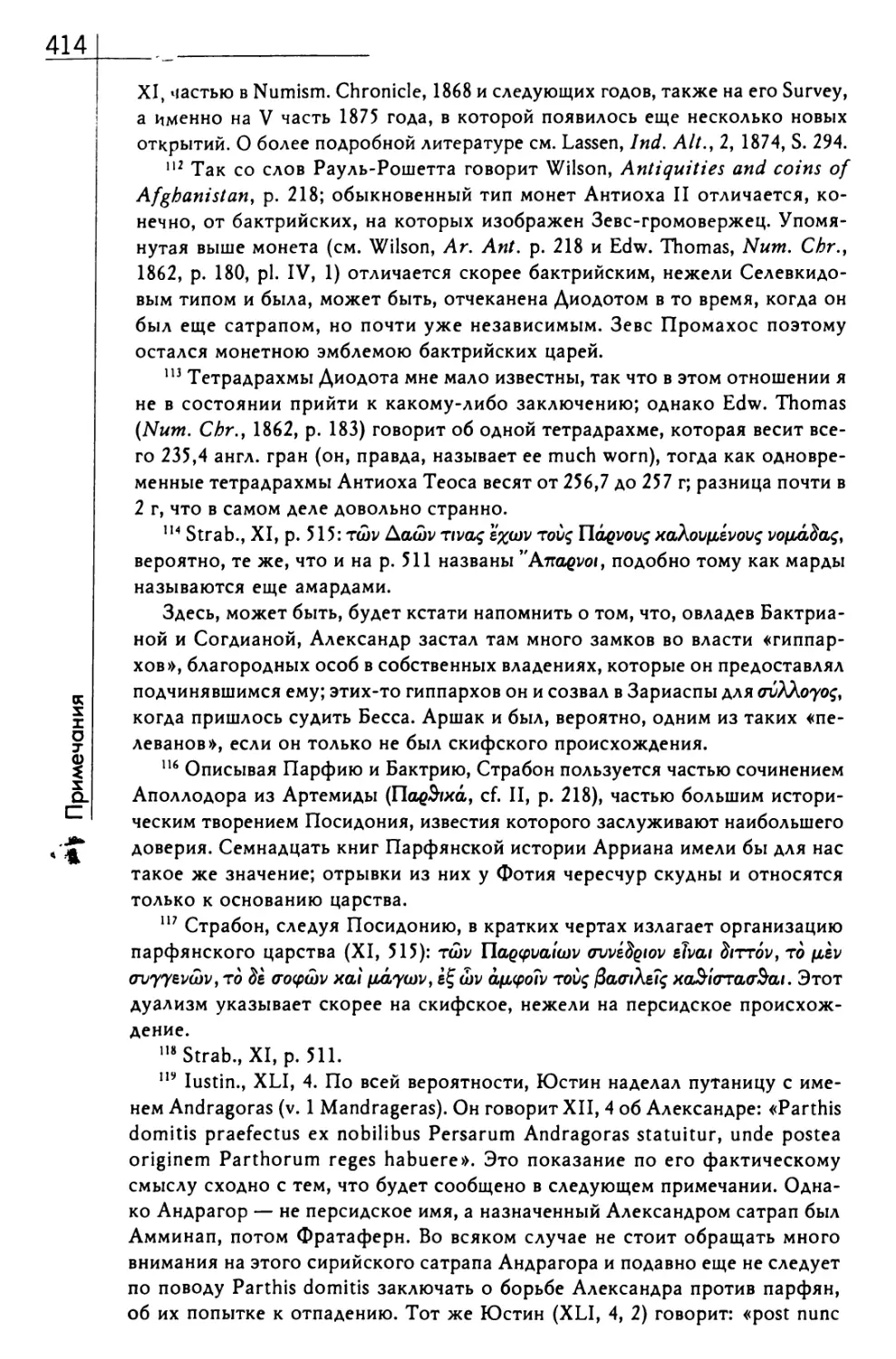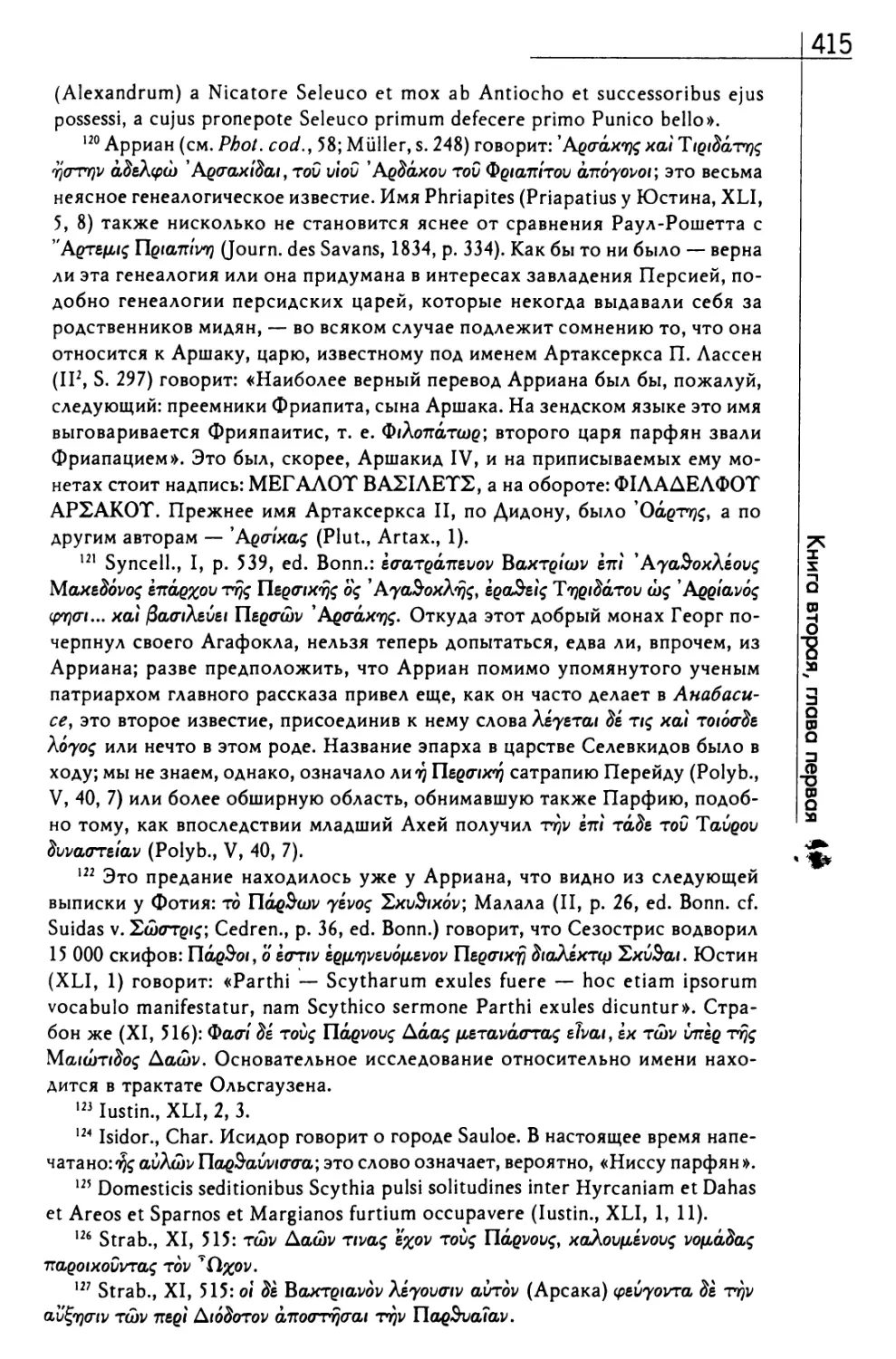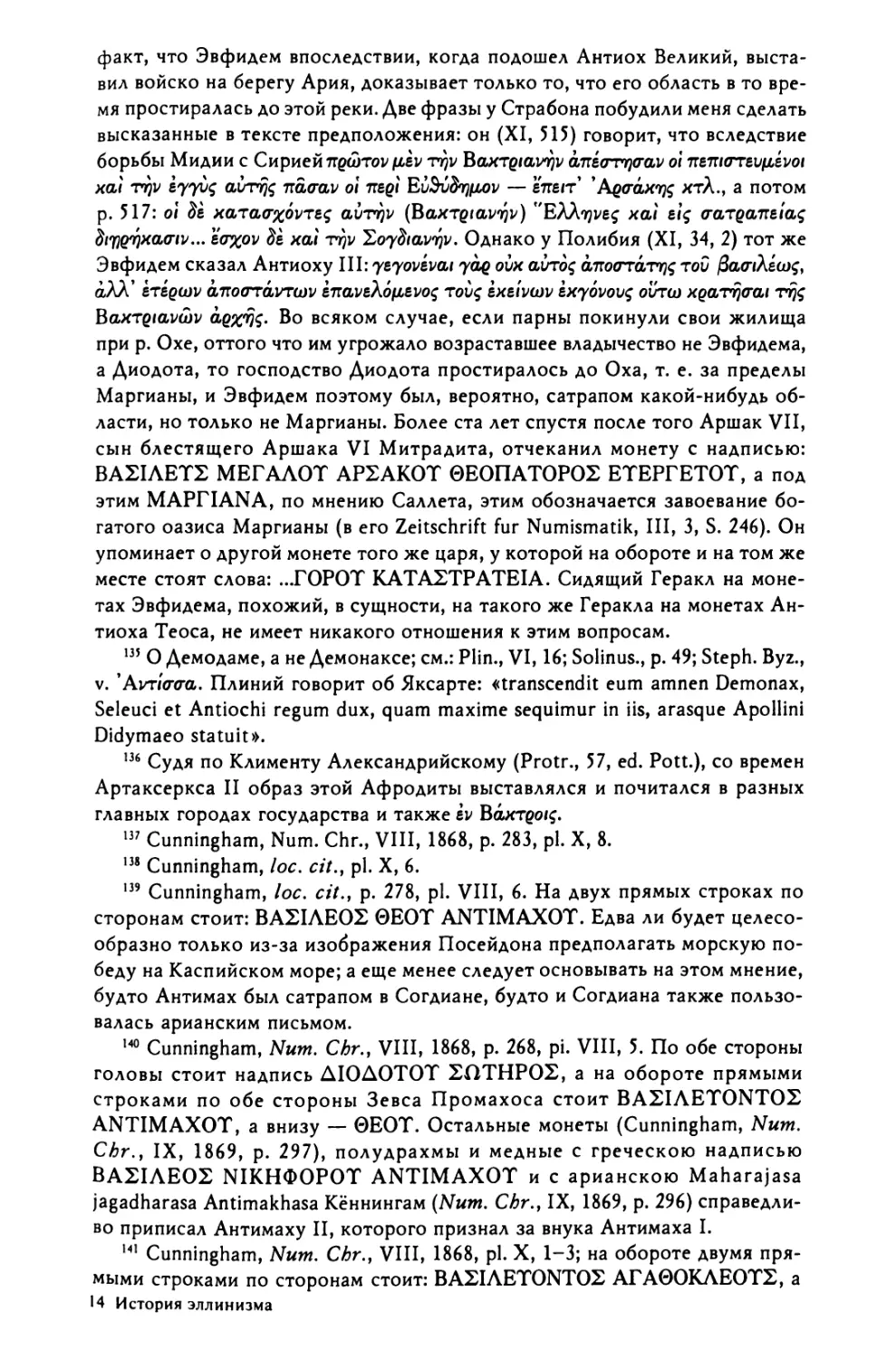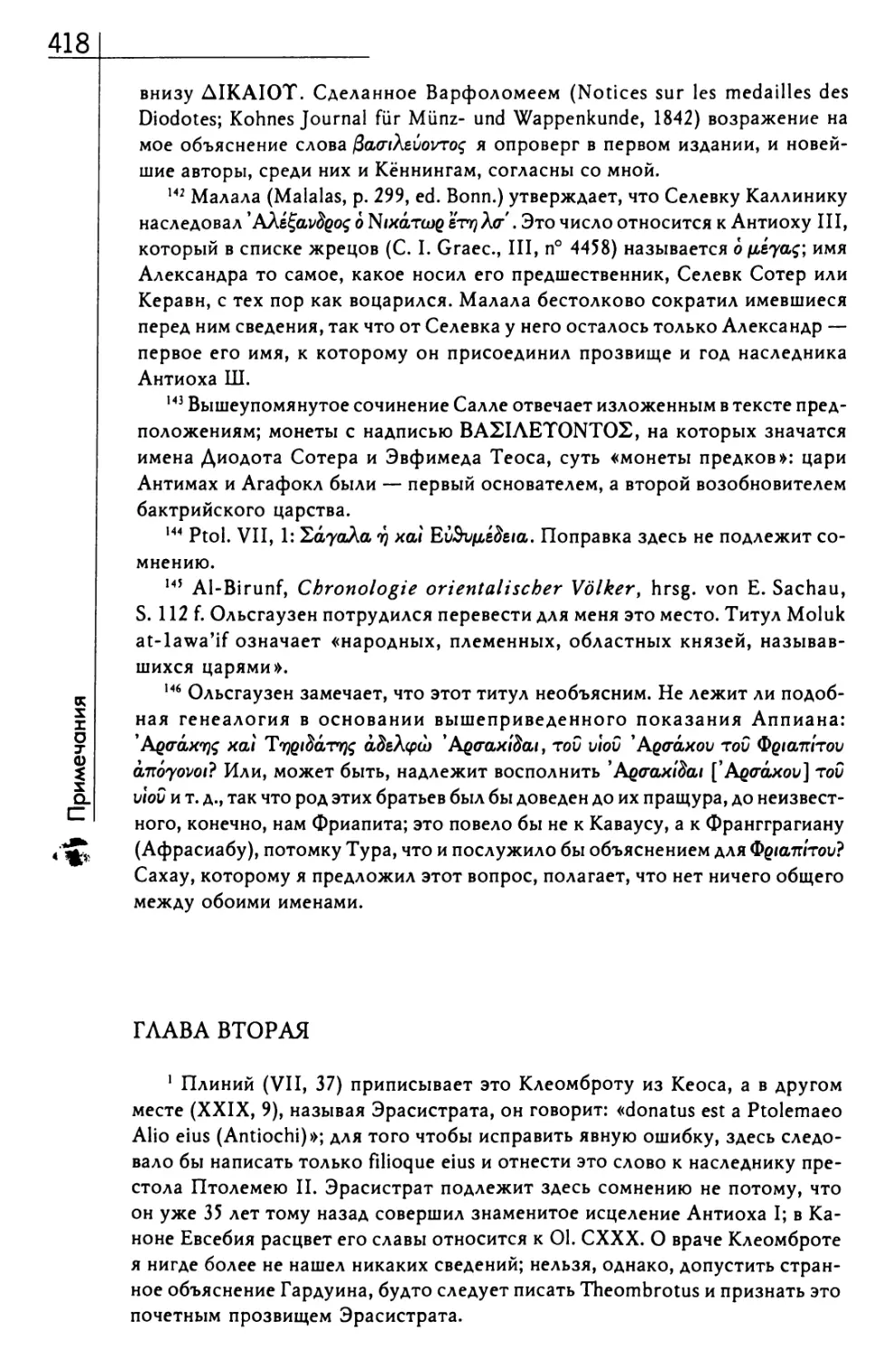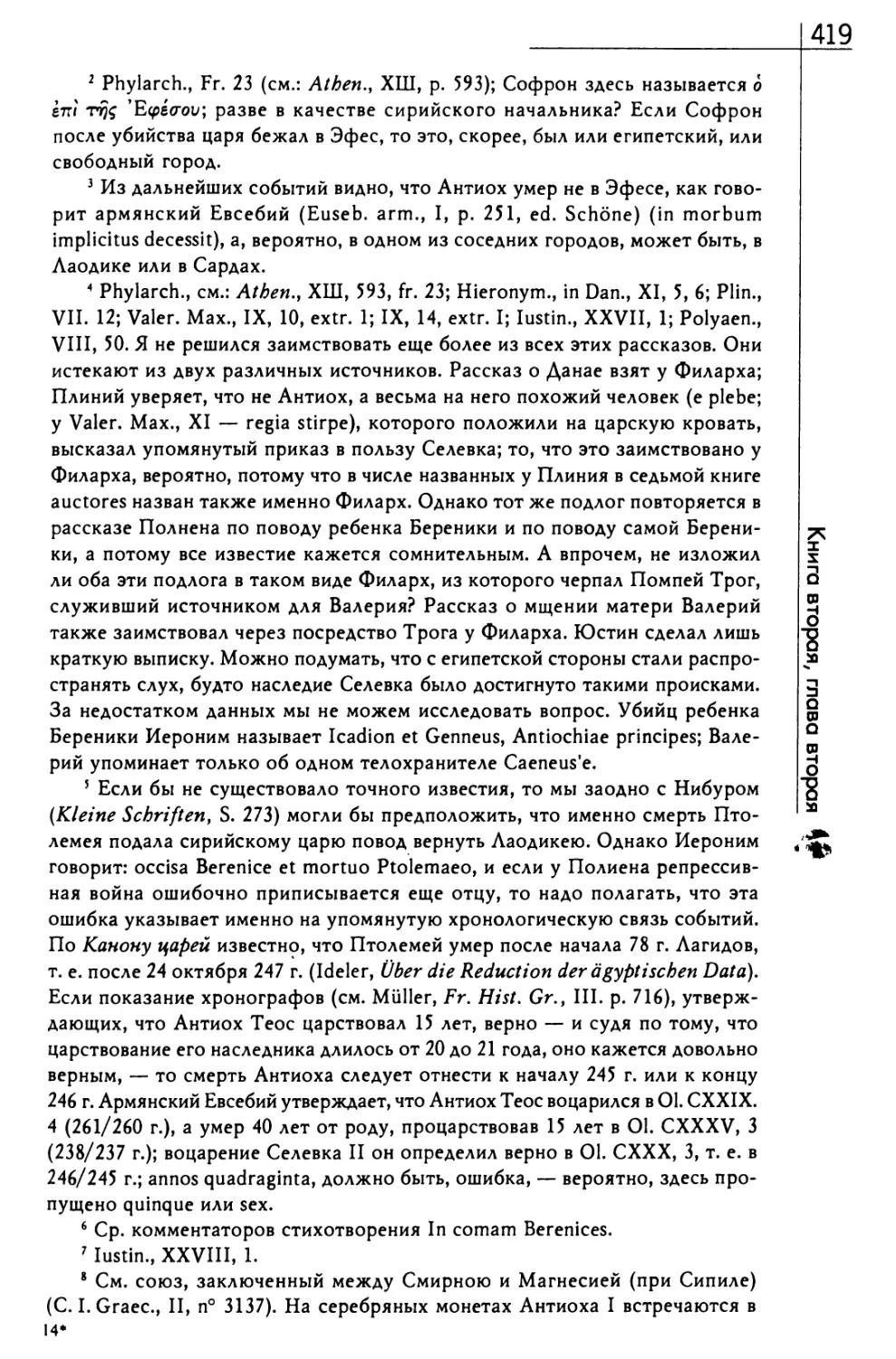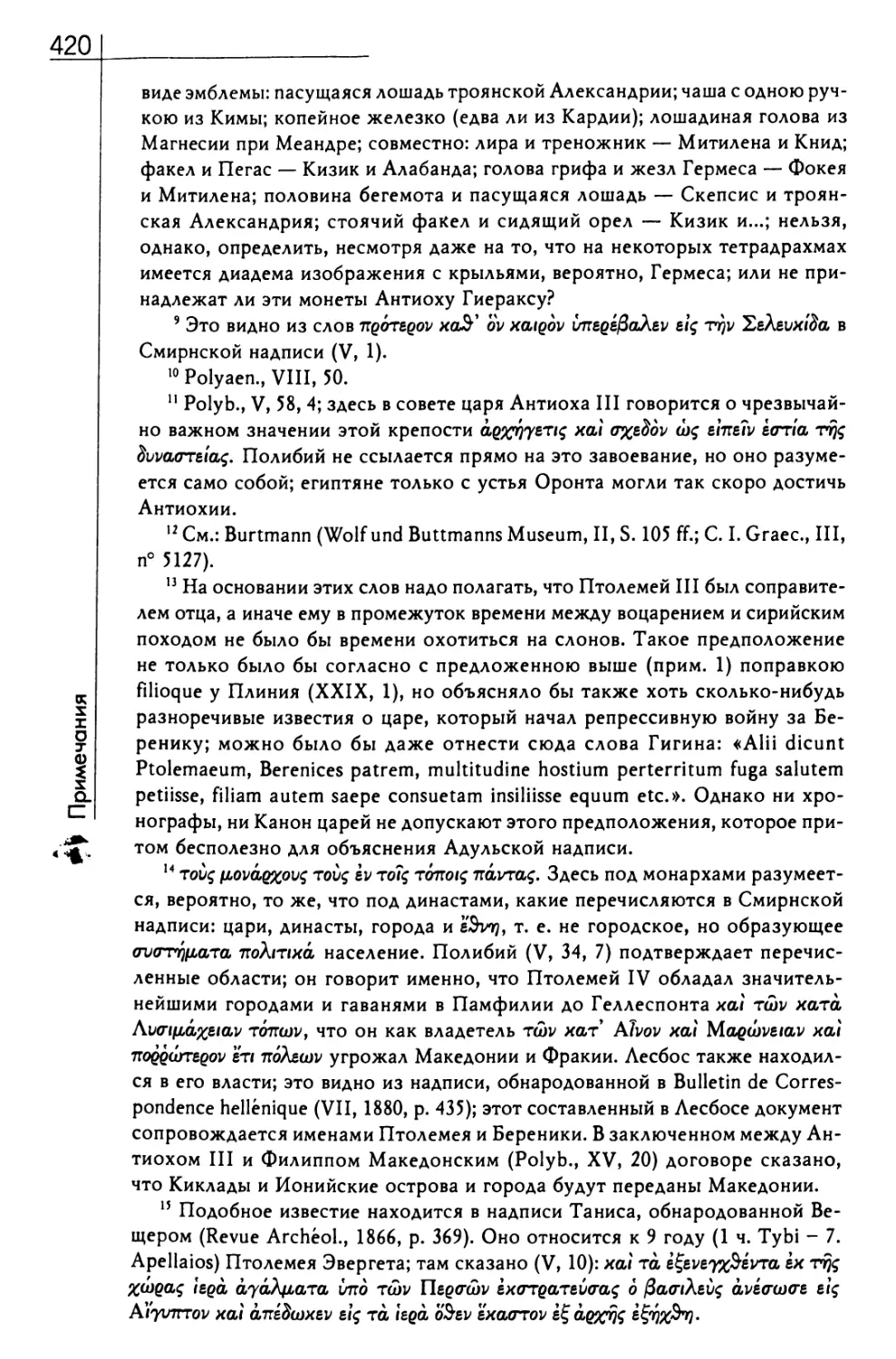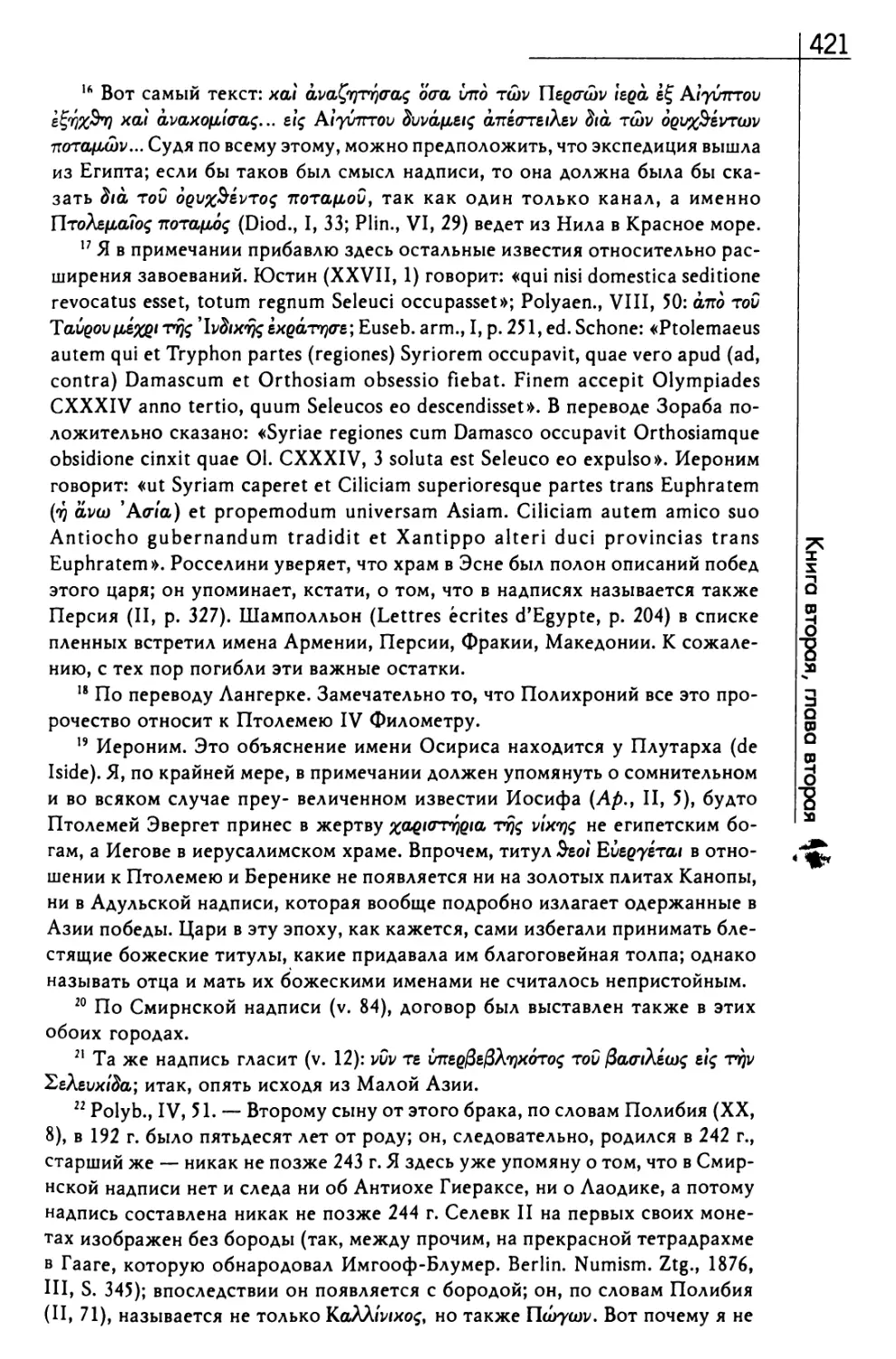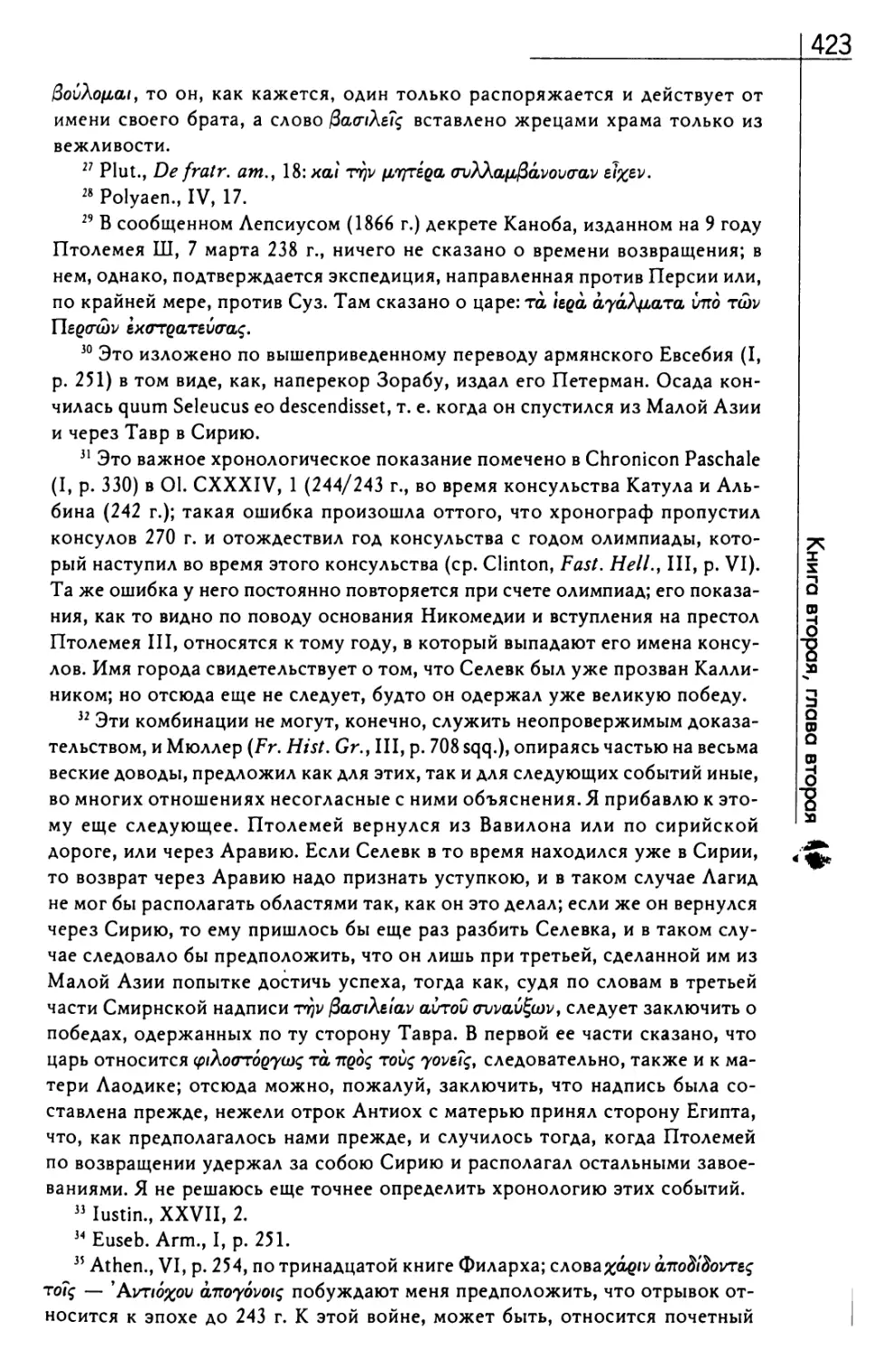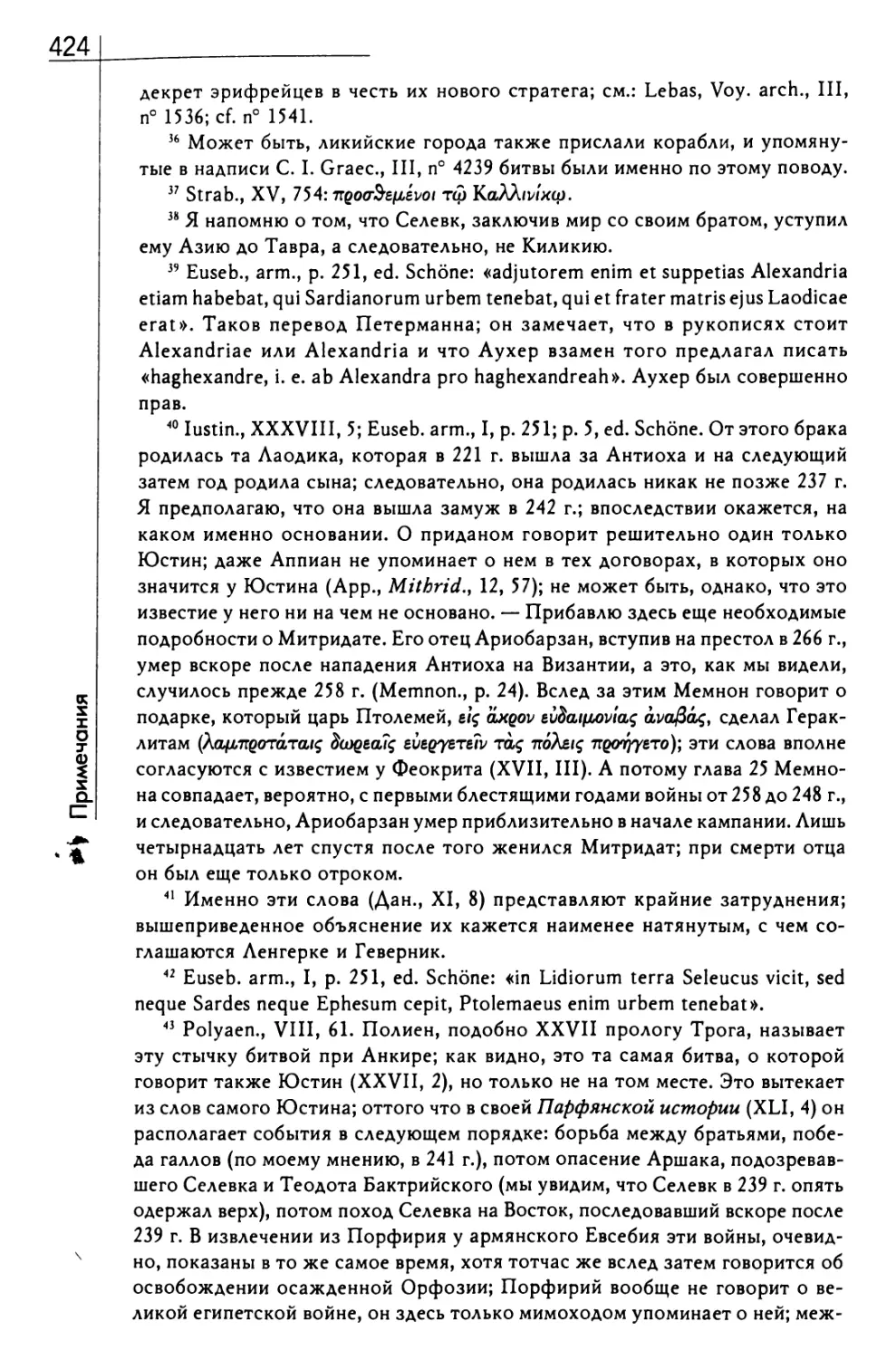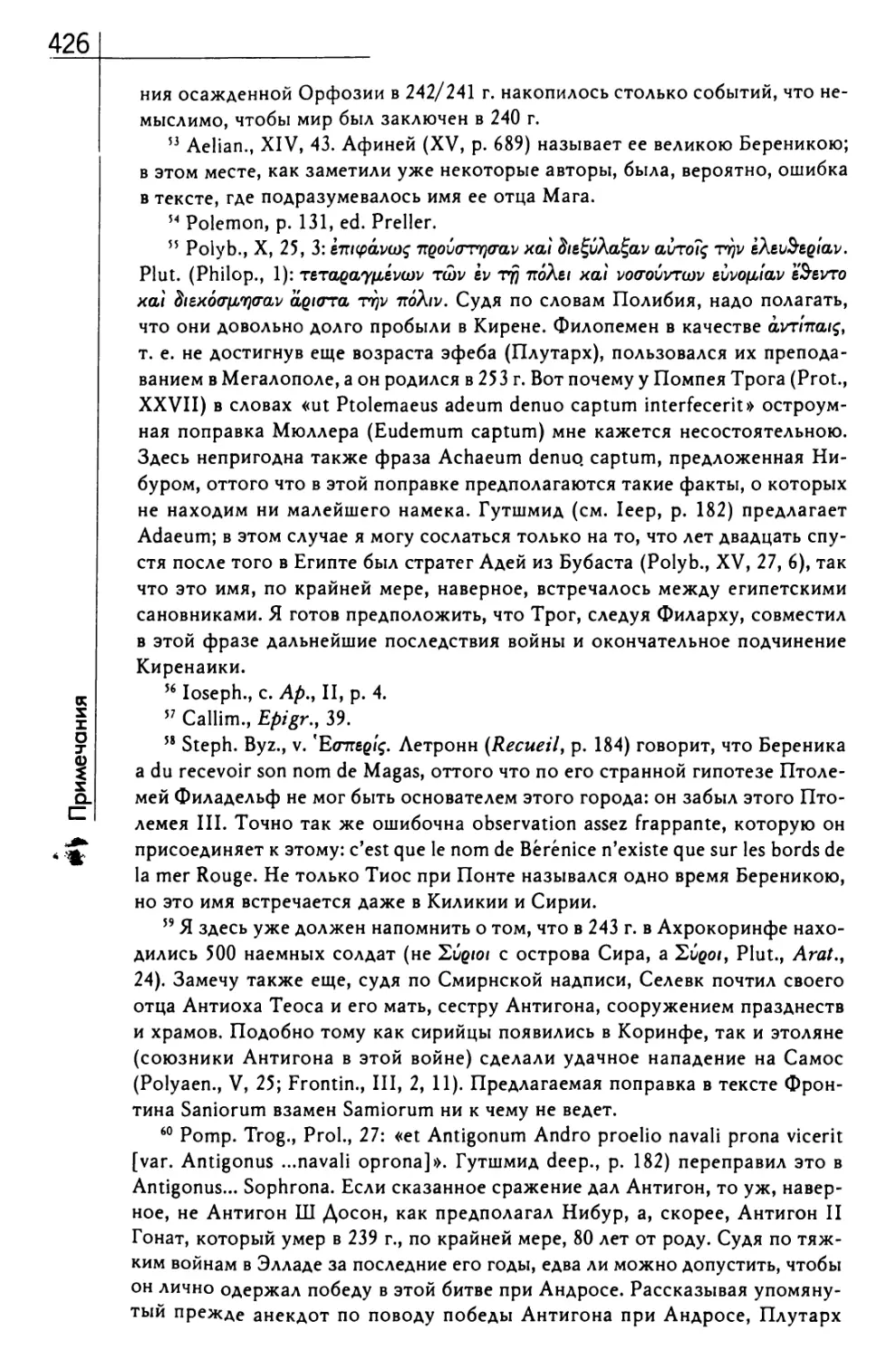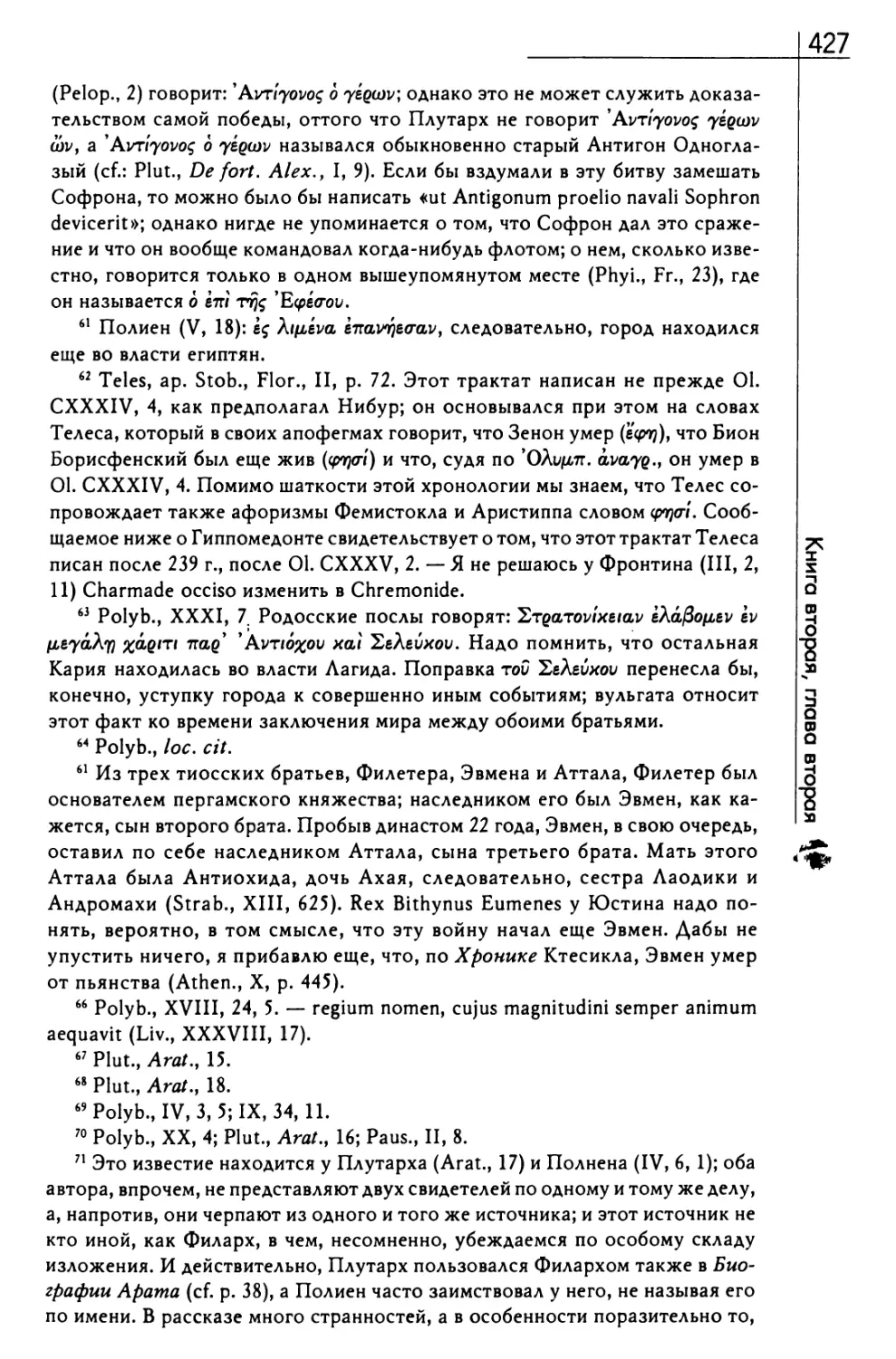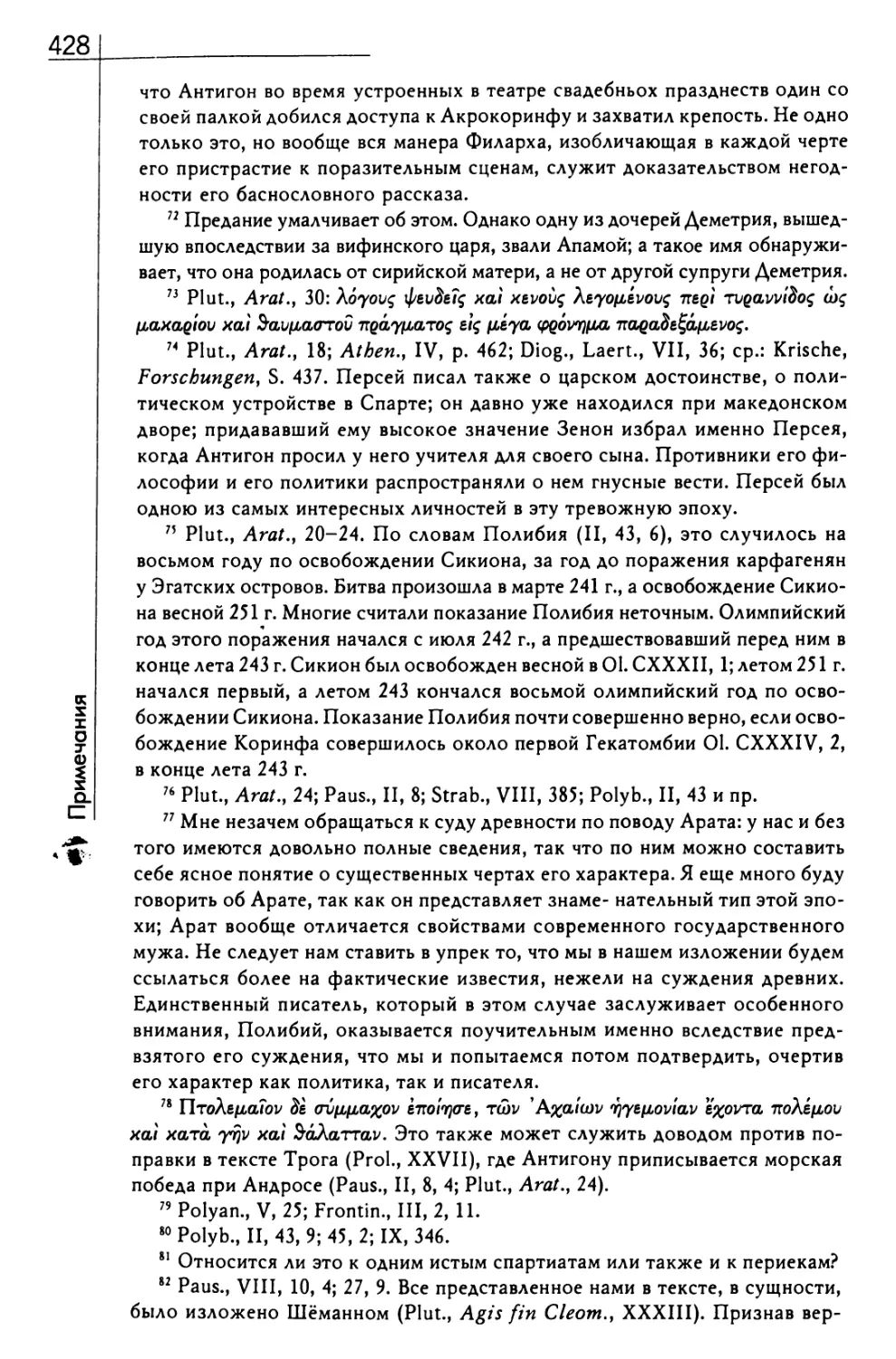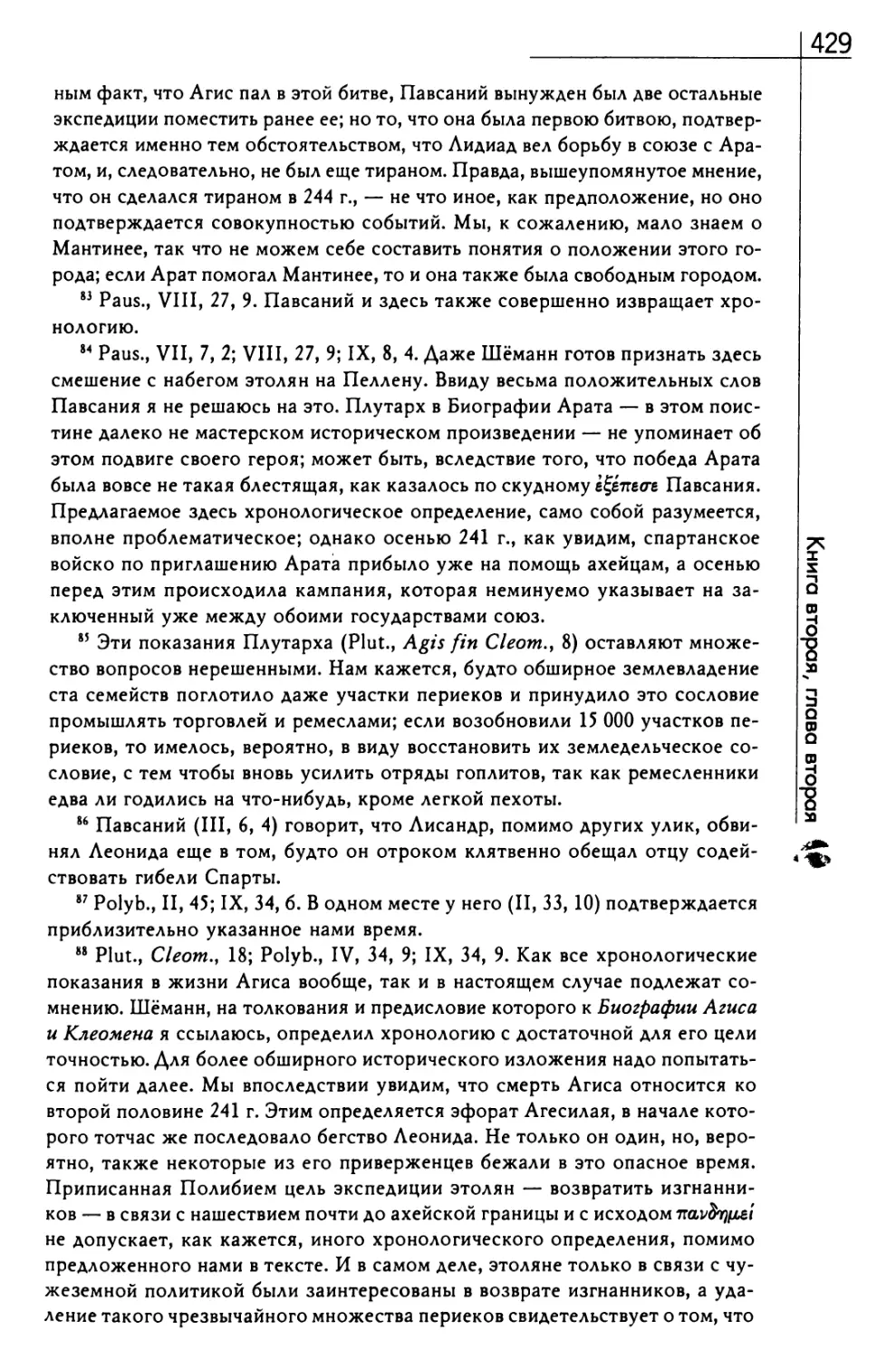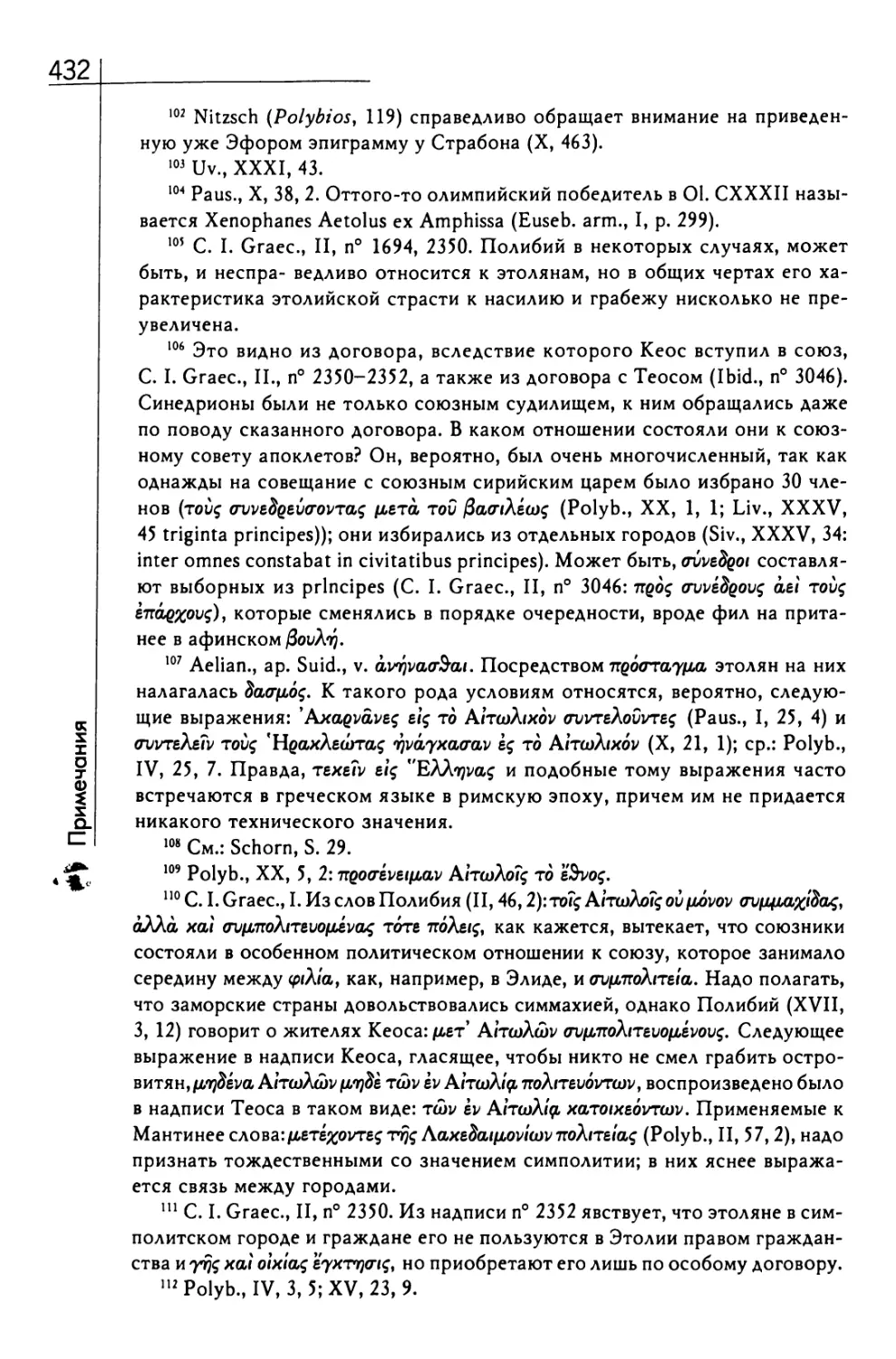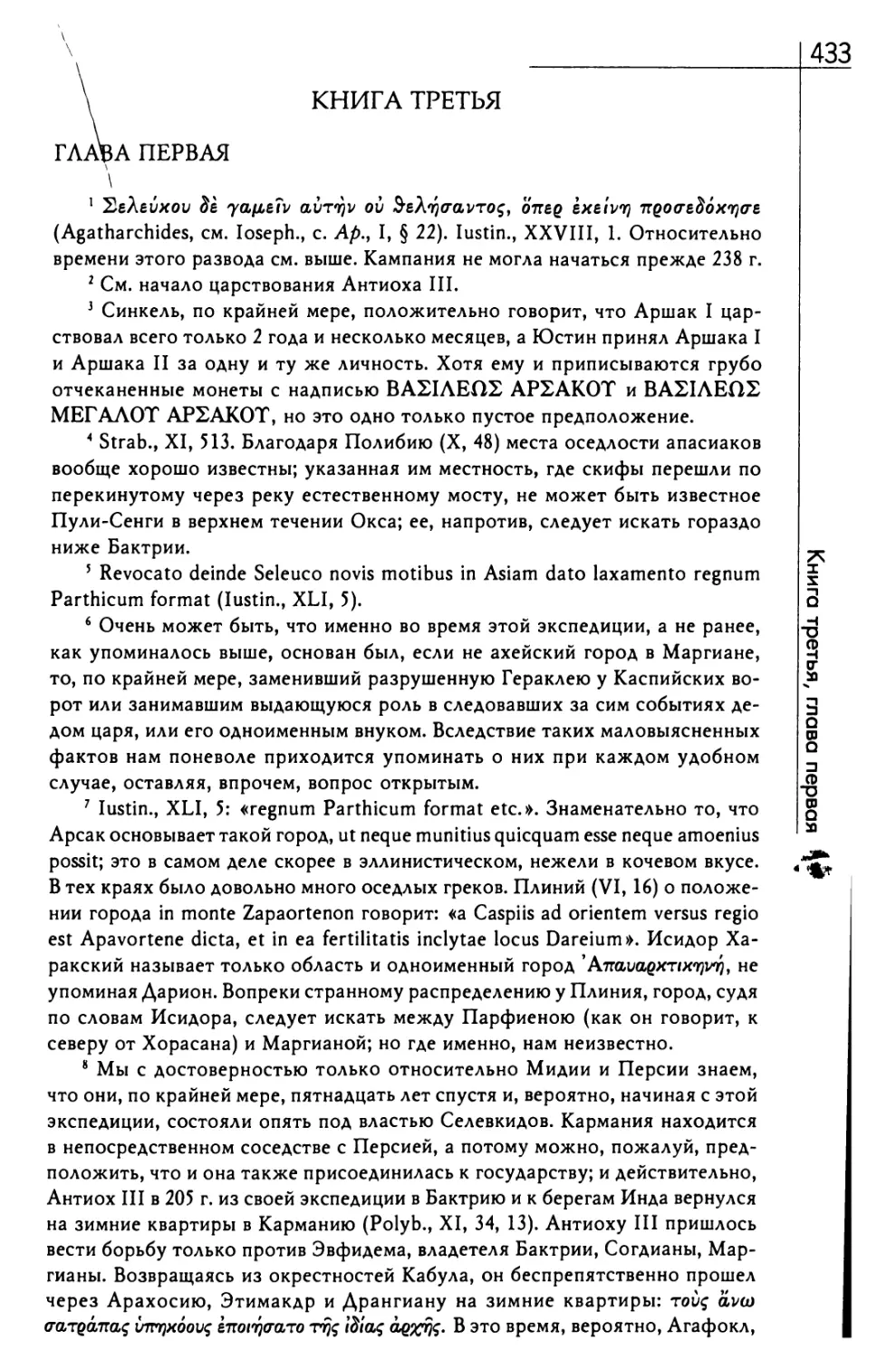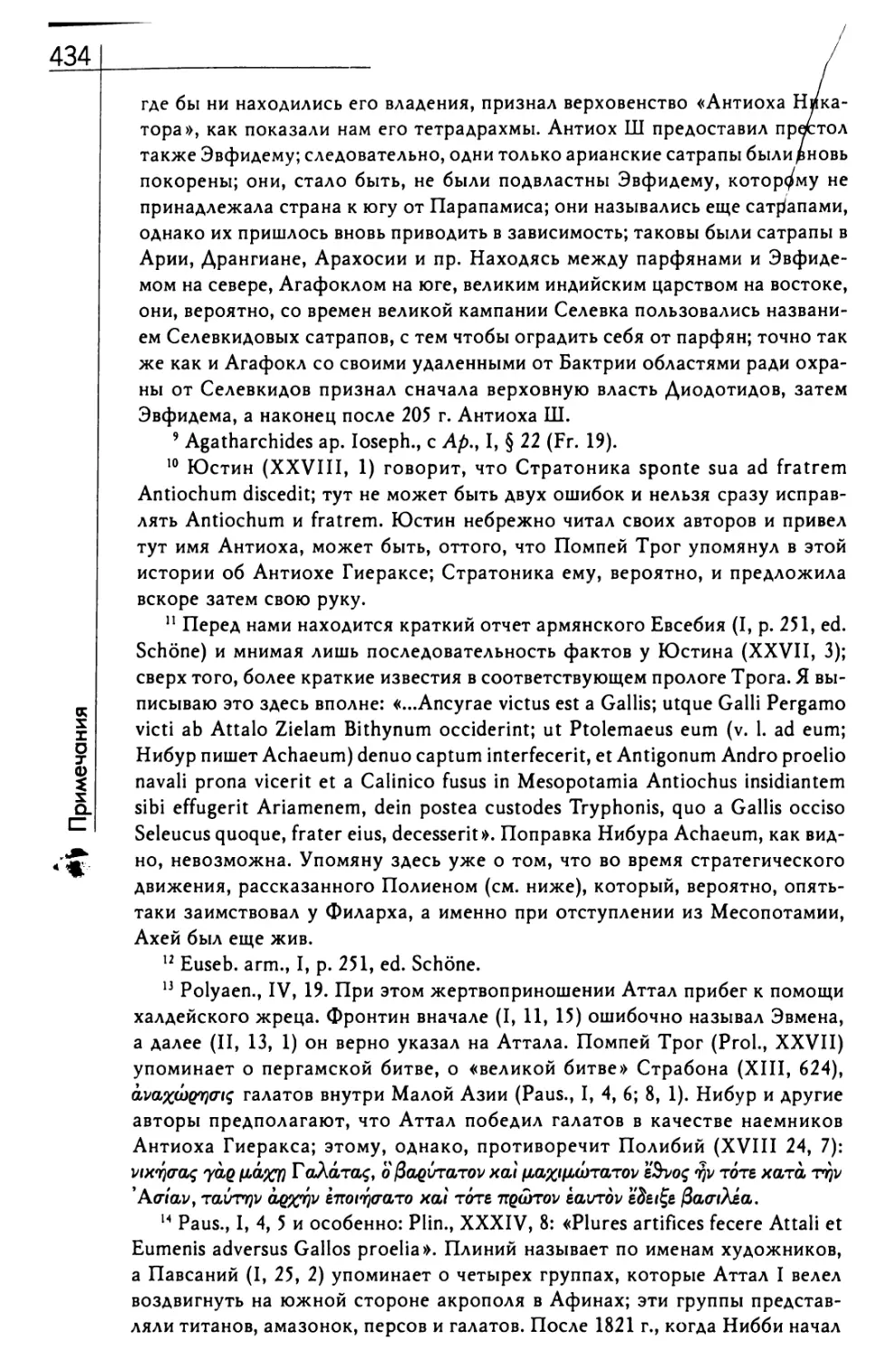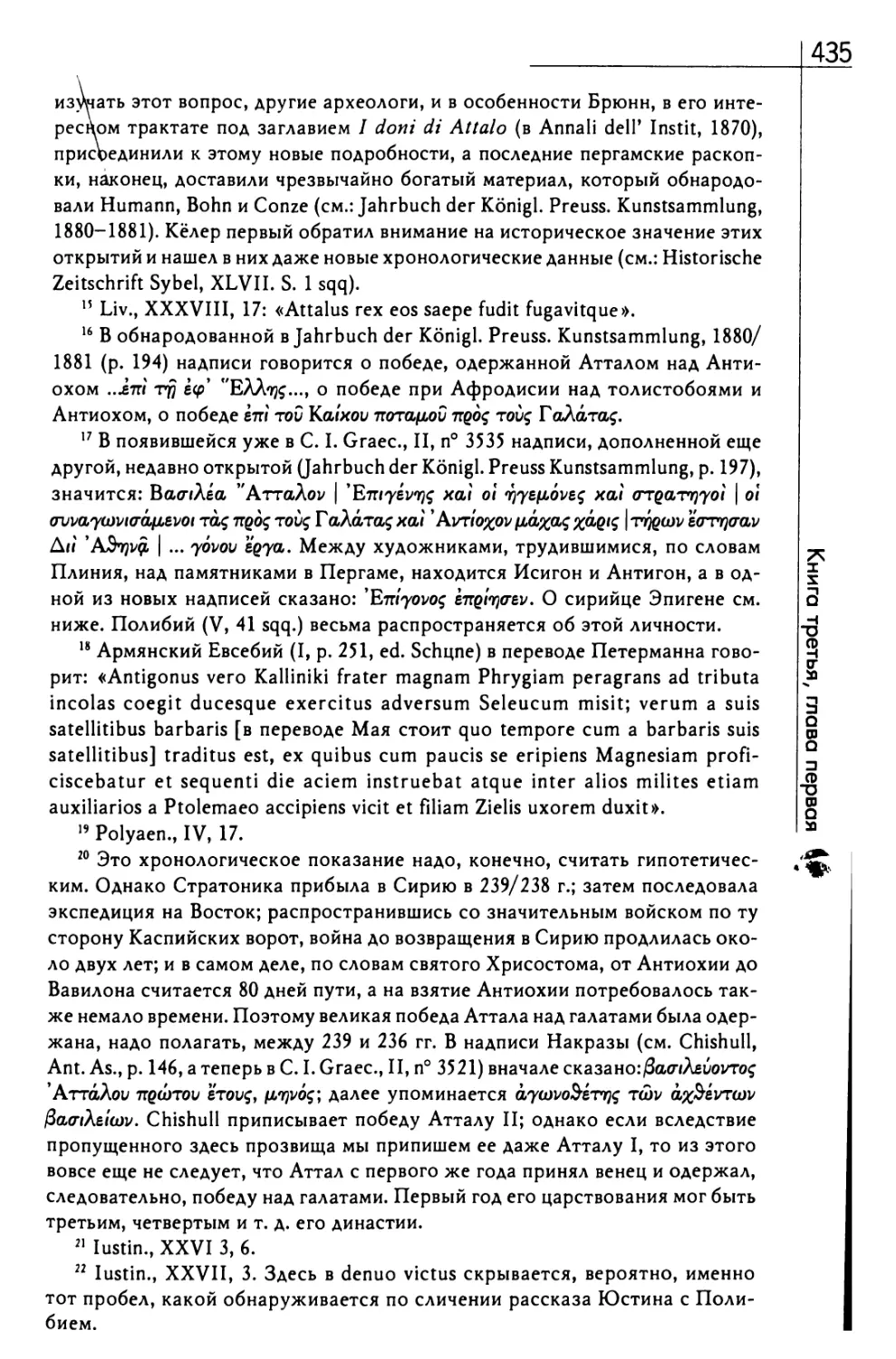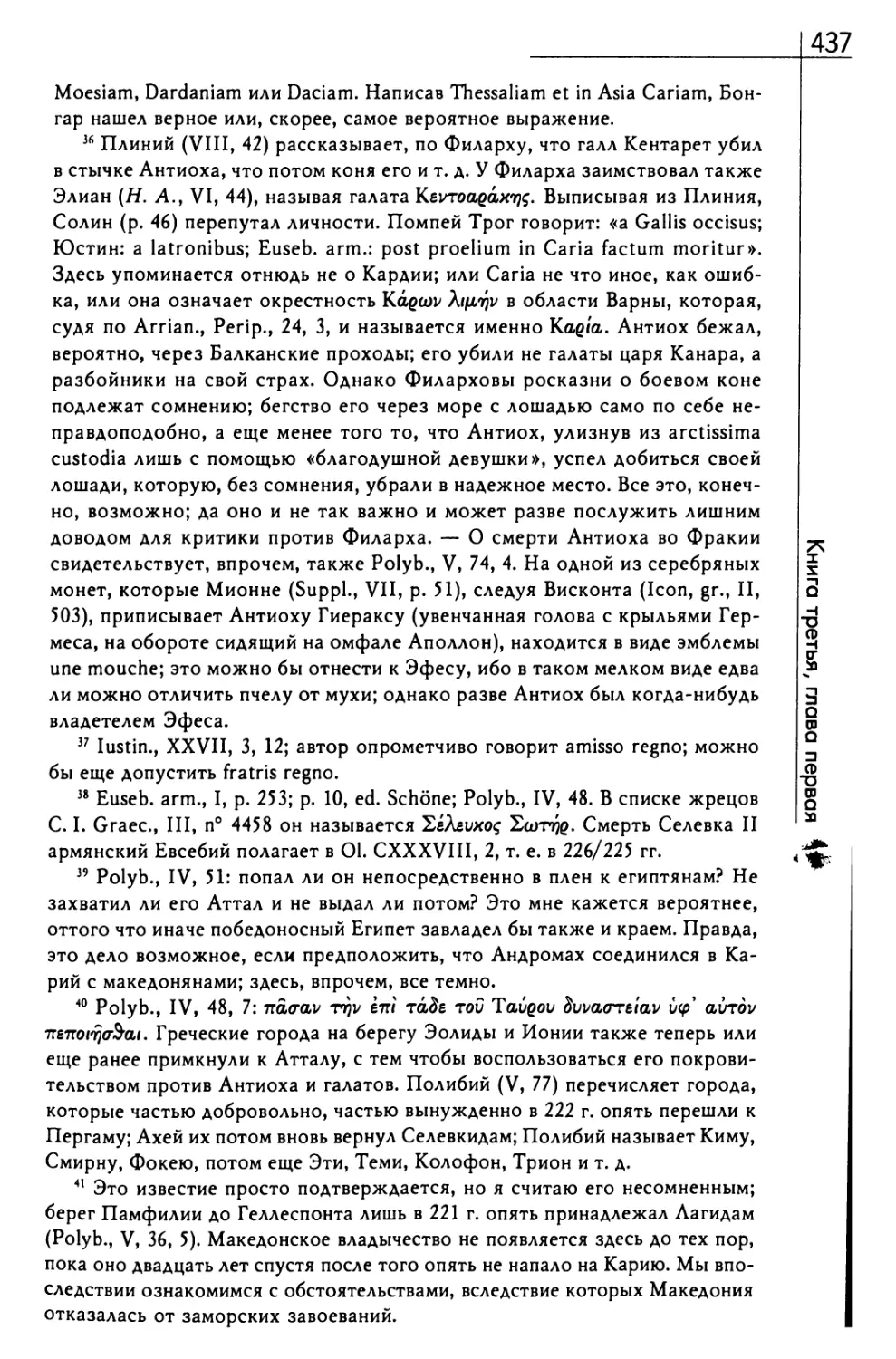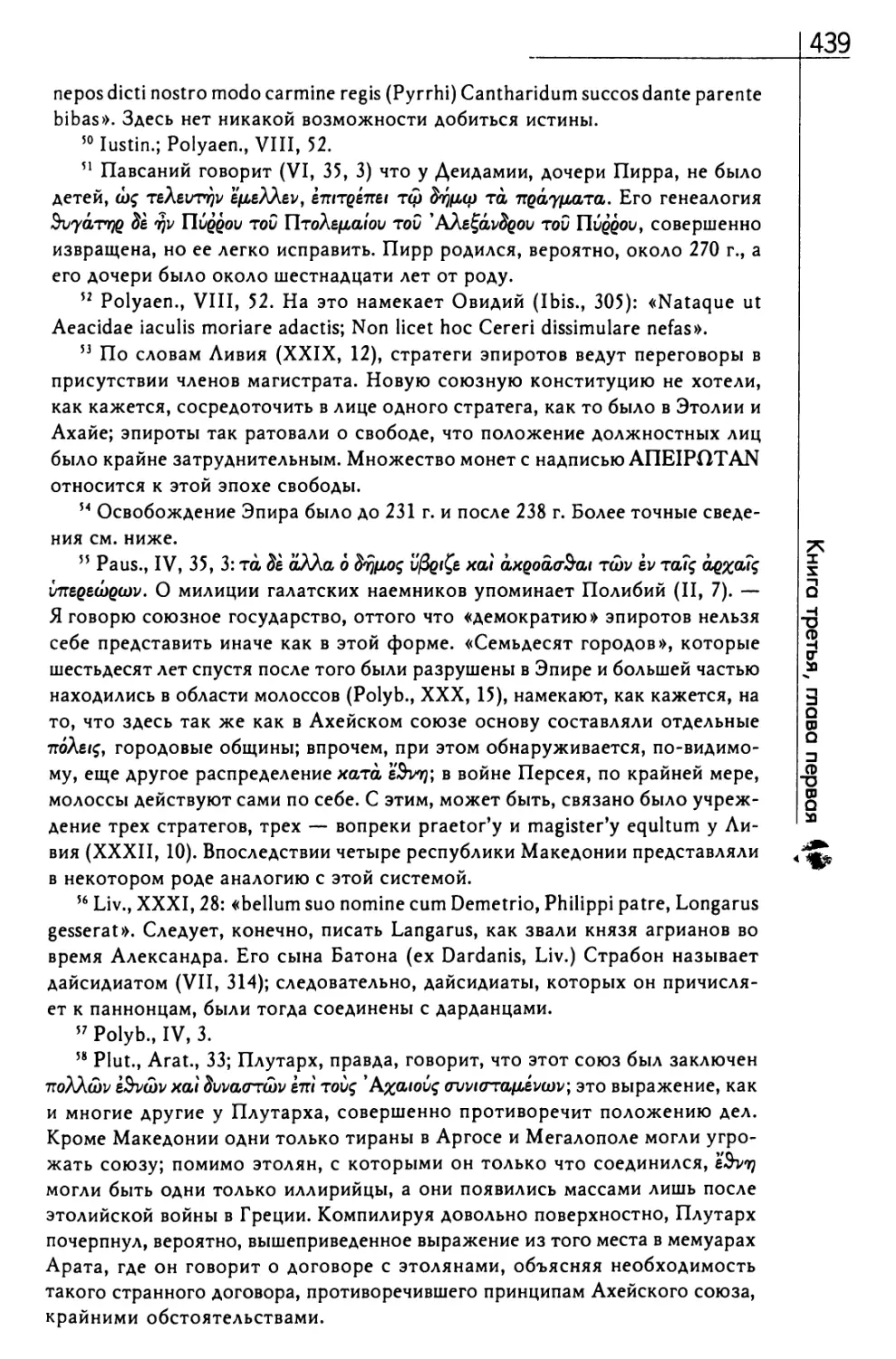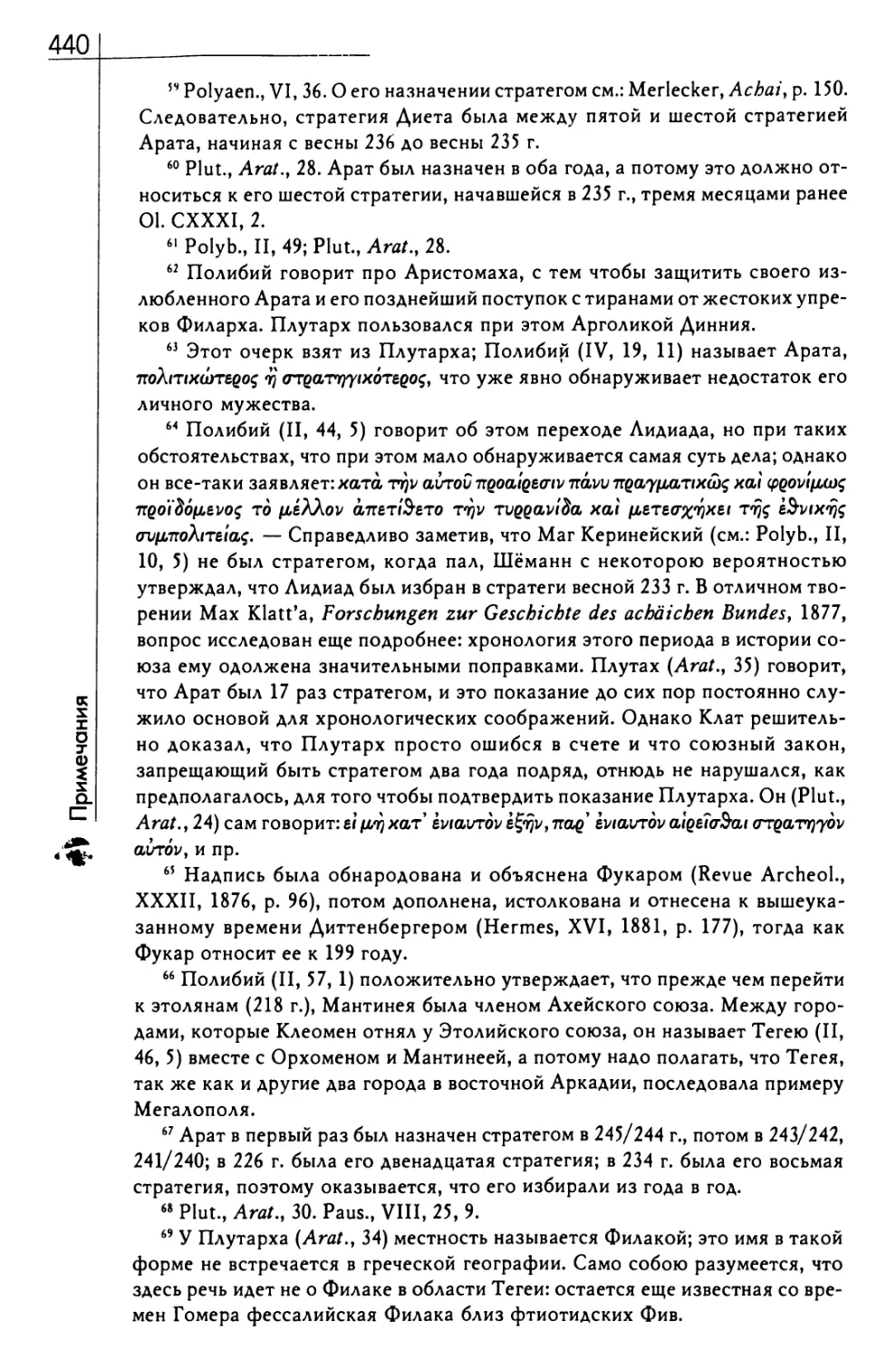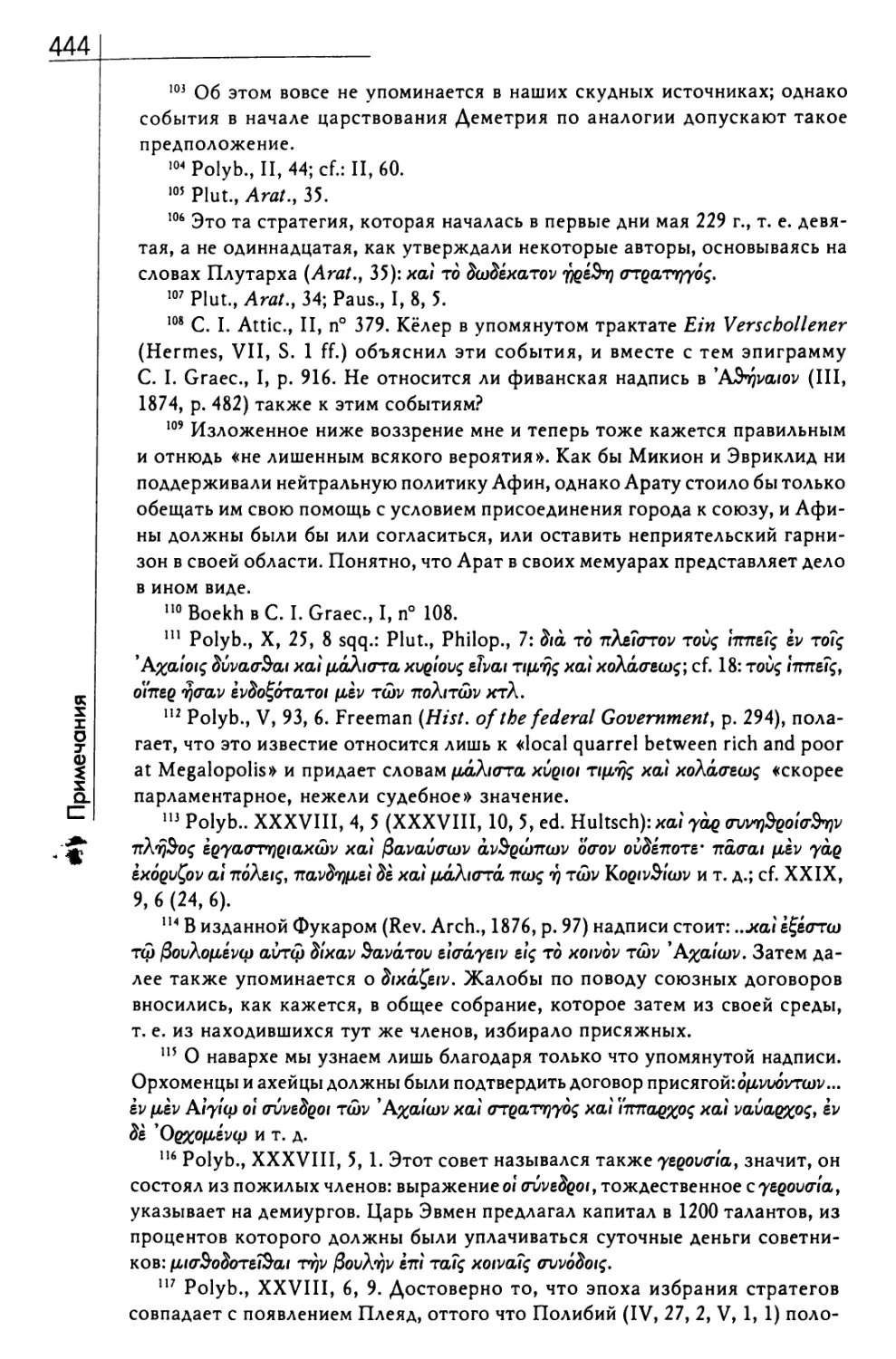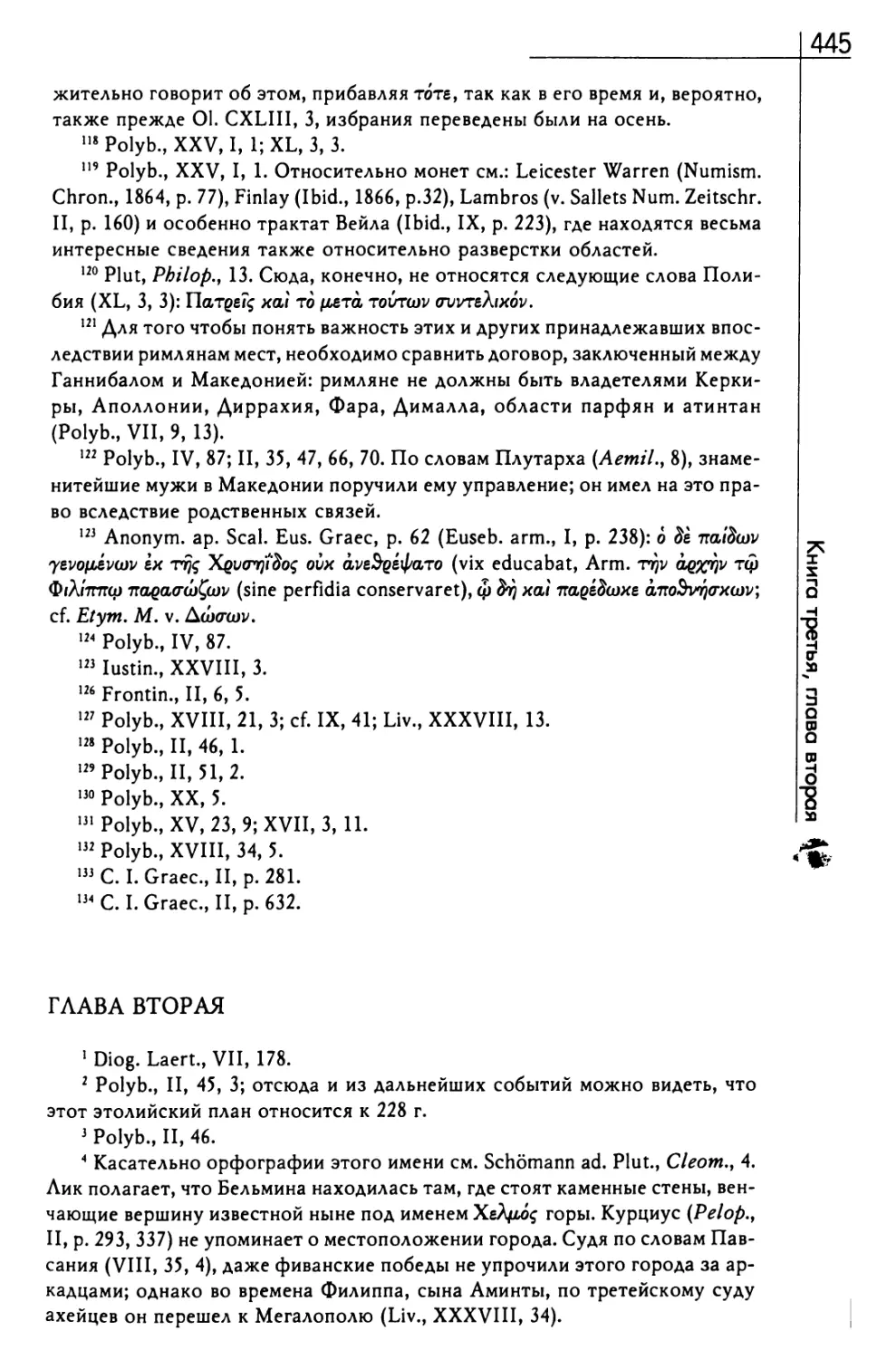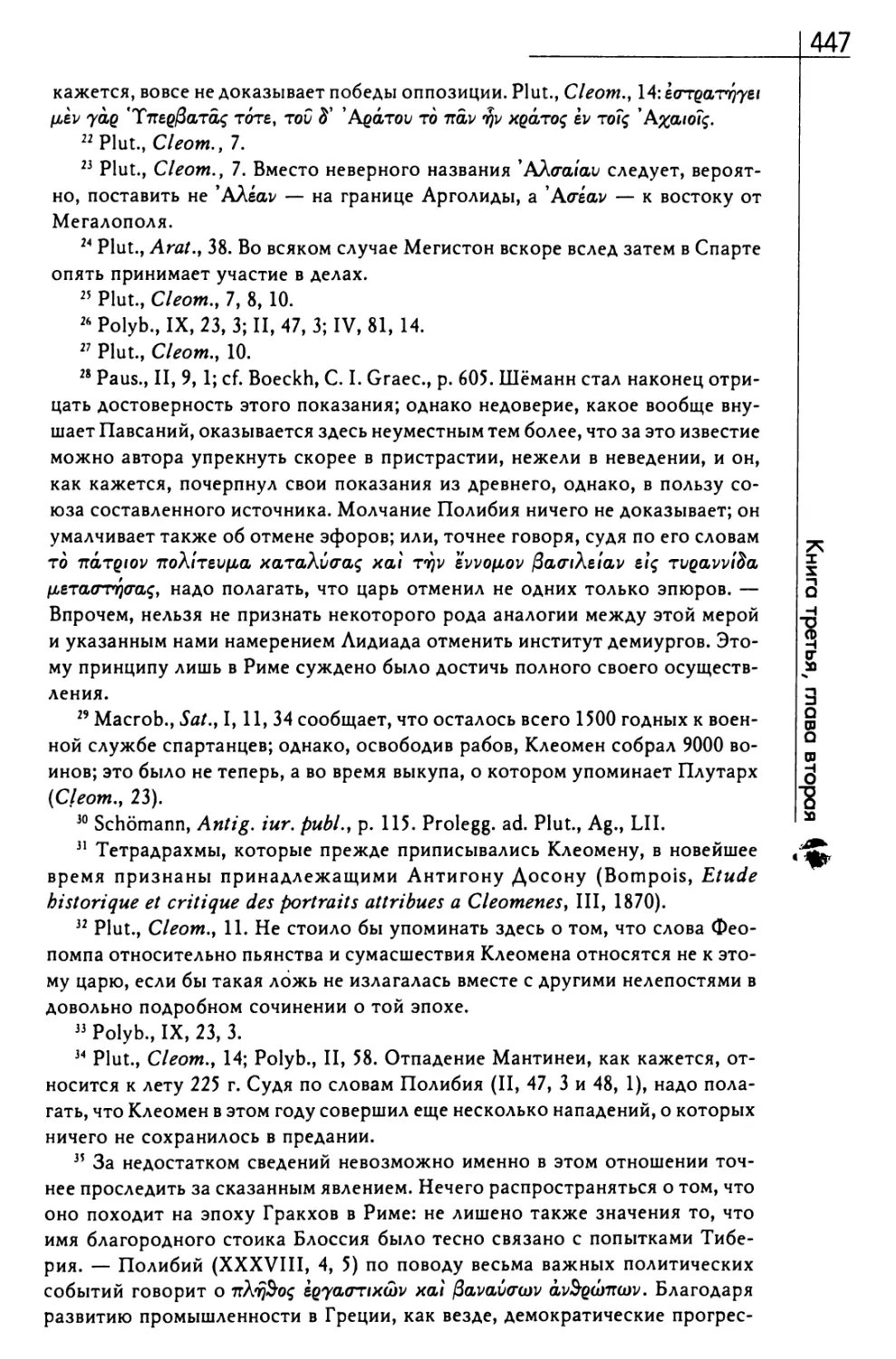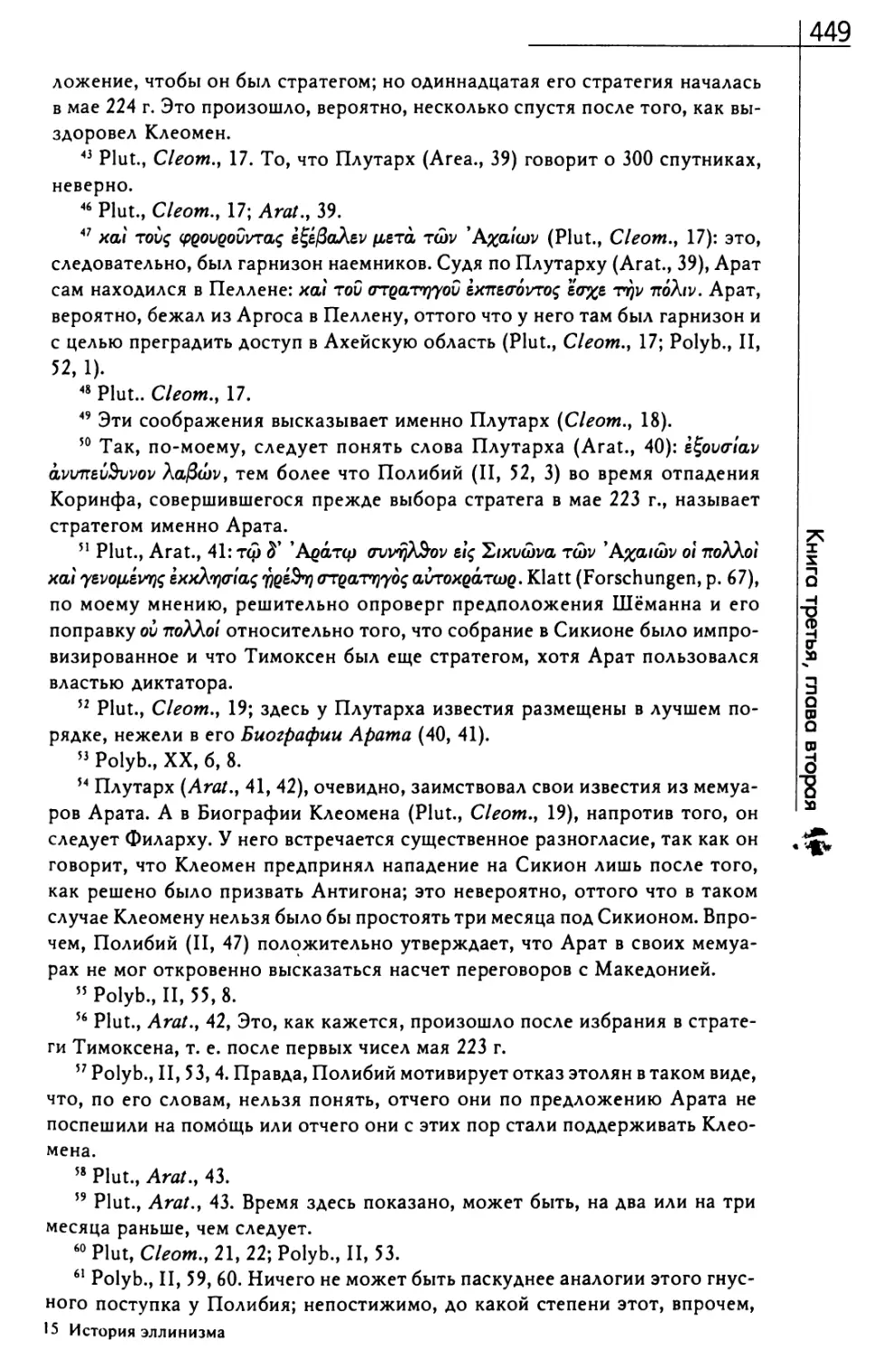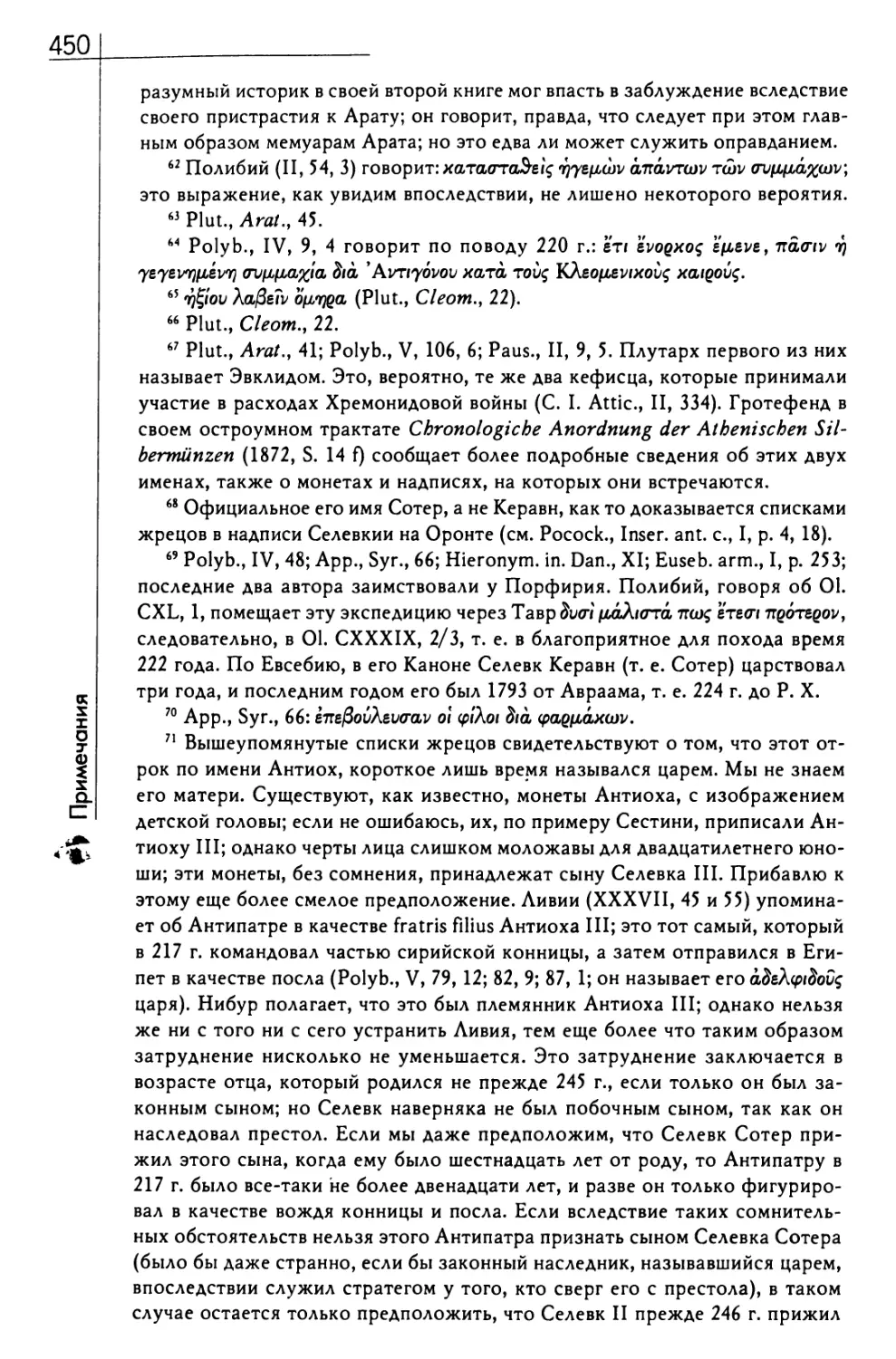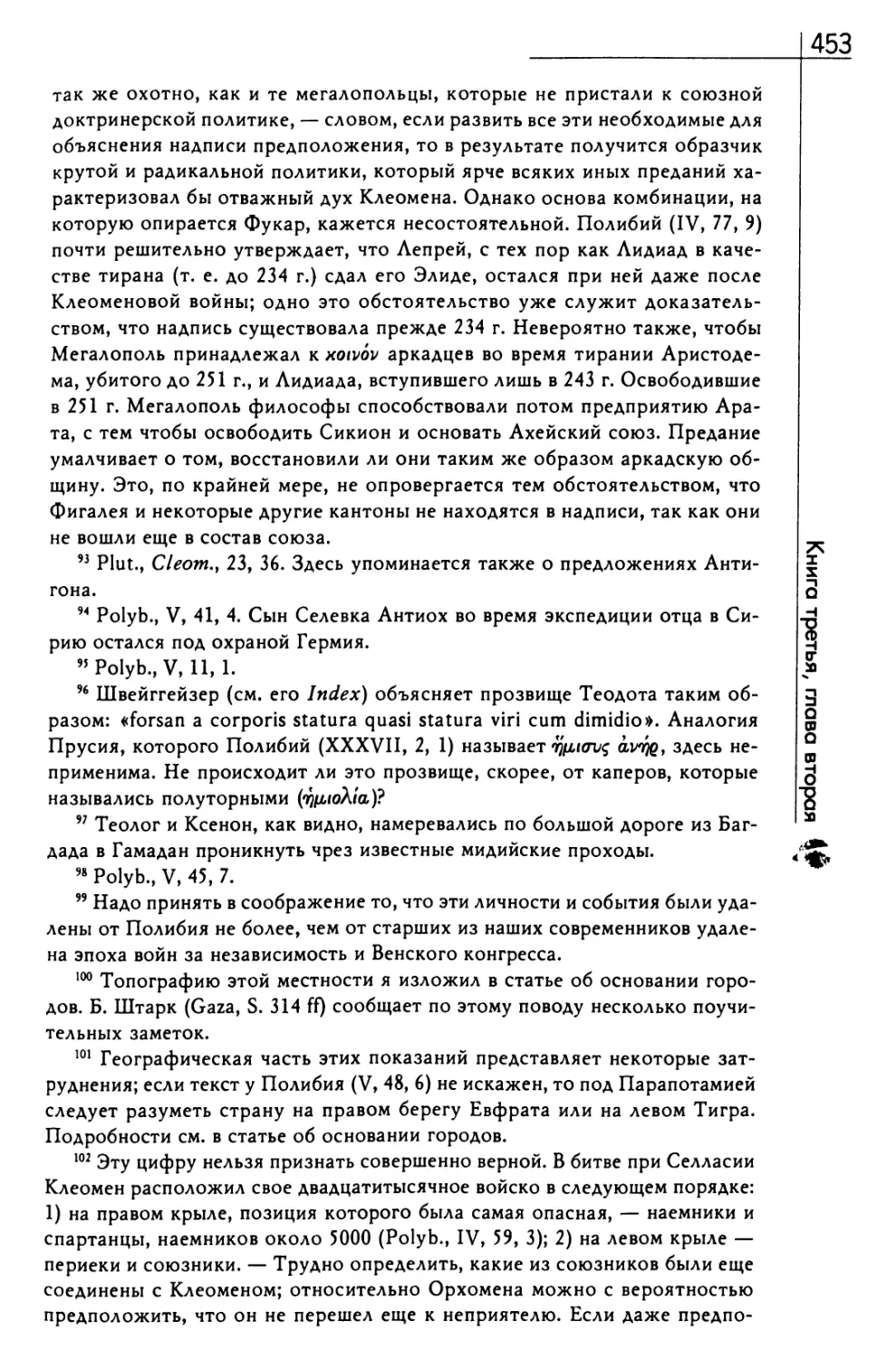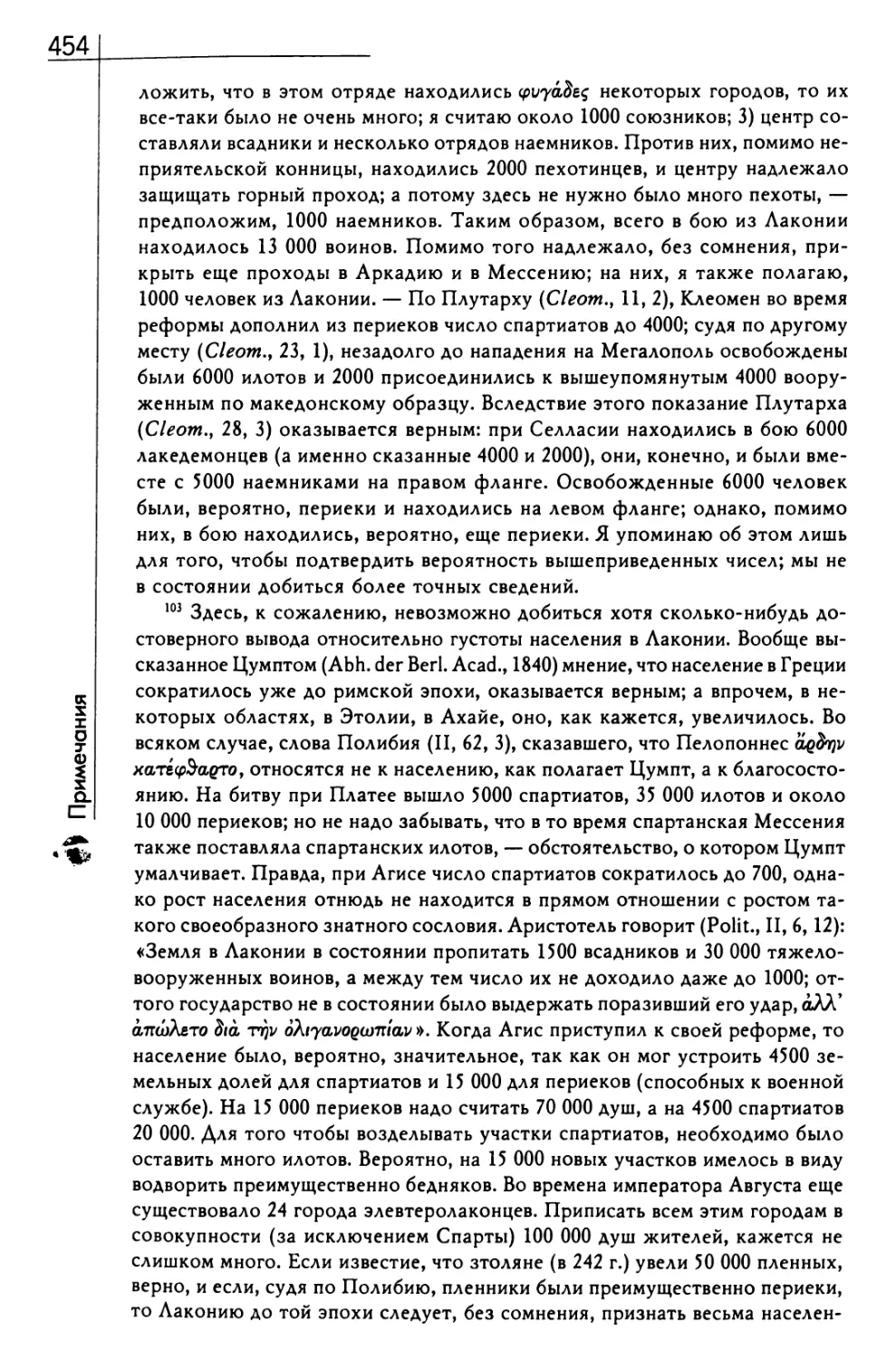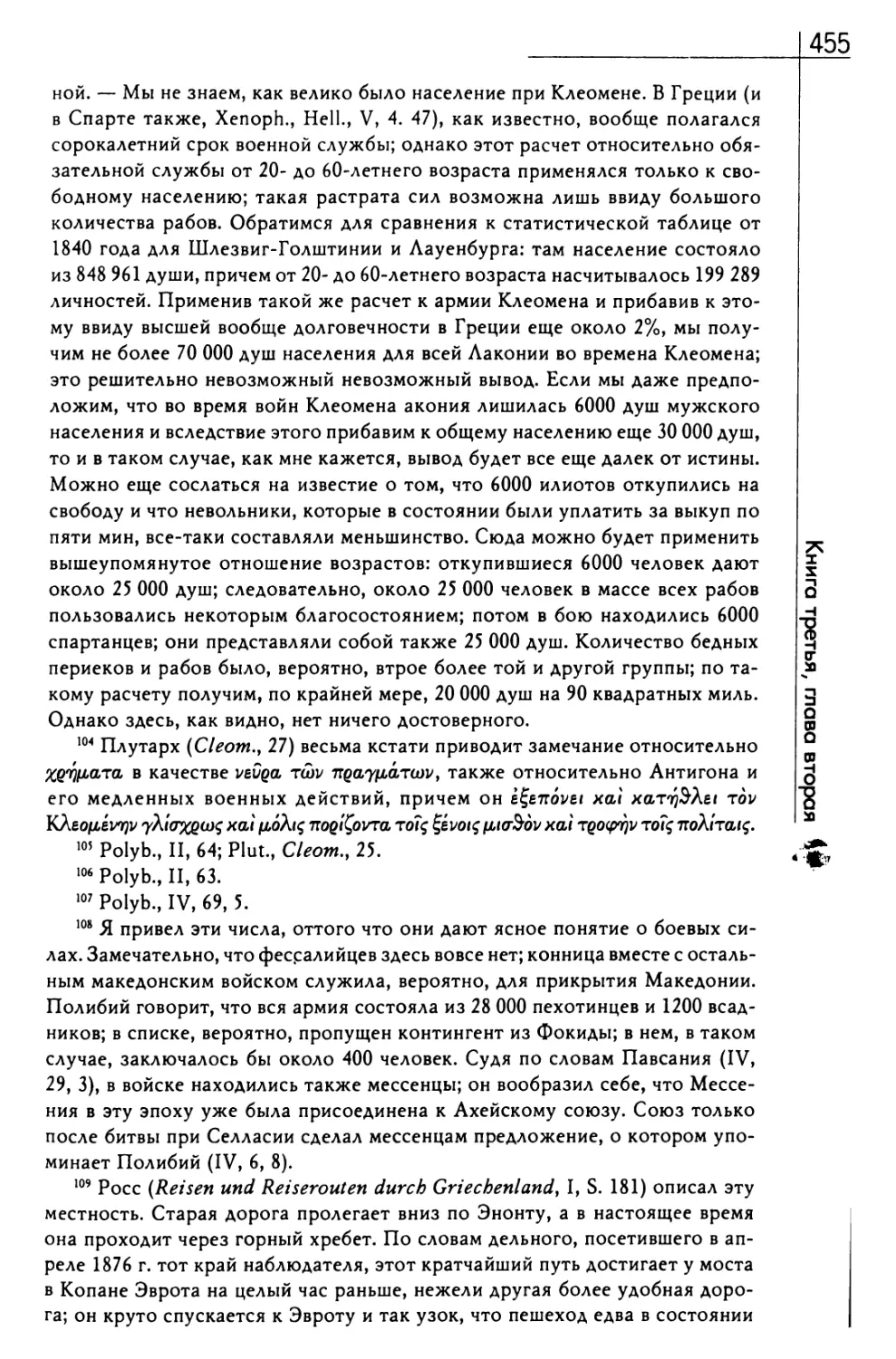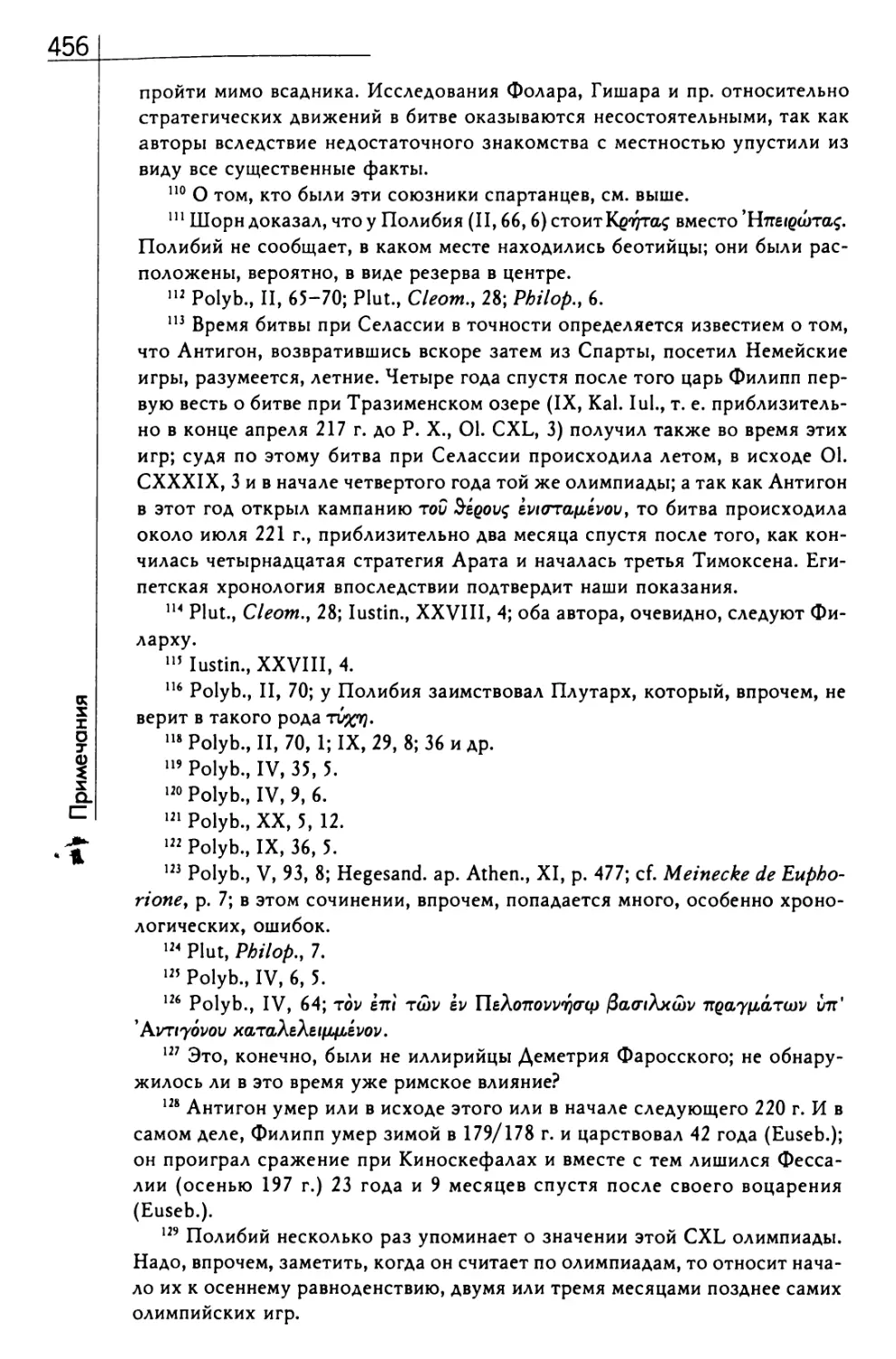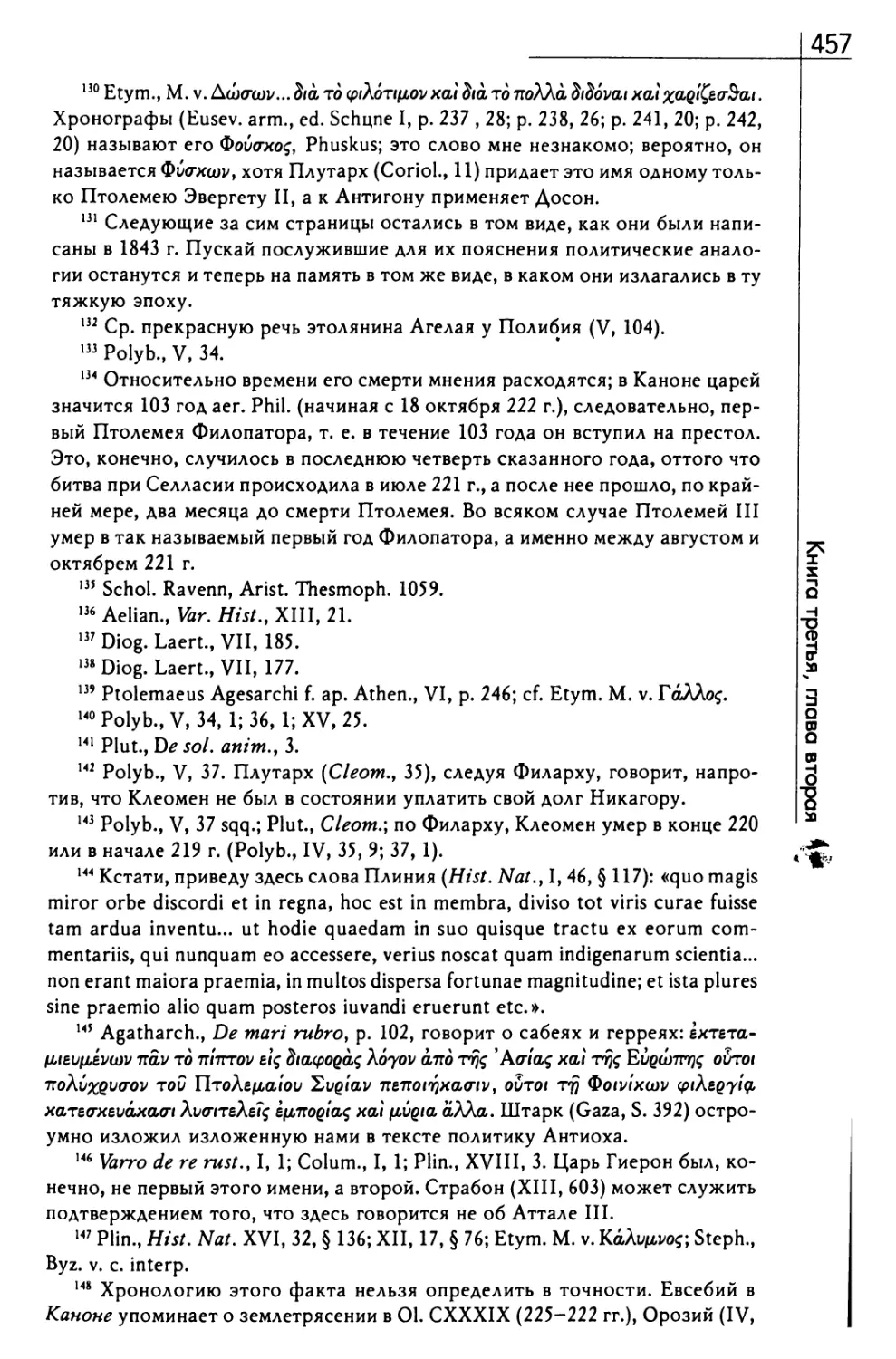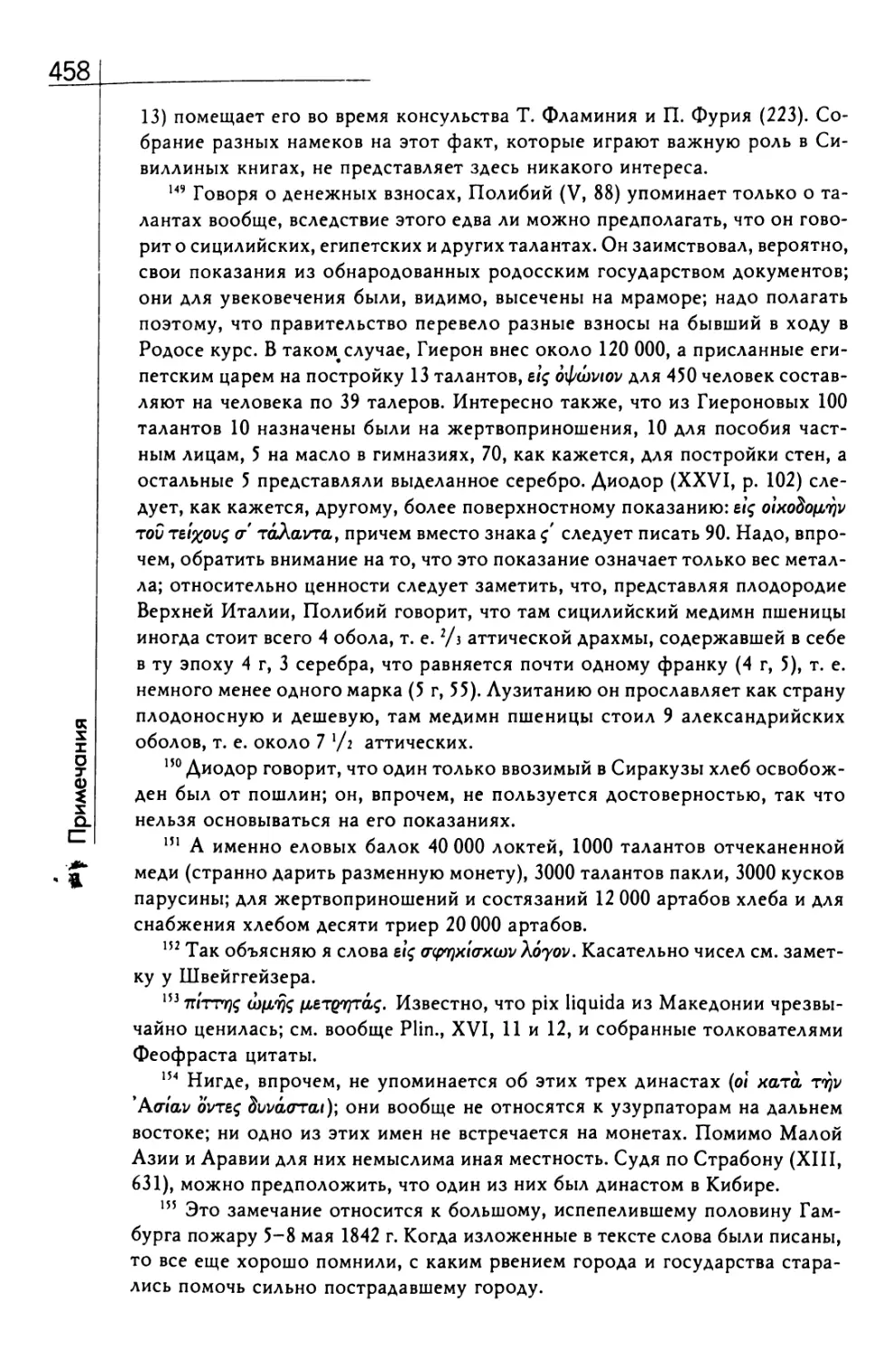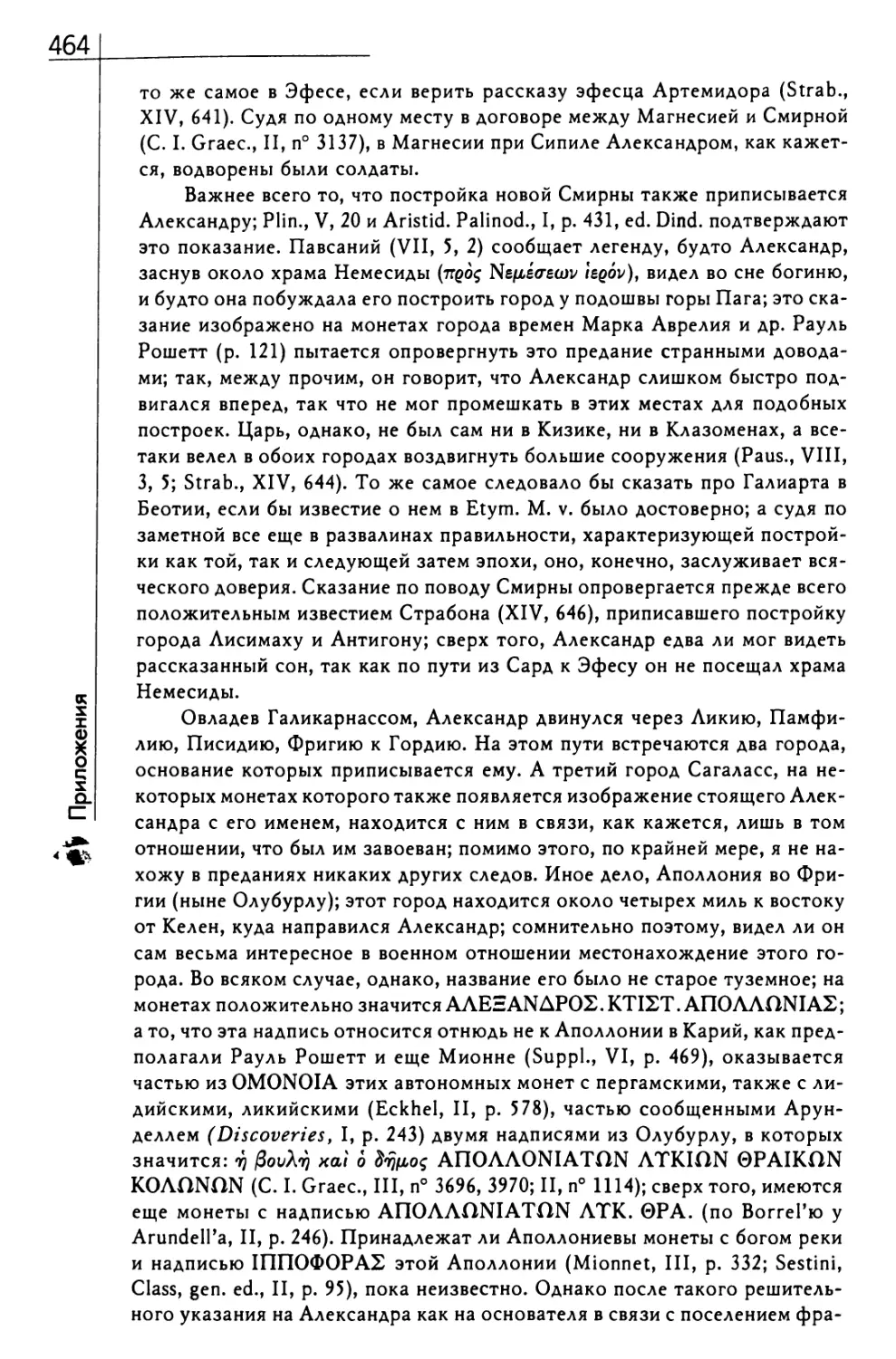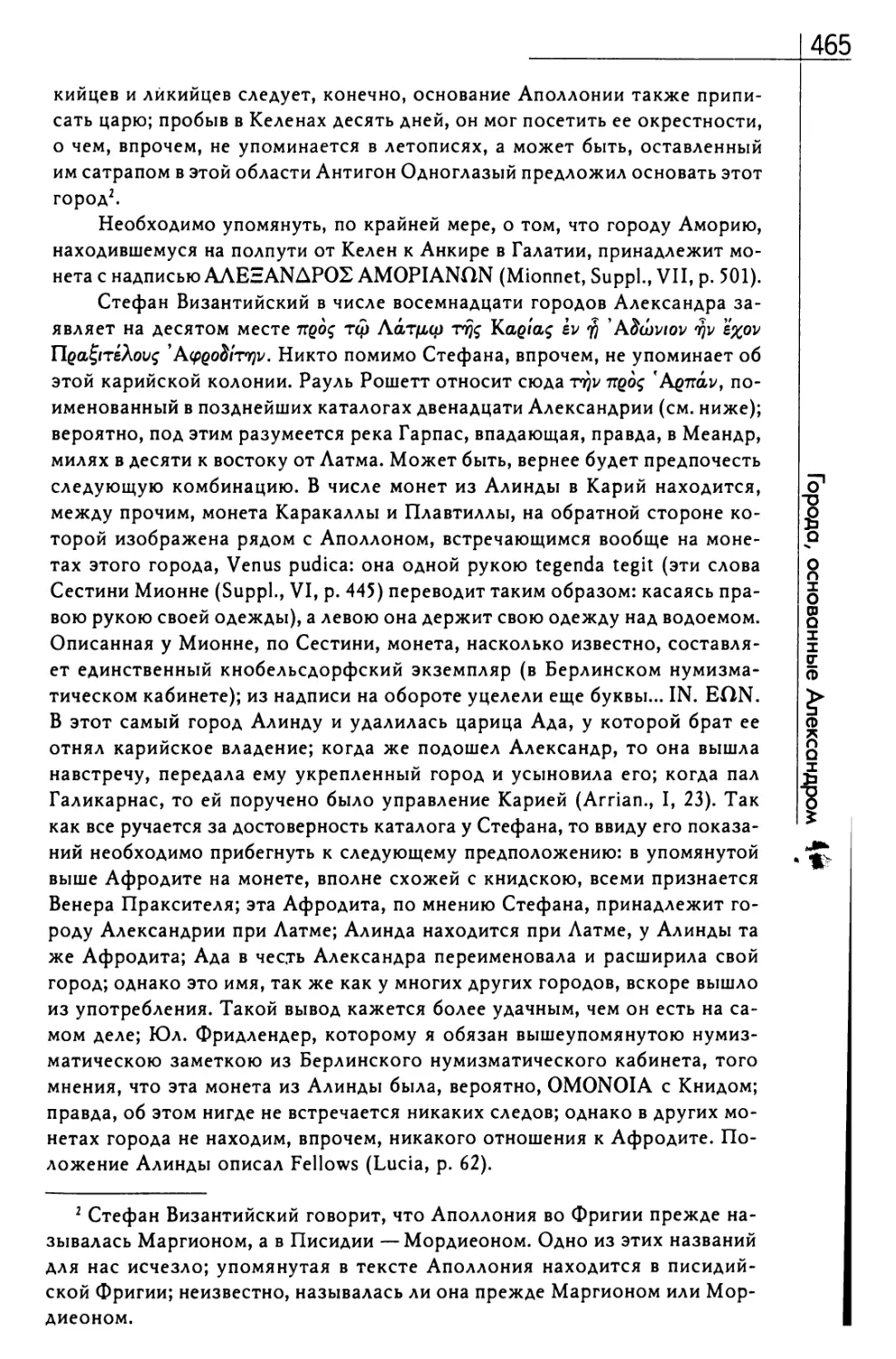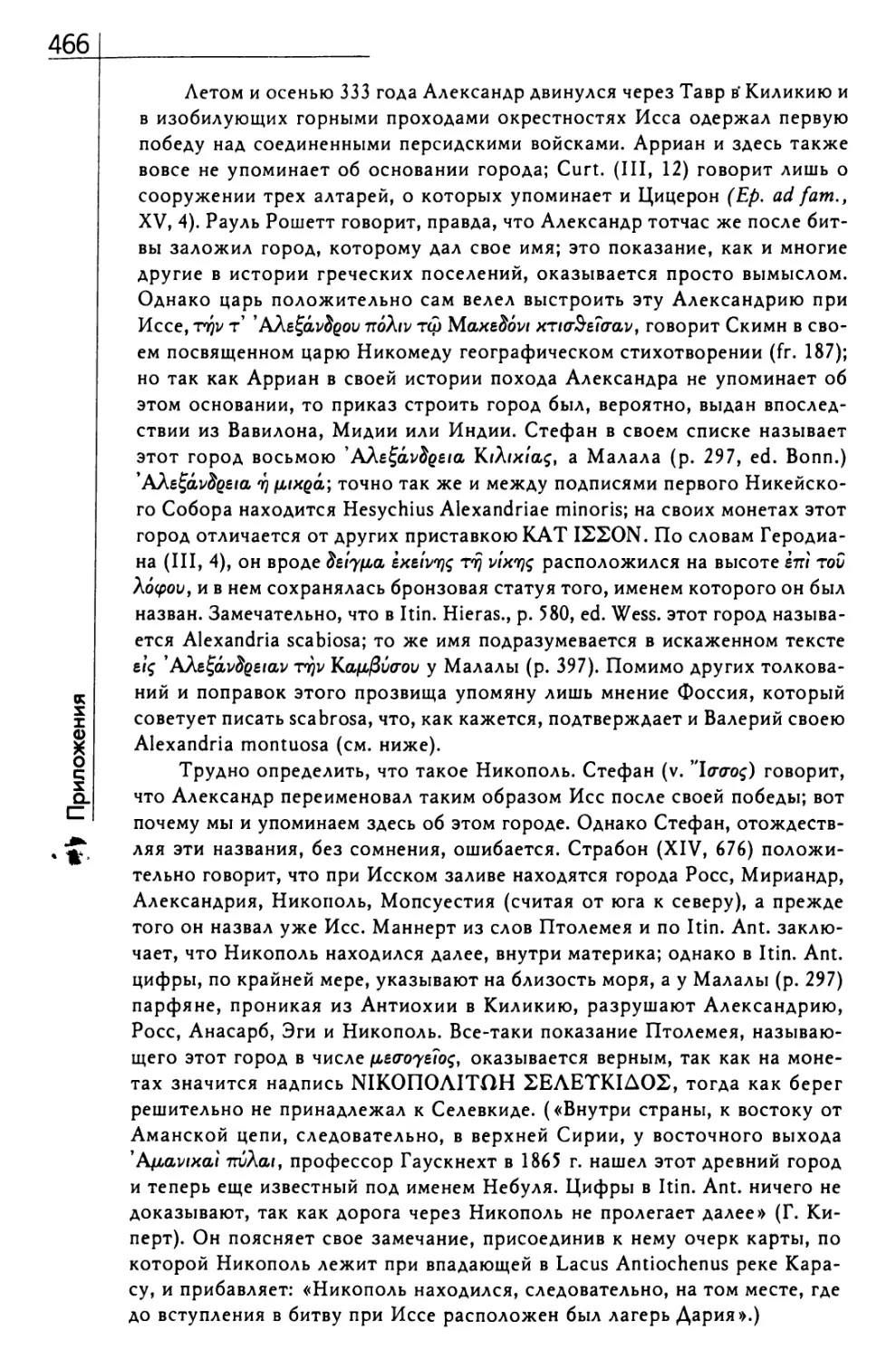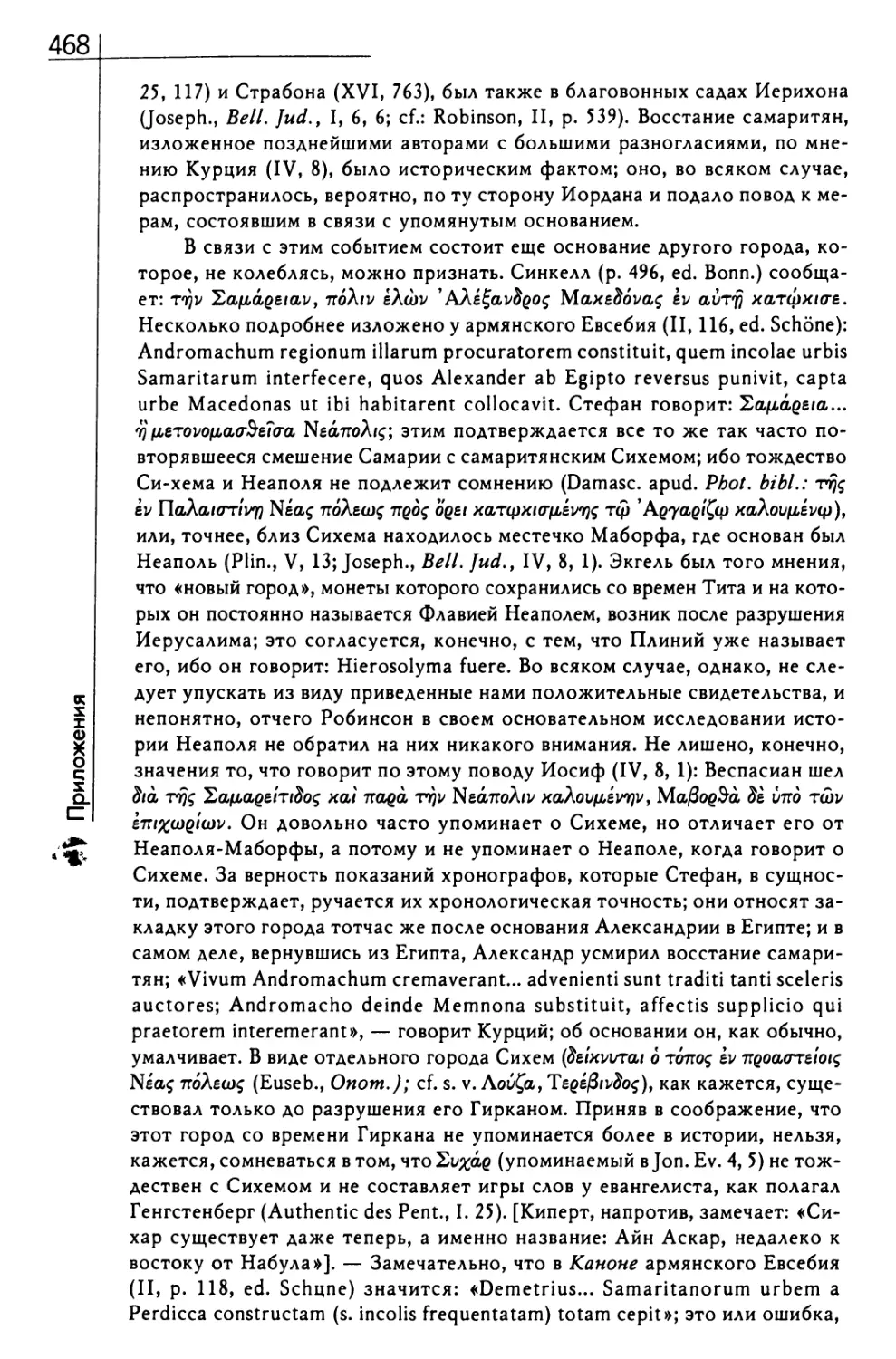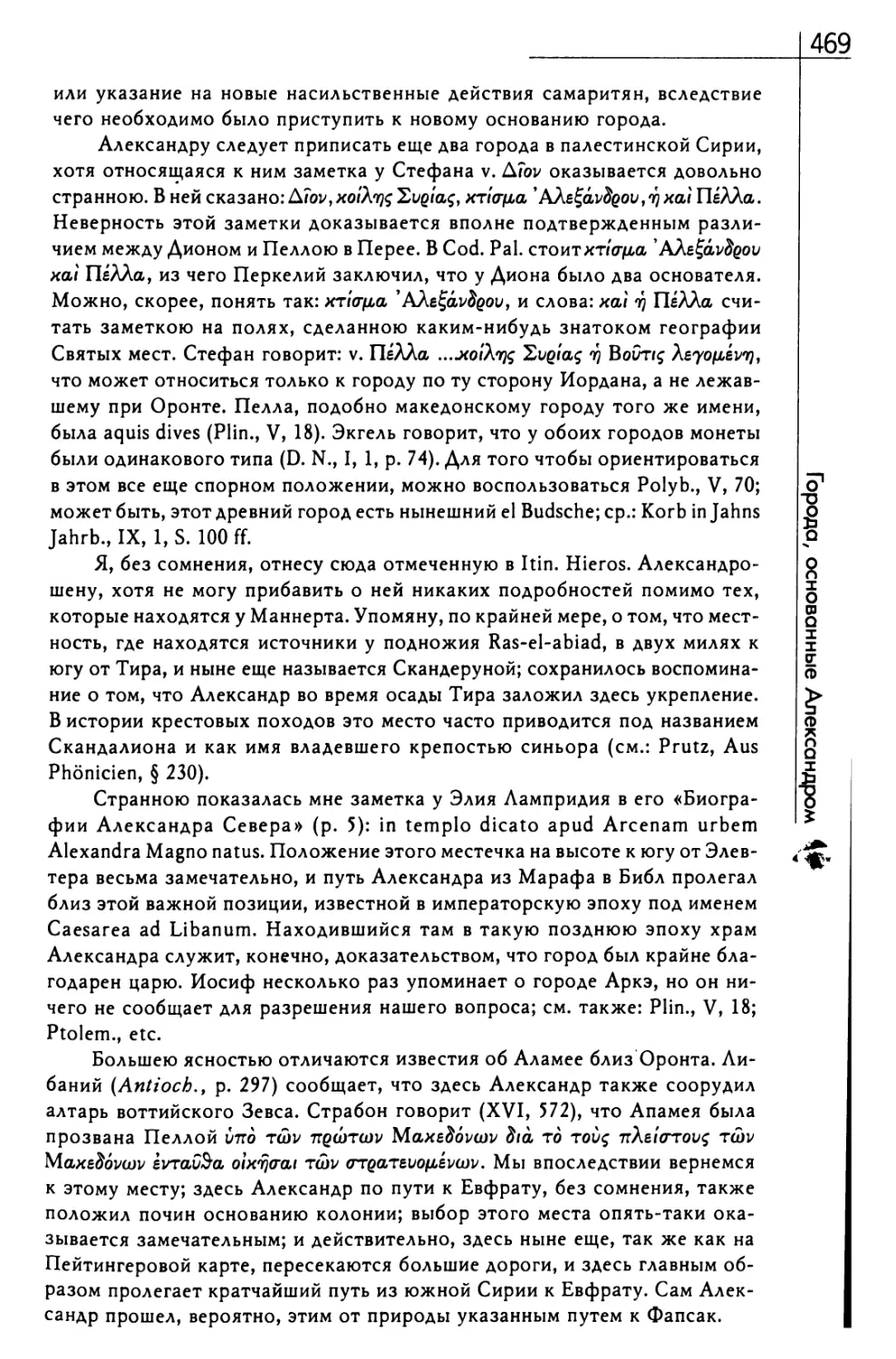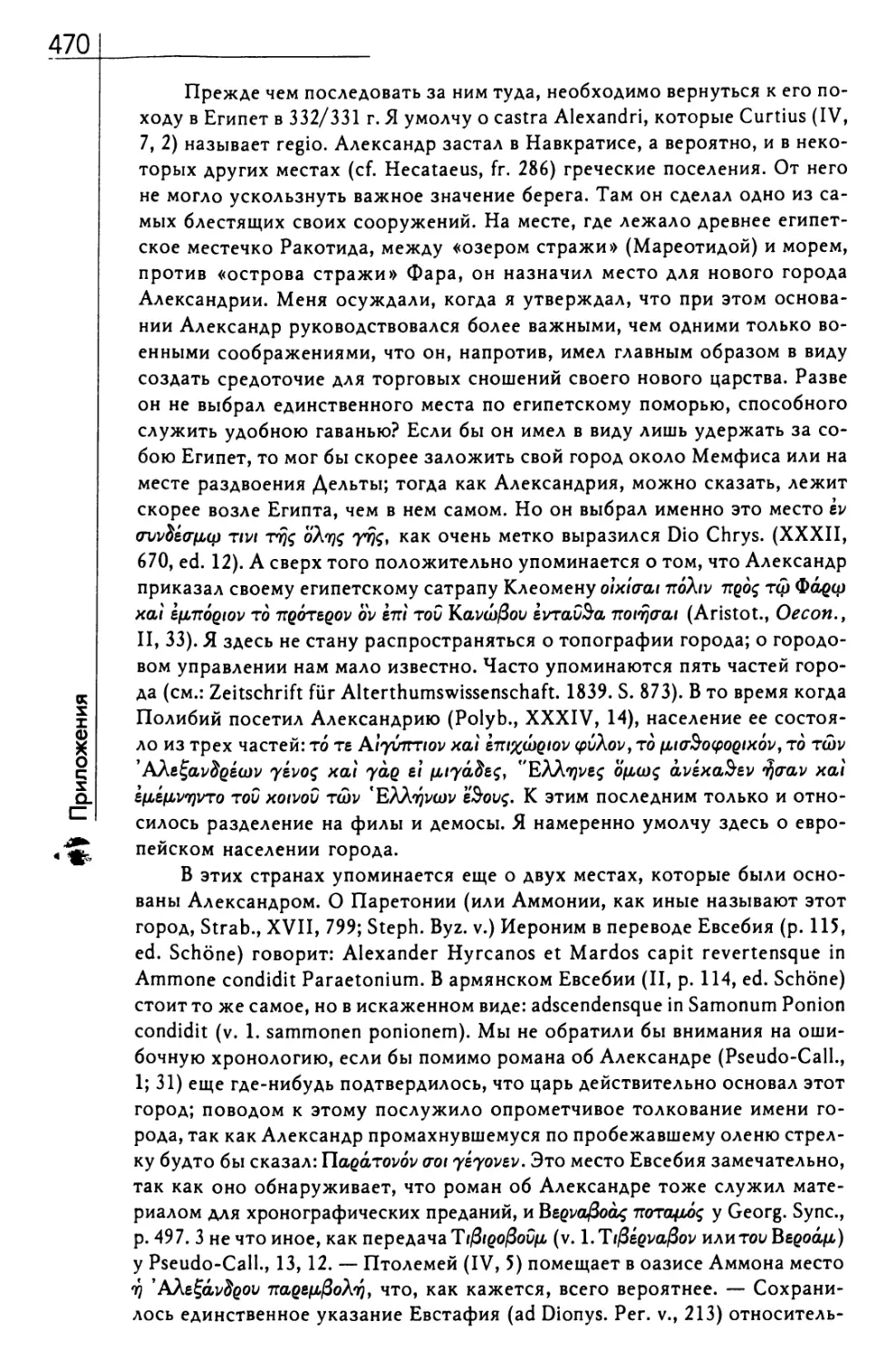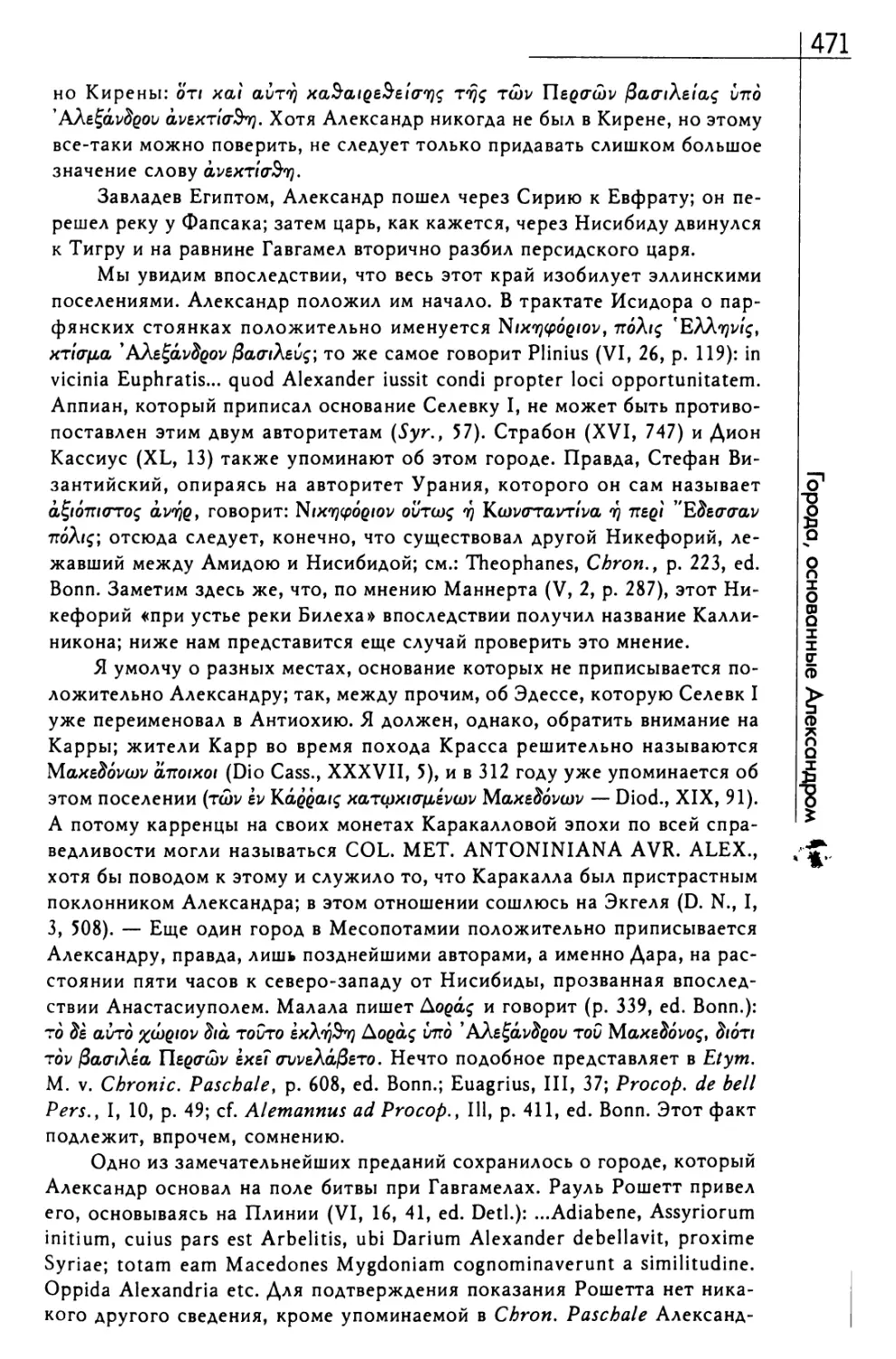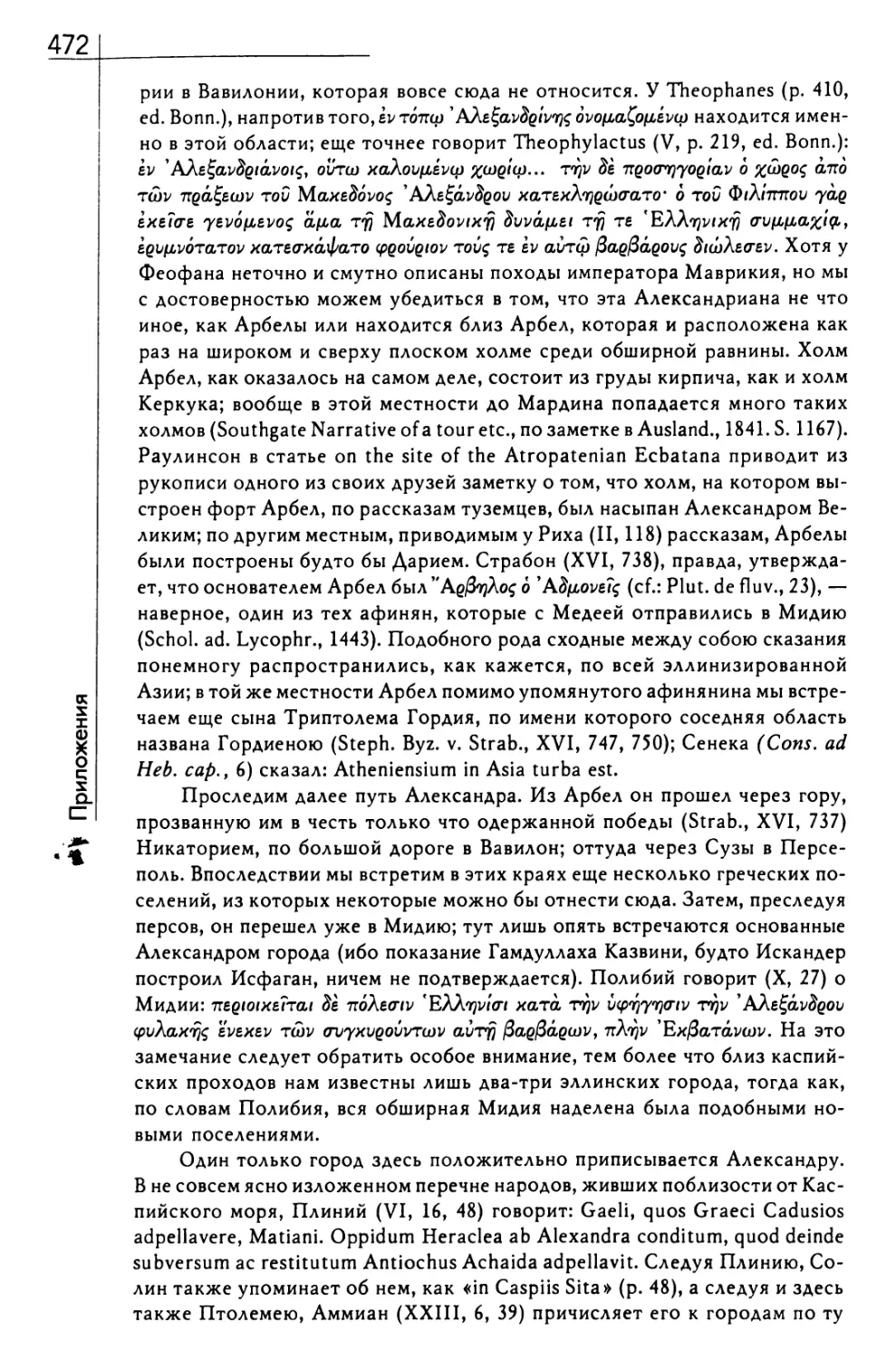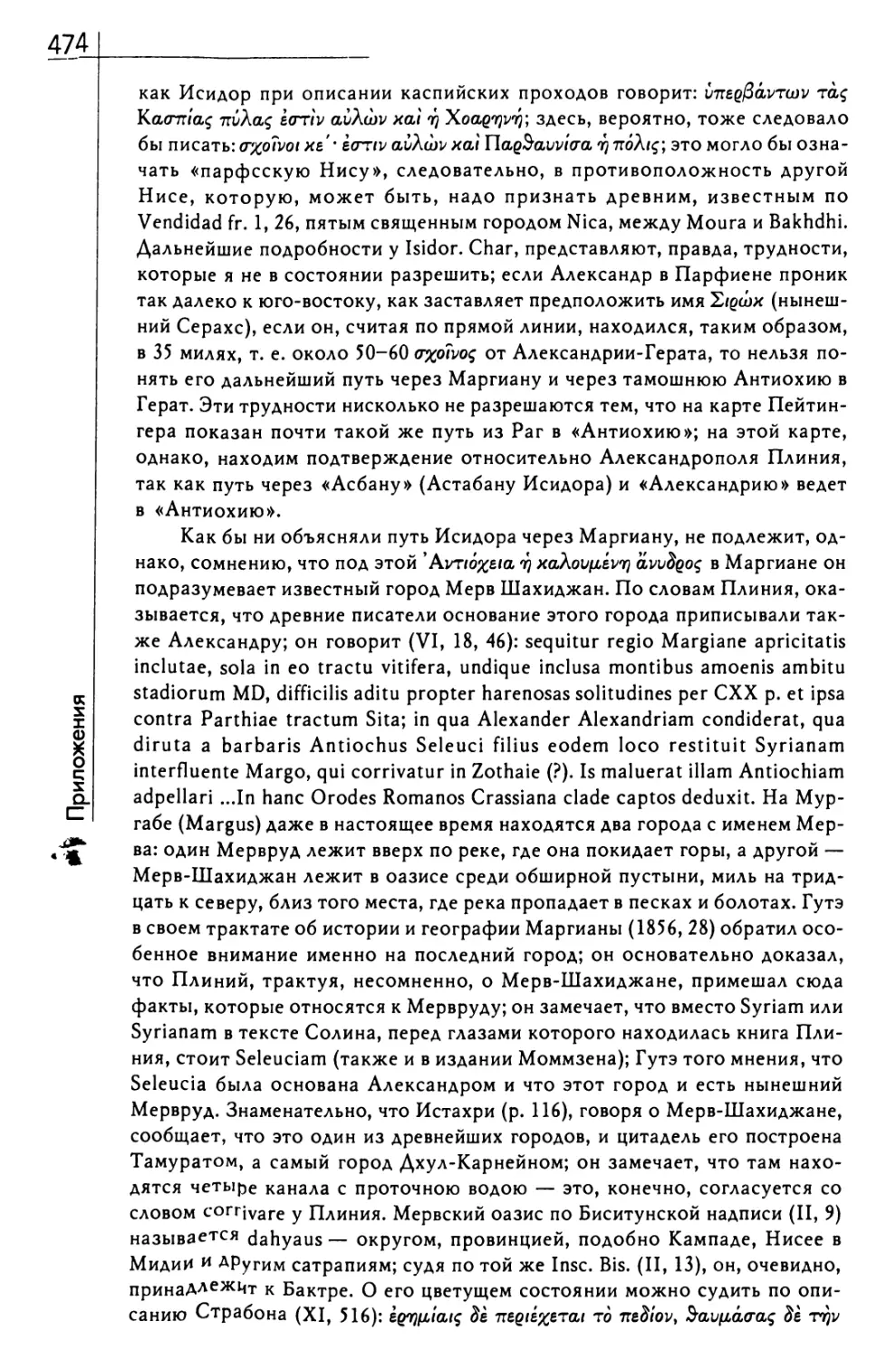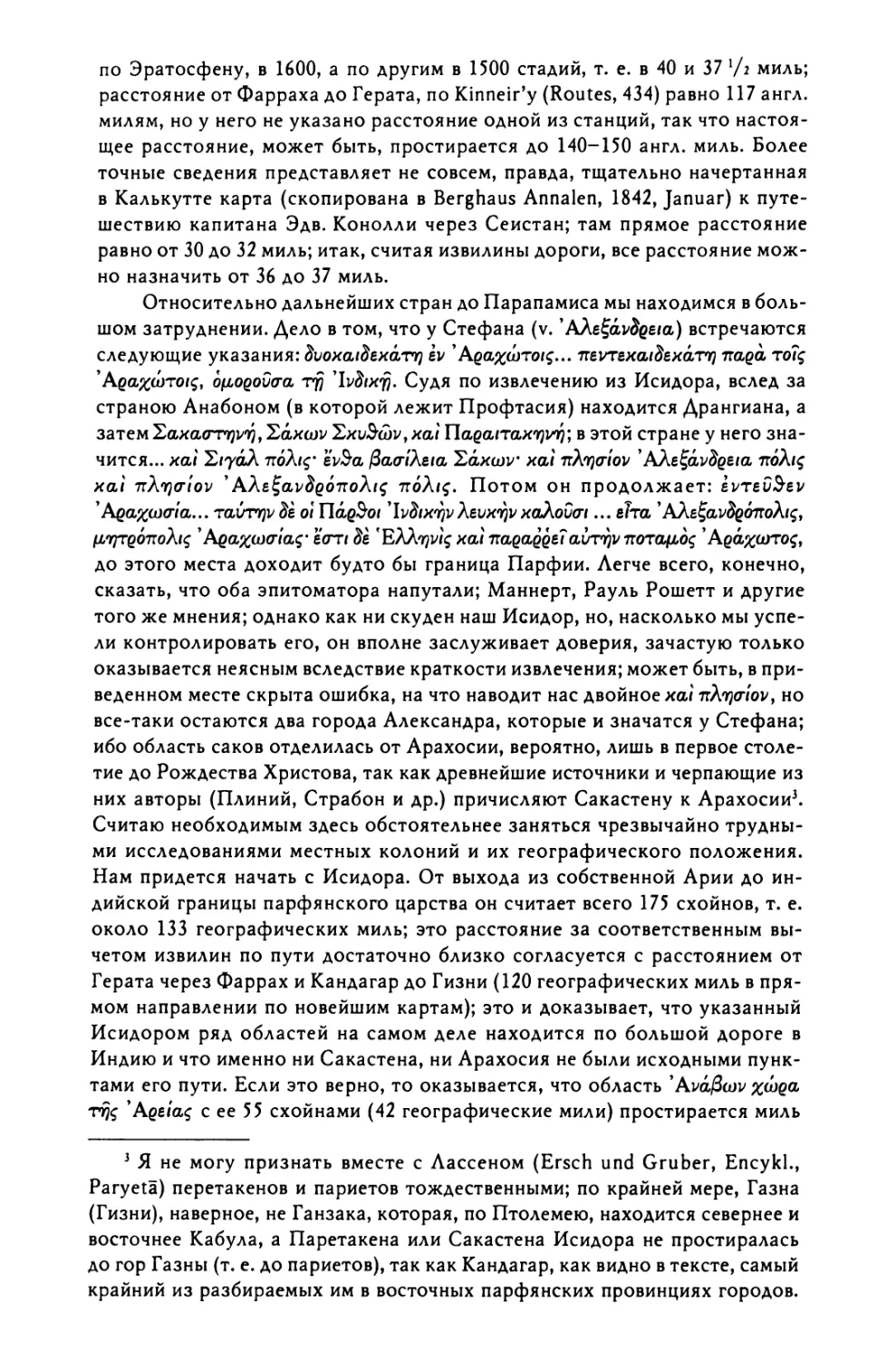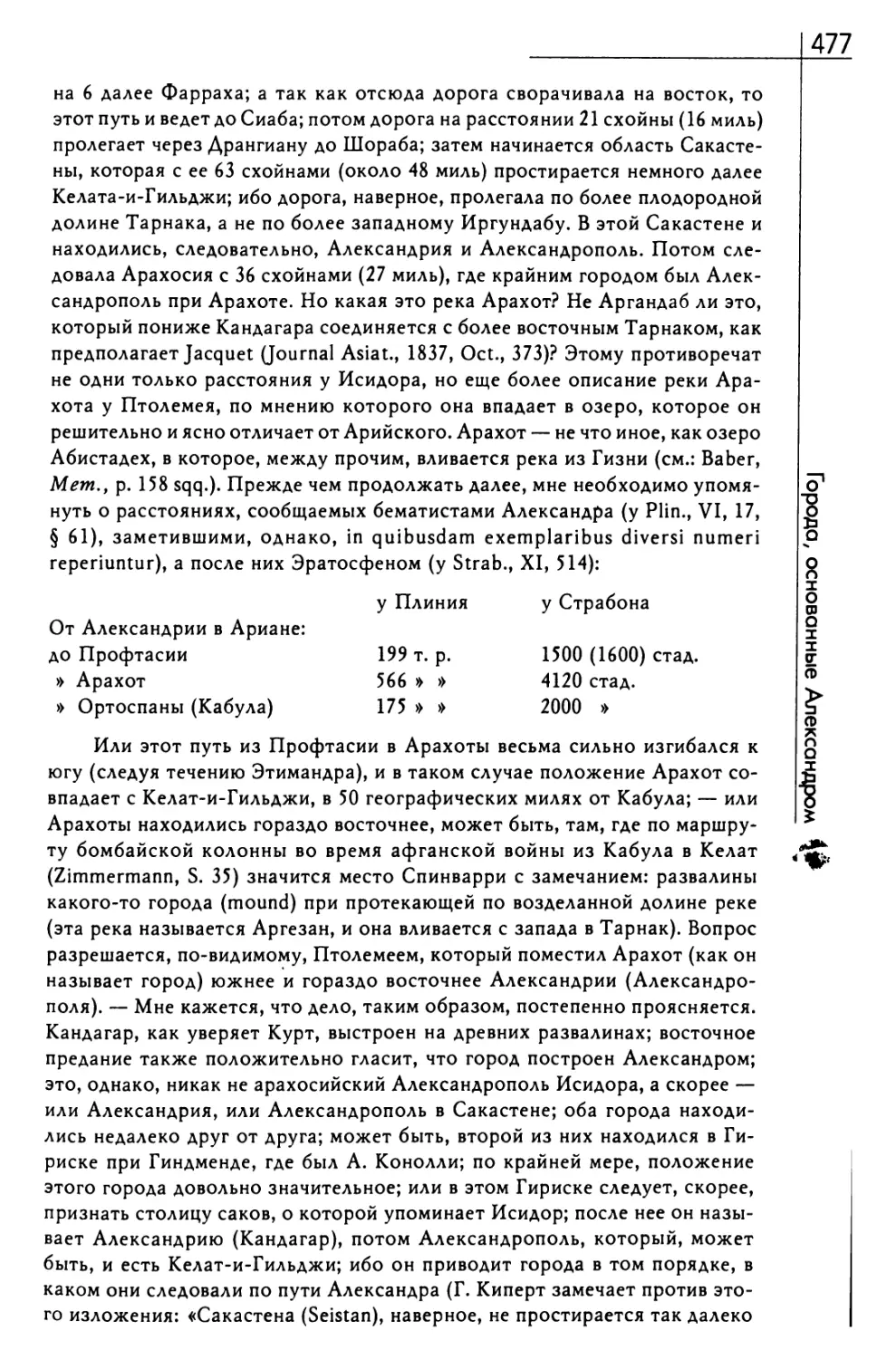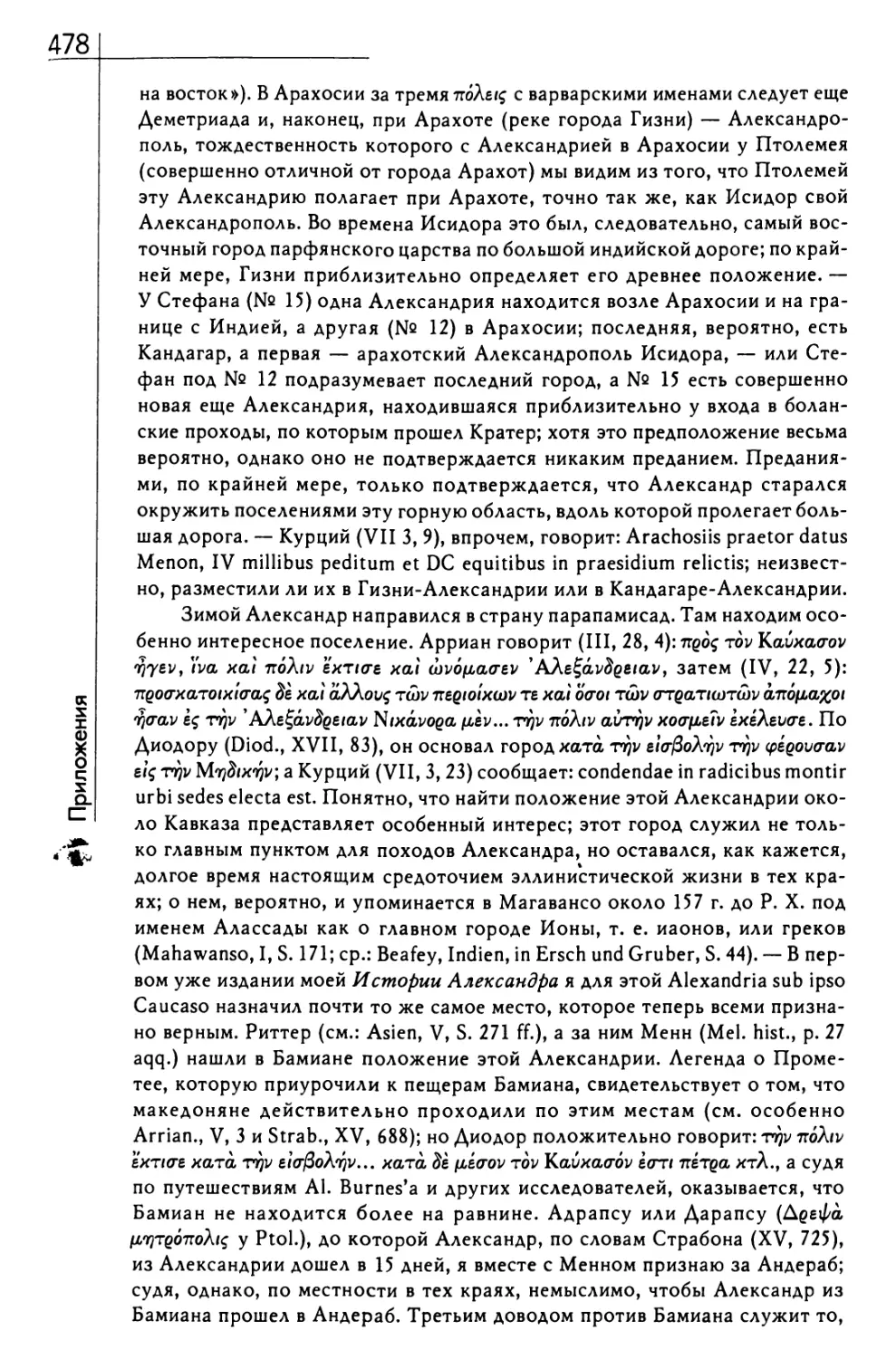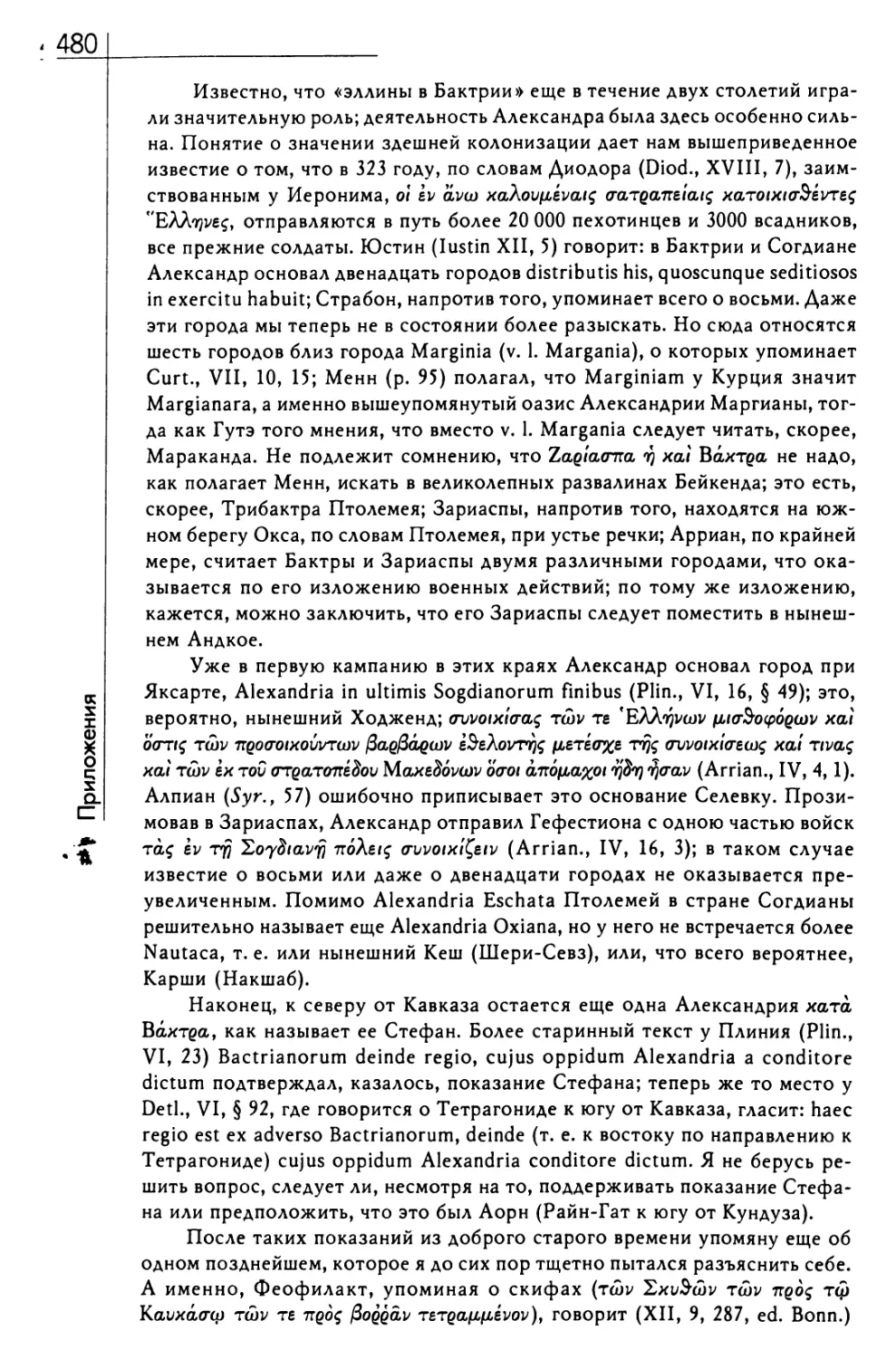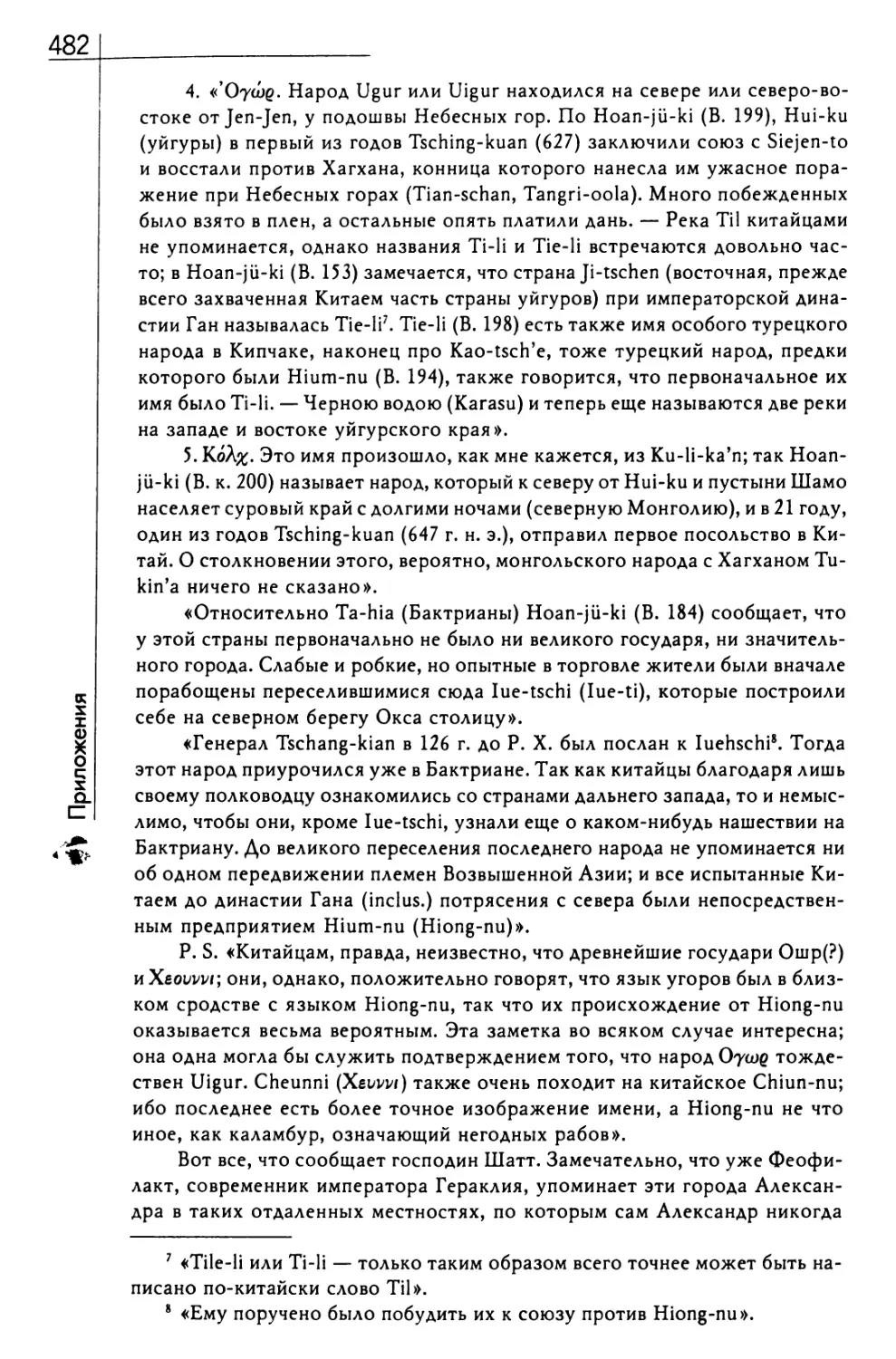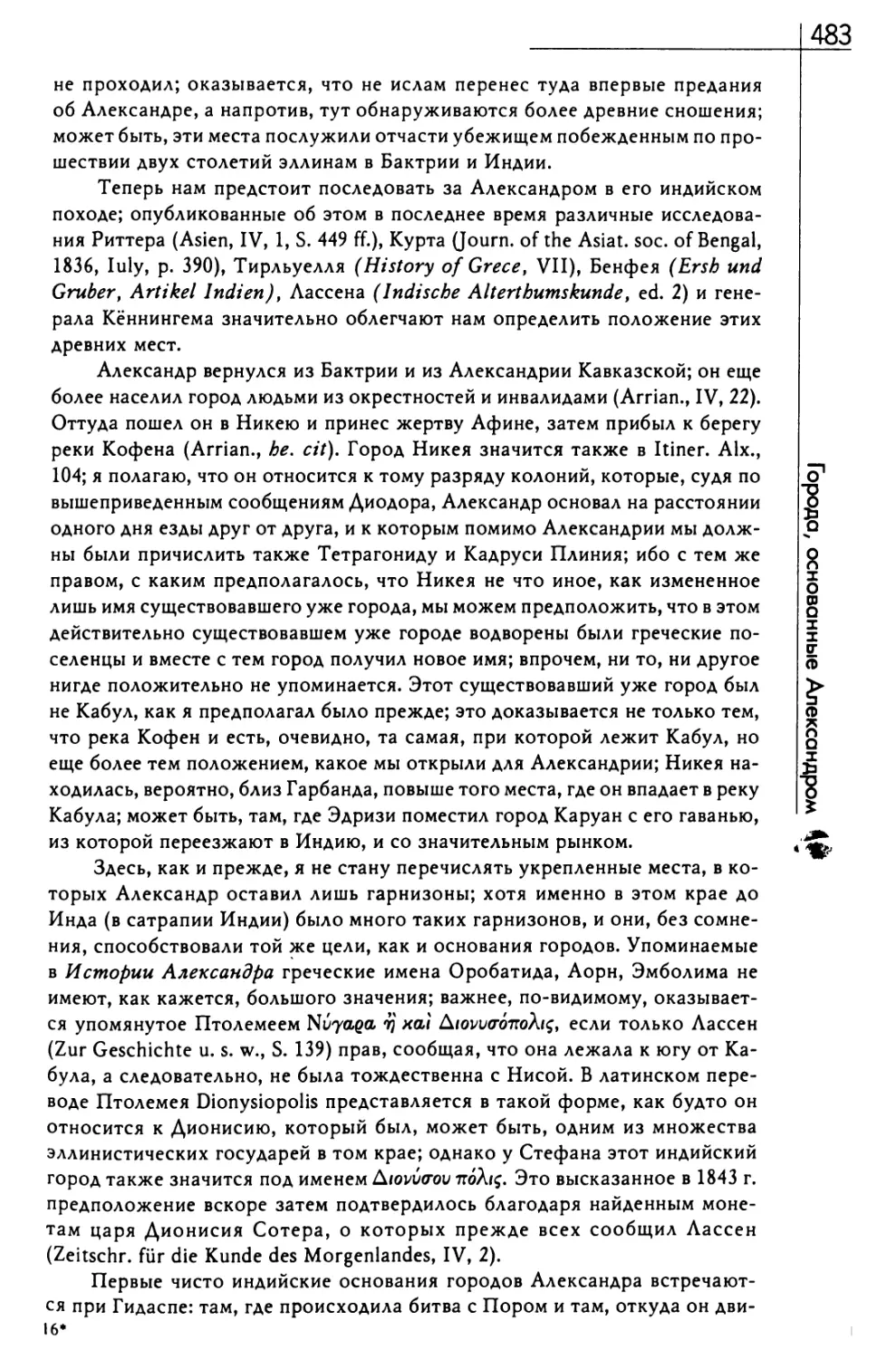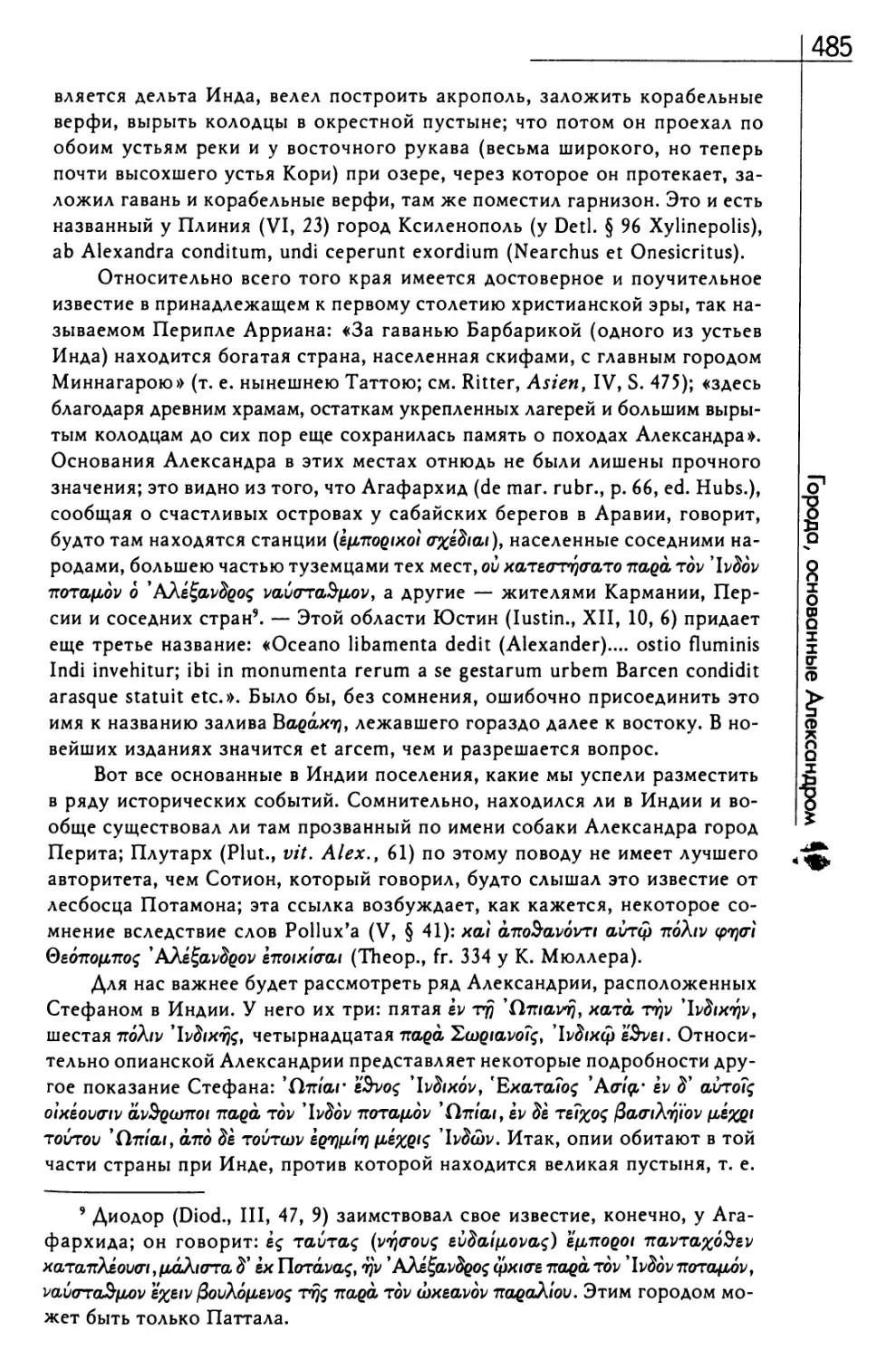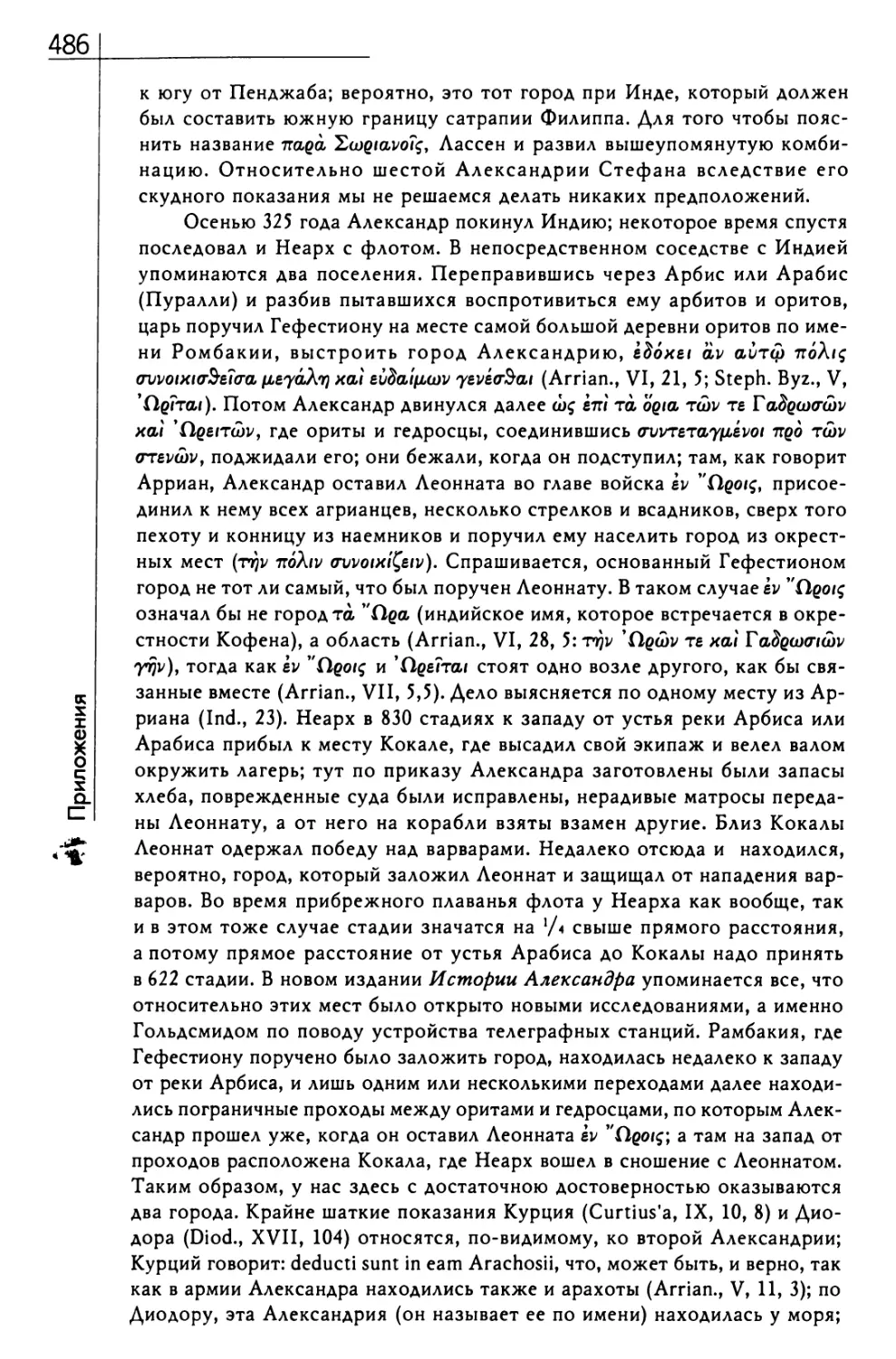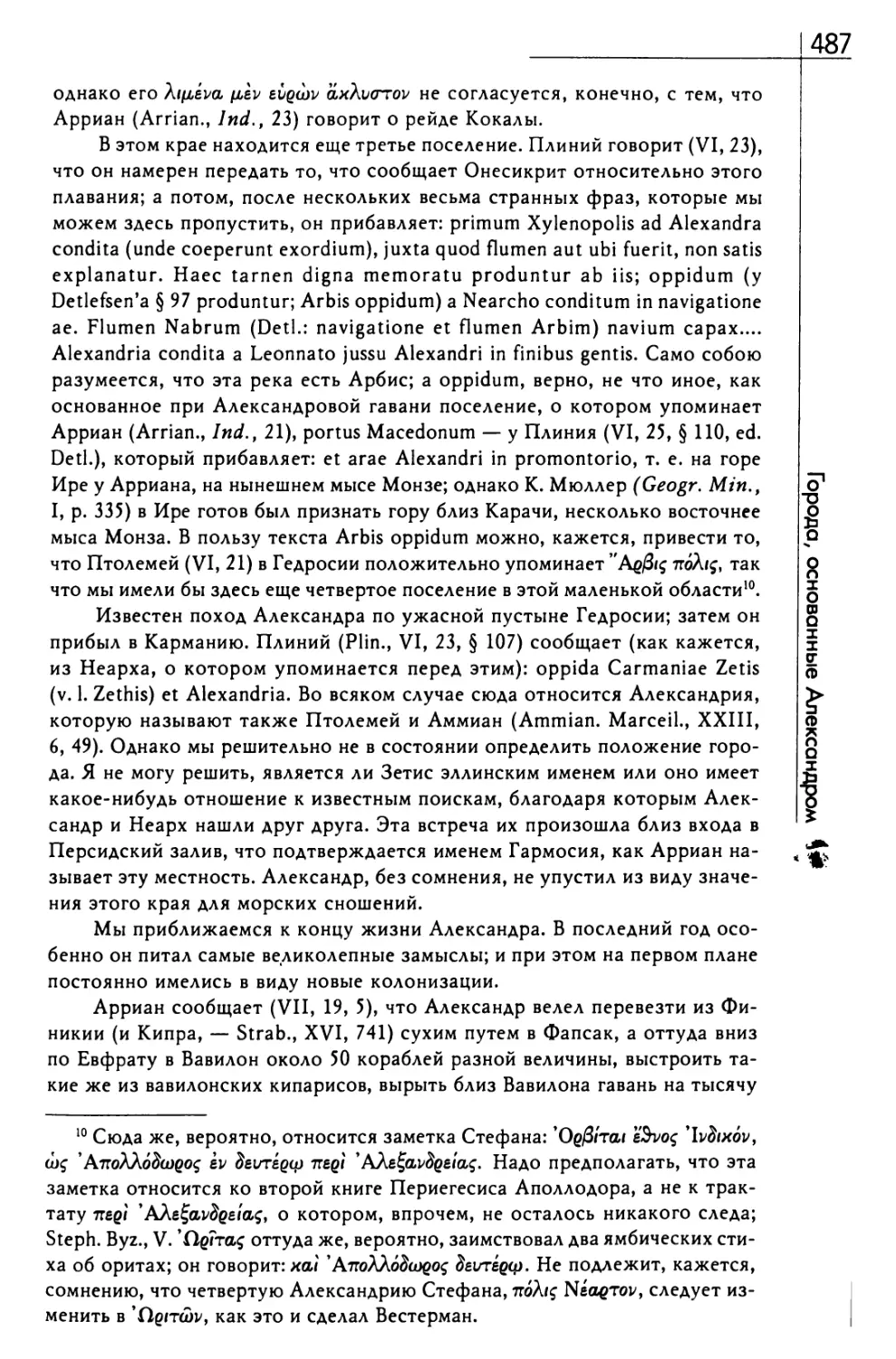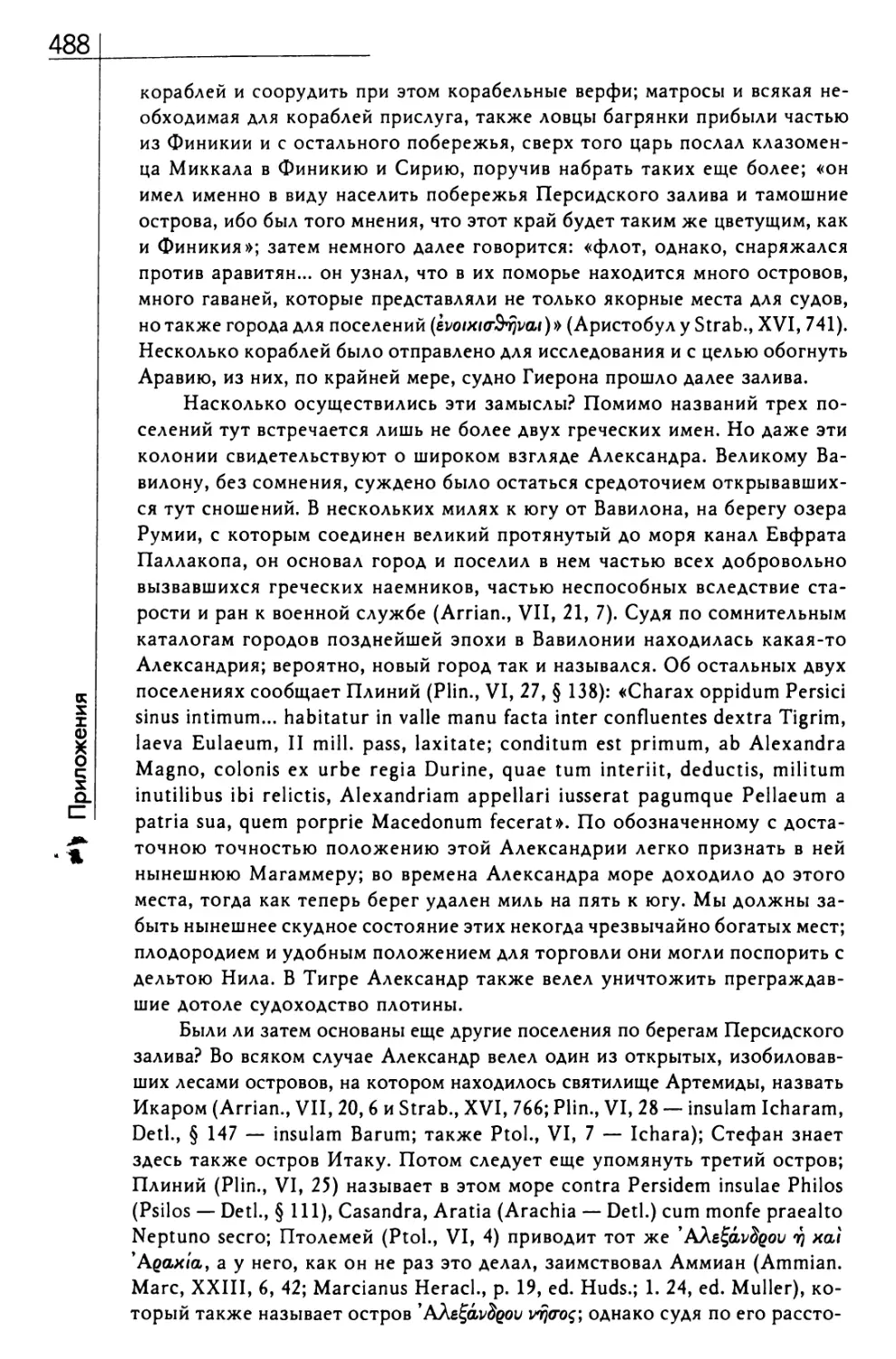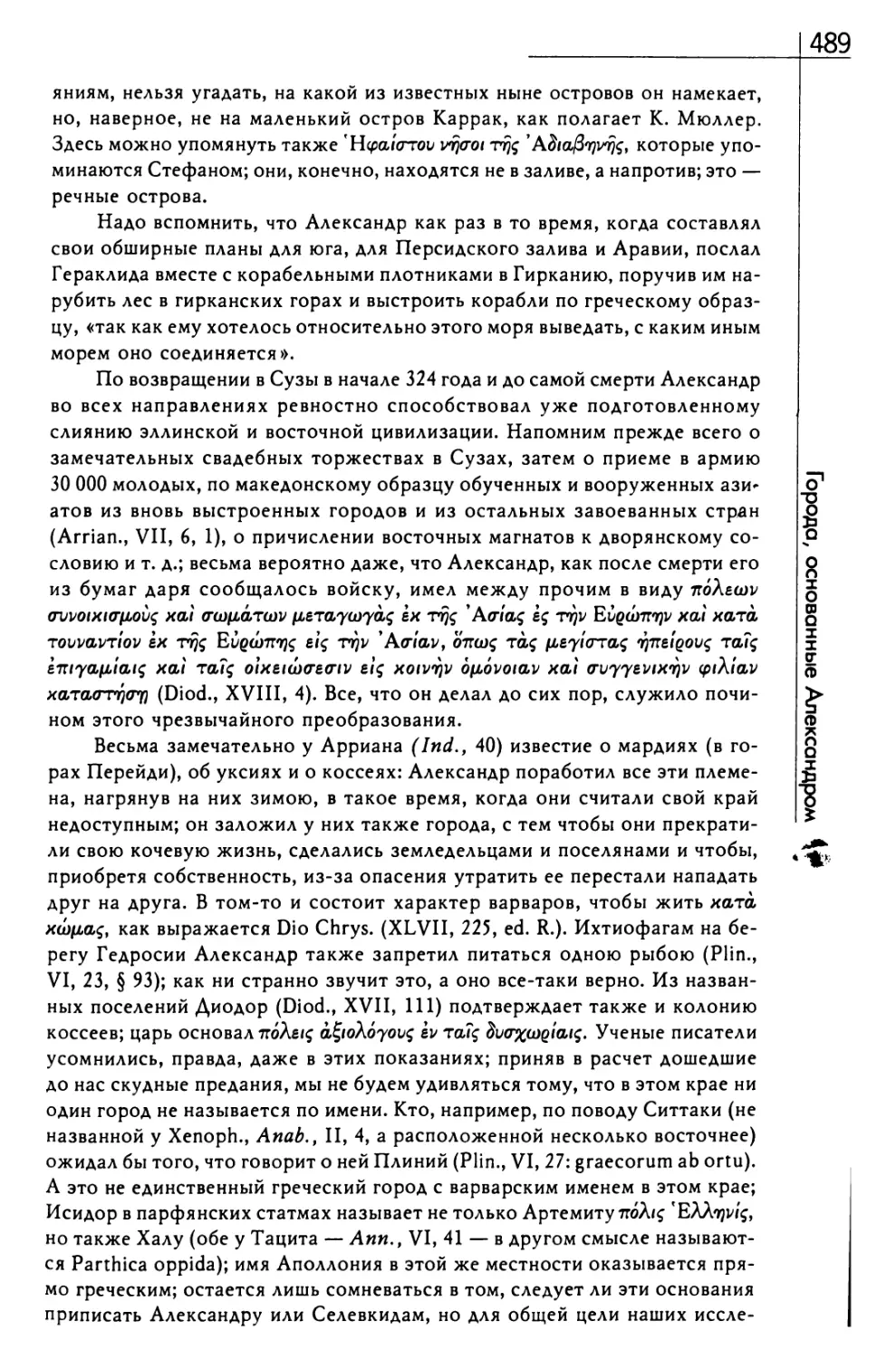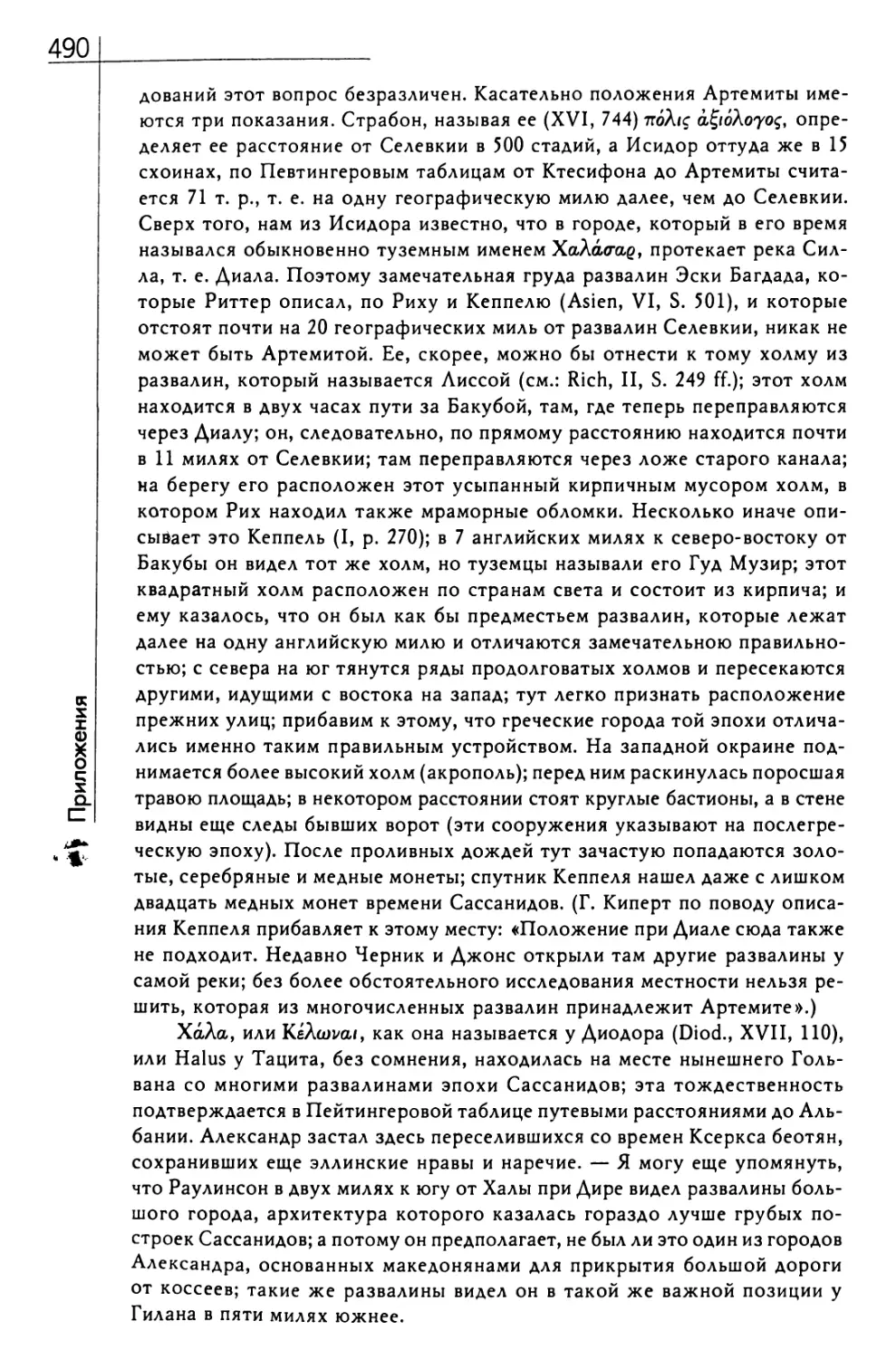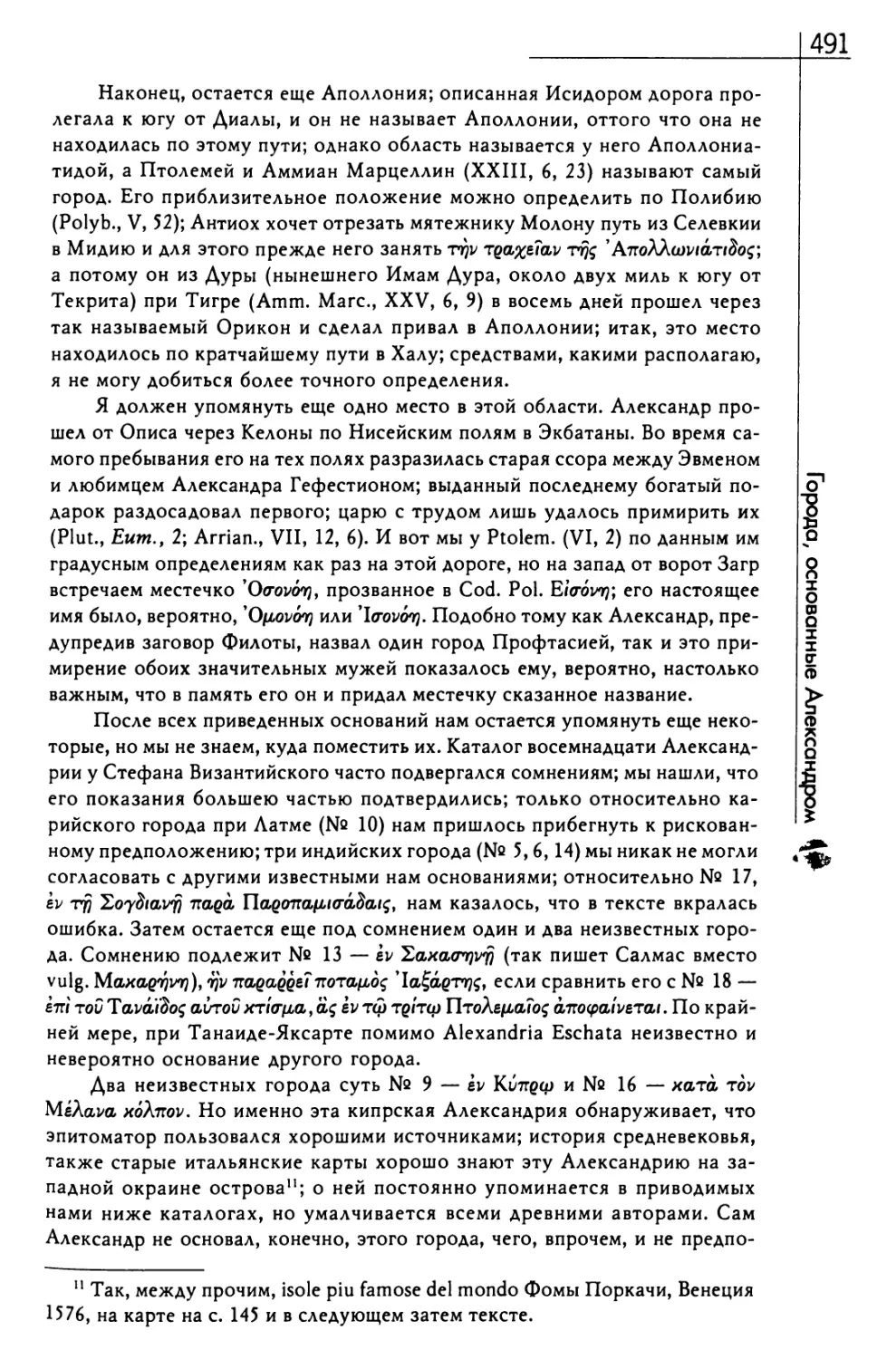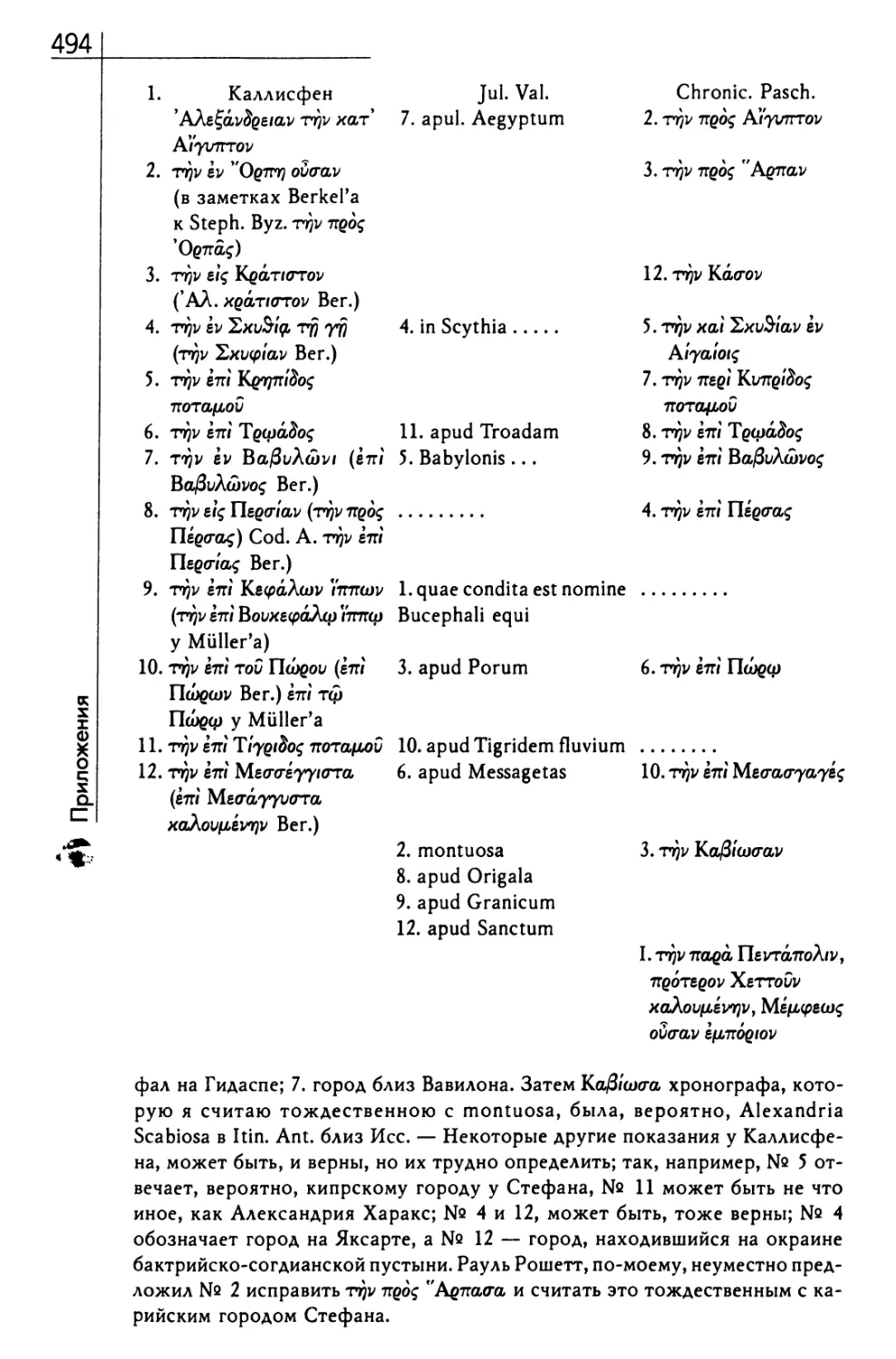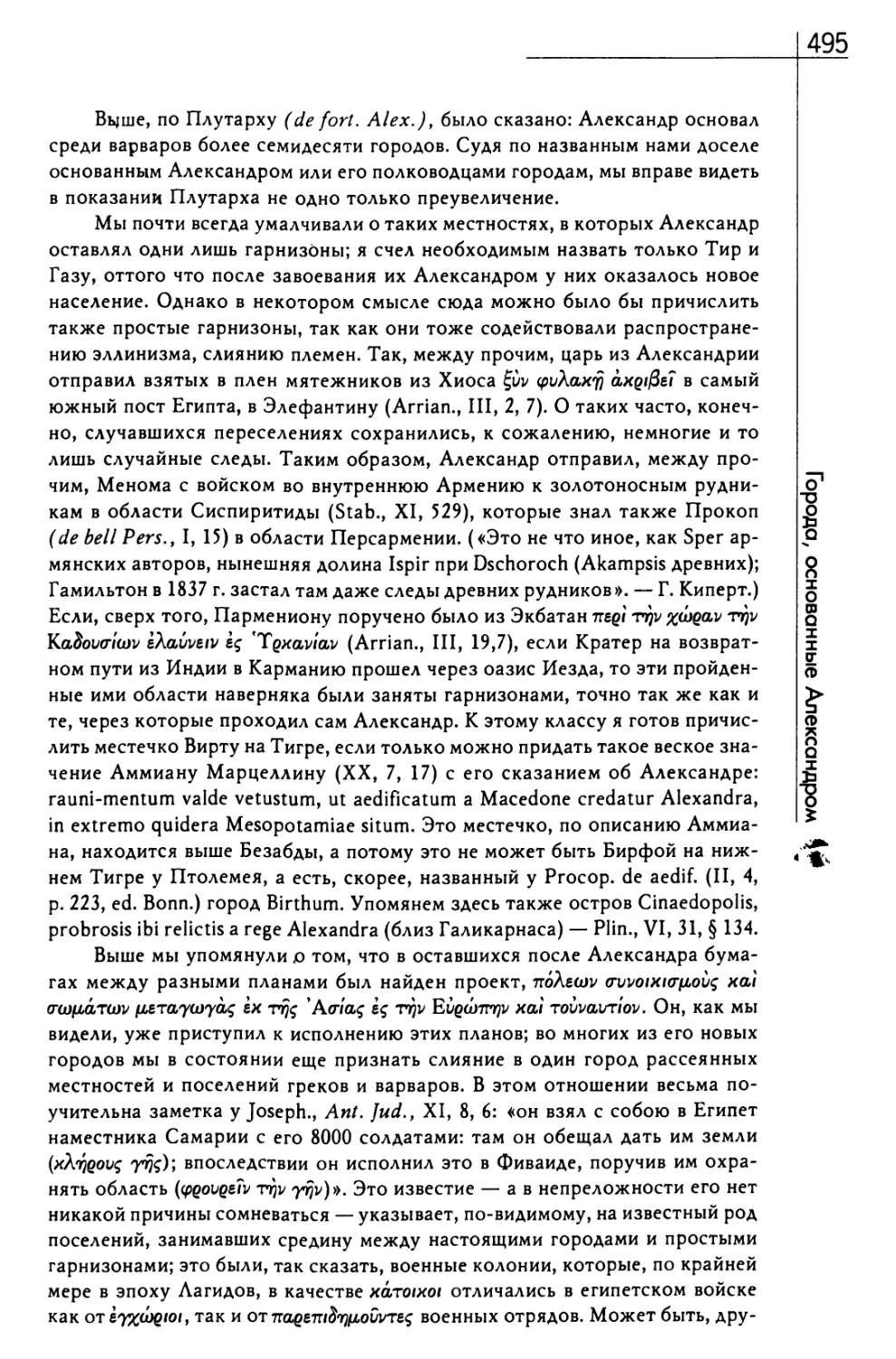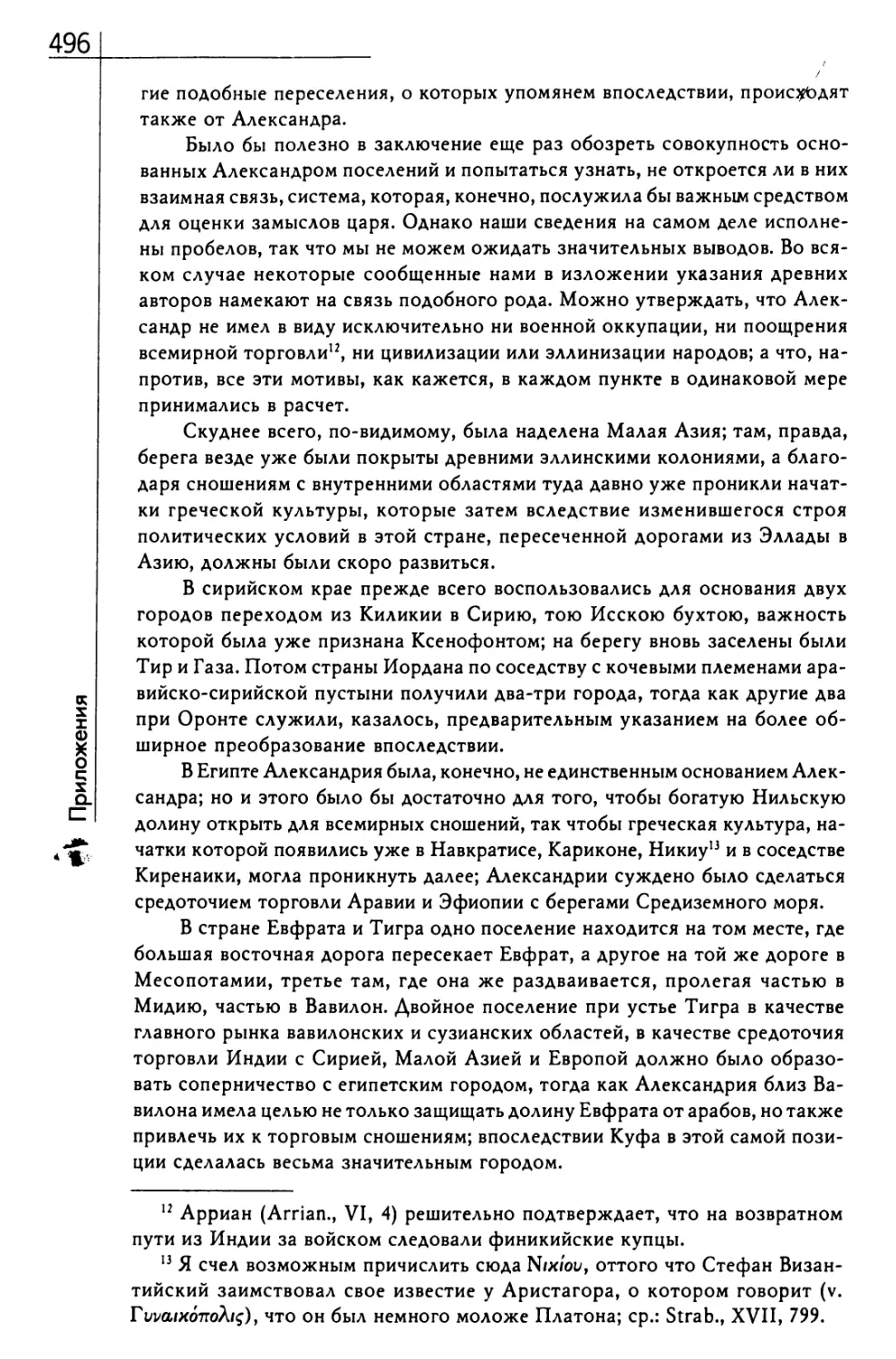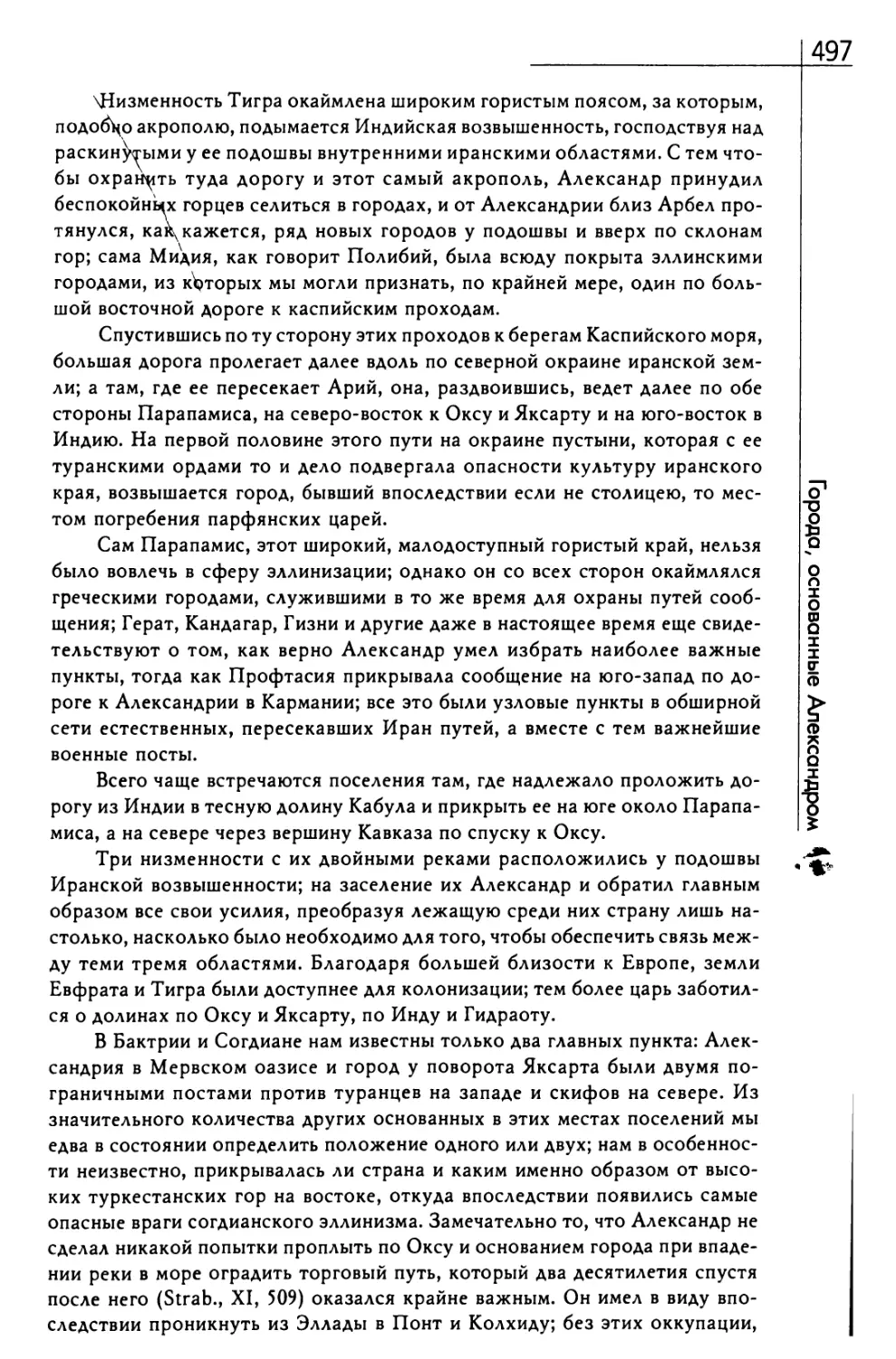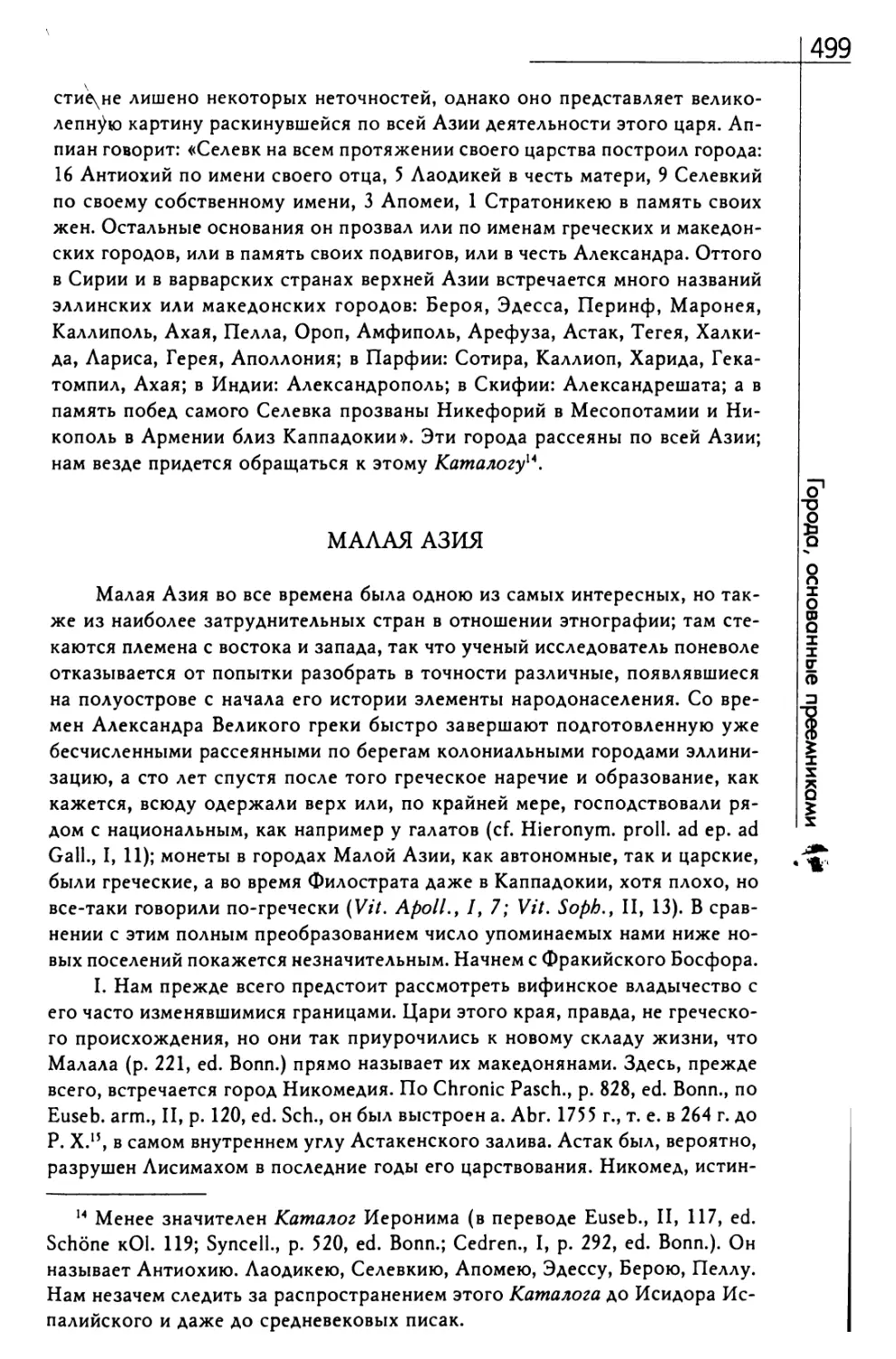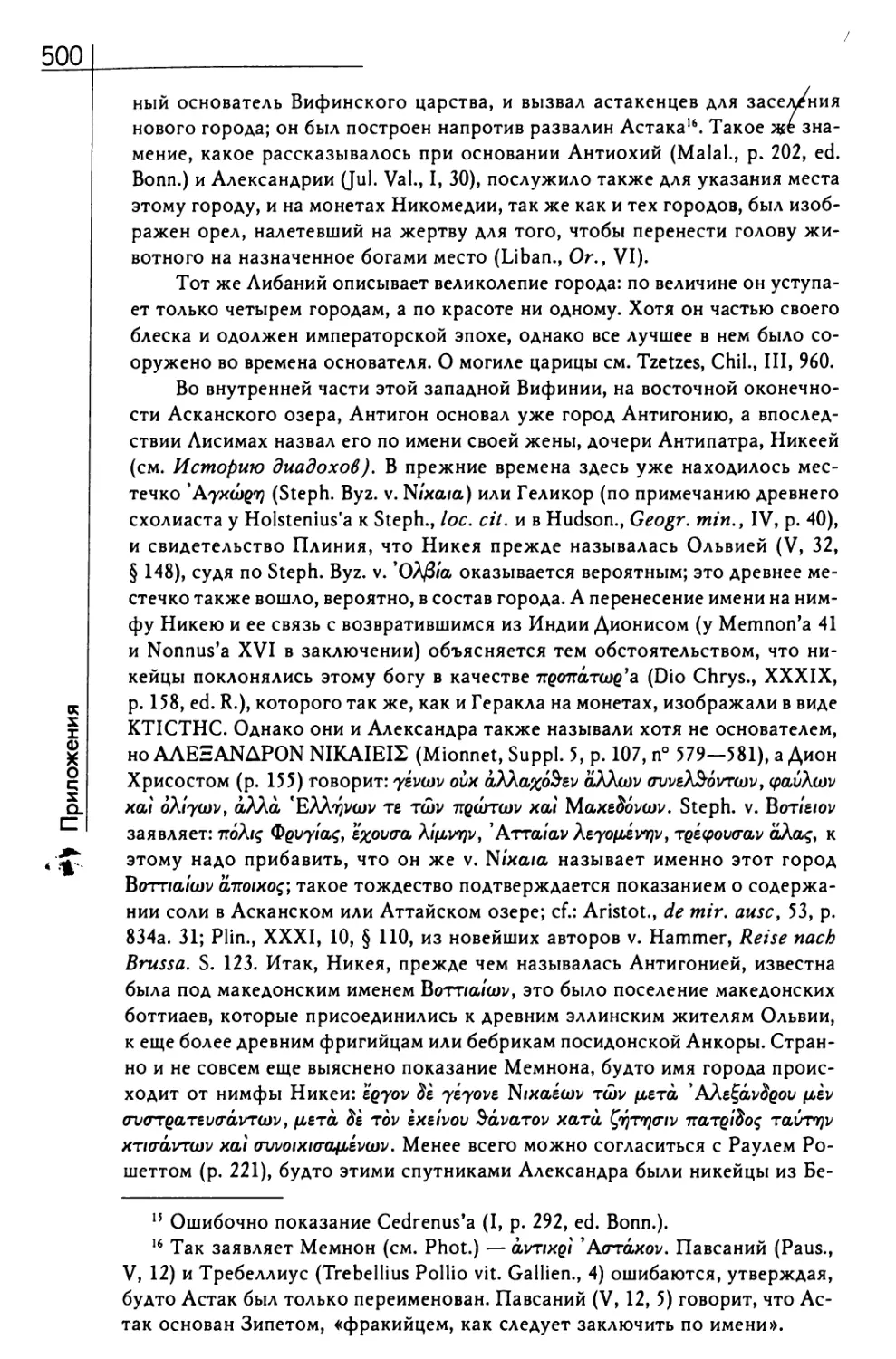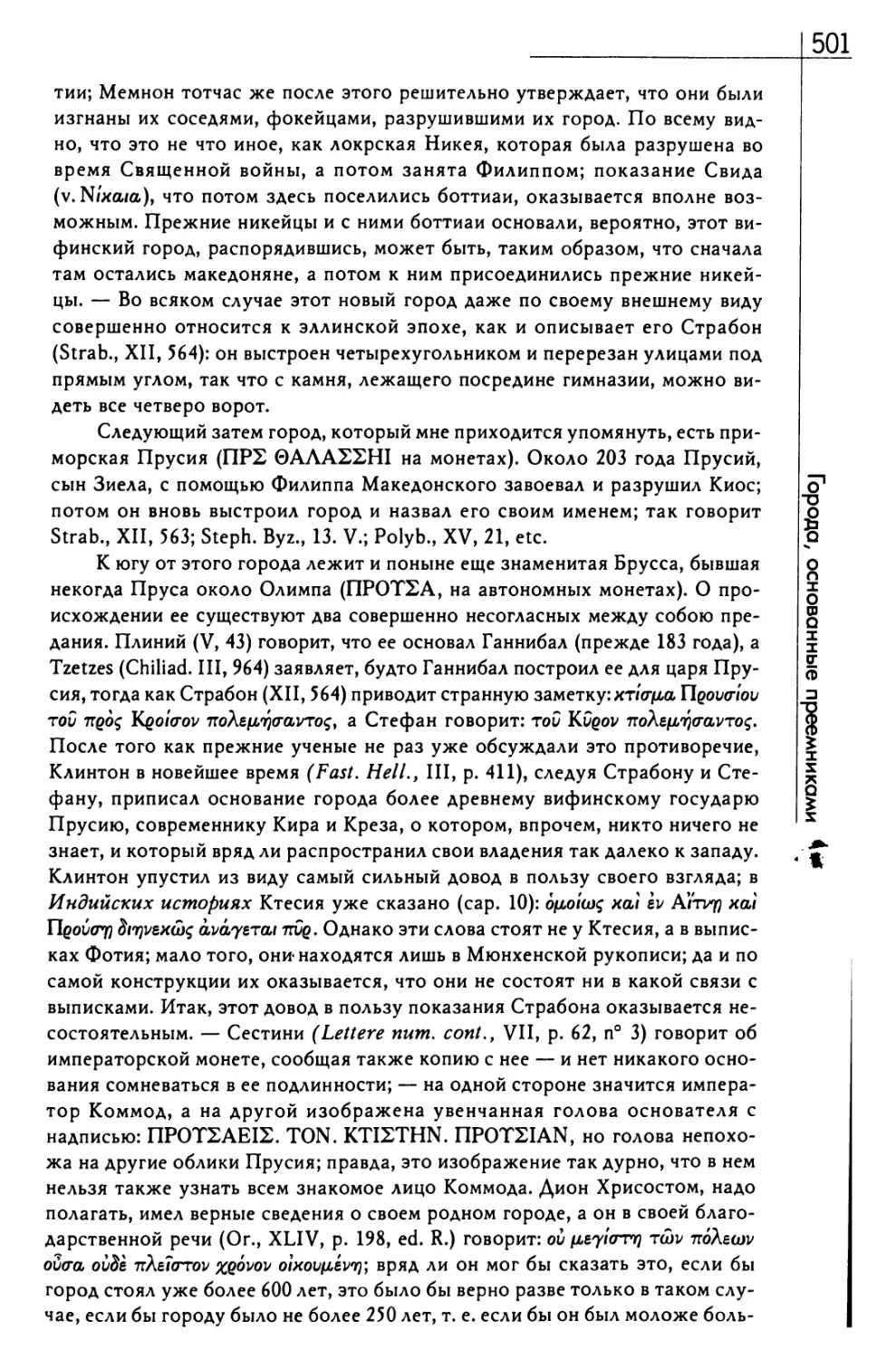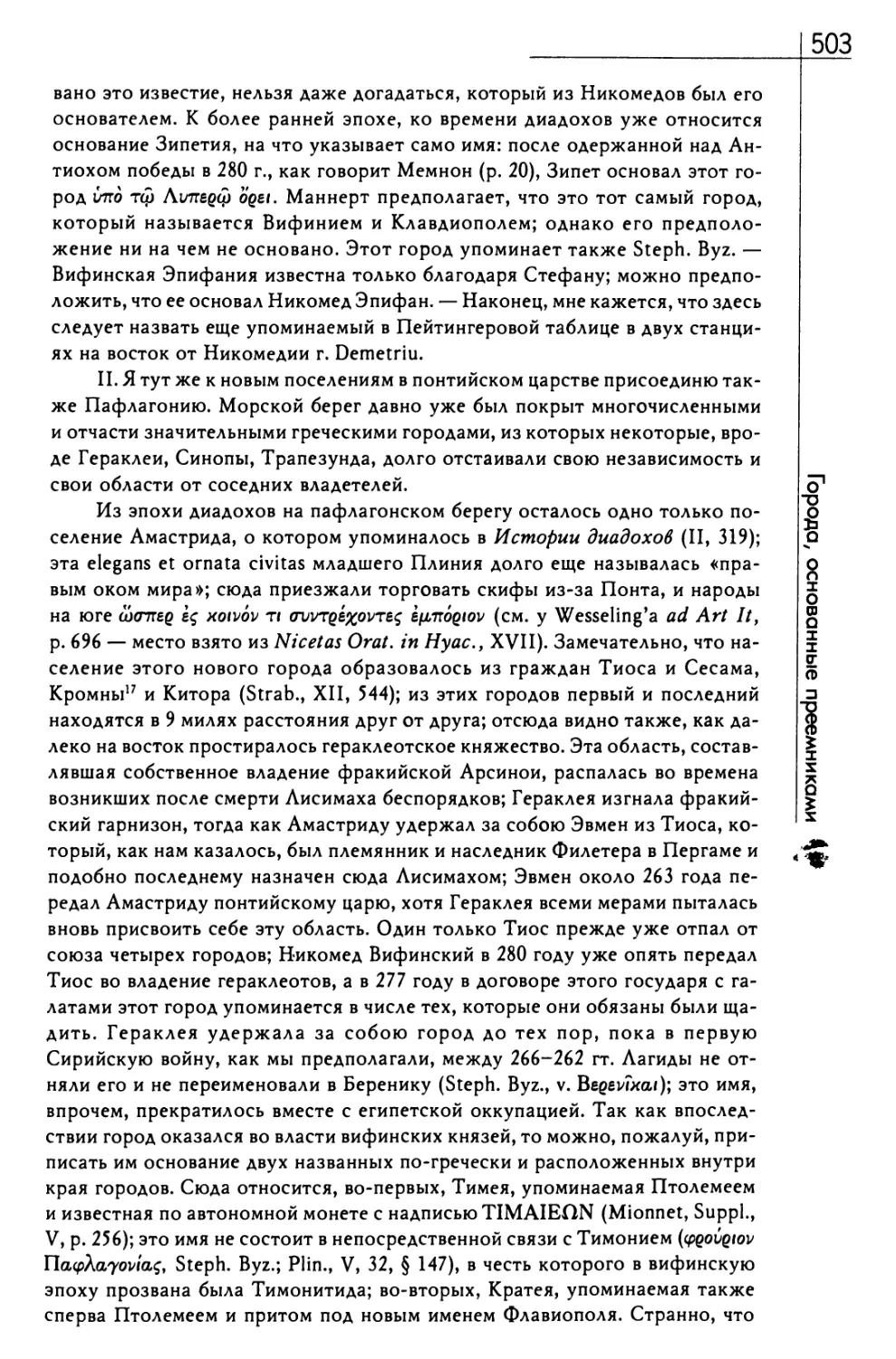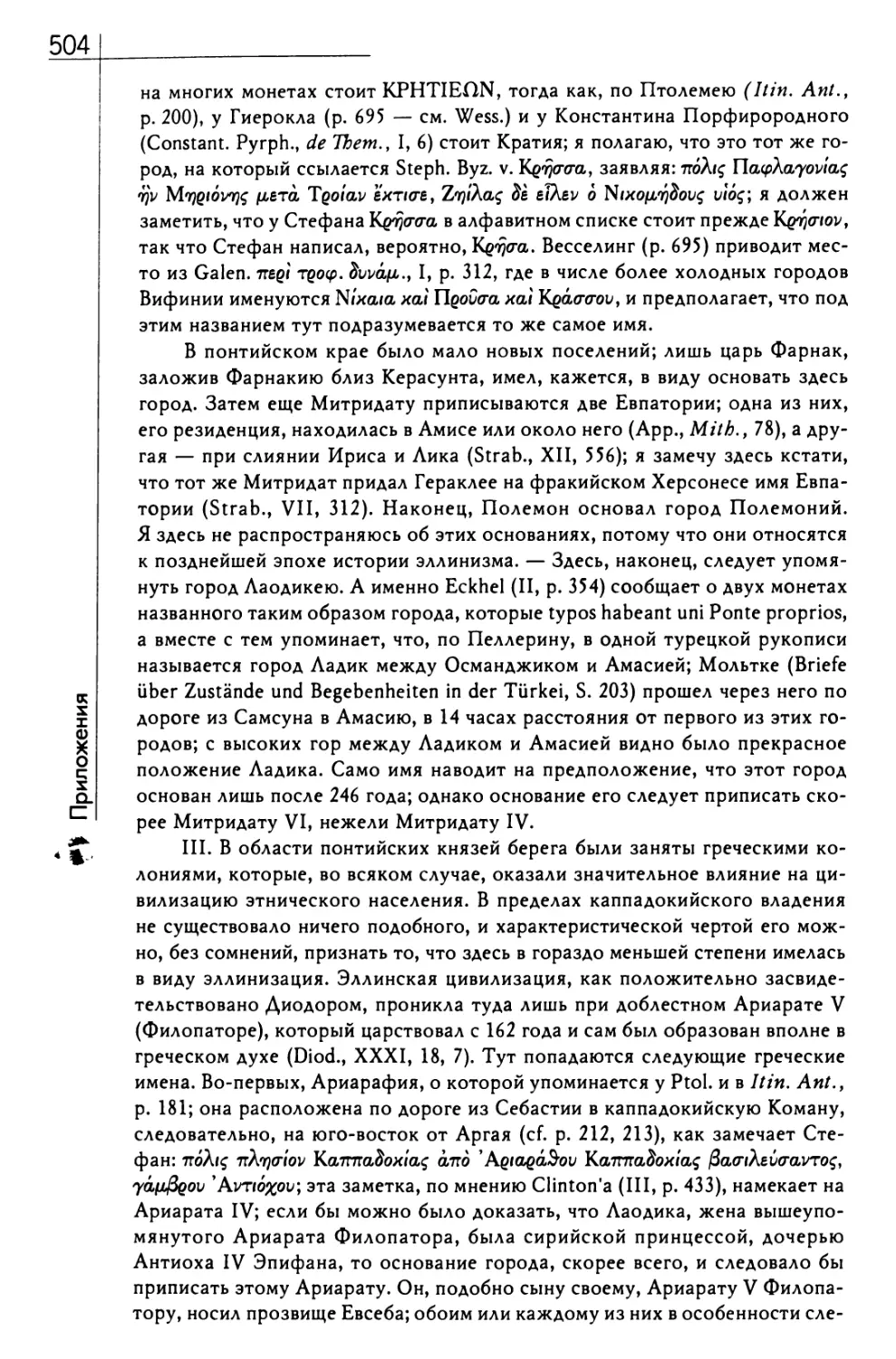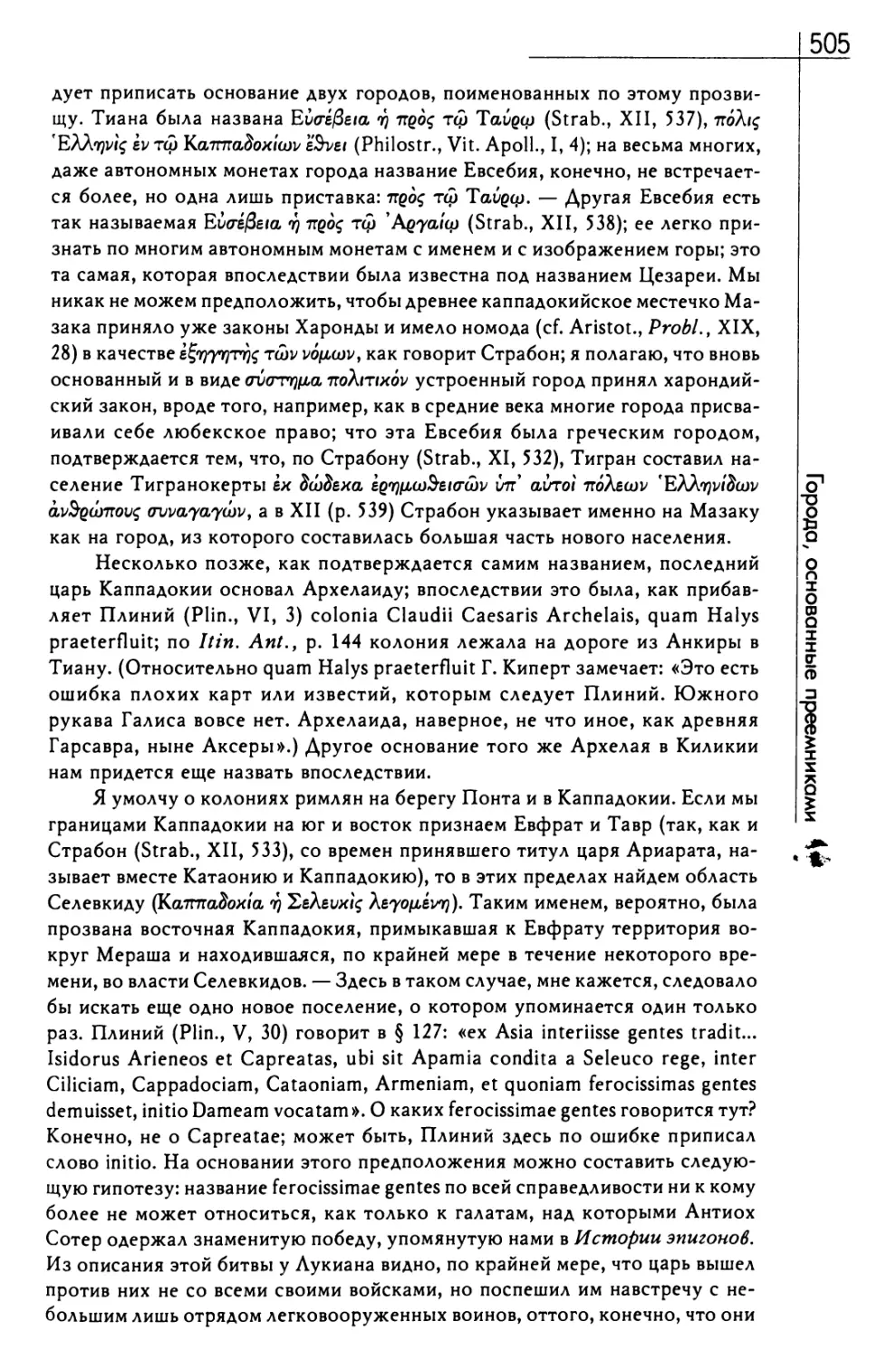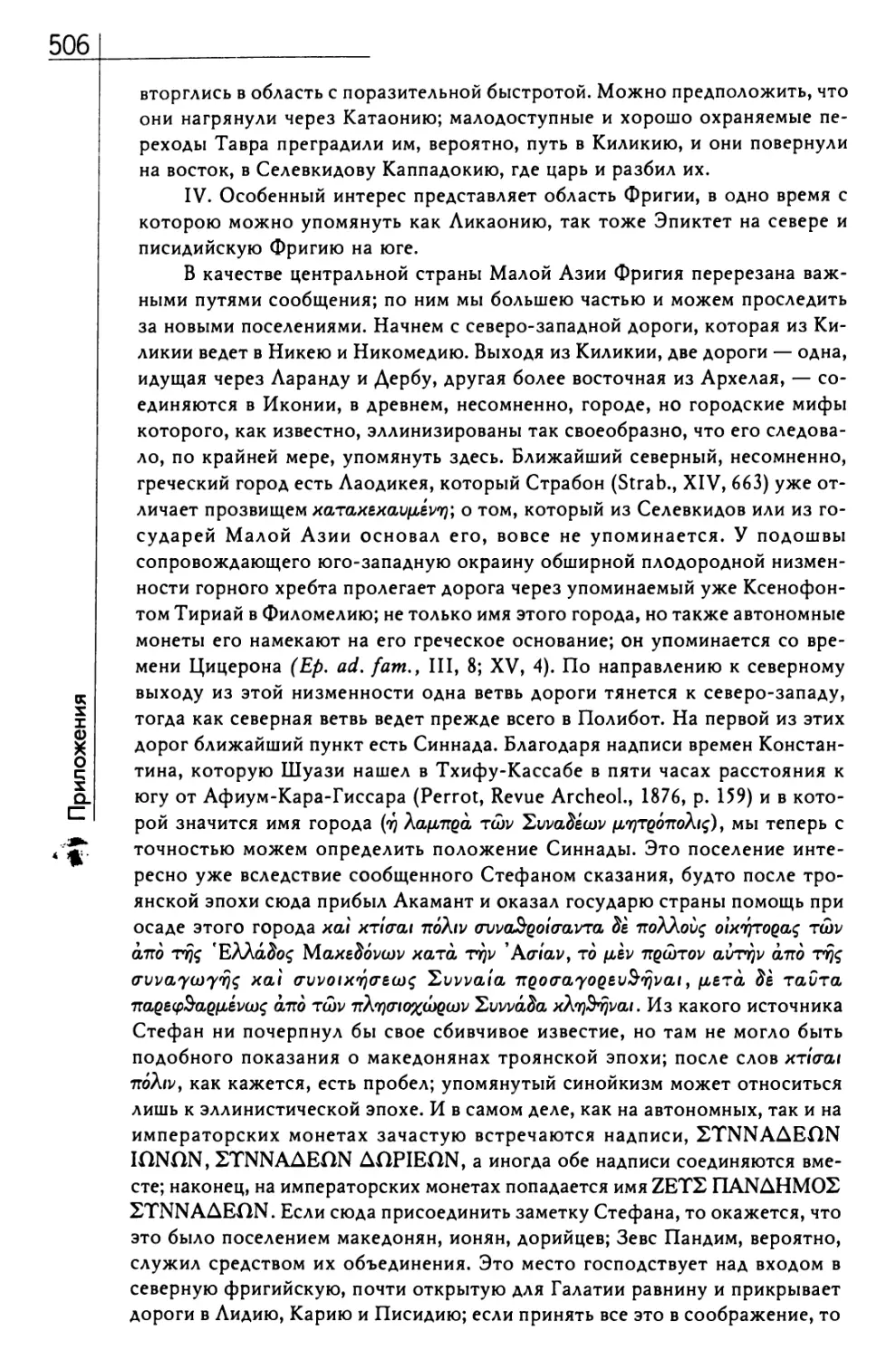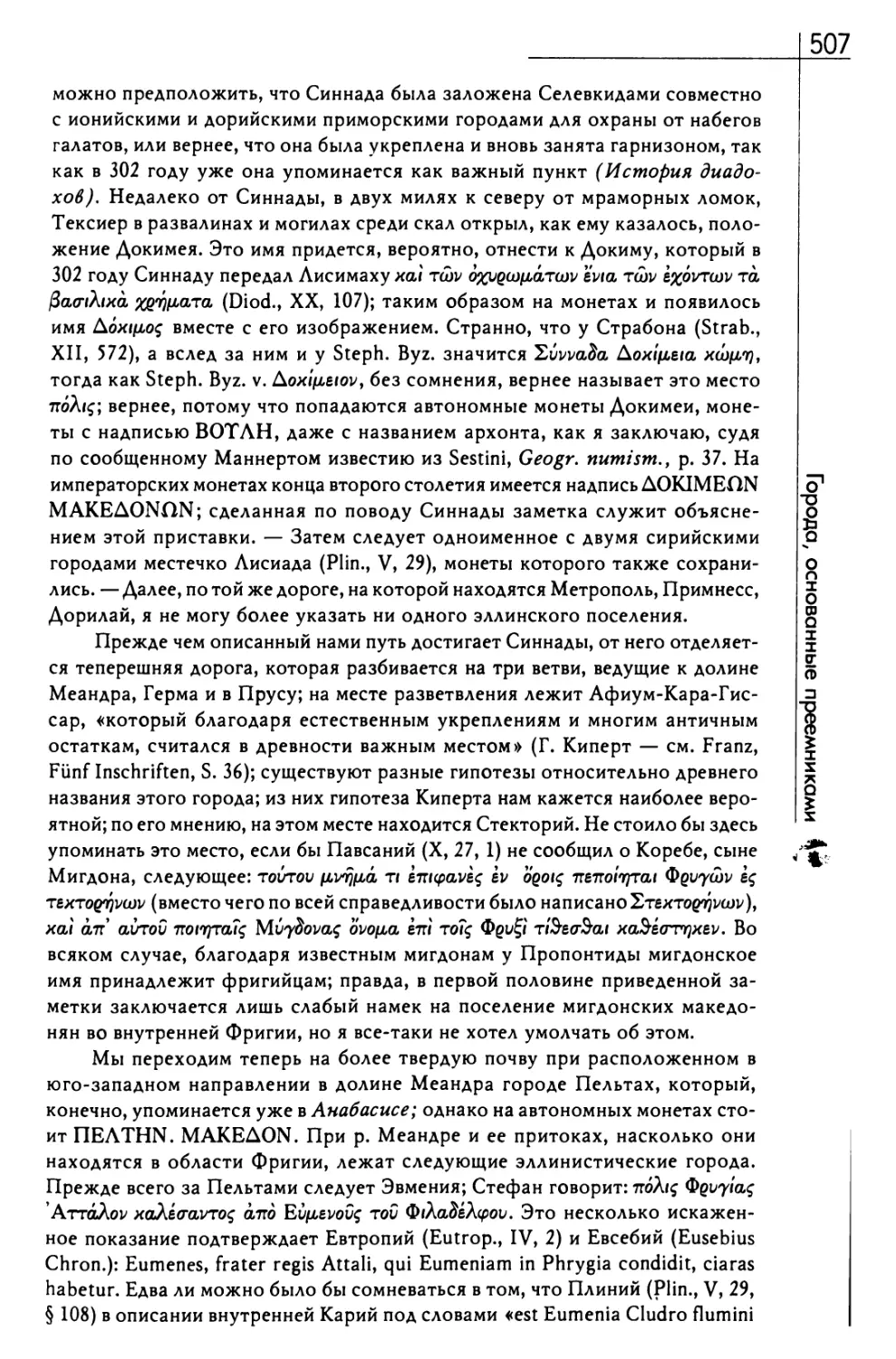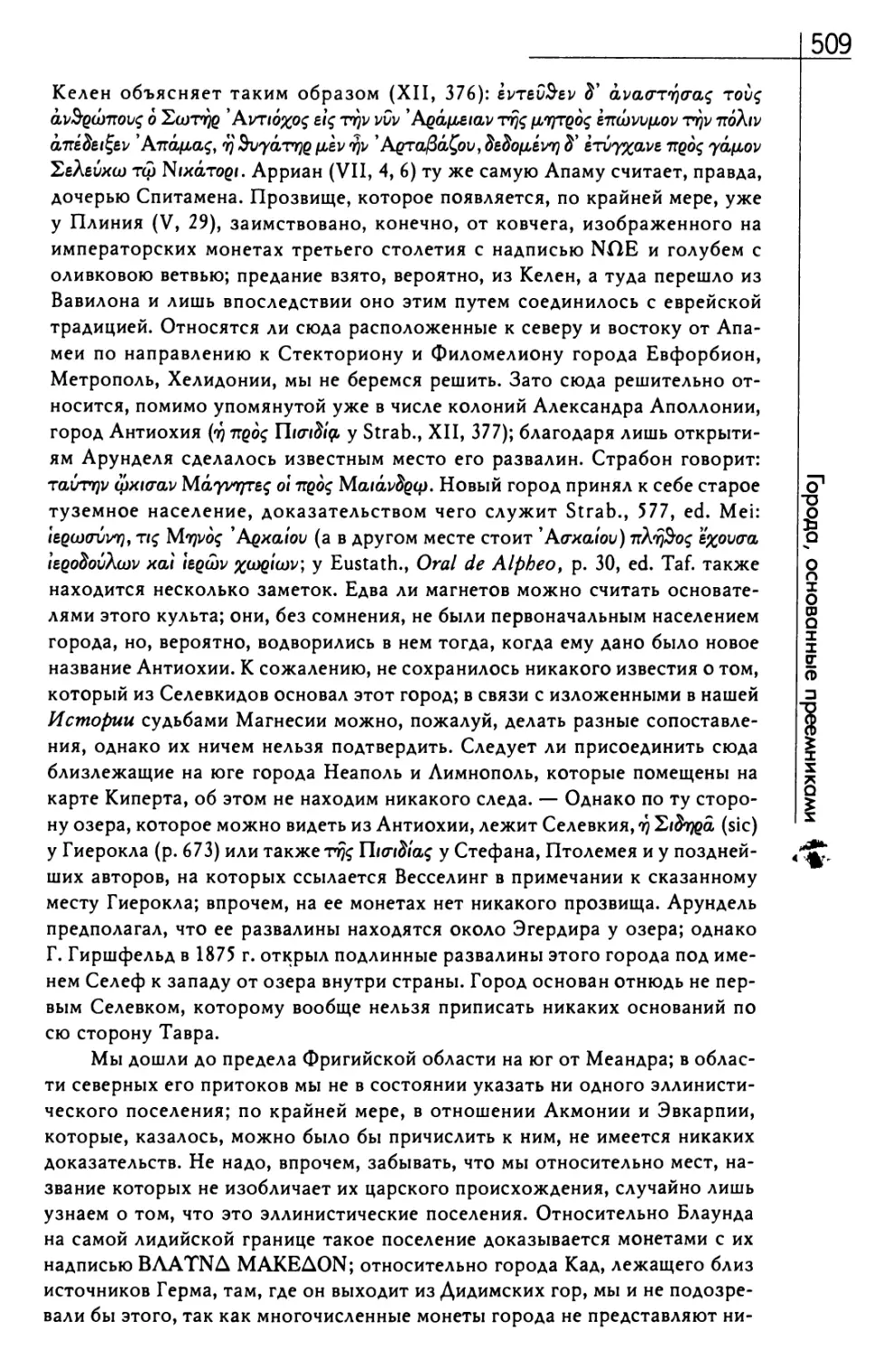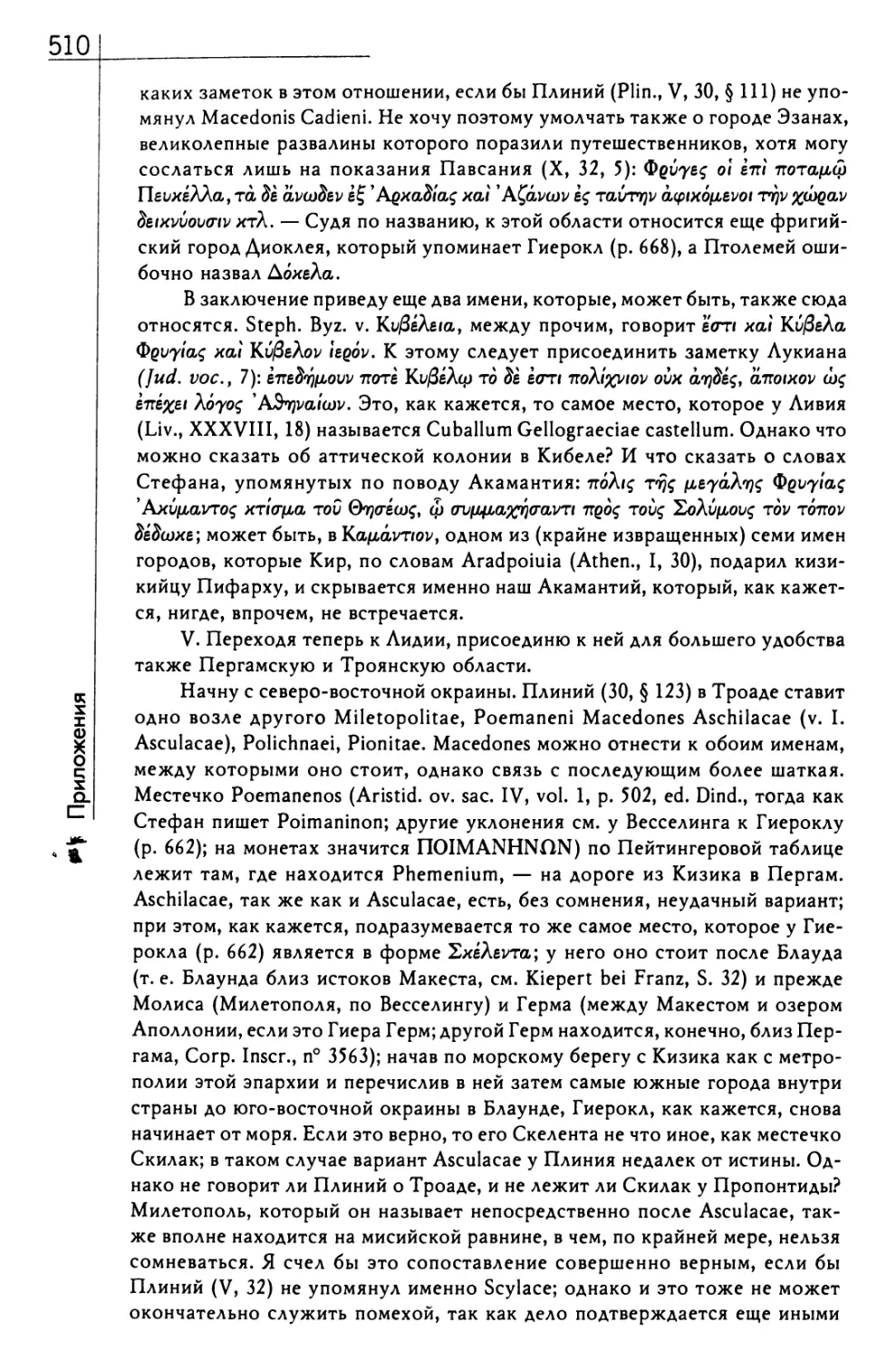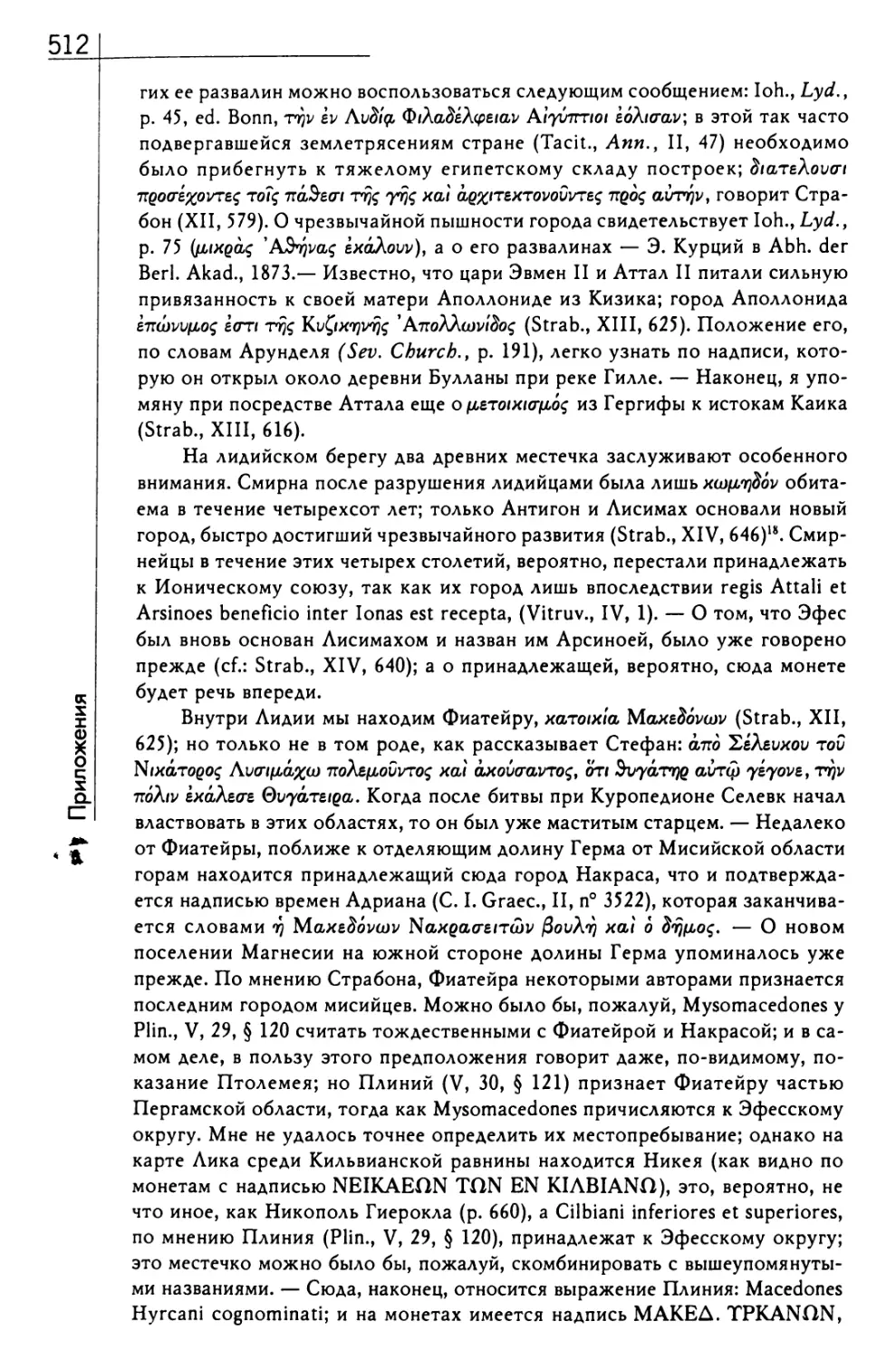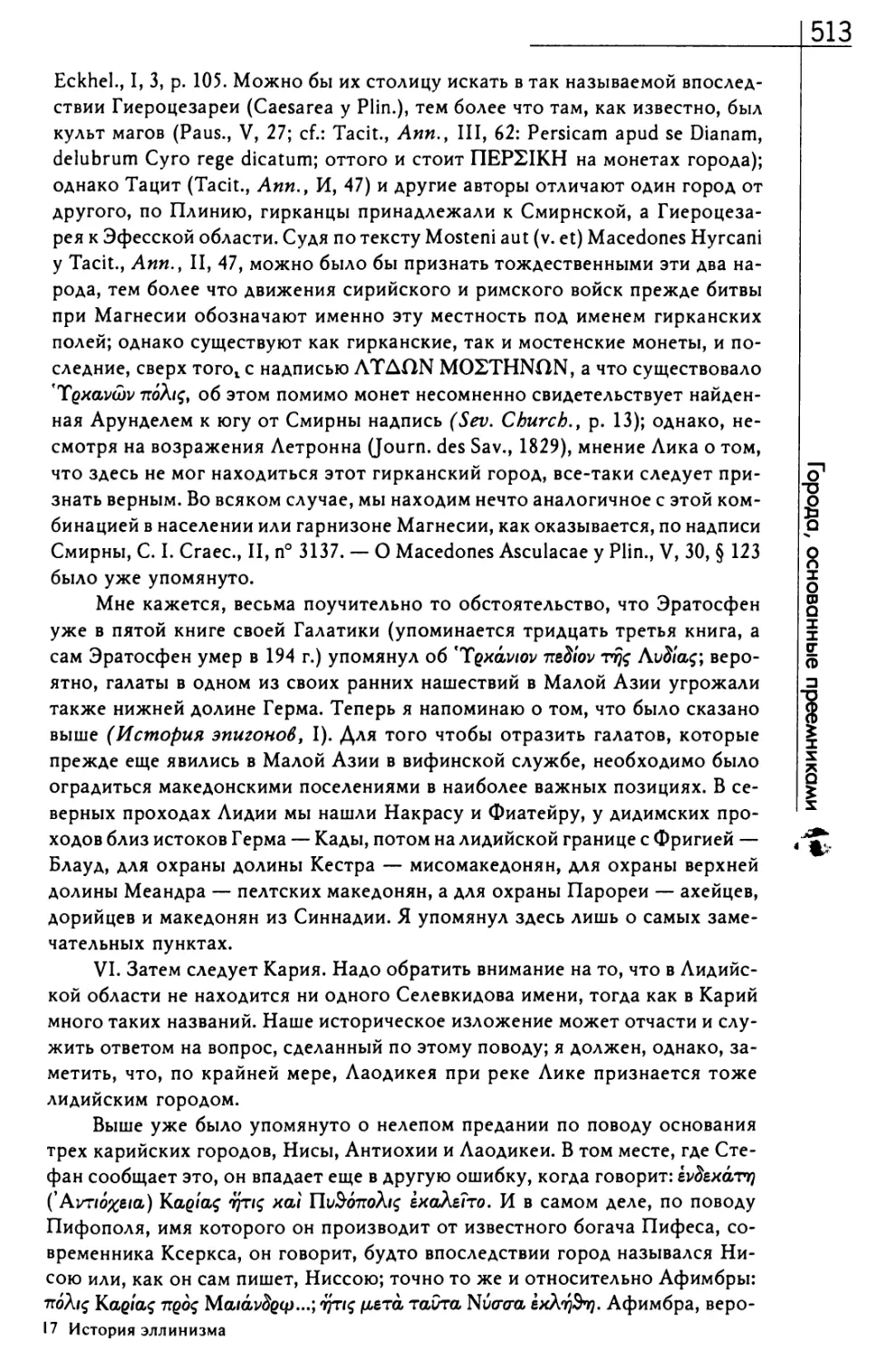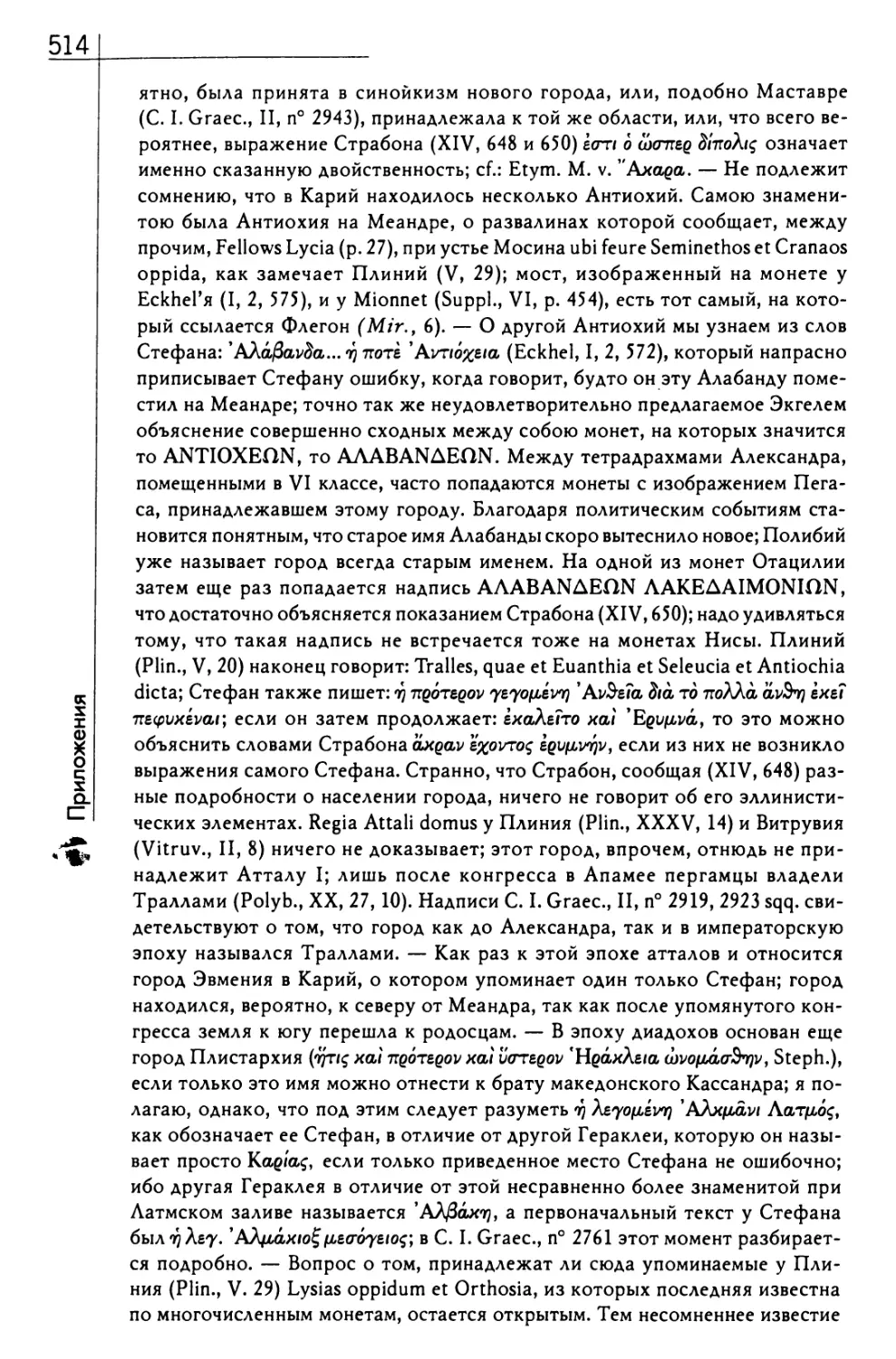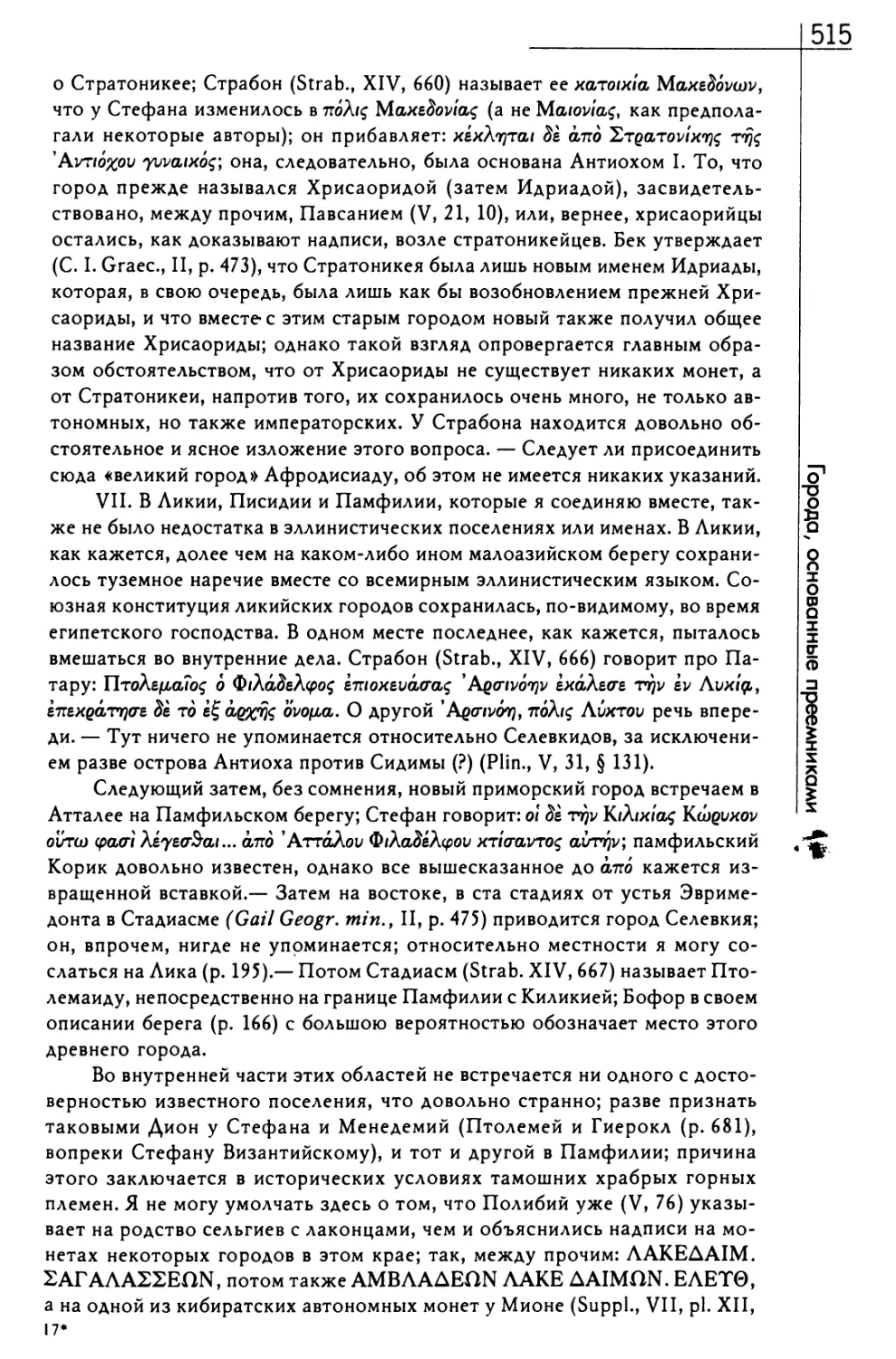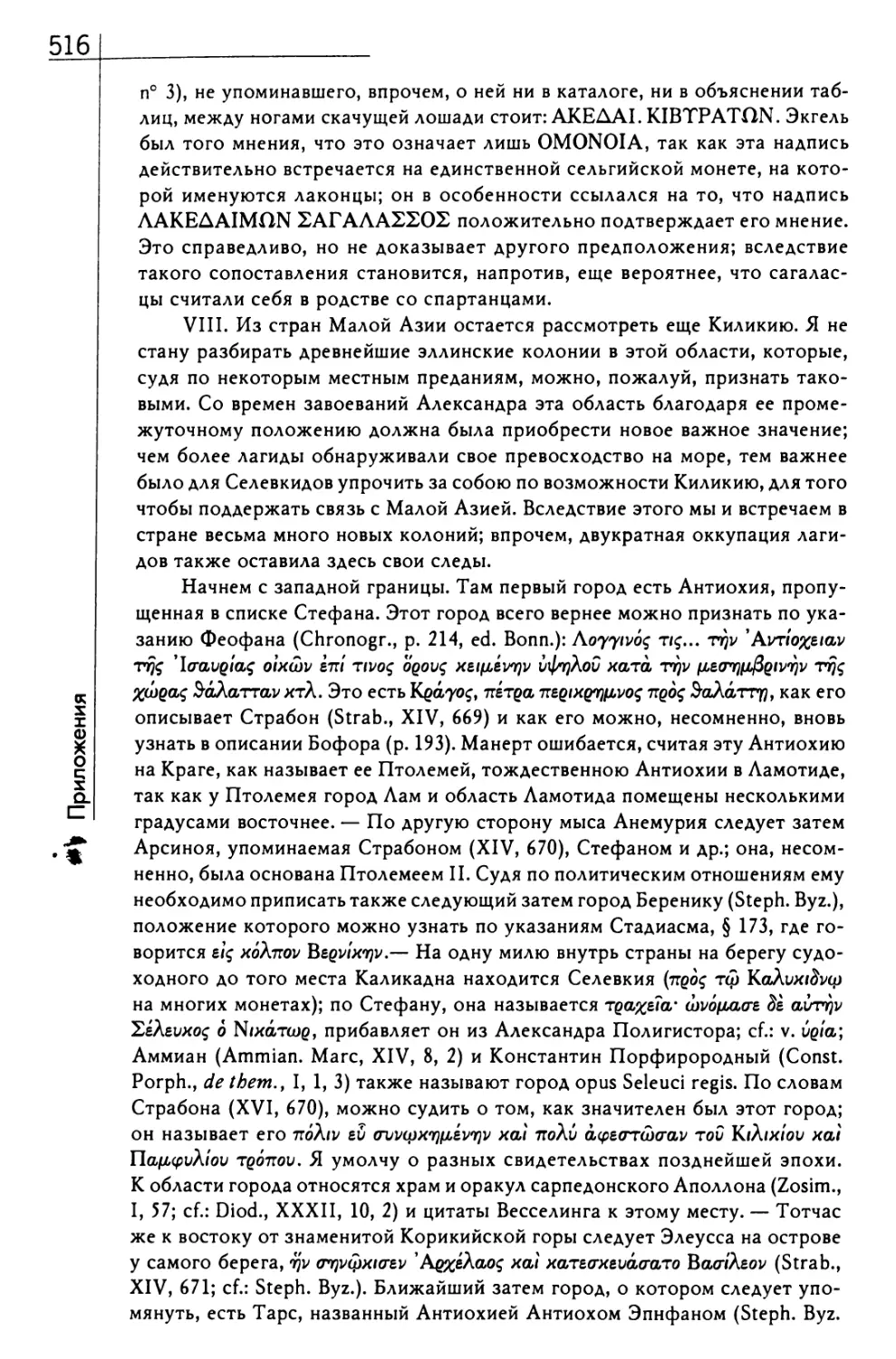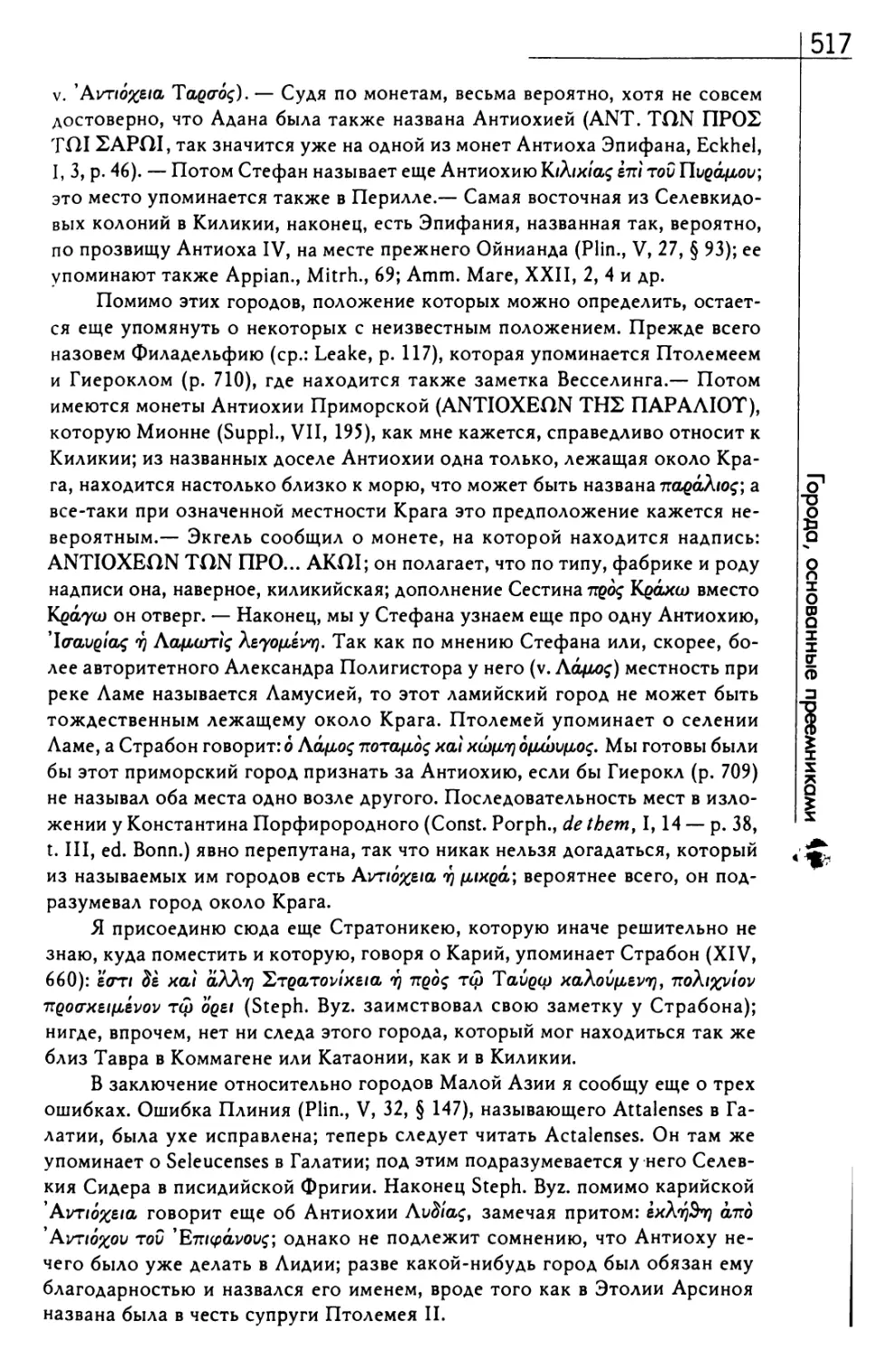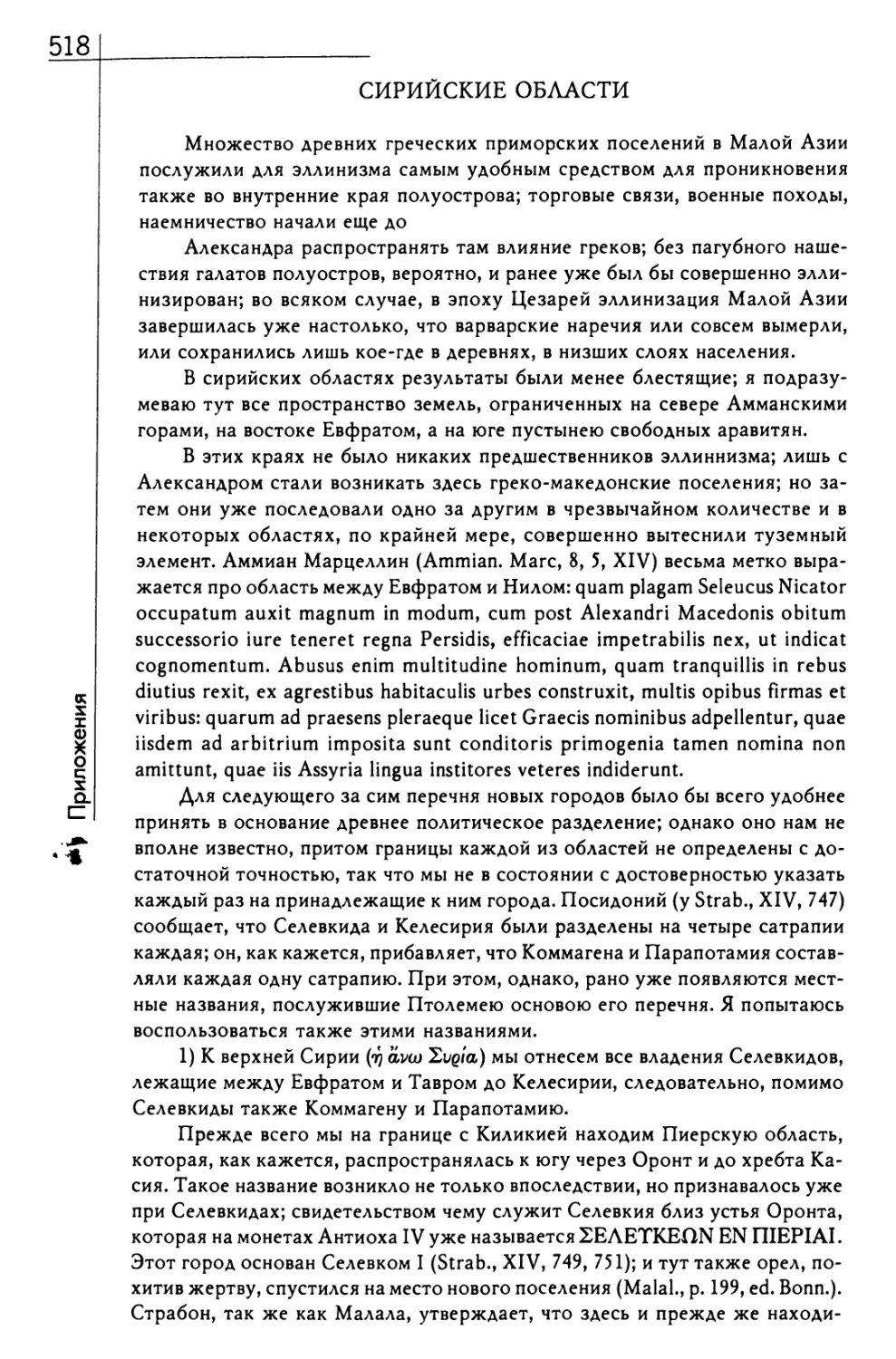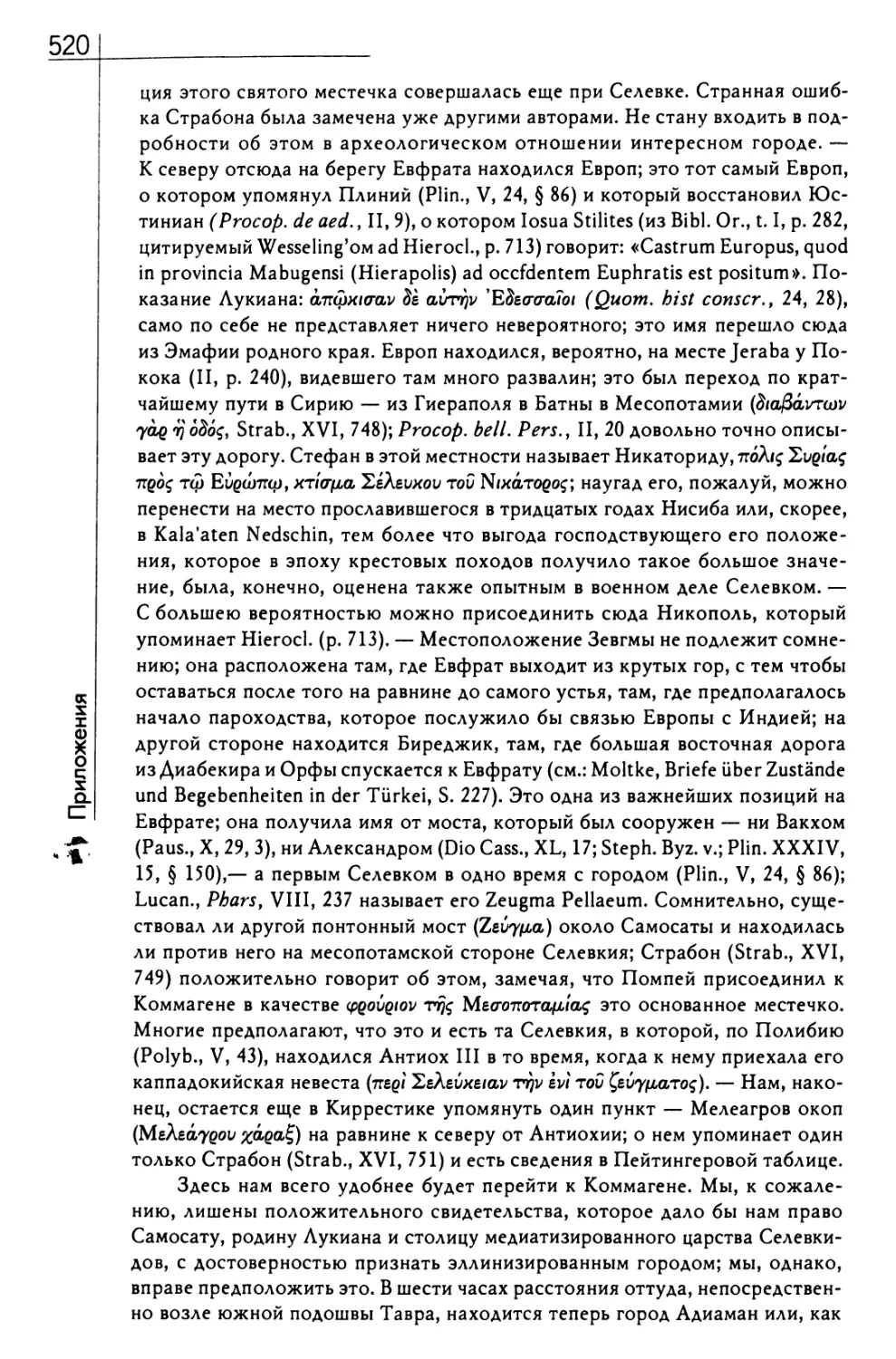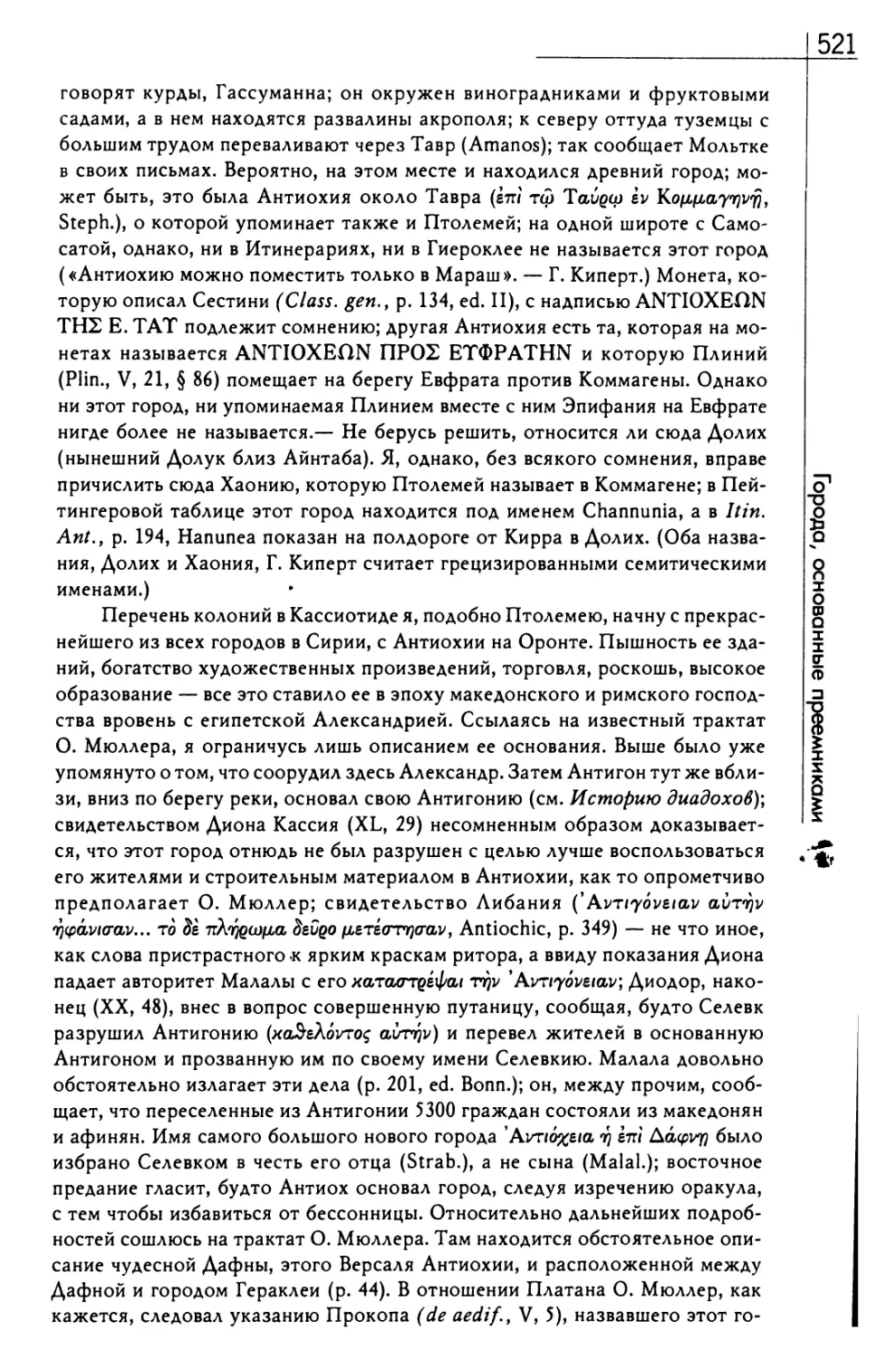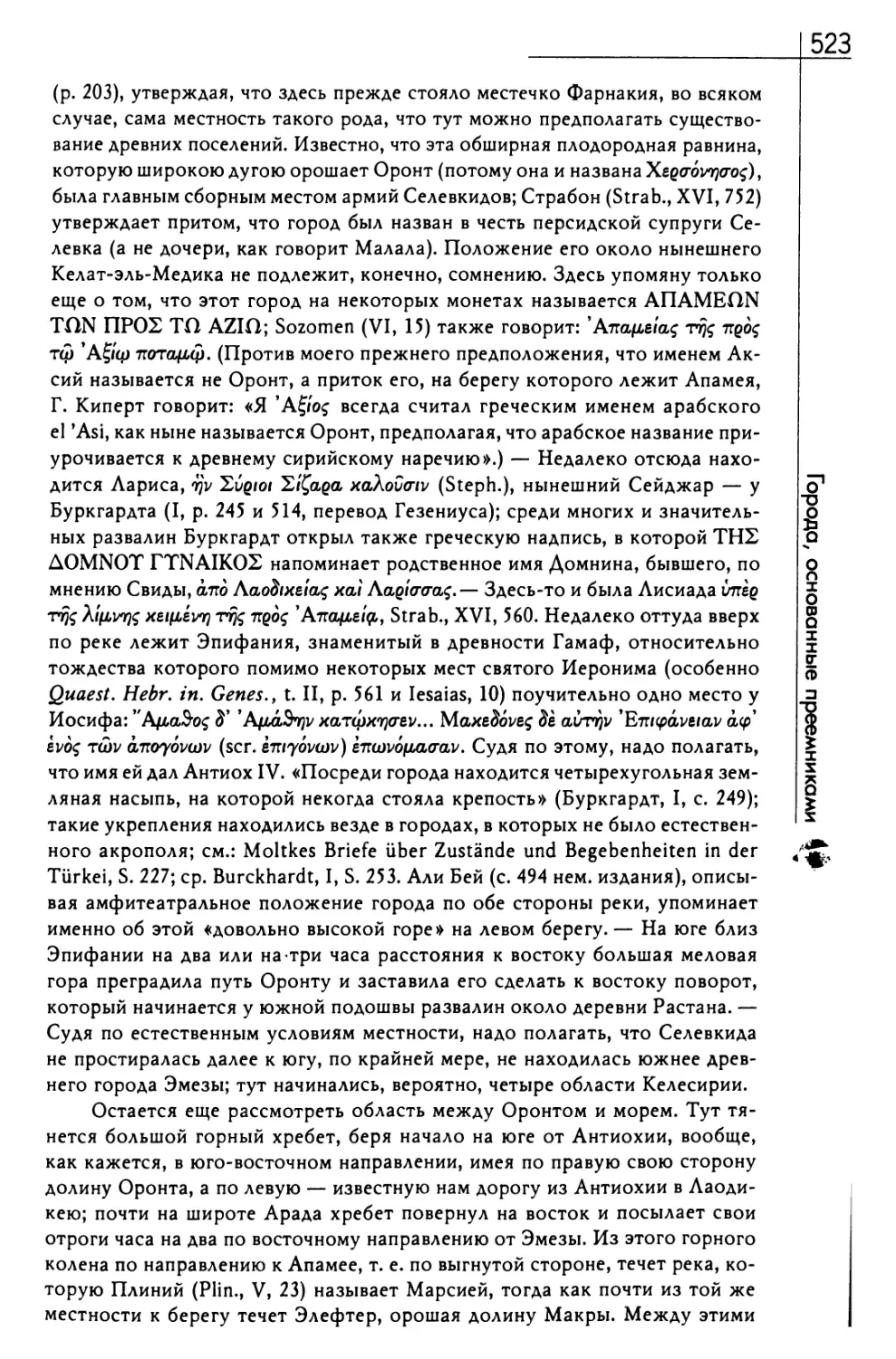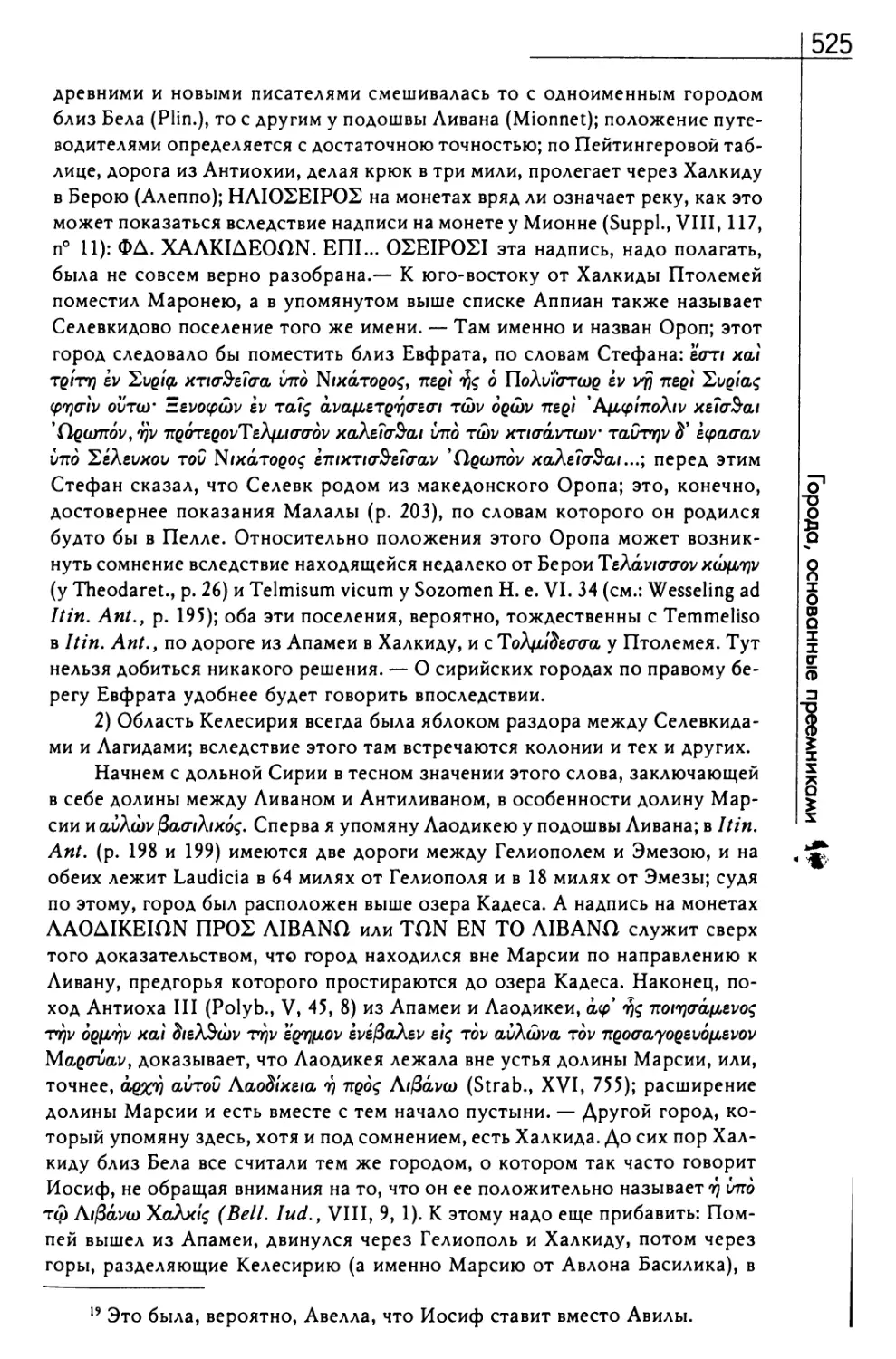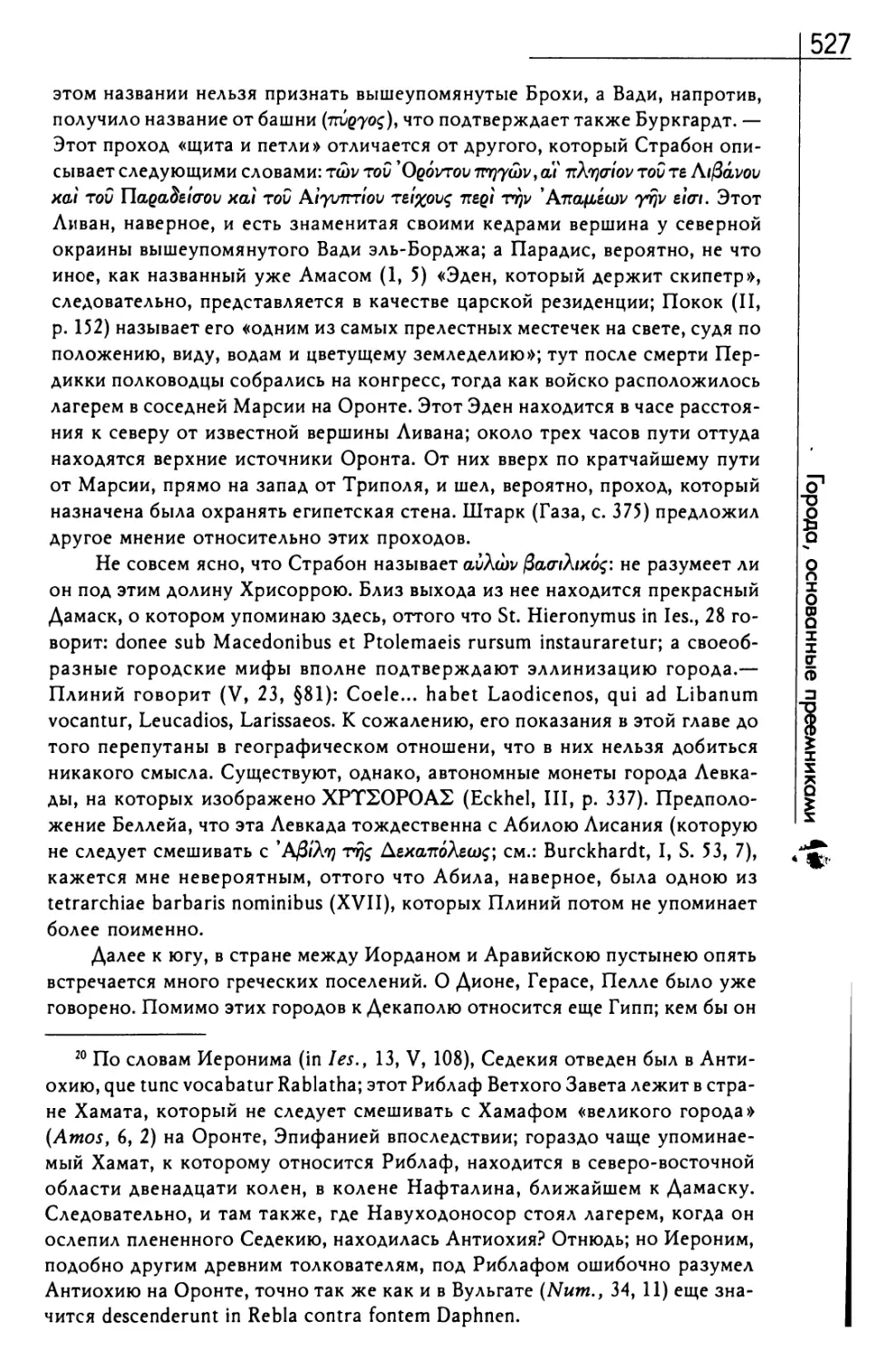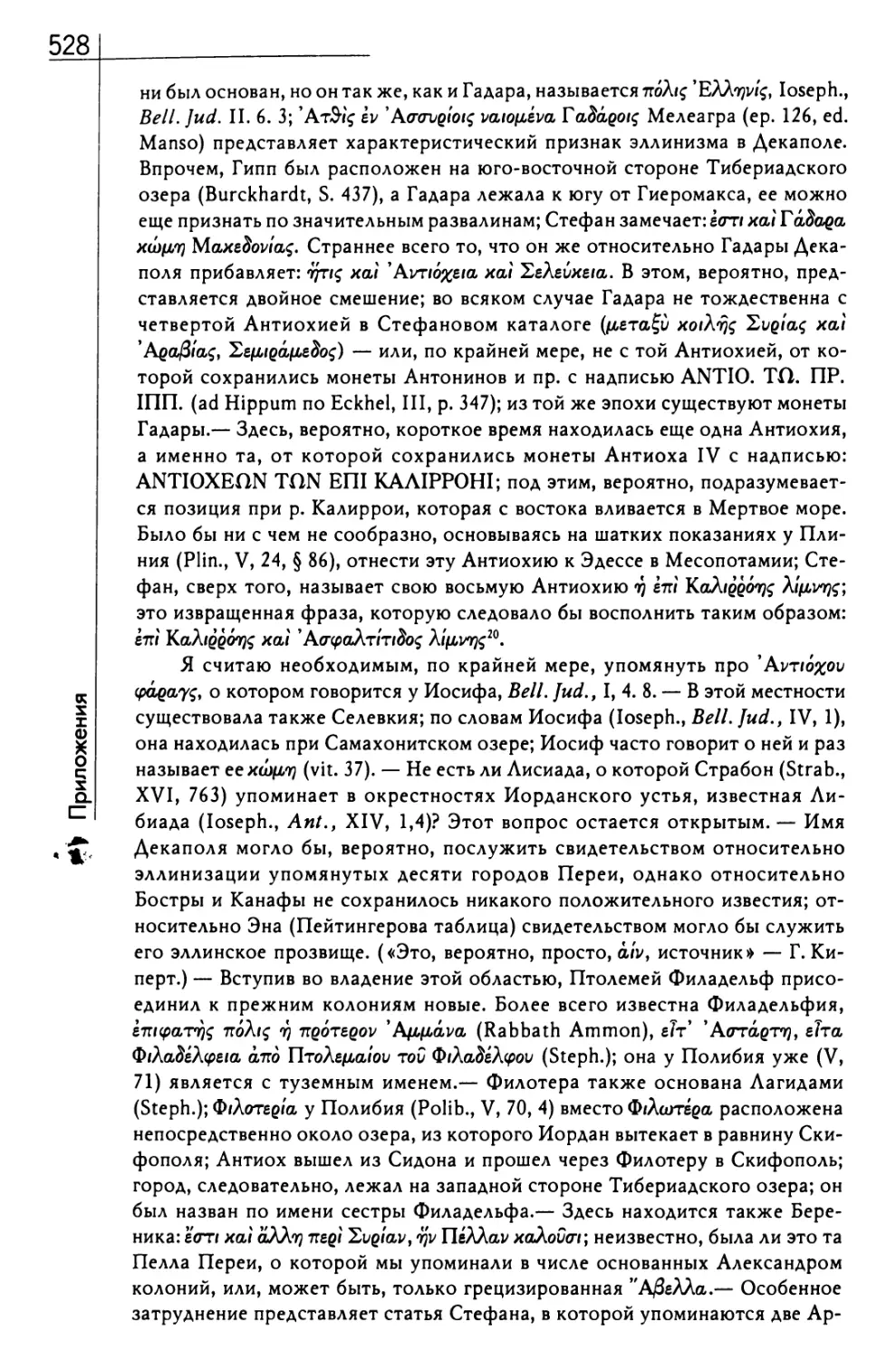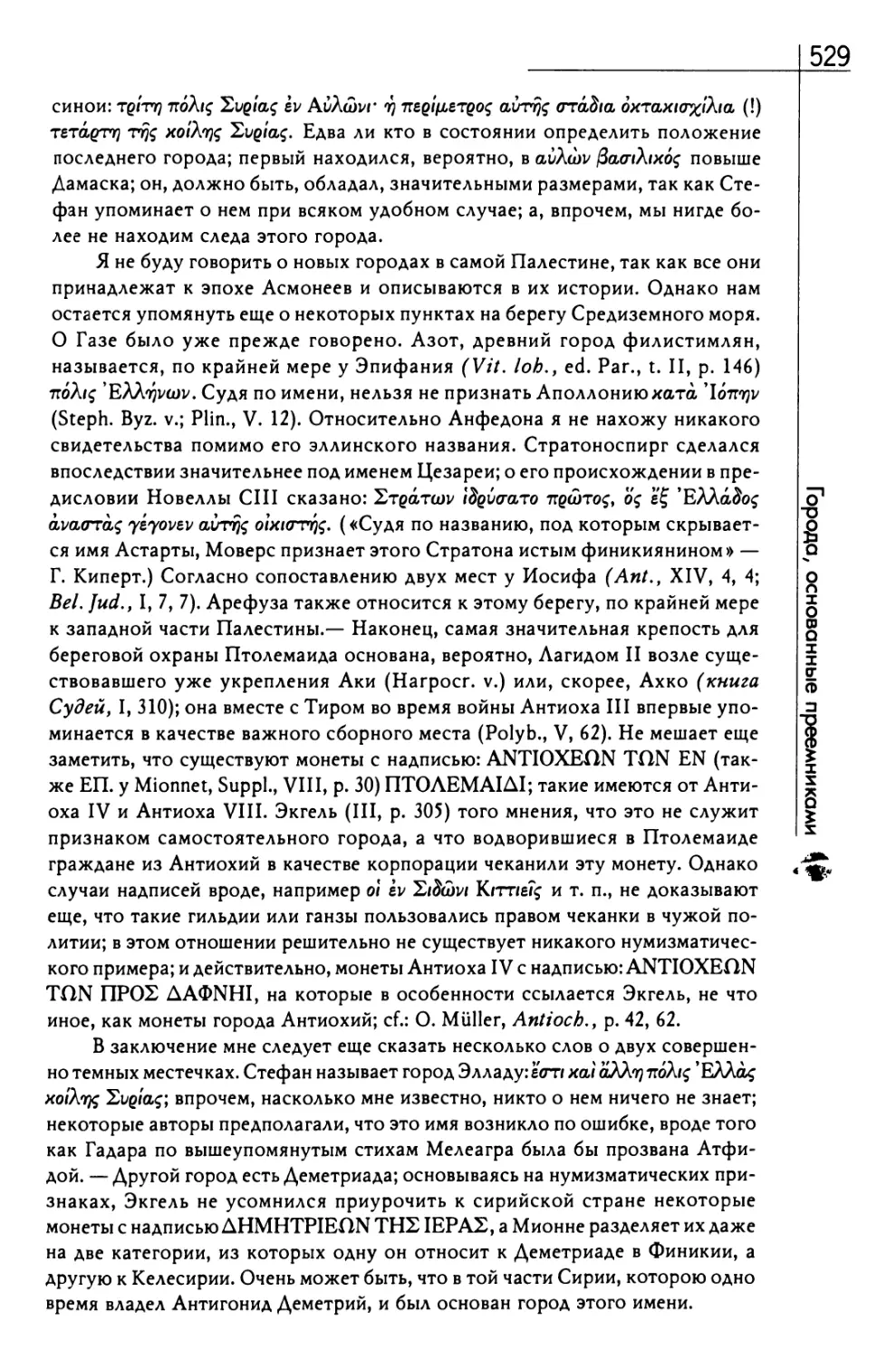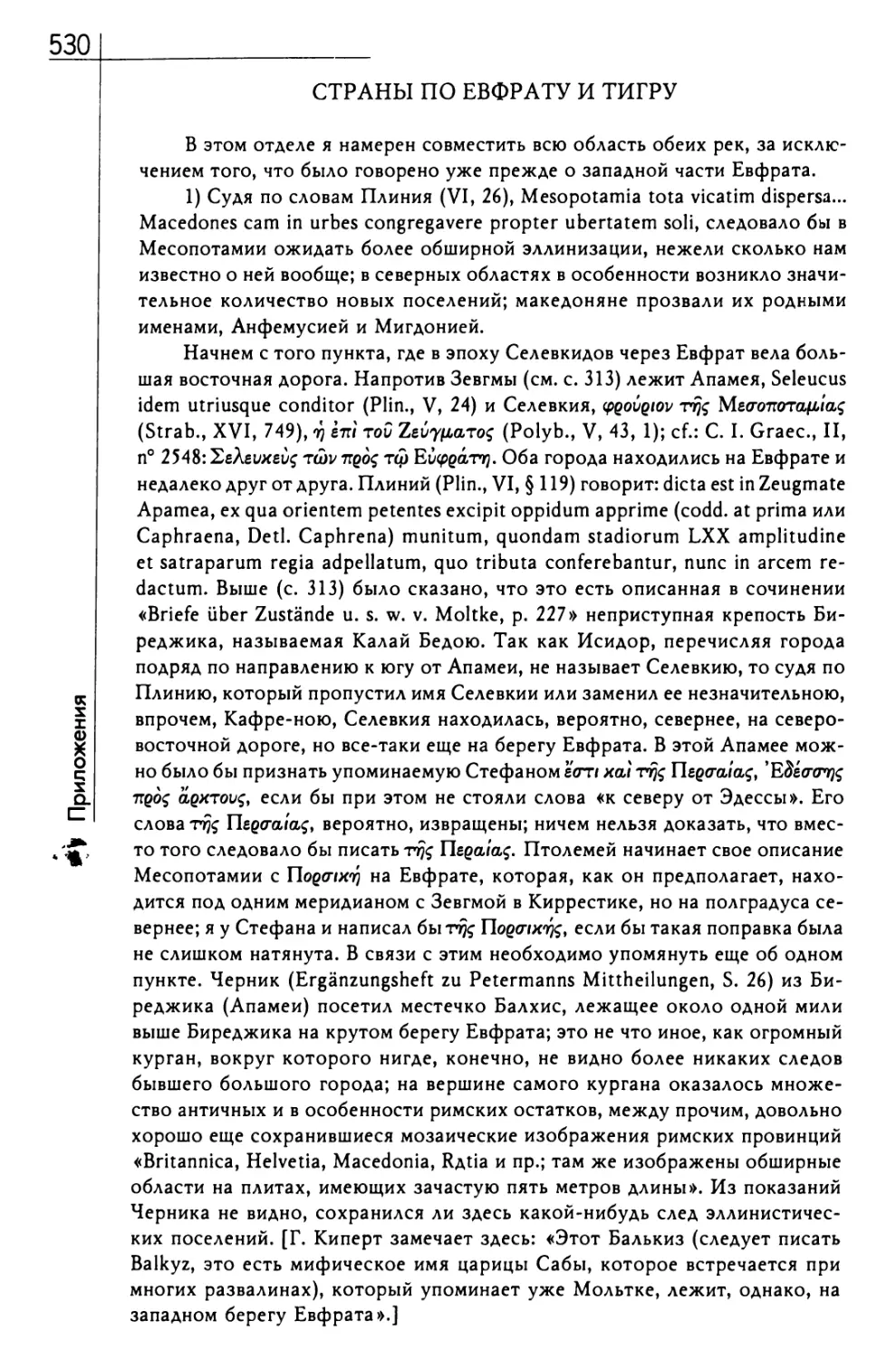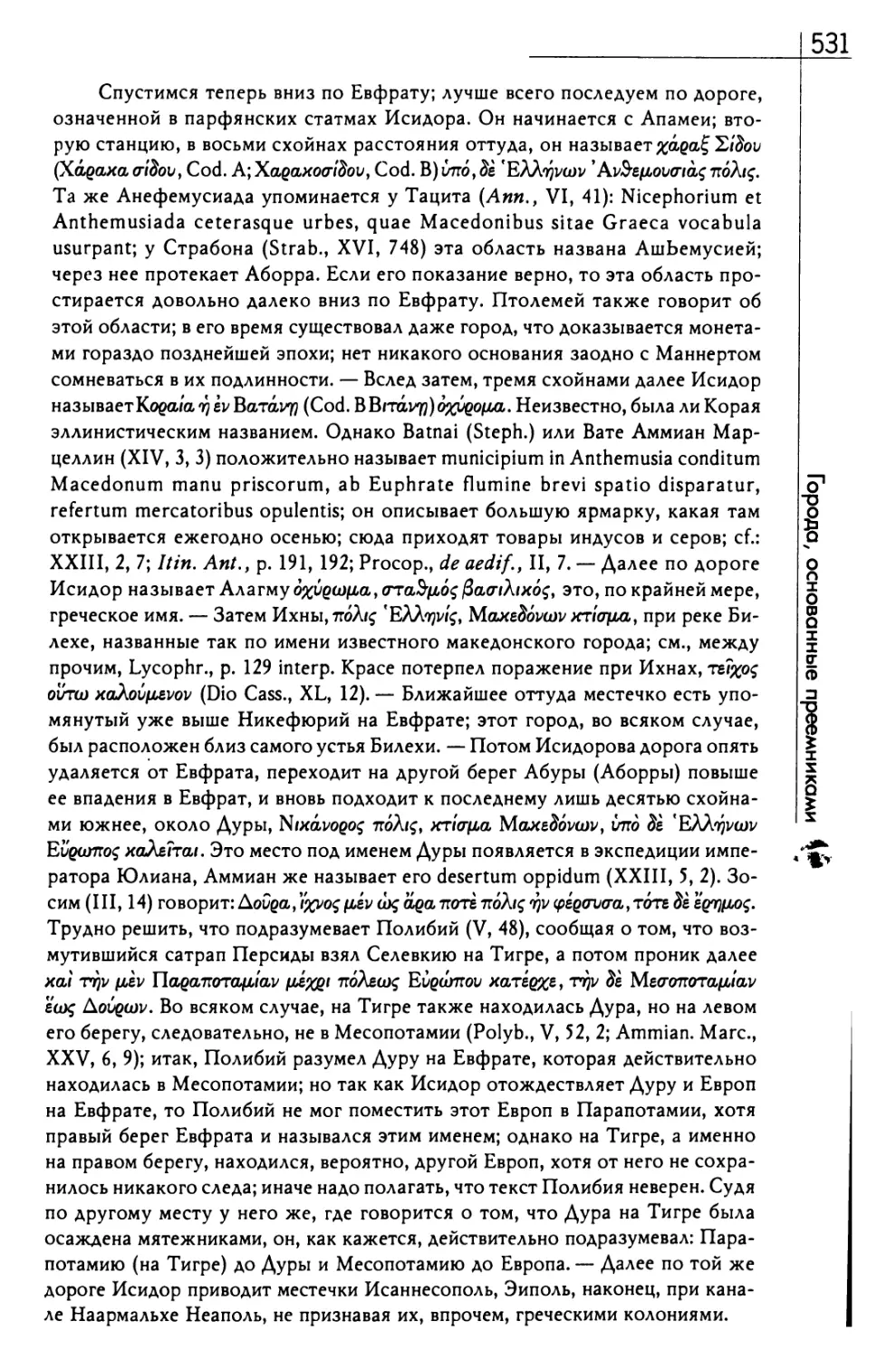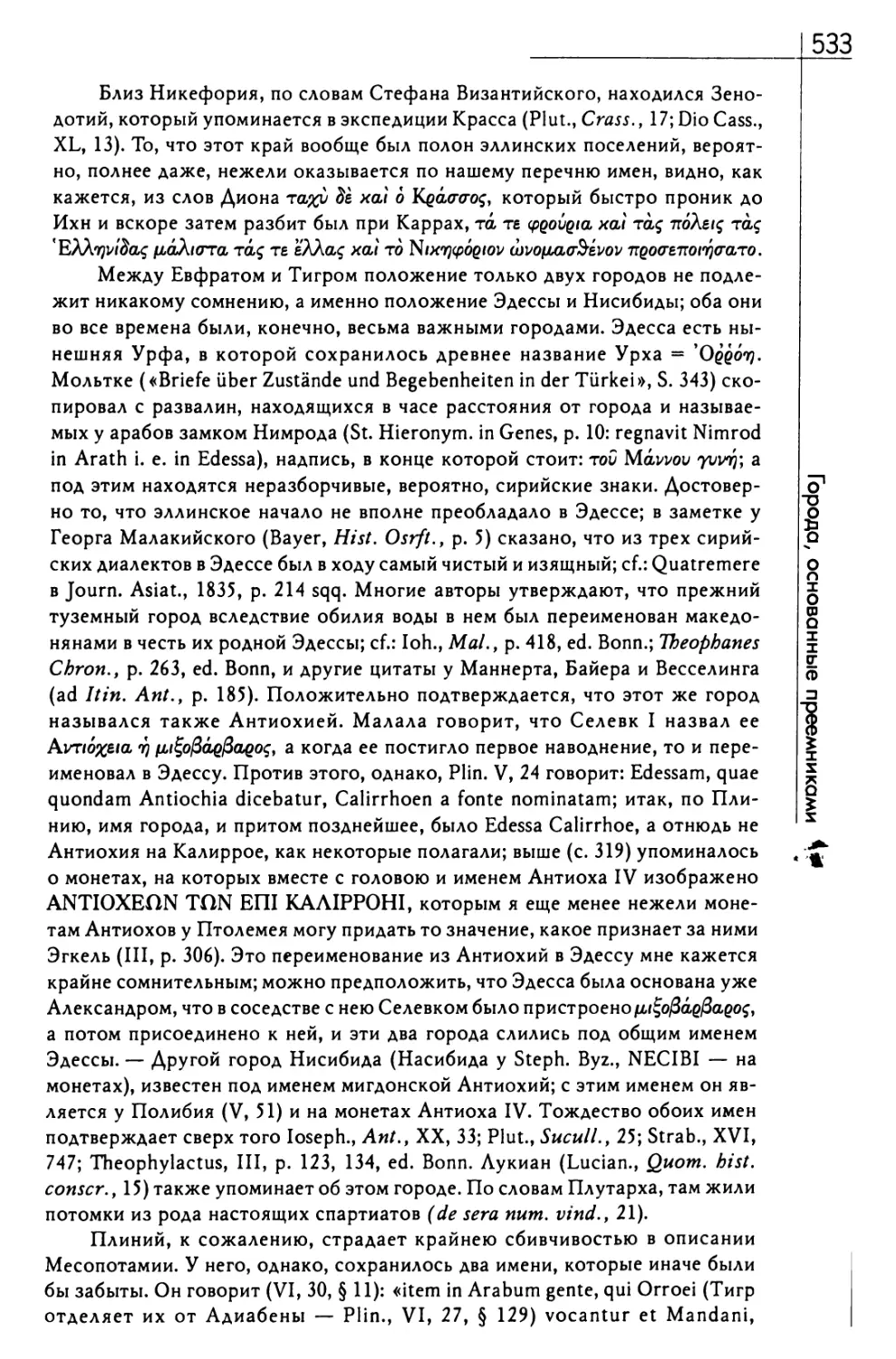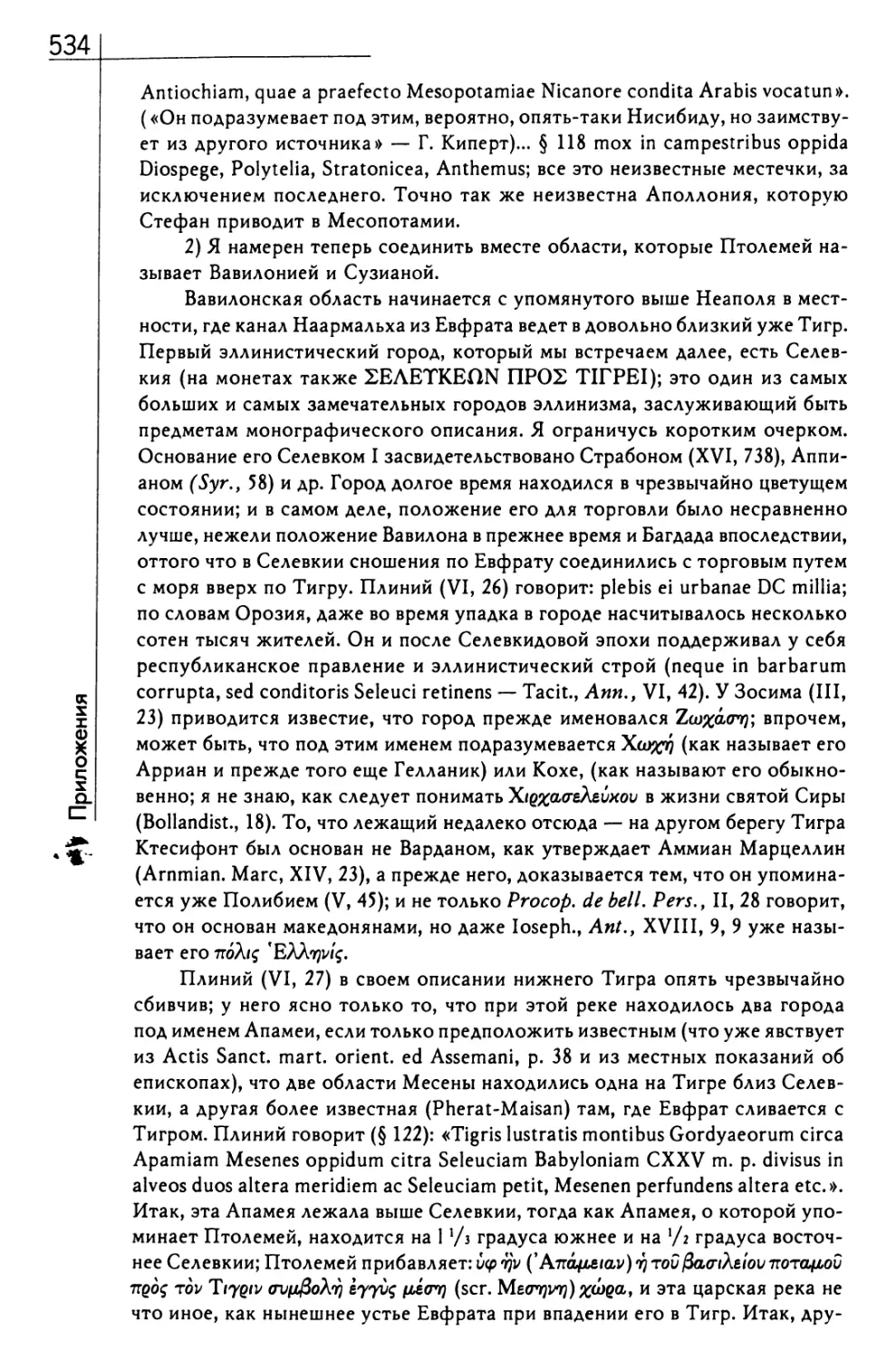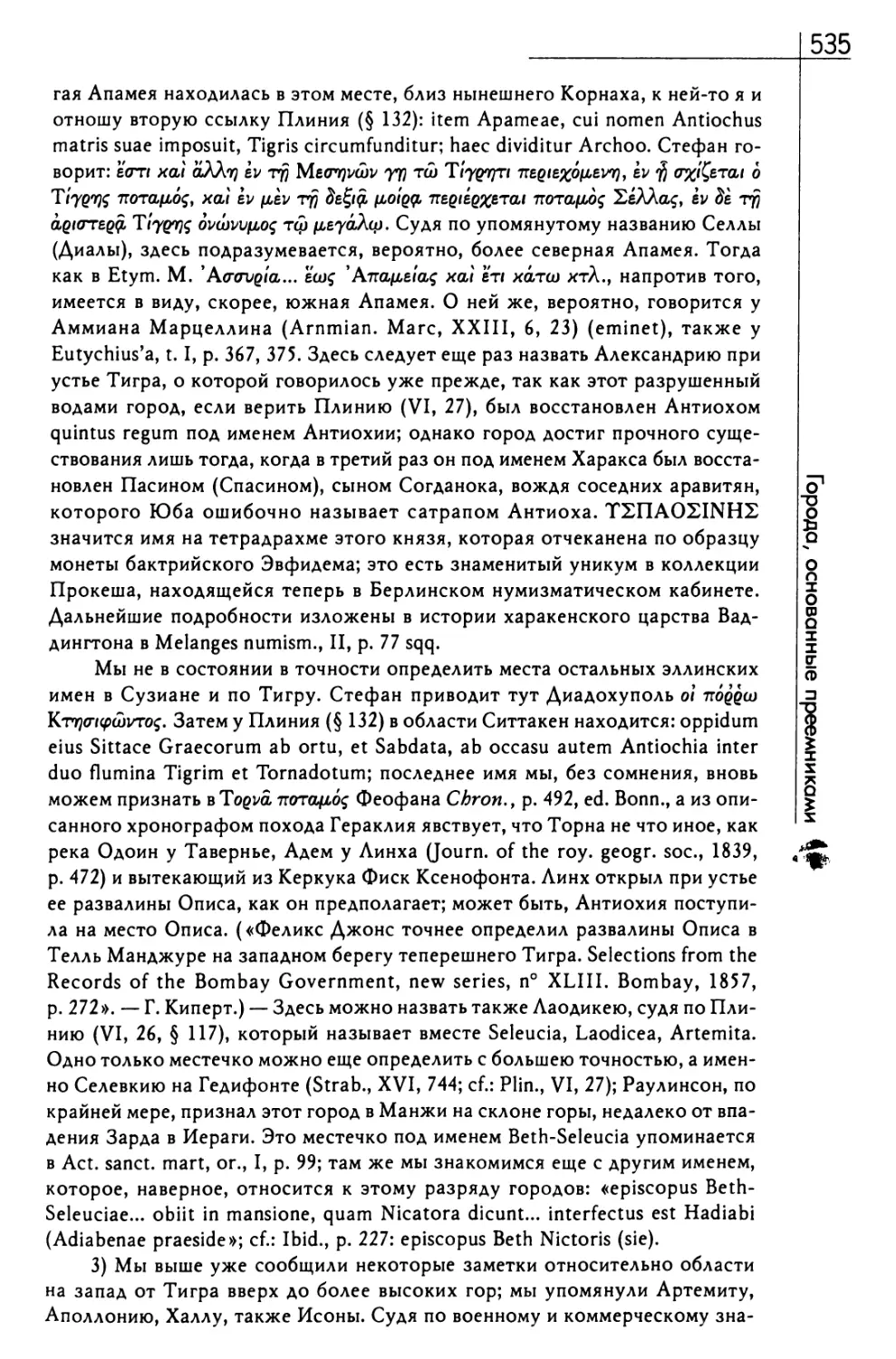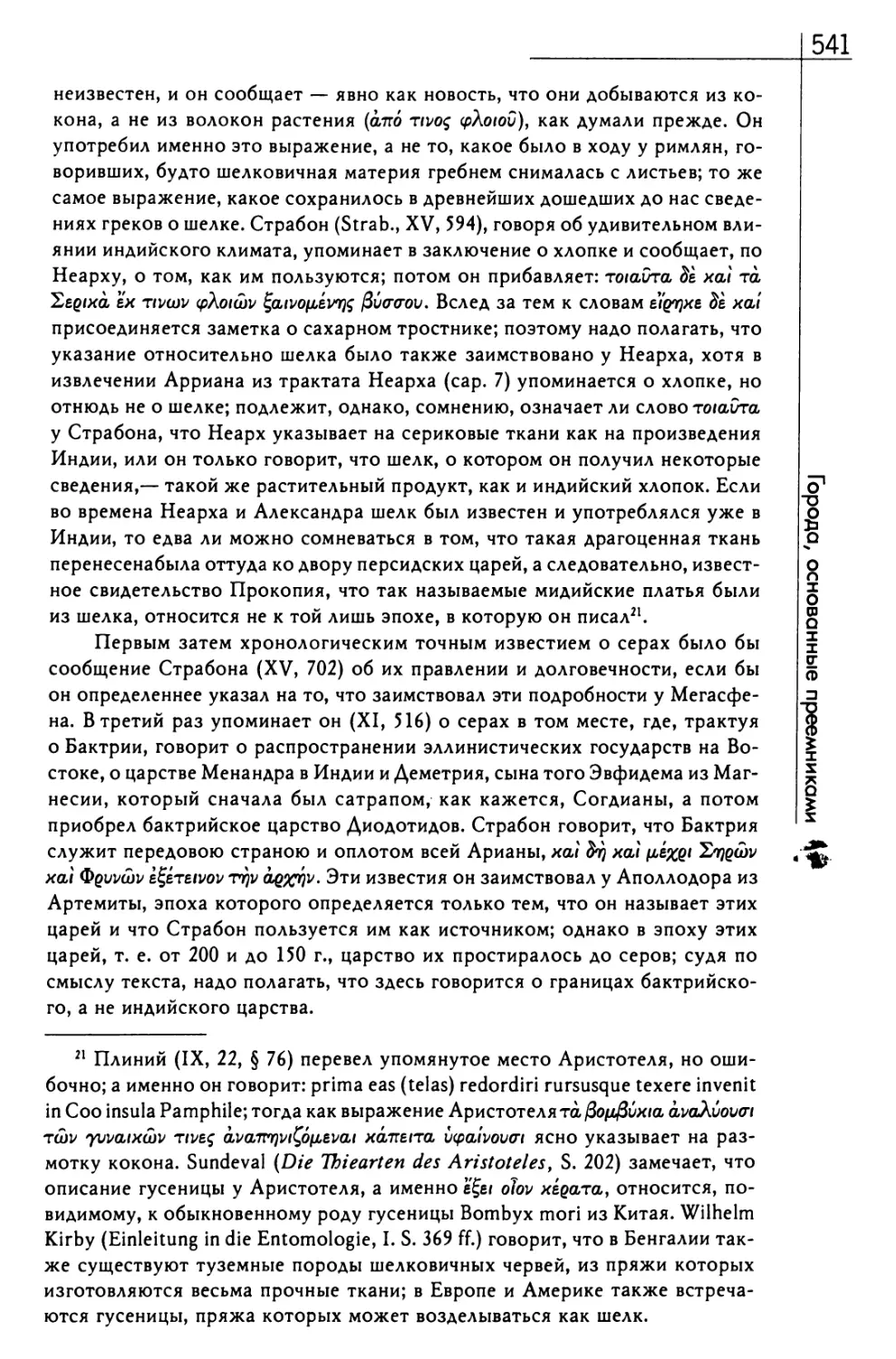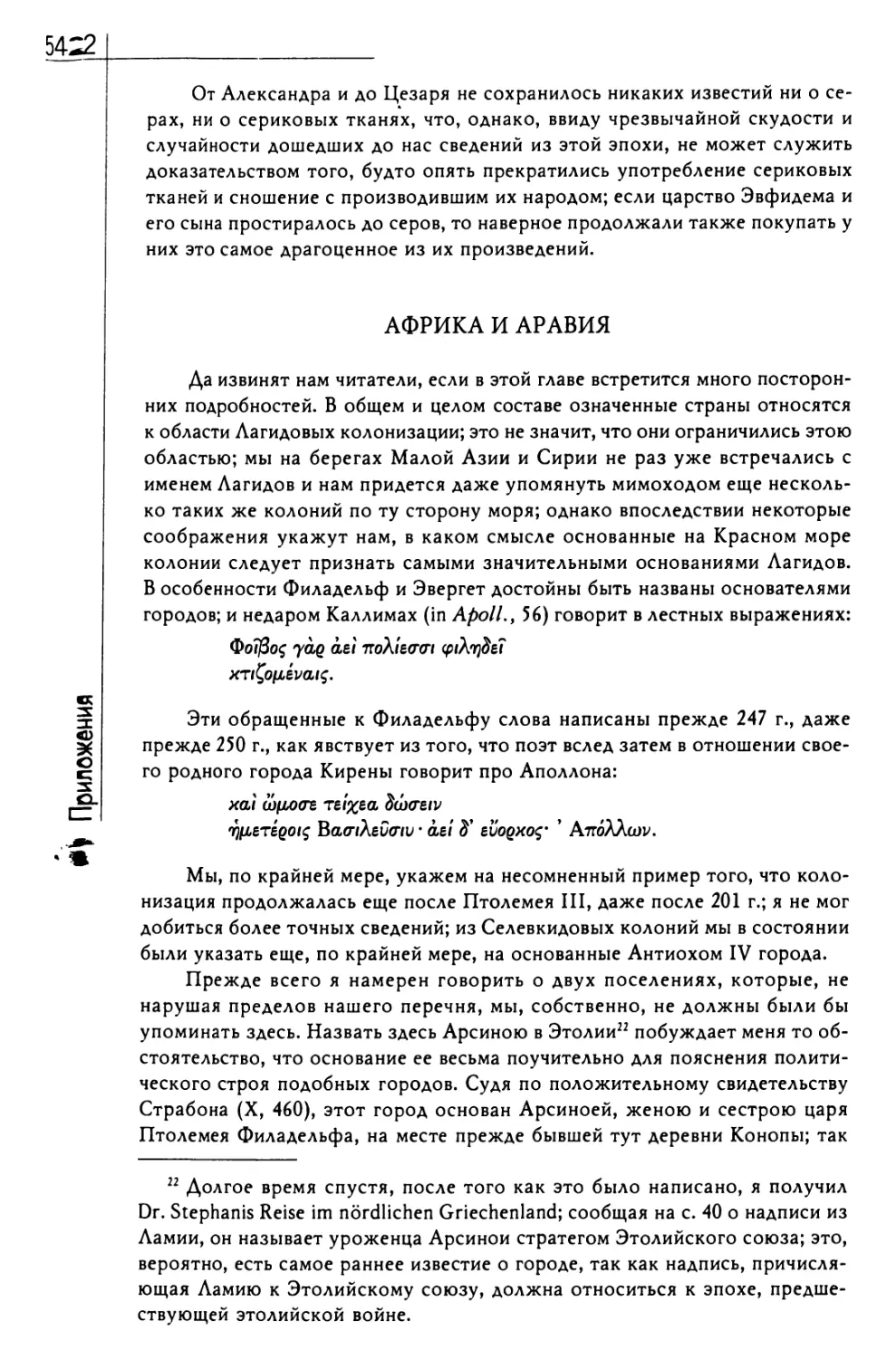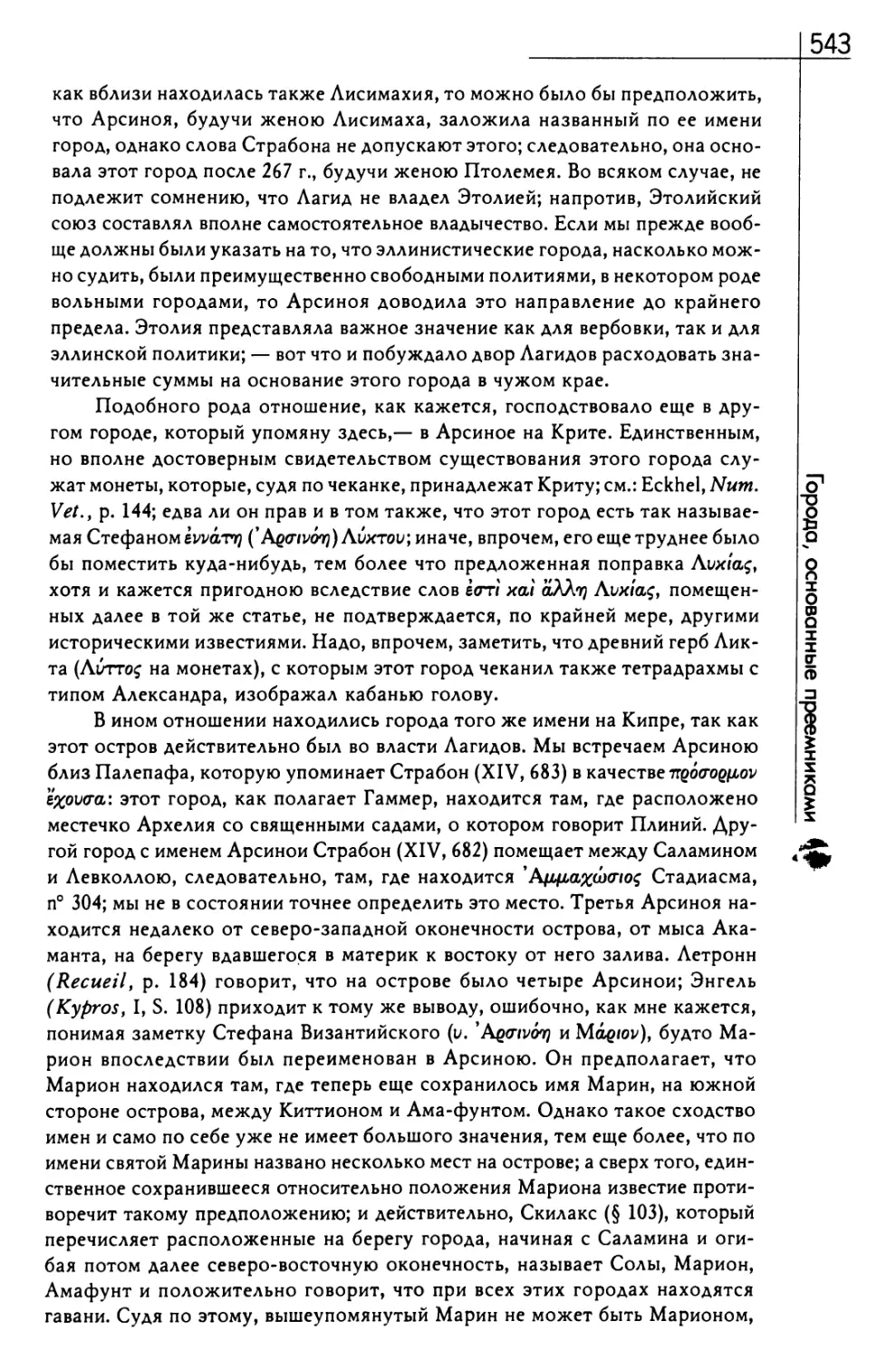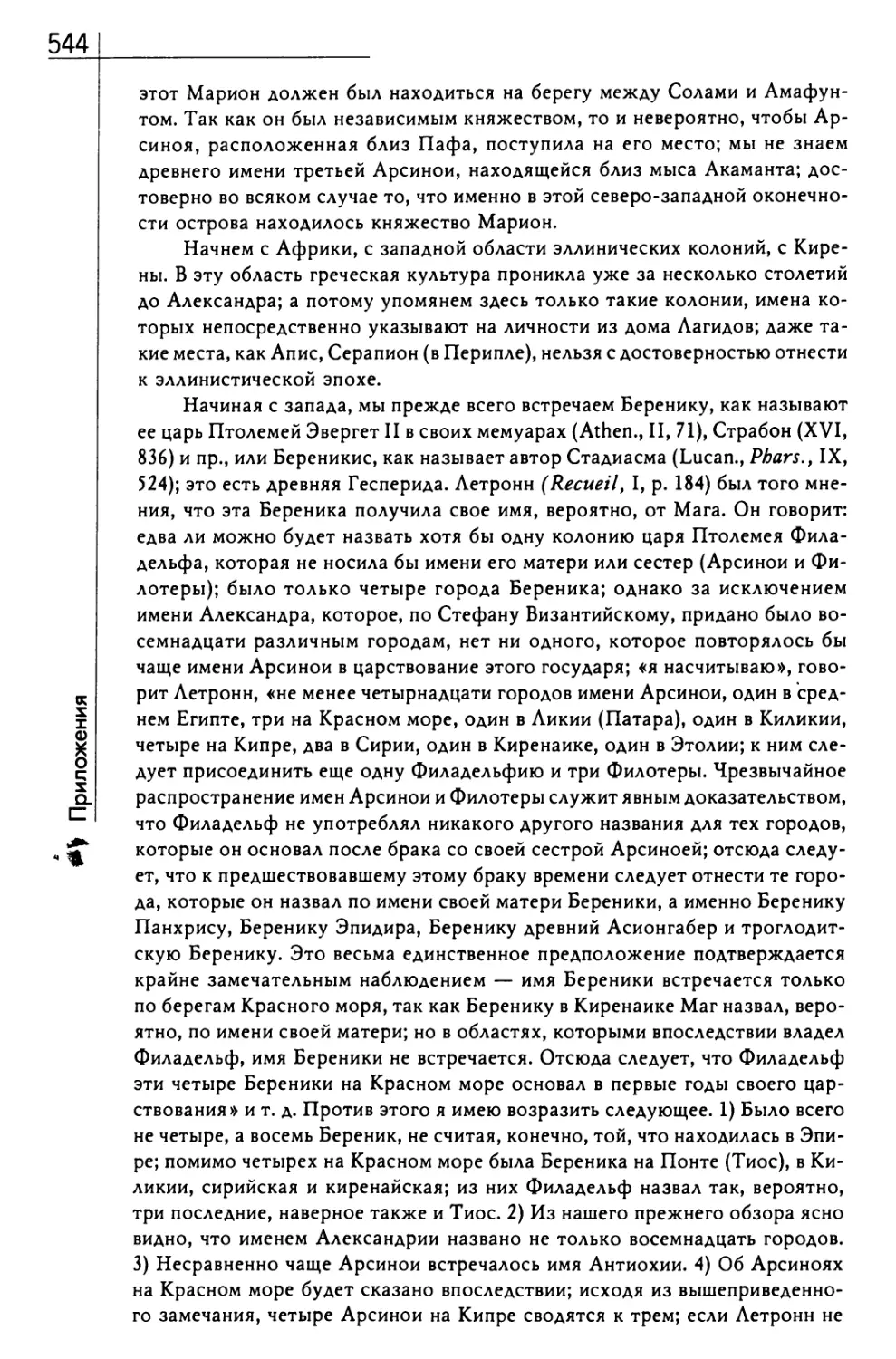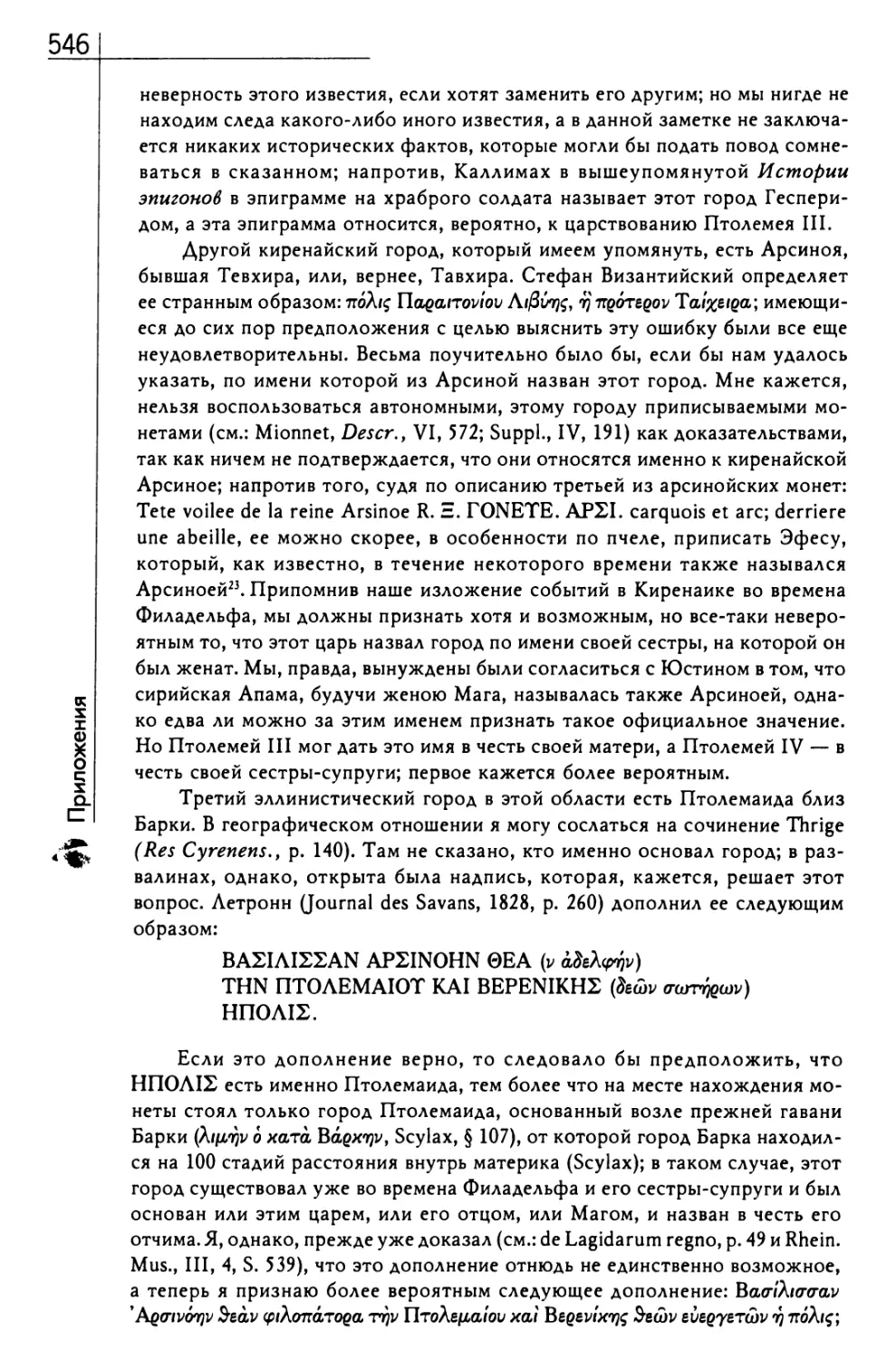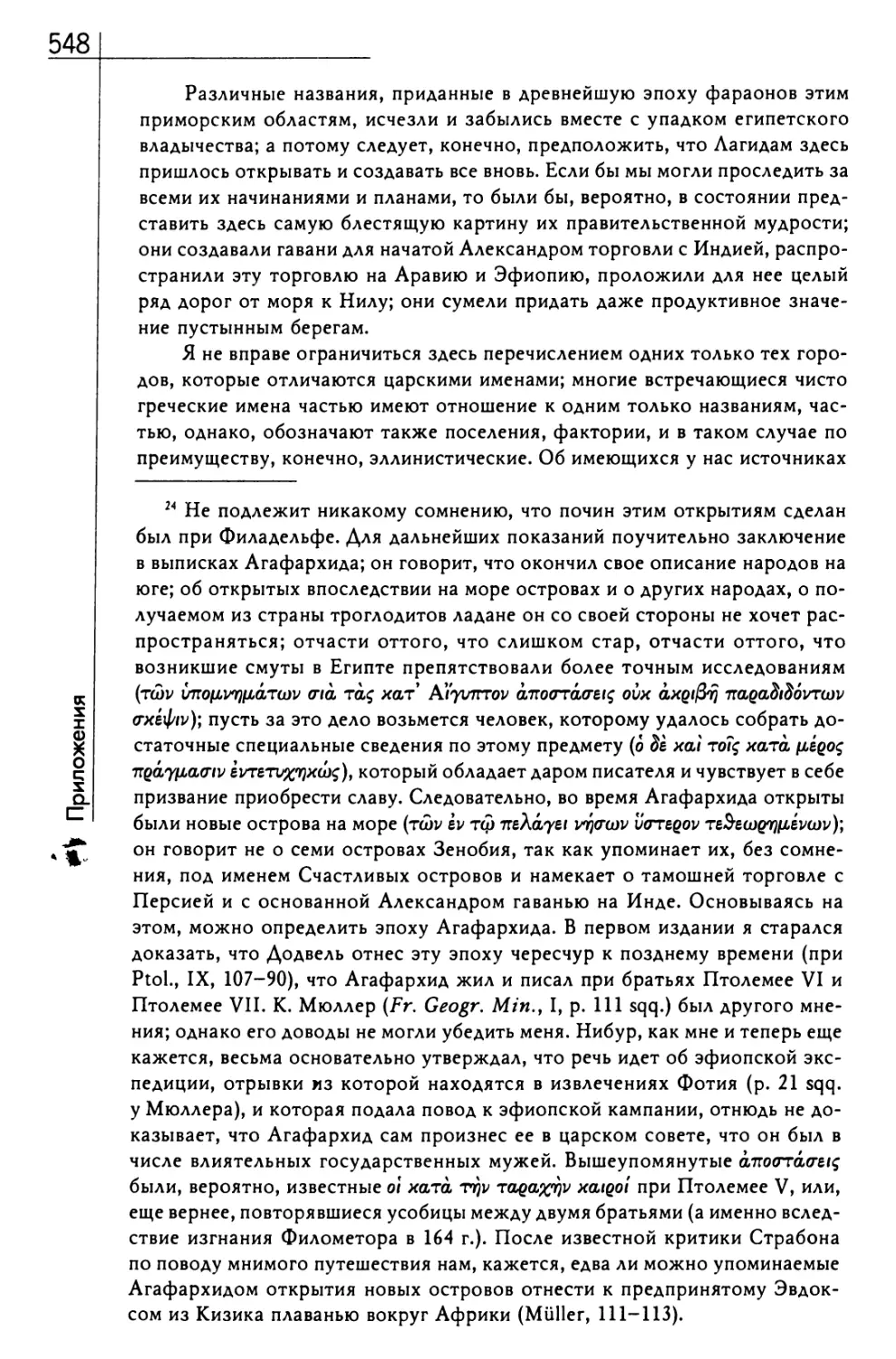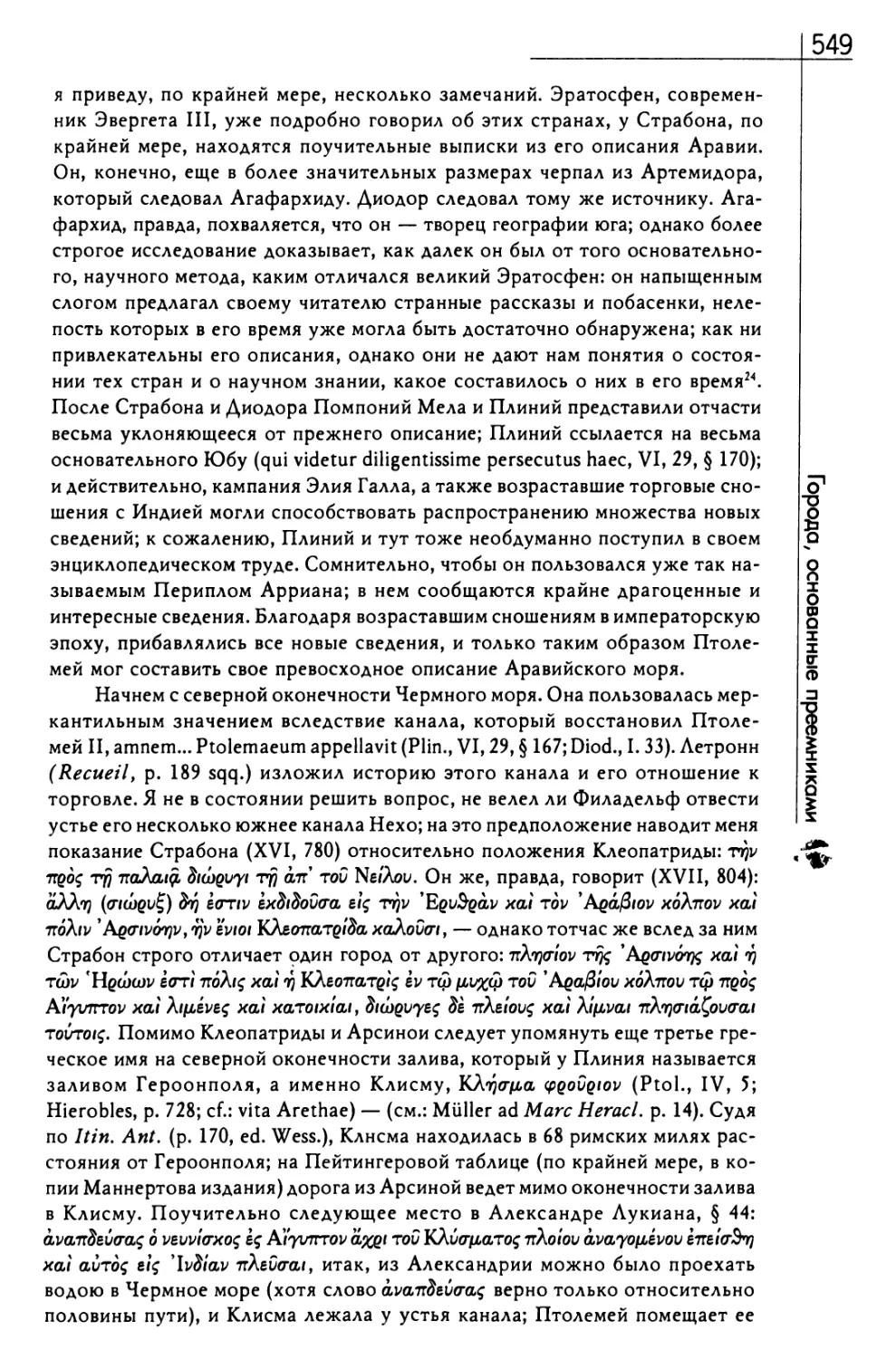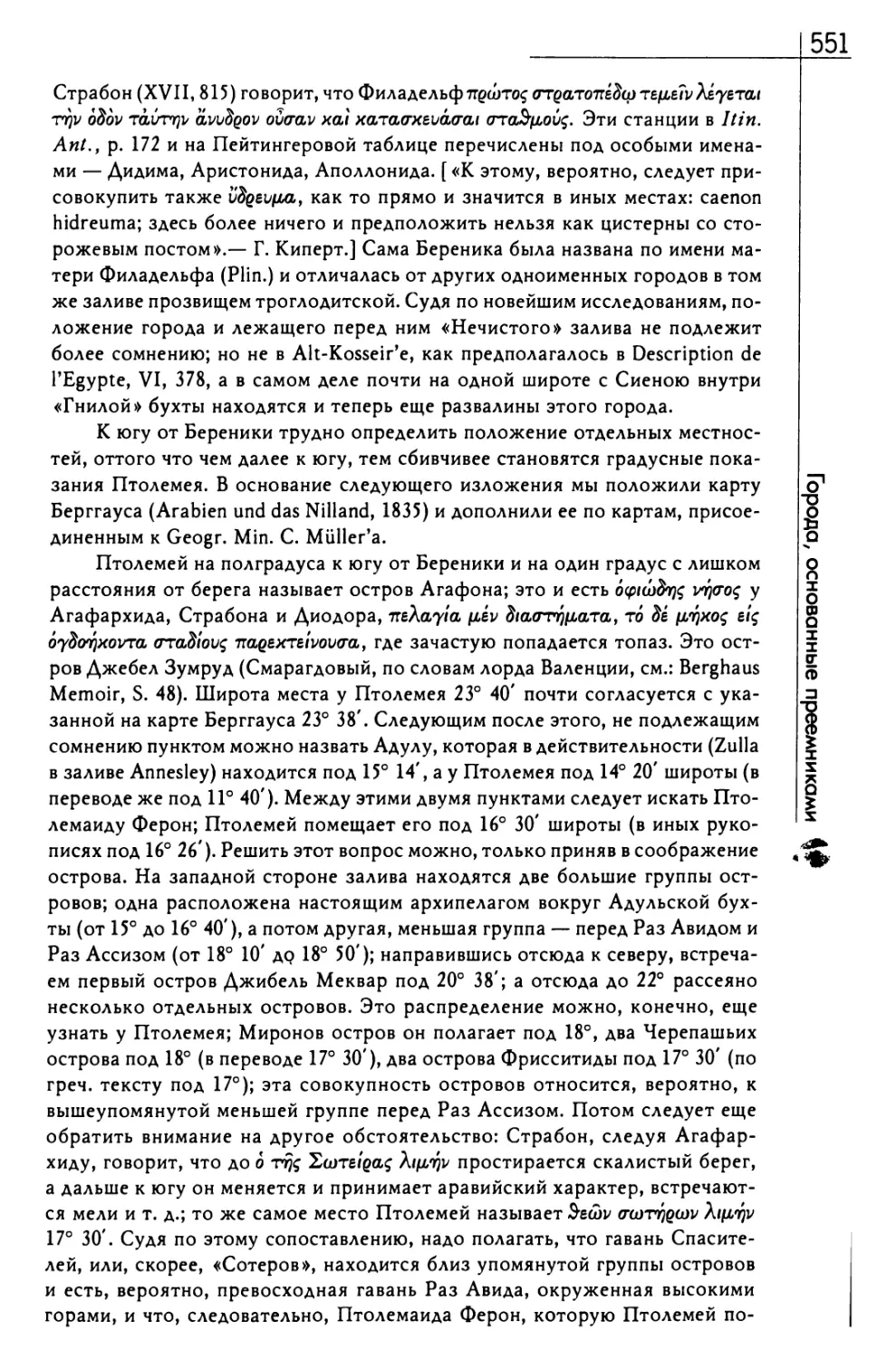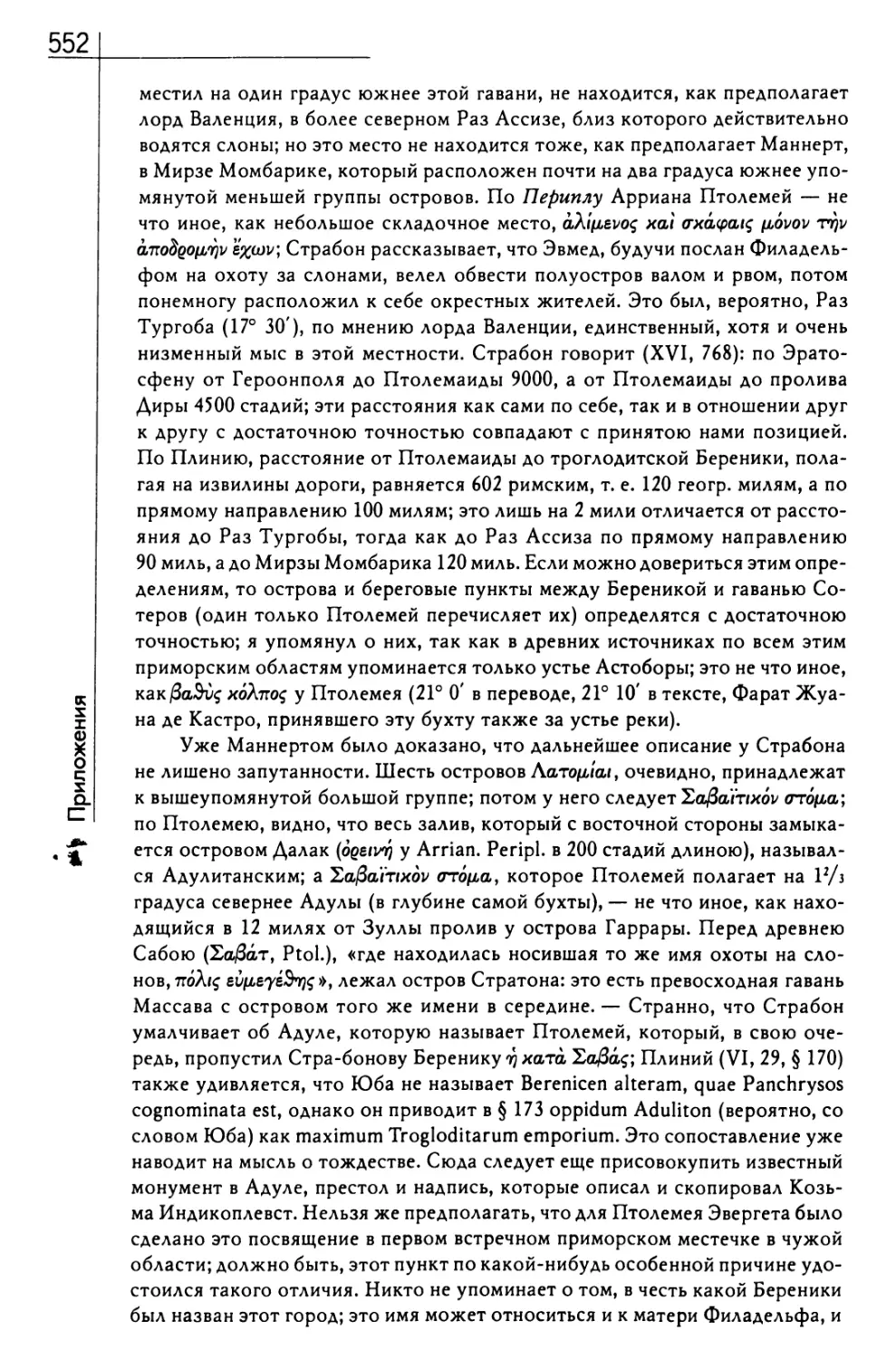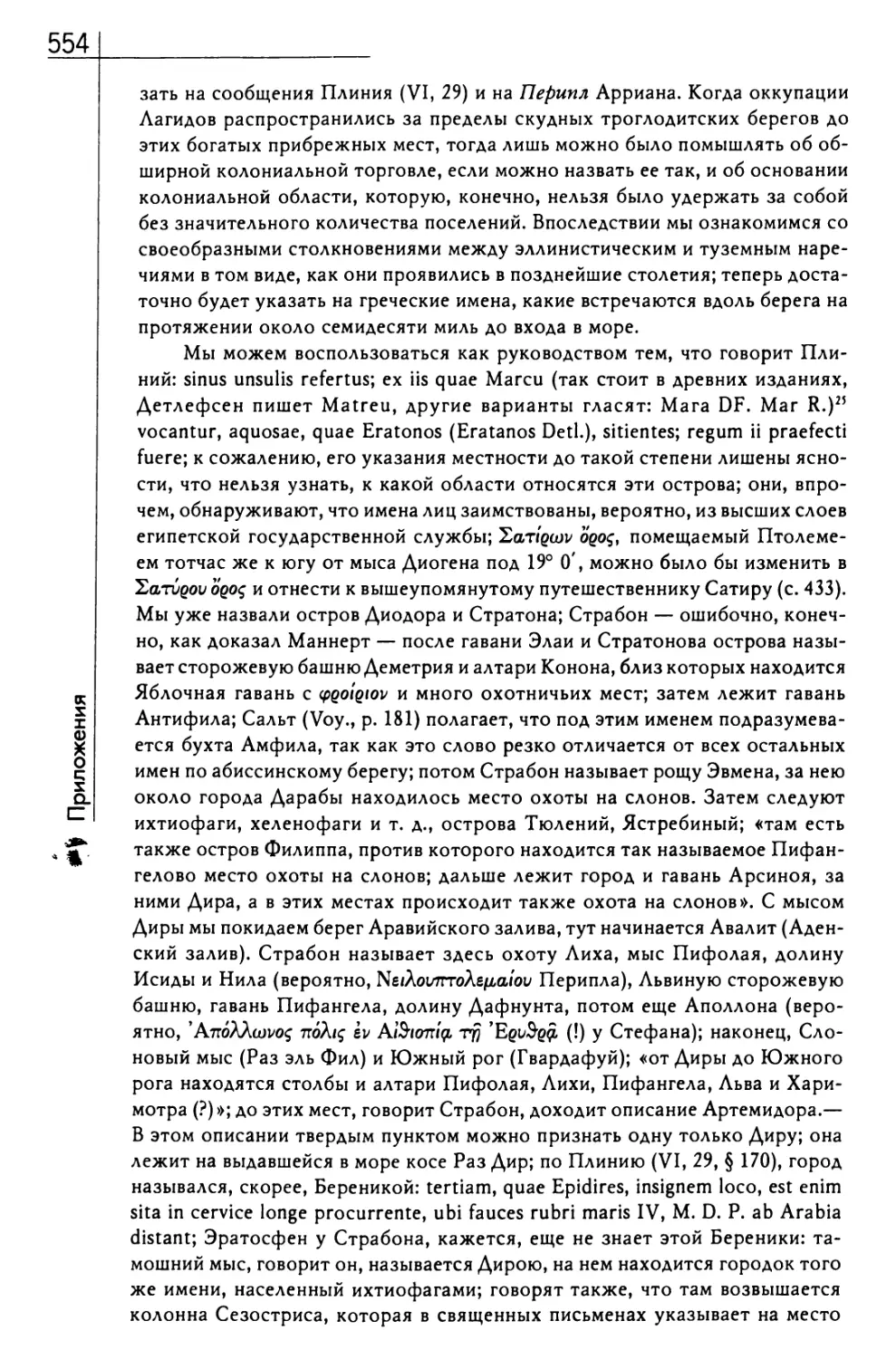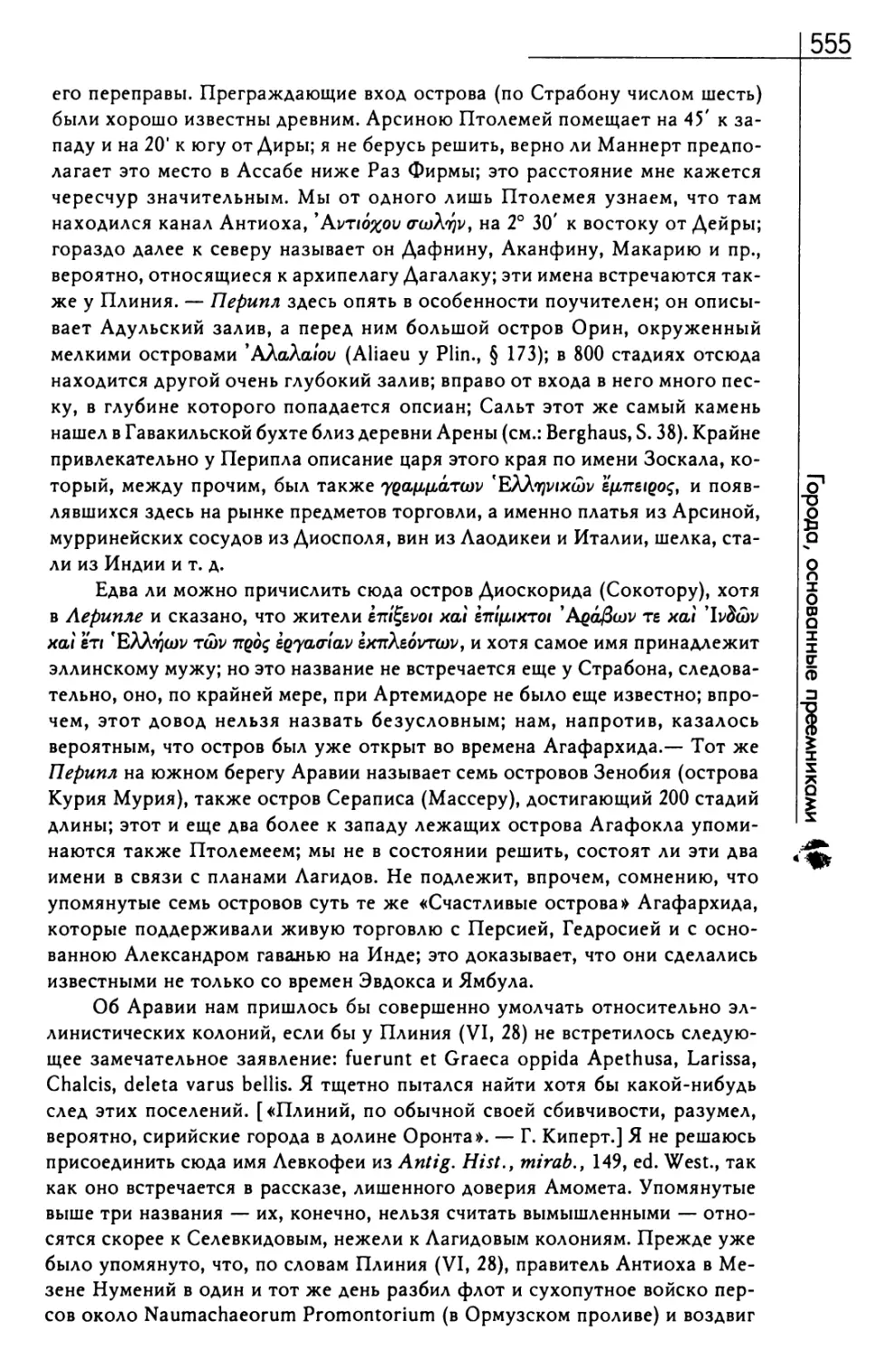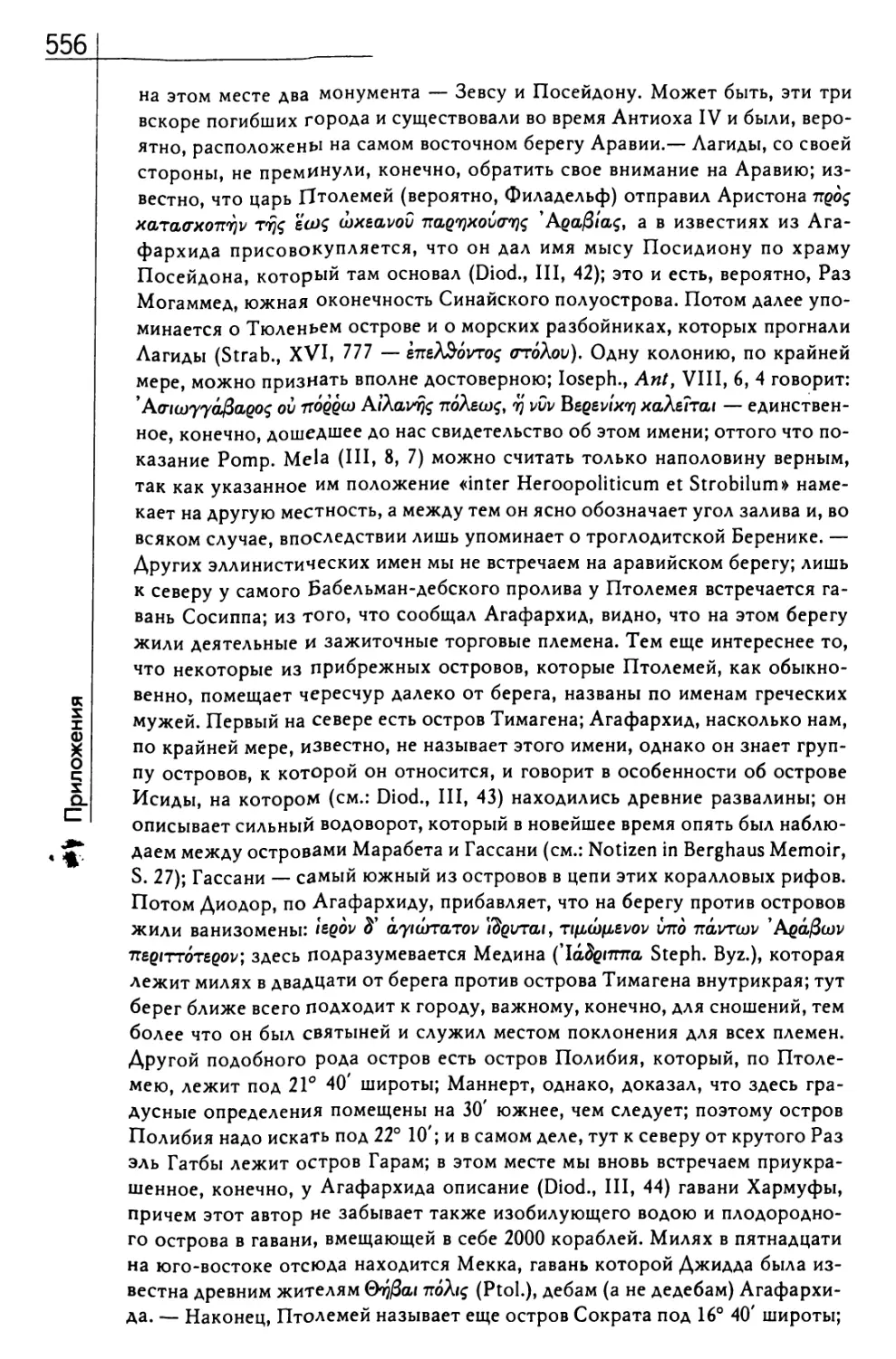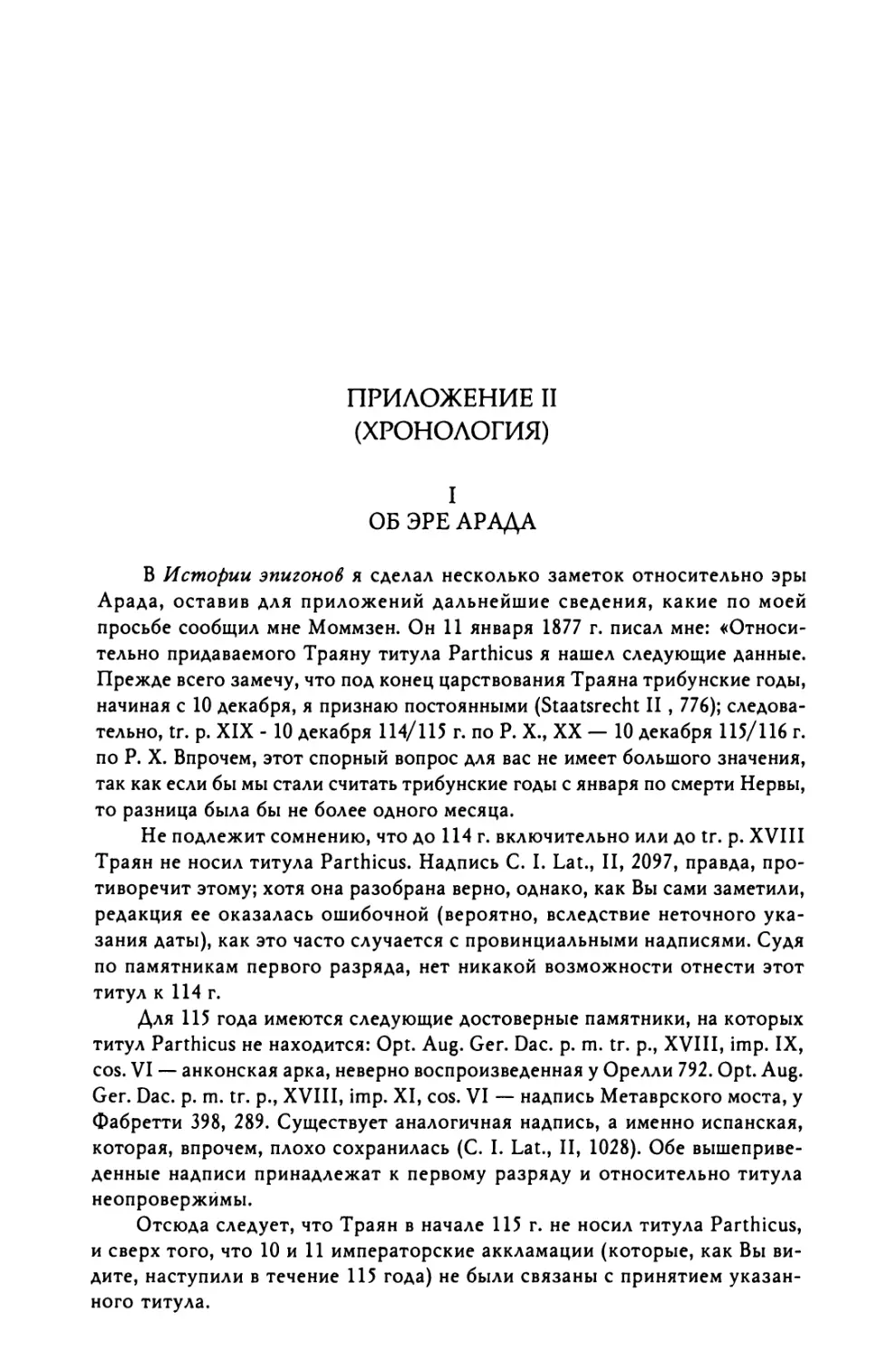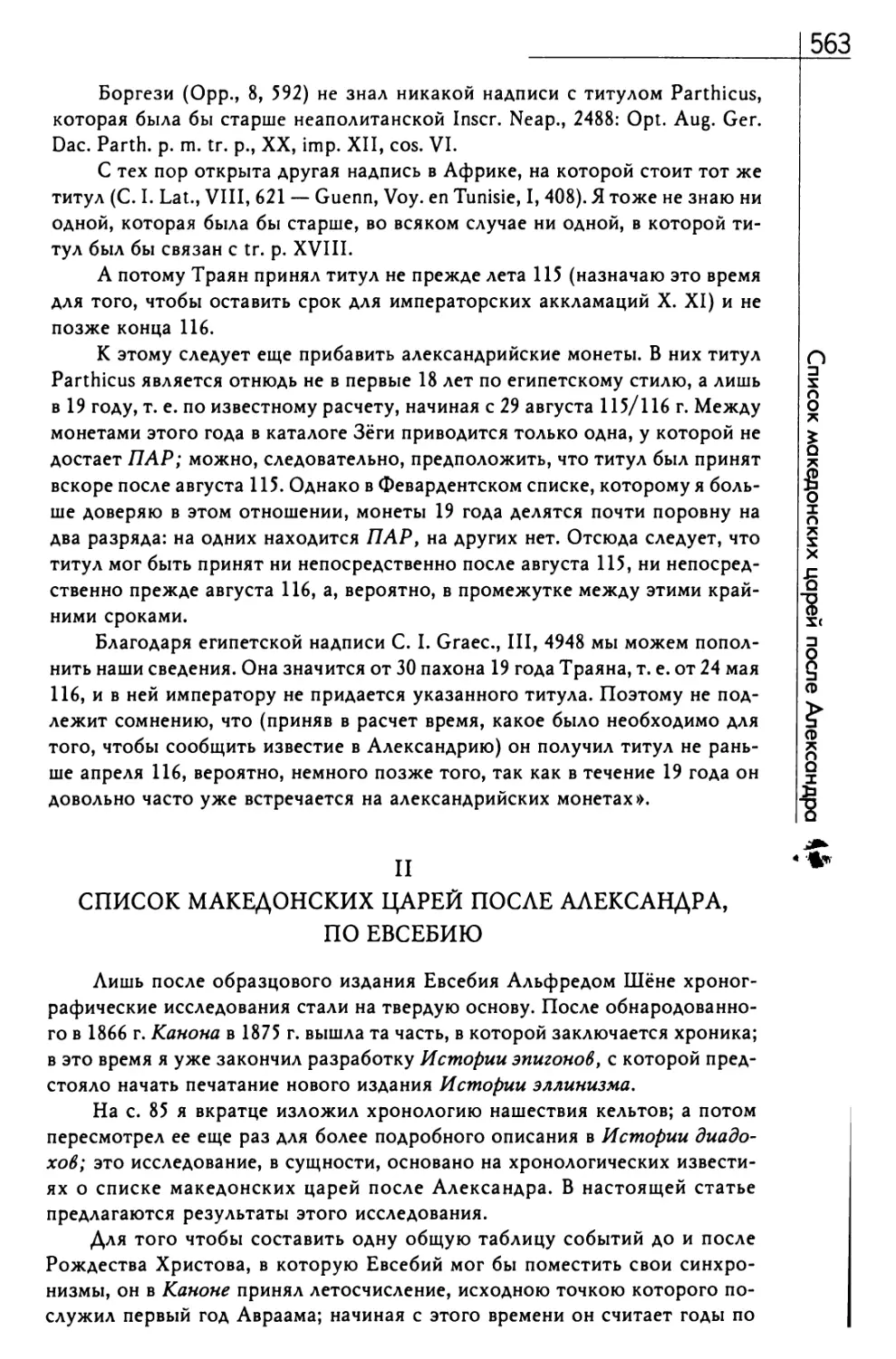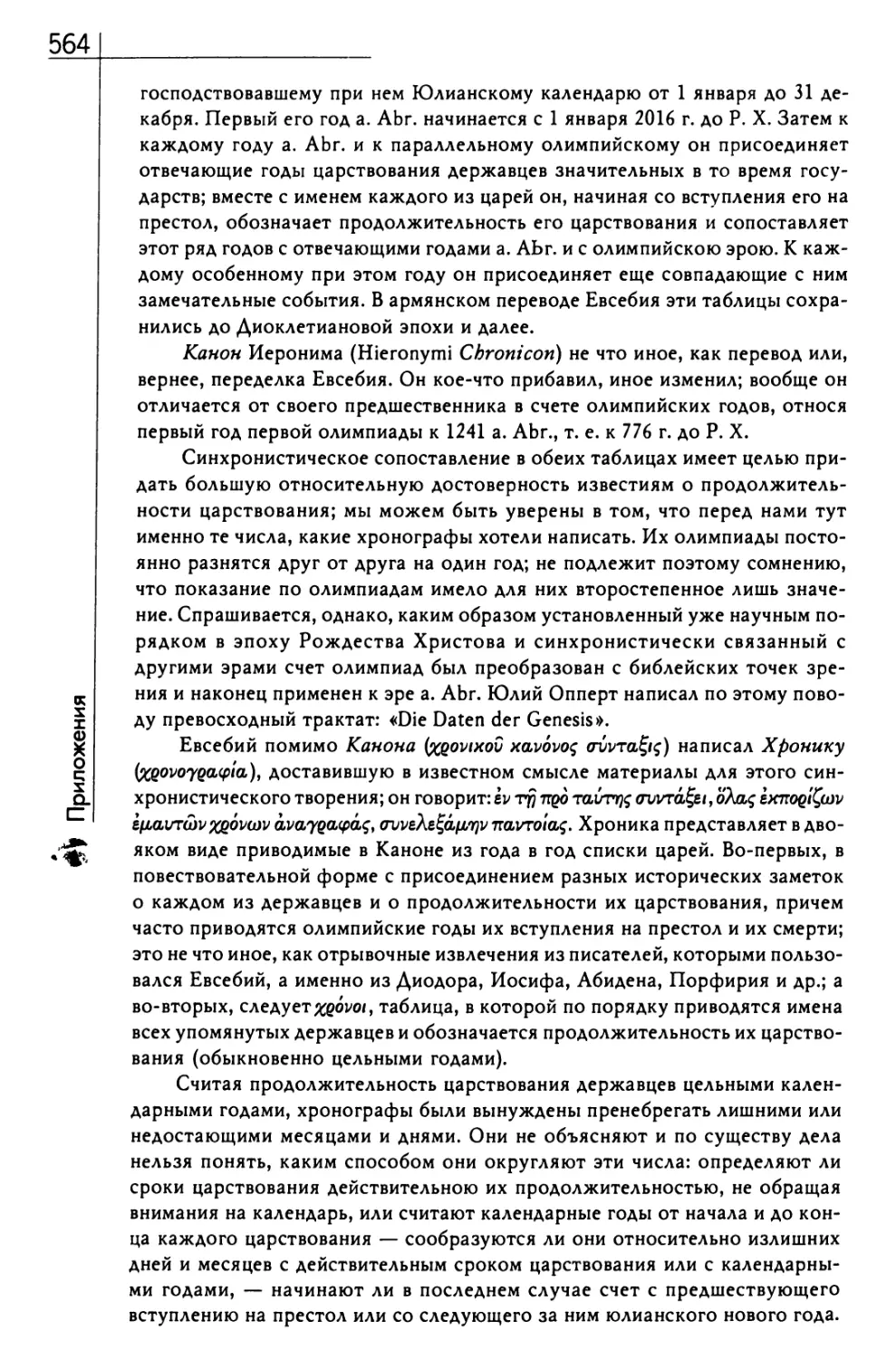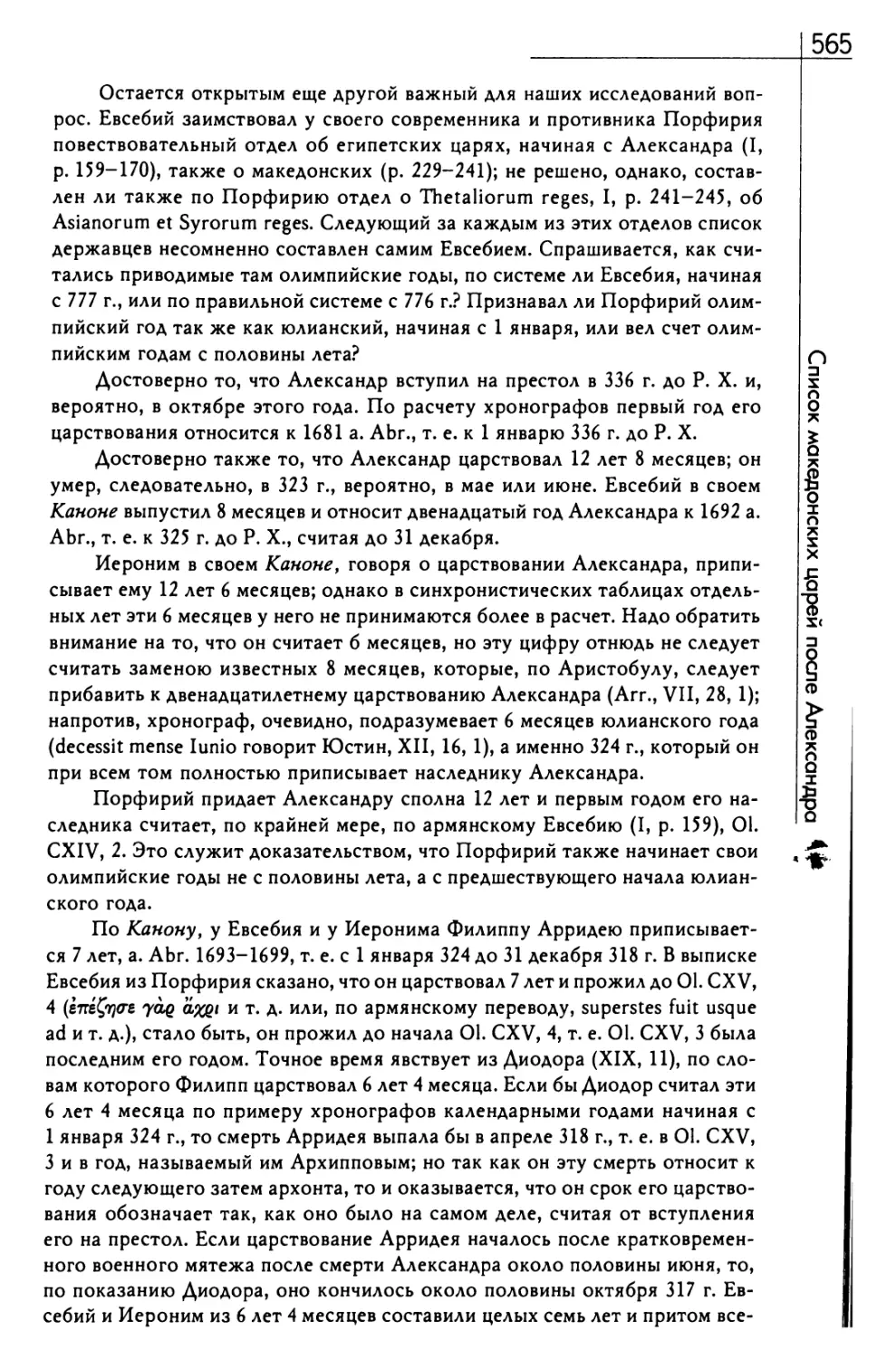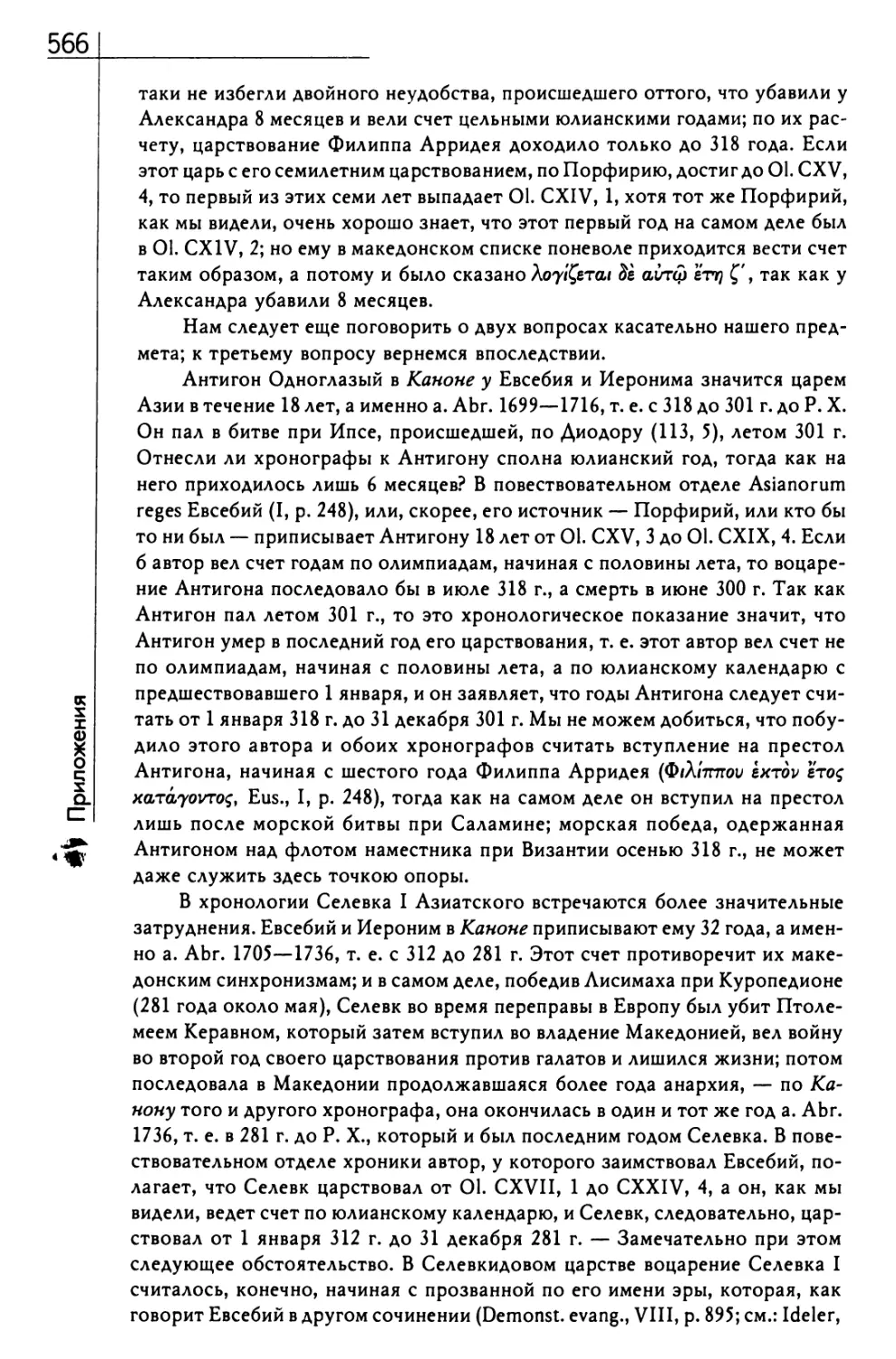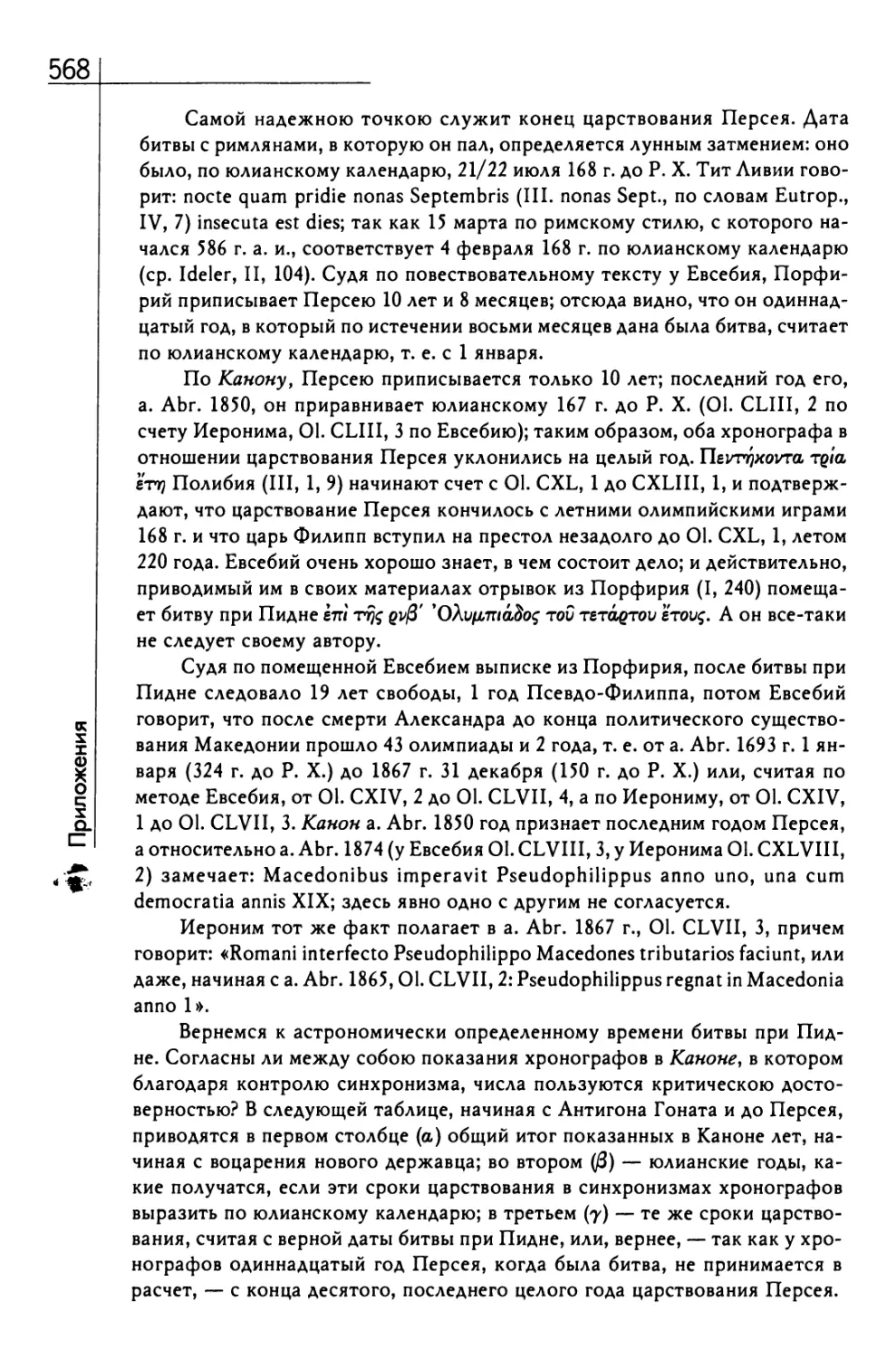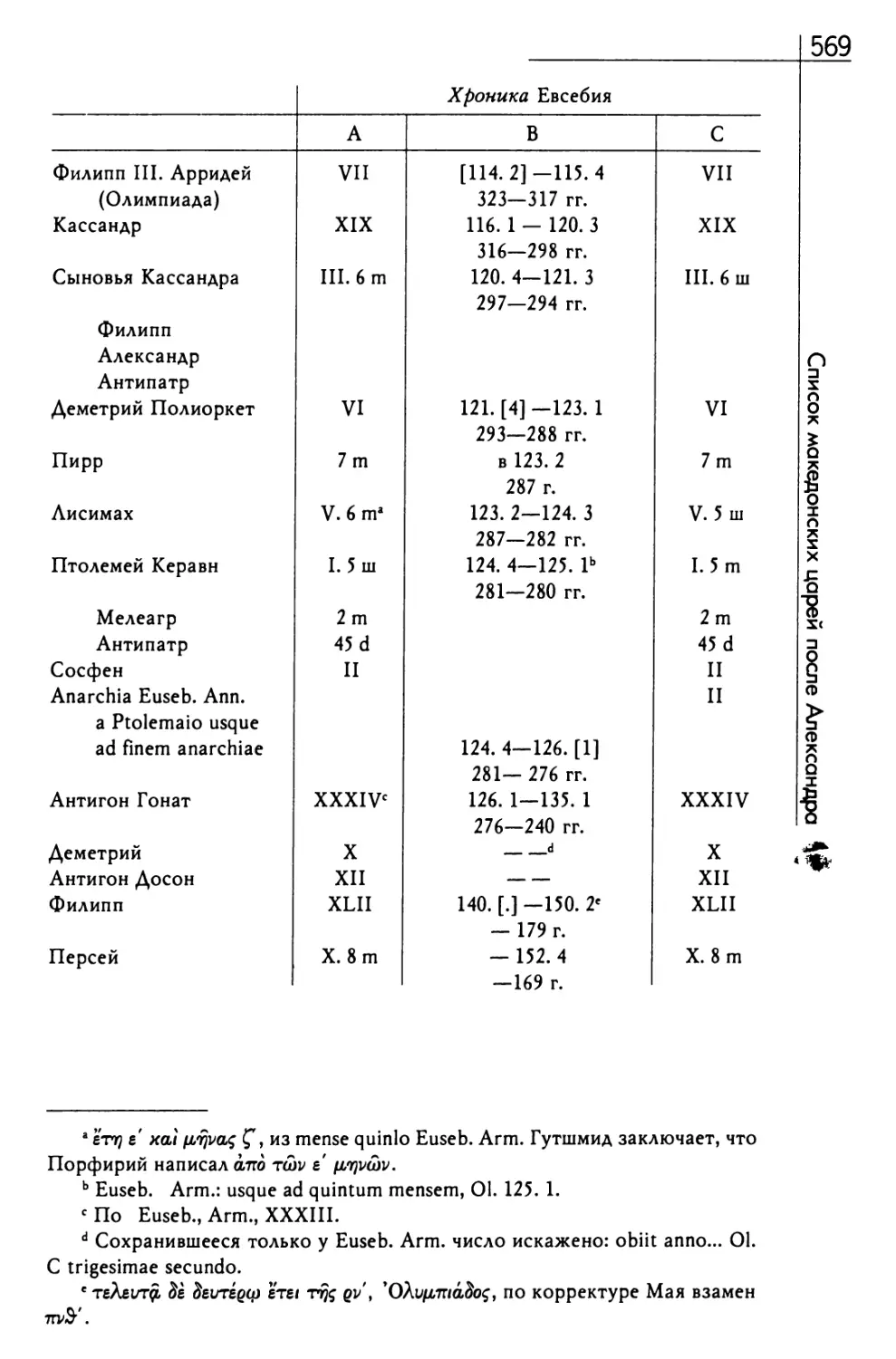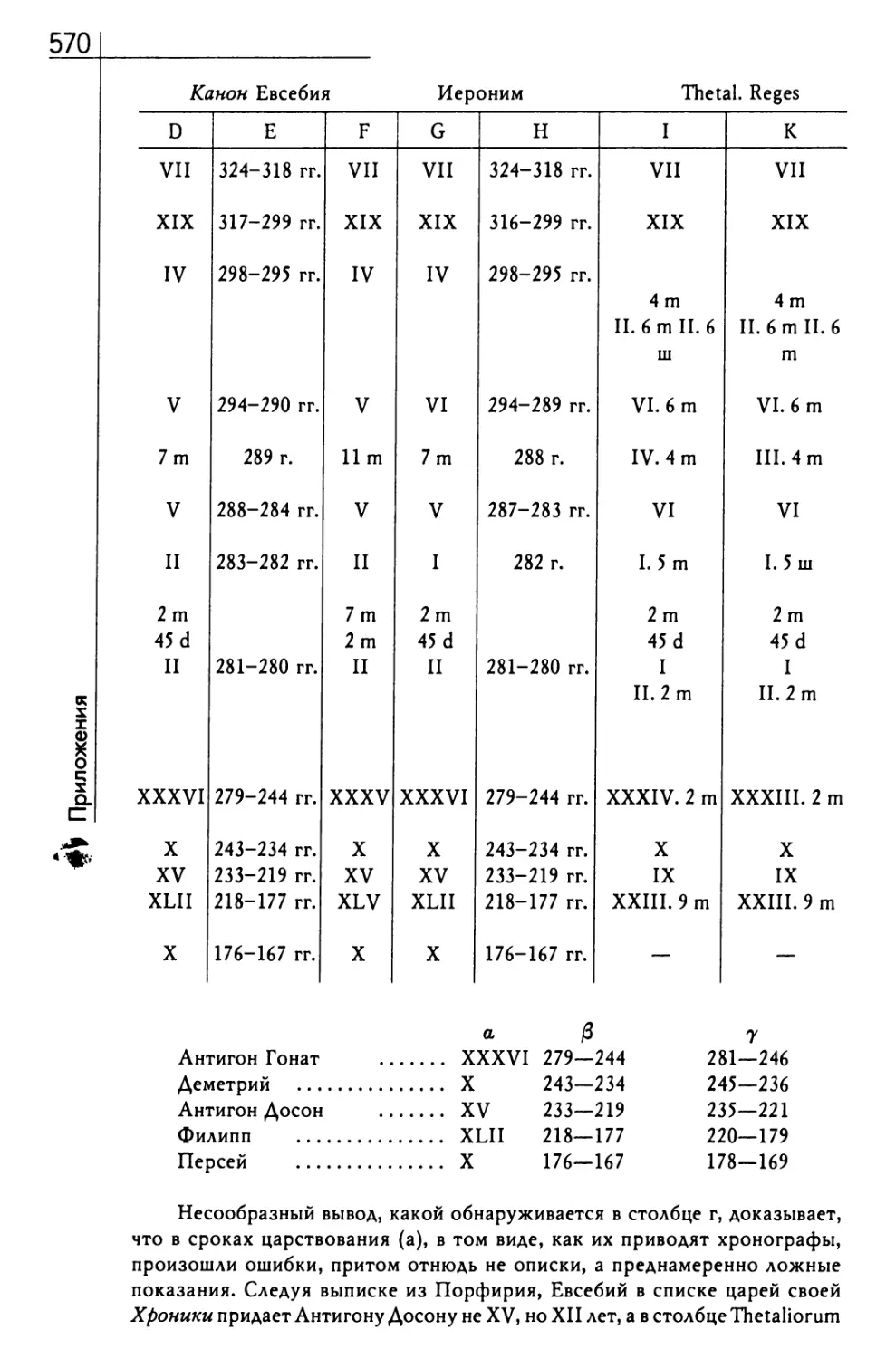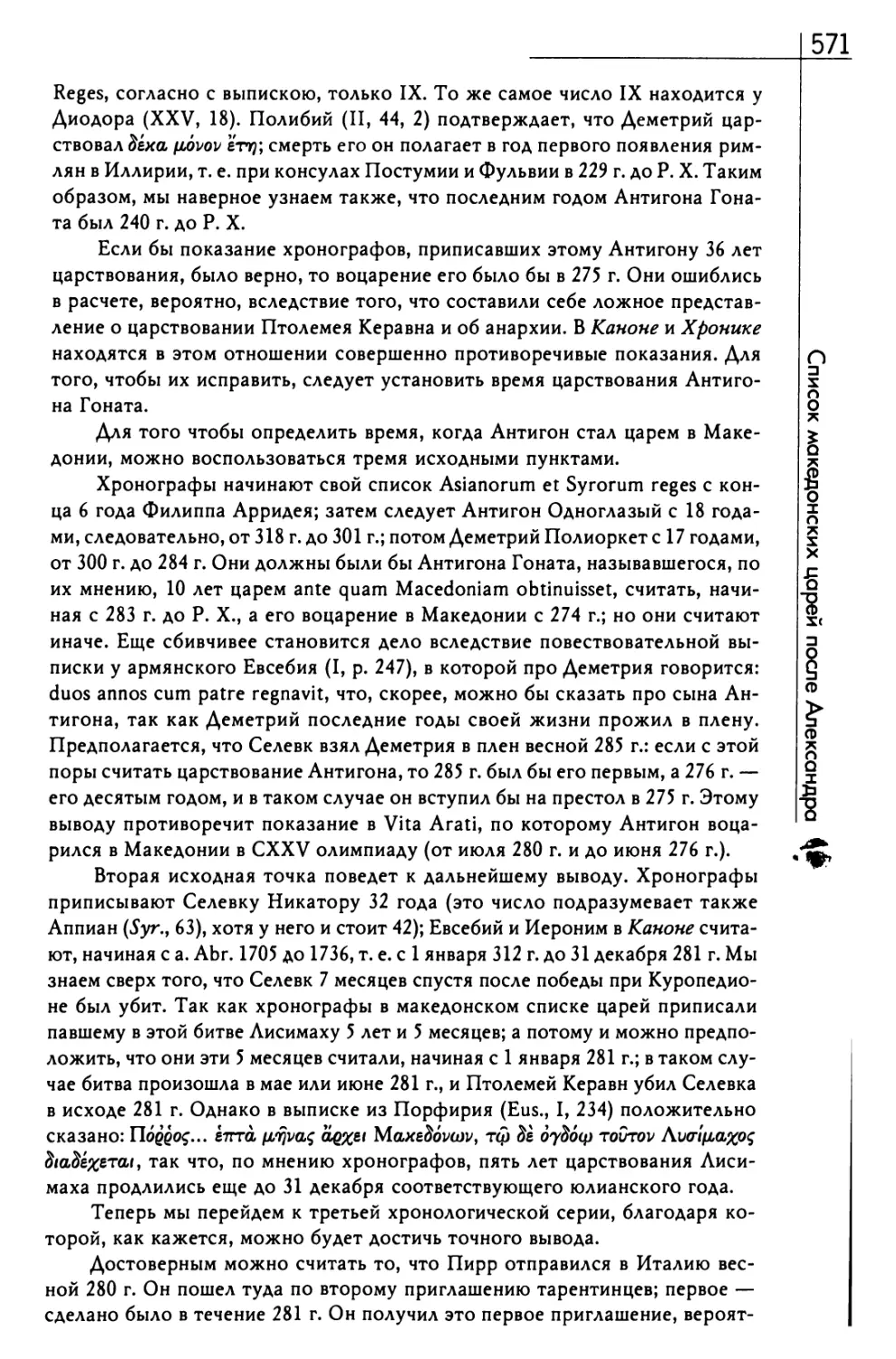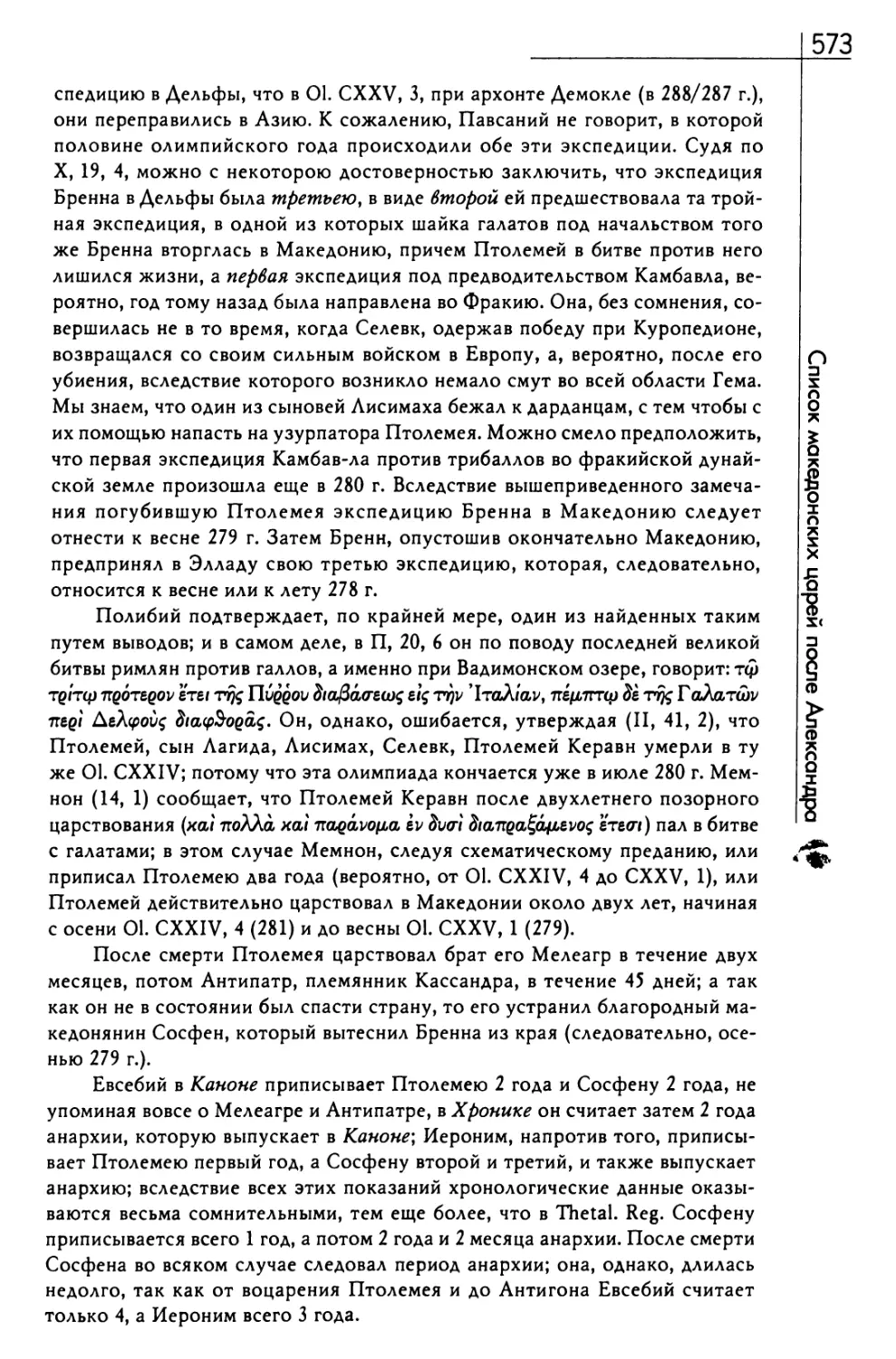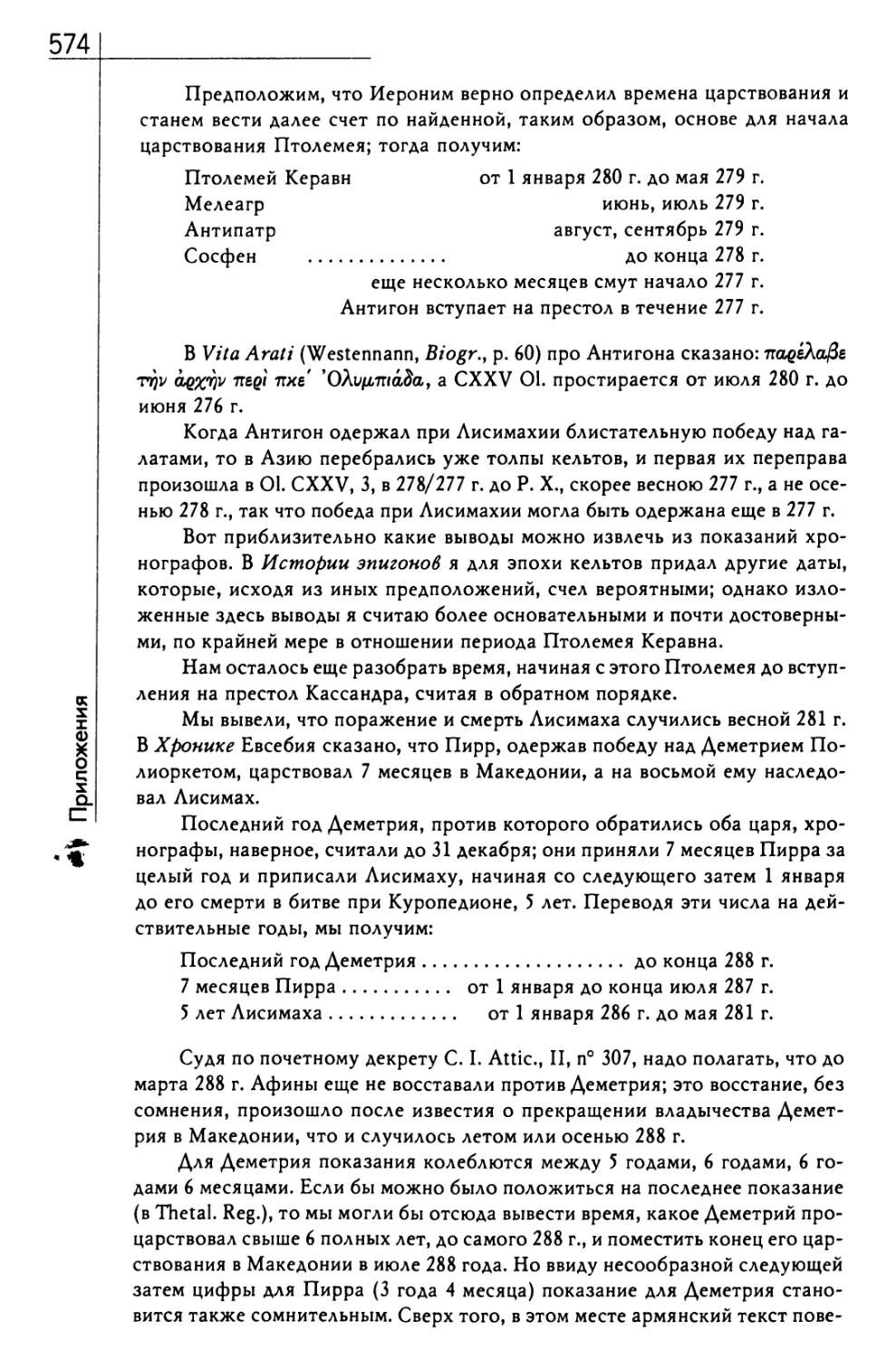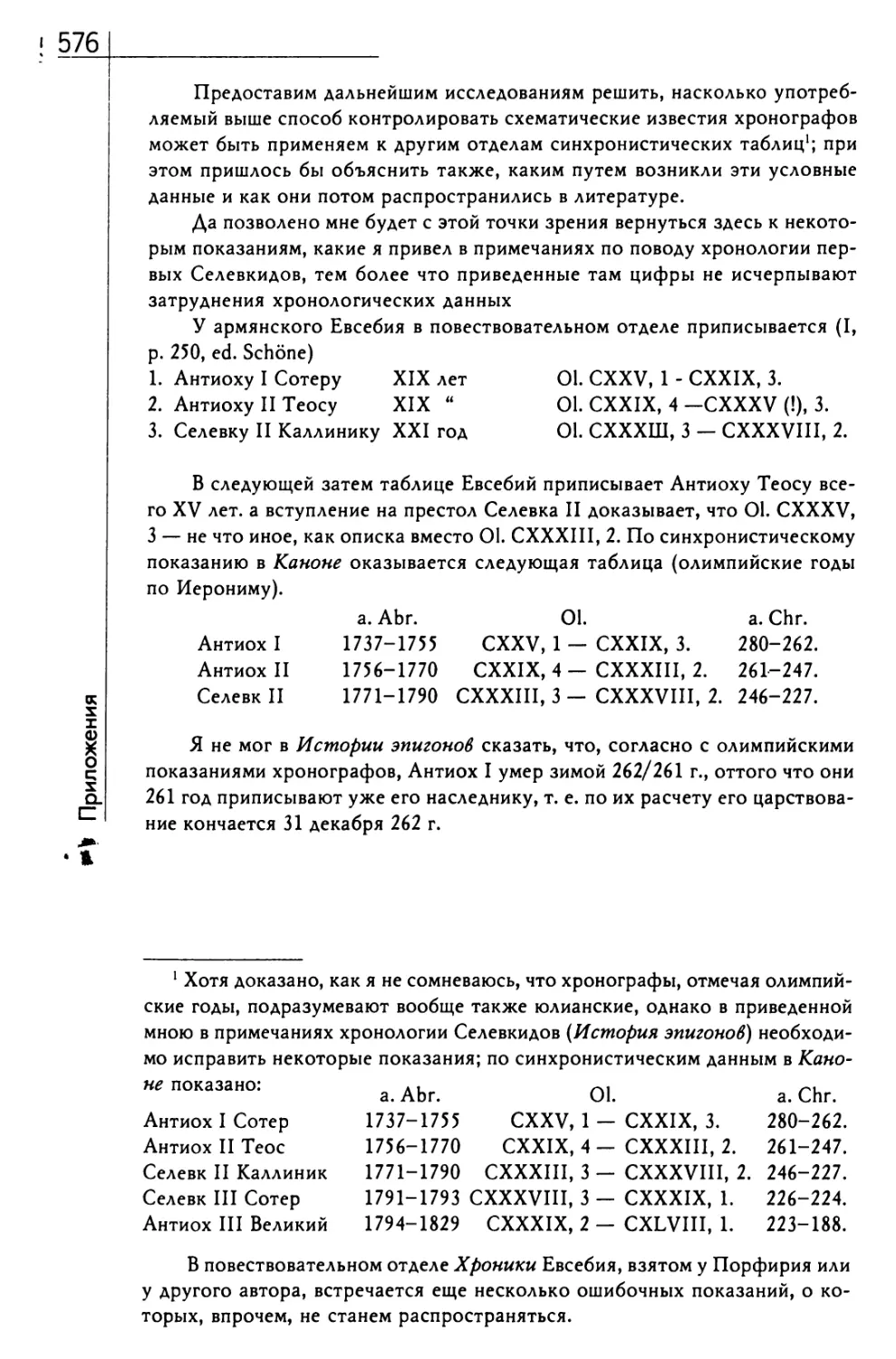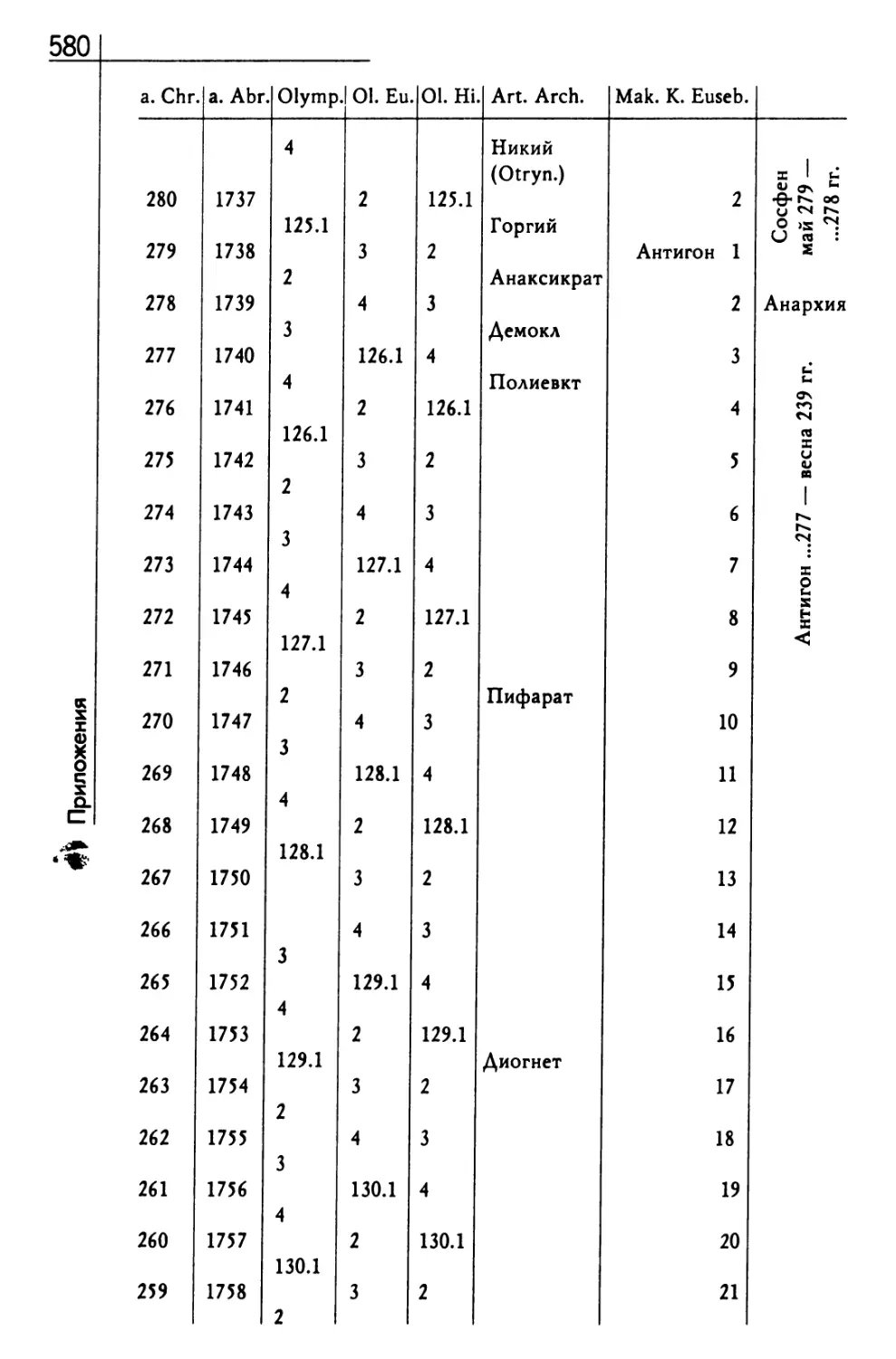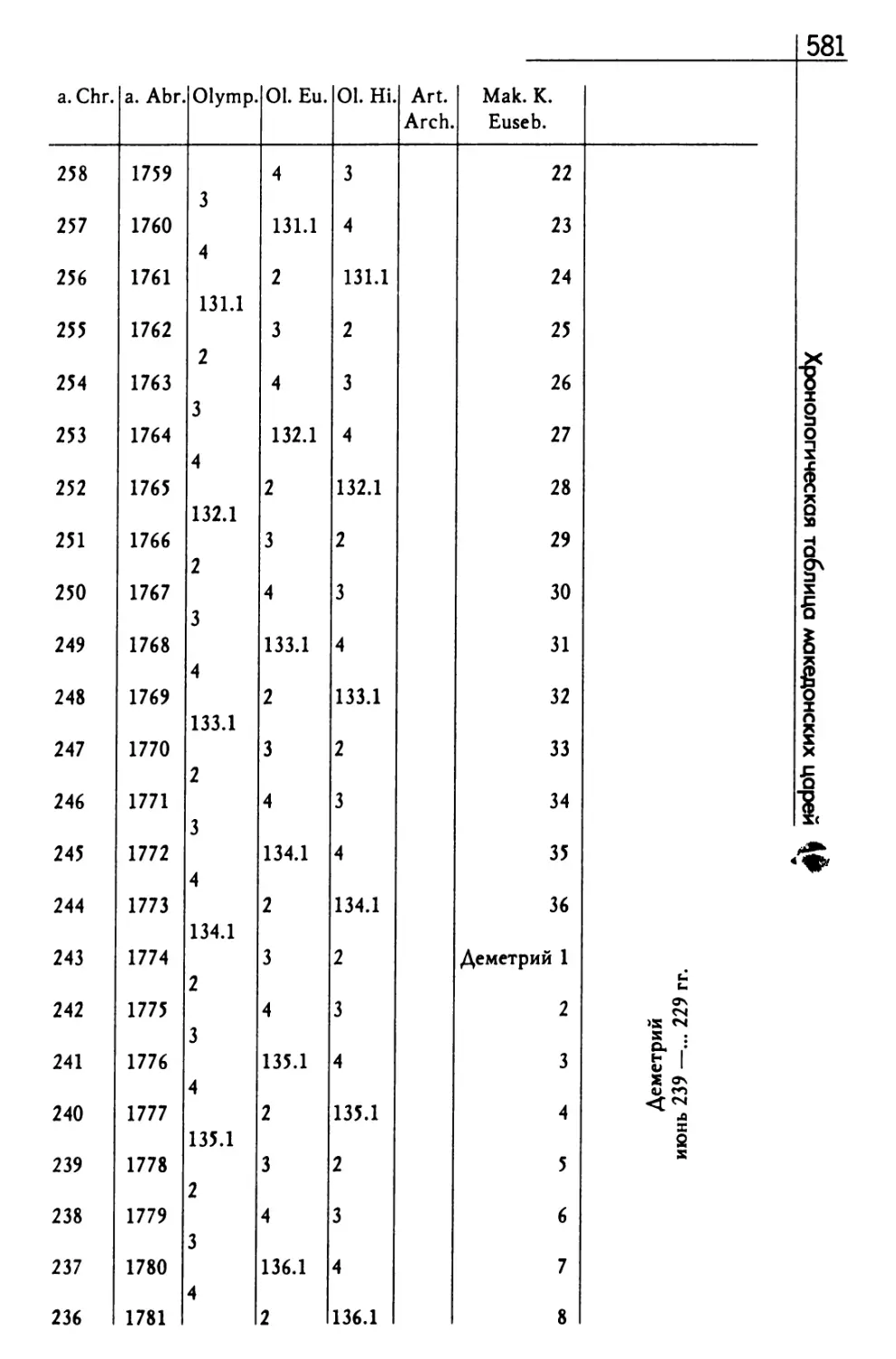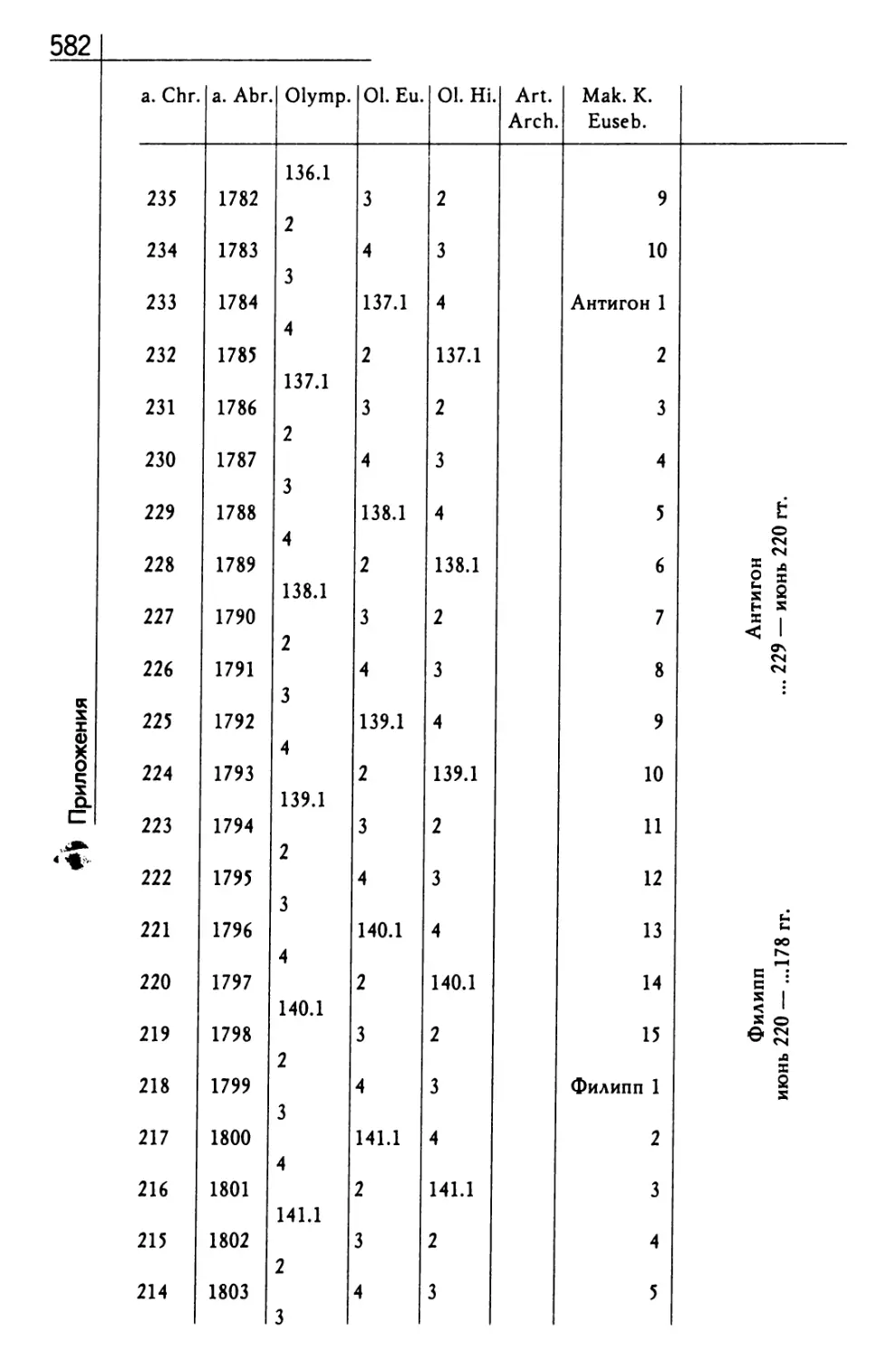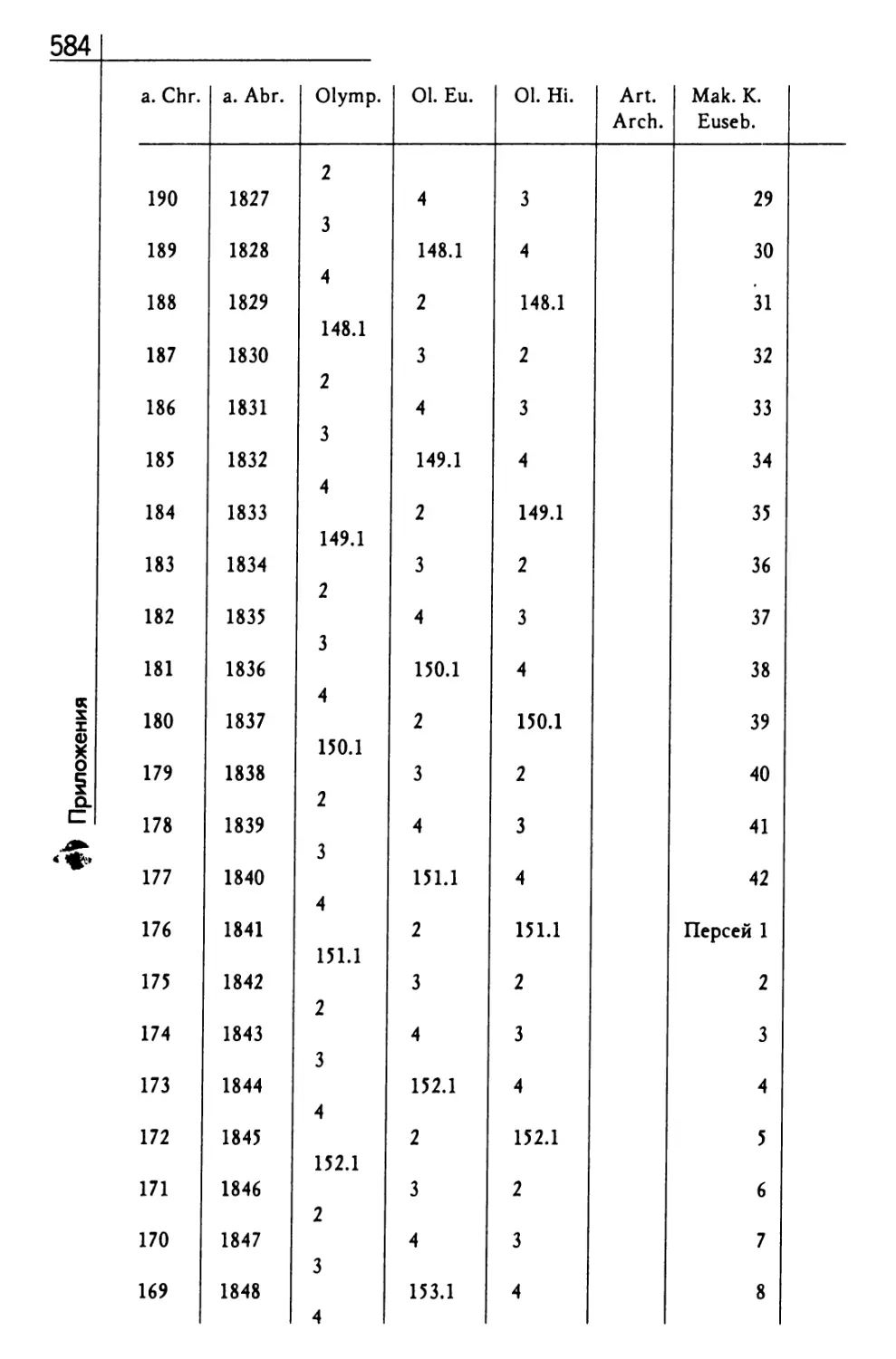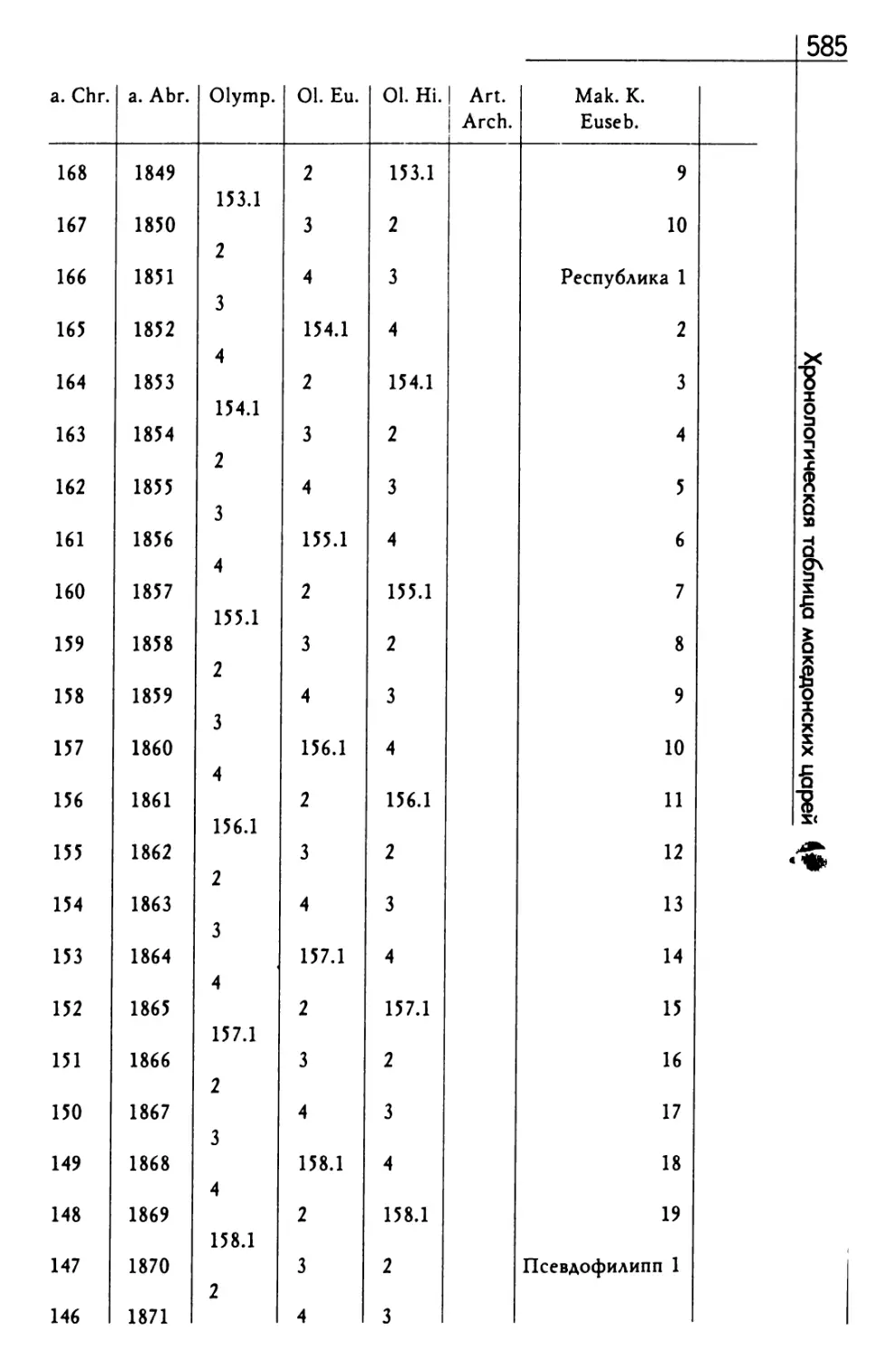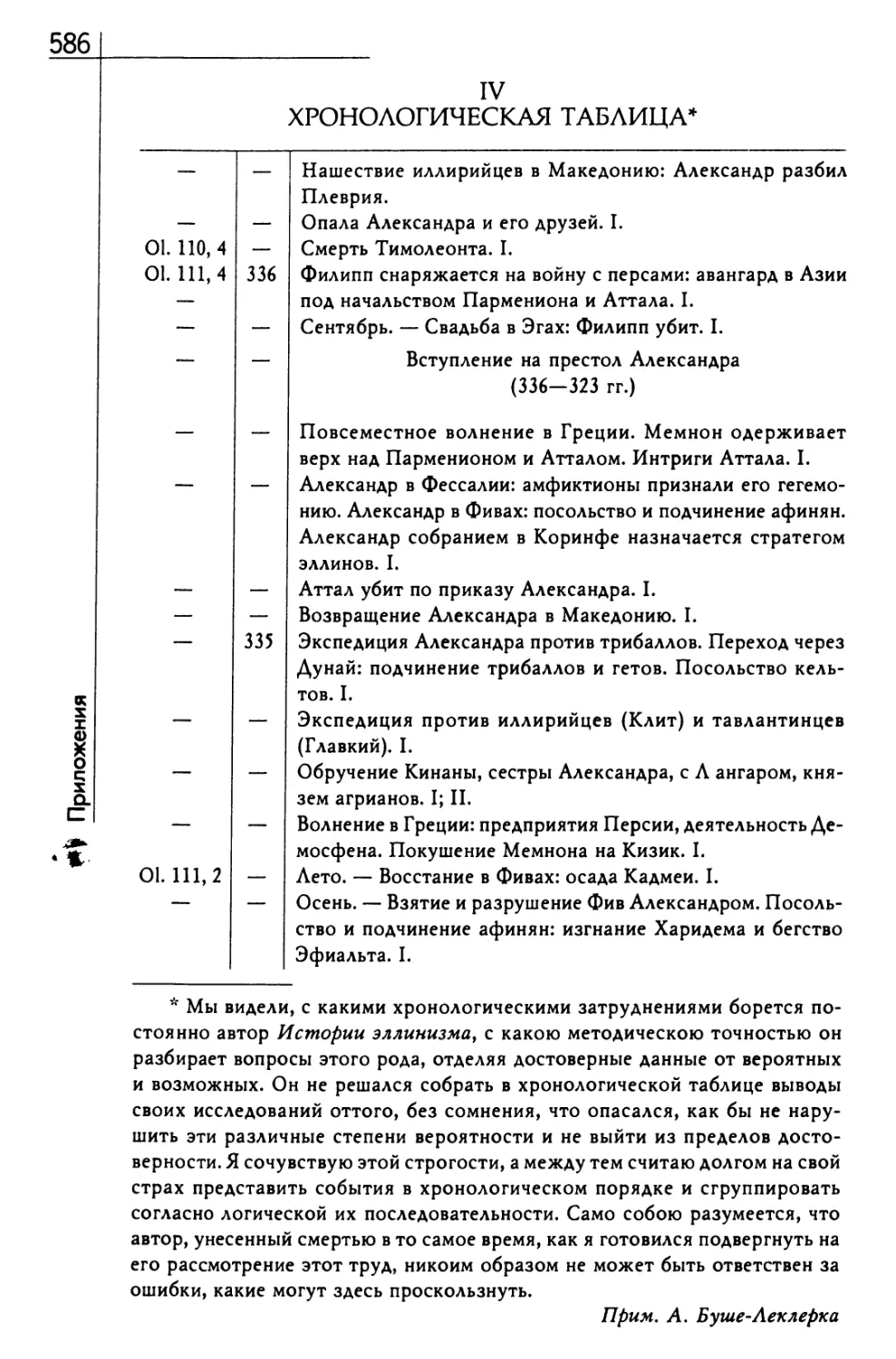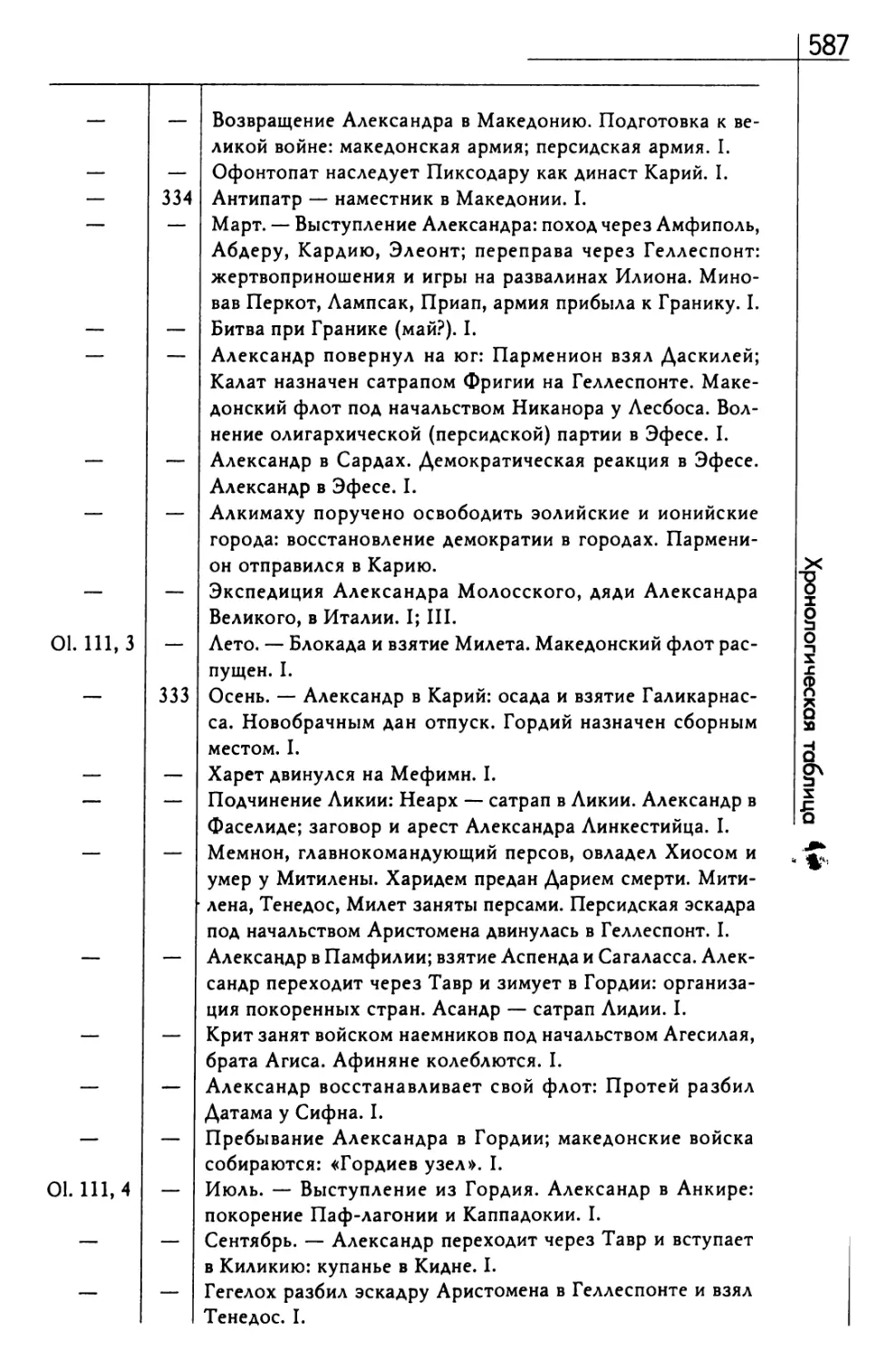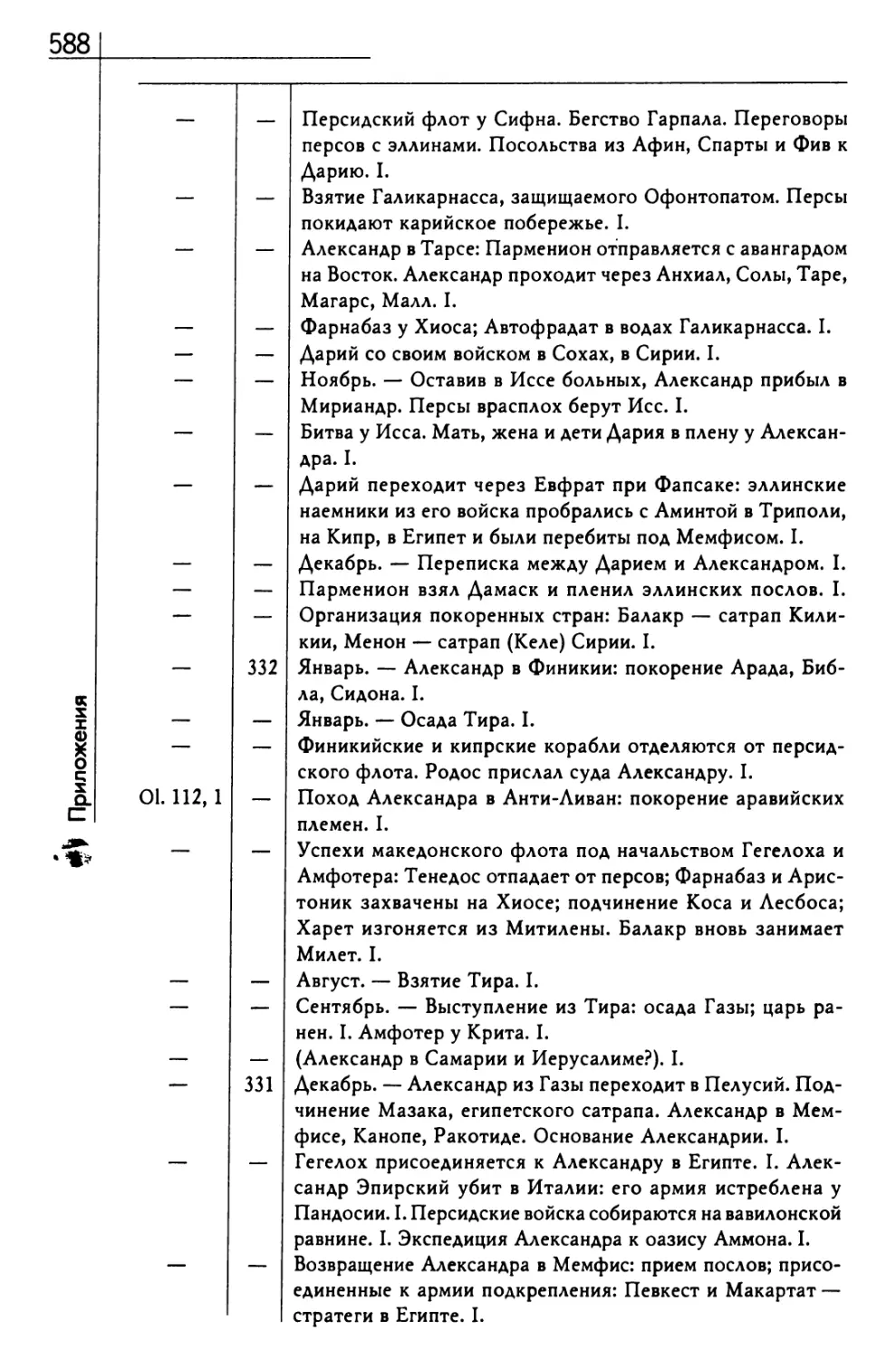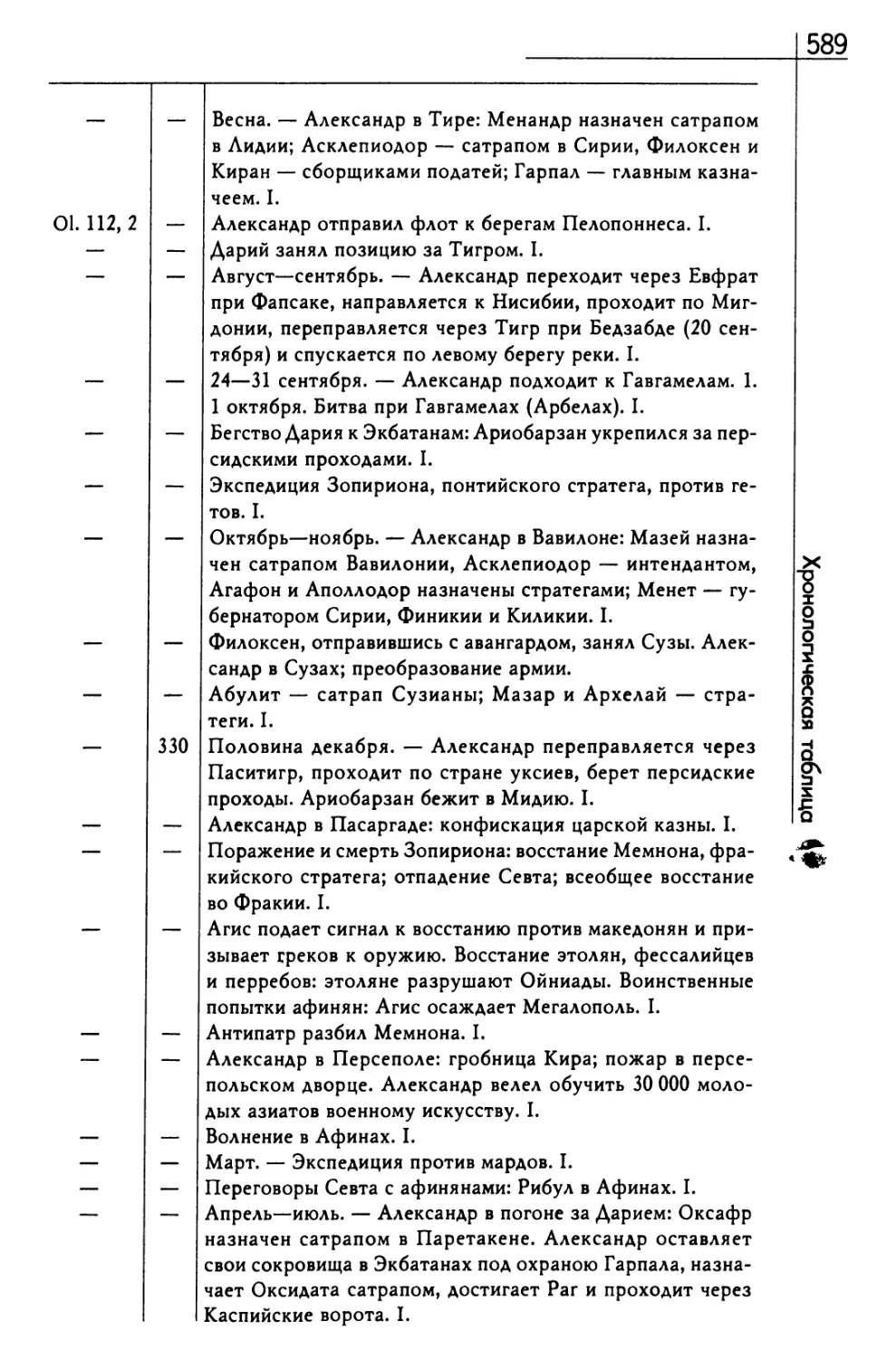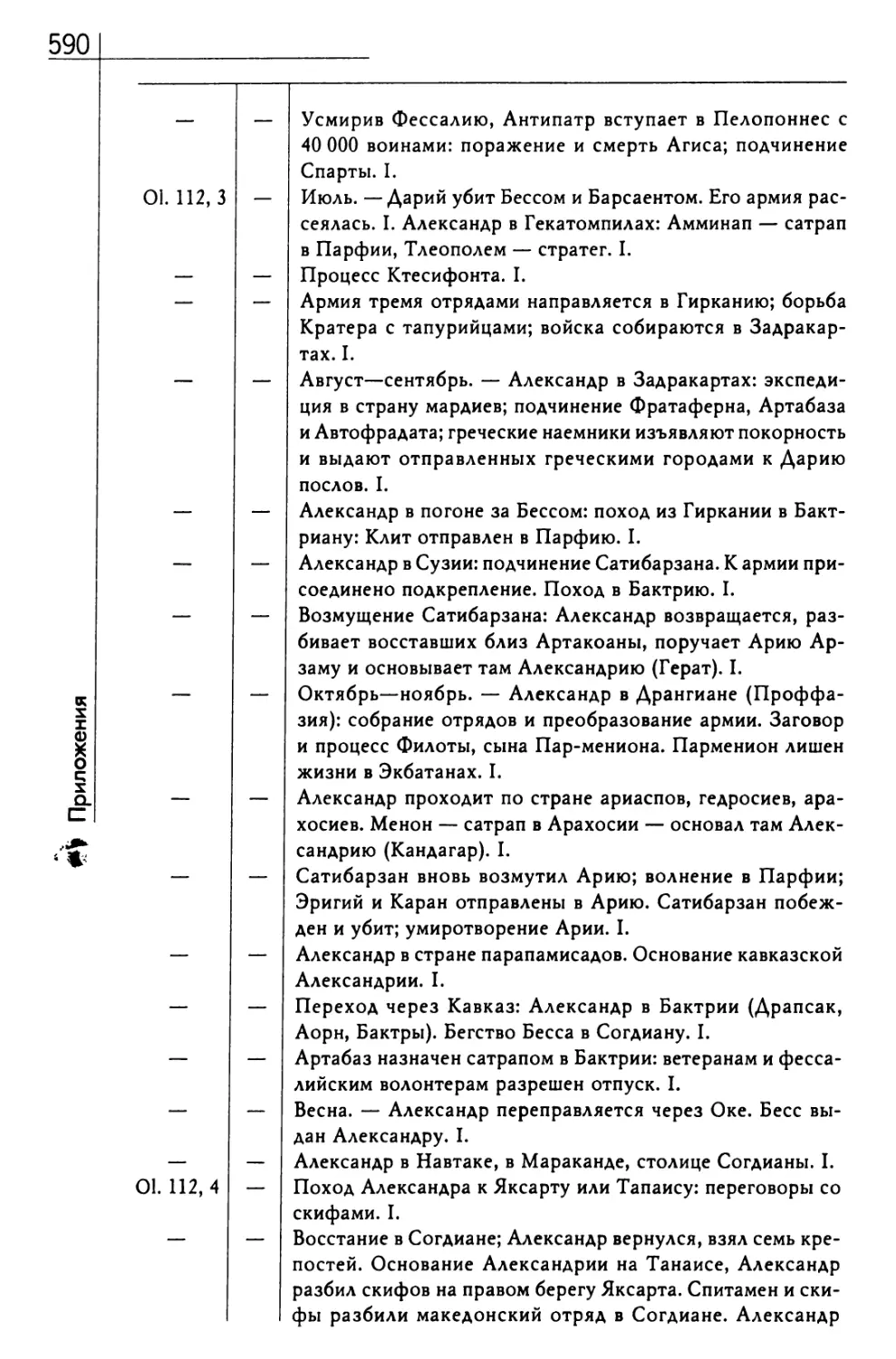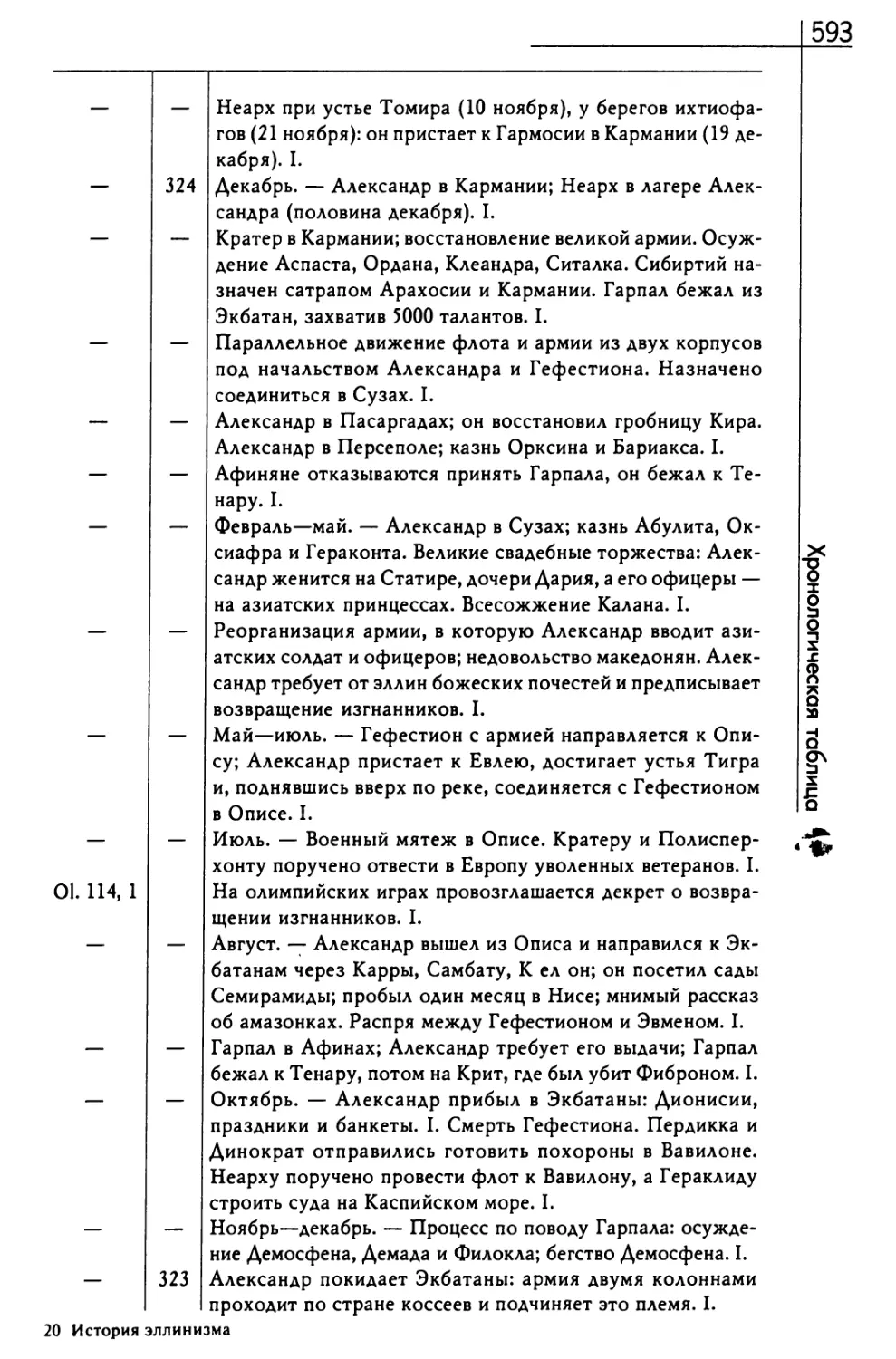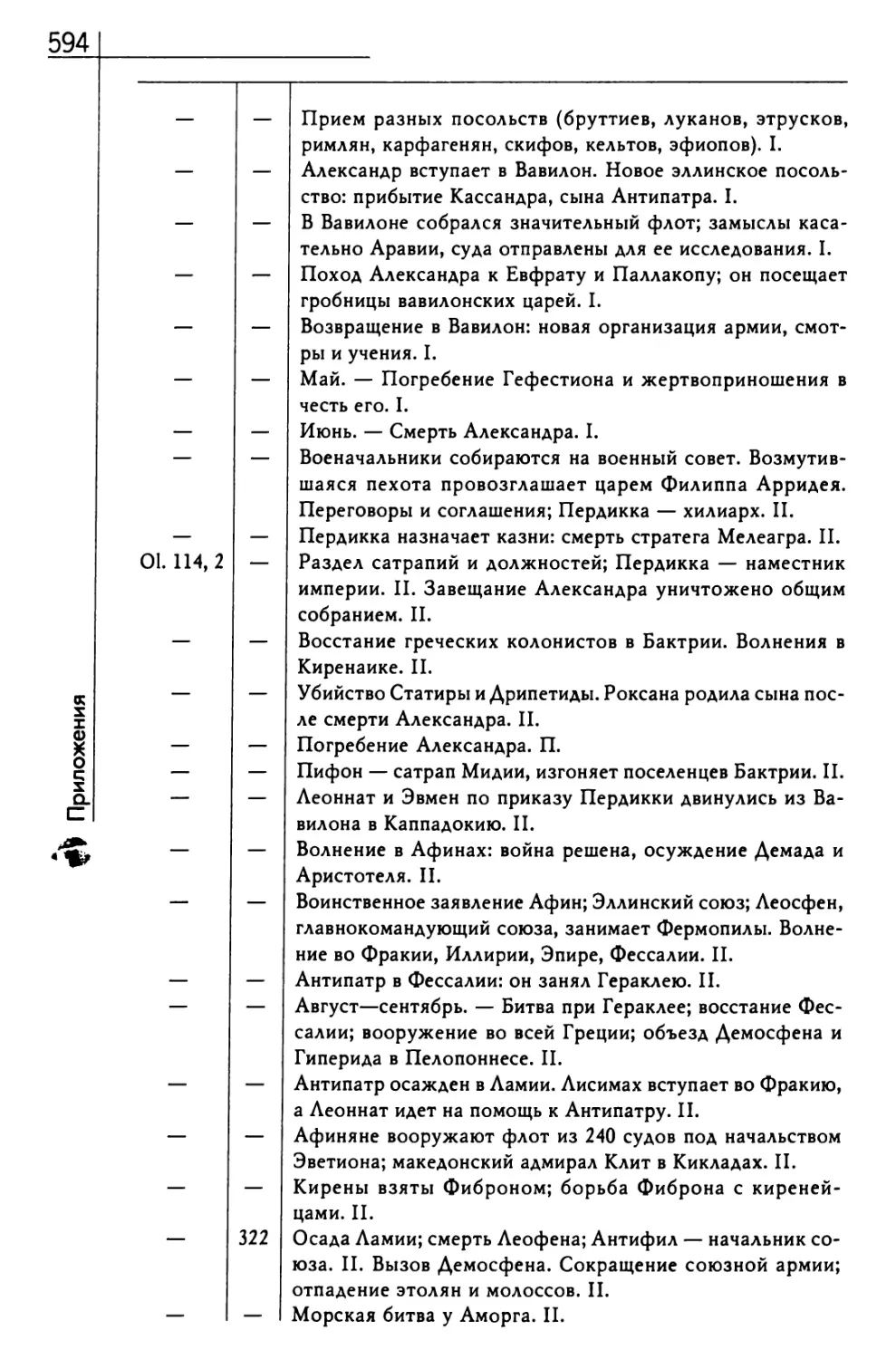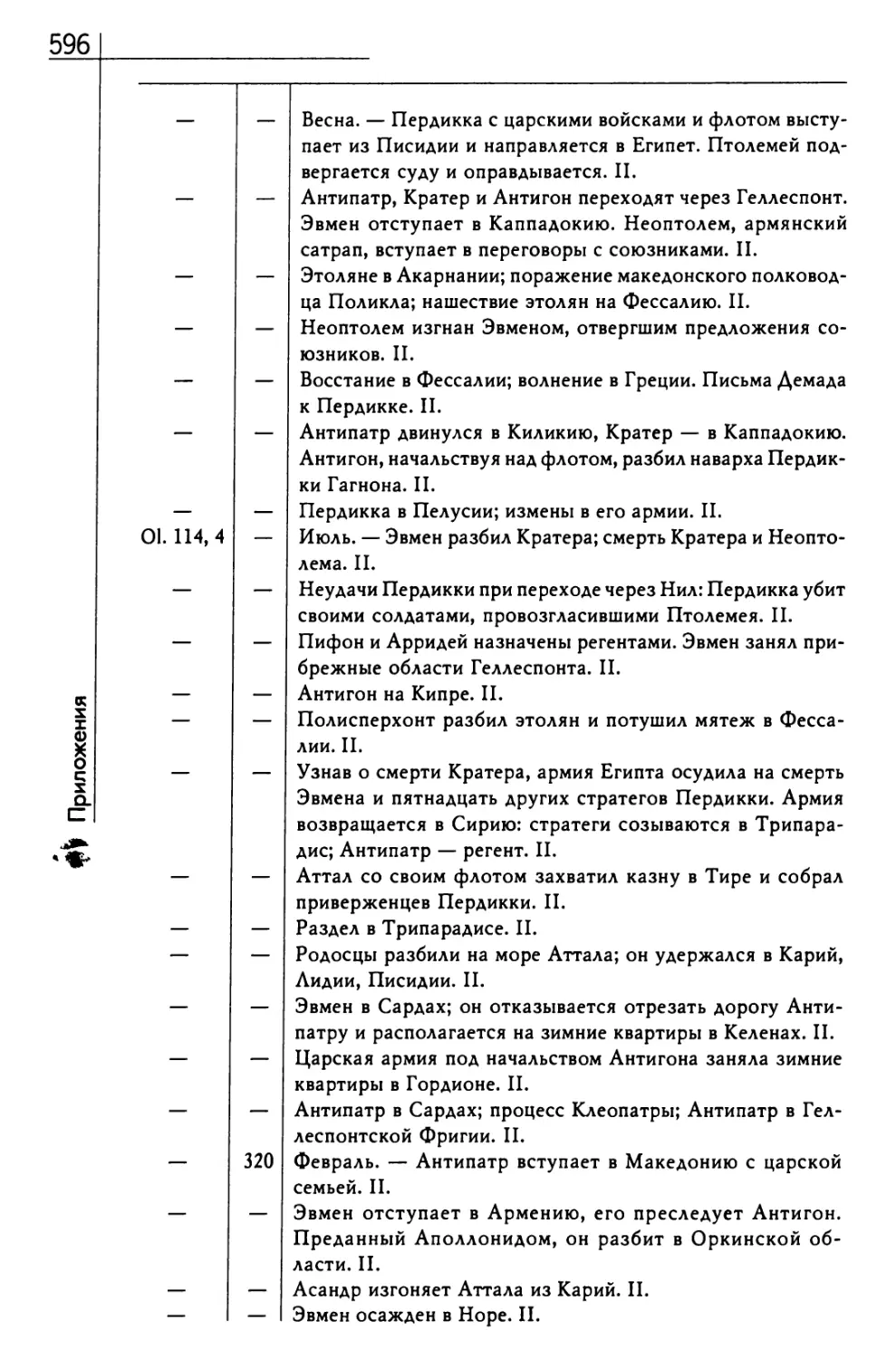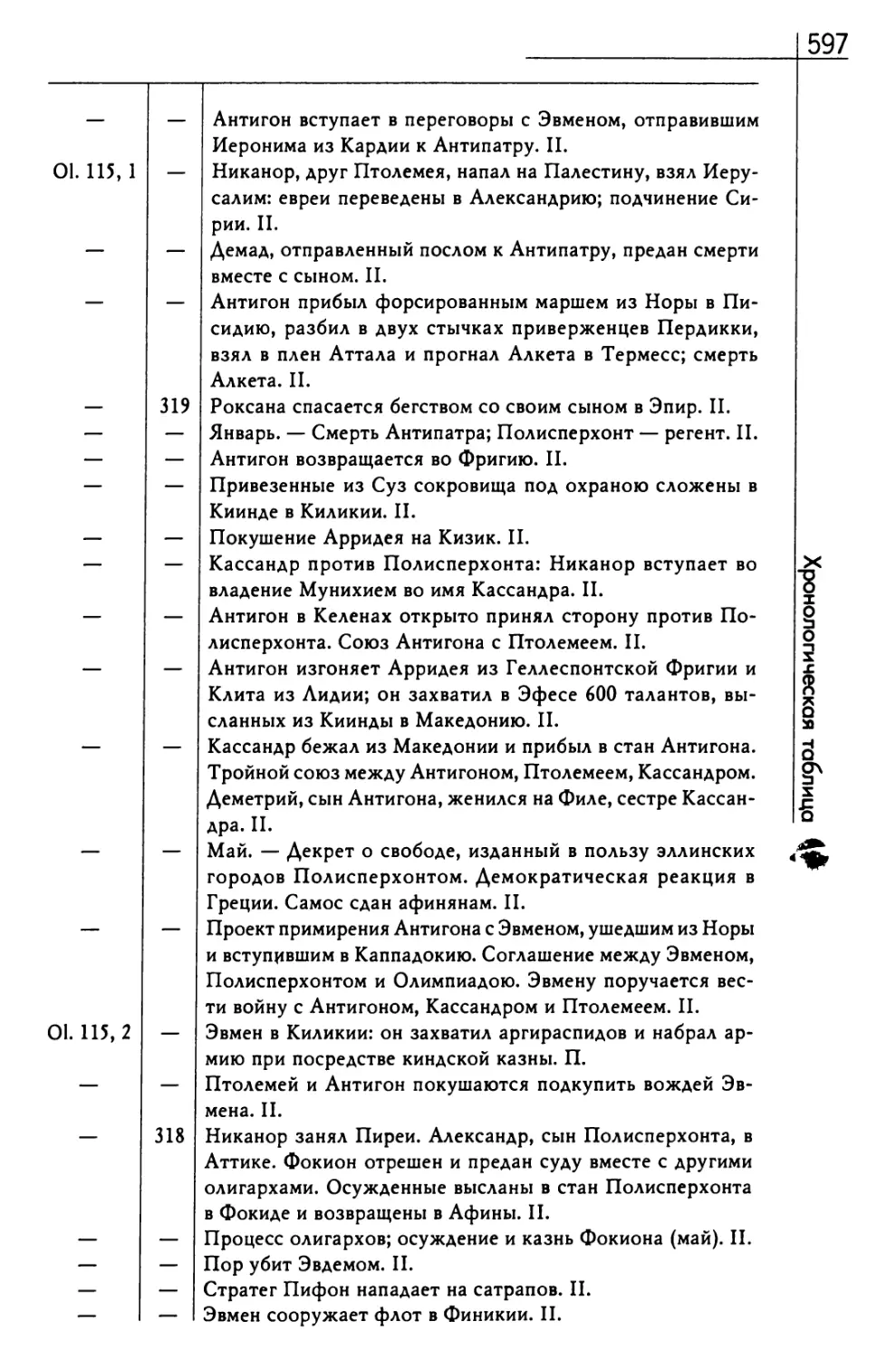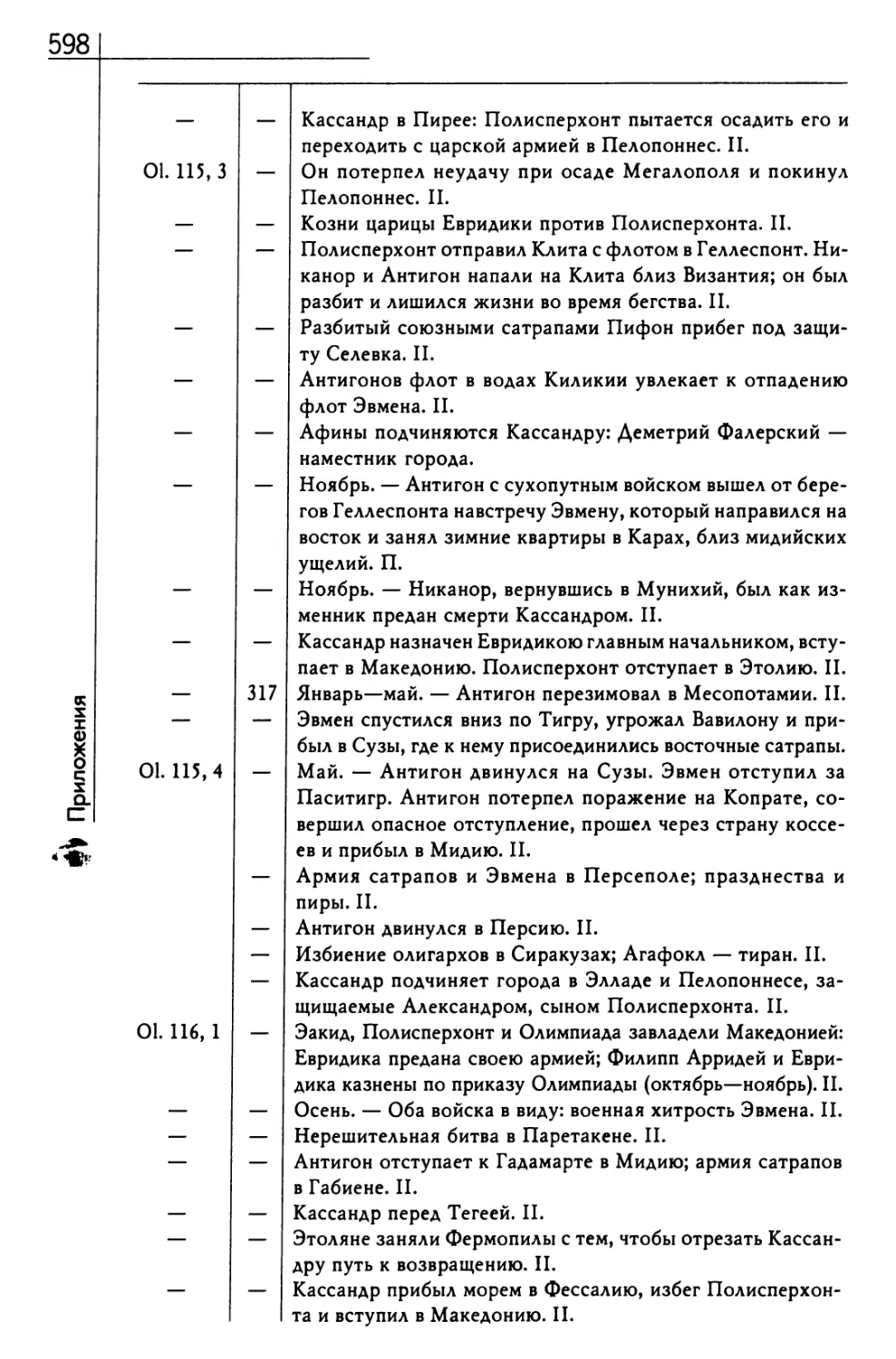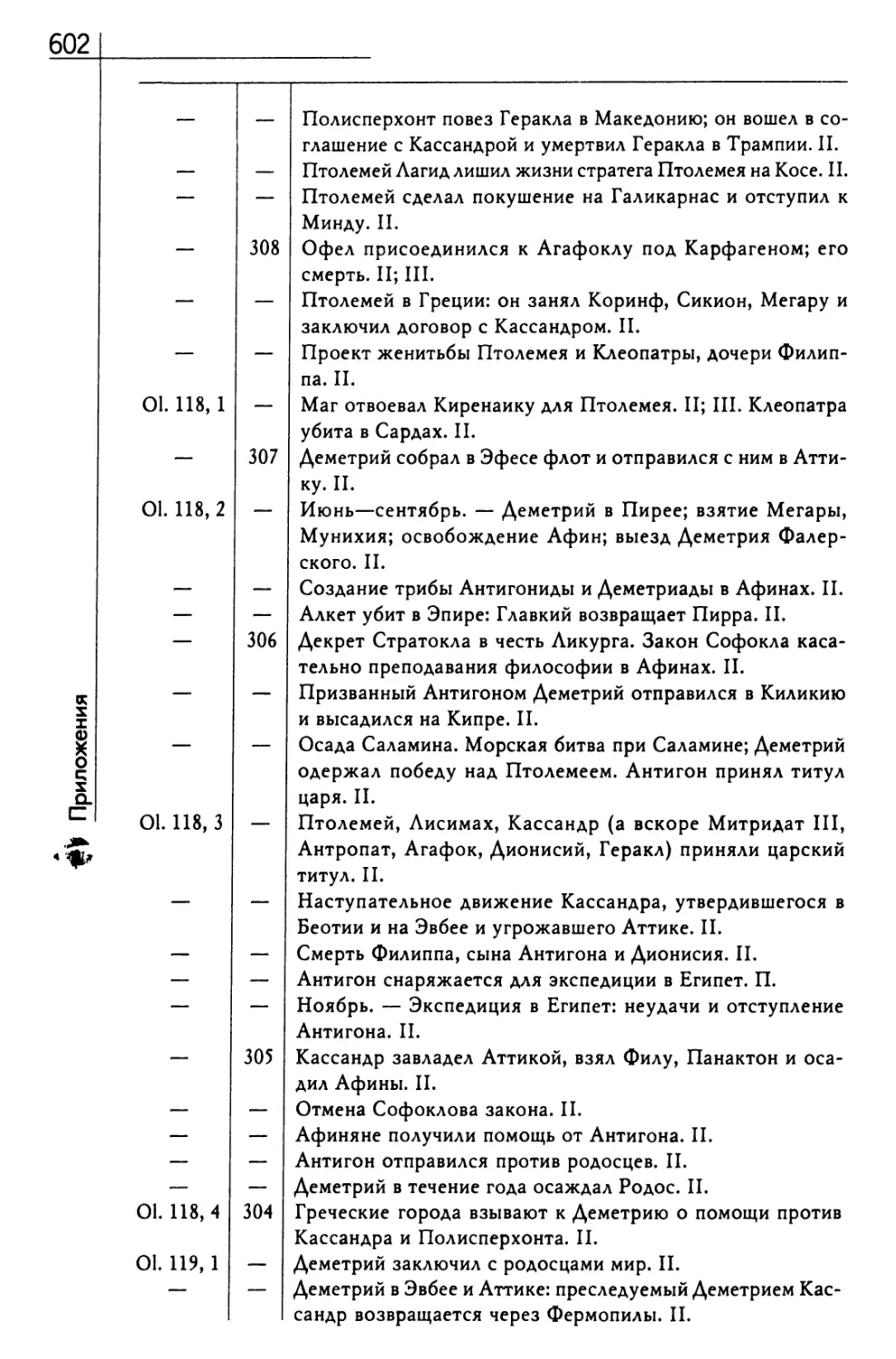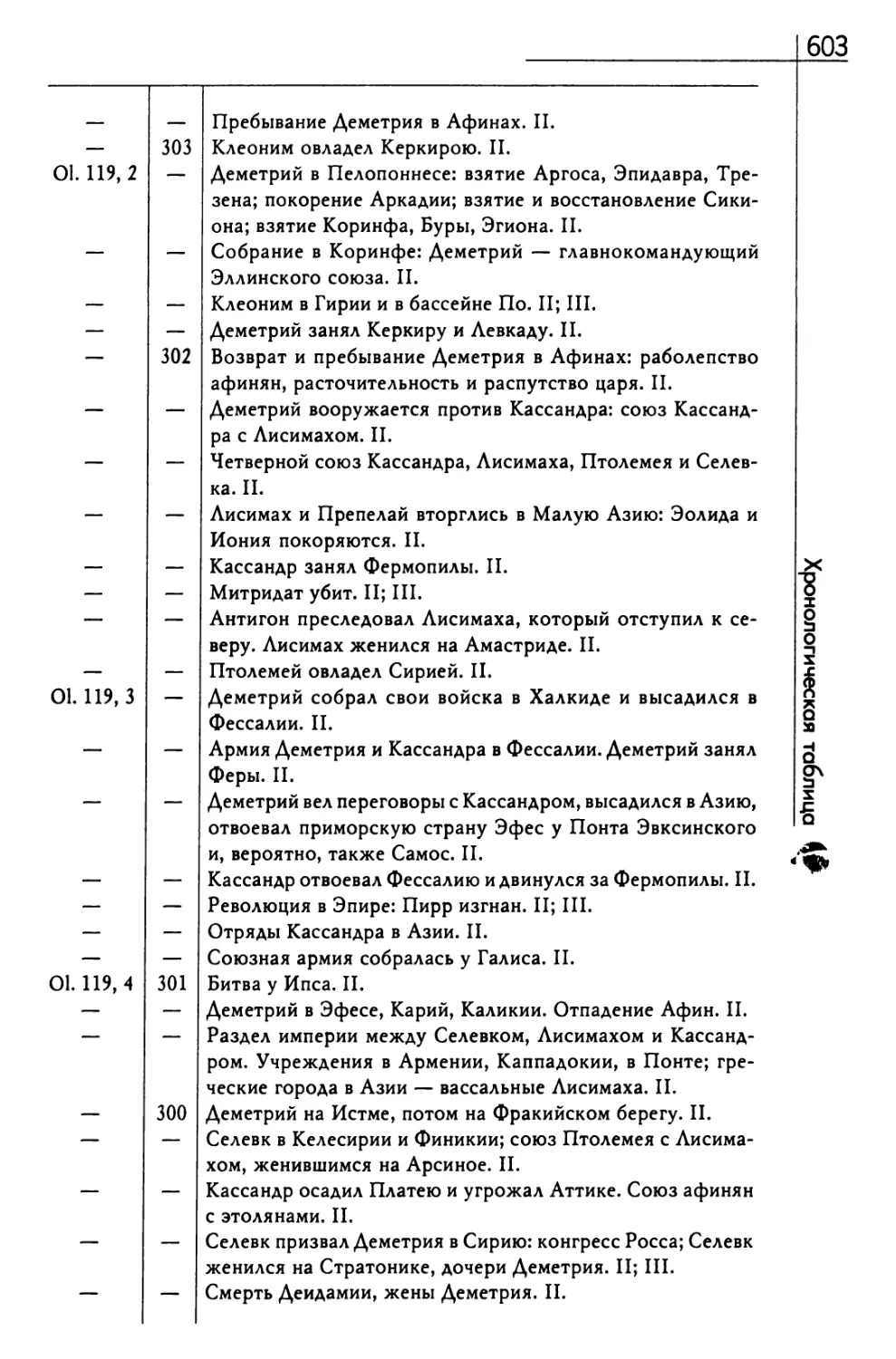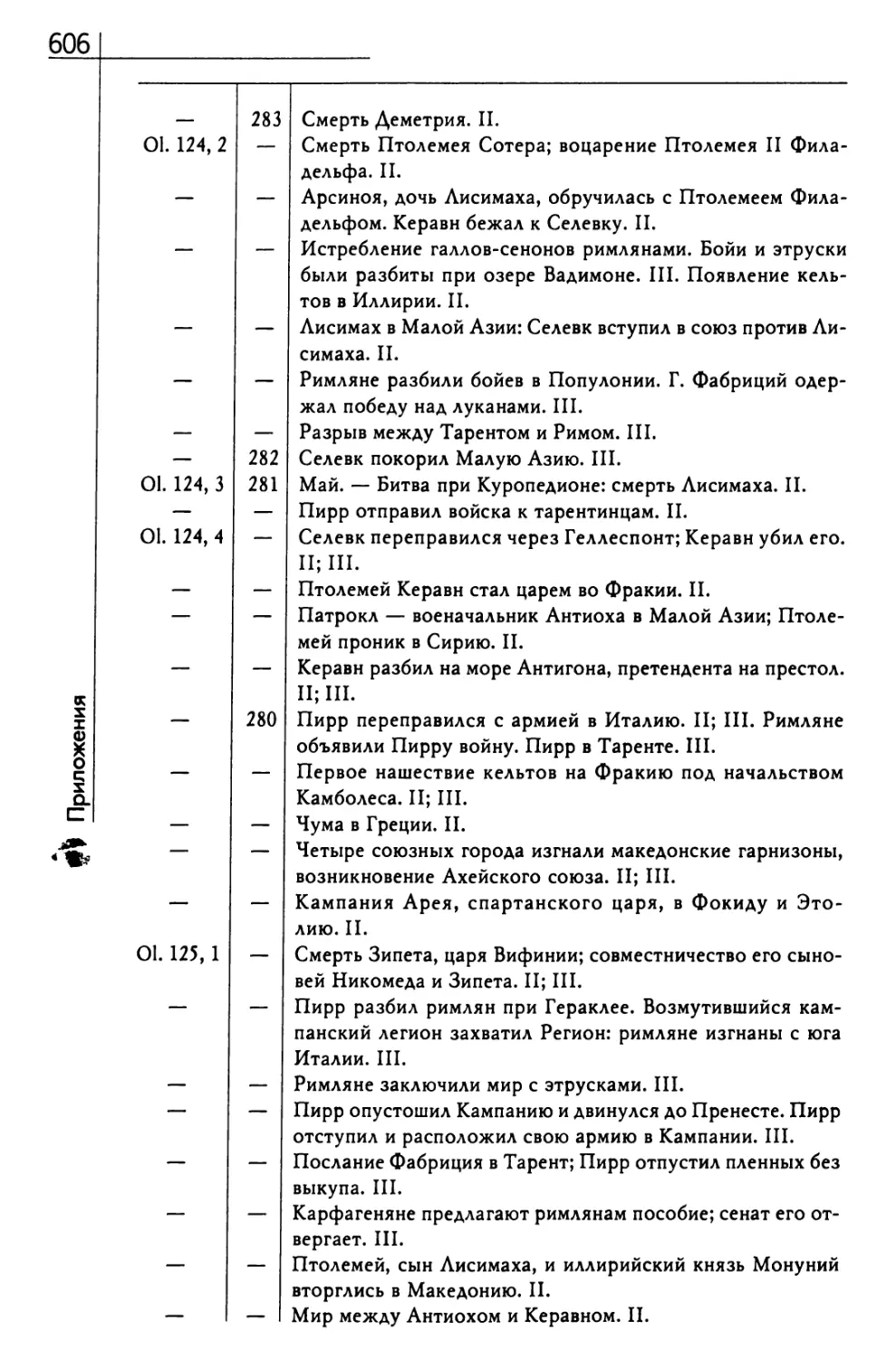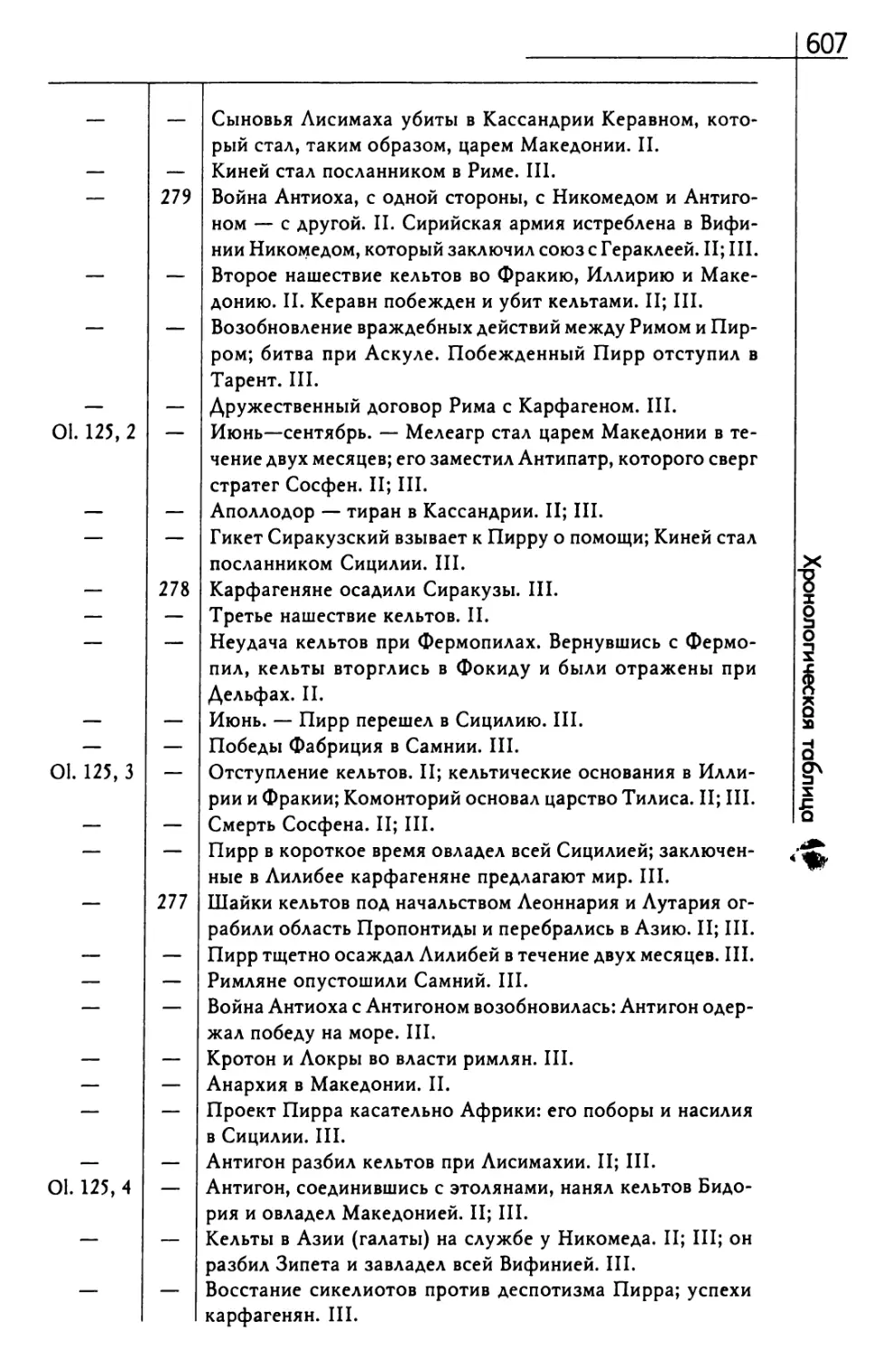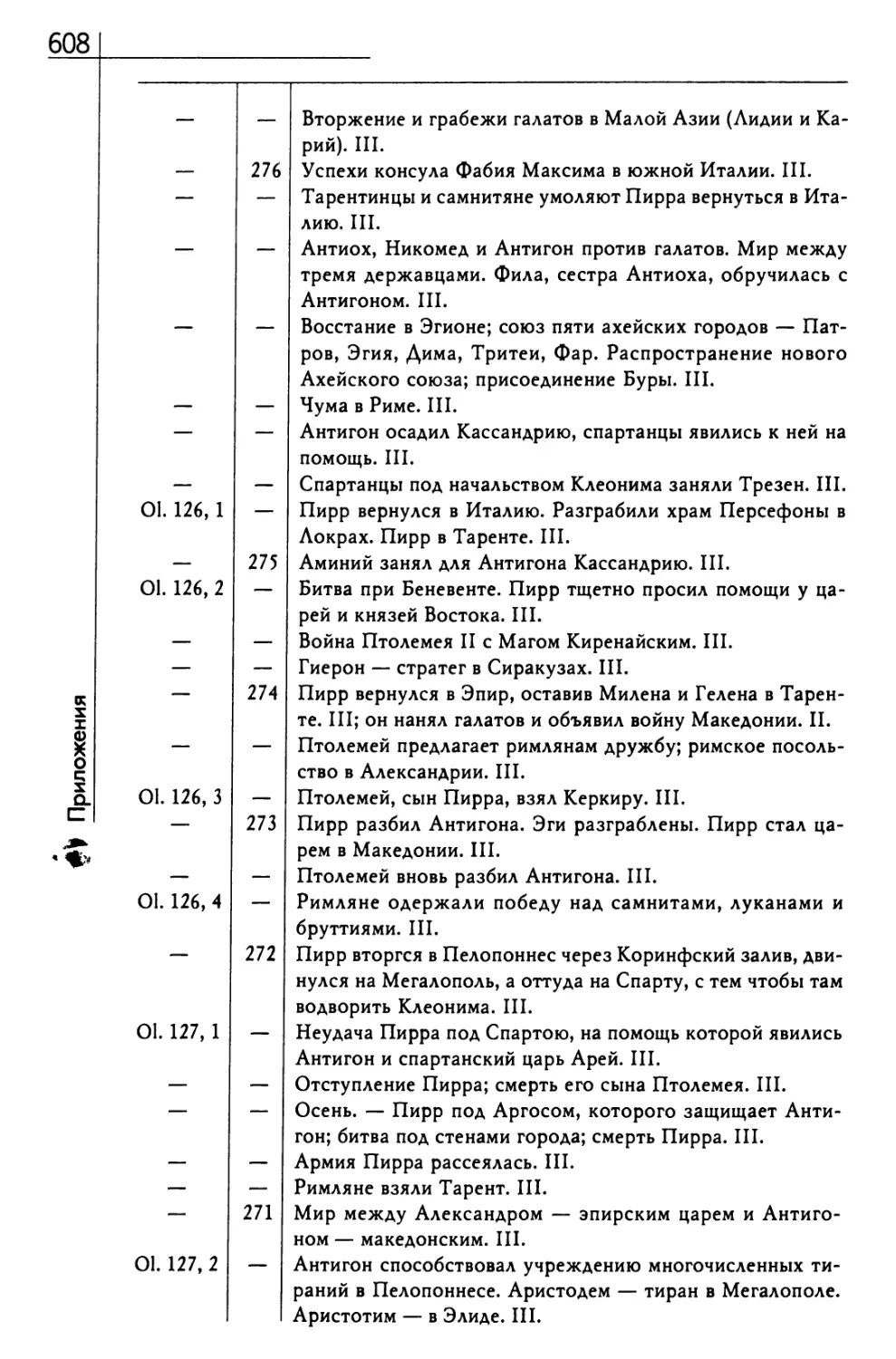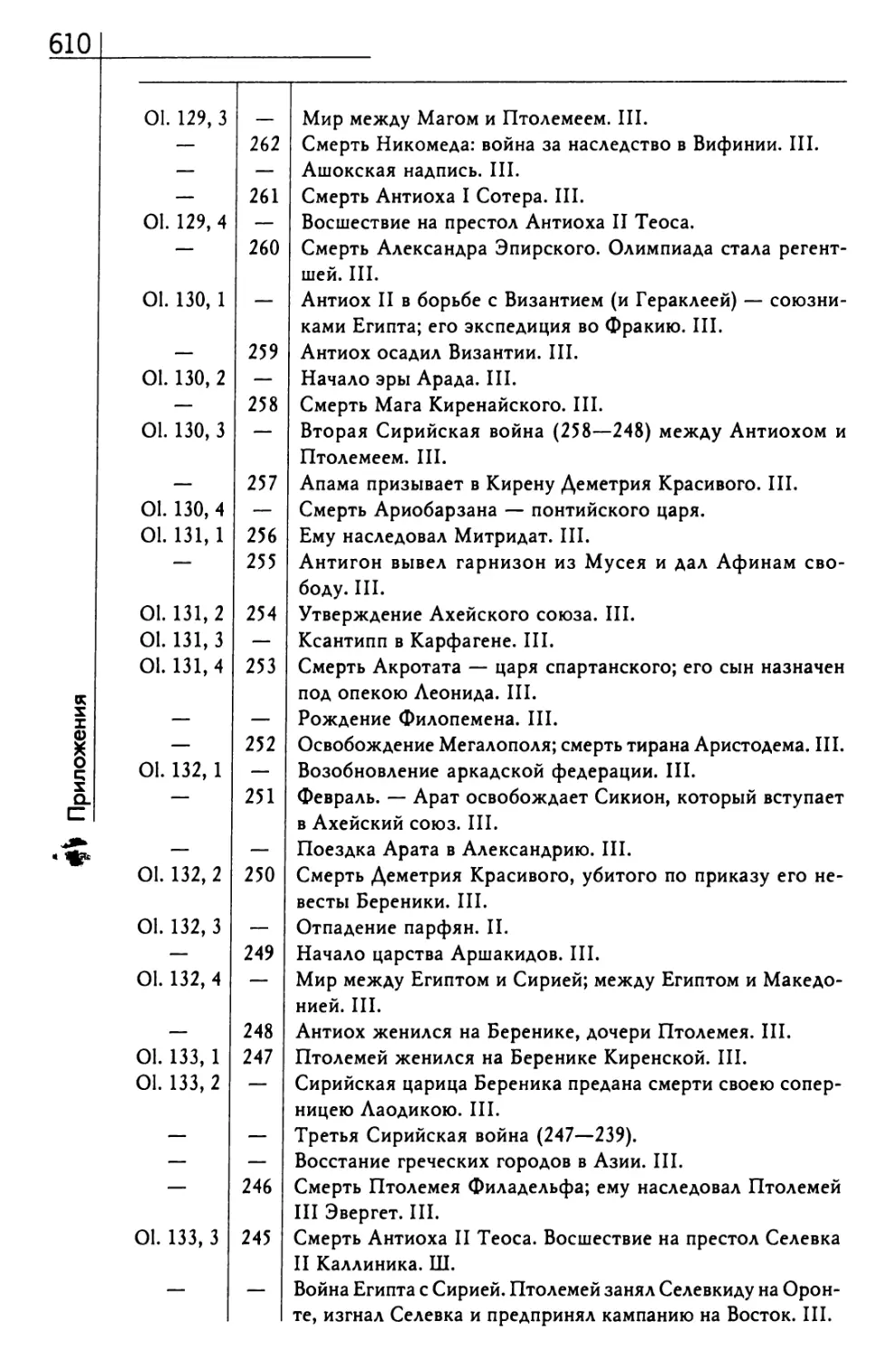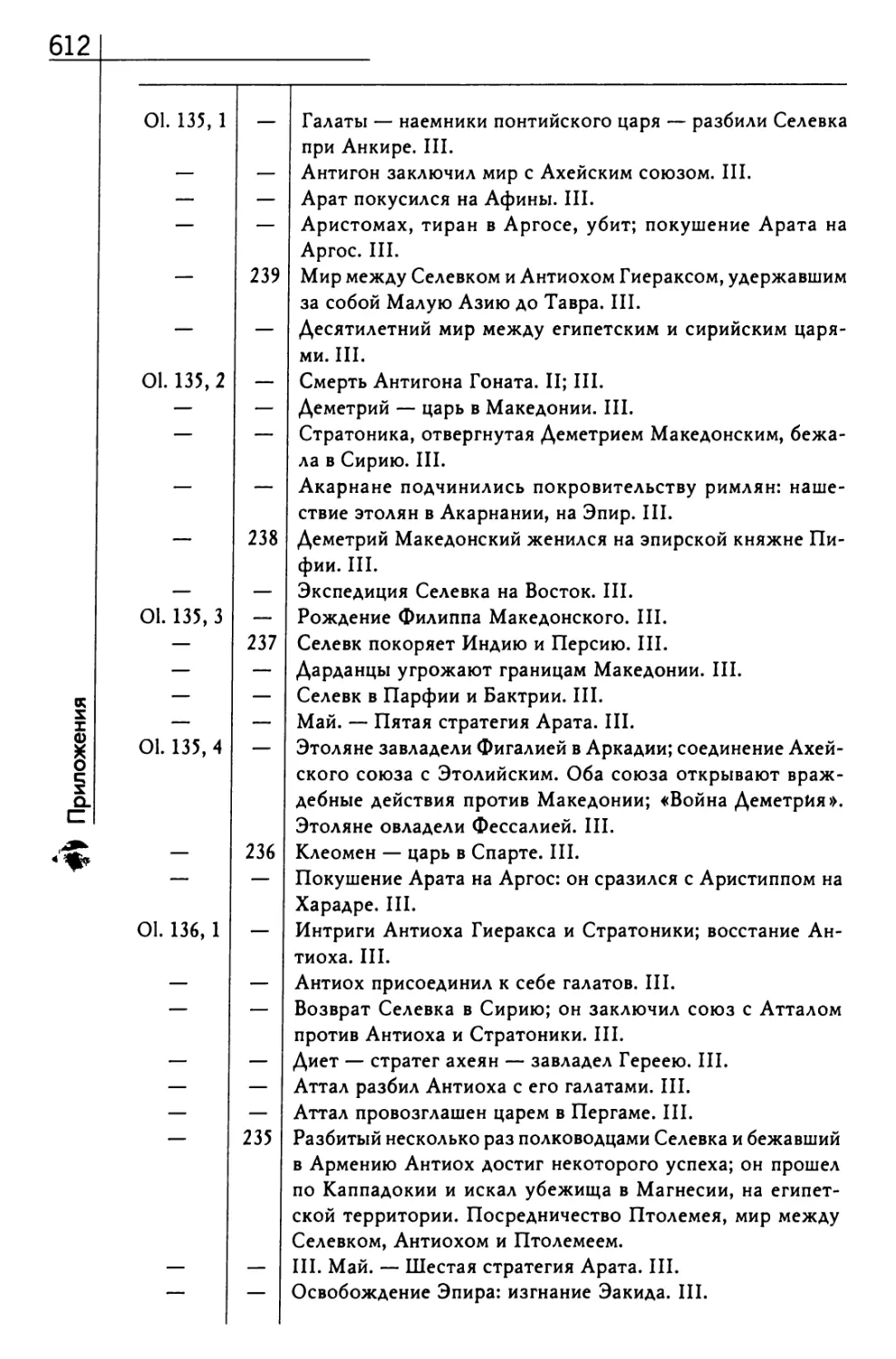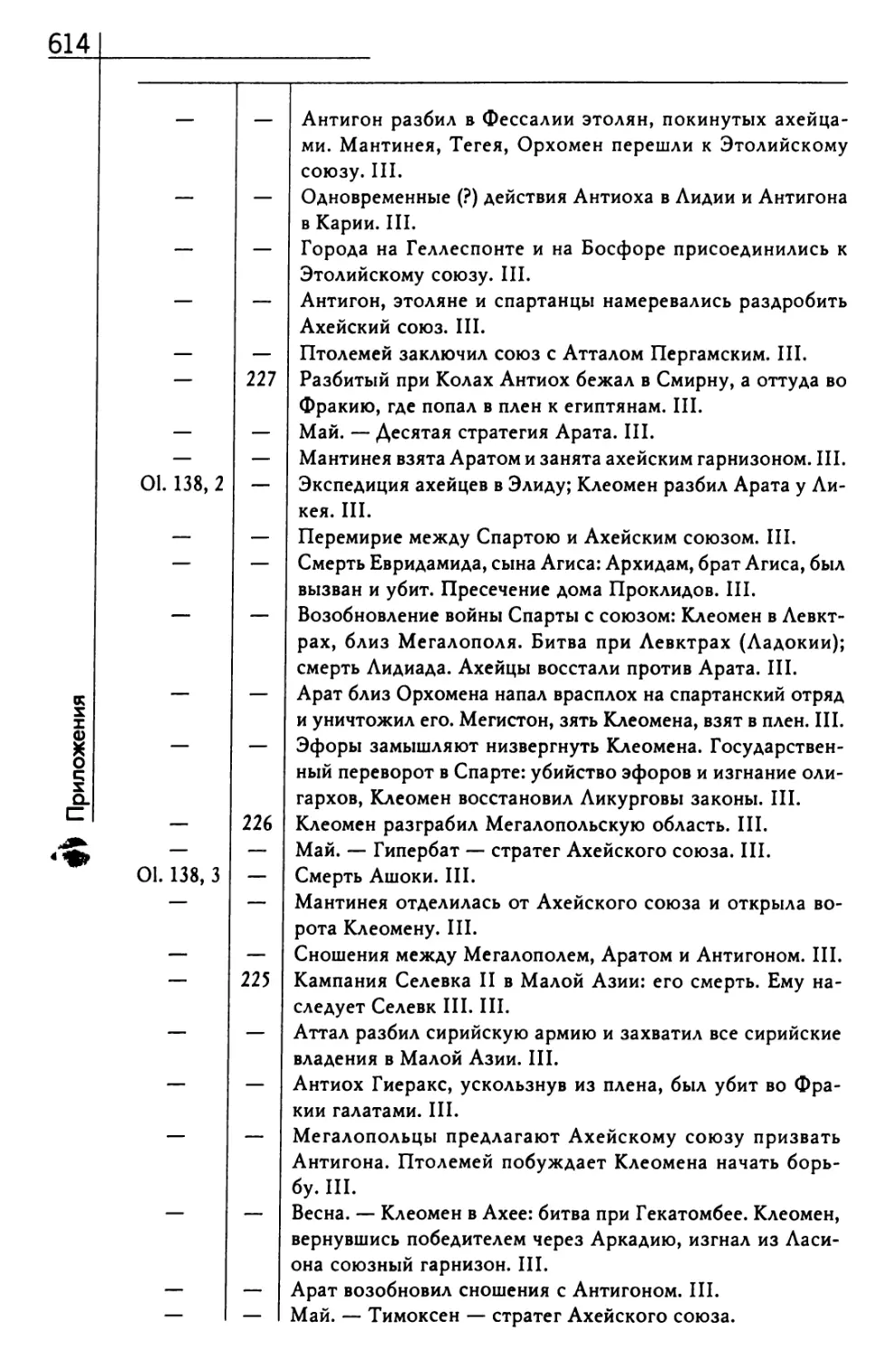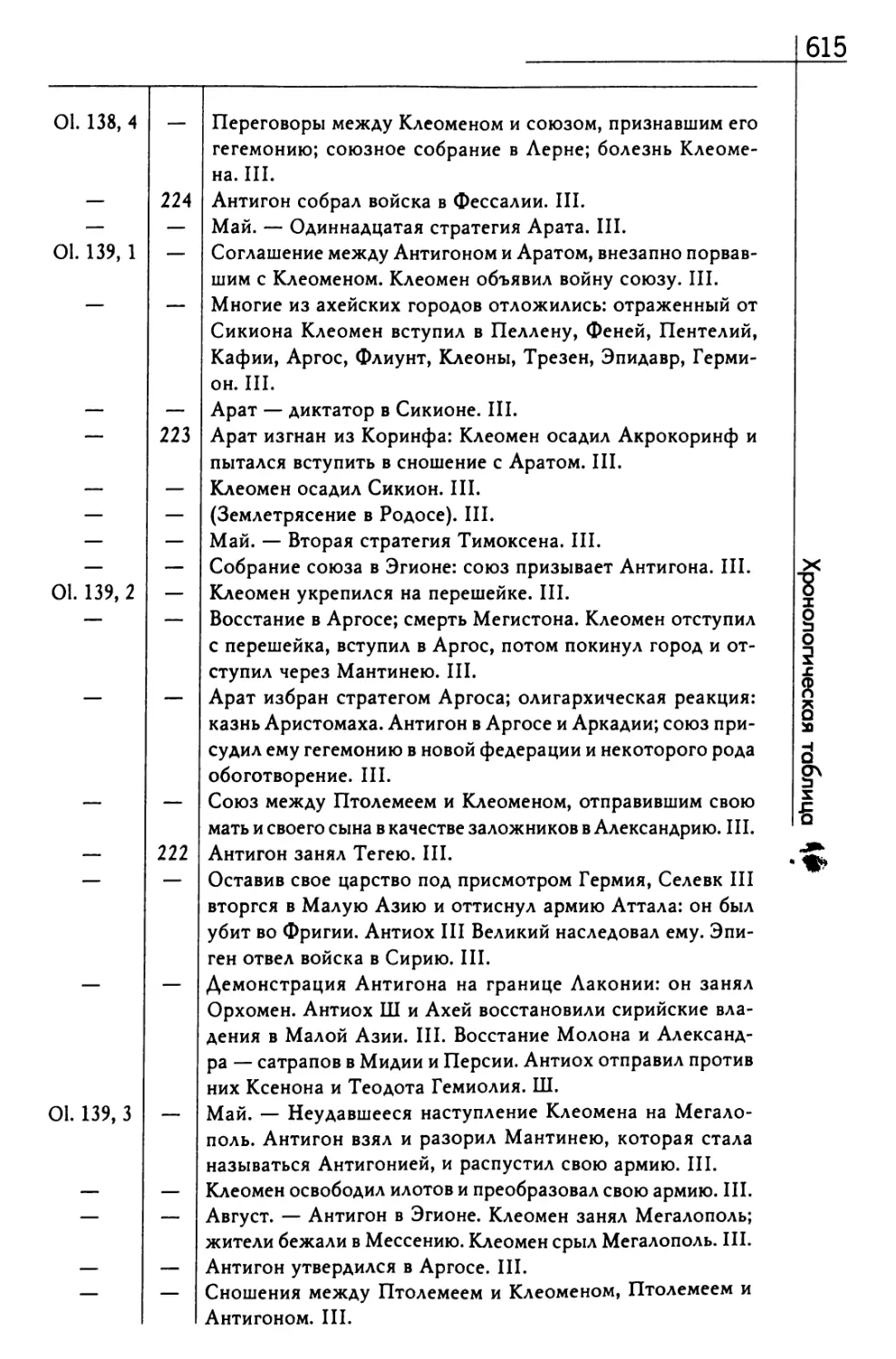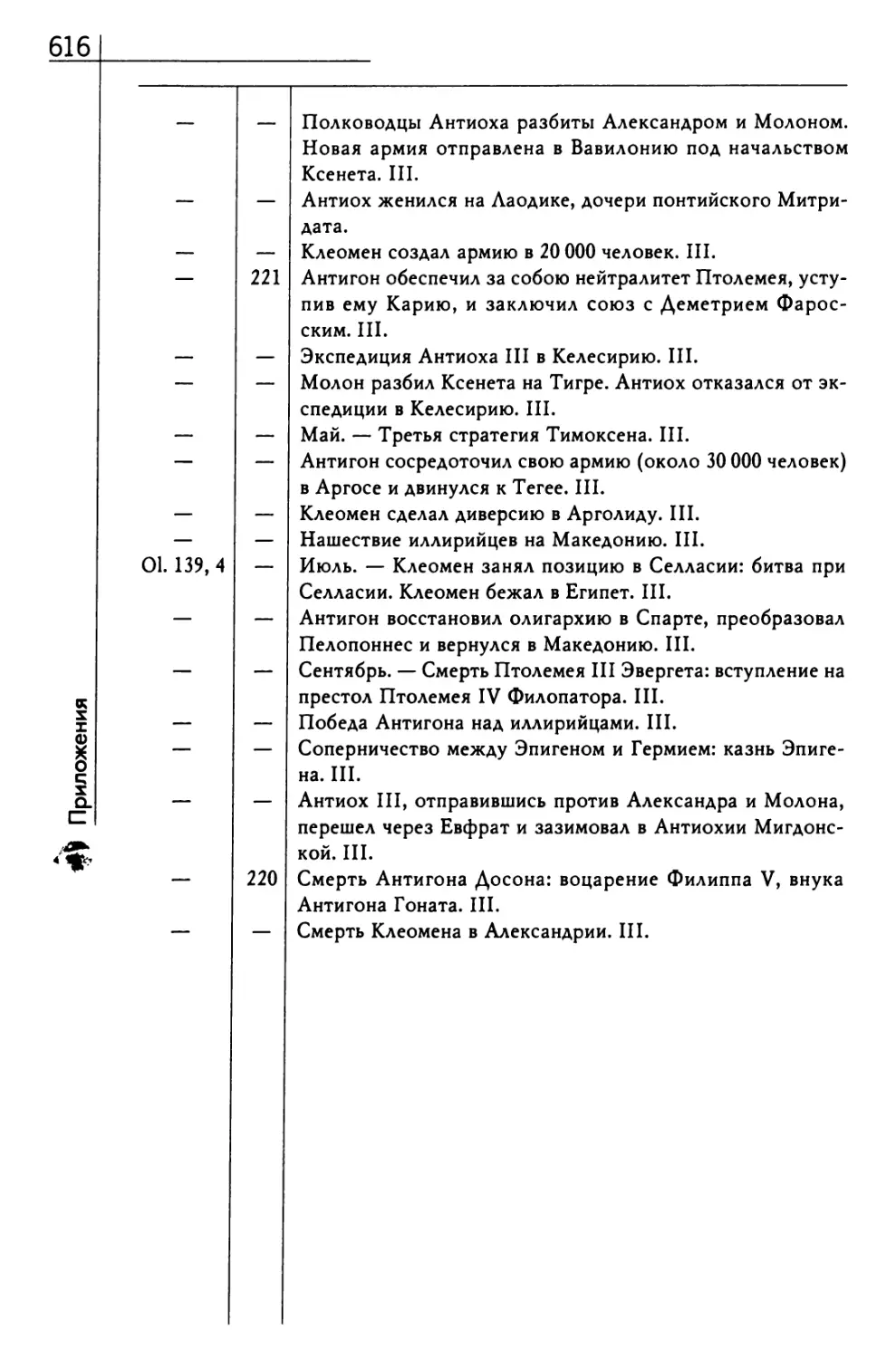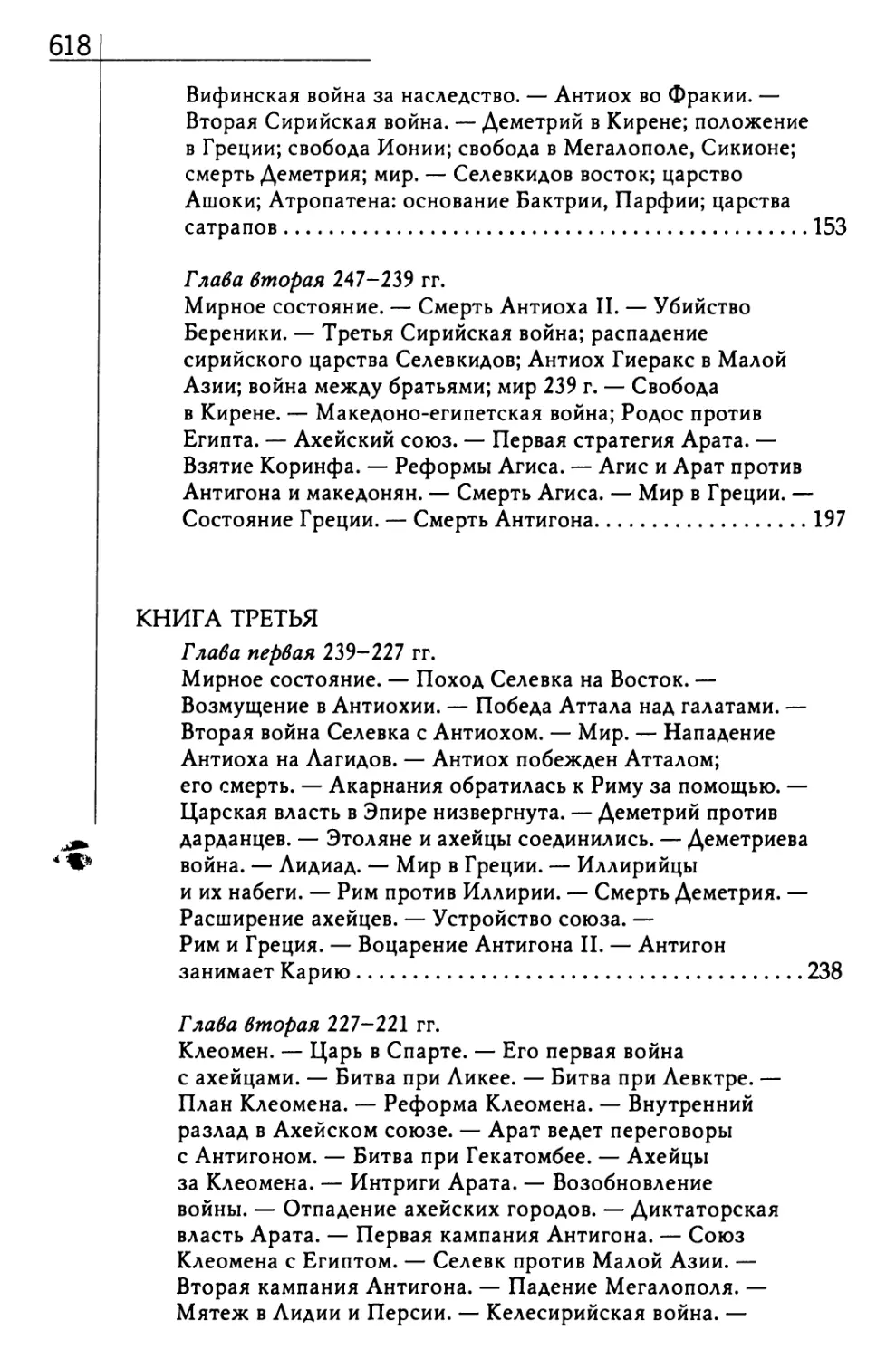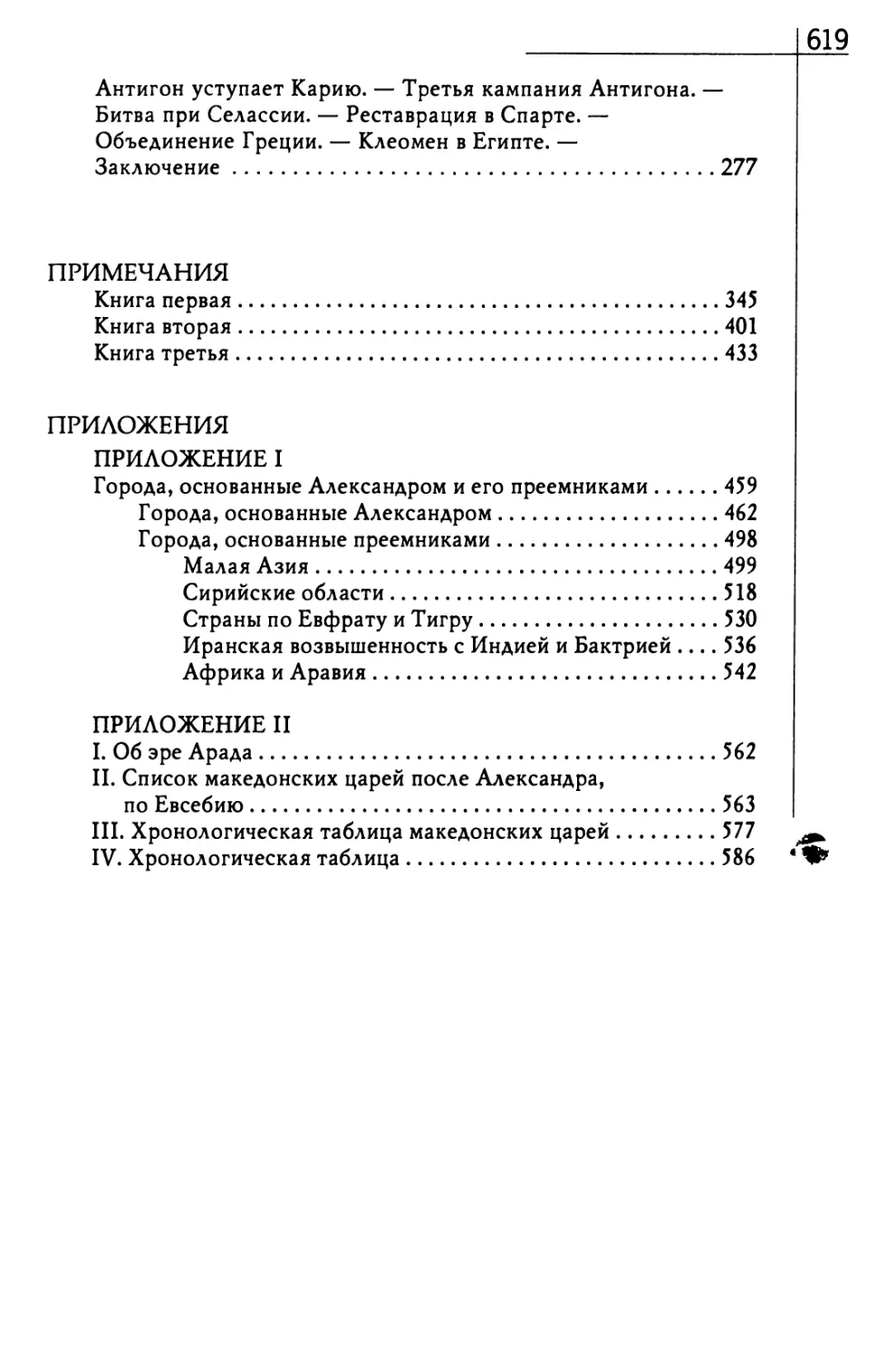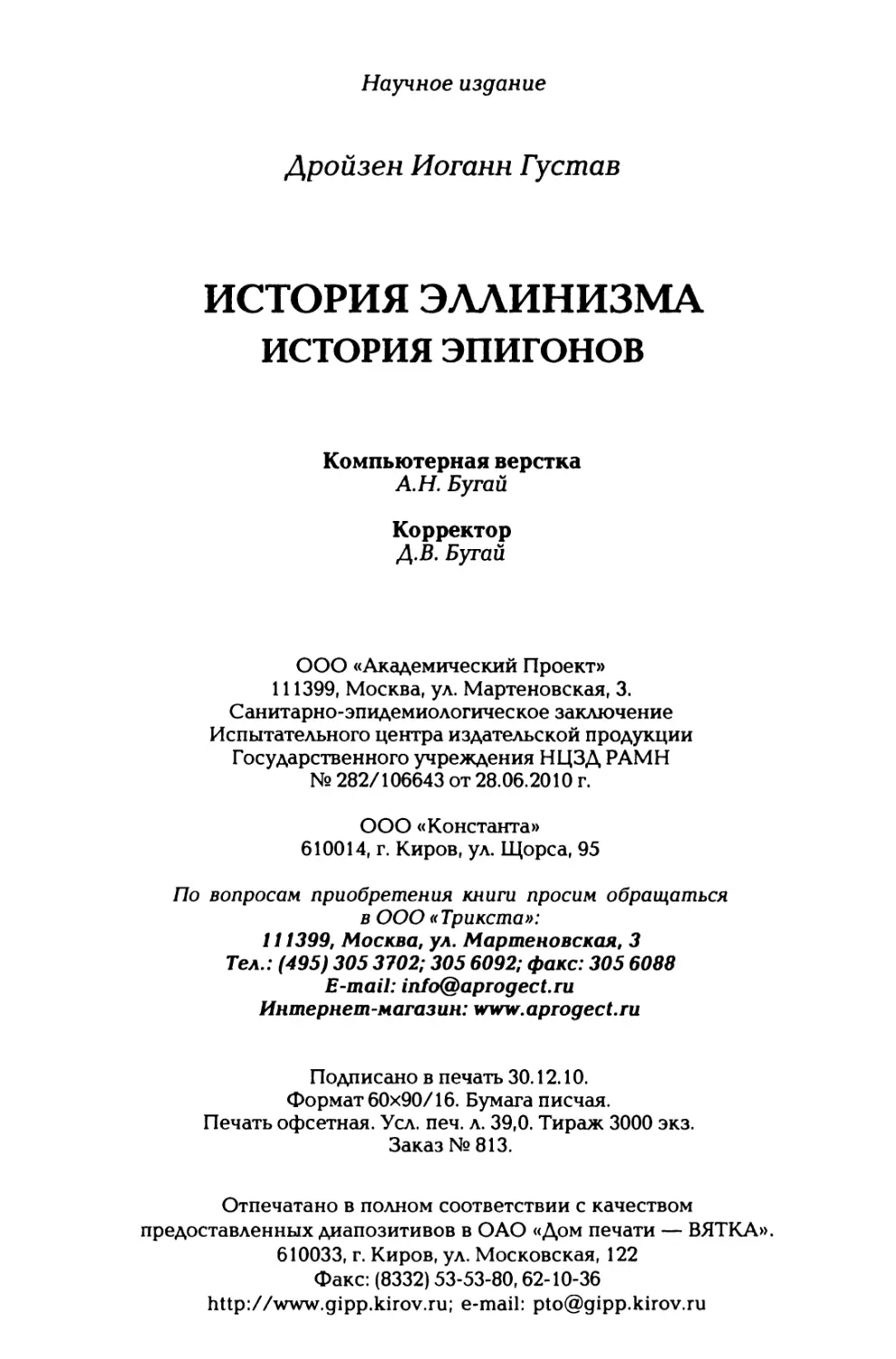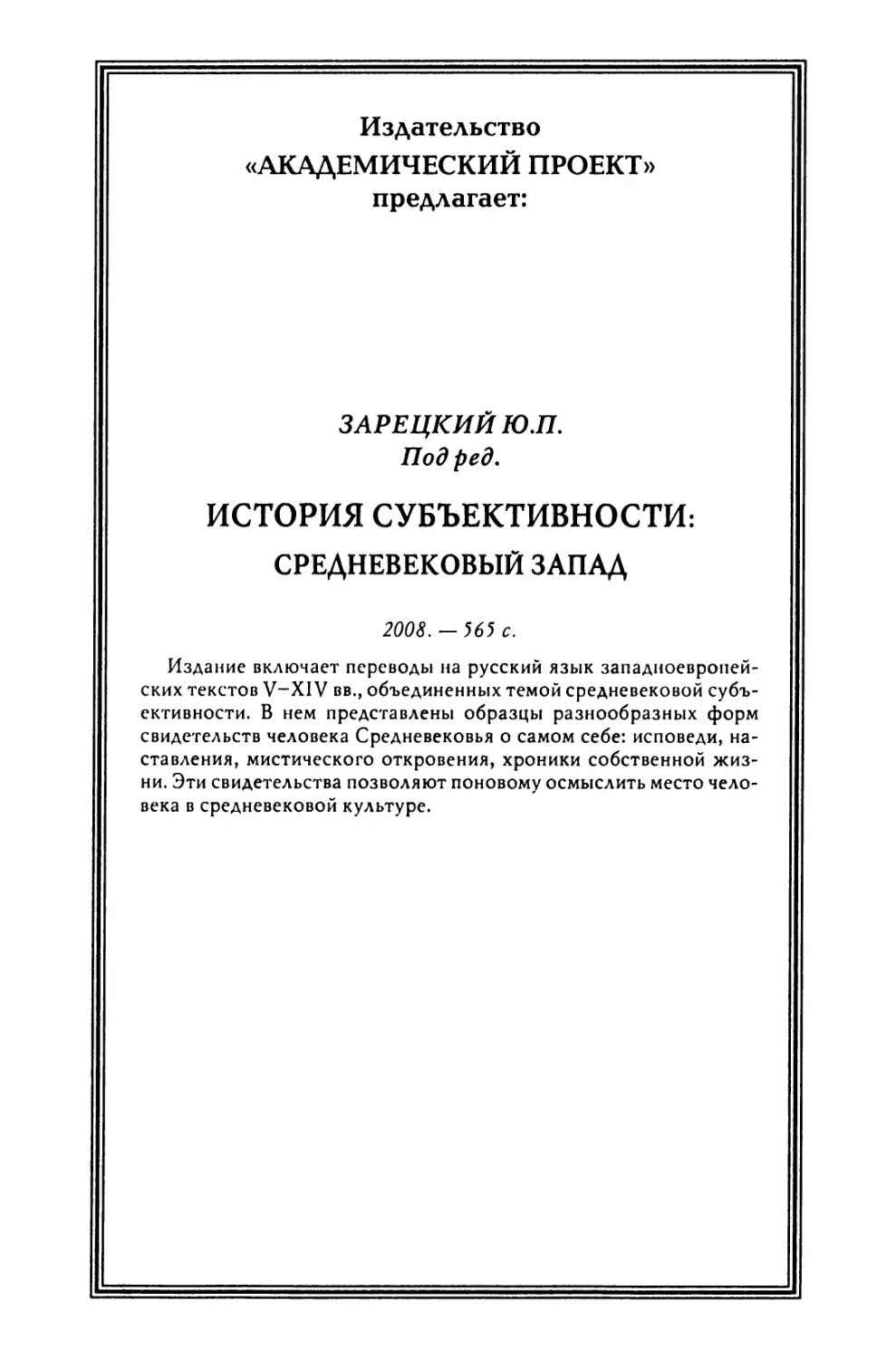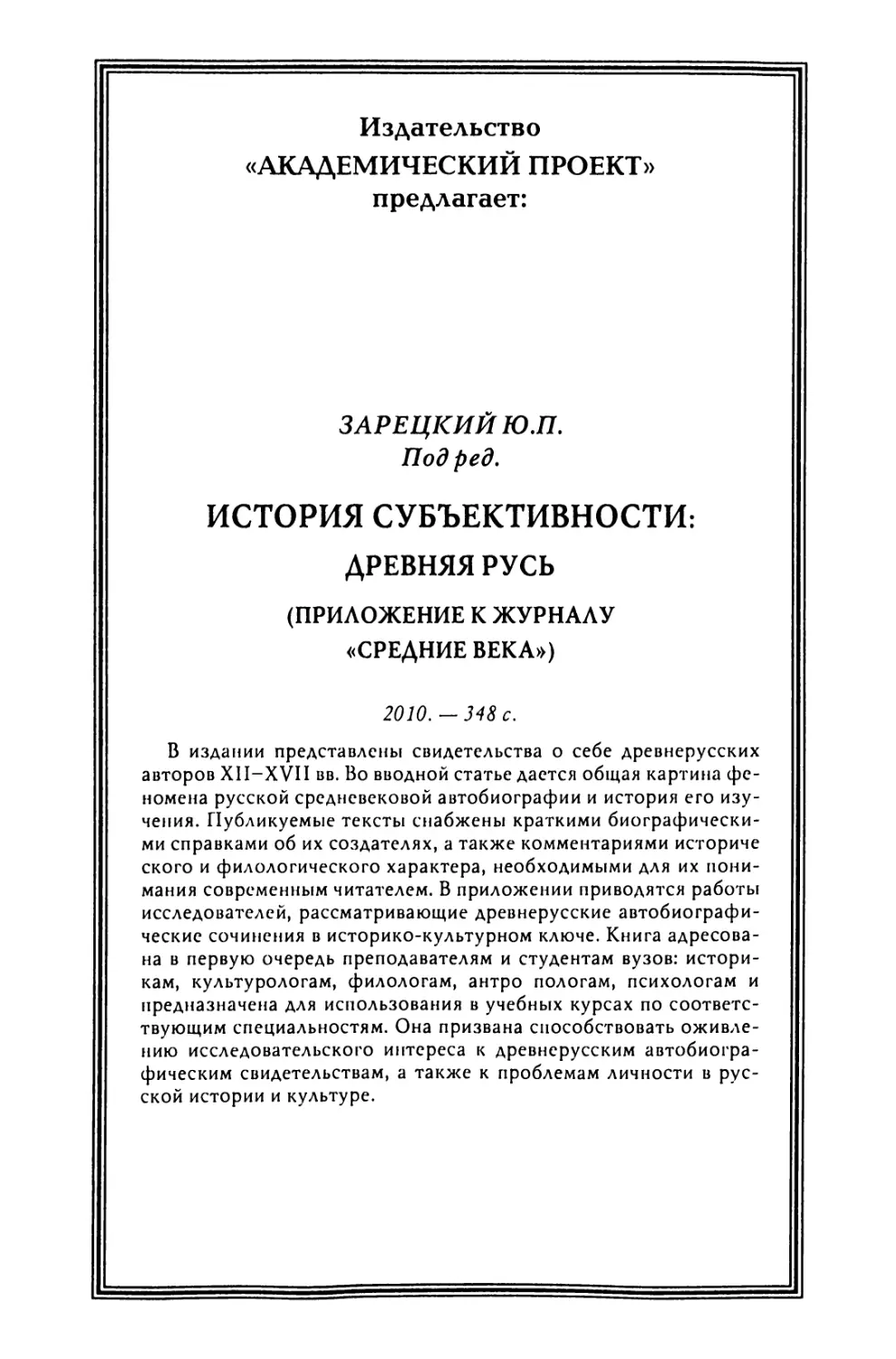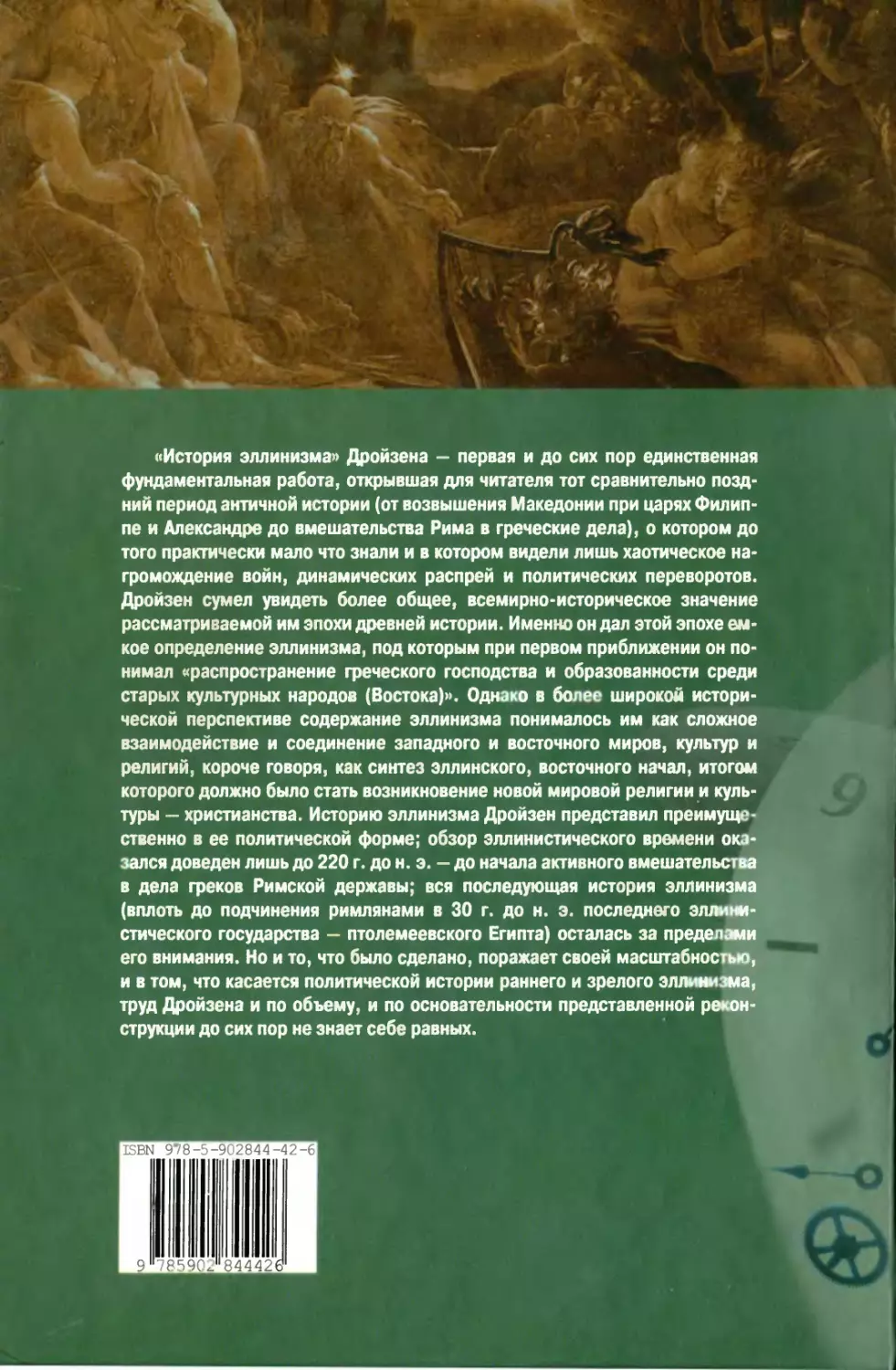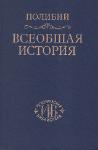Теги: всеобщая история древний и античный мир
ISBN: 978-5-8291-1306-3
Текст
Искюия эпигонов
JOHANN GUSTAV DROYSEN
GESCHICHTE DES HELLENISMUS
GESCHICHTE DER EPIGONEN
И.Г. ДРОЙЗЕН
ИСТОРИЯ ЭЛЛИНИЗМА
ИСТОРИЯ ЭПИГОНОВ
Киров
Константа
2011
УДК 94(3)
ББК 63.3(0)321
Д75
Издано при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«гКультура России»
Дройзен И.Г.
Д75 История эллинизма. История эпигонов: Пер. с нем. — М.:
Академический Проект; Киров: Константа, 2011. — 619 с. — (Тех-
нологии истории).
ISBN 978-5-8291-1306-3 (Академический Проект)
ISBN 978-5-902844-42-6 (Константа)
«История эллинизма * Дройзена — первая и до сих пор единственная фун-
даментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний пе-
риод античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и
Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того прак-
тически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение
войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел уви-
деть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпо-
хи древней истории. Именно он дал этой эпохе емкое определение эллинизма,
под которым при первом приближении он понимал «распространение грече-
ского господства и образованности среди старых культурных народов (Вос-
тока)». Однако в более широкой исторической перспективе содержание элли-
низма понималось им как сложное взаимодействие и соединение западного и
восточного миров, культур и религий, короче говоря, как синтез эллинского,
восточного начал, итогом которого должно было стать возникновение новой
мировой религии и культуры — христианства. Историю эллинизма Дройзен
представил преимущественно в ее политической форме; обзор эллинистиче-
ского времени оказался доведен лишь до 220 г. до н. э. — до начала активного
вмешательства в дела греков Римской державы; вся последующая история
эллинизма (вплоть до подчинения римлянами в 30 г. до н. э. последнего эллини-
стического государства — птолемеевского Египта) осталась за пределами его
внимания. Но и то, что было сделано, поражает своей масштабностью, и в том,
что касается политической истории раннего и зрелого эллинизма, труд Дрой-
зена и по объему, и по основательности представленной реконструкции до сих
пор не знает себе равных.
И.Г. ДРОЙЗЕН
ИСТОРИЯ ЭЛЛИНИЗМА
III
история эпигонов
КНИГА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Географическая основа. — Развитие из местных средств. —
Греческая цивилизация. — Роль Александра. — Основания
городов. — Царство Лагидов. — Царство Селевкидов. —
Индия. — Атропатена. — Малая Азия. — Галаты. —
Македония. — Греки. — Эпир. — Взгляд на прошедшее. — Греки
в Сицилии и Италии
Историческая жизнь древнего мира в пространственном от-
ношении разбивается на две обширные области, середины ко-
торых отличаются друг от друга такими же противоположными
свойствами, как и окраины.
От западного берега Инда и до Армении простирается гро-
мадная возвышенность, пустынная во внутренних покатостях,
окаймленная вообще хорошо орошенными грядами гор, слу-
живших прибежищем для воинственных горцев. Составляющие
окраину этой возвышенности горы на северо-востоке сливаются
с исполинскими хребтами высокой Азии, тогда как на западе
они, как бы скучившись в армянских областях, разветвляются
по направлению к северу, востоку и югу, давая начало хребтам
Кавказа, Малой Азии и Сирии. По покатостям этой Иранской
возвышенности с замечательным однообразием повторяется
гидрографическая система двойных рек с их богатыми низинами;
на западе плодородные области Евфрата и Тигра отделяются
пустынею от Аравийского полуострова; на востоке Инд и Сет-
ледж — главные артерии богатого Пенджаба — также отделены
пустынею от внутренней брахманской Индии. Обе низины, и
индийская, и арамейская, спускаются к морю на юге; на севере
Оке и Яксарт, изливавшие в древности свои воды в более обшир-
ное тогда Каспийское море, текут по бактрийской низменности,
ограниченной с севера пустынею скифских орд; наконец, менее
значительная низина Куры и Аракса втиснута между Арменией
и Кавказом, отделена горным хребтом от Черного моря, спус-
кается к более низкому уровню Каспия. Эти четыре обильные
речные области расположились вокруг мидо-персидской сере-
дины, которая словно естественная цитадель господствует над
окрестными низменностями. Здесь всюду обнаруживается край-
не скудное развитие морских сношений — заносимые песками
устья рек, мелководные моря, песчаные берега препятствуют за-
8
морской торговле в немногих существующих здесь прибрежных
местностях; а там, где встречаются удобные и обильные приста-
нями берега, ими не пользуются; мидо-персидская Азия вообще
отличается континентальным характером.
В ином виде представляется западная область исторического
древнего мира. С возвышенной середины Азии во все стороны
спускаются бассейны рек; а тут, напротив, вокруг открытого гос-
теприимного моря высятся горные хребты то в виде однообраз-
ных африканских возвышенностей, то в обильном разнообразии
эллинских заливов и островов. В Азии цивилизованные страны
отделены друг от друга малодоступною, населенною хищными
племенами, внутри пустынною средою; здесь же все связано с мо-
рем, с передвижением взад и вперед, со взаимными сношениями.
Однако северные берега этой средиземноморской области пред-
ставляются в более разнообразном и более расчлененном виде,
нежели южные, африканские. Здесь, на юге, за выдающимися го-
рами стелется обширная знойная пустыня; она местами простира-
ется до самого берега, а иногда между скал, по дну тесного ущелья
одинокий поток пробивается до мелководного устья; там, на се-
вере, в море выступают острова и полуострова, в материк вдаются
глубокие заливы, и за всем этим вытянулся широкий альпийский
пояс, пересекаемый местами потоками и имеющимися высоко в
§ I горах хорошо проходимыми дорогами; а по другую сторону это-
о. го вала спускаются новые скаты, по которым множество рек сте-
с кают к другим недальним морям, — вот уготовленное поприще
будущего исторического развития. Вышеупомянутая срединная
область на востоке прислонилась к более обширному восточному
материку, лишенному, можно сказать, всякой истории; тогда как
t Средиземное море соединяется с обширным западным океаном,
заливы которого принимают в себя реки расположенных на побе-
режье стран и омывают эти места будущей истории.
Итак, обе области Востока и Запада сильно отличаются друг
от друга. Но в местах взаимного соприкосновения они замечатель-
но переплетаются между собою. Египет и Малая Азия, берега
Сирии и Греции — вот места, занимающие это важное промежу-
точное положение.
На окраине африканских пустынь, в иерархических государ-
ствах египетских фетишей впервые занимается заря исторических
воспоминаний: фараоны победоносно проникли на восток, до
Колхиды и Геллеспонта, о чем до сих пор свидетельствуют древ-
ние памятники; но Египет утратил уже свое величие как только
стала пробуждаться историческая жизнь других народов; Афри-
ка уже не в состоянии была создать из своих недр новое истори-
ческое владычество.
Египет составляет переход в Африку, а Малая Азия — в Ев-
ропу; Египет однообразен и замкнут в самом себе; а Малая Азия
х
9
с ее более разнообразными по очертанию берегами открыта и
доступна; она изобилует внутри горными цепями и плоскими воз-
вышенностями, этим поприщем шумных столкновений народов
между Азией и Европой; она раздроблена между разными племе-
нами, то и дело границы ее колеблются между востоком и запа-
дом, и не в силах она сама собою достичь прочного единства.
Берег Сирии вполне принадлежит Азии, а Греция — Европе;
однако как та, так и другая страна захватывает владычество в про-
тиволежащей области. Пуны в течение нескольких веков господ-
ствуют над Средиземным морем; эти морские бедуины рыщут и
торгуют по всем соседним и дальним берегам; Финикия продол-
жает процветать и развиваться в своих колониях, в Карфагене, в
Испании, на островах, тогда как в своем родном крае она погибает.
А Греция, в свою очередь, распространив с чрезвычайной энергией
и на восток и на запад, по всем окрестным берегам, свое влияние,
простирает свое оружие и свои завоевания до внутренней Иран-
ской возвышенности, водворяется не только на этой высокой
твердыне, но также и по всем окружающим ее низинам, захваты-
вает также Малую Азию, Сирию, даже Египет; из Азии и Африки
она господствует над восточным бассейном Средиземного моря,
точно так же как Карфаген над западным. Тут переплетаются не-
обычайные условия; исконный антагонизм между Азией и Европой
здесь как будто поменялся своими ролями; первобытные свойства, I 5"
естественные данные подчинились результату истории и утратили S
всякое значение. -з
Затем возникает господство Рима над Италией; Рим вклинил- -§
ся между карфагенским западом и эллинским востоком. Когда, | о
наконец, Рим одержал победу над тем и другим, то центральная
твердыня западной Азии также покорена была новым народом;
подобно тому как римляне контролировали бассейн Средиземно-
го моря, так и парфяне стали владычествовать над территорией
от Инда до Армении. История вновь распределилась между теми
же обширными областями; но их население изменилось: с севера
нахлынули германцы, а с юга аравитяне, и совершенно перемес-
тили центры тяжести исторической жизни.
Таковы в самых общих чертах географические условия, служив-
шие основою древнеисторического развития во всем его составе.
Однако географические данные, местные особенности существен-
но изменили ситуацию и в другом отношении — от них зависел
языческий характер древности.
Заглянув в прошлое, мы в рассматриваемых нами областях
застаем народы, отдельные племена в совершенном разобщении,
независимыми друг от друга, занимающими строго ограниченные
области; они как будто оставляют продукты такого-то края, та-
кой-то почвы, как бы органически срослись с нею; человеческая
жизнь, сливаясь все еще с жизнью природы, заимствует от нее свой
20
склад, свой тип. Кто опишет первое пробуждение духа? Он заяв-
ляет о себе уже в первом слове; в самом звуке этого слова чувству-
ется таинственное сходство с обозначаемым им предметом; он
создает вокруг себя свою собственную сферу бытия. Таким путем
дух, притворив в себе эту окружающую его природу, осваивается
с нею. Но пока она одна только составляет источник его приобре-
тений, цель его стремлений. Представляемым ею опасностям, воз-
буждаемым ею потребностям отвечают также средства, какими они
преодолеваются; природа определяет пищу, образ жизни, обычаи;
она служит почвою, на которой развивается дух, материнским его
лоном, от которого он порывается на свободу. Откуда бы ни воз-
никло чаянье высших небесных сил, он приурочивает их к извест-
ному месту, образу, бытию. Эти силы проявляются в творческой
деятельности природы, там созерцаем мы их, откуда заимствуем
их имя, их образ; сами по себе они не что иное, как выражение,
как слово для этой природы, для окружающей нас родной среды.
Это те силы, на которых основывается строй жизни, цивилиза-
ция; они издали законы, создали государство; последнее, как и
всякая особь, состоит под их покровительством; культ, соединяю-
щий верующих в эти силы, проникает не только в жизнь частного
лица, но в государственный закон и в социальный строй. Таким-то
образом к местной замкнутости присоединяется еще самая тесная
§ I связь государства с религией; чем, наконец, и завершается стро-
о.| гое сосредоточенное объединение каждого народа в отдельнос-
ти. Предоставленный самому себе, в пределах своего родного края,
благодаря присущей ему на родной почве развившейся способно-
сти, этот народ вырабатывает непосредственную, ничем еще не
связанную судьбу своего собственного, от природы предоставлен-
ного бытия. Изучить, усвоить, выразить эту природу, составляю-
щую его принцип, — вот в чем заключается его история. От таких
начатков далеко еще до идеи об едином обнимающем все народы
человечестве, об едином царстве, которое не от мира сего, — до той
идеи, полным выражением которой служит явление Спасителя!
Вот та цель, к которой стремится развитие древнего языческого
мира, вот с какой точки зрения следует постичь его историю.
Древней эпохе надлежало преодолеть разобщение народов,
высвободиться из-под местных, естественных условий, заменить
национальное развитие личным и вместе с тем общечеловеческим.
Падение язычества — вот высшая цель, которую древность в со-
стоянии была достичь своими собственными силами.
Все без перерыва, с возрастающим напряжением стремится к
этой цели. На Востоке перед нами один народ за другим выступа-
ет на поприще истории; он нападает на своих соседей, побеждает
их, владычествует некоторое время, а потом сам подчиняется вла-
сти нового, более сильного врага; наконец, персы покоряют весь
исторически сложившийся Восток. Стремление к более и более
х
11
высоким принципам встречается не исключительно у одного ка-
кого-нибудь народа; каждый из них проходит предназначенное
ему от природы поприще. Потом, совершив свой подвиг, окружен-
ный богатым достоянием национальной культуры, искусств, наук,
самопознания, он подпадает под власть другого народа, наделен-
ного от природы более высоким принципом и призванного поэто-
му к владычеству. Но постольку, поскольку тот высший принцип
сам по себе оказывается лишь национальным, он не в состоянии
вполне охватить и возвысить покоренных, а может только пора-
ботить их и держать в повиновении. Персидская Азия составляет
единую державу, но единство ее заключается лишь в самом госу-
дарстве и в орудиях его власти; а племена сохраняют своих богов,
свой язык, свои обычаи и законы, однако все это подвергается
презрению и не более как лишь терпимо; национальная независи-
мость, воинская доблесть, внушаемая родным краем самоуверен-
ная гордость — все это утрачено; а в этом-то для порабощенных и
заключается их последнее, им присущее благо; оттого-то они так
цепко и держатся за него.
И как изменилось все это! Сама по себе сокрушилась вся внут-
ренняя жизнь народов. Ведь они возникли благодаря тесной свя-
зи религии с государством, Бога с миром. А теперь эти два начала
расходятся; прежнее государство разрушено; народы не отре-
каются от божества, но мир не заключается уже в нем, он суще-
ствует без него, он перед ним одно лишь ничтожество. С распадом I S
исконного священного государства на развалинах иерархии воз-
никает акосмизм — именно то отрешение богопознания от мира,
которое не что иное, как выражение немощи и скорби. | 8
Но это возникло не вследствие одного такого распада. Пре-
обладание персидского начала заключалось, можно сказать, в том, *Щв
что почином его и принципом было разъединение религии с госу-
дарством, так что государство перестало быть жреческим, а хоте-
ло быть царским; при этом мир признается предметом стяжания
для царства света, а человек становится сотрудником божества.
Суровые, воздержные, мужественные, неутомимые в деле распро-
странения царства света, персы пустились завоевывать мир; это
была первая нравственная сила Азии, и никакой народ Востока не
был в состоянии воспротивиться ей.
Греческий мир положил ей конец. Тут стала развиваться иная —
богатая, своеобразная — сфера жизни, почти во всех отношениях
совершенно противоположная Востоку.
Пространство, на котором располагался греческий мир, во-
все не велико; но какое разнообразие форм, какая пестрая смена
поморья и материка, долин и гор, твердой земли, заливов и остро-
вов; тут, по соседству друг с другом, встречаются разнородные
местные виды, самые резкие переходы естественных условий. Все-
му этому отвечает также и население, масса мелких племен; неза-
висимые и резко отделенные друг от друга, крайне подвижные,
они находятся в постоянной распре и борьбе друг с другом; руко-
водствуясь в образе жизни, действиях и помыслах исключительно
своеобразными местными особенностями, они подчиняются им
вполне. Эта родная им природа является не в виде ничтожества;
напротив, в ней живет и зиждется божество, оно составляет ее
жизнь, ее откровение, ее личность, несметный сонм божествен-
ных образов, разнообразных, как и те мелкие племена и общины,
что поклоняются им. При всем том, во всех этих племенах, в их
местных культах и обычаях, в различных диалектах существует
некоторое сродство; соседство, неминуемые сношения с соседни-
ми племенами побуждают к сближению и взаимному соглашению.
Божества разных племен и мест стали слагаться в группы богов;
священные сказания, соединившись, слившись друг с другом, стали
представляться в новых сочетаниях. И по мере того как смутный
символический характер древних местных естественных культов
уступает нравственному началу, идея о всеобщей эллинской на-
циональности все решительнее возносится над партикуляризмом
мелких племен и местных диалектов. Около того времени, когда
стало возникать персидское царство, эта идея пробудилась уже,
хотя и не успела еще сложиться окончательно.
Греческие племена, как оказывается, с самого начала уже
вышли из-под влияния естественных условий, которыми скован
8_| был древний Восток. Они отнюдь не замыкаются в касты, и культ
с богов у них не присваивается особому жреческому сословию; у
2 них нет священного писания, которое служило бы основою, а
х также и пределом их дальнейшего развития; у них нет ни иерар-
хии, которую пришлось бы поддерживать как слепок божеского
%- строя, ни общей царской власти, которая могла бы вести их да-
лее по пути развития. По мере того как их миросозерцание ста-
новится шире и свободнее, преобразуются также их религиозные
идеи, и все сильнее и сильнее возникающие личные свойства на-
чинают преобладать над местными обычаями, над нравами пред-
ков. Народы Востока неизменно коснеют в известных пределах,
тогда как греческая жизнь отличается подвижностью, разнооб-
разием, изменчивостью и способностью преуспевать согласно
внутренним предопределениям. Какая неутомимая деятельность,
какие смелые предприятия и порывы проявляются тут всюду, по
всем направлениям; и своеобразный эллинский отпечаток обна-
руживается не только в том или другом месте, не только в той
или иной форме — Сицилия, Иония, дорийцы, острова — все они
принимают участие в общем деле; все они, соединившись вместе,
составляют греческий мир, тот мир, что, толпами стекаясь на
праздник Олимпийского бога, любуется играми и самим собою.
А в чем состоит их общее дело? Это то, что в Греции впервые
появилось на поприще истории и достигло там чрезвычайного
могущества; это есть выражение именно того поступательного
движения, которое, опережая действительное, настоящее и реаль-
ное состояние, постоянно стремится постичь, выразить, осуще-
ствить на практике идеальную цель, с тем чтобы потом, начиная с
преобразованных таким образом действительных состояний, сно-
ва стремиться далее. Назовем это цивилизацией.
В эпоху, когда возникает могущество Персии, эта цивилизация
переживает важный кризис. Эпическая песнь в поэзии и мифах
переросла естественную основу эллинских религий и сделала ее
неузнаваемою; силы природы и их действия преобразились в ге-
роев с их подвигами и страданиями; в мифологии, отчасти также в
религии утратилась связь божеских властей с действительностью;
а пробудившееся умозрение стало в то же время собирать эти
мифы в виде внешней истории и, обсуждая их, искать вместе с тем
утраченную связь вне области религии. Тогда возникла проза:
стали описывать народы и их прошедшую жизнь; возникла на-
турфилософия ионийцев; Пифагор в мистерии чисел и количест-
венных отношений открыл принцип вещей; элеаты доказывали
небытие всего существующего. Поэзия в то же время обогати-
лась новым видом — драмою; все те образы, которые из прежних
религиозных понятий в эпических песнях преобразовались в
типы восторженной фантазии, драма представила зрителю, во-
площая их непосредственно в действующие и страдающие лич-
ности; она проходит весь цикл священных легенд, но группирует
и преобразует их согласно новым воззрениям и этическим усло-
виям; она как на следствие всего этого указывает на древние рели-
гиозные учреждения, на храмы и празднества богов, на исконные
зачатки городов, племен и народов; всему, что существует и во
что веруют, она придает новый смысл, отвечающий требованиям
более развитого сознания.
И в самом деле, все это уже достигнуто. Все существующее
признается не потому только, что оно существует; необходимо,
чтобы сознавалось его право существовать и заявлять себя; софис-
тика стремится распространить это требование на все виды действи-
тельности, исследовать конечные причины и цели. В политическом
отношении тот же принцип осуществляется в демократии Афин,
решительно наперекор Спарте и ее основанной на коснеющих
обычаях организации. Эллада разбилась на два лагеря — «за» и
«против» этого движения; возникает борьба, которая впервые в
истории восстанавливает не просто народ против народа, толпу
против толпы, но самые принципы один против другого. Афины,
по-видимому, потерпели поражение, но идеи новой эпохи неодо-
лимо распространяются всюду; демократия, просвещение, крити-
ческие исследования господствуют в эллинском мире.
Эллинские государства, правда, существуют еще в разнооб-
разных видах, исполненные обычаев, связанные с культом мест-
ных богов; все это древние, фактические лишь организмы; всюду
государство существует лишь в форме «города», общинная и го-
сударственная системы не отделяются друг от друга. Но над ними
господствует политическая теория, пытаясь преобразовать дей-
ствительность, от которой она так сильно уже отклонилась, про-
никая в разные места, достигая временных успехов, в Критие,
Эпаминонде, Дионе. Вместо старинных городов с их закоулками,
удовлетворявших в свое время потребностям жителей, возника-
ют новые с прямыми, широкими улицами и правильными кварта-
лами; точно так же и в дела правления начинают вторгаться новые
рациональные моменты. Это был самый замечательный переворот
в развитии эллинизма. Не следует превратно понимать эту эпоху;
все, что нам представляется основою государственной системы,
свобода и право личности, — все это предстало в греческом мире
как порча доброго старого времени. Тогда само собою разумелось,
что отдельные личности существуют только ради государства и
благодаря ему, они всецело растворяются в нем; вне государства
они лишены самостоятельного существования; о частных, о чисто
человеческих отношениях еще и речи нет; грек той эпохи был
гражданином. Потом возникает крутой переворот — софистика,
а впоследствии и демократия противопоставляют личное право че-
ловека гражданскому, личный интерес государственному; госу-
дарство не властно более признавать вполне и всецело своими тех,
кому достаются лишь его почести и обязанности. И при всем том
это государство не в состоянии добиться чисто территориально-
го превосходства. Из жителей страны одни только родовитые,
урожденные ее граждане, как прежде, так и впоследствии, прини-
мают участие в самодержавной власти, в верховных правах, зача-
стую в доходных почетных должностях. С гражданским званием
перестали уже отождествлять воинскую повинность; защита
отечества предоставляется наемникам, и политика этих респуб-
ликанских государств обусловливается личными интересами при-
вилегированных граждан, боязнью чрезвычайных повинностей,
особенных усилий, возможных восстаний подчиненных, которых
продолжают беспощадно и своекорыстно угнетать. Везде ощу-
щается противоречие между обычными отношениями и более
зрелым сознанием, между прежними политическими порядками
с их принципами и новыми теориями с их требованиями; госу-
дарства, как внутри, так и вовне, отрешились от своих прежних
основ, не усвоив себе новых; это исполненное тревог и немощи
состояние служит зародышем новой эпохи. Эта новая эпоха пы-
тается усвоить теорию; она сознательно возвращается к старым
основам государственного строя. Государство по-прежнему
становится тем началом, ради которого и благодаря которому
существуют отдельные личности. Но так как оно признает себя
и стремится быть всеобъемлющим началом, то и становится влас-
тью, превышающею признанные уже права отдельных лиц, отвле-
ченным понятием, господствующим над гражданским обществом;
оно не слагается уже из свободного и деятельного соучастия всех,
а стремится осуществить себя в немногих особях или в одном лице,
подчиняя остальных известным уставам; занимающиеся низкими
промыслами не должны приниматься ни в какие ведомства, ни в
суды, их следует считать несовершенными гражданами; труд сле-
дует распределить не только относительно необходимых потреб-
ностей жизни, но также относительно управления государством
и военной организации. В таких-то и тому подобных предложе-
ниях Аристотелевой Политики проявляется преобразованный
способ воззрения той эпохи; требуется ввести отделы в прави-
тельственных учреждениях, в которых естественные различия
сами по себе не имеют уже никакого значения; миновало время,
когда «город» был крайнею политическою единицею, так ска-
зать ячейкою государственного организма, а по демократичес-
кому характеру эпохи в связи с лишением прав рабов и инородцев
оказывается невозможным ввести новые органические образо-
вания в самом гражданстве; при всякой попытке подобного рода
вместо сословий возникают партии. Выведенная из отживших
исторических состояний теория никого более не удовлетворяет;
возникшие потребности понуждают обратиться к иным сред-
ствам. Новые тенденции направили свою энергию к противопо-
ложной стороне; вышеупомянутые политические единицы сами
должны подчиниться более обширным, всеобъемлющим совокуп-
ностям; от городского управления следует перейти к государствен-
ному, в пределах которого первое становится лишь общинною
самостоятельностью, пользуясь, впрочем, во всем составе госу-
дарства правом и гарантией.
Достичь этого, казалось, можно было двумя путями — при
посредстве или федеративной или монархической организации;
вот два принципа эллинистической эпохи. Федеративное направ-
ление с возникновения Греции обнаруживалось, правда, уже в
самых разнородных видах; однако раздробляющий и разобщаю-
щий характер развития греческих городов расторг амфиктионии
и все праздничные и племенные союзы; а иногда казалось невоз-
можным согласовать свободу отдельных политий с требования-
ми союза, или союзное отношение подавало повод к гегемонии
какого-нибудь отдельного города, вследствие чего равноправ-
ность заменялась господством и подданством; так, между про-
чим, происходило с Афинами при Перикле, Спартой с той поры,
как она победила афинян, с Фивами во время их подъема; даже
вторично составленный Афинами союз был лишь попыткой опять
добиться утраченного господства в ущерб новым союзникам.
Всякое вновь возникавшее властолюбие возбуждало все новые
мятежи; между государствами помимо договора не существова-
ло иного права, а именно вследствие отсутствия международно-
го права Греция распалась на мелкие части.
Монархические тенденции добились уже более твердой орга-
низации. Им также предшествуют начатки в древнейшей эпохе
Греции; после падения героической царской власти они возника-
ли то тут, то там в зародышах демократического движения, всего
сильнее и прочнее в Сицилии. Но все это были лишь переходные
образования; тиран был не что иное, как первый, самый богатый и
наиболее мощный из граждан. Основать то, что Аристотель на-
зывает всецарством (naiLfiao-iXeia), возможно лишь тогда, когда
государство в качестве державы находится во власти одной лич-
ности; Алкивиад чаял такую организацию, старший Дионисий
пытался осуществить ее, Фессалия последовала за этими новыми
стремлениями. Но они могли исполниться лишь в издревле наслед-
ственном македонском царстве, где никакие городские политии
не изменяли старинного народного строя.
Тут обнаружилось замечательное обстоятельство. Оба пути,
монархический и федеративный, как казалось, готовы были со-
единиться. Филипп покоряет раздробленные силы Греции, потом
вновь возбуждает прежнюю вымершую амфиктионию, соединяет
греческие политии в коринфском синедрионе и заставляет при-
знать себя главным полководцем соединенных греков; самостоя-
§ I тельные внутри, они должны объединиться на борьбу с варварами;
о_| наконец-то, кажется, великий антагонизм единства и свободы
готов примириться. Однако власть Филиппа и Александра была
2 I чересчур сильна, так что внутренняя самостоятельность городов
х подвергалась опасности, а партикуляристический порыв в них был
слишком могуч, и города воспользовались первым представив-
%.- шимся случаем, с тем чтобы расторгнуть союзный договор. Как
опустошительны были войны Греции в эпоху диадохов; то и дело
раздается воззвание к свободе; но с той поры как Греция отвергла
единство, это последнее свое убежище и спасение, у нее не стало
более пристанища; от старинных рассеянных политии не осталось
ничего, кроме немощи и грустного воспоминания; жизнь Греции,
казалось, окончательно вымерла. Однако от корня высохшего де-
рева, как выражается один древний автор, пошли новые ростки.
Известные федеративные тенденции осуществляются, наконец, в
Ахейском союзе; равноправность союзных городов, верховная
власть в сообществе всех вместе и общинная самостоятельность
каждого из них — вот главные постановления в этом союзном го-
сударстве; в противоположность прежних времен этот союз всего
полнее осуществляет в некотором отношении политическое раз-
витие новой эпохи.
С другой стороны стоят монархические тенденции. Благода-
ря завоеваниям Александра в Азии они успели развернуться на
просторе, а вследствие быстрого распадения его царства стали
слагаться в различных видах. Тотчас по его смерти литература
изобилует сочинениями о царской власти; теория многосторонне
исследовала эти новые организации, она господствовала над про-
изведениями исторической фантазии в ту эпоху. Царская власть
во главе национального войска, стратегия высокообразованного
греческого мира — вот какими средствами достигнуты завоева-
ния Александра; македонское оружие и греческое образование —
вот главные точки опоры новых государств. Бесконечное разно-
образие прав, учреждений, образований, культов подчиняется но-
вому интересу государства; не вытекая из них, не связанное с ними
естественным путем, государство господствует над ними в своем
обособленном и замкнутом положении; окруженное другими в
таком же роде основанными державами, оно в сношениях с ними
руководствуется династическими и территориальными интереса-
ми, основывает свое право на взаимном признании и на обоюдной
гарантии. Эти царства опираются на постоянные войска, пред-
ставляют внутри и вовне единую правительственную власть, при-
своившую себе все права и средства подданных; они управляются
центральной администрацией, исходную точку которой состав-
ляют двор и кабинет царя. А сам царь, служа олицетворением этого
государства, составляет предмет благоговения и культа, как неког-
да городские божества, в которых древние политии олицетворяли
идею государства и которых чтили как действительную власть.
Так возникла совершенная противоположность между государ-
ственным и религиозным началами, которые некогда совершенно
сливались.
Вот до чего уклонилось, наконец, от своих начатков эллин-
ское государство; оно не походило уже само на себя; однако путем
собственного своего развития оно преобразовалось в эти элли-
нистические формы. Миновало время, когда человек мог быть
только афинянином, спартанцем, тарентинцем, только граждани-
ном; поприще частной жизни стало возможным, и учение Эпикура
служит выражением и содержанием изменившегося настроения.
Прежняя исключительность исчезает даже в более широких еще
размерах. Вначале ревниво обособлялись мелкие и мельчайшие
городские области; гражданин соседнего города считался чуже-
странцем, врагом, если только особые договоры или священные
союзы не обеспечивали мир. Потом пробудилась идея общего
греческого начала; тогда тем резче стала ощущаться противопо-
ложность между греками и варварами; даже Аристотель еще за-
являет, что они рождены быть рабами1; он советовал Александру
обращаться с греками как полководец, а с варварами как госпо-
дин, о первых печься как о друзьях и родных, а с последними по- |
ступать как с растениями и животными2. Однако и этой последней,
от природы установленной противоположности суждено было I
разрушиться. Александр положил пояиц великому делу; «Он»,
18
говорит один древний писатель3, «всем повелел считать своим род-
I ным городом мир, его акрополем — лагерь, родственниками всех
доблестных, а чужестранцами — дурных людей ». «Много прослав-
ляемый план республики Зенона, основателя стоической школы»,
говорит тот же автор, «сводится к следующему принципу: нам не
следует более жить в разобщении по городам и весям, наделен-
ным особыми исключительными правами; напротив, мы должны
всех людей считать своими односельцами и согражданами, и все
должны пользоваться одинаковою жизнью и одинаковым урядом,
подобно совместно пасущемуся, на общем выгоне питающемуся
стаду». У народов, как у греков, так и у варваров, впервые возника-
ет понятие об их сообщности; различные государственные организ-
мы, взаимно признавая друг друга, впервые вступают в сношение
на всеобщей основе; появляются начатки государственной систе-
мы, влияние которой стало простираться за пределы эллинского
мира, пока оно не встретило преграды в универсальной тенден-
ции римской республики и не сокрушилось окончательно.
Параллельное этому развитие, подобная наклонность гречес-
кого мира стать всеобщею силою, под властью которой слились
бы народы всего света, — вот что обнаруживается по всем направ-
лениям.
Религии, как мы видели, служили самым существенным вы-
g ражением различия между народами и племенами. Они с ранних
о. пор нигде не проявлялись в таком пестром разнообразии, как у
с эллинов. Чаяние бытия и действия божества, потребность в со-
2 чувствующем нам промысле божием, созерцаемом прежде всего
х в природе — все это выразилось в священных историях, анало-
гичных человеческим делам и скорбям событиях. Потом началось
• V известное слияние племен, распространение эллинских колоний,
приурочение к новым местам; благочестивое чувство везде откры-
вало источник новых религиозных настроений; оно благоговейно
присоединяло их к своим исполненным жизни верованиям и, пыш-
но разрастаясь, развивалось и разветвлялось все далее и далее.
Но вследствие такого избытка пробудилась потребность про-
верить эти религии. Согласуются ли между собою все эти истории,
эти генеалогии и теогонии? Изложенные по аналогии с человечес-
кими событиями, они исследуются, испытываются, проверяются
таким же мерилом; прагматизм начинает разрешать историческую
сторону религии; священные некогда истории оказываются игрою
воображения, привлекательными поэтическими образами, пригод-
ными для новых поэтических целей и способными к значительным
изменениям. Прежде они служили человеческим выражением все-
го, что люди видели и как они это видели, выражением мира в том
виде, как его постигали. Но удовлетворительно ли отвечают они
на вопрос о причинах бытия? Натурфилософия выходит уже за
пределы древней космогонии, она исследует принципы мира, а
19
вместе с тем и богов, она открывает духовную силу, образующую
сущее вещество. Скоро, однако, натурфилософия также отрину-
та; бытие признается несуществующим; одно только это сознание
считается достоверным. Люди готовы уже отрицать богов, а вместе
с ними отвергать все, что признается их уставом или учреждением;
человек служит мерилом всему. Это самая опасная переходная
пора смелого развития; оно неудержимо подвигается вперед: не
человек составляет высшее начало, но то, что придает ему достоин-
ство и силу, — добро, — превышающий всякое созидание вечный
разум4, то единственное, вечно живое, в самом себе совершенное,
все постановляющее начало, служащее само себе целью и целью
всему, что становится бытием лишь тогда, когда идет по его сле-
дам5. Результатом греческой философии был самый чистый бла-
городный деизм.
Но что же со временем стало с народной религией, с ее бога-
ми, мифами и преданиями, с ее жертвоприношениями и церемо-
ниями? Немыслимо, чтобы и ее также не коснулось все это; сама
изменившаяся вообще атмосфера умственной и политической
жизни должна была многообразно повлиять на нее. Необходимо,
однако, тщательно отличать разные переходы в религиозной жиз-
ни. В ней, конечно, заключается положительное начало, которое
сознается, в которое веруют; однако не ради одного только этого
сознания поклоняются высшим властям; поклонение составляет I ^
потребность человеческой души; она успокаивается и удовлетво- | §
ряется лишь в преданности высшему существу, под каким бы то
ни было именем или видом6; это искреннее, унаследованное и при- -§
ш
вычное чувство все еще идет своею стезею, хотя сознание и нача- о
л*
ло переходить на новые пути, все более и более удаляться от своей
исходной точки. Афиняне, правда, смеются над богохульными **%*
шутками комедии и удивляются смелым речам Диагоры, однако
они по-прежнему празднуют свои Панафинеи, и кощунство над
мистериями подвергается самым жестоким карам. Даже наука
пытается результаты своих исследований вновь примирить с на-
родною верою, опять примкнуть к ней. Солнце, луна и звезды суть
божественные существа, но видимые и рожденные чада вечного
отца, как говорит Платон; помимо них существуют еще другие
боги, знать и возвещать происхождение которых свыше наших сил;
но следует верить в них, оттого что их сыновья и внуки, поучая
людей, свидетельствовали о них; не следует верить лишь поэтам и
их кощунским описаниям7. Аристотель в сферах созвездий, при-
водимых в движение вечным божеством и так же как оно вековеч-
ных, видит тех различных богов, которых признавали праотцы;
но впоследствии, с целью убедить толпу, ради законов и общей
пользы, они присоединили сюда мифические сказания и изобра-
жали богов подобно людям или иным существам, согласно с чем и
приписывали им другие тому отвечающие свойства8.
Итак, наука отринула то, на чем греческий дух запечатлел
наиболее свойственный ему характер, мифологическое богатство
религии, личное изображение богов. Тщетно стоики, прибегая к
толкованиям, при посредстве пантеистических аллегорий пытались
придать смысл положительному содержанию всеобщей веры и
вновь подтвердить эмпиризм священных историй в научной систе-
матической связи; им не удалось ни опровергнуть все более и более
обострявшуюся историческую критику, ни примириться с резуль-
татами прогрессивного естествознания, и они стали прибегать к
инсинуациям, с целью подавить неопровержимые выводы?9 Тщет-
но Эпикур, всецело замкнувшись в квиетизме субъективного лишь
чувствованья, пытался поддержать положительное содержание
веры в том виде, в каком она сложилась и, не обращая внимания
на увлекающие успехи научного развития, признать ее именно
потому, что она признается всеми вообще10; но в шатком инде-
ферентном отношении его учения к вере обнаружилось, что даже
во всеобщем веровании формальный принцип греческой религии
был уже сильно потрясен и расстроен материальным принципом
умственного развития11. Смелая рука неминуемо должна была
низвергнуть, наконец, это прогнившее и подрытое здание всей
традиции и, как бы ужасно ни было крушение древних почтенных
развалин, открыть вместе с тем свободное поприще без того уже
развившимся воззрениям. Вот в чем состоит высокое значение
Эвгемера и его «Священной истории»: боги, как подтверждается
достоверными и засвидетельствованными преданиями, были не что
иное, как люди; они добились поклонения благодаря частью со-
общенным ими благотворным изобретениям, частью своему мо-
гуществу; Зевс был не кто иной, как царь известного острова,
покоритель мира, по которому он прошел пять раз, ознаменовав
памятниками свои победы; он воздавал жертвы эфиру и только
ему одному, переименовав его по своему деду Урану, и т. д.12
Рассмотрим теперь результаты. В религии человек чувством,
знанием и волею вступает в сношение с божеством; у язычника
благочестие также состоит в том, чтобы своею личностью быть в
своем боге, и согласно с таким призванием своей личности направ-
лять волю, сознавать это призвание своего чувства и хотения, на-
конец постичь его по всем направлениям и во всех отношениях.
Лишь в совокупности всех этих условий заключается религия. Что
же станется с греческим язычеством, если знание вступит в пол-
ное противоречие с самим чувством? Чувство лишается своего
определенного содержания; остается лишь одна религиозная по-
требность, которой все-таки не в состоянии удовлетворить отвле-
ченные выводы разума. Прадедовские боги не служат истинным
выражением божества; или подобно им боги других народов точ-
но так же представляют собою известную долю божества; или как
те, так и другие служат лишь понятиями о той же высшей силе
или о тех же силах и нельзя знать, не обнаруживается ли в том
или другом месте божество в истинном виде. Потому-то Александр
и волен поклоняться египетским и вавилонским богам, точно так
же как и своим родным, а в боге индусов почтить ту же высшую
силу, которую Аристотель признал вечным творческим разумом;
потому и Гадес из Синопы можно было перенести в Александрию,
где поклонялись ему и воздвигали храмы как Серапису; таким об-
разом, открывается полный простор теократии; религии всего све-
та, из которых каждая служила некогда своему племени, своему
краю непосредственным и местным выражением, оказываются
теперь отблесками высшего единства, они в нем подразумевают-
ся; они не разобщают более народов, а напротив, объединяют их
благодаря высшему разумению, какое выработано греческим ду-
хом. Удовлетворяет ли, однако, это высшее знание также воле и
чувствованию? Хотение и действие давно уже отрешились от почвы
религиозной жизни; со времен софистов эгоизм и своекорыстие
стали вообще для всех вразумительными принципами поступков,
и лишь углублявшаяся в знание философия, а отнюдь не религия,
в состоянии была воссоздать более благородную этику; знание и
хотение выделяются из области обычной религии. А чувствова-
ние? По мере того как утратилась уверенность в свои родные осно-
вы, неудовлетворенное чувство стало ревностнее обращаться ко
всему чуждому, сокровенному, непонятному; вакхические куль-
ты размножаются, мистерии Исиды и Митры распространяются,
астрология, волшебство, пророчество проникают всюду. Настала
самая смутная эпоха в религиозной жизни человечества, религия
явно распадается на свои составные начала. Иным людям заме-
ною религии служит удобное нравоучение: наслаждаться и избе-
гать беззакония; другие, гордясь своею гностикою, не чаят даже,
что лишились веры; третьи распутными оргиями, постами и биче-
ваниями заглушают громкий вопль своей души. Потух кроткий
согревающий огонь внутреннего очага, и люди тщетно добивают-
ся нового света, для того чтобы озарить пустынную тьму внутри
и наружу.
Если, однако, высшею задачею древнего мира было разрушить
язычество, то греческий мир прежде всех подрыл под собственны-
ми ногами почву, на которой он развился, с тем чтобы впоследствии,
переселившись к варварам, просвещая, возбуждая и разлагая, до-
вершить у них то же самое. Таким образом, это эллинистическое
образование распространяется по всему побежденному востоку;
оно проникает уже на запад; Рим, находясь уже на пути ко все-
мирному владычеству, начал свою литературу с подражания гре-
кам, александрийцам, с перевода Эвгемера.
Таковы главные моменты политического и религиозного пе-
реворотов. Нам пришлось бы рассмотреть все отдельные формы
жизни, для того чтобы понять, каким образом к завоеванию Алек-
22
сандра могло присоединиться такое чрезвычайное преобразова-
ние в мире. Укажем только на некоторые подробности.
В греческом мире везде обнаруживается одно и то же отре-
шение от родины и естественных местных условий, переход к об-
щим, так сказать, космополитическим формам. С тех пор уже, как
сокрушилось аттическое господство на море и вместе с тем пала
ее исключительная и торговая политика, значительно повлиявшая
на исход Пелопоннесской войны, коммерческие сношения эллин-
ского мира чрезвычайно расширились. Когда реакция одержала
верх над аттическим могуществом, то Византии, Гераклея, Кизик,
в особенности, Родос13 получили совершенно новое значение, а
западные греческие области впервые стали высылать свои воен-
ные корабли в Эгейское море. Благодаря демократическому духу
времени, возникают энергия и размах коммерческого движения,
соперничество между новыми важными гаванями, расширение их
сношений с отдаленными и чуждыми краями, вследствие чего по-
литический характер эллинской жизни значительно изменяется.
Земледелие все более и более отступает на задний план перед тор-
говлею и фабричного промышленностью, натуральное хозяйство —
перед денежным, и независимость значительного имущества за-
няла место рядом с политическим правом по рождению. Необхо-
димо иметь в виду это промышленное и коммерческое движение,
§ для того чтобы вполне оценить основание Александром и его пре-
8J емниками множества городов.
с Всюду оказывается, что для широкой и беспокойной натуры
В греков родной край стал тесен. Они в качестве торговцев, авантю-
i ристов, путешественников, врачей, а более всего в качестве наем-
ных воинов рассеялись по всему свету. Более десяти тысяч греков
* %< вместе с Ксенофонтом совершили уже поход к Вавилону в то
самое время, как врач Ктесий пользовался высоким почетом при
дворе в Сузах. С этих пор греческие наемники составляют большею
частью главную силу персидских войск. Родосские братья, Мен-
тор и Мемнон, предводительствуют персидским войском в самых
затруднительных кампаниях; тридцать тысяч греков сражаются
при Иссе за персидского царя; Дария до убийства его в каспий-
ских горах сопровождают четыре тысячи греков. Бурная эпоха
борьбы диадохов еще более усиливала эту наклонность греков
к наемничеству; их всюду можно встретить; в Карфагене, также
в Бактрии и Индии греческие наемники составляют ядро войска,
и те 80 000 воинов, которых в праздник Великих Дионисий в Алек-
сандрии Птолемей II собрал на парад14, были исключительно ма-
кедоняне и эллины.
Наука, в свою очередь, также содействовала тому, чтобы гре-
ческий дух за пределами родного края развить во всеобщую, миро-
державную силу. Давно уже освоились со способностью созерцать
действительность не фантастически и без поэтической примеси.
Вместе с интересом рационального наблюдения и исследования
усилилась в той же мере потребность расширить область знания.
Разница между образованностью и невежеством, которая в своих
начатках во времена софистов ограничивалась преобладанием
формального развития ума, стала обусловливаться все более рас-
ширявшеюся сферою положительных сведений, и вместе с тем
установилось новое и широкое своими результатами отношение
к эмпиризму. Аристотель уже удивляет не только своею ученостью,
но также философскою глубиною; в нем уже все отрасли науч-
ного знания, каким обыкновенно характеризуется так называе-
мый александрийский век, — археология, филология, критика,
грамматика и т. д. всецело соединяются с индуктивными науками.
А в то же время накопился материал, изучая который, всякий
мог достичь высокой степени образования; ведь обучать значит
заставить учащихся умственно пережить в существенных момен-
тах ступени развития, какие исторически достигались и преодо-
левались долгим и тяжким трудом; а предлагаемая обучающимся
азиатским народам греческая литература в ее дивной последова-
тельности являет образцы подобного развития в самых типичных
чертах. Таким путем греческое образование и может служить пред-
метом преподавания и сообщаться другим народам. Само искус-
ство обучать разработано уже систематически. Греки оказались
способными поучать и образовывать варваров, которых победи-
ли македоняне.
Vc Ус V<r
Для того чтобы надлежащим образом оценить значение Алек-
сандра и его завоеваний, чтобы уразуметь их последствия, необхо-
димо вполне живо и наглядно представить себе все, что мы успели
лишь набросать тут в коротких очерках. В истории не встречается
более ничего подобного.
Варвары, которых покорил Александр, большею частью не
были уже варварами. До дальних стран по ту сторону Тигра все
это были народы незапамятной древности, обладавшие старо-
давними литературными и художественными произведениями,
чрезвычайно богатою, даже под персидским игом не совсем еще
заглохшею культурою. Ведь эллины с трудом и поздно лишь до-
стигли на море превосходства над ловкими торговцами Сидона и
Тира! А их мера и вес вышли из того Вавилона, о пышности и бо-
гатстве которого с изумлением говорит еще Геродот! Недаром же
Платон и Эвдокс посетили Египет с целью научиться у жрецов
глубокой мудрости! Иные утверждали даже, будто оттуда к гре-
кам перешло все то, что они знали о божеских и человеческих
делах. Далее, по ту сторону Тигра, за окраиной строптивых, по-
коренных горцев раскинулись области мидян и персов, которым
древние священные книги повелевали вести оседлую жизнь, тру-
диться и ратовать за царство света, которому суждено завладеть
миром. А затем еще древние культурные страны на Оксе и Яксар-
те — изумительное великолепие индийского мира с его искусством
и поэзией, с его многосторонним уже развитием философски-ре-
лигиозных учений! Правда, Александр застал также много пле-
мен, которые ему пришлось приучать к оседлости и к устроенному
быту; однако образование греков большею частью переходит от-
нюдь не к диким варварам, а, скорее, к народам древней, своеоб-
разной культуры; оно не уничтожает последнюю, но с изумлением
созерцает ее и пытается согласовать ее с собою.
Ничего подобного этим отношениям не встречается более в
истории человечества. И в самом деле, когда Рим ведет борьбу не
с варварами, то он сам ревностно воспринимает признанную выс-
шую образованность побежденных. Германцы в качестве вар-
варов проникают в Римскую империю; вместе с христианством и
благодаря ему они усваивают уцелевшие остатки образования ан-
тичного мира. Аравитяне также развиваются, лишь приходя в
сношение с цивилизацией, какую застали в царстве Сассанидов,
в провинциях греческой империи, в Индии. А монголы, турки,
норманны тем еще более подчиняются высшей культуре. Даже
рыцарский запад воспламеняется лишь благодаря столкновению
с чрезвычайно богатой культурой сарацинского мира; при всем
том и тот и другой не столько проникаются взаимно, а, скорее,
отталкиваются друг от друга. Американское население исчезло,
уступив место колонизации современной Европы; а всего более
аналогичные с греческими условиями отношения современной
Индии все-таки лишены главного начала: в ней чужеземные влас-
тители не приурочиваются всецело и бесповоротно к новой стра-
не, не становятся ее гражданами.
Это на самом деле и совершилось только однажды. В замеча-
тельном отношении победителей к побежденным и обнаруживаются
именно самые своеобразные проявления эллинизма. Исследовать
их точнее чрезвычайно трудно, тем еще более, что недостаток
преданий в этом случае не восполняется даже поучительным при-
мером аналогичных условий. Нам не раз придется прибегать к
гипотезам и довольствоваться, если тут или там какое-нибудь еди-
ничное известие совпадет с ними и подтвердит их.
Отличительное свойство персидского владычества, два века
тяготевшего над Востоком, заключалось, в основном, в том, что
единство этой державы было чисто механическое; от подвластных
племен требовалось только подчинение, а затем национальности
продолжали существовать по-прежнему. Владычество персов было
как бы поверхностное, благодаря чему нации никогда не могли
забыть, что они утратили свою независимость. Вследствие этого
то и дело возникали мятежи, караемые выселением, а не то даже
искоренением наций. Никогда ни одна держава не была до такой
степени неспособна управлять, как военнопатриархальное пер-
сидское царство. Оно установило одну лишь власть силы в са-
мом грубом виде; оно поддерживалось лишь трезвой энергией
победоносной орды и беспрекословною покорностью ее персид-
скому царю. Пользуясь чересчур сильною властью, как царь, так
и персидский народ скоро развратились15; сатрапы стали как бы
державцами в своих областях, управляли ими с полным произ-
волом, не подлежа ответственности, потворствуя лишь своим
страстям и прихотям. Вновь возникавшие, крайне бурные мятежи
подавлялись лишь с величайшим напряжением и сопровождались
тем более сильным кровопролитием. Состояние казалось безвы-
ходным, пока не приспела помощь извне.
Тут именно явился Александр. Со своим малочисленным вой-
ском он, даже и побеждая, ничего не достиг бы, если бы нации
хоть сколько-нибудь были преданы персидскому владычеству.
Потому-то и немыслимо было, чтобы с победою изменилось одно
только имя властителей; Александр должен был вступить в иные,
положительные отношения к древним национальностям Азии.
В новом царстве нельзя уже было восстановить прежнюю нацио-
нальную независимость; она сокрушилась сама собою и оттого
стала невозможною; следовало, однако, открыть новый строй,
который усвоил бы себе сохранившееся еще от прежней нацио-
нальности живое начало и развить его далее. И вот царь в Вави-
лоне и Мемфисе совершает жертвоприношения по предписанию
священных каст16, он вступает в родство с бактрийскими князья-
ми, с персидским царским домом; в Сузах его полководцы и мно-
жество воинов вместе с ним отпраздновали свадьбы с азиатскими
женами. Греки и македоняне расселились колониями по всей Азии,
азиатская молодежь обучалась македонскому военному искус-
ству и поступала в армию. Запад и Восток должны были слиться
в одну нацию, и в этом соединении каждая из наций, принимая
согласно ее отличительным свойствам участие в эллинистичес-
ком развитии, обогащаясь вновь ожившими, обеспеченными сно-
шениями по всем направлениям, уверившись благодаря стройной
и легальной администрации в неприкосновенности своего иму-
щества и права, должна была найти замену той прежней резко
разобщенной независимости, непригодной более для изменив-
шегося мира17.
Однако смерть Александра прервала начатое дело. Царство
распалось вследствие ужасных усобиц; царский дом был злодейски
истреблен; сатрапы и полководцы пытались основать независимые
владычества; в нескончаемой изменчивой борьбе они погибали один
за другим; Греция переходила от одной партии к другой, в Маке-
донии державцы в быстрой смене следовали один за другим; на-
шествие галлов разрушительно распространилось по Македонии
и Фессалии и проникло в Малую Азию; а родина всемирно-завое-
26
вательного владычества, всесветно-преобразовательной цивили-
зации, Македония и Греция, ниспали до ничтожества в полити-
ческом отношении.
Однако, вопреки всем этим смутам, даже с их содействия эл-
линизм распространился, утвердился и стал многостороннее. В по-
следнее время диадохов слияние греко-македонской и восточной
цивилизаций осуществляется уже во всех главнейших чертах; оно
поддерживается в новых средоточиях умственной и политической
жизни. Македония поднялась вновь, хотя и в более ограниченных
пределах, но в духе нового времени. Греция также пытается со-
здать новые политические союзы. Но только греческий мир в Ита-
лии и Сицилии, которого почти вовсе не коснулись перевороты
на Востоке, падал все более и более после тщеславных, но поисти-
не величавых замыслов Агафокла, а вскоре он и совсем погиб.
Перейдем наконец к подробностям. Какими путями эллинское
и македонское начало успело проникнуть на Восток?
Не подлежит сомнению, что самым важным средством следу-
ет признать основание городов Александром и его преемниками;
эти колонии в изумительном количестве встречаются до самого
отдаленного Востока. Один Александр по достоверным, непре-
увеличенным показаниям основал более семидесяти городов18.
В немногих из них лишь вкратце упоминается, каким образом он
g I населял их. Об основаниях его преемников известия еще скуднее.
§_| В общем итоге оказывается следующее.
Варварам свойственна характеристичная черта жить вне го-
родских общин19; у них нет городов, а только селения. Как бы об-
£ I ширны ни были последние, какими бы крепкими стенами они ни
обводились, как бы ни процветали в них промышленность и тор-
говля, но они были лишены политического строя; все эти селения
представляли либо постоянные резиденции, либо скучившиеся
вокруг священного храма толпы народа, либо обширные рынки —
вообще все, что угодно, но только не города в том смысле, как
понимали их греки. Отличительною чертою греков, напротив того,
служит город, полития (тоЛ^те/а)20. В этой-то форме в течение че-
тырех и более веков совершалось чрезвычайно богатое развитие
греческой жизни: каждая из колоний была новым городским орга-
низмом, исходною точкою новых таких же животворных общин.
Вот этою-то формою Александр и воспользовался главным обра-
зом для осуществления своих планов. Знаменательно то, что Ари-
стотель написал трактат «Александр, или О колониях»21.
При своих основаниях Александр не руководился исключи-
тельно, ни даже преимущественно военными целями; напротив, во
всем он, как оказывается, решительно имел в виду начертать но-
выми рынками постоянные пути для возникших торговых сноше-
ний, создать среди политически неразвитых племен средоточия
твердой оседлости22. Диадохи и эпигоны продолжали это дело
з:
более или менее в его духе. В основаниях городов и заключается
настоящая основа эллинизирования.
Эти новые города примыкали обыкновенно к существовавшим
уже селениям; зачастую два соседних селения присоединялись к
новому городу. О пределах городской области не имеется точных
сведений; судя по Магнесии, надо предполагать, что новым граж-
данам отводились земельные участки, избавленные от десятины23.
Александр преимущественно расселял военных ветеранов, как
македонян, так и греков; ими, однако, отнюдь не ограничивался
состав новых жителей; вместе с тем привлекались в особенности
уроженцы края, и чужеземцам, неэллинам, наверное, также от-
крыт был доступ; так, между прочим, при Александре и впослед-
ствии везде принимались евреи. Некоторые поселения отличались,
правда, под названием македонских, ахейских и пр.; но вообще
преобладало пестрое смешение эллино-македонской народности
с туземною.
Судя по многим примерам, в таких городах вводится затем
полития по эллинскому образцу24. При этом упоминается «совет
и народ»; они разбирают и решают дела в таком же порядке, ка-
кой заведен был в демократических греческих городах. Примером
может служить Антиохия при Оронте; народ в городе делился на
восемнадцать фил25; на агоре собирались для совещаний и выбо-
ров. Царь Антиох IV появился при этом, вероятно, в качестве кан-
дидата, с тем чтобы быть избранным в агораномы, в демархи26.
Впоследствии, по крайней мере, часто упоминается совет двухсот27.
Трудно решить, в каком отношении находились туземцы к
городу: были ли они равноправными гражданами или метеками,
или, как, например, в Агригенте при римлянах, составляли в ка-
честве incolae отдельно от cives особенный genus?28 Эти отноше-
ния, как кажется, не везде были одинаковы. Судя по замыслам
Александра, можно, пожалуй, предположить, что он имел в виду
принимать их на равных правах, с условием, конечно, чтобы они
приурочились к языку и нравам граждан; таким лишь путем слия-
ние могло совершиться вполне. В писидской Аполлонии граждане
долго еще назывались ликийцами и фракийцами29. Для Селевки-
довых поселений Селевкия на Тигре служит типичным примером:
там жило много македонян, очень много греков, но в число граж-
дан было принято также немало сирийцев30, главами города были
триста диганов; это название не сирийского, а персидского проис-
хождения31. В египетской Александрии сложились иные условия;
там, за исключением расположенных по казармам войск, насе-
ление состояло из александрийцев в тесном смысле слова, т. е.
из смеси самых разнородных эллинских переселенцев32, разде-
ленных на филы и демы, и из туземного египетского племени.
Так как кастовая система в качестве гражданского учреждения
все еще признавалась, то египтянам нельзя было передать право
эллинского гражданства. В Египте, впрочем, с самого начала от-
нюдь не господствовало более сильное разобщение с негреками,
чем где бы то ни было в ином крае; доказательством чему служит
принятие евреев в число эллинских граждан33. Александрия пред-
ставляет, впрочем, еще иные поучительные особенности: там при
демосе не было никакого совета; не демос совещался о нуждах
города, а во главе находился эксегет, который, так же как вер-
ховный судья, был царским сановником34. Весьма, однако, сомни-
тельно, чтобы такое учреждение в городе существовало с самого
начала.
Понятно, что в этих городах официальным и деловым языком
был греческий; если присоединялись к этому административные
меры, как, между прочим, в Египте35, то туземное наречие посте-
пенно вымирало в городах, во многих заселенных областях, по
крайней мере, оно отходило к сельскому населению36. В странах
до Тигра можно проследить за таким распределением наречий в
разных оттенках. Далее к востоку подобные колонии вообще изо-
биловали лишь в известных полосах; так, между прочим, в Индии
и по дороге через Каспийские ворота на восток, в известных об-
ластях Согдианы, в южной Бактрии, в стране Кабула, вообще по
склонам Парапамиса, наконец, на территории, расположенной по
Инду. Эти области, к сожалению, рано ускользают от более точ-
ных исследований. Хотя во всех новых городах, особенно в царство-
вание Селевкидов, важную роль играло гражданское ополчение,
однако в греческом населении все-таки преобладал промышлен-
ный и меркантильный характер. В странах вроде Месопотамии или
Сирии вместо бывшего доселе скитальческого, отчасти кочевого
быта возникла богатая городская жизнь; в густом скоплении жи-
телей в равной мере усилились как разнообразие потребностей,
так и средства удовлетворить их. Благодаря более быстрым тор-
говым оборотам и вместе с тем чрезвычайно размножившейся со
времен Александра звонкой монетой одного чекана во всем неиз-
меримом его царстве возвысились вообще благосостояние, а вслед-
ствие того и отрада, и весь уклад жизни. По всему этому можно
уже судить о том, какой крутой поворот произведен основания-
ми эллинистических городов и как вместе с ними резко измени-
лась атмосфера восточной жизни.
В городах затем сами собою слились эллинские и туземные
божества, празднества, церемонии, вследствие чего сами собой
исчезли отличительные свойства тех и других. И всюду встречается
своеобразный род мифов, благодаря которым наступившая эпоха
примыкает к древнему строю эллинских сказаний. То Ио, скита-
ясь по свету, прибыла в Антиохию или в Газу37; то Орест, вслед-
ствие прекратившегося бешенства которого названа была гора
Аман38, перенес в приморскую Лаодикею камень Артемиды39; а
эвергеты в Ариане были прозваны так потому, что аргонавты
пользовались у них будто бы гостеприимною зимовкою40; Трип-
толем же назвал будто бы Гордиену при Тигре по своему сыну
Гордию; афмонец Арбел из аттической филы Кекропии был будто
бы основателем города Арбел41; потом также аравийское племя
девов (близ Медины), враждуя со всеми чужеземцами, дружелюбно
относится к одним только беотийцам и пелопоннесцам, потому
будто бы, что древними племенными сказаниями подтверждается
их союз с Геркулесом42 и т. д. Всюду пытаются из известных исто-
рических намеков вывести стародавние взаимные связи; в настоя-
щем положении признается не результат действительной истории,
но придумывается иная оценка всего существующего. Сам элли-
низм приурочивается к разным местностям; смотря по составным
частям смешанного населения, он принимает различные оттенки
в языке религии, нравах43. Государство также не в силах уже укло-
ниться от этих влияний; чем далее, тем сильнее обнаруживается
этнический момент в области эллинизма. Самая способность от-
решаться от местных и национальных влияний, эта духовная сво-
бода и всесторонность, составлявшая некогда высшее достояние
греков, как бы ожила, и исконные национальные языческие свой-
ства возникли вновь, но только в высшей еще степени. Мы увидим,
что эта замечательная реакция, проявляясь в самых разнообраз-
ных видах, определила развитие наступивших веков, составляла
даже самую суть истории эллинизма.
Нельзя не признать, что такой результат был неминуемым
следствием тех средств, какими Александр пытался утвердить свои
завоевания — единство своей державы. Начавшееся после его
смерти распадение государства, в сущности, было уже обуслов-
лено именно невозможностью при таких разнородных элементах
смешения добиться однообразного нового строя; распри его пол-
ководцев и их борьба из-за обладания целым царством послужи-
ли только наружным поводом к тому разнородному развитию,
какое затем и выразилось прежде всего в противоположности
царств Селевкидов и Лагидов. Ни то, ни другое не усвоило себе
национального характера; напротив, оба они сокращались относи-
тельно размеров и внутренней силы, по мере того как усиливался
национальный элемент; но что касается внутреннего строя и отно-
шения царской власти к народам, то в них обнаружилась противо-
положность, обусловившая политику всего эллинского мира.
Рассмотрим сперва владычество Лагидов. Оно пользовалось
великим преимуществом, оттого что основою его могущества
служила вполне замкнутая и для мировых сношений как в поли-
тическом, так и в военном отношении чрезвычайно выгодно рас-
положенная страна. Во время опустошительных усобиц диадохов
бедствия войны почти вовсе не коснулись одного только Египта.
После смерти Александра Птолемей без перерыва владел краем и
управлял им со свойственным ему высоким и всеобъемлющим
умом; он передал своему сыну вполне укрепленное, благоустроен-
ное, в высшей степени цветущее царство.
Александр и Птолемей поддерживали в Египте прежние усло-
вия вообще в том же виде, в каком они их застали; иерархичес-
кие порядки и кастовая система, древние боги и их культ остались
ненарушенными; сохранилось древнее разделение края по номам,
которое было введено уже Сезострисом, и существенно связа-
лось с аграрного разверсткою густонаселенной страны. Но ка-
ковы были эти древние условия сами по себе? Со времен Саисской
династии, а еще более под персидским владычеством вследствие
повторявшихся то и дело подавляемых мятежей в Египте древ-
няя иерархия не раз уже подвергалась гибели; постоянное и дея-
тельное столкновение с чужеземцами, жившими частью в особых
городах, частью рассеявшимися по всему краю среди египтян44,
неминуемо повело к расстройству прежних условий; после ма-
кедонского завоевания и следа не было от касты воинов. Не под-
лежало сомнению, что страна нуждалась в совершенно новой и
основательной организации.
Александр уже сознавал необходимость в Египте приняться
за дело с особою осторожностью; чем упорнее сохранялись древ-
ние иерархические порядки и чем решительнее руководили они
всеми религиозными и социальными отношениями туземного на-
селения, тем скорее надлежало царскому правлению придать
замкнутый и энергичный характер. Множество документов из
эпохи Лагидов дают довольно полное понятие о вновь введен-
ной организации45.
Эта организация представляла тип военной державы с си-
стематическим распределением официальных должностей, с вы-
работанною до низших ступеней постепенностью их. В принципе
администрация, судебная часть, финансы вполне отделены друг
от друга, и лишь на верхней ступени все эти отрасли сливаются в
крайне сосредоточенной царской власти, которая, конечно, одна
обладает законодательною полноправностью.
По существу дела, военные должности пользуются преобла-
дающим значением. Распределенные по всему краю гарнизоны и
военные поселения служат главным образом для поддержки внут-
реннего порядка, и их начальники относятся поэтому к полицей-
скому ведомству. Во главе этой военноисполнительной власти
стоит эпистратег — главный генерал, вероятно, по одному в Фи-
ваиде, Гептаномиде, Нижнем Египте и т. д.46; под его начальством
находятся все войска состоящих в его эпистратегии номов; на-
чальником его канцелярии значится эпистолограф. Ему непо-
средственно подчинены стратеги отдельных номов с такою же
административною властью в последних; у каждого из стратегов
во главе канцелярии находится войсковой писец, а под его началь-
ством состоят гиппархи, гегемоны, фрурархи того же нома. Всем
этим офицерам до эпистратега включительно впоследствии, по
крайней мере нередко, поручались также другие должности, а
именно по гражданской части.
Гражданская администрация для всей эпистратегии сосредо-
точивалась, как кажется, в одном лице — в главном военном на-
чальнике; в низших инстанциях должности разделялись. В каждом
из номов находился стратег для полицейских дел47, номарх48 для
администрации, эпистат во главе суда, царский писец во главе
обширной канцелярской и кадастровой системы, наконец, агора-
ном для всяких дел, относившихся к общественным сношениям
главным образом множества чужестранцев (греков) в крае, кото-
рые не принадлежали ни к войску, ни к эллинской политии, ни к
египетским кастам; одни только евреи подчинялись своему осо-
бому начальству — ефнарху49. В пределах каждого из номов по-
вторялось такое же распределение должностей для отдельных
селений (хсарт}) и округов (тога^)50. Мы застаем тут сельского эпи-
стата (вероятно, сельского судью), старшину, писца. А в округах
встречаются, по крайней мере, эпимелеты и писцы.
Ведомство суда, в сущности, было основано на древних зако-
нах страны; они признавались по-прежнему, тем более, что ино-
земцы служили частью в войске и, следовательно, подлежали
военному суду стратега и эпистратега, частью жили отдельными
политиями, а частью считались просто иноземцами. Лаокриты (на-
родные судьи) также руководствовались египетским правом51, по-
скольку оно не изменялось царскими простатами (указами). Их
суду подлежали, конечно, одни только гражданские дела; однако
египтяне вольны были переносить свои дела также в греческие
суды. Об эпистате нома и селения уже упоминалось; судя по со-
хранившимся актам одного из процессов, эпистат нома решал дело
со своими заседателями, состоявшими все из неегиптян; у каждой
из сторон был свой поверенный; после их изложения сути дела
произносился приговор, причем приводились основания решения.
Хрематисты составляли особый, будто бы Птолемеем II введенный
институт52, с целью избегать затруднительного призыва партий
в метрополию (нома, как кажется); это был не что иное, как стран-
ствующий суд, который разъезжал по назначенному ему ному и
производил разбирательства; этому суду подлежали самые важ-
ные и трудные уголовные дела.
Финансы составляли совершенно отдельную отрасль управ-
ления; во главе их в каждом из номов находился высокопостав-
ленный сановник53. К нему поступали разные доходы — как с
государственных имуществ, так равно и конфискации, нильские
пошлины54, подати, арендные взносы откупщиков; под его руко-
водством находился царский «стол», как называлась главная кас-
са. Он подчинялся коллегии казначеев в Александрии; выдача денег
поручалась в Александрии диекету, а в номах гиподиекетам.
Александрия служила, конечно, средоточием всего правления.
Синедрион, или государственный совет, собирался по приказу
царя под его председательством; отсюда эпистратегам, стратегам
и т. д. сообщались указы царским эпистолографом. Воля царя не
была связана никакими постановлениями; она была вершиною
военно-монархической державы. Она ограничивалась в некото-
ром отношении лишь постоянными так называемыми македон-
скими отрядами; в своем целом составе они представляли в этом
все еще признаваемом военном царстве то же самое, что и в древ-
ней Македонии собрание армии в отношении к царю; они пользо-
вались правом и обязанностью военной службы; наследник царства
признавался лишь после того, как они возводили его на престол55;
у них были свои собрания и совещания, они удержали за собою
право исегории, которое даровал им сам Александр. Они называ-
лись македонянами и состояли большею частью из них. Хотя в этом
войске встречались также греки, фракийцы, галаты, критяне и пр.,
однако эти племена составляли особые разряды и, вероятно, с
более ограниченными правами56. Во время великого торжествен-
ного шествия, в начале царствования Птолемея II, в Александрии
находилось 57 600 пехотинцев и 23 200 всадников57; в войске, сна-
ряженном в 200 году на войну против Сирии, в числе 70 000 пехо-
тинцев и 5000 всадников находилось 30 000 пеших и 700 конных
§ I македонян.
Из соединения македонского и персидского придворного обы-
чая сложилась замечательная табель о рангах всех царских чинов-
ников; почти ни одна из самых малозначительных гражданских
х I или военных должностей не обходилась без такого ранга. К высше-
му разряду относился класс родственников; к нему принадлежали
эпистратеги, эпистолографы; затем следовали архисо-матофила-
ки, главные друзья, друзья, диадохи двора и т. д.58 Сомнительно,
чтобы при первых царях египтяне также удостаивались этих почес-
тей. Для того чтобы представить себе египетский двор в полном
его составе, необходимо прибавить сюда еще длинный ряд при-
дворных должностей; к ним относятся обер-шенк, обер-иегермей-
стер, главный повар, обер-боцман и т. д., потом еще своеобразный
придворный этикет, отличительный придворный костюм59.
По всему этому видно, что соблюдаемая при дворе и в войске
македоно-греческая система состоит в резкой противоположности
с туземною. Однако в изложенной нами организации встречаются
уже условия, имеющие целью служить средством к постепенному
слиянию; всюду обнаруживается решительная попытка сгладить
мало-помалу рознь и привлечь египтян к интересам греческого
мира. Новых греческих городов в Египте оказалось немного60; тог-
да, очевидно, предпочитали, чтобы греки свободно и незамкнуты-
ми политиями проживали среди египтян. Всякое делопроизводство
в неегипетских ведомствах совершалось, конечно, на греческом
со
о_
О)
с
языке; однако контракты допускались также на египетском, лишь
бы они, ради взимания пошлин, были предъявлены надлежащему
ведомству и скреплены по-гречески61. Вскоре появились греки, изу-
чившие египетский язык62, а египтяне, которые к своему туземному
имени присоединяли греческое, принимались в постоянное войс-
ко63 и достигали даже высших административных должностей.
В этом случае особенно важно было отношение к иерархии и
к господствовавшей религии. Туземные жрецы при саисских ца-
рях уже лишились большею частью своего влияния на правитель-
ство страны64. Во время персидского владычества Египет уплачивал
больше 700 талантов, вдвое более, нежели вся Сирия, включая
Финикию и Палестину65, и этою податью, без сомнения, облага-
лось преимущественно жреческое сословие, владевшее третьего
частью земельной собственности; оно же при повторявшихся мя-
тежах каралось сверх того сокращением церковных имуществ66, а
потому тем еще сильнее ненавидело побежденных персов. Благо-
даря этому Птолемеям представилось верное средство в связи с
египетскими жрецами расположить к себе народ и восполнить
военное господство над страною иерархическим. Птолемеи, впро-
чем, не думали возвратить жрецам все их прежнее политическое
значение; они не отменяли известных взносов и податей; жрецы
все еще обязаны были поставлять в казну деньги, хлеб, вино,
холст67; им вменялось в обязанности ежегодно самолично являть-
ся в Александрию и вносить свою натуральную подать68. Вместе с
тем цари оказывали храмам и жрецам разного рода попечения,
возвращали им при случае некоторые из секуляризованных цер-
ковных владений, слагали с них недоимки, наделяли их новыми
доходами; благодаря лишь царским субсидиям жрецы в состоя-
нии были поддержать отчасти дорогостоящее богослужение69.
Тотчас же по вступлении в сатрапию Птолемей выдал на погребе-
ние Аписа пятьдесят талантов серебра70. Во имя царя Филиппа и
Александра приказал он, как засвидетельствовано иероглифи-
ческими надписями, восстановить отчасти разрушенные персами
храмы в Карнаке, Луксоре и других местах71; его преемники по-
следовали его примеру: именно Птолемей III воздвиг великолеп-
ный храм в Эсне с иероглифическим изложением своих великих
побед. Как искусство, так и науки египтян чтились и поощрялись.
По поручению Птолемея II верховный жрец Манефон написал по
Древним памятникам историю Египта. Тому же царю иерограммат
Меламп посвятил несколько трактатов, сочиненных по священным
церковным архивам72. При Птолемее I уже многие из греков приез-
жали в Фивы и исследовали там египетские древности и историю73.
Завершением такого слияния служило перенесение Зевса Га-
деса из Синопа в Александрию. Птолемей Сотер, как рассказыва-
ют, видел во сне бога, повелевшего ему перенести с Понта свой
образ; египетские жрецы не сумели истолковать сон, но Эвмол-
2 История эллинизма
пид Тимофей из Элевсина, призванный в Александрию в качестве
экзегета для введения элевсинских таинств, узнал, что в Синопе
поклоняются этому богу, а наряду с ним находится и образ Пер-
сефоны. Затем отправили послов в Дельфы, и бог приказал, чтобы
они образ отца его перенесли в Александрию, а образ сестры
оставили на месте. Совершив чудесный переезд, бог прибыл в Еги-
пет; экзегет Тимофей и верховный жрец Манефон признали, что
это не кто иной как Серапис — Осирис царства мертвых74; на том
месте, где издревле поклонялись Серапису и Исиде, с великою
пышностью воздвигнут был новый храм. С той поры стали по-
клоняться греческому богу и египетской богине совместно. Од-
нако разве синопский бог был египетское божество? Вспомним
о последних днях Александра; обеспокоенные его болезнью, не-
которые из его стратегов и друзей отправились в храм Сераписа
с целью получить от бога предписание о том, как помочь боль-
ному. Не был ли вавилонский Серапис тем богом Иркаллой, к
которому сошла богиня Иштарь, «к владыке в жилище усоп-
ших, — в жилище, у которого нет выхода, из которого не выво-
дят назад никакие дороги? ». Или не был ли он подобен «владыке »
на сирийском берегу, Адонису? Не это ли послужило поводом
другому преданию, будто Серапис из сирийской Селевкии при-
был в Александрию?75 Поселившиеся некогда в Синопе милетцы,
вероятно, застали там этого «Ваала», признали в нем черты эл-
линского Асклепия или Плутона и стали в смертный час обра-
щаться за утешением и спасением к этому «богу-исцелителю».
Эфемериды последних дней Александра сообщают, будто бог на
вопрос, не перенести ли больного для исцеления в его святилище,
отвечал: «Его не следует переносить — там, где он находится,
ему будет лучше ». Мрачный бог, как оказывается, утешительным
словом хотел у смерти похитить ее ужасы, — те ужасы, которым
равно подвержены все народы и люди — нищие и цари. Это по-
истине общечеловеческий бог. Этот новый культ изумительно
распространился с тех пор, как он основан в Александрии76; он
решительно преобразовал прежний египетский строй!77
В древнем мемфисском Серапионе впоследствии две жрицы
отправляли культ Сераписа и Исиды, тогда как прежде в Египте
вовсе не было жриц; потом к признакам обоих божеств привнес-
ли калаф, взятый из культа эллинской Деметры78. Этого бога упо-
добляли то Асклепию, то Гелиосу, то Дионису. Кипрскому царю
Никокреону он отвечает, что небо есть чело его, море — тело его,
земля — ноги его, а солнечный свет — его дальнозоркое око79.
В таких же разнообразных видах является сетующая Исида; празд-
нества ее слились уже с культом Адониса в финикийском Библе.
Эти богослужения вскоре распространились по островам, по го-
родам Малой Азии и Греции; они перешли в Италию, проникли
даже в Рим80. А вообще культ «бога царя» установился начиная не
то с Александра, не то с Птолемея I или Птолемея II сперва в Алек-
сандрии, потом перешел в Мемфис, Птолемаиду, Фивы. В послед-
нем городе царю поклонялись наряду с Амоном-Ра-Сонфером
в качестве ovwaoi 0ео/81.
Дальнейшие подробности об этих религиозных преобразова-
ниях будут изложены впоследствии; здесь обращаем только вни-
мание на их политическое значение. Хотя Лагиды и оказались
истыми македонянами, однако они решительно имели в виду раз-
вить далее предначертанное Александром слияние племен и сде-
лать Египет, Александрию средоточием возникавшего уже нового
строя умственной жизни, для которого греческое образование
служило как бы сосудом или, как угодно, экспонентом.
Не одна только любовь к наукам побудила двух первых Ла-
гидов основать музей и библиотеку, сосредоточить всю литера-
турную жизнь в Александрии; их склоняло к тому также верное
понимание эпохи и политики государства, и надо сознаться, что
успех превзошел все их ожидания. С этой поры Александрия гос-
подствует над образованием эллинизма, который в чрезвычайно
богатой и разнородной деятельности поэтов, критиков, антиква-
риев, исследователей, открывателей и пр. достиг своего полного
и самого многостороннего развития82; литературная жизнь в Алек-
сандрии проявляет почти во всех отношениях дух нового време-
ни. Все произведения эллинской литературы прошедших времен
собраны там в богатых библиотеках и служат предметом велико-
лепной научной деятельности; поэзия усваивает новые формы,
отвечающие изменившемуся духу образования; все, что находится
в литературе чужеземных народов, переводится и входит в область
научных исследований; в библиотеках сохраняются священные
книги египтян, евреев, персов83. Наука начинает охватывать мир,
воспринимая его со всех сторон; повсюду распространяясь, она
приобретает совершенно новый вид; Александрия становится оча-
гом всемирной литературы, всемирного образования, которое в
идеальном виде соединяет в себе результаты всех прежних, досе-
ле рассеянных, национальных развитии.
Нам остается еще рассмотреть замечательное явление. Мы
увидим, на каких обширных пространствах раскинулось царство
Селевкидов, и при всем том ему было трудно соперничать с не-
сравненно меньшим царством Лагидов. Когда Птолемей I передал
престол своему сыну, то помимо Египта ему принадлежали толь-
ко Кипр и Кирена. Для того чтобы постичь возможность такого
отношения, необходимо ознакомиться с материальными силами
царства.
О смежных странах речь впереди; Египет составляет основу
владычества Лагидов. О населении края у нас нет достоверных
сведений84; при царе Амасисе, «когда царство процветало более
всего», как говорит Геродот, насчитывалось 20 000 городов; а при
2*
36
Птолемее I значилось свыше 30 000 городов и сел85. Итак, в начале
господства Лагидов Египет процветал больше, чем в самый расцвет
времени фараонов. Известно, что этот край обладает чрезвычайно
производительными силами; чем гуще население, тем лучше соблю-
даются и охраняются право, собственность и сношения86, тем
обильнее доходы царства.
У Птолемея II в конце его царствования, когда его владениям
принадлежал юг Сирии и южный конец Малой Азии, войско со-
стояло из 200 000 пехотинцев и 40 000 всадников, 300 слонов, 2000
боевых колесниц; оружейных запасов было на 300 000 человек,
2000 небольших военных судов, 1500 военных кораблей частью с
пятью рядами весел и материала на двойное число, 800 яхт с позо-
лоченными носами и кормами; а в его казне имелась чрезвычайная
сумма в 740 000 египетских талантов;87 годовой доход его состав-
лял, как говорят, 14 800 талантов и 1 500 000 артабов хлеба. Эти
изумительные показания подтверждаются выпискою из описания
великого торжества, какое тот же Птолемей отпраздновал еще при
жизни своего отца88; приведем здесь наиболее замечательные ста-
тьи. На это торжество израсходовано 2239 талантов 50 мин, т. е.
около 3 миллионов талеров по нынешним деньгам; в процессии
находилась громадная фура с серебряной посудой и среди прочего
в ней вмещавший в себе 600 мер сосуд художественной отделки,
§ покрытый драгоценными камнями, два поставца, десять больших
&J чаш, шестнадцать сосудов, один стол в двенадцать, а тридцать сто-
с лов в шесть локтей, восемьдесят дельфийских треножников, про-
2 пасть других вещей — все это из чистого серебра. Затем была фура
i с золотой посудой, а также 22 холодильника, четыре больших
золотых треножника, алтарь вышиною в три локтя, а в особенно-
«'"^ сти золотой, драгоценными камнями обложенный ларь в десять
локтей вышиною, в шесть уступов, украшенный разными прекрас-
но отделанными фигурами вышиною в четыре пальмы. Возле фур
шли 1600 мальчиков; из них 250 несли золотые, а 400 серебряные
кружки и т. д. На третьей фуре находился золотой тирс в 90 лок-
тей, серебряное копье в 60 локтей; на четвертой — золотой фаллос
в 120 локтей длины, помимо несметных других золотых утварей,
сосудов, оружий (между прочим 64 полных вооружения), венков,
было, наконец, еще 20 фур с золотом, 400 — с серебром, 800 — с
пряностями. В палатке царя, где накрывались столы, находилась
золотая и серебряная утварь стоимостью в 10 000 талантов.
И в самом деле, если Лагид II в начале своего владычества в
состоянии был выставить напоказ такое чрезвычайное великолепие,
то к концу его царствования, наверное, скопилась вышеприведен-
ная казна в несколько миллионов талеров. К нему обращались даже
карфагеняне с целью сделать заем в 2000 талантов89. Где же, спра-
шивается, были источники таких несметных богатств? Само со-
бою разумеется, что в Египте господствовал сильный податный
37
гнет90 и несмотря на это, страна процветала более чем когда-либо.
Впоследствии мы убедимся в том, что лишь сто лет спустя, после
того как вследствие братской распри и дурного правления насту-
пило оскудение, подати действительно стали чересчур обремени-
тельными. Причины расцвета Египта после персидской эпохи
легко объяснить — стоит только вспомнить об усилившемся тог-
да потреблении, возникшем из-за множества солдат, офицеров,
чиновников, о дешевизне всех житейских предметов, о более ши-
роком по сравнению с персидскою эпохою обращении денег91, не-
смотря даже на тормозившее его в Александрии пристрастие
копить казну, о расширении промышленных производств, какие
неминуемо возбуждались эллинским духом. Но важнее всего было
то, что Египет, который до сих пор ограничивался почти одним
только вывозом хлеба, сделался магистральным путем всемирной
торговли; первые Лагиды весьма пеклись о том, чтобы провести
через Египет торговлю Индии, Аравии, Эфиопии; на берегу Крас-
ного моря было основано несколько городов, аравийские морские
разбойники были усмирены92, древний канал царя Нехо опять стал
судоходным, была проложена дорога из Береники и Миосгорма
в Копт. Само собою разумеется, что большая часть привозимых
оттуда предметов препровождалась далее; египетские корабли
ходили до Черного моря; обратная кладь оттуда большею частью
тотчас же провозилась вверх по Нилу, с тем чтобы доставить ее к I ?
Красному морю и разослать по южным странам93. При Птоле- | 8
мее II Александрия, без сомнения, была уже самым большим тор-
говым городом на свете. После нашествия Александра и при -§
непрерывных распрях его преемников, избравших своим попри- | 8
щем преимущественно Сирию, Финикия утратила свою прежнюю
экспедиционную торговлю; через Александрию пролегала крат- *Щ&
чайшая и удобнейшая дорога из южных стран к Средиземному
морю. Оттого-то Родос и вступил в такую тесную связь с Птолеме-
ем Сотером; Сиракузы поддерживали с ним дружеские сношения,
а также и с Филадельфом94. Этот же, в свою очередь, после победы,
одержанной Римом над тарентинцами, вступил сверх того в пере-
говоры с римским сенатом95; с Карфагеном заключен был такой
же союз. Как ни значительна была торговая политика этой эпохи,
но сообщаемые о ней сведения крайне скудны. Нельзя, конечно,
сомневаться в том, что это процветание Александрии сильно по-
влияло на торговлю Карфагена. Во внешних сношениях Лагидов
обнаруживалось по временам важное значение коммерческой си-
стемы в самых широких размерах.
В этом отношении для Лагидов чрезвычайно важно было об-
ладание Кипром; богатый остров поставлял сверх того всякие ма-
териалы для кораблестроения, которых в Египте почти совсем не
было96. Недаром Птолемей Сотер не мог успокоиться, пока не
овладел окончательно островом. Там находились эллинские или
эллинизированные города; хотя до диадохов они и подчинялись
царям, однако сохранили свое городовое управление. По надпи-
сям из эпохи Лагидов видно, что указанное городовое управление
поддерживалось также и впоследствии97. Эти мелкие республики
относились к царям так же, как некогда союзники аттической сим-
махии к Афинам; они вполне отрешались от египетского строя.
Остров представлял как бы самостоятельное небольшое царство.
Птолемей и считал его сначала таким, что доказывается властью,
какую он передал сперва князю Никокреону Саламинскому, а по-
том Лагиду Менелаю как стратегам Кипра98. Затем в 306 г. после-
довало нападение Деметрия, который десять лет владел островом;
наконец в 295 г. он был вновь отвоеван и стратегия была восстанов-
лена, хотя в менее независимом виде. В надписях упоминаются
многочисленные гарнизоны и фрурархи в городах, также особен-
ные начальники для Китая99.
Важнее всего то, что стратег острова обязан был также со-
бирать налоги и отправлять их в Александрию100. Это вовсе не
походило уже на строгое разделение властей в египетской адми-
нистрации; такое подобное сатрапам положение стратегов ока-
залось, вероятно, неизбежным вследствие положения острова и
необходимости сосредоточить сколько можно его оборонитель-
ные средства.
§ I В подобном отношении к Египту состояла Кирена. После то и
о_| дело возникавших войн Птолемей I в 308 г. окончательно овладел
богатым краем. Кипр, как известно, он передал своему брату Ме-
нелаю, а Киренаику — своему пасынку Магу101; и тот и другой
чеканили монету с именем и изображением египетского царя, а
также со своим собственным; подобно Менелаю, и Маг также
%■ состоял в известных отношениях со старыми эллинскими полити-
ями в крае; они сохранили свое городовое учреждение102.
Выше уже было обращено внимание на выгодное положение
Египта. Весьма важно то, что ни со стороны Сахары, ни Красного
моря не оказалось политически сложившегося населения, хотя,
впрочем, монеты свидетельствуют об общинном строе у ливийцев.
Случались, правда, хищные набеги на оазисы, на торговые горо-
да, на шедшие от моря и с Сахары караваны, но все это не имело
большого значения; этих хищников прогоняли без большого труда
так же как и пиратов на Красном море. На юге Египта, в древнем
жреческом государстве Мероэ, во времена Птолемея II совершил-
ся замечательный переворот; получив греческое образование, царь
Эргамен проник со своими воинами в золотой храм, убил жрецов
и освободил таким образом исконную зависимость царской власти
от иерархии103. Имя этого царя встречается также в иероглифах
города Дакке, на южной границе области ДоАек^шойна, перешед-
шей впоследствии во власть Египта; а о Птол^Мео II известно, что
он далеко проник в Эфиопию104.
X
Впоследствии, правда, также упоминается еще эфиопский
поход; но ни этот поход, ни кампания Филадельфа не имели це-
лью охранять Египет от угрожаемой с той стороны опасности.
Усвоившее себе греческий быт странное царство Мероэ105 нисколь-
ко не тревожило Лагидов, тем еще менее, что оно само утверди-
лось благодаря лишь низвержению иерархии. К югу от царства
Лагидов также не оказалось никакого опасного соседа106.
Иначе расположились условия на берегах Средиземного моря.
Кирена и Келесирия были аванпостами Египта против смежных
соседей. Не так еще давно Карфаген вел с Киреною войну из-за
границ, которая кончилась геройским подвигом Филенов и до-
ставила сильной торговой державе хотя пустынную, но для кара-
ванной торговли чрезвычайно важную область при Сирте107. Когда
Агафокл из Сиракуз пристал к африканскому берегу, то Офел
Киренский, соединившись с ним, повел значительное войско на
Карфаген; он надеялся пунический берег соединить со своим ки-
ренским владением; сиракузец, однако, умертвил его. Тогда Ки-
рена опять перешла к Египту. Благодаря этому Египет завладел
великою индоаравийскою торговлею, которая до Александра при-
надлежала пунической метрополии. По естеству вещей значитель-
ная отрасль африканской торговли также перешла к нильской
долине; Карфаген не мог равнодушно отнестись к тому, что Кире-
на, так близко расположенная к важным и с трудом приобретен-
ным торговым станциям, к Авгиле и Сирту, стала частью быстро
расцветавшей торговой державы. Но тогда пунам важнее всего
было приобрести влияние в Сицилии; они, однако, не успели еще
упрочиться там и обратить свои усилия на восточные дела, как уже
возникла их распря с Римом и окончательно отвлекла все силы
торговой республики.
В таких же отношениях к Египту, как Кирена на западе, нахо-
дились сирийские приморские страны на востоке. Они во все вре-
мена служили как бы мостом между Азией и Африкой. Кир отвел
евреев на их родину, с тем чтобы иметь в них надежный аванпост
для нападения на Египет. Когда Пердикка и Антигон владели си-
рийским краем, то они были в состоянии напасть на сам Египет.
Хотя вследствие своеобразного положения Египет и был силен в
оборонительном отношении, однако благодаря лишь обладанию
тою важною мостовою областью достиг он решительного влия-
ния на мировую торговлю. По умерщвлении Пердикки Птолемей I
уже имел в виду утвердиться в Сирии; у него не было еще Кипра,
Сирия должна была усилить его морское могущество. Однако не-
сколько лет спустя после того Антигон отнял у него эти страны,
удержал их за собою, пока не лишился жизни в битве при Ипсе
(301 г.). Птолемей присоединился к союзу против Антигона с усло-
вием, чтобы ему уступили Келесирию; но Селевк вытребовал у царя
Фракии и Македонии этот край для себя, так как Лагид не прини-
мал более никакого участия в тяжкой борьбе; а затем, имея в виду
избегнуть распри с Египтом, он уступил финикийский берег и
Келесирию наследнику Антигона. После отъезда его в Европу
(295 г.) Селевк поспешил занять дорогие для него области. Таким
образом Птолемею II царство Лагидов досталось без Сирии; и,
казалось, пришлось навсегда отложить надежды на нее, с тех пор
как Селевкиды перенесли свою столицу в Антиохию. Они, по-ви-
димому, сосредоточили тут свои силы с целью предупредить
опасность, какая грозила в особенности со стороны Египта. Од-
нако двор в Александрии не покинул намерения приобрести, по
крайней мере, юг Сирии; он выжидал только благоприятного слу-
чая. А между тем старался подружиться с соседним племенем, с
иудеями. Их не только наделили равными правами с македоня-
нами и греками, как тоже было сделано Селевком в Антиохии и в
других городах108; Александр уже много евреев переселил в Алек-
сандрию и в Верхний Египет. При первом Птолемее они чрезвы-
чайно размножились; несметное число их прибыло добровольно.
Им поручались важные места. Удержать Кирену и ливийские го-
рода можно было, казалось, благодаря лишь значительным по-
селениям иудеев109. В Александрии из пяти кварталов города они
почти исключительно занимали два. Евреи рассеялись по всему
Египту; у них были свои собственные эфнархи110. Важнее всего
было то, что Лагиды относились с терпимостью даже с поощрени-
§1 ем к культу Иеговы, с уважением к священным книгам евреев и
с I интересовались их историей111. Хотя Палестина находилась уже
во власти Селевкидов, однако она решительно склонялась к со-
единению с Александрией112.
К этим непосредственным владениям Птолемеев следует при-
соединить группу менее сильных государств, находившихся под
их политическим влиянием, которое поддерживалось самым зна-
чительным в ту эпоху флотом. В египетских верфях (vewtroixot)
находились 112 судов самых больших размеров, в пять и до двад-
цати рядов весел, и 224 корабля обыкновенной величины; коли-
чество судов в Ливии и в других принадлежавших Птолемеям
городах превышало 4000113. Образуя конфедерацию, Киклады дер-
жали сторону Египта, точно так же Кос и древний триопийский
союз; Родос также был привязан к интересам Египта, который
благодаря морским сообщениям с Аравией и Индией служил
основою обширной торговли. Египет не обладал, правда, ни одним
местом на эллинском материке, зато он имел сильное влияние на
политику Спарты; критские города, так же как Спарта, придер-
живались двора, при котором их авантюристы получали лучший
оклад в качестве наемников.
Ограничимся этой характеристикой царства Лагидов114. Оно,
в сущности, египетское государство; энергия его основана на стро-
го устроенном и искусственно расчлененном правлении главной
г
41
страны, на сильной концентрации монархически-военной власти.
Эта власть, правда, стремилась к сближению и слиянию с тузем-
цами, она пыталась также вовлечь в свои интересы иерархию, но
отнюдь не имела в виду стать национальною. Тут вполне осуще-
ствилось то отвлеченное понятие о государстве, в силу которого
оно отождествляется с личностью монарха; государство имело
единственною целью всецелое и энергическое проявление царской
власти как внутри государства, так и вовне его. Полная казна,
всегда готовое на бой войско, сонм чиновников, повиновение под-
данных, отрицание всякой правоспособной общинной или кор-
поративной самостоятельности внутри государства; словом, та
самодержавная власть монарха, которая беспрепятственно гос-
подствует над высшими и низшими слоями и при которой поддан-
ным не предоставляется ничего кроме частного права, — вот
характерные черты державы, основанной первым Лагидом. Ина-
че было в Кирене и на Кипре; там находились эллинские политии,
и они сохранили свою общинную самостоятельность, свое само-
управление и свое право чеканить монету. Как в той, так и в дру-
гой стране царский наместник, подобно сатрапу, находился в более
независимом отношении к монархии; и та и другая всеми своими
формами была разобщена с государством; обе они составляли как
бы предместные области в отношении к самому царству, служили
аванпостами в его нынешней политике, для поддержки которой I ^
Египет постоянно прибегал к самым подходящим средствам. | §
Иначе сложилось царство Селевкидов. Уже по складу своего
образования оно существенно отличалось от Египта. Лишь с 312 г. [-§
Селевк добился прочного обладания Вавилонией: это было почи- | §
ном его могущества. Потом к нему перешли верхние сатрапии;
царство его простиралось до Инда и Яксарта; однако на восточ-
ной границе его возникло уже новое владычество Сандракотта;
ему Селевк уступил край до парапамисадов; все те мелкие владе-
ния республики, благодаря раздроблению которых Александр
нашел возможным покорить Индию, соединились теперь в силь-
ное индийское царство, простиравшееся к западу так же далеко,
как индийское наречие. Потом, после битвы при Ипсе, Селевк за-
владел страною до Евфрата до моря с включением самой Фригии.
Он перенес свою столицу из Суз и Вавилона в Антиохию на Орон-
те, как бы на форпост, служивший для наступательных действий
против Египта. Однако к остальным его рубежам примыкали не-
зависимые царства Индии, Атропатены и Армении, Каппадокии и
Понта, владетели которых вели свой род от семи персидских кня-
зей. Потом возникла борьба с Лисимахом; после смерти его запад
Малой Азии также перешел во власть Селевка. Отправившись к
Европу с целью занять также Фракию и Македонию, он лишился
жизни. Селевк передал своему сыну Антиоху Сотеру в самом деле
громадное царство; однако как скудно сложилось внутреннее
я
42
объединение последнего, каким великим опасностям подвергалось
оно на рубежах. Это было почти все царство Александра за ис-
ключением Европы, Индии и Египта; но все затруднения и пре-
пятствия, которые среди блестящих побед Александра являлись
уже мрачными тенями и которым ранняя смерть его дала возмож-
ность вполне обнаружиться, — вот что в высшей мере досталось в
наследие Селевкидам. Состав их царства понуждал их следовать
политике Александра; но средства, послужившие для завоевания
и колонизации, скоро оказались недостаточными для поддержки
и охраны. С той поры, как сложилось царство Селевкидов, стало
обнаруживаться противоречие между его протяжением и средства-
ми; и то поступательное движение эллинизма, которое, казалось,
способствовало укреплению, сильному внутреннему развитию
власти Лагидов, все более и более увеличивало прорехи и изъяны
царства Селевкидов. От него то и дело отпадали одна область за
другой.
Существенное затруднение, с каким пришлось бороться энер-
гическому Селевку, состояло в разнородности принадлежавших
ему областей, в чрезвычайном разнообразии их культур, их обра-
за жизни, традиций. Лагиды могли стремиться к слиянию исклю-
чительно с одним — с египетским народом, тогда как Селевку
подчинены были персы, сирийцы, бактрийцы, вавилоняне, и ни
g I один из этих народов в отдельности не был в состоянии придать
§1 определенный характер Селевкидову эллинизму. Он не мог, по-
добно Птолемеям, в культе Сераписа добиваться выражения ре-
лигиозного слияния; он в своем обширном царстве не мог привести
г | в исполнение ту до низших слоев проникающую администрацию,
какая оказалась возможною в древнем жреческо-полицейском
Египте. Подобное сатрапиям управление, введенное Птолемеем
лишь в его предместных областях, поневоле стало господствую-
щею формою в царстве Селевкида. В Египте македоно-греческий
элемент сплотился в войске и при дворе или расселился как по-
пало среди туземных жителей; тогда как Селевкидам пришлось
собирать его в политии и пополнять воинственными азиатами115
даже свои войска, хотя ядро их и состояло из македонян116 и гре-
ков. Селевкидово царство с самого начала лишено было единства,
центральной силы, какою обладала держава Лагидов; оно было
скопищем самых разнородных составных частей; у него не было
географического средоточия; оно к Лагидам стояло в таком же
отношении, в каком два или три столетия тому назад владыче-
ство габсбургского дома к Бурбонам.
Более точные сведения о внутренних условиях царства Селев-
кидов до того скудны, что нам приходится лишь по отдельным за-
меткам делать общие выводы.
«Семьдесят две сатрапии», говорит Аппиан117, «подчинялись
Селевку». Во владениях его во время Александра их было, веро-
X
ятно, не свыше двенадцати; они управлялись, как оказывается,
сатрапами, гиппархами и номархами118. Селевк счел, конечно, не-
обходимым сократить область и вместе с тем власть отдельных
сатрапов119; в более мелких областях они сами могли ревностнее
вникнуть в управление, и их легче было держать в пределах зави-
симости; в интересах державы оказалось выгодным распределять
отдельные национальности между несколькими наместниками и
таким образом расстроить связь между ними. Его непосредствен-
ные наследники вообще придерживались той же политики; от
него же они, вероятно, унаследовали также другое учреждение,
которое, как кажется, можно признать, по крайней мере, по не-
которым примерам. В старое доброе время персидского владыче-
ства уже в сатрапиях начальство над войском было отделено от
власти сатрапа; преобладавшее впоследствии слияние обеих дол-
жностей послужило именно во вред государственному строю.
Такое слияние гражданской и военной власти в одних руках было
следствием крайней опасности, угрожавшей в начале царствова-
ния Антиоха III. Ахею была поручена «династия», т. е. верховная
власть над землями по сю сторону Тавра, а сатрапам Лидии и Пер-
сии — над этими областями верхней Азии120. Когда оба сатрапа
возмутились, то посланный против них с неограниченными полно-
мочиями стратег вызвал эпархов Сузианы и областей при Эритрей-
ском море. После подавления мятежа эпарх Сузианы был послан
стратегом в Мидию, а на его место прибыл Аполлодор в качестве
стратега Сузианы121. Хотя Полибий обоим названиям, эпарха и
стратега, придает одно значение122, однако они, надо полагать,
все-таки отличались один от другого. По некоторым сведениям
оказывается, что в состав военной администрации входили также
города с их политиями; в таких городах упоминается об эписта-
тах123; как в Апамее, так, без сомнения, и в других городах нахо-
дились особые акрофилаки124. Судя по политическому положению
этих городов, можно предположить, что они за исключением во-
енных условий и податей в казну сами руководили своими дела-
ми, тогда как этническое население всецело состояло под властью
сатрапа, а в дальнейшем разделении области, как кажется, под на-
чальством меридархов125 и представителей номов126. Тут, впрочем,
все остается неясным.
Прежде чем овладеть Малой Азией Селевк сыну своему Ан-
тиоху передал уже верхние сатрапии. Этим как бы официально
признавалось разделение, которое пятьдесят лет спустя после того
привело к чрезвычайно важным последствиям. Страны по сю сто-
рону Тигра, населяемые племенами, наречия которых происходи-
ли от одного корня, религии которых в существенных чертах были
сходны, древняя культура которых более нежели на Востоке бла-
гоприятствовала воспринятию эллинского быта, конечно, скоро
и легко приурочились к строю новой эпохи. Несметное число но-
вых городов было основано в Сирии, Месопотамии до Эритрей-
ского моря; городская жизнь стала преобладать над господство-
вавшим доселе бытом у тех племен. Благодаря вновь пробудившейся
и развившейся промышленности в городах греческий язык из этих
средоточий, из этих начатков кристаллизации стал все более и
более проникать также в селения; туземное наречие частью со-
всем исчезало, частью поддерживалось лишь в виде варварского
языка наряду с эллинским. Финикияне, халдеи также подчинились
новому строю, даже евреи не были в состоянии отрешиться от него.
Везде в Сирии и Месопотамии встречались македонские имена;
областям, горам и рекам придавались названия родного края; стра-
на представлялась в виде азиатской Македонии; это было главное
владение Селевкидов. Иное дело — Восток; и там также было мно-
го новых городов; однако в тревожную эпоху борьбы диадохов
скоро исчезли начатки поселений хищных горцев в Загре, жалких
ихтиофагов по побережью Индийского океана. Родовая спесь ин-
дийского и персидского дворянства, патриархальная грубость
кочующих илатов туго сливались с гражданским строем гречес-
ких политий. Лишь в низменных странах Индии и Бактрии успели
тверже укорениться эллинистические обычаи; но Индия была уже
утрачена, а Бактрия отделялась от остального царства тою Иран-
скою возвышенностью, в которой новые города служили скорее
точками опоры македонского владычества, нежели средоточиями
§1 совершавшегося вокруг них преобразования. Здесь все еще господ-
с ствовало исконное коренное устройство, свойственное персидско-
Р му племени, внутренняя скудость которого обнаружилась лишь,
i когда оно добилось власти над чужеземными более развитыми
народами, а именно в том гнете, который оно налагало на них, в
% той немощи, в которой оно погибало. Таково уже было свойство
иранских племен; этому, в сущности, отвечала первобытная фор-
ма их простой, на самом деле возвышенной религии, чуждой как
многобожию или кощунству греков, так и закоренелому, свое-
корыстному, лишенному фантазии идолопоклонству народов
сирийской низменности; эта религия света, возникшая вполне из
этической потребности простых, доблестных и сильных племен,
сохранила впоследствии у нагорных и степных народов все свои
строгие формы; тут ее не коснулись ни блеск, ни упадок владыче-
ства, ни победы чужеземцев, ни их культура.
Правда, перед нами находится большой, совершенно темный
пробел в истории; она не сообщает нам никаких сведений о столк-
новении Зороастрова учения с верующими эллинами или с фи-
лософами. Однако по прошествии нескольких столетий полная
и твердая вера парсов сохранилась во всей своей свежести. Эти
племена в сокровеннейшей их сути не были заражены эллиниз-
мом; господство над ними Селевкидов не могло быть таким же,
как над населением в низменном крае; цари ограничивались на-
4D
значением сатрапов из господствовавшего племени македонян и
греков, подобно тому как прежде персидские цари назначали их
из мидян и персов, потом они собирали дань и с помощью новых
городов поддерживали, пока можно было, свое владычество.
Лишь после смерти Селевка приобретена была Малая Азия;
это была третья, не менее своеобразная составная часть державы.
Северное побережье и страна на востоке до Катаонии и Армении
находились в ведении своих династов или во власти эллинских
тиранов127 и республик; при Пропонтиде и Эгейском море лежали
бесчисленные греческие города, в которых новая эпоха опять про-
будила воспоминание о бывшей некогда независимости; города
вроде Смирны, Эфеса, Милета с большим или меньшим успехом
предъявляли свои права на политическую самостоятельность, ка-
кую сумели удержать за собою Кизик, Родос, Византии; на юге
также изобиловали города эллинского происхождения; старые
колонии и новые поселения наполняли собою уже речные долины
внутреннего края. Малая Азия всюду, куда успела проникнуть
власть Селевкидов, в самое короткое время стала греческою; одни
только горные племена Исаврии, Писидии и Ликии избегли эл-
линского влияния и остались независимыми. Тут, на полуостро-
ве, собралось немало элементов противоборства царской власти;
тут беспорядочно переплетались между собою политические по-
буждения эллинских республик, древненациональных князей и, i ^
как мы скоро увидим, новых, стремившихся к власти династов и §
и
CD
■о
Я
успевших туда проникнуть северных варваров; а Родос, Византии,
Гераклея и Лагиды охотно поддерживали всякое противодействие
могуществу Селевкидов. Последние должны были из Сирии на- | 8
блюдать за Египтом, поддерживать власть на Востоке, обуздывать
Малую Азию, отстаивать свое верховное право над древними дина-
стиями от Вифинии до Атропатены, — и все это из Сирии, из-за
Евфрата и Тигра, где не успело еще утвердиться такое владычество,
каким пользовались Лагиды в Египте. Напротив, тут Палестина
при своих первосвященниках и финикияне при своих городских
начальниках пользовались прежней свободой; даже новые города
с их в эллинском роде устроенными политиями не безусловно под-
чинялись царской воле. Пока в них сохранялась свежая сила, до тех
пор они обо всем, что творилось при дворе, имели свое суждение и
действовали, сообразуясь с ним128. Впоследствии, однако, эти горо-
да все более и более стали склоняться к распутной жизни Востока
и вполне предались шумным публичным кутежам129, они выступали
в поход друг против друга в сопровождении множества вьючных
ослов, переносивших вина и лакомства, дудки и флейты, словно шли
не на войну, а на вакханалии130. Эта порча в эллинских городах на-
ступила, конечно, гораздо позже; но их политическая самостоятель-
ность, их внутренние учреждения, без сомнения, утвердились с
самого начала и характеризуют царство Селевкидов. Развитие здесь
должно было совершаться свободнее и, так сказать, в более элли-
нистическом духе, нежели в Египте, но, лишенные сосредоточен-
ной и объединяющей основы Лагидова владычества, Селевкиды не
были в состоянии урядить общественную жизнь до самых низших
слоев и подчинить ее своей власти; напротив, они в самых городах
уже — а таких в одной Сирии насчитывалось до семидесяти —
пришли в столкновение с политическою внутреннею самостоя-
тельностью131, которая в старых эллинских политиях Малой Азии
оказалась чрезвычайно сильною. Такою же самостоятельностью
пользовались колонии дальнего востока; и в самом деле, вслед-
ствие покинутого их положения и ввиду сильных соседних пле-
мен поневоле пришлось делать им всякого рода уступки.
Здесь необходимо упомянуть об особенном обстоятельстве.
Когда Антиох Великий собрался в Вавилон, то войска его возму-
тились вследствие скудного содержания; они успокоились, когда
подошел подвоз, за исключением киррестов, числом около 6000
человек; с ними пришлось вступить в настоящую битву, в которой
они большею частью пали. На это восстание надеялся в особенно-
сти Ахей, присвоивший себе диадему; однако его войска отказа-
лись идти против своего потомственного царя132. Киррестика была
расположена между Антиохией и Евфратом; в этой области на-
ходилось несколько городов с македонскими названиями. Итак,
g I часть войска была прозвана по области, получившей македонское
имя. В армии Александра фаланги также назывались по областям,
в которых они были навербованы. Не подлежит сомнению, что эти
кирресты составляли часть тех самых македонян в армии, кото-
рые образовали фалангу; а в новых городах, как видно, селились
одни только македоняне и греки. Итак, из городов с политией по-
полнялось македонское войско царей; следовательно, граждане
пользовались правом военной службы или обязаны были отправ-
лять ее. В Египте воины составляли особенное, по всей стране рас-
сеянное сословие, тогда как ядро Селевкидова войска набиралось
из оседлых граждан новых городов. Этим, вероятно, и объясня-
ется название стратегов в противоположность эпархам сатрапий.
Во всяком случае такое воззрение подтверждается часто упоми-
наемою надписью по поводу союза между Смирною и Магнесией;
и действительно, там сказано: «Колонисты Магнесии, всадники и
пехотинцы, как в городе, так и в походе, и остальные жители»;
там-то именно и упоминается о «назначенном для охраны города
отряде фаланги»133.
Владычество Селевкидов, конечно, тоже составляет совер-
шенную монархию, но скорее по ее происхождению, чем по даль-
нейшему развитию. Это владычество, правда, тоже имеет в виду
сосредоточить все значение государства в лице монарха, однако
оно не в состоянии вполне усвоить себе исконные силы националь-
ностей; а если ему отчасти и удается это, то заодно с прилагаемыми
X
4/
к тому средствами возникают новые довольно сильные самостоя-
тельные группы. Как в Египте, так и тут вся энергия государства
основана была не на национальных, а на материальных средствах
верховной власти; потому главнейшая забота правительственной
премудрости должна была состоять в наполнении царской казны,
в более широком по возможности развитии средств для содержа-
ния войск и для подготовки военных снарядов. Едва ли, однако, в
обширном царстве Селевкидов, при преобладавшем там управ-
лении сатрапов, в виду стольких самостоятельно сложившихся
городов и областей, возможна была такая развитая финансовая
организация, как в Египте134. Немыслимо, кажется, чтобы эллин-
ские политии, финикийские города, теократические области вроде
Иерусалима и т. п. были настолько самостоятельны, чтобы могли
по собственному усмотрению распределять между собою сумму
требуемых от них податей; по надписям в Яссе узнаем135, что го-
род волен «освобождать от налогов, которыми он располагает»;
отсюда следует, что граждане как частные лица ручаются царю за
все или за некоторые только подати.
Мы во всех отношениях лишены известий о внутреннем со-
стоянии в царстве Селевкидов. Как поучительно было бы ознако-
миться с их администрацией, с их судебной системой, с доходами,
с торговой политикой; но мы едва в состоянии привести единичные
факты. Селевк I имел в виду соорудить судоходное сообщение Кас-
пийского моря с Черным; его преемник велел обстоятельнее иссле- | S
D
СО
-о
Q
Л
довать Каспий136. Итак, они во всяком случае обратили внимание
на великий торговый путь, который мог бы гораздо надежнее преж
него направиться от северной Индии и от каменной Башни к Чер- | §
ному морю, тем еще более что долина Окса находилась во власти
Селевкидов. Хотя этот каспийский проект имел меньший успех, не-
жели вновь восстановленный Птолемеем II канал Нехо, однако
вышеупомянутый торговый путь137 достиг высокого значения, как
в особенности можно судить по состоянию Понтийского царства
во времена Митридата VI Великого. Упомянем лишь об одном: у
каменной Башни выше источников Яксарта находился главный
рынок шелкового производства; хотя оттуда шелк большею частью
переходил на индийские рынки, но впоследствии главный путь этой
торговли на запад все-таки пролегал через Каспийское море138,
даже после того как парфяне утвердились у нижнего Окса. Дру-
гое подобного рода предприятие отчасти подлежит сомнению; оно
касается канала между Евфратом и Тигром139; во всяком случае,
основанная там Селевкия была чрезвычайно важным средоточием
торговли; армяне перевозили туда свои товары вниз по Евфрату и
Тигру; вследствие стремительности Тигра корабли в состоянии
лишь до этого города ходить вверх по реке; оттуда в особенности
армяне перевозили товары к северу на рынок Команы или через
Кавказ, по другую сторону которого аорсы на Танаисе вели чрез-
48
вычайно выгодный торг «индийскими и вавилонскими товарами,
получая их от армян и мидян»140; в Селевкии сходились также ка-
раваны из верхней Персии и Аравии. Оттуда же, без сомнения, а
не через Александрию, во многих роскошных городах сирийско-
го поморья, а именно в Антиохии и на юге Малой Азии, получали
значительные запасы индийских товаров. Однако, каким образом
Селевкиды способствовали этим сношениям и как охраняли их, в
какой мере они во внешней политике обращали внимание на инте-
ресы торговли, насколько сделали ее доходною для казны при
посредстве пошлин и налогов141 — обо всех этих подробностях,
которые хоть сколько-нибудь пояснили бы сношения в их царстве,
не сохранилось никаких известий.
Наши сведения вообще и в других также отношениях чрез-
вычайно скудны; мы должны ограничиться лишь некоторыми
вопросами. Например, как относились Селевкиды к туземным ре-
лигиям? Последние цари этой династии разграбили, правда, хра-
мы в Элимаиде и Иерусалиме; но Селевк I совещался с халдеями,
когда собирался строить свой город при Тигре; они, конечно, об-
манули его142. Во множестве основанных им и его наследником
городов приходилось сооружать храмы и отправлять культ по
преимуществу эллинским божествам; по крайней мере имена их
встречаются; а впрочем, ничего не могло быть проще, как Астар-
g ту переименовать в Афродиту, Анаитиду — в Артемиду и т. д.; и
§_ если бы даже стали поддерживать различные роды культа, то
с сущность религиозных понятий нельзя уже было предохранить
В от взаимного омрачения. Обменивались тем, что у кого было в
х наличности. Берос — один из высокопоставленных халдейских
жрецов, видевший еще Александра и написавший для Антиоха I
*•%»■ историю Вавилонии по священным книгам, — отправился на ост-
ров Кос и преподавал там астрологическое искусство143. Дочь его
была прозвана вавилонскою Сивиллою144. Мы увидим впослед-
ствии, какое глубокое значение для развития религиозной жизни
имели Сивиллины пророчества той эпохи. Еще знаменательнее
было быстрое распространение евреев. Они отличались чрезвы-
чайным трудолюбием, своим искусством приспособиться, своим
рвением обращать язычников: в прозелитах «ворот израилевых»
и в прозелитах «правосудия » они запаслись уже формами для рас-
пространения учения, которое в своем деистическом постижении
вскоре заняло своеобразное положение ввиду эллинского языче-
ства. Мы встречались уже с евреями в Кирене и Египте; они, с той
поры как рассеялись, селились в Вавилонии, Месопотамии, до Par
и далее; в новых построенных Селевком городах им даровались
равные права с македонянами145, и Антиох Великий велел две ты-
сячи семейств из Месопотамии и Вавилонии перевести в Лидию и
Фригию с целью утвердить там свое владычество, то и дело под-
вергавшееся опасности146.
Мы видели, как знаменательна была деятельность первых Ла-
гидов в отношении научных заведений и исследований в Александ-
рии; проявили ли нечто подобное Селевкиды? В Антиохии, правда,
находился музей, но его основал лишь Антиох VII, если это пока-
зание верно147; о библиотеке упоминается при Антиохе III148; дру-
гая библиотека находилась будто бы в Ниневии149; и т. д. Во всем
этом было мало толку; никакие известия не указывают на то, что-
бы Селевкиды существенным образом способствовали научному
и литературному развитию эллинизма. Не то чтобы его вовсе не
было в их царстве; напротив, вскоре в Киликии, Сирии, Декаполе,
даже по ту сторону Евфрата стали процветать школы и литера-
турные произведения; но все это возникло без содействия царской
власти, вследствие потребности нового городского строя, кото-
рый и в этом отношении также развивался сам по себе.
Такова на самом деле во всем проявилась деятельность Селевки-
дов. Лагиды прежде всего были, конечно, также царскими вождями
во главе своих македоно-эллинских войск; они, однако, пытались
сверх того исподволь преобразовать египетский строй жизни, пока
сами не стали все более и более подчиняться его влиянию; они ско-
ро даже согласились на то, чтобы египетская иерархия посвящала
их в фараоны. Селевкиды же, наоборот, вовсе чуждались такого
сближения с нацией: самое царство их состояло из множества раз-
личных народностей, а власть их опиралась на рассеянные кругом
эллинские города. Их владычество всегда отличалось по преиму-
ществу военным характером; и пока они поддерживали его, до тех
пор им удавалось преодолевать окружавшие их царство опасности
и вновь усиливаться даже после тяжких невзгод. Но их также не
миновала национальная реакция; в Египте она влияла как бы из-
нутри и, преобразуя, подчиняла себе царскую власть и само пра-
вительство; тогда как на владычество Селевкидов она действовала
извне с возраставшею все силою; она отделяла одну область за дру-
гою от царства, опиравшегося лишь на то эллинистическое начало,
которое все крепче и крепче приурочивалось к разным местностям
и вследствие того разбивалось на новые разнородности.
Владычество Селевкидов, надо сознаться, занимало более сме-
лое, более опасное положение, нежели царство Птолемеев; ему
приходилось переживать более грандиозные роковые превратно-
сти, то и дело вести борьбу с возмущавшимися областями, с влас-
толюбивыми соседями; из основанного Селевком царства возник
разнородный, без толку раздробленный эллинизм. Наследники его
долго с достохвальным усилием противодействовали такому раз-
дроблению. Они охотно предоставляли Лагидам возможность
покровительствовать литературе или быть даже писателями; они
пользовались не столь удобным владычеством, как Птолемеи, но
более их старались остаться македонянами; Селевкиды, а не Ла-
гиды отважились на борьбу с римлянами150.
50
Забегая вперед, скажем, что мы собрали вместе эти сведения
с целью хоть сколько-нибудь охарактеризовать оба царства, ко-
торые в их антагонизме с 280 года по преимуществу определяли
политические отношения эллинизма. Политика Лагидов и Селев-
кидов, как увидим впоследствии, противодействовала одна дру-
гой не только в южной Сирии, но также в Греции, Македонии, в
государствах при Черном море, везде до Италии и Индии. Не то
чтобы исключительно от них зависели остальные государства и
республики в Азии и Европе; напротив, всюду, как увидим, обнару-
живалось самое сильное стремление отделиться от них и действо-
вать в самостоятельных областях; но именно эта преобладавшая
забота о собственной самостоятельности и о расширении за счет
соседей влекла за собой все новые и новые политические услож-
нения, которыми упорно поддерживался один только упомяну-
тый антагонизм.
Начнем с дальнего востока. Владычество Сандракотта, как
видно по буддистским преданиям, возникло в той части Индии,
по которой прошли македоняне. Министр, усилиями которого
главным образом упрочилось его могущество, был из Таксилы.
Сандракотт с войском в 600 000 человек, как говорят, совершил
громадные завоевания151; при нем впервые вся арийская область
Индии была сосредоточена в одних руках; более мелкие династии
g I подчинялись ему волей или неволей; он властвовал от Гузурата до
gj устьев Ганга, вверх до Кашмира. Селевк, правда, напал на него и
с I проник далеко в Индию152; потом, однако, заключил с ним мир,
причем уступил завоевания Александра даже по сю сторону Инда
i | до самого Парапамиса153. Это была первая отделившаяся от об-
ширного Александрова царства область, первая национальная
%^ реакция.
И в самом деле, в основе ее, по-видимому, лежало великое
национальное движение. После нашествия Александра буддизм
начал свою победоносную борьбу против брахманизма. Освобож-
дение Индии и соединение всей страны от устьев Ганга и до гор
Паравати исполнено не брахманами, ни также князем из касты
кшатриев, а человеком «низкого происхождения, вне касты», как
в одной из драм называется Чандрагупта; он служил предметом
омерзения для брахманов, для хранителей древнего верования, для
представителей строгой системы каст и отделения всего чистого
от нечистого. Правда, по соседству двинулось уже «колесо уче-
ния», проповедовавшего покаяние и освящение, призвание всех
людей к святому делу и уничтожение ужасного гнета каст; но лишь
со времени этого пресильного князя новое учение начало широко
распространяться. К монастырям из всех каст стали стекаться
благочестивые люди, мужчины и женщины; и всякая нечисть из
области Инда, иноземцы, варвары не отрешались более от надеж-
ды и утешения освящающего учения; мертвые творения и гордая
ученость брахманов не в силах были уже поддержать обычное
право их иерархии; против нее всюду восстали рвение и популяр-
ность буддистских проповедников. Удивительно то, что учение
Будды возникло как раз в такое время, когда в Греции поучали
Фалес и семеро мудрецов, а в Египте саисская династия уничто-
жила касту воинов и приняла греческих наемников в свой край; и
вот буддизм подорвал брахманское учение и иерархию каст, при-
том в такое время, когда эллинизм проник за Инд, и из вновь осво-
божденной области Инда восстал царь «вне касты», с тем чтобы
соединить Индию в одно царство. При дворе его находился Ме-
гасфен: он говорил154, что «в противовес брахманам прамны явля-
ются охотниками до споров и строгими критиками; они смеются
над брахманами как над хвастунами и невеждами». Учение это
приобрело себе немало друзей у презренных паншанад; в 292 г.
уже буддисты выстроили ступу на западе от Инда155. Правда, Сан-
дракотт и его преемник Виндусар — греки зовут его Амитроха-
том156 — поддерживали еще учение ориманов, оттого что для этих
вышедших из простого звания властителей содействие высших каст
для поддержки своего господства было важнее всякой ревности
размножавшихся буддистов. Лишь Ашока, сын Виндусара, вско-
ре после своего воцарения формально перешел к буддистскому
учению и, относясь с кротостью и терпимостью к прежней вере,
ревностно содействовал распространению новой. Он, как говорят,
ежедневно кормил 600 000 благочестивых людей, велел в 84 000
индийских городов воздвигнуть буддистские храмы. Некоторые
из его религиозных эдиктов сохранились еще доныне; в них име-
нуются Антиох, Птолемей, Антигон. Мы ознакомимся с ними
впоследствии. Сношения этого дальнего восточного царства с ве-
ликими державами эллинизма не подлежат сомнению; упомина-
ется между прочим о нескольких посольствах к Селевкидам157; ими
был послан Мегасфен к Сандракотту и Демах платеец к Амитро-
хату158, а сверх того по поручению Птолемея Филадельфа159 при
том же дворе находился Дионисий — едва ли не с целью вступить
в торговые сношения: вообще, египетские купеческие судна тогда
еще не доходили до Индии, и индийские товары покупались на
аравийских рынках160.
Ввиду скудости источников мы поневоле должны удовольство-
ваться такими поверхностными указаниями. Еще меньше точных
известий сохранилось о царстве Атропатены, к которому теперь
переходим. Александр уже предоставил сатрапу Атропату Индий-
скому западные области прежней сатрапии. О ней упоминалось
еще при первом и втором распределении сатрапий, — и она по-
этому признавалась частью государства; с тех пор здесь возникло
особое и совершенно самостоятельное царство161. Не могу в точ-
ности определить, следует ли название Адербейджан, т. е. страна
огня, считать древним именем для этих мест; по крайней мере в
перечне клинообразных писем оно не встречается; но с тех пор
как здесь, и только здесь сохранилось чистое персидское влады-
чество162, учение персов должно было именно в этом крае обресть
свое средоточие, и приверженцы его охотно присоединились к
государю, в стране которого оно сохранилось во всей чистоте;
национальная реакция персидского племени против эллинизма
должна была обнаружиться в Атропатене. Эта реакция была до-
вольно сильная, в чем убеждаемся потому, что (около 260 до 280 г.)
восточные народы, парфяне и бактрийцы, возмутились в то время,
как цари Сирии и Мидии завраждовали между собою163; а когда
Антиох Великий выступил на войну против этого царства, то оно
простиралось до верхних стран Фасиса, до Гирканского моря и
обладало значительными боевыми средствами164.
Соседняя Армения не так скоро достигла политического зна-
чения. Правда, во время борьбы диадохов персидский сатрап
Оронт опять успел завладеть господством над страною165; он про-
изводил себя от одного из семи великих персов, и сатрапия его
считалась наследием его дома. Оказывается, однако, что из пер-
сов он последний владел Арменией166. Не Селевкиды ли захватили
ее после смерти Оронта? Подлежит сомнению, чтобы эта страна
подверглась совершенной зависимости или чтобы ей подчинилась
вся Армения; один из вифинских принцев около 260 г. искал убе-
жища у царя армян167, а Антиох Гиеракс — тридцать лет спустя,
после того бежал через армянские горы к Арсаму168, который на
одной из монет значится царем169. Обе личности, которые во вре-
мена Антиоха Великого захватили владычество в Армении, назы-
ваются, правда, сатрапами царя, но их имена Артаксий и Зариадр
доказывают, что они были армяне170, а у Селевкидов не было в обы-
чае поручать сатрапии уроженцам края. В то же время Ксеркс был
династом в Арсамосате в юго-западной Армении и платил дань
Селевкидам171. Впрочем, их власть в Армении никогда не пользо-
валась большим влиянием, а прочное господство в Малой Азии
все-таки зависело от обладания Арменией. Благодаря тому, что
во времена диадохов Армения поддерживала свою самостоятель-
ность, оказалось возможным утвердиться двум малоазиатским
владениям, а именно Каппадокии и Понту, значение которых ско-
ро сделалось роковым для эллинского мира.
По первому разделу царства эти самые области достались
Эвмену; он победил Ариарата и казнил его; но сын последнего
того же имени бежал в Армению, а потом, когда Эвмен был низ-
вергнут и Антигон начал войну с Селевком, он вернулся в свое
отечество, изгнал македонские гарнизоны и назвался царем Кап-
падокии. Это было около 301 года; сам Селевк подал повод к во-
зобновлению этого национального владычества172; вскоре оно
распространилось далее; Селевк уже в своих переговорах с из-
гнанным царем Деметрием мог располагать Катаонией; однако
именно вышеупомянутый первый царь Каппадокии завладел, ве-
роятно, во время возникших после смерти Селевка смут, этою
плодоносного областью к северу на рубеже Киликии; затем язык
и нравы катаонов и каппадокийцев слились мало-помалу173. С этой
поры Селевкидова Малая Азия состояла в связи с остальным цар-
ством только при посредстве приморской области Киликии, а по-
тому понятно, что именно Киликия покрылась новыми городами,
взбиравшимися вверх по скатам гор. Соседство с пограничною
страною было опасно, еще тем более что Каппадокия самым ре-
шительным образом поддерживала у себя национальный антаго-
низм. Цари гордились своим происхождением от одного из семи
великих персов174, и Каппадокия с мидийских времен уже про-
никлась иранским духом, край изобиловал магами и храмами
огнепоклонников175; тут находилось жреческое царство коман-
ской богини Луны, жрец которой, первый после царя избирае-
мый обыкновенно из царского рода, с величайшим уважением
почитался катаонами: его окружала толпа из 6000 храмовых слу-
жителей, мужчин и женщин176; тут были также жреческие царства
бога Венасы, Тианского и т. д.177
Династия Митридатов также заявляла право на чисто пер-
сидское происхождение; после удачно исполненного низвержения
магов Дарий Гистасп передал будто бы своему предку Артабазу
владычество над областями при Понте178. Затем князья этого рода
то и дело упоминаются в прежней истории северной Малой Азии
в разных соприкосновениях с греками; один из них считался по-
клонником Платона179, другого афиняне почтили правом граждан-
ства. Потом настали времена Александра и диадохов, исполненные
роковых переворотов для этого княжеского дома. Преемники
ссылаются впоследствии еще на то, что Александр не коснулся
областей, которыми искони владел названный дом180. Он вновь
поднялся во время борьбы царей с Антигоном; Митридат II пере-
шел на сторону союзников, которые после битвы при Ипсе, в ко-
торой он сам был убит, признали за его сыном Митридатом III,
названного Основателем, владычество у Понта по обе стороны
реки Галиса. Добиться более точных сведений о размерах цар-
ства нет никакой возможности; мы не знаем даже, подчинилась
ли Пафлагония его власти181. Во всяком случае приморские эл-
линские города с их областью сохранили свою независимость;
а именно Синопа, Тиос, Амис, Гераклея. Эти города, а также и
Митридат III, как видно, вскоре впутались в распри, возникшие
после смерти Селевка I в областях по обе стороны Геллеспонта.
Эти смуты возникли вследствие падения Лисимахова царства
и нашествия галатов; в самом крае надолго расшатались все усло-
вия. После смерти Лисимаха запад Малой Азии, также Фракия
и Македония перешли во власть его победителя, Селевка; но Пто-
лемей Керавн убил его и захватил Фракию и Македонию; он сам
пал в битве с галатами. Затем прошло почти десять лет, пока Ан-
тигон не вступил наконец в спокойное обладание Македонией.
Антиоху I, как кажется, досталась, по крайней мере, Малая Азия.
Однако династ182 Вифинии соединился с Антигоном и вызвал
часть галатов в Азию с целью поддержать и расширить свое вла-
дычество. Евнух Филетер, хранитель сокровищ Пергама, положил
основу крайне влиятельного впоследствии пергамского царства,
а древние греческие города по берегам Пропонтиды и Эгейского
моря пытались с большим или мбныпим успехом восстановить
свою прежнюю свободу, которая в иных местах была уничтоже-
на Лисимахом и везде подвергалась опасности. Таким образом,
в этих краях, в тот момент, когда мы вновь приступаем к изло-
жению событий, все находилось в сильнейшей тревоге: страш-
ные набеги галатов стали распространяться по Азии; три племени
перешли туда надолго; они по всем направлениям проявляли свое
ужасное превосходство и предавались своему ненасытному хищ-
ничеству. Всякое сопротивление казалось невозможным. Все усло-
вия в Малой Азии в эту пору находились в шатком состоянии.
В то же самое время сумятица в соседних европейских стра-
нах была еще ужаснее. Фракийские области Лисимаха сделались
уже добычею галатов, основавших под начальством Комонтория
Тилийское царство183. Фракийские племена по обе стороны Гема
подчинились; цветущее гетское царство Дромихета184, простирав-
шееся к северу от Дуная, исчезло; все, кто только мог, спасались,
как кажется, бегством. Фракийские эвпатриды с Дромихетом и
Тирисом во главе двадцать лет спустя после того находились при
дворе Селевкидов185; в войске Лагидов также служили фракийцы186.
Греческие города Пропонтиды, при Понте на юге и севере
дунайского устья не в силах были дать отпор ужасным врагам;
даже Лисимахия перешла во власть галатов, а сильный Византии
откупился данью. Замечательная надпись ольвиополитов гласит,
что ужас их имени и набегов распространился до Ольвии187. По
всей линии Дуная разлилось страшное переселение этих варваров;
возникшие после смерти Лисимаха нашествия во Фракию, Маке-
донию, Грецию были, казалось, только почином всесокрушающей
напасти; единственное спасение состояло в том, что вновь сложи-
лось сильное македонское царство и стало служить оплотом про-
тив напиравшего прибоя народной волны.
Антигон, сын Деметрия, действительно отправился в 277 году
в Македонию и вновь завладел страною, которую десять лет тому
назад утратил его отец. Но в каком безотрадном, совершенно рас-
строенном состоянии находился самый край. После ужасных
войн между родственниками Александра и усобиц между сыно-
вьями Кассандра, после деспотического владычества Деметрия
и его обширных, истощавших последние силы страны вооруже-
ний с целью всемирного завоевания, Пирр вел борьбу с Лисима-
55
хом из-за обладания царством, а после смерти Лисимаха власти
достиг не победитель Селевк, но убийца его, Птолемей Керавн.
Затем наступила бедственная эпоха галльского нашествия и анар-
хии. Мы увидим, как Антигон еще раз утратил Македонию, потом
уже вновь упрочил ее за своим домом. Бедствие и расстройство
внутри были, надо полагать, чрезвычайные; народу, завоевавше-
му некогда мир, пришлось в течение пятнадцати лет претерпеть
всякие ужасы; люди тысячами гибли в войнах Александра и диа-
дохов, рассеялись по новым городам, по войскам Египта и Се-
левкидов. Край, конечно, обезлюдел, обеднел188, силы его, самый
нерв его национальной жизни были потрясены. Подчиненные
прежде Македонии княжества пеонов, агрианов погибли, при-
надлежавшие ей фракийские области по ту сторону Стримона
были присоединены большею частью к кельтскому царству Ти-
лиса. Антигону достался лишь скудный остаток прежней держа-
вы и то в крайне опасном соседстве со всех сторон: на востоке
находилось сильное галатское царство Тилиса; на севере — не
говоря уже о дальних, то и дело угрожавших нашествием галат-
ских племенах Дуная — в ущельях у источников Аксия возникав-
шее владычество дарданов, которое вскоре распространилось до
Адриатического поморья189; на западе восстановленное Египтом
эпирское царство, достигнув при Пирре быстрого расцвета, непре-
станно пыталось завладеть Македонией; форпосты египетского
владычества на островах Эгейского моря и вскоре также по фра- I §
кийскому берегу продолжали противоборствовать Антигонидам -j
в Европе и Селевкидам в Азии. Нельзя не удивляться политике -§
македонских царей, благодаря которой они при таких скудных | 8
начатках успели достичь могущества, с каким мы ознакомимся
впоследствии. Это, конечно, было уже не прежнее националь-
ное царство Филиппа и Александра; Антигониды владычество-
вали так же, как и Лагиды в Египте и Селевкиды в Азии, окружив
себя блестящим придворным штатом, сановными особами так
называемых друзей и родственников, с которыми они совеща-
лись190, из среды которых избирали своих наместников, начальни-
ков, послов и т. д.191; это не что иное, как придворное дворянство,
частью чересчур богатое, частью обремененное долгами; воспитан-
ное в древнемакедонском институте царских пажей192 на служение
царской власти, оно отделяло престол от народа. От прежней
македонской свободы, по-видимому, немного сохранилось в на-
ции; она была вынуждена даже платить дань193; пригласив в Ма-
кедонию философа Зенона, Антигон заявил: «Тот, кто образует
правителя и руководит к тому, что требуется добродетелью, не-
минуемо также внушит благородные чувства его подданным; ибо
каков правитель, таковы, конечно, будут и его подданные»194. Как
видно, по идее этого великого державца народ всецело приурочи-
вается к образцу, к воле, к личности монарха: последний состав-
о
Я
ляет государство, его власть не ограничена; он называет народ
подданными; не древняя задушевная преданность, а лишь покор-
ность и служба, — вот в чем состоит их отношение к монарху.
Одно только, как кажется, осталось от старины или было вновь
введено, а именно обязательная для всех военная служба195, и ма-
кедоняне поддерживали исконную славу храбрости во все время,
пока существовало их царство. Однако, помимо национальной
милиции царь на границах в качестве гарнизонов в городах и при
дворе содержал постоянные войска, состоявшие из наемных фра-
кийцев, галатов, критян и т. д.; верность этих войск зависела от
личности державца и начальников, от хорошего оклада, от слу-
чайностей войны; они составляли бремя для городов и сел, неред-
ко поступали ослушно и самовольно по отношению к царям.
В Македонии были разного рода города: частью те старые
греческие поселения по прибрежью, частью туземные, какие царь
Архелай впервые в большом количестве заложил в крае, наконец,
несколько вновь основанных по преимуществу для прикрытия
угрожаемых границ196. Совершившиеся впоследствии роковые со-
бытия в царстве свидетельствуют о том, что они пользовались
известною общинною самостоятельностью197. Однако, каким
вмешательствам они подвергались со стороны царского произ-
вола, это достаточно обнаруживается в следующем примере: не
§ I доверяясь приморским городам, правительство переселило бо-
о_ лее знатных граждан с женами и детьми в Эмафию, а самые го-
ст | рода передало фракийцам и другим варварам198. Как поучительно
было бы ознакомиться с условиями сел и деревень; мы находим
одно только указание: разбив царство на четыре республики,
римляне отменили «отдачу в аренду сельских имений»199, вероят-
но, царских поместий. Хотя отличительную черту старой Маке-
донии и составляло свободное крестьянское сословие200, однако
цари обладали, конечно, землями и деревнями. Отправляясь в
Азию, Александр, как гласит сомнительное предание, раздарил
их большею частью своим сановникам, уволил многих из своих
воинов и их родственников от податей и повинностей. Во время
ужасных усобиц после его смерти, когда толпы македонян на-
ходились на службе Лагидов и Селевкидов, а в особенности
вследствие опустошительных набегов галлов, от которых жи-
тели поневоле укрывались за городскими стенами, свободное
крестьянское сословие, конечно, сильно сократилось, а благо-
даря арендной системе мелкий люд всецело был предан во власть
землевладельца. Не владело ли бьгатое придворное дворянство
такого же рода поместьями? Предание умалчивает об этом. Все
изложенное нами достаточно подтверждает, что исконный на-
циональный строй Македонии исчез, что и в нее тоже проник
новый вид царского достоинства, что все права и условия поли-
тической жизни сосредоточились в личности монарха, в идее о
X
57
верховной и неограниченной царской власти, отвечавшей поня-
тиям той эпохи о государственном праве.
По окончании усобиц диадохов Греция является в таком же
мрачном и безотрадном виде: обезлюденье, оскудение, политичес-
кая немощь, распутство, чужестранные гарнизоны или тираны в
городах, скорбное чувство вследствие всеобщей порчи у некото-
рых личностей, по временам порывистый подъем, но лишь ради
новых более свирепых распрей между отдельными областями, —
вот главные черты этого грустного состояния.
Эллинские условия после смерти Александра подвергались
чрезвычайно запутанным переворотам; за исключением Спарты
и Этолии нет ни одного места, где образ правления, власть, поли-
тика не изменялись бы то и дело самым насильственным образом.
По низвержении Деметрия (287 г.) сын его Антигон утвердился
в некоторых областях и местностях Греции. Он вышел оттуда
против Птолемея Керавна, Египет в то же время подстрекал
Спарту на борьбу с его союзниками, с этолянами, но Греция не
восстала. Потом нагрянули галаты; они наводнили собою Маке-
донию, Фессалию; но не все греки соединились на борьбу с ними;
из Пелопоннеса никто не явился; одни только наиболее угрожа-
емые соседние области выслали несколько отрядов к Фермопи-
лам. Антигон также отправил 500 человек. Год спустя после того
он вступил во владение Македонией.
Каковы же были условия в Элладе? S
Находясь со времен Филиппа под македонским владычеством, _,
Фессалия не раз тщетно добивалась самостоятельности. Основан- -§
ный отцом Антигона город Деметриада упрочивал за тем, кто вла- S
дел им, господство над краем. Не подлежит сомнению, что здесь
по форме сохранилось древнее тетрархическое правление; восста- • 'ф*
новленное Филиппом городское дворянство исключительно
пользовалось политическими правами, крепостные пенесты обра-
батывали для них землю. Из эпохи после Антигона сообщается:
«Фессалийцы как будто пользовались самостоятельным правле-
нием и во многом отличались от македонян; но на самом деле они
нисколько не отличались от них и точно так же исполняли все,
что им приказывали царские чиновники»201. А когда они в 194 г.
избавились от македонской власти, то про них сказано: «Их горо-
да не только не было никакой возможности освободить, но даже
нельзя было избавить их от сумятицы и сброда населения, приве-
сти в сносное состояние; оттого что они были расстроены не толь-
ко вследствие насилия и царского произвола, но также вследствие
беспокойного нрава народа, который испокон веков и до сею пору
не мог порешить ни одного ни собрания, ни совещания без тревог
и мятежа»202. При таких-то внутренних условиях было мало тол-
ку оттого, что по названию они составляли особое государство203
со своим особенным царем, каким был, конечно, всегда македон-
ка'
58
ский204, с самостоятельными собраниями, которые, впрочем, по-
добно сеймам польской Речи Посполитой служили лишь для того,
чтобы препятствовать всякому объединению.
Своеобразно было положение Беотии. Города этого края
еще в давние времена были соединены в союз, однако властолю-
бие Фив то и дело возбуждало самые жестокие усобицы. После
блистательной поры Эпаминонда насильственное владычество
демократических Фив усилило ненависть к ним205; город, наконец,
был взят македонянами и с помощью остальных беотийских горо-
дов разрушен Александром. Как возликовала Греция, когда Кас-
сандр вновь выстроил его еще краше прежнего; он назначен был
служить лишь укрепленным замком, с тем чтобы содержать в по-
корности область. После разных переворотов Деметрий, наконец,
подчинил себе Фивы и Беотию; когда он лишился македонского
престола и спасся бегством в Грецию, то объявил Фивы свобод-
ными. Прежний союз возник вновь; из Фив назначался союзный
архонт; семь беотархов состояли во главе союзного войска206.
Когда галаты появились в Фермопилах, то они состояли из 10 000
пехотинцев и 500 всадников. Этот союз по своим материальным
средствам мог бы, конечно, играть значительную роль в Греции.
Однако грубое насилие, одичалость, беспутные кутежи, господ-
ствовавшие в городах, мешали всякому здоровому подъему. До нас
§ I дошло замечательное изложение автора, писавшего в конце века
§_| диадохов; он говорит: «Беотийцы в следующем порядке перечис-
ляют существующие у них недуги: в Оропе господствует позорный
торг, в Танагре зависть, в Фивах кощунство, в Анхедоне алчность,
в Коронее навязчивая услужливость, в Платее хвастовство, в Он-
хесте лихорадочность, в Галиарте тупоумие; эти недуги из всей
^gs» Греции стеклись в городах Беотии»207. Их политика была крайне
шаткая. Достаточно было одного поражения (около 245 г.), для
того чтобы лишить их мужества, так что они впредь не хотели
более принимать участия в войнах Греции, а всецело предались
кутежам и попойкам, растлеваясь душою и телом208. «Во время
Антиоховой войны», говорит Полибий, «в течение 25 лет не было
учинено ни одного приговора ни по публичным, ни по частным
тяжбам, а стратеги пользовались общественными деньгами для
подкупа черни, с тем чтобы с ее помощью продлить по произволу
свои должности. Дошло до того, что бездетные люди завещали свое
имущество не ближайшим родственникам по старому обычаю, а
веселым кружкам, собиравшимся поесть и попить; даже те, у кого
были дети, передавали им только законом постановленную обя-
зательную долю, а большую часть отказывали развратным обще-
ствам. Немало было таких беотийцев, которые насчитывали в один
месяц больше кутежей, нежели дней»209.
Однако мы зашли далеко вперед в нашем изложении; нам сле-
дует пока ограничиться эпохою, наступившею тотчас же после
Z
галльского нашествия. Фокейцы, опунтские лок^ры^ мегарцы так-
же отправили войска к Фермопилам; следователЛЬНО они в 279 г.
уже не были под македонским владычеством, b-io Эвбея все еще
была в подчинении; в Халкиде, в Каристе стояли македонские гар-
низоны; хотя Эретрия и считалась свободною, од^нако она платила
200 талантов дани, которая лишь из уважения к ^достопочтенному
Менедему была сокращена до 150210. Афины, nf^aBAa> прогнали в
287 г. македонский гарнизон из Мусея; однако Саламин, Пирей
Мунихий остались во власти Антигона211. Афин^ы таКже послали
войска к Фермопилам, 1000 пехотинцев и 500 всад^ников> сверХ того
выслали корабли, сколько успели снарядить их. Г^ород похвалялся,
правда, своими подвигами в этой борьбе с варварками212, и нашлись
люди, мечтавшие о восстановлении прежнего величия* однако
средства Афин были скудны, а народ не был распложен к великим
жертвам. Зато тем пышнее и веселее жили частнь;1е ЛИца; стоит заг-
лянуть в отрывки новой комедии и убедиться, ч то кухня, любов-
ные связи, блюдолидство и аромат «интеллигентности» вызывали
всеобщий интерес. Дело дошло до того, сказал од ин из философов,
что скоро станут подмалевывать даже навозны^ КуЧИ. По дороге
из Афин в Ороп находилось множество красивы^ гостиниц со все-
ми удобствами и с отличной прислугою213.
Здесь скажем лишь несколько слов о Пелопо<ннесе так как там
в ближайшем будущем настанут более значителы^ые события. Вла-
дычество Антигона около 279 г. ограничилось т^м немногими ме-
стами. Соблюдая все еще уставы Ликурга, кот<^рые давно стали
ложью вследствие олигархии каких-нибудь ста Семейств, присво-
ивших себе все владения, Спарта находилась с некоторых пор в
связи с Александрией и благодаря ее поддержке собиралась вновь
играть роль в Греции. Когда Антигон двинулся Против Птолемея
Керавна в Македонию, то Спарта предприняла известную амфи-
ктионовскую войну, к которой, однако, остальные области отка-
зались примкнуть, опасаясь возобновления ге^емонии Спарты.
Мессения и Мегалополь не отправили в 279 г. никаких отрядов
против галатов, оттого что Спарта отказалась Поручиться дого-
вором за их безопасность во время отсутствия и^ войск. Они ста-
ло быть, не находились более под властью Антигона, который
господствовал еще в Трезене, Коринфе, в некотс^рЫХ городах Ар-
кадии, но, вероятно, ни в Аргосе, ни в Элиде. Однако какой был
толк в подобных освобождениях? Изгонялись, пр^вда македонские
гарнизоны, но вследствие жестокой распри партий, постоянно
бывшей плодом такого освобождения, возник^ла обыкновенно
тирания и, примкнув к Македонии, она, конечно, поддержива-
лась ею. Одни только ахейцы составляли ДОСТо^лавное исключе-
ние; их прежний союз также распался при Филиппе и Александре,
в их городах господствовали то гарнизоны, то тИраны. но старая
простота и честность сохранились в горах небольшого КраЯ; а в
смутное время нашествия галатов четыре города в Ахае изгнали
тиранов и гарнизоны и возобновили прежний союз. Тут уцелев-
шее ядро прежней доблести вновь пустило ростки, хотя лишь в
слабых, едва заметных попытках. Итак, нашлись еще места, где не
совсем иссяк и погиб дух доброго старого времени: в Элиде все
еще царило прежнее помещичье приволье, и кинефийцы все так-
же были дикими грубыми малыми, вовсе чуждыми муз. Однако в
целом составе каждая отдельная местность более и более утрачи-
вала свой прежний отличительный характер, так что нигде не об-
разовалось политически национального начала, которое было бы
в состоянии исцелить тем еще более немощное раздробление.
Во время нашествия галлов в Греции одна только область это-
лян сохранила самостоятельное значение; к ним примкнули уже
парнасские локры; Гераклея при Эте также должна была присое-
диниться к ним. Этоляне были грубым, свежим, как бы только что
возникающим племенем, в чем и состояла их мощь. Другие облас-
ти пережили длинный ряд исторических развитии, переиспытали
разные политические теории, истощились в то и дело возобнов-
лявшихся злоупотреблениях и в устранении их; в этом настоящем
жалком своем состоянии они удержали лишь груду развалин из
близких и дальних, добрых и злых времен, а племя этолян между
тем сохранило грубую свободу той первобытной эпохи, когда пра-
во поддерживалось еще мечом, когда честная добыча на море и на
суше признавалась промыслом доблестного мужа. К этолянам не
проникло нашествие дорийцев, с тем чтобы разрушить древний
племенной строй и образовать сильно сплоченное военное госу-
дарство; к их прибрежью не приставали впоследствии никакие
колонии; они были чужды остальным эллинам; над ними бесслед-
но прошли века, в которые Греция развивалась все более и более.
В Пелопоннесскую войну они показались афинянам полуварва-
рами; однако когда афиняне вздумали напасть на них, то быстро
созванное ополчение горцев отразило их в кровопролитном бою.
С незапамятных времен существовал союз этих кантонов, этих
горных племен; но шаткая связь их обнаружилась, когда после
разрушения Фив каждая из областей отправила к Александру
своего особого посла214. Лишь в сумятицу наступившей затем эпо-
хи предстал этот союз в своем настоящем виде. Вследствие зако-
ренелого воинственного задора и хищных, нечаянных набегов
некоторых вождей215 или селений, вследствие гордого сознания
своего грубого превосходства этот союз вскоре стал казаться на-
стоящим организованным разбойничьим государством, с кото-
рым не было возможности сноситься общепринятым путем
народного права; и такого рода свобода считалась этолянами
привилегией их союза. В Фермах высоко в горах они снаряжали
свое союзное торжество и свое собрание; там же были их ярмар-
ки и пиры; там в храмах и в палатах находились тысячи доспе-
61
хов, сокровища и драгоценные сосуды, праздничные одежды и
все самое дорогое, что удалось сохранить каждому из них. На
сходках и во время кутежей вся эта роскошь выставлялась напо-
каз; тут же совещались и пировали, а когда предстояла война, то
вся эта народная дружина тотчас же после пира и совещания
выступала под начальством нового стратега, наградою которого
была затем треть добычи216. Это, как видно, был искони грубый
союз217; тут и речи не могло быть о политике, о законности, о во-
енном искусстве; чем больше сумятицы происходило в остальной
Греции, тем удобнее было разбойничать, тем выгоднее казалась
ратная служба где бы то ни было — как у друга, как и у недруга.
Не существовало более рьяной, более неодолимой храбрости, чем
у этолян; они никогда не бросали меча; всегда готовые с дерз-
кою отвагою жертвовать жизнью, они предавались всякого рода
самым диким, самым распутным наслаждениям218. Это государ-
ство было совершенно чуждо политике той эпохи, которая была
исполнена дипломатических формальностей и макиавеллисти-
ческой рутины, которая тщательно соблюдала формы, но нагло
нарушала право, которая не избегала никакого рода насилия, лишь
бы оно совершалось под приличным покровом основанного на на-
родном праве этикета. Этот союз представляет резкую противо-
положность Ахейскому: правдивый в своих разумных поступках,
последний осмотрительно принимается за свои преобразователь-
ные попытки, надеясь свою власть и спасение Греции основать I g
на уцелевших еще остатках патриотизма, самоотвержения и на э
вере в доброе дело. -§
Для завершения цикла эллинской политики нам остается рас- | о
смотреть еще одно владычество — царство Эпира. Феопомп на-
считывает четырнадцать эпирских народов219. Хотя они грекам и <*^
казались варварами, но тем не менее они были, можно сказать,
пеласгического племени и только отстали от эллинского разви-
тия. Каждый из этих народов пользовался самостоятельностью;
однако то один, то другой из них захватывал гегемонию над сосе-
дями. Так, например, хаоны во время Пелопоннесской войны: их
начальники избирались из одного известного рода220, сменяясь по
двое ежегодно; под их управлением находились феспроты, у ко-
торых так же, как и у них, не было короля. У других племен со-
хранилась древняя княжеская власть, а именно у орестов в роде
Пердикки, у эфиков в роде Полисперхонта, у афаман в роде Ами-
нандра, у тимфеев, вероятно, в роде Андромена. Эпирские племе-
на подверглись одинаковой участи с македонскими, с тою лишь
разницей, что у последних в Гераклидовом роде ранее образова-
лась власть, успевшая подчинить себе мелких племенных князей;
из эпиротов некоторые племена, а именно оресты, эфики, тимфеи
также подчинились македонскому владычеству. В Эпире повтори-
лись совершившиеся в Македонии преобразования, но только го-
раздо позже. Молосская царская власть пыталась произвести тут
такое же объединение. У молоссов искони господствовала цар-
ская власть; «благодаря тому, что она была ограничена», говорит
Аристотель, «она удержалась, тогда как у других она пала». При-
нося в Пассароне жертву Зевсу Арею, царь молоссов клялся пра-
вить по законам, а молоссы также обещали охранять царскую
власть221. В то самое время как Архелай в Македонии вел свой на-
род к высшему развитию, царь Фаррибас, воспитанный в Афинах,
урядил законы и правление молоссов, установил сенат и ежегод-
ных сановников222. Затем прошло почти целое столетие, пока Эпир
не достиг более высокого значения. В Македонии прежде того
еще настала славная эпоха Филиппа и Александра; даже царский
дом молоссов находился некоторым образом в зависимости от
Македонии223; это состояние продлилось также и после смерти
Александра. Когда царь Эакид повел молоссов на войну против
Кассандра, то это их крайне обременило; они покинули стан, все-
общим постановлением народа отрешили своего царя, и Кассандр
назначил регента в Македонию. Однако когда, вооружившись в
Греции, Деметрий повел борьбу из-за обладания Македонией, то
Пирр вернулся и, поддержанный египетским царем, начал досто-
памятный ряд войн, выдвинувших на некоторое время Эпир на
первый план эллинских отношений. Он простер свое владычество
g I до пределов дружественной Тавлантинской области и за Акарна-
§_| нию; в Амбракии воздвиг он свою блестящую столицу. Хотя Ма-
кедония после продолжительной борьбы и не была окончательно
покорена, однако она была вынуждена возвратить древнеэпирские
X
£ I области Тимфею и Парабею224. Пирр был самый отважный и са
мый счастливый полководец той эпохи; его народы обладали еще
силою и свежестью, тогда как в Македонии все это было растра-
чено Филиппом, Александром и его преемниками. Области Пир-
ра процветали и густо населялись, изобиловали поселками, но
лишены были городского быта. Под владычеством Пирра быстро
изменился нрав эпиротов; его слава, мужество, неутолимая страсть
к войне воспламенили народ; всякий охотно покидал очаг и плуг
свой, лишь бы добиться при нем оклада, добычи и славы. Затем
война последовала за войной; борьба закипела по всем направле-
ниям. Пирр, словно царь ратных дружин, пускался в приключения225;
свободное, мирное крестьянское население преобразовалось в
войнолюбивые шайки, и нация с ее прадедовским коренным стро-
ем совсем отступила на задний план перед царскою властью с ее
двором и ее войском.
С именем этого царя был связан также решительный поворот
в судьбах западного греческого мира; вместе с его походом в Ита-
лию возник ряд войн, которые в своем порыве увлекли за собою и
потрясли Африку, Грецию, Македонию, а вскоре затем также
Азию, Египет и весь древний исторический мир.
63
Как пышно расцвели эллинские колонии в Сицилии и Италии!
Было время, когда на берегах Кампании до Апулии, в Сицилии, на
Липарских островах обитали греки, когда Массилия заселяла
южные берега Галлии, когда фокейцы владели Корсикой, и Биант
из Приены с азиатскими ионийцами задумал основать в Сардинии
новую родину. Когда в Малой Азии греки подчинились персидско-
му владычеству, в то время как на западе они достигли необычай-
ного расцвета. Тщетно карфагеняне одновременно с нашествием
Ксеркса пытались овладеть Сицилией; они были разбиты при
Гимере; кумскою победой упрочилась безопасность италийских
греков против сильных войск этрусков, владевших Этрурией,
Лациумом и Кампанией. Мы с изумлением следим за развитием
греческого духа в Сицилии и Италии; какой избыток сил и блеск
при княжеских дворах, какое богатство в городах, какой подъем
в их политической, их интеллектуальной жизни; там возникли и
замечательный союз пифагорейцев и глубокомысленное учение
элеатов; там сочинял Эмпедокл, оттуда афиняне заимствовали
искусство красноречия. Избыток блеска в этих областях помрачал
даже Ионию; до такой степени богаты были их громадные пышные
храмы, население их городов, доходы с торговли, их жизнь и на-
слаждения, их поэзия и философия.
Но греки по своему обыкновению вечно враждовали друг с
другом и сами с собою; а опасные враги со всех концов пользова- I ^
лись удобным случаем напасть на них. Распри между сицилийски- | §
ми городами, в которые вмешались Афины, подали карфагенянам
повод начать борьбу из-за владычества на острове; все, что тут \-%
было утрачено, Дионисий пытался возместить в Италии; однако S
италиотам не помог их союз, они были побеждены; начиная с Ре-
гиона и далее к северу их цветущее состояние иссякло. А тут на-
пирали уже другие враги; от натиска галлов, от подъема Рима
изнемогла власть этрусков; храбрые самниты господствовали уже
над греками в Кампании и на юге; а луканы в связи с Дионисием
теснили соединенные города с тыла; вскоре затем с новым наро-
дом, с бруттиями, возникла новая опасность.
А потом, после смерти Дионисия I, произошло ужасное рас-
стройство. В то самое время, как греческие области совершенно
изнемогли под напором Филиппа Македонского, Сицилия восста-
ла еще раз под начальством Тимолеонта, изгнала из разных мест
тиранов, победила карфагенян, добилась признания свободы всех
греческих городов на острове. Свежие переселенцы во множестве
нахлынули из порабощенной Греции; опустевшие города вновь
заселились; превосходные законы доброй старины возобновили
прежнее цветущее состояние; запущенные поля стали вновь воз-
делываться и давали богатую жатву; совсем было упавшая торговля
вновь оживилась; о возраставшем благосостоянии острова свиде-
тельствовали художественные произведения, которые в большом
количестве появились именно в этот наиболее продолжительный
мирный период.
Почти в то же время греки в Италии, по крайней мере в одном
месте, добились значительной силы. Нельзя не удивляться доб-
лестному Архиту — Периклу Тарента; под его ведением этот
чрезвычайно богатый город, который один лишь успел остаться
невредимым между италиотами, обнаружил мощь и внутренний
строй, благодаря чему и был в состоянии взять на себя охрану ита-
лийских греков и гегемонию союза, собиравшегося в тарентинском
городе Гераклее226. В этот период город, по-видимому, пользовался
самым цветущим состоянием. По всему южному побережью Ита-
лии Тарент был единственною значительною гаванью; все сноше-
ния из Сицилии и Греции с городами и племенами как по этому,
так и по Адриатическому побережью до Сипунта на севере сосре-
доточились в Таренте227; тарентские корабли ходили в Истрию и
Африку, к богатым портовым городам Иллирии, в Ахайю228, Ки-
рену, Малую Азию. Город обогащался не одною только выгод-
ною транзитного торговлею; изобилующие пшеницею поля его,
плантации, рыболовство доставляли предметы для обильного
вывоза; соль его была превосходного качества и в значительном
количестве сбывалась в крае229; о том, как значительны были его
металлические изделия, можно уже судить по тому единственно-
му месту, в котором о них упоминается230.
§_ Важнее всего, однако, были их фабрики шерстяных изделий,
с которые изготовлялись с величайшим тщанием и искусством. В
2 принадлежавшей городу области содержались несметные стада
х овец. Благодаря заботам о выкормке и содержании231, об улучше-
нии породы и об отличной промывке тарентинцы добывали то-
%-: вар, который в древности славился под именем греческой шерсти232.
Тарентинские ткани также отличались чрезвычайною красотою,
а тамошнее красильное искусство уступало только сирийскому.
И доныне еще красивые монеты Тарента с их разнообразны-
ми изображениями прядилен и красилен свидетельствуют о том
значении, какое эта промышленность имела для города. Полити-
ческий характер населения, конечно, также обусловливался тем,
что деятельность и благосостояние Тарента преимущественно свя-
заны были с промышленностью и торговлей. Как в Афинах после
смерти Перикла, так и здесь тоже с кончиной Архита ослабел дух
демократии, колеблясь из стороны в сторону лишь в худшей еще
смене между тормозившим влиянием богачей и всегда шумной, но
редко устойчивой ревностью демоса. Простой народ отвык от
военной службы; он никому из сограждан не доверял более выс-
шей воинской власти; когда приходилось вести войну, то, подобно
италийским республикам на исходе средних веков, приглашались
чужеземные военачальники с их наемными ратями. В то самое
время, как Тимолеонт принялся за свое великое дело в Сицилии,
65
тарентинцы на борьбу с луканами вызвали спартанского царя Ар-
хидама. Он прибыл во главе тех беспутных фокейских наемников,
которые в течение целого десятилетия взамен оклада вознаграж-
дались расхищением дельфийской святыни; царь и войско погибли.
Как раз в это время римляне вели свою первую великую войну с сам-
нитами. Тут дело шло о том, кому впредь суждено господствовать в
Италии; они теперь пока мерились только своими силами; заклю-
ченный ими мир, по существу, не мог быть продолжительным.
Богатый Тарент не воспользовался случаем, когда еще раз
оказалось возможным спасти италийский греческий мир. Он об-
ратил свое внимание лишь на ближайшую опасность, которою
угрожали луканы. Против них Тарент вызвал Александра Молос-
ского, дядю Великого Александра233. Вскоре обнаружилось, что
он не был намерен ограничиться одною лишь борьбою в угоду та-
рентинцам, а, скорее, имел в виду, подобно македонскому царю
на Востоке, завоевать царство на Западе. К нему стекались изгнан-
ные луканы. Он овладел многими луканскими и бруттийскими го-
родами; затем высадился у Посидонии и разбил тут соединенных
луканов и самнитов. Римляне заключили с ним союз. После этого
тарентинцы отказались от него. Александр захватил Гераклею и
перенес союзное собрание в область Фурий234, но как только тарен-
тинцы покинули дело Александра и греков, то счастье изменило ему;
луканские изгнанники предали его; окруженный врагами, он ли- I ^
шился жизни. S
о
Несколько лет спустя после того началась вторая кровопро-
литная самнитская война (326 г.); она загорелась вокруг гречес- -§
кого города Неаполя; самниты обещали защитить его; луканы, §
пострадавшие всего сильнее от побед эпирота, примкнули к сам-
нитам. Таренту следовало бы в собственных интересах вмешаться *'%
в дело воюющих племен, и он мог бы вынудить их к миру235. Город
и пытался было сделать это; но когда римляне, несмотря ни на что,
стали продолжать борьбу, то он отказался поддержать объявлен-
ный им вооруженный нейтралитет; Тарент, вероятно, надеялся,
что обе, равно враждебные италийским грекам державы в ожес-
точенной войне вконец погубят друг друга236.
Между тем как велась эта борьба из-за господства в Италии,
возгорелась другая, не менее ужасная война из-за Сицилии. После
восстановленного Тимолеонтом мира вскоре опять возникли пре-
жние раздоры партий. Всего сильнее свирепствовали они в Сира-
кузах; там олигархическая партия одержала наконец победу и
подала помощь кротонцам, которых теснили бруттии. Однако
обиженный ими смелый вождь Агафокл отправился в Тарент, с
тем чтобы предложить свои услуги республике^его отвага встре-
вожила граждан; они отставили Агафокла. Сиракузские олигар-
хи в это время осадили Регион. Агафокл выпустил воззвание, в
котором пригласил изгнанников соединиться с ним на защиту сво-
3 История эллинизма
боды; он выручил Регион и двинулся на Сиракузы. В жестокой
борьбе партий олигархия пала; Агафокл был отозван назад и на-
значен неограниченным полководцем, а олигархи тем временем
собрались в Агригенте, вступили в связь с Гелою, Мессаною, с кар-
фагенянами, с тем чтобы восстать против жестокого самовластия
Агафокл а. Беглецы из Сиракуз отправили послов в Спарту. Ак-
ротат, сын царя Клеомена, стал вербовать наемников. Во время
своего переезда он был дружелюбно принят в Таренте; тарентин-
цы снарядили двадцать триер на выручку Сиракуз237; они имели в
виду великую политическую комбинацию; но тарентинцы не успе-
ли еще отплыть (314 г.), как дело рушилось вследствие подлости
спартанцев; власть Агафокла стала распространяться беспрепят-
ственно. Карфагеняне опасались, как бы при объединяющей вла-
сти отважного полководца не прекратилась поддерживаемая ими
распря на острове, как бы вместе с тем они не лишились влияния и
не утратили даже своей области на нем. Выступив освободителями
греков, они напали на Сицилию со значительными войсками; вско-
ре остров до Сиракуз находился в их власти; для Агафокла, каза-
лось, не было спасения. Но тут он прибег к отчаянному плану; он
бросился со своими наемниками на корабли, удачно пробрался
между карфагенскими судами, рассеянными по морю, и высадил-
ся в Африке. Гордая торговая держава оказалась на краю гибели.
§ I Итак, на западе в одно и то же время боролись как бы две сто-
gj роны; они отличались одна от другой по своим средствам и по-
с I следствиям: здесь выступали наемники против наемников, там —
народ против народа; здесь — самая отважная стратегия против
i I самой коварной меркантильной политики, впервые почуявшей
сильную опасность; там — суровый убийственный бой взаимной
ненависти не на живот, а на смерть, словно оба атлета, охватив
друг друга с равною силою и оцепенев в лютой борьбе, как бы сли-
лись в одно тело и готовы, наконец, вместе повергнуться ниц.
Однако Рим победил; самниты были вынуждены признать его
верховенство, отказаться от господства над луканами. Тарент без-
рассудно предоставил самнитов погибели. Правда, под исход вой-
ны город, вероятно, опасаясь возраставшей заносчивости луканов,
опять обратился к вождю наемников. Спартанец Клеоним, брат
Акротата, но еще беспутнее и отчаяннее его, прибыл из Тенара с
5000 ратников; в Италии он скоро увеличил свое войско сбежавши-
мися к нему наемниками и навербованными в городах милициями
до 20 000 пехотинцев и 2000 всадников; затем принудил луканов
заключить мир с Тарентом, покорил и разграбил Метапонт, сна-
ряжаясь после того к более обширным подвигам. Не только Та-
рент стал бояться этого сорванца и его шаек; благодаря ему даже
Рим согласился на предложенный самнитами мир; вероятно, сенат
нашел также целесообразным вступить в переговоры с тарентин-
цами, лишь бы отнять из-под ног Клеонима почву. Упоминается,
между прочим, договор, которым Рим обязался не пускать своих
кораблей далее Лацинийского мыса близ Кротона; этою ценою,
вероятно, и побудили тарентинцев уволить авантюриста с его вой-
ском, и они лишь значительными жертвами искупили его отъезд238.
Тарент надеялся, по крайней мере, в своем собственном море не
подвергаться впредь нападениям римского флота.
Карфаген в течение четырех лет встречал могучего Агафокла
на африканских полях. Затем мятеж в Сиракузах принудил его
поспешно вернуться назад; вследствие мира пунам также возвра-
щена была их часть Сицилии; мятежники были усмирены в жесто-
ком бою; власть Агафокла над остальною частью острова была
обеспечена.
Вскоре вспыхнула третья, самая ужасная война между Римом
и самнитами (298 г.). Последние напали на луканов, а эти обрати-
лись за помощью к Риму; Рим признал нападение нарушением
мира. Этруски, галлы восстали против Рима, через Альпы прибы-
ли новые ватаги галлов. По всей Италии пылала жесточайшая борь-
ба; она с переменным успехом продлилась восемь лет. Энергия
римского народа проявилась в полном блеске; он от бассейна По
до южной оконечности Аукании одерживал победу за победой.
Господство Рима над Италией было упрочено.
Разве греки станут еще оспаривать его? Со стороны Сицилии
это оказалось уже невозможным. После бесплодной попытки
против Керкиры Агафокл завладел Кротоном; он воевал с брут-
тиями, но не смог одолеть их; они вступили в союз с карфагеня-
нами. Против последних тиран снарядил новое многочисленное
войско; он надеялся с 200 военных кораблей победить их также
на море. Но тут Агафокл был убит (288 г.); карфагеняне соеди-
нились с убийцами. После кровавой борьбы царство Агафокла
распалось; даже в Сиракузах граждане восстали против наемни-
ков; насилу добились их выхода. Большею частью урожденные
кампанцы, они, возвращаясь восвояси, собрались в Мессане; пе-
ребили там граждан, завладели городом и основали разбойничье
государство мамертинцев. Сицилия была совершенно немощна
и вполне расстроена; возникшее благодаря строгому, но мудро-
му правлению Агафокла цветущее состояние239 быстро минова-
ло; во всех городах усилились тираны; для политики Карфагена
тут открылось свободное поприще.
Греческие города в Италии находились даже в более жалком
состоянии. Прежнее величие Кампании иссякло, города пустели
или наполнялись варварами, римскими подданными. Немногие
уцелевшие потомки греков в По-сидонии собирались втихомолку
один раз в году, со слезами вспоминая о прежнем времени, когда
они говорили еще по-гречески и были свободны240. Немногие из
южных городов, успевших отстоять свою независимость, также
сильно ослабели, цветущее состояние их граждан извелось во внут-
3*
ренней распре или в борьбе с сицилийскими тиранами, с бруттия-
ми и луканами. Лишившись обширных, некогда принадлежавших
им областей, они вынуждены были ограничиться своими стенами,
в обширных пределах которых население сплачивалось все теснее
и теснее. Теперь бруттиям в их набегах на Регион нечего уже было
опасаться сиракузских тиранов, а свободные после разгрома сам-
нитов луканы стали опять совершать разбойничьи нападения на
Фурии; Кавлония, Кротон, Метапонт, словом, все, что еще уцеле-
ло от эллинских городов, оказалось немощным, нуждалось в за-
щите. Однако Тарент все еще процветал; город казался могучее,
чем когда-либо. Теперь уже и речи не могло быть о соперничестве
великогреческих и сицилийских городов, и утраченная ими тор-
говля большею частью досталась Таренту. А договором с Римом
город обеспечил свое море от захватов главного государства в
Италии; споспешествуя предприятию царя эпирского на Керки-
ре, город обязал благодарностью самого сильного из князей по
ту сторону Ионического моря и заручился на всякий случай его
дружбой.
Для успехов промышленности и торговли Таренту необходи-
мо было сохранить мир и устойчивость; значительная партия в
городе действительно готова была поддержать политику в этом
и только в этом смысле; к ней принадлежали, конечно, преиму-
щественно оптовые торговцы и богатые промышленники. Им,
вероятно, город и обязан вышеупомянутым договором с Римом.
Противники обзывали их друзьями римлян, упрекали их в том, что
храбрые самниты, с которыми город вел такую прибыльную тор-
говлю, вовсе не были поддержаны Тарентом в продолжительной
и тяжкой борьбе, в том что все области около Тарента, Лпулия,
Самний, Лукания были утрачены, и Рим стал политическим и эко-
номическим средоточием этих племен. Тарентинцев сильно беспо-
коило то, что римское могущество в одно поколение чрезвычайно
быстро распространилось, что оно все ближе и ближе подступа-
ло к Тарентинской области и в двух переходах от Тарента, в Вену-
зии, соорудило уже наступательную позицию, военную колонию.
Властолюбие и страсть к захватам Рима не знали, как видно, пре-
делов, и всюду, куда бы он ни проник, прекращались мирные сно-
шения и благосостояние вместе с независимостью. Понятно
поэтому, что Тарент питал враждебные чувства к римлянам и имел
в виду воспользоваться страхом, ненавистью, злобою италийских
племен, с тем чтобы составить из них союз на истребительную
борьбу против заносчивого города, в котором как раз в это время
(287 г.) жестокие внутренние распри довели плебеев до выселения
на Яникул. Это, казалось, служило признаком того, что аристо-
кратическое правление, которому город Рим был обязан своим
превосходством, отнюдь не покоилось на твердом основании, и,
быть может, в самом римском демосе представится еще союзник.
Возникли самые обширные переговоры; тарентинские послы
переходили от этрусков к галлам, умбрам, подстрекая их к отпа-
дению от Рима; самниты также охотно последовали еще раз улы-
бавшейся им надежде. Луканам показался нетерпимым неравный
союз с Римом, победы которого были возможны благодаря лишь
их близорукой политике. Тарент не преминул заручиться содей-
ствием луканов и бруттиев в ущерб глубоко упавшим греческим
городам, к обладанию которыми эти италики стремились уже с
давних пор; он не препятствовал варварам угрожать эллинским
городам. Луканский вождь Стений Статилий два раза уже нападал
на Фурии, но народный трибун К. Элий в Риме предложил против
него закон, за что фурийцы почтили его золотым венком241. Это
случилось, вероятно, перед началом великой войны; фурийцы, ли-
шившись всякой помощи, обратились к Риму с просьбой о защите.
Был ли тот закон приведен в исполнение или нет (последнее
всего вероятнее), во всяком случае он до крайности ожесточил
против Рима луканов и всех союзников. От сената не укрылось
движение среди народов; он послал242 Кв. Фабриция к союзным
городам, с тем чтобы предостеречь их от нововведений; они, од-
нако, арестовали посла, отправили депутатов к этрускам, умбри-
ям, галлам; побуждаемые ими, некоторые из племен отпали тотчас
же, а другие немного спустя после того. В 284 году война уже была
в разгаре243; хотя тарентинцы и раздули борьбу, но сами они, как
несомненно доказано, притворялись, будто поддерживают мир-
ное настроение с Римом; римляне же, хотя и знали про их козни,
оставляли их до поры до времени в покое244. Итак, италики побуж-
дались Тарентом восстать против Рима не в официальных фор-
мах, не от правительства, а напротив, людьми, которые, вопреки
миролюбию богачей и на свой собственный страх, воспламенили
борьбу против Рима, надеясь таким путем добиться тем большего
влияния для Тарента в Италии и для себя в Таренте. Недоставало
только какого-нибудь повода для того, чтобы возбужденное та-
ким образом настроение в самом даже Таренте не разгорелось
ярким пламенем; мы увидим, что повод скоро нашелся; тогда и
Тарент ринулся в ужасную борьбу. Величайший полководец в гре-
ческом мире, эпирский царь Пирр был вызван в Италию, а Рим
заключил с Карфагеном оборонительный союз245.
С этих пор западные отношения, слившись вскоре с восточ-
ными, стали развиваться с роковою последовательностью. Загля-
нем вперед на исход дела. Греческое владычество вскоре изнемогло
в Италии; Сицилия не в силах была уже оправиться; Карфаген и
Рим вступили друг с другом в борьбу, со всею мощью резко про-
тивоположных принципов, со всею яростью властолюбивых по-
кушений, — и тот и другой вполне сознавая, что ратуют за свое
существование. На востоке в то же время свирепствовала борьба
Лагидов с Селевкидами, а под покровом ее возникли новые цар-
ства парфян и греков в Бактрии, окрепли национальные династии
на севере, и пергамские династы приобрели себе царство. В се-
редине между востоком и западом городские и государственные
системы древней Эллады частью с новыми названиями достигли
нового значения. Благодаря войне с эпиротами Рим вступил уже
в связь с их странами; они, однако, были пока все еще сильнее за-
няты восточной политикой; при посредстве Македонии они при-
нимали участие во всех треволнениях этой политики. Неизменно
параллельными потоками шли условия эллинских и эллинистичес-
ких государств; ими руководили насущные выгоды, временная по-
требность, то с одной, то с другой стороны угрожающая опасность
возникающего сильного владычества; ими руководила не внутрен-
няя необходимость национальных принципов, а напротив, совер-
шенно внешняя механика ревнивой политики равновесия, которая
постоянным колебанием своим истощает собственные силы.
Итак, история наступающих двух веков, как выразился Поли-
бий246, спорадически вращается в трех сферах. Разбитый в Сицилии
Карфаген обратился затем в Испанию, укрепил там континенталь-
ное могущество, которое было в состоянии напасть на Рим на его
собственных полях, заключил с македонским царем союз, против
которого римляне заручились помощью этолян и пергамских ца-
рей; вследствие этого они стали врагами Селевкидов и Антиоха,
g I добившегося благодаря его походам в Бактрию и Индию назва-
§_| ния Великого; он же соединился с македонским царем, для того
чтобы разделить с ним державу Лагидов. Таким образом, обшир-
ная связь охватила политические условия Геркулесовых столбов
i I и до Инда; «За Рим или против Рима!» — вот бранный клик, каким
был исполнен мир.
В следующих за сим главах мне предстоит изложить шестиде-
сятилетие от нашествия Пирра и до войн Ганнибала.
х
ГЛАВА ВТОРАЯ
280-275 гг.
Тарент и коалиция италиков. — Победы Рима. — Тарент
в переговоре с Пирром. — Победа при Гераклее. — Пирр под
Римом. — Отступление. — Переговоры. — Второй год войны. —
Битва при Аскуле. — Сицилия и пуны. — Пирр в Сицилии. —
Осада Лилибея. — Мятежи. — Отступление Пирра. — Битва
при Беневенте. — Возвращение Пирра в Эпир. — Римляне
и карфагеняне под Тарентом. — Вся Италия стала римскою
Коалиция, которую народные вожаки в Таренте возбудили
против Рима, состояла из самых воинственных племен Италии, из
наиболее ожесточенных врагов римской республики, уже испы-
тавших жестокость римского владычества; в случае неудачной
борьбы им следовало опасаться крайне позорной участи, а по-
тому им необходимо было напрячь все силы, принять все возмож-
ные предосторожности, приступить к единодушным действиям.
И в самом деле, если бы все дружно направили свои усилия для
одновременного удара, то Рим был бы, пожалуй, доведен до край-
ности.
Захватив в плен римского посла, луканы, как кажется, откры-
ли враждебные действия. Римляне поспешили отомстить за нане-
сенную их послам обиду и подать помощь фурийцам1. После этого
восстали также южные города Этрурии с Вольсинием во главе; к
ним присоединились умбры; хотя сеннонские галлы и находились
в союзе с Римом, однако от них прибыло много воинов в качестве
наемников на помощь к союзникам2. Они двинулись против Арре-
ция и осадили верный римлянам город. Римляне поспешили от-
править на выручку претора Л. Цецилия Метелла; поэтому надо
полагать, что консульские легионы были заняты в других местах.
Бруттии и самниты восстали в одно время с луканами3. Вся Ита-
лия взялась за оружие. Первый сильный удар разразился под Ар-
рецием; претор был совершенно разбит; он сам, семь трибунов и
более 13 000 человек лишились жизни4. На место Метелла снаря-
жен был в качестве претора М. Курий. Он отправил посольство к
галлам с целью обменять пленных, а в то же время, вероятно, пожа-
ловался на то, что сенноны помогают врагам Рима, хотя и состоят
с ним в союзе. Но подстрекаемые Бритомаром, отец которого пал в
Этрурии, галлы убили послов, изрубили в куски их трупы5. Консул
П. Корнелий Долабелла находился уже на пути в Этрурию (283 г.);
узнав об этом ужасном убийстве, он оставил в покое этрусков,
поспешил форсированными маршами через владения сабинян и
пиценов, напал на Сеннонскую область, защитники которой на-
ходились большею частью в Этрурии. Оставшиеся дома были лег-
ко побеждены; римляне пощадили жизнь одних только женщин и
детей, с тем чтобы отвести их в неволю; селения были опустошены
и выжжены, хлеб в полях уничтожен, решено было навсегда обез-
людить этот край; для присмотра за пустыней на берегу основана
была колония Сена6.
Таким-то образом племя сеннонов, овладевшее сто лет тому
назад Римом, было уничтожено; но еще несколько тысяч воору-
женных воинов этого племени, лишившись родины, имущества,
жен и детей, были соединены с этрусками. К ним примкнула могу-
чая боевая сила: бойи, северные соседи Сеннонской области, так-
же стали опасаться, как бы им самим не подвергнуться участи
сеннонов. Все ополчение их поспешило через Апеннины и соеди-
нилось с этрусками и сеннонами; эти войска двинулись прямо на
Рим; они дошли уже до Вадимонского озера. Тут навстречу к ним
вышло консульское войско и разбило их наголову. Это был бой не
на живот, а на смерть: этруски были большею частью перебиты;
из бойев спаслись лишь немногие; уцелевшие после битвы сенно-
ны лишили сами себя жизни7.
Мы не знаем, что во время этих решительных побед над эт-
русками и галлами (283 г.) учинено было против врагов на юге;
§1 едва ли что-нибудь значительное, так как пришлось напрячь все
с усилия, лишь бы отразить ужасных галлов8. На следующий за-
2 тем год луканы вместе с бруттиями осадили Фурии. После вади-
х монского поражения этруски и бойи стали снаряжаться с тем
еще более сильным напряжением; из бойев все, даже подростки,
4 отправились на борьбу с римлянами. Против них двинулся кон-
сул Кв. Эмилий Пап, тогда как товарищ его Кв. Фабриций Лусцин
отправился на выручку Фурий.
Эмилий пошел навстречу врагам до Популонии; он только
хотел спуститься с высот в долину, как по стаям вылетавших из
лесу птиц догадался, что там что-то происходит; высланные туда
лазутчики донесли, что бойи засели в засаду. Консул обошел их,
враги были окружены и разбиты. После этого поражения бойи
стали просить мира. Римлянам было теперь не с руки преследо-
вать их по ту сторону Апеннин на родной их земле; они удоволь-
ствовались тем, что лишили этрусков этой подмоги, а потому и
согласились на мир. На севере одни лишь этруски были все еще
вооружены9.
Между тем Фабриций на юге воевал также удачно. Правда,
легионы его, как говорят, пали духом, когда им велено было ата-
ковать более сильное войско луканов и бруттиев, стоявших в бое-
вом порядке перед своим укрепленным лагерем. Тут среди римлян
появился юный исполин; он схватил штурмовую лестницу, быст-
ро прошел сквозь неприятельские ряды к укреплениям, взобрался
на стену и стал зычным голосом созывать римлян. Они с неисто-
вым пылом ринулись на оробевшего неприятеля, 20 000 врагов
было убито, 5000 вместе с полководцем Статилием попали в плен.
На следующий день, когда раздавались награды, храбрый юноша
не явился для получения стенного венца; тут только догадались,
что сам бог Марс повел войско к победе; тогда полководец велел
отслужить благодарственный молебен10. Фурии во всяком случае
были освобождены от осады; еще много лет спустя после того воз-
двигнутая благодарными фурийцами статуя Фабриция свидетель-
ствовала об одержанной победе11. За этим главным поражением
последовали другие победы над луканами, бруттиями, самнита-
ми; много городов было взято и разрушено, много областей раз-
граблено; тут собрана была такая богатая добыча, что граждане
на целый год были уволены от повинностей и в казну поступило
четыреста талантов12.
Итак, восставшая против Рима сильная коалиция италийских
племен была окончательно рассеяна; этруски, правда, были еще
вооружены, но лишились помощи галлов; римляне распространи-
ли свои владения до Адриатического моря, основали Сену; север
и юг Италии были разобщены; благодаря удачной кампании Фаб-
риция рушились преграды, отделявшие римскую область от Та-
рентинского моря; мало того, хотя самниты, луканы и бруттии не
совсем еще покорились, однако то и дело повторявшиеся битвы и §
опустошения сильно истощили их; в Фуриях, наконец, консул
оставил гарнизон. Фурии должны были на юге быть тем же, чем g
была Сена на севере. |"8
Вот до чего дошли дела благодаря Таренту; успехи Рима стали
угрожать самой республике. В Тарентинском море под началь-
ством дуумвира Г. Корнелия появился уже флот из десяти кораб-
лей; вопреки договорам он обогнул Лацинийский мыс, показался
даже перед Тарентом и стал на якоре в виду города13. Это случи-
лось во время Дионисий; народ собрался тогда в театре, откуда
видна была гавань14. Можно ли было предположить, чтобы флот
прибыл сюда ни с того, ни с сего? Уж не поддерживал ли Рим
тайных сношений в городе? Не замышляла ли враждебная демо-
кратии партия предать Тарент римлянам, как то же самое слу-
чилось уже во многих других греческих городах и недавно еще в
Фуриях? Римское предание гласит, будто демагог Филохарес вос-
пользовался этим случаем и возбудил народ до крайне рьяного
неистовства. Подстрекаемая злобою толпа во хмелю ринулась к
гавани на корабли. Не ожидав такого натиска, римский флот пус-
тился было в открытое море; пять судов успели уйти, остальные
были окружены, четыре из них потоплены, одно было захваче-
но. Дуумвир со многими другими моряками утонули, пленные на-
чальники и солдаты были убиты, а гребцы обращены в рабов. Это
s'
50
был возмутительный поступок. Однако разве появление рим-
ского флота не было самым наглым нарушением договоров, дерз-
ким вызовом, грубой манифестацией властолюбивых замыслов
против свободного Тарента? Неужели еще ждать, чтобы римля-
не, засев уже в Фуриях, обрушились также и на Тарент? И в самом
деле, горожане вправе были поступить в этом случае как бы про-
тив враждебного нападения и считать мир с Римом нарушенным15.
Согласно с этим и стали действовать; в Фурии отправлено было
войско; римский гарнизон сдал крепость, выговорив себе свобод-
ное отступление; граждане подверглись жестоким карам: при-
знано было изменою с их стороны то, что они, урожденные греки,
прибегли к помощи Рима и тем подали римлянам повод появить-
ся в здешнем море16; знатные граждане были изгнаны, город был
разграблен.
Рим никак не ожидал такого исхода; он разом лишился всех
выгод прошлогодней кампании, утратил важную точку опоры в
южной Италии, в тылу освободились луканы, самниты и брут-
тии, а затем предстояло еще вмешательство Тарента в войну. Бла-
годаря обширным средствам этого богатого греческого города,
озлобленные, жестоко пострадавшие народы, исполнились новы-
ми надеждами, а на севере все еще сопротивлялись этруски. Не-
обходимо было во что бы то ни стало удержать Тарент от участия
в войне. Несмотря на раздражение, в Риме не объявили тотчас
§_ же войны, а ограничились требованием, чтобы тарентинцы воз-
с вратили пленных, предоставили изгнанным фурийцам вернуть-
Р ся, возместили нанесенный их городу ущерб, выдали зачинщиков
i нападения на римские суда. С такими условиями было отправле-
но посольство, во главе которого состоял Л. Постумий.
%> Однако тарентинцы и не думали сожалеть о случившемся и не
побоялись войны. Послам долгое время не удавалось повторить
свои предложения перед народом; и понятно, поборники за мир в
городе всеми силами пытались образумить демос; если бы им уда-
лось это, то роль коноводов кончилась бы, и все дело было бы в их
руках. Опять, как гласит римское предание, наступили праздни-
ки, и народ собрался в театре. Когда появились важные римские
послы в тогах с красною обшивкою, то их встретили грубым сме-
хом, и это возобновлялось всякий раз, как только Постумий, про-
износя речь, плохо изъяснялся по-гречески. Их называли варварами,
им кричали, чтобы они вышли из собрания. Когда послы вошли
в проход, выводивший из оркестра, то какой-то скоморох, по
имени Филонид, находясь все еще под хмельком со вчерашней
попойки, протиснулся к Постумию и самым мерзким образом
загадил его тогу17. Народ хохотал и рукоплескал, а Постумий с
истою римскою торжественностью сказал Филониду: «Прини-
маем это знамение, вы даете нам то, чего мы не требовали». Когда
же затем, приподняв загаженное платье, он показал его народу, и
75
смех и восторженные крики усилились, то он сказал: «Смейтесь,
тарентинцы, пока вас на то станет, потом вам долго придется пла-
кать». Затем, когда на него посыпались даже угрозы, он прибавил:
«А чтобы еще более разозлить вас, скажем тут же, вы потоками
крови смоете грязь с этого платья».
Не в столь драматическом виде, но, вероятно, в более соглас-
ном с обстоятельствами дела представляется оно по другим изве-
стиям. Когда послы были введены в театр, то они, между прочим,
подверглись также сказанному оскорблению; однако, дабы ни-
сколько не отступить от своих инструкций, предписавших им край-
нюю умеренность, они ни словом не помянули о нанесенном им
позоре, а высказали только данное им поручение18. Во всяком слу-
чае, настроение в Таренте было решительно против римлян; по-
слам в ответ на их предложения велели тотчас же покинуть город,
с чем они и отправились в море19.
Они вернулись в Рим вскоре после того, как Л. Эмилий Бар-
була и Г. Марций Филипп заняли консульскую должность (апрель
281 г.), и сообщили о нанесенном им оскорблении. Постумий по-
казал свою загаженную тогу. Всех охватила жажда мести; однако
ввиду затруднительного положения необходимо было избегнуть
войны с Тарентом; начать ее тотчас же было бы крайне опасно.
Сенат совещался несколько дней кряду; одни были того мнения,
что следует отложить войну с Тарентом до тех пор, пока осталь- gi
ные народы или, по крайней мере, соседние с Тарентом, самниты S
и луканы, не будут укрощены; другие требовали, чтобы тотчас же °
и всеми силами напали на Тарент. Наконец решено было, чтобы 5
консул Марций двинулся в Этрурию и чтобы Эмилий в то же вре- Г8
мя вместо Самния пошел в область тарентинцев и возобновил там
мирные посольские предложения. Если же они опять будут отри- *'фг
нуты, то пусть он энергично приступит к военным действиям20.
Появление Эмилия в Тарентинской области охладило не-
сколько сильную заносчивость пышного города. Возобновление
римских предложений послужило поводом к более спокойным
совещаниям. Следовало бы, конечно, начать войну года три-четы-
ре тому назад, когда коалиция италийских и галльских народов
была еще в полной силе; теперь же, когда сенноны были уничтоже-
ны, бойи вынуждены сохранять мир, соседние племена истощены
то и дело повторявшимися поражениями, когда непосредствен-
ная связь с единственно еще упорно сопротивлявшимися этруска-
ми оказалась невозможною, теперь пришлось бы вести борьбу с
совсем иными жертвами и с меньшею надеждою на успех. Многие
были того мнения, что следует удовлетворить на самом деле до-
вольно умеренным требованиям римлян. Само собою разумеется,
что пожилые люди и богачи желали поддержать мир21. Однако им
совершенно справедливо возразили, что выдача граждан, с тем
чтобы римляне наказали их, служит уже свидетельством признан-
76
ного господства22. Тарентинцы убедились, наконец, что, согласив-
шись на римские требования, они только некоторое время будут
пользоваться миром, что римлянам надо только выиграть время,
вполне подчинить себе соседние племена, а потом, разобщив с
ними Тарент, наверняка погубить его, что именно теперь настал
крайний срок воспротивиться распространяющемуся владычеству
Рима. В таком случае, однако, необходимо повести войну с напря-
жением всех сил; не следует вооружать народ и выводить его на
борьбу; город должен нанять известного полководца с войсками
и ему поручить ведение войны. Наиболее пригодным для этого
казался Пирр; он между эллинами слыл за самого храброго и удач-
ливого полководца; как раз в это время царь ничем не был занят.
Однако всем, конечно, было известно, что Пирр не только вел
борьбу из-за обладания Македонией, но некогда готовился даже
напасть на запад с завоевательною целью23. Вызвав этого могу-
чего, властолюбивого царя, следовало опасаться, как бы он ни
воспользовался случаем основать для себя италийское царство,
причем окончательно рушилась бы независимость Тарента. На
совещаниях эти опасения высказывались «рассудительными»
людьми; но партия, желавшая войны, заглушила их, и они поки-
нули собрание. Один из них, именно Метон, если можно верить
этому известию, в день окончательного голосования уже сделал
§ I было попытку, которая дает понятие о развращенном состоянии
§_ тарентинского народа. Он, словно во хмелю, окруженный собу-
тыльниками, с флейтисткою впереди, сам увенчанный и с факе-
лом в руке — как бы прямо с ночной оргии явился в театр, где
собрались для совещания; его приняли восторженными криками:
пусть он выйдет на середину и пропоет под звуки флейты. Когда
затем все стихло, он произнес: «Вы, граждане Тарента, не будете,
конечно, препятствовать тому, кто любит покутить и пображни-
чать, пока его на это станет; будьте же рассудительны и посту-
пайте всегда так; берегитесь! Не то уже будет, когда вы примете
царя и гарнизон в городе; в таком случае вы все будете рабами».
Слова его произвели сильное впечатление; по собранию прошел
ропот — Метон сказал правду; его заставили говорить далее; при-
творяясь хмельным, он стал пересчитывать все невзгоды, какие
причинит им война. Надо уже было опасаться народного реше-
ния; если не призовут царя, то мир с Римом будет неизбежен; в
таком случае следовало выдать Филохареса и его соучастников;
надо было как можно скорее предупредить перемену в настрое-
нии собрания; противники мира стали упрекать народ в том, что
он позволяет пьянице так нагло насмехаться над собою; они схва-
тили Метона с его товарищами и вывели их вон. Затем стали соби-
рать голоса и народ решил вызвать царя24. Тарентинцы тотчас же
отправили в Эпир, помимо своих собственных, послов из других
греческих городов; один только Регион присоединился к римля-
X
нам. Разве союз италиков поддерживался все еще?25 Не служила
ли такая их связь, оправданием ранее захвата Фурий? Теперь, ко-
нечно, должна была возникнуть мысль, что греческое племя в Ита-
лии вступает в борьбу с римскими варварами; греки освоились уже
с идеей о троянском происхождении Рима, а Пирр как потомок
Ахилла был, казалось, более всякого другого призван на новую
троянскую войну26. Всем этим, по крайней мере, можно было вос-
пользоваться как добрым предзнаменованием и для восторженных
речей. Помимо соединенных греков и продолжавших все еще вое-
вать брут-тиев, луканов, самнитов к союзу примкнули также мес-
сами27 и салентины, которых в то время, по крайней мере, считали
полугреками28. Ввиду такой обширной коалиции послы едва ли пре-
увеличили, заявив Пирру, что в Италии можно набрать 20 000 всад-
ников и 350 000 пехотинцев29, дело, как говорили они, стало лишь
за знаменитым и искусным полководцем.
Обратимся к Эпиру. Несколько лет тому назад Пирр в союзе
с царями Фракии, Азии, Египта победил царя Деметрия, завладел
Македонией и Фессалией; вскоре затем Лисимах отнял у него эти
завоевания. Но возник уже известный разлад между Лисимахом и
сирийским Селевком, дошедший после смерти Птолемея I (283 г.)
до явной вражды. Пирр, конечно, был союзником Селевка; неиз-
вестно, совершил ли он при вторжении последнего в Малую Азию
соответственное нападение на Фессалию30. Летом 281 года
Лисимах готовился к битве при Куропедионе. Посольство ита-
ликов прибыло к Пирру, вероятно, прежде этого сражения. По
одной заметке видно, что он сначала отринул их предложения31;
ему никак нельзя было покинуть Эпир, пока война в Азии не была
еще решена.
А тем временем консул Л. Эмилий рьяно приступил к враждеб-
ным действиям; он опустошал селения. Тарентинцы отважились
вступить с ним в бой, но были разбиты. Консул беспрепятственно
разорял и грабил край, взял несколько укрепленных мест. В то же
время, как кажется, другие римские войска поражали самнитов и
луканов32; римское оружие везде торжествовало. Тарент решился
сделать еще попытку в Эпире: отправилось второе посольство, с
тем чтобы вступить в переговоры также от имени самнитов и лу-
канов; впрочем, оно не слишком-то надеялось на более удачный
успех. А консул между тем продолжал опустошать край, отовсюду
забирал с собой добычу и пленных; но с последними он обращался
сверх ожидания кротко, знатных особ увольнял даже без выкупа;
казалось, все еще имелось в виду страхом и кротостью побудить
город к миру. Эти меры подействовали; тарентинцы назначили уже
Агиса, известного друга римлян, стратегом с неограниченною вла-
стью33. Тут из Эпира прибыли благоприятные вести и помощь34.
Селевк одержал победу при Куропедионе; везде в городах вос-
стали селевкисонты; уступив азиатские земли своему сыну Анти-
78
оху, он сам изъявил желание принять царский венец своей роди-
ны Македонии; тогда Македония с полным доверием предалась
старому герою. Пирру поэтому нечего уже было надеяться вновь
завоевать ее и в отношении к востоку занять положение, отвеча-
ющее его жажде деятельности и славе; ему надлежало искать но-
вого поприща для своих войск. Война в Италии подошла как нельзя
более кстати. Туда влекла его память Александра Молосса; там
он, потомок Ахилла, являлся защитником эллинизма против вар-
варов, против потомков Илиона. Все эллины сочувственно отзо-
вутся на эту войну. Там он встретится с римлянами, храбрость и
воинская слава которых были известны настолько, что с ними сто-
ило померяться силами. Когда он одолеет Италию, то на его долю
выпадет благодатная Сицилия, а с Сицилией заодно и известный
пунический план Агафокла — легкая победа над Карфагеном, вла-
дычество в дальней Ливии. Эти великие надежды, это господство
на западе казались ему богатым вознаграждением за несбывшие-
ся ожидания на востоке35.
Итак, он согласился на призыв тарентинцев; однако царь хо-
тел явиться туда не только в качестве полководца без своих войск,
как предлагало первое посольство. По нужде тарентинцы охотно
согласились на те условия, какие предъявил Пирр с целью обеспе-
чить за собою успех; ему предоставлялось именно привести с со-
§ I бою столько войск, сколько он сочтет необходимым; Тарент со
8. своей стороны обязался прислать суда для переправы, назначил
его стратегом с неограниченною властью и должен был принять в
город эпирский гарнизон36. Наконец было выговорено, чтобы царь
оставался в Италии лишь до тех пор, пока это окажется необхо-
димым37; такое условие присоединили с целью устранить всякие
опасения относительно автономии республики. С этими вестями
Пирр отправил в Тарент фессалийца Кинея вместе с некоторыми
из прибывших к нему послов, удержав остальных при себе, как бы
для того чтобы воспользоваться их содействием при дальнейших
снаряжениях, на самом же деле с целью заручиться ими в качестве
заложников ввиду исполнения данных тарентинцами условий.
С прибытием Кинея в Тарент исчезли всякие опасения, вся-
кое побуждение к миру. Агиса лишили стратегии, на его место
назначили одного из послов. Милон и 3000 эпиротов38 также уже
прибыли; им поручена была цитадель, они заняли стены города.
Тарентинцы рады были избавиться от тягостной сторожевой
службы и охотно снабжали чужеземные войска припасами. На-
стала зима; простояв до сих пор лагерем в Аукании, римский пол-
ководец решился отступить оттуда и расположиться на зимовку в
Апулии. Дорога туда шла по береговому проходу недалеко на за-
пад от города. Неприятель прежде уже занял высоты, а флот в то
же время стал на якоре вдоль берега, с тем чтобы метательными
машинами обстреливать обремененные добычею колонны рим-
х
ского войска. Эмилию, как казалось, предстояло либо подвергнуть
свое войско страшному избиению, либо покинуть богатую добычу,
и стороною пробиться через горы. Он двинулся вперед, разместив,
однако, пленных так, чтобы они прежде всех других подверглись
вражескому обстрелу. Вследствие этого неприятельские вожди не
решились стрелять из орудий, и Эмилий без помех прошел на зим-
ние квартиры39.
В течение этой зимы, пока Пирр занят был приготовлениями к
кампании наступавшего года, неожиданно возникли сильные сму-
ты в восточных пределах, чрезвычайно повлиявшие на все стороны.
Престарелый Селевк, только что перебравшись в Европу, с тем что-
бы вступить во владение царством Лисимаха, был умерщвлен.
Убийцей был Птолемей Керавн; он вынужден был уступить насле-
дие Египта младшему брату и надеялся посредством такого по-
зорного поступка вознаградить себя венцом Фракии и Македонии.
Фракия тотчас же и охотно перешла к нему, на Македонию же
заявил свои права Антигон, и Антиох подходил уже с целью ото-
мстить за отца, тогда как Птолемей Филадельф охотно поддержи-
вал новые приобретения брата, лишь бы обеспечить за собою Египет.
Отношения были натянуты в высшей степени; все зависело от
того, на что решится Пирр. Случай овладеть Македонией благо-
приятствовал ему теперь, конечно, более чем когда-либо; он от-
нюдь не думал себя связывать данными Таренту обязательствами;
судя по единственной сохранившейся заметке40, Пирр готовился
на борьбу с Птолемеем. Однако какую выгоду извлек бы Антигон,
если бы Птолемей был побежден Пирром? Да и Антиоху также
желательно было по возможности удалить отважного, войнолю-
бивого царя от восточных условий; Птолемею, наконец, во что бы
то ни стало следовало избавиться от этого крайне опасного про-
тивника. Самые разнородные интересы соединились для того, что-
бы способствовать походу Пирра в Италию. Сам царь, наконец,
убедился, что его надежды на успех в соседней стране невелики;
несколько лет тому назад ему уже пришлось испытать гордое от-
вращение македонян; и что значило овладение истощенной стольки-
ми войнами и внутренними переворотами Македонии в сравнении
с теми надеждами на западе, с богатыми греческими городами
в Италии, с Сицилией, Сардинией, Карфагеном, в сравнении со
славою одержанной над Римом победы. А потому Пирр и заклю-
чил с заинтересованными державами договоры на самых выгод-
ных условиях; Антиох выдал субсидии на войну, Антигон снабдил
для переезда в Италию кораблями, Птолемей Керавн обязался
предоставить царю на два года 50 слонов, 4000 всадников и 5000 пе-
хотинцев41, выдал за него свою дочь, взял на себя гарантию эпир-
ского царства на время отсутствия Пирра.
Эти переговоры и все приготовления были закончены прежде
наступления весны 280 года. Не Додонское прорицалище42, а, ско-
рее, собственное сознание своих сил и отборное войско, — вот что
придало царю уверенность в успехе. Тарентинские корабли при-
были; Пирр поспешил в Италию. Управление царством он поручил
своему молодому сыну Птолемею43. Не переждав поры весенних
бурь44, он вышел с войском в море; с ним были 20 000 пехотинцев,
2000 лучников, 500 пращников, 3000 всадников, 20 слонов45. Се-
верный ураган настиг флот в Ионическом море и рассеял его;
большая часть судов потерпела крушение на подводных кам-
нях и на мелях, одному только царскому кораблю с большим тру-
дом удалось приблизиться к итальянскому берегу; но высадиться
не было никакой возможности; ветер переменился и грозил со-
всем отнести корабль; тут наступила еще ночь; крайне опасно было
вновь подвергнуться бурным волнам и урагану. Пирр кинулся в
море и пустился вплавь к берегу; это был крайне отчаянный по-
ступок; ужасною силою буруна его то и дело отбивало от берега;
наконец, утром на рассвете ветер и море улеглись, и изнуренный
царь волною был выброшен на берег Мессапии. Здесь его встре-
тили с радушием. Понемногу стали собираться некоторые из спас-
шихся кораблей и высадили 2000 пехотинцев, несколько всадников,
двух слонов. Пирр поспешил с ними в Тарент; Киней вышел к нему
навстречу с 3000 высланных вперед эпирцев; царь при восторжен-
ных кликах народа вошел в город. Он хотел лишь выждать прибы-
тие унесенных бурею судов, а потом ревностно приняться за дело.
Появление Пирра в Италии произвело там, конечно, чрезвы-
чайное впечатление46, и придало союзникам уверенность в успехе.
Их неудачи происходили оттого, что они, с той поры как восста-
ли, в течение шести лет воевали без связи, разобщенные римски-
ми легионами, колониями и гарнизонами. Теперь же на бой вышел
величайший полководец эпохи, преемник того македонского во-
енного искусства, благодаря которому завоеван был мир, с неболь-
шим, правда, но превосходным войском, с громадными животными
из Индии; под его знаменем готовы были сплотиться вся ненависть
к Риму, вся ярость порабощенных, истерзанных народов и горо-
дов Италии. Рим тщетно пытался понудить сперва Тарент к миру,
успокоить Этрурию, покорить Самний. Консул Марций Филипп
победил, правда, этрусков47; однако вольски и вольсинии все еще
сопротивлялись, и с той поры как прибыл Пирр, с новыми надеж-
дами. Самниты не покидали еще оружия; на апулийцев нельзя было
более рассчитывать. Грозная тревога подступала уже к самому
Риму; многим городам навязано было ограниченное гражданское
право, обидное протекторство. Озлобление усиливалось вслед-
ствие тех средств, к каким прибегали для большей верности вслед-
ствие размещения гарнизонов в ненадежных местах, денежных
взысканий со знатнейших жителей, требования заложников. К
городам, заложники которых отведены были в Рим, принадлежа-
ла Пренеста; она во вторую самнитскую войну пыталась было от-
пасть; древний оракул предрек, что пренестинцы будут владеть
казною Рима; тогда римляне отвели пренестинских сенаторов в
казначейство и впоследствии умертвили их там48. Это служило
лишь обеспечением на случай победы. Напрягались все силы, лишь
бы добиться ее; изумительно, как Рим после столь продолжитель-
ных и кровопролитных войн (они с небольшими перерывами дли-
лись в течение пятидесяти лет) в состоянии был в таких обширных
размерах снарядить новые войска. Не считая гарнизонов в сам-
нитских городах, два легиона с консулом Тиберием Корунканием
двинулись в Этрурию, два других были посланы под начальством
прошлогоднего консула Л. Эмилия против самнитов, с тем чтобы
воспрепятствовать их соединению с Пирром и поддержать для
консула П. Левина с его двумя легионами и союзниками49 откры-
тый путь в Луканию; а сверх того два легиона остались под Римом
в резерве50.
Прежде всего надлежало сразиться с самым опасным вра-
гом — с Пирром, быстрым и решительным натиском предупредить
его, прежде чем он успел подкрепить себя отрядами союзников,
удалить войну по возможности от Рима. Сначала позаботились о
том, чтобы по всем формальностям римского устава объявить
Пирру войну; отыскали какого-то эпиротского перебежчика и
заставили его купить себе участок земли, что и был признано Эпир-
скою областью; в эту «неприятельскую страну» фециал метнул
окровавленное копье51. Теперь война была объявлена, и Левин
поспешил в Луканию. Царь еще не выступил в поход; Левин без
помех опустошал Луканию, разоряя тамошнее население и пре-
достерегая тем всех других относительно ожидающей их участи.
Важно было и то, что Регион, опасаясь как Пирра, так и Карфаге-
на, потребовал римский гарнизон52; консул послал туда Деция
Вибеллия с 4000 человек кампанского легиона; благодаря этому
сношение с Сицилией оказалось во власти римлян. При посред-
стве Региона и Локр, тоже занятых римским отрядом53, бруттии в
тылу держались в страхе. Консул двинулся по дороге в Тарент.
Лишь только подошли к Таренту рассеянные бурею корабли
с уцелевшими остатками эпиротского войска, как царь Пирр
приступил к своим военным распоряжениям. Граждане были
крайне недовольны уже тем, что у них расположились постоем
царские войска; возникало немало жалоб по поводу насилий,
каким подвергались женщины и мальчики. Потом последовал
набор тарентинских граждан, с тем чтобы заполнить причинен-
ные кораблекрушением потери и вместе с тем заручиться залогом
верности остальных граждан54. Когда невоинственная молодежь
стала спасаться бегством, то ворота были заперты; сверх того
запрещены были веселые сисситии, были закрыты гимнасии и
гуляния, все граждане призывались к оружию и обучались, на-
боры продолжались со всею строгостью, а с закрытием театра пре-
кратились также и народные собрания. Тут-то и оправдались все
давно предсказанные ужасы; свободный народ стал рабом того,
кого он за свои деньги подрядил на войну; после этого стали силь-
но раскаиваться в том, что призвали его, что не согласились на
выгодный мир с Эмилием. Пирр отчасти устранил самых влия-
тельных граждан, которые могли бы стать во главе недовольных,
отчасти отослал их под разными предлогами в Эпир. Один только
Аристарх, имевший наибольшее влияние на жителей, был всячески
отличаем царем; когда же он все-таки продолжал пользоваться
доверием граждан, то царь и его также отправил в Эпир; Арис-
тарх бежал и поспешил в Рим55.
Вот каково было положение Пирра в Таренте. С презрением
смотрел он на этих граждан, на этих республиканцев; их недове-
рие, их малодушная робость, коварная, подозрительная спесь этих
богатых фабрикантов и торгашей тормозили его на каждом шагу.
Римское войско форсированными маршами подступало уже к
Сирису, а из италийских союзников, обещавших доставить значи-
тельное ополчение, никто еще не явился. Пирр счел позорным
оставаться еще долее в Таренте, это было бы пятном для его сла-
вы; на родине царь прослыл орлом; так смело налетал он, бывало,
на врага; а тут наводивший на всех страх неприятель сам шел на
него; этот Тарент как бы понудил его изменить своему собствен-
ному нраву, поставил его с самого начала в ложное положение.
Он повел войска к Гераклее, однако старался промешкать, пока
не подойдут союзники. Царь послал к Левину следующее предло-
жение: он в качестве третейского судьи готов выслушать жалобы
римлян на Тарент и решить дело по справедливости. Консул воз-
разил на это: Пирру самому еще следует прежде всего ответить за
то, что он пришел в Италию; теперь не до переговоров, дело их
решит один только бог Марс56. Римляне между тем подошли к
Сирису и расположились станом. Захваченных неприятельских
лазутчиков консул велел поводить в лагере по рядам своих вои-
нов: если же из эпиротов еще кто-нибудь пожелает взглянуть на
его войско, то пусть они приходят; затем он отпустил их57.
Пирр расположился на левой стороне реки; он проскакал
вверх по берегу; с изумлением смотрел он на лагерь римлян; это
были отнюдь не варвары. В виду такого врага необходимо было
прибегнуть к предосторожности. Царь все еще выжидал, когда
подойдут союзники, а между тем враг в неприятельском крае ско-
ро, пожалуй, подвергнется лишениям; Пирр поэтому избегал бит-
вы. Но самому консулу хотелось заставить его сразиться; для того
чтобы подавить в людях страх, наводимый именем Пирра, фалан-
гами, слонами, лучше всего, казалось, атаковать самого врага. Река
разделяла оба войска. Близость одного из неприятельских отря-
дов препятствовала пехоте переправиться, а потому консул велел
своей коннице перейти через реку далее вверх по течению и на-
пасть в тыл сказанному отряду. Оторопев, последний отступил,
и римская пехота тотчас же стала переправляться вброд через
оставленное без защиты место реки. Царь поспешил двинуть свое
войско в боевом порядке со слонами впереди; во главе своих 3000
всадников он ринулся к броду, — неприятель по сю сторону уже
овладел им. Пирр грянул на римскую конницу, наступавшую сом-
кнутыми рядами; он сам поскакал впереди и начал кровавую сечу,
то и дело врываясь в самую рьяную свалку, руководя в то же вре-
мя с величайшею осмотрительностью движением своих войск.
Один из вражеских всадников на вороном коне, давно уже поры-
ваясь к царю, достиг его наконец, пронзил лошадь, и когда вместе
с нею Пирр пал наземь, то сам всадник был также низринут и прон-
зен58. Однако, увидев павшего царя, часть конницы вполоборота
оградила его. Пирр по совету друзей наскоро поменял блестящие
свои доспехи на более простые Мегакла, и пока последний, но-
сясь по рядам, словно царь, вновь возбуждал там ужас, а тут му-
жество, он сам стал во главе фаланг. Они всею гигантскою мощью
ударили на врага; однако когорты выдержали напор, а потом и
сами пошли в атаку, но были отражены сомкнутыми фалангами.
Пока таким образом воюющие семь раз попеременно то напада-
ли, то отступали, Мегакл служил целью все повторявшихся выст-
релов, и наконец был поражен насмерть и лишен царских доспехов;
их, ликуя, пронесли по римским рядам: Пирр пал! Открыв свое
лицо, проскакав по рядам, заговорив с солдатами, царь едва успел
ободрить своих пораженных ужасом воинов, как римская конни-
ца двинулась уже, с тем чтобы поддержать новую атаку легионов.
Теперь, наконец, Пирр велел вывести в бой слонов; ввиду свире-
пости и рева впервые показавшихся чудовищ люди и лошади с не-
истовым ужасом обратились в бегство; фессалийские всадники
ринулись вслед за ними, мстя за позор первой стычки. Римская
конница в своем бегстве увлекла за собою также легионы; началось
ужасное побоище; никто, вероятно, не уцелел бы, если бы одно из
раненых животных59 не обратилось вспять и своим ревом ни рас-
строило остальных, так что преследовать далее оказалось неудоб-
ным. Левин потерпел решительное поражение; он вынужден был
покинуть свой лагерь; остатки его рассеянного войска бежали в
Апулию. Там обширная римская колония Венузия служила убежи-
щем разбитым отрядам и дала им возможность соединиться с ар-
мией Эмилия в Самнии. А до той поры консул вынужден был занять
позицию, которую, в случае крайности, можно было отстоять60.
Пирр одержал победу, но лишь с большим трудом, с тяжкими
жертвами; лучшие воины его около 3000 человек, способнейшие
из его начальников пали. Он недаром говорил поздравлявшим его:
«Еще одна такая победа, и мне придется одному вернуться в
Эпир»61. Италики и без того уже боялись имени римлян, а в этой
битве царь постиг всю железную крепость их боевого строя и их
дисциплины. Посетив на другой день поле битвы и обозрев ряды
павших, он не нашел ни одного римлянина, который лежал бы,
обратившись спиной к врагу. «С такими солдатами», воскликнул
он, «мир был бы мой, и он принадлежал бы римлянам, если бы я
был их полководцем!»62. Поистине, это был совсем иной народ, не
то что на востоке; такого мужества не было ни у греческих наем-
ников, ни у надменных македонян. Когда он, по обычаю македон-
ских военачальников, предложил пленникам поступить к нему на
службу, то ни один из них не согласился; он уважил их и оставил
без оков63. Царь велел похоронить павших римлян со всеми почес-
тями; их насчитывалось до 700064.
Вот какою решительною победою65 Пирр открыл свою кампа-
нию; он оправдал возбужденные его именем великие ожидания;
робевшие доселе враги Рима охотно восстали теперь, с тем чтобы
вести борьбу под начальством победоносного полководца. Царь
упрекнул их за то, что они не явились ранее и сами не помогли
отвоевать добычу, часть которой он уделил им, но в таких выра-
жениях, что это привлекло к нему сердца италиков66. Города юж-
ной Италии сдались ему. Локры67 выдали Пирру римский гарнизон.
Вождь кампанского легиона тот же умысел приписывал Региону;
он предъявил письма, по которым жители предложили открыть
ворота, если Пирр пришлет к ним 5000 воинов; город был предан
§ I солдатам на разграбление, мужчин перебили, женщин и детей про-
qJ дали в рабство; Регионом овладели словно завоеванным городом;
с I злодеев подстрекнул пример их кампанских одноплеменников,
мамертинцев в Мессане. После этого насильственного поступка
римляне лишились последнего укрепленного места на юге. Пирр
мог без помех двинуться далее, и, где бы он ни проходил, везде
страна и народ покорялись ему. Он шел на север, как кажется,
дорогой близ берега; царь имел в виду по возможности скорее
подойти к Риму, частью для того чтобы своим появлением побу-
дить отпасть также других союзников и подданных Рима, вместе
с тем сократить его боевые средства и в той же мере увеличить
свои; частью с тем чтобы вступить в непосредственную связь с
Этрурией. Там известных два города все еще поддерживали борь-
бу, а появление Пирра возымеет, вероятно, последствием всеоб-
щее восстание остальных, которые лишь за год до того заключили
мир; в таком случае римлянам не осталось бы ничего более, как
просить мира на каких угодно условиях.
Как мало понимал он еще этих римлян, которым удивлялся.
Скорбная весть о Гераклее не лишила их мужества, напротив, она
лишь возбудила в них весь избыток нравственной энергии, какою
ни один народ никогда не обладал уже в более высокой степени.
Сенаторы, конечно, ревностно совещались, но отнюдь не о мире;
«не римляне», сказал Кв. Фабриций, спаситель Фурий, «побежде-
ны, а Левин». Консула, однако, не сменили; решились послать ему
х
85
свежие войска. Не лишив его своего доверия, сенат восстановил
этим также всеобщее доверие к нему. Решено было снарядить два
новых легиона; их предполагалось навербовать не набором, а из
добровольцев. Когда герольд стал вызывать желающих, готовых
жертвовать жизнью за отчизну, то народ стал записываться тол-
пами68. Новые войска немедленно отправились в Капую. Город
привели в оборонительное состояние; больше всего пытались вы-
свободить легионы в Этрурии; вольскам и вольсиниям69 были пред-
ложены несомненно самые выгодные условия; необходимо было
согласиться на уступки, так чтобы их не соблазняли более ни союз
с Пирром, ни возможные от того успехи. Благодаря этому консул
Корунканий мог вернуться для обороны города. Все были воору-
жены для встречи царя на берегах Тибра.
Он и в самом деле подходил уже к Капуе. Левин между тем,
перейдя с апулийской границы на север, опередил его; он присое-
динил к себе два новых легиона и занял Капую. Царь во главе сво-
их войск и соединенных с ним теперь союзных ратей атаковал
город, однако не смог взять его. Он напал на Неаполь, но также
безуспешно. Пирр не знал еще о заключенном с этрусками мире;
он спешил и с ними также войти в непосредственные сношения.
Царь прошел по Кампании, опустошая и разоряя край. Минуя путь
через Террацину, которую Левин прикрывал из Капуи, он по Ла-
тинской дороге направился в страну герников. Поля по берегам I ^
Лариса были опустошены и разграблены, Фрегеллы взяты при- | §
ступом и разрушены70. Пирр находился в тех местах, которые
двадцать пять лет тому назад за ужасное сопротивление Риму по- I 5
платились такою же ужасною карою; тогда расторгнуты были их |~8
исконные общины, уничтожено было их политическое существо-
вание; они поэтому приветствовали царя как избавителя от позор-
нейшего рабства. Не подлежит, конечно, сомнению, что все это
совершилось таким образом: он вступил в Анагнию; римлянам, по-
видимому, не удалось при посредстве гарнизонов и заложников
отнять у него мелкие города, лежавшие между Анагнией и Фрегел-
лами в циклопических стенах71. Он двинулся далее, к Пренесте;
сенаторы этого города лишь за несколько месяцев тому назад отве-
дены были в Рим и умерщвлены в казначействе. Цитадель города
считалась недоступною; она сдалась царю72. Войска его двинулись
уже за город; перед ними раскинулась равнина, а менее нежели в
четырех милях перед ними показались холмы Рима. Тут положен
был предел греческому оружию.
Пирра известили о том, что этруски заключили мир и что кон-
сул Корунканий со своими легионами стоит в Риме. Решиться ли
ему на битву у ворот города? Если бы ему удалось даже победить,
то городские стены все-таки послужат преградою врагу; потом
на выручку подойдет еще Левин со всеми подкреплениями, какие
успеет присоединить к себе в древних верных местностях по Ап-
20
пиевой дороге. Пирр сознавал, что ему не справиться с двойным
натиском, с отчаянной борьбой таких врагов, с какими он успел
познакомиться на берегах Сириса; если ему не удастся победить,
то для него все пропало. А может быть, подходя к Риму, он уже
вступил в переговоры73; сенат без сомнения отверг их. Не засесть
ли Пирру в тех горных местах и, осаждая менее значительные
города, не завладеть ли еще большим пространством? В этом
предвиделось мало проку, а остаться здесь более было бы в выс-
шей степени опасно: местность была опустошена; она не могла
надолго снабжать войско продовольствием, за которым тащи-
лось множество пленных74, эпироты утомились от бесплодных
переходов и были крайне недовольны; они не щадили даже иму-
щества союзников; дальнейшее пребывание в крае угрожало раз-
ладом, даже отпадением75, а вследствие возраставшего оскудения
нарушалась самая дисциплина в разноплеменном войске. Царь в
это время находился между легионами в Риме и в Кампании; мало
того, в крайнем случае к ним могли присоединиться еще войска
из Самния, и тогда Пирр внутри Италии был бы отрезан как от
юга, так и от моря.
Царь поневоле решился отступить. В таком случае, конечно,
граждан Пренесты, Анагнии, герников, всех друзей пришлось пре-
доставить мести Рима; несмотря на отчаянное их положение, Пирр
не мог отменить свое решение76. Он повел свое обремененное до-
бычею войско назад в Кампанию той же дорогой, по которой при-
шел. Слоны были уже отправлены вперед. То, что Корунканий со
своими легионами шел за ним следом по кратчайшей Аппиевой
дороге, и оттуда то и дело тревожил его войска, понятно само со-
бою, хотя авторы и умалчивают об этом.
Когда царь вступил в кампанскую равнину, то увидел, что Ко-
рунканий соединился уже с Левином. «Уж не с гидрой ли мы вою-
ем! », — воскликнул Пирр77. Он выстроил войско в боевой порядок,
велел, как гласит предание, поднять бранный клик и ударять ко-
пьями о щиты; трубные звуки и рев слонов вторили этому вызову
на бой. Однако римляне отзывались еще более громким, более
отважным боевым кликом, и царь счел за лучшее уклониться от
битвы со своими воинами, опасавшимися за свою добычу; распус-
тили слух, будто жертвы не благоприятствовали. Труднее понять,
отчего Левин без помехи пропустил его мимо себя; одно только
ужасное воспоминание о гераклейской битве и справедливое
опасение ввиду соединенных с тех пор с Пирром италиков могло
побудить его к такой крайней осторожности. Пирр беспрепят-
ственно двинулся далее и расположился в Кампании на зимние
квартиры78. Пока воины царя по обычаю родного края прогулива-
ли там свою богатую добычу, в то же время сенат велел разбитым
при Сирисе легионам в наказание расположиться станом под Фе-
рентином79, прозимовать в палатках и не ожидать никакой помо-
87
щи, пока они не овладеют городом. Вновь навербованные два ле-
гиона остались, вероятно, в Капуе.
Время зимовки прошло в переговорах. Хотя они известны все-
му свету, однако в отношении подробностей, взаимных условий,
хронологии многое остается еще под сомнением. Это были посоль-
ства Фабриция и Кинея. О важнейших затруднениях упомянем в
примечаниях; самая суть крайне разукрашенных преданий сводит-
ся к следующему80.
Пирр в эту кампанию захватил много римских военноплен-
ных частью в битве при Гераклее, частью как гарнизоны городов,
взятых приступом, вроде Фрегелл, или добровольно сдавшихся,
вроде Локр. Сенат решился вступить с Пирром в переговоры отно-
сительно обмена или выкупа81; для этого он избрал Г. Фабриция,
спасителя Фурий, П. Корнелия Долабеллу, победителя сеннонов,
и Кв. Эмилия Папа, усмирителя бойев — все консульские санов-
ники, достойные представители римского имени перед греческим
царем. Пирр принял их в Таренте со всеми почестями. Это посла-
ние он счел желанием римлян сблизиться с ним и надеялся полу-
чить предложения о мире. Однако послам предписано было только
переговорить касательно пленных. Пирр совещался со своими
доверенными лицами; по свойственному ему нраву он, очевидно,
хотел бы отнестись с царским великодушием к народу, которому
удивлялся; вместе с тем в эту первую кампанию ему пришлось убе-
диться, что Рим нельзя ни низвергнуть, подобно греческим pec- S
публикам, ни уничтожить внезапным нападением; самое выгодное £
было заключить по возможности скорее мир, чем продлить войну. 5
Милон был иного мнения: он считал, что не следовало ни возвра- |~8
щать пленных, ни заключать мир; римляне почти уже побеждены,
необходимо довести до конца удачно начатую борьбу. Он утверж-
дал, что италийские войска, исполненные ненависти и злобы и ис-
пытанные боевыми трудами, имея ту армию, которая одна одержала
победу при Гераклее и обладая эллинским военным искусством,
неминуемо уничтожит римлян. Иначе судил фессалиец Киней. Он
и в Эпире уже был против похода в Италию; в нем, как кажется, с
глубоким знанием людей сливалась высокая гуманность эллинско-
го образования. Он советовал возвратить пленных, для того чтобы
проявить великодушие победителя и вместе с тем воспользоваться
средством повлиять таким путем на настроение римского народа:
главною целью должно быть заключение мира. Относительно ре-
шения царя известия противоречат одно другому. Это посольство
вообще служило предметом самых разнообразных прикрас и пре-
даний, средоточием которых являлось достойное удивления ве-
ликодушие Фабриция82. Частью из уважения к нему, частью следуя
разумному совету Кинея и влечению собственного, исполненного
удивления чувства, Пирр, как говорят, выдал всех пленных или,
по крайней мере, отпустил их в Рим отпраздновать сатурналии83.
ь'
20
88
К
Во всяком случае можно признать вполне достоверным, что
он отпустил их именно с целью подготовить таким путем мирные
переговоры. Сохранилось одно, хотя и единичное известие, кото-
рое, однако, еще более освещает эти отношения. Карфагенский
полководец Магон, как говорят, пристал к берегам Остия с фло-
том в 120 судов и передал сенату: «Карфаген сожалеет о том, что
чужеземный царь начал войну с Римом и потому прислал его с
целью предложить иностранную помощь против иностранных
врагов. Сенат с величайшею благодарностью отказался от посо-
бия; после чего Магон обратился к Пирру, с тем чтобы стороной
проведать о его замыслах касательно Сицилии; однако, сказано
далее, в это время прибыли римские послы, и Фабриций предложил
мир, для заключения которого Киней был послан в Рим84. Понятно,
что пуническая политика встревожилась вследствие появления
Пирра в Италии: если царь перейдет с войском в Сицилию, то
опасности Агафоклова периода усилятся в высшей степени. От-
того-то граждане порабощенного римским легионом Региона при
появлении Пирра и стали опасаться, как бы Карфаген не завладел
их городом, господствующим над переправой на остров; вот при-
чина блистательной, предлагаемой римлянам помощи: следовало
во что бы то ни стало удержать царя в Италии. Однако понятно
также, что Рим весьма осторожно отнесся к этому пуническому
§ I вмешательству; дело в том, что все еще существовали договоры, в
§1 силу которых пунам предоставлялось из завоеванных ими горо-
с I дов Италии, но не подчиненных Риму, вывозить с собою жителей
и их имущество85. Если теперь карфагеняне явятся пособниками
х I Рима, то они, как легко предвидеть, попытаются утвердиться по
италийскому побережью; Рим же, господствуя над Италией, дол-
жен был избегать всяких отношений, которые сулили ему одно
только пособие. Сенат и ответил в этом смысле: «Народ предпри-
нимает обыкновенно лишь такие войны, которые он в состоянии
вести собственными средствами»86. Понятно, что после этого от-
каза пунический полководец пытался вступить в непосредствен-
ные сношения с Пирром, с тем чтобы узнать о его замыслах. В это
самое время сиракузцы были побеждены пунами, и сицилийцы в
одном только Пирре чаяли свое спасение. А потому царь и поспе-
шил заключить мир.
Киней был послан в Рим; ему пришлось теперь попытать в Риме
столь часто высказанное им искусство убеждать: недаром Пирр
сказал про него, что он своими речами завоевал больше городов,
нежели сам царь своим мечом87. Киней взял с собою богатые по-
дарки, в особенности драгоценные украшения для женщин. Рас-
положение граждан было уже частью подготовлено благодаря
возвратившимся без выкупа пленным. Война сильно тяготела над
Римом; много общественных и арендованных земель досталось во
власть неприятелю, много их подверглось ужасному опустошению;
^
налоги были крайне обременительны. Сверх того, завоеванные
продолжительными войнами области отпали чуть ли не вплоть до
самого города; а до сих пор не приходилось еще померяться с
соединенными силами греков и италиков; впоследствии война
должна быть еще ужаснее, нежели была уже в первый год. Вот в
каком виде Киней застал настроение в Риме. «На другой день после
своего приезда», как говорят, «приветствовал он всех сенаторов и
всадников по их именам88; он навестил их на дому; расположил к
себе многих своими речами, иных, вероятно, своими подарками89.
Наконец, его повели в сенат; в произнесенной торжественной речи
он прежде всего высказал удивление своего царя к Риму и его же-
лание вступить в дружеские связи с достойным народом ». Касатель-
но предложенных условий не сохранилось никаких достоверных
сведений90. Затем в сенате несколько дней кряду совещались о
предложениях; все неоспоримо склонялись в пользу соглашения.
Тут наконец явился Аппий Клавдий, с тем чтобы сказать последнее
слово.
Этот старый патриций в былое время с упорною настойчиво-
стью поддерживал величие своего сословия и государства; теперь
он одряхлел, ослеп, изнемог и давно уже удалился от обществен-
ных дел; но весть о предложении Кинея, о шаткости сенаторов
побудила его еще раз поднять свой могучий голос. Слуги пронес-
ли Аппия на носилках через форум, сыновья и зятья встретили
его у входа в курию; поддерживаемый ими, он, словно римский
Чатем, вошел в благоговейно молчавшее собрание. Мощными ка-
рательными словами91 он увлек колебавшихся, напомнив им о вели-
чии их задачи, о гордом сознании долга. Сенат решил92: если Пирр
хочет быть другом и союзником римлянам, то пусть он сперва
покинет Италию, а потом пришлет послов; пока он находится на
италийской земле, до тех пор не перестанут с ним воевать до по-
следнего живота93. Киней должен был тотчас же покинуть город;
и он оставил его исполненный удивления: «Сам город подобен
храму, а сенат— собранию царей»94. Возвращенные пленники,
по указу сената, преданы были позору, так как они сдались с ору-
жием в руках; всадников разжаловали в легионеры, а легионеров
в пращники; им велено было стоять на биваках вне лагеря; они
могли избавиться от кары лишь тогда, когда захватят добычу двух
врагов95. Набраны были новые легионы; все охотно шли на служ-
бу96; в новое консульство помимо П. Сульпиция Саверриона на-
значен был П. Деций Мус, отец которого пожертвовал собою при
Сентине, а дед у Везувия.
Когда предложения были отвергнуты, Пирр также стал гото-
виться к новой кампании. Подошли ли к нему новые отряды из
родины? В конце истекшего года галаты совершили свое первое
нашествие на Македонию, причем убили царя Птолемея; несколь-
ко месяцев кряду опустошали они покинутый властителем край.
Эпироты сменили неспособного спасти страну брата Керавна, а
потом также племянника Кассандра, пока, наконец, не принял
начальства энергичный Сосфен и не изгнал варваров. Однако с
наступлением весны возобновились ужасные набеги; в Эпире так-
же опасались нашествия, и край нельзя было лишить защитников,
в особенности если подтверждается известие, что волнения воз-
никли в среде самих молоссов97. Тем обильнее зато был набор
между храбрыми италиками. Ввиду этого сам Пирр изменил свою
прежнюю тактику; он в своей боевой линии к фаланге в центре
присовокупил когорты по флангам; действие сомкнутыми рядами
первой в связи с подвижностью последних придавало, казалось,
такому военному строю наибольшую надежду на успех98.
Пирр имел, конечно, в виду склонить римлян к миру, кото-
рый они отвергали. Ошибка в его прошлогодних операциях со-
стояла в том, что он двинулся на Рим, не обеспечив себя достаточно
обширным и надежным базисом, так что легионы из Капуи угро-
жали его флангу, а из Самния — тылу. Ему следовало добиться
операционной линии, которая простиралась бы от Кампании до
Адриатического моря, отрезала бы сношение Рима с важнейшей
южной позицией, с Венузией, и откуда он затем, обеспечив себя с
тыла, мог бы двинуться через приставшую к нему Самнитскую
область. Ввиду этого царь с наступлением весны двинул войска из
зимних квартир по направлению к Апулии; он мог надеяться на
отпадение давниев и певкетиев. Пирр проник уже до Аскула, рас-
положенного на краю хребта и господствующего над Апулийскою
равниною. Тут два консула с их легионами преградили ему путь.
Обе армии несколько дней кряду стояли друг против друга, не
решаясь на битву. В стане Пирра распространилась весть, что кон-
сул Деций, подобно своему отцу и деду, решился посвятить себя
богам преисподней; в таком случае гибель его врагов была бы не-
минуема; италики с ужасом вспоминали о битвах у Везувия и при
Сентине. Пирр велел разъяснить своему войску это фиглярство и
оповестить всех о том, в каком одеянии является обыкновенно
обрекший себя на смерть, наказав притом, чтобы его не убивали, а
схватили живым; вместе с тем царь велел передать консулу, что
он тщетно будет искать смерти, а если его схватят, то он подверг-
нется каре «фигляра, занимающегося чародейством». Консулы
возразили, что им незачем прибегать к таким средствам, для того
чтобы справиться с Пирром. Наконец-то началась атака со сто-
роны царя, несмотря на то что река с ее болотистыми берегами
затрудняла действие конницы и слонов; он сражался до вечера со
значительным уроном. На следующий затем день Пирр искусны-
ми маневрами принял положение, вследствие которого римляне
вынуждены были выступить в открытое поле. Началась ужасная
сеча; римляне пытались прорвать фалангу; с мечом в руке кида-
лись они на напиравшие на них сариссы, то и дело возобновляя
тщетную борьбу. Наконец, там, где сам Пирр ударил на римлян,
они обратились в бегство, а в то же время ринувшиеся на них сло-
ны довершили победу. Римлянам было близко до лагеря, так что
их пало всего 6000 человек, тогда как Пирр со своей стороны в
царских мемуарах велел прописать 3505 убитых. Таков вкратце
рассказ Плутарха, почерпнутый у Иеронима Кардийского".
С этой поры дальнейшая история италийской кампании до
выступления Пирра в Сицилию в июне 278 года крайне неясна.
Сохранилось известие100, будто Пирр тотчас же вернулся в Тарент;
это, впрочем, отнюдь не могло иметь значение стратегического
маневра. Если бы после битвы при Аскуле он и отказался даже от
намерения двинуться опять к Риму, то ему никоим образом нельзя
было бы покинуть занятые им позиции: ввиду прочного облада-
ния южной Италией они оказались для него чрезвычайно важны-
ми, пока не был заключен выгодный мир. Правда, в ту же осень
279 года галлы совершили хищнический набег во внутреннюю часть
Греции до Дельфийского округа, и часть отхлынувших ватаг их
опустошала Молосскую область. Если бы, однако, Пирр руковод-
ствовался событиями на своей родине, то он вернулся бы не в Та-
рент, а в Эпир; царь, напротив того, потребовал еще оттуда денег
и войска101 с целью продолжать в наступавший год кампанию с
большею еще настойчивостью.
Какой же военный план мог быть у Пирра в наступавший год?
Римляне удержали за собою позицию при Аскуле и заняли зим-
ние квартиры в Апулии. В консулы следующего года избраны
были Кв. Эмилий Пап, который в течение двух лет удачно вел
тяжкую войну в Самнии, и Кв. Фабриций, которому так удив-
лялся Пирр. Когда они явились в лагерь, то Пирр, как сообща-
ют, не намерен был более воевать. К этому присоединяется еще
известный рассказ о покушении на жизнь царя102: оба лагеря рас-
положились близко друг от друга; тут кто-то из царской свиты
(одни говорят будто Никия, а другие — будто Тимохар из Амб-
ракии, врач, застольник и друг царя) пришел к консулам и пред-
ложил за известную плату отравить Пирра; но консулы сами от
себя или по приказу сената выдали злодея царю. Не к чему рас-
пространяться здесь о разных подробностях, тем более что во
всем этом рассказе подтверждается лишь тот факт, что предлага-
емое убийство было отвергнуто римлянами. Не подлежит также
сомнению, что вследствие этого Пирр вновь вступил в перегово-
ры с Римом; царь вернул всех пленных, одарив их; вместе с ними
опять отправился Киней для переговоров, взяв с собою, как го-
ворят, разного рода подарки, которые, однако, никто не принял:
пускай Пирр удалится сперва из Италии, и тогда лишь можно
будет приступить к переговорам о мире; с этим ответом и с рав-
ным количеством тарентинских и других пленников Киней вернул-
ся назад. Римляне продолжали нападать на союзные с Пирром
города, а потому приглашение сикулов пришлось ему очень кста-
ти, и он покинул Италию, пробыв в ней два года и четыре месяца.
В этой путанице преданий нет никакой возможности добить-
ся фактической связи103. Сохранившийся из той эпохи документ
наводит на совершенно иные следы. Карфаген заключил с Римом
новый договор, в котором помимо прежних условий было прибав-
лено: «Каждое из государств обязуется вступить в дружествен-
ный союз с Пирром не иначе как совместно с другой стороной, с
тем чтобы в случае войны доставлять друг другу пособие; если одна
из сторон будет нуждаться в помощи, то Карфаген должен при-
слать суда для перевозки и высадки104, о продовольствии же для
войска обязано печься приславшее его государство; в случае нуж-
ды Карфаген должен помогать римлянам также на море, но без
их согласия экипажу возбраняется высаживаться на берег». Во-
преки постановлению в прежних договорах, в силу которого рим-
ляне не должны были проникать в Сицилию, а карфагеняне в
Италию, теперь впервые согласились подавать друг другу помощь
везде, где бы ни велась война105. Этот договор и был заключен в
промежуток между битвами при Аскуле и покушением на жизнь
Пирра106. Когда царь из Кампании угрожал Риму, то предложе-
ния карфагенян были отвергнуты; спрашивается, что могло теперь
побудить сенат согласиться на договор?
Обратимся к Сицилии. Там после смерти Агафокла все дела
были крайне расстроены; а карфагеняне, против которых гото-
вились последние обширные снаряжения престарелого тирана,
появились тотчас же, с тем чтобы воспользоваться сумятицей;
они подали помощь его убийце, Менону, который стал во главе
наемного войска и двинулся на Сиракузы. Город вынужден был
просить мира, выдать четыреста заложников, вновь принять из-
гнанников. Тираны возникли в Агригенте, Тавромение, городе
леонтинов; кампанские наемники основали в Мессанее разбой-
ничье государство мамертинцев; Гикет захватил власть в самих
Сиракузах107. Одержанная им над Финтием Агригентским побе-
да внушила ему мужество сразиться также с карфагенянами. Он,
однако, был разбит; ему не удалось избегнуть преобладавшего
влияния пунов. Разрозненные и истощенные безумным разладом
отдельных, подстрекаемых карфагенянами властителей, эллины
на острове не в силах были защищаться своими собственными
средствами; они возложили свою последнюю надежду на Пирра.
Гикет уже умолял его о помощи108. Потом он лишен был владыче-
ства Феноном109, а на этого восстал Сострат, захватив притом Аг-
ригент и тридцать других городов; однако он вновь был изгнан
из Агригента, как кажется, Финтием при помощи карфагенян.
Фенон и Сострат с их боевыми ратями в самих Сиракузах то и
дело вели борьбу друг против друга. В это время явились карфа-
геняне с сотнею кораблей перед гаванью; 50 000 карфагенских
воинов двинулись к стенам истощенного уже города, тесно об-
ложили его и опустошили весь край. Они заняли уже Гераклею,
а в Агригенте находился карфагенский гарнизон. Настала край-
няя опасность, и только помощь извне могла спасти от гибели.
Если карфагеняне овладеют Сиракузами, то мелкие города на
острове не в силах будут удержаться долее, и вся Сицилия будет
добычею варваров. Поэтому сикелиоты изо дня в день посылали
к Пирру, и летом 278 г. он последовал их призыву.
Карфагеняне пуще всего опасались появления этого могуче-
го царственного вождя; они заключили союз даже с мамертинца-
ми, лишь бы воспрепятствовать его переправе в Сицилию. Они,
хотя никто их не просил, послали римлянам сильную помощь с
целью задержать Пирра в Италии. Если он перейдет в Сицилию,
то пуны в самой Африке подвергнутся опасности; отважный по-
ход Агафокла в 310 г. указал уже пути; понятно, что Карфаген на
всякий случай заключил сказанный союз с Римом. Хотя сами рим-
ляне и не желали бы, чтобы карфагенское владычество усилилось
в Сицилии, однако они нисколько не сомневались в том, что Пирр,
овладев Сицилией, будет более опасным врагом; тогда он займет
крепкую позицию для беспрерывного возобновления борьбы в
Италии и воспользуется неистощимыми средствами острова; тог-
да он еще более станет поддерживать италийских союзников, он
будет в состоянии с флотом Сицилии господствовать над Тиррен-
ским морем, восстановить вновь Этрурию и, побудив все возму-
щенные и угнетенные племена, напасть на Рим с суши, нагрянуть с
моря на римское побережье. И в самом деле, сенату не оставалось
ничего более, как заключить упомянутый союз, лишь бы помешать
прежде всего переправе Пирра в Сицилию, а в случае неудачи за-
ручиться поддержкою морской державы, которая одна только
была в состоянии устранить возможность сказанных опасных ком-
бинаций. Само собою разумеется, что Рим, как утверждают неко-
торые писатели, отнюдь не заключил с Пирром договор110 с целью
выпроводить его по возможности скорее из Италии. Напротив,
на карфагенских судах находился отряд из 500 римских воинов,
для того чтобы, переправившись из Сиракуз к Региону, взять при-
ступом занятый возмутившимся кампанским легионом город. Это
предприятие не удалось, успели только сжечь сложенный там для
постройки судов лес111.
Эти события бросают также некоторый свет на известные от-
ношения в Италии. Пирр с самого начала имел в виду добиться
владычества на юге и в Сицилии; быстрым походом на Рим он хо-
тел лишь склонить его к заключению мира; вторая его попытка не
удалась после битвы под Аскулом; Пирр мог убедиться, что этим
путем нельзя склонить к миру Рим. Гикет в 279 г. уже просил о
помощи; посольство Кинея к сикелиотам112 было, вероятно, по-
следствием этого приглашения; в то же самое время и Рим заклю-
чил союз с Карфагеном. Затем пуны стали с суши и с моря осаж-
дать Сиракузы. Пирру нельзя было долее мешкать: если Сираку-
зы сдадутся, то утратится и надежда на Сицилию и возможность
поддержать юг Италии против Рима. Как верно Пирр сознавал зна-
чение Сицилии, это видно еще из другого факта: после того как
пал Птолемей Керавн, а Мелеагр и Антипатр вскоре друг после
друга лишились владычества, в это время под возобновлявшимся
натиском галлов изнемог также благородный Сосфен (в конце
279 г.). Упомянутый набег на Дельфы не удался, галлы отхлынули
назад. Македония лишена была владетеля; Пирру стоило бы толь-
ко явиться, с тем чтобы захватить давно желанное владычество
над нею и над Фессалией; в таком случае, однако, ему пришлось
бы навсегда отказаться от всех достигнутых им успехов в Италии,
и потому он решился предпринять поход в Сицилию.
Пирр мог предъявить даже некоторого рода право на Сици-
лию; ведь это было распавшееся и подвергавшееся теперь нападкам
царство Агафокла, после которого не осталось наследников муж-
ского пола; но дочь его в браке с Пирром родила находившегося с
царем в Италии Александра113. А потому сикелиоты и предложили
ему владычество над всем островом114. При таком несомненном
расположении сикелиотов он не мог сомневаться в успехе, лишь
бы удалась переправа.
Однако каким образом успел он отступить? Ведь еще весною
278 г. царь стоял лагерем против обоих консулов. Сказанное по-
кушение на убийство подало, вероятно, повод вновь завязать пе-
реговоры; неприятельские действия прекратились, Пирр со своими
войсками отступил, приготовил все для переправы, а Киней тем
временем вел переговоры о мире и добился по крайней мере раз-
мена пленных115. Самниты, луканы, бруттии лишились, конечно,
помощи Пирра; возвращение пленных не могло вознаградить их;
им пришлось теперь самим обороняться от римлян, и, судя по три-
умфальным фастам наступивших затем годов, они не переставали
воевать, надеясь, конечно, что благоприятные успехи царя в Си-
цилии с большею пользою послужат также и для их собственного
спасения. Они, вероятно, ожидали даже, что вследствие Карфа-
генского союза значительная часть римских войск отправится в
Сицилию. Пирр во всяком случае обещал непременно вернуться
из Сицилии на защиту союзников116. В некоторых греческих горо-
дах остались гарнизоны117, а именно в Таренте, где начальство по-
ручено было Милону; граждане, конечно, сильно негодовали по
этому поводу: пусть царь или продолжает с римлянами войну, ради
которой его вызвали, или выведет свое войско из города, если на-
мерен покинуть их край. Их заставили замолчать: они обязаны
терпеть до тех пор, пока ему не заблагорассудится вывести войска.
Помимо Тарента важнейшим пунктом для охраны Италии служи-
ли Локры; тут Пирр поручил начальство своему сыну Александру.
95
В начале лета 278 г. Пирр из Тарента отправился морем со
своими слонами и 8000 пехотинцев118; по пути он пристал к Лок-
рам; переезд из Региона был прегражден частью карфагенского
флота, а мамертинцы препятствовали высадке в Мессане. Потом
Пирр и направился к югу, минуя пролив, прямо к гавани Тавроме-
ния, владетель которого Тиндарион изъявил готовность открыть
ему свой город. Подкрепившись его войсками, Пирр направился
морем далее к Катане; тут жители восторженно приветствовали
его и почтили золотым венком. Он высадил здесь свое войско;
оно сухим путем двинулось к Сиракузам, тогда как готовый к бою
флот шел вдоль берега. Отправив тридцать судов из своего флота
в Фаро, карфагеняне не решались на битву; корабли царя бес-
препятственно вошли в сиракузскую гавань. Враждовавшие в го-
роде друг с другом Фенон и Сострат призывали царя на помощь;
он, наконец, примирил их. Войско того и другого (у одного Со-
страта было 10 000 человек), богатые военные припасы города,
в особенности флот, состоявший из 120 покрытых и 20 непо-
крытых судов, были предоставлены в распоряжение царя; у него
набралось таким образом более 200 кораблей119. Тиран города
Леонтин также поспешил соединиться с ним, передал ему свой
город, свои укрепления и велел примкнуть к его войску 4000 пе-
хотинцев и 500 всадникам. Тому же примеру последовало много
других городов; это было всеобщее восстание подвергавшегося
опасности греческого мира. Прежде всего следовало выручить §
юг острова. Когда Пирр двинулся, с тем чтобы освободить Аг- °
ригент, то явились послы из города: пунический гарнизон был 5
уже изгнан. Сострат предоставил Пирру Агригент и тридцать Г8
других городов, которыми он владел или которые считал свои-
ми владениями; состоявшее из 8000 пехотинцев и 800 всадников
войско, ни в чем не уступавшее эпирским отрядам, присоедини-
лось к царю. Из Сиракуз подвезены были осадные и метательные
орудия с целью атаковать укрепленные места карфагенян; Пирр
выступил с 30 000 пехотинцев, 2500 всадников и со слонами.
Прежде всего пала Гераклея. Греческие города, в особенности
Селинунт, Сегеста охотно присоединились к освободителю. По-
том он напал tfa чрезвычайно крепкий, снабженный сильным гар-
низоном Эрике, обещав Гераклу боевые игры и торжественное
жертвоприношение, если он поможет ему явиться достойным
своего происхождения и своего счастья борцом. Сам Пирр пер-
вый взошел на стену; после жестокого боя город пал. Потом царь
быстро двинулся к Панорму, лучшей гавани северного побере-
жья. Иетины отворили ворота города, и Панорм сдался; гора
Геркте с ее крепким замком тоже была взята120. Карфагеняне
удержали за собою одну лишь твердыню Лилибей. На другом
конце острова также были атакованы и разбиты мамертинцы, об-
ложившие податью несколько окрестных городов; их крепости
s'
S
были срыты, сборщики податей казнены; одна только Мессана
держалась еще. Успехи оказались громадные; греки в Сицилии
были спасены и освобождены, под начальством героя Пирра они
опять стали единым владычеством; в знак совершившегося нако-
нец объединения появились сиракузские монеты с надписью «Си-
келиоты», монеты «Царя Пирра» с головою Додонского бога, с
изображением сицилийской Коры121.
Карфагеняне в избытке снабдили свежими войсками из Аф-
рики122, съестными припасами и метательными орудиями Лили-
бей, окруженный почти со всех сторон морем и снабженный на
узкой косе стенами, башнями и рвами; место казалось неприс-
тупным. Карфагеняне предложили царю мир; они требовали
только оставить в их владении Лилибей, обязались за то признать
Пирра владетелем острова, уплатить значительную сумму денег,
предоставляли к его услугам свой флот. Этим предложением име-
лось лишь в виду повредить Риму; несмотря на только что за-
ключенный оборонительный союз, эти народы не доверяли друг
другу; карфагенянам показалось уже подозрительным то, что с
римской стороны не успели воспрепятствовать выходу Пирра из
Италии; а может быть, им не хотелось также призывать римские
войска в Сицилию. Рим поспешил воспользоваться отсутствием
Пирра в Италии; консул Фабриций в конце того же года победил
луканов, самнитов, тарентинцев123. Гераклея, вблизи которой два
8.1 года тому назад эпироты одержали победу, заключила союз с
с Римом124; это было важное приобретение, она рассекала надвое
В захваченную Пирром южную Италию; после Венузии это был
i самый важный пункт для дальнейших предприятий.
Надо полагать, что карфагеняне сделали мирные предложе-
%. ния после первой кампании, в начале 277 г.125 Они были, конечно,
соблазнительны: если бы даже Пирр и не захотел воспользовать-
ся карфагенским пособием, то флот острова и без того снабжал
его средством еще успешнее продолжать борьбу с Римом. Южная
Италия во всяком случае была бы тогда спасена, а карфагеняне
лишились бы Сицилии до самой западной скалистой оконечнос-
ти. Организовавшись в связи с италиотами вновь под началом энер-
гичного князя, остров восстановил бы владычество, которое самым
роковым образом повлияло бы на судьбы запада. Однако разве, с
другой стороны, нельзя было предположить, что карфагеняне
нарушат договор с Пирром так же, как нарушили его с Римом?
В Лилибее они удерживали за собой пункт, откуда могли опять
проникнуть в Сицилию тотчас же, как только Пирр отправится
в Италию. Пока Карфаген не будет усмирен и совершенно оттис-
нут в Африку, до тех пор нечего было и думать о борьбе с Римом;
чем скорее, чем решительнее Пирр низвергнет Карфаген, тем вер-
нее одолеет он и самый Рим. Можно было, правда, предвидеть,
что, по мере того как карфагеняне будут терпеть поражения, в то
же время римляне станут все далее продвигаться в Италии, они рас-
сеят союзников Пирра, разгромят италиков, подготовят отпадение
греческих городов; и разве можно было поручиться за то, что вой-
на на море удастся лучше, нежели испытанная уже сухим путем?
Пирр, казалось, сам колебался, на что решиться. Он стал со-
ветоваться с друзьями и с сикелиотами. Имея в виду лишь интерес
своего острова, сикелиоты требовали, чтобы у карфагенян отняли
последний опорный пункт на нем; переправиться в Ливию после
падения Лилибея и разграбить богатые края Карфагена, — это
казалось друзьям соблазнительнее и увлекательнее для войска,
нежели более славная, правда, но также более опасная и менее
добычливая борьба с римлянами и их союзниками. Ядро эпирско-
го войска сократилось; сухопутная армия, какою располагал царь,
оказалась не многочисленнее той, что была в последнюю битву
с римлянами; а при помощи Сицилии скорее можно было собрать
превосходный флот, и Лилибей, казалось, не устоит против энер-
гической атаки. Вследствие этого предложение карфагенян было
отвергнуто: с Карфагеном не может быть ни мира, ни дружбы, пока
они не покинут окончательно Сицилии126.
Тотчас же принялись за дело, с тем чтобы изгнать карфаге-
нян с их последнего поста. Пирр стал лагерем под Лилибеем; при-
ступ следовал за приступом, однако множество камней, стрел,
пращей всякого рода посыпались на атакующих, все нападения
были отражены с большим уроном; осадных снарядов из Сиракуз
не доставало; пришлось сооружать новые машины, но все это ока-
залось тщетным; пытались было подрыть стены, однако, они сто-
яли на скале. После двухмесячных напрасных усилий Пирр снял
осаду. Тем еще более следовало поторопиться атаковать владыче-
ство пунов в самом его корне; необходимо было у ворот Карфаге-
на добиться не только сдачи Лилибея, но даже других уступок.
Вот когда настал решительный поворотный пункт в жизни
Пирра; он, конечно, обладал смелостью, высоким боевым талантом,
рыцарским духом, поклонялся всему великому и благородному; но
в его действиях не доставало того, благодаря чему Тимолеонт не-
когда в той же самой Сицилии достиг больших успехов, чем про-
никся весь организм Рима и вследствие чего он был неодолим, а
именно энергии и настойчивости великой этической цели или мис-
сии. Он пришел не с тем, чтобы спасти греческую национальность
в Италии и Сицилии, а, напротив, воспользовался лишь призывом
о помощи оттуда как случаем и поводом, для того чтобы основать
сильное владычество, чего так давно уже, но тщетно домогался
он в родном крае. И самое владычество это опять-таки не было
его конечною целью, а должно было служить лишь средством для
удовлетворения его неутолимой страсти к дальнейшим новым под-
вигам. Правда, его планы смелы, великолепны, поразительны, но
он осуществляет их как бы для того только, чтобы насладиться
4 История эллинизма
своею мощью; война с ее ужасами для него не что иное, как от-
важная, искусная игра, в которой он сознает себя мастером, а от-
нюдь не суровое средство для достижения крайних великих целей;
он, правда, верным взглядом постиг высокую идею освобождения
греческой национальности, объединения эллинов, но все это само
по себе не составляло для него крайнего и высшего назначения,
он пользовался всем этим лишь как стратегическими средствами.
Сикелиоты приняли его с восторгом; когда он явился, то его кро-
тость, благодушие, доверчивый нрав все крепче и крепче привя-
зывали к нему людей; нельзя предположить, чтобы к сикелиотам
теперь вдруг вернулись их исконные добродетели преданности,
доверия, самоотвержения; однако кротостью и строгостью он мог
бы преодолеть зависть, недоверчивость и распри, поддержать
подъем возбужденного духа и повести его к великим конечным
целям, лишь бы в нем самом жила крепкая и спокойная энергия,
нравственная стойкость, отсутствие которой было, конечно, при-
чиною падения греческого мира и обладание которой составляло
всесокрушающую мощь Рима.
Он собирался в Африку. Для того чтобы снарядить сотни ко-
раблей, предстояло набрать матросов; такие наборы были крайне
невыносимы для свободных городских демократий. Более крутые
меры, к которым прибег царь, усилили только неудовольствие и
g I протесты; сикелиоты стали жаловаться, что он из царя сделался
g_| деспотом; а озлобленное их настроение, в свою очередь, застав-
ляло его оградить себя от них, поручить защиту городов верным
людям, воинам испытанной приверженности, возложить на них
обязанность поддерживать порядок, ограничить права свободных
демократий. Вскоре под предлогом охраны от карфагенян города
были заняты гарнизонами, затем последовали налоги на имущества
и строгий надзор за недовольными; обнаруживались заговоры, сно-
шения с неприятелем; чуть ли не в каждом из городов знатные лица
подвергались смертной казни как изменники. Наконец, когда был
казнен даже прежде всех приставший к нему Фенон, когда велено
было арестовать Сострата, которому едва удалось спастись бег-
ством, то дело дошло до крайности; города стали прибегать ко всем
возможным средствам, чтобы спастись: одни призывали на помощь
мамертинцев, другие сдавались карфагенянам127.
Вот единственные сведения, какие сохранились о действиях
царя в Сицилии; назначенный в Африку флот не состоялся; бег-
лецы из Сиракуз присоединялись к наступавшим вновь карфаге-
нянам; мамертинцы стали опять нападать, и Пирр везде встречал
только измену, мятеж, всеобщую ненависть. Тут явились послы
от самнитов и тарентинцев, с тем чтобы упросить царя вернуться
в Италию. Он знал чего лишался, покидая Сицилию: «какое бое-
вое поприще», сказал он, «предоставляем мы карфагенянам и рим-
лянам»128. Но царь не мог разделить войско, оттого что враги как
г
99
с той, так и с другой стороны были слишком сильны129. Он еще раз
со всею мощью напал на напиравших карфагенян, и отразил их130.
Потом покинул Сицилию, для того чтобы спасти Италию.
В течение трех лет народы Италии, в особенности самниты,
вели отчаянную борьбу против Рима, мало того, в течение двух
поколений самниты чуть ли не сорок лет подряд подвергались
разорительной войне; а потом, едва успели они в три года вновь
возделать свои опустошенные поля, как опять уже восстали по
вызову тарентинцев, не успокоившись даже тогда, когда Пирр
подошел к самым стенам Рима131. Когда он удалился, то они про-
должали вести борьбу со страшным противником, хотя безнадеж-
но, но с непоколебимым мужеством и с ненавистью. Одержанные
в 278 г. Фабрицием победы не укротили Самний; с наступившим
затем годом в стране появились оба консула, П. Корнелий Ру-
фин и Г. Юний Брут; они всюду опустошали поля, разрушали
взятые ими и покинутые жителями города. Самниты увозили в
лесистые горы жен, детей и имущество. Консулы отважились
было напасть на них, но встретили страшный отпор; римляне боль-
шею частью были побиты или взяты в плен132. Вследствие этого
поражения консулы перессорились между собою; Брут остался в
Самний и продолжал опустошать край, а Руфин двинулся на юг,
одержал победу над луканами, бруттиями и пошел к Кротону.
Пример, поданный союзным договором Гераклеи с Римом, всюду
настраивал партии в пользу римлян. Эта партия и в Кротоне так- I §
же противодействовала эпирской; последняя обратилась за помо- £
щью к Таренту, тогда как первая призвала консула в город, обещав 5
открытые ворота. Но его предупредил Никомах из Тарента; атака |~8
консула была отражена, он тщетно осаждал обведенный креп-
кими стенами город. Потом Руфин распустил слух, будто направ- • %.
ляется на Локры; имея в виду опередить мнимо отступавшего
консула, Никомах поспешил туда же кратчайшим путем; Руфин
же вернулся и под покровом густого тумана овладел городом.
Никомах, правда, поспешил назад, но город был уже взят, дороги
находились в неприятельской власти, и он с большим уроном про-
бился к Таренту133. После того была взята также Кавлония и опу-
стошена кампанцами, которые находились в консульском войске134.
С наступившим затем 276 годом консул Фабий Максим Гургит
продолжал войну с самнитами, луканами и бруттиями, его опера-
ции простирались до Левкады. Но обращенная к Пирру мольба о
помощи более всего свидетельствует об успехах консула: жители
извещали, что в городах они едва в состоянии обороняться, что
селения находятся вполне во власти врагов и если не подоспеет
помощь, то они вынуждены будут сдаться135.
Пирр покинул Сицилию, когда Италия была почти совсем
утрачена. Он вынес с собою несметную добычу словно возвращал-
ся к себе из неприятельского края; ПО военных кораблей эскор-
та'
тировали гораздо более многочисленный транспортный флот136;
но экипаж его был ведь насильственно навербован в Сицилии;
он знал, что, прибыв в Тарент, ему не суждено более вернуться.
Такому-то флоту вынужден был довериться царь; переезд был
затруднительный, оттого что нельзя было высадиться ни в Лок-
рах, ни в Регионе; надлежало по возможности спешить, так как
у пролива крейсировал пунический флот. Пирр, однако, не избег
его, и карфагенянам досталась легкая победа; 70 кораблей были
потоплены, уцелело всего двенадцать судов137. А затем грозила
еще новая беда; из Сицилии переправились 10 000 мамертинцев,
заняли горный проход, через который шла дорога. Тут завяза-
лась ужасная сеча; передовой отряд под предводительством царя
успел пробиться, а в то же время арьергард подвергся нападе-
нию, и все войско пришло в смятение; два слона были убиты, сам
царь был ранен в голову; все смелее напирали старые ратники из
Мессаны, пока, наконец, царь «с окровавленным лицом и ужас
наводящим взором» не ринулся вновь на неприятеля и сильным
взмахом своей руки не рассек пополам исполинского вождя вра-
гов. После этого мамертинцы отступили наконец138.
Пирр направился в Локры, отворившие ему ворота; быстрая
атака на Регион была отражена с уроном. Он вернулся в Локры;
теперь лишь последовали пени и казни римских приверженцев139,
g I Во время злополучной битвы в проливе самая значительная часть
§_ его военной кассы утонула, вероятно, в море; нужда в деньгах
с довела его до крайне затруднительного положения, а союзники
отказывались вносить денежные субсидии. Тогда его друзья140 со-
ветовали ему захватить священные сокровища в храме Персефо-
ны. Но разгневанные боги, как гласит предание, рассеяли сильною
бурею флот, перевозивший добычу в Тарент и занесли корабли со
священными дарами и деньгами назад в гавань Локр. Сам Пирр,
пораженный чудом, вернул назад захваченные сокровища и пы-
тался умилостивить богиню торжественными жертвоприношени-
ями; когда же они оказались неблагоприятными, то это поразило
его еще более, и он велел казнить лихих советчиков141. Однако гнев
мрачной богини преследовал его с этой поры, и счастье покинуло
его; Пирр, как уверяют, сам сознавал это и высказал будто бы в
своих записках142.
Царь со своим войском, состоявшим из 20 000 пехотинцев и
300 всадников, прибыл в Тарент, как кажется, сухим путем. Эпир-
ская партия в городах бруттиев и луканов восстала вновь. По пути
войско усилилось новым набором; в Таренте навербованы были
наиболее сильные из горожан. С наступившею весною Пирр в со-
стоянии был вывести довольно много ратников на неприятеля, но
вместо эпирских ветеранов у него были большею частью новобран-
цы, «греческие бродяги и варвары», хотя и храбрые, но не опыт-
ные и ненадежные.
х
101
А все-таки страх по-прежнему предшествовал его имени; в
Риме все были поражены новою угрожавшею им опасностью. В
прошедший 276 год чума ужасно свирепствовала как в Риме, так и
в римской области143; зловещие знамения щемили сердца людей;
буря сбросила образ Юпитера с вершины Капитолия; нигде не
могли найти голову его, что, как думали, предвещало погибель
города; наконец, однако, искусству гаруспиков удалось указать
место в Тибре, где она и нашлась144. А все-таки страх обуял людей;
когда новый консул М. Курий Дентат, блистательно завершивший
в 290 г. самнитскую войну, наскоро приступил к новому набору,
то многие не явились по призыву. Тогда Дентат тотчас же велел
забрать имущество первого попавшегося ослушника; последний
обратился за помощью к трибунам, но тщетно, консул продал не-
послушного со всем его имуществом; это был первый пример по-
добного рода145. Таким образом набор удался; Лентул отправился
прикрыть Ауканию, тогда как Курий укрепился в Самнии.
Пирру надлежало перенести войну по возможности далее на
север Италии, с тем чтобы облегчить участь старых союзников, в
особенности самнитов; к нему примкнули, правда, несколько сам-
нитских ратей, но они пали духом, лишились доверия; а все-таки
царю во что бы то ни стало следовало спасти их. Он разделил по-
этому свою армию; один отряд двинулся в Ауканию, чтобы трево-
жить консула Лентула, тогда как сам царь повел главное войско
против Курия. Консул укрепился на высотах вблизи Беневента; он §
хотел уклониться от битвы с превосходными силами неприятеля146; £
ауспиции не благоприятствовали; Курий поджидал своего това- g
рища из Аукании. Потому-то Пирр и спешил нанести ему реши- |"8
тельный удар; положено, чтобы корпус отборных воинов ночью
обошел неприятельский лагерь и занял над ним высоты. Говорят,
будто сон напугал царя, он хотел отменить трудный маневр, от-
ложить битву; однако по совету друзей и ввиду ожидаемого при-
бытия Лентула битва была решена. Во мраке ночи лучшие войска
и самые сильные слоны двинулись с целью занять указанные вы-
соты; предстоял долгий путь по непроторенным лесистым верши-
нам; тропы приходилось отыскивать при свете факелов, время и
расстояние были плохо рассчитаны, факелов не доставало, люди
заблудились; день уже настал, когда достигли высот. В римском
лагере все оторопели, увидев в тылу и над собою неприятельские
отряды, поднялась общая тревога; однако предзнаменования были
благоприятны, битва неизбежна. И вот Курий двинулся на врага,
который изнемог от усталости и сумятицы после ночного перехо-
да; вскоре опрокинуты были первые ряды, а затем и весь отряд;
пало много воинов, римляне захватили двух слонов. Победа увлек-
ла консула в Арузийскую равнину; Пирр двинул на него оставшие-
ся внизу отряды; решалась участь дня. Римляне победоносно
напирали с одной стороны; а с другой их отражали, в особеннос-
п1
20
102
ти пущенными вперед слонами, до самого лагеря; но тут остав-
ленный для защиты лагеря отряд встретил слонов, начал метать в
них пылающие стрелы и погнал их назад. Оробев и рассвирепев,
они ринулись сквозь ряды своего же войска, увлекая все за собою
в страшном смятении147. Поражение было решительное и полное.
Римляне захватили лагерь царя, убили двух слонов, а восемь
остальных были отрезаны со всех сторон в замкнутой местности,
и вожаки-индусы сдались вместе с ними. Они служили «самым гор-
дым украшением» триумфа, когда Курий в феврале 274 г. вернул-
ся в Рим.
Войско Пирра было совсем рассеяно, так что лишь несколько
всадников сопровождали его при бегстве в Тарент. Посланные в
Луканию отряды никоим образом не могли удержаться в поле;
необходимо было прикрыть Тарент на случай немедленного на-
падения со стороны римлян.
Крайняя опасность миновала. Что же потом? Следует ли Пир-
ру продолжать борьбу? С теми боевыми силами, какие остались
у него, это казалось немыслимо. Разве что покинуть, как год тому
назад Сицилию, так теперь тоже и Италию? Вернуться в Эпир
беглецом, без славы, без добычи? А с какими надеждами он вы-
ехал оттуда! Он уже готов был во главе соединенных сил элли-
нов в Сицилии и Италии осуществить прежние планы Агафокла,
§ I Дионисия, Алкивиада, после чего для греков настало бы новое
§_| цветущее состояние. Эти надежды рушились вместе с утратою
Сицилии; если он теперь покинет также Италию, то греческие
города в ней будут не только потеряны для него, но неминуемо
X
г сделаются верною добычею гордого Рима, который затем овладе-
ет Сицилией. Разве после этого море в состоянии будет положить
'ф- предел римлянам? Ни в родном греческом крае, ни на дальнем эл-
линизированном Востоке не нашлось более государства, которое
в силах было бы противостоять победителям галлов и самнитов.
Пирр, без сомнения, сознавал мрачные пути будущего, когда от-
правил послов к Антигону в Македонию, к Антиоху в Азию и к
другим владетелям на востоке148, требуя денег и войска для про-
должения войны. Разнесся уже слух, что македонские и азиатские
отряды идут на помощь италийским грекам, и консулы не отва-
жились проникать к югу. Лентул также двинулся на самнитов, с
тем чтобы в борьбе с ними добиться лишь триумфа, но не оконча-
тельного решения.
Однако отдаленные цари не вняли клику о помощи; Антигону
предстояло организовать Македонию и защитить ее от галатов;
вся Малая Азия трепетала от этих разбойников или терзалась
вследствие то и дело возобновлявшейся борьбы династов; Сирия
изнемогала под влиянием все подчинявшего себе искусства Лаги-
довой политики; в Греции царила беспутная сумятица немощи,
раздора и взаимной ненависти. Все то же безумное раздробление,
своекорыстие и ослепление, которое погубило одну за другою сво-
бодные греческие республики и в самом корне подточило дивные
завоевания Александра, перешло теперь к эпигонам его державы,
к эллинским государствам. Пока греческая национальность тер-
залась в нескончаемой неурядице и тратила лучшие свои силы на
эллинизацию Азии, а эллинистическое господство на востоке,
расширяясь без конца, слабело все более и более, в то же время
римское владычество исподволь с самою строгою сосредоточен-
ностью, с поразительною непреодолимостью подвигалось впе-
ред, смыкалось все крепче и крепче. Эпирский царь видел римлян
в бою; он сознавал, что лишь греческие города в Италии состав-
ляют оплот Востока; но никто не внял ему.
Возврат Пирра из Италии изображается, правда, в виде бес-
славного бегства; получив от царей ответы, в которых заключался
отказ в требуемой помощи, он, как рассказывают, прочел знат-
ным эпирцам и тарентинцам отрывки, в которых будто бы содер-
жалось обещание пособия; а вслед за тем ночью морем отправился
к себе149. Царь увез с собою 8000 пехотинцев и 500 всадников, а в
Таренте оставил гарнизон под начальством Милона и поручил ему
даже своего сына Гелена150. Это непохоже на бегство. Но ему ниче-
го более не оставалось, как по возможности сохранить последнее
место, которое в состоянии было еще удержаться на италийском
прибрежьи, и поспешить домой, с тем чтобы в новой борьбе до-
биться владычества, боевых средств, и затем возобновить экспе-
дицию в Италию. Мы увидим, что, возвратившись в Эпир, он тотчас
же овладел Македонией, потом поспешил в Пелопоннес; тут по-
стигла его смерть (272 г.). Правда, наследник его Александр обра-
тил было взоры на Италию и Сицилию, однако там чересчур скоро
изменились все условия.
После девятилетней, поддерживаемой с величайшими усили-
ями борьбы Рим дал себе отдых всего на один год; начиная с 273 г.
он снарядился наконец на решительную войну с несчастными со-
юзниками эпирского царя. Одна из колоний в Посидонии обес-
печивала доступ в луканский край151; луканы, самниты и бруттии
были побеждены; достаточно было, казалось, еще одного напо-
ра, чтобы подчинить их Риму. В Таренте дело дошло до такой же
крайности; Милон управлял, как видно, чересчур строго; против
эпирского начальника составился заговор; заговорщики под пред-
водительством Никона напали на Милона, но были отражены; они
бросились затем в одно из укрепленных мест в Тарентинской об-
ласти, отправили послов в Рим и заключили со своей стороны мир.
Рим убедился в том, что Тарент готов покориться.
Настал великий 272 год — год роковых событий. В то самое
время, как Пирр овладел Македонией, но еще не приступил к зло-
получному походу в Пелопоннес, в Риме избрали двух консуля-
ров, одержавших двадцать лет тому назад самые блистательные
победы над самнитами152, Л. Папирия Курсора и Сп. Карвилия
Максима; опасаясь возвращения Пирра, римляне добивались по
возможности скорейшего решения153.
Папирий был уже на пути к Таренту, когда пришла туда весть о
смерти Пирра; тарентинцы боялись римлян и ненавидели эпиро-
тов; они тайком обратились к пуническим полководцам в Сицилии.
Для карфагенской политики было бы крайне выгодно приобрести
с Тарентом на италийском берегу такое же укрепленное место, ка-
ким для Сицилии был Лилибей. В гавани явился пунический флот,
тогда как Папирий расположился под городом; а между тем и дру-
гим находился Милон, преданный горожанами, для которых он
был единственною охраною. Тогда он предал и их также; Милон
уверил граждан, что Папирий готов заключить сносный мир, лишь
бы город не достался варварам. Он вступил в переговоры, выгово-
рил себе со своими воинами и со своею кассою свободный выход,
сдал затем крепость консулу и предоставил город на его произвол.
Стены были срыты, корабли и военные припасы отобраны; статуи,
картины, драгоценные предметы в эллинском вкусе украсили три-
умф Папирия154. Городу даровали мир и свободу, но свободу с еже-
годною данью, с сильным римским гарнизоном в крепости155.
Из всех южноиталийских врагов удержался лишь возмутив-
шийся легион в Регионе; он состоял в союзе с мамертинцами в
Мессане, взял даже приступом Кротон и опустошил его. Нако-
§1 нец-то в 270 г. консул Генуций осадил город. Вследствие войны в
с Сицилии Регион лишился помощи мамертинцев156; после продол-
ен жительной осады и страшной сечи город был взят; остаток не-
i когда римского легиона был в цепях отведен в Рим и трибами
единогласно приговорен к смерти; затем каждый день по пять-
% десят человек были высечены и обезглавлены. Сам Регион был
возвращен прежним эллинским жителям, которым удалось вновь
собраться после бегства.
В 270 г. Рим довершил покорение Италии; Карфаген же не мог
подчинить Сицилию; благородный Гиерон захватил власть в Си-
ракузах, не без успеха вел борьбу против мамертинцев, доставил
осаждавшим Регион римлянам вспомогательное войско и припа-
сы. Затем готовы уже были вспыхнуть новые ужасные войны. Ве-
личайшим политическим промахом было то, что Карфаген не
воспрепятствовал падению Тарента. В силу существовавших до-
говоров пуны могли так же вмешиваться в дела Италии, как Рим в
дела Сицилии. Но пунический полководец на свой страх явился в
гавани Тарента; когда впоследствии Рим предъявил жалобу по
этому поводу, то пунический сенат оправдывался, клятвенно под-
тверждая, что все это произошло без его ведома157. Не прошло и
шести лет, как Рим напал на карфагенян в Сицилии.
Итак, благодаря войне с Пирром Рим расширил свои полити-
ческие отношения, которые, примкнув к именам пунов и эллиниз-
ма, простерлись от Геркулесовых столбов до Ганга. Год спустя
после того как Пирр покинул Италию, в то самое время как он
завоевал Македонию, Птолемей II из Египта отправил в Рим по-
слов с предложением дружбы и союза. Рим отплатил за эту зна-
менательную предупредительность величайшими почестями, какие
когда-либо воздавались иноземным государям: в числе трех рим-
ских послов находился глава сената, Фабий Максим Гургит. Эти
посланники были великолепно приняты; царь по греческому обы-
чаю велел поднести им золотые венки; а послы, дабы соблюсти
торжественный обряд158 и почтить царя, приняли подарки, с тем
чтобы возложить их на головы его статуй; остальные дары, от ко-
торых нельзя было отказаться, они, вернувшись, точно так же пе-
редали сенату, прежде даже чем дали отчет о посольстве. Но сенат
предоставил им эти подарки для сохранения на добрую память в
их доме. Был заключен союз, целесообразность которого подтвер-
дилась ненарушимостью его в течение двухсот лет.
Не менее того знаменательна была также другая связь. Рим-
ляне заняли уже Брундусий, служивший местом переправы в
Аполлонию. Этот древне-эллинский город, который процветал
благодаря своей торговле и славился как в прежние, так и в позд-
нейшие времена своим благоустроенным правлением159, отправил
в 270 г. посольство в Рим, неизвестно с какою целью; можно,
впрочем, догадаться об опасности, какая угрожала городу160;
царь дарданцев Монуний, пользуясь сумятицей галльских набе-
гов, за последнее десятилетие все более и более расширял свое
владычество; Диррахий уже подчинился ему; в это самое время он
вел войну с Александром Эпирским; если последний победит, то
Аполлония, вероятно, также подвергнется опасности. Посольство
аполлониатов сохранилось в памяти благодаря тому, что знатные
римляне оскорбили послов своими грубыми поступками, а когда
сенат выдал провинившихся, то аполлониаты отпустили их без-
наказанно161. Судя по этому обращению с посольством, надо по-
лагать, что Аполлония не вела войны против Александра, иначе
послы пользовались бы популярностью в Риме; римляне, напро-
тив того, предполагали, что город связан с Эпиром общими ин-
тересами. Однако сенат никоим образом не мог упустить из вида
важность дружеских отношений с Аполлонией; строгость, с ка-
кою сенаторы отнеслись к делу, доказывает, что они ценили зна-
чение этой дружбы; как бы то ни было, но не подлежит сомнению,
что между Римом и Аполлонией состоялся союз.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
275-262 гг.
Нашествие галлов. — Антигон и Никомед против Антиоха. —
Антигон в Македонии. — Победа Пирра над Антигоном. — Пирр
против Спарты. — Его смерть под Аргосом. — Усмирение
Греции. — Хремонидова война. — Македония — великая
держава. — Победы Антиоха над галатами. — Птолемей
Филадельф. — Киренская война. — Первая Сирийская война. —
Смерть Антиоха. — Обзор
В высшей степени знаменательным явлением представляется
совпадение войны Пирра в Италии с кельтским нашествием в земли
Гема и в Малую Азию. Там, в Италии, греки приступили, наконец, к
наступательному движению против Рима, и стали осуществлять-
ся самые выспренние надежды, тогда как здесь эллинский мир чуть
ли не в совершенной немощи был готов, как кажется, погибнуть
от первого стремительного натиска северных варваров. Словно
дикая стихийная сила вторглись они в его высокоцивилизованные
области, разорвали искусственно перепутанные нити крайне воз-
бужденной политики и грозили грубою силою сокрушить все об-
щественные условия.
Какая, однако, разница оказалась в исходе, в последствиях той
и этой борьбы. Там ни величайший полководец, ни самое испы-
танное войско не в состоянии были одержать прочную победу над
демонскою силою римского духа; немощно опустилась рука, дерз-
нувшая нанести ему удар; столкновение с ним причинило как бы
истощение и страх смерти; от его взора медузы пошатнулся и стал
распадаться греческий мир и, как бы пораженный ужасом, он умер
в немощных судорогах.
Причиненная галльскими ордами гибель была, казалось, вне-
запнее, страшнее, неизбежнее; они вторглись в эллинский мир в
такое время, когда там все находилось в сильнейшем разладе и
смятении. Престарелого Селевка, победившего Лисимаха, убил
Птолемей Керавн; лишившись египетского царства, которое отец
по пристрастию и расчету передал его младшему брату, Керавн
задумал возместить эту утрату двойным венцом — Фракии и Ма-
кедонии. Антиох выслал, правда, войска, с тем чтобы отомстить
за смерть отца и спасти его завоевание; но явился Антигон Гонат,
с тем чтобы с оружием в руках предъявить свои старейшие права
на Македонию. Но молодой египетский царь в своих же интере-
сах, с тем чтобы удалить брата, желал закрепить за ним его новые
приобретения. Спарта, войдя в соглашение с Египтом, восстала и
с обычным воззванием к свободе побудила эллинов изгнать гар-
низоны и тиранов, при посредстве которых Антигон удерживал
за собою города; она напала на этолян, союзников Антигона; тем
временем Птолемей с помощью флота восставшей за свою свобо-
ду Гераклеи одержал на море победу над Антигоном, а союзный с
ним вифинский царь, напав врасплох на Антиоха, уничтожил его
войско1. Это было летом 280 года. Казалось, будто здесь, в Элла-
де, в Македонии, на всем протяжении эллинского мира еще раз
все готово было подвергнуться перевороту. Пока Пирр проникал
в Италию, в то же время четыре ахейских города решились на пер-
вые попытки к свободе2. Египет напал на южную Сирию в царстве
Селевкидов3, и владычество Антиоха в Малой Азии пошатнулось.
Мало того, гераклеоты спешили воспользоваться вифинским меж-
доусобием4, а эллинские города Малой Азии, которые поработил
царь Лисимах, надеялись с падением его вновь добиться свободы.
Однако Селевкид не уступал ни пяди той власти, какою пользовал-
ся над ними Лисимах; тем еще равностнее пытались они восстано-
вить свободу, за которую торжественно поручился им Александр
Великий. Македония скорее всего могла бы подать помощь; но,
помышляя лишь о своем владычестве, Птолемей Керавн напал на
дарданцев и на сына Лисимаха — на претендента его престола5;
всюду царило смутное треволнение.
Тут-то как раз и нахлынули кельты. Мы изложим здесь эти
события лишь настолько, насколько окажется необходимым для
понимания дальнейших происшествий. Еще в конце 280 года кель-
ты победили и убили Птолемея; они наводнили Македонию, са-
мым ужасным образом опустошали селения. Вскоре не стало
никакого порядка: Птолемеев брат Мелеагр по неспособности был
свергнут по прошествии двух месяцев; возведенный на престол
племянник царя Кассандра Антипатр также не был в состоянии
помочь беде. Устранив его6, Сосфен собрал наконец вокруг себя
войско; едва успел он очистить край, как летом 279 г. вновь появи-
лась другая страшнейшая орда под предводительством Бренна;
одна толпа в стране дарданцев отделилась от всей массы, с тем
чтобы под начальством Лутария и Леоннария напасть на Фракию
и Византии; главная ватага нагрянула на Македонию. Сосфен обо-
ронялся по мере возможности. Вновь опустошив разоренный уже
край, дикие толпы через Фессалию нахлынули на Грецию. Гречес-
кое войско собралось, правда, в Фермопилах; однако Спарта не
выслала ни одного отряда на помощь и отказалась заключить пе-
ремирие с мессенцами, так что и они тоже не могли выступить;
опасаясь Спарты, аркадцы также не решились принять участие в
обороне7; пелопоннесцы говорили, что у варваров нет судов для
переправы к ним, а перешеек они успеют преградить окопами.
Вследствие этого из всего Пелопоннеса не прибыло никакого вой-
108
ска, ни даже из городов, в которых все еще стояли Антигоновы
гарнизоны или властвовали преданные ему тираны; отряды яви-
лись только из непосредственно угрожаемых областей, из Беотии,
Фокиды, Опунта, из Мегары, Афин и от этолян; царь Антиох при-
слал 500 воинов, Антигон столько же; он,как видно, с разумной
предусмотрительностью берег свои силы.
Кельты на самом деле встретили отпор в Фермопилах; одна из
их шаек, проникнув в Этолию, была уничтожена этолянами и при-
бывшими на помощь из Патров ахейцами. Когда же, наконец,
вследствие измены кельты прошли через Фермопилы и проникли
далее, то потерпели дельфийское поражение; сам Бренн пал. Они,
однако, не были уничтожены; им преградили только дальнейший
путь. Обремененные добычей, они отступили; одни отправились
в Галлию, а другие, кордисты, под предводительством Бафаната
расселились по Дунаю, откуда прибыли8; некоторые из них засе-
ли в злополучной Македонии. Сосфен умер; три претендента од-
новременно заявили свои права на престол, а в Кассандрии явился
тираном Аполлодор. Истребляя трибаллов, гетское царство Дро-
михета, самая опасная толпа кельтов под начальством Комонто-
рия проникла во Фракию. Там ужасно свирепствовали уже 20 000
человек с Леоннарием и Лутарием во главе; они собирали контри-
буцию с приморских городов, даже укрепленный Византии за-
§ платил им дань. Лисимахия была взята. Затем они обратили взоры
8_ на богатое азиатское побережье по ту сторону Геллеспонта и ста-
iz ли порываться туда; они требовали, чтобы наместник Антиоха
Р Антипатр дал им средства переправы; переговоры затянулись, и,
х наскучив ожиданием, Леоннарий с одним из отрядов вновь напал
на Византии, а Лутарий тем временем захватил пять кораблей,
* & которые Антипатр под предлогом посольства прислал для наблю-
дений за варварами. На этих судах он переправил своих людей9,
нагрянул прежде всего на Илион, который должен был служить
ему разбойничьим убежищем. Вскоре он покинул это неукреплен-
ное место10, затем начал нападать на города Азии. Комонторий
же утвердил свое владычество по обе стороны Тема, а именно цар-
ство Тилиса, прозванное по его замку в горах.
Нам мало известны в их главных чертах отношения, существо-
вавшие в то же время между Антигоном и Антиохом. Во всяком
случае, ни тот, ни другой не думал отказаться от обильной пре-
тендентами, но при всем том лишенной владетеля страны — от
Македонии и Фракии. Но сирийскому царю помешала главным
образом Вифиния. Лишившись войска после нападения 280 года,
он снарядил новый отряд против Никомеда, который поспешил
воспользоваться пособием гераклеотов, уступив им Тиос, Киер и
Финскую область. В финском крае власть захватил брат его Зи-
пет; когда явились гераклеоты, с тем чтобы вступить во владение,
то он их разбил11; ему достались также остальные части Вифинии.
Никомеду пришлось прибегнуть к иным средствам, чтобы не ли-
шиться всего.
Между тем пал Птолемей Керавн, союзник Никомеда и гера-
клеотов; кельты наводнили Македонию во второй раз, Фракия
находилась уже во власти Леоннария и Лутария. Можно ли пред-
положить, чтобы Антиох покусился занять прибрежья Фракии?
Ведь в наступившую затем весну (278 г.) это был тот самый стратег
азиатского поморья, который вступил в переговоры с Лутарием;
на европейском же берегу не было и следа сирийского гарнизона.
Однако Мемнон заявляет: «В то самое время (когда воевали из-за
Финской области) вспыхнула12 также борьба между Антигоном и
Антиохом; тот и другой снарядили значительные войска, и война
длилась довольно долго; союзником Антигона был царь Никомед,
а к Антиоху пристало много других. Прежде своего столкнове-
ния с Антигоном Антиох напал на Никомеда; однако тот собрал
военные силы частью из разных мест, частью послал за помощью
к гераклеотам и получил от них 13 триер; он выставил их вместе
со своим флотом против Антиоха. Простояв некоторое время друг
против друга, оба флота, не решившись вступить в бой, разошлись.
Вскоре после того Никомед навербовал кельтских наемников».
Ведь сирийский флот не смог принудить вифинцев вступить в бой;
а это для него равнялось поражению.
Ливии сооощает: «Никомед вывел из Византия Леоннария с
его ордами и присоединил их к наемникам Лутария; тогда нако-
нец побежден был Зипет в Финской области»13. Хронологическая
связь этой борьбы неясна; во всяком случае кельты из окрестнос-
тей Византия переправились в Азию после лета 278 г.14, вероятно,
лишь весною 277 г. Следовательно, до этого времени сирийский и
вифинский флоты стояли в бездействии друг против друга; когда
кельты проникли в Фессалию, то довольно долго длившаяся борь-
ба между Антигоном и Антиохом не повела еще к решительному
столкновению. Понятно, отчего Антигон в ноябре 279 г. послал к
Фермопилам всего трлько 500 человек; армия Антиоха находилась
довольно близко оттуда, и он послал столько же. Эти небольшие
отряды сражались там все еще друг с другом.
Таким образом, факты понемногу выясняются. Лишь, после
того как кельты отхлынули из Эллады, весной 278 г. началась, соб-
ственно, борьба между Антиохом и Антигоном. Это, надо полагать,
была морская война; Антиоху надлежало преградить неприя-
тельскому флоту путь в Македонию; ему необходимо было сосре-
доточить здесь все силы, какими позволяли располагать волнения
в сирийской области; понятно, что часть флота, какую можно было
выслать против Никомеда, была слишком слаба для того, чтобы
отважиться на битву. О дальнейшем ходе войны из-за Македонии
не имеется никаких известий; однако первая морская битва, как
кажется, была решена в пользу Антигона15. Война, как гласит еди-
no
ничное, но достоверное известие, велась в Азии16. Во всяком слу-
чае, Антигон вслед затем явился с блестящим флотом поблизости
от Лисимахии. Сюда прибыли к нему послы кельтов от Комонто-
рия17, с тем чтобы предложить ему торговый договор; он велико-
лепно угостил их, показал им свой флот, свое войско, своих слонов;
несмотря на то что они видели, желая получить добычу, они все-
таки нагрянули; они застали лагерь покинутым и разграбили его;
потом подошли к берегу с целью завладеть также кораблями; одна-
ко гребцы с кораблей и часть воинов, спасшихся с женами и детьми
на судах, кинулись на нападавших и перебили их. Затем подоспел
Антигон с войском и довершил их поражение18. Это был самый
блестящий боевой подвиг, имя Антигона прославилось, даже вар-
вары стали бояться его19.
Теперь он мог направиться в Македонию. О претендентах
Птолемее и Арридее и помину более не было; однако там все еще
держался племянник Кассандра Антипатр. Антигон присоеди-
нил к себе наемных кельтов под начальством Бидория; это была,
вероятно, толпа, которая, вернувшись из Дельф, осталась в Ма-
кедонии и предпочла поступить к нему в наем, тем более что ее
напугала участь собратьев на морском берегу; 9000 воинов подря-
дились по одному золотому с души и потребовали заложников.
Антипатр вскоре был разбит; но тогда варвары стали требовать
§ такую же плату за каждую из жен и за каждого из детей. Не вре-
§1 мя было теперь вновь рисковать всеми только что достигнутыми
с успехами, ни также обнаружить перед варварами уступчивую
2 слабость; дикая орда с угрозами двинулась уже в путь. Антигон
i отправил за ними гонцов и велел прислать вождей для получения
денег; когда они прибыли, то он сказал, что отпустит их только
« •%. тогда, когда возвратят его заложников и примут плату по золо-
тому на воина20. Таким путем Антигон избег опасности. До на-
ступления половины лета 277 г. Македония перешла уже в его
власть21.
Следуя успешному примеру Антигона, Никомед вызвал кель-
тов Леоннария из Византия и подрядил их вместе с шайками Лу-
тария. По договору с семнадцатью князьями значилось: «Они во
всякое время обязаны служить ему и его наследникам верой и прав-
дой, ни к кому не поступать на службу без согласия Никомеда,
иметь с ним одних и тех же друзей и врагов и в особенности быть
готовыми оказать помощь византийцам, гераклеотам, халкедоня-
нам, тианцам, киеранцам и некоторым другим»22. Их было более
20 000 воинов; первую войну они повели с Зипетом, который не-
давно разбил гераклеотов в Финской области, за которого вооб-
ще восстала большая часть Вифинии. Он был разбит, вифинская
страна вся перешла во власть Никомеда, обещанное побережье
было передано гераклеотам, движимое имущество побежденных
досталось в добычу варварам23.
Ни Ливии, ни Мемнон не упоминают о том, что Никомед с эти-
ми гадатами, как недавно еще предполагалось, воевал с Антиохом;
оба писателя, напротив того, сообщают, что тотчас же после ви-
финской войны галаты стали совершать свои опустошительные
набеги в Азии, они навели ужас на весь край в пределах Тавра,
разбились в Малой Азии на шайки с целью грабежей, так что трок-
мы взяли на свою долю берега Геллеспонта, толистобои — Эолию
и Ионию, а тектосаги — внутренние области. Судя по некоторым
сохранившимся известиям, набеги их простирались до Эфеса24 и
Милета25, до Фемисония на карийской границе26.
Мы не знаем, чем кончилась борьба Антиоха с Никомедом;
во всяком случае, судя по всему вышесказанному, невероятно,
чтобы после войны с Зипетом кельты ратовали еще также про-
тив сирийского царя за Никомеда. Упоминается, между прочим,
битва, в которой Антиох разбил кельтов27; если бы они в это вре-
мя сражались на вифинской службе, то от такого поражения это
маленькое царство, несомненно, пало бы окончательно. Упоми-
нается, однако, о том, что в Азии Антигон и вифинский царь вели
борьбу против кельтов28. Не подлежит сомнению, что они вос-
стали против того, с кем недавно лишь заключили союз; они в
это время, вероятно, и стали требовать, чтобы им уступили осо-
бую область. Антигон же был союзником Никомеда; после одер-
жанной над сирийским флотом победы он также пользовался
владением в Азии и, между прочим, распоряжался в Питане29; его
спасительное влияние простиралось, как кажется, до Карий; кни-
дяне соорудили в честь «радушного героя Антигона» святилище с
ристалищем, с каруселью и фимелою для мусических состязаний
и в священной роще изображение играющего на сиринге Пана.
Борьба завершилась тем, что галаты заняли часть Вифинской
и несколько северных полос Фригийской области по направлению
к Галису30. Все, как надо полагать, согласились между собою ис-
купить наконец добровольными уступками спокойствие, которое
все-таки не успели восстановить. С тем чтобы достичь этой цели,
Антиох и тогда уже, а может быть, даже прежде того, признал
царя вифинского, отказался от своих прав на Гераклею и Македо-
нию; не подлежит сомнению, что по поводу этого мира31 он помол-
вил свою сестру Филу за Антигона32, который, вероятно, возвратил
все, что приобрел по ту сторону Геллеспонта, а именно Карию,
как кажется, с условием признать и гарантировать свободу и права
тамошних эллинских городов33. Неизвестно, было ли что-нибудь
постановлено также относительно права на фригийские берега,
которыми, по-видимому, пытался уже завладеть Комонторий,
основатель кельтского царства Тилиса34.
В этих уступках, если они были сделаны, ясно обнаруживает-
ся светлый разум, каким всегда отличалась политика Антигона;
для него никакого проку не было в отдаленном и ненадежном вла-
12
дении, которое его только запутывало бы в нескончаемые войны с
крайне сомнительным исходом; уступив же Антиоху эти области,
он не только заручился основою для дружеских с ним сношений,
но предоставил ему также оборону тамошних городов от кельтов.
Таким образом, сирийским войскам предстояло вести с ними борь-
бу по сю сторону Тавра, благодаря чему Македония была ограж-
дена от новых притязаний Селевкидов. Вследствие свободы этих
эллинских городов образовалось нечто вроде нейтральной поло-
сы между обоими государствами, и сверх того это могло служить
как бы оплотом против нового натиска Лагидов; а если гарантия
этой свободы утверждена в мирном договоре, то она давала маке-
донскому правительству важное и в высшей степени популярное
право зорко следить за политическим положением этих берегов.
Отношения Македонии к Греции были такого рода, что для
их восстановления требовалась вся энергия царя при самых со-
средоточенных его усилиях. Вследствие нашествия кельтов и анар-
хии в Македонии всюду господствовало опустошение, смятение,
разорение; необходимо было укрепить границы, восстановить
порядок внутри, вновь заселить опустевшие области, возбудить
сношения, деятельность, доверие; пришлось как бы вновь созда-
вать царство. Для того чтобы вся Греция не подверглась грабежу
диких варварских орд, разорявших Малую Азию в течение деся-
§ I тилетий, необходимо было, чтобы сильная Македония, подобно
§_| валу, охраняла эллинские области; Антигон же, победитель при
Лисимахии, быстрее любого другого в состоянии был отразить
натиск варваров35. Правда, в древних преданиях не сохранилось
х ничего об этой значительной деятельности Антигона; в них ска-
зано лишь, что он положил конец деспотическому владычеству
%*■ Аполлодора в Кассандрии36. Тиран окружил себя галльскими на-
емниками; когда Антигон напал на него, то Спарта поспешила
подать помощь Аполлодору. Десять месяцев длилась осада без
всякого успеха. Наконец, Антигон отступил со своим войском; под
городом остался только вождь корсаров Аминий и Фокиды, с не-
сколькими из этолийских пиратов и с двумя тысячами пехотин-
цев; он обещал тирану вступить с ним в дружеские сношения,
примирить его с царем и снабдить нуждавшийся осажденный го-
род обильными припасами. Таким образом, Аминий усыпил бди-
тельность Аполлодора, сам же подготовил все для того, чтобы
взять город врасплох. Нападение удалось, пираты взошли на сла-
бо охраняемые стены; город был взят без дальнейшего сопротив-
ления и возвращен государству37.
Немало удивляет нас присланная спартанцами помощь; мож-
но судить по этому, как дальновидна стала опять политика госу-
дарства с тех пор, как оно приобрело себе опору в египетском
союзе, или, вернее, как политика Лагида сумела воспользоваться
Спартою. Вследствие этого и вспыхнула известная уже священ-
ная война 280 года, благодаря которой четыре ахейских города
изгнали македонский гарнизон38. Осенью 279 г. Спарта могла вос-
препятствовать мессенцам и аркадцам двинуться к Фермопилам.
В Аргосе также не было уже ни македонского эпимелета, ни гар-
низона. Вероятно, в одно время с посылкою в Кассандрию спар-
танцы двинулись под предводительством Клеонима к Трезену, где
стоял македонский гарнизон под начальством Эвдамида. Клеоним
окружил город; он велел метнуть туда несколько стрел с при-
цепленными к ним записками, в которых извещал горожан, что
пришел освободить их. Отпущенные им без выкупа пленники под-
твердили слова спартанца. Вследствие этого в городе возник мя-
теж; в это время осаждающим нетрудно было проникнуть в него и
завладеть им. Затем в городе назначили спартанский гарнизон и
гармоста39.
Влияние Антигона в Пелопоннесе явно сократилось; он по-
ручил стратегию в Греции и на Эвбее своему единоутробному
брату Кратеру40, который, однако, не мог, по-видимому, справить-
ся с возраставшим волнением. Освободившиеся четыре города в
западной Ахайе вновь уже не подчинились. Затем восстал также
Эгион (276 г.), изгнал македонский гарнизон и примкнул к упомя-
нутым союзным городам41. Правда, Ахейская область, находясь в
стороне от великих, долгое время потрясавших мир военных дей-
ствий, менее всех других греческих областей подверглась бед-
ствиям, и распространившаяся по Греции чума почти не коснулась
этого приморского края42. Когда же восстал еще Эгион, этот важ-
нейший город Ахайи, в области которого находились союзное
святилище Зевса Омагирия и храм Деметры Всеахейской43, про-
будилось воспоминание о лучших временах и желание вернуть их
и упрочить вновь добытую свободу. Таким путем пять городов —
Патры, Эгион, Дима, Тритея и Фары — возобновили древний
союз44 и составили союзную грамоту, существенные постановле-
ния которой обусловились преимущественно отвечавшими тому
времени отношениями. Главною целью было охранять друг друга
от нападок извне и от властолюбия тиранов: эти пять политий
должны были составить союзное государство, одно неразрывное
целое, от которого отдельные члены состояли бы в одинаковой
зависимости и пользовались бы самостоятельностью лишь в де-
лах внутреннего управления; сверх того было прибавлено, что вся-
кий город, пожелавший присоединиться к союзу, будет принят на
равных правах с остальными45.
Это был зародыш учреждений, которому суждено было во-
зыметь высокое значение для Греции; это было ядро свободного
федеративного строя, которого Греция давно уже, но тщетно до-
бивалась. Добровольно отрешась от своей ревнивой самостоятель-
ности и исключительности, эллинские политий вступили в состав
организации политической общины, в пределах которой каждо-
му отдельному городу предоставлялась лишь муниципальная са-
мостоятельность и которая управлялась уже не демосом, а/влас-
тью, избранною в общем собрании союза. /
Правда, союз лишь впоследствии достиг внутри более разви-
той организации и вместе с тем более широкого политического
значения; однако и теперь уже, в самых начатках его, сложившаяся
в нем идея животворно повлияла на соплеменные города; союз-
ники ревностно пытались освободить и их. С помощью федера-
ции граждане Буры под предводительством Марга Керинейского
убили тирана города и присоединились к союзу; увидев, что всю-
ду изгоняют и убивают тиранов, Исей Керинейский сам отрекся
от власти и, добившись безопасного положения, предоставил го-
роду возможность пристать к союзу46. Вскоре затем остальные
города в этой области — Леонтий, Пеллена, Эгира — также были
освобождены; союз захватил всю небольшую ахейскую террито-
рию47. Во главе его были два стратега, избираемые погодно, сверх
того по одному дамиургу в каждом из городов, наконец, грам-
матеус, нечто вроде президента союзного совета. Этот сановник
выбирался поочередно в каждом из десяти городов; по его имени
назывался год48. Два раза в год, но каждый раз лишь на три дня
назначалось общее собрание народа в Эгионе.
Однако разве Македония могла спокойно смотреть на эти пе-
ремены? Едва оправившееся государство было вновь расстроено.
В начале 274 г. Пирр вернулся из Италии; после поражений в ис-
текшем году он тщетно обращался к Антигону и другим царям с
просьбою о помощи и вынужден был покинуть всю Италию, за
исключением Тарента. Тавлантинская область была занята дар-
данцами, Керкира утрачена, Акарнания освободилась49. Теперь
Пирр жаждал мести50; ему нужна была война, чтобы поддержать
и увеличить свое войско; ему во что бы то ни стало хотелось вер-
нуть все свои потери. Навербовав толпу галлов, он отрекся от мира
с Антигоном, а между тем отважный сын его Птолемей с неболь-
шим отрядом опять взял Керкиру51. Тотчас же, с самого начала
войны, ближайшие города отворили ворота Пирру, к нему пере-
шли 2000 пехотинцев. Потом он направился к проходу, которым с
запада открывается доступ в Македонию52. Там встретил его Ан-
тигон со своим войском, главную силу которого составляли кельт-
ские наемники. Легкие отряды Антигона были сразу опрокинуты
при первом натиске; кельты тщетно оказали самое упорное со-
противление, они были изрублены; слоны, которым эпироты пре-
градили отступление, отошли назад, их тут же направили против
македонской, не вступавшей еще в бой фаланги. Оторопев и сме-
шавшись, она поджидала врага; когда же, как рассказывают, Пирр
подал знак рукою и стал звать по именам некоторых из македон-
ских стратегов и таксиархов, то все отреклись от своего царя и
предались победителю53. Как бы то ни было, во всяком случае вой-
ско Антигона рассыпалось, а его кельтские отряды были уничто-
жены; он бежал до самого берега и там, в Фессалонике и окрест-
ных приморских городах, стал вновь снаряжаться к войне.
Надписи, которыми Пирр посвятил галльские трофеи в храме
итонской Паллады в Фессалии, а македонские — в храме додон-
ского Зевса54, свидетельствуют о важном значении этой решитель-
ной победы над Антигоном. Фессалия и так называемые верхние
области Македонии находились в его власти. Город Эги при входе
в Эмафию, эта родина македонского царства, был также взят55 и
подвергся жестокой каре; оставленные там Пирром вместо гар-
низона 2000 галлов, желая добычи, вскрыли гробы древних царей,
разграбили их и, довершая святотатство, разбросали их останки.
Пирр, однако, не наказал их, несмотря на то что македоняне гром-
ко выражали свое негодование. Не рассчитывал ли Антигон на это
настроение народа? Он навербовал новые толпы галлов и двинул-
ся с ними на эпиротов. Птолемей, сын Пирра, по отваге и силе по-
ходивший на отца, подоспел к самой битве; Антигон был вновь
разбит, войско его было уничтожено; ускользнув лишь с семью
спутниками, он едва успел скрыться. Приморские города опять
дали ему убежище; он знал, что Пирр, подобно игроку после удач-
ной ставки, будет порываться к новым отважным подвигам56.
И в самом деле, таков был Пирр, этот истый эпигон дикой от-
важной эпохи диадохов; он более всех походил на великого Алек-
сандра, но только он не исполнился высокой идеи македонского
царя. Его с юных лет подстрекал неистощимый порыв к отваге и
борьбе; он пользовался всяким представлявшимся к тому поводом
и проявлял при этом свое счастье и свое мастерство; но как только
миновали опасности и риск, то потухало и его честолюбие и рве-
ние, как будто утвердить за собою добытое или питать помимо
боя другие побуждения было недостойно царя. Он хотел быть
только воином; ему не было дела ни до искусств, ни до наук! Война
была для него не политическим средством; удалой натиск, быстрая
предприимчивость,.кровавое решение дела, — вот в чем состояла
вся его политика. Он два-три раза овладевал Македонией и вновь
терял ее; он пошел в Италию, имея в виду завоевать Сицилию, Ли-
вию, весь мир. Правда, там его встретил сильный, твердый, воин-
ственный народ; царь победил, но не одолел его; с возраставшею
опасностью закалялись энергия и мужество римлян; на краю по-
гибели они восстали с новою силою; они знали, за что ратовали.
Тогда царь сам убедился, что ему необходимо освоиться с постоян-
ством, осторожностью, с самою упорною настойчивостью; в нем
возникло чаянье будущей опасности, ввиду которой смутная тре-
вога боевой страсти стала увлекать его к великой цели. Однако ни
одно из его предприятий не удалось. Он взывал о помощи, но его
не поняли. Исполнившись великой идеи о спасении греческого
мира, он из Италии поспешил к себе на родину, решась быть его
поборником, и потом вернуться для возобновления борьбы с Ри-
мом. Но эти италийские впечатления исчезают в родной обстанов-
ке, его увлекают запутанные, расшатанные условия эллинского
мира, они вновь разжигают его страсть к подвигам, вновь возбуж-
дают в нем призрачные надежды. Македония рушилась с одного
натиска, ужасные галлы были разбиты; в Греции также следовало
разгромить власть Антигона и вообще всякое постороннее гос-
подство, затем устремиться в Азию, и весь мир будет принадле-
жать ему.
Антигон только и ждал, чтобы он из Македонии ушел в Гре-
цию. Это был характер совершенно противоположный тому, кото-
рый был у рыцарского царя — его отца, к нему, казалось, не перешло
ничего от отца его Деметрия, он как бы все унаследовал от своих
дедов, от Антигона и Антипатра, а именно от первого неутолимое
рвение во что бы то ни стало добиться намеченной цели, а от по-
следнего разумную уверенность в выборе средств, которую ника-
кие неудачи не могли разбить. Но и того и другого превосходил
он высшим образованием и уважением к нему; он, конечно, постиг
свое положение в том теоретическом духе, которым прониклась его
эпоха. Он в особенности сочувствовал стоицизму, но бывший его
наставник Эвфант Мегарик посвятил ему свое сочинение «О цар-
ском достоинстве». Что же касается поэзии, то ему хотелось бы
§ I астрономическое творение Эвдокса изложить в приятном и по-
qJ учительном виде; земледелие в особенности интересовало его. Это
был характер, лишенный восторженности, вполне рассудительный
и просвещенный, свободный от религиозных предрассудков, от
11 иллюзий, человек с известными принципами, исполненный чувства
долга. Строго и почтительно исполнял он свой сыновний долг в
отношении отца; он подчинялся его приказам; предлагал себя в
заложники для его освобождения; мало того, готов был отказать-
ся от всего, что можно было еще спасти, от всяких прав, лишь бы
выручить его. Точно так же верен он своему отцовскому долгу,
строго относится к своим детям, заботится об их образовании. Но
он решительно отделяет свое положение в качестве политическо-
го деятеля от нравственных обязанностей своей частной жизни;
там цель для него превыше средств; унаследованные от отца пра-
ва, царское имя, которого избегал при его жизни, все это он при-
нимает на себя отнюдь не с ревностью честолюбца, а напротив,
как долг, которому обязан посвятить себя; блестящим рабством
называет он царскую власть57. Куда бы ни забросила его судьба,
он неизменно имел в виду свою цель; его ничем нельзя сбить с пути,
ни ослепить; даже успех не соблазнял его высшими надеждами;
если же он, как казалось, чересчур заносился, то поступал таким
образом лишь с тем, чтобы воспользоваться добычею и потом,
отрекшись от нее, выговорить себе взамен того некоторые уступ-
ки для своих целей. Это одна из тех политических натур, перед
х
которой преклоняются не только слабые, но и восторженные
люди. Пирр называл его бессовестным, оттого что он вместо фи-
лософской мантии добивается порфиры; однако время рыцарства
и авантюристов миновало, и уж никак не Пирр, а скорее Анти-
гон обнаруживал царские признаки новой эпохи. Их война была
борьбою двух эпох, и в конце концов политик одержал победу
над героем.
При войске Пирра в Македонии находился спартанец Клео-
ним; завоевание Эдессы (Эг) было его делом. Это был тот самый
Клеоним, которому 36 лет тому назад, после смерти его отца, ге-
ронты отказали в царском достоинстве, вручив его Арею, сыну
старшего его брата. С этих пор Клеоним вел беспутную, испол-
ненную безрассудных и отчаянных приключений жизнь; он не-
которое время состоял со своим наемным войском на службе у
тарентинцев и рыскал по Италии, потом пытался утвердиться на
Керкире, затем воевал опять в Беотии с Деметрием. Наконец он
опять явился в Спарту. Тут, как оказалось, в среде олигархии го-
рода обнаружился внутренний разлад. Вероятно, Арей после зло-
получного похода 280 года лишился своего влияния. Его пышность
и царский образ жизни58, его связь с Египтом служили достаточ-
ным поводом для враждебных возбуждений; в 279 г. уже именно
Клеоним отказался заключить с мессенцами договор, так что они
не могли отправиться к Фермопилам; вскоре после того он повел
войско на Трезен и посадил там гармоста59. Его брак с молодою
прекрасною Хелидонидою из другого царского дома60 состоялся,
вероятно, в связи с политическими условиями; он приобрел при-
верженцев во внутренних городах; возмутить чернь против олигар-
хии, ниспровергнуть правление, утвердить действительное царское
достоинство — вот что имел он в виду. Однако его молодая жена
поддерживала любовную связь с юным сыном Арея Акротатом,
который публично похвалялся любовью Хелидониды; брак Клео-
нима стал явным скандалом; вследствие этого он в припадке гнева,
как говорят, покинул Спарту61. Не подлежит сомнению, впрочем,
что его изгнала олигархическая реакция.
Он отправился к Пирру; посоветовал ему предпринять поход
в Пелопоннес: там царю нетрудно будет овладеть городами, все
уже подготовлено для этого, везде возникают мятежи. Прельсти-
ла ли Пирра мысль выступить освободителем греков? В Ахайе из-
гнаны были последние тираны, и всюду пробуждался прежний
республиканский дух против деспотов, эпимелетов с гарнизона-
ми Антигона. Может быть, впрочем, он задумал вмешаться в дело,
прежде чем свобода успеет принять широкие размеры, с тем что-
бы впредь самому занять роль македонян в Греции. Или не взду-
малось ли ему основать царство для отважного мужа? Не признал
ли он необходимым сперва уничтожить приверженцев Антигона
в Греции, с тем чтобы потом окончательно подавить их в Македо-
нии?62 Он скоро решился и двинулся из Фессалии на юг. С ним был
его храбрый Птолемей, также Гелен, которого он вызвал из Та-
рента. Пирр переправил через Коринфский залив к берегам Пе-
лопоннеса 25 000 пехотинцев, 2000 всадников, 25 слонов. Там
ожидали его послы ахейцев, афинян, мессенцев; вся Греция в ве-
личайшей тревоге ждала, что что-то будет63. Он двинулся на Ме-
галополь; явившимся к нему спартанским послам царь объявил,
что пришел освободить подчиненные Антигону города64.
В единственных дошедших до нас выписках из описания Фи-
ларха умалчивается о существенных пунктах; в них вовсе не упоми-
нается о том, что Пирр требовал от спартанцев принять Клеонима
и передать ему владычество; что они, однако, отказали ему в
этом65; что к ним поспешили на помощь из Аргоса и Мессении,
где господствовавшей доселе партии угрожала такая же участь,
какая постигла ее в Аркадии66. Царь Арей находился на Крите,
где он сражался за гортинцев, а внутренние города в Лаконии со
злорадством смотрели на бедствие надменной Спарты и ее оли-
гархии. Не встречая никакого сопротивления, грабя и опусто-
шая, Пирр шел вниз по Эвроту. Вблизи города разгорелась битва,
царь одержал победу; спартанцы отступили в город67; казалось,
все было решено; друзья Клеонима и илоты разукрасили уже его
дом и снарядили пиршество, как будто Пирр в ту же ночь будет
там ужинать; Клеоним настаивал, чтобы он тотчас велел атако-
вать город. Пирр отложил атаку: с тех пор как на Спарту напал
Деметрий, город был обведен глубокими рвами и крепкими пали-
садами, а в наиболее доступных местах даже окопами. В самом
городе возникло крайне замечательное движение: после перво-
го поразившего всех страха, когда миновала крайняя опасность,
возникла самонадеянность, пробудилось воодушевление. Ночью
совещалась герусия: решено было женщин и детей отвезти на
Крит, тогда как мужчины должны были оборонять город до по-
следней крайности. Тут, как рассказывают, Архидамия с мечом
в руке вошла в собрание: требовать, чтобы спартанские жены пе-
режили гибель города, значит опозорить их68. Тогда поневоле
воспользовались пособием жен и девиц; бодрым духом стали сна-
ряжаться на крайнее сопротивление; соорудили новые окопы,
город окружили обозом, так чтобы преградить доступ слонам.
Жены и девицы приходили на смену мужчинам и рыли окопы,
чтобы дать воинам возможность отдохнуть для битвы наступав-
шего дня. Когда настало утро, и неприятельские полки выстрои-
лись, то спартанские жены и девицы передали мужчинам оружие:
«Отрадно победить на глазах отчизны». Пирр уже наступал; за-
кипела жесточайшая битва; обойдя новые окопы, Птолемей про-
бивался вблизи реки; Акротат бросился на него, отразил галлов
и хаонов; при восторженных кликах спартанок обагренный кро-
вью, он вернулся через город к своим соратникам, которые с таким
же успехом отразили натиск Пирра. Бой длился до самой ночи;
наутро он опять закипел. Женщины то и дело подавали сражав-
шимся стрелы, приносили пищу и питье изнуренным воинам, от-
носили раненых в безопасное место. Наполняя ров трупами и
хворостом, атакующие снарядили таким образом мост для пере-
правы. Тут в жесточайшей стычке Пирр пробился сквозь военный
обоз; восседая на коне, он порывается уже вперед, с ужасною
силою сокрушая всякое сопротивление; все, казалось, погибло.
Вдруг стрела поразила его лошадь; став на дыбы, она опрокину-
лась и повергла царя наземь; натиск на мгновение прекратился;
пользуясь этим, спартанцы сомкнулись вновь и оттеснили врага.
Спарта была пока спасена, однако бой стоил многих храбрых вои-
нов. Пирр во всех пунктах велел приостановить битву; он пола-
гал, что Спарта не станет выжидать нового штурма и уступчивее
отнесется к его требованиям69.
Царь, как кажется, держал в осаде город, в котором усилива-
лись укрепления; новые попытки взять его не удались; женщины и
старики приняли участие в обороне. Вследствие этого война здесь
затянулась. Тем временем Антигон вновь восстал в Македонии,
опять завладел ее городами; он предвидел, что Пирр, одолев Спар-
ту и Пелопоннес, снова нападет на Македонию70; ему надлежало
спасать ее в Пелопоннесе. Он отправил уже из Коринфа вождя
пиратов Аминия с войском в Спарту; это подкрепление прибыло к
спартанцам в то самое время, как царь Арей со своими отрядами
вернулся из Крита. Охрана и защита города могла теперь устро-
иться более правильным образом, а Пирр готовился уже занять в
Лаконии зимние квартиры. Антигон между тем прибыл в Коринф;
он имел в виду через Аргос проникнуть в Лаконию. Отнюдь не
дружественная с ним Спарта в этот момент оказалась его есте-
ственною союзницею. Пирр, со своей стороны, должен был во что
бы то ни стало помешать соединению неприятельских войск; ему
никак нельзя было ждать до тех пор, пока подойдет Антигон; иначе
во время атаки он подвергнется нападению с тыла71. Тогда сам со-
бою представился подходящий повод; в Аргосе партии также жес-
токо свирепствовали друг против друга; в большинстве преобладало
стремление к независимости, однако с приближением Антигона
перевес, казалось, перешел на сторону его приверженцев; Арис-
тей звал Пирра против них на помощь.
Царь тотчас же выступил из своего лагеря72; Арей, предупре-
див его, занял уже вершины прохода, по которому пролегал путь
неприятельского войска; он выждал момент, когда по нему стал
проходить арьергард, состоящий из галлов и молоссов: Арей ри-
нулся на него; царь послал на помощь своего сына Птолемея с
гетайрами; Птолемей пал в жестокой свалке. Теснясь в ущелье,
разбитые толпы обратились в бегство; спартанцы преследовали
их до открытой равнины. Узнав о смерти своего любимого сына,
120
Пирр, видя это бегство, вскипел лютою злобою; во главе молосских
всадников он ударил на врагов; с неодолимою мощью, страшнее
чем когда-либо, не обращая внимания на угрожавшую ему опас-
ность, поражал он убийц своего сына, заглушая свою скорбь ужас-
ным кровопролитием73.
Неприятель был уничтожен, войско без помех двинулось даль-
ше. Однако когда Пирр вышел на аргосскую равнину, то Антигон
занял уже на высотах позади города крепкую позицию. Молос-
ское войско расположилось у Навплии; Пирру необходимо было
принять быстрое решение. Уже на другой день, как рассказывает
Филарх, послал он герольда к Антигону: назвав его подлецом, он
вызывал его на бой на равнине, с тем чтобы сразиться за царство.
Антигон велел ответить Пирру: он всегда сам располагает не толь-
ко своим оружием, но и своим временем; если Пирру надоело жить,
то перед ним открыто много путей к смерти. Антигон не покинул
своей позиции. Послы из города явились к тому и к другому с пред-
ложением, чтобы аргосцам было дозволено не уступать города ни
одному из них и на свободе поддерживать с обоими одинаковую
дружбу. Антигон согласился и предложил в заложники своего
сына; Пирр ограничился общими обещаниями.
Недаром ожидали от него крайних бед. Недобрые знамения
предвещали роковой конец; когда Пирр совершал жертвоприно-
§ I шение, то отрубленные головы волов, высунув языки, лизали соб-
§1 ственную кровь74; а в самом городе жрица ликейского Аполлона,
с | выбежав на улицу, взывала, будто она видит, что город наполня-
ется кровью и мертвыми, что орел вылетел на бой, а потом исчез.
Затем Пирр ночною порою тайком двинулся к восточным воро-
там, которые по уговору с Аристеем были для него открыты. Он
отправил вперед галатов, с тем чтобы занять рынок; а сам хотел
следовать за ними. Но ворота были так низки, что слоны не могли
пройти; пока с них снимали и опять устанавливали на них башни,
прошло драгоценное время. В городе пробудилось уже внимание,
скоро поднялась всеобщая тревога; аргосцы устремились на неза-
нятую еще возвышенность города, к укрепленным высотам Лари-
сы и Аспиды, потом отправили послов к Антигону с просьбой о
помощи. Он поспешил подойти к городу, послав туда несколько
отрядов под начальством своего сына Галкионея, а сам засел вбли-
зи города в засаду. Арей также подоспел с легкими спартанскими
полками и с тысячью критян. Войска тотчас же поспешили на ры-
нок против галатов; завязалась жестокая битва. Пирр между тем
вступил в город, минуя гимнастическое заведение Киларабиды; он,
верно, услышал шум от ночной битвы на рынке; на его боевой клик
как-то робко отзывались оттуда; он ринулся вперед во главе сво-
их всадников; но вследствие множества пересекавших город ка-
навок они медленно подвигались в темноте и заблудились в узких
улицах. После этого нечего было и думать о совокупных операци-
х
121
онных действиях. Не зная ни количества, ни позиции неприятеля,
противники также не решались еще напирать. С обеих сторон под-
жидали наступления дня. Наконец стало светать. Пирр увидел, что
высоты Аспиды сплошь заняты войсками; он двинулся к рынку.
Тут царю представилась прежде всего бронзовая статуя вола в
борьбе с волком; а оракул предсказал ему, что он лишится жизни,
когда увидит бой вола с волком. Пирр решил покинуть город. Для
того чтобы не встретить задержки в тесных воротах, он отправил
гонца к своему сыну Гелену, стоявшему с большею частью войска
перед городом, велел ему взорвать часть стены и прикрыть отступ-
ление, если враги задумают тревожить его. Смутное показание
посла ввело Гелена в заблуждение; ложно поняв приказ, он с осталь-
ными слонами и лучшими отрядами также двинулся в город на
выручку отца. Жестоко теснимый отовсюду, Пирр, то и дело про-
биваясь, отступал уже от рынка, а навстречу к нему шли свежие
полки. Он крикнул, чтобы они вернулись. Передовые ряды пово-
ротили назад, но следовавшие за ними смешались в беспорядке, а
извне в то же время напирали все новые отряды. У самых ворот
ревел павший там слон и преградил путь; другое животное, лишив-
шись своего свалившегося вожака, металось по рядам бежавших и
произвело страшный беспорядок. В этой ужасной и безвыходной
давке Пирр, сняв венец, отличавший его шлем, передал его одно-
му из друзей, затем, доверясь своему боевому коню, ринулся на
преследовавшего врага; кто-то ранил его копьем; это было около I g
храма Деметры. Царь бросился на нападавшего, на сына бедной Q
старухи; она сама со многими другими женщинами смотрела с ng
кровли на бой и увидела сына в самой опасной свалке; схватив в | S
неистовом страхе кирпич, она бросила его на Пирра. Лишившись
чувств, царь свалился с лошади. В пылу боя враги проходили по
его телу, пока наконец Зопир не подошел с несколькими македо-
нянами; он узнал его и отнес в ближайший портик; тут только царь
очнулся. Зопир хотел мечом отрубить ему голову; страшный взгляд
царя смутил его; нетвердою рукою он скользнул мимо рта и под-
бородка, потом с трудом и медленно перерезал горло. Весть об
этом разошлась быстро; прибыв на место, Галкионей взял голову
героя, поскакал с нею к отцу, поджидавшему в палатке со своими
друзьями, и бросил ее к его ногам. Возмущенный таким зверским
поступком сына, Антигон ударил его по лицу, обозвав мерзавцем,
варваром; вспомнив в этой превратности судьбы о смерти своего
отца в плену, своего деда в битве при Ипсе, он, закрыв лицо, за-
плакал. Когда же затем Галкионей, благодушно соболезнуя, при-
вел к царю захваченного в плен Гелена, то Антигон принял его как
царского сына и отправил в Эпир.
Таков рассказ Филарха75; у него очевидно встречаются неве-
роятности и противоречия; быть может, в них отчасти повинен
Плутарх, чьи выписки только и дошли до нас. Понятно, что в Ар-
5Г
Я
госе не желали принять ни Пирра, ни Антигона; однако не подле-
жит также сомнению, когда Антигон и Пирр в одно и то же время
находились с войсками вблизи города, то ему нечего было и думать
остаться нейтральным. Если же Пирр с самого начала прошел мимо
Аргоса к Навплии, вместо того чтобы тотчас же завладеть во что
бы то ни стало укрепленным городом, то, надо полагать, что Ан-
тигон был уже в нем уверен, что он даже поместил туда гарнизон.
Без доброй воли его приверженцев ему пришлось бы добивать-
ся этого силой; ему необходимо было заручиться укрепленным
местом, где бы он мог выждать Арея; ему надлежало избегать
столкновения с Пирром, пока не прибыло подкрепление. В более
древних источниках действительно сказано, что Антигон засел
в городе и был осажден76. Наконец-то перед городом разгорелся
решительный бой; вероятно, с появлением спартанцев сделана
была вылазка. В этом сражении и пал Пирр; по распространивше-
муся вообще сказанию он был убит брошенным с кровли камнем77.
В Аргосе думали, что камень бросила богиня Деметра в образе
той старушки78.
Смерть Пирра последовала в конце 272 г.79 Когда эта весть
распространилась на Апеннинском полуострове, то, как сказано
выше, покинут был последний пункт, в котором еще держались
войска Пирра, и с захватом Тарента вся греческая Италия стала
римскою. Мы не знаем, а можем только догадываться о переме-
нах, какие возникли в самой Греции вследствие смерти Пирра.
После аргосского поражения лагерь Пирра достался побе-
дителю; Гелен во время бегства был захвачен в плен; войско едва
ли пыталось сопротивляться или пробиться; толпы, состоявшие
из галлов, македонян, молоссов, греческих наемников, действова-
ли дружно лишь до тех пор, пока полководец и счастье связывали
их друг с другом; после поражения все распалось; не поступив-
шие на службу к Антигону промышляли частью разбоем по го-
рам и долам Пелопоннеса, пока их не завербовал какой-нибудь
город или кто-нибудь из тиранов, частью отправились в Афины,
Коринф, Сикион. Там они промотали с гетерами и параситами
все, что у них уцелело от добычи последнего года; затем обмо-
роченные и разоренные вконец, они пускались на новые приклю-
чения — в Александрию, в Сирию — куда бы вообще ни влекла
их роковая доля80.
Одарив полоненного Гелена, Антигон отправил его домой и с
друзьями царя поступил также кротко. Он прежде всего имел в
виду воспользоваться победой для скорейшего восстановления
своего царства81. Хотя Антигон успел завладеть вновь городами
Македонии, однако верхние области, места по ту сторону гор,
почти вся Фессалия находилась во власти Александра, которому
отец Пирр, отправлясь в Грецию, поручил царство. Унаследовав
после смерти старшего брата престол, лишившись войска, слонов,
лошадей, боевых снарядов, Александр, без сомнения, охотно со-
гласился на мир, которым, по крайней мере, обеспечивались за ним
прежние границы. Года два спустя после того он вел войну с дар-
данским царем Монунием82; это тоже служит доказательством
мирного состояния между Эпиром и Македонией, так как иначе
согласно политическим условиям дарданский князь был, обыкно-
венно, естественным союзником Александра против Македонии.
Вместе с тем Александр по этому миру удержал за собою, веро-
ятно, так часто оспориваемые области по берегам верхнего Аоя;
тут-то соседство властолюбивого дарданского князя и оказалось
опасным, а потому Антигон не преминул отступиться от этого
края, обладание которым впутало бы его в борьбу с дарданцами.
Мы не знаем, чем кончилась эта дарданская война; помимо
внутреннего края борьба велась главным образом из-за богатого
Диррахия. Надо полагать, что дарданцы победоносно наступали.
Мы заметили уже, что расположенный далее к югу город Апол-
лония отправил в Рим послов (270 г.), что тамошняя знать оскор-
била их, считая, вероятно, дарданцев союзниками эпирского царя,
что, однако, сенат дал городу блестящее удовлетворение, лишь бы
не лишиться этого первого заморского союза, который мог ока-
заться важным в отношении Эпира. Об Александре опять упоми-
нается лишь несколько лет спустя, когда в связи с политическими
условиями в Греции он возобновил вражду с Македонией.
Аргивское поражение должно было иметь для Греции самые
знаменательные последствия. Появление Пирра возбудило в го-
сударствах надежды и волнения, а теперь в той же мере возникла
всеобщая и сильная реакция. Прежде всего из городов изгнали
приверженцев злополучной партии. Однако разве Антигон стал
уже без помехи властвовать в Пелопоннесе? Его связь со Спартою
могла продлиться лишь до тех пор, пока они вместе вели борьбу с
Пирром; затем их интересы разошлись. Антигон не мог допустить,
чтобы Спарта вновь приобрела то влияние на Мессению и Арка-
дию, каким во время галльского набега пользовался Клеоним, а
Спарта, в свою очередь, должна была во что бы то ни стало поме-
шать непосредственному господству македонян, опираясь при
этом на пособие со стороны Египта. Союзники в Ахайе также
должны были склониться на сторону спартанцев, с тем чтобы огра-
дить свою только что возникшую свободу. Между государствами
в Пелопоннесе происходили разные усобицы83; при этом Спарта
вступила в связь с одною из партий в Элиде с целью доставить ей
победу над теми гражданами, которые восстали с появлением
Пирра. Однако мессенцы предупредили спартанцев; со спартан-
скими знаками на щитах они обманом проникли в город, изгнали
приверженцев Спарты и передали Элиду своим друзьям84; а это
были также друзья Антигона; с его помощью Аристотим устано-
вил тиранию. Таким образом везде, куда бы ни проникло влияние
Антигона, усобицы в конце концов завершались утверждением
тирании85; она возникала из внутренних междоусобиц в городах
всякий раз, как только одержана была победа над исконным и
навязанным извне политическим строем, который, как казалось,
защищала Спарта; она поддерживалась против притязаний зажи-
точного и привилегированного гражданства наемными войсками
и насильственными мерами; вовне она пользовалась союзом с Ан-
тигоном, тогда как Антигон, в свою очередь, благодаря этим ти-
ранам в Аргосе, Сикионе, Мегалополе, Элиде и т. д., обеспечил
за собою влияние на Пелопоннес86. Он, вероятно, не владел не-
посредственно ни одним местом, за исключением Коринфа, да еще
разве Трезеной и Мантинеями87; особенно сильный гарнизон в
Акрокоринфе во всякое время мог всюду подоспеть на помощь в
случае нужды.
Таково было положение в Пелопоннесе: влияние Македонии
преобладало. Спарта тщетно добивалась господства, Ахейский
союз был незначителен и лишен внешних связей. Но внутри его
небольших городов господствовала легальность и та умеренная
демократия, какою они отличались в прежние времена, тогда как
олигархическая Спарта насильно лишь могла сдержать требова-
ние подданных ввести равноправность; вне своей области она даже
покровительствовала везде той партии, которая заявляла, будто
§ I поддерживает прежние права и уставы, или которая пыталась вос-
становить их. Влияние Македонии, напротив того, насколько оно
простиралось, было нивелирующего свойства; фактическая власть
в руках тиранов расстроила все, что еще уцелело от прежнего пра-
ш
0)
с
X
х ва; даже там, где она, как, например, в Мегалополе, применялась
осторожно и во благо страны88. Как в этом преобразовании, так и
ф: в совместной политической зависимости от Македонии заключа-
лась возможность более широкой организации и перехода раз-
дробленных вообще политий либо в совершенное политическое
слияние с македонским царством, либо в новую, из самих пело-
поннесских условий сложившуюся общину. Мы впоследствии уви-
дим, что и то и другое было испробовано и отчасти выполнено.
Вскоре, однако, новая власть вмешалась в дела Пелопоннеса;
повод к этому подала Элида. Эта область была густо населена и
чрезвычайно плодородна; в прежние времена она охранялась от
войны и захвата священным миром Олимпии. Правительство по-
стоянно обращало свое внимание на развитие сельского быта; по-
селянам даже по суду не надо было приходить в город, и вообще
все, чем городские промыслы снабжают земледельца, они могли
получать на местах в селах. Несмотря на сумятицу последних ше-
стидесяти лет в населении все еще сохранилось прежнее миролю-
бие и благочестие; зажиточные люди жили в своих поместьях, и
пристрастие к сельской жизни преобладало в такой мере, что
большая часть жителей редко, а многие из них даже никогда и не
бывали в городе89. Здесь менее чем в какой-либо иной греческой
области интересовались политикою и принимали участие в вол-
нениях, в каких Греция металась из одной стороны в другую.
Сельским жителям было мало дела до того, о чем, подчиняясь то
одному, то другому внешнему влиянию, препирались партии в го-
роде, лишь бы их оставили в покое и не нарушали их исконных
сельских обычаев. И вот благодаря македонскому влиянию упо-
мянутый выше Аристотим, про которого рассказывались крайне
гнусные истории, добился тирании. Его правление отличалось на-
хальством, насилием, грабежом; наемники его относились к мир-
ным подданным с солдатскою наглостью и заносчивостью. Один
из начальников в пьяном виде потребовал для своей похоти дочь
знатного человека Гелланика; родители не смели отказать ему, но
дочь припала лицом к отцу; тут, на его груди, избил и заколол ее
злодей. Тиран не наказал убийцы; однако последовали казни, зато-
чение многих особ. Около восьмисот человек бежали к этолянам,
которые по их просьбе требовали, чтобы выслали к изгнанникам
их жен и детей. Аристотим для вида разрешил это, а потом велел
напасть на удалявшихся со своими пожитками, ограбить их и за-
садить в тюрьму. Тщетно вышли в торжественной процессии жри-
цы Вакха с масличными ветвями и священными повязками; наемные
ратники, правда, благоговейно пропустили их, но когда они зая-
вили свое ходатайство, то тиран велел насильно вывести и вытол-
кать их. Изгнанники переправились между тем из Этолии и заняли
на берегу крепкую позицию. К ним стали сбегаться поселяне. Ти-
ран послал в Акрокоринф, и Кратер поспешил на выручку со сво-
ими македонянами; он находился уже в Олимпии. Но Гелланик в
самом городе возбудил заговор; к заговорщикам пристал один из
друзей тирана, Килон. Аристотим хотел вынудить жен изгнанни-
ков написать мужьям, чтобы они покинули край, а иначе они и дети
их будут лишены жизни. Когда же доблестная Мегисто воспроти-
вилась этому, то тиран пришел сам и велел взять ее ребенка, иг-
равшего с другими детьми; она сама подозвала его и подала тирану,
обнажившему уже меч, но Килон схватил его за руку, заклинал не
совершать такого позорного поступка и уговорил уйти домой.
Заговорщики совещались ночью; близость Кратера понудила их
поспешить. На другое утро тиран появился на рынке без телохра-
нителей, в сопровождении Килона; тогда Гелланик стал созывать
заговорщиков; Килон нанес первый удар; тиран бежал в храм Зев-
са, где и лишился жизни. Затем в городе провозглашена была сво-
бода; толпа ликуя пошла к дому тирана; жена его сама лишила себя
жизни. Народ вытащил обеих дочерей, с тем чтобы замучить их
до смерти; Мегисто восстала против этого; «Пусть же они умрут
по собственному выбору», — кричал народ; и, ободряя друг дру-
га, стараясь в трогательном соревновании облегчить друг другу
смерть, прекрасные сестры повесились90.
Когда таким образом была восстановлена свобода, то маке-
донское влияние в Элиде прекратилось; элейцы впредь тесно со-
единились с этолянами; сами они вернулись к прежнему мирному
образу жизни, тогда как область их служила этолянам удобным
исходным пунктом для набегов, какие с этих пор предпринима-
лись в Пелопоннес; впоследствии к ним присоединились надеж-
ные союзники внутри полуострова.
В таком-то виде находились дела в Пелопоннесе, когда в Гре-
ции вспыхнула новая война против Антигона. Как по своему почи-
ну, так и по своей политической связи она представляется крайне
смутною; нет никакой возможности указать, вследствие каких ве-
ликих политических осложнений она возникла; мы можем только
попытаться из единичных сохранившихся известий вывести даль-
нейшие предположения91.
Мы упомянули уже о том, что аттическое государство пыта-
лось подняться, когда пал Деметрий, что Мусей освободился от
македонского гарнизона, что в силу договора между Антигоном
и Пирром (287 г.) гавани и Саламин остались во власти первого92.
А потому, когда Пирр низверг Македонию, то аттические послы
также приветствовали царя при его возбудившем большие на-
дежды появлении в Пелопоннесе (272 г.). Но надежды Афин не
сбылись. Замечательно, что в то же время в портовых городах на-
ходились не македонские фрурархи или стратеги, а тираны93; по-
мимо Акрокоринфа, как кажется, заняты были только Халкида и
Деметриада94; это обстоятельство отлично характеризует полити-
ку, какую Антигон применял к Греции. В Пирее владычествовал
Гиерокл95; в пользу этого человека говорит тесная его дружба с
философом Аркесилаем. Впоследствии его заменил Главкон; с
этим именем связана важная заметка, благодаря которой можно
хоть сколько-нибудь догадаться о причине войны. А именно, один
из тогдашних моралистов, по прозванию Телес, в написанном лет
двадцать после того трактате пытался провести скорбную мысль,
что лишиться родины далеко не величайшее из несчастий, оно даже
не так жестоко, как кажется; при этом он называет личности, ко-
торым счастье улыбнулось тогда только, когда они лишились ро-
дины; он говорит: «Нередко цари таких изгнанников назначают
начальниками гарнизонов в городах, им поручаются области, и они
собирают богатые дары и дани; так между прочим бежавшего из
Италии Ликина Антигон назначил у нас начальником гарнизона,
и вот мы, оставшиеся дома, исполняли все, что приказывал Ликин.
Спартанец Гиппомедонт, которому теперь Птолемей поручил Фра-
кию, афиняне Хремонид и Главкон служат царю советчиками и
находятся при нем, — все это примеры из нашего времени, не го-
воря о древних»96. Итак, Главкон, бывший тиран в Пирее, и Хре-
монид, любимец того же философа Зенона97, которого Антигон
уважал более всех, вынуждены были покинуть родину; они у еги-
127
петского царя пользовались убежищем и новыми почестями; имен-
но этот царь и поддерживал Афины в войне с Антигоном, кото-
рую афиняне и прозвали по имени Хремонида98.
Это была последняя, но самая доблестная попытка, какую
сделали Афины с целью добиться вновь свободы; лишь в самую
блестящую пору своей истории Афины с подобным мужеством
выносили такое настойчивое напряжение, такое жестокое бедствие
в своих ближайших окрестностях. Во всем виделось развитие но-
вого, совершенно чуждого прежнему настроения, нравственной
энергии, которая, откуда бы она ни истекала, придавала нации
силы на последнее доблестное восстание". Недаром в одном из
рассказов Хремонид изображается сидящим между Зеноном и
Клеанфом, этими основателями стоической школы, и радушно с
ними беседующим. Не подлежит сомнению, что именно это уче-
ние мужественного и великодушного порыва подвигнуло Хремо-
нида и соучастников его к отважной борьбе! Это учение в течение
целого поколения уже распространялось в Афинах с возрастав-
шею силою. Сверх того там были еще другие представители фило-
софии, в особенности великодушный Аркесилай; более смелый
скептик, он отличался также благородством помыслов. Вокруг
этих мудрецов собралось много учеников из близких и дальних
греческих стран и сама аттическая молодежь. Немало привержен-
цев было также у Эпикура, поучавшего в своем догмате и своим
примером избегать светской суеты и предаваться квиетизму чув- I g
ствительнои задушевной жизни, а новая комедия не переставала в ' Q
S'
ч
шутливом тоне поднимать на смех суровую строгость иных фило- hg
софов, готовых, как казалось, испортить последнюю утеху, какая 5*
оставалась людям, и отрадное наслаждение жизнью. Но одарен-
ная богатыми, энергичными порывами молодежь в городе вся при- *щ
соединилась к более разумным философам и окрепла в сообществе
с ними. Вот из каких источников проистек подъем Афин; это было
уже не скромное боевое мужество марафонских героев, ни также
выспренний, исполненный порывов патриотизм Перикловой эпо-
хи, ни Демосфеново стремление вновь восстановить владычество
Афин, ни ярость Демохарета, которого можно назвать последним
республиканцем в городе100; это был нравственный подъем упав-
шего народа; ядром этого подъема были великие идеи философии,
и масса воспламенялась одушевлением своих вожаков. И как стран-
но распорядилась судьба: именно Антигон, против которого вспых-
нула борьба, был другом и поклонником тех же философов, он часто
и охотно посещал Афины с целью побеседовать с ними; и те же
самые нравственные силы, к которым следует отнести благород-
нейшую часть его тревожной и зачастую ложно понятой жизни,
враждебно восстали против него здесь же, в Афинах, где поучали
его Зенон, его Клеанф, его Аркесилай, и в то самое время, когда
он надеялся довершить искусное дело греческой политики.
Для того чтобы предпринять хоть что-нибудь, Хремониду не-
обходимо было заручиться согласием Главкона в Пирее. Пиферм
в похвалу или на смех прозвал его водопивцем101, во всяком случае
он не был одним из тех кутил, какие слонялись тогда по разным
царским дворам; один из великих исследователей, ссылаясь на имя
Главкона, пришел к заключению, что он сродни знаменитому
афинскому дому, из которого произошли Солон и Платон102; а
потому, судя по приведенному выше прозвищу, мы тем еще ско-
рее можем признать в нем товарища Клеанфа, который, несмотря
на бедность, был привлечен к суду, и в доказательство средств к
своему пропитанию привел в свидетели садовника, которому он
ночью помогал таскать воду, тогда как день посвящал преподава-
нию и изучению103.
Не для того чтобы уменьшить заслуженную славу Афин, мы
попытаемся на основании всеобщих политических условий ука-
зать на возможность самой попытки освободиться и на пособие,
какое представлялось обстоятельствами. Впоследствии выяснится,
отчего Египет и Сирия до сих пор обращали на эллинские условия
менее внимания, чем бы следовало, по крайней мере, ожидать. Гос-
подствовавшие, по существу дела, дружеские отношения между
Македонией и Сирией укрепились вследствие семейных связей
обоих дворов, а со времени восстановления македонского царства
они оказались опасными для Египта. Осторожный Филадельф
никоим образом не мог равнодушно относиться к быстрому вос-
становлению македонского влияния в Греции. Положение Ан-
тигона в виду фракийского царства галатов поставило богатый
Византии в обязательные к нему отношения, и город изъявил свою
благодарность, оказав ему чрезвычайные почести104; хотя он еще
не стал твердою ногою на островах Эгейского моря, однако бла-
годаря его связи с пиратами и господству над большею частью
портовых городов греческого материка, он не раз уже пользовал-
ся случаем наносить ущерб не только торговым, но даже и поли-
тическим интересам Египта; флот Антигона доказал уже на деле,
что он был в состоянии, по крайней мере, поспорить о первенстве,
какое на море присвоил себе Египет. Этим здесь пока ограничим-
ся; остальные совместные отношения Египта к Кирене, Сирии и к
мелким державам Малой Азии выяснятся отчасти в связи с изло-
жением Хремонидовой войны.
Вследствие указанных причин Египту во что бы то ни стало
надлежало противодействовать возраставшему могуществу Анти-
гона. Восемь лет тому назад уже Спарта в этом отношении служи-
ла интересам Лагидов; однако неудачное нападение во время
священной войны и смуты в самом городе, когда Клеоним успел
взять верх над союзным с Египтом Ареем и противодействовать
Македонскому влиянию в Пелопоннесе, неминуемо поколебали по-
литику Спарты; это колебание усилилось, когда Пирр, не доволь-
ствуясь удачным нападением на Македонию, направился в Пело-
поннес и, вступившись за Клеонима, побудил таким образом Арея
заключить союз с Антигоном. А потому Птолемею тем еще более
следовало заручиться помощью другого эллинского государства
и побудить его к противодействию Македонии. Этоляне были мало
пригодны для этого, так как им не было никакого повода с настой-
чивостью нападать на Македонию, а, сверх того, в случае борьбы
им нельзя было ожидать от остальных эллинов того соучастия,
при котором только и можно было надеяться на великий и пол-
ный успех. В Афинах соединились оба эти условия; тем более что
с именем Афин связаны были самые дорогие воспоминания о ве-
ликих войнах с Македонией, и защищать свободу этого города
было в греческом мире, без сомнения, самым популярным пред-
логом, каким мог воспользоваться царь; он таким образом воз-
буждал к себе полное сочувствие и ставил противника в крайне
ненавистное положение.
Мы не знаем, каким именно путем эти египетские мотивы со-
единились с афинскими. Во всяком случае, когда Афины заявили
о своем отпадении от Македонии, и демократия опять простерла
свое владычество также над гаванями, то Антигон появился с ар-
мией в Аттической области и с флотом перед гаванями, присту-
пил к осаде и блокаде их. Афиняне успели отразить первые атаки,
а между тем египетский флот под начальством Патрокла также
вышел в море. В то же время восстание Афин возбудило в Спарте
волнение умов, которое явно увлекло за собою осторожную по-
литику господствовавшей олигархии; желая заявить свое сочув-
ствие афинянам и совершить подвиг, о котором вспоминали бы
потомки105, лакедемоняне массами требовали, чтобы их повели на
борьбу против Антигона.
И не одна только Спарта восстала. Сохранился документ до-
говора между Афинами и Спартою, в котором обнаруживаются
значительные размеры эллинского движения и вместе с тем на-
строение участников союза. Договор начинается с того, что в древ-
ние времена уже Афины и Спарта, также их союзники, сражаясь
в тесной связи против всех, кто бы ни задумал подавить эллин-
скую свободу, достигли славы и добились свободы для остальных
эллинов; что теперь настали такие же времена, и «всей Элладе»
угрожают враги, которые хотят уничтожить законы и учреждения
предков в ее государствах; что царь Птолемей, следуя примеру
своих предшественников и влиянию своей сестры, готов открыто
поддержать всеобщую свободу эллинов; что, заключив с ним и
остальными эллинами союз, афинский демос решился вызвать их
к такому же содействию, точно так же и лакедемоняне, друзья и
союзники царя Птолемея вместе с состоящими с ними в связи
эолийцами, ахейцами, тегейцами, мантинейцами, орхоменами,
фиалейцами, кафиями, критянами решились вступить в союз с
5 История эллинизма
Афинами и для этого снарядили в Афины послов106; и этот союз
заключается не для известных лишь обязательств, а вообще в та-
кой формуле, чтобы впредь между афинянами и лакедемонянами
вместе с названными их союзниками состояли дружеские и союз-
ные отношения, «дабы они, соединившись с царем Птолемеем и
между собою, не только выступили мужественными борцами про-
тив всех, несправедливо поступающих теперь с государствами и
нарушающих договоры, но также и впоследствии жили в согла-
сии друг с другом»107.
Итак, важнейшие государства в Пелопоннесе вместе со Спар-
тою вступили в этот союз. Неизвестно, приобрели ли Афины со-
юзников также в средней Греции, например в Этолии. О том, что
совершалось в самих Афинах, можно судить, по крайней мере, по
одной из надписей108; совет и народ решили «побудить граждан и
иных жителей Аттики к доброхотным взносам для спасения горо-
да и охраны области»; эти взносы должны быть не свыше 200 драхм
и не менее 50. Сохранилась еще часть списка внесенных уплат; из
77 взносов только два были по 50, девять по 100 драхм, остальные
66 по установленной высшей норме109. Все были исполнены вос-
торга и отрадных надежд. «Все остальное», говорилось тогда,
«свойственно вообще всем эллинам, но одни только афиняне зна-
ют путь, ведущий людей к небу»110.
Некоторые сведения о дальнейших событиях сообщаются в
§1 коротких известиях о жизни Арея: «Когда Антигон обложил
с Афины и преградил союзникам афинян доступ в город, то Пат-
2 рокл отправил к Арею послов, побуждая его начать сражение с
г Антигоном; когда начнет Арей, то и Патрокл тоже ударит в тыл
врага; им, египтянам и морским солдатам, не след первым атако-
% вать македонян на суше. Лакедемоняне исполнены были рвения к
бою; однако запасы истощились, и Арей отвел свое войско назад,
имея в виду сохранить для собственной отчизны мужество отчая-
ния, а не растратить его для чужих. А с афинянами после весьма
продолжительного сопротивления с их стороны Антигон заклю-
чил мир и поставил в Мусее гарнизон»111.
Этот скудный очерк можно дополнить некоторыми замет-
ками и общими соображениями. Патрокл разместил свой флот
при маленьком острове вблизи южной аттической оконечности,
которая с тех пор носит его имя, и укрепился здесь; следовательно,
ему во всяком случае нельзя было добиться доступа в афинские
гавани, а аттический флот, вероятно, не существовал уже более,
иначе можно было бы хоть врасплох восстановить эту связь, от
которой все зависело. Сомнительно, чтобы Арей проник до Ат-
тической области, так как сильный гарнизон в Акрокоринфе был
в состоянии преградить Истм, а сверх того и Мегара, как кажет-
ся, была занята Антигоном. Дело в том, что в Мегаре112 возмути-
лись галльские наемники царя; оставив вблизи Афин небольшой
наблюдательный отряд113, Антигон со своей армией поспешил туда.
После отчаянного сопротивления бунтовщики были совершенно
уничтожены. Противники не сумели даже воспользоваться этим
моментом; судя по заимствованному у Филарха изложению114,
оба, Патрокл и Арей, отступили после этой быстрой победы царя,
тогда как Антигон с удвоенным рвением обратился против Афин.
Никакими доводами нельзя объяснить замеченную при этом не-
последовательность в поступках союзников; остается, впрочем,
предположить, что египетский царь рассчитывал на совершенно
иное содействие со стороны эллинов, что он от спартанцев в осо-
бенности ожидал решительных действий; потом еще, что Патрокл,
хотя и пользовался преимуществом на море, не мог отважиться
на высадку на аттический берег, так как по всей области рассея-
ны были войска Антигона; пикеты стояли так близко друг к дру-
гу, что быстро собранные отряды могли своим превосходством
подавить тотчас же всякую десантную попытку. Египетский флот
сознавал свое преимущество, что, по-видимому, подтверждает-
ся заимствованным у Филарха анекдотом, по которому Патрокл
послал македонскому царю фиги и рыбу; окружавшие царя ло-
мали себе голову над значением этой посылки, а сам Антигон,
смеясь, сказал: «Это значит, чтобы я добился или владычества
на море, или жевал фиги»115. Осторожный царь, очевидно, избе-
гал со своими морскими силами вступать в решительное столкно-
вение с неприятельским флотом и разместил свои корабли вблизи
пристаней, где они достаточно поддерживались ведетами с суши.
Когда после быстро подавленного мятежа галлов и отступления
спартанцев рушилась всякая надежда успешно атаковать Анти-
гона с суши, Патрокл поневоле ограничился защитою своего
острова, выжидая, пока из Александрии не прибудут новые бое-
вые силы.
Само собою разумеется, что Египет не мог уже прекратить
предпринятую войну с Антигоном; и по разрозненным преданиям
можно даже догадатьея, что он с новыми усилиями приступил к
обширным политическим комбинациям. На севере вдруг восстал
новый враг, а в то же время Коринф перешел к неприятелю, Спар-
та опять выступила в поход, в Эгейском море появился новый еги-
петский флот.
Молосский царь Александр поделил уже с этолянами зло-
получную Акарнанию116; он с помощью голода принудил сдаться
укрепленный город Левкаду117. Теперь этот превосходный пол-
ководец118 вдруг нагрянул на Македонию. Сохранившееся об этом
скудное известие гласит: «Вернувшись из Греции, Антигон, поки-
нутый перешедшими к врагу солдатами, лишился в борьбе с Алек-
сандром царства и войска; однако Деметрий119, собрав войска в
отсутствие царя, не только отвоевал назад утраченную Македо-
нию, но отнял даже и царство у Александра». Итак, сам Антигон
5*
132
при первом нападении Александра поспешил в Македонию, оста-
вив, без сомнения, достаточную армию в Аттике. Мы не в состоя-
нии решить, преувеличено или нет известие относительно потери
войска и государства? Но место, где затем Деметрий одержал спа-
сительную победу120, находилось, вероятно, в верхней Македонии;
эти верхние области и Фессалия перешли, надо полагать, во власть
Александра121. Отчего же, однако, царь предоставил своему брату
спасать царство? Зачем он покинул Македонию прежде, чем была
обеспечена надежда на спасение самого ядра его царства? Его,
должно быть, увлекла более грозная опасность.
Не в Пелопоннесе ли заключалась она? Сохранилось извес-
тие о том, что «Антигон убил царя Арея под Коринфом, а затем
вел войну с Александром, сыном своего брата Кратера»122. Этот
самый Александр является не только князем в Коринфе, но в те-
чение некоторого времени даже владетелем на Эвбее123. Случилось
ли это по египетскому, спартанскому или по собственному вну-
шению, как бы то ни было, но стратег в Коринфе воспользовался
смутами в Македонии, с тем чтобы достичь независимости. Для
Антигона это была ужасная утрата; он лишился ключа к Пело-
поннесу; боевые силы, которыми он там обеспечивал за собою
влияние преданных ему тиранов, перешли на сторону врага; сами
тираны, лишась македонской помощи, беззащитно преданные на-
§ I бегам бывших союзников Александра этолян и властолюбивым
о_\ покушениям питавших новые надежды спартанцев, вынуждены
с I были или удалиться, или ограничиться собственными средствами,
для того чтобы удержаться; а те из них, кому удалось уцелеть, де-
лались затем самостоятельными князьями: например, Аристодем
в Мегалополе, также тиран в Аргосе124. Однако прискорбнее этой
утраты в Пелопоннесе было то, что коринфскому стратегу пору-
чено было также управление Халкидою, и с его отпадением цар-
ство лишилось еще Эвбеи; этот остров до сих пор служил вообще
точкою отправления для македонских экспедиций в среднюю Гре-
цию. Теперь путь через Эвбею был прегражден Антигону: Фес-
салию занял, вероятно, Александр Молосский, а его союзники
этоляне владели линией Сперхия и в особенности господствовав-
шим над Фермопилами городом Гераклеей125. Антигон был совер-
шенно отрезан от Греции; он мог сообщаться с нею только морем.
Но на море Египет пользовался решительным преимуществом;
хотя до сих пор флот царя у Саламина и препятствовал Патроклу
вступить в непосредственную связь с афинскими гаванями, но
следовало ожидать, что подоспеет новая египетская эскадра, с
тем чтобы довершить столь удачно предпринятую политическую
комбинацию и воспользоваться ее плодами. Если новому флоту
удастся соединиться с Патроклом, то Афины будут спасены; тог-
да македонский флот у Саламина не сможет удержаться долее,
Антигон не в состоянии будет с моря напасть на Истм и вновь овла-
X
133
деть Коринфом, — словом, тогда все пропало: Птолемей будет
господствовать в Эгейском море, также над Кикладами, и Греция
признает его своим освободителем.
Антигон должен был ожидать нового египетского флота;
встретить его и отразить во что бы то ни стало — вот что надле-
жало быть его первою заботою; ему предстояло до поры до вре-
мени покинуть Эвбею, Афины, Коринф и Пелопоннес. Если он,
прежде чем одержит победу над египтянами, двинется туда, то они,
явившись на помощь его противникам, нападут на него с тыла, и
ему придет конец; ему следовало как можно скорее и как можно
дальше от Греции перехватить египетский флот, с тем чтобы после
успешного исхода битвы даже остатки его не могли соединиться
ни с его врагами в Греции, ни с Патроклом. Все зависело от удачи
этого отважного предприятия.
Плутарх в своих скучных нравственных размышлениях раза
два приводит анекдот следующего содержания: «Когда Антигон
хотел сразиться на море с полководцами Птолемея, а именно в
морской битве при Косе, то один из друзей сказал ему: "Разве не
видишь, что неприятельских кораблей гораздо больше?" Будучи
вообще человеком не заносчивым и не тщеславным, царь возразил
на это: "Во сколько кораблей ценишь ты мое личное здесь присут-
ствие?"»126. Вот это, вероятно, и была битва, ради которой Анти-
гон должен был покинуть Македонию; он, как надо полагать по
смыслу анекдота и как подтверждается дальнейшими событиями, I g
конечно, победил127. Q
Довольно далеко, а именно у входа в Эгейское море, сильней- rg
ший неприятельский флот был разбит; Кос и Книд перешли во 5*
власть Антигона; он посвятил свою «священную трирему »128 Апол-
лону Триопийскому, в священной роще которого праздновались •'■■%*<
уже годичные игры. Отняв таким образом у неприятеля карий-
ские берега, Антигон со своим победоносным флотом мог теперь
двинуться в поморье Аттики129. Надо полагать, что Патрокл был
выбит со своей позиции или что он покинул ее без боя130. Удержа-
лись ли до сих пор македонские войска в Аттике или нет, во всяком
случае теперь настала для Афин новая и более грозная опасность.
Впрочем, Антигон вовсе не атаковал города; Афины и без того
должны были покориться, когда остальные союзники один за дру-
гим были разбиты, подобно египетскому флоту.
Затем последовали те события, краткое известие о которых
было сообщено выше, а именно: «Антигон победил и убил Арея
под Коринфом, потом он воевал с Александром, сыном Крате-
ра»131. Успехи следовали один за другим. Вход в Пелопоннес был
опять открыт, хотя Коринф все еще держался; Эвбея и вместе с тем
утраченное господство над средней Грецией были вновь приобре-
тены132; Лагид с его флотом лишился всякого влияния в Кикладах,
а в Македонии молодой Деметрий благодаря победе при Дердии
^
не только спас царство, но Александр был даже изгнан из его соб-
ственных областей; он бежал в Акарнанию и отдался под защиту
соседних этолян. Тираны в Пелопоннесе также вздохнули свобод-
нее; хотя они были теперь независимее от Антигона, однако его
интересы все-таки касались их, и вскоре сыну Арея пришлось вести
борьбу против Аристодема из Мегалополя133.
Антигон атаковал Афины; город сопротивлялся очень долго134.
Потом, как рассказывают, царь осенью заключил договор с афи-
нянами; они возделали весною свои поля и сберегли лишь столько
хлеба, сколько требовалось до новой жатвы; однако, когда хлеб
на полях поспел, Антигон напал на их область, и, истратив свои
скудные запасы, афиняне вынуждены были сдаться, безусловно135.
Ведь они лишились всякой помощи, но защищались долго и с са-
мыми доблестными усилиями; это была последняя вспышка борь-
бы афинского народа, затем он пал навсегда. В трогательной
легенде о смерти Филемона136 древность изобразила как бы в виде
мифа это падение Афин: «Филемон жил в Пирее в то время, когда
афиняне вели войну с Антигоном. Он был очень стар; на девянос-
то девятом году от роду ему приснилось или пригрезилось, будто
из его дома вышли девять девиц; он спросил их, зачем они покида-
ют его; девы ответили, что они должны удалиться, чтобы не слы-
шать о падении Афин. Филемон рассказал это служившему при
нем отроку, встал и докончил драму, которую сочинял, потом за-
§_ кутался на сон грядущий и не просыпался более. Не с поэтом, ка-
ст кого редко вдохновляли музы, расставались они, а с тем, чтобы не
2 слышать о его смерти; напротив, захватив с собою доброго мужа,
х любимца богов, одного из переживших старые времена, видевше-
го еще славные дни Афин и Демосфена, исполненного энергии,
% для того чтобы ему не привелось дожить до скорбного часа чу-
жевластия, они через него известили любимый город, что навек
покидают Афины»137.
Искреннее сочувствие, возбуждаемое Афинами, могут, по-
жалуй, восстановить наше мнение против Антигона. Не надо за-
бывать, однако, что именно вследствие противодействия Афин и
Пирея вспыхнула война, которая чуть не погубила с трудом лишь
созидавшуюся вновь Македонию, что политика ее по отношению
к Греции коренилась в самой сущности дела, а не в личной склон-
ности или ненависти Антигона, и что он поневоле руководст-
вовался лишь высшим долгом в качестве царя Македонии; он не
жаждал ни власти, ни наживы, не добивался популярности; ему
хотелось угодить лучшим личностям своей эпохи; когда умер Зе-
нон, то царь сетовал на то, что лишился человека, заслужить одоб-
рение которого было его честолюбием138. Царь и действовал в этом
духе. В Афинах он признал побежденный, но все-таки обильный
славными воспоминаниями город; он вынужден был сделать его
безвредным, вполне завладеть им, тем более что в связи с Египтом
город снова мог грозить опасностью; недаром Главкон и Хремонид
спаслись уже бегством в Египет. Антигону нельзя было поддержи-
вать впредь те же кроткие отношения зависимости; он поместил
македонские гарнизоны в портовые города, на Суний, а внутри
Афин даже в Мусей139. Афиняне вынуждены были повиноваться
приказам фрурарха италиота Ликина; если верить одному анекдо-
ту, то царь простер свою власть над Афинами до такой степени, что
присвоил себе право назначать архонтов140. Восемь лет пользовал-
ся он этой властью; потом, когда отношения вообще сложились
благоприятнее, он вывел гарнизон из Мусея и возвратил городу
свободу141, удержав, конечно, за собою гавани Суний и Саламин;
длинные стены, кажется, тоже были разрушены142. После такого
восстановления свободы Афины лишились всякого значения.
Однако каким образом сильный Египет мог допустить, чтобы
город пал до такой степени и чтобы вновь восстановилось сильно
пошатнувшееся владычество Антигона? Мы увидим, как именно в
это время запутана была политика Египта; и Антигон, правда, вер-
нул многое назад, однако далеко еще не все. До Хремонидовой
войны в Греции установились порядки, которые согласовались
с македонскими интересами, но именно вследствие этой войны
страна вновь повергнута была в смуты, и в сильном возбуждении
политических страстей в городах для Македонии, как казалось,
готовился ряд новых, истощающих войн. А потому Антигону не-
обходимо было прибегать к строгости более, нежели прежде; по-
литика его, как обнаружилось уже в Афинах, поневоле перешла к
более крутым мерам; с этой поры македонские гарнизоны появи-
лись также в Мегаре, Трезене, Эпидавре, Мантинее. Однако преж-
няя твердая власть его в Греции была утрачена; хотя некоторые
из тиранов, особенно в Аргосе и Мегалополе, и держали его сто-
рону, но их положение стало более династичным, а зависимость
владетелей Флиунта, Гермионы и других мелких мест не могла
служить вознаграждением за то, что в Коринфе и Сикионе143
утвердились явно враждовавшие с Македонией властители. На-
конец и Спарта вновь стала добиваться влияния, что обнаружи-
лось в борьбе царя Акротата против Мегалополя; а Элида стояла
в самой тесной связи с этолянами, чьи хищные набеги, вопреки
всяким обычным политическим отношениям, равно поражали и
Друзей и врагов. Все это довершало сумятицу и беспорядки об-
щественных условий в Элладе и Пелопоннесе.
Сама Македония, как кажется, добилась более прочных от-
ношений к своим непосредственным соседям. Вследствие победы,
одержанной молодым Деметрием над Александром Эпирским, все
Царство последнего было, конечно, захвачено до поры до време-
ни, но это завоевание оказалось непрочным, и едва ли Антигон
вообще имел в виду удержать его за собою. Благодаря желанию
эпиротов и помощи союзников (этолян) царь Александр, как го-
ворят, вернулся в свои владения144. Он искупил свою реставрацию,
надо полагать, тяжкими жертвами; на южной стороне проходов
через Аой находится город Антигония, который с эпирской сторо-
ны преграждал к ним доступ145; следовательно, Александр уступил
область по ту сторону Керавнских гор на северном их склоне.
Итак, мы теперь составили себе ясное понятие о Хремонидо-
вой войне и о самой сути македонской политики. Македония, на-
конец, была признана за великую державу, что и было подвигом
Антигона. Предания, правда, ничего не говорят об этом; однако
политика той эпохи, по действиям которой мы заключаем о ска-
занных последствиях и об их значении, вполне сознавала, в чем
состояло дело. А именно: когда распалось царство Александра, в
борьбе диадохов постоянно возникала идея о восстановлении все-
мирной державы. Антигониды почти уже завладели ею; но битва
при Ипсе разрушила их надежды, и четверо царей разделили
между собою царство. Эти новые державы оказались какими-то
случайными организмами, произвольными агрегатами земель и
племен; они были чреваты зародышами чрезвычайных перемен.
Затем Деметрий отважным натиском нагрянул на Грецию, на Ма-
кедонию и, пытаясь восстановить всемирную державу, лишился
только что добытого венца. По счастливому стечению обстоя-
тельств престарелый Селевк, казалось, достигал уже всемирно-
§ I го владычества, но тут поразила его рука убийцы. А когда Антиох
§_ заявил о притязаниях отца, то возникшее со всех сторон сопро-
с I тивление доказало невозможность осуществить их; его мир с Ан-
тигоном был первым положительным шагом к образованию
х I системы эллинистических государств, которая на самом деле могла
осуществиться только тогда, когда помыслы о всемирном влады-
честве были окончательно покинуты. Однако разве они не возник-
ли еще раз после великих побед третьего Лагида? Об этом речь
впереди; Александрийский двор, несомненно, питал такого рода
замыслы146. Египет был заинтересован пока другими делами; из-за
его положения ему нечего было и думать о возможности присоеди-
нить к себе когда-нибудь такие обширные сплоченные владения,
какие были у Селевкидов; он во что бы то ни стало должен был
подкреплять свои силы, помогая и содействуя разным мелким
возникающим государствам; сам же Египет мог расшириться
лишь за счет Селевкидова царства, а потому необходимо было
воспрепятствовать усилению державы, которая и без Египта в
состоянии была отразить соседних врагов и снабдить Селевки-
дов значительною помощью. Такая держава могла образоваться
только в Европе; вот почему Александрия и домогалась возвра-
щения Пирра домой, когда в Македонии восстал Деметрий; пото-
му-то Пирр, пытаясь утвердить свою власть в Италии и Сицилии,
тщетно взывал о помощи; Александрия обрекла греков в Италии
на погибель и заключила дружбу с Римом, лишь бы воспрепят-
ствовать возникновению великого греческого владычества на
Западе. Пирр возвратился; Антигон и Спарта в Греции довольно
энергично противодействовали его успехам в Македонии. Одна-
ко, когда Антигон вновь овладел своим царством и стал усиливать-
ся, то Египет тотчас же разжег крайне сильную войну; в начале
265 г. он хотя и не уничтожил Македонии, но льстил себя уже
надеждой, что лишил ее всякого значения. Необходимо было,
чтобы Антигон быстро оправился и надолго обеспечил за Маке-
донией политическое значение как третьей великой державы в
системе эллинистических государств. Это было необходимо не
столько вследствие вреда или пользы, какие из того возникали
для мелких греческих владений, и не вследствие того, что галлы,
дарданцы, иллирийцы на севере и востоке будут сдерживаться в
определенных границах; значение этого подъема Македонии за-
ключалось, скорее, в том, что таким лишь путем навсегда решался
великий вопрос, суждено ли возобновиться всемирному царству
Александра, или ему предстоит развиться в систему государств
на всеобщей основе эллинистической цивилизации.
Не странно ли, что в это самое время италийские греки были
побеждены Римом, и с возникшей из-за Сицилии борьбы с пуна-
ми исчезла всякая возможность восстановить там значительное
греческое владычество. Благодаря раздроблению Агафоклова цар-
ства и неудавшемуся предприятию Пирра, две великие западные
державы, противодействуя системе эллинистических государств,
могли восстать друг против друга, начать жестокую борьбу, в бур-
ном движении которой вскоре роковым образом запутался также
эллинистический мир.
Необходимо было указать на эти всеобщие отношения, для
того чтобы понятны были возникшие в одно время с македонско-
греческою борьбою распри между Египтом, Сирией и остальным
Востоком. Или, говоря точнее: наши скудные отрывки восточной
истории выясняются и приобретают смысл и значение лишь в свя-
зи со сказанными отношениями. Нет никакой возможности хотя
приблизительно представить здесь прагматический ход событий;
однако скудость преданий отнюдь не служит доказательством
отсутствия значительных событий и великих интересов; напротив,
судя по некоторым отрывочным известиям, оказывается, что в
памяти следующего затем поколения сохранилось чрезвычайное
разнообразие отношений как во внешней, так и во внутренней
политике; только для нас тут все покрыто мраком. Судя по изло-
женным выше выводам, можно смело утверждать, что высшему и
рациональному образованию, которое составляло отличительную
черту той эпохи и проявлялось именно в замечательной, если мож-
но так выразиться, публицистической литературе, отвечала так-
же и внешняя политика, что как во внутренних преобразованиях,
так и во внешних отношениях правители стали действовать с ясным
сознанием и верным пониманием целей, какие преследовались,
средств, какими располагали, условий и препятствий, с какими
приходилось сталкиваться. В синедрионах царей, при дворах мел-
ких владетелей, в республиканских советах всегда было немало
людей, которые по их образованию и личному опыту в состоянии
были постичь солидарность всех эллинистических условий в поли-
тических сношениях и мероприятиях: там были беглецы из павших
греческих городов в Италии и Понте, изгнанники чуть ли не из каж-
дого города в Элладе и Малой Азии, лица, которые или вследствие
разлада партий на родине, или после тщетной борьбы с соседними
владетелями, или, лишась расположения державца, вынуждены
были покинуть занимаемые ими доселе должности; сверх того вои-
ны, успевшие в той или иной войне ознакомиться с боевыми сред-
ствами различных государств, с настроением в городах и селах;
поэты и философы, ученые и художники, которые везде прини-
мались с любовью и почетом, и личное влияние которых обнару-
живалось как в мелких республиках, так и при блестящих дворах;
посланники, которые благодаря весьма распространенным и ожив-
ленным сношениям той эпохи доставляли сведения из Рима, Кар-
фагена и Индии, из Мероэ и из дунайских стран; наконец, купцы,
которые благодаря всемирной торговле поддерживали сношения
со всеми местами на земле, наемные солдаты, которым приходи-
лось приурочиваться то в Сицилии и Африке, то в Сирии или Бакт-
о. рии, туристы, гастрономы, археологи, прелестные гетеры и модные
с франты, рыскавшие по свету по своим личным делам. Вот из каких
Р всеобщих проявлений следует составить себе картину и атмосферу
г тогдашнего общественного строя и таким путем дополнить недо-
статок живых, наглядных фактов в тех немногих отрывочных со-
U бытиях, о которых сохранились только случайные известия.
Этот характер исторических преданий и понуждает нас со-
поставить между собою отдельные заметки в таком порядке, что-
бы они как можно лучше поясняли, подтверждали и исправляли
друг друга; мы лишены возможности расположить наше изло-
жение с точки зрения высшей политики, развить дальнейшие со-
бытия из столкновения разного рода властолюбивых притязаний
и из произведенных вторгшимися галльскими ордами внезапных
потрясений во всех сферах как македонского, так и восточного
политического строя. Лишь тогда, когда ряд отдельных фактов
установится с возможною ясностью и точностью, мы будем в со-
стоянии обозреть минувшие события и здесь также признать яс-
ные черты всеобъемлющей солидарности.
Начнем с заявления одного из древних авторов, чьи сведения
заимствованы из описания почти современного ему и во многих
отношениях прикосновенного к общественным делам государ-
ственного мужа. Он говорит, что Антиох, сын Селевка, спасая хотя
с трудом и даже не вполне во многих войнах отцовское владыче-
ство, отправил войско против Геракл ей и других городов147. Та-
ким образом, первый же год его царствования был исполнен борь-
бы; мы прежде уже упоминали частично об его войнах; здесь
следует изложить их по возможности в связи, причем нельзя обой-
тись без того, чтобы не коснуться еще раз вышеизложенных уже
фактов; только таким образом можно пролить некоторый свет на
скудные дальнейшие известия.
Правда, Антиох начал свое царствование с величайшими при-
тязаниями; его престарелый отец после побед над Лисимахом (ле-
том 281 г.) передал ему владычество над землями от Геллеспонта
до Инда и до Чермного моря; потом он был убит. Двойной долг —
отмстить за отца и отстоять право на Македонию и Фракию —
побудил Антиоха вступить в борьбу с Птолемеем Керавном. Од-
нако мятежи и опасности со всех сторон тормозили его; в Малой
Азии Гераклея, соединившись с Византием, Халкедоном, с Мит-
ридатом Понтийским, упорно отстаивала свою независимость;
город отправил даже войско на помощь Птолемею; вифинский
царь был одинаково заинтересован и тем и другим. Флот Герак-
леи в особенности был значительный; город имел пентеры, гексе-
ры, даже одну октеру больших размеров, на которой было 1600
гребцов. Эллинские города от Геллеспонта и до Родосского про-
лива также взволновались; когда подходил Селевк, то в них,
правда, восстали его приверженцы, с тем чтобы избавиться от гне-
тущего господства Лисимаха; однако надежды их не осуществи-
лись: о восстановлении свободы, какую даровали им Александр
Великий и Антигон и помину не было148; с той поры как набег кель-
тов стал грозить все большею опасностью, они вынуждены были
помимо других податей собирать еще налог для войны с кельта-
ми149. Мы видели, что Никомед, защищаясь от Зипета, призвал
кельтов в Азию и взял их внаем. Отчего бы городам за те деньги,
которые они для охраны от кельтов уплачивали сирийскому царю,
самим по примеру Никомеда не нанять их же, с тем чтобы восста-
новить свою автономию? Впоследствии, как оказывается, по край-
ней мере, важнейшие из них — Эфес, Смирна, Милет — и соседние
острова частью отстояли свою свободу, частью вновь добились ее.
Филетер Тианский, присвоив себе крепость Пергам и 9000 та-
лантов, данных ему Лисимахом на сохранение, стал независимым
династом, хотя и старался угождать царю Антиоху; а Эвмен в Ама-
стриде управлял также самостоятельно150. Только об этих местах
и дошли до нас случайные известия; впрочем, в Малой Азии было
немного городов и областей, в которых в конце 279 г. Антиох вла-
ствовал на самом деле. Он не был в состоянии отправить туда зна-
чительные войска; царь и без того был крайне занят в родном краю.
В Селевкидовой области его стесняли мятежники и узурпаторы151;
мы не знаем, распространялись ли восстания далее на восток, на-
пример в Арию, где и прежде уже приходилось подавлять силь-
ные мятежи152. Египетский царь нанес самый тяжкий удар Анти-
оху (280 г.); Птолемей II отнял у него те южные области Сирии,
которых так долго добивался Селевк, овладел даже Дамаском153.
Он основывал свое право на договоре, который прежде битвы при
Ипсе заключили между собою Птолемей I и Селевк, и в силу кото-
рого за содействие в борьбе со старшим Антигоном египетский
царь и получил во владение именно эту область Антигонова цар-
ства; впоследствии, однако, другим договором тогдашних царей
те же самые области, не спросясь Египта, присуждены были Се-
левку. Помимо этой законной претензии Филадельф надеялся от-
стоять свой захват, опираясь главным образом на преданность
палестинских сирийцев. Не говоря о непосредственной громад-
ной прибыли, какою, обладая этою областью, пользовался Лагид,
его нападение было выгодно еще более тем, что старший его брат,
не встречая препятствий со стороны подвергавшегося опасности
Антиоха, в состоянии был занять Македонию и таким путем по-
лучил достаточное вознаграждение за Египет; а иначе он едва ли
беспрепятственно предоставил бы египетский престол младшему
брату Филадельфу.
Благодаря быстрому поражению Птолемея Керавна вновь
ожили надежды Антиоха на Македонию и Фракию; в самый раз-
гар галльского набега он воевал с Антигоном из-за никому не при-
надлежавшей страны, но тщетно; Гераклея и Вифиния были против
него; он нигде не имел успеха. Дикие орды появились, наконец,
даже на азиатской земле; недолго прослужив у Никомеда, они
потом, грабя и опустошая, неудержимо стали проникать в богатые
области Малой Азии; чрезмерная добыча154 привлекла туда новые
толпы; нельзя было предвидеть, куда хлынет неудержимый поток,
после того как край по сю сторону Тавра будет разграблен. Хотя
Никомед и некоторые приморские эллинские города и надеялись
воспользоваться ими с целью добиться независимости; однако бед-
ствие дошло теперь до крайности, и все убедились, что спасение
зависело единственно от великого Селевкидова царства, а потому
все готовы были заключить мир с Антиохом. Но и сам Антиох по-
нял, что нельзя долее поддерживать политику отца в отношении
греческих городов в Малой Азии и тамошних династов, что даже
обладание южной Сирией и восточными сатрапиями не так важно,
как необходимость удержать во власти Сирии или хоть под ее вли-
янием полуостров, составляющий как бы мост из Азии в Европу.
Для спасения Малой Азии прежде всего следовало отразить
ужасных галлов. Для этого, как мы уже догадывались, и был за-
ключен мир с Никомедом и Антигоном155; эллинским городам дана
была свобода и автономия, которой они добивались156; с Египтом
после удачной битвы, как кажется, тоже был заключен мир157. Сам
царь отправился в Малую Азию, чтобы всеми своими силами сра-
зиться с варварами.
Блестящее описание битвы — вот все, что дошло до нас от этой
галатской войны. «Превосходя числом войск», сказано там, «га-
латы выстроились против царя, их плотная фаланга состояла из
двадцати четырех рядов вглубь, передние шеренги были в медных
латах, на каждом из флангов стояло по десяти тысяч всадников;
из центра боевой линии готовы были ринуться восемьдесят четы-
рехконных, вооруженных косами, и вдвое против того двухкон-
ных боевых колесниц. Царь упал было духом в виду таких грозных
неприятельских сил; он едва успел наскоро снарядиться, большая
часть его слабого войска состояла из пельтастов и легковооружен-
ных воинов. Он хотел уже вступить в переговоры; однако Теодот
из Родоса ободрил его и начертал план битвы, по которому 16 сло-
нов, которых царь привел с собою, должны решить дело. План
вполне удался: не видав никогда слонов, неприятельские лошади
испугались, обратились в неистовое бегство и произвели совер-
шенный беспорядок в своих рядах. Поражение варваров было пол-
ное. Почти все, кто не был убит из галатов, достались во власть
победителя; немногие лишь спаслись в горах. Окружавшие царя
македоняне затянули победную песнь, увенчали его, восторженны-
ми кликами приветствовали славного победителя. Он со слезами на
глазах сказал: "Не стыдно ли, что нашим спасением мы одолжены
этим шестнадцати животным!" На победном памятнике он велел
вырезать одно лишь изображение слона»158.
В этом описании не обошлось, как видно, без прикрас; если,
впрочем, на многих монетах царя изображение слона вычеканено
в память именно этой битвы, то надо полагать, что победа была
значительная159. Галлы не были, конечно, уничтожены и изгнаны
из Азии160, однако теперь можно было надеяться надолго изба-
виться от них, обеспечить себя от набегов. Здесь, может быть, мы
в состоянии будем объяснить одно топографическое явление
странного свойства. На западной и южной стороне Галатской об-
ласти встречается ряд местностей, население которых частью еще
в римскую эпоху называлось преимущественно македонским, и,
по некоторым известиям, состояло частью из водворенных здесь
македонян. Судя по всему, некоторые из этих мест были располо-
жены в самых важных в военном отношении позициях того же
округа; и действительно, они господствовали над путями, веду-
щими из Фригии к богатым городам приморских областей161. Во
всем распределении этих городов явно обнаруживается предначер-
танная цель; хотя некоторые места, вроде Докимея, Аполлонии в
Писидии и т. п. были, пожалуй, и прежде основаны, однако пока
набеги галатов не угрожали то и дело тем богатым приморским об-
ластям, до тех пор не было никакой надобности в подобном непре-
рывном ряде постов; и только поясом укрепленных городов можно
было надолго оградиться от их опустошительных набегов. Послед-
ствием великой одержанной Антиохом победы было, как кажется,
то, что галаты, считавшие весь полуостров как бы преданным им на
разграбление, были оттиснуты во внутренние области. Надо пола-
гать, что Никомед из Вифинии условился с Антиохом касательно
мер, какие следовало принять. Варвары утвердились уже в области
между источниками Сангария и Галиса; пришлось смириться с тем,
чтобы по возможности ограничить их этим округом. Нельзя ска-
зать, чтобы они спокойно и мирно сидели тут; мы не раз еще по-
встречаем их то в набегах, то в качестве наемников; даже сами
сирийские цари старались отделаться от них дарами162. Однако бла-
годаря описанной победе и упомянутым зарубежным укреплени-
ям, беда на первых порах была устранена, прекрасные цветущие
страны по ту сторону Тавра были в безопасности163.
Было бы поучительно знать, где и когда одержана была ска-
занная победа над галатами; но наши источники умалчивают об
этом164. Не удастся ли, по крайней мере, по дальнейшему ходу со-
бытий хотя приблизительно определить время? Обратимся на та-
кой конец к египетским отношениям, разбирая которые, мы,
конечно, опять вынуждены вернуться к некоторым изложенным
уже фактам.
Птолемей Сотер в выборе своего преемника обнаружил край-
нюю, вообще свойственную ему осторожность; может быть, его
склонность к Беренике также повлияла на его решение, а все-таки
он имел в виду главным образом благо государства; оно лишь при
§1 самом разумном правлении могло достигнуть впоследствии того
с могущества, которому он положил твердое основание. Поручив
2 царство своему любимому сыну, он не мог сделать лучшего выбора,
г и македоняне с восторгом отозвались на это решение. Благодаря
сохранившимся преданиям, нам и теперь еще ясно представляет-
%■■ ся образ этого замечательного царевича. Светлорусый, он был
слабого здоровья, нежного, впечатлительного нрава165, пользовал-
ся превосходным образованием; при его дворе процветали искус-
ства и науки — первые с целью облагородить роскошь, которую
он любил, а последние с целью придать больше весу и значения
веселому, интеллигентному обществу, которым он сумел окружить
себя. Тут аттицизм обрел новую отчизну, тут организовалась свет-
ская жизнь, в которой ради блестящего многостороннего наслаж-
дения изящные формы эллинского образования слились с его
благороднейшими и величайшими созданиями ума. Никогда жизнь
не украшалась такою прелестью, никогда не наслаждались ею с
таким умом, никогда не умели льстить так тонко, как при этом
дворе; даже строгие науки принимали участие в этой отрадной,
изящной обстановке, в этом избытке твердо сложившейся жизни
с ее широким кругозором. Между Филадельфом и македонским
Антигоном, другом суровых стоиков, существовала резкая проти-
воположность. Ему не приходилось, подобно последнему, беспре-
рывно приниматься снова за созданное с трудом дело, довершив
143
его с энергией и с твердым сознанием предначертанной цели; он
никогда не создал бы ничего великого, зато сумел развивать со-
зданное далее166. Он осторожен, отчасти мнителен, в случае край-
ности способен даже прибегнуть к насильственным мерам; они,
однако, как бы смягчаются кроткою улыбкою; он не хочет вну-
шать страх, ему хотелось бы окружить себя миром, приветом и
избытком счастья. Он не гонится за воинскою славою, избегает
борьбы, пока она не сулит ему верной прибыли; он сам не пуска-
ется в бой, но его послы отправляются к царскому двору при Ган-
ге и к сенату на берегах Тибра; его флоты являются в эфиопских
морях и у берегов Понта; распоряжаясь у себя дома проведением
каналов, основанием городов, закладкою гаваней, помышляя, как
кажется, лишь о внутренних делах и о великолепном развитии сво-
ей прекрасной страны, он опутывает мир таинственными нитями
своей неутомимой политики. И постоянно ищет он то там, то здесь
новых развлечений; то увлекается новой картиной, драгоценным
камнем, то редкостными животными для зверинца, новою руко-
писью для библиотеки, разного рода любовными похождениями167,
и жизнь его слагается из нескончаемых наслаждений. И все это не
удовлетворяло его; никогда он не чувствовал себя вполне здоро-
вым, ни даже в телесном отношении; несмотря на развлечения, на
деятельность его, он не может забыть о своем болезненном орга-
низме; он не доверяет более искусству врачей и обращается к та-
инственной науке. Она искони сохранялась в мрачных египетских I g
храмах; и вот он придумывает и изготовляет напиток бессмертия; Q
надеется скоро открыть его168. Когда однажды, страдая подагрой, hjj
он долгое время пролежал на одре болезни, а потом, оправившись S
немного, выглянул в окно своего дворца и увидел, как шайка еги-
петских бедняков весело поглощала скудный завтрак и растяну- *"-щ
лась потом на песке под солнечными лучами, то он воскликнул:
«Увы! Как бы мне хотелось быть одним из этих».
Таков был Птолемей Филадельф; ему было двадцать четыре
года, когда отец передал ему царство, которым он в течение двух
лет управлял под его надзором и руководством169. Устраненный
от престола Птолемей Керавн, старший сын царя, покинул Алек-
сандрию, и поведение его при дворе Лисимаха вполне оправдало
решение отца. В царском доме в Александрии с его отсутствием
исчез, как казалось, всякий повод к недоразумениям170. Но после
смерти отца (283 г.) возникли распри. Аргей, брат царя, посягнул
на его жизнь и был убит; другой брат, сын матери Керавна, воз-
буждал к отпадению остров Кипр и также был предан смерти171.
Царь, вероятно, чуял влияние Керавна, и Деметрий Фалерский,
который пользовался доселе высоким почетом и принимал весьма
влиятельное участие в правлении, был арестован по подозрению,
так как отстаивая права первородства, он высказался против во-
царения Филадельфа; вскоре и он также был лишен жизни172. Ке-
5"
144 1
равн при дворе Лисимаха пытался иными путями вознаградить
себя за Египет; убийство Агафокла было его делом, также война
против Селевка, в которой пал Лисимах; смерть победителя, за-
нятие Фракии и Македонии Керавном — все это обеспечило за
Филадельфом престол в Египте. Оттого-то он и пользовался всем
своим влиянием на Грецию, чтобы устранить Антигона от Маке-
донии; а в то же время он, захватив южную Сирию, непосредствен-
но угрожал сирийскому царю и удерживал его в Азии.
Нет никакой возможности проследить за дальнейшим ходом
событий; кое-где лишь попадаются единичные отрывки. Судя по
одной из илийских надписей в честь Антиоха, можно заключить,
что Филадельф неудачно воевал с Антиохом, все-таки он заклю-
чил мир, по которому за ним осталась часть захваченной им обла-
сти. Затем следует другой факт. Филадельф был женат на Арсиное,
дочери Лисимаха; она, как он открыл, также посягала на его
жизнь; ее соумышленники, Аминта и родосский врач Хрисипп,
были казнены, а сама она была сослана в Копт173. Мы не знаем,
состоял ли этот заговор в связи с прежним, не был ли Аминта тот
непоименованный брат царя, который возбудил восстание на Кип-
ре. Нас крайне удивляет то, что царь затем сочетался браком со
своей сестрой Арсиноей: жениться на единокровной сестре не
противоречило греческому обычаю, но Арсиноя была от того же
g отца и от той же матери, как и царь. Что могло побудить его всту-
§1 пить в брак, который по египетским понятиям не считался, прав-
с да, нечестивым, однако грекам и македонянам во всех отношениях
2 казался зазорным, даже кровосмесительным?174 Разве что страст-
х ная любовь к сестре? Но она была гораздо старше его; ей было
почти сорок лет от роду, когда она вернулась в Египет, а судя по
* % ее прежней жизни, Арсиноя вовсе не способна была возбуждать
любовь; сколько бед причинили ее козни в доме Лисимаха: благо-
родный Агафокл пал жертвой ее любви и ненависти; с целью до-
ставить престол своим детям она вместе с Птолемеем Керавном,
ее единокровным братом, составила заговор, чтобы умертвить Ага-
фокла; потом, когда пал Лисимах, Арсиноя спаслась бегством в
Эфес, а затем в свой город Кассандрию; старший из ее сыновей
пытался с помощью дарданцев завладеть македонским престолом,
тогда как она сама, уступая требованиям своего единокровного
брата Керавна, отпраздновала с ним свадьбу, завершившуюся
убийством двух младших ее сыновей. И в самом деле, не только
года, но также и нрав ее не могли побудить египетского царя же-
ниться на ней, вопреки всем обычаям и предубеждениям; если же
он решился на это, если заставил ее формально усыновить175 де-
тей своей отверженной жены, то у него, как надо полагать, были
на то какие-то важные причины. И действительно, оказывается,
что Лисимах вновь основал Эфес и назвал его ее именем176, пода-
рил ей Кассандрию в Македонии177, цветущие города при Понте,
Гераклею, Амастриду и Тиос178. Правда, Эфес, когда она бежала
туда (281 г.), восстал против нее, Кассандрия же была отнята у нее
Керавном, а после скоро последовавшей затем смерти его перешла
к гнусному Аполлодору; гераклеоты изгнали наместника царицы и
восстановили свою свободу, а с 279 г. завладели даже Тиосом и
Киером; однако права царицы на эти города все еще поддержива-
лись, и старший сын ее, союзник дарданцев, во время анархии вновь
появился в числе претендентов на Македонию179. Поэтому видно,
какое широкое поприще для политических козней открывалось пе-
ред царем вследствие этого брака180; хотя скудные предания мало
сообщают нам об этих интригах, об их влиянии и о пользе, какую
извлек из них царь; однако все, что произошло впоследствии, ясно
свидетельствует о том, что они велись на самом деле.
А между тем вспыхнула весьма опасная для Птолемея война;
ее возбудил Маг из Кирены, которого Береника родила прежде,
чем прибыла в Египет; Птолемей I поручил своему пасынку назван-
ную область181. Маг думал, вероятно, что после смерти отчима его
зависимость от Египта прекратилась, а может быть, его соблаз-
нило затруднительное положение, в которое в наступившие за-
тем года попал его царственный брат, — как бы то ни было, но он
вскоре задумал расширить свою власть даже за пределы Киренской
области. Маг через Катабафм, порубежное место в Киренаике,
двинулся к Парайтонию182. Птолемей поджидал его на границе за
окопами; при его, конечно, содействии бедуинское племя марма-
ридов восстало в тылу Мага и принудило последнего быстро отсту-
пить. Птолемей не решался преследовать его; в армии царя между
прочими иноземными воинами находилось 4000 галатов; этот на-
род по свойственному ему отчаянной погоне за наживой задумал
было овладеть Египтом; их переправили на пустынный берег Нила
и лишили там жизни183.
Первая война не привела ни к какому результату; Птолемею
вовсе не хотелось продолжать борьбу, чтобы не подать повода
Селевкиду напасть на южную Сирию; для него было гораздо важ-
нее утвердиться в ней, нежели подчинить себе вновь Кирену184.
Однако те же причины побуждали Мага и Антиоха заключить меж-
ду собою союз. Маг женился на дочери сирийского царя, на Апа-
ме185; затем он стал подстрекать тестя на войну с Египтом. При
малейшей надежде на успех Антиоху не следовало откладывать
борьбу, при посредстве которой можно было отвоевать южную
Сирию. В силу договора он имел право на эти области, которыми
пожертвовал лишь вследствие затруднительных обстоятельств в
начале своего царствования; южная Сирия не только угрожала
постоянно верхней, но, сверх того, благодаря обладанию этим
побережьем превосходные морские силы Египта усиливались еще
значительным присовокуплением финикийского флота; в то же
время устье Оронта, залив Исса, Киликийское поморье, а следо-
вательно, самая связь Сирии с Малой Азией во всякое время под-
вергались опасности со стороны соседнего Кипра.
Единственное достоверное известие, сохранившееся об этой
войне, гласит, что Антиох собирался всеми своими силами нагря-
нуть на Египет; однако Птолемей тем временем стал тревожить
принадлежавшие врагу области, совершая набеги на слабейшие из
них и настоящие нападения на сильнейшие, вследствие чего Ан-
тиох лишился всякой возможности угрожать самому Египту186.
Птолемей развернул все превосходство своих морских сил, в его
власти находились обширные азиатские побережья; и действитель-
но, мы случайно узнаем об одной из станций при Кавне: Патрокл
захватил там Сотада, бежавшего из Александрии вследствие кол-
кой остроты, отпущенной на счет брака царя с сестрою187. Кавн,
как кажется, стоял у власти Родоса; на его нейтралитет, однако,
не обратили никакого внимания, так как необходимо было овла-
деть самым важным пунктом для нападения на Карию. Блокада
угрожала точно так же всему побережью Малой Азии. Войска
Птолемея, между прочим, находились довольно близко от города
Эрифр, так что могли поддержать царя против Леоннария с его
кельтами188. Влияние египетской политики распространилось даже
на север Малой Азии, свидетельством чему служит замечательное
известие. Расположенный между Гераклеей и Амастридой город
§ I Тиос при Понте, который гераклеоты в качестве союзников Нико-
о_| меда приобрели в 279 г. дорогой ценой, назывался, как значится
по одной заметке, некоторое время Береникою. К этому присоеди-
няется другое известие: вновь прибывшие наемные галаты в союзе
с Митридатом и Ариобарзаном сразились с присланными Птоле-
меем египтянами, преследовали их до самого моря, захватили яко-
ри кораблей и основали в отданной им в награду области город,
который и назвали в память своей победы Анкирою189. Итак, эта
война началась уже при Митридате, умершем в 266 г., и продол-
жалась при его сыне и наследнике; а галаты тогда находились в
Малой Азии уже около двенадцати лет; у них не было постоянной
оседлости, они, по крайней мере, не обладали еще Анкирою, в ка-
кой бы области она ни находилась, в Вифинской или Понтийской.
Египетское войско перешло в наступление; оно прибыло не с тем,
чтобы сразиться с галатами. Уж не вступилось ли оно за Гераклею?
В таком случае следовало и можно было бы покорить Амастриду,
обладать которою город пытался уже давно. Но в Амастриде вла-
ствовал Эвмен из Тиоса, враг гераклеотов. Надо полагать, что Тиос
не вследствие подарков или иных обязательств принял имя Бе-
реники; он был взят египтянами и возобновлен под этим именем.
В таком случае его отняли у гераклеотов, бывших союзников Ви-
финии; отсюда Египет пытался проникнуть в ущерб понтийскому
царю далее, в Пафлагонию; выше упомянутый Эвмен или был на-
значен Птолемеем в Амастриде, или находился с ним в союзе; как
з:
х
Эвмен, так и Филетер, этот честолюбивый пергамский династ, со-
чли за лучшее присоединиться к Египту. Египет, таким образом,
энергично расширял свое господство; по западному прибрежью
он действовал с таким же успехом, как в Кавне и Тиосе; Филетер
уже распространил свои владения за пределы соседних областей;
надо даже предположить, что он пытался овладеть Эфесом и Ми-
летом. Все берега сирийского царя и его союзников находились
во власти египетского флота.
Что же делали противники? Разве они прежде не знали о пре-
восходстве неприятельского флота? Неужели они затеяли борь-
бу, не приняв никаких мер против него? Неужели не подыскали
союзника, который мог бы дать отпор неприятельскому флоту?
Антиоху, правда, не удалось занять египетскую границу; он,
однако, овладел Дамаском190; а Маг взял Парайтоний, удержал его
за собою и беспрепятственно двинулся далее191. Отчего превос-
ходный флот Птолемея не подошел к поморью Киренаики, с тем
чтобы возбудить города к отпадению или занять их быстрым на-
тиском? Отчего он дал Магу беспрепятственно проникнуть далее?
Ведь Птолемей заключил с ним даже мир, в силу которого при-
знал его царем и, обручив своего сына с маленькою дочерью Мага,
Береникою, он лелеял надежду в дальнем будущем воссоединить
Пентаполь с Египтом192. Не действовал ли он, благодаря этому, с
тем еще большим успехом против Антиоха? Однако ему не уда-
лось даже захватить или удержать за собою Эфес193; завоеванный
уже Кавн был вновь за 200 талантов уступлен родосцам194. Что же
сталось с превосходным египетским флотом?
Все эти вопросы разрешаются, если предположить, что Хре-
монидова и эта египетско-сирийская войны происходили в одно и
то же время; и лишь в этой связи обнаруживается все значение слав-
ной победы, одержанной Антигоном при Косе; эта битва была как
бы громовым ударом, разбившим обе одновременные боевые тучи.
Когда началась война, то ни у Сирии по утрате Финикии, ни у
Кирены не было флота, который мог бы померяться с египетским;
Родос же, склоняясь всеми своими торговыми интересами к миру,
как всегда поддерживал нейтралитет и, кажется, даже после за-
хвата Кавна не думал вооружиться. Вследствие всего этого союз-
ники для успешной борьбы с Египтом необходимо должны были
склонить на свою сторону Македонию; а Египет между тем опять
возбуждал в только что успокоенной и устроенной Греции врагов
против Антигона, помешавших ему принять решительное участие
в восточной борьбе. Неизвестно, где именно началась война? Маг
ли с Антиохом начали нападать прежде всего, или Афины восста-
ли, провозгласив свободу? Однако все силы Антигона были тот-
час же парализованы и задержаны в Сароническом заливе, тогда
как египетский флот беспрепятственно распространился вдоль по
неприятельскому побережью. В Этолии созидался город Арсиноя
148
и был назван по имени сестры и жены Филадельфа195; Александр
Эпирский, напавший с таким страшным успехом на Македонию,
был в союзе с этолянами, тогда как спартанский царь в связи с
владетелем Коринфа и Эвбеи готовился завершить блистательною
победою египетское дело в Греции.
Но славная победа при Косе разом изменила все условия; те-
перь Маг мог беспрепятственно подступить к самой границе Ниль-
ской долины; согласовав свои действия, союзники теперь достигли
бы, пожалуй, значительных успехов; а что было бы, если бы Родос
также принял деятельное участие в борьбе против Египта? Запу-
танность европейских условий, отчасти также политический харак-
тер Антигона были причиною того, что, пользуясь своею победою,
он не двинулся далее на восток, а, напротив, поспешил в Грецию, с
тем чтобы как можно прочнее восстановить тамошние отношения.
Египет теперь едва ли был в состоянии угрожать западному побе-
режью Малой Азии; вероятно, в это время Птолемей, чтобы при-
мириться с Родосом, и уступил ему за известную плату важную
позицию Кавна. Он, может быть, поспешил заключить мир с Ма-
гом, для того чтобы изолировать Антиоха; а Эвмен передал пон-
тийскому князю Амастриду при Понте, имея, конечно, также в
виду возбудить в Малой Азии нового врага против Селевкидов.
В это же время, как кажется, и с тою же целью Тиос был возвра-
g I щен Гераклее196.
о. Впрочем, нет никакой возможности проникнуть хотя бы еще
на шаг в густой мрак этой эпохи. Поневоле следует удовольство-
ваться тем, чтобы по некоторым намекам уловить, по крайней мере,
связь великих событий, тревоживших последние годы Антиоха Со-
тера197. Незадолго перед смертью ему пришлось еще вести борьбу с
пергамскими династами. Филатер умер в 263 г.198 Он держался лишь
благодаря посулам и угождениям, какие оказывал каждый раз наи-
более сильному соседу. Ему наследовал сын его брата Эвмен; он
завладел уже всеми соседними областями; благодаря пергамской
казне он был в состоянии навербовать значительное войско; Эвмен
победил Антиоха при Сардах199. Находилась ли эта война также в
связи с египетскою? Или Антиох заключил уже мир с Птолемеем в
то самое время, как задумал воспользоваться смертью пергамского
владетеля, с тем чтобы отстоять свои притязания на эту область,
которая без всякого права была отделена от завоеваний Лисимаха?
Впоследствии в одном из похвальных слов по поводу Анти-
охии было сказано про царя Антиоха: «Он никогда не вел войны,
оттого что враги его в страхе преклонялись перед ним; дожив в
полном благоденствии до старости, он передал своему сыну цель-
ное государство»200. Панегирист ошибается не только в первом
отношении; храбрый царь не без тяжкой борьбы отстаивал целост-
ность своего царства, при этом оно лишилось обширных областей,
подверглось опасности на важнейших в политическом отношении
X
границах. Хотя Дамаск и был вновь отвоеван, однако Финикий-
ское побережье и страна Иордана остались во власти египетского
царя; из областей, отнятых отцом у Лисимаха, Антиох вполне и
по договору уступил Македонию, а Фракию предал, можно ска-
зать, галатам и только частью отвоевал и удержал за собою Ма-
лую Азию. Когда он вступил на престол, то в этой стране царил
страшный беспорядок; благодаря нашествию галатов условия вы-
яснились и утвердились. С этих пор независимость владетелей в
Вифинии, Каппадокии, Понте была обеспечена; а коль скоро Си-
рия признала ее и отреклась от всяких прав на верховную власть,
то им не было более никакого повода враждовать с этой великой
державой; победа Антиоха над галатами послужила тому, что на-
званные владетели и вольные города стали еще более дорожить
своими сношениями с ним. Теперь кажется, что одни только често-
любивые династы Пергама подчинились влиянию египетской по-
литики; одна только египетская политика была заинтересована,
чтобы поколебать установившиеся, наконец, условия во всем эллин-
ском мире, и пергамские династы, примкнув к этим проискам Егип-
та, только и могли добиться политического значения в будущем.
Обозревая положение эллинистического мира в том виде, как
оно находилось при смерти Антиоха, мы прежде всего замечаем,
что в нем все более усиливался принцип системы государств. После
великих успехов, достигнутых Селевком, идея всемирного вла-
дычества, казалось, была близка к осуществлению; покоряясь
обстоятельствам, Антиох вынужден был отказаться от Македонии,
признать самостоятельность Вифинии, независимость Гераклеи и
целый ряд мелких политических организмов, какие образовались
в Малой Азии. Сирия все более и более развивала систему кон-
сервативной политики, исключительно отвечающую характеру
этого обширного и из разнородных частей составленного царства.
Ей, прежде всего, надлежало внутри стремиться к тому, чтобы при
посредстве вновь закладываемых на востоке городов по возмож-
ности усилить дальние азиатские провинции и этим путем добиться
объединения государства. Для того чтобы таким образом, при
помощи эллинизации восточных провинций, крепче привязать их
к царству и защитить от повторяющихся то и дело набегов туран-
ских варваров, Сирия должна была иметь твердое и вполне обеспе-
ченное положение относительно западных соседей. Возникавшие
там нескончаемые неурядицы отвлекали внимание и усилия госу-
дарства преимущественно на западе и вследствие того вредили
существенным его интересам. А сверх того, здесь, на западе, целый
ряд древнеэллинских колоний был слабо, как бы вроде имперских
городов, связан с царством; они преследовали свои разнородные
частные интересы, так что в случае войны едва ли можно было
положиться на их привязанность. Мелким соседним властям, как
князьям, так и республикам, представлялся при этом слишком
удобный случай воспользоваться своею политическою автономиею
в ущерб сирийскому царству.
Вот в каком отношении Египет был опасен для Сирии; превос-
ходный флот, весьма выгодное как в-военном, так и в торговом смыс-
ле положение, сильная централизация чрезвычайно богатых средств
и пособий, наконец, память о прежнем более обширном владыче-
стве — вот что придавало угрожающий характер дальновидной по-
литике этого государства. Опираясь на сомнительные права, Египет
тотчас же после воцарения Антиоха захватил Келесирию и фини-
кийские города; этот захват причинил Сирии не только весьма ощу-
тимую утрату областей и нарушил естественные, охраняющие ее
границы, но, сверх того, угрожал еще внутренней безопасности,
нагло презирая ее могущество. И все-таки прошло более десяти лет,
пока Антиох не попытался вернуть утраченные области; таким
образом, уже обнаружилось пагубное сознание в превосходстве
неприятеля; хуже всего было то, что, несмотря на сильный и на-
правленный со всех сторон против Египта натиск, Сирии, по край-
ней мере, удалось лишь немного отвоевать из всего ею утраченного.
Вследствие выше описанных сложных войн Египет, правда, вынуж-
ден был признать независимость Киренаики, допустить падение
Афин, восстановление Македонии, отказаться даже от завоеван-
ных уже мест по берегам Малой Азии; несмотря на это, следуя сво-
ей дальновидной политике, он поддерживал в отношении великого
сирийского царства положение, сильно угрожавшее соседней дер-
жаве, в ущерб которой он главным образом расширял свои преде-
лы. Вследствие меркантильного положения Египта, опиравшегося
на чрезвычайные приобретения и связи в Чермном и Эфиопском
морях, необходимо было во что бы то ни стало добиться преобла-
дания в восточных водах Средиземного моря, а также преградить
торговые пути в Селевкидовом царстве, обладавшем на своих вос-
точных границах самыми широкими средствами сношений. Для
Египта опасно было не соперничество Родоса и Византия, а, напро-
тив, Селевкидово обладание Финикией и тем побережьем Черного
моря, которое Селевк уже пытался связать с Каспием и восточною
торговлею. Оттого-то в выше описанной трудной войне Птолемей
и старался удержать за собою Финикию; оттого-то он во время этой
борьбы, если не ошибаемся, и уступил Амастриду, понтийскому
князю, с целью, конечно, отвлечь его от Селевкидов.
Благодаря этим войнам Антигон добился для своего македон-
ского царства прочного положения, которому сильно угрожали
одновременные поползновения Египта и мелких греческих госу-
дарств. Македонии не нужно было, подобно Сирии, эллинизи-
ровать отдаленные области, однако ей также пришлось охранять
границы от соседних варваров. Македония была сравнительно
небольшое, незначительное в торговом отношении царство; бла-
годаря лишь неизменно осторожной политике она в состоянии
была поддержать свое выдающееся значение; владычество ее впол-
не зависело от того положения, от политического превосходства,
какого она успела добиться относительно мелких греческих госу-
дарств; ей пришлось напрячь все силы, лишь бы укрепить за со-
бою добытое положение. Но именно это постоянное напряжение
всех сил, эти то и дело угрожаемые многосторонние отношения,
это участие, принимаемое в несметных мелких, все-таки крайне
подвижных условиях эллинских политий придавали своеобразный
характер и энергию этому государству.
Когда определились окончательно взаимные отношения трех
великих держав, тогда лишь мелкие государства и республики в
состоянии были достичь более прочного положения; их зависи-
мость и самостоятельность в отношении к великим державам под-
вергались чрезвычайной изменчивости. Они подчинялись первому
представившемуся внушению и побудительному влиянию власти,
от которой ожидали поддержки; для них не настала еще пора ре-
шительной политической деятельности. В этом отношении Египет
также пользовался преимуществом, оттого что в непосредствен-
ной политической области его находилось менее подобного рода
зависевших от него владений. И в самом деле, Кирены нечего было
пока опасаться, а иудейская иерархия пользовалась лишь скудным
политическим значением и вследствие неизменной симпатии была
крепко связана с государством, точно так же, как и финикийские
города, благодаря интересам торговли.
Сирия и Македония находились в ином положении; и та и дру-
гая представляла множество поводов к враждебной политике.
Недаром же Египет в борьбе с Македонией в одно и то же время
признавал своими союзниками Афины, Спарту, Эпир, этолян и
коринфского князя. Хотя Антигон и подчинил тех и других своей
более крутой власти, а все-таки оставалось там еще много пово-
дов к распрям, вследствие чего политическая деятельность Маке-
донии поневоле ограничивалась этими тесными пределами. Там
возникал уже новый политический организм, под сенью которого
некоторым эллинским государствам суждено было возродиться
для новой политической жизни и в качестве держав второго и тре-
тьего разряда занять своеобразное и самостоятельное место, проч-
ное положение в системе эллинистических государств.
В том же положении находились мелкие государства, состо-
явшие в политической сфере сирийской державы. Хотя старые
приморские греческие города и были, по-видимому, искренне пре-
даны царю Антиоху, с тех пор как он отрекся от политики своего
отца, однако они все-таки пользовались свободою настолько, что
при случае могли бы противодействовать даже интересам госу-
дарства: такая самостоятельность казалась опасною, тем более еще
в том случае, когда значительное число городов соединились бы
для совместных действий, как, например, в Ликийском союзе.
Вифиния, с тех пор как была признана Сирией, как кажется,
тоже находилась в ладу с этим государством; вследствие постоян-
ной опасности от галатов она поневоле прибегала к совместным с
ним мероприятиям. Понтийскому царству все еще приходилось
вести борьбу с галатами и с греческими городами по всему побе-
режью. Вообще эти орды варваров раскинулись по всей Малой
Азии; политика полуострова лишь исподволь приурочила их к себе
более животворным образом. Всего замечательнее было, конечно,
то, что в пергамской династии возникал новый и весьма энергич-
ный зародыш нового политического организма; это было первое
из мелких континентальных государств, которое с сознанием и
умением взялось за дело и, поддерживая свою автономию, вос-
пользовалось распрями великих держав.
Помимо Пергама в том же положении находились еще три
морские державы. Искони славившийся Родос в эпоху диадохов
уже обнаружил блестящий опыт осторожной политики; в после-
днее время он уже готов был принять решительное участие в борь-
бе великих держав, но благодаря хорошо понятым интересам своей
скорее меркантильной, нежели политической энергии, он, обес-
печив свои континентальные владения, воздержался от участия в
войне, которая могла бы разрушить всю его египетскую торгов-
лю. Затем Византии, который, хотя и подвергся жестоким на-
бегам галатов и фракийцев, однако благодаря владениям по обе
стороны Босфора, мужественно отстаивая свое участие в дунай-
ской торговле201, сумел сохранить у себя цветущее состояние. На-
конец, Гераклея Понтийская была тогда для Понта тем же, чем
впоследствии Любек стал для Балтийского моря; она то поддер-
живала понтийских владетелей против галатов, то содействовала
городам по западному берегу Понта, когда они замышляли осво-
бодиться от тиранов202, то ограждала от каллатидян свободу тор-
говли — словом, во всех отношениях действовала самостоятельно
и осмотрительно. Вот эти три морские державы вместе с Пергамом
все более и более развивали самостоятельную политику мелких
государств в ущерб крупным. Возобновившаяся борьба великих
держав, пылавшая в течение наступивших десятилетий, побудила
также остальные мелкие царства или принудила их принять непо-
средственное участие в политических событиях. Это был второй
период в образовании системы эллинистических государств, ко-
торый благодаря лишь развитию держав второго разряда в состо-
янии был достичь устойчивого политического равновесия.
Как раз теперь началась первая война Рима с Карфагеном; эта
борьба на западе также должна была окончательно установить
положение двух великих держав и имела последствием уничтоже-
ния там мелких и средних государств в то время, когда на Востоке
они начали добиваться политического значения.
КНИГА ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
262-247 гг.
Система западных государств. — Рим и Карфаген. —
Политическое положение Сицилии. — Гиерон и мамертинцы. —
Первая Пуническая война. — Восточная политика. — Война
Египта на Юге. — Смерть Мага. — Антиох П. — Вифинская война
за наследство. — Антиох во Фракии. — Вторая Сирийская
война. — Деметрий в Кирене; положение в Греции;
свобода Ионии; свобода в Мегалополе, Сикионе;
смерть Деметрия; мир. — Селевкидов восток; царство Ашоки;
Атропатена: основание Бактрии, Парфии; царства сатрапов
Система восточных государств, в том виде как она сложилась
в конце эпохи диадохов, своеобразно противопоставляется си-
стеме западных государств, характер которой мы теперь лишь в
состоянии очертить благодаря их противоположности.
Напомним в существенных чертах об условиях на Востоке. На
всем пространстве, занимаемом греческим миром и персидскою
державою, непосредственное и естественное развитие народов
было истощено и разбито в то время, когда победы Александра
связали их в одно царство, смешали их, как выразился один из
древних писателей, в кубке объединения. Началось сильное бро-
жение; в это время беспутных переворотов то один, то другой из
диадохов присваивал себе тот или иной край, даже несколько об-
ластей и также скоро вновь лишался их; при этом рушились пос-
ледние остатки естественных, обычных, национальных свойств,
поскольку они были еще носителями государственных функций;
порваны были последние нити, служившие связью и условием есте-
ственной державы; а там, где сохранились более крепкие их остат-
ки, — в греческих политиях, в Македонии, Эпире, — тем еще быстрее
совершался переворот, тем решительнее было разрушение, и след-
ствием всего был разрыв всякого исторического права, всяких ес-
тественно сложившихся условий. Это хаотическое состояние было,
однако, исполнено и чревато элементами нового времени; все зави-
село лишь от того, чтобы проявилась сила, которая рассеяла бы этот
хаос, довела бы его, так сказать, до точки кристаллизации.
Это, как мы видели, и осуществилось благодаря образованию
трех великих держав, — чем и завершилась борьба эпохи диадо-
хов. То были уже не случайные образования, не произвольные
соединения; державы эти приобрели индивидуальный облик и ха-
рактер; они пытались стать организмами с определенными поли-
тическими принципами; а по мере того как они стали сознавать
свое определенное положение, остальные народности среди них
стремились также выйти из хаоса, примкнуть к ним, или, отделив-
шись от них, образовать, в свою очередь, подобные организмы.
Необходимо постичь разницу между этими вновь сложившимися
и древними государствами: новые державы не возникли, подобно
древним царствам, из непосредственной, первобытной силы, вро-
де того, как дерево вырастает из зерна и, покрываясь листьями,
цветами и плодами, как бы преобразуясь путем развития, стано-
вится, наконец, таким, каким ему суждено быть; эти новые госу-
дарства, наоборот, были искусственно сложившимися зданиями,
срубленными из бревен повергнутых деревьев, из развалин и остат-
ков разрушенного древнего мира.
То были деланные государства; понимание средств и целей,
политического положения страны, нужд и способностей ее насе-
ления, материальных интересов и политических отношений, сло-
вом, проницательность и сила воли отдельных личностей — вот
что создало эти державы, или, вернее, эти личности удовлетворя-
ли потребностям нового рационального образования царств, от-
вечающего изменившемуся миру. Государство тут оказывается уже
не общим выражением национальной воли, а напротив, чем-то
вроде постулата, который все более и более стремится к своему
осуществлению, — это не что иное, как схема, в которой как бы
совмещаются несоизмеримые между собою условия (...)
В ином виде представляется западный мир. В каком богатом и
блестящем состоянии находился некогда эллинизм в Сицилии и
Италии! Опередив почти во всем метрополию, он раньше ее усво-
ил для себя также все результаты эллинской жизни — распадение
всего естественного и непосредственного, рациональное образо-
вание — и не раз подвергал их испытанию в дни счастья и невзгод.
Хотя царство Агафокла и не было следствием Александровых по-
бед, а все-таки оно отличалось тем же характером, как и эфемер-
ные государства диадохов; и хотя потрясения, каким подвергались
республики Эллады, мало касались политий италиотов, однако
последние были также шатки, также поколеблены в своих осно-
вах, лишены сознания своей необходимости, своего права суще-
ствования, непосредственной энергии и самоуверенности.
У сицилийских и италийских греков была одна общая черта с
пунами и римлянами: как те, так и другие помнили свое истори-
ческое происхождение; этим они отличались от многих эллинских
и от большей части древних восточных государств. Они были от-
нюдь не продуктами туземного развития; напротив, их связь с
почвою, с ее населением слагалась исподволь и руководилась раз-
личными воззрениями на окружающие условия.
Я умолчу здесь о средних ступенях. Несмотря на общие нра-
вы и образование, греческие города в Италии никогда не были в
состоянии основать прочную политическую общину. Неспособ-
ные отречься от своего партикуляризма, от спорадического строя,
разбитого уже в самом зародыше, и перейти к развитию государ-
ственной организации, основанному не на одной только теории, они
изнемогли, подобно своей метрополии. Иное дело Рим и Карфа-
ген: и тот и другой так же цепко, как эллинские города вообще, удер-
живали свое внутреннее устройство, однако они успели достичь
положений, способных развиваться с непрерывною и животворною
последовательностью; и тот и другой в своем поступательном дви-
жении и преобразовании сохранили свой национальный принцип,
мало того, тут-то они и освоились с ним настоящим образом, и
осознали его; это были изнутри образовавшиеся организмы, раз-
вившиеся исподволь с несокрушимою твердостью; у них государ-
ство отнюдь не признавалось божеским учреждением, как в древнем
востоке, ни также главным и единственным началом, как в эллин-
ских политиях; напротив, государство считалось у них человечес-
ким урядом, совокупностью частных интересов и их гарантий.
Но по своей конституции оба города совершенно отличались
один от другого. Рим был решительно земледельческим государ-
ством, и он долго сохранил этот первобытный характер, именно
оттого что при этом все формы общественной жизни оказались
податливыми и способными к непрерывному развитию. Плебеи,
эти свободные землевладельцы, долго и упорно боролись с при-
вилегиями патрициев в отношении общественного права, дохо-
дов и имуществ государства; конституция республики неизменно
стремилась к уравнению всяких личных прав и обязанностей.
Многие воображают себе, будто эти римляне с самого своего
начала стремятся ко всемирному владычеству, будто их политика
представляет связную систему разумных, дальновидных планов,
направленных к этой цели. Напротив, необходимость самосохра-
нения скорее всего понуждала их то и дело предпринимать все
более и более жестокие войны; от этрусков, галлов, самнитов им
угрожало то же самое порабощение, какому римляне подвергли
эти племена. Соседи волей или неволей приспосабливались к сло-
жившемуся из обязанностей и прав римскому организму, и вслед-
ствие крепко сплоченного строя этого государства иное отношение
к разным племенам было немыслимо. Пока сосед не вступил в
римскую сферу узаконенного строя, пока он вращался в своей
собственной правовой области, до тех пор его нельзя было обя-
зать договором так, как Рим счел необходимым ради собственной
безопасности. Вокруг высших привилегий квиритов образовались
различные ступени менее обширных прав, которые все-таки были
живыми ветвями самого государства.
Иначе сложился Карфаген. По происхождению и по своему
дальнейшему развитию это было торговое государство, и никогда,
может быть, коммерческая политика не была в таком исключитель-
ном виде и в таком грандиозном размере душою государственной
жизни. Как право в Риме, так здесь материальные интересы со-
ставляли основу государства, а коммерческие договоры — его
политическую сферу. Здесь богатая семитическая культура, ко-
торая под гнетом чужеземных завоевателей давно уже изнемогла
и вымерла на востоке, вновь достигла животворного развития.
Чрезвычайные успехи промышленности, весьма тщательное и ра-
циональное земледелие и скотоводство, распространенная по всем
классам деятельность, громадный оборот товаров как внутри
Африки, так и по западным берегам Средиземного моря и по сю
сторону океана, — вот каковы материальные основы этого госу-
дарства. Им руководила главным образом аристократия богатых
негоциантов, и руководила вполне согласно благоразумной по-
литике материальных интересов. Необходимо было расширить по
возможности рынок для пунической торговли, подавить всякую
значительную конкуренцию, пуще всего воспрепятствовать обра-
зованию торговой и морской державы в западных морях: для до-
стижения этих целей государство не уклонялось ни от величайших
материальных жертв, ни от самых отважных военных предприя-
тий; оно не успокоилось до тех пор, пока остальные финикийские
колонии не были приведены в зависимое от него состояние, пока
фокейцы, массилийцы, этруски не были совсем оттиснуты от моря
или, по крайней мере, ограничены тесными пределами соседнего
побережья. Карфаген овладел наконец важнейшими в коммер-
5 I ческом отношении пунктами — Сиртами, Мальтою, Балеарами,
§• Эльбою, западною оконечностью Сицилии и в особенности Сар-
ш I динией; благодаря сильному флоту он упрочил свое владычество
на море; после всего этого новые войны, новые завоевания могли
оказаться необходимыми только в таком случае, когда они насто-
ятельно требовались торговою политикою. Карфаген до крайней
возможности избегал дорогой, не согласной с характером торго-
вого государства войны; убедившись, наконец, в ее необходимости,
рассудительное и крайне расчетливое правительство выказывало
в отношении материальных средств такую энергию, осмотритель-
ность, настойчивость, такую готовность жертвовать громадными
денежными расходами, какая с тех пор повторилась вновь в од-
ной только английской политике восемнадцатого столетия.
Нигде этот характер пунической политики не обнаруживается
яснее, чем в отношении к Сицилии. Карфагеняне, как подтвержда-
ется на деле, никогда не вмешивались в дела острова, пока греки
там были слабы, но вступались всякий раз, как только те усилива-
лись, и в особенности, когда угрожали соединиться вместе. По
существу дела, пуническая торговля изгонялась из восточных мо-
рей и эллинских гаваней; для нее обладание торгующими в этом
направлении портами не имело почти никакого значения; поко-
рить весь остров уже само по себе не могло быть в интересах кар-
фагенян, тем более что трудно было бы одними только средствами
торгового государства подчинить себе свободный, высоко обра-
X
зованный, энергичный в политическом отношении народ; пунам
нужно было только помешать объединению острова, следствием
которого была бы сицилийская конкуренция, новая морская дер-
жава в западных морях. Пуническая политика вынуждена была
принять совершенно иной оборот с тех пор, как римляне все бо-
лее и более покоряли италийские племена и вместе с латинским
побережьем подчинили своей власти также этрусское и кампан-
ское побережья — то и другое со значительными гаванями, с до-
вольно обширными торговыми сношениями, с разнообразным и
превосходным фабричным производством. После третьей самнит-
ской войны, когда участь остальной Италии не подлежала уже
никакому сомнению, карфагеняне очевидно стремились завладеть
по возможности всей Сицилией и прежде всего господствовать над
нею хотя бы в политическом отношении. Однако разве они в пер-
вый же год войны с Пирром не предложили римлянам блестящего
пособия? Пирр достиг в начале чрезвычайных успехов; он явился
с целью соединить италийских греков в одно государство; тогда
Сицилия досталась бы ему сама собой, тогда возникло бы объеди-
ненное владычество, которое угрожало торговле Карфагена, его
господству на море, даже его владениям. Пирра поэтому следова-
ло держать в Италии и во что бы то ни стало подать помощь Риму.
Но римляне отвергли предложенную помощь. Тогда пуны еще рев-
ностнее пытались овладеть последним, до сих пор не занятым ими
или не подчиненным им городом Сицилии. Участь Сиракуз была
почти уже решена; в момент крайнего сопротивления явился Пирр.
Все сразу изменилось; к нему присоединялся один город за дру-
гим; самые напряженные усилия не в состоянии были остановить
его победное шествие; весь остров за исключением Лилибея нахо-
дился уже в его власти; римляне тем временем расстроили, одна-
ко, все его завоевания в Италии. Тогда карфагеняне предложили
ему мир, по которому отрекались от острова, оставляя за собою
лишь названный сицилийский Гибралтар. Пирр отказал им; он
имел в виду соорудить сицилийский флот и повести его к берегам
Африки; однако его эфемерное завоевание рухнуло.
Пирр был разбит также в Италии; владычество римлян про-
стиралось уже по всему полуострову. Непонятно, отчего Кар-
фаген допустил римлян завладеть Тарентом и Регионом, еще
непонятнее, отчего он в то же время не подчинил себе всю Сици-
лию, оставил в покое мамертинцев в Мессане, Гиерона в Сираку-
зах? Все это будет непонятно до тех пор, пока не представим себе
ясно цели и средства карфагенской политики. Пуны сознавали,
чего следовало ожидать от объединения Италии под римскою вла-
стью, какая опасность грозила их торговле, с тех пор как все пред-
приимчивые греческие приморские города подчинились римской
протекции, какое соперничество предстояло их господству на
море, тем более что необходимость защищать не только торгов-
лю, но также отдаленные поморья побудили Рим организовать со
временем флот, для которого города вроде Тарента представляли
важную основу. Пирр на деле доказал также, что пунический флот
не был даже в состоянии помешать десанту в Сицилию. Однако
политика Карфагена, как и всякого торгового государства, была
скорее расчетливая, нежели тщеславная, скорее цепкая и настой-
чивая, нежели решительная; ей бы хотелось придать всему вид
справедливости и вынужденной самозащиты, лишь бы не начинать
отважной борьбы; но события предупредили эту политику. Когда
Пирр вернулся из Сицилии, то Риму стала вновь угрожать силь-
ная опасность, и карфагеняне могли бы опять завладеть почти всем
островом; а Сиракузы и мамертинцы, эти находившиеся в посто-
янной распре области, обеспечивали за пунами навсегда повод к
роковому вмешательству. Тогда-то римляне одержали победу при
Беневенте, Пирр удалился из Италии; затем римляне отдыхали
целый год, даже после того они не тревожили ни Тарента, ни раз-
бойников в Регионе; карфагеняне, вероятно, заблуждались насчет
замыслов Рима. В их совете, как по всему ясно обнаруживается,
господствовали противоречивые мнения. Когда Рим в 272 г. напал
на Тарент, то пунический флот из Сицилии явился перед городом;
однако на жалобы Рима карфагеняне заявили впоследствии, буд-
то полководец самовольно предпринял эту экспедицию. Вопрос
об италийских отношениях подробно обсуждался в пуническом
сенате, и полководец действовал, вероятно, в смысле меньшинства,
согласно которому надлежало за тарентинцами в Италии и за раз-
бойниками в Регионе признать ту же независимость, какую Кар-
фаген в Сицилии предоставил городу Сиракузам и разбойникам в
Мессане. Отчего же это мнение не восторжествовало. Оттого, что
попытка защитить Тарент впутала бы Карфаген в войну, которая,
без сомнения, увлекла бы римлян в Сицилию; а Карфаген ни за
что не хотел, чтобы его сочли зачинщиком войны; ее следовало
начать лишь в том случае, когда Рим покусится стать морскою дер-
жавою, и тогда уже со всею энергиею. Если же пришлось прежде
того вступить в борьбу с Римом, то Карфаген, отстаивая Тарент,
вынужден был бы вести сухопутную войну; несметные утраты и
денежные жертвы, какими сопровождалась бы подобная война,
не вознаградились бы в таком случае ожидаемыми выгодами; не-
обходимо было лишь вполне обеспечить за собою решительное
преобладание в Сицилии. Пуны могли, наконец, надеяться еще на
возобновление италийской войны со стороны эпирского царя, тем
более что владычество его развивалось все сильнее по ту сторону
Ионического моря; вообще же они готовы были признать сици-
лийский пролив естественною границею обоюдных владений, и,
считая неминуемым предоставить Италию римлянам, карфагеня-
не во что бы то ни стало решились воспрепятствовать будущему
вмешательству Рима в дела Сицилии1.
Какая, однако, разница между римским владычеством в Ита-
лии и пуническим в Сицилии: там быстро и энергично сосредо-
точивалось господство над вновь покоренными племенами и
городами, римские колонии разместились по важнейшим в воен-
ном отношении пунктам; а тут два мелких государства рядом с
пуническим владением отнюдь не охотно подчинялись карфаген-
скому влиянию. Мамертинцы в Мессане все время, пока держался
возмутившийся легион в Регионе, находились с ним в союзе и со-
бирали дань с разных мест в Сицилии. Карфаген ничего не пред-
принимал против них, не защищал даже собственной области; для
него было, пожалуй, выгодно, что Сиракузы истощались в борьбе
с этими разбойниками. В Сиракузах царил разлад; наемное войско
враждовало с гражданами; оно расположилось лагерем вне горо-
да, избрало себе в полководцы Артемидора и Гиерона. Древние
писатели единогласно хвалят этого Гиерона; проницательность,
благородство помыслов, энергия воли, всеобщее уважение — все
это побуждало его стать спасителем Сиракуз. Из лагеря он пере-
брался тайком в город; обезоружил заговорщиков и, восстановив
порядок, обнаружил умеренность и великодушие, так что граж-
дане тоже единогласно избрали его в полководцы2. С целью усми-
рить продолжавшиеся в городе волнения, которые возобновлялись
всякий раз, когда отсутствовали войска, он соединился с честным
и самым влиятельным в среде горожан Лептином и женился на его
дочери, на знаменитой Филистиде. Обеспечив таким путем свои
отношения к гражданам, Гиерон задумал отделаться от кичливых
и заносчивых наемников, то и дело возбуждавших распри: он повел
их на мамертинцев; оставшись сам с вооруженными сиракузцами в
арьергарде, он велел наемникам атаковать неприятеля, который
разбил и совершенно уничтожил их. Вернувшись, Гиерон стал на-
бирать новое войско, приучая вместе с тем граждан к военной
службе. Прежде уже было упомянуто о том, что Гиерон послал
съестные припасы и вспомогательное войско римлянам, когда они
напали на мятежников в Регионе; это было первым и самым важ-
ным шагом, сделанным с целью освободиться от политической
зависимости Карфагена. В то же время как римляне напали на
Регион, мамертинцы, ободрившись после уничтожения наемников,
возобновили свои набеги в Сиракузскую область и во внутрь ост-
рова. Гиерон же быстро пошел на Мессану; когда они вернулись
на выручку своего города, то он устремился к занятым ими Милам
на северном берегу острова и взял их приступом3. В наступившем
затем 270 г., как кажется, началось нападение на занятые мамер-
тинцами города внутри острова; они были покорены один за дру-
гим; вследствие взятия Тавромения, Тиндориды и Мил противники
были уже прижаты к крайней восточной оконечности острова.
Битва при Лонгане на равнине Мил решилась в пользу Гиерона;
вожди мамертинцев были взяты в плен, власть их рушилась. Когда
Гиерон вернулся, то благодарные сиракузцы и союзники провоз-
гласили его царем4.
В этот крайне критический момент известия становятся неяс-
ны; о наступившем затем пятилетии сохранилось мало последова-
тельных сведений. Приводим здесь одни только главные факты.
Отчего Гиерон, вместо того чтобы вернуться после своей победы,
не попытался атаковать тотчас же Мессану? Это было бы целесо-
образно, тем более что изгнанные мамертинцами прежние жите-
ли Мессаны немало содействовали успешной битве при Милах.
Ввиду пунов Гиерон поневоле отказался от этого предприятия; они
ни под каким видом не допустили бы, чтобы он освободил еще
Мессану и в качестве союзника Рима распространил свое влады-
чество над целою третью острова. Сам Гиерон не решался на пред-
приятие, вследствие которого его союзники римляне могли бы
воспользоваться поводом к вмешательству в сицилийские дела; он
поддерживал свою независимость, пользуясь соперничеством
между Римом и Карфагеном. Гиерон затеял рискованное дело;
всего проще было бы ему соединиться с мамертинцами; однако
Карфаген не допустил бы этого, Рим не одобрил бы, а Сиракузы
неохотно согласились бы на это; сами мамертинцы, не зная на что
им решиться, вздорили между собой из-за того, прибегнуть ли им
к помощи римлян или карфагенян. Словом, в настоящем положе-
* I нии дел благодаря одному только бездействию, удалось избежать
g- войны; можно было лишь отсрочить на время, но отнюдь не устра-
m I нить неизбежную борьбу между Римом и Карфагеном.
Как в Риме, так и в Карфагене ясно сознавали все, что пред-
стояло впереди; там и тут заранее принимались всевозможные
меры. Карфаген усилил свой пост у острова Липары, свои войска
в пунической Сицилии, а Рим тем временем спешил окончательно
усмирить Италию и при посредстве нескольких колоний оградить
внутренний край и берега. Каждая из сторон приступала к делу с
величайшей осторожностью и ревниво следила за малейшим дви-
жением другой стороны.
Мы не знаем, что послужило первым поводом к войне; Поли-
бий умалчивает об этом, а причина, на какую указывают другие
авторы, будто вследствие нового нападения Гиерона мамертин-
цы приняли у себя пунический гарнизон, лишена вероятия5. Ма-
мертинцы уже не вольны были решать что-нибудь по-своему; их
участь зависела от переговоров, какие, без сомнения, ревностно
велись между Римом и Карфагеном. Теперь-то Рим и жаловался
на появившийся несколько лет тому назад перед Тарентом флот.
Клятвенно заверяя, что это произошло без ведома государства,
пунический сенат, в свою очередь, сетовал на союз Рима с Гиеро-
ном; вероятно, он потребовал даже порвать эту связь, на что Рим,
конечно, не соглашался. Вот тут-то мы и лишены достоверных
сведений; пуны, может быть, произвели демонстрацию против
2
Z
Мессаны, за которою необходимо должно было последовать угро-
жающее движение со стороны Гиерона; мамертинцы сознавали,
что им грозит неминуемая гибель от нападения Гиерона или Кар-
фагена; одна из партий в городе была за карфагенян, но боль-
шинство опасалось их. Мамертинцы обратились к Риму с просьбой
о помощи; римские консулы поддержали просьбу.
Никогда в римском сенате не происходило более знаменатель-
ных совещаний. Правда, мамертинцы были такие же разбойники,
как только что жестоко наказанные кампанцы в Регионе, в грабе-
жах и насилиях которых они принимали участие. Согласиться на
их предложение значит нанести оскорбление союзнику Гиерону;
вместе с тем если откажут мамертинцам, то они обратятся к пу-
нам; тогда не только вся Сицилия будет предана карфагенянам,
но также будет предоставлена им та позиция, которая господство-
вала над переправою через пролив и с которой во всякое время
возможно было совершить нашествие на Италию. После долгих
совещаний сенат отверг предложение консулов. Последние пе-
ренесли дело в народное собрание. Жестоко пострадав от про-
шедших войн, как говорит Полибий, сознавая необходимость
добиться благосостояния, все, однако, убедились в то же время
в пользе, какую сулит война государству, в великих и явных вы-
годах для каждого из граждан, как уверяли консулы; а потому
трибы решили подать помощь и велели консулу Аппию Клавдию
переправиться в Мессану. Это решение признано было вечным
позором для Рима, знамением возникавшей демократической
порчи; напротив, оно было делом политической необходимости,
это было самое великодушное и крайне отважное дело, на какое
когда-либо решался народ.
Вследствие такого решения, а, может быть, также наступа-
тельного движения Гиерона или вызова пунической партии в сре-
де мамертинцев, или вследствие всего этого вместе карфагенский
полководец вступил в Мессану и поместил гарнизон в крепости.
Это было весною 264 г. Устранив Гиерона, римляне своим реше-
нием крайне оскорбили его, а потому он охотно согласился на
дружеское предложение пунов; он соединился с ними для совмест-
ного отпора римлян. Римские войска долго не показывались; на-
конец, в Регионе явился присланный консулом легат Г. Клавдий
с несколькими триремами и отрядами. Пунический флот в проли-
ве задерживал переправу; легат завел переговоры; он в лодке пе-
реехал в Мессану; Ганнон отослал его назад, однако его слова
возбудили опасное волнение среди мамертинцев. Клавдий прибыл
в другой раз и сказал в собрании, что римляне имеют в виду лишь
освободить город и вовсе не желают обладать Мессаною; когда
дела города будут устроены, то сам легат вернется к себе; он тре-
бовал, однако, удаления пунов. Если же они заявляют законные
притязания, то пусть представят их на разрешение третейского
6 История эллинизма
суда. Легат обещал, наконец, подать помощь мамертинцам частью
из-за их италийского происхождения, а частью потому, что они
прибегали к покровительству Рима.
Ганнон оказался в затрудительном положении; он находился
в Мессане лишь по призыву мамертинцев; если же они решились
пристать к Риму, то воспрепятствовать этому можно было только
силою; ему казалось необходимым избегать во что бы то ни стало
нарушения мира с карфагенской стороны. Легат стал перебираться
со своими триремами; однако течением и сильным ветром несколь-
ко судов отнесло к крейсировавшим по проливу карфагенским
кораблям; Ганнон отправил суда и экипаж назад, не причинив им
вреда и увещевая соблюдать мир. Клавдий не обратил внимания
ни на это предостережение, ни даже на слова Ганнона, уверявше-
го, что он не допустит римлян умыть в море хотя бы только их
руки. Еще более подстрекаемый первою неудачею, легат возобно-
вил попытку; он беспрепятственно высадился в гавани Мессаны и
был восторженно принят мамертинцами. Он созвал народное со-
брание; «незачем», сказал он, «прибегать к оружию, жители сами
должны решить, хотят ли они удержать пунов в городе или нет».
Ганнон счел своею обязанностью выйти из цитадели к собранию и
оправдаться в насильственном будто бы занятии города. После
жаркой перебранки Клавдий велел схватить карфагенского пол-
g | ководца и при восторженных криках мамертинцев отвести его в
тюрьму. Ганнона выпустили лишь тогда, когда он велел пуничес-
m кому гарнизону покинуть город; когда он вернулся в Карфаген,
его за такие полумеры распяли на кресте.
Пунической армии в Сицилии тотчас же велено было двинуть-
ся вперед. Оставив на юге в важном Агригенте сильный гарнизон,
Ганнон, сын Ганнибала, повел ее из Лилибея по северному побе-
режью к Мессане; он расположился лагерем при Эвнеиде, тогда
как флот стал на якорь при мысе Пелориада. В то же время Гие-
рон, заключив с пунами формальный союз, подошел с юга, распо-
ложился по другую сторону города, на Халкидской горе. Мессана
была обложена со всех сторон, подвоз был отрезан; осаждающие
атаковали город каждый день; необходимо было овладеть им до
прибытия консульского войска. Но Аппий Клавдий находился уже
в Регионе; темной ночью он посадил войско на корабли и неожи-
данно прибыл в Мессану. Однако что теперь делать? По обе сто-
роны города стояли сильно укрепленные лагери, внутри ощущался
недостаток съестных припасов, а сообщение с Италией было от-
резано; неприятели господствовали на море и на суше — консул,
как казалось, попал в ловушку. Он отправил послов в оба лагеря:
«Рим требует лишь, чтобы прекратились враждебные действия
против мамертинцев». Его предложения были отринуты; ему не
оставалось иного выхода, как победить по возможности скорее.
Союзники все еще стояли порознь. Он бросился на сиракузцев;
бой был продолжительный, упорный; римляне, наконец, одержа-
ли верх и преследовали Гиерона до окопов его лагеря. Подозре-
вая измену, оттого что пуны не препятствовали переправе и не
оказали ожидаемой помощи во время битвы, царь покинул лагерь
и через горы отступил к Сиракузам. Консул не стал его преследо-
вать, а на следующий затем день напал на карфагенян6; тщетны
были его усилия проникнуть в их укрепленный лагерь, и он стал
уже отступать. Преследуя его, пуны отважились выйти из лагеря,
но тут он бросился на них, многих убил, а остальных принудил
бежать назад в лагерь.
Карфагеняне, как кажется, тоже покинули свои укрепления;
консул прошел по территории обоих врагов, опустошая ее. Его по-
ход до Сегесты имел лишь целью побудить к отпадению подчинен-
ные пунам греческие города. Затем он напал на владение Гиерона;
города один за другим просили мира; римское войско находилось
уже под стенами Сиракуз; новые консулы (263 г.) беспрепятствен-
но прибыли с четырьмя легионами. Гиерон оказался в ложном
политическом положении; обстоятельства побудили его вступить
в союз с Карфагеном, а теперь он не получал оттуда никакой помо-
щи; флот пунов подошел, когда было уже поздно; сикулы упали
духом. От дальнейшей борьбы нельзя было ожидать никаких
успехов; однако Гиерон мог надеяться, что консулы согласятся
на довольно выгодный мир, хотя бы не вследствие прежних дру-
жеских сношений, а скорее в виду снабжения их войск, крайне
затруднительного при карфагенском флоте. Он вступил в перего-
воры; консулы потребовали возврата римских пленников, контри-
буции, уступки отнятых у мамертинцев городов; на этих условиях
мир был заключен, Гиерон сделался союзником Рима.
Дальнейшие события первой пунической войны не входят в
состав нашего изложения. Карфаген вел борьбу, не щадя матери-
альных средств, а Рим еще более того напрягал нравственные силы.
Война длилась двадцать лет без перерыва, с переменным счасть-
ем, и сопровождалась изумительными событиями. Мы вернемся к
ней под исход этой борьбы.
После войны с Пирром италийские греки подчинились рим-
скому игу или вступили в союз с Римом; а в этой пунической войне
опустела греческая Сицилия за исключением небольшой области,
процветавшей под благодатным управлением Гиерона7; в полити-
ческом отношении она, конечно, пользовалась некоторым значе-
нием лишь потому, что снабжала продовольствием римские войска.
Однако как относились к этой великой войне восточные го-
сударства? Тут предание покидает нас совсем; мы не встречаем
никакого даже намека на их связь с Западом, на сношение с ним;
можно подумать, что восточные державы были ничего не пости-
гавшими, равнодушными свидетелями всех распрей на Западе. Это
немыслимо, если только наши прежние наблюдения относительно
164
политического положения Востока хоть сколько-нибудь подтвер-
ждаются; события времен Агафокла, Деметрия, Пирра, так же как
союз, заключенный Птолемеем Филадельфом с Римом, не говоря
уже о Тимолеонте, об Александре Молосском, о спартанских по-
сольствах, ясно обнаруживают, в каких отношениях Восток на-
ходился к Западу. Интересы этих западных греческих государств
при разных дворах довольно настойчиво поддерживались, конеч-
но, эмигрантами из римской Италии и из пунической Сицилии;
стоит только вспомнить об италиоте Ликине, который после по-
беды Антигона над Афинами находился там в качестве фрурарха.
Какие же из восточных держав могли бы, однако, вмешаться?
Прошло то время, когда город Коринф в состоянии был помочь
своей колонии и в достославной борьбе с пунами соблюсти обя-
занности метрополии, а вместе с тем также интересы собствен-
ной торговли. Спарта, поставлявшая обыкновенно вождей и
наемников в Сицилии и Италии, как раз в это роковое время была
связана разными делами в самом Пелопоннесе. Правда, по проше-
ствии десяти лет в карфагенской армии в числе греческих наемни-
ков появился спартанец в качестве вождя, однако само государство
не принимало в этом никакого участия. Сын Пирра Александр
скорее всего имел бы повод вмешаться в дела Запада; впоследствии
он породнился с Гиероном8; за недостатком иных свидетельств это
может служить доказательством того, что он не упускал из виду
§-| страны, где при отце участвовал в первой своей кампании. Однако
m I условия родного края препятствовали ему предпринять что-либо:
во-первых, борьба с дарданцами, во-вторых, крайне изменчивые
х
х события Хремонидовой войны, которая сперва, как казалось, су-
лила ему обладание Македонией, а затем разорила и лишила его
^ царство почти всякого значения.
Единственная держава, которая могла бы вступить в реши-
тельную борьбу из-за Сицилии, был Египет. Однако в интересах
Египта необходимо было расширить по возможности торговлю,
развить превосходный флот; и в том и другом отношении пуни-
ческое государство было помехой для Египта; тем более что фи-
никийские города под египетским владычеством, — как надо
предположить, — опять приняли участие в торговле с югом; а по-
тому следовало ожидать, что они восстановят свои прежние свя-
зи с дальним западом. Для Александра и Кирены важны были
сношения с Сиракузами, что и сознавал уже Лагид I; доказатель-
ством служит брак сестры Мага с Агафоклом Сиракузским. При
всем том Египту не было никакого расчета способствовать обра-
зованию самостоятельного сицилийско-италийского владычества
греков, которые в случае удачи оттеснили бы пунов в свою же вы-
году. Птолемей поступил весьма благоразумно, заключив по уда-
лении Пирра союз с Римом; благодаря этому италийские гавани
стали, конечно, доступны для египетской торговли, главным скла-
дочным местом которой давно уже считались, как кажется, Путе-
олы. Нечего было опасаться соперничества италийской индуст-
рии, тем более что почти все промышленные греческие города
пришли в расстройство вследствие войн за последние годы; для
египетского фабричного производства, напротив того, весьма важ-
но было получать из Италии сырье, особенно шерсть, ибо хлопок,
как кажется, теперь только стал возделываться в Египте. До нас
дошло замечательное известие о том, что во время войны, когда
обе воюющие державы были крайне истощены вследствие то и дело
отправляемых в море новых флотов, Карфаген пытался сделать у
Птолемея заем в 2000 талантов9. Но поддерживая дружеские от-
ношения с обеими державами, царь старался помирить их; когда
же это не удалось, он на предложение карфагенян возразил: «Дру-
зьям мы обязаны помогать против врагов, но не против друзей».
Подлежит, впрочем, сомнению, едва ли он стал бы держаться того
же принципа, если бы Рим находился в таких же стесненных об-
стоятельствах, как Карфаген. Будучи в союзе и с тем и с другим,
царь вполне пользовался выгодами нейтралитета, так что кораб-
ли его беспрепятственно ходили даже в той части моря, где вла-
ствовал Карфаген; а возраставшее затруднительное положение
пунов могло повести лишь к ослаблению их владычества на море,
тогда как благодаря особенным свойствам римского государства
нечего было слишком опасаться развития римского морского и
меркантильного могущества. Судя по странным стихам, какими
один из тогдашних придворных поэтов восхвалял Корсику и Сар-
динию, надо полагать, что в Александрии обратили внимание на
эти острова10.
Вот как можно объяснить политику восточного мира во вре-
мя великой борьбы на Западе. Не подлежит сомнению, что после
Хремонидовой войны и после смерти Антиоха I настали мирные
годы. Птолемей воспользовался этим временем, с тем чтобы до-
вершить начатые уже прежде предприятия в Аравии и Эфиопии,
крайне важные не только в смысле расширения государства, но
еще более для развития и обеспечения торговли с Индией и юж-
ной Африкой. Птолемей II, как гласит краткое известие, впервые
открыл берег троглодитов11; это вновь приобретенное владение
обеспечивалось рядом замечательных колоний по побережью Чер-
много моря12. В более южных краях попадалось много слонов, и
Птолемей III велел ловить их для военных целей13; таким образом
усилились его боевые средства, и он надеялся достичь того же
превосходства, каким пользовались сирийские войска благодаря
их индийским слонам. Эти предприятия, как кажется, распрост-
ранялись также на некоторые места аравийского побережья, судя
по встречавшимся там греческим именам14; но замечательнее все-
го была предпринятая Птолемеем Филадельфом экспедиция во
внутрь Эфиопии15.
К сожалению, не сохранилось никаких известий ни о време-
ни, ни о подробностях этого похода. Мы упоминали уже о том,
что получивший греческое образование эфиопский царь Эргамен
уничтожил иерархию в Мероэ и установил военное владычество;
его имя встречается между иероглифами в Дакке; по одному этому
можно уже судить о том, как близко к египетской границе подхо-
дили его владения. Не против него ли направлена была экспедиция
Птолемея? Или не восстал ли Эргамен, после того как благодаря
походу Лагида жреческое царство было потрясено? Начиная с этой
кампании, в эфиопский край стали проникать науки и цивилиза-
ция греков. Замечательные древности, какие Ферлини открыл в
разрушенной пирамиде Кургоса, несомненно носят на себе отпе-
чаток эллинского труда; греческие исследователи проживали в
Мероэ и проникали оттуда далее во внутрь страны16. В этих мес-
тах и в то же время в приморских колониях вновь были найдены
потомки тех египетских воинов, которые четыре века тому назад,
когда царь Псамметих призвал греческих авантюристов и водво-
рил у себя в качестве солдат, переселились в эти края; на том же
самом берегу, где впоследствии возник Адул, один из монахов ви-
зантийской эпохи начертал греческую надпись с целью увековечить
обширные завоевания Лагида III. Словом, двойная экспедиция
Птолемея Филадельфа привела к целому ряду открытий, завоева-
ний, торговых сношений, и как бы отрывочны ни были о них наши
сведения, однако все это свидетельствовало о расширении египет-
ского могущества17. Таким образом, твердо укрепившись на юге и
не опасаясь оттуда нападения, Египет благодаря обладанию Ке-
лесирией и Кипром, словно выдвинутыми вперед бастионами,
огражден был от Селевкидов; для полного округления не доста-
вало только Кирены. Однако договором с царем Магом обеспе-
чивалась, по крайней мере, надежда на обладание этим краем. По
договору единственная дочь и наследница царя, находясь еще в
детском возрасте, была обручена с юным наследником египетского
престола. Таким путем Египет надеялся достичь высшего могуще-
ства, не опасаясь никакого нападения и упрочив за собою весьма
угрожающее превосходство. Интересы политики необходимо
должны были сосредоточиться на Кирене; македонскому и сирий-
скому дворам во что бы то ни стало следовало воспрепятствовать
соединению Кирены с Египтом. Маг умер в то время, когда наслед-
ница его была еще ребенком; нечего было еще и думать о ее заму-
жестве; Киреною управляли тем временем опекуны, среди которых
вдовствующая царица пользовалась, конечно, большим влиянием;
она же была из рода Селевкидов; как обручение, так и самый мир
совершились вопреки ее желанию. Хотя в Пентаполе значительная
партия и желала соединиться с Египтом, однако антиегипетская
политика Македонии и Сирии пользовалась сильною поддержкою
со стороны вдовствующей царицы: она во всем подчинялась инте-
167
ресам своего брата и дяди; по первому поводу царица расторгла
связи, которые престарелый Маг поддерживал с Египтом.
Спрашивается, однако, по какому поводу? Расширение вла-
дычества и вышеизложенное политическое положение Египта слу-
жили вообще достаточным побуждением к разрыву между тремя
великими державами; предание умалчивает о том, вследствие чего
именно вспыхнула вновь война. Попытаемся восстановить неко-
торые предшествовавшие ей события.
Не подлежит сомнению, что, несмотря на перемену правле-
ния в Сирии, дружеские сношения этого двора с македонским под-
держивались согласно требованиям политических условий; а
новый брак связал их еще теснее: сестра молодого сирийского царя
Стратоника вышла замуж за наследника македонского престола,
за племянника своей матери18. Однако при новом правлении, как
кажется, вовсе не соблюдалась ни осторожность, ни сдержан-
ность, какою при Антиохе I отличалась сирийская политика и ко-
торая только и могла угодить союзному македонскому двору.
Антиох II изображается двумя, правда, не совсем достовер-
ными свидетелями, беспутным пьяницей; он, говорит Филарх, ред-
ко находился в трезвом состоянии и решал дела большею частью
во хмелю; он поручил все управление делами двум братьям, Арис-
ту и Фемисону; родом из Кипра, оба они предавались будто бы с
царем позорной плотской любви19. А Пиферм Эфесский сообща-
ет20, будто этот самый Фемисон велел называть себя Гераклом царя I ё
(D
ГО
О
Антиоха; он появлялся на празднества и жертвоприношения с
львиною шкурою, палицею и скифским луком, принимая в каче-
стве Фемисона-Геракла жертвы от подданных21. Эта картина край- | §
не безобразна, однако ее нельзя признать ложью. Вместе с тем,
известные уже нам предприятия Антиоха II свидетельствуют о «'if*
том, что он отнюдь не предавался растлевающему тунеядству; в
них скорее обнаруживаются признаки беспокойного пылкого
нрава, характер неистовой грубости, который и сказывался в его
чувственном распутстве; впрочем, этот взгляд также не вполне
подтверждается сохранившимися преданиями: облик этого вла-
дыки, как надо полагать, дошел до нас лишь в искаженном виде.
Можно, пожалуй, обратить еще внимание на то, что имя Фемисо-
на принадлежало некогда кипрскому царю; Аристотель посвятил
сочинение царю Фемисону22. Лагиды лишили потомков этого го-
сударя их родового царства; вышеупомянутые оба брата и были,
вероятно, его внуками; если они питали хоть какую-нибудь надеж-
ду на отцовское владычество, то могли добиться его, лишь примк-
нув к сирийскому царю23.
Тотчас же по воцарении Антиоха II24 спокойствие в Малой
Азии было, как кажется, нарушено войною за наследство, озаря-
ющею ясным светом политические отношения. Никомед Вифин-
ский, самым блестящим образом украсивший свою новую столицу
Никомедию, умер; уступая проискам своей второй супруги, он
сделал завещание в пользу несовершеннолетних ее детей, отстра-
нив своих старших сыновей от прежней жены, а заботу об испол-
нении духовной поручил царям Птолемею и Антигону, городам
Византию, Гераклее и Киосу. Однако старший из лишенных на-
следства сыновей Зиела25, прежде уже бежавший к армянскому
царю, узнав о смерти своего отца, поспешил силою добиться сво-
их прав. Он подошел к пределам страны с войском, в котором на-
ходились также галаты толистобои. Вифинцы восстали в пользу
завещания царя; вдовствующую царицу они выдали замуж за бра-
та Никомеда; затем, поддержанные войсками гарантировавших
держав, снарядили армию против Зиела. Последовало несколько
битв с переменным успехом, пока, наконец, при посредстве герак-
леотов, не было заключено соглашение. Нам не известно, в чем
заключались условия; но Зиел с этой поры стал царствовать, а еди-
ноутробного брата его Тивета, которому предназначалось наслед-
ство, встречаем мы впоследствии, по крайней мере, в Македонии26.
Составленное Никомедом завещание ясно обнаруживает дипло-
матические условия той эпохи; Никомед подчинил завещание га-
рантии трех соседних городов, а затем двух великих держав, но
только не дружественных между собою, для того чтобы ни тот,
ни другой из этих враждующих дворов не предложил претенденту
своего пособия; он не привлек также всех трех царей, с тем чтобы,
поддержав простое равенство между гарантирующими державами,
воспрепятствовать образованию большинства; он присоединил
к Египту не Сирию, а Македонию, оттого что Сирия как непо-
средственно соседняя держава представляла менее гарантии в том
отношении, что будет поступать бескорыстно. Едва ли можно
сомневаться в том, что между присланными от гарантирующих
держав войсками находились также египетские и македонские, как
ни кажется это странным27; однако гераклеотский вспомогатель-
ный отряд был самый значительный, галаты же после чересчур для
них скорого окончания войны пустились грабить область Герак-
лею. Говорят, будто гераклеоты содействовали заключению мира;
а Тивет все-таки не остался в крае; впоследствии он заявил притя-
зания на вифинский престол, впрочем, избрал своим местопре-
быванием Македонию. При этом явно обнаруживается разлад
гарантирующих держав. Вследствие мира власть перешла к Зиеле:
все это решительно противоречило тому, что упомянутые пять
держав обязаны были гарантировать по завещанию; а пребыва-
ние Тивета в Македонии служит довольно веским доказательством,
что Антигон признал права молодого принца и не соглашался на
предложенные условия мира; впрочем, без одобрения остальных
великих держав эти условия едва ли можно было счесть достаточ-
но прочными. Признав Зиелу, Египет, конечно, один только достиг
влияния в Вифинии, тогда как по завещанию Македонии следова-
169
ло бы принять такое же участие в деле; в то же время Египет поль-
зовался общими интересами со значительным торговым городом,
с Гераклеей; не подлежит сомнению, что Византии, имея тесные
связи с Гераклеей, присоединился к совместной политике. Птоле-
мей в самом деле сумел расширить свое политическое влияние; к
прежним дружественным связям с Родосом, Пергамом, Понтом
прибавились теперь Вифиния, Гераклея, Византии; Малая Азия все
более и более отчуждалась от сирийской политики.
В той же шестой книге, где Филарх изложил характеристику
царя Антиоха и содержание которой простирается, конечно, до
258 г., находятся два отрывка касательно Византия; в одном из них
сказано, что византийцы господствовали над вифинцами в том же
роде, как спартанцы над илотами28; а в другом, что византийцы
были сластолюбцы и пьяницы; что они жили по корчмам, а свои
собственные жилища со своими женами отдавали внаем инород-
цам; им и во сне не хотелось бы слышать звук боевой трубы29.0 не-
воинственном характере византийцев Филарх, наверное, говорил
по поводу угрожавшей им войны, а именно в связи с событиями,
совершавшимися между 262 и 258 гг. О той же самой борьбе упо-
минается в выписке из Мемноновой истории Гераклеи; там
непосредственно после войны за вифинское наследство сообща-
ется следующее. Когда Антиох вел борьбу с византийцами, то ге-
раклеоты отправили к нему на помощь сорок триер, благодаря
чему война ограничилась одними угрозами30. К осаде, кажется, I ш
было уже приступлено. Византийцы, впрочем, привыкли к набе- -,
гам соседних кельтов; когда их поля покрывались обильными пло- -§
дами, то кельты, вторгаясь, грабили и опустошали край огнем; от | §
них избавлялись только новыми данями31. Однако они не были в
состоянии угрожать сильно укрепленному городу и не пытались
осаждать его. Сохранившееся известие о действительной осаде32
относится, по-видимому, только к вышеупомянутой, предприня-
той Антиохом. Разгульным гражданам Византия была не по нут-
ру утомительная сторожевая служба на стенах, которым угрожал
осаждающий неприятель; по старой привычке они то и дело убе-
гали в питейные заведения, и их полководцу Леониду33 поневоле
пришлось открыть шинки тут же за амбразурами, лишь бы стены
не обнажались окончательно; да и то ему едва удалось удержать
вместе этих бравых республиканцев. Не сопротивление с их сто-
роны, а, скорее, значительное пособие, присланное из Гераклеи,
побудило, вероятно, царя отступить34.
По этому видно, что Антиох II вел войну на европейской зем-
ле; но он подошел к Византию не через Босфор — вифинское цар-
ство и владения Гераклеи преградили ему этот путь; он мог
переправиться в Херсонес лишь через Геллеспонт. На его пути
находились те греческие города Малой Азии, которые благодаря
победе Селевка над Лисимахом перешли к сирийскому царству;
50
однако, преданные затем опустошительному нашествию галатов,
они, удержав за собою автономию вроде как бы имперских горо-
дов, вновь присоединились к дому Селевкидов. Эта свобода не из-
бавила их, впрочем, от хищных набегов, предпринимаемых галатами
то с одной, то с другой стороны. Быстрое расширение египетско-
го влияния в Малой Азии напомнило правительству Антиохии о
том, что Египту стоит только предложить помощь непрестанно
угрожаемым городам, чтобы совершенно отторгнуть их от дер-
жавы, не доставившей им до сих пор никакой охраны. Македония
и Сирия должны были, конечно, опасаться, как бы сильный на море
Египет не овладел смежными с Македонией и господствовавшими
над Геллеспонтом областями. Эти причины, должно быть, и по-
будили сирийское правительство решительно приступить к за-
воеванию Фракии. Принимал ли Антигон участие в этой войне и
насколько? Об этом нигде не упоминается. Однако по поводу си-
рийской войны сохранилось важное известие, а именно, что Анти-
ох осаждал35 фракийский город Кипселы; в его войске находилось
много фракийских аристократов под начальством Тириса и Дро-
михета; щеголяя золотыми цепями и серебряными доспехами, они
вышли на бой. Горожане, увидев в таком наряде своих земляков,
заговоривших с ними на их родном языке, пришли к убеждению,
что служба у Селевкидов должна быть прибыльной, покинули свое
* I оружие и сделались друзьями сильного царя. Итак, Антиох вел тут
д- войну не с галатами; основанное Комонторием царство Тилиса не
ш I простиралось до этих мест. Тут держались фракийцы36; их одно-
племенники были, вероятно, большею частью покорены во время
х
х нашествия кельтов; Дромихетово царство гетов, блестяще воевав-
шее некогда с Лисимахом, исчезло; а Дромихет в Антиоховом вой-
%- ске происходил, вероятно, из того же рода; ограбленные князья и
фракийские «эвпатриды» во время набега галлов покинули роди-
ну; оставшиеся у себя дома частью подчинились галатам, частью
отстаивали свою свободу за стенами укрепленных городов. Теперь
же они охотно присоединились к сирийскому царю, в чьем войске
древние аристократы их родины служили с таким блеском.
Итак, владычество Антиоха распространилось, как видно, от
Кипсел до Византия. Надо полагать, что греческие приморские го-
рода, которые вследствие вифинских распрей не находились в та-
ком враждебном отношении к Сирии, как Византии, а именно
Лисимахия, Энос, Маронея и др., вероятно, также Перинф, прим-
кнули к Антиоху; не подлежит притом сомнению, что война ве-
лась с фракийскими галатами37; иначе едва ли была бы возможна
осада Византия. Во всяком случае Сирия, наконец, решительно
овладела южным фракийским краем до Византийской области с
одной стороны и до македонской границы — с другой.
После Антиоховой войны во Фракии известия почти совсем
покидают нас; за промежуток от шести до восьми лет сохрани-
лись лишь скудные слова довольно позднего писателя: «Он (Анти-
ох) вел очень много войн с Птолемеем II и воевал соединенными
силами Вавилона и Востока; наконец, когда Птолемей по проше-
ствии нескольких лет хотел кончить обременительную войну»
и т. д.38 Вот единственное известие, какое еще сохранилось, и
строгие исследователи признали даже самую войну химерою39.
Однако она подтверждается, хотя и не прямо, свидетельством
современного поэта; в одном из стихотворений Феокрита, сочи-
ненном в честь царя как раз во время войны, когда уже достигну-
ты были самые блестящие успехи40, значится: «Птолемей царствует
в прекрасном, обильном городами Египте; он властвует над Фини-
кией, Аравией, Сирией, Ливией и черною Эфиопией41; ему повину-
ются все памфилы, храбрые киликийцы, ликийцы, войнолюбивые
карийцы, Кикладские острова; его превосходные корабли ходят
по Понту; Птолемей властвует над морем и сушею и над шумными
потоками; много всадников и щитоносцев, одетых в блестящую
броню, обнажают за него свое оружие, тогда как народ в мире и
невозмутимом покое продолжает трудиться; ибо ни одно неприя-
тельское войско не переходило через Нил и не оглашало села не-
истовым криком, никогда враг, выскочив на берег с корабля, не
тревожил египетских стад. Так-то, умея потрясать копьем, Пто-
лемей охраняет обширные земли; как добрый царь он всегда пе-
чется о сохранности отцовского наследия; он и сам приумножил
его»42. Он действительно приумножил его; превосходный египет-
ский флот, сильно угрожавший берегам сирийского царства уже
во время войны с Антиохом Сотером, имел несомненные успехи и
послужил теперь для совершенного завладения приморскими об-
ластями. Хотя эти завоевания простирались недалеко во внутрь
края, однако имелось в виду упрочить их за собою: доказатель-
ством этого служит несомненно относящееся к этой эпохе осно-
вание Береники, Филадельфии, Арсинои в Киликии, Птолемаиды
в Памфилии, Арсинои Патары в Ликии. Птолемей пользовался не
одними только боевыми средствами; «от своих несметных сокро-
вищ», говорит Феокрит43, «он щедро одарял сильных царей, щедро
также города». В места, куда не пробирались его корабли и войска,
проникало его золото; таким образом Тимарх сделался тираном в
Милете44. Но важнее всего было то, что Эфес перешел во власть
Египта; побочный сын царя Птолемей был там начальником45; а
благодаря завоеванию Магнесии Калликратидом Кириенским46,
обеспечивалось также сухопутное сообщение Эфеса с Милетом;
прекрасные долины Каистра и Меандра были теперь доступны еги-
петским войскам, тогда как соседний остров Самос служил самою
надежною стоянкою для флота.
О том, что было сделано со стороны Сирии в эту злополуч-
ную войну, не сохранилось ни малейшего следа. Неужели Антиох
после удачных успехов во Фракии опрометчиво предпринял эту
войну? Неужели он, подобно своему отцу и не умудренный его
опытом, думал посредством нашествия на Египет вновь завладеть
Финикией и Палестиной? Уж не соблазнил ли его предпринятый
Птолемеем поход в Эфиопию на дальний юг? Не побуждало ли
его к нападению все более и более распространявшееся и всюду
его стеснявшее влияние Египта? Он сам был зачинщиком; в чем
убеждаемся не только по характеру Птолемея, но в особенности
также вследствие положения дел; и действительно, прежде чем
довершить завоевание Кирены, для Египта несвоевременно было
бы даже начинать войну, сулившую в конце концов не столь зна-
чительные, но во всяком случае менее верные выгоды, нежели по-
степенное осуществление вышесказанных политических условий.
Однако на все эти вопросы не имеется никакого ответа. На одно
только обстоятельство падает еще слабый луч света. Единствен-
ный, оставшийся дотоле при Сирии значительный город Финикии
Арад принял с этого времени эру47, совпадавшую с 259/258 г.; по-
водом к этому могла служить лишь утвержденная в сказанном году
свобода города. Если бы Птолемей овладел им, то город не до-
бился бы этой свободы; поддерживая дружеские сношения с си-
рийским царем, он впоследствии пользовался весьма выгодными
привилегиями48; надо полагать, что Антиох даровал ему полную
свободу и автономию либо потому, что он не надеялся сохранить
его от египетского флота, либо с тем, чтобы дарованную свободою
возбудить в других финикийских городах такое же стремление
к независимости. Если бы это удалось, то египетскому владыче-
ству был бы нанесен сильный урон, а Сирия, может быть, приоб-
рела бы если не прежнее утраченное владение, то, по крайней мере,
союзников, с помощью которых она могла бы противостоять мор-
ским силам Египта. Мало того, финикийская метрополия все еще
поддерживала тесную, в особенности религиозную связь с Кар-
фагеном; во время осады Тира Александром граждане отправили
туда жен и детей, ожидали оттуда помощи; с тех пор как Агафокл
с армией подступил к воротам Карфагена, эти сношения ожи-
вились еще более. Пуны почтили богов метрополии богатыми
подарками и благочестивым культом; они всячески старались на-
помнить об их племенном и кровном родстве. Теперь же, вслед-
ствие поражения при Милах и нападении на Сардинию и Корсику,
пунические морские силы были потрясены в самой основе, а царь,
под властью которого находилась Финикия, состоял в союзе с
Римом; хотя он в борьбе между обеими державами и сохранял
нейтралитет, но все-таки явно благоволил к римлянам. Не может
быть, чтобы сирийское правительство упустило из виду эти от-
ношения; они, конечно, усиливали надежду возбудить в фини-
кийских городах восстание против Египта, тем более что после
восстановления прежней свободы в Араде исконные, некогда столь
значительные в политическом отношении роды сидонских и тир-
ских негоциантов надеялись впоследствии добиться такой же не-
зависимости.
Эти финикийские отношения, вероятно, немало тяготили Еги-
пет, чем и объясняется заявление святого Иеронима, что Сирий-
ская война была крайне обременительна для Птолемея; но важнее
всего было то, что та же война в другом месте привела к столкно-
вению, которое, несмотря на блестящие успехи в Малой Азии,
было весьма опасным для египетской политики.
Судя по прежней великой войне и по общему строю полити-
ческих условий, надо полагать, что Антигон Македонский не без
тревоги следил за успехами Египта; этот предусмотрительный го-
сударь не мог равнодушно отнестись к исходу вифинских собы-
тий и к распространению возникшего перед началом великой
борьбы египетского влияния в Малой Азии. Как бы то ни было,
желал ли он этой войны или нет, но она была неизбежна, и ему
необходимо было принять в ней решительное участие.
И он принялся за дело с чрезвычайным умением и успехом;
ему удалось поразить египетскую политику в самом слабом ее ме-
сте. Выше мы изложили положение Кирены после смерти Мага,
малолетняя дочь которого была обручена с наследником египет-
ского престола. Теперь же, как значится в единственном сохра-
нившемся известии, царственная вдова, т. е. сирийская Апама,
отправила в Македонию послов, с тем чтобы Деметрию Красиво-
му, брату царя Антиоха, предложить руку дочери и киренское
царство49. Это был тот же Деметрий, который, как мы и прежде
предполагали, несколько лет тому назад в войне против эпирота
Александра спас Македонию. Мать его, египетская Птолемаида,
жила в Сардах как бы в ссылке; подобно брату ее Керавну, она
была обездолена отцом в угоду излюбленному Филадельфу. Теперь
этот молодой Деметрий, наверное, не в качестве авантюриста пред-
принял свадебную поездку; то, что он предпринял ее, прежде чем
Береника достигла совершеннолетия, доказывает уже, что поли-
тические мотивы побудили его поспешить, а то, что Антигон от-
пустил или послал его, тогда как по договору Мага будущность
Береники и Кирены была уже достаточно утверждена, доказыва-
ет, что свадебная поездка была предпринята с враждебною целью
против Египта50. Это была самая смелая диверсия, какую мог сде-
лать Антигон в ущерб Египту, и она вполне удалась. Молодой и
смелый Деметрий не был связан с Египтом никакими воспомина-
ниями, за исключением разве оскорбления, нанесенного его ма-
тери; надежды его могли осуществиться лишь тогда, когда ему
удастся разрушить египетские замыслы; потому-то он и беспоко-
ил Лагида сильнее, нежели престарелый Маг в прежней войне.
Птолемей, как кажется, действительно направил все свои усилия
на Кирену; в упомянутом стихотворении Феокрита к его завоева-
ниям относится также Ливия; а Ливия, как мы уже сообщали, была
завоевана Магом далее Парайтония и удержана им за собою по
мирному договору 263 г.51 Птолемей только после упорной борь-
бы с Деметрием мог овладеть этим краем до киренской границы.
А все-таки Египет, как кажется, не вполне успешно вел эту войну;
по крайней мере, про Деметрия было сказано: «Он захватил всю
Ливию и Кирену и основал там монархическое владычество»52.
Для Египта это была чрезвычайная утрата; уступкою Ливии
он не только лишился надежды на обладание Пентаполем; но ему
угрожали еще более великие потери вследствие того, что там утвер-
дился князь из ненавистного ему дома Антигонидов. Сверх того и
в Греции также нельзя уже было, как в прежние войны, возбудить
восстание против Македонии; те из государств, которые, бывало,
подчинялись египетскому влиянию, стали теперь избегать поли-
тических треволнений. В Эпире не было уже Александра; он был
отравлен53; его жена и сестра Олимпиада управляла в качестве
опекунши своих несовершеннолетних детей Пирра и Птолемея;
ей нечего было и думать о том, чтобы играть какую-нибудь роль
во время этих военных смут; тем более что благодаря лишь тесной
дружбе с Македонией она могла удержать за собою обладание
эпиротским участком Акарнании, на который претендовали уже
этоляне. Спарта оказалась теперь бесполезною для Египта; сын
Арея, воевавшего в Хремонидову войну с Македонией, Акротат
g I пал54 в кровопролитной борьбе с Аристодемом из Мегалополя.
§- Спарта потерпела сильное поражение, понесла незаменимую ут-
m рату людьми; из другого царского дома царем все еще назывался
незначительный Эвдамид II, а в то же время опеку над только ро-
дившимся сыном павшего царя принял на себя Леонид, сын того
Клеонима, который с целью овладеть престолом привел против
Спарты неприятельские войска. Сам Леонид в молодости находил-
ся в Азии при дворе престарелого Селевка и его сатрапов55; в делах
правления он держался политики, противоположной той, какой
следовали Арей и Акротат, прибегая, как кажется, даже к насили-
ям в отношении к тем, кто отстаивал союз с Египтом. Мы не знаем,
не состоит ли в связи с этими событиями в Спарте появление мо-
гучего полководца Ксантиппа в Карфагене в 255 г.56: по прошествии
десяти лет мы опять встретимся, когда он будет в высоком почете,
при дворе египетского царя.
Итак, оба самых значительных государства Греции были те-
перь бесполезны для египетской политики, а с остальными нельзя
было предпринять ничего решительного. В Фессалии находились,
правда, противники Антигона; одним из них считался Теодор из
Ларисы57; однако благодаря родству Поликлета с царским домом
македонское влияние было упрочено в самой даже Ларисе; а имен-
но, дочь его Олимпиада была замужем за Деметрием Красивым, и
ребенок от этого брака, впоследствии царь Антигон Досон, ро-
дившись около 263 г., еще крепче привязал город и область к Ма-
I
кедонии58. Этоляне относились, правда, враждебно к Македонии
и, если вообще подчинялись какому-нибудь внешнему влиянию,
то, скорее всего, в пользу Лагидов; однако их союз не развился
еще до того, чтобы играть политическую роль; они, конечно, мог-
ли в качестве хищников напасть на соседние области; но без со-
действия другого эллинского государства союз их имел для Египта
значение лишь в том отношении, что в случае тяжкой и продол-
жительной войны они могли снабжать египетские войска храб-
рыми наемниками. Коринф находился еще во власти Александра;
в Сикионе все еще царил Абантид; однако он был слишком слаб
для того, чтобы отважиться на великие подвиги; Александр же опять
примирился с Македонией59. Замечательно, наконец, то, что Ан-
тигон в 255 г. вывел стоявший с Хремонидовой войны в афинском
Мусее гарнизон и восстановил, по крайней мере, свободу горо-
да60. Правда, вспыхнувшая война и в Афинах также пробудила еще
раз надежды; упоминается, между прочим, о том, что престаре-
лый Филохор, благочестивый периегет своего родного города, тот
самый, что уже при отце Антигона в качестве прорицателя и гада-
теля отстаивал дело свободы, был по приказу царя предан смерти
за то, что склонялся на сторону Птолемея61. Антигону, конечно,
нетрудно было подавить бессильную попытку нескольких личнос-
тей; потом он вывел свой гарнизон из Мусея, считая свое положе-
ние настолько прочным, что мог выказать великодушие; благодаря
чему по тогдашнему настроению в Греции снискал себе всеобщее
одобрение образованных людей; а может быть, ему хотелось по-
казать грекам, что Македония отнюдь не помышляет о порабоще-
нии Греции, но добивается лишь спокойствия и законного порядка.
Это случилось в тот самый год, когда все еще неважный в отно-
шении внешней политики Ахейский союз изменил свою консти-
туцию, благодаря чему и достиг большей твердости в управлении:
он вместо бывших доселе двух стратегов назначил одного; Марг
Керинейский, доблестный освободитель Буры, был первым еди-
ным главою союза62.
При таких-то обстоятельствах в Греции египетской политике
не удалось возбудить там волнение с целью нанести Македонии
такой же ущерб, какой утрата Кирены причинила Египту. Мы не
знаем, действовали ли в Эгейском море друг против друга флоты
обеих держав; был ли Андрос, находившийся около 251 г. во вла-
сти Македонии, удержан Антигоном после прежней войны или
завоеван лишь теперь; отвоевал ли Птолемей вновь в эту войну
Кикладские острова, о которых упоминается в Феокритовом сти-
хотворении, но не успел отнять один лишь Андрос у противни-
ка63. Во всяком случае Египет понес сильный ущерб на ионическом
берегу. Побочный сын царя Птолемей начальствовал в Эфесе; этот
обширный и важный сам по себе город в руках неприятеля по по-
ложению своему был равно опасен как для сирийской, так и для
македонской державы; он же находился среди ионических горо-
дов, из которых Милет, по крайней мере, при тиране Тимархе
несомненно отпал от Сирии; вследствие всего этого Эфес необ-
ходимо сделался главным пунктом египетского военного плана.
И вот, соединившись с милетским Тимархом, Птолемей отпал от
своего отца64. Это было безумное предприятие: вследствие союза
с милетским тираном мятежник не мог присоединиться к Сирии,
а достичь между обеими воюющими державами независимого по-
ложения можно было лишь путем великих успехов, полной пре-
данности наемников и воодушевленного восстания ионических
городов. Долго ли продержался ослепленный сын царя, неизвест-
но; подкупленные, вероятно, Египтом фракийские наемники в
Эфесе возмутились против него; он со своею любовницею Ире-
ною скрылся в храме Артемиды; там они оба были убиты65. Эфес
остался во власти Египта; это подтверждается известием о назна-
ченном вскоре начальнике города. А что же сталось с Милетом?
Милетцы, как гласит предание, прозвали Антиоха богом (fdeoq) за
то, что он избавил их от тирана Тимарха66. Следовательно, не Егип-
ту удалось победить соучастника мятежного сына и завладеть
Милетом; Антиох мог предупредить египтян, хотя не с тем, чтобы
овладеть городом, но с целью приобрести благодарность его; если
бы он даже мог легко завладеть им, то ему все-таки было выгод-
нее признать самостоятельность города. Сохранилось известие,
что царь Антиох Теос вообще даровал свободу ионическим горо-
дам67; поэтому видно, с какою твердостью сирийское правитель-
ство, жертвуя даже своими притязаниями, поддерживало свою
политику68. И в самом деле, признав автономию городов, оно не
только связало их интересы с сирийской политикой, но, что было
еще важнее, эта свобода ионических городов служила преградою
захватам Египта, так что один только Эфес был занят неприятель-
скими отрядами69.
Это была странная свобода; наши сведения о той эпохе до того
скудны и бестолковы, что возобновление городской свободы в
беспросветной сумятице тогдашних отношений мы готовы, ско-
рее, признать увечьем и отнестись к ней безучастно. Однако не
станем доверять такому предубеждению. Правда, исконная цепкая
твердость первобытной автономии исчезла; но мощный расцвет
материальных интересов, всеобщее, на разнородной деятельности
основанное благосостояние, стремление к более рациональному,
богатому потребностями и наслаждениями развитию, — все это
всегда возбуждало такое состояние, которое разве случайными
внешними обстоятельствами и то лишь не надолго воздерживает-
ся от требования политической независимости. А пример Родоса,
Византия, Гераклеи, Синопа, с которыми эти ионические города
состояли в разнородных сношениях, при их аналогичных внутрен-
них условиях должен был вызвать в них подобное стремление; тем
более что всему этому решительно способствовали господство-
вавшие смуты между державами. Всюду в греческой жизни новый
своеобразный дух не пробуждался, а находился уже в полном
своем развитии. Историческая последовательность цивилизаций
прервалась; все, что совершалось до Александра и до его всемир-
ного завоевания, было непонятно и совершенно чуждо тогдашне-
му поколению, подобно тому как нам чужда эпоха до 1789 г.: как в
религиозном и научном отношении, так точно и в политическом
развивалась вполне новая атмосфера бытия. Правда, этот разла-
гающий переворот далеко еще не везде проник в низшие слои эл-
линского населения; там от прежней веры сохранилось, по крайней
мере, суеверие, от нрава отцов удержалась одна обыденная фор-
ма. Военная служба наемников немало, конечно, содействовала
распространению нивелирующих элементов даже в отдаленные
долины и уединенные общины; однако в обыденных привычках и
в праздничных церемониях, в одежде и диалекте все еще можно
было признать первобытные черты до бесконечности разнород-
ного греческого духа. Это все-таки были лишь обломки и обвет-
шалые остатки того естественного развития, благодаря которому
греческий мир так пышно расцвел и наконец истощился; эпоха
изолированных, свойственных одной лишь такой-то местности,
лишь одному такому-то племени организаций, миновала. Прежде
они составляли существенное условие, как бы принцип эллинской
жизни; а теперь, когда обнаружились формы, приуроченные к
нуждам новых поколений, эти организации поглощались и мало-
помалу уничтожались или проникались новым духом.
Но откуда извлечь эти формы, эти принципы для новых орга-
низаций? Они должны были сложиться из положительных резуль-
татов новой эпохи, из самого свойственного ей духа. Историческое,
естественное государство заменилось рациональным. Философия
с ее несметными оттенками служила настоящим выражением той
эпохи; она распространялась повсюду, учителя и приверженцы ее
находились даже в самых мелких греческих городах; в среде ца-
редворцев и в совещаниях сената, в богатой литературе публици-
стов и в беседах гетер — везде служила она основою; философы
освобождали города от тиранов или приглашались освобожденны-
ми жителями составить новую конституцию. Во всех созиданиях
этой эпохи преобладало стремление на место прежних органи-
чески сложившихся условий, оказавшихся иррациональными и
невыносимыми, когда вымер древний дух, создать более рацио-
нальные, отвечающие требованиям разума условия. Даже там, где
жители, покоряясь живому процессу исторического развития или
вырождения, сохранили, однако, древние учреждения, или где
они, убедившись в превосходстве вымерших уставов, пытались
вновь оживить их, даже там не могли отрешиться от общего пото-
ка эпохи: поддерживая старые начала или восстанавливая их, они
действовали над эпохою, т. е., по современному нам способу вы-
ражения, в смысле либерализма. Общее стремление эпохи было
направлено на создание рациональных конституций; сохранив-
шиеся еще остатки племенных различий, местных прав, родовых
привилегий, привычек и обычаев, — все это устранялось более или
менее насильственным путем; одна лишь противоположность меж-
ду бедными и богатыми оказывала теперь господствующее влияние
на внутреннюю политику городов, и при исключительно рацио-
нальном постижении государственной цели, материальные ин-
тересы получили преобладающее значение. Стоиков в комедии,
хотя лишь в шутку, упрекали в том, что они дурные граждане, так
как своею умеренностью наносят ущерб торговым оборотам70.
Взгляд на жизнь совершенно изменился, так что всеми вообще было
признано известное заявление понтийского Гераклида: благосо-
стояние и роскошь делают людей храбрыми и великодушными,
мужество марафонских победителей находилось в существенной
связи с пышностью и богатством прежней аттической жизни71.
Эпикурейцев изгнали из Крита, из Мессении отнюдь не за рос-
кошную жизнь72; философам вроде Аркесилая, Стратона, Лико-
на, пользовавшимся несомненною славою и многосторонним
влиянием, никто не думал ставить в упрек их богатство и при-
страстие к драгоценностям, их роскошь, их сношение с гетерами
и отроками; их идеи и свободный рационализм — вот чем поддер-
живалось их влияние. Известного рода квиетизм эпикурейцев, их
эгоистическое побуждение предаваться вдали от света покою за-
душевной жизни, их бесстрастная наклонность мириться с дей-
ствительностью, какова бы она ни была, их смутный, безмятежный,
можно сказать эсхатологический образ мыслей, — вот что сдела-
ло их невыносимыми для государственного развития той эпохи, а
вовсе не их безнравственность или мнимый атеизм. Той эпохе от-
вечала, скорее, нивелирующая смелость Пирронова скептицизма,
одушевляющая сила Платоновых идей, строгая энергия логики и
воли согласно учению стоиков.
В Хремонидову войну уже обнаружилось проявление этого
нового духа, которому молодежь везде предавалась с воодушев-
лением; он с каждым десятилетием распространялся все более и
становился энергичнее; в образованной среде всюду проявлялось
стремление к конституции, к самостоятельности, к разумному
существованию. Подъем Ахейского союза, реформаторские попыт-
ки Агиса и благородного Клеомена, новое республиканское прав-
ление в Кирене, демократия в Эпире, затем творческая энергия
Филопемена, наконец, утвержденная республика в Македонии и
возбужденные Гракховым движением идеи в Риме, — вот наиболее
выдающиеся моменты в развитии этого достопамятного века.
Вследствие скудости преданий мы пока в одном лишь Пело-
поннесе с достоверностью можем проследить за этим развитием.
179
В течение великой сирийско-киренайской войны там обнаружились
первые энергические действия этого нового духа; и действительно,
в то самое время Антигон вынужден был возвратить афинянам их
самостоятельность, и Антиох Теос объявил свободу ионических
городов. Мы проследим здесь только за этими начатками, не вы-
ходя за пределы названной выше войны.
В это время Сикион был, может быть, самым блестящим горо-
дом в Пелопоннесе, не тот старый дорический Сикион, в котором
везде еще обнаруживались воспоминания о сильных Орфагори-
дах; лет пятьдесят тому назад Деметрий Полиоркет, изгнав гар-
низон Лагидов, выстроил на верхней террасе, на которой прежде
находилась одна цитадель, великолепный город, разукрасив его
скульптурными и живописными произведениями знаменитых си-
кионских художников. Область города была не очень велика, но
чрезвычайно плодородна, отлично возделана73, покрыта парками
и плодовыми садами, мелкими местечками; он производил значи-
тельную торговлю под охраною двойной стены, проведенной от
нового города вниз к гавани74. Сикионцы отличались богатством,
высоким образованием, художественным вкусом; Сикион в деле
искусства опередил Афины; он был Флоренцией той эпохи. Одна-
ко прежняя мирная стойкость правления исчезла; тираны почти
непрерывно следовали один за другим; все они были большею ча-
стью высокообразованными людьми, любителями искусства и, I ^
если верить словам позднейшего беспристрастного писателя более, S
нежели причастным к делу современникам, достойными всякого
уважения правителями75. То и дело повторявшиеся волнения явно |-§
происходили вследствие возникавшего в среде богатых граждан | §
соперничества; когда новый тиран благодаря насилию или распо-
ложению толпы присваивал себе власть, то засим всякий раз следо-
вали изгнания противников, конфискации имуществ, незаконные
раздачи упраздненных владений, крайне произвольные, по прихо-
ти нового властителя чинимые приговоры самодержавного демо-
са: гражданское право в государстве лишено было всякой основы.
Мы не станем описывать прежнюю историю сикионских ти-
ранов. Когда, наконец, избавились от Клеона76, то старались вос-
становить законное состояние; Тимоклид и Клиний избраны были
в архонты; общественный порядок стал утверждаться под руко-
водством этих всеми уважаемых и влиятельных мужей. Однако
когда в 264 г. Тимоклид умер, то восстал Абантид, сын Пасея, умерт-
вил Клиния, лишил жизни и изгнал многих из его приверженцев.
Семилетнего сына Клиния Арата едва успели спасти благодаря его
тетке, сестре нового властителя; отрока отправили в Аргос к дру-
зьям его отца, где он и вырос под их охраною. Абантид властво-
вал довольно долго. В Сикионе находились Диний и Аристотель,
диалектик; когда они говорили речи на площади, то Абантид при-
сутствовал обыкновенно при этом и принимал участие в прениях.
Во время таких-то упражнений они и их соумышленники убили
тирана. Однако все было тщетно, отец убитого Пасей присвоил
себе власть. Его, в свою очередь, убил Никокл и стал властите-
лем города. Он был деспотичнее прежних тиранов и в течение
четырех месяцев изгнал не менее восьмидесяти граждан. Про-
никнув в область Сикиона, этоляне пытались низвергнуть его и
овладеть богатым городом; Никокл едва успел отразить их. Чем
немощнее казался тиран, тем невыносимее должна была казать-
ся его власть гражданам, тем сильнее возбуждалась надежда не-
сметных изгнанников77.
Как раз в это время Мегалополь подал благой пример. Арис-
тодем властвовал там довольно долго; он одержал блистательную
победу над спартанским царем; отдавая справедливую дань его
заслугам, граждане прозвали его Доблестным. А он все-таки был
тираном; не своекорыстные стремления, не ненависть к его особе,
а именно сами идеи той эпохи подняли против него восстание; во
главе его находились мегалопольцы Экдем и Демофан78. Находясь
в изгнании, они пользовались наставлением великого Аркесилая
и жили с ним вместе. Тиран был убит; над его могилою впослед-
ствии долго еще виднелась земляная насыпь у западных городских
ворот. Таким путем свобода и законный порядок в городе были
восстановлены, а Экдем и Демофан, по словам одного из древних
g I авторов, прежде всех в ту эпоху применившие философию к госу-
§- дарству и его управлению79, сделались с этих пор средоточием
S I политического развития, для достойной оценки которого стоит
только назвать Филопемена, питомца тех освободителей: родив-
шись в начале этого развития, он возмужал вместе с ним.
Надо себе представить, какое впечатление должно было про-
извести в эллинских областях событие, когда величайший из аркад-
ских городов, создание Эпаминонда, подал пример к восстанию;
недаром доблестный Аристодем пал жертвою воодушевлявших
молодую Грецию идей. Уповая на то, что власть принципа прида-
ет силы отразить опасность, город внял лишь призыву к свободе и
самостоятельности, пренебрегая даже сохранившеюся в течение
трех поколений дружбой с Македонией, в которой он нуждался
ради опасного соседства Лаконии. А освободители Мегалополя
были отнюдь не безызвестные люди; напротив, в Афинах, в этом
очаге нового направления, где молодежь со всех концов Греции
собиралась около великих наставников философии, они прослы-
ли интимными друзьями Аркесилая; их подвиг исходил как бы
непосредственно из академического сада, из лона того высшего и
благороднейшего образования, на которое с уважением обраща-
ли взоры цари и народы. Освобождение Мегалополя следовало
признать как бы мировым событием. Сами освободители считали
его лишь почином; они готовились уже к другому подобному пред-
приятию; имелось в виду освободить Сикион.
Z
В Аргосе, в этом городе тиранов, упражняясь в палестре, сло-
жился и окреп Арат, сын Клиния; впечатления его детства, бога-
тый отчий дом, родство с сильнейшими гражданами города,
прежние привычки блестящей пышной жизни, — все это не изгла-
дилось из его памяти в бытность его у богатых друзей в Аргосе;
он в изгнании также пользовался богатством и был в состоянии
содержать многочисленную прислугу, предаваться своему пристра-
стию к живописи. Некоторые из картин он отправил в подарок
любившему искусства египетскому царю80. С ним и с Антигоном
Арат поддерживал дружественную связь, унаследованную от отца.
Взоры изгнанников обратились к Арату; энергичный и мужествен-
ный, он, несмотря на молодость, был исполнен благоразумия. Не-
даром сикионский тиран наблюдал за ним при посредстве своих
шпионов; он опасался, как бы Антигон или Птолемей не восполь-
зовались им как средством захватить власть в Сикионе. И в самом
деле, Арат при их помощи надеялся достичь цели; но Антигон об-
надеживал его одними обещаниями, а Птолемей откладывал дело
в долгий ящик. Однако он все-таки хотел добиться возвращения
на родину.
Знаменательно, что Аристомах Сикионский и Экдем Мегало-
польский были первыми личностями, которым он сообщил о сво-
ем плане. Арат сам не пристал к новым идеям освободителей
Мегалополя; он обратился к их помощи и к изгнанникам лишь тог-
да, когда, как казалось, рушилась надежда на поддержку одного
из царей; эта связь с самого начала придает его плану и его по-
ступкам своеобразный, чуждый его личному характеру оттенок.
Экдем и Аристомах с радостью вняли плану молодого челове-
ка; они сообщили его остальным изгнанникам, которые, однако,
большею частью отговаривали его от сумасбродного предприя-
тия; некоторые из них согласились, впрочем, присоединиться.
Прежде всего, имелось в виду овладеть каким-нибудь надежным
пунктом на сикионской земле, и оттуда уже повести борьбу с ти-
раном. В это время в Аргос прибыл сикионянин; он убежал из
тюрьмы, перебравшись через стену, и сообщил, что в этом месте
легко можно взобраться на нее снаружи. Один из соумышленни-
ков отправился с целью исследовать местность; он вернулся с бла-
гоприятною вестью: действительно влезть на стену легко, однако
по соседству живет садовник, чуткие собаки которого незаметно
не дадут подойти. Решено было отважиться на предприятие. Осто-
рожно добыты были оружие, штурмовые лестницы, у какого-то
вождя вооруженной шайки наняли несколько солдат; каждый из
заговорщиков снарядил по два раба, а Арат даже тридцать; уло-
женные в ящики лестницы были тайком на фуре отосланы из Ар-
госа. Кафисий и с ним двое товарищей отправились вперед, с тем
чтобы в виде усталых путников остановиться на ночь у садовника,
а когда настанет время, то заставить молчать его и собак. Осталь-
ные заговорщики должны были поодиночке выйти из Аргоса. По
этим опасным дорогам никто не обратил внимания на то, что они
были вооружены; условились сойтись у башни Полиглота по до-
роге к Немее. Тут Арат узнал, что в Аргосе находятся лазутчики
Никокла; для того чтобы обмануть их, он появился в палестре и,
окончив там свои упражнения, пригласил к себе молодых людей
на пир, а рабы его на рынке покупали венки и факелы, нанимали
арфисток и флейтисток. Лазутчики смеялись над опасениями сво-
его повелителя: напрасно, думали они, боится он мальчика, ко-
торый в изгнании прокучивает свои деньги на вино и на женщин.
Таким образом Арат обманул их; утром он вышел из города и за-
стал остальных у башни Полигнота. Все немедленно двинулись
далее. Прибыв в Немею, Арат объявил наемникам и рабам о том,
что затевается, и какая награда ожидает их, если предприятие
удастся. При свете полной луны отправились в путь; утром, когда
она закатилась, приблизились к саду, недалеко от стены. Кафи-
сий вышел к ним навстречу: садовника он запер, но собаки разбе-
жались. Опасаясь, как бы их лай не поднял тревоги, некоторые из
заговорщиков хотели вернуться назад; Арату едва удалось обод-
рить их. Экдем и Мнасифей взялись приставить лестницы; в это
время собаки садовника, подняли громкий лай. Стало уже светать;
стоя наверху на лестнице, Экдем услышал, как прозвенел колоколь-
чик утренней стражи; он едва успел скрыться от проходившего мимо
него караула. Когда караул прошел, то Экдем и Мнасифей первые
взошли наверх и велели сказать Арату, чтобы он скорее двигался
вслед за ними. Вблизи стояла башня, у которой лежала большая
собака; она, наконец, тоже начала вторить непрерывавшемуся лаю
снизу; дальние караулы встревожились; они окликнули сторожа
на башне, спрашивая, что там случилось; он ответил, что ничего
не случилось, просто сторожевой колокольчик встревожил собак.
Благодаря такому счастливому стечению обстоятельств люди Ара-
та взошли на стену; наверху их оказалось уже более сорока чело-
век. Время поджимало; петухи уже запели, поселяне отовсюду
начали приходить в город на рынок. Самое трудное предстояло
еще впереди; казармы наемников тирана находились вблизи его
дворца; необходимо было обезоружить их прежде всего. Арат
поспешил туда со своим отрядом; он напал на них внезапно, за-
брал всех в плен, никого не стал убивать; потом поспешил как мож-
но скорее известить своих друзей в городе о своем прибытии; весть
скоро разнеслась по городу. Исполненная радостных ожиданий
толпа народа ранним утром хлынула в театр; там герольд возвес-
тил: Арат, сын Клиния, призывает горожан к свободе; затем весь
народ ринулся ко дворцу тирана и поджег здание. Высоко подняв-
шееся пламя было видно с коринфской цитадели; тиран Александр
хотел уже послать не медля помощь в Сикион; но, по счастью, все
изумительно благоприятствовало предприятию освободителей,
так что и эта опасность миновала. Солдаты и граждане потушили
пожар; тиран бежал, его дворец был разграблен, остальное его
имущество было предоставлено гражданам. Арат освободил Си-
кион, не пролив ни капли крови81. Всякая память о тирании была
уничтожена заодно со знаменитыми, изображавшими ее художе-
ственными произведениями.
Затем тотчас же вернулись изгнанники; их было человек восемь-
десят из кратковременного правления Никокла и около пятисот,
покинувших город при прежних тиранах со времен Деметрия.
Вместе с тем возникли величайшие затруднения по поводу прав
на владения; почти все изгнанники были из числа богатейших
граждан и вернулись теперь бедняками; они стали требовать на-
зад принадлежавшие им прежде дома, сады, поля; а это все за ис-
текшее время успело перейти большею частью в третьи и четвертые
руки; многое было перестроено, разбито на части, изменено. В го-
роде господствовало крайнее возбуждение. Надо было опасать-
ся, как бы Антигон, который не мог равнодушно отнестись к этому
перевороту в Сикионе, не воспользовался недовольством, с тем
чтобы принять под свое покровительство едва освободившийся
город. Надо было во что бы то ни стало поддержать независимость;
необходимо было заручиться близким и бескорыстным пособием
на случай грозящей опасности. Арат побудил город вступить в
Ахейский союз, — это была великая и вполне практическая идея.
Искони прославленный дорический город стал называться ахей-
ским и присоединился к союзному государству, правление кото-
рого вследствие назначения единого стратега как раз в это время
достигло еще более сосредоточенной власти. Союз вышел из тес-
ных пределов ахейского мира, с тем чтобы утвердить самостоя-
тельность находившегося в опасности города и способствовать
беспрепятственному восстановлению в нем законного порядка.
Ограничиваясь до сих пор тесною и скудною областью, союз с
присоединением Сикиона приобрел богатый, блестящий город
с удобною гаванью, с обширным торговым сношением. Важнее все-
го было то, что союз вместе с тем невольно должен был принять
определенное политическое положение; согласно своим учреж-
дениям он избегал всякой войны; однако от его вождей не укры-
лось, что вследствие расширения союза, а еще более вследствие
принципа, какой при этом обнаружился, они вступили во враж-
дебное отношение к той власти, чья политика старалась поддер-
живать прежние эллинские условия и помешать в них образованию
более сильных владычеств.
По той же причине союз должен был подружиться с Египтом,
чему много способствовали прежние отношения Арата к Алексан-
дрии. Арат поступил в отряд ахейских всадников; он подавал сво-
им гражданам доблестный пример повиновения и преданности и
в то же время в совещаниях предлагал великие проекты82, о каких
там и не помышляли доселе. Птолемей, со своей стороны, не пре-
минул вступить в связь, которая обещала принести так много
пользы его интересам в ущерб Македонии. Он послал Арату по-
дарки в двадцать пять талантов, которые последний тотчас же
роздал бедным в городе и для выкупа проданных сикионцев. Вла-
дельческие условия в Сикионе все еще находились в крайне опас-
ном, запутанном состоянии; добиться окончательного успокоения
можно было лишь, если бы удалось добыть достаточно капитала
для удовлетворения всех прав и претензий. Арат сам поехал в Алек-
сандрию; он получил от царя необходимые суммы: сорок талан-
тов он привез с собой, а сто десять были присланы после по частям.
Благородные сограждане, признав его бескорыстие, поручили ему
исключительное и неограниченное распоряжение запутанными
полюбовными сделками. Он, однако, счел за лучшее присоединить
к себе пятнадцать мужей. Это запутанное дело было, наконец,
решено весьма тщательно и осмотрительно. Освободив родной
город, обеспечив его снаружи, успокоив и устроив внутри, благо-
разумный и энергичный молодой человек вполне заслужил всеоб-
щую благодарность83.
Надо полагать, что Арат по возможности быстро предпринял
упомянутую поездку в Александрию, вероятно, еще в самый год
освобождения, оттого что опасно было медлить долее. Корабль,
на котором он отправился в этот путь, был занесен к Андросу; этот
остров находился во власти неприятеля, там стоял гарнизон Анти-
гона. Для того чтобы избегнуть розысков македонского фрурарха,
Арат должен был укрыться в лесу. Ему удалось наконец перейти на
римский корабль, назначенный в Сирию. Высадившись в Карий на
берег, он поехал затем в Александрию84. В этом случае для нас зна-
менательно то, что Андрос считался неприятельским островом, и
фрурарх преследовал Арата как врага. Он сделался врагом Маке-
донии не вследствие освобождения родного города; Антигон сам,
прежде по крайней мере, обещал помочь ему; но связь Сикиона с
ахейцами оказалась враждебным актом против Македонии лишь
тогда, когда Арат явно поддержал интересы египтян.
И все еще длилась война между Египтом, с одной стороны, и
Антиохом Сирийским и Деметрием Киренским — с другой, хотя
почти ничего не говорится при этом о непосредственном вмеша-
тельстве Македонии, все же эта война вследствие захвата Кирены
Деметрием должна была считаться также македоно-египетскою.
Мы видели уже, до какой степени она развилась; Лагиды, правда,
владели южным побережьем Малой Азии, однако Иония за исклю-
чением Эфеса была вновь утрачена и благодаря свободе городов
привязана к сирийским интересам. Сирия и без того уже напряга-
ла все силы в борьбе с Египтом; в то же время северо-восточные
границы ее подвергались крайней опасности, так что утрата об-
ширных областей казалась почти неизбежною85. К тому же, хотя
Птолемей и овладел Ливией, однако важная Кирена оказалась все-
таки незаменимою потерею; великие преимущества, каких достиг
Антигон через то, что его брат овладел Киреною, значительно со-
кратились вследствие неожиданно развившихся усложнений в
Пелопоннесе; нельзя было еще предвидеть, какую пользу извле-
чет из этого Египет. Три великие державы должны были желать
окончить войну, которая всем им причиняла один только ущерб
и от которой следовало ожидать еще больших утрат. Совершив-
шиеся в Кирене события способствовали окончательному исходу.
О Кирене у нас, к сожалению, сохранился только напыщен-
ный отрывок из исторического творения, источником для кото-
рого служил витиеватый Филарх; там сказано: «Надеясь на свою
красоту, прельстившую его тещу, Деметрий с самого начала стал
гордо и небрежно относиться к царской фамилии и солдатам,
вошел в связь с тещею; причем дочь царя стала подозревать Де-
метрия, а граждане и солдаты возненавидели его. Взоры всех об-
ратились к сыну царя Птолемея; было решено убить Деметрия:
убийцы были отправлены в спальню тещи; услышав снаружи го-
лос дочери, она умоляла о своей жизни и пыталась своим телом
оградить любовника; но он был умерщвлен, а Береника вышла за-
муж за сына Птолемея, которому некогда отец назначил ее»86.
Проверить критически это известие нет никакой возможности;
убийство, совершенное Береникою, засвидетельствовано стихами
одного из современных поэтов: едва выйдя из поры детства, ска-
зано там, она уже обнаружила отважное мужество87. Подрастая,
она была свидетельницей любовной связи матери с ее женихом;
ее ненавистью воспользовалась партия людей, которым хотелось
возобновить связь с Египтом.
После убийства молодая царица должна была всецело отдать-
ся покровительству Египта; и в силу заключенного с Магом дого-
вора Птолемей мог потребовать руки и наследия Береники для
преемника своего престола. Однако разве нельзя было ожидать,
что Антигон отомстит за смерть своего брата? Разве в Пентаполе
все желали88 вернуться к египетскому господству? Теперь-то и
настало время, когда один только мир мог повести к цели; Анти-
гону не было никакого желания впутаться в обширные предприя-
тия, тем более что греческая политика поглощала все его внимание;
Птолемей же за обеспеченное обладание Киреною охотно согла-
сился на некоторые уступки Антиоху, который, в свою очередь,
несмотря на продолжительные усилия, не достиг никаких важных
успехов. Таким образом заключен был мир89; но о нем сохранилось
мало положительных известий. В отношении Кирены, вероятно,
признан был прежний договор с Магом; вскоре затем и последо-
вало на самом деле бракосочетание Береники и египетского на-
следника престола90. Было ли что-нибудь решено в отношении
эллинских условий? Была ли признана свобода ахейских союзни-
186
ков? Все это не подлежит, по крайней мере, сомнению, хотя и не
сохранилось никакого следа о подобного рода соглашении. Каса-
тельно владений в Эгейском море также были постановлены опре-
деленные условия, хотя тут все, как кажется, осталось в прежнем
виде91.0 тех условиях, на каких Птолемей сошелся с Сирией, мож-
но отчасти догадаться, сравнив между собою области, какие упо-
минаются в Феокритовом стихотворении и в Адульской надписи.
В ней значится: «Птолемей III, наследуя отцу, получил Египет,
Ливию, Сирию, Финикию, Кипр, потом Ликию, Карию и Киклады».
Кирена не упоминается в этом перечне оттого, что он не наследо-
вал, а приобрел ее, женившись на владелице края. Следовательно,
поименованные в сказанном стихотворении области Киликия и
Памфилия вернулись к Сирии или благодаря удачным войнам, или
вследствие мира. Признанная Сирией свобода Ионии сохранилась
также после мира; позднейшие события, однако, обнаруживают,
что в Эфесе остался египетский гарнизон. При заключении мира,
наконец, решен был брак сирийского царя с дочерью Птолемея
Береникою. Наделив ее блестящим приданым, сам царь проводил
дочь до Пелусия92; в сопровождении большой свиты царевна при-
была в Антиохию, где была сыграна свадьба.
Имел ли Лагид в виду при посредстве этого бракосочетания
добиться по возможности прочного мира? Хотел ли он этим пу-
* I тем привлечь к египетской политике Сирию, которая до сих пор
§- держалась Македонии? Не была ли вследствие передачи Кирены
а I нарушена связь между сирийским царем и Македонией? Не был
ли Антиох оскорблен в лице своей сестры, которую Антигон обя-
X
i зан был защищать в Кирене, явившись мстителем за своего брата?
Необходимо было наметить этот ряд предположений, с тем что-
%* бы обратить внимание на невольно напрашивающуюся заметку.
Вступая в брак с Береникою, Антиох объявил свою жену Лаодику93
незаконною и лишил сыновей ее прав на наследство в государстве94.
Лагид должен был бы помешать этому разводу, если бы тот не тре-
бовал его как условия мира; в этом-то условии и обнаруживается,
по-видимому, вся суть египетской политики: этот брак был пред-
ложен не с целью добиться мира, а, скорее, с тем чтобы возбудить
разлад; а сирийский царь был, вероятно, ослеплен богатым при-
даным, может быть, его побуждали к тому личные отношения или
заботы о его истощенном царстве, — как бы то ни было, но он при-
нял эти роковые условия. Египет поэтому пользовался громадным
преимуществом. Если Береника не встретит никаких препятствий,
то благодаря ей и ее многочисленной свите, благодаря наследни-
ку престола, которого она должна родить, египетское влияние
утвердится в Антиохии. Однако разве Лаодика и ее сыновья95 так
без околичностей и стерпят свое падение и откажутся от закон-
ных прав на царство? Сыновья ее уже подросли; отец и брат Лао-
дики занимали до сих пор самое высокое положение у престола;
им также пришлось уступить влиянию египтянки и ее свиты; с ее
появлением в Антиохии все изменилось. Можно было с уверенно-
стью рассчитывать на опасный разлад в царстве; в таком случае
Египет имел бы полное право вмешаться в виду интересов Берени-
ки и занять в сирийском царстве положение, отвечавшее честолю-
бию Лагидов; в таком случае расшатанное и без того двумя великими
войнами, раскрошенное новыми захватами по всем границам цар-
ство нетрудно было бы окончательно раздробить, и Египет мог
бы захватить ближайшие к нему области, а остальные легко было
бы подчинить влиянию египетской политики.
Наши предположения оправдываются, по крайней мере,
предлежащими известиями и дальнейшим ходом событий. Поче-
му Антиох все-таки заключил мир и согласился на брак? Почему
Македония не пыталась во что бы то ни стало помешать такой опас-
ной комбинации? Мы по скудости наших сведений не в состоянии
ответить на эти вопросы. Нам также вовсе не известно, как во
время великой войны поступали мелкие государства Азии; по су-
ществу дела, их значение должно было возрастать по мере того,
как ослабевала власть Сирии.
Она не только ослабевала вследствие египетской войны, но в
то же время понесла еще значительный ущерб на своих противо-
положных границах.
В первой главе96 упоминалось о том, что в северной Атропате-
не сохранилось чисто персидское владычество, что Индия слилась
воедино при династии Мауриев, что в Персии благодаря древне-
му чистому учению парсов — парсизму, а в Индии — буддизму, к
которому при Ашоке примкнула, наконец, также царская власть,
возможными оказались реакция и национальный подъем, кото-
рые, по существу дела, должны были угрожать эллинизму. Третья
опасность в тех восточных областях предстояла от туранских орд,
которые разбрелись по обширным пустыням нижнего Окса и Як-
сарта и никогда не прекращали своих хищнических набегов на по-
граничные области Согдианы и Бактрианы, Маргианы и Гиркании.
Правда, Селевк Никатор уже привел в порядок отношения к
великому индийскому царству: хотя в странах Инда преобладали
эллинские поселения, однако он уступил их Сандракотту, как ка-
жется, по всему протяжению речной области Инда; судя по индий-
ским известиям, Сирия удержала за собою только Александрию у
Кавказа, служившую складочным местом торговли с Индией и
пунктом, охранявшим проходы в Бактрию вверх по реке Кабулу97.
По некоторым скудным сведениям из греческих преданий оказы-
вается, что Сирия с этих пор находилась в дружеских сношениях
с индийскими владетелями: из Индии присылались подарки ко
двору в Антиохии98, сирийские посольства находились в Палим-
бофре; Амитрохат просил помимо остальных западных продук-
тов прислать ему искусного в словопрениях софита99. Нечего было
опасаться оттуда воинственных вторжений; мысль о войне и за-
воевании была чужда кроткому нраву буддистов в царстве Дарма-
шоки, там царским указом была отменена даже смертная казнь.
При всем том это соседство угрожало опасностью, которая хотя
медленно, но тем не менее противодействовала существенным ин-
тересам эллинизма.
Не подлежит сомнению, что пропаганда буддистского учения
распространилась уже за пределы индийского царства100; буддист-
ские миссионеры не только проникли в Декан и стали уже про-
поведовать учение на Цейлоне; они перешли даже через Инд на
запад. Хотя название местности, в которой китайские буддисты
пятого века отмечают буддистское здание той эпохи, едва ли от-
носится к Кандагару, бывшей Александрии в Арахосии; однако,
судя по надписям того же Ашоки Приядарсина, не подлежит со-
мнению, что в его время буддизм распространился уже по погра-
ничным сатрапиям сирийского царства; «всюду », читаем мы в этих
надписях после перечисления разных индийских стран: «В цар-
стве Антияки в Яване, цари которого суть генералы Антияки, так-
же устроены две лечебницы Богом любимого Приядарсина — одна
для людей, другая для животных, и отовсюду, где бы ни произра-
стали целебные травы, полезные для людей и животных, они по
приказу ввезены и насажены, и всюду, где нет корней и злаков,
они по приказу доставлены и посажены; по дорогам вырыты по
приказу колодцы, насажены деревья на пользу животным и лю-
дям»101. Другая надпись того же царя представляет замечательный
пример этого рвения к распространению буддизма и дипломати-
ческой поддержки, оказанной ему благочестивым царем Ашоком
до отдаленных западных стран102. По мере того как это учение
привлекало приверженцев, оно препятствовало успехам эллиниз-
ма и слиянию восточной национальности с западной под сенью
эллинской цивилизации; а эллинизм и был именно основою сирий-
ского владычества в Азии; национальные реакции оказались для
него опаснее нежели воинственное и политическое преобладание
Лагидов, против которого можно было еще надеяться, по край-
ней мере, на превратность счастья.
В том же смысле сирийскому царству угрожало соседство ат-
ропатенской Мидии, где в полной силе сохранилось чисто персид-
ское владычество с его учением парсов и магов. Мы пока вовсе еще
не знаем, как в остальных иранских областях население парсов
относилось к чужеземному началу, в какой мере допускалась или
ограничивалась старая государственная религия; однако мы ви-
дели, что в эллинистическом мире всюду национальные религии
противятся греческой цивилизации, хотя бы, в сущности, и были
сами по себе изменены, и что они достигают нового высокого зна-
чения; это явление раньше и решительнее, чем где бы то ни было
обнаружилось именно в парсизме благодаря политической осно-
ве в Атропатене. В составленном, правда, в позднейшую эпоху
оглавлении частей Зендавесты несколько раз повторяется: когда
после Александра вновь стали собирать книги Зендавесты, то ока-
зались лишь такие-то и такие-то отрывки103. Несправедливо было
бы предполагать, что слова «после Александра» имеют отноше-
ние к эпохе возникающего владычества Сассанидов; в настоящее
время можно неопровержимо доказать, что священные книги
распространялись уже опять еще задолго до той эпохи. Что же
подало повод собирать их «после Александра»? Они затерялись
не только вследствие громадных побед Александра; порча самой
персидской нации в злополучный век внутреннего распадения цар-
ства, в особенности вторжение чужеземных религий и культов,
как, например, культа Анагиты, — вот вследствие чего стали пре-
небрегать священными книгами, предали забвению те, по крайней
мере, которые не требовались для ежедневного богослужения104,
и вместе с тем запустили высшее образование парсов. Однако по-
зорное падение царства должно было повести к религиозному
возрождению тем еще скорее, что в Атропатене сохранилось, хотя
в скудных размерах, чисто персидское владычетво. Это неболь-
шое царство должно было стать в религиозную, национальную и
политическую оппозицию к эллинизму, и вследствие такого ан-
тагонизма оно обрело и силу и порыв расширить свою область.
Благодаря храбрым племенам Атропатены и обилию всех необ-
ходимых военных потребностей105 в стране, тамошний владетель в
состоянии был воспользоваться всякими затруднениями в сирий-
ской монархии. Вследствие положения края он господствовал над
областями, составлявшими главную связь восточных провинций с
западом царства; все страны от каспийских ворот и до мидийских
Экбатан были открыты для его нашествия. Это вполне подтвер-
ждается следующею единственною заметкою: «Когда сирийский
и мидийский цари вели между собою борьбу», сказано у Стра-
бона, «то племена вне Тавра решились отпасть»106. Страбон го-
ворит это с целью указать, что следствием всего было отпадение
Бактрии; следовательно, борьба между Мидией и Сирией проис-
ходила прежде смерти Антиоха Теоса. Мидийское царство при-
надлежало тогда, вероятно, Артабазану, который лет тридцать
спустя после того, состарившись, предупредил переговорами на-
падение Антиоха Великого. Артабазан считался наиболее опасным
и самым способным династом107; в юности, находясь в расцвете сил,
он, вероятно, довольно смело пользовался расстроенным состоя-
нием сирийского царства. Сохранилось известие, что основанный
Александром близ Par город Гераклея был разрушен, а потом вновь
выстроен под именем Ахаиды108; он назван так в честь основателя,
подобно другому одноименному городу далее на востоке109; это тот
самый Ахай, дочь которого Лаодика была женою Антиоха, затем
отвергнутая им. Судя по дальнейшим событиям на востоке и запа-
де, трудно даже предположить, что эта область была вновь приоб-
ретена и что город опять был основан. Кажется, еще при Антиохе
Сотере неприятельское нашествие проникло до этого западного
входа в каспийские ворота, и я не сомневаюсь, что владычество
Атропатены распространилось уже по ту сторону реки Амарда,
Сефидруда, даже до юго-западных берегов Каспийского моря110.
Попытка Селевка и Антиоха I соединить Каспийское море — оно
называлось Селевковым и Антиоховым — с Понтом была прерва-
на противодействием царства Атропатены; вместе с тем расстро-
илось меркантильное влияние Селевкидов на понтийские торговые
города; эти условия должны были, конечно, повлиять на полити-
ческие отношения сирийского царства в понтийских странах.
Границы царства к востоку от Каспийского моря уже при
Антиохе I также подвергались опасности; варвары пустыни напали
на Александрию при нижнем Марге на окраине степи и разрушили
ее. Антиох Сотер велел выстроить вновь город, больше прежнего и
надежнее, назвав его своим именем; кажется даже, что он лично
посетил эти места. Царство могло бы отразить врагов, если бы
надеялось на верность своих сатрапов. Но «когда сирийский и
индийский цари враждовали между собою », говорит Страбон, «то
наместники Бактрианы взбунтовали этот край, а Эвфидем — всю
соседнюю область. Потом восстал также Аршак », основатель пар-
фянского царства.
Крайне трудно проследить за начатками этих восточных
царств. Страбон мятежного наместника Бактрии называет Дио-
дотом111; и эта форма имени, по словам нумизматов, подтвержда-
ется золотою монетою царя, которая по облику вполне отвечает
серебряной монете Антиоха II и на которой лишь имя Антиоха
изменено в Диодота112; этим обстоятельством несомненно под-
тверждается выведенное из других основ предположение, что
Бактрия возмутилась уже при Антиохе И113.
Это предположение основано на том, что, по свидетельству
Страбона, возмущение Диодота предшествовало отпадению пар-
фян, которое, по всей вероятности, следует отнести к 250 г.
Касательно основания парфянского царства Страбон уже
пользовался разноречивыми известиями; это служит верным до-
казательством того, что самые начатки были незначительны. Он
говорит, что после мятежа в Бактрии Аршак, скиф по происхож-
дению, с даями, называвшииися парнами114 и кочевавшими вдоль
Оха, ворвался в Парфию и подчинил ее себе. Сначала он был слаб
и вел постоянные войны с народом, у которого отнял страну, тому
же подверглись его непосредственные наследники. Потом Стра-
бон прибавляет: «Некоторые были того мнения, что эти парны суть
отпрыски племени даев, обитавших над Меотидою, и что от них
ведет свой род Аршак, другие же считают его бактрийцем115, кото-
рый, желая избежать возраставшего могущества Диодота, побудил
191
Парфию отложиться». Страбон в своем историческом творении
писал подробнее о парфянах, а потому его показание опирается,
надо полагать, на точное исследование116; а его вышеприведенная,
чересчур краткая заметка по поводу двух разноречивых известий
объясняется, вероятно, таким образом: Аршак со своею кочую-
щею ордою отошел от берегов Оха, оттого что нельзя уже было
более с выгодою нападать на бактрийские границы Диодота, обо-
ронявшего теперь свое собственное царство строже, нежели тогда,
когда оно было лишь его сатрапией. Страбон в другом месте вот
как описывает образ жизни этих кочевников117: «Из даев апарны
ближе всех прочих прилегают к Гиркании и к тамошнему морю,
а остальные народы простираются до страны, лежащей против
Арии. Между ними, Гирканией и Парфией до Арии лежит об-
ширная и безводная пустыня; проходя по ней дальними путями,
они вторглись в Гирканию, Нисаю и в равнины парфян. Эти на-
роды согласились затем платить дань; дань состояла в том, что
апарнам разрешалось в определенные времена вторгаться в край
и уносить с собой добычу. Они, однако, нападали на страну, во-
преки договору, а потому возникала война; затем опять наступа-
ли соглашения и снова велись войны; таков образ жизни и прочих
кочевников: они то и дело нападают на соседей, затем опять за-
ключают с ними договор»118. На тех же преданиях основаны, ве-
роятно, показания Юстина; в своем витиеватом изложении он
грешит скорее в фактическом, нежели в характеристическом от- I S
ношении. Юстин говорит, что по отпадении Бактрии «против _j
Македонии восстали все восточные народы »; Аршак, человек не- ■§
известного происхождения, но испытанной храбрости, промыш- | §
ляя грабежом и набегами, вторгся с ордою разбойников в страну
парфян, победил наместника Андрагора и, лишив его жизни, за- * *%*
хватил власть в свои руки и т. д.119
Иначе гласит известие, которое Арриан поместил в свою Пар-
фянскую историю: «Парфяне относятся к скифскому племени;
подчинившись вместе -с покоренными персами македонянам, они
отпали от них по следующей причине: было двое братьев Аршаки-
дов, Аршак и Тиридат — преемники Фриапита120; назначенный
царем Антиохом Теосом сатрап этого края Ферекл хотел учинить
насилие одному из братьев; они не стерпели позора и убили зло-
дея; затем, сообщив пятерым соумышленникам свой план, братья
побудили народ отложиться от македонян и захватили власть».
Другой летописец также ссылается на Арриана, называя злодея
Агафоклом, эпархом Персиды, при котором оба брата управляли
бактрийской сатрапией121.
Мы, пожалуй, были бы в состоянии согласовать между собою
эти разноречивые известия, если бы имена Андрагор, Ферекл, Ага-
фокл не доказывали, что о происхождении парфян слагались со-
вершенно разнородные предания.
о
Древнее известие гласит, что в незапамятные времена, когда
Сесострис овладел всею Азией, он переселил скифские племена в
край, прозванный по их имени, а прозвище парфяне — не что иное,
как перевод на персидский язык имени скифов122. Первоначаль-
ное известие о парфянах встречается на надписи в Биситуне; царь
Дарий заявляет там, что при всеобщем восстании, возникшем после
смерти Камбиза, парфяне (Parthwa) и гирканцы также возмути-
лись и соединились с индийским узурпатором Фравартом, что его
отец, Вистаспа, был в Парфии и разбил мятежников.
Северные окраины Ирана до настоящего времени подвергают-
ся набегам беспокойных орд Турана; оттуда происходила большая
часть илатов, кочующих орд, из которых состояла главная сила пер-
сидской армии, вследствие чего их и называли военными племена-
ми персидского шаха. Те древние парфяне были, надо полагать, из
того же племени; в Иране все еще повторяется отчасти переход ко-
чевников в оседлые племена, и, судя по священным преданиям пар-
сов, той же метаморфозе обязано своим происхождением чистое
племя в иранской стране; они также в качестве кочевников из севе-
ро-восточных областей прибыли, наконец, на иранскую возвышен-
ность, с тем чтобы здесь поселиться и, преобразовавшись таким
путем, положить основание новому образу жизни. Парфяне, как
решительно подтверждается, по ту сторону гор (Хорасана) назы-
0 | ваются кочевниками; упомянутые народы пустыни сродни этим
§■ парфянам, страна которых Парфия была одним из первых завоева-
ш | ний царства Аршакидов. Касательно родства их языков на основа-
нии сведений древних писателей нельзя составить себе никакого
предположения; разве что словам Юстина, «язык их занимает
середину между мидийским и скифским и состоит из смешения
обоих» приписать лингвистическую точность, какой нельзя тре-
бовать от древней филологии123. Не подлежит сомнению лишь то,
что Парфия не только после вторжения Аршакидов с их парна-
ми стала парфянскою, а, напротив, она искони была такою.
Говорят, что Аршак, или Ашк, как его зовут на Востоке, преж-
де всего объявил себя царем в городе Азааке в области Астабене,
находившейся на окраине пустыни и недалеко от Каспийского
моря124. Почти тотчас же затем была, вероятно, завоевана лежав-
шая далее к востоку Парфонисса; там с этой поры находились
могилы «Ашканиев». Итак, они прежде всего водворились на окра-
ине пустыни125, перекочевав туда с Оха126, в то время как Диодот в
Бактрии объявил себя независимым. Братья Аршак и Тиридат
были, может быть, бактрианами или бежавшими из отечества пар-
фяне благородного происхождения; может быть, личная ссора с
парфянским наместником или с эпархом верхних провинций по-
будила их спастись бегством к племенам пустыни; как бы то ни
было, но они приступили к своему предприятию тогда, когда им
угрожало владычество Диодота в Бактрии127; они успели возбу-
к
X
дить мятеж в Парфии, вскоре захватили всю область и в Гекатом-
пиле сделали первую резиденцию Аршакидов.
Благодаря этим фактам выясняются также и хронологические
затруднения. Юстин, к сожалению, затемнил важнейшие пункты
фразами. Рассказав о парфянах в эпоху Александра и диадохов,
он говорит: «Потом они подчинились Селевку Никатору, а вско-
ре после того Антиоху и наследникам его, от правнука которого,
Селевка, они отпали в первую пуническую войну во время консуль-
ства Вульсона Манлия и Аттилия Регула128. Это отпадение про-
шло безнаказанно благодаря тому, что оба царских брата, Селевк
и Антиох, оспаривая друг у друга царство, не стали преследовать
мятежников. В то же время отпал также Теодот, наместник тыся-
чи бактрийских городов, и провозгласил себя царем. Следуя это-
му примеру, от Македонии отделялись народы всего Востока; в
эту эпоху Аршак и т. д.». Тут набралось много странных извес-
тий. Отпадение парфян, вероятно, области Парфии при ее сатра-
пе, предшествует тут оккупации Аршака, о чем Страбон ничего не
ведает; лишь вследствие этого парфянского мятежа восстал так-
же и наместник «тысячи бактрийских городов»; слово «тысячи»
является здесь преждевременным лет на пятьдесят129; а к Селевку,
наследнику Антиоха Теоса, бывшего, по крайней мере, правнуком
Селевка Никатора, не подходит ни один из годов, которые можно
было бы отнести к обоим консулам, ни 256, ни 250. Несмотря на
сказанное, это показание надо признать достоверным именно по-
тому, что оно так положительно и характеристично. Не тогда ли
Аршак принял царский титул в Азааке? Лишь несколько лет спус-
тя после того, когда египетский царь почти уничтожил сирийское
царство130, когда оба царственных брата оспаривали друг у друга
остатки его, когда Селевк вел неудачную борьбу с галатами в Ма-
лой Азии, — лишь тогда можно было предпринять завоевание Пар-
фии, а вскоре затем Гиркании и дальнейших соседних областей.
Сомнительный выбор между двумя годами, 256 и 250, разрешается,
наконец, показанием хронографов, относящих начало парфянско-
го царства к 3-му году 132-й Олимпиады, т. е. к 250/249131; этим по-
казанием подтверждается в то же время, что Юстин уже, или,
вернее, Трог-Помпей, или, скорее, еще более древние авторы, его
источники, в особенности Посидоний, признали этот год за нача-
ло Аршакидов132.
Спрашивается еще, не пустая ли фраза приведена в заявлении
Юстина, будто по отпадении Бактрии «все народы Востока» от-
делились от Македонии. Юстин только в общих чертах указал на
эпоху борьбы между двумя сыновьями Антиоха Теоса, а потому
это время можно отложить лет на десять или более до того, как
отпала Бактрия.
Страбон подтверждает уже, что в странах вблизи Бактрии
Эвфидем из Магнесии добился независимости; мы встретимся с
7 История эллинизма
ним опять в 205 г. как с царем в областях, которыми некогда об-
ладали Диодот, а после него сын его Диодот II133. Может быть,
Эвфидем был сатрапом в Согдиане134, в тех самых краях, куда Де-
модам из Милета в качестве стратега при Антиохе I перенес войну
за Яксарт135.
На основании простого заявления Юстина и ввиду молчания
Страбона мы не рискнули бы исследовать дело подробнее, если б
в одной из заимствованных у Ариана заметок название Агафокла
не напомнило нам о том, что на относящихся к этому краю и к
этой эпохе греческих тетрадрахмах, драхмах и медных монетах
именуется царь Агафокл. Эти монеты превосходной отделки: на
лицевой стороне изображен лик царя, увенчанного вместо диаде-
мы венком из плюща; на обороте — барс, который представлен то
на ходу, то держащим в передней лапе кисть винограда. На дру-
гих монетах изображен Зевс во весь рост, на вытянутой правой
руке он держит трехглавую Артемиду с двумя поднятыми фа-
келами, а в левой — (македонское) копье. В Артемиде признали
известную персидскую богиню Афродиту Анаитиду136; для пояс-
нения Дионисовых символов пришлось бы предположить, что вла-
дычество Агафокла простиралось также на Карманию, на эту
изобилующую виноградом соседнюю область Персии, через ко-
торую Александр возвращался некогда в вакхической процессии.
В таком случае следовало бы предположить, что в той поздней
ссылке на Арриана имя Агафокла ошибочно приведено в непо-
средственную связь с восстанием Аршака и что учиненное пар-
фянскими братьями убийство Ферекла напрасно отнесено к его
имени; надо полагать, что он был важен для современных отно-
шений, и потому Арриан, кстати, и упомянул о нем; наконец, что
этот эпарх верхних сатрапий действительно добился независимо-
сти и утвердился, по крайней мере, в восточных сатрапиях, в Ара-
хосии, Дрангиане, Гедросии, Кармании. Однако другими монетами
того же царя, как кажется, разбиваются все подобные шаткие
предположения; на одной стороне этих четырехугольных медных
монет изображен барс на ходу с греческою надписью царя Агафок-
ла, на другой — находится женская, совсем по-индийски вроде
баядер одетая, как бы танцующая фигура, а возле нее переделан-
ное по-индийски имя царя Агафуклайеса; буквы при этом вполне
отвечают надписям Ашоки137. Сверх того, имеются другие углова-
тые медные монеты с изображением ступы на одной, решетчатого
четырехугольника на другой стороне с именем царя, начертанным
арийским шрифтом: Агафукрайаса138.
Вопрос становится еще запутаннее вследствие другого обсто-
ятельства, причем мы в то же время узнаем о четвертом узурпато-
ре в тех краях.
Сохранились прекрасные тетрадрахмы, на лицевой стороне
которых изображен царский лик с македонскою кавсией и диаде-
195
мою, а на обороте — Посейдон с трезубцем в правой, пальмовою
веткою в левой руке, и с надписью «царя Антимаха Теоса». Стран-
но, что на других тетрадрахмах того же Антимаха Теоса он назы-
вается только «правителем », тогда как чеканка совершенно походит
на тетрадрахмы Диодота, с надписью вокруг увенчанной головы
царя «Диодота Сотера»139. Следовательно, Диодот был, так ска-
зать, сюзерен, а монета вассального царя изображает его, поло-
жившего почин к освобождению стран, «Спасителем»140.
Замечательно, что от того Агафокла сохранились три типа
тетрадрахм, на которых он таким же образом изображается не
царем, а «правителем». На одном из этих типов на лицевой сто-
роне вокруг увенчанной головы стоит надпись «Диодота Соте-
ра», на другом— значится другой облик с надписью «Антиоха
Никатора»; на оборотной стороне изображен Зевс Промахос, на
третьем типе голова царя окружена надписью «Эвфидема Тео-
са», а на обороте — сидящий Геркулес с палицею; на всех трех
типах на обороте надпись называет «правителя Агафокла Спра-
ведливым»141.
По типу монет нельзя с достоверностью решить, изображал
ли себя Агафокл сперва царем, а потом лишь «правителем» или
наоборот; и действительно, облик на монетах с именем царя с виду
моложав, а потому легко может ввести в заблуждение. Во всяком
случае надо полагать, что тетрадрахмы, приписывающие Диодо-
ту, Эвфидему и Антиоху высший титул, относятся к различным S
эпохам. Правда, из Селевкидов ни один официально не назывался
Антиохом Никатором; однако у одного из авторов встречается |-§
намек на то, что так прозывался Антиох III142. §
Мы увидим впоследствии, что Эвфидем после 235 г. устранил
из Бактрии Диодотидов, что Антиох III около 212-205 гг. вел войну * 5-
с Эвфидемом, оставил ему царский сан, потом прошел по восточ-
ным сатрапиям и восстановил свою власть в качестве «Великого
царя». Агафокл также подчинился его владычеству, о чем свиде-
тельствуют его тетрадрахмы.
Итак, в восточных областях цари Диодот, Эвфидем, Антимах
и Агафокл появлялись один рядом с другим, а иногда трое по-
следних под владычеством первого; потому Юстин и был отчасти
вправе заявить, что после восстания Диодота все народы Востока
отпали от Селевкидов; вместе с тем понятным становится заявле-
ние Страбона о том, что расширение бактрийского владычества
при Диодоте побудило Аршака возмутить парфян.
Подлежит, впрочем, сомнению, имели ли мы право отнести
Согдиану к Эвфидему из Магнесии; Антимах царствовал, вероят-
но, в области, где употреблялась арианская письменность, Ага-
фокл же — в областях, где пользовались арианскою и индийскою
письменностями. Находится ли изображенный на вышеупомяну-
тых монетах Агафокл в связи с Агафоклом, о котором в качестве
персидского эпарха упоминается в весьма непонятных, конечно,
отношениях к Парфии? Лежала ли его область с индийскою пись-
менностью на нижнем Инде, а с арианскою — в Арахосии и Гедро-
сии, — все это в настоящее время нельзя еще решить по монетам143.
Великое индийское царство Ашоки после смерти его (226 г.) все
более и более разрушалось, благодаря чему новые эллинистичес-
кие царства на Востоке в состоянии были расшириться и вскоре
затем проникнуть далеко за Инд.
Судя по одной из тетрадрахмов Агафокла, оказывается, что
Эвфидем, откуда бы он ни происходил, был во времена Антиоха III
сильным царем на Востоке. Не подлежит сомнению, что он добился
этого сильного владычества, устранив Диодотидов. В географи-
ческих очерках Индии Кл. Птолемей приводит при Гидаспе город
Сагалу, который называется также Эвфидемией144. Итак, царство
Эвфидема простиралось до Гидаспа или, по крайней мере, там в
честь его назывались города.
С этими событиями на дальнем востоке открылась новая фаза
в развитии эллинистического мира. Приведем здесь мнение, ка-
кое сложилось о нем у древних аравийских историков; это мнение
знаменательно также в отношении к тем идеям, какие составились
на Востоке о царстве Александра.
Аль-Бируни говорит145: «Третий отдел истории персов про-
стирается от Александра до появления Ардешира, сына Бабека
(итак, до начала Сас-санидов); в эту эпоху жили Молук-ат-тава'иф,
т. е. цари, которых Александр в своих владениях назначил царя-
ми: ни один из них не подчинялся другому. В ту же самую эпоху
верховным владычеством пользовались ашканцы; это были те, что
господствовали над Ираком и краем Маха, гористою страною
(аль-Гибаль). Они относились к одной из (династий) Молук-ат-
тава'иф; остальные той же династии не подчинялись им, но лишь
высоко уважали их, оттого что они принадлежали к персидскому
царскому дому; и в самом деле, первый из них Ашк-бин-Ашкан
с почетным званием Афгур-шаха146 был сыном Балаша (Валагаза),
сына Сабура (Шахпура), сына Ашкана, сына (следует неразбор-
чивое имя), сына Сиявуша, сына Каикауса».
Итак, эта генеалогия доводит род парфянских царей до Сиа-
варсны, «до прекраснейшего из сыновей Кава-Уса», до мифичес-
кой богатырской эпохи Ирана; и династия их считается одной из
тех, какие возникли из царства Александра.
ГЛАВА ВТОРАЯ
247-239 гг.
Мирное состояние. — Смерть Антиоха II. — Убийство
Береники. — Третья Сирийская война; распадение сирийского
царства Селевкидов; Антиох Гиеракс в Малой Азии; война между
братьями; мир 239 г. — Свобода в Кирене. — Македоно-египетская
война; Родос против Египта. — Ахейский союз. — Первая
стратегия Арата. — Взятие Коринфа. — Реформы Агиса. —
Агис и Арат против Антигона и македонян. — Смерть Агиса. —
Мир в Греции. — Состояние Греции. — Смерть Антигона.
Сорок лет не прошло еще с тех пор, как владычество Лагидов
ограничивалось Египтом, Кипром и Киреною, а сирийское цар-
ство простиралось от Инда до Геллеспонта. Положение обоих
царств сильно изменилось после того, как Антиох Теос заключил
мир и вступил в родство с престарелым Птолемеем Филадельфом.
Сложившееся вокруг крепкого ядра владычество Лагидов рас-
ширялось как бы концентрическими кругами наружу, начало раз-
вивать свое энергическое превосходство, тогда как обширное
сирийское царство, лишенное центра тяжести и единообразного
типа, тщетно пыталось удержать за собою не тяготевшие к средо-
точию окраины. Правда, персы в течение почти двух столетий об-
ладали такими же обширными областями; однако они в состоянии
были владычествовать благодаря лишь немощи покоренных горо-
дов, отсутствию значительных соперников, суровой простоте их
патриархального племенного строя, несмотря даже на порчу нра-
вов. Царство Селевкидов не пользовалось ни одним из этих усло-
вий. В македоно-греческом мире совершенно исчезла та стихийная
естественная связь, на которую им надлежало опереться. Вслед-
ствие соприкосновения с греческим миром азиатские народы
встрепенулись, и их исконные туземные инстинкты возбудили ре-
акцию благодаря частью собственным усилиям, частью развивше-
муся местному эллинизму; а вследствие грозного соперничества
Египта, наконец, все эти зародыши внутреннего разложения раз-
вились быстро и почти беспрепятственно. Царство в том виде, как
основал его Селевк, не могло удержаться; история нескончаемых
войн осудила такую политическую невозможность, пока, наконец,
по прошествии почти трех десятилетий, государство не было огра-
ничено более тесными, но зато более естественными пределами,
вследствие чего в нем и начали развиваться и энергия и деятельность.
Мир на короткий лишь срок прекратил борьбу между Лаги-
дами и Селевкидами. Антиох, казалось, и не думал воспользоваться
этим временем с целью отвоевать утраченный Восток; если он в
эту пору не предавался распутству и пьянству, в котором его об-
виняли, то обратил, вероятно, свое внимание на западные страны;
он, по крайней мере, находился в Малой Азии в то время, когда
совершилась страшная драма его кончины.
Сохранился старый анекдот, будто Птолемей выдал сто та-
лантов награды знаменитому врачу Эрасистрату за то, что после-
днему удалось спасти царя Антиоха от опасной болезни1. Может
быть, при этом не только имелось в виду выказать щедрость еги-
петского царства; вероятно, это исцеление избавило Птолемея от
тяжких забот, какие слагались для него обстоятельствами. Его
дочь прибыла в Антиохию с блестящею свитою; Лаодика и ее дети
были удалены; благодаря проникшему с нею в край египетскому
влиянию, Береника успела изгнать брата Лаодики Андромаха, отца
ее Ахая и друзей их, пользовавшихся до сих пор сильным значе-
нием при дворе; двор поневоле совершенно изменился, точно так
же как и политика Сирии; и чем быстрее совершалась эта переме-
на, тем резче выступила вражда только что низвергнутой партии
с изгнанною царицей во главе против торжествовавших египетских
сторонников. Последние на самом деле не пользовались никакой
естественной опорой в крае; они поневоле казались чуждыми и
насильственно навязанными; так что смерть Антиоха возбудила
бы реакцию, которая подвергла бы опасности Беренику и рож-
денного ею сына.
Опасность миновала лишь ненадолго; она возобновилась в
таком виде, что египетская партия не была к тому подготовлена.
Царь отправился в Малую Азию; Береника, как кажется, осталась
с ребенком в Антиохии; свита Антиоха состояла, конечно, из лю-
дей египетской партии; из окружавших его случайно сохранилось
имя Софрона, начальника Эфеса2. Антиох, однако, был теперь
удален от Береники и от опутывавших его в столице влияний. Про-
будились ли в нем старые привязанности, воспользовались ли лич-
ности, окружавшие в прежнее время царя, доступом и влиянием
на него, — как бы то ни было, он призвал к своему двору Лаодику
и ее детей.
Лаодика явилась, решившись на самое гнусное преступление.
Она не могла не предвидеть, что египетский царь во что бы то ни
стало вступится за права своей дочери и своего внука. А разве в
таком случае можно было поручиться за то, что предавший ее и
ее детей Антиох окажется тверже прежнего или будет в состоя-
нии охранить возвратившихся? Такими доводами она оправды-
вала свою жажду мести. Антиох умер от отравы3; на одре смерти
он приказал возложить диадему на голову сына Лаодики Селев-
ка. Теперь царица могла дать полный простор своей мести; пер-
выми жертвами пали сопровождавшие царя друзья Береники;
наперсницей и пособницей в кровавой интриге была Даная, дочь
Леонтии, знаменитой приятельницы и ученицы Эпикура. Данае
в память прежних отношений хотелось спасти одного только Со-
фрона; она передала ему замысел царицы на его жизнь, и Софрон
спасся бегством в Эфесе. Это погубило Данаю; царица велела сбро-
сить ее со скалы; тут перед лицом смерти она сказала, вероятно,
приписанные ей древним писателем слова: «Толпа в полном праве
пренебрегать богами: я хотела спасти человека, с которым свела
меня судьба, и вот какую участь боги присудили мне за это; а убив-
шая своего мужа Лаодика достигла новых почестей и власти».
В то же время в Антиохии нанесен был удар, какого жаждала
месть Лаодики; при самом дворе, среди царских телохранителей
нашла она усердные орудия своего злодейского замысла; они
убили сына Береники. При этой ужасной вести мать кинулась в
колесницу и с оружием в руках преследовала убийцу; она про-
махнулась копьем, но камнем повергла его ниц, погнала лошадей
по его трупу, и не убоясь толпы преградивших ей путь воинов,
помчалась к дому, где, как она думала, спрятан был труп ребенка.
Народ, конечно, вступился за несчастную мать, назначил ей гал-
льских наемников в телохранители и самыми священными клят-
вами подтвердил договор, в силу которого Береника по совету
Аристарха, ее лейб-медика, скрылась в замках Дафны. Однако ни
клятвы, ни святыня Аполлонова храма не защитили ее; привержен-
цы Лаодики успели туда проникнуть и осадили замок. Наконец они
вторглись внутрь; окружавшие ее женщины и тут еще пытались
спасти жизнь своей царицы, но Береника была убита, и вместе с
нею пали многие из служанок4.
Птолемей Филадельф еще дожил до ужасного конца своей
дочери5; он умер как раз в это время, с тем чтобы вместе с влады-
чеством над Египтом передать месть в более молодые и сильные
руки. Только что женившись на киренейской Беренике, наслед-
ник его повел египетские войска против Сирии, а молодая царица
обещала пожертвовать богам свои волосы, если муж ее вернется
победителем6.
Когда совершаются великие, во всех отношениях решитель-
ные события, то для историка не может быть более тягостного
чувства, как видеть перед собою один лишь мертвый пробел в пре-
даниях или в ничтожных и извращенных известиях при сознании,
что ему остается лишь следовать за блуждающими огнями. Война
или ряд войн, о которых предстоит теперь речь, составляет в из-
вестном отношении кульминационную точку в политике эллинис-
тических великих держав; но предания до того скудны, неверны и
сбивчивы, что поневоле отчаиваешься указать хоть на какой-ни-
будь след в связи событий. Попытаемся по возможности точнее
исследовать некоторые сохранившиеся факты.
Великая драма началась, говорят, с возмущения городов в
Азии: узнав, что Беренике с ребенком грозит опасность, они сна-
2001
рядили большой флот, с тем чтобы отправить его к ней на помощь;
однако, прежде чем он успел подойти, уже совершилось двойное
убийство; затем они обратились к египетскому царю7. Но какие
именно города в Азии? Смирна осталась верна Селевку8; не надея-
лись ли другие ионические города, примкнув к Египту, обеспечить
за собою только что добытую ими свободу? Однако Софрон спас-
ся бегством в Эфес; Эфес, а также и Самос, Кос, Кария и Ликия,
находились под египетским владычеством; а потому, если они сна-
рядились, то это нельзя считать отпадением от сирийских царей.
На сирийском берегу осталась верна Орфозия, Арад тоже при-
нял сторону Селевка. Остальные здешние города, потом еще ле-
жавшие недалеко от Антиохии, в Киликии, Ликии, Памфилии,
которыми уже обладал Птолемей Филадельф некоторое время,
могли скоро получить вести оттуда и послать помощь; они-то, ве-
роятно, и восстали и присоединились затем к египетскому царю.
При вести об угрожающей Беренике опасности египетские
сухопутные и морские силы были, конечно, тотчас же снаряже-
ны. Молодой Селевк также поспешил через Тавр, с тем чтобы обо-
ронять наиболее угрожаемые места9. Но с каким настроением
встретили его там! Его мать, а может быть, и он вместе с нею счи-
тались убийцами отца, убийцами царевны и наследника престо-
ла. Он сам явился узурпатором; недаром шел слух, будто вовсе
* не отец его, умирая, передал ему наследие, а напротив, какой-то
д- похожий на царя негодяй был Лаодикою помещен на ложе царя
а и говорил за него все, что велела убийца. Из Дафны распростра-
2 нился слух, будто Береника еще жива и оправляется от ран10.
i Селевкия при устье Оронта была уже или взята Птолемеем, или
добровольно сдалась ему11; он, вероятно, без сопротивления до-
« Ъ шел до Антиохии; говорили, будто сын Береники, законный на-
следник престола, также еще жив; от имени последнего и его
матери писались приказы сатрапам и городам; а для того чтобы
придать им законную силу, явился с армией мощный египетский
царь; так что никому не было охоты восстать за спасавшегося
бегством узурпатора, за сына страшной Лаодики.
Если египетская политика имела в виду посредством брака
Береники расстроить согласие в сирийском царском доме, то ей
чересчур скоро удалось достичь цели, хотя не обошлось, конечно,
без крайне скорбных жертв. Когда царство лишилось законного
главы, то Лагид тотчас же развернул на суше и на море все пре-
восходство своих боевых сил, с тем чтобы сорвать так неожидан-
но скоро созревший плод политики своего отца. Он имел в виду
разгромить все царство, и это ему, как кажется, удалось без вся-
кого труда. Известия о подробностях его чудесного похода про-
пали бесследно; о результате, впрочем, гласит Адульская надпись12;
после перечня областей, унаследованных от отца «великим царем
Птолемеем», там сказано: «Он двинулся в Азию с пешими и кон-
ными войсками, с морскою эскадрою, с троглодитовскими и эфи-
опскими слонами, которых отец его и он впервые изловили в тех
местах13 и в Египте снарядили для войны. Овладев затем всеми
областями по сю сторону Евфрата, Киликией, Памфилией, Иони-
ей, Геллеспонтом, Фракией и всеми военными отрядами в этих
странах и индийскими слонами и подчинив себе всех династов в
этих местах14, он перешел через Евфрат; покорил потом Месопо-
тамию, Вавилонию, Сузиану, Персию, Мидию и все остальные
области до Бактрианы; приказав собрать все вывезенные персами
из Египта святыни15 и препроводить их вместе с остальными со-
кровищами в Египет, он отправил войска по каналам...»16. Как раз
в этом месте прерывается замечательная надпись; к счастию, од-
нако, в последнем слове сохранилось еще крайне важное указа-
ние. Помимо Египта одна только низменная земля у нижнего
Евфрата и Тигра перерезана сетью каналов; к ней только и могло
относиться то выражение; эта сеть простирается через Селевкию
и Вавилонию почти до Суз. Отсюда Птолемей и отправил войска
либо с целью перебраться в Индию, что, впрочем, невероятно, либо
с тем чтобы учинить экспедицию в Аравию, хотя бы к богатому
торговому городу Герре, либо с тем чтобы воспользоваться сухо-
путною дорогою через Аравию на юг от пустыни к Чермному
морю, по которой ходил уже Птолемей Сотер. Надпись не совсем
ясно выражается о том, проник ли Птолемей через Тигр и Сузы
на Восток; может быть, он там принял только присягу восточных
сатрапов, а именно персидского Агафокла; впрочем, по ту сторону
гор им незачем было спешить с подчинением; но возможно также,
что победоносное войско проникло через проход Загра до Экба-
тан, а затем спустилось через Паретакену к Персеполю, а оттуда
к Сузам17.
Это та самая кампания, о которой у пророка Даниила сказа-
но: «И войдет в укрепления царя северного, и будет действовать в
них, и усилится. Даже и богов их, истуканов их, серебряных и зо-
лотых, увезет в плен й Египет»18. И действительно, он увез гро-
мадную добычу: 40 000 талантов серебра и 2500 драгоценных
сосудов и статуй. В благодарность за возвращенные им в храмы
захваченные некогда Камбизом святыни египтяне прозвали его
Эвергетом, благодетелем, подобно великому богу Осирису19.
Восстание заставило, наконец, царя вернуться в Египет; мы
впоследствии увидим, что восстание возникло, вероятно, в Кире-
наике. Однако политическая цель великого похода, та цель, к ко-
торой стремилось александрийское правительство, давно была
вполне достигнута. Теперь, после таких чрезвычайных успехов
надлежало принять новые устойчивые меры, и Эвергет обнаружил
при этом такое же благоразумие, каким отличались и сам основа-
тель династии, и проницательный Филадельф. Какой-нибудь Де-
метрий или Пирр стали бы помышлять о покорении мира; а
династия Лагидов стремилась лишь к тому, чтобы раздробить вла-
дычество Селевкидов, возвести Египет на ступень не единствен-
ной, а лишь первой державы. Попытка завладеть окончательно
также иранскими сатрапиями, Бактрией и Индией, повлекла бы
за собою утрату на Западе. Мы скоро увидим, какие осложнения
возникли уже в области Эгейского моря: египетский флот в Ма-
лой Азии успел только завладеть берегами, но и тут удержалась
еще Смирна; соединившись с Магнесией при реке Сипиле, она была
предана Селевку; Магнесия на Меандре и Гриней в Эолиде, как
кажется, тоже остались независимыми20; внутри Малой Азии на-
ходилась Лидия с неприступною крепостью Сард, Фригия со мно-
гими греческими городами. Туда, вероятно, после тщетной попытки
246 г. отступил Селевк и собрал вокруг себя остатки владычества
Селевкидов21. Он женился на Лаодике, дочери Андромаха, брата
своей матери22; эта связь, как кажется, скоро возымела роковое
влияние на отношения расстроенной династии Селевкидов.
Сохранилось известие о том, что Птолемей, вернувшись, удер-
жал за собою Сирию, поручил управление Киликией «своему другу
Антиоху», а области по ту сторону Евфрата «другому полковод-
цу» — Ксантиппу. Из этих скудных известий вытекают замечатель-
ные выводы. Ксантипп был, вероятно, тем самым спартанцем,
который несколько лет тому назад, когда римляне переправились
в Африку и до крайности стесняли Карфаген, своим мужеством и
стратегическим искусством спас город от гибели и повел его к
новым победам. Потом, справедливо опасаясь ревности гордых
негоциантов, он, будучи щедро награжден, удалился. А теперь,
когда пуны напрягали последние тщетные усилия, с тем чтобы
удержаться в Сицилии, когда римляне быстро развились в мор-
скую державу, с которою не мог уже справиться Карфаген, и впер-
вые явились властелинами на Западе, в это время союзная с ними
главная держава на Востоке одержала чрезвычайные победы; и вот
Птолемей поручил завоеванные им восточные страны тому само-
му полководцу, который победоносно прогнал римлян с берегов
Африки23. Теперь понятно, почему Селевк обратился к римскому
сенату с предложением союза и дружбы; сенат в греческом пись-
ме согласился на это с условием, чтобы соплеменные римскому
народу жители Илиона были освобождены от всяких повиннос-
тей24. Даже в этих скудных остатках преданий проглядывают са-
мые обширные политические комбинации. Почти также вероятно,
что Антиох, которому Лагид поручил Киликию, был не кто иной,
как младший брат Селевка25; сомнения, какие могут возникнуть
по этому поводу, оказываются мнимыми26. С египетской стороны
убийство Береники и ее сына, скорее всего, следовало приписать
Селевку, тем более что он как старший сын, один только и был
заинтересован в том, чтобы устранить малолетнего законного на-
следника престола; если бы Египту удалось привлечь к интересам
Лагидов брата его Антиоха, то этим путем был бы нанесен реши-
тельный удар последнему остатку владычества Селевкидов; Египет
не только передал ему Киликию, но на того же Антиоха переведе-
ны были права убитого сына Береники на принадлежавшую все
еще Селевкидам Малую Азию. Антиох был еще отроком; а потому
влияние Египта на него оказалось тем еще сильнее, чем немощнее
был остаток признаваемого Египтом Селевкидова царства. Одна-
ко отрок не мог решить сам за себя; кто же вел за него переговоры
об этом жалком венце? Я думаю, не кто иной, как мать его Лаоди-
ка; в продолжительной, вскоре после того возникшей междоусоб-
ной войне она была на стороне Антиоха27; Египет тоже постоянно
поддерживал его, тогда как ее отец, ее брат Андромах мужествен-
но отстаивали дело старшего брата28. Другой брат ее Александр
после некоторого колебания перешел на сторону Антиоха; рас-
строенная царская семья, если не ошибаюсь, среди этих погубив-
ших царство Селевкидов бедствий и вследствие их распалась сама
в себе. Разве молодой Селевк не должен был ужасаться матери,
убившей его отца, хотя это убийство и сулило ему корону? Отец
Лаодики Ахай и брат ее Андромах, без сомнения, сочли это зло-
действо безумным, каким оно и было на самом деле; а Селевк же-
нился на дочери Андромаха.
Предположим пока, что Птолемей вернулся в Египет в 243 г.29;
он, вероятно, рассчитывал, что, окончив кампанию, добился впол-
не гарантирующих египетские интересы условий. Политика всех
эпох и даже нам современной служит доказательством того, что
обладание всей Сирией имеет весьма важное значение для Египта.
Если Египет хочет стать выше, так сказать, провинциального зна-
чения, если он хочет занять во всех отношениях господствующее
положение, то эта держава своею естественною границею долж-
на, как кажется, признать Аманские горы. А потому Птолемей
Эвергет всю Сирию подчинил непосредственно Египту; с этим за-
воеванием, благодаря которому обладание южными и западными
берегами Малой Азии получило лишь полное свое значение, цар-
ство Лагидов достигло апогея своего могущества. Господство Се-
левкидов, казалось, рухнуло навсегда; последние преемники этого
имени вели между собою борьбу и должны были неминуемо ис-
требить друг друга; во всяком случае, платил ли Ксантипп дань по
ту сторону Евфрата, был ли он независим, но эллинизм в верхних
областях Азии был предоставлен на произвол судьбы. Не подле-
жит, конечно, сомнению, что парфянский Аршак и бактрийский
Диодот были признаны царями в захваченных ими владениях; Эв-
фидем и Агафокл, пожалуй, также достигли самостоятельности
и лишь для вида поддерживали зависимость от Египта; то же са-
мое, вероятно, было в Арии, Дрангиане, Арахосии.
Однако неужели Селевкидова Азия без всякого сопротивле-
ния подчинилась этому разрушению и разгрому своего бывшего
204
доселе политического существования? Неужели города и народы
не восстали, видя грабежи их святынь, взимание ужасных контри-
буций, злодейств чуждых наемников? Неужели даже македоняне,
во множестве населяя Сирию, Месопотамию, Вавилонию, равно-
душно отнеслись ко всему, что совершалось? Вспомним о том, как
вспыхнула война. Энергия македонян была парализована, конеч-
но, вследствие неизвестности, кому принадлежит престол; их мо-
рочили, пользуясь именем царственного отрока; вследствие такого
подлога они стали чуждаться интересов царского дома в такую
пору, когда им следовало бы вступиться за Селевка. При всем том
некоторые места довольно долго сопротивлялись египтянам; даже
важнейшие позиции, Дамаск и Орфозия30, осаждались еще в то
время, когда Птолемей уже вернулся. Понятно, что после удале-
ния неприятеля Селевку стоило лишь явиться по ту сторону Тав-
ра, с тем чтобы тотчас же возбудить всеобщее восстание; тогда
места вроде Орфозии послужили, конечно, значительными точ-
ками опоры.
По надписи, содержащей в себе договоры между Смирною и
Магнесией, мы узнаем, что они заключены как раз в то время, ког-
да Селевк вновь перешел в область Селевкиду. Это случилось или
тогда, когда Птолемей находился еще далеко на Востоке, или после
его возвращения, в первом случае учиненное Птолемеем новое
g I распределение в азиатских странах было бы возможно лишь вслед-
§- ствие нового поражения Селевка; во втором случае переход в
5 Селевкиду, как кажется, был прегражден засевшим в Киликии Ан-
2 тиохом. Вопрос разрешается здесь заметкою, судя по которой
х Селевк в 242 г. основал на месопотамской стороне Евфрата город
Каллиникон31. Итак, в 242 г. Селевк вновь стал твердою ногою по
ф ту сторону Тавра, даже по ту сторону Евфрата вблизи важного
перехода через реку у Тапсака; его второй поход в Селевкиду,
о котором упоминает смирнская надпись, вероятно, удался; воз-
врат Птолемея и его новые распоряжения в Азии совершились не
позже 243 г., но, вероятно, уже в 244 г.; в третий, даже во второй
год войны, он кончил, как мы предполагали, свой поход в Экбата-
ны, Персеполь и Сузы32.
Однако не преградила ли в это время уже Киликия Селевку
путь в Селевкиду? В таком случае, если Селевк сделал свое второе
нападение после раздробления царства Лагидов, то молодому
царю помимо киликийских проходов оставался еще иной путь.
Дело в том, что сестра его, Стратоника, была замужем за наслед-
ником престола в Каппадокии, и нежный отец назначил его своим
соправителем; вероятно, не только родственный, но также поли-
тический интерес Каппадокии побуждал его способствовать вос-
становлению Селевка. Вот через эту Каппадокию молодой царь и
прошел, вероятно, в Селевкиду. Основание Каллиникона служит
доказательством, что в 242 г. он далеко уже проник по Евфрату,
так что Ксантипп был совершенно отрезан от связи с Лагидовым
царством; Киррестика, Халкидика, Пиерия, Селевкида восстали,
без всякого сомнения, чтобы защищать Селевка; Антиохия, вер-
но, также отпала от Египта; а Орфозия все еще держалась.
Обо всем последовавшем затем сохранилось известие, кото-
рое* к сожалению, вследствие пристрастия к пустым фразам не
поддается никакой более основательной критике. Юстин говорит:
«Когда Птолемей удалился, то Селевк снарядил большой флот
против отпавших городов; но боги хотели как бы отомстить за
смерть отца, и внезапная буря уничтожила этот флот; сам царь
едва спас свою жизнь. Однако, как бы удовлетворясь карою, об-
рушившеюся на царя, из ненависти к которому города перешли к
Египту, они изменили свои чувства и перешли на сторону Селев-
ка; тогда Селевк, радуясь своему несчастию, возобновил войну с
Птолемеем; но сделавшись как бы игрушкой в руках судьбы, он
был побежден в битве, и покинутый более чем после кораблекру-
шения, спасся бегством в Антиохию. Потом он писал своему бра-
ту Антиоху, умоляя о помощи, и обещал ему в награду за пособие
Малую Азию до Тавра. Четырнадцати лет от роду Антиох испол-
нился уже властолюбия; не с братским, а с хищническим чувством
согласился он на предложение, почему и был прозван Гиераксом,
т. е. ястребом; а Птолемей заключил с Селевком мир на десять лет,
лишь бы не вести войны с обоими соединившимися братьями»33.
Как тут выпутаться из этого пустословия? Напомним прежде
всего, что эти известия захватывают почти четырехлетний период
самых сильных переворотов. Надежною точкою опоры здесь мо-
жет служить то, что на 3-й год 134-й олимпиады, т. е. в 242/241 г.,
в одно и то же время с основанием Каллиникона или в первую по-
ловину наступившего затем года Селевк освободил от осады Да-
маск и Орфозию34. По сути дела, оказывается, что десятилетнее
перемирие, а следовательно, и союз обоих братьев и послужив-
шее к нему поводом поражение Селевка, совершились позже, т. е.
после 241 г. Юстин умалчивает о важном освобождении обеих
крепостей; ему следовало бы упомянуть об этом после корабле-
крушения и после возврата отпавших городов.
Но какие это отпавшие, а потом сострадательные города?
Откуда взялся флот? Может быть, Смирна да еще некоторые го-
рода в Ионии послали корабли, отстаивая против Египта свою
свободу; может быть, также преданный Селевку Лемнос35; мы уви-
дим, что Родос тоже удачно воевал за Селевка36; еще ближе на-
ходились Лаодикея на сирийском берегу и другие приморские
города, без всякого сомнения перешедшие на сторону Селевка,
когда он явился там; Арад же получил неоценимую привилегию
служить свободным убежищем для политических выгодцев, имен-
но за то, что «он принял сторону Селевка II в его борьбе с Анти-
охом Гиераксом»37.
И в самом деле в борьбе с Антиохом, именно против него-то и
была направлена эта война, для которой Селевк снарядил флот.
Попытаемся, насколько возможно по скудным известиям, просле-
дить за исходом этой войны между обоими братьями. Отпали
именно города Киликии, их-то и следовало вновь отвоевать. Там-
то как раз и находилось большое количество вновь основанных
городов; они, хотя и не из сострадания к участи Селевка, а по ра-
зумному расчету политических условий, добровольно перешли на
его сторону38. А что же делал Антиох, которому Птолемей пере-
дал Киликию? Как только брат его направился в Селевкиду, то он,
без сомнения, поспешил во внутрь Малой Азии, с тем чтобы вос-
пользоваться переданными ему Птолемеем правами: и он и мать
его рассчитывали, вероятно, на тамошних друзей, и мы узнаём,
что брат ее Александр, бывший тогда начальником в Сардах, вся-
чески содействовал ему39. Если таким образом Сарды — эта важ-
нейшая позиция в Передней Азии — перешли к Антиоху Гиераксу,
то царственному брату его, несмотря на добытые им по ту сторо-
ну Тавра успехи, нечего было надеяться на этот раз удержать за
собою власть по сю сторону гор; для него важнее было по воз-
можности обеспечить за собою с суши завоеванную уже Киликию.
При этом мы узнаём, что он свою вторую сестру (первая была уже
обвенчана с соправителем Каппадокии) выдал за Митридата Пон-
* I тийского и передал ему в приданое Великую Фригию40. Судя по
§■ ходу событий, это только теперь и могло совершиться; Селевку во
Ё I что бы то ни стало следовало воспользоваться удачными успеха-
ми в Сирии, с тем чтобы восстановить свое владычество по ту сто-
рону Евфрата. Мы, конечно, теперь не в состоянии узнать, по какой
причине египетский царь допустил совершиться всему этому без
Щ> помехи и отчего он предоставил Ксантиппа на верную гибель. Од-
нако пророк Даниил свидетельствует, что все это именно так и
было; описав события лет семьдесят спустя, он с точностью изло-
жил факт этой эпохи; сообщив о возвращении Птолемея из си-
рийского похода, он прибавляет: «И на несколько лет будет стоять
выше царя северного»41.
Селевку поэтому нечего было сильно опасаться Египта и, овла-
дев вновь странами от Тавра до областей Затаврских, он приобод-
рился, так что готовился снова завладеть отнятыми у него братом
областями в Малой Азии; он мог рассчитывать на соучастие ази-
атских городов. Антиох набрал галльских наемников, однако про-
играл в Лидии и первое и второе сражение с братом, успел отстоять
только Сарды; остальная область и большая часть приморских
городов перешли во власть победителя; в одном только Эфесе дер-
жался египетский гарнизон42 Митридат Понтийский, как надо
полагать, встревожился по поводу приданого своей жены; поддер-
живая Антиоха, когда он оказался в отчаянном положении, Мит-
ридат мог надеяться вернее приобрести область, которую ему
Z
пришлось бы отнять у него. И вот он снарядился; большая часть
его войска состояла из галатов. Селевк встретился с ним на бой
при Анкире. Битва, по-видимому, была ужасная; со стороны Се-
левка пало, говорят, 20 000 человек; думали, что он и сам тоже пал,
его верная Миста досталась варварам; она едва успела скинуть с
себя украшения, с тем чтобы вместе с другими пленниками ее про-
дали в рабство. В Родосе, куда она была продана, Миста открыла
свое звание и была со всеми почестями отправлена в Антиохию43
Получив весть о смерти брата, молодой Антиох Гиеракс облекся
в траур и заперся в своем дворце, оплакивая павшего Селевка; ско-
ро, однако, узнал он, что брат его спасся, благополучно ускольз-
нул в Киликию44 и вновь снаряжался; тогда Антиох в благодарность
принес богам жертвы и велел в городах устроить празднества по
поводу спасения Селевка45. Упомянутую великую победу одержа-
ли галаты; после этого они же, как говорят, и что весьма вероят-
но, точно так же обратились против Антиоха; им выгодно было
разрушать всякий порядок, который с таким трудом был устроен
в Азии; когда там не было сильного державца, то они могли вновь
безнаказанно продолжать свои разбойные нападения. Галаты
опять стали опустошать целые области; Антиох оградил себя от
них только тем, что платил им дань46.
После такого исхода Селевку пришлось отказаться от Малой
Азии. У пророка Даниила сказано: «Египет на несколько лет бу-
дет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие
на царство южного царя, но возвратится в свою землю». Лишась
Малой Азии, Селевк, как кажется, обратился по возможности,
скорее, к югу, вероятно, с тем чтобы воспользоваться Орфозией и
Дамаском для нашествия в царство Лагидов. Не решаюсь связать
с этим отказ первосвященника Онии платить дань47; однако с этой
войной связано то решительное поражение, вследствие которого
Селевк спасся бегством в Антиохию, «будучи покинут более чем
после крушения его флота». Теперь настал момент, когда ему сле-
довало вступить в переговоры с братом; если Селевку теперь не
удастся склонить его на свою сторону, то все добытое с таким тру-
дом было безвозвратно потеряно; он уступал брату всю Малую
Азию до Тавра. И Антиох со своей стороны желал примириться с
ним; таким путем он только и мог обеспечить за собою престол.
Пергамский династ начал уже с ним войну и вел ее при свежих
силах со значительным успехом; истощившись вследствие продол-
жительной борьбы, вследствие выдачи жалованья и дани галатам,
Антиох не в силах был вести борьбу с обладавшим богатыми со-
кровищами пергамским царем и поневоле тоже склонялся к миру48.
Примирение обоих братьев, от раздора которых за последние годы
зависели политические отношения полуострова, имело необходи-
мым последствием более или менее продолжительное умиротво-
рение городов и царей в Малой Азии. Мы вовсе не знаем, как при
2081
этом сложились частные условия49; достоверно одно то, что гала-
ты, неистовее чем когда-либо, продолжали свои начатые со вре-
мени междоусобия набеги.
Египет не мог равнодушно отнестись к окончательному пре-
кращению этого междоусобия. Политика его имела целью раз-
рушить владычество Селевкидов; мы увидим, что в других местах
также пробудились тенденции против египетского владычества; с
той поры, как Селевк с такой удачной энергией начал восстанав-
ливать царство в Сирии, Египет мог помешать образованию в ней
нового владычества лишь тем, что возбуждал в качестве претен-
дента младшего брата против старшего: такая политика оказалась
непопулярною и, опираясь на неестественный разлад братских
интересов, не представляла никакой возможности прочных ком-
бинаций. Когда братья примирились, то египетскому царю поне-
воле пришлось заключить вышеупомянутое перемирие на десять
лет; при этом он, конечно, выговорил себе обладание теми Селев-
кидовыми городами и областями, которые все еще находились в его
власти, т. е. Памфилией, Ликией, фракийскими землями, вероятно,
также Геллеспонтом и частью ионийских городов50; Кария осталась,
кажется, тоже за Египтом, но только Стратоникея перешла к Ро-
досу по причинам, о которых упомянем впоследствии; Египет,
однако, удержал за собою прежде всего Селевкию при устье
g Оронта как бы в знак своего преобладания над Селевкидами51.
§- Благодаря этому заключенному в 239 г. миру52 само сирий-
а ское царство воспользовалось хоть на некоторое время покоем,
2 и неутомимый Селевк был в состоянии предпринять поход на
i Восток, с тем чтобы вновь завладеть если не всеми странами преж-
него царства, то, по крайней мере, ближайшими и важнейшими
* %>■■ областями Ирана.
Нельзя безучастно отнестись к этим двум братьям и к их уча-
сти: один из них едва достиг юношеского возраста, а другой был
еще отрок, и оба роковою политикою преданы были во власть
партии, совершившей самые ужасные преступления; убийство, при
посредстве которого хотели сохранить за ними престол, разбило
все их надежды; и когда старший брат в борьбе за счастье едва
добился первых успехов, его врагом сделался младший, мать со-
единилась с его братом, против нее вооружился отец, а его брат
на ее брата; весь царский дом словно освирепел от убийства мстя-
щей царицы. А молодой Антиох все-таки скорбит о брате, когда,
победив его, услышал, будто он убит. Злой рок не перестает пре-
следовать ни того, ни другого, так и кажется, будто неестествен-
ный состав основанного их предками государства отзывается в
возникающих то и дело распрях династий. Однако в этой посто-
янно возобновлявшейся борьбе, созданной лукавым искусством
египетской политики, они сохранили, по крайней мере, доблест-
ное мужество; они пытались по возможности с честью оставаться
209
в том ложном положении, в которое поставила их судьба; все это
были сильные натуры, полные неутомимого мужества, каким отли-
чались их предки. Такими являются они на изображениях монет, —
по скудости преданий воспользуемся хотя бы этими источника-
ми, — тут перед нами благородные строгие лица; облик младшего
брата отважнее, вдумчивее; в обоих видна родственная черта юно-
шеской доблести.
В ином виде представляется облик Птолемея Эвергета; у него
сильно развитой, мыслящий лоб Лагидов и их приподнятые бро-
ви, однако в его чертах обнаруживается некоторого рода напря-
жение: при пристальном рассмотрении кажется, будто энергия его
может ослабеть. Об этом Птолемее сохранился, по-видимому,
характеризующий его анекдот: играя в кости, он велел прочесть
список осужденных преступников, которых ему предстояло при-
говорить к смертной казни; в это время вошла жена его Береника,
вырвала у читающего список из рук, не допуская, чтобы царь решал
эти дела теперь; он уважил разумные доводы Береники и никогда
более не определял смертной казни во время игры53. Он благосклон-
но отнесся к астроному Конону, когда тот известил, что волосы
молодой царицы, которые в благодарность за великие одержан-
ные в Азии победы она посвятила в храм Арсинои на Зефирионе,
откуда они потом исчезли, помещены на небо между звездами.
Правда, в то же время он назначил Панарету годовой оклад в две-
надцать талантов, не за то, что он также слушал философа Арке- §
силая, а, скорее, за то, чтобы был отлично сложенный карлик54.
Однако оставим эти скудные заметки о личностях, имевших, 5
впрочем, весьма важное влияние на ход событий, тем более что |"8
эти державы исключительно зависели от воли и характера стояв-
ших во главе особ. Припомним, что в то же время в Греции стал
развиваться, даже осуществляться в новом виде дух свободы.
Ионийские города также опять добились давно утраченной авто-
номии; завоевание египетского царя вновь уничтожило ее, по край-
ней мере в большей части из них. Однако потребность свободы и
на новых основаниях утвержденной законности пробудилась те-
перь опять; она как бы срослась с образованием эпохи, провозгла-
шалась и прославлялась в метрополии, проникала даже в дальние
греческие города. Так, между прочим, она проникла в Кирену.
Скудное известие опять наводит нас на след великих событий.
В нем сообщается, что Экдем и Демофан — эти доблестные граж-
дане из Мегалополя и друзья Аркесилая — освободили свой род-
ной город и содействовали освобождению Сикиона; что киренцы,
город которых потрясался внутренними смутами, пригласили их
к себе; что оба они вновь урядили правление в городе, отлично
руководили им и оградили его свободу55. А около 237 г. они опять
вернулись в свою аркадскую родину. Однако разве именно Пен-
таполь не был наследием Береники? Разве с ее замужеством в 247 г.
ь"
ш
20
Кирена не вернулась опять к египетскому царству? Откуда же взя-
лись эти внутренние смуты и эта свобода? В самом Египте не пред-
ставлялось ни повода, ни удобного случая для восстания против
благоустроенного правительства Лагидов; а потому, когда в 244
или 243 г.
Птолемей вследствие мятежа в родном крае вернулся из Азии,
то его могло встревожить, конечно, одно только киренское воз-
мущение. Богатые, смелые греки Киренаики, обладая большими
средствами, гордясь отличительными чертами своего нрава и об-
разования, не могли без дальних околичностей подчиниться Егип-
ту; не так еще давно они соединялись с македонским Деметрием
против Египта; хотя некоторые из замечательных мужей, каких
немало родилось в Пентаполе, находились при александрийском
дворе, однако города все-таки, несомненно, состояли в тесной
связи с Афинами и с возбужденными там философией более воз-
вышенными тенденциями. Там находился их соотечественник Ла-
кид, подобно Экдему и Демофану, друг Аркесилая, которому он
наследовал в Академии. Вот вследствие каких отношений мог воз-
никнуть мятеж киренцев. Не подлежит, кажется, сомнению, что
остальные города Пентаполя присоединились к нему; разве одни
только евреи, расселенные главным образом Лагидом I в этих мес-
тах и пользовавшиеся равными правами56, остались верноподдан-
ными. Для внутреннего разлада нашлось много поводов. В одной
эпиграмме Каллимаха представлен воин, посвящающий лук и кол-
чан Серапису, «но», прибавляет поэт, «стрелы находятся у геспе-
ридов»57; а город гесперидов на берегу Сирта стал впредь называться
по имени царицы Береники58. Судя по деятельности обоих граждан
из Мегалополя, Кирена, кажется, удержалась против Лагида.
Эпоха македонского Деметрия показала, как важно было для
Египта владеть Киренаикой; вероятно, и в то время, когда Птоле-
мей Эвергет спешил восвояси, с тем чтобы потушить мятеж в этой
области, также следовало опасаться, как бы там не утвердилось
неприятельское, а именно македонское влияние? Поэтому он тем
более спешил обеспечить права Египта. Судя по прежней борьбе
между Сирией и Египтом, по аналогии надо предполагать, что
престарелый Антигон Гонат не относился равнодушно к тому, как
закончатся восточные отношения. Совершенный разгром влады-
чества Селевкидов встревожил его, тем более что египтяне захва-
тили даже фракийский берег; разве мог он остаться спокойным,
когда владычество Лагидов с таким угрожающим преобладанием
водворялось у самой македонской границы? Македонии следовало
во что бы то ни стало воспрепятствовать этому; и надо полагать,
что упомянутое водворение совершилось лишь после того, как уда-
лось уже устранить противодействие со стороны Македонии59.
Сюда, пожалуй, следует отнести вполне изолированное изве-
стие, судя по неопределенному смыслу которого можно лишь до-
гадаться, что в нем говорится о решительной морской битве при
Андросе60. В 244 г., как увидим, Антигон вновь впутался в эллин-
ские дела, причем оказалось, что власти его нанесен сильный удар.
Македонский флот в течение двадцати лет после победы при Косе
не уступал египетскому, по крайней мере, на Эгейском море; по-
ражение при Андросе нанесло тяжкий ущерб македонскому фло-
ту, так что с этих пор морское владычество Египта утвердилось
даже и на этом море, и захватить Фракию и Геллеспонт, о чем упо-
минается в Адульской надписи, кажется возможным. А для того
чтобы Македония не могла все свои усилия употребить на восста-
новление морского могущества и на продолжение борьбы с Егип-
том, александрийское правительство возбудило такие смуты в
Греции, что, власть Антигона была поражена в самое больное ме-
сто; я упомяну здесь о том, что в 243 г. ахейцы взяли Коринф, этот
ключ к Пелопоннесу.
В то время как Птолемей Эвергет разгромил царство Селев-
кидов и в состоянии был по своему усмотрению распоряжаться в
Азии, низвергнуто было также и македонское соперничество. Судя
по принятым в Азии мерам, можно убедиться, что Египет отнюдь
не имел в виду восстановить всемирную державу, однако он все-
таки достиг главенства, при помощи которого после разгрома од-
ной и ослаблении другой великой державы мог, казалось, вполне
господствовать над эллинской политикой. Правда, мелкие госу-
дарства в Азии и Европе после понесенных поражений великими
державами, соседство которых обуздывало или стесняло их, вос-
пользовались разными выгодами, и временное преимущество, ка-
кого они вследствие того достигли, до поры до времени скрывало
от них опасность, грозившую им от исключительного египетско-
го главенства. Однако между этими государствами были и такие,
которые опасались утратить свою политическую независимость,
основанную на бывшем доселе соперничестве великих держав; а
потому они всеми силами должны были противодействовать еги-
петскому преобладанию, во что бы то ни стало не дать погибнуть
Македонии и помочь Селевку восстановить свое царство. И таких
мелких государств было немало: мы видели уже, что Смирна, «хотя
обуреваемая многими и великими опасностями», как было заяв-
лено в одном из декретов города, пребыла верною интересам Се-
левка; Гераклея при Понте и Византии, также свободные острова
Хиос и Лесбос недаром перешли на сторону Селевка; а древне-ат-
тическая клерухия на Лемносе, наверное, не ограничилась только
тем, что оказала почести предкам Селевка. Однако в сложившихся
таким образом условиях сильнее всего затронуты были интересы
Родоса; его чрезвычайно богатая торговля решительно обуслов-
ливалась независимостью и строго соблюдаемым нейтралитетом
острова; если Египет добьется исключительного преобладания
в восточных водах, то Родос не в силах будет надолго поддержать
свое меркантильное значение. А твердая политика, какою и прежде
и впоследствии отличалось превосходно устроенное родосское
государство, дает нам право предполагать, что Родос не только
сам действовал согласно с обстоятельствами, но старался также
привлечь к принятым в общих интересах мерам находившиеся в
подобных условиях политии.
В остатках сохранившихся преданий обо всем этом не нахо-
дится, конечно, почти никакого следа. Мы не знаем, как и в какой
мере восстали названные государства за Селевка, принимали ли
они участие в снаряжении разбитого бурей флота. Одно только
затерявшееся показание, поразительным образом примыкающее
к гипотетически начертанному нами строю событий, подтверж-
дает верность наших смелых догадок: говорят, что родосцы во
время войны с Птолемеем находились вблизи Эфеса; адмирал царя
Хремонид двинулся на них в боевом порядке; однако родосец Ага-
фострат, завидев неприятеля, велел своим кораблям отступить, а
вслед за тем опять выйти в море. Думая, что он избегает битвы,
неприятель вернулся с победными песнями в гавань; но как толь-
ко египтяне высадились и рассеялись по берегу, родосцы напали
на их корабли и одержали решительную победу61. Это был тот са-
мый Хремонид, который двадцать лет тому назад находился во
главе знаменитого восстания Афин, а после падения родного го-
§ I рода спасся бегством в Александрию. В своем трактате о ссылке,
g- написанном несколько лет спустя после этой Родосской войны,
ш | Телес62, пытаясь доказать, что утрата отчизны часто служит по-
чином высшего счастья, приводит в доказательство Главкона и
Хремонида: «Разве они не были советниками и помощниками царя
Птолемея? Не так еще давно Хремонид отправлен был с великою
эскадрою и ему предоставлялось расходовать по своему усмотре-
нию большую сумму денег».
Телес не упоминает о сказанном поражении, ни даже о том,
что Хремонид одержал победу при Андросе; об этом он непре-
менно упомянул бы; а значительные, предоставленные в распоря-
жение Хремонида денежные средства должны были, вероятно,
облегчить предстоявшие ему вторжения; ему-то, как кажется, и
надлежало занять фракийский берег, после того как македонский
флот, потерпев поражение при Андросе, не препятствовал более
наступлению египетской эскадры.
Какими бы, впрочем, обстоятельствами ни сопровождалась
морская война, в которой родосцы одержали победу, она вместе с
восстанием Кирены и быстрыми успехами Селевка в Сирии убе-
дила царя Птолемея в невозможности поддержать то исключи-
тельное главенство, какого он только что было добился; вследствие
примирения обоих братьев-Селевкидов образовалась, наконец,
оппозиция, с которой нелегко было справиться Египту. Родос,
вероятно, как не раз еще впоследствии, так и теперь служил по-
X
средником; помимо того, он оказал Селевкидам довольно значи-
тельные услуги, так что его недаром вознаградили уступкою
Стратоникеи в Карий63. Континентальные владения родосской
республики заключали в себе поэтому береговую полосу Кавна до
Керамского залива; оба города, Кавн и Стратоникея, одни до-
ставляли ежегодный доход в 120 талантов64. Благодаря не только
этому внешнему расширению владений, но еще более политичес-
кому влиянию, какого достиг он своим вмешательством в войну с
Египтом, Родос добился важного значения, которое распростра-
нилось за пределы собственных его отношений и могло занять
также место в общей системе эллинских государств.
Подобно Родосу, мелкое пергамское царство также стало вме-
шиваться во всеобщую политику: благодаря не только осторожной
политике своих династов, но еще более чрезвычайным сокрови-
щам, которыми они обладали, это царство достигло некоторого
значения. Эвмен, а потом с 241 г. сын его брата Аттал65, после бит-
вы при Анкире в особенности, обратились против Антиоха; таким
образом они решительно выступили против Египта, положив этим
почин к политическому строю, чрезвычайно скоро придавшему им
важное значение; Аттал в несколько лет добился венца, бывшего
всегда предметом его честолюбия66.
Из мелких государств не одни только Родос и Пергам вос-
пользовались этим временем тяжких войн между великими дер- I g
жавами для развития своего самостоятельного и более обширного §
владычества; все это обнаружилось в том положении, какого не-
которые из них достигли в ближайшем будущем. Само развитие I 3
проявляется в эллинском крае в разных местах, и совершившиеся Г8
там факты бросают некоторый свет на современные им события
на востоке. В особенности стал усиливаться Ахейский союз бла-
годаря политическому осложнению великой войны. Вследствие
присоединения Сикиона и вследствие союза Арата с Египтом опре-
делилась роль, предназначенная ахейцам; Арат впервые направил
деятельность союза наружу и, вероятно, не без сопротивления со
стороны помышлявших только о внутреннем спокойствии и о сво-
ей самостоятельности союзников. Он решительно был руководя-
щею душою союза, даже прежде чем ему поручена была первая
стратегия; это видно уже по попыткам, к каким прибегал Анти-
гон, с тем чтобы привлечь его на свою сторону или, по крайней
мере, помешать его сношениям с Египтом: находясь в Коринфе и
совершая там жертвоприношения, он послал Арату дары, а за сто-
лом выразил свое уважение к молодому сикионскому герою, так
что со стороны александрийского двора, куда сообщили слова
царя, тотчас же обратились с запросом в Сикион67. В весеннем со-
брании 245 г. Арат был избран в стратеги, хотя и не достиг еще
узаконенного для участия в совещаниях тридцатилетнего возрас-
та; это служит как бы доказ'ательством того, что в самих отноше-
ниях скрывалось нечто, побудившее на наступивший год именно
ему поручить высшую должность; надо полагать, что при этом
решительно повлияла египетская политика, к которой примкнул
Арат. Первый год великой Сирийской войны прошел, Селевк был
изгнан из области по ту сторону Тавра; Македония, без сомне-
ния, поспешила принять сторону Селевкидов; Египту надлежало
по возможности более тревожить ее в Греции.
Прежде всего следовало завладеть Коринфом, Арат имел уже
в виду напасть на него; однако Александр Коринфский вновь из-
менил делу своего дяди и присоединился к союзу68. Если предпо-
ложить, что морская битва при Андросе произошла именно в 245 г.,
то заодно с нею македоняне лишились также сообщения морем с
преданными им все еще городами на востоке Пелопоннеса. Союз
стал уже далее распространять свою власть. Этоляне в мирное
время напали на беотян69; это показалось ахейцам самым удобным
случаем отомстить этолянам за прежние их набеги и вместе с тем
утвердиться по ту сторону перешейка. Союз заключил договор с
беотянами. Арат поспешил через залив, опустошил там области
Калидона и Амфиссы, а потом двинулся с десятитысячным вой-
ском, с тем чтобы соединиться с беотянами, которые, однако, не
дождались его; они были совершенно разбиты при Херонее, их
вождь Амеокрит и тысяча беотян пали; силы их были окончатель-
но сокрушены, так что они поневоле вступили в симполитию со
своими победителями70.
Таким образом, не удался, конечно, первый смелый замысел
Арата; мало того, его нападение поневоле сблизило между со-
бою бывших доселе противников, македонян и этолян. Это было
значительным подспорьем для Антигона, а он нуждался в нем тем
более, что Египет в Азии одерживал решительные победы и гро-
зил захватить Фракию; сверх того, хотя ахейцы и были до поры
до времени устранены от Беотии, однако, до тех пор пока Алек-
сандр Коринфский находился с ними в союзе, положение их все-
таки было для Антигона крайне опасное. Принципы, какими
руководился союз, пользовались, без сомнения, всеобщею попу-
лярностью, и влияние их теперь именно, когда Лагиды достигли
значительных успехов, сильно встревожило македонскую поли-
тику. Антигону следовало во что бы то ни стало завладеть Корин-
фом; в этом заключалось единственное средство спасти остаток
македонского влияния в Пелопоннесе и воспрепятствовать рас-
пространению ахейцев, а вместе с тем и египетской политики по
ту сторону перешейка.
В это самое время умер Александр, «отравленный, как гово-
рят, Антигоном», о чем сообщает биограф Арата, имевший под
рукою в особенности записки последнего. В городе властвовала
теперь вдова его Никея; она проживала в сильно охраняемой кре-
пости. По дошедшему до нас странному известию71 оказывается
лишь то, что с Никеей велись переговоры касательно предстояв-
шего ее брака с наследником македонского престола; эта связь
казалась необходимою, тем более что у Деметрия от его сирий-
ской жены до сих пор, за исключением одной дочери, вовсе не было
детей72; притом первым условием брака служила, конечно, сдача
Акрокоринфа Македонии. И в самом деле, если Антигон вновь
завладел Акрокоринфом, то это отнюдь не было «неслыханною
изменою»; племянник его Александр изменял ему два раза; разве
Антигон мог признать за вдовою право на владение, которое Ла-
гиду могло бы послужить средством, для того чтобы утвердиться
в важнейшем пункте Греции, тогда как влияние его и без того уже
преобладало в Ахайе и, как впоследствии увидим, в Лаконии.
Вследствие овладения Коринфом македонское влияние в Пе-
лопоннесе, а вместе с тем и тирания в Аргосе, Флиунте, Гермионе
и пр. вновь укрепились. В то же самое время, как кажется, Лидиад
захватил высшую власть в Мегалополе; этот юноша с высокими
помыслами, исполненный честолюбия, был искренне убежден в
величии и своевременности монархических стремлений73. Анти-
гон, вероятно, сам говорил с ним об этом, постигая сущность ти-
рании в таком виде, как ее представлял Лидиад: она должна быть
не кровавым владычеством, а,напротив, основанною на твердом
единовластии гарантией порядка. Такое единовластие казалось
царю необходимым, тем более что порыв к демократической сво-
боде исходил, как многие утверждали, лишь от ограниченного
числа сумасбродных или своекорыстных людей и возбуждал одни
только смуты внутри городов и самые опасные колебания отно-
сительно внешних сношений. Антигон отнюдь не придерживался
принципов прихотливого деспота, как это часто говорилось; на-
против, его принципы, точно так же как и противоположные им
стремления, опирались на то же самое умственное движение, ка-
ким исполнена была эпоха: идеи, которым он и два десятилетия
спустя после него благородный Клеомен из Спарты пытались при-
дать политическое значение, были выработаны в стоической шко-
ле. И знаменательно то, что царь именно Персею, другу Зенона,
строгому стоику, поручил власть в Акрокоринфе74.
Весною 243 г. Арат был вторично избран в стратеги союза,
крайне встревоженного энергическим восстановлением македон-
ского влияния в Пелопоннесе; ахейцы опасались мести этолян за
вторжение в Калидон и Амфиссу; этоляне только что подошли к
пределам союза; если перешеек останется во власти врагов, то сле-
довало ожидать самых ужасных бедствий.
А потому Арат решился освободить Коринф. Ему случайно
представился удобный к тому повод. В Коринфе находились четы-
ре брата из Сирии, из которых один, Диокл, служил наемником в
гарнизоне. Трое остальных обокрали царскую казну и прибыли в
Сикион с целью выменять добычу. Один из них, Эргин, остался в
Сикионе и там рассказал однажды меняле, с которым Арат тоже
находился в сношениях, о тайном проходе к одному месту, где
крепостная стена была довольно низка. Арата тотчас же тайком
известили об этом; он обещал сирийцу и его братьям, если пред-
приятие удастся, шестьдесят талантов. Эргин потребовал, чтобы
деньги были вперед внесены у менялы; однако чтобы займом не
привлечь внимания, стратег выдал под залог свои кубки, чаши и
драгоценности своей жены. Эргин отправился потом в Коринф, с
тем чтобы условиться с Диоклом относительно необходимых мер
предосторожности. Наконец все было готово; Арат выбрал четы-
реста ахейцев, с тем чтобы отважиться с ними на ночное нападе-
ние; немногие лишь знали, в чем состояло дело; остальному войску
приказано было всю ночь быть наготове. Все происходило среди
лета; при ясном лунном свете Арат двинулся к западной стороне
города; поднявшийся с моря туман скрывал подступивший отряд.
Эргин был уже на месте; он с семью одетыми в виде странников
ахейцами подошел к воротам; здесь они перебили посты, захвати-
ли стражу; Арат в то же время влез в указанном месте на стену и
двинулся в сопровождении Эргина и сотни ахейцев к акрополю;
остальным велено было проникнуть в ворота и по возможности
скорее последовать за ними. Арат шел со своею толпою, соблюдая
полную тишину; но вот показался ночной патруль с факелами;
ему дали подойти, а затем кинулись на него; из четырех патруль-
ных солдат только один ускользнул, да и тот был ранен в голову;
обратившись в бегство, он стал, однако, кричать: «Неприятель!
Неприятель!». Вслед за тем внизу в городе и наверху в крепости
раздался звук сигнальной трубы; и там и тут показались факелы,
раздались крики постов, тревога все усиливалась. Арат все еще не
мог достичь крепости по крутым извилистым тропам; его триста
воинов прошли в ворота, однако в тесных улицах, по запутанным
скалистым дорогам они сбились с пути, и, не дойдя до верху, скры-
лись в тени отвесной скалы. Архелай подступал уже с царским
отрядом из нижнего города к акрополю, с тем чтобы ударить в
тыл Аратовой шайке, которая, наконец, с громким кликом стала
атаковать крепость. Архелаю пришлось пройти мимо отвесной
скалы; скрытые в ней триста человек ринулись на его отряд, уби-
ли передних воинов, прогнали и рассеяли остальных. Едва успели
опять собраться, эти триста воинов, как явился посланный Ара-
том Эргин и повел их тотчас же вверх на помощь. Они последо-
вали за ним с восторженным кликом; в горах отозвались их голоса
и им вторили клики сражавшихся; крепостному гарнизону почу-
дились тут неодолимые силы нападавших, и он сопротивлялся сла-
бо. С восходом солнца крепость была взята. Сикионское войско
также подошло; граждане отворили ему ворота и забрали в плен
царские отряды. Потом все устремились в театр, взглянуть на осво-
бодителя, узнать, что будет далее.
217
Арат явился в сопровождении своих ахейцев; он вышел на
авансцену как был в своих доспехах; его встретили все торже-
ственными кликами. Бледный, изнуренный, едва держась на но-
гах, стоял он опершись на копье. Когда наконец умолкли клики и
рукоплескания, то, оправившись, он начал говорить. Приятно
было коринфянам услышать слово свободы, которой они лишены
были в течение века. Арат передал народу крепостные ключи, на-
ходившиеся со времен Филиппа и Александра во власти чуждых
державцев; он высказал только одно желание — чтобы коринфя-
не также присоединились к ахейцам. Вот каким образом Коринф
пристал к союзу.
Тотчас же после города взята была гавань Лехей; двадцать пять
стоявших там царских кораблей переданы были союзному флоту,
четыреста взятых в плен сирийских наемников были проданы в
рабство; Персей из крепости спасся бегством в Кенхреи, Архелая
отпустили на волю без выкупа; другой начальник, не хотевший
покинуть свой пост, был взят в плен и казнен. С этих пор в акро-
поль вступил ахейский гарнизон75.
Это освобождение Коринфа должно было именно теперь про-
извести чрезвычайное впечатление: Ахейский союз достиг теперь
важного значения; ключ к Пелопоннесу находился во власти сво-
бодных союзников. Этолийским хищным набегам преграждался
путь на полуостров, дело свободы и народного самоуправления
стало развиваться с блистательным успехом. В это самое время §
Мегара тоже отпала от Антигона и присоединилась к союзу, точно ш
так же Трезен и Эпидавр. Союзники пытались уже напасть на пе- g
реставший быть аттическим владением Саламин, сделал набег на | g
Аттику; они отпустили пленных афинян без выкупа; надеялись, что
дух свободы воспрянет также там и в Аргосе, на который учинили
нападение76. Они считали себя в полном праве всеми средствами,
и хитростью и силою, противоборствовать тиранам и чужеземным
владычествам в Греции. Если бы союз был одушевлен чувством
своего высокого призвания, то он был бы неодолим.
Не странно ли, что именно Арат руководил ахейцами? Он вы-
шел не из умственных стремлений, которыми охвачен был гречес-
кий мир, а из упражнений в палестре, из среды богатого, дружного
с царями дома; его ненависть к тиранам произошла не от одушев-
ления к свободе, а от скорбных воспоминаний о гонениях, каким
он подвергался в юности, об утраченном праве на влияние в род-
ном городе, от особенного положения, в которое ввергли его не-
ожиданные обстоятельства; он опирался не на веру в одушевлявшие
всех идеи, а на искусство пользоваться политическими условиями,
на мелкие средства и тайные пути, вообще недоступные понима-
нию толпы, которая в этом случае доверяется вождю и лишь слепо
идет за ним. Он, как оказывается, не поддерживал сношений с по-
могавшими ему освободить Сикион благородными гражданами из
а'
ш
аз
Мегалополя, а, напротив, добивался дружбы с египетским царем.
Он сохранил аристократические привычки своего знатного проис-
хождения даже в сношениях с мелким людом союзных ахейских
городов; привыкший к пышности и к великосветскому обществу,
дружный с царями, этот аристократ свысока глядел на простолю-
динов, но всегда он обращался с ними как с равными, он внушал
им уважение к себе. Сам по себе Арат был им чужд; они служили
ему годным материалом для благонамеренных, политических про-
ектов, какие таил он в своем уме. Он ясно сознавал, что следовало
привлечь к союзу по возможности больше эллинских городов; он
рассчитывал на их умственное направление, не сочувствуя ему и
отнюдь не имея в виду из них образовать свое новое государство.
Это союзное государство было его созданием и прослыть его твор-
цом — вот в чем состояло честолюбие Арата. Он сумел связать его
с собою, так что без него оно не имело никакого значения; он не
мог отрешиться от опеки над ним и недоверчиво относился к мо-
лодой свободе, пока сам не управлял и не руководил ею; ради по-
литической цели он по наружному виду поддерживал свободу, но
в то же время тормозил ее самостоятельное развитие; наложил на
нее отпечаток деланного искусственного образования, насиль-
ственно и своевольно подавлял внутреннюю жизненную силу, как
только она порывалась на простор. Так-то Арат при всех его за-
слугах представляет мелкий характер; он, правда, постиг все прак-
тически необходимые условия, имел всегда в виду непосредственно
достижимое дело, с проницательным взглядом политика пользо-
вался всяким удобным случаем; благодаря всяким явным и тайным
средствам тогдашней дипломатии Арат создал государственную
основу для новых идей, дал им возможность распространиться на
просторе; однако живое ядро нового строя, которым он взялся
руководить, было ему чуждо; он с самого начала придал союзу
ложное направление, и чем значительнее казались достигнутые
Аратом успехи, тем более сам союз удалялся от живого источни-
ка, из которого ему следовало черпать свои силы77.
По предложению Арата союзники назначили царя Птолемея
своим сочленом и главнокомандующим сухопутных и морских
сил78. В то самое время, когда Лагид пытался поработить города
Киренаики, когда ионийские колонии едва могли отстоять от него
свою молодую свободу, когда союзники Антигона этоляне тол-
пою высадились на ионийский берег и сожгли свои корабли, с тем
чтобы понудить себя вступить в победоносный бой за ионийцев79,
когда свободный Родос восстал против Египта, в этот самый мо-
мент Арат передал египетскому царю протекторат над вновь воз-
никшей свободой в Греции. Не внутренние принципы развития, а,
скорее, внешние отношения правительственной власти обуслов-
ливали политику той эпохи, которая поистине стала эпохою по-
литических деятелей.
219
До нас не дошло никакого известия, по которому мы могли
бы узнать, что предпринял престарелый македонский царь, для
того чтобы противодействовать распадению его владычества в эл-
линской стране; одно только известно: он с этолянами заключил
договор для совместного завладения и подела областей Ахейско-
го союза80.
В это самое время в спартанских отношениях совершились
замечательные перемены. К сожалению, мы знаем о них лишь по
сделанным в биографическом интересе замечаниям у Плутарха;
нам едва удается с некоторою ясностью постичь внешние отноше-
ния этого государства.
С тех пор как царь Акротат пал под Мегалополем, и Леонид,
долго прожив в сирийском царстве, пользовался решительным
влиянием сперва как опекун сына Акротата, а после смерти по-
следнего как царь, Спарта, казалось, держалась в стороне от все-
общих тревог; господствовавшей в городе богатой и роскошной
олигархии хотелось лишь без помех наслаждаться благами. Ни-
где контраст между тем, что сложилось исторически, и тем, что
требовалось разумом и правом, не был так ощутим, как в Спарте.
На словах все еще господствовали Ликурговы законы; но, вполне
выродившись, они служили лишь для того, чтобы поддержать са-
мые неестественные и насильственные несообразности. Знатное
сословие спартиатов сократилось до 700 человек; все землевладе- . а.
ние находилось во власти ста семейств81; остальные спартиаты §
обеднели; они поэтому не могли более принимать участия в сие- ш
ситиях, вследствие чего и не исполняли должностей, к которым 5
призваны были от рождения. Напомним, сверх того, о массе ли- |"8
шенных политических прав периеков, о массе в полном смысле
слова рабских илотов, прибавим также, что торговля и промыслы
находились в руках периеков, и многие из них достигали значи-
тельного благосостояния, что даже илоты могли приобретать соб-
ственность; когда при этом общественное мнение в соседних
областях стало изменяться и энергично осуществляться, то Спар-
та, без сомнения, подвергалась опасности более всякого другого
государства.
Поразительно, с каким порывом везде в греческом мире мо-
лодое поколение предавалось расцветавшей новой жизни. В Спар-
те также, прежде чем настала опасность со стороны лишенных
прав и имущества классов, образовался кружок благородных юно-
шей, у которых в виду позорной деятельности пробудилось вос-
поминание о прежнем величии Спарты. В их среде находился
молодой Агис, сын царя Эвдамида. Он вырос среди богатства и
пышности, привык к нарядам и красивой обстановке, был избало-
ван матерью и бабушкой, громадные богатства которой ему пред-
стояло унаследовать. Вступив после смерти отца на престол, едва
ему исполнилось двадцать лет от роду, он отрекся от всех своих
а
220
пошлых привычек, стал вести строгий спартанский образ жизни,
одеваться, упражняться, подобно предкам. Он говорил: «Царское
достоинство не имеет для него никакого значения, если при нем
он не в состоянии восстановить законы и строгие нравы Спарты».
Ему надлежало, однако, восстановить также военное значение
Спарты; он имел, вероятно, в виду добиться великими успехами
вовне положения, которое дало бы ему возможность энергически
восстать против господствовавшей порчи внутри. Биограф Агиса,
к сожалению, ничего не хотел сообщить об этой стороне его дея-
тельности; а две-три короткие заметки у Павсания в этом отно-
шении оказались почти негодными вследствие вкравшегося в них
ложного известия. При всем том, говоря о трофеях при храме
Посейдона в Мантинее, он подробно описывает данное там сра-
жение против Агиса; на правом фланге, рассказывает он, стояли
мантинейцы — их прорицатель Иамид из Элиды предрек им побе-
ду; на левом фланге аркадцы выстроились на бой по городам и
каждый из них под своим начальством, Мегалополь, например, под
предводительством Лидиада и Леокида; а в центре Арат с ахейца-
ми и сикионцами мнимым отступлением завлек Агиса между дву-
мя флангами и таким образом завершил его поражение. Павсаний
прибавляет82, будто Агис пал в битве; но эта басня придумана
позднейшими потомками, смешавшими его с царем Агисом во
* I времена Александра. По всему видно, однако, что нападение спар-
д- танского царя было энергичное и грозное: недаром для отпора его
ш собралось столько боевых сил; оно произошло прежде, чем Лиди-
ей ад сделался тираном в Мегалополе, наверное не позже 245 г. За
s
г этим сражением последовала, кажется, осада Мегалополя; город
едва не был взят приступом83. Третье нашествие простиралось до
"ф* Ахейской области, до Пеллены. Агис, как кажется, не обращал
внимания на образовавшиеся вблизи и вдали партии; Спарта долж-
на создать свою собственную политику, должна вновь добиться
прежней гегемонии в Пелопоннесе. Пеллена была уже взята, но
тут подоспел Арат со своими ахейцами и принудил Агиса отсту-
пить84. Тогда, как кажется, Спарта и ахейские союзники, вероят-
но при египетском посредничестве, заключили договор с условием
помогать друг другу; если это совершилось до освобождения Ко-
ринфа, то им еще тем более необходимо было соединиться про-
тив македонского преобладания и вновь усилившихся тиранов.
Эти неудавшиеся внешние попытки возбудили, вероятно,
неудовольствие среди олигархии; безуспешные войны не могли
доставить молодому царю то боевое превосходство, какого он
добивался; тем более, казалось, ему не следовало бы откладывать
далее внутренние преобразования.
Вскоре по освобождении Коринфа, Агис, по-видимому, и при-
ступил к великому делу внутренних реформ. Выше уже намечены
были главные статьи, какие надлежало изменить. Можно ли было
221
приступить к совершенно новому, отвечавшему идеям эпохи пе-
реустройству? Исходящая от угнетенной массы населения рево-
люция могла бы достичь этой цели; она искоренила бы мелкую
олигархию, путем насилия создала бы новое право на владение,
новый государственный строй, в том виде как он сложился бы сам
собою силою обстоятельств. В течение столетий не раз уже Спар-
те угрожали подобные революции со стороны илотов, периеков,
обедневших и лишенных прав граждан. Надо сожалеть, что, к ве-
личайшему несчастью Спарты, им никогда не удалось осуществить-
ся; это упорное коснение и было собственно причиною порчи
общественных условий, которые, опираясь на свое историческое
право, издевались не только над здравым человеческим смыслом,
но также и над духом Ликурговых законов. Демократия, тирания,
владычество чужеземцев, революция не сокрушили в Спарте, как
в большей части других государств, этот хлам иррациональных,
лишь фактических организаций, не открыли простора для нового
развития. Опасность и современная порча понуждали к переме-
нам; к ним и надлежало приступить, прежде чем за это возьмется
самовольно разнузданная, неистовая толпа; если бы вздумали при-
бегнуть к законному пути, то пришлось бы противодействовать
той самой олигархии, которая завладела всеми законными права-
ми, которая одна только и представляла правительство, и никак
нельзя было ожидать, чтобы она добровольно поступилась хоть
сколько-нибудь своим правом и своим имуществом. Для того что- §
бы помимо революции иным путем понудить ее к уступкам, еле- °
довало обнаружить противоречие олигархии с признаваемыми все 5
еще Ликурговыми уставами и потребовать восстановления этих |~8
уставов. Несмотря на их неопределенность, несмотря на то, что
они, конечно, слагались в течение более чем одного века, во вся-
ком случае, однако, во все эпохи признанная суть этих уставов
состояла в том, что государству принадлежит исключительная и
полная власть над имуществом и жизнью, над средствами и по-
буждениями отдельных особей, что оно за всеми желающими быть
его гражданами не признает никакого частного права, что воспи-
тание детей и дисциплину взрослых, оно безусловно подчиняет
целям всеобщего блага. Древняя Спарта была самым односторон-
ним осуществлением идеи государства; а с тех пор, как вследствие
развития демократии значение и право каждого лица возросли до
такой высокой степени, что сама древнеэллинская идея государ-
ства подверглась опасности, политическая теория стала указывать
на древние спартанские уставы как на образец настоящего госу-
дарственного строя. Действительность, однако, вовсе не отвечала
этому традиционному прототипу; та же отличительная черта эпо-
хи, стремившейся охранять интерес каждого лица и частное право
против отвлеченной идеи политии, преобразовала также и Спарту,
но только в более скудном, исключительном, как бы в случайном
гз'
2
виде. Разве теперь можно было ввиду изменившегося настроения
эпохи чисто и всецело восстановить прежнюю Ликургову поли-
тик)? Разве можно было вместо сложившегося в течение более
чем одного века владельческого сословия, вместо укоренившего-
ся в течение нескольких поколений, исполненного потребностей
и наслаждений образа жизни частных лиц, вместо изменившегося
направления воспитания, воззрений, занятий, всего умственного
и житейского строя вдруг вызвать древнюю суровую дисциплину,
отрицание собственности, семейного быта и всю гордую замкну-
тость прежних условий? И в самом деле, путь реставрации был так
же опасен, как и революция, а результат во всяком случае казался
еще более сомнительным.
Да, впрочем, этот путь был избран не по разумному расчету, с
целью предупредить угрожавшую опасность, а лишь по воодушев-
лению молодого царя и его друзей.
Дошедшее до нас подробное известие почерпнуто, правда, из
источника, чистота которого не раз уже подвергалась осуждению.
Филарх, у которого преимущественно и заимствовал Плутарх, в
этой части своего описания, так же как и в других случаях, ради
наглядности и живости упустил из виду многое и в особенности
более подробное изложение вопросов касательно права и уста-
вов. Однако за недостатком других известий мы не в состоянии
проверить его в подробности, а потому в нашем изложении мы
можем предложить лишь внешние факты, какие Плутарх успел
почерпнуть из своего источника.
Намерения Агиса не были тайной; его поступки, его упраж-
нения, его умеренный образ жизни обнаруживали, что, заявляя о
необходимости вернуться к древним спартанским обычаям, он сам
хотел подать пример в этом отношении. Старики громко порица-
ли его за замышляемые им нововведения; однако молодежь охот-
но следовала его примеру; дух древней Спарты, казалось, вновь
пробудился. Надо было подготовить решительный удар. Соучаст-
никами в замысле были прежде всего Лисандр, потомок победи-
теля при Эгоспотаме, величайшего из мужей, какие были в Спарте;
потом смелый и вместе с тем хитрый Мандроклид, посвященный в
тайны эллинской политики; Гиппомедонт, испытанный во многих
боях воин, уверенный в молодежи, которая была предана ему в
высшей степени; благодаря ему к делу пристал отец его Агесилай,
дядя царя; он был богат, но обременен долгами; пользуясь влия-
нием в качестве оратора, он мог быть весьма полезен для дела.
Самых больших затруднений следовало опасаться решительно со
стороны женщин; в них живо сохранилась вся гордыня исконно-
го, славного дворянства, исключительного права на господство;
они ревниво охраняли привилегии древних родов и влияли на муж-
чин тем сильнее, чем более эти уклонялись от древних спартан-
ских обычаев; сверх того, вследствие существовавшего уже более
ста лет злоупотребления во власти женщин оказались, наконец,
свыше двух пятых всех землевладений. Агис прежде всего попытался
склонить на свою сторону свою мать Агасистрату; благодаря свое-
му богатству, множеству друзей, должников, пользовавшихся ее
пособием людей она имела громадное влияние на общественные
дела; с великим трудом была она увлечена своим сыном и братом
Агесилаем, а потом уже сделалась весьма ревностною сподвиж-
ницею предприятия. Однако тщетно пыталась она привлечь дру-
гих женщин; они большею частью решительно восставали против
всякого нововведения, всячески интриговали, побуждали царя из
другого дома — престарелого Леонида, сына Клеонима — охра-
нять существующий законный порядок. Тогда как народ возлагал
свою надежду на Агиса и с отрадою ожидал обещанного им спа-
сения, олигархия видела в нем лишь эгоиста, который путем унич-
тожения долгов и разделения имуществ добивается популярности,
с тем чтобы при содействии толпы взамен свободы ввести тира-
нию в Спарте.
Осенью 243 года, наконец, молодому царю удалось настоять
на том, чтобы Лисандра выбрали в эфоры. Лисандр тотчас же внес
в герусию предложение, состоявшее главным образом из следую-
щих статей: все долги должны быть уничтожены; землевладения
следует вновь разделить, так чтобы известные участки, в особен-
ности вблизи Эврота, розданы были по жребию 4500 спартиатам I g
(таково было первоначальное Ликургово число), а остальные зем- | §
ли — 15 000 способным к военной службе периекам; количество
спартиатов надлежало дополнить из свободно воспитанных, здо- I 5
ровых и способных к военной службе периеков и иноземцев; та- |~8
кое дополнение было в ходу в прежние времена; вся совокупность
спартиатов, наконец, должна по старому обычаю делиться на сие- «%
ситии, т. е. на мелкие ассоциации, которые, собираясь ежедневно
на общие обеды и совместные упражнения, образовали корпо-
ративные составные части народа как в военной службе, так и в
гражданских должностях; везде надлежало восстановить древ-
ние спартанские обычаи и строгие нравы.
Мнения в герусии разделились; эфор перенес предложение в
народное собрание спартиатов. Агесилай, Мандроклид поддержи-
вали его; они напомнили о древнем изречении дельфийского бога,
что алчность к деньгам погубит Спарту; они сослались на недавно
возвещенный оракул в святилище Пасифаи, в силу которого по
Ликурговому постановлению все должны быть равны. Потом вы-
ступил также молодой царь; в коротких словах заявил он, что отда-
ет государству все свое состояние, а у него были обширные поместья
и шестьсот талантов деньгами; то же предлагают его мать, бабуш-
ка, друзья и соучастники, самые богатые из спартиатов.
Эти предложения, эти великодушные жертвы были приняты
с величайшим восторгом; но тем еще сильнее восстали богачи. От
&
224
герусии зависело предварительное решение; она отвергла пред-
ложение большинством одного только голоса. Оба царя также
заседали в ней; если бы можно было удалить Леонида и заменить
его одним из соучастников, то добились бы, пожалуй, иного ре-
зультата. По древнему обычаю эфоры на каждый девятый год обя-
заны были наблюдать ночью звездное небо, и если одна из звезд
падала в известном направлении, то отрешить как бы обличенных
этим знаком царей и подвергнуть их следствию. Так Лисандр и
поступил теперь с Леонидом; он обвинил его в том, что Леонид в
царстве Селевкидов женился на азиатской девушке, родил с нею
двух детей и т. д.86 Вместе с тем он побудил зятя Леонида Клеомб-
рота из царского рода занять упраздненный царский сан. Леонид
спасся бегством в храм Паллады Халкийской, а дочь его Хилонида
покинула дом своего мужа, с тем чтобы сопровождать находив-
шегося в опасности отца. Затем приступлено было к судопроиз-
водству, а так как он не решился покинуть храм и явиться к эфорам,
то они произнесли приговор об его отрешении, а царский сан пе-
редали Клеомброту.
В конце лета 242 года Лисандр с другими эфорами вышел в
отставку; новые эфоры были выбраны вполне в духе олигархии;
они начали с обвинения Лисандра и Мандроклида в том, что эти
люди противозаконно предложили уничтожить долги и разделить
* I имущество; обоим царям грозила участь Леонида и даже более
§■ жестокая, если опасность не будет предупреждена тотчас же; нельзя
а было обойтись без насильственных мер. Эфоры, как утверждали в
древние времена, назначались с целью, чтобы в случае, когда цари
i расходятся во взглядах, решать дело в пользу более справедливо-
го и целесообразного мнения; всякая иная власть, какую они себе
присваивали, была противозаконна; если оба царя согласны меж-
ду собою, то эфоры не имеют права протестовать. И вот оба царя
появились в сопровождении своих приверженцев на Агоре, при-
казали эфорам покинуть их места, заменили их другими, и среди
них Агесилаем. Они открыли долговые тюрьмы; они появлялись
на улицах в сопровождении вооруженной молодежи; олигархия,
опасаясь взрыва народной ярости, робко отстранилась от них;
Леонид спасся бегством в Тегею; сам Агис принял меры, чтобы
предохранить его от угрожавших ему по пути преследований.
В ту самую осень, когда спартанское государство подверглось
опаснейшим внутренним волнениям, к ним присоединилось, как
кажется, ужасное событие, которое было бы необъяснимо, если
бы внутренний разлад не сделал его возможным. Когда Антигон
Македонский лишился Коринфа и Мегары и Ахейский союз дого-
вором в Пеллене соединился со Спартою, то влияние царя на Пе-
лопоннес подверглось опасности; Антигону поэтому следовало во
что бы то ни стало помешать государственному преобразованию
в Спарте. Мы упомянули уже о том, что он заключил в этолянами
договор для совместного овладения и разделения областей Ахей-
ского союза87; договор относится, вероятно, к этому времени. Он,
однако, был направлен не только против ахейцев: если замыслы
Атаса в Спарте осуществятся, то с этой стороны угрожала такая
же опасность. В летописях упоминается о великом нашествии это-
лян под начальством Тимая и Хариксена; они в Лаконии захвати-
ли в плен множество периеков, как говорят, 50 000 человек, и увели
их в неволю; затем, пытаясь даже овладеть Спартою, хитростью и
силою возвращали туда изгнанников, ограбили храм Посейдона
на Тенаре, ограбили также святилище Артемиды в Лузах, вблизи
ахейской границы с Аркадией. Это был не обыкновенный этолий-
ский набег; все войско этолян выступило в поход; только таким
образом оказался возможным ужасный натиск опустошительно-
го набега, о котором старый спартанец с горечью заявил: «Эта
война облегчила Лаконию»88.
Несмотря на ужасы, какими сопровождался этот поход это-
лян, он, как кажется, не имел никаких дальнейших последствий в
интересах Антигона, оттого, может быть, что македонские бое-
вые силы были заняты в других местах или они тщетно пытались
вновь овладеть Коринфом. В наступавший затем год имелось в виду
открыть вновь кампанию и довершить начатое дело.
Этолийское опустошение и попытка возвратить в Спарту из-
гнанников побудили поспешить там с реформами. Они в самом деле
скоро осуществились89, но только совершенно не в том смысле, как
предполагал молодой царь и как надеялся бедный люд. Агесилай
во зло употребил доверие, каким его удостоили: он обладал об-
ширными и прекрасными поместьями, но сильно задолжал; в ка-
честве эфора он хотел допустить нововведения лишь настолько,
насколько это могло послужить ему на пользу. Он убедил своего
молодого племянника, что слишком опасно в одно и то же время
предпринять уничтожение долгов и раздел полей; он советовал
начать с уничтожения долгов. Лисандр также был убежден в це-
лесообразности такого мнения. Вследствие этого все долговые
расписки были собраны вместе и сожжены на рынке в один и тот
же день. Потом стали ожидать исполнения в скором времени дру-
гого мероприятия; цари издали уже приказ приступить к нему;
однако Агесилай всегда находил причины откладывать исполне-
ние; никто еще не мог подозревать тут злой умысел.
Настала весна 241 года. Этоляне опять грозили набегом, а
потому избранный вновь в союзные стратеги Арат пригласил
эфоров выслать к перешейку назначенное по договору вспомо-
гательное войско. Предводительство поручено было царю Агису.
Освобождение из долговой тюрьмы и уничтожение заемных пи-
сем было уже большим облегчением для бедных людей; а потому
призванные в войска охотно последовали за молодым царем; они
были уверены, что, вернувшись домой, будут вознаграждены но-
8 История эллинизма
вым имуществом. Там, где проходило войско, все удивлялись вы-
правке, дисциплине отрядов, исконной спартанской строгости, а
пуще всего царю; будучи моложе большей части своих солдат, он
несмотря на то пользовался их уважением и искреннею предан-
ностью; ни оружием, ни одеждой не отличался он от своих сорат-
ников, разделял с ними скудную пищу и все труды. Летописцы
положительно заявляют, что толпа везде порывалась взглянуть на
царя и удивлялась ему, а богачи между тем с боязнью взирали на
волнение, возбужденное появлением мужа, в котором бедный и
угнетенный люд чаял своего заступника.
Спартанское войско под Коринфом соединилось с Аратом и с
ахейцами; подобно Агису, и им также хотелось напасть на это-
лян, прежде чем они проникнут в Мегарскую область. Агис пола-
гал, что неприятеля не следовало допускать опять в Пелопоннес,
что на дух войска можно было положиться и отважиться на ре-
шительную битву; а впрочем, он готов был подчиниться мнению
старшего начальника. Однако ни желание царя, ни негодование,
ни насмешки солдат, которые отказ стратега приступить к реши-
тельным действиям отнюдь не признавали разумною предосторож-
ностью, не могли побудить Арата покинуть свою неприступную
позицию. Мало того, когда кончилась жатва, то, восхваляя спар-
танцев, он отпустил изумленного Агиса с его войском. Что могло
его побудить к этому? Неизвестно, на чем основана была уверен-
ность, что македонские войска не поддержат нападения этолян или
не проникнут вслед за ними в Пелопоннес; во всяком случае, од-
нако, Арат не решился соединенными силами напасть на этолян,
которые даже одни готовы были совершить опустошительный на-
бег, какой вскоре и был предпринят на самом деле. Необходимо
тщательно следить за малейшими поступками ахейского стратега,
с тем чтобы составить себе цельный сложный облик этого зага-
дочного мужа. Мы видели, что он храбро воевал при освобожде-
нии своего родного города и Коринфа; однако храбрости его
всякий раз предшествовали тайные козни и подкупы, она опира-
лась на неожиданное нападение на врага врасплох; затем меч
тотчас же скрывался под сенью гражданственности, всякое про-
явление силы, всякий свободный порыв сдерживались под видом
легальности, возбуждаемый вновь добытою свободою восторг
обуздывали якобы ради нормального спокойствия в союзе. А при
всем том он сам был вынужден то и дело нарушать это спокой-
ствие; он вступал в борьбу все с новыми тиранами, направлял то
в одну, то в другую сторону свои явные и тайные нападения, по-
стоянно возбуждал в союзниках новые ожидания, новые опасе-
ния, как бы опасаясь предоставить их собственному внутреннему
развитию. Назначаемый из года в год стратегом союза, он, как
обнаруживается на каждом шагу, все-таки не находится в насто-
ящем, животворном средоточии союзной жизни, как она сама
хочет развиться. Не прошло и десяти лет, как бедный люд энер-
гично восстал против него, с тем чтобы примкнуть к вождю, кото-
рый был выше его и вновь принялся осуществлять замыслы Агиса
в Спарте. Вот чем только и можно объяснить вышеупомянутую
странную отсылку спартанцев: воодушевление спартанского вой-
ска, сношение с армией задолжавших бедняков, которых выручи-
ла и вознесла смелая реформа молодого царя, все это расчетливый
политик счел необходимым устранить и удалить от ахейских союз-
ников.
Спартанцы ушли, Арат спокойно предоставил этолянам пе-
рейти через Геранейский хребет и, миновав Коринф, напасть на
Пеллену с целью ограбить город; а затем, пока они, рассеявшись
по домам, заняты были грабежом и разрушением, он с ратниками
из ближайших городов поспешил за ними, напал на выставленные
ими посты, обратил их в бегство, проник вслед за бежавшими в
город и после жестокого боя выгнал разбитых на всех пунктах
этолян из ворот; в этом бою их пало семьсот человек90.
Вот все, что мы знаем о войне 241 г.; это весьма неудовлетво-
рительно, тем более что непонятно даже, как Антигон и привер-
женные ему тираны в Аргосе, Мегалополе, не говоря уже о мелких
городах, могли предаваться при этом совершенному бездействию.
А в Спарте между тем совершились события, которые должны
были роковым образом повлиять на эллинскую политику вообще.
Агесилай самым гнусным образом воспользовался отсутствием
своего царского племянника и присвоенною ему властью эфора;
он до того дошел в своих алчных поборах, что, вопреки уставу,
ввел високосный месяц с целью взимать лишний месячный налог;
о разделе полей нечего было и думать. Для того чтобы охранить
себя от возраставшей и громко заявляемой ненависти, он являлся
в присутственное место не иначе как в сопровождении вооружен-
ных кинжалами наемников; он вполне уже был уверен в своей вла-
сти и публично заявлял, что удержит за собою эфорат даже по
истечении годичного срока; царь Клеомброт как бы совсем не су-
ществовал для него, а к Агису, который только что вернулся, он
относился так, как будто тот не царскому достоинству, а лишь
родству с ним одолжен остатком того значения, какое Агесилаю
заблагорассудилось предоставить ему. По дошедшим до нас изве-
стиям поневоле приходится верить тому, что все это могло так
случиться, хотя мы не в состоянии постичь, что помешало юному
царю противиться беззаконным поступкам своего дяди и привес-
ти в исполнение начатые с благородною целью преобразования.
Разве он не был более уверен в бедных спартиатах, в периеках?
Разве олигархам удалось уже навлечь подозрение даже на его че-
стные замыслы? Не побоялся ли он прибегнуть к насилию? Разве
сословие периеков лишилось своей силы вследствие этолийского
нашествия? Разве противникам реформы удалось привлечь на свою
сторону илотов, о положении которых, как кажется, вовсе не по-
заботились? Как бы то ни было, ясно только то, что всеобщее
озлобление дало противникам реформы возможность вернуть из-
гнанного царя Леонида. Благодаря лишь всеобщему уважению,
каким пользовался Гиппомедонт, и его ходатайству ему удалось
выхлопотать себе и своему отцу Агесилаю позволение беспрепят-
ственно удалиться из Спарты; Гиппомедонт обратился затем ко
двору Лагидов, откуда вскоре и был отправлен наместником вновь
приобретенных фракийских берегов91. Агис и Клеомброт искали
спасения в храмах. Леонид с вооруженными людьми явился в свя-
тилище Посейдона с целью отомстить Клеомброту; Хелидонида
(Хилонида), охранявшая прежде отца от мужа, поспешила теперь
защитить мужа от отцовского гнева; ей удалось, как говорят, раз-
жалобить отца и друзей его; Клеомброту разрешено было удалить-
ся; однако Леониду не удалось упросить ее остаться при нем; взяв
за руку одного ребенка, она понесла другого и последовала за
Клеомбротом в изгнание92.
Дальнейший рассказ представляет в ярком свете настоящий
образец подлой ярости восторжествовавшей олигархии. Избрав
новых эфоров из своей партии, Леонид стал преследовать Агиса.
Его пытались выманить из святого убежища ласковыми посула-
ми: пусть он явится, с тем чтобы царствовать вместе с Леонидом;
граждане простили ему ради его юности, которую соблазнил
Агесилай. Агис, однако, остался в храме, иногда только ходил
он купаться в сопровождении трех друзей; между ними находил-
ся Амфар; он был одним их вновь избранных эфоров, несмотря
на это Агис доверился ему; недавно еще мать царя Агисистрата
в знак полного доверия к Амфару ссудила его драгоценными со-
судами и праздничными одеждами. Ему очень хотелось присвоить
себе все эти драгоценности, и он решился погубить и мать и сына.
Амфар подстрекнул остальных эфоров к самому насильственно-
му поступку, взявшись сам привести его в исполнение. Однажды
он опять с двумя остальными друзьями, Демохаром и Аркесила-
ем, которых успел уже склонить на свою сторону, сопровождал
молодого царя в купальню; шутя и смеясь возвращались они мимо
переулка, который вел к тюрьме; тут Амфар схватил царя — в силу
данной ему власти он привлек в собрании эфоров царя к ответ-
ственности за все, что делал Агис. Демохар накинул на его пле-
чо плащ; тут подоспело еще несколько заранее подготовленных
людей; они тащили и подталкивали царя к тюрьме, которая тот-
час же со всех сторон была осаждена наемниками Леонида. Вско-
ре собрались эфоры и назначенные ими члены герусии, на решение
которых можно было положиться. Так начался уголовный суд над
Агисом. С благородным спокойствием заявил он, что его никто не
понуждал, что он действовал по своему убеждению и не раскаи-
вается в своих поступках.
229
Тотчас же стали собирать голоса; его присудили к смерти.
Решено было отвести царя в камеру, где производились казни.
Палачи не осмелились прикоснуться к царскому телу, наемники с
уважением отступили. Возраставшее волнение собравшейся на
улице толпы, тревога, возбужденная появлением Агисистраты и
ее матери, — все это понуждало поспешить с казнью. Демохар
схватил царя и поволок его в камеру. Один из палачей громко ры-
дал, тогда Агис воскликнул: «Успокойся; меня убивают беззакон-
но, я ни в чем не повинен, а потому счастливее моих убийц». Потом
он спокойно дал себе накинуть петлю на шею. Амфар тем време-
нем поспешил к воротам, где мать и бабушка царя с возраставшим
жаром требовали публичного следствия перед гражданами и за-
щиты сына. Амфар уверил их, что его никто не тронет; он пред-
ложил Агисистрате войти к сыну и самой убедиться в этом. Она
просила, чтобы по дружбе к ней он позволил войти также ее мате-
ри. Едва вошли они, как ворота были заперты. Амфар повел спер-
ва престарелую Архидамию в камеру повидаться с Агисом; палачи
тотчас же схватили ее и накинули петлю на шею. Потом он велел
войти матери; она увидела мертвого сына на полу и повешенную
мать. Агисистрата помогла палачам снять тело и положить его
рядом с сыном; потом поцеловала его и стала сетовать на то, что
чересчур благородный, кроткий нрав царя уготовил гибель род-
ным. Тут в дверях камеры показался Амфар: если она одобряет
преступление Агиса, то сама подлежит той же каре; он приказал I §
повесить также и ее.
Таков был исход революции; в Спарте никогда не происходи- 5
ло более гнусного дела; народ до того боялся властителей, что |~8
робко затаил свою ненависть к Леониду, Амфару и их соучастни-
кам. Олигархия одержала полную победу. Однако разве при Лео- «"%*
ниде не было другого царя? Брат Агиса Архидам спасся бегством,
а вдову Агиатиду Леонид принудил выйти замуж за своего мало-
летнего сына Клеомена; таким образом, только что родившийся
тогда сын Агиса тоже подчинился власти Леонида; может быть,
этот ребенок и был назван царем?93
Изложенные здесь события, как было уже замечено, заимство-
ваны у Филарха; на них и лежит сильный отпечаток его искусст-
венного способа изложения. До нас не дошло никакого иного
известия, по которому можно было бы составить более ясный об-
лик Агиса взамен весьма шатко очерченного Плутархом его ха-
рактера. В этом известии вовсе не упоминается о битвах Агиса при
Мантинее, Мегалополе, Пеллене, которые, как кажется, обнару-
живают, что молодой царь обладал не только тою самоотвержен-
ною кротостью и тем легковерным воодушевлением, которым так
гнусно воспользовался его дядя Агесилай. Было бы, пожалуй, не-
основательно предположить, что великий замысел не удался по
вине самого Агиса; однако по сохранившимся известиям нельзя
постичь, каким образом олигархам удалось переубедить, соблаз-
нить толпу, отвлечь ее от великого дела, которое только при ее
помощи и могло быть удачно исполнено. Единственный упрек,
какой, судя по сохранившимся фактам, можно сделать молодому
царю, состоит в том, что он надеялся без насильственных мер со-
крушить олигархию, и вместо того чтобы начать с изгнания и каз-
ней олигархов он полагал, что благое дело само в состоянии будет
преодолеть всякое противодействие.
Мы упомянули о том, что изгнанники, которых этоляне, со-
юзники Македонии, пытались вернуть в Спарту, были именно
Леонид и его друзья. Торжество этой партии в настоящее время
оказалось весьма выгодным для македонской политики; благода-
ря такому исходу Спарта отделилась от Ахейского союза; мало
того, богачи в Мантинее, Орхомене, Тегее, во всех городах, куда
заходил Агис во время коринфского похода и где весть о рефор-
мах его в Спарте возбудила среди бедного люда сильное, опасное
волнение, вынуждены были прибегнуть к связям, которые охра-
нили бы их от взрывов недовольства лишенных теперь всякой
надежды бедняков. Десять лет спустя после этого Мантинея на-
ходилась уже под покровительством Македонии94; город, вероят-
но, именно в это время присоединился к Спарте и Македонии. Как
бы то ни было, но Македония вновь добилась влияния в Пело-
* I поннесе. Антигону пришлось убедиться в том, что не было более
д- никакой возможности, как он надеялся, расстроить с помощью
ш I этолян Ахейский союз. Престарелый царь поневоле удовольство-
вался тем, что ввиду вновь сложившихся условий положен был
£ I предел дальнейшему распространению союза; ему во что бы то ни
стало следовало восстановить спокойствие вовне, благодаря чему
только и возможно было внутри государств заглушить исподволь
волнение и возникшее стремление к «свободе и самоуправлению»;
он мог даже предвидеть, что, будучи предоставлен внутренним
раздорам, Ахейский союз разобьется на партии и благодаря им
ослабеет сам собою. Продолжать долее войну, которую Македо-
ния вела в неестественном союзе с этолянами, не могло уже прине-
сти никакой пользы; значительные успехи, без сомнения, побудили
бы протектора союза Лагида непосредственно вмешаться в эллин-
ские дела, а Антигону не по силам уже было состязаться с ним.
В это самое время, как кажется, Селевк II в Азии был совершенно
разбит галлами; оттуда нечего уже было ожидать помощи, за ис-
ключением разве сомнительного пособия от мелких государств.
Не обратил ли проницательный царь свое внимание также на за-
падные отношения? Весною того же года римляне одержали свою
последнюю решительную победу над пунами и добились мира,
вследствие которого в их власть перешла вся Сицилия, за исклю-
чением небольшого владычества Гиерона; те же, столь близкие
к эллинскому полуострову римляне, в течение тридцати лет уже
х
находились в связи со двором в Александрии; хотя по поводу ока-
занного Ксантиппу покровительства и возникли временные несо-
гласия, во всяком случае, однако, естественные интересы обеих
сторон неминуемо должны были связать Египет с Италией.
Мы поневоле ограничиваемся этими общими взглядами, для
того чтобы объяснить мир, заключенный Антигоном с ахейцами.
Не сказано, впрочем, на каких условиях; македонский царь во вся-
ком случае признал Ахейский союз в существовавших тогда его
размерах, отказался, следовательно, от своих притязаний на Ак-
рокоринфе. Мы не знаем, потребовал ли он при этом уничтоже-
ния египетского протектората и заключил ли в то же время мир с
Египтом. Неясно также, договаривался ли он с ахейцами с согла-
сия этолян; совершившиеся года два спустя после того события
обнаруживают, по крайней мере, что среди этолян сильная партия
была против Македонии. Следовало бы ожидать, что Македония
заручилась известными гарантиями со стороны союза, а именно,
что она позаботилась предохранить тиранов от ахейских вмеша-
тельств; некоторые известия намекают на это. Когда Арат пытал-
ся освободить Афины, то ахейцы упрекнули его в нарушении мира;
в своих мемуарах он, однако, сам утверждал, что был совершенно
чужд этому делу, что Эргин Сирийский на свой страх покусился
напасть на Пирей и, будучи преследуем гарнизоном, то и дело с
целью обмануть противника выкрикивал его имя, как будто сам I g
Арат тут присутствовал95. То же самое было с Аргосом; Арату там | §
во что бы то ни стало хотелось низвергнуть тиранию, однако, как
надо полагать, мир связал ему руки. При всем том он не преминул I 5
тайком действовать в Аргосе. Там возник заговор против тирана |~8
Аристомаха; когда тиран под страхом наказания запретил граж-
данам иметь при себе мечи, то Арат из Коринфа тайком провез
оружие в Аргос; но вследствие раздора между заговорщиками и
доноса одного из вожаков предприятие не удалось; соучастники
спаслись бегством в Коринфе. Вскоре вслед за тем Аристомах был
убит своим рабом; Аристипп тотчас же захватил власть. Когда
весть об этом дошла до Арата, он немедленно двинулся с ахейски-
ми воинами на Аргос в надежде застать аргосцев готовыми воспри-
нять свободу; однако никто из них не восстал, и Арату пришлось
вернуться, ничего не добившись; он только навлек на себя упрек
за то, что ахейцы среди мира напали на соседнюю страну. Замеча-
тельно, что Аристипп по этому поводу обжаловал Ахейский союз
у мантинейцев; а когда Арат не явился на суд, то его приговорили
к денежной пене в тридцать мин96.
Отсюда вытекают два следствия: во-первых, действуя явно в
качестве стратега союза (иначе его попытка не могла бы вменить-
ся в вину союзу), Арат прибег к мерам, которые союзный совет не
одобрил и не предлагал, оттого что иначе нельзя было бы избе-
жать формальной войны или, по крайней мере, дипломатических
Я
переговоров вместо суда; а во-вторых, в мирном договоре нахо-
дилось, вероятно, постановление, в силу которого спорные дела
между государствами надлежало решать судебным порядком.
Почему же, однако, Аристипп жаловался именно в Мантинее?
Разве союз и Аргос согласились передать этому городу третей-
ский суд, как это делалось обыкновенно в Греции? Или не нахо-
дился ли в Мантинее верховный суд македонян в Пелопоннесе,
которому тираны добровольно подчинились?97 Последнее немыс-
лимо, так как Ахейский союз, без сомнения, не признал бы такого
судилища. По смыслу рассказа нечего и думать о суде, назначен-
ном от разных государств полуострова.
Не вполне два года спустя после этого мира в Греции заклю-
чен был также мир в азиатских областях, как кажется, еще при
жизни Антигона. Мы не знаем, принял ли он участие в соглаше-
нии между братьями Селевкидами и в египетском договоре, что,
однако, весьма вероятно; его политика отличалась именно самою
обширною и самою осмотрительною деятельностью98. Престаре-
лый Антигон умер как раз в такое время, когда настало всеобщее
спокойствие на востоке и западе99. Жизнь его была полна преврат-
ностей; он многого добивался, но мало чего достиг. Оглянемся
назад: он наследовал право на македонский престол; галаты опус-
тошали Македонию, претенденты и узурпаторы тревожили ее,
* I цари молоссов, то и дело нападая, раздробляли и грабили ее; од-
§■ нако благодаря долговременным поразительным усилиям Анти-
m I гон не только вновь восстановил Македонию, обеспечил ее извне,
урядил внутри, но и возвел ее из политического ничтожества опять
г | в державу первой степени и, несмотря на возникшие вновь опасно-
сти, поддерживал ее, имея сравнительно скудные боевые средства;
сильная Македония опять охраняла эллинские края от северных
варваров. Потом с такой стороны, откуда меньше всего можно
было ожидать этого, возникла для Антигона борьба, которая в
самом деле была ему не по силам. Ему удалось преодолеть напа-
дения властолюбивых государей и коварные козни их политики;
однако он был не в состоянии подавить обуявшее народы Пело-
поннеса движение. Это движение оказалось неодолимым; хотя оно
временно и было подавляемо то в одном, то в другом месте, но его
никто не мог уже ни обуздать, ни поворотить вспять. Это движе-
ние с поразительною быстротою разорвало сеть, какою македон-
ская политика с давних пор уже опутала большую часть Греции;
оно в Ахейском союзе нашло, хотя и не живое свое выражение,
но, по крайней мере, начатки социального строя, благодаря кото-
рому впервые оказалось возможным истинное и законным путем
организованное слияние нескольких политий в одно союзное го-
сударство. Такое федеральное устройство сильно увлекало нахо-
дившиеся во власти тиранов и олигархов или одинокие немощные
города, тем более что оно само по себе уже порывалось распро-
233
страняться все далее и далее; расширяя область основанного на
равенстве и на известных принципах права, оно стремилось по
возможности усилить и утвердить его. Таким образом, в недрах
так давно уже лишенного всякой энергии и самостоятельности гре-
ческого мира восстала против Македонии и против ее преобла-
давшего дотоле влияния сила, мощь которой состояла не в боевых
ее средствах, а в том принципе, который она, хотя еще не осуще-
ствила, но все-таки заключала в себе. Какая широкая будущность
предстояла этой новой социальной организации! До сих пор су-
щественное значение Македонии в качестве великой державы со-
стояло в отношениях ее к другим великим державам, к Сирии и
Египту; греческие дела она считала как бы своими частными дела-
ми, и сама Греция, казалось, составляла как бы часть македонских
владений. А потому так поразило Македонию вдруг это мощное
противоборство союза; она очутилась с ним в антагонизме и лиши-
лась своего великого и широкого значения, запутавшись притом
в сетях представших крайне затруднительных отношений. В Гре-
ции Антигон мог только поддержать консервативную политику;
ему необходимо было добиться спокойствия именно здесь; и вез-
де, куда бы ему ни удалось проникнуть со своим непосредствен-
ным владычеством, он способствовал образованию единовластия,
тирании, которая, утвердившись фактически, служила лучшей
гарантией внутреннего мира. Против этих-то лишь фактических . ^.
состояний, против насильственного права чуждой власти или про- §
тив внутренней тирании и восстало теперь неотъемлемое право °
автономии и народной свободы, и восстало притом с таким само- 5
отвержением, что как та, так и другая добровольно отрекались от Г8
своих существенных атрибутов в пользу единства и верховенства
союза. Монархия со времен Филиппа и Александра пыталась вос-
препятствовать раздроблению на мелкие части эллинских политии
и в качестве лишь отдельных общин приурочить их к более обшир-
ному составу государства; но до сих пор это удавалось только от-
части, путем насильственной власти, и лишь настолько, насколько
последняя успела утвердиться. Теперь та же самая мысль осуще-
ствилась вследствие нового, охватившего Грецию движения; она
и сделалась душою Ахейского союза. Ахейские и дорийские, мел-
кие и крупные общины соединились уже, с тем чтобы передать
союзу свою державную власть, свое право вести войну и заклю-
чать мир; одинаковые меры и вес, одинаковая монета, одно и то
же коммерческое право, одна и та же, в сущности, конституция в
каждом из союзных городов, одна и та же администрация, равно-
правность для всех союзников, — вот что связывало их; одно и то
же союзное войско охраняло, одно и то же союзное ведомство
управляло всеми. Полнее чем в какой-либо из монархий той эпо-
хи проводилась тут идея однородной организации, но в связи с
преимуществами свободной автономии; общинная самостоятель-
но
ность каждого отдельного города, его местные привилегии, его
финансы, его самоуправление находилось под покровительством
союза, а вместе с тем тот же город пользовался равным правом
голоса в совещаниях союзного собрания100.
Когда возник этот антагонизм между монархической Маке-
донией и свободным государством Ахейского союза, то по суще-
ству дела новые противоположные друг другу преобразования
должны были во многих отношениях отразиться на остальные эл-
линские условия. В нашем дальнейшем изложении представятся
несколько замечательных явлений в этом роде; мы уже говорили
о знаменательных событиях в Спарте, неудача которых скоро долж-
на была привести к более энергичному возобновлению.
Знаменательно, прежде всего, то, что при этих новых усло-
виях образовался Этолийский союз. На первый взгляд, он, ко-
нечно, казался демократическим и соединением разных племен
и городов, подобно Ахейскому; но между обоими союзными го-
сударствами состояла такая же резкая противоположность, как
в сущности и между самыми крупными конституционными дер-
жавами нашей эпохи, между чисто историческим развитием од-
них и антиисторическим, рациональным других101. В Этолии давно
уже существовало соединение отдельных общин в одну, если
угодно, демократическую ассоциацию102. Но эта ассоциация да-
леко еще не сложилась в твердое единое государство. Отдельные
личности или целые толпы, подобно галатам, совершали набеги
или шли в наемники, куда кому вздумается, хотя бы даже союзу
угрожала жестокая война и великая опасность на его границах103;
вот до чего ограничена была власть союза над правом и волею
отдельной личности; он едва был в состоянии охранять своих
членов от грабежа и насилия или, по крайней мере, обеспечить
за ними возмездие. Это было вовсе не государственное, а вар-
варское состояние, из которого остальная Греция в течение не-
скольких столетий успела уже выйти благодаря образованию
политий. Когда города вступали в союз и становились этолянами,
как например Навпакт или Амфисса104, то это надо было считать
упадком, попятным шагом к эпохе кулачного права и «доблест-
ных набегов»; все это состояло в резкой противоположности с
тем, что творилось в Ахейском союзе. По надписям оказывает-
ся, что этоляне захватили в свою власть Амфиктионов суд и вос-
пользовались им с целью присуждать экзекуции, которые потом
исполнялись, конечно, как бы по административному решению,
в виде хищных набегов105. Для того чтобы спастись от подобных
вторжений отдельных личностей и панэтолийских общин как на
суше, так и на море, необходимо было вступить в союз; в таком
только случае стратег обязан был велеть возвратить добычу, и
пострадавшие вольны были обратиться к этолийским судам за
вознаграждением106. Можно с достоверностью предположить,
что этот союз отнюдь не состоял, подобно Ахейскому, из одних
только равноправных членов; в случайно сохранившейся заметке
значится, что локры (опунтские) «не будучи в состоянии воспро-
тивиться декрету этолян, предоставили решить царю Антигону,
какую дань обязан выдать локрийский город»107. Остров Кефал-
ления был такого же рода данником108, и немыслимо даже, чтобы
разбитые в открытом бою беотийские города, вынужденные затем
примкнуть к союзу109, вступили в него равноправными членами. Они,
вероятно, пользовались только покровительством; об этом, впро-
чем, не сохранилось никаких более подробных известий. Мы
скоро увидим, что города в Пелопоннесе, за исключением Эли-
ды, также острова и лежащие по ту сторону моря Лисимахия,
Халкедон, Киос пристали к Этолийскому союзу и назывались
этолянами; все они сохранили свое прежнее правление с «сове-
том и народным собранием»110; нигде не упоминается о том, что-
бы эти дальние члены союза путем правильного и устроенного
представительства принимали участие в совещаниях и выборах
панэтолийских общин, чтобы они занимали места в союзном суде
или совете. Они обращались к союзному ведомству не через сво-
их представителей, а через посольства, и получали ответ также
через посланников111. По этим немногим указаниям уже видно,
что политическая организация старого союза была грубая, что
она вовсе не отвечала высоким и развитым социальным идеям
греческого мира той эпохи. К ядру старой панэтолийской общи-
ны приурочились неорганическая, безжизненная масса племен
и политий, соседних и дальних, из которых одни обязаны были
платить дань, другие состояли в шаткой дружбе с союзом, а иные
под его покровительством, и все это подчинялось случайно сло-
жившимся обстоятельствам.
Однако это ядро Этолийского союза было настолько сильно
и воинственно, что могло доставить действительную охрану сво-
им членам. Этолийские воины, без всякого сомнения, были самые
страшные во всем греческом мире; и всякий, кто пользовался силь-
ной поддержкой союза, даже далеко за морем считал себя обес-
печенным от всякой опасности. В случае нужды союз отправлял
стратега с отрядом, поручив ему защитить угрожаемое место112.
Неизвестно, придавалось ли сборам обложенных податями мест
такой смысл, что этим они как бы платили за оказанную им защиту
со стороны союза; во всяком случае, боевую силу в нем составляли
сами этоляне, и их положение можно в некотором роде сравнить
с тем, какое Афины занимали некогда в образовавшемся против
персов союзе.
Эти подробности послужат нам объяснением внешней поли-
тики Этолийского союза. Этоляне прежде всего охраняли себя и
присоединившиеся к ним области от чужеземного насилия. Таким
образом, они со времен Александра не переставая вели борьбу с
236
сильною Македонией и до сих пор ненарушимо удержали за со-
бой свою стойкую самостоятельность. Чем обширнее становилась
подчинившаяся их покровительству область, тем более обильные
дани стекались к ним, тем чаще представлялся повод совершать
добычные набеги. Новые создания, вроде Ахейского союза или
вроде реформы Агиса в Спарте, наносили ущерб их интересам в
том отношении, что при этом возникали новые боевые силы, ко-
торые в состоянии были воспротивиться их дерзкому кулачному
праву, повредить их влиянию на охраняемую ими область; они
дошли до того, что соединились против Агиса и ахейцев с искон-
ным врагом их союза, с Македонией. Этоляне отнюдь не имели в
виду содействовать усилению Македонии; ревниво следя за ее вла-
дычеством, они предоставляли Македонии расширяться лишь в
таком случае, когда вместе с тем за ними обеспечивалась более
выгодная добыча. Имевшийся в виду раздел Ахайи должен был
послужить их интересам. Он не удался; не прошло еще и двух лет,
после того как этоляне в связи с ахейцами вели уже борьбу про-
тив Македонии. Лишь тогда, когда они были поставлены между
этими двумя государствами, развилась у них политика; она на са-
мом деле оказалась отважнее и решительнее, нежели робкая по-
литика ахейских граждан. Сознавая свои силы, этоляне то и дело
собирают под свою сень соседние и дальние области; они хотят
* I быть поборниками греческого мира, и охраною его суждено быть
jj- не царю и его тиранам, не мирным законам и договорам ахейских
m I граждан, а, скорее, доброму мечу этолян; ему должен подчинить-
ся и довериться греческий мир. Это гордое и самонадеянное со-
знание силы воодушевляло общину и их вождей; в каждой черте
все еще проглядывала неистощимая, грубая самобытность этого
племени; оно находилось в резкой противоположности с Ахей-
ским союзом.
Однако вернемся к тому времени, когда умер Антигон. Ахей-
ский союз едва лишь организовался, как начал уже угрожать Ма-
кедонии. Хотя Пелопоннес и был успокоен мирным договором,
однако македонское влияние всюду подвергалось самой сильной,
все возраставшей опасности; при таких-то условиях несокруши-
мая сила Этолийского союза, завладевшего уже большею частью
самой Эллады, получила крайне грозное значение. Достигнув
после Хремонидовой и Киренейской войны высокого положения,
Македония запуталась теперь так, что значение ее в качестве ве-
ликой державы оказалось сомнительным.
А разве последняя ужасная борьба в Азии не была еще па-
губнее для сирийской монархии? Она понесла не одни только гро-
мадные утраты на дальнем востоке, но от нее отделилась даже
Малая Азия по ту сторону Тавра, и в самой даже Малой Азии Се-
левкидово царство Антиоха Гиеракса было уже немногим обшир-
нее владений Вифинии, Понта и Каппадокии; оно уже нигде не
z .
*1
доходило до берегов. Египет достиг громадного превосходства.
Он с небольшими перерывами обладал берегами от Сирта до Гел-
леспонта и до македонской границы. Однако внутренняя сила еги-
петского государства все-таки не возрастала в такой же степени.
Превосходство царства Лагидов заключалось в том, что Египет
пользовался вполне однообразной организацией; но правитель-
ство не в состоянии было организовать таким же образом даже
ближайшие свои завоевания, Кирену и южную Сирию; и эта ано-
малия оказалась опасною для царства, тем более что оно стало
расширяться благодаря еще новым и дальним захватам, именно
тех земель, которые до сих пор представляли столь выгодные ме-
ста для нападения на Сирию. Владычество Лагидов ограничилось
там помещением гарнизонов и взиманием дани; оно, однако, не-
способно было вполне приурочить к себе ни финикийские горо-
да, ни понтификат Иудеи, ни греческие политии на островах, по
берегам Малой Азии, во Фракии, в Кирене; этим путем оно само
себя привело в ту же немощь, какая изнуряла до сих пор Македо-
нию и Сирию; и подобно им оно вынуждено было усвоить себе
консервативную политику, которая не угрожает опасностью, а
напротив, дарует крепость лишь сильной самой по себе и едино-
державной власти, лишь цельному по естественным условиям госу-
дарству. В то же время как Египет одержал свои блистательнейшие
победы и достиг самых обширных размеров, обнаружились так-
же и признаки его немощи. Кто же именно воспользовался ими?
Знаменательно то, что мелкое царство Родоса одержало победу
над египетским флотом; что пергамские династы, пользуясь воз-
бужденными египетской политикой смутами в Малой Азии, воюя
против галатов, успели к своим финансовым средствам присоеди-
нить еще нравственную власть, в силу которой в состоянии были
идти своим независимым путем; что Ахейский союз возник под
египетским покровительством; что Египет способствовал в Пело-
поннесе той же свободе, какую поборол в Кирене и не в силах был
подавить в Ионии.
Таким образом, из борьбы трех великих держав, из их, так
сказать, всеобщей перетасовки владений всюду стали развивать-
ся мелкие местные организации более замкнутого, более инди-
видуального характера; и они с энергией и непосредственностью
развивали свою политическую власть, которая все более и более
ограничивала значение великих держав и чрезвычайно содей-
ствовала раздроблению системы эллинистических государств,
а западный мир между тем почти всецело был охвачен упорным
антагонизмом между Римом и Карфагеном.
КНИГА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
239-227 гг.
Мирное состояние. — Поход Селевка на Восток. — Возмущение
в Антиохии. — Победа Аттала над галатами. — Вторая война
Селевка с Антиохом. — Мир. — Нападение Антиоха
на Аагидов. — Антиох побежден Атталом; его смерть. —
Акарнания обратилась к Риму за помощью. — Царская власть
в Эпире низвергнута. — Деметрий против дарданцев. — Этоляне
и ахейцы соединились. — Деметриева война. — Лидиад. — Мир
в Греции. — Иллирийцы и их набеги. — Рим против
Иллирии. — Смерть Деметрия. — Расширение ахейцев. —
Устройство союза. — Рим и Греция. — Воцарение Антигона И. —
Антигон занимает Карию
Ни одна эпоха в истории эллинизма не представляет таких
великих затруднений, как десятилетие, к которому мы теперь пере-
ходим; нигде почти нельзя добиться связи в событиях; величайшие
и самые чреватые последствиями факты сообщаются преданиями
в скудном виде, так что на них не обратили бы даже внимания,
если бы на основании всего предшествовавшего не следовало ожи-
дать знаменательных переворотов.
В то время, когда умер Антигон Гонат, господствовал всеоб-
щий мир, но этот мир отнюдь не был основан на искреннем согла-
шении противоборствующих начал. В Европе выступили новые
силы в борьбу; на севере уже активизировались варвары; вступле-
ние на престол какого-либо молодого даря служило сигналом к
новым тревожным волнениям со всех сторон. В Азии царство Се-
левкидов было раздроблено; Антиохова держава в Малой Азии
находилась в крайне ложном положении, в котором ей нельзя было
оставаться; а пока Селевк на Востоке не был опасен для Аагидов,
до тех пор Египту, на союз с которым опирался Антиох, незачем
было особенно споспешествовать его владычеству; не говоря уже
о том, что Лагид не мог забыть о мире, который Антиох заключил
со своим братом. Вследствие сделанных брату уступок и преобла-
дания Египта Селевк встречал на западе непреодолимые прегра-
ды, а ввиду запутанных дел в Македонии он не мог ожидать от нее
никакого пособия; так что в конце концов он вынужден был об-
ратиться на Восток с целью вновь восстановить там свое расстро-
енное владычество; тем еще более, что он ничем не был обязан
признавать захваты тамошних узурпаторов.
Не подлежит сомнению, что Селевк, заключив мир, вскоре
затем обратился на Восток. Сестра его отца Стратоника поки-
нула Македонию, и муж ее Деметрий вступил в новый брак. Она
прибыла в Сирию, надеясь, что племянник ее женится на ней и
239
отомстит Деметрию за ее бесчестие. Однако Селевк не согласился
на се предложение; он «из Вавилона совершил кампанию» на Во-
сток1. Судя по позднейшим событиям оказывается, что Мидия и
Персия, подчинившиеся Лагиду или восставшие самостоятельно,
были тогда вновь покорены2. Единственное непосредственное све-
дение, какое до нас дошло об этой кампании, относится к парфя-
нам. Известие о том, что в это время брат Аршака Тиридат был
уже царем, не подлежит, кажется, сомнению; его легко можно
было спутать с братом, так как он, подобно всем следующим ца-
рям, принял также имя Аршака3. Он помимо Парфии обладал уже
Гирканией; теперь, когда подходило войско Селевкидов, этот Ар-
шак опасался, как бы Диодот Бактрийский не соединился с Се-
левком с целью разбить его. Однако один из весьма достоверных
писателей, упоминая о скифских кочевниках в обширных облас-
тях нижнего Окса и Яксарта, говорит: при Александре к ним спа-
сались бегством Бесс и Спитамен, к ним же, а именно к апасиакам,
бежал впоследствии Аршак, спасаясь от Селевка Каллиника4. Итак,
Селевку во всяком случае удалось вновь покорить захваченные
парфянами области. Это завоевание, как оказалось впоследствии,
было непрочно. По другому известию, как раз в то время, когда
подходил Селевк, умер Диодот Бактрийский; с его сыном и наслед-
ником того же имени Аршак заключил мир и союз; обеспечив себя
с этой стороны, он вел борьбу против Селевка и победил его; с тех
пор парфяне стали праздновать день одержанной победы как на- I S
чало своей свободы. Странно, что, судя по тому же известию, Се- _,
левк вернулся восвояси, но не вследствие этого поражения, а по -§
причине возникших в его царстве новых мятежей5. §
Вот все, что мы знаем об экспедиции Селевка II6. Не сохрани-
лось никакого известия о том, отнеслись ли к нему враждебно или
нет восточные сатрапы, признали ли они потом над собою вер-
ховную власть царя или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае
Аршак тотчас же вернулся со своими парфянами в недавно лишь
приобретенные им владения; теперь-то, собственно, и было поло-
жено твердое основание его владычества; армия была приведена в
порядок, были основаны крепости, даже город Дара, или Дари-
он7. Итак, области, господствовавшие над сообщением с Восто-
ком, находились в чуждой власти, а потому зависимость восточных
сатрапий, хотя бы и признавалась, как кажется, областями в Арии,
Дрангиане, Арахосии, была, конечно, весьма шаткая и значилась
только номинально. Однако принятые впоследствии Антиохом III
меры свидетельствуют о том, что он еще не отказался от своих прав
на владение, что независимость сатрапий не была еще заявлена и
признана формально8.
Итак, внутренние тревоги принудили Селевка вернуться назад.
Говорят, что Стратоника возбудила мятеж в Антиохии; потом
явился Селевк и покорил город. Стратоника бежала в Селевкию
о
при устье Оронта и, вместо того чтобы как можно скорее удалить-
ся за море, надеясь на предвещенный ей во сне исход дела, осталась
тут же, была захвачена в плен и предана смерти9. Неужели Стра-
тоника и только она одна возбудила такое движение? Какую цель
при этом восстании имели граждане Антиохии? Неужели они хо-
тели передать царство женщине? Или вновь подчиниться египет-
скому владычеству? Всего вероятнее кажется, что в этом сирийском
мятеже Стратоника занимала лишь второстепенную роль, что это
восстание было лишь отдельным случаем в целом ряде событий,
что именно Антиох Гиеракс хотел воспользоваться отсутствием
своего брата с целью завладеть странами по сю сторону Евфрата10.
О постигшей затем Антиоха Гиеракса судьбе имеются два из-
вестия, которые в существенных чертах противоречат друг другу,
и нет никакой возможности распутать этот клубок бестолковых и
искаженных фактов11. А потому предлагаемое здесь изложение
заслуживает лишь некоторую долю вероятности.
После столь продолжительных и ужасных войн, расстроив-
ших именно в Малой Азии всякий порядок и вновь разнуздавших
дикие орды галатов, всеобщий мир не мог долго продержаться,
тем еще более, что установленные вновь отношения оказались не-
состоятельными. Селевк уступил своему брату область до Тавра;
однако Фригия была еще во власти Митридата, и сохранилось из-
к I вестие, что Антиох прошел по Великой Фригии, вымогая дань у ее
£ жителей12, вероятно, с помощью и с содействием галатов, сделав-
ь" шихся из наемников его союзниками. Положение этого края по
Р сю сторону Тавра было поистине ужасное. Тот, кому Селевк дол-
х жен был уступить его по мирному договору, употребил во зло свое
законное право, для того чтобы призвать дикие орды галатов на
%- новые грабежи. Надеясь на договор, Селевк отправился на Вос-
ток; однако и он также подвергался великой опасности, если жи-
тели Антиохии станут действовать заодно с галатами. Вернувшись
поспешно с Востока, Селевк был сильно занят на берегу Оронта, а
потому, желая удержать, по крайней мере, Антиоха и его галатов
в Малой Азии, он сделал значительные уступки пергамскому ди-
насту, который один только обладал крепостями и был в состоя-
нии воевать с варварами.
В наших скудных известиях вовсе не упоминается о заключе-
нии упомянутого договора, а об условиях его и подавно. Зато в
них говорится о «победе, одержанной Атталом над галатами», а
именно «близ Пергама», о «великой битве, вследствие которой
Аттал принял царский венец». Этот царь достиг высшей славы
благодаря тому, что «принудил галатов покинуть область и уда-
литься внутрь Малой Азии»; когда подходил грозный враг, как
гласит предание, то войска его оробели; однако он успел ободрить
их благоприятными предзнаменованиями во время жертвоприно-
шения и одержал блистательную победу13.
241
По множеству известий, сообщаемых двумя древними писа-
телями, можно судить о том, как прославлялась эта победа, как
хорошо постигалось ее значение; память о ней была увековечена
многими надписями и художественными произведениями14. Совре-
менные нам исследователи успели открыть великолепные остатки
большого пергамского монумента, изображающего борьбу и по-
беду, одержанную богами над исполинами; эти остатки доныне
служат как бы отрадным отголоском торжеств, прославивших
победителей.
Мы знаем, что Аттал одержал еще несколько побед над гала-
тами15: переходя, таким образом, от одного торжества к другому,
он очистил от неприятеля страну и расширил свое царство. От-
крытые в последних пергамских раскопках надписи также изве-
щают нас о разных победах16. Одна из этих надписей особенно
интересна; в ней значится, что «Эпиген, вожди и стратеги, при-
нявшие участие в битве», посвятили богам статую царя17. Судя
по способу изложения в этой надписи, надо предполагать, что
Эпиген не принадлежал к «соплеменникам и стратегам»; это был,
вероятно, тот самый Эпиген, который вскоре после того играл
важную и почетную роль в истории двора Селевкидов; он был
послан Селевком II в Пергам, с тем чтобы заключить упомяну-
тый выше договор.
Приходится не раз упоминать о том, что наши источники
снабжают нас весьма скудными известиями. Попытки связать I S
рассеянные сведения в одно стройное целое оказываются крайне
неудачными; они обнаруживают лишь темные пятна, скрывающие
от нас действительную связь событий; мы, по крайней мере, мо- | §
жем себе дать отчет о пробелах в предании и судить таким обра-
зом приблизительно о размерах исчезнувших фактов. Случается,
что находящиеся в нашем распоряжении, почти всегда краткие и
нередко случайные сведения представляют содержащие в них не-
многие данные в надлежащем порядке, даже в прагматическом и
систематическом виде, как будто факты следовали один за дру-
гим без перерыва; в таком случае для исторической критики от-
крывается еще больше затруднений, если только она не одержима
слепым доверием людей, для которых такие подложные известия
составляют историю, всю историю эпохи.
По надписям достоверно то, что Аттал одержал победу над
«Антиохом и галатами»; по другим указаниям не подлежит со-
мнению, что Антиох не подчинился тотчас же своим противни-
кам, а продолжал борьбу со своим братом Селевком П. Находилась
ли эта борьба в связи с тою, которую он вел с Атталом, и какого
рода была эта связь — все это покрыто мраком неизвестности.
Антиох, как сообщают вслед за известием о его грабежах во
Фригии, отправил своих полководцев против Селевка; он опасал-
ся, однако, измены со стороны своих галльских наемников и спас-
го
ся бегством с некоторыми из своих спутников в Магнесию; под-
держанный войсками Птолемея, он на другой же день одержал
победу; потом женился на дочери Зиелы18. Как ни отрывочны эти
указания хронографа, однако тут, как кажется, следует поместить
известие об упомянутом выше союзе между Антиохом Гиераксом
и царицею Стратоникою.
Из истории этой войны между братьями Селевкидами дошел
до нас подробный отрывок: Антиох Гиеракс отпал от своего бра-
та Селевка; он бежал (следовательно, после понесенного пораже-
ния) в Месопотамию, оттуда вернулся через горы в Армению, где
его приютил состоявший с ним в дружбе Аршам. Полководцы Се-
левка Ахай и часто упоминаемый сын его Андромах ревностно
преследовали его с большим войском. Раненный, наконец, в но-
вой битве, Антиох бежал по спуску горы; рассеянные рати его рас-
положились беспорядочным лагерем. Антиох распустил слух,
будто он пал. Ночью он занял некоторые ущелья, а тем временем
от войска отправилось посольство в лагерь противника, чтобы
испросить труп царя для погребения и предложить сдачу разби-
той армии. Андромах разрешил послам искать не найденный еще
труп; затем отправил 4000 человек принять оружие у разбитых
отрядов и их самих. Однако как только они подошли к горам,
Антиох напал на них из своей засады и большею частью перебил
их; он опять явился в царском облачении, чтобы показать, что
он остался в живых и победителем19. Этот подробный рассказ дает
возможность бросить взгляд в самую суть событий. Если разби-
тый Антиох отступил в Месопотамию и далее через Армянские
горы, то он на горе Тавра потерпел от брата поражение; Селевк
поэтому напал на него с запада — со стороны Оронта и прогнал
его на восток через Евфрат. Итак, Антиоху не удалось преградить
путь внезапно возвратившемуся с парфянской войны Селевку, так
что последний успел покорить Антиохию и захватить в плен Стра-
тонику. Надо полагать, что посланные Антиохом полководцы
были отправлены именно для поддержки возбужденного Страто-
никою мятежа в Антиохии, но были побеждены вместе с городом.
Сам Антиох прибыл, вероятно, уже после; тут-то ему и был пре-
гражден путь через проходы Исса (если бы он перешел в этом ме-
сте, то был бы отброшен в Киликию); затем ему осталось лишь
пройти из опустошенной Фригии через Каппадокию; потом он,
вероятно, вниз по Евфрату двинулся против Селевка, там и понес
вышеупомянутое поражение; благодаря известной уже нам воен-
ной хитрости он в Армении стал опять твердою ногою, имея в виду
вновь попытать счастья в борьбе с братом.
Итак, поражение Антиоха следует отнести к 235 году20. Он,
без сомнения, вел свою войну большею частью с помощью наем-
ных галатов. Продолжая воевать против галатов, пергамский царь
все более и более расширял свои владения, а братья в то же время
243
вели эту ужасную борьбу «на взаимную пагубу»21. Антиох всеми
силами напал, хотя и не быстро, на Сирию с тем, чтобы в связи со
Стратоникой воспользоваться отсутствием брата; однако на его
стороне были Каппадокия, Армения; даже после поражения для
него открыто было сообщение с внутренним краем Малой Азии, а
из Каппадокии он всегда мог привлечь для дальнейшей борьбы
новые орды галатов. Не подлежит сомнению, что Египет, хотя
вначале лишь тайком, но поддерживал его субсидиями; Лагид был
слишком заинтересован тем, чтобы сирийский царь вследствие
новых утрат на западе лишился тех выгод, какими он пользовался
благодаря обеспеченному владычеству над Мидией, Персией и
устьями Евфрата. Когда Антиох оказался в затруднительном по-
ложении, то, несмотря на не истекший еще срок десятилетнего
перемирия, Египет открыто вмешался в борьбу.
И действительно, Антиох даже после своего удачного напа-
дения был в состоянии поддержать кампанию. Мы узнаем, что
«вновь побежденный, он изнемог от многодневного бегства и
прибыл, наконец, к своему тестю царю Каппадокии Ариамену,
сначала дружелюбно принявшему его; потом Антиох, узнав о за-
мышляемых против него кознях, бежал далее»22. Войско Селевка
преследовало его; испугавшись приближения победителя, каппа-
докский царь хотел, вероятно, изменою искупить участие, какое
он до сих пор принимал в предприятии своего зятя. Селевк по- I ^
гнался за беглецом. По словам вышеупомянутого хронографа, | S
Антиох, опасаясь измены галлов, бежал в Магнесию «к своему
врагу Птолемею», чей гарнизон находился в этом городе, как го- |-§
ворит Юстин23. Эфес как средоточие владычества Лагидов на этом §
берегу находился довольно близко, так что оттуда скоро могло
подоспеть подкрепление. Это преследование вплоть до Магнесии
было, вероятно, со стороны Египта признано нарушением египет-
ских владений, а следовательно, также и мира; Лагид воспользо-
вался этим предлогом якобы с целью вступиться за Антиоха, но
на самом деле с тем, чтобы вновь проникнуть в Сирию, — а Селев-
кия при устье Оронта была все еще во власти Лагидов24.
Судя по нашему изложению, видно, что в этот момент борьбы
каждый из воюющих царей помышлял лишь о том, как бы мирным
путем предупредить дальнейшую опасность. Когда Египет, владея
все еще Селевкией, вмешался в дело и стал угрожать только что
покоренной Антиохии, то у Селевка не было желания подвергаться
долее превратностям войны; Птолемей опасался, как бы помимо
мелких приморских областей против него не вооружился столь
быстро усилившийся пергамский царь; Антиох же после понесен-
ных им громадных утрат удовольствовался тем, что мог получить,
по крайней мере, опять Лидию. Судя по совершившимся впослед-
ствии событиям, не подлежит сомнению, что прежнее десятилет-
нее перемирие между Сирией и Египтом перешло окончательно в
20
мир; и весьма вероятно, что он был заключен именно в это время .
Приморская Селевкия осталась, конечно, во власти египтян; Се-
левк, как кажется, был вознагражден за то известными уступками
на северной границе Сирии; Аршам Армянский, по крайней мере,
обязан был платить ему дань26. Неизвестно, понесла ли какую-ни-
будь утрату Каппадокия, и вообще вся разверстка владений в Ма-
лой Азии была в высшей степени сбивчива. Достоверно только то,
что Лидия предоставлена была Антиоху Гиераксу27.
Египет недаром поддержал такой выгодный мир; всегда гото-
вый, впрочем, взяться за оружие Лагид, жаждя покоя, стал теперь
все более и более склоняться к миру28; он, как видно, поддерживал
впоследствии дружеские сношения с царем Антиохии; Птолемей
даже отправил туда весьма уважаемый священный образ Исиды.
Сам Селевк, как кажется, ревностно воспользовался мирным вре-
менем; в Антиохии он построил совершенно новый квартал по бе-
регу реки, и ему, вероятно, следует приписать водворение в нем
этолян, эвбейцев, критян, что после событий, совершившихся по
возвращении царя с Востока, оказалось весьма целесообразным29.
Антиох Гиеракс, напротив того, по своему пылкому и често-
любивому нраву не мог надолго вынести мирное состояние. На
пособие со стороны Египта он, конечно, не рассчитывал уже бо-
лее; наученные опытом Каппадокия и понтийский царь отнюдь не
желали вновь вступить с ним в связь; а пергамский царь с рас-
ширившеюся областью которого граничило владение Антиоха
на севере, был хотя и близким его родственником, но все-таки его
противником не по одним только политическим интересам. Вслед-
ствие этого Антиох заключил союз с Зиелою Вифинским и женился
на его дочери30; он имел, вероятно, в виду вместе с ним напасть на
Аттала; галаты готовы были принять участие в этой борьбе, тем
более что им предстояло еще отомстить пергамскому царю. Тут
господствует совершенный мрак. Мы знаем, что галатские вожди
собрались в гости к Зиеле и стали пить круговую чашу; однако царь,
казалось, замыслил предать их; они бросились на Зиелу и убили
его31. Не потребовали ли они чересчур высокой платы или слиш-
ком больших уступок? Не угрожали ли всякими ужасами, если их
не удовлетворять? Отступился ли от союза Прусий, сын и преем-
ник Зиелы, так как назначенный некогда наследником Вифинии
брат его отца Тибоит легко мог явиться в качестве опасного пре-
тендента из Македонии, где он скрывался? Как бы то ни было,
Антиох решился один начать новую войну.
В единственной сохранившейся о ней заметке заключается
совершенно загадочное известие: на четвертом году 137-й олим-
пиады, говорит хронограф, Антиох, два раза нападая на Лидию,
был разбит, а в первом году 138-й олимпиады Аттал, победив его в
битве близ Колой, принудил царя бежать во Фракию32. Итак, Ан-
тиох в Лидии нападал два раза, в 229 или 228 г., но на кого? Судя
по словам хронографа, тут и речи не может быть об Аттале; не
нападал ли он на свободные греческие приморские города? Об этом
и помина нет. Разве что на Митридата, на Селевка, на Египет?
Если не ошибаюсь, то политические дела приняли в настоя-
щем случае замечательный оборот; для разъяснения этого нам
необходимо прибегнуть к смелым предположениям. Зачем побеж-
денный Атталом Антиох бежит во Фракию, которая в то время,
по крайней мере вдоль берега, находилась в египетской власти?
Если он хотел воспользоваться египетской защитой, то Эфес на-
ходился гораздо ближе к полю битвы вблизи Сард, почти так же
близко, как ближайший приморский город Смирна, куда он и бе-
жал, вероятно, так как никоим образом не мог направиться через
Пергамскую область. Вследствие всего этого оказывается веро-
ятным, что, направившись во Фракию, он помимо египетской за-
щиты имел в виду иную цель. На этот раз приходится поверить
известию, какое сообщается вообще не совсем достоверным лето-
писцем, по словам которого Антиох по приказанию враждебного
ему Птолемея был заключен в тюрьму; потом при помощи добро-
душной служанки он ускользнул и во время бегства был все же
убит разбойниками33. Однако для того чтобы воспользоваться все-
ми возможными пособиями, нам необходимо, забегая вперед, из-
ложить теперь же некоторые европейские события. Там Антигон
Досон с 229 г. был царем в Македонии; флот его, как гласит преда-
ние, вследствие быстрого морского отлива у беотийских берегов
сел на мель; надо было опасаться враждебного нападения со сто-
роны фиванцев; но ему удалось вновь выйти со своими кораблями
в открытое море и исполнить предпринятую им экспедицию в
Азию34. А в другом кратком перечне сказано: Деметрию наследо-
вал Антигон, покоривший Фессалию и Карию в Азии35. У кого же
Антигон мог отнять Карию, как не у Птолемея? Куда как не в Ма-
кедонию мог обратиться Антиох Гиеракс, бежав с поля битвы
вблизи Сард в Фессалию? Македония была, конечно, союзницей
Антиоха в борьбе против Лагидов, и мы увидим, что с нападением
на них в Азии совпало направленное Египтом нападение на Маке-
донию из Пелопоннеса. Но в то самое время как Антиох обратил-
ся против Египта, Лагид более всего заинтересован был тем, чтобы
на азиатском полуострове, пока не вмешалась еще Сирия, быстро
и решительно вооружилась одна из держав, и чтобы поэтому она
заняла такое же положение, в каком египетская политика в тече-
ние пятнадцати лет поддерживала Антиоха против его брата. Ат-
тал был в этом случае человеком необходимым; хотя вследствие
его независимой доселе политики он и не казался удобным для
александрийского правительства, однако в эту пору он один толь-
ко обладал силою, умением и благодаря его победе над галатами
популярностью настолько, что был в состоянии противоборство-
вать сирийскому царю. Итак, вблизи Сард на лидийской земле
Аттал, нападая, одержал победу над Антиохом Гиераксом; согла-
сившись, без сомнения, с Египтом, он поспешил захватить в виде
завоеванной страны область побежденного во всем ее объеме;
Антиох же, попав во время своего бегства в плен к египтянам, был
заключен в одну из темниц во Фракийской области; когда он бежал
оттуда, то на него напала орда галатов и убила его. Рассказывают,
что благородный боевой конь его отомстил убийце, бросившись
вместе с ним в пропасть, когда тот воссел на него36.
Мы не знаем, в это ли время Антигон отправился на кораблях
из Македонии в Азию? Успел ли он овладеть Карией? Поводом к
тому могли служить договоры 277 г., в силу которых, как было
упомянуто, Сирия и Македония гарантировали свободу тамош-
них эллинских городов. Однако Селевк никоим образом не мог
допустить, чтобы вследствие падения его брата дом его навсегда
лишился малоазиатских владений. Ему во что бы то ни стало сле-
довало воспрепятствовать пергамскому царю овладеть Малой
Азией, хотя притом и надлежало избегать разрыва с Египтом, тем
более что Селевкия находилась во власти Лагида и война с ним
угрожала бы вновь гибелью его царству. Поэтому он должен был
теперь же, не медля, с сильным войском появиться по ту сторону
Тавра, а иначе он неизбежно лишился бы там всякого влияния;
мало того, совершенно новая и обладавшая значительными сред-
ствами держава, соединившись с Египтом, завладела бы всеми
угрожавшими Сирии местами, в виду которых его царство оказа-
лось еще более беззащитным, нежели на египетской границе. И вот
Селевк поспешил со своими войсками в Малую Азию; упав с лоша-
ди, он лишился жизни37, вероятно, прежде, нежели было разбито
его войско.
Царю, правда, наследовал сын его Александр; солдаты прозва-
ли его Керавном, но сам он принял имя Селевка38. Однако после
смерти отца и после упомянутого поражения, в котором храбрый
Андромах39 был взят в плен, Азия по ту сторону Тавра была утра-
чена; Аттал господствовал над всею внутреннею, принадлежавшею
некогда Селевкидам Малой Азией40.
Как странно сложились теперь обстоятельства! Македонский
царь без сомнения удержал за собою Карию41. За исключением
принадлежащих Египту приморских областей, северных династий,
Вифинии, Понта, Каппадокии и свободных городов вся осталь-
ная Малая Азия соединилась теперь под одним владычеством, в
ней возникла центральная держава, и она находилась во власти
прославленного и сильного государя, перед которым смирились
галаты, в котором греческие города чтили своего настоящего за-
щитника от этих диких орд. Недаром царь Птолемей Эвергет с
удовольствием взирал на совершившиеся события: великая цель
египетской политики — отторгнуть от Сирии Селевкидову Малую
Азию и образовать из нее особое владычество — была достигнута
и, как кажется, навсегда; Македонию и Сирию, этих естественных
союзников, разъединяло с этой поры сильное промежуточное цар-
ство, которое в своем собственном интересе должно перейти на
сторону Египта. Хотя занятие Карий македонянами и было непри-
ятно для Египта, однако благодаря превосходству пергамского
царя в Малой Азии это никоим образом не могло послужить на
пользу Селевкиду; всякая непосредственная его связь с Македони-
ей была прервана. Сирийское царство оказалось изолированным
между двумя сильными врагами: у проходов Тавра расположился
пергамский царь, тщеславно стараясь придать величайший блеск
приобретенному им венцу; при устье Оронта и около Ливана на-
ходился тот же самый Эвергет, который однажды уже в Вавилоне
и Сузах принимал от дальнего востока присягу на верность, а про-
тив Птолемея был царь едва двадцати лет от роду, с ним вместе
еще более молодой его брат, которому предстояло в Вавилоне
поддержать покорность и верность; советчиком царя был ковар-
ный, своекорыстный Гермий, единственною надеждою царства
был молодой Ахей, отец которого томился в Александрии в пле-
ну. Самые побудительные причины заставили этого Ахея посвя-
тить свои блестящие дарования царству и родственному царю. Но
как ему было приняться за дело? Силы Сирии, связанной по ру-
кам и ногам, были подавлены и с той и с другой стороны; когда же
настанет для Ахея час отомстить за свой род?42
Обо всем этом предания, конечно, умалчивают. Писать эту
историю труд крайне неблагодарный. Нам то и дело видятся кру-
тые перемены во взаимных отношениях, внезапные перевороты без
перерыва следуют один за другим, самые события неизбежно
сопровождаются напряжением чрезвычайных сил; но в той пус-
тынной бесцветной туманной мгле, в какую облеклась преданная
в течение двух тысячелетий забвению эпоха, мы едва в состоянии
усмотреть то тут, то там слабое мерцание, одиноко светящуюся
точку. Эти юные облики Селевкидов мелькают перед нами словно
тусклые призраки; мы тщетно пытаемся уловить в них признак
личного чувства, подслушать слово, подсмотреть взгляд; нам, к
сожалению, приходится лишь отличать их именами и числами. Эта
история походит на кладбище; надгробные камни выветрились, их
источило время, останки разбросаны в страшном беспорядке.
Тщетно спрашиваем мы, отчего рок так безжалостно разрушил и
развеял исторические воспоминания об этой или даже обо всей
эллинистической эпохе; то грустное утешение, будто она и не стоит
воспоминания, оказывается еще безжалостнее рока и не может
быть даже оправдано; вообще утешаются при мысли, будто сохра-
нилось все, что замечательно и важно для прогресса человеческого
развития; но эта мысль опровергается именно тою самою эпохою,
от которой не сохранилось почти никаких свидетельств об усилиях
человеческого ума, совершавшихся в промежуток между Аристо-
телем и книгами Нового Завета. Как будто той заре новой жизни
суждено было сразу, без подготовки осветиться в воспоминании
человечества, подобно чуду или звезде среди ночного мрака. И в
самом деле, обратив взор к этой звезде, мы в состоянии лишь про-
ложить себе путь по пустынному кладбищу вымершего языческого
мира, подметить кое-где слабое мерцание, открыть след какого-
нибудь надгробного памятника.
Так-то рушилось и исчезло всякое воспоминание об этой эпо-
хе: про эллинистические царства на Инде мы знаем только то, что
они существовали; там без следа развеялись поколения, племена,
царства, а о том, что совершалось на западе, узнаем лишь несколь-
ко бестолковых, бессвязных фактов, несколько пустых собствен-
ных имен.
Попытаемся представить скудость сохранившихся преданий.
В первой половине 239 года Деметрий, будучи тридцати лет от
роду, наследовал в Македонии престол своего отца. Он все еще
поддерживал мир с ахейцами, однако Арат думал, что можно пре-
небречь этим, так как он не боялся молодого царя. Македония все
еще поддерживала связь с этолянами, но в их союзе одна из партий
уже восстала против такой связи; многим из них казалось, что
настала пора обратиться в другую сторону, попытать новые заво-
евания, новые набеги. Этоляне обратили свои взоры на соседнюю
Акарнанию.
Они около 266 г. делили уже Акарнанскую область с Алек-
сандром Эпирским, а после его смерти позарились также и на эпир-
скую часть; однако царица, вдова Олимпиада, заведуя опекою над
своими сыновьями, Пирром и Птолемеем, прибегла, как кажется,
к защите Македонии, и пока жив был Антигон Гонат, до тех пор
этоляне оставили эту область в покое. Но после смерти его эпир-
ские акарнанцы тотчас же подверглись опасности; они не надея-
лись на защиту со стороны немощного молосского царства43, да и
связь его с Македонией, казалось, не была более в состоянии охра-
нить их; тогда-то они впервые со стороны Греции обратились к
Риму; акарнанцы просили сенат, чтобы он признал и утвердил от-
нятую у них автономию, напоминая о том, что из всех эллинов они
одни только не воевали с троянцами, предками римского народа44.
Сенат отправил посольство к этолянам, увещевая их не беспокоить
акарнанцев. Этолийский союз ответил наглым презрением. Опус-
тошительный набег на Акарнанию и Эпир свидетельствовал о том,
что они пренебрегли увещанием гордого римского народа45.
Олимпиада, как кажется, все еще управляла Эпиром, хотя
сыновья ее и достигли уже совершеннолетия. Опасаясь этолян, она
предложила царю Деметрию жениться на ее дочери Фтии, чтобы
таким образом привлечь Македонию всецело на свою сторону.
В первом же году своего царствования он отверг сирийскую Стра-
тонику и женился на Фтии46, имея, вероятно, в виду унаследовать
249
в будущем эпирский престол. Старший сын Пирр поссорился с
матерью из-за того, что она велела убить прельстившую молодого
князя левкадянку Тигриду47; он же, со своей стороны, как гласила
молва, приказал служанке отравить мать48; а по другому известию,
она пережила как старшего, так и младшего сына, хворого Пто-
лемея; эта двойная утрата сокрушила ее сердце49. Птолемей, как
говорили, умер в походе; он был убит50. Вследствие ли немощи и
порочности этих последних князей или, скорее, вследствие охва-
тившего всю Грецию движения умов, как бы то ни было, но эпи-
роты не хотели более иметь царей; следовало искоренить род
Эакидов, с тем чтобы восстановить республику, свободу. Дочь
Пирра Деидамия бежала в Амбракию, решившись отомстить за
убийство; эпироты подошли с превосходными силами; они пред-
ложили ей полюбовную сделку: за ней признавались имущества
дома и почести предков; на этих условиях она уступила эпир-
скому народу все, в чем не могла уже отказать ему51. Однако, ка-
залось, опасно было оставить ее в живых; смерть Деидамии была
решена. Один из старых телохранителей царя Александра при-
шел убить ее; потупив глаза, она ожидала смертельный удар; но
рука его дрогнула, он не дерзнул пролить кровь внучки своего
господина. Деидамия бежала в храм Артемиды под сень святого
убежища; нашелся человек, убийца своей родной матери, кото-
рый умертвил ее там52. Таким образом эпиры добились свободы, i ^
и основалось эпирское союзное государство со стратегом во гла- | §
CD
■о
»
ве53. Однако в то же время, как кажется, отделилась часть нагорных
областей и вернулась к исконному владычеству вождей; например,
афаманы у Пинда54. Остров Керкира впредь также пользовался | §
независимостью. Само новое союзное государство исполнено
было тревог и строптивой заносчивости; оно вскоре подверглось
опустошительным нашествиям55.
Каким же образом, однако, Деметрий Македонский мог до-
пустить все это? Мы знаем, что ему пришлось вести тяжкие войны
с дарданцами.
В последний раз мы упомянули об этом народе в борьбе с Алек-
сандром Эпирским; с тех пор как Антигон распространил свои
пределы до Аоя, они, как кажется, вынуждены были смириться;
вообще ничто не обнаруживает, чтобы окрестные варвары, фра-
кийцы, иллирийцы, галаты осмеливались тревожить границы го-
сударства, которые царь успел оградить. Новое начальство и у
дарданцев также возбудило желание ограбить цветущую Маке-
донию; на нее напал именно Лангар с хищною ордою56. Разве тут
были одни только дарданцы? Не были ли с ними также фракий-
ские меды, бессы, денфелеты? Или, может быть, дарданское имя
заключало в себе остатки древних варварских племен на северной
и западной границе Македонии, отстоявших свою самостоятель-
ность при кельтическом нашествии? И действительно, со времен
Монуния имя дарданцев считалось могущественным. Как бы то ни
было, но, возобновив свои нападения при Деметрии, дарданцы
никогда уже не оставляли царство подолгу в покое. Должно быть,
страшен был после долгого роздыха их первый натиск.
Было бы крайне опасно, если бы им удалось разрушить укреп-
ления по македонскому рубежу. А потому Деметрии ради охраны
границы вынужден был пожертвовать всеми иными политически-
ми интересами; ему поневоле пришлось допустить все перемены,
какие совершались в Эпире, Фессалии, Греции, лишь бы устра-
нить грозившую ему опасность. В греческих областях поспеши-
ли, конечно, воспользоваться этими обстоятельствами; сорок лет
прошло со времени нашествия кельтов; люди забыли испытанные
ими великие бедствия, забыли также, что одна только сильная
Македония на севере могла спасти Грецию от новых нашествий.
Понятно, что заносчивые этоляне не принимали в расчет этих
соображений; они опустошали Акарнанию и Эпир, хотя оставались
там недолго и, вероятно, в это время завладели Фригией в бли-
жайшей к морю Аркадской области57. Однако и Арат также, имея
в виду лишь непосредственную выгоду ахейцев и не опасаясь в это
время сильного вмешательства со стороны молодого царя в Гре-
ции, ревностно домогался новых приобретений для свободы и
конфедерации; он вовсе не заботился о заключенном с Македо-
нией мире.
Странно в самом деле было то, что Арат заключил с этоляна-
ми мир и союз; самый влиятельный тогда человек в этолийской
конфедерации, Панталеон был привлечен к этому союзу58. Мы
упомянули уже о том, что этоляне утвердились в Фигалии; вблизи
на аркадской западной границе находилась Герея; благодаря из-
мене и хитрости ахейский стратег Диет овладел городом59; при
этом этоляне и ахейцы как соседи вступили во взаимные дружес-
кие сношения. Пользуясь поддержкою этих союзников, Арат и
возобновил свои нападки на Аргос; Ахейскому союзу, конечно,
очень хотелось встревожить это исконное убежище тирании, при-
соединить к себе эту значительную область. Арат при жизни Ан-
тигона уже тайными и явными средствами нападал на Аристиппа.
Теперь он ревностно возобновил свои попытки, но безуспешно.
Однажды в ночную пору лестницы были уже приставлены к стене
Аргоса, стража была перебита; но Аристипп вышел со своими
наемниками, и граждане увидели жестокую битву, словно на тур-
нире. Ахейцы до вечера держались на своих местах; собираясь
бежать, тиран приказал уже отправить свои драгоценности к
морю; но после жаркого дня ахейцы стали страдать от недостатка
воды, они не знали еще, что тиран потерял надежду на сопро-
тивление; сам Арат был ранен и приказал отступить. Потом он
попытался вступить в бой в открытом поле; он встретился с войс-
ками Аристиппа при речке Харес, и, в то время как ахейцы уже
думали, что одержали блистательную победу, Арат опять велел
отступить. Воины громко стали порицать его за нерешительность;
когда приходилось встретиться с врагом лицом к лицу, говорили
они, то трусость его всякий раз была причиною, что почти побеж-
денный уже неприятель все-таки торжествовал. После суточного
роздыха он решился возобновить атаку; но опять, как только раз-
вернулись перед ним более многочисленные войска со стороны
тирана, он поспешил приостановить бой и просил, чтобы ему раз-
решили похоронить павших воинов. Зато к Ахейскому союзу при-
соединились Клеоны, и этому городу тотчас же присвоена была
привилегия праздновать Немейские игры. Когда аргосцы со сво-
ей стороны также вздумали праздновать их у себя, то, нарушая
свободный пропуск для тех, кто шел к играм, начали забирать всех,
отправлявшихся на состязание в Аргос, и продавать их как воен-
нопленных60. Вскоре после того Арат узнал, что аргосскому тира-
ну во что бы то ни стало хотелось завладеть вновь Клеонами, но
его пугала лишь близость ахейского отряда в Коринфе. Арат наде-
ялся наконец достичь цели; он велел в Кенхреи доставить на несколь-
ко дней провиант, как будто собирается на продолжительную
экспедицию, потом сам двинулся туда с войсками. Аристипп тот-
час же выступил к Клеонам; но не успел еще прибыть туда, как
ахейцы с наступлением ночи вошли в город, а на следующее утро
из ворот ударили на врага; так неожиданно и жестоко атакован-
ный Аристипп обратился в поспешное бегство. Арат преследовал
его до Микен; пало более полутора тысяч человек, сам тиран во
время бегства был убит одним из рабов. В это время легко было
бы овладеть Аргосом. Расположившись под Микенами, Арат ожи-
дал, вероятно, восстания в городе; так, по крайней мере, надо су-
дить по сохранившимся известиям. И действительно, Аристомах
Младший и Агий, говорит Плутарх, прибыли с царскими отрядами
и отстояли город, а Полибий утверждает, будто Арат со своими
ахейцами проник в город и сражался в нем за его свободу, нако-
нец, однако, опять отступил, так как, страшась тирана, никто из
жителей не восстал61. Поэтому Аристомах, потомок царствующе-
го дома, завладел городом и стал тираном, подобно своему отцу.
Его царствование началось жестокостями; под предлогом, что
Арат не мог бы проникнуть в город без ведома соучастников, он
велел пытать и казнить восемьдесят знатнейших граждан в Арго-
се. Полибий уверяет, что они были невинны62. При царском дворе
мещанский вождь ахейцев служил предметом насмешки; когда
дело доходит до битвы, говорили там, то с ним делаются колики,
как только зазвучит труба, то он бледнеет и дрожит; расположив
в последнем сражении начальников и вождей, он ободрял их сло-
вами, а сам скрылся в ожидании исхода битвы. Правда, Арат, этот
осторожный дипломат, этот знаток художественных произведе-
ний, человек мелочных предприятий и ночных нападений испод-
252
тишка, далеко не отличался воинственным характером этолян и
македонян; недаром кичливый деспот в Аргосе с толпою окружив-
ших его льстецов издевался над щепетильною мещанскою добро-
детелью и секретными происками сикионца, который не раз уже,
но тщетно подбирался к городу63.
Мы поневоле должны придерживаться очередности тех изве-
стий, какие находятся в единственно подробном изложении Плу-
тарха. Он говорит: тотчас же после смерти Аристиппа Арат стал
подстерегать Лидиада Мегалопольского. Мы видели уже, что по-
следний, увлекшись благородным честолюбием и восторгаясь, ве-
роятно, под влиянием престарелого Антигона, превосходством
монархической системы, будучи еще молодым человеком, успел
захватить власть в Мегалополе. Это был один из первых городов,
внявший новому воззванию к свободе; поборники его содейство-
вали при освобождении Сикиона, утвердили новое правительство
в Кирене. Не может быть, чтобы возбужденное или поддержан-
ное там известными академиками движение окончательно вымер-
ло. Уж не вернулись ли они из Кирены и не добились ли влияния
на воззрения Лидиада? Не сами ли граждане без обиняков выска-
зали тирану охватившее их настроение? Не беспокоили ли его,
впрочем, то и дело повторявшиеся нападки Арата на тиранов? Как
бы то ни было, но у него оказалось настолько мало доблести или
<g I честолюбия, что он не вынес враждебного к нему настроения наро-
£ да. Следуя своему великодушному побуждению, Лидиад пригласил
р_| к себе стратега Арата, отрекся от власти тирана и присоединил свой
город к Ахейскому союзу. Понятно, что изумленные граждане с
уважением отнеслись к такому решению: весною 233 года они из-
брали его в стратеги64. Пример Мегалополя повлиял, кажется, на
Орхомен, Тегею, Мантинею. Касательно Орхомена сохранился
документ, свидетельствующий о вступлении его в союз65. В этом
свидетельстве упоминается об известном Неархе и его сыне, ко-
торых освободили от всякого судебного преследования по пово-
ду прежних дел; а потому справедливо предполагалось, что Неарх
и его сын были, вероятно, властителями в городе, и что потом они
отреклись добровольно66.
Благодаря всем этим приращениям Ахейский союз расширил
свою область до чрезвычайных размеров; мало того, члены его
были воодушевлены новою высшею жизнью. Эти поборники сво-
боды, — подраставшие как раз в то время в сообществе с ними
Филопемен и Ликорт, отец Полибия, свидетельствуют о духе, ка-
ким исполнен был их родной город, — эти граждане, отдавшие
некогда в жертву свободе человека, которого прозвали доблест-
ным, — этот город, предназначенный Эпаминондом, был оплотом
против Спарты и оправдавший с тех пор свое назначение, несмот-
ря на затруднительное и зачастую значительное политическое
положение, — все это присоединилось теперь к Ахейскому союзу,
так что область его распространилась до границ Лаконии и Мес-
сснии, а политика его приняла на себя все обязательства, какие до
сих пор возлагались на Мегалополь. Мало того: Ахейский союз
принял дурное направление; Арат решительно стал главою его, так
что он, вопреки основному уставу, из года в год уже занимал сан
стратега67, он пользовался неограниченным влиянием, и свободное
демократическое движение, которое одно только могло сохранить
за союзом или, скорее, должно было присвоить ему высшее направ-
ление, не в силах было преодолеть насильственную опеку Арата над
гражданами. В это время явился Лидиад; он тотчас же стал сре-
доточием всех стремлений, какие Арат старался подавить; такая
противоположность в воззрениях и во внешней политике впол-
не обнаружилась уже при первой стратегии Лидиада68.
Обратим прежде всего внимание на внешнюю политику со-
юза. Мы видели, что Арат заключил договор с этолянами. Он, как
говорят, все еще имел в виду освободить Афины; при жизни Ан-
тигона он уже делал несколько попыток; «когда умер Антигон»,
говорит Плутарх, «Арат еще ревностнее принялся за дело Афин
и стал вполне пренебрегать македонянами; когда же Бифис, полко-
водец Деметрия, разбил его при Филакии, и затем распространил-
ся слух, что он взят в плен или пал, то фрурарх в Пирее отправил
послов в Коринф с требованием очистить город»69. Итак, Арат со
своими ахейцами воевал в Фессалии; он мог попасть туда только в
связи с этолянами, которым принадлежала Беотия и которые
господствовали над Фермопилами. Царю в это время пришлось,
вероятно, воевать с дарданцами70; Бифис, однако, одержал ре-
шительную победу, так что Арат поспешно стал отступать или
обратился в бегство, и когда посольство фрурарха прибыло в Ко-
ринф, то он успел уже вернуться туда. Он, конечно, осмеял по-
слов из Пирея; несмотря на поражение, он утешился тем, что
Деметрий, получив весть о его плене, отправил корабль, с тем что-
бы его в оковах перевезти в Македонию, — до такой степени он
казался опасным царю! Его, однако, сильно огорчило, что афиня-
не, узнав о его невзгоде, украсили себя венками; он, как говорят,
тотчас же вторгся в Аттическую область, проник до самых садов
академии, однако просьбы афинян побудили его не предприни-
мать ничего далее71. Какая странная история! Надо полагать, что
как при быстром натиске, так и при отступлении Арат руковод-
ствовался иными мотивами.
Полибий подтверждает, что этоляне начали войну с Демет-
рием, что в этой войне ахейцы самоотверженно помогали своим
союзникам72, их соединенная армия проникла до Фессалии. Ка-
кие надежды имелись в виду, если бы удалось отделить Фессалию
от Македонии, оттиснуть таким образом Деметрия за проходы
Олимпа! Как низко пало владычество Македонии в то время, ког-
да с севера напирали дарданцы, а с юга ахейцы и этоляне, когда
Эпир, уничтожив царское достоинство, перешел к образу прав-
ления73, вследствие которого он стал естественным членом кон-
федераций. Македонии грозила величайшая опасность лишиться
всего своего значения. Такова в самом деле была участь держав в
ту эпоху; их существование в каждый миг подлежало сомнению;
они вовсе не представляли непосредственного и необходимого
само по себе выражения естественных и национальных условий;
они лишены были настоящего центра тяжести, сомкнутой на-
родности, и казались, скорее, искусственными формами, плодом
внешних политических условий, искусственно составленными
машинами, которые без опытной руки мастера остаются непод-
вижными, а при опасном столкновении легко рассыпаются на
безжизненные части.
Деметрий, которого новейшие историки сочли себя вправе
признать самым незначительным князем из династии Антигони-
дов, сумел преодолеть грозившие ему со всех сторон опасности
и, как значится в сухом отчете хронографа, вновь отвоевать все,
что принадлежало его отцу74. Вышеупомянутая победа Бифиса
была, вероятно, почином его успехов; благодаря ей этоляне были
вытеснены из Фессалии; во всяком случае эта победа была реши-
тельная, а иначе афинский фрурарх не осмелился бы обратиться
к союзникам с известным требованием по поводу Коринфа. По-
либий сообщает, что Деметрий с войском явился в Беотию, что
беотяне тотчас же отреклись от союза с этолянами, всецело прим-
кнули к македонянам75. Не подлежит сомнению, что фокейцы, у
которых этоляне давно уже отняли дельфийское святилище и
пределы которых (если только они не были вынуждены присое-
диниться к союзу) прежде всего подвергались их нападениям76, с
радостью примкнули к македонскому царю; а локрийцы близ
Эты, сетовавшие при Антигоне на тяжкие налоги, взимаемые это-
лянами, вероятно, также пристали к Деметрию, тем более что
после победы в Фессалии он, без сомнения, через Фермопилы на-
правился в Беотию. Сверх того, упоминается еще о том, что Де-
метрий совсем разрушил старый этолийский город Плеврон по
ту сторону Калидона, на плодоносной Лелантской равнине, —
тот Деметрий, которого прозвали Этоликом77. Поэтому видно,
что он одержал несколько решительных побед; для того чтобы
проникнуть в названные места, ему пришлось пройти по области
озольских локров, давно променявших это имя на этолян; хотя и
нельзя доказать, что он отнял у локрских этолян дельфийское
святилище, однако Амфиктионов суд впредь, как оказывается,
был занят не одними только этолийскими гиеромнемонами, но
находился в своем прежнем составе78. Вот скудные известия о
войне, которая ознаменовала Деметрия, тем более что этоляне
так гордились своею боевою славою; едва ли даже в эпоху диа-
дохов подвергались они таким унижениям. Вот в эту «Деметрие-
ву войну», скорее, чем когда-либо могли восстать акарнанцы, и
они, верно, не упустили случая вновь добиться, по крайней мере,
прежней границы своей свободной области, т. е. Ахелоя. Одна-
ко чем более вновь усиливалось македонское могущество, тем
скорее ахейцы должны были оказать всякого рода пособие это-
лянам; и мы узнаем, что они исполнили это на самом деле, с тем
чтобы впредь обязать этолян благодарностью79.
К сожалению, не сообщается ничего о том, когда последова-
ли эти важные события; нет никакой возможности с некоторою
достоверностью привести их в связь со всем тем, что совершалось
в Пелопоннесе. Единственным руководством служит то, что По-
либий, говоря о начатках Клеоменовой войны (следовательно,
относительно 227 г.), упоминает о недавно оказанных этолянам
добрых услугах ахейцев80; а потому придется, пожалуй, отнести
Деметриеву войну скорее ко второй, чем к первой половине его
царствования (239-229 гг.). Достоверно то, что первая стратегия
Лидиада началась с весны 233 г.; так как его избрали вследствие
возникшего к нему справедливого уважения после освобождения
Мегалополя, то его вступление в союз, наверное, немногим лишь
предшествовало избранию; значит, он отрекся от своей тирании
либо в конце 234, либо в начале 233 г. Это было тотчас же после
падения Аристиппа в Аргосе; однако Аристомах мог явиться в
Аргос с царскими войсками, с тем чтобы захватить владычество.
Я предполагаю, что это было в 234 г.81 Незадолго перед тем, веро-
ятно, произошла битва в Фессалии; вернувшись с поспешностью
восвояси, Арат пытался освободить Афины; ввиду ожидаемой кам-
пании со стороны Деметрия надлежало во что бы то ни стало по-
пытаться отнять у македонян Аттику; это не удалось. В то же самое
время Аристипп напал на Клеоны; он был отражен и убит. Аристо-
мах, вероятно, из Аттики явился с царскими войсками в Аргосе.
Летом или осенью того же 234 года Деметрий двинулся в Грецию
и, вероятно, в том же году опустошил Этолию. Неужели же при
таких блестящих успехах он ничего более не предпринял в Пело-
поннесе? Завоевать вновь Акрокоринф казалось, правда, невоз-
можным; однако Орхомен не тотчас же последовал примеру
Мегалополя; Мантинея, Тегея также пристали к ахейцам лишь по
прошествии некоторого времени; во Флиунте, Гермионе господ-
ствовала еще тирания; Спарта, без сомнения, поддерживала дру-
жеские отношения с Деметрием. По словам Полибия82, он был
главою и покровителем державцев в Пелопоннесе. Политика Ан-
тигона прежних лет опять повторилась, и про Деметрия по прав-
де можно было сказать, что он все принадлежавшее его отцу вновь
подчинил своей власти.
Чем затруднительнее ввиду такого напора македонского вли-
яния становилось положение Ахейского союза, тем важнее было
то, что Лидиад присоединился к нему именно в это время, и его
решение отречься от тирании было тем еще более достойно удив-
ления, что как раз теперь он мог ожидать от Деметрия всякого
рода поддержки, если сам будет содействовать македонским ин-
тересам. Не казалось ли ему, впрочем, что его самостоятельность
подвергалась опасности со стороны расширяющегося и довольно
сильного уже могущества Македонии? Не опасался ли он, как бы
Спарта не воспользовалась поддержкой в ущерб Мегалополю? Эти
мотивы, вероятно, руководили его решением в такой же мере, как
и его собственное великодушие. Впрочем, в отношении к резуль-
татам мотивы его были безразличны; достоверно, однако, то, что
он решительно не одобрял поддерживаемой Аратом политики; по
словам Плутарха, он во время своей стратегии старался превзойти
славу Арата и помимо других, как казалось, бесполезных предпри-
ятий снарядил поход против Спарты83. Для оценки этой меры нам
остается лишь воспользоваться некоторыми предположениями.
С низвержением Агиса и его реформ Спарта, правда, подчинилась
прежней олигархии, однако ожесточение лишенных всяких прав
бедняков едва сдерживалось насильственными средствами. От бо-
лее смелого проницательного взора Лидиада не могло ускользнуть,
что лишь присоединением Спарты к союзу решительно обусловли-
валось его политическое значение вовне; вместе с тем вследствие
отмены извращенной конституции, вследствие введения демо-
кратии, разделения имуществ немногих чрезмерных богачей, ко-
торым следовало пасть заодно с господствовавшим состоянием,
союз обогатился бы демократическими членами; таким образом,
покровительственная система Арата, влияние окружавших его
зажиточных людей и мелочная ограниченность старых союзных
городов, — все это было бы сокрушено. А сверх того, года два тому
назад84 после престарелого Леонида вступил на престол Клеомен;
до поры до времени он был сдержан и осторожен, однако Лидиад
признал уже в нем «льва Спарты»; и действительно, он вскоре
достиг высокого могущества; Лидиад предчувствовал, — что и
оправдалось впоследствии, — если только Клеомен вмешается в
дела, то его творческая воля неудержимо увлечет греческий мир
на новые пути. Для того чтобы усилилось значение союза, зак-
лючавшего в себе великие задатки значительных преобразований,
необходимо было теперь присоединить к нему Спарту, а не то он
навсегда лишится возможности исполнить свою задачу.
Однако Лидиад, как кажется, не достиг своей цели; Арат про-
тиводействовал ему; его помимо благодарности союза, на кото-
рую он имел, конечно, полное право, поддерживала еще более
привычка к его личности и сохранившееся в союзе немалое ко-
личество пассивных элементов. О дальнейшем соперничестве Ли-
диада и Арата нам мало известно; в народных собраниях союза
Лидиад все-таки пользовался большинством, но в избираемом го-
родами совете, где происходили предварительные суждения, в
257
собрании демиургов, где решались текущие дела, преобладало,
конечно, влияние Арата. В 232 г. он сам занимал должность стра-
тега, а после того всячески старался помешать новому избранию
Лидиада и направить выбор на другое лицо. Ему не удалось это.
Та же самая проделка повторилась после следующей, десятой стра-
тегии Арата 230 г. Когда Лидиад был избран в третий раз (226 г.) и
взаимная вражда обоих уже вполне обнаружилась, то Арат при-
бег к крайним усилиям, лишь бы избавиться от невыносимого со-
перничества превосходного мужа. Оправдывая Арата, Плутарх
выражает скорее взгляд партии, нежели сущность дела; он гово-
рит: «Лицемерный характер, казалось, состязался с истинною,
чистою добродетелью; и подобно тому как в басне кукушка спра-
шивает пташек, зачем они избегают ее, а те отвечают, оттого что
она скоро будет ястребом, так точно и на Лидиаде вследствие ми-
нувшей его тирании тяготело подозрение, что он может вновь пре-
образоваться в тирана, и это подтачивало веру в него»85. Скоро
пришлось на деле увидеть, чего можно было ожидать от союза,
когда он вновь подчинится одному лишь влиянию Арата.
После присоединения Мегалополя и до смерти Деметрия
Ахейский союз не сделал никаких новых приращений. Причина
этого никоим образом не могла заключаться в одном только упо-
мянутом внутреннем разладе, который скорее мог бы произвести
противоположное действие. Не менее странными оказываются I ^
известные меры, принятые македонянами относительно этолян, о §
чем предстоит нам скоро поговорить. По характеру самой эпохи
следовало бы, казалось, ожидать, что война, подобная Деметрие- |-§
вой, завершится миром, который урегулирует новое положение S
дел; Лидиад, без сомнения, способствовал заключению договора
в первую свою стратегию. Благодаря лишь этому миру обеспечено
было новое влияние, достигнутое Деметрием на западе Пелопон-
неса; благодаря тому же миру надлежало признать отделение Бео-
тии от Этолийского союза, отделение или покровительство Фокиды
и Локриды вблизи Эты, восстановление Амфиктионии, федераль-
ную конституцию в Эпире. Судя по совершившимся после того
событиям, кажется несомненным, что при этом была также выго-
ворена свобода акарнанцев; Македонии, по крайней мере, не было
никакой выгоды гарантировать фактически существующую уже их
независимость, способную, как казалось, немало тревожить этолян:
в таком случае ей пришлось бы вмешаться в неизбежно предстояв-
шие войны соседей, которые не могли доставить ей никакой непо-
средственной пользы. Притом же северные границы не были еще
вполне и прочно обеспечены; не прошло и трех лет с тех пор, как
дарданцы вновь стали до крайности угрожать Македонии.
Рядом с занятою дарданцами областью и в постоянной с нею
вражде, на берегу Адриатического моря находилось царство ил-
лирийцев. Основанное лет полтораста тому назад Бардилисом, оно
9 История эллинизма
при Агроне, с^иеПлеврата, простиралось от реки Дрина к северу
по занятым отчасти греческими колониями берегам до островов
Фар и Иссы, а мо^ет быть, еще далее; его населяли дикие хищные
племена, исколи промышлявшие морским разбоем. Область тавлан-
тийских князе и составляла некогда южную границу этой иллирий-
ской страны; яот0м ею завладел Пирр, а сын Пирра Александр
вел из-за нее #ойну с дарданцами; греческий город Диррахий не-
которое времЯ находился во власти дарданского царя Монуния.
К кому затем прешла внутренняя страна между рекою Дрином и
Керавнскими городами, неизвестно; дарданцы не обладали ею
более. На бер£гУ находились греческие города, а именно Дирра-
хий и Аполлония, с независимою при них областью; Аполлония
состояла уже 0 Дружбе с римлянами.
Такова быда Иллирия в то время, как ей суждено было прий-
ти в столкновение с эллинским миром. Этоляне давно уже тщетно
пытались побудить акарнанский город Медеон присоединиться
к Этолийскому союзу; они решились, наконец, заставить его си-
лою. Собрав вСе с^ои войска, они двинулись к Медеону, окружили
город и приступили к формальной осаде. Когда подошло осеннее
равноденствие и вместе с тем время выбора нового стратега, то
город, казалось, Должен был тотчас же пасть. Стратег, которому
предстояло вы**ти в отставку, собрал этолян и представил им, что
город ими был Доведен до крайности, а следовательно, по спра-
ведливости ему» а не преемнику его должна принадлежать подо-
бающая стратегу Доля добычи. После оживленных возражений со
стороны лиц, Питавших надежду на новые выборы, было решено,
чтобы прежние и новый стратег сообща приняли участие в рас-
пределении добычи и чтобы имена обоих были начертаны на тро-
феях. Настал уже деНь выбора и вступления в должность нового
стратега; тут з# Ночь в Амбракийский залив вошли сто иллирий-
ских барок с n^Tbio тысячами вооруженных воинов и пристали к
медеонскому берегу; с наступлением дня воины быстро, но тай-
ком высадились Потом отдельными кучками двинулись к находив-
шемуся в двухчасовом расстоянии городу и атаковали этолийский
лагерь. Несмотря ца совершенно неожиданно нахлынувшую опас-
ность, этоляне скоро выстроились для мужественного отпора;
однако рьяный натИск иллирийцев и одновременная вылазка ме-
деонцев вынудили ^х отступить. Понеся большую утрату убитыми
и пленными, он**> Покинув лагерь, обратились в бегство. Иллирий-
цы перенесли, к#к Приказал им царь, всю добычу на суда и отправи-
лись восвояси, # н^ожиданно спасенные таким образом медеонцы
в первом народИ°М собрании решили, чтобы на добытых ими тро-
феях начертан**1 бь1ЛИ по назначению этолян имена только что
выбывшего и новог0 стратега86.
Это нападение иллирийцев было возбуждено Деметрием Ма-
кедонским; желая выручить осажденный акарнанский город, он
259
побудил к этой экспедиции царя Агрона, у которого было гораздо
больше судов и сухопутных войск, нежели у всех его предшествен-
ников. Когда суда вернулись, то Агрон до того обрадовался добыче
и славе одержанной над этолянами победы, что стал предаваться
распутным оргиям и невоздержным кутежам, вследствие чего че-
рез несколько дней умер. Это было, надо полагать, осенью 231 г.87
Его вдова Тевта приняла бразды правления за своего мало-
летнего сына Пинна. Упомянутая победа исполнила ее самой не-
лепой самонадеянности, и она разрешила иллирийским морякам
производить морские разбои, где и как им вздумается; потом сна-
рядила новую экспедицию в таких же размерах, как была прежняя,
и умолномочила своих вождей атаковать всех на свете. Прежде
всего они обратились к Элиде и Мессении, куда обыкновенно на-
правлялись иллирийские пираты, так как тамошние укрепленные
города находились далеко от берега. Захватив обильную добычу,
иллирийцы двинулись далее к эпирскому берегу, намереваясь на-
пасть на Фойнику, самый богатый и значительный город Эпир-
ского союза, расположенный на расстоянии одной мили от берега88.
Под предлогом запастись провиантом они высадились на ближай-
ший берег. Союз содержал отряд в 800 галатских наемников, сто-
явших в Фойнике; иллирийцы вошли с ними в сношение и с их
помощью овладели этим самым крепким городом в крае. Узнав об
этом, все наскоро собранное ополчение эпиротов двинулось в ia>
Фойнике, заняло возле протекающей мимо реки укрепленную по- §
зицию близ города с целью выручить его из рук варваров. Тут D
пришла весть, что брат Агрона Скердилад с 5000 иллирийцев со- -§
бирается проникнуть в Эпир сухим путем через проходы Анти- 8
гонии89. Часть эпирского войска тотчас же отправилась к нему
навстречу, с тем чтобы преградить путь через Антигонию. От ил-
лирийцев в городе не ускользнуло, что осаждающие разделили
свои боевые силы и что оставшиеся небрежно относились к своей
службе; ночью они вновь навели снятый ими мост, перешли беспре-
пятственно через реку и заняли высоты вблизи неприятельского
лагеря; с наступившим днем загорелся бой, в котором эпироты
были совершенно разбиты, многие из них попали в плен, осталь-
ные спаслись бегством в Атинтанскую область90. Находясь в этом
отчаянном положении, они обратились с просьбой о помощи к
этолянам и ахейцам, которые тотчас же выслали вспомогатель-
ные отряды, проникшие до Геликранона91. Однако находившиеся
в Фойнике иллирийцы успели уже соединиться со Скердиладом;
расположась лагерем против эпирских союзников, они жаждали
сразиться с ними; им помешали местные затруднения; а в то время
царица прислала приказ возвратиться как можно скорее, оттого
нто часть иллирийцев перешла к дарданцам. На обратном пути
иллирийцы грабили повсюду, потом заключили с эпиротами пе-
ремирие, возвратили за выкуп Фойнику и пленных волонтеров, и
поспешили назад с пленными рабами с остальною добычею — одни
морем, а другие через проходы Антигонии.
Летописцы решительно подтверждают, что это нападение на
Фойнику возбудило величайший ужас во всех греческих областях.
Правда, иллирийские пираты до сих пор не раз совершали част-
ные набеги на Лаконию; но этот новый род нашествия, предпри-
нимаемого со стороны правительства одновременно и морем и
сушею, грозил крайнею опасностью, тем более что Македония, как
казалось, поощряла его. Македонии с тыла угрожали этоляне и
ахейцы, тогда как ей же приходилось сверх того вести тяжкую
борьбу с северными варварами; а потому, испугавшись новых на-
бегов дарданцев и опасаясь нарушения мира со стороны этолян и
ахейцев, она напустила на Грецию ту же опасность варварских
нашествий, лишь бы обеспечить свой тыл; а с уничтожением
Эакидова царства Греция с этой стороны была почти совершен-
но лишена защиты, если Македония не охраняла ее; эпирская рес-
публика вовсе неспособна была служить оплотом; даже напротив,
желая обеспечить себя, она вместе с акарнанцами отправила к ца-
рице Тевте послов и вступила в союз с иллирийцами.
Когда обременные добычею иллирийские войска вернулись
назад, то царица Тевта исполнилась отрадного изумления и тот-
час же решила предпринять новое нашестие на Грецию. Сперва,
однако, ей пришлось укротить внутренние волнения; отпавшие к
дарданцам племена были скоро покорены, одна только Исса на
острове того же имени сопротивлялась, но была осаждена92. В это
самое время, чуть ли не под конец 230 г., к царице прибыло рим-
ское посольство. Иллирийские морские разбойники и прежде уже
нападали на италийские купеческие суда, но никогда еще с такою
дерзостью, как в этот год, а именно из Фойники; они не только
обирали римских подданных, но даже убивали их и уводили в плен;
из италийских гаваней то и дело поступали в сенат жалобы, и он
решился наконец отправить Г. и Л. Корунканиев послами и подать
жалобу. Царица с затаенною досадою выслушала их сообщения:
она обещала административным путем по возможности сделать
все, чтобы впредь не наносилось никакого ущерба римлянам, од-
нако запретить частному лицу преследовать свои выгоды на море
по иллирийскому обычаю царская власть не имеет никакого пра-
ва. Младший Корунканий смело и решительно возразил, что в Риме
господствует похвальный обычай охранять правительственною
властью право и безопасность частных лиц, и римляне с помощью
богов всеми мерами постараются принудить царицу окончательно
отменить иллирийский обычай. Затем послы удалились; не успели
они выйти в море, как иллирийцы напали на них и по приказанию
царицы убили дерзкого оратора. Когда в Рим дошла весть об этом
злодеянии, то римляне тотчас же решили начать войну с иллирий-
цами и стали снаряжать войско и флот93.
А между тем, не заботясь об угрожавшей ей опасности, цари-
ца Тевта с наступившею весною отправила весьма значительное
войско для нашествия на Грецию. Одна часть его двинулась на
Диррахий; иллирийцы просили позволения запастись водою для
питья; таким образом многие из них вошли в ворота. В их кувши-
нах находились, однако, мечи; они напали на стражу и перебили
ее, потом завладели воротами и примыкавшею к ним стеною, а тем
временем из барок, как было условлено, подоспели остальные;
вскоре почти вся стена оказалась в их власти. Однако граждане
поспешили собраться и так сильно и упорно ударили на варваров,
что принудили их, наконец, отступить. Иллирийцы поспешили за
остальным войском, которое направилось к Керкире. Там они тот-
час же высадились на берег и осадили город. Граждане Керкиры в
крайней нужде отправили послов к этолянам и ахейцам с просьбою
о помощи, из Аполлогии и Диррахия также прибыли послы, умо-
ляя, чтобы их не предали явной гибели и защитили от иллирий-
цев. Союзники не мешкали; ахейцы и этоляне снарядили десять
принадлежавших ахейцам кораблей, несколько дней спустя после
того они вышли в море; таким образом надеялись выручить Кер-
киру. А к иллирийцам между тем подошла условленная по дого-
вору помощь акарнанцев, состоявшая из семи военных кораблей.
Присоединив к ним собственные барки, они вблизи острова Пак-
соса вышли навстречу ахейцам. Загорелась жестокая битва; стояв-
шие против акарнанцев ахейские корабли стойко сопротивлялись,
так что тут дело ничем не решалось; но с другой стороны стали
подходить иллирийцы, связав свои барки по четыре в ряд. Под-
ставив широкую сторону, они спокойно поджидали напора непри-
ятельских корабельных носов; потом, когда, накрепко врезавшись,
ахейское судно с четырьмя связанными барками перед ним не смог-
ло более двигаться, они перескочили на неприятельскую палубу и
благодаря численному превосходству с их стороны одержали по-
беду. Таким образом они захватили четыре квадриремы, потопили
одну квинкверему со всем экипажем, в том числе и Марга Кери-
нейского. Когда на кораблях с другого фланга враги заметили это
поражение, то они поспешили отступить и благодаря попутному
ветру им удалось добраться домой. А граждане Керкиры, подверг-
шись двойному натиску, не в силах были сопротивляться долее;
отчаявшись в спасении, они сдались на условиях и приняли в го-
род иллирийский гарнизон. Потом иллирийцы отправились к Дир-
рахию, чтобы возобновить неудавшуюся ранее попытку овладеть
богатым торговым городом.
Тем временем в море вышел римский флот из 200 судов под
начальством консула Гн. Фульвия, тогда как другой консул А. По-
стумий94 собирал в Брундузии сухопутное войско. Фульвий спе-
шил к Керкире; узнав, однако, что остров был уже взят, он все-таки
направился туда: в числе начальников там находился Деметрий
Фаросский; на него сделан был донос царице Тевте. Опасаясь за
свою свободу, Деметрий отправил к римлянам тайное посольство,
предлагая им сдать город и все, что было ему подчинено. Когда
подошел римский флот, то жители Керкиры с одобрения Демет-
рия предали римлянам иллирийский гарнизон, затем с общего
согласия подчинили себя и свой остров римскому владычеству;
это, по-видимому, было единственным спасением от дальнейших
насилий со стороны иллирийцев. Потом Фульвий в сопровожде-
нии Деметрия, пользуясь его советом в дальнейших предприяти-
ях, направился к Аполлонии; туда в то же время перебрался
Постумий и с ним 20 000 пехотинцев и 2000 всадников. Аполло-
ния также добровольно отворила ворота и поступила под покро-
вительство римлян. Римские консулы направились далее, с тем
чтобы выручить сильно уже стесняемый Диррахий; узнав об их
наступлении, иллирийцы сняли осаду и стали быстро отступать.
Диррахий также охотно присоединился к римлянам. Потом они
двинулись во внутрь Иллирии и покорили ардиаев; от других пле-
мен, а именно от парфян на берегу против острова Фар и от атин-
тан появились послы, чтобы заявить свою преданность римлянам;
подобно городам, они также были приняты в «дружбу» с Римом.
Потом была освобождена все еще оборонявшаяся Исса, которая
поступила в такие же отношения к римлянам. Другие иллирий-
ские приморские города были завоеваны с большими и меньшими
усилиями. Так быстро было сокрушено это столь страшное гре-
кам владычество иллирийцев! Сама царица Тевта с несколькими
проводниками спаслась бегством в Рисон, укрепленный городок
в крайнем уголке Каттарского залива. Так настал конец года; Де-
метрию передана была как династу большая часть Иллирии, а
именно племя ардиаев; затем римляне отступили в Диррахий,
Фульвий с большею частью флота и войска вернулся в Италию,
а Постумий оставил при себе сорок кораблей, набрал из окрест-
ных городов войско, перезимовал вблизи Диррахия, заняв там
позицию, охранявшую ардиаев, также остальные, поступившие
под римское покровительство города и племена. Весною 228 года
наконец царица Тевта прислала свои мирные предложения; она
заявила готовность платить дань, какую потребуют римляне,
уступит Иллирийскую область за исключением нескольких окру-
гов; затем обязалась, чтобы впредь далее Лисса никогда не ходило
более двух, да и то невооруженных иллирийских барок. На этих
условиях римляне согласились на мир. Господство Рима над Ад-
риатическим морем было утверждено; Рим забрал в свои креп-
кие руки как Великую Грецию, так и греческие города в Иллирии
и Керкиру95. После того Постумий отправил посольство к Ахей-
скому и Этолийскому союзам, с тем чтобы оправдать Рим по по-
воду переправы к здешним берегам, ссылаясь на побудившие к тому
причины, и сообщить о заключенном с царицею мире. Сообще-
ния послов были приняты обоими союзами с искреннею благо-
дарностью. Это были первые посольские сношения Рима с Греци-
ей; вскоре затем последовали другие — с Афинами, с Коринфом.
Коринфяне открыли римлянам доступ к Истмийским играм, а
афиняне признали за ними право соучастия в Элевсинских таин-
ствах и исополитию96.
В эту пору в самой Греции произошли весьма значительные
перемены. В то время как римляне переправились в Иллирию, Де-
метрий Македонский лишился жизни97. Он опять вел войну с дар-
данцами, потерпел решительное поражение и был, вероятно,
также в числе павших в этот злополучный день. Наследником пре-
стола был семилетний отрок Филипп98. Пока римляне проника-
ли далее, беспрепятственно побеждая иллирийцев, ставших по
обстоятельствам союзниками Македонии, в то же время дардан-
цы, кичась своими победами, перешли границу. Фессалийцы, у
которых давно уже происходило брожение, сочли это время
удобным, для того чтобы окончательно настоять на существо-
вавшем все еще лишь по имени разобщении с Македонией; они
совершенно отделились от нее. Этоляне поспешили проникнуть
в Фессалию, вероятно, с согласия фессалийцев, чтобы помочь им
поддержать новую самостоятельность; а может быть, с тем что-
бы навсегда обеспечить за собою те области, какими они пыта-
лись завладеть лет десять тому назад99. Этоляне простерли свое
влияние также и на другие страны100, по крайней мере, быстро
окрепшая партия в Беотии восстала против соединения с Маке-
донией101. Опунтии и фокейцы едва ли в состоянии были проти-
виться расширению союза, а тем еще менее акарнанцы и эпироты,
союзники иллирийцев, эфемерное владычество которых как раз
в эту пору сокрушилось под ударами римлян. В Афинах патрио-
ты Хремонидовой войны вновь принялись за дело102. Ахейский
союз в это самое время обнаружил еще более сильную и более
успешную деятельность. Под конец восьмой стратегии Арата, как
кажется, совершена была в тесной связи с этолянами вполне не-
удавшаяся экспедиция в Керкиру. Несмотря на происки Арата, в
наступившую затем стратегию выбор в третий раз пал на Лидиа-
да. Благодаря ему, вероятно, ахейцы не соединились опять с это-
лянами на фессалийскую экспедицию103; напротив, они всеми
мерами старались привлечь к союзу соседние области; но только
способ такого расширения явно носил на себе характер Аратовой
политики, и, таким образом, вполне обнаружилось, что, несмот-
ря на признанные нами дарования стратега этого года, он не в
состоянии был преодолеть решительное влияние Арата.
Некоторые события, в том виде, как они нам сообщаются,
бросают замечательный свет не только на положение обоих со-
ревновавшихся друг перед другом глав союза и на их политику, но
также на характер сохранившихся известий. Полибий говорит:
«Монархи в Пелопоннесе, лишившись по смерти Деметрия вся-
кой надежды и притесняемые Аратом, который понуждал их те-
перь отречься от власти и всем повиновавшимся ему сулил великие
подарки и почести, а сопротивлявшихся стращал еще большими
ужасами и опасностями, спешили сложить с себя тиранию, осво-
бодить свои города и вступить в Ахейский союз». При этом По-
либий называет Лидиада, который, конечно, прежде уже, предвидя
будущее, сложил с себя власть и присоединился к союзу; потом
он продолжает: «Аристомах в Аргосе, Ксенон в Гермионе, Клео-
ним в Флиунте отказались тогда от своих монархий и вступили
в ахейскую демократию»104. Полибий исполнен благоговения к
основателю союза, которому и сам посвятил свою долгую и слав-
ную жизнь; так что он не только извиняет и оправдывает промахи
Арата, но всячески старается даже набросить тень на всех его про-
тивников. Хотя сообщение Плутарха почерпнуто из собственных
записок Арата, однако по нему можно еще отчасти постичь ис-
тинное положение дел105: «Арат», говорит он, «предложил Арис-
томаху в Аргосе сложить с себя тиранию и, соревнуя Лидиаду,
сделаться лучше почетным и уважаемым стратегом такого народа,
нежели ненавистным и угрожаемым тираном одинокого города.
Аристомах согласился на это и потребовал пятьдесят талантов для
того, чтобы расплатиться со своими наемниками и распустить их.
Арат выслал деньги. Желая сам довершить такое значительное при-
обретение для союза, Лидиад, который был тогда стратегом, всту-
пил в переговоры с Аристомахом, передал ему, что Арат всегда
враждебно и непримиримо относится к бывшим тиранам, и вызвался
сам уладить его дело; он действительно убедил Аристомаха и пред-
ложил союзу признать его своим членом». «Тут-то», прибавляет
Плутарх, «обнаружились благосклонность и доверие союзников к
Арату; и действительно, когда он воспротивился принятию Арис-
томаха, то последнему отказали без дальнейших околичностей;
вскоре, однако, когда Арат сам предложил то же дело, члены с ним
согласились, и Аргос был принят в союз, сам Аристомах, год спус-
тя после того, был выбран в стратеги». Это известие, как мы сказа-
ли, почерпнуто из записок Арата. Можно себе представить, в каком
жалком положении находился союз, если Арат, не будучи страте-
гом, мог не только на свой страх вести столь важные переговоры,
но даже и употребить на то весьма значительный капитал, — мало
того, заключая договор, вперед поручиться за успешный выбор в
стратеги, — и если Арат, будучи частным человеком, мог таким об-
разом уничтожить заключенные главою союза условия, а потом все-
таки по своей прихоти привести это дело в исполнение106. Разве этот
подкуп, эта противозаконная порука за предстоящий выбор в стра-
теги служили единственною возможностью освободить Аргос? Как
раз в это время, тотчас же по смерти Деметрия, союз был бы в со-
стоянии даже принудить тирана отказаться от власти.
В более двусмысленном виде Арат явился еще в аттической
экспедиции. Не раз уже соблазняемые им афиняне по смерти Де-
метрия также пожелали, наконец, освободиться; они обратились
к Арату как к всесветному освободителю, хотя в то время, гово-
рит Плутарх, стратегом был другой. Несмотря на постигшую его
болезнь, он внял их призыву и велел на носилках перенести себя
в Аттику. В Пирее начальствовал все тот же македонский фру-
рарх Диоген, который несколько лет тому назад при вести о смер-
ти Арата предложил Коринфу вновь подчиниться македонскому
владычеству; Арат вступил с ним в сношение и сговорился с ним,
чтобы он за полтораста талантов предал афинянам Пирей, Суний,
Мунихий, Саламин; сам Арат прибавил к этому еще двадцать та-
лантов, неизвестно только из своей или из союзной кассы107. Но
по аттическим документам это событие представляется в ином
виде: «После того как освободили Пирей, Эвриклид, сын Микио-
на, возвратил свободу городу и выдал деньги для венца, назначен-
ного солдатам, которые вместе с Диогеном освободили сказанное
место; он укрепил гавани, исправил со своим братом Микионом
стены города и Пирея»108; Диоген же был прозван «Эвергетом»,
благодетелем города, и в сооруженной в честь его Диогении было
установлено празднество. Хотя Арат и выдал деньги, для того
чтобы расплатиться с наемниками, однако Афины не вступили в
союз; напротив, они в качестве свободной и самостоятельной рес-
публики приняли упомянутое выше римское посольство.
Арат сделал большую ошибку, не присоединив Афины к со-
юзу. Не подлежит сомнению, что он мог бы привлечь их109, отчего
же он не сделал этого? Разве он связан был получаемою из Алек-
сандрии ежегодною платою в размере шести талантов? Лагиду не
было никакой выгоды оттого, что Афины составили отдельное
государство. Или не опасался ли Арат, как бы союз не распрост-
ранился по другую сторону перешейка? Но ведь Мегара принад-
лежала уже к нему. Не затруднялся ли он тем, что не в состоянии
будет защитить Аттическую область? Одно из двух, или вообще
нечего было более опасаться со стороны Македонии, или, может
быть, Арат чересчур уже смело стал вмешиваться в дела государ-
ства, так что мог надеяться спасти союз от мести врага иными сред-
ствами, избегая по мере возможности усиления и расширения его.
Однако надо полагать, что Афины совсем по другой причи-
не не были приняты в союз. Демократия в Афинах понималась
вовсе не так, как бы хотелось Арату и как допускалась она им в
союзе. Благодаря внезапному восстановлению свободы афиня-
не были крайне возбуждены и решились прибегнуть к самым
энергичным мерам; так, между прочим, тотчас же изгнаны были
давнишние жители Саламина за то, что они так долго и так охот-
но поддерживали интересы македонян, а поля на острове роз-
даны были аттическим клерухам110. Народные вожаки и бедняки
в Афинах, исполненные славных воспоминаний и смелых при-
тязаний, пользовались таким значением, какое Арат считал не-
обходимым во что бы то ни стало устранять от союза. Афины в
особенности были настоящим очагом философского образова-
ния тех «идей», которые, как казалось ему, и без того уже черес-
чур распространились в союзе, и ни в каком случае не следовало
допускать, чтобы они усиливались еще более. А потому, не же-
лая упустить из рук опеку над союзом, Арат, всегда, впрочем,
готовый во что бы то ни стало присоединить к нему новые обла-
сти, отказался на этот раз от дальнейшего расширения его, ко-
торое возымело бы весьма важное влияние не только на самый
союз, но также и на всю Грецию: тогда как теперь предоставлен-
ные самим себе Афины рано или поздно должны были подчи-
ниться чуждому влиянию.
Такова была политика Арата; нельзя сказать, в какой мере
она подчинялась внушениям из Александрии; но в настоящем
случае она оказалась вредною, тем более что поддерживалась
лишь вопреки избранному в этот год главе союза и в ущерб его
законным прерогативам. Лидиад ничего не мог предпринять про-
тив скрытного врага и против ослепления или злостных замыс-
лов поддержавших его людей. Какая польза была оттого, что
стратег не раз обвинял Арата перед союзниками? Для того чтобы
к I навлечь подозрение на Лидиада, Арату стоило лишь напомнить
5 об его тирании в Мегалополе и о басне про кукушку; недостатки
ь" союзных уставов не давали лучшим воззрениям и высшим поры-
2 вам никакой возможности преодолеть закоснелые начала, на
х которые опирался Арат.
Описывая конницу Ахейского союза в том виде, как она была
'■%.< в позднейшую эпоху, один из авторов сказал, между прочим:
«Она находилась в крайнем запущении, оттого что все обязан-
ные служить в коннице поставляли вместо себя охотников или
заботились лишь о блеске и щегольстве; гиппархи же на все смот-
рели сквозь пальцы, так как всадники пользовались в правлении
преобладающим влиянием, и, в особенности, их решению подле-
жали дела чести и наказания; гоняясь за популярностью с целью
достичь при их помощи стратегии, гиппархи спускали им все»111.
Не следует ли по этому указанию предположить, что в ахейской
демократии господствовал тимократический элемент. По существу
дела, обязанность служить в коннице обусловливалась известным
цензом. Вследствие этого зажиточные люди, ктематики112, имели
значительное влияние на важнейшие правительственные функ-
ции. Неизвестно лишь, в какой именно форме; как бы то ни было,
но всадники не были представителями своих общин в собраниях
союза в Эгионе; а иначе Ахейскому союзу не подобало бы назы-
ваться демократией, и по некоторым известиям решительно ока-
зывается противоположный факт113. Надо, впрочем, предполагать,
что способ предложения и голосования в этих народных собра-
ниях, в которых каждый город пользовался правом одного го-
лоса, был организован в таком роде, что ктематики и там даже
преобладали своим влиянием. Сверх того, обыкновенное место
собрания, Эгион, находилось чересчур далеко для бедного люда,
а чрезвычайные собрания назначались в таких местах союза, ка-
кие удобны были руководителям, и которые точно так же мож-
но было перенести в города, неудобные для массы мелкого
народа. Фактически, по крайней мере, собрание союза было не в
одинаковой мере доступно для бедняков и богачей. Вследствие
этого в конституции союза оказались недостатки, которые были
тем еще опаснее и вреднее, что в ту вполне пропитанную демокра-
тическими принципами эпоху давно уже отказались признавать
привилегии, связанные с известным имущественным состоянием.
Если же такое основанное на имуществе различие признава-
лось фактически или легально, то от него, без сомнения, зависел
также выбор на союзные должности и на состав союза; а судя по
вышеприведенному замечанию не подлежит, кажется, сомнению,
что союзный суд114 состоял лишь из зажиточных граждан. Таким
образом, если не вполне, то по крайней мере в главных чертах
объясняются приписанные выше сословию всадников привиле-
гии. Всякие подлежащие решению народной общины вопросы
разбирались сперва в союзном совете; в общине рассматривались
исключительно те дела, для которых она созывалась; она соби-
ралась только два раза в год и была в сборе не более трех дней.
Ясно поэтому, что политическая деятельность этой народной
общины была незначительна и ограничивалась почти одним лишь
заявлением «да» или «нет».
Правление союза находилось вообще в руках стратега и его
синархонтов, к которым помимо гиппарха, наварха115 ,удо4щатеи$
и пр. относились в особенности десять демиургов. Эти демиурги
не были комиссией союзного совета (Jiovhri или герусии)116, и едва
ли подлежит сомнению, что этот совет или в полном составе или,
что вероятнее, в форме комитетов всегда был налицо, с тем что-
бы совместно с администраторами заняться текущими делами.
Мы не знаем, избирались ли демиурги общиною или советом; до-
стоверно только то, что они предлагали кандидата (или канди-
датов?) в стратегию117. Устройство союза было лишь по названию
демократическое; на самом же деле толпа принимала весьма огра-
ниченное участие в делах администрации: народ считался само-
державным, но не управлял.
Хотя мы наверное не знаем, но весьма вероятно, что выше-
упомянутое тимократическое начало конституции введено было
во всех присоединившихся к союзу городах и применялось к их
общинным делам. Такое учреждение ценза опиралось главным
образом на финансовое устройство союза. По некоторым наме-
кам оказывается, что каждый из союзных городов обязан был
вносить в союзную кассу ежегодно подать118, которая строго взи-
малась, тем более что для войны помимо ахейских отрядов набира-
лось значительное число наемников. Вследствие господствовавших
за последние столетия неурядиц в городах большею частью вовсе
не было общественного имущества; все достояние, какое еще со-
хранилось у общин, перешло во время тирании, олигархии, чуже-
земного владычества и после их падения в руки частных лиц; если
поэтому города не пользовались никакого рода пошлинами и т. п.,
то для взносов в союз необходимо было облагать граждан пода-
тью. Надо полагать, что на ктематиков возлагалась обязанность
распределять назначенную подать в их общине. К сожалению, нет
никакой возможности составить себе ясное понятие о податной
системе союза. Однако не следует упускать из виду еще одно об-
стоятельство. Отнюдь не все находившиеся в союзной области
местечки были непосредственными членами союза; впоследствии,
когда Мессения вступила в союз, то по известным соображениям
от нее отделены были три восточных местечка, и каждое из них
было отдельно принято в союз; вся остальная Мессения вступила
в него как одна община и в качестве таковой она впоследствии ста-
ла чеканить монету с общим ахейским знаком и с местным назва-
нием «мессенцев»119. Против Мегалополя восстали некоторые из
окрестных и принадлежавших к нему селений; они не хотели под-
чиниться городу и требовали, чтобы их признали непосредствен-
ными членами союза120. Не подлежит, конечно, сомнению, что
зависимые и, так сказать, не «непосредственные» ахейские мест-
ности считали свое положение приниженным; они уподоблялись
периекам и были обязаны платить подать своему главному горо-
ду, не принимая никакого участия в союзе в качестве действитель-
ных членов. Так скудно относительно низших слоев разработан
был принцип свободы в этой конфедерации. В общем составе она
пользовалась, конечно, самодержавною властью, однако в союз-
ных собраниях все еще господствовало опасное голосование по
городам, опасное тем более, что некоторые из них были мелкими,
незначительными местечками, тогда как другие, вроде Аргоса, Ме-
галополя, а впоследствии Мессении, занимали обширные терри-
тории. Было бы целесообразнее собирать голоса по количеству
населения, по размеру взносов в союзное казначейство; но не под-
лежит никакому сомнению, что в союзе поддерживался первобыт-
ный способ подачи голосов.
Как ни скудны по причине подлежащих источников эти за-
метки касательно конституции, однако по ним явно обнаружива-
ется, что эта конституция мало отвечала развившимся в ту эпоху
государственным потребностям и затруднительным политическим
условиям союза. Лидиаду можно было бы, пожалуй, приписать
заслугу в том, то он стремился преобразовать эту конституцию;
такое преобразование впоследствии действительно исходило из
его родного города, но было уже слишком поздно. Арат не ду-
мал воспользоваться своим влиянием и не прибег к средству, ко-
торое одно только и могло бы упрочить будущность союза; мало
того, всякую попытку к улучшению конституции он принимал за
личную обиду; на его роковое ослепление, на его хотя и благо-
намеренное, но суетное, ограниченное благоразумие падает вся
ответственность за неудачу великого учреждения, в котором за-
ключалась возможность распространиться более плодотворно-
му эллинскому развитию.
Вот в каком состоянии находились внутренние условия со-
юза. Он, правда, значительно расширился в течение последних
лет; к конфедерации принадлежали теперь вся Аркадия; Арголи-
да, Флиунт, Гермиона, Трезен, Эпидавр, словом, север и самое ядро
Пелопоннеса, более половины всего полуострова, сверх того, еще
Мегара, — все это примкнуло к ахейцам; македонское влияние
по сю сторону перешейка окончательно прекратилось.
Вспомним, то в этот самый год, когда после смерти Демет-
рия в Македонии учреждена была правительственная опека, ког-
да победоносно наступали дарданцы и отторглись фессалийцы,
когда все занятые Македонией посты в Греции и по соседним
островам до Эвбеи были изгнаны, — в это самое время римские
войска впервые появились по сю сторону Адриатического моря.
Мы видели, что Македония, как бы ввиду самообороны от напа-
дений со стороны Греции, всякий раз, когда ей угрожала опас-
ность на северной границе, сама побуждала иллирийцев напасть
на Грецию. Эти набеги наводили чрезвычайный ужас; этоляне и
ахейцы — единственные владычества, которые должны были бы
вступиться за Грецию и защитить ее, так как они отторгли ее от
Македонии, соединившись, сами были разбиты иллирийцами;
греки лишили Македонию средства обуздывать северные племе-
на, а сами не в силах были отразить хищные набеги иллирийцев.
В эту пору всеобщего уныния и изнеможения явились рим-
ляне. С какою твердостью и с каким спокойствием подавили они
жалкое владычество пиратов, перед которыми трепетала Греция.
Исполненные нравственного и материального превосходства они
разгромили наглых варваров, дерзнувших наносить ущерб рим-
ским подданным, оскорбить римских послов. Уничтожение этих
пиратов оказалось, конечно, благодеянием для Греции, и первые
отношения Рима к эллинской политике были вполне благосклон-
ны. Однако какими последствиями сопровождались они! Рим
оказал охрану, которую Македония вследствие греческих оппо-
зиций не в силах была более доставить ей, тогда как слишком сла-
бая и раздробленная Греция не могла сама защитить себя; Рим
присвоил себе Керкиру, Аполлонию, Диррахий; словом, такие
пункты, к которым ближе всего было переправиться из Италии121;
в его власти находились все места нападения, и он был вполне
уверен в их населении, тем более что лишь от их преданности
Риму зависела защита от иллирийцев. Мы не станем теперь раз-
вивать римскую политику и ее мотивы; прошло еще почти пят-
надцать лет, пока римляне не вмешались вновь в эллинские дела,
да и то лишь вынужденно. Однако по идеям эллинистической
политики и по существу дела крайне важным оказался уже тот
факт, что они там утвердились. Македонии, правда, удалось рас-
сеять дарданцев, подчинить фессалийцев, занять даже вновь не-
которые позиции в Греции, — и вот явилось владычество, готовое
по первому поводу возобновить и притом с более сильными бое-
выми средствами соперничество, каким Македонии угрожало
некогда эпирское царство. Рим овладел уже всей Италией, он
отнял у пунов Сицилию и пока терпел лишь существование мел-
кого княжества Гиерона, этого жалкого остатка блестящего не-
когда греческого мира на острове; в течение двадцатилетней
войны он достиг морского владычества, перед которым, нако-
нец, смирился Карфаген; Рим отнял у него даже Корсику и Сар-
динию, вместе с тем разрушил половину его торговли; когда же,
наконец, пуны, питая великие замыслы, обратили взоры на Ис-
панию и задумали там основать континентальное владычество,
которое вознаградило бы их за утрату морского и могло бы
к I впредь снабдить их средствами сразиться с враждебною держа-
£ вою на ее собственной почве, то Рим принудил их остановиться
ь на берегах Эбро; это совершилось в тот самый 228 год, когда Рим
2 вследствие мирного договора вступил во владение по ту сторону
i Адриатического моря. Какое крепкое, всеобъемлющее, сосредо-
точенное владычество, с одной стороны, тогда как с другой —
ф в системе эллинистических государств Египет достиг уже своего
апогея, Азия переходила из одного расстроенного состояния в
другое, Греция вся распалась и расстроилась, а Македония, как
казалось, находилась уже на краю гибели.
Ни одной, быть может, державе древней истории не при-
шлось испытать столько политических затруднений, как Маке-
донии со времен Аминты и Филиппа И. Постоянно готовая на
великие подвиги, она то и дело подвергалась вновь одолевавшим
ее препятствиям, и, преобладая над распавшеюся Грецией, все
вновь вмешивалась во всеобщие отношения, добиваясь в них крат-
ковременного лишь превосходства, да и то благодаря исключитель-
но личным дарованиям своих царей. Надо отдать справедливость
Антигонидам в том, что они с великим смыслом постигли поло-
жение своего царства и с неутомимою настойчивостью и осмот-
рительностью старались утвердить его; однако все их усилия
оказались Сизифовым трудом, и с каждою новою попыткою этот
труд становился лишь томительнее, силы все более напрягались.
С каким трудом Антигон Гонат восстановил царство после га-
латских разрушений, охранил его от северных варваров, вновь и
крепче прежнего обосновал все, что было разрушено Пирром,
пока, наконец, вследствие происков его на Кирене Пелопоннес
не стал ускользать от его влияния; а затем в возникшей вновь
войне с Египтом он утратил даже ключ к полуострову! Антигон
пытался новыми политическими комбинациями наверстать эту
утрату; однако смерть его расстроила с таким трудом добытый
мир; при его сыне Деметрии враги с севера угрожали царству,
даже Фессалия на юге подверглась опасности. Энергический на-
тиск понудил этолян отступить, благодаря чему возобновилось
даже македонское влияние в Пелопоннесе, однако Акрокоринф
был все-таки потерян.
С преждевременною смертью этого царя все рухнуло; даже
Аттика была утрачена, Фессалия также вполне отделилась, по
ту сторону Олимпа за исключением Эвбеи не осталось ни одной
верной области, север Македонии был совершенно открыт для
победоносных дарданцев, а наследником престола был младенец.
Тогда Антигон, сын Деметрия Красивого, овладевшего некогда
Киреною, взял на себя опеку. Тридцати лет от роду, исполнен-
ный свежих сил, равно замечательный правитель и полководец,
он, как обнаружила впоследствии его политическая деятельность,
отличался широкими взглядами и ясным сознанием предстоявшей
ему цели122. Немногое, что известно об его личных свойствах, сви-
детельствует прежде всего о его чувстве справедливости и долга,
о необыкновенном нравственном достоинстве. Обстоятельства
понудили его опеку променять на венец; но лишь с тем, чтобы
вернее сохранить его для своего питомца; Филипп был побочный
сын Деметрия, и Антигон женился на его матери, чтобы по смер-
ти его помимо Филиппа не оставалось наследника с более чистою
царскою кровью. Не сыновей, которых родила ему Хрисеида, а
этого Филиппа готовил он для престола123; и о начатках его цар-
ствования он даже после смерти своей позаботился самыми
тщательными завещаниями124. Его сравнивали с Филиппом, сы-
ном Аминты; но он отличался от него так же, как его время от-
личалось от Филипповой эпохи. Филипп передал своему свежему
и восприимчивому народу все, что было животворного и возвы-
шенного в эллинском образовании и просвещении; благодаря
своей администрации, своей военной системе, своему смелому
властвованию он создал государство, которое оказалось способ-
ным исполнить величайшие подвиги. Затем последовали чрезвы-
чайные перевороты — завоевания Александра, войны диадохов,
нашествия кельтов. Они потрясли всю Грецию, а более всего
Македонию, и она стала чем-то вроде шлака; а греческий мир,
неудержимо стремясь к гибели, с тем еще большею цепкостью
стал держаться того просвещения, что служило ему порукою в
непогрешимости принципов, благодаря которым эллинизм гос-
подствовал над миром. Как бы резко ни расходились в самом эл-
линском и даже эллинистическом мире политические воззрения,
хотя бы монархические теории далеко не согласовались с рес-
публиканскими, хотя бы фактические условия вовсе не отвечали
тому, что признано было разумным и необходимым, а все-таки
это просвещение, это мерило для всего сущего, это руководящее
начало для всего, что было дорого людям, всеми сознавалось и
признавалось, — вот что составляло отличительную черту той
эпохи во всех ее проявлениях и обусловливало характер ознаме-
новавших ее личностей.
Антигон Досон только по наружным свойствам походил на
Филиппа; сходство между ними заключалось не столько в их лич-
ности, а скорее во внешних условиях, при которых им пришлось
действовать. Филипп был рожден политиком, и притом это был
первый из политиков с таким широким размахом; он сам вызывал
усложнения, с тем чтобы на них развить свою политическую ге-
ниальность; Антигону же они, напротив того, навязывались, и,
исполняя свой тяжкий долг, он с трудом преодолевал их. Филипп
был рожден царем, Антигон же лишь по обязанности был царем;
Филипп всецело казался таким, каким он был на самом деле, Анти-
гону же предстояло принять на себя должность, и слава его заклю-
чалась в том, что он понял ее. И такова везде эта эпоха эллинизма;
не стало более гениальностей, прекрасное начало «будь самим
собою» не довлело уже более; великие творческие идеи не вопло-
щались уже непосредственно в одной личности, они не были пло-
дом высокоодаренной натуры их носителей; стала развиваться
всеобщая сфера идей, и слава лучших из людей состояла в том,
чтобы, поясняя, поощряя, осуществляя их, принимать в подвигах
деятельное участие.
Первой заботой Антигона было сохранить границы Македо-
нии. По словам Юстина, царь в одной из своих речей напомнил
македонянам, что он покарал союзников за их измену, усмирил
дарданцев, фессалийцев, зазнавшихся после смерти Деметрия,
вообще не только поддержал, но и увеличил достоинство Маке-
донии125. О его первых поступках, к сожалению, ничего более не
известно; можно лишь сделать смелые предположения о том, что
творилось в Фессалии. Не подлежит сомнению, что македонское
владычество было восстановлено вновь; борьба была, вероятно,
жестокая, но с кем велась она? Сюда, может быть, относится сле-
дующее отрывочное известие: отразив этолян, Антигон тесно об-
ложил их войсками; побуждаемые наконец голодом, они решились
или пробиться, или лишиться жизни. Антигон пропустил их, а
потом кинулся на бежавших и большею частью перебил их126. Это
произошло, вероятно, где-нибудь в северной Фессалии; однако
Антигон не совсем еще вытеснил их из Фессалии; Фивы Фтиотий-
ские остались в их власти; мало того, впоследствии они заявили
свои права даже на Ларису-Кремасту, на Эхин, Фарсал в таких
выражениях127, из которых видно, что Македония по договору
вполне уступила им эти города, что и могло совершиться только в
это время.
Нетрудно постичь, что именно побудило Антигона сделать
такие значительные уступки. Освободившись прежде всего от
главной опасности и обратив внимание на греческие отношения,
он должен был во что бы то ни стало отделить этолян от ахей-
цев. Если бы после своих побед в Фессалии он стал все далее и
далее оттеснять этолян, то ближайшим последствием этого было
бы не только соединение ахейских и этолийских боевых сил, —
он, пожалуй, и справился бы с ними; — но ему следовало опа-
саться, как бы они в крайности не прибегли к египетской помо-
щи и чего доброго еще к самим римлянам, которые как раз в эту
пору, после иллирийской победы, вступили с ними в сношение;
тем более что их область, по крайней мере находившаяся под их
покровительством, граничила непосредственно с западными ма-
кедонскими крепостями, с Антигонией и Антипатридой. Царь мог
только надеяться вновь восстановить свое влияние в эллинских
областях, когда этоляне и ахейцы будут разрознены; а потому,
вероятно, он и уступил этолянам юг Фессалии, имея в виду, чтобы
они отделили свои интересы от быстро расширивших свои вла-
дения ахейских союзников. Этоляне, без сомнения, сильно уже
охладели к своим союзникам; немыслимо, чтобы их, так сказать,
эллинская политика, в том виде, как ее представлял Панталеон и
проводил в симмахии с ахейцами, согласовалась с настоящими
этолийскими воззрениями; и чем удачнее были предприятия ахей-
цев, тем в среде этолян решительнее восставала этолийская
партия против эллинской; ведь ахейцы явно домогались соеди-
нить в одно целое весь Пелопоннес; а затем уже едва ли удалось
бы предохранить от их влияния Элиду. Распространяясь далее,
конституция самих ахейцев была самым опасным соперником для
господствовавших у этолян условий; давно пора было восстать
против этой распространявшейся «легальности». Конечно, пока
еще нельзя было объявить открытую вражду; Полибий того мне-
ния, что память о Деметриевой войне была довольно свежа, так
что им нельзя было еще нарушить долг благодарности128. Одна-
ко когда Мантинея опять отделилась от Ахейского союза, то
этоляне приняли город в симполитию; Тегея и Орхомен также
перешли к ним. Антигон, следовательно, не ошибся в своих рас-
четах: среди ахейской территории находились теперь форпосты
такого владычества, которое уже не относилось враждебно к Ма-
кедонии.
Однако что же предстояло далее? Не следовало ли Антиго-
ну напасть на Аттику и овладеть ею вновь? Афины состояли в
дружбе с Римом и на всякий случай заручились помощью со сто-
роны Египта129; не напасть ли ему прямо на Ахейский союз? Тут
Египет принимал еще более сильное участие; хотя формальное
протекторатство Лагидов над союзом и прекратилось за после-
днее десятилетие, однако постоянное влияние Египта и интерес
его в ахейской политике все-таки поддерживались в лице Арата,
получившего из Александрии годовой оклад. Египет достиг сво-
его громадного преобладания на Востоке благодаря лишь тому,
что мог угрожать Македонии и обуздывать ее через посредство
ахейцев. Как было выйти из этих запутанных обстоятельств? Как
добиться цели, т. е. полного объединения Греции под македон-
ским влиянием? А между тем македонской политике надлежало
тем еще ревностнее стремиться к этой цели с тех пор, как к гра-
ницам ее подступала великая западная держава. И в самом деле,
надо было обладать доблестным духом, для того чтобы в такое
время подумать только о возможности объединения; но не про-
шло и шести лет, как Антигон, в сущности, достиг своей цели.
Антигон принялся за это дело исподволь. Со времен кире-
нейской экспедиции Македония перестала нападать на Египет и
его владения; морская битва при Андросе заставила ее принять
лишь оборонительное положение, что повлекло за собою посто-
янно новые утраты в Греции. После того как было восстановле-
но спокойствие на границах, как был расторгнут союз этолян с
ахейцами, надлежало попытаться еще более изолировать ахей-
цев; а этого можно было достичь лишь тогда, когда в отношении
к Египту удалось бы принять более решительное положение, так
чтобы он вынужден был отказаться от Греции. Хотя бы даже воз-
можно было вновь утвердиться в Кирене (мы не знаем, поддер-
живалась ли там еще независимость), но экспедиция в этот край
сулила мало выгоды, тем более что после утраты чуть ли не всех
берегов, и в особенности Селевкии, сирийская держава не в состо-
янии была угрожать египетской восточной границе, с тем чтобы
поддержать македонское нападение на Ливию. Легче и целесо-
образнее было бы напасть на новые завоевания Египта. Мы преж-
де еще наметили неясные следы карийской экспедиции Антигона.
Он направился не к пограничной Фракии; эти более отдаленные
от Египта позиции Лагид, скорее всего, предоставил бы на про-
извол судьбы. Напротив, Антигон напал как раз на области, на-
ходившиеся во главе завоеванных Египтом берегов Малой Азии.
Его, может быть, вызвали греческие города в Карий, с тем чтобы
охранить их свободу, так как в прежних мирных договорах с
Сирией Македония приняла на себя их гарантию.
Антиох Гиеракс был естественным союзником Антигона. Мы
теперь не в состоянии вполне выяснить отношения обоих друг
к другу и к Вифинии; мы не знаем, воспользовался ли Антигон
нападением Антиоха на Лидию в 228 г. или он сумел убедить Гие-
ракса содействовать ему. Потерпев здесь поражение, Антиох
в первую половину 227 г. опять вел неудачную войну против Ат-
тала. Немыслимо, чтобы македонский царь предпринял экспеди-
цию лишь тогда, когда союзник его был совершенно разбит.
Вероятно, он напал на Карию в то самое время, когда вооружил-
ся Антиох, т. е. в 228 г. Из всего ясно видно130, что он как будто
пренебрег условиями в Греции, лишь бы добиться твердого по-
ложения против Египта; лучшим доказательством в этом случае
служила Беотия.
Мы уже видели, что там после смерти Деметрия восстала ан-
тимакедонская партия. Намеревалась ли она вернуться к этолий-
ской симмахии? Разве ахейцы успели привлечь к себе Беотийский
союз? Может быть, беотийцы надеялись быть самостоятельны-
ми. Когда, однако, договор Антигона с этолянами вновь обеспе-
чил обладание Фессалией, а вместе с тем и сношение с Эвбеей, то
Беотия была открыта для македонской власти на острове. Когда
снаряжался известный флот в Азию, то все полагали, что имеет-
ся в виду нашествие на Беотию. Вдруг македонский флот сел на
мель Ларимны; в это время беотяне уже готовы были, как требова-
лось именно в Фивах, напасть на беззащитных македонян. Бывший
тогда гиппарх Неон привел даже всадников к берегу; он, однако,
был расположен к македонянам, а потому не воспользовался
удобным случаем для нападения, и беотяне, большею частью по
крайней мере, одобрили его поступок. Вскоре флот снялся с мели
и был в состоянии продолжать плаванье. Антигон до поры до
времени отложил как беотийские, так и эллинские дела; когда
ему удалось завладеть Карией, то он добился хотя не решитель-
ного результата, но существенной точки опоры для достижения
своей цели. За Карию он мог требовать от Египта самые важные
уступки в отношении греческой политики. Судя по некоторым
совершившимся впоследствии событиям, почти не подлежит со-
мнению то, что он удержал свои завоевания даже после поражения
Антиоха Гиеракса; однако по сохранившимся известиям нельзя
узнать, каким образом он успел удержать их за собою. Необходи-
мо, впрочем, обратить внимание на одно обстоятельство. В случай-
ной заметке упоминается о том, что впоследствии Киос, Халкедон
при входе в Босфор, Лисимахия на перешейке Фракийского Херсо-
неса состояли в этолийской симполитии131; однако Лисимахия
вместе с фракийским завоеванием перешла к Египту132 и могла
присоединиться к Этолийскому союзу, лишь отложившись фор-
мально от Египта, и этоляне могли принять ее только в такое
время, когда они находились во враждебных отношениях с Егип-
том, но в дружеских с Македонией; такое стечение обстоятельств
могло случиться не иначе, как в первые годы правления Антигона.
В некоторых свободных греческих городах и далее по берегу (как,
например в Теосе)133, также на островах (например, на Кеосе)134
обнаружилось антиегипетское настроение; особенно Родос, ко-
нечно, доволен был тем, что македоняне заняли Карию; а потому
Антигон и был в состоянии утвердиться, несмотря даже на по-
ражение своего союзника в Лидии.
Участь Македонии должна была решиться в Пелопоннесе; туда
стекались все сложившиеся вблизи и вдали отношения; там как раз
в это время возникла неурядица, которая, по существу дела, по-
нуждала, казалось, обратиться к вмешательству иностранной дер-
жавы. Антигону следовало добиться, чтобы этой державой была
Македония; в таком только случае ему удалось бы вновь занять в
греческой политике то положение, которым обусловливалось зна-
чение Македонии среди держав.
Сказанная неурядица вышла от Спарты и Клеомена. В эту
эпоху одного разве Клеомена и можно было признать значитель-
ною личностью. Он отличался не только своим величием, своею
доблестью и энергией, но представлял собою как бы крайнюю
степень развития, в котором содержалось благороднейшее на-
чало греческого духа и промахи которого он тщетно пытался ис-
править: борьба энтузиазма против политического пронырства,
широких замыслов против узких интересов, доблестного мужества
против ничтожества завистливой немощи, — вот что составляло
трагедию его жизни, и, умирая, он лишен был даже утешения,
что идея, поборником которой он явился, восторжествует ког-
да-нибудь.
ГЛАВА ВТОРАЯ
227-221 гг.
Клеомен. — Царь в Спарте. — Его первая война с ахейцами. —
Битва при Ликее. — Битва при Левктре. — План Клеомена. —
Реформа Клеомена. — Внутренний разлад в Ахейском союзе. —
Арат ведет переговоры с Антигоном. — Битва при Гекатомбее. —
Ахейцы за Клеомена. — Интриги Арата. — Возобновление
войны. — Отпадение ахейских городов. — Диктаторская власть
Арата. — Первая кампания Антигона. — Союз Клеомена
с Египтом. — Селевк против Малой Азии. — Вторая кампания
Антигона. — Падение Мегалополя. — Мятеж в Лидии
и Персии. — Келесирийская война. — Антигон уступает
Карию. — Третья кампания Антигона. — Битва при Селассии. —
Реставрация в Спарте. — Объединение Греции. —
Клеомен в Египте. — Заключение
Прекрасные два года миновали для Спарты, когда лаконская
молодежь с царем Агисом во главе с отрадным упованием реши-
лась возобновить древнее величие отчизны. В эту воодушевлен-
ную эпоху Клеомен провел свои первые юношеские годы, и вся
жизнь его служила свидетельством, что впечатления, под влияни-
ем которых он вырос, глубоко укоренились в его душе. Его отец
Леонид подавил восстание, подверг Агиса ужасной участи; потом
он принудил молодую вдову убитого Агиатиду, вопреки ее моль-
бам, выйти замуж за его сына; с нею в дом юноши попал также
младенец, которого она родила Агису и которому, вероятно, при-
своено было царское имя Проклидов. Воспоминание об усопшем,
о его планах и надеждах, — вот что послужило первою сердечною
связью, сблизившею между собою насильственно сочетавшихся;
со своею женою, со своею благородною матерью Кратесиклеей
скорбел Клеомен о новом более глубоком упадке Спарты, винов-
ником которого был его отец. Под владычеством Леонида и дру-
зей его прежние злоупотребления расцвели полным цветом;
распутство, необузданность, алчность богачей, господство жен-
щин властвовали сильнее, чем когда-либо, о равенстве граждан,
об исконных совместных упражнениях и трапезах, о доблестной
эпохе спартанцев никто не смел упоминать ни одним словом. Одна-
ко память о них была жива в душе Клеомена; хотя после тщетной
попытки Агиса население было подавлено еще сильнее прежнего
и лишилось всякой надежды, однако воодушевление тех лет не
совсем еще потухло в сердцах молодежи. В Спарте жил тогда Сфер,
родом с берегов Борисфена, один из первых учеников Зенона;
такие заглавия его сочинений, как «Лигус и Сократ», «О царской
власти », «О конституции в Спарте »*, свидетельствуют о направ-
лении его учения; спартанские эфебы собрались вокруг этого
мужественного стоика; он в особенности привлек к себе велико-
душного царского сына, еще более воспламенил в нем честолюби-
вые порывы к доблестным подвигам.
Итак, самые заветные чувства Клеомена состояли в резкой
противоположности с действиями и воззрениями отца, почитать
которого его обязывал святейший долг; понятно поэтому, как
могла развиться в нем та черта горечи и замкнутости, которую впо-
следствии не в состоянии было изгладить даже улыбнувшееся ему
счастье. Характер Клеомена сложился из энергичного напряжения
нравственных сил: едва ли когда-нибудь столь пылкие страсти обуз-
дывались такою могучею силою воли, и столь смелые порывы руко-
водствовались таким хладнокровным благоразумием. Отвага его
порывов оправдывалась его нравственною мощью.
Леонид умер. Вступив на престол, Клеомен воспылал жела-
нием приняться за давно обдуманное великое дело! Он, однако,
преодолел себя и отложил свой проект еще на несколько лет; осто-
рожно, исподволь, с величайшею осмотрительностью готовился
он к его исполнению. Клеомен сознавал, что Спарту нельзя уже
спасти тем путем, каким пытался Агис; этот тщетно рассчитывал
на настойчивое участие народа, который он спасал и выводил из
нужды; толпа равнодушно отнеслась к его падению. Для дости-
жения цели необходимо было сломить власть эфоров, всегда слу-
жившую опорою олигархии. Если бы ему удалось преобразовать
Спарту, то она была бы призвана, как в прежнее время, стать во
главе Греции и обладала бы достаточными средствами, для того
чтобы отстоять ее против какой бы то ни было чужеземной влас-
ти. Внутренняя реставрация Спарты, объединение Греции под
спартанской гегемонией, — вот к каким великим целям стремился
Клеомен. Для достижения их ему в самой Спарте необходимо было
добиться личного положения, какого царская власть уже не дава-
ла ему более. Хотя бы он даже и мог рассчитывать на преданность
бедного и лишенного всяких прав люда, однако эта толпа не в
состоянии была бы снабдить его тем, в чем он нуждался; против
фактической власти олигархии ему надлежало образовать могу-
щество, которое было бы связано с его личностью, с его волею;
основою его реформы должна была служить военная сила, кото-
рая, как известно, испокон веку составляла коренное устройство
дорического государства. Существовавшие олигархические власти
сами должны были снабдить его правом образовать эту военную
силу: до той поры, пока он не заручился им, ему следовало обмо-
рочить олигархию касательно своих замыслов. Вследствие этого
Клеомен стал осторожно, шаг за шагом впутывать государство в
дела, благодаря которым оно вынуждено было вести продолжи-
тельные войны.
Самым первым противником мог быть только Ахейский союз.
Недаром Лидиад Мегалопольский в качестве стратега настаивал
на нападении на Спарту; он чаял уже ту будущность, какая там
279
развивалась. Однако ему не удалось преодолеть Арата, который
предпочел предоставить только что присоединенной Мантинее без
помехи перейти к этолянам, Тегее и Орхомену — присоединиться
к их союзу. Удивительно, что события в южной Фессалии не об-
разумили Арата; ему как бы не хотелось сознаться в перемене,
совершившейся в настроении Этолийского союза и в расположе-
нии тамошних партий; он как бы надеялся, что сделанными зна-
чительными уступками в Аркадии ему удалось вновь и вполне
привлечь к себе этолян. Слабость и робость, какая именно теперь
еще сильнее прежнего обнаружилась в политике Арата, пуще все-
го должна была обессилить партию, принявшую его сторону в
Этолийском союзе. Отчего Арат не принял в союз Афины? Отче-
го он не кинулся на Фивы, пока этоляне укреплялись в Фессалии?
Отчего не заставил присоединиться Тегею и Орхомен? Вследствие
того что он допустил Мантинею перейти к этолянам, пошатнув-
шееся к нему уважение неминуемо должно было ослабеть еще
более. Таким-то образом и возник план, о котором, умолчав о про-
межуточных фактах, с такою резкостью отозвался Полибий. Он
говорит: «Этоляне видели, что Антигон скоро оградил Македонию
от всякой опасности2; они не сомневались в том, что Македония
не забыла еще захвата Акрокоринфа ахейцами; соединившись с
Антигоном и Клеоменом, они надеялись без труда разбить ахей-
цев, а затем приступить к разделу Ахейской области». Нельзя i s»
сомневаться в том, что Антигон отверг этот проект как неудобо- §
исполнимый, по крайней мере до поры до времени; не столько, ш
впрочем, вследствие карийской экспедиции, а скорее затем, что- 5
бы не связать себе рук и не помешать возникшей уже в Пелопон- Г8
несе неурядице, сулившей ему более важные выгоды. Как раз в это
время, по словам Полибия, спартанцы внезапно и насильственным
образом захватили аркадские города, а готовые по всякому малей-
шему поводу на месть этоляне не думали протестовать в настоящем
случае; мало того, они формально признали это завоевание, до-
вольствуясь тем, что спартанцы еще более окрепли для борьбы с
ахейцами. Надо полагать, что такой захват совершился не без
предварительного соглашения с самими городами; этоляне никак
не ожидали этого, хотя впоследствии и одобрили завладение; в
противном случае Полибий не преминул бы упомянуть о том.
Вследствие этого Спартанская область далеко проникла в ахейскую
территорию; союзу пришлось убедиться в том, что ему грозит ве-
личайшая опасность. Это было признано в одном из совещаний
глав союза, и они решили не начинать войны, но лишь воспроти-
виться дальнейшим захватам спартанцев3.
На границе Лаконии и Мегалопольской области, у подножия
горы, господствующей над дорогой, которая связывает обе эти
местности, лежит городок Бельмина, из-за обладания которым
давно уже вели между собою спор спартанцы и мегалопольцы4.
20
Вероятно, нетрудно было убедить эфоров, что за упомянутым
совещанием в Эгионе последует нападение на три аркадских го-
рода и что необходимо, прежде чем начнутся военные действия,
заручиться пунктом, господствующим над дорогою в Лаконию.
А потому эфоры поручили царю Клеомену завладеть этим мес-
том, так как оно в прежние времена всегда и несомненно при-
надлежало Спарте. Клеомен взял город и укрепил возле него
Афиней. Это совершилось в начале 227 г., прежде чем истекла
одиннадцатая стратегия Арата5. Он промолчал про сказанное
укрепление и вступил в тайные сношения с Тегеей и Орхоменом;
потом ночною порою подошел к обоим городам, чтобы принять
и тот и другой из рук изменников. Они, однако, пали духом, и
стратег отступил ни с чем. Он надеялся, что все это осталось не-
замеченным; однако Клеомен потребовал объяснения касатель-
но ночной экспедиции ахейцев. Арат ответил, будто он шел к
Бельмине, чтобы помешать укреплению; Клеомен изобличал дву-
смысленность этого показания, спросив в свою очередь: «К чему
в таком случае запаслись штурмовыми лестницами и факелами? ».
Арат, казалось, хотел избежать войны; эфоры, довольные тем,
что завладели пограничным местечком, предписали расположив-
шемуся с тремястами ратников и несколькими всадниками в Ар-
кадии царю возвратиться. Едва он отступил, как Арат захватил
Кафии на западном конце орхоменского болота. Тогда эфоры
вновь отправили Клеомена; он взял Мефидрий, расположенный
южнее Кафия, и вторгся в Аргосскую область; поддержать за-
тем далее этот мнимый мир не было никакой возможности6.
При новом выборе стратега во главе союза стал бывший ти-
ран Аргоса Аристомах. Когда дошла весть о нападении Клеоме-
на, то, вероятно, после обычных предварительных совещаний
собран был союзный совет ахейской общины и решено было
объявить войну Спарте7. Арат находился в Афинах, Аристомах
пригласил его вернуться, с тем чтобы вместе с ним немедленно
вторгнуться в Лаконию. Арат всячески старался отклониться от
этого; когда же ему не удалось, то он вернулся, с тем чтобы уча-
ствовать в кампании. Ахейцы в числе 20 000 пехотинцев и 1000 всад-
ников двинулись против Паллантия, лежавшего вблизи лаконской
границы, но еще ближе к тегейской. Клеомен поспешил туда с
войском, состоявшим всего из 5000 человек; ему и воинам его
страстно хотелось померяться с более многочисленным неприя-
телем. Ввиду такого врага Арат не решился на битву; он велел
отступить. Ахейцы громко заявили свое негодование: Клеомен
без битвы одержал более нежели блестящую победу8.
О том, что происходило до следующего выбора стратега, не
имеется никаких известий; настроение в союзе было, надо по-
лагать, довольно тревожное; в нем заключались превосходные
начала, но подобное управление вело к порче конфедерации; а
281
благодаря ее конституции общественное мнение не имело воз-
можности восстать против Арата, несмотря на то что оно реши-
тельно обнаруживалось, особенно в больших городах. Лидиад
обличал его, но тщетно; а при новом выборе стратега весною
226 г. козни Арата одержали верх над благородным мегалополь-
цем, и Арат был избран9.
Вскоре он с ахейским войском находился на обратном пути
из экспедиции в Элиду. Этоляне не оказали никакой помощи сво-
им старым союзникам. Предпринял ли Арат лишь хищный набег
на Элиду или он хотел также и элидян заставить присоединиться
к союзу? Клеомен поспешил к ним на помощь; он настиг возвра-
щавшихся уже ахейцев у подножия Ликея в области Мегалополя
и почти без труда разогнал их войско; тут было много убитых и
пленных; прошел слух, будто Арат тоже пал10. Однако он спасся
бегством и пробродил всю ночь; потом беглецы собрались около
него, и он поспешил с ними взять врасплох Мантинею, что ему и
удалось. Это привело в изумление всю Грецию. Город, правда, не
был разграблен: его вновь присоединили к союзу; однако присое-
динению его предшествовало внутреннее преобразование важного
свойства: городские метеки были признаны гражданами. Таким
путем удалось образовать здесь союзную партию. Для полной без-
опасности поместили в занятый вновь город гарнизон из ахейцев
и наемников11. I ь-
Отозвав в прошлом году Клеомена домой, спартанская оли- §
гархия тем самым обнаружила, что она его остерегалась. Могла го
ли она сына Леонида считать когда-нибудь преданным себе и сво- 5
им интересам? Весь его внешний образ жизни, так резко проти- "8
воположный их пышности, его отношение к Сферу, к молодежи,
предавшейся вместе с ним древнеспартанским обычаям, — все это
едва ли можно было счесть пустою лишь восторженностью. Вокруг
него образовалась уже боевая сила из своих и наемных воинов;
угнетенный люд возлагал на него свои надежды; а время Агиса
было еще свежо в памяти, и обнищавшие, лишенные прав, задол-
жавшие периеки и илоты помышляли все еще о возможности вне-
запной перемены всех условий. Чем блистательнее были военные
подвиги Клеомена, ставшего уже любимцем народа, тем грознее
казалось это движение в массе, над которою он так энергично и
спокойно господствовал. Олигархия не могла довериться моло-
дому царю. Отчего же она не пыталась избавиться от него? Без
него нельзя было обойтись: кому было вести войну с ахейцами?
Хотя против них набрали много наемников, однако следовало
крайне опасаться оставшейся в Спарте черни; без Клеомена го-
род стал бы добычею союзной демократии. Политика олигархии
должна была состоять в том, чтобы пользоваться им, но посто-
янно сдерживать его. Падение Мантинеи послужило для этого
самым удобным поводом: этой утрате придали гораздо большее
£
значение, чем она заслуживала; эфоры, как кажется, заключили
перемирие с ахейцами12, отозвали Клеомена в Спарту. В это вре-
мя только что умер сын Агиса, юный Эвридамид; говорили, буд-
то эфоры отравили его; нелепая молва приписывала это убийство
Клеомену13. Он пригласил проживавшего изгнанником в Мессе-
нии брата Агиса Архидама вернуться и принять подобавшее ему
царское достоинство. Филарх, восторженный поклонник царя,
утверждает, что, опираясь на законно уряженную царскую власть,
Клеомен надеялся таким путем энергичнее противодействовать
господству эфоров. Полибий говорит, что Архидам лишь вслед-
ствие формального договора принял вызов царя14; если это прав-
да, то отсюда надо заключить, что положение Клеомена было все
еще довольно двусмысленное. Возвращение Архидама показалось
олигархии, убившей его брата и понудившей его самого спасаться
бегством, в высшей степени опасным15; недаром страшилась она
его мести. Едва он вернулся в город, как был уже убит. По свиде-
тельству Филарха, Клеомен не был причастен к убийству, а по
словам Полибия, он был виновником этого злодеяния, по мне-
нию других лиц, он по совету своих друзей предал Архидама его
врагам16. Теперь нет никакой возможности добиться истины; но
сделанное Архидаму предложение вернуться бросает двусмыс-
ленный свет на Клеомена, и в среде его противников, особенно в
Ахейском союзе, все охотно воспользовались этой уликой на
царя. Однако если бы он и хотел избавиться от Архидама, то ему
незачем было прибегать к такой паскудной хитрости; задумай он
даже совершить убийство через посредство олигархов, то ему
стоило бы только побудить их послать своих убийц в Мессению.
Ясно, впрочем, что убийство Архидама само по себе ни в каком
случае не было желательно для Клеомена; он для него не мог быть
опасен, пока приходилось еще вести борьбу с олигархами; Клео-
мен, напротив того, был уверен в его энергичном содействии. Он,
вероятно, считал уже себя достаточно влиятельным, для того
чтобы отстоять законное право Архидама; призыв его был первою
явною попыткою, на какую царь отважился наперекор олигархии.
Однако власть все еще находилась в ее руках; если олигархи ре-
шились воспользоваться ею против Архидама, то для спасения
его у Клеомена было одно только средство — возбудить рево-
люцию. Но мог ли он надеяться на успех восстания? Следовало
ли ему обратиться с воззванием к населению, состоявшему в изве-
стной зависимости от богачей, от хозяев и кредиторов? Следова-
ло ли в виду эфоров, которым стоило только подать знак, чтобы
и его также лишили жизни, возбудить движение, которое имело
бы последствием нескончаемые смуты и послужило бы препят-
ствием именно тому, что он признал своею целью? В угоду своей
цели он, пожалуй, и сам хладнокровно пронзил бы Архидама,
если бы счел это необходимым; он не захотел бы отказаться от
своих замыслов, если бы даже мог спасти Архидама или ото-
мстить за него. Время Клеомена еще не пришло; олигархи настаи-
вали на убийстве; он принес даже эту крайне тяжкую жертву и
подвергся также подозрению, что изменил заключенному им
договору; он поневоле казался соучастником злокозненных оли-
гархов. Они же, в свою очередь, думали, что заручились им окон-
чательно, предоставив царство ему одному, так как царский род
Проклидов совсем прекратился. Он мог воспользоваться своим
положением, для того чтобы ускорить решительный шаг. Убий-
ством Архидама и сделанными Клеомену уступками олигархи
явно обнаружили свою внутреннюю немощь; а благодаря подку-
пам ему удалось еще более разрознить их. Мать Клеомена Кра-
тесиклея как наперсница его замыслов воспользовалась своим
личным влиянием и своими богатствами, для того чтобы ободрить
опасливых людей и склонить на свою сторону шатких. По жела-
нию сына она вышла замуж за весьма влиятельного по своему
званию и богатству спартанца, за Мегистона, и вполне увлекла
его к интересам своего сына. Наконец, благодаря щедрой разда-
че денег эфорам удалось побудить их, чтобы они предписали
Клеомену продолжать войну. Все это происходило приблизи-
тельно летом 226 г.
Царь двинулся на Мегалопольскую область; он взял Левкт-
ру17 — прежнее спартанское местечко в двух часах расстояния к I gi
югу от Мегалополя. Между тем подоспел стратег Арат, с тем что- §
бы защитить город. Клеомен пошел к нему навстречу на несколь-
ко стадий к югу от города; он, казалось, добивался решительного о
сражения. Арату хотелось избежать этого, он теперь не мог уже "8
противопоставить неприятелю втрое или вчетверо превышающее
войско и боялся неодолимого пыла отважного спартанца; мега-
лопольцы тщетно требовали битвы. Ахейцы горели желанием
восстановить честь своего оружия; атака их легких полков впол-
не удалась; они опрокинули стоявшие против них неприятель-
ские отряды и преследовали их до самого лагеря; всеобщий
натиск ахейцев мог бы увенчаться полным успехом. Фаланга дви-
нулась уже вперед; она, однако, не дошла еще до неприятельской
линии, как Арат велел остановиться перед оврагом; он занял те-
перь крепкую позицию. Лидиад был вне себя; его просьбы, его
гнев — все было тщетно. Наконец, он решился на свой страх до-
биться окончательной победы, к тому времени наполовину уже
одержанной. Быстро собрал он вокруг себя конницу; сказав ко-
роткую восторженную речь, он во главе ее кинулся на правое
крыло неприятеля, оттесняя его все далее и далее, но слишком
увлекся в пылу преследования. Пользуясь окруженным стенами
виноградником и находившимся при нем рвом, неприятель стал
все сильнее и сильнее поражать задержанную этим препятстви-
ем и рассеянную конницу; Клеомен выслал своих тарентинцев
2
и критян18; закипел упорный бой, а Арат все также спокойно сто-
ял в своей безопасной позиции. Наконец, пал смертельно ранен-
ный Лидиад, всадники его отступили; неприятель с громким
криком ринулся за ними; бежавшие привели в замешательство
даже пехоту; все пришло в смятение, поражение было полное.
Печальное поле битвы до самых городских ворот покрыто было
множеством павших воинов. Мегалополь лишился лучшего свое-
го поборника; однако Клеомен почтил и его и себя: он велел при-
нести труп Лидиада, покрыть его багряницей и венком, и отправил
в торжественной погребальной процессии к воротам его родно-
го города19.
Это поражение, эта смерть открыли, наконец, союзу глаза.
Над Аратом разразилось всеобщее негодование: он будто бы на-
меренно предал Лидиада; его зависть была виною тому, что по-
терпели позорное поражение, тогда как все были уже уверены в
победе. Никто не слушался более приказаний стратега, его за-
ставили вернуться восвояси; союзным собранием в Эгионе реше-
но было лишить его денежных средств для продолжения войны.
После таких событий ему ничего более не оставалось, как отдать
союзную печать и сложить с себя стратегию. Он, конечно, и хо-
тел поступить так; передумал, однако, и счел за лучшее остаться
стратегом20: такое решение было бы немыслимо, если бы в союзе
не существовала большая, преобладавшая партия, благодаря ко-
торой он мог противиться общественному мнению и которая
даже поощряла его к этому. Какой внутренний разрыв произо-
шел вследствие того в союзе! В крайне трудное время, когда сле-
довало соединиться как можно дружнее, он сокрушился как бы
сам собою; тут-то с крайней горечью пришлось сознаться в жал-
кой несостоятельности его конституции; союз не гарантировал
уже ни защиты, ни равноправности, он лишился всякого уваже-
ния. Ему суждено было пасть еще ниже, подвергнуться еще бо-
лее скорбной участи; наконец, он чуть ли не был предан Аратом21.
Иное дело было в Спарте. И там, конечно, господствовала
такая же резкая противоположность партий или интересов —
между массою обедневшего, лишенного прав и имущества люда,
с одной стороны, и олигархией — с другой. В руках последней
находились герусия, эфорат, верховная власть, которой подчи-
нялся сам царь. Однако Клеомен решился освободиться от оли-
гархических уз; он был уверен в войске и отважился энергично и
окончательно осуществить начатое предприятие. Он принялся за
дело после победы под Мегалополем. Царь переговорил с Меги-
стоном о том, что следует отменить эфорат, приступить к разде-
лению имущества, преобразовать Спарту, с тем чтобы она вновь
завладела гегемонией в Греции. Двое или трое из его друзей были
посвящены в тайну22. Летописи, правда, умалчивают о том, что
побудило его избрать именно этот момент. В настоящем случае
285
едва ли влияли на него известные политические связи, которыми
Клеомен и не думал воспользоваться и которые сами оказались
следствием дальнейших осложнений. Быть может, его побужда-
ли внутренние отношения. Разве олигархия не питала никаких
подозрений, не прибегала ни к каким предосторожностям ввиду
явно изменившегося общественного настроения? Разве каждая
новая победа Клеомена не возбуждала против него более силь-
ного подозрения? Разве могли его надолго успокоить подкупы,
которыми привлекалось на его сторону то или другое лицо? В на-
стоящем случае предание совсем покидает нас; все, что сооб-
щается, несущественно, отчасти даже неверно. Следуя древнему
обычаю, один из эфоров спал будто бы в святилище Пасифаи;
ему приснилось, будто из пяти седалищ эфоров четыре опроки-
нулись, и послышался голос, что для Спарты так будет лучше; он
донес об этом царю. Опасаясь, что план его был открыт, что его
самого подвергают испытанию, Клеомен стал допрашивать эфо-
ра и убедился в его искренности. Затем он опять отправился на
войну и взял с собою по преимуществу тех людей, которых по-
дозревал в противодействии своему плану. Он отнял у ахейца
Герею на элейской границе, потом Асею на аргивской, затем
снабдил запасами подвергавшийся нападениям Орхомен и оса-
дил Мантинею; словом, своими непрерывными переходами до
крайности утомил спартанцев, так что они, наконец, стали умо- | gi
лять об отдыхе; он и позволил им остаться в Аркадии, а сам с | §
наемными отрядами вернулся в Спарту, с тем чтобы приступить
окончательно к своему предприятию23. Это изложение поража- I 5
ет своею странностью; и как бы ни восторгался Клеоменом ав- "8
тор, у которого оно, несомненно, заимствовано, но и в настоящем
даже случае обнаруживается в нем отсутствие способности об- <Щ?
ратить внимание на существенную связь событий или, скорее, его
манера действовать на воображение поверхностными и нагляд-
ными мотивами. Суть дела заключается, вероятно, в том, что было
сказано об Орхомене.' Арат и его приверженцы во что бы то ни
стало должны были смыть мегалопольский позор. Стратегу уда-
лось напасть на спартанский отряд близ Орхомена; тут, как сооб-
щает Арат в своих мемуарах, пало со стороны неприятеля триста
человек, Мегистон был взят в плен24. Вышеупомянутое снабжение
Орхомена съестными припасами указывает на угрожавшую ему
опасность; в стычке, о которой говорит Плутарх, был, вероятно,
уничтожен защищавший эту местность спартанский отряд или, по
крайней мере, оттеснен в город, а находившаяся во власти ахей-
цев Мантинея как бы перекрыла непосредственное с ним сноше-
ние. Захватив союзные города, Клеомен имел, может быть, в виду
отвлечь Арата от Орхомена. Пользуясь, однако, отсутствием
царя и пленением Мегистона, спартанские олигархии поспеши-
ли привести в исполнение свои опасные замыслы, и для этого
побудили эфоров воспользоваться своею властью. Только таким
образом объясняется насильственный поступок, к которому при-
бег Клеомен.
Он с наемниками отделился от остального войска и двинулся
к Спарте. Подойдя к городу, царь послал Эвриклида к собрав-
шимся в сисситии эфорам, с тем чтобы сообщить им известие о
войске. Ферикий, Фебид и двое мофаков (сыновья илотов), воспи-
танные вместе с царем, последовали за ним с небольшим отрядом.
Потом они ворвались в сисситии, кинулись на эфоров, повергли
их наземь; один только, лежавший словно убитый, вскочил и убе-
жал в храм от страха; около десяти человек из поспешивших на
помощь к эфорам были лишены жизни, а остальным, спасавшимся
бегством, не препятствовали покинуть город. Так прошла ночь;
с наступившим днем Клеомен наложил опалу на восемьдесят
членов олигархии и низверг седалища эфоров за исключением
одного, которое царь намерен был занять сам. Затем он созвал
народное собрание, чтобы оправдать свой поступок, доказать на-
сильственное присвоение власти эфорами, возвестить о новом
разделе имуществ, об уничтожении долгов, о новой гражданской
организации25.
Так совершилось роковое событие. Полибий, который в ка-
честве ахейца не был расположен к Клеомену, но не мог не при-
знать его высоких царских достоинств, назвал его тираном26. И в
самом деле, Клеомен начал и выполнил этот переворот вполне
насильственным путем; он не мог иначе. Агис хотел было при по-
средстве эфората произвести реформу в Спарте, что и погубило
его, Клеомен благодаря своему войску низверг эфоров, уничто-
жил олигархию, восстановил неограниченную царскую власть,
которую считал исконною и подлинно спартанскою и которая
осуществляла, конечно в чистейшей и благороднейшей форме,
принципы царского достоинства в том виде, в каком они разви-
лись в последнюю эпоху. В высшей степени знаменательно то, что
стоик Сфер, как сообщают летописцы, содействовал его пред-
приятиям. Одностороннее преобладание идеи о государстве, по-
глощавшей все остальные условия жизни, была, без сомнения,
всегда отличительным свойством спартанского царства; монархи-
ческие преобразования со времен Филиппа и Александра пыта-
лись, хотя в искаженном виде, осуществить ту же идею, которая
все сильнее и сильнее возвещалась теоретиками. В Спарте она
осуществилась теперь под именем восстановления доброго ста-
рого права, носимая необыкновенною личностью, в ее полней-
шей, можно сказать, кристальной чистоте. Государство было
возобновлено рациональным образом; всякие приставшие к нему
в течение времени индивидуальные преимущества, расшатанные
уже преобразовательною попыткою Агиса, были отменены; со-
здана была форма, служившая выражением исключительно идее
о государстве, — но с тою лишь разницею, что содержание этой
формы, образование, интересы, права граждан — все это было
совершенно новое.
И действительно, такое мнение следует вывести из скудных
известий касательно государственного устройства Клеомена. Два
момента в особенности представляются характерными и поддер-
живают это мнение. Клеомен сохранил одно из эфоровых седа-
лищ, с тем чтобы самому занять его; таким образом, он присвоил
царскому сану все полновластие, каким пользовалось сказанное
ведомство: право наказывать, кого вздумается, как выразился
один из древних писателей, неограниченную власть над всеми
должностными лицами, право решать войну и мир, исполнитель-
ную власть в самом обширном размере27. Затем, как сообщают
летописи, он уничтожил авторитет герусии и созвал вместо нее
патрономов28; это известие подверглось сомнению. Имея везде в
виду восстановить древнее устройство, Клеомен едва ли мог от-
менить герусии — это коренное спартанское учреждение. Впо-
следствии, впрочем, в Спарте были патрономы и, судя по одному
из показаний, они были поставлены Клеоменом. Об их прерога-
тивах ничего неизвестно; однако так как патронаты заменяли
собою отмененную герусию, то и надо полагать, что они облада-
ли гораздо меньшею властью; Клеомен, как кажется, хотел устра-
нить всякую ступень, отделявшую царский сан от народа, и надо
полагать, что это также было заимствовано от древнеспартанского
устройства в том духе, как оно постигалось в ту эпоху. И дейст-
вительно, Спарта искони была военным государством, таким же,
какими в последнее время были некоторые из вновь основанных
значительных держав.
Совет старшин, как бы военный совет при царе, был признан
целесообразным, но ему не придавалось никакого полномочия;
самодержавие должно было выразиться в соединении царской
власти с общиною обязанных исполнять военную службу граж-
дан. В этом отношении также обнаружилась древнеэллинская
форма, повторившаяся, в сущности, как в Македонии, так и в
основанных ею владениях.
Дальнейшие сохранившиеся известия крайне неудовлетвори-
тельны. Мы знаем, что начато было в той или иной форме уничто-
жение долгов. Все имущество было вновь разделено; для ссыльных
были также назначены доли; когда новый порядок утвердится,
то им разрешен будет возврат; однако вовсе не упоминается, оза-
ботились ли о периеках и в каких именно размерах. Затем Клео-
мен дополнил гражданское сословие периеками, так что войско
спартиатов состояло впредь из 4000 гоплитов29, и он вооружил
их по македонскому образцу длинными сариссами вместо быв-
ших доселе копий. Таким образом, последний остаток древней
спартанской моры заменен был «сильным строем фаланги». Не
подлежит, кажется, сомнению, что вместе с новым гражданским
устройством совершилось новое, а именно топографическое раз-
деление народа. Лакония впоследствии была разделена на пять
округов; вместо древнеспартанских трех племен основою всех
политических отношений стал территориальный раздел страны30.
Царская власть, как видно, всюду окружает себя формами демо-
кратического свойства, но это — демократия не старого времени,
а совершенно другая, основанная на рациональных началах.
При содействии Сфера стали в особенности печься о воспи-
тании юношества на старый лад; потом восстановили совместные
упражнения и трапезы. Наконец, для того чтобы слово «едино-
державие» не слишком поражало умы, Клеомен, как сообщают
летописи, вызвал своего брата Эвклида в качестве второго царя.
Эту непоследовательность допустили или ради вкоренившейся
уже привычки, или вследствие мнимого приспособления к древ-
неспартанскому строю, или оттого что это служило признаком
особенного и как бы отвлеченного понятия о царской власти.
Отличительною чертою следует признать также то, что Клеомен
избегал блестящего представительства и напыщенной торжествен-
ности царского величия, как вошло в обыкновение в эллинисти-
ческих державах; напротив, при нем вовсе не было ни кабинета,
ни двора, и он являлся в солдатской простоте, как бы лишь ис-
« I правляющим царскую должность31. Он всех принимал в своей
£ обыкновенной одежде, не стесняясь в обращении и свободно бе-
ь седуя; когда его навещали чужеземцы или послы, то к обычному
2 спартанскому столу прибавлялось блюдо немного получше: к
х иноземцам, говорил он, не следует относиться чересчур лакони-
чески32. Даже Полибий заявляет, что он был одним из самых лю-
<Ф безных и привлекательных частных людей33; суровая прелесть его
беседы, свободная и смелая искренность его личности были не-
одолимы. Клеомен, как видно, более всякого иного царя достоин
был стоять во главе свободного, просвещенного мира греческих
граждан; и он имел в виду упрочить национальное единство, к чему
стремились все патриоты.
Противником его был Арат. Он недаром опасался Клеомена
и возраставшего к нему уважения всей Греции. Везде, где бы Арат
ни сталкивался с ним, он терпел самые позорные поражения; в
борьбе со Спартою обнаружились неисцелимые слабые стороны
Ахейского союза. Сам Арат лишился лучшей доли своей популяр-
ности; он уже чаял, что даже поддержка зажиточных граждан,
признавших в нем поборника своих интересов, в конце концов
не спасет его от возраставшего негодования толпы. Что было
толку в нападении на Орхомен летом 226 года? Когда Клеомен с
энергичною быстротою преобразовал внутренние условия в
Спарте, то Арат думал уже, что потрясенное внутри царство не
в состоянии будет вести борьбу с внешним врагом, и вследствие
этого хотел, как кажется, вновь напасть на спартанцев. Однако
Клеомен весною 225 г. внезапно вторгся в область Мегалополя и
доказал таким образом, что Спарта стала смелее и сильнее, неже-
ли когда-либо. Весь край был разграблен; спартанцы возвраща-
лись с богатою добычею, а для того чтобы показать неприятелю,
как мало его боялись, Клеомен назначил дневку и пригласил про-
ходивших из Мессении дионисских артистов дать представление
его воинам. Как раз в это время восстала Мантинея с целью от-
ложиться от союза. В городе для охраны новых граждан и по их
предложению к союзному гарнизону были присоединены 300
ахейцев и 200 наемников. Вероятно, старожилы Мантинеи пред-
ложили сдать Клеомену как самих себя, так и свой город. Он
пришел ночью и, соединившись с ними, частью перебил, частью
изгнал ахейцев, потом восстановил прежнее устройство, возвра-
тил гражданам их старую самостоятельную политию и вернулся
в Тегею34.
Он доказал таким образом, что новая Спарта имеет в виду
не завоевывать и покорять, а напротив, соединять под своей ге-
гемонией свободные, самостоятельные государства. Этот прин-
цип соединения противодействовал подавлявшему свободную и
непосредственную самостоятельность политий принципу Ахей-
ского союза, и он оказался тем более опасным, что предлагае-
мая ахейскими союзниками защита на деле была немощна; сверх
того исключительное влияние богачей на союзные дела не в си-
лах было заглушить в общинах всякие требования, притязания,
всякое громко заявляемое настроение толпы.
От Арата не могло укрыться его затруднительное положе-
ние; он, правда, не признавался в том, что оно вызвано исключи-
тельно им самим и тем направлением, какое он придал союзным
делам. В союзе находились личности с боевыми дарованиями; но
он оттеснял их; всякий раз, как возникало воодушевление в на-
роде, он подавлял его; он расстроил возможность присущего
союзу свободного политического развития, предоставлял влия-
ние одним лишь зажиточным людям и, опираясь на них, вопреки
уставам забрал в свои руки исключительное заведование союзом.
Всего, что Клеомен так быстро и с такою блестящею отвагою
создал для своих спартанцев, — имущество и свободу от долгов
для бедного люда, соревнование ради нового и прочного внут-
реннего уряда, воодушевление к борьбе и победам, блестящую
военную славу, — всего этого благодаря Арату и его партии, к
великому своему прискорбию, лишился простой народ в горо-
дах. Против подобного рода опекунов бессильны были и толпа,
и общественное мнение, что и обнаружилось в бесплодном народ-
ном негодовании по поводу битвы при Левктре. Как ожесточилась
толпа, когда, вместо того чтобы после позорного заявления в Эги-
оне выйти в отставку, Арат остался в стратегии, когда он не смог
Ю История эллинизма
даже отстоять Мегалополь, когда отложилась Мантинея. Обре-
менительным, позорным казался всем союз, оттого что, требуя
от городов денежных взносов и военных пособий, он не защи-
щал их и не поддерживал бедных граждан; собирая по два раза
в год на три дня общину, с тем чтобы на скорую руку предъявить
к решению лишь предрешенные уже вопросы или произвести вы-
боры, союз в конце концов все предоставлял на произвол богачей;
он самоуправно вмешивался даже во внутренние дела отдельных
общин, предписывал им и требовал от них того, что разрешалось
не общиною, а напротив, недосягаемым для толпы союзным со-
ветом, всемогущею волею зажиточных его членов. И в самом деле,
после каждого успешного предприятия царя внутри и вовне этим
общинам все соблазнительнее казалась возможность соединить-
ся на полной свободе под блестящей и охранительной гегемонией
прославленного Клеомена. А что если македонский царь восполь-
зуется этим временем, с тем чтобы возобновить прежнее, гнусное
владычество тиранов и гарнизонов в городах? Это ужасное по-
ложение Ахейского союза казалось возможным, тем более что
вследствие возобновлявшихся поражений с прискорбием прихо-
дилось сознаться в собственной возраставшей немощи. К кому
обратиться, на кого надеяться? Один только Клеомен со своими
победоносными спартанцами в состоянии был охранить свобо-
ду, мало того — даже создать ее.
При этом повлияло на умы еще одно, скрытое в сказанном
настроении толпы обстоятельство. Лишь обинуясь, решаюсь
указать на него; однако без него не обходится ни одно государ-
ство, в котором социальное развитие дошло до необходимости,
по распадении исконных обычаев и авторитетов, по признании
национальных законных принципов, признать за всеми право
пользоваться общественными благами, не обладая притом средст-
вами удовлетворить этим требованиям, осуществить их. Бедность
давно существовала на свете, она была везде; но в одних только
эллинских учреждениях, которыми признавалась свобода граж-
дан, бедность могла проявиться в виде пауперизма. В то же время
уже, когда Агис уничтожил долги, пауперизм стал поднимать го-
лову; уничтожение долгов и раздел имуществ Клеоменом возбу-
дили во всей Греции такие же притязания; брожения возникли в
низших слоях раздраженной массы, которую так скудно удовлет-
воряла союзная свобода35.
Арату пришлось убедиться, что опасность угрожала ему не
только внутри, но также извне, и восстание, благодаря которо-
му так быстро усилилась Спарта, вызвало брожение в городах.
Для него осталось только два пути: или заключить мир со спар-
танцами, или, продолжая с ними борьбу, прибегнуть к чужезем-
ной помощи. Однако Клеомен согласился бы на мир не иначе,
как с условием, чтобы была признана его гегемония, быть мо-
291
жет, даже, чтобы значительно сократили территорию Ахейско-
го союза, отделили от него Коринф и Мегалополь; а сверх того,
каким переворотам подвергся бы сам союз после соприкоснове-
ния со Спартою! Когда Арат стоял с Агисом под Коринфом, ему
пришлось уже изведать тот яд, который скрывался в этом близ-
ком сношении с новоспартанским строем; все фанатические идеи,
против которых весь свой век боролся Арат, ради которых он
устранял философских друзей в Мегалополе и обуздывал вос-
торженного Лидиада, — все они в таком случае проникли бы в
самом тревожном виде в его союз; тогда первым делом провоз-
гласят раздел имуществ и уничтожение долгов, тогда настанет
конец деспотическому преобладанию богачей; мало того, они
подвергнутся даже опасности лишиться известной доли их иму-
щества или их ссуд, тогда спокойная гражданская жизнь и уза-
коненный порядок погибнут без всякой надежды; тогда этот
царь, гордый тем, что соревнует с бедным людом в умеренности,
а с необразованным ратником в перенесении тягостей войны,
воодушевляющий юношей к суровой спартанской доблести ми-
нувших времен и попирающий ногами право местных богачей, —
он будет солнцем, к которому обратятся взоры всех граждан,
образцом, которому все станут подражать, который готов по-
жертвовать блаженною жизнью образованного и утопавшего в
наслаждениях общества пустым теориям идеологов и стоиков, i ^«
лишь бы удовлетворить своему властолюбию. Так, конечно, ду- §
мал Арат; но такими думами прикрывались лишь более сокро- £
венные, терзавшие его чувства: неужели после двадцатилетнего g
достославного — как был уверен сам Арат — управления союзом |~8
ему суждено уступить более сильному, но едва лишь достигшему
зрелых лет мужу! Он с горечью сознавал, что этот юноша пре-
восходит его энергией, военными талантами, политическим да-
рованием, что он смелою рукою разбивал его дипломатические
козни, ногами попирал его муравьиные ходы, преследовал, тра-
вил и смущал старого мастера дипломатического искусства и,
наконец, словно школьника, предал состраданию или ненависти
бывших столь покорных и терпеливых его союзников? Понятно
поэтому, что Арат руководствовался побуждениями, какие всегда
должны бы оставаться чуждыми душе государственного мужа;
он считал союз своим творением и, несмотря на то, без зазрения
совести готов был пожертвовать им в угоду своим личным инте-
ресам.
Он решил продолжать войну с Клеоменом; однако к кому об-
ратиться за помощью? Правда, египетский царь все еще выдавал
ему годовой оклад, однако оккупация Карий Антигоном связыва-
ла ему некоторым образом руки. Война между Аратом и Спартою
отнюдь не могла быть в интересах царя; для египетской полити-
ки во всяком случае не было никакой выгоды способствовать
10*
20
успехам Ахейского союза, она, скорее, имела в виду поддержать
враждебное македонянам владычество, но ахейцы были уже че-
ресчур немощны, для того чтобы в этом отношении удовлетво-
рить египетским интересам. В Греции же помимо этолян не было
ни одной державы, которая могла бы доставить им пособие. Разве
этоляне не уступили Клеомену три аркадских города? Разве они
же в Македонии и Спарте не предлагали поделить между собою
область Ахейского союза? Правда, с тех пор этоляне, как каза-
лось, не принимали никакого непосредственного участия в том,
что совершалось в Пелопоннесе. Хотя Клеомен и оказал помощь
их друзьям в Элиде, однако явно было, что он сделал это отнюдь
не в угоду этолянам. Арат не упустил, конечно, из виду, что это-
ляне стали сдержаннее относиться к Клеомену, по мере того как
усиливалась его власть, и если он помогал элейцам, то это не толь-
ко не сближало с ним этолян, а скорее отчуждало от него. Но
для Арата было мало проку от этого. Если ему действительно
удастся заручиться пособием этолян, то надо ожидать, что Ма-
кедония тотчас же перейдет на сторону Спарты и всеми своими
силами кинется на этолийскую Фессалию и на Фермопилы; в та-
ком случае этоляне будут всецело заняты македонскою войною,
и спартанцы одолеют ахейцев36. Был один только союз, который
мог бы еще удовлетворить желаниям Арата. Ему, конечно, сле-
довало ожидать, что этот союз обойдется не без значительных
жертв, что он изумит ахейцев, оскорбит правительство в Алек-
сандрии, подвергнет его жестокому осуждению, а свободу и не-
зависимость ахейцев великой опасности и, чего доброго, совсем
расстроит их; но таким путем, наверное, удастся низвергнуть
гордого спартанца, что для Арата и было важнее всего. Поэто-
му-то он и старался заключить этот союз — с Македонией!
Случается, что внезапные опасности или неожиданное сте-
чение обстоятельств приводят в замешательство даже честного
человека и побуждают его принять опрометчивое решение; но
государственная измена, задуманная теперь Аратом с обычною,
конечно, дипломатическою предосторожностью, отнюдь не была
следствием внезапной, оглушающей, все низвергающей лавины
опасностей. Он ясно предвидел, какое зло готовился причинить;
обсудив все хладнокровно, он решился на дело, вследствие ко-
торого союз был брошен на произвол, свободная уже Греция
была предана во власть врага, сам он, этот основатель союзной
свободы, сделался прислужником македонского владычества.
Осенью 225 г., когда реформа в Спарте уже совершилась, и
Клеомен возобновил войну с удвоенной энергией, Арат вступил
в переговоры. Он завел их через посредство Мегалополя. Этот
город со времен Филиппа и Александра находился в постоянной
связи с Македонией; вступив даже в Ахейский союз, он не пре-
кратил с нею своих сношений; влияние поддерживавших эту связь
личностей усилилось благодаря тому, что союз не доставлял бо-
лее никакой защиты от возобновлявшихся нападений соседних
спартанцев, так что сочувствие к ахейским интересам все более
ослабевало; а потому невольно возникла мысль обратиться за по-
мощью к Македонии. У Арата в городе было двое друзей его отца,
Никофон и Керкид; последний был, вероятно, потомком того
преданного Македонии Керкида, который сто лет тому назад
урядил конституцию города. Арат тайком совещался с обоими и
побудил их внести в общину предложение, чтобы Мегалополь
обратился к союзу с просьбою разрешить ему прибегнуть за по-
мощью к Македонии. Город согласился на предложение, послал
обоих мужей в союз и поручил им в случае согласия с его сторо-
ны тотчас же отправиться в Македонию. Само собою разумеет-
ся, что такие частные договоры отдельной общины угрожали
опасностью существованию союза и его учреждениям; однако сам
Арат присоветовал согласиться на это, посольство было разре-
шено. Арат снабдил его тайными инструкциями: послы должны
были представить царю37, «что союз Клеомена с этолянами гро-
зит опасностью не только ахейцам; что союзники чересчур силь-
ны, так что ахейская конфедерация не в состоянии противиться
им; если же она будет уничтожена, то хищные этоляне нападут
также на другие соседние страны. Клеомен добивается гегемонии
в Греции и может достичь ее лишь в ущерб Македонии. Пусть царь
убедится, что скоро ему придется выбирать одно из двух: или,
соединившись с ахейцами и беотянами, победить Клеомена в Пело-
поннесе, или выждать в Фессалии сомнительную борьбу с этоляна-
ми и Клеоменом, за которым в таком случае принуждены будут
последовать как беотяне, так и ахейцы. Этоляне сохранили в па-
мяти оказанную им ахейцами помощь в Деметриеву войну и, по
крайней мере, для вида должны выказать благодарность; а пото-
му они не открыли еще враждебных действий. Ахейский союз на-
деется, что он и сам справится с одними спартанцами; однако
если он будет побежден, если затем этоляне открыто выступят
против него, то Македонии необходимо будет вступиться за угне-
тенных ахейцев. Пусть Антигон не сомневается в совершенной
честности союзной политики; когда дела примут решительный
оборот, то Арат сам изыщет и предложит необходимые гарантии
для Македонии; он желает также, чтобы ему предоставлено было
назначить время, когда настанет нужда в македонской помощи».
В результате этих заявлений обнаружилось, что македонская
политика была верно рассчитана — наступили осложнения, на
которых основывались ее комбинации. Хотя в данных Аратом
инструкциях сильное опасение касательно этолян было не толь-
ко пустою дипломатическою фразою, но Антигон слишком ясно
постиг все условия, так что не мог ошибиться относительно су-
щественных причин, побудивших Арата сделать свои предложе-
ния; чем тщательнее царь избегал обнаружить своекорыстную
готовность к услугам, тем вернее казался успех. Он ответил по-
слам самым предупредительным образом, выдал им письменный
ответ Мегалополю, заявив, что готов подать им помощь, если
союз со своей стороны также одобрит это. Доклад послов воз-
будил в гражданах Мегалополя величайшую радость и новые на-
дежды; они тотчас же внесли в союзное собрание предложение
обратиться за помощью к македонянам. Арат получил сверх того
тайные известия, убедившие его, что лично к нему царь относится
благосклонно; и он был доволен своею столь удачной дипломати-
ей, тем более что ревность, с какою мегалопольцы ухватились за
македонский союз, избавила его от предстоявшей ему неприятно-
сти самому делать предложение по этому поводу и в конце кон-
цов быть ответственным в таком случае. И в самом деле, предъявив
союзному совету благосклонное послание царя и прославляя бла-
городство его помыслов, мегалопольцы сами предложили об-
ратиться к нему с просьбою, чтобы он немедленно выступил в
Пелопоннесе. Это дело на предварительном совещании в совете
необходимо было предложить общему союзному собранию. Ме-
галопольцы заявили, что народ согласен на предложение; Арат
одобрительно отозвался об этом доказательстве здравого смыс-
ла в народе; он с похвалою отнесся к благим намерениям царя,
увещевал попытать сперва всеми силами, нельзя ли своими соб-
ственными средствами защитить город и страну; если же это не
удастся, то принять столь великодушно предлагаемую помощь.
Мнение Арата было предъявлено общине; она затем решила не
давать пока хода предложению мегалопольцев и вести предсто-
явшую войну собственными средствами38.
Этими сношениями существенно изменилось, конечно, по-
литическое положение не только Ахейского союза, но вместе с
тем также остальных греческих и состоявших в связи с Грецией
держав. С той поры как возникла македонская политика, в Гре-
ции постоянно составлялась против нее оппозиция, в которой
совокуплялись нравственные силы эллинизма против материаль-
ных Македонии, или вернее, которая преуспевала лишь постоль-
ку, поскольку ей удавалось соединять вместе и те и другие. Если
бы Амгриктиония в Дельфах успела преобразоваться в нацио-
нальное учреждение, то Филиппу не пришлось бы сразиться при
Херонее; но эта единственная попытка установить правильное
национальное объединение оказалась до того скудною, что Фи-
липп сам задумал даже устроить в Коринфе новую форму союза,
с тем чтобы соединить вместе нацию или ближайшие ее области.
Этот союз распался, борьба с Македонией возобновилась. Это-
ляне оказались главными поборниками; они, однако, не поняли
своей задачи. Они овладели амфиктионией, но изгнали из нее
представителей остальных племен; греческий мир боялся их вла-
столюбия, насилия и грубости так же, как и царской власти. Бла-
годаря этому ахейцам и удалось так быстро и решительно стать
во главе господствовавших идей. После того этолийская поли-
тика нерешительно колебалась то в одну, то в другую сторону;
однако идеи эпохи не могли приурочиться к учреждениям Ахей-
ского союза; он утратил свой принцип или, вернее, не постиг его;
он созидал единство не из сильных, а из слабых элементов элли-
низма. В это время восстала Спарта, она начала быстро усили-
ваться и превзошла Ахейский союз. Спарта стояла уже во главе
новой, более энергической оппозиции; образовав у себя, правда,
решительно монархический строй, она как раз в эту пору снаряже-
на была всеми средствами, для того чтобы утвердить настоящее на-
циональное единство. Однако, вместо того чтобы примкнуть к
ней, ослепленные ахейцы обратились к Македонии. Вследствие
этого владычество Македонии усилилось еще более. Вспомним,
что Антигон вновь со значительным успехом принялся за почти
покинутую в течение более десяти лет азиатскую политику; для
Египта было весьма важно поддержать по возможности эллин-
скую оппозицию. Сблизившись с Македонией, Арат скомпроме-
тировал свою прежнюю связь с Александрией; Лагид тотчас же
вступил в союз с Клеоменом, побуждал его продолжать борьбу
и поддерживал субсидиями.
Сам Клеомен пылал желанием продолжать войну. Он не мог
знать, что ему предстоит воевать с Ахейским союзом не в пол-
ном его составе; он справедливо рассчитывал на настроение на-
рода в большей части городов; лучшим ручательством в успехе
служило то, что Арат не обращался к македонскому царю, пока
пользовался хотя некоторым влиянием. Клеомен внезапно втор-
гся в древнеахейскую область близ Фар; если он там, как надеял-
ся, разобьет Арата, то это произведет сильное нравственное
впечатление, тем более что в тех старых местах был настоящий
притон Аратовой партии. Не Арат, правда, был в то время стра-
тегом, а Гипербат, однако он все-таки вполне управлял союзом.
Он со всеми ахейскими войсками двинулся к Диме, имея, вероят-
но, в виду этолян, одновременного нападения которых он опасал-
ся или показывал вид, будто опасается. Клеомен смело двинулся
туда, расположился между неприятельским городом и позицией
ахейцев, атаковал их и одержал решительную победу. Эта битва
при Гекатомбее произошла весною 224 г.39 Потеря ахейцев плен-
ными и убитыми была весьма значительная. Если бы Клеомену
вздумалось проникнуть далее, он не встретил бы сильного отря-
да; он, однако, предпочел вернуться в Аркадию, ограничившись
лишь тем, что изгнал союзный гарнизон из Ласиона и возвратил
город опять элейцам40. Он имел в виду дать в общинах еще силь-
нее развиться возникшему уже в них брожению и побудить их
заявить свое сочувствие спартанцам.
О том, что после злополучной битвы происходило в среде
ахейцев, сохранились только смутные известия. Надо полагать,
что негодование толпы на Арата выразилось еще сильнее, неже-
ли после битвы при Ладокии. Приближалось время выбора стра-
тега; Арат заявил, что не желает быть избран; не оттого чтобы
он боялся провалиться; выборы, как известно, зависели от за-
житочных граждан, а в них он был вполне уверен; они просили
его не отказываться, но тщетно41. Негодование толпы его также
не пугало; он презирал ее и прежде в столь же злополучные вре-
мена. Его-побуждало неожиданное затруднение, возникшее в
македонских переговорах. Тотчас же после битвы при Гекатом-
бее он отправил к Антигону своего сына Арата42, с тем чтобы
довершить начатые прошлою осенью переговоры касательно при-
сылки помощи. Царь потребовал, чтобы ему сдан был Акроко-
ринф в качестве опорного пункта для войны в Пелопоннесе;
однако не было никакой возможности, как казалось, коринфян
вопреки их желанию предать во власть македонян. Переговоры
прекратились на неопределенное время, с тем чтобы подыскать
сперва какие-нибудь иные залоги для Македонии. Вследствие
таких дипломатических неудач Арат в это время и не был в со-
стоянии предпринять что-либо против Клеомена, а потому он и
предпочел предоставить ответственность стратегии другому, а
к I именно Тимоксену.
£ При таких обстоятельствах противная Арату партия усили-
н" лась. После поражения ему хотелось выиграть время для маке-
2 донских переговоров, и для этого, по его, конечно, наущению,
х отправлены были послы к Клеомену. Спартанский царь предъя-
вил жестокие условия, как и следовало ожидать, ввиду опасного
% македонского вмешательства. Теперь, однако, Арат и его партия
лишились всякой надежды на помощь; эти безуспешные перего-
воры оказались для них новым более чувствительным поражени-
ем. Клеомену нечего уже было опасаться его. Он тоже отправил
посольство и требовал лишь, чтобы ахейцы передали ему геге-
монию; о прежних условиях мира вовсе не следует упоминать;
напротив, если согласятся на его требование, то он тотчас же
освободит военнопленных и возвратит ахейцам взятые у них ме-
ста. Понятно, что эти предложения возбудили величайший вос-
торг; Арат тщетно противоречил, он не мог помешать тому, чтобы
предложение было принято. Великодушного царя пригласили в
Лерну, куда собиралась союзная община, с тем чтобы торже-
ственно вручить ему гегемонию. Клеомен отправил уже вперед
знатнейших военнопленных, для того чтобы со своей стороны
выразить полное доверие. Он уже готов был достичь своей цели
и с отрадным порывом поспешил в Лерну; однако от выпитой им
воды с ним сделалось сильное кровотечение и его пришлось от-
вести назад в Спарту43.
Царь выздоровел наконец; было назначено новое собрание
в Аргосе, с тем чтобы приступить к передаче гегемонии. Клео-
мен прибыл туда через Тегею. Арат, однако, воспользовался тем
временем и отважился уже действовать решительнее прежнего44.
Он отправил к прибывшему уже в Лерну царю заявление: так как
Клеомен собрался к друзьям и союзникам, то пусть он покинет
свое войско и вступит один в Аргос; если желает, то, пожалуй,
вышлют триста заложников для его личной безопасности; если
же он явится со своим войском, то должен остановиться у килла-
рабской гимназии вне города, где и вступят с ним в переговоры.
Клеомен был до крайности возмущен; колкая переписка с Аратом
не повела ни к чему; в послании к союзу Клеомен с беспощадным
негодованием изобличил недостойный, нарушающий всякое до-
верие поступок Арата. Потом он послал герольда, с тем чтобы
объявить новую войну ахейцам, и двинулся из Лерны в Эгион,
как значится в записках Арата, а не в Аргос, где успели бы тем
временем приготовиться к защите45.
Вследствие нового объявления войны негодование ахейцев
окончательно разразилось. Если постановления союза позволя-
ют так гнусно злоупотреблять своим личным влиянием, как то
позволил себе Арат, то кому же охота оставаться в нем долее.
Положительно подтверждается, что от него отреклась даже
большая часть знати. Ему ставили в упрек не только гнусное не-
уважение к принятым уже решениям и заключенным договорам,
но и то, что он поглумился над громко заявленным в пользу Клео-
мена общественным мнением. Даже прежние его переговоры с Ан-
тигоном казались в высшей степени двусмысленными; теперь же,
когда Арат самовольно расстроил мирный договор, которым Пе-
лопоннес обеспечивался от всякого македонского вмешательства,
он оказался явным изменником. Общины, как говорят, были осо-
бенно возмущены тем, что они лишились надежды на уничтожение
долгов и на раздел имуществ; они могли бы, наверное, рассчиты-
вать на улучшение союзных постановлений, если бы при спартан-
ской гегемонии удалось преодолеть влияние Арата и его партии
богачей. Теперь же, лишившись всякой надежды, они готовы были
отпасть; спартанцам стоило только явиться, и города один за дру-
гим отлагались от злополучного союза46.
Тотчас же, в первые дни этого возраставшего брожения Кле-
омен кинулся на Сикион; друзьям Арата с трудом лишь удалось
воспрепятствовать тому, чтобы город сдался. Потом он поспе-
шил в Пеллену; граждане восстали за него и, соединившись с ним,
изгнали из города стратега вместе с гарнизоном. В его власть пе-
решли точно так же Феней, Пентелий, Кафии47. Этими оккупа-
циями восточные области союза были окончательно отделены от
западных. Опасались отпадения Коринфа, Сикиона; из Аргоса
туда высланы были всадники и наемники, с тем чтобы поддер-
жать повиновение в городах. Аргос, как кажется, служил сбор-
ным местом для приверженцев Арата; необходимо было здесь
сплотиться как можно теснее, тем более что Аристомах, избран-
ный однажды в стратеги, но потом явно устраняемый, оказался
опасным в городе, где был некогда тираном. Настало время Не-
мейских игр, ахейцы вынуждены были перенести их в Аргос; го-
род наполнился инородцами. Клеомен подоспел туда во время
празднества, занял ночью скалистые высоты Аспиды над теат-
ром. Больше ничего и не требовалось; никто не взялся за ору-
жие; город добровольно принял спартанский гарнизон. Клеомен
избегал всякого рода политических преследований; Аргос выдал
лишь двадцать заложников и в качестве свободной политии всту-
пил в союз, признав гегемонию Спарты48; это было в высшей сте-
пени важное приобретение и не в одном только политическом
отношении; напротив, напоминая о Пирре, павшем здесь в тщет-
ной борьбе, и о прежних неудачных попытках Спарты, этот успех
обнаружил, что то же самое спартанское царство, воспользовав-
шись животворными идеями эпохи, обладало чрезвычайным мо-
гуществом49. После падения Аргоса Флиунт и Клеоны охотно
открыли ворота. В Коринфе, Сикионе — везде было то же самое
настроение; значительнейший из десяти старых ахейских городов
Пеллена уже отпал; состояние было вполне безнадежное.
Арат отправился в Сикион, с тем чтобы воспрепятствовать
формальному отпадению своего родного города. Он самоуправно
присвоил себе диктаторскую власть50, велел всех, кого подозревал
в связи с Клеоменом, схватить и казнить. Потом он поспешил в
Коринф, с тем чтобы и там также выследить и наказать лакон-
ских приверженцев; однако здесь Арат лишился уже всякого зна-
чения, народ в этом богатом торговом городе находился в крайне
сильном брожении. А тут пришло еще известие, что Клеоны,
Флиунт присоединились к спартанцам; народ стекался у святи-
лища Аполлона, близ Булевтерии, и громким криком вызывал
Арата. Граждане явно намеревались завладеть его личностью.
Арат не мог уже пуститься в бегство. Взяв лошадь под уздцы, он
явился, думая видом полнейшей самонадеянности угомонить
толпу. Она встретила его криком и бранью, все повскакали со
своих мест, и поднялась страшная кутерьма. Арат с добродуш-
ным видом стал увещать их кроткими словами, чтобы они оста-
лись на местах, поменьше шумели и впустили находившихся еще
людей; потом он не торопясь вышел, как бы для того чтобы от-
дать свою лошадь; всех, кого встречал по пути, он отсылал в свя-
тилище, где тотчас же должны были начаться переговоры. Таким
образом выбрался он из самых многолюдных улиц, потом, вско-
чив на коня близ Акрополя, поскакал наверх, взял с собою для
охраны тридцать человек из гарнизона и благополучно достиг
Сикиона. Коринфяне же немедленно послали к Клеомену, с тем
чтобы предать ему себя и свой город. Царь вправе был сетовать
на то, что они дали ускользнуть Арату; если бы захватили его, то
прекратились бы всякие дальнейшие опасения, Акрокоринф не
был бы более во власти союзного гарнизона. Клеомен попытал-
ся, по крайней мере, овладеть крепостью; он уже из Аргоса от-
правил к Арату Мегистона, предложив ему блестящие условия
за уступку крепости; царь готов был вместо получаемых Аратом
из Александрии шести талантов выдавать ему ежегодную пен-
сию в двенадцать талантов. Арат ответил жалкими словами: «Не
он господствует над обстоятельствами, а напротив, они господ-
ствуют над ним ». В Сикионе оказалась небольшая шайка ахейского
народа; собравшиеся тут же организовали союзную общину, вру-
чили Арату неограниченную стратегию, диктаторскую власть,
которую он и без того самоуправно присвоил уже себе; из пре-
данных ему граждан он набрал себе телохранителей51.
Клеомен тем временем покинул Аргос; ему добровольно сда-
лись по пути Трезен, Эпидавр, Гермиона; наконец, он прибыл в
Коринф. Ахейский гарнизон не хотел сдать крепость, потому
Клеомен осадил ее. В городе находились имущества Арата; царь
велел щадить их, предложил друзьям его взять их в свое ведение.
Он отправил новое посольство к Арату: он предложил еще раз
мир, если Ахейский союз признает его гегемонию и примет в Ак-
рокоринф состоящий наполовину из спартанцев гарнизон. Арат
все отверг; отпадение Коринфа избавило его от самой тяжкой
заботы; его ахейцы владели еще крепостью, об ней только и ве-
лись у него переговоры с Антигоном; ему стоит сказать слово, и
македонские войска двинутся на помощь52.
Однако Арат все еще не решался. Сознал ли он наконец, что
призвать на помощь Македонию — значит совершить политичес-
кое самоубийство? Чем долее он мешкал, тем немощнее стано-
вился переходивший к Македонии скудный остаток Ахейского
союза, тем все более обнаруживалось его политическое ничто-
жество в будущем. Несмотря на то Арат промедлил еще несколь-
ко месяцев, надеялся ли он, что вдруг падет Акрокоринф, что
сам он таким образом вынужден будет не совершать того дела,
которое должно было помрачить лучшую славу его жизни? Хотя
бы он даже и терзался душевною мукою роковой ошибки, одна-
ко у него не хватило мужества сознаться в ней. Он был тщесла-
вен, но не изменник, он завидовал Клеомену, но был все-таки
эллин; он, содрогаясь, вспоминал о событиях, совершавшихся в
его юности, о тиранах и гарнизонах, — и ум его находился в томи-
тельном положении выбора между отважным, гордым соперником
и македонским владычеством. Он все еще медлил, предоставив
случаю решить, падет ли Акрокоринф или нет; он прибегал все к
новым изворотам, лишь бы поддержать еще возможность сдать
Клеомену крепость, но судьба отказала ему в этой ничтожной
услуге, с тем чтобы принудить его к решению, высказать которое
у него не доставало духу. Ввиду ожидаемой крутой развязки вдруг
все притихло; это было последнее затишье перед ужасною бурею.
Арат в качестве неограниченного стратега озирался во все-
возможные стороны, как бы надеясь все еще обойтись без маке-
донского царя. Он обратился за помощью к этолянам, но ему
отказали; потом также к афинянам, напомнив им, что он осво-
бодил их город, но они присоединились уже к Спарте. Он обра-
тился бы за пособием даже к Беотии, если бы Мегара, отрекшись
от Ахейского союза, не присоединилась к Беотийскому53. Он от-
верг предложения Клеомена. В это время царь подошел с войском
к Сикиону, опустошил окрестности, осадил город; он в течение
трех месяцев теснил его, и Арат все еще не решался сдать маке-
донскому царю Акрокоринф. Он сам представил тогдашнее по-
ложение дел в таком виде54: ему хотелось проявить свою вину в
более благовидном свете; но разве он не взваливает на себя еще
новых упреков? Настроенные в пользу спартанцев, принадлежав-
шие к Ахейскому союзу города перешли теперь на сторону Клео-
мена; однако Стимфал55, Мегалополь, старые ахейские местности
или господствовавшая в них партия, за исключением Пеллены,
были все еще тесно связаны между собою. Разве стратег мог бы
пожертвовать ими из-за своей нерешительности? Как мог он
взять на себя такую ответственность? Акрокоринф был теперь и
без того утрачен для союза; незачем было медлить сдачею его
Антигону; а иначе крепость, чего доброго, перейдет во власть
Клеомена; в таком случае мегалопольцы и старые ахейские го-
рода неминуемо достанутся Спарте. Союзники собрались нако-
нец в Эгионе и пригласили стратега прибыть туда из Сикиона.
Напрасно граждане осажденного города, как рассказывает он
сам в своих мемуарах, просили и заклинали его, напоминая об
угрожавшей ему по пути опасности; женщины и дети теснились
к нему, хватались за его платье, обнимали его колена, со слезами
удерживая его как отца и единственного их спасителя. Он обо-
дрял их, потом вырвался от них; в сопровождении десяти друзей
и своего сына он проскакал к берегу, сел там на корабль и благопо-
лучно прибыл в Эгион к собранию. Там решено было обратиться за
помощью к Антигону и передать ему Акрокоринф56. Арат уте-
шился тем, что не он, а община высказала это решение, этот смер-
тный приговор всем надеждам свободной Греции.
Вследствие такого решения тотчас же отправлены были
условленные заложники к Антигону; Арат присоединил к ним
своего сына. Когда роковой жребий был брошен, то ему ничего
более не оставалось, как заручиться во что бы то ни стало благо-
волением царя. Надо вспомнить, как натянуты были все условия,
для того чтобы понять негодование, вызванное сказанным реше-
нием у всех, кто был на стороне спартанцев; особенно в Корин-
фе народ ожесточился до того, что разрушил все во владениях
Арата, и самый дом его по общественному приговору был пода-
рен Клеомену. Как только Клеомен был извещен об упомянутом
договоре, он сам тотчас же снял осаду Сикиона, вернулся в Ко-
ринф, расположился на перешейке, укрепил его со стороны Оней-
ских гор окопами, которые, казалось, были достаточно крепки,
так чтобы македонский царь не был в состоянии прорваться.
Антигон давно уже стоял в Фессалии и готов был двинуться
в поход, когда прибыло ахейское посольство. Судя по дальней-
шим полученным им сведениям, он предполагал, что Клеомен по-
пытается проникнуть в Элладу, а может быть, и до Фессалии.
Владевшие пока лишь одним югом Фессалии этоляне могли бы,
пожалуй, воспользоваться этим случаем, с тем чтобы прервать
искусственное, навязанное им македонскою политикою бездейст-
вие и напасть вместе с Клеоменом. Сверх того, царю необходимо
было по возможности скорее овладеть Акрокоринфом. Этоляне,
однако, отказали ему в дозволении пройти по их области, через
Офрид и Фермопилы; а потому царь поспешил через Эвбею к пе-
решейку57; при нем было 20 000 пехотинцев и 1400 всадников58.
Арат и демиурги Ахейского союза отправились морем в Паги в
Мегарской области, с тем чтобы приветствовать царя; он в осо-
бенности к Арату отнесся в высшей степени предупредительно и
радушно. Условившись здесь относительно дальнейших планов,
приступили к военным действиям59.
Это было приблизительно летом 233 года. Клеомен занял
крепкую позицию и мог положиться на храбрость войска и на
рвение коринфян, так что был в состоянии отразить всякую по-
пытку македонян прорвать его ряды. Гарнизон в Акрокоринфе
до поры до времени не беспокоил его. Однако он не успел овла-
деть Сикионом и у него не было своего флота; а потому Антигон
мог бы там высадиться и зайти ему во фланг; в таком случае Ак-
рокоринф оказался бы крайне опасным. Позиция Клеомена в
Коринфе была ненадежная; но честь и интересы коринфян тре-
бовали, чтобы он отстаивал ее до последней крайности. Антигон
не ожидал такого упорного сопротивления; у него обнаружился
уже недостаток в припасах. Новая попытка проникнуть ночью
через Лехей не удалась. Казалось, не было никакой возможнос-
ти проникнуть сухим путем через перешеек; Антигон решился
уже было переправить свои войска от мыса Герея в Сикион, но
неожиданно открылся другой весьма удобный выход.
В Аргосе отнюдь не прекратились тайные сношения с ахей-
цами и Аратом. Заняв город, Клеомен по совету Мегистона не
принял никаких особенных мер против подозрительных личнос-
тей, а удовольствовался только двадцатью заложниками. При-
верженцы ахейцев тотчас же принялись за свои тайные происки.
Народ также был недоволен; он ожидал от Клеомена уничтоже-
ния долгов и раздела имуществ, но ничего такого не последова-
ло; потому-то и нетрудно было отвлечь толпу от спартанских
интересов. Один из друзей Арата Аристотель с большим успехом
повел дела; он морем отправил послов к Антигону: достаточно
будет привести несколько отрядов, для того чтобы завладеть Ар-
госом. Арат во главе полутора тысяч человек тотчас же отправил-
ся морем в Эпидавр, а оттуда поспешил в Аргос. Он не успел еще
прибыть туда, как в городе вспыхнуло уже восстание против при-
верженцев Клеомена. Аристотель во главе народа атаковал сла-
бый гарнизон в крепости; а Тимоксен подоспел уже из Сикиона
с шайкою ахейцев и поддержал его атаку. Гарнизон подвергался
величайшей опасности; тотчас же отправлены были послы в Ко-
ринф. Клеомен получил известие ночью во время второй смены.
Мегистон с 2000 воинов немедленно двинулся в Аргос, а Клеомен
между тем вдвойне строже стал следить за движениями македо-
нян. Вскоре, однако, из Аргоса прибыли новые крайне дурные ве-
сти: вступив в город, Мегистон пал в стычке, крепость оказалась
в величайшей опасности, так что не в состоянии была держаться
долее. Если Аргос падет, то Клеомен будет отрезан, неприятель
станет угрожать ему с тыла. И в самом деле, перешедший реши-
тельно на сторону ахейцев Стимфал граничил с областями Си-
киона и Аргоса, а поход Тимоксена доказал, что путь через эти
области находился вполне во власти неприятеля. Антигон мог
через Сикион или Эпидавр обойти окопы на перешейке; тогда
перед ним была бы открыта дорога в Спарту. Клеомен вынужден
был предать Коринф. Он со всеми своими войсками поспешил в
Аргос и атаковал прямо с похода, удачно соединился с отбивав-
шимся все еще гарнизоном, вытеснил из ближайших улиц ахей-
цев и буйную толпу. Однако Арат уже подходил; Антигон тотчас
же вслед за Клеоменом двинулся через перешеек, заставил сдать-
ся Акрокоринф и поспешил со своим войском также в Аргос. Его
всадники проскакали уже в город, на соседних высотах появились
фаланги. Клеомен убедился в невозможности здесь удержаться.
Он в стройном порядке отступил через Мантинею; недавно лишь
приобретенные союзники Спарты скоро подчинились македон-
скому владычеству. Так вслед за Клеоменом обрушилось все, что
он созидал; в Тегее он получил весть о смерти своей любимой
жены. На него следовал удар за ударом; все счастье, все надежды
его сокрушились в этих быстрых переворотах. Но при нем оста-
лись еще его спартанцы60.
Тотчас же по отступлении Клеомена свободный город Ар-
гос избрал в стратеги Арата. Полибий говорит, что Антигон при-
вел в порядок городские дела. По предложению нового стратега
решено было в знак благодарности передать царю в дар имуще-
ства тиранов и изменников. Аристомах по поводу известных со-
бытий в Кенхреях подвергся пытке, а потом был брошен в море.
Не подлежит почти сомнению, что именно Арат уготовил такую
смерть бывшему некогда стратегу ахейцев; его одного, по край-
ней мере, громко упрекала вся греческая нация61.
Царь теперь уже стал обнаруживать, какое положение он на-
меревался впредь занять в Пелопоннесе: Антигон велел в Аргосе
восстановить низвергнутые статуи тиранов и уничтожить памят-
ники овладевших Акрокоринфом ахейцев; одна только статуя
Арата была оставлена, несмотря на протест с его стороны. По-
том царь через Аркадию двинулся к Мегалополю; воздвигнутые
Клеоменом в Бельминской и Эгисской областях укрепления были
разрушены, а сама территория возвращена мегалопольцам. Та-
ковы были последние действия этой кампании. Антигон отпра-
вился к ахейскому собранию в Эгион, чтобы сообщить союзникам
о том, чего успели уже достичь и что осталось еще совершить.
Им уже незачем было много совещаться, пришлось лишь пови-
новаться. Таким образом и решили передать ему гегемонию над
союзом62 и без разрешения Антигона не отправлять ни к какому
иному царю ни писем, ни посольств. Союз обязался также продо-
вольствовать македонские, расположившиеся на зимних квартирах
в Сикионе и Коринфе войска и выдавать им жалованье. С каким
позором рухнуло доблестное восстание эллинов, сулившее лет
тридцать тому назад открыть новую эру в Греции. Противно было
смотреть, как некогда свободные союзники поклонялись царю.
Энергичный и прямой в своих поступках, он не счел даже нуж-
ным прельщать их обещанием свободы. Они поднесли ему в дар
Коринф, словно какую-нибудь деревню, назначали в честь его тор-
жественные шествия, игры, жертвоприношения, словно богу63. Вот
до чего довел их Арат.
Однако Клеомен все еще находился во главе спартанцев. Не-
ужели он лишился всякой поддержки, всякой надежды на помощь?
Припомним положение дел в Азии. Селевк Каллиник пере-
шел через Тавр, чтобы присоединить к своему царству бывшую
некогда сирийскую Малую Азию; он погиб в 225 г.; войско его
было разбито, вся внутренняя область до самого Тавра перешла
во власть пергамского царя Аттала, тогда как западный и юж-
ный берега, также Селевкия при устье Оронта подчинились еги-
петскому владычеству. Птолемей Эвергет, правда, не обладал уже
тою бодрою энергиею, какой отличался в первые годы своего
царствования; а иначе этот царь, флоты которого господствова-
ли над морями, не допустил бы, чтобы македоняне удержали за
собою дерзко захваченную ими Карию, не дал бы смутам в Гре-
ции развиться до того, чтобы Македонии предоставлено было
восстановить порядок. В александрийском кабинете, как казалось,
совсем упустили из виду ахейцев, этолян, спартанцев, эпирцев; и
вдруг Арат, которому в качестве представителя антимакедонских
интересов в Греции все еще выдавался ежегодный оклад, всту-
304
пил в тайные переговоры с македонским царем; это было осенью
и зимою того же 225 г. Необходимо было как можно скорее вновь
завладеть утраченною позициею в эллинской политике; а пото-
му вошли в сношение с Клеоменом. В Александрии радовались
его быстрым и блистательным успехам; Македония, как казалось,
даже равнодушно отнеслась ко взятию Коринфа. Каких успехов
мог бы достичь Клеомен, если бы весною 223 г. египетский флот
прикрыл его движения или, по крайней мере, занял стоянку в
дружественных афинских гаванях! Последовавший за падением
Аргоса полный переворот всех греческих отношений, казалось,
открыл наконец глаза Лагиду. Антигон занял Акрокоринф, при-
нял в дар Коринф, приобрел значительные имущества в Аргосе,
по своему произволу распоряжался Ахейским союзом; мало того,
в Эгионе, как кажется, состоял формальный конгресс эллинских
племен, образовался союз, помимо ахейцев охвативший беотян
с Мегарою, эпирцев, акарнанцев, фокейцев, фессалийцев, подчи-
нив всех гегемонии Антигона64. Этоляне, правда, не присоедини-
лись к союзу, но они находились в затруднительном положении,
были связаны по рукам в их политике и довольствовались уже
тем, что могли остаться нейтральными. Если Египет не поддержит
тотчас же спартанцев, то вскоре весь Пелопоннес подчинится
македонскому владычеству; в таком случае египетское господ-
к ство на фракийском берегу подвергнется крайней опасности, и
5 тогда лишь обнаружится важное значение карийской оккупации.
ь* Лагид, правда, сделал царю Клеомену предложения, но мы
В не знаем, какого рода. Он, как кажется, поставил условием, что-
х бы Клеомен не заключал мира без его согласия65, затем потребо-
вал в заложники мать царя Кратесиклею и сына его от Агиатиды.
*'•%.* Нельзя не поверить рассказу Филарха, что спартанскому царю
совестно было сообщить матери такие унизительные предложе-
ния, и побуждаемый необходимостью принять помощь, он при-
ходил несколько раз с целью переговорить с нею, и все-таки никак
не мог решиться; она догадывалась о причине его беспокойства
и стала допытываться у друзей его. Наконец, он сказал ей, и бла-
городная мать попрекнула его только тем, что он так долго мол-
чал. Потом начали готовиться к отъезду: мать и сын отправились
к Тенару, их сопровождало все вооруженное спартанское войс-
ко. Там, в храме Посейдона, Клеомен распростился с матерью и
сыном; толпа не должна была видеть их слез. Взяв потом за руку
мальчика, Кратесиклея поспешила на корабль и отбыла66.
Антигон должен был ожидать, что в предстоявшую кампа-
нию Египет приступит к значительному предприятию в Греции.
В таком случае Афины, наверное, предложат свои услуги Лаги-
ду, так как пользовавшиеся сильным влиянием ораторы Эвриклид
и Микион были весьма расположены к богатому египетскому
царю67. Хотя значение Афин в качестве державы было ничтож-
305
ное, однако гавани и военное положение этой области представ-
ляли важные выгоды для египетского вмешательства. Отношение
Антигона к этолянам становилось в таком случае еще сомнитель-
нее; они уклонялись от Клеомена ввиду его смелых захватов, но и
на македонское вмешательство смотрели с таким же опасением;
во время решительных действий они поддерживали нейтралитет;
если же в Элладу вмешается Лагидово правительство, с которым
они при посредстве своих наемников находились в постоянных
сношениях, то этоляне надеялись с его помощью устранить гегемо-
нию Македонии, не давая притом слишком усилиться Клеомену;
в таком случае им наверняка достанутся в награду находившиеся
доселе под гегемонией Македонии Акарнания и Эпир. Антигон со-
знавал, что если таким образом Аттика и этоляне своими нападе-
ниями станут поддерживать борьбу смелого спартанского царя,
то он сам подвергнется величайшей опасности. Надо во что бы
то ни стало предупредить ее. Однако какими средствами? Для
этого необходимо было в других отдаленных местах угрожать
египетскому владычеству, так чтобы оно вынуждено было напра-
вить туда значительные войска; в таком случае Египту пришлось
бы вербовать много наемников, а самым обильным местом вербов-
ки всегда была Этолия; этоляне, без сомнения, толпами погонят-
ся за щедрою египетскою платою, имея притом в виду добычливую
войну на Востоке; тогда как у себя дома им, вероятно, вовсе не пред- i ь ■
стояло войны; здесь, по крайней мере, им нечего было надеяться §
на значительную добычу. ш
Антигонова политика была рассчитана с дальнозоркою пред- о
усмотрительностью; это видно по возникшей вновь великой войне Г8
на Востоке как раз в то самое время, когда сам Антигон из своих
зимних квартир двинулся против Тегеи. А иначе как объяснить
то, что Селевк Сотер68 теперь лишь, на третьем году своего цар-
ствования, решился на борьбу? У Тавра стояли пергамские фор-
посты, а у подножия Ливана, даже в Селевкии при Оронте —
египетские гарнизонь!. Только в связи с македонскою политикою
можно объяснить то, что, не обратив внимания на угрожавшее
положение египтян при устье Оронта, Селевк всю силу своего
натиска направил на Малую Азию. Если бы удалось отбросить
пергамцев хотя бы только за Фригию, то македонский гарнизон
в Карий мог бы служить опорным пунктом, а египетским владени-
ям на юге и западе Малой Азии угрожала опасность со стороны
материка; в таком случае Египту пришлось бы напрячь все силы,
лишь бы его не вытеснили оттуда совсем; ему пришлось бы отка-
заться от непосредственного вмешательства в Греции, а одни де-
нежные субсидии вряд ли в состоянии будут спасти Спарту.
Этими соображениями не исчерпывается, конечно, область
всех возможных догадок, но предлежащие известия не позволя-
ют нам распространяться далее. Полибий во введении лишь
вкратце излагает важнейшие военные события до Ганнибаловой
войны и намеренно избегает всяких сложных комбинаций; его
целью было выяснить положение некоторых держав до той эпо-
хи, когда начинается его исторический рассказ. Он умалчивает
также о возникшей как раз в это время войне в Малой Азии и
ограничивается лишь сообщением главного результата. Попыта-
емся собрать здесь вместе скудные известия об этой войне, до
начала которой мы довели уже события в Сирии.
Царь Селевк Сотер с наступившим 222 годом двинулся с весь-
ма значительным войском через Тавр; при нем был брат его мате-
ри отважный Ахей, тот самый, отец которого находился в плену
в Александрии. Они оттеснили пергамского царя; Селевкидово
войско вступило уже во Фригию. Может быть, и правда, что мо-
лодой царь не сумел вести войну; как бы то ни было, а Никанор и
галат Апатурий убили его69. Судя по одному из показаний, это
совершилось по наущению близких к нему особ70. Ахей, во вся-
ком случае, не повинен в этом; он тотчас же велел схватить убийц
и казнить их; потом отверг даже венец, предложенный вполне
преданным ему войском. Он решительно и быстро повел воен-
ные действия. После Селевка остался сын, который был еще от-
роком71; находившиеся в Сирии войска вызвали на престол брата
царя, который жил в Вавилоне и управлял до сих пор восточными
сатрапиями72. Антиох, которого считают обыкновенно третьим
сирийским царем этого имени и которого благодаря блистатель-
ным его успехам вскоре стали называть Великим, поспешил из
Селевкии на Тигре в Сирию; сатрапии Мидию и Персию он по-
ручил двум братьям Молону и Александру, на верность которых
вполне полагался; Ахею вручена была власть над областями по
ту сторону Тавра, которые он только что вновь отвоевал для цар-
ства73. И в самом деле, Ахей сверх всякого ожидания одержал
быстрые успехи; он завладел даже крепостью в Сардах, отбросил
Аттала в небольшую династическую область его предшественни-
ков и осадил его самого в Пергаме74. Вольные города в Ионии и
Эолиде почти до самого Геллеспонта присоединились к победи-
телю частью добровольно, частью вынужденно; даже Смирна не
в состоянии была удержаться75; египетское владычество поддер-
живалось лишь в Эфесе и на Самосе. Мы не знаем, что предпринял
Птолемей для отвращения опасности, какая угрожала последним
его владениям в Малой Азии. Вскоре вслед за тем Антиох в Се-
левкиде близ Зевгмы при Евфрате отпраздновал свой брак с Лао-
дикою, дочерью Митридата Понтийского; эта связь послужила
новою значительною подпорою сирийскому владычеству76, а тем
временем ревностно подготовлялось нападение на египетскую
Сирию77.
При таких-то условиях Птолемей Эвергет всю свою энергию,
как кажется, обратил на Восток; нигде, по крайней мере, не упо-
307
минается о том, что египетский флот появился у греческих бере-
гов или вообще предпринято было что-нибудь для облегчения
Клеомена. Опасность на Востоке усилилась еще более с той поры,
как Антиох стал готовиться к нашествию на Келесирию. В кам-
пании этого года Антигон, если не ошибаюсь, сообразовал свои
действия с положением дел на Востоке; удивительно, как он по-
ступал: как бы намеренно затягивая войну, не только с целью по
возможности прочнее утвердить за собою новую зависимость в
Пелопоннесе, но также с тем, чтобы утомить Лагида относитель-
но выдачи субсидий, отвлечь его новыми нападениями в Азии, а
затем окончательно уничтожить истощенного и всеми покину-
того Клеомена.
Антигон рано, еще до наступления весны, открыл кампанию
222 года. Он двинулся на Тегею и приказал ахейским войскам
идти туда же. Он тотчас же приступил к осаде города; осажден-
ные отчаялись оказать сопротивление подкопам неприятеля и
сдались. Поместив тут македонский гарнизон, Антигон укрепил
это важное место, разъединявшее в особенности Орхомен и Ман-
тинею; потом он двинулся к лаконской границе. Там поджидал
его Клеомен; враги стояли один против другого, ограничиваясь
лишь одними мелкими стычками. Антигон избегал решительной
битвы. Получив весть, что подходит спартанский гарнизон из
Орхомена, чтобы соединиться с Клеоменом, он снялся с лагеря.
Кинувшись на этот город, он приступом сразу взял его. Потом I §
Антигон двинулся на Мантинею; город скоро вынужден был
сдаться. 5
Все упрекали стратега Арата и ахейцев в ужасных истязани- Г8
ях, каким подвергались несчастные горожане78; весьма вероятно
поэтому, что Антигон предоставил союзникам и Арату наказать
Мантинею за ее двухкратное отпадение или, уступив их требо-
ваниям, обрек город на ту же участь, какой Александр подверг
некогда Фивы. Филарх изображает самыми яркими красками, как
знатнейшие граждане были казнены, остальные жители частью
проданы, частью в оковах отведены в Македонию, как жен и детей
отрывали от их мужей и отцов и продавали в рабство. Полибий
старается, правда, обелить ахейцев и доказать, что вся Греция,
исполнившись ужаса, не хотела признать справедливость пример-
ного наказания; но и он даже не может отрицать, что кара обру-
шилась на Мантинею гораздо сильнее, чем бы следовало по праву
войны. Уничтожив жителей, ахейцы разграбили город, продали
остатки движимого имущества, взяли себе треть выручки, а осталь-
ное поступило в македонскую военную кассу. Как гнусно произ-
водились грабежи и воровство, это видно из того, что вся выручка
с включением проданных людей составила всего 300 талантов79.
Затем Антигон подарил область Арголиде; а это государство ре-
шило заложить там новое поселение и поручило своему стратегу
о
Арату почетную обязанность быть основателем нового города;
он назвал его в честь македонского царя Антигонией80.
Полибий не упоминает о том, что предпринял Клеомен про-
тив неприятельского натиска; он слегка лишь касается одного
факта. Пытался ли Клеомен освободить Тегею и Мантинею? Со-
знавал ли он свое бессилие? Препятствовал ли ему в том союз с
Египтом? Все это крайне туманно. После утраты Тегеи ему сле-
довало по возможности проникнуть по другой пролегающей из
Аркадии в Лаконию главной дороге. Мегалополь несколько раз
уже делал смелые набеги на Спартанскую область, особенно с
тех пор, как благодаря Антигону он вновь овладел пограничны-
ми, господствовавшими над дорогами в Лаконию пунктами. Мо-
лодой Филопемен при этом впервые выказал свой блистательный
талант и свою отвагу81. Ненависть к спартанцам и к господству
Клеомена нигде не была так сильна, как в среде высокообразо-
ванных и испытанных в жизни мужей этого города; хотя в бит-
вах при Ликее и Ладокии пала значительная часть вооруженных
граждан, однако город все еще был настолько силен, что во вре-
мя войны Антигона и остальных союзников был в состоянии на
свой страх тревожить врага. Не все, конечно, мегалопольцы разде-
ляли такое настроение; от более осторожных граждан не ускольз-
нуло то обстоятельство, что при дальнейших успехах Антигона
город не в состоянии будет поддерживать самостоятельное по-
ложение, каким он пользовался до сих пор в качестве оплота со-
юза против Лаконии; некоторые из них склонялись на сторону
спартанского царя и вступили с ним в тайные сношения82. Клео-
мен думал, что непосредственное нападение на город увенчает-
ся успехом, так как сильно сократившееся количество граждан
не в состоянии будет защитить обширные стены, занимавшие
протяжение в одну милю с четвертью83. Преданные ему мегало-
польцы обязались ночью, когда наступит их третья смена у Коле-
она, впустить его. В мае, когда над горизонтом появились Плеяды,
Клеомен выступил с закатом солнца; вследствие короткой ночи
он опоздал; проник, правда, в город, однако граждане скоро успе-
ли вооружиться. Загорелась крайне жестокая битва; Клеомен
вынужден был отступить с большим уроном84.
Странно, что после этих событий Антигон не отправил силь-
ного гарнизона в Мегалополь; напротив, захватив сдавшихся при
его приближении Герею и Тельфузу, он с августа уже прекратил
на этот год кампанию, отослал своих македонян домой и, оста-
вив при себе одних наемников, отправился в Эгион, с тем, как
говорит Полибий, чтобы вести переговоры и совещаться с ахей-
цами85. Мы не в состоянии вполне выяснить причины таких его
поступков; дело в том, что события на Востоке нам мало извест-
ны, и мы не знаем, насколько они могли повлиять. Невольно, од-
нако, напрашивается предположение, что царь руководствовался
309
иными, более непосредственными причинами. Македонская поли-
тика могла вновь основать и упрочить свое господство в Греции
не иначе, как расстроив в ней всякую возможность сосредото-
чить политическое могущество; она должна была ослабить нрав-
ственную и материальную силу греческих политий. Коринф был
уже отделен от Ахейского союза, точно так же и развращенный
до мозга костей Аргос, который, присоединив к себе Мантинею,
распространил свою политическую вялость и немощь по важной
области в Аркадии. Сам Ахейский союз находился уже в полной
зависимости от Антигона; Арат ручался за это, и у Македонии
никогда еще не было в Греции такого ревностного поборника ее
интересов. Не то Арат, не то Антигон оставил Мегалополь без
достаточного прикрытия, считая город довольно сильным, так
что он и сам собою мог отразить дерзких спартанцев, находясь
притом довольно близко, для того чтобы воспользоваться помощью
из Эгиона. Вновь окрепший в городе со времен Экдема и Лидиада
дух доблестной независимости и собственной политической
силы, представителем которого теперь явился Филопемен, все
еще одушевлял значительную часть городского населения; этот
дух казался опасным македонскому царю и давно уже смущал
Арата. Можно было вообще, наверное, надеяться одолеть Клео-
мена; а что, если в таком случае беспокойные личности в Мегало-
поле потребуют отчета у Арата, или если в ущерб македонскому
владычеству они образуют как бы точку опоры для недовольных §
людей, без каких дело не обойдется? Никто, конечно, не говорил
прямо, что Мегалополь намеренно хотели предать врагу; однако 5
и без того видно, что все это делалось с известным расчетом. Г8
Клеомен в мае в Мегалополе понес весьма значительные по-
тери. В летописях упоминается о том, что он илотам разрешил
откупаться каждому за пять аттических мин и что таким путем
он выручил 500 талантов. Почти немыслимо, чтобы в Лаконии в
это время было такое значительное количество наличных денег,
даже еще в руках илотов; но эта мера едва ли имела целью финан-
совую операцию; всего вероятнее, что 6000 илотов присоединены
были к войску. Это подтверждается, как кажется, известием в вы-
шеприведенной заметке, будто Клеомен вооружил еще 2000 че-
ловек по македонскому образцу86. Наше сомнение в самом деле
основано лишь на всеобщем предположении касательно вероят-
ного имущественного состояния в Лаконии; если бы, однако, за-
метка оказалась достоверною, то для нас во многих отношениях
выяснились бы внутренние условия этого края. И в самом деле,
если невольники обладали такими значительными суммами налич-
ных денег, то тем более надлежало согласовать их гражданское
положение со средствами, какими они располагали; если 6000 ра-
бов пользовались таким достатком, то надо полагать, что число
их вообще было значительное; если они в состоянии были выпла-
^'
я
310
тить такие большие суммы, то, значит, они весьма дорожили от-
меною рабства. Не стану входить в дальнейшие подробности; и
без того достаточно подтверждается изложенный в нашем очер-
ке взгляд вообще на эпоху и на общественное мнение.
Македонское ополчение было уже распущено, и Антигон со
своими наемниками находился в Эгионе, когда Клеомен возобно-
вил свое нападение на Мегалополь. Он со своим войском двинул-
ся через Селассию, как бы намереваясь вторгнуться в Арголиду,
потом внезапно свернул на запад и ночью прибыл к Мегалопо-
лю. Благодаря, вероятно, измене, он добился доступа, а может
быть, и вследствие небрежной охраны обширных укреплений
успел пройти в город87; как бы то ни было, но царь беспрепят-
ственно занял часть стен, проник до самого рынка, не встретив
значительного сопротивления. Там, наконец, загорелся жесто-
кий бой, в котором отличился именно Филопемен; толпы народа
между тем, забрав свои имущества, обратились в бегство. Клео-
мен подвергся опасности, он мог быть уничтожен вместе с его
войском; наконец-то ему удалось принудить храбрых граждан
отступить. Медленно, то и дело отбиваясь под начальством Фи-
лопемена, подвигались они к западным воротам, а затем покину-
ли город и вслед за бежавшими женами и детьми, с захваченным
наскоро имуществом двинулись в дружественную Мессению.
к I В городе осталось будто бы всего около тысячи человек; из воору-
£ женных немногие лишь попали в плен88; по другим известиям,
ь | в Мессению благополучно добрались две трети вооруженных во-
инов89. Во всяком случае Клеомен добился весьма важных выгод;
г он надеялся воспользоваться ими при посредстве разумного и
великодушного решения. Его побудили к этому приведенные к
нему пленниками двое знатных мегалопольцев Лисандрид и Фе-
арид. Он тотчас же отправил их в Мессению к беглецам с вестью,
что город их остался невредим. Клеомен предлагает им, нисколь-
ко не опасаясь, вернуться для вполне свободного обладания сво-
им городом и своими землями с единственным условием, чтобы
они впредь были друзьями и союзниками Спарты.
Беглецам, ожидавшим, что в отместку за гибель Мантинеи
их город будет разграблен и разрушен, предложение царя пока-
залось на самом деле весьма соблазнительным90; однако Филопе-
мен воспротивился принятому решению: Клеомен вполне сознает,
что он не в состоянии будет удержать за собою город, а потому
ему во что бы то ни стало хочется вернуть граждан, с тем чтобы
они охраняли Мегалополь; они должны вновь овладеть им, но не
по условию, а с оружием в руках. Филопемен успел возбудить
толпу, и она грозила побить послов каменьями, как изменников.
Он был прав; Клеомен не мог снабдить обширные стены достаточ-
ным количеством защитников; он ожидал нападения со стороны
ахейцев; ему ничего более не оставалось, как сделать безвредным
этот основанный некогда Эпаминондом город с целью обуздать
Спарту. Он велел перевести в Спарту все, что было сколько-ни-
будь ценного в Мегалополе — утварь, художественные произве-
дения, разные товары, потом разрушить стены и общественные
здания; словом, говорит Полибий, поступил с городом так кру-
то, что, казалось, невозможно было вновь восстановить его91.
Аркадия была теперь открыта для спартанцев, и Клеомен немед-
ленно направился туда, с тем чтобы опять собрать там свою
партию92.
Антигон и ахейцы бездействовали. Правда, когда Арат в Эги-
оне получил весть о разрушении города и явился в собрание, то
он долго стоял, закрыв лицо и плакал; как только произнес он
роковое слово, собрание в ужасе разбежалось. Антигон тотчас же
велел собраться наемным отрядам; казалось, решено было пред-
принять что-то; вскоре, однако, последовал приказ наемникам
остаться по своим квартирам. Сам Антигон отправился со слабым
конвоем в Аргос; обширная область Мегалополя предана была во
власть спартанцев или, по крайней мере, их грабежам.
Осенью и зимою между соседними и дальними державами
велись, надо полагать, разного рода важные переговоры. В Алек-
сандрии пронесся слух, что от ахейцев последовали мирные пред-
ложения Клеомену. Говорят, будто Кратесиклея, опасаясь, что
сын ввиду ее безопасности не решится без согласия египетского
царя окончить войну, настойчиво убеждала его руководствовать-
ся лишь тем, что может послужить во благо и в честь Спарты.
Потом при дворе Лагидов появилось македонское посольство93.
С остальными отношениями мы ознакомимся, бросив взгляд на
сирийские события.
Когда царь Селевк III был убит во время кампании в Малой
Азии, то брат его Антиох занял престол не по посредственному
наследию, а по призыву оставшихся в Сирии войск. Выступив в
поход, Селевк поручил Гермию управление внутренними дела-
ми. Не лишено, быть может, значения то, что этот наместник был
родом из Карий, которую несколько лет тому назад македонский
царь отнял у Египта; Гермий, как надо полагать, главным обра-
зом и способствовал возведению на престол Антиоха. Полибий
изображает его жестоким, недоверчивым, завистливым челове-
ком, исполненным коварства и козней против всех, чье соперни-
чество казалось ему опасным, а пуще всего против любимого
войском Эпигена, который именно теперь вел назад бывшие с
Селевком в Малой Азии отряды94.
Оба брата Молон и Александр, которых молодой царь назна-
чил сатрапами в Мидии и Персии, возмутились уже. По словам
Полибия, они пренебрегли молодостью молодого царя, надеялись
на содействие Ахея в Малой Азии, а больше всего опасались жес-
токости и коварства Гермия95. Почему могли они надеяться на
содействие Ахея? Отчего они, пользуясь самым блистательным
успехом, не завладели тотчас же престолом? Это можно объяс-
нить лишь тем, что поводом к их восстанию служил сын Селевка,
устраненный Антиохом наследник престола. Получив весть об
их отпадении, царь Антиох в синедрионе обратился к своим со-
ветникам с запросом, как следует поступить с мятежниками.
Эпиген заявил: необходимо безотлагательно принять решитель-
ные меры; если сам царь явится там с достаточным войском, то
оба сатрапа тотчас же смирятся, а если они осмелятся противо-
стоять, то будут покинуты подданными и преданы справедливой
каре. Гермий запальчиво возразил: Эпигену долго удавалось
скрывать от всех свои предательские замыслы; надо благодарить
его за то, что, предложив этот совет, он наконец разоблачил свою
тайну; и в самом деле, чего он надеется достичь таким путем?
Одного лишь, чтобы личность царя предать во власть мятежни-
ков! Эти высказанные таким мощным человеком слова решили
приговор синедриона: Ксенон и Теодот Гемиолий были отправ-
лены с войском на Восток с целью восстановить там спокой-
ствие96. Гермий воспользовался всем своим влиянием, для того
чтобы возбудить войну с Египтом. Полибий объясняет это тем,
что только в таком случае, когда молодой царь со всех сторон
будет обуреваем войнами, Гермий надеялся поддержать свое вли-
яние и избегнуть тяготевшей на нем великой ответственности.
Он то и дело напоминал царю о том, что теперь настало самое
удобное время для того, чтобы вновь завладеть Келесирией; пред-
ставлял даже царю письма, — Полибий считает их подложны-
ми, — в которых Ахей извещал, будто из Александрии побуждали
его захватить там власть, будто ему обещали всякого рода под-
держки деньгами, войсками и кораблями, если он присвоит себе
царский венец. Понятно, что Египту во что бы то ни стало хоте-
лось склонить Ахея на свою сторону, а потому Антиох поневоле
поверил выраженным в письмах заявлениям. Благодаря этому
Гермий добился, что решено было с наступившею весною пред-
принять кампанию в Келесирию. За исключением разве мятежа
на Востоке условия были, конечно, такого рода, что от нападе-
ния на Египет можно было ожидать некоторого успеха. Какие
бы блестящие предложения не делались Ахею из Александрии,
но не было никакого повода сомневаться в его верности; его по-
бедам в Малой Азии были одолжены тем, что Египет помимо
Эфеса и Самоса ничем более не владел на западном берегу, что
Аттал был оттеснен в его столицу и что вольные города были воз-
вращены сирийскому владычеству.
Правда, дела на Востоке еще до исхода 222 г. приняли опас-
ный оборот; Молон Мидийский, которого поддерживал брат его
Александр, вскоре заручился также благодаря прежним сноше-
ниям или щедрым подаркам преданностью начальников в сосед-
них областях. Во главе многочисленного войска двинулся он на-
встречу к посланным из Сирии полководцам, принудил их отсту-
пить в укрепленные города при Тигре и покинуть на произвол
область Аполлониатиду97. Молон проник до Тигра, он уже гото-
вился перейти через реку и осадить Селевкию; одна лишь предо-
сторожность Зевксиса, успевшего прибрать суда, спасла город.
Молон, однако, расположился со своим войском на зимовку про-
тив самого города в Ктесифоне; при средствах, какими он распо-
лагал, и отважной самонадеянности его войск исход предстоящей
кампании не подлежал, казалось, никакому сомнению.
Получив известие о наступательных движениях мятежников,
царь Антиох хотел было отказаться от решенного уже похода в
Келесирию, с тем чтобы лично, как с самого начала советовал
Эпиген, отправиться к Тигру. Однако Гермию удалось убедить
его в том, что царю подобает вести борьбу лишь с царями и ради
великих целей; он настоял на том, что против мятежников от-
правлен был ахеец Ксенет во главе новых отрядов с неограни-
ченным полномочием, тогда как для кампании в Келесирию под
предводительством самого царя войска собирались уже в Апа-
мее на Оронте98.
Полибий, конечно, вполне верно изобразил характер Гер-
мия"; однако упрек, будто он имел в виду подвергать царя все
новым войнам и опасностям, все-таки оказывается крайне стран-
ным. Антиох был довольно умен и, наверное, угадал бы этот за-
мысел. Тут можно предположить два случая: облеченный прежним
царем высшею властью в то время, как он совершил известный
уже нам, состоявший в связи с македонскою политикою поход
через Тавр, Гермий был вполне предан македонским интересам;
а потому он то и дело настаивал на войне с Египтом, которая
была крайне важна для Македонии именно в этот год, когда пред-
стояло нанести решительный удар в Пелопоннесе; или он знал о
македонских переговорах в Александрии, которые в половине это-
го года уже должны были привести к неожиданным последстви-
ям; он видел, что Сирии именно теперь представляется удобный
случай, какой, пожалуй, никогда более не возобновится, завладеть
вновь областями Ливана, что поэтому следует захватить их по воз-
можности скорее, пока вследствие договора между Македонией
и Египтом дальнейшие предприятия окажутся невозможными.
Помимо Полибия ни один из писателей не упоминает об этом; а
он сам в своем введении вовсе не распространяется о всеобщих
политических комбинациях и предлагает столь скудный матери-
ал, что мы и здесь также не в состоянии проследить за высоко раз-
витою дипломатией той эпохи. Однако эта дипломатия не раз уже
проявлялась довольно ясно, благодаря чему мы можем убедиться
в том, что она вмешивалась всюду, и должны признать ее суще-
ственною, характеристическою чертою тогдашней политики.
Весною 221 г. сирийские войска из Апамеи двинулись в Лао-
дикею у подножия Ливана. Простиравшаяся между этим городом
и долиною Марсии пустыня составляла, как кажется, границу
между сирийскими и египетскими владениями. Антиох перешел
ее, вторгся в долину Марсии; покоряя в ней города один за дру-
гим, он проник до того места, где Ливан и Антиливан, между
которыми эта долина поднялась вверх, до такой степени прибли-
зились друг к другу, что две крепости Герра и Брохи вполне за-
граждали проход100. Обе они заняты были египетскими отрядами
под начальством этолянина Теодота. Царь пытался пробиться,
но встретил стойкий отпор; потерпев довольно значительный
урон, он отступил.
В это самое время пришли известия из Вавилона. Стратег Ксе-
нет присоединил к себе эпарха Сузианы Диогена и другого из
области при Персидском заливе; потом, узнав от перебежчиков
Молоновой армии, что тамошние войска недовольны и при пер-
вом нападении готовы отпасть толпами, он решился перейти че-
рез реку. Оставив одну часть отряда под начальством Зевксиса и
Пифиада, сам Ксенет с отборными войсками переправился но-
чью в двух милях пониже неприятельского лагеря, затем распо-
ложился тут, прикрывшись с одной стороны рекою, а с другой —
болотом и трясиною. Отряды всадников, отправленные Моло-
к I ном, для того чтобы помешать переправе, не могли выбраться из
Jj> затруднительной местности; некоторые из них заблудились в
ь тростниках и потонули, остальные отступили. С наступлением
2 дня Ксенет, рассчитывая на настроение в неприятельском войс-
i ке, двинулся вперед; Молон не выждал атаки и отступил по пути
в Мидию; лагерь его был захвачен царскими войсками. Ксенет
%■■: тотчас же велел переправиться также остальной коннице с дру-
гого берега; он дал своим воинам отдохнуть и оправиться, с тем
чтобы на другой же день пуститься за бежавшим неприятелем.
Богатая Селевкия находилась недалеко, так что могла снабдить
лагерь всякими нужными и ненужными предметами; войска ку-
тили и пировали до поздней ночи по настоящему вавилонскому
обычаю.
А Молон тем временем форсированным маршем вернулся со
своего мнимого бегства; с рассветом он напал на лагерь, не встре-
тив почти никакого сопротивления; едва успевшие проснуться во-
ины обратились в бегство, несметное число их было убито тут
же на соломе; бежавшие ринулись к реке, пытаясь вплавь пере-
правиться на другой берег. Вскоре быстрый поток наполнился
людьми, лошадьми, оружиями, багажом, плававшими, утопавши-
ми воинами и их трупами — все это перемешалось в страшной
сумятице. Никто более не препятствовал Молону переправить-
ся; он завладел также лагерем по сю сторону, из которого Зевк-
сис вынужден был отступить; затем кинулся на Селевкию. Сильно
укрепленный город пал при первом натиске. После этого реши-
лась участь соседних областей; вся Вавилония подчинилась, точ-
но так же области, прилегающие к Персидскому заливу. Потом
Молон направился в Сузиану; стратег Диоген держался там в
одной лишь крепости; Молон оставил при ней отряд, с тем чтобы
обложить ее, а сам тотчас же вернулся в Селевкию, спеша захва-
тить области вверх по реке; Парапотамия до Евфрата, Месопо-
тамия до Дуры вынуждены были подчиниться101.
Известия об этих успехах мятежников застали царя Анти-
оха после того уже, как он выступил от Герры; он созвал синед-
рион, чтобы выслушать мнение своих вельмож. Эпиген повторил,
что следует отказаться от злополучной войны с Египтом и тотчас
же выступить к Тигру; Гермий вспыльчиво возражал и навлек
подозрение на замыслы Эпигена; он заклинал царя не покидать
Келесирии, не пугаться первой неудачи. Царь старался успоко-
ить споривших советников; он и большая часть присутствовавших
пристали к мнению Эпигена. Сам Гермий тут же заявил о готов-
ности всеми зависящими от него средствами поддержать приня-
тое решение, хотя и не одобрял его.
Войска были стянуты в Апамее; они стали волноваться по по-
воду неуплаченного жалованья; беспорядки приняли весьма
опасный характер; молодой царь оказался в крайнем затрудне-
нии. Тогда Гермий вызвался выдать войскам все жалованье, лишь . ^.
бы царь согласился, чтобы Эпиген не присоединился к экспеди- §
ции — после всего, что случилось, немыслимо, чтобы Гермий дей- ш
ствовал с ним заодно, не нанося величайшего ущерба общему о
благу. Царь знал воинские дарования Эпигена, ему во что бы то Г8
ни стало хотелось бы его иметь при себе в этой затруднительной
кампании; однако ради уплаты войскам он был вынужден при- <щ?
нять сказанное предложение; сверх того, царь видел, что он все
еще находился во власти этого человека, располагавшего стра-
жею, должностными лицами, всеми административными сред-
ствами, и потому счел Необходимым уступить. Эпигену приказано
было остаться в Апамее. Синедрион пришел в ужас, предчувствуя,
что всемогущество карийца вполне и навсегда упрочилось. Вой-
ска были удовлетворены; Гермий, казалось, мог рассчитывать на
их преданность; одни только киррестийцы в числе 6000 человек
поддерживали мятеж; лишь по прошествии года удалось усмирить
их. Гермий скоро дал Эпигену почувствовать свое могущество; ему
как-то удалось подсунуть к его бумагам интимное письмо от
Молона. Потом начальник апамейской крепости под предлогом
полученного доноса об этих сношениях произвел обыск, нашел
упомянутое письмо, и Эпиген был казнен как государственный
изменник. Царь был убежден в невинности стратега, но не осме-
лился противиться всемогущему визирю. Весь двор был уверен в
совершившемся преступлении, но страх перед Гермием заглушал
всякий намек. При таких-то обстоятельствах Антиох предпринял
поход против мятежников. Лишь с наступлением зимы перешел
он через Евфрат и занял зимние квартиры в мигдонской Анти-
охии. С наступавшею весною 220 г. должна была начаться опас-
ная война.
Я здесь прерываю изложение сирийских событий, оттого что
после удачной борьбы с Молоном и Александром начинается но-
вая их фаза.
Антиох сбросил с себя зависимость от Гермия, сам захватил
бразды правления и с таким решительным успехом, что Селевки-
дово владычество в короткое время восстало с новою энергиею,
чему немало способствовали также совершившиеся при дворе и
в царстве Лагидов перемены.
Мы не в состоянии проследить во всей подробности за взаим-
ными отношениями между событиями в Греции и Сирии; однако
в решительный момент эти отношения не ускользают от внима-
тельного наблюдателя.
Мы видели, что Антигон в августе истекшего года (222) уже
распустил свои рати. С падением Мегалополя обнаружилось, что
Ахейский союз был бессилен без македонского пособия. И в са-
мом деле, Клеомен опять несколько оправился; благодаря добы-
че из Мегалополя и с области, а еще более субсидиям и подвозу
из Александрии спартанский царь мог приняться за дело с новы-
ми силами; заняв разные проходы Лаконии, он в кампанию на-
ступившего года мог вывести в решительный бой 20 000 человек;
в том числе было 6000 наемников; надо полагать, что область
Лакония на эту войну выставила всего около 14 000 воинов102. Для
того чтобы оценить эти усилия и их последствия, надо вспом-
нить, что область тогдашней Лаконии занимала пространство
величиною не более 90 квадратных миль, и что этолийское наше-
ствие, а вслед за тем многолетняя война, в особенности первая
неудавшаяся попытка с Мегалополем, нанесли стране великие
утраты. Во Франции во время революционных войн при первом
поголовном ополчении оказалось под ружьем всего населения;
на войну 1813 года восточная Пруссия до Вислы при населении
около 900 000 душ выставила под ружье 38 000 человек, и Гней-
зенау в письме к графу Мюнстеру писал: «Это ужасно много для
лишенной фабрик, исключительно земледельческой провинции».
Подобные отношения нельзя, конечно, применить так прямо к
Лаконии; но не подлежит сомнению, что Клеомен потребовал от
своей страны несравненно большие жертвы103. При таких напря-
жениях край, без сомнения, тяжко страдал; вследствие поступле-
ния на военную службу периеков и илотов земледелие лишилось
чрезвычайного количества рук, а этолийское нашествие и без того
уже сократило рабочие силы страны. Надо принять еще в рас-
чет, что при таких условиях Лакония могла получать продоволь-
ствие только путем подвоза; понятно поэтому, что благодаря
лишь египетскому союзу оказалось возможным продолжать вой-
ну, с тех пор как пришлось перенести ее в Лаконскую область104.
Пробыв, начиная с лета 222 и до наступления лета 221 г., без
всякого дела в Аргосе со своими наемниками, Антигон вступил в
переговоры с Александрией, для того чтобы расстроить упомя-
нутый союз. Его нисколько не беспокоило то, что Клеомен с на-
ступлением весны предпринял внезапный набег на Аргосскую
область, что городское население роптало ввиду опустошения их
засеянных полей, тогда как Антигон со своими наемниками не
отважился даже на вылазку. Он, конечно, был уже вполне уве-
рен в удаче своих переговоров, в то время как его и союзные вой-
ска готовились к новой кампании105.
Об этих переговорах Полибий упоминает только мимоходом;
он говорит о преувеличенных показаниях Филарха относитель-
но мегалопольской добычи; и по словам того же Филарха, за де-
сять дней до решительной битвы к Клеомену явилось египетское
посольство со следующим заявлением: царь не станет более вы-
сылать никакого пособия и советует ему примириться с Антиго-
ном. Клеомен, однако, решил отважиться на битву, пока эта весть
не успела еще распространиться в его войске: ему не было ника-
кой возможности продолжать войну собственными средствами,
вся его надежда основывалась на поддержке со стороны Египта106.
Полибий противоречит не этому показанию Филарха, а только от-
носительно мегалопольской добычи; следовательно, упомянутое
посольство и вместе с тем, надо полагать, последствия македон-
ских переговоров подтверждаются авторитетом Полибия.
Однако каким же образом Антигону удалось побудить еги-
петский кабинет предать на жертву Клеомена? Мы видели, что в
истекшем году Селевкидово владычество в Малой Азии было бле-
стящим образом восстановлено Ахеем; союзник Египта Аттал
был оттеснен; владения самого Египта ограничились Эфесом и
Самосом; мы должны были предположить, что завоеванная Ан-
тигоном шесть лет тому назад Кария все еще находилась во вла-
сти македонян. С наступлением весны 221 г. по настоянию Гермия
предпринята была келесирийская экспедиция. Победоносный
Ахей угрожал, вероятно, последним владениям Лагидов в Малой
Азии, Эфесу, Ликии, Памфилии. Ввиду такого опасного положе-
ния невозможно было, как казалось, из Александрии отстоять
фракийские берега, если Антигону вздумается напасть на них из
Македонии. Если при таких обстоятельствах предложения ма-
кедонского царя существенно облегчали Египет, то они же и
могли побудить к значительным уступкам в отношении эллинских
дел, а именно к преданию на произвол Клеомена. По позднейшим
известиям, оказывается, что Кария опять перешла к Египту. Надо
полагать, что Антигон теперь возвратил ее с условием, чтобы
318
Птолемей Эвергет лишил спартанцев своей поддержки. Мы не
знаем, какие соображения побуждали Антигона уступить Карию:
может быть, весть об угрожавших все более и более успехах Мо-
лона на Тигре, которые препятствовали Сирии с настойчивостью
нападать на Египет; или опасения, что Ахей впоследствии напа-
дет на Египет; или опасения, что Ахей впоследствии воспользу-
ется своею властью в Малой Азии, с тем чтобы основать там
самостоятельную державу и, без сомнения, вступить в союз с
Египтом, вследствие чего невозможно будет удержать за собою
Карию, а может быть, Антигон ясно сознавал, что могущество
Македонии должно быть основано на полном владычестве в Гре-
ции и что эти соображения должны преобладать над остальны-
ми. Мы с полною уверенностью можем подтвердить только то,
что всеобъемлющий взор Антигона не только верно постигал
запутанные западные дела, но принимал также в расчет и вос-
точные. Никто уже не сомневался в том, что предстояла борьба
Рима с Карфагеном; а если вспомнить о Керкире, Аполлонии,
Диррахии, вообще о положении иллирийского берега, в том виде,
как оно сложилось в течение последних восьми лет, то убедимся
наконец, что Македония принимала уже участие в римской по-
литике. Антигон обратил свое внимание также на эту сторону,
доказательством чему служит заключенный им в то самое время
к союз. Римляне, как было уже упомянуто, поручили Деметрию
£ Фаросскому династию над большею частью иллирийских племен,
ь" тогда как царица Тевта именем состоявшего под ее опекою па-
2 сынка Пинна удержала за собою лишь небольшую часть прежних
i владений. Во время войны римлян с галлами (225-223 гг.) Демет-
рий находился уже в более независимом от них положении; Ан-
• %■■ тигон заключил с ним союз, и 1600 иллирийцев с Деметрием во
главе двинулись на войну 221 года в Пелопоннесе.
Помимо македонских отрядов и наемников (10 000 человек
фаланги, 3000 пельтастов, 300 всадников, по 1000 человек агриан
и галатов, 3000 наемных пехотинцев и 300 всадников) подошли еще
контингенты союзников, отборные ахейские войска, 3000 пехо-
тинцев, 300 всадников; 1000 мегало-польцев под начальством Кер-
кида, которых Антигон вооружил по македонскому образцу107;
беотяне прислали 2000 пехотинцев, 200 всадников; эпирцы — 1000
пехотинцев и 50 всадников; столько же — акарнанцы; к ним, на-
конец, присоединились вышеупомянутые иллирийцы108. С этими
войсками Антигон двинулся через Тегею к границам Лаконии.
Получив известие о приближении неприятеля к Тегее, Кле-
омен сделал еще отважный набег на Аргос, опустошил край и сме-
ло подошел к самым стенам города; потом двинулся через Флиунт
на укрепленный замок Олигирт, выгнал оттуда неприятельский
гарнизон, наконец, мимо Орхомена вернулся в Лаконию. Этими
смелыми нападениями он, вероятно, имел в виду задержать под-
319
крепления со стороны ахейцев; верно только то, что его смелый
набег не имел важных последствий, оттого что был предпринят
незадолго до вторжения македонян. Затем царь поспешил к лакон-
ским проходам и поджидал там неприятеля. Оградив остальные
проходы в Лаконию валом и рвом, засеками, достаточными гарни-
зонами, он свои главные силы, около 20 000 человек, сосредоточил
в теснинах Селассии.
Дороги из Тегеи и Фиреатиды в Спарту сходятся близ Энонта
в том месте, где горы несколько отступают на западной стороне
этого горного потока; тут на правом берегу Энонта раскинулась
небольшая равнина в 1000 шагов шириною и немногим более дли-
ною; по ее южной окраине протекает впадающий в Энонт ручей
Горгил. Над этой небольшой долиной господствует на западе гора
Эвас, скаты которой со стороны Горгила недоступны, по крайней
мере для лошадей, а на востоке — широкая крутая возвышенность
на берегу Энонта, которая почти в получасовом протяжении вдоль
по реке завершается Олимпом. На юге равнины возвышается в
южном направлении хребет, на вершине которого в получасовом
расстоянии от Горгила расположилась крепость Селассия. Меж-
ду Эвасом и Олимпом по правую сторону Энонта пролегает по не-
большой долине и вброд через Горгил дорога в Спарту; эта дорога
описывает широкую дугу по восточной стороне хребта Селассии;
другая кратчайшая, но более трудная дорога поднимается между
тем же хребтом и Эвасом, достигает вершины и, перевалив через §
нее, спускается мимо высоких скал Селассии на западе к Эвроту109. ш
В этой позиции Клеомен решился ожидать нападения. Он ве- 3
лел периекам и союзникам110 под начальством своего брата Эвк- |"8
лида занять Эвас, сам же, составив со спартанцами и наемниками
правое крыло, расположился на Олимпе. Обе позиции прикры-
вались валом и рвом. Внизу на равнине по обе стороны дороги
разместил он всадников с легковооруженным отрядом наемни-
ков. Подступив, Антигон счел позицию чересчур крепкою и гроз-
ною, так что не отважился тотчас же атаковать спартанцев. Он
расположился напротив неприятеля, прикрывшись Горгилом, не-
сколько дней наблюдал за противником и ближе знакомился со
своими собственными боевыми силами, состоявшими почти напо-
ловину из союзных отрядов. Неприятель нигде не обнаруживал
ни слабой стороны, ни небрежного отношения к службе. Анти-
гон решился наконец на атаку. Он, конечно, не мог иметь в виду
прорвать центр неприятельской линии, так как этот центр край-
не сильно прикрывался с обеих гор; ему, напротив, надлежало
взять с бою ту или другую из высот и одновременно угрожать
всей неприятельской позиции. Он разместил на своем правом
фланге против Эваса перемежающимися купами пельтастов и ил-
лирийцев, потом акарнанцев и эпирцев, а позади этой атакующей
массы 2000 ахейцев; против неприятельского центра он выставил
гз"
Я
320
I всю конницу, 1000 ахейцев и столько же мегалопольцев; главное
| же войско, наконец, 15 000 македонян, наемников, легкоовоору-
женные отряды сам царь повел на Олимп, обращенные к Энонту
скаты которого представляли достаточный простор для атаки111.
В ночь накануне битвы уже иллирийцы на правом македон-
ском фланге заняли Горгил и подошву Эваса. Им же и коннице
велено было идти следующим утром в атаку по данному Антиго-
ном сигналу, значит, со стороны Олимпа. Как только подан был
знак иллирийцам и всему правому флангу, то они стали взбирать-
ся на гору. Эвклид оставался на высоте; увидев, что атакующие
далеко отошли от союзных резервов, легковооруженные воины
в центре ударили им во фланг и в тыл; если бы занимавший Эвас
отряд спустился сверху, то бой в этом месте был бы решен. Ма-
кедонскому центру не был еще дан сигнал для нападения; одна-
ко Филопемен догадался, что настал роковой миг; он побуждал
военачальников двинуться вперед; когда же они отказались, то
он на свой страх во главе союзных всадников ринулся на ослаб-
ленный сказанным движением влево центр спартанцев. Разгорев-
шийся в этом месте бой принудил легковооруженных воинов
вернуться с Эваса в покинутую ими позицию. Обеспеченные, та-
ким образом, с тыла иллирийцы и пельтасты стали проникать
далее. Эвклид поджидал их наверху, рассчитывая опрокинуть там
j нападающих и истребить их совершенно, тем более что по всему
Й скату горы им нельзя было ожидать защиты. Однако, достигнув
ь высот, иллирийцы стремительным натиском оттиснули самих
2 спартанцев; покинув окопы, Эвклид утратил свою превосходную
i позицию, его самого все сильней и сильней теснили оттуда, на-
конец совсем опрокинули и погнали вниз по скатам: левый фланг
- 1 спартанцев был уничтожен, сам Эвклид пал. В центре все еще
кипел ожесточенный бой; Филопемен и союзные всадники би-
лись там изо всех сил. На Олимпе до сих пор вступили в бой одни
только легковооруженные отряды и наемники, около 5000 чело-
век с той и другой стороны; на виду у обоих царей они бились с
крайним напряжением. Клеомен увидел, что брат его был сбро-
шен с Эваса, что центр его с трудом сопротивляется, а неприя-
тель того и гляди обойдет его позицию и атакует одновременно
со всех сторон; потому он и решился, рискнув всем, атаковать
врага. Он открыл свои окопы и выдвинул ряды тяжеловооружен-
ных воинов, а легковооруженные отряды сигналами были ото-
званы из боя; скат Олимпа был теперь очищен, и фаланги могли
на нем вступить в бой. Их мощный натиск начался при громких
боевых кликах с той и другой стороны. Македоняне то отступа-
ют перед бурным напором спартанцев, то сами напирают на непри-
ятеля всею тяжестью своей двойной фаланги. Наконец Антигон
направляет решительный удар; вся масса его тяжеловооруженных
воинов столпилась в одно сплошное каре, во фронте 300 человек,
впереди торчат сариссы первых пяти рядов, а копья задних лежат
на плечах передовых воинов; и эта масса всею тяжестью 10 000
человек бурным натиском ударила по рядам неприятеля; враг не
выдержал удара: битва была проиграна112.
Так повествует Полибий; Филарх утверждал, будто Эвас был
обойден и взят изменою; однако незачем прибегать к таким
объяснениям по поводу поражения на Эвасе. Эта позиция была
не в пример сильнейшая, и неприятелю никогда не удалось бы
одолеть ее, если бы Эвклид не держался чересчур робко данного
вообще приказания не покидать оборонительного положения.
Считая Олимп наиболее трудной позицией, Клеомен собрал под
своей командой самые значительные боевые силы; там и следо-
вало ожидать решительной атаки, тем более что неприятель там
же сосредоточил свои главные войска. Окопы, какими Клеомен
оградил свои ряды, вполне обеспечили решительный отпор; в
случае даже неудачи Клеомен мог бы еще отступить на хребет,
через который перевалила дорога из долины, лишь бы брат его
отстоял Эвас; там, опираясь левым флангом на Эвас, а правым на
Селассию, он мог бы еще раз оказать сопротивление неприяте-
лю в такой же крепкой позиции. Потому-то Антигон и атаковал
сперва названную гору; если бы эта атака не удалась, то он сам
не отважился бы более нападать на Клеомена, а напротив, мо-
жет быть, совсем покинул бы эти затруднительные ущелья и по-
пытался бы иными путями напасть на врага или утомить его.
Однако когда благодаря единственно отважной атаке Филопе-
мена Эвклид был разбит, то все было потеряно. Клеомена пори-
цали за то, что после того как брат его пал, он не ограничился
обороною, не отступил: и то и другое оказалось уже невозмож-
ным; дорога в Спарту была уже во власти неприятеля; Клеомену
некуда было более отступать. Точно так же не мог он допустить,
чтобы враг напал на его окопы; он подвергался опасности быть
обойденным. Неужели ему ждать, пока его не осадили на этой
скале, где не было ни достаточного продовольствия, ни надежды
на выручку? Ему ничего более не оставалось, как предпринять от-
чаянную атаку и кинуться на превосходные силы неприятеля; если
бы это удалось, то он мог бы отрезать правый победоносный фланг
неприятеля и таким путем добиться победы. Но и в этом даже слу-
чае он воспользовался лишь бы кратковременным успехом; ведь
Лакония напрягла уже свои последние, крайние усилия, тогда как
неприятелю предстояли все свежие вспомогательные средства как
войсками, так и деньгами. Антигон, в крайнем случае, отступил
бы в Тегею и вскоре затем с новыми войсками возобновил бы борь-
бу с остатками спартанской армии113.
После битвы обнаружилось совершенное истощение Спар-
ты. Авторы преувеличивают, конечно, сообщая, будто из 6000
спартанцев уцелело только 200, а из всего войска лишь 4000 че-
11 История эллинизма
ловек114. В Спарте после поражения, может быть, и обнаружи-
лось твердое и готовое на дальнейшие усилия настроение, какое
восторженно изобразил Филарх115; когда, однако, Клеомен, спа-
саясь бегством, в сопровождении нескольких всадников прибыл
в Спарту, то стал увещевать граждан без дальних околичностей
подчиниться Антигону. Не поев и не выпив ничего, не присев,
лишь на миг прислонившись к колонне, чтобы отдохнуть и собрать-
ся с силами, он в сопровождении нескольких друзей поспешил в
Гифий, где давно уже приготовлены были корабли для бегства.
Клеомен, как видно, вполне сознавал свое отчаянное положение.
И действительно, с той поры, как одна из греческих партий при-
звала македонян в Пелопоннес, когда он не мог уже надеяться
быть представителем греческой свободы, то вынужден был при-
бегнуть к египетским субсидиям; а когда Египет покинул его, то
ему ничего более не оставалось, как отстоять до последней край-
ности честь свою и Спарты. Сам Полибий не преминул указать на
то, что несколько дней спустя после битвы до Антигона дошла весть
о вторжении иллирийцев в Македонию и что Клеомену стоило бы
только на эти несколько дней промешкать битвою или остаться
в Лаконии, и его царство было бы спасено, все приняло бы иной
оборот116. Такое мнение оказывается крайне несостоятельным;
Клеомен был окончательно побежден не только в тактическом и
к I стратегическом, но также в политическом отношении. Ввиду той
£ настойчивости и осмотрительности, какую всегда проявлял маке-
ь донский царь, можно с уверенностью подтвердить, что никакое
2 нашествие иллирийцев не побудило бы его отказаться от предпри-
i ятий, которыми окончательно решалась участь Греции, тем более
что он вполне был уверен в успехе, если бы даже битва приняла
щ? иной оборот. Иллирийское нашествие, в крайнем случае, могло
подвергнуть сильному опустошению македонские области; одна-
ко было бы безрассудно из-за этого отказаться от достижения
великой и для политического положения Македонии решитель-
ной цели, какой давно уже добивалась эта держава.
После битвы Антигон отправился в Спарту; город сдался по
первому приступу. Достоверно то, что царь обошелся с ним уме-
ренно и осторожно; тут не было ни грабежа, ни разрушений, ни
иных насилий: он вел-де войну с Клеоменом, а не со Спартою; он
одинаково гордится славою быть единственным спасителем
Спарты, так же как единственным ее победителем; он пощадит
землю страны и дома города, так как не осталось более людей,
которым он мог бы оказать пощаду117: все это были, конечно, за-
явления тогдашнего дипломатического языка. Сущность состо-
яла в том, что он восстановил спартанскую конституцию или, как
некоторые выражаются, что он освободил Спарту118. Иначе го-
воря, он отменил основанное Клеоменом военное владычество,
ввел вновь олигархию в том виде, как она существовала до Клео-
323
меновой реформы. Прежде всего вернулись изгнанные олигархи
в числе восьмидесяти человек, а вместе с тем возникли требова-
ния восстановить прежние владения; поводом к этому могла,
конечно, служить понесенная городом ужасная утрата людьми.
Не подлежит сомнению, что олигархи восстановили эфорат, ве-
роятно, также и герусию119; патрономы, также топографические
разделения области остались, кажется, в прежнем виде. Вслед-
ствие бегства и, как надо полагать, произнесенного впоследствии
осуждения Клеомена, вследствие смерти его брата и царя царское
достоинство было упразднено; его не восстанавливали более,
вероятно, по именному указу Антигона; и действительно, Спарта
поступила во всеобщую эллинскую симмахию120, которую Маке-
дония утвердила два года тому назад, и царь назначил беотянина
Брахилла македонским эпистатом в городе121. По всему видно, что
одна только восстановленная олигархия и могла торжественно
признать царя освободителем и спасителем Спарты122.
Получив здесь известие об иллирийском нашествии, Анти-
гон после трехдневного пребывания в городе вернулся в Тегею;
в ней он также восстановил прежнюю конституцию и вывел от-
туда свой гарнизон. Разрушенный Мегалополь предполагалось
выстроить заново; царь поручил высокоуважаемому перипате-
тику Пританиду восстановить законодательство в городе123; вско-
ре, однако, возникли затруднения и распри, в особенности по
поводу составленного Пританидом законодательства и разверст- I §
ки земельной собственности. Знаменательно то, что Филопемен, ш
которому царь по собственному сознанию одолжен был победою g
при Селассии, отказался от его предложения отправиться вместе |~8
с ним в Македонию и, обманувшись в своей надежде на эллинскую
свободу, уехал на Крит124. Завоеванный Антигоном Орхомен не
был восстановлен, а остался во власти македонян125; Мантинея,
или, как прозывалась она теперь, Антигония была во власти Ар-
госа; царь поручил Таврию126 блюсти македонские интересы в
Пелопоннесе. Антигон отпраздновал Немейские игры в Аргосе;
Ахейский союз и разные города оказывали ему здесь самые не-
воздержные знаки уважения и благодарности; все наперерыв спе-
шили выразить ему всякие человеческие и божеские почести.
Потом царь форсированными маршами пошел в Македонию;
он отправил в Пелопоннес своего племянника Филиппа, с тем что-
бы этот будущий наследник престола ознакомился с тамошними
союзниками; он поручил ему сблизиться в особенности с Аратом.
Затем сам царь отправился изгонять из своих пределов врагов. Он
застал еще иллирийцев в крае127. Заболев уже, Антигон атаковал
их и разбил совершенно. Это был его последний подвиг. От на-
пряжения в бою, от раздаваемых им громким голосом приказов
во время битвы у него сделалось сильное кровотечение; вскоре
после этой победы он умер128,
и*
5'
20
До этих пор, т. е. до 115-й олимпиады129, имел я в виду про-
следить македоно-греческую историю и развитие системы элли-
нистических государств вообще; впоследствии прибавлю только
еще несколько слов о Клеомене. Мне остается теперь изложить
в общих чертах положение дел в эту эпоху.
Начнем с Македонии и Греции. Счастье царя александризу-
ет, как сказал ему один из льстецов в Спарте. И в самом деле,
Антигон, «Обешатель», как прозвали его130, пользовался в Гре-
ции и в отношении к ней положением, какого не достигал ни один
македонский царь со времен Александра, ни даже сам Александр.
Мы признали уже несомненным фактом то, что после ужасных
сумятиц диадоховской эпохи, после нашествий кельтов и завое-
ваний Пирра Македония как бы вновь была основана Антигоном
Гонатом и преобразовалась в державу в духе эллинистической
эпохи. Воспоминания о славном прошедшем времени, размеры и
политическое положение страны предназначили Македонию
стать великой державой в системе эллинистических государств;
но она могла поддержать такое преобладающее положение лишь
в том случае, когда сама владычествовала в Греции. До сих пор
ей то и дело препятствовало в этом вмешательство Лагидов; вся-
кая оппозиция против Македонии поддерживалась в Александ-
рии. Теперь, однако, перед взором дальновидного наблюдателя
начала обнаруживаться новая, более грозная опасность. И дей-
ствительно, Рим утвердился уже по сю сторону Адриатического
моря, обладал даже местами нападения по берегу от Иссы до
Керкиры. Столкновение с римскою политикою было неизбеж-
но; а потому македонское владычество должно было настойчиво
стремиться к тому, чтобы по возможности крепче привязать к
себе всякие находившиеся в его распоряжении боевые средства
и подавлять оппозицию, в какой бы форме ни проявлялась она.
Лишь при возможно полном объединении Греции и при содей-
ствии находившейся по сю сторону греческой нации могла Ма-
кедония предупредить наступавшую грозную опасность131.
Но как объединить раздробленный греческий мир? Это мог-
ло сделаться разве вследствие его немощи и по мере ее; а теперь
наступало как раз такое время, когда спасти могли одни только
крепкие и прочно объединенные силы. Для Греции было бы счас-
тьем, если бы еще Филиппу и Александру удалось слить ее вполне
в одно государство с Македонией. Правда, Демосфен называл
Филиппа и его македонян варварами, подобно тому как народ
Фридриха Великого в мелких немецких государствах не призна-
ется немецкой нацией, оттого что большая часть его племен не-
сколько веков тому назад променяла вендские нравы и язык на
немецкие и сделалась с тех пор наиболее ревностным их побор-
ником. Подобно тому как раздробленная Германия находилась
между Францией и Россией, точно так же при Антигоне и раз-
325
дробленная Греция была между Египтом и Римом; и Антигон
чаял, что Греции грозит та же опасность, от которой отчизна
немцев не избавится, до тех пор пока не перейдет от «интерна-
ционального» лишь единства к действительно национальному.
Чрезвычайно обильные плоды, какими благодаря этой раз-
дробленности пользовалась интеллектуальная жизнь как в Греции,
так и в Германии, могут служить, конечно, некоторым вознаграж-
дением за политические невзгоды; немцы, правда, утешаются еще
надеждою, что творческие создания ума послужат несокрушимою
опорою против сказанных невзгод, как бы убежищем для общих
идеальных достояний немецкой нации; у Греции тоже было по-
добное убежище, изобиловавшее сокровищами искусств и наук;
оно соблюдалось со справедливою гордостью, развивалось с ра-
зумным трудолюбием; но и оно не спасло Греции! И точно, что
сталось с нею впоследствии? Рим поглотил уже греческую Ита-
лию и Сицилию, эти как бы прибалтийские области Греции; вско-
ре затем он раздавил также старую военную славу Македонии и
немощную разрозненную свободу греков; перевез в грубых тор-
жественных процессиях награбленные сокровища из эллинских
городов к берегам Тибра, украсился колоннами их храмов, стату-
ями их богов; усвоил себе лоск их образования, этого благород-
нейшего достояния благороднейшего народа, и с этих пор лучшим
из его людей суждено было завидное призвание служить вольно-
отпущенниками, наставниками, библиотекарями, компаньонами §
в домах гордых оптиматов, с тем чтобы эстетическими и литера- ш
турными беседами услаждать их пресыщенный досуг от государ- 3
ственных дел или снабжать старцев и юношей кой-какими годными Г8
для светской болтовни популярными знаниями.
Вследствие Клеоменовой войны Антигон добился, правда,
объединения Греции, насколько то было возможно по обстоя-
тельствам. Филипп и Александр пытались уже основать «гречес-
кий союз», с тем чтобы он во время азиатской кампании служил
порукою спокойствия^ родном крае. С тех пор умственная жизнь
в Греции подвергалась существенным изменениям: разного рода
идеи о конституции вновь возбудили общественный интерес; к
остаткам прежних исторических состояний присоединились от-
крытые и предлагаемые наукою начала, принципы новых преоб-
разований; и по мере того, как фактические условия, материальные
основы, вера, обычаи и привычки, с одной стороны, а те всеоб-
щие принципы и стремления — с другой создавали присущий им
неисправимый разлад, по мере того ощущалась необходимость
установить новые политические и юридические основы. Этот воз-
бужденный вопросом о государственных учреждениях высокий
интерес был самым замечательным проявлением греческого духа
в ту эпоху; однако если конституция не служит более живым вы-
ражением того, что есть, а заявляет лишь о том, что должно быть,
ь'
»
если она оказывается не прямо результатом общественной жиз-
ни, а лишь постулатом для дальнейшего ее развития, то ни одна
государственная форма не удовлетворит уже всем требованиям
и интересам, ни одна не приведет к законченному и спокойному
состоянию; напротив, каждая из этих форм, служа лишь посред-
ствующим звеном, действуя как бы по диагонали составных сил,
чем далее, тем все более удаляется от точки ее исхода и вместе с тем
от источников ее энергии, от импульсов ее деятельности. В таком
случае возникают беспутные колебания в общественной жизни, и
лишенные сильного представительства национального единства
вовне они открывают доступ величайшим опасностям; в таком
случае материальные интересы, с одной стороны, и прогрессивные
идеи — с другой выступают в роковом соревновании на первый
план, и, то соединяясь отчасти вместе, то в борьбе друг против
друга, они постоянно стремятся разложить все существующее
на его искусственно соединенные элементы. Энергическое возрож-
дение окажется возможным лишь тогда, когда с той или другой
стороны дела дойдут до крайности; если оно не удастся, то част-
ные интересы и теория, обвившись вокруг засохшего уже ство-
ла, будут еще прозябать до поры до времени, пока, наконец, при
первом толчке они не ниспадут и не погибнут вместе с прогнив-
шим пнем.
Вот в каких всеобщих чертах представляется греческий мир
в эту и в наступившую затем эпоху. Так, между прочим, Афины в
Хремонидову войну напрягли свои крайние силы; точно так же
давно уже погибли и Беотия, и Фессалия, а короткая и блестя-
щая история эпирцев хотя и завершилась освобождением, но у
них не достало сил для дальнейших преобразований. Какие вы-
сокие надежды возбудил Ахейский союз; однако несмотря на
ревностные, восторженные усилия либеральных деятелей, он не
мог развиться далее первоначальных форм, уступал один город
за другим Клеомену, который пытался утвердить владычество,
отвечавшее, так сказать, современным теоретическим идеям и вме-
сте с тем формам славной минувшей эпохи. А он, в свою очередь,
также утратил все, оттого что добивался одной лишь гегемонии
Спарты, и не распространял созданные им в ней постановления,
лишившись вследствие этого поддержки тех сил, которые с таким
успехом возбудил в родном крае. Всеми инстинктивно сознава-
лось, что существовало стремление к коллективным образовани-
ям. Сила ахейцев заключалась в соединении политий на основе
равноправности, а слабость Спарты — в том, что она старое по-
нятие о гегемонии хотела перенести в новые преобразования.
Точно так же и Антигон создал новую форму конфедерации,
которая на том же основании, как и в Германии, могла называться
союзным государством и также заявить про себя, «что имеет це-
лью поддержать внутреннюю и внешнюю безопасность, незави-
симость и неприкосновенность отдельных держав». Царь водво-
рил союзный мир, восстановил спокойное состояние, исполнившее
в особенности пелопоннесцев радостью и удивлением к велико-
душному монарху; все мечтали уже о счастливой будущности,
распустили войска, убрали оружие, обратились к торговле, про-
мыслам, земледелию; всем от полноты души хотелось наслаж-
даться прочным миром.
Внезапная смерть Антигона и наступившие вслед за тем но-
вые осложнения не дали вполне развиться предначертанной им
форме правления; однако заложенный им в основе принцип со-
юза обнаружился в последовавших затем событиях. Его система
отличалась от прежнего синедриона в Коринфе главным образом
тем, что этот союз был заключен собственно не с Македонией и не
под гнетом ее, что она не присвоила себе гегемонии, а напротив,
Македония сама в качестве союзной державы и формально на
основании равноправности, точно так же как и самая мелкая из
областей, вошла в состав самодержавных государств, Фессалия
признавалась особенным союзным членом, также и Спарта, хотя
в первой правил македонский царь, а в последней его эпистат. За-
тем присоединились союзы ахейцев, эпирцев, акарнанцев, беотян,
фокейцев. Мессения также просила принять ее. Хотя никто не
сообщает об этом, но само собою разумеется, что Аргос с пре-
жней Мантинеей, также Тегея, Эпидавр и другие мелкие, не при-
надлежавшие более ахейцам города тоже вступили в союз; обладая
Акрокоринфом и Орхоменом, Македония принимала в них доволь-
но сильное участие и была, вероятно, представительницей обяза-
тельной для всех обороны. Не доставало только Афин, этолян и
связанных с ними элейцев: впрочем, Афины не пользовались уже
никаким значением, а этоляне до поры до времени обуздывались
разумною политикою Антигона. Вероятно, он имел уже в виду
привлечь их также добром или силою, и его преемник, хотя не со-
всем удачно, преследовал этот план. Вот из-за чего вспыхнула впо-
следствии союзническая война, и в то самое время, когда юный
победитель при Тразимене все сильнее и сильнее стеснял Рим, эта
война завершилась всеобщим миром между союзными государ-
ствами и этолянами. Соединиться на великую борьбу против
Рима — вот что было сознательною целью этого мира132.
Обратимся к Египту. Я не стану излагать исход египетской
политики, начиная с Лагида II; при Лагиде III она дошла до сво-
его апогея. Полибий заявляет, что уверенные в своей вполне
устроенной и цветущей нильской стране, цари с весьма разум-
ною ревностью вели иностранную политику; владея Кипром и Ке-
лесирией — он мог бы прибавить сверх того устье Оронта — они
угрожали Сирии и с суши, и с моря; подчинив своей власти зна-
чительнейшие города, области, гавани в Памфилии до Геллес-
понта и Лисимахии, они господствовали над династами Малой
Азии и над островами; обладая Лисимахией, Эносом, Маронеей
и другими городами по фракийскому берегу, они наблюдали за
Фракией и Македонией; таким образом, они «далеко простерли
свои руки»; эти владения их были, словно «далеко выдвинутые
наружу укрепления »ш. Вместе с тем сказывается, однако, что за-
одно с расширением их непосредственного владычества все труд-
нее становилось защищать его. Полибий не обратил внимания
на то, что за последнее десятилетие Птолемея Эвергета влады-
честву Лагидов пришлось уже поплатиться за несообразность его
растянутости и естественного положения. Для того чтобы сдержи-
вать Селевкида, Египет должен был споспешествовать владычеству
пергамского царя, допустить, чтобы он присвоил себе греческие
города от Кайстра и до Геллеспонта; он не мог помешать Анти-
гону овладеть Карией. Благодаря победам Ахея весь западный
берег Малой Азии за исключением Эфеса вновь перешел во власть
Селевкидов, и атакованный ими в Келесирии Птолемей искупил,
как мы пытались доказать, ценою своего последнего влияния в
Греции обладание Карией, без чего ему нельзя было бы удержать
долее ни Ликию, ни Памфилию.
Очевидно, что Египет благодаря лишь настойчивым и гро-
мадным напряжениям сухопутных и морских сил мог бы еще под-
держать свое обременительное и эксцентрическое владычество;
но Птолемей Эвергет чем дальше, тем все более давал приходить
в упадок и флоту и армии, надеясь заменить их дипломатически-
ми средствами, тогда как эти средства можно было поддержать
лишь боевыми силами. Все сильнее и сильнее овладевавшее египет-
ским владычеством изнеможение следует приписать характеру
самого царя; и в самом деле, нигде государство не отождествля-
лось с личностью монарха до такой степени, как в Египте при
Птолемеях Сотере и Филадельфе. Во время Клеоменовой войны
обе соперницы Египта — Македония и Сирия — добились как раз
новых успехов и притом в ущерб Египту; если престарелый царь
не совсем лишился разума, то должен был постичь, что пора со-
браться с силами и противостоять властолюбивым врагам.
Он и сделал это; доказательством чему служат события в
Александрии после битвы при Селассии. Клеомен прибыл после
нее в Египет; окончательно побежденный, но сильный духом, он
помышлял лишь о том, как бы вновь начать борьбу с Антигоном.
Сначала египетский царь почти равнодушно принял его; потом,
однако, величие, сила воли, отважные замыслы Клеомена поне-
воле внушили к нему уважение царя: он всячески стал отличать
спартанца и его спутников, с сочувствием отнесся к его планам.
Решено было, чтобы Клеомен с сильным войском вернулся в Гре-
цию и открыл войну против Антигона. Не подлежит сомнению,
что александрийский двор вступил в переговоры с Ахеем; если
бы удалось привлечь его, то Сирия вновь подверглась бы опас-
ности с самой чувствительной стороны. Нападение Антиоха на
Келесирию не удалось, на Тигре усиливался мятеж Египта. Дей-
ствительно, Птолемей мог еще льстить себя надеждами открыть
такую же блестящую кампанию, какую совершил он в молодые
годы, когда вырвался из объятий своей смелой Береники и от-
правился в Ассирию.
Он, однако, умер еще до наступления осени того же года134;
престол перешел к его старшему сыну Птолемею, прозванному
Филопатором. Он больше всего опасался приверженности наем-
ников к своему брату Магу и энергического нрава своей матери
Береники; надо предполагать поэтому, что он провел молодость
в том изощренном, необузданном разврате, какой процветал в
Александрии сильнее чем где-либо. Его прельщало не тупоум-
ное животное сладострастие, как оказывается на самом деле: он
сочинил трагедию «Адонио», и Агафокл, который впоследствии
вместе со своей сестрой, помпадуршею александрийского дво-
ра, достиг величайшего влияния, написал комментарий к этому
поэтическому произведению135. Пристрастившись к беллетрис-
тике, царь соорудил блестящий храм Гомера, украсил его стату-
ями городов, которые приписывали себе славу быть родиною
поэта136; старался привлечь к своему двору стоика Клеанфа, и
присланный им Сфер был принят самым благосклонным обра-
зом137. Этот Сфер в качестве стоика сказал однажды, что мудрец
есть царь. «Так Птолемей поэтому не царь»,— возразили ему.
Он ответил: «Птолемей мудр, а потому он и царь»138. Вот в какой
сфере вообще вращался Филопатор: ему хотелось вполне насла-
диться всеми удовольствиями жизни, как интеллектуальными,
так и материальными. Кутежи веселых сотоварищей (уеХоаотш)
представляют лишь отдельную черту в крайне пышной жизни
царя и его двора139. С какой стати было ему заниматься важными
и скучными делами? Он предоставил их своим добрым друзьям
Сосибию и Агафоклу, которые заботились о том, чтобы ничто
не мешало молодому царю веселиться. Они опасались матери;
вдова, упрекнувшая некогда своего мужа за легковерную под-
пись на смертном приговоре, не могла равнодушно смотреть на
беспутную жизнь своего сына и на возраставшую власть его на-
персников; она основала свой план на привязанности наемников
к ее другому сыну. Сосибий сознавал грозившую ему опасность;
необходимо было устранить ее; однако Маг был уверен в своих
войсках. Тогда Сосибий обратился к Клеомену; он посулил сна-
рядить его в самом блестящем виде для возвращения на родину,
если он окажет ему пособие. Клеомен отказался; пока, однако,
жив Маг, возразил Сосибий, до тех пор нельзя положиться на
наемников. Клеомен ручался за них: между ними были 3000 пело-
поннесцев и 1000 критян; этим он во всяком случае мог распола-
гать. Таким образом, Клеомен все-таки служил как бы поддержкою.
Маг и Береника были убиты; дядя царя Лисимах также лишен
был жизни по приказу Сосибия140.
В это время пришла весть о смерти Антигона, о новых вол-
нениях в Греции; Македонией управлял царь, едва вышедший из
детского возраста; из Спарты настойчиво приглашали Клеомена
вернуться восвояси. В нем с новою силою пробудились надеж-
ды, он только и думал о своей родине. Когда на пиру прочли пре-
красную поэму и спросили его мнение, то он сказал: «Спросите
других, мои мысли обращены теперь к Спарте»141. Он пытался
склонить на свою сторону царя и придворных особ, убеждая их,
что время благоприятствует великим выгодным предприятиям;
он просил, чтобы ему дали войска, а потом — чтобы ему разреши-
ли, по крайней мере, вернуться с его прислугою. Какое дело до
всего этого было царю? Он предоставил решить вопрос Сосибию,
который обратился за советом к синедриону. Там было решено:
так как со смертью Антигона устранилась всякая опасность в
Греции, то теперь менее чем когда-либо следует тратиться на во-
оружения; мало того, даже опасно содействовать такому смело-
му и уважаемому поборнику в предприятии, следствием которого
может быть лишь то, что для Египта возникнет в Греции новый
соперник, который гораздо опаснее, чем когда-либо были маке-
донские цари, и еще тем более что Клеомен успел слишком близ-
ко ознакомиться с положением двора и государства. А с другой
стороны, отпустить его просто было бы делом еще более риско-
ванным, оттого что неминуемые его успехи дадут ему возмож-
ность отомстить за сделанный ему отказ; задержать его силою —
вот единственно возможный исход. Однако против этого тут же
все восстали: можно ли льва оставить в овчарне? Сам Сосибий
напомнил о намеке Клеомена по поводу его отношений к наем-
никам; не оставалось ничего более, как арестовать опасного че-
ловека, пока он не успел еще улизнуть, и обращаться с ним как с
пленником.
Поводом к тому послужило сказанное Клеоменом неосто-
рожное слово. Мессенец Никагор прибыл в Александрию; Клео-
мен давно уже знал его: этот Никагор вел переговоры по поводу
возвращения Архидама в Спарту, он был свидетелем его убий-
ства и считал Клеомена виновником этого убийства142, Клеомен
расхаживал с Пантеем и Гиппотою по берегу в то время, как Ни-
кагор пристал в гавани. Царь приветствовал мессенца и спросил,
что он привез. «Лошадей в продажу», отвечал Никагор. «Тебе
бы лучше привезти мальчиков и лютнисток», возразил Клеомен,
«об этом только и хлопочет царь». Никагор засмеялся на это.
Несколько дней спустя после того он вошел в сношение с Соси-
бием и, познакомившись с ним ближе, передал ему слова спар-
танца. После этого его осыпали подарками и милостями, почтили
доверием и уговорились с ним, чтобы он при своем отъезде оста-
331
вил Сосибию письмо, в котором извещалось бы, что Клеомен, если
ему не дадут средств возвратиться на родину, как он того требу-
ет, намеревается возбудить мятеж. Этот донос Сосибий передал
царю и синедриону; они убедились, что необходимо принять меры
предосторожности; решено было арестовать Клеомена; для даль-
нейшего пребывания ему назначен был дворец, снабженный до-
статочною стражею. Лев почуял, что он находится в клетке; теперь
лишился он всякой надежды; для того чтобы рискнуть еще раз
всем, лишь бы не запятнать славы знаменитой жизни египетским
позором, Клеомен решился на отчаянное предприятие.
Царь уехал в Каноп. Во дворце распространился слух, что на
днях выйдет приказ о снятии ареста. В таком случае двор присы-
лал обыкновенно государственному преступнику обед и подарки.
Прибывшие с Клеоменом спартанцы позаботились о доставке все-
го этого, и сторожа ничего не подозревали; им роздано было мно-
го вина и кушанья. Когда они около полудня опьянели, то Клеомен
и его друзья, — их было числом тринадцать, — вышли вон; все они
были вооружены кинжалами. Первый, воспротивившийся им, Пто-
лемей, сын Хрисерма, был убит; на улице встретился им началь-
ник города Птолемей в своей колеснице, окруженный слугами и
копьеносцами; конвойных тут же разогнали, а Птолемея сорвали
с колесницы и бросили на улице. С криком «Свобода!» спартанцы
прошли по городу; народ удивлялся, никто не присоединился к I zp
смельчакам. Они направились к акрополю с целью открыть тамош- | S
ние тюрьмы; однако ворота были уже достаточно ограждены, и
натиск был отражен. Что тут было делать? Спастись не было уже I 3
возможности; неужели спартанцам умереть от руки палача? Они |"S
решились сами лишить себя жизни; только юного Пантея упро-
сил царь умереть после всех; перед смертью ему хотелось еще раз *!$*
взглянуть на любимца. Спартанцы, один за другим, спокойно и
твердо вонзили кинжал в свою грудь; потом Пантей оказал послед-
нюю услугу друзьям; он стал прикасаться к каждому из них своим
кинжалом, с тем что6& убедиться в их смерти; Клеомен еще раз
дрогнул под кинжалом друга, затем угас. Пантей облобызал труп
своего царя и пронзил себя возле него. Царь Птолемей и его со-
ветники узнали о случившемся; мать и дети Клеомена были еще
живы, на них надлежало все выместить. Царь велел казнить их и
всех жен спартанцев. В числе их находилась прекрасная вдова
Пантея; она вышла за него незадолго до злополучного сражения;
а потом во что бы то ни стало хотела бежать вместе с мужем; ро-
дители насильно задержали ее до тех пор, пока он не удалился;
однако ночью она бежала, поспешила к Тенару и с первым отхо-
дившим судном переехала в Александрию. Теперь она рука об руку
с поседевшею Кратесиклеей шла на смерть. Об одном лишь проси-
ла мать Клеомена, чтобы ее убили прежде детей; палачи отказали
ей в этой последней просьбе; она видела, как умирали ее дети, за-
тем и ее так же, как и других жен поразил смертельный удар; по-
следнею была вдова Пантея; засучив рукава, она убрала трупы
детей и женщин, потом, поправив свое платье, твердым взглядом
встретила удар палача143.
Все это достаточно характеризует египетское правительство
при Птолемее Филопаторе. Государство, которое основали Ла-
гиды I — III с величайшею осмотрительностью и развивали за-
тем с чрезвычайным благоразумием, находилось теперь во власти
малодушных, бесчестных и слабых людей; притом как раз в такое
время, когда Македония сильнее чем когда-либо владычествовала
в Элладе, — когда в Сирии в лице Антиоха III явился молодой,
смелый и счастливый царь, добивавшийся вновь могущества сво-
их предков, — когда вследствие возникшей борьбы Карфагена
с Римом, вследствие запылавшей войны Рима с Македонией алек-
сандрийскому двору предстояло занять чрезвычайно важную
роль, если бы государством управляли не метрессы и фавориты,
не коварство и козни. Вскоре обнаружилось влияние, какое это
распутное правительство оказало на внутреннее состояние края.
Мы упомянули уже о том, что Селевкидово владычество, пре-
терпев чрезвычайные бедствия в последние три десятилетия, под-
нялось теперь вновь быстро и смело. Правда, как старые, так и
вновь основанные греческие политии внутри государства не дава-
ли прочно сосредоточиться власти, какою трое первых Лагидов
пользовались с величайшим успехом; зато эти политии удержали
за собой самостоятельный дух и присущую им живучесть, уцелев-
шую даже тогда, когда колебались и рушились основы государства,
готовую оказать помощь всякий раз, когда держава начинала
оправляться вновь. Правда, Селевкидово царство после смерти
своего основателя понесло одну утрату за другою, тогда как Еги-
пет расширялся самым блестящим образом; однако это расшире-
ние ослабляло государство, оттого что правительственный обиход
его нигде не мог приурочиться помимо одного только Египта; а
Сирия между тем окрепла благодаря отчасти именно своим утра-
там. Правда, вследствие случайного стечения благоприятных
условий оказалось возможным соединить вместе земли от Гел-
леспонта до Инда; однако лишь тогда, когда государство было
сведено к твердо сплоченным областям, пределы которых были
ясно предначертаны естественными условиями, лишь тогда мог-
ло оно приступить к развитию сильного и сосредоточенного вла-
дычества. Я не стану теперь распространяться о слабой стороне
вновь восстановленного Селевкидова царства при Антиохе III;
история не замедлила обнаружить это со всеми последствиями.
В тот момент, как мы прерываем наше изложение, Ахей был пред-
ставителем царской власти в Малой Азии, а сам молодой царь в
борьбе с Молоном был уже готов вновь присоединить к государ-
ству господствующие по ту сторону Тигра и до Инда нагорные
области. Этот государь был исполнен великих замыслов и отваж-
ной энергии, для того чтобы привести их в исполнение. Однако
после блестящих успехов на Востоке силы его изнемогли вслед-
ствие возникших на западе осложнений.
С появлением пергамского царя Аттала обнаружился уже
значительный поворот в развитии системы эллинистических госу-
дарств, тот же поворот, какой по ту сторону моря тщетно пытался
осуществить Клеомен, и какого Родос добивался все настойчивее
по мере того, как ослабевало египетское морское владычество.
Решительное превосходство трех великих держав, которые в те-
чение почти пятидесяти лет одни придавали политике известный
пошиб, в Азии начало уступать место самостоятельной полити-
ке держав второго разряда, как раз в то самое время, когда Ма-
кедонии и эллинскому союзу государств стало угрожать новое,
более опасное соперничество. В Азии Родос и Пергам скоро сде-
лались средоточиями целой группы политических отношений,
которые, не обращая внимания на великие державы, шли все бо-
лее и более своими собственными, зачастую своенравными пу-
тями; вскоре Вифиния, Родос и Византии, Синопа и понтийский
царь начали уже поступать самостоятельно, а Атталы успели
вступить в дружественные сношения с Римом.
Обратим еще внимание на другое обстоятельство. Древние
туземные династии в Малой Азии могли бы, пожалуй, еще под-
держать связь со своими национальностями и оказать противо-
действие новому строю цивилизации; однако в каждой черте их
развития обнаруживалось, что они все более и более подчиня-
лись иноземной эллинской культуре. Мы в состоянии проследить
за несомненными признаками этой эллинизации вплоть до самой
Армении; одно только царство Атропатены, как кажется, ревниво
сохраняло свои особенности. Какие блестящие города настроили
эти азиатские цари! Не одни только Атталы соперничали с Лаги-
дами, покровительствуя искусствам и наукам; государи в Малой
Азии даже сами пристращались к литературной деятельности и
украшали свой венец более невидимою славою научных успехов.
Предоставим будущим изложениям проследить в полной свя-
зи за литературой и наукой этой эпохи; необходимо, однако, и
здесь уже упомянуть о достигнутом в этом отношении развитии,
тем более что сохранившиеся отрывки из истории государств
дают нам весьма неполную, смутную картину и могут, пожалуй,
возбудить представление, будто в эту эпоху непрерывных бес-
путных распрей бесследно погибли всякие иные человеческие
способности и стремления. А все-таки какая блистательная, обшир-
ная, обильная новыми весьма значительными выводами научная
деятельность обнаружилась в это время; как быстро распростра-
нялись эти выводы, вступая в тесную связь с воззрениями и убеж-
дениями современников, отражаясь в самых разнородных оттенках
в повседневном общественном быту и в помыслах толпы. Поло-
жительно можно сказать, что интеллектуальные интересы вооб-
ще никогда еще не были так распространены, так животворны,
никогда не отличались таким важным частным и всеобщим со-
держанием; они стали достоянием всего эллинистического мира;
они, казалось, оживлялись тем сильнее, чем пламеннее то там,
то тут разгоралась борьба, чем тревожнее и изменчивее стано-
вились политика и ее последствия. Обозревая мрачные картины
междоусобий, разрушения городов, кровавого деспотизма, при-
дворной порчи в эту эпоху, не следует забывать более светлые ее
стороны — блеск несметных расцветавших городов, отрадное ве-
ликолепие самых разнородных художественных произведений,
тысячи новых наслаждений, какими украшалась и обогащалась
жизнь, и, между прочим, также те более благородные удовольствия,
какие доставлял возраставший, животворный обмен многосто-
ронней эстетической литературы. И все это распространялось
по обширным областям, которые охватил и связал вместе элли-
низм. Представьте себе толпы дионисских художников и их ве-
селую странствующую жизнь, празднества и игры в старых и
новых греческих городах на дальнем востоке, куда из самых от-
даленных краев стекались боговдохновенные поэты для совмест-
ного торжества. Родственники и земляки встречались всюду до
поселений на берегах Инда и Яксарта; торговец у башни Серов
скупал товары для рынков Путеол и Массилии, а смелый этоля-
нин пускался испытать счастья на берегах Ганга и в Мероэ. Люди
науки изучали дальние края, минувшие века, чудеса природы; они
подвергли рациональному исследованию истекшие тысячелетия,
движения светил, наречия и литературы новых народов, кото-
рых гордая Греция презирала прежде как варваров, на древние
памятники которых она смотрела с удивлением, не постигая их.
Наука в неподвижных светочах звездного неба впервые обрела
мерило для земли, проверила на ней расстояния, привела в строй-
ный вид ее объемистые формы. Она пыталась связать и привести
в порядок незапамятные предания вавилонян, египтян, индийцев,
с тем чтобы, сравнив их между собою, добиться новых выводов.
Все эти разрозненные, частью иссякшие, частью в безбрежном
русле пробиравшиеся по пустыне потоки народного образова-
ния слились в эту эпоху в обширном водоеме эллинистической
цивилизации и науки и сохранились в памяти навсегда144.
В этих блестящих чертах никак нельзя признать мрачной и
печальной картины, какую представляли обыкновенно об элли-
нистической эпохе; но такого рода предубеждение не дает нам
права уклоняться от исследования, и, узнав источник этого пре-
дубеждения, мы уверимся также в его несостоятельности.
Нас по всей справедливости изумляет художественное ве-
личие древней Греции; однако эстетическая и даже педагоги-
ческая точка зрения вытеснила археологию с ее исторической
почвы: вместо того чтобы представить себе классическую эпо-
ху во всех действительных ее проявлениях, мы привыкли созер-
цать ее лишь при ярком свете идеальнейших состояний; доблесть
Софокловых героев, красота совершеннейших божеских обли-
ков — вот какие типы заимствуются для людей, которые, как
мы себе воображаем, населяли древнюю Грецию; к этой «цве-
тущей эпохе человеческого рода » относят все доблестное и пре-
красное, на нее расточают всякие эпитеты истинной и ложной
восторженности; сомнение, трезвый взгляд исследователя счи-
таются при этом профанацией, возбуждают в некотором роде
нравственное негодование; никому не хочется отказаться от
приятных бредней собственной фантазии; при этом упускается
из виду, что таким образом люди не постигают даже того, в чем
состояла настоящая суть этой эпохи, в чем она действительно
достойна удивления, в чем для мыслителя заключается неисся-
каемый источник новых наслаждений, и для каждого возраста-
ющего поколения открывается высший педагогический принцип.
В эту эпоху явились здоровые, цельные и дюжие образы, наде-
ленные живостью и искренностью во взаимных отношениях, ис-
полненные смелой самобытности и уверенности в своих замыслах
и силах. Могучие порывы и обильное подвигами развитие древ-
ней Греции прославляются как «органические» проявления; но
за ними можно признать одну только растительную жизнь; рас-
сматривая поэтому древнюю Грецию с утопической и антиисто-
рической точки зрения, мы никоим образом не постигаем связи
ее с эллинизмом. Когда поблек цвет аттической красоты, то за-
тем, как думают обыкновенно, ничего более и не может после-
довать, как увядание и порча, пора жалкого, отвратительного
растления, смутные, безотрадные века, единственным доблест-
ным свойством которых признается лишь скорбная обязанность
сохранить воспоминания о великой древней эпохе. В таком слу-
чае, конечно, и не стоит простирать исследования далее исхода
«классического» периода; следующие затем непоэтические, трез-
вые, ученые времена едва удостаиваются внимания; и с какой ста-
ти будем мы знакомиться с их образом жизни, с их притязаниями
и трудами?
Мы не намерены приукрасить эпоху эллинизма не подобающи-
ми ей свойствами; она вовсе не способна возбудить такое пристра-
стие, вследствие которого в нашем созерцании присоединилось бы
более глубокое и отрадное увлечение к историческому исследо-
ванию; однако отсутствие симпатии, наброшенная пристрастны-
ми авторами гнусная тень чересчур уже омрачили память об этой
эпохе, об этой наследнице великих достояний, носительнице еще
более великих задач. Ознакомившись с ее сильными сторонами,
мы в состоянии будем понять ее немощи; необходимо признать
все значение первых, для того чтобы отнестись снисходительно
к последним.
Прежде всего, эта эпоха была лишена той здоровой, есте-
ственно сложившейся, органической энергии прежних веков,
которая непосредственно, сама собою одушевляла ход жизни.
В эту эпоху сохранились лишь не вполне еще разложившиеся
остатки прежнего быта, но они не находились уже в живой орга-
нической связи с современной действительностью; их опередили
другие, новые преобразования, обратившие на себя внимание
современников, и энергические усилия передовых людей.
Древние религии как у греков, так и у приставших к элли-
низму наций вообще лишились тихого, задушевного общения с
божеством; там, где они еще не совсем распались и улетучились,
эти религии свелись к догме и внешнему уставу или зачахли в без-
жизненном культе и в искусственных таинствах. Однако появи-
лись уже зародыши нового, более глубокого вожделения, и из
смутного хаоса перепуганных, смешанных влияний исподволь
выяснялась более интимная жизнь пытливой души. Люди чаяли
уже, что человечеству предстоит добиться иной основы для ре-
лигиозной жизни; недаром вся философская деятельность или,
вернее, совокупность тех высших интересов, которым старая по-
ложительная вера не в состоянии была более удовлетворять, по-
рывалась с возраставшею энергией в область этики: осуществить
образ мудреца, этический идеал — вот что с этих пор стало жи-
вым средоточием дальнейших стремлений.
Мы и прежде видели, что то же самое присущее эллинам
стремление к индивидуальному, личному развитию, составлявшее
чрезвычайное преимущество греков перед варварами, начало уже
подрывать эллинскую политию. Пятидесятилетняя революция
прошла из конца в конец по свету; все государственные условия
были порваны и изменены. Везде, куда бы ни проникло гречес-
кое завоевание, даже за пределы его, везде старые порядки или
быстро разрушались, или исподволь разлагались; из развалин,
зачастую с ужасною торопливостью, воздвигались на шатких
основаниях слабо сплоченные новые здания, которые частью опять
находились наполовину в обломках или распадались недостроен-
ные. Эти возникавшие государства нигде уже не слагались из са-
мобытного свойства народа, и там, где национальное начало
пробивалось наружу, оно, казалось, не походило более само на
себя. Мы видели, какие странные новые государственные формы
пыталась таким образом создать Греция. Они почти вовсе не от-
вечали тем идеям, какие думали осуществить, но при всем том ре-
шительно обнаруживали измененный дух времени, из которого
возникли. В них, правда, всего сильнее и сознательнее вырази-
лась новая эпоха, но она иными людьми была иначе истолкована
и превратно изложена; вследствие чего эта эпоха в возрастав-
шем разладе, казалось, истребляла последний остаток здоровой
самобытности, какой сохранился в более консервативных слоях
общества. В одних только обширных монархических державах,
по-видимому, можно было организовать сильный государственный
строй; и чем в культурном отношении ниже стояли покоренные
народы, тем легче подчинялись они нравственному превосходству
новых владетелей, тем смелее и, как казалось, прочнее утвержда-
лась неограниченная правительственная власть, произвольно рас-
поряжаясь материальными средствами подданных. Но это только
казалось так; на самом же деле, под тем же влиянием эпохи не-
ожиданно в разных отдаленных пунктах или в чуждой государству
среде развивались реакции и начинали в скором времени подта-
чивать или разлагать эти обширные монархии.
Мы лучше поймем глубокое значение этих переворотов, если
обратим внимание на некоторые аналогии с тем явлением, какое
в пределах христианского мира обнаружилось хотя и поздно, за-
тем, однако, в быстром поступательном развитии и, наконец,
вполне обострилось в наше столетие. Современная нам эпоха
также совершенно вытеснена из прочного состояния самобыт-
ных, естественных условий; отрекшись от напрасно прославляе-
мых «исторических основ», она ссылается на право разума как
на самый благородный и животворный результат историческо-
го развития. Над сбивчивыми и насильственно поддерживаемы-
ми проявлениями действительности раскинулась обширная сеть
теорий и идеалов; они, однако, нигде не в состоянии осуществить-
ся в прочном, всепроникающем виде, ни увлечь, ни поднять до
своего уровня самые низменные слои общества. В религиозной
жизни царствует тот же холод, та же набожность напоказ, то
же преобладание догмы, а в самом благоприятном случае — на-
ружного культа; однако наша вера в ее положительных проявле-
ниях все-таки объемлет еще совокупность самых глубоких
нравственных и интеллектуальных интересов; и пока эти инте-
ресы не перестают 6ы1ъ двигателями духовной жизни, до тех пор
мы после всех наших уклонений и заблуждений постоянно вновь
возвращаемся к той же вере; мало того, мы обретаем и присое-
диняем к ней все новые и новые области, если только честно от-
носимся к своим заблуждениям и исследованиям. Философия
также с удивительной энергией преодолела эту исключительно
историческую веру в эмпирическую действительность; она так-
же стала добиваться сознательного субъективного соучастия
души; и наконец, она обратилась к тому же этическому началу,
благодаря которому только и может быть устранен заразивший
ее дуализм; сама религия, в которой коренится философия, не-
посредственно обладает уже этим примирением и вполне уверена
в нем. В государстве обнаруживается та же смутная, болезненная
тревога; нарушена последовательность всяких учреждений и ис-
конных национальных порядков; везде также расстроены и по-
давлены светлые кристаллические формы автономного развития;
они также заменены учреждениями случайной насильственной
власти, произвольными компромиссами, опекою, тогда как под-
данные все сильнее и сильнее заявляют свое совершеннолетие;
везде проявляются попытки теоретиков-доктринеров, неспо-
собных удовлетворить насущным притязаниям и потребностям;
против таких основанных на иррациональных началах госу-
дарств восстает религиозная, сословная, национальная оппози-
ция. Все эти явления во многих отношениях походят на те, какие
обнаружились в эллинистическую эпоху; с тою только разницею,
что в наше время рациональные стремления, пытаясь осуществить
чистую идею о государстве, установить окончательное взаимное
отношение между народом, государством и церковью, настойчи-
во восстают против остатков частного права, так сказать, против
сохранившихся по преимуществу от социальной жизни средне-
вековья обломков сословных, корпоративных, территориальных
отношений; тогда как эллинизму предлежали патриархальное го-
сударство в его непосредственной самобытности, теократия, еди-
нодушная полития, и обломки всего этого составили его наследие.
Вот в чем заключается сущность эллинизма. Вместе с ним
впервые проникли в мир и распространились в нем искусствен-
ные состояния, созданные произволом разума формы, тенден-
ции, внушаемые скорее тем, чего домогались, нежели тем, что было
дано. Это была эпоха преднамеренных, сознательных действий,
эпоха науки, когда исчезло юное поэтическое вдохновение, погиб-
ло историческое право. Такова была чрезвычайная революция,
какую со времен Александра и Аристотеля распространил по все-
му свету греческий дух. Время естественного государства в прин-
ципе прошло. Это явление можно уподобить тому, что совершилось
в истории земного шара: первозданная гранитная оболочка чело-
вечества, окоченевшая встарь в могучих формах, разложилась и
рассыпалась; благодаря чему образовалась почва для дальнейше-
го, более богатого развития жизни. Настал совершенно новый
склад бытия, так сказать, новый подбор человеческого рода; все-
му этому надлежало придать прочный вид, устойчивую форму, так
чтобы это как можно глубже проникло в жизненную среду.
Вот тут-то нам и представляется новый цикл отношений, ко-
торый мы соединяем обыкновенно под названием материальных
интересов. Они, правда, и прежде существовали на свете, одна-
ко, как кажется, лишь в эпоху эллинизма стали силою и главною
точкою зрения административного искусства. И в самом деле,
мы уже знаем, с какою строгою последовательностью александ-
рийский кабинет сумел оценить коммерческое значение Чермно-
го моря и воспользовался им, как потом имелось в виду, соединить
каналом Каспийское море с Черным, для того чтобы упрочить важ-
ное значение еще другого великого пути мировых сношений.
Антиох III своею блестящею экспедицией в Арахосию и Карма-
нию пытался прежде всего привлечь индийскую торговлю к Пер-
сидскому морю, а войнами против Египта направить к своим
сирийским берегам ходившие до той поры через Петру в Алек-
сандрию караваны с товарами из Аравии, в особенности с лада-
ном и пряностями145. Мы знаем, что земледелие, совершенствуясь,
становится в некотором роде рациональным сельским хозяй-
ством; даже цари, вроде Гиерона Сиракузского, Аттала III, из-
дают свои сочинения, которые долгое время считаются лучшими
произведениями по этому предмету146. Селевкиды пытаются при-
урочить в Аравии индийские растения, Лагиды в Египте — карма-
нийские и эллинские147. Известно, какого совершенства достигли
техника и механика; стоит только напомнить о чудесном Гиеро-
новом корабле, об Архимеде и об его защите Сиракуз. Не вдава-
ясь в дальнейшие подробности, ограничимся здесь одним только
фактом; упомянуть об нем следует, тем более что он состоит в
связи с событиями политической истории.
Родос потерпел землетрясение148; оно низвергло знаменитый
колосс, разрушило дома в городе, стены и верфи его. Особенное
положение, какое Родос занимал в качестве республики и скла-
дочного места в торговых сношениях Запада с Востоком, также
чрезвычайное участие, какое обнаружилось со всех сторон, по-
неволе наводят нас на сравнение с подобными катастрофами в
Лиссабоне 1755 г. и затем еще в одном из самых значительных
германских рынков в новейшее время; такое сравнение еще пол-
нее осветит значение древнего факта. Родосцы, говорит Полибий,
сумели представить постигшее их бедствие в самом внушитель-
ном виде; их посланники как в официальных сообщениях, так и в
частных кружках выказывали при этом злополучии строгое до-
стоинство, какое подобало представителям великого города, по-
терпевшего подобное бедствие. Тем с большею ревностью все
спешили на помощь; государи и города считали себя как бы обя-
занными помочь Родосу, не признавая за собою никаких прав на
благодарность с его стороны. Полибий сообщает о доставлен-
ных Родосу пособиях от наиболее значительных державцев; это
на самом деле были поразительные жертвы. Царь Гиерон Сира-
кузский частью тотчас же, частью впоследствии прислал 100 та-
лантов серебром149, сверх того, пятьдесят катапульт; в то же время
освободил родосцев от таможенной платы за ввозимые в его гава-
ни товары150; наконец, как бы в знак благодарности, он велел на
базаре родосской гавани воздвигнуть памятник, изображавший
родосский демос; венчаемый сиракузцами Птолемей предложил
чрезвычайно блестящие дары: 300 талантов серебра, 100 000 арта-
бов хлеба, строевого леса на шесть пентер и на десять триер, по-
том, кроме множества других предметов151, 3000 талантов меди
для восстановления колосса, 100 мастеровых, 350 чернорабочих
и 13 талантов на их годовое содержание. Все это было доставлено
большею частью тотчас же, а наличными деньгами была уплачена
первая треть. Антигон македонский послал: 10 000 свай (для свай-
ных построек) в 24 и более футов длины152, 5000 накатин в 10 фу-
тов, 3000 талантов железа, 1000 талантов смолы, 1000 мер дегтя153;
сверх того, еще 100 талантов серебра; его супруга Хрисеида при-
совокупила 100 000 мер хлеба, 3000 талантов свинца. Сирийский
царь (это был еще Селевк Каллиник) разрешил прежде всего сво-
бодный привоз товаров во все гавани своего государства, пода-
рил десять сооруженных пентер, 200 000 мер хлеба, 10 000 локтей
лесу, по 1000 талантов смолы и пеньки. Примеру их последовали
цари Прусий, Митридат, династы Лисаний, Олимпик, Лимней154.
Нелегко было бы, прибавляет Полибий, перечислить все города,
по мере сил помогавшие Родосу не менее самих государей. К со-
жалению, он не назвал ни одного города, ни доставленных ими
пособий; а это могло бы послужить поводом к весьма поучитель-
ным сравнениям. Но и без того имеется налицо немало материала
для разных выводов, которые освещают политико-экономические
и интернациональные отношения той эпохи и состоят как бы в
резкой противоположности со второй книгой так называемой
Аристотелевой Экономики с ее сборником политико-экономи-
ческих нелепиц. Ознакомившись с такими выводами, убеждаем-
ся, конечно, что и в этом также отношении первый век эллинизма
далеко не был до такой степени груб, как предполагают обыкно-
венно. Нельзя не признать прежде всего высокой политической
гуманности, какая выразилась в том, что разные цари, не обра-
щая внимания на взаимные распри и соперничества, не извлекая
никаких своекорыстных выгод из чужого бедствия, единодушно
содействовали восстановлению государства, которое постоянно
поддерживало политику энергического нейтралитета. И в самом
деле, почти все указанные Полибием пособия предназначались
для родосского государства и для общественных учреждений. Это
составляет другое знаменательное обстоятельство. Участь Гам-
бурга155 возбудила преимущественно участие в пользу частных
бедствий, самому государству, напротив, предоставлялось путем
займа возместить свои утраты. В древности также известны были
государственные займы и долги, но в ней не была развита кредит-
ная система, при посредстве которой долговое государственное
свидетельство могло бы заменить собою металлическую ценность
обычного менового средства и подобно ему давать рост. Знаме-
нательно также то обстоятельство, что Египет посылает, прав-
да, самые обильные дары, однако не разрешает беспошлинного
ввоза, подобно Гиерону и Селевку, а вследствие особенного ком-
мерческого положения Родоса такого рода льгота и должна была
бы послужить самою сильною подмогою.
Наконец, спрашивается, что побуждало государей и города
к этим чрезвычайным пособиям? Царь небольшой сиракузской
области помимо таможенной льготы и пятидесяти орудий при-
слал в дар 100 талантов серебра; это количество денег превыси-
ло больше чем на половину самое щедрое приношение, сделанное
одним из королей Гамбургу; судя по тому, что говорит Полибий
о несметном количестве доставивших пособие городов, отнюдь
не следует предполагать, будто это пособие было скудное, буд-
то оно было скуднее вышеупомянутого настолько, насколько
оказалось значительнее в гамбургских взносах. Откуда же такое
рвение к подаче помощи? Нельзя же предположить, будто язы-
ческая древность и особенно во время эллинизма наделена была
более сильною любовью к ближнему, нежели современная нам
эпоха. Утраты Родоса были, вероятно, не в пример громаднее;
это, правда, побуждало помочь пострадавшему городу, но по-
мимо чувства сострадания цари и города руководствовались еще
иными мотивами для того, чтобы выручить родосцев из бедствен-
ного состояния. Можно приписать эти мотивы коммерческому
значению Родоса; это значение и составляло вместе с тем глав-
ную сущность политической важности острова. Я смело утверж-
даю, что сообщаемые Полибием подарки царей могут служить
приблизительно мерилом коммерческой важности Родоса; по-
добно тому как при постигшей Гамбург катастрофе, так и там
тоже следовало опасаться возможного потрясения общих тор-
говых оборотов, а потому все сочли необходимым во что бы то
ни стало предупредить эту беду.
Если такой взгляд, хотя бы даже только отчасти, верен, то
он наводит нас на поразительный результат относительно раз-
меров меркантильных интересов в ту эпоху. Родос был, конечно,
главным пунктом тогдашних мировых сношений, и если со всех
сторон делались такие усилия для поддержки одного города, то
это служит достаточным доказательством того, что коммерчес-
кая его деятельность*была не исключительною, не стеснитель-
ною вообще, а напротив, благотворною, что она служила даже
жизненным условием для государств, из которых стекались столь
обильные пособия. Цветущее состояние Родоса служит свиде-
тельством современного ему расцвета средиземноморских сно-
шений. Все это подтверждается также и другими известиями. Не
станем распространяться о Карфагене, который в течение двух
десятилетий вполне успел оправиться от чрезвычайных утрат в
первую Пуническую войну; помимо него Массилия, Александрия,
Смирна, Византии, Гераклея, Синопа также служили средоточи-
ями сношений, распространявших свои жизненные артерии до
аравийских берегов, до богатой Индии, даже, что подтвержда-
ется найденными монетами, до отдаленных стран Янтарного
моря.
Необходимо восстановить в памяти все эти факты, для того
чтобы получить верное понятие о первом веке эллинизма и стать
на настоящую точку зрения относительно всемирно-историчес-
кого его положения. Этими выводами подтверждается высокое
значение того охватившего весь мир единства, какое стало разви-
ваться со времен завоевания Александра и благодаря духу гречес-
кой цивилизации; превосходя спорадически рассеянное цветущее
состояние древних культурных народов, также мертвое однооб-
разие приниженных наций под персидским ярмом, это единство
обрело свою энергию по преимуществу в космополитическом ха-
рактере греческой культуры, сумевшей преодолеть прежнее кич-
ливое разобщение между греками и варварами.
Как бы заносчиво ни заявляли себя македоняне при царских
дворах, как бы само царское владычество ни исказилось вскоре,
вступив вновь в старую колею восточного деспотизма, как бы
жизнь толпы и личностей ни казалась нам ничтожною и погряз-
шею в бесплодной тревоге исключительно эгоистических интере-
сов, чисто эфемерных властей, — а все-таки ничто уже не в силах
было отнять у человечества великие приобретения истории, и вся-
кая порча, всякий гнет и всякое разрушение служили только для
того, чтобы развить эти приобретения еще сильнее, уберечь их
еще крепче.
Скажем в заключение еще немного по этому поводу; пусть
для связи послужит положение эллинизма на дальнем востоке.
По ту сторону Каспийских ворот образовался уже целый ряд
новых государств, в которых местный эллинизм, как казалось,
намеревался еще быстрее, но зато и поверхностнее совершить
свое поприще. Ведь эллинизм не что иное, как смешение эллино-
македонских начал с местною, этническою жизнью разных дру-
гих стран. При этом, конечно, все зависело от того, который из
двух факторов получит окончательный перевес; но именно в этой
борьбе и возникло совершенно новое начало, которое проявля-
лось даже там, где не могли осуществиться выработанные грека-
ми формы цивилизации.
Как, вероятно, Аршакиды в Парфии, так, без сомнения, и до-
бившиеся самостоятельной власти сатрапы от Яксарта до Индий-
ского моря были чужеземцами в пределах своих владений;
несмотря на их владычество, они были чужды массе населения,
которым управляли. Но сатрапы опирались преимущественно на
существовавшие в их области греческие элементы и должны были
им покровительствовать; тогда как парфянские цари, называя
себя, правда, филэллинами и усваивая для себя известные фор-
мы эллинизма, все-таки поддерживали более тесное сродство с
туземным началом, и впоследствии событиями подтверждается,
что они считали себя настоящими поборниками национального
быта против всего чужеземного. Сами парфяне были только пер-
343
вою волною тех туранских наводнении, которые в течение сле-
дующих двух столетий потопили всю эллинскую цивилизацию
между Яксартом, Гангом и Индийским морем; по этим наводне-
ниям в течение некоторого времени носились еще на поверхнос-
ти обломки и развалины эллинской эпохи.
И в самом деле, здесь, как везде под конец исторической древ-
ности, обнаруживается знаменательный факт: а именно искон-
ное, первобытное туземное начало отнюдь не одерживает верха
над чужеземным. Князья парсов в Атропатене не в силах были
отразить напиравшее владычество парфян, и великим царям при
Ганге не удалось подчинить себе эллинских владетелей по обоим
берегам Инда. Следя по возможности за пульсацией древней ис-
тории, мы замечаем, что население везде утратило старую, врож-
денную, этническую силу своей народности и как бы разложилось,
переходя в иную сферу цивилизации; оно не в состоянии было
противиться мощному натиску владевших еще первобытною си-
лою государств, народов и орд; затем, однако, исподволь оно
все-таки передало свою цивилизацию победителям, подчинило
их своей, так сказать, внутренней власти, которая есть следствие
их этнической силы и причина саморазложения.
Перевороты изменившегося мира нагляднее всего отрази-
лись в религиях. Развившись из древнего брахманского учения,
возник буддизм; после долговременной борьбы и ужасных бед-
ствий он был изгнан со своей родины, распространился по восто- §
ку и исполнил его своими кроткими победами. Из древнего учения ш
Зороастра возник вполне преобразованный, одушевленный но- 5
выми идеями парсизм; он еще раз просветил чистым огнем всю Г8
область иранской возвышенности; предавшись затем глубоким,
чистым созерцаниям, он основал наконец царство Сассанидов, <щ§>
«поклонников Ормузда». Математическое самообольщение хал-
дейского искусства, мрачные мистерии Сераписа и Исиды про-
никлись трезвыми теориями евгемеризма, создав ту мишурную,
зараженную миазмами цивилизацию, которую с такою алчнос-
тью усвоил себе победоносный, исполненный дюжей силы Рим;
наконец-то из древнего учения о Иегове в сильной борьбе с эл-
линскими началами все громче и настойчивее стали возникать
идеи о Мессии, возвещая пришествие Спасителя, воплощение
«Слова», т. е. самого Бога; эта надежда, не отвечая более еврей-
скому учению о едином Боге, подтверждается проникнутыми
эллинским духом толкованиями Священного писания.
Здесь впервые приходится нам упомянуть об учении Иеговы
в связи с развитием эллинизма; это учение со всей энергией при-
сущего ему значения вступает именно в эту эпоху в связь с исто-
рическим развитием. Оно с незапамятных времен ограничивалось
небольшим пространством, заняв изолированное положение сре-
ди религий языческих народов; благодаря своему мощному бого-
s'
познанию, оно одно устояло против окружавших его тревожных
наций, взоры которых обращались к суетному миру. Этому уче-
нию было непосредственно присуще и служило исходною точ-
кою именно то, что для других народов начало возникать в виде
результата их развития, и потому совершенно в ином роде; — оно
само лишено было всего того, что составляло силу и право дру-
гих религий или что тщетно осуждало как упадок и порчу. И вот
наконец-то возникла вызванная этим антагонизмом последняя
и самая сильная в древней истории борьба лицом к лицу. Наступил
последний решительный подвиг древности; и «когда исполнилось
время», то судьба ее завершилась пришествием воплотившегося
Бога, учением Нового Завета, благодаря которому устранен был
этот последний сильный антагонизм и под сенью которого ли-
шенные этнической силы и дошедшие до истощения евреи и языч-
ники, племена всего мира познали утешение и покой, взамен
утраченной земной родины обрели высшую, духовную — в цар-
стве Божием, как в древности обетовали пророки и чаяли мудре-
цы, как все громче и громче возвещали служившие гласом народа
сивиллы.
ПРИМЕЧАНИЯ
КНИГА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1 Arist., Polit., 1,1, 5: Ью <pa<riv oi TwiTjrai, /Зад/Задсм 8' "EAAtjvos agxeiv eixo<;-
щ ravro (pvcrei fiaglSaQov xa\ SouXov ov.
2 Arist., см. [Plut.] de fort. Alex., I, 6: ro?<; fisv "EAAtjotv yveitovixux;, roi<; Se
fiaqftaqou; Seoironxax; xqujiasvoi;, xai ra>v \iiv ax; (piXiov xa\ oixe'twv emiieXoufievos,
Toiq be щ C^oiq nij cpvroTg щоасредореуо*;.
3 Plut., loc. cit.
A Plat., Philebus, p. 22 и 30.
5 Arist., Metaphys., XI, 6.
6 Aeschyl., Agatn, 155: Zeug оатк; тип ecrr'tv и т. д.
7 Plat., Timaeus, p. 40 sqq., de rep. II., 378 sqq.
8 Arist., Metaphys., XI, 10 (p. 254, ed. Tauchnitz).
9 Так, между прочим, Клеанф восстал против открытия Аристарха,
утверждавшего, что солнце неподвижно, а земля вращается вокруг него:
1AiQtoTaQxov соето Se?v ... aaefieia^ TrgoxaXeToSai то\н; "EAAtjvg^; Plut.: de facie in
orbe lunae, 6 (t. V, p. 344, ed. Tauchnitz).
10 Это выражение Эпикура у Диогена: rj xotvr) rov Seov уишочд (Diog. Laert.,
X, 123).
11 Для доказательства живой веры в Греции не следует ссылаться на рас-
сказы о помощи, оказанной будто бы богами в дельфийской победе над кель-
тами, явившейся во время битвы в Пеллене Артемиды, и т. п.; это относится
или к общепринятому представлению, или к декорационной живописи при-
страстных к эффектам историков.
12 Впоследствии мы вернемся к Эвгемеру, которого называли другом ма-
кедонского царя Кассандра, отправлявшего его послом на дальний юг (Diod.,
loc. cit.у VI, fr. 1: *i\vayxa(T\Lkvo<; tbXbiv fiacrtXixa<; nva<; %ог\а$ xai fieyaXat;
aTro$r)iila<; exTom<r$7Jvai хата rrjv (jLeayfiftQiav щ rov ajxeavov и т. д.). Судя по
политическим сношениям Кассандра, под этим, вероятно, значилось посоль-
ство ко двору Сандракотта. Относительно упомянутой заметки в тексте
сошлюсь на Lactant. Unstit., I, 11, 63), изложение которого значительно
уклоняется от почерпнутого Евсебием (Euseb. praep. evang., II, р. 59) из
Диодора (Diod., I, VI, fr. 1). Сюда же, может быть, относится трактат Гека-
тея Абдерского, игравшего, как кажется, немаловажную роль при дворе
Птолемея I Египетского, а именно трактат ттед} imeQ^oqeajv, который, впро-
чем, не совсем справедливо хотели признать похвалою благочестия (populi
piissimi summam vitae felicitatem); такое воззрение едва ли можно было осно-
вать на том, что Гекатей был Eliensis sacerdotis alumnus; учителем его был
скептик Пиррон, которого сограждане назначили в aq%itQt\j<; (Diog. Laert.,
346
IX, 64). Сюда же относится Амомет с его gens Attacorum (Plin., VI, 17); он
принадлежит к этой же эпохе (древнее Каллимаха), как подтверждает
Antigon de mirab. (p. 149, ed. Westerm). Эвгемерово влияние сильно распро-
странилось по всем направлениям.
13 Доказательством тому служит история родосской монеты со времен
соединения трех городов в 408 г. и распространение родосской монетной
системы по Карий и по самым значительным торговым городам до Кизика.
"At ben., V, 203.
п Plato de leg., Ill, 695a, 697d.
16 Известное восточное предание гласит о погибших книгах Зендской
религии: «Секандер явился и сжег священные книги; в течение трехсот лет
религия находилась в унижении» и т. д. Это противоречит всем поступкам и
направлению Александра. М. Haug (Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesell-
schaft, 1865, Bd XIX. S. 304) сообщил из Arda-Viraf Nameh известие, кото-
рое, как он говорит, «наверное, гораздо старше, нежели завоевание Персии
арабами»; «вера, а именно вся Авеста и Зенд были золотыми чернилами пи-
саны на выделанных коровьих кожах и сложены в Персеполе Бабека; однако
злой Ариман привел Александра Западника Могараика (необъяснимое имя)
с целью поселить его тут, и он сжег их (книги в библиотеке)». Итак, один
только особенно драгоценный, но подлинный экземпляр священных писа-
ний погиб во время пожара Персеполя.
17 Идеям, какие высказывает Аристид (Похвальное слово Риму, р. 333,
ed. Dind.): тто'юи$ voiwvq кхаоток; Siiffojxev и т. д., не следует придавать весу
^ I свыше их заслуги; это не что иное, как фразы поверхностного ума.
18 [Plut.] de fort. Alex. e. b. хатаптв'щад ttjv 'Aorav 'EXXyvixaTg тт6Хв<гм (vul.
? твХвам).
3 19 Dio Chrys., XLVII, ed. R. хата xu)fia<;; Plin., VI, 26: Mesopotamia tota
qJ vicatim dispersa.
20 В одной из надписей римской эпохи (С. I. Graec, II, п° 2597) находится
весьма характеристичное выражение: 'Ecpecriwv tj fiovXrj xai о Ъгщс»; xai ratv
aAAcov 'EAAtjvcov a/ ev ту 'Atria xaroixovo-at ттоХвн; xai та вЪщ. To же самое в
заключенном между Смирною и Магнесией в 245 г. договоре: вудафв» 8в тгдод
тои<; /ЗаочХе?<; xai rovq Svvaara^ xai та$ ттоХвн; xai та вЬщ (С. I. Graec, II,
п° 3137, v. 11). Этот eSvo$ служит впоследствии выражением для жителей
вне города; см. также Teles ар. Stob., II, 79, ed. Lips.; на основании этого и
мы тоже в последующих изложениях станем употреблять выражение этни-
ческое в противоположность эллинистическому.
21УAXei;av$QO<; nij vttbq amotxiGjv а в списке Diog. Laert., n° 17; см. Гезихий, п° 22.
22 Так поступал Александр у горных племен Персии (Arrian., Ind., 40);
так было и в Месопотамии: Macedones earn in urbes congregavere propter
ubertatem soli (Plin., loc. cit.). В эту эпоху в пределах греческого мира также
встречается техническое выражение вЪуо<;\ Полибий применяет его к союз-
ным ахейским городам (VII, 16, 9), он говорит: то tG)v Boiwt&v вЪуо<; emrroXuv
Xqovov ovvtbt^Q7)x6(; ttjv xoivyv ovfiTToXmiav (XXVII, 2), также во многих дру-
гих местах. Freeman (History of the federal government, p. 13 ff.) ошибается,
придавая частному применению этого слова общее понятие, приписывая ему
значение federal government. Руководством может служить выражение Ари-
стотеля о Вавилоне: \%в\ TTBQiyQacpyv b$vov<; jjxlXXov t} ttoXbqx;.
23 В смирнской надписи сказано (С. I. Graec, II, п° 3137, v. 100): тои$ оа
xXt)qov<; rovg Svo ov та 6 0eo$ xai Xwttjq ''Avrlo%o<; a7Tax<bq7)<rav avroiq xai Tragi ou
1AXa^avbqoq yayqayyxav ahai airnnt; aSaxaravrovg.
24 Можно сравнить, между прочим, учреждения, введенные Лисимахом в
Эфесе-Арсиное (Strab., XIV, 640).
23 Liban. ad Theod., 1.1, p. 651, ed. R.
26 Polyb., XXVI, 10.
27 Liban., Antioch., 1.1, p. 315 и пр.; ср.: Muller, Ant. Antioch., p. 30.
28Cic, Verr.t II, 50 sqq.
29 Надпись см.: Arundell., Discov., I. 243 (C. I. Graec, n° 3969) и монеты
города.
30 Joseph., Ant, XVIII, 9, 18: xai 2uqu)v ovx okiyov то afnroXiTauoiiavov; Plin.,
VI, 26: libera hodie ac sui juris Macedonumque moris.
31 Polyb., V, 57, 10; no de Lagarde, Abhandlungen, S. 187 следует писать
$aiyav&<;; слово это происходит от dih 'деревня' или 'округ' и значит то же,
что 'деревенский житель', 'сельский дворянин', 'земский судья'.
32 Polyb., XXXIV, 14: xai yaq ai iiiyaSas, "ЕААт^е^ оуилх; avaxaSav fi<rav.
"Joseph., Ant., 11,3.
34 Strab., XVII, 797; Ael. Spart.,vit. Sever., p. 17 (p. 104, ed. Cas.). В надпи-
сях императорской эпохи упоминается об а%г}учгщ<; (С. I. Graec, HI, n° 4688),
который носит багряницу и печется о подвозе продовольствия в город
(Polyb., XV, 26); также об aq%ihxacrrqq (С. I. Graec, III, n° 4734, 4755). Стра-
бон положительно говорит: rjaav fiiv ovv xai am tcjv fiao-ihawv avrai ai aQxai.
Места из авторов собрал Kuhn в Beitrage zur Verfassung des Rom. Reichs. S. 181
и в своем более обширном сочинении. Касательно vvxraqivoq отдаттгубд Стра-
бона поучительно было бы сравнить. С. I. Graec, II, п° 2930.
35 Относительно ттдбстаура iraqi той та //,77 avayayQa^fMava AiyviTTia
avvaXXayfiara axvqa ahat (см.: Pap., Таит., I, 4, 14).
36 St. Hieronymus prol. ad ep. ad Gal. говорит: «Galatas excepto sermone
Graeco quo omnis oriens loquitur, propriam linguam — habere». О сирийском
языке в деревнях св. Dio. Chrys., Horn., 19, 1, t. II, p. 189; a de sanct. mart.,
1.1, p. 651. a. Кстати заметим здесь, что древнее письмо (клинообразное) дол-
го еще держалось в Вавилоне. На глиняных плитках в лондонском музее
находятся контракты эпохи Антиоха IV Эпифана и Селевка IV Филопатора
(Fr. Lenormant в Revue numismat., 1868, p. 420); G. Smith (Assyrian discov.,
1875, II, p. 388) упоминает о другой плитке, на которой значится число 105
до Р. X. по стилю Селевкидов и Арсакидов.
37 Malalas, р. 29, ed. Dindorf.; Steph. Byz., s. v. 'loviov.
38 Steph. Byz., s. v. uAkfiavov.
39 Lamprid., Vit. Heliogab., p. 155, ed. Casaub.
40 Steph. Byz., s. v. Evaqyarai и "Ад/ЗуХа.
41 Strab., XVI, 748, 750.
42 Agatharchides см.: Diod., Ill, 45 (p. 184, ed. C. Muller).
43 В этом отношении было бы весьма поучительно сгруппировать то, что
Steph. Byz. говорит относительно rvnoq при образовании языческих имен;
ср. особенно статьи Та^Аа, АеЛта, Ka<rnaiqo<;, Aiyifwqo^t "Abava, ' Afiatrrjvoi.
44 Известно, что со времени Псамметиха в Египте водворилось много гре-
ческих наемников: у Априя было 30 000 человек (Herod., II, 168), близ На-
348
rz
вкратиса 12 греческих городов выстроили себе храмы (Herod., II, 178-182).
Греческие наемники зачастую употреблялись также при повторявшихся
восстаниях против Персии. В стране, во всяком случае, осталось еще значи-
тельное потомство от этих пришельцев; первый назначенный Александром
наместник 'Aga/3/as тщ ттод<; 'Hqujwv -noXet Клеомен был из Навкратиса
(Arrian., Ill, 5, 4).
43 Я здесь не могу пускаться в подробности. После первой попытки сгруп-
пировать все это в моем трактате de Lagidarum regno, 1831, и добросовестного
сочинения Varges, de statu Aegypti provinciae Romanae, 1842, появились более
подробные известия в С. I. Graec, HI (Inscript. Aegypt. Introductio) и новый
материал в Notices et Extr., XV, p. 287 sqq., также в С. I. Lat., Ill, 1. p. 5 sqq.
44 етотдат7)уд<; ttj<; QyfiaiSoq (C. I. Graec, III, n° 4935) и вместе с тем в
других должностях (п° 4897, 4905) и т. д., етотдатууд*; хал отоатг)'уо<; тт}$
'IvdtXTJs SaXao'O'w (n° 4897в, 4905). В римскую эпоху epistrategia Septem
nomorum et Arsinoitae, Orelli Inscr. lat., 516. Вероятно, эпистратег Нижнего
Египта (С. I. Graec, n° 4071).
4' Так как до сих пор формула 1тггтадхг)$ втг' iv^ciiv, Tjyefiajv еъ avSgtov для
стратегов и эпистратегов, сколько мне известно, еще не встречалась, то эти
чиновники находились, как кажется, или всегда на действительной военной
службе, или никогда не значились на ней.
48 В туринском папирусе один из чиновников называется отдатууб*; хал
vofiaQW)*;; судя по сему, эти две должности в качестве общественной служ-
бы отделялись одна от другой.
49 Ioseph., Ant. Jud., XIV, 7, 2. Судя по приведенным у Marquardts. (Rom.
Alt., Ill, S. 213) местам, aXafioQWQSi очевидно, относится к таможенной служ-
бе, так что его нельзя считать просто чиновником, назначаемым для иудеев.
X
X
°
т
^ В прежнем издании и в Lag. regno (p. 39) я упоминал об ефнархах комов,
о. основываясь на эдикте Gn. Vergilius Capito, по его старому изданию,
fiouXofjLai ovv тои<; eSvagxa,*;, ev те ту (ifjTQOTToXet той vofiov xai xa£J exaarTjv xcbfiyv
avro iTQO&rjvai. Это место после того было исправлено (С. I. Graec, III, n° 4956):
fiouXofjuai ovv ae ev Ta%ei ev те vjj, и т. д.
50 Следуя и в этом случае также Летронну, Варгес считал комы подразде-
лениями топов. Топы суть или подразделения комов, или противополага-
ются им, как обитаемым местечкам, в качестве сел. С последним объяснением
соглашается Ad. Schmidt., Forschungen, I, S. 329.
51 o\ tyjs %ьуоа,<; voftot (Pap. Taur., I, p. 7, v. 5, 9) в противоположность oi
TToXmxol vofioi. Об участии Деметрия Фалерского в номофезии Птолемея I
упоминалось в Истории диадохов.
52 Aristeas, p. 39. Прошение одного из тяжущихся царю Эвергету II о том,
чтобы его жалоба была отправлена tov<; аттд tov YlavoTToXhov ilb%qi Evt)vt}$
Х041штюта<;, следует, как мне и теперь тоже (вопреки Franz — С. I. Graec,
III, p. 295), кажется, понимать так, что из 15 номов Фиваиды для ведомства
хрематистов отнесено четыре к гептаномам, с целью выравнять размеры их
судебного делопроизводства.
53 о em tcov TrooaoSiov.
54 оъХХуфи; T(bv e\<; ttjv vavTelav в Розетской надписи (С. I. Graec, HI,
n° 4697) по толкованию Ваксмута (Rhein. Mus., 1875, S. 448) на основании
почетного декрета жреца в Мендесе (Aegypt. Zeitschr., 1875, S. 34).
55 Об этом ev^Qovicrfio^ см.: Polyb., XV, 32; Plut., Ant., 54. Наследственность
в военной службе в особенности выясняется из Pap. Mus. Britt., п° 1.
56 Это различие не встречается, конечно, в перечне египетского войска,
вышедшего против Антиоха HI (Polyb., V, 65), но является в восстании 201 г.
(Polyb., V, 64), вождь которого Агафокл для воцарения царского отрока
вызывает сперва «македонян», и действительно, та Лота аъатуцата хата
тои<; Хопгои*; кххХгцакмгуюхл;, с которыми соединяются прибывшие в Алексан-
дрию ex Toiv avct) OTQCLTOTTeScov. Относительно организации войска, хатохш и
emyovoi, я изложил кое-что в de Lag. regno (p. 26); в сущности, она отвечает
организации Александрова войска, так же в отношении института fiaaiXeioi
тта7$е$ (см. Suidas v.), имя которых встречается в С. I. Graec, III, n° 4682: oi
rov Tris krovq (jbkXXaxe^, которое Летронн так метко выяснил, по толкованию
Гезихия: fikXaxe^ vedrreQoi //,/Aa£, о kv 7)Xixia evioi Sk /ziAAa£; такова македон-
ская форма вместо (Jbeiqa^ fjbetoaxtov.
57 Athen., V, 203; Polyb., V, 65.
58 Касательно рангов ovyyevrj^, r&v aQXivwpaTOipvXaxw ,t(ov щмтшу <pfaw y
tcuv cptXcDV, rcbv Tragi avXyv StaSoxajv. C. I. Graec, HI, p. 290 представляет мно-
жество примеров.
59 С. I. Graec, III, p. 289.
60 Достоверны лишь в Верхнем Египте Александрия и Птолемаида (т)
'Eq(j,eiov); о последней Страбон (XVII, 813) говорит: exovaa хал ovoTijtia
noXmxov kv тф 'ЕААт^ихф тдбттц). Оба города находятся вне номов, это нечто
вроде имперских городов с общинной автономией; в Птолемаиде упомина-
ется о /ЗоиХу и об архонте (Аврелий Сотер в С. I. Graec, III, n° 5000, 4989,
4996, 5032); город основан Птолемеем I (С. I. Graec, III, n° 4925, где во вто-
ром двухстишии по оттиску Лепсиуса значится: rrjv k-noXta-a-ev (а не kiroiyo-ev)
2ri)T7)Q 'EXXtjvujv NeiXoyevr)<; rkfievo^). Оттого-то в Птолемаиде находились
жрецы Сотеров (по Нехутской грамоте). Помимо этих двух городов гречес-
ким с давних пор уже был Навкратис Мы не знаем, была ли у него также
avoTrjfia TtoXmxov, хотя Гермий (ар. Athen., IV, р. 149) упоминает о тцмдхсн в
Навкратисе, об аристократии, какая встречается во главе города в Теосе,
Массилии и в других местах; — на одном из папирусов в Париже (Notices et
Extraits, XVIII, 2, p. 347, Hg. 17 et 27) значится, что такие жетцьо\)%о1 нахо-
дятся еще в двух других .местах в Египте. В Ликополе, кажется, тоже гос-
подствовала греческая система (С. I. Graec, III, n° 4707), также в Великом
Гермуполе, что в Гептаномиде, как показано в почетном декрете ритора Элия
Аристида, а именно: у ттоХк; tcov У AXe^avSgeajv xai 'EqiaovttoXh; г) улуаУщ хал rj
/ЗоиХу у avTivokwv vbcjv EXXi/jvajv xai oi kv тф AkXra -rrj<; Aiyimrov xai oi rov
Srjfiaixov vofAOv otxovvre<; "EAA7?vs$. Так как о Птолемаиде (Egfieiov) в этом дек-
рете не упоминается, а все-таки известно, что она существовала, то эллины
Птолемаиды причислены, конечно, к rov Ghjfiaixov vopbov oixo0vre<;.
61 См. мой трактат: Die griechischen Beischriften von fiinf agyptichen Papyren
Im Rheinischen Museum, III, 4, S. 500 ff.
62 Pap. Mus. Britt., XIX.
63 Pap. Taum., HI. Гермия истца в Pap. Taur., I радиirgoyovixai хтуо-щ так-
же следует признать египтянином, так как он не придает себе названия
MaxeSwv.
64 Herod., II, 175, 177.
rz
65 Herod., III. 91.
66 Таким образом конфискована была «дюна по ту сторону моря» (нома
Phthenotes), принадлежавшая храмам Гора и Буто, как видно по дарственно-
му декрету этих жреческих корпораций в честь «наместника Птолемея» от
311 г. (см.: Aegyptische Zeitschrift, IX, 1871, S. 1 ff. — с пояснением Бругша). *
67 Inscr. Ros., I, 17, 30 (С. I. Graec, n° 4697). Дальнейшие подробности в
Канопской и Мендесской жреческих надписях.
68 Inscr. Ros., I., 17: о хат evtavrov ei<; 'AAefiv^siai/ хататтХои$.
69 Птолемей II велел, чтобы мендесский ном вносил ежегодно не свыше
70000 «медных монет» (надпись в Мендесе, строка 18), т. е. 11 ]/г мин се-
ребром.
70 Diod., I, 84. Диодор называет жреца, которому было поручено это дело
rov ttjv emiAeXeiav \%ovra той "Amio$. Это, очевидно, agxtevracpiaTrrrj^y о кото-
ром часто упоминается в гробницах Сераписа в Мемфисе. См.: Brugsch in
den Monatsberichten der Berl. Acad., 1853, S. 722 и ел.
71 Rosellini, I, 2, p. 290; 4, p. 259 и т. д.
72 См.: Fabricius. Bibl. Gr., I, p. 116. Страбон (Strab., XVII, 806) говорит о
важном значении египетских преданий для астрономического изучения гре-
ков: ёах; oi i/ewragot aargoXoyot TragkXafiov, ттада ru>v iieSegiL'rjvevo'avTwv щ то
'EAA^vwov та tcov iegiojv \лто[1Ущата.
73 Diod., I, 46; он называет Гекатея Абдерского, у которого заимствовал
описание дворца Озимандии и многое из того, что находится в первой кни-
ге Диодора.
74 Главными источниками служит Тацит (Tacit., Hist., IV, 84), упоминаю-
щий лишь о Тимофее, и Плутарх, называющий также Манефона (de Isid et
Os.t p. 28; de sollert. anim, p. 36; Clem. Alex., Protr., § 48; Dionys. Perieg., 254
i
у
£ etc.); cf.: Guigniaud. Le Dieu Serapis et son origine; см. Tacit., de Burnouf, t. V.
oJ Paris, 1828. [Plew E. De Serapide. Regiomont, 1868. Uber den Ursprung des
Sarapis (Jahrb. f. Philol., 1874, p. 93-96); Lumbroso G. Del culto di Serapide
(Ricerche Alessandrine, I, Torino, 1871); Krall J. Die Herkunft des Sarapis. Wien,
1880. — Г. Kunepm.]
75 Tacit., Hist., IV, 84: Seleucia urbe Syriae accitum. Clem. Alex., Protr.,
p. 13, ed. Spanh: 'Wibiogoq fj,6vo$ ттада XaXevxecuv rebv ттдо<; ' Kvno%t\av то ayaXiLa
ILeraxSijvai Xiyet и т. д.
76 Известие по поводу Сераписа в Афинах относится, вероятно, к перво-
му Птолемею: ov ттада ПтоХера'юи &eov ka^yayovro.
77 См.: Aristides or de Serapide и Macrob., Sat., I, 20.
78 Spanheim ad Callim. in Cerer., Eckhel, Doctr. Num., IV, p. 30 sq.
79 Macrob., loc. cit. Если заодно с Весселингом и Энгелем (Kypros, I, S. 367)
у Диодора (XX, 21) вместо Никокля предположить Никокреонта, то мы име-
ли бы доказательство того, что культ Сераписа был уже до 310 г. введен в
Александрии. Однако, судя по монетам (Mionnet, Suppl., VII, p. 310, Imhoof-
Blumer, Num. Zeit., Ill, S. 344), не подлежит сомнению, что Никокреонт
Саламинский и Никокль Пафосский были царями в одно и то же время. Не-
известно, когда умер Никокреонт; он, начиная с 331 г., был царем; в 313 г.
Птолемей назначил его стратегом на Кипре; так как в 310 г. стратегом Кип-
ра был сын Птолемея, то надо предположить, что Никокреонт в это время
уже умер. Krall (op. cit., p. 55) подвергает сомнению известие Макробия,
утверждая, что вопрос, сделанный Никокреонту, относится не к Серапису
Александрийскому, а к Ваалу Кипрскому.
80 По Valer. Max., I, 3 культ Сераписа был запрещен во время консульства
Л. Эмилия Павла; тут разумеется отнюдь не консул от 535 (219 г.); Marquardt
(R. А., IV. S. 85) предполагает, что это был консул от 572 и 586 гг. (182 и
168 гг.), а Преллер (Rous Myth, S. 728) по Dio Cass. (XL., 47) от 704 (50 г.).
81 Эти слова приводятся в Antiq. Greg. (Account., p. 70) и в берлинском
папирусе, обнародованном Парфеем (Abh. der Berl. Akad., 1869, p. 12). Ка-
сательно дальнейших подробностей см. Lepsius (Abh. der Berl. Akad., 1853,
p. 45).
82 Вестерман (см. Paulys Realencycl., VI, S, 198 ff.) представляет интерес-
ный список поэтов, литераторов, философов и т. д.
83 Первый Птолемей уже основал эти учреждения, что подтверждается
не только известными словами Плутарха (ПтоХераТод о щагтод ovvayoyajv то
MovaeTov), но еще больше рядом совершенно достоверных комбинаций. —
Преллер (Jahns Jahrbucher, 1836. S. 176) опровергал, что персидские книги
переводились уже так рано: Ritsehl (Coroll de biblioth., p. 42) ссылается на
Плиния (Plin., XXX, 1): Hermippus, qui de ea arte (magica) diligentissime scripsit
et vicies centum millia versuum a Zoroastre condita, indicibus quoque voluminum
eius positis, explanavit. Остается опровергнуть возражение Преллера, кото-
рый под этим разумеет Гермиппа Беритского (из времен Адриана). Древняя
эпиграмма Птолемея (не то Эвергета II, не то Филопатора) в Vita Арата до-
казывает, что тут говорится о старом Гермиппе, об ученике Каллимаха:
ПауУ *Ну7)<г1ат1;те xai "Eqiinmos та хаУ aifyyqv
reiqea xai ttoXXoi ravra та (paivo^eva
/HflXots еухатеЬеуто.
84 Известие Диодора (I, 31) о том, что в Египте во времена самого цвету-
щего его состояния находилось семь (v. 1. восемь) миллионов жителей, а в
его времена считалось не менее того (v. 1. не менее трех миллионов), невер-
но передано; поэтому им и нельзя воспользоваться. Когда он посетил Алек-
сандрию (58 г. по Р. X.), то в одном этом городе находилось (XVII, 52) 300 000
свободных жителей, а почти сто лет спустя после того Иозеф (Ioseph., Bell.
Jud., II, 16, 4) говорит, что в Египте помимо Александрии насчитывается
7 1/г миллионов.
85 Herod., II, 177; Diod., I, 31: em rcov aq%aiuxv xqovcjv е'<т%е X(bfm<; afyoXoyovs
xai тгоХен; 7iXeiov<; rwv iluq'kdv xai oxraxiaxiXicov, щ ev та?$ hqaiq avayqacpalq
oqav eori xaraxexcoqio'fievov, em Se YlroXefMalov rov Aayov ттХе1ои<; tcjv rqi<rfivqtwv
(v. l.TQurxiXiwv) <bv то -nXffioq SiafMefievTjxev eax; rwv хаУ 7)fia<;xqovcjv. Изобра-
жая в своей 17-й идиллии (о времени этого произведения см. ниже) влады-
чество Филадельфа, Феокрит приводит 33 333 города: это, конечно, странное
число; его называют поэтическим; но что в нем поэтического? Им представ-
ляется не множество вообще, а просто круглое, близко подходящее к на-
стоящему количеству число.
86 Прежде в стране было множество разбойников и воров; Theocr., XV, 47.
87 Аппиан (Praef.y р. 10) приводит эти числа ex tcuv fiaaiXixibv avayqacpwv.
Касательно флота см. также: Athen., V, 203. Я разбирал этот вопрос в осо-
бой статье (Zum Finanzwesen der Ptolemaer in d. Abhandl. der Berl. Akad., 1882,
X
о
о
2С
Q
Febr.), также количество армии, в оценке которой Иероним (Ierome, In Dan.,
p. XI, v. 5 ар. Migne, Patrol, lat. XXV, 5, p. 585) почти совершенно согласен с
Аппианом. Мне кажется, что цифра 74 мириада талантов получена путем
умножения, исходя из 14 800 талантов годового дохода.
88 Это описание принадлежит Калликсену Родосскому; отрывок находит-
ся у Atben.,V, 196-203.
89 Арр., V, 1.
90 В папирусе значится тгтацгщ, т. е. подать или пошлина в 25 процентов
(Journ. des Savants, 1828, p. 484).
91 В Египте фараонов, как кажется, вовсе не было в обращении чеканной
монеты. Геродот (IV, 166) говорит, что в царствование Дария I египетский
сатрап Арианд чеканил серебряную монету, «такой же указной пробы, как
и золото царя», прибавляя, что царь, негодуя за это, велел казнить его под
другим предлогом. В этом известии, мне кажется, представляется спорное
доказательство против общепринятого теперь предположения касатель-
но биметаллизма в персидском царстве. В вышеупомянутой статье (р. 52)
я указал на то, каким образом Птолемей ввел медную монету вместо се-
ребряной.
9Z Diod., Ill, 43; Strab., XVI, 111.
93 Agatharchides. De mari Rubro (p. 48 в Geogr. min.; p. 66 ed. С Miiller).
Вообще можно все еще пользоваться трудом Шмидта de commercio et
navigatione Ptolemaeorum (Op., I, 123).
94 Athen., V, 208. См. Историю диадохов.
93 Liv., ер. XIV; Eutrop., II, 15 etc. Лик из Региона мог бы доставить досто-
верные сведения; судя по его вражде с Деметрием Фалерским (Suid., v.), он
т находился в Александрии не исключительно в качестве ученого.
t 96 Ammian. Marc, XIV, 8.
q_| 97 С. I. Graec, II, n° 2615, 2628, вероятно n° 2624; наверное n° 2620 (у шХк;
Tlayicov); 2617,2623 (то и другое из Китиона); 2639 (о? хата ЕоАо/а/ш, yegovaia).
Египетские царские монеты с ПЛ. SA. KI и т. д. приписываются кипрским
городам, инициалы которых на них отмечены; весьма сомнительно, чтобы
те, на которых значатся LT. LE. ЫГ. LAH, относятся к Птолемею I.
98 Я ссылаюсь на его право чеканить монету; ибо Боррель справедливо
заметил, что упомянутая у Mionnet, VI, р. 559, Sur quelques medailles des rois
de Cypre, монета с надписью MEN относится не к Кирене; а вычеканенный
на ней знак # не что иное, как кипрское Ьа, т. е. BaaiXevq; это встречается
также на монетах Эвагора, Пнитагора, Никокреонта Саламинского (Brandis,
Miinzwesen, p. 508, 510).
99 С. I. Graec, II, n° 2617, 2621. Тут говорится о ygafifiarev^ rwv Suvaiiecov
(2625). Такие правители (о ет ттоХеах;), как в Китионе, были, вероятно, во
всех городах на острове; они встречаются также в Селевкии на Оронте
(Polyb., V, 60), в Селевкии при Тифе (Polyb., V, 48); они, как кажется, пред-
полагались везде в политиях эллинистической эпохи.
100 Polyb., XVIII, 38, 8; XXVII, 12, 2.
101 BTTiTQOTTaveiv Kuqtjwjv (Paus., I, 7).
102 См. надпись в Journ. des Savants, 1828, p. 260 (C. I. Graec, HI, n° 5187,
5185). Впоследствии окажется иной вывод. Касательно монет Мага сошлюсь
на L. Miillers Mon. d'Afrique.
103 цетаоусцхах; EAAyvixTJi; aywyfjs xai (piXoo-oyrqaa*; (Diod., Ill, 6, 3). Strab.,
XVII, p. 823: OTiov o^vaovq veux; гол. Что это: «золотой дворец» или «золо-
той корабль»? См. вариант текста у Диодора.
104 Diod., I, 37.
105 Упомяну только о евнухе королевы Кандаки в Деяниях Св. Апостолов
и об эллинизированном царстве в Аксуме.
106 Предложу здесь вопрос: отчего Лагиды не пытались стать владетеля-
ми на аравийском берегу, подобно тому как сделал это в наше время побе-
дитель вагабитов? Греки населяли тамошние гавани до острова Диоскорида.
107 Об этой войне между 400 и 330 гг. см.: Thrige, Res Cyrenens, p. 198.
108 Ioseph., Ant. Jud., XII, 3, 1 и пр.
109Ioseph., Contr. Ap., II, 4.
110 В особенности интересно место, которое Иосиф (Ioseph., Ant. Jud.,
XIV, 7, 2) заимствовал из исторического творения Страбона. Исополития
иудеев подтверждается, между прочим, императорским рескриптом (см.
Ioseph., Ant. Jud., XIX, 5, 2). Во времена Филона в числе восьми миллионов
жителей в Египте (oi rrjv 'AXe^avSqetav xai ttJv x&gav '\ovbahi xaroixovvret;)
находился 1 миллион иудеев (Philo adv. Flacc, p. 971 sq.).
1,1 Помимо Эвгемера и других, о которых упоминает Иосиф (Ioseph., Cont.
Apion., I, 23), я имею особенно в виду Гекатея Абдерского (ПтоАе/ш/ф тф
Aayov ovyyzvoii&voq) с его замечательной Иудейской историей; дело заключа-
ется не в достоверности содержания, а в том, что Гекатей (но не эллинский
еврей следующей эпохи) сочинил ее; может быть, александрийские иудеи и
подмешали туда разные ложные известия, как, например, Софокловы сти-
хи у Clem. Alex., Strom., V, p. 257, ed. Sylb. (fr. 18), однако из Diod., XL, 3 (Fr.
Hecat., 13) видно, что Гекатей писал об иудейских делах.
112 Polyb., V, 86, 10.
113 Callixen. ap. Athen., V, 203.
114 Чрезвычайно интересно мнение Сципиона, посетившего в 136 г. Еги-
пет (Diod., XXXIV, 1): он особенно прославляет -щи ohqv тг\<; %шоа<; \meqoyt}v
щ еи SiaxsTrai що<; Tjye^iovia^ ao-cpaXetav те xai fieye%<; (Diod., XXXIV, 1).
п3 В описанном у Полибия (Polyb., XXXI, 3) пышном торжестве Антиоха
Эпифана, сопровождаемом блестящим смотром войск, упоминается о 20 000
македонян, 5000%аАха<пп$е£... oi Хвубреш eraJgot /7гтге?£ (1000 человек); по-
том то T(bv ovvrayiia, сверх того 1000 emXexrot, оТ<; ещхоХои$е1 то xaXovfievov
ayrrftia xQarurrov ehai Soxovv олхггща чСм iimkow, около 1000 человек, и т. д.
Тут встречаются старые прозвища ayr)ixat гетайров, друзей, как в войске
Александра.
ш В гарнизоне Магнесии находились рядом с отрядом фаланги (македо-
нян) персы под начальством Омана (С. I. Graec, II, п° 3137); в возвышенной
Персии в Ранде находилось 3000 персов и 3000 пехотинцев, 300 всадников
македонян и фракийцев (Polyaen., VII, 39). Сражавшееся при Рафии войско
состояло, по Полибию (Polyb., V, 79), из 5000 легковооруженных даев, кар-
манцев, киликийцев; из 10 000 человек, вооруженных по македонскому
образцу и навербованных по всему государству (в качестве фалангистов);
20 000 человек фаланги (т. е. македонян); 2000 стрелков и пращников, персов
и агриан; 1000 фракийцев; 5000 мидян, киссийцев, кадусийцев, карманцев
под предводительством мидянина; 10 000 аравитян под начальством ара-
12 История эллинизма
354
витянина; 5000 греческих наемников, 2800 критян и неокритян, 500 лидий-
ских стрелков, 1000 кардаков (т. е. персидских гоплитов — Arrian., II, 8, 6).
Но 6000 всадников не значатся в подробной росписи.
117 Арр., Syr., 62.
118 o<rot (гатдатта! т? imaqxai % voiloq%(li wnokomovro (Arrian., VI, 27, 4). См.:
История Александра.
119 Так, например, сирийская сатрапия была разделена следующим обра-
зом (по Посейдонию у Strab., XVI): северную часть составляла Селевкида с
четырьмя сатрапиями — Антиохий, Селевкии, Апамеи, Лаодикеи; к югу сле-
довала Келесирия, разбитая также на четыре сатрапии; вследствие пробела
в тексте мы лишены дальнейших сведений.
Polyb., V, 40, 7. Далее на Востоке это слияние властей постоянно соблю-
далось.
121 Polyb., V, 54, 12.
122 Полибий (V, 46, 7) называет Диогена наместником, а 48, 14 стратегом.
Составив список разных стратегов отдельных областей, я не мог добиться
никакого определенного вывода; всего замечательнее еще то, что впослед-
ствии Симон Маккавей встречается в качестве сгтдатуубд т% сгтдапа*; атто
KXlfiaxo<; Tvq'kdv ёщ Aiyimrov (Ioseph., Ant. Jud., XIII, 5, 4). Лофтус (Travels,
1857) сообщил из Суз следующую надпись на вставленной на обороте пли-
ты: По$ауода$ '' AiQiaragx011 <га)1што(ри\а1; 'AiQgeveiSov rov crrgarrjyov XovcriavTJq
rov eavroO (piXou. Звание стратега Сузианы встречается в надписях во вре-
мена Демосфена; оно относится к одному и тому же лицу, сыну Харикла
Пеанского, с двумя различными орфографиями:'AQgev7)tSrr}<; (С. I. Attic, II,
804 В. а. 17 et 808, р. 72) и 'AQgevelS^ (там же, 961, 11). В выданном в честь
? философа Зенона декрете, текст которого извращен, имя архонта 'AqqsviSov
^ в рукописи исправлено в 'AQgeveiSou.
JJ ш Polyb., V, 48, 12.
С
124 Polyb., V, 50, 10.
123 Ioseph., Ли/./ш/., XII, 5, 5.
126 Ioseph., Ant. Jud., XIII, 5, 4.
127 Так, например, Синопа (Tacit., Hist., IV, 84) при Скидрофемиде, Ге-
раклея до 281 г. при Дионисии и пр.
128 Iustin., XXVII, 1, 8.
129Posid. ap.Athen.,XUI, 527.
130 Posid. ap. Athen., IV, 175. Такая война была между Ларисой и Аламеей.
131 Например, Селевкия при Тигре (Polyb., V, 56). Приняв титул царя в
Малой Азии, Ахей обращается в таком смысле к городам (кто)цщ(гв yqa<petv
щдд та<; ттоХек;. Polyb., V, 57).
132 Polyb., V, 50 и 57.
133 С. I. Graec, II, п° 3137: договор должен также применяться к Tl^covt
xai то?£ шСри; то!<; твтаурЬо^ imo Ttficjva roTg imorax^eTa-tv аттд tyj<; (paXayyog
em ttjv (piiXaxTjv той xojqiov (Ibid., Hg., 103).
134 Об этом сохранились весьма скудные известия. Иудеи в качестве дани
платили Селевку I (по Sulp. Sev. Hist. Eccles., II, 26) 300 талантов серебром;
когда Антиох Великий вновь отвоевал Иерусалим, то герусии, священники,
храмовые писцы и певцы были уволены от поголовной и иной подати; посе-
лившиеся в городе были на три года освобождены от налогов, со всего на-
рода сложили одну треть дани. Иудейскому народу (по Макк., I, 10, 29) про-
щены были: подать, пошлина с соли, государственный налог, третья мера с
хлеба, половина с древесных плодов. Привоз леса для постройки храма осво-
бождался от пошлины. Ioseph., Ant. Ind., XII, 3, 3. — Аппиан (Арр., Syr., 45)
упоминает об em tcov що<г6Ъи)У\ Ioseph., Ant. Ind., XII, 5, 5: та fiaaiXixa
135 areXeiav Travrwv, ibv у шХк; xvgia earl (C. I. Graec, II, n° 2673).
136 Plin., VI, 11 и 17. О плавании по Каспийскому морю по поручению пер-
вых двух Селевкидов упоминается несколько раз Страбоном, Плинием и др.;
см., например, Plin., I, 67; VI, 21. Поликлет Ларисский в особенности интере-
совался исследованием этих стран; Мюллер (Scr. Alex., p. 120) справедливо
замечает, что это тот самый Поликлет, который впоследствии породнился
с македонским царским домом.
137 Этот торговый путь описывает Страбон (XI, 509) по Патроклу, иссле-
довавшему по поручению первых двух Селевкидов каспийские страны.
138 См.: Ritter, Asien, VI, 1. S. 689 ff.
139 Сошлюсь на слова Плиния (VI, 26): Seleucia condita a Seleuco Nicatore
in confluente Euphratis fossa perducti et Tigris. О попытке развести в Сирии
индийские пряности упоминает Ptolem., Hephaestion ар Phot, cod., 190, p. 486;
см. также Plin., XVI, 32; о больших конских заводах около Апамеи см.: Polyb.,
XXXI, 3, 6; Strab., XVI, 752 и т. д.
140 Strab., XI, 506; он прибавляет: exQvaoipoQovv tie Sia rijv eimogiav.
141 Филострат сообщает, как кажется, о довольно древней таможне в
Зевгме при Евфрате (Vit. Apoll., 20). Выше упоминалось об уступленной
иудеям пошлине за строевой лес. Сохранилось еще два-три такого рода изо-
лированных известия.
142 Арр., Syr. 58: халдеев называет магами.
143 Vitruv., IX, 4. Сто лет спустя после того последователь Кратеса Зено-
дот назвал Гомера халдеем (Schol. ad. Нот., II, XXIII, 79).
144 Justin., Mart, cohort, ad Graec, p. 34; см. Richter de Beroso, p. 12 sqq.
145 Ioseph., Ant. Jud., XII, 3, 1; см. О. Miiller, De Antioch., p. 28.
l44oseph.,Aw/./M^.,XII, 3,4.
147 Malalas, p. 235.
148 Известный поэт Эвфорион был здесь библиотекарем. Biogr., ed. We-
stermann, p. 73.
149 Moses von Chorne. S. 22.
140 Сообщу здесь немногие сведения, какие вообще можно было собрать
о царстве Селевкидов. Престол там, так же как в Египте, был наследствен-
ный, но лишь с условием, чтобы македоняне своею присягою узаконили это
право наследства (Арр., Syr., 61; cf., Ioseph., XIII, 4, 7). Там господствовала
та же самая Itrqyoqia. Царь совещался о государственньис делах (см. Ioseph.,
XII, 5, 5; Polyb., V, 41, 6; V, 50, 6 и пр.) в синедрионе, приглашая «друзей».
При дворе Селевкидов соблюдались, конечно, те же разряды родственни-
ков, друзей и т. д., какими отличались purpurati в Македонии, Египте и т. д.
Однако там, как кажется, присоединили еще, по крайней мере впоследствии,
почетные прозвища — брата, отца (Масс, I, 11, 31; II, 11, 1; Ioseph., Ant.,
XIII, 4, 9). Прозвище брата встречается, впрочем, также в Египте в одной
надписи седьмого Птолемея; см.: Journal des Savants, 1841, Decembre, и те-
12*
356
перь С. I. Graec, III, n° 4869. Корпус пажей (тта?$£<; (гсоратофиХахе^
Hephaestion ар. Phot., cod., p. 153b, 4, ed. Векк.) сохранился со времен Алек-
сандра и Филиппа.
131 Plut., defort. Alex., 62; cf. Megasthenes, см. Strab., XV, 709.
152 Benfey подверг сомнению этот поход Селгвка в Индию и до Палим-
бофры. И в самом деле, странно, что, проникнув победоносно так глубоко,
Селевк заключил далеко не почетный мир. Но разве в преданиях сказано,
что мир заключен был в Палимбофре? Нельзя полагаться на мнение Бен-
фея, будто всякое столкновение сопровождалось победою греков. Стоит
только вспомнить, какие утраты вследствие климата и тропических дож-
дей потерпело войско Александра в Индии. Во всяком случае предание о
сказанном походе не подлежит сомнению; о нем упоминает не только Plin.,
V, 17: reliqua inde (начиная с Гипаниса) Seleuco peragrata sunt; притом, разве
его бематисты могли бы измерить «для него» страну до Ганга, если бы он
не прошел там со своим войском? Страбон (XV, 698) положительно гово-
рит о тех, кто, /лет' ixehov (после Александра) тгедаледо) rov 'Tttclvkx;
TtQOtX&ovToq \Lb%qi rov Гаууои xai HaXifM^o^Qajv 7тдо<пат6дт)(га^; все это на са-
мом деле относится, скорее, к наступающему войску, нежели к посланни-
кам и торговцам; и Страбон (XV, 689) говорит, что от Инда до Палимбофры
xarafiefjbeTQrjTat xai eoriv 6$6<; fiaatXixr) oraSiiov iivqiujv, а оттуда до моря Эра-
тосфен по avayQayr) ra)v araSfiiov насчитывает столько-то стадий, с чем
соглашается Мегасфен, который действительно упоминал о хороших до-
рогах и верстовых камнях при них. Бенфей, наконец, того мнения, что
сказанный мир был заключен, прежде чем началась война; однако Аппи-
ан (Syr., 55) положительно утверждает: rov 'Ivbov ттедааад ъ-поХщ^ъу
? 'AvSgaxorrq).
^ m Главные сведения касательно этой уступки находятся у Страбона (XV,
qJ 688 и 724); там сказано, что подчинявшиеся прежде персам индийские обла-
1 сти, которые Александр отнял у Арианы и где он заложил xaroixlat^ iSiai<;,
12* были уступлены. В этом месте Страбон упоминает о парапамисадах, арахо-
тах, о Гедросии и о племенах по морскому побережью; в тексте, конечно,
оказалась ошибка; вместо rovriov kx iiiqovs ra>v ттада rov 'IvSov следует писать
ovrcov. Страна по сю сторону Инда до границы парапамисадов (Dschellalabad
при реке Кабуле), как кажется, тоже была уступлена; это обнаружилось по
одной из надписей Ашоки (возле деревни Kapur-i-giri, на день езды к северу
от реки Кабула при небольшом притоке Калапани); Masson, Narrative, в
Journ. of the R. A. S.. VIII, p. 293.
134 Strab., XV, 712. См. критику этих указаний у Дункера: Gesch. des
Alterth.,\U\ 4. S. 322.
133 По китайским известиям, это была ступа Foe-leou-cha (см.: Lassen, Zur
Geschichte der griechischen und indoscythischen Konige. S. 145).
756 At hen., XIV, 652, по Гегесандру. По расчету Бенфея Амитрохат был
царем от 288 до 263 или 260 г.; ср. V. Gutschmid, Zeitschr. D. M. Ges., XVIII.
S. 373. Царствование Ашоки простиралось до 227 г.
137 At hen., he. cit. и Phy larch, см. At lien, m I, 18.
138 Strab., he. cit.
159 Plin., VI, 17: cum regibus Indicis morati sunt. Может быть, такого же
рода посланника из Египта следует еще признать в Басилиде, которого
357
Agatharchides (de mar. rubr. ap. Phot., cod, p. 454, Miiller, 64) называет авто-
ритетом по части описания востока (та щ6$ аштоХад Ехата?о<;те хал BaaiXu;);
эта личность, об 'IvStxa которого упоминает Athen., IX, находилась в числе
тех, которые во времена Птолемея II посетили и описали Эфиопию (Plin.,
VI, 29 (35)). Выше было уже упомянуто, что Эвгемер, по поручению Кассанд-
ра, вероятно, также ходил в Индию.
160 Между прочим, сошлюсь на свидетельство Strab., II, 100. Замечу, од-
нако, что Страбон, следуя Eratosth., XV, р. 689, заявляет, что расстояние от
Палимбофры до моря определялось iia Ttov ашттХм tcjv вх ЬаАааатк Sia той
Tayyov ттотоцмС.
161 Strab., XI, 523.
162 Polyb., V, 55, 9.
163 Sia то що<; aXXyXoui; ehai rovg ttj$ Miftias xai rijq XiiQta<; fZaaikeaq (Strab.,
XI, 515). Здесь, по мнению Гроскурда, следует вставить слово k%$qov<;.
164 Polyb., he. cit.
163 См.: История диадохов.
ш Strab., XI, 528 и 531. Армянские историки вовсе не упоминают об этих
отношениях; по их словам, древняя туземная династия Гайганиев заверши- I ^
лась смертью Ваге, павшего в борьбе с Александром. Moses, Choren., I, 30: | х
Deinceps, продолжает историк, usque ad Valarsacis in Armenia Imperium (149 r.
до P. X.) nihil omnino certi tibi narrare habeo. Etenim tumultu erant omnia о
confusa abisque adversus alium dimicabat, ut regionis Imperium teneret. Мы g
впоследствии займемся замечательным, возникшим со времен независимо- jo
сти страны, религиозным движением в Армении. _
167 Memn., p. 22. I g
168 Polyaen., IV, 17, где стоит 'Aqo-afirjs; хотя и не сказано положительно, '
что он основал крепость Арсамосату (у Polyb., VIII, 25 ошибочно значится l-g
'Аэростата), но, судя по названию, это вероятно. Я умолчу о предположени- §
ях Фрёлиха и др. касательно образования Арсамом нового царства Арме-
нии; заметка Мемнона, ускользнувшая также от Висконти (Iconogr., II,
р. 243), наводит на действительную связь событий.
169 Eckhel, III, 204; Mionnet, IV, 454, 1, также: Rollin, Cat. d'une collect., de
Med., I, p. 416. Медная монета с надписью ВА21ЛЕТ2 АР2АМ0Т. Иной
тип представляет монета Сибилиана (Wiener Numism. Zeil., II, S. 241) с над-
писью BAXIAE... Ш2АМ0Т; он приписывает ее Утхаме, отцу царя Абгара
Эдесского.
170 Strab., he. cit.
171 Polyb., VIII, 25; Полибий придает ему здесь титул /За<пХви<;.
172 См.: История диадохов.
173 Strab., XII, р. 534.
174 Diod., XIX. 40; ср. не очень-то основательный трактат Hisley, Historia
Cappadociae. Впрочем, Лнафас (Онофас у Ктезия) не значится между се-
мью персами (Herod., Ill, 70).
175 Strab., XV, 733.
176 Strab., XII, 535; тут Вульгата ошибочно называет божество Kofiava.
В рукописях значится Ма; это была, вероятно, богиня луны; Cesar de bello
Alex., 66 называет это sanctissimum Bellonae templum.
177 Strab., XII, p. 536; cf. Philostrat., Vit. Apoll., I, 6 etc.
358
178 Между прочим, см. в особенности Polyb., V, 43, 2; Plato de leg.. Ill,
p. 695 доказывается, впрочем, что это сказание возникло не вследствие лишь
оппозиции против македонских царей.
179 Фаворин у Diog. Laert., Ill, § 20; правда, надпись там гласит: M&Qi8arr)<;
о 'PoSofiarov Пед<гг)<; Моисган; eixova avebero ПЛатал/о£. XeXaviajv етго'гцо-е. Это
тот Митридат, сын Ариобарзана, который со своими тремя сыновьями око-
ло 368 г. получил право аттического гражданства (Dem. Arist., § 202).
180 Арр., Mith.y 8, по Иерониму, как уверяет он; Trogus (fr. 7, 2) говорит:
пес quisquam successorum ejus пес posterorum. Оба они пользовались, веро-
ятно, Посидонием, у которого Аппиан заимствовал имя Иеронима.
181 По крайней мере сто лет спустя после того в Пафлагонии были свои
династы.
182 Судя по вифинской эре, начало которой относится ко времени наше-
ствия галатов, надо полагать, что Зипет принял царский титул, вероятно,
тотчас же после удачных войн с Лисимахом (Memnon., p. 20); см. ниже и
Историю диадохов.
183 Polyb., IV, 46. Тилис находится близ Гема; см.: Steph. Byz. v. TuAi£.
184 Iustin., XXV, 1, 3; fugatisque Getarum Triballorumque copiis.
185 Polyaen., IV, 16.
186 de Lagidarum regno, p. 24 (где говорится о Qqiixeq xai FaXarat ex rcov
xaToix(DV xai tcov imyovwv). В одном из парижских папирусов упоминается о
ПтоХе(ш1од тоО 'AjtaSoxov Qqaxoq\ в одном из демотических папирусов гово-
рится о Деметрий, сыне Ситалка, и т. д.
187 С. I. Graec, II, п° 2058. Страбон (VII, 293) уже заметил, что набеги
кимвров до Меотиды не что иное, как гипотеза Посидония для объяснения
? киммерийских преданий (ov xaxGx; eixa&i). — Я в тексте умолчал о греках на
^ севере от Понта и именно о боспорском царстве; впоследствии, по поводу
о. Митридатовой войны, мы вернемся к этому предмету
188 Diod., XVIII, 12: eamavt^e xai oj MaxeSovia orqaTiwrajv ttoXitixcov Sta то
ттХуЬо^ T(bv aireoTaXfievajv e\<; ttJv 'Aaiav em biaboxh^ ТЖ arqaria<;. Этим обез-
людением только и объясняется то, что впоследствии в прекраснейшей об-
ласти Македонии, в Эмафии, главный состав земледельческого населения
состоял из галлов и иллирийцев (Liv., XLV, 30).
189 См. мой трактат о царе Монунии в Zeitschrift fiir Alterthumswissenschaft,
1836. Nr. 104.
190 Polyb., V, 22 и пр.; Liv., XXX, 42 и пр.
191 Liv., XLV, 32.
192 Liv., XLV, 6.
193 Plut., Aem. Paul.t 28; Liv., XLV, 18, 29. Судя по этому, дань ov irXeov tj
SnrXao-tov то?£ fiaatXevmv eiaecpeqov, в римскую эпоху составляла 100, а преж-
де, следовательно, выше 200 талантов. Polyb., XXXVII, 9, 13: MaxeS6ve<; \iev
yaq into 'Paj/m/W ttoXXu>v xai {leyaXcjv ererevxeio-av <piXav$qomcbv, xotvrj {Lev xai
Travre<; aTroXv$evre<; \Lovaq%ixGsv еттауратал/ xai cpoqwv xai fieraXa^6vre<; атто
8ouXeia<; ороХоуощеишд eXevbeqiav, ibia be naXiv xai та тгХеТота exXvbevre<; ex
lieyaXwv — все следующее за сим пропущено; этот пробел можно воспол-
нить по Liv., XLV, 30, 32.
194 По: Diog. Laert., VII, 1, 8.
195 Liv., XLH, 52: a pueris eruditi artibus militiae.
359
m Впоследствии придется упоминать о многих городах с именем Анти-
гонии.
197 Так, например, legationes civitatium — venerant ad pecunias pro faculta-
tibus quaeque suis ac frumentum pollicendum ad bellum (Liv., XLH, 53). Иначе
излагается у Liv., XLIV и XLV.
198 Polyb., XXIV, 8 (XXIII, 10, 4, ed. Hultsch), а по его словам, Liv., XL, 3.
199 Locationes praediorum rusticorum (Liv., XLV, 18). Эти locationes анало-
гичны, вероятно, с арендной системой в Сицилии: lege Hieronica numerus
aratorum quotannis apud magistratus publice subscribitur (Cicero, Ver., Ill, 51).
Об этих subscriptiones Gottling (в программе Иенского университета, 1834)
упоминает по поводу надписи в Акре, где говорится об итгоудсирее*; (С. I.
Graec, III, n° 5425). Дегенкопф (De lege Hieronica, 1861, p. 47) дельно воз-
ражал Гётлингу; но для поддержки своего иттоудасрей*; bixmv ему незачем
было ссылаться на Аристофана (Equit., 1256), а толкующие это место схо-
лиасты еще менее того могут служить для объяснения надписи.
200 Главнейшим доказательством служит право македонской армии, пред-
ставляющей собою вооруженный народ. Необходимо помнить также, что
Аристотель говорит о пенестах Фессалии, об илотах Спарты, но ничего по- I ^
добного не приводит в отношении Македонии, хотя часто упоминает об этом | х
царстве и в особенности о сходстве его со спартанским,
201 kboxovv хата v6(iou<; ттоХтием... ttclv ofioiax; ktioiovv то щоятаттщеиоу rdiq о
framhxois (Polyb., IV, 76, 2). Г8
202 Liv., XXXIV, 51. »
203 Так говорит, между прочим, Polyb., IV, 9, 4; XVIII, 3, 9. 3
204 См. список Thessalorum reges у Euseb., Arm. (Porphyrius, fr. 5 ap. I §
С Muller, Hist. Gr.t III, p. 701). О союзных монетах магнетов, ахейцев в Фес-
салии см. Weil (v. Sallets Numism. Zeit., II. S. 172 ff.). Lg
205 Polyb., IV, 44, 9. §
206 О союзной конституции см.: Boeckh in С. I. Graec, I, 726, sqq., и ' *
Willamowitz, Hermes, VIII. S. 437; Заметки по поводу новой надписи, пред- /*£
ставляющей поучительную картину крайнего упадка; надпись, конечно, от-
носится к следующему столетию.
207 Дикеарх в В/о$ 'ЕААа#о$ (р. 145, ed. Fuhr.). Весьма знаменательно, что
Дикеарх, упоминая о девяти городах и называя Анфедрн, умалчивает об
Орхомене, о Лебадее и Херонее. О других подробностях^ из этой эпохи ср.:
Athen.y X, 418 из Эратосфена и др.
208 Polyb., XX, 4.
209 Polyb., XX, 6. /
210 Diog. Laert., II, 140 и 143.
211 Менедем Эретрийский находился еще в сношениях с фрурархом Ги-
ероклем, а вскоре после 278 г. философ, вероятно/ умер (Diog. Laert., II,
127, 143).
212 См. (С. I. Attc, II, п° 323) декрет, изданный весною 277 г., касательно
устроенных вместе с этолянами в честь Зевса Сот*ра и пифического Апол-
лона агон в виде \тщщ\ьа тщ<;/ш#т?£ тг\<; yevoiikvrjk що<; той<; /Зад/Задои*;... ку
ovq xa\ frfjfjux; е&ттертте)/ тои<; те етХехтои; xai tov<; ijmeiq ovvayajvio-ofievovg vttbq
tt}£ xoivfjs (rorrqiaq. Haussoullier (Bull, de Corr. He/llen., 1881, p. 301) сообщил
надпись, судя по которой хиосцы издали постановление в ответ на подоб-
ный отзыв, и прибавляет к искаженной аттической надписи несколько ин-
тересных фактов.
213 Dicaearch. ed. Fuhr., p. 142.
214 хата е'Э]/77 (Arrian., I, 10).
215 Polyb., XVII, 5, &:ayeiv\a%uQovex\a(pvQov, они говорили, скорее можно
ttjv AhcjXlav ex -щ<; AhajXiag aigeTv, нежели отменить этот закон.
216 Polyb., V, 8; Uv., XXXV, 25. Судя по способу изложения, каким Поли-
бий пользовался обыкновенно по поводу избрания стратегов, заметка у Ге-
зихия: хьацмр ттатд'и!) rcbv AhtoXibv та$ aq%a<; xva^euovra)]/ (из Софоклова
Мелеагра) ни под каким видом не могла относиться к этому избранию, и
тем еще менее, конечно, к гиппарху и писцу.
217 Выражение то xoivovto A/tojAojv, сколько мне известно, встречается впер-
вые в надписи, посвященной убийце тирана Килона, о котором упоминает
Павсаний (VI, 14, 4), из эпохи царя Антигона, сына Деметрия (Paus., V, 5, 1).
218 Agatharchid. ар. Athen., XII, 527.
219 Strab., VII, 324 (fr. 227).
220 ex rov aq%txov yivovq (Thucyd., II, 80).
221 Aristot., Polity V, 8, 5; 9, 1; Plut., Pyrrh., 5.
222 Iustin., XVII, 3; Plut., Pyrrh., 1.
223 Нельзя решить, до какой степени простиралась зависимость, но уж,
наверное, не до обязанности снабжать войско, которой подлежали князья
пеонов и агриан. После упомянутой в тексте неудачи Эакида Кассандр в
форме симмахии (Diod., XIX, 36, 5) отправил стратега в качестве эпимелета
в Эпир.
| 224 Неизвестно, до каких мест к северу простиралась приморская область
? Пирра. Иллирийские племена, обитавшие к западу от Македонии и к северу
^ от Эпира, около 312 г., находились под владычеством частью тавлантинско-
о. го князя Главкия, частью иллирийского царя Клита или его наследника.
к
rz
Пирр в детстве действительно пользовался убежищем у Главкия; в 302 г. он
был еще там на свадьбе, которую праздновал сын Главкия (История диадо-
хов); однако, вернувшись в Эпир в 295 г., он, без сомнения, присвоил себе
всю Тавлантинскую область, ибо Аппиан (Арр., Illyr.) утверждает, что он
обладал берегом^, на котором находились именно Аполлония, Эпидамн и
основанный тирацом Дионисием I Лисе Керкиру Пирр в 295 г. уже получил
в приданое от Агафокла Сиракузского и при помощи тарентинцев (Paus, I,
12, 3) отстоял ее в борьбе 288 г. против Деметрия (История диадохов, прим.
93). Со стороны Кандавийских гор границы с Македонией то и дело меня-
лись. К северу область Пирра граничила с иллирийским царством; около
290 г. он уже женился на Биркенне, так как сын ее Гелен в 274 г. уже мог
остаться с гарнизоном в Таренте. Биркенна признается дочерью иллирий-
ского царя Бардилиса,, вероятно, наследника Клита (История диадохов,
прим. 92). Таковы были владения Пирра около 280 г. Дарданский князь
Монуний воспользовался его отсутствием и нашествием галлов, с тем что-
бы распространить свое царство за пределы Диррахия.
225 Павсаний (I, 9, 9) говорит: оТа Srj та 7гоЛЛа sxeTvog епХаиато.
226 Lorentz, De civit. vetYTarent., p. 49.
227 Polyb., X, 1, 3 и вообще Lorentz, p. 16. 71.
228 Florus, I, 18. \
361
2
229 Plin., XXXI, 41: вообще его торговля с сельским населением внутрен-
ней Италии, а именно с самнитами, была, конечно, значительна; Страбон
(V, 250) считает тарентинской выдумкой, будто спартанские колонисты при-
соединились к самнитам, xoXaxevovrwv oyJtqovq xai fieya bvvaiiivov; av$qu}Tto\j$
xat (ща e^oixeiovfjLei/(ovy оттого что они в состоянии были выставить 80 000
пехотинцев и 8000 всадников.
230 Plin., XXXIV, 6: С. Muller, Aeginetica, p. 80.
231 Cato ap. Festum s. v. pascuales oves, p. 242. Varr., De re rust. П., 2, 18. Об
улучшении породы см. Colimella (VII, 2). Varron (loc. cit.) упоминает о мытье.
232 Plin., VIII, 73: quae graeci pecoris appellabantur. Columella VII, 2: optimas
Tarentinas. Тарент мог воспользоваться хозяйственными условиями овцевод-
ства в больших размерах лишь тогда, когда область его распространилась по
равнине до горных вершин (Nitzsch, Die Gracchen. S. 15); неудивительно, что
в то время, когда существовал еще Сибарис, там главную роль играли ми-
летские шерстяные изделия.
233 Главным источником для истории этой экспедиции помимо Феопомпа
служил Лик из Региона, живший впоследствии в Александрии; и в самом
деле, ссылка Аихо<; kv тф шд\ 'AX&^avbqov относится не к македонскому, а 7\
эпирскому царю; это видно из того, что там упоминается о Xagivo} fS6e<; (Suid. x
Phot. v. Schol. Aristoph., Рас, 924; cf. Athen., IX, 376) и о городе 2xiSgo<; (Steph.
Byz. v.), колонии Сибариса (Herod., VI, 21). I <&
234 Strab., VI, 280. Г8
235 denunciantes Samnitibus Romanisque ut bellum omitterent; per utros L»
stetisset quo minus discederetur ab armis, adversus eos se pro alteris pugnaturos 3
(Liv., IX, 14). Мы не знаем, откуда Ливии почерпнул это замечательное из- ш
вестие и к какой эпохе относится этот источник. 3
236 Нельзя признать достоверным то, что рассказывают Liv., VIII, 27, a Lg
вслед за ним Zonaras, VIII, 2 и Orosius, III, 22, будто Терент подстрекал к | §
этой новой войне.
237 Diod., XIX, 70. Paus., I, 13, 3.
238 Невозможно определить с точностью время этого договора; относи-
тельно времени призыва Клеонима также нет никакого известия помимо
того, что упоминается об этом у Диодора (XX, 104). Ливии (Liv., X, 2) го-
ворит, что консул Эмилий (302) изгнал Клеонима из Гйрии и из области
салентин; он заявляет, будто встретил in quibusdam annalibus... Cleonymum
priusquam confligendum esset cum Romanis, Italia excessisse, затем излагается
поход Клеонима к лагунам при устье По и до Патавия. Nitzsch (Die Rom.
Annalistik. S. 196) также не в состоянии указать на источник этого странно-
го известия у Ливия.
239 Это почетное для Агафокла свидетельство опирается на слова Polyb.,
IX, 23, 2 и XV, 35, 6.
240 Athen., XIV, 632, по Аритоксену, который был родом из Тарента.
241 Plin., XXXIV, 6: Lege perlata in Stenium Statilium Lucanum. Valer. Max.,
I, 8, 6 называет его Статием Статилием.
242 Узнав, что тарентинцы и другие снаряжались на войну с ними, гово-
рит Dio Cass, (fr. 144), «они отправили щ та$ шХщ тек; <гищ1а%18а<; ». Судя по
дальнейшим событиям, это могли быть только луканы.
243 Polyb., II, 19.
Я
362
244 Dio Cass. ар. Mai, Script, vet. nov. coll., p. 168.
w Polyb., Ill, 25.
246 Весьма замечательное место у Полибия (I, 3, 3) гласит: kv fjbiv ovv тоТд
що tovtojv xQOvoig (bcravei (rnoqabag elvai owef$aii/e rag rrjg oiKovfieyrjg irqa^etg Sta
та кал ката та$ em/ЗоХад, ет\ Se ovvreXeiag avrcov, wg ка\ ката тотюид hacpeqeiv
ёкаота таЬ Trerrqayiievujv. 'Атсо tie toutcdv tcov Kaiqcbv otovei a-oj^iaToeiSTJ ovy$aivei
yiyvetrbai ttjv \<rroqiav, (ть{1-пХкке(тЪа\ те та£ 'iTaXiKag ка\ AiftvKag -rrqa^eig та?^
те ката ttjv ' Aaiav ка\ тш^ 'EXXyviKaTg ка\ щод е\ yiyveaSai теХод ttjv avacpoqav
a/navT(DV.
ГЛАВА ВТОРАЯ
xU\.,Epit., XI.
2 Appl., Samnit, 6; Gall., 11.
3 Ливии (Liv., Epit.y XII) говорит, что лишь после нападения тарентин-
цев на римский флот Samnites defecerunt. Это, однако, никоим образом не
может служить хронологическим определением.
4 Polyb., II, 19 говорит: «после битвы при Сентине прошло десять лет»;
следовательно, осада была не в 283 г. до Р. X.; так как при Сентине срази-
лись летом в 295 г., то она началась по прошествии лета 285 г. Судя по сле-
дующему известию, я предполагаю, что Метелл был претором в 284 г.
3 Судя по Epitome Ливия и по Орозию, который следует ему, посланни-
J ки были убиты перед началом войны под Аррецием. Augustin, de civ. Dei.,
? Ill, 17 также заимствовал у Ливия. Niebuhr (III, S. 500) заметил, что Арр.,
^ Samnit, 6, поддерживает показание Полибия.
О. 6 Polyb., loc. cit.; Арр., loc. cit.
c ' 7 Polyb., II, 20; App., loc. cit.; Eutrop., II, 6; Floras, I, 13; Orosius, III, 22.
■■-jj£. Вождем вадимонской битвы Аппиан называет консула Домиция Флора, а
Евтропий — консула Долабеллу. Нибур предполагает, что, вероятно, они
вместе участвовали в бою.
* Vict, de vir illustr. упоминает об овации, сделанной М. Курию Дентату,
победителю луканов. Нибур полагает, что это было в 462 или 463 г., т. е. или в
год битвы под Аррецием, или в предшествовавший ему; в последнем случае
Дентат был диктатором. Если основываться на таких предположениях, то 283 г.,
т. е. год спустя после его преторства, будет, пожалуй, более подходящим.
9 Доказательством того, что эта война относится к 282 г., служит то, что
Frontin., Strat., I, 2, 7 называет консула Эмилия Павла (ошибка, которая
встречается также у Плутарха, Parall. min., 6). А кроме того, упомянув о
вадимонской битве, Полибий положительно говорит, что война продолжа-
лась ev тф ката ттодад kvtavTco и что она кончилась на третьем году прежде
переправы Пирра в Италию (280 г.) и на пятом прежде уничтожения галлов
при Дельфах (в исходе 279 г.). Он мог назвать этот год пятым только в том
случае, если победа при Популонии выпала прежде половины лета 282 г. и
относится к Олимпиаде 124, 2.
10 Valer. Max., I, 8, 6; Ammiam. Marc, XXIV, 4, 24. Клинтон, III, p. 2 no
ошибке относит эту победу Фабриция к 278 г.
к
363
11 Plin., XXXIV. 6.
12 Dionys. Hal., XXXVIII. 17, ed. Tauchnitz.
13 App., Samnit., 1 и Dio Cass., fr. 145 в отношении этих событий, в сущнос-
ти, согласуются с Dionys., XVII, 6, о чем я и не упомянул бы, если б предполо-
жение, будто и тот и другой постоянно следуют преимущественно Дионисию,
подтвердилось.
14 Flor., I, 18 и Dio Cass., fr. 145 говорят: Atovvata ауоутед; по этой фразе
нельзя, правда, с точностью определить время.
15 По выражению Аппиана кЪвато tt)v fieyakTjv 'EAAi&x нельзя догадать-
ся, с какою целью римляне выслали свой флот. Может быть, они имели в
виду наблюдать за Тарентом, с тем чтобы охранить Фурии. А может быть, у
них был и другой замысел.
16 Аппиан говорит: от* "EAA^ves ovrtq km 'Pa)fiaiov<; xari(pvyov avrt <r<p(bv.
Следовательно, Фурии обратились к Риму, не прибегая сперва к помощи
тарентинцев против луканов. К сожалению, нельзя узнать ничего опреде-
ленного об отношениях одного города к другому. Невероятно, чтобы Та-
рент решительно предал Фурий луканам (286 г.).
17 Dionys. Hal., XVII, 10 подтверждает это; а за ним App., Samnit., I. 2; Dio | ts
Cass., fr. 145: ттдоота<; тн; тф Поотоир'кр ха\ хифа<; karov е^е/ЗаХе.
18 Это известие заимствовано из Valer. Max., II, 2, 5 (прежде чем Фабий
вошел в театр, один из послов был urina aspersus), следовательно, по Ливию; 3
Polyb., I, 6, 5 говорит только: Sia ttjv ei<; tov<; ще<феита<; aoiXyeiav, по крайней ю
мере, если Ацьелта в Suid. не есть отрывок из Полибия, в чем я сомневаюсь. bo
19 Дионисий Галикарнасский говорит: аттепХгио-а». У Ливия (Epit., XII) и g
Оросия стоит: pulsatt sunt. §
20 Dionys. Hal., XVII, 10; App., Samnit., 7. О затруднительном положении °
Рима и об опасении его относительно исхода таких сложных войн можно g
себе составить понятие по известиям, какие сообщают Orosius (IV. 1) и Г§
Augustinus, de civitate Dei, III, 17: они говорят, что вооружены были даже ' *
пролетарии; если бы только эти известия были лучше засвидетельствованы. /Я
21 Zonaras, VIII, 2.
22 App., loc. cit.
23 См.: История диадохов.
24 Так излагает это событие Dionys. Hal., XVIII, 13 и 14; Плутарх (Vit.
Pyrrh., 13) взял это не из Дионисия.
23 Весьма знаменательно следующее выражение Плутарха: тарентинцы
отправили послов oxjx avrcov \lovov оААа хал t&v 'IraXtarrcbv.
26 Paus., 1,12: эта заметка, как видно по сравнению с Polyb., XII, 4, 6 (Tim.,
fr. 151), наверное почерпнута из Тимея. Красивая серебряная монета
ВА21ЛЕТХ ПТРРОТ (с головой Ахилла на лицевой, а на оборотной сторо-
не с приносящей оружие Фемидой на морском коне, подобно тому как на
золотых монетах бруттиев), по весу (8,4 г.) относится не к той монетной
системе, к которой принадлежит тетрадрахма с такою же надписью и с голо-
вою додонского Зевса на лицевой, а на оборотной стороне с сидящею Герою,
поднимающею свою вуаль (15,56 г, по каталогу Берлинского нумизматичес-
кого кабинета, п° 447; тогда как вес той же монеты Leake определяет в 8,44 г.,
Thomas — в 8,35 — по Моммзену R. Munzwesen, S. 131).
27 Plut., Pyrrh., 13.
28 Fasti triumph., a. u., 473.
29 Klausen, Aeneas und die Pi'tiaten. S. 439 ff.
30 Это можно предположить потому что у Пирра в Италии были фесса-
лийские всадники (Plut., Pyrrh., 17). Однако в Каноне фессалийских царей
после Лисимаха тотчас же следовал Птолемей Керавн (Euseb. Arm., I, p. 246,
ed. Schone).
31 Iustin., XVIII, 1: iterata Tarentinorum legations
32 Iustin., loc. cit.: additis Samnitum et Lucanorum precibus.
33 Zonaras. К этой экспедиции Эмилия относится отрывок Дионисия Га-
ликарнасского (XVII, 12 (fr. Vat.)), где выражение: agovga<; ax^iaTov уду то
amxov §kgo<; e%ov<ra<; указывает на точное время; там жнут в начале июня.
34 История этой экспедиции Пирра в Италию и Сицилию дошла до нас в
жалком виде. По многим дошедшим до нас чрезвычайно противоречивым
сведениям, можно видеть, что в древности имелись о ней обильные и с раз-
ных точек зрения передаваемые известия. Невозможно, к сожалению, вся-
кий раз с достоверностью указать на подлинные источники. На первом месте
следует поставить fiaatXtxa v-noiMVTjfiara (Plut., Pyrrh., 21) или egyojv
imoiLvrjfmra (Paus., I, 12, 3); Dionys. Hal. (XIX, 11) уверяет, будто Пирр сам
писал их; однако, судя по словам Павсания: йгп $е avbgacri fitfiXia ovx imcpavktriv
ei<; avyygatpTjv H%ovra ктудацща egycjv imofLvrjfLara ehat, надо предполагать,
что не сам, отличавшийся, по крайней мере, как тактический писатель, Пирр
сочинил их; однако они, конечно, были писаны по его указаниям; во всяком
случае они были богатым источником; ими пользовались как Дионисий, так
и Павсаний. — Многие ссылки удостоверяют в том, что Иероним Кардий-
ский в своем обширном историческом творении также писал об этой войне;
§ I его пристрастие к Антигону не могло в этом случае пройти без влияния (Paus,
^ I, 13, 8). — Чрезвычайно важным автором был, кажется, Проксен, без co-
ol мнения современник Пирра; замечательно, что помимо 'H-neigamxo?*; он на-
писал также трактат -лед} тгодшу XixeXixwv (Steph. Byz. v. Геуа) и еще другой
Aaxwvwr) iroXireia (Athen., VI, p. 267); надо предполагать, что оба сочине-
ния находились в связи с обеими экспедициями Пирра. — Об 'H-netgwrixoTs
Критолая достаточно прочесть сказочную историю у Plut., Parall. min., 6.
'HmtgiDTtxa Филохора (fr. 186, 187) (имя Филостефана, которое приводится
Гарпократионом, необходимо заменить другим согласно с текстом в сокра-
щенной, но древней Гейдельбергской рукописи) были, вероятно, весьма по-
учительны, если они только заключали в себе также эту войну; мы увидим,
что Филохор принимал участие в политических осложнениях Афин против
Македонии; он пережил Пирра десятью годами; в отрывке о Сибарисе
(fr. 207, см.: Athen., IX, р. 393) встречается, может быть, слабый след о том,
что он писал также об италийской войне. Об остальных 'НттещатхоТд я умал-
чиваю. — Относительно сицилийцев и италиотов следует упомянуть специ-
альное сочинение тавромейца Тимея (Dionys. Hal, I, 6; Cic. Ер. ad amicos, V,
12; Polyb., HI, 72), из которого Диодор и Трог заимствовали, как кажется,
свое описание. —Не подлежит сомнению, что '1таА/ха Антигона (Каристия,
как видно из перечня Dionys. Hal., I, 6) также заключали в себе эту эпоху,
которую автор застал молодым человеком. — Написавший тур YIuqqov iaroglav
щ 'IraXiav xai XtxeXiav Зенон (Diog. Laert., VII, 35) был тот самый родосец,
которого так строго порицал Polyb., XVI, 15 sq. — Замечательно, конечно,
z
О
365
то, что о Пирре писал даже карфагенянин Прокл, сын Эвкрита; Paus., IV,
35, 3 прямо ссылается на его мнение о военном таланте Пирра; правда, но-
вейшие издатели смотрят на это место как на глоссу; другое (II, 21, 7) место
из Прокла, видимо, относится к рассказу о смерти царя. — Понятно, что в
Риме сохранилось много воспоминаний, но верно также и то, что там устное
предание повело к извращению фактов. Фабий и Цинций, вероятно, допол-
няли официальные показания тем, что им рассказывали очевидцы той эпохи;
в отрывках из летописей Энния ясно просвечивает римский оттенок в изло-
жении. Сто лет спустя после того писали К. Клавдий Квадригарий и Валерий
Антиат, оба без всякой критики, и я упоминаю о них здесь потому только,
что писатели иногда ссылаются на их авторитет.
35 По искаженным преданиям нет никакой возможности составить себе
ясное понятие о фессалийце Кинее и об его отношениях к Пирру. Он от-
личался не только красноречием и политическим дарованием, но также и
преданностью царю. Это было одно из многих положений этой крайне тре-
вожной эпохи, свидетельствовавших о том, что цари признавали, что про-
свещение есть сила. Киней, память которого изумляла всех, славился также
как писатель. Помимо трактата о тактике, известного еще Цицерону, он на- I ^
писал, кажется, еще 0еттаА/ха (Steph. Byz. v. AoSojw}, JE(pvga). Киней снача- i
ла был против экспедиции в Италию. Странная его беседа с царем, которую
сообщает Плутарх, заимствована, вероятно, у Дионисия Галикарнасского, о
хотя Dio Cass., fr. 38 ссылается при этом на Плутарха, в чем не было бы го
никакой нужды, если бы, как полагают, Дион следовал преимущественно jo
Дионисию. Эта беседа, наверное, вышла не из хорошего источника, никак _
не из Иеронима; она слишком бесцветна, мало касается политических ослож- §
нений известного периода (так, между прочим, rwv vvv v^qi^ovtcjv ttoXziaIcdv '
может быть отнесено к одному только Селевку, хотя вовсе не соответствует I g
ему); это не что иное, как риторическое отступление и совершенно во вкусе Г§
Дионисия Галикарнасского.— Впрочем, отрывок из rofiagia Аристонима (см. *
Stob., Flor., I, p. 257, ed. Lips.) относится к той же беседе; Themistius, Or. X,
p. 167, Dind. (вероятно, по Плутарху) также намекает на нее и т. д.
36 Об этих условиях можно заключить по поступкам царя при его появ-
лении в Таренте; вышеупомянутый пример Агиса служит доказательством
тому, что подобные концессии в Таренте не были делом неслыханным; в
Греции Филиппу и Александру передана была такая же власть для борьбы
с варварами.
37 Zonaras: oYxaSe aurixa avaxoiiio'Syo'eoSai ecprj xai ev ra?<; avvBrjxaig щоа-
reSijvat тгетго'щхе то 1Щ ттедапедсо rrj<; %8eia<; ev ryj 'IraA/p airrwv xaTcur%e$7Jvai.
38 По словам Плутарха, Киней сам перевел туда войска. Зонара, который
в этой части своей истории представляет лишь дельное извлечение из Дио-
на, различает одно посольство от другого; он говорит, что Милон пришел
/ььет' ои ttoXv.
39 Zonaras; Frontin., I, 4, 1.
40 Trog., Pomp, ep., XVII: Ptolemaeus Ceraunus — bella cum Antiocho et
Pyrrho composuit, datis Pyrrho auxiliis quibus iret contra Romanos defensum
Tarentum.
41 Так говорит Iustin., XVII, 2; XVIII, 4, если только при этом бракосоче-
тании не произошло смешения Птолемея Керавна с его отцом. Так как Пирр
5
*>
366
вышел в море с меньшим числом всадников и слонов, нежели здесь показа-
но, притом же положительно подтверждается (Paus., I, 12), что взятые им с
собой слоны были его собственные, отнятые им у Деметрия, то можно по-
думать, что македонские вспомогательные войска не тотчас же отправились
с ним; однако слова Юстина: cui nulla dilationis ex infirmitate virium venia
esset, не допускают такого предположения. Число 4000 всадников чересчур
велико; если вышеупомянутое предположение покажется неудовлетвори-
тельным, то в числе этих всадников, надо полагать, были фессалийцы; из
македонян, вероятно, также многие присоединились к делу Пирра; это был
все такой народ, от которого хорошо было бы избавиться.
42 Aio te Aeacida Romanos vincere posse: Ennius, fr. 78, ed. Lips.; Cic, de Divin.,
II, 56; Dio Cass., см. Mai, 169. — Minucius Fei. ed. Lugd. 1672, p. 241 говорит: de
Pyrrho Ennius Apollinis Pythii responsa finxit, cum iam Apollo versus facere
desiisset.
43 Iustin., XVIII, 1.
44 ovSe то eag efieivev (Dio Cass., см. Mai, loc. cit.). Ему следует Зонара. По
сравнению с македонскими событиями этот 280 год оказывается совершен-
но верным. Только Полибий (II, 20, 6), по-видимому, противоречит этому:
он положительно говорит, что переправа Пирра была тф ттдотеоц) iret тг)<;
тшу ГаХат&у k(pobov\ она совершилась семью или восемью месяцами прежде
непосредственно предшествовавшего олимпийского года. Несогласные с
этим показания Plin., Hist. Nat., XVII, 6; XVII, 21; Gell. N. A. XVII. 21 и т. д.
выяснятся впоследствии.
45 Plut., Pyrrh., 15. Мнение, будто у Пирра были также иллирийские и
этолийские отряды, основано на недоразумении; Dio Cass., fr. 39, говорит о
§ более ранней эпохе, это видно из упоминаний им Филиппа Македонского
^ (сына Кассандра). Не знаю, откуда у Plin., Ill, 16 взялось нелепое известие,
О. будто Пирр из Аполлонии в Гидрунт хотел навести мост, с тем чтобы пе-
' реправить свои войска.
££, 46 Павсаний (Paus., I, 12) говорит: «Пирр переправился в Италию без ве-
дома римлян, они не знали об этом даже в то время, когда он уже прибыл».
Поверхностный вообще Павсаний перетолковал, таким образом, по-свое-
му прочитанное им в царских мемуарах известие о беспрепятственной со
стороны римлян переправе и высадке.
47 См.: Fast triumph., если они и здесь также заслуживают доверия.
48 См. Zonaras.
49 С «большой армией» говорит Плутарх; при этом войске, без сомнения,
было много союзников; Плутарх (Plut., Pyrr., 17), между прочим, положи-
тельно называет френтан. Не раз уже замечалось, что Плутарх или автор,
на которого он ссылается, вместо Левина называет консула Альбина. —
С Левином вышел восьмой хампанский легион (Orocius, IV, 3).
50 Zonaras: хал п хал iv тф аоте/ год атоа/тгщало^ xareaycov. Подробности
см.: Niebuhr, III, S. 542.
51 Servius ad. Virg., Aen., IX, 43.
52 Дата, по словам Полибия (Polyb., I, 7, б^хаУ ov xaigov Y\vqqo<; щ 'IraXiav
еттедаюОто. Судя по Dionys. Hal., XIX, Деций отправился в Регион, конечно,
по приказанию Фабриция. Из того же источника вытекает показание
(Aelian., V, Н. V, 20), будто жители Региона с целью доставить продоволь-
z
ствие осажденным римлянами и страдавшим от голода тарентинцам пости-
лись каждый десятый день.
53 Iustin., XVIII, 1.
4 Сюда относится анекдот см.: Front., IV, 1. 3. Пирр сказал своему вер-
бовщику: «tu grandes elige, ego fortes reddam».
55 Plut.; App., Samnit, 8; Zonaras. Ливии (Liv., XXIII, 7) говорит: Superba
Pyrrhi dominatio et miserabilis Tarentinorum servitus.
56 У Дионисия Галикарнасского (Dionys. Hal., XVII, p. 15-18) помещены
все письма, но едва ли подлинные.
57 Dionys. Hal., XVIII, 1; Zonaras; Front., IV, 7, 7.
58 Дионисий Галикарнасский называет его Oblacus Vulsinius; это был
френтанский начальник конницы.
59 Его ранил К. Муниций — Primus hastatus четвертого легиона (Orosius,
IV, 1; Florus, I, 18).
60 Битва описана по реляциям Зонары, Плутарха и отрывкам Дионисия
Галикарнасского (XVIII, 1-4). Время битвы в точности неизвестно. Флор
говорит, что царь сражался cum totis viribus Epiri, Thessaliae, Macedoniae;
следовательно, отряды Птолемея Керавна тоже прибыли. I ^
61 Zonaras; Dio Cass., см. Mai, p. 171; Diod., XXII. Orosius, IV, 1 относит это
изречение, которое упоминает также Аврелий Виктор (Aurel. Vict., 35), имен-
но к битве при Сирисе; а Плутарх приводит другой вариант после битвы 3
при Аскуле. ш
62 Zonaras. bo
63 Dio Cass., fr. 4. g
64 Эта цифра взята из Иеронима (см. Plut., Pyrrh., 17), который почерп- | §
нул ее из мемуаров Пирра. Более значительные числа, какие приводят Dionys.
Hal., Orosius (из Ливия), не имеют поэтому никакого значения. I g
63 Говорят, будто Пирр в храме Зевса в Таренте сделал дарственное при- Г§
ношение с надписью: ' а
«Кого никто не мог одолеть, отче в высоком Олимпе, <tjfr
Я победил их, и они победили также меня».
Эта надпись имеет, вероятно, такое же значение, как и триумфальные
фасты того же года, в которых о проконсуле Л. Эмилии Барбуле было ска-
зано: «De Tarentineis Samnitibus et Sallentineis». — Сам Брёнштед признал
лишь увлекательной фантазией мысль, будто чудесные «бронзы из Сири-
са» состояли в какой-нибудь связи с этой битвой.
66 ха) 7гоАЛо/ аитсо що<ть%1й{УГ\(тал о)'те ovfifiaxot acplxovro щдд airrov (Dio Cass.,
см. Mai, p. 171; Zonaras, VIII, 3).
67 Iustin., XVIII, 1; бруттии присоединились к царю (Eutrop., II, 12).
68 App., Samnit., 10.
69 После значительных побед, если верить триумфу Т. Корункания (Kal.
Febr. 279 года) во время торжественных фастов.
70 Florus, I, 18.
71 Так выразился Нибур (Niebuhr. S. 580).
72 Florus, I, 18: «prope captam urbem a Praenestina arce prospexit». Eutrop.,
II, 7; Aurel. Vict., 39. По словам Аппиана (Samnit., 3), он дошел только до
Анагнии. Римляне едва ли ослабляли гарнизонами в Пренесте и в других
368
местах свою армию, которая должна была охранять Рим, а не отстаивать
как можно более разных местечек; потому нет достаточной причины сомне-
ваться в том, что Пирр дошел до Пренесты. Молчание Аппиана не может
служить доказательством, так как из его 'Pofjbaixcbv у Харг/тхт) сохрани-
лись одни только отрывки в составленных по поручению Константина Пор-
фирородного сборниках.
73 История переговоров между Пирром и Римом чрезвычайно запута-
на. Не только в характере царя (см. Poluaen., VI, 6, 3), но скорее в стечении
обстоятельств заключалась причина, побудившая Пирра во время своего
похода на Рим сделать мирные предложения; это предположение некото-
рым образом объясняет возникшие впоследствии затруднения. Об этом
не существует никаких известий, если только не отнести сюда приведен-
ных в мнимой беседе слов (см.: Dionys. Hal., XVIII, 20): xai *r\v o Srjfio^
атгефцфюато тто^аа^ eiQTjvrjv. А может быть, сюда относится предупреди-
тельная отправка на родину 200 пленников, что Юстин (Iustin., XVIII, 1)
ясно отделяет от переговоров с Фабрицием; едва ли Трог сам сочинил эту
отправку.
74 Dio Cass., см. Mai, p. 172.
75 Ibid., p. 173.
76 Сюда же относится интересный отрывок Диона Кассия (см. Mai, loc.
cit.): «Пирр очень опасался, как бы римляне не окружили его в незнакомых
местах; когда же его союзники рассердились на это (скорее, на то, что он
решился отступить вследствие этого), то он сказал, что по самой земле ви-
к I дит, как далеко они отстали от римлян: у римлян земля хорошо возделана
и т. д., а у его друзей она до того опустошена, что не видать даже, была ли
? I она когда-нибудь населена».
X 77 Арр., Samnit.y X, 3; тот же анекдот был рассказан по поводу Кинея,
о. когда он в Риме был свидетелем набора волонтеров. В предании сохрани-
лось лишь это изречение, которое затем по произволу применялось к раз-
Й1 ным случаям.
78 Так говорит Аппиан, это подтверждается также кампанией наступив-
шего затем года. Нибур был того мнения, что зимние квартиры заняты были
в Таренте. С какой стати, однако, царь удалил бы свое войско от всех занятых
им позиций и дал бы, таким образом, римлянам возможность вновь распро-
страниться по краю? Зачем было обременять тарентинцев и луканов зимними
квартирами, которые можно было занять в неприятельской земле? Дион
Кассий (Dio Cass., fr. 146) и Зонара говорят, что Пирр сам отправился в Та-
рент; это понятно само собою.
79 Рукописи Фронтина (V, 1, 24) называют Serunium, Sitrinum, Serinum, a
Cod. Pal. — Firmum; Нибур исправил это в Ferentinum. Моммзен следует Cod.
Pal.; однако при Фирмуме на берегу Адриатики, близ Анконы, эти два леги-
она были бы чересчур удалены друг от друга, необходимее было охранять
via Latina.
80 Главное затруднение заключается в хронологии. Нибур с блестящим
искусством критика предложил размещение фактов, которое сильно увле-
кает с первого взгляда, но на самом деле не может быть верным. Наиболее
последовательный рассказ о всей войне, а именно Зонары, помещает по-
сольство Фабриция после отступления в Кампанию, затем лишь следова-
ло посольство Кинея. Зонара есть верный эпитоматор Диона, о котором
известно, что для древнейших эпох он как главными источниками пользо-
вался Дионисием и Ливием, а к ним присоединял разве еще Плутарха. Из
слов «ad urbem Romam processit. C. Fabricius missus... Cineas legatus a Pyrrho
ad senatum missus» (см. Epit., XIII) и из выписки у Евтропия (II, 12) также
видно, что изложение Диона (по Зонару) согласуется с Ливием. Floras (I,
18, 15) приходит к тому же выводу. Нибур утверждает, будто Дионисий
оба посольства изложил в превратном порядке; он говорит (XVIII, 5-27)
о переговорах между Фабрицием и Пирром и упоминает (XVIII, 7 и 20),
конечно, о мире, который отверг сенат; а сверх того, Аппиап (Samnit, 10),
которого сам Нибур признает лишь эпитоматором Дионисия, решительно
помещает посольство Кинея прежде Фабриция. Плутарх (с. 20), наконец,
придерживается такого же порядка, а у него перед глазами был Диони-
сий, которому он, вероятно, исключительно следовал, несмотря на то, что
знал Иеронима. Однако как раз относительно этих переговоров оба авто-
ра существенно уклоняются от Дионисия; а именно Аппиан приводит в двух
местах разноречивые предания, которые вряд ли находились в таком виде
у Дионисия. Наконец, ряд отрывков относительно посольства Фабриция I ^
у Дионисия начинается словами: от/ YIuqqou tov 'HrnetQcbrov fiacriXeux; em | x
tt)v 'PcjfiTjv (TTQanav i^ayayovTo*;, eftouXevo-avro ттде<г13еита<; awcrreTXai. —
Итак, если это начало в императорских выписках не искажено, то он по- о
сольство Фабриция поместил не после Кинея, а гораздо ранее, даже прежде ш
того времени, когда, по мнению Нибура, последовало посольство Кинея. ho
Изложение Юстина, к сожалению, не отличается точностью, так что им д
вовсе нельзя воспользоваться, a Valer. Max., II, 7, 15 утверждал, будто воз- | §
вратившиеся (следовательно, через Фабриция) пленники именно были те
самые, которых отправили в зимнюю кампанию, но как рассказчик анек- I g
дотов Валерий едва ли может служить порукою в таком спорном вопросе. Г§
Итак, нам остается выбрать одно из трех мнений: Ливия с Дионом и Зона-
рою, Плутарха с Аппианом и Дионисия. Сообщение Дионисия заканчива-
ется выдачею пленников, что должно было служить введением к заключению
мира (с. 27)у а это указывает лишь на переговоры Кинея; если хронология
(с. 5) действительно ошибочна и эпитоматор извратил ее, и если мы верно
поняли конец, то вышеупомянутые показания относительно отвергнуто-
го мирного предложения следует понимать так, как было сказано в том
месте; — в таком случае Дионисий согласуется в том вопросе с вытекаю-
щими из Ливия известиями. — Ливии следовал римским летописцам, а эти
вряд ли заменили бы отказ Кинею, — отказ, который в момент такой край-
ней опасности послужил бы славе Рима, — тем известием, какое сообще-
но ими. Если у Аппиана и Плутарха встречается более лестное изложение,
то это лишь доказывает, что нашлись также охотники прикрасить преда-
ние; может быть, Ливии даже говорил, что некоторые авторы сообщают
то же самое. Из отрывка у Цицерона (De off, I, 12) ясно видно, что Энний
излагает дело в том же виде. — Нибур ссылается на существенную воз-
можность в пользу предшествовавшего посольства Кинея; по его мнению,
Пирр, лишь подступив к Риму, мог через Кинея предложить требования, о
которых говорит Аппиан; но он мог предложить их также тогда, когда
отступил в Кампанию.
81 По переписи 280 года насчитывалось 278 222 римских граждан, число
пленников нельзя определить. — Следуя греческим источникам, Юстин ина-
че объясняет цель послания.
Я умолчу об известных всем анекдотах по поводу Фабриция; он состав-
ляет как бы мифическое олицетворение для всех римских добродетелей той
эпохи. Знаменитая беседа у Дионисия, дополненная отрывками Мая, за-
служивает так же мало доверия (или, скорее, названия исторической исти-
ны), как и история о слонах у Плутарха.
83 Нибур поместил у себя это последнее сказание: сенат постановил пре-
дать смертной казни тех из пленников, которые вопреки данному слову по-
кусились бы остаться в Риме. Так рассказывают Plut., 20 и Арр., Samnit., 10.
В этом случае Нибур тоже ошибается, предполагая, будто оба этих автора
заимствовали свое показание у Дионисия; последний заканчивает решитель-
но (XVIII, 27) словами:щ a7iaQ(ixaXe?Tefjba1xaQt^0^ai tjJttoXbi tov<;а/#//лАаггои£
ivnavraq avev Xvtqcjv. Сам Нибур замечает, что в пользу другого рассказа го-
ворит не только известие у Ливия, но также Энний у Цицерона (De off., 1,12)
и сам Цицерон (De off, loc. cit. и HI, 31, 32). Все эти свидетельства вместе с
Дионисием доказывают, кажется, что пленники получили полную свободу.
84 Iustin., XVIII, 2 и Valer. Max., Ill, 7, 10. Крайняя опасность, какая угро-
жала ближайшей окрестности Рима и которая могла бы побудить Рим при-
нять такую опасную помощь, миновала. Заключенный в наступившем затем
году союз между Римом и Карфагеном доказывает, что Рим готов был всту-
пить в договор, по которому он давал бы столько же, сколько получал.
83 Polyb., Ill, 24; это, вероятно, договор 348 г. (Liv., VII, 27) или 306 г.
(Liv., IX, 43).
? I 86 Valer. Max., Ill, 7, 10.
% 87 Plut., Pyrr, 14.
qJ 88 Это по Plin., VII, 24; Seneca Contr., I, p. 66, ed. Bip. прибавляет даже
С
«omnem circumfusam plebem». О том же факте намекает Go, Tusc, I, 24.
89 Нибур говорит, будто у одного только Зонары встречается это изве-
стие. Судя по словамхш ttj<; ex rcbv Scjqwv glvtov аХХокЬаещ (см.: Mai, p. 167),
видно, что Зонара заимствовал это у «осмотрительного Диона. У Ливия
этого известия нет (cf.: XXXVI, 4 и Valer. Max., IV, 3, 14 и Aelian. см. Suidas,
v. Sdjg), но находилось, вероятно, у Дионисия. Плутарх говорит, что все
подарки были отринуты; показание у Юстина и Диодора (XXII, 5, 3) еще
важнее, так как оно, вероятно, взято у Тимея; это, впрочем, не значит, что-
бы он пользовался непогрешимым авторитетом. Фабриций не служил бы
предметом удивления, если бы для контраста не было Руфина. Рим всегда
будет достоин удивления, хотя бы и пришлось отрешиться от этих идеаль-
ных типов.
90 Подробнее всего говорит об этом Аппиан: Пирр предложил дружбу и
союз, если к нему присоединены будут тарентинцы, если римляне призна-
ют свободу и самоуправление остальных греков в Италии, если возвратят
луканам, бруттиям, самнитам, давнийцам все отнятое у них имущество. Ап-
пиан, однако, того мнения, что эти предложения были сделаны прежде, не-
жели Пирр подошел к самому Риму. — Евтропий (Eutrop., 12) говорит: «Ut
Pyrrhos earn partem Italiae, quam iam armis occupaverat, obtineret». He мо-
жет быть, чтобы он потребовал для себя Кампании или чтобы он не пытался
371
выговорить ее в пользу самнитян. По словам Ливия (Liv., Ер., 13), Пирр пред-
лагал лишь, чтобы ему самому дозволили прибыть в Рим для переговоров о
мире. По словам Плутарха (Plut., 18), царь требовал для себя союза, безнака-
занности для Тарента и обещал за то свою помощь для подчинения Италии.
Словом, все показания не только не удовлетворительны, но даже противо-
речат друг другу.
91 Цицерон читал еще эту речь. В летописях Энния (dicere ilia, quae versibus
persecutus, est Ennius; Cic, De senect., 6 и там же отрывок) находился, веро-
ятно, более полный текст первоначальной речи, нежели в подделке Диони-
сия и в заимствованных оттуда отрывках у авторов, начиная от Плутарха
до Зонары.
92 Dio Cass., см. Mai, p. 176.
93 Ennius, 85, ed. Lips.:
...decretum est fossare corpora telis,
dum quidem unus homo Romae toti superescit.
Об остальном см. Плутарха, Зонару, Eutrop., II, 13.
94 Plut., 19; Арр., Samnit, 10 рассказывает несколько иначе. I ^
95 Valer. Max., II, 7, 15; Zonaras; Eutrop., II, 13. | !
96 Набор, может быть, начался уже во времена пребывания Кинея; это
подтверждается не только анекдотами у Плутарха и Аппиана (с их ошибоч- ф
ной хронологией), а скорее тем местом, какое у Мая (р. 176) занимает отры- ш
вокизДиона. \*
91 Арр., Samnit., II, 1: етада<г<ге 8е кал та kv МоЛоегегоГ^ Soqufioweva.
98 Polyb., XVIII, 11. |g
99 Plut., Pyrrh., 21. Это описание в том виде, как оно от Дионисия перешло Q
к Диону, а от него к Зонаре, носит на себе вполне сказочный отпечаток Ти- g
мея: прежде всего, друже- ственные переговоры о том, кому беспрепятствен- Г§
но перейти через реку, так чтобы честь и слава были наградой одной лишь ' *
храбрости; потом — направленные против слонов колесницы с косами; за-
тем — грабеж эпирского лагеря своими же вспомогательными войсками,
отступление с раненым царем, и т. д.; об этом говорит также Энний (Ennius,
Annal., p. 85, ed. Lips.). Про ту же битву, вошедшую, как кажется, в поговор-
ку (см.: Tinin. Frag., 17 fab. inc., ed. Ribb.), в Риме рано уже сложились леген-
ды с прикрасами: так, например, самоотверженная смерть Деция у Cic, De
fin., II, 19; римляне приписывали себе победу. Фронтин (Front., II, 3, 2) сооб-
щает странное известие, будто Пирр поместил на правом крыле эпиротов
и самнитов, на левом бруттиев, луканов и салентинов, а в середине тарен-
тинцев, как наиболее слабых, в резерве же всадников и слонов; на каждой
стороне находилось по 40 000 человек. Судя по Полибию (XVIII, 11) и по
существу дела, боевой порядок не мог быть таким.
100 Eutrop., II, 13; Zonaras. Зонара уверяет, что консулы после битвы из-
за множества раненых не проникли далее на юг, но перешли в Алулию на
зимние квартиры; а потому не следует ли поместить эту битву осенью? Тут
все покрыто мраком неизвестности.
101 Zonaras, VIII, 5: o!xo$&v arqaTidna^ кал *х]^щала, рететтщфато.
102 У Нибура (III, 595) собраны самые разноречивые показания. Прежде
всего эта история в ее двояком виде была изложена Геллием (III, 8). По
*
372
словам Валерия (Valerius Antias), Тимохар явился в лагерь и обещал через
своих сыновей, бывших кравчими царя, совершить убийство; Фабриций до-
нес об этом сенату, а сенат, не называя, впрочем, предателя, предостерег
царя. По словам Клавдия Квадригария, это предложение сделал будто бы
Никий (у Aelian., V; Н., XII, 33 — врач ошибочно назван Кинеем) и не сенат, а
сам Фабриций уведомил Пирра об измене. Плутарх (Plut., Pyrrh., 21) пере-
дает тот же рассказ в малоизмененном виде, но совершенно уклоняясь от-
носительно мнимого письма консулов; он заимствовал известие у Дионисия,
который, вероятно, пользовался тем же источником, что и Квадригарий, и с
такою же свободой. Рассказ Валерия Антиаса перешел к Валерию Максиму
(VI, 5, 1). Ливии пользуется одновременно этими двумя рассказами; это вид-
но не только из XXXIX, 51, где patres намекают на Valerius Antias, и из XLII,
47, где medicus заимствован у Квадригария, но также из Аммиана Марцелли-
на (XXX, 1, 22). Дион Кассий (Dio Cass., p. 539, ed. Mai) следовал Дионисию, но
указал, по крайней мере, на замеченное у Ливия уклонение. Я умалчиваю об
остальных цитатах по поводу этой столь часто рассказываемой истории, так
как ни один из них не указывает на первоначальные источники.
103 Затруднения возрастают еще из-за известия, которое Плутарх (Par.
min.y 6) взял из 'HireiQurTtxa Критолая, будто оракул предсказал Эмилию
Павлу, что он одержит победу над Пирром, если построит алтарь на том
месте, где человек с колесницей был поглощен землею; несколько дней спу-
стя после того Валерий Конат видел сон, в котором было указано это место;
алтарь был воздвигнут, Пирр разбит, и Эмилий отправил в Рим 160 слонов в
виде победной добычи. Эта история довольно бестолкова. Однако не осно-
вана ли она на каком-нибудь факте? Я не решаюсь ссылаться в этом случае
т I на авторитет Критолая; мы не знаем, когда и где он жил; см.: Westerman,
* Quaest. Dem., IV, 9.
о. 104 Polyb., Ill, 25, 4: xai e/V ^ ecpoSov.
105 ha eijjj fioybeTv a№fi)koi$ iv rcov ттоХероирыш %щщ по остроумному на-
^ блюдению Ниссена (Die romisch-karthagischen Bundnisse in Fleckeisen,
N.Jahrb., 1867).
106 В таком виде этот союз изложен у Ливия (Liv., Ер., XIII). Диодор (XXII,
7, 5) также говорит о нем.
107 На монетах он изображается, собственно, не державцем, а в качестве
должностного лица (ЕП1 IKETA).
108 Это следует из слова ттаХм у Diod., loc. cit. (Eclog., XXII, 495).
109 Так называли его Дионисий и Плутарх, а Диодор назвал его Thynion.
110 Арр., Samnit; 12: //,ета ttJv fiaxprjv xai та$ щдд 'Pcofiaiov^ <rw$*r)xa<; е'н;
2/xeA/ai> SienXei. А впрочем, никто более не сообщает об этом договоре, ко-
торый у новейших авторов играет, конечно, важную роль.
111 Diod., XXII, 7, 5.
112 Plut., Pyrrh., 22.
113 Судя по Plut., Pyrrh., 9 и Diod., XXII, 8, 2, сыном Ланассы был Алек-
сандр, а не Гелен, как утверждает Iustin., XXIII, 3.
114 Iustin., XVIII, 1.
115 Указанные здесь движения в военном отношении были, конечно, чрез-
вычайно странны; но мы здесь можем указать лишь на их цель; более отве-
чающие стратегической славе Пирра подробности исчезли бесследно.
X
о
116 App., Samnit., 11: \тоа%ще^о<; toi<; (гируьахок; ex 2,txeXia<; enavrj^eiv щ тгр
'IraA/av.
117 Iustin., XVIII, 1. «firmatis sociorum civitatibus valido praesidio». Пирр
перевел в Сицилию всего только 8000 пехотинцев, а потому надо полагать,
что он в Италии оставил значительные гарнизоны.
118 Так значится по исправленному Нибуром тексту Аппиана, у которого
пропущено количество всадников. По Плутарху (Pyrrh., 22), царь отправил
вперед Кинея, otmeg ei(l)$ei -nqoSiaXe^ofievov ra?<; ттоХет: должно быть, заклю-
чены были разного рода военные условия.
119 Diod., XXII, 8, 3 и Plut., 22 говорят, что весь флот состоял из 200 ко-
раблей с лишком. Dionys. Hal., XIX, 6 утверждает, что ему предоставлен был
весь сиракузский флот — 200 кораблей.
120 По Гольму (Gesch. Sic, II, 283), это есть Монте Пеллегрино. Подроб-
ности взяты из Диодора и Плутарха (Diod., XXII, 10, 4. 5; Plut., Pyrrh., 23).
121 Это суть те редкие и прекрасные монеты, изображения которых нахо-
дятся у Raoul Rochette, Mem. sur les med. Sic. de Pyrrhus, p. 118, pi. 1, n° 9. 10.
17 и 7, 16. Такие же красивые монеты с надписью 2IKEAIOTAN Рауль Ро-
шетт поясняет в смысле, какой указан в тексте, и его мнение в некотором
роде подтверждается словами Полибия (VII, 4, 5): ov (IIuqqov) \lovov fMera
TTgoatQeo-iv xai хат* evvotav XixeXiarrai navreq euSoxTjaav aycbv avrwv rjyetiova ehai
xai fiacrtXea. Head (History of the coinage of Syracuse Nun. Chr., XIV, 67), на-
против того, пришел к выводу, что эти монеты относятся к более поздней
эпохе, ко времени Гиерона; Гольм (см.: Sallets Numism. Zeit., II, 339) присое-
динился к этому мнению; правда, предположение, будто Гиерон называл
своих эллинских подданных сикелами в противоположность жителям рим-
ских провинций, не может служить подтверждением этого толкования.
Скорее можно согласиться с тем (Head. Hist., p. 87), что медные монеты с
изображением Афины Промахос и с надписью ZTPAKOXION относятся к
царю Пирру. Серебряные монеты с таким же типом и с ВАХ1ЛЕП2 ПТРРОТ
приводят в затруднение вследствие их веса (5,88 —5,39 г); по Моммзену
(R. Miinzwesen, S. 85), «монеты сикелов» относятся к известной системе
(Litrensystem), которая в Сиракузах, где они чеканились, прекратилась при
Агафокле. Вновь исследовать интересный вопрос о монетах Пирра для Си-
цилии лежит вне пределов моего сочинения.
122 Зонара говорит: ригЬосродоид ex tyj<; '1таА/а$. Так как луканы, бруттии,
самниты не имели никакого повода поддерживать врагов Пирра, то эти
наемники могли набираться лишь в римской Италии и притом лишь с рим-
ского согласия. В выписках Диодора (XXII, 10, 5) говорится только о том,
что требовались вспомогательные войска из Ливии.
123 Fast. Capit. cf. Eutrop., II, 8; Valer. Max., I, 8, 6.
124 Cic, Pro Arch., 4; Pro Balb., 22: (cum civitate Heracleensium) prope
singulare foedus Pyrrhi temporibus C. Fabio consuli ictum putatur.
125 Вероятность этого предположения основана на том, что в следующем
затем году римляне сделали завоевания, которые, наверное, побудили бы
Пирра согласиться на мир.
126 Plut., Pyrrh., 23.
127 Plut., Pyrrh., 23; Dionys. Hal., XX, 8. Сюда относится также отрывок из
Dio Cass., p. 177, см. Mai—App., Samnit., 12.
374
128 Plut., Pyrrh., 23.
129 Dio Cass, (см.: Mai, p. 178) вполне согласуется с Iustin., XXIII, 3, 7.
130 Iustin., loc. cit.\ confecto proelio cum superior fuisset.
131 «Nostro magis milite suas auxit vires, quam suis viribus nos defendit», —
говорят их послы у Liv., XXIII, 42.
132 Zonaras, p. 49.
133 Zonaras; Frontin., Ill, 6, 4 говорит: «adsumpta in praesidium Lucanorum
manus», не упоминая о Никомахе. Цитадель Кротона была inexpugnabilis
(Liv., XXIV, 3).
134 Paus.. VI, 3, 5.
135 Plut.. Pyrrh., 23; Iustin., ХХШ, 3.
136 App., Samnit., 12: ктхащУ&ы erei Tg/тф, следовательно, по прошествии
лета 276 г.; это было, вероятно, под исход года.
137 App., loc. cit., вероятно, преувеличил; по Плутарху, у царя при высад-
ке было, кажется, 20 000 пехотинцев и 3000 всадников; однако и это не со-
всем верно.
138 Plut., Pyrrh., 24.
139 Zonaras, VIII, 6.
140 Дионисий называет их: Евегор — Феодоров сын, Балакр — Никандров
сын, Динарх — Никиев сын (XIX, 11): ribv abewv хал к&у'кгтшу Soy^iarcov
QqkurraL
141 Эта история рассказывается и упоминается многими. Дионисий, Ап-
пиан, Дион Кассий; Suid. v. SeiatSatfwvia, по Аппиану, Liv., XXIX, 8 и 18 и т. д.
^ ■ 142 Dionys. Hal., XIX, 11; он ссылается также на Проксена; сомнительно,
х чтобы такого рода SeiatSaifMoi/la была свойственна характеру Пирра.
? 143 Orosius, IV, 2; Augustin., De civ. Dei, III, 17.
* I44 Liv., Ep., XIV; Cic, De Div., 1,10.
jL 145 Valer. Max., IV, 3, 4; Liv., Ep., XIV.
CZ
146 Дионисий говорит: у неприятеля было втрое более войска, а Орозий
доводит его даже до 80 000 пехотинцев и 6000 всадников.
147 Dionys. Hal., XIX, 12, 13, 14; Plut.; Orosius; Liv., Ep., XIV; Floras, I, 18;
Frontin., II, 2, 1. Зонара (р. 50) рассказывает странную историю про моло-
дого раненого слона, услышав вой которого, мать побежала назад и произ-
вела сумятицу. Этому молодому слону было, по крайней мере, 30 лет от роду,
так как слоны в неволе не рожают.
148 Iustin., XXV, 3, еще точнее Paus., I, \3:е<;те -щу 'A<riavxaiщо<; 'Avriyovov,
tov<; ftev OTQanav rcbv fiatrikiiDv, rov<; Ss <xj^lwt(l, 'Avriyovov Ss xai сцирбтеда
avTcbv. Пирр, несомненно, обращался также к Александрийскому двору.
149 См. Paus. и Iustin., loc. cit.
130 Iustin. Пирр, надо полагать, вернулся в начале 274 года (е&етц xqovov
avaXdja-a^, Plut., 26, а не ттщтттср erei ttjv 'IraXiav Xrndjv, quinto demum anno,
как говорит Zonaras, p. 50, 1, 20, Orosius, IV, 2). Семь лет спустя после того,
как прибыли первые слоны в Италию (Plin., VIII, 6), они появились в Риме
во время торжественного въезда М. Курия Дентата в начале 274 г. (см.: Fast
Capit.). Заметка у Плиния (XI, 37 — Sect. 71): post centesimam vicesimam
sextam Olympiadem, cum rex Pyrrhus ex Italia discessisset, не дает никакого
более точного указания.
151 Liv., Ep., XIV; Vellei., I, 14.
152 Liv., Ep., X, 46; XXIV, 9.
153 Iustin. (XXV, 3) ошибается, когда говорит, будто Пирр, победив Маке-
донию, отозвал своих полководцев из Тарента; однако сын его Гелен вер-
нулся уже прежде.
154 Floras, I, 18; cf.: Festus, v. picta.
155 Zonaras; Liv., Ep., XV; Polyb., II, 24.
156 Это, несомненно, вытекает из Polyb., I, 8, 2; сбивчивое известие у Зо-
нары — rov<; MafMeQrhov<; ...otioXoyiy, (ot 'PcofMatoi) ттдо<ге$ч<га\гго — отнюдь не
следует относить к договору между Римом и мамертинцами; этот договор,
скорее, был заключен между Римом и Гиероном; см. ниже. — Нибур (с. 634)
относит взятие Региона к 269 году, и действительно Dionys. Hal., XX, 7 гово-
рит Taloq Tevvxioq, тогда как в сказанном году консулом был Л. Генуций.
Однако Орозий положительно заявляет, что взятие совершилось sequenti anno
после падения Тарента, что и подтверждается сицилийскими событиями.
157 Orosius, IV, 5, 3 говорит, будто между ними дело дошло до битвы под
Тарентом, что невероятно.
158 См.: Iustin., XVIII, 2, 9; здесь вместо hominis causa Нибур поставил
honoris, теперь же это исправлено в ominis causa. Тот же факт упоминают
Dio Cass., Frag. Urs., 147; Liv., Ep., 14; Valer. Max., IV, 3: см. Eutrop., П, 15, где
названы консулы 273 г.
159 Страбон еще называет их 7гоА/$ ешорсотатг); cf.: Aristot., Polit., IV, 4, 3.
Там, так же как и в Спарте, делались £ev7)\a<ri<ii (Aelian., Var. Hist., XIII, 16).
160 Подробности см. в моем трактате: «Das dardanische Furstenthum» in
der Zeitschrift fur Alterthumswissenschaft, 1836, Nr. 104. Я пытался доказать,
что впервые там обнародованная, по чеканке сходная с монетами Алексан-
дра тетрадрахма с надписью MONOYNIOY В.. ЛЕПЕ, составляющая един-
ственный экземпляр, принадлежит тому же царю, который значится также
на монетах Диррахия; это тот царь, которого Помпеи Трог (Pomp. Trog. Prot.,
XXIV) называет Monus или Monius, а Ливии (Liv., XLIV, 3) — Honunus
(Honuni Dardanoram principis filia). Полиций (Polyb., XXIX, 5, 7) упоминает
о нем в формуле ryv tou Mevowiov ^^ате^а .
161 Ливии (Liv., Per., XV) после заключенного с Тарентом мира и наказа-
ния кампанского легиона в Регионе говорит: «cum legates Apolloniatium ad
senatum missos quidam juvenes» и т. д.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1 Memnon, p. 15, ed. Or. Это был престарелый Зипет, и эта победа была
его последним подвигом (р. 20). При происходившем после того нападении
на Вифинию Антиох застал старшего сына Зипета Никомеда, который, сле-
довательно, вступил на престол в 279 году.
2 Polyb., II, 41: ravra F *f\v хата tt\v TICqqov 8iaj3a<rtv щ 'IraXtav.
3 См. так называемую Сигейскую надпись у Muratori, Nov. thes., IV, p. 2119
(теперь в С. I. Graec, II, n° 3595): он должен отразить rov$ em^Bfievov<; то?<;
TTQayiMaai ат:охтг)(га<г$а1 ttjv naTQdpav clqX7)v.
376
4 Memnon, p. 16, 17.
5 Trog., Prot., 24: Bellum quod Ptolemaeus Ceraunus in Macedonia cum
Mon(un]io Illyrio et Ptolemaeo Lysimachi filio habuit.
6 Porphyrius, ed. Schone, I, p. 237: Xcja^evrjg n<; tcov S^fionxcov e^eXavvei
(avrov) ax; Svvarov отдатцуеТу Bgevvov rov ГаХатои smovrog то<гоитои ттоХец'юи.
Македоняне придали Антипатру название етт)(гю<;, оттого что он процар-
ствовал 45 дней, столько же, сколько дуют ветры errjtrtai. Юстин (Iustin.,
XXIV, 5, 12) называет Сосфена unum de principibus Macedonum.
7Paus., IV, 28; VIII, 6.
8 Так говорит стоик Понциан, см.: Athen., VI, р. 234, по Посидонию; так-
же Iustin., XXXII, 3, 6: per eadem vestigia quae venerant, antiquara patriam
repetivere.
9 Liv., XXXVIII, 16; Strab., XII, ^€6: agx^yog Se fiaXioTa ВохеТт^дттедакЬаешд
rrjs щ 'Ao~lav yevivSai Aeovoqiog.
10 Seofievov едщатод- ттадахоура $' exXnreiv Sta то ате'щкгтоу. Страбон (XIII,
594) следует здесь Гегесианаксу — историку времен Антиоха Великого
(Athen., IV, р. 155 Ь). По словам Полибия (Polyb., V, 111, 4), галаты осадили
Илион, были, однако, отражены подоспевшими на выручку троянскими
александрийцами.
11 Memnon, p. 17, cf. 20. Надо вспомнить, что свобода Гераклеи началась
лишь с нападения Лисимаха, что Амастрида (и основанные вместе с нею три
города), также принадлежавший прежде княжеству Гераклеи Тиос отдели-
лись от нее. Вифинский князь, вероятно, захватил как Тиос, так и Киерон;
оба этих города по прошествии восьмидесяти лет опять перешли к Вифинии.
12 Memnon, р. 18: xiveTrai о mX&yjx; xai%Qovov ov%vov xarirqi^ev.
? I 13 Liv., XXXVIII, 16.
<D
^ н Павсаний (Paus., X, 43, 9) говорит, что в 01. CXXV, 3, когда архонтом в
х
о. Афинах был Демокл; а эта олимпиада начинается летом 278 г.
15 Об этой морской битве, как мне кажется, говорит Diog. Laert, IV, 39,
ilit. там» гАе он рассказывает, что Аркесилай не последовал совету своего друга
Гиерокла, начальника в Пирее, убеждавшего его пойти навстречу царю: аХХа
ещ iwXwv eXSwv аиеотдефе. Мбта те -njv ' Avriyovou vaviia%iav ttoXXcov TTQoatovrcjv
xat kmoroXia TraQaxXfjrtxa ygacpovnov avroq eatdm^aev. Антигон, правда, дал
еще две морские битвы при жизни Аркесилая, но во времена следующей
(около 260 г.) в Пирее, как окажется впоследствии, начальником был уже
не Гиерокл, а Главкон; хотя последняя морская победа была значительна
сама по себе, а все-таки она не была, подобно первой, причиной действи-
тельного воцарения Антигона; только такую победу и можно было назвать
у ' Avriyovov vavfiaxla. Другие доводы окажутся впоследствии. К воззрени-
ям этой эпохи относятся, вероятно, также слова: то S-quXAovfAevov ev таТд
biaTQifiaH; 'AqxeaiXaov сгхеХос,, см. Plut., Adv. Stoic, 37.
16 Pomp. Trog., Prol., XXIV: bellum, quod inter Antigonum Gonatam et
Antiochum, Seleuci filium, in Asia gestum est. Сличив это с текстом Юстина
(XXIV, 1), здесь следовало бы прибавить: et Ptolemaeum Ceraunum и подра-
зумевать войну 280 г. Однако Трог в XVII книге сообщил уже об этой вой-
не: (Ptolemaeus) bella cum Antiocho et Pyrrho composuit. В книге 24 Трог вновь
повторяет этот рассказ и продолжает его таким образом, что тут же присо-
единяет к нему развившуюся из той же войны борьбу между Антиохом и
Антигоном, о чем Юстин вовсе не говорит. Трог расположил свой рассказ,
вероятно, в таком виде: Антигон разбил сирийский флот, высадился в Азии,
потом он двинулся против Македонии, где не было уже Птолемея, так как
Птолемей сперва воевал с дарданцами и т. д. — То, что это следует пони-
мать именно таким образом, доказывается в особенности приставкою in Asia,
вовсе не подходящею к войне 280 г., так как последняя завершилась морской
победой, одержанной Птолемеем над Антигоном. Это особенно подтверж-
дается заметкою у Диогена Лаэртского (Diog. Laert., IV, 39), где сказано, что
Аркесилай Питанский иттед тт}$ ттатд18о<; щ АурутдшВа щод 'Avriyovov
ещесг&еьо-е xai ovx еттетьхе. И в самом деле, после одержанной Птолемеем
победы Антигон вернулся в Беотию; Фессалию с Деметриадой, вероятно,
нельзя уже было удержать; в наступившем затем году там свирепствовали
галлы; лишь после 278 г., т. е. после победы над Антиохом и после оккупа-
ции Азии, Антигон мог в Деметриаде получить предложения относительно
города в Эолиде.
17 Если Юстин (XXV, 1. 3) не ошибается, то эти кельты Комонтория соби-
рались напасть на Македонию: Fugatis Getarum Triballorumque copiis Mace-
doniae imminentes.
18 Iustin., XXV, 2: nihil tale metuentes trucidantur. Здесь, так же как в Дель-
фах, сильно повлиял, кажется, панический страх. Пан часто встречается
на монетах Антигона; так, между прочим, появляется на одной, воздвигая
трофею с ВА и ANTI в монограмме (см.: Eckhel, II, 125 и Мионне, также в
каталоге Роллина под п° 2988. Местность этой битвы обозначена у Diog.
Laert., II, 140: yvixa evlxa той<; $a,Q$aQO\j<; negi Avatfiaxsiav. Вследствие этой
битвы Менедем Эретрийский побудил эретрийцев постановить решение:
sireiSr) /ЗаспХеи*; ' 'Avriyovos /махт) vixrj(ra<; тои<; /Зад/Задоьд ттадауметш щ тцу
iSlav и т. д.
19 Iustin., loc. cit.\ tanta caedes Gallorum fuit, ut Antigono pacem opinio huius
victoriae non a Gallis tantum, verum etiam a fmitimorum feritate (напр. дар-
данцев) praestiterit.
20 Polyaen., IV, 6, 18.
21 Канон Евсебия (II, p. 121, ed. Schone) помещает это воцарение Анти-
гона в 01. CXXV, 2, т. е. прежде 278 г., тогда как, по словам Порфирия,
анархия длилась 2 года и % месяца; он полагает, что Антигон вернулся в Ма-
кедонию в 01. CXXVI, 1, т. е. в 276/275 г. Армянский Евсебий (I, р. 238, ed.
Schone) говорит: Makedoniorum rex anno primo CXXVI. 01. Список маке-
донских царей у Порфирия кончается достоверной датой, а именно пора-
жением при Пидне (в исходе 01. CLII, 4, т. е. 22 июня 168 г.). Если вести счет
назад, то начало царствования Антигона выпадет в конце октября 277 года:
01. CXXV, 4 (Usener, Rhein. Mus., 1873, S. 37). По поводу этого хронологи-
ческого вопроса ср. дельные замечания С. Miiller, Fr. Hist. Gr., HI, p. 699.
Однако, прочитав их, я все-таки не решаюсь следовать схематическим дан-
ным хронографов, тем более что имеются и без того довольно точные пока-
зания. Вестерманн в Vita Arati (Biogr., p. 60, 15) воцарение Антигона Гоната
положительно относит к 01. CXXV (ттадеХаре ttju aqxnv)\ Помпеи Трог (Pomp.
Trog., Prol., XXIV) говорит, что оно совершилось прежде переправы галлов
в Азию; Юстин (XXV, 2) сообщает, что Птолемей Керавн был уничтожен
галлами non magno ante tempore.
378
rz
22 Memnon, p. 19.
23 Memnon, p. 20; Liv., XXXVIII, 16. Мемнон говорит (р. 19), что перепра-
ва галатов в Азию произвела сначала большой переполох, а потом оказа-
лась выгодной: tojv yaq fSaatXiiov ttjv tojv ttoXbcjv SfHAoxqariav acpeXetv
crnouSa&VTwv auroi //,aAAov rauT7)v efiefiaiovv avTixaSioTOfiBvoi то?$ Bmri^efiivotq.
24 Стобей (Stob., Flor., I, p. 260, ed. Lips.) и Плутарх (Plut., Par. min., 15),
ссылаясь на Клитофона, один на первую книгу (Calatica), а другой на пятую
(Italica), сообщают историю, которая рассказывается также про Рим, будто
девушка предала цитадель, выговорив себе золотые браслеты неприятеля,
потом она была раздавлена под тяжестью наброшенного на нее золота. По
другим цитатам оказывается, что этот Клитофон был автором позднейшей
эпохи.
25 См. эпиграмму Анита в Антологии, VII, 492, сличив ее с цитатой Вер-
нсдорфа из Иеронима (Adv. lorian, lib. I). Обнародованная Фугаром
(Fougart, Bull, de Corr. Hellen., HI, [1879], p. 388) и исправленная в подроб-
ностях Диттенбергером (Dittenberger, Hermes, [1880], XV, p. 608) надпись
гласит, что Эритры купили деньгами мир у кельтов Леоннория. Это был
декрет в честь девяти стратегов, которые занимали должность в первую
треть года Гегесагоры; этот год заключался, вероятно, между 276/270 гг.
После общих чисел в заголовке и имен девяти стратегов следует: ...втгв&г)...
av$qa<; ayaSoi xai (piXorifioi yey6v[a<ri ttbqIi ] rov br^iov xai хаХщ xai oviupBqovrws
t[tJ$ те (puXa]xij$ xai rcov в£отгХа<г'ш)1/ BTTB^aX^Tjaav, 7to[XXcjv Ьв cpo]3ajv xai
xivSvvcjv тгедкгтаутш)/ xai £a [7:0,1/17$ Щ°$] eiqyvyv oxjx 6Xiyr)<; ev anavw
biBT^q^crav tt)v ttoXiv xai ryv %duqav axiqaiov втц,вХгфв[утв(; %qt\\LaTi^v
<mvay(i)y*fj$ xai атто<тт[оХщ roiq mqi Aeov]voqiov $aq$aqoi$... Между назван-
ными здесь девятью стратегами двое встречаются вновь в эпиграфическом
х
О
т
^ I тексте, обнародованном в Revue Archeologique (XXX, p. 107 sqq.), и под
q_ тверждают, таким образом, древность надписи, которую Фугар отно
сит в промежуток между 274 и 234 гг.
26 Paus., X, 32, 5: когда кельты, грабя и опустошая, проходили по Ионии и
по соседней земле, то жители Фемисония с женами и детьми спасались в пе-
щере; они думали, что обязаны своим спасением стоявшим у входа идолам.
27 Wachsmuth (см.: Sybels Hist. Zeitschr., X, S. 10) к этой победе над кельта-
ми относит Xwrrjqia, которую, судя по дельфийской надписи, соорудил Ан-
тиох (G. I. Graec, I, n° 1693).
28 Pomp. Trog., Prol.j XXV: «ut Galli transierunt in Asiam bellumque cum
rege Antigono et Bithynio gesserunt; quas regiones Felini occuparunt». Longuerue
готов был признать текст обеих ватиканских рукописей — Antiocho; Вернс-
дорф уже опроверг это. Эта фраза остается непонятной или двусмыслен-
ной даже после остроумной поправки Гутшмида: Tyleni вместо Felini, а по
Steph. Byz. языческое имя есть TiArnjs.
29 Посвящение книдян сделалось известным благодаря найденной Нью-
тоном надписи — эпиграмме, отлично выясненной Узенером (Rhein. Mus.,
1873); Taqcru) Tlav 6 ilbXiCpilbvo<; Узенер справедливо относит к паническому
страху Лисимахии. Упоминание о Пане доказывает, что посвящение отно-
сится к этой эпохе, а не к морской битве близ Коса. Дародатели суть, как
кажется, книдяне или, может быть, xoivov городов, присоединенных к куль-
ту Аполлона Триопийского. Посвящение сделано «сыну Эпигонов вместе с
379
его женой»; отсюда можно было бы почерпнуть более точное хронологи-
ческое показание, если бы было возможно точнее обозначить время брако-
сочетания Антигона с Филою, сестрой Антиоха.
30 Ливии говорит: «sedem autem ipsi sibi ipsis circa Halym flumen ceperunt».
Мемнон согласно с этим выражается: ttoXXtjv ет:еХЬ6ите<; x^Qav aubu;
ave%(bQ7}(rai/, xai тт}$ aigeSeicrr)*; avroTg аъетщуоуто -rfjv vw TaXariav xaXovfievTjv.
Юстин (Iustin., XXV, 2, 11) говорит поверхностно: «in auxilium a Bithyniae
rege invocati regnum cum eo parte victoria diviserunt eamque regionem
Gallograeciam cognominaverunt»: победа, о которой здесь упоминается, мог-
ла быть одержана только над Зипетом, а показание Юстина поверхностно
потому, что в нем основание Галатии признается следствием этой победы.
Страбон (XII, 566) говорит, что они заняли эту страну TrXavySevTet; ttoXvv
%q6vov xai xaraSQafi6vre<; ttjv xmo rdiq 'ArraXixo?*; fiamXevat (?) %toqav xai Tciiq
Bi$vvo7$ ещ exovrcjv eXafiov ttjv vvv TaXariav XeyofievTjv.
31 Юстин (Iustin., XXV, 1), правда, говорит: inter duos reges statuta pace,
cum in Macedonian! Antigonus reverteretur, novus hostis exortus est; затем по-
следовала битва с галлами при Лисимахии. Судя по этому, война длилась
едва ли четыре месяца, тогда как Мемнон говорит о ней: %qbvov <t\>%vov I ^
хатетднре». Другие доводы окажутся в связи с изложением.
32 Нибуру (Verm. Schrift., I, S. 227) не следовало бы повторять ошибку
Свиды (v. "Agaro^), называвшего эту Филу (Plut., Dem., 31) дочерью Анти- I g
патра; она была сестрой Антиоха, дочерью Стратоники, следовательно пле- Г§
мянницей Антигона (см.: Westermann, Vita Arati, I, S. 53: tt)v XeXevxov xai | §
XrQarovixT)^ Эг/уатера). То, что это бракосочетание относится лишь к пред-
лежащей эпохе, вытекает из следующих обстоятельств: ссылаясь на свои I g
восемьдесят лет (между 278-274 гг.), философ Зенон извиняется, когда °
Антигон пригласил его прибыть в Македонию, и послал Персея (Diog. ho
Laert., VII, 8), бывшего прежде уже в Македонии в качестве воспитателя
Галкионея, старшего сына царя (Diog. Laert., VII, 36); вместе с Персеем
отправляется Арат из Сол в то время, когда Антигон женился на Филе см.:
Westermann, Biogr., Vita Arati, S. 60: xai TraqeXScbv eiq rov ' Avriyovov xai Ф/Аа$
yafjbov xai evSoxtfirjaa^ ev те тЦ aXXyj т:оХщаЬе1а xai ttoitjtixjj и т. д. Узенер
удачно заметил, что стихотворение Арата на Пана было написано по по-
воду этой свадьбы.
33 Это мнение Узенера (Rhein. Mus., 1873) в статье: «Ein Epigramm von
Knidos», о которой говорилось выше.
По крайней мере ни в одной из обеих стран не упоминается более об
Антигоне, и Полибий (XVIII, 34. 51, ed. Huldsch) не говорит о прочной ок-
купации Антигона в этих местах.
35 Акарнанский оратор у Полибия (Polyb., IX, 35, 1) положительно ука-
зывает на это значение Македонии и особенно в отношении Антигона, объяс-
няя, что Македония имеет право на благодарность Греции.
36 Pomp. Trog., ProL, XXV; Plut., De sera num. vind., 10: Polyaen., VII, 7;
Aelian., Var. Hist., XIV, 41; Seneca, De ira, II, 5; Dio Chrys., II, p. 100; Polyb.,
VII, 7 и т. д. Этот тиран, как справедливо предполагает Нибур, пользовался
широкой известностью, оттого что Ликофрон при дворе Птолемея II изоб-
разил его судьбу в драме Kaao-avSge?^. Ликофрон часто представлял в фор-
ме драмы события своей эпохи, так, например, в сатирической комедии он
а
1*
cz
изобразил философа Менедема (Welcker, Die griechischen Tragodien, II,
S. 1258). Потому-то Каллимах тем скорее мог упомянуть тирана в своем Иби-
се, и нет никакой причины сомневаться в справедливости стихов (Ovid., Ibis.,
459). Очень может быть, что лишь из крайне преувеличенной поэзии Ли-
кофрона были заимствованы рассказы, вроде тех, какие встречаются у Плу-
тарха, будто, например, тирану приснилось, что скифы сдирали с него кожу
и жарили его, а сердце его отзывалось: «Поделом тебе!» или будто дочери
его с горящими пылающими телами плясали вокруг него и т. п., или будто
он заколол мальчика и предложил своим соучастникам есть его тело и пить
его кровь.
37 Polyaen., IV, 6, 18.
38 Об этой войне см.: Iustin., XXIV, 1, 3 и ел. Более достоверный Полибий
(II, 41) опровергает показание Павсания (VII, 7, 1) о том, будто между ахей-
скими городами в одной только Пеллене были тираны.
39 Фронтин (Frontin., Ill, 6, 7) говорит: «Troezenios, qui Crateri praesidio
tenebantur». Также и Polyaen., II, 29, 1. Впоследствии сын Кратера является
князем в Эвбее и Коринфе.
40 Polyaen., II, 29, 2; Frontin., HI, 6, 7.
41 Polyb., II, 41.
42 Paus., VII, 7. 1.
43 Paus., VII, 7:txoX&idv kv*A%aia Ttbv aXXwv bofyn 7TQoei%ev ex iraXaiovxaiYaxuw
ev тф тотб. Относительно святынь см.: Paus., VII, 24; cf. Welcker, Der epische
Cyclus, p. 128 относительно имени ofiayvgio^.
44 Siottsq ovSs (tttjXtjv VTTaqxeiv aviM^alvei ra>v rroXewv tovtcjv Tragi vf}<;
ov^moXmiaq (Polyb., II, 41, 12). Полибий говорит здесь о заключенном пять
Г
? лет тому назад союзе между четырьмя городами; по поводу присоединения
^ Эгиона и Буры он прибавляет: iLeri%ov Trj<; av^nroXmia^. Упоминаемая Поли-
о_| бием (II, 37-38) ахейская конституция, по словам самого историка, была
введена со времени восстановления союза.
45 Polyb., II, 37 sqq.
46 Polyb., II, 41.
47 Полибий называет эти десять городов, прибавляя, что из древнего До-
декаполя два города, Гелика и Олен, погибли: ср.: Siebelis (Paus., VII, 6, 1).
48 Lebas-Foucart, Voyage Archeol. — Inscr. de Megaride e Pelop., n° 17. I.
Martha (Bull, de Corr Hellen., [1879], II, p. 95).
49 Это вытекает из последовавшего вскоре за тем раздела Акарнании.
50 Павсаний (Paus., I, 13) положительно говорит: аЛЛа те Ttotov^evo^
еухХурата xai раХктта rrj<; щ 'IraXiav fioySeia*; StafiaQriav. Плутарх едва ли
прав, утверждая, будто Пирр затеял войну ш<; a(mayjjxaiХеч)Ха(г1а%Qr)<r6ii,evo$
и затем продолжал ее, достигнув неожиданных успехов. Он требовал, ве-
роятно, уступок в вознаграждение, например, Паравею, которой он владел
уже прежде.
51 Iustin., XXV, 4.
52 Само собою разумеется, что это не 'Awou oreva, где впоследствии осно-
вана была Антигония, но более восточные проходы. Их можно было бы при-
нять за пелионские (Korytza: Leake, IV, S. 115) близ Вьоссы, если бы этому
не противоречило неясное описание Плутарха.
53 Plut., Pyrrh., 26.
и Эпиграмма находится у Paus., I, 13 и пр. Относительно македонских
орудий сказано:
Они опустошали некогда области златоносной Азии,
Налагали также рабское иго на эллинскую землю.
Теперь же они в Зевсевом храме одиноко висят на колонне.
Трофеи, отбитые у тщеславных македонян.
Эпиграмма по поводу галатов гласит:
Вот щиты, которые в дар итонской Паллады
Вывесил Пирр, отняв их у кельтов кичливых,
Уничтожив совсем Антигоново войско и т. д.
Обе эпиграммы написаны, вероятно, Леонидом Тарентским; см.: Clinton,
Fast Heilen., HI, p. 503.
55 Polyaen., II, 29.
56 Iustin., XXV, 3; Paus., I, 13, 8; Plut., Pyrrh., 26. Невероятно, чтобы Пирр
присвоил себе македонское царство, как он сделал это прежде; иначе у хро-
нографов его имя значилось бы в хронологии македонских царей. У Евсе-
бия Армянского (I, р. 245, ed. БсЬцпе) под заглавием «Thessalorum reges»
сказано: «Sub horum annis Pyrrhus Antigoni copias recepit et paucis quibusdam
locis dominatus est».
57 Aelian., Vor. Hist., II, 20. Lucian. Macr., 11 говорит, что Антигон цар-
ствовал 44 года, следовательно, он начал называться царем после смерти
отца (283 г.).
58 Phylarch., XXV, fr. 48 и 43, представляет Арея, так же как его сына и
наследника Акротата в качестве auXtxyv e^ovcrlav Ог}Хш(гауте<;. Сохранилась
прекрасная тетрадрахма Арея с обычным при диадохах обликом Александ-
ра и с надписью ВА21ЛЕ02 АРЕ02; единственно известный, описанный
Фрелихом экземпляр находится теперь в Берлинском нумизматическом ка-
бинете (см.: Sallet, Nunism. Zeitsch., II, 1875, S. 126 и 285, Taf. IX).
59 Полиен (II, 29) назвал его по этому случаю царем.
60 Отцом ее был Леотихид, а это имя относится к дому Эврипонтидов.
Это служит опровержением Парфению (Erot., 23): що<гг}хои(тау сыл*ф хата
ykvo<;. Lucht. Phylarch., fr., p. Ill смешивает ее с той, которая упоминается у
Плутарха (Ages., 17); но это неверно.
61 Plut., Pyrrh., 26; Parthenius, p. 23. Скажем тут же несколько слов об
источниках дошедших до нас известий относительно последней кампании
Пирра. Судя по общему впечатлению, какое производит изложение Плу-
тарха, можно подумать, что оно заимствовано у Тимея, если только можно
предположить, что сочинение Тимея заключало в себе эту войну; встреча-
ющиеся во введении к Археологии Дионисия слова: Tovq $e ttqo<; IIijqqov
ттоХщоид, очень хорошо объясняются согласно с тем значением, какое при-
дал Тимей словам \Ыа ттдау^атв1а относительно Пирра. Хотя из книги Ти-
мея о Пирре и не приводятся прямо отрывки, которые подтверждали бы
это, однако впоследствии найдется, может быть, косвенное доказатель-
ство. — Впрочем, Плутарх заимствовал это изложение, вероятно, не у Ти-
мея, так как он вообще в биографии Пирра пользовался непосредственно
не им самим, а Дионисием, который черпал из книги Тимея. Но с возвра-
щения Пирра из Италии Дионисий не мог более служить источником для
Плутарха; с этих пор главными авторами для него были только Иероним и
Филарх; он упоминает о них в этом отделе биографии (р. 27), и по изло-
жению его видно, что он больше следовал блестящему Филарху, нежели
разумно политическому Иерониму. Парфений как здесь, так и на с. 25,
очевидно, имел перед собой того же Филарха, хотя он и не называет его, а
довольно значительные отклонения от того же рассказа у Плутарха дока-
зывают только, что украшения его не послужили во славу подлинника. Ра-
зумному изложению Иеронима мы одолжены отличными сведениями у
Павсания, который, кажется, вовсе не обратил внимания на Филарха. Лишь
в заключение своего рассказа о Пирре Павсаний, как кажется, покинул
Иеронима; мы впоследствии вернемся еще к этому обстоятельству. От этих
двух преданий уклоняется короткое описание Юстина (XXV, 3 sqq.), как
мы сами убедимся впоследствии по некоторым подробностям. Я думаю,
что он здесь, так же как и в прежних книгах, все еще пользовался Тимеем;
в особенности его своеобразные отклонения от Филарха, на которого он
впоследствии ссылается, служат доказательством того, что проживавший
тогда в Афинах Тимей в качестве очевидца описал также эту последнюю
войну Пирра.
62 На это наводит Павсаний (I, 13, 3 и 6), пользуясь здесь отличным ис-
точником.
63 Iustin., XXV, 75: «sed et Graecia omnis admiratione nominis ejus... adventum
ejus expectabat». К этой эпохе, кажется, относится данный в Афинах декрет
в честь Федра (С. I. Graec, II, п° 331).
64 Черпая из одного источника с Плутархом, Полиен (VI, 6, 2) тоже гово-
рит, что это посольство находилось в Мегалополе: Пирр будто сказал, что
? I ему хотелось бы воспитать своих сыновей в Спарте. Младший из них Гелен
3 (Plut., Pyrrh., 9) командовал уже в эту войну, остался даже в 274 г. началь-
о. ником в Таренте. Не следует придавать большого значения жалобе спар-
танцев на обман и на ответ царя.
65 Это находится в Apopth. Lac. Плутарха при известном изречении Дер-
киллиды: «Если ты бог, то мы не боимся тебя, ибо мы ни в чем не повинны;
если же ты человек, то, по крайней мере, не лучше нас». То же в несколько
измененном виде находится у Плутарха (Plut., Pyrrh., 26), а Стобей (Flor., I,
р. 185, ed. Dps.) говорит, что это было в народном собрании.
66 Paus., I, 13, 5; судя по IV, 29, 2, мессенцы пришли avre-nayyeXroi. Судя
по изложенному в тексте, это согласуется с показанием Юстина относи-
тельно мессенского посольства (XXV, 4).
67 Полиен (VIII, 49) указывает на то, что Плутарх просто пропустил это
известие, находящееся у Филарха.
68 Этот факт приводит Плутарх и из того же источника Полиен (VIII,
49); он называет женщину, сказавшую эту речь, 'Адх1й<щн; KXeaSa /iaaiXeax;
SvyaTriQ. Это была бабушка последнего царя Агиса, очень богатая (Plut.,
Ag., 4), вероятно, жена царя Архидама, побежденного в 295 г. Деметрием.
Если отец ее, как утвер!ждает Полиен, был царем, то это мог быть один толь-
ко Клеомен, на что намекает также извращенное прозвище КХеайа. В та-
ком случае она была сестрой царя Арея и враждовавшего с ним Клеонима
и по обычаю тогдаших спартанских жен, наверное, была сильно замешана в
политических интригах.
з:
х
о
rz
383
^
i
х
49 Так рассказывает Плутарх. Филарх не может похвалиться большой
точностью; а все-таки не следует считать вымышленным всякое живое,
изобилующее наглядными подробностями описание его, хотя бы даже у
других авторов те же подробности излагались иначе. То, что спартанцы,
и в особенности женщины, ознаменовались самым блестящим образом в
описанной борьбе, подтверждает даже Юстин: «ut поп fortius virtus quam
verecundius (Pyrrhus) recederet». Можно, пожалуй, подумать, что Филарх
превозносит эту спартанскую храбрость вследствие своего увлечения Кле-
оменом, которое делает его, правда, пристрастным, но вместе с тем и сим-
патичным; он, может быть, хотел показать, что в Спарте, несмотря даже на
всю порчу (fr. 33), сохранилось еще ядро доблести, которым как бы оправ-
дывались отважные планы Клеомена.
70Paus., 1,13,6.
71 Это послужило, как замечает тоже Павсаний, поводом к движению в
Аргос. Плутарх не имеет никакого понятия о таких простых стратегичес-
ких моментах, или по-моему, скорее, Филарх, хотя Полибий в своей стро-
гой критике ничего не объясняет по этому поводу.
72 Это и были так называемые у Ливия (XXXV, 27) Pyrrhi castra по дороге
из Спарты в Карий или, скорее, в Селассию. Начиная отсюда, дорога в Ка-
рий пролегает вниз по Энонту длинным ущельем, известным по битве Фи-
лопемена. I g
73 Это опять заимствовано у Плутарха, который следует Филарху. У Юс- Г§
тина Птолемей пал уже во время штурма Спарты. а
74 Об этом знамении упоминает также Плиний (XI, 37), хотя между его
источниками и не значится Филарх; от него эта история перешла, вероятно, I g
в другие сборники чудес. Q
75 У Плутарха. По словам Полнена (VIII, 68), жены на крышах принима- го
ли более ревностное участие. j!
76 Iustin., XXV, 5,1: «Antigonum in urbe clausum expugnare conatur»; здесь,
надо полагать, источником служил Тимей, а потому это более трезвое изве-
стие такого увлекавшегося вообще историка становится вдвойне важным.
77 В примечаниях к Овидию (lb., 299) сказано: unde Homerus (Menephron):
Argos hostilem circumdans undique Pyrrhum
Oppressit miserum tegula missa caput.
Если упомянутый Гомер был известный александриец, то это было бы
самым древним свидетельством о сказанном факте.
78 Так говорит Павсаний; он нашел этот факт в поэме экзегета Левкея
или Ликея, где описываются замечательные события в Аргосе. В истории,
конечно, признаются не чудеса подобного рода, но вера в них; мы имели бы
плохое понятие об этой эпохе, если бы наряду с трезвым рационализмом
образованного общества не признали остатков сохранившейся искони веры
и обычного суеверия в толпе; однако отнюдь не следует принимать это суе-
верие в таком размере, как представляет или скорее выдумывает его Фи-
ларх. — Замечательно известие у Павсания о смерти Пирра: «Он прибыл в
Аргос. И здесь также победоносный царь проник вместе с обратившимся в
бегство неприятелем в город, где, конечно, все пришло в беспорядок; в то
время, как бились уже возле храмов, домов, на улицах города, Пирр остал-
а
50
ся один и был ранен в голову; говорят, что он был убит женщиной» и т. д.,
«так рассказывают про смерть Пирра сами аргосцы и Левкей... это, впро-
чем, не совсем согласно с тем, что сообщает Иероним в угоду, конечно, Ан-
тигону» и т. д. Павсаний и прежде уже (I, 9) выразился в таком же роде
против Иеронима. Благочестивый Павсаний веровал в чудесную судьбу дома
Эакидов; а монументы в Аргосе, воздвигнутые по велению бога на месте
падения святилища Деметрия, принятый им за гробницу победный памят-
ник (II, 21) и т. п. он признает неопровержимым доводом против Иеронима.
Он, очевидно, отступает от его рассказа в том месте, где Ликей вводит бит-
ву в самый город с целью объяснить в нем памятники; а писавший 60 или
80 лет после смерти Пирра Филарх, вероятно, читал уже поэму Ликея. —
Однако что же сказал Иероним о смерти Пирра? Страбон говорит (VIII,
736): «Аргосцы не приняли Пирра, а напротив он пал за стенами (що год
те'щоис), как рассказывают, от брошенного старой женщиной камня», а у
Юстина (XXV, 5,1) сказано: «ibi dum Antigonum in urbem clausum expugnare
conatur, inter confertissimos violentissime dimicans saxo de muris ictus occiditur ».
И в самом деле, можно подумать, что Иероним выразился так «в угоду Ан-
тигону»; для верующего чичероне расстраиваются таким образом всякие
прекрасные значения благочестивых памятников. При египетском дворе, по
крайней мере, не верили в торжественное сожжение и в погребение павше-
го царя, причем из Филарха перешла к Плутарху и Плинию (VII, 2) также
история о несгораемых больших пальцах царя, которыми он исцелял будто
бы известные недуги; недаром, вероятно, между проклятиями, переведен-
к I ными Овидием из Ибиса Каллимаха, находится следующее двустишие:
g Nee tua quam Pyrrhi felicius ossa quiescant,
J Sparsa per Ambracias quae iacuere vias,
o_| где вместо Ambracias ожидаешь, конечно, Argolicas; подлинность этого дву
стишия подлежит, впрочем, сомнению.
79 Смерть Пирра в хронологическом отношении определяет один только
Orosius (IV, 3): «Tarentini Pyrrhi morte comperta... Carthaginiensium auxilia
per legatos poscunt». Судя по триумфальным фастам, Тарент был сдан в
272 году. Итак, падение Тарента относится к исходу 272 года. Ливии рас-
сказал о смерти Пирра в конце XIV книги; оглавление XV книги начинается
так: «victis Tarentinis pax et libertas data est». Судя по этому, смерть царя
последовала осенью 272 года.
80 Комедии Плавта исполнены сценами подобного рода; необходимо
иметь их и отрывки новой комедии перед глазами, для того чтобы составить
себе полное понятие об этой тревожной эпохе.
81 Новейшие авторы ошибались, предполагая, будто отправка Гелена до-
мой должна была возбудить войну между братьями. В Эпире не предстояло
ни малейшего повода к подобной усобице; старший брат Александр был за-
конным наследником.
82 Pomp. Trog., Prol., XXV: filiusque ejus Alexander Illyricum cum Mytilo
bellum habuerit. В рукописях значится: illiricu initio или illiricu Mytilo. В вы-
шеупомянутом трактате я пытался доказать, что здесь говорится только о
Монунии.
83 Iustin., XXVI, 1: mutius inter se odiis in bellum ruebant.
С
84 Paus., IV, 28, 3. To, что изложенное здесь событие относится именно к
этой эпохе, вытекает из отношения между Элидой и Спартой и из того, что
этоляне не играют при этом никакой роли. Элида, вероятно, воспользова-
лась в 280 г. воззванием к свободе спартанского царя; по этой причине и
воздвигнуты две статуи в честь Арея (Paus., VI, 12, 5 и 15, 5). Тут знамена-
тельна также посвященная элейцем Фрасибулом статуя Пирра (VI, 14, 4).
85 Polyb., IV, 29, 6; его слова: о\ Ы Tvqawov<; eiupurevovres относятся к Ан-
тигону. В отношении Элиды этот факт положительно засвидетельствован
Павсанием (V, 5, 1).
86 Pomp. Trog., Prol., XXVI: «quibus in urbibus Graeciae Antigonus
dominationem instituerit».
87 Paus., II, 8, 5.Впоследствии, однако, убедимся в том, что первое пред-
положение более вероятно.
88 Так поступил доблестный Аристодем (Paus., VIII, 27 и 36): ov ovSe
rvqavvovvTO ayeihovro ц,7) ertovoiLaaai xoyarov.
89 Polyb.. IV, 73.
90 Plut., De mul. virt. Micca et Megisto и Iustin., XXVI, 1; и тот и другой
черпали из Филарха, что очень ясно видно по способу изложения у Плутар-
ха; в этом изложении Плутарх, очевидно, гораздо точнее следовал словам
Филарха, нежели в вышеупомянутых рассказах о Пирре. — Основываясь
на исторических и грамматических доводах, неверный текст Epitorum у
Юстина давно исправлен. Павсаний (Paus., V, 5, 1; VI, 14, 4) также вкратце
упоминает об этом происшествии. Владычество тирана, впрочем, длилось
всего шесть месяцев.
91 Нибур в своем трактате «Uber den Chremonideischen Krieg» с изуми-
тельным остроумием и с теплотой изложения, всегда присущею великой
душе этого незабвенного мужа, разъяснил эту войну. Вообще с наслажде-
нием идешь по следам такого исследователя; и хотя я здесь поневоле укло-
нился от него в существенных пунктах, однако лучшие выводы все-таки
вытекают из его исследования.
92 Самос не принадлежал более Аттике. Правда, в 319 г. Полисперхонт в
качестве регента издал декрет, в силу которого остров опять присуждался
афинянам (Diod., XVIII, 56); однако, хотя аттические клерухи действитель-
но вернулись туда, все-таки Самос недолго находился в их власти; это не
подлежит никакому сомнению, так как Лисимах решал спор относительно
границ между Самосом и Приеною (С. I. Graec, II, п° 2254, 2905). Надпись
С. I. Graec, II, п° 2155 вовсе не доказывает, что афиняне владели еще Лем-
носом. Относительно Имброса, ввиду обнародованной в Monatsberichte der
Berl. Akad. 1855, S. 626 надписи, можно еще сомневаться, Ороп давно уже не
принадлежал Аттике.
93 Нибур упустил это из виду. Гесезандр уже ссылается (Athen., II, 52а)
на Пиферма, эпоху которого Нибур пытался определить единственно по
сообщенным им известиям; Пиферм же называл ev то?<; UeiQaicbg rvqavvtvovai
также водопийцу Главкона (Athen., II, 44), которого Scheibe (Die oligarische
Umwalzung in Athen.y 69) ошибочно принял за одного из десяти сановников
в Пирее от 404 года. Касательно водопийцы знаменательны стихи Филемо-
на в Q>t\6<ro(po<; (Meinecke, IV, 29): cpiXoaocplav xaivyv yaq оитод <pi\o<ro<pe?- [ttbivtjv
SiSaaxei xal ц,аЛЬг]та<; Xaiifiavef] щ agro$, oipov \qxo<z, emme?v uSujq. Если этот
13 История эллинизма
cz
Главкон был сыном Этеокла, афинянином, о награде которого за одержан-
ную победу на колеснице в олимпийском беге упоминает Павсаний (Paus.,
VI, 16, 7), в таком случае Хремонид, сын Этеокла из Эфалии, был, вероятно,
его братом (С. I. Graec, II, п° 332). Это предположение подтверждается
олимпийской надписью (Ibid., n° 231), восстановленною Гиршфельдом, ко-
торый мне сообщил свой текст: (fiaatXeu*; ПтоЛ£^]а?о^]Засг[/Леси^], ПтоАе/ш/ои
xai /3[a0-/A/Wr7£] [''AQtrtvoys rXavx]ibva 'ЕтеохХеои$ [ ASyvahv адетг}]; 'evexev
[xaievvoiaqтг)<;]щ6$tovттатеда [ПтоАе//,а?01>]ха/ ?ttjv aSeXcprjv [Begsvixyv ?xai]
tov br^iov... Эту надпись посвятил Птолемей III: — на местах, отмеченных
знаками ??, следует, может быть, читать Т\тоХща1оу xai T*f)v Seav aSeX(pr)v
Aqaivofiv и припомнить, что Главкона не было уже в живых при Птолемее III.
94 Даже Эретрия не была занята; см.: Diog. Laert., II, 141.
95 Он у Диогена положительно называется о km tov Ueigaiajg (Diog. Laert.,
II, 127) и еще яснее: о ttjv }Aovvv%iav b%(dv xai tov Weiqaia (IV, 36). Так как
после Хремонидовой войны в Афинах и гаванях помещены были гарнизо-
ны, а из приведенной заметки Пиферма явствует, что таких тиранов было
много, то их и нельзя было иначе разместить, как в том виде, как обозначе-
но в тексте.
96 Teles, ар. Stob., Flor., II, 11, ed. Lips.
97 Diog. Laert., VII, 17.
98 Гегесандр; см.: Athen., VI, n° 250.
99 Весьма знаменательно то, что народ в Афинах уважал Зенона. Ему вру-
чались ключи от ворот (xai t&v Tet%(bv аитф та$ хХе?<; TTaQaxaTaSioSai — Diog.
Laert., VII, 6). Для хронологии этой эпохи важно определить день смерти
Зенона. В изданном по предложению Фрасона декрете в честь Зенона нахо-
дятся другие подробности (Diog. Laert., VII, 10); но Г. Дройзен (Hermes, XVI,
X
% 1881, р. 291) вопреки довольно веским возражениям доказал, что этот дек-
о. рет составлен из двух разных документов, вследствие чего и невозможно
определить год, когда был архонтом Арргенид. Е. Rohde (Rhein. Mus.,
XXXIII, 1878, p. 622, XXXIV, 1879, p. 154), по Филодему (Pap. Ercolan., I,
875, col. 28), доказывает, что Зенон умер в 01. XXIX, 1, т. е. 264/263 г. до Р. X.
Правда, с методической точки зрения, его доказательство безупречно: но,
по таблицам Евсебия, день смерти Зенона значится в 01. CXXVIII, 1; а Дио-
ген говорит, что Персей процветал в 01. СХХХ, когда Зенон был уже стар-
цем; Нибур (Kleine Schriften, 459) заключает поэтому, что Зенон жил после
01. CXXXI. В письме к Антигону (Diog. Laert., VII, 7), в котором он извиня-
ется в том, что по старческой немощи не может сам прибыть в Македонию,
а присылает двоих из своих учеников, он говорит, что ему 80 лет; а это пись-
мо, за подлинность которого ручается авторитет Аполлония Тирского, на-
писано до 271 г.; доказательством служит то, что умерший в этот год Эпикур
застал у Антигона обоих присланных стоиков — Персея и Филонида (Diog.
Laert., VII, 9). Отсюда уже следует, что, без сомнения, достоверное указание
Персея искажено писцом; вместо bvo xai е/Зйоргрсоггга grow, которое прожил
Зенон, следует писать Suo xai ivevqxovra. Следует отвергнуть сомнительные
расчеты Клинтона (Fast. Hell., II, 368); единственная хоть сколько-нибудь
надежная основа для решения вопроса заключается в отношении упомяну-
того письма к македонским условиям. Антигон, как кажется, только в про-
межуток между 278 и 274 годами пользовался достаточным досугом для того,
чтобы предаваться таким проектам, какие упоминаются в письме. Антигон
после смерти Зенона послал Фрасона в Афины, с тем чтобы испросить для
покойника почет Керамика (Diog. Laert., VII, 15); тот же Фрасон предло-
жил вышеупомянутый декрет (Diog. Laert., VII, 10). Это, конечно, не могло
быть во время Хремонидовой войны, потому что тогда не позволили бы ат-
тическому гражданину в качестве посланника враждебного монарха пред-
лагать декрет; оно не могло также быть после подчинения, ибо в таком случае
Антигон не вел бы переговоров, а просто приказал бы. Зенон, стало быть,
умер прежде войны, прежде 266 года; он не совсем точно сказался в упомя-
нутом письме восьмидесятилетним старцем. Он, вероятно, умер в 267 г. Та-
ким образом, смерть его можно привести в связь с возникновением борьбы
за свободу; война началась только тогда, когда умер предостерегавший
граждан посредник.
100 Отношение Демохарета к Антигону весьма знаменательно; он мог пред-
ложить Зенону ходатайствовать у царя о его желаниях (Diog. Laert., VII,
14); о его поведении в день рождения Галькионея, который в Афинах праз-
дновался по приказу Антигона см. Diog. Laert, IV, 41.
101 Athen., II, 51а.
102 Хремонид был, по С. I. Attic, II, п° 332, сыном Этеокла из дома Эфали-
дов, а Платон — сыном Аристона из дома Коллита.
103 См.: Diog. Laert., II, 168 и других.
104 О статуе в Олимпии см.: Paus., VI, 15, 4.
103 Так именно говорит Павсаний (III, 6, 3). Олимпийская надпись п° 196
(Arch. Zeitung, 1878, p. 175) гласит: fiatriXevg ПтоХе^аТод fiao-iXku)}; ПтоЛб-
ILaiov... fiaaiXka A]axeSat^ov[ia)v evvoiag evex]a щ avrov x[ai...] А// 'ОАцитг/ф;
здесь ввиду многих недостающих букв помимо 'Agea нельзя вставить дру-
гого имени современного спартанского царя.
106 С. I. Attic, II, п° 332. Это предложение сделал Хремонид. Дата опреде-
ляется следующим образом: km T\e&ibrniQ\j aqxovrog km rife 'EqexfreTSog Seirrkgag
TTQvraveiag и т. д. Диттенбергер (Hermes, II, S. 301) относит этого архонта к
01. CXXVIII, 2 или 3 (267/266 г. или 266/265 г.): он справедливо опровергает
возражение Германна (Zeutsch. fur Alterth., 1845, S. 594), который говорит,
что, по Каллипову периоду, в 01. CXXVIII, 3 был високосный год, тогда как,
судя по надписи, в это время был простой год. Я не могу согласиться с мнени-
ем Келлера в том, что договор должен был предшествовать войне; прежде
чем Афины могли в народном собрании обсудить и решить такой союз, долж-
но было, как кажется, совершиться какое-нибудь дело, например взятие
Пирея. Замечательно то, что по этой надписи можно еще признать существо-
вание двенадцати фил и что название филы TTQirravetag на 3-й строке — это
была или 'Avriyovig, или A7)fi7]TQtog — было вырезано впоследствии, вероятно
в первую македонскую войну, как надо заключить по Ливию (XXXI, 44).
107 v. 31: оттшд av ovv xotvvjg ofiovoiag yevofjbkvrjg то?д "EXXfjcri ттдод те тоид vvv
TjSiXTjxorag xai m-QwnovbtixoTag та$ rroXetg TTgoSufiot //-era rov fiatriXewg
TiroXefiaiov xai per' oXXtjXojv xmaq^mnv aycuviarai xai то Xomov peS' ofiovoiag
o-dj^iomv rag TtoXetg...
108 С I. Attic, II, n° 334: km AtoiieSovrog aQ%ovTog, может быть, это был год,
следующий после архонта Пифидема. Относительно календарских затруд-
нений см.: Bokh., Epigr. chron.. Stud., S. 77 ff. и Kohler (C. I. Attic, II, p. 159).
13*
z
О 118
rz
109 Высшее финансовое ведомство, о em rfj<; Stotxrqo-eux;, которое в течение
некоторого времени (вероятно, начиная с 287 г.) заменялось коллегией, было
уже восстановлено в прежнем виде; это видно из почетного декрета, кото-
рый был выдан Зенону (Diog. Laert., VII, 11), также Федру из общины Сфетта
(С. I. Attic, n° 331); может быть, ввиду предстоявших угрожающих событий
предпочли восстановить более прочную власть, нежели дать волю демокра-
тической разнузданности.
по Гегесандр; см.: Athen., VI, р. 250: о\ Ьк ЬтцьаушуоОутв^ 'AStJvtjot хата rov
XgefiovtSeTov ъокщоу xoXaxevovreq rovg ' P&qvaiow; и т. д.; однако тогдашними
вождями народа были именно Хремонид и его друзья.
111 Эти известия Павсаний (III, 6, 4) заимствовал не у Филарха, ибо они
уклоняются от показаний Юстина; но мы не в состоянии добиться того, от-
куда они почерпнуты. Ср.: Paus., 1, 1, 2; 7, 3.
112 Ср.: Polyaen., IV, 6, 3.
113 Iustin., XXVI, 2, 1: «in speciem castrorum relicta parva manu adversus
ceteros».
114 Iustin., XXVI, 2. Trog: «ut defectores Gallos Megaris delevit».
115 Athen., VIII, p. 334; Phylarch., fr. 1.
116 Polyb., II, 45. —ovv!M)xa<; \m e&vSQaTTodiapoi xai iabqictwp rf^ ' AxaqvavitK;
(Polyb., IX, 34). Schorn (S. 58) доказал, что этот раздел не мог совершиться
впоследствии. Юстин (Iustin., XXVIII, 1) упоминает об этом разделе.
1,7 Frontin., Strat., Ill, 4, 5. Другие авторы это взятие Левкады приписыва-
ют старшему Александру Эпирскому. Выше мы предположили, что акар-
нанцы, над которыми господствовал Пирр до своего италийского похода,
впоследствии освободились.
? 118 Доказательством его теоретических познаний служит, по крайней мере,
^ то, что он, подобно своему отцу, писал о тактике (Arrian.; Aeilan., Tact. init.).
О. 119 Юстин (Iustin., XXVI, 2) называет его: hujus (Antigoni) filius Demetrius,
puer admodum; точно так же изображает его армянский Евсебий. А все-таки
это неверно. Оттого что Деметрий, сын Антигона, был рожден тою сирий-
скою Филою, которая, как выше доказано, лишь после 278 г. вступила в брак
с Антигоном, а так как упомянутая война происходила прежде 265 г., то мо-
лодому победителю тогда не было еще 12 лет. Вероятно, Филарх уже сделал
ошибку, которая повторяется у обоих независимых друг от друга авторов.
Можно предположить, что filius поставлено верно, а ошибка заключается в
имени, так что вместо Demetrius следует писать Halcyoneus; однако, не гово-
ря уже о натяжке такой замены, она оказывается несостоятельною потому
уже, что Halcyoneus, этот любимец отца, пал в битве, в которой присутство-
вал сам Антигон, и был в 272 г. уже предводителем в Аргосе, так что он не
мог называться admodum puer в этой войне. Победу над Александром одер-
жал Деметрий, брат царя, либо Худощавый, о возрасте которого мы ничего
не знаем, либо, что всего вероятнее. Красивый, сын Птолемаиды, на кото-
рой отец женился в 278 г. в Милете; этому Деметрию было тогда около 20 лет
от роду, и к нему, пожалуй, можно было бы отнести admodum puer.
120 У армянского Евсебия (I, р. 243, ed. Schone) сказано: proelio autem victus
(Pyrrhus, по ошибочному заявлению Евсебия) Derdiae a Demetrio rebus
quoque privatur. Название места происходит, как заметил уже Нибур (Kleine
Schriften, S. 229), от македонского имени Дерда; он, однако, упустил из виду,
что было двое Дерд, два князя в Элимиотиде, самой юго-западной из верх-
них областей Македонии, лежавшей как раз на границе эпирской Паравеи.
121 Я назвал Фессалию на том основании, что у армянского Евсебия об
этой войне упоминается не в главе Macedonum reges, а в другой — Thessaco-
rum reges. Укрепленная Деметриада, вероятно, удержалась.
121 Pomp. Trog., ProL, XXVI.
123 Suid., s. v. Evcpoqlcuv. Поэт Эвфоорион родился в 275 г. в Халкиде: ttJs
'AXe%avbqo\j rov @a(ri\eu(ravTO$ Eufioiag, viov Se Kqareqov, yvvaixoq Ntxaia$
атед^а(гг)<; avrov, exmoqoq (rcpoSqa, yeyovclx; 7jA$e 'Avriozov rov fieyav fZaaikevovTa.
Я присоединяю последние слова, для того чтобы не усомнились даже у Сви-
ла принять в буквальном смысле аорист той fia(riXeu<ravTo<;. Кратер, предан-
ность которого единоутробному брату Антигону прославляет Плутарх (De
fratr. am., 15), родился в 321 г.; между 300 и 290 гг. у него мог родиться сын
его Александр; после смерти отца (после 270 и прежде 265 г.) к нему пере-
шло начальство над гарнизонами в Коринфе и в Халкиде; он женился, ве-
роятно, незадолго перед тем; может быть, брак его состоит в связи с его
отпадением. Имя Никеи намекает на происхождение из дома Антипатра или
Лисимаха. I -_
124 Вероятно, Архин (Polyaen., Ill, 8). |
125Paus.,X, 21, 1.
126 Plut.: de se ipsum citra inv. laud., 16: kv tjj neqi Kd>v v(l\j\ul%\(l и Apophtg.
(Vol. II, p. 31, ed. Tauchnitz): що<; rov<; Итокщаюи атдатт)уо6<;. Правда, Плу- "§
тарх рассказывает ту же историю еще раз (Pelop., 2), но тут он предпосыла- | §
ет ей слова: 'Avriyovo$ о yeqcov ore vavfiaxew ireqi "Avbqov efieXXev. Он смешал
или эту битву при Косе с бывшею впоследствии при Андросе, или первого I g
Антигона, которого иногда также звали о yiqcjv (De fort. Alex., 1, 9) с его Q
внуком. Wyttenbach (S. 1080 f.) полагает, что к этой битве при Косе относит- ГО
ся следующее место у Афинея (Athen., р. 209): ttjv 'Avriyovov hqav rqtTjqr), $
шхусге tov<; Итокща'юи orqaTrjyov^ -neqi AevxoXXav Ttj<; Kciag; он мог бы еще
прибавить к этому, что Гонатова трирема Истмия (vavaq%i<;) с ее свободно
разросшимся плющом и была, вероятно, этим кораблем (Plut., Quaest. symp.,
V, 3, 2). Однако на Косе нет никакой Левколлы; но мыс того же имени нахо-
дится на Кипре близ Саламина, и он играет важную роль в морской битве
Деметрия в 306 г.; следовательно, тут Афиней или Мосхион в своем трактате
о Гиероновом корабле смешал две битвы. Однако имя Левколлы встречается
довольно часто; Плиний (V, 27) придает это имя мысу в Памфилии, кото-
рый называется обыкновенно Левкофеей, и еще (V, 31) одному местечку на
Хелидонских островах.
127 Мы готовы были бы к этой битве при Косе отнести вышеупомянутое
уже место, где Диоген (IV, 39) говорит, что после морской победы Антиго-
на многие перешли к нему или отправили к нему km<rr6\ia TraqaxXirjTixa; a
для того чтобы понять повод к этим выражающим сожаление письмам —
ибо так объясняют комментаторы Диогена слово TTaqaxXrjrixa, — следует
предположить, что Галкионей пал в сказанной морской битве. Этому, одна-
ко, противо- речит не только рассказ о его смерти, по которому надо пола-
гать, что Галкионей пал в сухопутной битве (Aelian., Var. Hist., Ill, 5; Plut.,
Consol.y 33), но еще более положение тогдашних Афин. Философы могли,
конечно, поддерживать нейтралитет, как то известно про Аркесилая; но
*
390
заявлять явное сочувствие было немыслимо в городе, который с таким на-
пряжением и с такою надеждою вел борьбу. Наконец, для подобного рода
сожалений в письмах слово ттадсцАиЭупха оказывается более подходящим и
общеупотребительным, тогда как naQaxXrrjrixa означает приглашение.
128 Imhoof-Blumer (Choix de monnaies grecques, pi. IX, n° 22) с большою
вероятностью относит к этой победе медаль, на одной стороне которой на-
ходится голова Посейдона, а на другой — стоящий на носу корабля Апол-
лон с надписью ANTirONOT BASIAEOZ.
129 Очень может быть, что Антигон именно в этот раз завладел несколь-
кими Кикладскими островами, что, впрочем, могло случиться также и в не-
посредственно следующей за сим войне. По искаженному тексту Плутарха
(Plut., Arat., 12): уфато тт?$ 'Abqiaq -noXefila^ owdjs, едва ли можно заключить
о том, что он в 250 г. владел Андросом; поправка 'Ахт/а$ (на Эвбее) еще
нелепее: Bergk (Zeitshr. fur Alterth., 1846, S. 669) предложил писать *ТЬд1а$>
что весьма правдоподобно.
130 Сюда, как мне кажется, следует отнести заметку из Sext Emp., adv.
Gramm., p. 106 (Т. II, ed. Lips., 1842), в которой сказано, что посланный
Птолемеем по личным делам к Антигону и сурово им отринутый Сократ
возразил ему Гомеровыми стихами Ириды, обращенными к Посейдону (П.,
XV. 201-203):
ойта) yaq Sr/j toi xeXeai, yat7)o%e хшуо%алта>
rov $e среди) Дгг yM&ov алггреа те xgaregov те,
т? т/ ретаотдефеи;; атдетгтш \iev те ygeveq eVSAaiv,
после чего Антигон сделался уступчивее (^ете/ЗаЛАето). Не был ли Пат-
§ I рокл отрезан вследствие победы при Косе?— Во всяком случае, тут не мо-
^ жет быть и речи об Антигоне Одноглазом, а Антигона Досона нельзя было
о. признать господствующим над морем Посейдоном. Может быть, Сострат
' «книдянин, сын Дексифана» (Strab., XVII, 791), был одним из атдатт)уо1 во
флоте при Косе: это, впрочем, подлежит сомнению, и тем еще менее можно
предположить, что он выстроил и посвятил 0ео* (rurrfjges маяк Александрии
лишь «после смерти и обоготворения Птолемея I».
131 Trog., Pomp, prol., XXVI. О смерти Арея под Коринфом упоминает
Плутарх (Agis, 3). Его смерть служит единственным указанием, какое име-
ется для хронологии всей войны. И в самом деле, судя по Диодору (XX, 29),
он царствовал 44 года, его предшественник Клеоним — 60 лет 10 месяцев
(Diod., loc. cit.), брат Клеонима, Агесиполь — 1 год, наследовав павшему в
июле 371 г. при Левктре своему отцу Клеомброту. Если первое и последнее
из этих чисел так же верны, как и среднее, то день смерти Арея выпал в мае
265 г. Ошибка не может быть более двух месяцев. Относительно дальней-
ших хронологических определений см. ниже.
132 Искаженное место у Полибия (Exc. Vat., XXXVIII, 5, 8, ed. Hultsch)
относится, вероятно, не к этому завоеванию вновь Эвбеи, как полагает Ни-
бур (Kl. Schriften, S. 226), а к непосредственно предшествовавшей тому эпо-
хе; может быть, даже, что пробел ФсихеТд... щ Aoxgo't следует восполнить не
через Е\)$ощу а через AaygieTg. Судя по этому, Александр (год /ЗаспЛяСо-ауто^
Evfioia<;, см.: Suidasr s. v.) является впоследствии только династом в Корин-
фе. Слова Плутарха (Arat., 12) понятны также при такой комбинации.
Z
о
391
133 Plut., Agis, 3.
134 Paus., I, 3, 6: em iLaxQOTGLTovxqovov. Павсаний (I, 30, 4) говорит, что стра-
на была опустошена и что именно храм и роща Посейдона Колонского были
разрушены.
133 Так рассказывает эту нелепую историю Полиен (IV, 6, 20); она нелепа
не потому, что противоречила бы характеру Антигона, а потому, что если
Антигон мог достичь цели с помощью такой жалкой хитрости, то ему неза-
чем было бы прибегать к ней.
136 Смерть Филемона (Suid., s. v.) довольно точно определяет время.
УДиодора (XXIII, exc. Hoesh., p. 163. 164; ed. Dindorf, XXIII, 6 и 9) о ней
говорится прежде осады Агригента (начиная с июня до декабря 262 г.);
вероятно, Диодор по своему обыкновению отметил ее в исходе предшество-
вавшего года; итак, Афины пали в течение 263 года, вероятно, летом. Арей
умер летом 265 г.; в течение того же года Антигон вел войну против своего
племянника Александра Коринфского, а потом он напал на Афины; на этот
раз он потерпел неудачу, город сдался лишь в следующем за тем году. Вы-
шеупомянутые даты по поводу Зенона дают возможность распределить
хронологические факты, предшествовавшие смерти Арея. Тотчас же после I ^г
смерти Зенона, т. е. в 266 году, началась Хремонидова война; в качестве по- |
средника между Афинами и Антигоном (7гоААа \rneq 'AJbrjvaiwv еттоХ1теи<гато
ттдод 'Avriyovov — Aelian., Vor. Hist, VII, 14) он, может быть, и успел бы
отклонить ее. В тот же год последовало поражение галлов при Мегаре и Г§
отступление спартанцев; зимой или весной вслед за тем вторглись молоссы; | а
потом произошла морская битва при Косе; а летом умер Арей.
137 Niebuhr, Kleine Schriften, S. 463; я передал его слова, ничего не изме- I g
нив, оттого, что они незаменимы. Он прибавил: оь yaq shat Ьщпоу axovaai Q
аита<; [aXwai та$ 'АЭт^а$]. Герхер пишет: \ьъЪа\ аита<;% не присоединяя сюда го
приставки, которая оправдывает мнение Нибура. jl
138 Сильное греческое выражение гласит: ohv ъщ Ьъатоу аттоХшХехшд, Diog.
Laert.,VII, 15.
139 Paus., II, 8, 5; HI, 6, 3.
но Гегесандр говорит (см.: Athen., IV, р. 168): «Деметрий, внук знамени-
того Деметрия Фалерского, был вызван в ареопаг, где он получил выговор
за то, что живет слишком пышно и водится с коринфскою гетерою. Он воз-
разил в свою защиту, что живет как порядочный человек, что у него краси-
вая гетера, что он никого не обижает, пьет свое хиосское вино и покрывает
свои издержки из своего собственного имущества; он живет не так, как не-
которые из ареопагитов, прелюбодеянием и подкупами; потом он назвал
поименно тех, которые поступали таким образом. Узнав об этом, Антигон
назначил его тесмофитом. В качестве гиппарха он в Панафинее воздвиг в
честь своей любовницы помост возле Гермесов, выше последних, а в празд-
ник Элевсинских мистерий — престол на священном месте, грозя побить
палкой всякого, кто бы вздумал помешать ему. Не следует, впрочем, дове-
ряться авторитету Гегесандра; множество выписок из его хтоумщата у де-
ипнософистов достаточно обнаруживает характер этих росказней, этих variae
historiae о царях и рыбах, о поэтах и природе, о статусах и философах. Кор-
ке (De hypomn. graec.j p. 20 sqq) весьма тщательно собрал характеризующие
его эпоху заметки; родосский государственный муж Родофон, о котором
о
20
392
rz
упоминает Гегесандр (см.: Athen., X, p. 444) и по поводу которого Кепке ска-
зал: «de tempore, quo vixerit, nihil compertum habemus», есть, вероятно, тот
самый, которого мы встречали в родосских посольствах 171-167 гг. (Polyb.,
XXVII, 6; XXVIII, 2; XXX, 5). Судя по этому, вышеприведенный анекдот
может относиться также и к Антигону Досону; впрочем, ввиду положения
Афин во времена Досона этого не может быть.
141 Paus., Ill, 6, 3: e^yayev exovcriux; ttjv (pqovqav. В Каноне армянского Евсе-
бия и у Иеронима это показано в 01. CXXXI, 1 (255 г.). По надписи относи-
тельно публичных молитв (С. I. Attic, II, п° 373 Ь, р. 427), которая, по мнению
Кёлера, относится к половине столетия, видно, что молились как за Антиго-
на, так и за его супругу. Это была, вероятно, такая же формальность, какая
относится к искаженной надписи ..яал тт}$ fiaaiXiavi^ (Ibid., n° 374, p. 8).
142 По словам Ливия (XXXI, 26), они во времена Филиппа были semiruti.
КбЫег (Hermes, VII. р. 3 Wachsmuth, Die Stadt Athen., I, S. 629).
143 По Плутарху (Arat.y 4), видно, что сикионский тиран Никокл враж-
дебно относился к Антигону.
144 Iustin., XXIV, 3. Тотчас же вслед за тем разошлась весть о смерти Мага
(258 г.); это, впрочем, не доказывает, что Александр вернулся лишь неза-
долго перед тем.
145 Из существовших доселе владельческих условий следует, что Антиго-
ния не могла быть основана ранее; мы предполагаем, конечно, что город
основал Антигон, а не Пирр, который будто бы назвал его в честь своей еги-
петской жены Антигоны. Последнее я отверг по двум причинам. Плутарх
(Pyrrh.y 6) говорит, что в память Береники, матери Антигона, Пирр основал
город Береникиду; а об Антигонии он вовсе не упоминает. Сверх того, ока-
зывается, что положение Антигонии имело гораздо меньшее значение для
X
о
7
^ I молосского царства, а Македония, напротив того, должна была ради собствен
о. ной безопасности обладать как этим пунктом, так и Антипатридой на Апсе,
146 Callim., in Del., v. 168:
ш vtto filrg/rjv
\%zrai ovx aexovaa MaxySovi xoiqaveeobai
арфотедт) fieo-oyaia xai aiтгеХауео-оч xaJtyvrat
(AexQig ottov ттедатг) те xai omobev o)xee<; Ytutoi
'HeXtov (poqeovai.
Отнести псалом LXXII к Птолемею II мне кажется делом слишком рис-
кованным.
147 Мемнон (Memnon., p. 15) говорит здесь, по Нимфису, чему, конечно,
противоречит Сигейский декрет (С. I. Graec, II, п° 3595): ttjv fiaatXeiav... xai
ttjv agxaiav StaSeatv хатеатт)о-е. Однако это почетный декрет.
148 По надписи в Эритрах (Curtius in den Monatsberichten der Berl. Acad.,
1875, S. 554); в ней находится послание царя Антиоха к городу, где сказано:
bioTi em те 'AiXe^avSqov xai ''Avriyovou a\jr6vo^o<; fy xai acpoqoXoyrjro^ 7) -noXtg
u(jbd)v xai ol TjfieTegoi щоуо[voi] eairevSov aei поте ireqi at/nfc..., следовательно,
Селевк, подобно Александру и Антигону, не даровал городу автономии.
Впрочем, судя по словам ytieTeqoi rtqbyovoi, можно это отнести к Антиоху II.
149 В том же послании Антиоха к Эретрии сказано: xai a<poqo[Xoy}i)Tov<;
ehai avyxojQovfiev t&v те aAAaw aTravrcDV xai [tcdv ei<;] та ГаАат/ха ovvayofievajv.
150 Memnon., p. 16. He сказано, конечно, но само собою разумеется, что
этот Эвмен — брат или племянник Филетера. Город, который Гераклиды
охотно купили бы, он отдал в подарок понтийскому Ариобарзану, бывше-
му царем в 266 г. Филетер умер в 263 г. восьмидесяти лет от роду; из двух
братьев его, Эвмена и Аттала, Эвмен был старший; потому я и готов признать
Эвмена из Амастриды его сыном и династом, царствовавшим впоследстии в
Пергаме.
151 Так называемая Сигейская надпись гласит: 'Avrloxo^. .. av agxTJ та
TragaXaficjv rrjv fiacriXaiav xai щоотсн; avbo£pv xai xaXyq aiqatraux; afy)T7)(ra ra<;
//,6V ттоХак; та<; xa[ra] ttjv XaXavxiSa iragiaxofiavat; \mb xaigtbv Svoycagcbv ha
rovq aTtovTavra<z r(bv Txgay^arcDV aiq aigyvyv xai rijv ag%aiav avSai^oviav
xaracTTYJo-ai, rov<; 8' amS'afiavov^ rol<; щаууьао-м am-^aX^cov xabairag yv
bixaiov алахтт\(та(тЬа\ rijv ixargtbav agxqv... vvv Sa 7:agayavofiavo<; am rov<; t6ttov<;
rov<; am raba rov Tavgov xrX. — Более подробные замечания относительно
этой надписи поместил я в Zeitschrift fur Alterthumswissenschaft, 1843, Heft 1.
152 Polyaen., VII, 39; тут говорится о восстании 3000 персов (солдат) в Ранде
на границе Арии; 3000 гоплитов и 300 всадников, македоняне и фракийцы,
тотчас же явились, с тем чтобы подавить его. Относительно положения Ран-
ды см. Ptol., VI, 19 в описании Дрангианы:ха/ xaraxovrai та fiav ттдод rjj 'Agia
'PavSai.
153 Об этой войне, сколько мне известно, нигде не находится никакого
непосредственного известия; а все-таки не подлежит сомнению, что война
была; и точно, в последовавшей затем великой борьбе Филадельф обладал
Дамаском (см. Polyaen., IV, 15). СловаaQq^aa...rovqam^a^avov^rol<;T:gaytiaaiv
атта!;аХ$а)У в так называемой Сигейской надписи относятся, вероятно, к еги-
петской войне. В Финикии, как окажется впоследствии, Арад остался при
сирийском царстве, так что Элевтер составлял, вероятно, границу.
154 Примером может служить галат Ариамн (Рвероятно, Ариман?), блис-
тательно угощавший всех своих соплеменников в течение целого года
(Phylarch., см. Atben., IV, р. 150 (fr. 2)).
155 К этому миру помимо вышеупомянутых слов относится, вероятно, так-
же следующее выражение Сигейской надписи: vvv Sa mbbayavo^avoq... <ща xai
тш$ тгоХаоч Tqv aigrjvyv xarao-xavao-a xai tyjv fiao-iXaiav ai<; fial^a) xai XafM-ngoragav
haSaatv ayTjyoxs. Здесь подразумеваются, вероятно, упомянутые выше уступ-
ки со стороны Антигона, который сам сделал некоторые приобретения на
азиатском берегу.
156 Выше предполагалось, что в мирном трактате между Антигоном и
Антиохом выговорена была свобода греческих городов в Азии; однако во
время затруднительного положения до 270 г. Антигон не был в состоянии
настойчиво ссылаться на свою гарантию, так что относительно этих горо-
дов Антиох мог до поры до времени поддерживать систему своего отца.
157 В этом, как кажется, можно убедиться, судя по смыслу Сигейской над-
писи: в ней, прежде всего, упоминается восстание в Селевкиде; затем гово-
рится, что царь началrov<; am$aiJ,avov$... a-na^aX^cuv... олахтщ&а&Ъа\ tt\v ттатдфау
agxfjv oY о xai %gr)(ratLavo<; amfioXyj xoXjj xai bixaia xai (X]afia)v ov [lovov rovg
(piXov<; xai т^£ 8vvaiiai<; ai<; то foayu)viaav§ai m-gi twv Tigayfiarajv ai/гф щоЬиушх;,
aAAa xai то Saifioviov avvovv xai ovvagyov и т.д. vvv Sa mzgayavofMavog ai<; tov<; t6ttov<;
tov<; am raSa rov Tavgov... To, что ни в этой, ни в Эрифрейской надписи не
394
упоминается о великой победе, одержанной Антиохом над палатами, слу-
жит уже достаточным доказательством того, что обе они составлены были
прежде этой битвы.
158 Lucian., Xeuxis sive Antioch.\ заимствовал ли он свое описание, как
предполагали Вернсдорф и другие авторы, у Симонида из Магнесии в эпо-
ху Антиоха Великого — уеуда<ре та$ ' Avrio%ov ща^ хал tx\v t.qo<; ГаЛатад
№XW, ore fiera tojv eXecpavrcov ttjv гп7гоу avrov ecpSeigav (исправленное, как
кажется, верно в avrcov ecpSeiQei/) — черпал ли он из иного источника — все
это решительно подлежит сомнению; не решено также, было ли описание
Симонида изложено в поэме, оттого что он сам был эпическим поэтом. В ту
эпоху было немало историков, писавших в таком же фантастическом роде.
П9 Lucian (De lapsu in salut., 9) называет его ttjv $aviLaorr)v exeivrjv vixrjv;
Александр явился будто бы царю во сне и сказал ему боевой крик, при ко-
тором он одержит победу. Плиний (VIII, 3) упоминает о слоне в этой битве.
160 Аппиан (Арр., Syr.у 65) говорит: ' Avrlo%oq... oV *ai Хштг)д sirexXySr),
ГаАата^ ех тт}$ Evqwtttjs щ туг/ 'Aaiav k^aXovraq e^sXaaa<;. В Сигейской
надписи стоит... ттдеа yeyovora rov Srjfiov , что, как само собою разумеется,
может значить только crojriJQa однако это не относится к прозвищу царя.
Аппиан утверждает, будто он принял или получил это прозвище вследствие
победы, одержанной над галатами, что, впрочем, весьма сомнительно. В сло-
вах Лукианао/ MaxeSoveq e-naiu)vt£ov...xai avibovvTov$am)&axaXXivixovf5o(x)VTZ$
тоже думали признать данное победителю прозвище, упуская из виду, что у
греков были также своего рода победные песни. В отношении прозвища
Сотер надо заметить, что оно не встречается именно на тех монетах, кото-
| I рые с их изображениями слонов относятся, по-видимому, к победе над га-
? латами. Монеты с надписью 2ПТНР02 взамен обыкновенной ВА21ЛЕП2
^ ANTIOXOT нечасто попадаются; у Мионне находятся всего две (Suppl., VIII,
qJ p. 9, n° 48; p. 11, n° 56), одна из Парижского кабинета с обликом царя d'un
' age avance; Froehlich, Ann. SeL> p. 25 уже знал их. Хотя эти монеты не обо-
|Г значены никакими особыми отметками, однако они отчеканены, вероятно,
автономными городами, для которых Антиох был не царем, а «спасителем».
Мионне по находившейся у него монете неверно списал надпись ANTIOXOT
2ОТНР02; как в этой, так и в другой монете 2OTHP0Z стоит впереди, на
том месте, где обыкновенно находится ВА21ЛЕП2. Этим объясняется
странная фраза в С. I. Graec, III, n° 3075: та/ 'Avri6%ov flamXeux; xai awvrJQO*;
здесь(rcoT7)Q не прозвище, a статус. В священной надписи Селевкидовой эпохи
(С. I. Graec, III, n° 4458) царь называется: " Avr\b%ov 'АттоХХшмд Xwttjqo*;.
161 Дальнейшие подробности см. в приложении I.
162 Liv., XXXVIII, 16.
163 Здесь считаю необходимостью присоединить заметку, которая встре-
чается совершенно изолированно. Секст Эмпирик (Adv. gramm., p. 13 — Т. II,
p. 114, ed. Sips., 1842) рассказывает, что царь Антиох, овладев Приеною, ве-
лел своему танцовщику Сострату во время пира проплясать «свободу»; как
уроженец Приены Сострат возразил: теперь некстати будет плясать этот
танец, оттого что родной город порабощен; вследствие этого царь даровал
городу свободу. Здесь речь идет именно об этом Антиохе; это видно из за-
метки Гегесандра (см.: Athen., I, p. 19; cf. VI, р. 244), где сказано, что царь
Антиох отличал танцовщика Архелая и что отец Антиоха сыновей «флей-
Оч
(D
тиста» Сострата произвел в соматофилаки. Если бы Кепке (De hypomnemat.,
p. 30) обратил внимание на это место у Секста, то не преминул бы отнести
это известие к Антиоху Теосу и Сотеру. Не подлежит сомнению, что флей-
тист и танцовщик Сострат одна и та же личность; в другом месте Афиней
называет его, по Аристодему, лизоблюдом Антиоха. — Приена была, веро-
ятно, одним из тех городов, о которых, как замечено в начале этой главы,
Мемнон сказал, что они благодаря галатским наемникам сохранили свою
независимость. В таком случае царь, одержав великую победу над галата-
ми, покорил, вероятно, Приену и другие ионийские города; и в самом деле,
эти события никак нельзя отнести к 278 г.
164 место этой победы отмечено, вероятно, основанием Аламеи, прозван-
ной впоследстии Дамеей (см. приложение I).
165 Strab., XVII, р. 789.
166 Callim., in Del. 170: оУ е'/отетш ffiea ттатдо<;; cf. Theocrit., XVII, 121.
167 Athen., XIII, p. 576.
168 Это странное показание Филарха у Афинея (XII, р. 536) подтвержда-
ется некоторым образом словами Каллимаха, обнаруживающими, по край-
ней мере, то, что подобного рода нелепости отвечали воззрениям двора в ту I —
эпоху, как например (in Apoll., v. 40): 'АтгоААшуо^ аш<гтаСри<тм ebeiqai... airrfjv ~
iravaxetav и т. д., v. 45: avafiX^aK; Savaroto, также отрывок у Clem. Alex., Str., V,
с. 11, § 69: у 7Tavaxe$ тталпш (pagfiaxov у aocpia. Подобно тому и повар в комедии
(«Солдаты» Филемона) похваляется: a&avao-iav eiQrjxa (см.: Athen., VII). Г§
169 Юстин (Iustin., XVI, 2) говорит: «regno ei publice tradito privatus officium | §
regi inter satellites fecerat»; cf.: Lucian., Maer., 12.
170 О том, как в Александрии смотрели официально на такое престоло- g
наследие, можно судить по Каллимаху (in fov. 55 sqq.); он, правда, по поводу Q
Зевса говорит: хотя братья и старше его от роду, однако они охотно предо- го
ставили ему небо; древние поэты неверно заявляли, будто жребий решил £
это; и в самом деле, какой безумец решился бы бросать жребий между Олим-
пом и Гадесом; не жребий, а едуа %щьм сделали из Зевса ecravjva Эеап>.
171 Paus., I, 7, 1. Шамполлион того мнения, что этот кипрский Лагид, ко-
торого Павсаний не называет, есть тот самый Мелеагр, который в Македо-
нии на короткий срок наследовал Керавну. Мелеагр был не сыном Таиды,
как полагает Друман (Rosett., Inschrift, S 76); это видно из слов Афинея (XIII,
р. 576), где сказано, что Таида родила Птолемею троих детей, а именно Лен-
тиска, Лага и Ирену, вышедшую впоследствии замуж за Эвноста, царя Сол
на Кипре. Это место у Павсания изложено в таком виде, что взамен на\ aAAov
следовало бы ожидать собственное имя.
172 Diog. Laert., V, 78; Cic. Pro Kab. Post., IX (23) и пр.
173 Schol., Theocrit., XVII, 128. Само собою разумеется, что намек Фео-
крита (XVII, 44) к ней не относится. Она в 283 или 282 г. вышла замуж за
Птолемея и родила трех детей; она была сослана, вероятно, после 279 года.
174 Paus., I, 7, 1; бестолковый Геродиан (Hist., I, 3) также порицает это;
Авзоний (Mosella, V, 310) говорит о том же incesti foedus amoris. Известна
отпущенная Сотадом острота и трагические последствия ее (Athen., XIV,
р. 621; Plut., Depuer. educ, 15; Quaest. symp., IX, I и т. д.); я здесь не намерен
подвергать критическому разбору этот рассказ. В одной из следующих за-
меток нам придется пояснить намек одного из современных комиков на этот
»
396
брак. Как истый придворный поэт Феокрит (XVII, 130) настойчиво указы-
вает по этому поводу на \eqo<; уацмх; Зевса и Геры (xaatywjTov те ttoo-ivtb). Так
как этот оборот не встречается в гимне Каллимаха в честь Зевса, то не под-
лежит сомнению, что гимн был написан до второй женитьбы, что, впрочем,
и без того оказывается вероятным вследствие раздела отцовских владений.
Летрон (Recueil, p. 180) привел хронологию основания колоний в связи с
этим браком; но доводы его лишены той проницательности, какою отли-
чается критика этого зна- менитого исследователя. Я не могу также со-
гласиться с его объяснением относительно заметки, сделанной к Феокриту
(XVII, 58): 6 Ф*Аа#еА<ро£... eyevvr)$7) \mo Begewxi^, щ yag Beqevixir) Ьууатцд
'Avriyowjs той Kaa-aai/Sgov той 'Аутптатдои aSeXcpov той к<гпоиЪахото$ хтХ. При
этом он слова (у уад — 'Аутпгатдои) помещает в скобки, как будто a$eX(pov
относится к Ведемхщ. Это невозможно. Береника в 316 г. уже, будучи же-
ною Птолемея, родила Арсиною (История диадохоб, прим. 82), а в прежнем
браке она родила уже Мага и двух дочерей; Маг в 308 г. уже в состоянии
был принять управление Киреною: он родился не позже 325 года. Беренике
тогда было, по крйней мере, 15 лет от роду, она родилась не позже 340 года.
В таком случае, мать ее родилась, без сомнения, прежде 355 г.; в это время
сын Антипатра, известный Кассандр, которого Летрон считает отцом этой
Антигоны, был еще чуть ли не отроком; о Kao-aavSgou уацм$, на которой
находился Спевсипп (Diog. Laert., IV, 1), могла быть между 348 и 340 гг.
Кассандр, отец Антигона, — не кто иной, как сын старшего Иолла, брата
Антипатра. Про Кассандра Схолиаст говорит: год к<лгоийах6то<; rfjv kv тф
TQioniq) ttjv AajQiecov ovvobov. После этого можно, пожалуй, предположить,
х что этот Кассандр тот же Асандр, который в Истории диадохоб так часто
? встречается в качестве сатрапа Карий, а потому у Схолиаста также следо-
^ вало бы читать Асандр. Это, однако, неверно. Сатрапом Карий был брат не
о_| Антипатра, а Пармениона. — Относительно титула адеХсрг/), придаваемого
египетским царицам, находится несколько указаний у Летрона (Recueil, p. 3
и 9). При несомненно засвидетельствованном осуждении подобного рода
браков все-таки странно, что этот почетный титул был введен также в Си-
рии для цариц. Упоминаемая в Сигейской надписи сестра-царица Антиоха I
есть, надо полагать, Стратоника — дочь Деметрия; факт, конечно, стран-
ный, но опровергнуть его нельзя. Невозможно также доказать его с пол-
ною очевидностью, ни даже по надписи у Грутера (CXXXVIII, 4) на женской
статуе с руками под покрывалом: BaaiXuro'av 'Aqa-w&rjv fiaaiXecos TiroXefialov
xai fia<TiXi(r<rr)<; BsqbvIx^ 'ZtqcltovIx'T) fiamXiuiq Аурутд'юи. Я пытался разоб-
рать этот вопрос в Zeitschrift fur Alterthumswissenschaft, Heft 1. Необходимо,
однако, вспомнить, что при дворе Селевкидов название «брат» встречается
тоже в виде почетного титула; см.: loseph., Antig.,, где находится несколько
таких примеров.
175 Schol., ТЪеосг., XVII, 128.
176 Steph. Byz.: "E<pe<ro<;\ Strab., XIV. p. 640.
177 Iustin., XXIV, 3, 3.
178 Memnon, p. 7.
179 Я не обинуясь говорю это; в списке претендентов как у Диодора (Fr.
inc., p. 267, ed. Tauchnitz; XXII, 4, ed. Dind.), так и у Порфирия (Fr. Hist. Graec,
III, p. 697, ed. С Miiller) значится Птолемей, старший сын царицы.
к
С
180 Мы не знаем, когда совершился этот брак. В Zeitschrift fiir Alterthums-
wissenschaft (1843, Heft 1) я старался доказать, что эта свадьба была незадол-
го до 266 г.; главным доводом здесь служит бегство Сотада в Кавн, где наказал
его Патрокл, который по пути в Аттику, вероятно, отнял эту станцию у ро-
досцев, нарушив тем их нейтралитет. Другим доказательством служит следу-
ющее: комический писатель Алексис в своем Гипоболимее (Метеке, III, S. 494)
заставил одного из действующих лиц пить за здравие и семейное согласие
царя Птолемея и его сестры. Известно, что Алексис Турийский родился еще
прежде разрушения Турий в 390 г. и дожил до преклонных лет; если, одна-
ко, Мейнеке (Hist, crit., p. 375) вышеупомянутое место относит к женитьбе
Птолемея II на его сестре Арсиное (quod ante 01. СХХШ, 1 fieri nullo modo
potuit неверно: прежде 01. CXXV, 1 брак не мог совершиться), то надо пред-
положить, что Алексис сочинил пьесу, когда ему было с лишком ПО лет от
роду; Плиний (Hist. Nat., VII, 48) не умолчал бы о таком замечательном
факте. Одно из двух — или комедию написал не Алексис, или в ней говорит-
ся не о втором, а о первом Птолемее и о Беренике. В примечании к отрывку
Мейнеке решает вопрос в пользу Птолемея I. И в самом деле, Береника была
дочерью Лагида, но не Арсинои, как Птолемей; матерью ее была Антигона
из дома Антипатра; и некоторые авторы настоящим отцом Птолемея считали
царя Филиппа; брак с единокровною сестрою не был чужд эллинским нра-
вам, и что всего важнее, во время их женитьбы, около 317 г., Афины не
поддерживали почти никаких сношений с Египтом. Все будет гораздо лучше
согласовываться, если женитьбу приписать Птолемею II и Арсиное: они
были от одного отца и от одной матери; в таком случае, конечно, и слова Yaov
)'(Г(1) xexQOfievov отлично могут быть применены как к вину, так и к царской
чете. А если весельчак прибавляет затем, что он готов выпить еще два кубка:
tyjs oilovo'kh; dvo- т/ vvv 1Щ нащааы
avev \\jyyob%o\j що<; то TTjXtxovro <pa)$;
то под этим едва ли подразумевается доброе согласие между супругами, но,
скорее, часто встречающееся на городских монетах OMONOIA между обо-
ими государствами, Египтом и Афинами; в таком случае отрывок может
относиться только ко времени Хремонидовой войны или к предшествовав-
шей эпохе. А потому упомянутая пьеса, конечно, не могла быть написана
Алексисом Турийским, или, скорее, она давалась на сцене после его смер-
ти, и тогда вставили тот стих по известному поводу. В одной из академи-
ческих записок под заглавием Das Finanzwesen der Ptolemaer (Sitzungsber.
der Berl. Acad., 1882, p. 226 sqq.) я старался точнее определить время сказан-
ной женитьбы. Судя по памятнику в Мендете (который обнародовал в
Zeitschrift fur agyptische Sprache, 1875, p. 331, Brugsch-Bey, сообщивший мне
дополнение к комментариям и поправкам), Птолемей II сочетался браком
со своей гораздо более старшей сестрой Арсиноей на 15-м году (своего цар-
ствования), а именно весною 270 года.
181 Paus., I, 7: еттдоттеием a£t(o$ei<;; относительно его царского титула см.
Историю диадохов. В качестве царя он изображен на знаменитом аметисте
в Петербурге с увенчанною головою, которую скопировал и описал Вискон-
ти. Я здесь не стану повторять то, что в первом издании моей книги сказано
было о монетах Мага, так как благодаря превосходным трудам Л. Мюллера
вопрос с тех пор выяснен настолько, насколько можно было по сохранив-
шимся монетам.
182 Здесь, вероятно, нельзя будет воспользоваться Полиеном (II, 28, 2),
если притом в точности передать слова Павсания. Парайтоний не что иное,
как пограничная крепость, а к западу от нее живут мармариды.
183 Судя по этому известию о галлах, оказывается, что война происхо-
дила после 280 года. Каллимах (in Del., 170-190) прибегает к странному
обороту; но слова i;uv6<; aeSXo*; Аполлона и Птолемея против галатов вовсе
не относятся к египетской экспедиции в Грецию с целью борьбы с кельта-
ми, а именно к этому истреблению галатов на Ниле: «щиты», говорит поэт,
«сами те, которые носили их, увидят погибшими в пламени, они послужат
трофеями много пострадавшему царю». В примечании к этому месту ска-
зано: известный Антигон, друг Филадельфа, прислал ему по его желанию
этих галатов (тгдо&е? airrov<; оы/гф а когда они захотели завладеть царски-
ми сокровищами, то их в Себеннитском устье Нила предали смерти. Не
подлежит сомнению, что это был македонский Антигон; если бы титул
«друга » был точный, то присылка галатов могла совершиться только между
274 и 272 гг., во время войны Пирра; впрочем, это чересчур рискованное
предположение. Однако откуда взялись эти галаты? Они едва ли были на-
вербованы из рассеянных остатков в Греции, которые, как предполагает
Дифенбах (Celtica, II, 1, р. 276), были тоже в Этолии; они, вероятно, при-
были из Фракии и Македонии, а там Антигон, начиная лишь с 277 г., стал
твердою ногою; и поэтому также следует предположить, что война про-
исходила после 277 г. Но она, по-видимому, предшествовала бракосочета-
нию Птолемея с Арсиноей.
184 Я лишь в заметке решаюсь указать на другую комбинацию. Мы сейчас
увидим, что Египет вел на берегу Понта борьбу с Митридатом, умершим уже
в 266 г., а после того с его наследником, и что как раз в это время Тиос полу-
чил имя Береники. Может быть, Птолемей и выслал туда флот с целью от-
стоять притязания только что сочетавшейся с ним браком сестры Арсинои
на княжество Гераклеи (заключавшее в себе город того же имени вместе с
Тиосом, Амастридою и Киером), на Кассандрию и Эфес, что именно и по-
служило поводом к первой сирийской войне. Впрочем, здесь все покрыто
мраком неизвестности; мы должны ограничиться изложением в пределах
возможности.
185 Апамой называется она у армянского Евсебия (I, р. 250, ed. Schone),
где имя Мага представляется под искаженным видом tarau (rapuit), у кото-
рого, помимо инициала, весьма сходные буквы, см. также Павсания (I, 7, 3).
Я нисколько не сомневаюсь в том, что это та же Апама, которую Юстин
(XXVI, 3) называет Арсиноей. Этому отнюдь не противоречит то, что дочь
ее, жена Птолемея III, называется сестрою его: название сестры здесь не
что иное, как титул. Однако Hygin (Astr. poet., II, 24) говорит: Ptolemaeus
Berenicam (т. е. упомянутая дочь), Ptolemaei et Arsinoes filiam, sororem suam,
duxit uxorem. Основываясь на этом, Нибур (Kleine Schriften, S. 230) постро-
ил следующую гипотезу: отторгнутая Арсиноя из Копта спаслась бегством
в Кирену, вышла замуж за Мага и была матерью этой Береники. Однако по-
казание так называемого Гигина по сбивчивости его оказывается совсем
негодным; Ptolemaei filiam во всяком случае — бессмыслица. Причина пере-
399
7*
именования неизвестна. — Хронология бракосочетания выяснится в неко-
тором роде впоследствии.
186 Paus., I, 7, 3: StsTra^ev... roiq ptev а<г$£1/£(гтедо1<; Хуотсн; хататдех&м tt$i>
yr]v, oY Se 7)<rav Swarajregot argareia xarsTgyev.
187 Athen., XIV, 621; в 266 году Патрокл стоял близ Аттики. Полиен (III,
16) сообщает о взятии Кавна Филоклом TlroXefiaTov (rrgarTjyov. Это тот са-
мый Филокл, о котором несколько раз упоминается в надписи xoivov t&v
v7)(rt(OTa)v в Делосе (Homolle, Bull, de Corr. Hellen., V, 1880, p. 327): он там
называется ftaaiXziiq XtSwviwv Ф/AoxAifc, но вассалом Египта, хаУ щ fiaaiXeix;
ПтоХераТод o-uvira&v. Дальнейшие подробности см. le commentaire de
Homolle.
188 См. Эритрейскую надпись в Bull, de Corr. Hellen., HI, 1878, p. 388, и
поправку Диттенбергера в Hermes, XVI, 1881, p. 195.
189 Steph. Byz., v. BeQBvTxat. У того же автора относительно "Ayxvga нахо-
дится весьма замечательная заметка, почерпнутая из XVII, книги Kagixa
Аполлония: Mt^gaSarrjv xai'AQiofiag^avrjv ve7)Xu$a$ roiq ГаАатш£ (гищш^хт/талпа^
хтХ., взамен чего, конечно, следует писать: Mi^gaSaTT) xai 'Agtofiag^avT)
vs7jXvSa<; той<; ГаЛата^. Это тот самый Аполлоний из Афродисии, на которо-
го Стефан часто ссылается и которого Свида называет ag%iegev<; xai iaroqixo^. |
Эпоху, когда он жил, определить невозможно, ни даже по показанию Сте-
фана Византийского в трактате Аутоид тгоХк;, где сказано: Л^тотгоЛ/тт^- ovtq)
yog ПоХиатдатод xai 'Atto)^ojvio<; 6 agxtegzvs Xeyofisvo^ avaygacperat (это, ве- Г§
роятно, тот Полистрат, о котором упоминается в Антологии; в Anthol., VII, а
292 находится его эпиграмма на разрушение Коринфа, которая определяет . ^
его эпоху). — Само собою разумеется, что этимология имени импровизиро- g
вана, эту Анкиру можно принять за расположенный на фригийской грани- Q
це -noXi%uiov или за исстари известный город того же имени. Замечательно, го
что Летрон (Recueil, p. 184) не знает Тиос-Береники, а иначе это имя рас- j!
строило бы, конечно, его странную гипотезу.
190 Polyaen., IV, 15. Mionnet (V, p. 8, n° 59) приводит монету Антиоха Со-
тера с надписью А2К и относит эти буквы к Аскалону, которым, следова-
тельно, владел этот царь. Знатоки говорили мне, что такое предположение
крайне сомнительно; я должен, однако, заметить, что Л. Мюллер (Num. d.
Alex.у p. 309) признает его верным.
191 Polyaen., II, 28, 2: 77} rcov mjgcrcov аъа-щ ттдот)№е тт?$ хща$ а%д\ той X/
хаХоицемь. В напечатанном тексте стоит Xiov; Казобон признал это за ХециЬ
хшул) у Птолемея. Блуме предполагает, что следует читать тои Д хаХоиреми.
Впрочем, этот XstfAQj хьу\щ в Стадиасме (Geogr. min. v. Gail., II, p. 435) два
раза называется то ХГ. Плутарх (De ira cohibenda, см. Метеке, Fr. Com., IV,
p. 52) рассказывает, что буря выбросила комика Филемона на берег в Па-
райтонии и что Маг за скользкий намек в комедии пригрозил ему смертною
казнью; этот намек состоял в следующем:
ттада тои /ЗатХещ, удащьаУ г\хы <то\ MaVya*
В. Мауа<;, xaxoSaifiov, ygafifiar' ovx етг'кгтата!.
Маг владел Парайтонием только во время войны или после нее; хотя эта
история сама по себе и невероятна — престарелый Филемон вряд ли пред-
принимал дальние морские путешествия — однако она указывает на то, что
400
в древности Парайтонии известен был властью Мага, и я не сомневаюсь,
что он по мирному договору удержал за собой свое завоевание.
192 От времени этого отложенного до 280 г. мира зависит определение
всех сопровождающих его обстоятельств. Прежние исследователи, не ис-
ключая даже Thrige (Res. Cyr., p. 223), оказываются в этом случае нена-
дежными. Заметка Свиды v. КаЛЛ//и,а%о^ о том, будто Птолемей III начал
царствовать с 01. CXXVII, 2 (Шамполлион, AnnaL, II, р. 18, относит это ко
вступлению во владение Киреною, основывая на том весь свой расчет), дав-
но уже признана вполне ошибочной. По Агафархиду (см. Athen., XII,
р. 550), Маг, вступив на престол в 308 г., царствовал в Кирене пятьдесят лет
(fia<ri\ev<r<LVTa): ажокщ^тоу yevofMevov хал Tqvcp&vra xaraaaqxov yeveabat
ехтоттих;, — хата rov '£о%атоу xgliqov xai imo той ттахои$ aTrom/iyfjvai. Следова-
тельно, незадолго до 258 г. он перестал воевать и не воевал в течение про-
должительного времени, так что разжирел до удушья; поэтому мир заключен
прежде 260 г. Дочь Мага Береника была тогда еще ребенком (оттого unicam
filiam ...filio eius desponderat; см.: Iustin., XXVI, 3). Гигин (Astr., II, 24) со-
общает, будто она помогла своему отцу Птолемею выиграть сражение; но
по имени отца уже видно, что это известие не имеет никакого значения.
Следуя Каллимаху, Катулл (in com. Ber.) по поводу отважного подвига ее
против македонского Деметрия называет ее a parva virgine magnanima. По-
казание Порфирия в армянском и греческом Евсебии, будто Деметрий умер
в 01. СХХХ. 2, к сожалению, совершенно ложно (см.: Niebuhr, Kleine
Schriften, S. 235 ff.). Судя по ходу событий, изложенных у Помпея Трога
(Prol., XXVI; Юстин здесь не пригоден), оказывается, что это случилось
между отпадением побочного сына Птолемея в Милете и смертью Анти-
? оха П. Поправка Нибура, состоящая в том, чтобы вместо q\' 'ОХиртиадо*;
% писать gXfi', впоследствии окажется более чем вероятною. Если в 251/250 г.
г
CZ
о. parva virgo была 14 лет от роду, то она на семнадцатом году вышла замуж
и родилась в 265/264 г.
193 По словам Syncell'a (p. 521), Антиох умер в конце 262 г. в Эфесе. Ар-
мянский Евсебий (р. 250, ed. Schone) то же самое говорит про Антиоха II.
По некоторым причинам оказывается, что оба этих показания неверны.
194 Здесь, мне кажется, следует воспользоваться Полибием (XXXI, 7 6);
его выражение Kauvov е&уодао-ареу подтверждается словами Плиния
(XXXV, 10) по поводу Протогена: patria ei Caunus, gentis Rhodiis subiectae.
195 Strab., X, 460.
196 Это, кажется, вытекает из сообщества Гераклеи и Египта в борьбе за
вифинское наследство.
191 Судя по хронографам, он царствовал 19 лет и умер в 01. CXXIX, 3,
следовательно, в 262/261 г., притом зимою, если 19 лет верно рассчитаны;
он прожил 64 года. Евсебий армянский (I, р. 249) полагает, что он умер anno
primo 01. CXXLX, вместо чего Гутшмид поставил in tertio.
198 Это можно в точности рассчитать, зная год смерти Аттала: ср.: Polyb.,
XVIII, 24; liv.f XXXIII, 21. Аттал умер осенью в 197 г. и царствовал 44 года,
его предшественник Эвмен — 22 года; он, следовательно, вступил на пре-
стол в 263 г.
199 Strab., XIII, 624. Следовательно, эта война могла происходить только
в промежуток между осенью 263 г. и концом 262 г.
200 Liban., Antioch., I, p. 306, ed. Reisk. Фрёлих в своих ученых Annal. Syr.
prol., IV, 2 и 4, очевидно, имел в виду это место, когда говорит «Trogus...
satis illis verbis cladem innuit: Antiochum I, cum prope Ephesum, ubi proelium
hoc commissum est, antea felix et senex decessisset, regnum reliquisse non deterius,
sed tamen metu concussum». У Трога это вовсе не упоминается, но Фрёлих,
вероятно, не понял фразы Либания, которую он, впрочем, не приводит; слова
Либания 'Аючо£ф... ттоХеро^ оиЬщ етто^яруЗу • то yaq Ььо-цлуц ажау етгтг)х£1 ТФ
сро/Зф означают как раз противоположное тому, что он им приписывает. —
Трог говорит (XXV): «Ut in Syria Antiochus ...altera filio occiso, altero rege
nuncupato Antiocho decesserit». Фрёлих пытается доказать, что этот убитый
сын был тот Птолемей, о котором говорит Плиний (VII, 37; XXIX, 1); мы
впоследствии объясним иначе это место; имя Птолемея едва ли встречается
в этой семье. Мы лишены всякой возможности истолковать слова Трога.
В этом случае можно бы сослаться на Малалу (р. 205, ed Bonn.), называюще-
го, помимо Антиоха II, сыном Антиоха и Стратоники Селевка, оотк; fiixqo<;
етеХеСтуо-е. Но этому противоречит altero occiso. Я не решаюсь признать
ошибку в выписке Трога и прибегнуть для объяснения к словам Малалы.
201 Memnon., p. 21; это была война против истрийцев и каллатиян, хо-
тевших завладеть монополией в торговле с Томами. Весьма замечательная
заметка относительно простиравшейся до Адриатического моря торговли
по Дунаю находится у Аристотеля, Mirab. ausc, 104.
202 Polyaen., V, 23.
КНИГА ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1 Вследствие этого возникло, вероятно, предположение Филина и рим-
ских летописцев о том, что по формальному договору возбранялось рим-
лянам появляться в Сицилии, а пунам в Италии с оружием в руках; Polyb.,
111,26.
2 К этому относятся, вероятно, слова Павсания (VI, 12): ttji/ $e olqx^v el%ev
ет£/ Savregq) ttj$ 'OXvfimaSo^ xai та?£ eixoai xai exarov, где, как оказывается,
по мнению Идея Киренского, пропущено ехтт^. Следовательно, Гиерон на-
чал царствовать в 01. CXXVI, 2, т. е. в 275/274 г.
3 Diod., XXII, 13, 1; тут следует атаУХаущ ex Ttjq тюХщ1а<; изменить в
TToXioqxlaq и перевести так, как сказано в тексте.
4 Так утверждает Полибий (I, 9, 8). Он говорит (VII, 8, 4), что Гиерон
был царем уЗа<пХеС(га<;) 54 года, а умер осенью 216 г.; следовательно, осенью
270 г. он вернулся из упомянутой удачной кампании. В изложении Диодора
в том виде, как оно представляется в выписке XXII, 13, 6, этот промежуток
исчезает: его показание, будто тотчас же после битвы, когда мамертинцы
готовы были сдаться Гиерону (/txeS-* /хеттде/а^ amavrav тф /ЗаочАеГ), явился
пунический полководец Ганнибал и с их согласия поместил гарнизон в го-
роде, невероятно; в таком случае Риму не пришлось бы еще шесть лет дожи-
rz
даться начала войны, а пуны засели бы так крепко в городе, что их нескоро
удалось бы выгнать оттуда. Гольм (Geschichte Siciliens, II, S. 493), напротив,
не признает этих возражений; он того мнения, что в 270/269 г. в Мессане
действительно могли находиться 1000 человек пунического гарнизона, и это
нисколько не беспокоило римлян.
5 Это известие находится у Диодора, который сильно исказил факты (см.
выше); также у Диона Кассия (Зонары) и пр.
6 В этом кратком изложении я, конечно, пользовался одним только По-
либием, который предостерегает как от Филина, так и от описания Фабия.
Этого Фабия можно, кажется, признать в рассказах Диона Кассия и Зонары;
так, например, здесь они сообщают, будто пуны перебили всех италиков в
своей армии, что было бы крайне безрассудно, так как именно эти «большею
частью выходцы порабощенных и разоренных народов» служили в войске
против Рима не ради одной только наемной платы. Уклонения Диодора от
Полибия объясняются, вероятно, тем, что он следует своему соотечествен-
нику Филину Агригентскому, которого и называет даже (ХХШ, 8, 1); Nitzsch,
Rom. Annalist.у S. 279, указывает на разные места, в которых Полибий со-
гласуется с Диодором и, следовательно, пользовался Филином.
7 Напомню только о leges Hieronicae, которые так часто упоминаются в
речах против Верреса; по ним можно судить о попечении и осмотрительно-
сти, с какими царь уряжал законодательство в Сицилии, особенно в аграр-
ном отношении (Diod., ХШ, 35).
8 Судя по словам Полибия (VII, 4, 5), Нереида, на которой женился Ге-
лон, сын Гиерона, была дочерью не младшего, а знаменитого Пирра; она
была, по крайней мере, одних лет с Гелоном, родившимся не прежде 271 г.,
так как он умер в 216 г. «с лишком 50 лет от роду» (Polyb., VII, 8, 9). Алек-
X
о
т
^ сандр (см. ниже) умер между 262 и 258 гг.; тогда Гиерон мог не женить, а
о. разве обручить своего сына. Это совершилось уже при Александре; я пред-
полагаю так потому, что после его смерти вдова его скорее, вероятно, по-
старалась бы обепечить свою дочь, нежели сводную сестру.
9 Арр., Sic.у 1.
10 Я сошлюсь на Callim., in Del., 18, 99. Не без некоторого колебания, ко-
нечно. Там сказано: «Когда острова собираются вокруг отца Океана и ти-
таниды Тетиды, то всем предшествует Кос (где родился Филадельф); тотчас
же за ним следует пунийский Кирн, которым не следует пренебрегать (оих
ovott)), потом Эвбея, затем прелестный (iiiegoeova) Сардон, после того Кипр,
где впервые вышла на берег Афродита (traoibi [nv air' stti^ol^qcjv)». Всякому
должно показаться странным, что тут не упоминаются, по крайней мере,
чудный остров Сицилия и близлежащий Крит и что именно два острова со-
провождаются столь знаменательными эпитетами. В том же стихотворении
встречается предсказание о герое, который родится на Косе и одержит блис-
тательную победу над галатами; по этому ясно видно, что оно писано для царя,
и тем скорее следует здесь предполагать политические мотивы. Лето блуж-
дает по белу свету, разыскивая место, где бы ей родить; на севере сидит на
вершинах Гема %vqo<; "£цгг)<; и сторожит материк, а с Мимы Ирида наблюдает
за островами. Затем приводится ряд местностей и областей, отвергавших
злополучную мать, и едва ли можно будет мифологическими доводами
оправдать выбор именно этих мест. Эти различные названия, как кажется,
403
имеют только смысл, если их отнести к событиям 265 года, когда греческие
государства большею частью не восстали, как ожидалось, когда Эвбея была
отринута от Македонии, когда предстоявшая война между Римом и Карфа-
геном могла возбудить мысль о захвате обоих пунийских островов. Корсика
с ее богатым корабельным лесом (Theophrast., Hist, p., V, 8) была для Лаги-
дов, конечно, ovx ovottj, а Сардиния казалась соблазнительною и достижи-
мою в случае борьбы между Римом и Карфагеном.
11 Plin., VI, 29: qui Troglodytices primus excussit.
12 Ср. приложение I.
13 См.: Моп. Adul. и множество показаний авторов.
н Ср. приложение I. Miller (Marc. Heracl., p. 15) цитирует из рукописной
Vita Arethae: ev аьтЦ Se rjj 2а#£ %o)ga (в Счастливой Аравии) 7гауте£ о\
xaroixovvreg "EAAtji^s те хал flagfiaQoi utttjqxov.
15 Diod., I, 37: той fiaaiXeax; /ььеУ 'EXXrrjviXTJs $ма(АШ$ щ AiStomav щилои
сгтдат£б<гауто<; еттеуршаВт) та хата ttjv %6)Q(lv rairrrjv хтХ. Фиофилакт Симо-
катта (VII, 17) говорит то же самое.
16 Помимо выписанных в предыдущей заметке слов Диодора см.: Plin.,
VI, 29: «...varia prodidere; primus Dalion, ultra Meroen longe subvectus, mox I 7^
Aristocreon et Bion et Basilis (Agath. de mar. rub. apud Phot., p. 454 b. ed. Bekk. | i
называет его BaaiXzxjq, a Athen., IX, p. 340, где упоминаются 'Ь&ха/З', пишет
ВаочХн;), Simonides minor etiam, quinquennio in Meroe versatus, cum de Aethiopia
scriberet: nam Timosthenes classium Philadelphi praefectus» и т.д.; потом еле- |"б
дуют показания Эратосфена, Артемидора, Стация Себоза (современника
Цицерона). Едва ли даже Далион, которого называют первым из этих иссле-
дователей, доходит до эпохи Сотера. — Упомяну кстати, что еще ближе к еги- §
иероглифическое имя царя Афаррамона, которого Champollion (Letters ecrites Lg
d'Egypte, p. 162) считает предшественником или наследником Эргамена. §
17 По-видимому, нет никакой возможности открыть еще какие-нибудь *
сведения относительно времени этих двух экспедиций; можно, впрочем,
воспользоваться в этом отношении сообщением о замечательном источни-
ке хата rov 'Aqafitov xoXnov в восьмой книге Филарха, если предположить,
что он говорил об этом по поводу египетской экспедиции. Мы увидим, что
восьмая книга началась вскоре после 255 г.
18 Euseb. Arm., I, 249, ed. Schone. Мы не в состоянии определить время
этой женитьбы.
19 Phylarch, см.: Athen., X, р. 438, также Aelian, Var. Hist., II, 41; здесь го-
ворится не о первом, а о втором Антиохе; доказательством служит не толь-
ко то, что этот факт изложен в шестой книге Филарха, но еще более все то,
что нам известно вообще о характере Антиоха I.
20 Athen., VII, 289. Пиферм, у которого, вероятно, заимствовал Филарх,
был эфесец, а Эфес как раз во времена Антиоха II, современником которо-
го был Пиферм, перешел во власть Египта. «Фемисон» был прозван «Герак-
лом» не прежде, чем «Антиох» — «Теосом», а именно после освобождения
Милета, около 252 г.
21 В числе несомненно Антиоху II принадлежащих монет находится не-
сколько серебряных с изображением Геракла, сидящего на котле (по мне-
нию Миллера, это не что иное, как намек на Авгиеву конюшню?); на одной
ш
о
5
404
rz
из них (в Берлинском монетном кабинете) на месте подписи изображена
кружка с одной ручкой, служившая эмблемою города Кимы. Другие монеты
с двумя шлемами диоскуров и палицею под ними нельзя с достоверностью
отнести к этому царю. Можно бы, пожалуй, эти Геракловы знаки отнести к
Фемисону-Гераклу и к его брату, подобно тому, например, как кардинал
Вольсей присоединял на монетах свою кардинальскую шапку к королев-
скому гербу: но я не решаюсь признать такое объяснение верным. Конечно,
довод, который приводит Висконти (Iconogr.y II, р. 295) для объяснения Ге-
ракловых знаков, оказывается несостоятельным.
22 Teles, см.: Stob., Flor., Ill, p. 220, ed. Lips. (Arist., fr. 47). Само собою
разумеется, что самосец Фемисон, наварх Антигона (Diod., XX, 50), не при-
надлежит к разряду этих киприотов; ни к чему не привело бы, даже если бы
мы у Диодора вздумали изменить ХаХарЬкн;.
23 Что нам делать со странной историей, какую сообщает Liban., Antioch.,
p. 307, ed. Reiske? Говорят, будто изображение Аполлона обманным путем
было перенесено с Кипра в Антиохию.
24 Ввиду предстоящего впоследствии вопроса необходимо напомнить о
том, что Антиох II был сыном македонской Стратоники, которую в 293 г.
престарелый Селевк уступил своему сыну Антиоху I (род. 324), заболевше-
му от любви к ней. По армянскому Евсебию, Антиох II умер 40 лет от роду;
вероятно, тут часть цифры стерлась; он, может быть, родился в 292 г. и в
таком случае умер 45 лет от роду. По словам Юлиана (Misopog., p. 348),
Антиох, правда, женился на своей мачехе лишь после смерти отца: но этого
не может быть, оттого что в таком случае у его сына в то время, когда он
умер в 246 г., не мог быть сын, у которого в 222 г. был уже внук четырех или
I
? пяти лет от роду.
^ 25 Имя этого претендента, называвшегося в рукописях и Зела, и Зеила, и
о. Зиела, с достоверностью известно в настоящее время благодаря изданной
Ламбром монете этого царя, с которою мы впервые ознакомились (Sallet.,
Num. Zeitschrift, III, p. 220: BAZIAEOS ZIAHAA). Первая жена Дитизела,
уроженка Фригии (Consingis у Плиния, VIII, 40, без сомнения, ошибка), была
растерзана собакою царя propter lasciviorem cum marito iocum; Tzetzes., Chil.,
Ill, 960 перепутал имена детей этой царицы. Мемнон, с. 22, у которого за-
имствован рассказ в тексте, назвал вторую жену Этазетой.
26 Polyb., IV, 50, 1. Я не решаюсь изменить имя юного принца в Зибета,
как советовал Набер.
27 Мемнон положительно говорит: axnoi 8е отдатеира ттада тшу eioyfievcDV
emTQOTCiov Xafiovreg.
28 Phylarch., см.: Athen., VI, p. 271 (С. Muller, Fr. Hist. Gr., 10a).
29 Phylarch., см.: Athen., X, p. 442. Ни Лухт, ни оба Мюллера в парижском
издании Fr. Hist. Gr. не заметили, что этот отрывок, искаженный Афинеем,
находится у Евстафия (Ad Iliad., II, p. 1242. 40) и у Элиана (Var: Hist., HI,
14); более подробное изложение у Элиана есть, как кажется, не одно толь-
ко распространение Афинея, которым он часто пользовался; слова хал то
igyov аитоТд ovXeitrSat boti, по крайней мере, не похожи на вымышленную
приставку. Относительно пьянства византийцев см.: Метеке, Menand., p. 26
и Fr. Com., IV, р. 89.
30 Метпоп., р. 23: кал tov noXefiov Tta^eaxevaa'av fie%Qi<; aTretXcbv тсоохофы.
31 Polyb., IV, 44 и ел.
32 Athen, и Aelian., loc. cit. заимствовали это известие у Дамона kv тф ттад}
Bu&vriou. Я никаких иных подробностей не нахожу об этом авторе.
33 Очень может быть, что этот Леонид был чужеземным кондотьером; это
был, впрочем, не спартанец, сын Клеонима, находившийся на сирийской
службе.
34 Из этой комбинации вытекает также приблизительно эпоха борьбы за
воинское наследство. После 264 г. Никомед построил свой новый город;
воздвигнутая им там гробница его первой жены не служит доказательством
того, что она умерла лишь после 264 г. Прежде 258 г. была война во Фракии,
может быть, даже прежде 259 г., так что смерть Никомеда можно предпо-
ложить между 263 и 260 гг. Отец его умер в 280 г., семидесяти шести лет от
роду; старшему сыну его Никомеду в это время могло быть от 40 до 50 лет, и
неудивительно, что, умирая 60 или 70 лет от роду, он помимо взрослых сы-
новей оставил после себя несовершеннолетних.
35 См.: Polyaen., IV, 16, где вместо 'Air/o^os етгодЬе! следует, вероятно, пи-
сать enoXtogxet; теперь он так и значится в издании Вёльфлина. Все рукописи,
как кажется, дают имя T'tQiq, а не Tigg^, как можно было бы предполагать.
Ад. Шмидт (das Olbische Pseph. im Rhein. Mus., S. 583) того мнения, что эту
войну затеял Антиох Гиеракс; необходимо было бы сослаться на более осно-
вательные доводы, для того чтобы оправдать это отклонение от Полиена,
который впоследствии лишь упоминает о подобного рода стратагеме Ан-
тиоха Гиеракса. Кипселы лежат при Гебре, в 3100 стадиях расстояния от Ви-
зантия (Strab., VII, fr. 48. 57), близ того места, где теперь находится Ипсала.
36 Упомянем здесь кстати о тетрадрахме Сеста, которую скопировал
Мюллер (Miinzen des Lysimachos, Tab. II, n° 7). У него чеканка и надпись мо-
нет Лисимаха, но на обратной стороне стоит 2К02Т0К0Т, вероятно, фра-
кийское имя. Она незначительного веса (в одной монете всего 16 г, в другой
15,28 г вместо 17); ее отделка груба, изображение на обороте свидетельству-
ет, что она отчеканена в Сеете. К настоящему случаю, может быть, лучше
подходит изданная Прокешем монета (Inedita meiner Sammlung, S. 5): тет-
радрахма Александровой чеканки V класса; на обороте: KEP2IBATA...
ВА21ЛЕ; перед восседающим Зевсом в виде эмблемы — щит с лежащею на
нем палицею; весом 16,68г. Имя, напоминающее Керс об лепта, свидетель-
ствует о фракийском происхождении.
37 В связи с этими фактами состоит отрывок из шестой книги Филарха
(Athen., IV, р. 150), где сказано, что ни один из галатов (во время их кутежей)
не касался до подаваемых к столу яств, до тех пор пока сам царь не прини-
мался за еду. Брюкнер и Мюллер приписывают это азиатским галатам; одна-
ко у них вовсе не было царя; может быть, они подразумевают тут галатов,
находившихся у царя по найму, и, вероятно, эти варвары опасались отравы.
38 St. Hieronym in Dan., XI, 6: bella quam plurima.
39 Thrige, Res Cyren., p. 237.
40 Это хронологическое показанине основано на том, что Птолемей толь-
ко в течение этой войны обладал перечисляемыми Феокритом областями;
при заключении мира он уступил некоторые из них. Так как между сказан-
ными областями Иония вовсе не упоминается, то стихотворение Феокрита
было написано прежде взятия Самоса, Магнесии и Эфеса.
406
41 Theocrit., XVII, 86 и ел.: кал yA\v Фо'мха<; аттотщиета! хтЛ. Само собою
разумеется, что не следует вместо ха/ Xugtw писать Kimqov те, как предлага-
ет Фосс; однако мы все-таки при наших настоящих средствах не в состоянии
объяснить пропуск Кипра. Здесь, конечно, подразумевается южная Сирия.
42 Мы видим, что Сирия и теперь так же, как во время войны Антиоха
Сотера, не была в состоянии напасть на Египет.
43 Theocrit., XVII, ПО.
44 Арр., Syr., 65. То, что это относится к настоящей войне, вытекает из
того обстоятельства, что тиран был впоследствии устранен Антиохом, сле-
довательно, он восставал против него и его интересов.
45 Pomp. Trog., Prol.y XXVI, где нет надобности изменять что-нибудь, как
предлагает Visconti, Icon.f II, p. 289.
46 Polyaen., II, 27. Я помещаю здесь эти события, а не во время войны
Птолемея III, оттого что в таком случае этот важный пост заняли бы более
сильным гарнизоном. Хотя на Магнесию сильно нападали, но она все-таки
отражала сирийцев, однако после войны она не осталась за Египтом; в на-
чале следующей затем войны (а именно около 244 г.) Магнесия, без сомне-
ния, была независима.
47 По примеру Экгеля в нумизматике начало этой эры полагается между
494 и 496 н. э. и, всего вероятнее, в 495 н. э. или в 295 г. до Р. X. Со времен
Александра уже Арад обладал автономией настолько, что чеканил моне-
ты с изображением Александра, но со своей эмблемой, как видно по заме-
чательному, сделанному в 1863 г. открытию сокровищей в Сайде, которые,
как показывают монеты, были зарыты в 310 году. Эти древнейшие тетра-
| драхмы Арада, так же как Аки, отчеканены по эре, доходившей до 76 г., за
? которой следовала новая эра Арада. Монеты Траяна из Арада точнее мо-
^ гут определить первый год этой эры; в них местная эра значится в 374 и
о. 375 гг., а Траяну придано прозвище Parthicus. По Dio. Cass. (LXVIII, 23),
солдаты после взятия Нисибиса и Батаны прозвали его Parthicus, а Траян
прибыл туда лишь весной 869г. н. э. (в 116 г.), что подтверждается не толь-
ко словами Диона Кассия, но еще более тем обстоятельством, что в одной
из надписей его 19-го трибуната (в начале 868 г. н. э.) этого прозвища еще
совсем нет, а в других надписях того же года оно уже встречается. В авгу-
сте следующего затем года Траян умер в Азии, год и месяца два спустя
после того, как он получил название Parthicus. Испанская надпись
(С. I. Lat., II, п° 2097) из Траянова 18-го трибуната с прозванием Parthicus
появилась, как кажется, позже и была помечена задним числом. Если по-
этому на монете Арада от 374 г. он называется уже Parthicus, а в то же
время существует Траянская монета города от следующего 375 г., то обе
они могут относиться лишь к последним 15 или 16 месяцам императора.
Итак, 496 г. н. э. вообще совпадает с первым годом Арадовой эры, и только
месяц ее начала остается под сомнением. Если она, подобно Селевкидовой
эре, началась осенью, то первые три месяца первого года соответствуют
еще 495; если же, напротив, она, подобно дамасской эре, считалась с ве-
сеннего равноденствия (Ideler., I, 414), то начиналась в марте 496, т. е. в
258 г. до Р. X. Более точные сведения сообщил мне Моммзен; они будут
помещены в прибавлении.
48 Strab., XVI, р. 754; cf.: Polyb., V, 68.
к
С
49 Когда это было, нельзя видеть ни из непонятной антологии, какую
Юстин заимствовал у Трога (XXVI, 3), ни из пролога самого Трога; Юстин
совершенно сбивает с толку тем, что говорит о Беренике как о взрослой уже
девушке, какою она решительно еще не могла быть. Однако точкою опоры
может служить то, что Филарх в своей седьмой книге говорил о происхож-
дении Кирены; ему, без сомнения, и в прежних книгах уже приходилось
упоминать о Кирене, а именно в III—V, в которых излагалась борьба Мага с
Египтом. Возвратиться к прежней истории края могло быть кстати лишь
тогда, когда эта страна и право владения ею получили важное историчес-
кое значение, а это и было именно после смерти Мага (288 г.), когда Апама
нарушила заключенный по поводу обручения договор. Эта оккупация Ки-
рены случилась, впрочем, прежде Феокритова стихотворения, в чем тотчас
же убедимся.
50 Прославив в поэме, написанной в честь Филадельфа, его отца и мать
(v. 53), Феокрит прибавляет: «Ты, чернобровая аргивянка, сочетавшись с Ти-
деем, уродила калидонского мужа, человекоубийственного Диомеда; но
широкогрудая Фетида дала Эакиду Пелею копьеметателя Ахилла; <ге #',
а\х1щта ПтоХераТе хтХ.». Мрачный облик человекоубийственного Диомеда
и его беспутного отца после слова аЛЛа составляет довольно резкую про-
тивоположность светлому Ахиллу; и мы отлично постигаем, что поэт заду-
мал сравнить между собою Ахилла и Диомеда с Птолемеем и другим князем,
закончив словами are $е, ПтоХераТе, так как дальнейшие подробности были
тут излишними. По-моему, один только Антигон, сын буйного Деметрия,
соответствует этому Диомеду. В таком случае, по крайней мере, это место
имеет смысл, и поэт оказывается не так нелеп, как представляют его нам
его ученые толкователи, которые, конечно, и слову аЛЛа не придают в этом
месте никакого значения.
51 Нибур также не был в состоянии объяснить это название Ливии; моне-
ты с надписью AIBTHN подтверждают, что таким именем называлась по-
литическая община.
52 У армянского Евсебия (I, р. 237, ed. Schone) сказано: «cui (Antigono)
filius eius Demetrius succedit, qui etiam universam Sibyam cepit et Kyrenem
obtinuit, et omnia omnino (quae erant) patris in monarchicam potestatem denuo
redegit». Порфирий говорит: o<; xai Tida'av rrjv Aifivyv eXafie Kugyvys re
ехдатт)(ге'} остальные слова пропущены. Не говоря о смешении Деметрия
Красивого с сыном и наследником Антигона, это место весьма поучительно;
слова «in monarchicam postestatem redegit» относятся не к македонскому, а
к ливийскому Деметрию.
53 Phylarch., см.: Athen., VI, 251; cf.: Hegesander, см.: Athen., VI, 240. Неиз-
вестно, когда умер этот Александр. Так как Филарх говорит о его смерти в
шестой книге, то надо полагать, что он умер между 262 и 258 гг. Однако,
судя по событиям, совершившимся после 239 г., Филарх, может быть, на один
или на два года вперед сообщил уже о смерти Александра.
54 Paus., VIII, 27> 8; Plut., Agis> 3. Этот год нельзя определить с точнос-
тью; однако те же люди, которые убили мегалопольского тирана, помогали
потом, в 251 г., освободить Сикион, а потому можно смело утверждать, что
Акротат пал в 253 г.; впрочем, это могло быть также ранее 258 г. Поверив
ложным словам Ьио [ьаХигта varegov yeveai<; у Павсания, Мерлекер (Achate,
p. 249) предполагал, будто Аристодем около 300 г. был тираном в Мегало-
поле. Не подлежит сомнению, что он был современником Акротата.
55 Plut., Agis. 3; это был, разумеется, не Селевк II, как думал Мансо.
56 Впоследствии окажется, что Гиппомедонт, о котором упоминает Те-
лес (Stob., Flor., II, 72, ed. Lips.), не относится к изгнанникам этой эпохи.
57 Phylarch., fr, XIII, ed. Lucht. Я хотя бы здесь, в примечании, упомяну о
том, что Филарх этого Теодора называет водопийцем.
" Euseb. arm., p. 243, 12, ed. Schone.
59 Это, как кажется, вытекает из того, что случилось в 251 г. и впослед-
ствии. Арат уверял нанятых для нападения на Сикион воинов, будто это
нашествие делается с целью грабежа щ та$ )'irnou$ та$ fia<rtXixa<; щ ttJv
Xixvcjviav (Plut., Arat.y 6); я, однако, понял это иначе, и мне кажется, что тут
говорится о царских конных заводах в Коринфской области, о которых упо-
минает Плутарх (Arat., 24).
60 Об этом событии говорит именно Павсаний (III, 6, 3). В Каноне Евсе-
бия (II, р. 120, ed. Schone) оно значится во время 01. CXXXI, 2: 'AJhjvaiot*;
'Avriyovcx; ttjv iXevSeqiav a-niSajxev.
61 Suid., s. y/.ireXsvTTja-e ae kvbqev^Biq imo'Avriyovov ,oti $tafiX7)!b) ,irQo<rxexXix£vai
tjj ПтоХера'юи flacrtXela. Время здесь определяется на основании того, что
Филохор довел свою Аттиду до эпохи Антиоха II (Suid.). В 305 г. он был уже
ILOlvtk;, см.: Fragm. Philochori, n° 146; он умер семидесяти лет от роду.
62 eva xaStcrTavai ха\ тохггц) moreueiv vttsq twv oXojv (Polyb., II, 4, 2). В этом
месте и в II, 10, 5 в рукописях значится Мадхо$, а затем далее (II, 41, 14)
Мадуо<;, что вернее. Стратег на совете подает голос с 10 демиургами, вслед-
| ствие чего число голосов не может разделиться поровну; он, однако, обя-
? зан привести в исполнение решение большинства.
^
0)
rz
^ 65 Это предположение мне кажется вероятным. Обыкновенно думают
о. (даже Бёк в С. I. Graec, II, р. 230), что Птолемей владел Кикладами; однако
это мнение весьма сомнительно. Мы не знаем, относится ли надпись Кеоса,
в которой упоминается о данях Египту, к эпохе Птолемея II (С. I. Graec, II,
п° 2356); относительно Делоса это не подлежит сомнению (п° 2273); относи-
тельно Астипалаи см. п° 2492. Спорады, вероятно, все были заняты Егип-
том; Хиос, Лесбос, Крит были независимы.
64 «Ut in Asia Alius Plolemaei regis socio Timarcho desciverit a patre» (Pomp.
Trog., ProL, XXVI).
63 Athen., XIII, p. 593. Афиней черпает, как кажется, из Филарха и в та-
ком случае, вероятно, из десятой книги.
66 Арр., Syr., 65. Само собою разумеется, что это тот же Тимарх, о котором
упоминает Помпеи Трог (Prol., XXVI). Название 0ео$ встречается также у
Диона Хрисостома (Orat. 37, II, р. 103, ed. Reiske) и в надписях (С. I. Graec,
II, п° 2905; Рососк, Inscr. antiq. с, I, 4, 18); у Малалы (р. 205, ed. Bonn.) он
называется QeoetSr}<;.
67 Эта крайне замечательная заметка находится у Иосифа (Ant. fud., XII,
3, 2): «Так как ионийцы возмутились против них (иудеев) и потребовали,
чтобы Агриппа SeofMevcuv Jva rrj<; ttoXitbIcls, $v airroTg eSuixev *Avrioxo<; 6 4,eXeuxov
v\u)v6<; о ttoqcl то7<; "ЕАА7707 $eo$ Xey6fievogt /jlovoi iLzrkxwvw хтЛ.». Странно, что
этому месту всегда приписывался такой смысл, будто Антиох даровал
иудеям civitas. Показание Иосифа подтверждается словами в заключенном
между Смирною и Магнесией договоре. (С. I. Graec, II, п° 3137, v. 10);
смирнейцы говорят про Селевка II, что он eTi(j,r)(rev ttjv ttoXiv t^lcojv ha та ttjv
той Sr/jiiov evvoiav... xai Sta то tov ттатеда avrou Seov 'Avrioxov... i8quo~$at -naq vfjuv
Tifubfiewv Т1ц,ал<; а^соХоуок; xal xotvjj imo той ttXt}$ov<; xai iSia v<p exaarov raw
ttoXitwv xai kfizfia'uDcrzv тф Srjiiq) ty]v avrovofiiav xai SyiLOxqaTiav... Следова-
тельно, Селевк II вовсе не даровал свободы, только подтвердил и закрепил
ее. Великим благодетелем города был Антиох Теос. Эта мера, впрочем, слу-
жит лишь подтверждением того, что замечено было по поводу Арада, и на-
ходится, может быть, в связи с освобождением Афин Антигоном.
68 Здесь можно, кстати, воспользоваться надписью, которая находится в
С. I. Graec, II, п° 2905 (Lebas, n° 188-194). Старый спор между Самосом и
Приеною относительно рубежа на материке обсуждался еще прежде Лиси-
маха (С. I. Graec, II, п° 2254); в силу этого решения Приена сохранила свои
владения; несколько лет спустя после того самосцы возобновили спор и
обратились к царю Антиоху II; он послал комиссию, с тем чтобы установить
границу (ей$ета<;). Впоследствии спор опять возник; решение было поручено
родосцам; их решение и показано в упомянутой надписи; они сослались на
приговоры Лисимаха и Антиоха: oqo)vre<; Ы xai що<;...] t'io%ov tov imo fiaatXeux;
ПтоХераюи тетауfievov [tov<; 'Lafiiov^ -neqi tovtov той (pqovqi]ov ovbev ь\оч\хота<;
xai Sia aXXw; amag, родосцы решили дело в пользу Приены. Имя египетского
начальника может быть ' kvr\o%o<; или Мт)Т10%о<; и пр. Судя по этому тексту,
можно с достоверностью сказать, что до войны Самос не принадлежал еще
Египту; лишь тогда, когда в течение войны Самос был захвачен, можно было
ожидать, что он обратится со своими жалобами к новому и заинтересован-
ному в деле правительству; держава, которая раз уже решила спор против
Самоса, конечно, не признала бы его притязания. И если говорится о стра-
теге на Самосе, то вышеупомянутый Антиох или Метиох и был этим пер-
вым, назначенным туда египетским стратегом; во время войны он легко мог
бы добиться, чтобы удовлетворили притязаниям острова. Приговор родос-
цев сделан, вероятно, вскоре по окончании войны, между 250 и 245 гг.
69 Относительно отношения этой свободы к ионийскому союзу я ничего
не могу сказать; верно то, что он впоследствии еще долго просуществовал,
так как Аттал содействовал присоединению к нему Смирны.
70 Комический писатель Батон (Athen., IV, р. 163; см.: Meinecke, IV, р. 499)
говорит: aXvatTeXys sItjj ttoXbi mvcov vSajq- tov yaq yeojqyov xai tov 'i\moqov хахой$,
и т. д.
71 Heraclid. ар. Athen., XII, p. 512.
72 Aelian. ар. Suid., s. v. 'Emxovqo<;.
73 Толкователь Гомера (Ilias, II, 572) называет егоtxoXiv evxaqbov xai zv%aqiv,
що<; ттао-av ava-navrnv emTydziav.
74 См.: Gompf. Sicyonica, I, p. 71, ed Leake.
75 Strab., VIII, p. 383: £Tvqavf)!h) Ss irXeiorov %qbvov aXX* aei tov$ Tvqavvov<;,
ктыхщ avSqaq bojcsv, странно, что эти слова относятся к одним только тро-
им орфагоридам.
76 То, что Клеон был потомок Орфагора (следовательно, той Mvqa>vo<; у
Павсания, II, 8), дело само по себе возможное, но недостаточно доказанное
(Plut., Arat.j 2). Павсаний иначе излагает обстоятельства; он говорит, что
после Клеона среди высокопоставленных особ (tcuv ev TeXei) до того усили-
410
лась жажда власти, что Тимоклид и Эвфидем в одно и то же время захватили
тиранию, пока наконец Клиний во главе народа не прогнал их. Плутарх свои
известия черпал, вероятно, из мемуаров Арата, который не без основания,
конечно, щадил память Тимоклида. Я, однако, не решаюсь отдать предпо-
чтение Павсанию, источник которого нам неизвестен. — Едва ли Клеон был
морским разбойником (Aelian., Var. Hist., XII, 43), или он был им в широких
размерах.
77 Plut., Arat., 2-4.
78 Так написаны эти имена у Полибия (X, 25) и у Плутарха (Philop., 1);
Экдел, Эвдем, Эвдам, Мегалофан как варианты встречаются у Павсания
(VIII, 49), у Плутарха (Arat., 5) и в эпиграммах Аркесилая у Диогена Лаэрт-
ского (IV, 31).
79 Plut., Philop., 1: ttjv (piXotrocpiav — km TroXtreiav xai ща^щ Trgoayayovreq.
Оттого Экдем у Плутарха (Arat., 5) и называется ayfjg cpiXoa-ocpoq xai щахпх6<;.
80 Plut., Arat., 12.
81 Это описание взято из Плутарха, который, без сомнения, заимствовал
его из мемуаров Арата. Пятый Десий, отвечающий Анфестериону афинян,
как говорит Плутарх (Arat., 53), был днем освобождения. Сравнение этих
месяцев представляет непреодолимые трудности. Аттический месяц совпа-
дает с февралем. Судя по довольно тщательным исследованиям, годом осво-
бождения можно признать 251 г. до Р. X.
82 ovfLJ3oXa<; тф xoti/ф /деуаХа<; SeSwxdx; (Plut., Arat., 11). Относительно по-
литического положения всадников (тпщ) см. ниже.
^ | 83 Plut., Arat., 11-15; изложение у Цицерона (De off., II, 23) вполне согла-
х суется с этим, так как оно почерпнуто из одного и того же источника, а имен-
ем
У
^ и Plut., Arat., 12. Странно, что для спасения Арата фрурарху налгали, щ
о. eu$v<; аттодды; щ Eu/Sotav e^sTrXevaev. Достоверно то, что Эвбея не находилась
тогда во власти Александра Коринфского; об египетском захвате на остро-
ве и помина нет. Я полагаю, что спутники Арата вовсе не хотели сказать,
что он бежал в одну из враждебных мекедонянам областей; а иначе фру-
рарх велел бы броситься в погоню за только что уехавшим Аратом. Если бы
разгласили, что он отправился на Эвбею, то фрурарх мог быть уверен, что
его перехватят.
85 Это объяснится впоследствии.
86 Iustin., XXVI, 3. Хронология этого факта была исследована прежде;
судя по достоверной поправке, Деметрий умер в 01. СХХХИ, 2-251/250 г.
87 Каллимах в переведенной Катуллом поэме в честь волос Береники
(LXVI, 15) говорит:
at te ego certe
Cognoram a parva virgine magnanimam;
Anne bonum oblita es facinus quo regium adepta es
Coniugium, quod non fortior ausit alis?
Я могу присоединить сюда еще отрывок из другого поэта. В часто упо-
минаемом стихотворении Феокрит говорит о родителях своего царя и об их
нежной любви, о том, что они питали к своим детям самое искреннее дове-
рие, что отец с полною уверенностью поручает дом своим сыновьям:
бтптоте xev (ptXecov $алщ Xi%o$ kq (piXeov(rr)<;'
aaroqyov 8e yvvaixoq sV oXXotqico voo<; ahi,
QrjtStai Se yovai, техш & охтот eoixora ttcltqI.
Считать это лишь общим местом и не более — значило бы составить себе
слишком гнусное понятие об александрийской поэзии. Даже самый холод-
ный поэт мог бы в этом месте сказать эти слова не иначе, как ввиду известных
отношений. Я полагаю, что Феокрит имел тут в виду вдову Мага, о которой
при александрийском дворе ходило много сплетен самого соблазнительно-
го свойства. Выражение «дети не похожи на отцов» относится поэтому к
Беренике; и стихи написаны именно прежде ее «великодушного подвига»,
которым она покарала своего прелюбодейного жениха.
88 Киренцы, по крайней мере впоследствии, восстали против Египта.
89 Мы не в состоянии в точности определить год, когда был заключен мир;
но с Антиохом он был заключен не позже 248 г.; и в самом деле, вышедшая
за него вследствие мира дочь Птолемея в исходе 247 г. уже родила ребенка.
Вероятно, хотя и нельзя доказать это, мир с Антигоном был заключен в то
же время. Мы видели, что в 251 г. все еще продолжалась война; следова-
тельно, конец ее можно поместить между 250 и 247 гг.
90 Молодость Береники могла служить поводом к тому, что она не тотчас
же сочеталась браком; это совершилось незадолго до кампании Птоле-
мея III в Азию (novo auctus hymenaeo vastatum fines iverat Assyrios, см. Catull.);
Нибур (Kleine Schriften, S. 238) полагает, что слова Юстина Ptolemaei filio
(XXVI, 3) доказывают, будто Птолемей III женился на ней прежде, нежели
был царем, т. е. до 246 г. Нельзя настолько довериться Юстину, который
именно об этом событии имел весьма смутные представления. Однако я пред-
полагаю то же самое, основываясь на следующем стихе у Катулла:
Estne novis nuptis odio Venus? anne parentum
Frustrantur falsis gaudia lacrimulis etc.
Это, конечно, не пустая фраза, и в таком случае parentum может отно-
ситься лишь к Птолемею II, так как Арсиноя Филадельфа, в этой поэме по
крайней мере, также уже была покойницей.
91 Я полагаю, что Андрос остался при Македонии; об этом, впрочем, не
сохранилось никакого следа в преданиях.
92 Hieronym. in Dan., XII, 5: Volens itaque Ptolomaeus post multos annos
molestum finire certamen, filiam suam nomine Berenicen Antiocho uxorem
dedit — deduxitque earn usque Pelusium et infinita auri et argenti millia dotis
nomine dedit, unde (редмсродсн; id est dotalis appellatur (scr. appellata) est. Cp.
отрывок Полибия у Афинея (II, p. 45).
93 Euseb. arm., I, p. 251 подтверждает, что Лаодика была дочерью Ахая.
Нибур опровергает мнение Фрёлиха, который говорит, что она была сест-
рою своего мужа; он упустил из виду, что Фрёлих опирался на единственную
заметку, которая предшествовала упомянутому месту в трактате Евсебия, но,
конечно, не цитируя ее. Полиен (VIII, 50) говорит: 'Avrloxog \ущъ АаоЫхчр
oiWTiaTQiov adeXcpyv. Эта заметка и послужила для того, чтобы восполнить
сбивчивое место у Аппиана (Syr., 65): ivo Si efoe (а именно супружницы),
AaoSixrjv xai Begevixyv, e^egojrat; те xai eyyuys [ttJv ptiv ifionargiov adeXcpijv, rr)v
412
£б] ПтоХера'юи rov OiXaSeXcpov Ик/уатеда. — Я сказал, единственная заметка,
ибо все то, что говорит Стефан Византийский по поводу JAim6%eia, неверно
от начала до конца. — Я прежде уже заметил (De Lagidorum regno, p. 10),
отчего произошла ошибка у Полиена.
94 Hieronym: Antiochus autem Berenicen consortem, regni habere se dicens
et Laodicen in concubinae locum etc. Это вполне согласуется с толкованием
Полихрония (Mai, Script, vet. nov. coll., I, p. 146); оба автора следовали, ве-
роятно, Порфирию.
95 Здесь необходимо упомянуть о том, что Антиох Теос выдал Стратони-
ку, свою и, следовательно, дочь Лаодики, за наследника Каппадокского пре-
стола Ариарата, сына Ариамена (Diod., XXXI, 19, 5; Euseb. arm., I).
96 См. с. 43 и ел.
97 Mahavanso, I, p. 171, по Бенфею (Indien, S. 68). Судя по сообщенному
письму этого ученого, упомянутое известие основано на одном лишь пред-
положении.
98 Филарх; см.: Athen.y I, p. 18.
99 Гегесандр; см.: At hen., XIV, р. 654: (гоеркгтт)]/ ayoqaxravra. Сомнительно,
чтобы индус, о котором говорит Феофраст (Hist, plant., IX, 18, 9), с его за-
мечательными лекарствами дошел до Греции.
100 В Mahavanso положительно говорится, что буддистские миссионеры
посылались также в землю Yona (греков) (I, р. 171). Ср.: Benfey, Indien., S. 74.
101 Это взято из трактата Бенфея в Gott. Gel. Anz., 1839, Nr. 98 ff. Иначе
гласит сообщенный мне Лассеном перевод (по новой копии с надписей Гир-
^ I нара), помещенный теперь в Ind. Alt., II, S. 253 по этой и по другой надписи
§ Kapur-i-giri: «Царь сказанных Ион, Антияка, и цари, соседние с царем этих
? Ион, Антиякою». Эти союзные цари, подобно Ашоке, устроили «лечеб-
^ ницы» для людей и животных; здесь подразумевается, вероятно, не ряд
q_ греческих царей в Ариане и при Инде, а, скорее, западных, о которых гово-
рится в следующем примечании.
102 Эта сообщенная впервые Принсепом надпись недаром обратила на себя
всеобщее внимание; в Германии Бенфей прежде всех подверг ее остроум-
ному разбору; в настоящее время она благодаря надписи Shahbaz-gahri,
которая относится к тринадцатому году царя Ашоки (Cunningham, Survey,
V. p. 26), вполне выяснена: «Антияка... и четверо других царей — Турамая,
Антикена, Мака, Аликасандаро, во всех местах следуют уставам любимого
богами царя». Буддистские и браманские предания разногласят несколько
относительно года воцарения Ашока; приблизительно можно считать
266 или 265 г. (Duncker, HI, S. 403); тринадцатый год поэтому был бы 253
или 252 г. Нет никакой необходимости предполагать, что эти четверо царей
были в живых в то время, когда надпись была высечена. Александр Эпир-
ский умер, вероятно, около 260 г., а Маг в 258 г. Хотя известия об успехах
упомянутых обращений и преувеличены, однако, вероятно, все-таки дела-
лись попытки в этом роде; для сказанной эпохи замечательно то, что даже
цари Кирены, Македонии, Эпира находились в непосредственных сношени-
ях с индийскими владетелями. Напомню о вышеупомянутом индусе, об уди-
вительных врачеваниях которого рассказывает феофраст, умерший лет за
двадцать до этого времени [Эм. Сенар в трактате (Etude sur les inscriptions
de Piyadasi), изложенном в целом ряде статей (Journal Asiatique, XV, 1880,
p. 287-347, 479-509, XVI, 1880, p. 215-267, 289-410; XVII, 1881, p. 97-158;
XIX, 1882, p. 395-460; XX, 1882, p. 101-138; XXI, 1883, p. 171-230), разобрал
недавно различные надписи Ашоки. Сенар передает их в следующем виде.
Пиадаси рад тому, что учение преуспевает даже у его соседей: «К этим со-
седям относятся Антиох, царь Яван, а к северу от него находятся четыре
царя — Птолемей, Антигон, Маг, Александр... Греки всюду присоединяют-
ся к религиозным уставам любимого богами царя»].
103 См.: Vullers Fragmente iiber die Religion des Zoroaster, 1831, S. 16 ff.
104 Маг, которого в Лидии видел Павсаний (V, 27, 5), выразился amXey6fiavo<;
ах fiifiXiov.
105 Polyb., V, 44, 7; 55, 3. И в том и в другом месте Полибий говорит: о\
Хатдатгаю! xaXovfiavoi. He подлежит сомнению, что здесь говорится не об
Атропатене; спрашивается, однако, не следует ли, как предлагает Казобон,
изменить самый текст? Но выражение xaXoufiavoi, как кажется, решительно
не допускает этого. Атропат был сатрапом тех областей со времен персов;
может быть, македоняне по привычке называли его сатрапом, а не царем,
как он сам себя величал? Менее вероятным кажется то, что его небольшое
царство, в противоположность македонскому образу правления, по древ-
неперсидскому обычаю разделено было на сатрапии и называлось по ним;
ведь в царстве Селевкидов были же сатрапы.
106 Это замечательное место у Страбона (XI, 515) гласит: vearreQicrSevTCjv
8а Ttbv в§ш той Tavqov 8ia то що<; aXXr[Xov<; ahai rov<; тт}$ Xvgias xat Trjg Mr)8ia$
/3ao-t\ea<; rovq a%ovraq xat ravra Trganov pav ttjv BaxTQiavyv amoT7}(rav oi
-namoravfiavoi. Судя по тем скудным сведениям, какие сохранились о той
эпохе, казалось бы, что здесь говорится, скорее, об Египте, а не о Мидии;
некоторые авторы думали даже, что этот антагонизм относится к борьбе
Селевка II с Актиохом Гиераксом. Однако у Страбона стоит Мидия, и нам
ничего более не остается, как по возможности осветить данный факт со
всех сторон.
107 Polyb., V, 55: oV edoxat /Задитато<; ahai xat ттдахпхигтато^ rwv bwaortov.
108 Plin., VI, 16. Об этой Ахаиде см. прибавление: Основания городов на
Востоке.
109 Strab., XI, р. 516: (в Арии) ттоХан; 8а 'AQTaxaxva xai 'AXa^avSgaia хал
'Axala eirwvvfjLoi тал/ xruravTwv. И Арр., Syr., 57: av ba rjj Yla^vqvjiy Xdrraiqa,
KaAA/omj, Xagj$, 'ЕхаторттиХод, 'А#а/а.
110 В вышеупомянутом месте Страбон говорит: тойд rrj<; Xvqiaq xai vrj<;
MySiag fiaaiXaaq tov$ a%ovra<; xai таОтау а перед этим он только что говорит о
Парфии, Комисене, Хорене, о городах близ Par, у тапуров, дербиков, гир-
канцев, наконец, об е£со той Taugov; судя по неясному выражению его, надо
полагать, что народы вне Тавра находились частью под сирийским, частью
под индийским владычеством; в таком случае означенные в тексте племена
(кадусии, амарды, может быть, тапуры) могли принадлежать только мидий-
цам. — Следует, впрочем, заметить, что тот же Ахай в иную эпоху основал,
по крайней мере, Амаиду близ Каспийских ворот (в 237 г.), о чем и будет
упомянуто в свое время.
111 После первого издания Истории эллинизма бактроиндийская нумиз-
матика сделала значительные успехи; я укажу особенно на трактаты генера-
ла Кённингама, помещенные частью в Journ. of the Asiatic Soc. of Beng., vol. IX,
414
с=
XI, частью в Numism. Chronicle, 1868 и следующих годов, также на его Survey,
а именно на V часть 1875 года, в которой появилось еще несколько новых
открытий. О более подробной литературе см. Lassen, Ind. Alt., 2, 1874, S. 294.
112 Так со слов Рауль-Рошетта говорит Wilson, Antiquities and coins of
Afghanistan, p. 218; обыкновенный тип монет Антиоха II отличается, ко-
нечно, от бактрийских, на которых изображен Зевс-громовержец. Упомя-
нутая выше монета (см. Wilson, Ar. Ant. p. 218 и Edw. Thomas, Num. Chr.,
1862, p. 180, pi. IV, 1) отличается скорее бактрийским, нежели Селевкидо-
вым типом и была, может быть, отчеканена Диодотом в то время, когда он
был еще сатрапом, но почти уже независимым. Зевс Промахос поэтому
остался монетною эмблемою бактрийских царей.
из Тетрадрахмы Диодота мне мало известны, так что в этом отношении я
не в состоянии прийти к какому-либо заключению; однако Edw. Thomas
(Num. Chr., 1862, p. 183) говорит об одной тетрадрахме, которая весит все-
го 235,4 англ. гран (он, правда, называет ее much worn), тогда как одновре-
менные тетрадрахмы Антиоха Теоса весят от 256,7 до 257 г; разница почти в
2 г, что в самом деле довольно странно.
114 Strab., XI, р. 515: rcbv Aaajv пш<; e#aw тохл; YIclqvoik; xaXovfiivov^ voiiaba^,
вероятно, те же, что и на р. 511 названы "A7ragvo/, подобно тому как марды
называются еще амардами.
Здесь, может быть, будет кстати напомнить о том, что, овладев Бактриа-
ной и Согдианой, Александр застал там много замков во власти «гиппар-
хов», благородных особ в собственных владениях, которые он предоставлял
подчинявшимся ему; этих-то гиппархов он и созвал в Зариаспы для ovXXoyo<;,
когда пришлось судить Бесса. Аршак и был, вероятно, одним из таких «пе-
леванов», если он только не был скифского происхождения.
Г
о
т
^ П6 Описывая Парфию и Бактрию, Страбон пользуется частью сочинением
о_| Аполлодора из Артемиды (YlagStxa, cf. II, р. 218), частью большим истори-
ческим творением Посидония, известия которого заслуживают наибольшего
доверия. Семнадцать книг Парфянской истории Арриана имели бы для нас
такое же значение; отрывки из них у Фотия чересчур скудны и относятся
только к основанию царства.
117 Страбон, следуя Посидонию, в кратких чертах излагает организацию
парфянского царства (XI, 515): rwv TlaQ(pvaia)v avvkbqiov ehat oYrrov, то fiev
ovyyevtjv, то Se (rocpcov xai ^lAycjv, e£dw aiupoTv тои<; fia(riXeT$ xa&ioratrSai. Этот
дуализм указывает скорее на скифское, нежели на персидское происхож-
дение.
118 Strab., XI, р. 511.
119 Iustin., XLI, 4. По всей вероятности, Юстин наделал путаницу с име-
нем Andragoras (v. 1 Mandrageras). Он говорит XII, 4 об Александре: «Parthis
domitis praefectus ex nobilibus Persarum Andragoras statuitur, unde postea
originem Parthorum reges habuere». Это показание по его фактическому
смыслу сходно с тем, что будет сообщено в следующем примечании. Одна-
ко Андрагор — не персидское имя, а назначенный Александром сатрап был
Амминап, потом Фратаферн. Во всяком случае не стоит обращать много
внимания на этого сирийского сатрапа Андрагора и подавно еще не следует
по поводу Parthis domitis заключать о борьбе Александра против парфян,
об их попытке к отпадению. Тот же Юстин (XLI, 4, 2) говорит: «post nunc
(Alexandrum) a Nicatore Seleuco et mox ab Antiocho et successoribus ejus
possessi, a cujus pronepote Seleuco primum defecere primo Punico bello».
120 Арриан(см.Р/ю/. cod., 58; Muller, s. 248) говорит:'Aqaax^хал TigiSa-rr)<;
цот7)1/ a$eX(p<b ' Agaaxibai, rov uiov AgSaxou rov <bgtamrov anoyoi/oi; это весьма
неясное генеалогическое известие. Имя Phriapites (Priapatius у Юстина, XLI,
5, 8) также нисколько не становится яснее от сравнения Раул-Рошетта с
uAgrefiig Tigiamw) (Journ. des Savans, 1834, p. 334). Как бы то ни было — верна
ли эта генеалогия или она придумана в интересах завладения Персией, по-
добно генеалогии персидских царей, которые некогда выдавали себя за
родственников мидян, — во всяком случае подлежит сомнению то, что она
относится к Аршаку, царю, известному под именем Артаксеркса П. Лассен
(II2, S. 297) говорит: «Наиболее верный перевод Арриана был бы, пожалуй,
следующий: преемники Фриапита, сына Аршака. На зендском языке это имя
выговаривается Фрияпаитис, т. е. Ф^отгатшд; второго царя парфян звали
Фриапацием». Это был, скорее, Аршакид IV, и на приписываемых ему мо-
нетах стоит надпись: МЕГАЛОТ ВА2ЛЛЕТХ, а на обороте: Ф1ЛААЕЛФОТ
APSAKOT. Прежнее имя Артаксеркса II, по Дидону, было Оадтт)$, а по
другим авторам — 'Aigaixag (Plut., Artax., 1). | ^
121 Syncell., I, p. 539, ed. Bonn.: еаатдаттеио» Baxrglcjv em 'AyaboxXeoxx;
Махеbovoq erragxou Trj<; Педапхуд b\ 'АуаЬохХщ, ega&e\q TygtdaTov co£ 'Aiggiavo$
(рут... хал fiao-iXeuei Ilego-wv 'Ago-axi^. Откуда этот добрый монах Георг по-
черпнул своего Агафокла, нельзя теперь допытаться, едва ли, впрочем, из |"5
Арриана; разве предположить, что Арриан помимо упомянутого ученым
патриархом главного рассказа привел еще, как он часто делает в Анабаси- _
се, это второе известие, присоединив к нему слова Хеуетш 8е т/$ хал ToioaSe §
Xoyoq или нечто в этом роде. Название эпарха в царстве Селевкидов было в
ходу; мы не знаем, однако, означало ли у Педочху сатрапию Перейду (Polyb., Lg
V, 40, 7) или более обширную область, обнимавшую также Парфию, подоб- §
но тому, как впоследствии младший Ахей получил ryv em raSe той Tavgov
bvvatrceiav (Polyb., V, 40, 7).
122 Это предание находилось уже у Арриана, что видно из следующей
выписки у Фотия: то Hagbcov yevoq Xxvbixov; Малала (II, p. 26, ed. Bonn. cf.
Suidas v. Xcoargt^; Cedren., p. 36, ed. Bonn.) говорит, что Сезострис водворил
15 000 скифов: ViagSot, о i<mv egiiyveuoiAevov Ylegcrixyj йаАгхтф Xxvbai. Юстин
(XLI, 1) говорит: «Parthi — Scytharum exules fuere — hoc etiam ipsorum
vocabulo manifestatur, nam Scythico sermone Parthi exules dicuntur». Стра-
бон же (XI, 516): Фас/ Ье тои$ Tlagvou<; Даа$ fMeravacrrag ehai, ex rcbv imeg rrj$
Mai(l)Tt§o<; Aacov. Основательное исследование относительно имени нахо-
дится в трактате Ольсгаузена.
123 Iustin., XLI, 2, 3.
124 Isidor., Char. Исидор говорит о городе Sauloe. В настоящее время напе-
чатано:^ аьХип Пад^аша'О'а] это слово означает, вероятно, «Ниссу парфян».
125 Domesticis seditionibus Scythia pulsi solitudines inter Hyrcaniam et Dahas
et Areos et Sparnos et Margianos furtium occupavere (Iustin., XLI, 1, 11).
126 Strab., XI, 515: riov AgwDv rtvag e%ov rov<; Y\agvov$% хаХощеуоь<; vofiaSa^
nagoixouvras rov tO#ov.
127 Strab., XI, 515: oi Se Baxrgiavov Xeyovrnv airrov (Арсака) (peuyovra Se ttjv
av^a-iv tcjv ттед} AioSotov аттоатуо-а! ttjv Hag%a?av.
i
s
CD
3
I *
416
128 В изданиях Юстина (XLI, 4, 3) стоит М. Atilio Regulo, который был
консулом в 256 г.; однако во многих рукописях — пропуск М., так что под-
лежит сомнению, не говорится ли тут о С. Atilius Regulus, который в 250 г.
был консулом вместе с тем же Манлием. Юстин в этом месте говорит primum
defecere; поэтому известие Моисея из Хорены (II, 1) о том, будто Селевк в
великой войне победил парфян и получил за то имя Никатора, оказывается
восточным вымыслом.
129 Аполлодор, будучи уроженцем парфянского царства, в своей Парфян-
ской истории упоминал тысячу городов царя Евкратида (Strab., XV, 686).
130 Арр., Syr., 65.
131 Syncell., I, p. 539, ed. Bonn. В списке олимпийских победителей у ар-
мянского Евсебия (I, р. 207; р. 25, ed. Schone) отпадение парфян значится в
01. СХХХШ, у Иеронима (lb., II, р. 121) — в 01. СХХХШ, 1, в Каноне Евсе-
бия (/£., II, р. 120) - в 01. СХХХН, 3.
132 Я специально умалчиваю о многих, известных и собранных Рихтером
(liber die Arsaciden- und Sassanidendynastie, S. 21) хронологических показа-
ниях; благодаря нами найденному древнему преданию показания Агафий
(р. 121, ed. Bonn.), Моисея из Хорены и позднейших ориенталистов доста-
точно исправлены. В первом издании я прибавил в этом месте: «теперь все-
ми признано, что так называемая эра Аршакидов была не что иное, как
недоразумение Велльана». После того в 1865 г. Б. Кёне (см.: Blatter fur Miinz-
und Siegelkunde, Bd II, S. 272) обнародовал тетрадрахму Аршака XVI с изоб-
ражением царя и жены его (Sea$ oiiqaviaq)\ при этом он открыл двойное число
315 и 280, следовательно, как заключил Кёне, это была двойная эра, а именно
эра Селевкидов, которая начинается с 312 г. до Р. X., и эра парфян, которая
? I началась бы с 277 г. до Р. X. Лонгперье (Revue Numism., 1868, p. 21 sqq.)
^ доказал, что эти цифры ошибочно поняты, что на более сохранившихся
о. экземплярах взамен чисел стоят слова. Вскоре вслед затем Смит (Assyrian
г
о
rz
discov.y p. 389) сообщил известие о вавилонской глиняной плите с клинооб-
разным письмом, на которой он открыл одну возле другой как парфянскую,
так и Селевкидову даты: «This date is written: Month... 23-d day, 144-th year,
which is called the 208-th year, Arsaces king of kings». Он говорит, что этот до-
кумент от 105 г. до Р. X. доказывает, что первый год парфянской эры был 65 г.
aer Sei., которая началась с октября 248 г. Если показание Смита верно, то мы
имели бы искомую эру Аршакидов, но она началась бы 2 годами позже, не-
жели как следовало предположить по показаниям хронографов, т. е. осенью
248 г., в начале 01. СХХХШ, 1, а не осенью 250 г. в середине 01. СХХХН, 3.
133 О Диодоте II свидетельствует Юстин (XLI, 4, 5). Его монеты еще не
найдены. Те, которые приписывает ему Кённингам, походят на монеты его
отца, но только возле Зевса Промахоса на них изображены маленький ве-
нок и острие копья. Основываясь на этом отличии, Кённингам и придал Дио-
доту II прозвище Сотера, которое, без сомнения, принадлежало его отцу
(см. ниже). Список монетных дворов, составленный Эдв. Томасом и Кён-
нингамом на основании монограмм для бактроиндийских монет, кажется
еще более сомнительным, нежели тот, какой был составлен для монет Алек-
сандра; для последних нашлись, по крайней мере, надежные точки опоры.
134 Лассен (Zur Geschichte der griechischen und indoskythischen Konige,
S. 222) был того мнения, что Эвфидем был сатрапом Арии и Маргианы. Тот
факт, что Эвфидем впоследствии, когда подошел Антиох Великий, выста-
вил войско на берегу Ария, доказывает только то, что его область в то вре-
мя простиралась до этой реки. Две фразы у Страбона побудили меня сделать
высказанные в тексте предположения: он (XI, 515) говорит, что вследствие
борьбы Мидии с Сирией ttqwtov pav ttjv BaxTQiavyv amitrrrjaav oi ттетатеи/хам
хал ttjv iyyv<; avrrj<; -naaav oi ttbqi EuSvStjilov — еттеп1 'Адо-ахг)<; хтЛ., а потом
p. 517: oi Se xaraaxovre^ avryv (BaxTQtavyv) "ЕААт?1/е$ xa\ ei<; о-атдатте'кн;
bifioyxcLaiv... eoypv Ы xai ttjv XoySiavyv. Однако у Полибия (XI, 34, 2) тот же
Эвфидем сказал Антиоху III: yeyovevai yog ovx airro^ атюотатг)<; rov fiaaikiux;,
aKK eregcjv CLTtoaravTwv eTiaveXofisvo^ tov<; exeivwv exyovov$ ovtoj xgarrjo'at ttj<;
Baxrgtavojv адхщ. Во всяком случае, если парны покинули свои жилища
при р. Охе, оттого что им угрожало возраставшее владычество не Эвфидема,
а Диодота, то господство Диодота простиралось до Оха, т. е. за пределы
Маргианы, и Эвфидем поэтому был, вероятно, сатрапом какой-нибудь об-
ласти, но только не Маргианы. Более ста лет спустя после того Аршак VII,
сын блестящего Аршака VI Митрадита, отчеканил монету с надписью:
BAXIAETZ МЕГАЛОТ АР2АК0Т 0ЕОПАТОРО2 ЕТЕРГЕТОТ, а под
этим MAPTIANA, по мнению Саллета, этим обозначается завоевание бо-
гатого оазиса Маргианы (в его Zeitschrift fur Numismatik, III, 3, S. 246). Он
упоминает о другой монете того же царя, у которой на обороте и на том же
месте стоят слова: ...ГОРОТ KATASTPATEIA. Сидящий Геракл на моне-
тах Эвфидема, похожий, в сущности, на такого же Геракла на монетах Ан-
тиоха Теоса, не имеет никакого отношения к этим вопросам.
135 О Демодаме, а не Демонаксе; см.: Plin., VI, 16; Solinus., p. 49; Steph. Byz.,
v. 'Ai/T/Wa. Плиний говорит об Яксарте: «transcendit eum amnen Demonax,
Seleuci et Antiochi regum dux, quam maxime sequimur in iis, arasque Apollini
Didymaeo statuit».
136 Судя по Клименту Александрийскому (Protr., 57, ed. Pott.), со времен
Артаксеркса II образ этой Афродиты выставлялся и почитался в разных
главных городах государства и также ev Вахтдон;.
137 Cunningham, Num. Chr., VIII, 1868, p. 283, pi. X, 8.
138 Cunningham, loc. cit., pi. X, 6.
139 Cunningham, loc. cit., p. 278, pi. VIII, 6. На двух прямых строках по
сторонам стоит: BAXIAE02 0ЕОТ ANTIMAXOT. Едва ли будет целесо-
образно только из-за изображения Посейдона предполагать морскую по-
беду на Каспийском море; а еще менее следует основывать на этом мнение,
будто Антимах был сатрапом в Согдиане, будто и Согдиана также пользо-
валась арианским письмом.
140 Cunningham, Num. Chr., VIII, 1868, p. 268, pi. VIII, 5. По обе стороны
головы стоит надпись ДЮАОТОТ ХПТНР02, а на обороте прямыми
строками по обе стороны Зевса Промахоса стоит BA2IAET0NT0X
ANTIMAXOT, а внизу — 0ЕОТ. Остальные монеты (Cunningham, Num.
Chr., IX, 1869, p. 297), полудрахмы и медные с греческою надписью
BA2IAE02 ШКНФОРОТ ANTIMAXOT и с арианскою Maharajasa
jagadharasa Antimakhasa Кённингам (Num. Chr., IX, 1869, p. 296) справедли-
во приписал Антимаху II, которого признал за внука Антимаха I.
141 Cunningham, Num. Chr., VIII, 1868, pi. X, 1-3; на обороте двумя пря-
мыми строками по сторонам стоит: BAXIAET0NT02 АГА0ОКЛЕОТ2, а
14 История эллинизма
418
внизу Л1КАЮТ. Сделанное Варфоломеем (Notices sur les medailles des
Diodotes; Kohnes Journal fiir Miinz- und Wappenkunde, 1842) возражение на
мое объяснение слова tSa<rt\evovro<; я опроверг в первом издании, и новей-
шие авторы, среди них и Кённингам, согласны со мной.
142 Малала (Malalas, p. 299, ed. Bonn.) утверждает, что Селевку Каллинику
наследовал 'AXe^avSqo^ 6 Nixarwg errjXo-'. Это число относится к Антиоху III,
который в списке жрецов (С. I. Graec, III, n° 4458) называется о/леуа^; имя
Александра то самое, какое носил его предшественник, Селевк Сотер или
Керавн, с тех пор как воцарился. Малала бестолково сократил имевшиеся
перед ним сведения, так что от Селевка у него осталось только Александр —
первое его имя, к которому он присоединил прозвище и год наследника
Антиоха Ш.
143 Вышеупомянутое сочинение Салле отвечает изложенным в тексте пред-
положениям; монеты с надписью BAZIAET0NT02, на которых значатся
имена Диодота Сотера и Эвфимеда Теоса, суть «монеты предков»: цари
Антимах и Агафокл были — первый основателем, а второй возобновителем
бактрийского царства.
144 Ptol. VII, 1: ХауаАа т5 xai EvBvfieSeia. Поправка здесь не подлежит со-
мнению.
145 Al-Birunf, Chronologie orientaltscher Volker, hrsg. von E. Sachau,
S. 112 f. Ольсгаузен потрудился перевести для меня это место. Титул Moluk
at-lawa'if означает «народных, племенных, областных князей, называв-
шихся царями».
146 Ольсгаузен замечает, что этот титул необъясним. Не лежит ли подоб-
ная генеалогия в основании вышеприведенного показания Аппиана:
? *А()(гах7)<; xai TyQiSarr)*; а$е\(р<Ь 'Aqtraxibai, той viov 'Agtraxov rov Ф&аттои
^ aTToyovoi? Или, может быть, надлежит восполнить AqcraxiSai ['Aqouxou] той
q_I viou и т. д., так что род этих братьев был бы доведен до их пращура, до неизвест-
ного, конечно, нам Фриапита; это повело бы не к Каваусу, а к Франгграгиану
(Афрасиабу), потомку Тура, что и послужило бы объяснением для Фдиьттои?
Сахау, которому я предложил этот вопрос, полагает, что нет ничего общего
между обоими именами.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1 Плиний (VII, 37) приписывает это Клеомброту из Кеоса, а в другом
месте (XXIX, 9), называя Эрасистрата, он говорит: «donatus est a Ptolemaeo
Alio eius (Antiochi)»; для того чтобы исправить явную ошибку, здесь следо-
вало бы написать только filioque eius и отнести это слово к наследнику пре-
стола Птолемею II. Эрасистрат подлежит здесь сомнению не потому, что
он уже 35 лет тому назад совершил знаменитое исцеление Антиоха I; в Ка-
ноне Евсебия расцвет его славы относится к 01. СХХХ. О враче Клеомброте
я нигде более не нашел никаких сведений; нельзя, однако, допустить стран-
ное объяснение Гардуина, будто следует писать Theombrotus и признать это
почетным прозвищем Эрасистрата.
CZ
419
2 Phylarch., Fr. 23 (см.: Athen., ХШ, p. 593); Софрон здесь называется о
67П т% 'Ефесгои; разве в качестве сирийского начальника? Если Софрон
после убийства царя бежал в Эфес, то это, скорее, был или египетский, или
свободный город.
3 Из дальнейших событий видно, что Антиох умер не в Эфесе, как гово-
рит армянский Евсебий (Euseb. arm., I, p. 251, ed. Schone) (in morbum
implicitus decessit), а, вероятно, в одном из соседних городов, может быть, в
Лаодике или в Сардах.
4 Phylarch., см.: Athen., ХШ, 593, fr. 23; Hieronym., in Dan., XI, 5, 6; Plin.,
VII. 12; Valer. Max., IX, 10, extr. 1; IX, 14, extr. I; Iustin., XXVII, 1; Polyaen.,
VIII, 50. Я не решился заимствовать еще более из всех этих рассказов. Они
истекают из двух различных источников. Рассказ о Данае взят у Филарха;
Плиний уверяет, что не Антиох, а весьма на него похожий человек (е plebe;
у Valer. Max., XI — regia stirpe), которого положили на царскую кровать,
высказал упомянутый приказ в пользу Селевка; то, что это заимствовано у
Филарха, вероятно, потому что в числе названных у Плиния в седьмой книге
auctores назван также именно Филарх. Однако тот же подлог повторяется в
рассказе Полнена по поводу ребенка Береники и по поводу самой Берени- I ^
ки, а потому все известие кажется сомнительным. А впрочем, не изложил
ли оба эти подлога в таком виде Филарх, из которого черпал Помпеи Трог,
служивший источником для Валерия? Рассказ о мщении матери Валерий
также заимствовал через посредство Трога у Филарха. Юстин сделал лишь |"8
краткую выписку. Можно подумать, что с египетской стороны стали распро-
странять слух, будто наследие Селевка было достигнуто такими происками. _
За недостатком данных мы не можем исследовать вопрос. Убийц ребенка §
Береники Иероним называет Icadion et Genneus, Antiochiae principes; Вале- ' Q
рий упоминает только об одном телохранителе Caeneus'e. I g
5 Если бы не существовало точного известия, то мы заодно с Нибуром Г§
(Kleine Schriften, S. 273) могли бы предположить, что именно смерть Пто-
лемея подала сирийскому царю повод вернуть Лаодикею. Однако Иероним /jR,
говорит: occisa Berenice et mortuo Ptolemaeo, и если у Полиена репрессив-
ная война ошибочно приписывается еще отцу, то надо полагать, что эта
ошибка указывает именно на упомянутую хронологическую связь событий.
По Канону царей известно, что Птолемей умер после начала 78 г. Лагидов,
т. е. после 24 октября 247 г. (Ideler, Uber die Reduction deragyptischen Data).
Если показание хронографов (см. Miiller, Fr. Hist. Gr., III. p. 716), утверж-
дающих, что Антиох Теос царствовал 15 лет, верно — и судя по тому, что
царствование его наследника длилось от 20 до 21 года, оно кажется довольно
верным, — то смерть Антиоха следует отнести к началу 245 г. или к концу
246 г. Армянский Евсебий утверждает, что Антиох Теос воцарился в 01. CXXIX.
4 (261/260 г.), а умер 40 лет от роду, процарствовав 15 лет в 01. CXXXV, 3
(238/237 г.); воцарение Селевка II он определил верно в 01. СХХХ, 3, т. е. в
246/245 г.; annos quadraginta, должно быть, ошибка, — вероятно, здесь про-
пущено quinque или sex.
6 Ср. комментаторов стихотворения In comam Berenices.
7 Iustin., XXVIII, 1.
8 См. союз, заключенный между Смирною и Магнесией (при Сипиле)
(С. I. Graec, II, п° 3137). На серебряных монетах Антиоха I встречаются в
14*
х
00
о
виде эмблемы: пасущаяся лошадь троянской Александрии; чаша с одною руч-
кою из Кимы; копейное железко (едва ли из Кардии); лошадиная голова из
Магнесии при Меандре; совместно: лира и треножник — Митилена и Книд;
факел и Пегас — Кизик и Алабанда; голова грифа и жезл Гермеса — Фокея
и Митилена; половина бегемота и пасущаяся лошадь — Скепсис и троян-
ская Александрия; стоячий факел и сидящий орел — Кизик и...; нельзя,
однако, определить, несмотря даже на то, что на некоторых тетрадрахмах
имеется диадема изображения с крыльями, вероятно, Гермеса; или не при-
надлежат ли эти монеты Антиоху Гиераксу?
9 Это видно из слов тгдбтедо]/ хаУ ov xaiqov imeqifZaXuv щ rrjv XeXevxlSa в
Смирнской надписи (V, 1).
10 Polyaen., VIII, 50.
11 Polyb., V, 58, 4; здесь в совете царя Антиоха III говорится о чрезвычай-
но важном значении этой крепости адхцуетн; хал ax&bov щ efaeiv earia тг]$
$waoTeia$. Полибий не ссылается прямо на это завоевание, но оно разуме-
ется само собой; египтяне только с устья Оронта могли так скоро достичь
Антиохии.
12 См.: Burtmann (Wolf und Buttmanns Museum, II, S. 105 ff.; С I. Graec, III,
n° 5127).
13 На основании этих слов надо полагать, что Птолемей III был соправите-
лем отца, а иначе ему в промежуток времени между воцарением и сирийским
походом не было бы времени охотиться на слонов. Такое предположение
не только было бы согласно с предложенною выше (прим. 1) поправкою
fllioque у Плиния (XXIX, 1), но объясняло бы также хоть сколько-нибудь
разноречивые известия о царе, который начал репрессивную войну за Бе-
ренику; можно было бы даже отнести сюда слова Гигина: «Alii dicunt
Ptolemaeum, Berenices patrem, multitudine hostium perterritum fuga salutem
petiisse, filiam autem saepe consuetam insiliisse equum etc.». Однако ни хро-
нографы, ни Канон царей не допускают этого предположения, которое при-
том бесполезно для объяснения Адульской надписи.
14 rov<; iLOvaQ%o\j<; tov<; kv то?$ тоттон; ттахгтси;. Здесь под монархами разумеет-
ся, вероятно, то же, что под династами, какие перечисляются в Смирнской
надписи: цари, династы, города и еЪщ, т. е. не городское, но образующее
(гьотуцата ттоХтха население. Полибий (V, 34, 7) подтверждает перечис-
ленные области; он говорит именно, что Птолемей IV обладал значитель-
нейшими городами и гаванями в Памфилии до Геллеспонта xai rwv хата
Аиочрахени* rorrwv, что он как владетель twv хат Ahov xai Magajvetav хал
ixoQqdmqov en noXewv угрожал Македонии и Фракии. Лесбос также находил-
ся в его власти; это видно из надписи, обнародованной в Bulletin de Corres-
pondence hellenique (VII, 1880, p. 435); этот составленный в Лесбосе документ
сопровождается именами Птолемея и Береники. В заключенном между Ан-
тиохом III и Филиппом Македонским (Polyb., XV, 20) договоре сказано,
что Киклады и Ионийские острова и города будут переданы Македонии.
15 Подобное известие находится в надписи Таниса, обнародованной Ве-
щером (Revue Archeol., 1866, p. 369). Оно относится к 9 году (1 ч. Tybi - 7.
Apellaios) Птолемея Эвергета; там сказано (V, 10): xai та e^eveyfyevra ex rrj<;
%ыоа,<; iega ayaXfiara imo rcov Yleoffcov ехотдатеСаад 6 fiao'iXzix; алк&ы&ъ щ
Aiyimrov xai атгейажву щ та iega <i$ev exaarov e^agxTJ^ е&)Х$Ч-
lft Вот самый текст: хал avaQr]Tr}(Ta<; оаа \то tcov Педаш» tega if Aiyimrov
efyxfy *°" cLvaxofiiaa*;... щ Aiyimrov Svvafiei^ amo-ceiXev Sta ran/ OQv%$ivra)v
noraiuov... Судя по всему этому, можно предположить, что экспедиция вышла
из Египта; если бы таков был смысл надписи, то она должна была бы ска-
зать Sia год oQvx&evrcx; потарои, так как один только канал, а именно
ПгоХецоло*; тготсцмъ (Diod., I, 33; Plin., VI, 29) ведет из Нила в Красное море.
17 Я в примечании прибавлю здесь остальные известия относительно рас-
ширения завоеваний. Юстин (XXVII, 1) говорит: «qui nisi domestica seditione
revocatus esset, totum regnum Seleuci occupasset»; Polyaen., VIII, 50: атто rod
Taugoufiixgi Trjs 'lvSixifc exQarrjos; Euseb. arm., I, p. 251, ed. Schone: «Ptolemaeus
autem qui et Tryphon partes (regiones) Syriorem occupavit, quae vero apud (ad,
contra) Damascum et Orthosiam obsessio fiebat. Finem accepit Olympiades
CXXXIV anno tertio, quum Seleucos eo descendisset». В переводе Зораба по-
ложительно сказано: «Syriae regiones cum Damasco occupavit Orthosiamque
obsidione cinxit quae 01. CXXXIV, 3 soluta est Seleuco eo expulso». Иероним
говорит: «ut Syriam caperet et Ciliciam superioresque partes trans Euphratem
(tj ava) JA<rla) et propemodum universam Asiam. Ciliciam autem amico suo
Antiocho gubernandum tradidit et Xantippo alteri duci provincias trans
Euphratem». Росселини уверяет, что храм в Эсне был полон описаний побед
этого царя; он упоминает, кстати, о том, что в надписях называется также
Персия (II, р. 327). Шамполльон (Lettres ecrites d'Egypte, p. 204) в списке
пленных встретил имена Армении, Персии, Фракии, Македонии. К сожале-
нию, с тех пор погибли эти важные остатки.
18 По переводу Лангерке. Замечательно то, что Полихроний все это про-
рочество относит к Птолемею IV Филометру.
19 Иероним. Это объяснение имени Осириса находится у Плутарха (de
Iside). Я, по крайней мере, в примечании должен упомянуть о сомнительном
и во всяком случае преу- величенном известии Иосифа (Ар., II, 5), будто
Птолемей Эвергет принес в жертву хщкогщко* vrj<; vixys не египетским бо-
гам, а Иегове в иерусалимском храме. Впрочем, титул Seoi Evegyerai в отно-
шении к Птолемею и Беренике не появляется ни на золотых плитах Канопы,
ни в Адульской надписи, которая вообще подробно излагает одержанные в
Азии победы. Цари в эту эпоху, как кажется, сами избегали принимать бле-
стящие божеские титулы, какие придавала им благоговейная толпа; однако
называть отца и мать их божескими именами не считалось непристойным.
20 По Смирнской надписи (v. 84), договор был выставлен также в этих
обоих городах.
21 Та же надпись гласит (v. 12): vvv те 1тед^в^Хт}х6го<; rov fianXeax; ei<; ryv
^eXevxiSa; итак, опять исходя из Малой Азии.
22 Polyb., IV, 51. — Второму сыну от этого брака, по словам Полибия (XX,
8), в 192 г. было пятьдесят лет от роду; он, следовательно, родился в 242 г.,
старший же — никак не позже 243 г. Я здесь уже упомяну о том, что в Смир-
нской надписи нет и следа ни об Антиохе Гиераксе, ни о Лаодике, а потому
надпись составлена никак не позже 244 г. Селевк II на первых своих моне-
тах изображен без бороды (так, между прочим, на прекрасной тетрадрахме
в Гааге, которую обнародовал Имгооф-Блумер. Berlin. Numism. Ztg., 1876,
III, S. 345); впоследствии он появляется с бородой; он, по словам Полибия
(II, 71), называется не только КаХХ'мхо$, но также Натуши. Вот почему я не
422
думаю, что Селевк И прежде уже, когда его мать не была еще отвергнута,
женился на племяннице своей матери.
23 О том, каким образом Ксантипп покинул пуническую службу см. Hude-
mann, Zeitschr. fur Alt., 1845, S. 100. Нибур (Kleine Schriften, S. 277) полагал,
будто не сохранилось никакого следа о том, кто был этот Ксантипп. Если
верить римским известиям, то, конечно, Ксантипп, возвращаясь восвояси,
был «вследствие пунической гнусности», как любили выражаться римляне,
утоплен с его сокровищами. Невольно возникает вопрос о цели этого под-
лого поступка. Сообщая об удалении Ксантиппа из Карфагена, Полибий
говорит (I, 36, 3), что он сам решился на это, и прибавляет, что существует
еще другое сказание по поводу его отставки, о чем он и сообщает в своем
месте. Следовательно, в его Истории упоминалось еще раз о Ксантиппе;
однако в событиях до 216 г. в Африке, Греции и Азии он ни разу не встреча-
ется в рассказах Полибия; а впоследствии о нем говорится только мимохо-
дом. Там, где, скорее всего, следовало бы ожидать, что Полибий (V, 40 sqq.)
распространится по поводу прежних отношений верхних стран Азии, он
выражается весьма неудовлетворительно; ему в десятой книге надлежало
изложить возникновение парфянского и бактрийского царств; там-то, веро-
ятно, он и упомянул о Ксантиппе. Полибий мог бы, пожалуй, опять вернуть-
ся к этому вопросу по поводу критического разбора того автора, который
распустил молву об его отставке; это, впрочем, невероятно, так как этим
автором был Фабий или Филин, а сочинения ни того, ни другого не сохра-
нились.
24 Sueton., Claud., 25. Светоний, правда, не называет именно этого Селев-
ка; но о сыне и наследнике его во всяком случае и думать нечего; при нем
Илион не находился под владычеством Селевкидов (Polyb., V, 78, б). Может
i
о
% быть, все эти факты бросают некоторый свет на следующие слова Евтропия
о_ (III, 1): «Finito punico bello... Romani legatos ad Ptolemaeum Aegypti regem
miserunt auxilia prominentes quia rex Syrae Antiochus bellum ei intulerat, ille
5J£ gratias Romanis egit, auxilia non accepit, jam enim fuerat transacta». Если имя
Антиоха попало сюда не по ошибке Евтропия или его источника, то надо
думать, что примирение Антиоха II с Лаодикой уже признано было в Алек-
сандрии за casus belli.
13 Так предполагал Нибур (Kleine Schriften, S. 277); помимо существен-
ной вероятности, на которую он ссылался, это подтверждается особенно
тем обстоятельством, что Селевк вскоре после того мог предложить своему
брату союз, что было бы немыслимо, если бы у него не было ни земли, ни
подданных.
26 Упомянем здесь о надписи (С. I. Graec, II, п° 2852), которую составили
жрецы бранхидского Аполлона в Милете, в ней содержится послание царя
Селевка к совету и народу в Милете относительно чрезвычайно богатых,
доставленных им туда дарственных приношений, именно тоТд $ш<; Somfecwn
(Антиох I и Стратоника), также список их. В начале этой надписи сказано:
таЬ& ЬлкЪчрим /3a<ri\e?<; 2e\euxo<; хал 'Avrioxo<; та ev -rjj етотоХу уеудащлеш.
По слову /За<лАе?£ можно бы предположить, что дар сделан был после при-
мирения обоих братьев, когда старший признал младшего царем; однако
это послание было от одного только ВоипАеи^ 2еХеихо$, и если он говорит
a<pe(rraAxa//,£v, а впоследствии все-таки прибегает к выражению сЬ$ еуш
fiouXofiai, то он, как кажется, один только распоряжается и действует от
имени своего брата, а слово /ЗаочХеТ*; вставлено жрецами храма только из
вежливости.
27 Plut., De fratr. am., 18: xai ttjv tirrfriqa (ruXXa^avovcrav Ь1%ы.
28 Polyaen, IV, 17.
29 В сообщенном Лепсиусом (1866 г.) декрете Каноба, изданном на 9 году
Птолемея Ш, 7 марта 238 г., ничего не сказано о времени возвращения; в
нем, однако, подтверждается экспедиция, направленная против Персии или,
по крайней мере, против Суз. Там сказано о царе: та /gga ayaXfiara \mo rcbv
YIsqo-cjv ехотдатеи<га$.
30 Это изложено по вышеприведенному переводу армянского Евсебия (I,
р. 251) в том виде, как, наперекор Зорабу, издал его Петерман. Осада кон-
чилась quum Seleucus eo descendisset, т. е. когда он спустился из Малой Азии
и через Тавр в Сирию.
31 Это важное хронологическое показание помечено в Chronicon Paschale
(I, p. 330) в 01. CXXXIV, 1 (244/243 г., во время консульства Катула и Аль-
бина (242 г.); такая ошибка произошла оттого, что хронограф пропустил
консулов 270 г. и отождествил год консульства с годом олимпиады, кото- I ^
рый наступил во время этого консульства (ср. Clinton, Fast. Hell., Ill, p. VI).
Та же ошибка у него постоянно повторяется при счете олимпиад; его показа-
ния, как то видно по поводу основания Никомедии и вступления на престол I ч
Птолемея III, относятся к тому году, в который выпадают его имена консу- го
лов. Имя города свидетельствует о том, что Селевк был уже прозван Калли-
ником; но отсюда еще не следует, будто он одержал уже великую победу.
32 Эти комбинации не могут, конечно, служить неопровержимым доказа- §
тельством, и Мюллер (Fr. Hist. Gr., Ill, p. 708 sqq.), опираясь частью на весьма
веские доводы, предложил как для этих, так и для следующих событий иные, g
во многих отношениях несогласные с ними объяснения. Я прибавлю к это- ~§
му еще следующее. Птолемей вернулся из Вавилона или по сирийской *
дороге, или через Аравию. Если Селевк в то время находился уже в Сирии, «'2
то возврат через Аравию надо признать уступкою, и в таком случае Лагид
не мог бы располагать областями так, как он это делал; если же он вернулся
через Сирию, то ему пришлось бы еще раз разбить Селевка, и в таком слу-
чае следовало бы предположить, что он лишь при третьей, сделанной им из
Малой Азии попытке достичь успеха, тогда как, судя по словам в третьей
части Смирнской надписи ttjv $a<riXeiav аитои ovvav^cuv, следует заключить о
победах, одержанных по ту сторону Тавра. В первой ее части сказано, что
царь относится (piXotrrogycog та що<; rovq yovetg, следовательно, также и к ма-
тери Лаодике; отсюда можно, пожалуй, заключить, что надпись была со-
ставлена прежде, нежели отрок Антиох с матерью принял сторону Египта,
что, как предполагалось нами прежде, и случилось тогда, когда Птолемей
по возвращении удержал за собою Сирию и располагал остальными завое-
ваниями. Я не решаюсь еще точнее определить хронологию этих событий.
33 Iustin., XXVII, 2.
34 Euseb. Arm., I, p. 251.
35 Athen., VI, p. 254, по тринадцатой книге Филарха; слова^а^ аттоШоугед
то?$ — Avtiozov аттоуоуон; побуждают меня предположить, что отрывок от-
носится к эпохе до 243 г. К этой войне, может быть, относится почетный
5
424
декрет эрифрейцев в честь их нового стратега; см.: Lebas, Voy. arch., Ill,
n° 1536; cf. n° 1541.
36 Может быть, ликийские города также прислали корабли, и упомяну-
тые в надписи С. I. Graec, III, n° 4239 битвы были именно по этому поводу.
37 Strab., XV, 754: -ngoo-^sfiei/oi тер КаЛЛ/v/xoj.
38 Я напомню о том, что Селевк, заключив мир со своим братом, уступил
ему Азию до Тавра, а следовательно, не Киликию.
39 Euseb., arm., p. 251, ed. Schone: «adjutorem enim et suppetias Alexandria
etiam habebat, qui Sardianorum urbem tenebat, qui et frater matris ejus Laodicae
erat». Таков перевод Петерманна; он замечает, что в рукописях стоит
Alexandriae или Alexandria и что Аухер взамен того предлагал писать
«haghexandre, i. e. ab Alexandra pro haghexandreah». Аухер был совершенно
прав.
40 Iustin., XXXVIII, 5; Euseb. arm., I, p. 251; p. 5, ed. Schone. От этого брака
родилась та Лаодика, которая в 221 г. вышла за Антиоха и на следующий
затем год родила сына; следовательно, она родилась никак не позже 237 г.
Я предполагаю, что она вышла замуж в 242 г.; впоследствии окажется, на
каком именно основании. О приданом говорит решительно один только
Юстин; даже Аппиан не упоминает о нем в тех договорах, в которых оно
значится у Юстина (Арр., Mithrid., 12, 57); не может быть, однако, что это
известие у него ни на чем не основано. — Прибавлю здесь еще необходимые
подробности о Митридате. Его отец Ариобарзан, вступив на престол в 266 г.,
умер вскоре после нападения Антиоха на Византии, а это, как мы видели,
случилось прежде 258 г. (Memnon., p. 24). Вслед за этим Мемнон говорит о
подарке, который царь Птолемей, щ axqov evbanJAviaq avaftaq, сделал Герак-
? литам (Хлщщотатаи; Sa)qaa?<; eveoyereiv та$ ъбУ&к; ттооууето); эти слова вполне
^ согласуются с известием у Феокрита (XVII, III). А потому глава 25 Мемно-
о_ на совпадает, вероятно, с первыми блестящими годами войны от 258 до 248 г.,
С=
и следовательно, Ариобарзан умер приблизительно в начале кампании. Лишь
четырнадцать лет спустя после того женился Митридат; при смерти отца
он был еще только отроком.
41 Именно эти слова (Дан., XI, 8) представляют крайние затруднения;
вышеприведенное объяснение их кажется наименее натянутым, с чем со-
глашаются Ленгерке и Геверник.
42 Euseb. arm., I, p. 251, ed. Schone: «in Lidiorum terra Seleucus vicit, sed
neque Sardes neque Ephesum cepit, Ptolemaeus enim urbem tenebat».
43 Polyaen., VIII, 61. Полиен, подобно XXVII прологу Трога, называет
эту стычку битвой при Анкире; как видно, это та самая битва, о которой
говорит также Юстин (XXVII, 2), но только не на том месте. Это вытекает
из слов самого Юстина; оттого что в своей Парфянской истории (XLI, 4) он
располагает события в следующем порядке: борьба между братьями, побе-
да галлов (по моему мнению, в 241 г.), потом опасение Аршака, подозревав-
шего Селевка и Теодота Бактрийского (мы увидим, что Селевк в 239 г. опять
одержал верх), потом поход Селевка на Восток, последовавший вскоре после
239 г. В извлечении из Порфирия у армянского Евсебия эти войны, очевид-
но, показаны в то же самое время, хотя тотчас же вслед затем говорится об
освобождении осажденной Орфозии; Порфирий вообще не говорит о ве-
ликой египетской войне, он здесь только мимоходом упоминает о ней; меж-
доусобие составляет для него главное дело. Путаница у Евсебия совсем не
так велика, как то полагает Нибур (Kleine Schriften, S. 282 ff.), который бит-
ву при Анкире помещает после похода Селевка на Восток, т. е. около 237 г.
44 Об этом говорит Полиен (IV, 9, 6). Селевк бежал переодевшись; он опять
явился царем только тогда, когда в Киликии вновь собрались рассеянные
отряды.
45 Plut., De fratr. am., 18.
46 Iustin., XXVII, 2. 12: «auro se redemit societatemque cum mercenariis suis
jungit».
47 Ioseph., Ant., XII, 4, 2.
48 Iustin., XXVII, 3, 1: «rex (?) Bithynus (!) Eumenes... quasi vacantem Asiae
possessionem invasurus victorem Antiochum Gallosque adgreditur etc.». Вели-
кую победу над галатами пергамца Аттала придется отнести к 239 г.
49 Каппадокия, где царствовал еще Ариамен, была, как мне кажется, на
стороне Селевка; однако слова «Antiochus... ad socerum suum Ariamenem...
pervehitur», высказанные по поводу несколько лет спустя после того слу-
чившегося факта, обнаруживают, что Ариамен выдал свою дочь за Антиоха
Гиеракса. Последовавшие затем события заставляют предполагать, что Зие-
ла Вифинский был на стороне Антиоха. Союз Эвмена, а начиная с 241 г. (см.:
Clinton, III, p. 402) Аттала Пергамского с Селевком, представляется веро-
ятным, так как они вели войну против Антиоха; положение Гераклеи и Ви-
зантия крайне загадочно; о Кизике мы узнаем только то, что там родилась
жена Аттала (Strab., XIII, 264). Его мать была дочерью Ахея, сестрою цари-
цы Лаодики, а следовательно, Селевк и Антиох приходились ей племянни-
ками. Понт в конце концов был на стороне Антиоха.
50 Он, без сомнения, удержал за собой Эфес и Магнесию (на Меандре),
которая после 244 г. вновь была отвоевана египтянами; вероятно, также
Милет и Приену; я не решаюсь пускаться в дальнейшие предположения и,
вследствие показаний Полиена (V, 25) и Фронтина (III, 2, 11), сомневаюсь
именно относительно Самоса.
51 В совете царя Антиоха говорили (Polyb., V, 58, 5), что смешно помыш-
лять о завоевании Келесирии, пока Селевкия находится во власти врага: гр
%<щк; тг)<; а\(тхиущ... хдатощем) yaq xmo тш ex^Qiov iieyiorov щшЬюу ehai що<;
нектар avrciiq kmfioka<;.
52 К сожалению, мы не в состоянии определить в точности время этого
мира. Единственной точкой опоры может служить то, что экспедиция на
Восток (см. ниже) была предпринята тогда, когда отринутая царем Демет-
рием (с 239 г.) Стратоника Македонская прибыла уже в Сирию: «eumque in
mariti bellum impellit», а о войне против Македонии не могла помышлять
даже «алчущая мести женщина», пока не был заключен мир с Египтом и с
Антиохом. Деметрий отверг ее, с тем чтобы жениться на эпирской прин-
цессе, которая, судя по достоверным сведениям, родила ему вскоре после
октября 238 г. сына Филиппа; и в самом деле, Филипп проиграл сражение
при Киноскефалах (происходившее прежде жатвы 197 г.) 23 года и 9 меся-
цев спустя после вступления его на престол, а при воцарении ему было не
более 17 лет от роду. Судя по этому, надо предположить, что Стратоника
удалилась из Македонии еще в исходе 239 г. или в начале 238 г., а когда она
прибыла в Сирию, то мир, вероятно, был уже заключен. После освобожде-
426
rz
ния осажденной Орфозии в 242/241 г. накопилось столько событий, что не-
мыслимо, чтобы мир был заключен в 240 г.
53 Aelian., XIV, 43. Афиней (XV, р. 689) называет ее великою Береникою;
в этом месте, как заметили уже некоторые авторы, была, вероятно, ошибка
в тексте, где подразумевалось имя ее отца Мага.
54 Polemon, p. 131, ed. Preller.
55 Polyb., X, 25, 3: emcpavax; Trgovar^aav кал Sie^vXa^av avro?<; tt\v eXeuSeqiav.
Plut. (Philop., 1): TBTOQayfievajv ra>v ev vfj noXet кал vocrovvrwv evvofilav g'S-evro
кал SieKoo'^iTjO'av aoiara rrjv ttoXiv. Судя по словам Полибия, надо полагать,
что они довольно долго пробыли в Кирене. Филопемен в качестве avrmai^
т. е. не достигнув еще возраста эфеба (Плутарх), пользовался их препода-
ванием в Мегалополе, а он родился в 253 г. Вот почему у Помпея Трога (Prot.,
XXVII) в словах «ut Ptolemaeus adeum denuo captum interfecerit» остроум-
ная поправка Мюллера (Eudemum captum) мне кажется несостоятельною.
Здесь непригодна также фраза Achaeum denuo. captum, предложенная Ни-
буром, оттого что в этой поправке предполагаются такие факты, о которых
не находим ни малейшего намека. Гутшмид (см. Ieep, p. 182) предлагает
Adaeum; в этом случае я могу сослаться только на то, что лет двадцать спу-
стя после того в Египте был стратег Адей из Бубаста (Polyb., XV, 27, 6), так
что это имя, по крайней мере, наверное, встречалось между египетскими
сановниками. Я готов предположить, что Трог, следуя Филарху, совместил
в этой фразе дальнейшие последствия войны и окончательное подчинение
Киренаики.
56 Ioseph., с. Л/)., II, р. 4.
57 Callim., Epigr., 39.
J8 Steph. Byz., v. 'Еаттео'к;. Летронн (Recueil, p. 184) говорит, что Береника
7
^ a du recevoir son nom de Magas, оттого что по его странной гипотезе Птоле-
о_ мей Филадельф не мог быть основателем этого города: он забыл этого Пто-
лемея III. Точно так же ошибочна observation assez frappante, которую он
присоединяет к этому: c'est que le nom de Berenice n'existe que sur les bords de
la mer Rouge. He только Тиос при Понте назывался одно время Береникою,
но это имя встречается даже в Киликии и Сирии.
59 Я здесь уже должен напомнить о том, что в 243 г. в Ахрокоринфе нахо-
дились 500 наемных солдат (не Xvqioi с острова Сира, a 2vQot, Plut., Aral.,
24). Замечу также еще, судя по Смирнской надписи, Селевк почтил своего
отца Антиоха Теоса и его мать, сестру Антигона, сооружением празднеств
и храмов. Подобно тому как сирийцы появились в Коринфе, так и этоляне
(союзники Антигона в этой войне) сделали удачное нападение на Самос
(Polyaen., V, 25; Frontin., Ill, 2, 11). Предлагаемая поправка в тексте Фрон-
тина Saniorum взамен Samiorum ни к чему не ведет.
60 Pomp. Trog., Prol., 27: «et Antigonum Andro proelio navali prona vicerit
[var. Antigonus ...navali oprona]». Гутшмид deep., p. 182) переправил это в
Antigonus... Sophrona. Если сказанное сражение дал Антигон, то уж, навер-
ное, не Антигон Ш Досон, как предполагал Нибур, а, скорее, Антигон II
Гонат, который умер в 239 г., по крайней мере, 80 лет от роду. Судя по тяж-
ким войнам в Элладе за последние его годы, едва ли можно допустить, чтобы
он лично одержал победу в этой битве при Андросе. Рассказывая упомяну-
тый прежде анекдот по поводу победы Антигона при Андросе, Плутарх
(Pelop., 2) говорит: Avriyovo$ о yegojv; однако это не может служить доказа-
тельством самой победы, оттого что Плутарх не говорит 'Avriyovo^ yegojv
cov, a 'Avrlyovot; о уедал/ назывался обыкновенно старый Антигон Одногла-
зый (cf.: Plut., De fort. Alex., I, 9). Если бы вздумали в эту битву замешать
Софрона, то можно было бы написать «ut Antigonum proelio navali Sophron
devicerit»; однако нигде не упоминается о том, что Софрон дал это сраже-
ние и что он вообще командовал когда-нибудь флотом; о нем, сколько изве-
стно, говорится только в одном вышеупомянутом месте (Phyi., Fr., 23), где
он называется 6 ет т% УЕ<ре<гои.
61 Полиен (V, 18): ц Xifieva emvyeo-av, следовательно, город находился
еще во власти египтян.
62 Teles, ар. Stob., Flor., II, p. 72. Этот трактат написан не прежде 01.
CXXXIV, 4, как предполагал Нибур; он основывался при этом на словах
Телеса, который в своих апофегмах говорит, что Зенон умер (ёфт?), что Бион
Борисфенский был еще жив ((рт)(г1) и что, судя по 'OXvy^n. ашуд., он умер в
01. CXXXIV, 4. Помимо шаткости этой хронологии мы знаем, что Телес со-
провождает также афоризмы Фемистокла и Аристиппа словом (prrjcri. Сооб-
щаемое ниже о Гиппомедонте свидетельствует о том, что этот трактат Телеса
писан после 239 г., после 01. CXXXV, 2. — Я не решаюсь у Фронтина (III, 2,
11) Charmade occiso изменить в Chremonide.
63 Polyb., XXXI, 7 Родосские послы говорят: XrgaTovlxeiav eXafioiiev kv
lieyaXy) %Lgm nag 'Avnoxov xa\ XeXevxov. Надо помнить, что остальная
Кария находилась во власти Лагида. Поправка rov SeXeuxov перенесла бы,
конечно, уступку города к совершенно иным событиям; вульгата относит
этот факт ко времени заключения мира между обоими братьями.
64 Polyb., loc. cit.
61 Из трех тиосских братьев, Филетера, Эвмена и Аттала, Филетер был
основателем пергамского княжества; наследником его был Эвмен, как ка-
жется, сын второго брата. Пробыв династом 22 года, Эвмен, в свою очередь,
оставил по себе наследником Аттала, сына третьего брата. Мать этого
Аттала была Антиохида, дочь Ахая, следовательно, сестра Лаодики и
Андромахи (Strab., XIII, 625). Rex Bithynus Eumenes у Юстина надо по-
нять, вероятно, в том смысле, что эту войну начал еще Эвмен. Дабы не
упустить ничего, я прибавлю еще, что, по Хронике Ктесикла, Эвмен умер
от пьянства (Athen., X, р. 445).
66 Polyb., XVIII, 24, 5. — regium nomen, cujus magnitudini semper animum
aequavit (Liv., XXXVIII, 17).
67 Plut., Aral., 15.
68 Plut., Arat.y 18.
69 Polyb., IV, 3, 5; IX, 34, 11.
70 Polyb., XX, 4; Plut., Arat., 16; Paus., II, 8.
71 Это известие находится у Плутарха (Arat., 17) и Полнена (IV, 6, 1); оба
автора, впрочем, не представляют двух свидетелей по одному и тому же делу,
а, напротив, они черпают из одного и того же источника; и этот источник не
кто иной, как Филарх, в чем, несомненно, убеждаемся по особому складу
изложения. И действительно, Плутарх пользовался Филархом также в Био-
графии Apama (cf. p. 38), а Полиен часто заимствовал у него, не называя его
по имени. В рассказе много странностей, а в особенности поразительно то,
428
что Антигон во время устроенных в театре свадебньох празднеств один со
своей палкой добился доступа к Акрокоринфу и захватил крепость. Не одно
только это, но вообще вся манера Филарха, изобличающая в каждой черте
его пристрастие к поразительным сценам, служит доказательством негод-
ности его баснословного рассказа.
72 Предание умалчивает об этом. Однако одну из дочерей Деметрия, вышед-
шую впоследствии за вифинского царя, звали Апамой; а такое имя обнаружи-
вает, что она родилась от сирийской матери, а не от другой супруги Деметрия.
73 Plut., Arat., 30: Xoyovg фыЬщ xai xevou<; Xeyo^ievov^ Tiegi rvgawiSo^ щ
fiaxagiov xai Savfiaorov щаурато*; щ fieya (pqovrjiia тгадайе&реуо*;.
74 Plut., Arat., 18; Athen., IV, p. 462; Diog., Laert., VII, 36; ср.: Krische,
Forschungen, S. 437. Персей писал также о царском достоинстве, о поли-
тическом устройстве в Спарте; он давно уже находился при македонском
дворе; придававший ему высокое значение Зенон избрал именно Персея,
когда Антигон просил у него учителя для своего сына. Противники его фи-
лософии и его политики распространяли о нем гнусные вести. Персей был
одною из самых интересных личностей в эту тревожную эпоху.
75 Plut., Arat.у 20-24. По словам Полибия (II, 43, 6), это случилось на
восьмом году по освобождении Сикиона, за год до поражения карфагенян
у Эгатских островов. Битва произошла в марте 241 г., а освобождение Сикио-
на весной 251 г. Многие считали показание Полибия неточным. Олимпийский
год этого поражения начался с июля 242 г., а предшествовавший перед ним в
конце лета 243 г. Сикион был освобожден весной в 01. СХХХП, 1; летом 251г.
начался первый, а летом 243 кончался восьмой олимпийский год по осво-
бождении Сикиона. Показание Полибия почти совершенно верно, если осво-
ит I бождение Коринфа совершилось около первой Гекатомбии 01. CXXXIV, 2,
^ в конце лета 243 г.
qJ 76 Plut., Arat., 24; Paus., II, 8; Strab., VIII, 385; Polyb., II, 43 и пр.
Z
о
CZ
77 Мне незачем обращаться к суду древности по поводу Арата: у нас и без
того имеются довольно полные сведения, так что по ним можно составить
себе ясное понятие о существенных чертах его характера. Я еще много буду
говорить об Арате, так как он представляет знаме- нательный тип этой эпо-
хи; Арат вообще отличается свойствами современного государственного
мужа. Не следует нам ставить в упрек то, что мы в нашем изложении будем
ссылаться более на фактические известия, нежели на суждения древних.
Единственный писатель, который в этом случае заслуживает особенного
внимания, Полибий, оказывается поучительным именно вследствие пред-
взятого его суждения, что мы и попытаемся потом подтвердить, очертив
его характер как политика, так и писателя.
78 Итокщалоу be ovfi^iaxov етто'гцае, тшг/ 'A^a/tuv yyefioviav l£%ovra ттоХщои
хал хата yrjv xai SaXarrav. Это также может служить доводом против по-
правки в тексте Трога (Prol., XXVII), где Антигону приписывается морская
победа при Андросе (Paus., II, 8, 4; Plut., Arat., 24).
79 Polyan., V, 25; Frontin., Ill, 2, 11.
80 Polyb., II, 43, 9; 45, 2; IX, 346.
81 Относится ли это к одним истым спартиатам или также и к периекам?
82 Paus., VIII, 10, 4; 27, 9. Все представленное нами в тексте, в сущности,
было изложено Шёманном (Plut., Agis fin Cleom., XXXIII). Признав вер-
429
ным факт, что Агис пал в этой битве, Павсаний вынужден был две остальные
экспедиции поместить ранее ее; но то, что она была первою битвою, подтвер-
ждается именно тем обстоятельством, что Лидиад вел борьбу в союзе с Ара-
том, и, следовательно, не был еще тираном. Правда, вышеупомянутое мнение,
что он сделался тираном в 244 г., — не что иное, как предположение, но оно
подтверждается совокупностью событий. Мы, к сожалению, мало знаем о
Мантинее, так что не можем себе составить понятия о положении этого го-
рода; если Арат помогал Мантинее, то и она также была свободным городом.
83 Paus., VIII, 27, 9. Павсаний и здесь также совершенно извращает хро-
нологию.
84 Paus., VII, 7, 2; VIII, 27, 9; IX, 8, 4. Даже Шёманн готов признать здесь
смешение с набегом этолян на Пеллену. Ввиду весьма положительных слов
Павсания я не решаюсь на это. Плутарх в Биографии Арата — в этом поис-
тине далеко не мастерском историческом произведении — не упоминает об
этом подвиге своего героя; может быть, вследствие того, что победа Арата
была вовсе не такая блестящая, как казалось по скудному е^еттеав Павсания.
Предлагаемое здесь хронологическое определение, само собой разумеется,
вполне проблематическое; однако осенью 241 г., как увидим, спартанское I ^
войско по приглашению Арата прибыло уже на помощь ахейцам, а осенью 1
перед этим происходила кампания, которая неминуемо указывает на за-
ключенный уже между обоими государствами союз. н
85 Эти показания Плутарха (Plut., Agis fin Cleom., 8) оставляют множе- ho
ство вопросов нерешенными. Нам кажется, будто обширное землевладение
ста семейств поглотило даже участки периеков и принудило это сословие I g
промышлять торговлей и ремеслами; если возобновили 15 000 участков пе- §
риеков, то имелось, вероятно, в виду восстановить их земледельческое со-
словие, с тем чтобы вновь усилить отряды гоплитов, так как ремесленники I g
едва ли годились на что-нибудь, кроме легкой пехоты. Г§
86 Павсаний (III, 6, 4) говорит, что Лисандр, помимо других улик, обви-
нял Леонида еще в том, будто он отроком клятвенно обещал отцу содей-
ствовать гибели Спарты.
87 Polyb., II, 45; IX, 34, б. В одном месте у него (II, 33, 10) подтверждается
приблизительно указанное нами время.
88 Plut., Cleom.y 18; Polyb., IV, 34, 9; IX, 34, 9. Как все хронологические
показания в жизни Агиса вообще, так и в настоящем случае подлежат со-
мнению. Шёманн, на толкования и предисловие которого к Биографии Агиса
и Клеомена я ссылаюсь, определил хронологию с достаточной для его цели
точностью. Для более обширного исторического изложения надо попытать-
ся пойти далее. Мы впоследствии увидим, что смерть Агиса относится ко
второй половине 241 г. Этим определяется эфорат Агесилая, в начале кото-
рого тотчас же последовало бегство Леонида. Не только он один, но, веро-
ятно, также некоторые из его приверженцев бежали в это опасное время.
Приписанная Полибием цель экспедиции этолян — возвратить изгнанни-
ков — в связи с нашествием почти до ахейской границы и с исходом TTavdyiAel
не допускает, как кажется, иного хронологического определения, помимо
предложенного нами в тексте. И в самом деле, этоляне только в связи с чу-
жеземной политикой были заинтересованы в возврате изгнанников, а уда-
ление такого чрезвычайного множества периеков свидетельствует о том, что
I я
430
все это было направлено против Агиса и его планов. Благодаря своим си-
рийским связям Леонид был угоден македонскому царю. Вследствие всего
этого, мне кажется, нет надобности доказывать здесь, что сказанное наше-
ствие не могло произойти хотя бы после падения Агиса; в дальнейшем изло-
жении мы еще более убедимся в этой невозможности. — Я замечу, впрочем,
хотя (так, например, у Шёманна, Antig., p. 109) пленников и называют обык-
новенно периеками, однако авторы вовсе не упоминают об этом. Полибий
(IV, 34, 9) говорит: k^qvbQamobia-avro тохх; тгедю'мои*;.
89 Итак, удаление периеков не помешало осуществить реформы. Одно из
двух: или количество их чрезвычайно преувеличено, или необходимо со-
ставить себе о густоте тогдашнего населения в Лаконии совершенно иное
понятие, чем то, какое господствует в настоящее время. Я впоследствии воз-
вращусь к этому вопросу. — В наших источниках вовсе не говорится о том,
что упомянутое удаление побудило Агесилая изменить план реформы.
90 Я ограничусь этими краткими известиями; рассказ самого Арата (см.
Plut., Arat.y 32) несколько уклоняется от них. А именно прославленную Ара-
том битву в чистом поле, судя по Полибию (IV, 8, 4), надо понимать так, как
она изложена в тексте. Дальнейшие подробности Плутарх в этом случае
также заимствовал у Филарха; по крайней мере, девственница со шлемом
на голове под колоннами у входа в храм Артемиды, от которой неприятели
обращаются в бегство, узнав в ней как бы богиню, вполне изобличает Фи-
ларха; применяясь ко вкусу той эпохи, он везде на первый план выставляет
прекрасных, очаровательных, плачущих, добродетельных жен и девиц. Или,
выражаясь точнее, тот же рассказ, в том виде, как он находится у Полнена
i (VIII, 59, где вместо Артемиды названа Паллада), заимствован, как и раз-
? ные другие рассказы этого автора, у Филарха; Плутарх же пользовался,
^ вероятно, другим, предлагавшим подобные побасенки автором; пропасть
о. примеров свидетельствует о том, что подобный стиль почти исторического
романа стал излюбленным в последнюю эпоху эллинизма. А, может быть,
этим автором был Батон из Синопа, современник Филарха, но моложе его.
Мы не знаем, каким именно сочинением Батона пользовался Плутарх по
поводу встречи Агиса и Арата в Коринфе; судя, по крайней мере, по отрыв-
ку, сохранившемуся у Свиды YloSayoqat; 'Е(ре<гю<;, он кажется таким же цве-
тистым писателем, и Афиней (XIV, р. 639) прямо называет его6 qtjtwq. Может
быть, впрочем, этот цикл гипотез чересчур ограничен; Полибий, по край-
ней мере, говорит, что 1сгт<нгг)х6<п хата редод считают эту победу при Пелле-
не заодно с подвигами в Сикионе и Коринфе самыми блестящими делами
Арата.
91 Teles, см.: Stob., Flor.y II, 72> ed. Sips.
92 Совершенно во вкусе Филарха!
93 Plut., Agis fin. Oleom.f 1. Все ли нововведения Агиса были отменены?
Впоследствии, по крайней мере, оказалось 1500 способных к военной служ-
бе спартанцев, тогда как во времена Агиса их было всего 700; впрочем, это
известие объясняется еще иным путем (см. ниже).
94 Paus., II, 8, 6. В Вульгате написано MaxsSovojv exovrojv; это по лучшим
рукописям исправлено в AaxeSat^ovicov. Спартанцы под предводительством
Агиса прежде 245 г. уже напали на Мантинею; Арат защищал ее; однако в
240 или 239 г. в Мантинее разбирался процесс Аргоса против Арата (см.
к
С
ниже). Судя по этому процессу, город тогда был независим.— Изгнание
благородного Клеандра (Plut., Philop., 1) относится к более ранней эпохе.
Относительно Тегеи знаменательно то, что Леонид пользовался там убе-
жищем.
95 Plut., Aral., 33. Плутарх, конечно, не в хронологическом порядке рас-
положил предпринятые и исполненные Аратом отдельные освобождения и
вследствие этого немало затруднил историческое исследование. Однако не
надо только забывать, что он соединяет вместе факты, касающиеся каждой
отдельной области; в таком случае мы избежим, по крайней мере, нередко
встречающихся у него грубых сопоставлений. По началу главы 34 видно,
что попытка освободить Афины и, вероятно, также бегство Арата через
фриасийскую равнину, когда он повредил себе ногу, относятся к предше-
ствовавшему 239 г.
96 Plut., Arat.y 23. Тут-то и находится известие о том, что Аристипп и Анти-
гон сговорились изменнически лишить Арата жизни. От тирана это можно
было ожидать, но Антигон был не до такой степени близорук, чтобы ожи-
дать большого успеха от подобной меры. В нравственном отношении каза-
лось бы немыслимо, чтобы эти известия тоже исходили из мемуаров Арата;
с его стороны было бы крайне наивно, если бы он, не переставая сам пре-
следовать тиранов, удивился, что ему воздают тою же монетою.
97 Schorn., S. 94. Если Мантинея, как я предполагаю, взяла на себя тре-
тейский суд в качестве exxXtjro^ ttoXk;, to она была, значит, самостоятель-
ной политией.
98 YloXimqayiLOKTVYTj у Полибия (II, 45, 9).
99 Относительно показаний хронографов сошлюсь на Клинтона, Нибура
и др. Вполне точным оказывается расчет, основанный на словах Полибия,
который (II, 44, 2) говорит, что сын и наследник Антигона царствовал Ыка
\lovov етг} и умер ттед} tt)v щм-щу Stafiaaiv щ ttjv 'VOivglSa 'Рсидо/сш/, т. е. во
время консульства Постумия и Фульвия в 229 г.; ср.: Polyb., II, 11, 1. Смерть
Антигона следует поэтому отнести к первой половине 239 г. Это так же вер-
но, как и то, что брак, в котором он родился, заключен был в 319 г.; согласно
с этим следовало бы исправить показание о его возрасте и о продолжитель-
ности его царствования; но не стану вдаваться здесь в такие подробности.
Лукиан (Macrob.y 11) почерпнул из Медия точное известие о том, что царь
достиг 80 лет от роду и процарствовал 44 года; он стал называться царем
после смерти своего отца в 283 г. Об этом младшем Медии, к сожалению, не
сохранилось никаких дальнейших известий.
100 Приведенные в тексте указания об ахейской конституции достаточ-
ны для того, чтобы понять принцип ее. Впоследствии нам представится
еще случай для дальнейшего изложения некоторых частностей, составляв-
ших слабую сторону конституции. На цитаты указывают Schorn, Geschichte
Griechenlands, S. 63; Schoemann, II, p. 106 sq. и Freemann, History of the
federal Governement; последний приписывает знакомству с жизнью пар-
ламента в Англии и Америке значение, какое не вполне признается по сю
сторону канала.
101 Оставляем без перемены это высказанное в первом издании нашей кни-
ги (1843 г.) мнение, хотя оно в настоящее время, по прошествии тридцати
лет, и оказывается несвоевременным.
432
102 Nitzsch (Polybiosy 119) справедливо обращает внимание на приведен-
ную уже Эфором эпиграмму у Страбона (X, 463).
103 Uv., XXXI, 43.
104 Paus., X, 38, 2. Оттого-то олимпийский победитель в 01. СХХХП назы-
вается Xenophanes Aetolus ex Amphissa (Euseb. arm., I, p. 299).
105 С I. Graec, II, n° 1694, 2350. Полибий в некоторых случаях, может
быть, и неспра- ведливо относится к этолянам, но в общих чертах его ха-
рактеристика этолийской страсти к насилию и грабежу нисколько не пре-
увеличена.
106 Это видно из договора, вследствие которого Кеос вступил в союз,
С. I. Graec, II., п° 2350-2352, а также из договора с Теосом (Ibid., n° 3046).
Синедрионы были не только союзным судилищем, к ним обращались даже
по поводу сказанного договора. В каком отношении состояли они к союз-
ному совету апоклетов? Он, вероятно, был очень многочисленный, так как
однажды на совещание с союзным сирийским царем было избрано 30 чле-
нов (rov<; ovveSoeu<rovT(L<; /ььета год fiaciXeux; (Polyb., XX, 1, 1; Liv., XXXV,
45 triginta principes)); они избирались из отдельных городов (Siv., XXXV, 34:
inter omnes constabat in civitatibus principes). Может быть, ovveSgoi составля-
ют выборных из principes (С. I. Graec, II, n° 3046: ttq6<; <ruve8oov<; aei to\j<;
k-noLQXov*;)> которые сменялись в порядке очередности, вроде фил на прита-
нее в афинском fiovhq.
107 Aelian., ар. Suid., v. avyvaoSai. Посредством ттдоотаура этолян на них
налагалась Saorfio<;. К такого рода условиям относятся, вероятно, следую-
щие выражения: 'Axagvavss etg то AhwXixov ovvreXovvrzi; (Paus., I, 25, 4) и
ovvreXeTv Tovq 'HqaxXearras ijvayxaaav s$ то AhwXtxov (X, 21, 1); ср.: Polyb.,
IV, 25, 7. Правда, rexeTv щ "EAA^i/a^ и подобные тому выражения часто
встречаются в греческом языке в римскую эпоху, причем им не придается
никакого технического значения.
108 См.: Schorn, S. 29.
109 Polyb., XX, 5, 2: щоо-ivui^av АлтшХо^ то e'Svo£.
110 С. I. Graec, I. Из слов Полибия (II, 46,2):то?£ AhcjXoTf;ov^wvov оъщшх®0^*
аАЛа хал oviLTCoXmuofLeva^ тоге TroXetg, как кажется, вытекает, что союзники
состояли в особенном политическом отношении к союзу, которое занимало
середину между <ptXia, как, например, в Элиде, и ovfiTroXnela. Надо полагать,
что заморские страны довольствовались симмахией, однако Полибий (XVII,
3, 12) говорит о жителях Кеоса: [ьът AhwXibv oviimoXiT&vo^kvov^. Следующее
выражение в надписи Кеоса, гласящее, чтобы никто не смел грабить остро-
витян, fiySkva AiTO)Xa>v ущЬк ra>v kv А/тсоА/р noXirevovrajVy воспроизведено было
в надписи Теоса в таком виде: rcov kv А/тсоЛ/о: xarotxeovrujv. Применяемые к
Мантинее слова:fierkxovrei;ttj$ AaxeSaiiiovicovттоХпе'щ (Polyb., II, 57,2), надо
признать тождественными со значением симполитии; в них яснее выража-
ется связь между городами.
111 С. I. Graec, II, п° 2350. Из надписи п° 2352 явствует, что этоляне в сим-
политском городе и граждане его не пользуются в Этолии правом граждан-
ства и y*rj$ xai o\x\aq еух'що'н;, но приобретают его лишь по особому договору.
112 Polyb., IV, 3, 5; XV, 23, 9.
433
КНИГА ТРЕТЬЯ
ГЛА^А ПЕРВАЯ
\
1 ЯеХеихои $е yafjbsTv a^r^v ov $eXr)(ravTo<;, оттед exeii/7) ттдоаеВбхусге
(Agatharchides, см. Ioseph., с. Ар., I, § 22). Iustin., XXVIII, 1. Относительно
времени этого развода см. выше. Кампания не могла начаться прежде 238 г.
2 См. начало царствования Антиоха III.
3 Синкель, по крайней мере, положительно говорит, что Аршак I цар-
ствовал всего только 2 года и несколько месяцев, а Юстин принял Аршака I
и Аршака II за одну и ту же личность. Хотя ему и приписываются грубо
отчеканенные монеты с надписью BAXIAEQ2) АРХАКОТ и ВАХ1ЛЕП2
МЕГАЛОТ АРХАКОТ, но это одно только пустое предположение.
4 Strab., XI, 513. Благодаря Полибию (X, 48) места оседлости апасиаков
вообще хорошо известны; указанная им местность, где скифы перешли по
перекинутому через реку естественному мосту, не может быть известное
Пули-Сенги в верхнем течении Окса; ее, напротив, следует искать гораздо
ниже Бактрии. I _
5 Revocato deinde Seleuco novis motibus in Asiam dato laxamento regnum |
Parthicum format (Iustin., XLI, 5).
6 Очень может быть, что именно во время этой экспедиции, а не ранее, 1-^
как упоминалось выше, основан был, если не ахейский город в Маргиане, 3
то, по крайней мере, заменивший разрушенную Гераклею у Каспийских во- L-°
рот или занимавшим выдающуюся роль в следовавших за сим событиях де- 3
дом царя, или его одноименным внуком. Вследствие таких маловыясненных §
фактов нам поневоле приходится упоминать о них при каждом удобном
случае, оставляя, впрочем, вопрос открытым. Lg
7 Iustin., XLI, 5: «regnum Parthicum format etc.». Знаменательно то, что §
Арсак основывает такой город, ut neque munitius quicquam esse neque amoenius ' *
possit; это в самом деле скорее в эллинистическом, нежели в кочевом вкусе.
В тех краях было довольно много оседлых греков. Плиний (VI, 16) о положе-
нии города in monte Zapaortenon говорит: «a Caspiis ad orientem versus regio
est Apavortene dicta, et in ea fertilitatis inclytae locus Dareium». Исидор Ха-
ракский называет только область и одноименный город Къамщх'тххщщ, не
упоминая Дарион. Вопреки странному распределению у Плиния, город, судя
по словам Исидора, следует искать между Парфиеною (как он говорит, к
северу от Хорасана) и Маргианой; но где именно, нам неизвестно.
8 Мы с достоверностью только относительно Мидии и Персии знаем,
что они, по крайней мере, пятнадцать лет спустя и, вероятно, начиная с этой
экспедиции, состояли опять под властью Селевкидов. Кармания находится
в непосредственном соседстве с Персией, а потому можно, пожалуй, пред-
положить, что и она также присоединилась к государству; и действительно,
Антиох III в 205 г. из своей экспедиции в Бактрию и к берегам Инда вернулся
на зимние квартиры в Карманию (Polyb., XI, 34, 13). Антиоху III пришлось
вести борьбу только против Эвфидема, владетеля Бактрии, Согдианы, Мар-
гианы. Возвращаясь из окрестностей Кабула, он беспрепятственно прошел
через Арахосию, Этимакдр и Дрангиану на зимние квартиры: той<; avu>
(гатдатса$ imr)x6ou$ етго17}(гато r*fj<; iiiag clq%7J$. В это время, вероятно, Агафокл,
**
434
rz
/
где бы ни находились его владения, признал верховенство «Антиоха Ника-
тора», как показали нам его тетрадрахмы. Антиох Ш предоставил престол
также Эвфидему; следовательно, одни только арианские сатрапы былирновь
покорены; они, стало быть, не были подвластны Эвфидему, которому не
принадлежала страна к югу от Парапамиса; они назывались еще сатрапами,
однако их пришлось вновь приводить в зависимость; таковы были сатрапы в
Арии, Дрангиане, Арахосии и пр. Находясь между парфянами и Эвфиде-
мом на севере, Агафоклом на юге, великим индийским царством на востоке,
они, вероятно, со времен великой кампании Селевка пользовались названи-
ем Селевкидовых сатрапов, с тем чтобы оградить себя от парфян; точно так
же как и Агафокл со своими удаленными от Бактрии областями ради охра-
ны от Селевкидов признал сначала верховную власть Диодотидов, затем
Эвфидема, а наконец после 205 г. Антиоха Ш.
9 Agatharchides ар. Ioseph., с Ар., I, § 22 (Fr. 19).
10 Юстин (XXVIII, 1) говорит, что Стратоника sponte sua ad fratrem
Antiochum discedit; тут не может быть двух ошибок и нельзя сразу исправ-
лять Antiochum и fratrem. Юстин небрежно читал своих авторов и привел
тут имя Антиоха, может быть, оттого, что Помпеи Трог упомянул в этой
истории об Антиохе Гиераксе; Стратоника ему, вероятно, и предложила
вскоре затем свою руку.
11 Перед нами находится краткий отчет армянского Евсебия (I, р. 251, ed.
Schone) и мнимая лишь последовательность фактов у Юстина (XXVII, 3);
сверх того, более краткие известия в соответствующем прологе Трога. Я вы-
писываю это здесь вполне: «...Ancyrae victus est a Gallis; utque Galli Pergamo
victi ab Attalo Zielam Bithynum occiderint; ut Ptolemaeus eum (v. 1. ad eum;
Нибур пишет Achaeum) denuo captum interfecerit, et Antigonum Andro proelio
x
т
X navali prona vicerit et a Calinico fusus in Mesopotamia Antiochus insidiantem
q_ sibi effugerit Ariamenem, dein postea custodes Tryphonis, quo a Gallis occiso
Seleucus quoque, frater eius, decesserit». Поправка Нибура Achaeum, как вид-
но, невозможна. Упомяну здесь уже о том, что во время стратегического
движения, рассказанного Полиеном (см. ниже), который, вероятно, опять-
таки заимствовал у Филарха, а именно при отступлении из Месопотамии,
Ахей был еще жив.
12 Euseb. arm., I, p. 251, ed. Schone.
13 Polyaen., IV, 19. При этом жертвоприношении Аттал прибег к помощи
халдейского жреца. Фронтин вначале (I, 11, 15) ошибочно называл Эвмена,
а далее (II, 13, 1) он верно указал на Аттала. Помпеи Трог (Prol., XXVII)
упоминает о пергамской битве, о «великой битве» Страбона (XIII, 624),
avax(bQ7)<ri<; галатов внутри Малой Азии (Paus., I, 4, 6; 8, 1). Нибур и другие
авторы предполагают, что Аттал победил галатов в качестве наемников
Антиоха Гиеракса; этому, однако, противоречит Полибий (XVIII 24, 7):
vtxr}<ras yaq fiaxfl ГаАата^, o&oqvtcltov xai (махцмЬтатог/ e$vo<; yv тоте хата ttjv
'Aenav, Tairrrjv aoxw еттощаато xai тоте ttqcotov eaxjrov eSei^e fiamXea.
14 Paus., I, 4, 5 и особенно: Plin., XXXIV, 8: «Plures artifices fecere Attali et
Eumenis adversus Gallos proelia». Плиний называет по именам художников,
а Павсаний (I, 25, 2) упоминает о четырех группах, которые Аттал I велел
воздвигнуть на южной стороне акрополя в Афинах; эти группы представ-
ляли титанов, амазонок, персов и галатов. После 1821 г., когда Нибби начал
изунать этот вопрос, другие археологи, и в особенности Брюнн, в его инте-
ресном трактате под заглавием / doni di Attalo (в Annali dell' Instit, 1870),
присоединили к этому новые подробности, а последние пергамские раскоп-
ки, наконец, доставили чрезвычайно богатый материал, который обнародо-
вали Humann, Bohn и Conze (см.: Jahrbuch der Konigl. Preuss. Kunstsammlung,
1880-1881). Кёлер первый обратил внимание на историческое значение этих
открытий и нашел в них даже новые хронологические данные (см.: Historische
Zeitschrift Sybel, XLVII. S. 1 sqq).
15 Liv., XXXVIII, 17: «Attalus rex eos saepe fudit fugavitque».
16 В обнародованной в Jahrbuch der Konigl. Preuss. Kunstsammlung, 1880/
1881 (p. 194) надписи говорится о победе, одержанной Атталом над Анти-
охом ..Am -rfj £ф' "ЕААт^..., о победе при Афродисии над толистобоями и
Антиохом, о победе em roO Kaixov ttotclilov щод тои<; ГоАата$.
17 В появившейся уже в С. I. Graec, II, п° 3535 надписи, дополненной еще
другой, недавно открытой (Jahrbuch der Konigl. Preuss Kunstsammlung, p. 197),
значится: BaatXia "АттаАоу | 'Emyevrj*; xai oi Tjyefioveg xai сгтдатууо} \ o\
ovvaycjvtaafAevoi та$ t:q6<; той<; ГаХата<; xai'Kyt\o%ov jLta#a£ %aqi<; | ттдесиу zo-rqaav
А// 'АЗт^ць I ... yovov iqya. Между художниками, трудившимися, по словам
Плиния, над памятниками в Пергаме, находится Исигон и Антигон, а в од-
ной из новых надписей сказано: Emyovoq eTTgiyo'ev. О сирийце Эпигене см.
ниже. Полибий (V, 41 sqq.) весьма распространяется об этой личности.
18 Армянский Евсебий (I, р. 251, ed. Бспцпе) в переводе Петерманна гово-
рит: «Antigonus vero Kalliniki frater magnam Phrygiam peragrans ad tributa
incolas coegit ducesque exercitus adversum Seleucum misit; verum a suis
satellitibus barbaris [в переводе Мая стоит quo tempore cum a barbaris suis
satellitibus] traditus est, ex quibus cum paucis se eripiens Magnesiam profi-
ciscebatur et sequenti die aciem instruebat atque inter alios milites etiam
auxiliarios a Ptolemaeo accipiens vicit et filiam Zielis uxorem duxit».
19 Polyaen., IV, 17.
20 Это хронологическое показание надо, конечно, считать гипотетичес-
ким. Однако Стратоника прибыла в Сирию в 239/238 г.; затем последовала
экспедиция на Восток; распространившись со значительным войском по ту
сторону Каспийских ворот, война до возвращения в Сирию продлилась око-
ло двух лет; и в самом деле, по словам святого Хрисостома, от Антиохии до
Вавилона считается 80 дней пути, а на взятие Антиохии потребовалось так-
же немало времени. Поэтому великая победа Аттала над галатами была одер-
жана, надо полагать, между 239 и 236 гг. В надписи Накразы (см. Chishull,
Ant. As., p. 146, а теперь в С. I. Graec, II, n° 3521) вначале сказано: fiao-iXevovro*;
АттаХои ттдштои етои<;, fivjvos; далее упоминается ау(иуо$етг)$ тип/ a%Sivru)v
/Зао-tXeiujv. Chishull приписывает победу Атталу II; однако если вследствие
пропущенного здесь прозвища мы припишем ее даже Атталу I, то из этого
вовсе еще не следует, что Аттал с первого же года принял венец и одержал,
следовательно, победу над галатами. Первый год его царствования мог быть
третьим, четвертым и т. д. его династии.
21 Iustin., XXVI 3, 6.
22 Iustin., XXVII, 3. Здесь в denuo victus скрывается, вероятно, именно
тот пробел, какой обнаруживается по сличении рассказа Юстина с Поли-
бием.
23 ad Ptolemaeum hostem cujus fidem tutiorem quam fratris existimabat
(Iustin., XXVII, 3, 9). /
24 Polyb., V, 58, 10; Полибий, конечно, предполагает, что с той порь/, как
началась репрессивная война за Беренику, город без перерыва нахо/дился
во власти Лагида.
25 Судя по договорам, о которых упоминает Полибий (V, 67), этот мир
был формально заключен.
26 Артаксия и Зариадр суть стратеги или наместники Антиоха III в Арме-
нии, а начиная с 190 г. независимые там цари (Strab., XI, 528, 532). Антиох в
212 г. признал еще в Арсамосате Ксеркса, который отказался было выплатить
дань и недоимку своего отца, но потом поневоле подчинился (Polyb., VIII, 25).
27 Было бы особенно интересно узнать, кому досталась Фригия; может
быть, понтийскому царю? И в самом деле. Птолемей никак не мог допус-
тить, чтобы сирийское царство слишком усилилось в Малой Азии. Часть
области, прозванная впоследствии Галатией, была предоставлена галатам,
с тем чтобы удалить их от Геллеспонта и сделать менее опасными, приурочив
к почве. С заключением этого мира вполне согласуется остроумное предпо-
ложение Нибура, что дочь Митридата и сирийской принцессы, получившей в
приданое Сирию, воспитывалась у друга Антиоха Гиеракса в Сельге имен-
но с целью выйти впоследствии за него замуж и вновь передать ему Фригию
в виде приданого.
28 Polyb., V, 42, 4; здесь qq^v^ia нельзя относить к следующему царю
Птолемею Филопатору.
29 Strab., XVI, 750. Либаний (Antioch., I, p. 309, ed. Reisk.), который устрой-
ство этого квартала приписывает Антиоху III, едва ли может устоять про-
тив авторитета Страбона; О. Miiller (De Antioch. Ant., p. 52) предполагает,
что постройка началась в 230 г. и кончилась лишь в 190 г.; но такое предпо-
ложение оказывается несостоятельным.
30 Euseb. arm., I, p. 251. — Здесь я должен присоединить одну заметку, а
иначе не знаю, где поместить ее. Steph. Byz., v. Кдт}сг<га говорит: nxoXiq
YlacpXayoviag, nijv ...ZrjiXa*; 8e elXev 6 Ntxofir)Sov<; vio<;. Во всяком случае видно,
что Zf)iXa$ не оставался праздным и что Антиох мог возложить некоторые
надежды на союз с ним. Я в прибавлении попытаюсь доказать, что эта Кресса
не что иное, как так называемая обыкновенно Кратея, от которой сохрани-
лись также автономные монеты.
31 Phylarch., ар. Athen, II, р. 58.
32 Euseb. arm., I, p. 253, ed. Schone: «attamen 01. CXXXVII, 4 bellum in
Lidiorum terra bis adgressus debellatus est et e regione Koloae cum Attalo
proelium committebat et 01. CXXXVIII, 1 in Thrakiam fugere ab Attalo coactus
post proelium in Karia factum moritur». Колоя не что иное, как озеро близ
Сард, о котором говорит Страбон (XIII, 626).
33 Iustin., XXVII, 4; незачем подробно излагать все нелепости Юстина; он
отличается дурным свойством не только самым бестолковым образом де-
лать свои выписки, но, сверх того, еще из этих сумасбродных отрывков де-
лать нелепые выводы.
34 Polyb., XX, 5, 11.
35 Pomp. Trog., Pro!., XXVIII: «Antigonum, qui Thessaliam in Asiam Cariam
subegit (var. Thessaliae in Asiam)». Взамен этого стали писать Thessaliam
437
Moesiam, Dardaniam или Daciam. Написав Thessaliam et in Asia Cariam, Бон-
гар нашел верное или, скорее, самое вероятное выражение.
36 Плиний (VIII, 42) рассказывает, по Филарху, что галл Кентарет убил
в стычке Антиоха, что потом коня его и т. д. У Филарха заимствовал также
Элиан (Н. А., VI, 44), называя галата Kevroagaxrjg. Выписывая из Плиния,
Солин (р. 46) перепутал личности. Помпеи Трог говорит: «a Gallis occisus;
Юстин: a latronibus; Euseb. arm.: post proelium in Caria factum moritur».
Здесь упоминается отнюдь не о Кардии; или Caria не что иное, как ошиб-
ка, или она означает окрестность Kagajv Xi^itjv в области Варны, которая,
судя по Arrian., Perip., 24, 3, и называется именно Kagia. Антиох бежал,
вероятно, через Балканские проходы; его убили не галаты царя Канара, а
разбойники на свой страх. Однако Филарховы росказни о боевом коне
подлежат сомнению; бегство его через море с лошадью само по себе не-
правдоподобно, а еще менее того то, что Антиох, улизнув из arctissima
custodia лишь с помощью «благодушной девушки», успел добиться своей
лошади, которую, без сомнения, убрали в надежное место. Все это, конеч-
но, возможно; да оно и не так важно и может разве послужить лишним
доводом для критики против Филарха. — О смерти Антиоха во Фракии I _
свидетельствует, впрочем, также Polyb., V, 74, 4. На одной из серебряных ~
монет, которые Мионне (Suppl., VII, р. 51), следуя Висконта (Icon, gr., II, I 3
503), приписывает Антиоху Гиераксу (увенчанная голова с крыльями Гер- W
меса, на обороте сидящий на омфале Аполлон), находится в виде эмблемы н
une mouche; это можно бы отнести к Эфесу, ибо в таком мелком виде едва L*
ли можно отличить пчелу от мухи; однако разве Антиох был когда-нибудь 3
владетелем Эфеса. ё
37 Iustin., XXVII, 3, 12; автор опрометчиво говорит amisso regno; можно
бы еще допустить fratris regno. l-g
38 Euseb. arm., I, p. 253; p. 10, ed. Schone; Polyb., IV, 48. В списке жрецов | §
С. I. Graec, III, n° 4458 он называется XiXevxog Somfe. Смерть Селевка II
армянский Евсебий полагает в 01. CXXXVIII, 2, т. е. в 226/225 гг.
39 Polyb., IV, 51: попал ли он непосредственно в плен к египтянам? Не
захватил ли его Аттал и не выдал ли потом? Это мне кажется вероятнее,
оттого что иначе победоносный Египет завладел бы также и краем. Правда,
это дело возможное, если предположить, что Андромах соединился в Ка-
рий с македонянами; здесь, впрочем, все темно.
40 Polyb., IV, 48, 7: Trdaav ttjv em raSe той Tavgou Swaorsiav v<p' avrov
rreTToi7J<r$ai. Греческие города на берегу Эолиды и Ионии также теперь или
еще ранее примкнули к Атталу, с тем чтобы воспользоваться его покрови-
тельством против Антиоха и галатов. Полибий (V, 77) перечисляет города,
которые частью добровольно, частью вынужденно в 222 г. опять перешли к
Пергаму; Ахей их потом вновь вернул Селевкидам; Полибий называет Киму,
Смирну, Фокею, потом еще Эти, Теми, Колофон, Трион и т. д.
41 Это известие просто подтверждается, но я считаю его несомненным;
берег Памфилии до Геллеспонта лишь в 221 г. опять принадлежал Лагидам
(Polyb., V, 36, 5). Македонское владычество не появляется здесь до тех пор,
пока оно двадцать лет спустя после того опять не напало на Карию. Мы впо-
следствии ознакомимся с обстоятельствами, вследствие которых Македония
отказалась от заморских завоеваний.
*
42 Я попытаюсь собрать в этом месте хронологические данные, насколько
их можно будет установить здесь. Судя по армянскому Евсебию, бегство по-
бежденного Атталом Антиоха после битвы при Колое было в 01. CXXXVIH,
1, т. е. в промежутке между летом 228 и 227 гг. На следующий затем год, по
тому же Евсебию, выпала смерть Селевка Каллиника; iisdem ferme diebus, no
Юстину, умер Антиох Гиеракс. Верно то (см. ниже), что Антиох III в первую
половину 222 г., во вторую 01. CXXXIX, 2 вступил на престол. Хронографы
выражают это по-своему таким образом: старший брат его умер в 01. CXXXIX,
1, а он наследовал ему в 01. CXXXIX, 2; точно так же предполагают они, что
смерть Селевка последовала в 01. CXXXVIII, 2, а Селевк III вступил на престол
в 01. CXXXVIII, 3; поэтому смерть Селевка II Каллиника следует отнести к
226 и 225 гг. По Euseb. и Sulp. Sev., II, 28, этот Селевк, брат Антиоха III, цар-
ствовал три года, по Аппиану (Syr., 66), err) 8uo \uml, а по Иерониму (in Dan.,
XI), он умер tertio anno imperii. Как видно, воцарение Селевка II могло совер-
шиться только в первую половину 225 года. Если можно верить Юстину, то в
это же время умер и Гиеракс. Итак, битва с Атталом не происходила в 228 г.,
а, напротив, весной 227 г., и двукратное нападение на Лидию выпало на 228 г.
43 Iustin., XXVIII, 1: diffisi Epirotis можно понять только таким образом,
как видно будет в следующей заметке.
44 Эти подробности у Юстина можно было бы счесть фразой, тем более,
что Полибий умалчивает об этом первом посольстве из Греции и, как кажет-
ся, называет позднейшее посольство первым (II, 12, 7); однако слова Юстина
подтверждаются Страбоном (X, 462 — cocplcrao'Sai Xsyovrai 'Pw^ialov^). He
мешает напомнить о том, что Рим на сделанное Селевком предложение о
союзе потребовал льгот для жителей Илиона; к этому могли присоединить-
ся также акарнанцы. Об отношении Акарнании к Риму по поводу Энея см.
Klausen, Aeneas und die Penaten, I, S. 403. О том, в каком положении находи-
лись акарнанцы, можно судить по их просьбе к сенату -njv ainrovofilav тхщ
avTwv e^avv(ra<r^at. Впоследствии этоляне стали угрожать также Тиреону и
Медеону. Разве эти города также принадлежали к эпирской Акарнании? Или
не следует ли из влагаемых Юстином в уста римскому посольству слов Aetoli
praesidia ab urbibus Acarnaniae deducerent заключить, что этолийская часть
области тоже восстала?
45 Юстин (loc. cit.) влагает в уста этолян речь, в которой заключаются
состоящие в противоречии с его собственными показаниями хронологичес-
кие данные; если бы речь была написана со знанием дела или почерпнута из
хорошего источника, то эти события должны были бы совершиться прежде
241 г., что отнюдь не может быть.
46 Iustin., XXVIII, 1, 4: «velut e matrimonio pulso».
47 Athen., XIII, p. 589; источник не указан.
48 Это почерпнуто из сборника фраз египтянина Гелладия, автора позд-
нейшей эпохи, см.: Phot. Bibl., p. 530a, 37.
49 Iustin., XXVIII, 3. Это очень странное уклонение. Один из этих двух
рассказов заимствован, конечно, у Филарха; а именно тот, который сооб-
щает Юстин, как следовало бы предположить, если бы Гелладий не заим-
ствовал своего известия у такого же искусного стилиста, как Филарх, и если
бы при сравнении с рассказом Афинея его изложение не отзывалось мане-
рой Филарха. На иные соображения наводит еще Овидий (Ibis,, 307): «utque
439
nepos dicti nostro modo carmine regis (Pyrrhi) Cantharidum succos dante parente
bibas». Здесь нет никакой возможности добиться истины.
50 Iustin.; Polyaen., VIII, 52.
51 Павсаний говорит (VI, 35, 3) что у Деидамии, дочери Пирра, не было
детей, щ reXevriiv g/^sAAev, еттдетте! тер Зт^ф та щаурата. Его генеалогия
bvyarriQ be rrjv YIvqqov tov ПтоХершои той 'AXe^avSgov rov TIuqqou, совершенно
извращена, но ее легко исправить. Пирр родился, вероятно, около 270 г., а
его дочери было около шестнадцати лет от роду.
52 Polyaen., VIII, 52. На это намекает Овидий (Ibis., 305): «Nataque ut
Aeacidae iaculis moriare adactis; Non licet hoc Cereri dissimulare nefas».
53 По словам Ливия (XXIX, 12), стратеги эпиротов ведут переговоры в
присутствии членов магистрата. Новую союзную конституцию не хотели,
как кажется, сосредоточить в лице одного стратега, как то было в Этолии и
Ахайе; эпироты так ратовали о свободе, что положение должностных лиц
было крайне затруднительным. Множество монет с надписью АПЕ1РПТAN
относится к этой эпохе свободы.
4 Освобождение Эпира было до 231 г. и после 238 г. Более точные сведе-
ния см. ниже. I _
55 Paus., IV, 35, 3: та й аААа 6 Ътцьо$ vfigt^e xai axgoavbai twv ev та?$ щ%ол<; |
imeoewQUJV. О милиции галатских наемников упоминает Полибий (II, 7). —
Я говорю союзное государство, оттого что «демократию» эпиротов нельзя W
себе представить иначе как в этой форме. «Семьдесят городов», которые
шестьдесят лет спустя после того были разрушены в Эпире и большей частью I „*
находились в области молоссов (Polyb., XXX, 15), намекают, как кажется, на 3
то, что здесь так же как в Ахейском союзе основу составляли отдельные | §
тгоХеи;, городовые общины; впрочем, при этом обнаруживается, по-видимо-
му, еще другое распределение хата еЬщ\ в войне Персея, по крайней мере, -§
молоссы действуют сами по себе. С этим, может быть, связано было учреж- | §
дение трех стратегов, трех — вопреки praetor'y и magister'y equltum у Ли-
вия (XXXII, 10). Впоследствии четыре республики Македонии представляли
в некотором роде аналогию с этой системой.
56 Liv., XXXI, 28: «bellum suo nomine cum Demetrio, Philippi patre, Longarus
gesserat». Следует, конечно, писать Langarus, как звали князя агрианов во
время Александра. Его сына Батона (ex Dardanis, Liv.) Страбон называет
дайсидиатом (VII, 314); следовательно, дайсидиаты, которых он причисля-
ет к паннонцам, были тогда соединены с дарданцами.
57 Polyb., IV, 3.
58 Plut., Arat., 33; Плутарх, правда, говорит, что этот союз был заключен
iroXXcbv e$va>v xai Svvaariov em tov$ 'Axaiov<; ovvtorafievcov; это выражение, как
и многие другие у Плутарха, совершенно противоречит положению дел.
Кроме Македонии одни только тираны в Аргосе и Мегалополе могли угро-
жать союзу; помимо этолян, с которыми он только что соединился, e$vr)
могли быть одни только иллирийцы, а они появились массами лишь после
этолийской войны в Греции. Компилируя довольно поверхностно, Плутарх
почерпнул, вероятно, вышеприведенное выражение из того места в мемуарах
Арата, где он говорит о договоре с этолянами, объясняя необходимость
такого странного договора, противоречившего принципам Ахейского союза,
крайними обстоятельствами.
а
440
54 Polyaen., VI, 36. О его назначении стратегом см.: Merlecker, Achai, p. 150.
Следовательно, стратегия Диета была между пятой и шестой стратегией
Арата, начиная с весны 236 до весны 235 г.
60 Plut., Aral.t 28. Арат был назначен в оба года, а потому это должно от-
носиться к его шестой стратегии, начавшейся в 235 г., тремя месяцами ранее
01. CXXXI, 2.
61 Polyb., II, 49; Plut., Aral., 28.
62 Полибий говорит про Аристомаха, с тем чтобы защитить своего из-
любленного Арата и его позднейший поступок с тиранами от жестоких упре-
ков Филарха. Плутарх пользовался при этом Арголикой Динния.
63 Этот очерк взят из Плутарха; Полибий (IV, 19, 11) называет Арата,
ттоХтхигтедсх; nij атдатгууixoreqcx;, что уже явно обнаруживает недостаток его
личного мужества.
64 Полибий (II, 44, 5) говорит об этом переходе Лидиада, но при таких
обстоятельствах, что при этом мало обнаруживается самая суть дела; однако
он все-таки заявляет:хата rrjv avrov -nqoalqeaiv -navvщаууьапхщ ха\ (pqovifAbx;
TTQoiSoiievos то fieXXov a-nerl^ero ttjv rvqqaviba xai fjbereo'X'fjxei ttj<; eSvixTJ*;
oviLTTo\tTeia$. — Справедливо заметив, что Маг Керинейский (см.: Polyb., II,
10, 5) не был стратегом, когда пал, Шёманн с некоторою вероятностью
утверждал, что Лидиад был избран в стратеги весной 233 г. В отличном тво-
рении Max Klatt'a, Forschungen zur Geschichte des achaichen Bundes, 1877,
вопрос исследован еще подробнее: хронология этого периода в истории со-
юза ему одолжена значительными поправками. Плутах (Arat.y 35) говорит,
что Арат был 17 раз стратегом, и это показание до сих пор постоянно слу-
жило основой для хронологических соображений. Однако Клат решитель-
т но доказал, что Плутарх просто ошибся в счете и что союзный закон,
^ запрещающий быть стратегом два года подряд, отнюдь не нарушался, как
о. предполагалось, для того чтобы подтвердить показание Плутарха. Он (Plut.,
Arat.y 24) сам говорит:гцщхат' iviavrove^rjv,7rag' ivxavrov aiqeToSat arqarrjyov
avrov, и пр.
65 Надпись была обнародована и объяснена Фукаром (Revue Archeol.,
XXXII, 1876, p. 96), потом дополнена, истолкована и отнесена к вышеука-
занному времени Диттенбергером (Hermes, XVI, 1881, р. 177), тогда как
Фукар относит ее к 199 году.
66 Полибий (II, 57, 1) положительно утверждает, что прежде чем перейти
к этолянам (218 г.), Мантинея была членом Ахейского союза. Между горо-
дами, которые Клеомен отнял у Этолийского союза, он называет Тегею (II,
46, 5) вместе с Орхоменом и Мантинеей, а потому надо полагать, что Тегея,
так же как и другие два города в восточной Аркадии, последовала примеру
Мегалополя.
67 Арат в первый раз был назначен стратегом в 245/244 г., потом в 243/242,
241/240; в 226 г. была его двенадцатая стратегия; в 234 г. была его восьмая
стратегия, поэтому оказывается, что его избирали из года в год.
68 Plut., Aral., 30. Paus., VIII, 25, 9.
69 У Плутарха (Arat., 34) местность называется Филакой; это имя в такой
форме не встречается в греческой географии. Само собою разумеется, что
здесь речь идет не о Филаке в области Тегеи: остается еще известная со вре-
мен Гомера фессалийская Филака близ фтиотидских Фив.
CZ
70 Это оттого, что не он, а Бифис вел войну в Фессалии.
71 Plut., Arm., ЗА.
72 Polyb., II, 44, 1; XX, 5, 3.
73 Хронологическое показание этого освобождения весьма, конечно, га-
дательно; оно, однако, вытекает само собой, по существу дела. Эпир мог
избавиться от царской власти лишь до тех пор, пока Деметрий не был в со-
стоянии вмешаться и предъявить права своей жены из дома Эакидов.
74 Euseb. arm., I, p. 237, ed. Schurie. Армянский Евсебий так же как и гре-
ческий, смешивает, конечно, Деметрия Красивого с этим царем Македонии:
«cui (Antigono) filius Demetrius succedit, qui etiam universam Libeam cepit et
Kyrenem obtinuit, et omnia omnino (quae) erant patris in monarchicam potesta-
tem denuo redegit etc.».
75 Polyb., XX, 5, 3.
76 Polyb., IV, 25, 2. Это место относится, правда, к позднейшей эпохе, од-
нако оно все-таки указывает на отношение этолян к Фокиде.
77 Strab., X, 451. Относительно слова YIoXioqxi/jtou, произвольно исправ-
ленного в одной из рукописей см.: История диадохов, прим. 93.
78 Только в таком случае слова Полибия (IV, 25, 8) имеют смысл; надпись
С. I. Graec, I, n° 1689 принадлежит к эпохе после этого восстановления
Амфиктионова суда, и к ней-то относятся приведенные в тексте слова. Даль-
нейшее преобразование этого суда до известной Вешером (Etude sur le
monument bilingue de Delphes, 1868) изданной надписи (от 146 г. до Р. X.) и
до надписей в афинском театре (139-129 гг.) нам мало известно.
79 Polyb., II, 44, 1; 46, 1.
80 Polyb., II, 46, htiia тоxalXiav ehai щснгсратои*;та£ exтш 'A%aiii)vevegyeauu;
Treqi tov Aytiyrgtaxdv ъокщоу щ аитои<;.
81 Поэтому остальные хронологические показания расположатся при-
близительно в следующем порядке: царство эпиротов кончилось между 238 и
234 гг. или, скорее, в 235 г. Судя по Плутарху, битва при Клеонах и смерть
Аристиппа были немного позднее (oXiyq) votbqov), нежели Немейские игры
в Клеонах; судя по вышесказанному, эти празднества были между маем 235 г.
и маем 234 г. Арат, вероятно, до своего поражения в Фессалии отважился
устроить упомянутое празднество в Клеонах. — Битву при речке Харесе
(или, скорее, Харадре) можно, пожалуй, отнести к предшествовавшему году.
82 Polyb., II, 44, Ъ\%офг\уо<; хал {ьшЪоЪо-щ*;.
83 Plut., Arat.y 30.
84 Вынужденный в 221 г. бежать из Спарты Клеомен царствовал шестнад-
цать лет (Plut., Cleom.y 38). Или не прошло ли столько же лет до его смерти в
Александрии (419 г.)? Когда его отец тотчас же после смерти Агиса женил
его на вдове последнего, то Клеомен едва достиг совершеннолетия, следо-
вательно, около 241 г. ему было, вероятно, не более 18 лет.
85 Plut., Arat.t 30. Мы не имеем никаких сведений относительно внутрен-
ней политики Лидиада, и я решаюсь лишь в примечании высказать некото-
рые предположения. Эти «дела, которые казались ненужными», относились,
вероятно, к конституции союза. В ней были существенные недостатки, от-
мена которых казалась крайне необходимою. В народном собрании голоса
подавались по городам; по мере того как дела союза становились значитель-
нее, нельзя было допускать, чтобы какая-нибудь Бура пользовалась голо-
442
rz
сом наравне с Мегалополем. Демиурги управляли вместе со стратегом, гип-
пархом, писцом; стратег ничего не мог предпринимать без их согласия; од-
нако для каждого вновь присоединявшегося города не прибавляли нового
демиурга; нельзя было не предвидеть вопиющего злоупотребления, какое
неизбежно возникало вследствие того, что эти 10 чиновников могли изби-
раться только из старых союзных местностей. Во всяком случае, этот совет
был для стратега тормозом, способным ослабить всякое важное предприя-
тие и лишавшим союз гарантии, какой можно было бы ожидать от ответ-
ственного стратега. Настаивая на отмене этой коллегии демиургов, Лидиад
мог навлечь на себя подозрение в том, что он возвращается к своим преж-
ним наклонностям тирана; Арату, напротив того, было весьма по нутру в
среде этих поддакивающих особ, которые вместе с ним принимали на себя
ответственность за всякое из его зачастую подозрительных и неудачных
предприятий. — Попытаюсь еще сделать другую комбинацию. В отрывке
Полибия (XL, 3, 3) сказано, что 1\атдг7$ xai то fiera tovtojv avvreXixov потер-
пели в Фокиде поражение, а Павсаний (VII, 15, 3), который вообще следует
здесь Полибию, утверждает, что это были аркадцы. Отсюда можно было
бы вывести то заключение, что десять (двенадцать) ахейских городов оста-
лись основою союза, и к ним уже приурочились новые местности, так что
согласно с этим совершались уже представительство, голосование, управ-
ление и пр. Аналогичные, из совершенно других эпох заимствованные кон-
ституционные формы ничего не могут доказать. Монетные дворы и разные
другие признаки свидетельствуют о том, что такие формы не применялись
к союзу. Североамериканская конституция указывает на то, каких именно
ошибок надлежало избегать ахейцам.
86 Polyb., II, 3 sqq.
X
т
^ 87 Хронологические данные вытекают из описания у Полибия. Он не счел
о. необходимым объяснить, почему Деметрий вместо того, чтобы помочь
акарнанцам, побудил иллирийцев к набегу. Я думаю, что его удерживал
мир, заключенный с этолянами и ахейцами, у которых в это самое время
Лидиад был во второй раз стратегом.
88 Относительно положения Фойники см.: Leake Northern Greece, I, p. 20, 66.
89 Антигония не была во власти эпиротов, ибо они отправили войска
ттадасриХа&утсн; tt^v 'kvriyovwv (Polyb., II, 5, 6); напротив, так же как Анти-
патрида при р. Алее (Polyb., V, 108), она находилась в руках македонян. Я не
считаю заодно с Ликом (loc. cit.y p. 70) необходимым предполагать, что
Скердилад прошел от мооского берега вверх по Аою до Антигонии и что
вследствие этого -паща rrjv ''Aimyoveiav <rreva отличаются от проходов меж-
ду Клисурой и Антигонией, лежащих выше последнего города при р. Аое
по направлению к Аргирокастро.
90 Область атинтанов (часть Македонии, по Steph. Byz.), по словам Ски-
лакса, простирается от Орика и Хаонии до Додоны; эпироты, без сомнения,
бежали в более восточные ее края. Атинтаны были, как кажется, независи-
мы в своих горах.
91 По мнению Лика (loc. cit., p. 99), Геликранон находится в окрестнос-
тях нынешнего Дельфино, по дороге из Фойники в Аргирокастро.
92 По Диону (Dio Cass., 185, см. Май), остров Исса обратился к Риму с
просьбой о защите.
93 Мы ссылаемся, конечно, на Полибия, а о противоречивых показаниях
других авторов умалчиваем. Замечу здесь только: показание Флора (II, 5) о
том, что оба посла были убиты, подтверждается римским преданием по по-
воду их статуй in rostris (Plin., XXXIV, 6).
94 Так Полибий (II, 11, 1) называет этого консула; судя по консульским
фастам имя его L. Postumius A. f. Т. п. Albinus; Евтропий (III, 4) также назы-
вает его Луцием.
95 Полибий (XXI, 32, 6; XXII, 15, 6) упоминает впоследствии о римском
начальнике на Керкире (6 'ао%ап b kv Kegx'tQa).
96Polyb., II, 2-12; Zonaras, VIII, 19. Из остальных показаний — Орозия,
Флора и Евтропия — одно последнее (III, 4) только интересно в том отно-
шении, что у него сказано: multis civitatibus captis etiam reges in deditionem
acceperunt; в его источниках упоминалось, вероятно, о разных царях, а имен-
но атинтан, парфян, ардиаев и пр.
97 На это время указывает Полибий (II, 44, 2), оно отвечает весне 229 г.
Помпеи Трог (Prot, XXVIII) говорит: «ut rex Macedoniae Demetrius sit a Darda-
nis fusus, quo mortuo», а Юстин (XXVIII, 3) про наследника Деметрия замеча-
ет: «ut Oardanos Thessalosque morte Demetrii regis exsultantes compescuerir».
98 Филипп есть о хата (pvcrw v\6$ Деметрия; его мать, по свидетельству ар-
мянского Евсебия (I, р. 233, ed. Schone) и Anonym. Graec. см. Scaliger, p. 62,
Хрисида, была военнопленная. — Судя по словам Плутарха (Arat., 34), Де-
метрий умер после избрания нового стратега весной 229 г.
99 Мы, к сожалению, не знаем, в это ли время уже пытались ввести в Фес-
салии союзную конституцию, которая действительно вошла в силу 22 года
спустя после того. Некоторые из областей, как мы скоро увидим, заняты
были гарнизонами, а потому надо полагать, что они присоединились уже к
Этолийскому союзу. Судя, впрочем, по некоторым событиям, о которых
впоследствии будет упомянуто, я не допускаю этого.
100 Polyb., IV, 25, 6.
101 Polyb., XX, 5, 3.
102 По надписи С. I. Attic, II, п° 379, которую Кёлер разъяснил в трактате
(Hermes, VII, р. 3). Это был декрет в честь Эвриклида, сына Микиона Кефи-
сийского, который по С. I. Attic, II, п° 334 6ылта//,/а£ сгтдапатхшу [rrjv rwv
OTqanajTixcov aQXflv Sie^rjyayev Sia tov viovf как сказано в почетном декрете),
а в п 334, v. 36 упоминается именно об этом сыне Mix'kdv Ккркпеи<;. В почет-
ном декрете далее говорится о том, что Эвриклид в качестве агонофета
издержал семь талантов хал тгаХм tov viov Sov<; [em rairrrjv] ttjv emfiiXeiav...
TTQ0<rav7)Xu)<rev ovx 6Х1уа%ргц1атау затем позаботился о возделывании впустую
лежавших вследствие войны полей ха/ ttjv eXevSeglav атохатк<ггг\<г\ьу rjj noXet
/ьье]та tov aSsXcpov Mixicovog fieTa Tovq атг[о$6та<; tov Пе/fea/J... и т. д. Атти-
ческие тетрадрахмы с двумя именами Mixlajv и EvguxXelSTj; о которых го-
ворится в превосходном трактате Гротефенда (см. Philologus, 1889, XXV,
S. 70 ff.), принадлежали, вероятно, упомянутым братьям. Надпись панафи-
нейских побед, которую издали Franz u. Bockh (в Allg.-Lit. Zeitung, 1835, Int.,
S. 268) и которая согласно отличному объяснению Бергка (Zeltschr. fiir Alt.,
1855, S. 151) относится к панафинеям в 01. CXLVI, 3 (194 г.), дает те же три
имени, но только Эвриклид здесь уже не тот, который в 265 г. был та/шь£
отдат1шт1Х(ОУ, а, напротив, его внук или племянник.
444
103 Об этом вовсе не упоминается в наших скудных источниках; однако
события в начале царствования Деметрия по аналогии допускают такое
предположение.
104 Polyb., II, 44; cf.: II, 60.
105 Plut., Are/., 35.
106 Это та стратегия, которая началась в первые дни мая 229 г., т. е. девя-
тая, а не одиннадцатая, как утверждали некоторые авторы, основываясь на
словах Плутарха (Arat., 35): xai то SwSexarov тЫ-Эт? отдатгууо*;.
107 Plut., Aral., 34; Paus., I, 8, 5.
108 С. I. Attic, II, n° 379. Кёлер в упомянутом трактате Ein Verschollener
(Hermes, VII, S. 1 ff.) объяснил эти события, и вместе с тем эпиграмму
С. I. Graec, I, p. 916. Не относится ли фиванская надпись в 'ASrjvaiov (III,
1874, p. 482) также к этим событиям?
109 Изложенное ниже воззрение мне и теперь тоже кажется правильным
и отнюдь «не лишенным всякого вероятия». Как бы Микион и Эвриклид ни
поддерживали нейтральную политику Афин, однако Арату стоило бы только
обещать им свою помощь с условием присоединения города к союзу, и Афи-
ны должны были бы или согласиться, или оставить неприятельский гарни-
зон в своей области. Понятно, что Арат в своих мемуарах представляет дело
в ином виде.
110 Boekh в С. I. Graec, I, n° 108.
111 Polyb., X, 25, 8 sqq.: Plut., Philop., 7: iia то тгХаТотоу той<; 1тп:щ ev то!<;
'Pi%aioi<; bwaaSai xai (маХюта xuqiov$ ehai тцщ$ xai xoXaaeax;; cf. 18: tov<; tme?<;,
K - oYttbq fjo-av kvbo^oraroi [Lev rcov ttoXitcov xtX.
x 112 Polyb., V, 93, 6. Freeman (Hist, of the federal Government, p. 294), пола-
т гает, что это известие относится лишь к «local quarrel between rich and poor
^ at Megalopolis» и придает словам fiaXiara xvqioi пц,щ xai хоХасгещ «скорее
qJ парламентарное, нежели судебное» значение.
С ' пз Polyb.. XXXVIII, 4, 5 (XXXVIII, 10, 5, ed. Hultsch): xai yaq owfrooio&w
TrXrjSog eqyaarrjqiaxcbv xai fiavavo'Uiv avSqrimwv oaov оийеттоте* Tiao'ai \iiv yaq
exoqvCpv a\ ттоХен;, iiavo\[Lei be xai iiaXiora ттох; г) тал/ Koqivbmv и т. д.; cf. XXIX,
9, 6 (24, 6).
114 В изданной Фукаром (Rev. Arch., 1876, p. 97) надписи стоит: ..jcai е^еатш
тш fJouXofievq) аитф bixav Savarov eivayeiv щ то xoivov rcov Axdicuv. Затем да-
лее также упоминается о iixa&iv. Жалобы по поводу союзных договоров
вносились, как кажется, в общее собрание, которое затем из своей среды,
т. е. из находившихся тут же членов, избирало присяжных.
115 О навархе мы узнаем лишь благодаря только что упомянутой надписи.
Орхоменцы и ахейцы должны были подтвердить договор присягой: oijlvvovtcdv...
ev \iev Aiyito ol ovveSqot tu)v Axaicjv xai OTqarrrjyo^ xai \ттщ%о$ xai va\jaq%o<zy ev
be 'Oqxofievq) и т. д.
116 Polyb., XXXVIII, 5, 1. Этот совет назывался также yeqovaia, значит, он
состоял из пожилых членов: выражениеoi ovveSqot, тождественное cyeqouaia,
указывает на демиургов. Царь Эвмен предлагал капитал в 1200 талантов, из
процентов которого должны были уплачиваться суточные деньги советни-
ков: luaSodoTeiSat ttJv fiouXrjv em та?£ xoiva?<; ovvoboiq.
117 Polyb., XXVIII, 6, 9. Достоверно то, что эпоха избрания стратегов
совпадает с появлением Плеяд, оттого что Полибий (IV, 27, 2, V, 1, 1) поло-
жительно говорит об этом, прибавляя тоте, так как в его время и, вероятно,
также прежде 01. CXLIII, 3, избрания переведены были на осень.
118 Polyb., XXV, I, 1; XL, 3, 3.
119 Polyb., XXV, I, 1. Относительно монет см.: Leicester Warren (Numism.
Chron., 1864, p. 77), Finlay (Ibid., 1866, p.32), Lambros (v. Sallets Num. Zeitschr.
II, p. 160) и особенно трактат Вейла (Ibid., IX, p. 223), где находятся весьма
интересные сведения также относительно разверстки областей.
120 Plut, Philop., 13. Сюда, конечно, не относятся следующие слова Поли-
бия (XL, 3, 3): Harqeiq хал то уьета toutojv avvreXixov.
121 Для того чтобы понять важность этих и других принадлежавших впос-
ледствии римлянам мест, необходимо сравнить договор, заключенный между
Ганнибалом и Македонией: римляне не должны быть владетелями Керки-
ры, Аполлонии, Диррахия, Фара, Дималла, области парфян и атинтан
(Polyb., VII, 9, 13).
122 Polyb., IV, 87; II, 35, 47, 66, 70. По словам Плутарха (AemiL, 8), знаме-
нитейшие мужи в Македонии поручили ему управление; он имел на это пра-
во вследствие родственных связей.
123 Anonym, ар. Seal. Eus. Graec, p. 62 (Euseb. arm., I, p. 238): о Ьк nalScov
ysi/ofiivcov ex тг}$ Xqvtrrjtboq ovx шеЬдефато (vix educabat, Arm. ttjv oq%y)v тф
Ф/А/7ПГФ TraQa(T(i)£(i)v (sine perfidia conservaret), ф &j хал ттадейшхе a7To!M)0'xwv;
cf. Etytn. M. v. Докголл
124 Polyb., IV, 87.
123 Iustin., XXVIII, 3.
126 Frontin., II, 6, 5.
127 Polyb., XVIII, 21, 3; cf. IX, 41; Liv., XXXVIII, 13.
128 Polyb., II, 46, 1.
129 Polyb., II, 51,2.
130 Polyb., XX, 5.
131 Polyb., XV, 23, 9; XVII, 3, 11.
132 Polyb., XVIII, 34, 5.
133 С I. Graec, II, p. 281.
134 С I. Graec, II, p. 632.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1 Diog. Laert., VII, 178.
2 Polyb., II, 45, 3; отсюда и из дальнейших событий можно видеть, что
этот этолийский план относится к 228 г.
3 Polyb., И, 46.
4 Касательно орфографии этого имени см. Schomann ad. Plut., Cleom., 4.
Лик полагает, что Бельмина находилась там, где стоят каменные стены, вен-
чающие вершину известной ныне под именем ХеА//л$ горы. Курциус (Pelop.,
II, р. 293, 337) не упоминает о местоположении города. Судя по словам Пав-
сания (VIII, 35, 4), даже фиванские победы не упрочили этого города за ар-
кадцами; однако во времена Филиппа, сына Аминты, по третейскому суду
ахейцев он перешел к Мегалополю (Liv., XXXVIII, 34).
446
5 Plut., Cleom., 4, где также приводится это хронологическое известие.
6 Plut., toe. cit.; Полибий (Polyb., II, 46) умалчивает об этих событиях.
7 Теперь только было принято такое решение: это явствует из того об-
стоятельства, что эфоры по взятии Афинея отозвали назад царя (pofiowevot
tov ттоХщоу (Plut.). По словам Полибия, правда, тотчас же за укреплением
Афинея следовало сказанное собрание; ему как бы хочется Арату припи-
сать инициативу объявления войны.
8 Plut., Arat., 35; Cleom., 4.
9 Plut., Arat., 35.
10 Plut., Arat., 36; Cleom., 5; Polyb., II, 51, 3. t
11 Полибий (Polyb., II, 57, 2) называет erei t&toqtu) прежде предпринятой
поздним летом в 01. CXXXIX, 2 (223 г.) экспедиции Антигона в Пелопонне-
се; следовательно, Мантинея пала уже в 01. CXXXVIII, 2, т. е. ранним летом
226 г. — Полибий хвалит за оказанную городу кротость, но умалчивает об
учреждении нового мещанского сословия.
12 Судя по выражению kv onovbalq Павсания (VIII, 27, 10). Я должен,
однако, признаться, что это показание, как вообще все, относящееся к
Клеомену у Павсания, мне кажется двусмысленным: ему источником
служил, вероятно, Арат или еще другой более озлобленный противник
Клеомена.
13 Эту ложь Павсаний (II, 9,1) заимствовал у кого-то; даже Полибий, упо-
миная добросовестно обо всем, что говорится в ущерб Клеомену, умалчи-
вает об этом.
14 Плутарх (Cleom., 5) говорит, что, по словам Филарха, убийство совер-
х шилось axovrog tov KXao^ievovt;, а по словам других авторов — с его согласия.
§ Полибий (V, 37, 1), очевидно, верил показаниям Арата и ахейской тради-
^ ции; он говорит, что Архидам бежал в Мессению не тотчас же после смерти
о. Агиса и не оттого что боялся Леонида (Plut., Cleom., 1), а оттого что о ы<та$
к
rz
tov KXeoiievyv; по этому можно судить, с какой точки зрения следует смот-
реть на его дальнейшие показания (ср.: Polyb., VIII, 1,3).
15 Plut., Cleom., 1.
16 Plut., Cleom., 5; Polyb., V, 37, 1. Полибий, очевидно, верил изложенным
в мемуарах Арата показаниям.
17 Относительно Левктры см. Thucyd., V, 54; Xenoph. Hell., V, 5, 24. Ладо-
кией называлось соседнее местечко.
18 Эти названия служат для определения разного рода вооружения, а, впро-
чем, тарентинцы поэтому вовсе не были из Тарента, не критяне из Крита.
19 Plut., Cleom., 6.
20 Plut., Arat., 37. Нельзя не сожалеть о том, что именно здесь не достает
более точных сведений. Каким образом состоялся этот приговор против
Арата? Едва ли законным порядком (j3iao$e?<; \mo тип/ 'Axaiwv aneoxotiivcov
що$ ogyrjv TjxoXovSyo-ev avroi<; щ AYyiov); на этот раз, как кажется, разрази-
лась наконец демократическая масса и, не дождавшись созыва архонтов или
предварительного совещания герусии, сама постановила приговор относи-
тельно выдачи денег (/lwJ SiSovat д^тдотта аьтф руде [иоЪосрбдои^ тдесрем, аАА'
ai/гф TTOQi&tv ei Sboito ттоХеце?]/).
21 Эти события относятся к десятой (?) стратегии Арата, завершившейся
в мае 225 г. То, что с наступившим затем годом избран был Гипербат, как
447
7^
z
кажется, вовсе не доказывает победы оппозиции. Plut., Cleom., 14: еотдатууе!
\Liv yaq 'Тяес^ата^ тоге, rov S' 'Agarou то irav fy хдато$ ev то?<; 'Адеь/оГ^.
22 Plut., Cleom., 7.
23 Plut., Cleom., 7. Вместо неверного названия 'AXaaiav следует, вероят-
но, поставить не 'AAeai/ — на границе Арголиды, а 'Ao-gav — к востоку от
Мегалополя.
24 Plut., Arat., 38. Во всяком случае Мегистон вскоре вслед затем в Спарте
опять принимает участие в делах.
25 Plut., Cleom., 7, 8, 10.
26 Polyb., IX, 23, 3; II, 47, 3; IV, 81, 14.
27 Plut., Cleom., 10.
28 Paus., II, 9, 1; cf. Boeckh, С I. Graec, p. 605. Шёманн стал наконец отри-
цать достоверность этого показания; однако недоверие, какое вообще вну-
шает Павсаний, оказывается здесь неуместным тем более, что за это известие
можно автора упрекнуть скорее в пристрастии, нежели в неведении, и он,
как кажется, почерпнул свои показания из древнего, однако, в пользу со-
юза составленного источника. Молчание Полибия ничего не доказывает; он
умалчивает также об отмене эфоров; или, точнее говоря, судя по его словам
то rrargiov -noXireviAa xaraXv<ra<; xai rr}v evvoiiov fiacrtXeiav elg Tvqavviba
ц,етаотг)сга<;, надо полагать, что царь отменил не одних только эпюров. —
Впрочем, нельзя не признать некоторого рода аналогии между этой мерой |-«
и указанным нами намерением Лидиада отменить институт демиургов. Это- Ч
му принципу лишь в Риме суждено было достичь полного своего осуществ- ho
ления. 3
29 Macrob., Sat.у 1,11, 34 сообщает, что осталось всего 1500 годных к воен- | §
ной службе спартанцев; однако, освободив рабов, Клеомен собрал 9000 во-
инов; это было не теперь, а во время выкупа, о котором упоминает Плутарх I g
(Cleom., 23). "g
30 Schomann, Antig. iur. publ., p. 115. Prolegg. ad. Plut., Ag., LII. ' *
31 Тетрадрахмы, которые прежде приписывались Клеомену, в новейшее
время признаны принадлежащими Антигону Досону (Bompois, Etude
bistort que et critique des portraits attribues a Cleomenes, III, 1870).
32 Plut., Cleom., 11. He стоило бы упоминать здесь о том, что слова Фео-
помпа относительно пьянства и сумасшествия Клеомена относятся не к это-
му царю, если бы такая ложь не излагалась вместе с другими нелепостями в
довольно подробном сочинении о той эпохе.
33 Polyb., IX, 23, 3.
34 Plut., Cleom., 14; Polyb., II, 58. Отпадение Мантинеи, как кажется, от-
носится к лету 225 г. Судя по словам Полибия (II, 47, 3 и 48, 1), надо пола-
гать, что Клеомен в этом году совершил еще несколько нападений, о которых
ничего не сохранилось в предании.
35 За недостатком сведений невозможно именно в этом отношении точ-
нее проследить за сказанным явлением. Нечего распространяться о том, что
оно походит на эпоху Гракхов в Риме: не лишено также значения то, что
имя благородного стоика Блоссия было тесно связано с попытками Тибе-
рия. — Полибий (XXXVIII, 4, 5) по поводу весьма важных политических
событий говорит о ttXtj%<; egyaortxcbv xai fiavautnov av^Q(i)7Ta)v. Благодаря
развитию промышленности в Греции, как везде, демократические прогрес-
*
448
cz
сивные элементы в государстве одержали верх над земледелием, над арис-
тократическими, консервативными началами; однако на степени развития,
какого древняя Греция достигла в эллинистический период, а Рим в эпоху
Гракхов, равновесие между этими элементами все-таки составляет суще-
ственное условие не только экономического успеха, но также политическо-
го прочного расцвета. Аристофан уже увещевает вернуться к сельскому быту.
Аналогия с современными нам условиями напрашивается здесь сама собой.
36 Странно, что, излагая эти события, Полибий представляет этолян как
союзников Клеомена, а между тем они фактически ни в чем не принимают
участия. Вероятно, Арат в своих мемуарах изложил дело в таком виде.
После завладения трех аркадских городов этоляне недоверчиво относились
к Спарте; однако пока Антигон ни на что еще не решался, до тех пор у них
руки были решительно связаны; когда же он наконец решился, то сразу до-
стиг такого превосходства, что они не осмелились восстать против него, но
не хотели также вступаться за него. Эти политические отношения до того
ясны, что смело можно восстать против авторитета Полибия, который здесь
оказывается в высшей степени пристрастным.
37 Polyb., II, 48. 49.
38 Polyb., II, 50. Предложение мегалопольцев сперва было сделано bxoivov
jSouXevrrjQiov, потом Арат говорил толпе (ттХуЬо*;). Вероятно, созвано было
чрезвычайное собрание. Если отчет Полибия везде отличается точностью,
то о настроении «толпы» можно судить по тому, что было сообщено выше о
собирании голосов в союзной общине.
39 KAso//iv7?£ %офг\уьЪ етте^аХХето... iia то ттХе1ои<; eXmba$ exeiv ev то?<;
AaxeSaifiovlot<; тртед ev то?$ ' А#а/о*£, той SvvaoSai xarex&iv та£ tu)v ev Maxedovig,
fiaatXeuv emfioXaq (Polyb., II, 51, 2). Plut., Cleom.y 14; Arat.y 39; Polyb., II, 51,
г
о
т
^ 3. Хронологическое показание лишь приблизительно верно; по Плутарху
о. (Cleom.y 15), надо полагать, что эта битва от выбора стратега не отделялась
даже одной зимой.
40 Plut., Cleom.y 14; здесь, впрочем, это местечко называется Лангон.
41 Polyb., IV, 6, 8; весной 224 года избран был Тимоксен, один из привер-
женцев Арата (Polyb., IV, 82, 8).
42 Полибий (II, 51, 4) говорит, что поражение принудило ахейцев хата-
(peuyetv oiLoHhifAaSov em rov 'Avriyovov. Я не думаю, чтобы это единодушие было
официальным настроением союзной общины, но, скорее, союзного совета
или, еще вероятнее, АдехГо/ ev оттХок;.
43 Plut., Cleom.y 15.
44 Поступок Арата доказывает, что характер переговоров с Македонией
существенно изменился. Антигон с опасением смотрел на то, что соверша-
лось в Пелопоннесе. Арату следовало бы напугать Антигона тем, что и он
также присоединится к Клеомену. Арат не воспользовался этим случаем,
однако отнюдь не ради политической честности, которую он ни во что не
ставил, а, скорее, вследствие слепой ненависти к Клеомену. Он, вероятно, в
это время и изъявил готовность сделать Македонии значительные уступки.
Слова Плутарха (Cleom.y 17) нисколько не преувеличены. Антигон, без со-
мнения, начал стягивать свои войска в Фессалии, когда Арат отправил к
Клеомену упомянутый выше «грубый отказ». Для того чтобы предъявить
его в таком тоне, необходимо было, чтобы Арат занимал официальное по-
ложение, чтобы он был стратегом; но одиннадцатая его стратегия началась
в мае 224 г. Это произошло, вероятно, несколько спустя после того, как вы-
здоровел Клеомен.
43 Plut., Cleom., 17. То, что Плутарх (Area., 39) говорит о 300 спутниках,
неверно.
46 Plut., Cleom., 17; Aral., 39.
47 хш тои<; (pqovqovvtcls eizifiaXev рета tcov 'A^a/cuv (Plut., Cleom., 17): это,
следовательно, был гарнизон наемников. Судя по Плутарху (Arat., 39), Арат
сам находился в Пеллене: хал той отдатг)уой ехтте(г6уто<; еахе tt}v noXtv. Арат,
вероятно, бежал из Аргоса в Пеллену, оттого что у него там был гарнизон и
с целью преградить доступ в Ахейскую область (Plut., Cleom., 17; Polyb., II,
52, 1).
48 Plut.. Cleom., 17.
49 Эти соображения высказывает именно Плутарх (Cleom., 18).
50 Так, по-моему, следует понять слова Плутарха (Arat., 40): e^ovalav
avuTTevfhivov Xaficbv, тем более что Полибий (II, 52, 3) во время отпадения
Коринфа, совершившегося прежде выбора стратега в мае 223 г., называет
стратегом именно Арата.
51 Plut., Arat., 41: тф $' 'Agircjj ovvtjXSov щ 'Lixvcova twv 'A^a/cov oi ttoXXoi
хал yevofMevTjg еххХт)0'1а<; тдееЭту атдатг)у6(; айтохдатшд. Klatt (Forschungen, p. 67),
по моему мнению, решительно опроверг предположения Шёманна и его
поправку ой 7гоЛЛо/ относительно того, что собрание в Сикионе было импро-
визированное и что Тимоксен был еще стратегом, хотя Арат пользовался
властью диктатора.
52 Plut., Cleom., 19; здесь у Плутарха известия размещены в лучшем по-
рядке, нежели в его Биографии Арата (40, 41).
53 Polyb., XX, 6, 8.
54 Плутарх (Arat., 41, 42), очевидно, заимствовал свои известия из мемуа-
ров Арата. А в Биографии Клеомена (Plut., Cleom., 19), напротив того, он
следует Филарху. У него встречается существенное разногласие, так как он
говорит, что Клеомен предпринял нападение на Сикион лишь после того,
как решено было призвать Антигона; это невероятно, оттого что в таком
случае Клеомену нельзя было бы простоять три месяца под Сикионом. Впро-
чем, Полибий (II, 47) положительно утверждает, что Арат в своих мемуа-
рах не мог откровенно высказаться насчет переговоров с Македонией.
55 Polyb., II, 55, 8.
56 Plut., Arat., 42, Это, как кажется, произошло после избрания в страте-
ги Тимоксена, т. е. после первых чисел мая 223 г.
57 Polyb., II, 53,4. Правда, Полибий мотивирует отказ этолян в таком виде,
что, по его словам, нельзя понять, отчего они по предложению Арата не
поспешили на помощь или отчего они с этих пор стали поддерживать Клео-
мена.
58 Plut., Arat., 43.
59 Plut., Arat., 43. Время здесь показано, может быть, на два или на три
месяца раньше, чем следует.
60 Plut, Cleom., 21, 22; Polyb., II, 53.
61 Polyb., II, 59, 60. Ничего не может быть паскуднее аналогии этого гнус-
ного поступка у Полибия; непостижимо, до какой степени этот, впрочем,
15 История эллинизма
разумный историк в своей второй книге мог впасть в заблуждение вследствие
своего пристрастия к Арату; он говорит, правда, что следует при этом глав-
ным образом мемуарам Арата; но это едва ли может служить оправданием.
62 Полибий (II, 54, 3) говорит:хата<7та-&е/$ уущом аттаутш^ rcbv crvfifiaxw,
это выражение, как увидим впоследствии, не лишено некоторого вероятия.
63 Plut., Aral., 45.
64 Polyb., IV, 9, 4 говорит по поводу 220 г.: ет/ evogxo<; щеке, тга<гм ц
у&уещуьещ <rufj,iia%ia $/а 'Aimyovov хата rovq KXeoiievixou<; xaigov*;.
65 уфои \afie7v щуда (Plut., Cleom., 22).
66 Plut., Cleom., 22.
67 Plut., Arat.y 41; Polyb., V, 106, 6; Paus., II, 9, 5. Плутарх первого из них
называет Эвклидом. Это, вероятно, те же два кефисца, которые принимали
участие в расходах Хремонидовой войны (С. I. Attic, II, 334). Гротефенд в
своем остроумном трактате Chronologic he Anordnung der Athenischen 5/7-
bermiinzen (1872, S. 14 f) сообщает более подробные сведения об этих двух
именах, также о монетах и надписях, на которых они встречаются.
68 Официальное его имя Сотер, а не Керавн, как то доказывается списками
жрецов в надписи Селевкии на Оронте (см. Pocock., Inser. ant. с, I, p. 4, 18).
69 Polyb., IV, 48; Арр., Syr., 66; Hieronym. in. Dan., XI; Euseb. arm., I, p. 253;
последние два автора заимствовали у Порфирия. Полибий, говоря об 01.
CXL, 1, помещает эту экспедицию через Тавр Svai fiaXiara ттих; вте<п щотщоу,
следовательно, в 01. CXXXIX, 2/3, т. е. в благоприятное для похода время
222 года. По Евсебию, в его Каноне Селевк Керавн (т. е. Сотер) царствовал
три года, и последним годом его был 1793 от Авраама, т. е. 224 г. до Р. X.
70 Арр., Syr., 66: kmfiovkevtrav oi (plXot Sia (pagfiaxajv.
? 71 Вышеупомянутые списки жрецов свидетельствуют о том, что этот от-
^ рок по имени Антиох, короткое лишь время назывался царем. Мы не знаем
о_ его матери. Существуют, как известно, монеты Антиоха, с изображением
детской головы; если не ошибаюсь, их, по примеру Сестини, приписали Ан-
ff^ тиоху III; однако черты лица слишком моложавы для двадцатилетнего юно-
ши; эти монеты, без сомнения, принадлежат сыну Селевка III. Прибавлю к
этому еще более смелое предположение. Ливии (XXXVII, 45 и 55) упомина-
ет об Антипатре в качестве fratris filius Антиоха III; это тот самый, который
в 217 г. командовал частью сирийской конницы, а затем отправился в Еги-
пет в качестве посла (Polyb., V, 79, 12; 82, 9; 87, 1; он называет его aSeX(ptSov<;
царя). Нибур полагает, что это был племянник Антиоха III; однако нельзя
же ни с того ни с сего устранить Ливия, тем еще более что таким образом
затруднение нисколько не уменьшается. Это затруднение заключается в
возрасте отца, который родился не прежде 245 г., если только он был за-
конным сыном; но Селевк наверняка не был побочным сыном, так как он
наследовал престол. Если мы даже предположим, что Селевк Сотер при-
жил этого сына, когда ему было шестнадцать лет от роду, то Антипатру в
217 г. было все-таки не более двенадцати лет, и разве он только фигуриро-
вал в качестве вождя конницы и посла. Если вследствие таких сомнитель-
ных обстоятельств нельзя этого Антипатра признать сыном Селевка Сотера
(было бы даже странно, если бы законный наследник, называвшийся царем,
впоследствии служил стратегом у того, кто сверг его с престола), в таком
случае остается только предположить, что Селевк II прежде 246 г. прижил
сына в незаконном браке и Антипатр был сыном последнего. Если это мне-
ние покажется слишком смелым, то можно предположить, что его законно-
рожденный внук сперва назывался Антипатром, а, вступив на престол, принял
имя Антиоха; точно так же как и отец его, вступив на престол, променял свое
имя Александра на Селевка. — Полибий умалчивает об этих отношениях, —
а он один только и говорит обстоятельно о предстоящей эпохе, — оттого-то
его описание партии в государстве и кажется неудовлетворительным. Он,
правда, утверждает, что Ахей отверг венец и сохранил его для Антиоха;
однако некоторые другие события изложены им неясно; мы вернемся к ним
впоследствии.
72 Euseb., Hieronym.
73 Polyb., V, 40, 7.
74 Polyb., IV, 48, 10.7i Polyb., V, 77.
76 Polyb., V, 43. 1. Это случилось в исходе 221 г., когда Александр и Мо-
лон отпали уже.
77 Polyb., V, 42, 9.
78 Это засвидетельствовано именно Плутархом (Arat., 45). Cf.: Phylarch.;
см.: Polyb., II, 57 sqq. и замечания самого Полибия.
Это сообщает Полибий (II, 62, 11). По его словам, город был взят таким
образом, что нелегко было ни ускользнуть оттуда, ни украсть в нем что-
нибудь, и все-таки добыча не превышала 300 талантов; он хотел сказать этим,
что все было разграблено беглецами. Это известие можно объяснить толь-
ко в том виде, как оно изложено в тексте, если только оно вообще не умень-
шено намеренно Аратом, у которого заимствовал Полибий.
80 Plut., Aral., 45; Paus., VIII, 8, 6. Впоследствии мы вновь застанем Анти-
гонию в качестве непосредственно союзного города. Существуют монеты с
надписью АХА1Ш ANTirONEHN (Warren., Brit. Mus., p. 87).
81 Plut., Philop., 4.
82 Polyb., II, 55, 8. Полибий, правда, утверждает, что Клеомен ни в Мега-
лополе, ни в Стимфале не мог приобрести ни друга, ни приверженца, ни из-
менника. В другом месте (IX, 18, 1) он говорит, однако, что ворота были
открыты Клеомену (oi ovfi/nQaTTovre^ еыл*ф), и он не умолчал бы, если б при
этом содействовали наемники или изгнанники.
83 Polyb., IX, 21, 2.
84 Polyb., II, 55; IX, 18, 1, здесь сообщается именно хронологическое из-
вестие. На первом месте стоит КсоЛа/ov, а на втором ФшХебу, с вариантом
ФсоАвюу.
85 Polyb., II, 54, 42. Надо заметить, что уду ovvaTrrovroi; той %ьцьипо$ не
совсем верно; Антигон был уже в Эгионе, когда Клеомен возобновил напа-
дение на Мегалополь, и первое нападение было tqio-i умрл щочьору (Polyb.,
II, 55, 5). Антигон поэтому в августе уже был в Эгионе.
86 Plut., Cleom.y 23. Очень может быть, что к этому факту относится вы-
шеупомянутая заметка у Макробия (Sat., I, 11, 34); там сказано было, что
способных к военной службе спартанцев осталось всего 1500 человек (зна-
чит, после нападения на Мегалополь, оттого что три года тому назад было
еще 4000 гоплитов), а потому Клеомен даровал свободу 9000 илотам.
87 Этот последний факт сообщает Плутарх (Cleom., 23 из Филарха), а пер-
вый взят у Полибия (II, 55). Полибий говорит, что изгнанные мессенцы впу-
15*
452
стили спартанцев; однако вообще невероятно, чтобы приверженные Клео-
мену изгнанники из дружной с Мегалополем Мессении (Paus., VIII, 49, 3)
нашли убежище в этом городе; а сверх того, мы знаем уже, что среди самих
мегалопольцев находились друзья Спарты; на них-то и падает прежде всего
подозрение, если только учинена была измена; всего вероятнее, однако, что
место было плохо охраняемо (тоге Sk xai QaSviiux; тт^риуЛщ, Polyb.).
88 Plut., Cleom., 24.
89 Paus., VIII, 11, 10; 49, 3.
90 Plut., Philop., 5; Phylarch. ap. Polyb., II, 61.
91 Polyb., II, 55, 61; Paus., loc. cit.\ Plut., Philop., 5; Cleom., 25. Мы состави-
ли бы себе, как замечает Полибий (IX, 21), ложное понятие, если бы о густо-
те населения в Мегалополе стали судить по величине города, который был
на две стадии обширнее Спарты при вдвое меньшем числе жителей; в следую-
щей за сим кампании появились еще 1000 мегалопольцев. Филарх говорил,
что выручка с добычи достигла 6000 талантов. Полибий справедливо опро-
вергает его, хотя он сам ошибся относительно известного податного сбора
в Аттике, о котором упомянул для сравнения. Все драгоценности успели
спасти, а люди не продавались, как в Мантинее; в то время домашний скарб
вообще был довольно скудный. Однако Полибий не говорит о селах; они
были беззащитны, и Клеомен, без сомнения, разграбил их, когда его пред-
ложения были отвергнуты. Вести войну в ту эпоху стоило довольно дорого,
тем более что Клеомен содержал значительное число наемников.
92 Об этом упоминается в надписи, которую Фукар нашел близ Тегеи и
издал в Mem. presentes a Г Acad, des Inscr., Ser. i, T. VIII, 1874, p. 83. В ней
заключается приговор аркадцев (sSo^e TfjfiovXjj ribv 'AQxaSojv xai Toiq ilvqioi$)
? в честь афинянина Филарха (eSocrev... ФиХадхоу... kqo&vov xai eveqyeTrjv ehat
^ 'AqxglScdv TTavrwv avrov xai yivoq), а потом: SafiioQyoi Be о\Ъе ycrav. Затем следу-
x
rz
о. ют имена демиургов отдельных общин, образовавших xowov: из Тегеи 5, из
Майнала 3, из Лепрея 2, из Мегалополя 10, из Мантинеи 5, из Кинурии 5, из
Орхомена 5, из Клейтора 5, из Гераи 5, из Тельфусы 5. Это были большей
частью кантоны в Аркадии, недоставало только Фигалеи на юго-западе, не-
скольких общин иг севере, вероятно, двух или трех в горах. Мегалополь не
принадлежал более к союзу с тех пор, как был занят Клеоменом. Полибий
(II, 55, 7) говорит: ovtu)$ airrrjv -mxqGx; MySetge, сооте ц/rf? eXniaai fjbiqSeva Sioti
ivvair av (rvvotxurftijvat ttoXiv; поэтому Клеомен, как кажется, рассеял жите-
лей по сельским общинам. Достоверно то, что Антигон несколько месяцев
перед тем заставил Тегею (Polyb., V, 54, 8) сдаться на капитуляцию и занял
ее, что он взял Орхомен, Герею, Тельфусу (II, 54, 12), разрушил Мантинею
и подарил область города Аргосу. Вышеупомянутые в надписи и другие го-
рода в Аркадии соединились вместе и в качестве xotvov. составили приговор;
по мнению Фукара, это могло случиться только в промежуток между паде-
нием Мегалополя и битвой при Селласии, т. е. между летом 222 и весной
221 г. В таком случае надо предположить, что отступление Антигона к
Эгиону и отправка восвояси его македонского ополчения дали аркадским
городам возможность восстать. Потом следовало бы еще предположить, что,
рассчитывая на демократические элементы, Клеомен после взятия Мегало-
поля побудил аркадцев вернуться к прежней независимости и самостоятель-
ности, что, лишившись своего города, мантинеицы последовали его призыву
453
так же охотно, как и те мегалопольцы, которые не пристали к союзной
доктринерской политике, — словом, если развить все эти необходимые для
объяснения надписи предположения, то в результате получится образчик
крутой и радикальной политики, который ярче всяких иных преданий ха-
рактеризовал бы отважный дух Клеомена. Однако основа комбинации, на
которую опирается Фукар, кажется несостоятельной. Полибий (IV, 77, 9)
почти решительно утверждает, что Лепрей, с тех пор как Лидиад в каче-
стве тирана (т. е. до 234 г.) сдал его Элиде, остался при ней даже после
Клеоменовой войны; одно это обстоятельство уже служит доказатель-
ством, что надпись существовала прежде 234 г. Невероятно также, чтобы
Мегалополь принадлежал к xoivov аркадцев во время тирании Аристоде-
ма, убитого до 251 г., и Лидиада, вступившего лишь в 243 г. Освободившие
в 251 г. Мегалополь философы способствовали потом предприятию Ара-
та, с тем чтобы освободить Сикион и основать Ахейский союз. Предание
умалчивает о том, восстановили ли они таким же образом аркадскую об-
щину. Это, по крайней мере, не опровергается тем обстоятельством, что
Фигалея и некоторые другие кантоны не находятся в надписи, так как они
не вошли еще в состав союза. I _
93 Plut., Cleom.y 23, 36. Здесь упоминается также о предложениях Анти- |
гона.
94 Polyb., V, 41, 4. Сын Селевка Антиох во время экспедиции отца в Си-
рию остался под охраной Гермия.
га
н
95 Polyb., V, 11, 1. |S
а
96 Швейггейзер (см. его Index) объясняет прозвище Теодота таким об-
разом: «forsan a corporis statura quasi statura viri cum dimidio». Аналогия §
Прусия, которого Полибий (XXXVII, 2, 1) называет 7]fiiov<; алщ, здесь не- Q
применима. Не происходит ли это прозвище, скорее, от каперов, которые g
назывались полуторными (чдомоЛ/а)? ~§
97 Теолог и Ксенон, как видно, намеревались по большой дороге из Баг-
дада в Гамадан проникнуть чрез известные мидийские проходы.
98 Polyb., V, 45, 7.
99 Надо принять в соображение то, что эти личности и события были уда-
лены от Полибия не более, чем от старших из наших современников удале-
на эпоха войн за независимость и Венского конгресса.
100 Топографию этой местности я изложил в статье об основании горо-
дов. Б. Штарк (Gaza, S. 314 ff) сообщает по этому поводу несколько поучи-
тельных заметок.
101 Географическая часть этих показаний представляет некоторые зат-
руднения; если текст у Полибия (V, 48, 6) не искажен, то под Парапотамией
следует разуметь страну на правом берегу Евфрата или на левом Тигра.
Подробности см. в статье об основании городов.
102 Эту цифру нельзя признать совершенно верной. В битве при Селласии
Клеомен расположил свое двадцатитысячное войско в следующем порядке:
1) на правом крыле, позиция которого была самая опасная, — наемники и
спартанцы, наемников около 5000 (Polyb., IV, 59, 3); 2) на левом крыле —
периеки и союзники. — Трудно определить, какие из союзников были еще
соединены с Клеоменом; относительно Орхомена можно с вероятностью
предположить, что он не перешел еще к неприятелю. Если даже предпо-
454
ложить, что в этом отряде находились cpvyaSeq некоторых городов, то их
все-таки было не очень много; я считаю около 1000 союзников; 3) центр со-
ставляли всадники и несколько отрядов наемников. Против них, помимо не-
приятельской конницы, находились 2000 пехотинцев, и центру надлежало
защищать горный проход; а потому здесь не нужно было много пехоты, —
предположим, 1000 наемников. Таким образом, всего в бою из Лаконии
находилось 13 000 воинов. Помимо того надлежало, без сомнения, при-
крыть еще проходы в Аркадию и в Мессению; на них, я также полагаю,
1000 человек из Лаконии. — По Плутарху (Cleom., 11, 2), Клеомен во время
реформы дополнил из периеков число спартиатов до 4000; судя по другому
месту (Cleom., 23, 1), незадолго до нападения на Мегалополь освобождены
были 6000 илотов и 2000 присоединились к вышеупомянутым 4000 воору-
женным по македонскому образцу. Вследствие этого показание Плутарха
(Cleom., 28, 3) оказывается верным: при Селласии находились в бою 6000
лакедемонцев (а именно сказанные 4000 и 2000), они, конечно, и были вме-
сте с 5000 наемниками на правом фланге. Освобожденные 6000 человек
были, вероятно, периеки и находились на левом фланге; однако, помимо
них, в бою находились, вероятно, еще периеки. Я упоминаю об этом лишь
для того, чтобы подтвердить вероятность вышеприведенных чисел; мы не
в состоянии добиться более точных сведений.
103 Здесь, к сожалению, невозможно добиться хотя сколько-нибудь до-
стоверного вывода относительно густоты населения в Лаконии. Вообще вы-
сказанное Цумптом (Abh. der Berl. Acad., 1840) мнение, что население в Греции
^ I сократилось уже до римской эпохи, оказывается верным; а впрочем, в не-
которых областях, в Этолии, в Ахайе, оно, как кажется, увеличилось. Во
? всяком случае, слова Полибия (II, 62, 3), сказавшего, что Пелопоннес agfajv
^ xaricpSaQTo, относятся не к населению, как полагает Цумпт, а к благососто-
о. янию. На битву при Платее вышло 5000 спартиатов, 35 000 илотов и около
10 000 периеков; но не надо забывать, что в то время спартанская Мессения
*£ также поставляла спартанских илотов, — обстоятельство, о котором Цумпт
умалчивает. Правда, при Агисе число спартиатов сократилось до 700, одна-
ко рост населения отнюдь не находится в прямом отношении с ростом та-
кого своеобразного знатного сословия. Аристотель говорит (Polit., II, 6,12):
«Земля в Лаконии в состоянии пропитать 1500 всадников и 30 000 тяжело-
вооруженных воинов, а между тем число их не доходило даже до 1000; от-
того государство не в состоянии было выдержать поразивший его удар, оАА'
атшк&то Sia rr)v oXiyavoqamiav». Когда Агис приступил к своей реформе, то
население было, вероятно, значительное, так как он мог устроить 4500 зе-
мельных долей для спартиатов и 15 000 для периеков (способных к военной
службе). На 15 000 периеков надо считать 70 000 душ, а на 4500 спартиатов
20 000. Для того чтобы возделывать участки спартиатов, необходимо было
оставить много илотов. Вероятно, на 15 000 новых участков имелось в виду
водворить преимущественно бедняков. Во времена императора Августа еще
существовало 24 города элевтеролаконцев. Приписать всем этим городам в
совокупности (за исключением Спарты) 100 000 душ жителей, кажется не
слишком много. Если известие, что зтоляне (в 242 г.) увели 50 000 пленных,
верно, и если, судя по Полибию, пленники были преимущественно периеки,
то Лаконию до той эпохи следует, без сомнения, признать весьма населен-
ной. — Мы не знаем, как велико было население при Клеомене. В Греции (и
в Спарте также, Xenoph., Hell., V, 4. 47), как известно, вообще полагался
сорокалетний срок военной службы; однако этот расчет относительно обя-
зательной службы от 20- до 60-летнего возраста применялся только к сво-
бодному населению; такая растрата сил возможна лишь ввиду большого
количества рабов. Обратимся для сравнения к статистической таблице от
1840 года для Шлезвиг-Голштинии и Лауенбурга: там население состояло
из 848 961 души, причем от 20- до 60-летнего возраста насчитывалось 199 289
личностей. Применив такой же расчет к армии Клеомена и прибавив к это-
му ввиду высшей вообще долговечности в Греции еще около 2%, мы полу-
чим не более 70 000 душ населения для всей Лаконии во времена Клеомена;
это решительно невозможный невозможный вывод. Если мы даже предпо-
ложим, что во время войн Клеомена акония лишилась 6000 душ мужского
населения и вследствие этого прибавим к общему населению еще 30 000 душ,
то и в таком случае, как мне кажется, вывод будет все еще далек от истины.
Можно еще сослаться на известие о том, что 6000 илиотов откупились на
свободу и что невольники, которые в состоянии были уплатить за выкуп по
пяти мин, все-таки составляли меньшинство. Сюда можно будет применить
вышеупомянутое отношение возрастов: откупившиеся 6000 человек дают
около 25 000 душ; следовательно, около 25 000 человек в массе всех рабов
пользовались некоторым благосостоянием; потом в бою находились 6000
спартанцев; они представляли собой также 25 000 душ. Количество бедных
периеков и рабов было, вероятно, втрое более той и другой группы; по та-
кому расчету получим, по крайней мере, 20 000 душ на 90 квадратных миль.
Однако здесь, как видно, нет ничего достоверного.
104 Плутарх (Cleom., 27) весьма кстати приводит замечание относительно
XQ^ara в качестве vevga rwv щаууштшу, также относительно Антигона и
его медленных военных действий, причем он е^еяоуе/ ха\ xarTjSXet rov
KXeofievrjv yXloycQws xai уьокк; TToql^oirra то?$ £,ivoi<; ili<t%v хал TQO(pr)v то?д TioXiratg.
105 Polyb., II, 64; Plut., Cleom., 25.
106 Polyb., II, 63.
107 Polyb., IV, 69, 5.
108 Я привел эти числа, оттого что они дают ясное понятие о боевых си-
лах. Замечательно, что фессалийцев здесь вовсе нет; конница вместе с осталь-
ным македонским войском служила, вероятно, для прикрытия Македонии.
Полибий говорит, что вся армия состояла из 28 000 пехотинцев и 1200 всад-
ников; в списке, вероятно, пропущен контингент из Фокиды; в нем, в таком
случае, заключалось бы около 400 человек. Судя по словам Павсания (IV,
29, 3), в войске находились также мессенцы; он вообразил себе, что Мессе-
ния в эту эпоху уже была присоединена к Ахейскому союзу. Союз только
после битвы при Селласии сделал мессенцам предложение, о котором упо-
минает Полибий (IV, 6, 8).
Ю9 росс (Reisen und Reiserouten durch Griechenland, I, S. 181) описал эту
местность. Старая дорога пролегает вниз по Энонту, а в настоящее время
она проходит через горный хребет. По словам дельного, посетившего в ап-
реле 1876 г. тот край наблюдателя, этот кратчайший путь достигает у моста
в Копане Эврота на целый час раньше, нежели другая более удобная доро-
га; он круто спускается к Эвроту и так узок, что пешеход едва в состоянии
456
пройти мимо всадника. Исследования Фолара, Гишара и пр. относительно
стратегических движений в битве оказываются несостоятельными, так как
авторы вследствие недостаточного знакомства с местностью упустили из
виду все существенные факты.
110 О том, кто были эти союзники спартанцев, см. выше.
111 Шорн доказал, что у Полибия (11,66,6)стоитК£77та£ вместо 'Нттещшта^.
Полибий не сообщает, в каком месте находились беотийцы; они были рас-
положены, вероятно, в виде резерва в центре.
112 Polyb., II, 65-70; Plut., Cleom., 28; Philop., 6.
113 Время битвы при Селассии в точности определяется известием о том,
что Антигон, возвратившись вскоре затем из Спарты, посетил Немейские
игры, разумеется, летние. Четыре года спустя после того царь Филипп пер-
вую весть о битве при Тразименском озере (IX, Kal. Iul., т. е. приблизитель-
но в конце апреля 217 г. до Р. X., 01. CXL, 3) получил также во время этих
игр; судя по этому битва при Селассии происходила летом, в исходе 01.
CXXXIX, 3 и в начале четвертого года той же олимпиады; а так как Антигон
в этот год открыл кампанию tov $iqov<; evtoTafievov, то битва происходила
около июля 221 г., приблизительно два месяца спустя после того, как кон-
чилась четырнадцатая стратегия Арата и началась третья Тимоксена. Еги-
петская хронология впоследствии подтвердит наши показания.
114 Plut., Cleom., 28; Iustin., XXVIII, 4; оба автора, очевидно, следуют Фи-
ларху.
115 Iustin., XXVIII, 4.
116 Polyb., II, 70; у Полибия заимствовал Плутарх, который, впрочем, не
верит в такого рода тихп.
OI 118]
% 119 Polyb., IV, 35, 5.
oJ 12° Polyb., IV, 9, 6.
t I J Polyb., II, 70, 1; IX, 29, 8; 36 и др
EZ
121 Polyb., XX, 5, 12.
122 Polyb., IX, 36, 5.
123 Polyb., V, 93, 8; Hegesand. ap. Athen., XI, p. 477; cf. Meinecke de Eupho-
rione, p. 7; в этом сочинении, впрочем, попадается много, особенно хроно-
логических, ошибок.
124 Plut, Philop., 7.
125 Polyb., IV, 6, 5.
126 Polyb., IV, 64; rov em twv kv He\oTTOvvf)<rq) ^acriXxcji/ ттдауратшу im'
'PiVTiyovov xaraXeXetmLevov.
127 Это, конечно, были не иллирийцы Деметрия Фаросского; не обнару-
жилось ли в это время уже римское влияние?
128 Антигон умер или в исходе этого или в начале следующего 220 г. И в
самом деле, Филипп умер зимой в 179/178 г. и царствовал 42 года (Euseb.);
он проиграл сражение при Киноскефалах и вместе с тем лишился Фесса-
лии (осенью 197 г.) 23 года и 9 месяцев спустя после своего воцарения
(Euseb.).
129 Полибий несколько раз упоминает о значении этой CXL олимпиады.
Надо, впрочем, заметить, когда он считает по олимпиадам, то относит нача-
ло их к осеннему равноденствию, двумя или тремя месяцами позднее самих
олимпийских игр.
130 Etym., M. v. Acuotuv... д\а то (ptXcnrtfMOvxai otaто ттоХХа StSovai xaixaqiCtaSai.
Хронографы (Eusev. arm., ed. Senile I, p. 237 , 28; p. 238, 26; p. 241, 20; p. 242,
20) называют его Фоио-хо£, Phuskus; это слово мне незнакомо; вероятно, он
называется Фио-xwv, хотя Плутарх (Coriol., 11) придает это имя одному толь-
ко Птолемею Эвергету II, а к Антигону применяет Досон.
131 Следующие за сим страницы остались в том виде, как они были напи-
саны в 1843 г. Пускай послужившие для их пояснения политические анало-
гии останутся и теперь на память в том же виде, в каком они излагались в ту
тяжкую эпоху.
132 Ср. прекрасную речь этолянина Агелая у Полибия (V, 104).
133 Polyb., V, 34.
134 Относительно времени его смерти мнения расходятся; в Каноне царей
значится 103 год аег. Phil, (начиная с 18 октября 222 г.), следовательно, пер-
вый Птолемея Филопатора, т. е. в течение 103 года он вступил на престол.
Это, конечно, случилось в последнюю четверть сказанного года, оттого что
битва при Селласии происходила в июле 221 г., а после нее прошло, по край-
ней мере, два месяца до смерти Птолемея. Во всяком случае Птолемей III
умер в так называемый первый год Филопатора, а именно между августом и
октябрем 221 г.
135 Schol. Ravenn, Arist. Thesmoph. 1059.
136Aelian., Var. Hist.,XUI, 21.
137 Diog. Laert., VII, 185.
138 Diog. Laert., VII, 177.
139 Ptolemaeus Agesarchi f. ap. Athen., VI, p. 246; cf. Etym. M. v. ГаХХод.
140 Polyb., V, 34, 1; 36, 1; XV, 25.
141Plut., Desol. anim., 3.
142 Polyb., V, 37. Плутарх (Cleom., 35), следуя Филарху, говорит, напро-
тив, что Клеомен не был в состоянии уплатить свой долг Никагору.
143 Polyb., V, 37 sqq.; Plut., Cleom.; no Филарху, Клеомен умер в конце 220
или в начале 219 г. (Polyb., IV, 35, 9; 37, 1).
144 Кстати, приведу здесь слова Плиния (Hist. Nat., I, 46, § 117): «quo magis
miror orbe discordi et in regna, hoc est in membra, diviso tot viris curae fuisse
tarn ardua inventu... ut hodie quaedam in suo quisque tractu ex eorum com-
mentariis, qui nunquam eo accessere, verius noscat quam indigenarum scientia...
non erant maiora praemia, in multos dispersa fortunae magnitudine; et ista plures
sine praemio alio quam posteros iuvandi eruerunt etc.».
145 Agatharch., De mart rubro, p. 102, говорит о сабеях и герреях: ехтета-
fJLievfiiviov ndv то ттттоу eig Siacpoqag Xoyov акд rfj<; ' Ao-/a$ xai tyj<; EuQWTrrjq ovrot
TioXvxQvaov tov TiroXefiaiov Xugiav TieTiotyxaatv, ovrot ту Фо/w'xajv (ptXegyta
xaTea-xsvaxaai XvatreXetg щттод'щ xai iivgia aAAa. Штарк (Gaza, S. 392) остро-
умно изложил изложенную нами в тексте политику Антиоха.
146 Varro de re rust., I, 1; Colum., I, 1; Plin., XVIII, 3. Царь Гиерон был, ко-
нечно, не первый этого имени, а второй. Страбон (XIII, 603) может служить
подтверждением того, что здесь говорится не об Аттале III.
147 Plin., Hist. Nat. XVI, 32, § 136; XII, 17, § 76; Etym. M. v. KaXv^ivog; Steph.,
Byz. v. с interp.
148 Хронологию этого факта нельзя определить в точности. Евсебий в
Каноне упоминает о землетрясении в 01. CXXXIX (225-222 гг.), Орозий (IV,
458
13) помещает его во время консульства Т. Фламиния и П. Фурия (223). Со-
брание разных намеков на этот факт, которые играют важную роль в Си-
виллиных книгах, не представляет здесь никакого интереса.
149 Говоря о денежных взносах, Полибий (V, 88) упоминает только о та-
лантах вообще, вследствие этого едва ли можно предполагать, что он гово-
рит о сицилийских, египетских и других талантах. Он заимствовал, вероятно,
свои показания из обнародованных родосским государством документов;
они для увековечения были, видимо, высечены на мраморе; надо полагать
поэтому, что правительство перевело разные взносы на бывший в ходу в
Родосе курс. В таком#случае, Гиерон внес около 120 000, а присланные еги-
петским царем на постройку 13 талантов, щ бфал/iov для 450 человек состав-
ляют на человека по 39 талеров. Интересно также, что из Гиероновых 100
талантов 10 назначены были на жертвоприношения, 10 для пособия част-
ным лицам, 5 на масло в гимназиях, 70, как кажется, для постройки стен, а
остальные 5 представляли выделанное серебро. Диодор (XXVI, р. 102) сле-
дует, как кажется, другому, более поверхностному показанию: щ oixoSofiTjv
roureixovg <г тоАаута, причем вместо знака д' следует писать 90. Надо, впро-
чем, обратить внимание на то, что это показание означает только вес метал-
ла; относительно ценности следует заметить, что, представляя плодородие
Верхней Италии, Полибий говорит, что там сицилийский медимн пшеницы
иногда стоит всего 4 обола, т. е. 2/з аттической драхмы, содержавшей в себе
в ту эпоху 4 г, 3 серебра, что равняется почти одному франку (4 г, 5), т. е.
немного менее одного марка (5 г, 55). Лузитанию он прославляет как страну
плодоносную и дешевую, там медимн пшеницы стоил 9 александрийских
оболов, т. е. около 7 x/i аттических.
150 Диодор говорит, что один только ввозимый в Сиракузы хлеб освобож-
ден был от пошлин; он, впрочем, не пользуется достоверностью, так что
нельзя основываться на его показаниях.
151 А именно еловых балок 40 000 локтей, 1000 талантов отчеканенной
меди (странно дарить разменную монету), 3000 талантов пакли, 3000 кусков
парусины; для жертвоприношений и состязаний 12 000 артабов хлеба и для
снабжения хлебом десяти триер 20 000 артабов.
152 Так объясняю я слова щ (ryrjx'urxuyv Xoyov. Касательно чисел см. замет-
ку у Швейггейзера.
1537птт7?£ (Ъруд fMBTQTjrag. Известно, что pix liquida из Македонии чрезвы-
чайно ценилась; см. вообще Plin., XVI, 11 и 12, и собранные толкователями
Феофраста цитаты.
154 Нигде, впрочем, не упоминается об этих трех династах (oi хата ttjv
'Aomv ovreg Svvaorai); они вообще не относятся к узурпаторам на дальнем
востоке; ни одно из этих имен не встречается на монетах. Помимо Малой
Азии и Аравии для них немыслима иная местность. Судя по Страбону (XIII,
631), можно предположить, что один из них был династом в Кибире.
155 Это замечание относится к большому, испепелившему половину Гам-
бурга пожару 5-8 мая 1842 г. Когда изложенные в тексте слова были писаны,
то все еще хорошо помнили, с каким рвением города и государства стара-
лись помочь сильно пострадавшему городу.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ГОРОДА, ОСНОВАННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ
И ЕГО ПРЕЕМНИКАМИ *
Подвижной греческий народ издавна уже высылал колонии на Восток
и на Запад; это были частью побуждаемые нуждою или политическими рас-
прями на родине выселения, частью колонизации в интересах торговли. При
основании этих колоний, вероятно, уже при смелых попытках дорийцев, а
наверное, с той поры как Афины достигли господства, имелись в виду по-
литико-стратегические цели. Эти цели в первый раз в более обширных раз-
мерах проявились в колонизациях, предпринятых Дионисием на берегах
Адриатического моря. Филист, историк этого замечательного в современ-
ном смысле, можно сказать, первого правителя, сам был стратегом в одной
из этих колоний в Адрии (Diod., XVI, 11, 3; Plut., Dio, 35). Примеру Диони-
сия последовал Филипп Македонский, kvroq kmxdiqoiq rimoiq xri<ra<; afyoXbyovq
ттоХек; (Diod., XVI, 71), основавший независимый горнопромышленный го-
род Филиппы у подошвы Пангеона, потом Филиппополь при Гебре, Бину,
или Бинарию, так называемую MoixottoXi$, Кабилу що<; Та£ф, или novTjqonoXiq
(Theop., fr. 122), находившуюся при реке, которую Тафель признал за ны-
нешнюю Тунджу (ттдо<; Tovv^tp); мы не знаем, заселил ли Филипп также
города Агесс, Мастиру, Дронгялон, Пистиру, Эпимаст, которые частью Фео-
помп, частью Демосфен (de С hers., 44) причисляют к его завоеваниям; до-
стоверно то, что юный Александр в то время, когда его отец предпринял
экспедицию против Византия, основал в стране покоренных медов город
своего имени: tov<; (jlsv fiaqliaQOVS е^аттг)Ха(гв, (rv/Mfilxrovq Se xaTOixi(ra<;
'PiX&ZavSqoTToXtv щосгггубдеиае. Это в списке Steph. Byz. третья Александрия.
* Прилагаемый при сем трактат, который был уже приложен к первому
изданию, следовало бы подвергнуть новой переработке. За недосугом я не
был в состоянии короче ознакомиться с касавшеюся персидской Азии гео-
графическою литературою последних тридцати лет, а потому и не хотел
вновь печатать этот трактат; но мой издатель изъявил настойчивое желание
присоединить его к этому новому изданию, хотя бы даже без перемен.
Г. Киперт оказал нам важную услугу, взявшись в корректурных листах пе-
речитать трактат; он присоединил к нему несколько заметок и поправок,
разрешив мне воспользоваться ими; они отмечены его инициалом.
Примечание автора ко второму изданию «Истории эллинизма »
460
Характеристическую черту эпохи Александра и диадохов составляет
обширная литература теоретических сочинений «О царской власти», об-
ращенных к самому Александру, к Антигону, Кассандру, Птолемею и пр.;
богатый, но все-таки не совсем полный каталог находится у Эберта (Ebert,
Diss. Sic, I, p. 65, 399). Государи вполне сознательно стремятся царствовать
и управлять рационально. При этом особенно поучительно оказывается
отношение к первому Лагиду Деметрия Фалерского, пытавшегося консти-
туцию Афин нормировать в таком смысле: тф ^a<riXei7Tag/r}vei та тгед! fia<riXeia<;
xai yyefioviat; /Зг^ЗЛ/а xraaSai xai avayivu)(rxetv (Plut. Apophth. reg.), xai iv
AiyvTTTip vofw^e(ria<; 7je£s (Aelian., War. Hist., Ill, 17; cf.: Diog. Laert., V, 78).
Царя Александра считают отчасти беспутным, все далее и далее под-
стрекаемым жаждой завоеваний авантюристом; как будто его действиями
руководили страстные порывы, а его мерами лишь прихоти и мимолетные
впечатления. Другим человеком представится он, когда будем судить о нем
строже: он вполне сознательно, со строгою последовательностью стремит-
ся к своей цели, к слиянию эллино-македонского начала с Востоком. Он
вместе со своим двором не только в одежде и нравах подражал азиатским
обычаям: заодно со своими полководцами и некоторыми из своих воинов
он отпраздновал свадьбу в Сузах; велел обучать азиатских мальчиков ма-
кедонской военной службе и принял их в свое войско; но для достижения
своей цели он главным образом пользовался системою колонизации в са-
мых широких размерах.
Разве в этом случае он также следовал лишь мимолетным внушениям
^ прихоти? Нельзя, конечно, сомневаться в том, что влияние на него вели-
х кого наставника не прошло бесследно. Аристотель не только написал для
К него книгу Tragi fiaaiXeia*;, TraiSaCcjv ainov, оъщ Se? fia<riXeveiv (см. так назы-
§ ваемого Аммония Wit. Arist. у Вестермана, Biogr., p. 401. 3; Arist., fr. 78,
jx ed. Rose); но сверх того существовал еще написанный им трактат:''AXe^avSqo^
~~ у хлхкд aTTotxicov, Heusch. n° 22 (\mkq aiToixwv Diog. Laert, V, 22);1 об этих трак-
C\ татах упоминается в поучительной заметке Аммония: у оса кдсотг^щ итто
'AXe^avSgov tov MaxeSovog тгед1те fiaaiXeias xai оттих; Ъг?та<; атто1х1а<; шнеГсгЗш
yeygacpyxev (Rose, Arist., fr. XIV, p. 1489).
Если Александр велел с Гарпалом прислать себе в Азию вместе с со-
чинениями трех трагиков историю Филиста, то сделал это не оттого, что-
бы ему нравился подобострастный способ изложения (у$6<; те xoXaxixov
xai iitxQoXoyov), в каком упрекают этого государственного мужа, поддер-
живавшего некогда дружбу с Дионисием. Завершить основанием колоний
военную оккупацию покоренных стран было отнюдь не новой идеей Алек-
сандра; но характер его оснований обнаруживает, что он руководствовался
при этом не с одной только военной точки зрения. Диодохи и эпигоны про-
должали дело более или менее в его же духе, последствием чего было во-
дворение эллинизма в большей части областей. Даже варварские оккупации
парфян и саков не могли сразу искоренить его; Аршакиды на своих монетах
до позднейшей эпохи называют себя филэллинами; парфяне презирали царя
1 Мне кажется, что Rose (Arist., p. 95) не успел доказать апокрифичес-
кий характер этого трактата, а тем еще менее то, что fr. 81 заимствован из
него и, следовательно, не верен.
461
Вонона за то, что он чуждался парфянских обычаев, окружал себя грека-
ми (Tacit., Ann., II, 2); и еще Сенека говорит: quid sibi volunt in mediis
barbarorum regionibus Graecae urbes? Quid inter Indos Persasque Macedo-
nicus sermo? (Consol. ad Helv., 6). He говоря уже о царе Милинде Сагаль-
ском и о его ионакских вождях — Калидаса в приписываемой ему поэме
Рагувансе повествует о том, что царь Рагус во время своего великого по-
хода прошел по стране авансов, «у которых жены пьянствуют, которые
бойко ездят на лошадях и носят бороду». Даже проникшие в Индию варва- I ri
ры более столетия, как кажется, употребляли на своих монетах греческие П§
буквы и слова. И в самом деле, язык, на котором проповедовали апосто- §
лы, был всемирным наречием.
°
ш
Q
В следующих главах я имею в виду собрать вместе основанные Алек- х
сандром и его преемниками восточные колонии. Количество этих городов Е
было, без сомнения, гораздо больше того, которое нам известно теперь по
случайным большею частью сообщениям древних писателей. В особенно- I §
сти так называемый Стефан Византийский, который в первоначальном виде п
заключал в себе, конечно, более обильный материал, сохранился лишь в х
крайне разбросанных, отчасти исполненных пробелов, отрывках. Я дол- г5
жен еще прибавить, что не претендую на полноту изложения, оттого что
не успел переработать всю литературу побочных сочинений, в которых по- .
падется, вероятно, не одна заметка; я успел лишь просмотреть церковных 3
писателей, болландистов и другие предания о святых, также юридическую
литературу, большую часть византийцев; следовало бы еще справиться
у медицинских авторов, лексикографов, схолиастов. Однако и в настоящем 11
даже виде наше изложение окажется полнее всех бывших прежде попыток Щ
подобного рода. Труд Гегевиша отличается превосходным изложением от- ^
носительно общих точек зрения, но он скуден материалом. Histoire des co-
lonies grecques Рауля Рошетта оказывается слабее всего в четвертом томе,
заключающем в себе именно колонизации этой категории. О других трак-
татах я могу умолчать. За последние три десятилетия некоторые статьи
по этому предмету были дополнены и исправлены, но вполне этот вопрос
никем еще не был вновь разработан.
Следующий при сем перечень должен служить лишь основанием для
систематического каталога эллинистических колоний. Я оставил здесь без
внимания все, что касается поселений на западе от Сирта и в европейских
странах, так как они не относятся непосредственно к моей задаче. Я умал-
чиваю также о местах, имена которых оказываются лишь переводом на гре-
ческий язык, какие именно в Египте попадаются уже у Геродота; я привожу
по преимуществу такие поселения, македоно-греческое основание кото-
рых положительно засвидетельствовано или признается по данному им в
честь царей или родных городов имени. На основании более или менее до-
стоверных догадок присоединим к этому несколько других колоний, при-
чем, однако, мы не в состоянии будем избегать некоторых сомнительных
случаев. Для того чтобы не увеличить числа их, я в свой перечень не внес
города, которые отличались лишь тем, что на их монетах появлялись гре-
ческие надписи и изображения, а в развалинах обнаруживались следы гре-
з
х
462
ческого зодчества; иначе количество перечисляемых мною в странах по сю
сторону Тигра городов возросло бы чрезвычайно. Наконец, я в исключи-
тельных только случаях буду упоминать о городах, основанных после по-
ловины первого столетия до Рождества Христова, так что сюда не войдут
основанные римскими полководцами и цезарями, также иудейскими царя-
ми колонии, хотя они в некотором отношении все еще состоят в связи с со-
зданною Александром системою.
ГОРОДА, ОСНОВАННЫЕ АЛЕКСАНДРОМ
«Александр, — говорит Псевдо-Плутарх в своем первом трактате о
его счастье (II, 5), — основал более семидесяти городов среди варварских
народов и усеял Азию эллинскими поселениями». Это показание сочли
крайне преувеличенным; однако следующий перечень вполне подтвердит
его. Когда распространилась весть, будто Александр пал около города
маллов в Индии, то 3000 эллинских переселенцев из Бактрии и Согдианы
отправились на родину (Diod., XVII, 99; Curt., IX, 17 был другого мнения
относительно мотивов), а после смерти Александра «поселенные в так на-
зываемых верхних сатрапиях эллины» 20 000 пехотинцев и 3000 всадни-
ков собрались в назначенных местах, с тем чтобы отправиться на родину
(Diod., XVIII, 7); в Мидии, как кажется, они потерпели поражение; Пенз-
ой вестно, как далеко распространился этот мятеж, но он захватил, вероят-
i но, арианские и оксианские области; и все-таки в этих местах впоследствии
К эллинистический элемент оказался в довольно значительном размере,
q Во всяком случае, не все города, прозванные в честь Александра, осно-
_qJ ваны им самим. Аппиан (Суг., 57) заявляет, что Селевк некоторые из своих
~ поселений поименовал в честь Александра, и мнение Малалы (р. 204, ed.
С, Bonn.), будто города получали свои названия только в честь находившихся
вживых особ, едва ли заслуживает доверия. Мы, по крайней мере, впослед-
ствии ознакомимся с несомненным примером того, что один князь основал
Александрию в честь своего сюзерена Александра. Нельзя также отрицать,
что некоторые из городов впоследствии в императорскую эпоху без всяко-
го повода называли Александра своим основателем. Наконец, века упадка
древней цивилизации представляют каталог двенадцати городов с именем
Александра; в этом списке, однако, странно перемешана истина с ложью.
А все-таки число основанных Александром городов оказывается на деле
гораздо значительнее, чем предполагают С. Круа и Грот.
Проследуем за походом Александра по Азии; к сожалению, Арриан
сообщает мало фактов по нашему вопросу, ограничиваясь лишь предмета-
ми, отвечавшими цели его сочинения.
Перед битвой при Гранике Александр посетил Илион; он был в то
время деревней с простым храмом Афины; Александр совершил там
жертвоприношение, о чем Дикеарх писал, как кажется, скорее в качестве
публициста, чем ученого. После разрушения персидского царства он при-
казал украсить храм, назвал деревню городом, велел своим начальникам в
тех краях отстроить его, объявил его свободным и освобожденным от по-
463
датей. После смерти Александра Лисимах в особенности способствовал
преуспеянию города; он построил в нем храм, обвел его стеною в сорок
стадий, переселил в него жителей из некоторых отпавших окрестных го-
родов. Таковы, в сущности, показания Страбона (XIII, 593). Этот Илион,
основанный лидийцами всего в часу езды до древней Трои оратор Ликург
называет необитаемым, тогда как у Xenoph. Hell., Ill, 1, 16 Илион поимено-
ван в числе AioXiStg -покщ, а сорок лет спустя после того «Скепсис, Кебрен
и Илион», как видно, открыли ворота аттическому полководцу Харидему
(Demosth., Aristocr., § 154; Polyaen., Ill 14; Plut., Sert, 1); сошлюсь здесь на
прекрасную картину, какую Форхгаммер присоединил к своим Observations
on the topography of Troy (Geogr. Journ., 1842). Это тот самый новый Илион,
который со времени своего восстановления играет немаловажную роль и
который, судя уже по так называемой Сигейской надписи (С. I. Graec, II,
п° 3595 около 277 года), представляет знаменательное свидетельство сво-
его раннего цветущего состояния.
Поблизости находится Александрия Троянская. Антигон водворил в I О
городе жителей из окрестных местностей и прозвал его Антиганией; од- Lg
нако владевший этим краем после победы при Ипсе Лисимах «счел долгом \Р
почтения к Александру, чтобы преемники его основывали города сперва с
его именем, а уже после со своим» (Strab., loc. cit.). Новый Илион лежал I §
внутри страны, а эта Александрия Троянская благодаря положению на юге §
недалеко от Бешикского залива пользовалась значительным преимуще- i
ством морского сообщения; известно, какую роль впоследствии играл этот | ^
Эски Стамбул. То, что город некоторое время назывался Антигонией и что
жители Кебрена были переселены в него, основано лишь на указаниях не- I S
которых писателей; дело в том, что на монете с кебренскою головою овна g
и надписью ANTI..., которую Боррель (Num. Chr., VI, p. 190) принял за jjj
'AvT/yovecov, по некоторым обнародованным Имгоф-Блумером из Гааг- 5
ского кабинета экземплярам оказалась скорее ANTIOXEON. Вследствие
этого придется согласиться с Имгофом (Sallets Num. Zeit., HI, S. 306) в том,
что, вероятно, после кончины Лисимаха жители Кебрена опять вернулись
в свой старый город и в знак благодарности прозвали его Антиохия-Кеб-
рен. И действительно, на упомянутой монете с ANTI... на другой стороне
находится увенчанная ларрами голова Аполлона с надписью КЕ. Я упомя-
нул здесь преждевременно об этой Александрии Троянской, оттого что в
позднейших каталогах (Chron. Paschale, Alexander de proeliis etc.) она по-
стоянно приводится в числе двенадцати основанных Александром городов,
а в списке Стефана Византийского значится на втором месте. Впрочем, по
неопровержимому свидетельству (у Стефана Византийского), в этих краях
давно уже находилась Александрия, а именно то место (тсто$) у подошвы
Иды, где, как рассказывают, Парис Александр произнес свой приговор.
Впоследствии мы увидим, что Никея также отчасти относится сюда.
После упомянутой битвы Александр двинулся через Сарды к Эфесу.
Находился ли по этому пути то rov 'AXb^clvSqov TravdoxeTov, о котором упо-
минает Алпиан (Mithr., 20), остается нерешенным вопросом. О храме
олимпийского Зевса на акрополе в Сардах упоминаю здесь лишь ради из-
вестных аналогий, с которыми ознакомимся впоследствии. В Приене Алек-
сандр также соорудил храм (С. I. Graec, И, п° 2904) и имел в виду сделать
464
то же самое в Эфесе, если верить рассказу эфесца Артемидора (Strab.,
XIV, 641). Судя по одному месту в договоре между Магнесией и Смирной
(С. I. Graec, II, п° 3137), в Магнесии при Сипиле Александром, как кажет-
ся, водворены были солдаты.
Важнее всего то, что постройка новой Смирны также приписывается
Александру; Plin., V, 20 и Aristid. Palinod., I, p. 431, ed. Dind. подтверждают
это показание. Павсаний (VII, 5, 2) сообщает легенду, будто Александр,
заснув около храма Немесиды (щод Nefieaewv \bqov), видел во сне богиню,
и будто она побуждала его построить город у подошвы горы Пага; это ска-
зание изображено на монетах города времен Марка Аврелия и др. Рауль
Рошетт (р. 121) пытается опровергнуть это предание странными довода-
ми; так, между прочим, он говорит, что Александр слишком быстро под-
вигался вперед, так что не мог промешкать в этих местах для подобных
построек. Царь, однако, не был сам ни в Кизике, ни в Клазоменах, а все-
таки велел в обоих городах воздвигнуть большие сооружения (Paus., VIII,
3, 5; Strab., XIV, 644). То же самое следовало бы сказать про Галиарта в
Беотии, если бы известие о нем в Etym. M. v. было достоверно; а судя по
заметной все еще в развалинах правильности, характеризующей построй-
ки как той, так и следующей затем эпохи, оно, конечно, заслуживает вся-
ческого доверия. Сказание по поводу Смирны опровергается прежде всего
положительным известием Страбона (XIV, 646), приписавшего постройку
города Лисимаху и Антигону; сверх того, Александр едва ли мог видеть
рассказанный сон, так как по пути из Сард к Эфесу он не посещал храма
к I Немесиды.
х Овладев Галикарнассом, Александр двинулся через Ликию, Памфи-
К лию, Писидию, Фригию к Гордию. На этом пути встречаются два города,
с; основание которых приписывается ему. А третий город Сагаласс, на не-
о. которых монетах которого также появляется изображение стоящего Алек-
сандра с его именем, находится с ним в связи, как кажется, лишь в том
отношении, что был им завоеван; помимо этого, по крайней мере, я не на-
хожу в преданиях никаких других следов. Иное дело, Аполлония во Фри-
гии (ныне Олубурлу); этот город находится около четырех миль к востоку
от Келен, куда направился Александр; сомнительно поэтому, видел ли он
сам весьма интересное в военном отношении местонахождение этого го-
рода. Во всяком случае, однако, название его было не старое туземное; на
монетах положительно значится AAE5ANAP02. KTI2T. АПОЛЛОШАХ;
а то, что эта надпись относится отнюдь не к Аполлонии в Карий, как пред-
полагали Рауль Рошетт и еще Мионне (Suppl., VI, р. 469), оказывается
частью из OMONOIA этих автономных монет с пергамскими, также с ли-
дийскими, ликийскими (Eckhel, II, р. 578), частью сообщенными Арун-
деллем (Discoveries, I, p. 243) двумя надписями из Олубурлу, в которых
значится: <}) PovXy xa\ о Ь^о<; АПОЛЛОШАТГШ ATKION 0PAIKON
KOAONON (С. I. Graec, HI, n° 3696, 3970; II, n° 1114); сверх того, имеются
еще монеты с надписью АПОЛЛПШАТГШ ЛТК. 0PA. (по ВоггеГю у
Arundell'a, II, р. 246). Принадлежат ли Аполлониевы монеты с богом реки
и надписью 1ПП0Ф0РА2 этой Аполлонии (Mionnet, III, p. 332; Sestini,
Class, gen. ed., II, p. 95), пока неизвестно. Однако после такого решитель-
ного указания на Александра как на основателя в связи с поселением фра-
465
кийцев и лйкийцев следует, конечно, основание Аполлонии также припи-
сать царю; пробыв в Келенах десять дней, он мог посетить ее окрестности,
о чем, впрочем, не упоминается в летописях, а может быть, оставленный
им сатрапом в этой области Антигон Одноглазый предложил основать этот
город2.
Необходимо упомянуть, по крайней мере, о том, что городу Аморию,
находившемуся на полпути от Келен к Анкире в Галатии, принадлежит мо-
нета с надписью AAEEANAPOS AMOPIANHN (Mionnet, Suppl., VII, p. 501).
Стефан Византийский в числе восемнадцати городов Александра за-
являет на десятом месте що<; тф Лат/ььф т% Кад'кн; kv у 'ASwviov yv z%ov
Y\qa£,niXov<; 'AcpqoSittjv. Никто помимо Стефана, впрочем, не упоминает об
этой карийской колонии. Рауль Рошетт относит сюда ttjv що$ 'Ag7rav, по-
именованный в позднейших каталогах двенадцати Александрии (см. ниже);
вероятно, под этим разумеется река Гарпас, впадающая, правда, в Меандр,
милях в десяти к востоку от Латма. Может быть, вернее будет предпочесть
следующую комбинацию. В числе монет из Алинды в Карий находится, I О1
между прочим, монета Каракаллы и Плавтиллы, на обратной стороне ко- Lg
торой изображена рядом с Аполлоном, встречающимся вообще на моне- \р
тах этого города, Venus pudica: она одной рукою tegenda tegit (эти слова О
Сестини Мионне (Suppl., VI, р. 445) переводит таким образом: касаясь пра- §
вою рукою своей одежды), а левою она держит свою одежду над водоемом. §
Описанная у Мионне, по Сестини, монета, насколько известно, составля- i
ет единственный кнобельсдорфский экземпляр (в Берлинском нумизма- (5
тическом кабинете); из надписи на обороте уцелели еще буквы... IN. EON.
В этот самый город Алинду и удалилась царица Ада, у которой брат ее I S
отнял карийское владение; когда же подошел Александр, то она вышла g
навстречу, передала ему укрепленный город и усыновила его; когда пал
Галикарнас, то ей поручено было управление Карией (Arrian., I, 23). Так
как все ручается за достоверность каталога у Стефана, то ввиду его показа-
ний необходимо прибегнуть к следующему предположению: в упомянутой
выше Афродите на монете, вполне схожей с книдскою, всеми признается
Венера Праксителя; эта Афродита, по мнению Стефана, принадлежит го-
роду Александрии при Латме; Алинда находится при Латме, у Алинды та
же Афродита; Ада в честь Александра переименовала и расширила свой
город; однако это имя, так же как у многих других городов, вскоре вышло
из употребления. Такой вывод кажется более удачным, чем он есть на са-
мом деле; Юл. Фридлендер, которому я обязан вышеупомянутою нумиз-
матическою заметкою из Берлинского нумизматического кабинета, того
мнения, что эта монета из Алинды была, вероятно, OMONOIA с Книдом;
правда, об этом нигде не встречается никаких следов; однако в других мо-
нетах города не находим, впрочем, никакого отношения к Афродите. По-
ложение Алинды описал Fellows (Lucia, p. 62).
2 Стефан Византийский говорит, что Аполлония во Фригии прежде на-
зывалась Маргионом, а в Писидии —Мордиеоном. Одно из этих названий
для нас исчезло; упомянутая в тексте Аполлония находится в писидий-
ской Фригии; неизвестно, называлась ли она прежде Маргионом или Мор-
диеоном.
от
*
х
1
Летом и осенью 333 года Александр двинулся через Тавр в'Киликию и
в изобилующих горными проходами окрестностях Исса одержал первую
победу над соединенными персидскими войсками. Арриан и здесь также
вовсе не упоминает об основании города; Curt. (Ill, 12) говорит лишь о
сооружении трех алтарей, о которых упоминает и Цицерон (Ер. ad fam.y
XV, 4). Рауль Рошетт говорит, правда, что Александр тотчас же после бит-
вы заложил город, которому дал свое имя; это показание, как и многие
другие в истории греческих поселений, оказывается просто вымыслом.
Однако царь положительно сам велел выстроить эту Александрию при
Иссе, Tqv т 'AXe^avSqov ttoXiv тш Maxefiovi xTurbeiaav, говорит Скимн в сво-
ем посвященном царю Никомеду географическом стихотворении (fr. 187);
но так как Арриан в своей истории похода Александра не упоминает об
этом основании, то приказ строить город был, вероятно, выдан впослед-
ствии из Вавилона, Мидии или Индии. Стефан в своем списке называет
этот город восьмою PiXz^avbqzicL KiXix'uu;, а Малала (р. 297, ed. Bonn.)
'AXB^avbqeia у fiixqa; точно так же и между подписями первого Никейско-
го Собора находится Hesychius Alexandriae minoris; на своих монетах этот
город отличается от других приставкою КАТ I220N. По словам Геродиа-
на (III, 4), он вроде Selyfia гхьмщс, ту vixyg расположился на высоте km той
\6cpov, и в нем сохранялась бронзовая статуя того, именем которого он был
назван. Замечательно, что в Itin. Hieras., p. 580, ed. Wess. этот город называ-
ется Alexandria scabiosa; то же имя подразумевается в искаженном тексте
щ 'AXe^avSqetav ttjv Kaii/Suvou у Малалы (р. 397). Помимо других толкова-
к I ний и поправок этого прозвища упомяну лишь мнение Фоссия, который
советует писать scabrosa, что, как кажется, подтверждает и Валерий своею
К I Alexandria montuosa (см. ниже).
о
С
с; Трудно определить, что такое Никополь. Стефан (v. "1оч70£) говорит,
о. что Александр переименовал таким образом Исс после своей победы; вот
почему мы и упоминаем здесь об этом городе. Однако Стефан, отождеств-
ляя эти названия, без сомнения, ошибается. Страбон (XIV, 676) положи-
тельно говорит, что при Исском заливе находятся города Росс, Мириандр,
Александрия, Никополь, Мопсуестия (считая от юга к северу), а прежде
того он назвал уже Исс. Маннерт из слов Птолемея и по Itin. Ant. заклю-
чает, что Никополь находился далее, внутри материка; однако в Itin. Ant.
цифры, по крайней мере, указывают на близость моря, а у Малалы (р. 297)
парфяне, проникая из Антиохии в Киликию, разрушают Александрию,
Росс, Анасарб, Эги и Никополь. Все-таки показание Птолемея, называю-
щего этот город в числе рео-оуеТо*;, оказывается верным, так как на моне-
тах значится надпись NIKOnOAITHH 2ЕЛЕТК1Д02, тогда как берег
решительно не принадлежал к Селевкиде. («Внутри страны, к востоку от
Аманской цепи, следовательно, в верхней Сирии, у восточного выхода
'Ap^avixai 7гиЛа/, профессор Гаускнехт в 1865 г. нашел этот древний город
и теперь еще известный под именем Небуля. Цифры в Itin. Ant. ничего не
доказывают, так как дорога через Никополь не пролегает далее» (Г. Ки-
перт). Он поясняет свое замечание, присоединив к нему очерк карты, по
которой Никополь лежит при впадающей в Lacus Antiochenus реке Кара-
су, и прибавляет: «Никополь находился, следовательно, на том месте, где
до вступления в битву при Иссе расположен был лагерь Дария».)
467
В сирийском крае Александр был два раза: впервые почти целый год
спустя после победы при Иссе, когда он сам прошел через Финикию, завое-
вал Тир и Газу и посетил, как кажется, Иерусалим; одну часть войска Пар-
менион повел вверх по Оронту в Дамаск. Вторичное пребывание Александра
в Сирии было, когда весною 331 года он из Египта двинулся к Евфрату; он
шел через Тир (Arrian., Ill, 6, 1), а потом, вероятно, по обыкновенной до-
роге переправился через Оронт, спустился вниз по реке приблизительно
до того места, где впоследствии находилась Апамея, отсюда перешел на
восток в Фапсак.
До нас дошли лишь крайне отрывочные заметки относительно того,
что сделал Александр для прочной оккупации этого важного края; все тут
было затемнено обширными колонизациями Селевкидов.
Во всяком случае Александр у подошвы Сильпиона, находившегося
впоследствии в самой Антиохии, соорудил алтарь воттийскому Зевсу и,
как кажется, город Эмафию. Либаний (Ant., р. 297, ed. Reisk.) говорит: aq%ai
rov xarotxta-fiov Zev$ ВотпаТо*; iSqv$ei<; vtto 'AXe^avSqov т? те axqa -rrjq exehov O1
irarqi$o<; Xafiovcra rovvofia xai 'Н/шЗт х\г\Ье?<га (cf. Malal., p. 302); основа- Lg
ния этих городов Малала (р. 200, ed. Bonn.) приписывает Селевку, тогда \р
как он так же, как и Либаний, название источника Олимпиады относит к
Александру (Malal., р. 234: ttj<; ' ОХ7цпиаЬо$ 7Г777Ж ТЧ$ хтиг$е1(П)$ vtto
1AiXe^avSgov хтА.). Подробности см. у С. О. Miiller (de Antig. Ant., p. 22). I §
Тир и Газа также в некотором роде могут быть отнесены к основаниям х
Александра. Он оба этих города взял приступом; в Тире пало 8000 человек, | <5
а около 30 000 тирцев и инородцев были проданы в рабство. Александр,
как следует заключить из неясного изложения Юстина (XVIII, 3), заселил I S
город новым населением — финикийцами из других городов и изгнанны- g
ми прежде тирцами (innoxiis et ingenuis incolis insulae adtributis, ut genus
urbis ex integro conderetur). В течение наступивших затем двадцати лет Тир
постоянно является главным сборным местом македонских войск на этом
берегу; Пердикка переносит туда свою казну, и македонскому фрурарху
поручается начальство в новом городе (Diod., XVIII, 37). Точно так же и
Газа; когда город был взят, а население его было частью перебито, частью
продано в неволю, то царь водворил в нем новых жителей; ttjv ttoXiv
ovvoixiaa^ ex riov Treqtoixcov е%дт)то oaa (pqovqiq) e<; rov ттоХероу (Arrian., II, 27).
Joseph. (Bell. Jud. II, 6, 3) называет ee7roA/£ EAAtjviV; тот же автор (Joseph.,
Ant., XIII, 13, 3) упоминает там об эллинском городовом устройстве, а
именно о совете 500 или, скорее, о булевтах.
Замечательно известие о Герасе по ту сторону Иордана, которое Ге-
зениус в очерке истории этого города (Букгард, I, 535) упустил из виду.
Беркель в примечаниях к Steph. Byz. (II, p. 269) из комментария Ямвлиха к
«Арифметике» Никомаха сообщает следующее место: "Еегп be Treqi Boarqav
xai 'Aqafiiav, Teqaara Ы Xeyerai аттд rov tov<; ovvrqarevo-avTa*; тф 'AXe^avSqco
yeqovra*; xai fiT) Svwjbevras TroXefieTv exe? rrjv oYxytriv TwirjO'aaSai. Еще более
запутана заметка в Etym. M., s. v.: Teqaajivo^' 'POs.e^avbqo<; ttoXiv TraqaXafiwv
rovq ev TjXtxia ттаута<; xreivaq aizeXva-e tov<; yeqovrag- o\ be avveX^ovreq xri^ovtri
ttoXiv xai Xafiovreq yvvalxa$ eiraiSoTroiTjo-av. Как ни странно звучат эти исто-
рии, а я все-таки готов удержать имя Александра. Он же сам, вероятно,
переходил через Иордан и, судя, по крайней мере, по словам Плиния (XII,
*
1
25, 117) и Страбона (XVI, 763), был также в благовонных садах Иерихона
(Joseph., Bell, fud., I, 6, 6; cf.: Robinson, II, p. 539). Восстание самаритян,
изложенное позднейшими авторами с большими разногласиями, по мне-
нию Курция (IV, 8), было историческим фактом; оно, во всяком случае,
распространилось, вероятно, по ту сторону Иордана и подало повод к ме-
рам, состоявшим в связи с упомянутым основанием.
В связи с этим событием состоит еще основание другого города, ко-
торое, не колеблясь, можно признать. Синкелл (р. 496, ed. Bonn.) сообща-
ет: tt)v XafACLQeiav, ttoXiv iX<i)v 'AXe^avSgo<; MaxeSovag ev avrjj хатфхкге.
Несколько подробнее изложено у армянского Евсебия (II, 116, ed. Schone):
Andromachum regionum illarum procuratorem constituit, quern incolae urbis
Samaritarum interfecere, quos Alexander ab Egipto reversus punivit, capta
urbe Macedonas ut ibi habitarent collocavit. Стефан говорит: Xafiageia...
у tLerovoiia(r$e7<ra NbclttoXh;; этим подтверждается все то же так часто по-
вторявшееся смешение Самарии с самаритянским Сихемом; ибо тождество
Си-хема и Неаполя не подлежит сомнению (Damasc. apud. Phot, bibl.: тщ%
ev YlaXaiarlvjf} Nea<; ттоХещ що<; oget xar(i)xi<rfiev^<; тф 'Agyagifo xaAou/xivtfj),
или, точнее, близ Сихема находилось местечко Маборфа, где основан был
Неаполь (Plin., V, 13; Joseph., Bell. ]ud., IV, 8, 1). Экгель был того мнения,
что «новый город», монеты которого сохранились со времен Тита и на кото-
рых он постоянно называется Флавией Неаполем, возник после разрушения
Иерусалима; это согласуется, конечно, с тем, что Плиний уже называет
его, ибо он говорит: Hierosolyma fuere. Во всяком случае, однако, не сле-
дует упускать из виду приведенные нами положительные свидетельства, и
непонятно, отчего Робинсон в своем основательном исследовании исто-
рии Неаполя не обратил на них никакого внимания. Не лишено, конечно,
значения то, что говорит по этому поводу Иосиф (IV, 8, 1): Веспасиан шел
ha Trj<; 2afiagem8o<; xai кода ttjv NeanoXtv xaXowevyv, MafiogSa Se \mo тшу
&Tti%a}giu}v. Он довольно часто упоминает о Сихеме, но отличает его от
Неаполя-Маборфы, а потому и не упоминает о Неаполе, когда говорит о
Сихеме. За верность показаний хронографов, которые Стефан, в сущнос-
ти, подтверждает, ручается их хронологическая точность; они относят за-
кладку этого города тотчас же после основания Александрии в Египте; и в
самом деле, вернувшись из Египта, Александр усмирил восстание самари-
тян; «Vivum Andromachum cremaverant... advenienti sunt traditi tanti sceleris
auctores; Andromacho deinde Memnona substituit, affectis supplicio qui
praetorem interemerant», — говорит Курций; об основании он, как обычно,
умалчивает. В виде отдельного города Сихем (Selxvvrai 6 тбттод ev щоаоте'юк;
Nea£ ттоХеих; (Euseb., Onom.); cf. s. v. Aoufa, Tegefiiv$o<;)t как кажется, суще-
ствовал только до разрушения его Гирканом. Приняв в соображение, что
этот город со времени Гиркана не упоминается более в истории, нельзя,
кажется, сомневаться в том, чтоХихад (упоминаемый в Jon. Ev. 4, 5) нетож-
дествен с Сихемом и не составляет игры слов у евангелиста, как полагал
Генгстенберг (Authentic des Pent., I. 25). [Киперт, напротив, замечает: «Си-
хар существует даже теперь, а именно название: Айн Аскар, недалеко к
востоку от Набула»]. — Замечательно, что в Каноне армянского Евсебия
(II, р. 118, ed. Schijne) значится: «Demetrius... Samaritanorum urbem a
Perdicca constructam (s. incolis frequentatam) totam cepit»; это или ошибка,
469
или указание на новые насильственные действия самаритян, вследствие
чего необходимо было приступить к новому основанию города.
Александру следует приписать еще два города в палестинской Сирии,
хотя относящаяся к ним заметка у Стефана v. ATov оказывается довольно
странною. В ней сказано: A?ov,xolXr% Xvoiag, xr/V//,a '' AXe&vSoov,т? хал ШЛЛа.
Неверность этой заметки доказывается вполне подтвержденным разли-
чием между Дионом и Пеллою в Перее. В Cod. Pal. стоитхт'кг^а ''AXa^avSgov
xai ШЛЛа, из чего Перкелий заключил, что у Диона было два основателя.
Можно, скорее, понять так: xria-fia 'AXe^avSgov, и слова: хал у ШЛЛа счи-
тать заметкою на полях, сделанною каким-нибудь знатоком географии
Святых мест. Стефан говорит: v. ШЛЛа ...jco/Ai^ XvQias у Bovtk; Уяуоулщ,
что может относиться только к городу по ту сторону Иордана, а не лежав-
шему при Оронте. Пелла, подобно македонскому городу того же имени,
была aquis dives (Plin., V, 18). Экгель говорит, что у обоих городов монеты
были одинакового типа (D. N., I, 1, р. 74). Для того чтобы ориентироваться
в этом все еще спорном положении, можно воспользоваться Polyb., V, 70; I О1
может быть, этот древний город есть нынешний el Budsche; ср.: Korb in Jahns P
Jahrb., IX, 1,S. lOOff. |Q
Я, без сомнения, отнесу сюда отмеченную в Itin. Hieros. Александро-
шену, хотя не могу прибавить о ней никаких подробностей помимо тех, I §
которые находятся у Маннерта. Упомяну, по крайней мере, о том, что мест- §
ность, где находятся источники у подножия Ras-el-abiad, в двух милях к i
югу от Тира, и ныне еще называется Скандеруной; сохранилось воспомина- | ф
ние о том, что Александр во время осады Тира заложил здесь укрепление.
В истории крестовых походов это место часто приводится под названием I а>
Скандалиона и как имя владевшего крепостью синьора (см.: Prutz, Aus g
Phonicien, § 230).
Странною показалась мне заметка у Элия Лампридия в его «Биогра-
фии Александра Севера» (р. 5): in templo dicato apud Arcenam urbem
Alexandra Magno natus. Положение этого местечка на высоте к югу от Элев-
тера весьма замечательно, и путь Александра из Марафа в Библ пролегал
близ этой важной позиции, известной в императорскую эпоху под именем
Caesarea ad Libanum. Находившийся там в такую позднюю эпоху храм
Александра служит, конечно, доказательством, что город был крайне бла-
годарен царю. Иосиф несколько раз упоминает о городе Аркэ, но он ни-
чего не сообщает для разрешения нашего вопроса; см. также: Plin., V, 18;
Ptolem., etc.
Большею ясностью отличаются известия об Аламее близ Оронта. Ли-
баний (Antioch., p. 297) сообщает, что здесь Александр также соорудил
алтарь воттийского Зевса. Страбон говорит (XVI, 572), что Апамея была
прозвана Пеллой \лто twv ttqqjtcdv MaxeSovwv Sia то tov<; тг\е1атои<; тшу
MaxeSovcjv вутаО^а oixTJo-ai Ttbv атоатеиоцеисм. Мы впоследствии вернемся
к этому месту; здесь Александр по пути к Евфрату, без сомнения, также
положил почин основанию колонии; выбор этого места опять-таки ока-
зывается замечательным; и действительно, здесь ныне еще, так же как на
Пейтингеровой карте, пересекаются большие дороги, и здесь главным об-
разом пролегает кратчайший путь из южной Сирии к Евфрату. Сам Алек-
сандр прошел, вероятно, этим от природы указанным путем к Фапсак.
i
470
Прежде чем последовать за ним туда, необходимо вернуться к его по-
ходу в Египет в 332/331 г. Я умолчу о castra Alexandri, которые Curtius (IV,
7, 2) называет regio. Александр застал в Навкратисе, а вероятно, и в неко-
торых других местах (cf. Hecataeus, fr. 286) греческие поселения. От него
не могло ускользнуть важное значение берега. Там он сделал одно из са-
мых блестящих своих сооружений. На месте, где лежало древнее египет-
ское местечко Ракотида, между «озером стражи» (Мареотидой) и морем,
против «острова стражи» Фара, он назначил место для нового города
Александрии. Меня осуждали, когда я утверждал, что при этом основа-
нии Александр руководствовался более важными, чем одними только во-
енными соображениями, что он, напротив, имел главным образом в виду
создать средоточие для торговых сношений своего нового царства. Разве
он не выбрал единственного места по египетскому поморью, способного
служить удобною гаванью? Если бы он имел в виду лишь удержать за со-
бою Египет, то мог бы скорее заложить свой город около Мемфиса или на
месте раздвоения Дельты; тогда как Александрия, можно сказать, лежит
скорее возле Египта, чем в нем самом. Но он выбрал именно это место ev
ovvSea-fiip tivi т% ЬХщ тж. как очень метко выразился Dio Chrys. (XXXII,
670, ed. 12). А сверх того положительно упоминается о том, что Александр
приказал своему египетскому сатрапу Клеомену oixicrai ttoXiv що<; тф Фоьдсо
xai efiTToqtov то irqoreqov ov em tov Kavdafiov evravB'a TroiTJaai (Aristot., Oecon.,
II, 33). Я здесь не стану распространяться о топографии города; о городо-
вом управлении нам мало известно. Часто упоминаются пять частей горо-
ду I да (см.: Zeitschrift fur Alterthumswissenschaft. 1839. S. 873). В то время когда
Полибий посетил Александрию (Polyb., XXXIV, 14), население ее состоя-
^ | ло из трех частей: то те Aiyimrtov xai emx<oqtov <pvXov, то fiioSocpoqixov, то twv
'AXe^avSqeuv yevoq xai yaq el iiiyabe*;, "EAA^ves орал; ivsxaS'ev tfaav xai
о
с;
о. щщщуто tov xoivov t&v 'ЕААт^сиу е&ои^. К этим последним только и отно-
rz
силось разделение на филы и демосы. Я намеренно умолчу здесь о евро-
пейском населении города.
В этих странах упоминается еще о двух местах, которые были осно-
ваны Александром. О Паретонии (или Аммонии, как иные называют этот
город, Strab., XVII, 799; Steph. Byz. v.) Иероним в переводе Евсебия (р. 115,
ed. Schone) говорит: Alexander Hyrcanos et Mardos capit revertensque in
Ammone condidit Paraetonium. В армянском Евсебии (II, p. 114, ed. Schone)
стоит то же самое, но в искаженном виде: adscendensque in Samonum Ponion
condidit (v. 1. sammonen ponionem). Мы не обратили бы внимания на оши-
бочную хронологию, если бы помимо романа об Александре (Pseudo-Call.,
1; 31) еще где-нибудь подтвердилось, что царь действительно основал этот
город; поводом к этому послужило опрометчивое толкование имени го-
рода, так как Александр промахнувшемуся по пробежавшему оленю стрел-
ку будто бы сказал: YlaqaTovov croi yeyovev. Это место Евсебия замечательно,
так как оно обнаруживает, что роман об Александре тоже служил мате-
риалом для хронографических преданий, и Beqvaj3oa<; Ttora\i/i$ у Georg. Sync,
p. 497. 3 не что иное, как передача Ttfiiqofiovii (v. l.Tifieqvafiov HAHTovBegoaiA)
у Pseudo-Call., 13, 12. — Птолемей (IV, 5) помещает в оазисе Аммона место
7) 'AXe^avbqov TraqefjufioXT), что, как кажется, всего вероятнее. — Сохрани-
лось единственное указание Евстафия (ad Dionys. Per. v., 213) относитель-
но Кирены: от/ хал аитт) ха^сидеЭвигуд T<fj<; rcbv Ylagacbv fiacriXeiag viro
1' AXe^avbgov avaxrla^r). Хотя Александр никогда не был в Кирене, но этому
все-таки можно поверить, не следует только придавать слишком большое
значение слову avexrlo-^T).
Завладев Египтом, Александр пошел через Сирию к Евфрату; он пе-
решел реку у Фапсака; затем царь, как кажется, через Нисибиду двинулся
к Тигру и на равнине Гавгамел вторично разбил персидского царя.
Мы увидим впоследствии, что весь этот край изобилует эллинскими
поселениями. Александр положил им начало. В трактате Исидора о пар-
фянских стоянках положительно именуется Ntxycpogiov, ттоХк; 'EAA^w's,
хтнг/ла 'AXe^avSgov $a<ri\e\j<;\ то же самое говорит Plinius (VI, 26, р. 119): in
vicinia Euphratis... quod Alexander iussit condi propter loci opportunitatem.
Аппиан, который приписал основание Селевку I, не может быть противо-
поставлен этим двум авторитетам (Syr., 57). Страбон (XVI, 747) и Дион
Кассиус (XL, 13) также упоминают об этом городе. Правда, Стефан Ви-
зантийский, опираясь на авторитет Урания, которого он сам называет
а£/о7пото$ (ьщд, говорит: Nix7)<p6gtov оитщ у KcDvoiravrlva г\ ттед} "ESeacrav
tt6Xi$\ отсюда следует, конечно, что существовал другой Никефорий, ле-
жавший между Амидою и Нисибидой; см.: Theophanes, Chron., p. 223, ed.
Bonn. Заметим здесь же, что, по мнению Маннерта (V, 2, р. 287), этот Ни-
кефорий «при устье реки Билеха» впоследствии получил название Калли-
никона; ниже нам представится еще случай проверить это мнение.
Я умолчу о разных местах, основание которых не приписывается по-
ложительно Александру; так, между прочим, об Эдессе, которую Селевк I
уже переименовал в Антиохию. Я должен, однако, обратить внимание на
Карры; жители Карр во время похода Красса решительно называются
MaxeSovcjv cltxo\xo\ (Dio Cass., XXXVII, 5), и в 312 году уже упоминается об
этом поселении (rd>v ev Каддак; xarcoxKr^ivcov MaxeSovwv — Diod., XIX, 91).
А потому карренцы на своих монетах Каракалловой эпохи по всей спра-
ведливости могли называться COL. MET. ANTONINIANA AVR. ALEX.,
хотя бы поводом к этому и служило то, что Каракалла был пристрастным
поклонником Александра; в этом отношении сошлюсь на Экгеля (D. N., I,
3, 508). — Еще один город в Месопотамии положительно приписывается
Александру, правда, лишь позднейшими авторами, а именно Дара, на рас-
стоянии пяти часов к северо-западу от Нисибиды, прозванная впослед-
ствии Анастасиуполем. Малала пишет Аодад и говорит (р. 339, ed. Bonn.):
то Se at/то %u)giov ha tovto ехХу&г) Aoga<; imo 'AXs^avSgov той MaxeSovog, hon
rov (ЗаочХеа Ylegcrw exe? ovveXafisro. Нечто подобное представляет в Etym.
М. v. Chronic. Paschale, p. 608, ed. Bonn.; Euagrius, III, 37; Procop. de bell
Pers., I, 10, p. 49; cf. Alemannus ad Procop., Ill, p. 411, ed. Bonn. Этот факт
подлежит, впрочем, сомнению.
Одно из замечательнейших преданий сохранилось о городе, который
Александр основал на поле битвы при Гавгамелах. Рауль Рошетт привел
его, основываясь на Плинии (VI, 16, 41, ed. Detl.): ...Adiabene, Assyriorum
initium, cuius pars est Arbelitis, ubi Darium Alexander debellavit, proxime
Syriae; totam earn Macedones Mygdoniam cognominaverunt a similitudine.
Oppida Alexandria etc. Для подтверждения показания Рошетта нет ника-
кого другого сведения, кроме упоминаемой в Chron. Paschale Александ-
472
рии в Вавилонии, которая вовсе сюда не относится. У Theophanes (p. 410,
ed. Bonn.), напротив того, ev tottco ' AXe(;av$Qiwfc ovoiiaCpiiivw находится имен-
но в этой области; еще точнее говорит Theophylactus (V, р. 219, ed. Bonn.):
kv 'AiXe^avSqiavoig, ovrco xaXovfisvcp %tog/oj... ttjv Se TTqoayyoqiav 6 %tbqo$ атто
rwv ttqol&cdv Tov MaxeSovog 'AXe&vSqou хатехХг)да)(гато- о той OiXimou yaq
exeicre ytvoiievoq a/xa ту MaxeSovtx'jj ivvafiei tjj те 'EXXtjvix^ aviiiiaxi<?>,
kqviivoTaTOv хатеахафато (pqovqiov to\j<; те sv ai/rqj flaqfiaqovs SicoXeo'ev. Хотя у
Феофана неточно и смутно описаны походы императора Маврикия, но мы
с достоверностью можем убедиться в том, что эта Александриана не что
иное, как Арбелы или находится близ Арбел, которая и расположена как
раз на широком и сверху плоском холме среди обширной равнины. Холм
Арбел, как оказалось на самом деле, состоит из груды кирпича, как и холм
Керкука; вообще в этой местности до Мардина попадается много таких
холмов (Southgate Narrative of a tour etc., no заметке в Ausland., 1841. S. 1167).
Раулинсон в статье on the site of the Atropatenian Ecbatana приводит из
рукописи одного из своих друзей заметку о том, что холм, на котором вы-
строен форт Арбел, по рассказам туземцев, был насыпан Александром Ве-
ликим; по другим местным, приводимым у Риха (II, 118) рассказам, Арбелы
были построены будто бы Дарием. Страбон (XVI, 738), правда, утвержда-
ет, что основателем Арбел был "AqffyXot; о 'ASfioveTg (cf.: Plut. de fluv., 23), —
наверное, один из тех афинян, которые с Медеей отправились в Мидию
(Schol. ad. Lycophr., 1443). Подобного рода сходные между собою сказания
понемногу распространились, как кажется, по всей эллинизированной
к I Азии; в той же местности Арбел помимо упомянутого афинянина мы встре-
х чаем еще сына Триптолема Гордия, по имени которого соседняя область
К названа Гордиеною (Steph. Byz. v. Strab., XVI, 747, 750); Сенека (Cons, ad
§ Heb. cap., 6) сказал: Atheniensium in Asia turba est.
о. Проследим далее путь Александра. Из Арбел он прошел через гору,
прозванную им в честь только что одержанной победы (Strab., XVI, 737)
Никаторием, по большой дороге в Вавилон; оттуда через Сузы в Персе-
поль. Впоследствии мы встретим в этих краях еще несколько греческих по-
селений, из которых некоторые можно бы отнести сюда. Затем, преследуя
персов, он перешел уже в Мидию; тут лишь опять встречаются основанные
Александром города (ибо показание Гамдуллаха Казвини, будто Искандер
построил Исфаган, ничем не подтверждается). Полибий говорит (X, 27) о
Мидии: 7reqioixe?Tat 8e -noXeo-iv 'EXXyviat хата tt)v vvyyrjoriv ttjv 'AiXe&vSqou
(puXaxTJc; evexev tcov avyxvqovirrwv auTjj fiaqfiaqajv, tcXtjv 'ExjSaTavaw. На это
замечание следует обратить особое внимание, тем более что близ каспий-
ских проходов нам известны лишь два-три эллинских города, тогда как,
по словам Полибия, вся обширная Мидия наделена была подобными но-
выми поселениями.
Один только город здесь положительно приписывается Александру.
В не совсем ясно изложенном перечне народов, живших поблизости от Кас-
пийского моря, Плиний (VI, 16, 48) говорит: Gaeli, quos Graeci Cadusios
adpellavere, Matiani. Oppidum Heraclea ab Alexandra conditum, quod deinde
subversum ac restitutum Antiochus Achaida adpellavit. Следуя Плинию, Со-
лин также упоминает об нем, как «in Caspiis Sita» (p. 48), а следуя и здесь
также Птолемею, Аммиан (XXIII, 6, 39) причисляет его к городам по ту
rz
473
сторону каспийских ворот: inter quas opibus et magnitudine moenium con-
spicuae sunt Heraclia et Arsacia etc. Всего поверхностнее оказывается сле-
дующее показание Стефана: v. 'HgaxXeia- рета^ь XxuSm^ xai 'Iv&xtJs, если
только оно вообще относится сюда. Судя, наконец, по градусным опреде-
лениям Птолемея, мы находим этот город в упоминаемой также Страбо-
ном области Сигриане, однако ближе к Экбатанам, нежели к каспийским
проходам. Страбон (XI, 525) говорит: наибольшее протяжение от Загр че-
рез Сигриану к каспийским проходам равняется 4100 стадиям. Нет ника-
кой возможности составить себе ясное понятие о положении города; судя
по указаниям Плиния, его, пожалуй, можно было бы искать близ высоко-
го горного хребта, на северо-западе Мидии; однако Страбон (XI, 514), опи-
сывая Парфиену, прибавляет: она простирается до каспийских ворот и Par,
ovra T7J<; M7j#£/as rrgoregov soti Ss xai 'Ата^е/а xai ^ що$ *¥ayai<; xai airrr)
'Payeta, где, как сообщает Крамер, в рукописях не оказывается никаких
существенных поправок в этом отношении; он, однако, предполагает, что
в подлинном тексте приблизительно значилось: xai 'Arraiieia xai у що<; О1
'Рауак; 'HgaxXeta xai avrai 'Payar, у Мейнеке это место гласит:xai 'A-nafieia Р
xai 'HgaxAe/a, ттоХек; Tragi та$ 'Рауа<;. Город находился, вероятно, на юго- \р
западе от Par (см. ниже об Арсакии). Это предположение, конечно, не о
согласуется с воззрениями новейших исследователей; упомяну только о J
мнении Менна (Meletem. hist specimen dupl., p. 93): ссылаясь на одно мес- §
то у Плиния, он предполагает, что эту Гераклею следует искать в окрест- 1
ностях Мерва. с5
Затем Плиний (VI, 25, 113) положительно приписывает здесь Алек-
сандру основание еще одного только города, а именно при описании I с5
парфянского царства — «ulteriores Parthi Nomades appellantur: citra deserta g
ab occasu urbes eorum quas diximus, Issatis et Calliope, ab Oriente aestivo jjj
Pyropum, ab hibemo Maria, in medio Hecatompylos, Arsace, regio Niseaea |~§
Parthyenes nobilis, ubi Alexandropolis a conditore». Несмотря на сбивчивость
этого описания, видно, однако, что в подлиннике, которым пользовался „ i^
Плиний, regio Nisiaea называлось вместе с Александрополем. В первом
издании моей Истории Александра я упомянул о том, что эту Nisiaea не
следует смешивать с теперешним Нишапуром, так как по указаниям вос-
точных писателей — а име.нно по Istachri, в переводе Мортманна (р. 121) —
значится, что Scheher Nessa (город Несса) находится на окраине пустыни
Кивака, недалеко от Абиверда и Серакса, на расстоянии шести станций от
Нишапура и что он прежде назывался Aber Scheher. Говоря о набегах орд
пустыни, Страбон (XI, 511) также упоминает эту Nyaaia: nrjv Sia^i6vre<;
1махдаТ<; 6$о?<; xarergexov тгр те 'Tgxaviav xai ttjv Nyo-alai/ xai та таЬ YlagSuaiajv
TTsSta; в I, 509 он говорит, что некоторые писатели все еще причисляют
Нисею к Гиркании, и сразу же затем, что Ох протекает через Нисею и потом
вливается в Каспийское море. С этим не совсем согласуются приводимые
Исидором Харакским стафмы; у него, начиная от каспийских проходов,
значатся: Хоарена с 19 стафмами, Комисена — с 58, Гиркания — с 60,
Астабена — с 60, ivrevbev Ylagbirqvr) oycoTvot хе', kv у Sa^Aowj TIagSavvicra 73
ttoXk; aTto<T%o\voi <;'• l£v$a fiacrtXtxai та<раг "EAAtjvss Se Nuraiav Xeyovar sha
Га8ад ттоХн; aixotrxoivoi <;''• elra Xig<bx тхоХк; anbaxowoi /'• xco/m/ Ы ovx \%zi ttXtjv
//ла$, tjtk; xaX&irai Xacpgi. XauXwr) по справедливости изменили в аьАсш/, так
474
как Исидор при описании каспийских проходов говорит: vTreofiavrajv тем;
Каотг'кк; ттСХад iariv avXchv кал щ Xoagyvr); здесь, вероятно, тоже следовало
бы писать: tr/pivoi ке'• eariv avXtov кал Ylaqbavviaa 7) iroXtg; это могло бы озна-
чать «парфескую Нису», следовательно, в противоположность другой
Нисе, которую, может быть, надо признать древним, известным по
Vendidad fr. 1, 26, пятым священным городом Nica, между Моига и Bakhdhi.
Дальнейшие подробности у Isidor. Char, представляют, правда, трудности,
которые я не в состоянии разрешить; если Александр в Парфиене проник
так далеко к юго-востоку, как заставляет предположить имя Xiqqjk (нынеш-
ний Серахс), если он, считая по прямой линии, находился, таким образом,
в 35 милях, т. е. около 50-60 oyco?vo<; от Александрии-Герата, то нельзя по-
нять его дальнейший путь через Маргиану и через тамошнюю Антиохию в
Герат. Эти трудности нисколько не разрешаются тем, что на карте Пейтин-
гера показан почти такой же путь из Par в «Антиохию»; на этой карте,
однако, находим подтверждение относительно Александрополя Плиния,
так как путь через «Асбану» (Астабану Исидора) и «Александрию» ведет
в «Антиохию».
Как бы ни объясняли путь Исидора через Маргиану, не подлежит, од-
нако, сомнению, что под этой 'Avr/o^e/a т? хаХощъщ avvSgoq в Маргиане он
подразумевает известный город Мерв Шахиджан. По словам Плиния, ока-
зывается, что древние писатели основание этого города приписывали так-
же Александру; он говорит (VI, 18, 46): sequitur regio Margiane apricitatis
inclutae, sola in eo tractu vitifera, undique inclusa montibus amoenis ambitu
^ stadiorum MD, difficilis aditu propter harenosas solitudines per CXX p. et ipsa
1 contra Parthiae tractum Sita; in qua Alexander Alexandriam condiderat, qua
% diruta a barbaris Antiochus Seleuci filius eodem loco restituit Syrianam
q interfluente Margo, qui corrivatur in Zothaie (?). Is maluerat illam Antiochiam
qJ adpellari ...In banc Orodes Romanos Crassiana clade captos deduxit. Ha Myp-
~ габе (Margus) даже в настоящее время находятся два города с именем Мер-
?.. ва: один Мервруд лежит вверх по реке, где она покидает горы, а другой —
Мерв-Шахиджан лежит в оазисе среди обширной пустыни, миль на трид-
цать к северу, близ того места, где река пропадает в песках и болотах. Гутэ
в своем трактате об истории и географии Маргианы (1856, 28) обратил осо-
бенное внимание именно на последний город; он основательно доказал,
что Плиний, трактуя, несомненно, о Мерв-Шахиджане, примешал сюда
факты, которые относятся к Мервруду; он замечает, что вместо Syriam или
Syrianam в тексте Солина, перед глазами которого находилась книга Пли-
ния, стоит Seleuciam (также и в издании Моммзена); Гутэ того мнения, что
Seleucia была основана Александром и что этот город и есть нынешний
Мервруд. Знаменательно, что Истахри (р. 116), говоря о Мерв-Шахиджане,
сообщает, что это один из древнейших городов, и цитадель его построена
Тамуратом, а самый город Дхул-Карнейном; он замечает, что там нахо-
дятся четыре канала с проточною водою — это, конечно, согласуется со
словом corrjvare у Плиния. Мервский оазис по Биситунской надписи (II, 9)
называется dahyaus — округом, провинцией, подобно Кампаде, Нисее в
Мидии и Другим сатрапиям; судя по той же Insc. Bis. (II, 13), он, очевидно,
принаДЛежМт к Бактре. О его цветущем состоянии можно судить по опи-
санию Страбона (XI, 516):
475
ev(pviav о Хштуд 'Avrloxog тъ\%г\ TreQiefiaXe xvxXov exovn %t\iu>v xai Trevraxocricjjv
(rradiwv, TToXtv Se ехткгег/ AvT/o^fav, euafnreXo<; Se xai aurr) tj y*fj и т. д. Пере-
ходя в Бактрию, Александр ни в каком случае не коснулся Мервского оази-
са; двинувшись из Сузии (Туса близ Мешеда, в стране ариев) к востоку, он
получил весть об отпадении ариев и вдруг повернул к югу в Артакоану
(вероятно, в Арии, ниже Герата), чтобы подавить восстание в Арии. Из
Бактрии он также не мог посещать Мерва. Однако ничто не могло помешать
ему послать туда войска с берегов Окса и велеть заложить город своего
имени в этом богатом, важном в качестве проходного края оазисе.
По пути в Бактры он, вероятно, зашел бы в верхний Мерв (Мервруд),
если бы восстание ариев не принудило его направиться к югу. Там основал
он Александрию. Ни Арриан, ни Курций, ни Диодор не упоминают об этом
основании; но Плиний (VI, 17, § 61) положительно говорит: Alexandriam
Arion, quam urbem is rex condidit и (VI, 23, § 93): Arius, qui praefluit
Alexandriam ab Alexandra conditam, patet stadia XXX, и при описании до-
роги от каспийских проходов в Индию этот город всегда составляет один I О1
из главных пунктов (Plin., loa cit. Strab., XI, 514, 517; XV, 732); Аммиан Lg
(XXIII, 6, 69) говорит даже: Alexandria, unde naviganti ad Caspium mare \P
quingenta stadia numerantur et mille. Итак, эта Александрия во всяком слу-
чае находилась в долине, образуемой рекою Гератом до ее впадения в I g
Теджен; последний в настоящее время не достигает уже реки Мерва, с тем §
чтобы, соединившись с нею,, под именем Оха, как в древности, влиться в х
Оке или непосредственно в Каспийское море; напротив, обе реки иссяка- | с5
ют в пустыне. Говоря, что Ария была длиною в 2000 стадии, а шириною в
300, Страбон разумеет под этим долину Герата. К сожалению, у Страбона I S
и Плиния путевые замеры довольно не точны, так что по ним нельзя опре- ' °
делить положение Александрии. В Истории Александра я признал Герат
тождественным этим эллинским городам не только вследствие восточных
преданий, но еще более по причине важного положения этого города; здесь
пролегает самый удобный и кратчайший путь для перехода через возвы-
шенные окраины внутренних областей Арианы; а потом еще вследствие
показания Страбона (XVI, 723) о том, что из Александрии один путь ведет
прямо через горы в Ортоспану (в Кабулистане), а другой сворачивает в
страну дрангиан, и обе большие дороги расходятся именно в Герате.
Александр пошел по второй дороге. В Дрангиане предупредил он со-
ставленный Филотой заговор против его жизни. У Стефана встречается
заметка: ФдаЬау тгоХн; ev Aqayyai^, rjv 'AXe&vSgos T[QO(p$a<riav ^ercovofiacrev,
щ Xagaf kv exrq) xqovixwv. Итак, он назвал город тем же именем, каким
клазоменцы наименовали праздник, когда они предупредили кимейцев
(Diod., XV, 18). Псевдо-Плутарх (de Alex, fort., 5) тоже приписывает осно-
вание этого города Александру (а не одну только перемену его названия):
оих av elxev 'AXe^avSgetav AYyvirro^... ovSe YlgocpSacrlav XoySiavoi. Этот город
Фдада можно считать тождественным с ттоХк; fieylaTT) Ф^а в avaflwv x^qol
ttj<; ' Аее7а<; у Исидора и с Oaga^avi у Птолемея. В Истории Александра я
заметил, что это не может быть нынешняя Фаррах, и что река Фарнакотис
у Plin. (VI, 23, § 93) не что иное, как нынешний Фарраруд, впадающий в озе-
ро Зарэх. Расстояние от Александрии Арейской до Профтасии Плиний по
указанию бематистов Александра определяет в 119 миль, Страбон (XI, 514),
I
по Эратосфену, в 1600, а по другим в 1500 стадий, т. е. в 40 и 37 l/i миль;
расстояние от Фарраха до Герата, по Kinneir'y (Routes, 434) равно 117 англ.
милям, но у него не указано расстояние одной из станций, так что настоя-
щее расстояние, может быть, простирается до 140-150 англ. миль. Более
точные сведения представляет не совсем, правда, тщательно начертанная
в Калькутте карта (скопирована в Berghaus Annalen, 1842, Januar) к путе-
шествию капитана Эдв. Конолли через Сеистан; там прямое расстояние
равно от 30 до 32 миль; итак, считая извилины дороги, все расстояние мож-
но назначить от 36 до 37 миль.
Относительно дальнейших стран до Парапамиса мы находимся в боль-
шом затруднении. Дело в том, что у Стефана (v.'AXe^avSgeia) встречаются
следующие указания: SvoxaiSsxarrj kv 'Адахытон;... тгеутехшдехатт) ттада то?<;
'Адахытон;, щодо\)<та ryj 'Ivbixjj. Судя по извлечению из Исидора, вслед за
страною Анабоном (в которой лежит Профтасия) находится Дрангиана, а
затем XaxaaTTjvrjtXaxcoi/ 2xv$iovyxa} IlagaiTaxyvrf); в этой стране у него зна-
чится... хал XiyaX ттоХк;- sV&a {iao-iXeia Xaxcov xai ttXtjcIov ' AXe&vdgeia ттоХн;
xai TrXfjO'iov 'AXe^avSgoTcoXn; 7i6Xt$. Потом он продолжает: evreuSev
'AQa%(jj<ria... rairrrjv Se oi TlagSoi 'IvStxyvXevxyv xaXovai... eha 'AXe^avSgoTroXi^
firprgoTcoXK; ' Рц>а%ихг1а<;- sari Se 'Е?^7)у1<;ха}ттададде?а1ггчушт<щд$ ' Ада%иуто$у
до этого места доходит будто бы граница Парфии. Легче всего, конечно,
сказать, что оба эпитоматора напутали; Маннерт, Рауль Рошетт и другие
того же мнения; однако как ни скуден наш Исидор, но, насколько мы успе-
ли контролировать его, он вполне заслуживает доверия, зачастую только
оказывается неясным вследствие краткости извлечения; может быть, в при-
веденном месте скрыта ошибка, на что наводит нас двойное xai ttXtjo-iov, ho
все-таки остаются два города Александра, которые и значатся у Стефана;
ибо область саков отделилась от Арахосии, вероятно, лишь в первое столе-
тие до Рождества Христова, так как древнейшие источники и черпающие из
них авторы (Плиний, Страбон и др.) причисляют Сакастену к Арахосии3.
Считаю необходимым здесь обстоятельнее заняться чрезвычайно трудны-
ми исследованиями местных колоний и их географического положения.
Нам придется начать с Исидора. От выхода из собственной Арии до ин-
дийской границы парфянского царства он считает всего 175 схойнов, т. е.
около 133 географических миль; это расстояние за соответственным вы-
четом извилин по пути достаточно близко согласуется с расстоянием от
Герата через Фаррах и Кандагар до Гизни (120 географических миль в пря-
мом направлении по новейшим картам); это и доказывает, что указанный
Исидором ряд областей на самом деле находится по большой дороге в
Индию и что именно ни Сакастена, ни Арахосия не были исходными пунк-
тами его пути. Если это верно, то оказывается, что область 'AvijSaw %и*да
T7J$ 'Аде'кн; с ее 55 схойнами (42 географические мили) простирается миль
3 Я не могу признать вместе с Лассеном (Ersch und Gruber, Encykl.,
Paryeta) перетакенов и париетов тождественными; по крайней мере, Газна
(Гизни), наверное, не Ганзака, которая, по Птолемею, находится севернее и
восточнее Кабула, а Паретакена или Сакастена Исидора не простиралась
до гор Газны (т. е. до париетов), так как Кандагар, как видно в тексте, самый
крайний из разбираемых им в восточных парфянских провинциях городов.
на 6 далее Фарраха; а так как отсюда дорога сворачивала на восток, то
этот путь и ведет до Сиаба; потом дорога на расстоянии 21 схойны (16 миль)
пролегает через Дрангиану до Шораба; затем начинается область Сакасте-
ны, которая с ее 63 схойнами (около 48 миль) простирается немного далее
Келата-и-Гильджи; ибо дорога, наверное, пролегала по более плодородной
долине Тарнака, а не по более западному Иргундабу. В этой Сакастене и
находились, следовательно, Александрия и Александрополь. Потом сле-
довала Арахосия с 36 схойнами (27 миль), где крайним городом был Алек-
сандрополь при Арахоте. Но какая это река Арахот? Не Аргандаб ли это,
который пониже Кандагара соединяется с более восточным Тарнаком, как
предполагает Jacquet (Journal Asiat., 1837, Oct., 373)? Этому противоречат
не одни только расстояния у Исидора, но еще более описание реки Ара-
хота у Птолемея, по мнению которого она впадает в озеро, которое он
решительно и ясно отличает от Арийского. Арахот — не что иное, как озеро
Абистадех, в которое, между прочим, вливается река из Гизни (см.: Baber,
Мет., р. 158 sqq.). Прежде чем продолжать далее, мне необходимо упомя-
нуть о расстояниях, сообщаемых бематистами Александра (у Plin., VI, 17,
§ 61), заметившими, однако, in quibusdam exemplaribus diversi numeri
reperiuntur), а после них Эратосфеном (у Strab., XI, 514):
От Александрии в Ариане:
до Профтасии
» Арахот
» Ортоспаны (Кабула)
у Плиния
199 т. р.
566 » »
175 » »
у Страбона
1500 (1600) стад
4120 стад.
2000 »
Или этот путь из Профтасии в Арахоты весьма сильно изгибался к
югу (следуя течению Этимандра), и в таком случае положение Арахот со-
впадает с Келат-и-Гильджи, в 50 географических милях от Кабула; — или
Арахоты находились гораздо восточнее, может быть, там, где по маршру-
ту бомбайской колонны во время афганской войны из Кабула в Келат
(Zimmermann, S. 35) значится место Спинварри с замечанием: развалины
какого-то города (mound) при протекающей по возделанной долине реке
(эта река называется Аргезан, и она вливается с запада в Тарнак). Вопрос
разрешается, по-видимому, Птолемеем, который поместил Арахот (как он
называет город) южнее и гораздо восточнее Александрии (Александро-
поля). — Мне кажется, что дело, таким образом, постепенно проясняется.
Кандагар, как уверяет Курт, выстроен на древних развалинах; восточное
предание также положительно гласит, что город построен Александром;
это, однако, никак не арахосийский Александрополь Исидора, а скорее —
или Александрия, или Александрополь в Сакастене; оба города находи-
лись недалеко друг от друга; может быть, второй из них находился в Ги-
риске при Гиндменде, где был А. Конолли; по крайней мере, положение
этого города довольно значительное; или в этом Гириске следует, скорее,
признать столицу саков, о которой упоминает Исидор; после нее он назы-
вает Александрию (Кандагар), потом Александрополь, который, может
быть, и есть Келат-и-Гильджи; ибо он приводит города в том порядке, в
каком они следовали по пути Александра (Г. Киперт замечает против это-
го изложения: «Сакастена (Seistan), наверное, не простирается так далеко
на восток»). В Арахосии за тремя noXeig с варварскими именами следует еще
Деметриада и, наконец, при Арахоте (реке города Гизни) — Александро-
поль, тождественность которого с Александрией в Арахосии у Птолемея
(совершенно отличной от города Арахот) мы видим из того, что Птолемей
эту Александрию полагает при Арахоте, точно так же, как Исидор свой
Александрополь. Во времена Исидора это был, следовательно, самый вос-
точный город парфянского царства по большой индийской дороге; по край-
ней мере, Гизни приблизительно определяет его древнее положение. —
У Стефана (№ 15) одна Александрия находится возле Арахосии и на гра-
нице с Индией, а другая (№ 12) в Арахосии; последняя, вероятно, есть
Кандагар, а первая — арахотский Александрополь Исидора, — или Сте-
фан под № 12 подразумевает последний город, а № 15 есть совершенно
новая еще Александрия, находившаяся приблизительно у входа в болан-
ские проходы, по которым прошел Кратер; хотя это предположение весьма
вероятно, однако оно не подтверждается никаким преданием. Предания-
ми, по крайней мере, только подтверждается, что Александр старался
окружить поселениями эту горную область, вдоль которой пролегает боль-
шая дорога. — Курций (VII 3, 9), впрочем, говорит: Arachosiis praetor datus
Menon, IV millibus peditum et DC equitibus in praesidium relictis; неизвест-
но, разместили ли их в Гизни-Александрии или в Кандагаре-Александрии.
Зимой Александр направился в страну парапамисад. Там находим осо-
бенно интересное поселение. Арриан говорит (III, 28, 4): щбд tov Kavxarov
fiyev, Yva xa\ rrohv ехткге xa\ (bvofiaaev 'AXe^avSgeiav, затем (IV, 22, 5):
що<гхато1х1<гад be xai aXXovg twi/ ttsqioixo)]/ те хал oaoi t&v отдаткотшу ажща.%о\
x fjo-av eg ttjv 'AkXe^avSgeiav Ntxavoqa fiev... ttjv ttoXiv airrrjv xoo-fieTv exeXeuae. По
К Диодору (Diod., XVII, 83), он основал город хата ttjv eWfioXriv ttjv (pegovaav
§ eig T7)v MfjStxifjv; а Курций (VII, 3, 23) сообщает: condendae in radicibus montir
_o_ urbi sedes electa est. Понятно, что найти положение этой Александрии око-
"" ло Кавказа представляет особенный интерес; этот город служил не ТОЛЬ-
КО ко главным пунктом для походов Александра, но оставался, как кажется,
долгое время настоящим средоточием эллинистической жизни в тех кра-
ях; о нем, вероятно, и упоминается в Магавансо около 157 г. до Р. X. под
именем Алассады как о главном городе Ионы, т. е. иаонов, или греков
(Mahawanso, I, S. 171; ср.: Beafey, Indien, in Ersch und Gruber, S. 44). — В пер-
вом уже издании моей Истории Александра я для этой Alexandria sub ipso
Caucaso назначил почти то же самое место, которое теперь всеми призна-
но верным. Риттер (см.: Asien, V, S. 271 ff.), а за ним Менн (Mel. hist., p. 27
aqq.) нашли в Бамиане положение этой Александрии. Легенда о Проме-
тее, которую приурочили к пещерам Бамиана, свидетельствует о том, что
македоняне действительно проходили по этим местам (см. особенно
Arrian., V, 3 и Strab., XV, 688); но Диодор положительно говорит: ttJv noXtv
ехтиге хата ttjv екг/ЗоАт^... хата Se fieaov tov KaCxacov eori ттетда хтЛ., a судя
по путешествиям А1. Burnes'a и других исследователей, оказывается, что
Бамиан не находится более на равнине. Адрапсу или Дарапсу (Д^е^а
fiTjTQOTToXig у Ptol.), до которой Александр, по словам Страбона (XV, 725),
из Александрии дошел в 15 дней, я вместе с Менном признаю за Андераб;
судя, однако, по местности в тех краях, немыслимо, чтобы Александр из
Бамиана прошел в Андераб. Третьим доводом против Бамиана служит то,
479
что, по словам Плиния (Plin., VI, 17), бематисты Александра определили
расстояние от Ортоспаны (Кабула) до Александрии в 50 миль, а оттуда до
Кофена и до города Певколетиды в 227 миль и т. д.; Александрия, как ка-
жется, поэтому находилась на большой дороге в Индию. Массой искал
положения Александрии близ изобилующего древними остатками Бегра-
ма (As. I., 1836, р. 6); это именно там, где, «пробившись чрез последние
высоты, сливаются Панджир и Гарбанд». Более подробные сведения по
этому вопросу находятся у Cunnigham'a (The ancient Geography of India,
1871, I, 21, §99).
Отсюда в Андераб ведет проход Тул; «это лучший, но и самый длин-
ный проход, отчего он и прозывается Tul (т. е. длинный)», так говорит сул-
тан Бабур (р. 153); Александру потребовалось 15 дней, для того чтобы
пройти почти 20 миль по прямой линии; возвращаясь, «он перевалил через
те же горы кратчайшим путем» (Strab., XV, 697); тогда для перехода по-
требовалось (vTTSQ^aXdjv tov Kavxao-ov ev Ыха уредак;, Arrian., IV), не от
Бактр, а от начала плоскогорья десять дней, вероятно, по дороге, назван- I О1
ной у Бабура Янги-юли. о
Весьма замечательна заметка у Диодора (Diod., XVII, 83): о $е \р
'AXi^avSqo^хал аХХадъокщ exrurev,Tjfieqa^ obov атте%ои<га<;ttj<; 'АХе&удде'ик;,
хатсрхкге 8е tiq аита$ twv tiev fiagfiaqajv eTTTaxtojctXiou;, xai r&v iLicSocpoQajv
tov<; /3ou\oia£vou$. Это известие Диодора о нескольких колониях в одной и §
той же местности также сочли ложным и потому предпочли этому текст i
французской рукописи aXXyv ttoXiv. Однако следующая заметка из Пли- ф
ния (Plin., VI, 23, § 92) не допускает на этот счет никакого сомнения: Cartana
oppidum sub Caucaso, quod postea Tetragonis dictum; haec regio est ex adverso I S
Bactrianorum, deinde cuius oppidum Alexandria a conditore dictum... ad | g
Caucasum Cadrusi, oppidum ab Alexandra conditum. Сюда же, наконец, от-
носится также показание у Стефана: Астерусия есть гора на южной сто-
роне Крита, по имени которой индийский город на Кавказе и прозван
Астерусией, так как туда отправлена была критская колония. Откуда бы
ни происходило это известие, оно дословно повторяется у Евстафия в ком-
ментариях к Илиаде (II, p. 332)4. А потому, если Псевдо-Плутарх (de Alex,
fort.у 1, 5) говорит, что без Александра в Египте не было бы Александрии,
в Месопотамии — Селевкии, в Индии — Букефалии, то, продолжая далее,
он мог бы также вместо ovbe ttoXiv EAAaJa Каихао'сн; TreQtotxouo*av efcev по-
ставить множественное число.
4 При этом имени всякий, конечно, вспомнит известного Эвгемера tov
ттаХа.1 Ylayxahv 6 7тХааа<; Zava, yegojv aAafaw и его aStxa /3tj3A/a священной
истории, как называет ее Каллимах (fr. 86 Bentl.); на его острове Панхае, где
было также критское население, находился город Астерусия (Diod., V, 44).
Я все-таки не решусь заметку Стефана назвать искажением Эвгемера; у Сте-
фана нигде, впрочем, не встречаются сведения из географии священного
острова, и трудно понять, как можно было смешать Кавказ с островом и его
Олимпом. Можно, скорее, допустить, что Эвгемер воспользовался известием
об основании критской колонии Александром и приурочил это имя к своему
священному острову; Астерусия на Панхае, по его словам, была разрушена
Аммоном, а жители ее были изгнаны.
5
• 4801
Известно, что «эллины в Бактрии» еще в течение двух столетий игра-
ли значительную роль; деятельность Александра была здесь особенно силь-
на. Понятие о значении здешней колонизации дает нам вышеприведенное
известие о том, что в 323 году, по словам Диодора (Diod., XVIII, 7), заим-
ствованным у Иеронима, о\ в\ ava) xaXovfiivai<; аатдаттешд xaroixta^evre<;
"ЕААт^е^, отправляются в путь более 20 000 пехотинцев и 3000 всадников,
все прежние солдаты. Юстин (Iustin XII, 5) говорит: в Бактрии и Согдиане
Александр основал двенадцать городов distributis his, quoscunque seditiosos
in exercitu habuit; Страбон, напротив того, упоминает всего о восьми. Даже
эти города мы теперь не в состоянии более разыскать. Но сюда относятся
шесть городов близ города Marginia (v. 1. Margania), о которых упоминает
Curt., VII, 10, 15; Менн (р. 95) полагал, что Marginiam у Курция значит
Margianara, а именно вышеупомянутый оазис Александрии Маргианы, тог-
да как Гутэ того мнения, что вместо v. 1. Margania следует читать, скорее,
Мараканда. Не подлежит сомнению, что Zagiaaira <f) xai Baxrga не надо,
как полагает Менн, искать в великолепных развалинах Бейкенда; это есть,
скорее, Трибактра Птолемея; Зариаспы, напротив того, находятся на юж-
ном берегу Окса, по словам Птолемея, при устье речки; Арриан, по крайней
мере, считает Бактры и Зариаспы двумя различными городами, что ока-
зывается по его изложению военных действий; по тому же изложению,
кажется, можно заключить, что его Зариаспы следует поместить в нынеш-
нем Андкое.
Уже в первую кампанию в этих краях Александр основал город при
к Яксарте, Alexandria in ultimis Sogdianorum finibus (Plin., VI, 16, § 49); это,
x вероятно, нынешний Ходженд; avvoixitraq t&v те 'EAAtjvoji/ iu<r%(p6Qwv xai
Я оотк; T(bv TTQoaoixouvnDv fSaQpaqwv eSeXowrjs рете'ахв tyj$ avvoixlasax; xal rtvag
q xai rcbv ex tov отдатопедои MaxeSovwv oaoi атща%<н fiby ytrav (Arrian., IV, 4,1).
q_ Алпиан (Syr., 57) ошибочно приписывает это основание Селевку. Прози-
мовав в Зариаспах, Александр отправил Гефестиона с одною частью войск
, 5* rag iv ту XoyStavjj ттоХен; <ruvotxi&iv (Arrian., IV, 16, 3); в таком случае
известие о восьми или даже о двенадцати городах не оказывается пре-
увеличенным. Помимо Alexandria Eschata Птолемей в стране Согдианы
решительно называет еще Alexandria Oxiana, но у него не встречается более
Nautaca, т. е. или нынешний Кеш (Шери-Севз), или, что всего вероятнее,
Карши (Накшаб).
Наконец, к северу от Кавказа остается еще одна Александрия хата
Вахт^а, как называет ее Стефан. Более старинный текст у Плиния (Plin.,
VI, 23) Bactrianorum deinde regio, cujus oppidum Alexandria a conditore
dictum подтверждал, казалось, показание Стефана; теперь же то место у
Detl., VI, § 92, где говорится о Тетрагониде к югу от Кавказа, гласит: haec
regio est ex adverso Bactrianorum, deinde (т. е. к востоку по направлению к
Тетрагониде) cujus oppidum Alexandria conditore dictum. Я не берусь ре-
шить вопрос, следует ли, несмотря на то, поддерживать показание Стефа-
на или предположить, что это был Аорн (Райн-Гат к югу от Кундуза).
После таких показаний из доброго старого времени упомяну еще об
одном позднейшем, которое я до сих пор тщетно пытался разъяснить себе.
А именно, Феофилакт, упоминая о скифах (tojv XxuSwv tcov ттдд$ тф
Каихао-ф tcuv те що<; fioqqav тетдарцеиои), говорит (XII, 9, 287, ed. Bonn.)
о двух городах — Тавгасте и Хубдане,— основанных будто бы Александ-
ром тогда, когда он покорил бактрийцев и согдианов и предал огню две-
надцать мириад варваров (хата(рХе^а<;; Dind. epit., XVlhxai xario-cpa^ev airruyv
ттХе'юи*; tcuv ddudexa fivQiaScov); про Тавгаст там сказано, будто он на 1500
(гцреТа отстоит от турок, находится на границе индийцев, населен многочис-
ленным и весьма храбрым народом; близ него живет еще другой храбрый,
ежедневными упражнениями в гимназиях закаленный народ мукри; тре-
тий не слишком далеко живущий отсюда народ прозывается о гор и рассе-
лен по берегам Тиля, который турки называют черным (MeAava); владетель
в Тавгасте именуется Тайзан, т. е. сын божий; хотя благодаря разным тор-
говым сношениям народ богат, но мужчины не носят золотых украшений.
Город расположен при реке, разделяющей два народа, которые по цвету
их одежды называются красными и черными. Недалеко от этого города
(аттд (rrjiieicDV oXiyayv) находится основанный также Александром Хубдан,
орошаемый двумя реками, которые осеняются кипарисами; у жителей это-
го города много слонов, они торгуют с индийцами, и эти северные индий-
цы белого цвета; шелководство там в цветущем состоянии. Таковы главные
черты в замечательном описании Феофилакта; оно указывает на те турке-
станские области, которые, судя по известиям тринадцатого столетия и
настоящего времени, исполнены сказаний об Александре (ср.: Ritter, Asien.,
V, S. 821 ff.). Я позволю себе сообщить здесь поучительные подробности,
сообщенные мне господином Шоттом (1842).
1. «О Хагхане, который играет роль, в приведенном месте у Феофи-
лакта в книге Hoan-ju-ki5 сообщаются лишь его отношения к Китаю и ми-
моходом покорение Hoei-ke или уйгуров (см. ниже)».
2. «Таиуаот, куда бежали будто бы частью побежденные Хагханом
абары (?), по книге Menasirul-ul-awalim Аашика (см. выписки из нее в
Hammer-Purgstalls Beilagen zu seiner Geschichte der goldnen Horde, S. 418),
был турецким царством и народом в Трансаксионе. Аашик и Djihannuma
пишут Taghasghas, что в устах турок легко могло было перейти в Tanasghas
и Tanghas. Во всяком случае, т в окончании приставлено по ошибке. Выше-
упомянутое турецкое сочинение приписывает Тангасу протяжение в двад-
цать дней езды, не обозначая, впрочем, точнее его границы. Он, вероятно,
находится в области нынешнего Яркенда, там, где китайцы и теперь еще
приводят окружной город To-gu-sse-k'an — см. Si-jii-wen-kian-lo [Bd 2, toi.
21]6. Если же To-gu-sse-k'an пишется китайцами вместо турецкого tokus
спдп (девять пристанищ), то это не имеет никакой связи с вышеупомяну-
тым названием».
3. hMovhqL Этому названию в точности отвечает Mu-kii-lu у китайцев
(у них, как известно, нет буквы R). Hoan-jii-ki (книга 193) Mii-kii-lu есть
фамильное прозвище владетеля царства Jen-Jen, которое раскинулось вок-
руг степного озера Лоп и к югу от поселений уйгуров».
5 Это древнее географическое и относительно некитайских народов Азии
также историческое творение, автор которого жил в десятом столетии на-
шей эры; см. мой каталог: Verzeichniss der chinesischen и s. w. Biicher der berl.
Bibliothek, S. 9 ff.
6 «Относительно Si-jii-wen-kian-lo см. мой реестр: Verzeichniss и т. д., S. 12 ».
16 История эллинизма
482
4. «OyuiQ. Народ Ugur или Uigur находился на севере или северо-во-
стоке от Jen-Jen, у подошвы Небесных гор. По Hoan-ju-ki (В. 199), Hui-ku
(уйгуры) в первый из годов Tsching-kuan (627) заключили союз с Siejen-to
и восстали против Хагхана, конница которого нанесла им ужасное пора-
жение при Небесных горах (Tian-schan, Tangri-oola). Много побежденных
было взято в плен, а остальные опять платили дань. — Река Til китайцами
не упоминается, однако названия Ti-li и Tie-li встречаются довольно час-
то; в Hoan-ju-ki (В. 153) замечается, что страна Ji-tschen (восточная, прежде
всего захваченная Китаем часть страны уйгуров) при императорской дина-
стии Ган называлась Tie-li7. Tie-li (В. 198) есть также имя особого турецкого
народа в Кипчаке, наконец про Kao-tsch'e, тоже турецкий народ, предки
которого были Hium-nu (В. 194), также говорится, что первоначальное их
имя было Ti-li. — Черною водою (Karasu) и теперь еще называются две реки
на западе и востоке уйгурского края».
5. КоА%. Это имя произошло, как мне кажется, из Ku-li-ka'n; так Hoan-
ju-ki (В. к. 200) называет народ, который к северу от Hui-ku и пустыни Шамо
населяет суровый край с долгими ночами (северную Монголию), и в 21 году,
один из годов Tsching-kuan (647 г. н. э.), отправил первое посольство в Ки-
тай. О столкновении этого, вероятно, монгольского народа с Хагханом Ти-
kin'a ничего не сказано».
«Относительно Ta-hia (Бактрианы) Hoan-jii-ki (В. 184) сообщает, что
у этой страны первоначально не было ни великого государя, ни значитель-
ного города. Слабые и робкие, но опытные в торговле жители были вначале
к I порабощены переселившимися сюда lue-tschi (Iue-ti), которые построили
i себе на северном берегу Окса столицу».
К «Генерал Tschang-kian в 126 г. до Р. X. был послан к Iuehschi8. Тогда
§ этот народ приурочился уже в Бактриане. Так как китайцы благодаря лишь
о_ своему полководцу ознакомились со странами дальнего запада, то и немыс-
лимо, чтобы они, кроме lue-tschi, узнали еще о каком-нибудь нашествии на
Бактриану. До великого переселения последнего народа не упоминается ни
об одном передвижении племен Возвышенной Азии; и все испытанные Ки-
таем до династии Гана (inclus.) потрясения с севера были непосредствен-
ным предприятием Hium-nu (Hiong-nu)».
P. S. «Китайцам, правда, неизвестно, что древнейшие государи Ошр(?)
и Xeouvvi; они, однако, положительно говорят, что язык угоров был в близ-
ком сродстве с языком Hiong-nu, так что их происхождение от Hiong-nu
оказывается весьма вероятным. Эта заметка во всяком случае интересна;
она одна могла бы служить подтверждением того, что народ Oyojq тожде-
ствен Uigur. Cheunni (Xeuvvi) также очень походит на китайское Chiun-nu;
ибо последнее есть более точное изображение имени, a Hiong-nu не что
иное, как каламбур, означающий негодных рабов».
Вот все, что сообщает господин Шатт. Замечательно, что уже Феофи-
лакт, современник императора Гераклия, упоминает эти города Алексан-
дра в таких отдаленных местностях, по которым сам Александр никогда
7 «Tile-li или Ti-li — только таким образом всего точнее может быть на-
писано по-китайски слово Til».
8 «Ему поручено было побудить их к союзу против Hiong-nu».
не проходил; оказывается, что не ислам перенес туда впервые предания
об Александре, а напротив, тут обнаруживаются более древние сношения;
может быть, эти места послужили отчасти убежищем побежденным по про-
шествии двух столетий эллинам в Бактрии и Индии.
Теперь нам предстоит последовать за Александром в его индийском
походе; опубликованные об этом в последнее время различные исследова-
ния Риттера (Asien, IV, 1, S. 449 ff.), Курта (Journ. of the Asiat. soc. of Bengal,
1836, Iuly, p. 390), Тирльуелля (History ofGrece, VII), Бенфея (Ersh und
Gruber, Artikel Indien), Лассена (Indische Alterthumskunde, ed. 2) и гене-
рала Кённингема значительно облегчают нам определить положение этих
древних мест.
Александр вернулся из Бактрии и из Александрии Кавказской; он еще
более населил город людьми из окрестностей и инвалидами (Arrian., IV, 22).
Оттуда пошел он в Никею и принес жертву Афине, затем прибыл к берегу
реки Кофена (Arrian., he. cit). Город Никея значится также в Itiner. Alx.,
104; я полагаю, что он относится к тому разряду колоний, которые, судя по
вышеприведенным сообщениям Диодора, Александр основал на расстоянии
одного дня езды друг от друга, и к которым помимо Александрии мы долж-
ны были причислить также Тетрагониду и Кадруси Плиния; ибо с тем же
правом, с каким предполагалось, что Никея не что иное, как измененное
лишь имя существовавшего уже города, мы можем предположить, что в этом
действительно существовавшем уже городе водворены были греческие по-
селенцы и вместе с тем город получил новое имя; впрочем, ни то, ни другое
нигде положительно не упоминается. Этот существовавший уже город был
не Кабул, как я предполагал было прежде; это доказывается не только тем,
что река Кофен и есть, очевидно, та самая, при которой лежит Кабул, но
еще более тем положением, какое мы открыли для Александрии; Никея на-
ходилась, вероятно, близ Гарбанда, повыше того места, где он впадает в реку
Кабула; может быть, там, где Эдризи поместил город Каруан с его гаванью,
из которой переезжают в Индию, и со значительным рынком.
Здесь, как и прежде, я не стану перечислять укрепленные места, в ко-
торых Александр оставил лишь гарнизоны; хотя именно в этом крае до
Инда (в сатрапии Индии) было много таких гарнизонов, и они, без сомне-
ния, способствовали той же цели, как и основания городов. Упоминаемые
в Истории Александра греческие имена Оробатида, Аорн, Эмболима не
имеют, как кажется, большого значения; важнее, по-видимому, оказывает-
ся упомянутое Птолемеем ^{jyaqa у нал AtovvaoTToXts, если только Лассен
(Zur Geschichte u. s. w., S. 139) прав, сообщая, что она лежала к югу от Ка-
була, а следовательно, не была тождественна с Нисой. В латинском пере-
воде Птолемея Dionysiopolis представляется в такой форме, как будто он
относится к Дионисию, который был, может быть, одним из множества
эллинистических государей в том крае; однако у Стефана этот индийский
город также значится под именем Aiovvaov ttoXk;. Это высказанное в 1843 г.
предположение вскоре затем подтвердилось благодаря найденным моне-
там царя Дионисия Сотера, о которых прежде всех сообщил Лассен
(Zeitschr. fur die Kunde des Morgenlandes, IV, 2).
Первые чисто индийские основания городов Александра встречают-
ся при Гидаспе: там, где происходила битва с Пором и там, откуда он дви-
16*
484
нулся, с тем чтобы перейти через реку (evbev OQtiiqSeis еттедсыга (Arrian., V,
19,4; 29,5), он основал Никею и Букефал. Довольно часто упоминается
именно BovxecpaXa, BovxecpaXeia, у Воьхе<раХо$ 'AiXe^avSgea. Судя по градус-
ным указаниям Птолемея, Маннерт предполагал, что Букефал можно по-
местить ниже слияния Гидраота и Акесина, на месте нынешнего Мультана;
он прибавляет, что Плиний и так называемый Перипл Арриан именно тут
помещают город. Однако у них не встречается ничего подобного, а у Пто-
лемея широта определена, как кажется, неверно. По Arrian., Strab., XV,
698; Steph. Byz., v. Boo$ Ке<раЛа/, по Curt., IX, 1, 6 и Diod., XVII, 89, Никея и
Букефал находились по обе стороны реки; может быть, Никея была зало-
жена на поле битвы. Даже самые тщательные исследования Кённингема
не открыли на этих местах следов, по которым можно было бы признать
положение тех городов.
Другой город Александрия был выстроен при Акесине и заселен ту-
земцами и инвалидами из наемного войска. Вузирабад находится прибли-
зительно в этой местности.
В особенности замечательны города, которые Александр основал в
то время, когда спускался вниз по реке к морю. Во-первых, на том месте,
где вся масса потоков Панджнада сливается с Индом, в самом южном пунк-
те сатрапии Индии он велел выстроить город с корабельными верфями,
eXmaas [leykXiv те есгеаЪси xai em<pavij e<; avbQumovt; (Arrian., IV, 15,2). В этой
Александрии при Инде передал он сатрапию Филиппу и оставил при нем
всех фракийцев своего войска и из пехоты столько, сколько оказалось не-
к обходимым для охраны этого края.
х Далее вниз по реке основана была согдийская Александрия, точно так
X же снабженная корабельными верфями (Arrian., VI, 16,5; Curt., IX, 8, 8).
q Город, как кажется, лежал на полупути между устьем Панджнада и го-
jqJ родом Баккаром, там, где начинается дорога к Боланским проходам. Это
"" ' шестнадцатая Александрия у Steph. Byz., хотя у него прибавлено -naqa
£ naQOTT<L(it<raSai<;. Так как Стефан не упоминает об Александрии у подошвы
Кавказа, то в этом месте, вероятно, имя ее пропущено и, таким образом,
оказалось, что название Парапамисад помещено неправильно.
Далее вниз по реке находилась страна Музикана; в ее столице, кото-
рую можно признать в развалинах Алора (Арора), Александр построил
акрополь и поместил там гарнизон, «так как это место показалось ему
удобным, для того чтобы поддержать в покорности окрестные племена»,
а когда этот князь возмутился, то в других городах его владений также
были воздвигнуты акрополи и помещены гарнизоны (Arrian., VI, 15, 7; 17,1).
Ссылаясь на имя царя Мерида у Curt., IX, 8, 28, Лассен развил комби-
нацию, чтобы объяснить четырнадцатый город Александра у Steph. Byz.
thlqcl XojqklvoTs, IvSixq) s'Sve/, который совпал бы со следующим за ним упо-
минаемым основанием в Паттале.
Судя по совершенно ясно предлежащему плану Александра открыть
Инд для мировых сношений, область при устье реки представляла для него,
конечно, чрезвычайную важность. Выражение Курция: et urbes plerasque
(а не portusque, как это было переиначено) condidit (IX 10, 2), довольно,
правда, обширно; однако об этом сохранились весьма скудные известия.
Арриан (Arrian., VI, 18, 1; 20, 1) сообщает, что царь в Паттале, где развет-
вляется дельта Инда, велел построить акрополь, заложить корабельные
верфи, вырыть колодцы в окрестной пустыне; что потом он проехал по
обоим устьям реки и у восточного рукава (весьма широкого, но теперь
почти высохшего устья Кори) при озере, через которое он протекает, за-
ложил гавань и корабельные верфи, там же поместил гарнизон. Это и есть
названный у Плиния (VI, 23) город Ксиленополь (у Detl. § 96 Xylinepolis),
ab Alexandra conditum, undi ceperunt exordium (Nearchus et Onesicritus).
Относительно всего того края имеется достоверное и поучительное
известие в принадлежащем к первому столетию христианской эры, так на-
зываемом Перипле Арриана: «За гаванью Барбарикой (одного из устьев
Инда) находится богатая страна, населенная скифами, с главным городом
Миннагарою» (т. е. нынешнею Таттою; см. Ritter, Asien, IV, S. 475); «здесь
благодаря древним храмам, остаткам укрепленных лагерей и большим выры-
тым колодцам до сих пор еще сохранилась память о походах Александра».
Основания Александра в этих местах отнюдь не были лишены прочного
значения; это видно из того, что Агафархид (de mar. rubr., p. 66, ed. Hubs.),
сообщая о счастливых островах у сабайских берегов в Аравии, говорит,
будто там находятся станции (щттод1Хо\ axehai), населенные соседними на-
родами, большею частью туземцами тех мест, o\j хате<гтт)(гато ттада rov 'IvSov
ттотарду о 'AXe^avSgog vauoraSiiov, а другие — жителями Кармании, Пер-
сии и соседних стран9. — Этой области Юстин (Iustin., XII, 10, 6) придает
еще третье название: «Осеапо libamenta dedit (Alexander).... ostio fluminis
Indi invehitur; ibi in monumenta rerum a se gestarum urbem Barcen condidit
arasque statuit etc.». Было бы, без сомнения, ошибочно присоединить это
имя к названию залива Вадахт), лежавшего гораздо далее к востоку. В но-
вейших изданиях значится et arcem, чем и разрешается вопрос.
Вот все основанные в Индии поселения, какие мы успели разместить
в ряду исторических событий. Сомнительно, находился ли в Индии и во-
обще существовал ли там прозванный по имени собаки Александра город
Перита; Плутарх (Plut., vit. Alex., 61) по этому поводу не имеет лучшего
авторитета, чем Сотион, который говорил, будто слышал это известие от
лесбосца Потамона; эта ссылка возбуждает, как кажется, некоторое со-
мнение вследствие слов Pollux'a (V, § 41): хал aTrobavovri оы/тф ttoXiv <pr}(ri
(деотторттсн; ' AXe&vBgov eTrotxicrai (Theop., fr. 334 у К. Мюллера).
Для нас важнее будет рассмотреть ряд Александрии, расположенных
Стефаном в Индии. У него их три: пятая ev ту 'Clmawj, хата ttjv 'Ivbixyv,
шестая ttoXiv 'IvSixtji;, четырнадцатая лада XajgiavoTg, 'IvSixcj) ebvet. Относи-
тельно опианской Александрии представляет некоторые подробности дру-
гое показание Стефана: 'Omar ebvoq 'Ivbixov, 'Ехатащ 'Ао"/а* ev д' аитоТд
olxeoutriv avbgumot ттада rov 'IvSov Trora\iov 'Omai, ev Se re?xog fiaciX^'iov p&xgi
toxjtov 'Om'a/, атто Se rovrcuv egTjfJbiT) fiexgig IvSibv. Итак, опии обитают в той
части страны при Инде, против которой находится великая пустыня, т. е.
9 Диодор (Diod., Ill, 47, 9) заимствовал свое известие, конечно, у Ага-
фархида; он говорит: eg ravrag (yqaovg evSalfiovag) efiTrogoi Travraxobev
хататтХеоиоч, fiaXtara 8' ex Tloravag, *rjv 'AXi^avSgog $хиге ттада rov 'lvSov TTorayjtv,
vaixrrabiLov exetv /SouXofievog гуд ттада rov (bxeavov TragaXlov. Этим городом мо-
жет быть только Паттала.
486
с
к югу от Пенджаба; вероятно, это тот город при Инде, который должен
был составить южную границу сатрапии Филиппа. Для того чтобы пояс-
нить название ттада XajgiavoTg, Лассен и развил вышеупомянутую комби-
нацию. Относительно шестой Александрии Стефана вследствие его
скудного показания мы не решаемся делать никаких предположений.
Осенью 325 года Александр покинул Индию; некоторое время спустя
последовал и Неарх с флотом. В непосредственном соседстве с Индией
упоминаются два поселения. Переправившись через Арбис или Арабис
(Пуралли) и разбив пытавшихся воспротивиться ему арбитов и оритов,
царь поручил Гефестиону на месте самой большой деревни оритов по име-
ни Ромбакии, выстроить город Александрию, eSoxei av аитф ттоХк;
(ruvoixxobeiva реуаьХт) ха\ evSal^icov yeveaSai (Arrian., VI, 21, 5; Steph. Byz., V,
'ПдТтш). Потом Александр двинулся далее щ em та ogia tcov те ГаЪдимгш
ха\ 'ClqetTioVj где ориты и гедросцы, соединившись (rvvreTayfievot що тш
otbvwv, поджидали его; они бежали, когда он подступил; там, как говорит
Арриан, Александр оставил Леонната во главе войска ev "Clgoiq, присое-
динил к нему всех агрианцев, несколько стрелков и всадников, сверх того
пехоту и конницу из наемников и поручил ему населить город из окрест-
ных мест (ttjv ttoXiv ovvoixi^eiv). Спрашивается, основанный Гефестионом
город не тот ли самый, что был поручен Леоннату. В таком случае ev "Qqok;
означал бы не город та "Пда (индийское имя, которое встречается в окре-
стности Кофена), а область (Arrian., VI, 28, 5: ttjv 'Clgcbv те ха\ Гаддампшу
yfjv), тогда как ev "Clgoi<; и 'ПдеТтш стоят одно возле другого, как бы свя-
занные вместе (Arrian., VII, 5,5). Дело выясняется по одному месту из Ар-
риана (Ind., 23). Неарх в 830 стадиях к западу от устья реки Арбиса или
z
Я Арабиса прибыл к месту Кокале, где высадил свой экипаж и велел валом
о
с;
о. хлеба, поврежденные суда были исправлены, нерадивые матросы переда-
окружить лагерь; тут по приказу Александра заготовлены были запасы
ны Леоннату, а от него на корабли взяты взамен другие. Близ Кокалы
Леоннат одержал победу над варварами. Недалеко отсюда и находился,
вероятно, город, который заложил Леоннат и защищал от нападения вар-
варов. Во время прибрежного плаванья флота у Неарха как вообще, так
и в этом тоже случае стадии значатся на 1/а свыше прямого расстояния,
а потому прямое расстояние от устья Арабиса до Кокалы надо принять
в 622 стадии. В новом издании Истории Александра упоминается все, что
относительно этих мест было открыто новыми исследованиями, а именно
Гольдсмидом по поводу устройства телеграфных станций. Рамбакия, где
Гефестиону поручено было заложить город, находилась недалеко к западу
от реки Арбиса, и лишь одним или несколькими переходами далее находи-
лись пограничные проходы между оритами и гедросцами, по которым Алек-
сандр прошел уже, когда он оставил Леонната ev "Clgoig; а там на запад от
проходов расположена Кокала, где Неарх вошел в сношение с Леоннатом.
Таким образом, у нас здесь с достаточною достоверностью оказываются
два города. Крайне шаткие показания Курция (Curtius'a, IX, 10, 8) и Дио-
дора (Diod., XVII, 104) относятся, по-видимому, ко второй Александрии;
Курций говорит: deducti sunt in earn Arachosii, что, может быть, и верно, так
как в армии Александра находились также и арахоты (Arrian., V, 11, 3); по
Диодору, эта Александрия (он называет ее по имени) находилась у моря;
однако его Хц1еш yJkv bvqojv HxXugtov не согласуется, конечно, с тем, что
Арриан (Arrian., lnd., 23) говорит о рейде Кокалы.
В этом крае находится еще третье поселение. Плиний говорит (VI, 23),
что он намерен передать то, что сообщает Онесикрит относительно этого
плавания; а потом, после нескольких весьма странных фраз, которые мы
можем здесь пропустить, он прибавляет: primum Xylenopolis ad Alexandra
condita (unde coeperunt exordium), juxta quod flumen aut ubi fuerit, non satis
explanatur. Haec tarnen digna memoratu produntur ab iis; oppidum (y
Detlefsen'a § 97 produntur; Arbis oppidum) a Nearcho conditum in navigatione
ae. Flumen Nabrum (Detl.: navigatione et flumen Arbim) navium capax....
Alexandria condita a Leonnato jussu Alexandri in finibus gentis. Само собою
разумеется, что эта река есть Арбис; a oppidum, верно, не что иное, как
основанное при Александровой гавани поселение, о котором упоминает
Арриан (Arrian., Ind., 21), portus Macedonum — у Плиния (VI, 25, § ПО, ed.
Detl.), который прибавляет: et arae Alexandri in promontorio, т. е. на горе
Ире у Арриана, на нынешнем мысе Монзе; однако К. Мюллер (Geogr. Min.t
I, p. 335) в Ире готов был признать гору близ Карачи, несколько восточнее
мыса Монза. В пользу текста Arbis oppidum можно, кажется, привести то,
что Птолемей (VI, 21) в Гедросии положительно упоминает "Ag/3/£ ттоХк;, так
что мы имели бы здесь еще четвертое поселение в этой маленькой области10.
Известен поход Александра по ужасной пустыне Гедросии; затем он
прибыл в Карманию. Плиний (Plin., VI, 23, § 107) сообщает (как кажется,
из Неарха, о котором упоминается перед этим): oppida Carmaniae Zetis
(v. 1. Zethis) et Alexandria. Во всяком случае сюда относится Александрия,
которую называют также Птолемей и Аммиан (Ammian. Marceil., XXIII,
6, 49). Однако мы решительно не в состоянии определить положение горо-
да. Я не могу решить, является ли Зетис эллинским именем или оно имеет
какое-нибудь отношение к известным поискам, благодаря которым Алек-
сандр и Неарх нашли друг друга. Эта встреча их произошла близ входа в
Персидский залив, что подтверждается именем Гармосия, как Арриан на-
зывает эту местность. Александр, без сомнения, не упустил из виду значе-
ния этого края для морских сношений.
Мы приближаемся к концу жизни Александра. В последний год осо-
бенно он питал самые великолепные замыслы; и при этом на первом плане
постоянно имелись в виду новые колонизации.
Арриан сообщает (VII, 19, 5), что Александр велел перевезти из Фи-
никии (и Кипра, — Strab., XVI, 741) сухим путем в Фапсак, а оттуда вниз
по Евфрату в Вавилон около 50 кораблей разной величины, выстроить та-
кие же из вавилонских кипарисов, вырыть близ Вавилона гавань на тысячу
10 Сюда же, вероятно, относится заметка Стефана: 'О^/З/тем ebvo<; IvSixov,
(Ьд 'AttoXXoSojqcx; ev йеитедо) ttsqi 'AXs^avSqeiag. Надо предполагать, что эта
заметка относится ко второй книге Периегесиса Аполлодора, а не к трак-
тату ттед) 'AiXe^avSgelag, о котором, впрочем, не осталось никакого следа;
Steph. Byz., V. 'Ogrras оттуда же, вероятно, заимствовал два ямбических сти-
ха об оритах; он говорит: хал ' АтхоХХоЬиудод Seureoq). He подлежит, кажется,
сомнению, что четвертую Александрию Стефана, 7гоА/£ Neaqrov, следует из-
менить в 'Clqiruiv, как это и сделал Вестерман.
488
кораблей и соорудить при этом корабельные верфи; матросы и всякая не-
обходимая для кораблей прислуга, также ловцы багрянки прибыли частью
из Финикии и с остального побережья, сверх того царь послал клазомен-
ца Миккала в Финикию и Сирию, поручив набрать таких еще более; «он
имел именно в виду населить побережья Персидского залива и тамошние
острова, ибо был того мнения, что этот край будет таким же цветущим, как
и Финикия»; затем немного далее говорится: «флот, однако, снаряжался
против аравитян... он узнал, что в их поморье находится много островов,
много гаваней, которые представляли не только якорные места для судов,
но также города для поселений (kvoixi<rbfjvai)»(Аристобулу Strab., XVI, 741).
Несколько кораблей было отправлено для исследования и с целью обогнуть
Аравию, из них, по крайней мере, судно Гиерона прошло далее залива.
Насколько осуществились эти замыслы? Помимо названий трех по-
селений тут встречается лишь не более двух греческих имен. Но даже эти
колонии свидетельствуют о широком взгляде Александра. Великому Ва-
вилону, без сомнения, суждено было остаться средоточием открывавших-
ся тут сношений. В нескольких милях к югу от Вавилона, на берегу озера
Румии, с которым соединен великий протянутый до моря канал Евфрата
Паллакопа, он основал город и поселил в нем частью всех добровольно
вызвавшихся греческих наемников, частью неспособных вследствие ста-
рости и ран к военной службе (Arrian., VII, 21, 7). Судя по сомнительным
каталогам городов позднейшей эпохи в Вавилонии находилась какая-то
Александрия; вероятно, новый город так и назывался. Об остальных двух
к I поселениях сообщает Плиний (Plin., VI, 27, § 138): «Charax oppidum Persici
x sinus intimum... habitatur in valle manu facta inter confluentes dextra Tigrim,
^ laeva Eulaeum, II mill, pass, laxitate; conditum est primum, ab Alexandra
q Magno, colonis ex urbe regia Durine, quae turn interiit, deductis, militum
q. inutilibus ibi relictis, Alexandriam appellari iusserat pagumque Pellaeum a
rz
patria sua, quern porprie Macedonum fecerat». По обозначенному с доста-
точною точностью положению этой Александрии легко признать в ней
нынешнюю Магаммеру; во времена Александра море доходило до этого
места, тогда как теперь берег удален миль на пять к югу. Мы должны за-
быть нынешнее скудное состояние этих некогда чрезвычайно богатых мест;
плодородием и удобным положением для торговли они могли поспорить с
дельтою Нила. В Тигре Александр также велел уничтожить преграждав-
шие дотоле судоходство плотины.
Были ли затем основаны еще другие поселения по берегам Персидского
залива? Во всяком случае Александр велел один из открытых, изобиловав-
ших лесами островов, на котором находилось святилище Артемиды, назвать
Икаром (Arrian., VII, 20, 6 и Strab., XVI, 766; Plin., VI, 28 — insulam Icharam,
Detl., § 147 — insulam Barum; также Ptol., VI, 7 — Ichara); Стефан знает
здесь также остров Итаку. Потом следует еще упомянуть третий остров;
Плиний (Plin., VI, 25) называет в этом море contra Persidem insulae Philos
(Psilos — Detl., § 111), Casandra, Aratia (Arachia — Detl.) cum monfe praealto
Neptuno secro; Птолемей (Ptol., VI, 4) приводит тот же 'AXe^avSgov о? кал
'Agaxia, а у него, как он не раз это делал, заимствовал Аммиан (Ammian.
Marc, XXIII, 6, 42; Marcianus Heracl., p. 19, ed. Huds.; 1. 24, ed. Muller), ко-
торый также называет остров 'AXe&vSgou vij<ro<;; однако судя по его рассто-
489
яниям, нельзя угадать, на какой из известных ныне островов он намекает,
но, наверное, не на маленький остров Каррак, как полагает К. Мюллер.
Здесь можно упомянуть также 'Нфа'кгтои щао\ тт}$ 'ASiafiijwjs, которые упо-
минаются Стефаном; они, конечно, находятся не в заливе, а напротив; это —
речные острова.
Надо вспомнить, что Александр как раз в то время, когда составлял
свои обширные планы для юга, для Персидского залива и Аравии, послал
Гераклида вместе с корабельными плотниками в Гирканию, поручив им на-
рубить лес в гирканских горах и выстроить корабли по греческому образ-
цу, «так как ему хотелось относительно этого моря выведать, с каким иным
морем оно соединяется».
По возвращении в Сузы в начале 324 года и до самой смерти Александр
во всех направлениях ревностно способствовал уже подготовленному
слиянию эллинской и восточной цивилизации. Напомним прежде всего о
замечательных свадебных торжествах в Сузах, затем о приеме в армию
30 000 молодых, по македонскому образцу обученных и вооруженных ази* I О1
атов из вновь выстроенных городов и из остальных завоеванных стран Lg
(Arrian., VII, 6, 1), о причислении восточных магнатов к дворянскому со- \Р
словию и т. д.; весьма вероятно даже, что Александр, как после смерти его
из бумаг даря сообщалось войску, имел между прочим в виду iroXecov
ovvoixw'iLOXx; xai (гиуратсйУ 1метаушуа<; kx тт?$ ' Ао7а£ kq -щи Ещиттр xai хата §
Tovvavriov ex тт}$ Еидатт)<; ei<; rfjv 'Ao7av, оттох; та$ реу'юта*; Tj-nelqovg та?$ i
kmyafiiatq xai ralq oixeioxrea-iv eig xoivyv ofiovoiav xai <ruyyevix'r)v cpiXiav | ^
хатаагтцоч) (Diod., XVIII, 4). Все, что он делал до сих пор, служило почи-
ном этого чрезвычайного преобразования. I S
Весьма замечательно у Арриана (Ind., 40) известие о мардиях (в го- g
рах Перейди), об уксиях и о коссеях: Александр поработил все эти племе-
на, нагрянув на них зимою, в такое время, когда они считали свой край
недоступным; он заложил у них также города, с тем чтобы они прекрати-
ли свою кочевую жизнь, сделались земледельцами и поселянами и чтобы,
приобретя собственность, из-за опасения утратить ее перестали нападать
друг на друга. В том-то и состоит характер варваров, чтобы жить хата
xd)fia<;f как выражается Dio Chrys. (XLVII, 225, ed. R.). Ихтиофагам на бе-
регу Гедросии Александр также запретил питаться одною рыбою (Plin.,
VI, 23, § 93); как ни странно звучит это, а оно все-таки верно. Из назван-
ных поселений Диодор (Diod., XVII, 111) подтверждает также и колонию
коссеев; царь основал поХщ ai;ioX6you<; kv та?$ #u<7%cug/ai£. Ученые писатели
усомнились, правда, даже в этих показаниях; приняв в расчет дошедшие
до нас скудные предания, мы не будем удивляться тому, что в этом крае ни
один город не называется по имени. Кто, например, по поводу Ситтаки (не
названной у Xenoph., Anab., II, 4, а расположенной несколько восточнее)
ожидал бы того, что говорит о ней Плиний (Plin., VI, 27: graecorum ab ortu).
А это не единственный греческий город с варварским именем в этом крае;
Исидор в парфянских статмах называет не только АртемитуяоЛ/^ 'EAAtjw's,
но также Халу (обе у Тацита — Ann., VI, 41 — в другом смысле называют-
ся Parthica oppida); имя Аполлония в этой же местности оказывается пря-
мо греческим; остается лишь сомневаться в том, следует ли эти основания
приписать Александру или Селевкидам, но для общей цели наших иссле-
<г
5
х
1
дований этот вопрос безразличен. Касательно положения Артемиты име-
ются три показания. Страбон, называя ее (XVI, 744) ттоХк a^i6Xoyo<;, опре-
деляет ее расстояние от Селевкии в 500 стадий, а Исидор оттуда же в 15
схоинах, по Певтингеровым таблицам от Ктесифона до Артемиты счита-
ется 71 т. р., т. е. на одну географическую милю далее, чем до Селевкии.
Сверх того, нам из Исидора известно, что в городе, который в его время
назывался обыкновенно туземным именем ХаХасгад, протекает река Сил-
ла, т. е. Диала. Поэтому замечательная груда развалин Эски Багдада, ко-
торые Риттер описал, по Риху и Кеппелю (Asien, VI, S. 501), и которые
отстоят почти на 20 географических миль от развалин Селевкии, никак не
может быть Артемитой. Ее, скорее, можно бы отнести к тому холму из
развалин, который называется Лиссой (см.: Rich, II, S. 249 ff.); этот холм
находится в двух часах пути за Бакубой, там, где теперь переправляются
через Диалу; он, следовательно, по прямому расстоянию находится почти
в 11 милях от Селевкии; там переправляются через ложе старого канала;
на берегу его расположен этот усыпанный кирпичным мусором холм, в
котором Рих находил также мраморные обломки. Несколько иначе опи-
сывает это Кеппель (I, р. 270); в 7 английских милях к северо-востоку от
Бакубы он видел тот же холм, но туземцы называли его Гуд Музир; этот
квадратный холм расположен по странам света и состоит из кирпича; и
ему казалось, что он был как бы предместьем развалин, которые лежат
далее на одну английскую милю и отличаются замечательною правильно-
стью; с севера на юг тянутся ряды продолговатых холмов и пересекаются
к I другими, идущими с востока на запад; тут легко признать расположение
х прежних улиц; прибавим к этому, что греческие города той эпохи отлича-
К лись именно таким правильным устройством. На западной окраине под-
q нимается более высокий холм (акрополь); перед ним раскинулась поросшая
о_ травою площадь; в некотором расстоянии стоят круглые бастионы, а в стене
видны еще следы бывших ворот (эти сооружения указывают на послегре-
*£* ческую эпоху). После проливных дождей тут зачастую попадаются золо-
тые, серебряные и медные монеты; спутник Кеппеля нашел даже с лишком
двадцать медных монет времени Сассанидов. (Г. Киперт по поводу описа-
ния Кеппеля прибавляет к этому месту: «Положение при Диале сюда также
не подходит. Недавно Черник и Джонс открыли там другие развалины у
самой реки; без более обстоятельного исследования местности нельзя ре-
шить, которая из многочисленных развалин принадлежит Артемите».)
ХаЛа, или КеАсошл, как она называется у Диодора (Diod., XVII, ПО),
или Halus у Тацита, без сомнения, находилась на месте нынешнего Голь-
вана со многими развалинами эпохи Сассанидов; эта тождественность
подтверждается в Пейтингеровой таблице путевыми расстояниями до Аль-
бании. Александр застал здесь переселившихся со времен Ксеркса беотян,
сохранивших еще эллинские нравы и наречие. — Я могу еще упомянуть,
что Раулинсон в двух милях к югу от Халы при Дире видел развалины боль-
шого города, архитектура которого казалась гораздо лучше грубых по-
строек Сассанидов; а потому он предполагает, не был ли это один из городов
Александра, основанных македонянами для прикрытия большой дороги
от коссеев; такие же развалины видел он в такой же важной позиции у
Гилана в пяти милях южнее.
Наконец, остается еще Аполлония; описанная Исидором дорога про-
легала к югу от Диалы, и он не называет Аполлонии, оттого что она не
находилась по этому пути; однако область называется у него Аполлониа-
тидой, а Птолемей и Аммиан Марцеллин (XXIII, 6, 23) называют самый
город. Его приблизительное положение можно определить по Полибию
(Polyb., V, 52); Антиох хочет отрезать мятежнику Молону путь из Селевкии
в Мидию и для этого прежде него занять tyjv тда%е?ал тт^ 'A-noXXajviaTtSo^;
а потому он из Дуры (нынешнего Имам Дура, около двух миль к югу от
Текрита) при Тигре (Amm. Marc, XXV, 6, 9) в восемь дней прошел через
так называемый Орикон и сделал привал в Аполлонии; итак, это место
находилось по кратчайшему пути в Халу; средствами, какими располагаю,
я не могу добиться более точного определения.
Я должен упомянуть еще одно место в этой области. Александр про-
шел от Описа через Келоны по Нисейским полям в Экбатаны. Во время са-
мого пребывания его на тех полях разразилась старая ссора между Эвменом
и любимцем Александра Гефестионом; выданный последнему богатый по-
дарок раздосадовал первого; царю с трудом лишь удалось примирить их
(Plut., Eum., 2; Arrian., VII, 12, 6). И вот мы у Ptolem. (VI, 2) по данным им
градусным определениям как раз на этой дороге, но на запад от ворот Загр
встречаем местечко 'Оегомтг, прозванное в Cod. Pol. Eicowj; его настоящее
имя было, вероятно, 'OfMovoT) или 'Icrovoy. Подобно тому как Александр, пре-
дупредив заговор Филоты, назвал один город Профтасией, так и это при-
мирение обоих значительных мужей показалось ему, вероятно, настолько
важным, что в память его он и придал местечку сказанное название.
После всех приведенных оснований нам остается упомянуть еще неко-
торые, но мы не знаем, куда поместить их. Каталог восемнадцати Александ-
рии у Стефана Византийского часто подвергался сомнениям; мы нашли, что
его показания большею частью подтвердились; только относительно ка-
рийского города при Латме (№ 10) нам пришлось прибегнуть к рискован-
ному предположению; три индийских города (№ 5,6,14) мы никак не могли
согласовать с другими известными нам основаниями; относительно № 17,
kv Tfj XoyStavjj ттада Падоттарнгайан;, нам казалось, что в тексте вкралась
ошибка. Затем остается еще под сомнением один и два неизвестных горо-
да. Сомнению подлежит № 13 — kv Ъахасгцщ (так пишет Салмас вместо
vulg. Ыахао^щ), jjv ттададде! тготацьсн; '\а£р,дтг}<;, если сравнить его с № 18 —
km тойTavai'$o$ ainovхт'кгра>а<; kvтф тр/тф ПтоХераТод anocpalverai. По край-
ней мере, при Танаиде-Яксарте помимо Alexandria Eschata неизвестно и
невероятно основание другого города.
Два неизвестных города суть № 9 — kv Kvttqci) и № 16 — хата rov
MeAava xoXttov. Но именно эта кипрская Александрия обнаруживает, что
эпитоматор пользовался хорошими источниками; история средневековья,
также старые итальянские карты хорошо знают эту Александрию на за-
падной окраине острова11; о ней постоянно упоминается в приводимых
нами ниже каталогах, но умалчивается всеми древними авторами. Сам
Александр не основал, конечно, этого города, чего, впрочем, и не предпо-
11 Так, между прочим, isole piu famose del mondo Фомы Поркачи, Венеция
1576, на карте на с. 145 и в следующем затем тексте.
492
лагает Стефан; однако Пасикрат, владетель Соль, в землях которого нахо-
дилась эта Александрия, как оказывается, состоял в связи с Александром
(Plut., Alex., 29), и сын его Никокл сопровождал царя в его походе; в Ин-
дии он именуется в числе триерархов великого флота (Arrian., Ind., 18).
Относительно этого кипрского города мы во всяком случае можем сослать-
ся на карийскую Александрию, которая подобным образом, как кажется,
была основана царицею Адою. — Так как за исключением упомянутой
ошибки, если это действительно ошибка, показания Стефанова каталога
вполне подтвердились, то полагаю, что Александрия при заливе Мелане
также оправдается, хотя мы и не знаем, куда поместить ее; может быть,
город был расположен при том Меланском заливе, который с севера оро-
шает фракийский Херсонес.
Нам остается еще упомянуть два разряда преданий, о которых я наме-
рен говорить вкратце, тем более что они во всяком случае недостоверны.
Мы находим у восточных народов немало преданий, состоящих в связи
с именем Александра. (Г. Киперт справедливо замечает: «Я назвал бы их,
скорее, баснями, тем более что вместе с Iskander-Dhul-Karnein часто так-
же встречаются Suleiman Balkyz, так называемая царица Сабы, подобно
тому как в древности Семирамида».) Так, между прочим, в восточных ска-
заниях говорится, что Александр выстроил в Армении при Ванском озере
Витлиду и прозвал ее по имени своего раба; «Шатром Искандера» доныне
прозывается место его лагеря (Hammer in den Wiener Iahrbuchern. 1821,
XIV, p. 23); упоминается также у Риггера (VI, 2, S. 1004). В Альмосареке
^ сказано (судя по полученной от д-ра Лебрехта в Берлине заметке), что имя
i Александрии дано шестнадцати городам. Иные места отчасти до настоя-
К щего времени называются все еще Искандериями или подобно тому; неко-
q торые из них, по-видимому, могут сослаться на непреложные предания.
_о_ Например, можно говорить о местечке Искандрия, развалины которого
~ посетили Миньян, Рих и другие путешественники по дороге из Багдада в
S". Вавилон. Однако большая часть этих имен и сказаний возникла, вероятно,
в магометанскую эпоху; например, название Iskander Kol, приданное аль-
пийскому озеру, которое Федченко открыл в горах к востоку от Самаркан-
да; также название Секундерии на юге близ Табриса, возле значительной
дефилеи, образуемой Сид Абадом; тут в соседстве находится знаменитый
грот, исполненный ядовитыми испарениями, в котором, по сказанию жи-
телей, Искандер спрятал свои сокровища (см. Monteith в Geogr. Journal,
1833, p. 3 и прежде всего Ouseley Travels, III, p. 459). Подобные легенды
распространены по всей Передней Азии; но замечательно то, что они на-
капливаются вокруг Парапамиса по направлению к Бадакшану, вверх к
Гималаям. Я упомяну о том, что Муркрофт (Travels in the Himalayan
provinces, I, 62) по пути в Лэ близ Мунди нашел место, которое жители
называли Скандер-гат — проходом Александра; поблизости оказались
следы лагеря, но ничто в нем не обнаруживало, как кажется, греческого
происхождения. Если бы Муркрофт услышал этот рассказ близ другого
Мунди, лежащего при реке Берали, правом притоке Гидаспа, в одном из
проходов, ведущих в Кашмир, то Александр в экспедиции против главсов
мог бы, пожалуй, достичь этого места; но по Гифасису он никогда не под-
нимался так высоко в горы.
В новейшее время часто упоминалось Искардо при верхнем Инде к
северо-востоку от Кашмира, особенно с тех пор как Винье (в Journ. of the
Asiat. Soc, 1835, Nov.) известил, что он видел там место для бега, совер-
шенно сходное с устройством так называемого цирка Каракаллы в Риме;
существует сказание, будто Александр проходил тут, направляясь в Кату
(Cathaei), будто он велел проложить дорогу через горы и оставил здесь
больных, стариков и выздоравливающих из своего войска со всем лишним
багажом в укреплении, которое соорудил и назвал своим именем. Но со-
бранные Муркрофтом письменные известия (II, р. 262) ничего не подтвер-
дили об этих замечательных событиях. («Strachey уверяет, что Скардо
чисто тибетское название и не имеет ничего общего с Искандером». —
Г. Киперт.) А все-таки интересно то, что подобные предания часто встре-
чаются во всей нагорной стране от Кабула до Искардо, и разные князья
ведут свой род именно от Искандера; см. замечание у Риттера (Asien, V,
S. 821-825). Упомянутое нами выше показание Феофилакта о Тавгасте и
Хубдане доказывает, что память об Александре в этих местах не была вос-
становлена исламом, а напротив, она господствовала прежде, и, вероятно,
никогда не утрачивалась. Я не могу распространяться далее о восточных
преданиях, так как я не в состоянии передать их во всей полноте и иссле-
довать во всех подробностях, как бы следовало для того, чтобы этот труд
не был тщетным.
Второй разряд фактически почти вовсе ничтожных преданий есть тот,
который повторяется чуть ли не во всех романах об Александре, но возымел
свое начало уже у византийских хронографов. В первом издании Исто-
рии эллинизма я собрал некоторые сведения об этой сказочной литерату-
ре; после того Berger de Xivrey (Notices et extraits, XIII, p. 162) нздал трактат
об этом предмете, присовокупив к нему несколько выписок из так называ-
емого Каллисфена, а потом этот самый Каллисфен появился в Fr. script,
de rebus Alex. Мюллера. Следы заимствования из романа (хотя и не в на-
стоящем его виде) встречаются до четвертого столетия, и, судя по его со-
держанию, он относится, по-видимому, к последней эпохе Лагидов или к
первым годам Цезарей.
Составленные по этому роману каталоги городов Александра в выс-
шей степени сбивчивы; кое-где лишь просвечивает верная заметка. В преж-
нем издании Истории эллинизма я пытался уже собрать несколько таких
каталогов. Для нас все равно, в каком бы виде этот список ни появился у
Ekkehard'a, у Vincenz'a de Beauvais, в Alexander de proeliis и в других за-
падных переделках романа; но древнейшие формы Каталога в выписках
из Каллисфена у К. Мюллера (III, 35, замеч. — из Cod. С, и прежде еще в
заметках к Steph. Byz. ed. Berkel, p. 237), у Jul. Valer. (HI, 98) и в Chronic.
Pasch, (p. 321, ed. Bonn.) замечательно уклоняются одна от другой. А в God.
А, который гласит ехткге ттоХен; \у arrives ^XQ1 T°v xaroixoOvrai xai
eigrjvaCoirrai, по Мюллеру, приводятся только 9 имен. Указав на сообщен-
ную в упомянутом месте таблицу, я попытаюсь здесь сопоставить между
собою остальные два списка с Каллисфеновым.
И в этой даже путанице встречаются следы достоверных сведений.
У Псевдо-Каллисфена мы можем еще узнать следующие имена: 1. Алексан-
дрия в Египте (т) fjbeyaXTjy как ее называют); 2. Александрия Троада; 9. Буке-
X
z
с;
1. Каллисфен
' AXe&vSqeiav ttjv хат'
AYyi/rrrov
2. тцу kv "Одтгг) ovaav
(в заметках ВегкеГа
к Steph. Byz. tt)v щод
3. ttjv e/V К^ат/OTOv
('AA. xqartorov Ber.)
4. ttjv ev Xxvbig, vfj yfj
(ttjv Xxvyiav Ber.)
5. ttjv km KQ7j7riSo<;
6. ttjv km TqqjaSoq
7. ttjv ev BajSuAtDv/ (km
BafivXibvos Ber.)
8. ttjv щ Yleqtriav (ttjv 7rgo£
Пе^га^) Cod. A. ttjv em
Пе^ота^ Ber.)
9. ttjv em Ke<paAa>v Ymruv
(ttjv em ВоихесраАф (7пгф
у Miiller'a)
10. ttjv km rod Ylcoqov (km
YIcjqcov Ber.) km тф
Пщсо у Miiller'a
11. ttjv km Tiyqiboq тготацли
12. ttjv km Meao-kyyiora
(km Меегаттмтта
xaXovfikvyv Ber.)
Jul. Val.
7. apul. Aegyptum
4. in Scythia .
11. apud Troadam
5. Babylonis ...
Chronic. Pasch.
2. ttjv що<; AYyurrrov
3. ttjv що<; "Agmzv
12. ttjv Kacov
5. ttjv xai XxvSiav kv
kiyaioiq
7. ttjv miqi KimqiSog
которой
8. ttjv km Tqq)aSo<;
9. ttjv em Ba^vXcbvog
4. ttjv em Пе^ои^
1. quae condita est nomine
Bucephali equi
3. apud Porum
2. montuosa
8. apud Origala
9. apud Granicum
12. apud Sanctum
6. ttjv km Пшдсо
10. apud Tigridem fluvium
6. apud Messagetas
10. ttjv km Мгаао'уаук*;
3. ttjv Kafilaxrav
I. ttjv miqa IlevTaiToXtv,
-nqoreqov Xerrovv
хакощкщУу Mkfupeux;
ouaav kfnioqtov
фал на Гидаспе; 7. город близ Вавилона. Затем Kafiiuxra хронографа, кото-
рую я считаю тождественною с montuosa, была, вероятно, Alexandria
Scabiosa в Itin. Ant. близ Исс. — Некоторые другие показания у Каллисфе-
на, может быть, и верны, но их трудно определить; так, например, № 5 от-
вечает, вероятно, кипрскому городу у Стефана, № 11 может быть не что
иное, как Александрия Харакс; № 4 и 12, может быть, тоже верны; № 4
обозначает город на Яксарте, а № 12 — город, находившийся на окраине
бактрийско-согдианской пустыни. Рауль Рошетт, по-моему, неуместно пред-
ложил № 2 исправить ttjv що$ "Ag7raera и считать это тождественным с ка-
рийским городом Стефана.
Выше, по Плутарху (de fort. Alex.), было сказано: Александр основал
среди варваров более семидесяти городов. Судя по названным нами доселе
основанным Александром или его полководцами городам, мы вправе видеть
в показании Плутарха не одно только преувеличение.
Мы почти всегда умалчивали о таких местностях, в которых Александр
оставлял одни лишь гарнизоны; я счел необходимым назвать только Тир и
Газу, оттого что после завоевания их Александром у них оказалось новое
население. Однако в некотором смысле сюда можно было бы причислить
также простые гарнизоны, так как они тоже содействовали распростране-
нию эллинизма, слиянию племен. Так, между прочим, царь из Александрии
отправил взятых в плен мятежников из Хиоса §Jv yvkaxji axgifiei в самый
южный пост Египта, в Элефантину (Arrian., Ill, 2, 7). О таких часто, конеч-
но, случавшихся переселениях сохранились, к сожалению, немногие и то
лишь случайные следы. Таким образом, Александр отправил, между про-
чим, Менома с войском во внутреннюю Армению к золотоносным рудни-
кам в области Сиспиритиды (Stab., XI, 529), которые знал также Прокоп
(de bell Vers.у I, 15) в области Персармении. («Это не что иное, как Sper ар-
мянских авторов, нынешняя долина Ispir при Dschoroch (Akampsis древних);
Гамильтон в 1837 г. застал там даже следы древних рудников». — Г. Киперт.)
Если, сверх того, Пармениону поручено было из Экбатан -neqi ttjv %{uq(lv tt\v
KaSovalajv eXavveiv e<; 'Tqxaviav (Arrian., Ill, 19,7), если Кратер на возврат-
ном пути из Индии в Карманию прошел через оазис Иезда, то эти пройден-
ные ими области наверняка были заняты гарнизонами, точно так же как и
те, через которые проходил сам Александр. К этому классу я готов причис-
лить местечко Вирту на Тигре, если только можно придать такое веское зна-
чение Аммиану Марцеллину (XX, 7, 17) с его сказанием об Александре:
rauni-mentum valde vetustum, ut aedificatum a Macedone credatur Alexandra,
in extremo quidera Mesopotamiae situm. Это местечко, по описанию Аммиа-
на, находится выше Безабды, а потому это не может быть Бирфой на ниж-
нем Тигре у Птолемея, а есть, скорее, названный у Ргосор. de aedif. (II, 4,
p. 223, ed. Bonn.) город Birthum. Упомянем здесь также остров Cinaedopolis,
probrosis ibi relictis a rege Alexandra (близ Галикарнаса) — Plin., VI, 31, § 134.
Выше мы упомянули р том, что в оставшихся после Александра бума-
гах между разными планами был найден проект, wXewv <rvvotxi(Tfiov<; xai
(тш^штшу fierayojyai; ex rij<; 'Ао7а$ e<; ty]v YHjqujwqv хал rovvavrlov. Он, как мы
видели, уже приступил к исполнению этих планов; во многих из его новых
городов мы в состоянии еще признать слияние в один город рассеянных
местностей и поселений греков и варваров. В этом отношении весьма по-
учительна заметка у Joseph., Ant. fud., XI, 8, 6: «он взял с собою в Египет
наместника Самарии с его 8000 солдатами: там он обещал дать им земли
(x\t}qov$ yrj<;)\ впоследствии он исполнил это в Фиваиде, поручив им охра-
нять область ((pgougeTv rrjv yrjv)». Это известие — а в непреложности его нет
никакой причины сомневаться — указывает, по-видимому, на известный род
поселений, занимавших средину между настоящими городами и простыми
гарнизонами; это были, так сказать, военные колонии, которые, по крайней
мере в эпоху Лагидов, в качестве xaroixoi отличались в египетском войске
как от ky%6)qioi, так и от ттадетёуроиуге^ военных отрядов. Может быть, дру-
496
гие подобные переселения, о которых упомянем впоследствии, происходят
также от Александра.
Было бы полезно в заключение еще раз обозреть совокупность осно-
ванных Александром поселений и попытаться узнать, не откроется ли в них
взаимная связь, система, которая, конечно, послужила бы важным средством
для оценки замыслов царя. Однако наши сведения на самом деле исполне-
ны пробелов, так что мы не можем ожидать значительных выводов. Во вся-
ком случае некоторые сообщенные нами в изложении указания древних
авторов намекают на связь подобного рода. Можно утверждать, что Алек-
сандр не имел в виду исключительно ни военной оккупации, ни поощрения
всемирной торговли12, ни цивилизации или эллинизации народов; а что, на-
против, все эти мотивы, как кажется, в каждом пункте в одинаковой мере
принимались в расчет.
Скуднее всего, по-видимому, была наделена Малая Азия; там, правда,
берега везде уже были покрыты древними эллинскими колониями, а благо-
даря сношениям с внутренними областями туда давно уже проникли начат-
ки греческой культуры, которые затем вследствие изменившегося строя
политических условий в этой стране, пересеченной дорогами из Эллады в
Азию, должны были скоро развиться.
В сирийском крае прежде всего воспользовались для основания двух
городов переходом из Киликии в Сирию, тою Исскою бухтою, важность
которой была уже признана Ксенофонтом; на берегу вновь заселены были
Тир и Газа. Потом страны Иордана по соседству с кочевыми племенами ара-
^ I вийско-сирийской пустыни получили два-три города, тогда как другие два
при Оронте служили, казалось, предварительным указанием на более об-
Z
К I ширное преобразование впоследствии
О
q В Египте Александрия была, конечно, не единственным основанием Алек-
х
rz
q_| сандра; но и этого было бы достаточно для того, чтобы богатую Нильскую
долину открыть для всемирных сношений, так чтобы греческая культура, на-
чатки которой появились уже в Навкратисе, Кариконе, Никиу13 и в соседстве
Киренаики, могла проникнуть далее; Александрии суждено было сделаться
средоточием торговли Аравии и Эфиопии с берегами Средиземного моря.
В стране Евфрата и Тигра одно поселение находится на том месте, где
большая восточная дорога пересекает Евфрат, а другое на той же дороге в
Месопотамии, третье там, где она же раздваивается, пролегая частью в
Мидию, частью в Вавилон. Двойное поселение при устье Тигра в качестве
главного рынка вавилонских и сузианских областей, в качестве средоточия
торговли Индии с Сирией, Малой Азией и Европой должно было образо-
вать соперничество с египетским городом, тогда как Александрия близ Ва-
вилона имела целью не только защищать долину Евфрата от арабов, но также
привлечь их к торговым сношениям; впоследствии Куфа в этой самой пози-
ции сделалась весьма значительным городом.
12 Арриан (Arrian., VI, 4) решительно подтверждает, что на возвратном
пути из Индии за войском следовали финикийские купцы.
13 Я счел возможным причислить сюда Ntxiou, оттого что Стефан Визан-
тийский заимствовал свое известие у Аристагора, о котором говорит (v.
ГмсихоттоХн;), что он был немного моложе Платона; ср.: Strab., XVII, 799.
497
\Низменность Тигра окаймлена широким гористым поясом, за которым,
подобно акрополю, подымается Индийская возвышенность, господствуя над
раскинЦыми у ее подошвы внутренними иранскими областями. С тем что-
бы охранить туда дорогу и этот самый акрополь, Александр принудил
беспокойных горцев селиться в городах, и от Александрии близ Арбел про-
тянулся, как\ кажется, ряд новых городов у подошвы и вверх по склонам
гор; сама Мидия, как говорит Полибий, была всюду покрыта эллинскими
городами, из которых мы могли признать, по крайней мере, один по боль-
шой восточной дороге к каспийским проходам.
Спустившись по ту сторону этих проходов к берегам Каспийского моря,
большая дорога пролегает далее вдоль по северной окраине иранской зем-
ли; а там, где ее пересекает Арий, она, раздвоившись, ведет далее по обе
стороны Парапамиса, на северо-восток к Оксу и Яксарту и на юго-восток в
Индию. На первой половине этого пути на окраине пустыни, которая с ее
туранскими ордами то и дело подвергала опасности культуру иранского
края, возвышается город, бывший впоследствии если не столицею, то мес- I О1
том погребения парфянских царей. LP
Сам Парапамис, этот широкий, малодоступный гористый край, нельзя \р
было вовлечь в сферу эллинизации; однако он со всех сторон окаймлялся О
греческими городами, служившими в то же время для охраны путей сооб- J
щения; Герат, Кандагар, Гизни и другие даже в настоящее время еще свиде- §
тельствуют о том, как верно Александр умел избрать наиболее важные i
пункты, тогда как Профтасия прикрывала сообщение на юго-запад по до- | <5
роге к Александрии в Кармании; все это были узловые пункты в обширной
сети естественных, пересекавших Иран путей, а вместе с тем важнейшие I о
военные посты. 2
Всего чаще встречаются поселения там, где надлежало проложить до-
рогу из Индии в тесную долину Кабула и прикрыть ее на юге около Парапа-
миса, а на севере через вершину Кавказа по спуску к Оксу.
Три низменности с их двойными реками расположились у подошвы
Иранской возвышенности; на заселение их Александр и обратил главным
образом все свои усилия, преобразуя лежащую среди них страну лишь на-
столько, насколько было необходимо для того, чтобы обеспечить связь меж-
ду теми тремя областями. Благодаря большей близости к Европе, земли
Евфрата и Тигра были доступнее для колонизации; тем более царь заботил-
ся о долинах по Оксу и Яксарту, по Инду и Гидраоту.
В Бактрии и Согдиане нам известны только два главных пункта: Алек-
сандрия в Мервском оазисе и город у поворота Яксарта были двумя по-
граничными постами против туранцев на западе и скифов на севере. Из
значительного количества других основанных в этих местах поселений мы
едва в состоянии определить положение одного или двух; нам в особеннос-
ти неизвестно, прикрывалась ли страна и каким именно образом от высо-
ких туркестанских гор на востоке, откуда впоследствии появились самые
опасные враги согдианского эллинизма. Замечательно то, что Александр не
сделал никакой попытки проплыть по Оксу и основанием города при впаде-
нии реки в море оградить торговый путь, который два десятилетия спустя
после него (Strab., XI, 509) оказался крайне важным. Он имел в виду впо-
следствии проникнуть из Эллады в Понт и Колхиду; без этих оккупации,
1
498 I /
без флота в Каспийском море, который снаряжался еще незадолго д/ его
смерти, колония при каспийском устье Окса, отделенная туранскою/усты-
нею от Бактрии и Согдианы, была бы крайне ненадежным постом.,
Завоевание западной Индии предвещало самую богатую будущность.
Новые города на Акесине, Гидаспе, Инде составляли ряд больишх рынков,
а многочисленные поселения в области устья великой реки и соседнего бе-
рега предназначены были охранять эти важные места. Неарху с флотом
поручено было открыть морской путь от Инда к устью Ти/ра. Отсюда же
предполагалось обогнуть морем Аравию; Гераклиду в то рке время велено
было снарядить каспийский флот, с тем чтобы исследовать также и это море;
делаются уже приготовления для экспедиции вдоль средиземноморского
берега Африки; при этом, подобно низменностям вокруг Иранской возвы-
шенности, имеется в виду завладеть для эллинизма также прибрежными
областями вокруг бассейна Средиземного моря, с тем чтобы охватить обе
территориальные системы, в которых заключался цикл жизни древнего
мира. Но тут царь умирает.
Говорят, что и царство его вскоре распалось. Однако водворение гре-
ческой цивилизации среди варваров пережило распадение царства. Гово-
рят, что состояние персидского государства облегчило ему его предприятие.
Однако именно то, что он ясно сознавал это состояние и сумел не только
разрушить это государство, но и воссоздать из его развалин новый строй
народной жизни, — что он сумел верно оценить неистощимую энергию гре-
ческого народа, губившего лишь самого себя в тесных условиях своей роди-
ны, — что он сумел направить его на подвиги, благодаря которым народ мог
_ развить свою созидающую, организаторскую, все преобразующую энер-
% гию, — что он осмотрительно, с верным взглядом, вполне уверенный в своей
q цели, в своих средствах, в своем успехе, доверчиво и смело сеял в обширных
о_ пределах варварских земель эти передовые посты, эти спорадические посе-
к
х
С
ления, эти мелкие энергично пульсирующие средоточия эллинской жизни, —
вот в чем заключается его историческое значение.
Как бы ни судили о его характере, о его нравственных качествах, но в
этом своем создании он является одинаково великим как по смелости своих
замыслов, так и по энергии своей воли, — исполином, наделенным высшими
человеческими дарованиями.
ГОРОДА, ОСНОВАННЫЕ ПРЕЕМНИКАМИ
Перечисляя в следующем очерке остальные поселения в Азии и Афри-
ке, я не стану сопоставлять вместе колонии, основанные отдельно каждым
из государей, так как для большей части этих новых городов имена основа-
телей неизвестны в точности. Я предпочитаю описывать новые города по
землям, хотя сопоставление многих одноименных мест представило бы не-
мало преимуществ. Об основанных в Европе колониях согласно с целью это-
го изложения я упоминать не буду вовсе.
Прежде чем перейти к отдельным странам, я сообщу замечательное
показание Аппиана (Syr., 57) об основании первого Селевка; хотя это изве-
стие\не лишено некоторых неточностей, однако оно представляет велико-
лепною картину раскинувшейся по всей Азии деятельности этого царя. Ап-
пиан говорит: «Селевк на всем протяжении своего царства построил города:
16 Антиохий по имени своего отца, 5 Лаодикей в честь матери, 9 Селевкий
по своему собственному имени, 3 Апомеи, 1 Стратоникею в память своих
жен. Остальные основания он прозвал или по именам греческих и македон-
ских городов, или в память своих подвигов, или в честь Александра. Оттого
в Сирии и в варварских странах верхней Азии встречается много названий
эллинских или македонских городов: Бероя, Эдесса, Перинф, Маронея,
Каллиполь, Ахая, Пелла, Ороп, Амфиполь, Арефуза, Астак, Тегея, Халки-
да, Лариса, Герея, Аполлония; в Парфии: Сотира, Каллиоп, Харида, Гека-
томпил, Ахая; в Индии: Александрополь; в Скифии: Александрешата; а в
память побед самого Селевка прозваны Никефорий в Месопотамии и Ни-
кополь в Армении близ Каппадокии». Эти города рассеяны по всей Азии;
нам везде придется обращаться к этому Каталогу^.
МАЛАЯ АЗИЯ
Малая Азия во все времена была одною из самых интересных, но так-
же из наиболее затруднительных стран в отношении этнографии; там сте-
каются племена с востока и запада, так что ученый исследователь поневоле
отказывается от попытки разобрать в точности различные, появлявшиеся
на полуострове с начала его истории элементы народонаселения. Со вре-
мен Александра Великого греки быстро завершают подготовленную уже
бесчисленными рассеянными по берегам колониальными городами эллини-
зацию, а сто лет спустя после того греческое наречие и образование, как
кажется, всюду одержали верх или, по крайней мере, господствовали ря-
дом с национальным, как например у галатов (cf. Hieronym. proll. ad ep. ad
Gall., I, 11); монеты в городах Малой Азии, как автономные, так и царские,
были греческие, а во время Филострата даже в Каппадокии, хотя плохо, но
все-таки говорили по-гречески (Vit. Apoll., I, 7; Vit. Soph., II, 13). В срав-
нении с этим полным преобразованием число упоминаемых нами ниже но-
вых поселений покажется незначительным. Начнем с Фракийского Босфора.
I. Нам прежде всего предстоит рассмотреть вифинское владычество с
его часто изменявшимися границами. Цари этого края, правда, не греческо-
го происхождения, но они так приурочились к новому складу жизни, что
Малала (р. 221, ed. Bonn.) прямо называет их македонянами. Здесь, прежде
всего, встречается город Никомедия. По Chronic Pasch., p. 828, ed. Bonn., no
Euseb. arm., II, p. 120, ed. Sch., он был выстроен a. Abr. 1755 г., т. е. в 264 г. до
Р. X.15, в самом внутреннем углу Астакенского залива. Астак был, вероятно,
разрушен Лисимахом в последние годы его царствования. Никомед, истин-
14 Менее значителен Каталог Иеронима (в переводе Euseb., II, 117, ed.
Schone к01. 119; Syncell., p. 520, ed. Bonn.; Cedren., I, p. 292, ed. Bonn.). Он
называет Антиохию. Лаодикею, Селевкию, Апомею, Эдессу, Берою, Пеллу.
Нам незачем следить за распространением этого Каталога до Исидора Ис-
палийского и даже до средневековых писак.
rz
ный основатель Вифинского царства, и вызвал астакенцев для заселения
нового города; он был построен напротив развалин Астака16. Такое же зна-
мение, какое рассказывалось при основании Антиохий (Malal., p. 202, ed.
Bonn.) и Александрии (Jul. Val., I, 30), послужило также для указания места
этому городу, и на монетах Никомедии, так же как и тех городов, был изоб-
ражен орел, налетевший на жертву для того, чтобы перенести голову жи-
вотного на назначенное богами место (Liban., Or., VI).
Тот же Либаний описывает великолепие города: по величине он уступа-
ет только четырем городам, а по красоте ни одному. Хотя он частью своего
блеска и одолжен императорской эпохе, однако все лучшее в нем было со-
оружено во времена основателя. О могиле царицы см. Tzetzes, Chil., Ill, 960.
Во внутренней части этой западной Вифинии, на восточной оконечно-
сти Асканского озера, Антигон основал уже город Антигонию, а впослед-
ствии Лисимах назвал его по имени своей жены, дочери Антипатра, Никеей
(см. Историю диадохов). В прежние времена здесь уже находилось мес-
течко 'AyxdjQt) (Steph. Byz. v. N/xa/a) или Геликор (по примечанию древнего
схолиаста у Holstenius'a к Steph., he. cit. и в Hudson., Geogr. min.t IV, p. 40),
и свидетельство Плиния, что Никея прежде называлась Ольвией (V, 32,
§ 148), судя по Steph. Byz. v. 'ОА#/а оказывается вероятным; это древнее ме-
стечко также вошло, вероятно, в состав города. А перенесение имени на ним-
фу Никею и ее связь с возвратившимся из Индии Дионисом (у Memnon'a 41
и Nonnus'a XVI в заключении) объясняется тем обстоятельством, что ни-
кейцы поклонялись этому богу в качестве щоттатшд'a (Dio Chrys., XXXIX,
p. 158, ed. R.), которого так же, как и Геракла на монетах, изображали в виде
KTICTHC. Однако они и Александра также называли хотя не основателем,
х
* но AAEHANAPON NIKAIEI2 (Mionnet, Suppl. 5, p. 107, n° 579-581), а Дион
q Хрисостом (р. 155) говорит: yevuiv ovx dAAa#d&£v aAAcov avve№6vru)v, cpavXcov
q_ xai ohlywVj dAAa 'EAAtJvojv те raw ttqo)T(dv xai Maxedovwv. Steph. v. Borieiov
заявляет: ттоХк; Фдиу'нк;, e%ovaa A//z,i/7?v, 'Атта/av Xeyoiievyv, rgecpovaav аАа$, к
этому надо прибавить, что он же v. N/xa/a называет именно этот город
BoTTtaicov атто1хо<;; такое тождество подтверждается показанием о содержа-
нии соли в Асканском или Аттайском озере; cf.: Aristot., de mir. ausc, 53, p.
834a. 31; Plin., XXXI, 10, § ПО, из новейших авторов v. Hammer, Reise nach
Brussa. S. 123. Итак, Никея, прежде чем называлась Антигонией, известна
была под македонским именем Вотпа/aw, это было поселение македонских
боттиаев, которые присоединились к древним эллинским жителям Ольвии,
к еще более древним фригийцам или бебрикам посидонской Анкоры. Стран-
но и не совсем еще выяснено показание Мемнона, будто имя города проис-
ходит от нимфы Никеи: eqyov Se yeyove N/xaiajv tcov /ьсета 'AkXa^avSgov fjbsv
ovoTQGLTeuaavTcov, fisra Se rov exelvov Savarov хата fyf)T7)(riv ттатд1до$ raunjv
xricravTcov xai ovvotxi(ra4Leva)i>. Менее всего можно согласиться с Раулем Ро-
шеттом (р. 221), будто этими спутниками Александра были никейцы из Бе-
" Ошибочно показание Cedrenus'a (I, p. 292, ed. Bonn.).
16 Так заявляет Мемнон (см. Phot.) — avrixqi 'Aoraxov. Павсаний (Paus.,
V, 12) и Требеллиус (Trebellius Pollio vit. Gallien., 4) ошибаются, утверждая,
будто Астак был только переименован. Павсаний (V, 12, 5) говорит, что Ас-
так основан Зипетом, «фракийцем, как следует заключить по имени».
501
тии; Мемнон тотчас же после этого решительно утверждает, что они были
изгнаны их соседями, фокейцами, разрушившими их город. По всему вид-
но, что это не что иное, как локрская Никея, которая была разрушена во
время Священной войны, а потом занята Филиппом; показание Свида
(v. N/xa/a), что потом здесь поселились боттиаи, оказывается вполне воз-
можным. Прежние никейцы и с ними боттиаи основали, вероятно, этот ви-
финский город, распорядившись, может быть, таким образом, что сначала
там остались македоняне, а потом к ним присоединились прежние никей-
цы. — Во всяком случае этот новый город даже по своему внешнему виду
совершенно относится к эллинской эпохе, как и описывает его Страбон
(Strab., XII, 564): он выстроен четырехугольником и перерезан улицами под
прямым углом, так что с камня, лежащего посредине гимназии, можно ви-
деть все четверо ворот.
Следующий затем город, который мне приходится упомянуть, есть при-
морская Прусия (ПР2 0AAAZ2HI на монетах). Около 203 года Прусий,
сын Зиела, с помощью Филиппа Македонского завоевал и разрушил Киос; I о1
"О
потом он вновь выстроил город и назвал его своим именем; так говорит о
Strab., XII, 563; Steph. Byz., 13. V.; Polyb., XV, 21, etc. Q
К югу от этого города лежит и поныне еще знаменитая Брусса, бывшая О
некогда Пруса около Олимпа (ПР0Т2А, на автономных монетах). О про- g
исхождении ее существуют два совершенно несогласных между собою пре- §
дания. Плиний (V, 43) говорит, что ее основал Ганнибал (прежде 183 года), a х
Tzetzes (Chiliad. HI, 964) заявляет, будто Ганнибал построил ее для царя Пру- ^
сия, тогда как Страбон (XII, 564) приводит странную заметку: хт'кгра Hqovmov
тоО що<; Kgoltrov TroXwr)(ravTo<;t а Стефан говорит: год YSjqov тгоХерусаутсн;.
После того как прежние ученые не раз уже обсуждали это противоречие, 11
Клинтон в новейшее время (Fast. Hell., HI, p. 411), следуя Страбону и Сте- Щ
фану, приписал основание города более древнему вифинскому государю §
Прусию, современнику Кира и Креза, о котором, впрочем, никто ничего не
знает, и который вряд ли распространил свои владения так далеко к западу.
Клинтон упустил из виду самый сильный довод в пользу своего взгляда; в
Индийских историях Ктесия уже сказано (cap. 10): ofioiax; кал ev А/'tvt? *<w
Wqoxxrfi StTjvsxdx; avayerai two. Однако эти слова стоят не у Ктесия, а в выпис-
ках Фотия; мало того, они* находятся лишь в Мюнхенской рукописи; да и по
самой конструкции их оказывается, что они не состоят ни в какой связи с
выписками. Итак, этот довод в пользу показания Страбона оказывается не-
состоятельным. — Сестини (Lettere num. cont., VII, р. 62, п° 3) говорит об
императорской монете, сообщая также копию с нее — и нет никакого осно-
вания сомневаться в ее подлинности; — на одной стороне значится импера-
тор Коммод, а на другой изображена увенчанная голова основателя с
надписью: ПР0Т2АЕ12. TON. KTISTHN. nPOTSIAN, но голова непохо-
жа на другие облики Прусия; правда, это изображение так дурно, что в нем
нельзя также узнать всем знакомое лицо Коммода. Дион Хрисостом, надо
полагать, имел верные сведения о своем родном городе, а он в своей благо-
дарственной речи (Or., XLIV, р. 198, ed. R.) говорит: ov fisyla-rrj ra>v ttoXsojv
ova-a ovSb TrXeTarov %qovov oIkovimbvtj; вряд ли он мог бы сказать это, если бы
город стоял уже более 600 лет, это было бы верно разве только в таком слу-
чае, если бы городу было не более 250 лет, т. е. если бы он был моложе боль-
12
502
шей части блестящих городов эллинской эпохи. Судя по всему этому, стран-
ное известие у Страбона следует считать искаженным текстом; пользуясь
указанием Стефана, Гросскурд искусно исправил это место, прибавив:
хт'ючма Ylqovaiov 77, щ шо1 (pari, Kqolaov rov що<; Kvqov тхокщщ^алто^.
Приблизительно к тому же времени относится основание города Апа-
меи. Царь Филипп Македонский в одно время с Киосом разрушил лежавшую
более к западу Мирлею и подарил этот край своему зятю Прусию; после-
дний основал на месте разрушенного новый город и назвал его по имени
своей жены (см.: Strab., XII, 563). Стефан, v. 'A7ri//,ea, напротив того, сооб-
щает, что город основан Никомедом Эпифаном, который начал царствовать
около 150 года. Однако Гермипп, ученик Каллимаха, упоминает уже об этом
городе, что и служит доводом против этого позднейшего его основания;
сверх того, в Etym. M. sub v. положительно говорится: 'Аттарею, vjv Xafichv
Scoqa кода Ф/Л/7Г7Тои rov ^imtjtqIov 6 Zr)iXa$ (sc. 0 ZiarqXa Hqovo-iac) iLercovoiuMrev
Arta^eiav аттд т?}<; eairrol yvvaixo*; Атгсцла^ 'Egtilrnrcx; kv тф rreqi tcov kv Traideia
XafLipavrojv Xoytt). Это, следовательно, есть достоверное свидетельство весь-
ма ученого современника. Менн (Melet., p. 139) выяснил, насколько может
быть верно приведенное нами выше другое показание.
Тот же Прусий основал город Прусию при Гипии (на его монетах
Ylqov<rie?$ и Ylqovaikuyv що<; 'Тш'ф); я умолчу о нередко встречающихся сме-
шениях этой Прусий с обоими другими одноименными городами; эта
Прусия заступила место Киера, из-за которого часто происходила борьба
у вифинских государей с гераклеотами (Memnon., p. 27). Древний город хотя
к I и находится внутри страны (нынешний Ускуб занимает его место), был,
i впрочем, эллинской колонией, что оказывается весьма вероятным, судя
Я по одноименному фессалийскому городу, который благодаря исследовани-
§ ям Лика возбуждал особенный интерес.
о. При Никее уже следовало бы упомянуть о более раннем основании
С
Антигоном Монофтальма; он охранял Астак и Калхедон от нападений ви-
финских династов. Его имя встречается еще на других пунктах в Пропонти-
де. Стефан упоминает город Антигонию Bi%vla$ щ6$ тф ДаотоЛ/ф, он же
приводит еще Антигонию (pgovqiov тт\<; Ki/fwrjMjs inxk%ov тт?£ -nqotr&o-nkqov
SaXao-crrjs (?) щ <гтаЫои<; v'\ эти два местечка, сколько мне известно, нигде,
впрочем, не упоминаются. Потом один из Демонесийских островов на юго-
восток от Калхедона до сих пор называется греками Антигоной; имя его,
может быть, имеет отношение к тому же Антигону, хотя я у древних писа-
телей не нашел ни одной заметки относительно этого названия. Однако у
Плиния (Plin., V, 32, § 151) и в Пейтингеровой таблице упоминается остров
Антиохия почти в той же местности.
Прежде чем покинуть пределы Вифинской области, я должен упомя-
нуть еще некоторые поселения, положение которых нельзя определить с
точностью. Следуя Арриану, Стефан говорит о торговом городе Никоме-
дии; по изложению Арриана, из пятой книги Вифиниаки которого заимство-
17 Steph. Byz. ошибается, полагая, что Кромна есть старое название Ама-
стриды, точно так же и Genesius III, p. 59, ed. Bonn.; вернее то, что говорит
Plin., VI, 2: Амастрида была прежде Сесамом, ибо Сесам стал акрополем
этого нового города (Страбон).
вано это известие, нельзя даже догадаться, который из Никомедов был его
основателем. К более ранней эпохе, ко времени диадохов уже относится
основание Зипетия, на что указывает само имя: после одержанной над Ан-
тиохом победы в 280 г., как говорит Мемнон (р. 20), Зипет основал этот го-
род 1ЛГО тф Аитгедф ogai. Маннерт предполагает, что это тот самый город,
который называется Вифинием и Клавдиополем; однако его предполо-
жение ни на чем не основано. Этот город упоминает также Steph. Byz. —
Вифинская Эпифания известна только благодаря Стефану; можно предпо-
ложить, что ее основал Никомед Эпифан. — Наконец, мне кажется, что здесь
следует назвать еще упоминаемый в Пейтингеровой таблице в двух станци-
ях на восток от Никомедии г. Demetriu.
II. Я тут же к новым поселениям в понтийском царстве присоединю так-
же Пафлагонию. Морской берег давно уже был покрыт многочисленными
и отчасти значительными греческими городами, из которых некоторые, вро-
де Гераклеи, Синопы, Трапезунда, долго отстаивали свою независимость и
свои области от соседних владетелей.
Из эпохи диадохов на пафлагонском берегу осталось одно только по-
селение Амастрида, о котором упоминалось в Истории диадохов (II, 319);
эта elegans et ornata civitas младшего Плиния долго еще называлась «пра-
вым оком мира»; сюда приезжали торговать скифы из-за Понта, и народы
на юге икпгед k<; kowov t/ ovvrgexovrsg ifinoQiov (см. у Wesseling'a ad Art It,
p. 696 — место взято из Nicetas Orat. in Hyac, XVII). Замечательно, что на-
селение этого нового города образовалось из граждан Тиоса и Сесама,
Кромны17 и Китора (Strab., XII, 544); из этих городов первый и последний
находятся в 9 милях расстояния друг от друга; отсюда видно также, как да-
леко на восток простиралось гераклеотское княжество. Эта область, состав-
лявшая собственное владение фракийской Арсинои, распалась во времена
возникших после смерти Лисимаха беспорядков; Гераклея изгнала фракий-
ский гарнизон, тогда как Амастриду удержал за собою Эвмен из Тиоса, ко-
торый, как нам казалось, был племянник и наследник Филетера в Пергаме и
подобно последнему назначен сюда Лисимахом; Эвмен около 263 года пе-
редал Амастриду понтийскому царю, хотя Гераклея всеми мерами пыталась
вновь присвоить себе эту область. Один только Тиос прежде уже отпал от
союза четырех городов; Никомед Вифинский в 280 году уже опять передал
Тиос во владение гераклеотов, а в 277 году в договоре этого государя с га-
латами этот город упоминается в числе тех, которые они обязаны были ща-
дить. Гераклея удержала за собою город до тех пор, пока в первую
Сирийскую войну, как мы предполагали, между 266-262 гт. Лагиды не от-
няли его и не переименовали в Беренику (Steph. Byz., v. BegevTxat); это имя,
впрочем, прекратилось вместе с египетской оккупацией. Так как впослед-
ствии город оказался во власти вифинских князей, то можно, пожалуй, при-
писать им основание двух названных по-гречески и расположенных внутри
края городов. Сюда относится, во-первых, Тимея, упоминаемая Птолемеем
и известная по автономной монете с надписью TIMAIEON (Mionnet, Suppl.,
V, p. 256); это имя не состоит в непосредственной связи с Тимонием ((pgovgtov
ПафХауомсн;, Steph. Byz.; Plin., V, 32, § 147), в честь которого в вифинскую
эпоху прозвана была Тимонитида; во-вторых, Кратея, упоминаемая также
сперва Птолемеем и притом под новым именем Флавиополя. Странно, что
504
на многих монетах стоит KPHTIEON, тогда как, по Птолемею (Itin. Ant.,
p. 200), у Гиерокла (р. 695 — см. Wess.) и у Константина Порфирородного
(Constant. Pyrph., de Them., I, 6) стоит Кратия; я полагаю, что это тот же го-
род, на который ссылается Steph. Byz. v. Кдодоа, заявляя: ir6Xt$ YlacpXayoviat;
tJv Mtjqiowjs ilbtol Tqoiav ехткге, Ът{\Кщ Ы eJXev 6 NixofMi/)Sov<; vlog; я должен
заметить, что у Стефана К^очга в алфавитном списке стоит прежде К^очоу,
так что Стефан написал, вероятно, Kg7?<7a. Весселинг (р. 695) приводит мес-
то из Galen, tragi тдоф. Ььш^., I, р. 312, где в числе более холодных городов
Вифинии именуются N/xa/a хал Пдоиаа хал Кдао-аои, и предполагает, что под
этим названием тут подразумевается то же самое имя.
В понтийском крае было мало новых поселений; лишь царь Фарнак,
заложив Фарнакию близ Керасунта, имел, кажется, в виду основать здесь
город. Затем еще Митридату приписываются две Евпатории; одна из них,
его резиденция, находилась в Амисе или около него (Арр., Mith., 78), а дру-
гая — при слиянии Ириса и Лика (Strab., XII, 556); я замечу здесь кстати,
что тот же Митридат придал Гераклее на фракийском Херсонесе имя Евпа-
тории (Strab., VII, 312). Наконец, Полемон основал город Полемоний.
Я здесь не распространяюсь об этих основаниях, потому что они относятся
к позднейшей эпохе истории эллинизма. — Здесь, наконец, следует упомя-
нуть город Лаодикею. А именно Eckhel (II, р. 354) сообщает о двух монетах
названного таким образом города, которые typos habeant uni Ponte proprios,
а вместе с тем упоминает, что, по Пеллерину, в одной турецкой рукописи
называется город Ладик между Османджиком и Амасией; Мольтке (Briefe
iiber Zustande und Begebenheiten in der Tiirkei, S. 203) прошел через него по
х I дороге из Самсуна в Амасию, в 14 часах расстояния от первого из этих го-
£ родов; с высоких гор между Ладиком и Амасией видно было прекрасное
§ положение Ладика. Само имя наводит на предположение, что этот город
о_ основан лишь после 246 года; однако основание его следует приписать ско-
рее Митридату VI, нежели Митридату IV.
III. В области понтийских князей берега были заняты греческими ко-
лониями, которые, во всяком случае, оказали значительное влияние на ци-
вилизацию этнического населения. В пределах каппадокийского владения
не существовало ничего подобного, и характеристической чертой его мож-
но, без сомнений, признать то, что здесь в гораздо меньшей степени имелась
в виду эллинизация. Эллинская цивилизация, как положительно засвиде-
тельствовано Диодором, проникла туда лишь при доблестном Ариарате V
(Филопаторе), который царствовал с 162 года и сам был образован вполне в
греческом духе (Diod., XXXI, 18, 7). Тут попадаются следующие греческие
имена. Во-первых, Ариарафия, о которой упоминается у Ptol. и в Itin. Ant.,
p. 181; она расположена по дороге из Себастии в каппадокийскую Коману,
следовательно, на юго-восток от Аргая (cf. p. 212, 213), как замечает Сте-
фан: 7гоА/£ ttXtjctIov Катпта8ох1а<; ало 'AgtagaSou Kamxaboxiaq fiao-iXevtravToq,
уац&доь 'Avtioxov; эта заметка, по мнению Clinton'a (III, p. 433), намекает на
Ариарата IV; если бы можно было доказать, что Лаодика, жена вышеупо-
мянутого Ариарата Филопатора, была сирийской принцессой, дочерью
Антиоха IV Эпифана, то основание города, скорее всего, и следовало бы
приписать этому Ариарату. Он, подобно сыну своему, Ариарату V Филопа-
тору, носил прозвище Евсеба; обоим или каждому из них в особенности сле-
дует приписать основание двух городов, поименованных по этому прозви-
щу. Тиана была названа Evo-efieia у щдд тф Tavqco (Strab., XII, 537), ттоХк;
'EAAt^V ev та) Ka-mraSoxicoi/ ebvei (Philostr., Vit. Apoll., I, 4); на весьма многих,
даже автономных монетах города название Евсебия, конечно, не встречает-
ся более, но одна лишь приставка: що<; т<Ь Tavqix). — Другая Евсебия есть
так называемая Evae^aia у що$ тЛ AiQyalq) (Strab., XII, 538); ее легко при-
знать по многим автономным монетам с именем и с изображением горы; это
та самая, которая впоследствии была известна под названием Цезареи. Мы
никак не можем предположить, чтобы древнее каппадокийское местечко Ма-
зака приняло уже законы Харонды и имело номода (cf. Aristot., Probl.y XIX,
28) в качестве ifyqyvjvris rcbv voilcdv, как говорит Страбон; я полагаю, что вновь
основанный и в виде (тьоттцма тгоХтхог/ устроенный город принял харондий-
ский закон, вроде того, например, как в средние века многие города присва-
ивали себе любекское право; что эта Евсебия была греческим городом,
подтверждается тем, что, по Страбону (Strab., XI, 532), Тигран составил на-
селение Тигранокерты ех ЬыЪгха едгцмш^ектй^ t/тт' ainroi ttoXzcdv 'EXXyviScov
avbqumovq ovvayaywv, а в XII (p. 539) Страбон указывает именно на Мазаку
как на город, из которого составилась большая часть нового населения.
Несколько позже, как подтверждается самим названием, последний
царь Каппадокии основал Архелаиду; впоследствии это была, как прибав-
ляет Плиний (Plin., VI, 3) colonia Claudii Caesaris Archelais, quam Halys
praeterfluit; no Itin. Ant., p. 144 колония лежала на дороге из Анкиры в
Тиану. (Относительно quam Halys praeterfluit Г. Киперт замечает: «Это есть
ошибка плохих карт или известий, которым следует Плиний. Южного
рукава Галиса вовсе нет. Архелаида, наверное, не что иное, как древняя
Гарсавра, ныне Аксеры».) Другое основание того же Архелая в Киликии
нам придется еще назвать впоследствии.
Я умолчу о колониях римлян на берегу Понта и в Каппадокии. Если мы
границами Каппадокии на юг и восток признаем Евфрат и Тавр (так, как и
Страбон (Strab., XII, 533), со времен принявшего титул царя Ариарата, на-
зывает вместе Катаонию и Каппадокию), то в этих пределах найдем область
Селевкиду (KarmaSoxla у XeXevxig Хъуо^кщ). Таким именем, вероятно, была
прозвана восточная Каппадокия, примыкавшая к Евфрату территория во-
круг Мераша и находившаяся, по крайней мере в течение некоторого вре-
мени, во власти Селевкидов. — Здесь в таком случае, мне кажется, следовало
бы искать еще одно новое поселение, о котором упоминается один только
раз. Плиний (Plin., V, 30) говорит в § 127: «ex Asia interiisse gentes tradit...
Isidorus Arieneos et Capreatas, ubi sit Apamia condita a Seleuco rege, inter
Ciliciam, Cappadociam, Cataoniam, Armeniam, et quoniam ferocissimas gentes
demuisset, initio Dameam vocatam». О каких ferocissimae gentes говорится тут?
Конечно, не о Capreatae; может быть, Плиний здесь по ошибке приписал
слово initio. На основании этого предположения можно составить следую-
щую гипотезу: название ferocissimae gentes по всей справедливости ни к кому
более не может относиться, как только к галатам, над которыми Антиох
Сотер одержал знаменитую победу, упомянутую нами в Истории эпигонов.
Из описания этой битвы у Лукиана видно, по крайней мере, что царь вышел
против них не со всеми своими войсками, но поспешил им навстречу с не-
большим лишь отрядом легковооруженных воинов, оттого, конечно, что они
вторглись в область с поразительной быстротой. Можно предположить, что
они нагрянули через Катаонию; малодоступные и хорошо охраняемые пе-
реходы Тавра преградили им, вероятно, путь в Киликию, и они повернули
на восток, в Селевкидову Каппадокию, где царь и разбил их.
IV. Особенный интерес представляет область Фригии, в одно время с
которою можно упомянуть как Ликаонию, так тоже Эпиктет на севере и
писидийскую Фригию на юге.
В качестве центральной страны Малой Азии Фригия перерезана важ-
ными путями сообщения; по ним мы большею частью и можем проследить
за новыми поселениями. Начнем с северо-западной дороги, которая из Ки-
ликии ведет в Никею и Никомедию. Выходя из Киликии, две дороги — одна,
идущая через Ларанду и Дербу, другая более восточная из Архелая, — со-
единяются в Иконии, в древнем, несомненно, городе, но городские мифы
которого, как известно, эллинизированы так своеобразно, что его следова-
ло, по крайней мере, упомянуть здесь. Ближайший северный, несомненно,
греческий город есть Лаодикея, который Страбон (Strab., XIV, 663) уже от-
личает прозвищем xaraxexavfievTj; о том, который из Селевкидов или из го-
сударей Малой Азии основал его, вовсе не упоминается. У подошвы
сопровождающего юго-западную окраину обширной плодородной низмен-
ности горного хребта пролегает дорога через упоминаемый уже Ксенофон-
том Тириай в Филомелию; не только имя этого города, но также автономные
монеты его намекают на его греческое основание; он упоминается со вре-
мени Цицерона (Ер. ad. fam., Ill, 8; XV, 4). По направлению к северному
^ I выходу из этой низменности одна ветвь дороги тянется к северо-западу,
i тогда как северная ветвь ведет прежде всего в Полибот. На первой из этих
К дорог ближайший пункт есть Синнада. Благодаря надписи времен Констан-
q тина, которую Шуази нашел в Тхифу-Кассабе в пяти часах расстояния к
о. югу от Афиум-Кара-Гиссара (Perrot, Revue Archeol., 1876, p. 159) и в кото-
rz
рой значится имя города (ij Хац.ща riov XuvaSetov ртгтобттоХк;), мы теперь с
точностью можем определить положение Синнады. Это поселение инте-
ресно уже вследствие сообщенного Стефаном сказания, будто после тро-
янской эпохи сюда прибыл Акамант и оказал государю страны помощь при
осаде этого города хал хт'кгш ttoXiv avva^qolaavra Se тгоХХой$ о\хп^:ооа<; rcov
аттд тцд *ЕААа#о£ MaxeSovcov хата ryv 'Ao~/av, ro fiev Trqcorov airrfjv amo -rrjq
truvaycoyf}<; xal truvoixytrecog Xvvvala TTQOcrayoQev^TJvai, //,ета Se ravra
7raQe(p$aQii,ev(jj$ amo rcov TxXt)trioxcoqcov XvvvdSa xXyftfjvai. Из какого источника
Стефан ни почерпнул бы свое сбивчивое известие, но там не могло быть
подобного показания о македонянах троянской эпохи; после слов xricrai
ttoXiv, как кажется, есть пробел; упомянутый синойкизм может относиться
лишь к эллинистической эпохе. И в самом деле, как на автономных, так и на
императорских монетах зачастую встречаются надписи, 2TNNAAEON
IHNHN, STNNAAEON AOPIEON, а иногда обе надписи соединяются вме-
сте; наконец, на императорских монетах попадается имя ZET2 riANAHMOS
2TNNAAEON. Если сюда присоединить заметку Стефана, то окажется, что
это было поселением македонян, ионян, дорийцев; Зевс Пандим, вероятно,
служил средством их объединения. Это место господствует над входом в
северную фригийскую, почти открытую для Галатии равнину и прикрывает
дороги в Лидию, Карию и Писидию; если принять все это в соображение, то
можно предположить, что Синнада была заложена Селевкидами совместно
с ионийскими и дорийскими приморскими городами для охраны от набегов
галатов, или вернее, что она была укреплена и вновь занята гарнизоном, так
как в 302 году уже она упоминается как важный пункт (История диадо-
хов). Недалеко от Синнады, в двух милях к северу от мраморных ломок,
Тексиер в развалинах и могилах среди скал открыл, как ему казалось, поло-
жение Докимея. Это имя придется, вероятно, отнести к Докиму, который в
302 году Синнаду передал Лисимаху xai rcbv oxugcj/jbaraj]/ evta rcbv exovriov та
fiaaiXtxa ;детдох,ата (Diod., XX, 107); таким образом на монетах и появилось
имя кохцих; вместе с его изображением. Странно, что у Страбона (Strab.,
XII, 572), а вслед за ним и у Steph. Byz. значится ^Lvvvaba Aoxipeta хшрт),
тогда как Steph. Byz. v. Aoxifieiov, без сомнения, вернее называет это место
тгоХи;; вернее, потому что попадаются автономные монеты Докимеи, моне-
ты с надписью ВОТЛН, даже с названием архонта, как я заключаю, судя
по сообщенному Маннертом известию из Sestini, Geogr. numism., p. 37. На
императорских монетах конца второго столетия имеется надпись AOKIMEHN
МАКЕДОЖШ; сделанная по поводу Синнады заметка служит объясне-
нием этой приставки. — Затем следует одноименное с двумя сирийскими
городами местечко Лисиада (Plin., V, 29), монеты которого также сохрани-
лись. — Далее, по той же дороге, на которой находятся Метрополь, Примнесс,
Дорилай, я не могу более указать ни одного эллинского поселения.
Прежде чем описанный нами путь достигает Синнады, от него отделяет-
ся теперешняя дорога, которая разбивается на три ветви, ведущие к долине
Меандра, Герма и в Прусу; на месте разветвления лежит Афиум-Кара-Гис-
сар, «который благодаря естественным укреплениям и многим античным
остаткам, считался в древности важным местом» (Г. Киперт — см. Franz,
Fiinf Inschriften, S. 36); существуют разные гипотезы относительно древнего
названия этого города; из них гипотеза Киперта нам кажется наиболее веро-
ятной; по его мнению, на этом месте находится Стекторий. Не стоило бы здесь
упоминать это место, если бы Павсаний (X, 27, 1) не сообщил о Коребе, сыне
Мигдона, следующее: tovtou улщьа т/ em<pave$ ev oqoi$ mmoiTjrai Q>Qvyibv e<;
TexroQTjvwv (вместо чего по всей справедливости было написаноXrexTOQTjviov),
xai am airrov TToirjra?*; MvySova^ ovofta em то?<; Фди§ riSeo-Sat xaSearyxev. Bo
всяком случае, благодаря известным мигдонам у Пропонтиды мигдонское
имя принадлежит фригийцам; правда, в первой половине приведенной за-
метки заключается лишь слабый намек на поселение мигдонских македо-
нян во внутренней Фригии, но я все-таки не хотел умолчать об этом.
Мы переходим теперь на более твердую почву при расположенном в
юго-западном направлении в долине Меандра городе Пельтах, который,
конечно, упоминается уже в Анабасисе; однако на автономных монетах сто-
ит ПЕЛТТШ. MAKEAON. При р. Меандре и ее притоках, насколько они
находятся в области Фригии, лежат следующие эллинистические города.
Прежде всего за Пельтами следует Эвмения; Стефан говорит: -noXtg Фдиу1ад
АттаЛоу xaXeaavros ото Ещемй^ год OtXaSeXcpov. Это несколько искажен-
ное показание подтверждает Евтропий (Eutrop., IV, 2) и Евсебий (Eusebius
Chron.): Eumenes, frater regis Attali, qui Eumeniam in Phrygia condidit, ciaras
habetur. Едва ли можно было бы сомневаться в том, что Плиний (Plin., V, 29,
§ 108) в описании внутренней Карий под словами «est Eumenia Cludro flumini
508
adposita, Glaucus atnnis» подразумевает именно этот город (хотя называе-
мые им затем местности находятся гораздо западнее), если бы Стефан по-
мимо фригийской Эвмении не упомянул еще о карийской, положение
которой, впрочем, вовсе неизвестно. К которому из этих двух городов от-
носятся автономные монеты с изображением бога реки и с надписью
ГЛАТК02 или ETMENEON AXAION, это пока не решено. — В пределах
Карийской области, далее вниз по реке лежит близ Меандра, как видно по
монетам, Дионисополь, кт'юца 'ArraXov хал EufiBvov^ Spavov bvqovtcov Atovvaou
ттед} rov<; тоттои; (Steph.); это, конечно, тот же Аттал Филадельф и его брат, о
которых упоминалось при Эвмении. — Последний город в этой области есть,
наконец, Лаодикея (rcqoq Аихц>), adpellata primum Diospolis, dein (Rhoas, Plin.,
V, 29, § 105; Laudicium pylicum, tab. Peut.), один из самых значительных и
богатых городов Малой Азии. Нас интересует здесь только его эллинисти-
ческое происхождение. Об этом имеются два свидетельства; Steph. Byz.
v. AaoSlxeia говорит: sort Ss xai eriqa Av8ia$t 'Avtioxou xrlcrfia той тта$6<; r/fc
ZTQGLTovixw -rfj yaq yuvatxi avrov bvoyji AaoSlxTj; затем следует: Aio<; fi7)WfUL
8i' 'EqiloUj вследствие чего царь и основал город. Итак, основателем был Ан-
тиох II, отвергнувший после египетского мира около 250 года Лаодикею.
Совершенно другое показание находится у Steph. v. 'Avrtizeta: Avrt6%q) yaq
тЛ XeXevxov тде?$ yvvaixeq ьттк<гщ<тал> bvaQfxri<rai ttoXiv iv Kaqia ехаотг) Xiyovaa-
6 bk avaXafiwv riv fiTjreQa xai rip yvvalxa xai ttjv aSeX(p7)v xri^ei rgeig ттоХек;* атто
\ikv Tijq aSeXcpys AaoSixyg AaoSixetav, атто Se Ttj$ yuvatxo$ Nvrrjs Niouv, атто Se
T?j<; imtjtqo^ 'Avrio%ibo<; yAvri6%eiav. Это показание следует признать псарн-
ое I годным, так как оно противоречит известным сведениям о семействе Селев-
кидов; ибо не подлежит сомнению, что персидская Апама была матерью
X
К первого, а Стратоника — второго Антиоха. Слова Eustath. ad Dionys. Per.,
о
^q_| ovsiqoh; ту yvvaixi avrov ттощсгсы tovto, относятся, вероятно, именно к Анти-
оху II и представляют лишь ошибку в словах год тщ Хтдатошхт^.
Я упомяну здесь о новых основаниях во Фригии на юге от вышеприве-
денной линии Меандра, присоединив сюда также писидийскую Фригию.
Я умолчу о городах вроде Гиерополя и Колосс, так как их основание нельзя
приписать определенному основателю, хотя они, несомненно, были элли-
низированы. По поводу Фемисония можно бы еще сделать предположение
в этом случае: это название явно указывает на того кипрского Фемисона,
который со своим братом пользовался сильным влиянием при дворе Ан-
тиоха Теоса и заставил поклоняться себе в качестве его Геракла; излагая
исторические события, я указал, по крайней мере, на возможность отнести
к этим отношениям известные Антиоховы монеты с изображенными на них
диоскурами и Гераклом. У меня, к сожалению, нет под рукой аремисонских
монет, но на них диоскуры или также Геракл изображены между Гермесом
и Кастором. История нападения галатов (см. Paus., X, 32, 3) в хронологичес-
ком отношении нисколько не противоречит предположению, что город на-
зван по имени кипрского Фемисона, так как сказанное нападение может
относиться не только ко времени Антиоха Гиеракса, но также и к первому
нашествию галатов. — Первый, несомненно эллинистический, город на Во-
стоке есть Апамея Кивот, после Эфеса самый значительный торговый го-
род в Малой Азии во времена Страбона, который возникновение его возле
Келен объясняет таким образом (XII, 376): evreubev #' avao-TTjaag той<;
av$Qamou<; о Хсоттде 'hvri6%o<; eig ttjv vw 'Aga/z^/av rrjg fi7]TQ6<; eircjvvfiov tt}v ttoXiv
aTTeSei^ev 'Ато/т^, т} %уатт)д (jlsv tjv УРцпа&аСри, ЬвЬо^ещ Ь' ктиу%алв що<; yafiov
XeXevxtt) тф Nixcltoqi. Арриан (VII, 4, 6) ту же самую Апаму считает, правда,
дочерью Спитамена. Прозвище, которое появляется, по крайней мере, уже
у Плиния (V, 29), заимствовано, конечно, от ковчега, изображенного на
императорских монетах третьего столетия с надписью NOE и голубем с
оливковою ветвью; предание взято, вероятно, из Келен, а туда перешло из
Вавилона и лишь впоследствии оно этим путем соединилось с еврейской
традицией. Относятся ли сюда расположенные к северу и востоку от Апа-
меи по направлению к Стекториону и Филомелиону города Евфорбион,
Метрополь, Хелидонии, мы не беремся решить. Зато сюда решительно от-
носится, помимо упомянутой уже в числе колоний Александра Аполлонии,
город Антиохия (т) що<; Ylio-ibiq, у Strab., XII, 377); благодаря лишь открыти-
ям Арунделя сделалось известным место его развалин. Страбон говорит:
rairnjv ipxi(rav Шаущте^ о\ що<; Ма/ау^ф. Новый город принял к себе старое
туземное население, доказательством чего служит Strab., 577, ed. Mei:
hquiavvq, тк; Mtjvo<; 'Aqxaiou (а в другом месте стоит 'Aaxaiou) ttXtj%<; exovtra
kgoSovXcjv xai iegcov %{dqwv; у Eustath., Oral de Alpheo, p. 30, ed. Taf. также
находится несколько заметок. Едва ли магнетов можно считать основате-
лями этого культа; они, без сомнения, не были первоначальным населением
города, но, вероятно, водворились в нем тогда, когда ему дано было новое
название Антиохии. К сожалению, не сохранилось никакого известия о том,
который из Селевкидов основал этот город; в связи с изложенными в нашей
Истории судьбами Магнесии можно, пожалуй, делать разные сопоставле-
ния, однако их ничем нельзя подтвердить. Следует ли присоединить сюда
близлежащие на юге города Неаполь и Лимнополь, которые помещены на
карте Киперта, об этом не находим никакого следа. — Однако по ту сторо-
ну озера, которое можно видеть из Антиохии, лежит Селевкия, 7) ZiJ^a (sic)
у Гиерокла (р. 673) или также ttJs YlimSia^ у Стефана, Птолемея и у поздней-
ших авторов, на которых ссылается Весселинг в примечании к сказанному
месту Гиерокла; впрочем, на ее монетах нет никакого прозвища. Арундель
предполагал, что ее развалины находятся около Эгердира у озера; однако
Г. Гиршфельд в 1875 г. открыл подлинные развалины этого города под име-
нем Селеф к западу от озера внутри страны. Город основан отнюдь не пер-
вым Селевком, которому вообще нельзя приписать никаких оснований по
сю сторону Тавра.
Мы дошли до предела Фригийской области на юг от Меандра; в облас-
ти северных его притоков мы не в состоянии указать ни одного эллинисти-
ческого поселения; по крайней мере, в отношении Акмонии и Эвкарпии,
которые, казалось, можно было бы причислить к ним, не имеется никаких
доказательств. Не надо, впрочем, забывать, что мы относительно мест, на-
звание которых не изобличает их царского происхождения, случайно лишь
узнаем о том, что это эллинистические поселения. Относительно Блаунда
на самой лидийской границе такое поселение доказывается монетами с их
надписью BAATNA MAKEAON; относительно города Кад, лежащего близ
источников Герма, там, где он выходит из Дидимских гор, мы и не подозре-
вали бы этого, так как многочисленные монеты города не представляют ни-
каких заметок в этом отношении, если бы Плиний (Plin., V, 30, § 111) не упо-
мянул Macedonis Cadieni. He хочу поэтому умолчать также о городе Эзанах,
великолепные развалины которого поразили путешественников, хотя могу
сослаться лишь на показания Павсания (X, 32, 5): Q}Q\jyz<; o\ ет ттота^ф
TlavxeXXa, та §е av(i)8ev if 'AQxaSiag xai A^avcov kq rai/nqv cupixofisvoi ri)v %d)qav
beixvvovaw хтХ. — Судя по названию, к этой области относится еще фригий-
ский город Диоклея, который упоминает Гиерокл (р. 668), а Птолемей оши-
бочно назвал АохеХа.
В заключение приведу еще два имени, которые, может быть, также сюда
относятся. Steph. Byz. v. KufieXeta, между прочим, говорит еегп xai KujSeAa
Q>qvyia<; xai KufieXov iegov. К этому следует присоединить заметку Лукиана
(fud. voc, 7): eireSyiLOW ттоте KvfiiXq) то $в eon wXiwiov ovx аудц, airoixov щ
irrexei Xoyoq 'ASyvaicuv. Это, как кажется, то самое место, которое у Ливия
(Liv., XXXVIII, 18) называется Cuballum Gellograeciae castellum. Однако что
можно сказать об аттической колонии в Кибеле? И что сказать о словах
Стефана, упомянутых по поводу Акамантия: ттоХк; т% {ьгуаХщ*; Фдиу1а$
Аящауто$ xriafia rov (дц(гкщу (Ь сгищьахпо-ауп що<; rov<; ХоХщои<; rov tottov
Se$(Dxe; может быть, в Kafiavrtov, одном из (крайне извращенных) семи имен
городов, которые Кир, по словам Aradpoiuia (Athen., I, 30), подарил кизи-
кийцу Пифарху, и скрывается именно наш Акамантий, который, как кажет-
ся, нигде, впрочем, не встречается.
V. Переходя теперь к Лидии, присоединю к ней для большего удобства
также Пергамскую и Троянскую области.
Начну с северо-восточной окраины. Плиний (30, § 123) в Троаде ставит
х одно возле другого Miletopolitae, Poemaneni Macedones Aschilacae (v. I.
^ Asculacae), Polichnaei, Pionitae. Macedones можно отнести к обоим именам,
q между которыми оно стоит, однако связь с последующим более шаткая.
_qJ Местечко Poemanenos (Aristid. ov. sac. IV, vol. 1, p. 502, ed. Dind., тогда как
■" Стефан пишет Poimaninon; другие уклонения см. у Весселинга к Гиероклу
!^ (р. 662); на монетах значится nOIMANHNON) по Пейтингеровой таблице
лежит там, где находится Phemenium, — на дороге из Кизика в Пергам.
Aschilacae, так же как и Asculacae, есть, без сомнения, неудачный вариант;
при этом, как кажется, подразумевается то же самое место, которое у Гие-
рокла (р. 662) является в форме XxeXevra; у него оно стоит после Блауда
(т. е. Блаунда близ истоков Макеста, см. Kiepert bei Franz, S. 32) и прежде
Молиса (Милетополя, по Весселингу) и Герма (между Макестом и озером
Аполлонии, если это Гиера Герм; другой Герм находится, конечно, близ Пер-
гама, Corp. Inscr., n° 3563); начав по морскому берегу с Кизика как с метро-
полии этой эпархии и перечислив в ней затем самые южные города внутри
страны до юго-восточной окраины в Блаунде, Гиерокл, как кажется, снова
начинает от моря. Если это верно, то его Скелента не что иное, как местечко
Скилак; в таком случае вариант Asculacae у Плиния недалек от истины. Од-
нако не говорит ли Плиний о Троаде, и не лежит ли Скилак у Пропонтиды?
Милетополь, который он называет непосредственно после Asculacae, так-
же вполне находится на мисийской равнине, в чем, по крайней мере, нельзя
сомневаться. Я счел бы это сопоставление совершенно верным, если бы
Плиний (V, 32) не упомянул именно Scylace; однако и это тоже не может
окончательно служить помехой, так как дело подтверждается еще иными
511
соображениями. И действительно, Геродот (Herodot., I, 57) приводит Ски-
лак в качестве древнего города пеласгов, которые были ovvoixoi афинян; мы
знаем, как следует понимать эту комбинацию Геродота; отсюда, наверное,
можно лишь заключить то, что пеласги были в Скилаке. А в тех же самых
пределах мы находим имя области Мигдониды (Strab., XII, 576; Steph. Byz.
v.), что может служить достаточным доказательством того, что скилакиты
назывались македонянами. Такое указание на скилакитских македонян ис-
ключает их из сферы эллинистических поселений; они такие же старинные
обитатели этой местности, как и Cilices Mandagandeni, которых Плиний при-
водит вслед за ними (V, 30).
На берегу близ Пергама находится упоминаемый, правда, только у
Плиния (V, 30, § 121) город Лисимахия между исчезнувшими также, по его
словам, Каном и Атарнеею (sic). Атталея тоже упоминается у одного толь-
ко Плиния (§ 121): Myriana... et intus Aegaeae Attila... in ora autem... Детлеф-
сен вместо того говорит: Myrina... Aegaeae, Itale без варианта. Другое
пергамское местечко есть Гелла; Стефан говорит про него: £cug/ov 'Aaias, I о1
'АттаХои fiamXiax; kimoqiov TioXvfiiog i$ . О нем нигде более нет упоминания; о
нельзя даже с достоверностью указать на его положение на берегу моря; I Q
известно, что там Елая была главною гаванью пергамских царей. Стефан
упоминает Гелленополь, ттоХн; BiSwiag [lvto\ tov clvoixktilov В/ЭйЛ/З^. Что это 5
не был тот столь часто упоминаемый впоследствии Гелленополь, который §
назван так Константином Великим в честь своей матери (многочисленные
показания см. у Wesseling'a ad. Hierocl., p. 691), доказывается тем, что, по §
Malal., p. 323, ed. Bonn., древний туземный город назывался Сугой, — следо-
вательно, не Бифальбой. О том же древнейшем Гелленополе в Etym. M. v. Ф
'EXXtjvottoXh; из Аполлодора находится следующая заметка: "АттоАо$ ex rcbv
EAA^wJojv ttoXscjjv olx^roqaq (rvvayayuyv ехткге ttoXiv xai (bvoiLacrev avrrjv
EXXyvcmoXtv. Хотя Стефан и отделяет друг от друга статьи о Гелле и о Гел- ^
ленополе, но я готов считать оба эти местечка тождественными. Аттал II
назвал Артинское озеро в честь своей матери Аполлониадой (Suid., v.); его
отец, муж Аполлонии, Аттал I в 205 г. сразился с Прусием Вифинским при
Бооскефалах и, как видно из последствий, с большим успехом. В то время
Пергамская область и распространилась, вероятно, до Риндака. Я полагаю,
что упоминаемая Полибием в книге XVI, т. е. три или четыре года спустя
после упомянутой войны, тождественная с Гелленополем Гелла была имен-
но пергамскою гаванью на берегу Пропонтиды и представляла в высшей сте-
пени важное владение.
В пределах Лидии можно с достоверностью указать еще на два города,
основанных пергамскими царями; один из них, Атталея, ttqotbqov 'Ayqoeiqa
у 'AXXoeiqa хаХощет), лежит при реке Герме, там, где она вступает в равни-
ну Сард, другой — Филадельфия, лежит на южном конце той же долины
недалеко от Когама, впадающего в Герм близ Сард; о Филадельфии мы на-
верняка знаем, что она есть ' АттаХои хт'кг^иь QiXabiXyov. Для обозрения мно-
18 Перрот (в Rev. Arch., 1876, p. 41) сообщил надпись, в которой заключа-
ется диспозиция относительно обороны города (той<; ev ти> avcpoSio (sic)
тета#$а/) от башни «Доброй надежды» до башни «Благодатного урожая»
(ttJs eveT7)Qia<;).
гих ее развалин можно воспользоваться следующим сообщением: Ioh., Lyd.,
p. 45, ed. Bonn, tvjv kv AvSla Ф/ЛайЛфе/av Aiyimrioi eoXtcrav; в этой так часто
подвергавшейся землетрясениям стране (Tacit., Ann., II, 47) необходимо
было прибегнуть к тяжелому египетскому складу построек; StareXovai
TTQoaaxovrst; то!<; па$е(п -nfc yrj<; xai aQXirexTovovvrei; ttqo<; airrrjv, говорит Стра-
бон (XII, 579). О чрезвычайной пышности города свидетельствует Ioh., Lyd.,
p. 75 (ilixqck; 'A^rjvag kxaXow), а о его развалинах — Э. Курций в Abh. der
Berl. Akad., 1873.— Известно, что цари Эвмен II и Аттал II питали сильную
привязанность к своей матери Аполлониде из Кизика; город Аполлонида
imhvvfLos kcrri т% KuQxyvrJs 'AwXXwvibcx; (Strab., XIII, 625). Положение его,
по словам Арунделя (Sev. Church., p. 191), легко узнать по надписи, кото-
рую он открыл около деревни Булланы при реке Гилле. — Наконец, я упо-
мяну при посредстве Аттала еще о iMerotxt(rti6<; из Гергифы к истокам Каика
(Strab., XIII, 616).
На лидийском берегу два древних местечка заслуживают особенного
внимания. Смирна после разрушения лидийцами была лишь xcjfjbTjSov обита-
ема в течение четырехсот лет; только Антигон и Лисимах основали новый
город, быстро достигший чрезвычайного развития (Strab., XIV, 646)18. Смир-
нейцы в течение этих четырех столетий, вероятно, перестали принадлежать
к Ионическому союзу, так как их город лишь впоследствии regis Attali et
Arsinoes beneficio inter Ionas est recepta, (Vitruv., IV, 1). — О том, что Эфес
был вновь основан Лисимахом и назван им Арсиноей, было уже говорено
прежде (cf.: Strab., XIV, 640); а о принадлежащей, вероятно, сюда монете
^ | будет речь впереди.
_ Внутри Лидии мы находим Фиатейру, xarotxia MaxeSovcov (Strab., XII,
^ 625); но только не в том роде, как рассказывает Стефан: атто ШХеихои год
ц NtxaroQcx; Av<rtfiaxco тгоХецоиктсх; xai axou(ravTo<;, ori Ьнуатщ at/rcjj yeyove, ttjv
q_| ttoXiv exaXetre (диуатща. Когда после битвы при Куропедионе Селевк начал
властвовать в этих областях, то он был уже маститым старцем. — Недалеко
от Фиатейры, поближе к отделяющим долину Герма от Мисийской области
горам находится принадлежащий сюда город Накраса, что и подтвержда-
ется надписью времен Адриана (С. I. Graec, II, п° 3522), которая заканчива-
ется словами 7) MaxeSovwv NaxQa<retra>v fiouXv) xai о b*rjiLo$. — О новом
поселении Магнесии на южной стороне долины Герма упоминалось уже
прежде. По мнению Страбона, Фиатейра некоторыми авторами признается
последним городом мисийцев. Можно было бы, пожалуй, Mysomacedones у
Plin., V, 29, § 120 считать тождественными с Фиатейрой и Накрасой; и в са-
мом деле, в пользу этого предположения говорит даже, по-видимому, по-
казание Птолемея; но Плиний (V, 30, § 121) признает Фиатейру частью
Пергамской области, тогда как Mysomacedones причисляются к Эфесскому
округу. Мне не удалось точнее определить их местопребывание; однако на
карте Лика среди Кильвианской равнины находится Никея (как видно по
монетам с надписью NEIKAEHN TON EN KIABIANO), это, вероятно, не
что иное, как Никополь Гиерокла (р. 660), a Cilbiani inferiores et superiores,
по мнению Плиния (Plin., V, 29, § 120), принадлежат к Эфесскому округу;
это местечко можно было бы, пожалуй, скомбинировать с вышеупомянуты-
ми названиями. — Сюда, наконец, относится выражение Плиния: Macedones
Hyrcani cognominati; и на монетах имеется надпись МАКЕЛ. TPKANON,
С
Eckhel., I, 3, p. 105. Можно бы их столицу искать в так называемой впослед-
ствии Гиероцезареи (Caesarea у Plin.), тем более что там, как известно, был
культ магов (Paus., V, 27; cf.: Tacit., Ann., Ill, 62: Persicam apud se Dianam,
delubrum Cyro rege dicatum; оттого и стоит ПЕР21КН на монетах города);
однако Тацит (Tacit., Ann., И, 47) и другие авторы отличают один город от
другого, по Плинию, гирканцы принадлежали к Смирнской, а Гиероцеза-
рея к Эфесской области. Судя по тексту Mosteni aut (v. et) Macedones Hyrcani
у Tacit., Ann., II, 47, можно было бы признать тождественными эти два на-
рода, тем более что движения сирийского и римского войск прежде битвы
при Магнесии обозначают именно эту местность под именем гирканских
полей; однако существуют как гирканские, так и мостенские монеты, и по-
следние, сверх Torot с надписью ATAON M02THNON, а что существовало
fTqxav(bv ттоХк;, об этом помимо монет несомненно свидетельствует найден-
ная Арунделем к югу от Смирны надпись (Sev. Church., p. 13); однако, не-
смотря на возражения Летронна (Journ. des Sav., 1829), мнение Лика о том,
что здесь не мог находиться этот гирканский город, все-таки следует при-
знать верным. Во всяком случае, мы находим нечто аналогичное с этой ком-
бинацией в населении или гарнизоне Магнесии, как оказывается, по надписи
Смирны, С. I. Сгаес, II, п° 3137. — О Macedones Asculacae у Plin., V, 30, § 123
было уже упомянуто.
Мне кажется, весьма поучительно то обстоятельство, что Эратосфен
уже в пятой книге своей Галатики (упоминается тридцать третья книга, а
сам Эратосфен умер в 194 г.) упомянул об 'Tqxaviov ttbSIov tyj$ hvbia<;\ веро-
ятно, галаты в одном из своих ранних нашествий в Малой Азии угрожали
также нижней долине Герма. Теперь я напоминаю о том, что было сказано
выше (История эпигонов, I). Для того чтобы отразить галатов, которые
прежде еще явились в Малой Азии в вифинской службе, необходимо было
оградиться македонскими поселениями в наиболее важных позициях. В се-
верных проходах Лидии мы нашли Накрасу и Фиатейру, у дидимских про-
ходов близ истоков Герма — Кады, потом на лидийской границе с Фригией —
Блауд, для охраны долины Кестра — мисомакедонян, для охраны верхней
долины Меандра — пелтских македонян, а для охраны Парореи — ахейцев,
дорийцев и македонян из Синнадии. Я упомянул здесь лишь о самых заме-
чательных пунктах.
VI. Затем следует Кария. Надо обратить внимание на то, что в Лидийс-
кой области не находится ни одного Селевкидова имени, тогда как в Карий
много таких названий. Наше историческое изложение может отчасти и слу-
жить ответом на вопрос, сделанный по этому поводу; я должен, однако, за-
метить, что, по крайней мере, Лаодикея при реке Лике признается тоже
лидийским городом.
Выше уже было упомянуто о нелепом предании по поводу основания
трех карийских городов, Нисы, Антиохии и Лаодикеи. В том месте, где Сте-
фан сообщает это, он впадает еще в другую ошибку, когда говорит: evSexarT)
(AimoxBia) Kaglag rfri<; xdi ПиЬбттоХк; ехаХаТто. И в самом деле, по поводу
Пифополя, имя которого он производит от известного богача Пифеса, со-
временника Ксеркса, он говорит, будто впоследствии город назывался Ни-
сою или, как он сам пишет, Ниссою; точно то же и относительно Афимбры:
ттоХн; Kagias що<; Matavbq^)...; пути; fisra raxha Nvtrtra ехХудч]. Афимбра, веро-
17 История эллинизма
514
ятно, была принята в синойкизм нового города, или, подобно Маставре
(С. I. Graec, II, п° 2943), принадлежала к той же области, или, что всего ве-
роятнее, выражение Страбона (XIV, 648 и 650) еап о coaireq 8'пгоХн; означает
именно сказанную двойственность; cf.: Etym. M. v. 'Axaqa. — Не подлежит
сомнению, что в Карий находилось несколько Антиохий. Самою знамени-
тою была Антиохия на Меандре, о развалинах которой сообщает, между
прочим, Fellows Lycia (p. 27), при устье Мосина ubi feure Seminethos et Cranaos
oppida, как замечает Плиний (V, 29); мост, изображенный на монете у
ЕскЬеГя (I, 2, 575), и у Mionnet (Suppl., VI, p. 454), есть тот самый, на кото-
рый ссылается Флегон (Mir., 6). — О другой Антиохий мы узнаем из слов
Стефана: 'ААа/За^а...^ тготе 'AvT/o^s/а (Eckhel, I, 2, 572), который напрасно
приписывает Стефану ошибку, когда говорит, будто он эту Алабанду поме-
стил на Меандре; точно так же неудовлетворительно предлагаемое Экгелем
объяснение совершенно сходных между собою монет, на которых значится
то ANTIOXEON, то AAABANAEHN. Между тетрадрахмами Александра,
помещенными в VI классе, часто попадаются монеты с изображением Пега-
са, принадлежавшем этому городу. Благодаря политическим событиям ста-
новится понятным, что старое имя Алабанды скоро вытеснило новое; Полибий
уже называет город всегда старым именем. На одной из монет Отацилии
затем еще раз попадается надпись AAABANAEHN AAKEAAIMONION,
что достаточно объясняется показанием Страбона (XIV, 650); надо удивляться
тому, что такая надпись не встречается тоже на монетах Нисы. Плиний
(РИп., V, 20) наконец говорит: Tralles, quae et Euanthia et Seleucia et Antiochia
^ dicta; Стефан также пишет: ^ -nqorzqov yeyofievT] 'AvbaTa Sia то тгоХХа avSr) sxe?
x Treyvxevat; если он затем продолжает: ехаХегто ха\ 'Eqvfiva, то это можно
g объяснить словами Страбона axqav &%оуто<; eqv/MVTjv, если из них не возникло
q выражения самого Стефана. Странно, что Страбон, сообщая (XIV, 648) раз-
_gj ные подробности о населении города, ничего не говорит об его эллинисти-
"" ческих элементах. Regia Attali domus у Плиния (Plin., XXXV, 14) и Витрувия
£, (Vitruv., II, 8) ничего не доказывает; этот город, впрочем, отнюдь не при-
надлежит Атталу I; лишь после конгресса в Апамее пергамцы владели
Траллами (Polyb., XX, 27, 10). Надписи С. I. Graec, II, п° 2919, 2923 sqq. сви-
детельствуют о том, что город как до Александра, так и в императорскую
эпоху назывался Траллами. — Как раз к этой эпохе атталов и относится
город Эвмения в Карий, о котором упоминает один только Стефан; город
находился, вероятно, к северу от Меандра, так как после упомянутого кон-
гресса земля к югу перешла к родосцам. — В эпоху диадохов основан еще
город Плистархия (г[тн; хал Trqoreqov xal varsqov HqaxXeia (bvofjLa<r$7)v, Steph.),
если только это имя можно отнести к брату македонского Кассандра; я по-
лагаю, однако, что под этим следует разуметь у Т&уо^кщ 'AXxfmvi Аатц,6$,
как обозначает ее Стефан, в отличие от другой Гераклеи, которую он назы-
вает просто Kaqlag, если только приведенное место Стефана не ошибочно;
ибо другая Гераклея в отличие от этой несравненно более знаменитой при
Латмском заливе называется AXfiaxf), а первоначальный текст у Стефана
былуХеу.'А)цшхю^реабуакх;; в С. I. Graec, n° 2761 этот момент разбирает-
ся подробно. — Вопрос о том, принадлежат ли сюда упоминаемые у Пли-
ния (Plin., V. 29) Lysias oppidum et Orthosia, из которых последняя известна
по многочисленным монетам, остается открытым. Тем несомненнее известие
515
о Стратоникее; Страбон (Strab., XIV, 660) называет ее xaroixla Maxe$6vajvy
что у Стефана изменилось в -noXig MaxeSovias (а не Maioviaq, как предпола-
гали некоторые авторы); он прибавляет: хехХцтсы $е атто XTQarovlxf]*; т^
'Avti6%ov yvvaix6$\ она, следовательно, была основана Антиохом I. То, что
город прежде назывался Хрисаоридой (затем Идриадой), засвидетель-
ствовано, между прочим, Павсанием (V, 21, 10), или, вернее, хрисаорийцы
остались, как доказывают надписи, возле стратоникейцев. Бек утверждает
(С. I. Graec, II, р. 473), что Стратоникея была лишь новым именем Идриады,
которая, в свою очередь, была лишь как бы возобновлением прежней Хри-
саориды, и что вместе с этим старым городом новый также получил общее
название Хрисаориды; однако такой взгляд опровергается главным обра-
зом обстоятельством, что от Хрисаориды не существует никаких монет, а
от Стратоникеи, напротив того, их сохранилось очень много, не только ав-
тономных, но также императорских. У Страбона находится довольно об-
стоятельное и ясное изложение этого вопроса. — Следует ли присоединить
сюда «великий город» Афродисиаду, об этом не имеется никаких указаний. I о1
VII. В Ликии, Писидии и Памфилии, которые я соединяю вместе, так- о
же не было недостатка в эллинистических поселениях или именах. В Ликии, \р
как кажется, долее чем на каком-либо ином малоазийском берегу сохрани-
лось туземное наречие вместе со всемирным эллинистическим языком. Со- I g
юзная конституция ликийских городов сохранилась, по-видимому, во время §
i
X
вмешаться во внутренние дела. Страбон (Strab., XIV, 666) говорит про Па- §
тару: ПтоАб/ш?о£ 6 <btXaSeX<po<; етохеиасгсн; ч Aqaivo^v sxaXeas rrjv ev Avxiq,,
е7техдатг}(ге $е то e£ aqxfiq ovofjba. О другой 'А^очуоЧ?, ттоХк; Avxrov речь впере-
ди. — Тут ничего не упоминается относительно Селевкидов, за исключени- ^
ем разве острова Антиоха против Сидимы (?) (Plin., V, 31, § 131). ^
Следующий затем, без сомнения, новый приморский город встречаем в §
Атталее на Памфильском берегу; Стефан говорит: о\ be tvjv KiXtxia<; Kcjqvxov
ovtcj (pact Xeyecrbat... атто 'АттаХои OtXaSeX(pov xricravro^ ai/njv; памфильский
Корик довольно известен, однако все вышесказанное до атто кажется из-
вращенной вставкой.— Затем на востоке, в ста стадиях от устья Эвриме-
донта в Стадиасме (Gail Geogr. min., II, p. 475) приводится город Селевкия;
он, впрочем, нигде не упоминается; относительно местности я могу со-
слаться на Лика (р. 195).— Потом Стадиасм (Strab. XIV, 667) называет Пто-
лемаиду, непосредственно на границе Памфилии с Киликией; Бофор в своем
описании берега (р. 166) с большою вероятностью обозначает место этого
древнего города.
Во внутренней части этих областей не встречается ни одного с досто-
верностью известного поселения, что довольно странно; разве признать
таковыми Дион у Стефана и Менедемий (Птолемей и Гиерокл (р. 681),
вопреки Стефану Византийскому), и тот и другой в Памфилии; причина
этого заключается в исторических условиях тамошних храбрых горных
племен. Я не могу умолчать здесь о том, что Полибий уже (V, 76) указы-
вает на родство сельгиев с лаконцами, чем и объяснились надписи на мо-
нетах некоторых городов в этом крае; так, между прочим: ЛАКЕЛА1М.
SArAAAXSEaN, потом также АМВЛАДЕГШ ЛАКЕ AAIMON. EAET0,
а на одной из кибиратских автономных монет у Мионе (Suppl., VII, pi. XII,
17*
516
n° 3), не упоминавшего, впрочем, о ней ни в каталоге, ни в объяснении таб-
лиц, между ногами скачущей лошади стоит: AKEAAI. KIBTPATHN. Экгель
был того мнения, что это означает лишь OMONOIA, так как эта надпись
действительно встречается на единственной сельгийской монете, на кото-
рой именуются лаконцы; он в особенности ссылался на то, что надпись
AAKEAAIMHN ХАГАЛА2Х02 положительно подтверждает его мнение.
Это справедливо, но не доказывает другого предположения; вследствие
такого сопоставления становится, напротив, еще вероятнее, что сагалас-
цы считали себя в родстве со спартанцами.
VIII. Из стран Малой Азии остается рассмотреть еще Киликию. Я не
стану разбирать древнейшие эллинские колонии в этой области, которые,
судя по некоторым местным преданиям, можно, пожалуй, признать тако-
выми. Со времен завоеваний Александра эта область благодаря ее проме-
жуточному положению должна была приобрести новое важное значение;
чем более лагиды обнаруживали свое превосходство на море, тем важнее
было для Селевкидов упрочить за собою по возможности Киликию, для того
чтобы поддержать связь с Малой Азией. Вследствие этого мы и встречаем в
стране весьма много новых колоний; впрочем, двукратная оккупация лаги-
дов также оставила здесь свои следы.
Начнем с западной границы. Там первый город есть Антиохия, пропу-
щенная в списке Стефана. Этот город всего вернее можно признать по ука-
занию Феофана (Chronogr., р. 214, ed. Bonn.): Aoyyivog nq... vfjv 'Avrioxetav
Ttjq 'l(ravQia<; otxa>v em t\vo<; oqov<; xeifieyrjv v^Xov хата ttjv fie^tifiqii/Tiv tyj<;
g. I ХЩЩ ^aXarrav хтА. Это есть Кдауо<;, -nirqa TreQixgyfivoi; що<; ЬаХаттп, как его
х описывает Страбон (Strab., XIV, 669) и как его можно, несомненно, вновь
X узнать в описании Бофора (р. 193). Манерт ошибается, считая эту Антиохию
q на Краге, как называет ее Птолемей, тождественною Антиохии в Ламотиде,
о. так как у Птолемея город Лам и область Ламотида помещены несколькими
градусами восточнее. — По другую сторону мыса Анемурия следует затем
Арсиноя, упоминаемая Страбоном (XIV, 670), Стефаном и др.; она, несом-
ненно, была основана Птолемеем II. Судя по политическим отношениям ему
необходимо приписать также следующий затем город Беренику (Steph. Byz.),
положение которого можно узнать по указаниям Стадиасма, § 173, где го-
ворится 6/V xoXttov Begvixyv.— На одну милю внутрь страны на берегу судо-
ходного до того места Каликадна находится Селевкия (що<; тф KaXuxiSvip
на многих монетах); по Стефану, она называется т^а^еГа* ajvofiaaa Se airrfjv
2eXevxo$ 6 Ntxartog, прибавляет он из Александра Полигистора; cf.: v. vgia;
Аммиан (Ammian. Marc, XIV, 8, 2) и Константин Порфирородный (Const.
Porph., de them., I, 1, 3) также называют город opus Seleuci regis. По словам
Страбона (XVI, 670), можно судить о том, как значителен был этот город;
он называет его ttoXiv eu ovvajXTjfiii/rrjv xai тгоХи a<pe<rr(bcrav rov KtXtxiou xai
IlafKpvXlov tqottou. Я умолчу о разных свидетельствах позднейшей эпохи.
К области города относятся храм и оракул сарпедонского Аполлона (Zosim.,
I, 57; cf.: Diod., XXXII, 10, 2) и цитаты Весселинга к этому месту. — Тотчас
же к востоку от знаменитой Корикийской горы следует Элеусса на острове
у самого берега, yv (ryvcpxtaev 'АохеХао<; xai хатвахеиао-ато BaaiXeov (Strab.,
XIV, 671; cf.: Steph. Byz.). Ближайший затем город, о котором следует упо-
мянуть, есть Таре, названный Антиохией Антиохом Эпнфаном (Steph. Byz.
rz
v. 'AvT/o^e/a Тад(г6<;). — Судя по монетам, весьма вероятно, хотя не совсем
достоверно, что Адана была также названа Антиохией (ANT. TON ПР02
ТП1 2АРШ, так значится уже на одной из монет Антиоха Эпифана, Eckhel,
I, 3, р. 46). — Потом Стефан называет еще Антиохию KiXixiag em той Пьдсцмоь;
это место упоминается также в Перилле.— Самая восточная из Селевкидо-
вых колоний в Киликии, наконец, есть Эпифания, названная так, вероятно,
по прозвищу Антиоха IV, на месте прежнего Ойнианда (Plin., V, 27, § 93); ее
упоминают также Appian., Mitrh., 69; Amm. Mare, XXII, 2, 4 и др.
Помимо этих городов, положение которых можно определить, остает-
ся еще упомянуть о некоторых с неизвестным положением. Прежде всего
назовем Филадельфию (ср.: Leake, p. 117), которая упоминается Птолемеем
и Гиероклом (р. 710), где находится также заметка Весселинга.— Потом
имеются монеты Антиохии Приморской (ANTIOXEflN THZ ПАРАЛЮТ),
которую Мионне (Suppl., VII, 195), как мне кажется, справедливо относит к
Киликии; из названных доселе Антиохии одна только, лежащая около Кра-
га, находится настолько близко к морю, что может быть названа ттадаХю$; а
все-таки при означенной местности Крага это предположение кажется не-
вероятным.— Экгель сообщил о монете, на которой находится надпись:
ANTIOXEON TON ПРО... AKOI; он полагает, что по типу, фабрике и роду
надписи она, наверное, киликийская; дополнение Сестина що<; Kgixcu вместо
Kqayu) он отверг. — Наконец, мы у Стефана узнаем еще про одну Антиохию,
'laavqiaq у Aa^mrriq Хвуо\ьвщ. Так как по мнению Стефана или, скорее, бо-
лее авторитетного Александра Полигистора у него (v. Асцм*;) местность при
реке Ламе называется Ламусией, то этот ламийский город не может быть
тождественным лежащему около Крага. Птолемей упоминает о селении
Ламе, а Страбон говорит: 6 Аа(ло<; тготаро^ ха! хшцл) ofjubvfMO^ Мы готовы были
бы этот приморский город признать за Антиохию, если бы Гиерокл (р. 709)
не называл оба места одно возле другого. Последовательность мест в изло-
жении у Константина Порфирородного (Const. Porph., de them, 1,14 — p. 38,
t. Ill, ed. Bonn.) явно перепутана, так что никак нельзя догадаться, который
из называемых им городов есть Avri6%eia у fitxga; вероятнее всего, он под-
разумевал город около Крага.
Я присоединю сюда еще Стратоникею, которую иначе решительно не
знаю, куда поместить и которую, говоря о Карий, упоминает Страбон (XIV,
660): вол $в ха/ аААт? XrQarovlxeia г) ттдо<; тф Tavqcp хаХощвщ, noXixyiov
7TQo<rxeifievov Tip oqet (Steph. Byz. заимствовал свою заметку у Страбона);
нигде, впрочем, нет ни следа этого города, который мог находиться так же
близ Тавра в Коммагене или Катаонии, как и в Киликии.
В заключение относительно городов Малой Азии я сообщу еще о трех
ошибках. Ошибка Плиния (Plin., V, 32, § 147), называющего Attalenses в Га-
латии, была ухе исправлена; теперь следует читать Actalenses. Он там же
упоминает о Seleucenses в Галатии; под этим подразумевается у него Селев-
кия Сидера в писидийской Фригии. Наконец Steph. Byz. помимо карийской
Avr/о^б/а говорит еще об Антиохии AvSla<;, замечая притом: exXyOfr) ало
%Ayti6%ov rod 'Emyavovs; однако не подлежит сомнению, что Антиоху не-
чего было уже делать в Лидии; разве какой-нибудь город был обязан ему
благодарностью и назвался его именем, вроде того как в Этолии Арсиноя
названа была в честь супруги Птолемея II.
518
СИРИЙСКИЕ ОБЛАСТИ
Множество древних греческих приморских поселений в Малой Азии
послужили для эллинизма самым удобным средством для проникновения
также во внутренние края полуострова; торговые связи, военные походы,
наемничество начали еще до
Александра распространять там влияние греков; без пагубного наше-
ствия галатов полуостров, вероятно, и ранее уже был бы совершенно элли-
низирован; во всяком случае, в эпоху Цезарей эллинизация Малой Азии
завершилась уже настолько, что варварские наречия или совсем вымерли,
или сохранились лишь кое-где в деревнях, в низших слоях населения.
В сирийских областях результаты были менее блестящие; я подразу-
меваю тут все пространство земель, ограниченных на севере Амманскими
горами, на востоке Евфратом, а на юге пустынею свободных аравитян.
В этих краях не было никаких предшественников эллиннизма; лишь с
Александром стали возникать здесь греко-македонские поселения; но за-
тем они уже последовали одно за другим в чрезвычайном количестве и в
некоторых областях, по крайней мере, совершенно вытеснили туземный
элемент. Аммиан Марцеллин (Ammian. Marc, 8, 5, XIV) весьма метко выра-
жается про область между Евфратом и Нилом: quam plagam Seleucus Nicator
occupatum auxit magnum in modum, cum post Alexandri Macedonis obitum
successorio iure teneret regna Persidis, efficaciae impetrabilis nex, ut indicat
cognomentum. Abusus enim multitudine hominum, quam tranquillis in rebus
K I diutius rexit, ex agrestibus habitaculis urbes construxit, multis opibus firmas et
i viribus: quarum ad praesens pleraeque licet Graecis nominibus adpellentur, quae
К iisdem ad arbitrium imposita sunt conditoris primogenia tamen nomina non
q amittunt, quae iis Assyria lingua institores veteres indiderunt.
о. Для следующего за сим перечня новых городов было бы всего удобнее
С
принять в основание древнее политическое разделение; однако оно нам не
вполне известно, притом границы каждой из областей не определены с до-
статочной точностью, так что мы не в состоянии с достоверностью указать
каждый раз на принадлежащие к ним города. Посидоний (у Strab., XIV, 747)
сообщает, что Селевкида и Келесирия были разделены на четыре сатрапии
каждая; он, как кажется, прибавляет, что Коммагена и Парапотамия состав-
ляли каждая одну сатрапию. При этом, однако, рано уже появляются мест-
ные названия, послужившие Птолемею основою его перечня. Я попытаюсь
воспользоваться также этими названиями.
1) К верхней Сирии (т) avcu Xiiqia) мы отнесем все владения Селевкидов,
лежащие между Евфратом и Тавром до Келесирии, следовательно, помимо
Селевкиды также Коммагену и Парапотамию.
Прежде всего мы на границе с Киликией находим Пиерскую область,
которая, как кажется, распространялась к югу через Оронт и до хребта Ка-
сия. Такое название возникло не только впоследствии, но признавалось уже
при Селевкидах; свидетельством чему служит Селевкия близ устья Оронта,
которая на монетах Антиоха IV уже называется XEAETKEON EN ШЕР1А1.
Этот город основан Селевком I (Strab., XIV, 749, 751); и тут также орел, по-
хитив жертву, спустился на место нового поселения (Malal., p. 199, ed. Bonn.).
Страбон, так же как Малала, утверждает, что здесь и прежде же находи-
519
лось местечко (тт?£ ттаХсиад ттоХеих; ev va) einrogico rijg Asyo/zii^s riiegia^); ибо
не Константин лишь соорудил тут гавань, как предполагает Theophan.,
Chron., p. 57, ed. Bonn., напротив, Полибий уже (V, 60) упоминает ее; по
поводу завоевания города в 219 г. он описывает чрезвычайно крепкую его
позицию; Антиох III обещал охранять свободных горожан; их было около
6000 человек; а потом, овладев городом, он возвратил туда также изгнанни-
ков, -щи те iroXirelav аито?$ атгедсохе хал та$ ov(ria<; (Polyb., V, 61, 1).
Стефан называет какую-то Гераклею Пед'кк;; хотя этот город совсем
неизвестен, но существование его не подлежит сомнению. У Стефана же
есть еще Антиохия Fheg/as, rjv "Aga&w oi ^Lvqioi xaXov<ri, о которой, впрочем,
нигде не упоминается; однако финикийское название служит порукою вер-
ности показания. Подобно тому как Мириандр был финикийской колони-
ей, точно так же пуны могли завладеть важным для торговли устьем Оронта.
Другой Арад находился еще вблизи Мертвого моря. — Можно бы, пожалуй,
присоединить сюда также Росс ввиду сооруженных там по приказанию
Гарпала статуй и автономных монет города, однако у нас нет никаких поло- I о1
"О
жительных свидетельств. О
Я не знаю, как это случилось, что у Птолемея название Селевкиды огра- | ,р
ничивается равниною к северу от Антиохий; он здесь называет также Гефи-
ру, вероятно, на месте значительных развалин, находящихся на восточном I g
берегу озера Антиохий при устье речки (как кажется древней Ойнопары). §
Тут между Аманскими горами и Евфратом с севера примыкает область х
Киррестика, названная по имени бывшего в македонской родине города | §
Кирра; о сирийском Кирре не могу сообщить ничего помимо того, что ска-
зано уже у Маннерта, так как Gennadius Cat. vir. ill. v. Theodoret, бывший
здесь епископом, и Epiphan. Haeres. 13, p. 26 не прибавляют никаких под- 11
робностей; я отмечу только показание Steph.: т?£ ахдбттоХк; ГЬ8адо$; оно, как
видно из расстояний в Пейтингеровой таблице неверно и возникло из вы- ^
ражения Страбона: Tivbaqoq ахдоттоХк; тг)<; KvQQ7]0Tixij<; (Strab., XVI, 751). — х
В этой области находилась Бероя; судя по приводимым у Wesseling'a (ad Itin. «;j
Ant.у p. 193) и у Маннерта (р. 399, ed. И) местам из церковных писателей и
византийцев, она тождественна с ХоА£7г, Алеппо; Аппиан в указанном выше
месте приводит ее в числе основанных Селевком I колоний. Недалеко отту-
да находится город Гераклея, тринадцатый этого имени в перечне Стефана;
Страбон упоминает его вместе с Бероей в качестве noXixviov — он находился
некогда во власти тирана Дионисия, сына Гераклеона, и в 20 стадиях от него
стоит храм Афины Киррестиды; Птолемей также называет его.— Около
четырех миль к востоку от Берои, по дороге в Гиераполь, находился город
Батны; я не знаю, был ли он, подобно своему одноименному городу по ту
сторону Евфрата, также Macedonum manu condita. Юлиан (Julian., Epp., 27)
признает имя города варварским, каково оно и есть на самом деле.
Бамбика, впоследствии Гиераполь, была таким же древним туземным
городом (Steph. Byz. v. 'leQairohig... у Xvq'uk; у xai ЧедаттоХ^ bia rov о; на
монетах IEPOnOAITHN), XeXeuxov 6vofj,a(ravTo<; тоито aurr/jv (Aelian., H. An.,
XII, 2). Несмотря на то что описание Лукиана намеренно извращено (de dea
Syr.), однако история Комбаба и Стратоники (yvvaxo^rov ' Ao-ovqicjv/Заег/Аеоо^),
которая, без сомнения, была дочерью Деметрия и супругою Селевка I и
Антиоха I (ет( тф щотеда) avSgl ovvoixeovtray p. 19), доказывает, что эллиниза-
ция этого святого местечка совершалась еще при Селевке. Странная ошиб-
ка Страбона была замечена уже другими авторами. Не стану входить в под-
робности об этом в археологическом отношении интересном городе. —
К северу отсюда на берегу Евфрата находился Европ; это тот самый Европ,
о котором упомянул Плиний (Plin., V, 24, § 86) и который восстановил Юс-
тиниан (Procop. de aed., II, 9), о котором Iosua Stilites (из Bibl. Or., 1.1, p. 282,
цитируемый Wesseling'oM ad Hierocl., p. 713) говорит: «Castrum Europus, quod
in provincia Mabugensi (Hierapolis) ad occfdentem Euphratis est positum». По-
казание Лукиана: airtoxKrav Ss airrfjv 'ESeaaaToi (Quom. hist conscr., 24, 28),
само по себе не представляет ничего невероятного; это имя перешло сюда
из Эмафии родного края. Европ находился, вероятно, на месте Jeraba у По-
кока (II, р. 240), видевшего там много развалин; это был переход по крат-
чайшему пути в Сирию — из Гиераполя в Батны в Месопотамии (Stafiavrojv
yaq vjbboq, Strab., XVI, 748); Procop. bell. Pers., II, 20 довольно точно описы-
вает эту дорогу. Стефан в этой местности называет Никаториду, ттоХк; Xvglaq
ttq6<; toj EvQumcp, хт1(Г(ма XiXevxov rov Nixaroqot;; наугад его, пожалуй, можно
перенести на место прославившегося в тридцатых годах Нисиба или, скорее,
в Kala'aten Nedschin, тем более что выгода господствующего его положе-
ния, которое в эпоху крестовых походов получило такое большое значе-
ние, была, конечно, оценена также опытным в военном деле Селевком. —
С большею вероятностью можно присоединить сюда Никополь, который
упоминает Hierocl. (p. 713). — Местоположение Зевгмы не подлежит сомне-
нию; она расположена там, где Евфрат выходит из крутых гор, с тем чтобы
оставаться после того на равнине до самого устья, там, где предполагалось
i начало пароходства, которое послужило бы связью Европы с Индией; на
% другой стороне находится Биреджик, там, где большая восточная дорога
q из Диабекира и Орфы спускается к Евфрату (см.: Moltke, Briefe iiber Zustande
qj und Begebenheiten in der Tiirkei, S. 227). Это одна из важнейших позиций на
~ Евфрате; она получила имя от моста, который был сооружен — ни Вакхом
Г1", (Paus., X, 29, 3), ни Александром (Dio Cass., XL, 17; Steph. Byz. v.; Plin. XXXIV,
15, § 150),— а первым Селевком в одно время с городом (Plin., V, 24, § 86);
Lucan., Phars, VIII, 237 называет его Zeugma Pellaeum. Сомнительно, суще-
ствовал ли другой понтонный мост (Zevyfia) около Самосаты и находилась
ли против него на месопотамской стороне Селевкия; Страбон (Strab., XVI,
749) положительно говорит об этом, замечая, что Помпеи присоединил к
Коммагене в качестве cpgovgiov -rfj<; MsaoTiorafilag это основанное местечко.
Многие предполагают, что это и есть та Селевкия, в которой, по Полибию
(Polyb., V, 43), находился Антиох III в то время, когда к нему приехала его
каппадокийская невеста (ttsqi HeXevxeiav rr)i/ evl rov ^еиуцатсх;). — Нам, нако-
нец, остается еще в Киррестике упомянуть один пункт — Мелеагров окоп
(MeXeaygou ^agaf) на равнине к северу от Антиохии; о нем упоминает один
только Страбон (Strab., XVI, 751) и есть сведения в Пейтингеровой таблице.
Здесь нам всего удобнее будет перейти к Коммагене. Мы, к сожале-
нию, лишены положительного свидетельства, которое дало бы нам право
Самосату, родину Лукиана и столицу медиатизированного царства Селевки-
дов, с достоверностью признать эллинизированным городом; мы, однако,
вправе предположить это. В шести часах расстояния оттуда, непосредствен-
но возле южной подошвы Тавра, находится теперь город Адиаман или, как
говорят курды, Гассуманна; он окружен виноградниками и фруктовыми
садами, а в нем находятся развалины акрополя; к северу оттуда туземцы с
большим трудом переваливают через Тавр (Amanos); так сообщает Мольтке
в своих письмах. Вероятно, на этом месте и находился древний город; мо-
жет быть, это была Антиохия около Тавра (am тф Tavqco ev KoiMfjbay7}i/jj,
Steph.), о которой упоминает также и Птолемей; на одной широте с Само-
сатой, однако, ни в Итинерариях, ни в Гиероклее не называется этот город
(«Антиохию можно поместить только в Мараш». — Г. Киперт.) Монета, ко-
торую описал Сестини (Class, gen., p. 134, ed. II), с надписью ANTIOXEHN
ТН2 Е. TAT подлежит сомнению; другая Антиохия есть та, которая на мо-
нетах называется ANTIOXEON ПР02 ETOPATHN и которую Плиний
(Plin., V, 21, § 86) помещает на берегу Евфрата против Коммагены. Однако
ни этот город, ни упоминаемая Плинием вместе с ним Эпифания на Евфрате
нигде более не называется.— Не берусь решить, относится ли сюда Долих
(нынешний Долук близ Айнтаба). Я, однако, без всякого сомнения, вправе
причислить сюда Хаонию, которую Птолемей называет в Коммагене; в Пей-
тингеровой таблице этот город находится под именем Channunia, а в Itin.
Ant. у р. 194, Hanunea показан на полдороге от Кирра в Долих. (Оба назва-
ния, Долих и Хаония, Г. Киперт считает грецизированными семитическими
именами.)
Перечень колоний в Кассиотиде я, подобно Птолемею, начну с прекрас-
нейшего из всех городов в Сирии, с Антиохии на Оронте. Пышность ее зда-
ний, богатство художественных произведений, торговля, роскошь, высокое
образование — все это ставило ее в эпоху македонского и римского господ-
ства вровень с египетской Александрией. Ссылаясь на известный трактат
О. Мюллера, я ограничусь лишь описанием ее основания. Выше было уже
упомянуто о том, что соорудил здесь Александр. Затем Антигон тут же вбли-
зи, вниз по берегу реки, основал свою Антигонию (см. Историю диадохов);
свидетельством Диона Кассия (XL, 29) несомненным образом доказывает-
ся, что этот город отнюдь не был разрушен с целью лучше воспользоваться
его жителями и строительным материалом в Антиохии, как то опрометчиво
предполагает О. Мюллер; свидетельство Либания ('Avriyovetav avrTjv
r)<pavi(r<Lv... то Se тгХщшра Ьещо {ьата<ггг\<тал, Antiochic, p. 349) — не что иное,
как слова пристрастного к ярким краскам ритора, а ввиду показания Диона
падает авторитет Малалы с его хатаатдефш ttjv Aimyoveiav; Диодор, нако-
нец (XX, 48), внес в вопрос совершенную путаницу, сообщая, будто Селевк
разрушил Антигонию (xa^aXovroq avrrjv) и перевел жителей в основанную
Антигоном и прозванную им по своему имени Селевкию. Малала довольно
обстоятельно излагает эти дела (р. 201, ed. Bonn.); он, между прочим, сооб-
щает, что переселенные из Антигонии 5300 граждан состояли из македонян
и афинян. Имя самого большого нового города 'Aimozeia у em Aacpvy было
избрано Селевком в честь его отца (Strab.), а не сына (Malal.); восточное
предание гласит, будто Антиох основал город, следуя изречению оракула,
с тем чтобы избавиться от бессонницы. Относительно дальнейших подроб-
ностей сошлюсь на трактат О. Мюллера. Там находится обстоятельное опи-
сание чудесной Дафны, этого Версаля Антиохии, и расположенной между
Дафной и городом Гераклеи (р. 44). В отношении Платана О. Мюллер, как
кажется, следовал указанию Прокопа (de aedif., V, 5), назвавшего этот го-
522
род предместьем по дороге в Киликию. Весселинг (Iten. Ant, p. 147, 582)
смешал это предместье с названным в путеводителе по дороге из Антиохии
в Лаодикею городом Платаном, который Покок (II, р. 284) мнил было вновь
признать по платанам. — Отсюда дорога пролегает через Кафелу (по Вес-
селингу, хаУ еХт)) в Лаодикею (TON ПР02 0AAA22AN на монетах); это
четвертый город, присоединившийся к Селевкии, Антиохии и Апамее на
Оронте (AAEAOHN AHMHN на монетах, Eckhel, III, p. 66); по мнению
Малалы (р. 230), на месте этой отличной гавани находилось прежде местеч-
ко Мазавда (по Steph. Byz. — Рамифа); греки называли его прежде у Aswwj
ахтг). По словам Страбона (XVI, 750) и Стефана, Селевк I назвал его в честь
своей матери; Малала, конечно, ошибается, говоря, будто он назвал его по
имени своей дочери; о том и другом, также еще о третьем мнении, будто
город был назван по имени сестры Селевка, говорит еще Eustath. ad Dionys.,
919. Относительно культа Артемиды Бравронии, статую которой Селевк
прислал сюда из Суз, см. надпись у Экгеля (III, р. 317); С. I. Graec, III, n° 4470,
4471; cf.: Paus., Ill, 17; Lamprid., vit. Helog., p. 7. — На дороге между Лаоди-
кеей и Антиохией находятся Кассийские горы, по которым была названа
область; я не стану распространяться о находившихся на них храмах. На
западной их стороне, по направлению к морю, к северу от Лаодикеи нахо-
дится город Гераклея (Strab., XVI, 752), молы которого вновь открыты Поко-
ком; это тот город, который упоминается в Stad. Мак. Mag., 142 около мыса
Полиады. Следующий затем лежащий к северу у Стефана (Steph. Byz. v.),
Страбона (Strab., loc. cit.) и у Плиния (Plin., V, 20, §79) Посидий был, конеч-
к но, не новый город; Геродот (Herod., Ill, 91) уже называет его. — Плиний
х здесь опять называет Laodicea libera, Diospolis, Heraclea, Charadrus, Posidium;
К я не думаю, чтобы он тут по ошибке назвал Диосполь и Харадр; Диосполь
q вполне отвечает надписи ZETS KA2I0S, и отчего бы здесь, так же как в Ки-
а.\ ликии (Hecataeus, fr. 251; Stad. Мак. Mag., 199), не быть Харадру?
"" У Птолемея Кассиотида занимает слишком обширное пространство: он
С", причисляет к ней даже Эпифанию на Оронте. Я оставлю разделение на про-
винции и поименую сперва дальнейшие города по морскому берегу, потом
лежащие по среднему течению Оронта, наконец, находящиеся между теми
и другими.
На берегу к югу от Лаодикеи мы встречаем прежде всего Левкаду; Steph.
v. BaAaveav 7гоА/$ Фомхщ (граница которой в эллинистическую эпоху нахо-
дилась, впрочем, южнее), 7) vvv Аеиха<;. Однако новое имя, как кажется, не
удержалось; оно нигде более не встречается. — Затем значительным мес-
том является Орфосия, лежащая на юге против важного вольного города
Арада на материке. Правда, нигде, сколько мне известно, прямо не гово-
рится об эллинистическом основании этого города, но во время войн Анти-
оха II он является уже пограничною крепостью Селевкидова царства. Узкая
до Орфосии прибрежная равнина расширяется в этом месте в глубь мате-
рика, и по ней к морю протекает Элефтер; это есть равнина Макра у Strab.,
XVI, 754; начиная отсюда, тянется Финикийский берег, над которым гос-
подствует Ливан.
Вверх по Оронту от Антигонии до Апамеи мы с достоверностью не в
состоянии указать ни одного эллинистического города. В Апамее Александр
уже, как было выше замечено, заложил первые основы; прав или нет Малала
(p. 203), утверждая, что здесь прежде стояло местечко Фарнакия, во всяком
случае, сама местность такого рода, что тут можно предполагать существо-
вание древних поселений. Известно, что эта обширная плодородная равнина,
которую широкою дугою орошает Оронт (потому она и названа Хед<г6уг)<го$),
была главным сборным местом армий Селевкидов; Страбон (Strab., XVI, 752)
утверждает притом, что город был назван в честь персидской супруги Се-
левка (а не дочери, как говорит Малала). Положение его около нынешнего
Келат-эль-Медика не подлежит, конечно, сомнению. Здесь упомяну только
еще о том, что этот город на некоторых монетах называется АПАМЕГШ
TON ПРОХ ТО AZIO; Sozomen (VI, 15) также говорит: 'А7гаде/а£ тт)<; що<;
тф 'Af/qj ттотоцац). (Против моего прежнего предположения, что именем Ак-
сий называется не Оронт, а приток его, на берегу которого лежит Апамея,
Г. Киперт говорит: «Я 'А£/о$ всегда считал греческим именем арабского
el 'Asi, как ныне называется Оронт, предполагая, что арабское название при-
урочивается к древнему сирийскому наречию».) — Недалеко отсюда нахо-
дится Лариса, jjv Xvqtoi 2/faga xaXovcriv (Steph.), нынешний Сейджар — у
Буркгардта (I, p. 245 и 514, перевод Гезениуса); среди многих и значитель-
ных развалин Буркгардт открыл также греческую надпись, в которой ТНХ
AOMNOT TTNAIK02 напоминает родственное имя Домнина, бывшего, по
мнению Свиды, imo Aao$txeia$ хал Аад10*(га<;.— Здесь-то и была Лисиада vttsq
тг}$XiiLvqq xeifiivTj -rfj<; ttq6$ 'Алкщг'щ, Strab., XVI, 560. Недалеко оттуда вверх
по реке лежит Эпифания, знаменитый в древности Гамаф, относительно
тождества которого помимо некоторых мест святого Иеронима (особенно
Quaest. Hebr. in. Genes., t. И, р. 561 и lesaias, 10) поучительно одно место у
Иосифа: "А//,а£о£ Ь' 'А/тЭт^ xarcpxrjarev... MaxeS6ve<; 8e airrfji/ 'Emcpaveiav acp
kvo<; rcov anoyoviov (scr. emyovcjv) sTrcovofiaa'av. Судя по этому, надо полагать,
что имя ей дал Антиох IV. «Посреди города находится четырехугольная зем-
ляная насыпь, на которой некогда стояла крепость» (Буркгардт, I, с. 249);
такие укрепления находились везде в городах, в которых не было естествен-
ного акрополя; см.: Moltkes Briefe iiber Zustande und Begebenheiten in der
Turkei, S. 227; cp. Burckhardt, I, S. 253. Али Бей (с. 494 нем. издания), описы-
вая амфитеатральное положение города по обе стороны реки, упоминает
именно об этой «довольно высокой горе» на левом берегу. — На юге близ
Эпифании на два или на три часа расстояния к востоку большая меловая
гора преградила путь Оронту и заставила его сделать к востоку поворот,
который начинается у южной подошвы развалин около деревни Растана. —
Судя по естественным условиям местности, надо полагать, что Селевкида
не простиралась далее к югу, по крайней мере, не находилась южнее древ-
него города Эмезы; тут начинались, вероятно, четыре области Келесирии.
Остается еще рассмотреть область между Оронтом и морем. Тут тя-
нется большой горный хребет, беря начало на юге от Антиохии, вообще,
как кажется, в юго-восточном направлении, имея по правую свою сторону
долину Оронта, а по левую — известную нам дорогу из Антиохии в Лаоди-
кею; почти на широте Арада хребет повернул на восток и посылает свои
отроги часа на два по восточному направлению от Эмезы. Из этого горного
колена по направлению к Апамее, т. е. по выгнутой стороне, течет река, ко-
торую Плиний (Plin., V, 23) называет Марсией, тогда как почти из той же
местности к берегу течет Элефтер, орошая долину Макры. Между этими
524
обоими истоками находится перевал через горы из Апамеи и Эпифании к
берегу; Буркгардт весьма обстоятельно описал эту дорогу. Тут находится
много крепостей, из которых некоторые относятся, вероятно, к эллинисти-
ческой эпохе. Буркгардт хвалит здесь в особенности позицию эль-Госсн,
готическое укрепление со львом тулузского графа над воротами, с монас-
тырем св. Георгия поблизости: «эта крепость господствует над сообщени-
ем между восточною равниною и морским берегом; по соседству с нею
кончается Ливан и начинаются горы северной Сирии» (I, 267). Здесь, как я
полагаю, и находится упоминаемая у Плиния (Plin., V, 23) Халкида ad Belum
cognominata, которая ясно отличается от другой у подошвы Ливана (см.
ниже). Я был бы готов отнести к этой позиции также Селевкию, которую
Стефан и Гиерокл (р. 712) называют XeXeuxofiyXo*;, и о которой упоминает
также Плиний (Plin., V, 23) в виде ad Belum, если бы Птолемей не поместил
этот город XeXevxeta що<; ВуХод как раз на полградуса западнее Апамеи и
если бы у Феофана (Chron., p. 533, ed. Bonn.) это местечко также не было
перенесено в область Апамеи, которая едва ли простиралась за хребтом
упомянутых гор (xai loxrjcrav щ vr^v aira^eiav %(oqav ev хш^у IZxevoxofioXq),
v. 1. XeXevxofioXu)); эта Селевкия была, может быть, на месте описанного Бур-
кгардтом (I, р. 255) Мезиефа, а не в заполненной громадными развалинами
местности Деир Золеиба, которой он не посещал (р. 260). — Я не берусь ре-
шить, следует ли отличать Селевк у Стефана (LeXevxog TroXig neqi tr ev Xugla
'Anaiis'ia aqtrevixux; Xeyofiew)) от только что названного города; близость
таких двух почти одноименных городов едва ли может служить свидетель-
^ ством против того, что это два разных города. — Я присоединю сюда, нако-
i нец, в виде предположения еще два города, Мегару и Аполлонию. Страбон
К (Strab., XVI, 752) упоминает их по поводу восстания Деметрия Трифона:
q Аад'кг(Г7)<; xat Ka(r<riav(bv (перед этим стояло Koatav&v) xai Mbyaqw xai
qj ' AnoXXwvias xai aAAow rotoirriov, aiavvtriXovv щ ttjv 'Anafietav атта<га1. («Так
"" как греческое слово fieyaga — не что иное, как транскрипция семитической
Р\ Maghara, т. е. "пещера", то это название ничего не доказывает» — Г. Ки-
перт.) Стефан также упоминает Аполлонию Xvgia^ хата 'A-rrafMeiav. Нет,
конечно, никакой возможности представить хоть какое-нибудь предпо-
ложение относительно этих местечек; напомню, однако, о том, что между
Антигонией и Апамеей в долине Оронта, на расстоянии десяти миль, не при-
водится ни одного эллинистического поселения; а между тем едва ли под-
лежит сомнению, что Селевкиды воспользовались для колонизации такою
важною местностью, как, например, нынешний Шогр; это «весьма сильная
крепость, прикрывавшая в связи с удаленным от нее на полет стрелы Бана-
сом реку Оронт» (Abulfeda у Буркгардта, I, р. 512); но по дороге из Анти-
охии в Эмесу (Itin. Ant., p. 187) не встречается ни одного греческого имени;
если бы можно было отнести сюда Фельминисс или Хельминисс, упоминае-
мый у Птолемея, то надо предположить, что название этого города было
крайне искажено.
До неузнаваемости изменилась вследствие упадка всякой культуры
область между Оронтом и Евфратом, Парапотамия обеих рек и посреди нее
Халкидика; на прекрасной карте Бергтауза можно видеть развалины мно-
гих городов в этой пустыне. Здесь с достоверностью можем указать, по край-
ней мере, два города. Халкида, по имени которой называется область,
древними и новыми писателями смешивалась то с одноименным городом
близ Бела (Plin.), то с другим у подошвы Ливана (Mionnet); положение путе-
водителями определяется с достаточною точностью; по Пейтингеровой таб-
лице, дорога из Антиохии, делая крюк в три мили, пролегает через Халкиду
в Берою (Алеппо); HAI02EIP0S на монетах вряд ли означает реку, как это
может показаться вследствие надписи на монете у Мионне (Suppl., VIII, 117,
п° 11): ФД. XAAKIAEOON. ЕП1... 02EIP02I эта надпись, надо полагать,
была не совсем верно разобрана.— К юго-востоку от Халкиды Птолемей
поместил Маронею, а в упомянутом выше списке Аппиан также называет
Селевкидово поселение того же имени. — Там именно и назван Ороп; этот
город следовало бы поместить близ Евфрата, по словам Стефана: б'егп xai
tqitt) ev Xugiqi хпа^вТсга imo NtxaroQO$, ttsqI $$ 6 ПоХшатшд ev vfi Tiegi 2,ид1а<;
<pf}(riv out(d- Eevo<pa>v ev тале, маретдуавп tljv oqwv ireqi 'Ацмр'птоХм xeToSai
'Clgumov, nrjv TrgoregovTe^io-arov xaXe?o$ai imo ribv xruravTwv ravryv #' ecpao-av
vtto XeXeuxov rov Ntxarogoi; emxriaSeTaav CIqwwv xaXeT&Sat...; перед этим
Стефан сказал, что Селевк родом из македонского Оропа; это, конечно,
достовернее показания Малалы (р. 203), по словам которого он родился
будто бы в Пелле. Относительно положения этого Оропа может возник-
нуть сомнение вследствие находящейся недалеко от Берои TeXavurcrov xcjfiTjv
(у Theodaret., p. 26) и Telmisum vicum у Sozomen H. е. VI. 34 (см.: Wesseling ad
Itin. Ant., p. 195); оба эти поселения, вероятно, тождественны с Temmeliso
в Itin. Ant., по дороге из Апамеи в Халкиду, и с ToXiiiSeaaa у Птолемея. Тут
нельзя добиться никакого решения. — О сирийских городах по правому бе-
регу Евфрата удобнее будет говорить впоследствии.
2) Область Келесирия всегда была яблоком раздора между Селевкида-
ми и Лагидами; вследствие этого там встречаются колонии и тех и других.
Начнем с дольной Сирии в тесном значении этого слова, заключающей
в себе долины между Ливаном и Антиливаном, в особенности долину Мар-
сии и auXwv/3a<riXtx6$. Сперва я упомяну Лаодикею у подошвы Ливана; в Itin.
Ant. (p. 198 и 199) имеются две дороги между Гелиополем и Эмезою, и на
обеих лежит Laudicia в 64 милях от Гелиополя и в 18 милях от Эмезы; судя
по этому, город был расположен выше озера Кадеса. А надпись на монетах
AAOAIKEION ПР02 AIBANO или TON EN TO AIBANO служит сверх
того доказательством, что город находился вне Марсии по направлению к
Ливану, предгорья которого простираются до озера Кадеса. Наконец, по-
ход Антиоха HI (Polyb., V, 45, 8) из Апамеи и Лаодикеи, ay fe ttoitjo-olimbvo^
ttjv oQfiTjv xai Ste^tjv rrjv eg/rjfiov evefiaXev ei<; rov auXcbva rov irgoaayoQevofievov
Magovav, доказывает, что Лаодикея лежала вне устья долины Марсии, или,
точнее, aqxh clxjtov AaoSixeta у що$ Aifiavu) (Strab., XVI, 755); расширение
долины Марсии и есть вместе с тем начало пустыни. — Другой город, ко-
торый упомяну здесь, хотя и под сомнением, есть Халкида. До сих пор Хал-
киду близ Бела все считали тем же городом, о котором так часто говорит
Иосиф, не обращая внимания на то, что он ее положительно называет^ imo
тф Atfiavw XaXxi<; (Bell. Iud., VIII, 9, 1). К этому надо еще прибавить: Пом-
пеи вышел из Апамеи, двинулся через Гелиополь и Халкиду, потом через
горы, разделяющие Келесирию (а именно Марсию от Авлона Басилика), в
19 Это была, вероятно, Авелла, что Иосиф ставит вместо Авилы.
Пеллу19, а оттуда в Дамаск (Ioseph., Ant, XIV, 3, 2); но по этой дороге он
никак не мог пройти к Белу. Страбон, наконец, говорит про Птолемея, сына
Менная, что он владел Халкидою, господствующею над Марсией и хребтом
Итураев; мало того, Халкида, по его словам, была соаттед ахдоттоХк; той
Magovov; судя по этому выражению, позиция города не могла находиться
около Бела. Из всех пунктов именно Залэ, скорее всего, мог бы заслужить
название акрополя долины Марсии (Burckhardt, I, S. 42); сомнительно, что-
бы город был эллинистическим поселением, если только я вправе отнести к
нему заметку Стефана: -nokiq ev Xugio, хткг$е?<га \mo Movixov tov "Agafio$. —
Аполлония в Келесирии, которую Стефан отличает от города того же име-
ни близ Апамеи, вовсе неизвестна.
Я намерен здесь описать упомянутый в последней главе проход, где
находились крепости Герра и Брохи, о котором упоминает один только
Полибий (V, 61 и 46). Он говорит: «Марсия находится между Ливаном и
Антиливаном и суживается ими все более и более; сверх того, в самом уз-
ком месте пространство ее еще более стесняется болотами и прудами, в ко-
торых растет iLoqeiptxdg хак(що$. Над этим ущельем господствует, с одной
стороны, Герра, с другой — Брохи, а между ними находится узкий проход
(ttolqoSos); Антиох застал его (та ттада tt)v A/^v атеш) обнесенным окопами
и тщетно пытался пробиться сквозь них». Несколько лет спустя после того
Антиох вновь напал на Келесирию; он опять двинулся вверх по долине Мар-
сии и расположился лагерем -negi та атеш та хата Гедда що<; тЦу^вта^и хе\^кщ
A/jLbVfl. Известные события понудили его по возможности скорее поспешить
к I к морскому берегу, а именно в Птолемаиду; он оставил тяжеловооружен-
ные войска, приказав им осадить Брохи, то xelfievov em vfj<; \'ц1пг}<; xai ttj$
К ttoqoSov %togiov. Узнав, однако, о приближении Антиоха, неприятель поспе-
q шил уйти из Птолемаиды, с тем чтобы преградить ему та атеш та Tteoi Brjgvrov;
о. Антиох все-таки пробился и достиг берега. Из этого следует, во-первых,
что проходы Берита находились у Антиоха впереди, т. е. более в юго-вос-
•2£ точном направлении, нежели Брохи, а во-вторых, что проходы Брохи пре-
граждают не самую Марсию, так как тут войску пришлось проходить к более
южным проходам, которые (близ Залэ) спускаются на запад к Бейруту. Итак,
проходы Брохи были уклонившеюся в сторону дорогою; к северу от Залэ
Марсия нигде не была так узка, как следовало бы предположить, по словам
Полибия, и вовсе не сопровождалась ни болотами, ни тростниками. Поли-
бий имел не совсем верное представление об этой местности, которой он
сам не посещал. Мы должны руководиться озером, которое он указывает.
Здесь едва ли найдется другое помимо Лимунского, лежащего к северо-за-
паду от Гелиополя, у подошвы Антиливана, часах в четырех расстояния от
предгорий Ливана, которое, между прочим, упоминает Seneca Qaest., Ill,
25; Маннерт (p. 321) приводит другие места; это озеро принадлежало храму
Афродиты в Афаке, которую посещал Буркгардт в трех часах расстояния к
западу от озера (р. 70). «Из Афаки», продолжает он, «дорога поднимается
по крутому Вади, в получасовом расстоянии оттуда находится Айн-Бар, а в
трех четвертях часа по другую сторону, на западном склоне горы, — весьма
ровная местность. Эта местность называется Вадиэль-Бордж по имени не-
большой развалившейся башни; она тянется в длину от трех до четырех ча-
сов пути, а шириною будет около двух». По мнению одного специалиста, в
этом названии нельзя признать вышеупомянутые Брохи, а Вади, напротив,
получило название от башни (тыдуо$), что подтверждает также Буркгардт. —
Этот проход «щита и петли» отличается от другого, который Страбон опи-
сывает следующими словами: rwv tov Oqovtov wqywv^ai ttXtjo'iov tov те Atfiavov
xai tov Ylaqabeio-ov xai tov Aiyimriov tzi%ov<; -neqi rr)v 'Airafiecov yrjv efoi. Этот
Ливан, наверное, и есть знаменитая своими кедрами вершина у северной
окраины вышеупомянутого Вади эль-Борджа; а Парадис, вероятно, не что
иное, как названный уже Амасом (1, 5) «Эден, который держит скипетр»,
следовательно, представляется в качестве царской резиденции; Покок (II,
р. 152) называет его «одним из самых прелестных местечек на свете, судя по
положению, виду, водам и цветущему земледелию»; тут после смерти Пер-
дикки полководцы собрались на конгресс, тогда как войско расположилось
лагерем в соседней Марсии на Оронте. Этот Эден находится в часе расстоя-
ния к северу от известной вершины Ливана; около трех часов пути оттуда
находятся верхние источники Оронта. От них вверх по кратчайшему пути
от Марсии, прямо на запад от Триполя, и шел, вероятно, проход, который
назначена была охранять египетская стена. Штарк (Газа, с. 375) предложил
другое мнение относительно этих проходов.
Не совсем ясно, что Страбон называет auAaw f&aaikix6$: не разумеет ли
он под этим долину Хрисоррою. Близ выхода из нее находится прекрасный
Дамаск, о котором упоминаю здесь, оттого что St. Hieronymus in Ies., 28 го-
ворит: donee sub Macedonibus et Ptolemaeis rursum instauraretur; а своеоб-
разные городские мифы вполне подтверждают эллинизацию города.—
Плиний говорит (V, 23, §81): Coele... habet Laodicenos, qui ad Libanum
vocantur, Leucadios, Larissaeos. К сожалению, его показания в этой главе до
того перепутаны в географическом отношени, что в них нельзя добиться
никакого смысла. Существуют, однако, автономные монеты города Левка-
ды, на которых изображено XPT20P0AZ (Eckhel, III, p. 337). Предполо-
жение Беллейа, что эта Левкада тождественна с Абилою Лисания (которую
не следует смешивать с 'ДЗ/Ат? тг)<; АехаттоХешд; см.: Burckhardt, I, S. 53, 7),
кажется мне невероятным, оттого что Абила, наверное, была одною из
tetrarchiae barbaris nominibus (XVII), которых Плиний потом не упоминает
более поименно.
Далее к югу, в стране между Иорданом и Аравийскою пустынею опять
встречается много греческих поселений. О Дионе, Герасе, Пелле было уже
говорено. Помимо этих городов к Декаполю относится еще Гипп; кем бы он
20 По словам Иеронима (in Ies., 13, V, 108), Седекия отведен был в Анти-
охию, que tunc vocabatur Rablatha; этот Риблаф Ветхого Завета лежит в стра-
не Хамата, который не следует смешивать с Хамафом «великого города»
(Amos, 6, 2) на Оронте, Эпифанией впоследствии; гораздо чаще упоминае-
мый Хамат, к которому относится Риблаф, находится в северо-восточной
области двенадцати колен, в колене Нафталина, ближайшем к Дамаску.
Следовательно, и там также, где Навуходоносор стоял лагерем, когда он
ослепил плененного Седекию, находилась Антиохия? Отнюдь; но Иероним,
подобно другим древним толкователям, под Риблафом ошибочно разумел
Антиохию на Оронте, точно так же как и в Вульгате (Num., 34, 11) еще зна-
чится descenderunt in Rebla contra fontem Daphnen.
ни был основан, но он так же, как и Гадара, называется ттоХн; 'EAAtjv/'s, Ioseph.,
Bell. Jud. II. 6. 3; 'АтЭ-fV ev 'Aaavgiois vaiofieva Vabaqoi^ Мелеагра (ер. 126, ed.
Manso) представляет характеристический признак эллинизма в Декаполе.
Впрочем, Гипп был расположен на юго-восточной стороне Тибериадского
озера (Burckhardt, S. 437), а Гадара лежала к югу от Гиеромакса, ее можно
еще признать по значительным развалинам; Стефан замечает: eari хал Tabaqa
XQ)iL7) MaxeSoviag. Страннее всего то, что он же относительно Гадары Дека-
поля прибавляет: njri<; хал 'Avri6%eia хал XeXevxeia. В этом, вероятно, пред-
ставляется двойное смешение; во всяком случае Гадара не тождественна с
четвертой Антиохией в Стефановом каталоге (fiera^v xoiXrj$ Xvgia<; хал
'AiQafiia$, XefiiQafieSo^) — или, по крайней мере, не с той Антиохией, от ко-
торой сохранились монеты Антонинов и пр. с надписью ANTIO. ТП. ПР.
1ПП. (ad Hippum по Eckhel, III, p. 347); из той же эпохи существуют монеты
Гадары.— Здесь, вероятно, короткое время находилась еще одна Антиохия,
а именно та, от которой сохранились монеты Антиоха IV с надписью:
ANTIOXEON TON ЕП1 KAAIPPOHI; под этим, вероятно, подразумевает-
ся позиция при р. Калиррои, которая с востока вливается в Мертвое море.
Было бы ни с чем не сообразно, основываясь на шатких показаниях у Пли-
ния (Plin., V, 24, § 86), отнести эту Антиохию к Эдессе в Месопотамии; Сте-
фан, сверх того, называет свою восьмую Антиохию г) em KclXiqqotjs Xlfivr)<;;
это извращенная фраза, которую следовало бы восполнить таким образом:
em KaXiQQOTjg хал 'Аа(раХттйо<; A/jlcvt^20.
Я считаю необходимым, по крайней мере, упомянуть про JAvrt6%ov
(pagays, о котором говорится у Иосифа, Bell. ]ud., I, 4. 8. — В этой местности
существовала также Селевкия; по словам Иосифа (Ioseph., Bell. Jud., IV, 1),
она находилась при Самахонитском озере; Иосиф часто говорит о ней и раз
называет еехшру (vit. 37). — Не есть ли Лисиада, о которой Страбон (Strab.,
XVI, 763) упоминает в окрестностях Иорданского устья, известная Ли-
биада (Ioseph., Ли/., XIV, 1,4)? Этот вопрос остается открытым. — Имя
Декаполя могло бы, вероятно, послужить свидетельством относительно
эллинизации упомянутых десяти городов Переи, однако относительно
Востры и Канафы не сохранилось никакого положительного известия; от-
носительно Эна (Пейтингерова таблица) свидетельством могло бы служить
его эллинское прозвище. («Это, вероятно, просто, i/v, источник» — Г. Ки-
перт.) — Вступив во владение этой областью, Птолемей Филадельф присо-
единил к прежним колониям новые. Более всего известна Филадельфия,
ет<ратг)<; ттоХк; у nqoregov 'Аллрша (Rabbath Ammon), eW 'Аогаотт), eha
<S>iXaSeX(peta атто YlroXe^ialov rov OtXaSeX(pov (Steph.); она у Полибия уже (V,
71) является с туземным именем.— Филотера также основана Лагидами
(Steph.); <biXoTeoia у Полибия (Polib., V, 70, 4) вместо OfAarrega расположена
непосредственно около озера, из которого Иордан вытекает в равнину Ски-
фополя; Антиох вышел из Сидона и прошел через Филотеру в Скифополь;
город, следовательно, лежал на западной стороне Тибериадского озера; он
был назван по имени сестры Филадельфа.— Здесь находится также Бере-
ника: е<гп xai оААт? Tiegi Xvolav, пгр ШААау хаХойаг, неизвестно, была ли это та
Пелла Переи, о которой мы упоминали в числе основанных Александром
колоний, или, может быть, только грецизированная "ДЗеААа.— Особенное
затруднение представляет статья Стефана, в которой упоминаются две Ар-
529
синои: tqitt) ттоХн; Xvgla<; ev АиАсои* у -neqi^BTqo<; airrrjg araSia oxTaxioyciXia (!)
reraQTT) тщ xoiXw Xvglag. Едва ли кто в состоянии определить положение
последнего города; первый находился, вероятно, в avXwv fiao-iXixoq повыше
Дамаска; он, должно быть, обладал, значительными размерами, так как Сте-
фан упоминает о нем при всяком удобном случае; а, впрочем, мы нигде бо-
лее не находим следа этого города.
Я не буду говорить о новых городах в самой Палестине, так как все они
принадлежат к эпохе Асмонеев и описываются в их истории. Однако нам
остается упомянуть еще о некоторых пунктах на берегу Средиземного моря.
О Газе было уже прежде говорено. Азот, древний город филистимлян,
называется, по крайней мере у Эпифания (Vit. loh., ed. Par., t. II, p. 146)
ttoXk; EAAtjvojv. Судя по имени, нельзя не признать Аполлонию хата 'Iotttjv
(Steph. Byz. v.; Plin., V. 12). Относительно Анфедона я не нахожу никакого
свидетельства помимо его эллинского названия. Стратоноспирг сделался
впоследствии значительнее под именем Цезареи; о его происхождении в пре-
дисловии Новеллы СШ сказано: S/rgaTcuv tugvaaTO щ(Ьто<;, oq sf 'EAAa#o$ о1
у ~ » / , ~ ГО
avaoras yeyovev aurrjg 01хкгтг)<;. («Судя по названию, под которым скрывает- о
ся имя Астарты, Моверс признает этого Стратона истым финикиянином » — 1р
Г. Киперт.) Согласно сопоставлению двух мест у Иосифа (Ant., XIV, 4, 4;
Bel. Jud., I, 7, 7). Арефуза также относится к этому берегу, по крайней мере
к западной части Палестины.— Наконец, самая значительная крепость для g
береговой охраны Птолемаида основана, вероятно, Лагидом II возле суще- х
ствовавшего уже укрепления Аки (Нагросг. v.) или, скорее, Ахко (книга ^
Судей, I, 310); она вместе с Тиром во время войны Антиоха III впервые упо-
минается в качестве важного сборного места (Polyb., V, 62). Не мешает еще Ф
заметить, что существуют монеты с надписью: ANTIOXEON TON EN (так- |
же ЕП. у Mionnet, Suppl., VIII, p. 30) ПТОЛЕМА1А1; такие имеются от Анти- Щ
оха IV и Антиоха VIII. Экгель (III, р. 305) того мнения, что это не служит ^
признаком самостоятельного города, а что водворившиеся в Птолемаиде ' х
граждане из Антиохий в качестве корпорации чеканили эту монету. Однако
случаи надписей вроде, например о\ ev XtScbvi Kirrie?<; и т. п., не доказывают
еще, что такие гильдии или ганзы пользовались правом чеканки в чужой по-
литии; в этом отношении решительно не существует никакого нумизматичес-
кого примера; и действительно, монеты Антиоха IV с надписью: ANTIOXEON
TON ПР02 AAONHI, на которые в особенности ссылается Экгель, не что
иное, как монеты города Антиохий; cf.: О. Miiller, Antioch., p. 42, 62.
В заключение мне следует еще сказать несколько слов о двух совершен-
но темных местечках. Стефан называет город Элладу:sari хал аХХу ттоХк; 'ЕААо$
xoiXrfc Xvq'kk;; впрочем, насколько мне известно, никто о нем ничего не знает;
некоторые авторы предполагали, что это имя возникло по ошибке, вроде того
как Гадара по вышеупомянутым стихам Мелеагра была бы прозвана Атфи-
дой. — Другой город есть Деметриада; основываясь на нумизматических при-
знаках, Экгель не усомнился приурочить к сирийской стране некоторые
монеты с надписью AHMHTPIEON THXIEPA2, а Мионне разделяет их даже
на две категории, из которых одну он относит к Деметриаде в Финикии, а
другую к Келесирии. Очень может быть, что в той части Сирии, которою одно
время владел Антигонид Деметрий, и был основан город этого имени.
СТРАНЫ ПО ЕВФРАТУ И ТИГРУ
В этом отделе я намерен совместить всю область обеих рек, за исклю-
чением того, что было говорено уже прежде о западной части Евфрата.
1) Судя по словам Плиния (VI, 26), Mesopotamia tota vicatim dispersa...
Macedones cam in urbes congregavere propter ubertatem soli, следовало бы в
Месопотамии ожидать более обширной эллинизации, нежели сколько нам
известно о ней вообще; в северных областях в особенности возникло значи-
тельное количество новых поселений; македоняне прозвали их родными
именами, Анфемусией и Мигдонией.
Начнем с того пункта, где в эпоху Селевкидов через Евфрат вела боль-
шая восточная дорога. Напротив Зевгмы (см. с. 313) лежит Апамея, Seleucus
idem utriusque conditor (Plin., V, 24) и Селевкия, (pqovQiov тт\<; Ме<готгот<щ1а<;
(Strab., XVI, 749), ч) em той Zevyfiarog (Polyb., V, 43, 1); cf.: С. I. Graec, II,
n° 2548: XsXevxevg rwv що$ toj Ей<рдатт). Оба города находились на Евфрате и
недалеко друг от друга. Плиний (Plin., VI, § 119) говорит: dicta est in Zeugmate
Apamea, ex qua orientem petentes excipit oppidum apprime (codd. at prima или
Caphraena, Detl. Caphrena) munitum, quondam stadiorum LXX amplitudine
et satraparum regia adpellatum, quo tributa conferebantur, nunc in arcem re-
dactum. Выше (с. 313) было сказано, что это есть описанная в сочинении
«Briefe iiber Zustande u. s. w. v. Moltke, p. 227» неприступная крепость Би-
реджика, называемая Калай Бедою. Так как Исидор, перечисляя города
подряд по направлению к югу от Апамеи, не называет Селевкию, то судя по
Плинию, который пропустил имя Селевкии или заменил ее незначительною,
х I впрочем, Кафре-ною, Селевкия находилась, вероятно, севернее, на северо-
% восточной дороге, но все-таки еще на берегу Евфрата. В этой Апамее мож-
q но было бы признать упоминаемую Стефаном мгп хал ttJs Tleooulas, Ейочтт^
_qJ ttqo<; Ilqxtovs, если бы при этом не стояли слова «к северу от Эдессы». Его
"" слова Trj<; Yleqaaiaq, вероятно, извращены; ничем нельзя доказать, что вмес-
Т, то того следовало бы писать vrjq Пгоа1а$. Птолемей начинает свое описание
Месопотамии с HoQCtxr) на Евфрате, которая, как он предполагает, нахо-
дится под одним меридианом с Зевгмой в Киррестике, но на полградуса се-
вернее; я у Стефана и написал 6ытг)<; Подочхг)<;, если бы такая поправка была
не слишком натянута. В связи с этим необходимо упомянуть еще об одном
пункте. Черник (Erganzungsheft zu Petermanns Mittheilungen, S. 26) из Би-
реджика (Апамеи) посетил местечко Балхис, лежащее около одной мили
выше Биреджика на крутом берегу Евфрата; это не что иное, как огромный
курган, вокруг которого нигде, конечно, не видно более никаких следов
бывшего большого города; на вершине самого кургана оказалось множе-
ство античных и в особенности римских остатков, между прочим, довольно
хорошо еще сохранившиеся мозаические изображения римских провинций
«Britannica, Helvetia, Macedonia, RAtia и пр.; там же изображены обширные
области на плитах, имеющих зачастую пять метров длины». Из показаний
Черника не видно, сохранился ли здесь какой-нибудь след эллинистичес-
ких поселений. [Г. Киперт замечает здесь: «Этот Балькиз (следует писать
Balkyz, это есть мифическое имя царицы Сабы, которое встречается при
многих развалинах), который упоминает уже Мольтке, лежит, однако, на
западном берегу Евфрата».]
Спустимся теперь вниз по Евфрату; лучше всего последуем по дороге,
означенной в парфянских статмах Исидора. Он начинается с Апамеи; вто-
рую станцию, в восьми схойнах расстояния оттуда, он называетxaqa^^Libov
(XagaxaalSov, Cod. A;XagaxoalSov, Cod. B){m6,Se EXXyvuiv'Av^efiov<ria^тгоХи;.
Та же Анефемусиада упоминается у Тацита (Ann., VI, 41): Nicephorium et
Anthemusiada ceterasque urbes, quae Macedonibus sitae Graeca vocabula
usurpant; у Страбона (Strab., XVI, 748) эта область названа АшЬемусией;
через нее протекает Аборра. Если его показание верно, то эта область про-
стирается довольно далеко вниз по Евфрату. Птолемей также говорит об
этой области; в его время существовал даже город, что доказывается монета-
ми гораздо позднейшей эпохи; нет никакого основания заодно с Маннертом
сомневаться в их подлинности. — Вслед затем, тремя схойнами далее Исидор
называетКо^/ат^Ватш^ (Cod. В BtTavy))6%uQotLa. Неизвестно, была ли Корая
эллинистическим названием. Однако Batnai (Steph.) или Вате Аммиан Мар-
целлин (XIV, 3, 3) положительно называет municipium in Anthemusia conditum
Macedonum manu priscorum, ab Euphrate flumine brevi spatio disparatur, I o1
refertum mercatoribus opulentis; он описывает большую ярмарку, какая там о
открывается ежегодно осенью; сюда приходят товары индусов и серов; cf.: мр
XXIII, 2, 7; Itin. Ant., p. 191, 192; Procop., de aedif., II, 7. — Далее по дороге о
Исидор называет Алагму 6xvqwiicl,ot(l$il6$ fiaaiXixos, это, по крайней мере, 5
греческое имя. — Затем Ихны, ттоХк; 'ЕХХт}щ% MaxeSovajv хт'ктулу при реке Би- §
лехе, названные так по имени известного македонского города; см., между х
прочим, Lycophr., p. 129 interp. Красе потерпел поражение при Ихнах, те?%о<; 5
oIjtoj xaXovfisvov (Dio Cass., XL, 12). — Ближайшее оттуда местечко есть упо- _
мянутый уже выше Никефюрий на Евфрате; этот город, во всяком случае, <g
был расположен близ самого устья Билехи. — Потом Исидорова дорога опять |
удаляется от Евфрата, переходит на другой берег Абуры (Аборры) повыше ^
ее впадения в Евфрат, и вновь подходит к последнему лишь десятью схойна- ^
ми южнее, около Дуры, Nixavogo<; ттоХн;, xrla-fia MaxeSovwv, итто tie 'EAAtJvow
Evqumog хаХеТтш. Это место под именем Дуры появляется в экспедиции импе-
ратора Юлиана, Аммиан же называет его desertum oppidum (XXIII, 5, 2). Зо-
сим (III, 14) говорит: АоОда,)'%ио<; iiiv их; адаттоте -поХн; tjv <редоъ(та,т6те <$е едщю^.
Трудно решить, что подразумевает Полибий (V, 48), сообщая о том, что воз-
мутившийся сатрап Персиды взял Селевкию на Тигре, а потом проник далее
ха\ tip fjbsv Падаттот(щ1а)/ цкм>1 ъоЛяах; Evgdmov хатедхе, ttjv 8e Mea-onorafilav
Чих; Aouqcdv. Во всяком случае, на Тигре также находилась Дура, но на левом
его берегу, следовательно, не в Месопотамии (Polyb., V, 52, 2; Ammian. Marc,
XXV, 6, 9); итак, Полибий разумел Дуру на Евфрате, которая действительно
находилась в Месопотамии; но так как Исидор отождествляет Дуру и Европ
на Евфрате, то Полибий не мог поместить этот Европ в Парапотамии, хотя
правый берег Евфрата и назывался этим именем; однако на Тигре, а именно
на правом берегу, находился, вероятно, другой Европ, хотя от него не сохра-
нилось никакого следа; иначе надо полагать, что текст Полибия неверен. Судя
по другому месту у него же, где говорится о том, что Дура на Тигре была
осаждена мятежниками, он, как кажется, действительно подразумевал: Пара-
потамию (на Тигре) до Дуры и Месопотамию до Европа. — Далее по той же
дороге Исидор приводит местечки Исаннесополь, Эиполь, наконец, при кана-
ле Наармальхе Неаполь, не признавая их, впрочем, греческими колониями.
532
Помимо этих городов на Евфрате находится еще несколько других. Во-
первых, Амфиполь; Плиний (Plin., V, 24) говорит: Thapsacus quondam, nunc
Amphipolis. Стефан Византийский напротив того: 'А/л<р/7гоА^: i<rn хал 7:оА/ь'
^vqiaq ттдо<; тш Е'кроату, xrlafia ХеХеихои xaXetrai 8e imo ra>v Xvqcdv TovQfMeSa.
Точное показание Стефана, как кажется, заслуживает больше доверия, тем
еще более, что Эратосфен назвал известным со времен Ксенофонта и Фео-
помпа именем Фапсака, а не Амфиполя то место, с которого он начал свои
геодезические измерения. — Потом Стефан упоминает Энос хата Qaipaxov
ха\ tov Evcpqarrjv. — Каллиникон упоминался уже прежде по поводу осно-
вания Александром Никефория, так как Маннерт считал оба города тож-
дественными. Он основывает эту тождественность на том, что положение
обоих мест совпадает и что после Плиния исчезает название Никефория, а
начиная с кампании Юлиана упоминается только Каллиникон; притом оба
эти названия означают почти одно и то же; а потому показание, будто го-
род Каллиникон основан Селевком II, не может быть верным, и можно, по
крайней мере, по поводу перемены имени, сослаться на заметку Либания
(Ер. ad Aristaenet., 1), вследствие которой город получил это имя от софис-
та Каллиника, который здесь был убит. Однако все это крайне шаткие дово-
ды. Отсутствие имени в скудных преданиях служит всегда весьма слабым
доказательством; у Мионне (Suppl., VIII, р. 415) приводится, по крайней
мере, одна монета этого города при Галлиене, во времена которого жил упо-
мянутый софист; может быть, оба города и находились довольно близко
друг от друга; однако ни наши сведения о древних остатках на Евфрате, ни
5- известия о положении того и другого места недостаточны для того, чтобы с
х точностью определить, где они именно находились. Ни один из авторов не
g говорит, что Никефорий лежал при устье Билехи, как утверждает Маннерт;
q местечко Сура, которое, по словам Маннерта, Птолемей полагает против
_о_ Никефория, на сирийском берегу Евфрата, а Прокопий (Pers., I, 18) поме-
"" щает точно так же против Каллиникона, лежит, по Птолемею, несколько
? западнее и южнее Никефория, тогда как, по Прокопу, Каллиникон нахо-
дился гораздо ближе к Суре; и в самом деле, преследуя под начальством
Велизария персов, римляне выступили из Суры, где они переночевали, и
застали неприятеля против Каллиникона, откуда он только что выступил, с
тем чтобы двинуться далее; итак, эти два места находились друг от друга на
расстоянии не более одного перехода, следовательно, около трех миль.
Остальные показания Прокопа (de aedif., II, 7; de bell. Pers., II, 21), также
Theophylact'a (III, p. 152, ed. Bonn.) не сообщают никаких данных. Аммиан
Марцеллин (Ammian. Marc, XXIII, 3, 6) говорит: «Davanam venit, unde onus
Belias fluvius funditur in Euphratem... postridie ventum est ad Callinicum,
munimentum robustum et commercandi opportunitate gratissimum»; cf.: Zosimus
(III, 13). Некоторые другие цитаты находятся в заметках к Itin. Ant., p. 191,
ed. Wess. Каллиникон лежал, может быть, там, где на карте Черника стоят
Херугба и развалины крепости, а Никефорий находился далее вниз по реке
возле Ракке, где видно много разных развалин. Относительно имени замет-
ка Либания, конечно, весьма странна; однако против него (а его авторитет в
исторических делах незначителен) говорит Chronic. Paschale, p. 330, ed.
Bonn., положительно приписывая основание города Селевку II; в истории
последнего мы говорили об этом подробнее.
Близ Никефория, по словам Стефана Византийского, находился Зено-
дотий, который упоминается в экспедиции Красса (Plut., Crass., 17;DioCass.,
XL, 13). To, что этот край вообще был полон эллинских поселений, вероят-
но, полнее даже, нежели оказывается по нашему перечню имен, видно, как
кажется, из слов Диона таде; 8е хал о Кдагао*;, который быстро проник до
Ихн и вскоре затем разбит был при Каррах, та те cpgovgta xai raq ш\щ та£
'EAA^v/^as /шаЛигта та$ те еААа$ кал то Nixycpogiov (bvo^iao'^evov щоаьшща'ало.
Между Евфратом и Тигром положение только двух городов не подле-
жит никакому сомнению, а именно положение Эдессы и Нисибиды; оба они
во все времена были, конечно, весьма важными городами. Эдесса есть ны-
нешняя Урфа, в которой сохранилось древнее название Урха = "Оддщ.
Мольтке («Briefe iiber Zustande und Begebenheiten in der Tiirkei», S. 343) ско-
пировал с развалин, находящихся в часе расстояния от города и называе-
мых у арабов замком Нимрода (St. Hieronym. in Genes, p. 10: regnavit Nimrod
in Arath i. e. in Edessa), надпись, в конце которой стоит: rov Mavvou yvvfi', a
под этим находятся неразборчивые, вероятно, сирийские знаки. Достовер-
но то, что эллинское начало не вполне преобладало в Эдессе; в заметке у
Георга Малакийского (Bayer, Hist. Osrft., p. 5) сказано, что из трех сирий-
ских диалектов в Эдессе был в ходу самый чистый и изящный; cf.: Quatremere
в Journ. Asiat., 1835, p. 214 sqq. Многие авторы утверждают, что прежний
туземный город вследствие обилия воды в нем был переименован македо-
нянами в честь их родной Эдессы; cf.: Ioh., Mai., p. 418, ed. Bonn.; Theophanes
Chron., p. 263, ed. Bonn, и другие цитаты у Маннерта, Байера и Весселинга
(ad Itin. Ant., p. 185). Положительно подтверждается, что этот же город
назывался также Антиохией. Малала говорит, что Селевк I назвал ее
Aimoxsia у fLiZofiagfiagos, а когда ее постигло первое наводнение, то и пере-
именовал в Эдессу. Против этого, однако, Plin. V, 24 говорит: Edessam, quae
quondam Antiochia dicebatur, Calirrhoen a fonte nominatam; итак, по Пли-
нию, имя города, и притом позднейшее, было Edessa Calirrhoe, а отнюдь не
Антиохия на Калиррое, как некоторые полагали; выше (с. 319) упоминалось
о монетах, на которых вместе с головою и именем Антиоха IV изображено
ANTIOXEON ТШ ЕП1 КАЛ1РРОН1, которым я еще менее нежели моне-
там Антиохов у Птолемея могу придать то значение, какое признает за ними
Эгкель (III, р. 306). Это переименование из Антиохий в Эдессу мне кажется
крайне сомнительным; можно предположить, что Эдесса была основана уже
Александром, что в соседстве с нею Селевком было пристроеноpt&flagfiago*;,
а потом присоединено к ней, и эти два города слились под общим именем
Эдессы. — Другой город Нисибида (Насибида у Steph. Byz., NECIBI — на
монетах), известен под именем мигдонской Антиохий; с этим именем он яв-
ляется у Полибия (V, 51) и на монетах Антиоха IV. Тождество обоих имен
подтверждает сверх того Ioseph., Ant., XX, 33; Plut., SuculL, 25; Strab., XVI,
747; Theophylactus, III, p. 123, 134, ed. Bonn. Лукиан (Lucian., Quom. hist,
conscr., 15) также упоминает об этом городе. По словам Плутарха, там жили
потомки из рода настоящих спартиатов (de sera num. vind., 21).
Плиний, к сожалению, страдает крайнею сбивчивостью в описании
Месопотамии. У него, однако, сохранилось два имени, которые иначе были
бы забыты. Он говорит (VI, 30, § 11): «item in Arabum gente, qui Orroei (Тигр
отделяет их от Адиабены — Plin., VI, 27, § 129) vocantur et Mandani,
534
Antiochiam, quae a praefecto Mesopotamiae Nicanore condita Arabis vocatun».
(«Он подразумевает под этим, вероятно, опять-таки Нисибиду, но заимству-
ет из другого источника» — Г. Киперт)... § 118 mox in campestribus oppida
Diospege, Polytelia, Stratonicea, Anthemus; все это неизвестные местечки, за
исключением последнего. Точно так же неизвестна Аполлония, которую
Стефан приводит в Месопотамии.
2) Я намерен теперь соединить вместе области, которые Птолемей на-
зывает Вавилонией и Сузианой.
Вавилонская область начинается с упомянутого выше Неаполя в мест-
ности, где канал Наармальха из Евфрата ведет в довольно близкий уже Тигр.
Первый эллинистический город, который мы встречаем далее, есть Селев-
кия (на монетах также 2EAETKEON ПР02 Т1ГРЕ1); это один из самых
больших и самых замечательных городов эллинизма, заслуживающий быть
предметам монографического описания. Я ограничусь коротким очерком.
Основание его Селевком I засвидетельствовано Страбоном (XVI, 738), Аппи-
аном (Syr., 58) и др. Город долгое время находился в чрезвычайно цветущем
состоянии; и в самом деле, положение его для торговли было несравненно
лучше, нежели положение Вавилона в прежнее время и Багдада впоследствии,
оттого что в Селевкии сношения по Евфрату соединились с торговым путем
с моря вверх по Тигру. Плиний (VI, 26) говорит: plebis ei urbanae DC millia;
по словам Орозия, даже во время упадка в городе насчитывалось несколько
сотен тысяч жителей. Он и после Селевкидовой эпохи поддерживал у себя
республиканское правление и эллинистический строй (neque in barbarum
corrupta, sed conditoris Seleuci retinens — Tacit., Ann., VI, 42). У Зосима (III,
23) приводится известие, что город прежде именовался Zajxacrr); впрочем,
^ может быть, что под этим именем подразумевается Хсо^ (как называет его
ц Арриан и прежде того еще Гелланик) или Кохе, (как называют его обыкно-
о_| венно; я не знаю, как следует понимать XtQ%a(reXevxov в жизни святой Сиры
(Bollandist., 18). То, что лежащий недалеко отсюда — на другом берегу Тигра
Ктесифонт был основан не Варданом, как утверждает Аммиан Марцеллин
(Arnmian. Marc, XIV, 23), а прежде него, доказывается тем, что он упомина-
ется уже Полибием (V, 45); и не только Procop. de bell. Pers., II, 28 говорит,
что он основан македонянами, но даже Ioseph., Ant., XVIII, 9, 9 уже назы-
вает его ттоХн; 'EAAtjw's.
Плиний (VI, 27) в своем описании нижнего Тигра опять чрезвычайно
сбивчив; у него ясно только то, что при этой реке находилось два города
под именем Апамеи, если только предположить известным (что уже явствует
из Actis Sanct. mart, orient, ed Assemani, p. 38 и из местных показаний об
епископах), что две области Месены находились одна на Тигре близ Селев-
кии, а другая более известная (Pherat-Maisan) там, где Евфрат сливается с
Тигром. Плиний говорит (§ 122): «Tigris lustratis montibus Gordyaeorum circa
Apamiam Mesenes oppidum citra Seleuciam Babyloniam CXXV m. p. divisus in
alveos duos altera meridiem ac Seleuciam petit, Mesenen perfundens altera etc.».
Итак, эта Апамея лежала выше Селевкии, тогда как Апамея, о которой упо-
минает Птолемей, находится на 1 */з градуса южнее и на l/i градуса восточ-
нее Селевкии; Птолемей прибавляет: v<p rjv (' Аттсцлею,») у той fiacriXelov тготсцми
ттдд<; tov Ttygtv avfjfioXT) eyyv<; fie(rr) (scr. MsoT^J^ciga, и эта царская река не
что иное, как нынешнее устье Евфрата при впадении его в Тигр. Итак, дру-
rz
гая Апамея находилась в этом месте, близ нынешнего Корнаха, к ней-то я и
отношу вторую ссылку Плиния (§ 132): item Apameae, cui nomen Antiochus
matris suae imposuit, Tigris circumfunditur; haec dividitur Archoo. Стефан го-
ворит: ест хал аЛЛо7 &v T7? Meayvibv yy rco TlygTjri ъщ\ь%о\ььщ, kv $ ajci&rai 6
Tiygys TTorafjb6<;} хал kv fikv T77 befyq, \LO\gq, тгеомдхвтш 7Гота/ло£ 2eAAa£, kv Sk 777
aQioTegg, TiyQ7)<; ovdjvvfio^ ТФ /^еуаЛф. Судя по упомянутому названию Селлы
(Диалы), здесь подразумевается, вероятно, более северная Апамея. Тогда
как в Etym. M. 'Acrovgia... ещ 'Аттаце'кн; хал ет/ хатиу хтА., напротив того,
имеется в виду, скорее, южная Апамея. О ней же, вероятно, говорится у
Аммиана Марцеллина (Arnmian. Marc, XXIII, 6, 23) (eminet), также у
Eutychius'a, 1.1, p. 367, 375. Здесь следует еще раз назвать Александрию при
устье Тигра, о которой говорилось уже прежде, так как этот разрушенный
водами город, если верить Плинию (VI, 17), был восстановлен Антиохом
quintus regum под именем Антиохии; однако город достиг прочного суще-
ствования лишь тогда, когда в третий раз он под именем Харакса был восста-
новлен Пасином (Спасином), сыном Согданока, вождя соседних аравитян,
которого Юба ошибочно называет сатрапом Антиоха. ТХПАОХШНХ
значится имя на тетрадрахме этого князя, которая отчеканена по образцу
монеты бактрийского Эвфидема; это есть знаменитый уникум в коллекции
Прокеша, находящейся теперь в Берлинском нумизматическом кабинете.
Дальнейшие подробности изложены в истории харакенского царства Вад-
дингтона в Melanges numism., II, p. 77 sqq.
Мы не в состоянии в точности определить места остальных эллинских
имен в Сузиане и по Тигру. Стефан приводит тут Диадохуполь о\ ttoqqcj
Ктг)оч(ра>уто$. Затем у Плиния (§ 132) в области Ситтакен находится: oppidum
eius Sittace Graecorum ab ortu, et Sabdata, ab occasu autem Antiochia inter
duo flumina Tigrim et Tornadotum; последнее имя мы, без сомнения, вновь
можем признать bToqvo, ттоталло^ Феофана Chron., p. 492, ed. Bonn., а из опи-
санного хронографом похода Гераклия явствует, что Торна не что иное, как
река Одоин у Тавернье, Адем у Линха (Journ. of the roy. geogr. soc, 1839,
p. 472) и вытекающий из Керкука Фиск Ксенофонта. Линх открыл при устье
ее развалины Описа, как он предполагает; может быть, Антиохия поступи-
ла на место Описа. («Феликс Джонс точнее определил развалины Описа в
Телль Манджуре на западном берегу теперешнего Тигра. Selections from the
Records of the Bombay Government, new series, n° XLIII. Bombay, 1857,
p. 272 ». — Г. Киперт.) — Здесь можно назвать также Лаодикею, судя по Пли-
нию (VI, 26, § 117), который называет вместе Seleucia, Laodicea, Artemita.
Одно только местечко можно еще определить с большею точностью, а имен-
но Селевкию на Гедифонте (Strab., XVI, 744; cf.: Plin., VI, 27); Раулинсон, по
крайней мере, признал этот город в Манжи на склоне горы, недалеко от впа-
дения Зарда в Иераги. Это местечко под именем Beth-Seleucia упоминается
в Act. sanct. mart, or., I, p. 99; там же мы знакомимся еще с другим именем,
которое, наверное, относится к этому разряду городов: «episcopus Beth-
Seleuciae... obiit in mansione, quam Nicatora dicunt... interfectus est Hadiabi
(Adiabenae praeside»; cf.: Ibid., p. 227: episcopus Beth Nictoris (sie).
3) Мы выше уже сообщили некоторые заметки относительно области
на запад от Тигра вверх до более высоких гор; мы упомянули Артемиту,
Аполлонию, Халлу, также Исоны. Судя по военному и коммерческому зна-
536
чению Тигра, надо предполагать, что при этой реке и в плодородных пред-
гориях находилось много эллинистических поселений; может быть, тут и
следует искать только что упомянутую у Плиния Лаодикею; вследствие за-
метки Стефана: Ьеха-щ sari хал ttbqglv tov TlyQTjro^ "Axga, взятой из книги 16
Арриана сюда может быть отнесена Акра (разумеется, Парфика). [«Акра
может быть также семитическим именем».— Г. Киперт.] — Близ Арбел (по
Strab., XVI, р. 738 и Steph.) находится Деметриада, которую д'Анвиль без
всякого основания переносит в Керкук; в кабинете Стюарта в Бомбее нахо-
дится автономная монета этого города (Mionnet, Suppl., VIII, p. 388) с над-
писью... MHTPEION TON ПРОХ ТШТ1ГРЕ1; несмотря на это, мы все-таки
не в состоянии добиться положительных сведений.
4) Об Армении мы упомянем здесь лишь в виде приложения. Хотя про
Артаксату, основанную будто бы Ганнибалом (Strab., XI, 529), и не сказано,
что у нее было эллинистическое население, но относительно Тигранокерты
известно, что ее основал Тигран ex ScuSexa eQ7)ii(o$ei(ra)v vrt* avro? iroXeojv
'EXXyviSwv aviqumovq ovi/ayaywv. Потом у Стефана упоминается еще Эпи-
фания хата Tlyqtv exXyOh) Se xai 'Agxeowxeera, о eartv 'Адхасгюи xrlo-^ia (по ла-
тинскому тексту Птолемея — Artasigarta); здесь можно напомнить, по
крайней мере, о том, что именно Антиох Эпифан совершил блистательную
кампанию в Армению и захватил там самого царя Артаксия. — Мы даже
Никею встречаем в Армении, правда, только на Пейтингеровой таблице с
непонятным названием Nicaea Nialia; тут мы, по крайней мере, сделаем сме-
лое предположение. Кончающаяся у Никеи по направлению к Экбатанам
^ I дорога выходит из известной Артаксаты (на верхнем Араксе) и перевалива-
х ет через горы у местечка Катиспи, точно так же как пролегающая с запада
% дорога переходит через те же горы у Катиспи; на таблице показаны две до-
q роги из Катиспи к югу, но у них на протяжении 75 миль одни и те же стан-
о_ ции, а потом они разделяются: западная дорога идет в Тигранокерту, тогда
как другая — по направлению к Экбатанам — кончается в Никее. Это на-
•ЧК. правление к Экбатанам, конечно, ничего не доказывает; тем важнее то, что
на Пейтингеровой таблице как раз над Никеей стоит имя Альбании; однако
я воздержусь от всяких дальнейших выводов.— На той же восточной доро-
ге, по Пейтингеровой таблице, значится еще Filadelfia, что, несомненно, сле-
дует изменить в Philadelphia. Я не знаю, следует ли приписать основание
этого города Деметрию II Филадельфу или другому князю с тем же прозви-
щем.— Относительно древних поселений фракийцев и эниан в Армении см.:
Strab., XI, 508 и 531.— В числе поселений Селевка I Аппиан (Syr., 57) на-
зывает также Никополь ev 'Agpbewa -rjj ау%отаты ^ьаХюта Катгпа<$ох1а<;; это
кажется неверно, так как Никополь есть известная колония Помпея на Лике
(Арр., Мithi, 105 и др.).
ИРАНСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ
С ИНДИЕЙ И БАКТРИЕЙ
Александр, как мы видели, заселил иранские земли колониями, в осо-
бенности по направлению большой дороги с запада на восток. Разные ослож-
нения на Западе во многом помешали первым трем Селевкидам продолжать
эту колонизацию; со времени основания парфянского царства и отпадения
восточных сатрапов им пришлось почти совсем предоставить на произвол
территорию по ту сторону каспийских проходов и пустыни внутри Ирана;
необходимо было ограничиться поддержкою Мидии и Персиды, что и
удалось почти в течение целого столетия. Антиох IV Эпифан пытался, по
крайней мере, старым испытанным способом основания городов обеспе-
чить за собою шаткое обладание этими возвышенными областями.
1) В Персиде Александр не заложил, вероятно, ни одного эллинисти-
ческого города; из Селевкидовых оснований во всяком случае два можно
считать достоверными. Одно из них — это Лаодикея, которую упоминает,
правда, один только Плиний (Plin., VI, 26, § 115), и, как кажется, в Мидии: in
extremis finibus (по направлению к Кармании) Laodiceam ab Antiocho condi-
tam; нельзя догадаться, о каком Антиохе здесь говорится; но то, что город
скорее всего принадлежит Персиде, явствует из упомянутого рядом с ним
Persepolis caput regni derutum ab Alexandra. Затем следует Стасида, ттоХ^
Педочхт) km ттет(УГ)<; реуаХщ, yv z1%uv 'hvrioxoq 6 XiXeuxou, как говорит Стефан
Византийский; мнимые монеты Стасиды давно исчезли из нумизматики. —
Судя по имени, можно и Мефону также считать греческим городом; по мне-
нию Стефана, он находился в Персиде.
2) Относительно Мидии мы выше уже сообщили поучительное заявле-
ние Полибия о том, что Мидия кругом застроена эллинскими городами
(Polyb., X, 27); он прибавляет: -nXrjv 'Exfiaravcjv; Плиний, напротив, говорит
(VI, 14): Ecbatana, caput Mediae, Seleucus rex condidit. Само собою разуме-
ется, что это затруднение не разрешится, если привлечем сюда северные
Экбатаны близ озера Урмии. У Стефана Византийского (v. 'Ayfiarava) ска-
зано, что этот город назывался также Эпифанией; во всяком случае, судя
по Макк., 9, 2, не подлежит сомнению, что Антиох IV Эпифан перед своим
походом в Элимаиду был в Экбатанах; а ввиду возраставшей вследствие на-
тиска парфян опасности Экбатаны были, вероятно, снабжены надежным
гарнизоном и назначены таким образом для охраны подвергавшихся напа-
дению мидийских областей.— Я мимоходом, по крайней мере, упомянул
Антиохию Хосроя, названную так вследствие водворенных здесь жителей
из Антиохии на Оронте; см.: Procop. apud Phot., p. 256, 15; Theophylact., V,
p. 216, ed. Bonn.
Полибий говорит, что Мидия TTSQioixeTrai iroXstriv 'EAAt^iV/v; нам извест-
ны только два местечка, которые лежат по направлению к Каспийским во-
ротам. Об Ахаиде было уже сказано прежде; это имя, как кажется, скоро
заменилось прежним именем Гераклеи, которое эта колония носила до сво-
его разрушения, если только восстановленная Гераклея не получила лишь
отличительного прозвища от Ахея; у Аппиана (Syr. ,57), правда, этот «в Пар-
фиене» основанный город называется Ахаей; однако город, о котором идет
речь, не лежал собственно в Парфиене; а потому при таком неточном ука-
зании под этим именем можно подразумевать также другое местечко в Арии,
подобно тому как Аппиан называет также Сотиру в Арии среди основан-
ных в Парфиане городов. Во всяком случае у Страбона, Птолемея и Амми-
ана встречается одно только имя — Гераклея. — Относительно Par, или Раги,
Страбон (XI, 524) положительно утверждает:то rovNixaroQogxri(r^ayoexeTvo^
liev Evgamov шуб^асге, Ylaqboi be 'Ago-axiav, прибавляя притом более точное
538
указание артемитянина Аполлодора на то, что город находился в 500 ста-
диях расстояния южнее Каспийских ворот. Об этом говорится еще также у
Стефана Византийского — v. 'Ра/уа- Мы, однако, сомневаемся в тождестве
этих трех имен; Европ и Арсакия у Плиния (VI, 24) решительно различают-
ся, как и у Птолемея (V, 2), у которого Раги вовсе не встречается, если толь-
ко это имя не извращено в 'Рафа (Ammian. Marc, XXIII, 6, 39). — Strab. (XI,
525), а за ним Steph. Byz. и Eustath. ad Dionys, (v. 918) говорят, что в Мидии
также находится Лаодикея.— Я упомяну, по крайней мере, что Пейтинге-
рова таблица в числе станций между Экбатанами и Европом называет так-
же Гекатонполь, который никоим образом нельзя смешивать с известным
Гекатомпилом.— При входе в Каспийские ворота, наконец, находился, как
кажется, Харакс; судя по градусным показаниям у Птолемея по крайней
мере, он лежал как раз возле их юго-восточного края; этот город помимо
Птолемея упоминает еще Аммиан Марцеллин (Ammian. Marc, XXIII, 6, 43),
также Исидор, замечая притом, что Фраат прежде всего поселил там мар-
диев; однако у него это местечко лежит перед западным входом в ворота,
вероятно, там, где находятся развалины близ Айвани Кеи. — Страбон
(Strab., XI, 514 и 524) к индийским городам причисляет еще Апамею, кото-
рую Исидор помещает в области Хоарене, лежащей сразу же к востоку от
Каспийских ворот; Плиний (Plin., VI, 14) называет ее Raphane cognominata;
cf.: Ammian. Marc, XXIII, 6, 43; Eustath. ad Dionys., 918.
3) В парфянских областях — я разумею под этим собственно Парфию,
Гирканию и Арию — было, по крайней мере, несколько поселений из эпохи
g после Александра. Рассказывая о кампании Антиоха III, Полибий (X, 31,
i 11) говорит, как бы между прочим, что здесь греческий элемент отнюдь не
К вымер во время парфянского господства: когда варвары отступили через
q горы в Сиринкс (ttJs 'Tgxaviag (bcravei fiacriXetov) и отчаялись держаться там
jq_ долее, то они перебили эллинов в городе, захватили их лучшее имущество и
~ бежали далее. К сожалению, этим заканчивается отрывок у Полибия; Сте-
Е фан Византийский, однако, из той же книги приводит имя города Каллиопа
(ттоХк; YlagSvaiiov), который относится сюда же, так как Аппиан (Syr., 57)
положительно называет его в числе основанных Селевком I городов. Пли-
ний также (VI, 15) упоминает о нем в качестве opposita quondam Medis; если
бы он был более точным писателем, то можно было бы предположить суще-
ствование атропатенского царства. Мы не беремся решать, были ли Феры
(Подпишем у Steph. Byz. u.), Мисия (у Ptol., VI, 5) и Mosia (у Ammian. Marc,
XXIII, 6, 43) также эллинистическими колониями.— Знаменитый Гекатом-
пил у Курциуса (VII, 2) называется urbs condita a Graecis, и Аппиан (Syr.,
57) положительно приписывает его основание Селевку I. — Один только
Стефан Византийский, как кажется, упоминает об Эвмении в Гиркании; не
названа ли эта колония — так как в достоверности этого известия нет при-
чины сомневаться — по имени кардийца Эвмена? Как это само по себе ни
кажется невероятным, однако у нас нет никаких точек опоры для какого-
нибудь другого предположения.
Аппиан к городам в Парфии причисляет также Сотиру, Хариду и Ахаю.
Ахаю мы называли уже выше по поводу Гераклеи Ахаиды; Аппиан, вероят-
но, хотел указать этим на другой город, а именно на тот, который Страбон
(XI, 516) поместил в Арии: 'Agroxaxva xai 'AXe^avSqaia xai 'Адена B7T(bvvfioi
rcbv xti(T(lvt<di/. Следовательно, этот город также был основан Ахеем, навер-
ное отцом Лаодики, бывшей замужем за Антиохом II, можно усомниться в
том, чтобы он основал этот город во времена Селевка; Аппиан не пользует-
ся достаточным авторитетом, так что из его показаний нельзя вывести та-
кие заключения. Судя по тексту Мейнеке, у Страбона стоит 'Aqraxarjva; по
словам Плиния (VI, 23, § 93), в Арии есть oppidum Artacoana, Arius amnis,
gui praefluit Alexandriam ab Alexandra conditam; patet oppidum stad. XXX,
multoque pulchrius sicut antiquius Artacabene iterum ab Antiocho muninim
stad. L. Это, без сомнения, то же название, что и 'AiQraxauav -кокк; у Исидора
и 'Ацгтахоаш в походе Александра. — Птолемей (VI, 17) и Аммиан (XXIII,
6, 69) положительно утверждают, что Сотира Аппиана находилась здесь в
Арии, а судя по имени, надо полагать, что не Селевк, а Антиох Сотер осно-
вал город. Я умолчу о хронологическом определении, какое, может быть,
заключается в этом названии.— Относительно Хариды не сохранилось бо-
лее никаких сведений.
4) В туранских областях встречаются прежде всего основанные Селев-
кидами колонии. Во-первых, Антиохия на Марго, основанная Антиохом I;
о ней мы говорили уже выше по поводу маргианской Александрии.— Мы
прежде уже заметили, что Александрешата была основана не Селевком, как
то утверждает Аппиан; но полководцы Селевка и сына его проникали до
Яксарта и далее; Александрешата, вероятно, и была возобновлена ими. Если,
однако, Стефан называет в Скифии Антиохию (это будет по его каталогу
десятая, а маргианская — двенадцатая), то не подлежит, конечно, сомне-
нию, что этот город находится в области Яксарта. Судя по Пейтингеровой
таблице, северо-восточная дорога, исходя из Par, кончается двумя стан-
циями, Александрией и Антиохией; на ней возле Александрии показано
два алтаря, и к этому прибавлена заметка: usque quo Alexander. Плиний
поясняет это следующим образом (VI, 16, § 49): «ultra Sogdiani, oppidum
Panda et in ultimis eorum (Sogdianorum) finibus Alexandria ab Alexandra
Magno conditum; arae ibi sunt ab Hercule et Libero patre constitutae, item
Cyro et Semiramide atque Alexandro, finis omnium eorum ductus ab ilia parte
terrarum, includente flumine Jaxarte... transcendit eum amnem Domonas
(Demodamas), Seleuci et Antiochi regum dux, quern maxime sequimur in his,
arasque Apollini Didymaeo statuit».
Я не знаю, следует ли имя Менапии у Птолемея и Аммиана (Menapila)
считать эллинистическим.— Имя Феры в Согдиане, о котором Стефан гово-
рит в качестве 7roAi£, напоминает охоту Александра.— От позднейших гре-
ко-бактрийских царей, по крайней мере, один город до сих пор сохранился
в преданиях — Эвкратидия,то£ ag^avro^ еттшищсх; (Strab., XI, 516); он ее при-
водит подле Бактр и Дарапсы; Птолемей и Стефан также называют ее; Пто-
лемей причисляет ее к городам, лежавшим не на Оксе, а на берегу других
рек; судя по его градусным указаниям, Эвкратидия находилась к северо-
западу от Бактр, по направлению к Оксу; там, следовательно, был царем
Эвкратид.
5) Понятно было бы, если бы в Индии и на обращенных к ней склонах
Арианы не нашлось ни одной колонии Селевкидов. Однако, по Пейтингеро-
вой таблице, на восточном берегу моря между устьями Ганга и Патериды (?)
находится город Antiochia tharmata, относительно которого, впрочем, я
540
нигде более не нахожу никаких следов; едва ли по указанию между устьями
можно будет определить его положение; судя по свойству таблицы, даже
положение при море не имеет тут, вероятно, никакого значения, как это
решительно оказывается, например, в отношении Bestia deselutta на южной
линии моря; и в самом деле, дороги показывают, что это местечко находи-
лось где-нибудь внутри Ирана по пути из Персеполя к верхнему Инду. Эта
Бестиа явно та же самая, которую упоминает Плиний (Plin., VI, 23, § 92) —
amnis Erymandus (Этисмандр) praefluens Parabesten Arachosiorum.
Имя арахосийского города Деметриады во всех отношениях интересно;
оно относится к индо-греческому царю Деметрию. Впрочем, единственное
известие об этом городе имеется у Исидора, который называет его прежде
эллинской метрополии Александрополя на реке Арахоте в области того же
имени.— В таком же роде поучительна Эвфидемия, которую Птолемей (Ptol.,
VII, 1) весьма основательно назвал таким образом вместо EvBvfisSeia; Пто-
лемей, который один только и упоминает этот город, отождествляет его с
Сагалою.— В богатом списке индийских городов у Птолемея встречается
еще несколько с греческими именами, которые поэтому были, вероятно,
основаны греками. Всего сомнительнее такое предположение, конечно, от-
носительно берегов; имена вроде Моноглоссона, Гиппокуры, Созикур и т. п.
едва ли можно будет отнести к греческим колониям. Византион, который
упоминают Птолемей, Стефан и Перипл, по мнению Лассена, не что иное,
как эллинизация слова viganta, как замечает Киперт. Судя по словам Стра-
бона (Stab., XI, 439), можно, конечно, предположить, что эллинское господ-
ом ство и заселение простирались так далеко к югу. Из городов с греческими
i названиями внутри материка я нахожу на Инде Эмболину, Пентаграмму,
Я Аристобатру, на восток от нее Феофилу; одно имя, конечно, служит сла-
q бым доказательством. Сюда, может быть, относится Антисса, так как, по
_о. Стефану Византийскому, она аг/аудафе! Ф/Aaw ха\ AytioSofias о MiXrjmo<;.—
~ Демодам был полководцем первых двух Селевкидов в Бактрии. На гречес-
Г*. кое имя походит наконец Родон у Steph. v.; однако это имя выдумано,
вероятно, поэтом Дионисием, назвавшим его в третьей книге своей Басса-
рики (см.: Steph. Byz. v. Га£Ь$).
Коснемся здесь еще одного весьма интересного в отношении восточных
колоний Александра и его преемников вопроса, который недавно был воз-
бужден исследованиями Рихтгофена в первой части его творения о Китае.
Говоря о колониях Александра в бактрийском крае, а именно Алек-
сандрии на Яксарте, я в Истории Александра предположил, что побуди-
тельным мотивом при этом была отчасти забота о торговых сношениях с
внутренней возвышенной Азией; упоминая о так называемой Каменной баш-
не и о торговле, ради которой встречались там Восток и Запад, я имел в виду
главным образом сериковую, шелковую торговлю. Совершенно верно, что
не существует никакого положительного свидетельства, которым подтверж-
далось бы, что в эпоху до Александра шелк был известен грекам, персам и
индусам. И если бы нам вздумалось предположить, что впервые упоминае-
мые Аристотелем (Hist, апгт., V, 19, 35lb. 16) так называемые косские ткани
из кокона известного червя, который он описывает, были в качестве сурро-
гата шелка изобретены Памфилою из Коса, то такое предположение опро-
вергается тем, что до Павсания способ производства шелковых тканей был
неизвестен, и он сообщает — явно как новость, что они добываются из ко-
кона, а не из волокон растения (ото tivo<; (pXotov)t как думали прежде. Он
употребил именно это выражение, а не то, какое было в ходу у римлян, го-
воривших, будто шелковичная материя гребнем снималась с листьев; то же
самое выражение, какое сохранилось в древнейших дошедших до нас сведе-
ниях греков о шелке. Страбон (Strab., XV, 594), говоря об удивительном вли-
янии индийского климата, упоминает в заключение о хлопке и сообщает, по
Неарху, о том, как им пользуются; потом он прибавляет: rotavra $e хал та
^egixa ex tivwv cpXoiwv ^aivofiev7)<; fiuo-aov. Вслед за тем к словам eiorjxe Ss xal
присоединяется заметка о сахарном тростнике; поэтому надо полагать, что
указание относительно шелка было также заимствовано у Неарха, хотя в
извлечении Арриана из трактата Неарха (cap. 7) упоминается о хлопке, но
отнюдь не о шелке; подлежит, однако, сомнению, означает ли слово то/аита
у Страбона, что Неарх указывает на сериковые ткани как на произведения
Индии, или он только говорит, что шелк, о котором он получил некоторые
сведения,— такой же растительный продукт, как и индийский хлопок. Если
во времена Неарха и Александра шелк был известен и употреблялся уже в
Индии, то едва ли можно сомневаться в том, что такая драгоценная ткань
перенесенабыла оттуда ко двору персидских царей, а следовательно, извест-
ное свидетельство Прокопия, что так называемые мидийские платья были
из шелка, относится не к той лишь эпохе, в которую он писал21.
Первым затем хронологическим точным известием о серах было бы
сообщение Страбона (XV, 702) об их правлении и долговечности, если бы
он определеннее указал на то, что заимствовал эти подробности у Мегасфе-
на. В третий раз упоминает он (XI, 516) о серах в том месте, где, трактуя
о Бактрии, говорит о распространении эллинистических государств на Во-
стоке, о царстве Менандра в Индии и Деметрия, сына того Эвфидема из Маг-
несии, который сначала был сатрапом, как кажется, Согдианы, а потом
приобрел бактрийское царство Диодотидов. Страбон говорит, что Бактрия
служит передовою страною и оплотом всей Арианы, хал Ьц хал fiexQi 2srjQ(bv
хал <&quvu>v e^sretvov rijv oqw/jv. Эти известия он заимствовал у Аполлодора из
Артемиты, эпоха которого определяется только тем, что он называет этих
царей и что Страбон пользуется им как источником; однако в эпоху этих
царей, т. е. от 200 и до 150 г., царство их простиралось до серов; судя по
смыслу текста, надо полагать, что здесь говорится о границах бактрийско-
го, а не индийского царства.
21 Плиний (IX, 22, § 76) перевел упомянутое место Аристотеля, но оши-
бочно; а именно он говорит: prima eas (telas) redordiri rursusque texere invenit
in Coo insula Pamphile; тогда как выражение Аристотеля та flofifivxia avaXvovai
tcdv yvvaixcov tivb$ avamriviCpiLBvai хате/та v(paivovo-t ясно указывает на раз-
мотку кокона. Sundeval (Die Tbiearten des Aristoteles, S. 202) замечает, что
описание гусеницы у Аристотеля, а именно е£б/ olov xiqarra,, относится, по-
видимому, к обыкновенному роду гусеницы Bombyx mori из Китая. Wilhelm
Kirby (Einleitung in die Entomologie, I. S. 369 ff.) говорит, что в Бенгалии так-
же существуют туземные породы шелковичных червей, из пряжи которых
изготовляются весьма прочные ткани; в Европе и Америке также встреча-
ются гусеницы, пряжа которых может возделываться как шелк.
От Александра и до Цезаря не сохранилось никаких известий ни о се-
рах, ни о сериковых тканях, что, однако, ввиду чрезвычайной скудости и
случайности дошедших до нас сведений из этой эпохи, не может служить
доказательством того, будто опять прекратились употребление сериковых
тканей и сношение с производившим их народом; если царство Эвфидема и
его сына простиралось до серов, то наверное продолжали также покупать у
них это самое драгоценное из их произведений.
АФРИКА И АРАВИЯ
Да извинят нам читатели, если в этой главе встретится много посторон-
них подробностей. В общем и целом составе означенные страны относятся
к области Лагидовых колонизации; это не значит, что они ограничились этою
областью; мы на берегах Малой Азии и Сирии не раз уже встречались с
именем Лагидов и нам придется даже упомянуть мимоходом еще несколь-
ко таких же колоний по ту сторону моря; однако впоследствии некоторые
соображения укажут нам, в каком смысле основанные на Красном море
колонии следует признать самыми значительными основаниями Лагидов.
В особенности Филадельф и Эвергет достойны быть названы основателями
городов; и недаром Каллимах (in ApolL, 56) говорит в лестных выражениях:
Фо7/Зо<; yaq aei 7ГоА/б<геп cpiXySe?
xrt^ofievai^.
Эти обращенные к Филадельфу слова написаны прежде 247 г., даже
прежде 250 г., как явствует из того, что поэт вслед затем в отношении свое-
го родного города Кирены говорит про Аполлона:
xai cofiocrB rei%ea Sdxretv
7)lL£TEQ0t<; BawXeuatu • aei $' evogxos' ' AkoXXqjv.
Мы, по крайней мере, укажем на несомненный пример того, что коло-
низация продолжалась еще после Птолемея III, даже после 201 г.; я не мог
добиться более точных сведений; из Селевкидовых колоний мы в состоянии
были указать еще, по крайней мере, на основанные Антиохом IV города.
Прежде всего я намерен говорить о двух поселениях, которые, не
нарушая пределов нашего перечня, мы, собственно, не должны были бы
упоминать здесь. Назвать здесь Арсиною в Этолии22 побуждает меня то об-
стоятельство, что основание ее весьма поучительно для пояснения полити-
ческого строя подобных городов. Судя по положительному свидетельству
Страбона (X, 460), этот город основан Арсиноей, женою и сестрою царя
Птолемея Филадельфа, на месте прежде бывшей тут деревни Конопы; так
22 Долгое время спустя, после того как это было написано, я получил
Dr. Stephanis Reise im nordlichen Griechenland; сообщая на с. 40 о надписи из
Ламии, он называет уроженца Арсинои стратегом Этолийского союза; это,
вероятно, есть самое раннее известие о городе, так как надпись, причисля-
ющая Ламию к Этолийскому союзу, должна относиться к эпохе, предше-
ствующей этолийской войне.
как вблизи находилась также Лисимахия, то можно было бы предположить,
что Арсиноя, будучи женою Лисимаха, заложила названный по ее имени
город, однако слова Страбона не допускают этого; следовательно, она осно-
вала этот город после 267 г., будучи женою Птолемея. Во всяком случае, не
подлежит сомнению, что Лагид не владел Этолией; напротив, Этолийский
союз составлял вполне самостоятельное владычество. Если мы прежде вооб-
ще должны были указать на то, что эллинистические города, насколько мож-
но судить, были преимущественно свободными политиями, в некотором роде
вольными городами, то Арсиноя доводила это направление до крайнего
предела. Этолия представляла важное значение как для вербовки, так и для
эллинской политики; — вот что и побуждало двор Лагидов расходовать зна-
чительные суммы на основание этого города в чужом крае.
Подобного рода отношение, как кажется, господствовало еще в дру-
гом городе, который упомяну здесь,— в Арсиное на Крите. Единственным,
но вполне достоверным свидетельством существования этого города слу-
жат монеты, которые, судя по чеканке, принадлежат Криту; см.: Eckhel, Num.
Vet. у p. 144; едва ли он прав и в том также, что этот город есть так называе-
мая Стефаном bwoltt} ( Aqcivot)) Auxtov; иначе, впрочем, его еще труднее было
бы поместить куда-нибудь, тем более что предложенная поправка Avxia<;t
хотя и кажется пригодною вследствие слов eari хал аААт? Аих'кн;, помещен-
ных далее в той же статье, не подтверждается, по крайней мере, другими
историческими известиями. Надо, впрочем, заметить, что древний герб Лик-
та (AvTToq на монетах), с которым этот город чеканил также тетрадрахмы с
типом Александра, изображал кабанью голову.
В ином отношении находились города того же имени на Кипре, так как
этот остров действительно был во власти Лагидов. Мы встречаем Арсиною
близ Палепафа, которую упоминает Страбон (XIV, 683) в качестве ttqootoqijlov
sxovora: этот город, как полагает Гаммер, находится там, где расположено
местечко Архелия со священными садами, о котором говорит Плиний. Дру-
гой город с именем Арсинои Страбон (XIV, 682) помещает между Саламином
и Левколлою, следовательно, там, где находится Рцща%ингю$ Стадиасма,
п° 304; мы не в состоянии точнее определить это место. Третья Арсиноя на-
ходится недалеко от северо-западной оконечности острова, от мыса Ака-
манта, на берегу вдавшегося в материк к востоку от него залива. Летронн
(Recueil, p. 184) говорит, что на острове было четыре Арсинои; Энгель
(Kypros, I, S. 108) приходит к тому же выводу, ошибочно, как мне кажется,
понимая заметку Стефана Византийского (u. 'Aq<nvori и Magiov), будто Ма-
рион впоследствии был переименован в Арсиною. Он предполагает, что
Марион находился там, где теперь еще сохранилось имя Марин, на южной
стороне острова, между Киттионом и Ама-фунтом. Однако такое сходство
имен и само по себе уже не имеет большого значения, тем еще более, что по
имени святой Марины названо несколько мест на острове; а сверх того, един-
ственное сохранившееся относительно положения Мариона известие проти-
воречит такому предположению; и действительно, Скилакс (§ 103), который
перечисляет расположенные на берегу города, начиная с Саламина и оги-
бая потом далее северо-восточную оконечность, называет Солы, Марион,
Амафунт и положительно говорит, что при всех этих городах находятся
гавани. Судя по этому, вышеупомянутый Марин не может быть Марионом,
544
этот Марион должен был находиться на берегу между Солами и Амафун-
том. Так как он был независимым княжеством, то и невероятно, чтобы Ар-
синоя, расположенная близ Пафа, поступила на его место; мы не знаем
древнего имени третьей Арсинои, находящейся близ мыса Акаманта; дос-
товерно во всяком случае то, что именно в этой северо-западной оконечно-
сти острова находилось княжество Марион.
Начнем с Африки, с западной области эллинических колоний, с Кире-
ны. В эту область греческая культура проникла уже за несколько столетий
до Александра; а потому упомянем здесь только такие колонии, имена ко-
торых непосредственно указывают на личности из дома Лагидов; даже та-
кие места, как Апис, Серапион (в Перипле), нельзя с достоверностью отнести
к эллинистической эпохе.
Начиная с запада, мы прежде всего встречаем Беренику, как называют
ее царь Птолемей Эвергет II в своих мемуарах (Athen., II, 71), Страбон (XVI,
836) и пр., или Береникис, как называет автор Стадиасма (Lucan., Phars., IX,
524); это есть древняя Гесперида. Летронн (Recueil, I, p. 184) был того мне-
ния, что эта Береника получила свое имя, вероятно, от Мага. Он говорит:
едва ли можно будет назвать хотя бы одну колонию царя Птолемея Фила-
дельфа, которая не носила бы имени его матери или сестер (Арсинои и Фи-
лотеры); было только четыре города Береника; однако за исключением
имени Александра, которое, по Стефану Византийскому, придано было во-
семнадцати различным городам, нет ни одного, которое повторялось бы
чаще имени Арсинои в царствование этого государя; «я насчитываю», гово-
ри рит Летронн, «не менее четырнадцати городов имени Арсинои, один в сред-
i нем Египте, три на Красном море, один в Ликии (Патара), один в Киликии,
Я четыре на Кипре, два в Сирии, один в Киренаике, один в Этолии; к ним сле-
q дует присоединить еще одну Филадельфию и три Филотеры. Чрезвычайное
_о_ распространение имен Арсинои и Филотеры служит явным доказательством,
— что Филадельф не употреблял никакого другого названия для тех городов,
j* которые он основал после брака со своей сестрой Арсиноей; отсюда следу-
ет, что к предшествовавшему этому браку времени следует отнести те горо-
да, которые он назвал по имени своей матери Береники, а именно Беренику
Панхрису, Беренику Эпидира, Беренику древний Асионгабер и троглодит-
скую Беренику. Это весьма единственное предположение подтверждается
крайне замечательным наблюдением — имя Береники встречается только
по берегам Красного моря, так как Беренику в Киренаике Маг назвал, веро-
ятно, по имени своей матери; но в областях, которыми впоследствии владел
Филадельф, имя Береники не встречается. Отсюда следует, что Филадельф
эти четыре Береники на Красном море основал в первые годы своего цар-
ствования» и т. д. Против этого я имею возразить следующее. 1) Было всего
не четыре, а восемь Береник, не считая, конечно, той, что находилась в Эпи-
ре; помимо четырех на Красном море была Береника на Понте (Тиос), в Ки-
ликии, сирийская и киренайская; из них Филадельф назвал так, вероятно,
три последние, наверное также и Тиос. 2) Из нашего прежнего обзора ясно
видно, что именем Александрии названо не только восемнадцать городов.
3) Несравненно чаще Арсинои встречалось имя Антиохии. 4) Об Арсиноях
на Красном море будет сказано впоследствии; исходя из вышеприведенно-
го замечания, четыре Арсинои на Кипре сводятся к трем; если Летронн не
отвергает нумизматических доводов Экгеля, то критскую Арсиною следо-
вало бы ему признать так же, как этолийскую. Эфес, наконец, в течение не-
которого времени тоже назывался по имени этой царицы Арсиноей, и об
нем не следовало умолчать. 5) Почему только одна Филадельфия? Если Лет-
ронн сомневается в египетском городе того имени (Steph. Byz.), то помимо
признаваемой им (р. 83) Филадельфии в южной Сирии сюда, без сомнения,
следует причислить еще киликийскую. 6) Судя, по крайней мере, по приве-
денным по поводу Тиоса Береники соображениям, весьма вероятным ока-
зывается, что Филадельф после брака с сестрою Арсиноей не переставал
называть город именем своей матери. 7) Имя Береники встречается не толь-
ко на Красном море, но, без сомнения, также на Понте, в Киликии, в Сирии.
8) Ничем нельзя доказать.что все Береники на Красном море основаны Фи-
ладельфом; напротив, основание двух южных следовало бы, скорее, припи-
сать Лагиду III. 9) Основываясь на своих гипотезах, Летронн говорит: car la
Berenice de la Cyrenaique. I'ancienne Evesperide a du recevoirson nom de Magas,
premier fils de cette princesse. Выражение premier fils подлежит сомнению,
его, по крайней мере, нельзя доказать; если, однако, Стефан положительно
говорит: б'хтт? (BeqevixT)) Atfivrjs у ttqotbqov 'EireQts' ехА^Эт? Se Begevixv) into rfj<;
ПтоХщаюи yuvatxoi; Begev/xT^ (т. е. дочери Мага), то следовало бы доказать
23 Помимо указанной в тексте монеты (она находится в мюнхенском со-
брании, прежний обладатель Конфинери отнес ее к Арсиное на Крите) су-
ществует еще другая, в которой оказываются такие же признаки; она
описана у Mionnet (Descr., VI, p. 572, n° 162): тут опять та же окутанная по-
крывалом женская головка, а на другой стороне кроме АР2Л и... I2TA... —
олень с опрокинутой назад головою и на коленях, который появляется то
целиком, то наполовину на монетах Эфеса, сверх того, знак, который Пел-
лерин признал за КТ, Сестипи — за KI, a Mionnet счел женскою головкою,
Фридлендер же по данному мне несколько лет тому назад объяснению при-
знал астрагалем, который также встречается на эфесских монетах. Он пи-
шет: «Судя по слепку, фабрикация не противоречит новому определению, а
напротив». Голова на обеих монетах, вероятно, не что иное, как изображе-
ние царицы Арсиной, и, судя по рисунку, по крайней мере, на лежащей пе-
редо мною мюнхенской монете, это не подлежит сомнению... Значение...
I2TA... на другой, бывшей пеллеринской монете Сестипи признал остат-
ком имени Аристагора, которое встречается также на монете Птолемея в
Кирене (у Mionnet, Descr., VI, p. 575, n° 176). Однако эту монету Птолемея
нельзя с достоверностью отнести к Кирене, и, сверх того, имя Аристагора
также нельзя считать необходимым дополнением сохранившихся букв; на
лучше сохранившихся экземплярах той же монеты, которую описал Имго-
оф-Блумер (Zeitschr. fur Numism., Ill, S. 323), это имя пишется APISTAIOT.
В той же статье Имгооф описал монеты другого города под именем Арси-
ной, на лицевой стороне которой голова царицы изображена совершенно в
том же виде с диадемою и с покрывалом; судя по двойному рогу изобилия,
надо полагать, что город с такою чеканкою был назван по имени египет-
ской царицы; однако аттическая валюта чеканки (сильно подержанные драх-
мы весят 3,75 и 3,68) служит доказательством того, что эта Арсиноя также
была не из Киренаики.
18 История эллинизма
неверность этого известия, если хотят заменить его другим; но мы нигде не
находим следа какого-либо иного известия, а в данной заметке не заключа-
ется никаких исторических фактов, которые могли бы подать повод сомне-
ваться в сказанном; напротив, Каллимах в вышеупомянутой Истории
эпигонов в эпиграмме на храброго солдата называет этот город Геспери-
дом, а эта эпиграмма относится, вероятно, к царствованию Птолемея III.
Другой киренайский город, который имеем упомянуть, есть Арсиноя,
бывшая Тевхира, или, вернее, Тавхира. Стефан Византийский определяет
ее странным образом: -noXig Ylaqanovioxj Atftisr)*;, у щотедор Та'щща; имеющи-
еся до сих пор предположения с целью выяснить эту ошибку были все еще
неудовлетворительны. Весьма поучительно было бы, если бы нам удалось
указать, по имени которой из Арсиной назван этот город. Мне кажется,
нельзя воспользоваться автономными, этому городу приписываемыми мо-
нетами (см.: Mionnet, Descr., VI, 572; Suppl., IV, 191) как доказательствами,
так как ничем не подтверждается, что они относятся именно к киренайской
Арсиное; напротив того, судя по описанию третьей из арсинойских монет:
Tete voilee de la reine Arsinoe R. 5. TONETE. APXI. carquois et arc; derriere
une abeille, ее можно скорее, в особенности по пчеле, приписать Эфесу,
который, как известно, в течение некоторого времени также назывался
Арсиноей23. Припомнив наше изложение событий в Киренаике во времена
Филадельфа, мы должны признать хотя и возможным, но все-таки неверо-
ятным то, что этот царь назвал город по имени своей сестры, на которой он
был женат. Мы, правда, вынуждены были согласиться с Юстином в том, что
^ I сирийская Апама, будучи женою Мага, называлась также Арсиноей, одна-
х ко едва ли можно за этим именем признать такое официальное значение.
g Но Птолемей III мог дать это имя в честь своей матери, а Птолемей IV — в
q честь своей сестры-супруги; первое кажется более вероятным.
о_ Третий эллинистический город в этой области есть Птолемаида близ
Барки. В географическом отношении я могу сослаться на сочинение Thrige
££ (Res Cyrenens., p. 140). Там не сказано, кто именно основал город; в раз-
валинах, однако, открыта была надпись, которая, кажется, решает этот
вопрос. Летронн (Journal des Savans, 1828, p. 260) дополнил ее следующим
образом:
BASIAISSAN APSINOHN 0EA (v afoXvqv)
THN ПТОЛЕМАЮТ KAI BEPENIKHZ (Setov (гьугщыу)
НП0Л12.
Если это дополнение верно, то следовало бы предположить, что
НПОЛ1Е есть именно Птолемаида, тем более что на месте нахождения мо-
неты стоял только город Птолемаида, основанный возле прежней гавани
Барки (Xtiiyv о хала Bagx^v, Scylax, § 107), от которой город Барка находил-
ся на 100 стадий расстояния внутрь материка (Scylax); в таком случае, этот
город существовал уже во времена Филадельфа и его сестры-супруги и был
основан или этим царем, или его отцом, или Магом, и назван в честь его
отчима. Я, однако, прежде уже доказал (см.: de Lagidarum regno, p. 49 и Rhein.
Mus., Ill, 4, S. 539), что это дополнение отнюдь не единственно возможное,
а теперь я признаю более вероятным следующее дополнение: EaciXiaaav
'AiQaivorqv Seav (piXcmaroga ryv ИтоХщаюи хал BeoevtX7)<; Secbv evegyeribv у ттоХк;;
в таком случае надпись относится к эпохе Лагида IV и основание города
следует, может быть, приписать Птолемею III, тому же, который основал,
вероятно, Арсиною и Беренику. Франц (С. I. Graec, III, n° 5184) возражает
на это, что, по Юстину (XXX, 1, 7), супругу Птолемея IV Филопатора звали
Евридикой; но он упустил из виду, что в розетской надписи уже упоминает-
ся жрица 'AiQcnvoys (piXo-naroQo<; (ср.: Lepsius, Abh. der Bert. Akad., 1853, S. 33
des Separatabdracks).
На берегу до Александрии не встречается ни одного города, который
на основании царского имени можно было бы отнести к эллинистической
эпохе. Не подлежит, конечно, сомнению, что по мере приближения к Алек-
сандрии, чаще должны были встречаться греческие или грецизированные
поселения (Pellaei gens fortunata Canopi, говорит Вергилий в «Георгиках»
(Virg., George IV, 287)), и в самом деле несколько хшущ на берегу и в облас-
ти Дельты назывались греческими именами: Aristeu, Eutychu, Phacdone (в
Itin. Ant.t p. 72), Chereu (Xaigeov, Steph. Byz.), 'ALQyeov... аттд 'Aqyeov rod
MaxeSovov, Steph.,Ф1Хшуо<; хшрт] (Strab., XVII, 805), IIqo^bvovttoXk; (Steph. Byz.);
потом еще часто упоминаемые Элевсис, Никополь и т.д., между ними могли
быть также древнейшие поселения, каким на самом деле и было Ntxlov. В
Египте было относительно мало основано настоящих городов; причина этого
указана нами в историческом изложении.
Стефан упоминает Филадельфию в Египте; я нигде более не нахожу
никаких заметок об этом городе; но не решаюсь совершенно отвергнуть
это показание. Вполне, однако, достоверно основание Птолемаиды и Ар-
синои. Судя по одной из надписей, Птолемаида была основана Лагидом I
(ЦтоХща1Ъо<;, rjv етто1г)<ге Еагпде, Parthey de Philis ins., p. 53), потому-то там и
находился его храм (см.: Lepsius, loc. cit., p. 26); город был заложен близ
Фиса и Абидоса: ттоХк; реу'кгтт) tcjv iv vfj Brjfia'to-t xai ovx еХаттш» Meiupeux;,
exovora xai <ги<гггцш iroXmxov ev тф 'ЕХХуимф тдоткр (Strab., XVII, 816). Кал-
лимахиец Истр написал о нем особенный трактат (Athen., XI, 468, вряд ли
стихотворение); а впрочем, сошлюсь на остроумное изложение Ад. Шмидта
(Die Agyptischen Urkinden, S. 90). — Даже без положительных указаний мож-
но, как мне кажется, предположить, что Арсиноя близ Меридова озера со-
ставляла политию подобного рода (поучительно было бы сравнить это с veot
EXXyves Антионуполя). Плиний (Plin., XXXVI. 9), Павсаний (Paus., I. 7), Сте-
фан Византийский (Steph. Byz.) и другие утверждают, что город назван Пто-
лемеем Филадельфом в честь своей сестры-супруги. Страбон с восторгом
говорит о прекрасной местности; с нею, как кажется, обращались с особен-
ною заботою. Тут же находятся еще два-три греческих имени, относительно
которых, впрочем, не могу решить, принадлежат ли они к городам с грецизи-
рованным политическим строем или нет. При входе в страну лежала речная
гавань Птолемаида (названная в папирусе, который издал Schow, в Ptolem.
и Пейтингеровой таблице, а во внутренней области озер — Дионисиада;
развалины этого города отличаются решительно греческим характером;
возле него — Вакхида; оба города названы Птолемеем; я отметил также
местечко Фермы, о котором, впрочем, ничего более сообщить не могу.
Переходя к колониям по берегам Красного моря, я должен заметить,
что не был в состоянии следить за географической литературой этих мест, а
потому поневоле ограничусь одним только общим обзором.
18*
548
Различные названия, приданные в древнейшую эпоху фараонов этим
приморским областям, исчезли и забылись вместе с упадком египетского
владычества; а потому следует, конечно, предположить, что Лагидам здесь
пришлось открывать и создавать все вновь. Если бы мы могли проследить за
всеми их начинаниями и планами, то были бы, вероятно, в состоянии пред-
ставить здесь самую блестящую картину их правительственной мудрости;
они создавали гавани для начатой Александром торговли с Индией, распро-
странили эту торговлю на Аравию и Эфиопию, проложили для нее целый
ряд дорог от моря к Нилу; они сумели придать даже продуктивное значе-
ние пустынным берегам.
Я не вправе ограничиться здесь перечислением одних только тех горо-
дов, которые отличаются царскими именами; многие встречающиеся чисто
греческие имена частью имеют отношение к одним только названиям, час-
тью, однако, обозначают также поселения, фактории, и в таком случае по
преимуществу, конечно, эллинистические. Об имеющихся у нас источниках
24 Не подлежит никакому сомнению, что почин этим открытиям сделан
был при Филадельфе. Для дальнейших показаний поучительно заключение
в выписках Агафархида; он говорит, что окончил свое описание народов на
юге; об открытых впоследствии на море островах и о других народах, о по-
лучаемом из страны троглодитов ладане он со своей стороны не хочет рас-
пространяться; отчасти оттого, что слишком стар, отчасти оттого, что
возникшие смуты в Египте препятствовали более точным исследованиям
g. (tcJjv imoiJ,vr)tLGLTa)v via та$ хат* AYyimrov шпо<гтк<тщ ош axQifOj ттадаЫоутсоу
х акефм); пусть за это дело возьмется человек, которому удалось собрать до-
К статочные специальные сведения по этому предмету (6 де ка\ то?д ката iiiqoq
q щаураам кутету%ч)кщ)> который обладает даром писателя и чувствует в себе
_о_ призвание приобрести славу. Следовательно, во время Агафархида открыты
~ были новые острова на море (tow Ь тф naXayei vrjcrajv votbqov re^ecoQTjfievcov);
f он говорит не о семи островах Зенобия, так как упоминает их, без сомне-
ния, под именем Счастливых островов и намекает о тамошней торговле с
Персией и с основанной Александром гаванью на Инде. Основываясь на
этом, можно определить эпоху Агафархида. В первом издании я старался
доказать, что Додвель отнес эту эпоху чересчур к позднему времени (при
Ptol., IX, 107-90), что Агафархид жил и писал при братьях Птолемее VI и
Птолемее VII. К. Мюллер (Fr. Geogr. Min., I, p. Ill sqq.) был другого мне-
ния; однако его доводы не могли убедить меня. Нибур, как мне и теперь еще
кажется, весьма основательно утверждал, что речь идет об эфиопской экс-
педиции, отрывки из которой находятся в извлечениях Фотия (р. 21 sqq.
у Мюллера), и которая подала повод к эфиопской кампании, отнюдь не до-
казывает, что Агафархид сам произнес ее в царском совете, что он был в
числе влиятельных государственных мужей. Вышеупомянутые ашотастыд
были, вероятно, известные о\ ката ttjv тадахуу Kaiqoi при Птолемее V, или,
еще вернее, повторявшиеся усобицы между двумя братьями (а именно вслед-
ствие изгнания Филометора в 164 г.). После известной критики Страбона
по поводу мнимого путешествия нам, кажется, едва ли можно упоминаемые
Агафархидом открытия новых островов отнести к предпринятому Эвдок-
сом из Кизика плаванью вокруг Африки (Miiller, 111-113).
я приведу, по крайней мере, несколько замечаний. Эратосфен, современ-
ник Эвергета III, уже подробно говорил об этих странах, у Страбона, по
крайней мере, находятся поучительные выписки из его описания Аравии.
Он, конечно, еще в более значительных размерах черпал из Артемидора,
который следовал Агафархиду. Диодор следовал тому же источнику. Ага-
фархид, правда, похваляется, что он — творец географии юга; однако более
строгое исследование доказывает, как далек он был от того основательно-
го, научного метода, каким отличался великий Эратосфен: он напыщенным
слогом предлагал своему читателю странные рассказы и побасенки, неле-
пость которых в его время уже могла быть достаточно обнаружена; как ни
привлекательны его описания, однако они не дают нам понятия о состоя-
нии тех стран и о научном знании, какое составилось о них в его время24.
После Страбона и Диодора Помпоний Мела и Плиний представили отчасти
весьма уклоняющееся от прежнего описание; Плиний ссылается на весьма
основательного Юбу (qui videtur diligentissime persecutus haec, VI, 29, § 170);
и действительно, кампания Элия Галла, а также возраставшие торговые сно-
шения с Индией могли способствовать распространению множества новых
сведений; к сожалению, Плиний и тут тоже необдуманно поступил в своем
энциклопедическом труде. Сомнительно, чтобы он пользовался уже так на-
зываемым Периплом Арриана; в нем сообщаются крайне драгоценные и
интересные сведения. Благодаря возраставшим сношениям в императорскую
эпоху, прибавлялись все новые сведения, и только таким образом Птоле-
мей мог составить свое превосходное описание Аравийского моря.
Начнем с северной оконечности Чермного моря. Она пользовалась мер-
кантильным значением вследствие канала, который восстановил Птоле-
мей II, amnem... Ptolemaeum appellavit (Plin., VI, 29, § 167; Diod., 1.33). Летронн
(Recueil, p. 189 sqq.) изложил историю этого канала и его отношение к
торговле. Я не в состоянии решить вопрос, не велел ли Филадельф отвести
устье его несколько южнее канала Нехо; на это предположение наводит меня
показание Страбона (XVI, 780) относительно положения Клеопатриды: тгр
щдд Tfj ттаХаф biayqvyi ту} am rov Ne/Aou. Он же, правда, говорит (XVII, 804):
аААт? (crtwovi;) Sr/j ioTtv exStSovo-a щ ttjv 'EquSqclv xai tov 'Agafiiov xoX-nov xai
ttoXiv 'AQO-ivoyVyyv evtoi КХеоттатд'&а xaXouai, — однако тотчас же вслед за ним
Страбон строго отличает один город от другого: -nXyo-iov тщ 'Aqo-ivotk xai oj
ra>v 'Hgdwuv sari ттоХк; xai 07 КХеоттатдк; ev та) fivxco rov 'Aga/3/ot/ xoXttov тф що<;
AYyirmov xai Xtiieve<; xai xaroixiai, StojQvysg Se -nXeiovg xai Xi^ivai -nXyo-iaCpvo-ai
rovroiq. Помимо Клеопатриды и Арсинои следует упомянуть еще третье гре-
ческое имя на северной оконечности залива, который у Плиния называется
заливом Героонполя, а именно Клисму, КХусгра (pgovgiov (Ptol., IV, 5;
Hierobles, p. 728; cf.: vita Arethae) — (см.: Muller ad Marc Heracl. p. 14). Судя
no I tin. Ant. (p. 170, ed. Wess.), Клнсма находилась в 68 римских милях рас-
стояния от Героонполя; на Пейтингеровой таблице (по крайней мере, в ко-
пии Маннертова издания) дорога из Арсиной ведет мимо оконечности залива
в Клисму. Поучительно следующее место в Александре Лукиана, § 44:
ava-nSeCo-ag 6 vevviaxog k<; AYyimrov a%Qt rov КХ6<г(лато<; ttXoiov avayo^iivov еш'кг&ц
xai avroq el$ 'IvSiav TrXevo-at, итак, из Александрии можно было проехать
водою в Чермное море (хотя слово avanSevaa^ верно только относительно
половины пути), и Клисма лежала у устья канала; Птолемей помещает ее
550
под одной долготою с Арсиноей, но на одну треть градуса южнее, тогда как
Героонполь находится двумя третями градуса севернее Арсиной; отсюда
следует, что Арсиноя не лежала при устье канала, поэтому Плиний (Plin.,
VI. 29) и говорит: et amnem, qui Arsinoen praefluit, Ptolemaeum appellavit;
Georg. SyncelL, I, p. 86, ed. Bonn, и Chronic Pasch., p. 55, ed. Bonn, с их слова-
ми: атто <гтщато$ той хата ' AQtrivoi'Trjv -щу 'IvStxiJs едва ли могут служить опро-
вержением, хотя, впрочем, Diod., I. 33 помещает Арсиною em тт}<; ех/ЗоАт^.
Клеопатрида лежала при устье старого канала в обращенном к Египту углу
Аравийского залива (если только слова Страбона не относятся к положе-
нию против Эланитского залива). Я сообщил, таким образом, существен-
ные сведения из древних авторов относительно положения этих городов,
отказываюсь, однако, определить это положение по нынешним местнос-
тям. — Артемидор у Страбона (XVI, 769) подтверждает, что Арсиноя на-
звана Птолемеем II по имени сестры-супруги. Имя Клеопатры, насколько
известно, появилось в доме Лагидов лишь с браком Птолемея V.
Отправляясь от Героонполя вправо вдоль берега Троглодитаки, как
говорит Артемидор, по Агафархиду, § 80 (см.: Strab., XIV, 769; Diod., Ill,
39), мы прежде всего подходим к Филотере, названной по имени сестры Пто-
лемея II; город основан Сатиром, посланным для исследования охоты на
слонов и побережья; потом следует другой город, Арсиноя, за ним — ключ
горькой воды близ Киноварной горы, затем — Миос-Горм, или стоянка
Афродиты, признаваемая по трем лежащим перед нею островам; а в глуби-
не «Нечистого» залива (аха&аргсх;) находится Береника. Плиний, в сущнос-
^ I ти, поддерживает это известие, хотя он черпает не из того же источника;
Птолемей, однако, уклоняется от него; по его словам, между Клисмой и
Z
И Миос-Гормом нет более никакого города, но между Миос-Гормом и Бере-
О
о_| признавая Артемидорово показание столь же основательным, как и Птоле-
rz
никой он приводит OrAarrcgas Хцщи и Xevxo<; Хцщ;. Летронн, конечно, прав,
меево; возле города Филотеры, или, как назвал его Аполлодор, Филотери-
ды (Steph. Byz.), к северу от Миос-Горма на месте старого селения Эна (Plin.,
VI, 29) находилось другое местечко — гавань Филотеры, между Миос-Гор-
мом и Левком Лименем (Kosseir), оба города были названы по имени той же
Филотеры, в честь которой был назван город в южной Сирии. Составляя в
прежнем издании Истории эллинизма родословную Лагидов, я упустил из
виду вышеупомянутую заметку Страбона из Артемидора относительно того,
что Филотера была сестрой Филадельфа. Сообщенная уже Валькенером и
исправленная Летронном (Recueil, p. 172), схолия к Theoer., XVII, 123 под-
тверждает показание Артемидора, опираясь притом на авторитет Лика.
В отношении Арсиной между Филотерой и Миос-Гормом Маннерт, между
прочим, заметил, что слова е7та aXXyv ttoXiv 'AQnvorqv первоначально состав-
ляли лишь заметку на полях и их не следовало переносить в текст из аль-
динских изданий. Достоверно, по крайней мере, то, что ни один из авторов
и даже Стефан не упоминают этой Арсиной, несмотря на то что коммента-
торы его были другого мнения; а все-таки ни новейшие издатели Страбона,
ни Летронн не обращали внимания на это обстоятельство.
Летронн указал дороги, соединявшие упомянутые приморские пункты
с Нильской долиной. Лишь об одной из них, а именно о той, которая вела из
Копта в Беренику, сохранились из древности более подробные сведения.
Страбон (XVII, 815) говорит, что Филадельфтгршто^ отдатоттедсотщ&ЪХкуетси
тг}\> bbov тах/гг])/ avvbqov ovcrav хал xaraaxevaaai ота$(мои<;. Эти станции в Itin.
Ant., p. 172 и на Пейтингеровой таблице перечислены под особыми имена-
ми — Дидима, Аристонида, Аполлонида. [«К этому, вероятно, следует при-
совокупить также иддеиц/ь, как то прямо и значится в иных местах: саепоп
hidreuma; здесь более ничего и предположить нельзя как цистерны со сто-
рожевым постом».— Г. Киперт.] Сама Береника была названа по имени ма-
тери Филадельфа (Plin.) и отличалась от других одноименных городов в том
же заливе прозвищем троглодитской. Судя по новейшим исследованиям, по-
ложение города и лежащего перед ним «Нечистого» залива не подлежит
более сомнению; но не в Alt-Kosseir'e, как предполагалось в Description de
l'Egypte, VI, 378, а в самом деле почти на одной широте с Сиеною внутри
«Гнилой» бухты находятся и теперь еще развалины этого города.
К югу от Береники трудно определить положение отдельных местнос-
тей, оттого что чем далее к югу, тем сбивчивее становятся градусные пока-
зания Птолемея. В основание следующего изложения мы положили карту
Берггауса (Arabien und das Nilland, 1835) и дополнили ее по картам, присое-
диненным к Geogr. Min. С. Muller'a.
Птолемей на полградуса к югу от Береники и на один градус с лишком
расстояния от берега называет остров Агафона; это и есть 6(ркЬ8т}<; vrjtroq у
Агафархида, Страбона и Диодора, тте\ау1а \ikv дкмпурата, то Si iltjxcx; щ
оуЬщхоута ота$1ои<; псьдехте'н/оио-а, где зачастую попадается топаз. Это ост-
ров Джебел Зумруд (Смарагдовый, по словам лорда Валенции, см.: Berghaus
Memoir, S. 48). Широта места у Птолемея 23° 40' почти согласуется с ука-
занной на карте Берггауса 23° 38'. Следующим после этого, не подлежащим
сомнению пунктом можно назвать Адулу, которая в действительности (Zulla
в заливе Annesley) находится под 15° 14', а у Птолемея под 14° 20' широты (в
переводе же под 11° 40'). Между этими двумя пунктами следует искать Пто-
лемаиду Ферон; Птолемей помещает его под 16° 30' широты (в иных руко-
писях под 16° 26). Решить этот вопрос можно, только приняв в соображение
острова. На западной стороне залива находятся две большие группы ост-
ровов; одна расположена настоящим архипелагом вокруг Адульской бух-
ты (от 15° до 16° 40'), а потом другая, меньшая группа — перед Раз Авидом и
Раз Ассизом (от 18° 10' др 18° 50'); направившись отсюда к северу, встреча-
ем первый остров Джибель Меквар под 20° 38'; а отсюда до IT рассеяно
несколько отдельных островов. Это распределение можно, конечно, еще
узнать у Птолемея; Миронов остров он полагает под 18°, два Черепашьих
острова под 18° (в переводе 17° 30'), два острова Фрисситиды под 17° 30' (по
греч. тексту под 17°); эта совокупность островов относится, вероятно, к
вышеупомянутой меньшей группе перед Раз Ассизом. Потом следует еще
обратить внимание на другое обстоятельство: Страбон, следуя Агафар-
хиду, говорит, что до о тт7£ ^(оте1да<; Xi^itjv простирается скалистый берег,
а дальше к югу он меняется и принимает аравийский характер, встречают-
ся мели и т. д.; то же самое место Птолемей называет Secbv (гштуда))/ Xijmtjv
17° 30'. Судя по этому сопоставлению, надо полагать, что гавань Спасите-
лей, или, скорее, «Сотеров», находится близ упомянутой группы островов
и есть, вероятно, превосходная гавань Раз Авида, окруженная высокими
горами, и что, следовательно, Птолемаида Ферон, которую Птолемей по-
552
местил на один градус южнее этой гавани, не находится, как предполагает
лорд Валенция, в более северном Раз Ассизе, близ которого действительно
водятся слоны; но это место не находится тоже, как предполагает Маннерт,
в Мирзе Момбарике, который расположен почти на два градуса южнее упо-
мянутой меньшей группы островов. По Периплу Арриана Птолемей — не
что иное, как небольшое складочное место, aXifiavo<; ха\ axa(pai<; \lovov ttjv
CL7:oSQO(jb7}v e%ujv; Страбон рассказывает, что Эвмед, будучи послан Филадель-
фом на охоту за слонами, велел обвести полуостров валом и рвом, потом
понемногу расположил к себе окрестных жителей. Это был, вероятно, Раз
Тургоба (17° 30'), по мнению лорда Валенции, единственный, хотя и очень
низменный мыс в этой местности. Страбон говорит (XVI, 768): по Эрато-
сфену от Героонполя до Птолемаиды 9000, а от Птолемаиды до пролива
Диры 4500 стадий; эти расстояния как сами по себе, так и в отношении друг
к другу с достаточною точностью совпадают с принятою нами позицией.
По Плинию, расстояние от Птолемаиды до троглодитской Береники, пола-
гая на извилины дороги, равняется 602 римским, т. е. 120 геогр. милям, а по
прямому направлению 100 милям; это лишь на 2 мили отличается от рассто-
яния до Раз Тургобы, тогда как до Раз Ассиза по прямому направлению
90 миль, а до Мирзы Момбарика 120 миль. Если можно довериться этим опре-
делениям, то острова и береговые пункты между Береникой и гаванью Со-
теров (один только Птолемей перечисляет их) определятся с достаточною
точностью; я упомянул о них, так как в древних источниках по всем этим
приморским областям упоминается только устье Астоборы; это не что иное,
к как/За^ хоХттод у Птолемея (21° 0' в переводе, 21° 10' в тексте, Фарат Жуа-
i на де Кастро, принявшего эту бухту также за устье реки).
К Уже Маннертом было доказано, что дальнейшее описание у Страбона
ц не лишено запутанности. Шесть островов Aarofilai, очевидно, принадлежат
_о_ к вышеупомянутой большой группе; потом у него следует Xafiamxov arofia;
— по Птолемею, видно, что весь залив, который с восточной стороны замыка-
У* ется островом Далак (oqeivq у Arrian. Peripl. в 200 стадий длиною), называл-
ся Адулитанским; a Xafiamxov агора, которое Птолемей полагает на 12/з
градуса севернее Адулы (в глубине самой бухты), — не что иное, как нахо-
дящийся в 12 милях от Зуллы пролив у острова Гаррары. Перед древнею
Сабою (2а#ат, Ptol.), «где находилась носившая то же имя охоты на сло-
нов, ттоХн; ещеуеВч)*;», лежал остров Стратона: это есть превосходная гавань
Массава с островом того же имени в середине. — Странно, что Страбон
умалчивает об Адуле, которую называет Птолемей, который, в свою оче-
редь, пропустил Стра-бонову Беренику у хата Xafiag; Плиний (VI, 29, § 170)
также удивляется, что Юба не называет Berenicen alteram, quae Panchrysos
cognominata est, однако он приводит в § 173 oppidum Aduliton (вероятно, со
словом Юба) как maximum Trogloditarum emporium. Это сопоставление уже
наводит на мысль о тождестве. Сюда следует еще присовокупить известный
монумент в Адуле, престол и надпись, которые описал и скопировал Козь-
ма Индикоплевст. Нельзя же предполагать, что для Птолемея Эвергета было
сделано это посвящение в первом встречном приморском местечке в чужой
области; должно быть, этот пункт по какой-нибудь особенной причине удо-
стоился такого отличия. Никто не упоминает о том, в честь какой Береники
был назван этот город; это имя может относиться и к матери Филадельфа, и
к жене Эвергета. Не мешает, может быть, напомнить о том, что в упомяну-
той надписи вначале сказано о великих завоеваниях в Азии по ту сторону
Евфрата и Тигра, а затем о том, что «царь отправил несметную добычу в
Египет и послал войска по каналам (Евфрата и Тигра)»... Тут не сказано
куда именно, можно только предполагать, что они были посланы в Персид-
ский залив и кругом Аравии как раз к упомянутым местам эфиопского бе-
рега; таким образом, само собою объяснилось бы, почему именно здесь
встретилась такая надпись, по тону которой видно, что ее начертал не царь,
а, вероятно, начальник экспедиции. Однако эта упомянутая, как предпола-
гаю, в Аду-литанской надписи экспедиция засвидетельствована еще у Пли-
ния; он (IX, 3) говорит: «Gadara appellatur rubri maris peninsula ingens; hujus
obiectu vastus efficitur sinus, XII dierum et noctium remigio enavigatus
Ptolemaeo regi, quando nullius aurae recipit afflatum; hujus loci quiete praecipua
ad immobilem magnitudinem belluae adolescunt». Благодаря Птолемею (Ptol.,
Vi, 7) мы вполне ясно узнаем положение этого полуострова, названного по
упомянутому им городу того же имени; это тот полуостров, который на юге
Багреинских островов простирается далеко в Персидский залив и охваты-
вает округ Багран; северная оконечность его лежит под одною широтою с
выступившею в Ормузский пролив оконечностью Аравии; между обоими
находящимися на расстоянии слишком семидесяти миль друг от друга вы-
ступами, на тридцать миль южнее, вдается в землю обширною дугою vastus
sinus, по величине равный, следовательно, Атлантическому заливу между
мысами Винцентом и Бланком. Через этот залив проплыл царь Птолемей
или велел проплыть по нему; это был, конечно, победоносный Птолемей III.
Проплыли по всему заливу, т. е. до Ормузского пролива; итак, мы можем до
этого пункта проследить за продолжением экспедиции, упомянутой в со-
хранившихся словах Адулитанской надписи. Вряд ли отсюда вернулись на-
зад; совершив благополучно первую и, может быть, самую трудную половину
пути, царь едва ли отказался от мысли обогнуть берега Аравии и привести
таким образом в исполнение один из последних и самых отважных планов
Александра. Впоследствии нам придется упомянуть остров Сераписа и
острова Зенобия близ берегов Аравии; если не ошибаемся, то тут-то и на-
ходятся дальнейшие следы экспедиции, памяти которой была посвящена
утраченная часть надписи Адулы или, как бы я охотнее назвал ее, золотой
Береники. Пусть эти комбинации послужат дополнением тому, что было
сказано в историческом изложении по поводу исхода великой завоеватель-
ной кампании Птолемея III.
Я полагаю, что после этого гипотетического очерка мы в состоянии
будем усвоить для себя новые точки зрения на колонизацию в южных стра-
нах Чермного моря; Береника Панхриса была, как кажется, ее средоточи-
ем. Не стану распространяться о меркантильном значении этой местности,
представляющей естественную гавань для всей Абиссинии; достаточно ука-
25 Это имя, как надо полагать, греческое, и, вероятно, оно тождественно
упомянутому в Истории эпигонов Magxo$, или, вернее, Мадуо*; из Керинеи.
Важный египетский сановник в эпоху Лагидов Эратон по имени Eqarovot;
год ovyyevous xai... находился между теми особами, которые сделали свое
HQptTxxjvTp.a на острове Филы (С. I. Graec, HI, n° 4901, 4902).
554
зать на сообщения Плиния (VI, 29) и на Перипл Арриана. Когда оккупации
Лагидов распространились за пределы скудных троглодитских берегов до
этих богатых прибрежных мест, тогда лишь можно было помышлять об об-
ширной колониальной торговле, если можно назвать ее так, и об основании
колониальной области, которую, конечно, нельзя было удержать за собой
без значительного количества поселений. Впоследствии мы ознакомимся со
своеобразными столкновениями между эллинистическим и туземным наре-
чиями в том виде, как они проявились в позднейшие столетия; теперь доста-
точно будет указать на греческие имена, какие встречаются вдоль берега на
протяжении около семидесяти миль до входа в море.
Мы можем воспользоваться как руководством тем, что говорит Пли-
ний: sinus unsulis refertus; ex iis quae Marcu (так стоит в древних изданиях,
Детлефсен пишет Matreu, другие варианты гласят: Мага DF. Mar R.)25
vocantur, aquosae, quae Eratonos (Eratanos Detl.), sitientes; regum ii praefecti
fuere; к сожалению, его указания местности до такой степени лишены ясно-
сти, что нельзя узнать, к какой области относятся эти острова; они, впро-
чем, обнаруживают, что имена лиц заимствованы, вероятно, из высших слоев
египетской государственной службы; XariQwv oqo<;% помещаемый Птолеме-
ем тотчас же к югу от мыса Диогена под 19° 0', можно было бы изменить в
Xarvgov oqoq и отнести к вышеупомянутому путешественнику Сатиру (с. 433).
Мы уже назвали остров Диодора и Стратона; Страбон — ошибочно, конеч-
но, как доказал Маннерт — после гавани Элаи и Стратонова острова назы-
вает сторожевую башню Деметрия и алтари Конона, близ которых находится
^ Яблочная гавань с (pqoiqtov и много охотничьих мест; затем лежит гавань
i Антифила; Сальт (Voy., p. 181) полагает, что под этим именем подразумева-
К ется бухта Амфила, так как это слово резко отличается от всех остальных
q имен по абиссинскому берегу; потом Страбон называет рощу Эвмена, за нею
_о_ около города Дарабы находилось место охоты на слонов. Затем следуют
"" ихтиофаги, хеленофаги и т. д., острова Тюлений, Ястребиный; «там есть
5* также остров Филиппа, против которого находится так называемое Пифан-
гелово место охоты на слонов; дальше лежит город и гавань Арсиноя, за
ними Дира, а в этих местах происходит также охота на слонов». С мысом
Диры мы покидаем берег Аравийского залива, тут начинается Авалит (Аден-
ский залив). Страбон называет здесь охоту Лиха, мыс Пифолая, долину
Исиды и Нила (вероятно, NeiXovTrroXafialov Перипла), Львиную сторожевую
башню, гавань Пифангела, долину Дафнунта, потом еще Аполлона (веро-
ятно, 'Att6XXojvo<; ттоХк; ev AiStonlg. tjj 'EqvSqijL (!) у Стефана); наконец, Сло-
новый мыс (Раз эль Фил) и Южный рог (Гвардафуй); «от Диры до Южного
рога находятся столбы и алтари Пифолая, Лихи, Пифангела, Льва и Хари-
мотра (?)»; до этих мест, говорит Страбон, доходит описание Артемидора.—
В этом описании твердым пунктом можно признать одну только Диру; она
лежит на выдавшейся в море косе Раз Дир; по Плинию (VI, 29, § 170), город
назывался, скорее, Береникой: tertiam, quae Epidires, insignem loco, est enim
sita in cervice longe procurrente, ubi fauces rubri maris IV, M. D. P. ab Arabia
distant; Эратосфен у Страбона, кажется, еще не знает этой Береники: та-
мошний мыс, говорит он, называется Дирою, на нем находится городок того
же имени, населенный ихтиофагами; говорят также, что там возвышается
колонна Сезостриса, которая в священных письменах указывает на место
его переправы. Преграждающие вход острова (по Страбону числом шесть)
были хорошо известны древним. Арсиною Птолемей помещает на 45' к за-
паду и на 20' к югу от Диры; я не берусь решить, верно ли Маннерт предпо-
лагает это место в Ассабе ниже Раз Фирмы; это расстояние мне кажется
чересчур значительным. Мы от одного лишь Птолемея узнаем, что там
находился канал Антиоха,' Avtio%ov (tojA^v, на 2° 30' к востоку от Дейры;
гораздо далее к северу называет он Дафнину, Аканфину, Макарию и пр.,
вероятно, относящиеся к архипелагу Дагалаку; эти имена встречаются так-
же у Плиния. — Перипл здесь опять в особенности поучителен; он описы-
вает Адульский залив, а перед ним большой остров Орин, окруженный
мелкими островами 'ААаАа/ои (Aliaeu у Plin., § 173); в 800 стадиях отсюда
находится другой очень глубокий залив; вправо от входа в него много пес-
ку, в глубине которого попадается опсиан; Сальт этот же самый камень
нашел в Гавакильской бухте близ деревни Арены (см.: Berghaus, S. 38). Крайне
привлекательно у Перипла описание царя этого края по имени Зоскала, ко-
торый, между прочим, был также yqafifMarajv 'EAA^vfxcuv gpure/gos, и появ-
лявшихся здесь на рынке предметов торговли, а именно платья из Арсиной,
мурринейских сосудов из Диосполя, вин из Лаодикеи и Италии, шелка, ста-
ли из Индии и т. д.
Едва ли можно причислить сюда остров Диоскорида (Сокотору), хотя
в Аерипле и сказано, что жители kmfyvoi xai emfitxrot 'Aqo&cdv те xai 'Ivdoji/
хал ет/ 'EAAtjcuv t&v що<; egyaciav exTrXaovrajv, и хотя самое имя принадлежит
эллинскому мужу; но это название не встречается еще у Страбона, следова-
тельно, оно, по крайней мере, при Артемидоре не было еще известно; впро-
чем, этот довод нельзя назвать безусловным; нам, напротив, казалось
вероятным, что остров был уже открыт во времена Агафархида.— Тот же
Перипл на южном берегу Аравии называет семь островов Зенобия (острова
Курия Мурия), также остров Сераписа (Массеру), достигающий 200 стадий
длины; этот и еще два более к западу лежащих острова Агафокла упоми-
наются также Птолемеем; мы не в состоянии решить, состоят ли эти два
имени в связи с планами Лагидов. Не подлежит, впрочем, сомнению, что
упомянутые семь островов суть те же «Счастливые острова» Агафархида,
которые поддерживали живую торговлю с Персией, Гедросией и с осно-
ванною Александром гаванью на Инде; это доказывает, что они сделались
известными не только со времен Эвдокса и Ямбула.
Об Аравии нам пришлось бы совершенно умолчать относительно эл-
линистических колоний, если бы у Плиния (VI, 28) не встретилось следую-
щее замечательное заявление: fuerunt et Graeca oppida Apethusa, Larissa,
Chalcis, deleta varus bellis. Я тщетно пытался найти хотя бы какой-нибудь
след этих поселений. [«Плиний, по обычной своей сбивчивости, разумел,
вероятно, сирийские города в долине Оронта». — Г. Киперт.] Я не решаюсь
присоединить сюда имя Левкофеи из Antig. Hist., mirab.y 149, ed. West., так
как оно встречается в рассказе, лишенного доверия Амомета. Упомянутые
выше три названия — их, конечно, нельзя считать вымышленными — отно-
сятся скорее к Селевкидовым, нежели к Лагидовым колониям. Прежде уже
было упомянуто, что, по словам Плиния (VI, 28), правитель Антиоха в Ме-
зене Нумений в один и тот же день разбил флот и сухопутное войско пер-
сов около Naumachaeorum Promontorium (в Ормузском проливе) и воздвиг
rz
на этом месте два монумента — Зевсу и Посейдону. Может быть, эти три
вскоре погибших города и существовали во время Антиоха IV и были, веро-
ятно, расположены на самом восточном берегу Аравии.— Лагиды, со своей
стороны, не преминули, конечно, обратить свое внимание на Аравию; из-
вестно, что царь Птолемей (вероятно, Филадельф) отправил Аристона що$
хатао-хотг'Г)]/ тщ lto<; (hxsavov 7тадт)хо6(Г7)<; 'Aga^ta*;, а в известиях из Ага-
фархида присовокупляется, что он дал имя мысу Посидиону по храму
Посейдона, который там основал (Diod., Ill, 42); это и есть, вероятно, Раз
Могаммед, южная оконечность Синайского полуострова. Потом далее упо-
минается о Тюленьем острове и о морских разбойниках, которых прогнали
Лагиды (Strab., XVI, 777 — e-neXSovros атоХои). Одну колонию, по крайней
мере, можно признать вполне достоверною; Ioseph., Ant, VIII, 6, 4 говорит:
1AaiwyyafiaQcx; ov ttoqqco AiXavfj<; ттоХеш^ r\ vxjv BeqevixT] xaX&nai — единствен-
ное, конечно, дошедшее до нас свидетельство об этом имени; оттого что по-
казание Pomp. Mela (III, 8, 7) можно считать только наполовину верным,
так как указанное им положение «inter Heroopoliticum et Strobilum» наме-
кает на другую местность, а между тем он ясно обозначает угол залива и, во
всяком случае, впоследствии лишь упоминает о троглодитской Беренике. —
Других эллинистических имен мы не встречаем на аравийском берегу; лишь
к северу у самого Бабельман-дебского пролива у Птолемея встречается га-
вань Сосиппа; из того, что сообщал Агафархид, видно, что на этом берегу
жили деятельные и зажиточные торговые племена. Тем еще интереснее то,
что некоторые из прибрежных островов, которые Птолемей, как обыкно-
венно, помещает чересчур далеко от берега, названы по именам греческих
мужей. Первый на севере есть остров Тимагена; Агафархид, насколько нам,
з:
х
К по крайней мере, известно, не называет этого имени, однако он знает груп-
О
с;
QJ Исиды, на котором (см.: Diod., Ill, 43) находились древние развалины; он
описывает сильный водоворот, который в новейшее время опять был наблю-
даем между островами Марабета и Гассани (см.: Notizen in Berghaus Memoir,
S. 27); Гассани — самый южный из островов в цепи этих коралловых рифов.
Потом Диодор, по Агафархиду, прибавляет, что на берегу против островов
жили ванизомены: hqov ft ayidrrarov '(Squtcli, TtfACDfLevov imo -navrcov 'Aga/3cov
TTBQtTTOTeQov; здесь подразумевается Медина (laSgnrna Steph. Byz.), которая
лежит милях в двадцати от берега против острова Тимагена внутрикрая; тут
берег ближе всего подходит к городу, важному, конечно, для сношений, тем
более что он был святыней и служил местом поклонения для всех племен.
Другой подобного рода остров есть остров Полибия, который, по Птоле-
мею, лежит под 21° 40' широты; Маннерт, однако, доказал, что здесь гра-
дусные определения помещены на 30' южнее, чем следует; поэтому остров
Полибия надо искать под 22° 10'; и в самом деле, тут к северу от крутого Раз
эль Гатбы лежит остров Гарам; в этом месте мы вновь встречаем приукра-
шенное, конечно, у Агафархида описание (Diod., Ill, 44) гавани Хармуфы,
причем этот автор не забывает также изобилующего водою и плодородно-
го острова в гавани, вмещающей в себе 2000 кораблей. Милях в пятнадцати
на юго-востоке отсюда находится Мекка, гавань которой Джидда была из-
вестна древним жителям Qyfiat ттоХк; (Ptol.), дебам (а не дедебам) Агафархи-
да. — Наконец, Птолемей называет еще остров Сократа под 16° 40' широты;
557
это, вероятно, остров Котумбал — один из самых северных островов дале-
ко к югу вытянутого архипелага Гуср Фарсана.
Этим я закончу задуманный мною обзор. Несмотря на его пробелы, он
все-таки представляет нам, по крайней мере, некоторые выводы для разре-
шения интересующего нас вопроса.
Перечисляя колонии Александра, мы заключили кратким обзором от-
носительно общего их расположения, насколько можно было еще просле-
дить это. Спрашивается, продолжалось ли это дело по его плану или, по
крайней мере, в его духе?
Два десятилетия спустя после смерти Александра уже покинута была
снабженная им многочисленными колониями страна Инда; вскоре ослабе-
ла также связь бактрийских и арианских областей с царством Селевкидов;
около 250 г. в соединявшей Восток с Западом стране у Каспийских ворот
возникло варварское господство, которое совершенно подорвало эту связь; I о'
чрезмерное скопление континентальных областей, доставшееся за отсут- о
ствием иных наследников Александра Селевку, понемногу сводилось к пре- |,р
делам земель, лежащих в водной системе Евфрата и Тигра, зато тем еще гуще
наполнявшихся эллинистическими колониями; и действительно, в одной g
только верхней Сирии между Тавром, Евфратом и Ливаном мы в состоянии §
были насчитать более сорока новых городов. i
Лагидам досталась та часть обширного царства, в которой Александр | ^
едва лишь приступил к первым попыткам эллинизации; нам казалось, что
Лагиды в этом отношении также существенно отличались от образа действия
Селевкидов: воздерживаясь от оснований новых городов в самом центре сво- |
его царства, они, в то время когда от владений Селевкидов отторгались во- Щ
сточные области, обратили свои исследования и свою колонизаторскую ^
деятельность на юг, создали и нашли пути для все более усиливавшихся сно-
шений, источники все более возраставшего материального могущества имен-
но в таких местах, где, казалось, им нечего было опасаться нападения врага.
Не мешает мимоходом остановиться на этой точке зрения. Лагиды со-
здали предначертанный самою природою путь международных сношений и
впервые воспользовались с чрезвычайным успехом тем путем, который вновь
вступит в свои права, когда одичалость восточной жизни перестанет без-
рассудно соперничать с малодушной дипломатией западных держав26. Од-
ним из величайших замыслов Наполеона было путем египетской экспедиции
положить предел гордому господству Англии над морями; если бы она уда-
лась ему, то Франция добилась бы такого преимущества над Англией, кото-
рое вознаградило бы ее за все понесенные ею со дня Лаога поражения.
Англия хорошо поняла значение Нильской страны; однако когда, наконец,
готовы были занять Дельту, то у кормила не находилась более цепкая энер-
гия Питта; удачное поражение датского флота могло, казалось, служить
вознаграждением за бесславное отступление из Александрии; однако глав-
26 Следующее затем изложение осталось в том виде, как оно бьшо напи-
сано в 1842 г. Мне казалось неуместным обращать внимание на совершив-
шиеся после того события.
ное мостовое укрепление в Индию было утрачено; в сравнении с этим без-
гласное занятие Адена, этого аравийского Гибралтара, не имело большого
значения. Мы все более и более должны убедиться в том, что лишь захватом
Египта Англия в состоянии будет противодействовать континентальным
влияниям России в Азии; путь по Евфрату ни в коммерческом, ни в полити-
ческом отношении не может считаться вознаграждением за Чермное море;
если в тот момент, когда царю заблагорассудится положить конец комедии
на Босфоре, Англия не будет господствовать над Суэцким перешейком, то
как для Востока, так и для Запада настанет крайняя опасность. Значение
этой Суэцкой области основано на том, что тут, между величайшими кон-
тинентальными массами земной поверхности, морские воды глубже всего
врезались в материк, что тут Чермное море — эта гавань для всех берегов
Индийского океана до самой Австралии и до Китая — на несколько миль
приближается к средиземноморскому бассейну, к гавани для всего Запада.
Значение Чермного моря, нильских устьев и соединявшего их канала не мог-
ло в эпоху эллинистической древности обнаружиться в таких чрезвычай-
ных размерах, какие следует ожидать после заатлантических открытий,
после меркантильных и навигационных успехов последних столетий; не-
смотря на все это, происшедшее после завоеваний Александра вторжение
эллинизма в Чермное море было первым самым важным событием ввиду
вновь слагавшихся внешних отношений; оно по своим последствиям было
также поразительно и плодотворно, как шестнадцать столетий после того
открытие морского пути мимо мыса Доброй Надежды, которое нанесло
д- I смертельный удар торговле итальянцев и Ганзы; но, к сожалению, это влия-
х ние и эти успехи торговой системы Лагидов вполне ускользают от наших
g наблюдений. В изложенных нами выше колониях и завоеваниях мы, по
q крайней мере, в состоянии признать следы предначертанного ими плана.
cl Чермное море, конечно, не очень-то удобно для судоходства: мели, пучи-
ны, рифы, небезопасные рейды, труднодоступные гавани, — все это такие
2J, препятствия, которые может преодолеть лишь осмотрительность и настой-
чивость цивилизации; однако обратимся к более близкому нам примеру, —
разве менее затруднений представляет Немецкое море с его почти вовсе
лишенными гаваней поморьем Ютландии, с его низменными берегами на юге,
с его растянутыми песчаными отмелями, с его извилистыми входами в не-
мецкие реки, не говоря уже о стаденской пошлине и о тщетных попытках
немецких комиссий урядить речное судоходство.
Я перейду теперь к другим соображениям, если угодно, к статисти-
ческим фантазиям; и в самом деле, ввиду совершенного отсутствия всяких
руководящих указаний одна только фантазия в состоянии будет ясно пред-
ставить себе условия и последствия переселений, какими, начиная с битвы
при Иссе и до второй пунической войны, характеризуется столетие. Каким
образом возможна была такая растрата людей греческого происхождения?
Как эти громадные переселения, в столь короткий относительно срок, по-
влияли на те земли, которые выпускали переселенцев? Каким образом можно
было создавать колонии, которые так быстро укоренялись? Десять лет после
Александра греческие поселения в Индии перешли уже во власть Чандрагуп-
ты и все-таки уцелели, послужили даже впоследствии опорными пунктами
при возобновлении там греческих царств; греческий элемент продолжал гос-
подствовать в Бактрии и Ариане, победоносно распространялся, несмотря
даже на то, что, врезавшись между Востоком и Западом, парфянское цар-
ство сделало почти невозможным прибытие новых переселенцев с Запада;
даже под властью парфянских варваров в среде чуждых племен продолжа-
ли процветать основанные города; не говоря уже о Малой Азии, страны по
Евфрату и Тигру были большею частью грецизированы, а Сирия — почти
совершенно; Египет был в состоянии заселить берег Абиссинии настолько
основательно, что греческий элемент мог сохраниться там наряду с тузем-
ным даже в позднейшую христианскую эпоху и соперничать с проникав-
шим туда аравийским влиянием; приняв все это в соображение, надо
сознаться, что греческое племя развило искусство колонизации до высшей
степени, какой никогда не достиг ни один народ; даже римляне не вели дело
колонизации с такою неодолимою быстротою и в таких широких размерах;
они не в силах были к странам развитой культуры вместе со своим господ-
ством приурочить свой язык; тогда как эллинизация укоренялась в почве тем
сильнее, чем выше была степень цивилизации народов, среди которых она
водворялась. Мы теперь не станем распространяться об этнической реакции,
о борьбе исконных туземных наречий с эллинским, которая нигде не пред-
ставляется в более интересном виде, нежели в области сирийского наречия.
Эллинистическая колонизация не ограничивается первым столетием
после Александра, но в эту эпоху сделала самые быстрые успехи и достигла
наибольшего распространения. Надо вспомнить, что не одна только Греция
и Македония снабжали все эти поселения колонистами; я не говорю здесь
об этнических примесях; берега Понта, западное прибрежье Малой Азии,
Пентаполь, острова, италийские и сицилийские греки также принимали
сильное участие в колонизации. Обезлюдели ли все эти страны оттого, что
населяли юг и восток? Я сошлюсь здесь на превосходные разъяснения в трак-
тате Гегевиша. На первых порах эти новые передвижения, может быть, и
повлияли механически на убыль населения в родном крае; однако по суще-
ству человеческих отношений переселение не могло быть причиною возрас-
тавшего обезлюдения, какое, по-видимому, замечалось в некоторых областях,
занятых греческим племенем в Европе. Афины со времен Демосфена пали
так же, как и Любек со времени более замечательного Юргена Вулленвебе-
ра. Перемещение политического, меркантильного и умственного центра
тяжести в беспредельно расширившемся мире были причиной упадка Гре-
ции и послужили поводом к нескончаемым выселениям; однако греческие
люди не продавались колонизирующим державам, подобно тому как в прош-
лое столетие известные немецкие государи поступали со своими вернопод-
данными. Относительно древних приморских городов в Малой Азии можно
подтвердить, что со времени Александра для них настала новая цветущая
эпоха. Наибольшее количество эмигрантов должно было вербоваться в Си-
цилии и Италии; совпадение кампании Пирра и первой пунической войны с
быстрыми успехами колонизации не лишено, как кажется, некоторого зна-
чения. Впрочем, я покидаю эти вопросы, тем более что не существует ни
малейших данных для более специальных исследований. Однако мы везде
должны предполагать гораздо более широкие и более значительные сноше-
ния, нежели те, какие представляет нам жалкая скудость сохранившихся
преданий; кто не в состоянии возвыситься до того, чтобы по единичному
560
факту воссоздать пирамиду условий, которые составляют ее вершинную
точку, и по случайным заметкам постичь всю сеть связанных с ними собы-
тий и предположений, для кого история не что иное, как мозаика, слеплен-
ная из отрывков разных авторов, для того она остается немым, бесплодным,
безжизненным остовом.
Выше было сказано, что эти колонии быстро укоренялись и устойчиво
переживали даже самые тяжкие невзгоды. В чем же заключалась их жиз-
ненная сила? Я того мнения, что этот вопрос представляет не один только
научный интерес; напротив, для одной из величайших задач настоящего вре-
мени он оказывается тем более важным, чем менее до сих пор были признаны
и подготовлены необходимые для их разрешения средства. Я не стану здесь
изображать жалкие, уродливые системы колонизации, какие в течение трех
столетий применялись христианскими народами Европы; созданные като-
лической кичливостью испанцев и невыразимо пагубною монархически-мер-
кантильною системою Карла V, они все заражены одним общим главным
недостатком, а именно тем, что колонии существуют только ради метро-
полии и должны оставаться у нее в подчинении; из этого не составляет
исключения даже английская система с ее недавно появившимся учением о
полуколониальных странах; что может быть характеристичнее произнесен-
ных в начале североамериканской войны слов лорда Чэтэма: «На улицах
Лондона не найдется ни одного такого жалкого нищего, который не говорил
бы с гордостью о наших американских подданных». Ввиду такого взгляда
следует эти колонии по возможности лишать всякой политической, коммер-
к I ческой и промышленной самостоятельности, извлекать из них как можно
более выгод, споспешествовать их развитию лишь настолько, насколько то
g окажется полезным для интересов алчной метрополии. Метрополия фабри-
q кует для колоний и содержит свое судоходство на их счет; одна лишь метро-
о_ полия имеет право перевозить их произведения, она же назначает им цену в
С= I
свою пользу, от которой производителям достается по возможности лишь
скудная доля. В этом отношении Россия составляет исключение, так как,
отрешившись от понятия метрополии, она ограничивается тем, что размно-
жает население в пределах своего обширного царства, споспешествует зем-
леделию и приобщает разнородные племена к русской национальности и к
православной вере: эти тенденции в некотором отношении сходны с разви-
тием римской системы. Эллинистические колонии, по-видимому, уклонялись
большею частью от обеих этих систем, так как творец этой поистине велико-
лепной системы имел в виду уничтожить всякую рознь между победителями
и побежденными, исходя из принципа истинного равенства и слияния. Тут в
особенности обращают на себя внимание два момента; один из них аналоги-
чен с существенным началом древнейших греческих поселений, а другой был
следствием изменившегося характера эпохи.
Древнейшие греческие колонии более или менее были высылаемы или
выходили исключительно из одной известной метрополии; они поддержи-
вали с нею связь относительно юридических и религиозных уставов и т. д.,
но в политическом отношении были независимы от нее, образуя свободные
автономные политии; Фукидид (Thucid., I, 34) говорит: ои yog em тф BouXot,
оАА' em тф ofioToi io?<; T^emofievoi^ ehai екттщттоутад. В новых колониях прекра-
тились даже эти слабые отношения к метрополии; в них помимо негреческих
элементов граждане состояли большею частью из переселенцев, очевидно,
различных греческих племен; ни в религиозных, ни в городовых учреж-
дениях не переносились туда формы одного какого-нибудь известного го-
рода; и чем свободнее, рациональнее, чем более в общем духе действовали
колонисты, тем легче было им приурочиться к местным условиям новой ро-
дины, которой они отдавались беззаветно, и слиться с принятыми в число
граждан негреками; тем свободнее в то же время можно было поддержать
язык и образование греков, и в особенности самую суть упругого греческо-
го характера, а именно гражданство в городской политии. Нам кажется, что
характер эллинистических колоний и заключался в том, что они составляли
городские политии, хотя и не с такими самодержавными правами, какими
пользовались или каких добивались, по крайней мере, мелкие городские
республики прежней эпохи, однако все-таки с правами общинной самосто-
ятельности, как бы с привилегиями имперских вольных городов, с правом
содержать свое войско, чеканить монету, независимого суда, самоуправле-
ния и т. д. Александр, без сомнения, наделил свои колонии всеми этими пре-
имуществами; Лагиды, как кажется, в Египте по крайней мере предоставляли
им менее блестящие привилегии; но большая часть новых городов в Селев-
кидовом царстве тем богаче снабжена была настоящими вольностями им-
перских городов; некоторые из них, как например Селевкия на Тигре, были
даже в состоянии во время упадка государства отстоять свою республикан-
скую независимость; и вообще переход из этих отношений как бы импер-
ского города к полной самостоятельности был чрезвычайно легок; примером
чему могут служить многие города Малой Азии. Только таким образом
уряженное и самостоятельное гражданское общество и было в состоянии
отвечать намерениям основателей; а каких результатов могут добиться ко-
лонии с городскою самостоятельностью, в этом отношении германизация
славянских земель представляет целый ряд блестящих примеров.
Я не думаю, что объяснил таким образом все особенности интересую-
щих нас явлений; отношение умственного развития греков к этническому —
вот в чем заключается самая суть. Это развитие, однако, нуждалось в двига-
теле, в твердой форме, в которой оно могло бы осуществиться и в силу кото-
рой оно было бы в состоянии действовать; вот что, по моему мнению, и было
делом городской общинной системы.
Довольно, однако, этих афоризмов. Пусть они напомнят читателю, что
события эллинистической эпохи и в этом также отношении содержат в себе
не одну только пищу для трудолюбивого досуга учености. Я не думаю, впро-
чем, что эта эпоха должна представить для нас более высокий интерес бла-
годаря лишь той пользе, какую она своим примером может оказать нашему
времени; для исторического оправдания нам достаточно будет указать на
то, каким великим задачам человечества, с какими силами и с каким успе-
хом она содействовала; мы введем ее в непосредственную и живую связь
даже с нашим временем, если укажем ей ее место в общем ходе историчес-
кого развития, в совместной исторической работе человечества.
ПРИЛОЖЕНИЕ II
(ХРОНОЛОГИЯ)
I
ОБ ЭРЕ АРАДА
В Истории эпигонов я сделал несколько заметок относительно эры
Арада, оставив для приложений дальнейшие сведения, какие по моей
просьбе сообщил мне Моммзен. Он 11 января 1877 г. писал мне: «Относи-
тельно придаваемого Траяну титула Parthicus я нашел следующие данные.
Прежде всего замечу, что под конец царствования Траяна трибунские годы,
начиная с 10 декабря, я признаю постоянными (Staatsrecht II , 776); следова-
тельно, tr. р. XIX - 10 декабря 114/115 г. по Р. X., XX — 10 декабря 115/116 г.
по Р. X. Впрочем, этот спорный вопрос для вас не имеет большого значения,
так как если бы мы стали считать трибунские годы с января по смерти Нервы,
то разница была бы не более одного месяца.
Не подлежит сомнению, что до 114 г. включительно или до tr. p. XVIII
Траян не носил титула Parthicus. Надпись С. I. Lat., II, 2097, правда, про-
тиворечит этому; хотя она разобрана верно, однако, как Вы сами заметили,
редакция ее оказалась ошибочной (вероятно, вследствие неточного ука-
зания даты), как это часто случается с провинциальными надписями. Судя
по памятникам первого разряда, нет никакой возможности отнести этот
титул к 114 г.
Для 115 года имеются следующие достоверные памятники, на которых
титул Parthicus не находится: Opt. Aug. Ger. Dae. p. m. tr. p., XVIII, imp. IX,
cos. VI — анконская арка, неверно воспроизведенная у Орелли 792. Opt. Aug.
Ger. Dae. p. m. tr. p., XVIII, imp. XI, cos. VI — надпись Метаврского моста, у
Фабретти 398, 289. Существует аналогичная надпись, а именно испанская,
которая, впрочем, плохо сохранилась (С. I. Lat., II, 1028). Обе вышеприве-
денные надписи принадлежат к первому разряду и относительно титула
неопровержимы.
Отсюда следует, что Траян в начале 115 г. не носил титула Parthicus,
и сверх того, что 10 и 11 императорские аккламации (которые, как Вы ви-
дите, наступили в течение 115 года) не были связаны с принятием указан-
ного титула.
Боргези (Орр., 8, 592) не знал никакой надписи с титулом Parthicus,
которая была бы старше неаполитанской Inscr. Neap., 2488: Opt. Aug. Ger.
Dae. Parth. p. m. tr. p., XX, imp. XII, cos. VI.
С тех пор открыта другая надпись в Африке, на которой стоит тот же
титул (С. I. Lat., VIII, 621 — Guenn, Voy. en Tunisie, I, 408). Я тоже не знаю ни
одной, которая была бы старше, во всяком случае ни одной, в которой ти-
тул был бы связан с tr. p. XVIII.
А потому Траян принял титул не прежде лета 115 (назначаю это время
для того, чтобы оставить срок для императорских аккламаций X. XI) и не
позже конца 116.
К этому следует еще прибавить александрийские монеты. В них титул I п
Parthicus является отнюдь не в первые 18 лет по египетскому стилю, а лишь х
в 19 году, т. е. по известному расчету, начиная с 29 августа 115/116 г. Между О
монетами этого года в каталоге Зёги приводится только одна, у которой не £
достает ПАР; можно, следовательно, предположить, что титул был принят *
вскоре после августа 115. Однако в Февардентском списке, которому я боль- h
ше доверяю в этом отношении, монеты 19 года делятся почти поровну на *
п
два разряда: на одних находится ПАР, на других нет. Отсюда следует, что £
титул мог быть принят ни непосредственно после августа 115, ни непосред-
ственно прежде августа 116, а, вероятно, в промежутке между этими край- 15
ними сроками. I ^
Благодаря египетской надписи С. I. Graec, III, 4948 мы можем попол-
нить наши сведения. Она значится от 30 пахона 19 года Траяна, т. е. от 24 мая
116, и в ней императору не придается указанного титула. Поэтому не под-
лежит сомнению, что (приняв в расчет время, какое было необходимо для
того, чтобы сообщить известие в Александрию) он получил титул не рань- | *
ше апреля 116, вероятно, немного позже того, так как в течение 19 года он
довольно часто уже встречается на александрийских монетах».
II
СПИСОК МАКЕДОНСКИХ ЦАРЕЙ ПОСЛЕ АЛЕКСАНДРА,
ПО ЕВСЕБИЮ
Лишь после образцового издания Евсебия Альфредом Шёне хроног-
рафические исследования стали на твердую основу. После обнародованно-
го в 1866 г. Канона в 1875 г. вышла та часть, в которой заключается хроника;
в это время я уже закончил разработку Истории эпигонов, с которой пред-
стояло начать печатание нового издания Истории эллинизма.
На с. 85 я вкратце изложил хронологию нашествия кельтов; а потом
пересмотрел ее еще раз для более подробного описания в Истории диадо-
хов; это исследование, в сущности, основано на хронологических извести-
ях о списке македонских царей после Александра. В настоящей статье
предлагаются результаты этого исследования.
Для того чтобы составить одну общую таблицу событий до и после
Рождества Христова, в которую Евсебий мог бы поместить свои синхро-
низмы, он в Каноне принял летосчисление, исходною точкою которого по-
служил первый год Авраама; начиная с этого времени он считает годы по
*»
564
господствовавшему при нем Юлианскому календарю от 1 января до 31 де-
кабря. Первый его год а. АЬг. начинается с 1 января 2016 г. до Р. X. Затем к
каждому году а. АЬг. и к параллельному олимпийскому он присоединяет
отвечающие годы царствования державцев значительных в то время госу-
дарств; вместе с именем каждого из царей он, начиная со вступления его на
престол, обозначает продолжительность его царствования и сопоставляет
этот ряд годов с отвечающими годами а. АЬг. и с олимпийскою эрою. К каж-
дому особенному при этом году он присоединяет еще совпадающие с ним
замечательные события. В армянском переводе Евсебия эти таблицы сохра-
нились до Диоклетиановой эпохи и далее.
Канон Иеронима (Hieronymi Chronicon) не что иное, как перевод или,
вернее, переделка Евсебия. Он кое-что прибавил, иное изменил; вообще он
отличается от своего предшественника в счете олимпийских годов, относя
первый год первой олимпиады к 1241 а. АЬг., т. е. к 776 г. до Р. X.
Синхронистическое сопоставление в обеих таблицах имеет целью при-
дать большую относительную достоверность известиям о продолжитель-
ности царствования; мы можем быть уверены в том, что перед нами тут
именно те числа, какие хронографы хотели написать. Их олимпиады посто-
янно разнятся друг от друга на один год; не подлежит поэтому сомнению,
что показание по олимпиадам имело для них второстепенное лишь значе-
ние. Спрашивается, однако, каким образом установленный уже научным по-
рядком в эпоху Рождества Христова и синхронистически связанный с
другими эрами счет олимпиад был преобразован с библейских точек зре-
ния и наконец применен к эре а. АЬг. Юлий Опперт написал по этому пово-
ду превосходный трактат: «Die Daten der Genesis».
^ | Евсебий помимо Канона (xQovtxoQ xavovo$ avvra^iq) написал Хронику
(XQovoyQacpia), доставившую в известном смысле материалы для этого син-
qJ хронистического творения; он говорит:ev тЦттдо таитг)<; <7wra§sj, оАсь^ exiroQi^aJV
BfiavTiovxqovojv ашудасра*;, ovveXe^aiJLTjvTTavTolag. Хроника представляет в дво-
яком виде приводимые в Каноне из года в год списки царей. Во-первых, в
повествовательной форме с присоединением разных исторических заметок
о каждом из державцев и о продолжительности их царствования, причем
часто приводятся олимпийские годы их вступления на престол и их смерти;
это не что иное, как отрывочные извлечения из писателей, которыми пользо-
вался Евсебий, а именно из Диодора, Иосифа, Абидена, Порфирия и др.; а
во-вторых, следует%qqvo\, таблица, в которой по порядку приводятся имена
всех упомянутых державцев и обозначается продолжительность их царство-
вания (обыкновенно цельными годами).
Считая продолжительность царствования державцев цельными кален-
дарными годами, хронографы были вынуждены пренебрегать лишними или
недостающими месяцами и днями. Они не объясняют и по существу дела
нельзя понять, каким способом они округляют эти числа: определяют ли
сроки царствования действительною их продолжительностью, не обращая
внимания на календарь, или считают календарные годы от начала и до кон-
ца каждого царствования — сообразуются ли они относительно излишних
дней и месяцев с действительным сроком царствования или с календарны-
ми годами, — начинают ли в последнем случае счет с предшествующего
вступлению на престол или со следующего за ним юлианского нового года.
О
с;
Q
CZ
565
Остается открытым еще другой важный для наших исследований воп-
рос. Евсебий заимствовал у своего современника и противника Порфирия
повествовательный отдел об египетских царях, начиная с Александра (I,
р. 159-170), также о македонских (р. 229-241); не решено, однако, состав-
лен ли также по Порфирию отдел о Thetaliorum reges, I, p. 241-245, об
Asianorum et Syrorum reges. Следующий за каждым из этих отделов список
державцев несомненно составлен самим Евсебием. Спрашивается, как счи-
тались приводимые там олимпийские годы, по системе ли Евсебия, начиная
с 777 г., или по правильной системе с 776 г.? Признавал ли Порфирий олим-
пийский год так же как юлианский, начиная с 1 января, или вел счет олим-
пийским годам с половины лета? I п
Достоверно то, что Александр вступил на престол в 336 г. до Р. X. и, з:
вероятно, в октябре этого года. По расчету хронографов первый год его о
царствования относится к 1681 a. Abr., т. е. к 1 январю 336 г. до Р. X. £
Достоверно также то, что Александр царствовал 12 лет 8 месяцев; он *
умер, следовательно, в 323 г., вероятно, в мае или июне. Евсебий в своем Ь
Каноне выпустил 8 месяцев и относит двенадцатый год Александра к 1692 а. ^
Abr., т. е. к 325 г. до Р. X., считая до 31 декабря. х
1 х
сывает ему 12 лет 6 месяцев; однако в синхронистических таблицах отдель- -9
ных лет эти 6 месяцев у него не принимаются более в расчет. Надо обратить ' -
внимание на то, что он считает б месяцев, но эту цифру отнюдь не следует
считать заменою известных 8 месяцев, которые, по Аристобулу, следует
прибавить к двенадцатилетнему царствованию Александра (Агг., VII, 28, 1);
напротив, хронограф, очевидно, подразумевает 6 месяцев юлианского года
(decessit mense Iunio говорит Юстин, XII, 16, 1), а именно 324 г., который он £
при всем том полностью приписывает наследнику Александра. §
Порфирий придает Александру сполна 12 лет и первым годом его на- ■§
следника считает, по крайней мере, по армянскому Евсебию (I, р. 159), 01.
CXIV, 2. Это служит доказательством, что Порфирий также начинает свои
олимпийские годы не с половины лета, а с предшествующего начала юлиан-
ского года.
По Канону, у Евсебия и у Иеронима Филиппу Арридею приписывает-
ся 7 лет, а. АЬг. 1693-1699, т. е. с 1 января 324 до 31 декабря 318 г. В выписке
Евсебия из Порфирия сказано, что он царствовал 7 лет и прожил до 01. CXV,
4 (sTriQrjtre yog axgi и т. д. или, по армянскому переводу, superstes fuit usque
ad и т. д.), стало быть, он прожил до начала 01. CXV, 4, т. е. 01. CXV, 3 была
последним его годом. Точное время явствует из Диодора (XIX, 11), по сло-
вам которого Филипп царствовал 6 лет 4 месяца. Если бы Диодор считал эти
6 лет 4 месяца по примеру хронографов календарными годами начиная с
1 января 324 г., то смерть Арридея выпала бы в апреле 318 г., т. е. в 01. CXV,
3 и в год, называемый им Архипповым; но так как он эту смерть относит к
году следующего затем архонта, то и оказывается, что он срок его царство-
вания обозначает так, как оно было на самом деле, считая от вступления
его на престол. Если царствование Арридея началось после кратковремен-
ного военного мятежа после смерти Александра около половины июня, то,
по показанию Диодора, оно кончилось около половины октября 317 г. Ев-
себий и Иероним из 6 лет 4 месяцев составили целых семь лет и притом все-
Q
566
таки не избегли двойного неудобства, происшедшего оттого, что убавили у
Александра 8 месяцев и вели счет цельными юлианскими годами; по их рас-
чету, царствование Филиппа Арридея доходило только до 318 года. Если
этот царь с его семилетним царствованием, по Порфирию, достигло 01. CXV,
4, то первый из этих семи лет выпадает 01. CXIV, 1, хотя тот же Порфирий,
как мы видели, очень хорошо знает, что этот первый год на самом деле был
в 01. CX1V, 2; но ему в македонском списке поневоле приходится вести счет
таким образом, а потому и было сказано Xoyl^erai Se сы/гф err) £", так как у
Александра убавили 8 месяцев.
Нам следует еще поговорить о двух вопросах касательно нашего пред-
мета; к третьему вопросу вернемся впоследствии.
Антигон Одноглазый в Каноне у Евсебия и Иеронима значится царем
Азии в течение 18 лет, а именно a. Abr. 1699—1716, т. е. с 318 до 301 г. до Р. X.
Он пал в битве при Ипсе, происшедшей, по Диодору (113, 5), летом 301 г.
Отнесли ли хронографы к Антигону сполна юлианский год, тогда как на
него приходилось лишь 6 месяцев? В повествовательном отделе Asianorum
reges Евсебий (I, p. 248), или, скорее, его источник — Порфирий, или кто бы
то ни был — приписывает Антигону 18 лет от 01. CXV, 3 до 01. CXIX, 4. Если
б автор вел счет годам по олимпиадам, начиная с половины лета, то воцаре-
ние Антигона последовало бы в июле 318 г., а смерть в июне 300 г. Так как
Антигон пал летом 301 г., то это хронологическое показание значит, что
Антигон умер в последний год его царствования, т. е. этот автор вел счет не
по олимпиадам, начиная с половины лета, а по юлианскому календарю с
д. I предшествовавшего 1 января, и он заявляет, что годы Антигона следует счи-
тать от 1 января 318 г. до 31 декабря 301 г. Мы не можем добиться, что побу-
X
% дило этого автора и обоих хронографов считать вступление на престол
о
с;
а. хатауоуто$, Eus., I, p. 248), тогда как на самом деле он вступил на престол
С
Антигона, начиная с шестого года Филиппа Арридея (ФМтптои kxrov ето<;
лишь после морской битвы при Саламине; морская победа, одержанная
Антигоном над флотом наместника при Византии осенью 318 г., не может
даже служить здесь точкою опоры.
В хронологии Селевка I Азиатского встречаются более значительные
затруднения. Евсебий и Иероним в Каноне приписывают ему 32 года, а имен-
но а. АЬг. 1705—1736, т. е. с 312 до 281 г. Этот счет противоречит их маке-
донским синхронизмам; и в самом деле, победив Лисимаха при Куропедионе
(281 года около мая), Селевк во время переправы в Европу был убит Птоле-
меем Керавном, который затем вступил во владение Македонией, вел войну
во второй год своего царствования против галатов и лишился жизни; потом
последовала в Македонии продолжавшаяся более года анархия, — по Ка-
нону того и другого хронографа, она окончилась в один и тот же год а. АЬг.
1736, т. е. в 281 г. до Р. X., который и был последним годом Селевка. В пове-
ствовательном отделе хроники автор, у которого заимствовал Евсебий, по-
лагает, что Селевк царствовал от 01. CXVII, 1 до CXXIV, 4, а он, как мы
видели, ведет счет по юлианскому календарю, и Селевк, следовательно, цар-
ствовал от 1 января 312 г. до 31 декабря 281 г. — Замечательно при этом
следующее обстоятельство. В Селевкидовом царстве воцарение Селевка I
считалось, конечно, начиная с прозванной по его имени эры, которая, как
говорит Евсебий в другом сочинении (Demonst. evang., VIII, p. 895; см.: Ideler,
567
Chronol., I, 450), начинается erei StoSexarip fiera ttjv ' AXe^avbqov TeXavrrjv. Так
как эта эра на самом деле началась в четвертый месяц 01. CXVII, 1, в октяб-
ре 312 г., то оказывается, что Евсебий в этом месте вел счет не по своему
хронологическому методу; если октябрь 312 г. выпал в двенадцатый год пос-
ле смерти Александра, то первым годом после нее был либо юлианский 323
или олимпийский CXIV, 2, начавшийся летом 323 г. Однако по хронографи-
ческому методу счет ведется иначе; тут первый год Селевка начинается с
1 января 312 г., а 282 есть 31 год его царствования; на 32 году, около мая 281,
он одержал победу при Куропедионе, а семь месяцев спустя после того, сле-
довательно, почти в исходе его 32 года, он был убит.
Мы изложим в таблице список македонских царей после смерти Фи- I п
2
липпа Арридея, с тем чтобы по возможности проверить показания хроно- з:
о
графов (см. таблицу). О
Кассандр не непосредственно наследовал Филиппу III: сперва престо- ^
лом завладела Олимпиада, а потом Кассандр отнял его. Евсебий в хронике, *
следуя Порфирию, говорит, что Кассандр, считая вместе с тем время Олим- 11
пиады (addito nimirum anno, Euseb. Ann., p. 213, 17), царствовал 19 лет. По
Диодору, оказывается, что осажденная в Пидне Олимпиада продержалась
там в течение зимы (XIX, 49, 1 ha тои xettLU)vo$), что затем год taqoq aqxofievov
(XIX, 50, 1) началось последнее действие осады. Сколько времени она еще 15
продолжалась и когда Олимпиада была убита, об этом он умалчивает; это I -
случилось, может быть, в апреле или мае 316 г., после того, как она процар-
ствовала семь или восемь месяцев. Однако хронографы приписывают 19 лет
Кассандру, начиная с 1 января 317 г. до 31 декабря 299 г.
Для того чтобы выяснить затруднительные расчеты, какие встреча-
ются, начиная с кончины Кассандра, следует прежде всего сгруппировать *
в надлежащем порядке предлагаемый хронографами материал. По прило- ' ^
женной здесь таблице в первых трех столбцах, согласно Хронике Евсе-
бия, значится:
A. Время царствования каждого из державцев, по Порфирию.
B. Отвечающие тому олимпийские годы.
C. Годы царствования по составленной Евсебием таблице.
В двух следующих затем таблицах из Канона Евсебия извлечены:
D. Время царствования каждого из державцев.
E. Отвечающие тому годы по юлианскому календарю.
Три следующих затем столбца взяты из Канона Иеронима:
F. Время царствования каждого из царей по Exc. lat. barb. (Euseb., I, 221).
G. Время царствования по тексту Вульгаты.
Н. Отвечающие этому годы по юлианскому календарю.
В последних двух столбцах, наконец, показаны:
I. Годы царствования по повествовательному тексту в Thetaliorum Reges.
К. Годы царствования по составленной Евсебием таблице.
Хронографические показания царствования Александра, Филиппа,
Кассандра и их уклонения от действительного срока заставляют предпола-
гать, что в остальных сообщениях хронографов встречаются такие же ошиб-
ки. Их трудно открыть, так как для более точного определения дат у нас
мало надежных точек опоры.
Самой надежною точкою служит конец царствования Персея. Дата
битвы с римлянами, в которую он пал, определяется лунным затмением: оно
было, по юлианскому календарю, 21/22 июля 168 г. до Р. X. Тит Ливии гово-
рит: nocte quam pridie nonas Septembris (III. nonas Sept., по словам Eutrop.,
IV, 7) insecuta est dies; так как 15 марта по римскому стилю, с которого на-
чался 586 г. а. и., соответствует 4 февраля 168 г. по юлианскому календарю
(ср. Ideler, II, 104). Судя по повествовательному тексту у Евсебия, Порфи-
рий приписывает Персею 10 лет и 8 месяцев; отсюда видно, что он одиннад-
цатый год, в который по истечении восьми месяцев дана была битва, считает
по юлианскому календарю, т. е. с 1 января.
По Канону, Персею приписывается только 10 лет; последний год его,
а. АЬг. 1850, он приравнивает юлианскому 167 г. до Р. X. (01. СЫН, 2 по
счету Иеронима, 01. CLIII, 3 по Евсебию); таким образом, оба хронографа в
отношении царствования Персея уклонились на целый год. Пегггг}хоута rgla
етг) Полибия (III, 1, 9) начинают счет с 01. CXL, 1 до CXLIII, 1, и подтверж-
дают, что царствование Персея кончилось с летними олимпийскими играми
168 г. и что царь Филипп вступил на престол незадолго до 01. CXL, 1, летом
220 года. Евсебий очень хорошо знает, в чем состоит дело; и действительно,
приводимый им в своих материалах отрывок из Порфирия (I, 240) помеща-
ет битву при Пидне em т% gvfi' 'ОХщтаЬо<; той t&toqtov &тои$. А он все-таки
не следует своему автору.
Судя по помещенной Евсебием выписке из Порфирия, после битвы при
Пидне следовало 19 лет свободы, 1 год Псевдо-Филиппа, потом Евсебий
говорит, что после смерти Александра до конца политического существо-
вания Македонии прошло 43 олимпиады и 2 года, т. е. от а. АЬг. 1693 г. 1 ян-
варя (324 г. до Р. X.) до 1867 г. 31 декабря (150 г. до Р. X.) или, считая по
методе Евсебия, от 01. CXIV, 2 до 01. CLVII, 4, а по Иерониму, от 01. CXIV,
1 до 01. CLVII, 3. Канон а. АЬг. 1850 год признает последним годом Персея,
а относительно а. АЬг. 1874 (у Евсебия 01. CLVIII, 3, у Иеронима 01. CXLVIII,
2) замечает: Macedonibus imperavit Pseudophilippus anno uno, una cum
democratia annis XIX; здесь явно одно с другим не согласуется.
Иероним тот же факт полагает в а. АЬг. 1867 г., 01. CLVII, 3, причем
говорит: «Romani interfecto Pseudophilippo Macedones tributarios faciunt, или
даже, начиная с а. АЬг. 1865,01. CLVII, 2: Pseudophilippus regnat in Macedonia
anno 1».
Вернемся к астрономически определенному времени битвы при Пид-
не. Согласны ли между собою показания хронографов в Каноне, в котором
благодаря контролю синхронизма, числа пользуются критическою досто-
верностью? В следующей таблице, начиная с Антигона Гоната и до Персея,
приводятся в первом столбце (а) общий итог показанных в Каноне лет, на-
чиная с воцарения нового державца; во втором (/3) — юлианские годы, ка-
кие получатся, если эти сроки царствования в синхронизмах хронографов
выразить по юлианскому календарю; в третьем (у) — те же сроки царство-
вания, считая с верной даты битвы при Пидне, или, вернее, — так как у хро-
нографов одиннадцатый год Персея, когда была битва, не принимается в
расчет, — с конца десятого, последнего целого года царствования Персея.
569
Филипп III. Арридей
(Олимпиада)
Кассандр
Сыновья Кассандра
Филипп
Александр
Антипатр
Деметрий Полиоркет
Пирр
Лисимах
Птолемей Керавн
Мелеагр
Антипатр
Сосфен
Anarchia Euseb. Ann.
a Ptolemaio usque
ad finem anarchiae
Антигон Гонат
Деметрий
Антигон Досон
Филипп
Персей
А
VII
XIX
III. 6 m
VI
7т
V.6ma
I. 5ш
2т
45 d
II
XXXIVе
X
XII
XLII
X. 8 т
Хроника Евсебия
В
[114. 2]-115. 4
323-317 гг.
116. 1 - 120. 3
316-298 гг.
120. 4-121. 3
297-294 гг.
121. [4]-123. 1
293-288 гг.
в 123. 2
287 г.
123. 2-124. 3
287-282 гг.
124. 4—125. 1ь
281-280 гг.
124. 4-126. [1]
281- 276 гг.
126. 1-135. 1
276-240 гг.
а
140. [.] —150. 2е
- 179 г.
-152.4
-169 г.
С
VII
XIX
III. 6 ш
VI
7т
V. 5ш
1.5 т
2т
45 d
II
II
XXXIV
X
XII
XLII
X. 8 т
8
I
°
X
*
Г8
|'ф
а етт; в кал fL<rjva<; f, из mense quinlo Euseb. Arm. Гутшмид заключает, что
Порфирий написал ото rebv e' \vr\vGn.
b Euseb. Arm.: usque ad quintum mensem, 01. 125. 1.
c По Euseb., Arm., XXXIII.
d Сохранившееся только у Euseb. Arm. число искажено: obiit anno... 01.
С trigesimae secundo.
e TsAeirr£ 8e Sevregq) stsi -rrjq qv\ 'ОХщтадод, по корректуре Мая взамен
7TV&'.
570
Канон Евсебия
Иероним
Thetal. Reges
D
I
VII
XIX
IV
V
7m
V
II
2m
45 d
II
XXXVI
X
XV
XLII
324-318 гг.
317-299 гг.
298-295 гг.
294-290 гг.
289 r.
288-284 гг.
283-282 гг.
281-280 гг.
279-244 гг.
243-234 гг.
233-219 гг.
218-177 гг.
176-167 гг.
VII
XIX
IV
VII
XIX
IV
V
11m
V
II
7m
2m
II
XXXV
X
XV
XLV
X
VI
7m
V
I
2m
45 d
II
XXXVI
X
XV
XLII
X
H
324-318 гг.
316-299 гг.
298-295 гг.
I
294-289 гг.
288 r.
287-283 гг.
282 r.
281-280 гг.
279-244 гг.
243-234 гг.
233-219 гг.
218-177 гг.
176-167 гг.
VII
XIX
4 m
II. 6 mil. 6
ш
VI. 6 m
IV. 4 m
VI
I. 5 m
2m
45 d
I
II. 2 m
XXXIV. 2 m
X
IX
XXIII. 9 m
К
VII
XIX
4 m
II. 6 mil. 6
m
VI. 6 m
III. 4 m
VI
I. 5ш
2m
45 d
I
II. 2 m
XXXIII. 2 m
X
IX
XXIII. 9 m
a 0 7
Антигон Гонат XXXVI 279-244 281-246
Деметрий X 243-234 245-236
Антигон Досон XV 233—219 235—221
Филипп XLII 218-177 220-179
Персей X 176-167 178-169
Несообразный вывод, какой обнаруживается в столбце г, доказывает,
что в сроках царствования (а), в том виде, как их приводят хронографы,
произошли ошибки, притом отнюдь не описки, а преднамеренно ложные
показания. Следуя выписке из Порфирия, Евсебий в списке царей своей
Хроники придает Антигону Досону не XV, но XII лет, а в столбце Thetaliorum
571
Reges, согласно с выпискою, только IX. То же самое число IX находится у
Диодора (XXV, 18). Полибий (II, 44, 2) подтверждает, что Деметрий цар-
ствовал Ыка \lovov ату; смерть его он полагает в год первого появления рим-
лян в Иллирии, т. е. при консулах Постумии и Фульвии в 229 г. до Р. X. Таким
образом, мы наверное узнаем также, что последним годом Антигона Гона-
та был 240 г. до Р. X.
Если бы показание хронографов, приписавших этому Антигону 36 лет
царствования, было верно, то воцарение его было бы в 275 г. Они ошиблись
в расчете, вероятно, вследствие того, что составили себе ложное представ-
ление о царствовании Птолемея Керавна и об анархии. В Каноне и Хронике
находятся в этом отношении совершенно противоречивые показания. Для I п
того, чтобы их исправить, следует установить время царствования Антиго- з:
на Гоната. о
Для того чтобы определить время, когда Антигон стал царем в Маке- £
доний, можно воспользоваться тремя исходными пунктами. *
Хронографы начинают свой список Asianorum et Syrorum reges с кон- Kg
ца 6 года Филиппа Арридея; затем следует Антигон Одноглазый с 18 года- *
ми, следовательно, от 318 г. до 301 г.; потом Деметрий Полиоркет с 17 годами, £
от 300 г. до 284 г. Они должны были бы Антигона Гоната, называвшегося, по _
их мнению, 10 лет царем ante quam Macedonian! obtinuisset, считать, начи- -9
ная с 283 г. до Р. X., а его воцарение в Македонии с 274 г.; но они считают ' *
иначе. Еще сбивчивее становится дело вследствие повествовательной вы-
писки у армянского Евсебия (I, р. 247), в которой про Деметрия говорится:
duos annos cum patre regnavit, что, скорее, можно бы сказать про сына Ан-
тигона, так как Деметрий последние годы своей жизни прожил в плену. _
Предполагается, что Селевк взял Деметрия в плен весной 285 г.: если с этой *
поры считать царствование Антигона, то 285 г. был бы его первым, а 276 г. — | §
его десятым годом, и в таком случае он вступил бы на престол в 275 г. Этому
выводу противоречит показание в Vita Arati, по которому Антигон воца-
рился в Македонии в CXXV олимпиаду (от июля 280 г. и до июня 276 г.).
Вторая исходная точка поведет к дальнейшему выводу. Хронографы
приписывают Селевку Никатору 32 года (это число подразумевает также
Аппиан (Syr., 63), хотя у него и стоит 42); Евсебий и Иероним в Каноне счита-
ют, начиная с a. Abr. 1705 до 1736, т. е. с 1 января 312 г. до 31 декабря 281 г. Мы
знаем сверх того, что Селевк 7 месяцев спустя после победы при Куропедио-
не был убит. Так как хронографы в македонском списке царей приписали
павшему в этой битве Лисимаху 5 лет и 5 месяцев; а потому и можно предпо-
ложить, что они эти 5 месяцев считали, начиная с 1 января 281 г.; в таком слу-
чае битва произошла в мае или июне 281 г., и Птолемей Керавн убил Селевка
в исходе 281 г. Однако в выписке из Порфирия (Eus., I, 234) положительно
сказано: Пбддо<;... етгта цушд aq%ei Maxe&waw, тф 8е оуЪоц) rovrov Avalfiaxog
8ia8exerat> так чт0> п0 мнению хронографов, пять лет царствования Лиси-
маха продлились еще до 31 декабря соответствующего юлианского года.
Теперь мы перейдем к третьей хронологической серии, благодаря ко-
торой, как кажется, можно будет достичь точного вывода.
Достоверным можно считать то, что Пирр отправился в Италию вес-
ной 280 г. Он пошел туда по второму приглашению тарентинцев; первое —
сделано было в течение 281 г. Он получил это первое приглашение, вероят-
Г8
щ*
572
но, в такое время, когда война между Лисимахом и Селевком не была еще
решена; эта война угрожала ему сильной опасностью в случае, если Лиси-
мах одержит победу. С этих пор и до второго посольства прошло довольно
времени, так что консул Л. Эмилий успел оттеснить тарентинцев в их об-
ласть, разбить в битве и поставить в затруднительное положение, и партии
мира удалось, наконец, настоять на избрании преданного римлянам нео-
граниченного стратега. В это время явился посланник Пирра Киней с обе-
щанием помощи, а вслед затем Милон с 3000 эпирцами, после чего консул
занял зимние квартиры в Алулии (Zonar., VII, 2).
Пирр решился на экспедицию в Италию, вероятно, после победы Се-
левка при Куропедионе. Победитель передал Азию своему сыну Антиоху, с
тем чтобы вступить на престол на своей родине, Македонии; однако Птоле-
мей Керавн убил его во время переправы в Европу и захватил власть над
отнятыми Селевком у Лисимаха землями, над Македонией и Фракией. Это
убийство, как говорит Юстин (XVII, 2, 4), post menses admodum Septem про-
изошло после битвы при Куропедионе. Летописцы говорят, что не только
Птолемей Керавн, но также Антиох и утвердившийся в Элладе Антигон на-
перерыв друг перед другом помогали Пирру снарядить экспедицию в Ита-
лию, что именно Птолемей, разумеется, из политических видов поставил
или обещал ему дать в помощь часть македонского войска.
Достоверно то, что Пирр весной 280 г. сам отправился в Италию (ovbi
т eag efieivev, говорит Dio Cass. см. Май, с. 169); в таком случае Птолемей
был уже в начале 280 г. царем в Македонии; но он, без сомнения, не тотчас
к I же после убийства уверен был в том, что достигнет цели в Македонии и бу-
х дет в состоянии располагать средствами страны; следовательно, убийство
Я совершилось, вероятно, за один или за два месяца до исхода 281 г., битва
о
с;
о. рентинцев весной 281 г., произошла в апреле или мае 281 г.
По вышеприведенной таблице оказывается, что Евсебий, следуя Пор-
фирию, в своей Хронике приписывает Птолемею 1 год 5 месяцев, что в Ка-
ноне он считает вместо того 2 года, а Иероним всего 1 год. Если с первым
показанием Евсебия поступим по аналогии подобных его показаний, то на
долю Птолемея по только что полученному выводу выпадет целый 280 г. и
первые пять месяцев следующего 279 г. В дальнейшем расчете времени до
Антигона оба хронографа уклоняются друг от друга в подробностях, но не
в общем итоге лет:
Евсебий Иероним
Птолемей 1734 283 до Р. X.
1735, первые 5 месяцев 1735 282
Мелеагр 2 месяца
Антипатр 45 дней
Сосфен 1736 1736 281
1737 1737 280
Оба автора явно произвольно располагали этим периодом анархии; но
как тут добиться более точного вывода?
Из слов Павсания (X, 23, 3) мы достоверно знаем, что в 01. CXXV, 2,
при архонте Анаксикрате (в 279/278 г. до Р. X.), галаты совершили свою эк-
573
спедицию в Дельфы, что в 01. CXXV, 3, при архонте Демокле (в 288/287 г.),
они переправились в Азию. К сожалению, Павсаний не говорит, в которой
половине олимпийского года происходили обе эти экспедиции. Судя по
X, 19, 4, можно с некоторою достоверностью заключить, что экспедиция
Бренна в Дельфы была третъею, в виде второй ей предшествовала та трой-
ная экспедиция, в одной из которых шайка галатов под начальством того
же Бренна вторглась в Македонию, причем Птолемей в битве против него
лишился жизни, а первая экспедиция под предводительством Камбавла, ве-
роятно, год тому назад была направлена во Фракию. Она, без сомнения, со-
вершилась не в то время, когда Селевк, одержав победу при Куропедионе,
возвращался со своим сильным войском в Европу, а, вероятно, после его I п
убиения, вследствие которого возникло немало смут во всей области Гема. х
Мы знаем, что один из сыновей Лисимаха бежал к дарданцам, с тем чтобы с О
их помощью напасть на узурпатора Птолемея. Можно смело предположить, ^
что первая экспедиция Камбав-ла против трибаллов во фракийской дунай- *
ской земле произошла еще в 280 г. Вследствие вышеприведенного замеча- \h
ния погубившую Птолемея экспедицию Бренна в Македонию следует *
х
LC
отнести к весне 279 г. Затем Бренн, опустошив окончательно Македонию,
предпринял в Элладу свою третью экспедицию, которая, следовательно,
относится к весне или к лету 278 г. 1.5
Полибий подтверждает, по крайней мере, один из найденных таким I ^
путем выводов; и в самом деле, в П, 20, 6 он по поводу последней великой
битвы римлян против галлов, а именно при Вадимонском озере, говорит: тф
Tg/тф -nqoreqov erei rrj<; Tivqqov Ъкфааещ щ ttjv 'ГгаЛ/ау, тгщтггц) Ss rfc ГаХатшу
-neqt ДеА<рои$ $ta,(p%qa$. Он, однако, ошибается, утверждая (II, 41, 2), что
Птолемей, сын Лагида, Лисимах, Селевк, Птолемей Керавн умерли в ту £
же 01. CXXIV; потому что эта олимпиада кончается уже в июле 280 г. Мем- | §
нон (14, 1) сообщает, что Птолемей Керавн после двухлетнего позорного
царствования (хал 7гоАЛа кал ъщало^а* ev Svai biamqaS/nievo^ &rta'i) пал в битве
с галатами; в этом случае Мемнон, следуя схематическому преданию, или
приписал Птолемею два года (вероятно, от 01. CXXIV, 4 до CXXV, 1), или
Птолемей действительно царствовал в Македонии около двух лет, начиная
с осени 01. CXXIV, 4 (281) и до весны 01. CXXV, 1 (279).
После смерти Птолемея царствовал брат его Мелеагр в течение двух
месяцев, потом Антипатр, племянник Кассандра, в течение 45 дней; а так
как он не в состоянии был спасти страну, то его устранил благородный ма-
кедонянин Сосфен, который вытеснил Бренна из края (следовательно, осе-
нью 279 г.).
Евсебий в Каноне приписывает Птолемею 2 года и Сосфену 2 года, не
упоминая вовсе о Мелеагре и Антипатре, в Хронике он считает затем 2 года
анархии, которую выпускает в Каноне; Иероним, напротив того, приписы-
вает Птолемею первый год, а Сосфену второй и третий, и также выпускает
анархию; вследствие всех этих показаний хронологические данные оказы-
ваются весьма сомнительными, тем еще более, что в Thetal. Reg. Сосфену
приписывается всего 1 год, а потом 2 года и 2 месяца анархии. После смерти
Сосфена во всяком случае следовал период анархии; она, однако, длилась
недолго, так как от воцарения Птолемея и до Антигона Евсебий считает
только 4, а Иероним всего 3 года.
574
Предположим, что Иероним верно определил времена царствования и
станем вести далее счет по найденной, таким образом, основе для начала
царствования Птолемея; тогда получим:
Птолемей Керавн от 1 января 280 г. до мая 279 г.
Мелеагр июнь, июль 279 г.
Антипатр август, сентябрь 279 г.
Сосфен до конца 278 г.
еще несколько месяцев смут начало 277 г.
Антигон вступает на престол в течение 277 г.
В Vita Arati (Westennann, Biogr., p. 60) про Антигона сказано: TTagiXafie
Trjv aqxyv tcsqi ттхе' '0\u[ima8a, a CXXV 01. простирается от июля 280 г. до
июня 276 г.
Когда Антигон одержал при Лисимахии блистательную победу над га-
латами, то в Азию перебрались уже толпы кельтов, и первая их переправа
произошла в 01. CXXV, 3, в 278/277 г. до Р. X., скорее весною 277 г., а не осе-
нью 278 г., так что победа при Лисимахии могла быть одержана еще в 277 г.
Вот приблизительно какие выводы можно извлечь из показаний хро-
нографов. В Истории эпигонов я для эпохи кельтов придал другие даты,
которые, исходя из иных предположений, счел вероятными; однако изло-
женные здесь выводы я считаю более основательными и почти достоверны-
ми, по крайней мере в отношении периода Птолемея Керавна.
Нам осталось еще разобрать время, начиная с этого Птолемея до вступ-
ления на престол Кассандра, считая в обратном порядке,
i I Мы вывели, что поражение и смерть Лисимаха случились весной 281 г.
^ В Хронике Евсебия сказано, что Пирр, одержав победу над Деметрием По-
q лиоркетом, царствовал 7 месяцев в Македонии, а на восьмой ему наследо-
о. вал Лисимах.
Последний год Деметрия, против которого обратились оба царя, хро-
*jj" нографы, наверное, считали до 31 декабря; они приняли 7 месяцев Пирра за
целый год и приписали Лисимаху, начиная со следующего затем 1 января
до его смерти в битве при Куропедионе, 5 лет. Переводя эти числа на дей-
ствительные годы, мы получим:
Последний год Деметрия до конца 288 г.
7 месяцев Пирра от 1 января до конца июля 287 г.
5 лет Лисимаха от 1 января 286 г. до мая 281 г.
Судя по почетному декрету С. I. Attic, II, п° 307, надо полагать, что до
марта 288 г. Афины еще не восставали против Деметрия; это восстание, без
сомнения, произошло после известия о прекращении владычества Демет-
рия в Македонии, что и случилось летом или осенью 288 г.
Для Деметрия показания колеблются между 5 годами, 6 годами, 6 го-
дами 6 месяцами. Если бы можно было положиться на последнее показание
(в Thetal. Reg.), то мы могли бы отсюда вывести время, какое Деметрий про-
царствовал свыше 6 полных лет, до самого 288 г., и поместить конец его цар-
ствования в Македонии в июле 288 года. Но ввиду несообразной следующей
затем цифры для Пирра (3 года 4 месяца) показание для Деметрия стано-
вится также сомнительным. Сверх того, в этом месте армянский текст пове-
к
х
575
ствовательного отдела Maced. Reg. неверен, а греческий, вероятно, испол-
нен пробелов. Если в Каноне Евсебия цельными годами Деметрия призна-
ется и считается цифра 5, а у Иеронима 6, то, вероятно, оттого, что Иероним
счел это найденное в Хронике Евсебия число более сообразным и согласно
с ним распределил свой синхронизм. Если с Евсебием считать 5 цельных лет
для Деметрия, то его царствование в Македонии началось 1 января 293 г., а
если положить с Иеронимом 6 лет, то оно началось 1 января 294 г.
Может быть, аттические надписи разрешат этот вопрос. Псефизма
С. I. Attic, II. п° 209 с указанием em Nixlov oqzovto$ vareglov замечательна не
только вследствие архонта suffectus — как объясняют, по крайней мере, вы-
ражение votsqov, — но еще более вследствие того обстоятельства, что она I п
была постановлена во время элафеболия в четвертой притании, т. е. в этот х
год последовательность притании была нарушена, и притом так, что в поло- О
вине аттического года опять начался счет с первой притании. В приложении ^
к Истории диадохов находятся подробности по этому поводу, а именно, §
Никни, как кажется, назначен был архонтом, когда Деметрий низверг в |fi
Афинах тирана Лахара и восстановил демократию; судя по надписи, эти
события случились весной в 01. CXXI, 1, т. е. в 295 г. до Р. X. Освободив | £
Афины, Деметрий двинулся в Пелопоннес для усмирения спартанцев, ко-
торых восстановил против него александрийский двор; он проник вниз по .-_
Эвроту до Лаконии. Однако Лагид успел уже возбудить против него другого ^<
врага: Пирр на египетских кораблях вернулся в Эпир. Раздорившие между з
собой сыновья Кассандра просили Деметрия о помощи, но тщетно ожидали
ее, а потому они обратились к Пирру. Деметрий опасался, как бы Пирр и Ли-
симах не захватили в свои руки власть в Македонии, на что рассчитывал сам, _
и потому он с чрезвычайной поспешностью покинул Пелопоннес. Время, в *
течение которого совершились дальнейшие события до убийства одного и §
бегства другого из сыновей, нельзя более определить с точностью; эти собы-
тия, однако, производят такое впечатление, как будто между их концом и
освобождением Афин прошло скорее менее одного года, а уж никак не два.
Предположим поэтому, что 294 г. был первым годом Деметрия в Маке-
донии, что при всем том могли еще пройти январь и февраль 294 г., прежде
чем он воцарился; в таком случае время для сыновей Кассандра получилось
бы очень просто, если за последний год их отца вместе с хронографами при-
знать 299 г. Тогда на долю его трех сыновей пришлись бы 298-295 гг.; и дей-
ствительно, оба хронографа в Каноне также признают за ними 4 года.
Против этого, однако, возникают разные затруднения. Евсебий по таблице
в Хронике приписывает им 3 года 6 месяцев, а в Thetal. Reg. старшему 4 ме-
сяца, двоим остальным 2 года 6 месяцев; мало того, из аттических событий
почти с достоверностью оказывается, что Кассандр царствовал еще в 298 г.
Если он, как мы прежде видели, весной 316 г. одержал победу над Олимпи-
адою, то считая с 1 января этого 316 г. — 19-й год его царствования кончил-
ся 31 декабря 298 г. Он, может быть, прожил и процарствовал еще несколько
месяцев сверх того, но по хронологическому методу следующие три года
приписываются сполна его сыновьям.
В новом издании Истории диадохов я, основываясь, в сущности, на этих
выводах, и расположил хронологические данные; тем не менее, однако, я
вовсе не признаю их вполне безошибочными.
Предоставим дальнейшим исследованиям решить, насколько употреб-
ляемый выше способ контролировать схематические известия хронографов
может быть применяем к другим отделам синхронистических таблиц1; при
этом пришлось бы объяснить также, каким путем возникли эти условные
данные и как они потом распространились в литературе.
Да позволено мне будет с этой точки зрения вернуться здесь к некото-
рым показаниям, какие я привел в примечаниях по поводу хронологии пер-
вых Селевкидов, тем более что приведенные там цифры не исчерпывают
затруднения хронологических данных
У армянского Евсебия в повествовательном отделе приписывается (I,
р. 250, ed. Schone)
1. Антиоху I Сотеру XIX лет 01. CXXV, 1 - CXXIX, 3.
2. Антиоху II Теосу XIX " 01. CXXIX, 4 -CXXXV (!), 3.
3. Селевку II Каллинику XXI год 01. СХХХШ, 3 — CXXXVHI, 2.
В следующей затем таблице Евсебий приписывает Антиоху Теосу все-
го XV лет. а вступление на престол Селевка II доказывает, что 01. CXXXV,
3 — не что иное, как описка вместо 01. СХХХШ, 2. По синхронистическому
показанию в Каноне оказывается следующая таблица (олимпийские годы
по Иерониму).
a. Abr. 01. a. Chr.
Антиох I 1737-1755 CXXV, 1 - CXXIX, 3. 280-262.
Антиох II 1756-1770 CXXIX, 4 — СХХХШ, 2. 261-247.
к I Селевк II 1771-1790 СХХХШ, 3 - CXXXVHI, 2. 246-227.
i
К Я не мог в Истории эпигонов сказать, что, согласно с олимпийскими
q показаниями хронографов, Антиох I умер зимой 262/261 г., оттого что они
QJ 261 год приписывают уже его наследнику, т. е. по их расчету его царствова-
ние кончается 31 декабря 262 г.
1 Хотя доказано, как я не сомневаюсь, что хронографы, отмечая олимпий-
ские годы, подразумевают вообще также юлианские, однако в приведенной
мною в примечаниях хронологии Селевкидов (История эпигонов) необходи-
мо исправить некоторые показания; по синхронистическим данным в Кано-
не показано: AU ~, ^,
a. Abr. 01. a. Chr.
Антиох I Сотер 1737-1755 CXXV, 1 - CXXIX, 3. 280-262.
Антиох II Теос 1756-1770 CXXIX, 4 - СХХХШ, 2. 261-247.
Селевк II Каллиник 1771-1790 СХХХШ, 3 - CXXXVHI, 2. 246-227.
Селевк III Сотер 1791-1793 CXXXVIII, 3 - CXXXIX, 1. 226-224.
Антиох III Великий 1794-1829 CXXXIX, 2 - CXLVIII, 1. 223-188.
В повествовательном отделе Хроники Евсебия, взятом у Порфирия или
у другого автора, встречается еще несколько ошибочных показаний, о ко-
торых, впрочем, не станем распространяться.
Ill
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА МАКЕДОНСКИХ ЦАРЕЙ*
a. Chr.
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
325
a. Abr.
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
Olymp.
3
4
111.1
2
3
4
112.1
2
3
4
113,1
2
3
4
01. Eu.
111.1
112.1
113,1
114,1
01. Hi.
4
111.1
2
3
4
112.1
2
3
4
113,1
2
3
4
An. Arch.
Фриних
Пифодел
Эвенет
Ктесикл
Никократ
Никет
Аристофан
Аристофон
Кефисофон
Евфикрит
Гегемон
Хрем
Антикл
Мак. К. Euseb.
Александр 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
и
ГО
О- **>
< >S
я ста
* 1
и 1
"< ГО
ГО
О
* В хронологической таблице вкратце представлены вышеприведенные
выводы. Первые три графы ясны сами по себе. Олимпийские годы сперва
показаны по их действительному времени, начиная с летнего солнцестоя-
ния, в половине юлианского года, а рядом с ними пояснено, как Евсебий и
Иероним считали олимпийские годы. Потом следует графа с именами ат-
тических архонтов, насколько их можно было определить с некоторою
достоверностью. Македонские цари приводятся обычным порядком, как они
значатся у Евсебия, а в последней графе стоят более точные показания, по-
лученные по вышеприведенным исследованиям.
Мы здесь не присоединили графы для годов ab urbe condita, оттого что
их синхронизмы с греческими показаниями, также определение, когда на-
чались римские годы и отчасти эпонимии в эту эпоху, представляют за-
труднения, требующие дальнейших исследований.
19 История эллинизма
a. Chr
324
323
322
321
320
319
318
317
316
315
314
313
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
Ja. Abr
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
lOlymp
114.1
2
3
4
115.1
2
3
4
116.1
2
3
4
117.1
2
3
4
118.1
2
3
4
119.1
1
.101. Eu
2
3
4
115.1
2
3
4
116.1
2
3
4
117.1
2
3
4
118.1
2
3
4
119.1
2
3
101. Hi
114,1
2
3
4
115.1
2
3
4
116.1
2
3
4
117.1
2
3
4
118.1
2
3
4
119.1
2
.1 Art. Arch.
Гегесий
Кефисодор
Филокл
Архипп
Неэхм
Аполлодор
Архипп
Демоген
Демоклид
Праксибул
Никодор
Феофраст
Полемон
Симонид
Гиеромнемон
Деметрий
Харин
Анаксикрат
Коройб
Эвксенипп
Ферекл
1 Мак. К. Euseb.
Филипп III 1
2
3
4
5
6
7
Кассандр 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1—1
го
X
1
го
го
Ж
2
S
<
е
Олим-
пиада
317/316 г.
U
ON
S
и
ю
1
SO
1-4
ГО
СО
О.
<
S
л
и
re
a. Chr.
302
301
300
299
298
297
296
295
294
293
292
291
290
289
288
287
286
285
284
283
282
281 1
la. Abr.
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736 1
lOlymp.
2
3
4
120.1
2
3
4
121.1
2
3
4
122.1
2
3
4
123.1
2
3
4
124.1
2
3
1
01. Eu.
4
120.1
121.1
122.1
123.1
124.1
125.1 1
101. Hi.
3
4
120.1
2
3
4
121.1
2
3
4
122.1
2
3
4
123.1
2
3
4
124.1
2
3
4 1
lArt. Arch.
Леострат
Никокл
Каллиарх
Гегемах
Эвктемон
Мнесидем
Антифат
Никий
фсгтад)
Никострат
(Антимах?)
Олимпиодор
Филипп
(Главкипп?)
Каллимед
Ферсилох
Диокл
Диотим
Исай
Эвфий
(Кимон?)
Менекл
|Мак. К. Euseb.
16
17
18
19
Сыновья 1
Кассандра
2
3
4
Деметрий 1
2
3
4
5
Пирр х/г
Лисимах 1
2
3
4
5
Птолемей 1
2
Сосфен 11
3" £
5 ч-
О «J
X X
сЗ S
с
ОО
оо
см
S О
О, у
(- О
X
С»
СО
Пирр
288/287 г.
с
и
X ев
2 S
s 1
о '
S г^
<
е
ев
Птолемей
осень 281-
май 279 гт.
X
"8
§
о
8
S4
1
I
1
х<
<4t
579
580
К
X
0)
8
X
Q-l
rz 1
^
*%
a. Chr.
280
279
278
111
216
275
274
273
111
211
270
269
268
267
266
265
264
263
262
261
260
259
1
la. Abr
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
JOlymp
125.1
126.1
127.1
128.1
129.1
130.1
.1 01. Eu.
126.1
127.1
128.1
129.1
130.1
101. Hi
125.1
126.1
127.1
128.1
129.1
130.1
1 Art. Arch.
Никий
(Otryn.)
Горгий
Анаксикрат
Демокл
Полиевкт
Пифарат
Диогнет
1 Мак. К. Euseb.
2
Антигон 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Liu
Сосф(
ай275
...278
2
Анархия
OS
го
се
ас
вес]
.277 -
" НОЛИ
Ант
a. Chr.
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236 1
la. Abr.
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781 1
lOlymp.
3
4
131.1
2
3
4
132.1
2
3
4
133.1
2
3
4
134.1
2
3
4
135.1
2
3
4
01. Eu.
131.1
132.1
133.1
134.1
135.1
136.1
101. Hi.
3
4
131.1
2
3
4
132.1
2
3
4
133.1
2
3
4
134.1
2
3
4
135.1
2
3
4
136.1 1
Art.
Arch.
Мак. К.
Euseb.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Деметрий 1
2
3
4
5
6
7
8 1
4
С
OS
It 1
A
X
Я
s
581
f
z
§
о
3
i
в
S4
s
1
I
О
z
n
€
1,
*
0Ь Приложения
|СЛ
00
го
ю
н-•
-U
ОО
О
сю
-U
чл
Ю Ю
►—» »—»
чл СТ\
оо оо
О О
Ю ь-*
-U
н-»
н-
Сю Ю
-U
н^
н-
-&> Сю
ю
1—»
•о
оо
о
о
н-»
-U
и-*
^
го
ю
t-^
ОО
чо
чо
X.
е
S
>
S
а
а
*—*
июнь
го к»
>—» ю
чо О
чо чо
оо ^i
-U
о
!—•
сю го
-ь>
о
н-»
чл .и
Филипп
220 - ...
к>
го
•—'
чо
о\
Н_1
-U
о
н-•
сю
178 гг.
ю
к>
го
чо
ЧЛ
-U
го
го го
го го
сю -U
ЧО ЧО
-U СЮ
сю
чо
н"1
Сю Ki
СЮ
чо
1—»
Н-» О
ю
ho
чл
чо
ю
н-«
СЮ
чо
1—»
чо
Ki Ю Ю
ю ю ю
OS >vl ОО
чо чо оо
н-» О ЧО
Сю
ОО
н-
-U СЮ Ю
СЮ
оо
1—»
ОО ^О ON
Антигон
ю
го
чо
ОО
оо
*—*
СЮ
оо
•—»
ЧУ»
... 229 — июнь 220 гт.
го
СЮ
о
оо
*о
-U
^
К> KJ
сю сю
1—» ГО
оо оо
ол чл
сю
•^1
н-
СЮ К>
Сю
*о
►—•
сю го
го
Сю
Сю
оо
-U
»—»
СЮ
•^4
*-*
Ант
5
-1
о
X
■"*
ю
сю
•ь.
оо
СЮ
-U
и-»
о
ю
Сю
чл
оо
ю
Сю
чо
Сю
ON
'■"'
>
о
а-
с
ел
г*
р-
0)
Chr.
W
>
о
^
•diu
о
с
о
я
>
*ч
2
№
РГ
«
OOj
со
ю
Хронологическая таблица македонских царей
«
л<
С9
3
U.
<
£
;
О
, •
о
lymp.
О
«-I
-О
<
СИ
Chr.
Л
^3
<u
(Л
3
W
д=
о
<
чо
""Г
1—J
гч
чг
^н
"Г
о
ОО
го
г-Н
CN
Г^
r_i
ГЧ
^r
1-1
CN
«Г\
О
ОО
гч
г-Н
CN
г-н
гч
чг
ОО
гч
ГО
SO
О
ОО
г—i
г-н
гч
о\
ГО
^
г^.
о
ОО
о
1—1
гч
о
чг
г-Н
го
чГ
г""
ОО
о
ОО
ON
о
гч
^
ГО
чг
1—1
гч
ON
о
ОО
ОО
о
гч
1_
го
чг
гч
гч
ГО
о
ОО
Г^.
о
гч
го
го
чг
1-Н
ОО
чо
о
гч
чг
тг
_
чг
чг
f™1
гч
1-Н
ОО
1Г\
о
гч
ITS
гтш(
ТГ
чг
'—,
гч
го
Г-Н
ОО
4J-
о
гч
1_
чг
чг
чо
гч
ГО
чг
г-Н
ОО
го
о
гч
1^
го
чг
|/*\
1-Н
ОО
гч
о
гч
ОО
чГ
f-H
*г\
ЧГ
,"н
чо
1-Н
ОО
1-Н
о
OS
1-Н
«гч
ч*-
"■"'
гч
^
lr\
чг
г>»
1-Н
ОО
о
о
о
гч
го
ОО
1-Н
ОО
OS
OS
го
т
OS
г-Н
ОО
ОО
OS
гч
гч
чг
_
ЧО
чГ
'""'
о
гч
оо
г>*
OS
ГО
гч
г-Н
ЧО
тг
,-н
гч
гч
ОО
чо
OS
г-Н
ЧО
чг
ЧГ
гч
гч
го
гч
гч
ОО
»г\
OS
ITS
гч
го
чг
го
гч
ОО
чг
OS
чо
гч
чГ
г^
г>*
чг
*■"■
чг
гч
ОО
ГО
OS
Г*ч
гч
1-Н
г^
чг
г-Н
гч
I^N
гч
ОО
гч
OS
ОО
гч
гч
ГО
г^
чг
чо
гч
ОО
г-Н
OS
I
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
2
3
4
148.1
2
3
4
149.1
2
3
4
150.1
2
3
4
151.1
2
3
4
152.1
2
3
4
01. Eu.
4
148.1
2
3
4
149.1
2
3
4
150.1
2
3
4
151.1
2
3
4
152.1
2
3
4
153.1
01. Hi.
3
4
148.1
2
3
4
149.1
2
3
4
150.1
2
3
4
151.1
2
3
4
152.1
2
3
4
Art.
Arch.
Мак. К.
Euseb.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Персей 1
2
3
4
5
6
7
8
a. Chr.
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146 1
1 a. Abr.
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871 1
1 Olymp.
153.1
2
3
4
154.1
2
3
4
155.1
2
3
4
156.1
2
3
4
157.1
2
3
4
158.1
2
| 01. Eu.
2
3
4
154.1
2
3
4
155.1
2
3
4
156.1
2
3
4
157.1
2
3
4
158.1
2
3
4 1
I 01. Hi.
153.1
2
3
4
154.1
2
3
4
155.1
2
3
4
156.1
2
3
4
157.1
2
3
4
158.1
2
3 1
I Art.
Arch.
Мак. К.
Euseb.
9
10
Республика 1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Псевдофилипп 1
585
X
"8
X
§
О
-i
8
S
3
S4
i
x
n
£
"8
1 x<
.*
586
IV
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА*
I
rzl
01.110,4
01.111,4
336
01.111,2
335
Нашествие иллирийцев в Македонию: Александр разбил
Плеврия.
Опала Александра и его друзей. I.
Смерть Тимолеонта. I.
Филипп снаряжается на войну с персами: авангард в Азии
под начальством Пармениона и Аттала. I.
Сентябрь. — Свадьба в Эгах: Филипп убит. I.
Вступление на престол Александра
(336-323 гг.)
Повсеместное волнение в Греции. Мемнон одерживает
верх над Парменионом и Атталом. Интриги Аттала. I.
Александр в Фессалии: амфиктионы признали его гегемо-
нию. Александр в Фивах: посольство и подчинение афинян.
Александр собранием в Коринфе назначается стратегом
эллинов. I.
Аттал убит по приказу Александра. I.
Возвращение Александра в Македонию. I.
Экспедиция Александра против трибаллов. Переход через
Дунай: подчинение трибаллов и гетов. Посольство кель-
тов. I.
Экспедиция против иллирийцев (Клит) и тавлантинцев
(Главкий). I.
Обручение Кинаны, сестры Александра, с Л ангаром, кня-
зем агрианов. I; П.
Волнение в Греции: предприятия Персии, деятельность Де-
мосфена. Покушение Мемнона на Кизик. I.
Лето. — Восстание в Фивах: осада Кадмеи. I.
Осень. — Взятие и разрушение Фив Александром. Посоль-
ство и подчинение афинян: изгнание Харидема и бегство
Эфиальта. I.
* Мы видели, с какими хронологическими затруднениями борется по-
стоянно автор Истории эллинизма, с какою методическою точностью он
разбирает вопросы этого рода, отделяя достоверные данные от вероятных
и возможных. Он не решался собрать в хронологической таблице выводы
своих исследований оттого, без сомнения, что опасался, как бы не нару-
шить эти различные степени вероятности и не выйти из пределов досто-
верности. Я сочувствую этой строгости, а между тем считаю долгом на свой
страх представить события в хронологическом порядке и сгруппировать
согласно логической их последовательности. Само собою разумеется, что
автор, унесенный смертью в то самое время, как я готовился подвергнуть на
его рассмотрение этот труд, никоим образом не может быть ответствен за
ошибки, какие могут здесь проскользнуть.
Прим. А. Буше-Леклерка
587
334
01.111,3
333
01.111,4
Возвращение Александра в Македонию. Подготовка к ве-
ликой войне: македонская армия; персидская армия. I.
Офонтопат наследует Пиксодару как династ Карий. I.
Антипатр — наместник в Македонии. I.
Март. — Выступление Александра: поход через Амфиполь,
Абдеру, Кардию, Элеонт; переправа через Геллеспонт:
жертвоприношения и игры на развалинах Илиона. Мино-
вав Перкот, Лампсак, Приап, армия прибыла к Гранику. I.
Битва при Гранике (май?). I.
Александр повернул на юг: Парменион взял Даскилей;
Калат назначен сатрапом Фригии на Геллеспонте. Маке-
донский флот под начальством Никанора у Лесбоса. Вол-
нение олигархической (персидской) партии в Эфесе. I.
Александр в Сардах. Демократическая реакция в Эфесе.
Александр в Эфесе. I.
Алкимаху поручено освободить эолийские и ионийские
города: восстановление демократии в городах. Пармени-
он отправился в Карию.
Экспедиция Александра Молосского, дяди Александра
Великого, в Италии. I; III.
Лето. — Блокада и взятие Милета. Македонский флот рас-
пущен. I.
Осень. — Александр в Карий: осада и взятие Галикарнас-
са. Новобрачным дан отпуск. Гордий назначен сборным
местом. I.
Харет двинулся на Мефимн. I.
Подчинение Ликии: Неарх — сатрап в Ликии. Александр в
Фаселиде; заговор и арест Александра Линкестийца. I.
Мемнон, главнокомандующий персов, овладел Хиосом и
умер у Митилены. Харидем предан Дарием смерти. Мити-
лена, Тенедос, Милет заняты персами. Персидская эскадра
под начальством Аристомена двинулась в Геллеспонт. I.
Александр в Памфилии; взятие Аспенда и Сагаласса. Алек-
сандр переходит через Тавр и зимует в Гордий: организа-
ция покоренных стран. Асандр — сатрап Лидии. I.
Крит занят войском наемников под начальством Агесилая,
брата Агиса. Афиняне колеблются. I.
Александр восстанавливает свой флот: Протей разбил
Датама у Сифна. I.
Пребывание Александра в Гордий; македонские войска
собираются: «Гордиев узел». I.
Июль. — Выступление из Гордия. Александр в Анкире:
покорение Паф-лагонии и Каппадокии. I.
Сентябрь. — Александр переходит через Тавр и вступает
в Киликию: купанье в Кидне. I.
Гегелох разбил эскадру Аристомена в Геллеспонте и взял
Тенедос. I.
I
о
-I
8
15
332
I
с;
CZ I
m*
01. 112, 1
331
Персидский флот у Сифна. Бегство Гарпала. Переговоры
персов с эллинами. Посольства из Афин, Спарты и Фив к
Дарию. I.
Взятие Галикарнасса, защищаемого Офонтопатом. Персы
покидают карийское побережье. I.
Александр в Тарсе: Парменион отправляется с авангардом
на Восток. Александр проходит через Анхиал, Солы, Таре,
Магарс, Малл. I.
Фарнабаз у Хиоса; Автофрадат в водах Галикарнасса. I.
Дарий со своим войском в Сохах, в Сирии. I.
Ноябрь. — Оставив в Иссе больных, Александр прибыл в
Мириандр. Персы врасплох берут Исс. I.
Битва у Исса. Мать, жена и дети Дария в плену у Алексан-
дра. I.
Дарий переходит через Евфрат при Фапсаке: эллинские
наемники из его войска пробрались с Аминтой в Триполи,
на Кипр, в Египет и были перебиты под Мемфисом. I.
Декабрь. — Переписка между Дарием и Александром. I.
Парменион взял Дамаск и пленил эллинских послов. I.
Организация покоренных стран: Балакр — сатрап Кили-
кии, Менон — сатрап (Келе) Сирии. I.
Январь. — Александр в Финикии: покорение Арада, Биб-
ла, Сидона. I.
Январь. — Осада Тира. I.
Финикийские и кипрские корабли отделяются от персид-
ского флота. Родос прислал суда Александру. I.
Поход Александра в Анти-Ливан: покорение аравийских
племен. I.
Успехи македонского флота под начальством Гегелоха и
Амфотера: Тенедос отпадает от персов; Фарнабаз и Арис-
тоник захвачены на Хиосе; подчинение Коса и Лесбоса;
Харет изгоняется из Митилены. Балакр вновь занимает
Милет. I.
Август. — Взятие Тира. I.
Сентябрь. — Выступление из Тира: осада Газы; царь ра-
нен. I. Амфотер у Крита. I.
(Александр в Самарии и Иерусалиме?). I.
Декабрь. — Александр из Газы переходит в Пелусий. Под-
чинение Мазака, египетского сатрапа. Александр в Мем-
фисе, Канопе, Ракотиде. Основание Александрии. I.
Гегелох присоединяется к Александру в Египте. I. Алек-
сандр Эпирский убит в Италии: его армия истреблена у
Пандосии. I. Персидские войска собираются на вавилонской
равнине. I. Экспедиция Александра к оазису Аммона. I.
Возвращение Александра в Мемфис: прием послов; присо-
единенные к армии подкрепления: Певкест и Макартат —
стратеги в Египте. I.
589
01. 112, 2
330
Весна. — Александр в Тире: Менандр назначен сатрапом
в Лидии; Асклепиодор — сатрапом в Сирии, Филоксен и
Киран — сборщиками податей; Гарпал — главным казна-
чеем. I.
Александр отправил флот к берегам Пелопоннеса. I.
Дарий занял позицию за Тигром. I.
Август—сентябрь. — Александр переходит через Евфрат
при Фапсаке, направляется к Нисибии, проходит по Миг-
донии, переправляется через Тигр при Бедзабде (20 сен-
тября) и спускается по левому берегу реки. I.
24—31 сентября. — Александр подходит к Гавгамелам. 1.
1 октября. Битва при Гавгамелах (Арбелах). I.
Бегство Дария к Экбатанам: Ариобарзан укрепился за пер-
сидскими проходами. 1.
Экспедиция Зопириона, понтийского стратега, против ге-
тов. I.
Октябрь—ноябрь. — Александр в Вавилоне: Мазей назна-
чен сатрапом Вавилонии, Асклепиодор — интендантом,
Агафон и Аполлодор назначены стратегами; Менет — гу-
бернатором Сирии, Финикии и Киликии. I.
Филоксен, отправившись с авангардом, занял Сузы. Алек-
сандр в Сузах; преобразование армии.
Абулит — сатрап Сузианы; Мазар и Архелай — стра-
теги. I.
Половина декабря. — Александр переправляется через
Паситигр, проходит по стране уксиев, берет персидские
проходы. Ариобарзан бежит в Мидию. I.
Александр в Пасаргаде: конфискация царской казны. I.
Поражение и смерть Зопириона: восстание Мемнона, фра-
кийского стратега; отпадение Севта; всеобщее восстание
во Фракии. I.
Агис подает сигнал к восстанию против македонян и при-
зывает греков к оружию. Восстание этолян, фессалийцев
и перребов: этоляне разрушают Ойниады. Воинственные
попытки афинян: Агис осаждает Мегалополь. I.
Антипатр разбил Мемнона. I.
Александр в Персеполе: гробница Кира; пожар в персе-
польском дворце. Александр велел обучить 30 000 моло-
дых азиатов военному искусству. I.
Волнение в Афинах. I.
Март. — Экспедиция против мардов. I.
Переговоры Севта с афинянами: Рибул в Афинах. I.
Апрель—июль. — Александр в погоне за Дарием: Оксафр
назначен сатрапом в Паретакене. Александр оставляет
свои сокровища в Экбатанах под охраною Гарпала, назна-
чает Оксидата сатрапом, достигает Par и проходит через
Каспийские ворота. I.
|8
X
§
о
3
£
В
I »
Is
'•г
01.112,3
01.112,4
Усмирив Фессалию, Антипатр вступает в Пелопоннес с
40 000 воинами: поражение и смерть Агиса; подчинение
Спарты. I.
Июль. — Дарий убит Бессом и Барсаентом. Его армия рас-
сеялась. I. Александр в Гекатомпилах: Амминап — сатрап
в Парфии, Тлеополем — стратег. I.
Процесс Ктесифонта. I.
Армия тремя отрядами направляется в Гирканию; борьба
Кратера с тапурийцами; войска собираются в Задракар-
тах. I.
Август—сентябрь. — Александр в Задракартах: экспеди-
ция в страну мардиев; подчинение Фратаферна, Артабаза
и Автофрадата; греческие наемники изъявляют покорность
и выдают отправленных греческими городами к Дарию
послов. I.
Александр в погоне за Бессом: поход из Гиркании в Бакт-
риану: Клит отправлен в Парфию. I.
Александр в Сузии: подчинение Сатибарзана. К армии при-
соединено подкрепление. Поход в Бактрию. I.
Возмущение Сатибарзана: Александр возвращается, раз-
бивает восставших близ Артакоаны, поручает Арию Ар-
заму и основывает там Александрию (Герат). I.
Октябрь—ноябрь. — Александр в Дрангиане (Проффа-
зия): собрание отрядов и преобразование армии. Заговор
и процесс Филоты, сына Пар-мениона. Парменион лишен
жизни в Экбатанах. I.
Александр проходит по стране ариаспов, гедросиев, ара-
хосиев. Менон — сатрап в Арахосии — основал там Алек-
сандрию (Кандагар). I.
Сатибарзан вновь возмутил Арию; волнение в Парфии;
Эригий и Каран отправлены в Арию. Сатибарзан побеж-
ден и убит; умиротворение Арии. I.
Александр в стране парапамисадов. Основание кавказской
Александрии. I.
Переход через Кавказ: Александр в Бактрии (Драпсак,
Аорн, Бактры). Бегство Бесса в Согдиану. I.
Артабаз назначен сатрапом в Бактрии: ветеранам и фесса-
лийским волонтерам разрешен отпуск. I.
Весна. — Александр переправляется через Оке. Бесс вы-
дан Александру. I.
Александр в Навтаке, в Мараканде, столице Согдианы. I.
Поход Александра к Яксарту или Тапаису: переговоры со
скифами. 1.
Восстание в Согдиане; Александр вернулся, взял семь кре-
постей. Основание Александрии на Танаисе, Александр
разбил скифов на правом берегу Яксарта. Спитамен и ски-
фы разбили македонский отряд в Согдиане. Александр
591
328
01.113, 1
327
326
01.113, 3
снял осаду Мараканды и наложил страшную кару на Со-
гдиану. I.
Александр занял зимние квартиры в Зариаспах; он созвал
бактрийских сановников, различные посольства. Из Ли-
кии, Карий, Сирии и Фракии прибыли значительные под-
крепления. Казнь Бесса. Новые тревоги в Согдиане. I.
Весна. — Александр в Согдиане: умиротворение края. Ос-
нование колоний. I.
Александр в Мараканде: убийство Клита. Нападение Спи-
тамена на Зариаспы. I.
Александр преследует сообщников Спитамена: подчине-
ние мятежников в Ксениппе. Подчинение Сизимифра; Спи-
тамен лишен жизни массагетами. I.
Март. — Александр взял укрепленный замок Оксиарта и
его дочь Роксану. I.
Александр пошел вверх по Оксу и заставил сдаться Хори-
ина. Кратер отправился в Паретакену. I.
Александр в Бактрах: организация завоеванных стран. I.
Бракосочетание Александра с Роксаной. Обстановка вок-
руг Александра: заговор пажей; арест Каллисфена. I.
Апрель. — Выход из Бактрии: Александр направился в
Индию. Депутация индусских князей в Никею.
Гефестион и Пердикка спускаются вдоль по правому бе-
регу Кофена: Александр переходит через Кофен и Хоасп
и вступает в страну аспасиев (в Андаку, Аригей). После-
довательные поражения аспасиев. I.
Александр в Нисе; он переходит через Гурей и вступает к
арсакенцам; осада и взятие Массаги, Оры и Базиры. I.
Александр у парамисад; поражение и смерть Астаса, прин-
ца Певкелы. Взятие крепости Аорна. I.
Восстание арсакенцев; Александр двинулся на Дирту. I.
Александр спускается на судах вниз по Инду: посольство
Таксилэ. I. Переправа через Инд; Александр у Таксила;
подчинение края; Филипп назначен сатрапом Индии по сю
сторону Инда. I.
Александр идет против Пора: поражение Спитака; пере-
права через Гидасп. I.
Май. — Битва при р. Гидаспе; поражение Пора. I.
Таксил и Пор утверждаются в их владениях. Основание
Букефала и Никеи. Посольство Пора Гандаритиды. I.
Июнь—июль. — Александр двинулся против Абисара; под-
чинение главсов; бегство Пора Гандаритиды. Переход че-
рез Акесин; подчинение Гандаритиды. I.
Август. — Переправа через Гидраот; битва со свободными
индийцами (адрестами, кафеями); взятие и разрушение
Сангалы. I.
"8
I
°
3
X
5
325
I
с;
rz I
01.113,4
Александр в областях Сопифа и Фегея. I; посольство Нан-
ды, царя прасиев. II. Александр замышляет переправить-
ся через Гифасис; сопротивление армии; Александр решил
вернуться. I.
Религиозное торжество на берегах Гифасиса. I.
Сентябрь. — Отступление армии; отдых на берегах Аке-
сина; посольство и подчинение Абисара. I.
Войска собираются на Гидаспе (в Никее). Устройство пре-
сноводного флота из 33 триерархов. Анекдот по поводу
Эвмена. Смерть стратега Кена. I.
Армия двинулась, и флот спустился вниз по Гидаспу. Флот
подвергся опасности при слиянии Гидаспа и Акесина. I.
Вторжение Александра в страну сивов. I.
Экспедиция против маллов и оксидраков — прибрежных
жителей Гидраота. Взятие Агалассы. Александр пресле-
дует беглецов по ту сторону Гидраота; пожар в городе
брахманов. Битва при Гидраоте; Александр опасно ранен
во время штурма столицы маллов. Подчинение маллов и
оксидраков. I.
Александр по Гидаспу спускается к Инду. I; основание
Александрии (kv vfj '(Imavjj). I.
Мятеж эллинских ветеранов в Бактрии; волнение у пара-
мисад; восстание Ордана в Арии. I.
Февраль. — Армия и флот спускаются по Инду; прибытие
к согдам; основание Александрии Согдианской, где Пифон
остался с 10 000 воинов. Подчинение князя Самба. I.
Экспедиция, направленная против Мусикана; подчинение
князя. Александр у престиев; поражение и смерть Окси-
кана. Всеобщее восстание: отпадение Самба и Мусикана.
Подавление мятежа. Подчинение Мёрса, князя Патталы. I.
Узнав о волнениях в Бактрии и Арии, Александр отправил
туда Кратера с отрядом. I.
Июль. — Александр вновь направляется к югу; он вступил
в Патталу. I.
Гефестиону поручается соорудить цитадель, порт и флот в
Паттале; Александр спускается по правому рукаву Инда. I.
Александр на берегу Океана: прилив и отлив. Возврат в
Патталу. I.
Александр исследует восточный рукав Инда. Возврат в
Патталу. I.
Экспедиция Кратера через Арахосию и Дрангиану. I.
Август. — Неарху поручается исследовать побережье Оке-
ана до устья та и Тигра; Александр идет сухим путем. I.
Август—октябрь. — Поход Александра: он подчиняет ар-
битов, оритов и проходит по пустыне Гедросии. I.
21 сентября. — Неарх вышел с флотом из Патталы. I.
Остановка армии в Пуре, в Гедросии. I.
593
Неарх при устье Томира (10 ноября), у берегов ихтиофа-
гов (21 ноября): он пристает к Гармосии в Кармании (19 де-
кабря). I.
324 | Декабрь. — Александр в Кармании; Неарх в лагере Алек-
сандра (половина декабря). I.
Кратер в Кармании; восстановление великой армии. Осуж-
дение Аспаста, Ордана, Клеандра, Ситалка. Сибиртий на-
значен сатрапом Арахосии и Кармании. Гарпал бежал из
Экбатан, захватив 5000 талантов. I.
Параллельное движение флота и армии из двух корпусов
под начальством Александра и Гефестиона. Назначено
соединиться в Сузах. I.
Александр в Пасаргадах; он восстановил гробницу Кира.
Александр в Персеполе; казнь Орксина и Бариакса. I.
Афиняне отказываются принять Гарпала, он бежал к Те-
нару. I.
Февраль—май. — Александр в Сузах; казнь Абулита, Ок-
сиафра и Гераконта. Великие свадебные торжества: Алек-
сандр женится на Статире, дочери Дария, а его офицеры —
на азиатских принцессах. Всесожжение Калана. 1.
Реорганизация армии, в которую Александр вводит ази-
атских солдат и офицеров; недовольство македонян. Алек-
сандр требует от эллин божеских почестей и предписывает
возвращение изгнанников. I.
Май—июль. — Гефестион с армией направляется к Опи-
су; Александр пристает к Евлею, достигает устья Тигра
и, поднявшись вверх по реке, соединяется с Гефестионом
в Описе. I.
Июль. — Военный мятеж в Описе. Кратеру и Полиспер-
хонту поручено отвести в Европу уволенных ветеранов. I.
01. 114, 1 | | На олимпийских играх провозглашается декрет о возвра-
щении изгнанников. I.
Август. — Александр вышел из Описа и направился к Эк-
батанам через Карры, Самбату, К ел он; он посетил сады
Семирамиды; пробыл один месяц в Нисе; мнимый рассказ
об амазонках. Распря между Гефестионом и Эвменом. I.
Гарпал в Афинах; Александр требует его выдачи; Гарпал
бежал к Тенару, потом на Крит, где был убит Фиброном. I.
Октябрь. — Александр прибыл в Экбатаны: Дионисии,
праздники и банкеты. I. Смерть Гефестиона. Пердикка и
Динократ отправились готовить похороны в Вавилоне.
Неарху поручено провести флот к Вавилону, а Гераклиду
строить суда на Каспийском море. I.
Ноябрь—декабрь. — Процесс по поводу Гарпала: осужде-
ние Демосфена, Демада и Филокла; бегство Демосфена. I.
323 | Александр покидает Экбатаны: армия двумя колоннами
проходит по стране коссеев и подчиняет это племя. I.
20 История эллинизма
"8
°
о
3
Я
о
g4
1ё
Прием разных посольств (бруттиев, луканов, этрусков,
римлян, карфагенян, скифов, кельтов, эфиопов). I.
Александр вступает в Вавилон. Новое эллинское посоль-
ство: прибытие Кассандра, сына Антипатра. I.
В Вавилоне собрался значительный флот; замыслы каса-
тельно Аравии, суда отправлены для ее исследования. I.
Поход Александра к Евфрату и Паллакопу; он посещает
гробницы вавилонских царей. I.
Возвращение в Вавилон: новая организация армии, смот-
ры и учения. I.
Май. — Погребение Гефестиона и жертвоприношения в
честь его. I.
Июнь. — Смерть Александра. I.
Военачальники собираются на военный совет. Возмутив-
шаяся пехота провозглашает царем Филиппа Арридея.
Переговоры и соглашения; Пердикка — хилиарх. II.
Пердикка назначает казни: смерть стратега Мелеагра. II.
Раздел сатрапий и должностей; Пердикка — наместник
империи. II. Завещание Александра уничтожено общим
собранием. П.
Восстание греческих колонистов в Бактрии. Волнения в
Киренаике. II.
Убийство Статиры и Дрипетиды. Роксана родила сына пос-
ле смерти Александра. П.
Погребение Александра. П.
Пифон — сатрап Мидии, изгоняет поселенцев Бактрии. II.
Леоннат и Эвмен по приказу Пердикки двинулись из Ва-
вилона в Каппадокию. II.
Волнение в Афинах: война решена, осуждение Демада и
Аристотеля. II.
Воинственное заявление Афин; Эллинский союз; Леосфен,
главнокомандующий союза, занимает Фермопилы. Волне-
ние во Фракии, Иллирии, Эпире, Фессалии. II.
Антипатр в Фессалии: он занял Гераклею. И.
Август—сентябрь. — Битва при Гераклее; восстание Фес-
салии; вооружение во всей Греции; объезд Демосфена и
Гиперида в Пелопоннесе. II.
Антипатр осажден в Ламии. Лисимах вступает во Фракию,
а Леоннат идет на помощь к Антипатру. II.
Афиняне вооружают флот из 240 судов под начальством
Эветиона; македонский адмирал Клит в Кикладах. II.
Кирены взяты Фиброном; борьба Фиброна с киреней-
цами. П.
Осада Ламии; смерть Леофена; Антифил — начальник со-
юза. II. Вызов Демосфена. Сокращение союзной армии;
отпадение этолян и молоссов. II.
Морская битва у Аморга. II.
595
01. 114, 3
321
Микион хотел сделать высадку в Рамне, но был отражен
Фокионом. II.
Пердикка и Эвмен в Каппадокии: подчинение провинций;
Эвмен — сатрап. II.
Лисимах в борьбе с Севтом. II.
Леоннат побежден и убит близ Мелитии. Антипатр вышел
из Ламии и отступил на север Фессалии. II.
Надгробное слово над павшими в Ламии, сказанное Гипе-
ридом. II.
Договор, заключенный между Антипатром и Птолемеем
Лагидом ввиду войны с Пердиккою. II.
Фиброн разбит киренейцами. II.
Афинский флот разбит близ Эхинадских островов на
этольском поморье. II.
Пердикка в Писидии против Ларанды и Исавры. П.
Движение Кратера с целью соединиться с Антипатром: ма-
кедоняне подвигаются к Пенею. II.
Эвмен набрал армию в Каппадокии. II.
Фиброн победил киренейцев; изгнанные киренейцы при-
бегли к помощи Птолемея. II.
7 августа. — Битва при Краноне; союзники рассеяны; Эл-
линский союз распался, подчинение Фессалии. П.
Обручение Пердикки и Никеи, дочери Антипатра. Олим-
пиада предлагает Пердикке руку своей дочери Клеопат-
ры. II.
Антипатр в Беотии. Фокион и Демад посланы для перего-
воров. II.
Офел — вождь Птолемея, в Киренаике: поражение и
смерть Фиброна. II.
Смерть Аристотеля в Халкиде. II.
Сентябрь—октябрь. — Македоняне заняли Мунихий; пре-
образование афинских учреждений, право гражданства
сводится к наименьшему цензу в 2000 драхм. Бегство и
осуждение in contumaciam ораторов: смерть Гиперида и
Демосфена (14 октября). Восстановление олигархии в гре-
ческих городах. Афинское переселение во Фракию. П.
Брак Кратера и Филы, дочери Антипатра. И.
Кинан отвозит свою дочь Евридику в Азию; смерть Кина-
на; обручение Евридики с царем Филиппом Арридеем. II.
Птолемей овладел Киреною. II.
Антигон, угрожаемый Пердиккою, бежит в Азию. II.
Пердикка в Каппадокии: он разводится с Никеей и женит-
ся на Клеопатре. II.
Кампания Антипатра и Кратера в Этолию. II.
Останки Александра переносятся из Вавилона в Мем-
фис. II.
Антигон в стане Антипатра: мир с этолянами. II.
"8
о
2
*
20*
01.114,4
I
с:
з:
Q-
CZI
m>
320
Весна. — Пердикка с царскими войсками и флотом высту-
пает из Писидии и направляется в Египет. Птолемей под-
вергается суду и оправдывается. II.
Антипатр, Кратер и Антигон переходят через Геллеспонт.
Эвмен отступает в Каппадокию. Неоптолем, армянский
сатрап, вступает в переговоры с союзниками. II.
Этоляне в Акарнании; поражение македонского полковод-
ца Поликла; нашествие этолян на Фессалию. II.
Неоптолем изгнан Эвменом, отвергшим предложения со-
юзников. II.
Восстание в Фессалии; волнение в Греции. Письма Демада
к Пердикке. II.
Антипатр двинулся в Киликию, Кратер — в Каппадокию.
Антигон, начальствуя над флотом, разбил наварха Пердик-
ки Гагнона. П.
Пердикка в Пелусии; измены в его армии. II.
Июль. — Эвмен разбил Кратера; смерть Кратера и Неопто-
лема. II.
Неудачи Пердикки при переходе через Нил: Пердикка убит
своими солдатами, провозгласившими Птолемея. II.
Пифон и Арридей назначены регентами. Эвмен занял при-
брежные области Геллеспонта. II.
Антигон на Кипре. II.
Полисперхонт разбил этолян и потушил мятеж в Фесса-
лии. П.
Узнав о смерти Кратера, армия Египта осудила на смерть
Эвмена и пятнадцать других стратегов Пердикки. Армия
возвращается в Сирию: стратеги созываются в Трипара-
дис; Антипатр — регент. II.
Аттал со своим флотом захватил казну в Тире и собрал
приверженцев Пердикки. II.
Раздел в Трипарадисе. II.
Родосцы разбили на море Аттала; он удержался в Карий,
Лидии, Писидии. II.
Эвмен в Сардах; он отказывается отрезать дорогу Анти-
патру и располагается на зимние квартиры в Келенах. II.
Царская армия под начальством Антигона заняла зимние
квартиры в Гордионе. II.
Антипатр в Сардах; процесс Клеопатры; Антипатр в Гел-
леспонтской Фригии. II.
Февраль. — Антипатр вступает в Македонию с царской
семьей. II.
Эвмен отступает в Армению, его преследует Антигон.
Преданный Аполлонидом, он разбит в Оркинской об-
ласти. II.
Асандр изгоняет Аттала из Карий. II.
Эвмен осажден в Норе. II.
597
01. 115, 1
319
01.115,2
318
Антигон вступает в переговоры с Эвменом, отправившим
Иеронима из Кардии к Антипатру. II.
Никанор, друг Птолемея, напал на Палестину, взял Иеру-
салим: евреи переведены в Александрию; подчинение Си-
рии. II.
Демад, отправленный послом к Антипатру, предан смерти
вместе с сыном. II.
Антигон прибыл форсированным маршем из Норы в Пи-
сидию, разбил в двух стычках приверженцев Пердикки,
взял в плен Аттала и прогнал Алкета в Термесс; смерть
Алкета. П.
Роксана спасается бегством со своим сыном в Эпир. II.
Январь. — Смерть Антипатра; Полисперхонт — регент. II.
Антигон возвращается во Фригию. II.
Привезенные из Суз сокровища под охраною сложены в
Киинде в Киликии. П.
Покушение Арридея на Кизик. II.
Кассандр против Полисперхонта: Никанор вступает во
владение Мунихием во имя Кассандра. П.
Антигон в Келенах открыто принял сторону против По-
лисперхонта. Союз Антигона с Птолемеем. II.
Антигон изгоняет Арридея из Геллеспонтской Фригии и
Клита из Лидии; он захватил в Эфесе 600 талантов, вы-
сланных из Киинды в Македонию. П.
Кассандр бежал из Македонии и прибыл в стан Антигона.
Тройной союз между Антигоном, Птолемеем, Кассандром.
Деметрий, сын Антигона, женился на Филе, сестре Кассан-
дра. II.
Май. — Декрет о свободе, изданный в пользу эллинских
городов Полисперхонтом. Демократическая реакция в
Греции. Самос сдан афинянам. II.
Проект примирения Антигона с Эвменом, ушедшим из Норы
и вступившим в Каппадокию. Соглашение между Эвменом,
Полисперхонтом и Олимпиадою. Эвмену поручается вес-
ти войну с Антигоном, Кассандром и Птолемеем. II.
Эвмен в Киликии: он захватил аргираспидов и набрал ар-
мию при посредстве киндской казны. П.
Птолемей и Антигон покушаются подкупить вождей Эв-
мена. II.
Никанор занял Пиреи. Александр, сын Полисперхонта, в
Аттике. Фокион отрешен и предан суду вместе с другими
олигархами. Осужденные высланы в стан Полисперхонта
в Фокиде и возвращены в Афины. П.
Процесс олигархов; осуждение и казнь Фокиона (май). П.
Пор убит Эвдемом. П.
Стратег Пифон нападает на сатрапов. II.
Эвмен сооружает флот в Финикии. II.
"8
I
с;
rzl
Кассандр в Пирее: Полисперхонт пытается осадить его и
переходить с царской армией в Пелопоннес. П.
01. 115, 3 | — | Он потерпел неудачу при осаде Мегалополя и покинул
Пелопоннес. П.
Козни царицы Евридики против Полисперхонта. II.
Полисперхонт отправил Клита с флотом в Геллеспонт. Ни-
канор и Антигон напали на Клита близ Византия; он был
разбит и лишился жизни во время бегства. П.
Разбитый союзными сатрапами Пифон прибег под защи-
ту Селевка. II.
Антигонов флот в водах Киликии увлекает к отпадению
флот Эвмена. II.
Афины подчиняются Кассандру: Деметрий Фалерский —
наместник города.
Ноябрь. — Антигон с сухопутным войском вышел от бере-
гов Геллеспонта навстречу Эвмену, который направился на
восток и занял зимние квартиры в Карах, близ мидийских
ущелий. П.
Ноябрь. — Никанор, вернувшись в Мунихий, был как из-
менник предан смерти Кассандром. II.
Кассандр назначен Евридикою главным начальником, всту-
пает в Македонию. Полисперхонт отступает в Этолию. II.
317 | Январь—май. — Антигон перезимовал в Месопотамии. II.
Эвмен спустился вниз по Тигру, угрожал Вавилону и при-
был в Сузы, где к нему присоединились восточные сатрапы.
01. 115, 4 | — | Май. — Антигон двинулся на Сузы. Эвмен отступил за
Паситигр. Антигон потерпел поражение на Копрате, со-
вершил опасное отступление, прошел через страну коссе-
ев и прибыл в Мидию. II.
Армия сатрапов и Эвмена в Персеполе; празднества и
пиры. П.
Антигон двинулся в Персию. II.
Избиение олигархов в Сиракузах; Агафокл — тиран. II.
Кассандр подчиняет города в Элладе и Пелопоннесе, за-
щищаемые Александром, сыном Полисперхонта. П.
01. 116, 1 | — I Эакид, Полисперхонт и Олимпиада завладели Македонией:
Евридика предана своею армией; Филипп Арридей и Еври-
дика казнены по приказу Олимпиады (октябрь—ноябрь). П.
Осень. — Оба войска в виду: военная хитрость Эвмена. II.
Нерешительная битва в Паретакене. II.
Антигон отступает к Гадамарте в Мидию; армия сатрапов
в Габиене. П.
Кассандр перед Тегеей. II.
Этоляне заняли Фермопилы с тем, чтобы отрезать Кассан-
дру путь к возвращению. II.
Кассандр прибыл морем в Фессалию, избег Полисперхон-
I та и вступил в Македонию. II.
599
316
315
01.116,2
Олимпиада заключена в Пидне; Эакид свергнут с престо-
ла своими подданными; Полисперхонт предан своими от-
рядами; он кинулся в Наксий. II.
Антигон двинулся в Габиену с целью напасть на Эвмена. П.
Осада Пидны. II.
Заговор против Эвмена; битва при Габиене; Эвмен выдан
Антигону. II.
Смерть Эвмена. II.
Антигон возвращается на зимние квартиры в Мидии. Инт-
риги и казнь Пифона. П.
Взятие Пидны, Пеллы, Амфиполя; покорение Македонии;
казнь Олимпиады. Роксана и ее сын заключены в Амфипо-
ле. Кассандр женится на Фессалонике, дочери Филиппа;
основание Кассандрии, Фессалоники, Уранополя. П.
Полисперхонт спасается к этолянам. И.
Март—апрель. — Антигон вышел из Экбатан в Персе-
поль. П.
Май. — Антигон в Сузах; он увозит царскую казну. II.
Июнь—август. — Антигон в Вавилоне; разлад между Ан-
тигоном и Селевком, который бежал в Египет. И.
Кассандр вышел в Грецию с войском и восстановил Фивы.
Александр, сын Полисперхонта, занял перешеек. II.
Кассандр в Пелопоннесе. II.
Сентябрь—ноябрь. — Антигон отправился из Вавилона в
Киликию и зимовал в Малах. И.
Переговоры между Птолемеем, Селевком, Кассандрой и
Лисимахом; тайное соглашение против Антигона. П.
Получив известия с Востока, Кассандр поспешно покинул
Пелопоннес. II.
Союзники предъявили Антигону ультиматум. Война объяв-
лена. П.
Весна. — Антигон отправил Аристотеля в Грецию, занял
Сирию и Финикию и соорудил себе флот. Взятие Ианпы,
Газы; осада Тира. И.
Селевк вышел в море с флотом и присоединил кипрских
князей к делу союзников. II.
Антигон выпустил декрет против Кассандра и в пользу гре-
ческих городов. Союз Антигона с Полисперхонтом. II.
Успехи Птолемея, племянника Антигона, в Каппадокии и
Вифинии. П.
Птолемей издал в пользу греческих городов декрет, подоб-
ный Антигонову и снарядил при Кипре новый флот. Селевк
осадил Китион. II.
Аристодем набирает войско в Этолии. И.
Кампания Кассандра в Пелопоннес против Полисперхонта
и Александра. Александр присоединился к Кассандру. II.
Успехи Аристодема в Пелопоннесе. П.
X
О
-I
X
£.
01.116,3
313
I
с;
rz'
01.116,4
Часть Антигонова флота захвачена врасплох и истребле-
на у Ликийского берега. П.
Свидание Антигона и Птолемея. II.
Александр, сын Полисперхонта, убит: его вдова Кратеси-
полида утвердилась в Сикионе. П.
Вражда между этолянами и акарнанцами; Кассандр в Акар-
нании, Эпире, Аполлонии, у тавлантинцев, в Эпидамне. П.
Акротат Спартанский и тарентинцы против Агафокла Си-
ракузского. II; III.
Кассандр отправил в Азию войско под начальством Пре-
пелая и подкрепление флоту Селевка. II.
Лемнос блокирован афинскою эскадрою на службе Кас-
сандра, освобожден Диоскоридом. И.
Кассандр и Препелай завладели Лидией: Антигоновы вож-
ди оттиснуты в Карию. П.
Греческие города во Фракии с помощью Антигона восста-
ли против Лисимаха. И.
Антигон взял Тир. II.
Стратег Птолемей одержал победу при Каприме. Антиго-
нов флот под начальством Медия в Эгейском море. II.
Антигон оставил Деметрия в Сирии и занял зимние квар-
тиры в Келенах во Фригии. П.
Лисимах против фракийских городов, фракийцев и ски-
фов. Осада Каллатиды.
Успехи Антигона против Асандра; перемирие прервано,
Антигон завладел прибрежными местами в Малой Азии. II.
Кирена и Кипр отложились от Птолемея. II.
В Сицилии — договор между Гамилькаром и Агафоклом
Сиракузским. И.
Телесфор — вождь Антигона — в Пелопоннесе. Эвбея и
Беотия отложились от Кассандра. II.
Победоносная кампания Филиппа, брата Кассандра, в Это-
лии и Эпире; Эакид побежден и убит. II.
Агис и Эпенет отвоевали для Птолемея Кирену. II.
Свидание Антигона с Кассандром. II.
Кассандр в Эвбее: Телесфор и Медий поддержали Орея;
Птолемей — стратег в Халкиде. И.
Антигон готовится перейти через Геллеспонт; внезапное
возвращение Кассандра. П.
Стратег Птолемей занял Халкиду, Эретрию, Карист, угро-
жал Афинам и изгнал гарнизоны Кассандра из Беотии,
Фокиды и Локриды. П.
Керкирцы поддерживают восстание в Эпидамне и Апол-
лонии против Кассандра. Алкет — царь в Эпире и враг Кас-
сандра. II.
Ликиск и Кассандр в Эпире. П.
601
312
01.117, 1
311
01.117,2
01.117,2
01. 117, 3
310
310
309
Кассандр вступил в переговоры с Алкетом, был разбит
аполлониатами и отступил; восстание Левкада против Кас-
сандра. П.
Птолемей усмиряет Кипр и нападает на берега Финикии и
Киликии. П.
Деметрий бежал в Киликию, потом вернулся в Сирию.
Война Карфагена с Агафоклом. II; III.
Отпадение Телесфора, который захватил Элиду и разгра-
бил Олимпию. Стратег Птолемей изгнал Телесфора из
Пелопоннеса. П.
Весна. — Птолемей со своей армией в Газе. Экспедиция
Деметрия против Газы; битва при Газе. II.
Деметрий отступил в Триполис. Птолемей завладел Сири-
ей: сдача Тира. II.
Селевк отправился в Вавилон. I.
Вступление Селевка в Вавилон: начало эры Селевкидов
(1 октября 312). П.
Селевк разбил Никанора, занял Сузиану, Мидию и Пер-
сию. II.
К Деметрию, победителю при Мионте, присоединился Ан-
тигон. Птолемей покидает Сирию. Кампания против наба-
тейцев. II.
Офел отделился от Кирены, и племена между Киренаикой
и Египтом восстали. II.
Деметрий занял Вавилон. П.
Возврат Деметрия в Сирию. II.
Мир 311 г. между Антигоном, Птолемеем, Кассандром и
Лисимахом. II.
Кампания Птолемея против мармаридов. П.
Кассандр лишил жизни Александра и Роксану. П.
Война Антигона с Селевком, которого поддерживал Пто-
лемей. Антигон разбит при Никефоре. П.
Птолемей возбуждает Грецию и занимает Киликию. II.
Стратег Птолемей и Феникс в Геллеспонтской Фригии от-
делились. II.
Успехи Лисимаха во Фракии, Кассандра в Пеонии. Авта-
риаты переведены в Орбелы. II.
Деметрий отвоевал Киликию, а Филипп — Геллеспонтскую
Фригию. Никокль из Пафа ведет переговоры с Антиго-
ном. П.
Полисперхонт провозгласил царем молодого Геракла. П.
Птолемей изгнал династию Пафа и занял Ликию. II.
Агафокл перенес войну в Африку и разбил карфагенян
(август). II.
Мир между Антиохом и Селевком. II.
Агафокл перед Тунисом; осада Карфагена, предложения
Агафокла Офелу Киренскому. И.
"8
I
о
3
I *
01. 118,1
01.118,2
308
307
I
czl
щ,
01.118,3
306
01.118,4
01. 119, 1
305
304
I
Полисперхонт повез Геракла в Македонию; он вошел в со-
глашение с Кассандрой и умертвил Геракла в Трампии. П.
Птолемей Лагид лишил жизни стратега Птолемея на Косе. II.
Птолемей сделал покушение на Галикарнас и отступил к
Минду. П.
Офел присоединился к Агафоклу под Карфагеном; его
смерть. II; III.
Птолемей в Греции: он занял Коринф, Сикион, Мегару и
заключил договор с Кассандром. П.
Проект женитьбы Птолемея и Клеопатры, дочери Филип-
па. П.
Маг отвоевал Киренаику для Птолемея. II; III. Клеопатра
убита в Сардах. II.
Деметрий собрал в Эфесе флот и отправился с ним в Атти-
ку. II.
Июнь—сентябрь. — Деметрий в Пирее; взятие Мегары,
Мунихия; освобождение Афин; выезд Деметрия Фалер-
ского. II.
Создание трибы Антигониды и Деметриады в Афинах. II.
Алкет убит в Эпире: Главкий возвращает Пирра. II.
Декрет Стратокла в честь Ликурга. Закон Софокла каса-
тельно преподавания философии в Афинах. II.
Призванный Антигоном Деметрий отправился в Киликию
и высадился на Кипре. П.
Осада Саламина. Морская битва при Саламине; Деметрий
одержал победу над Птолемеем. Антигон принял титул
царя. П.
Птолемей, Лисимах, Кассандр (а вскоре Митридат III,
Антропат, Агафок, Дионисий, Геракл) приняли царский
титул. П.
Наступательное движение Кассандра, утвердившегося в
Беотии и на Эвбее и угрожавшего Аттике. П.
Смерть Филиппа, сына Антигона и Дионисия. II.
Антигон снаряжается для экспедиции в Египет. П.
Ноябрь. — Экспедиция в Египет: неудачи и отступление
Антигона. II.
Кассандр завладел Аттикой, взял Филу, Панактон и оса-
дил Афины. П.
Отмена Софоклова закона. П.
Афиняне получили помощь от Антигона. II.
Антигон отправился против родосцев. II.
Деметрий в течение года осаждал Родос. И.
Греческие города взывают к Деметрию о помощи против
Кассандра и Полисперхонта. II.
Деметрий заключил с родосцами мир. П.
Деметрий в Эвбее и Аттике: преследуемый Деметрием Кас-
сандр возвращается через Фермопилы. II.
603
зоз
01.119,2
302
01.119,3
01.119,4
301
300
Пребывание Деметрия в Афинах. II.
Клеоним овладел Керкирою. II.
Деметрий в Пелопоннесе: взятие Аргоса, Эпидавра, Тре-
зена; покорение Аркадии; взятие и восстановление Сики-
она; взятие Коринфа, Буры, Эгиона. II.
Собрание в Коринфе: Деметрий — главнокомандующий
Эллинского союза. II.
Клеоним в Гирии и в бассейне По. II; III.
Деметрий занял Керкиру и Левкаду. II.
Возврат и пребывание Деметрия в Афинах: раболепство
афинян, расточительность и распутство царя. II.
Деметрий вооружается против Кассандра: союз Кассанд-
ра с Лисимахом. II.
Четверной союз Кассандра, Лисимаха, Птолемея и Селев-
ка. II.
Лисимах и Препелай вторглись в Малую Азию: Эолида и
Иония покоряются. II.
Кассандр занял Фермопилы. П.
Митридат убит. II; III.
Антигон преследовал Лисимаха, который отступил к се-
веру. Лисимах женился на Амастриде. II.
Птолемей овладел Сирией. II.
Деметрий собрал свои войска в Халкиде и высадился в
Фессалии. II.
Армия Деметрия и Кассандра в Фессалии. Деметрий занял
Феры. II.
Деметрий вел переговоры с Кассандром, высадился в Азию,
отвоевал приморскую страну Эфес у Понта Эвксинского
и, вероятно, также Самос. II.
Кассандр отвоевал Фессалию и двинулся за Фермопилы. II.
Революция в Эпире: Пирр изгнан. II; III.
Отряды Кассандра в Азии. II.
Союзная армия собралась у Галиса. II.
Битва у Ипса. II.
Деметрий в Эфесе, Карий, Каликии. Отпадение Афин. II.
Раздел империи между Селевком, Лисимахом и Кассанд-
ром. Учреждения в Армении, Каппадокии, в Понте; гре-
ческие города в Азии — вассальные Лисимаха. II.
Деметрий на Истме, потом на Фракийском берегу. II.
Селевк в Келесирии и Финикии; союз Птолемея с Лисима-
хом, женившимся на Арсиное. II.
Кассандр осадил Платею и угрожал Аттике. Союз афинян
с этолянами. II.
Селевк призвал Деметрия в Сирию: конгресс Росса; Селевк
женился на Стратонике, дочери Деметрия. II; III.
Смерть Деидамии, жены Деметрия. II.
[8
I
о
3
1€
'>
I
с;
01. 120, 1
01. 120, 2
01. 120, 3
01. 120, 4
01. 121, 1
01.121,2
01. 121, 3
01.121,4
01. 122, 1
Ol. 122, 2
299
298
297
296
295
294
293
292
291
Покушение Кассандра на Керкиру, поддерживаемую Ага-
фоклом. П.
Успехи Деметрия в Финикии и Келесирии: разрушение
Самарии. Мир Птолемея с Деметрием: Пирр Аманатом в
Египте. И.
Деметрий снарядил кампанию против Афин: афиняне об-
ратились за помощью к Кассандру, Лисимаху и Птоле-
мею. II.
Начало «четырехлетней войны»: Деметрий высадился в
Аттике и вторгся в Пелопоннес. П.
Экспедиция Селевка на дальний восток: он уступает бас-
сейн Инда Сандракотту. III.
Вифинский династ Зиоет принимает титул царя. П.
Смерть Кассандра и четыре месяца спустя после того его
сына Филиппа; младший сын его Антипатр стал царем в
Македонии. П.
Деметрий занял Эгину и Саламин. П.
Революция в Афинах; Лахар стал тираном. П.
Деметрий овладел Элевсином и Рамнонтом. II.
Пирр возвращен Птолемеем в Эпир и царствует с Неопто-
лемом. II.
Разлад между сыном Кассандра Антипатром и Александ-
ром. II.
Деметрий занял Пирей и стеснил Афины. П.
Злополучная экспедиция Агафокла, сына Лисимаха, про-
тив гетов. П.
Пирр стал один царствовать в Эпире и сделался зятем Ага-
фокла; он явился в Македонии. II.
Бегство Лахара; капитуляция Афин. II.
Селевк овладел Киликией, и Птолемей занял Кипр. II; III.
Деметрий двинулся против спартанцев, проникших в Ар-
кадию, и разбил их под Спартою. И.
Пирр и двое македонских царей, Антипатр и Александр,
вступили в соглашение. II.
Внезапное отступление Деметрия; Александр встретил его
в Фессалии. Деметрий лишил жизни Александра и провоз-
глашен царем Македонии. II.
Деметрий занял Фивы и усмирил Беотию. II.
Неудавшийся заговор в Афинах. Македонский гарнизон в
Мусее. П.
Селевк передал Стратонику и восточную часть своей им-
перии своему сыну Антиоху. П.
Лисимах признал Деметрия македонским царем. II.
Экспедиция Лисимаха против гетов. П.
Лисимах взят в плен гетами; он освободился. П.
Деметрий намеревается занять Фракию. II.
Новое восстание беотиян; Деметрий осадил Фивы. II.
605
01. 122, 3
01. 122, 4
290
289
288
01. 123, 1
01. 123, 2
287
01. 123, 3
01.123, 4
01. 124, 1
286
285
284
Взятие Фив. П.
Локрийцы и этоляне захватили Дельфы: пифические празд-
нества в Афинах. II.
Пирр женится на Биркенне, дочери Бардилиса. II.
Замыслы Деметрия: его сношения с Агафоклом по поводу
Сиракуз и римлян. II.
Война Деметрия с Пирром и этолянами; Деметрий женился
на Лапассе в Керкире; поражение македонской армии. II.
Пирр вторгся в Македонию; Деметрий изгнал его и заклю-
чил с ним мир. П.
Грозные приготовления Деметрия к экспедиции на Вос-
ток. II.
Смерть Агафокла Сиракузского. II; III.
Амастрида — царица Гераклеи, убита своими сыновьями
Клеархом и Оксафром. II.
Биндусара (Амитрохат) наследовал в Индии Сандракотту. III.
Менон, поддерживаемый карфагенянами, издает закон в
Сиракузах. III.
Коалиция Селевка, Птолемея, Дисимаха и Пирра против
Деметрия. II.
Деметрий предан своим войскам, провозгласившим Пир-
ра македонским царем; жена Деметрия Фила лишила себя
жизни; раздел Македонии между Пирром и Лисимахом. II.
Македонский гарнизон изгнан из Афин. II; III.
Деметрий с войском своего сына Антигона осадил Афи-
ны, которым помогает Пирр; соглашение между обоими
царями. II; III.
Деметрий в Малой Азии; он женился на Птолемаиде в
Милете. Лисимах отправил против него Агафокла, кото-
рый принудил его бежать в страну Селевка. П.
Пирр в Фессалии; он был разбит Лисимахом и отрекся от
македонского престола. Фессалия и Македония присоеди-
нены к фракийскому царству. II. Договор между Антиго-
ном и Пирром. III.
Тарентинцы возбуждают италиков на борьбу с Римом. III.
Спасенный Селевком Деметрий возмутился против него;
он был взят в плен и заключен в Апамее на Оронте. II.
Экспедиция Лисимаха во Фракию. II.
Птолемея Филадельфа отец приобщил к престолу. Птоле-
мей Керавн у Лисимаха. П.
Лисимах занял Гераклею и лишил жизни сыновей Амаст-
риды. II.
Италийцы в войне с Римом. Поражение претора Л. Цеци-
лия Метелла под Арресием. III.
Птолемей Керавн убил Агафокла. II.
Смерть Авдолеонта — царя Пеонии; Лисимах изгоняет его
сына. П.
"8
X
о
3
01. 124, 2
283
01. 124,,
01. 124, -
I
EZI
282
281
280
01.125,1
Смерть Деметрия. II.
Смерть Птолемея Сотера; воцарение Птолемея II фила-
дельфа. II.
Арсиноя, дочь Лисимаха, обручилась с Птолемеем Фила-
дельфом. Керавн бежал к Селевку. II.
Истребление галлов-сенонов римлянами. Бойи и этруски
были разбиты при озере Вадимоне. III. Появление кель-
тов в Иллирии. II.
Лисимах в Малой Азии: Селевк вступил в союз против Ли-
симаха. П.
Римляне разбили бойев в Популонии. Г. Фабриций одер-
жал победу над луканами. III.
Разрыв между Тарентом и Римом. III.
Селевк покорил Малую Азию. III.
Май. — Битва при Куропедионе: смерть Лисимаха. II.
Пирр отправил войска к тарентинцам. II.
Селевк переправился через Геллеспонт; Керавн убил его.
II; III.
Птолемей Керавн стал царем во Фракии. II.
Патрокл — военачальник Антиоха в Малой Азии; Птоле-
мей проник в Сирию. II.
Керавн разбил на море Антигона, претендента на престол.
II; III.
Пирр переправился с армией в Италию. II; III. Римляне
объявили Пирру войну. Пирр в Таренте. III.
Первое нашествие кельтов на Фракию под начальством
Камболеса. II; III.
Чума в Греции. II.
Четыре союзных города изгнали македонские гарнизоны,
возникновение Ахейского союза. II; III.
Кампания Арея, спартанского царя, в Фокиду и Это-
лию. II.
Смерть Зипета, царя Вифинии; совместничество его сыно-
вей Никомеда и Зипета. II; III.
Пирр разбил римлян при Гераклее. Возмутившийся кам-
панский легион захватил Регион: римляне изгнаны с юга
Италии. III.
Римляне заключили мир с этрусками. III.
Пирр опустошил Кампанию и двинулся до Пренесте. Пирр
отступил и расположил свою армию в Кампании. III.
Послание Фабриция в Тарент; Пирр отпустил пленных без
выкупа. III.
Карфагеняне предлагают римлянам пособие; сенат его от-
вергает. III.
Птолемей, сын Лисимаха, и иллирийский князь Монуний
вторглись в Македонию. II.
Мир между Антиохом и Керавном. II.
607
279
01.125, 2
278
01. 125, 3
277
01.125, 4
Сыновья Лисимаха убиты в Кассандрии Керавном, кото-
рый стал, таким образом, царем Македонии. II.
Киней стал посланником в Риме. III.
Война Антиоха, с одной стороны, с Никомедом и Антиго-
ном — с другой. П. Сирийская армия истреблена в Вифи-
нии Никомедом, который заключил союз с Гераклеей. II; III.
Второе нашествие кельтов во Фракию, Иллирию и Маке-
донию. II. Керавн побежден и убит кельтами. II; III.
Возобновление враждебных действий между Римом и Пир-
ром; битва при Аскуле. Побежденный Пирр отступил в
Тарент. III.
Дружественный договор Рима с Карфагеном. III.
Июнь—сентябрь. — Мелеагр стал царем Македонии в те-
чение двух месяцев; его заместил Антипатр, которого сверг
стратег Сосфен. II; III.
Аполлодор — тиран в Кассандрии. II; III.
Гикет Сиракузский взывает к Пирру о помощи; Киней стал
посланником Сицилии. III.
Карфагеняне осадили Сиракузы. III.
Третье нашествие кельтов. И.
Неудача кельтов при Фермопилах. Вернувшись с Фермо-
пил, кельты вторглись в Фокиду и были отражены при
Дельфах. II.
Июнь. — Пирр перешел в Сицилию. III.
Победы Фабриция в Самнии. III.
Отступление кельтов. II; кельтические основания в Илли-
рии и Фракии; Комонторий основал царство Тилиса. II; III.
Смерть Сосфена. II; III.
Пирр в короткое время овладел всей Сицилией; заключен-
ные в Лилибее карфагеняне предлагают мир. III.
Шайки кельтов под начальством Леоннария и Лутария ог-
рабили область Пропонтиды и перебрались в Азию. II; III.
Пирр тщетно осаждал Лилибей в течение двух месяцев. III.
Римляне опустошили Самний. III.
Война Антиоха с Антигоном возобновилась: Антигон одер-
жал победу на море. III.
Кротон и Локры во власти римлян. III.
Анархия в Македонии. II.
Проект Пирра касательно Африки: его поборы и насилия
в Сицилии. III.
Антигон разбил кельтов при Лисимахии. II; III.
Антигон, соединившись с этолянами, нанял кельтов Бидо-
рия и овладел Македонией. II; III.
Кельты в Азии (галаты) на службе у Никомеда. И; III; он
разбил Зипета и завладел всей Вифинией. III.
Восстание сикелиотов против деспотизма Пирра; успехи
карфагенян. III.
о
2
*
608
276
01. 126, 1
01.126, 2
I
с;
rzl
01. 126, 3
01. 126, 4
01. 127, 1
275
274
273
272
271
01. 127, 2
Вторжение и грабежи галатов в Малой Азии (Лидии и Ка-
рий). III.
Успехи консула Фабия Максима в южной Италии. III.
Тарентинцы и самнитяне умоляют Пирра вернуться в Ита-
лию. III.
Антиох, Никомед и Антигон против галатов. Мир между
тремя державцами. Фила, сестра Антиоха, обручилась с
Антигоном. III.
Восстание в Эгионе; союз пяти ахейских городов — Пат-
ров, Эгия, Дима, Тритеи, Фар. Распространение нового
Ахейского союза; присоединение Буры. III.
Чума в Риме. III.
Антигон осадил Кассандрию, спартанцы явились к ней на
помощь. III.
Спартанцы под начальством Клеонима заняли Трезен. III.
Пирр вернулся в Италию. Разграбили храм Персефоны в
Локрах. Пирр в Таренте. III.
Аминий занял для Антигона Кассандрию. III.
Битва при Беневенте. Пирр тщетно просил помощи у ца-
рей и князей Востока. III.
Война Птолемея II с Магом Киренайским. III.
Гиерон — стратег в Сиракузах. III.
Пирр вернулся в Эпир, оставив Милена и Гелена в Тарен-
те. III; он нанял галатов и объявил войну Македонии. II.
Птолемей предлагает римлянам дружбу; римское посоль-
ство в Александрии. III.
Птолемей, сын Пирра, взял Керкиру. III.
Пирр разбил Антигона. Эги разграблены. Пирр стал ца-
рем в Македонии. III.
Птолемей вновь разбил Антигона. III.
Римляне одержали победу над самнитами, луканами и
бруттиями. III.
Пирр вторгся в Пелопоннес через Коринфский залив, дви-
нулся на Мегалополь, а оттуда на Спарту, с тем чтобы там
водворить Клеонима. III.
Неудача Пирра под Спартою, на помощь которой явились
Антигон и спартанский царь Арей. III.
Отступление Пирра; смерть его сына Птолемея. III.
Осень. — Пирр под Аргосом, которого защищает Анти-
гон; битва под стенами города; смерть Пирра. III.
Армия Пирра рассеялась. III.
Римляне взяли Тарент. III.
Мир между Александром — эпирским царем и Антиго-
ном — македонским. III.
Антигон способствовал учреждению многочисленных ти-
раний в Пелопоннесе. Аристодем — тиран в Мегалополе.
Аристотим — в Элиде. III.
609
01. 127, 3
01. 127, 4
01. 128, 1
01.128, 3
01. 128, 4
01. 129, 1
01. 129, 2
270
269
268
267
266
265
264
263
Смерть философа Эпикура. III.
Аристотим разбит в Элиде. III.
Птолемей Филадельф женится на своей сестре Арсиное. III.
Война Александра Эпирского с Монунием — царем дар-
данцев. III.
Римляне взяли Регион; казнь солдат кампанского легио-
на. III.
Гиерон — победитель мамертинцев, провозглашен царем
Сиракуз. III.
Угрожаемая Монунием Аполлония отправила посольство
в Рим. III.
Революция в Элиде: Аристотим лишен жизни; союз Элиды
с этолянами. III.
Смерть философа Зенона Китионского. Изданный в честь
его афинянами декрет по предложению Фрасона. III.
Хремонид и Главкон, начальник Пирея, составили заговор
против Антигона. III.
Хремонидова война. Ободряемые Египтом Афины порва-
ли с Македонией; союз между Афинами и Спартою (вклю-
чительно с союзниками Спарты). III.
Антигон проник в Аттику; египетский адмирал Патрокл и
спартанский царь Арей, полагаясь друг на друга, остави-
ли афинян без помощи. Блокада Афин. III.
Галлы в армии Антигона возмутились в Мегаре. III.
Первая Сирийская война (266-263) Птолемея II с Магом и
Антиохом. III.
Смерть понтийского царя Митридата. Ему наследовал
Ариобарзан. III.
Эпирский царь Александр завладел Македонией и Фесса-
лией в связи с этолянами, которые поделили с ним Акар-
нанию. Коринф и Эвбея отпали; Антигон как бы заключен
в Аттике. III.
Солдаты предали Антигона, и Александр разбил его. III.
Смерть Арея — спартанского царя. Ш.
Деметрий, брат Антигона, разбил Александра. III.
Антигон уничтожил египетский флот у Коса: высадился в
Пелопоннесе, разбил Арея при Коринфе и взял назад Эв-
бею. III.
Восшествие на престол Ашоки, индийского царя. III.
Антигон против Александра Коринфского. III.
Основание Никомедии. III.
Абантид — тиран Сикиона. III.
Взятие Афин Антигоном. Стены города разрушены, и Ат-
тика занята македонскими гарнизонами. III.
Рождение Антигона Досона, сына Деметрия Красивого. III.
Смерть Филетера — пергамского династа. Ему наследовал
Эвмен. III.
"8
X
о
3
я
Is
1 *
€
«'«"
01. 129, 3
01.129,4
01. 130, 1
01. 130, 2
01. 130, 3
01. 130, 4
01. 131, 1
01.131,2
01.131, 3
01.131,4
01.132,1
01. 132, 2
01. 132, 3
01.132,4
01. 133, 1
01.133,2
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
01. 133, 3
248
247
246
245
Мир между Магом и Птолемеем. III.
Смерть Никомеда: война за наследство в Вифинии. III.
Ашокская надпись. III.
Смерть Антиоха I Сотера. III.
Восшествие на престол Антиоха II Теоса.
Смерть Александра Эпирского. Олимпиада стала регент-
шей. III.
Антиох II в борьбе с Византием (и Гераклеей) — союзни-
ками Египта; его экспедиция во Фракию. III.
Антиох осадил Византии. III.
Начало эры Арада. III.
Смерть Мага Киренайского. III.
Вторая Сирийская война (258—248) между Антиохом и
Птолемеем. III.
Апама призывает в Кирену Деметрия Красивого. III.
Смерть Ариобарзана — понтийского царя.
Ему наследовал Митридат. III.
Антигон вывел гарнизон из Мусея и дал Афинам сво-
боду. III.
Утверждение Ахейского союза. III.
Ксантипп в Карфагене. III.
Смерть Акротата — царя спартанского; его сын назначен
под опекою Леонида. III.
Рождение Филопемена. III.
Освобождение Мегалополя; смерть тирана Аристодема. III.
Возобновление аркадской федерации. III.
Февраль. — Арат освобождает Сикион, который вступает
в Ахейский союз. III.
Поездка Арата в Александрию. III.
Смерть Деметрия Красивого, убитого по приказу его не-
весты Береники. III.
Отпадение парфян. П.
Начало царства Аршакидов. III.
Мир между Египтом и Сирией; между Египтом и Македо-
нией. III.
Антиох женился на Беренике, дочери Птолемея. III.
Птолемей женился на Беренике Киренской. III.
Сирийская царица Береника предана смерти своею сопер-
ницею Лаодикою. III.
Третья Сирийская война (247—239).
Восстание греческих городов в Азии. III.
Смерть Птолемея Филадельфа; ему наследовал Птолемей
III Эвергет. III.
Смерть Антиоха II Теоса. Восшествие на престол Селевка
II Каллиника. Ш.
Война Египта с Сирией. Птолемей занял Селевкиду на Орон-
те, изгнал Селевка и предпринял кампанию на Восток. III.
611
01. 133, 4
244
01. 134, 1
243
01. 134, 2
242
01. 134, 3
241
01. 134, 4
240
Май. — Арат — стратег Ахейского союза. III.
Антигон Гонат против Египта; морская битва при Андро-
се. III.
Беотийцы, разбитые этолянами при Херонее, вступают в
Этолийский союз. III.
Бесполезная экспедиция Арата в Этолию и Беотию. Агис
разбит при Мантинее пелопоннесскими союзниками. III.
Птолемей III в Экбатанах, Персеполе, Сузах. III.
Покушение Агиса на Мегалополь. III.
Смерть Александра Коринфского: Коринф вновь взят ма-
кедонянами. Стоик Персей — правитель Коринфа. III.
Лидиад — тиран Мегалополя. III.
Вторжение этолян в Пелопоннес. III.
Восстание Кирены и Пентаполя: Экдем и Демофан ввели
новые учреждения в Кирене. III.
Май. — Вторая стратегия Арата. III.
Возвращение Птолемея III в Египет. III.
Нашествие Агиса на Ахайю; взятие Пеллены. Мир между
Атасом и союзниками. III.
Лето. — Взятый ахейцами Коринф присоединился к Егип-
ту. III.
Птолемей провозглашен главнокомандующим Ахейского
союза. III.
Реформа Агиса в Спарте; царь Леонид отрешен от престо-
ла и заменен Клеомбротом. III.
Война Египта с городами Малой Азии при помощи Маке-
донии и этолян. Магнесия Меандра взята египтянами. III.
Родосцы разбили египетский флот. III.
Селевк II основал Каллиник на Евфрате и женился на сес-
тре Митридата Понтийского. III.
Селевк III снял осаду с Дамаска и Орфосии. III.
Пергам вступил в коалицию против Египта. Ш.
Государственный переворот в Спарте: Агис отрешил эфо-
ров; Леонид бежал в Тегею. Ш.
Нашествие этолян в Лаконию. Отмена долгов в Спарте. III.
Смерть Эвмена Пергамского. Аттал I — династ Перга-
ма. III.
Май. — Третья стратегия Арата. III.
Война Селевка с его братом Антиохом Гиераксом. III.
Союз спартанцев с ахейцами против этолян: союзники в
Коринфе. Арат вдруг отослал спартанское войско. III.
Арат разбил этолян при Пеллене. III.
Революция, возбужденная в Спарте вследствие наглости
Агесилая, дяди Агиса; Леонид вернулся, Клеомброт из-
гнан; Агис под арестом. III.
Казнь Агиса. Его вдова Агиатида вышла за Клеомена, сына
Леонида. Архидам, брат Агиса, бежал в Мессению. III.
"8
3
о
3
'%
01. 135, 1
239
01.135,2
I
с;
rzl
>
01. 135, 3
01. 135, 4
238
237
236
01. 136,1
235
Галаты — наемники понтийского царя — разбили Селевка
при Анкире. III.
Антигон заключил мир с Ахейским союзом. III.
Арат покусился на Афины. III.
Аристомах, тиран в Аргосе, убит; покушение Арата на
Аргос. III.
Мир между Селевком и Антиохом Гиераксом, удержавшим
за собой Малую Азию до Тавра. III.
Десятилетний мир между египетским и сирийским царя-
ми. III.
Смерть Антигона Гоната. II; III.
Деметрий — царь в Македонии. III.
Стратоника, отвергнутая Деметрием Македонским, бежа-
ла в Сирию. III.
Акарнане подчинились покровительству римлян: наше-
ствие этолян в Акарнании, на Эпир. III.
Деметрий Македонский женился на эпирской княжне Пи-
фии. III.
Экспедиция Селевка на Восток. III.
Рождение Филиппа Македонского. III.
Селевк покоряет Индию и Персию. III.
Дарданцы угрожают границам Македонии. III.
Селевк в Парфии и Бактрии. III.
Май. — Пятая стратегия Арата. III.
Этоляне завладели Фигалией в Аркадии; соединение Ахей-
ского союза с Этолийским. Оба союза открывают враж-
дебные действия против Македонии; «Война Деметрйя».
Этоляне овладели Фессалией. III.
Клеомен — царь в Спарте. III.
Покушение Арата на Аргос: он сразился с Аристиппом на
Харадре. III.
Интриги Антиоха Гиеракса и Стратоники; восстание Ан-
тиоха. III.
Антиох присоединил к себе галатов. III.
Возврат Селевка в Сирию; он заключил союз с Атталом
против Антиоха и Стратоники. III.
Диет — стратег ахеян — завладел Гереею. III.
Аттал разбил Антиоха с его галатами. III.
Аттал провозглашен царем в Пергаме. III.
Разбитый несколько раз полководцами Селевка и бежавший
в Армению Антиох достиг некоторого успеха; он прошел
по Каппадокии и искал убежища в Магнесии, на египет-
ской территории. Посредничество Птолемея, мир между
Селевком, Антиохом и Птолемеем.
III. Май. — Шестая стратегия Арата. III.
Освобождение Эпира: изгнание Эакида. III.
613
01. 136, 2
234
01. 136, 3
01.136, 4
01. 137,1
01.137, 2
01.137, 3
233
232
231
230
229
01. 137, 4
228
01.138,1
Арат возобновил покушение на Аргос: Немейские игры
переведены в Клеоны. III.
Македонский вождь Бифид разбил Арата и этолян при
Филакии в Фессалии. III.
Арат поспешно вернулся в Коринф и сделал покушение на
Афины. III.
Аристипп, тиран в Аргосе, потерпел поражение и убит в
Клеонах ахейцами. Ему наследовал Аристомах. III.
Деметрий проник в Беотию, Фокиду, преобразовал Амфик-
тионию в Дельфах и опустошил Этолию. III.
Лидиад, тиран в Мегалополе, отказался от тирании. III.
Мегалополь, Орхомен, Тегея, Мантинея вступили в Ахей-
ский союз. II.
Май. — Лидиад — стратег Ахейского союза. III.
Май. — Седьмая стратегия Арата. III.
Мир между Македонией и обоими союзами. III.
Май. — Вторая стратегия Лидиада. III.
Май. — Восьмая стратегия Арата. III.
Этоляне напали на акарнанский город Медеон. III.
Иллирийцы Агрона разбили этолян под стенами Медеона. III.
Смерть Агрона; Тевта — царица в Иллирии. III.
Нашествие иллирийцев на Эпир; взятие Фойники. III.
Май. — Третья стратегия Лидиада. III.
Римское посольство ко двору Тевты; разрыв между Римом
и Иллирией. III.
Новые набеги иллирийцев: покушение на Диррахий и Кер-
киру. Ахейский флот вышел на помощь керкирцам и был
разбит при Паксосе: иллирийцы захватили Керкиру. III.
Май. — Девятая стратегия Арата. III.
Война дарданцев с Македонией; смерть Деметрия. Анти-
гон Досон — царь в Македонии. III.
Аргос присоединился к Ахейскому союзу. III.
Римляне вступили в Керкиру и Антигонию, освободили
Диррахий и Иссу и проникли в Иллирию: Тевта бежала в
Рисон. III.
Дарданцы в Македонии; восстание в Фессалии; этоляне в
Фессалии. Афины отлагаются от Македонии. III.
Мир между римлянами и иллирийцами: дипломатические
сношения с Римом и эллинскими государствами. III.
Клеомен занял Бельмину, Мефидрий и вторгся в Арголи-
ду. Ш.
Арат напал на Орхомен. III.
Май. — Аристомах — стратег Ахейского союза. III.
Ахейцы против Спарты: ахейская армия отступает перед
Клеоменом в Палании. III.
Интриги Антиоха Гиеракса, соединившегося с Антигоном
против Птолемея. III.
х
°
о
2
227
01.138, 2
226
01.138, 3
225
Антигон разбил в Фессалии этолян, покинутых ахейца-
ми. Мантинея, Тегея, Орхомен перешли к Этолийскому
союзу. III.
Одновременные (?) действия Антиоха в Лидии и Антигона
в Карий. III.
Города на Геллеспонте и на Босфоре присоединились к
Этолийскому союзу. III.
Антигон, этоляне и спартанцы намеревались раздробить
Ахейский союз. III.
Птолемей заключил союз с Атталом Пергамским. III.
Разбитый при Колах Антиох бежал в Смирну, а оттуда во
Фракию, где попал в плен к египтянам. III.
Май. — Десятая стратегия Арата. III.
Мантинея взята Аратом и занята ахейским гарнизоном. III.
Экспедиция ахейцев в Элиду; Клеомен разбил Арата у Ли-
кея. III.
Перемирие между Спартою и Ахейским союзом. III.
Смерть Евридамида, сына Агиса: Архидам, брат Агиса, был
вызван и убит. Пресечение дома Проклидов. III.
Возобновление войны Спарты с союзом: Клеомен в Левкт-
рах, близ Мегалополя. Битва при Левктрах (Ладокии);
смерть Лидиада. Ахейцы восстали против Арата. III.
Арат близ Орхомена напал врасплох на спартанский отряд
и уничтожил его. Мегистон, зять Клеомена, взят в плен. III.
Эфоры замышляют низвергнуть Клеомена. Государствен-
ный переворот в Спарте: убийство эфоров и изгнание оли-
гархов, Клеомен восстановил Ликурговы законы. III.
Клеомен разграбил Мегалопольскую область. III.
Май. — Гипербат — стратег Ахейского союза. III.
Смерть Ашоки. III.
Мантинея отделилась от Ахейского союза и открыла во-
рота Клеомену. III.
Сношения между Мегалополем, Аратом и Антигоном. III.
Кампания Селевка II в Малой Азии: его смерть. Ему на-
следует Селевк III. III.
Аттал разбил сирийскую армию и захватил все сирийские
владения в Малой Азии. III.
Антиох Гиеракс, ускользнув из плена, был убит во Фра-
кии галатами. III.
Мегалопольцы предлагают Ахейскому союзу призвать
Антигона. Птолемей побуждает Клеомена начать борь-
бу. III.
Весна. — Клеомен в Ахее: битва при Гекатомбее. Клеомен,
вернувшись победителем через Аркадию, изгнал из Ласи-
она союзный гарнизон. III.
Арат возобновил сношения с Антигоном. III.
I Май. — Тимоксен — стратег Ахейского союза.
615
01. 138, 4
01. 139, 1
224
223
01.139, 2
222
01.139, 3
Переговоры между Клеоменом и союзом, признавшим его
гегемонию; союзное собрание в Лерне; болезнь Клеоме-
на.Ш.
Антигон собрал войска в Фессалии. III.
Май. — Одиннадцатая стратегия Арата. III.
Соглашение между Антигоном и Аратом, внезапно порвав-
шим с Клеоменом. Клеомен объявил войну союзу. III.
Многие из ахейских городов отложились: отраженный от
Сикиона Клеомен вступил в Пеллену, Феней, Пентелий,
Кафии, Аргос, Флиунт, Клеоны, Трезен, Эпидавр, Герми-
он. III.
Арат — диктатор в Сикионе. III.
Арат изгнан из Коринфа: Клеомен осадил Акрокоринф и
пытался вступить в сношение с Аратом. III.
Клеомен осадил Сикион. III.
(Землетрясение в Родосе). III.
Май. — Вторая стратегия Тимоксена. III.
Собрание союза в Эгионе: союз призывает Антигона. III.
Клеомен укрепился на перешейке. III.
Восстание в Аргосе; смерть Мегистона. Клеомен отступил
с перешейка, вступил в Аргос, потом покинул город и от-
ступил через Мантинею. III.
Арат избран стратегом Аргоса; олигархическая реакция:
казнь Аристомаха. Антигон в Аргосе и Аркадии; союз при-
судил ему гегемонию в новой федерации и некоторого рода
обоготворение. III.
Союз между Птолемеем и Клеоменом, отправившим свою
мать и своего сына в качестве заложников в Александрию. III.
Антигон занял Тегею. III.
Оставив свое царство под присмотром Гермия, Селевк III
вторгся в Малую Азию и оттиснул армию Аттала: он был
убит во Фригии. Антиох III Великий наследовал ему. Эпи-
ген отвел войска в Сирию. III.
Демонстрация Антигона на границе Лаконии: он занял
Орхомен. Антиох Ш и Ахей восстановили сирийские вла-
дения в Малой Азии. III. Восстание Молона и Александ-
ра — сатрапов в Мидии и Персии. Антиох отправил против
них Ксенона и Теодота Гемиолия. Ш.
Май. — Неудавшееся наступление Клеомена на Мегало-
поль. Антигон взял и разорил Мантинею, которая стала
называться Антигонией, и распустил свою армию. III.
Клеомен освободил илотов и преобразовал свою армию. III.
Август. — Антигон в Эгионе. Клеомен занял Мегалополь;
жители бежали в Мессению. Клеомен срыл Мегалополь. III.
Антигон утвердился в Аргосе. III.
Сношения между Птолемеем и Клеоменом, Птолемеем и
Антигоном. III.
"8
о
5
X
Полководцы Антиоха разбиты Александром и Молоном.
Новая армия отправлена в Вавилонию под начальством
Ксенета. III.
Антиох женился на Лаодике, дочери понтийского Митри-
дата.
Клеомен создал армию в 20 000 человек. III.
Антигон обеспечил за собою нейтралитет Птолемея, усту-
пив ему Карию, и заключил союз с Деметрием Фарос-
ским. III.
Экспедиция Антиоха III в Келесирию. III.
Молон разбил Ксенета на Тигре. Антиох отказался от эк-
спедиции в Келесирию. III.
Май. — Третья стратегия Тимоксена. III.
Антигон сосредоточил свою армию (около 30 000 человек)
в Аргосе и двинулся к Тегее. III.
Клеомен сделал диверсию в Арголиду. III.
Нашествие иллирийцев на Македонию. III.
Июль. — Клеомен занял позицию в Селласии: битва при
Селласии. Клеомен бежал в Египет. III.
Антигон восстановил олигархию в Спарте, преобразовал
Пелопоннес и вернулся в Македонию. III.
Сентябрь. — Смерть Птолемея III Эвергета: вступление на
престол Птолемея IV Филопатора. III.
Победа Антигона над иллирийцами. III.
Соперничество между Эпигеном и Гермием: казнь Эпиге-
на. III.
Антиох III, отправившись против Александра и Молона,
перешел через Евфрат и зазимовал в Антиохии Мигдонс-
кой. III.
Смерть Антигона Досона: воцарение Филиппа V, внука
Антигона Гоната. III.
Смерть Клеомена в Александрии. III.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ИСТОРИЯ ЭПИГОНОВ
КНИГА ПЕРВАЯ
Глава первая
Географическая основа. — Развитие из местных средств. —
Греческая цивилизация. — Роль Александра. — Основания
городов. — Царство Лагидов. — Царство Селевкидов. —
Индия. — Атропатена. — Малая Азия. — Галаты. —
Македония. — Греки. — Эпир. — Взгляд на прошедшее. —
Греки в Сицилии и Италии 7
Глава вторая 280-275 гг.
Тарент и коалиция италиков. — Победы Рима. — Тарент
в переговоре с Пирром. — Победа при Гераклее. — Пирр
под Римом. — Отступление. — Переговоры. — Второй год
войны. — Битва при Аскуле. — Сицилия и пуны. — Пирр
в Сицилии. — Осада Лилибея. — Мятежи. — Отступление
Пирра. — Битва при Беневенте. — Возвращение Пирра
в Эпир. — Римляне и карфагеняне под Тарентом. —
Вся Италия стала римскою 71
Глава третья ITi-ldl гг.
Нашествие галлов. — Антигон и Никомед против Антиоха. —
Антигон в Македонии. — Победа Пирра над Антигоном. —
Пирр против Спарты. — Его смерть под Аргосом. —
Усмирение Греции. — Хремонидова война. — Македония —
великая держава. — Победы Антиоха над галатами. —
Птолемей Филадельф. — Киренская война. — Первая
Сирийская война. — Смерть Антиоха. — Обзор 106
КНИГА ВТОРАЯ
Глава первая 262-247 гг.
Система западных государств. — Рим и Карфаген. —
Политическое положение Сицилии. — Гиерон и мамертин-
цы. — Первая Пуническая война. — Восточная политика. —
Война Египта на Юге. — Смерть Мага. — Антиох II. —
Вифинская война за наследство. — Антиох во Фракии. —
Вторая Сирийская война. — Деметрий в Кирене; положение
в Греции; свобода Ионии; свобода в Мегалополе, Сикионе;
смерть Деметрия; мир. — Селевкидов восток; царство
Ашоки; Атропатена: основание Бактрии, Парфии; царства
сатрапов 153
Глава вторая 247-239 гг.
Мирное состояние. — Смерть Антиоха II. — Убийство
Береники. — Третья Сирийская война; распадение
сирийского царства Селевкидов; Антиох Гиеракс в Малой
Азии; война между братьями; мир 239 г. — Свобода
в Кирене. — Македоно-египетская война; Родос против
Египта. — Ахейский союз. — Первая стратегия Арата. —
Взятие Коринфа. — Реформы Агиса. — Агис и Арат против
Антигона и македонян. — Смерть Агиса. — Мир в Греции. —
Состояние Греции. — Смерть Антигона 197
КНИГА ТРЕТЬЯ
Глава первая 239-227 гг.
Мирное состояние. — Поход Селевка на Восток. —
Возмущение в Антиохии. — Победа Аттала над галатами. —
Вторая война Селевка с Антиохом. — Мир. — Нападение
Антиоха на Лагидов. — Антиох побежден Атталом;
его смерть. — Акарнания обратилась к Риму за помощью. —
Царская власть в Эпире низвергнута. — Деметрий против
дарданцев. — Этоляне и ахейцы соединились. — Деметриева
война. — Лидиад. — Мир в Греции. — Иллирийцы
и их набеги. — Рим против Иллирии. — Смерть Деметрия. —
Расширение ахейцев. — Устройство союза. —
Рим и Греция. — Воцарение Антигона И. — Антигон
занимает Карию 238
Глава вторая 227-221 гг.
Клеомен. — Царь в Спарте. — Его первая война
с ахейцами. — Битва при Ликее. — Битва при Левктре. —
План Клеомена. — Реформа Клеомена. — Внутренний
разлад в Ахейском союзе. — Арат ведет переговоры
с Антигоном. — Битва при Гекатомбее. — Ахейцы
за Клеомена. — Интриги Арата. — Возобновление
войны. — Отпадение ахейских городов. — Диктаторская
власть Арата. — Первая кампания Антигона. — Союз
Клеомена с Египтом. — Селевк против Малой Азии. —
Вторая кампания Антигона. — Падение Мегалополя. —
Мятеж в Лидии и Персии. — Келесирийская война. —
Антигон уступает Карию. — Третья кампания Антигона. —
Битва при Селассии. — Реставрация в Спарте. —
Объединение Греции. — Клеомен в Египте. —
Заключение 277
ПРИМЕЧАНИЯ
Книга первая 345
Книга вторая 401
Книга третья 433
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Города, основанные Александром и его преемниками 459
Города, основанные Александром 462
Города, основанные преемниками 498
Малая Азия 499
Сирийские области 518
Страны по Евфрату и Тигру 530
Иранская возвышенность с Индией и Бактрией 536
Африка и Аравия 542
ПРИЛОЖЕНИЕ II
I. Об эре Арада 562
II. Список македонских царей после Александра,
по Евсебию 563
III. Хронологическая таблица македонских царей 577
IV. Хронологическая таблица 586
Научное издание
Дройзен Иоганн Густав
ИСТОРИЯ ЭЛЛИНИЗМА
ИСТОРИЯ ЭПИГОНОВ
Компьютерная верстка
А.Н. Бугай
Корректор
Д.В. Бугай
ООО «Академический Проект»
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Испытательного центра издательской продукции
Государственного учреждения НЦЗД РАМН
№ 282/106643 от 28.06.2010 г.
ООО «Константа»
610014, г. Киров, ул. Щорса, 95
По вопросам приобретения книги просим обращаться
в ООО «Трикста»:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3
Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088
E-mail: info@aprogect.ru
Интернет-магазин: wvrw.aprogect.ru
Подписано в печать 30.12.10.
Формат 60x90/16. Бумага писчая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 39,0. Тираж 3000 экз.
Заказ №813.
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80,62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru; e-mail: pto@gipp.kirov.ru
Издательство
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»
предлагает:
ЗАРЕЦКИЙ ЮЛ.
Под ред.
ИСТОРИЯ СУБЪЕКТИВНОСТИ:
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАПАД
2008. - 565 с.
Издание включает переводы на русский язык западноевропей-
ских текстов V-XIV вв., объединенных темой средневековой субъ-
ективности. В нем представлены образцы разнообразных форм
свидетельств человека Средневековья о самом себе: исповеди, на-
ставления, мистического откровения, хроники собственной жиз-
ни. Эти свидетельства позволяют поновому осмыслить место чело-
века в средневековой культуре.
Издательство
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»
предлагает:
ЗАРЕЦКИЙЮ.П.
Под ред.
ИСТОРИЯ СУБЪЕКТИВНОСТИ:
ДРЕВНЯЯ РУСЬ
(ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
«СРЕДНИЕ ВЕКА»)
2010.-348 с.
В издании представлены свидетельства о себе древнерусских
авторов XII—XVII вв. Во вводной статье дается общая картина фе-
номена русской средневековой автобиографии и история его изу-
чения. Публикуемые тексты снабжены краткими биографически-
ми справками об их создателях, а также комментариями историче
ского и филологического характера, необходимыми для их пони-
мания современным читателем. В приложении приводятся работы
исследователей, рассматривающие древнерусские автобиографи-
ческие сочинения в историко-культурном ключе. Книга адресова-
на в первую очередь преподавателям и студентам вузов: истори-
кам, культурологам, филологам, антро пологам, психологам и
предназначена для использования в учебных курсах по соответс-
твующим специальностям. Она призвана способствовать оживле-
нию исследовательского интереса к древнерусским автобиогра-
фическим свидетельствам, а также к проблемам личности в рус-
ской истории и культуре.
«История эллинизма» Дройзена - первая
фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно позд-
ний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филип-
пе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до
того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое на-
громождение войн, динамических распрей и политических переворотов.
Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение
рассматриваемой им эпохи древней истории. Именно он дал этой эпохе ем-
кое определение эллинизма, под которым при первом приближении он по-
нимал «распространение греческого господства и образованности среди
старых культурных народов (Востока)». Однако в более широкой истори-
ческой перспективе содержание эллинизма понималось им как сложное
взаимодействие и соединение западного и восточного миров, культур и
религий, короче говоря, как синтез эллинского, восточного начал, итогом
которого должно было стать возникновение новой мировой религии и куль-
туры — христианства. Историю эллинизма Дройзен представил преимуще-
ственно в ее политической форме; обзор эллинистического времени ока-
зался доведен лишь до 220 г. до н. э. - до начала активного вмешательства
в дела греков Римской державы; вся последующая история эллинизма
(вплоть до подчинения римлянами в 30 г. до н. э. последнего эллини-
стического государства - птолемеевского Египта) осталась за предел"
его внимания. Но и то, что было сделано, поражает своей масштабное!
и в том, что касается политической истории раннего и зрелого эллинизма,
труд Дройзена и по объему, и по основательности представленной рекон-
струкции до сих пор не знает себе равных.
^^т^ 1