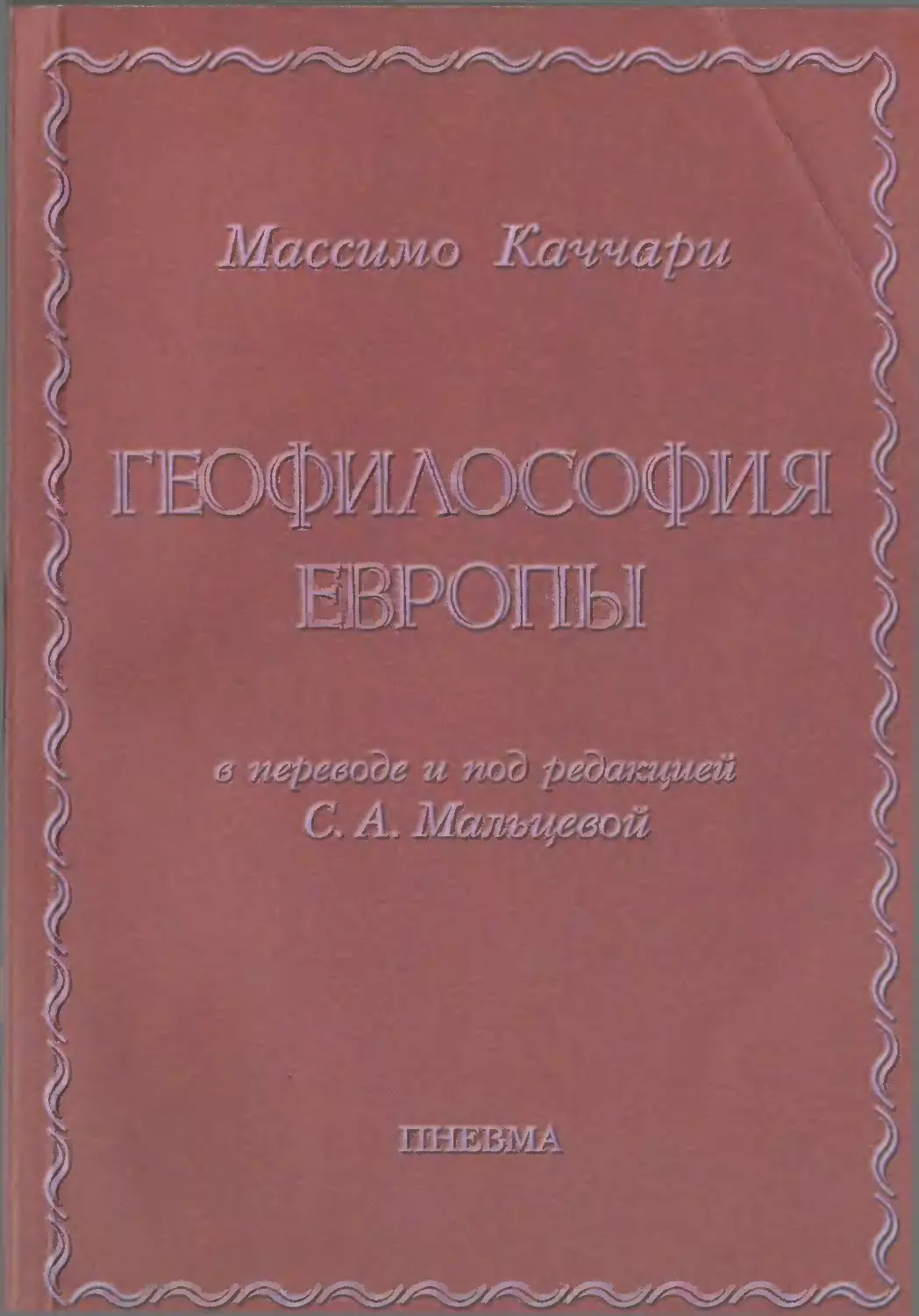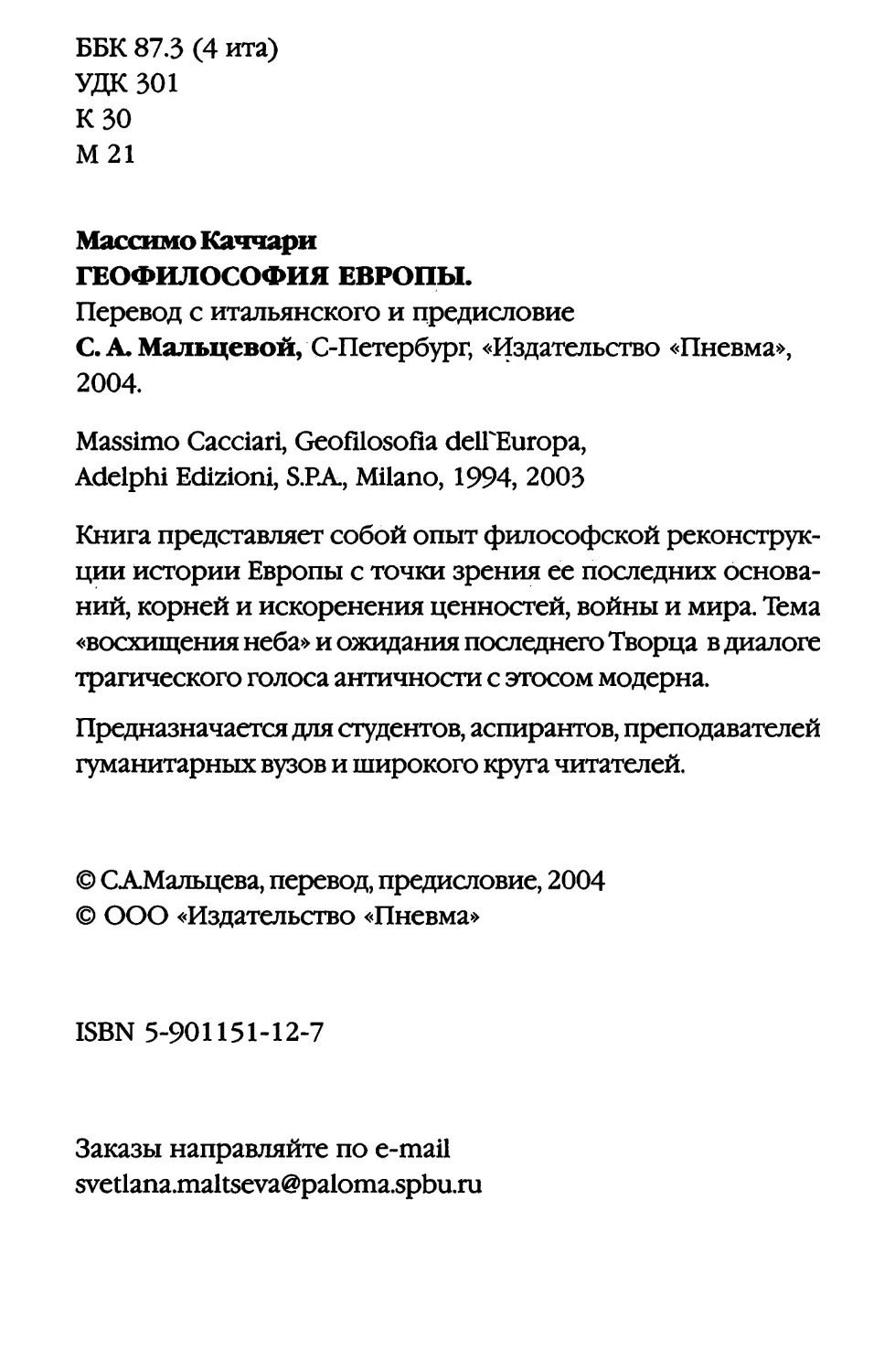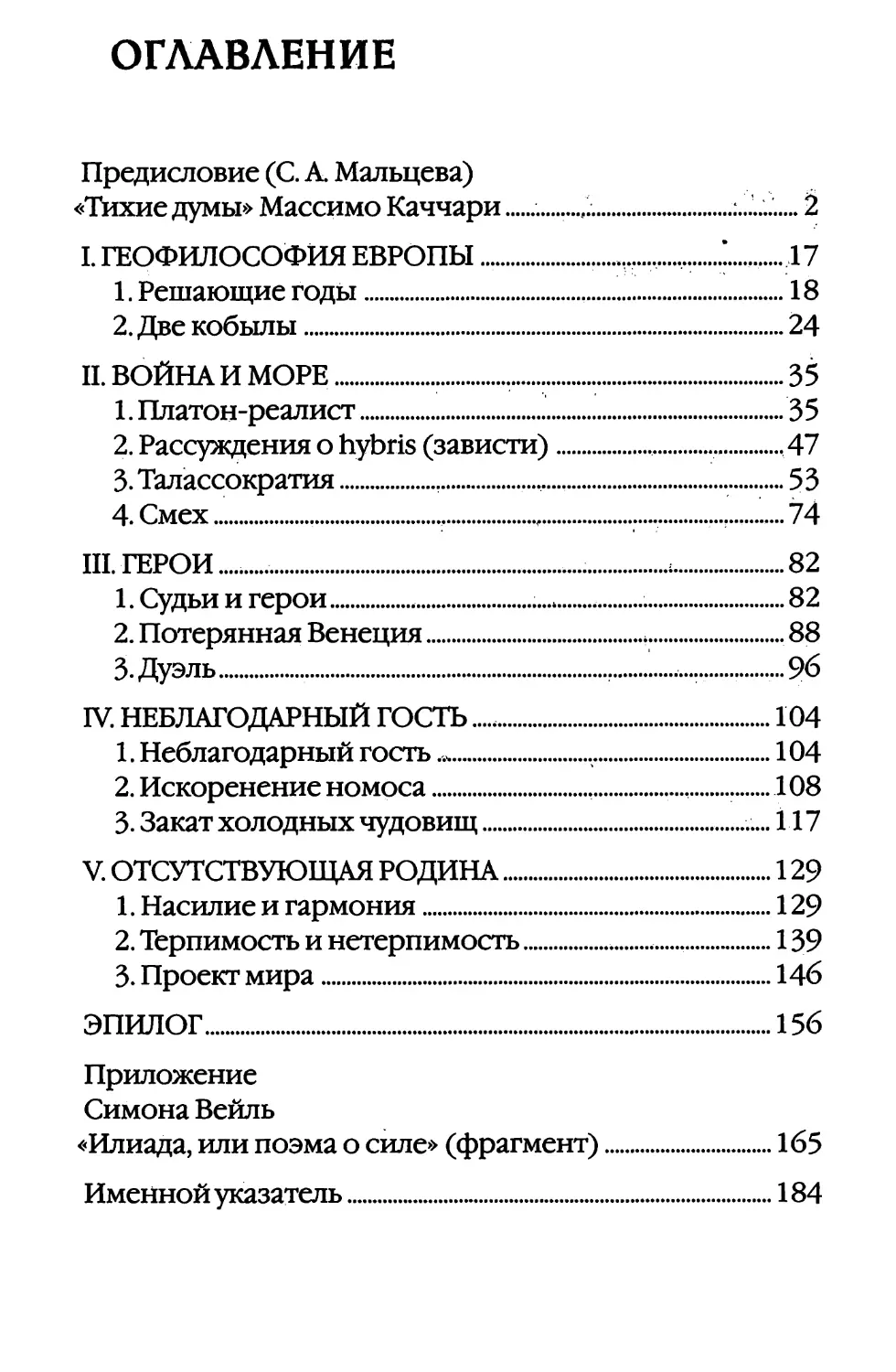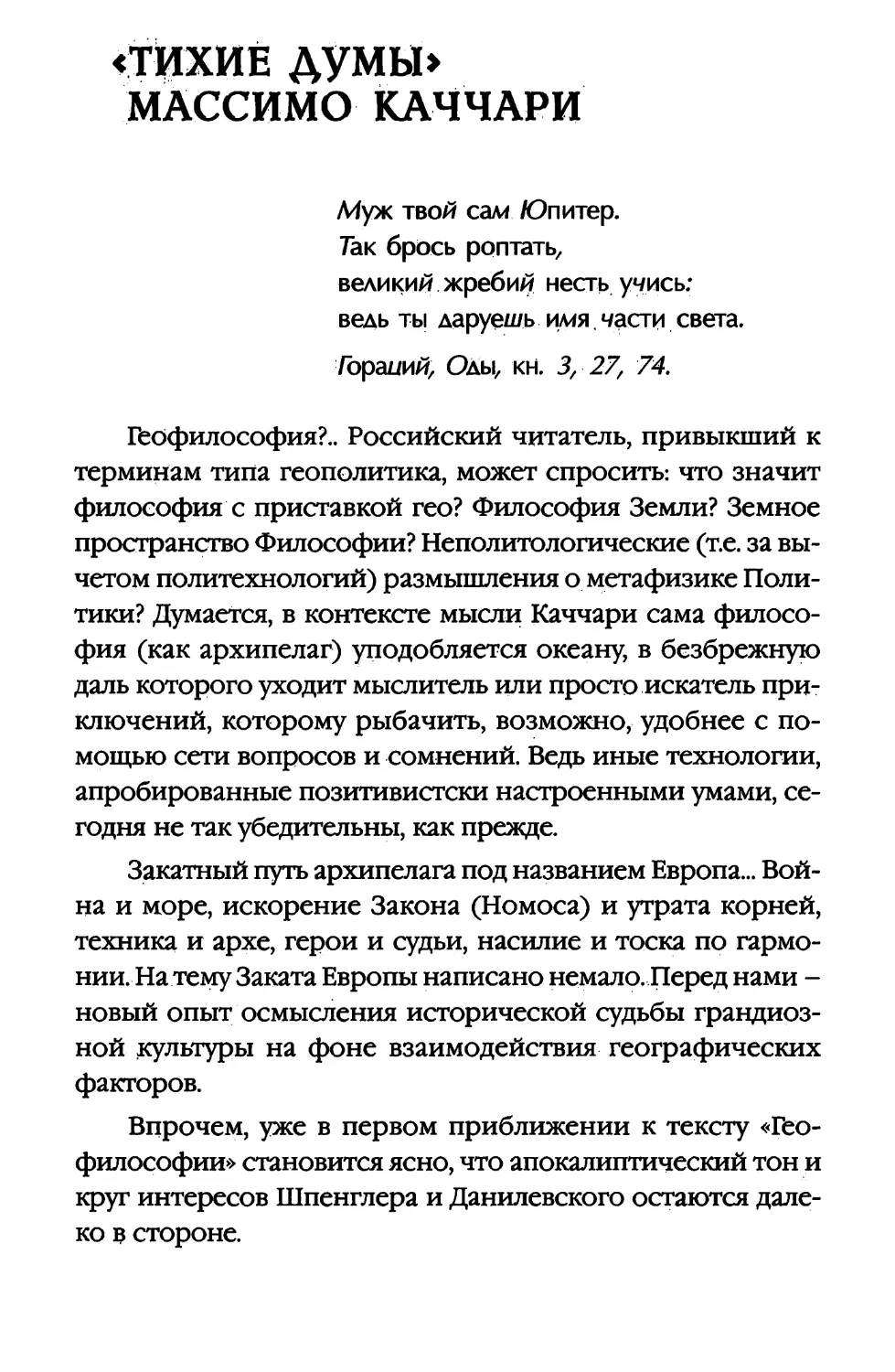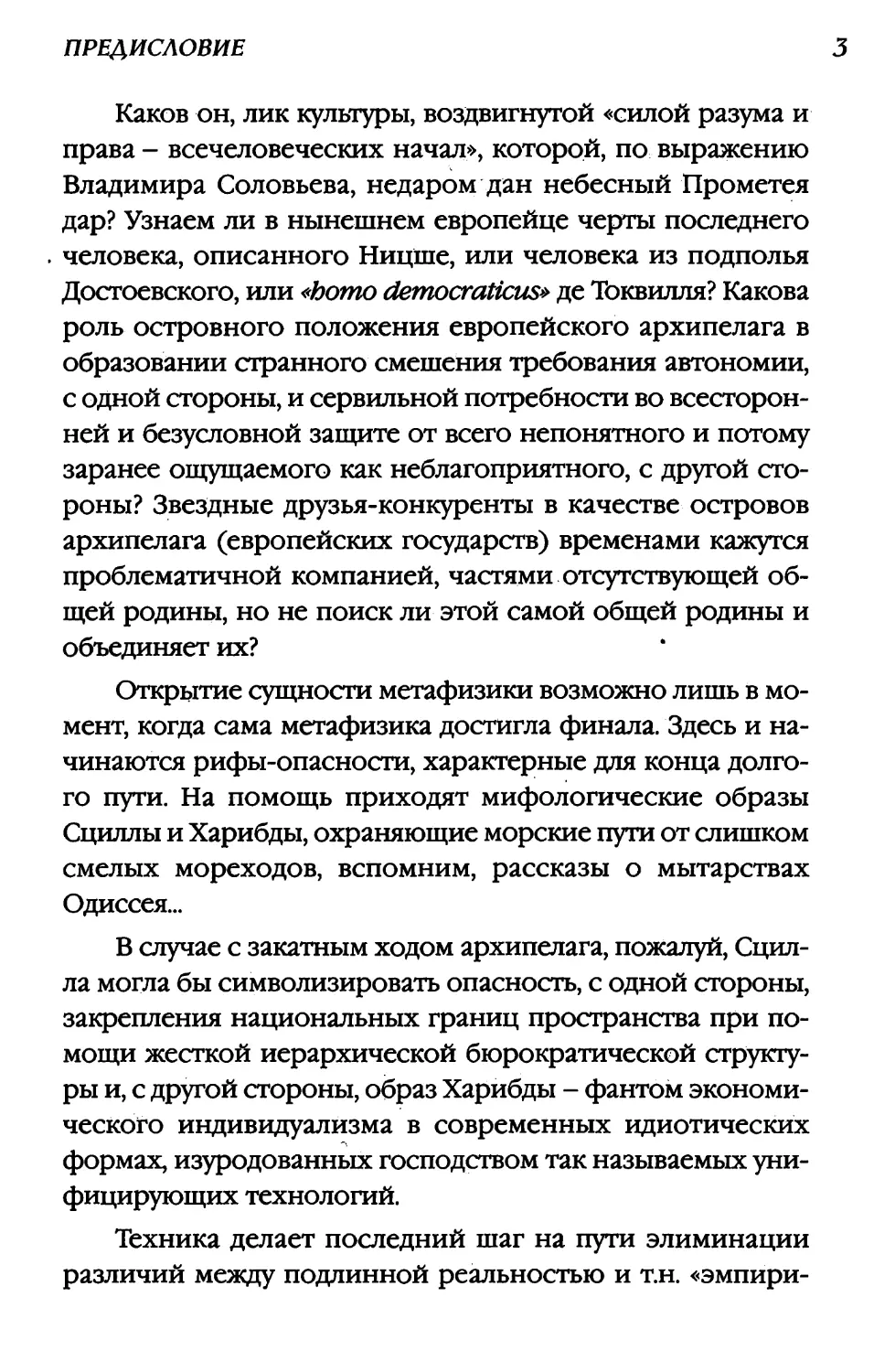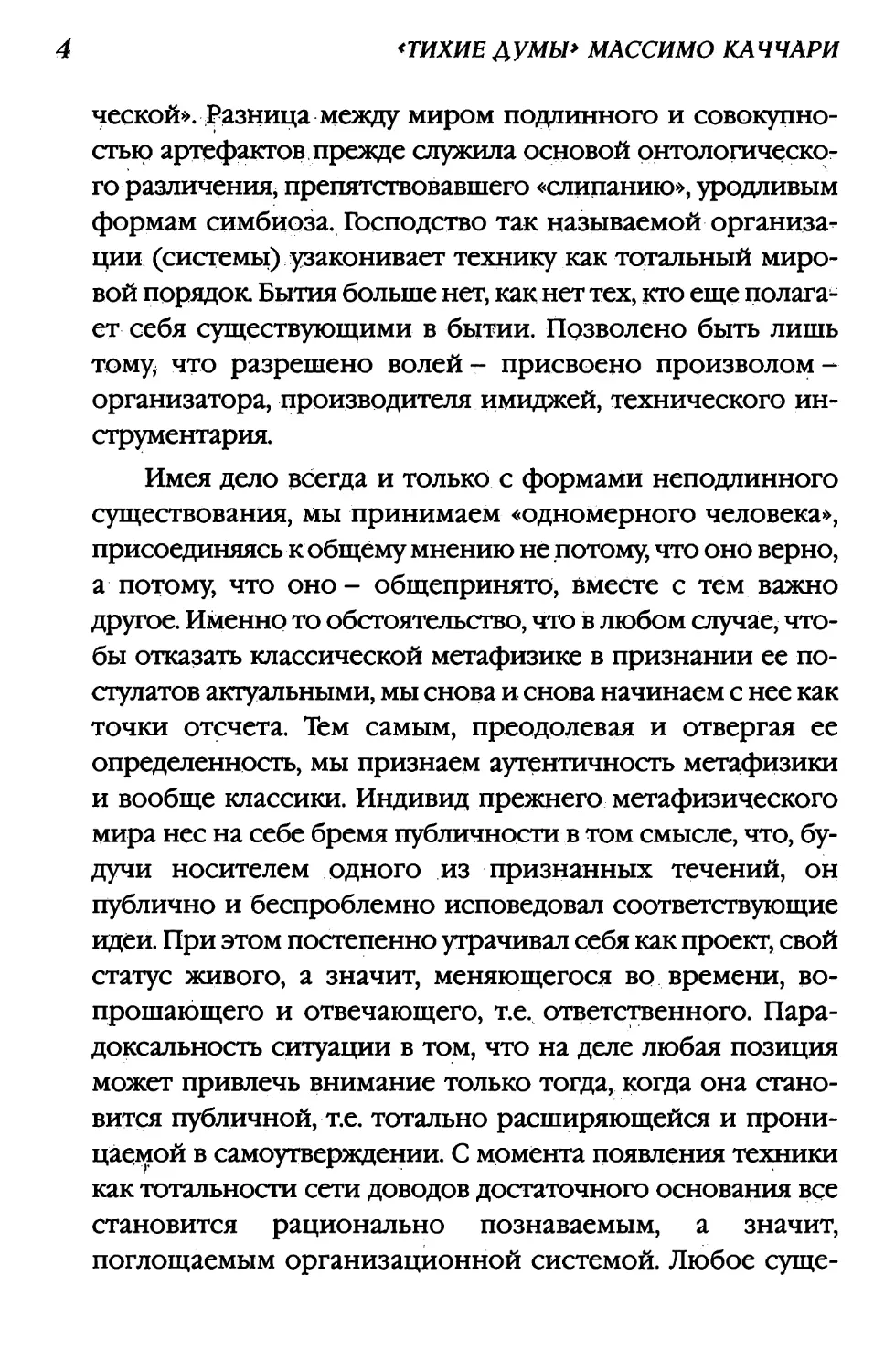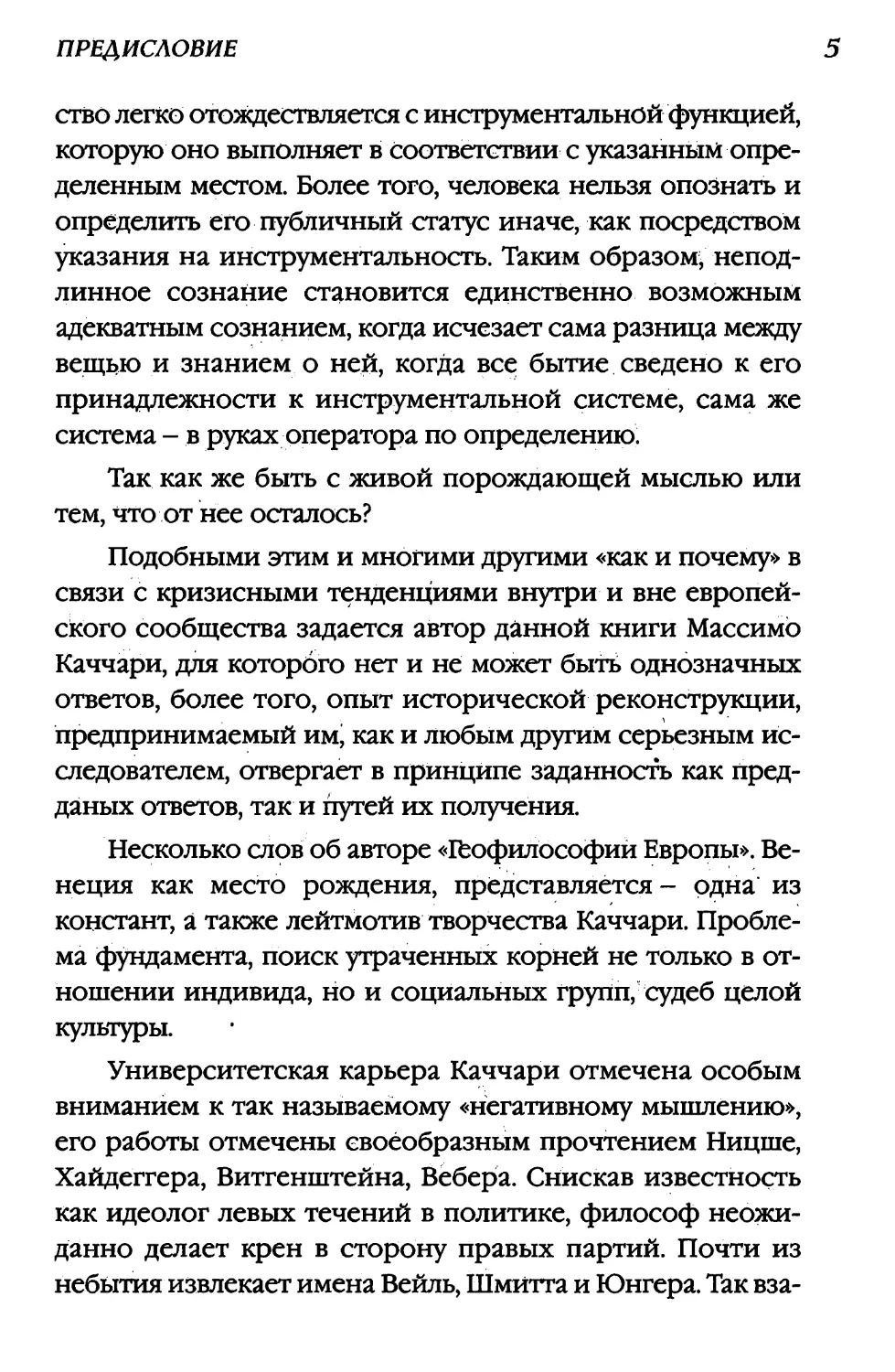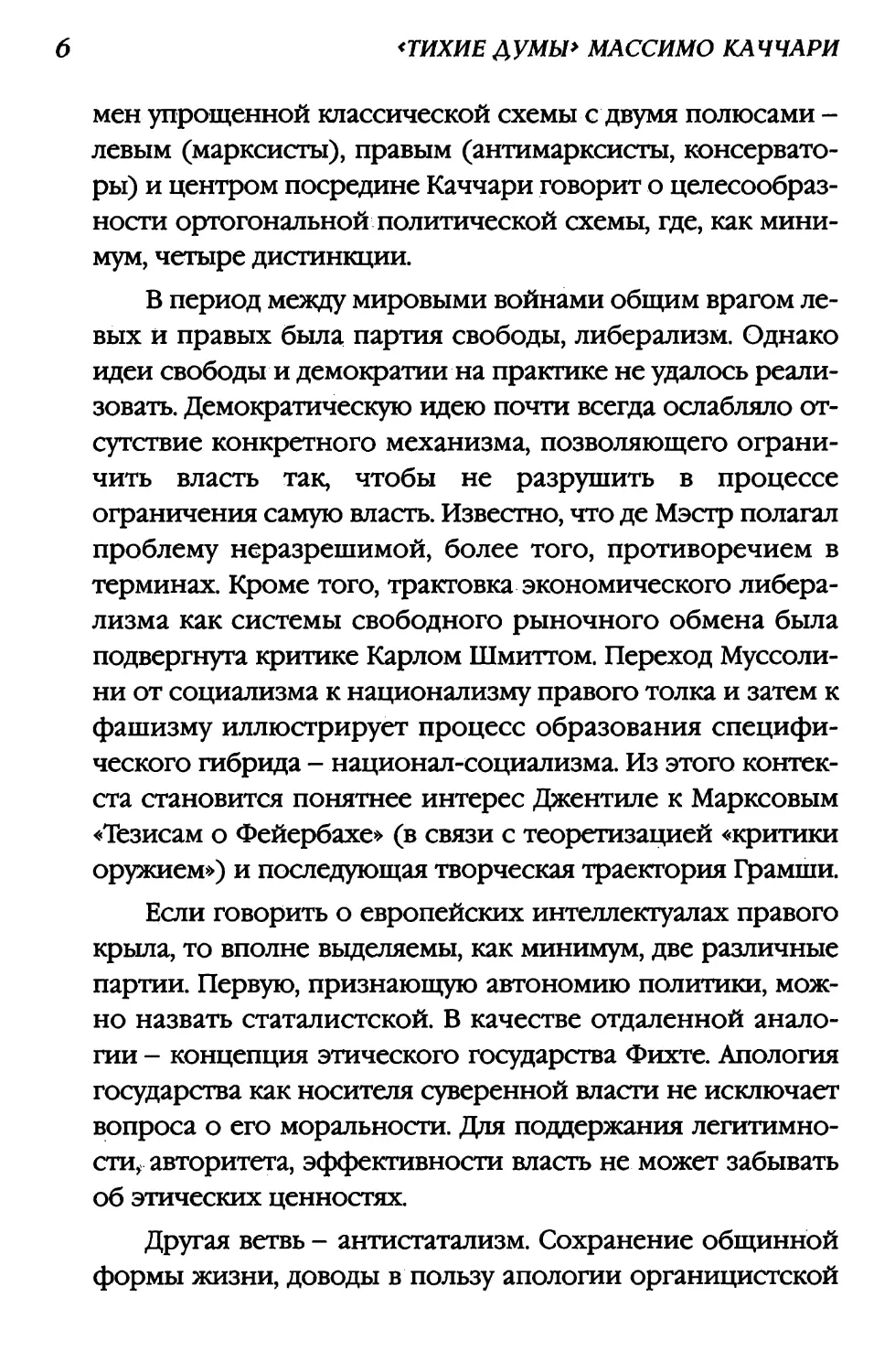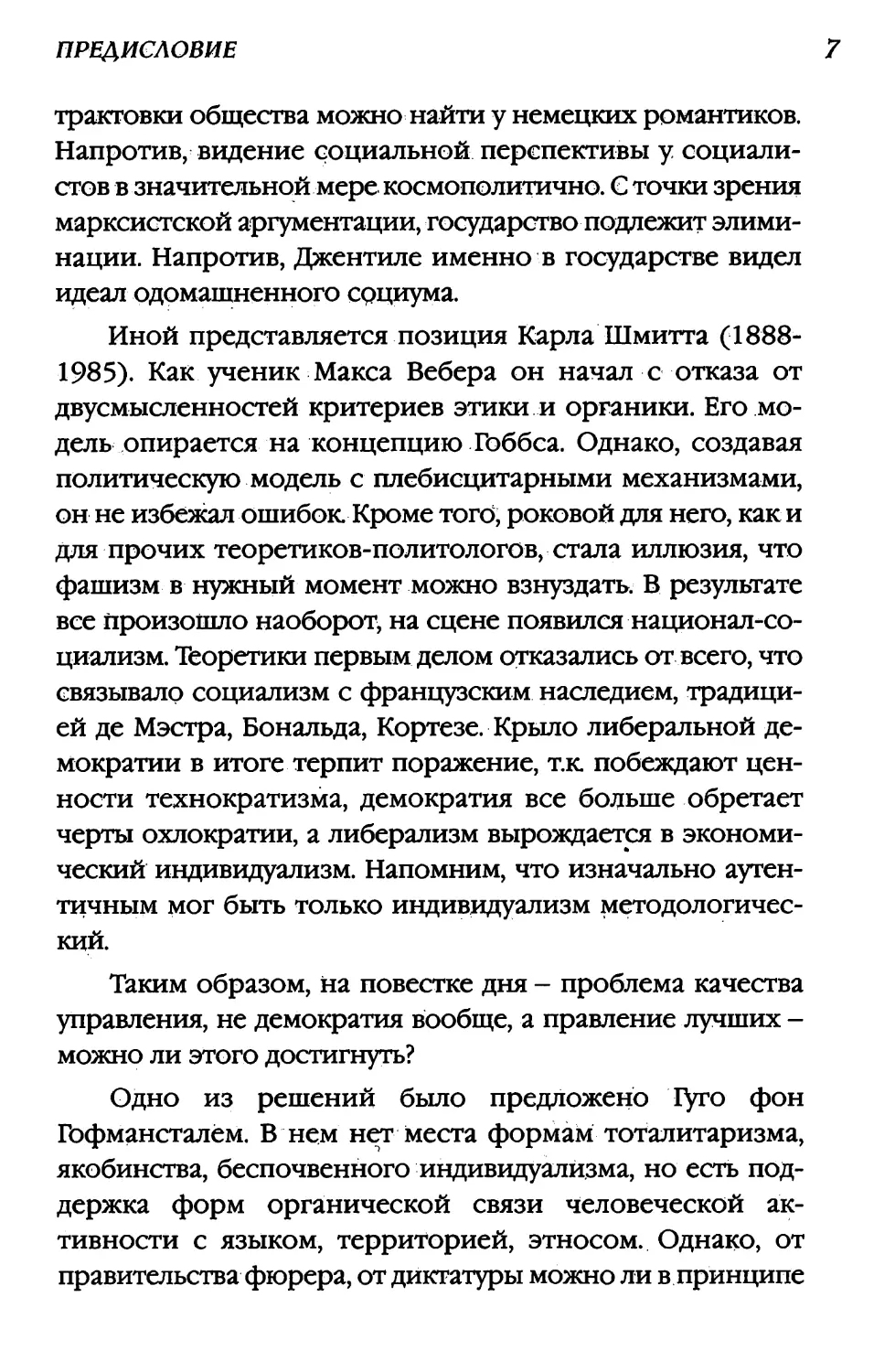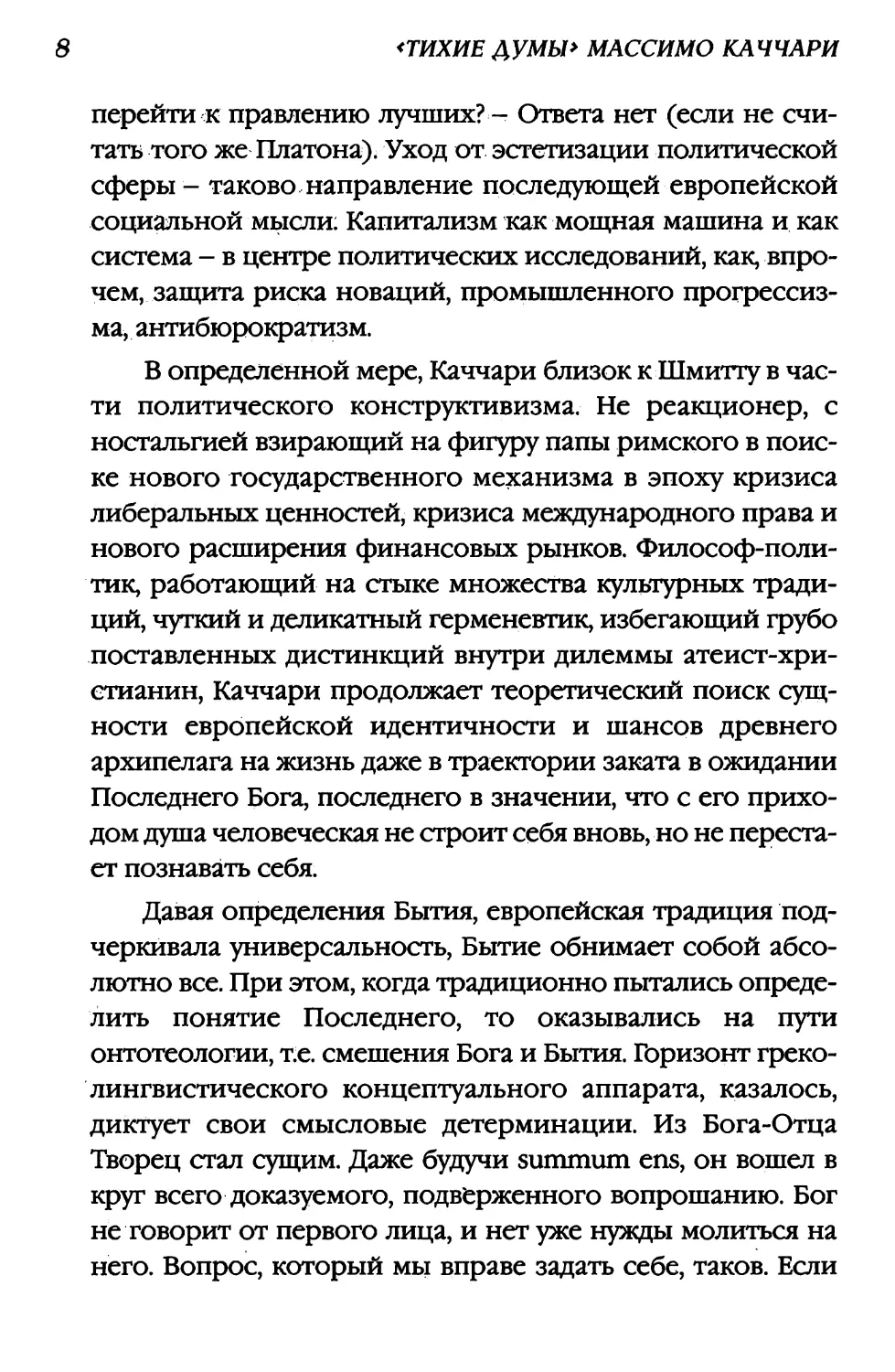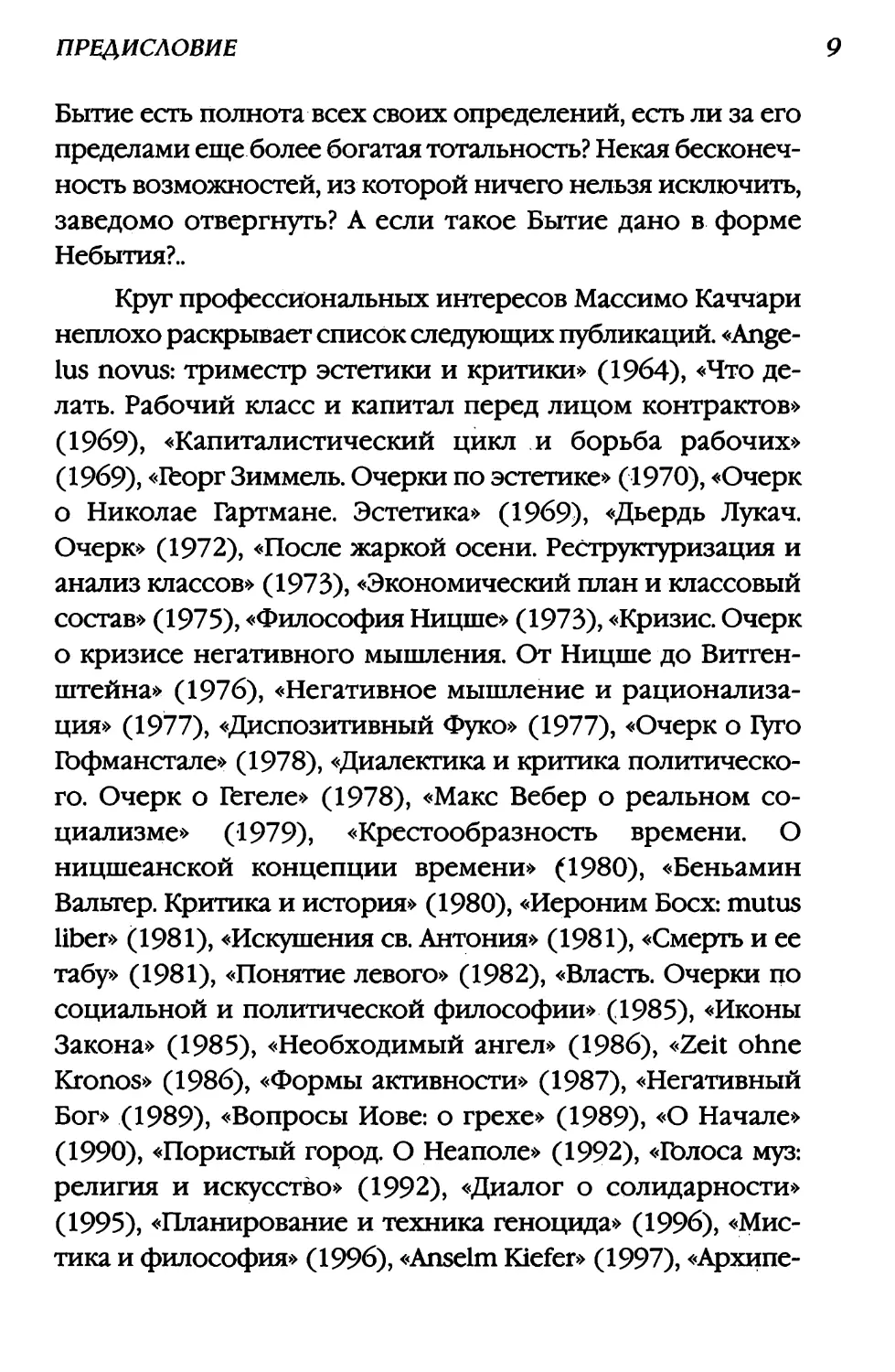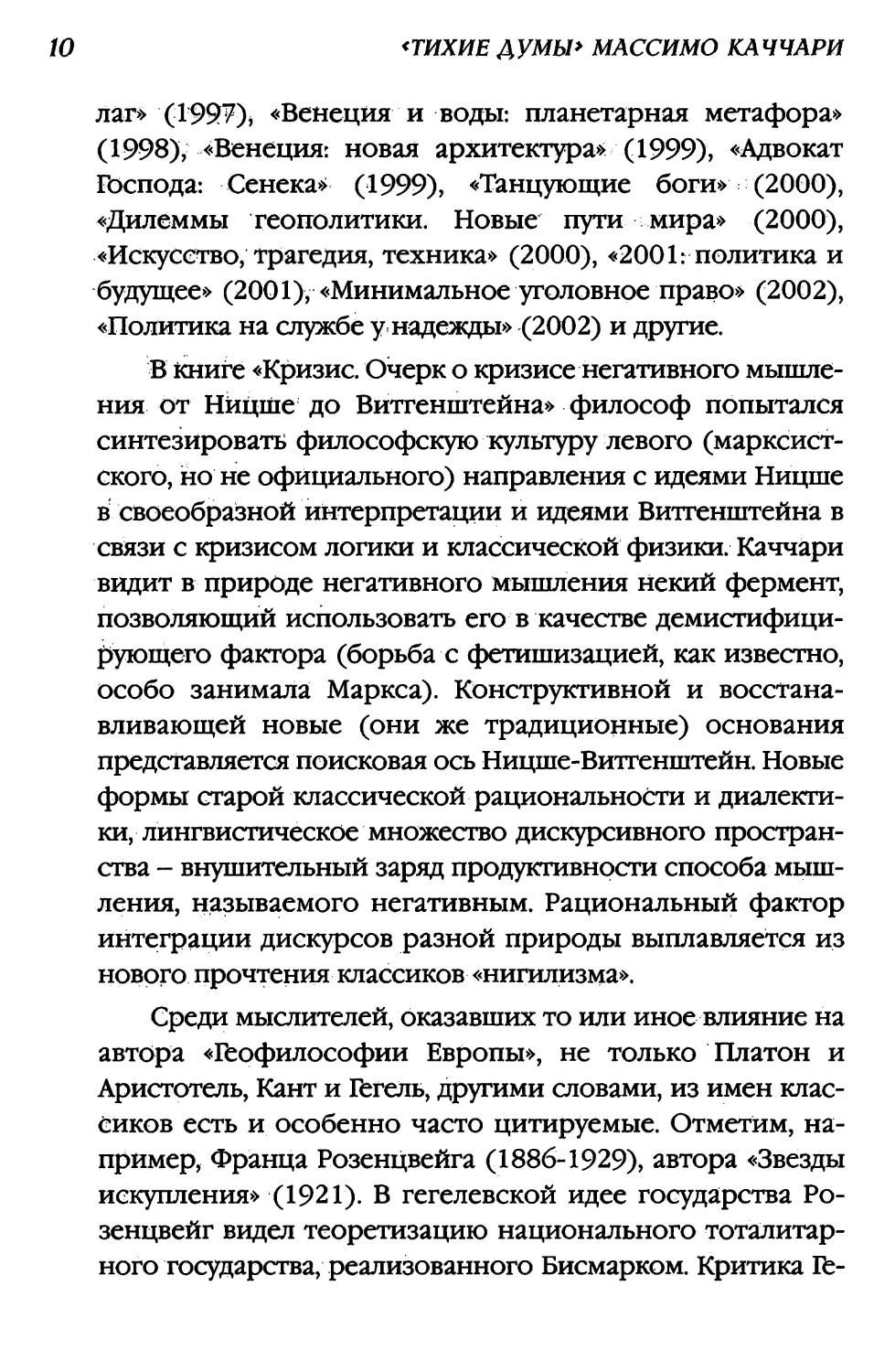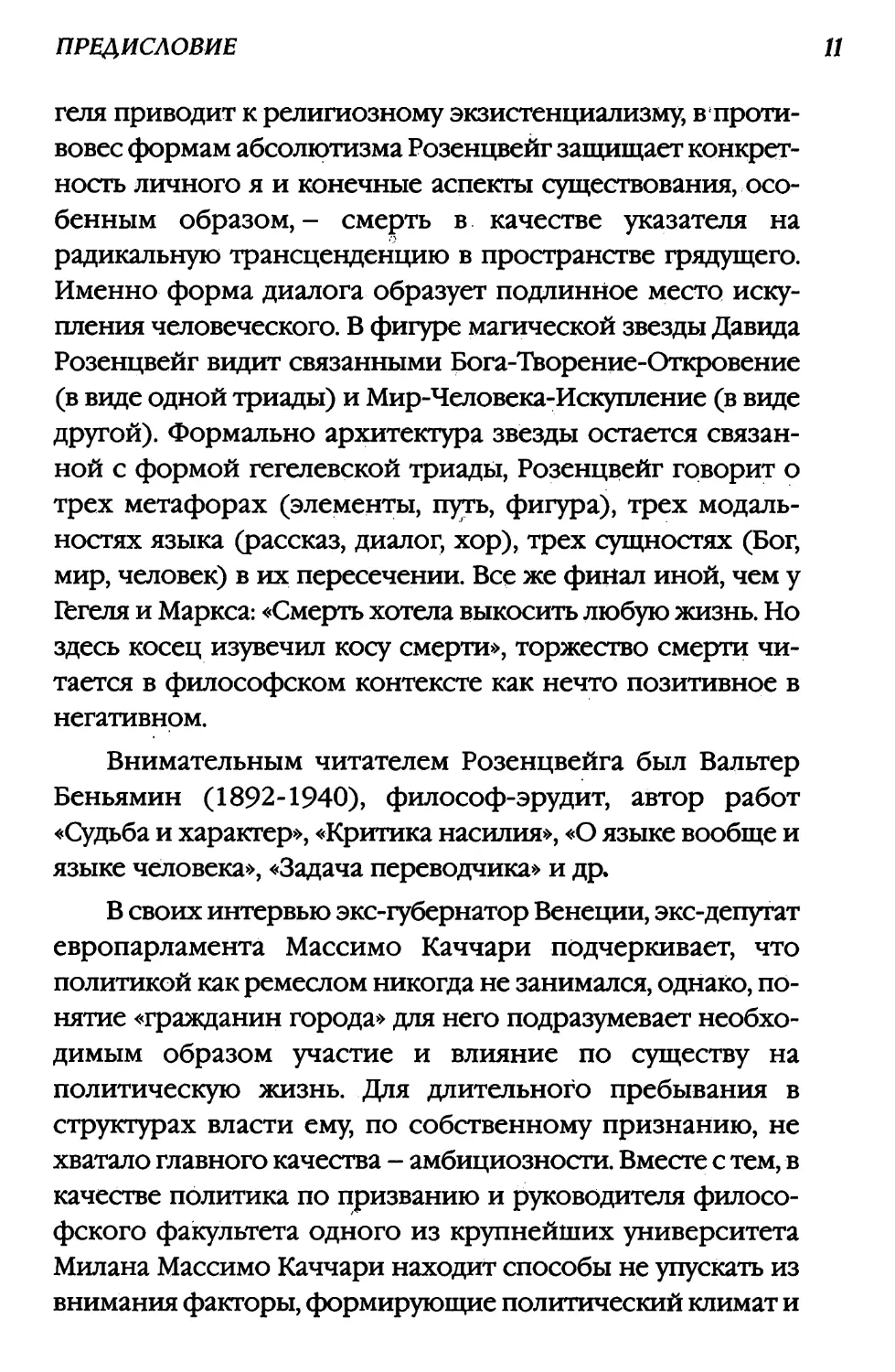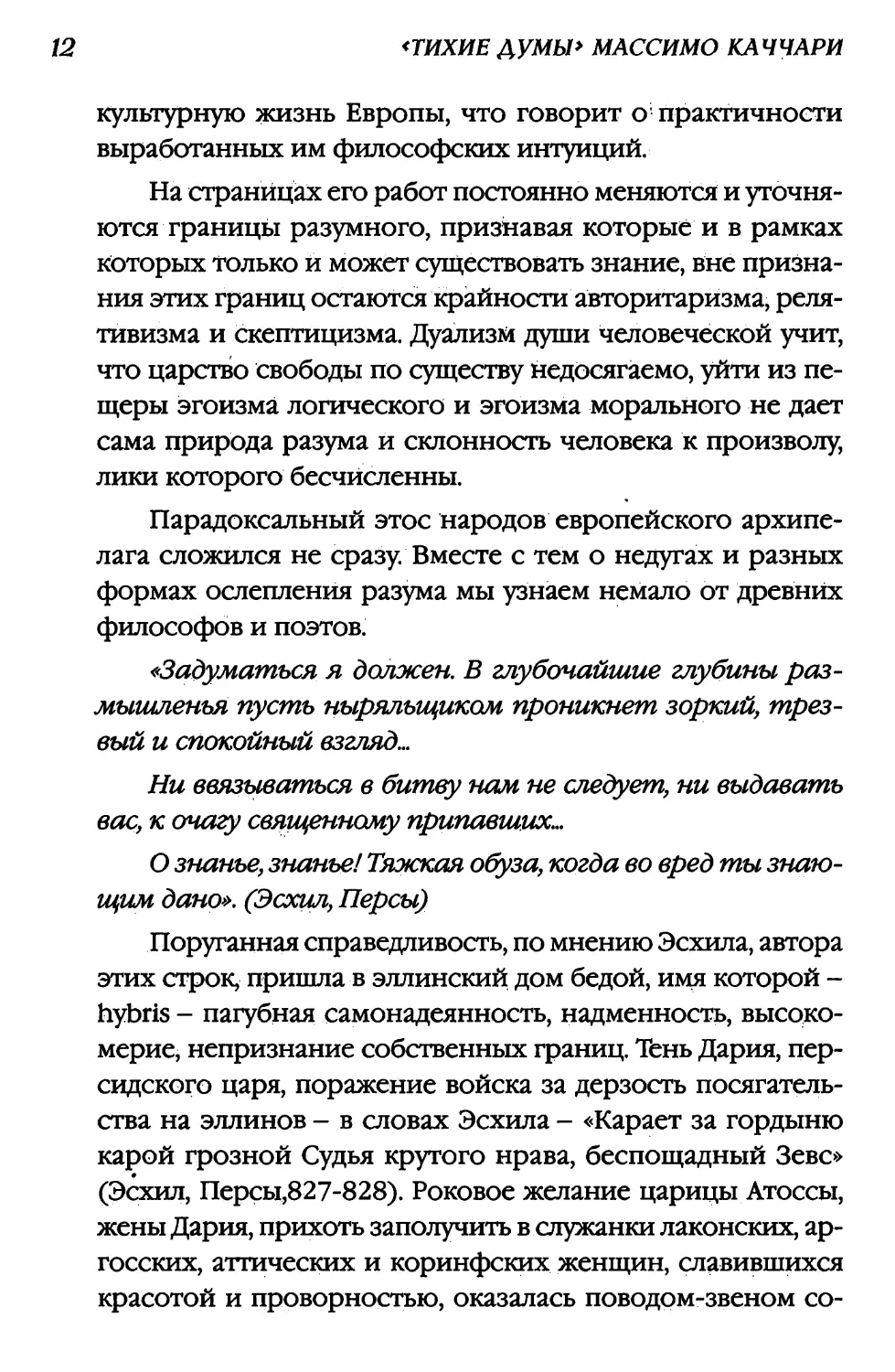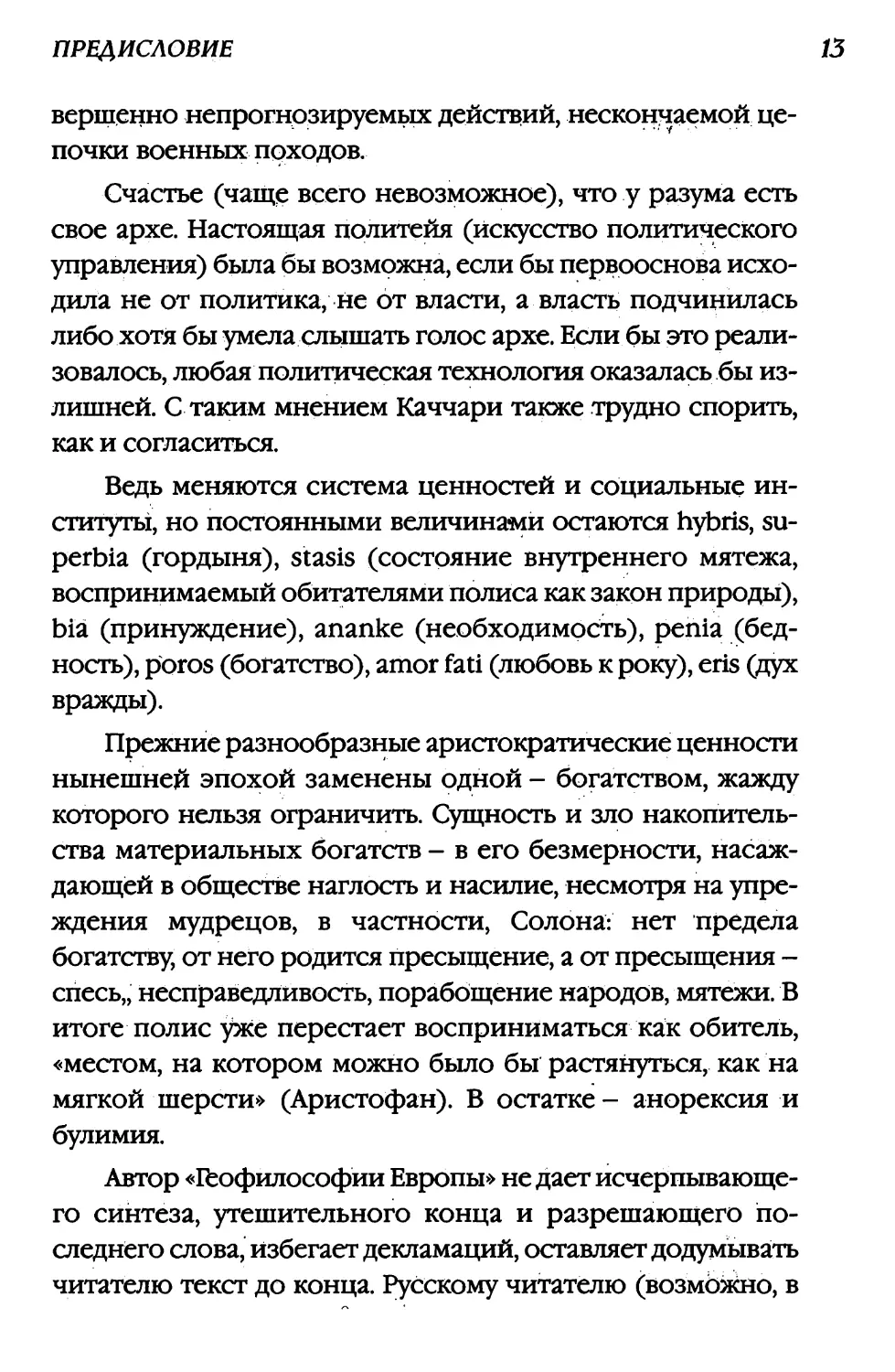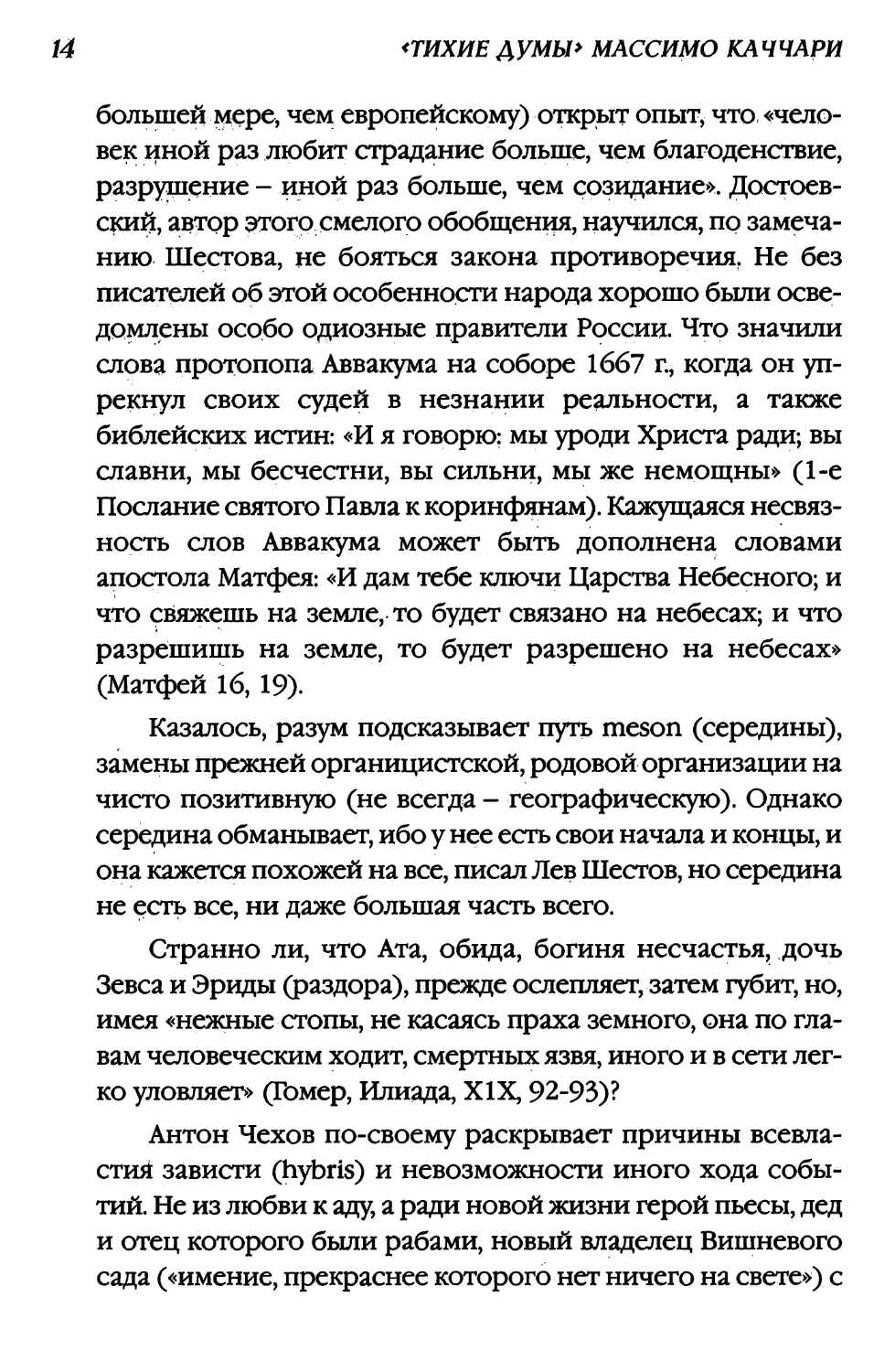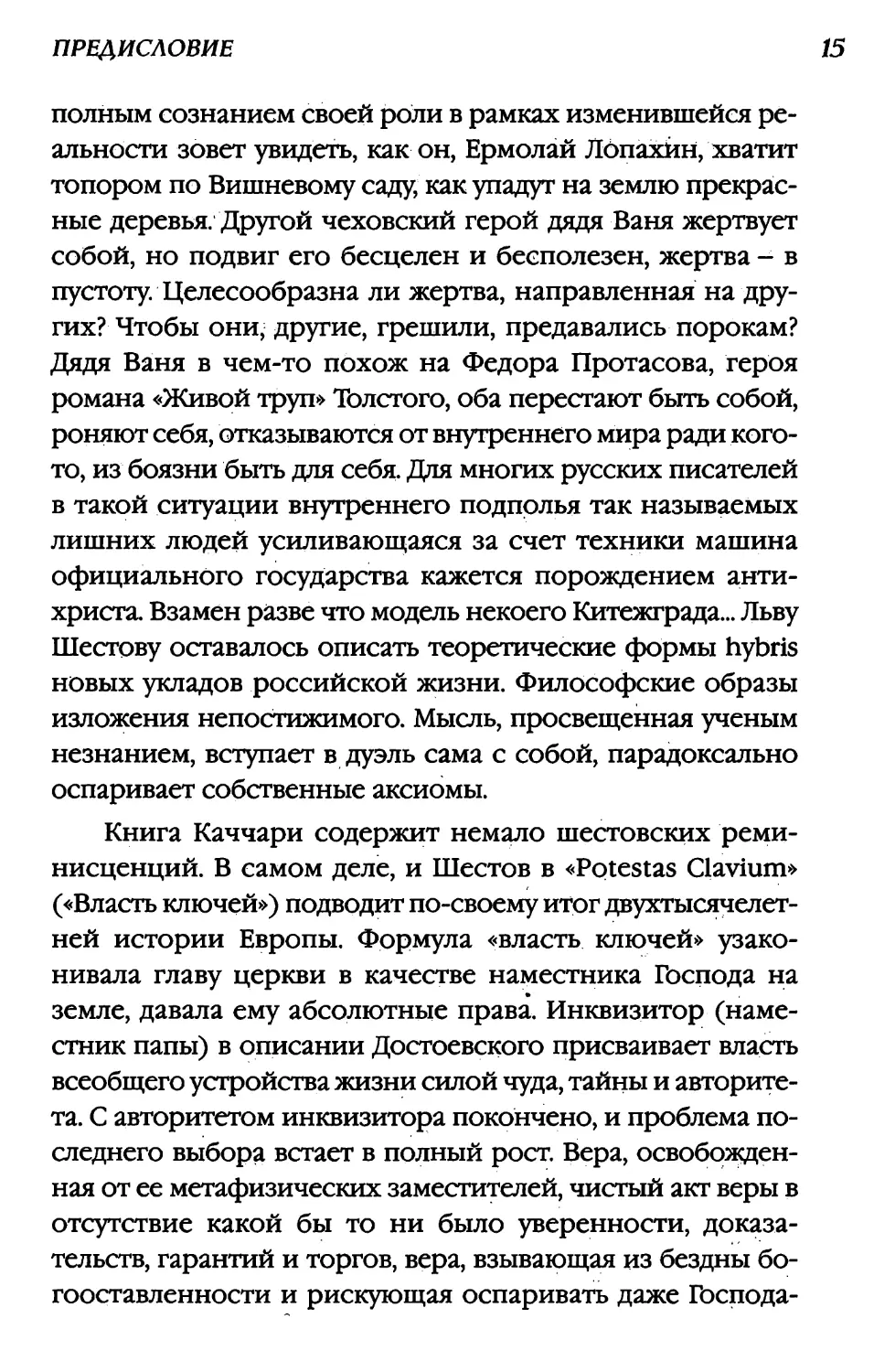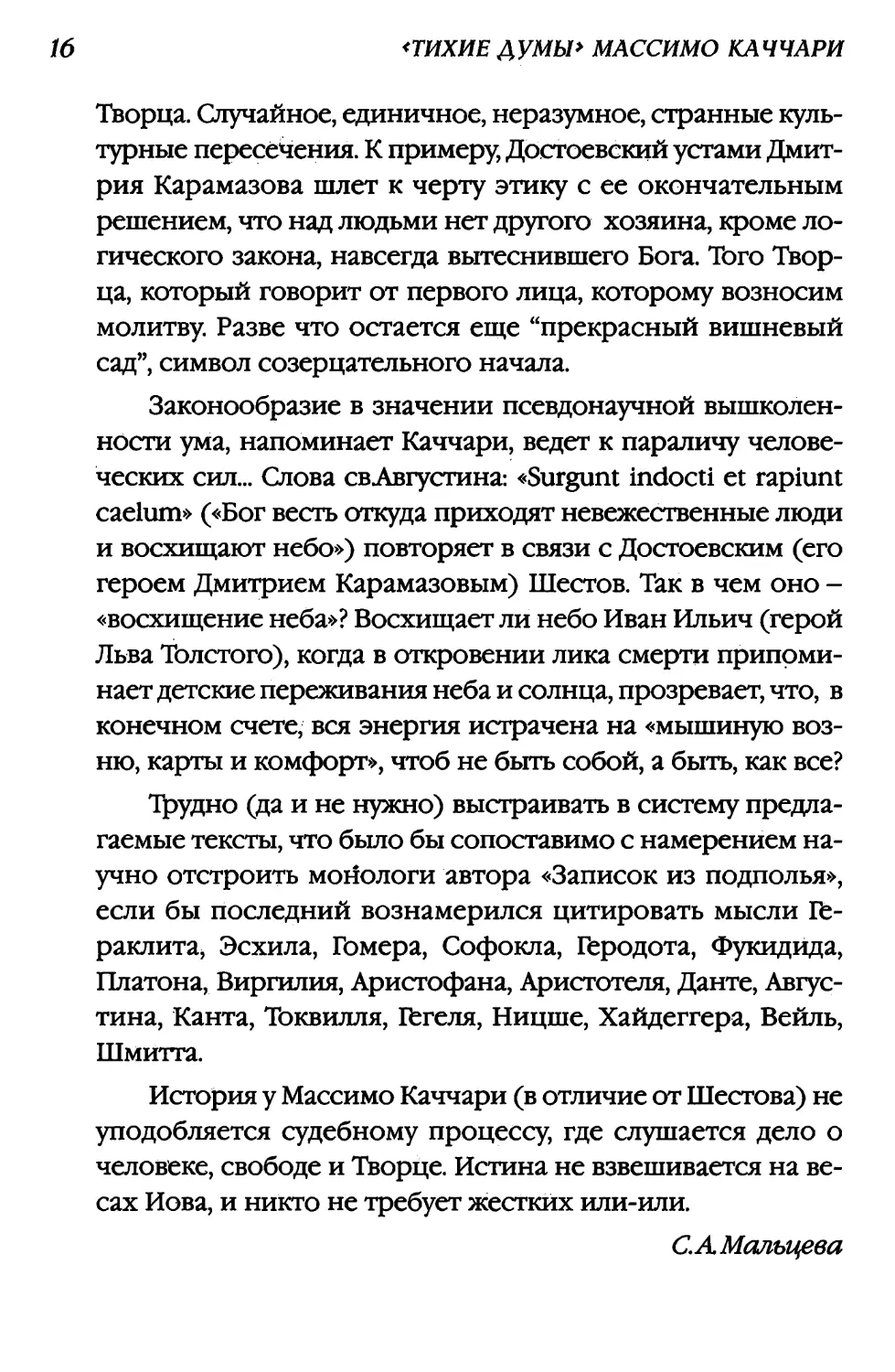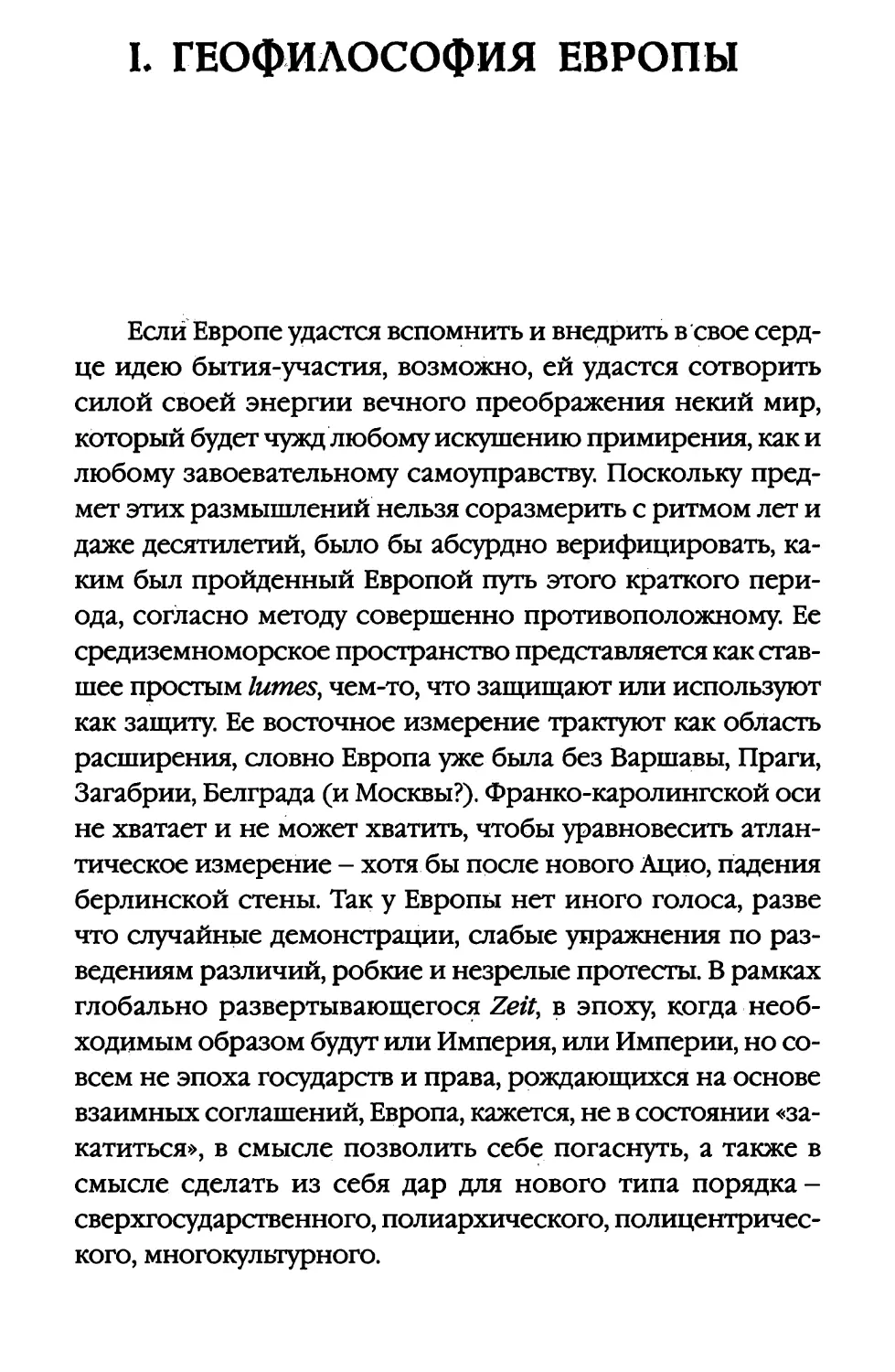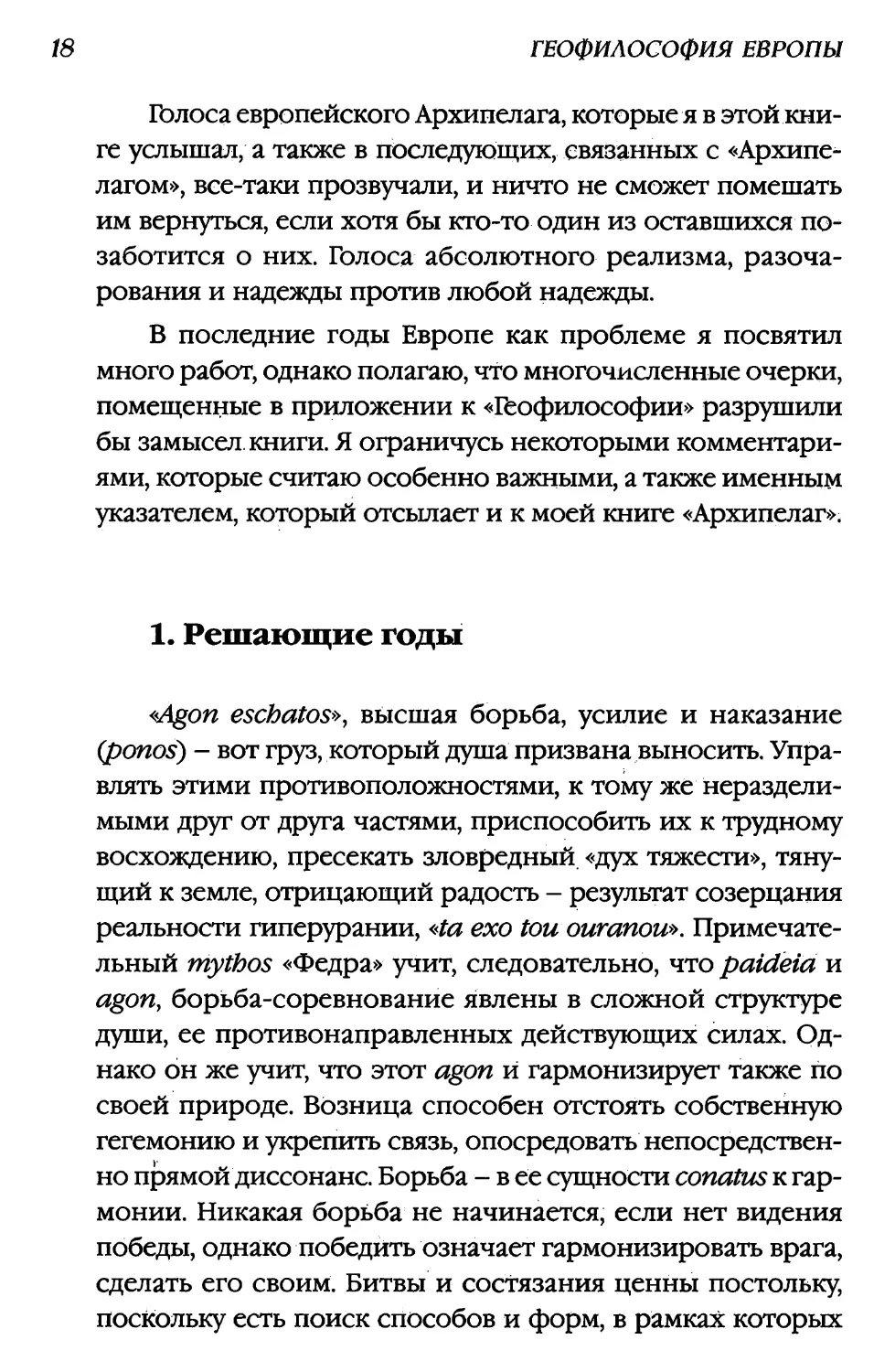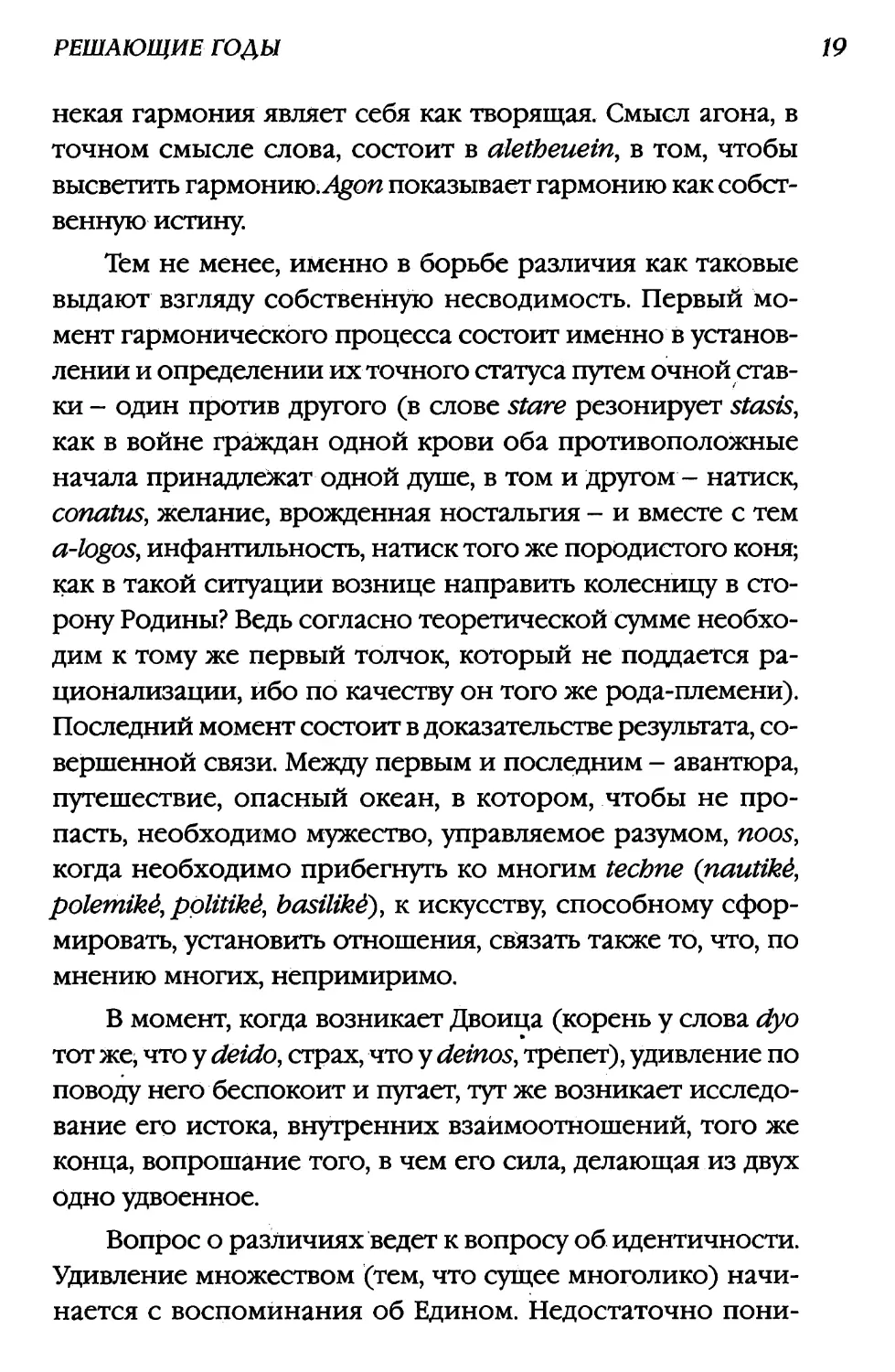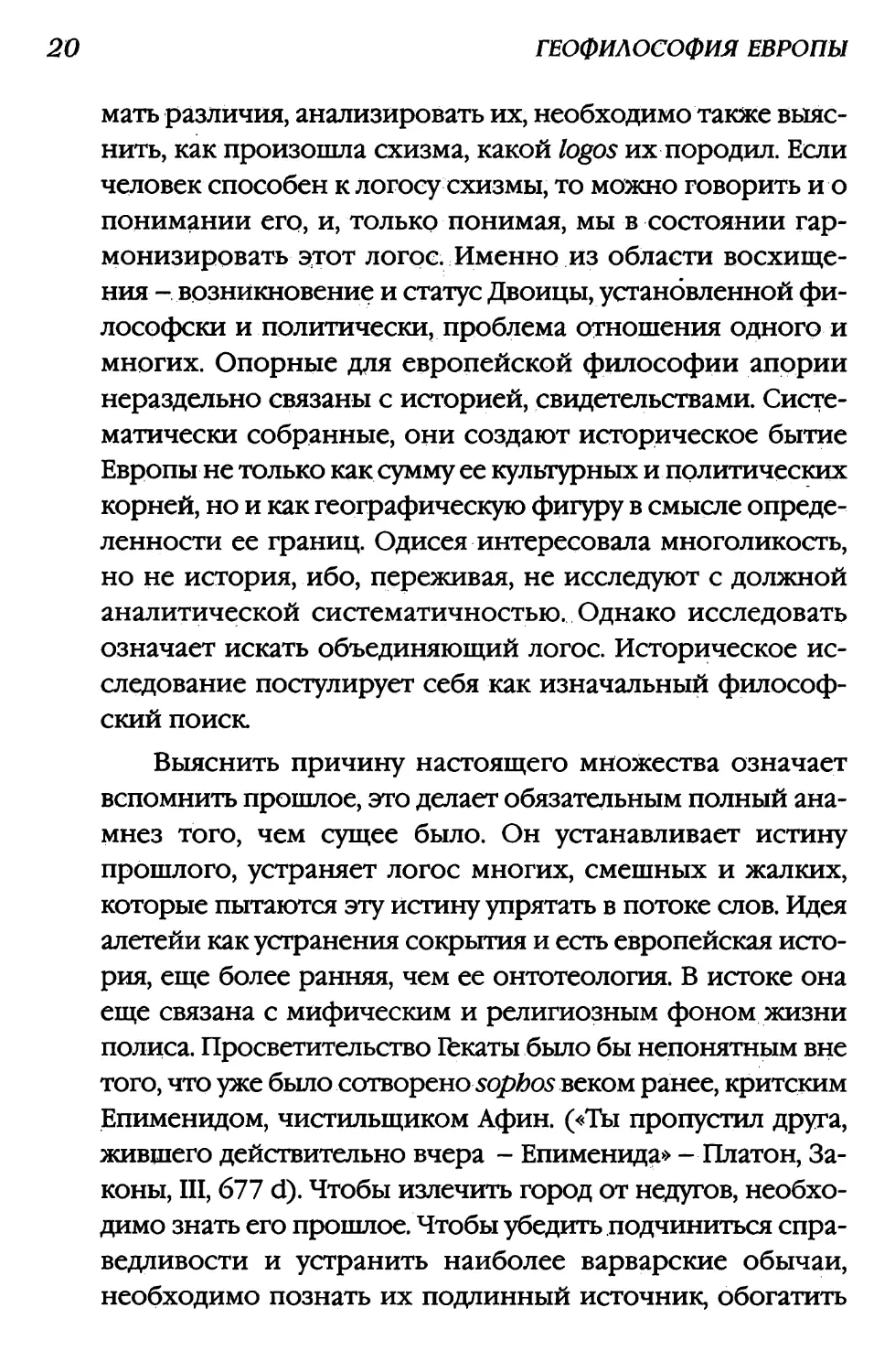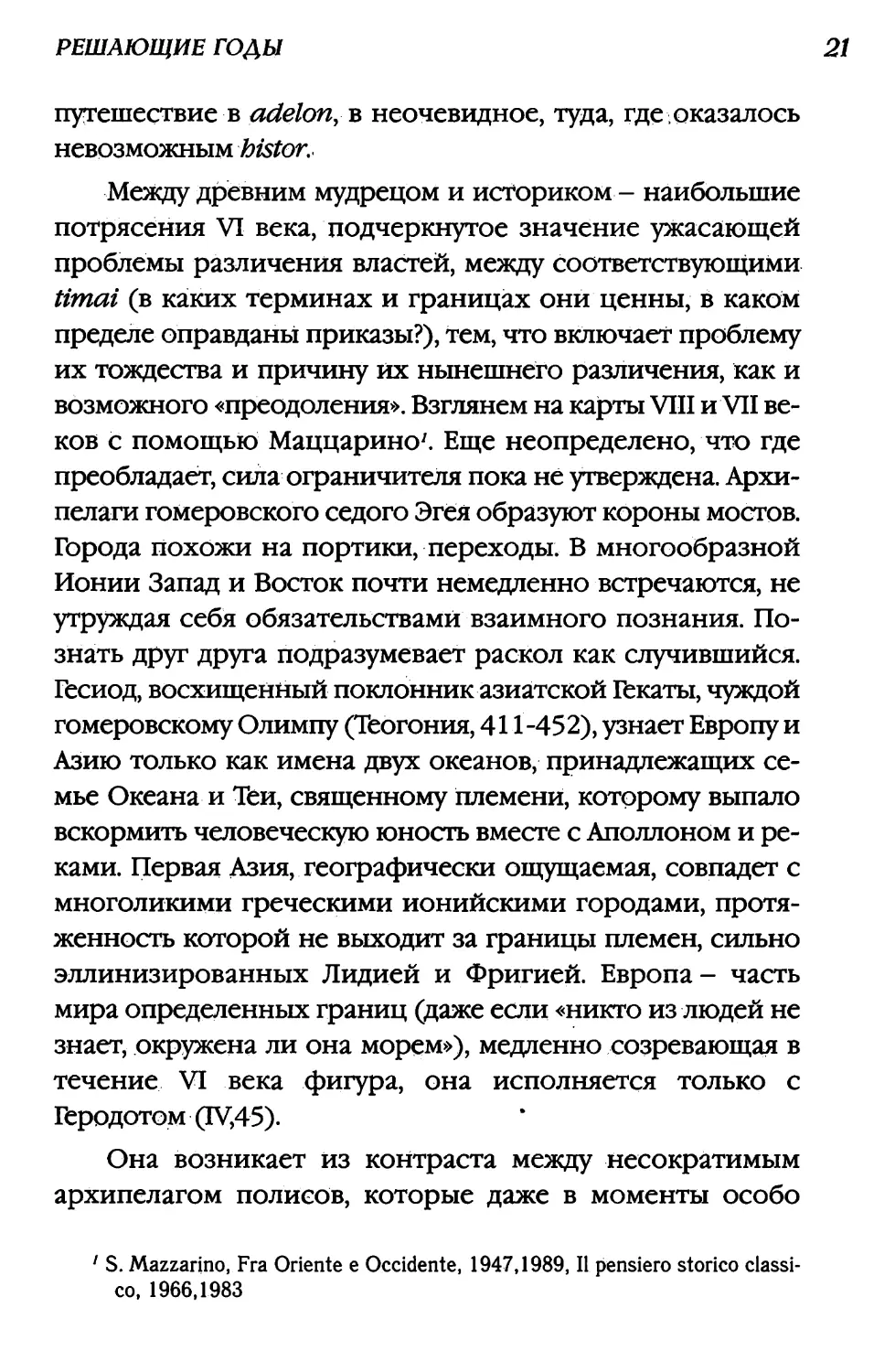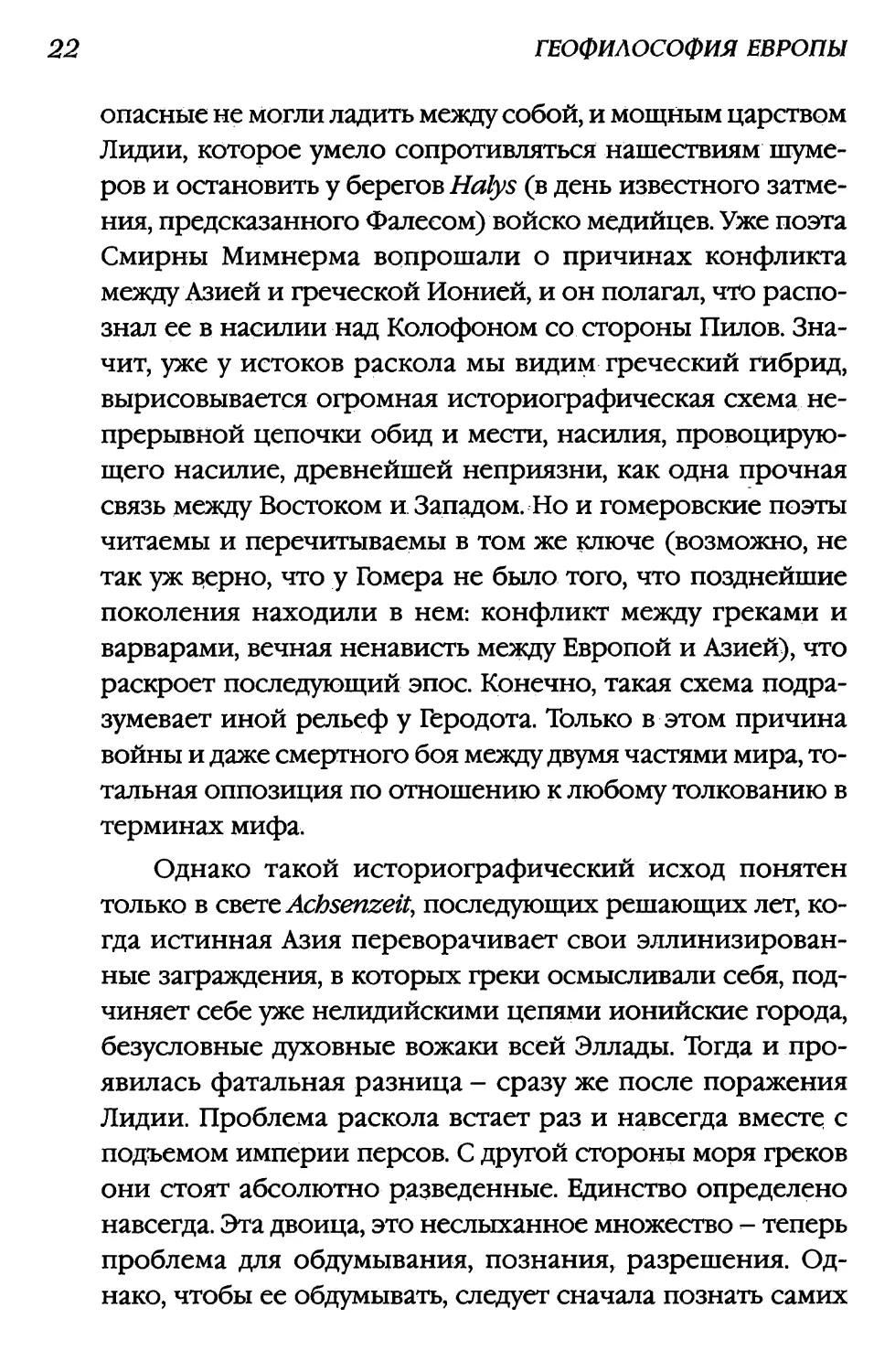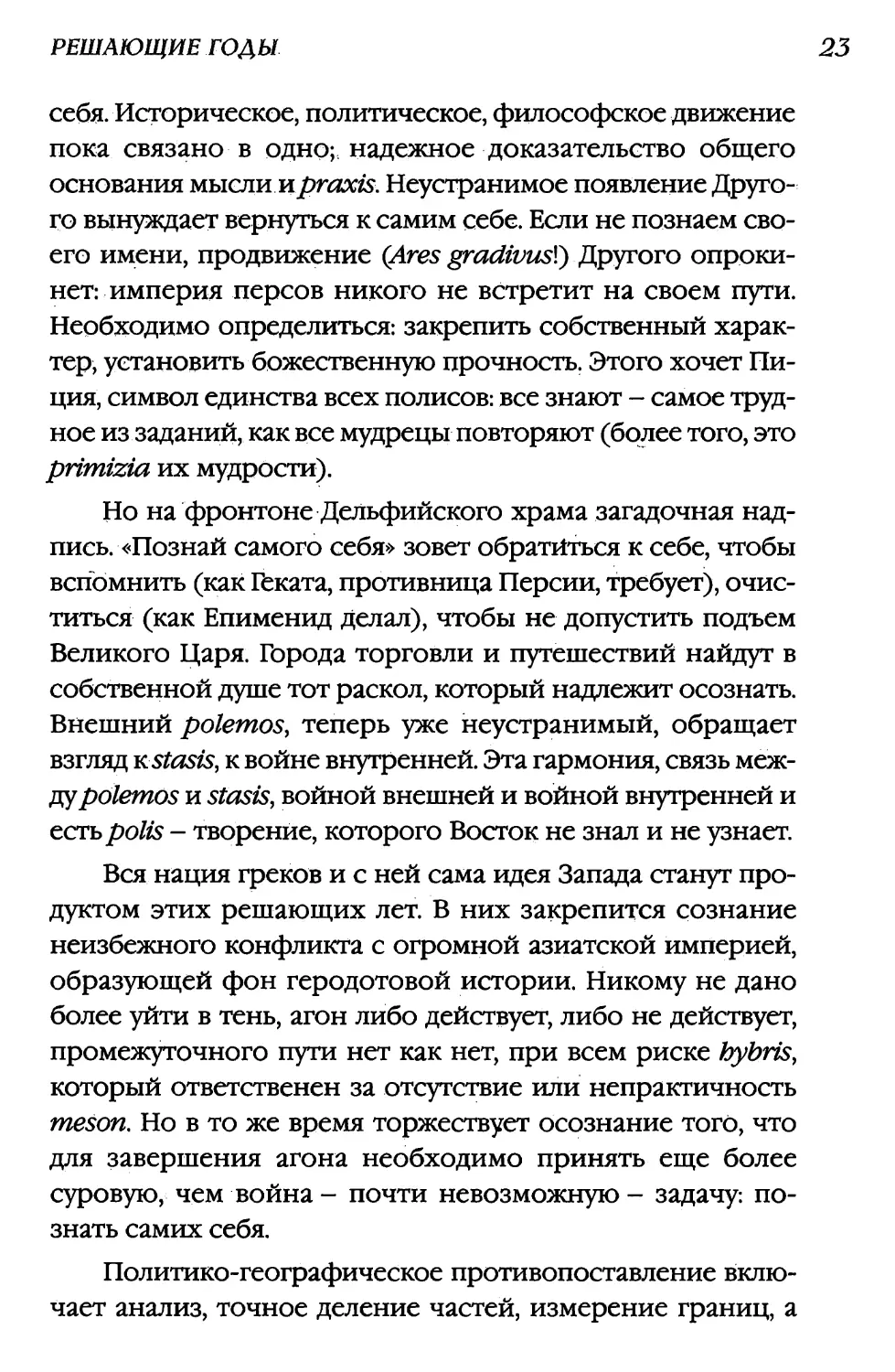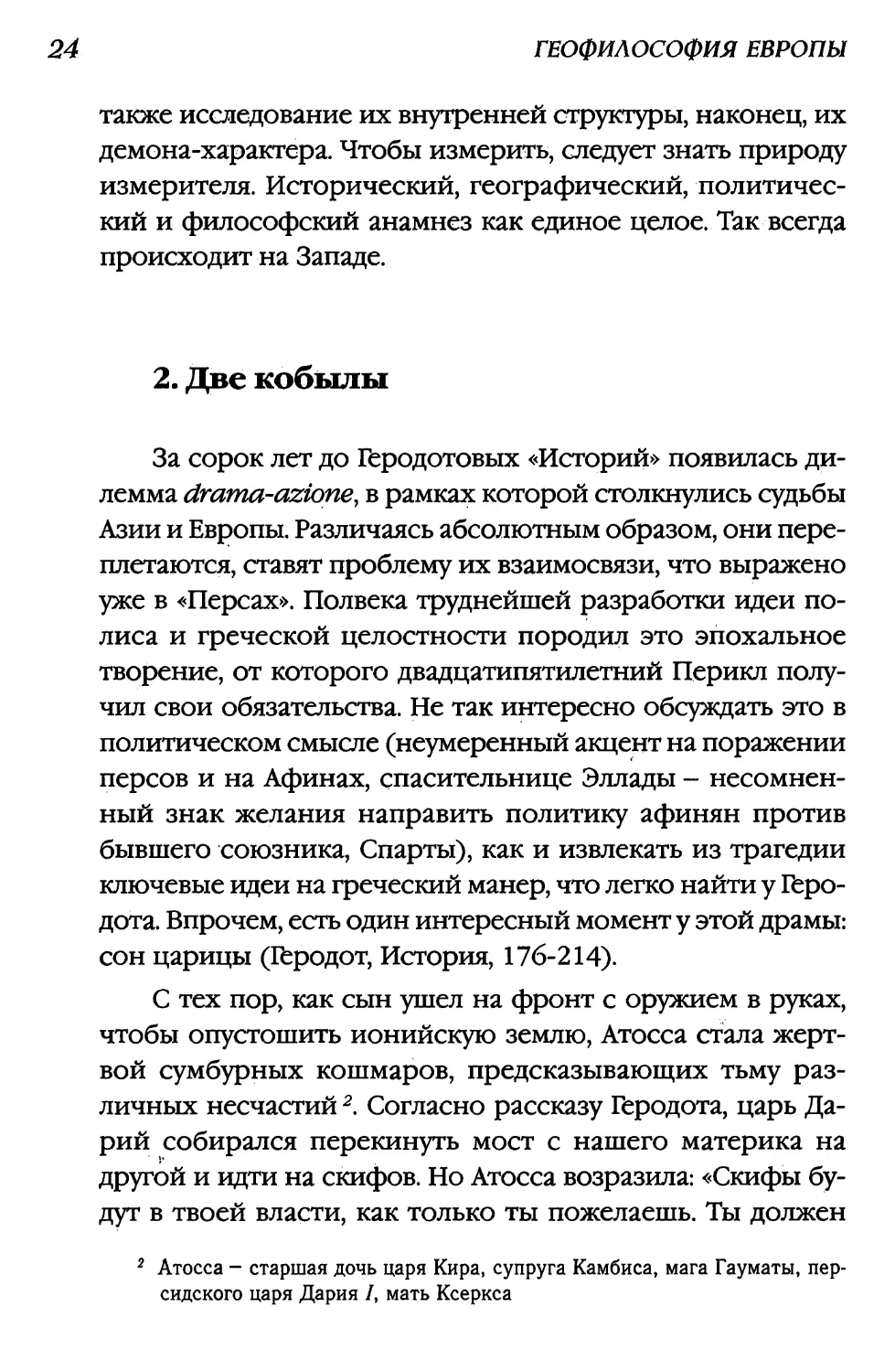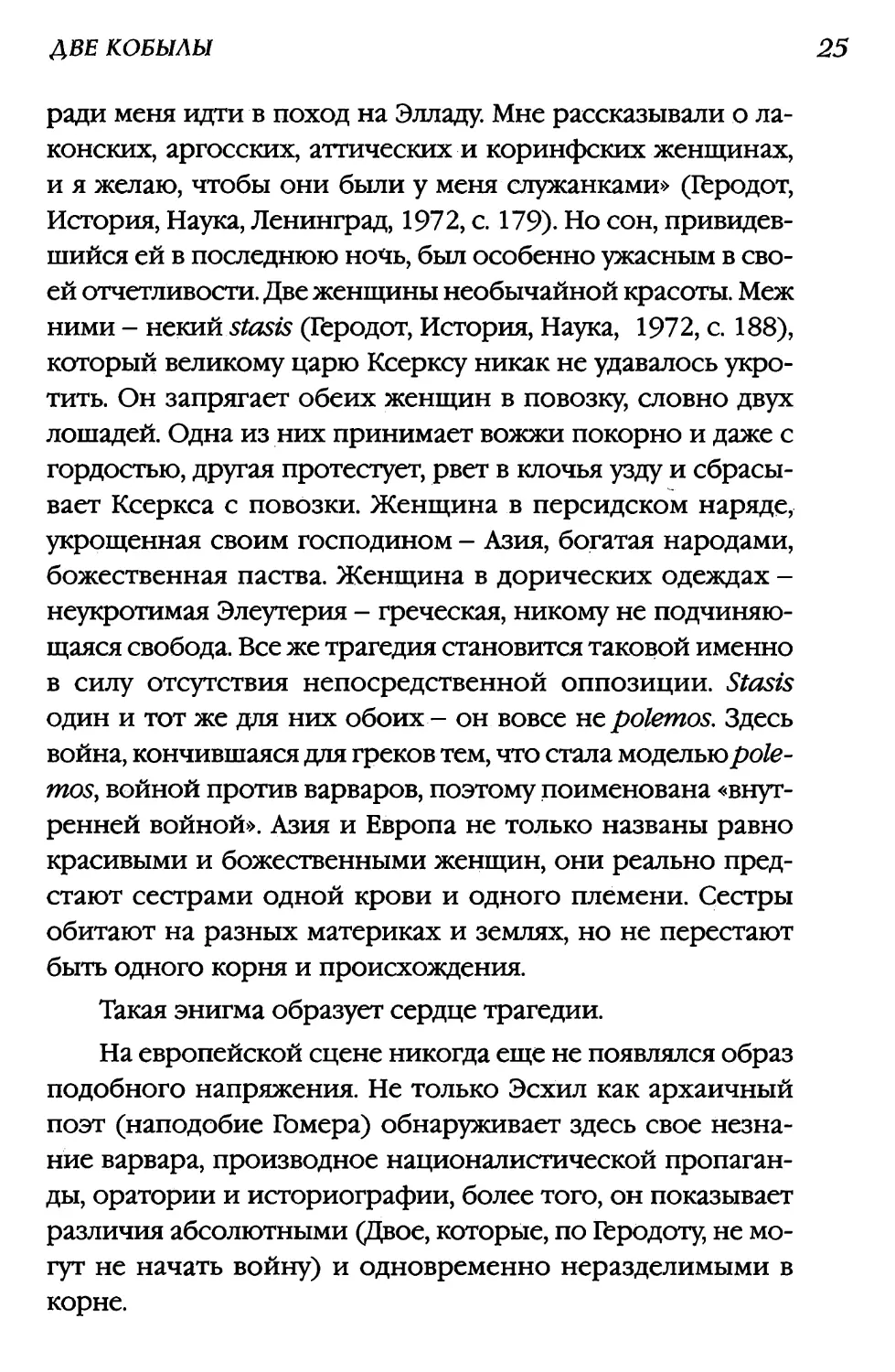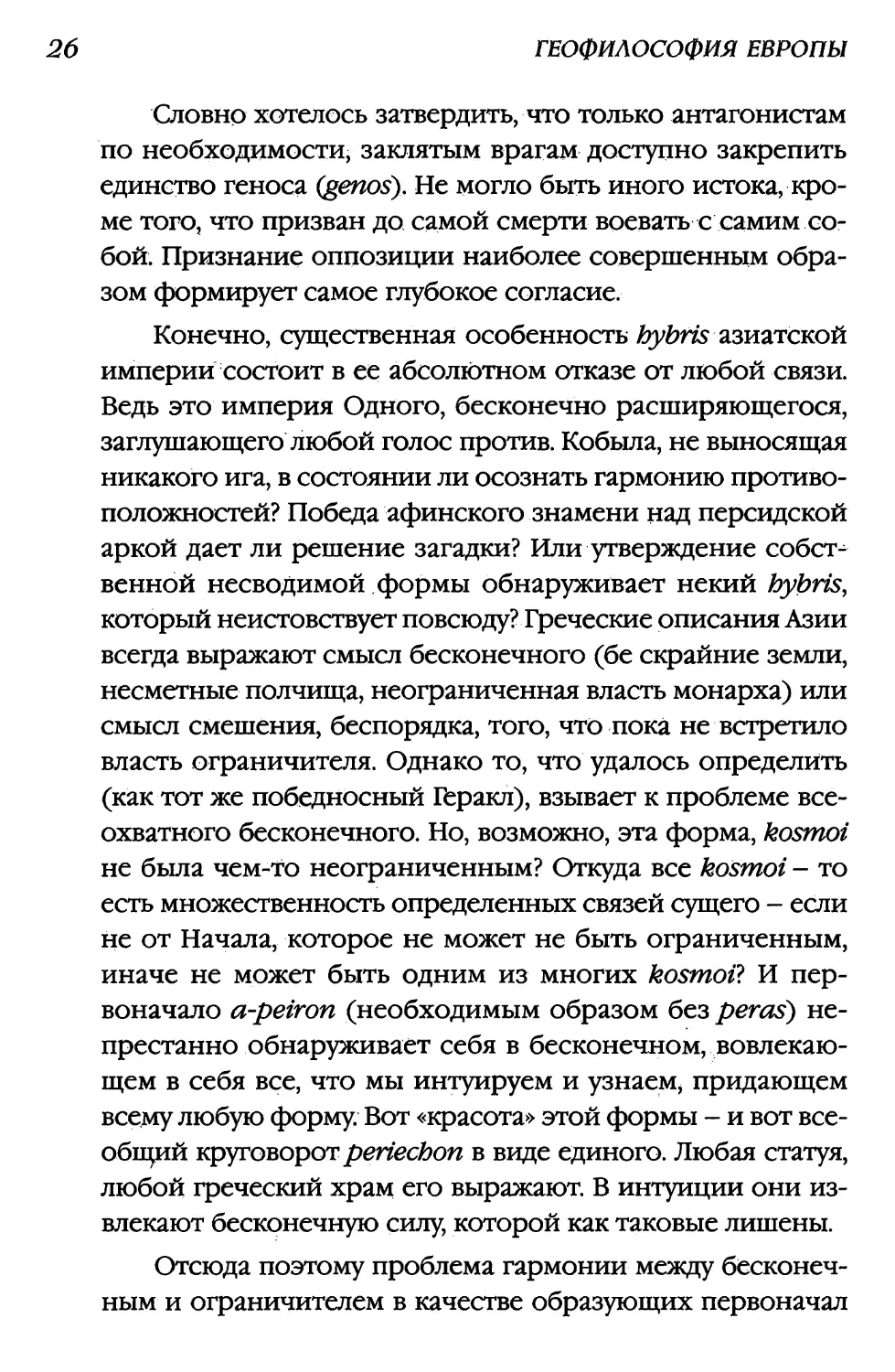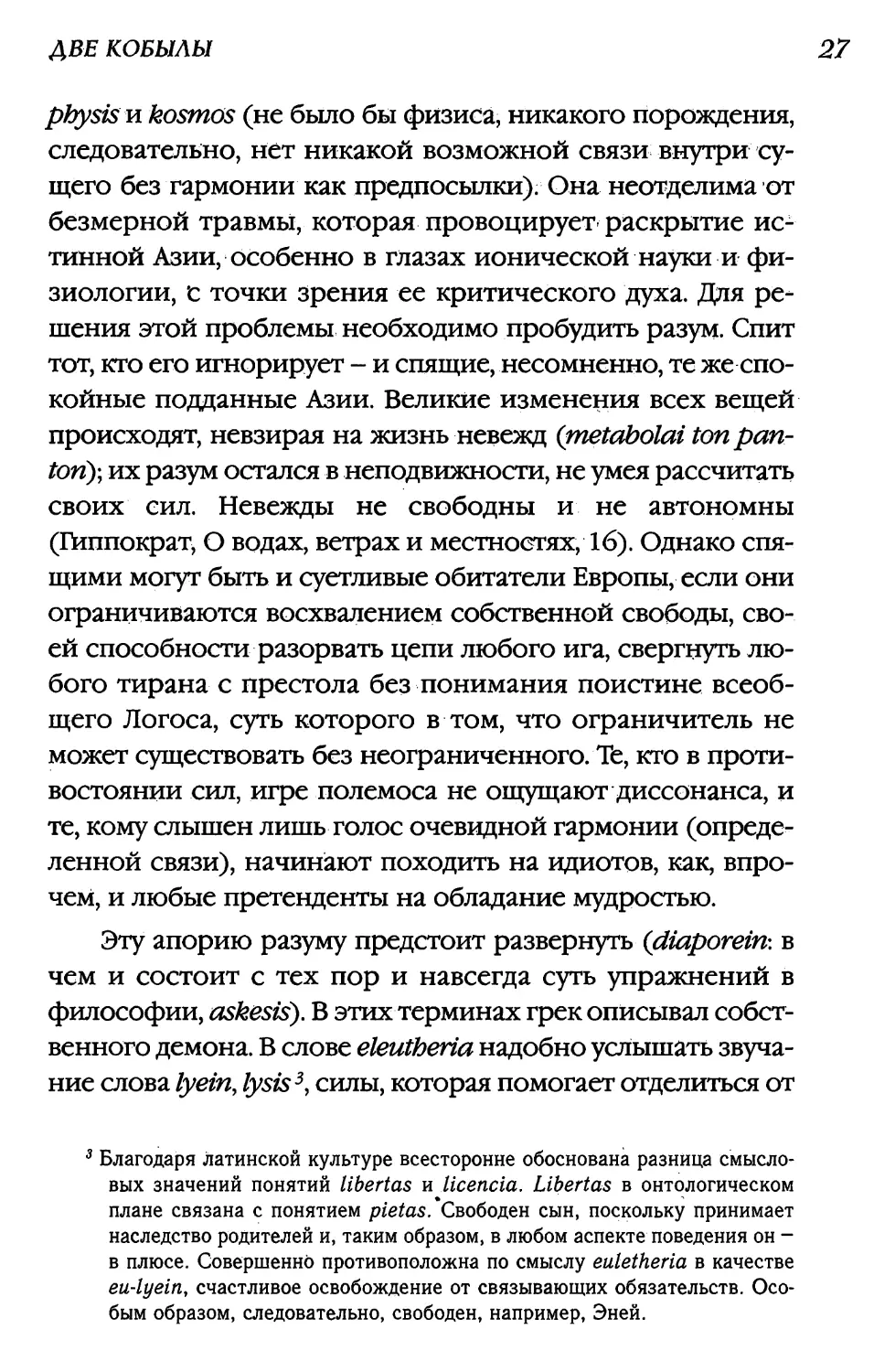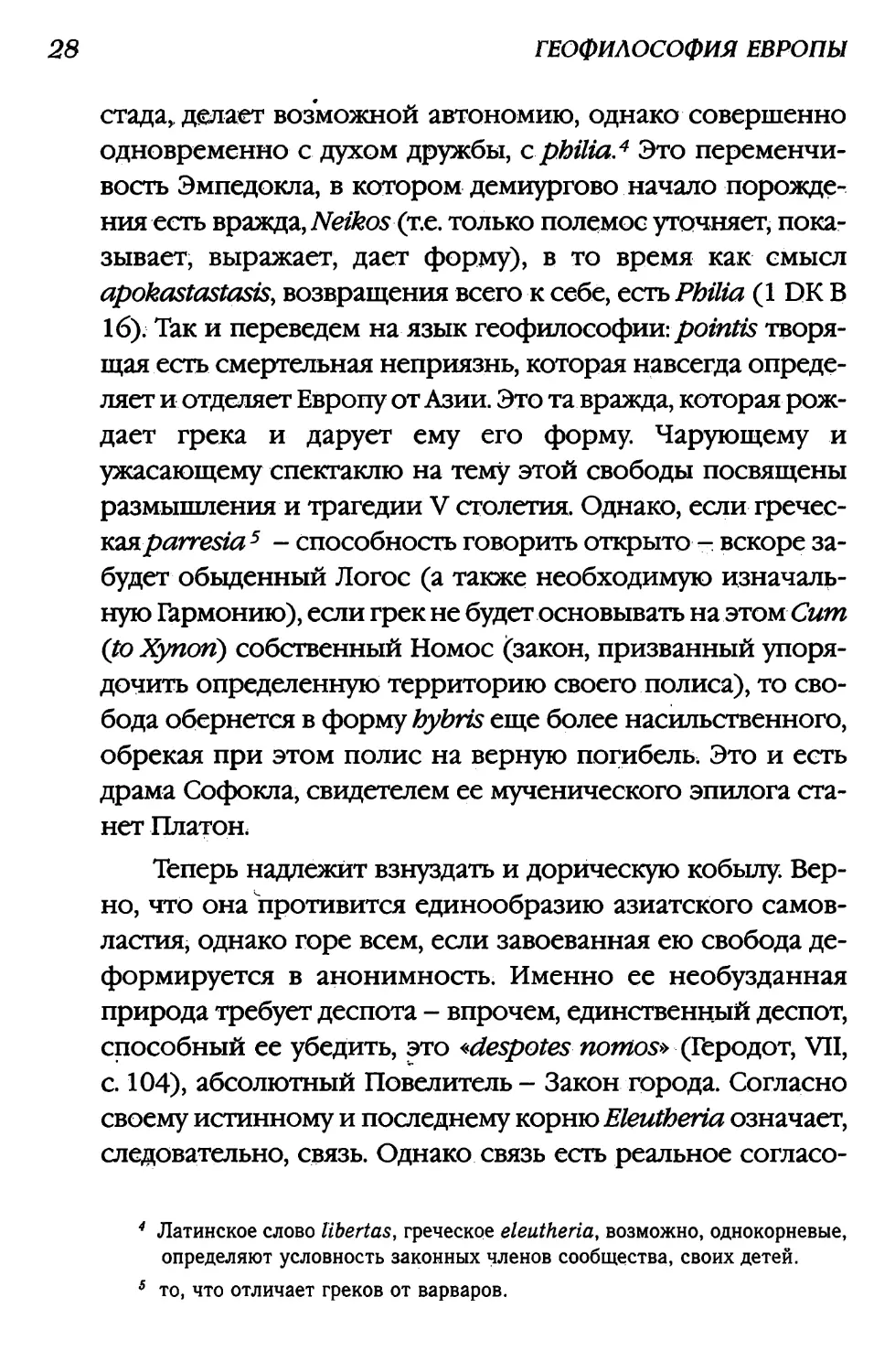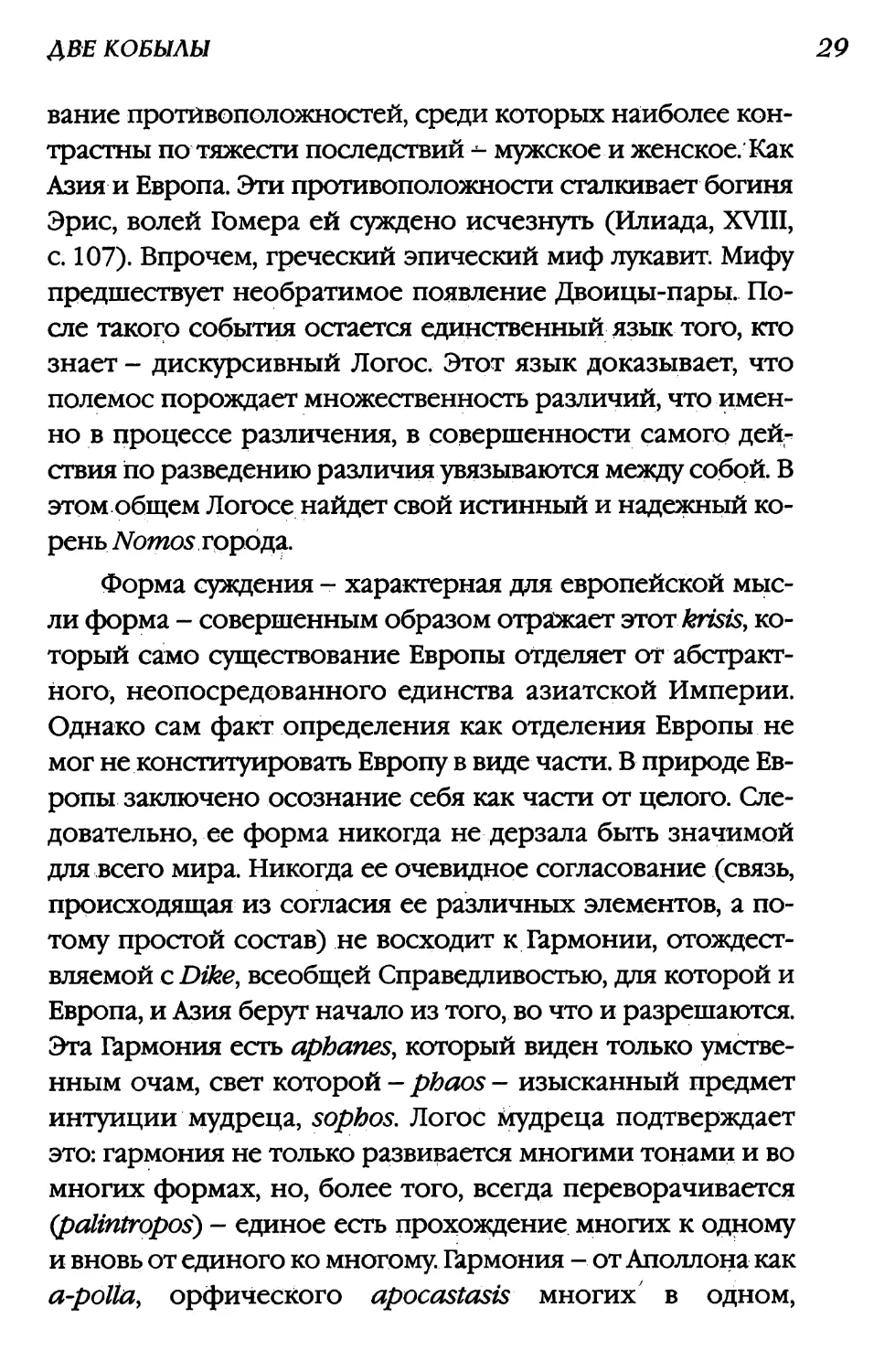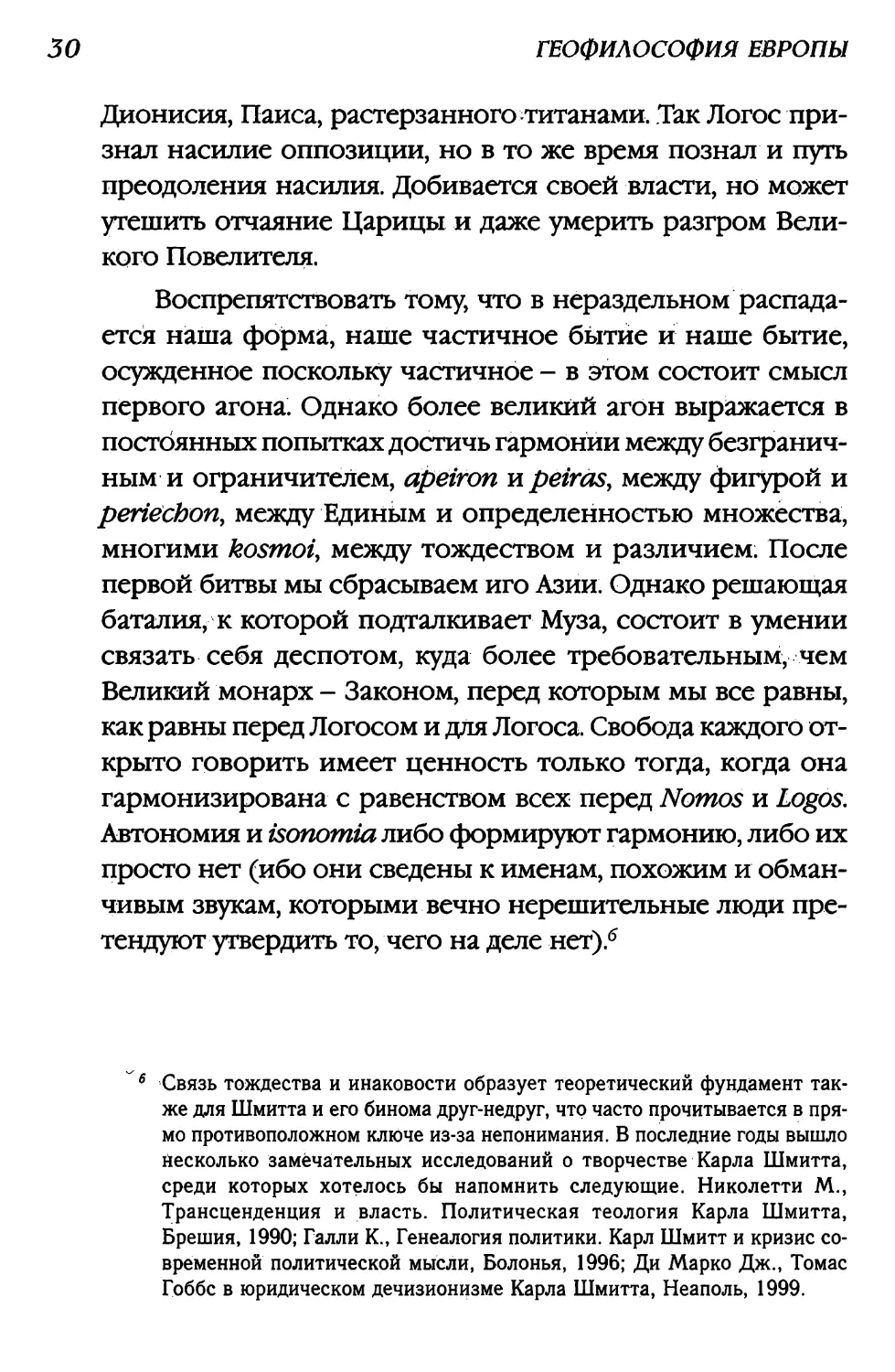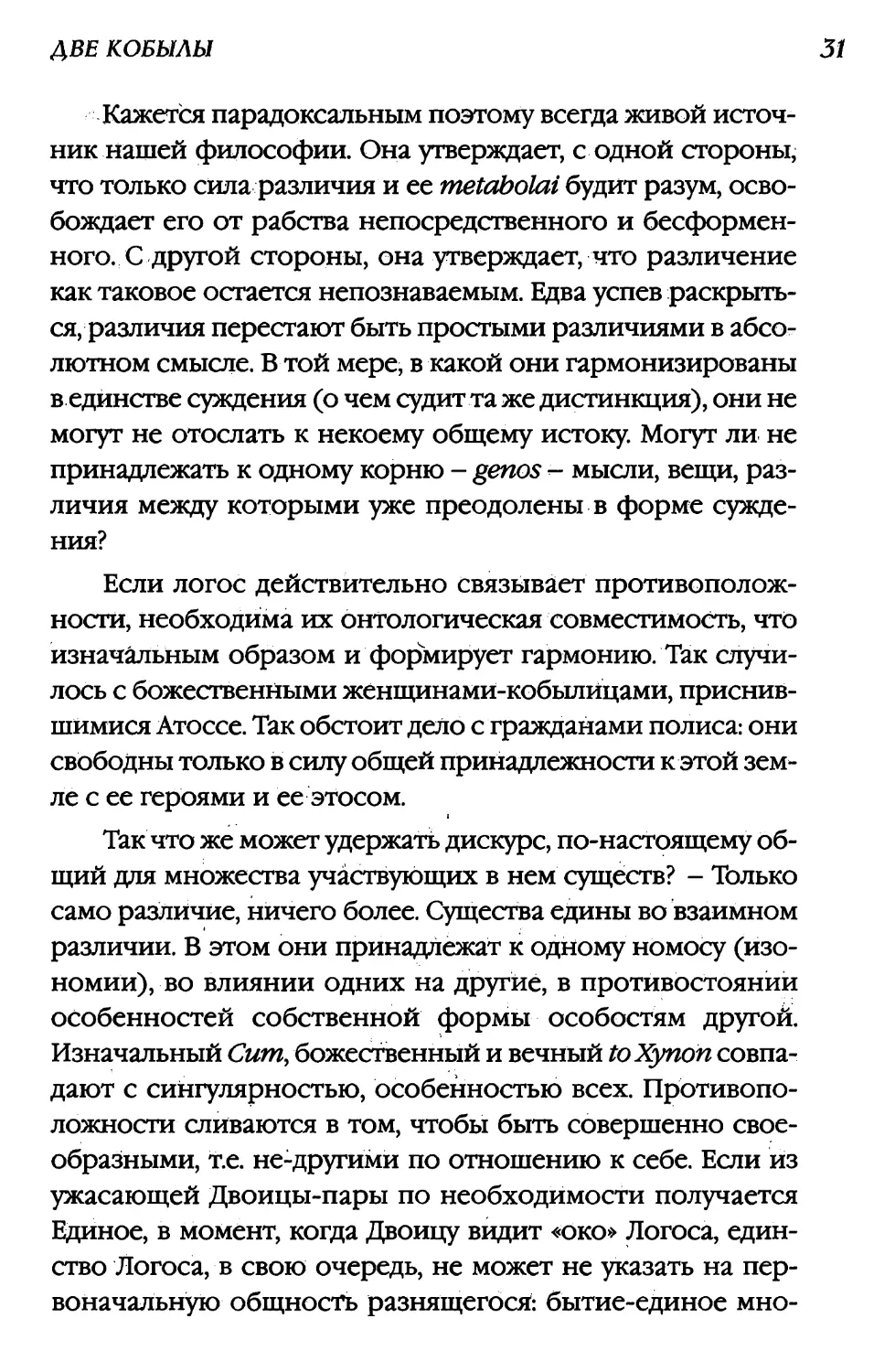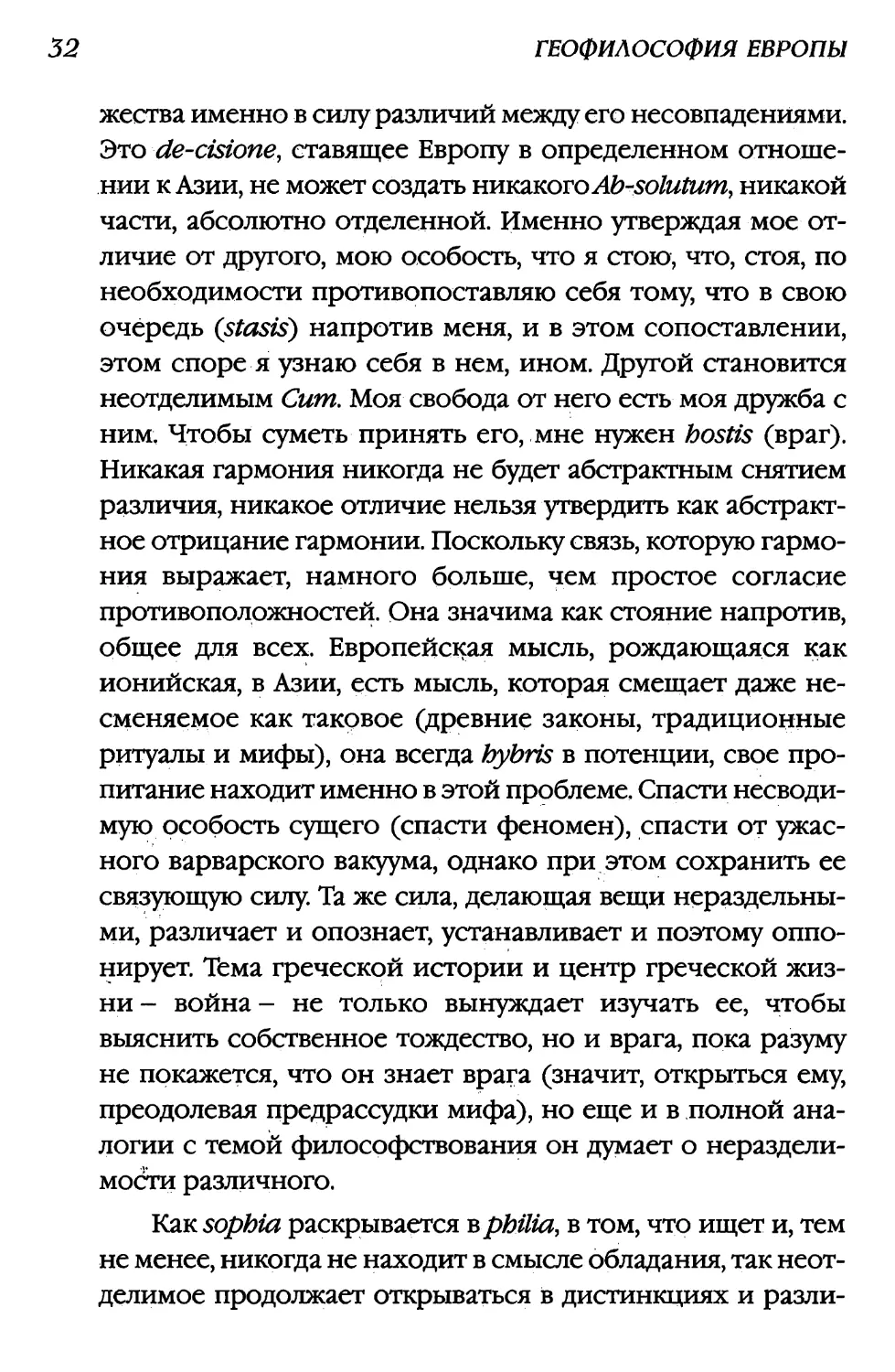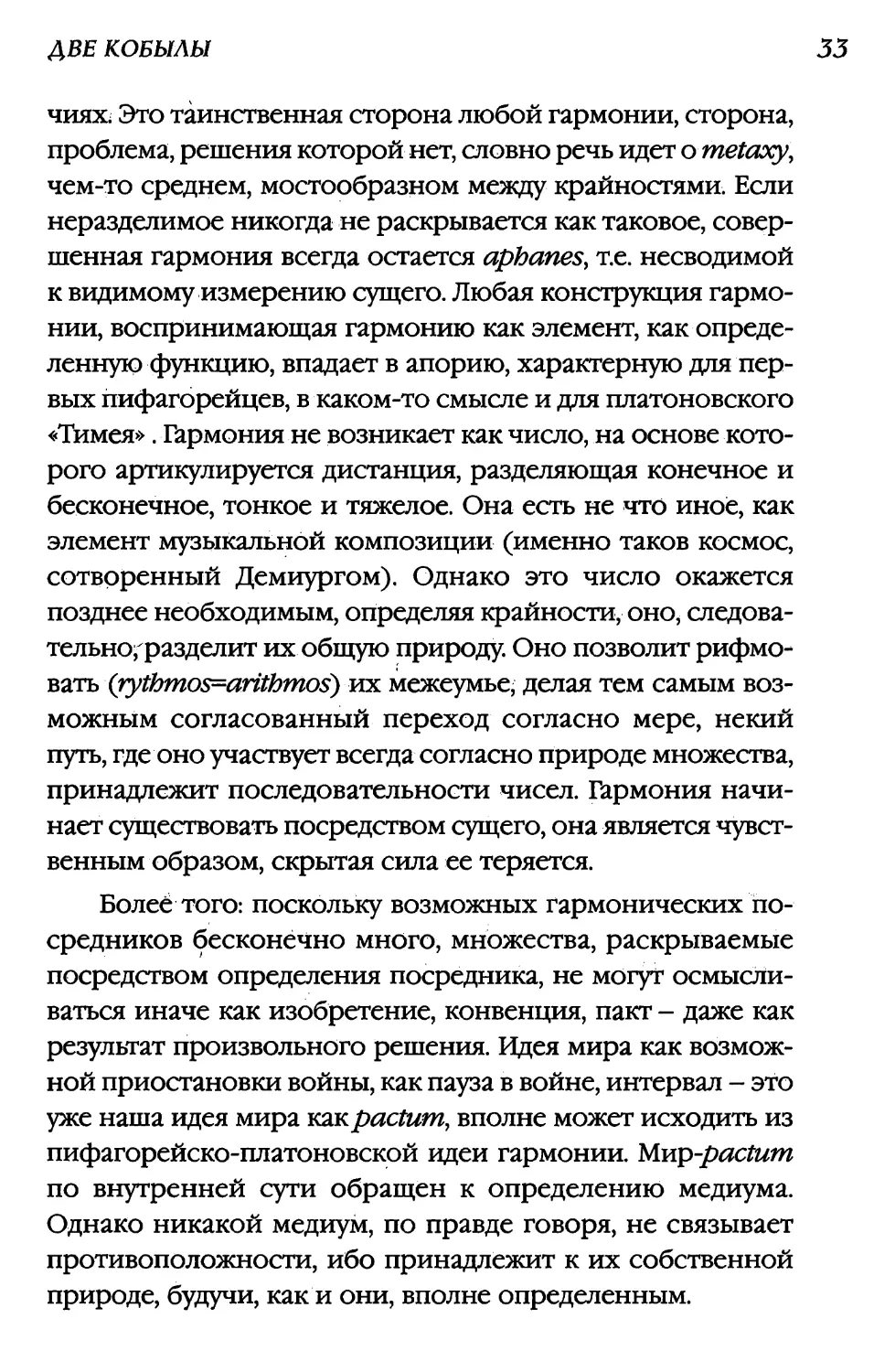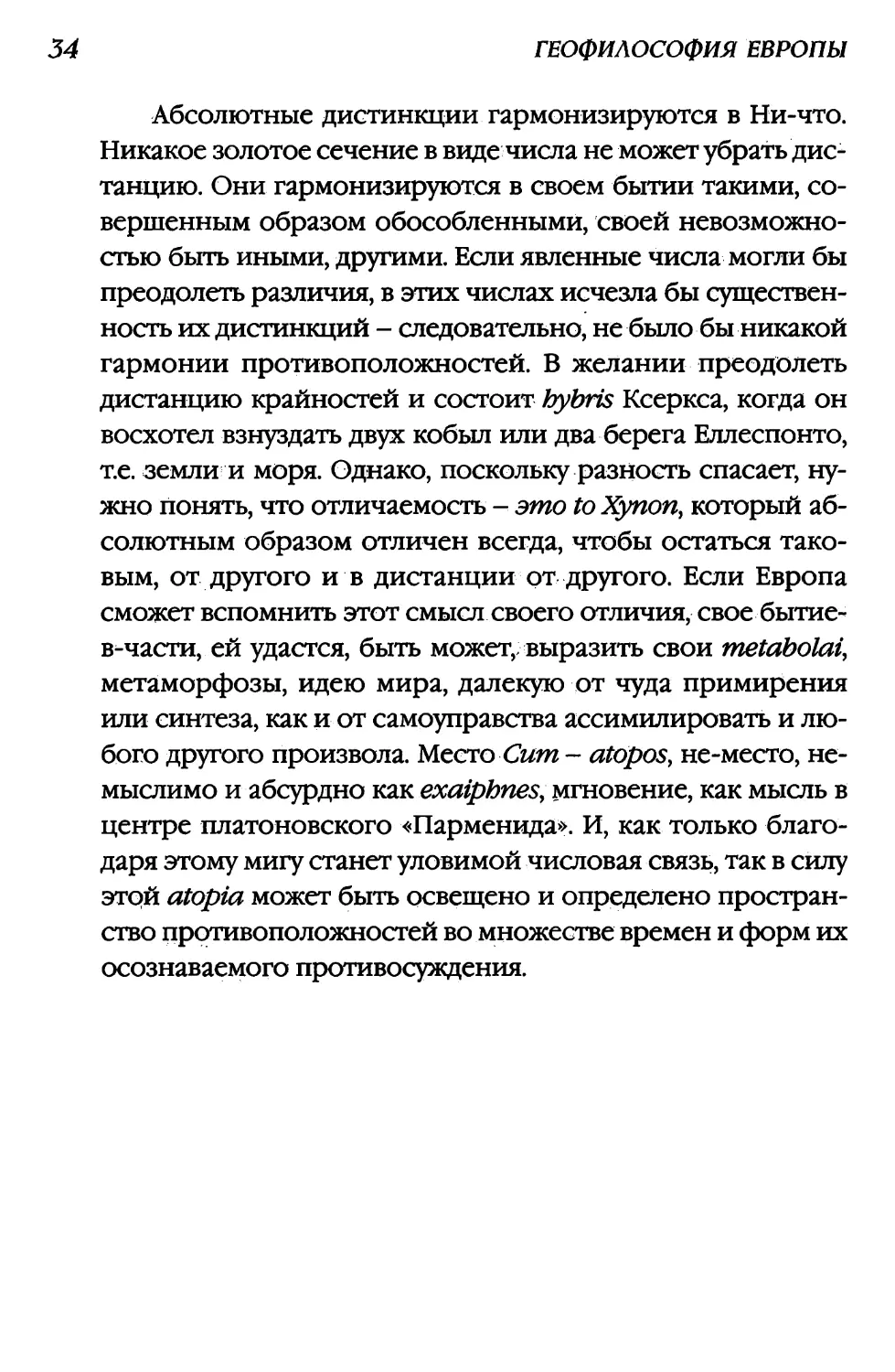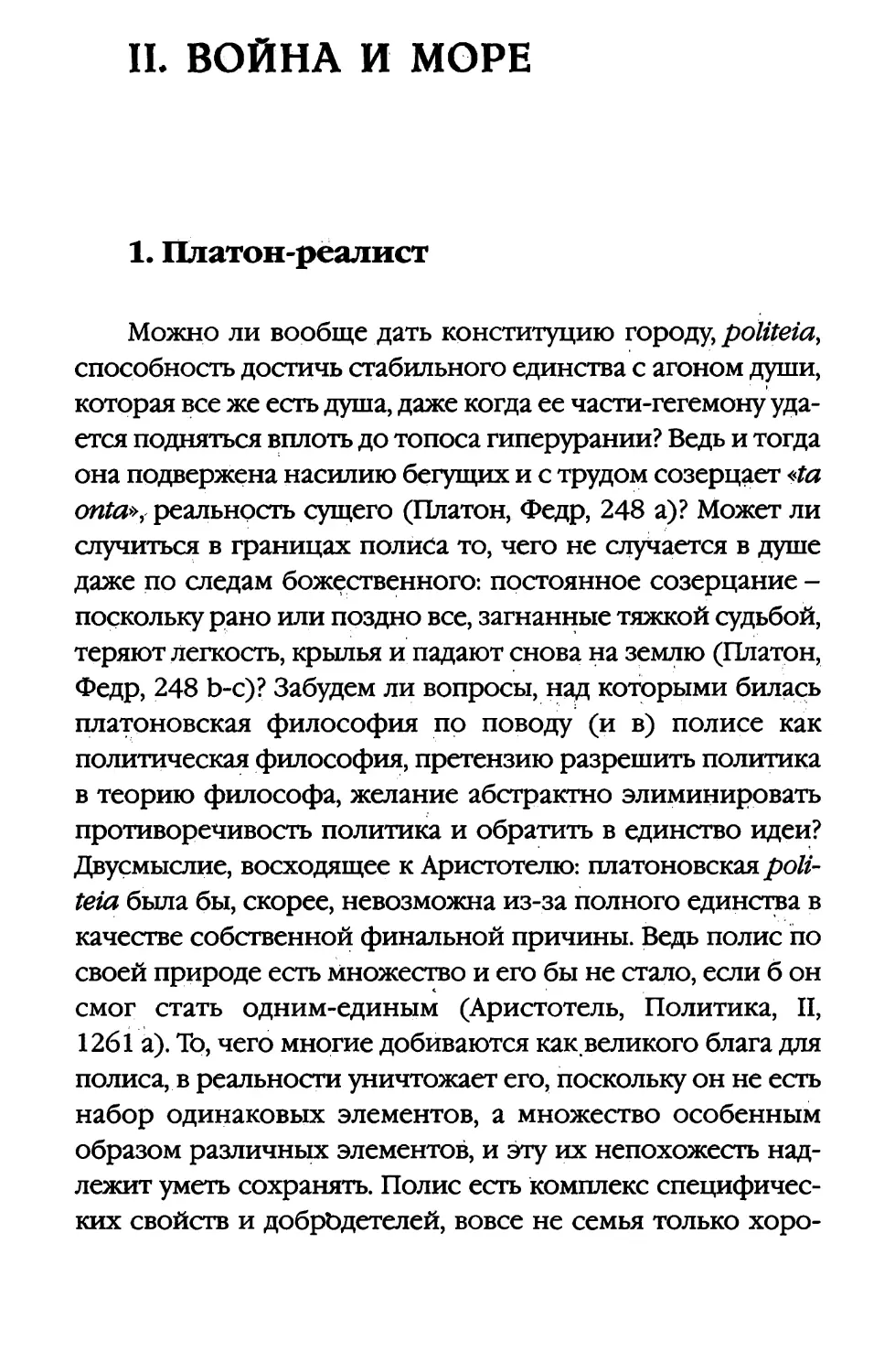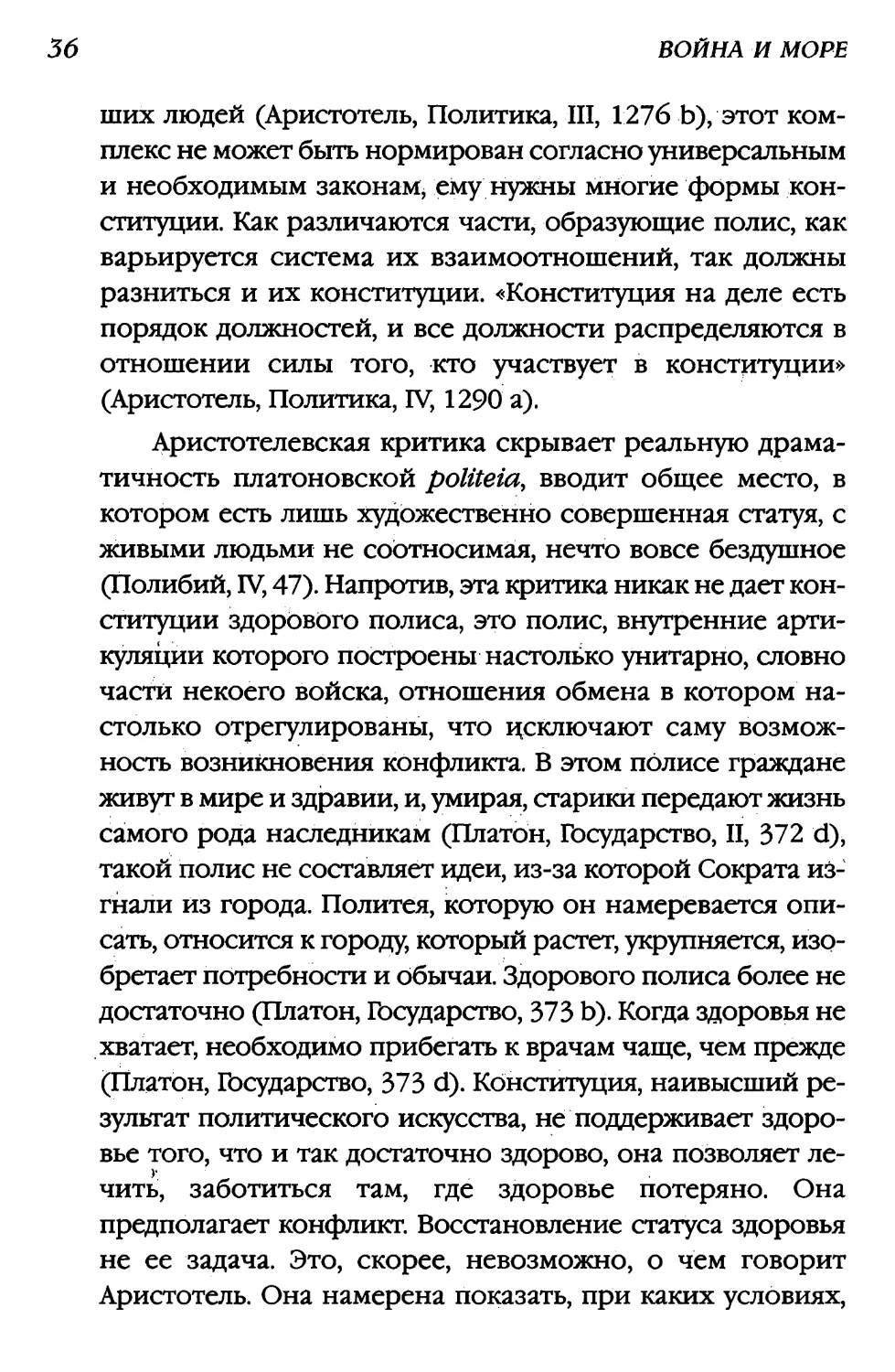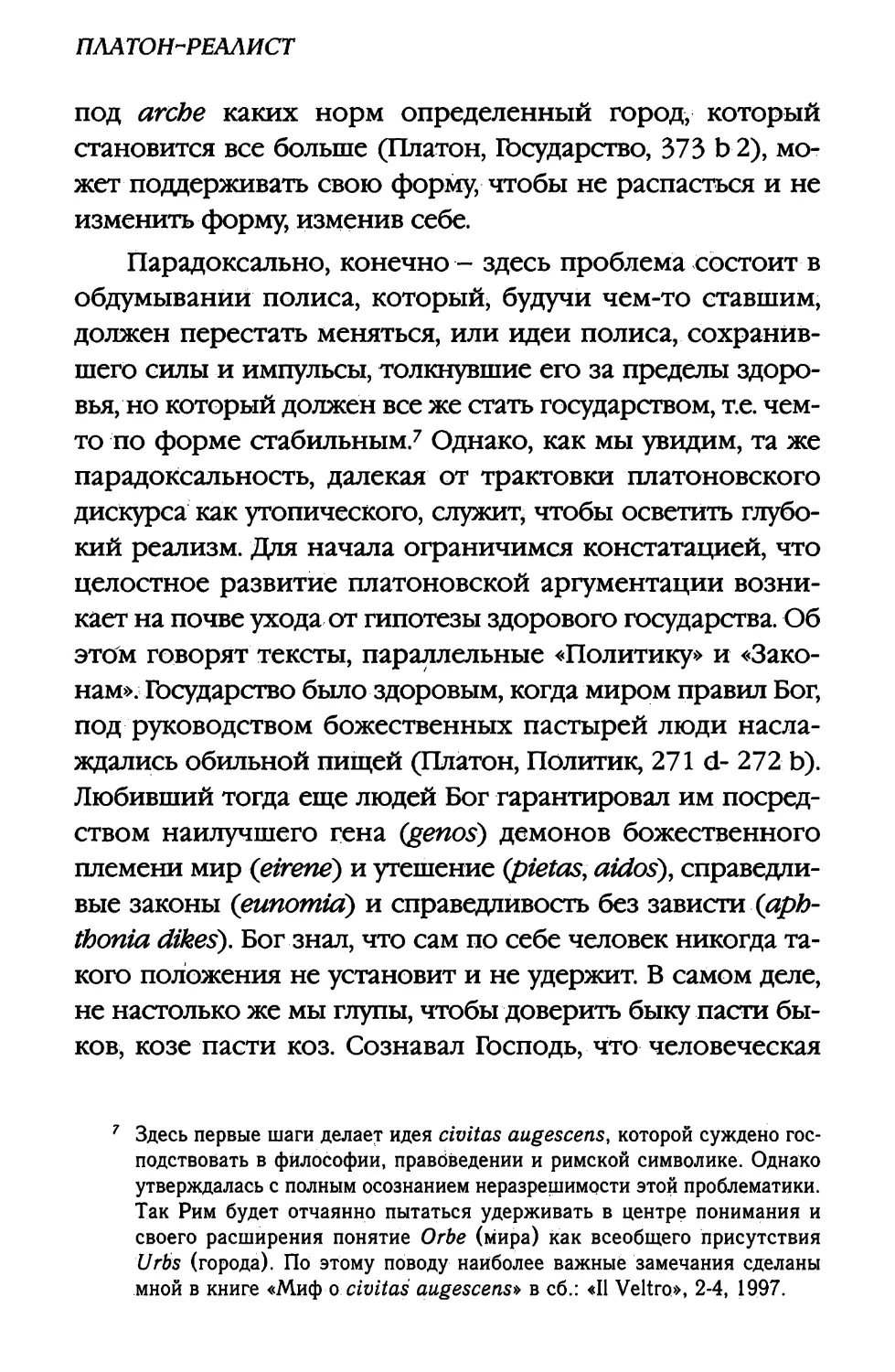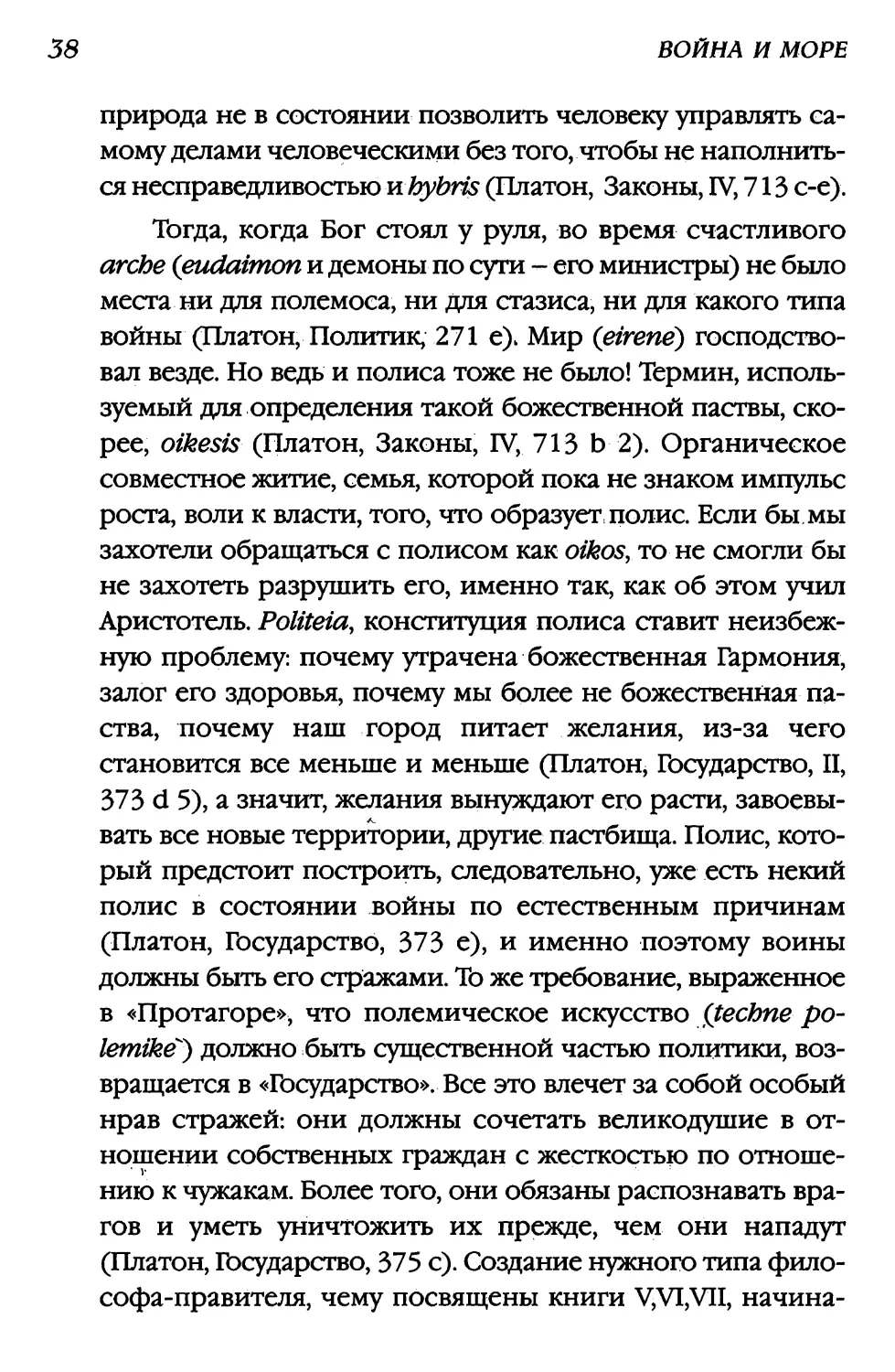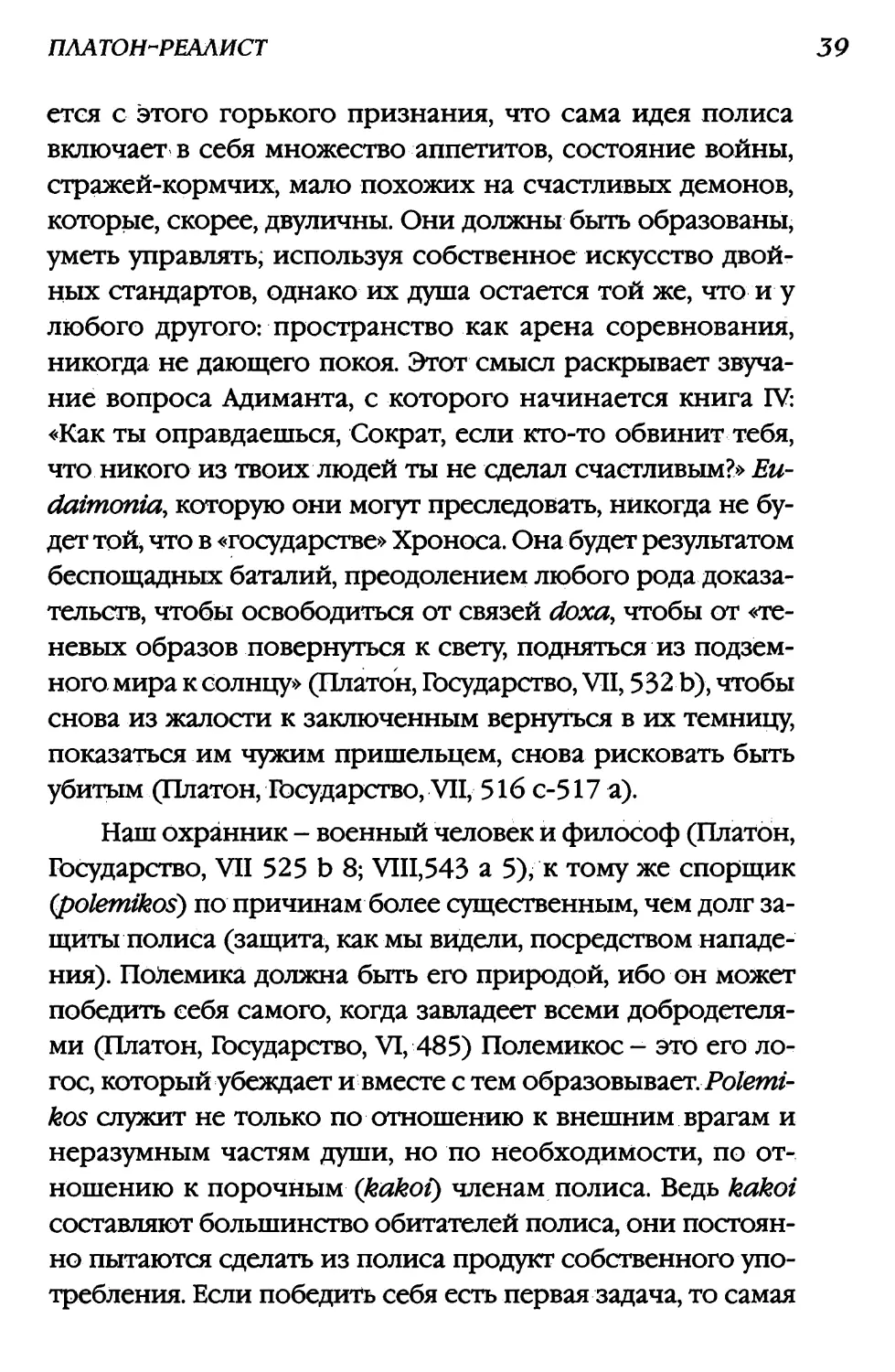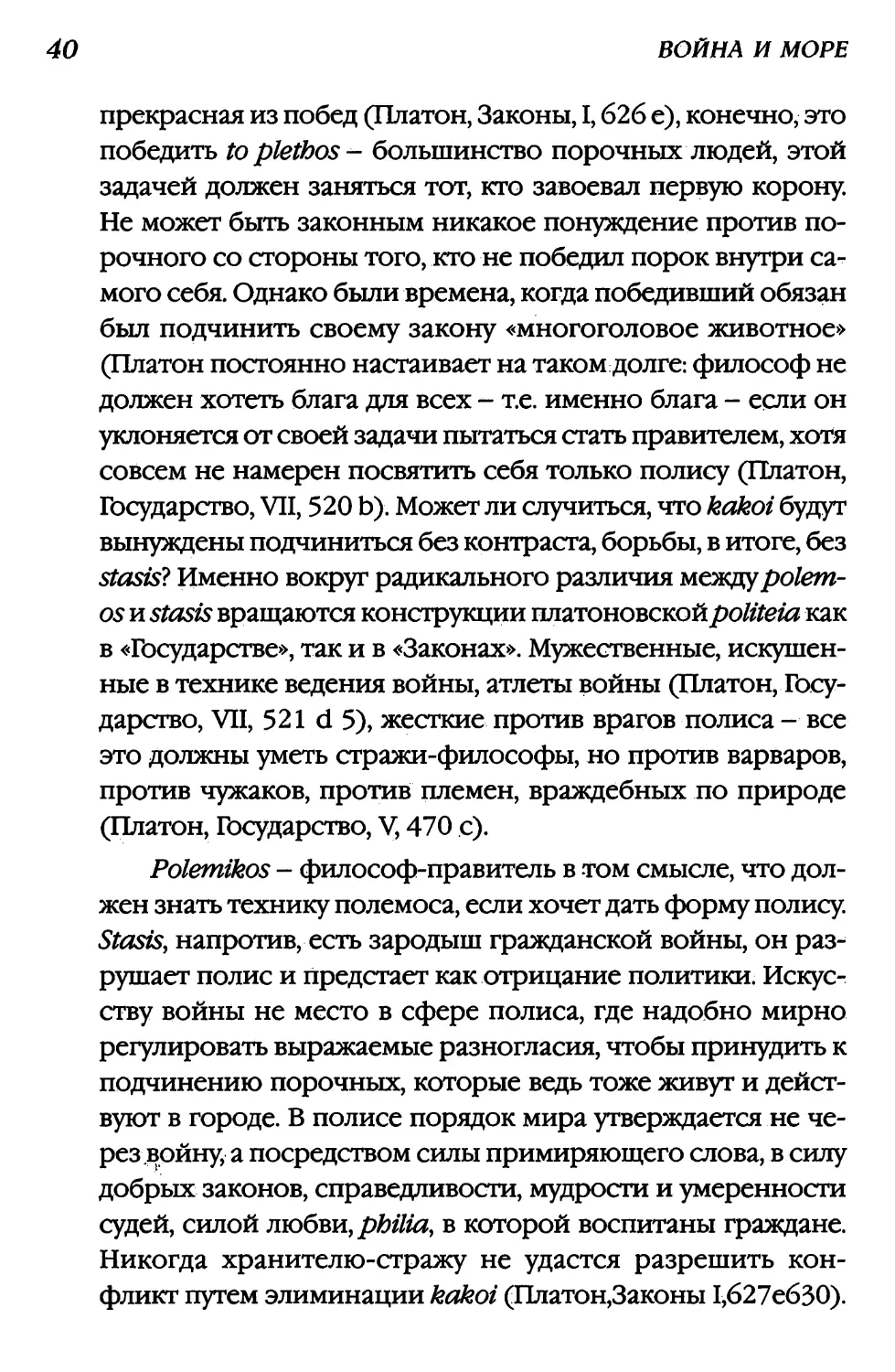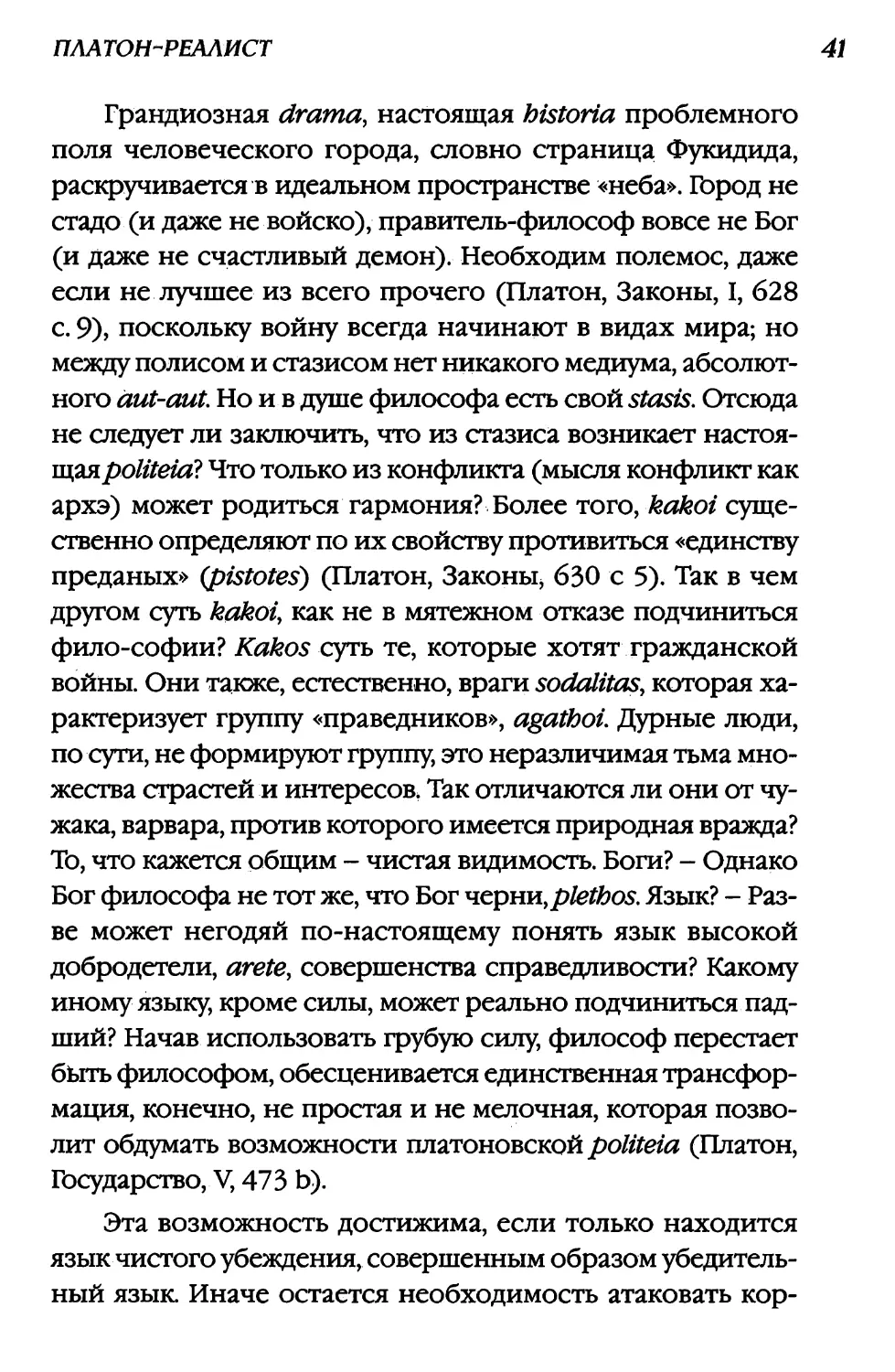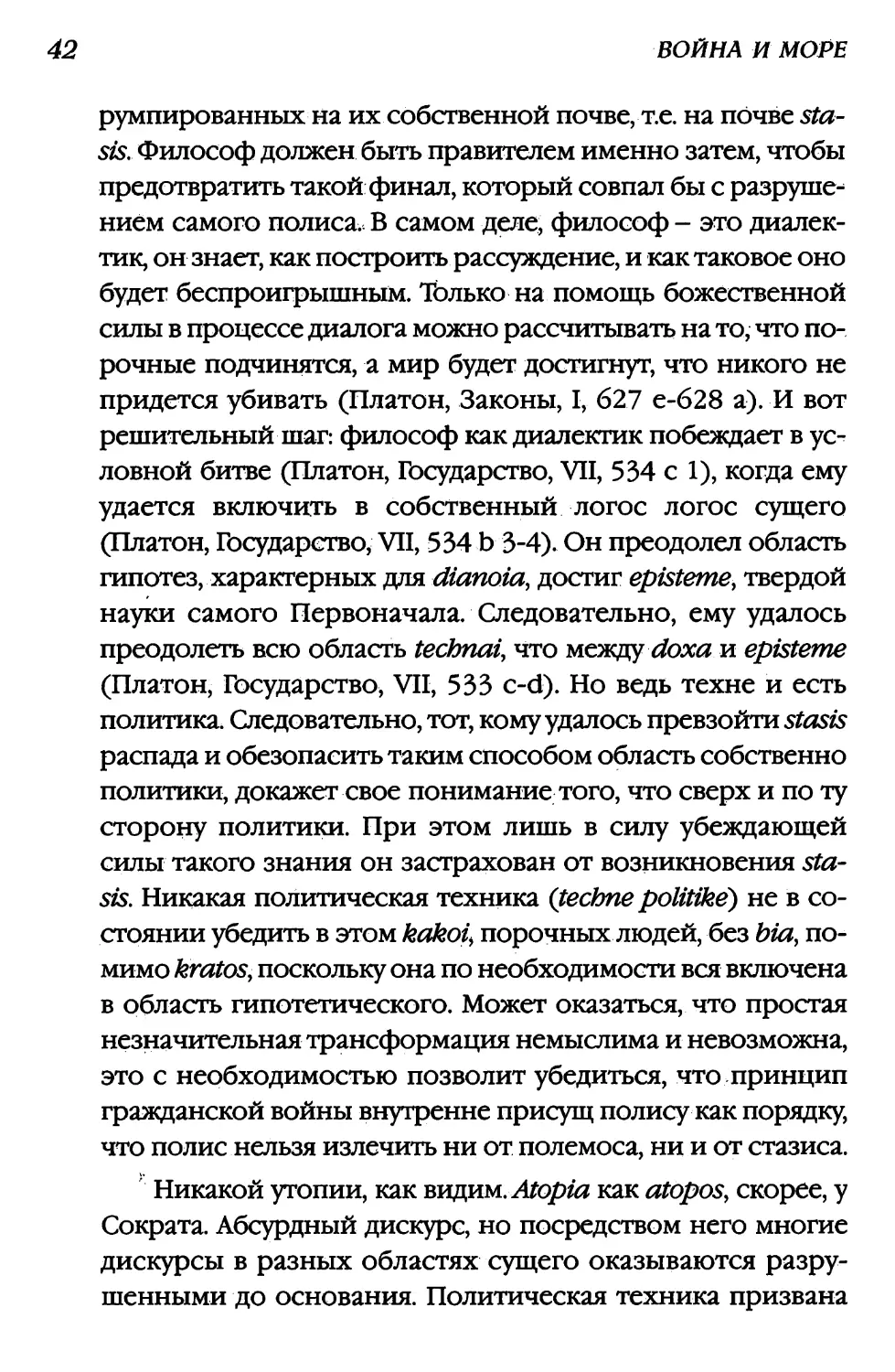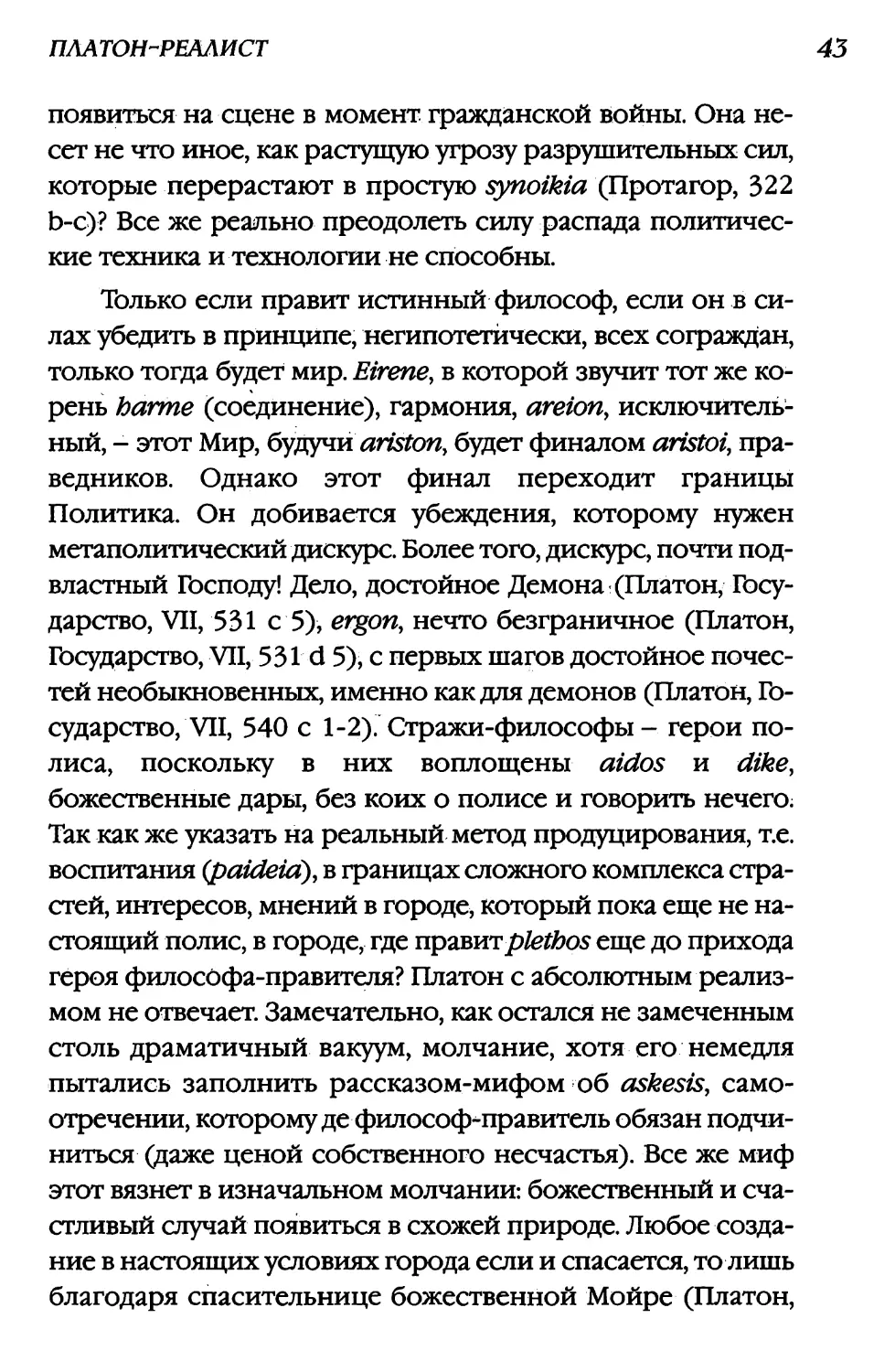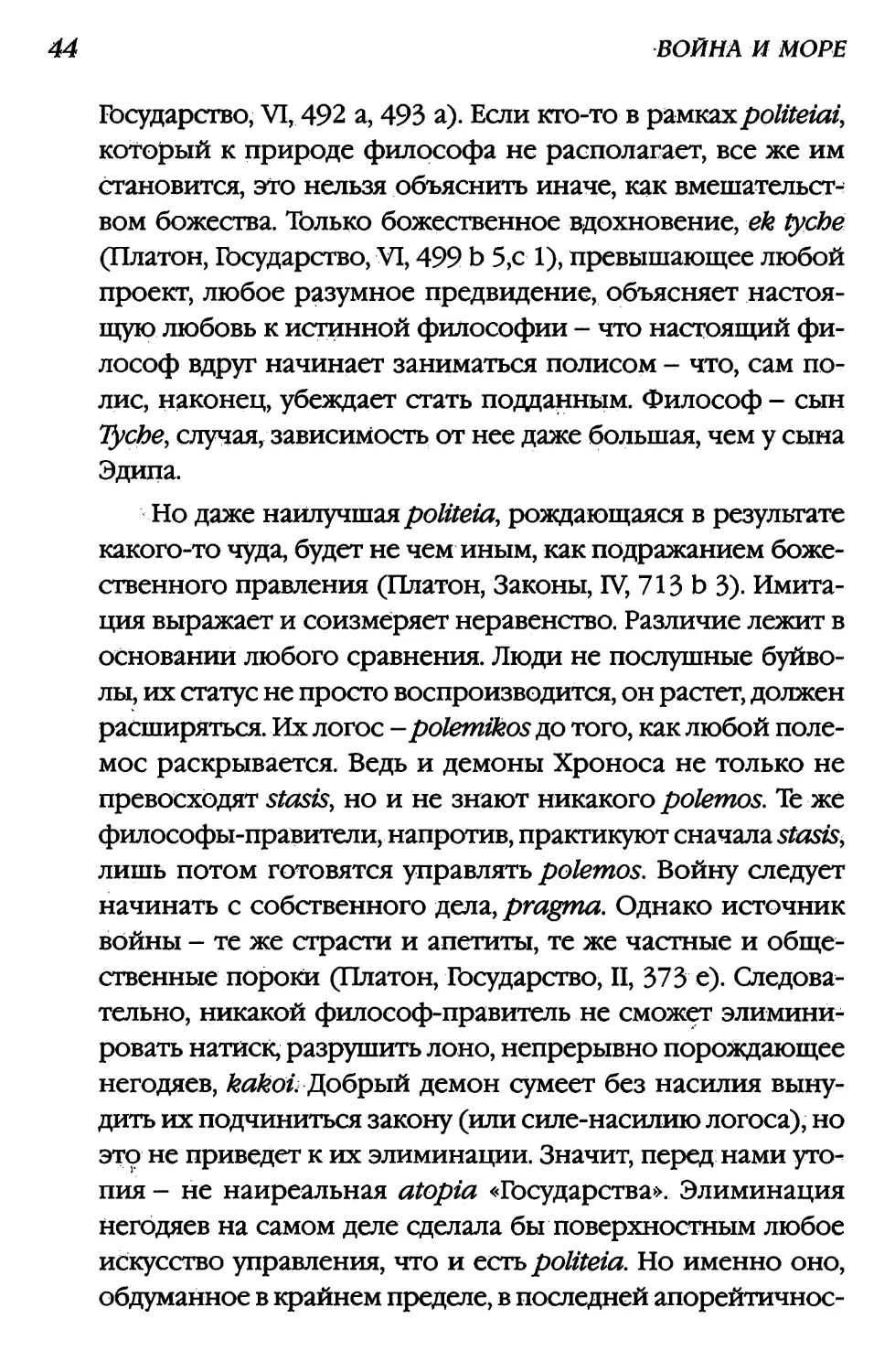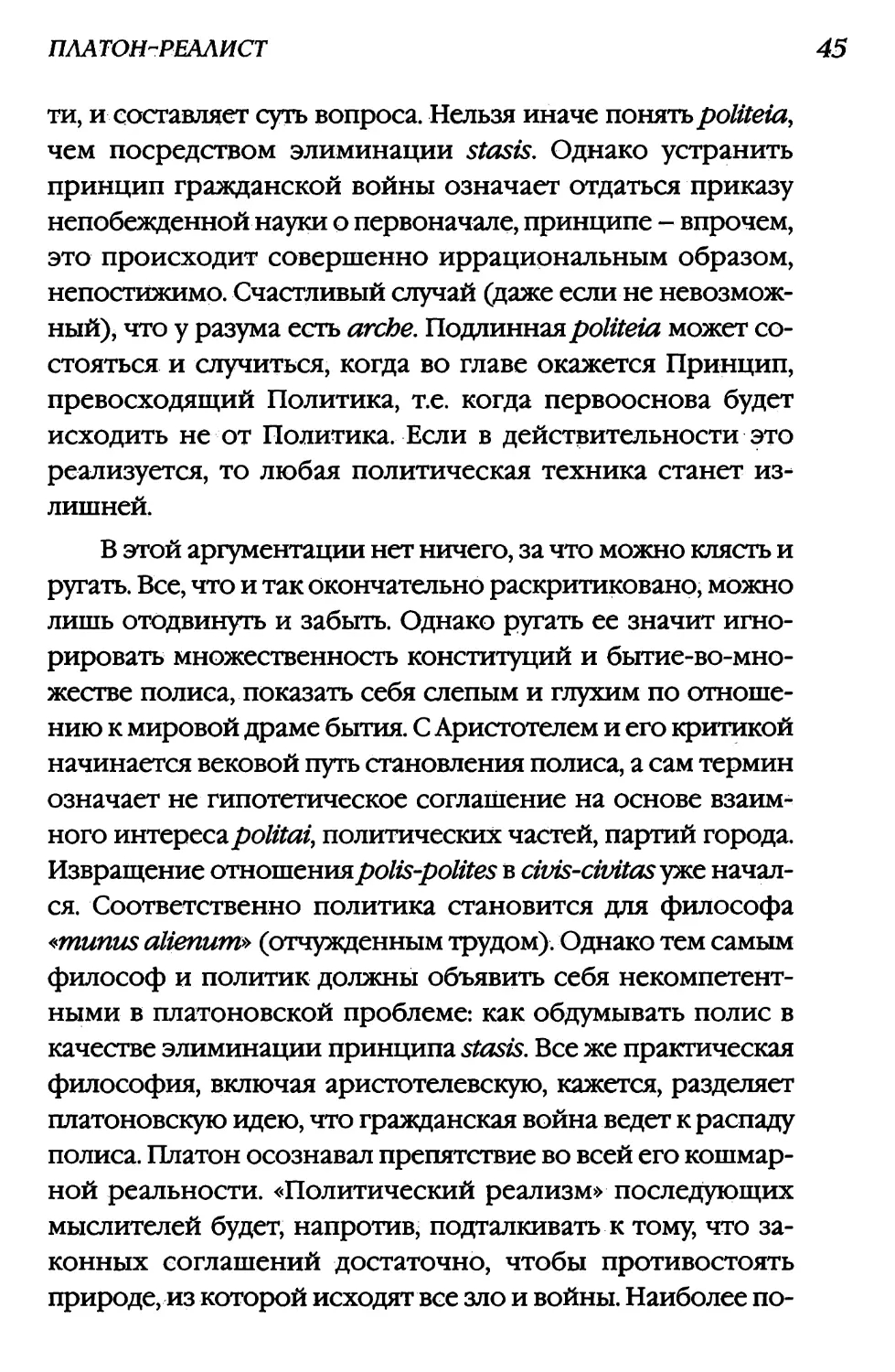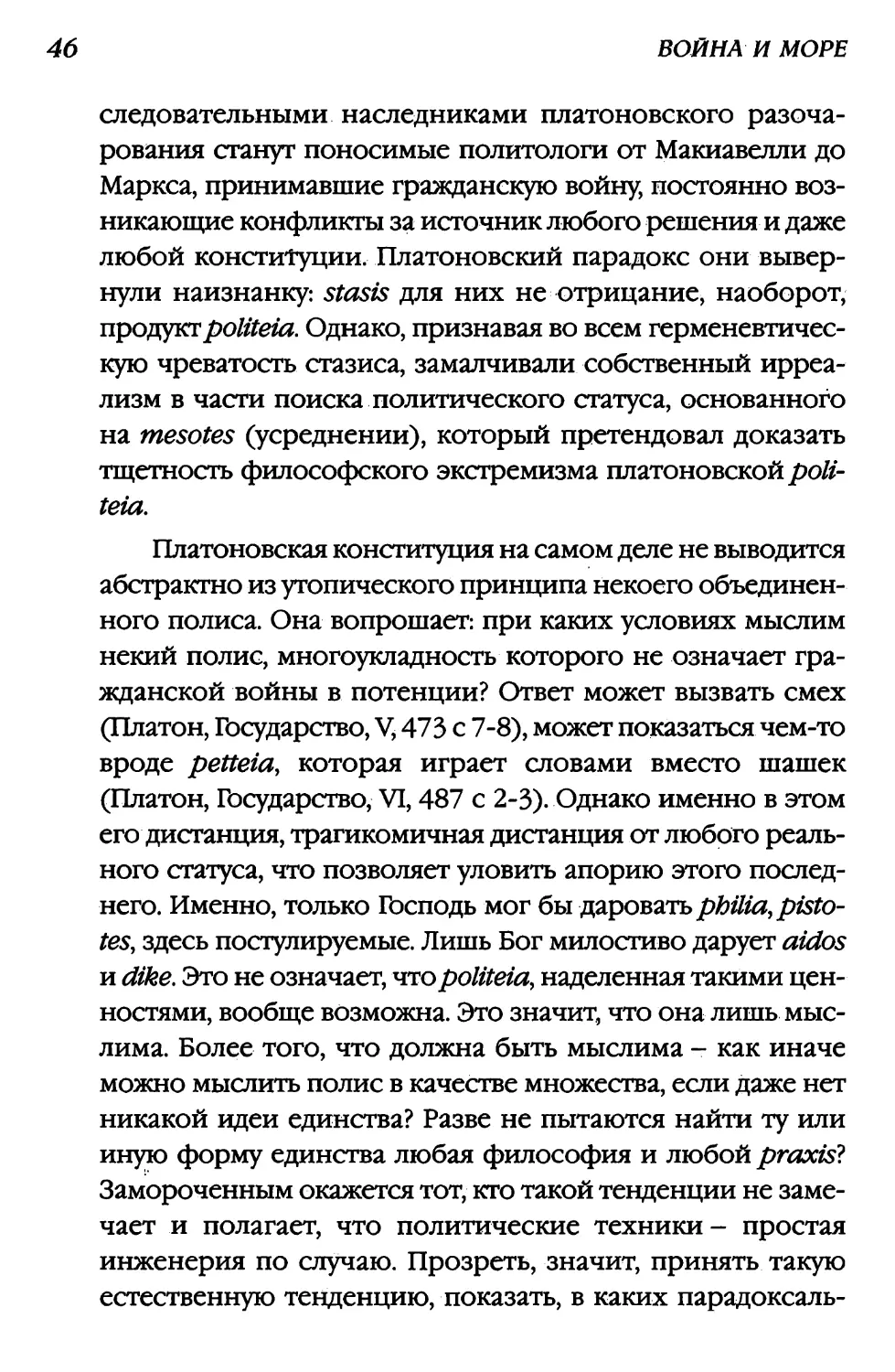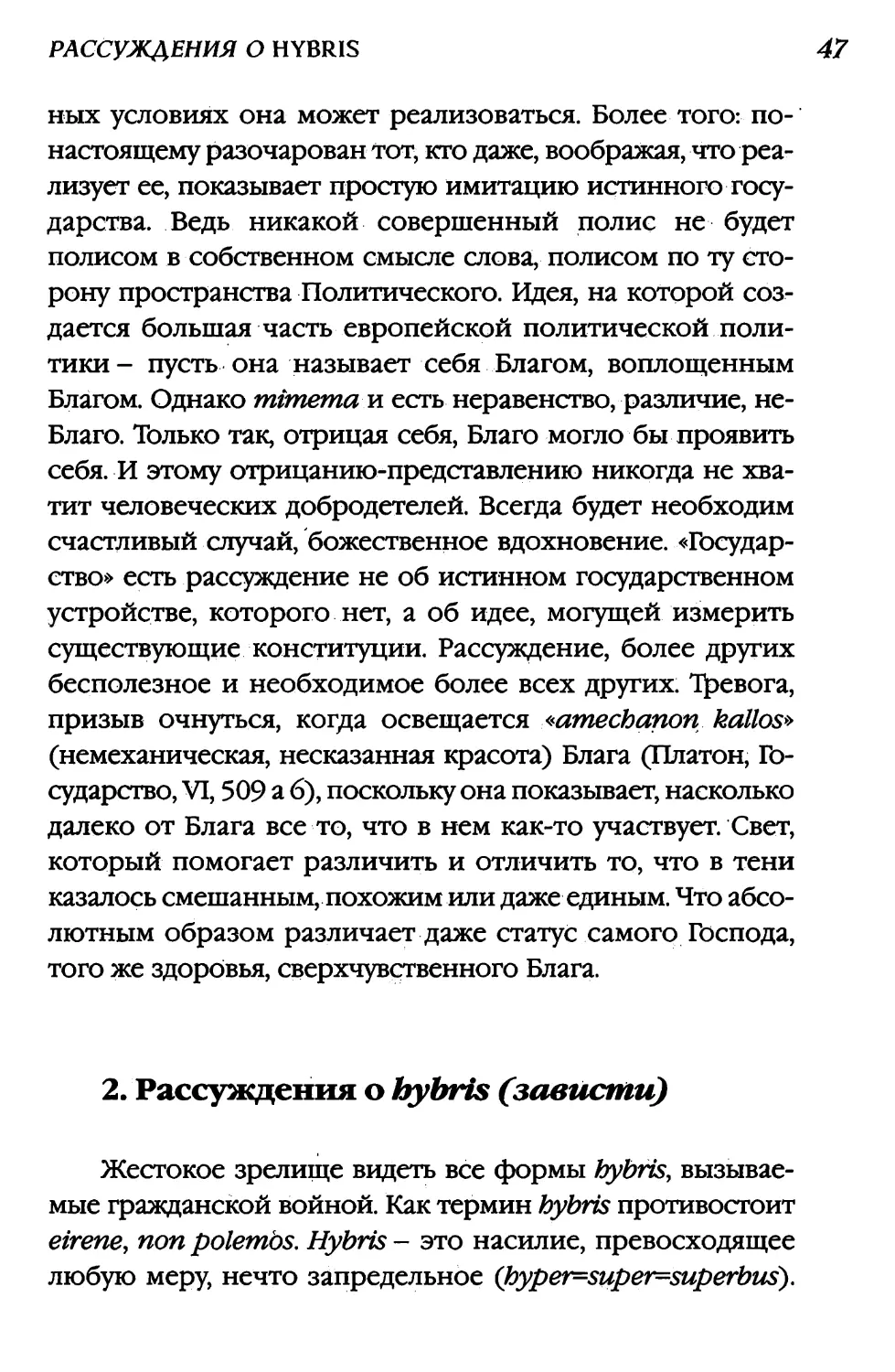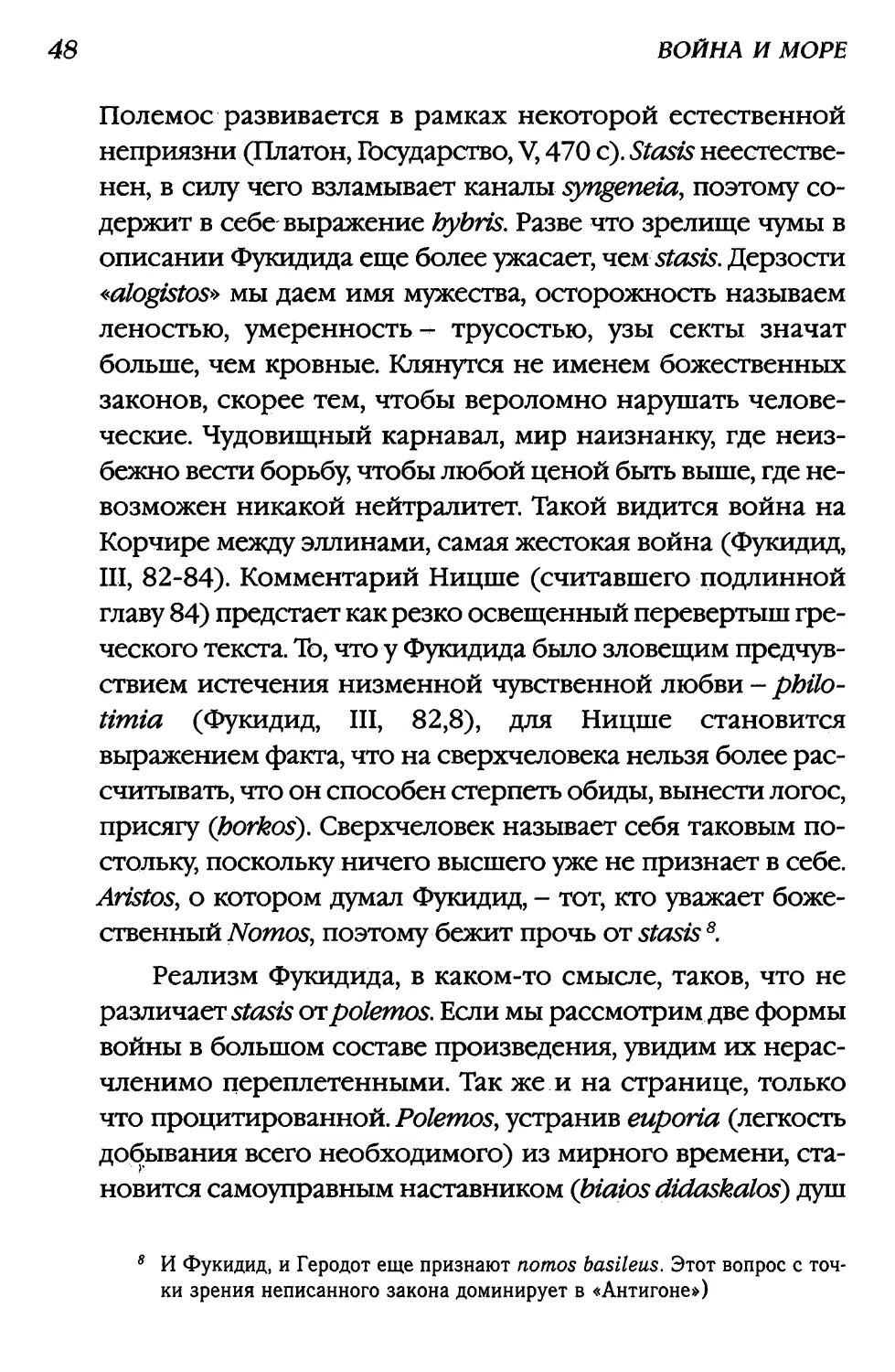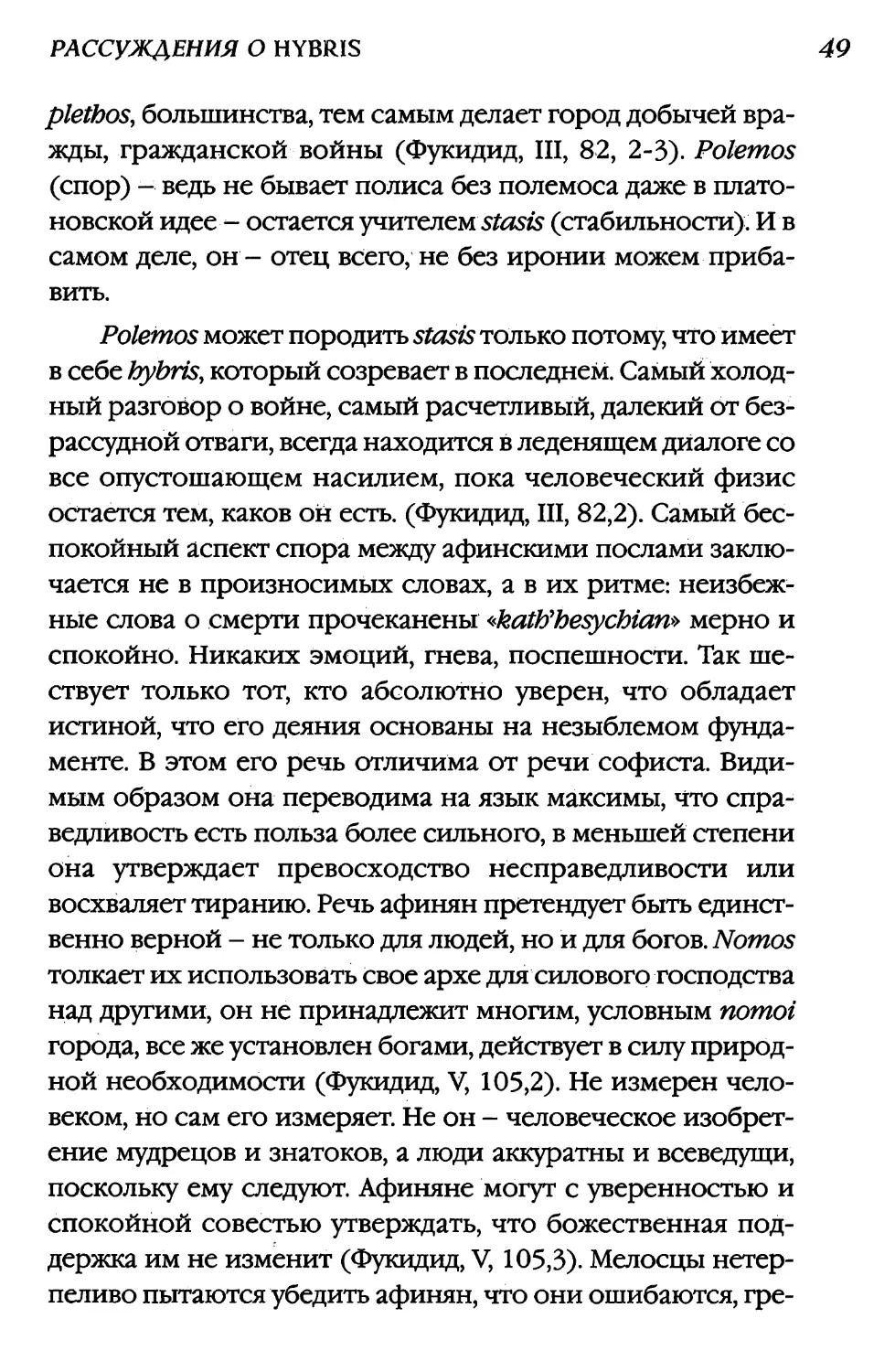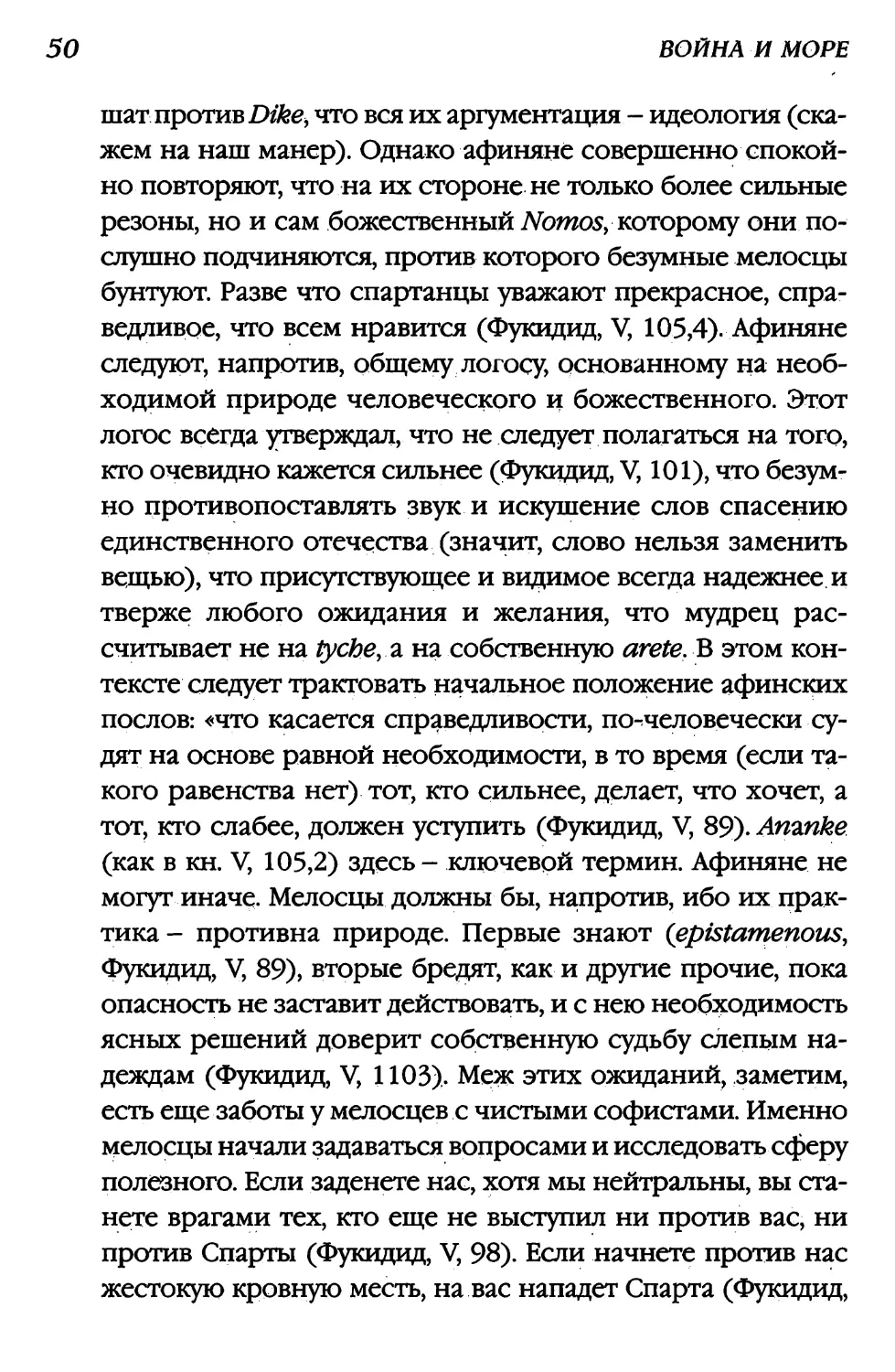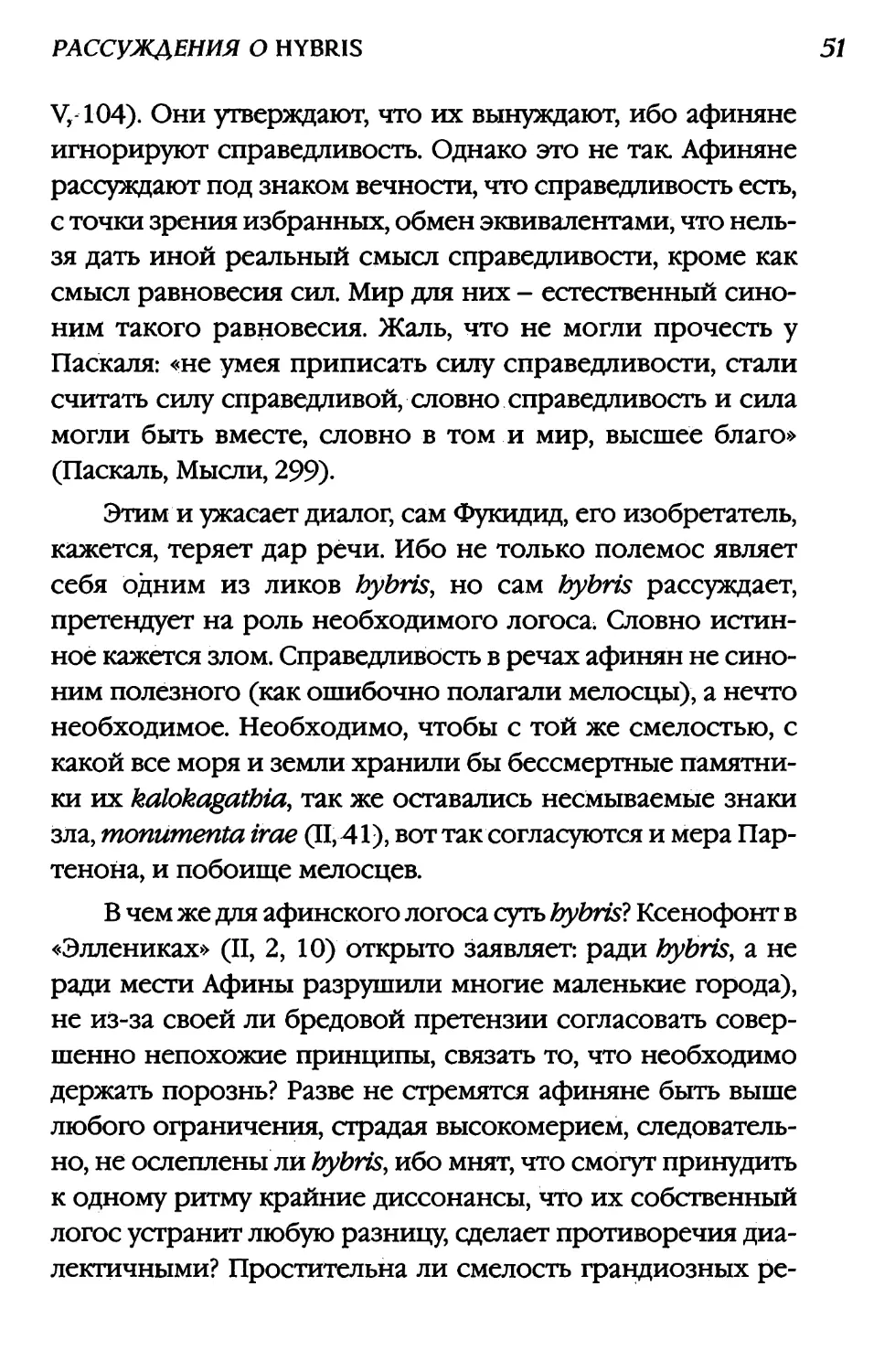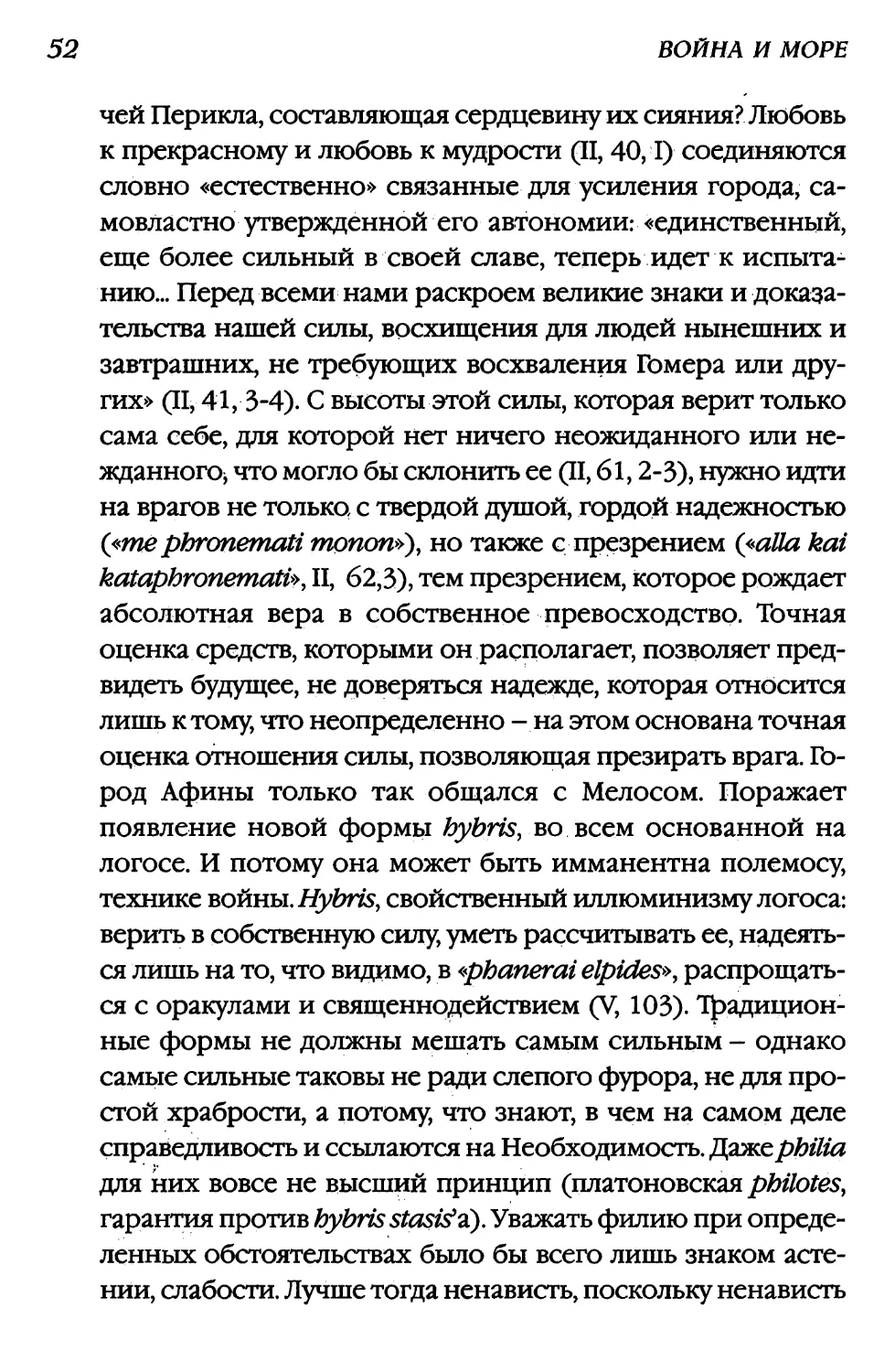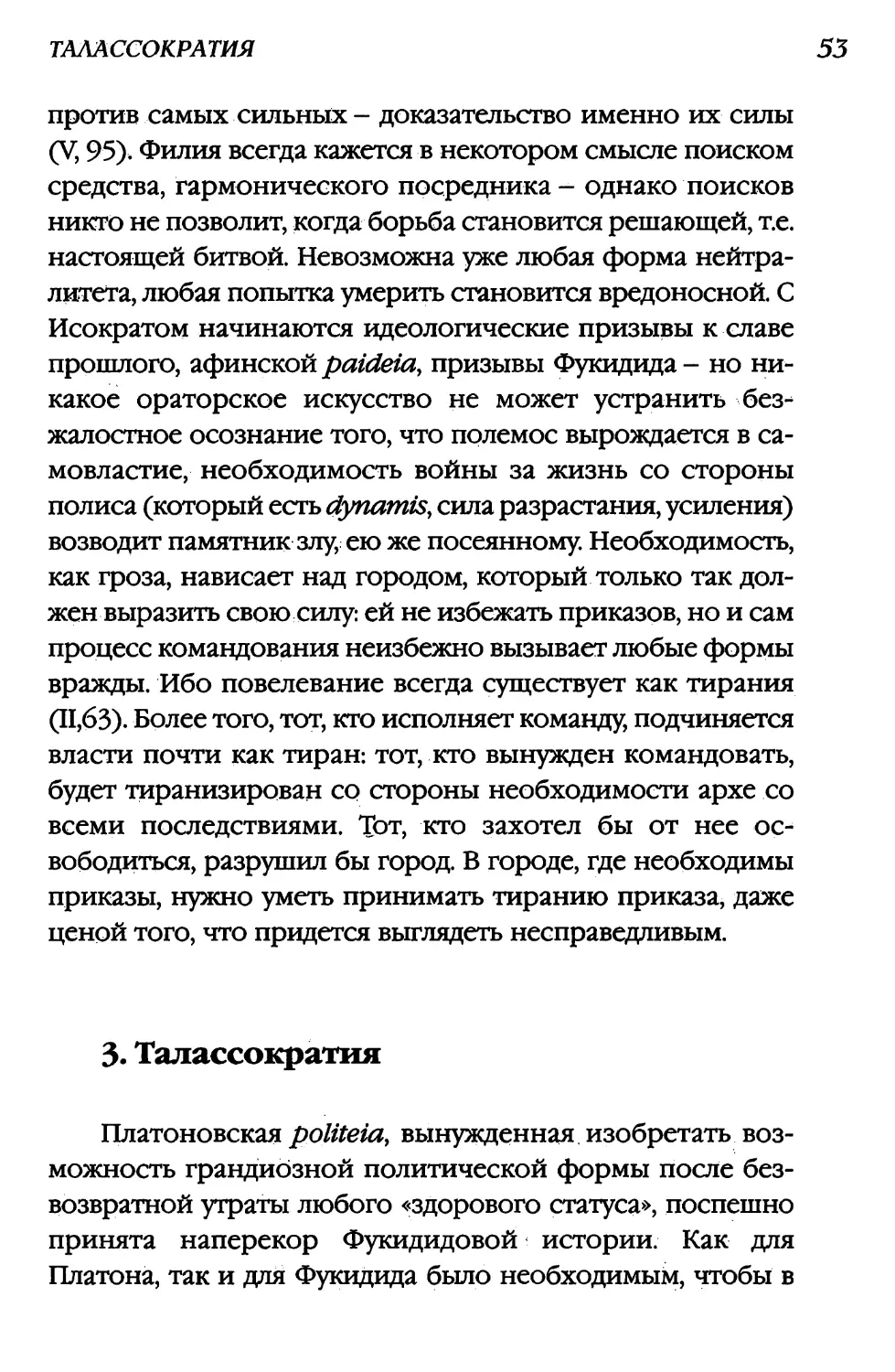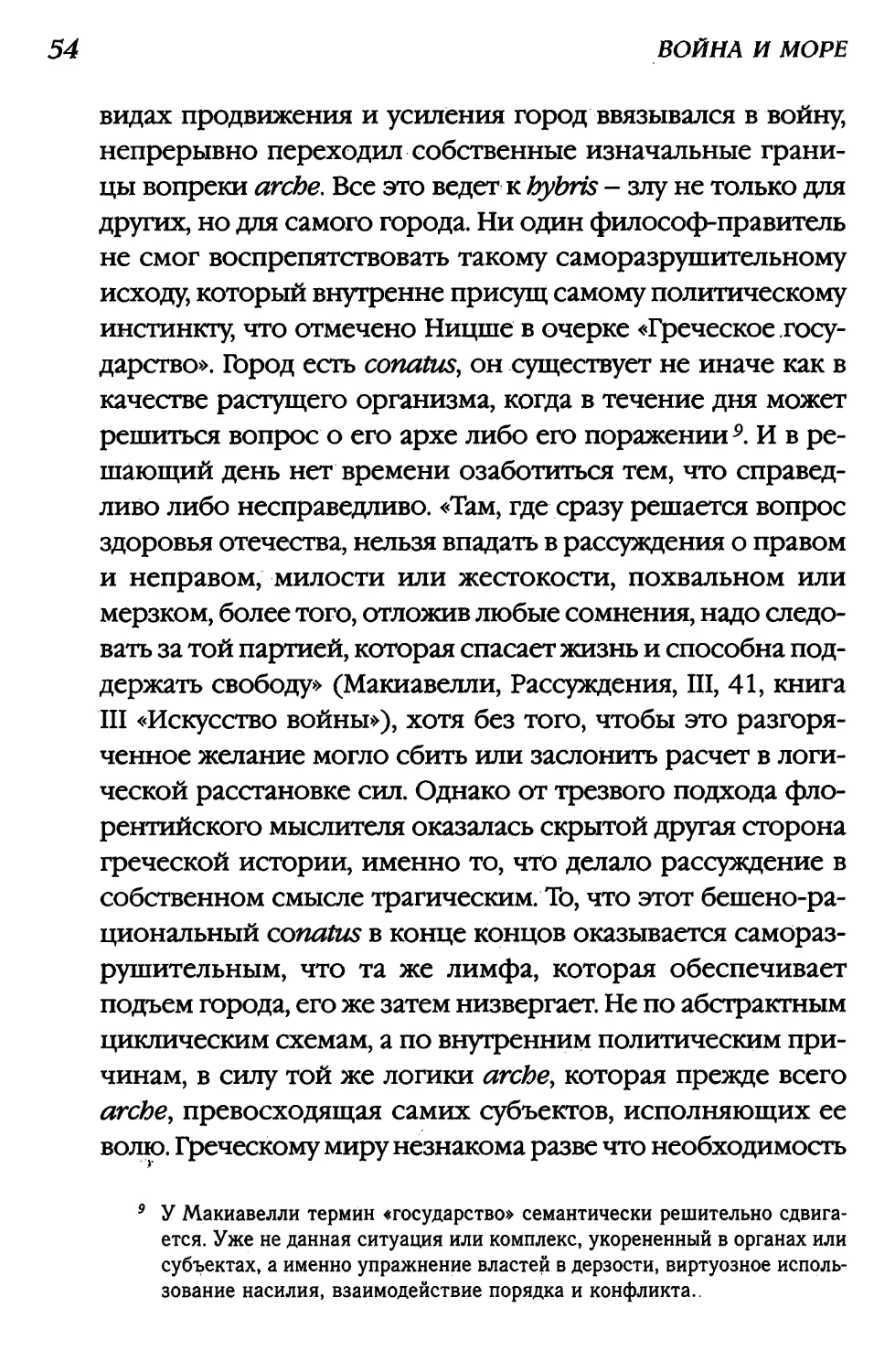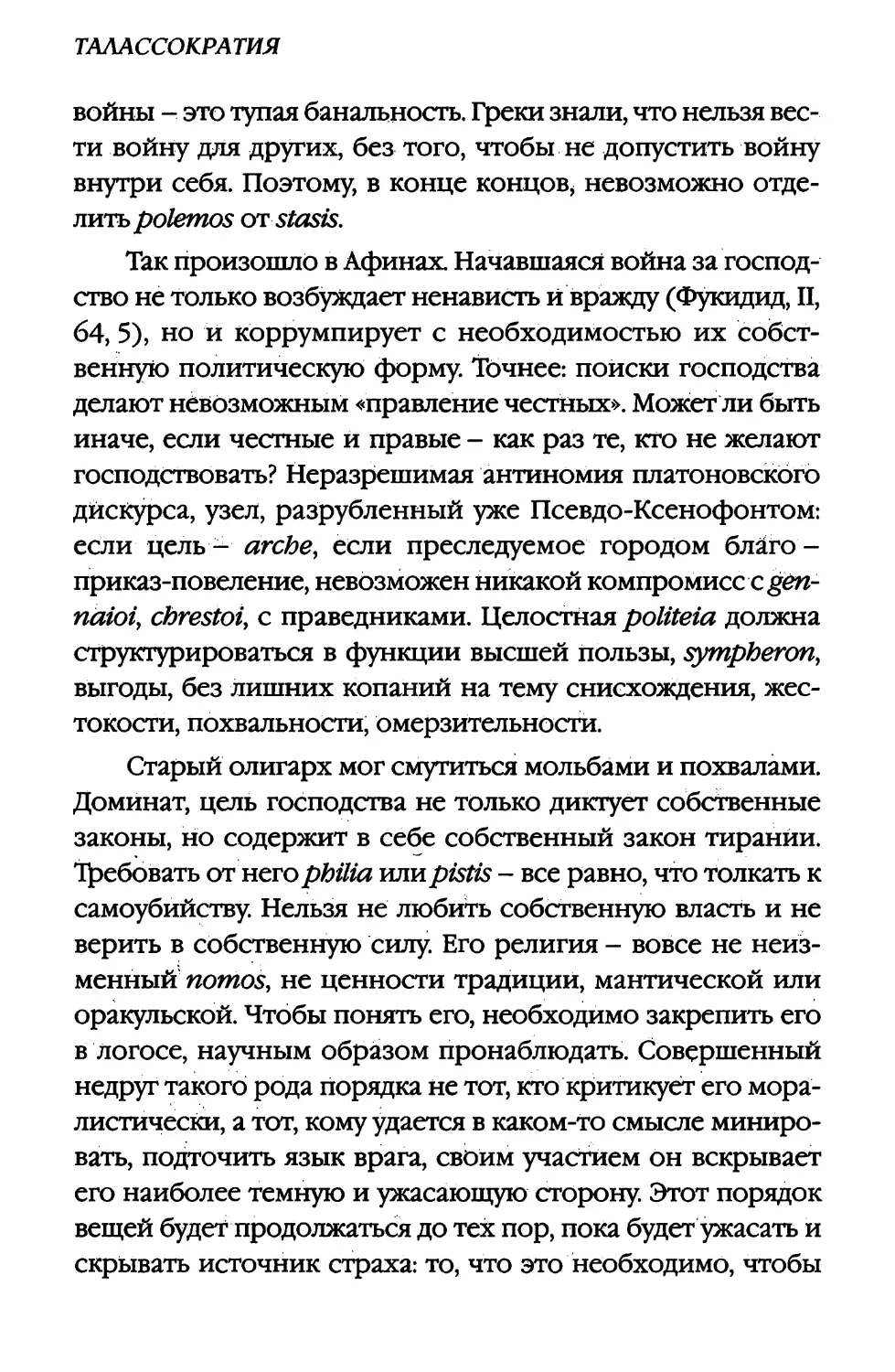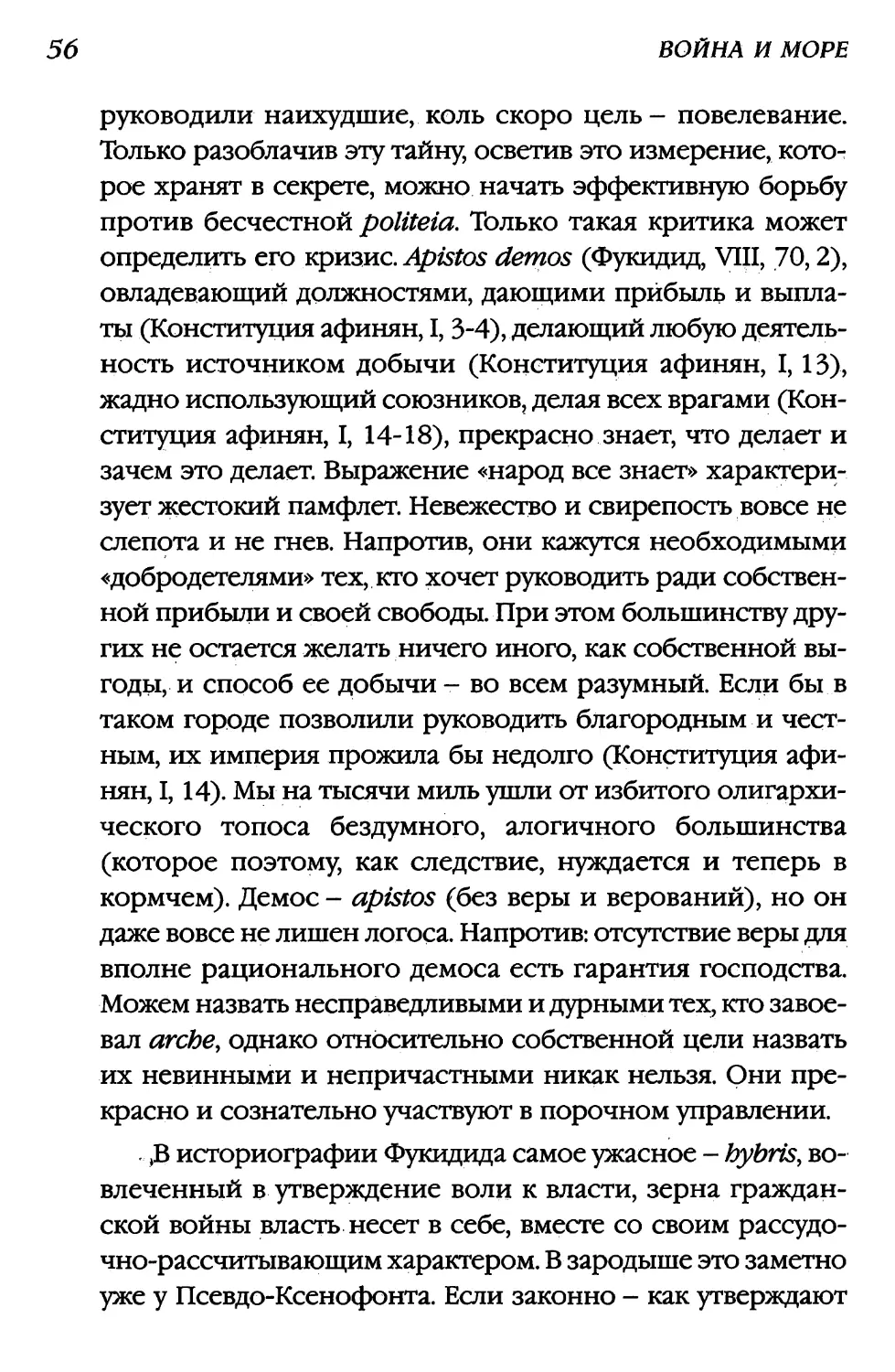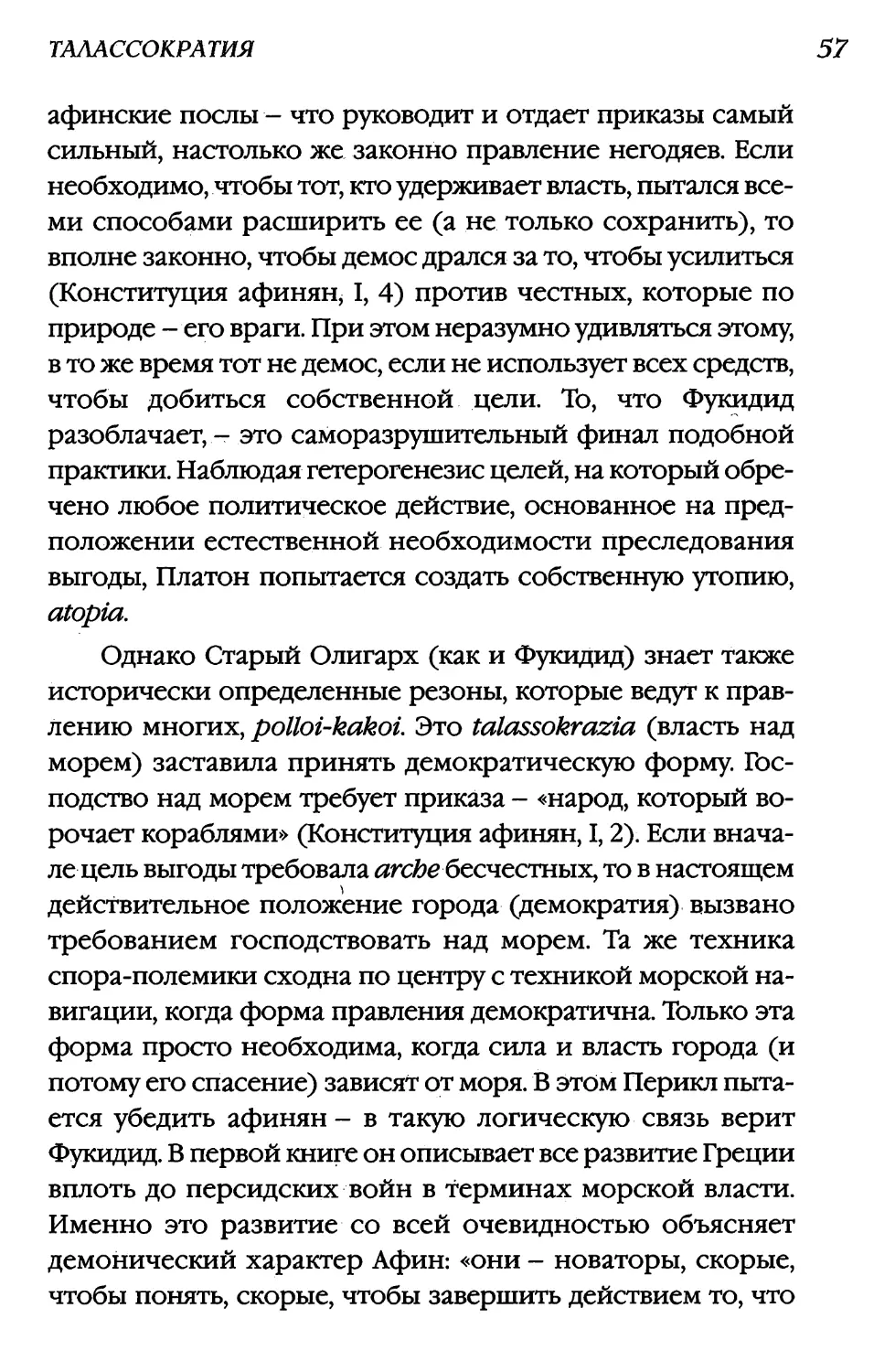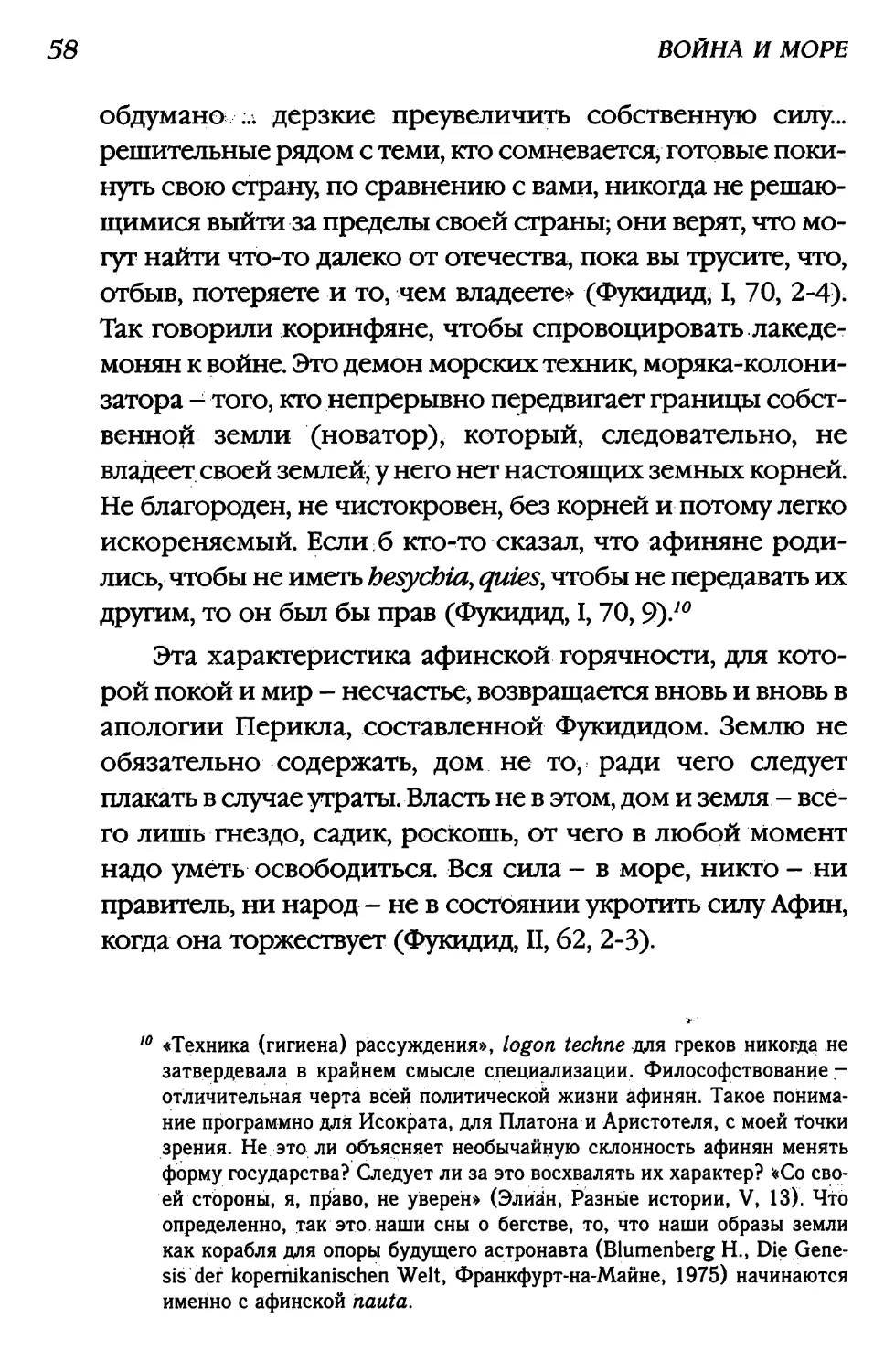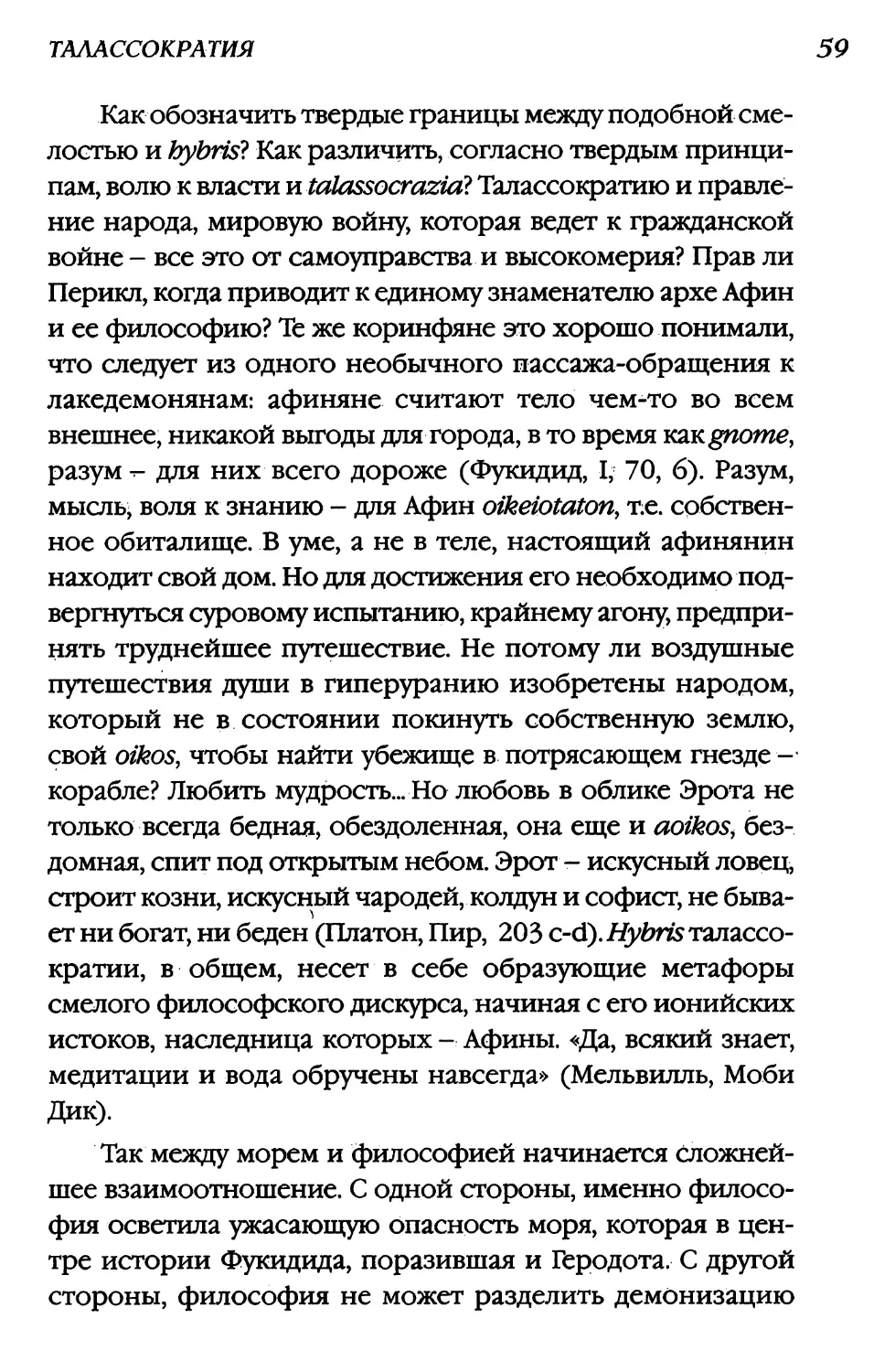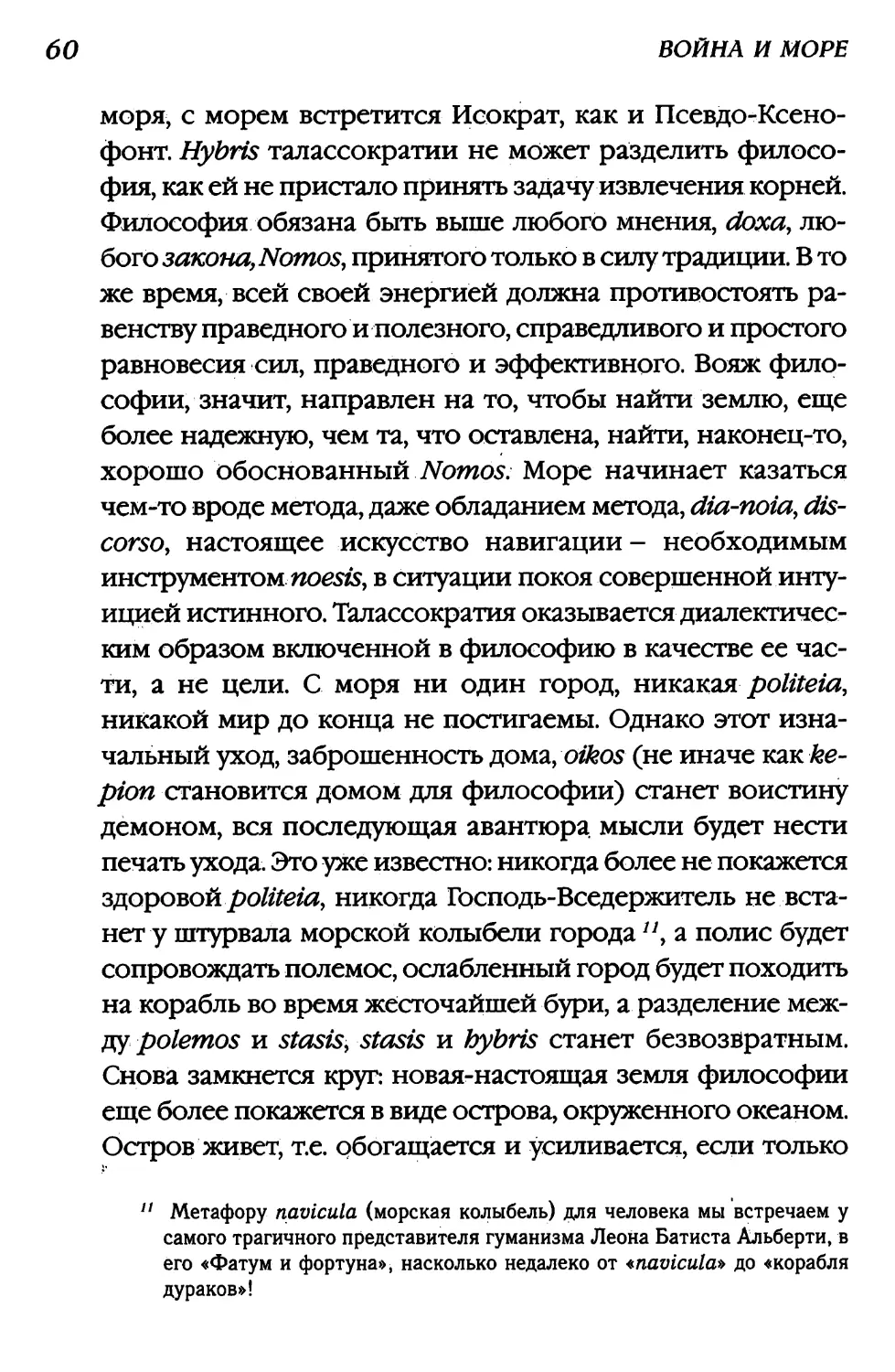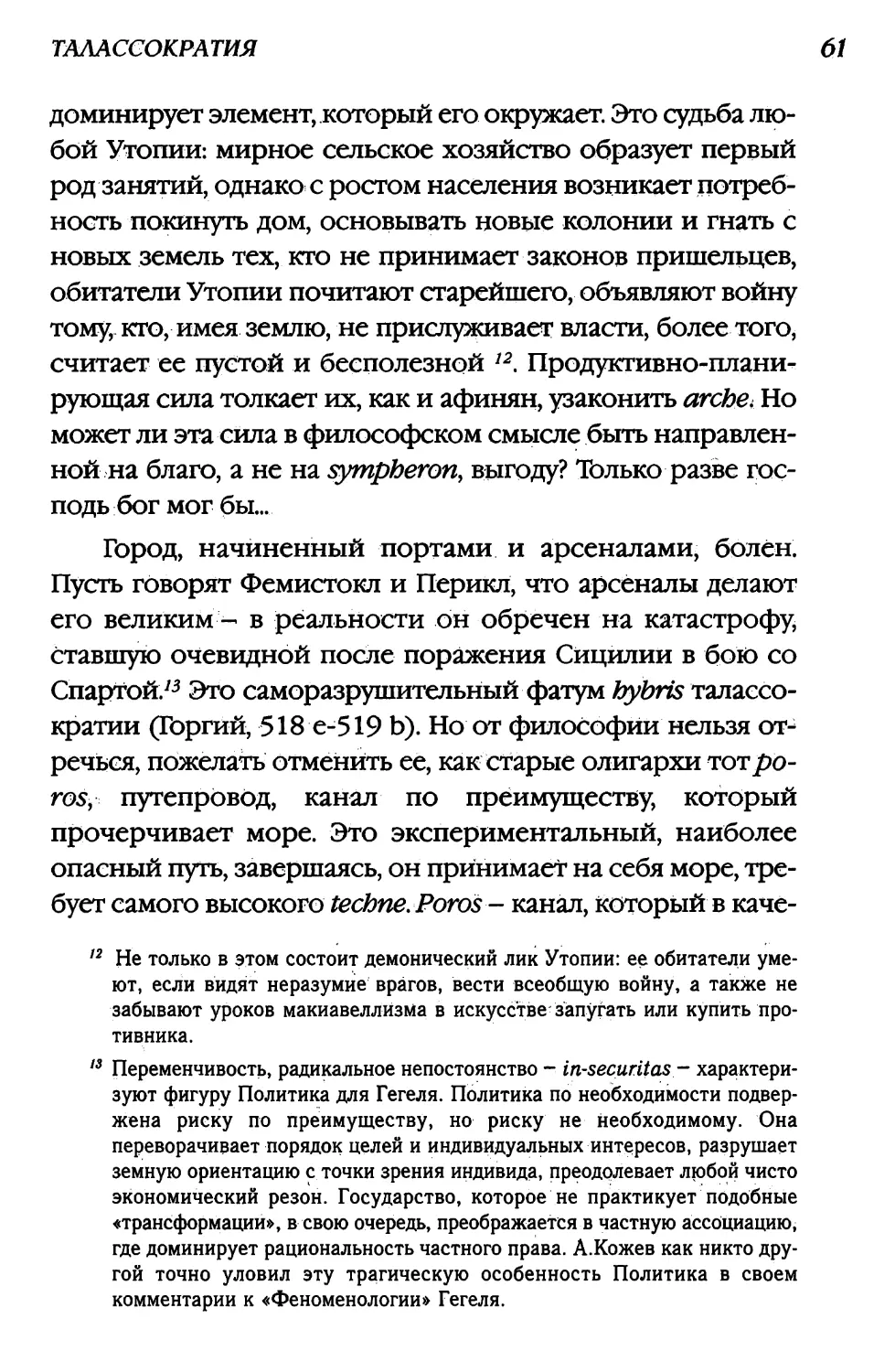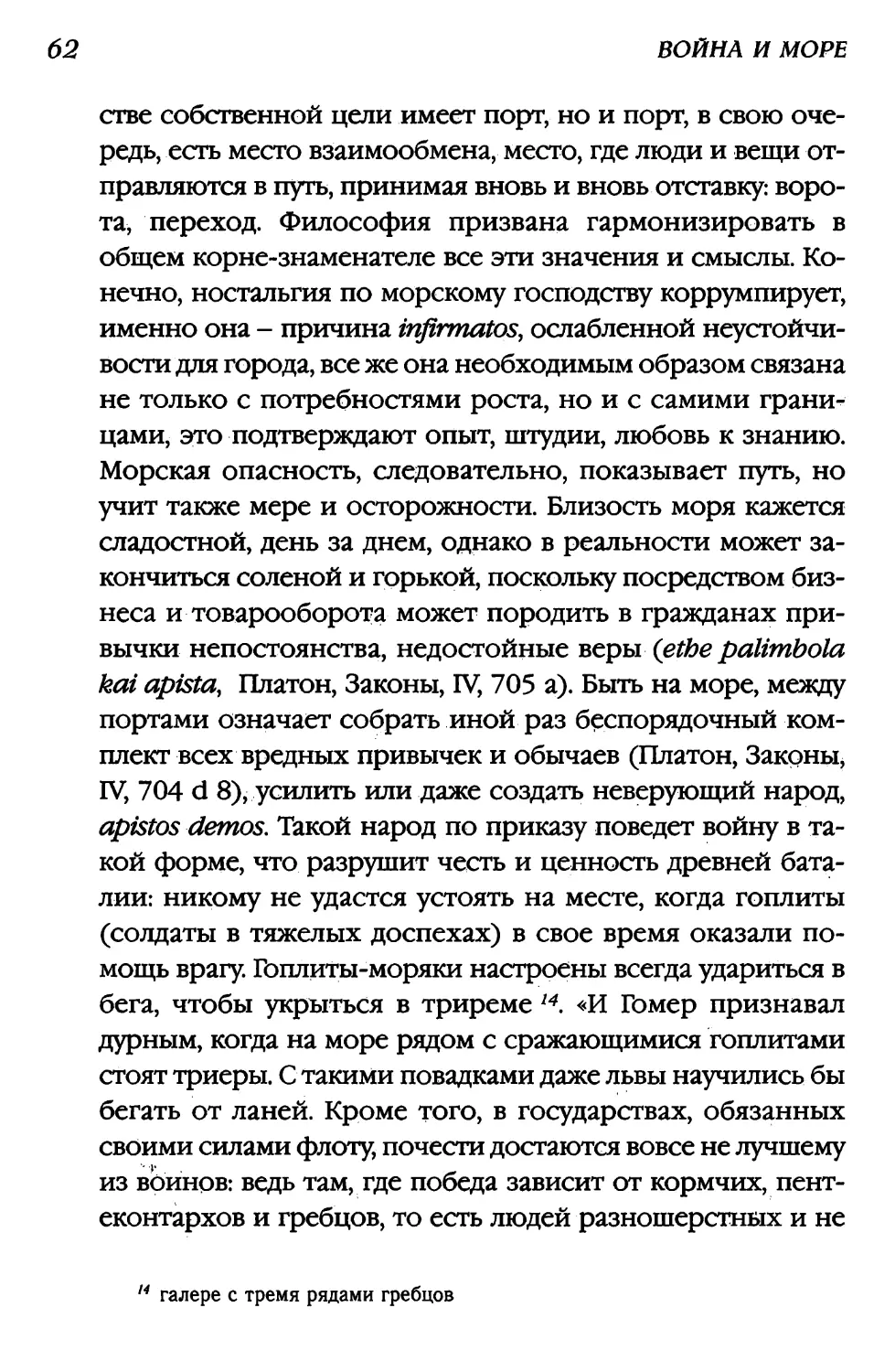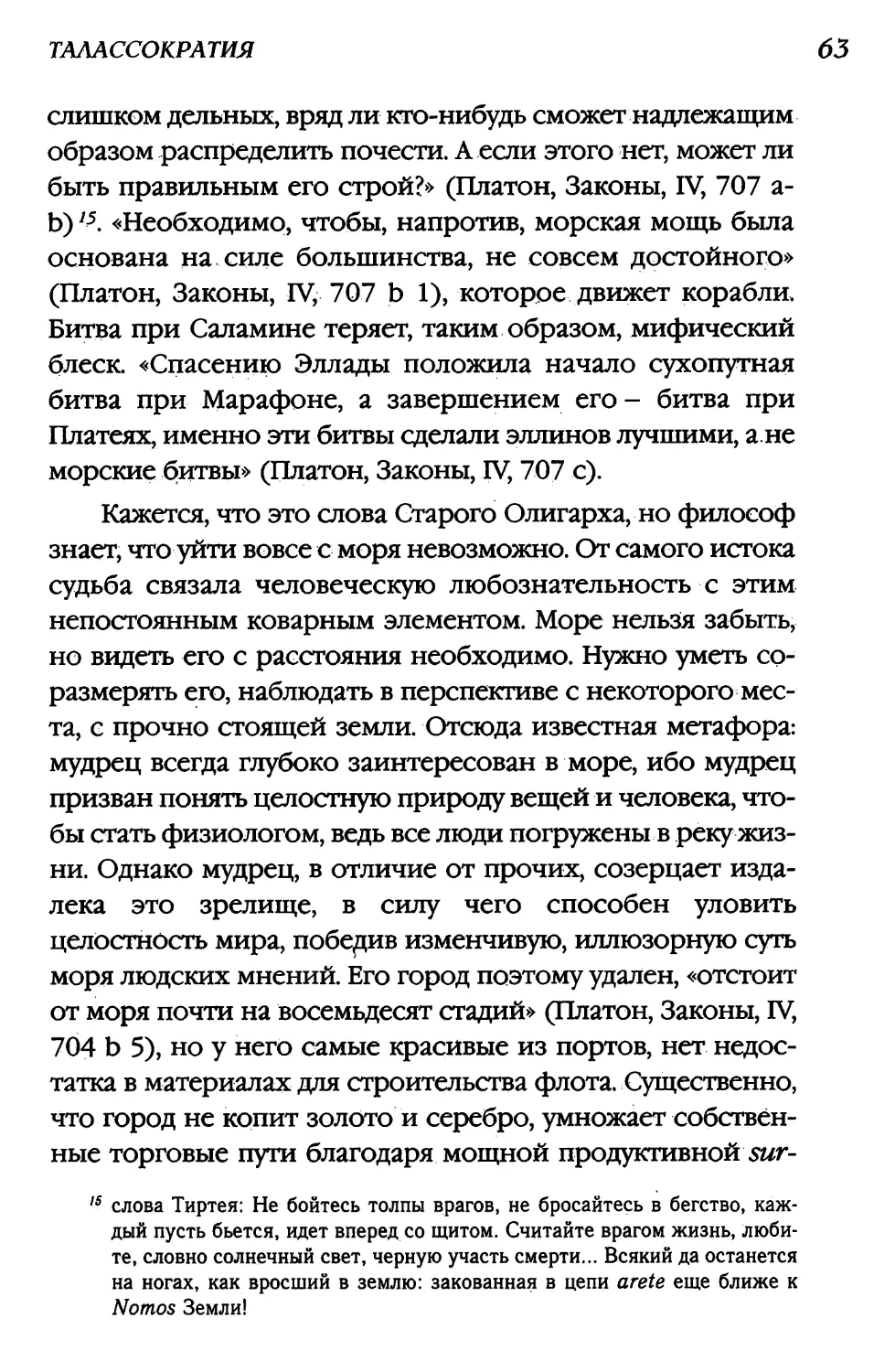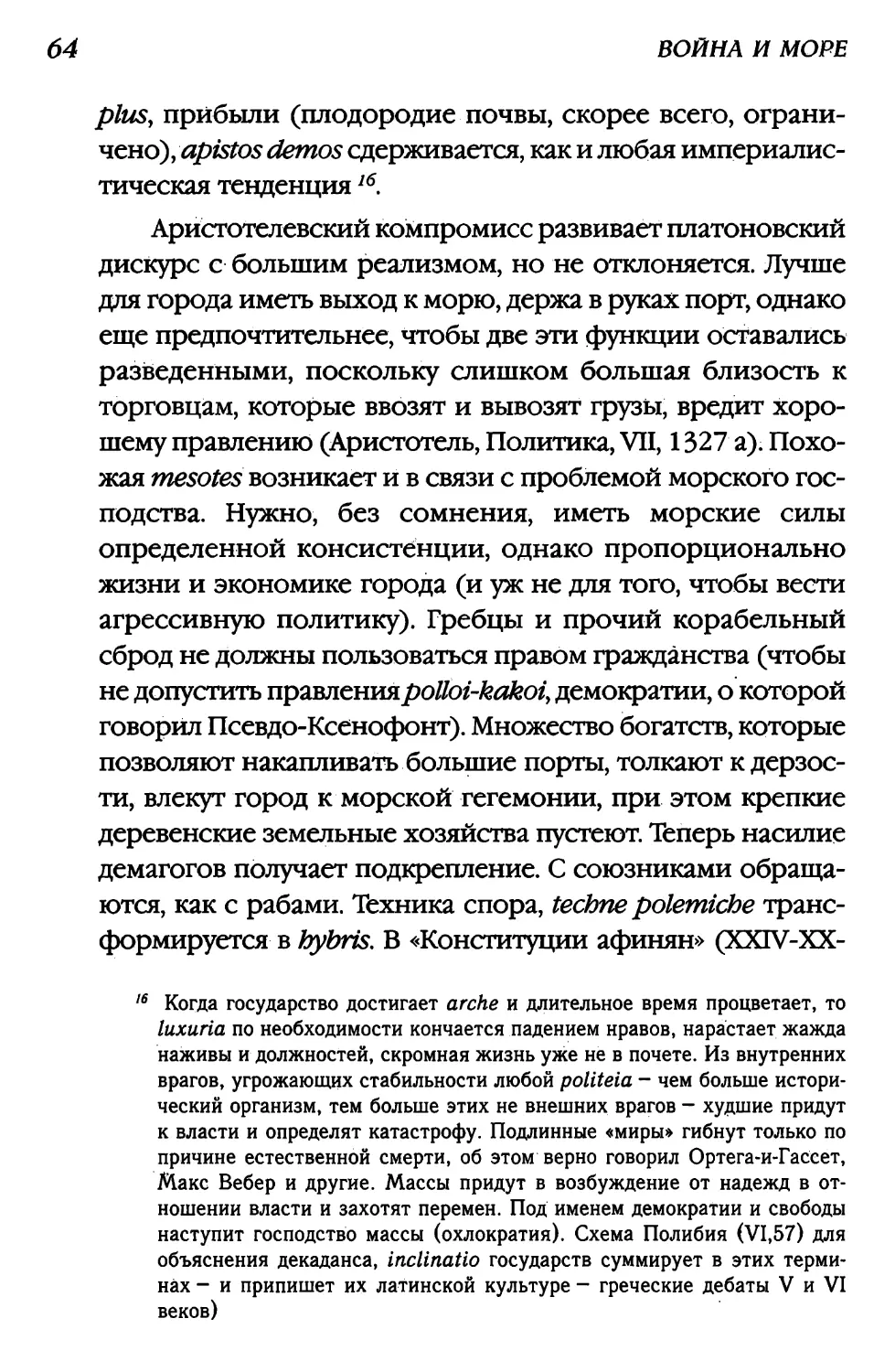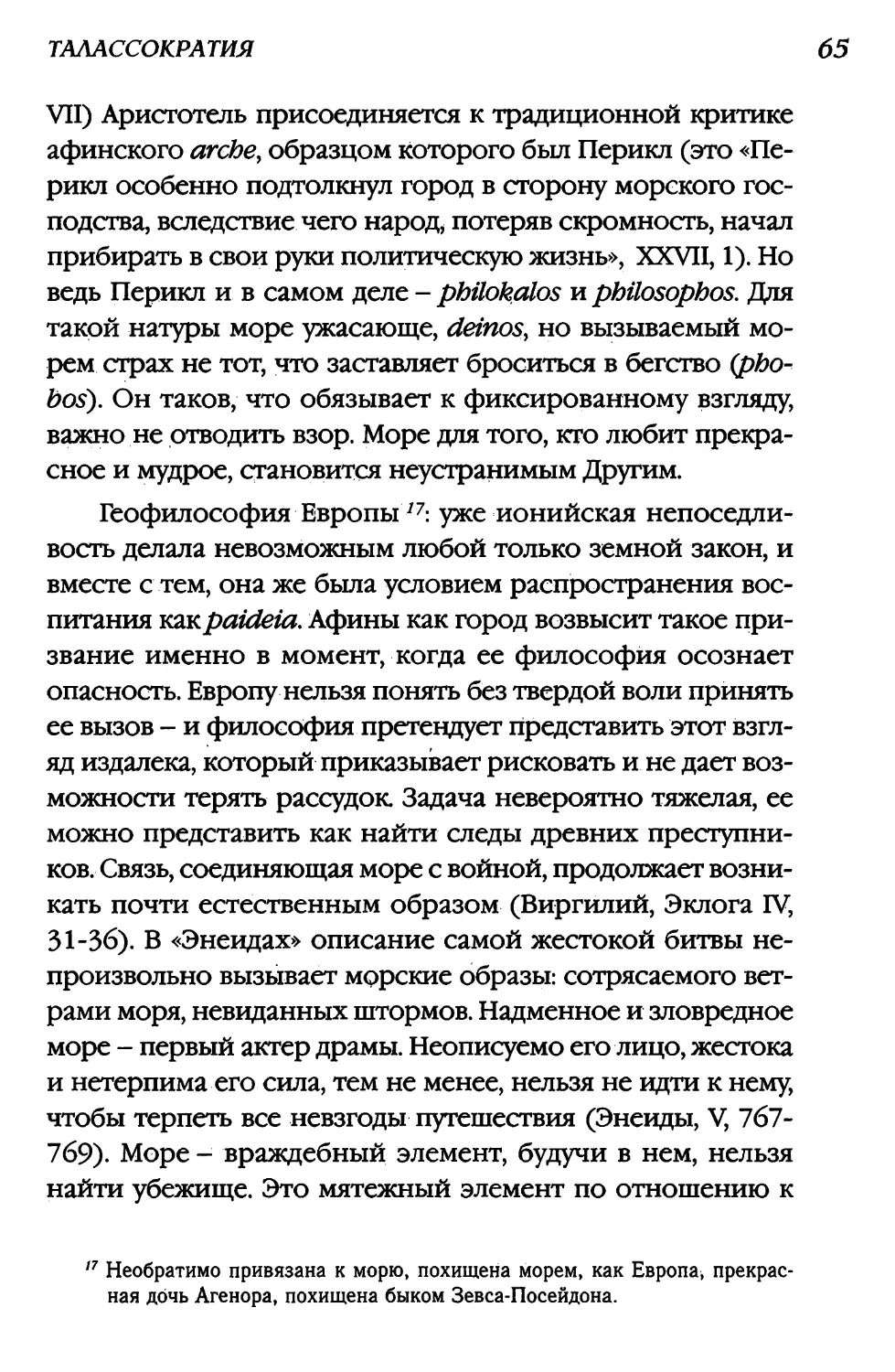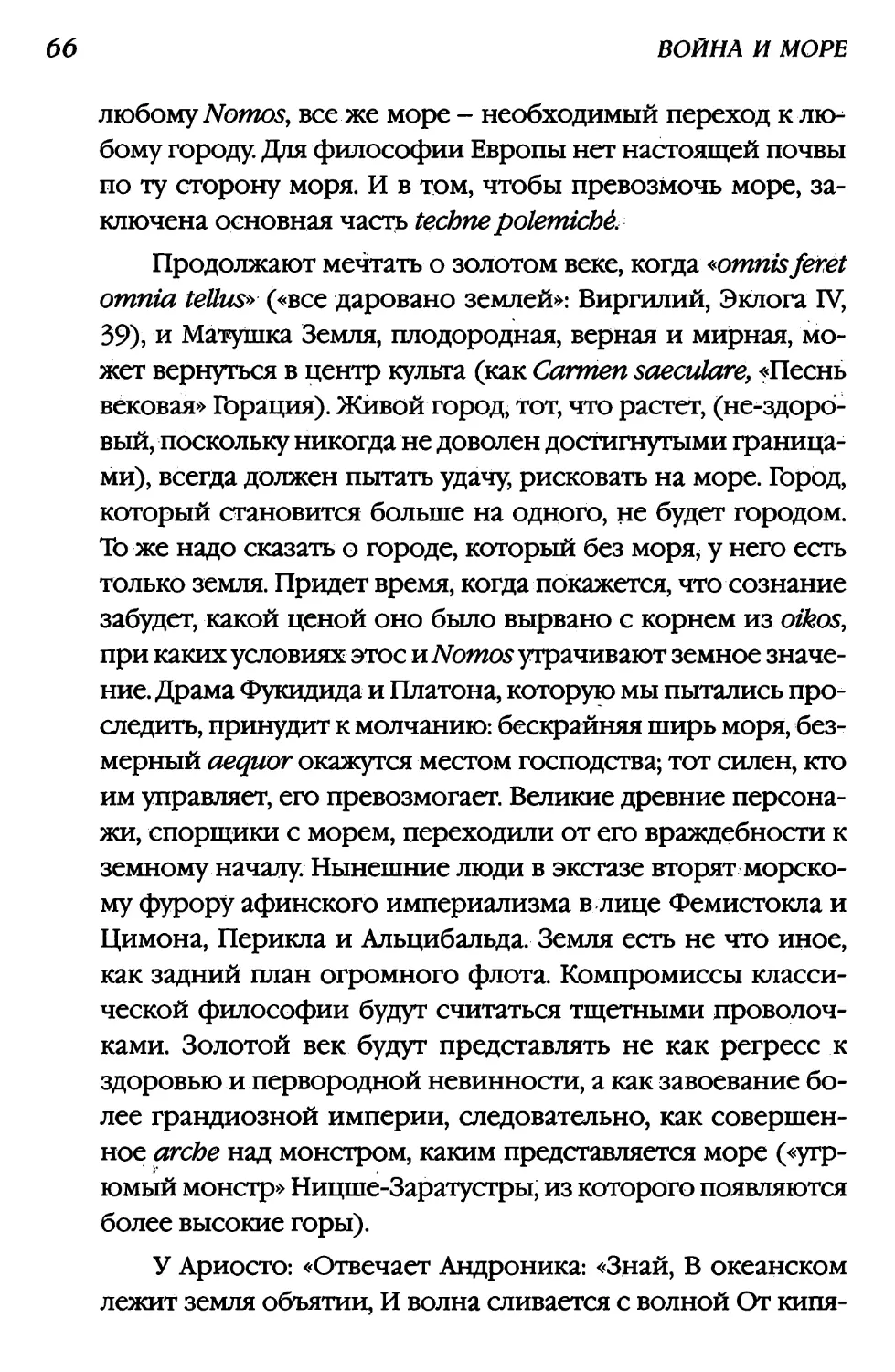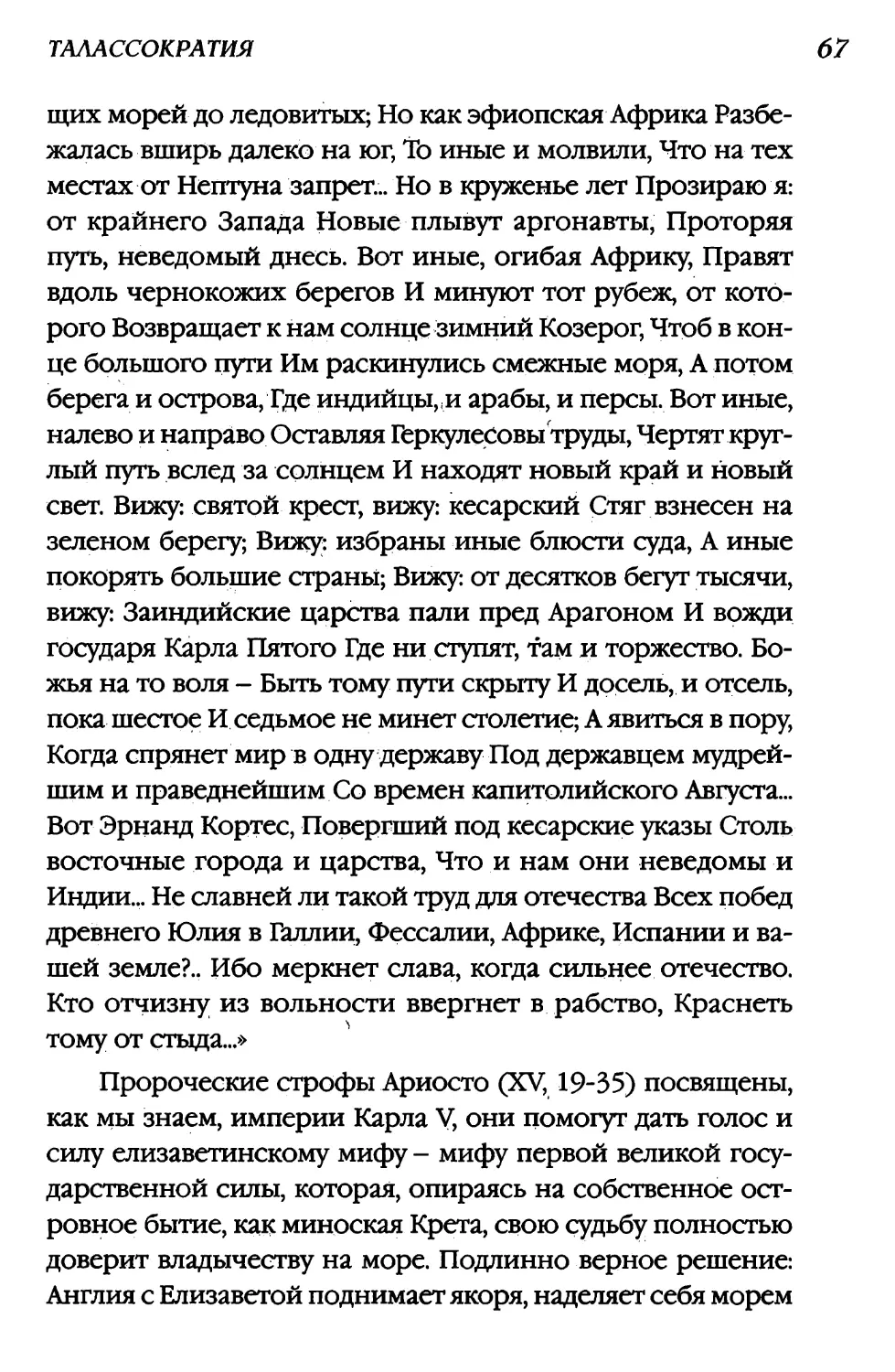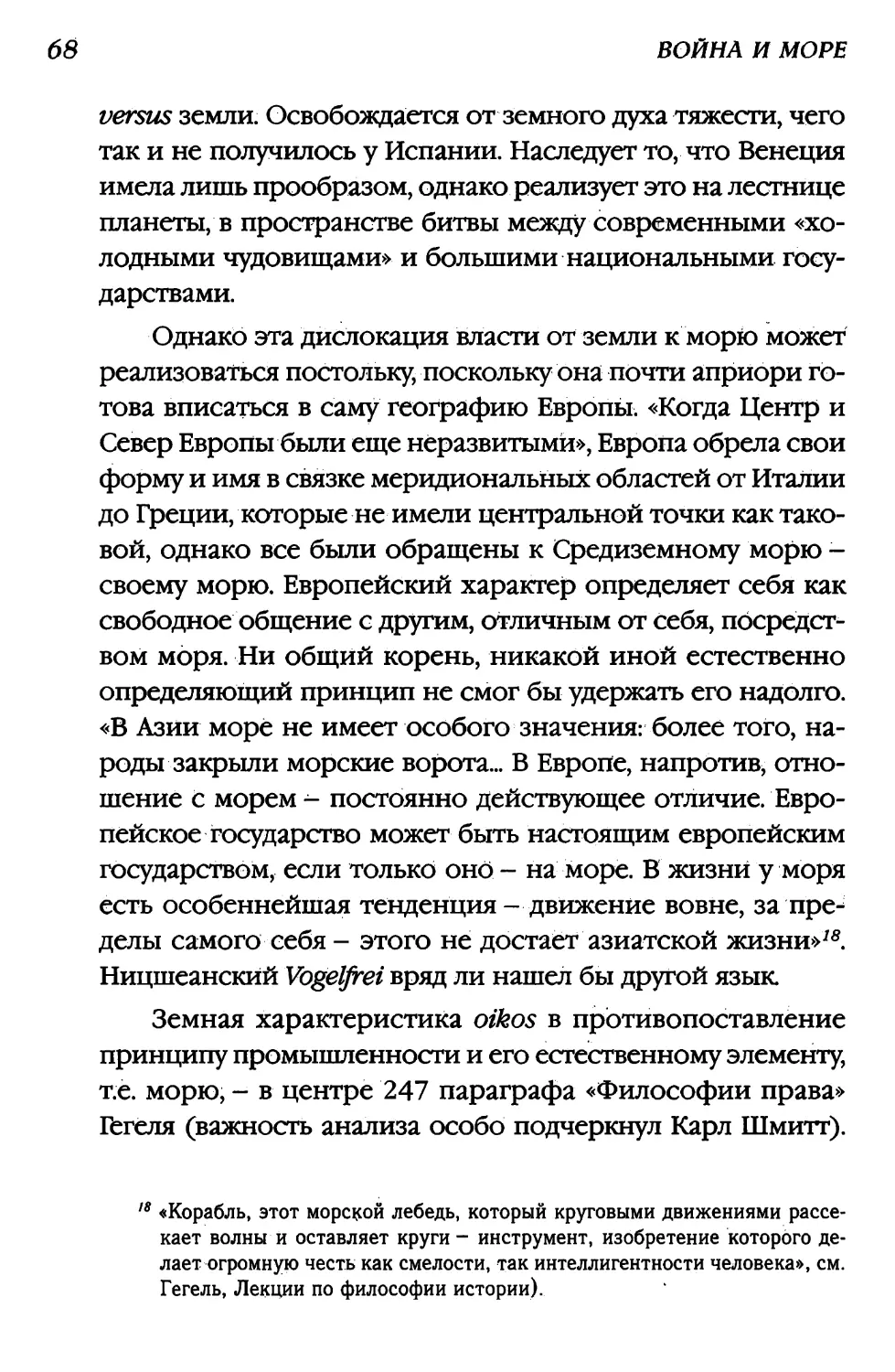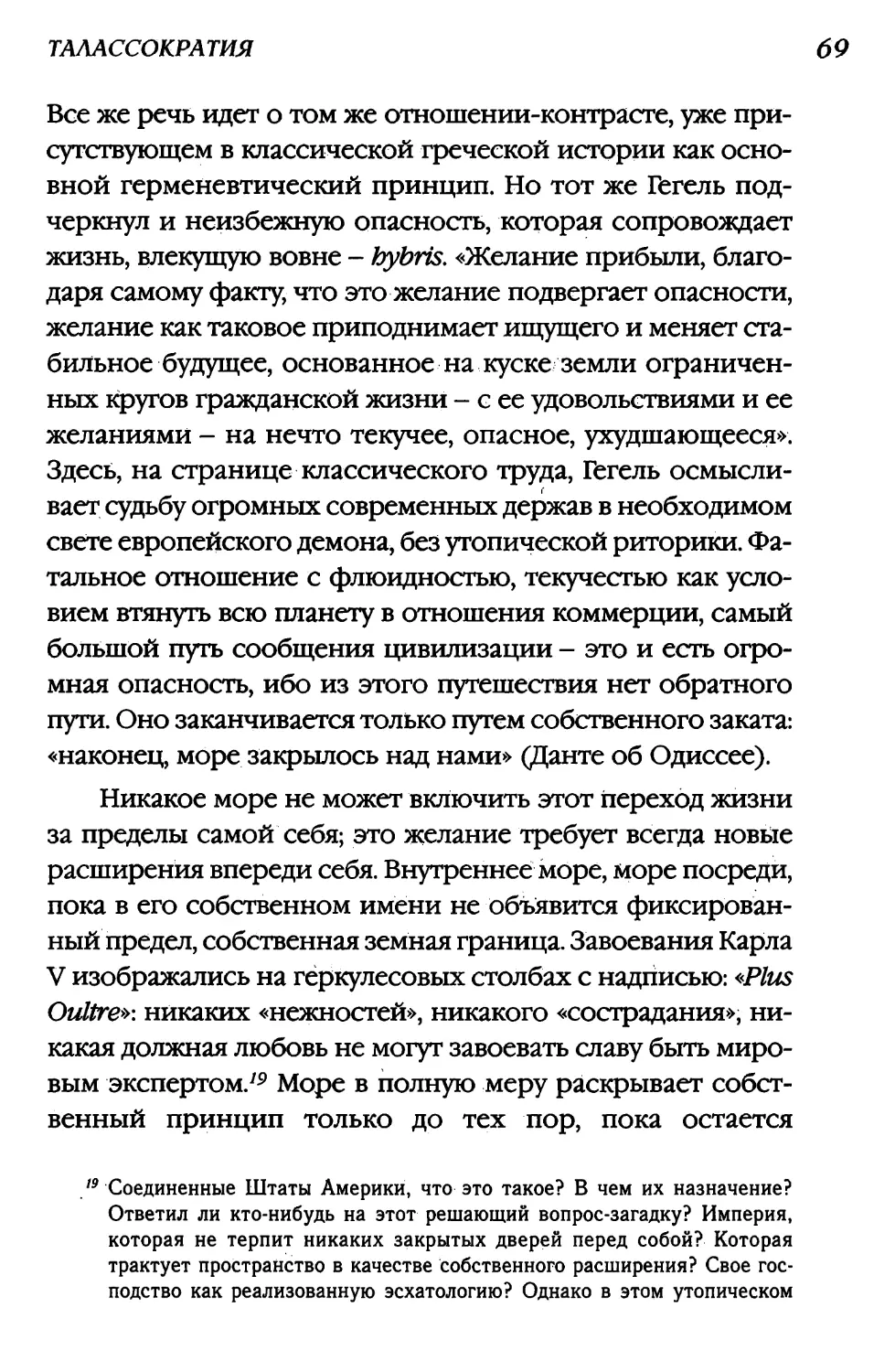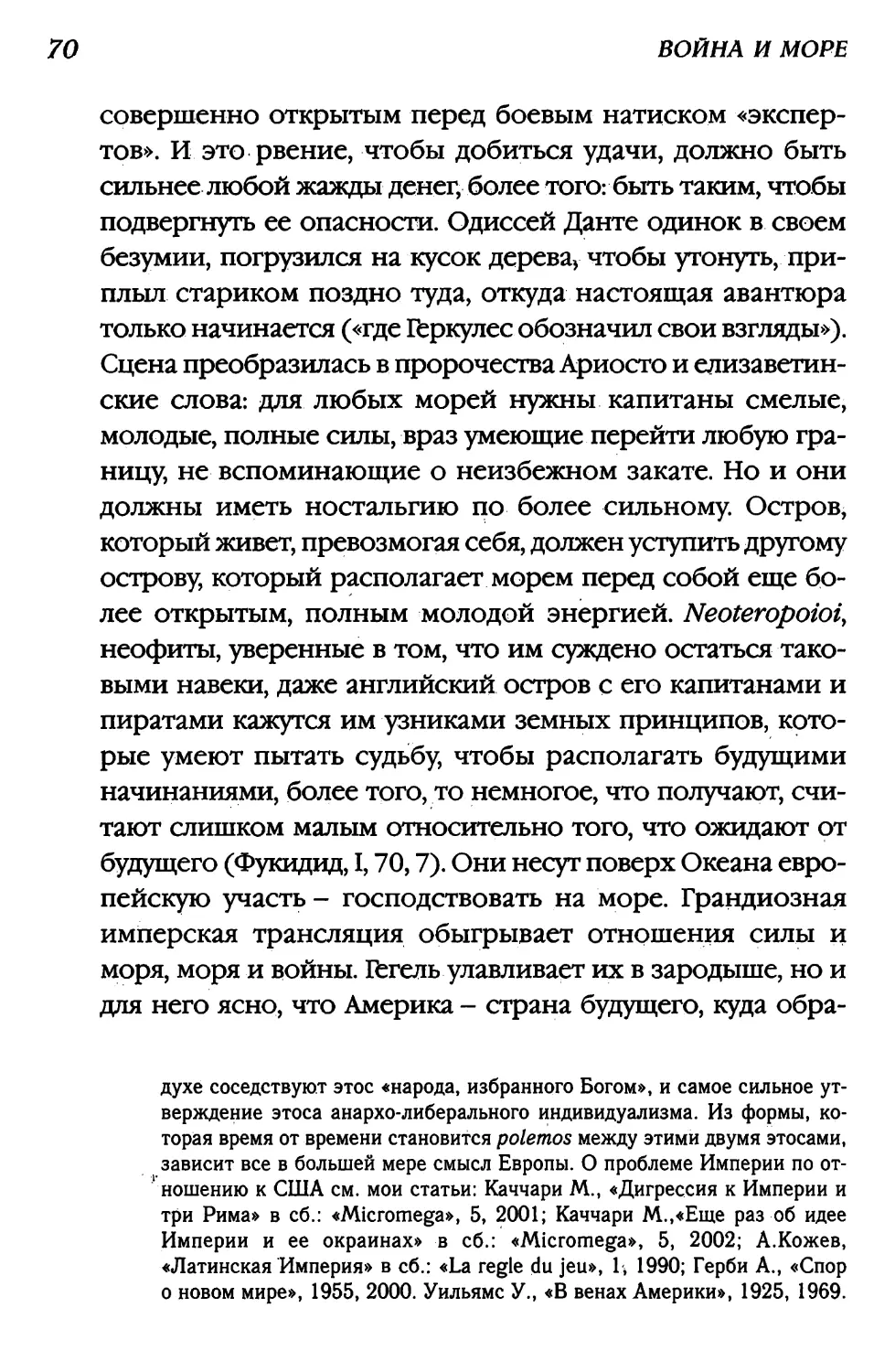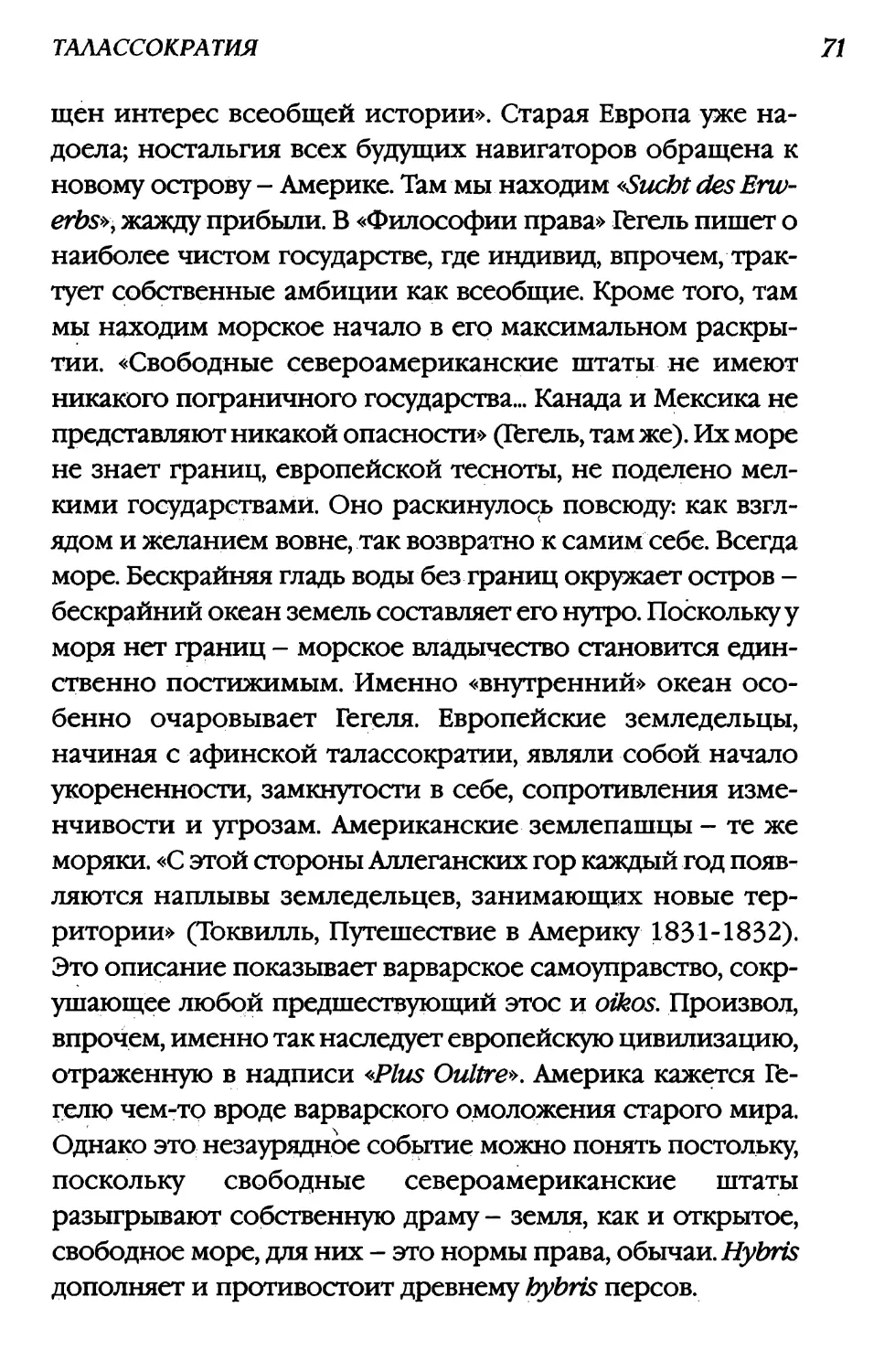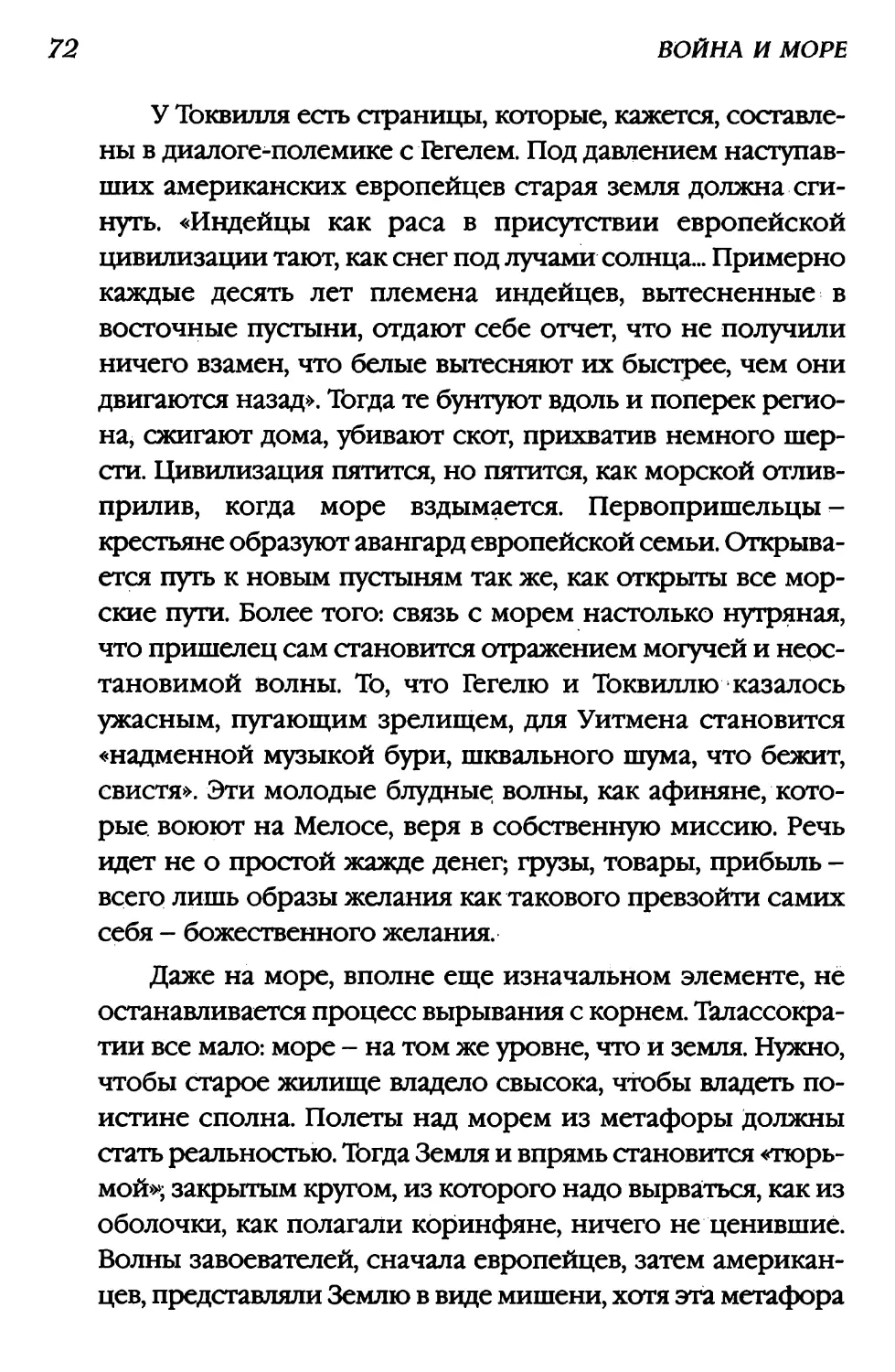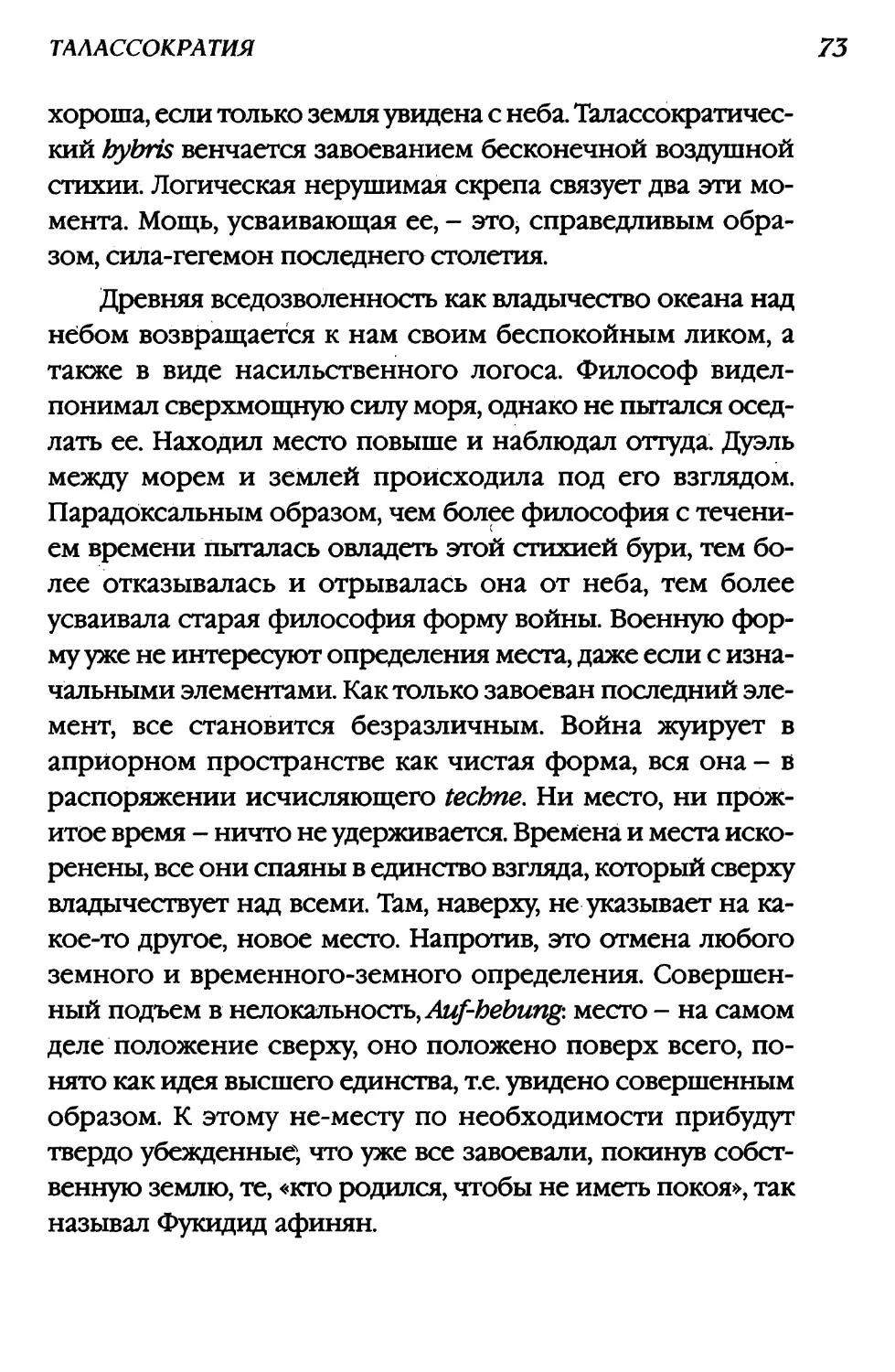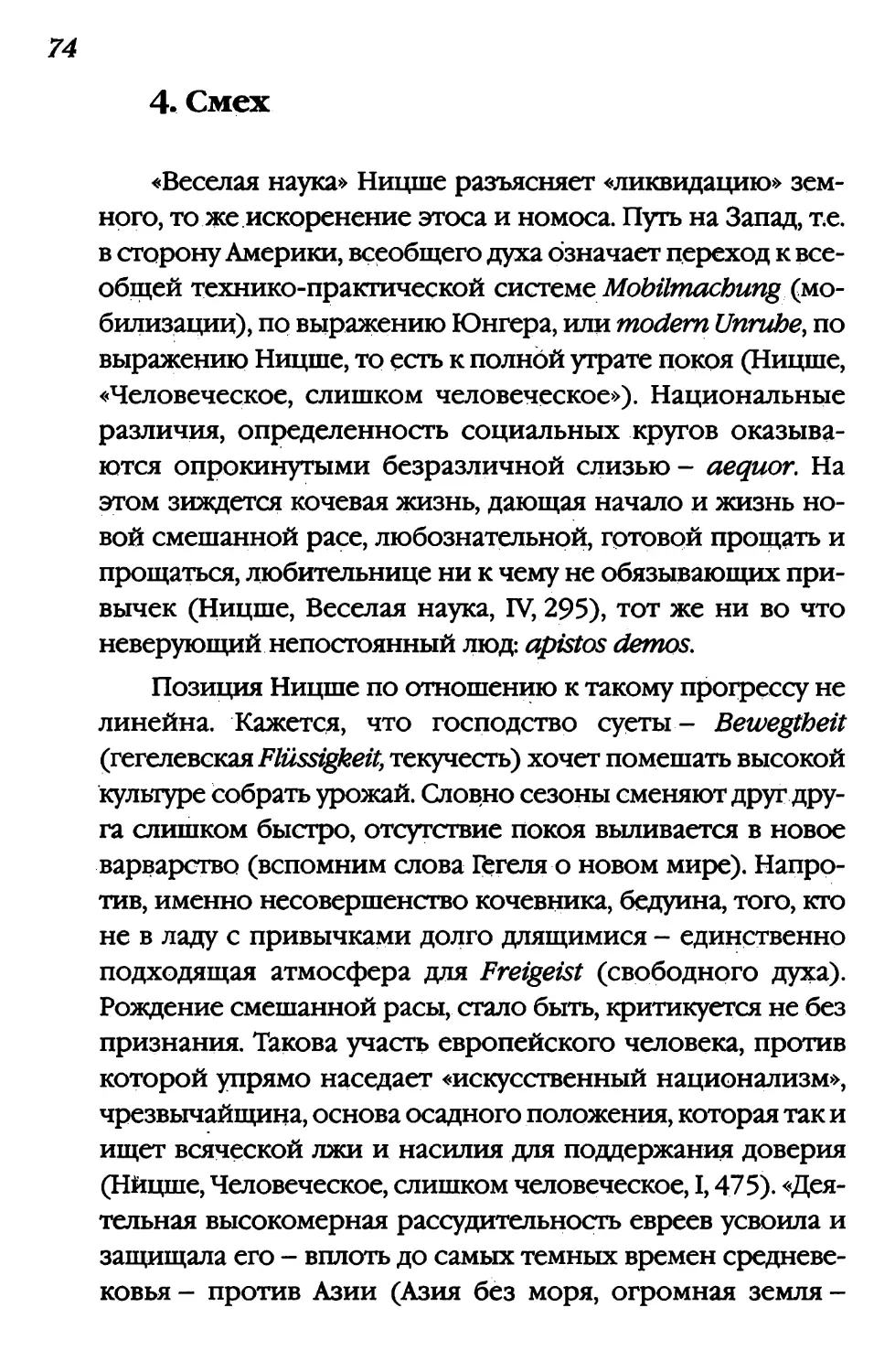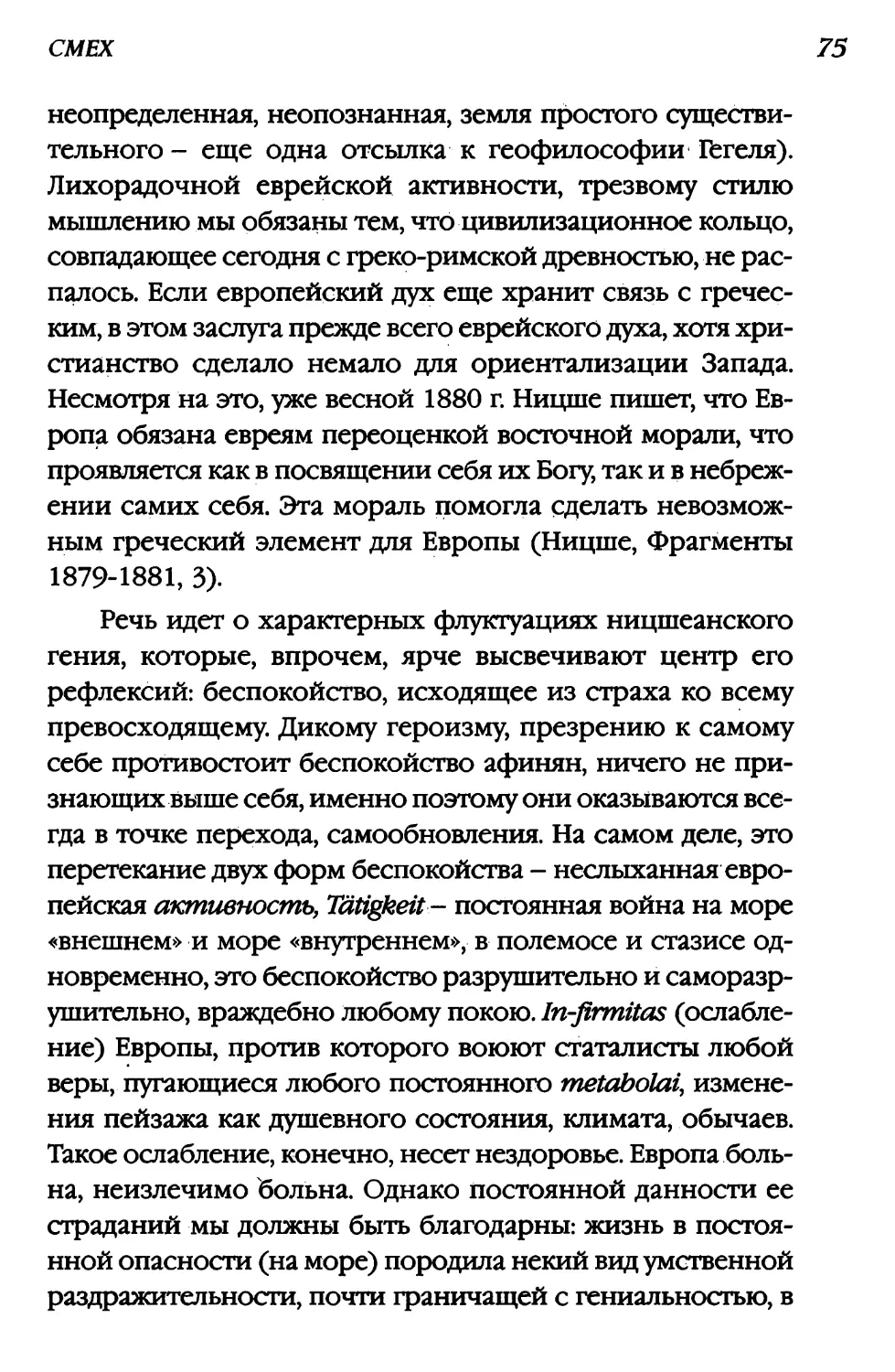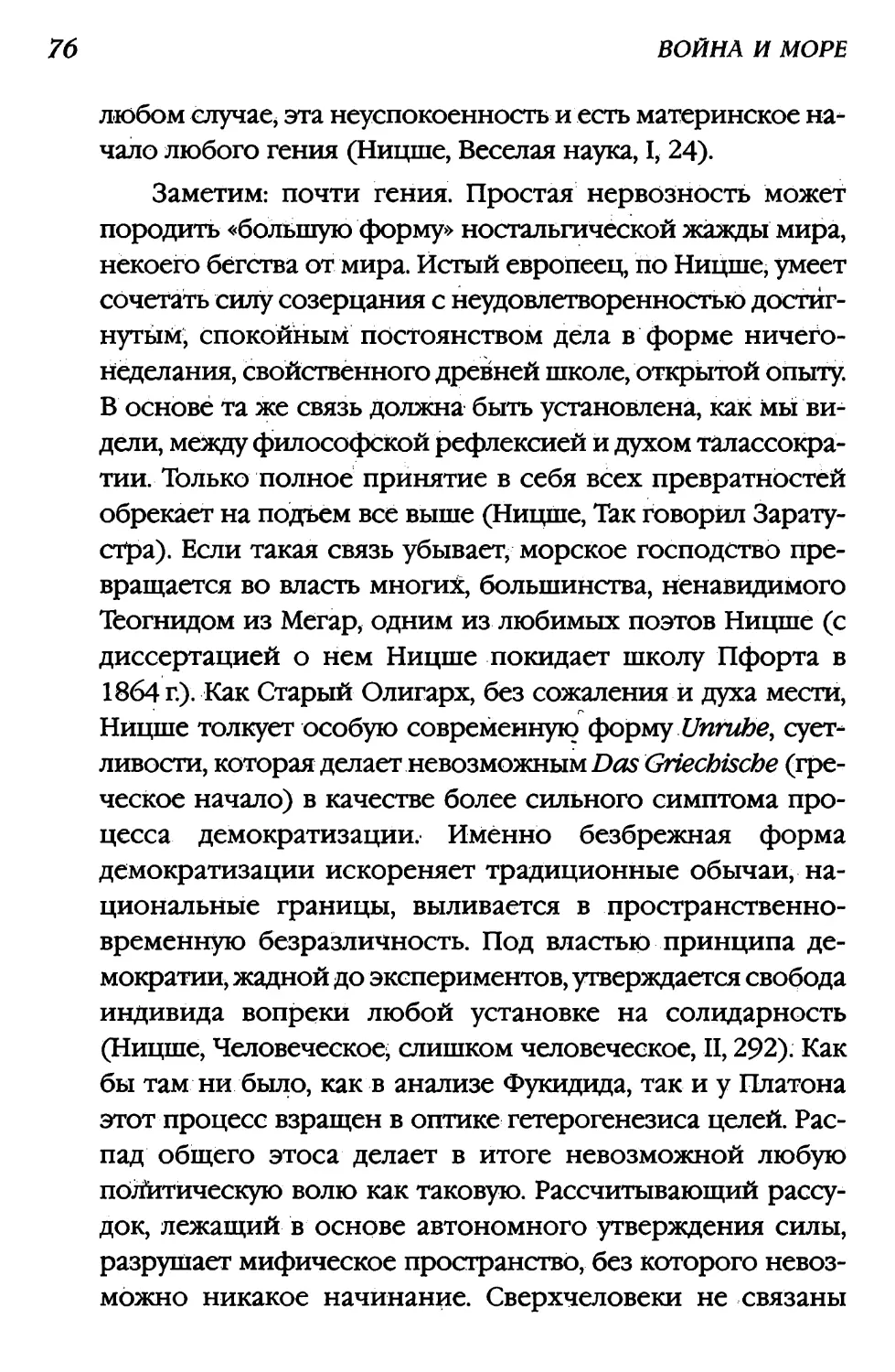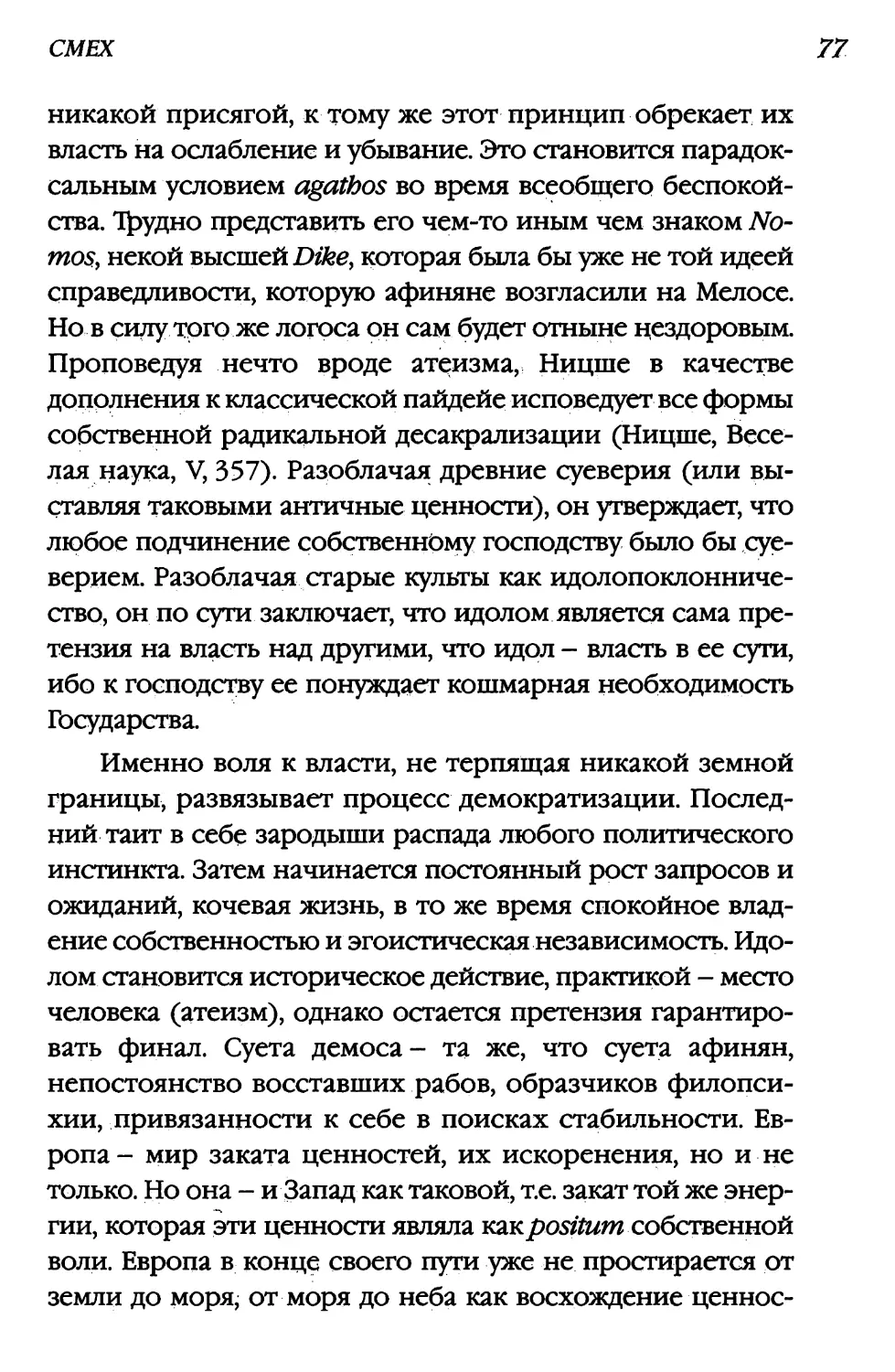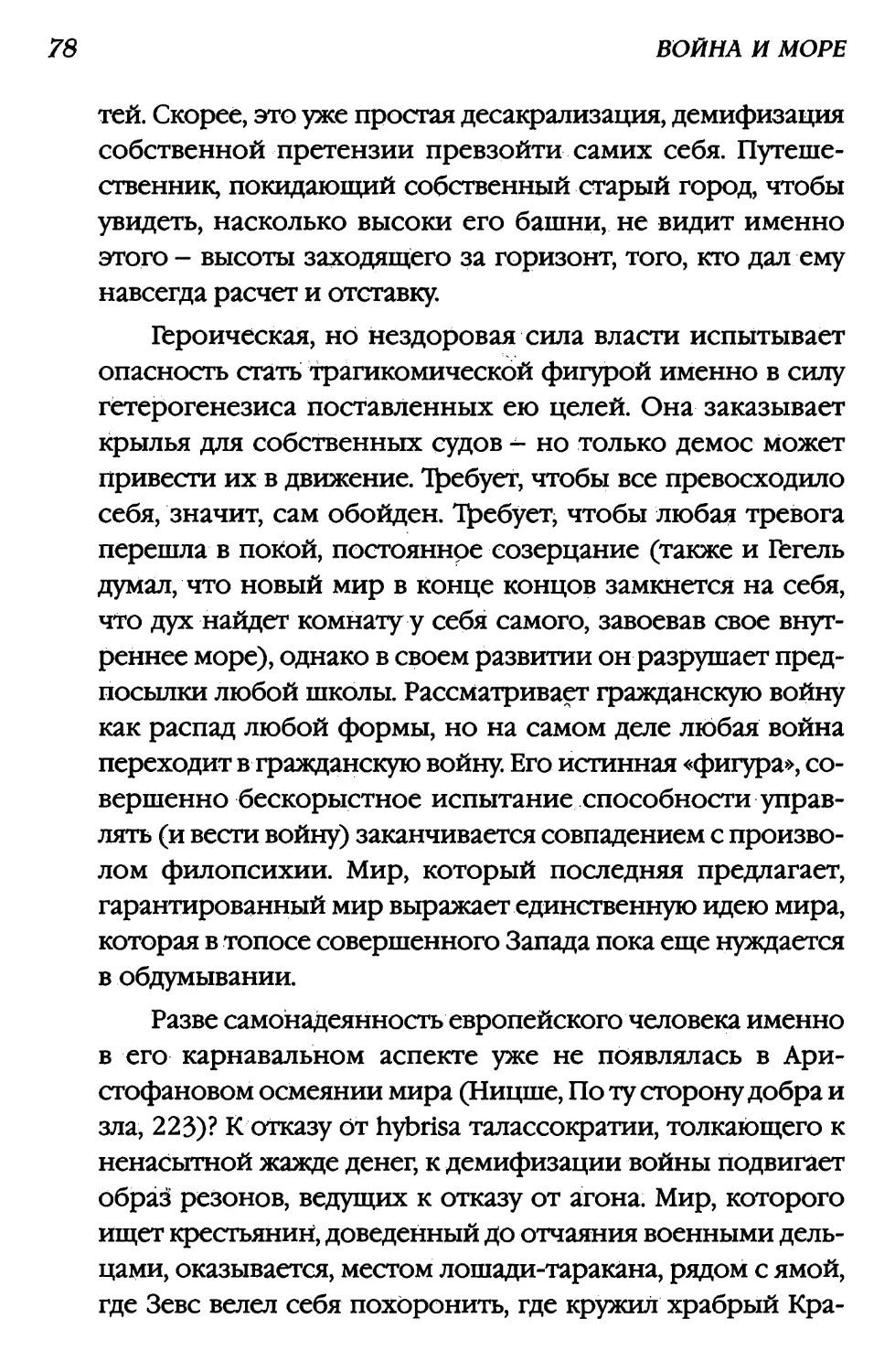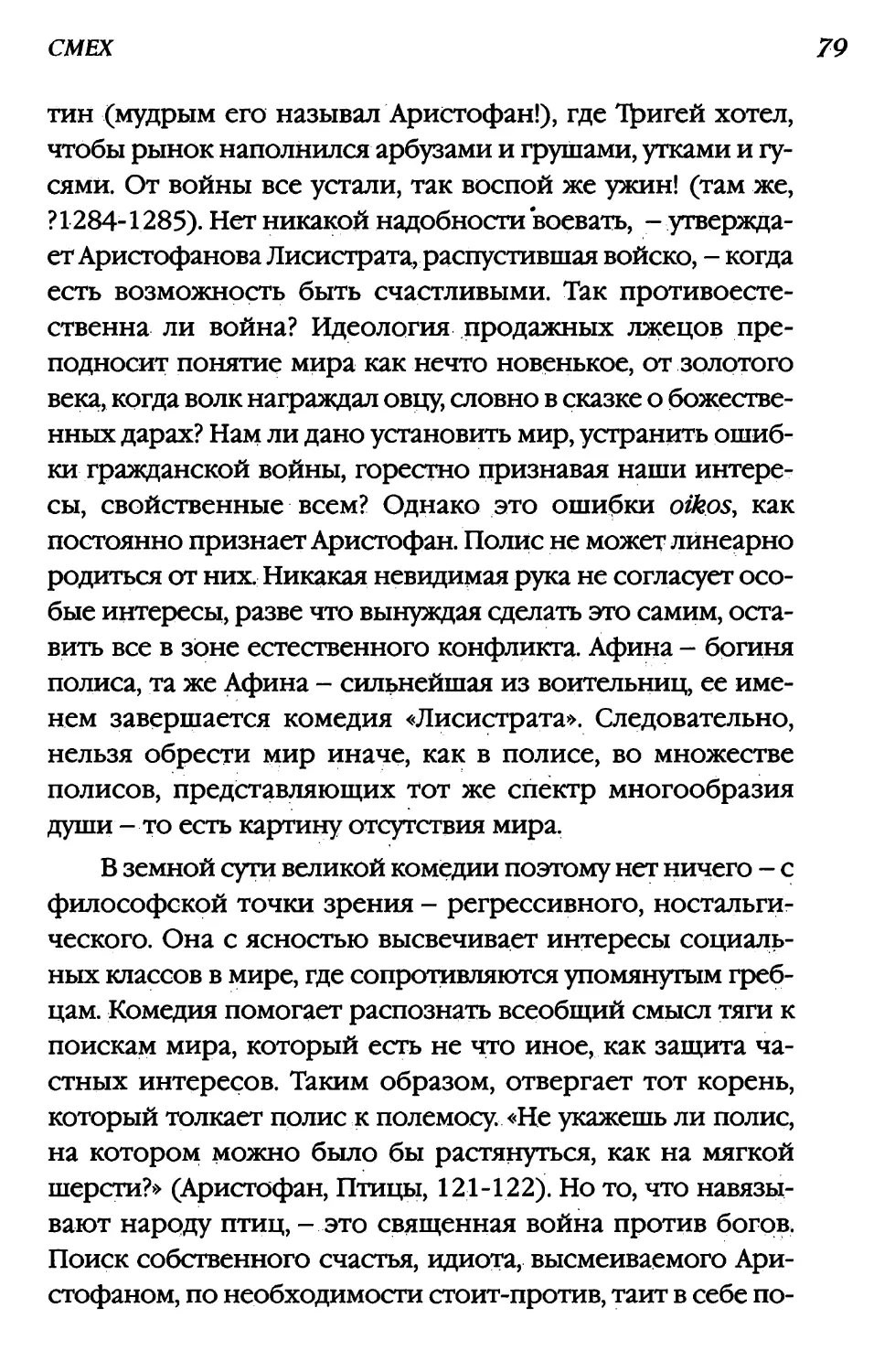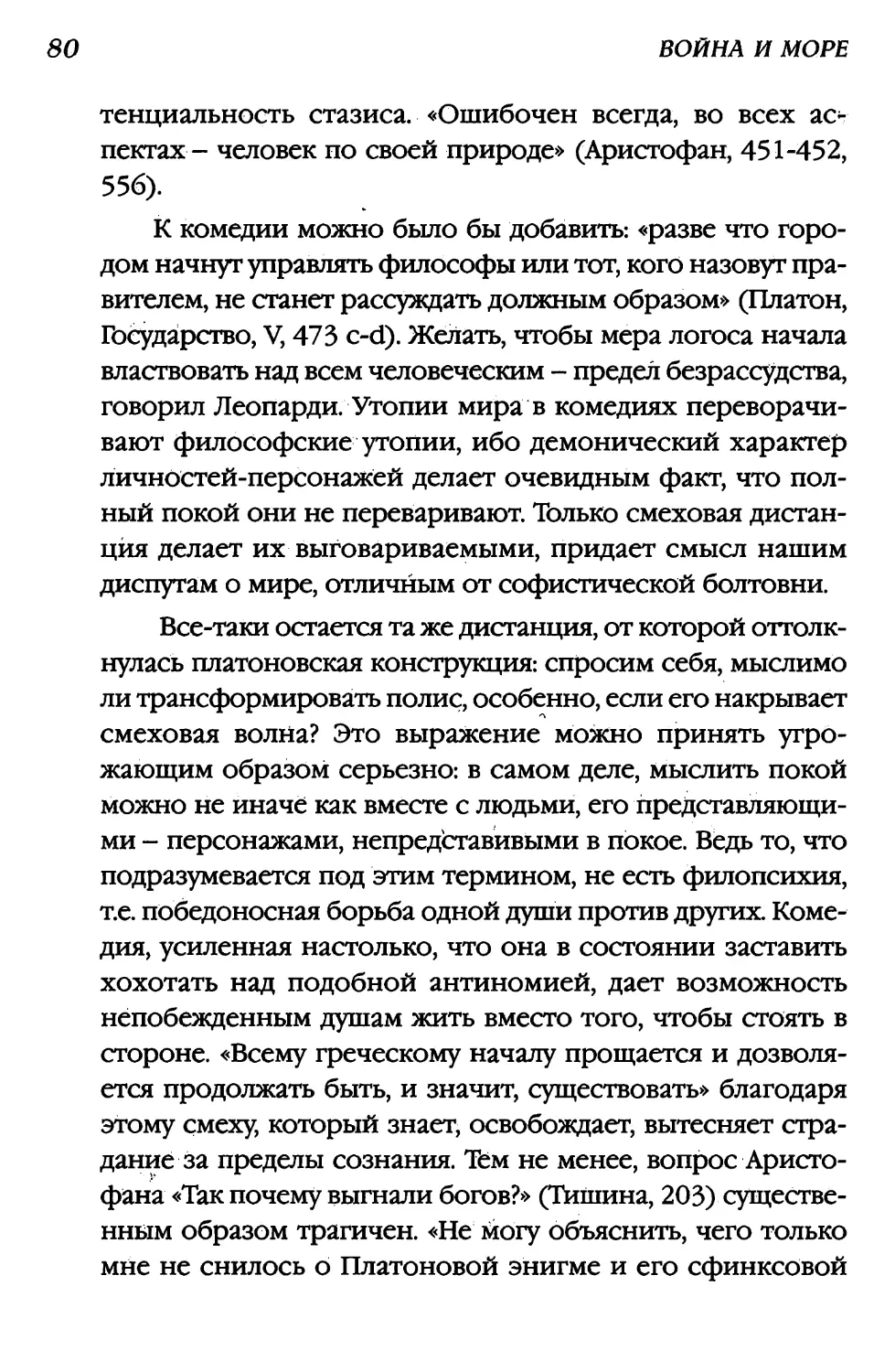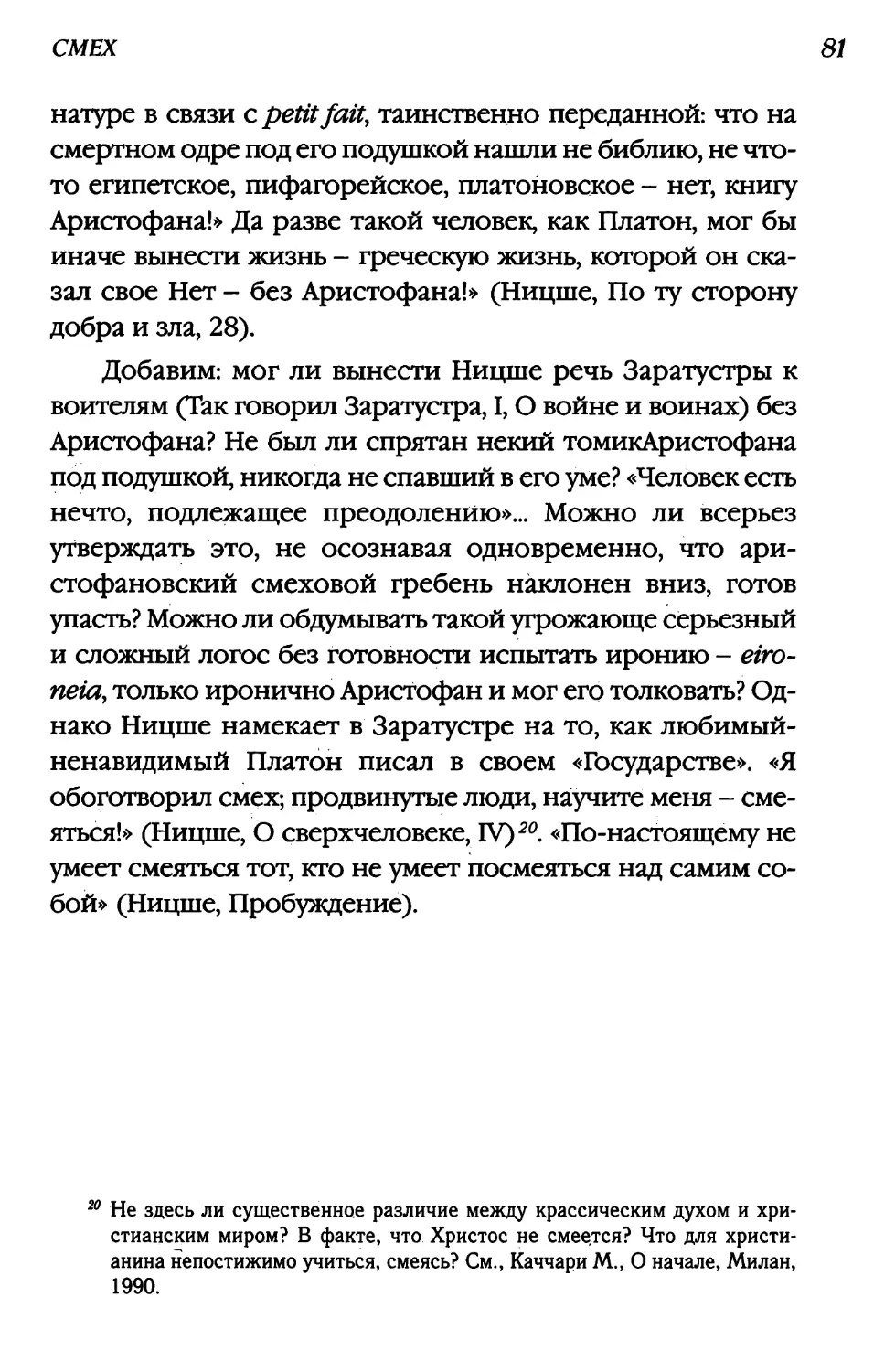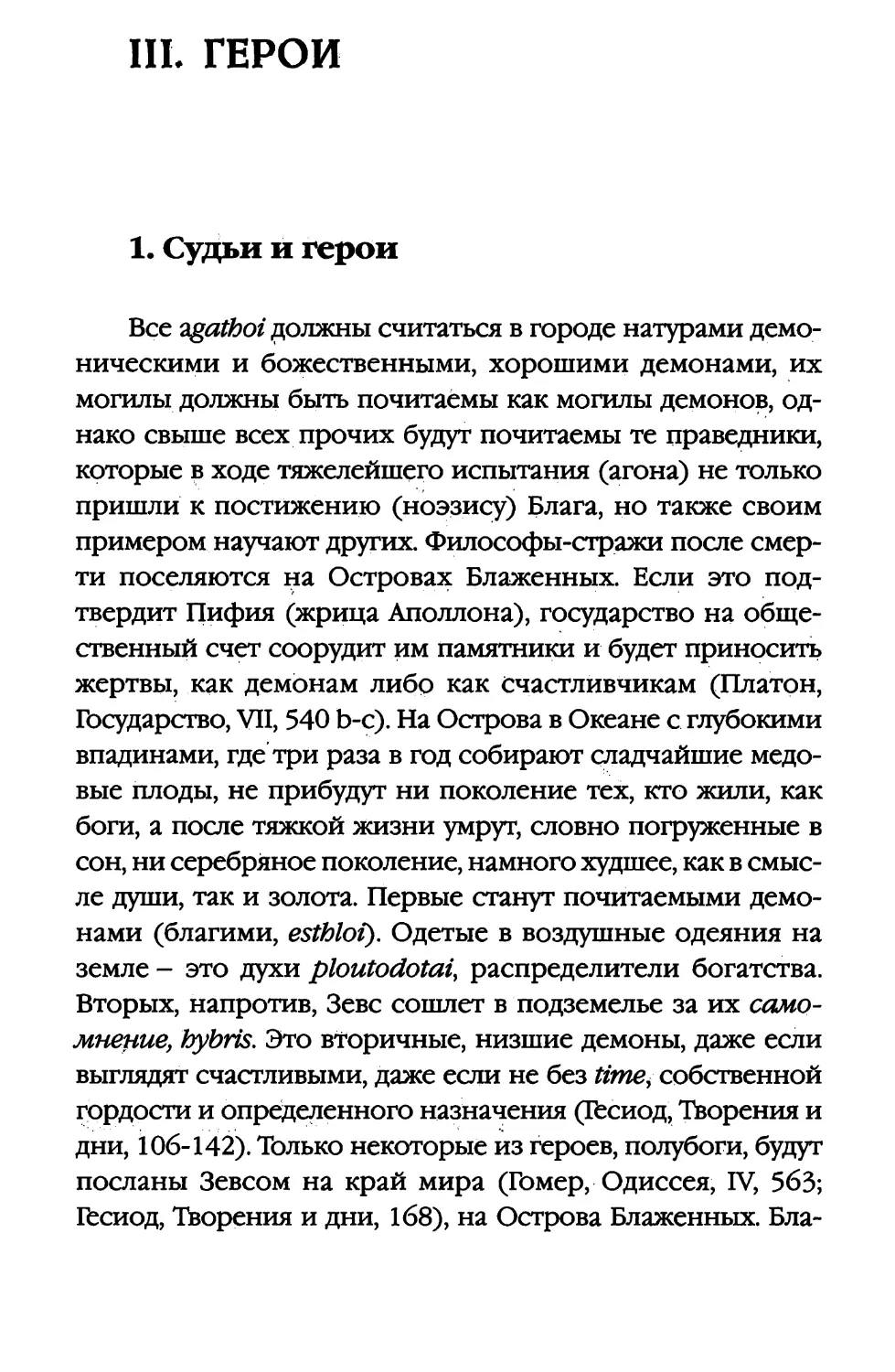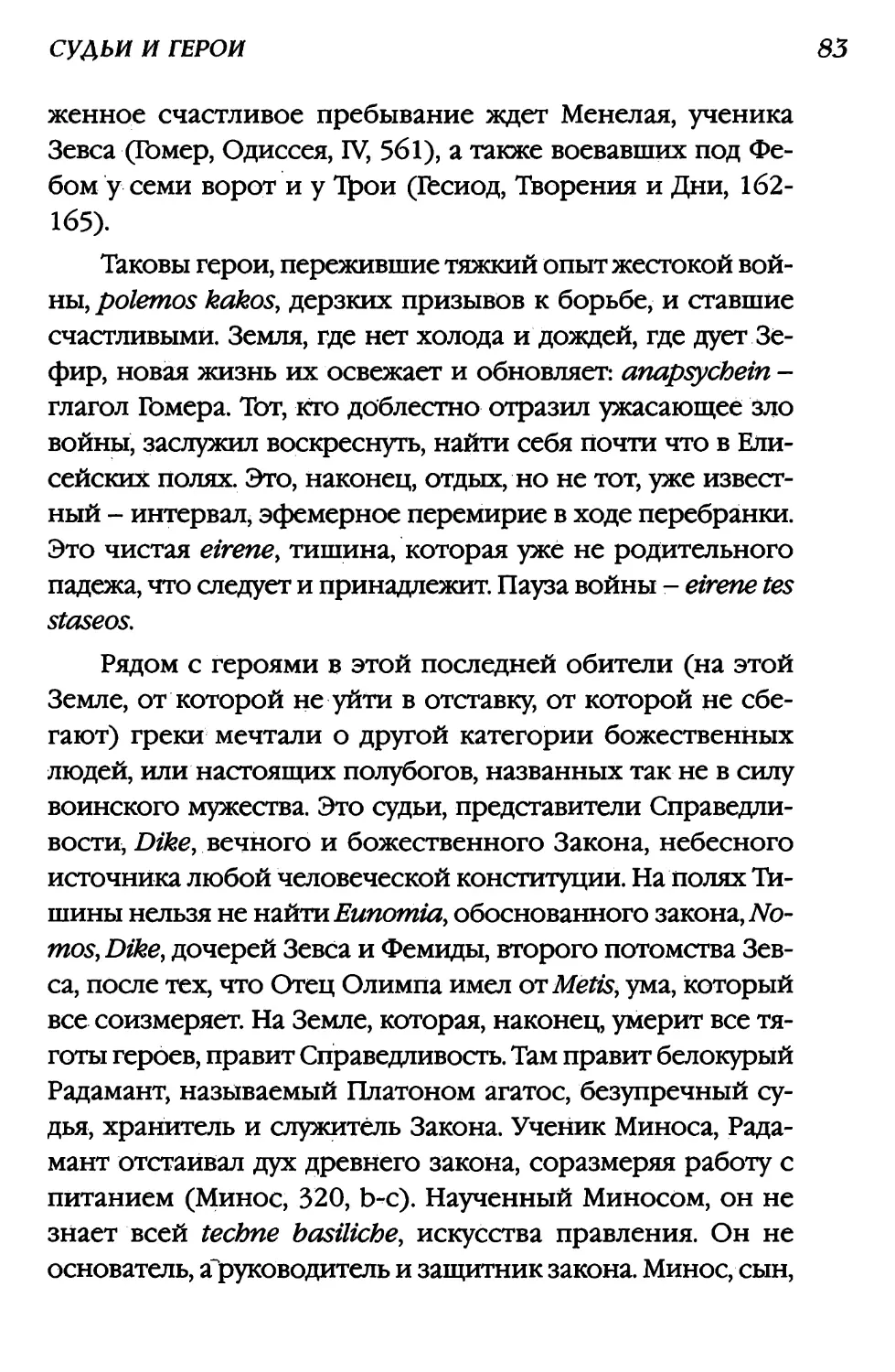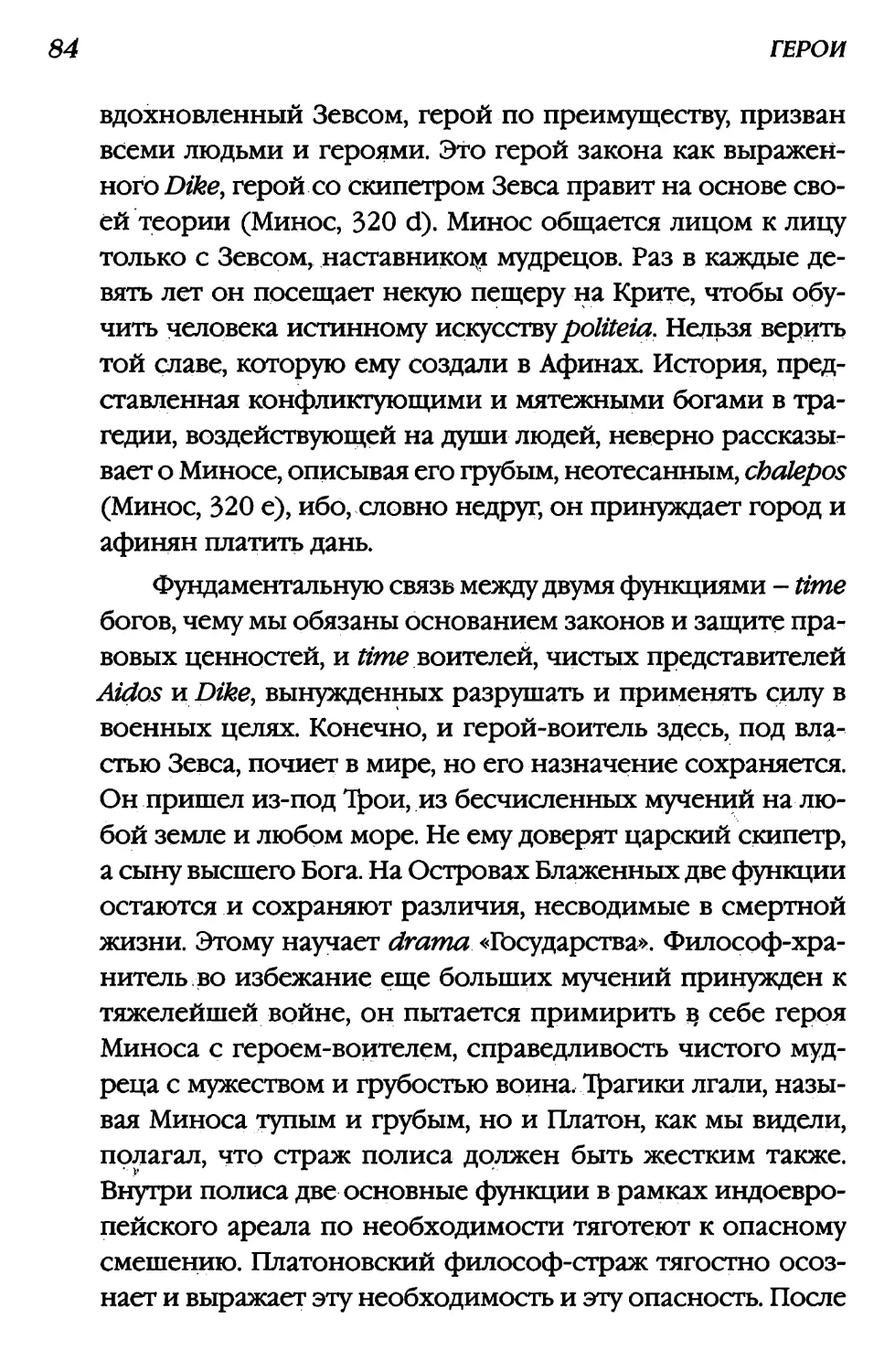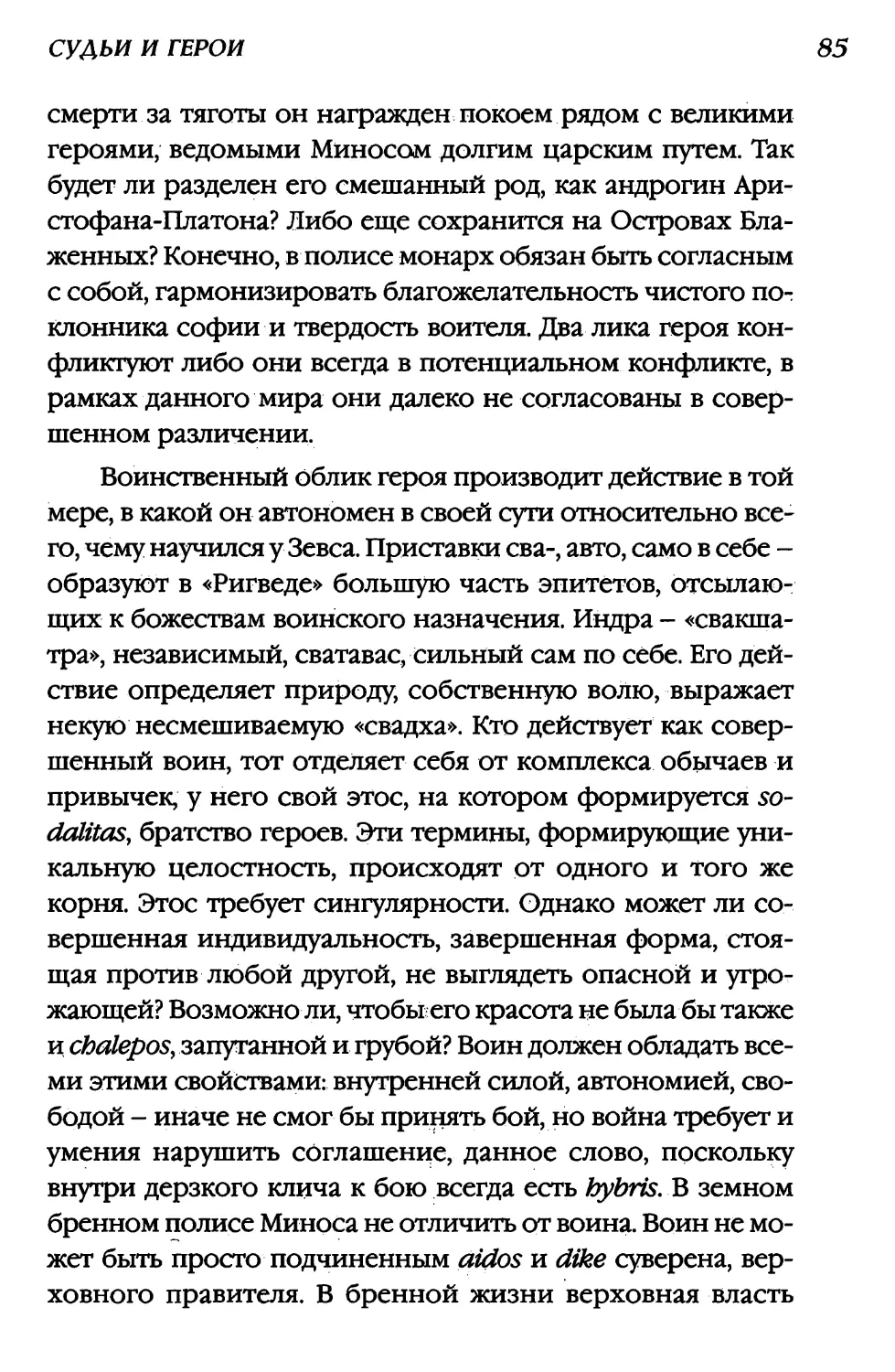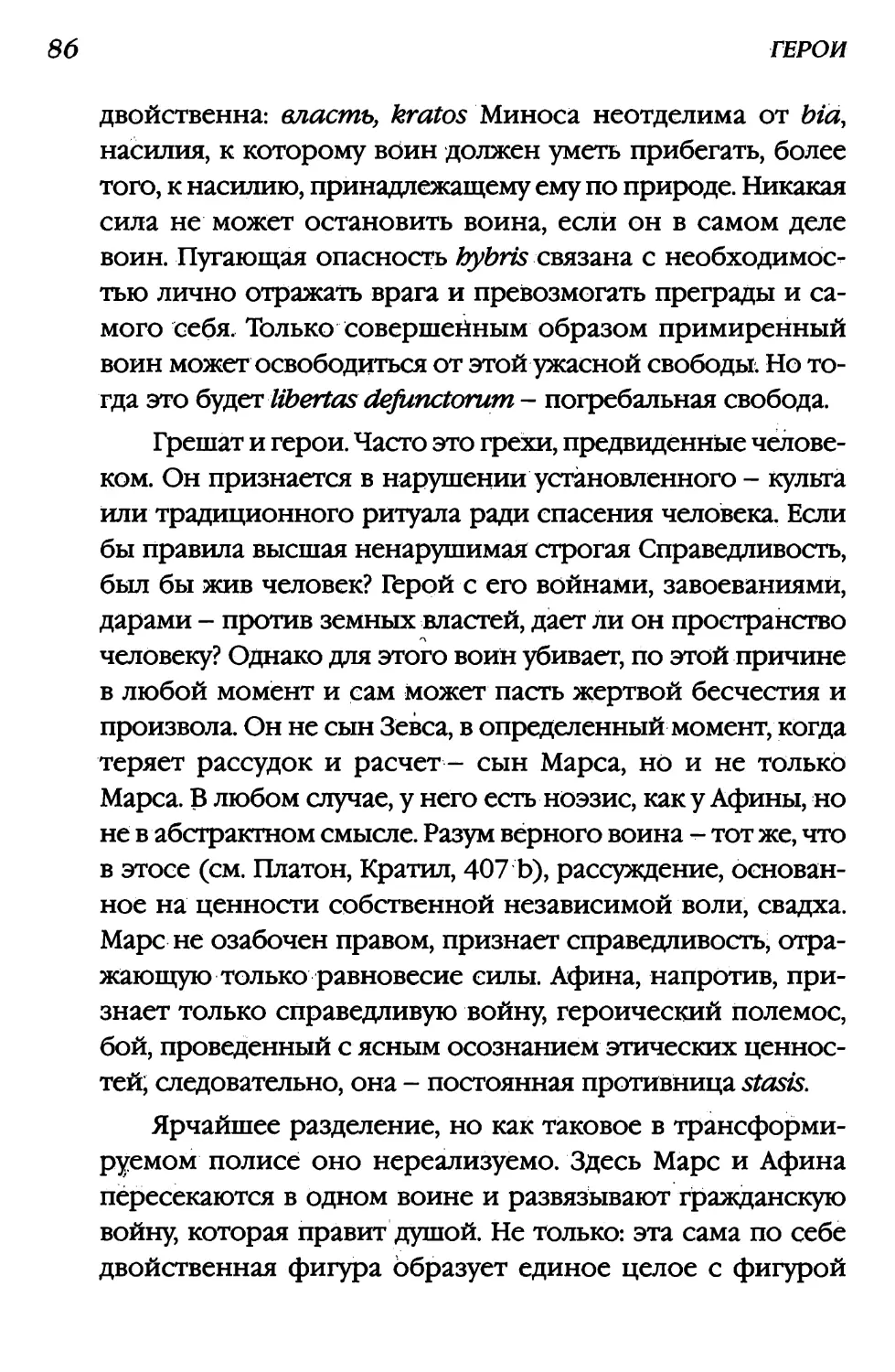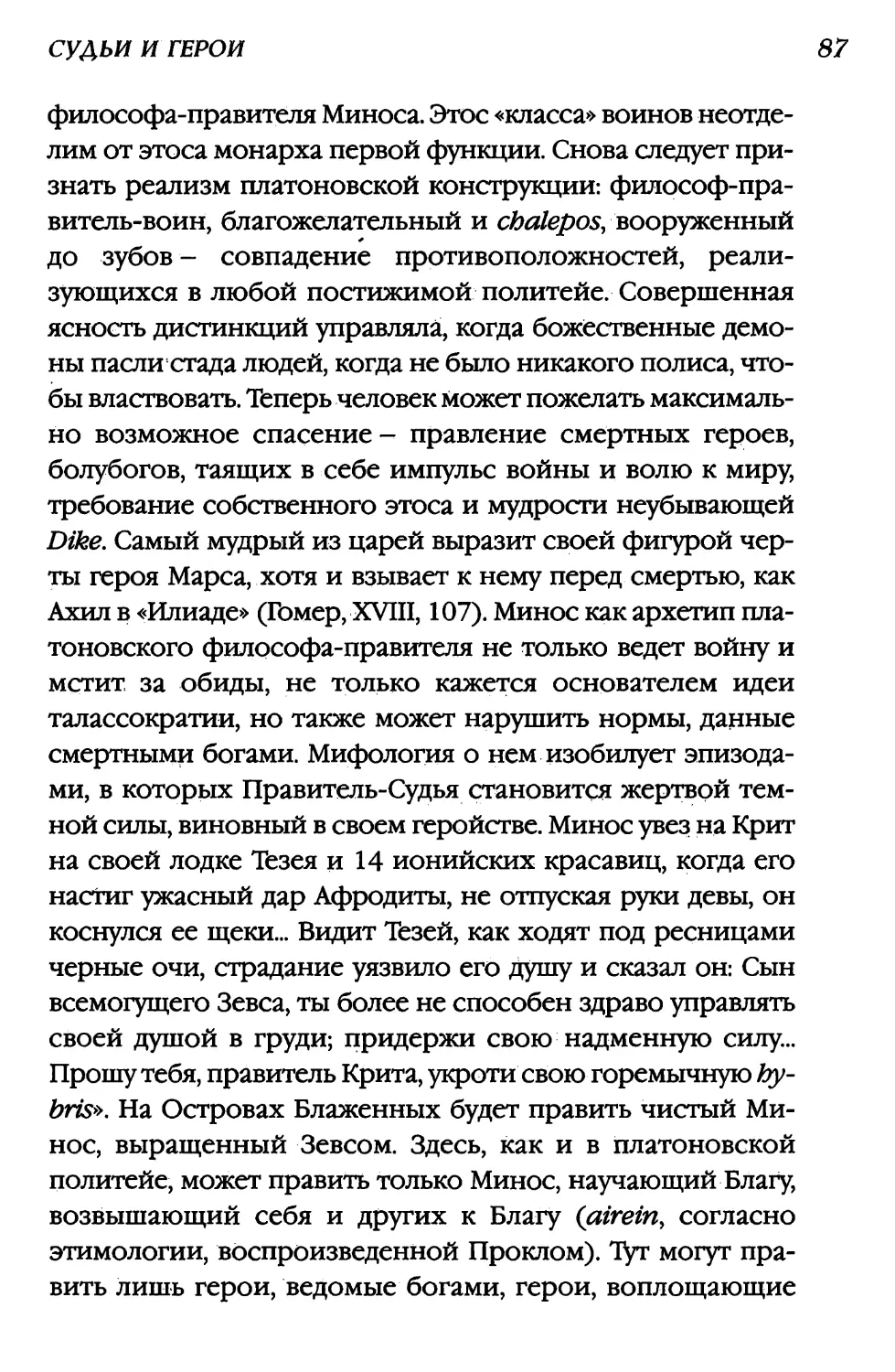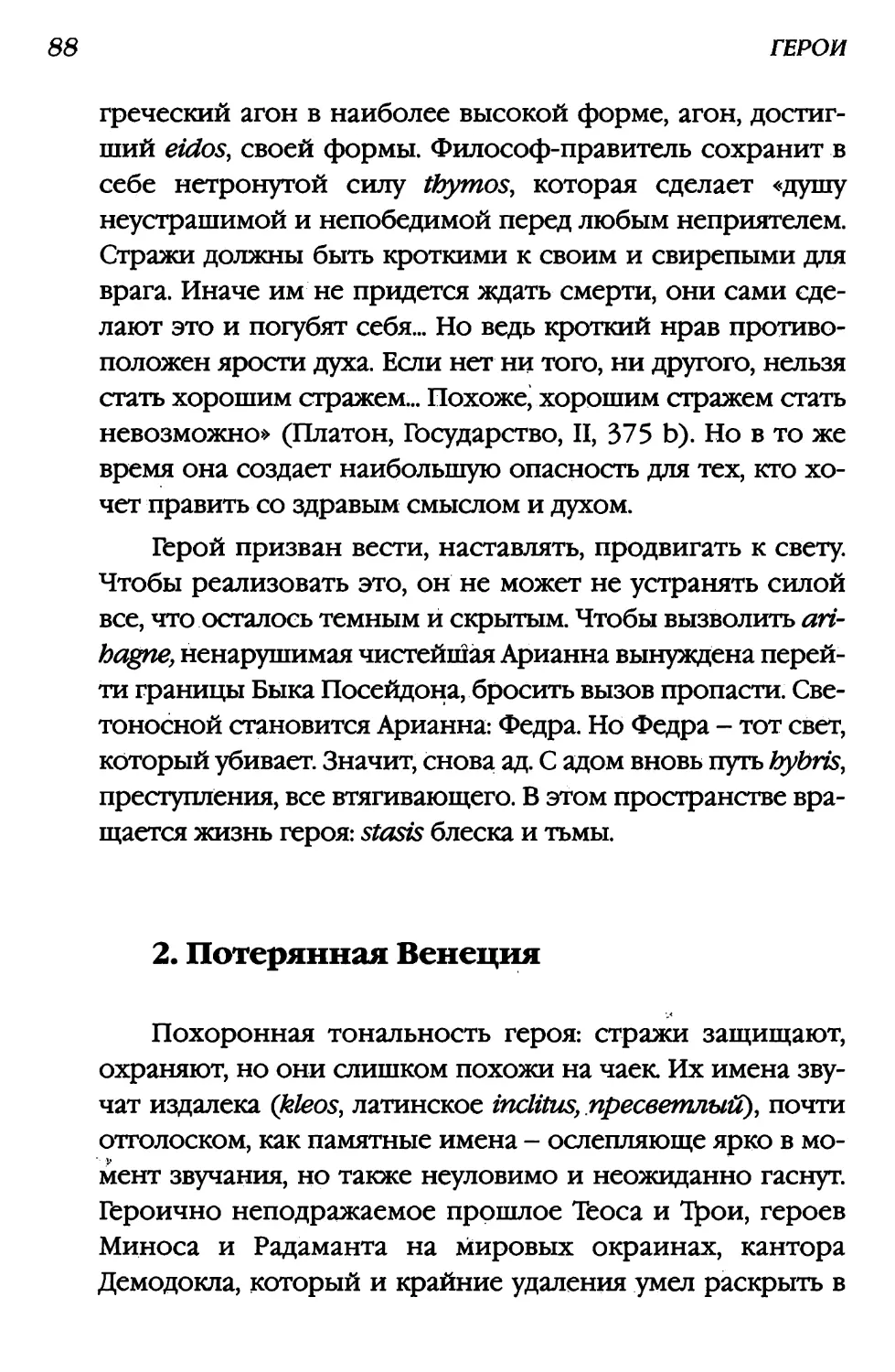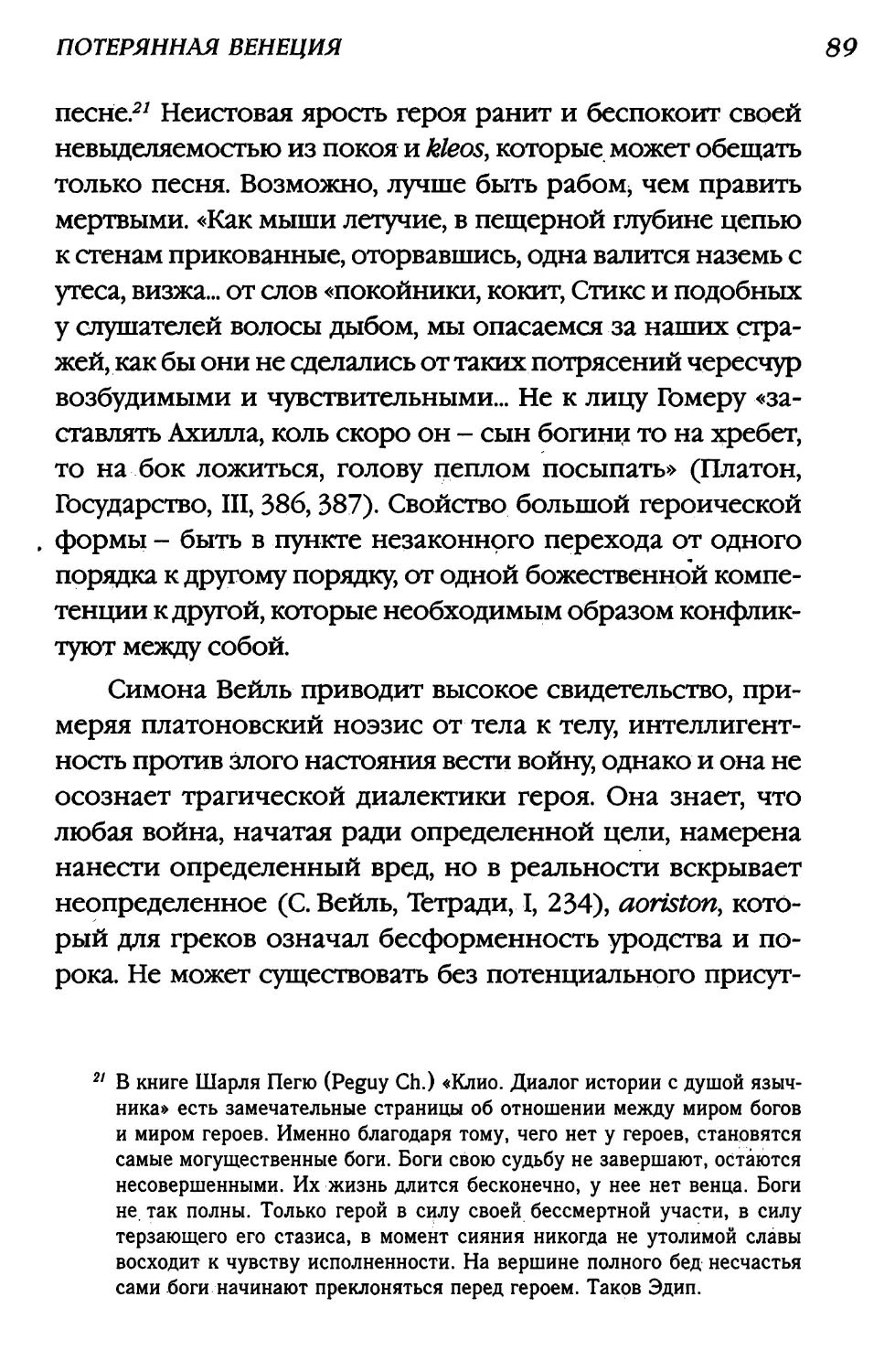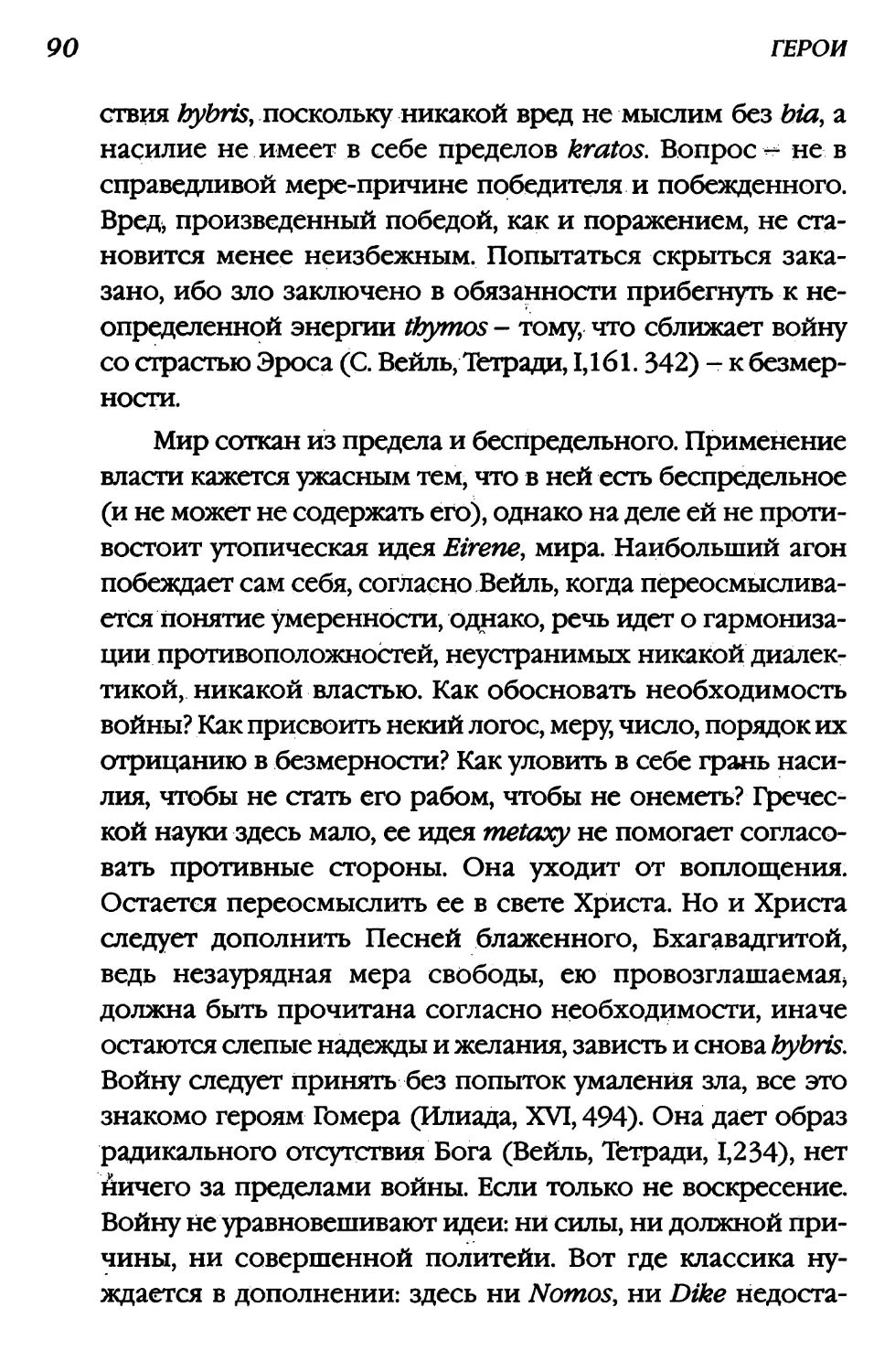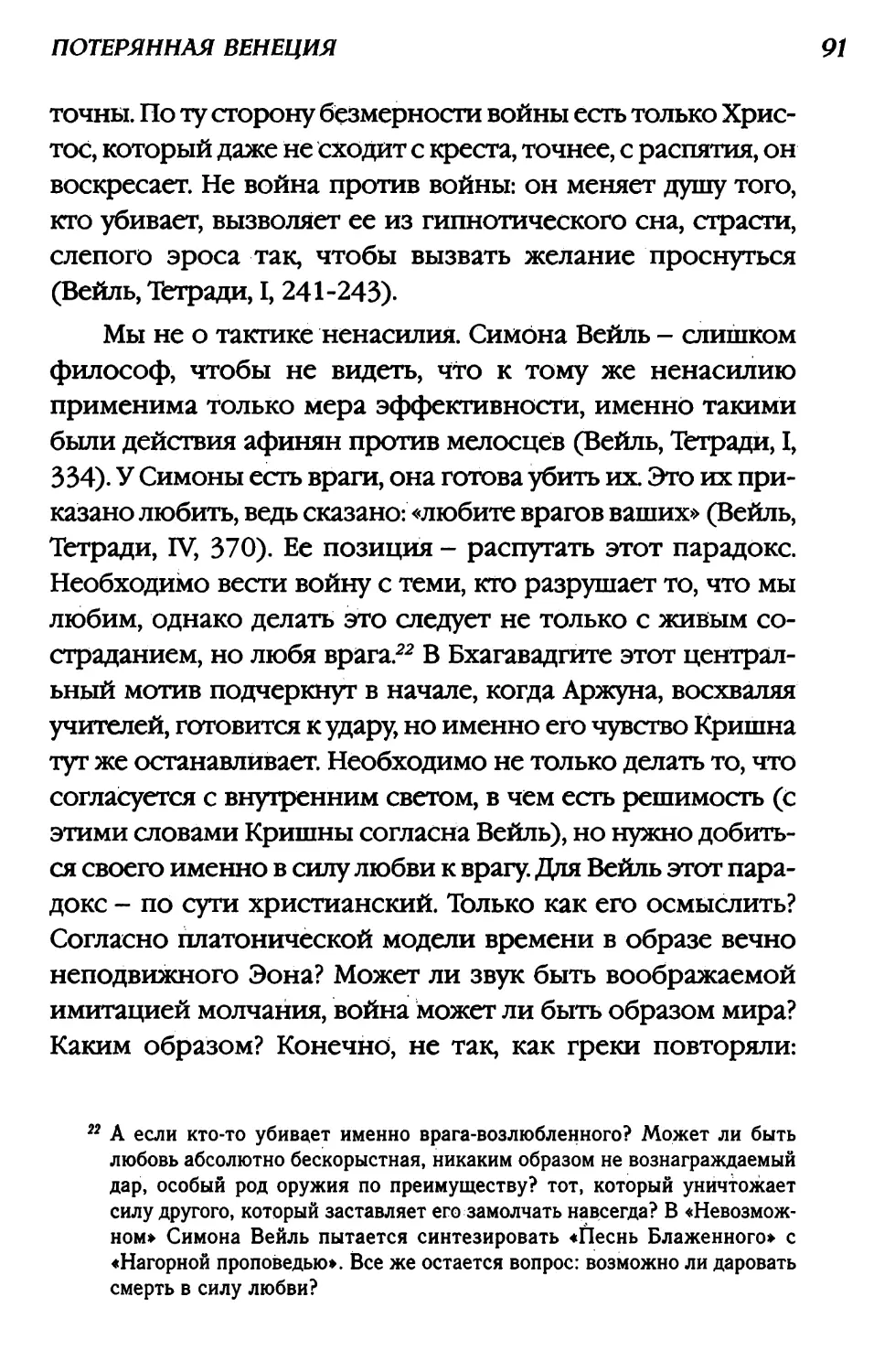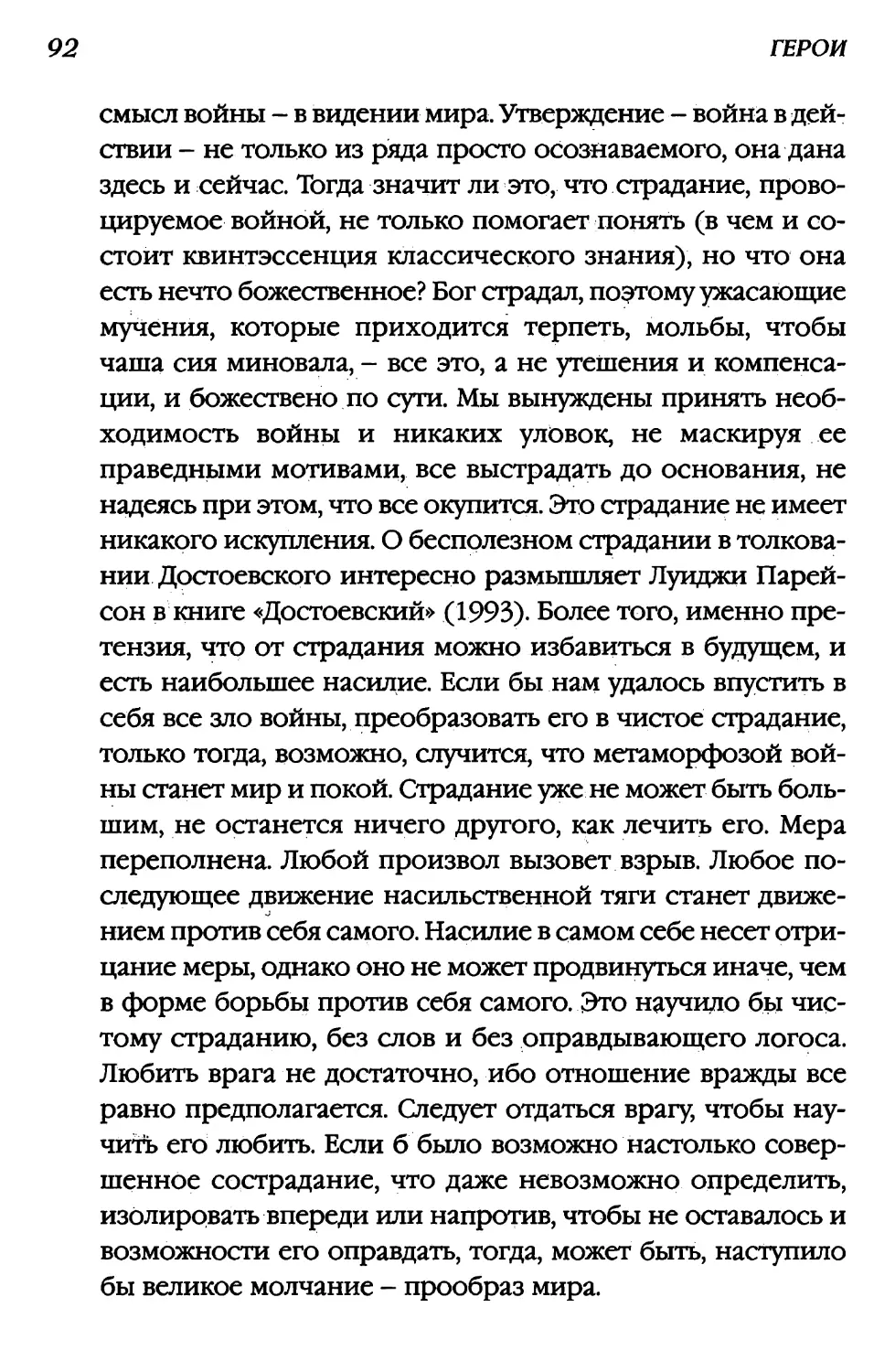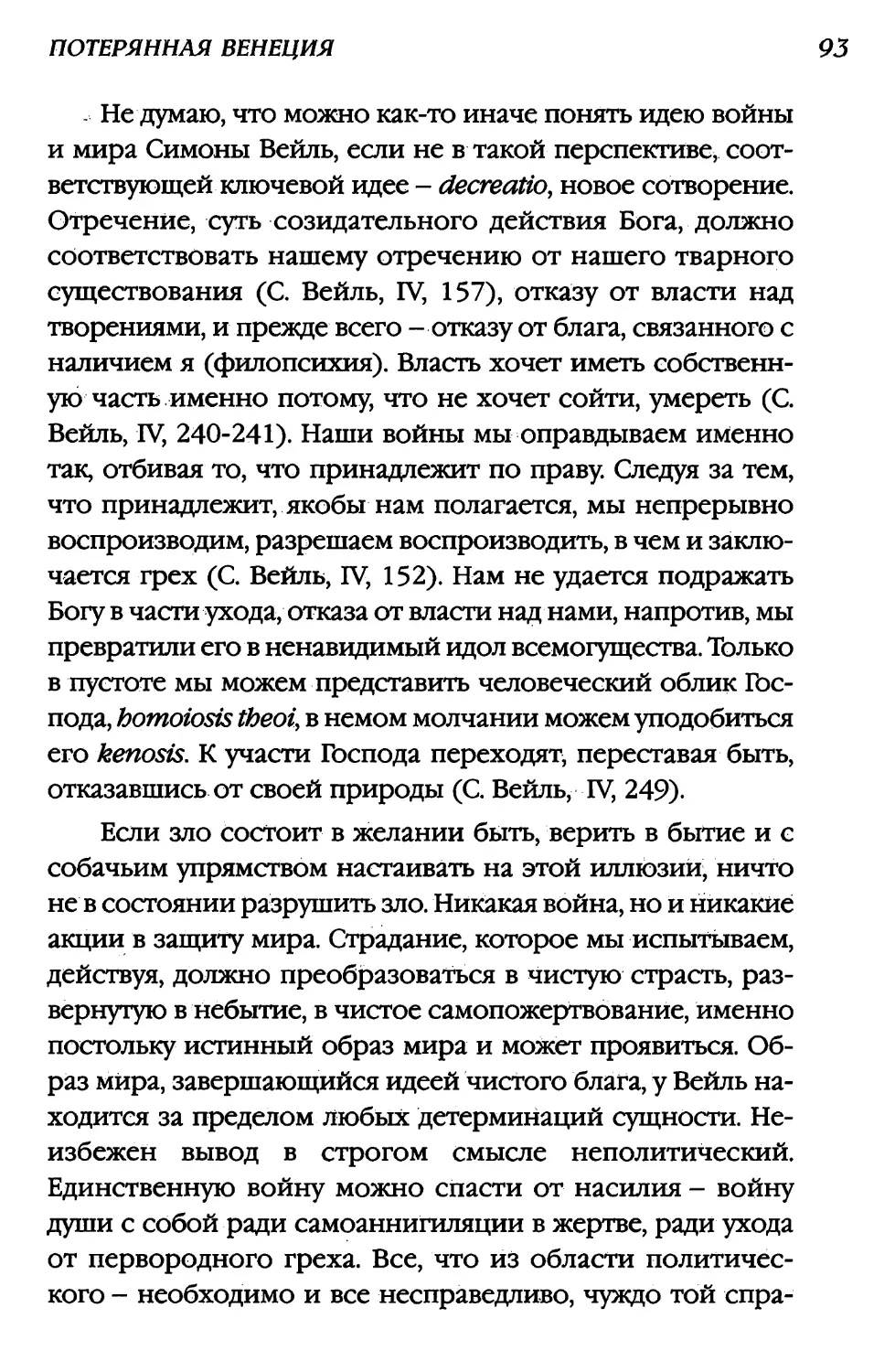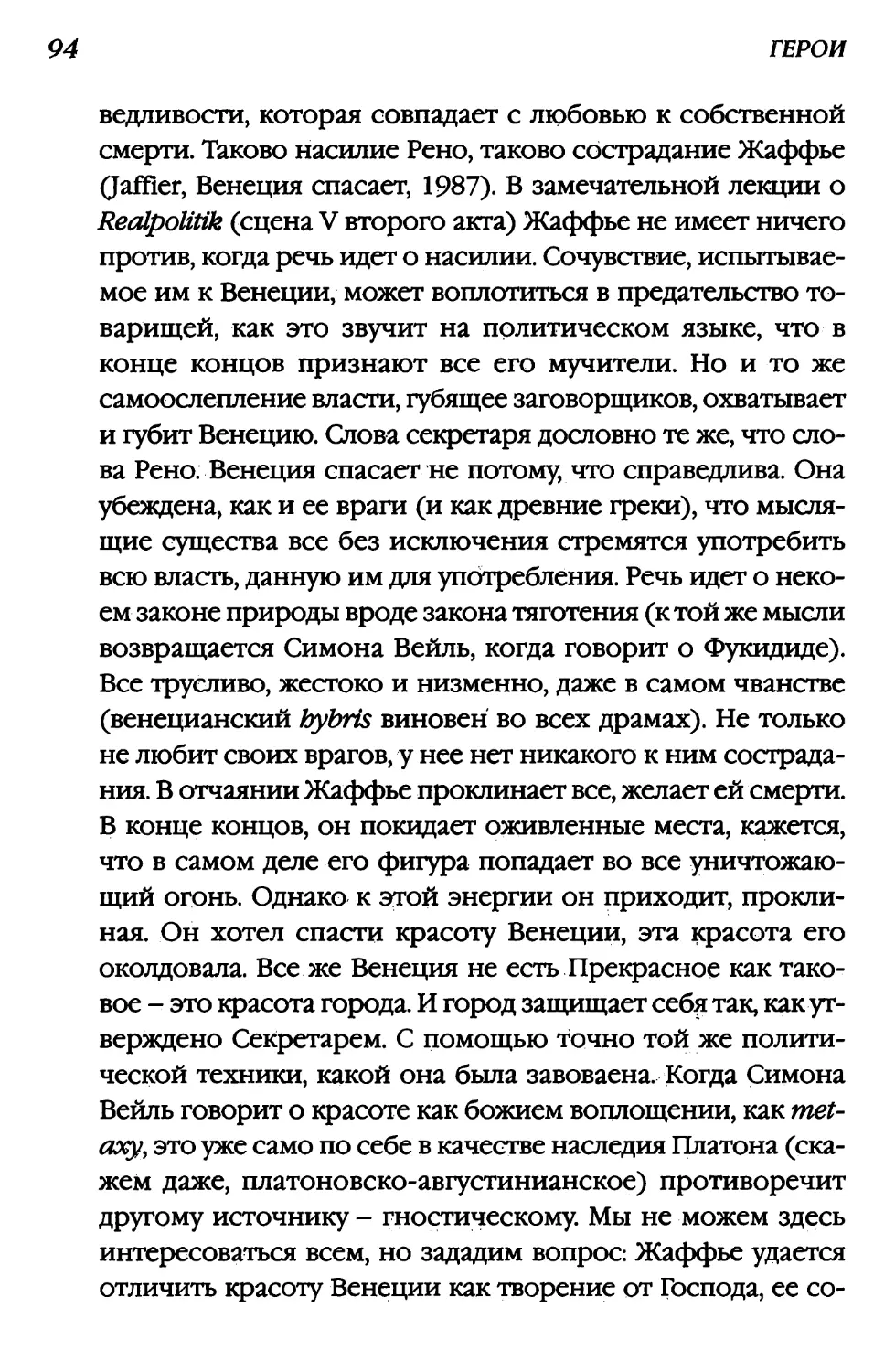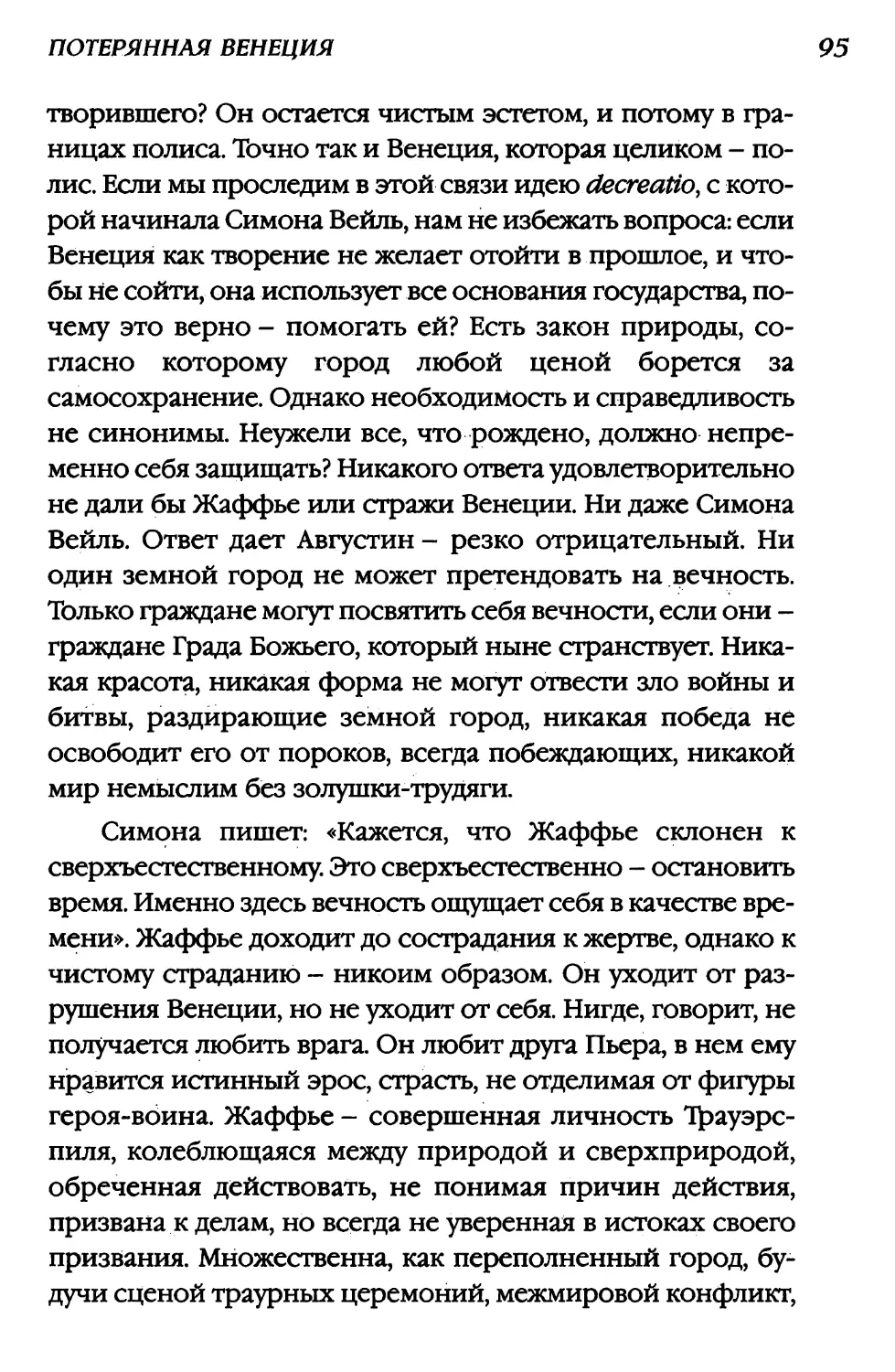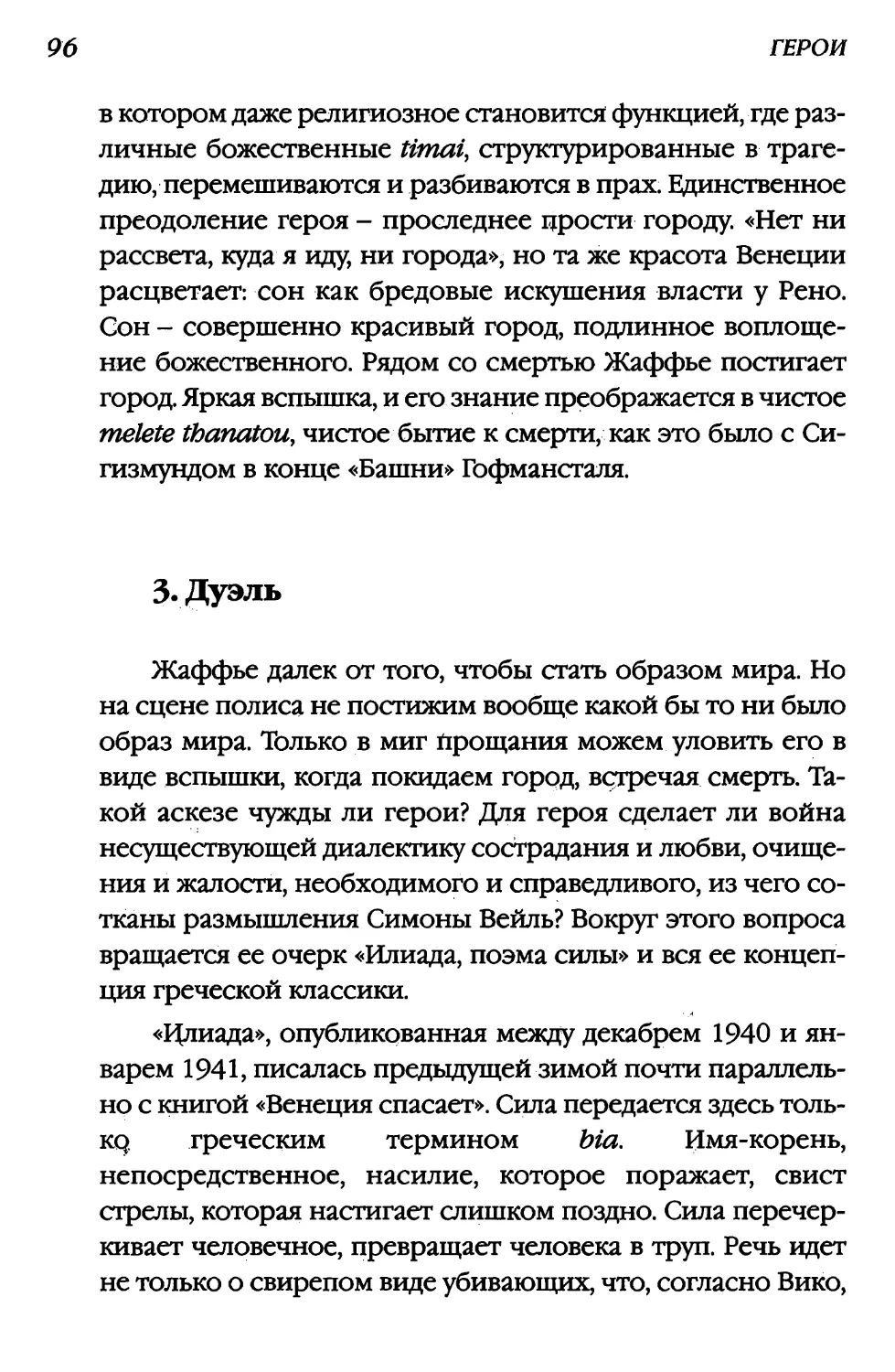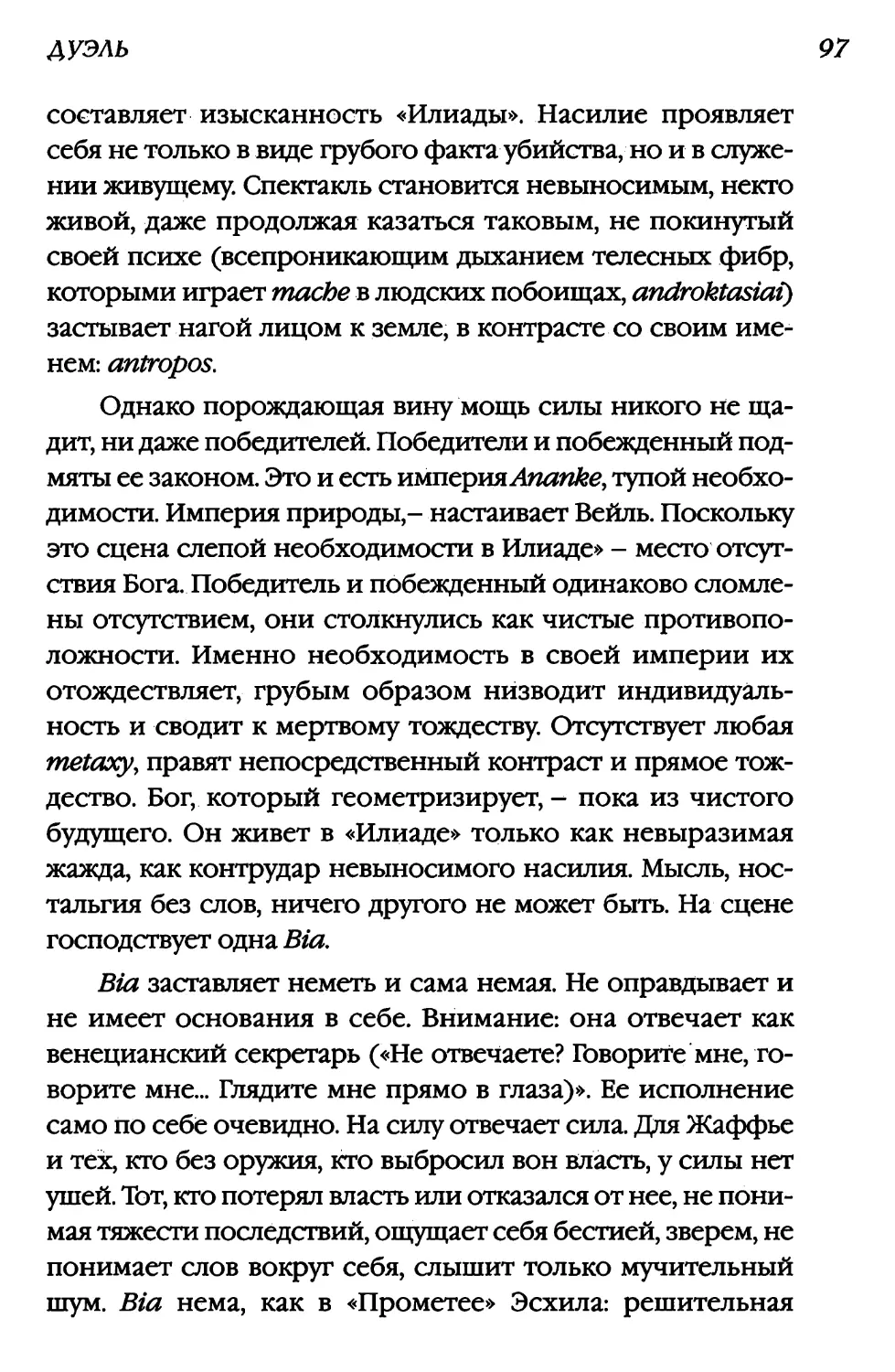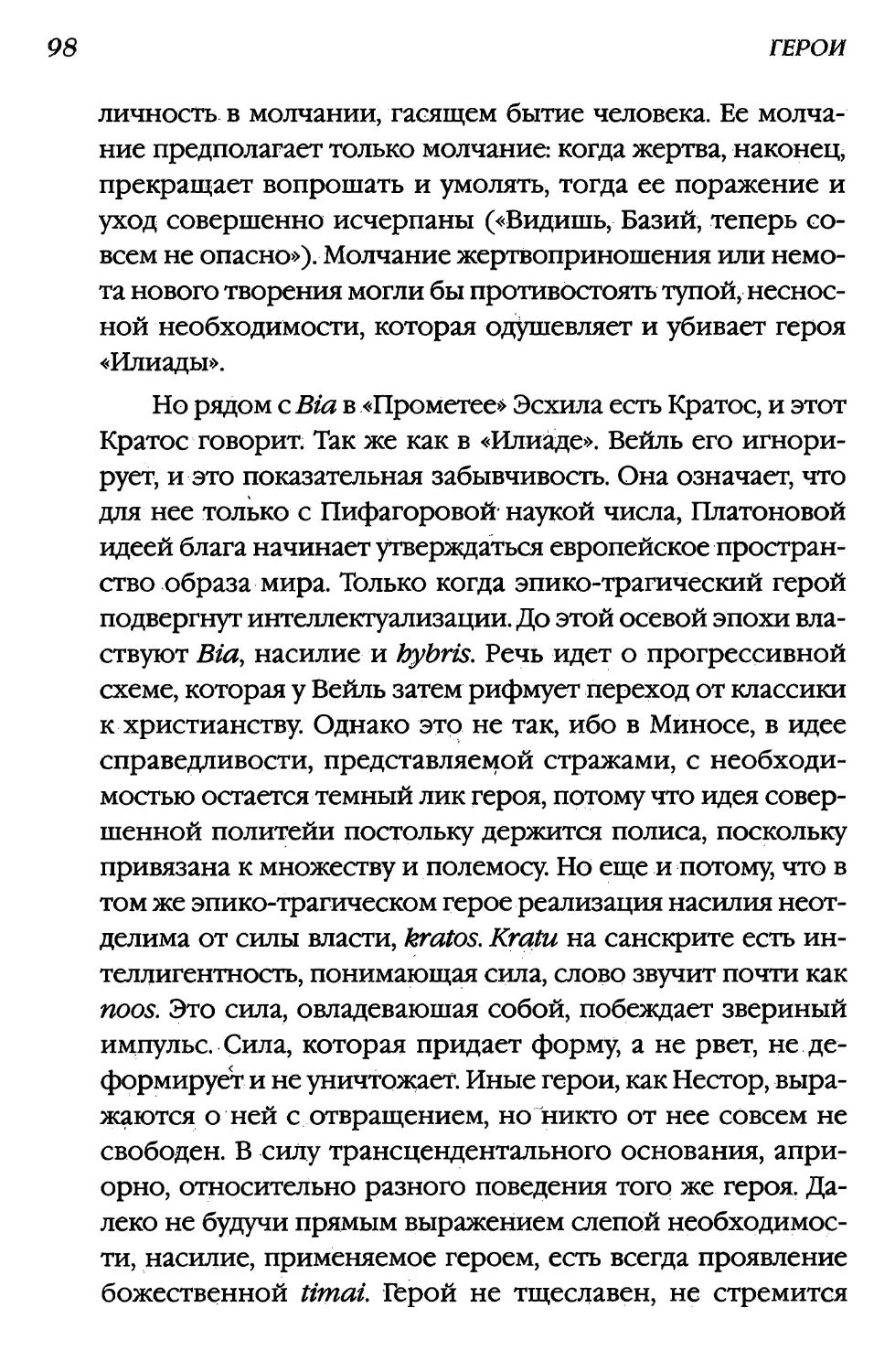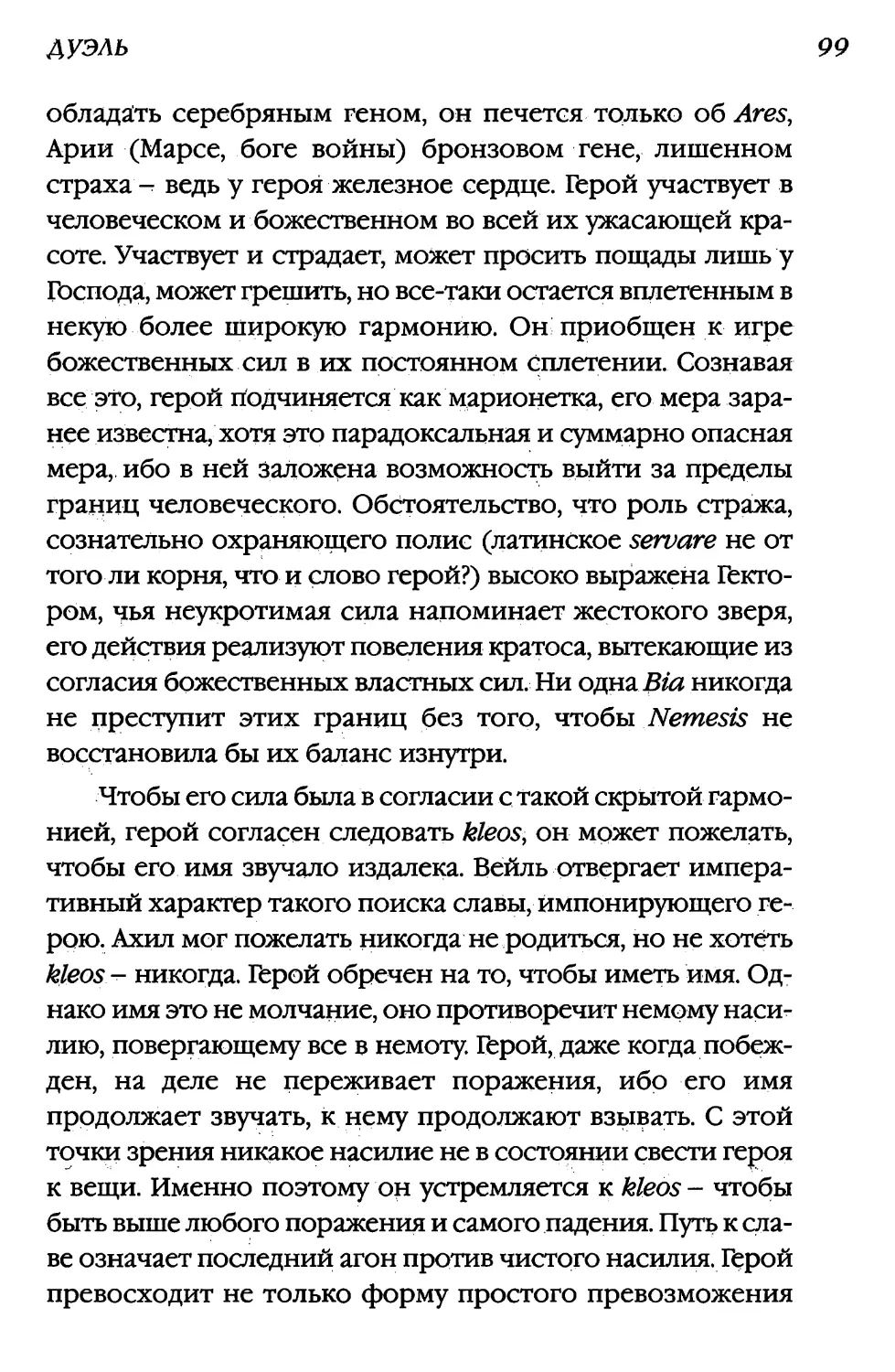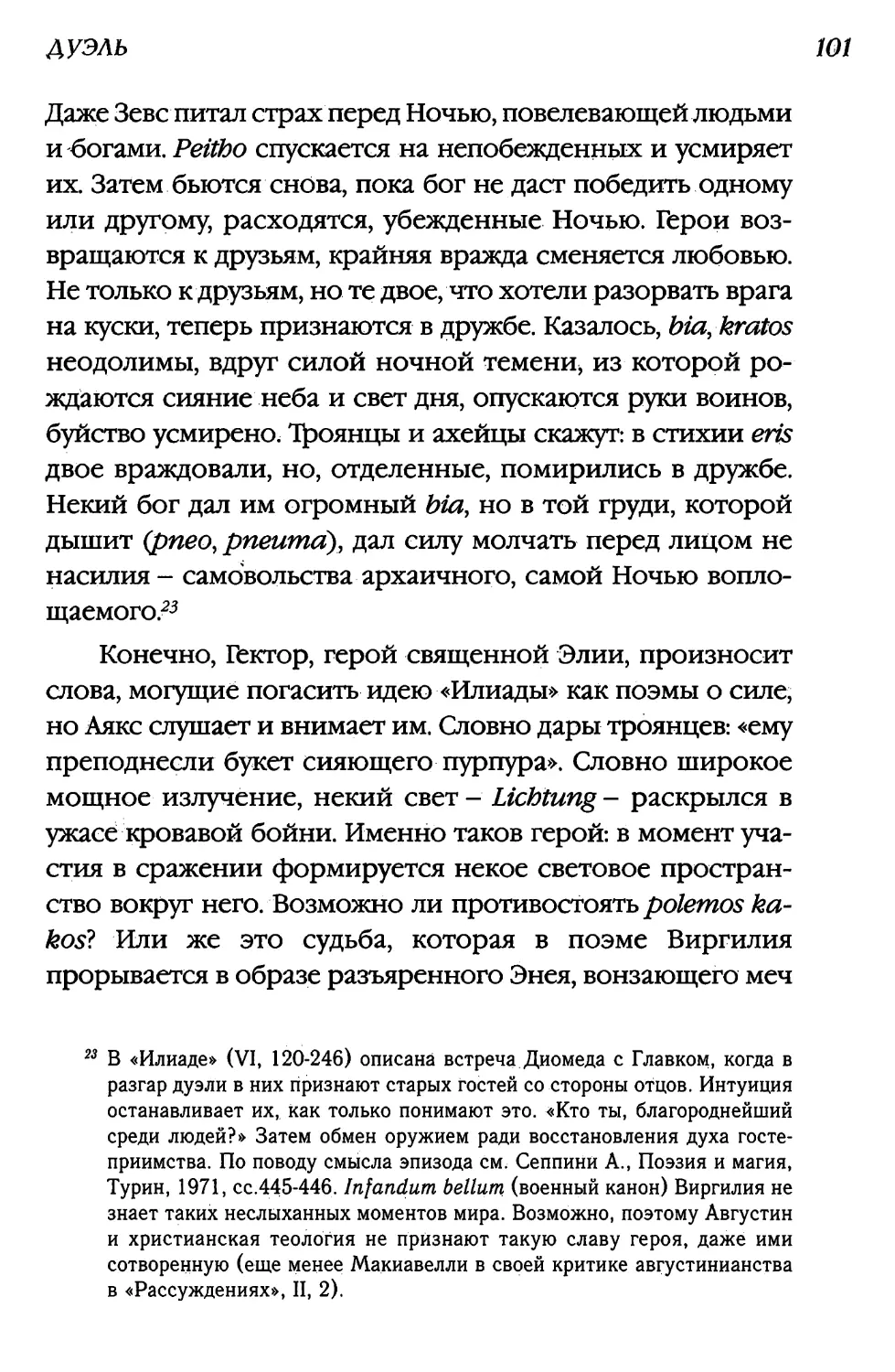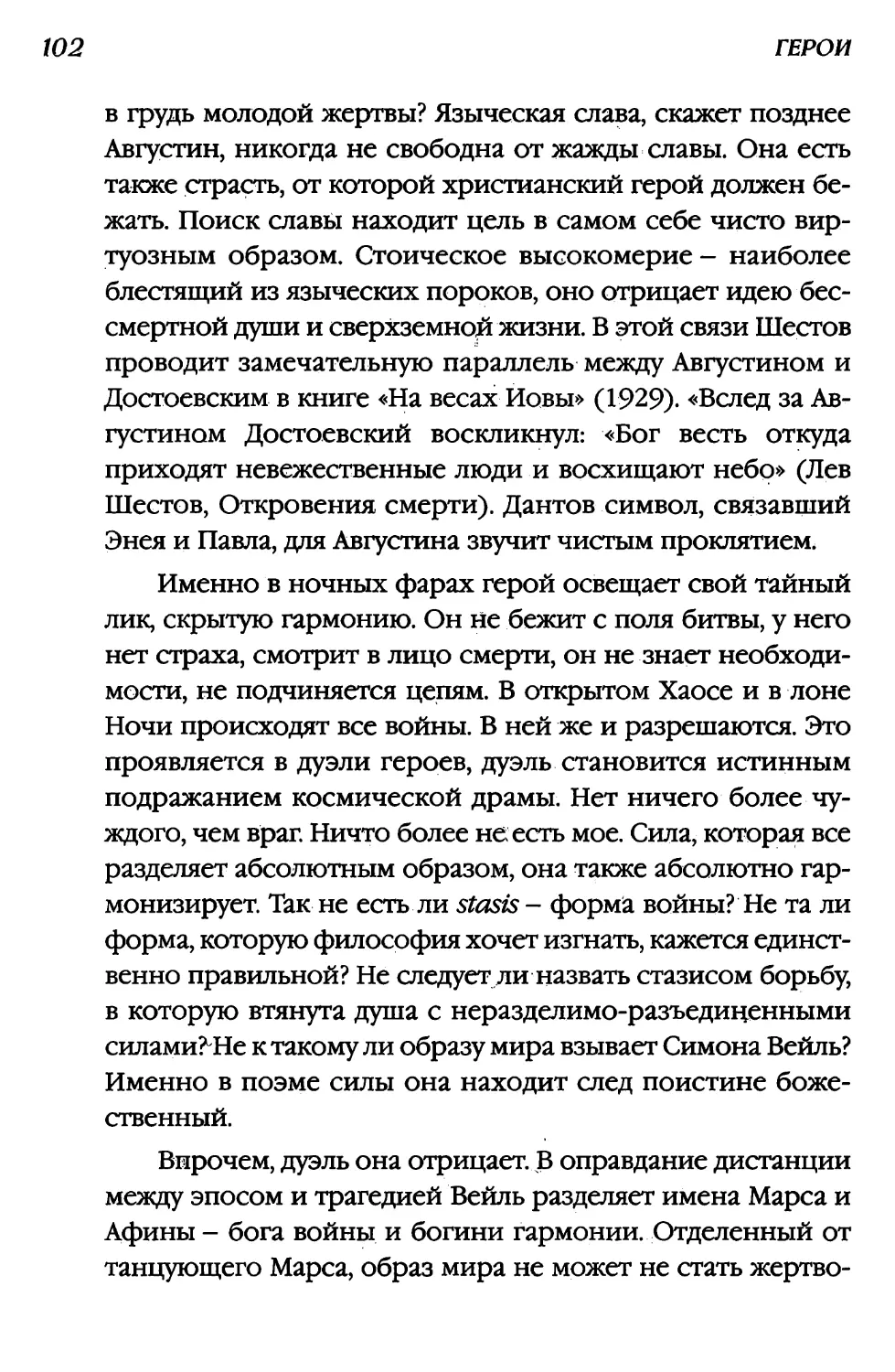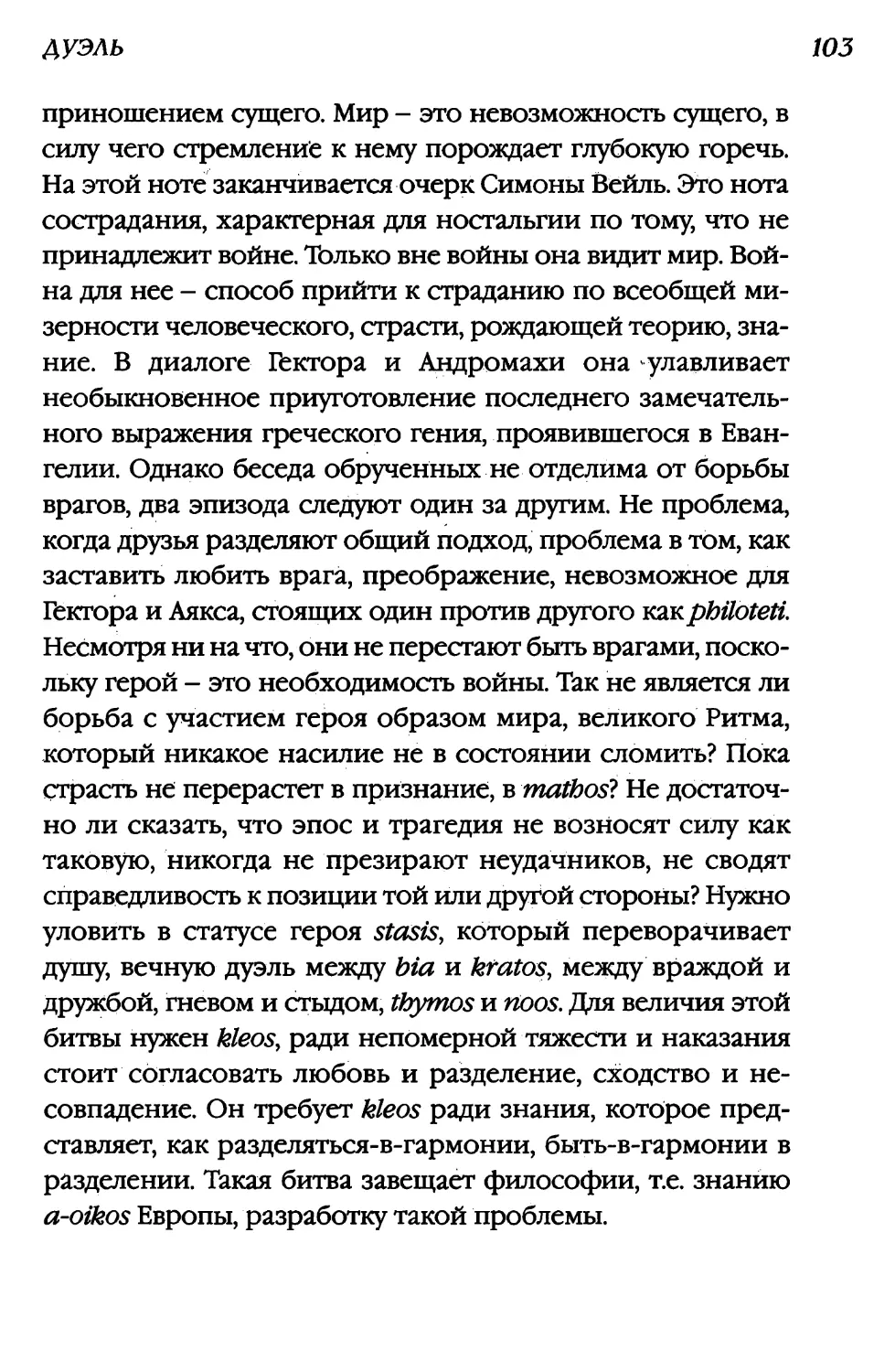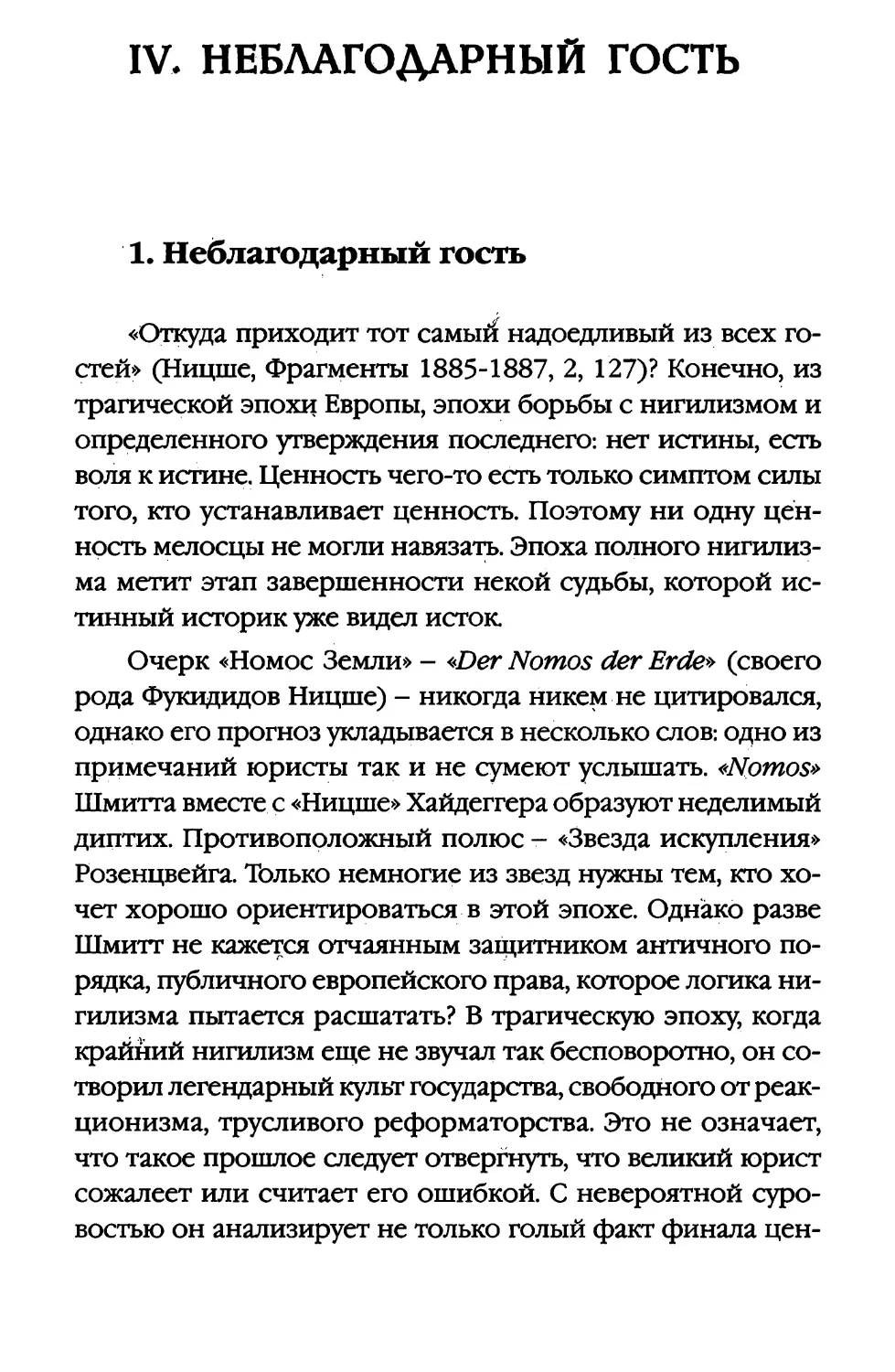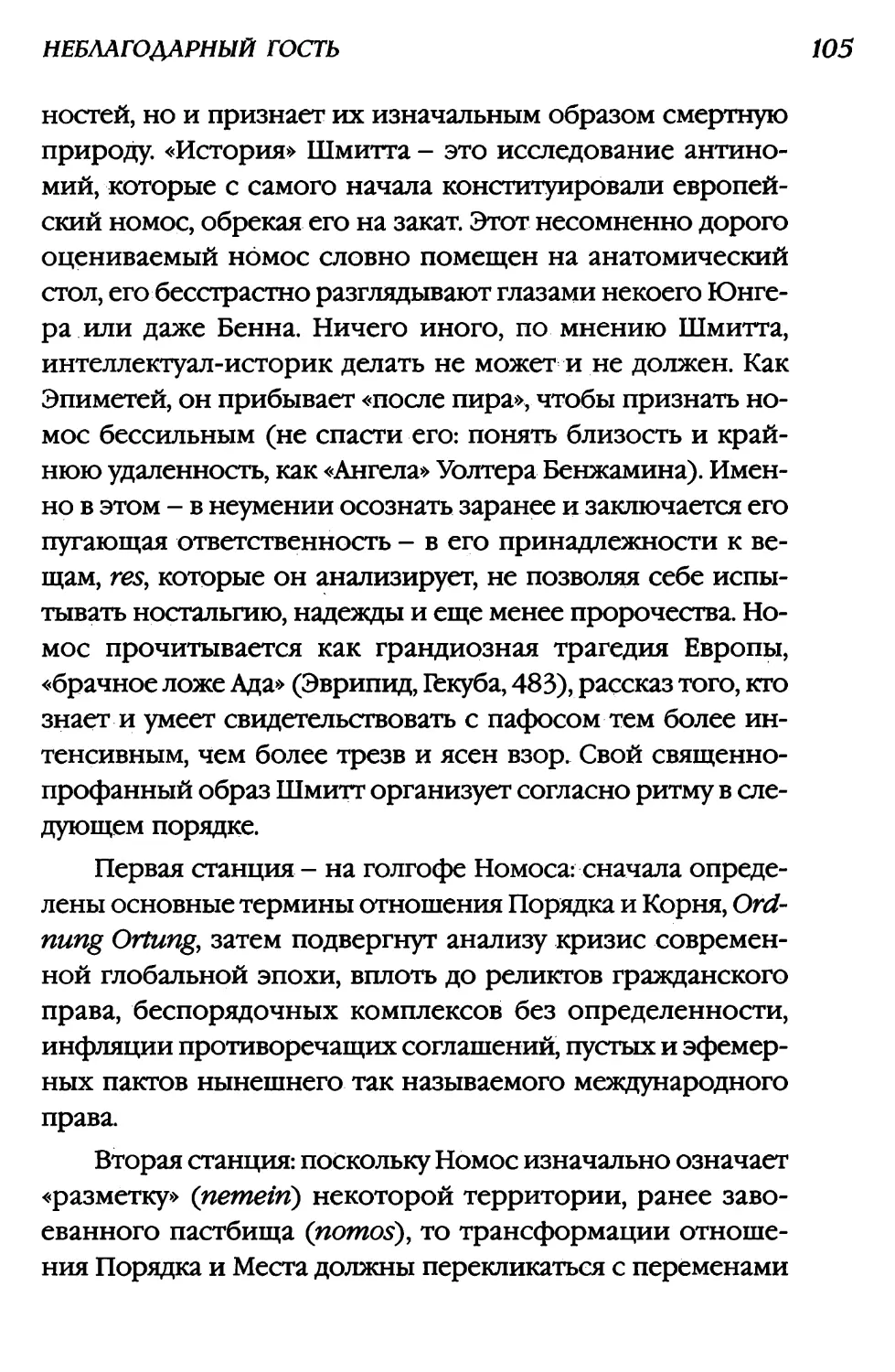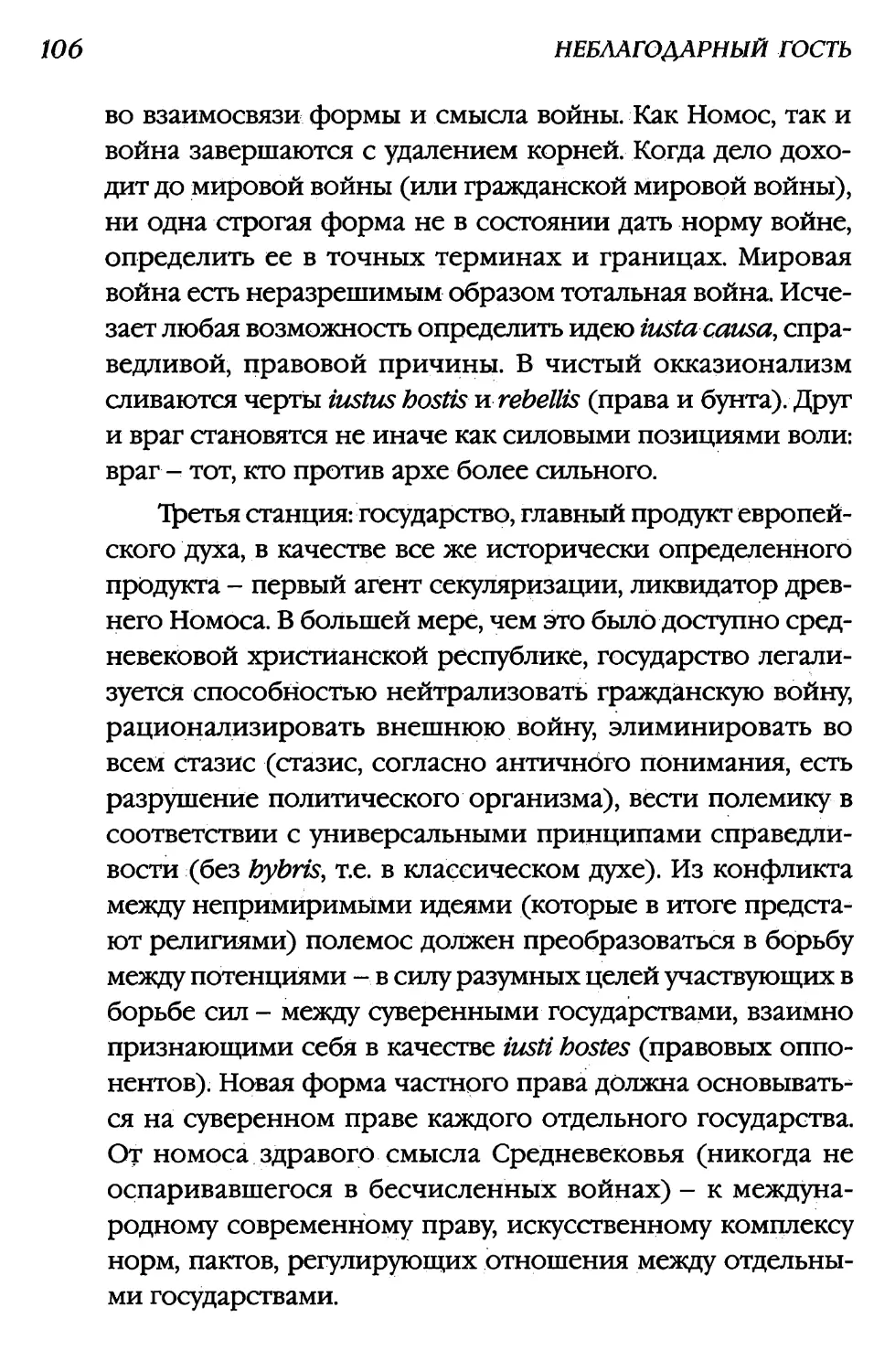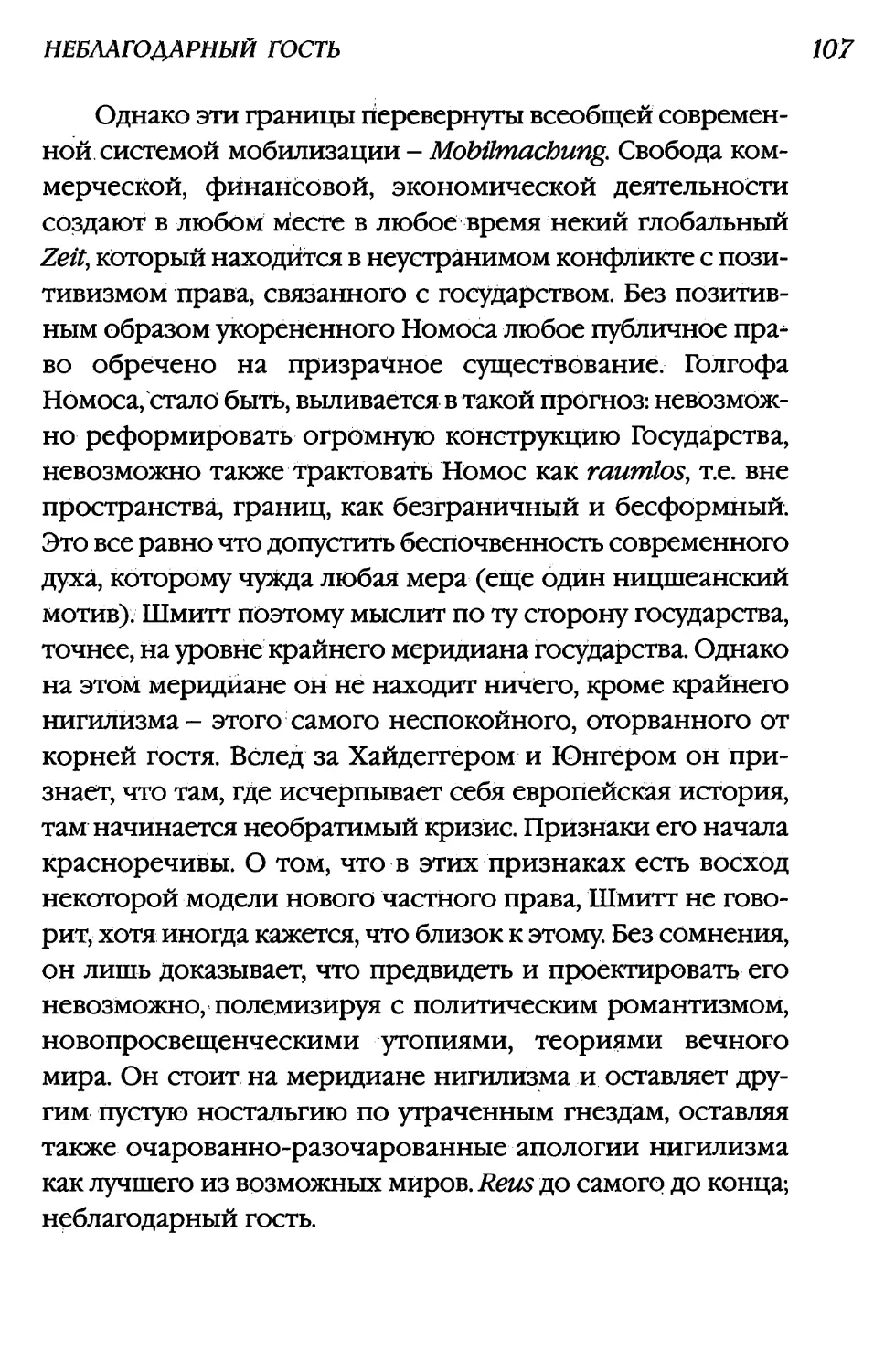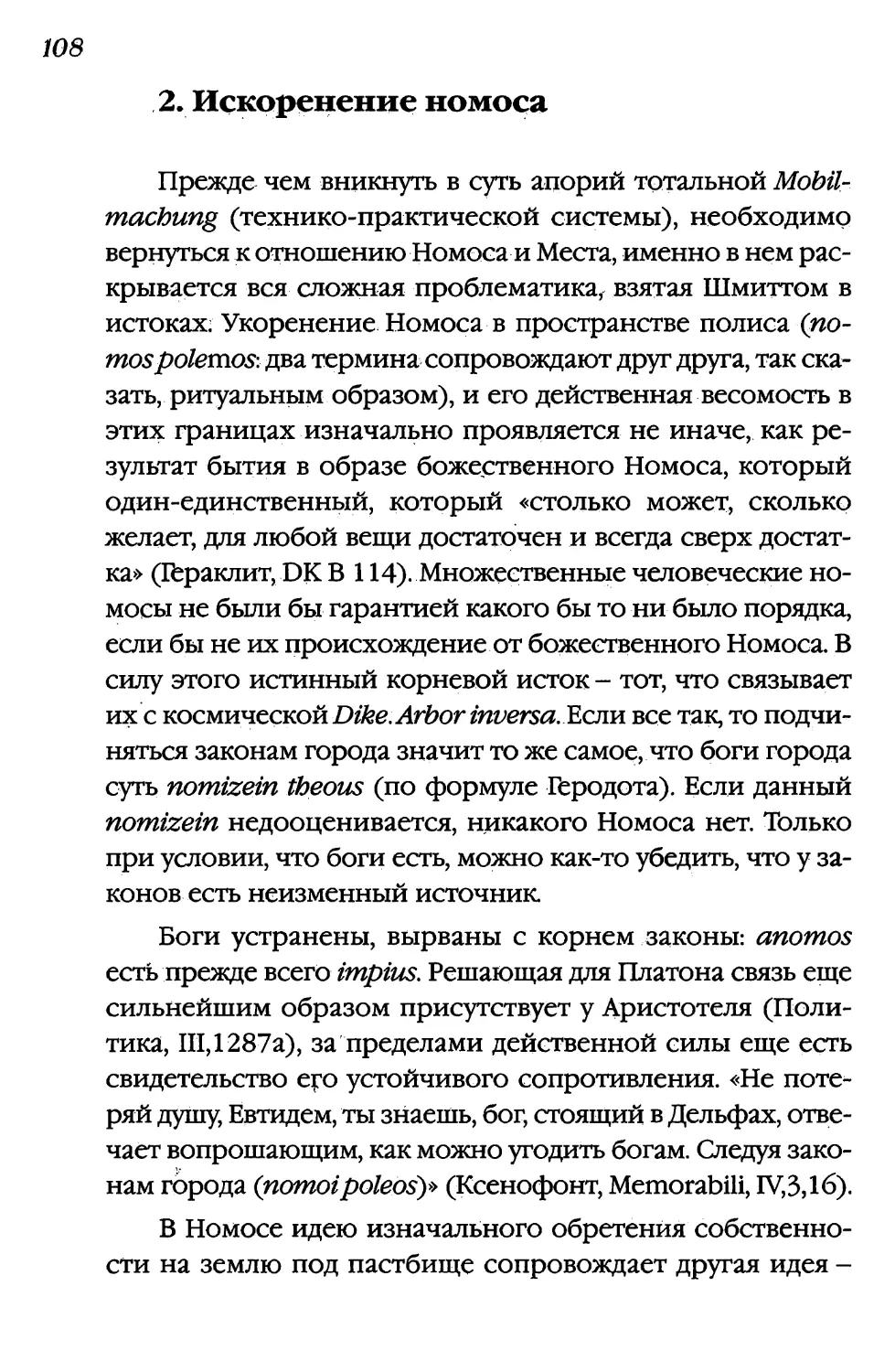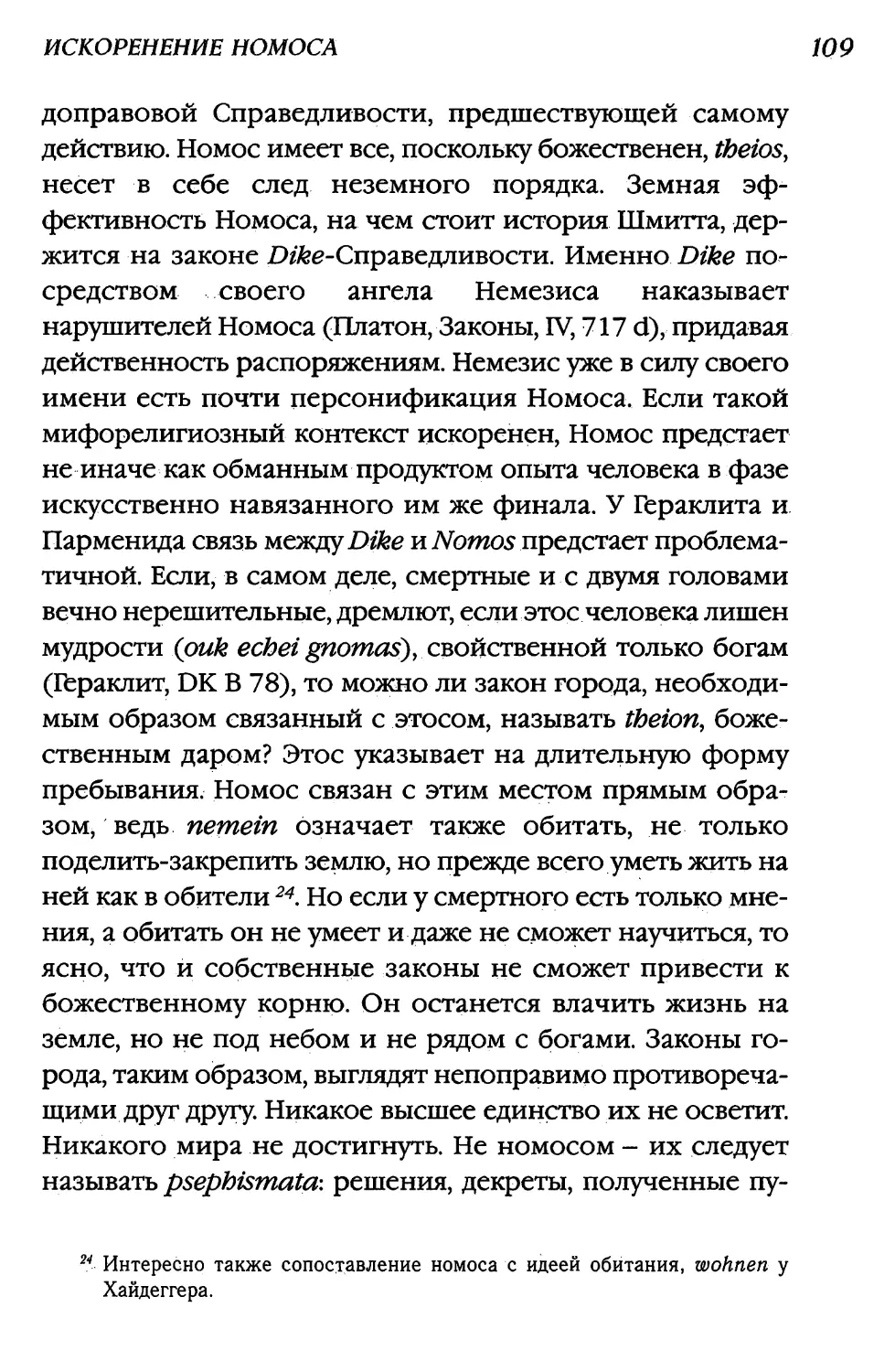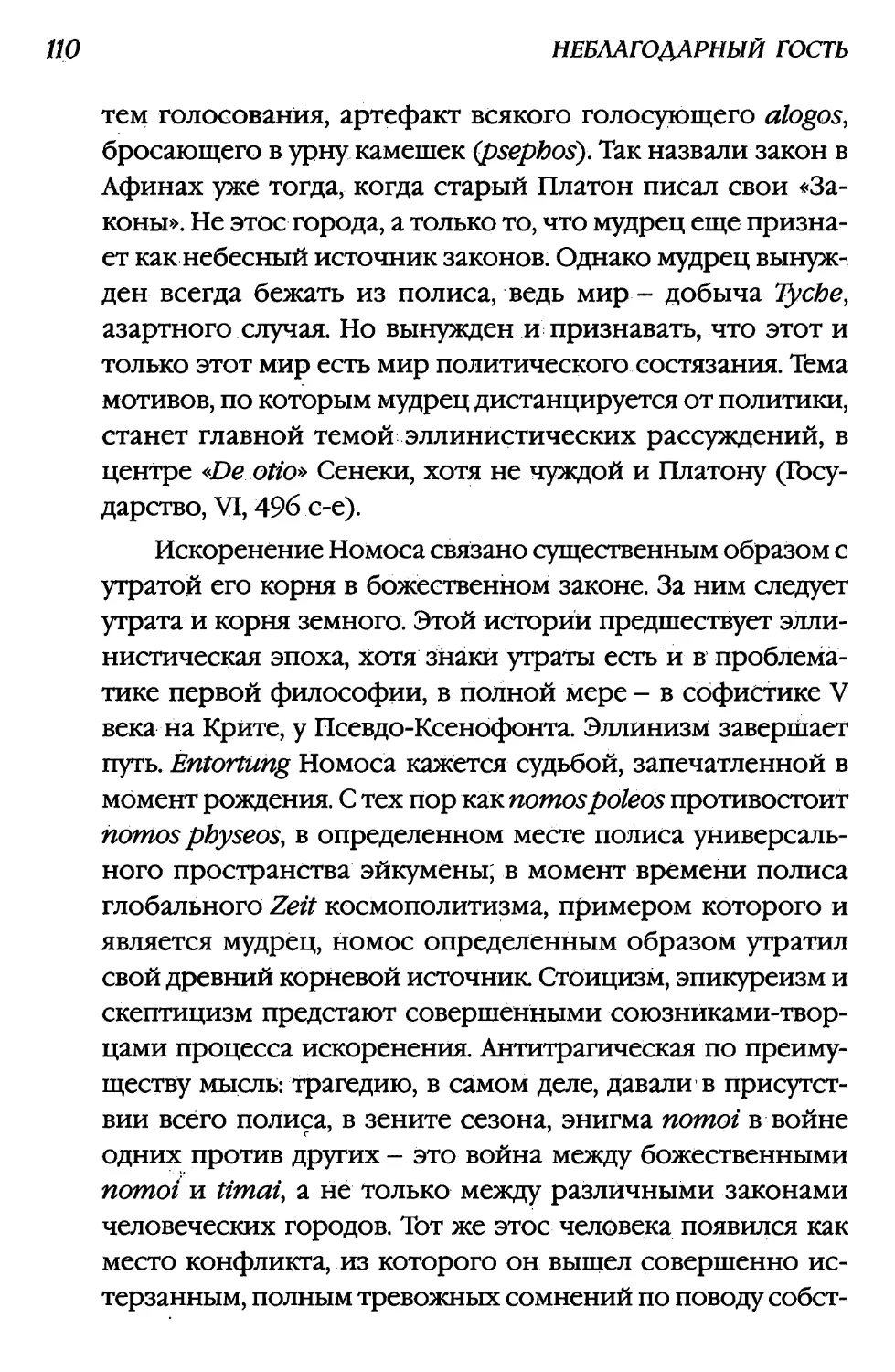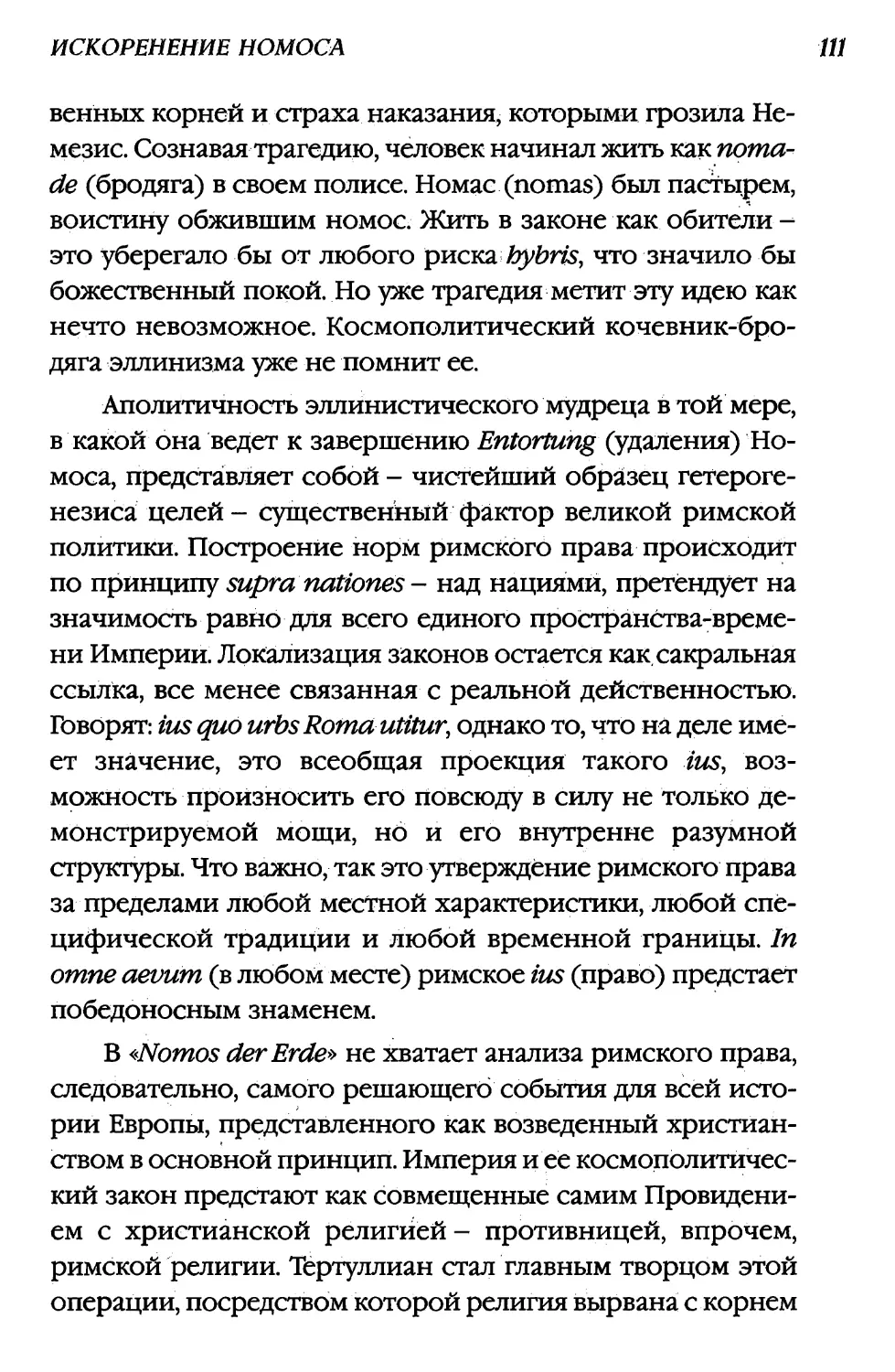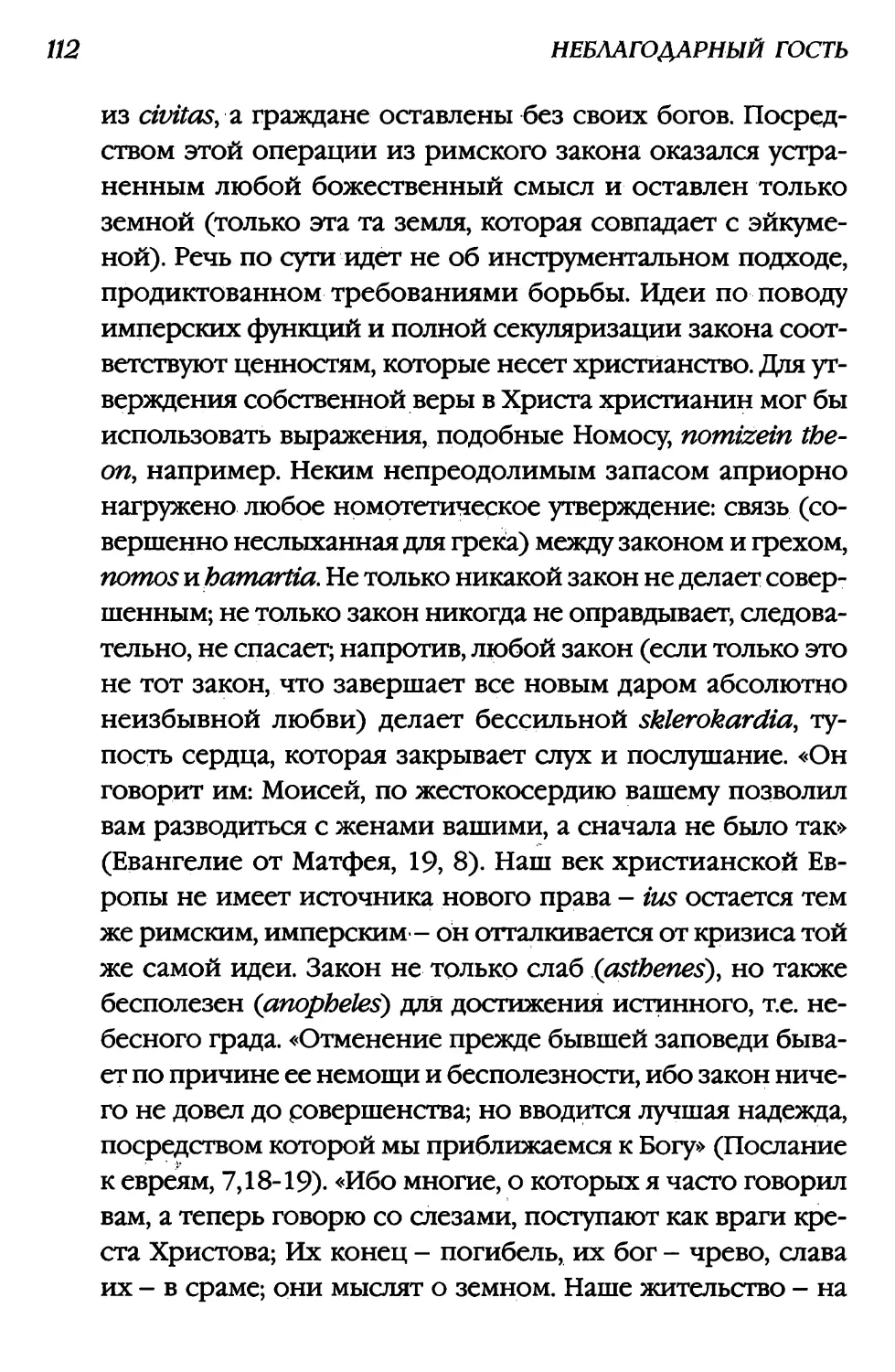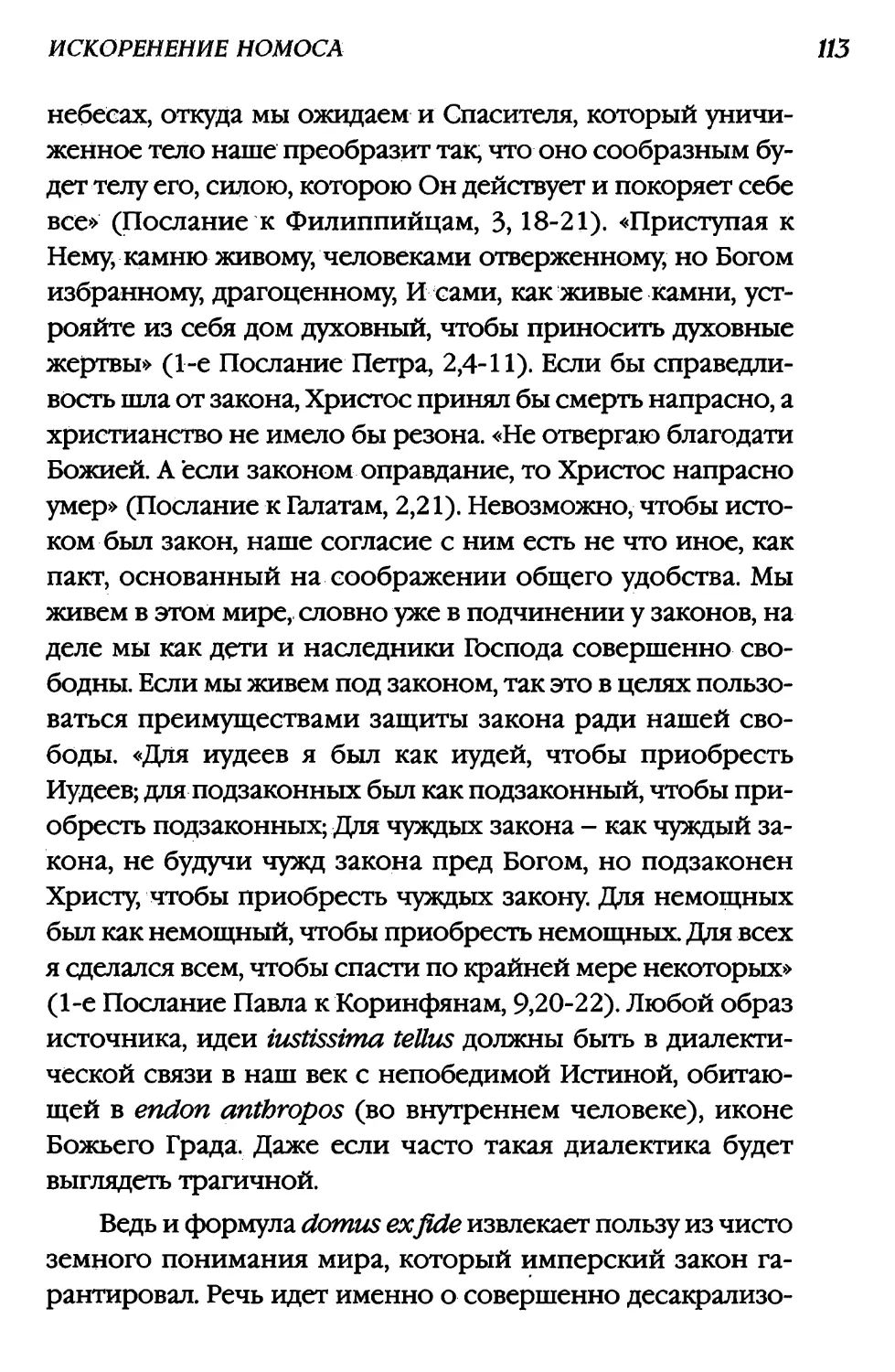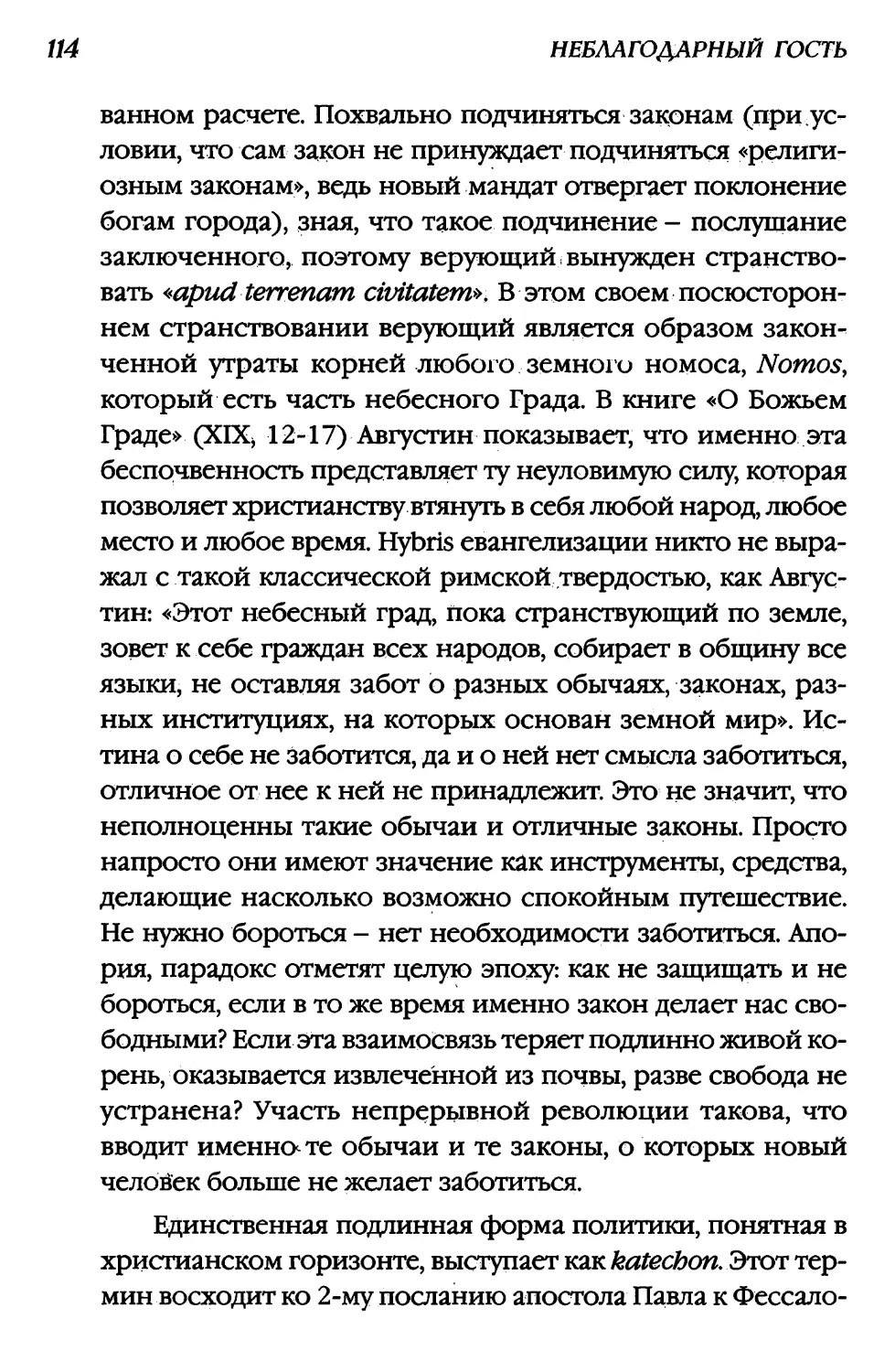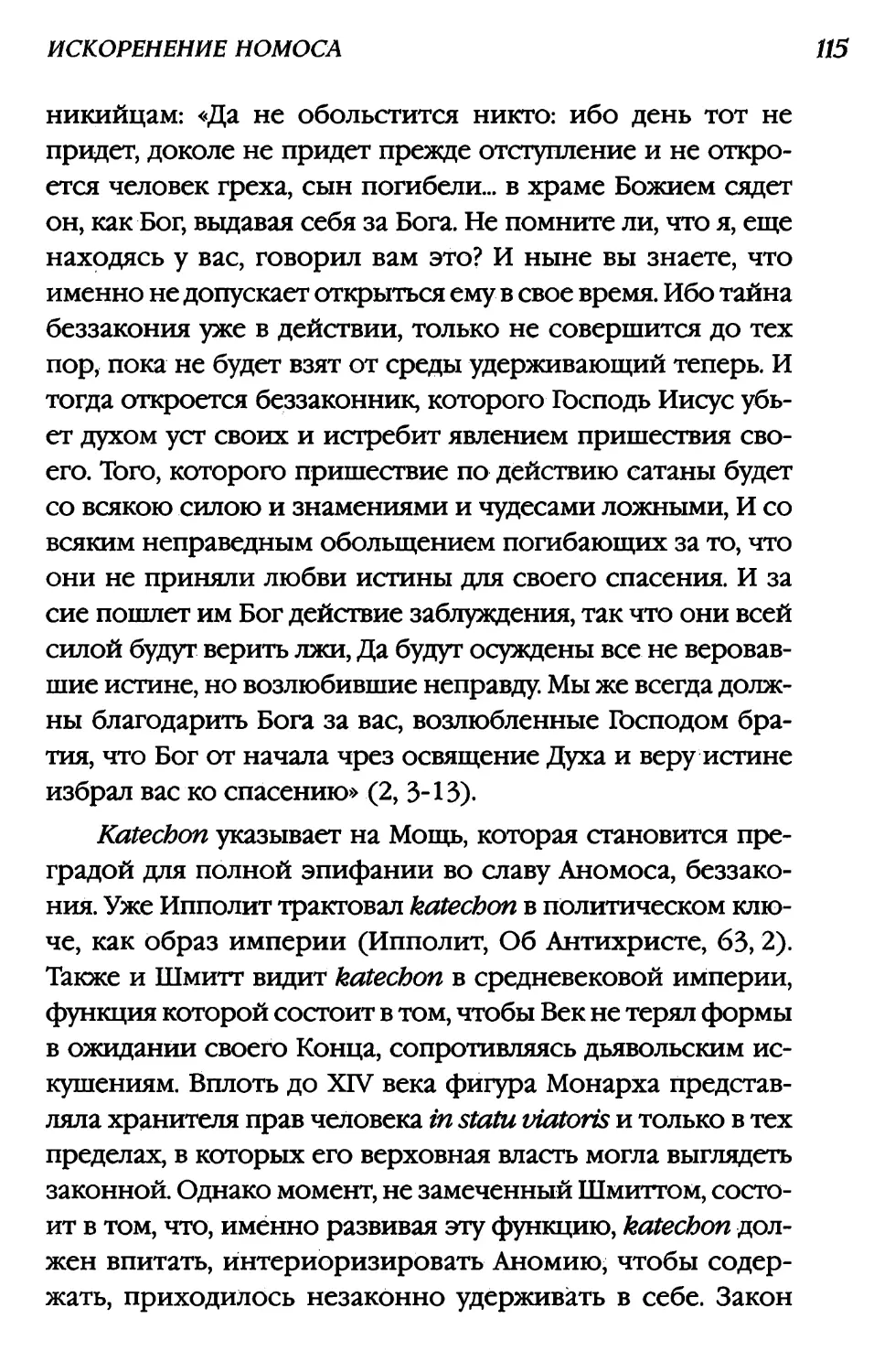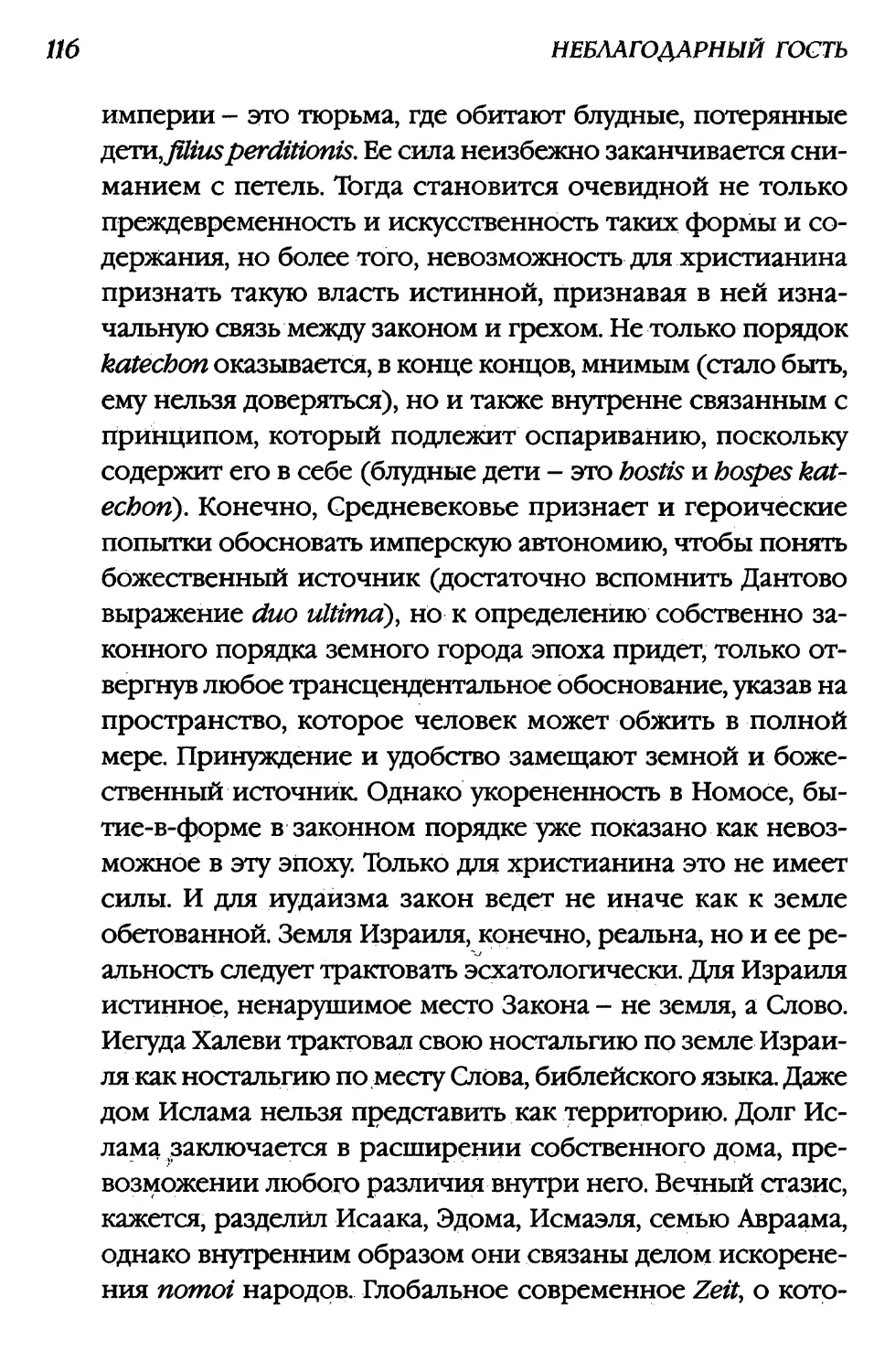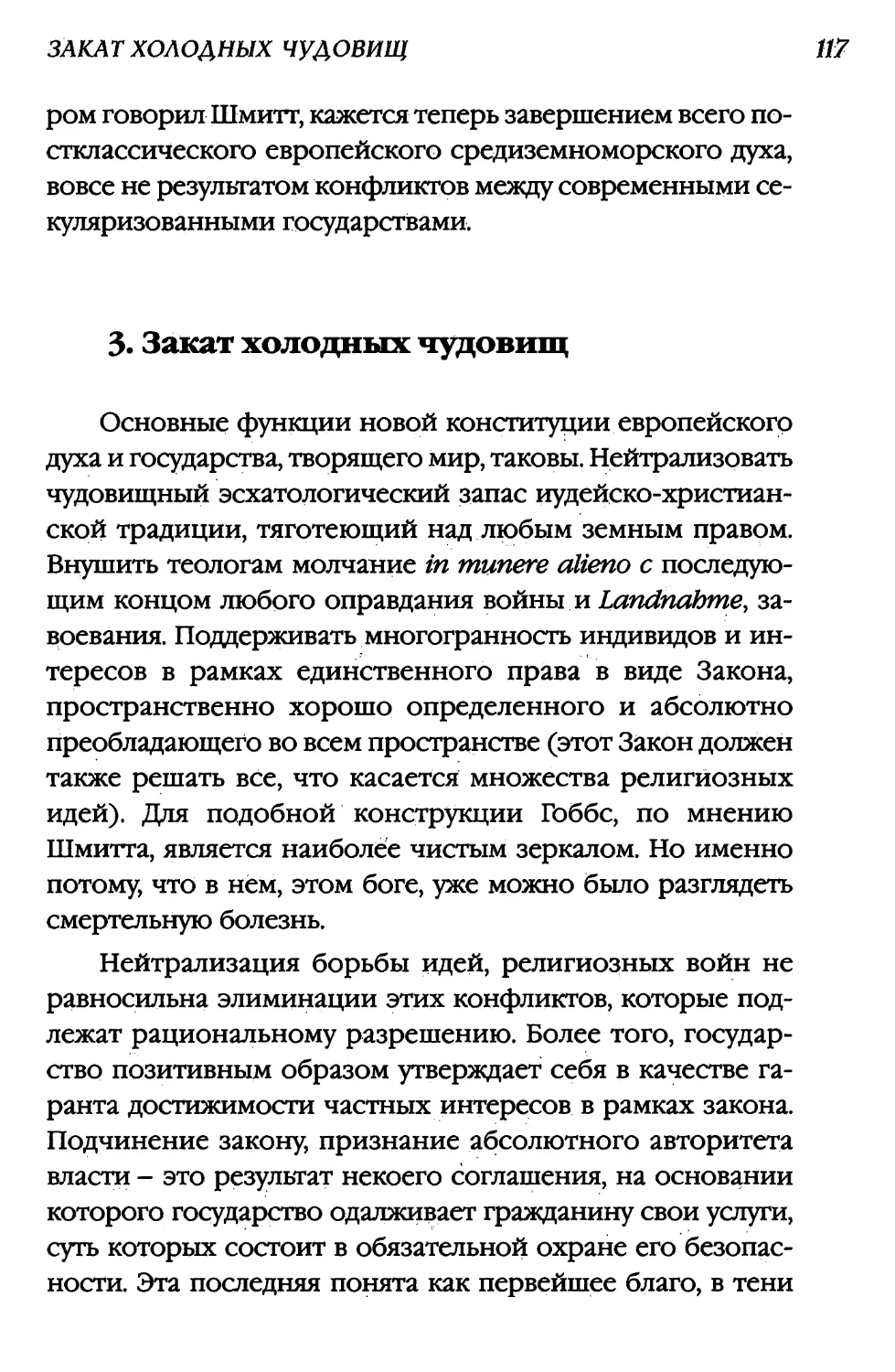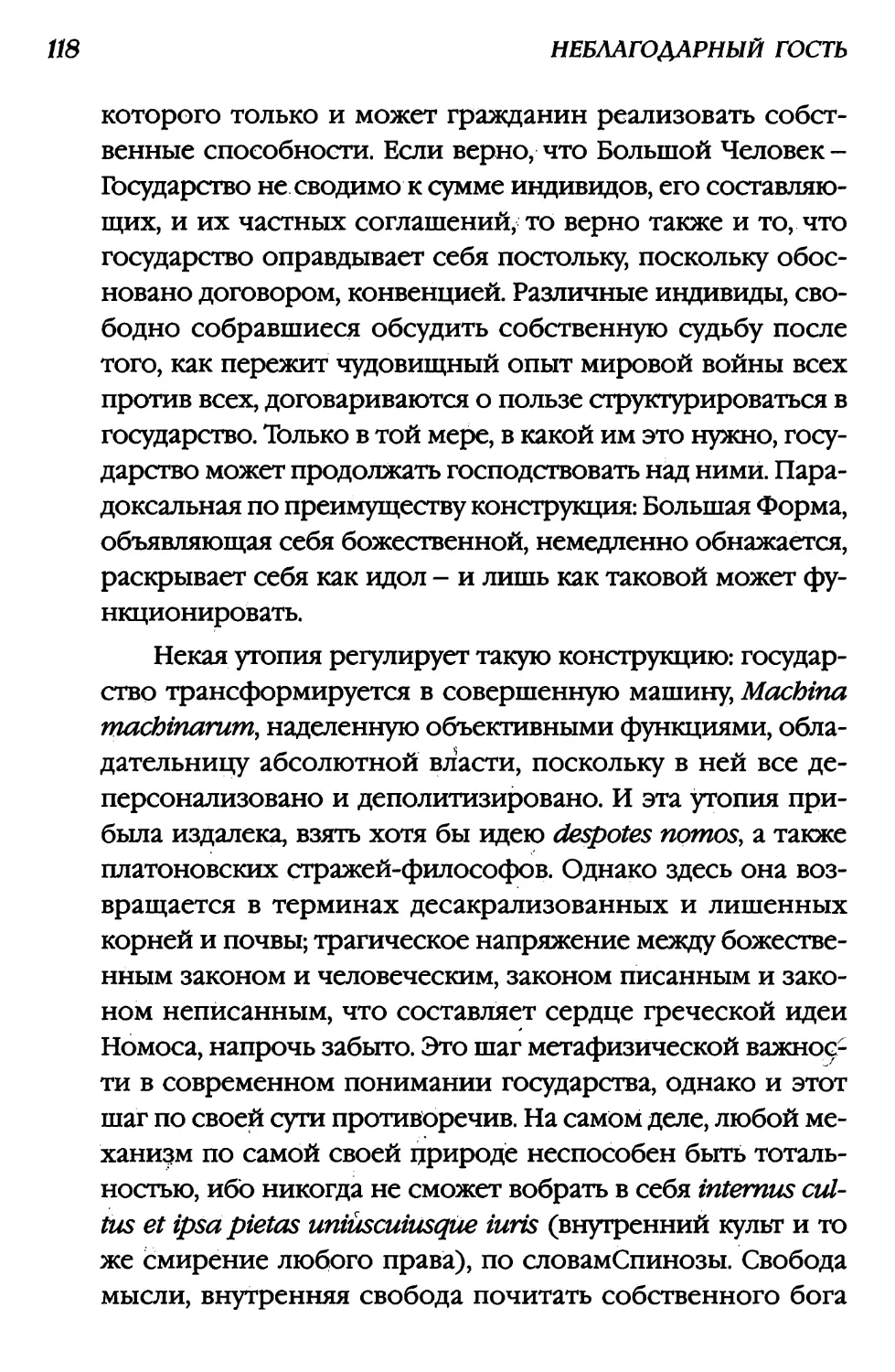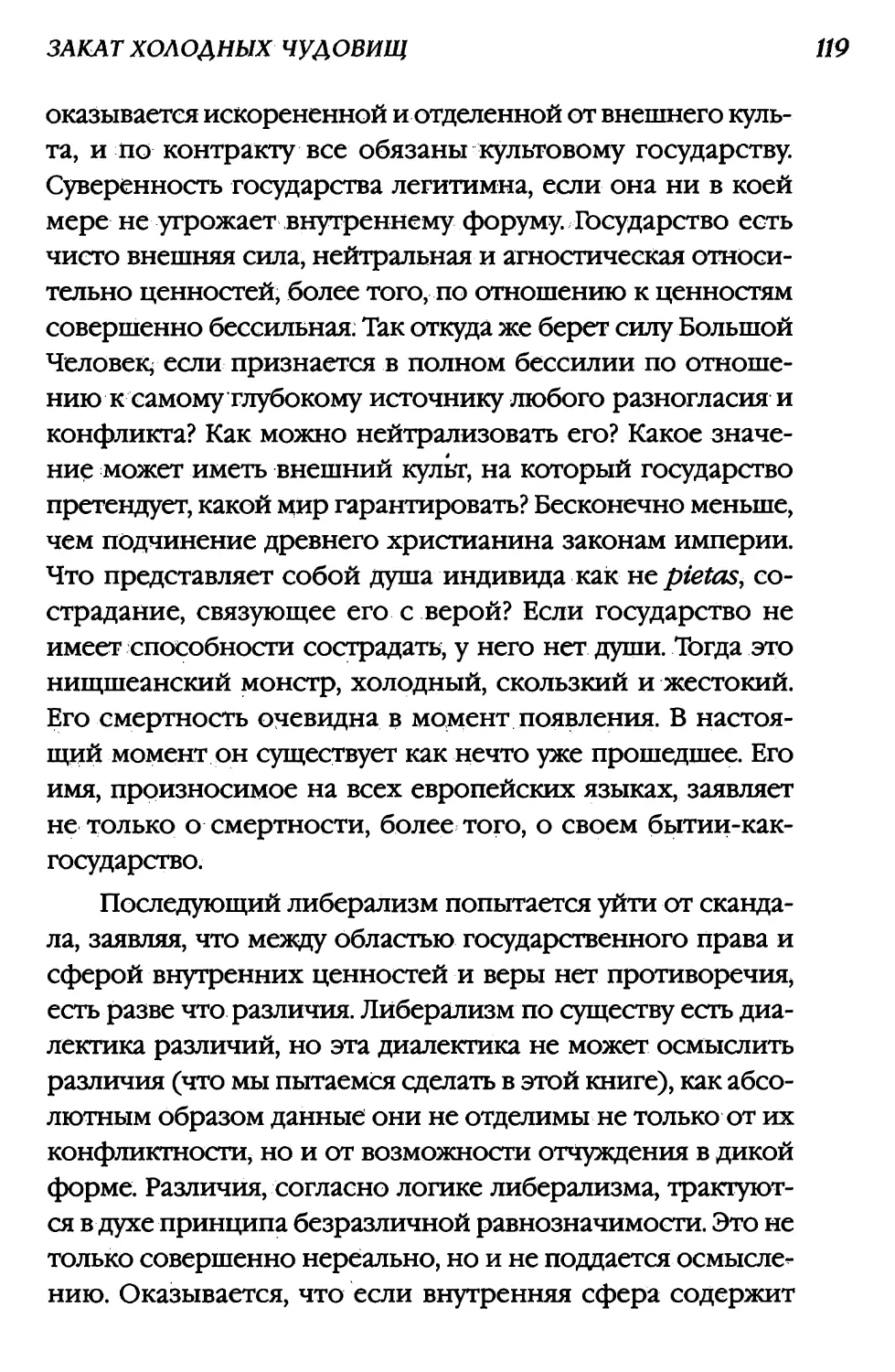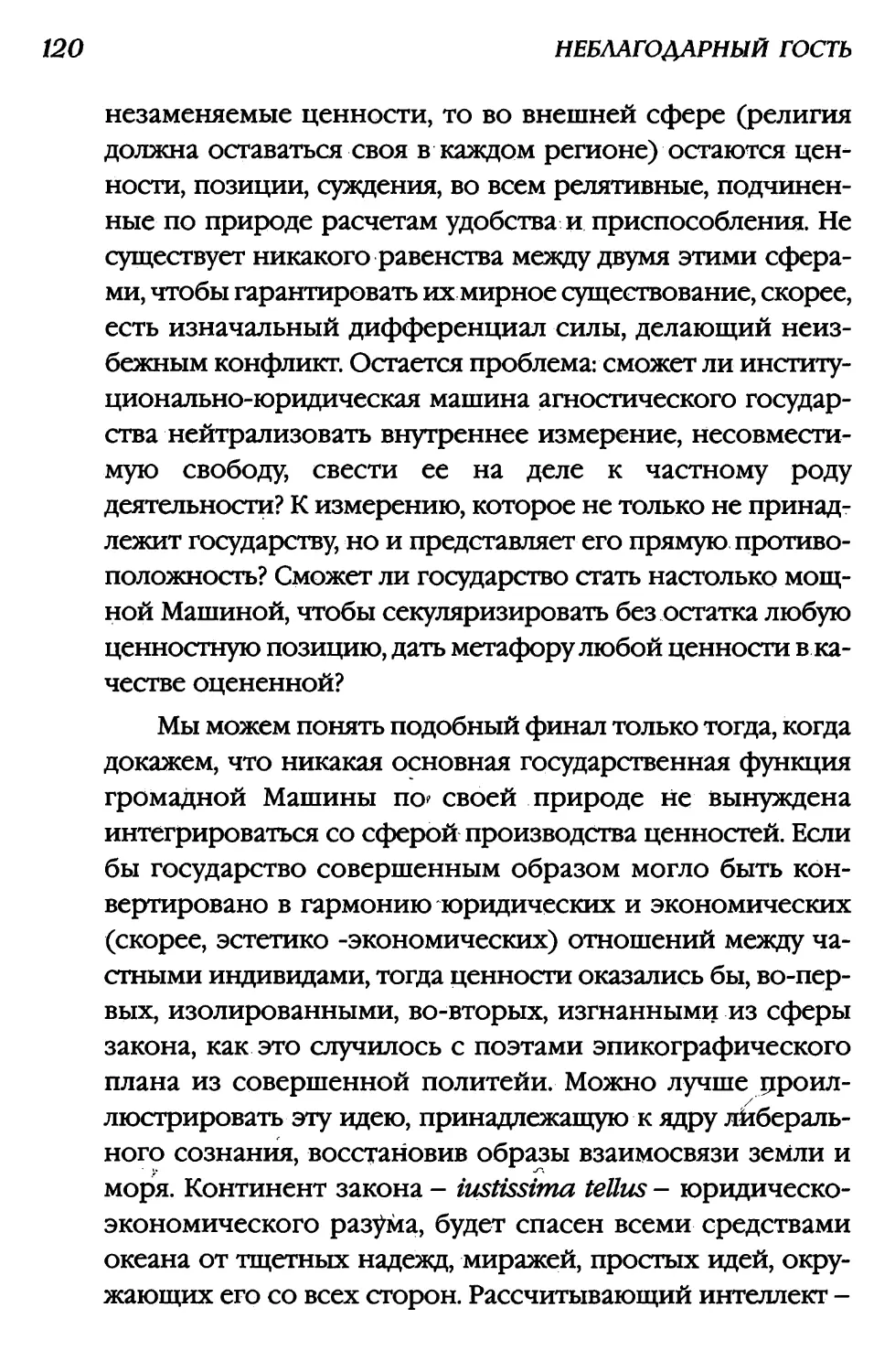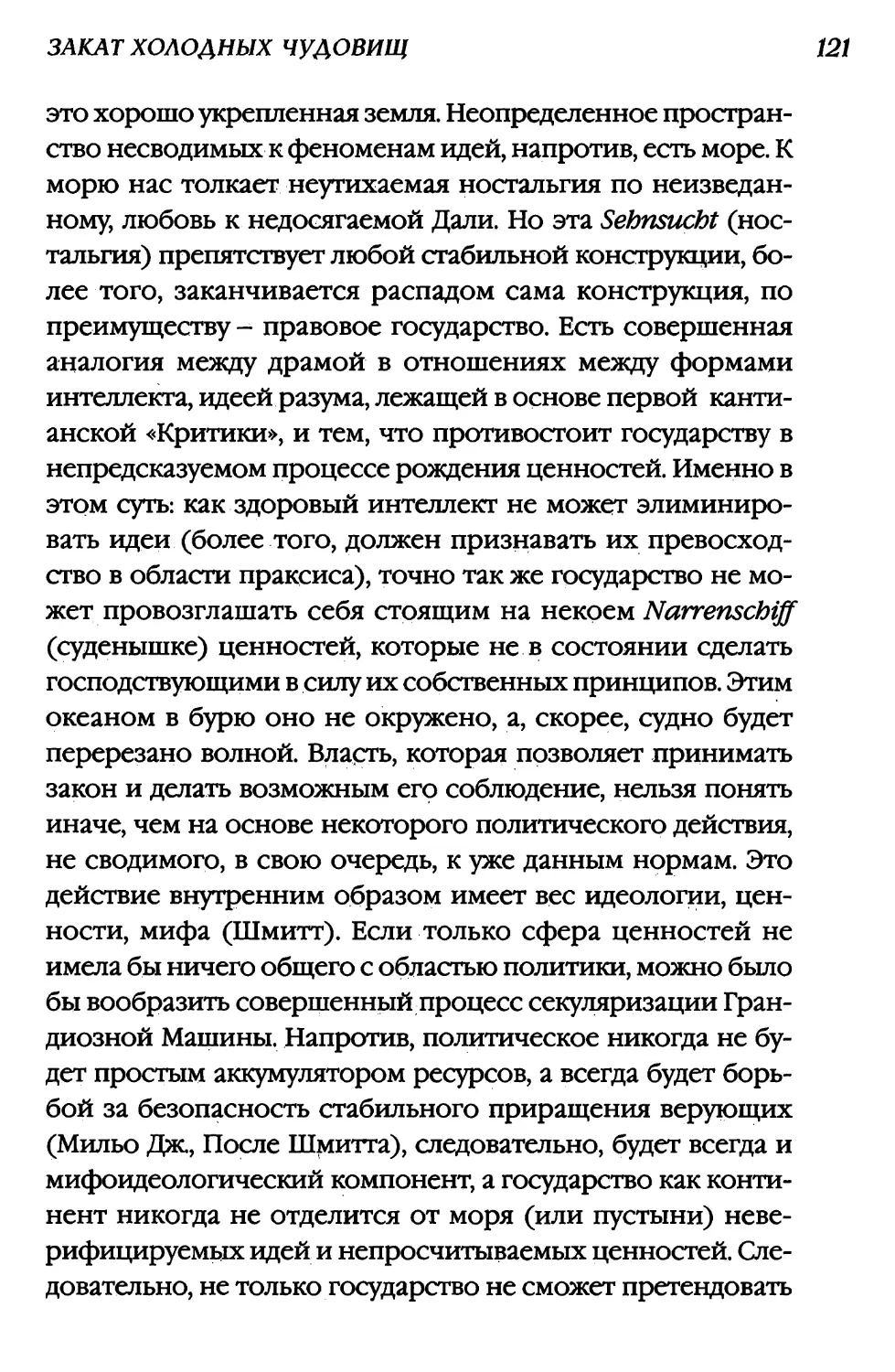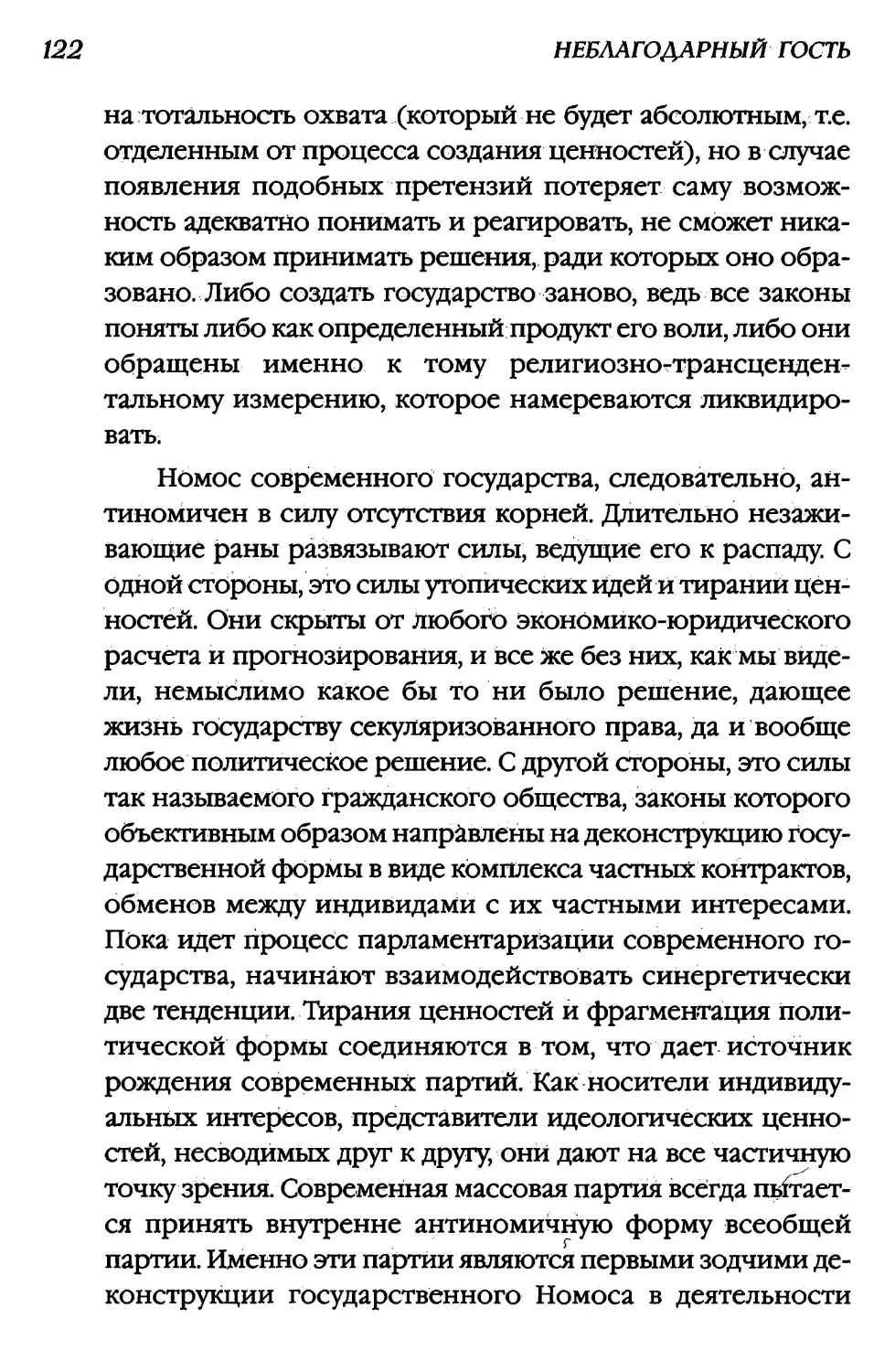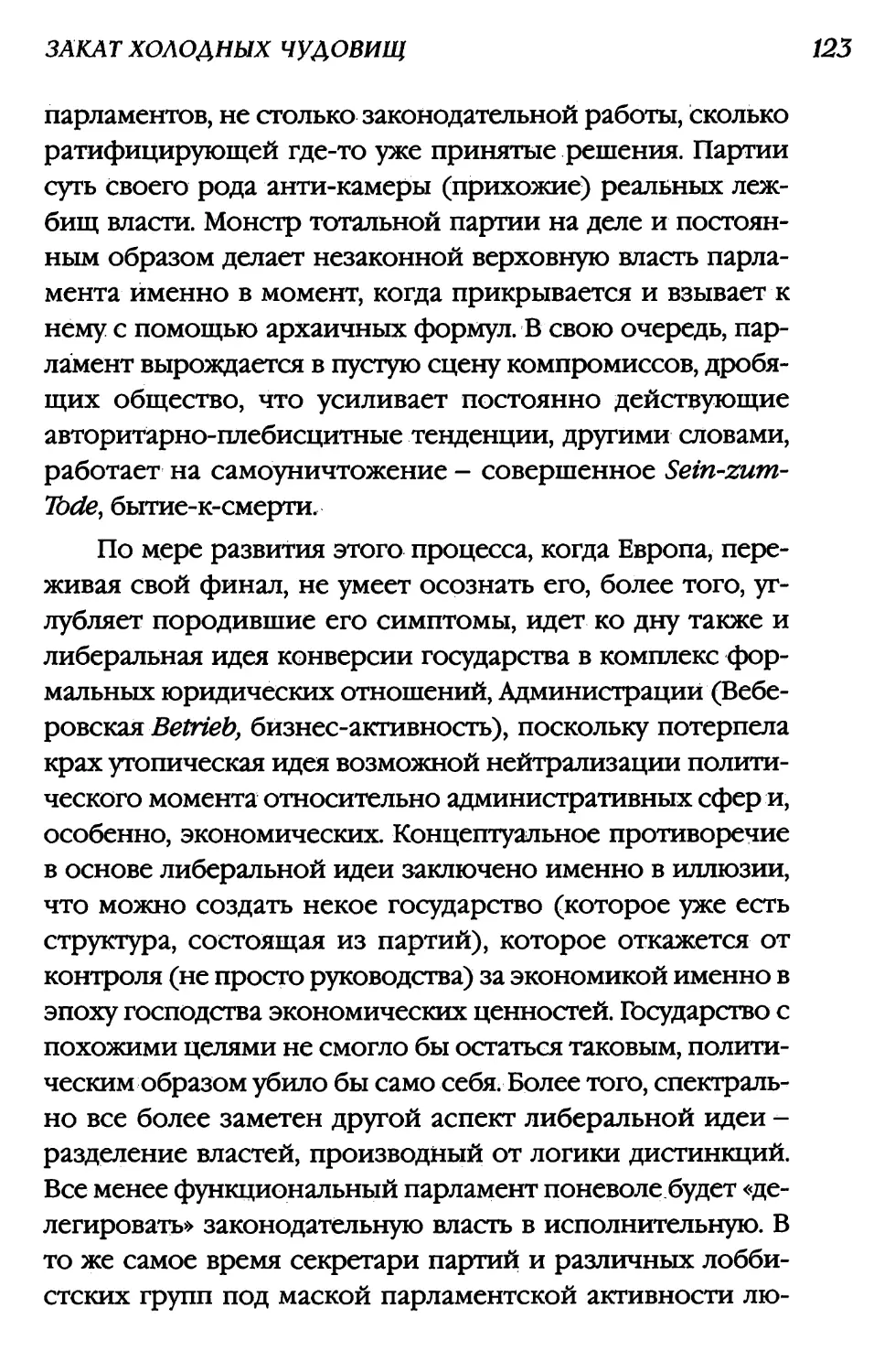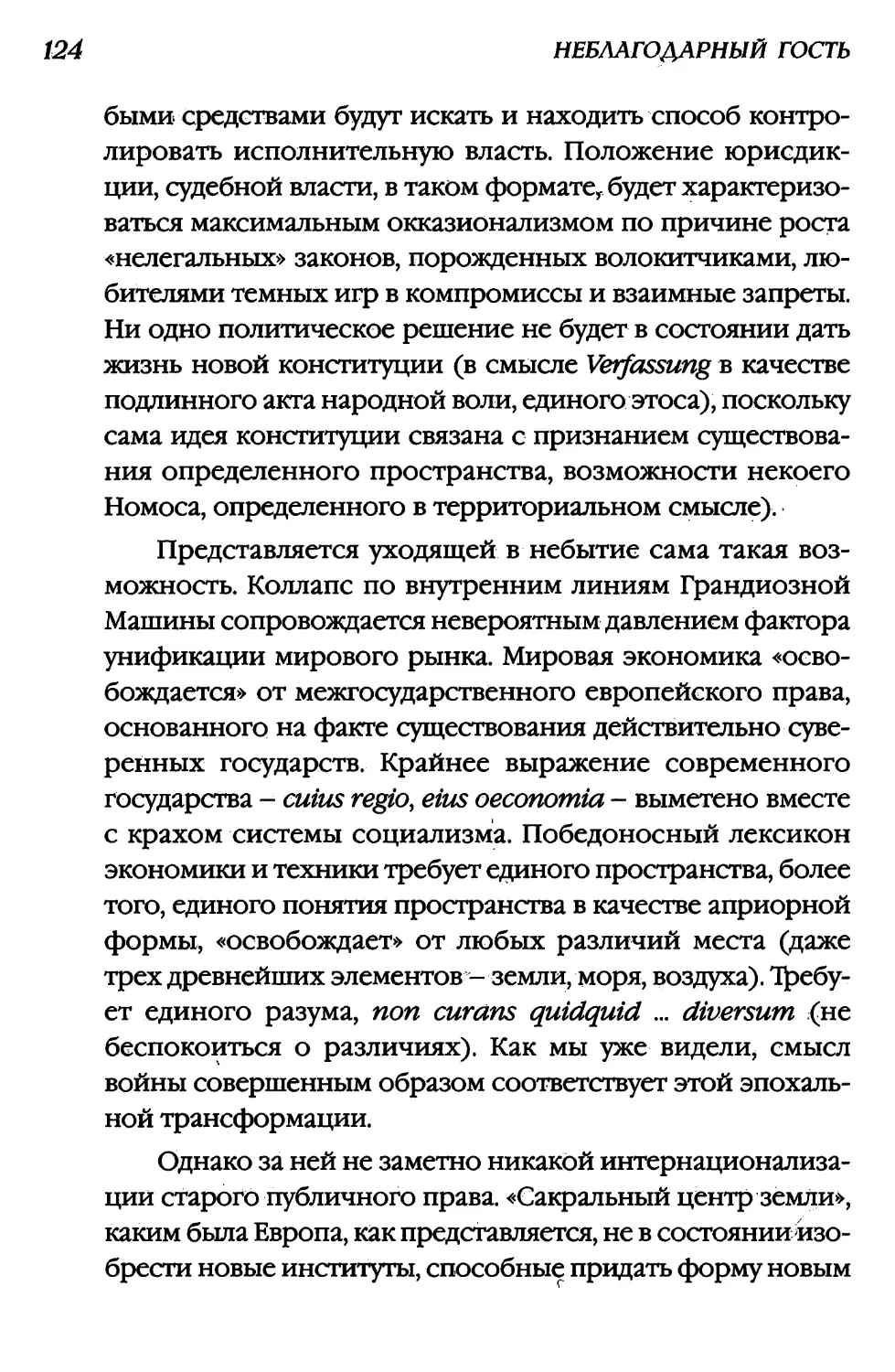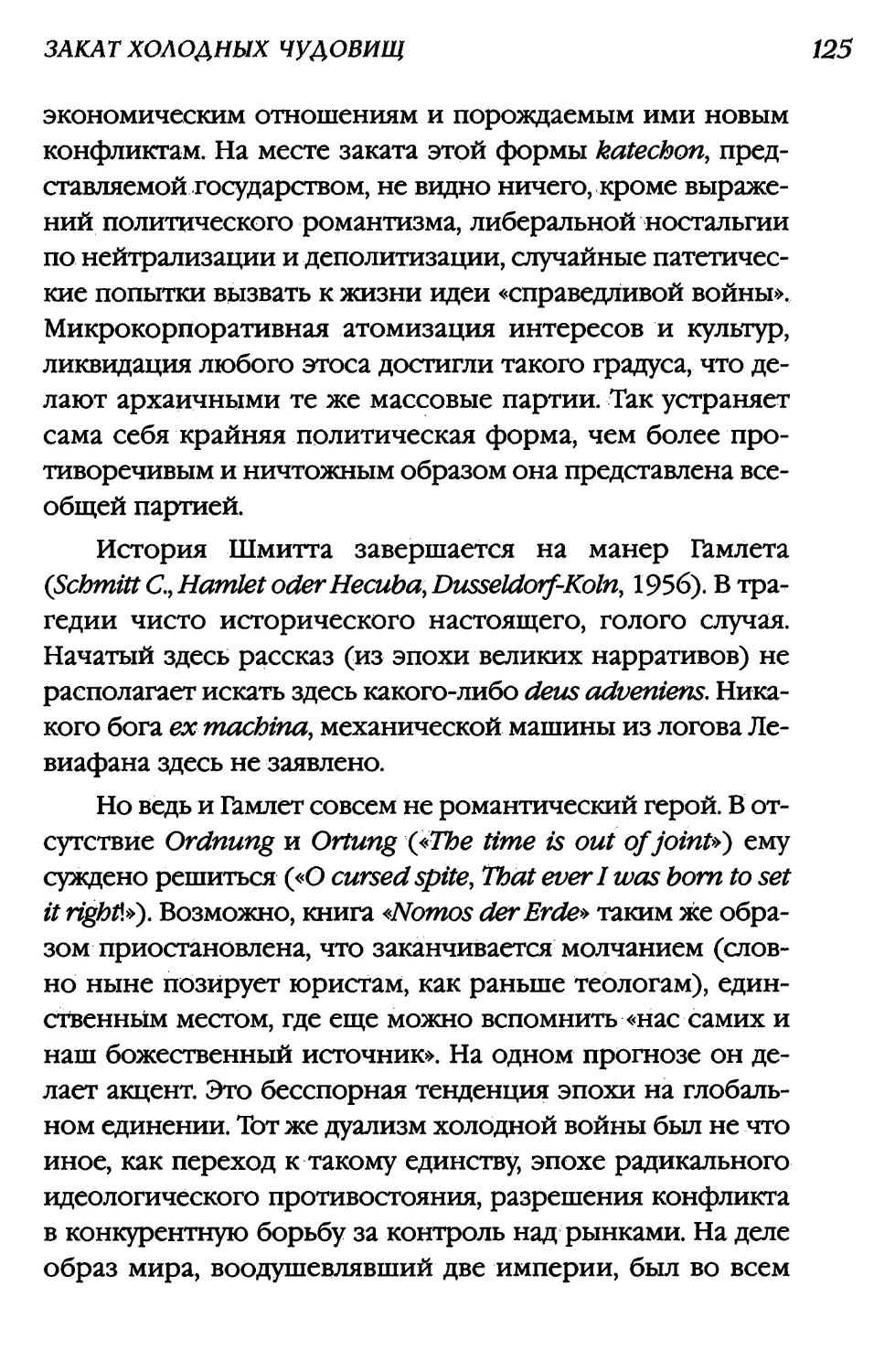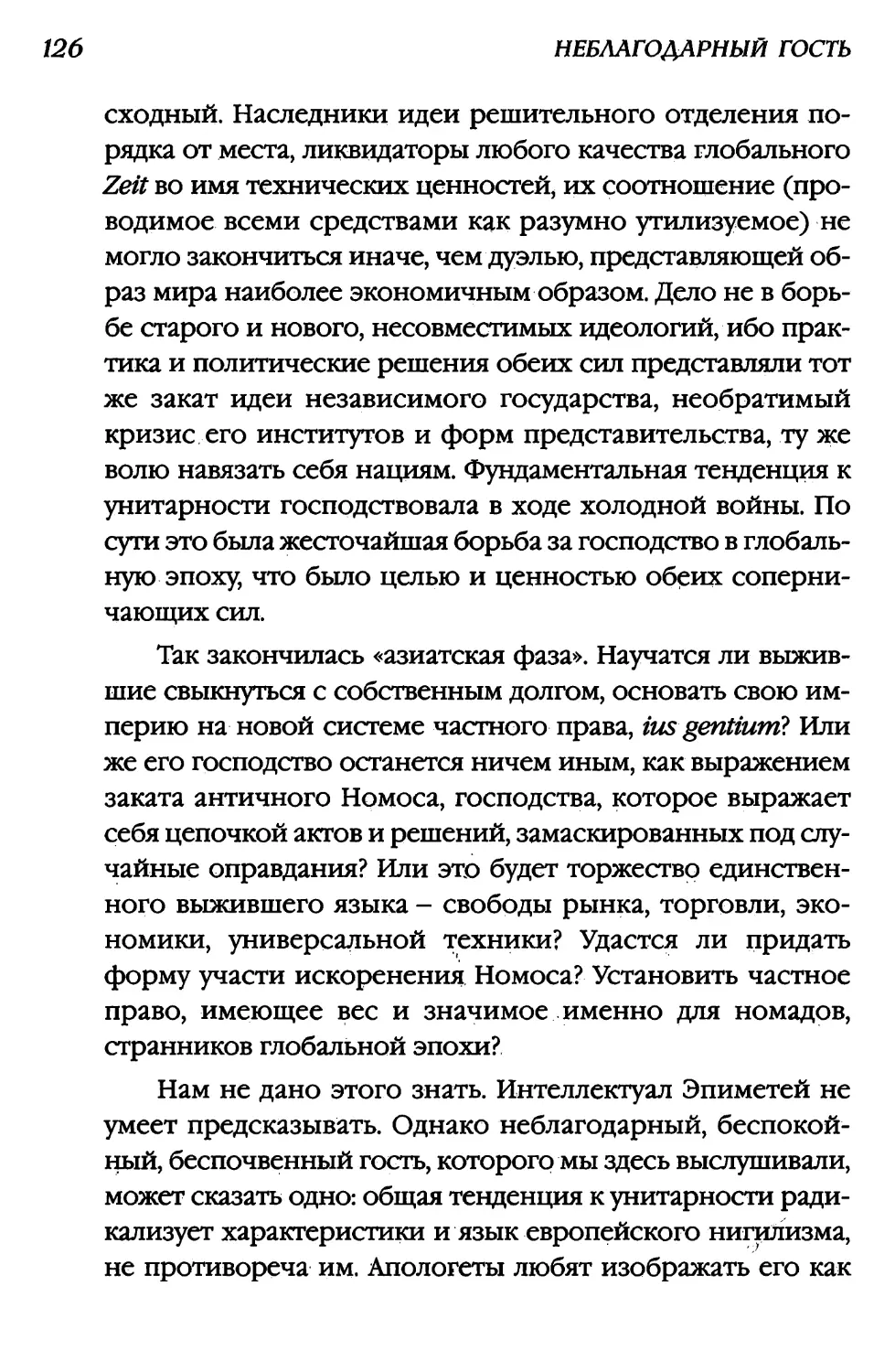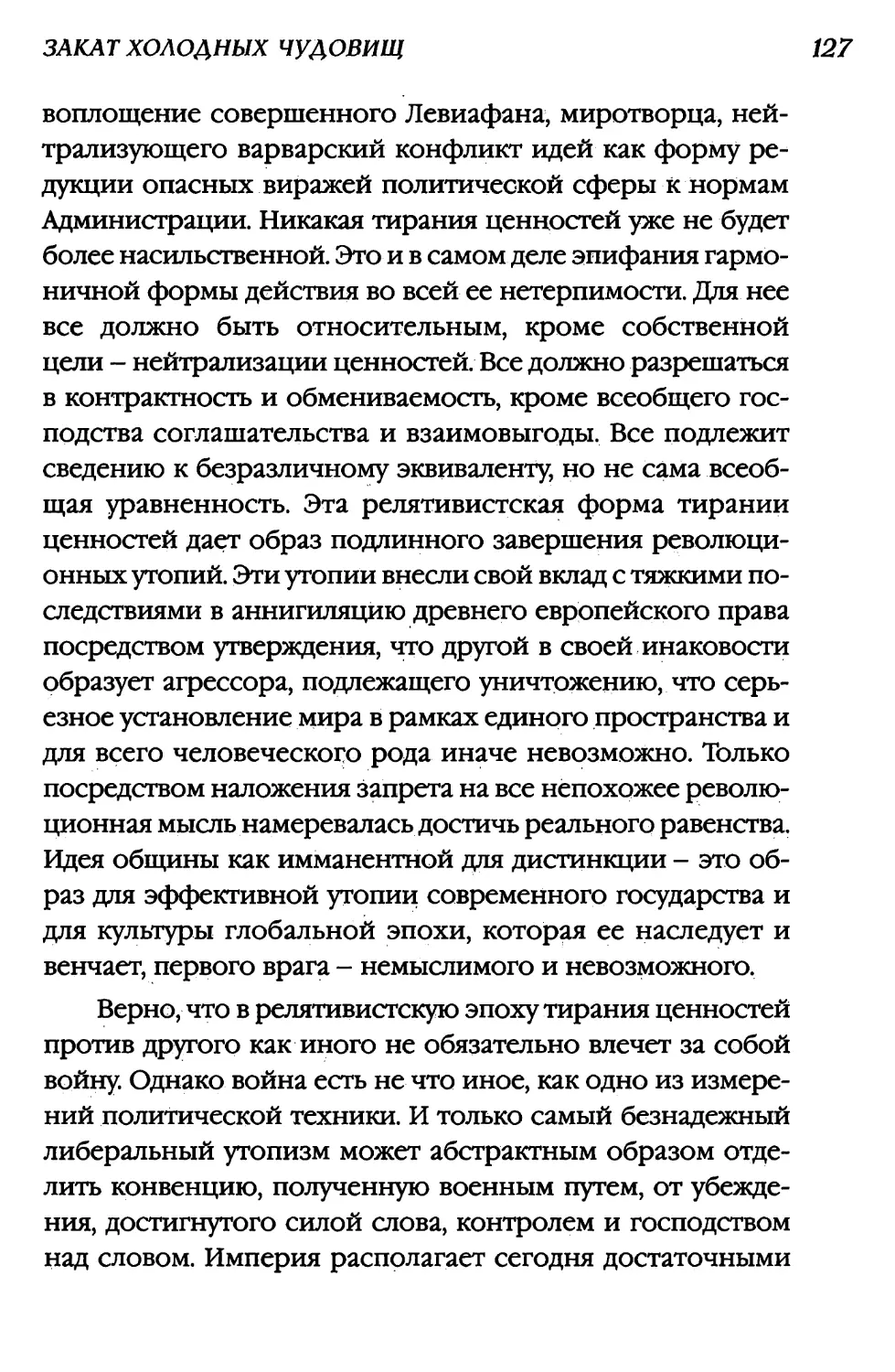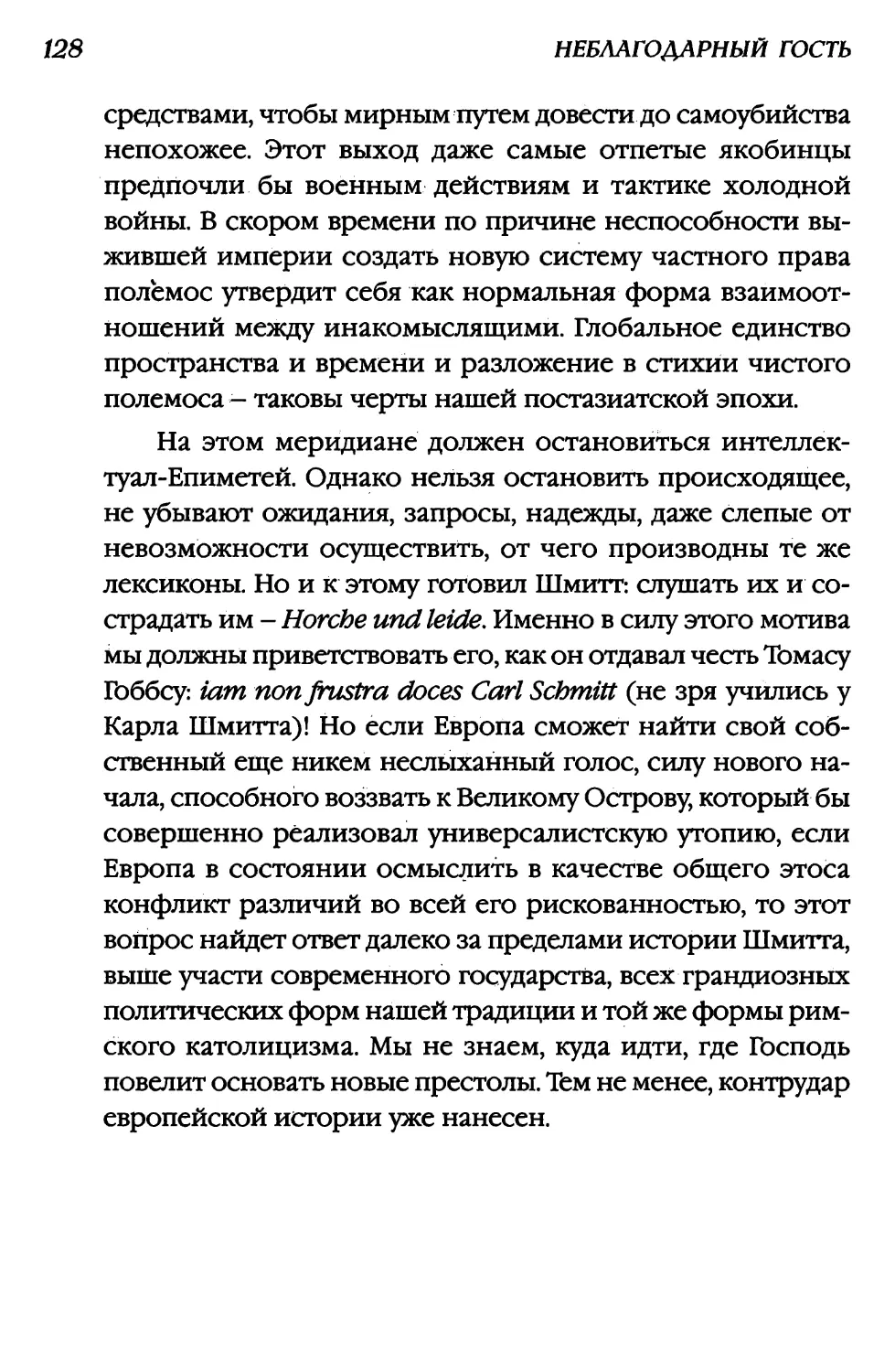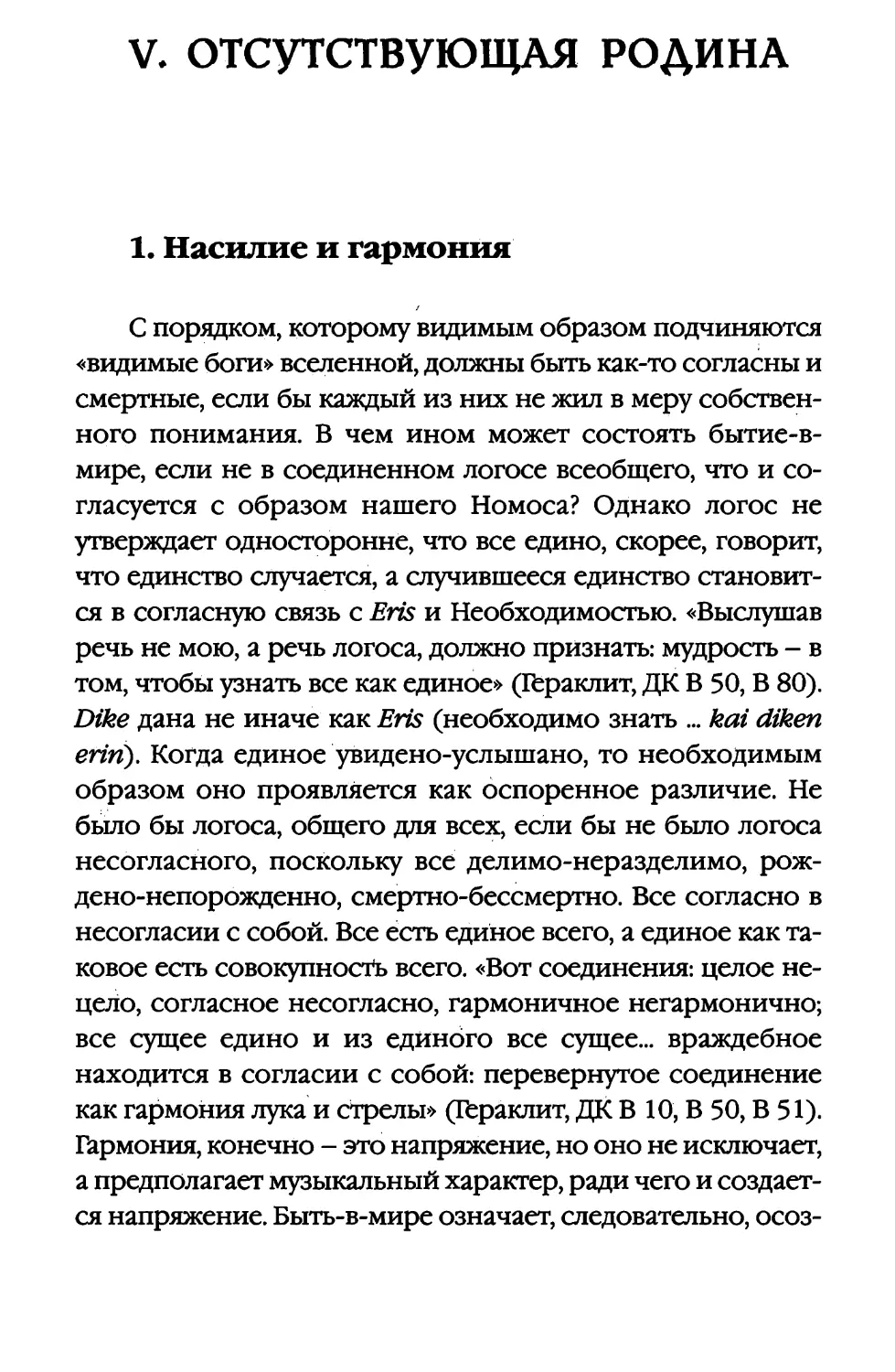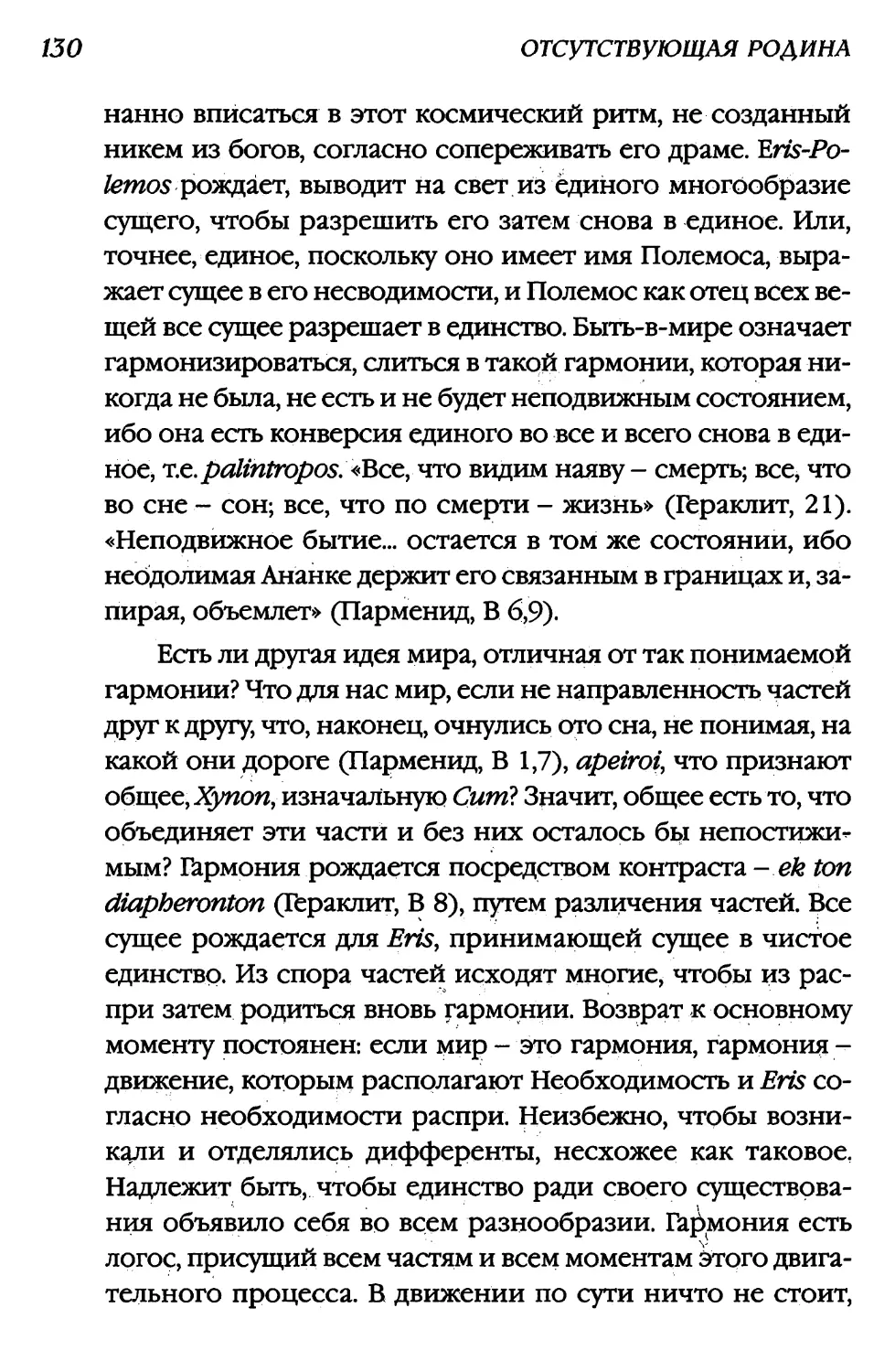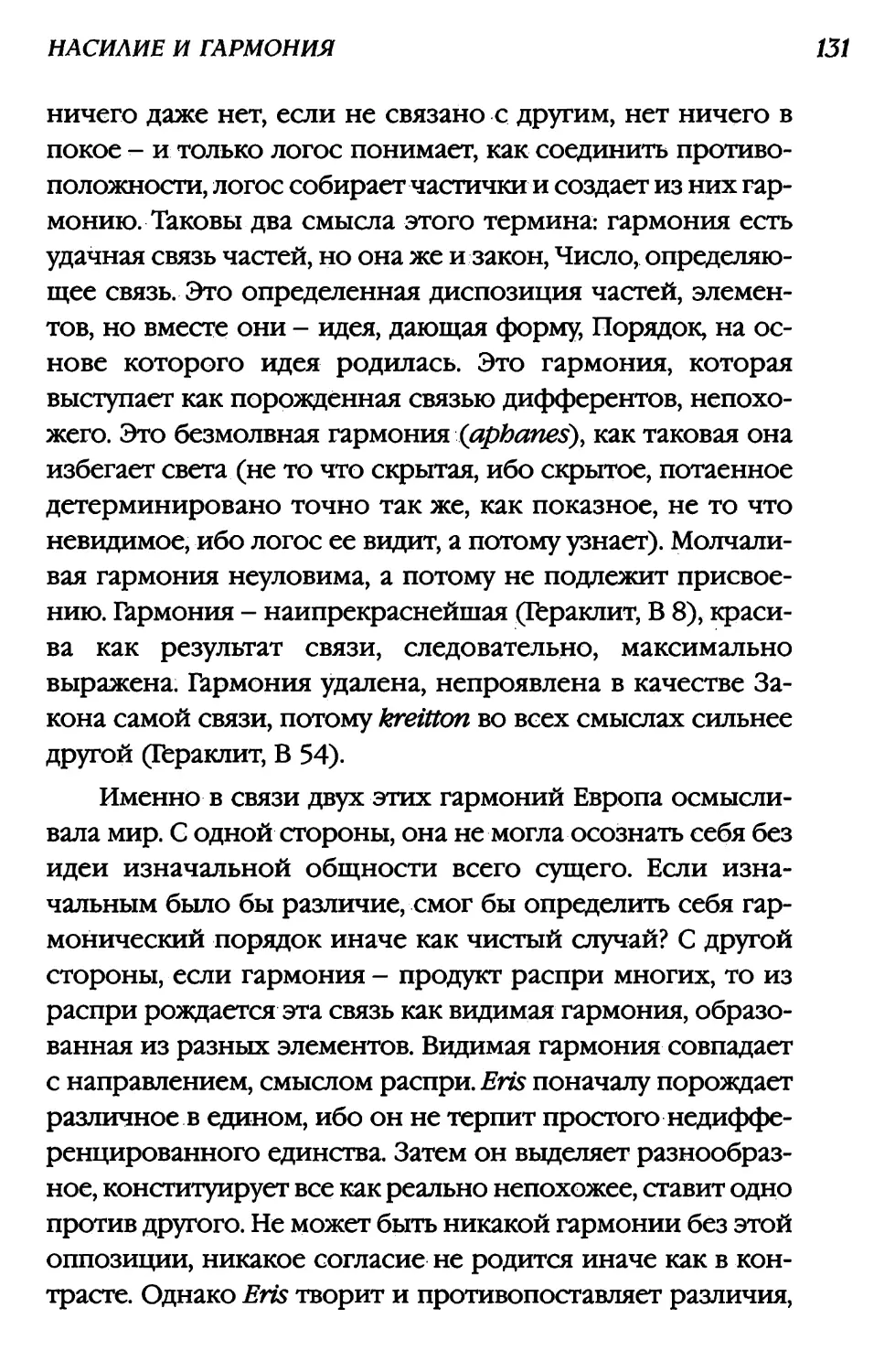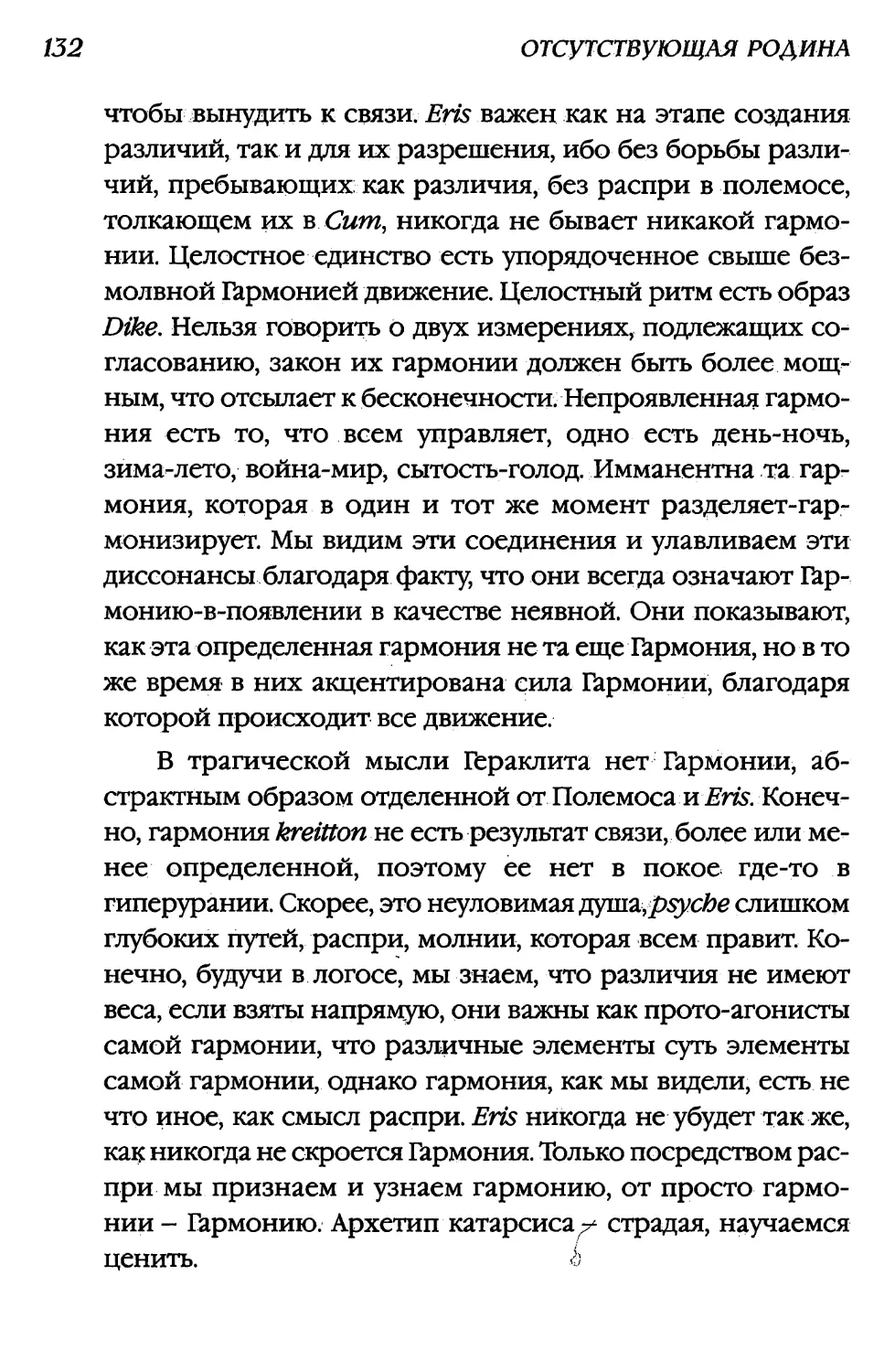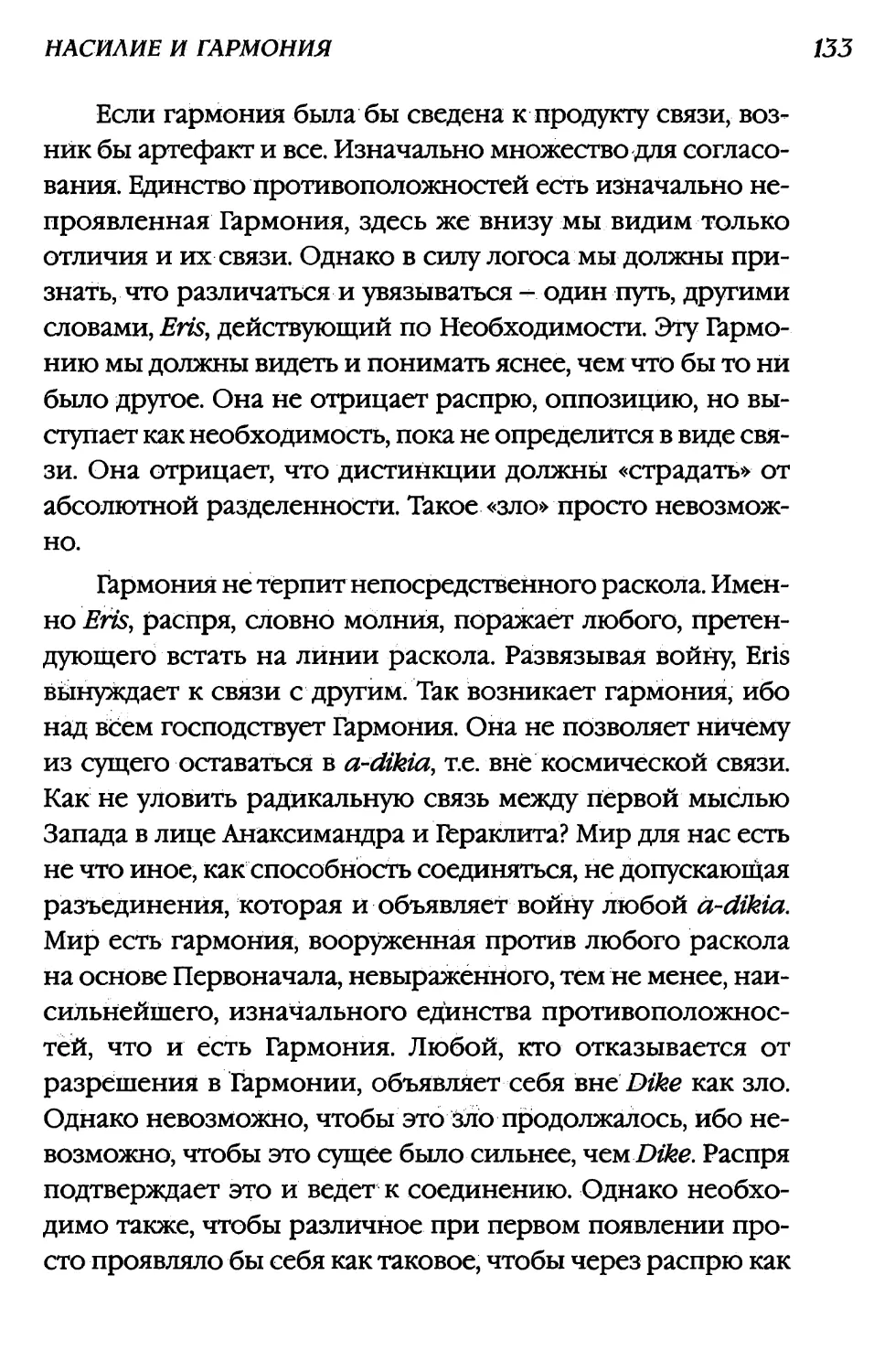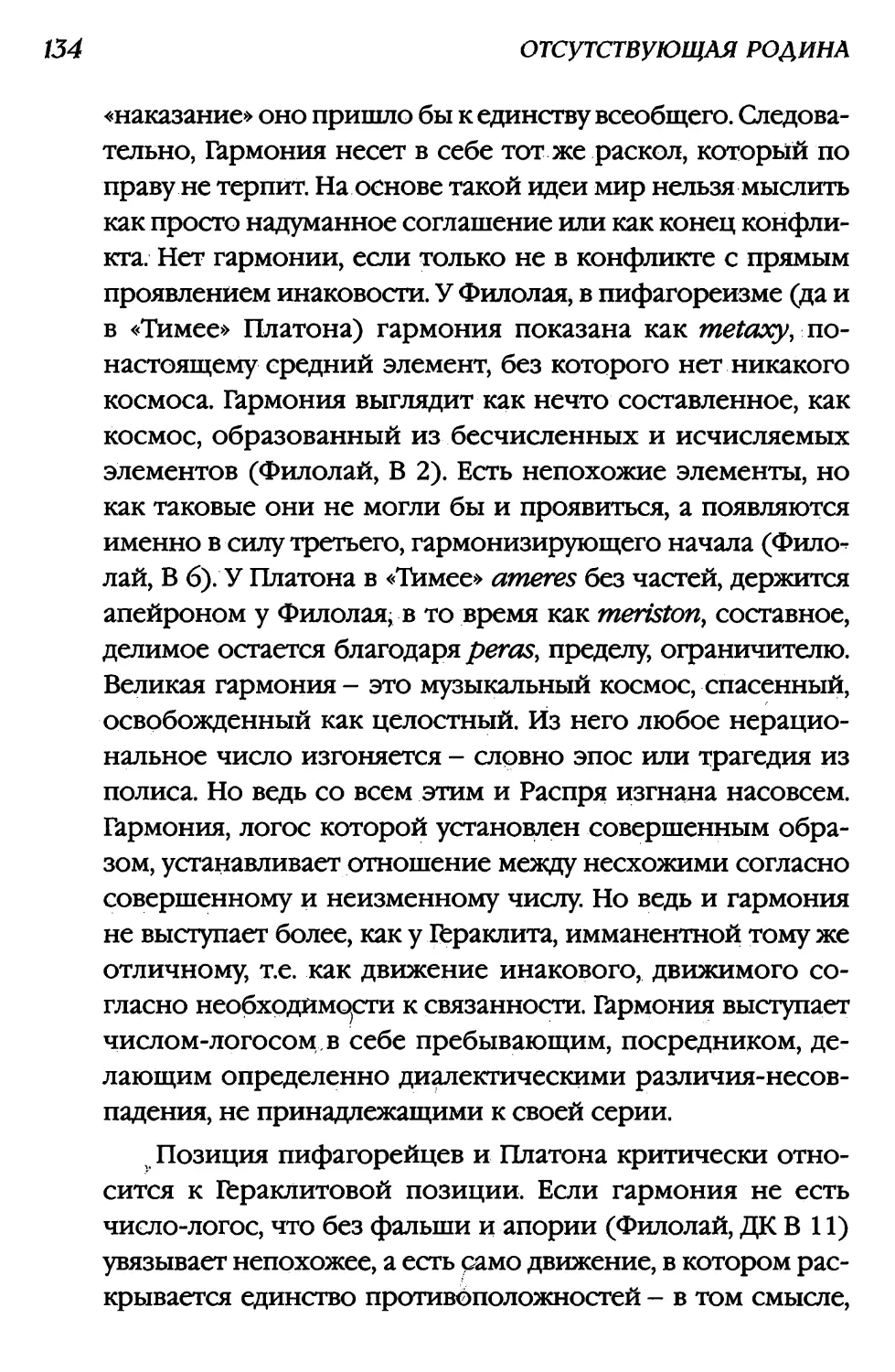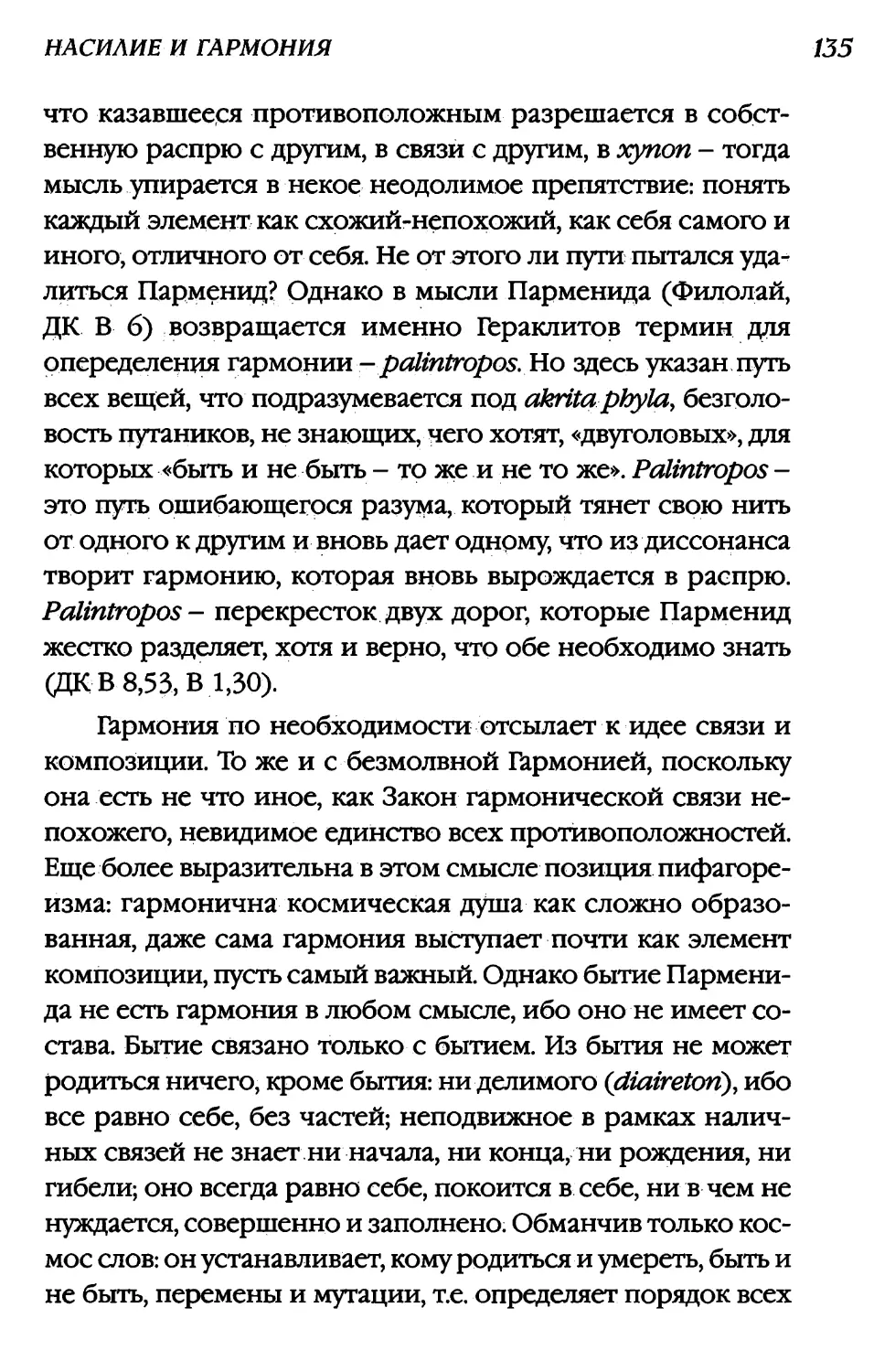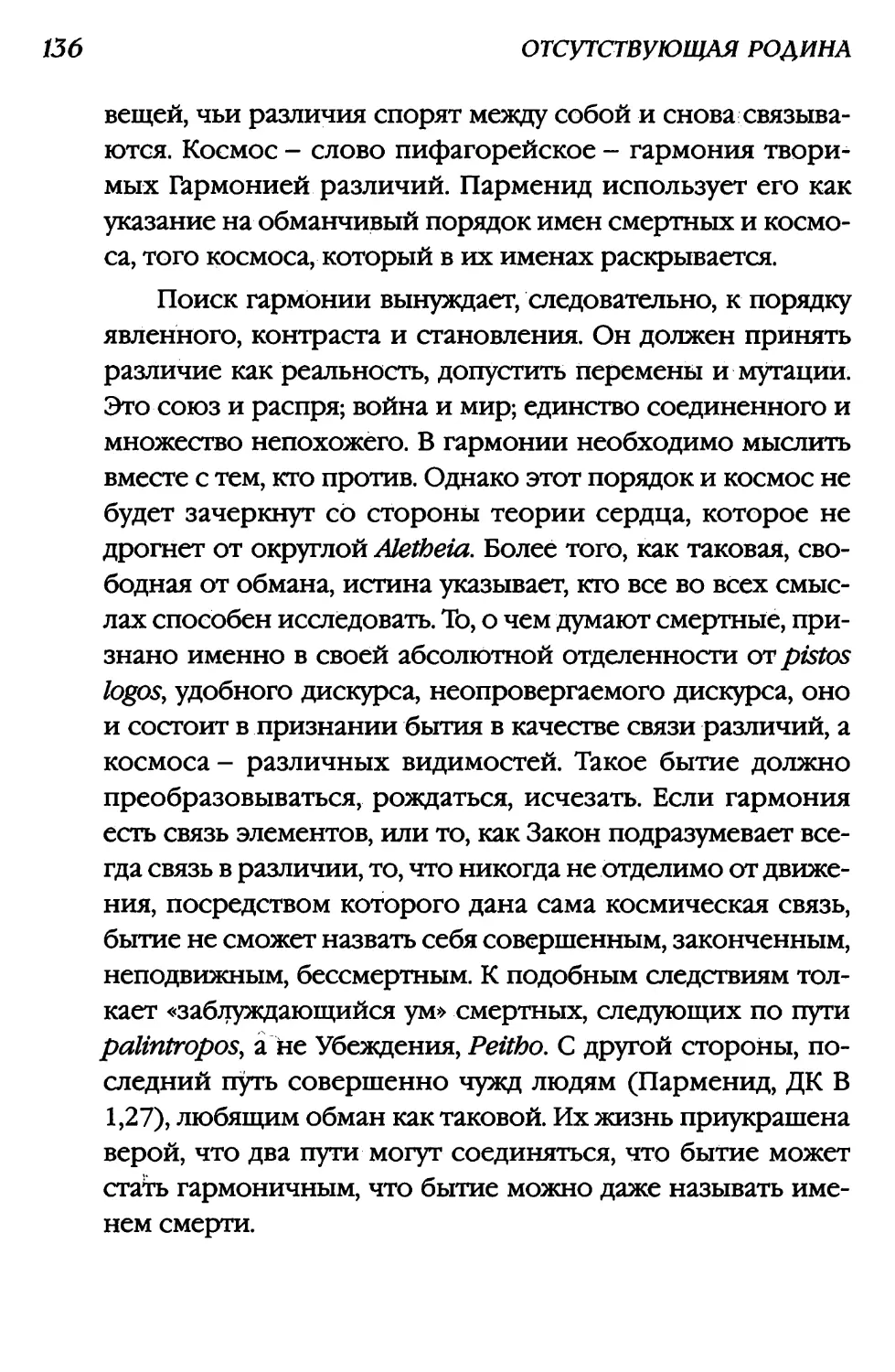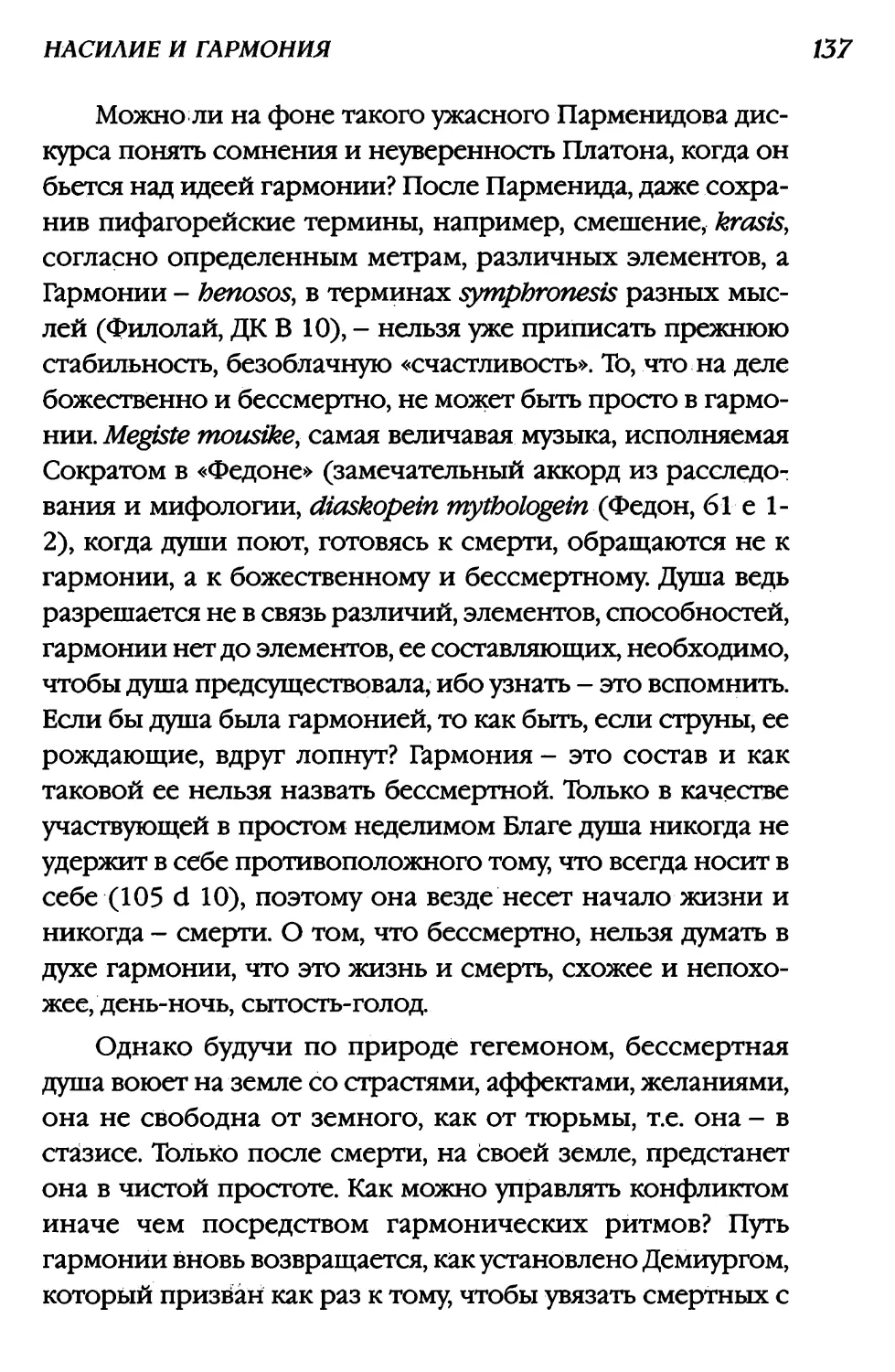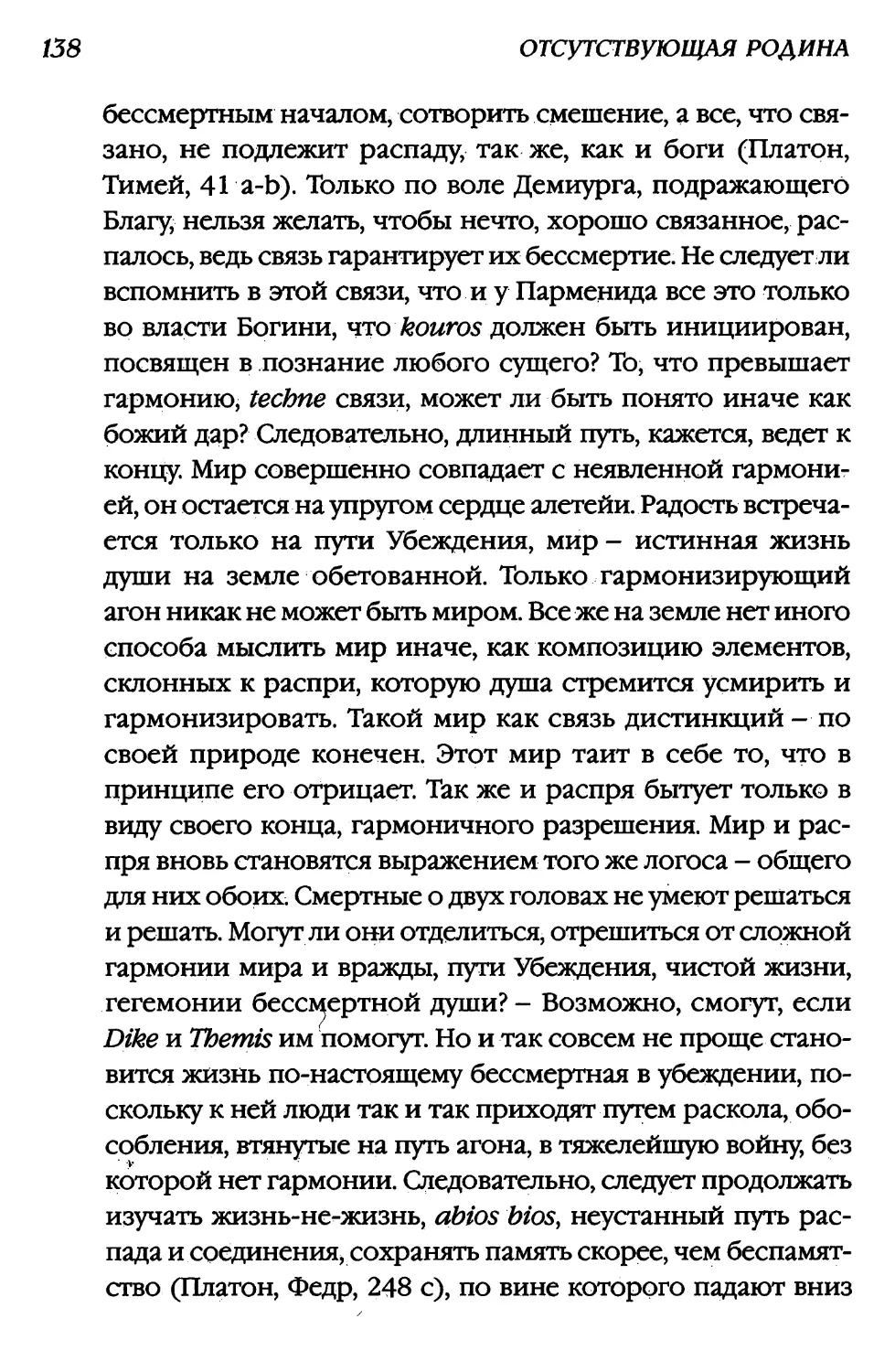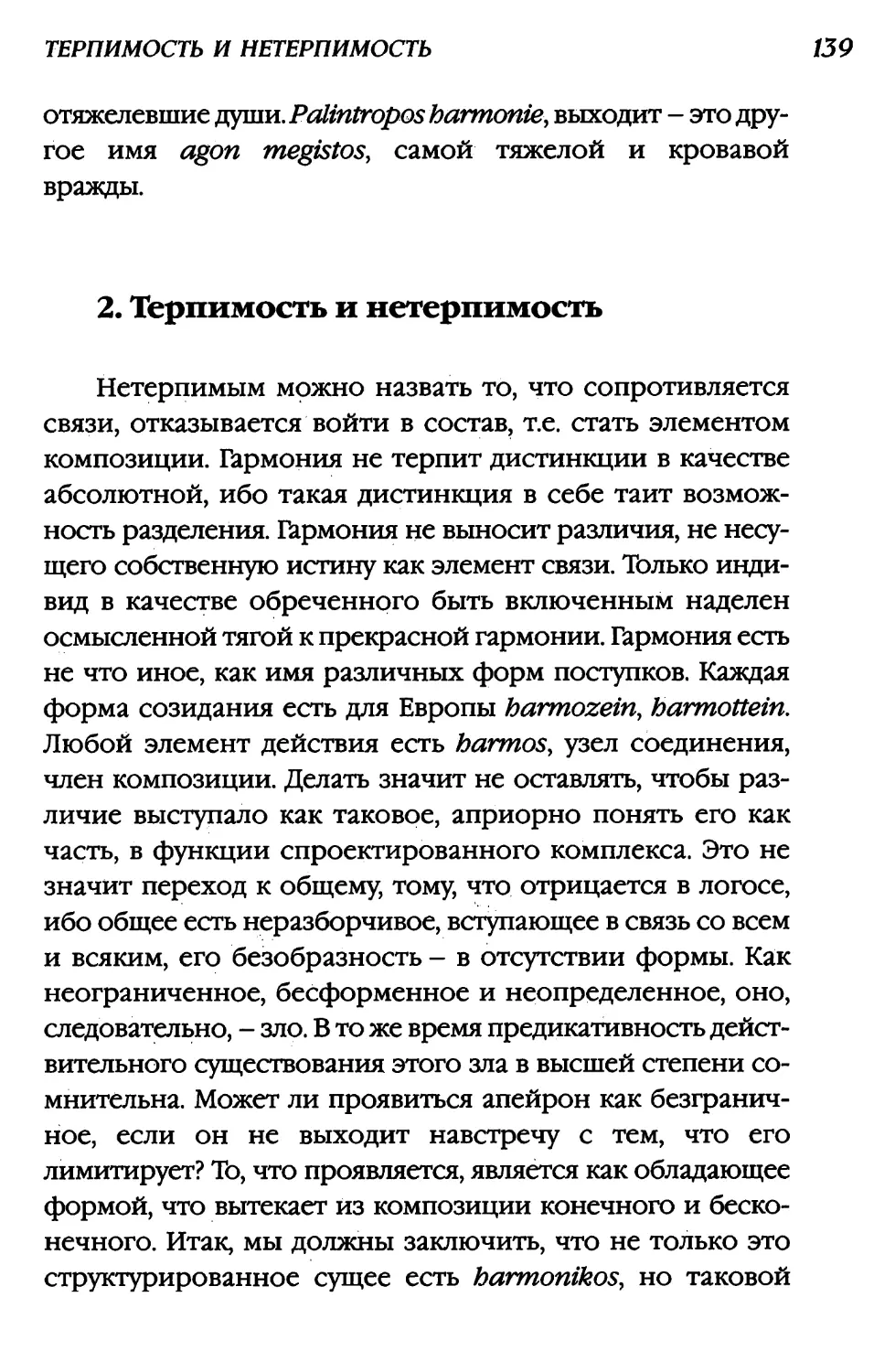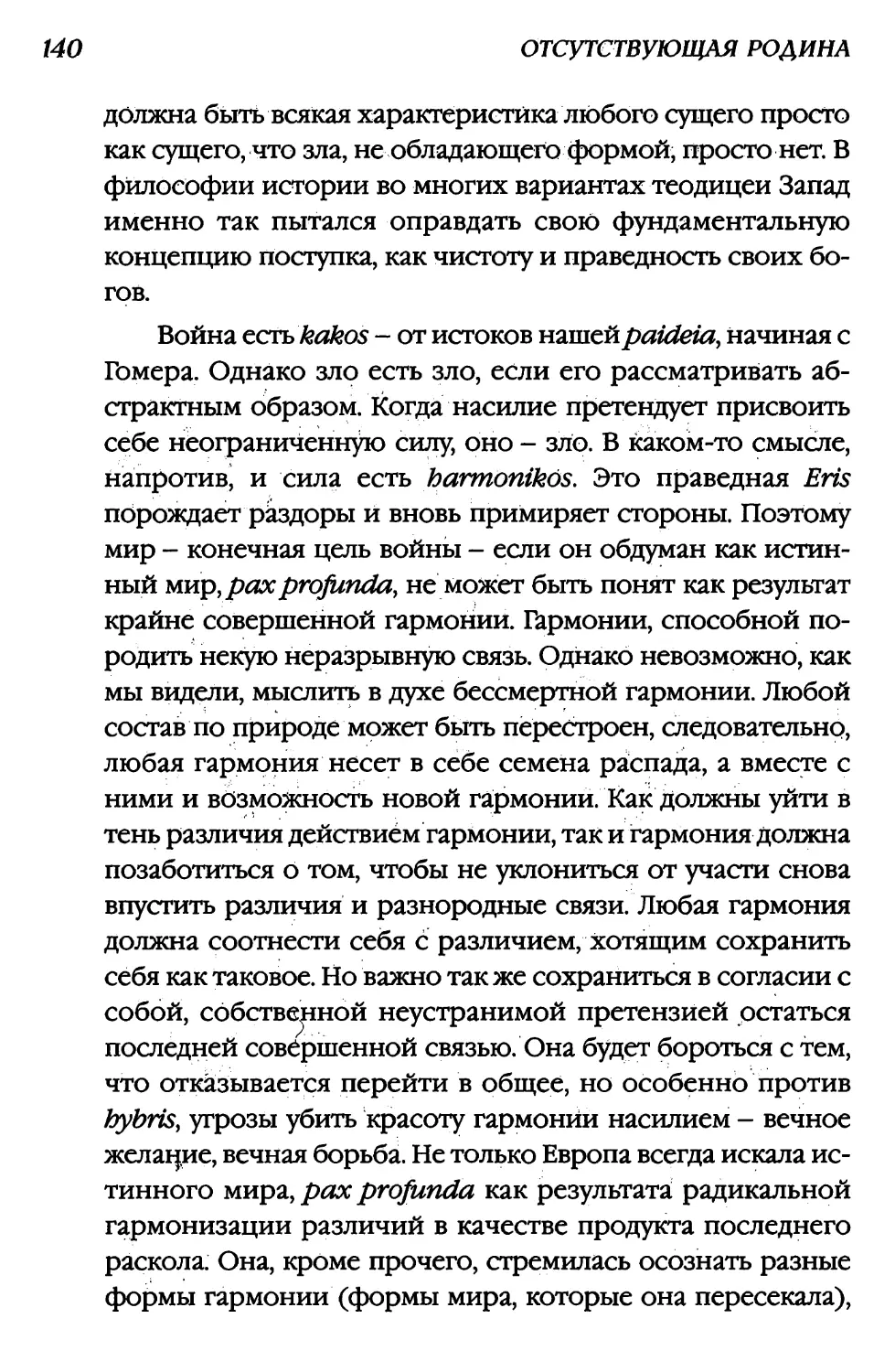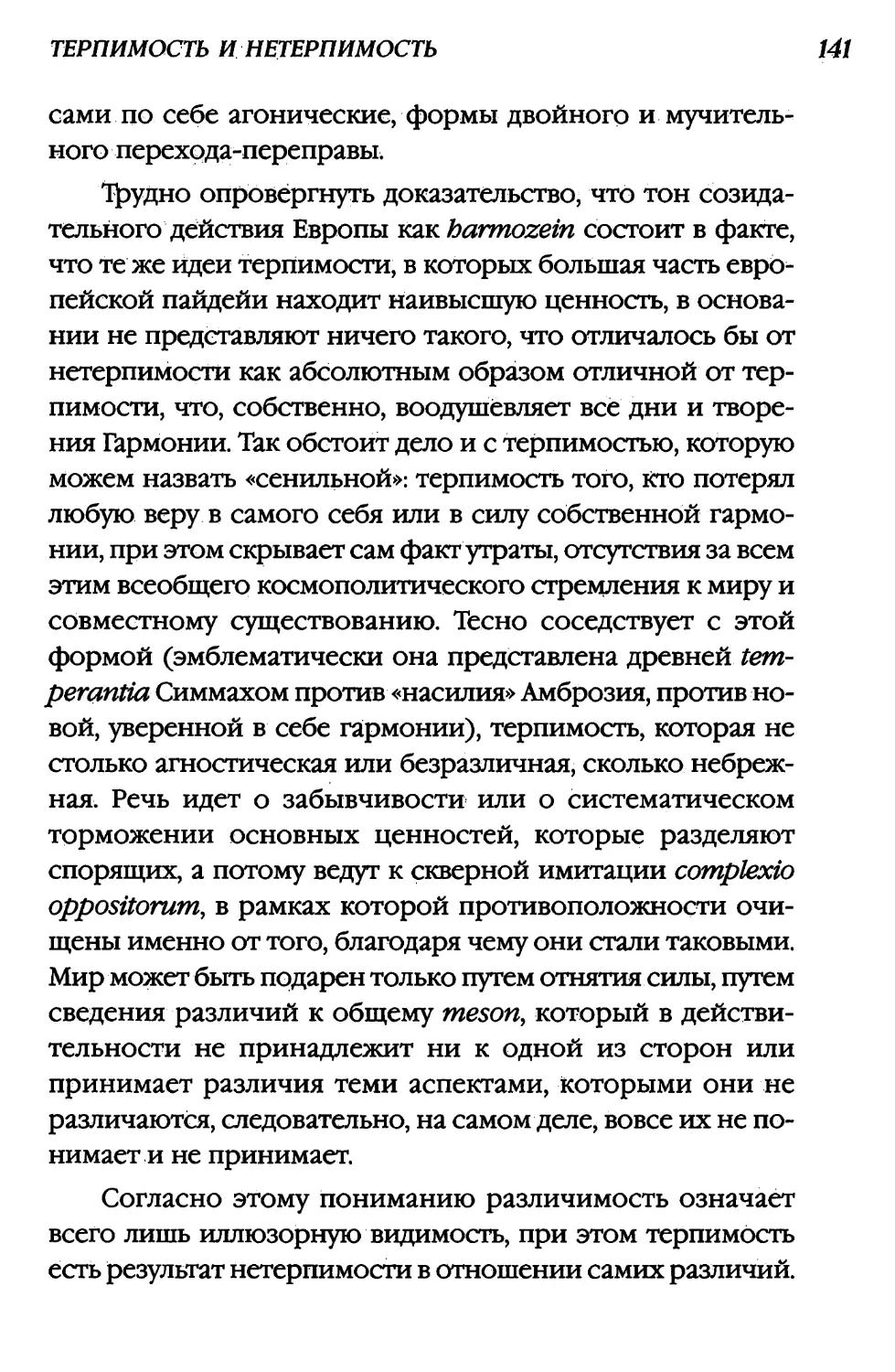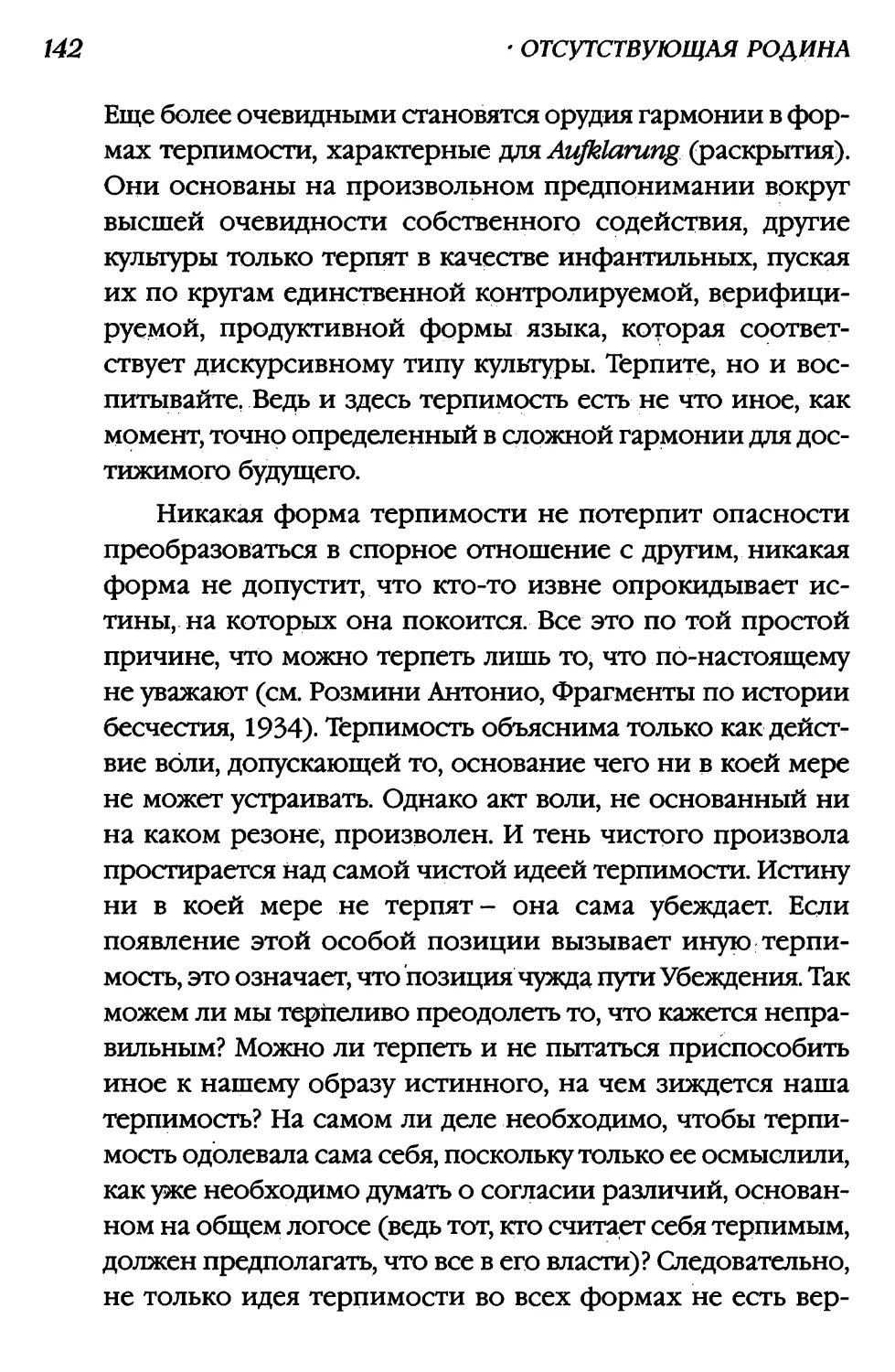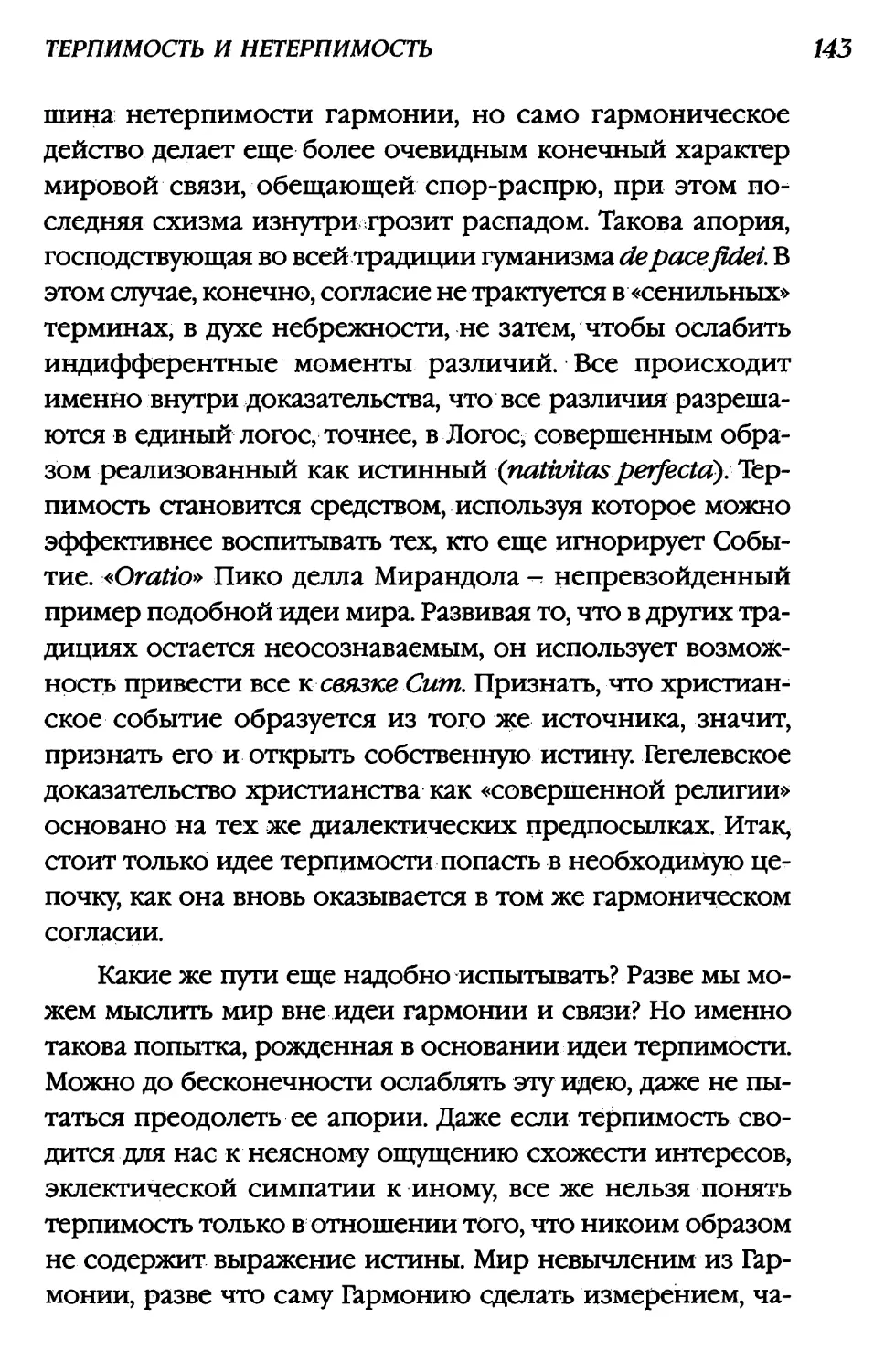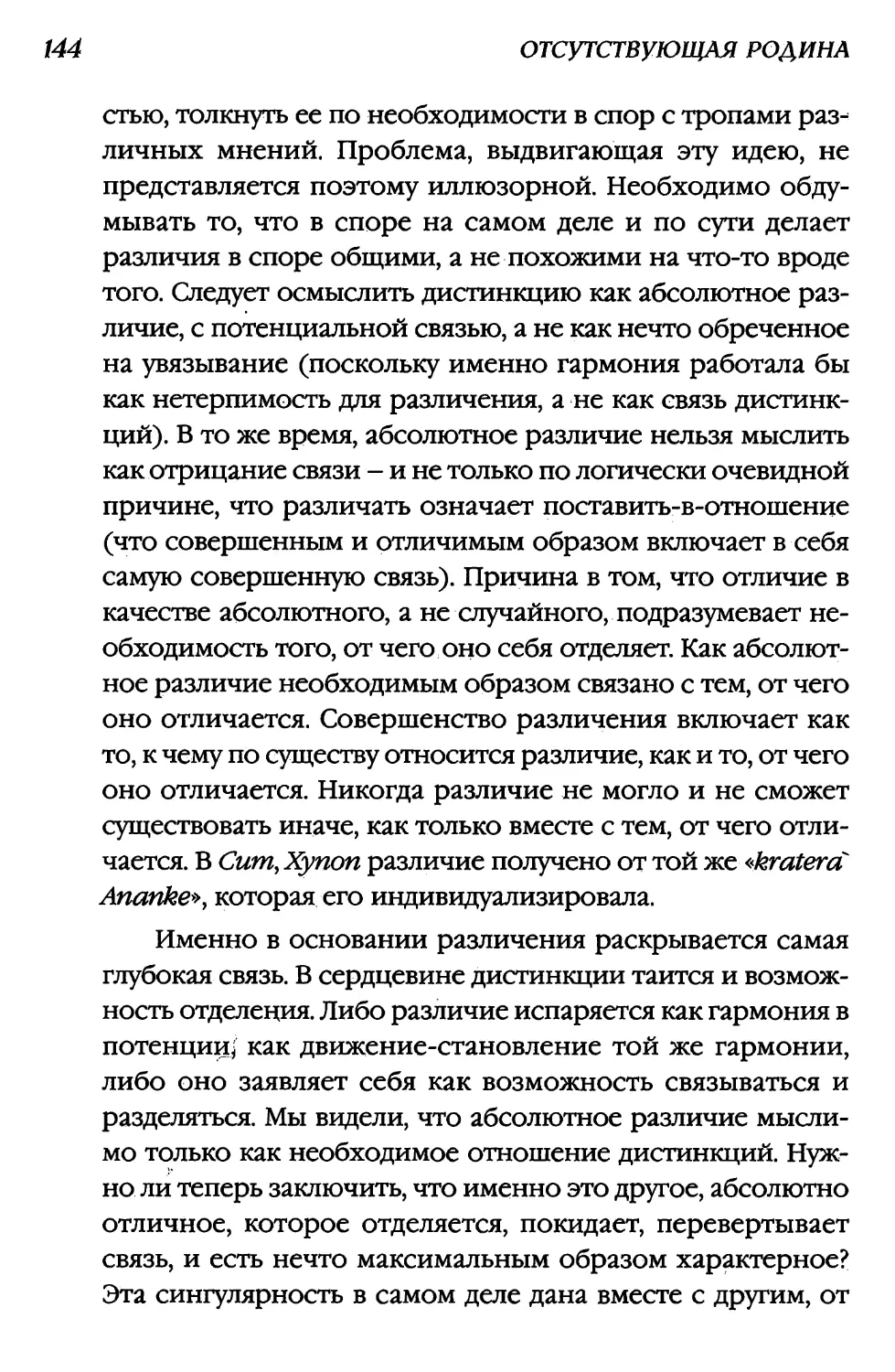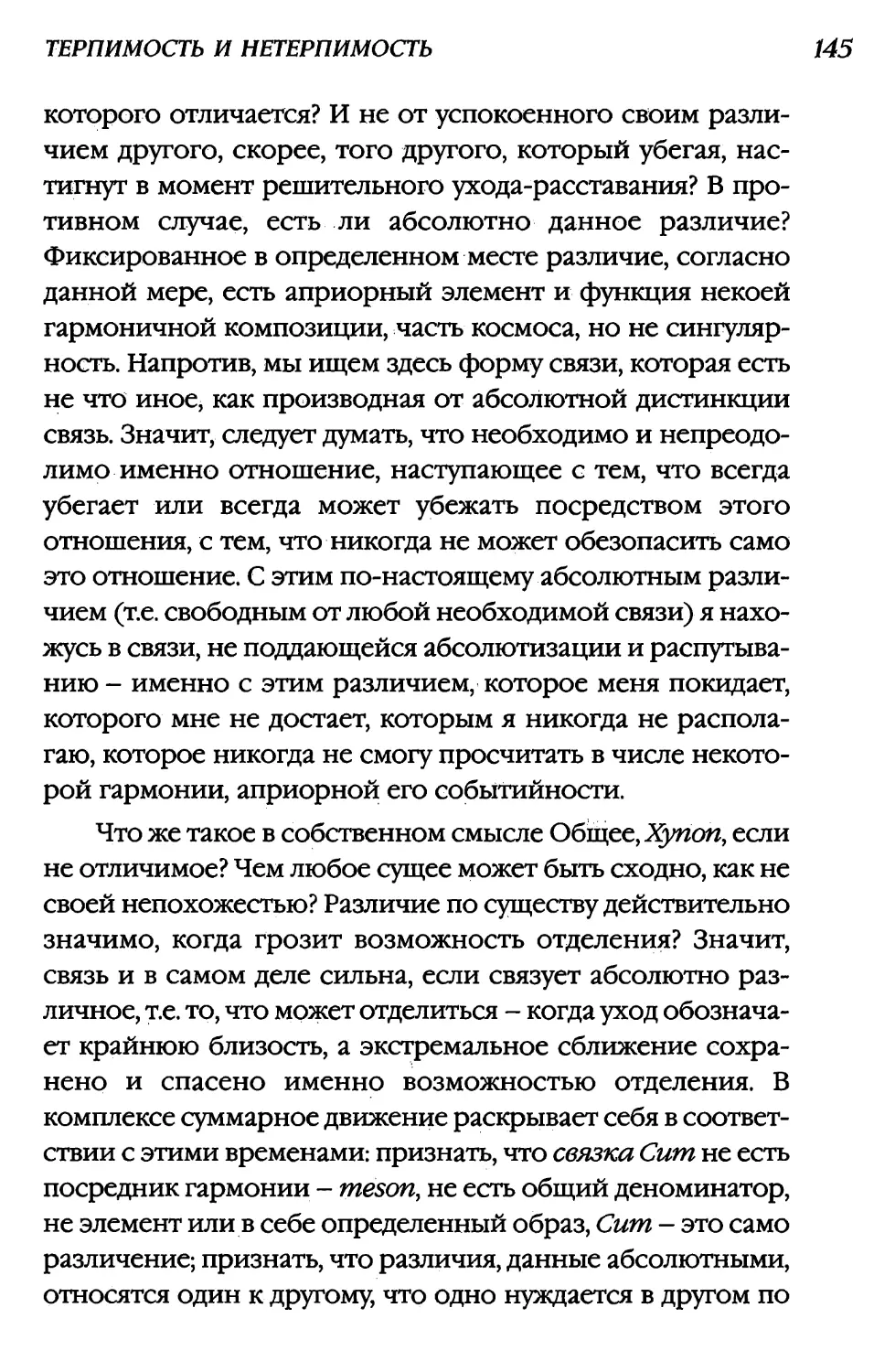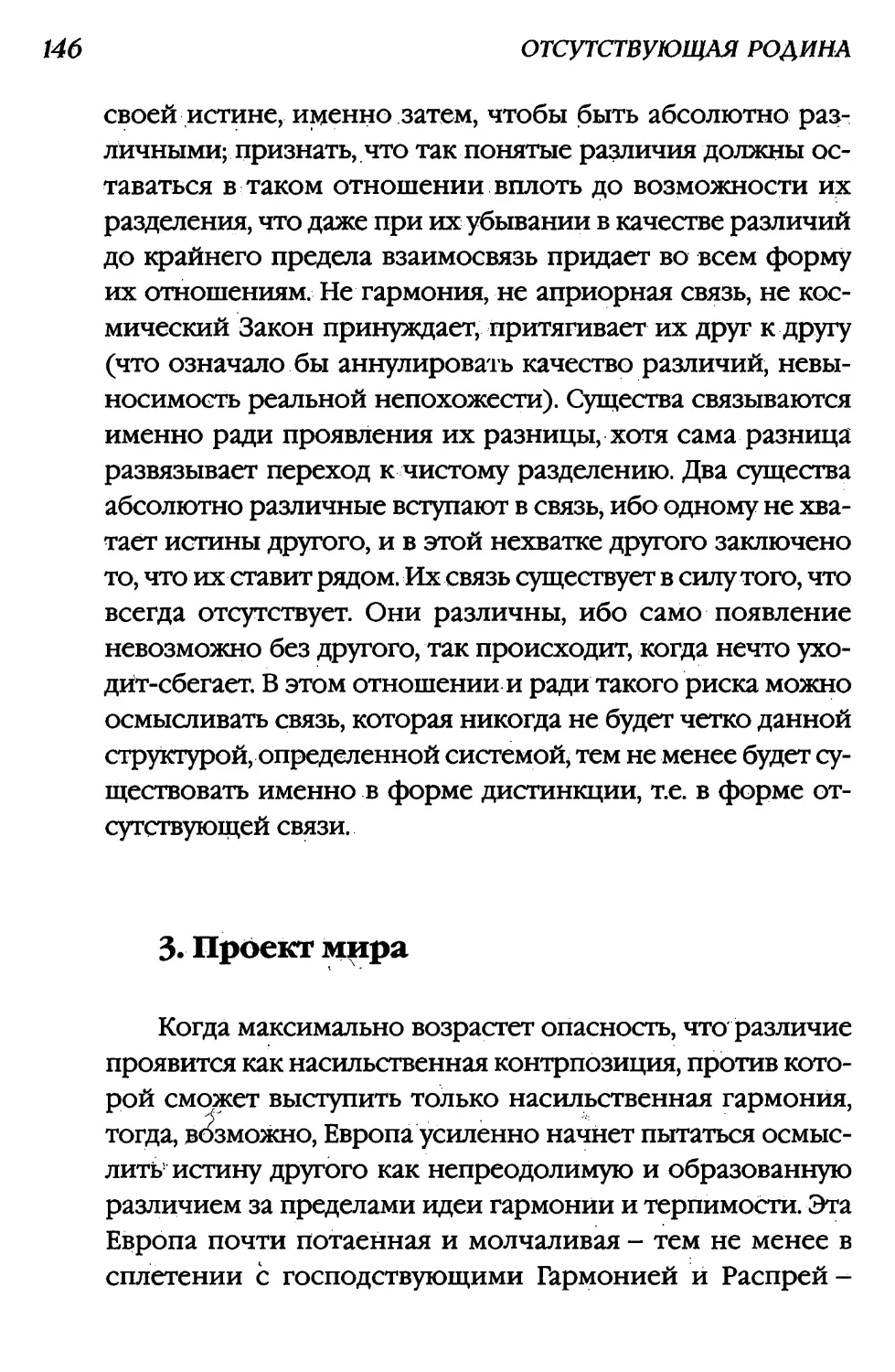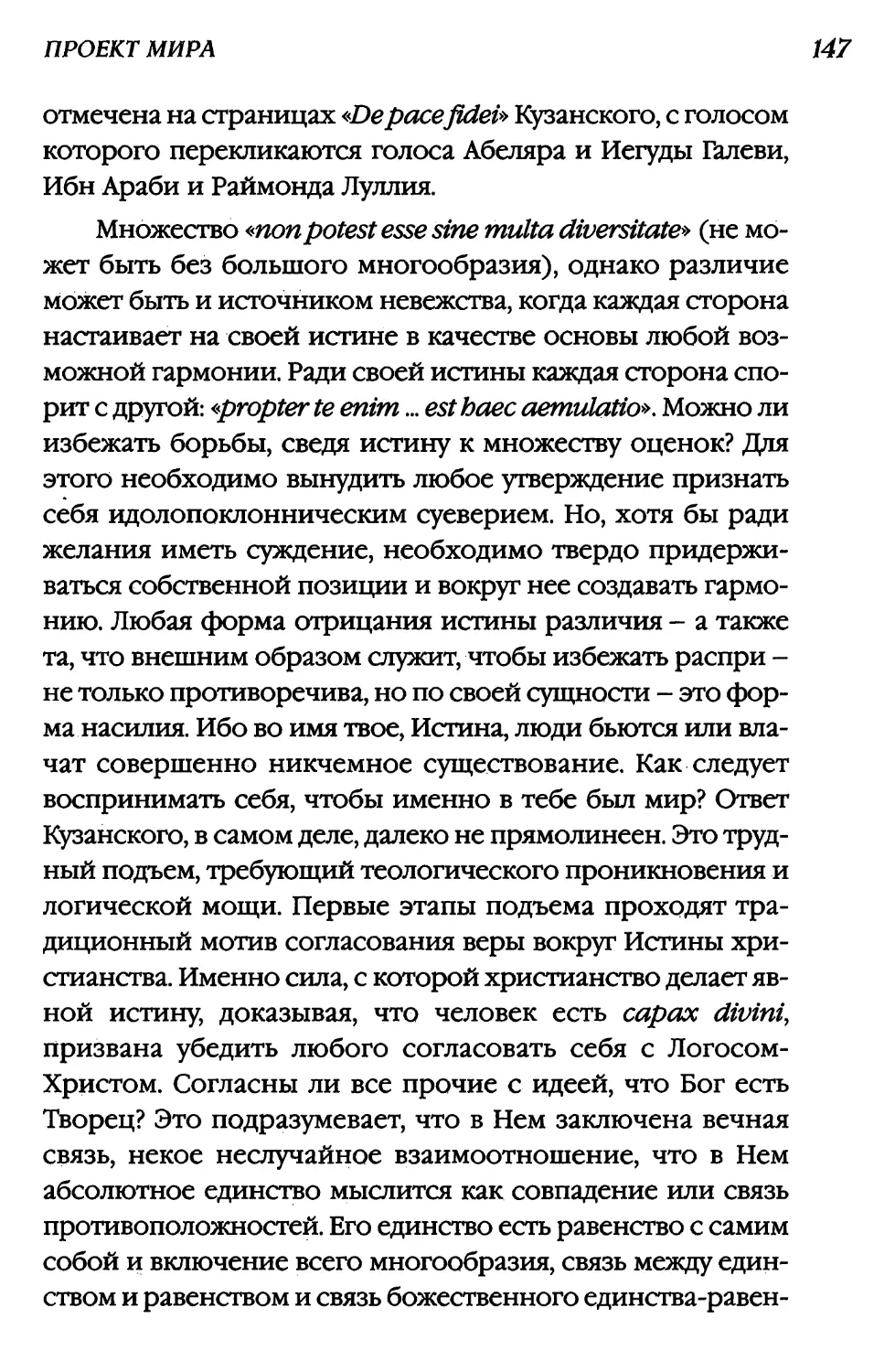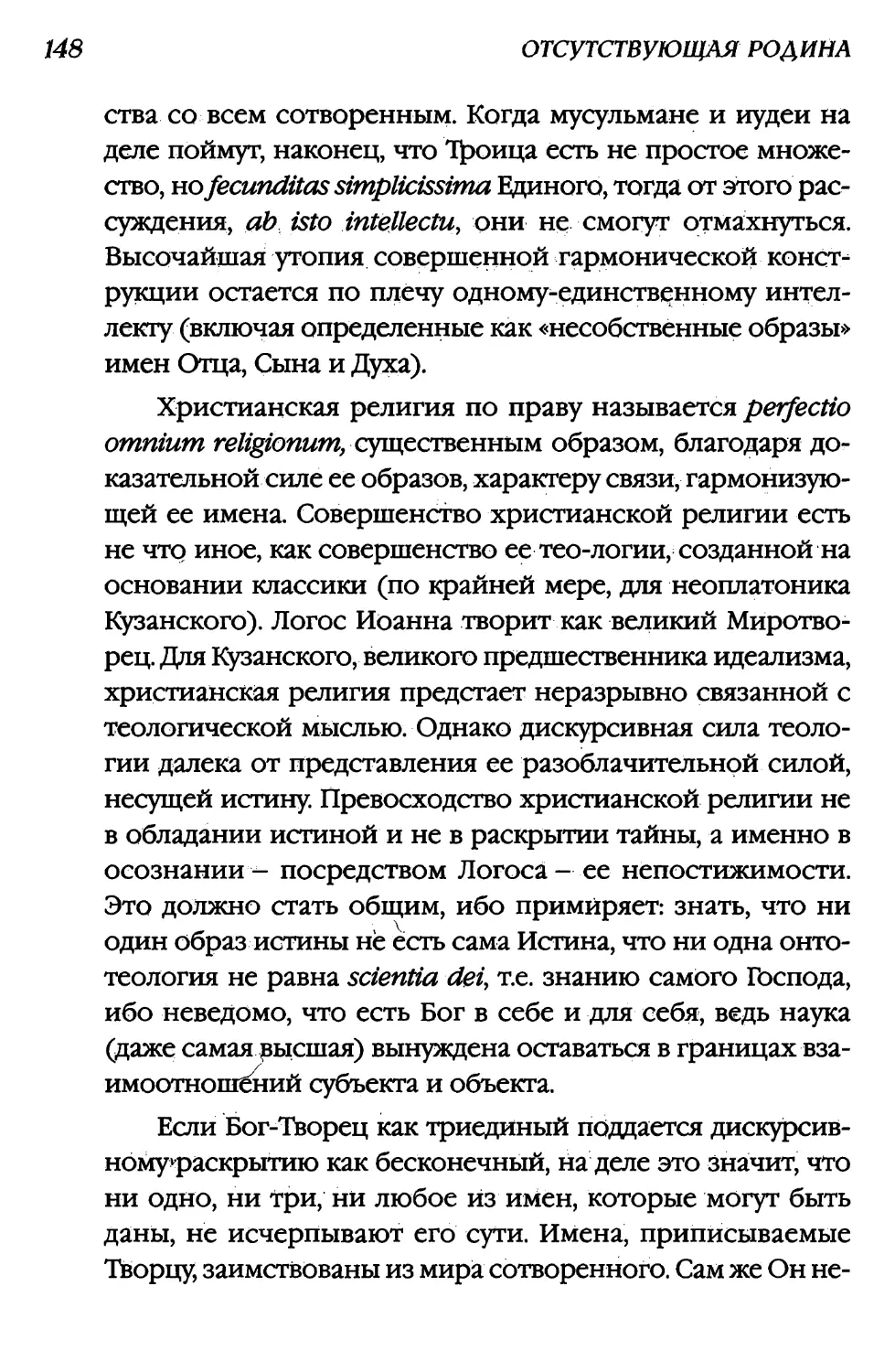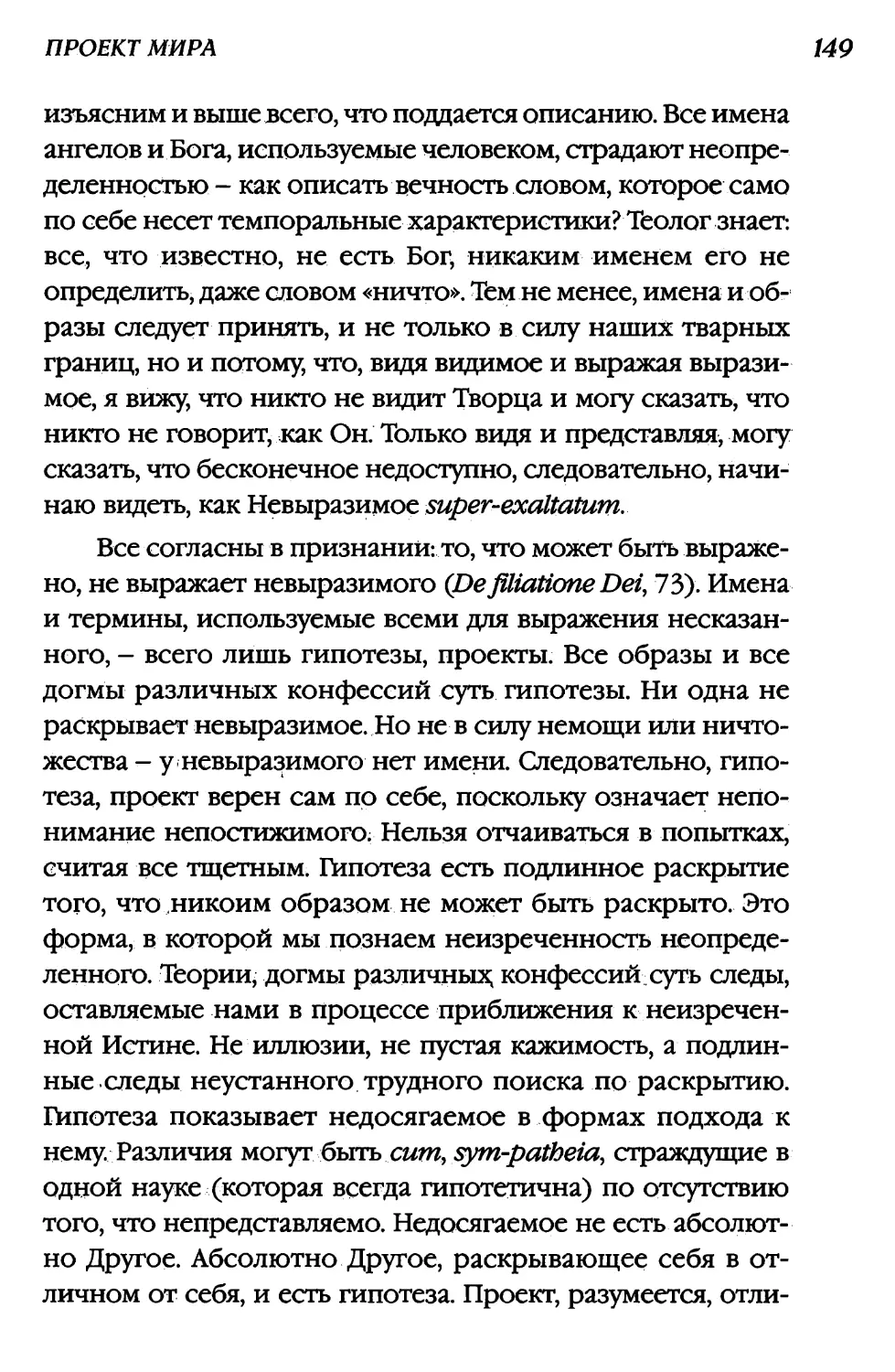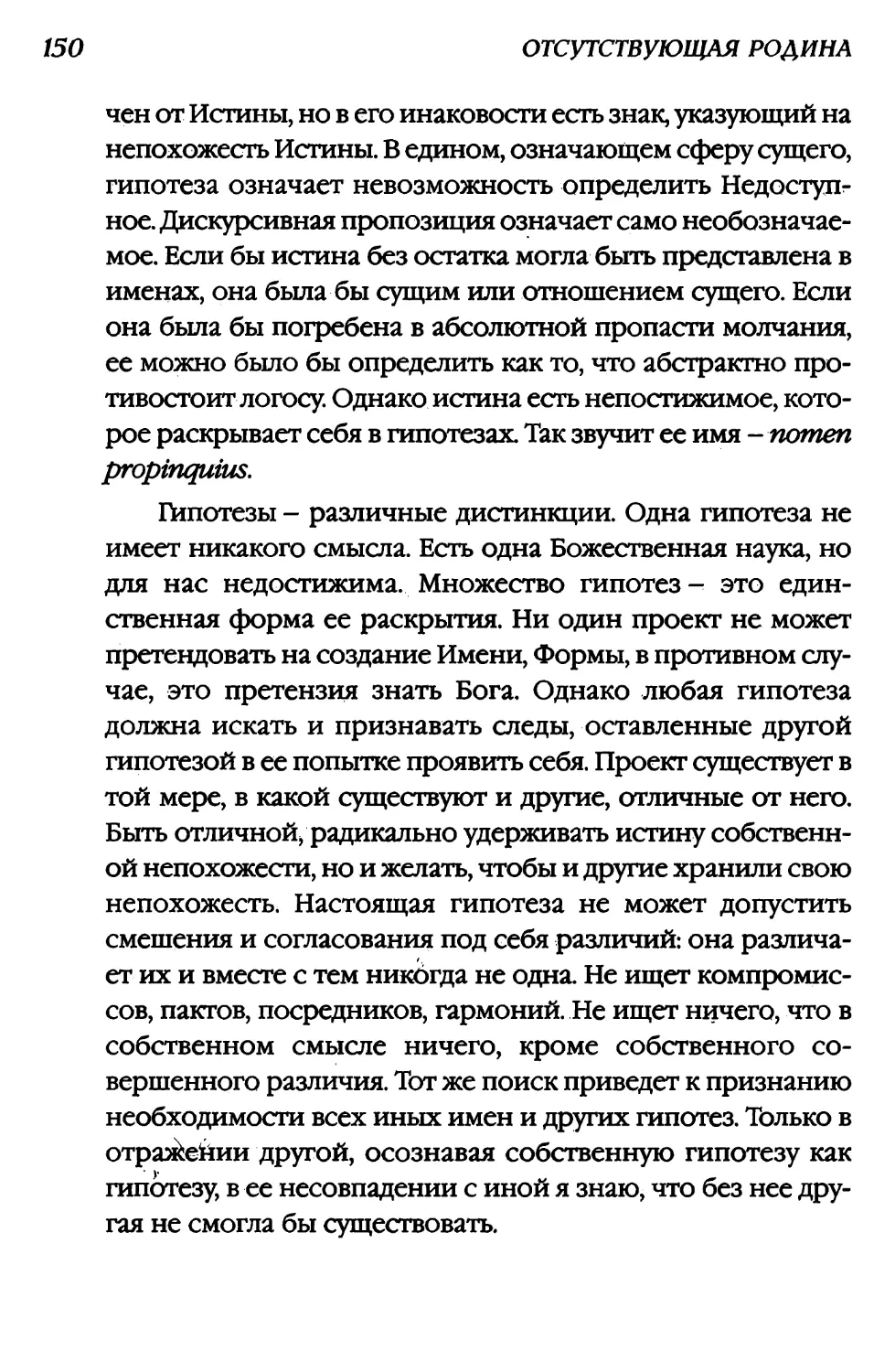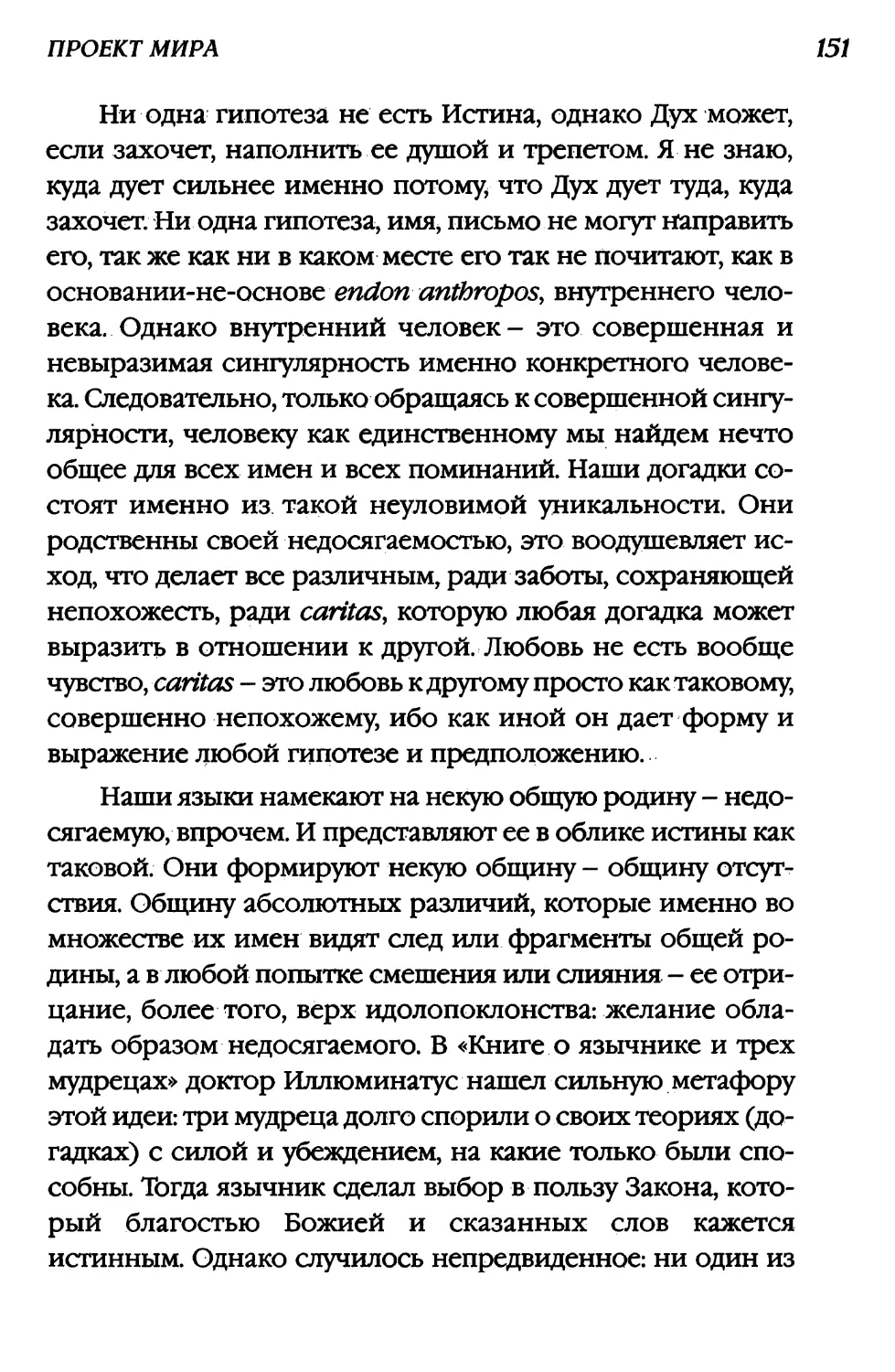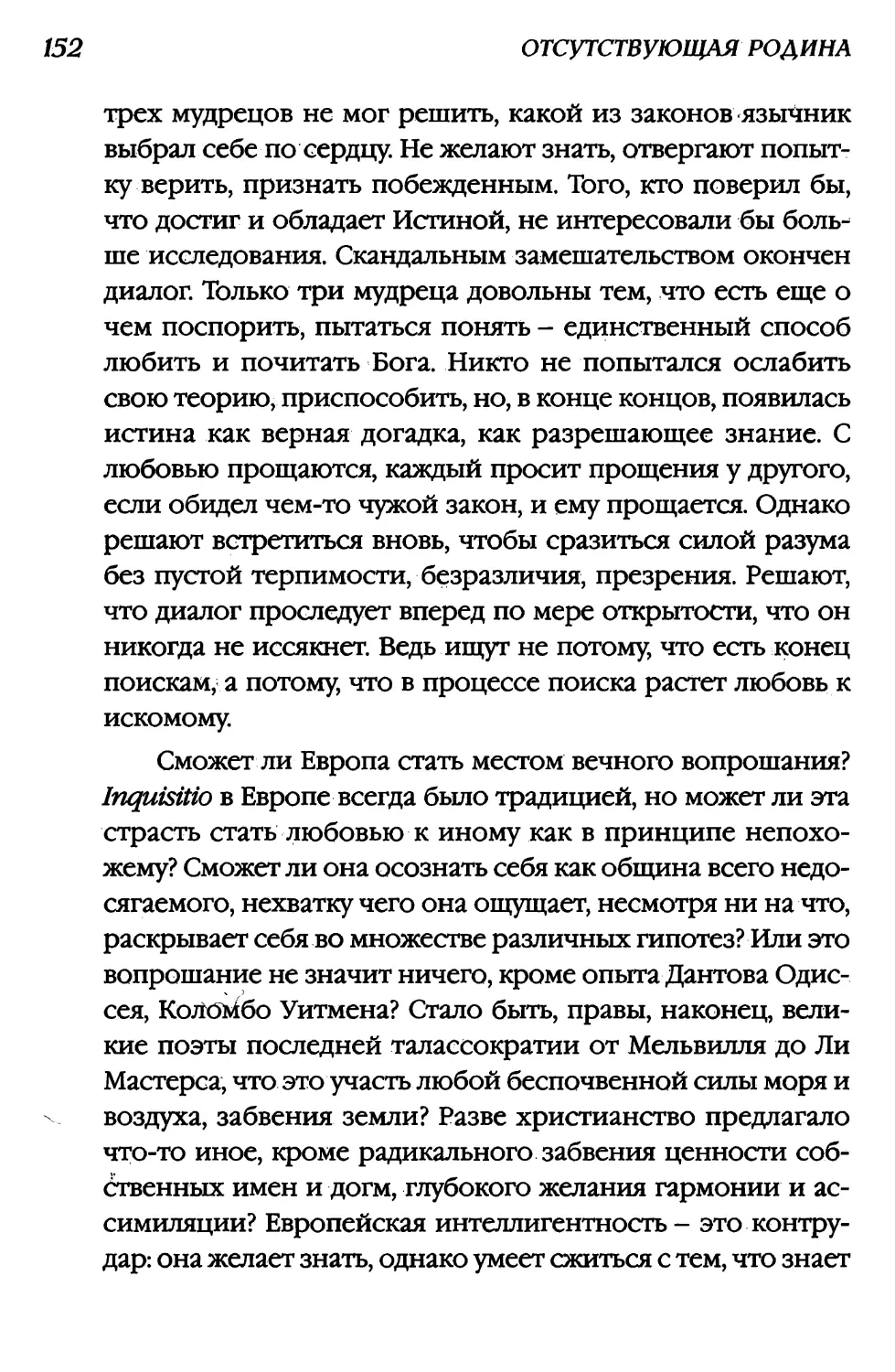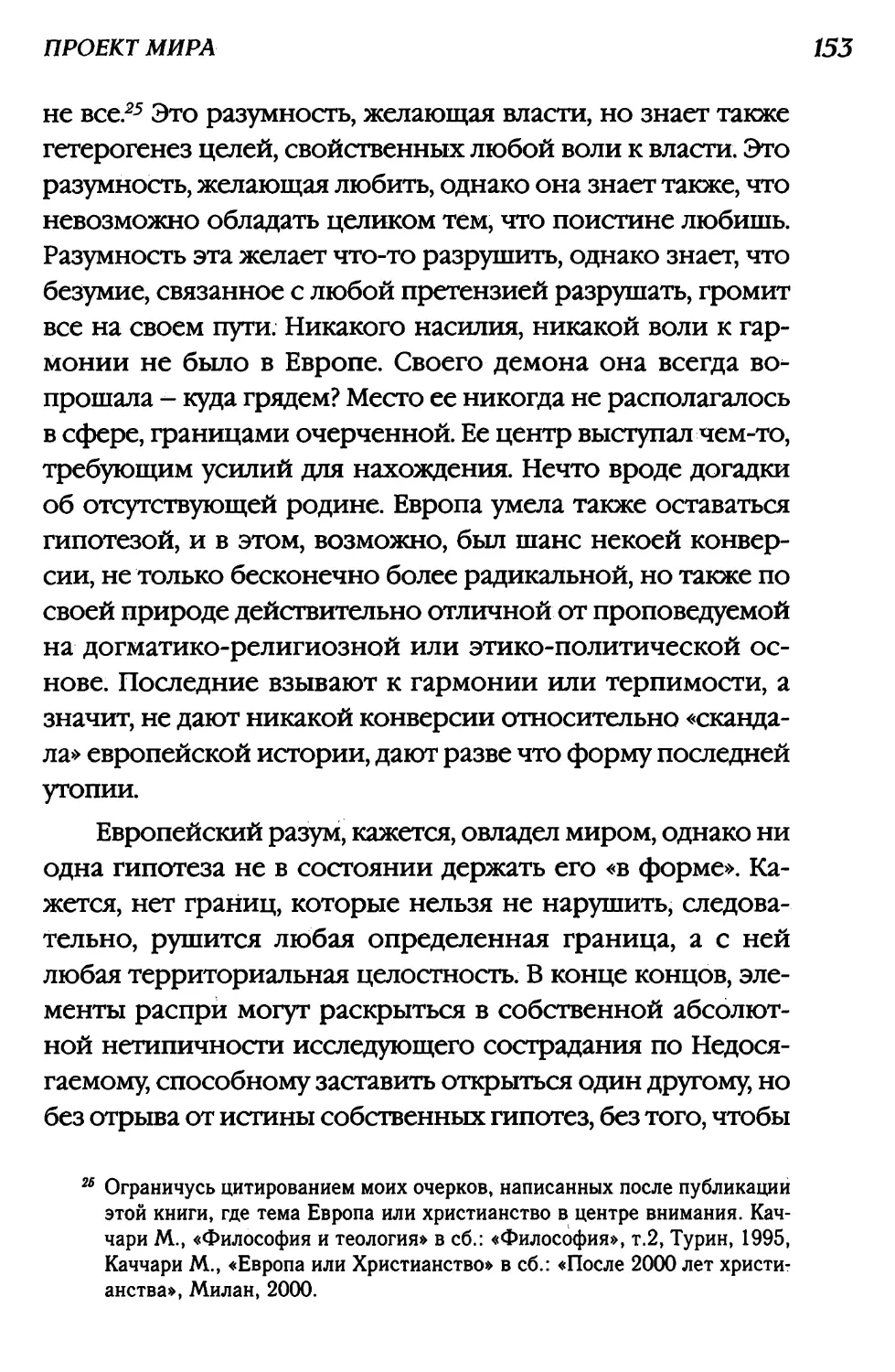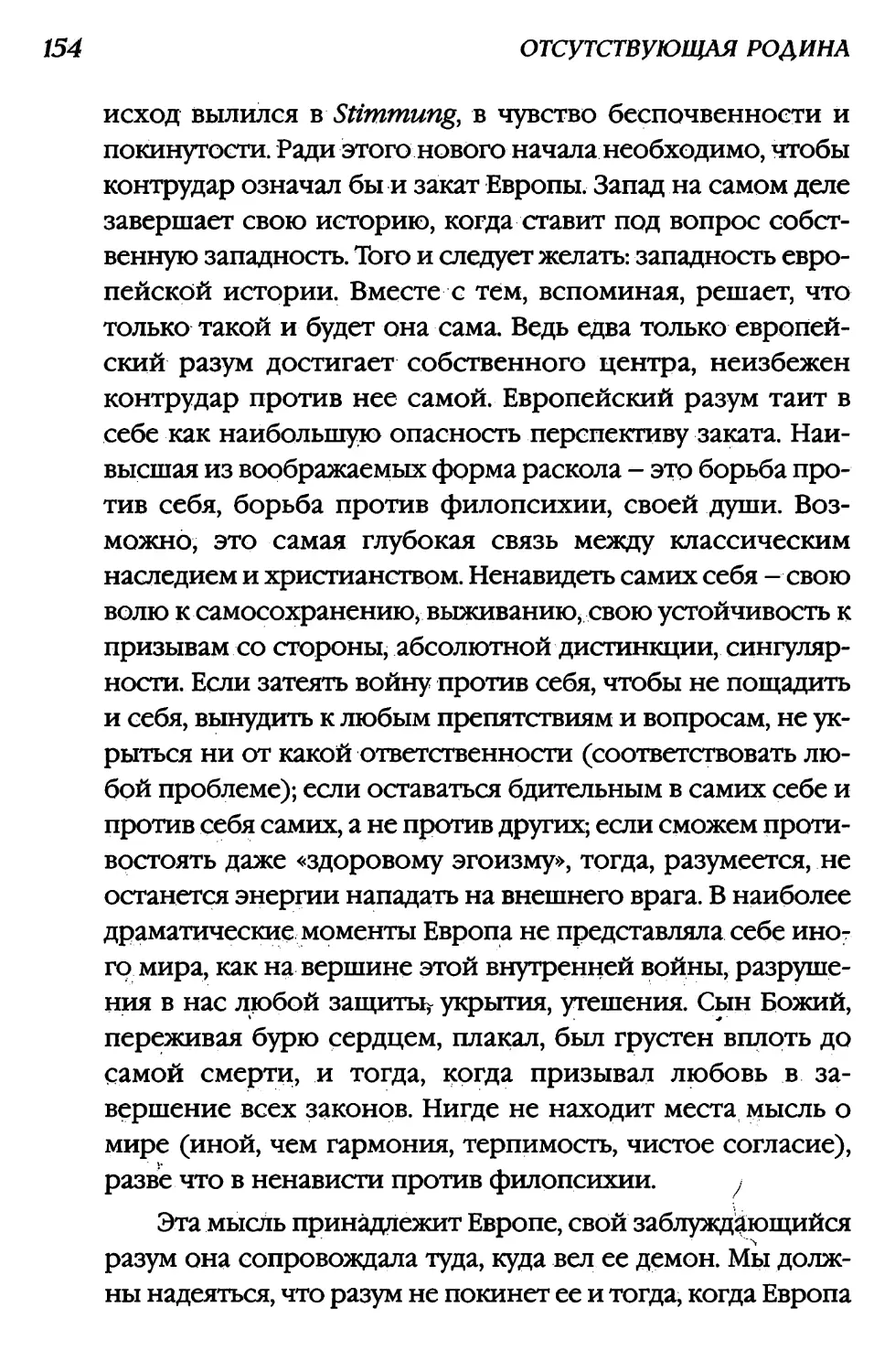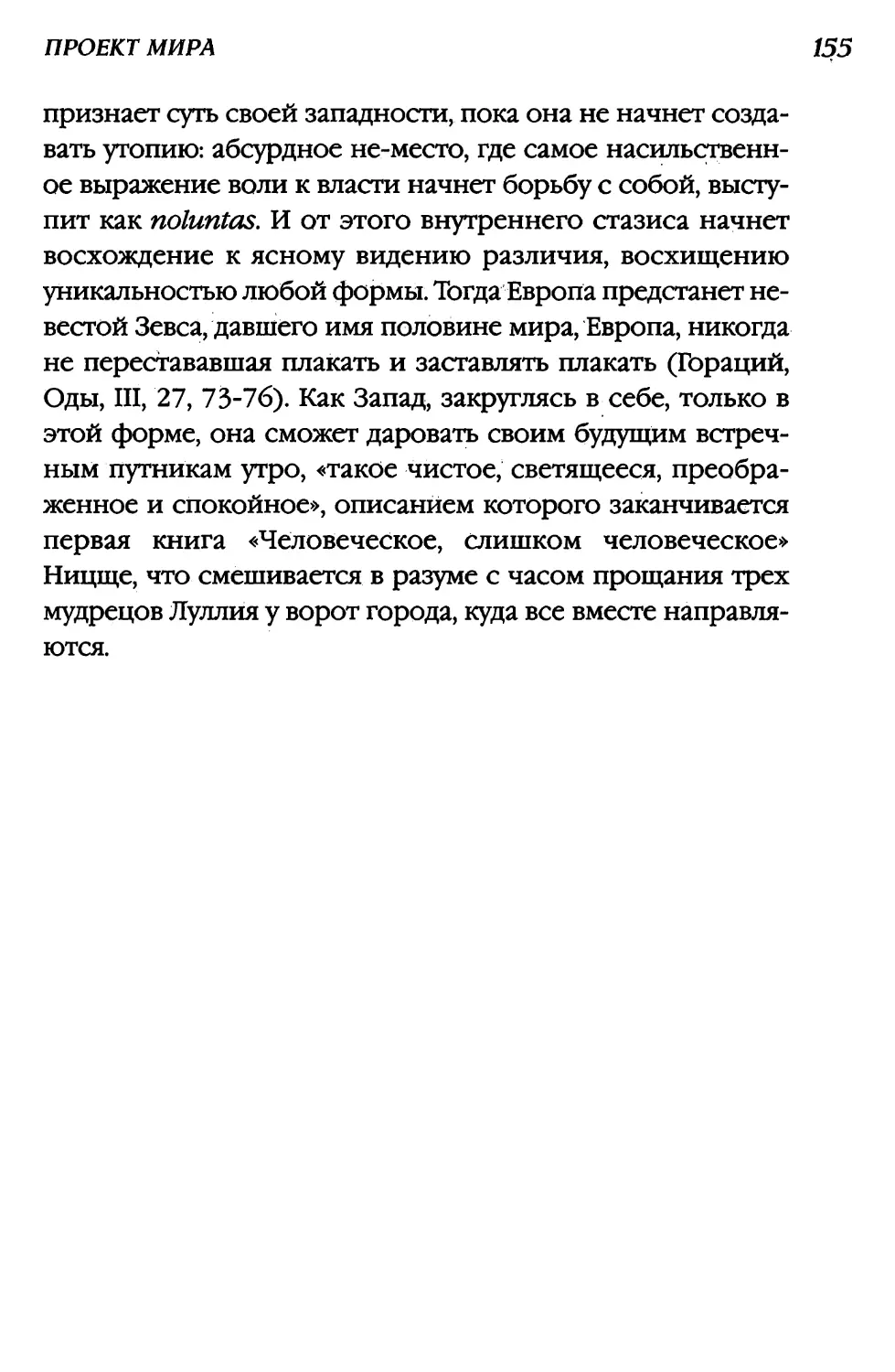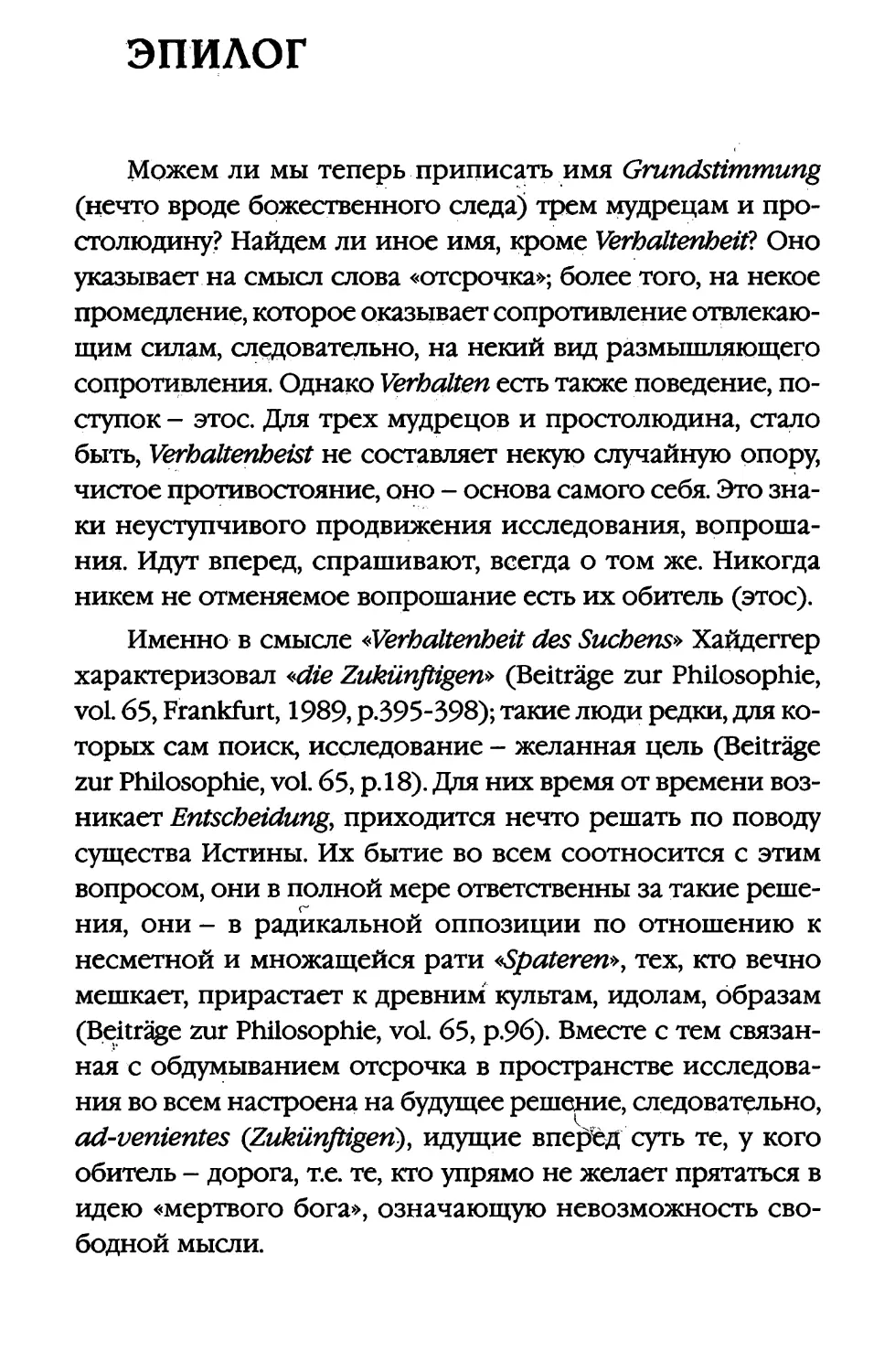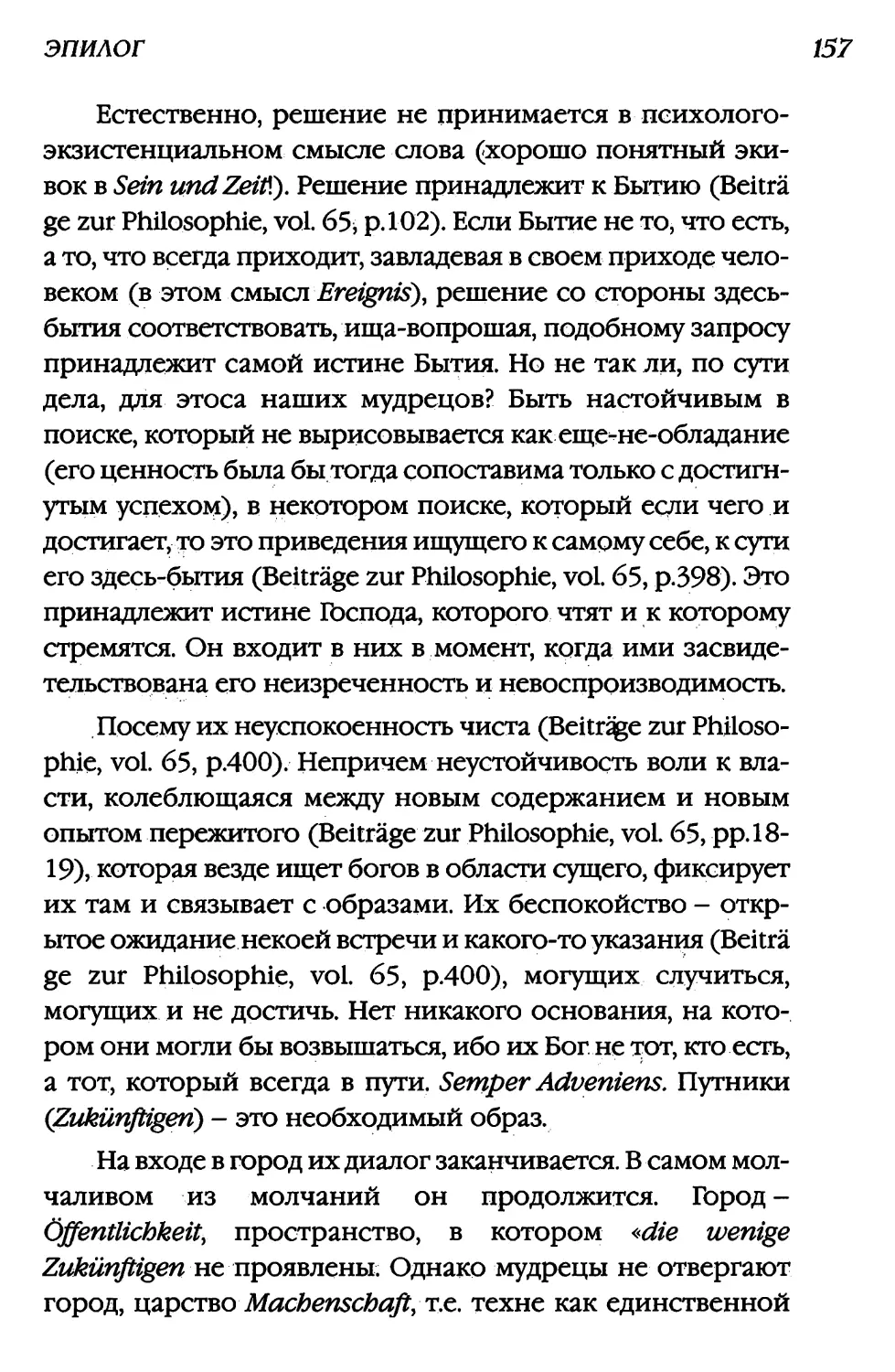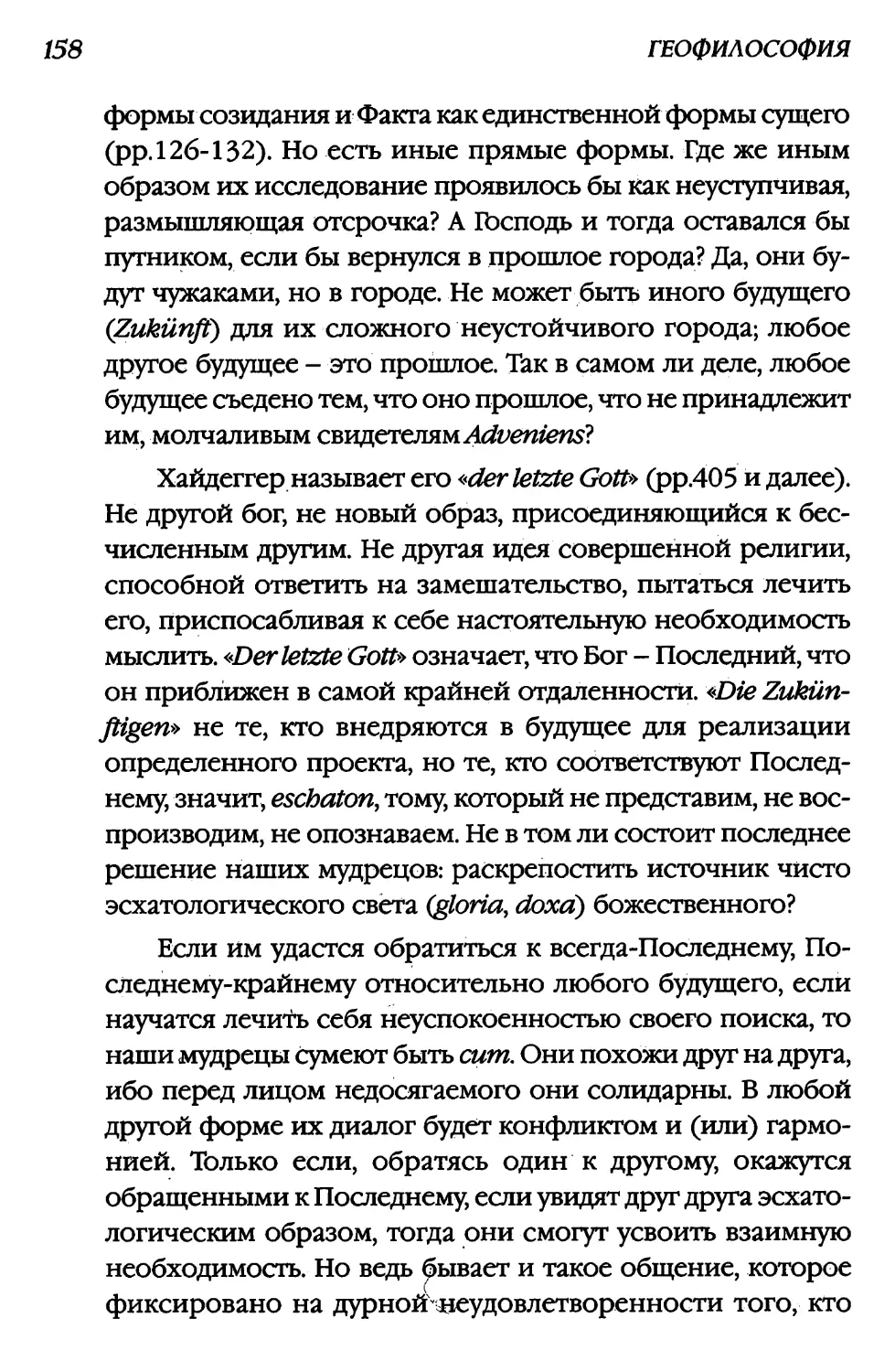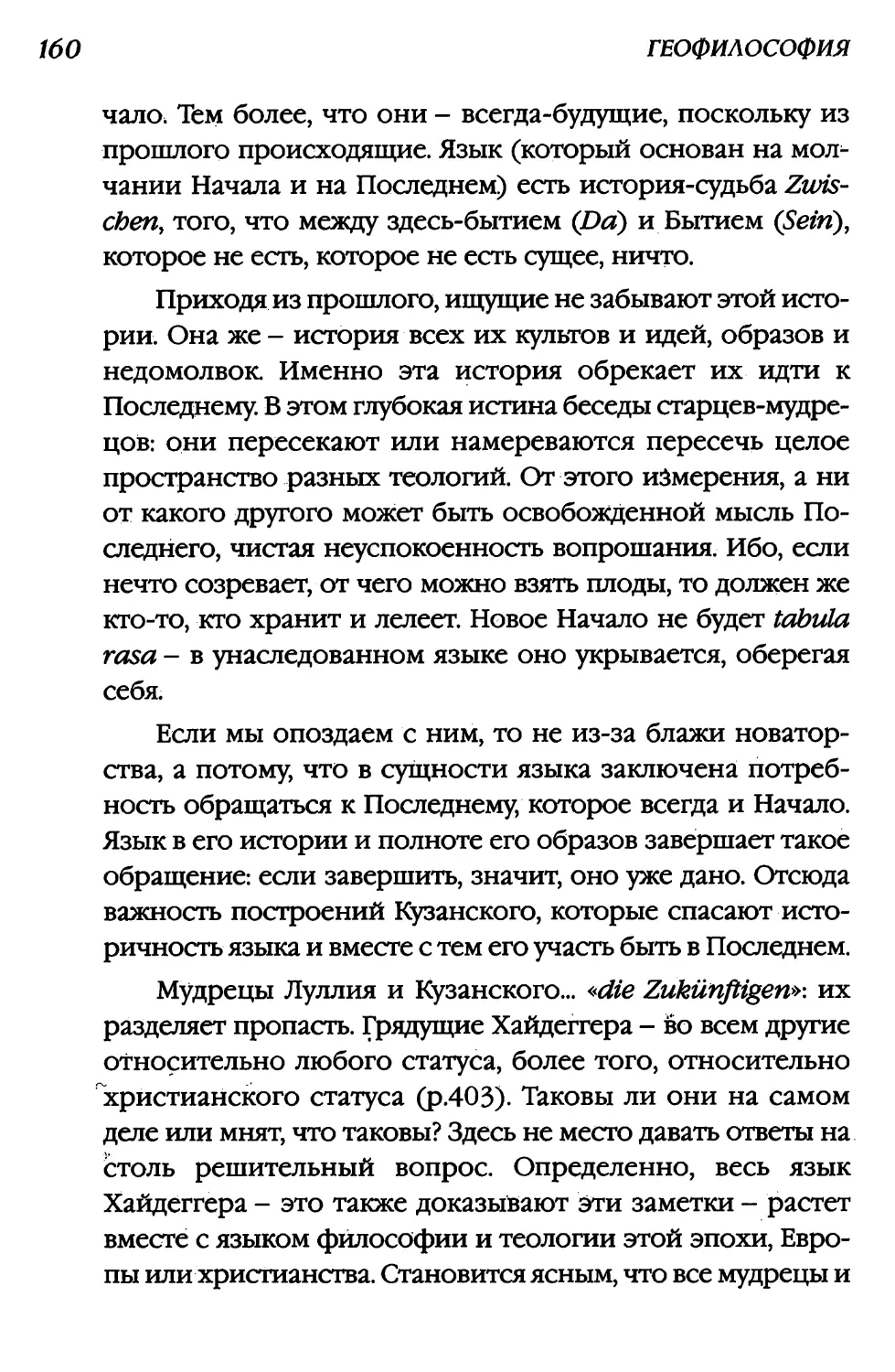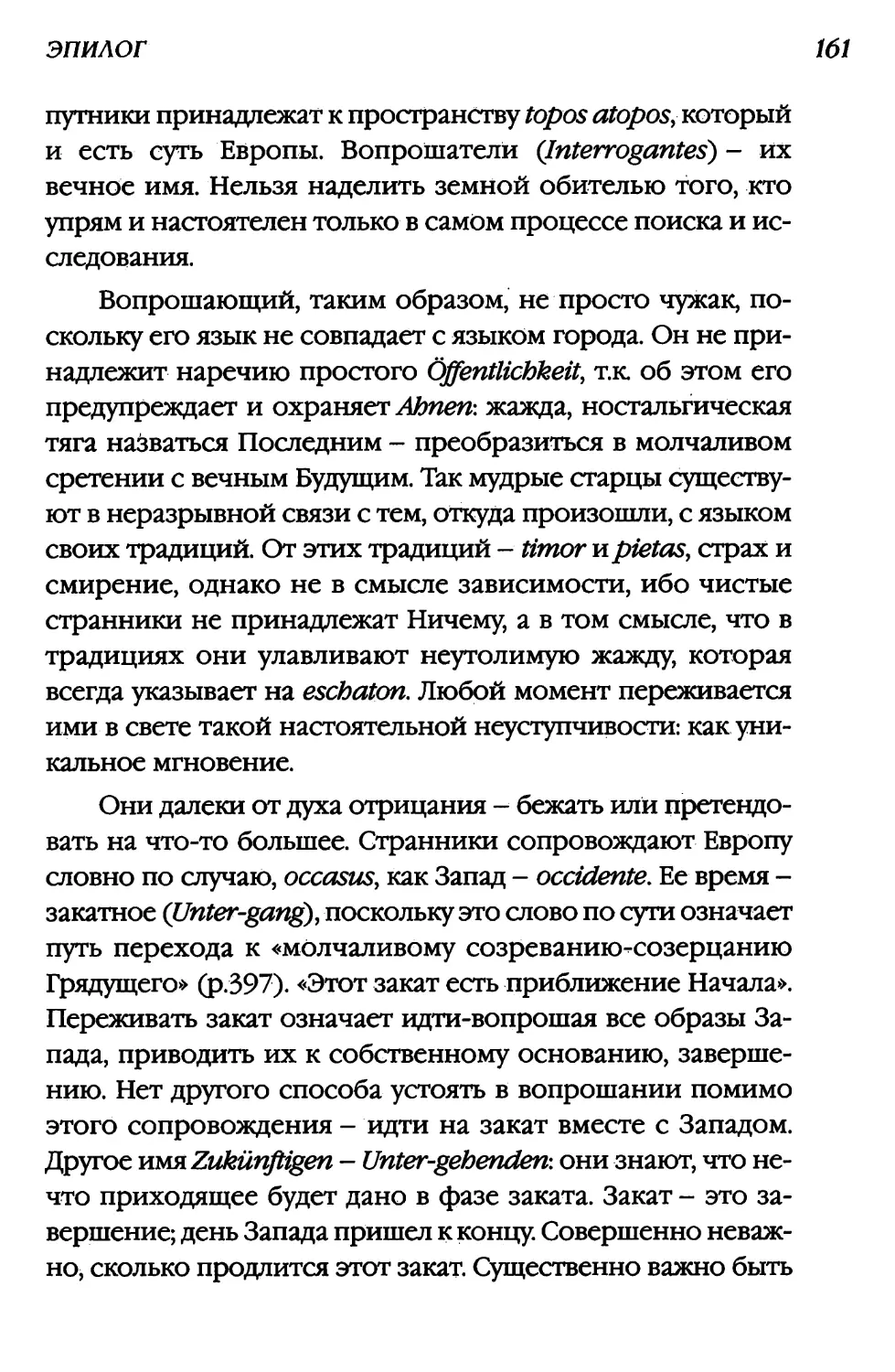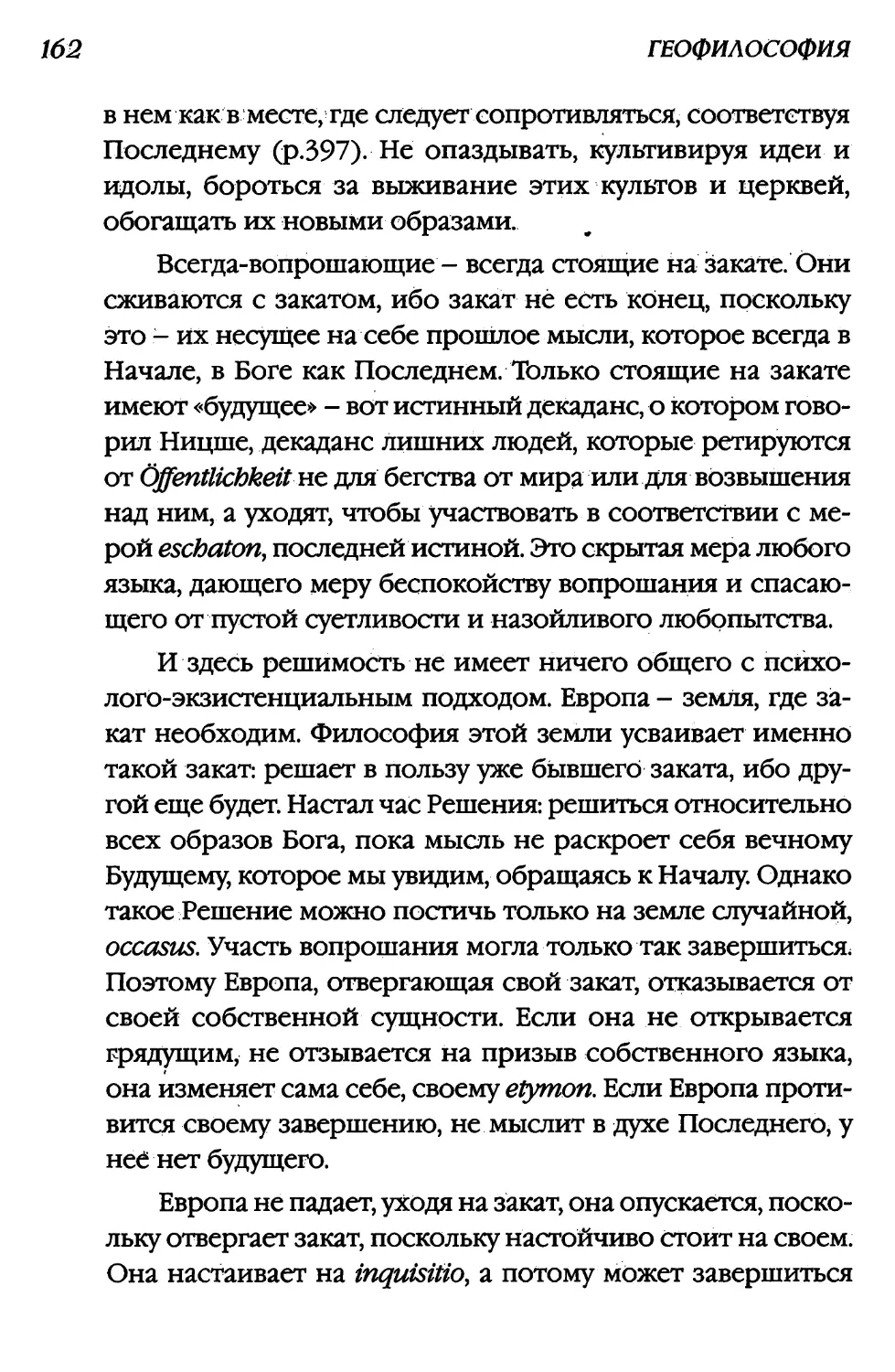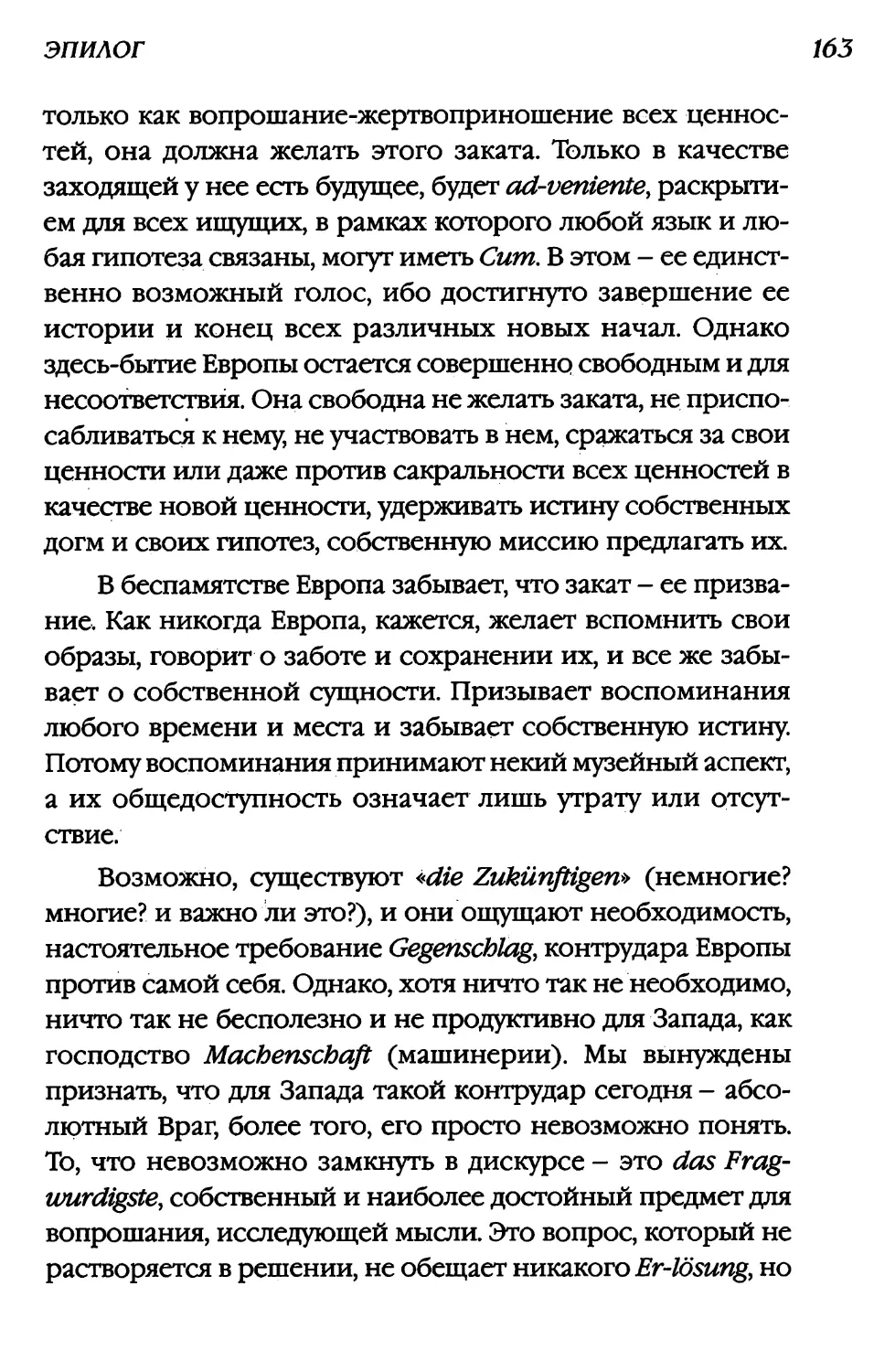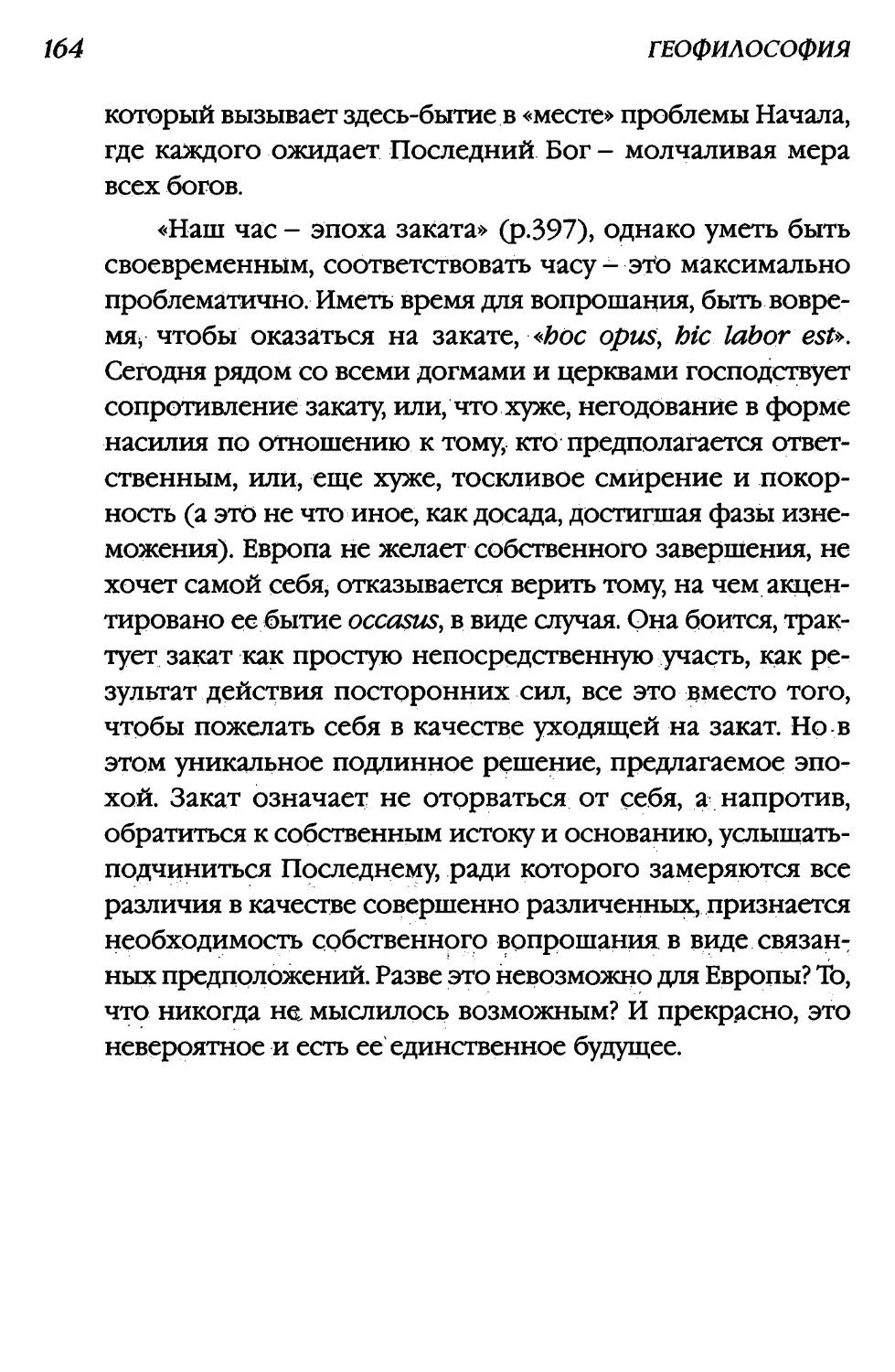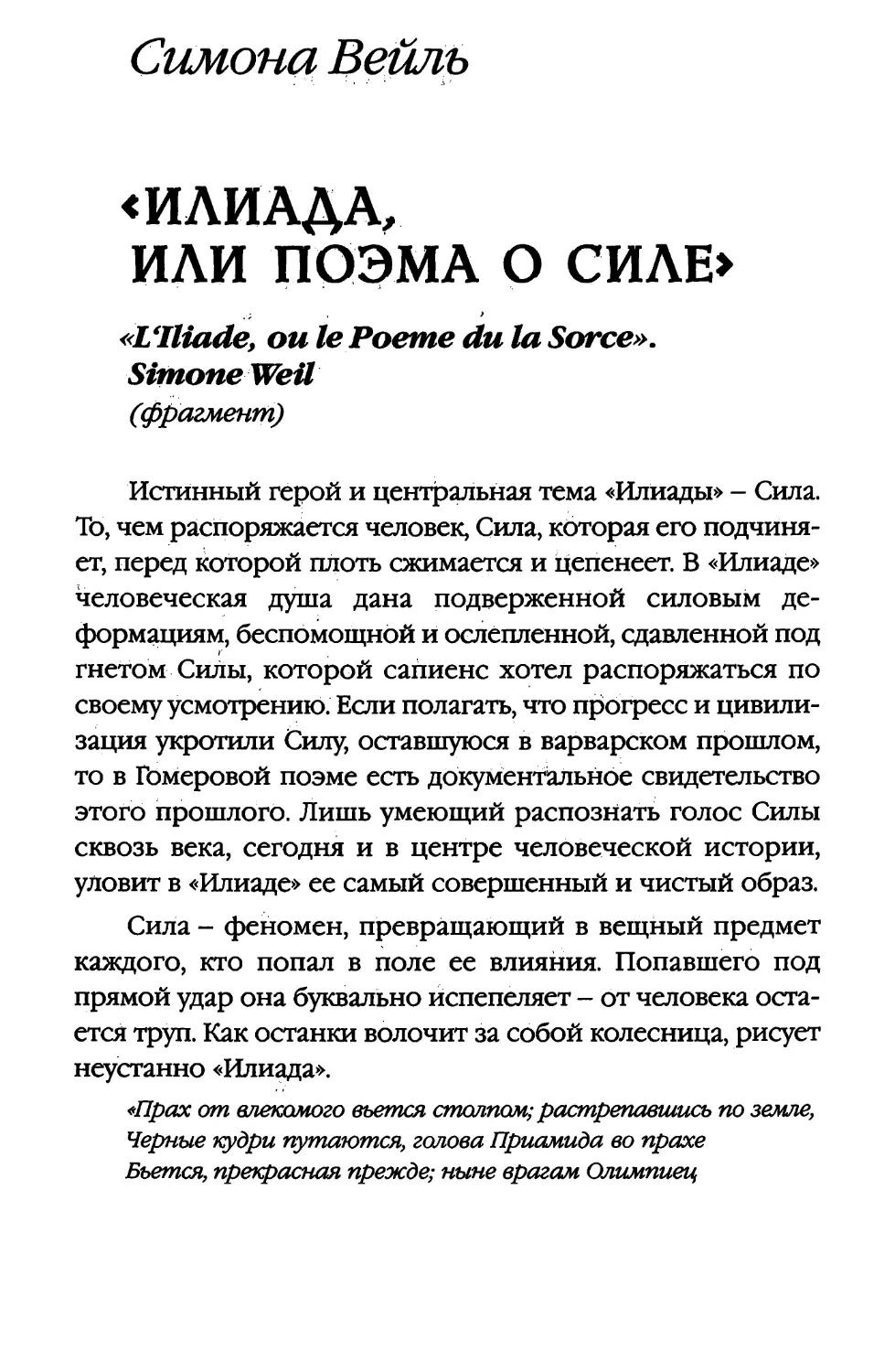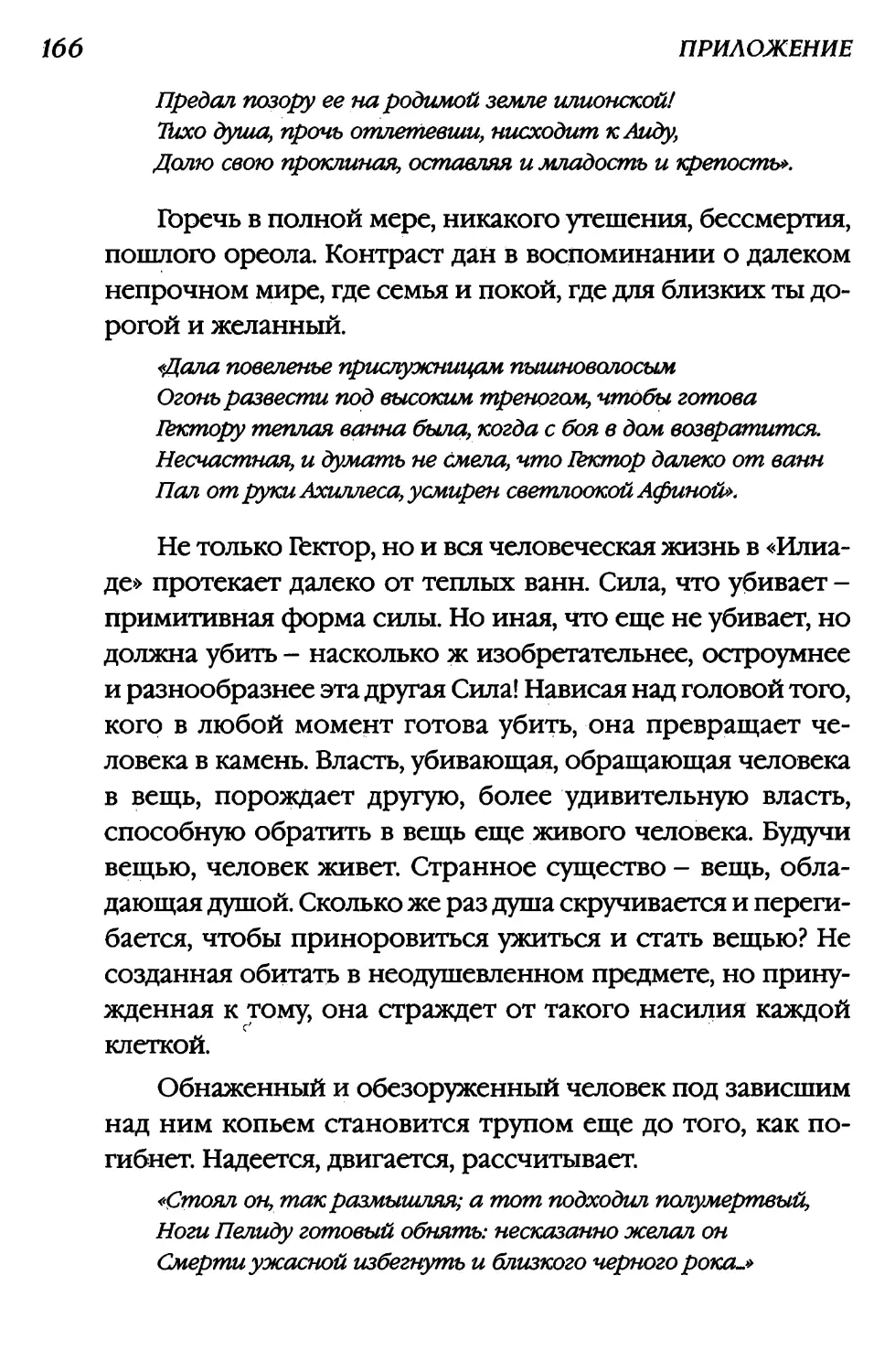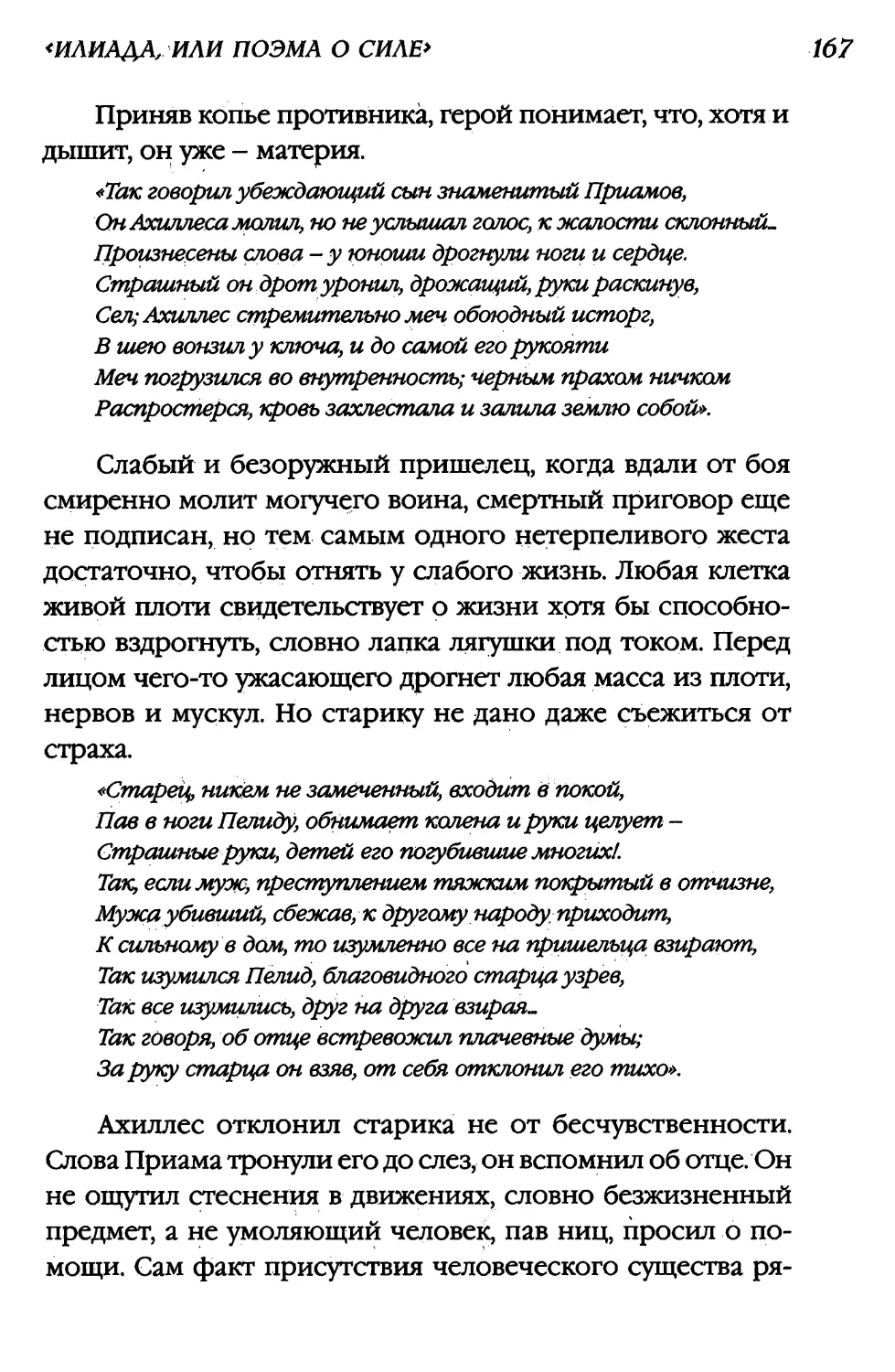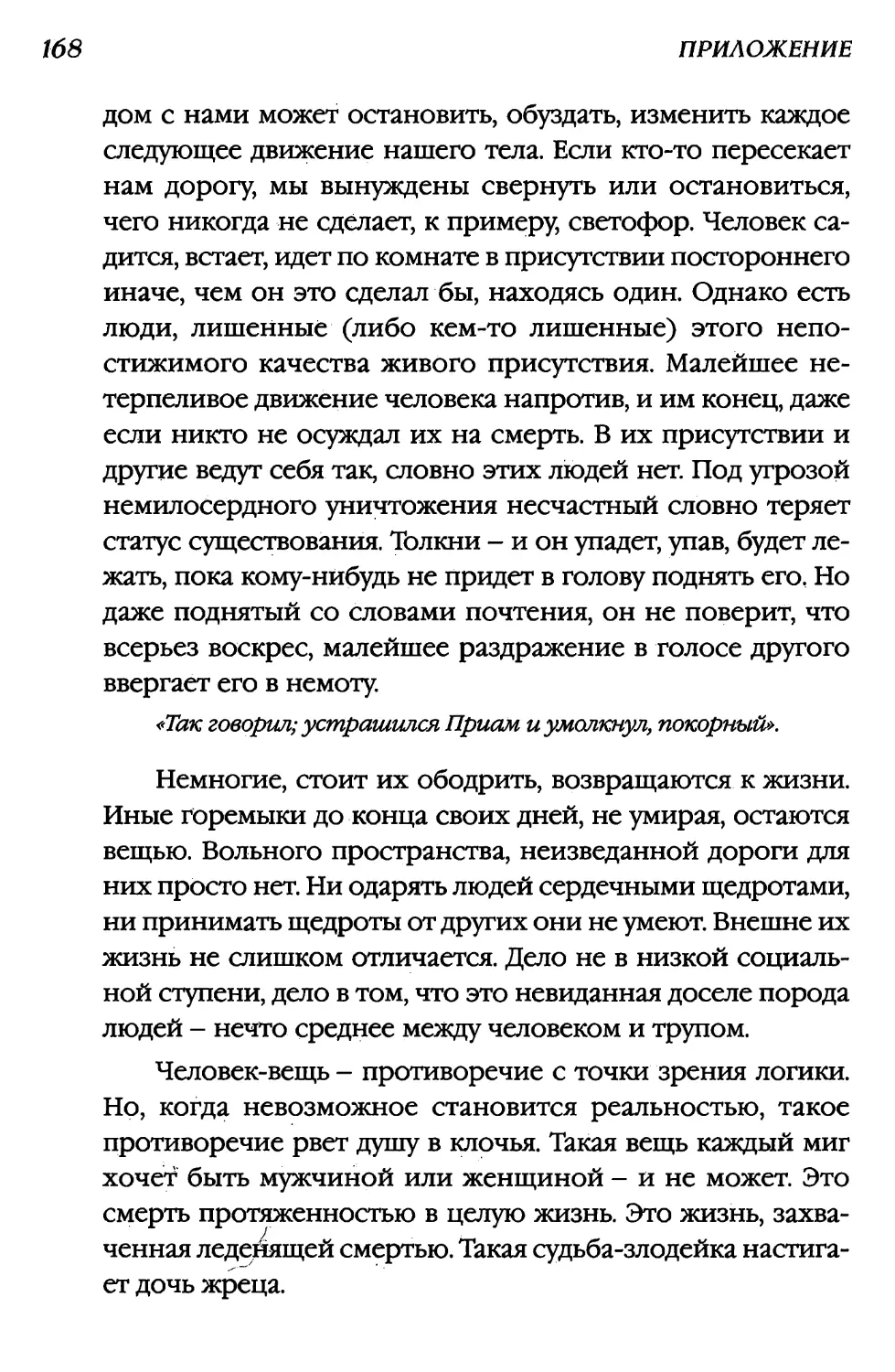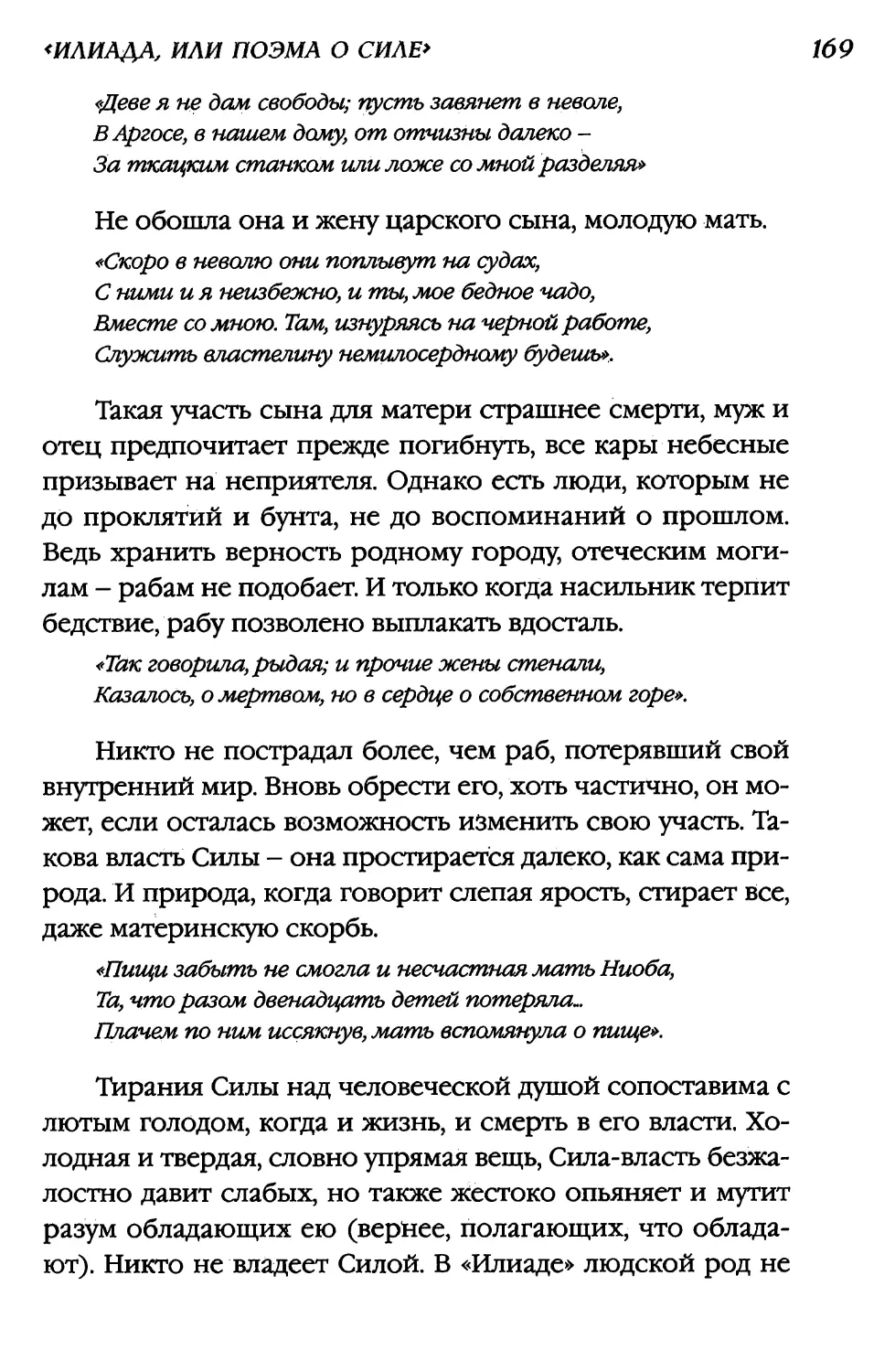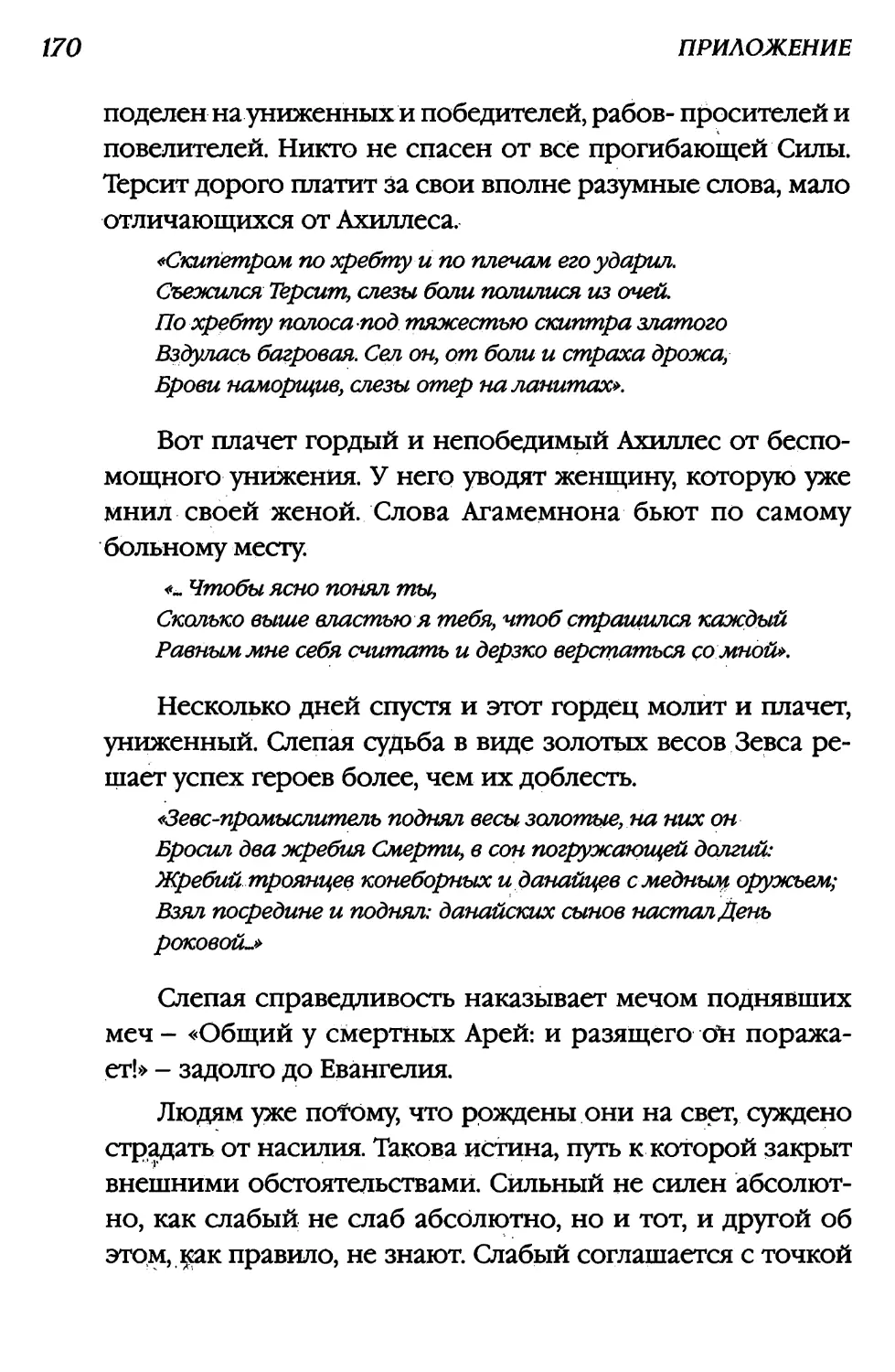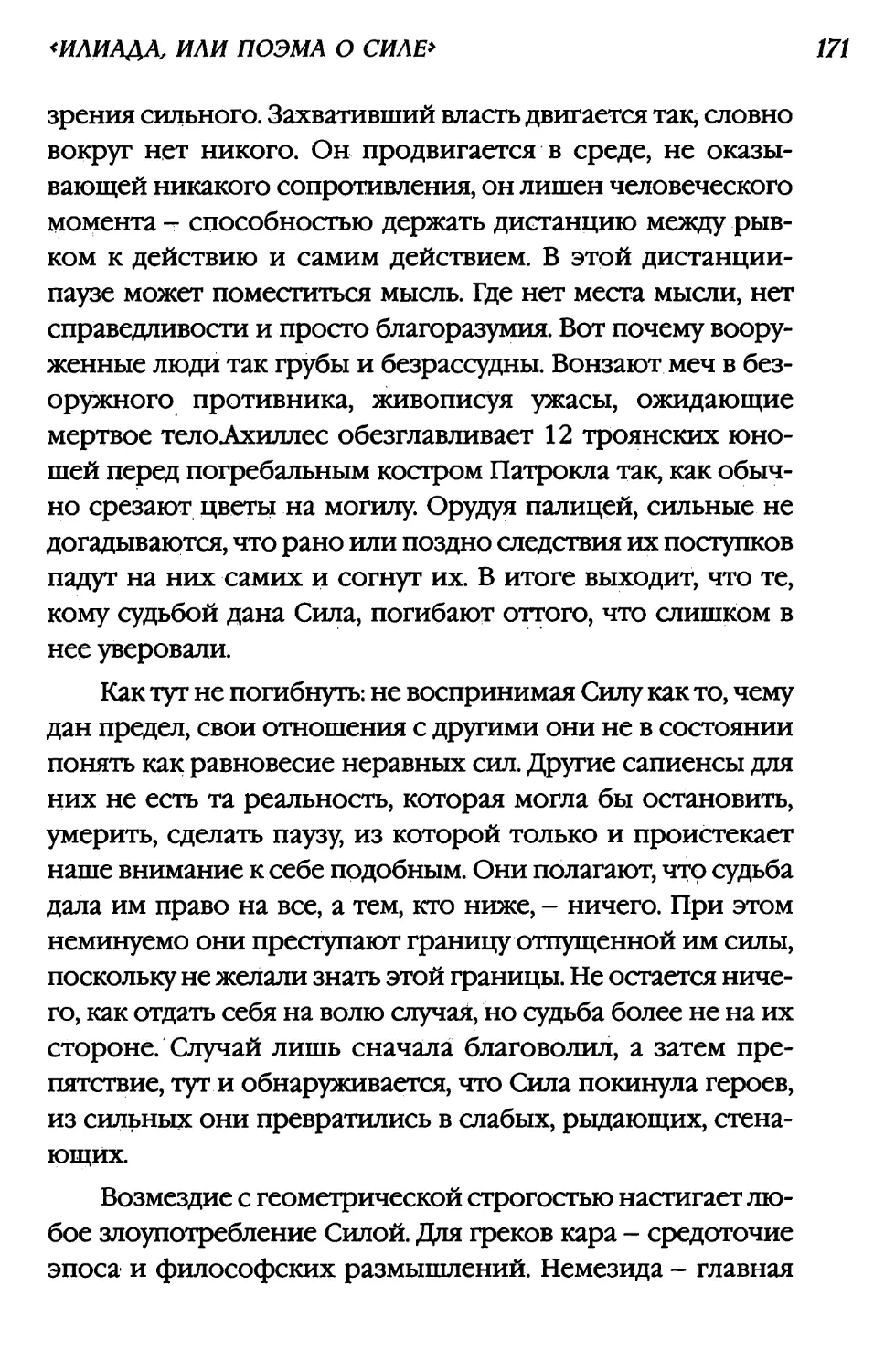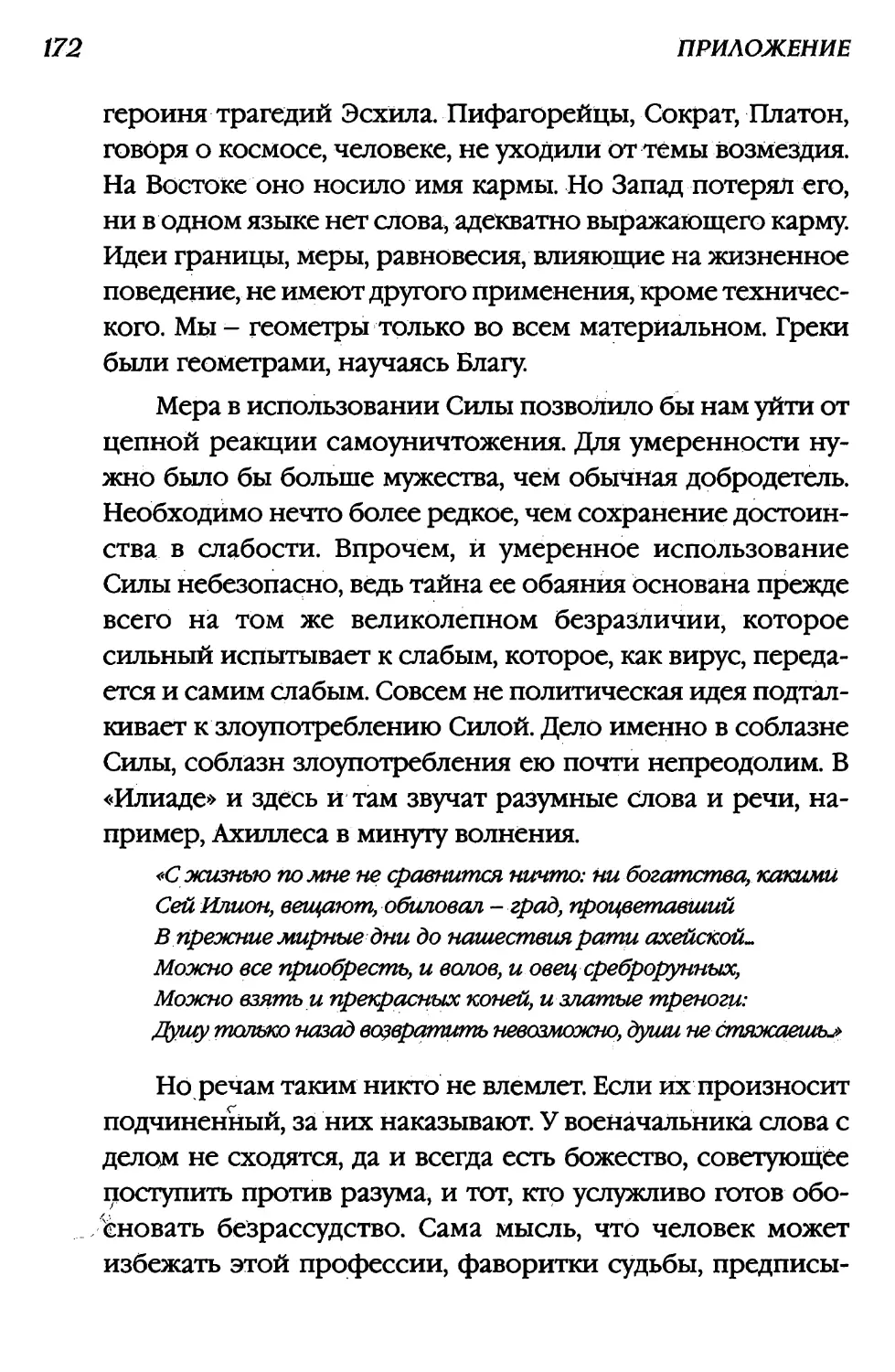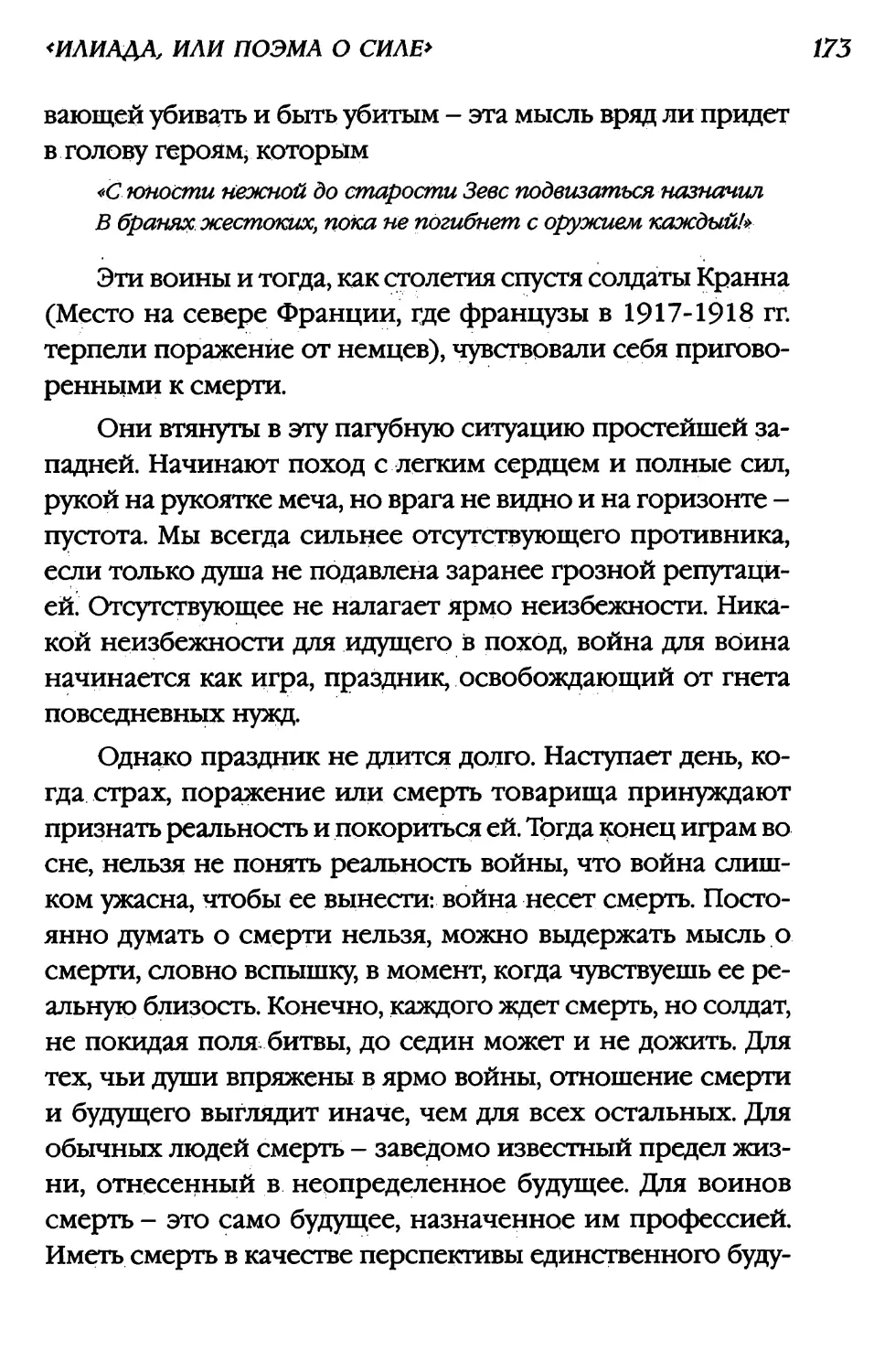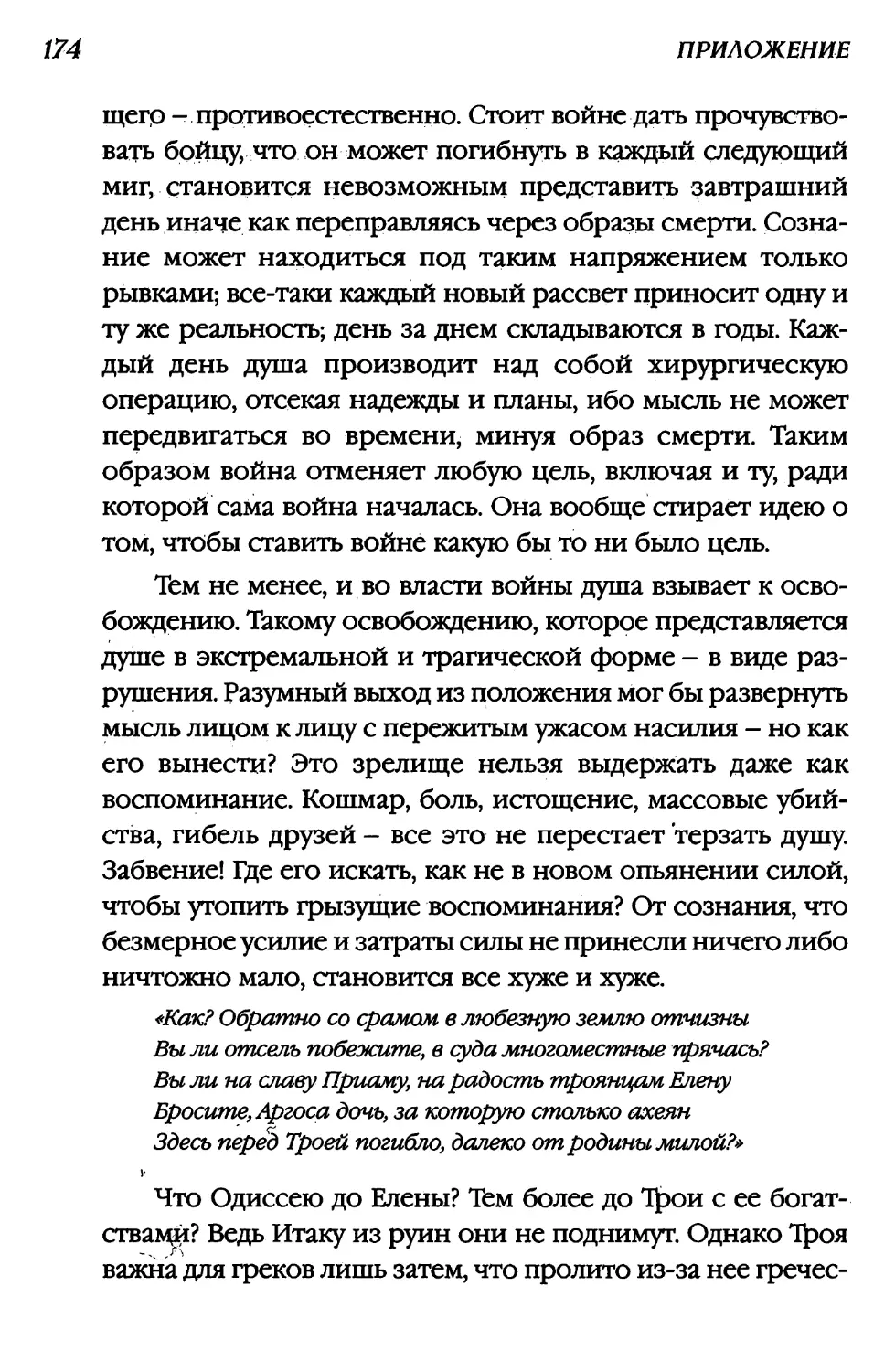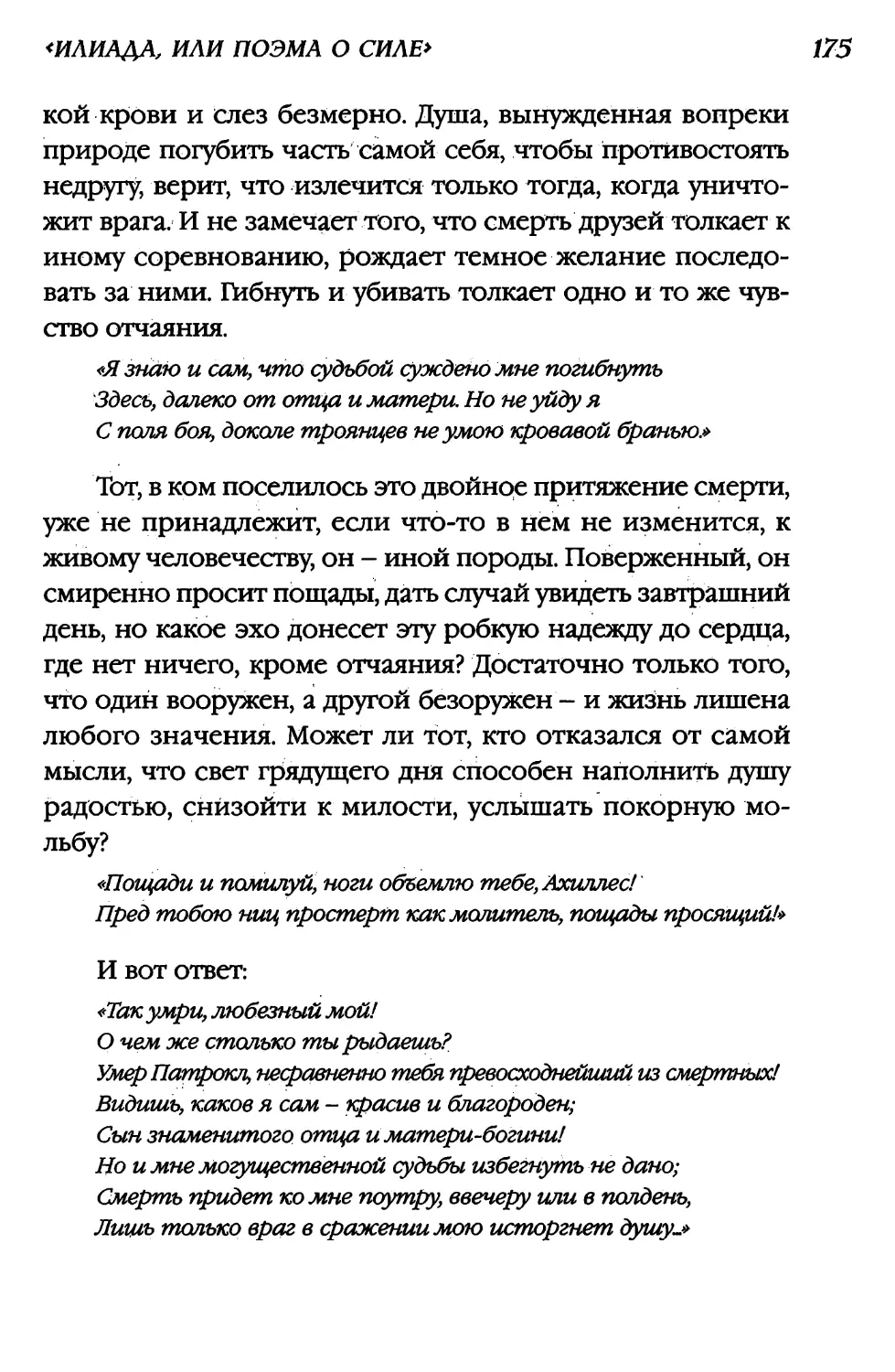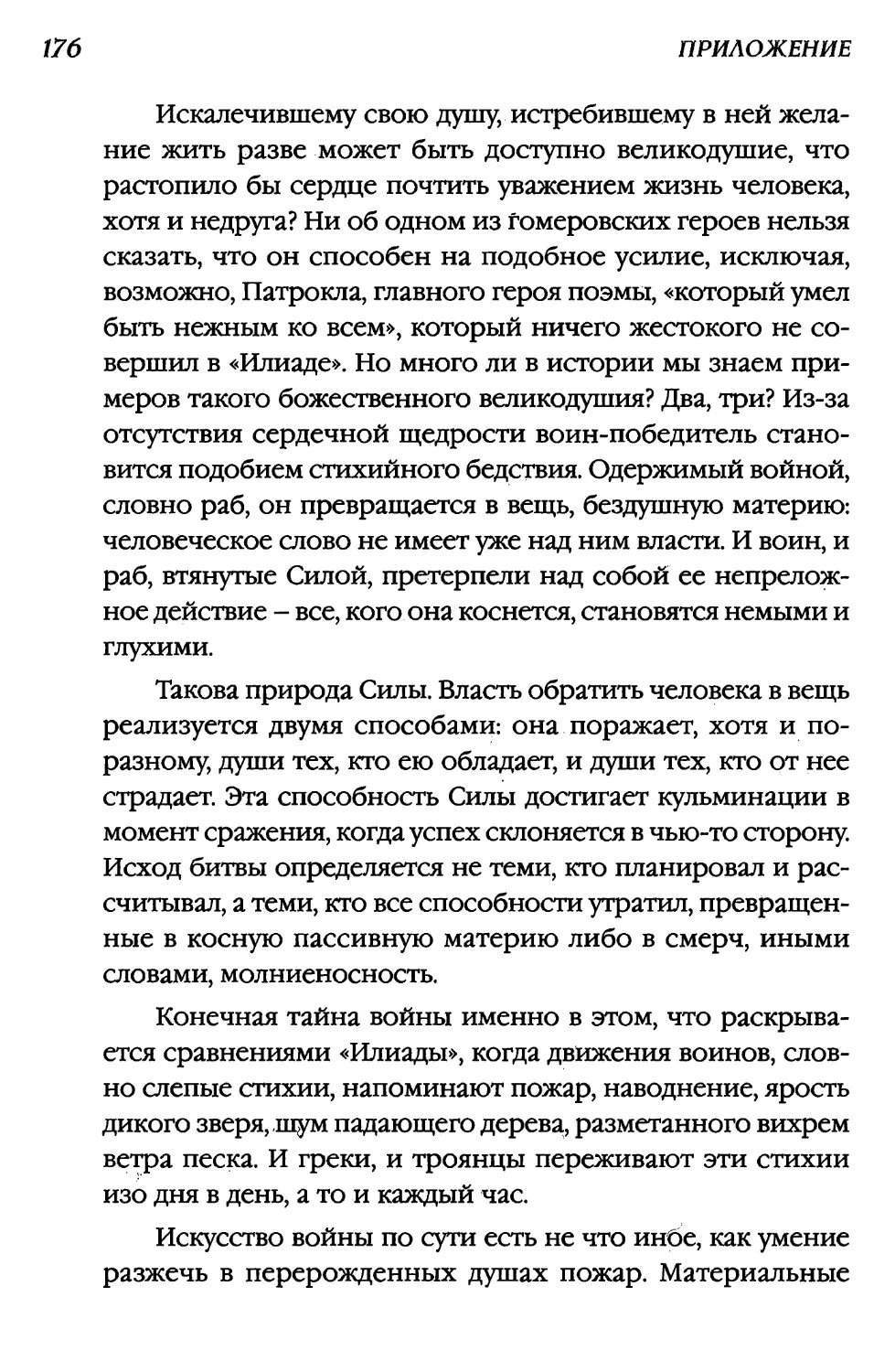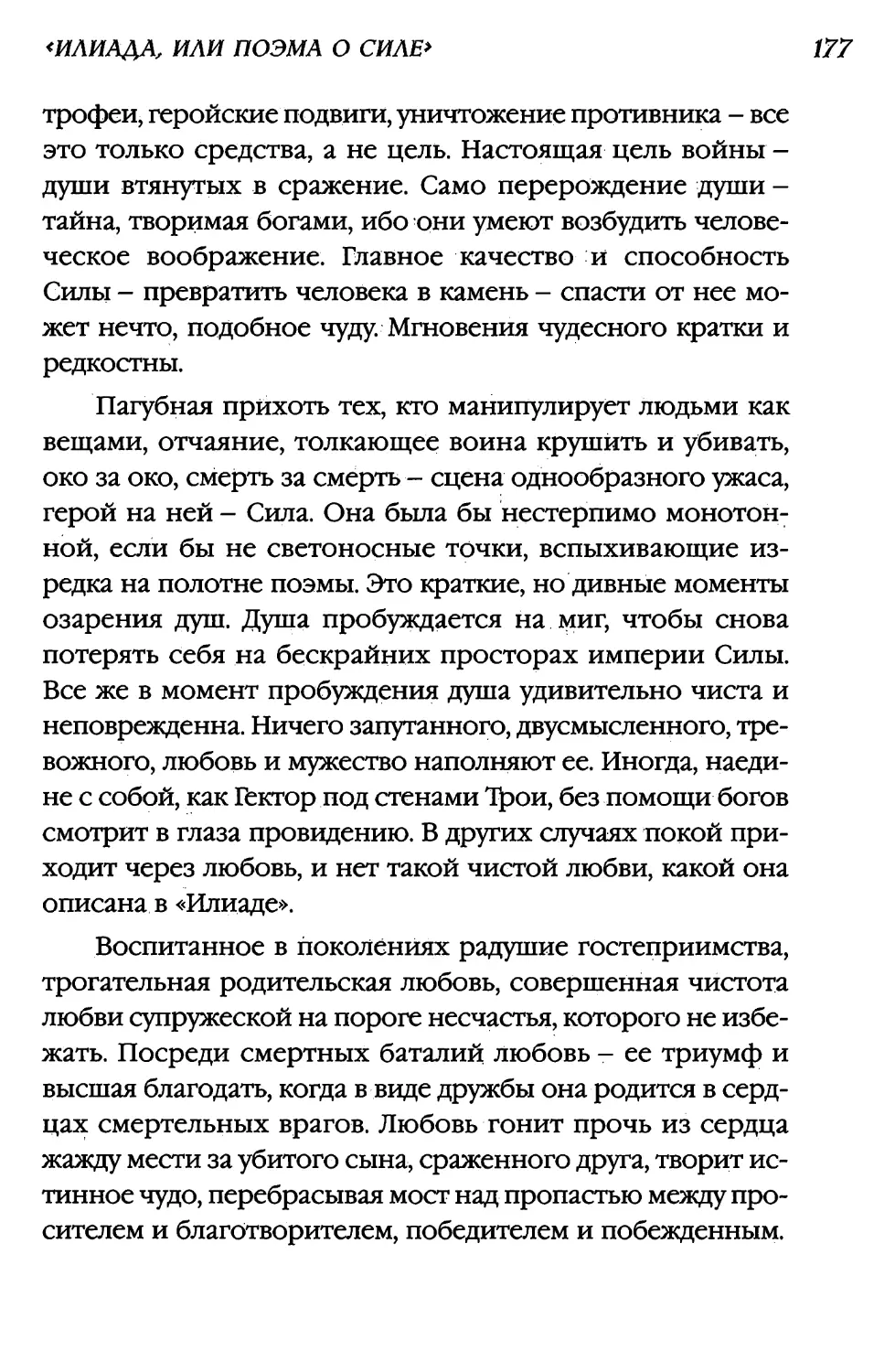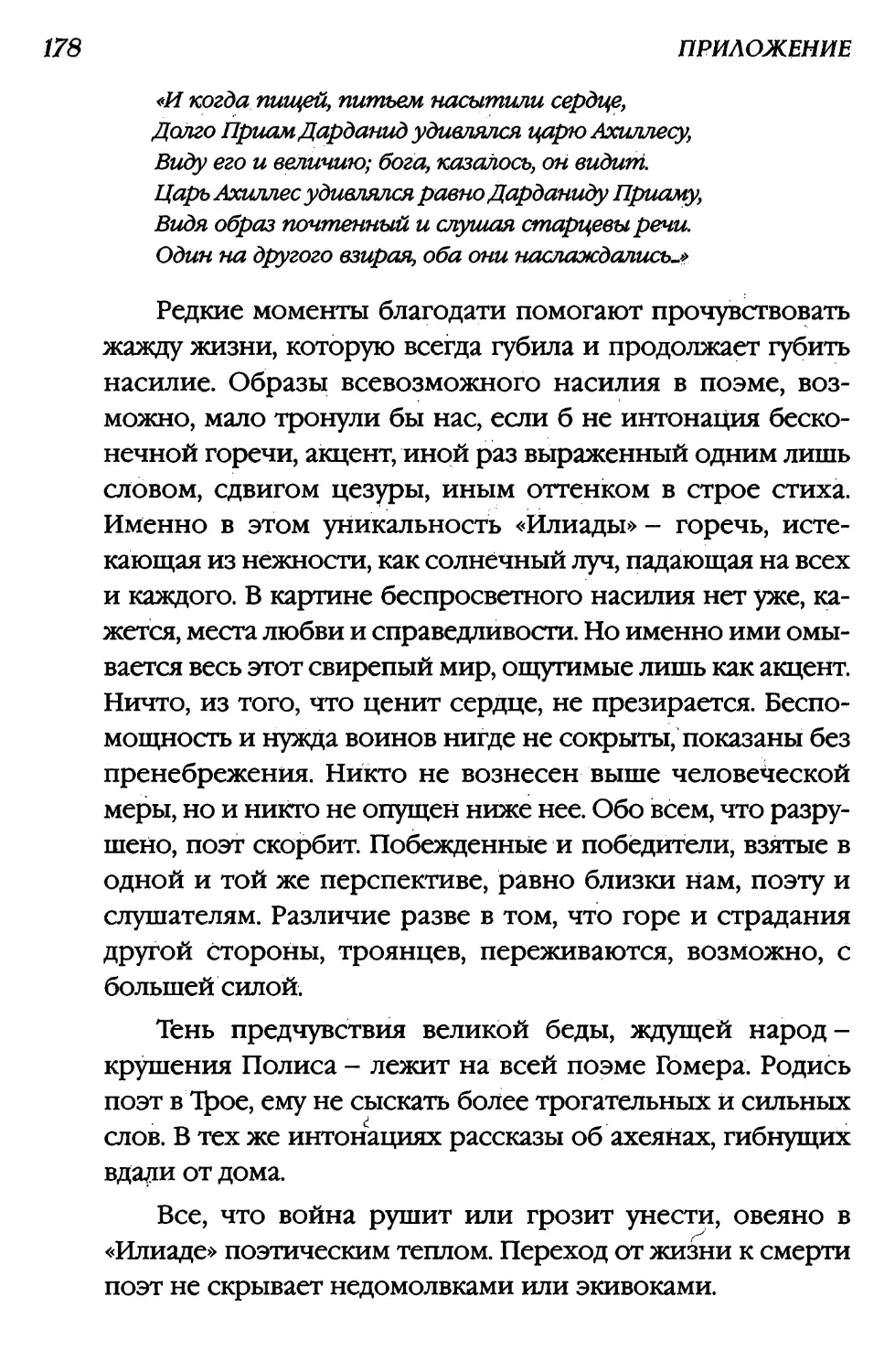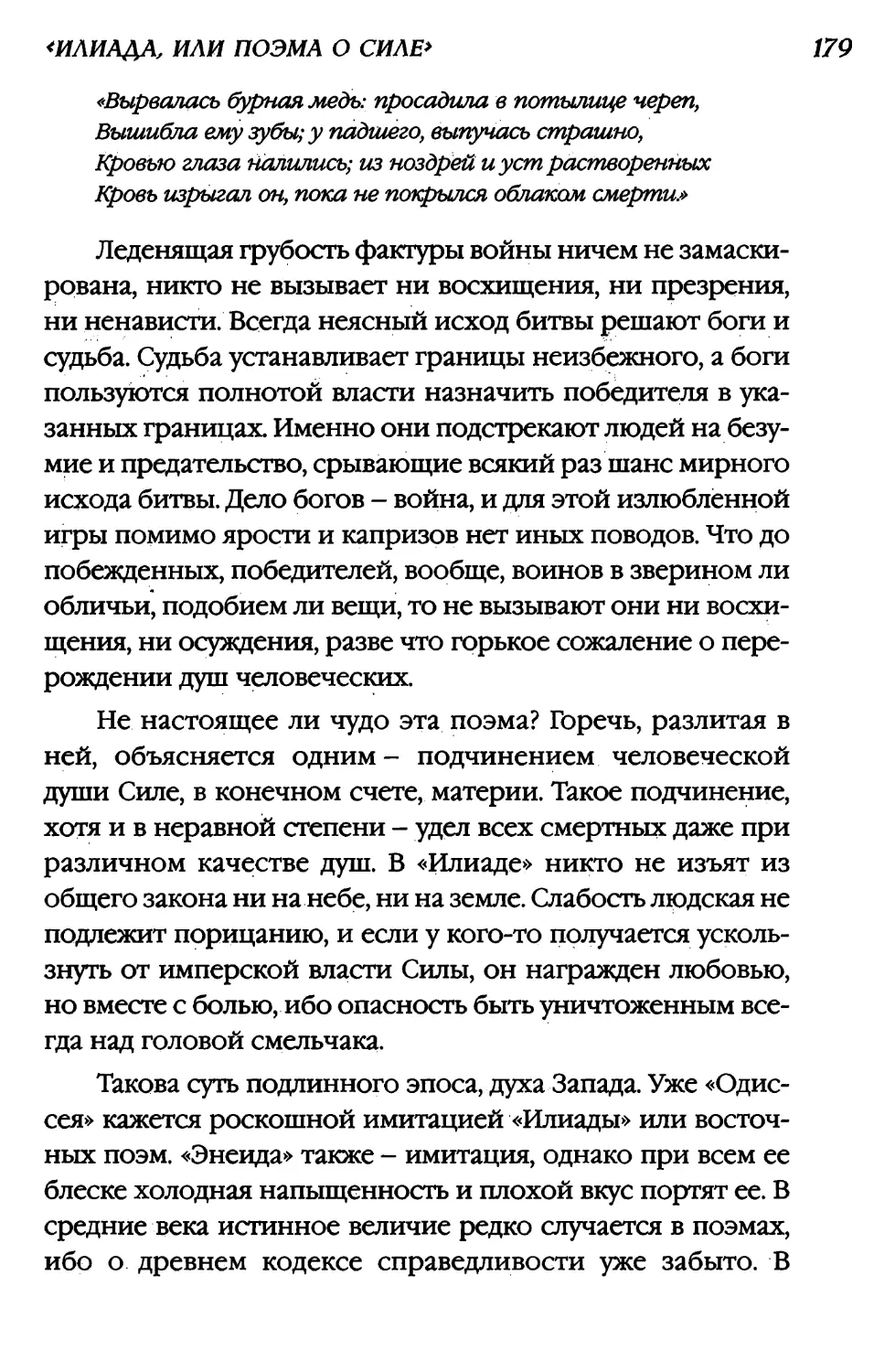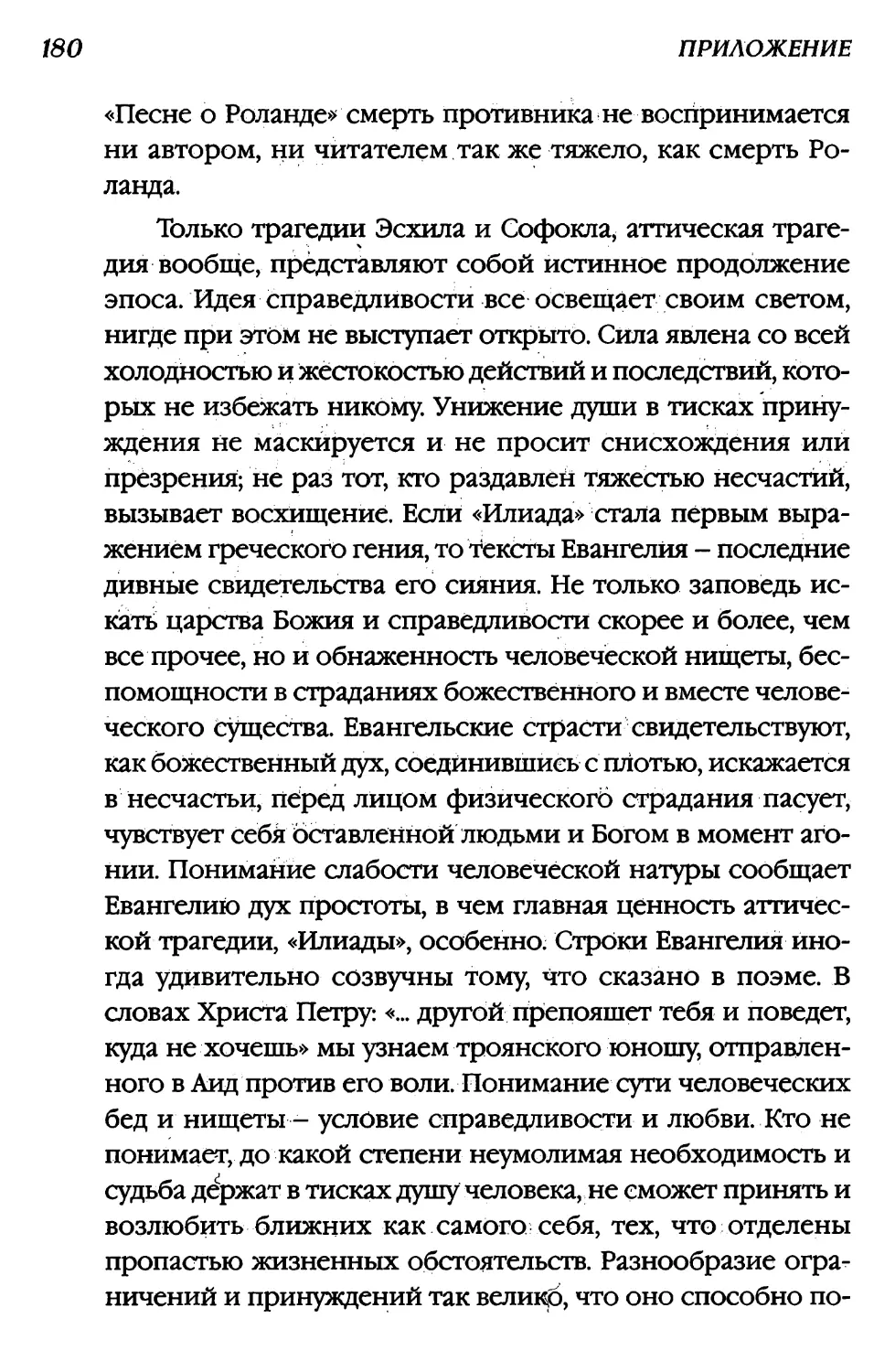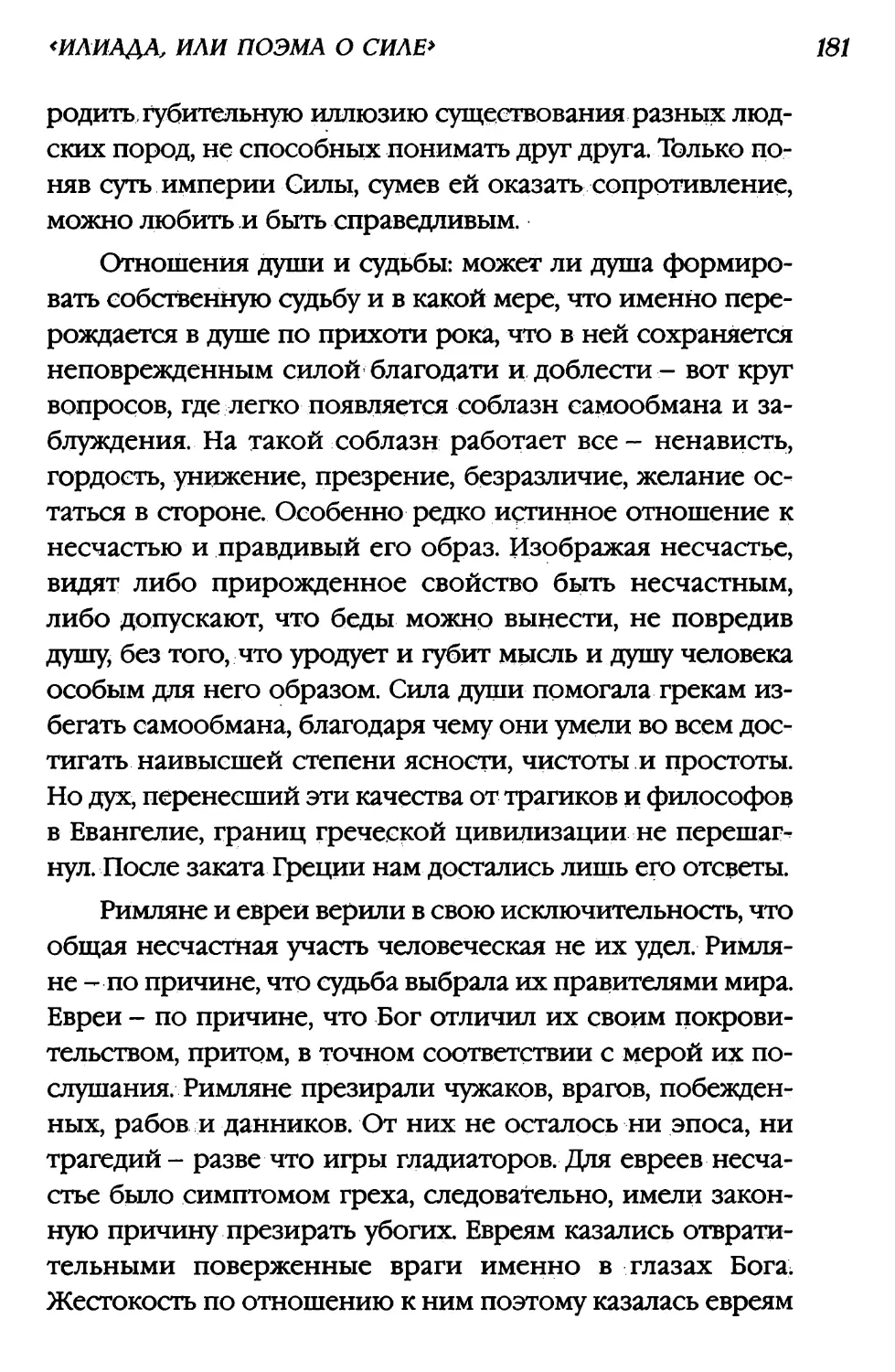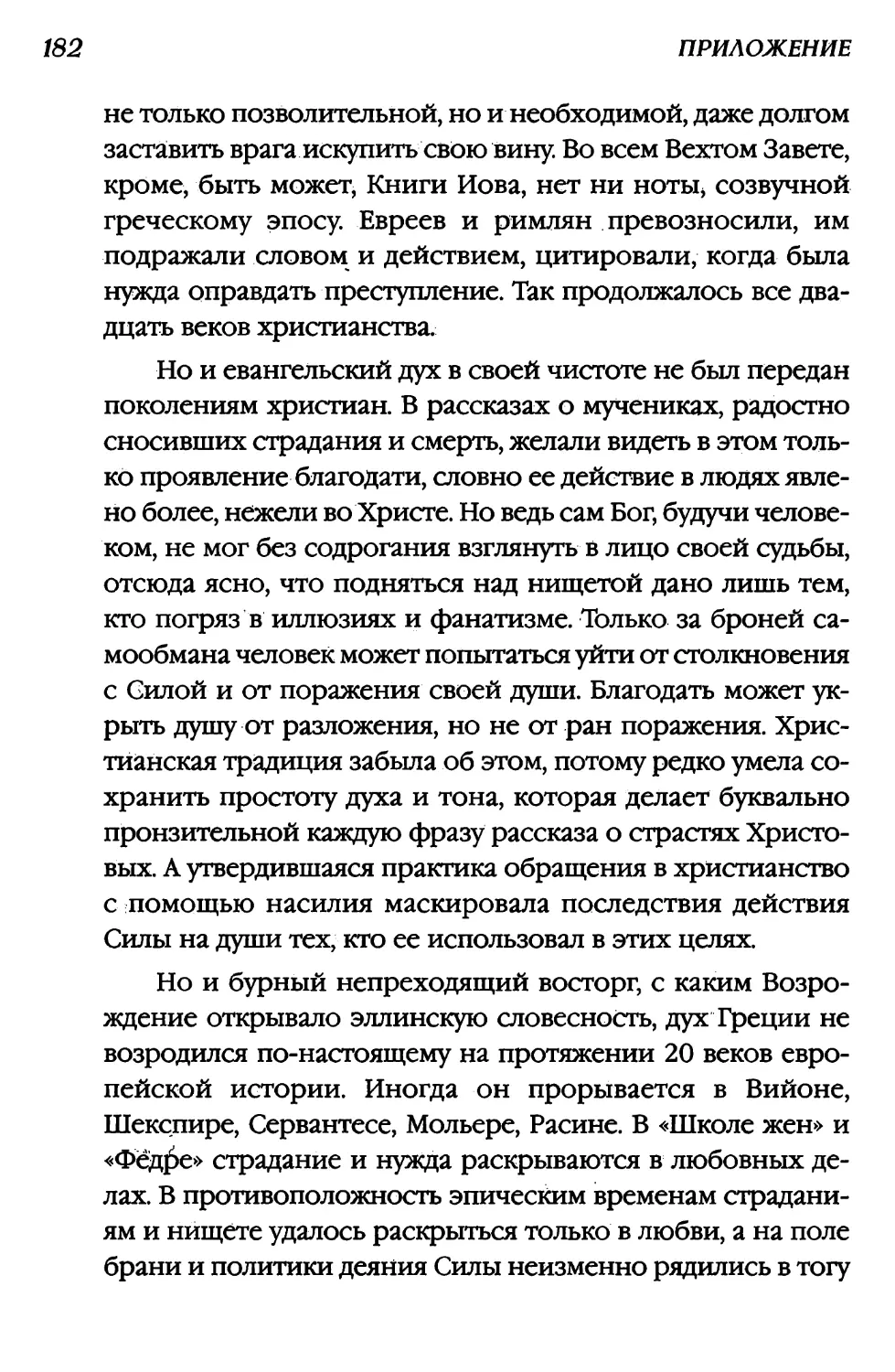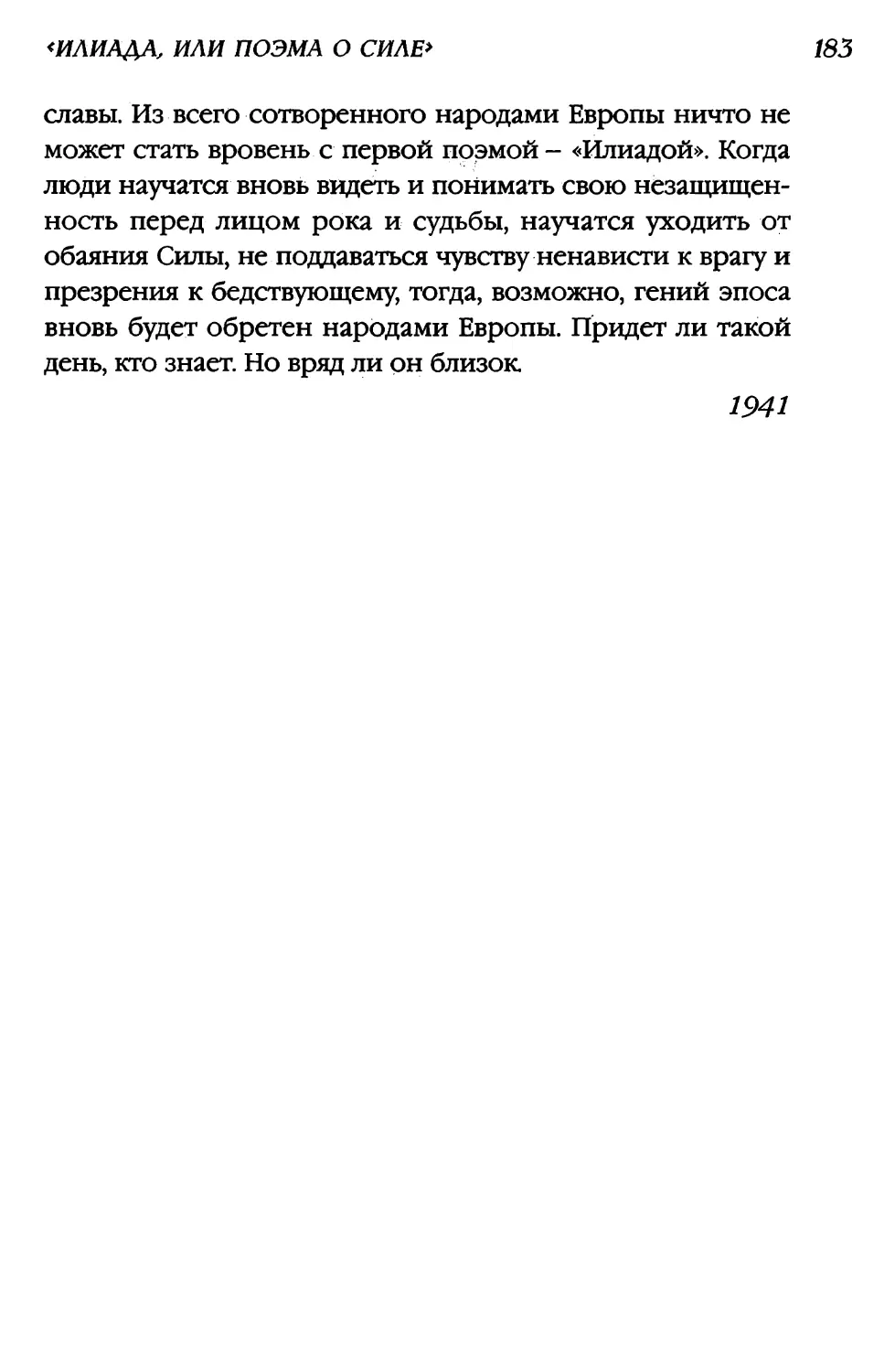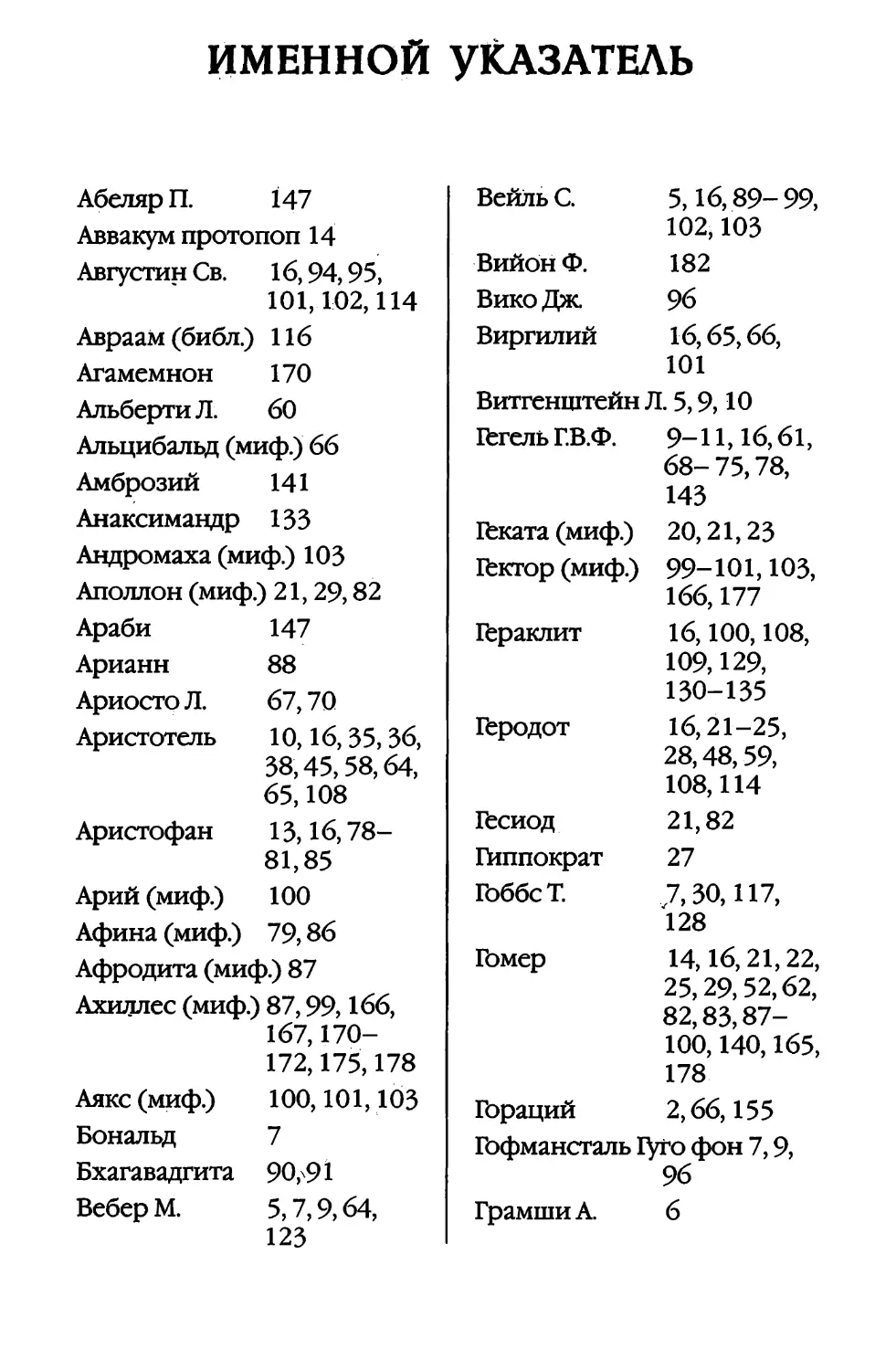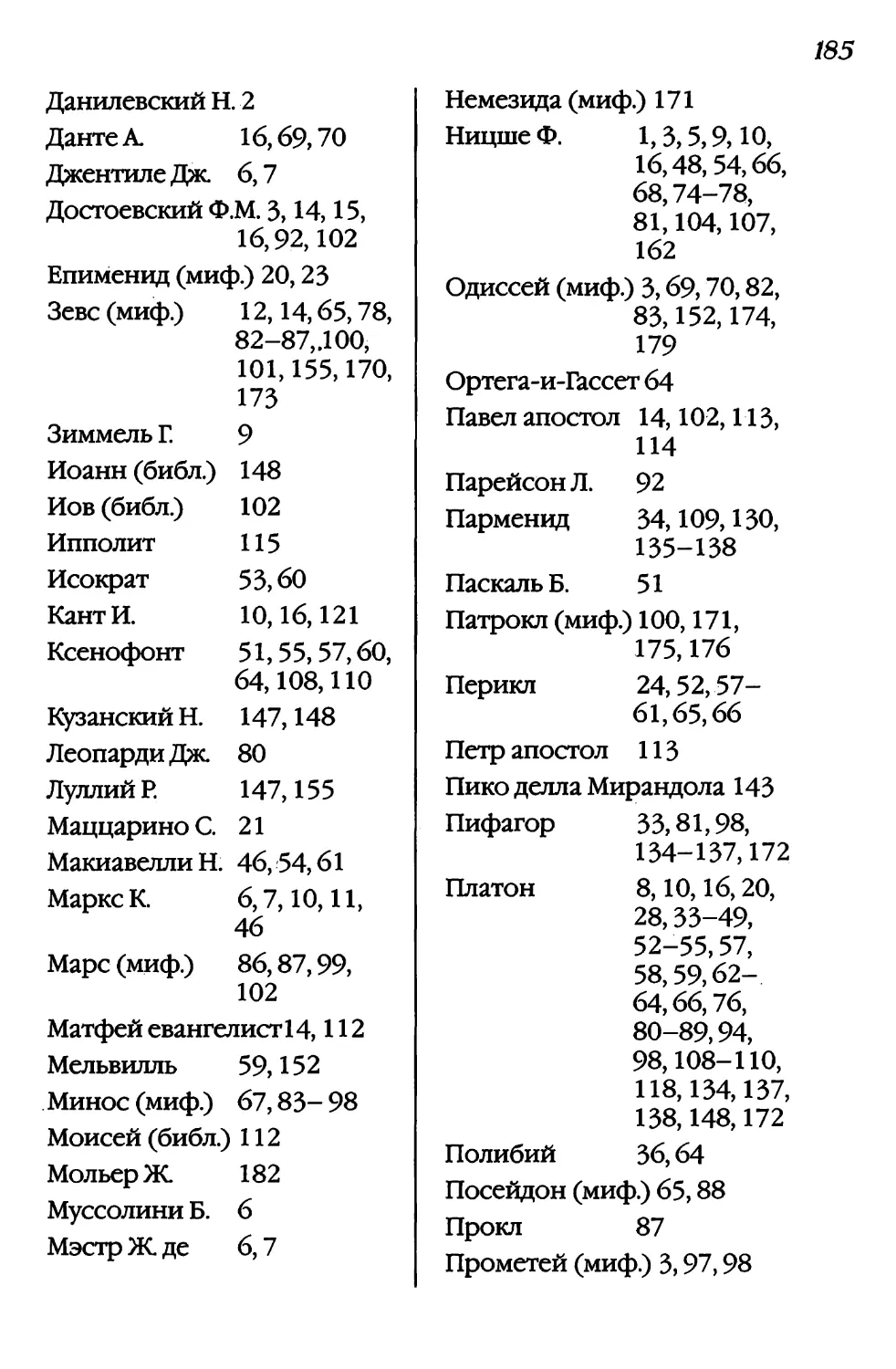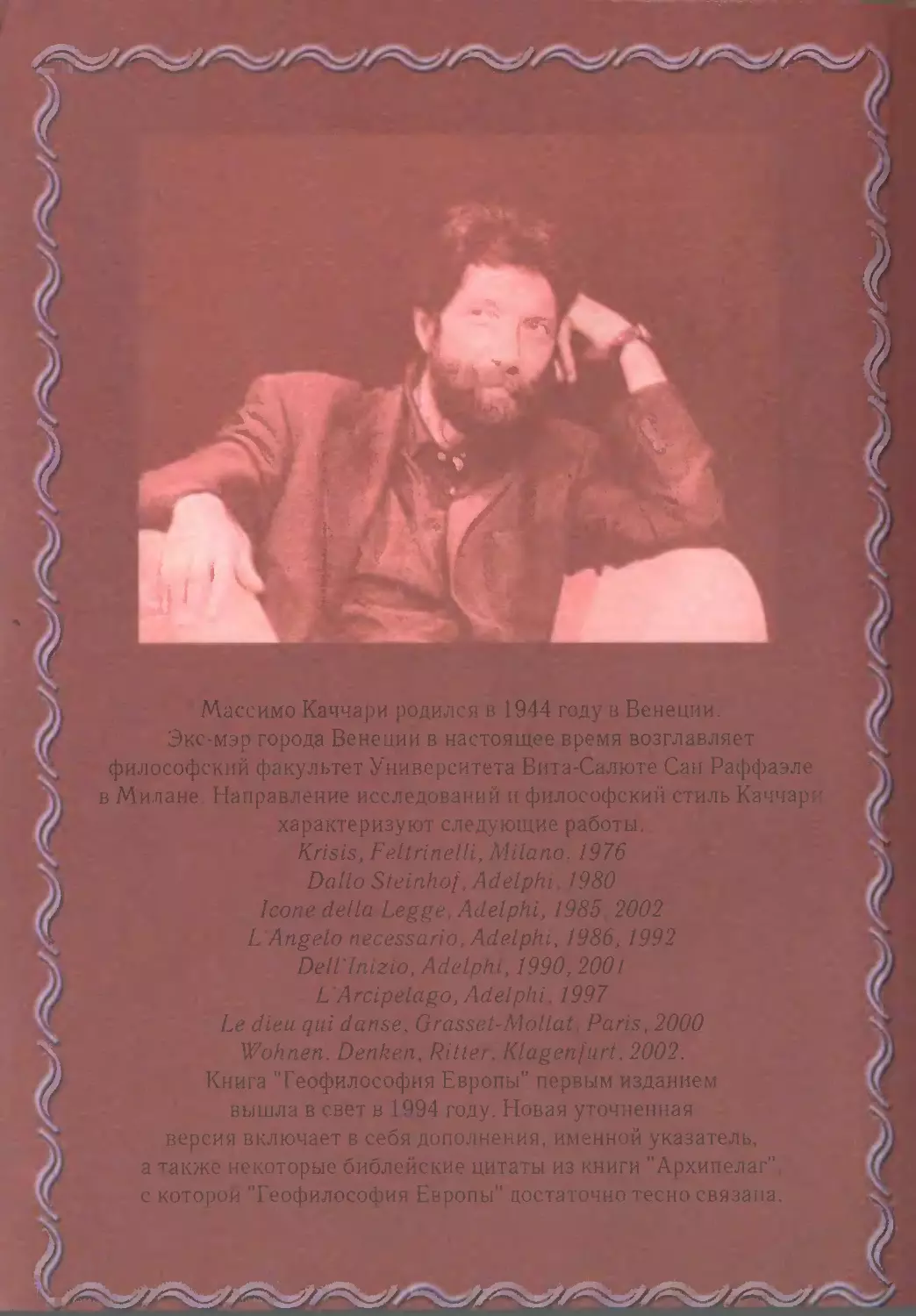Автор: Каччари М.
Теги: история философии европейская философия деконструкция переводная литература философы пневма геофилософия
ISBN: 5-901151-12-7
Год: 2004
Текст
Массимо КаччариГЕОфИЛОСОфИЯЕВРОПЫПНЕВМА
ББК 87.3 (4 ита)УДК 301
К 30
М 21Массимо Каччари
ГЕОФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЫ.Перевод с итальянского и предисловиеС. А. Мальцевой, С-Петербург, «Издательство «Пневма»,2004.Massimo Cacciari, Geofilosofia dell'Europa,Adelphi Edizioni, S.PA, Milano, 1994, 2003Книга представляет собой опыт философской реконструк¬
ции истории Европы с точки зрения ее последних основа¬
ний, корней и искоренения ценностей, войны и мира. Тема
«восхищения неба» и ожидания последнего Творца в диалоге
трагического голоса античности с этосом модерна.Предназначается для студентов, аспирантов, преподавателей
гуманитарных вузов и широкого круга читателей.© САМальцева, перевод, предисловие, 2004
© ООО «Издательство «Пневма»ISBN 5-901151-12-7Заказы направляйте по e-mail
svetlana.maltseva@paloma.spbu.ru
ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие (С. А. Мальцева)«Тихие думы» Массимо Каччари 2I. ГЕОФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЫ .! .....171. Решающие годы 182. Две кобылы 24II. ВОЙНА И МОРЕ 351. Платон-реалист 352. Рассуждения о hybris (зависти) ,473. Талассократия 534. Смех 74III. ГЕРОИ 821. Судьи и герои 822. Потерянная Венеция 883. Дуэль 96IV. НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬ 1041. Неблагодарный гость 1042. Искоренение номоса 1083. Закат холодных чудовищ 117V. ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНА 1291. Насилие и гармония 1292. Терпимость и нетерпимость 1393. Проект мира 146ЭПИЛОГ 156Приложение
Симона Вейль«Илиада, или поэма о силе» (фрагмент) 165Именной указатель 184
Ich habe den Geist Europasin mich genommen -nun will ich den Gegenschlag thun!Я вобрал в себя дух Европы -
теперь желаю нанести контрудар!Ницше,
Фрагменты
1879-1881, 8(77)
«ТИХИЕ ДУМЫ>
МАССИМО КАЧЧАРИМуж твой сам Юпитер.Гак брось роптать,великий жребий несгь учись;ведь ты даруешь имя.части света.Горашй, Оды, кн. 3, 27, 74.Геофилософия?.. Российский читатель, привыкший к
терминам типа геополитика, может спросить: что значит
философия с приставкой гео? Философия Земли? Земное
пространство Философии? Неполитологические (т.е. за вы¬
четом политехнологий) размышления о метафизике Поли¬
тики? Думается, в контексте мысли Каччари сама филосо¬
фия (как архипелаг) уподобляется океану, в безбрежную
даль которого уходит мыслитель или просто искатель при¬
ключений, которому рыбачить, возможно, удобнее с по¬
мощью сети вопросов и сомнений. Ведь иные технологии,
апробированные позитивистски настроенными умами, се¬
годня не так убедительны, как прежде.Закатный путь архипелага под названием Европа... Вой¬
на и море, искорение Закона (Номоса) и утрата корней,
техника и архе, герои и судьи, насилие и тоска по гармо¬
нии. На тему Заката Европы написано немало. Перед нами -
новый опыт осмысления исторической судьбы грандиоз¬
ной культуры на фоне взаимодействия географических
факторов.Впрочем, уже в первом приближении к тексту «Гео¬
философии» становится ясно, что апокалиптический тон и
круг интересов Шпенглера и Данилевского остаются дале¬
ко э стороне.
ПРЕДИСЛОВИЕКаков он, лик культуры, воздвигнутой «силой разума и
права - всечеловеческих начал», которой, по выражению
Владимира Соловьева, недаром дан небесный Прометея
дар? Узнаем ли в нынешнем европейце черты последнего
человека, описанного Ницше, или человека из подполья
Достоевского, или «homo democraticus» де Токвилля? Какова
роль островного положения европейского архипелага в
образовании странного смешения требования автономии,
с одной стороны, и сервильной потребности во всесторон¬
ней и безусловной защите от всего непонятного и потому
заранее ощущаемого как неблагоприятного, с другой сто¬
роны? Звездные друзья-конкуренты в качестве островов
архипелага (европейских государств) временами кажутся
проблематичной компанией, частями отсутствующей об¬
щей родины, но не поиск ли этой самой общей родины и
объединяет их?Открытие сущности метафизики возможно лишь в мо¬
мент, когда сама метафизика достигла финала. Здесь и на¬
чинаются рифы-опасности, характерные для конца долго¬
го пути. На помощь приходят мифологические образы
Сциллы и Харибды, охраняющие морские пути от слишком
смелых мореходов, вспомним, рассказы о мытарствах
Одиссея...В случае с закатным ходом архипелага, пожалуй, Сцил-
ла могла бы символизировать опасность, с одной стороны,
закрепления национальных границ пространства при по¬
мощи жесткой иерархической бюрократической структу¬
ры и, с другой стороны, образ Харибды - фантом экономи¬
ческого индивидуализма в современных идиотических
формах, изуродованных господством так называемых уни¬
фицирующих технологий.Техника делает последний шаг на пути элиминации
различий между подлинной реальностью и т.н. «эмпири¬
<ТИХИЕДУМЫ> МАССИМО КАЧЧАРИческой». Разница между миром подлинного и совокупно¬
стью артефактов прежде служила основой онтологическо¬
го различения, препятствовавшего «слипанию», уродливым
формам симбиоза. Господство так называемой организа¬
ции (системы) узаконивает технику как тотальный миро¬
вой порядок. Бытия больше нет, как нет тех, кто еще полага¬
ет себя существующими в бытии. Позволено быть лишь
тому* что разрешено волей - присвоено произволом —
организатора, производителя имиджей, технического ин¬
струментария.Имея дело всегда и только с формами неподлинного
существования, мы принимаем «одномерного человека»,
присоединяясь к общему мнению не потому, что оно верно,
а потому, что оно - общепринято, вместе с тем важно
другое. Именно то обстоятельство, что в любом случае, что¬
бы отказать классической метафизике в признании ее по¬
стулатов актуальными, мы снова и снова начинаем с нее как
точки отсчета. Тем самым, преодолевая и отвергая ее
определенность, мы признаем аутентичность метафизики
и вообще классики. Индивид прежнего метафизического
мира нес на себе бремя публичности в том смысле, что, бу¬
дучи носителем одного из признанных течений, он
публично и беспроблемно исповедовал соответствующие
идеи. При этом постепенно утрачивал себя как проект, свой
статус живого, а значит, меняющегося во времени, во¬
прошающего и отвечающего, т.е. ответственного. Пара¬
доксальность ситуации в том, что на деле любая позиция
может привлечь внимание только тогда, когда она стано¬
вится публичной, т.е. тотально расширяющейся и прони¬
цаемой в самоутверждении. С момента появления техники
как тотальности сети доводов достаточного основания все
становится рационально познаваемым, а значит,
поглощаемым организационной системой. Любое суще¬
ПРЕДИСЛОВИЕ5ство легко отождествляется с инструментальной функцией,
которую оно выполняет в соответствии с указанным опре¬
деленным местом. Более того, человека нельзя опознать и
определить его публичный статус иначе, как посредством
указания на инструментальность. Таким образом; непод¬
линное сознание становится единственно возможным
адекватным сознанием, когда исчезает сама разница между
вещью и знанием о ней, когда все бытие сведено к его
принадлежности к инструментальной системе, сама же
система - в руках оператора по определению.Так как же быть с живой порождающей мыслью или
тем, что от нее осталось?Подобными этим и многими другими «как и почему» в
связи с кризисными тенденциями внутри и вне европей¬
ского сообщества задается автор данной книги МассимЪ
Каччари, для которого нет и не может быть однозначных
ответов, более того, опыт исторической реконструкции,
предпринимаемый им, как и любым другим серьезным ис¬
следователем, отвергает в принципе заданность как пред-
даных ответов, так и путей их получения.Несколько слов об авторе «Геофилософии Европы». Ве¬
неция как место рождения, представляется - одна из
констант, а также лейтмотив творчества Каччари. Пробле¬
ма фундамента, поиск утраченных корней не только в от¬
ношении индивида, но и социальных групп, судеб целой
культуры.Университетская карьера Каччари отмечена особым
вниманием к так называемому «негативному мышлению»,
его работы отмечены своеобразным прочтением Ницше,
Хайдеггера, Витгенштейна, Вебера. Снискав известность
как идеолог левых течений в политике, философ неожи¬
данно делает крен в сторону правых партий. Почти из
небытия извлекает имена Вейль, Шмитта и Юнгера. Так вза¬
6<ТИХИЕ ДУМЫ> МАССИМО КАЧЧАРИмен упрощенной классической схемы с двумя полюсами -
левым (марксисты), правым (антимарксисты, консервато¬
ры) и центром посредине Каччари говорит о целесообраз¬
ности ортогональной политической схемы, где, как мини¬
мум, четыре дистинкции.В период между мировыми войнами общим врагом ле¬
вых и правых была партия свободы, либерализм. Однако
идеи свободы и демократии на практике не удалось реали¬
зовать. Демократическую идею почти всегда ослабляло от¬
сутствие конкретного механизма, позволяющего ограни¬
чить власть так, чтобы не разрушить в процессе
ограничения самую власть. Известно, что де Мэстр полагал
проблему неразрешимой, более того, противоречием в
терминах. Кроме того, трактовка экономического либера¬
лизма как системы свободного рыночного обмена была
подвергнута критике Карлом Шмиттом. Переход Муссоли¬
ни от социализма к национализму правого толка и затем к
фашизму иллюстрирует процесс образования специфи¬
ческого гибрида - национал-социализма. Из этого контек¬
ста становится понятнее интерес Джентиле к Марксовым
«Тезисам о Фейербахе» (в связи с теоретизацией «критики
оружием») и последующая творческая траектория Грамши.Если говорить о европейских интеллектуалах правого
крыла, то вполне выделяемы, как минимум, две различные
партии. Первую, признающую автономию политики, мож¬
но назвать статалистской. В качестве отдаленной анало¬
гии - концепция этического государства Фихте. Апология
государства как носителя суверенной власти не исключает
вопроса о его моральности. Для поддержания легитимно¬
сти, авторитета, эффективности власть не может забывать
об этических ценностях.Другая ветвь - антистатализм. Сохранение общинной
формы жизни, доводы в пользу апологии органицистской
ПРЕДИСЛОВИЕтрактовки общества можно найти у немецких романтиков.
Напротив, видение социальной перспективы у социали¬
стов в значительной мере космополитично. G точки зрения
марксистской аргументации, государство подлежит элими¬
нации. Напротив, Джентиле именно в государстве видел
идеал одомашненного срциума.Иной представляется позиция Карла Шмитта (1888-
1985). Как ученик Макса Вебера он начал с отказа от
двусмысленностей критериев этики и органики. Его мо¬
дель опирается на концепцию Гоббса. Однако, создавая
политическую модель с плебисцитарными механизмами,
он не избежал ошибок. Кроме того, роковой для него, как и
для прочих теоретиков-политологов, стала иллюзия, что
фашизм в нужный момент можно взнуздать. В результате
все произошло наоборот, на сцене появился национал-со-
циализм. Теоретики первым делом отказались от всего, что
связывало социализм с французским наследием, традици¬
ей де Мэстра, Бональда, Кортезе. Крыло либеральной де¬
мократии в итоге терпит поражение, т.к. побеждают цен¬
ности технократизма, демократия все больше обретает
черты охлократии, а либерализм вырождается в экономи¬
ческий индивидуализм. Напомним, что изначально аутен¬
тичным мог быть только индивдцуализм методологичес¬
кий.Таким образом, на повестке дня - проблема качества
управления, не демократия вообще, а правление лучших -
можно ли этого достигнуть?Одно из решений было предложено tyro фон
Гофмансталем. В нем нет места формам тоталитаризма,
якобинства, беспочвенного индивидуализма, но есть под¬
держка форм органической связи человеческой ак¬
тивности с языком, территорией, этносом. Однако, от
правительства фюрера, от диктатуры можно ли в принципе
8<ТИХИЕ ДУМЫ> МАССИМО КАЧЧАРИперейти к правлению лучших? - Ответа нет (если не счи¬
тать того же Платона). Уход от эстетизации политической
сферы - таково направление последующей европейской
социальной мысли: Капитализм как мощная машина и как
система - в центре политических исследований, как, впро¬
чем, защита риска новаций, промышленного прогрессиз-
ма, антибюрократизм.В определенной мере, Каччари близок к Шмитту в час¬
ти политического конструктивизма. Не реакционер, с
ностальгией взирающий на фигуру папы римского в поис¬
ке нового государственного механизма в эпоху кризиса
либеральных ценностей, кризиса международного права и
нового расширения финансовых рынков. Философ-поли-
тик, работающий на стыке множества культурных тради¬
ций, чуткий и деликатный герменевтик, избегающий грубо
поставленных дистинкций внутри дилеммы атеист-хри-
етианин, Каччари продолжает теоретический поиск сущ¬
ности европейской идентичности и шансов древнего
архипелага на жизнь даже в траектории заката в ожидании
Последнего Бога, последнего в значении, что с его прихо¬
дом душа человеческая не строит себя вновь, но не переста¬
ет познавать себя.Давая определения Бытия, европейская традиция под¬
черкивала универсальность, Бытие обнимает собой абсо¬
лютно все. При этом, когда традиционно пытались опреде¬
лить понятие Последнего, то оказывались на пути
онтотеологии, т е. смешения Бога и Бытия. Горизонт греко¬
лингвистического концептуального аппарата, казалось,
диктует свои смысловые детерминации. Из Бога-Отца
Творец стал сущим. Даже будучи summum ens, он вошел в
круг всего доказуемого, подверженного вопрошанию. Бог
не говорит от первого лица, и нет уже нужды молиться на
него. Вопрос, который мы вправе задать себе, таков. Если
ПРЕДИСЛОВИЕБытие есть полнота всех своих определений, есть ли за его
пределами еще более богатая тотальность? Некая бесконеч¬
ность возможностей, из которой ничего нельзя исключить,
заведомо отвергнуть? А если такое Бытие дано в форме
Небытия?..Круг профессиональных интересов Массимо Каччари
неплохо раскрывает список следующих публикаций. «Ange-
lus novus: триместр эстетики и критики» (1964), «Что де¬
лать. Рабочий класс и капитал перед лицом контрактов»
(1969), «Капиталистический цикл и борьба рабочих»
(1969), «Ifeopr Зиммель. Очерки по эстетике» (1970), «Очерк
о Николае Гартмане. Эстетика» (1969), «Дьердь Лукач.
Очерк» (1972), «После жаркой осени. Реструктуризация и
анализ классов» (1973), «Экономический план и классовый
состав» (1975), «Философия Ницше» (1973), «Кризис. Очерк
о кризисе негативного мышления. От Ницше до Витген¬
штейна» (1976), «Негативное мышление и рационализа¬
ция» (1977), «Диспозитивный Фуко» (1977), «Очерк о iyro
Гофманстале» (1978), «Диалектика и критика политическо¬
го. Очерк о Гегеле» (1978), «Макс Вебер о реальном со¬
циализме» (1979), «Крестообразность времени. О
ницшеанской концепции времени» (1980), «Беньамин
Вальтер. Критика и история» (1980), «Иероним Босх: mutus
liber» (1981), «Искушения св. Антония» (1981), «Смерть и ее
табу» (1981), «Понятие левого» (1982), «Власть. Очерки по
социальной и политической философии» (1985), «Иконы
Закона» (1985), «Необходимый ангел» (1986), «Zeit ohne
Kronos» (1986), «Формы активности» (1987), «Негативный
Бог» (1989), «Вопросы Иове: о грехе» (1989), «О Начале»
(1990), «Пористый город. О Неаполе» (1992), «Голоса муз:
религия и искусство» (1992), «Диалог о солидарности»
(1995), «Планирование и техника геноцида» (1996), «Мис¬
тика и философия» (1996), «Anselm Kiefer» (1997), «Архипе¬
<ТИХИЕ ДУМЫ> МАССИМО КАЧЧАРИлаг» (1997)* «Венеция и воды: планетарная метафора»
(1998), «Венеция: новая архитектура» (1999), «Адвокат
Господа: Сенека» (1999), «Танцующие боги» (2000),
«Дилеммы геополитики. Новые пути мира» (2000),
«Искусство/трагедия, техника» (2000), «2001: политика и
будущее» (2001), «Минимальное уголовное право» (2002),
«Политика на службе у надежды» (2002) и другие.В книге «Кризис. Очерк о кризисе негативного мышле¬
ния от Ницше до Витгенштейна» философ попытался
синтезировать философскую культуру левого (марксист¬
ского, но не официального) направления с идеями Ницше
в своеобразной интерпретации и идеями Витгенштейна в
связи с кризисом логики и классической физики. Каччари
видит в природе негативного мышления некий фермент,
позволяющий использовать его в качестве демистифици¬
рующего фактора (борьба с фетишизацией, как известно,
особо занимала Маркса). Конструктивной и восстана¬
вливающей новые (они же традиционные) основания
представляется поисковая ось Ницше-Витгенштейн. Новые
формы старой классической рациональности и диалекти¬
ки, лингвистическое множество дискурсивного простран¬
ства - внушительный заряд продуктивности способа мыш¬
ления, называемого негативным. Рациональный фактор
интеграции дискурсов разной природы выплавляется из
нового прочтения классиков «нигилизма».Среди мыслителей, оказавших то или иное влияние на
автора «Геофилософии Европы», не только Платон и
Аристотель, Кант и Гегель, другими словами, из имен клас¬
сиков есть и особенно часто цитируемые. Отметим, на¬
пример, Франца Розенцвейга (1886-1929), автора «Звезды
искупления» (1921). В гегелевской идее государства Ро-
зенцвейг видел теоретизацию национального тоталитар¬
ного государства, реализованного Бисмарком. Критика 1Ь-
ПРЕДИСЛОВИЕгеля приводит к религиозному экзистенциализму, в проти¬
вовес формам абсолютизма Розенцвейг защищает конкрет¬
ность личного я и конечные аспекты существования, осо¬
бенным образом,- смерть в качестве указателя на
радикальную трансценденцию в пространстве грядущего.
Именно форма диалога образует подлинное место иску¬
пления человеческого. В фигуре магической звезды Давида
Розенцвейг видит связанными Бога-Творение-Откровение
(в виде одной триады) и Мир-Человека-Искупление (в виде
другой). Формально архитектура звезды остается связан¬
ной с формой гегелевской триады, Розенцвейг говорит о
трех метафорах (элементы, путь, фигура), трех модаль¬
ностях языка (рассказ, диалог, хор), трех сущностях (Бог,
мир, человек) в их пересечении. Все же финал иной, чем у
Гегеля и Маркса: «Смерть хотела выкосить любую жизнь. Но
здесь косец изувечил косу смерти», торжество смерти чи¬
тается в философском контексте как нечто позитивное в
негативном.Внимательным читателем Розенцвейга был Вальтер
Беньямин (1892-1940), философ-эрудит, автор работ
«Судьба и характер», «Критика насилия», «О языке вообще и
языке человека», «Задача переводчика» и др.В своих интервью экс-губернатор Венеции, экс-депутат
европарламента Массимо Каччари подчеркивает, что
политикой как ремеслом никогда не занимался, однако, по¬
нятие «гражданин города» для него подразумевает необхо¬
димым образом участие и влияние по существу на
политическую жизнь. Для длительного пребывания в
структурах власти ему, по собственному признанию, не
хватало главного качества - амбициозности. Вместе с тем, в
качестве политика по призванию и руководителя филосо¬
фского факультета одного из крупнейших университета
Милана Массимо Каччари находит способы не упускать из
внимания факторы, формирующие политический климат и
12< ТИХИЕ ДУМЫ> МАССИМО КАЧЧАРИкультурную жизнь Европы, что говорит о практичности
выработанных им философских интуиций.На страницах его работ постоянно меняются и уточня¬
ются границы разумного, признавая которые и в рамках
которых только и может существовать знание, вне призна¬
ния этих границ остаются крайности авторитаризма, реля¬
тивизма и скептицизма. Дуализм души человеческой учит,
что царство свободы по существу недосягаемо, уйти из пе¬
щеры эгоизма логического и эгоизма морального не дает
сама природа разума и склонность человека к произволу,
лики которого бесчисленны.Парадоксальный этос народов европейского архипе¬
лага сложился не сразу. Вместе с тем о недугах и разных
формах ослепления разума мы узнаем немало от древних
философов и поэтов.«Задуматься я должен. В глубочайшие глубины раз¬
мышленья пусть ныряльщиком проникнет зоркий., трез¬
вый и спокойный взгляд...Ни ввязываться в битву нам не следует, ни выдавать
вас, к очагу священному припавших...О знанье, знанье! Тяжкая обуза, когда во вред ты знаю¬
щим дано». (Эсхил, Персы)Поруганная справедливость, по мнению Эсхила, автора
этих строк, пришла в эллинский дом бедой, имя которой -
hybris - пагубная самонадеянность, надменность, высоко¬
мерие, непризнание собственных границ. Тень Дария, пер¬
сидского царя, поражение войска за дерзость посягатель¬
ства на эллинов - в словах Эсхила - «Карает за гордыню
карой грозной Судья крутого нрава, беспощадный Зевс»
(Эсхил, Персы,827-828). Роковое желание царицы Атоссы,
жены Дария, прихоть заполучить в служанки лаконских, ар¬
госских, аттических и коринфских женщин, славившихся
красотой и проворностью, оказалась поводом-звеном со¬
ПРЕДИСЛОВИЕвершению непрогнозируемых действий, нескончаемой це¬
почки военных прходов.Счастье (чаще всего невозможное), что у разума есть
свое архе. Настоящая политейя (йскусство политического
управления) была бы возможна, если бы первооснова исхо¬
дила не от политика, не от власти, а власть подчинилась
либо хотя бы умела слышать голос архе. Если бы это реали¬
зовалось, любая политическая технология оказалась бы из¬
лишней. С таким мнением Каччари также трудно спорить,
как и согласиться.Ведь меняются система ценностей и социальные ин¬
ституты, но постоянными величинами остаются hybris, su-
perbia (гордыня), stasis (состояние внутреннего мятежа,
воспринимаемый обитателями полиса как закон природы),
bia (принуждение), ananke (необходимость), penia (бед¬
ность), poros (богатство), amor fati (любовь к року), eris (дух
вражды).Прежние разнообразные аристократические ценности
нынешней эпохой заменены одной - богатством, жажду
которого нельзя ограничить. Сущность и зло накопитель¬
ства материальных богатств - в его безмерности, насаж¬
дающей в обществе наглость и насилие, несмотря на упре¬
ждения мудрецов, в частности, Солона: нет предела
богатству, от него родится пресыщение, а от пресыщения -
спесь,, несправедливость, порабощение народов, мятежи. В
итоге полис уже перестает восприниматься как обитель,
«местом, на котором можно было бы растянуться, как на
мягкой шерсти» (Аристофан). В остатке - анорексия и
булимия.Автор «ГЬофилософии Европы» не дает исчерпывающе¬
го синтеза, утешительного конца и разрешающего по¬
следнего слова, избегает декламаций, оставляет додумывать
читателю текст до конца. Русскому читателю (возмбжно, в
<ТИХИЕ ДУМЫ> МАССИМО КАЧЧАРИбольшей мере, чем европейскому) открыт опыт, что «чело¬
век иной раз любит страдание больше, чем благоденствие,
разрушение - иной раз больше, чем созидание». Достоев¬
ский, автор этого смелого обобщения, научился, по замеча¬
нию Шестова, не бояться закона противоречия. Не без
писателей об этой особенности народа хорошо были осве¬
домлены особо одиозные правители России. Что значили
слова протопопа Аввакума на соборе 1667 г., когда он уп¬
рекнул своих судей в незнании реальности, а также
библейских истин: «И я говорю: мы уроди Христа ради; вы
славни, мы бесчестии, вы сильни, мы же немощны» (1-е
Послание святого Павла к коринфянам). Кажущаяся несвяз¬
ность слов Аввакума может быть дополнена словами
апостола Матфея: «И дам тебе ключи Царства Небесного; и
что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»
(Матфей 16,19).Казалось, разум подсказывает путь meson (середины),
замены прежней органицистской, родовой организации на
чисто позитивную (не всегда - географическую). Однако
середина обманывает, ибо у нее есть свои начала и концы, и
она кажется похожей на все, писал Лев Шестов, но середина
не есть все, ни даже большая часть всего.Странно ли, что Ата, обида, богиня несчастья, дочь
Зевса и Эриды (раздора), прежде ослепляет, затем губит, но,
имея «нежные стопы, не касаясь праха земного, она по гла¬
вам человеческим ходит, смертных язвя, иного и в сети лег¬
ко уловляет» (ТЪмер, Илиада, XIX, 92-93)?Антон Чехов по-своему раскрывает причины всевла-
стия зависти (hybris) и невозможности иного хода собы¬
тий. Не из любви к аду, а ради новой жизни герой пьесы, дед
и отец которого были рабами, новый владелец Вишневого
сада («имение, прекраснее которого нет ничего на свете») с
ПРЕДИСЛОВИЕполным сознанием своей роли в рамках изменившейся ре¬
альности зовет увидеть, как он, Ермолай Лбпахйн, хватит
топором по Вишневому саду, как упадут на землю прекрас¬
ные деревья. Другой чеховский герой дядя Ваня жертвует
собой, но подвиг его бесцелен и бесполезен, жертва - в
пустоту. Целесообразна ли жертва, направленная на дру¬
гих? Чтобы они, другие, грешили, предавались порокам?
Дядя Ваня в чем-то похож на Федора Протасова, героя
романа «Живой труп» Толстого, оба перестают быть собой,
роняют себя, отказываются от внутреннего мира ради кого-
то, из боязни быть для себя. Для многих русских писателей
в такой ситуации внутреннего подполья так называемых
лишних людей усиливающаяся за счет техники машина
официального государства кажется порождением анти¬
христа. Взамен разве что модель некоего Китежграда... Льву
Шестову оставалось описать теоретические формы hybris
новых укладов российской жизни. Философские образы
изложения непостижимого. Мысль, просвещенная ученым
незнанием, вступает в дуэль сама с собой, парадоксально
оспаривает собственные аксиомы.Книга Каччари содержит немало шестовских реми¬
нисценций. В самом деле, и Шестов в «Potestas Clavium»
(«Власть ключей») подводит по-своему итог двухтысячелет¬
ней истории Европы. Формула «власть ключей» узако¬
нивала главу церкви в качестве наместника Господа на
земле, давала ему абсолютные права. Инквизитор (наме¬
стник папы) в описании Достоевского присваивает власть
всеобщего устройства жизни силой чуда, тайны и авторите¬
та. С авторитетом инквизитора покончено, и проблема по¬
следнего выбора встает в полный рост. Вера, освобожден¬
ная от ее метафизических заместителей, чистый акт веры в
отсутствие какой бы то ни было уверенности, доказа¬
тельств, гарантий и торгов, вера, взывающая из бездны бо-
гооставленности и рискующая оспаривать даже Господа-
\6<ТИХИЕ ДУМЫ> МАССИМО КАЧЧАРИТворца. Случайное, единичное, неразумное, странные куль¬
турные пересечения. К примеру, Достоевский устами Дмит¬
рия Карамазова шлет к черту этику с ее окончательным
решением, что над людьми нет другого хозяина, кроме ло¬
гического закона, навсегда вытеснившего Бога. Того Твор¬
ца, который говорит от первого лица, которому возносим
молитву. Разве что остается еще “прекрасный вишневый
сад”, символ созерцательного начала.Законообразие в значении псевдонаучной вышколен-
ности ума, напоминает Каччари, ведет к параличу челове¬
ческих сил... Слова свАвгустина: «Surgunt indocti et rapiunt
caelum» («Бог весть откуда приходят невежественные люди
и восхищают небо») повторяет в связи с Достоевским (его
героем Дмитрием Карамазовым) Шестов. Так в чем оно -
«восхищение неба»? Восхищает ли небо Иван Ильич (герой
Льва Толстого), когда в откровении лика смерти припоми¬
нает детские переживания неба и солнца, прозревает, что, в
конечном счете, вся энергия истрачена на «мышиную воз¬
ню, карты и комфорт», чтоб не быть собой, а быть, как все?Трудно (да и не нужно) выстраивать в систему предла¬
гаемые тексты, что было бы сопоставимо с намерением на¬
учно отстроить монологи автора «Записок из подполья»,
если бы последний вознамерился цитировать мысли Ге¬
раклита, Эсхила, Гомера, Софокла, Геродота, Фукидида,
Платона, Виргилия, Аристофана, Аристотеля, Данте, Авгус¬
тина, Канта, Токвилля, Гегеля, Ницше, Хайдеггера, Вейль,
Шмитта.История у Массимо Каччари (в отличие от Шестова) не
уподобляется судебному процессу, где слушается дело о
человеке, свободе и Творце. Истина не взвешивается на ве¬
сах Иова, и никто не требует жестких или-или.С. А Мальцева
I. ГЕОфИЛОСОфИЯ ЕВРОПЫЕсли Европе удастся вспомнить и внедрить в свое серд¬
це идею бытия-участия, возможно, ей удастся сотворить
силой своей энергии вечного преображения некий мир,
который будет чужд любому искушению примирения, как и
любому завоевательному самоуправству. Поскольку пред¬
мет этих размышлений нельзя соразмерить с ритмом лет и
даже десятилетий, было бы абсурдно верифицировать, ка¬
ким был пройденный Европой путь этого краткого пери¬
ода, согласно методу совершенно противоположному. Ее
средиземноморское пространство представляется как став¬
шее простым lumes, чем-то, что защищают или используют
как защиту. Ее восточное измерение трактуют как область
расширения, словно Европа уже была без Варшавы, Праги,
Загабрии, Белграда (и Москвы?). Франко-каролингской оси
не хватает и не может хватить, чтобы уравновесить атлан¬
тическое измерение - хотя бы после нового Ацио, падения
берлинской стены. Так у Европы нет иного голоса, разве
что случайные демонстрации, слабые упражнения по раз¬
ведениям различий, робкие и незрелые протесты. В рамках
глобально развертывающегося Zeit, в эпоху, когда необ¬
ходимым образом будут или Империя, или Империи, но со¬
всем не эпоха государств и права, рождающихся на основе
взаимных соглашений, Европа, кажется, не в состоянии «за¬
катиться», в смысле позволить себе погаснуть, а также в
смысле сделать из себя дар для нового типа порядка -
сверхгосударственного, полиархического, полицентричес-
кого, многокультурного.
18ГЕОфИЛОСОфИЯ ЕВРОПЫГолоса европейского Архипелага, которые я в этой кни¬
ге услышал, а также в последующих, связанных с «Архипе¬
лагом», все-таки прозвучали, и ничто не сможет помешать
им вернуться, если хотя бы кто-то один из оставшихся по¬
заботится о них. Голоса абсолютного реализма, разоча¬
рования и надежды против любой надежды.В последние годы Европе как проблеме я посвятил
много работ, однако полагаю, что многочисленные очерки,
помещенные в приложении к «Геофилософии» разрушили
бы замысел книги. Я ограничусь некоторыми комментари¬
ями, которые считаю особенно важными, а также именным
указателем, который отсылает и к моей книге «Архипелаг».1. Решающие годы<*Agon eschatos», высшая борьба, усилие и наказание
(ponos) - вот груз, который душа призвана выносить. Упра¬
влять этими противоположностями, к тому же нераздели¬
мыми друг от друга частями, приспособить их к трудному
восхождению, пресекать зловредный «дух тяжести», тяну¬
щий к земле, отрицающий радость - результат созерцания
реальности гиперурании, «ta exo tou ouranom. Примечате¬
льный mythos «Федра» учит, следовательно, что paideia и
agon, борьба-соревнование явлены в сложной структуре
души, ее противонаправленных действующих силах. Од¬
нако он же учит, что этот agon и гармонизирует также по
своей природе. Возница способен отстоять собственную
гегемонию и укрепить связь, опосредовать непосредствен¬
но прямой диссонанс. Борьба - в ее сущности conatus к гар¬
монии. Никакая борьба не начинается, если нет видения
победы, однако победить означает гармонизировать врага,
сделать его своим. Битвы и состязания ценны постольку,
поскольку есть поиск способов и форм, в рамках которых
РЕШАЮЩИЕ ГОДЫнекая гармония являет себя как творящая. Смысл агона, в
точном смысле слова, состоит в aletheuein, в том, чтобы
высветить гармонию .Agon показывает гармонию как собст¬
венную истину.Тем не менее, именно в борьбе различия как таковые
выдают взгляду собственную несводимость. Первый мо¬
мент гармонического процесса состоит именно в установ¬
лений и определении их точного статуса путем очной став¬
ки - один против другого (в слове stare резонирует stasis,
как в войне граждан одной крови оба противоположные
начала принадлежат одной душе, в том и другом - натиск,
conatus, желание, врожденная ностальгия - и вместе с тем
a-logos, инфантильность, натиск того же породистого коня;
как в такой ситуации вознице направить колесницу в сто¬
рону Родины? Ведь согласно теоретической сумме необхо¬
дим к тому же первый толчок, который не поддается ра¬
ционализации, ибо по качеству он того же рода-племени).
Последний момент состоит в доказательстве результата, со¬
вершенной связи. Между первым и последним - авантюра,
путешествие, опасный океан, в котором, чтобы не про¬
пасть, необходимо мужество, управляемое разумом, noos,
когда необходимо прибегнуть ко многим techne (паиЫкё,
polemiki, potitiki, ЬаяШкё), к искусству, способному сфор¬
мировать, установить отношения, связать также то, что, по
мнению многих, непримиримо.В момент, когда возникает Двоица (корень у слова dyo
тот же, что у deido, страх, что у deinos, трепет), удивление по
поводу него беспокоит и пугает, тут же возникает исследо¬
вание его истока, внутренних взаимоотношений, того же
конца, вопрошание того, в чем его сила, делающая из двух
одно удвоенное.Вопрос о различиях ведет к вопросу об идентичности.
Удивление множеством (тем, что сущее многолико) начи¬
нается с воспоминания об Едином. Недостаточно пони¬
20ГЕОфИЛОСОфИЯ ЕВРОПЫмать различия, анализировать их, необходимо также выяс¬
нить, как произошла схизма, какой logos их породил. Если
человек способен к логосу схизмы, то можно говорить и о
понимании его, и, только понимая, мы в состоянии гар¬
монизировать этот логос. Именно из области восхище¬
ния - возникновение и статус Двоицы, установленной фи¬
лософски и политически, проблема отношения одного и
многих. Опорные для европейской философии апории
нераздельно связаны с историей, свидетельствами. Систе¬
матически собранные, они создают историческое бытие
Европы не только как сумму ее культурных и политических
корней, но и как географическую фигуру в смысле опреде¬
ленности ее границ. Одисея интересовала многоликость,
но не история, ибо, переживая, не исследуют с должной
аналитической систематичностью. Однако исследовать
означает искать объединяющий логос. Историческое ис¬
следование постулирует себя как изначальный философ¬
ский поискВыяснить причину настоящего множества означает
вспомнить прошлое, это делает обязательным полный ана¬
мнез того, чем сущее было. Он устанавливает истину
прошлого, устраняет логос многих, смешных и жалких,
которые пытаются эту истину упрятать в потоке слов. Идея
алетейи как устранения сокрытия и есть европейская исто¬
рия, еще более ранняя, чем ее онтотеология. В истоке она
еще связана с мифическим и религиозным фоном жизни
полиса. Просветительство Гекаты было бы непонятным вне
того, что уже было сотвореноsophos веком ранее, критским
Епименидом, чистильщиком Афин. («Ты пропустил друга,
жившего действительно вчера - Епименида» - Платон, За¬
коны, III, 677 d). Чтобы излечить город от недугов, необхо¬
димо знать его прошлое. Чтобы убедить подчиниться спра¬
ведливости и устранить наиболее варварские обычаи,
необходимо познать их подлинный источник, обогатить
РЕШАЮЩИЕ ГОДЫ21путешествие в adelon, в неочевидное, туда, где оказалось
невозможным histor.Между древним мудрецом и историком - наибольшие
потрясения VI века, подчеркнутое значение ужасающей
проблемы различения властей, между соответствующими
timai (в каких терминах и границах они ценны, в каком
пределе оправданы приказы?), тем, что включает проблему
их тождества и причину их нынешнего различения, как и
возможного «преодоления». Взглянем на карты VIII и VII ве¬
ков с помощью Маццарино7. Еще неопределено, что где
преобладает, сила ограничителя пока не утверждена. Архи¬
пелаги гомеровского седого Эгея образуют короны мостов.
Города похожи на портики, переходы. В многообразной
Ионии Запад и Восток почти немедленно встречаются, не
утруждая себя обязательствами взаимного познания. По¬
знать друг друга подразумевает раскол как случившийся.
Гесиод, восхищенный поклонник азиатской Гекаты, чуждой
гомеровскому Олимпу (Теогония, 411-452), узнает Европу и
Азию только как имена двух океанов, принадлежащих се¬
мье Океана и Теи, священному племени, которому выпало
вскормить человеческую юность вместе с Аполлоном и ре¬
ками. Первая Азия, географически ощущаемая, совпадет с
многоликими греческими ионийскими городами, протя¬
женность которой не выходит за границы племен, сильно
эллинизированных Лидией и Фригией. Европа - часть
мира определенных границ (даже если «никто из людей не
знает, окружена ли она морем»), медленно созревающая в
течение VI века фигура, она исполняется только с
Геродотом (IV,45).Она возникает из контраста между несократимым
архипелагом полисов, которые даже в моменты особо1 S. Mazzarino, Fra Oriente е Occidente, 1947,1989, И pensiero storico classi-co, 1966,1983
22ГЕОфИЛОСОфт ЕВРОПЫопасные не могли ладить между собой, и мощным царством
Лидии, которое умело сопротивляться нашествиям шуме¬
ров и остановить у берегов Halys (в день известного затме¬
ния, предсказанного Фалесом) войско медийцев. Уже поэта
Смирны Мимнерма вопрошали о причинах конфликта
между Азией и греческой Ионией, и он полагал, что распо¬
знал ее в насилии над Колофоном со стороны Пилов. Зна¬
чит, уже у истоков раскола мы видим греческий гибрид,
вырисовывается огромная историографическая схема не¬
прерывной цепочки обид и мести, насилия, провоцирую¬
щего насилие, древнейшей неприязни, как одна прочная
связь между Востоком и Западом. Но и гомеровские поэты
читаемы и перечитываемы в том же ключе (возможно, не
так уж верно, что у Гомера не было того, что позднейшие
поколения находили в нем: конфликт между греками и
варварами, вечная ненависть между Европой и Азией), что
раскроет последующий эпос. Конечно, такая схема подра¬
зумевает иной рельеф у Геродота. Только в этом причина
войны и даже смертного боя между двумя частями мира, то¬
тальная оппозиция по отношению к любому толкованию в
терминах мифа.Однако такой историографический исход понятен
только в свете Acbsenzeit, последующих решающих лет, ко¬
гда истинная Азия переворачивает свои эллинизирован¬
ные заграждения, в которых греки осмысливали себя, под¬
чиняет себе уже нелидийскими цепями ионийские города,
безусловные духовные вожаки всей Эллады. Тогда и про¬
явилась фатальная разница - сразу же после поражения
Лидии. Проблема раскола встает раз и навсегда вместе с
подъемом империи персов. С другой стороны моря греков
они стоят абсолютно разведенные. Единство определено
навсегда. Эта двоица, это неслыханное множество - теперь
проблема для обдумывания, познания, разрешения. Од¬
нако, чтобы ее обдумывать, следует сначала познать самих
РЕШАЮЩИЕ ГОДЫ23себя. Историческое, политическое, философское движение
пока связано в одно; надежное доказательство общего
основания мысли и praxis. Неустранимое появление Друго¬
го вынуждает вернуться к самим себе. Если не познаем сво¬
его имени, продвижение (Ares gradivusl) Другого опроки¬
нет: империя персов никого не встретит на своем пути.
Необходимо определиться: закрепить собственный харак¬
тер, установить божественную прочность. Этого хочет Пи-
ция, символ единства всех полисов: все знают - самое труд¬
ное из заданий, как все мудрецы повторяют (более того, это
primizia их мудрости).Но на фронтоне Дельфийского храма загадочная над¬
пись. «Познай самого себя» зовет обратйться к себе, чтобы
вспомнить (как Геката, противница Персии, требует), очис¬
титься (как Епименид делал), чтобы не допустить подъем
Великого Царя. Города торговли и путешествий найдут в
собственной душе тот раскол, который надлежит осознать.
Внешний polemoSy теперь уже неустранимый, обращает
взгляд к stasis, к войне внутренней. Эта гармония, связь меж¬
ду polemos и stasis, войной внешней и войной внутренней и
есть polis - творение, которого Восток не знал и не узнает.Вся нация греков и с ней сама идея Запада станут про¬
дуктом этих решающих лет. В них закрепится сознание
неизбежного конфликта с огромной азиатской империей,
образующей фон геродотовой истории. Никому не дано
более уйти в тень, агон либо действует, либо не действует,
промежуточного пути нет как нет, при всем риске hybris,
который ответственен за отсутствие или непрактичность
meson. Но в то же время торжествует осознание того, что
для завершения агона необходимо принять еще более
суровую, чем война - почти невозможную - задачу: по¬
знать самих себя.Политико-географическое противопоставление вклю¬
чает анализ, точное деление частей, измерение границ, а
24ГЕОфИЛОСОфИЯ ЕВРОПЫтакже исследование их внутренней структуры, наконец, их
демона-характера. Чтобы измерить, следует знать природу
измерителя. Исторический, географический, политичес¬
кий и философский анамнез как единое целое. Так всегда
происходит на Западе.2. Две кобылыЗа сорок лет до Геродотовых «Историй» появилась ди¬
лемма drama-azione, в рамках которой столкнулись судьбы
Азии и Европы. Различаясь абсолютным образом, они пере¬
плетаются, ставят проблему их взаимосвязи, что выражено
уже в «Персах». Полвека труднейшей разработки идеи по¬
лиса и греческой целостности породил это эпохальное
творение, от которого двадцатипятилетний Перикл полу¬
чил свои обязательства. Не так интересно обсуждать это в
политическом смысле (неумеренный акцент на поражении
персов и на Афинах, спасительнице Эллады - несомнен¬
ный знак желания направить политику афинян против
бывшего союзника, Спарты), как и извлекать из трагедии
ключевые идеи на греческий манер, что легко найти у Геро¬
дота. Впрочем, есть один интересный момент у этой драмы:
сон царицы (Геродот, История, 176-214).С тех пор, как сын ушел на фронт с оружием в руках,
чтобы опустошить ионийскую землю, Атосса стала жерт¬
вой сумбурных кошмаров, предсказывающих тьму раз¬
личных несчастий 2. Согласно рассказу Геродота, царь Да¬
рий собирался перекинуть мост с нашего материка на
другой и идти на скифов. Но Атосса возразила: «Скифы бу¬
дут в твоей власти, как только ты пожелаешь. Ты должен2 Атосса - старшая дочь царя Кира, супруга Камбиса, мага Гауматы, пер¬
сидского царя Дария /, мать Ксеркса
ДВЕ КОБЫЛЫради меня идти в поход на Элладу. Мне рассказывали о ла-
конских, аргосских, аттических и коринфских женщинах,
и я желаю, чтобы они были у меня служанками» (Геродот,
История, Наука, Ленинград, 1972, с. 179). Но сон, привидев¬
шийся ей в последнюю ночь, был особенно ужасным в сво¬
ей отчетливости. Две женщины необычайной красоты. Меж
ними - некий stasis (Геродот, История, Наука, 1972, с. 188),
который великому царю Ксерксу никак не удавалось укро¬
тить. Он запрягает обеих женщин в повозку, словно двух
лошадей. Одна из них принимает вожжи покорно и даже с
гордостью, другая протестует, рвет в клочья узду и сбрасы¬
вает Ксеркса с повозки. Женщина в персидском наряде,
укрощенная своим господином - Азия, богатая народами,
божественная паства. Женщина в дорических одеждах -
неукротимая Элеутерия - греческая, никому не подчиняю¬
щаяся свобода. Все же трагедия становится таковой именно
в силу отсутствия непосредственной оппозиции. Stasis
один и тот же для них обоих - он вовсе не polemos. Здесь
война, кончившаяся для греков тем, что стала моделью pole¬
mos, войной против варваров, поэтому поименована «внут¬
ренней войной». Азия и Европа не только названы равно
красивыми и божественными женщин, они реально пред¬
стают сестрами одной крови и одного племени. Сестры
обитают на разных материках и землях, но не перестают
быть одного корня и происхождения.Такая энигма образует сердце трагедии.На европейской сцене никогда еще не появлялся образ
подобного напряжения. Не только Эсхил как архаичный
поэт (наподобие Гомера) обнаруживает здесь свое незна¬
ние варвара, производное националистической пропаган¬
ды, оратории и историографии, более того, он показывает
различия абсолютными (Двое, которые, по Геродоту, не мо¬
гут не начать войну) и одновременно неразделимыми в
корне.
26ГЕОфИЛОСОфИЯ ЕВРОПЫСловно хотелось затвердить, что только антагонистам
по необходимости, заклятым врагам доступно закрепить
единство геноса (genos). Не могло быть иного истока, кро¬
ме того, что призван до самой смерти воевать с самим со¬
бой. Признание оппозиции наиболее совершенным обра¬
зом формирует самое глубокое согласие.Конечно, существенная особенность hybris азиатской
империи состоит в ее абсолютном отказе от любой связи.
Ведь это империя Одного, бесконечно расширяющегося,
заглушающего любой голос против. Кобыла, не выносящая
никакого ига, в состоянии ли осознать гармонию противо¬
положностей? Победа афинского знамени над персидской
аркой дает ли решение загадки? Или утверждение собст^
венной несводимой формы обнаруживает некий hybris,
который неистовствует повсюду? Греческие описания Азии
всегда выражают смысл бесконечного (бе скрайние земли,
несметные полчища, неограниченная власть монарха) или
смысл смешения, беспорядка, того, что пока не встретило
власть ограничителя. Однако то, что удалось определить
(как тот же победносный Геракл), взывает к проблеме все¬
охватного бесконечного. Но, возможно, эта форма, kosmoi
не была чем-то неограниченным? Откуда все kosmoi - то
есть множественность определенных связей сущего - если
не от Начала, которое не может не быть ограниченным,
иначе не может быть одним из многих kosmoP. И пер¬
воначало a-peiron (необходимым образом без peras) не¬
престанно обнаруживает себя в бесконечном, вовлекаю¬
щем в себя все, что мы интуируем и узнаем, придающем
всему любую форму. Вот «красота» этой формы - и вот все¬
общий круговорот periechon в виде единого. Любая статуя,
любой греческий храм его выражают. В интуиции они из¬
влекают бесконечную силу, которой как таковые лишены.Отсюда поэтому проблема гармонии между бесконеч¬
ным и ограничителем в качестве образующих первоначал
ДВЕ КОБЫЛЫphysis и kosmos (не было бы физиса, никакого порождения,
следовательно, нет никакой возможной связи внутри су¬
щего без гармонии как предпосылки). Она неотделима от
безмерной травмы, которая провоцирует раскрытие ис¬
тинной Азии, особенно в глазах ионической науки и фи¬
зиологии, 'с точки зрения ее критического духа. Для ре¬
шения этой проблемы необходимо пробудить разум. Спит
тот, кто его игнорирует - и спящие, несомненно, те же спо¬
койные подданные Азии. Великие изменения всех вещей
происходят, невзирая на жизнь невежд (metabolai ton pan-
tony, их разум остался в неподвижности, не умея рассчитать
своих сил. Невежды не свободны и не автономны
(Гиппократ, О водах, ветрах и местностях, 16). Однако спя¬
щими могут быть и суетливые обитатели Европы, если они
ограничиваются восхвалением собственной свободы, сво¬
ей способности разорвать цепи любого ига, свергнуть лю¬
бого тирана с престола без понимания поистине всеоб¬
щего Логоса, суть которого в том, что ограничитель не
может существовать без неограниченного. Те, кто в проти¬
востоянии сил, игре полемоса не ощущают диссонанса, и
те, кому слышен лишь голос очевидной гармонии (опреде¬
ленной связи), начинают походить на идиотов, как, впро¬
чем, и любые претенденты на обладание мудростью.Эту апорию разуму предстоит развернуть (diaporein. в
чем и состоит с тех пор и навсегда суть упражнений в
философии, askesis). В этих терминах грек описывал собст¬
венного демона. В слове eleutheria надобно услышать звуча¬
ние слова lyein, lysis3, силы, которая помогает отделиться от3 Благодаря латинской культуре всесторонне обоснована разница смысло¬
вых значений понятий libertas и licencia. Libertas в онтологическом
плане связана с понятием pietas*Свободен сын, поскольку принимает
наследство родителей и, таким образом, в любом аспекте поведения он -
в плюсе. Совершенно противоположна по смыслу euletheria в качестве
eu-lyein, счастливое освобождение от связывающих обязательств. Осо¬
бым образом, следовательно, свободен, например, Эней.
28ГЕОфИЛОСОфИЯ ЕВРОПЫстада,, делает возможной автономию, однако совершенно
одновременно с духом дружбы, cphilia.4 Это переменчи¬
вость Эмпедокла, в котором демиургово начало порожде¬
ния есть вражда, Neikos (т.е. только полемос уточняет, пока¬
зывает, выражает, дает форму), в то время как смысл
apokastastasis, возвращения всего к себе, есть Philia (1 DK В
16). Так и переведем на язык геофилософии: pointis творя¬
щая есть смертельная неприязнь, которая навсегда опреде¬
ляет и отделяет Европу от Азии. Это та вражда, которая рож¬
дает грека и дарует ему его форму. Чарующему и
ужасающему спектаклю на тему этой свободы посвящены
размышления и трагедии V столетия. Однако, если гречес-
кая parresia 5 - способность говорить открыто - вскоре за¬
будет обыденный Логос (а также необходимую изначаль¬
ную Гармонию), если грек не будет основывать на этом Сит
(to Xynori) собственный Номос (закон, призванный упоря¬
дочить определенную территорию своего полиса), то сво¬
бода обернется в форму hybris еще более насильственного,
обрекая при этом полис на верную погибель Это и есть
драма Софокла, свидетелем ее мученического эпилога ста¬
нет Платон.Теперь надлежит взнуздать и дорическую кобылу. Вер¬
но, что она противится единообразию азиатского самов¬
ластия, однако горе всем, если завоеванная ею свобода де¬
формируется в анонимность. Именно ее необузданная
природа требует деспота - впрочем, единственный деспот,
способный ее убедить, это «despotes nomos» (Геродот, VII,
с. 104), абсолютный Повелитель - Закон города. Согласно
своему истинному и последнему корню Eleutheria означает,
следовательно, связь. Однако связь есть реальное согласо¬4 Латинское слово libertas, греческое eleutheria, возможно, однокорневые,
определяют условность законных членов сообщества, своих детей.5 то, что отличает греков от варваров.
ДВЕ КОБЫЛЫвание противоположностей, среди которых наиболее кон¬
трастны по тяжести последствий мужское и женское. Как
Азия и Европа. Эти противоположности сталкивает богиня
Эрис, волей Гомера ей суждено исчезнуть (Илиада, XVIII,
с. 107). Впрочем, греческий эпический миф лукавит. Мифу
предшествует необратимое появление Двоицы-пары. По¬
сле такого события остается единственный язык того, кто
знает - дискурсивный Логос. Этот язык доказывает, что
полемос порождает множественность различий, что имен¬
но в процессе различения, в совершенности самого дей¬
ствия по разведению различия увязываются между собой. В
этом общем Логосе найдет свой истинный и надежный ко¬
рень Nomos города.Форма суждения - характерная для европейской мыс¬
ли форма - совершенным образом отражает этот krisis, ко¬
торый само существование Европы отделяет от абстракт¬
ного, неопосредованного единства азиатской Империи.
Однако сам факт определения как отделения Европы не
мог не конституировать Европу в виде части. В природе Ев¬
ропы заключено осознание себя как части от целого. Сле¬
довательно, ее форма никогда не дерзала быть значимой
для всего мира. Никогда ее очевидное согласование (связь,
происходящая из согласия ее различных элементов, а по¬
тому простой состав) не восходит к Гармонии, отождест¬
вляемой с Dike, всеобщей Справедливостью, для которой и
Европа, и Азия берут начало из того, во что и разрешаются.
Эта Гармония есть aphanes, который виден только умстве¬
нным очам, свет которой - phaos - изысканный предмет
интуиции мудреца, sophos. Логос мудреца подтверждает
это: гармония не только развивается многими тонами и во
многих формах, но, более того, всегда переворачивается
(palintropos') - единое есть прохождение многих к одному
и вновь от единого ко многому. Гармония - от Аполлона как
a-polia, орфического apocastasis многих в одном,
ГЕОфИЛОСОфИЯ ЕВРОПЫДионисия, ГТаиса, растерзанного титанами. Так Логос при¬
знал насилие оппозиции, но в то же время познал и путь
преодоления насилия. Добивается своей власти, но может
утешить отчаяние Царицы и даже умерить разгром Вели¬
кого Повелителя.Воспрепятствовать тому, что в нераздельном распада¬
ется наша форма, наше частичное бытие и наше бытие,
осужденное поскольку частичное - в этом состоит смысл
первого агона. Однако более великий агон выражается в
постоянных попытках достичь гармонии между безгранич¬
ным и ограничителем, apeiron и peiras, между фигурой и
periechon, между Единым и определенностью множества,
многими kosmoi, между тождеством и различием. После
первой битвы мы сбрасываем иго Азии. Однако решающая
баталия, к которой подталкивает Муза, состоит в умении
связать себя деспотом, куда более требовательным, чем
Великий монарх - Законом, перед которым мы все равны,
как равны перед Логосом и для Логоса. Свобода каждого от¬
крыто говорить имеет ценность только тогда, когда она
гармонизирована с равенством всех перед Nomos и Logos.
Автономия и isonomia либо формируют гармонию, либо их
просто нет (ибо они сведены к именам, похожим и обман¬
чивым звукам, которыми вечно нерешительные люди пре¬
тендуют утвердить то, чего на деле нет).66 Связь тождества и инаковости образует теоретический фундамент так¬
же для Шмитта и его бинома друг-недруг, что часто прочитывается в пря¬
мо противоположном ключе из-за непонимания. В последние годы вышло
Несколько замечательных исследований о творчестве Карла Шмитта,
среди которых хотелось бы напомнить следующие. Николетти М.,
Трансценденция и власть. Политическая теология Карла Шмитта,
Брешия, 1990; Галли К., Генеалогия политики. Карл Шмитт и кризис со¬
временной политической мысли, Болонья, 1996; Ди Марко Дж., Томас
Гоббс в юридическом дечизионизме Карла Шмитта, Неаполь, 1999.
ДВЕ КОБЫЛЫКажется парадоксальным поэтому всегда живой источ¬
ник нашей философии. Она утверждает, с одной стороны,
что только сила различия и ее metabolai будит разум, осво¬
бождает его от рабства непосредственного и бесформен¬
ного. С другой стороны, она утверждает, что различение
как таковое остается непознаваемым. Едва успев раскрыть¬
ся, различия перестают быть простыми различиями в абсо¬
лютном смысле. В той мере, в какой они гармонизированы
в единстве суждения (о чем судит та же дистинкция), они не
могут не отослать к некоему общему истоку. Могут ли не
принадлежать к одному корню - genos - мысли, вещи, раз¬
личия между которыми уже преодолены в форме сужде¬
ния?Если логос действительно связывает противополож¬
ности, необходима их онтологическая совместимость, что
изначальным образом и формирует гармонию. Так случи¬
лось с божественными женщинами-кобылйцами, приснив¬
шимися Атоссе. Так обстоит дело с гражданами полиса: они
свободны только в силу общей принадлежности к этой зем¬
ле с ее героями и ее этосом.Так что же может удержать дискурс, по-настоящему об¬
щий для множества участвующих в нем существ? - Только
само различие, ничего более. Существа едины во взаимном
различии. В этом они принадлежат к одному номосу (изо¬
номии), во влиянии одних на другие, в противостоянии
особенностей собственной формы особостям другой.
Изначальный Сит, божественный и вечный toXynon совпа¬
дают с сингулярностью, особенностью всех. Противопо¬
ложности сливаются в том, чтобы быть совершенно свое¬
образными, т.е. не-другими по отношению к себе. Если из
ужасающей Двоицы-пары по необходимости получается
Единое, в момент, когда Двоицу видит «око» Логоса, един¬
ство Логоса, в свою очередь, не может не указать на пер¬
воначальную общность разнящегося: бытие-единое мно¬
32ГЕОфИЛОСОфт ЕВРОПЫжества именно в силу различий между его несовпадениями.
Это de-cisione, ставящее Европу в определенном отноше¬
нии к Азии, не может создать никакого Ab-solutum, никакой
части, абсолютно отделенной. Именно утверждая мое от¬
личие от другого, мою особость, что я стою, что, стоя, по
необходимости противопоставляю себя тому, что в свою
очередь ('stasis) напротив меня, и в этом сопоставлении,
этом споре я узнаю себя в нем, ином. Другой становится
неотделимым Сит. Моя свобода от него есть моя дружба с
ним. Чтобы суметь принять его, мне нужен hostis (враг).
Никакая гармония никогда не будет абстрактным снятием
различим, никакое отличие нельзя утвердить как абстракт¬
ное отрицание гармонии. Поскольку связь, которую гармо¬
ния выражает, намного больше, чем простое согласие
противоположностей. Она значима как стояние напротив,
общее для всех. Европейская мысль, рождающаяся как
ионийская, в Азии, есть мысль, которая смещает даже не¬
сменяемое как такрвое (древние законы, традиционные
ритуалы и мифы), она всегда hybris в потенции, свое про¬
питание находит именно в этой проблеме. Спасти несводи¬
мую особость сущего (спасти феномен), спасти от ужас¬
ного варварского вакуума, однако при этом сохранить ее
связующую силу. Та же сила, делающая вещи нераздельны¬
ми, различает и опознает, устанавливает и поэтому оппо¬
нирует. Тема греческой истории и центр греческой жиз¬
ни- война- не только вынуждает изучать ее, чтобы
выяснить собственное тождество, но и врага, пока разуму
не покажется, что он знает врага (значит, открыться ему,
преодолевая предрассудки мифа), но еще и в полной ана¬
логии с темой философствования он думает о нераздели-
мо<:ти различного.Как sophia раскрывается в pbilia, в том, что ищет и, тем
не менее, никогда не находит в смысле обладания, так неот¬
делимое продолжает открываться в дистинкциях и разли¬
ДВЕ КОБЫЛЫчиях; Это таинственная сторона любой гармонии, сторона,
проблема, решения которой нет, словно речь идет о metaxy,
чем-то среднем, мостообразном между крайностями. Если
неразделимое никогда не раскрывается как таковое, совер¬
шенная гармония всегда остается aphanes, т.е. несводимой
к видимому измерению сущего. Любая конструкция гармо¬
нии, воспринимающая гармонию как элемент, как опреде¬
ленную функцию, впадает в апорию, характерную для пер¬
вых пифагорейцев, в каком-то смысле и для платоновского
«Тимея». Гармония не возникает как число, на основе кото¬
рого артикулируется дистанция, разделяющая конечное и
бесконечное, тонкое и тяжелое. Она есть не что иное, как
элемент музыкальной композиции (именно таков космос,
сотворенный Демиургом). Однако это число окажется
позднее необходимым, определяя крайности, оно, следова-
тельно, разделит их общую природу. Оно позволит рифмо¬
вать (rytbmos=arithmos) их межеумье, делая тем самым воз¬
можным согласованный переход согласно мере, некий
путь, где оно участвует всегда согласно природе множества,
принадлежит последовательности чисел. Гармония начи¬
нает существовать посредством сущего, она является чувст¬
венным образом, скрытая сила ее теряется.Бол её того: поскольку возможных гармонических по¬
средников бесконечно много, множества, раскрываемые
посредством определения посредника, не могут осмысли¬
ваться иначе как изобретение, конвенция, пакт - даже как
результат произвольного решения. Идея мира как возмож¬
ной приостановки войны, как пауза в войне, интервал - это
уже наша идея мира как pactum, вполне может исходить из
пифагорейско-платоновской идеи гармонии. Мир -pactum
по внутренней сути обращен к определению медиума.
Однако никакой медиум, по правде говоря, не связывает
противоположности, ибо принадлежит к их собственной
природе, будучи, как и они, вполне определенным.
34ГЕОфИЛОСОфИЯ ЕВРОПЫАбсолютные дистинкции гармонизируются в Ни-что.
Никакое золотое сечение в виде числа не может убрать дис¬
танцию. Они гармонизируются в своем бытии такими, со¬
вершенным образом обособленными, своей невозможно¬
стью быть иными, другими. Если явленные числа могли бы
преодолеть различия, в этих числах исчезла бы существен¬
ность их дистинкций - следовательно, не было бы никакой
гармонии противоположностей. В желании преодолеть
дистанцию крайностей и состоит hybris Ксеркса, когда он
восхотел взнуздать двух кобыл или два берега Еллеспонто,
т.е. земли и моря. Однако, поскольку разность спасает, ну¬
жно понять, что отличаемость - это to Хупоп, который аб¬
солютным образом отличен всегда, чтобы остаться тако¬
вым, от другого и в дистанции от другого. Если Европа
сможет вспомнить этот смысл своего отличия, свое бытие-
в-части, ей удастся, быть может, выразить свои metabolai,
метаморфозы, идею мира, далекую от чуда примирения
или синтеза, как и от самоуправства ассимилировать и лю¬
бого другого произвола. Место Cum - atopos, не-место, не¬
мыслимо и абсурдно как exaiphnes, мгновение, как мысль в
центре платоновского «Парменида». И, как только благо¬
даря этому мигу станет уловимой числовая связь, так в силу
этой atopia может быть освещено и определено простран¬
ство противоположностей во множестве времен и форм их
осознаваемого противосуждения.
IL ВОЙНА И МОРЕ1. Платон-реалистМожно ли вообще дать конституцию городу, politeia,
способность достичь стабильного единства с агоном души,
которая все же есть душа, даже когда ее части-гегемону уда¬
ется подняться вплоть до топоса гиперурании? Ведь и тогда
она подвержена насилию бегущих и с трудом созерцает «ta
onta»y реальность сущего (Платон, Федр, 248 а)? Может ли
случиться в границах полиса то, чего не случается в душе
даже по следам божественного: постоянное созерцание -
поскольку рано или поздно все, загнанные тяжкой судьбой,
теряют легкость, крылья и падают снова на землю (Платон,
Федр, 248 Ь-с)? Забудем ли вопросы, над которыми билась
платоновская философия по поводу (и в) полисе как
политическая философия, претензию разрешить политика
в теорию философа, желание абстрактно элиминировать
противоречивость политика и обратить в единство идеи?
Двусмыслие, восходящее к Аристотелю: платоновская poli¬
teia была бы, скорее, невозможна из-за полного единства в
качестве собственной финальной причины. Ведь полис по
своей природе есть множество и его бы не стало, если 6 он
смог стать одним-единым (Аристотель, Политика, И,
1261 а). То, чего многие добиваются как великого блага для
полиса, в реальности уничтожает его, поскольку он не есть
набор одинаковых элементов, а множество особенным
образом различных элементов, и эту их непохожесть над¬
лежит уметь сохранять. Полис есть комплекс специфичес¬
ких свойств и добрЪдетелей, вовсе не семья только хоро¬
36ВОЙНА И МОРЕших людей (Аристотель, Политика, III, 1276 Ь), этот ком¬
плекс не может быть нормирован согласно универсальным
и необходимым законам, ему Нужны многие формы кон¬
ституции. Как различаются части, образующие полис, как
варьируется система их взаимоотношений, так должны
разниться и их конституции. «Конституция на деле есть
порядок должностей, и все должности распределяются в
отношении силы того, кто участвует в конституции»
(Аристотель, Политика, IV, 1290 а).Аристотелевская критика скрывает реальную драма¬
тичность платоновской politeia, вводит общее место, в
котором есть лишь художественно совершенная статуя, с
живыми людьми не соотносимая, нечто вовсе бездушное
(Полибий, IV, 47). Напротив, эта критика никак не дает кон¬
ституции здорового полиса, это полис, внутренние арти¬
куляции которого построены настолько унитарно, словно
частй некоего войска, отношения обмена в котором на¬
столько отрегулированы, что цсключают саму возмож¬
ность возникновения конфликта. В этом полисе граждане
живут в мире и здравии, и, умирая, старики передают жизнь
самого рода наследникам (Платон, Государство, И, 372 d),
такой полис не составляет идеи, из-за которой Сократа из¬
гнали из города. Политея, которую он намеревается опи¬
сать, относится к городу, который растет, укрупняется, изо¬
бретает потребности и обычаи. Здорового полиса более не
достаточно (Платон, Государство, 373 Ь). Когда здоровья не
хватает, необходимо прибегать к врачам чаще, чем прежде
(Платон, Государство, 373 d). Конституция, наивысший ре¬
зультат политического искусства, не поддерживает здоро¬
вье того, что и так достаточно здорово, она позволяет ле¬
чить, заботиться там, где здоровье потеряно. Она
предполагает конфликт. Восстановление статуса здоровья
не ее задача. Это, скорее, невозможно, о чем говорит
Аристотель. Она намерена показать, при каких условиях,
ПЛАТОН-РЕАЛИСТпод arche каких норм определенный город, который
становится все больше (Платон, Государство, 373 b 2), мо¬
жет поддерживать свою форму, чтобы не распасться и не
изменить форму, изменив себе.Парадоксально, конечно - здесь проблема состоит в
обдумывании полиса, который, будучи чем-то ставшим,
должен перестать меняться, или идеи полиса, сохранив¬
шего силы и импульсы, толкнувшие его за пределы здоро¬
вья, но который должен все же стать государством, т.е. чем-
то по форме стабильным.7 Однако, как мы увидим, та же
парадоксальность, далекая от трактовки платоновского
дискурса как утопического, служит* чтобы осветить глубо¬
кий реализм. Для начала ограничимся констатацией, что
целостное развитие платоновской аргументации возни¬
кает на почве ухода от гипотезы здорового государства. Об
этом говорят тексты, параллельные «Политику» и «Зако¬
нам». Государство было здоровым, когда миром правил Бог,
под руководством божественных пастырей люди насла¬
ждались обильной пищей (Платон, Политик, 271 d- 272 b).
Любивший тогда еще людей Бог гарантировал им посред¬
ством наилучшего гена (genos) демонов божественного
племени мир (eirene) и утешение (pietas, autos), справедли¬
вые законы (eunomia) и справедливость без зависти (apb-
thonia dikes). Бог знал, что сам по себе человек никогда та¬
кого положения не установит и не удержит. В самом деле,
не настолько же мы глупы, чтобы доверить быку пасти бы¬
ков, козе пасти коз. Сознавал Господь, что человеческая7 Здесь первые шаги делает идея civitas augescens, которой суждено гос¬
подствовать в философии, правоведении и римской символике. Однако
утверждалась с полным осознанием неразрешимости этой проблематики.
Так Рим будет отчаянно пытаться удерживать в центре понимания и
своего расширения понятие ОгЬе (мира) как всеобщего присутствия
Urbs (города). По этому поводу наиболее важные замечания сделаны
мной в книге «Миф о civitas augescens» в сб.: «II Veltro», 2-4, 1997.
38ВОЙНА И МОРЕприрода не в состоянии позволить человеку управлять са¬
мому делами человеческими без того, чтобы не наполнить¬
ся несправедливостью и hybris (Платон, Законы, IV, 713 с-е).Тогда, когда Бог стоял у руля, во время счастливого
arche (eudaimon и демоны по сути - его министры) не было
места ни для полемоса, ни для стазиса, ни для какого типа
войны (Платон, Политик, 271 е). Мир (eirene) господство¬
вал везде. Но ведь и полиса тоже не было! Термин, исполь¬
зуемый для определения такой божественной паствы, ско¬
рее, oikesis (Платон, Законы, IV, 713 b 2). Органическое
совместное житие, семья, которой пока не знаком импульс
роста, воли к власти, того, что образует полис. Если бы мы
захотели обращаться с полисом как oikos, то не смогли бы
не захотеть разрушить его, именно так, как об этом учил
Аристотель. Politeia, конституция полиса ставит неизбеж¬
ную проблему: почему утрачена божественная Гармония,
залог его здоровья, почему мы более не божественная па¬
ства, почему наш город питает желания, из-за чего
становится все меньше и меньше (Платон, Государство, II,
373 d 5), а значит, желания вынуждают его расти, завоевы¬
вать все новые территории, другие пастбища. Полис, кото¬
рый предстоит построить, следовательно, уже есть некий
полис в состоянии войны по естественным причинам
(Платон, Государство, 373 е), и именно поэтому воины
должны быть его стражами. То же требование, выраженное
в «Протагоре», что полемическое искусство (techne ро-
lemike ) должно быть существенной частью политики, воз¬
вращается в «Государство». Все это влечет за собой особый
нрав стражей: они должны сочетать великодушие в от¬
ношении собственных граждан с жесткостью по отноше¬
нию к чужакам. Более того, они обязаны распознавать вра¬
гов и уметь уничтожить их прежде, чем они нападут
(Платон, Государство, 375 с). Создание нужного типа фило-
софа-правителя, чему посвящены книги V,VI,VII, начина¬
ПЛАТОН-РЕАЛИСТется с этого горького признания, что сама идея полиса
включает в себя множество аппетитов, состояние войны,
стражей-кормчих, мало похожих на счастливых демонов,
которые, скорее, двуличны. Они должны быть образованы,
уметь управлять; используя собственное искусство двой¬
ных стандартов, однако их душа остается той же, что и у
любого другого: пространство как арена соревнования,
никогда не дающего покоя. Этот смысл раскрывает звуча¬
ние вопроса Адиманта, с которого начинается книга IV:
«Как ты оправдаешься, Сократ, если кто-то обвинит тебя,
что никого из твоих людей ты не сделал счастливым?» Еи-
daimonia, которую они могут преследовать, никогда не бу¬
дет той, что в «государстве» Хроноса. Она будет результатом
беспощадных баталий, преодолением любого рода доказа¬
тельств, чтобы освободиться от связей doxa, чтобы от «те¬
невых образов повернуться к свету, подняться из подзем¬
ного мира к солнцу» (Платон, Государство, VII, 532 Ь), чтобы
снова из жалости к заключенным вернуться в их темницу,
показаться им чужим пришельцем, снова рисковать быть
убитым (Платон, Государство, VII, 516 с-517 а).Наш охранник - военный человек й философ (Платон,
Государство, VII 525 b 8; VIII,543 а 5), к тому же спорщик
(polemikos) по причинам более существенным, чем долг за¬
щиты полиса (защита, как мы видели, посредством нападе¬
ния). Полемика должна быть его природой, ибо он может
победить себя самого, когда завладеет всеми добродетеля¬
ми (Платон, Государство, VI, 485) Полемикос - это его ло¬
гос, который убеждает и вместе с тем образовывает. Polemi¬
kos служит не только по отношению к внешним врагам и
неразумным частям души, но по необходимости, по от¬
ношению к порочным (kakoi) членам полиса. Ведь kakoi
составляют большинство обитателей полиса, они постоян¬
но пытаются сделать из полиса продукт собственного упо¬
требления. Если победить себя есть первая задача, то самая
40ВОЙНА И МОРЕпрекрасная из побед (Платон, Законы, 1,626 е), конечно, это
победить to plethos - большинство порочных людей, этой
задачей должен заняться тот, кто завоевал первую корону.
Не может быть законным никакое понуждение против по¬
рочного со стороны того, кто не победил порок внутри са¬
мого себя. Однако были времена, когда победивший обязан
был подчинить своему закону «многоголовое животное»
(Платон постоянно настаивает на таком долге: философ не
должен хотеть блага для всех - т.е. именно блага - если он
уклоняется от своей задачи пытаться стать правителем, хотя
совсем не намерен посвятить себя только полису (Платон,
Государство, VII, 520 Ь). Может ли случиться, что kakoi будут
вынуждены подчиниться без контраста, борьбы, в итоге, без
stasis? Именно вокруг радикального различия междуpolem-
os и stasis вращаются конструкции платоновскойpoliteia как
в «Государстве», так и в «Законах». Мужественные, искушен¬
ные в технике ведения войны, атлеты войны (Платон, Госу¬
дарство, VII, 521 d 5), жесткие против врагов полиса — все
это должны уметь стражи-философы, но против варваров,
против чужаков, против племен, враждебных по природе
(Платон, Государство, V, 470 с).Polemikos - философ-правитель в том смысле, что дол¬
жен знать технику полемоса, если хочет дать форму полису.
Stasis, напротив, есть зародыш гражданской войны, он раз¬
рушает полис и предстает как отрицание политики. Искус¬
ству войны не место в сфере полиса, где надобно мирно
регулировать выражаемые разногласия, чтобы принудить к
подчинению порочных, которые ведь тоже живут и дейст¬
вуют в городе. В полисе порядок мира утверждается не че¬
рез войну, а посредством силы примиряющего слова, в силу
добрых законов, справедливости, мудрости и умеренности
судей, силой любви, philia, в которой воспитаны граждане.
Никогда хранителю-стражу не удастся разрешить кон¬
фликт путем элиминации kakoi (Платон,Законы 1,б27еб30).
ПЛАТОН-РЕАЛИСТГрандиозная drama, настоящая historia проблемного
поля человеческого города, словно страница Фукидида,
раскручивается в идеальном пространстве «неба». Город не
стадо (и даже не войско), правитель-философ вовсе не Бог
(и даже не счастливый демон). Необходим полемос, даже
если не лучшее из всего прочего (Платон, Законы, I, 628
с. 9), поскольку войну всегда начинают в видах мира; но
между полисом и стазисом нет никакого медиума, абсолют¬
ного aut-aut. Но и в душе философа есть свой stasis. Отсюда
не следует ли заключить, что из стазиса возникает настоя¬
щая politeia? Что только из конфликта (мысля конфликт как
архэ) может родиться гармония? Более того, kakoi суще¬
ственно определяют по их свойству противиться «единству
преданых» (pistotes) (Платон, Законы* 630 с 5). Так в чем
другом суть kakoi, как не в мятежном отказе подчиниться
фило-софии? Kakos суть те, которые хотят гражданской
войны. Они также, естественно, враги sodalitas, которая ха¬
рактеризует группу «праведников», agathoi. Дурные люди,
по сути, не формируют группу, это неразличимая тьма мно¬
жества страстей и интересов. Так отличаются ли они от чу¬
жака, варвара, против которого имеется природная вражда?
То, что кажется общим - чистая видимость. Боги? - Однако
Бог философа не тот же, что Бог черни.plethos. Язык? - Раз¬
ве может негодяй по-настоящему понять язык высокой
добродетели, arete, совершенства справедливости? Какому
иному языку, кроме силы, может реально подчиниться пад¬
ший? Начав использовать грубую силу, философ перестает
быть философом, обесценивается единственная трансфор¬
мация, конечно, не простая и не мелочная, которая позво¬
лит обдумать возможности платоновской politeia (Платон,
Государство, V, 473 Ь).Эта возможность достижима, если только находится
язык чистого убеждения, совершенным образом убедитель¬
ный язык. Иначе остается необходимость атаковать кор¬
42ВОЙНА И МОРЕрумпированных на их собственной почве, т.е. на почве sta¬
sis. Философ должен быть правителем именно затем, чтобы
предотвратить такой финал, который совпал бы с разруше¬
нием самого полиса; В самом деле, философ - это диалек¬
тик, он знает, как построить рассуждение, и как таковое оно
будет беспроигрышным. ТЪлько на помощь божественной
силы в процессе диалога можно рассчитывать на то, что по¬
рочные подчинятся, а мир будет достигнут, что никого не
придется убивать (Платон, Законы, I, 627 е-628 а). И вот
решительный шаг: философ как диалектик побеждает в ус¬
ловной битве (Платон, Пэсударство, VII, 534 с 1), когда ему
удается включить в собственный логос логос сущего
(Платон, Пэсударство, VII, 534 b 3-4). Он преодолел область
гипотез, характерных для dianoia, достиг episteme, твердой
науки самого Первоначала. Следовательно, ему удалось
преодолеть всю область technai, что между doxa и episteme
(Платон, Государство, VII, 533 c-d). Но ведь техне и есть
политика. Следовательно, тот, кому удалось превзойти stasis
распада и обезопасить таким способом область собственно
политики, докажет свое понимание того, что сверх и по ту
сторону политики. При этом лишь в силу убеждающей
силы такого знания он застрахован от возникновения sta¬
sis. Никакая политическая техника (techne politike) не в со¬
стоянии убедить в этом kakoi, порочных людей, без bia, по¬
мимо kratos, поскольку она по необходимости вся включена
в область гипотетического. Может оказаться, что простая
незначительная трансформация немыслима и невозможна,
это с необходимостью позволит убедиться, что принцип
гражданской войны внутренне присущ полису как порядку,
что полис нельзя излечить ни от полемоса, ни и от стазиса.Никакой утопии, как видим. Atopia как atopos, скорее, у
Сократа. Абсурдный дискурс, но посредством него многие
дискурсы в разных областях сущего оказываются разру¬
шенными до основания. Политическая техника призвана
ПЛАТОН-РЕАЛИСТпоявиться на сцене в момент гражданской войны. Она не¬
сет не что иное, как растущую угрозу разрушительных сил,
которые перерастают в простую synoikia (Протагор, 322
b-с)? Все же реально преодолеть силу распада политичес¬
кие техника и технологии не способны.Только если правит истинный философ, если он в си¬
лах убедить в принципе, негипотетйчески, всех сограждан,
только тогда будет мир. Eirene, в которой звучит тот же ко¬
рень harme (соединение), гармония, areion} исключитель¬
ный, - этот Мир, будучи ariston, будет финалом aristoi, пра¬
ведников. Однако этот финал переходит границы
Политика. Он добивается убеждения, которому нужен
метаполитический дискурс. Более того, дискурс, почти под¬
властный Господу! Дело, достойное Демона (Платон, Госу¬
дарство, VII, 531 с 5), ergon, нечто безграничное (Платон,
Государство, VII, 531 d 5), с первых шагов достойное почес¬
тей необыкновенных, именно как для демонов (Платон, Го¬
сударство, VII, 540 с 1-2). Стражи-философы - герои по¬
лиса, поскольку в них воплощены aidos и dike,
божественные дары, без коих о полисе и говорить нечего.
Так как же указать на реальный метод продуцирования, т.е.
воспитания (paideia:), в границах сложного комплекса стра¬
стей, интересов, мнений в городе, который пока еще не на¬
стоящий полис, в городе, где правитplethos еще до прихода
героя философа-правителя? Платон с абсолютным реализ¬
мом не отвечает. Замечательно, как остался не замеченным
столь драматичный вакуум, молчание, хотя его немедля
пытались заполнить рассказом-мифом об askesis, само¬
отречении, которому де философ-правитель обязан подчи¬
ниться (даже ценой собственного несчастья). Все же миф
этот вязнет в изначальном молчании: божественный и сча¬
стливый случай появиться в схожей природе. Любое созда¬
ние в настоящих условиях города если и спасается, то лишь
благодаря спасительнице божественной Мойре (Платон,
44ВОЙНА И МОРЕГосударство, VI, 492 а, 493 а). Если кто-то в рамкахpoliteiai,
который к природе философа не располагает, все же им
становится, это нельзя объяснить иначе, как вмешательст¬
вом божества. Только божественное вдохновение, ek tyche
(Платон, 1Ъсударство, VI, 499 b 5,с 1), превышающее любой
проект, любое разумное предвидение, объясняет настоя¬
щую любовь к истинной философии - что настоящий фи¬
лософ вдруг начинает заниматься полисом - что, сам по¬
лис, наконец, убеждает стать подданным. Философ - сын
Tyche, случая, зависимость от нее даже большая, чем у сына
Эдипа.Но даже наилучшая politeia, рождающаяся в результате
какого-то чуда, будет не чем иным, как подражанием боже¬
ственного правления (Платон, Законы, IV, 713 b 3). Имита¬
ция выражает и соизмеряет неравенство. Различие лежит в
основании любого сравнения. Люди не послушные буйво¬
лы, их статус не просто воспроизводится, он растет, должен
расширяться. Их логос - polemikos до того, как любой поле-
мос раскрывается. Ведь и демоны Хроноса не только не
превосходят stasis, но и не знают никакого polemos. Те же
философы-правители, напротив, практикуют сначала stasis,
лишь потом готовятся управлять polemos. Войну следует
начинать с собственного дела, pragma. Однако источник
войны - те же страсти и апетиты, те же частные и обще¬
ственные пороки (Платон, Государство, II, 373 е). Следова¬
тельно, никакой философ-правитель не сможет элимини¬
ровать натйск, разрушить лоно, непрерывно порождающее
негодяев, kakou Добрый демон сумеет без насилия выну¬
дить их подчиниться закону (или силе-насилию логоса), но
это не приведет к их элиминации. Значит, перед нами уто¬
пия - не наиреальная atopia «Государства». Элиминация
негодяев на самом деле сделала бы поверхностным любое
искусство управления, что и есть politeia. Но именно оно,
обдуманное в крайнем пределе, в последней апорейтичнос-
ПЛАТОН-РЕАЛИСТти, и составляет суть вопроса. Нельзя иначе понять politeia,
чем посредством элиминации stasis. Однако устранить
принцип гражданской войны означает отдаться приказу
непобежденной науки о первоначале, принципе - впрочем,
это происходит совершенно иррациональным образом,
непостижимо. Счастливый случай (даже если не невозмож-
ный), что у разума есть arche. Подлинная politeia может со¬
стояться и случиться, когда во главе окажется Принцип,
превосходящий Политика, т.е. когда первооснова будет
исходить не от Политика. Если в действительности это
реализуется, то любая политическая техника станет из¬
лишней.В этой аргументации нет ничего, за что можно клясть и
ругать. Все, что и так окончательно раскритиковано, можно
лишь отодвинуть и забыть. Однако ругать ее значит игно¬
рировать множественность конституций и бытие-во-мно-
жестве полиса, показать себя слепым и глухим по отноше¬
нию к мировой драме бытия. С Аристотелем и его критикой
начинается вековой путь становления полиса, а сам термин
означает не гипотетическое соглашение на основе взаим¬
ного интереса politai, политических частей, партий города.
Извращение отношения polis-polites в civis-civitas уже начал¬
ся. Соответственно политика становится для философа
«murms alienum» (отчужденным трудом). Однако тем самым
философ и политик должны объявить себя некомпетент¬
ными в платоновской проблеме: как обдумывать полис в
качестве элиминации принципа stasis. Все же практическая
философия, включая аристотелевскую, кажется, разделяет
платоновскую идею, что гражданская война ведет к распаду
полиса. Платон осознавал препятствие во всей его кошмар¬
ной реальности. «Политический реализм» последующих
мыслителей будет, напротив, подталкивать к тому, что за¬
конных соглашений достаточно, чтобы противостоять
природе, из которой исходят все зло и войны. Наиболее по¬
46ВОЙНА И МОРЕследовательными наследниками платоновского разоча¬
рования станут поносимые политологи от Макиавелли до
Маркса, принимавшие гражданскую войну, постоянно воз¬
никающие конфликты за источник любого решения и даже
любой конституции. Платоновский парадокс они вывер¬
нули наизнанку: stasis для них не отрицание, наоборот,
продукт politeia. Однако, признавая во всем герменевтичес¬
кую чреватость стазиса, замалчивали собственный ирреа-
лизм в части поиска политического статуса, основанного
на mesotes (усреднении), который претендовал доказать
тщетность философского экстремизма платоновской poli¬
teia.Платоновская конституция на самом деле не выводится
абстрактно из утопического принципа некоего объединен¬
ного полиса. Она вопрошает: при каких условиях мыслим
некий полис, многоукладное^ которого не означает гра¬
жданской войны в потенции? Ответ может вызвать смех
(Платон, Государство, V, 473 с 7-8), может показаться чем-то
вроде petteia, которая играет словами вместо шашек
(Платон, Государство, VI, 487 с 2-3). Однако именно в этом
его дистанция, трагикомичная дистанция от любого реаль¬
ного статуса, что позволяет уловить апорию этого послед¬
него. Именно, только Господь мог бы даровать philia, pisto-
tes, здесь постулируемые. Лишь Бог милостиво дарует aidos
и dike. Это не означает, что politeia, наделенная такими цен¬
ностями, вообще возможна. Это значит, что она лишь мыс¬
лима. Более того, что должна быть мыслима - как иначе
можно мыслить полис в качестве множества, если даже нет
никакой идеи единства? Разве не пытаются найти ту или
иную форму единства любая философия и любой praxis?
Замороченным окажется тот, кто такой тенденции не заме¬
чает и полагает, что политические техники- простая
инженерия по случаю. Прозреть, значит, принять такую
естественную тенденцию, показать, в каких парадоксаль¬
РАССУЖДЕНИЯ О HYBRISных условиях она может реализоваться. Более того: по-
настоящему разочарован тот, кто даже, воображая, что реа¬
лизует ее, показывает простую имитацию истинного госу¬
дарства. Ведь никакой совершенный полис не будет
полисом в собственном смысле слова, полисом по ту сто¬
рону пространства Политического. Идея, на которой соз¬
дается большая часть европейской политической поли-
тики- пусть она называет себя Благом, воплощенным
Благом. Однако тгтета и есть неравенство, различие, не-
Благо. Только так, отрицая себя, Благо могло бы проявить
себя. И этому отрицанию-представлению никогда не хва¬
тит человеческих добродетелей. Всегда будет необходим
счастливый случай, божественное вдохновение. «Государ¬
ство» есть рассуждение не об истинном государственном
устройстве, которого нет, а об идее, могущей измерить
существующие конституции. Рассуждение, более других
бесполезное и необходимое более всех других. Тревога,
призыв очнуться, когда освещается «атесЬапоп kallos»
(немеханическая, несказанная красота) Блага (Платон, Го¬
сударство, VI, 509 а 6), поскольку она показывает, насколько
далеко от Блага все то, что в нем как-то участвует. Свет,
который помогает различить и отличить то, что в тени
казалось смешанным, похожим или даже единым. Что абсо¬
лютным образом различает даже статус самого Господа,
того же здоро>вья, сверхчувственного Блага.2. Рассуждения о hybris (зависти)Жестокое зрелище видеть все формы hybris, вызывае¬
мые гражданской войной. Как термин hybris противостоит
eirene, non polemos. Hybris - это насилие, превосходящее
любую меру, нечто запредельное (hyper=super=superbus).
48ВОЙНА И МОРЕПолемос развивается в рамках некоторой естественной
неприязни (Платон, Государство, V, 470 с). Stasis неестестве¬
нен, в силу чего взламывает каналы syngeneia, поэтому со¬
держит в себе выражение hybris. Разве что зрелище чумы в
описании Фукидида еще более ужасает, чем stasis. Дерзости
«alogistos» мы даем имя мужества, осторожность называем
леностью, умеренность- трусостью, узы секты значат
больше, чем кровные. Клянутся не именем божественных
законов, скорее тем, чтобы вероломно нарушать челове¬
ческие. Чудовищный карнавал, мир наизнанку, где неиз¬
бежно вести борьбу, чтобы любой ценой быть выше, где не¬
возможен никакой нейтралитет. Такой видится война на
Корчире между эллинами, самая жестокая война (Фукидид,III, 82-84). Комментарий Ницше (считавшего подлинной
главу 84) предстает как резко освещенный перевертыш гре¬
ческого текста. То, что у Фукидида было зловещим предчув¬
ствием истечения низменной чувственной любви - philo-
timia (Фукидид, III, 82,8), для Ницше становится
выражением факта, что на сверхчеловека нельзя более рас¬
считывать, что он способен стерпеть обиды, вынести логос,
присягу (horkos). Сверхчеловек называет себя таковым по¬
стольку, поскольку ничего высшего уже не признает в себе.
Aristos, о котором думал Фукидид, - тот, кто уважает боже¬
ственный Nomos, поэтому бежит прочь от stasis 8.Реализм Фукидида, в каком-то смысле, таков, что не
различает stasis от polemos. Если мы рассмотрим две формы
войны в большом составе произведения, увидим их нерас¬
членимо переплетенными. Так же и на странице, только
что процитированной. Polemos, устранив euporia (легкость
добывания всего необходимого) из мирного времени, ста¬
новится самоуправным наставником (biaios didaskalos) душ8 И Фукидид, и Геродот еще признают nomos basileus. Этот вопрос с точ¬
ки зрения неписанного закона доминирует в «Антигоне»)
РАССУЖДЕНИЯ О HYBRISplethos, большинства, тем самым делает город добычей вра¬
жды, гражданской войны (Фукидид, III, 82, 2-3). Polemos
(спор) - ведь не бывает полиса без полемоса даже в плато¬
новской идее - остается учителем stasis (стабильности). И в
самом деле, он - отец всего, не без иронии можем приба¬
вить.Polemos может породить stasis только потому, что имеет
в себе hybris, который созревает в последнем. Самый холод¬
ный разговор о войне, самый расчетливый, далекий от без¬
рассудной отваги, всегда находится в леденящем диалоге со
все опустошающем насилием, пока человеческий физис
остается тем, каков он есть. (Фукидид, III, 82,2). Самый бес¬
покойный аспект спора между афинскими послами заклю¬
чается не в произносимых словах, а в их ритме: неизбеж¬
ные слова о смерти прочеканены «kath'hesychiam мерно и
спокойно. Никаких эмоций, гнева, поспешности. Так ше¬
ствует только тот, кто абсолютно уверен, что обладает
истиной, что его деяния основаны на незыблемом фунда¬
менте. В этом его речь отличима от речи софиста. Види¬
мым образом она переводима на язык максимы, что спра¬
ведливость есть польза более сильного, в меньшей степени
она утверждает превосходство несправедливости или
восхваляет тиранию. Речь афинян претендует быть единст¬
венно верной - не только для людей, но и для богов. Nomos
толкает их использовать свое архе для силового господства
над другими, он не принадлежит многим, условным nomoi
города, все же установлен богами, действует в силу природ¬
ной необходимости (Фукидид, V, 105,2). Не измерен чело¬
веком, но сам его измеряет. Не он - человеческое изобрет¬
ение мудрецов и знатоков, а люди аккуратны и всеведущи,
поскольку ему следуют. Афиняне могут с уверенностью и
спокойной совестью утверждать, что божественная под¬
держка им не изменит (Фукидид, V, 105,3). Мелосцы нетер¬
пеливо пытаются убедить афинян, что они ошибаются, гре¬
50ВОЙНА И МОРЕшат против Dike, что вся их аргументация - идеология (ска¬
жем на наш манер). Однако афиняне совершенно спокой¬
но повторяют, что на их стороне не только более сильные
резоны, но и сам божественный Nomos, которому они по¬
слушно подчиняются, против которого безумные мелосцы
бунтуют. Разве что спартанцы уважают прекрасное, спра¬
ведливое, что всем нравится (Фукидид, V, 105,4). Афиняне
следуют, напротив, общему логосу, основанному на необ¬
ходимой природе человеческого и божественного. Этот
логос всегда утверждал, что не следует полагаться на того,
кто очевидно кажется сильнее (Фукидид, V, 101), что безум¬
но противопоставлять звук и искушение слов спасению
единственного отечества (значит, слово нельзя заменить
вещью), что присутствующее и видимое всегда надежнее и
тверже любого ожидания и желания, что мудрец рас¬
считывает не на tyche, а на собственную arete. В этом кон¬
тексте следует трактовать начальное положение афинских
послов: «что касается справедливости, по-человечески су¬
дят на основе равной необходимости, в то время (если та¬
кого равенства нет) тот, кто сильнее, делает, что хочет, а
тот, кто слабее, должен уступить (Фукидид, V, 89). Anmke
(как в кн. V, 105,2) здесь - ключевой термин. Афиняне не
могут иначе. Мелосцы должны бы, напротив, ибо их прак¬
тика - противна природе. Первые знают (epistamenous,
Фукидид, V, 89), вторые бредят, как и другие прочие, пока
опасность не заставит действовать, и с нею необходимость
ясных решений доверит собственную судьбу слепым на¬
деждам (Фукидид, V, 1103). Меж этих ожиданий, заметим,
есть еще заботы у мелосцев с чистыми софистами. Именно
мелосцы начали задаваться вопросами и исследовать сферу
полезного. Если заденете нас, хотя мы нейтральны, вы ста¬
нете врагами тех, кто еще не выступил ни против вас, ни
против Спарты (Фукидид, V, 98). Если начнете против нас
жестокую кровную месть, на вас нападет Спарта (Фукидид,
РАССУЖДЕНИЯ О HYBR1SV, 104). Они утверждают, что их вынуждают, ибо афиняне
игнорируют справедливость. Однако это не так Афиняне
рассуждают под знаком вечности, что справедливость есть,
с точки зрения избранных, обмен эквивалентами, что нель¬
зя дать иной реальный смысл справедливости, кроме как
смысл равновесия сил. Мир для них - естественный сино¬
ним такого равновесия. Жаль, что не могли прочесть у
Паскаля: «не умея приписать силу справедливости, стали
считать силу справедливой, словно справедливость и сила
могли быть вместе, словно в том и мир, высшее благо»
(Паскаль, Мысли, 299).Этим и ужасает диалог, сам Фукидид, его изобретатель,
кажется, теряет дар речи. Ибо не только полемос являет
себя одним из ликов hybris, но сам hybris рассуждает,
претендует на роль необходимого логоса. Словно истин¬
ное кажется злом. Справедливость в речах афинян не сино¬
ним полезного (как ошибочно полагали мелосцы), а нечто
необходимое. Необходимо, чтобы с той же смелостью, с
какой все моря и земли хранили бы бессмертные памятни¬
ки их kalokagathia, так же оставались несмываемые знаки
зла, monumenta irae (11, 41), вот так согласуются и мера Пар-
тенона, и побоище мелосцев.В чем же для афинского логоса суть hybris? Ксенофонт в
«Эллениках» (II, 2, 10) открыто заявляет: ради hybris, а не
ради мести Афины разрушили многие маленькие города),
не из-за своей ли бредовой претензии согласовать совер¬
шенно непохожие принципы, связать то, что необходимо
держать порознь? Разве не стремятся афиняне быть выше
любого ограничения, страдая высокомерием, следователь¬
но, не ослеплены ли hybris, ибо мнят, что смогут принудить
к одному ритму крайние диссонансы, что их собственный
логос устранит любую разницу, сделает противоречия диа¬
лектичными? Простительна ли смелость грандиозных ре¬
52ВОЙНА И МОРЕчей Перикла, составляющая сердцевину их сияния? Любовь
к прекрасному и любовь к мудрости (II, 40,1) соединяются
словно «естественно» связанные для усиления города, са¬
мовластно утвержденной его автономии: «единственный,
еще более сильный в своей славе, теперь идет к испыта¬
нию... Перед всеми нами раскроем великие знаки и доказа¬
тельства нашей силы, восхищения для людей нынешних и
завтрашних, не требующих восхваления Гомера или дру¬
гих» (II, 41, 3-4). С высоты этой силы, которая верит только
сама себе, для которой нет ничего неожиданного или не-
жданного^ что могло бы склонить ее (II, 61,2-3), нужно идти
на врагов не только с твердой душой, гордой надежностью
(«те phronemati топоп»), но также с презрением («alia kai
kataphronemati», И, 62,3), тем презрением, которое рождает
абсолютная вера в собственное превосходство. Точная
оценка средств, которыми он располагает, позволяет пред¬
видеть будущее, не доверяться надежде, которая относится
лишь к тому, что неопределенно - на этом основана точная
оценка отношения силы, позволяющая презирать врага. Го¬
род Афины только так общался с Мелосом. Поражает
появление новой формы hybris, во всем основанной на
логосе. И потому она может быть имманентна полемосу,
технике войны. Hybris, свойственный иллюминизму логоса:
верить в собственную силу, уметь рассчитывать ее, надеять¬
ся лишь на то, что видимо, в «phanerai elpides», распрощать¬
ся с оракулами и священнодействием (V, 103). Традицион¬
ные формы не должны мешать самым сильным - однако
самые сильные таковы не ради слепого фурора, не для про¬
стой храбрости, а потому, что знают, в чем на самом деле
справедливость и ссылаются на Необходимость. Дажеphilia
для них вовсе не высший принцип (платоновская philotes,
гарантия против hybris stasis*а). Уважать филию при опреде¬
ленных обстоятельствах было бы всего лишь знаком асте¬
нии, слабости. Лучше тогда ненависть, поскольку ненависть
ТАЛАССОКРАГИЯпротив самых сильных - доказательство именно их силы
(V, 95). Филия всегда кажется в некотором смысле поиском
средства, гармонического посредника - однако поисков
никто не позволит, когда борьба становится решающей, т е.
настоящей битвой. Невозможна уже любая форма нейтра¬
литета, любая попытка умерить становится вредоносной. С
Исократом начинаются идеологические призывы к славе
прошлого, афинской paideia, призывы Фукидида - но ни¬
какое ораторское искусство не может устранить без¬
жалостное осознание того, что полемос вырождается в са¬
мовластие, необходимость войны за жизнь со стороны
полиса (который есть dynamis, сила разрастания, усиления)
возводит памятник злу, ею же посеянному. Необходимость,
как гроза, нависает над городом, который только так дол¬
жен выразить свою силу: ей не избежать приказов, но и сам
процесс командования неизбежно вызывает любые формы
вражды. Ибо повелевание всегда существует как тирания
(11,63). Более того, тот, кто исполняет команду, подчиняется
власти почти как тиран: тот, кто вынужден командовать,
будет тиранизирован со стороны необходимости архе со
всеми последствиями. Тот, кто захотел бы от нее ос¬
вободиться, разрушил бы город. В городе, где необходимы
приказы, нужно уметь принимать тиранию приказа, даже
ценой того, что придется выглядеть несправедливым.3. ТалассократияПлатоновская politeia, вынужденная изобретать воз¬
можность грандиозной политической формы после без¬
возвратной утраты любого «здорового статуса», поспешно
принята наперекор Фукидидовой истории. Как для
Платона, так и для Фукидида было необходимым, чтобы в
54ВОЙНА И МОРЕвидах продвижения и усиления город ввязывался в войну,
непрерывно переходил собственные изначальные грани¬
цы вопреки arche. Все это ведет к hybris — злу не только для
других, но для самого города. Ни один философ-правитель
не смог воспрепятствовать такому саморазрушительному
исходу, который внутренне присущ самому политическому
инстинкту, что отмечено Ницше в очерке «Греческое госу¬
дарство». Город есть conatus, он существует не иначе как в
качестве растущего организма, когда в течение дня может
решиться вопрос о его архе либо его поражении9. И в ре¬
шающий день нет времени озаботиться тем, что справед¬
ливо либо несправедливо. «Там, где сразу решается вопрос
здоровья отечества, нельзя впадать в рассуждения о правом
и неправом, милости или жестокости, похвальном или
мерзком, более того, отложив любые сомнения, надо следо¬
вать за той партией, которая спасает жизнь и способна под¬
держать свободу» (Макиавелли, Рассуждения, III, 41, книга
III «Искусство войны»), хотя без того, чтобы это разгоря¬
ченное желание могло сбить или заслонить расчет в логи¬
ческой расстановке сил. Однако от трезвого подхода фло¬
рентийского мыслителя оказалась скрытой другая сторона
греческой истории, именно то, что делало рассуждение в
собственном смысле трагическим. То, что этот бешено-ра-
циональный conatus в конце концов оказывается самораз¬
рушительным, что та же лимфа, которая обеспечивает
подъем города, его же затем низвергает. Не по абстрактным
циклическим схемам, а по внутренним политическим при¬
чинам, в силу той же логики arche, которая прежде всего
arche, превосходящая самих субъектов, исполняющих ее
волю. Греческому миру незнакома разве что необходимость9 У Макиавелли термин «государство» семантически решительно сдвига¬
ется. Уже не данная ситуация или комплекс, укорененный в органах или
субъектах, а именно упражнение властей в дерзости, виртуозное исполь¬
зование насилия, взаимодействие порядка и конфликта..
ТАЛАССОКРАТИЯвойны - это тупая банальность. Греки знали, что нельзя вес¬
ти войну для других, без того, чтобы не допустить войну
внутри себя. Поэтому, в конце концов* невозможно отде¬
лить polemos от stasis.Так произошло в Афинах. Начавшаяся война за господ¬
ство не только возбуждает ненависть й вражду (Фукидид, И,
64, 5), но й коррумпирует с необходимостью их собст¬
венную политическую форму. Точнее: поиски господства
делают невозможным «правление честных». Может ли быть
иначе, если честные и правые - как раз те, кто не желают
господствовать? Неразрешимая антиномия платоновского
дискурса, узел, разрубленный уже Псевдо-Ксенофонтом:
если цель - arche, если преследуемое городом благо -
приказ-повеление, невозможен никакой компромисс с gen-
naioiy cforestoi9 с праведниками. Целостная politeia должна
структурироваться в функции высшей пользы, sympheron,
выгоды, без лишних копаний на тему снисхождения, жес¬
токости, похвальности, омерзительности.Старый олигарх мог смутиться мольбами и похвалами.
Доминат, цель господства не только диктует собственные
законы, но содержит в себе собственный закон тирании.
Требовать от него philia или pistis - все равно, что толкать к
самоубийству. Нельзя не любить собственную власть и не
верить в собственную силу. Его религия - вовсе не неиз¬
менный nomos, не ценности традиции, мантической или
оракульской. Чтобы понять его, необходимо закрепить его
в логосе, научным образом пронаблюдать. Совершенный
недруг такого рода порядка не тот, кто критикует его мора-
листически, а тот, кому удается в каком-то смысле миниро¬
вать, подточить язык врага, своим участием он вскрывает
его наиболее темную и ужасающую сторону. Этот порядок
вещей будет продолжаться до тех пор, пока будет ужасать и
скрывать источник страха: то, что это необходимо, чтобы
56ВОЙНА И МОРЕруководили наихудшие, коль скоро цель - повелевание.
Только разоблачив эту тайну, осветив это измерение, кото¬
рое хранят в секрете, можно начать эффективную борьбу
против бесчестной politeia. Только такая критика может
определить его кризис. Apistos demos (Фукидид, VIII, 70,2),
овладевающий должностями, дающими прибыль и выпла¬
ты (Конституция афинян, I, 3-4), делающий любую деятель¬
ность источником добычи (Конституция афинян, 1,13),
жадно использующий союзников, делая всех врагами (Кон¬
ституция афинян, I, 14-18), прекрасно знает, что делает и
зачем это делает. Выражение «народ все знает» характери¬
зует жестокий памфлет. Невежество и свирепость вовсе не
слепота и не гнев. Напротив, они кажутся необходимыми
«добродетелями» тех, кто хочет руководить ради собствен¬
ной прибыли и своей свободы. При этом большинству дру¬
гих не остается желать ничего иного, как собственной вы¬
годы, и способ ее добычи - во всем разумный. Если бы в
таком городе позволили руководить благородным и чест¬
ным, их империя прожила бы недолго (Конституция афи¬
нян, 1,14). Мы на тысячи миль ушли от избитого олигархи¬
ческого топоса бездумного, алогичного большинства
(которое поэтому, как следствие, нуждается и теперь в
кормчем). Демос - apistos (без веры и верований), но он
даже вовсе не лишен логоса. Напротив: отсутствие веры для
вполне рационального демоса есть гарантия господства.
Можем назвать несправедливыми и дурными тех, кто завое¬
вал arche, однако относительно собственной цели назвать
их невинными и непричастными никак нельзя. Они пре¬
красно и сознательно участвуют в порочном управлении.,В историографии Фукидида самое ужасное - hybris, во¬
влеченный в утверждение воли к власти, зерна граждан¬
ской войны власть несет в себе, вместе со своим рассудо-
чно-рассчитывающим характером. В зародыше это заметно
уже у Псевдо-Ксенофонта. Если законно - как утверждают
ТАЛАССОКРАТИЯафинские послы - что руководит и отдает приказы самый
сильный, настолько же законно правление негодяев. Если
необходимо, чтобы тот, кто удерживает власть, пытался все¬
ми способами расширить ее (а не только сохранить), то
вполне законно, чтобы демос дрался за то, чтобы усилиться
(Конституция афинян, I, 4) против честных, которые по
природе - его враги. При этом неразумно удивляться этому,
в то же время тот не демос, если не использует всех средств,
чтобы добиться собственной цели. То, что Фукидид
разоблачает, - это саморазрушительный финал подобной
практики. Наблюдая гетерогенезис целей, на который обре¬
чено любое политическое действие, основанное на пред¬
положении естественной необходимости преследования
выгоды, Платон попытается создать собственную утопию,dtOplfOr.Однако Старый Олигарх (как и Фукидид) знает также
исторически определенные резоны, которые ведут к прав¬
лению многих, polloi-kakoi. Это talassokrazia (власть над
морем) заставила принять демократическую форму. Гос¬
подство над морем требует приказа - «народ, который во¬
рочает кораблями» (Конституция афинян, 1,2). Если внача¬
ле цель выгоды требовала arcbe бесчестных, то в настоящем
действительное положение города (демократия) вызвано
требованием господствовать над морем. Та же техника
спора-полемики сходна по центру с техникой морской на¬
вигации, когда форма правления демократична. Только эта
форма просто необходима, когда сила и власть города (и
потому его спасение) зависят от моря. В этом Перикл пыта¬
ется убедить афинян - в такую логическую связь верит
Фукидид. В первой книге он описывает все развитие Греции
вплоть до персидских войн в терминах морской власти.
Именно это развитие со всей очевидностью объясняет
демонический характер Афин: «они - новаторы, скорые,
чтобы понять, скорые, чтобы завершить действием то, что
ВОЙНА И МОРЕобдумано „. дерзкие преувеличить собственную силу...
решительные рядом с теми, кто сомневается, готовые поки¬
нуть свою страну, по сравнению с вами, никогда не решаю¬
щимися выйти за пределы своей страны; они верят, что мо¬
гут найти что-то далеко от отечества, пока вы трусите, что,
отбыв, потеряете и то, чем владеете» (Фукидид, I, 70, 2-4).
Так говорили коринфяне, чтобы спровоцировать лакеде¬
монян к войне. Это демон морских техник, моряка-колони-
затора - того, кто непрерывно передвигает границы собст¬
венной земли (новатор), который, следовательно, не
владеет своей землей, у него нет настоящих земных корней.
Не благороден, не чистокровен, без корней и потому легко
искореняемый. Если б кто-то сказал, что афиняне роди¬
лись, чтобы не иметь hesychia, quies, чтобы не передавать их
другим, то он был бы прав (Фукидид, 1,70,9)./0Эта характеристика афинской горячности, для кото¬
рой покой и мир - несчастье, возвращается вновь и вновь в
апологии Перикла, составленной Фукидидом. Землю не
обязательно содержать, дом не то, ради чего следует
плакать в случае утраты. Власть не в этом, дом и земля - все¬
го лишь гнездо, садик, роскошь, от чего в любой момент
надо уметь освободиться. Вся сила - в море, никто - ни
правитель, ни народ - не в состоянии укротить силу Афин,
когда она торжествует (Фукидид, И, 62, 2-3).10 «Техника (гигиена) рассуждения», logon techne для греков никогда не
затвердевала в крайнем смысле специализации. Философствование-
отличительная черта всей политической жизни афинян. Такое понима¬
ние программно для Исократа, для Платона и Аристотеля, с моей точки
зрения. Не это ли объясняет необычайную склонность афинян менять
форму государства? Следует ли за это восхвалять их характер? *Со сво¬
ей стороны, я, право, не уверен» ©лиан, Разные истории, V, 13). Что
определенно, так это. наши сны о бегстве, то, что наши образы земли
как корабля для опоры будущего астронавта (Blumenberg H., Die Gene¬
sis der kopernikanischen Welt, Франкфурт-на-Майне, 1975) начинаются
именно с афинской hauta.
ТАЛАССОКРАТИЯКак обозначить твердые границы между подобной сме¬
лостью и hybris? Как различить, согласно твердым принци¬
пам, волю к власти и talassocrazia? Талассократию и правле¬
ние народа, мировую войну, которая ведет к гражданской
войне - все это от самоуправства и высокомерия? Прав ли
Перикл, когда приводит к единому знаменателю архе Афин
и ее философию? Те же коринфяне это хорошо понимали,
что следует из одного необычного пассажа-обращения к
лакедемонянам: афиняне считают тело чем-то во всем
внешнее, никакой выгоды для города, в то время как gnome,
разум - для них всего дороже (Фукидид, I, 70, 6). Разум,
мысль; воля к знанию - для Афин oikeiotaton, т.е. собствен¬
ное обиталище. В уме, а не в теле, настоящий афинянин
находит свой дом. Но для достижения его необходимо под¬
вергнуться суровому испытанию, крайнему агону, предпри¬
нять труднейшее путешествие. Не потому ли воздушные
путешествия души в гиперуранию изобретены народом,
который не в состоянии покинуть собственную землю,
свой oikos, чтобы найти убежище в потрясающем гнезде -
корабле? Любить мудрость... Но любовь в облике Эрота не
только всегда бедная, обездоленная, она еще и aoikos, без¬
домная, спит под открытым небом. Эрот - искусный ловец,
строит козни, искусный чародей, колдун и софист, не быва¬
ет ни богат, ни беден (Платон, Пир, 203 c-d). Hybris талассо-
кратии, в общем, несет в себе образующие метафоры
смелого философского дискурса, начиная с его ионийских
истоков, наследница которых - Афины. «Да, всякий знает,
медитации и вода обручены навсегда» (Мельвилль, Моби
Дик).Так между морем и философией начинается сложней¬
шее взаимоотношение. С одной стороны, именно филосо¬
фия осветила ужасающую опасность моря, которая в цен¬
тре истории Фукидида, поразившая и Геродота. С другой
стороны, философия не может разделить демонизацию
60ВОЙНА И МОРЕморя, с морем встретится Исократ, как и Псевдо-Ксено¬
фонт. Hybris талассократии не может разделить филосо¬
фия, как ей не пристало принять задачу извлечения корней.
Философия обязана быть выше любого мнения, doxa, лю¬
бого закона, Nomos, принятого только в силу традиции. В то
же время, всей своей энергией должна противостоять ра¬
венству праведного и полезного, справедливого и простого
равновесия сил, праведного и эффективного. Вояж фило¬
софии, значит, направлен на то, чтобы найти землю, еще
более надежную, чем та, что оставлена, найти, наконец-то,
хорошо обоснованный Nomos. Море начинает казаться
чем-то вроде метода, даже обладанием метода, dia-noia, dis-
corso, настоящее искусство навигации - необходимым
инструментом noesis, в ситуации покоя совершенной инту¬
ицией истинного. Талассократия оказывается диалектичес¬
ким образом включенной в философию в качестве ее час¬
ти, а не цели. С моря ни один город, никакая politeia,
никакой мир до конца не постигаемы. Однако этот изна¬
чальный уход, заброшенность дома, oikos (не иначе как&е-
pion становится домом для философии) станет воистину
демоном, вся последующая авантюра, мысли будет нести
печать ухода. Это уже известно: никогда более не покажется
здоровой politeia, никогда Господь-Вседержитель не вста¬
нет у штурвала морской колыбели города11, а полис будет
сопровождать полемос, ослабленный город будет походить
на корабль во время жесточайшей бури, а разделение меж¬
ду polemos и stasis, stasis и hybris станет безвозвратным.
Снова замкнется круп новая-настоящая земля философии
еще более покажется в виде острова, окруженного океаном.
Остров живет, т.е. обогащается и усиливается, если только" Метафору navicula (морская колыбель) для человека мы встречаем у
самого трагичного представителя гуманизма Леона Батиста Альберти, в
его «Фатум и фортуна», насколько недалеко от «navicula» до «корабля
дураков»!
ТАЛАССОКРАТИЯдоминирует элемент, который его окружает. Это судьба лю¬
бой Утопии: мирное сельское хозяйство образует первый
род занятий, однако с ростом населения возникает потреб¬
ность покинуть дом, основывать новые колонии и гнать с
новых земель тех, кто не принимает законов пришельцев,
обитатели Утопии почитают старейшего, объявляют войну
тому, кто, имея землю, не прислуживает власти, более того,
считает ее пустой и бесполезной 12. Продуктивно-плани-
рующая сила толкает их, как и афинян, узаконить arche. Но
может ли эта сила в философском смысле быть направлен¬
ной на благо, а не на sympheron, выгоду? Только разве гос¬
подь бог мог бы...Город, начиненный портами и арсеналами, болен.
Пусть говорят Фемистокл и Перикл, что арсеналы делают
его великим — в реальности он обречен на катастрофу,
ставшую очевидной после поражения Сицилии в бою со
Спартой/3 Это саморазрушительный фатум hybris талассо-
кратии (Горгий, 518 е-519 Ь). Но от философии нельзя от¬
речься, пожелать отменить ее, как старые олигархи тотро-
ros, путепровод, канал по преимуществу, который
прочерчивает море. Это экспериментальный, наиболее
опасный путь, завершаясь, он принимает на себя море, тре¬
бует самого высокого techne. Poros — канал, который в каче-12 Не только в этом состоит демонический лик Утопии: ее обитатели уме¬
ют, если видят неразумие врагов, вести всеобщую войну, а также не
забывают уроков макиавеллизма в искусстве-запугать или купить про¬
тивника.13 Переменчивость, радикальное непостоянство - in-securitas - характери¬
зуют фигуру Политика для Гегеля. Политика по необходимости подвер¬
жена риску по преимуществу, но риску не необходимому. Она
переворачивает порядок целей и индивидуальных интересов, разрушает
земную ориентацию с точки зрения индивида, преодолевает любой чисто
экономический резон. Государство, которое не практикует подобные
«трансформации», в свою очередь, преображается в частную ассоциацию,
где доминирует рациональность частного права. А.Кожев как никто дру¬
гой точно уловил эту трагическую особенность Политика в своем
комментарии к «Феноменологии» Гегеля.
62ВОЙНА И МОРЕстве собственной цели имеет порт, но и порт, в свою оче¬
редь, есть место взаимообмена, место, где люди и вещи от¬
правляются в путь, принимая вновь и вновь отставку: воро¬
та, переход. Философия призвана гармонизировать в
общем корне-знаменателе все эти значения и смыслы. Ко¬
нечно, ностальгия по морскому господству коррумпирует,
именно она - причина infirmatos, ослабленной неустойчи¬
вости для города, все же она необходимым образом связана
не только с потребностями роста, но и с самими грани¬
цами, это подтверждают опыт, штудии, любовь к знанию.
Морская опасность, следовательно, показывает путь, но
учит также мере и осторожности. Близость моря кажется
сладостной, день за днем, однако в реальности может за¬
кончиться соленой и горькой, поскольку посредством биз¬
неса и товарооборота может породить в гражданах при¬
вычки непостоянства, недостойные веры (ethe palimbola
kai apista} Платон, Законы, IV, 705 а). Быть на море, между
портами означает собрать иной раз беспорядочный ком¬
плект всех вредных привычек и обычаев (Платон, Законы,IV, 704 d 8), усилить или даже создать неверующий народ,
apistos demos. Такой народ по приказу поведет войну в та¬
кой форме, что разрушит честь и ценность древней бата¬
лии: никому не удастся устоять на месте, когда гоплиты
(солдаты в тяжелых доспехах) в свое время оказали по¬
мощь врагу. Гоплиты-моряки настроены всегда удариться в
бега, чтобы укрыться в триреме 14. «И Гомер признавал
дурным, когда на море рядом с сражающимися гоплитами
стоят триеры. С такими повадками даже львы научились бы
бегать от ланей. Кроме того, в государствах, обязанных
своими силами флоту, почести достаются вовсе не лучшему
из воинов: ведь там, где победа зависит от кормчих, пент-
еконтархов и гребцов, то есть людей разношерстных и не14 галере с тремя рядами гребцов
ТАЛАССОКРАТИЯслишком дельных, вряд ли кто-нибудь сможет надлежащим
образом распределить почести. А если этого нет, может ли
быть правильным его строй?» (Платон, Законы, IV, 707 а-
Ь)15. «Необходимо, чтобы, напротив, морская мощь была
основана на силе большинства, не совсем достойного»
(Платон, Законы, IV, 707 b 1), которое движет корабли.
Битва при Саламине теряет, таким образом, мифический
блеск. «Спасению Эллады положила начало сухопутная
битва при Марафоне, а завершением его - битва при
Платеях, именно эти битвы сделали эллинов лучшими, а не
морские битвы» (Платон, Законы, IV, 707 с).Кажется, что это слова Старого Олигарха, но философ
знает, что уйти вовсе с моря невозможно. От самого истока
судьба связала человеческую любознательность с этим
непостоянным коварным элементом. Море нельзя забыть,
но видеть его с расстояния необходимо. Нужно уметь со¬
размерять его, наблюдать в перспективе с некоторого мес¬
та, с прочно стоящей земли. Отсюда известная метафора:
мудрец всегда глубоко заинтересован в море, ибо мудрец
призван понять целостную природу вещей и человека, что¬
бы стать физиологом, ведь все люди погружены в реку жиз¬
ни. Однако мудрец в отличие от прочих, созерцает изда¬
лека это зрелище, в силу чего способен уловить
целостность мира, победив изменчивую, иллюзорную суть
моря людских мнений. Его город поэтому удален, «отстоит
от моря почти на восемьдесят стадий» (Платон, Законы, IV,
704 b 5), но у него самые красивые из портов, нет недос¬
татка в материалах для строительства флота. Существенно,
что город не копит золото и серебро, умножает собствен¬
ные торговые пути благодаря мощной продуктивной sur-15 слова Тиртея: Не бойтесь толпы врагов, не бросайтесь в бегство, каж¬
дый пусть бьется, идет вперед со щитом. Считайте врагом жизнь, люби¬
те, словно солнечный свет, черную участь смерти... Всякий да останется
на ногах, как вросший в землю: закованная в цепи arete еще ближе к
Nomos Земли!
ВОЙНА И МОРЕplus, прибыли (плодородие почвы, скорее всего, ограни¬
чено), apistos demos сдерживается, как и любая империалис¬
тическая тенденция16.Аристотелевский компромисс развивает платоновский
дискурс с большим реализмом, но не отклоняется. Лучше
для города иметь выход к морю, держа в руках порт, однако
еще предпочтительнее, чтобы две эти функции оставались
разведенными, поскольку слишком большая близость к
торговцам, которые ввозят и вывозят грузы, вредит хоро¬
шему правлению (Аристотель, Политика, VII, 1327 а). Похо¬
жая mesotes возникает и в связи с проблемой морского гос¬
подства. Нужно, без сомнения, иметь морские силы
определенной консистенции, однако пропорционально
жизни и экономике города (и уж не для того, чтобы вести
агрессивную политику). Гребцы и прочий корабельный
сброд не должны пользоваться правом гражданства (чтобы
не допустить правленияpolloi-kakoi, демократии, о которой
говорил Псевдо-Ксенофонт). Множество богатств, которые
позволяют накапливать большие порты, толкают к дерзос¬
ти, влекут город к морской гегемонии, при этом крепкие
деревенские земельные хозяйства пустеют. Теперь насилие
демагогов получает подкрепление. С союзниками обраща¬
ются, как с рабами. Техника спора, techne polemiche транс¬
формируется в hybris. В «Конституции афинян» (XXIV-XX-16 Когда государство достигает arche и длительное время процветает, то
luxuria по необходимости кончается падением нравов, нарастает жажда
наживы и должностей, скромная жизнь уже не в почете. Из внутренних
врагов, угрожающих стабильности любой politeia - чем больше истори¬
ческий организм, тем больше этих не внешних врагов - худшие придут
к власти и определят катастрофу. Подлинные «миры» гибнут только по
причине естественной смерти, об этом верно говорил Ортега-и-Гассет,
Макс Вебер и другие. Массы придут в возбуждение от надежд в от¬
ношении власти и захотят перемен. Под именем демократии и свободы
наступит господство массы (охлократия). Схема Полибия (VI,57) для
объяснения декаданса, inclinatio государств суммирует в этих терми¬
нах - и припишет их латинской культуре - греческие дебаты V и VI
веков)
ТАЛАССОКРАТИЯVII) Аристотель присоединяется к традиционной критике
афинского arche, образцом которого был Перикл (это «Пе¬
рикл особенно подтолкнул город в сторону морского гос¬
подства, вследствие чего народ* потеряв скромность, начал
прибирать в свои руки политическую жизнь», XXVII, 1). Но
ведь Перикл и в самом деле - philokalos и philosophos. Для
такой натуры море ужасающе, deinos, но вызываемый мо¬
рем страх не тот, что заставляет броситься в бегство (pho-
bos). Он таков, что обязывает к фиксированному взгляду,
важно не отводить взор. Море для того, кто любит прекра¬
сное и мудрое, становится неустранимым Другим.Геофилософия Европы17\ уже ионийская непоседли¬
вость делала невозможным любой только земной закон, и
вместе с тем, она же была условием распространения вос¬
питания как paideia. Афины как город возвысит такое при¬
звание именно в момент, когда ее философия осознает
опасность. Европу нельзя понять без твердой воли принять
ее вызов - и философия претендует представить этот взгл¬
яд издалека, который приказывает рисковать и не дает воз¬
можности терять рассудок Задача невероятно тяжелая, ее
можно представить как найти следы древних преступни¬
ков. Связь, соединяющая море с войной, продолжает возни¬
кать почти естественным образом (Виргилий, Эклога IV,
31-36). В «Энеидах» описание самой жестокой битвы не¬
произвольно вызывает морские образы: сотрясаемого вет¬
рами моря, невиданных штормов. Надменное и зловредное
море - первый актер драмы. Неописуемо его лицо, жестока
и нетерпима его сила, тем не менее, нельзя не идти к нему,
чтобы терпеть все невзгоды путешествия (Энеиды, V, 767-
769). Море - враждебный элемент, будучи в нем, нельзя
найти убежище. Это мятежный элемент по отношению к17 Необратимо привязана к морю, похищена морем, как Европа, прекрас¬
ная дочь Агенора, похищена быком Зевса-Посейдона.
66ВОЙНА И МОРЕлюбому Nomos, все же море - необходимый переход к лю¬
бому городу. Для философии Европы нет настоящей почвы
по ту сторону моря. И в том, чтобы превозмочь море, за¬
ключена основная часть techne polemich&Продолжают мечтать о золотом веке, когда «omnis feret
omnia tellus» («все даровано землей»: Виргилий, Эклога IV,
39), и Матеушка Земля, плодородная, верная и мирная, мо¬
жет вернуться в центр культа (как Carmen saeculare, «Песнь
вековая» Горация). Живой город, тот, что растет, (не-здоро-
вый, поскольку никогда не доволен достигнутыми граница¬
ми), всегда должен пытать удачу, рисковать на море. Город,
который становится больше на одного, не будет городом.
То же надо сказать о городе, который без моря, у него есть
только земля. Придет время, когда покажется, что сознание
забудет, какой ценой оно было вырвано с корнем из oikos,
при каких условиях этос и Nomos утрачивают земное значе¬
ние. Драма Фукидида и Платона, которую мы пытались про¬
следить, принудит к молчанию: бескрайняя ширь моря, без¬
мерный aequor окажутся местом господства; тот силен, кто
им управляет, его превозмогает. Великие древние персона¬
жи, спорщики с морем, переходили от его враждебности к
земному началу. Нынешние люди в экстазе вторят морско¬
му фурору афинского империализма в лице Фемистокла и
Цимона, Перикла и Альцибальда. Земля есть не что иное,
как задний план огромного флота. Компромиссы класси¬
ческой философии будут считаться тщетными проволоч¬
ками. Золотой век будут представлять не как регресс к
здоровью и первородной невинности, а как завоевание бо¬
лее грандиозной империи, следовательно, как совершен¬
ное arche над монстром, каким представляется море («угр¬
юмый монстр» Ницше-Заратустры, из которого появляются
более высокие горы).У Ариосто: «Отвечает Андроника: «Знай, В океанском
лежит земля объятии, И волна сливается с волной От кипя¬
ТАЛАССОКРАТИЯщих морей до ледовитых; Но как эфиопская Африка Разбе¬
жалась вширь далеко на юг, То иные и молвили, Что на тех
местах от Нептуна запрет... Но в круженье лет Прозираю я:
от крайнего Запада Новые плывут аргонавты, Проторяя
путь, неведомый днесь. Вот иные, огибая Африку, Правят
вдоль чернокожих берегов И минуют тот рубеж, от кото¬
рого Возвращает к нам солнце зимний Козерог, Чтоб в кон¬
це большого пути Им раскинулись смежные моря, А потом
берега и острова, Где индийцы, и арабы, и персы. Вот иные,
налево и направо Оставляя Геркулесовы труды, Чертят круг¬
лый путь вслед за солнцем И находят новый край и новый
свет. Вижу: святой крест, вижу: кесарский Стяг взнесен на
зеленом берегу; Вижу: избраны иные блюсти суда, А иные
покорять большие страны; Вижу: от десятков бегут тысячи,
вижу: Заиндийские царства пали пред Арагоном И вожди
государя Карла Пятого Где ни ступят, там и торжество. Бо¬
жья на то воля - Быть тому пути скрыту И досель, и отсель,
пока шестое И седьмое не минет столетие; А явиться в пору,
Когда спрянет мир в одну державу Под державцем мудрей¬
шим и праведнейшим Со времен капитолийского Августа...
Вот Эрнанд Кортес, Повергший под кесарские указы Столь
восточные города и царства, Что и нам они неведомы и
Индии... Не славней ли такой труд для отечества Всех побед
древнего Юлия в Галлии, Фессалии, Африке, Испании и ва¬
шей земле?.. Ибо меркнет слава, когда сильнее отечество.
Кто отчизну из вольности ввергнет в рабство, Краснеть
тому от стыда...»Пророческие строфы Ариосто (XV, 19-35) посвящены,
как мы знаем, империи Карла V, они помогут дать голос и
силу елизаветинскому мифу - мифу первой великой госу¬
дарственной силы, которая, опираясь на собственное ост¬
ровное бытие, как миноская Крета, свою судьбу полностью
доверит владычеству на море. Подлинно верное решение:
Англия с Елизаветой поднимает якоря, наделяет себя морем
ВОЙНА И МОРЕversus земли. Освобождается от земного духа тяжести, чего
так и не получилось у Испании. Наследует то, что Венеция
имела лишь прообразом, однако реализует это на лестнице
планеты, в пространстве битвы между современными «хо¬
лодными чудовищами» и большими национальными госу¬
дарствами.Однако эта дислокация власти от земли к морю может
реализоваться постольку, поскольку она почти априори го¬
това вписаться в саму географию Европы. «Когда Центр и
Север Европы были еще неразвитыми», Европа обрела свои
форму и имя в связке меридиональных областей от Италии
до Греции, которые не имели центральной точки как тако¬
вой, однако все были обращены к Средиземному морю -
своему морю. Европейский характер определяет себя как
свободное общение с другим, отличным от себя, посредст¬
вом моря. Ни общий корень, никакой иной естественно
определяющий принцип не смог бы удержать его надолго.
«В Азии море не имеет особого значения: более того, на¬
роды закрыли морские ворота... В Европе, напротив, отно¬
шение с морем - постоянно действующее отличие. Евро¬
пейское государство может быть настоящим европейским
государством, если только оно - на море. В жизни у моря
есть особеннейшая тенденция - движение вовне, за пре¬
делы самого себя - этого не достает азиатской жизни»2*.
Ницшеанский Vogelfrei вряд ли нашел бы другой языкЗемная характеристика oikos в противопоставление
принципу промышленности и его естественному элементу,
те. морю, - в центре 247 параграфа «Философии права»
Гегеля (важность анализа особо подчеркнул Карл Шмитт).18 «Корабль, этот морской лебедь, который круговыми движениями рассе¬
кает волны и оставляет круги - инструмент, изобретение которого де¬
лает огромную честь как смелости, так интеллигентности человека», см.
Гегель, Лекции по философии истории).
ТАЛАССОКРАТИЯВсе же речь идет о том же отношении-контрасте, уже при¬
сутствующем в классической греческой истории как осно¬
вной герменевтический принцип. Но тот же Гегель под¬
черкнул и неизбежную опасность, которая сопровождает
жизнь, влекущую вовне - hybris. «Желание прибыли, благо¬
даря самому факту, что это желание подвергает опасности,
желание как таковое приподнимает ищущего и меняет ста¬
бильное будущее, основанное на куске земли ограничен¬
ных кругов гражданской жизни - с ее удовольствиями и ее
желаниями - на нечто текучее, опасное, ухудшающееся».
Здесь, на странице классического труда, Гегель осмысли¬
вает судьбу огромных современных держав в необходимом
свете европейского демона, без утопической риторики. Фа¬
тальное отношение с флюидностью, текучестью как усло¬
вием втянуть всю планету в отношения коммерции, самый
большой путь сообщения цивилизации - это и есть огро¬
мная опасность, ибо из этого путешествия нет обратного
пути. Оно заканчивается только путем собственного заката:
«наконец, море закрылось над нами» (Данте об Одиссее).Никакое море не может включить этот переход жизни
за пределы самой себя; это желание требует всегда новые
расширения впереди себя. Внутреннее море, море посреди,
пока в его собственном имени не объявится фиксирован¬
ный предел, собственная земная граница. Завоевания Карла
V изображались на геркулесовых столбах с надписью: «Plus
Oultre»: никаких «нежностей», никакого «сострадания», ни¬
какая должная любовь не могут завоевать славу быть миро¬
вым экспертом.75* Море в полную меру раскрывает собст¬
венный принцип только до тех пор, пока остается.19 Соединенные Штаты Америки, что это такое? В чем их назначение?
Ответил ли кто-нибудь на этот решающий вопрос-загадку? Империя,
которая не терпит никаких закрытых дверей перед собой? Которая
трактует пространство в качестве собственного расширения? Свое гос¬
подство как реализованную эсхатологию? Однако в этом утопическом
ВОЙНА И МОРЕсовершенно открытым перед боевым натиском «экспер¬
тов». И это рвение, чтобы добиться удачи, должно быть
сильнее любой жажды денег, более того: быть таким, чтобы
подвергнуть ее опасности. Одиссей Данте одинок в своем
безумии, погрузился на кусок дерева) чтобы утонуть, при¬
плыл стариком поздно туда, откуда настоящая авантюра
только начинается («где Геркулес обозначил свои взгляды»).
Сцена преобразилась в пророчества Ариосто и елизаветин¬
ские слова: для любых морей нужны капитаны смелые,
молодые, полные силы, враз умеющие перейти любую гра¬
ницу, не вспоминающие о неизбежном закате. Но и они
должны иметь ностальгию по более сильному. Остров,
который живет, превозмогая себя, должен уступить другому
острову, который располагает морем перед собой еще бо¬
лее открытым, полным молодой энергией. Neoteropoioi}
неофиты, уверенные в том, что им суждено остаться тако¬
выми навеки, даже английский остров с его капитанами и
пиратами кажутся им узниками земных принципов, кото¬
рые умеют пытать судьбу, чтобы располагать будущими
начинаниями, более того, то немногое, что получают, счи¬
тают слишком малым относительно того, что ожидают от
будущего (Фукидид, 1,70,7). Они несут поверх Океана евро¬
пейскую участь - господствовать на море. Грандиозная
имперская трансляция обыгрывает отношения силы и
моря, моря и войны. Гегель улавливает их в зародыше, но и
для него ясно, что Америка - страна будущего, куда обра-духе соседствуют этос «народа, избранного Богом», и самое сильное ут¬
верждение этоса анархо-либерального индивидуализма. Из формы, ко¬
торая время от времени становится polemos между этими двумя этосами,
зависит все в большей мере смысл Европы. О проблеме Империи по от¬
ношению к США см. мои статьи: Каччари М., «Дигрессия к Империи и
три Рима» в сб.: «Micromega», 5, 2001; Каччари М.,«Еще раз об идее
Империи и ее окраинах» в сб.: «Micromega», 5, 2002; А.Кожев,
«Латинская Империя» в сб.: «La regie du jeu», 1* 1990; Герби А., «Спор
о новом мире», 1955, 2000. Уильямс У., «В венах Америки», 1925, 1969.
ГАЛАССОКРАТИЯщен интерес всеобщей истории». Старая Европа уже на¬
доела; ностальгия всех будущих навигаторов обращена к
новому острову - Америке. Там мы находим «Sucht des Erw-
erbs»y жажду прибыли. В «Философии права» Гегель пишет о
наиболее чистом государстве, где индивид, впрочем, трак¬
тует собственные амбиции как всеобщие. Кроме того, там
мы находим морское начало в его максимальном раскры¬
тии. «Свободные североамериканские штаты не имеют
никакого пограничного государства... Канада и Мексика не
представляют никакой опасности» (Гегель, там же). Их море
не знает границ, европейской тесноты, не поделено мел¬
кими государствами. Оно раскинулось повсюду: как взгл¬
ядом и желанием вовне, так возвратно к самим себе. Всегда
море. Бескрайняя гладь воды без границ окружает остров -
бескрайний океан земель составляет его нутро. Поскольку у
моря нет границ - морское владычество становится един¬
ственно постижимым. Именно «внутренний» океан осо¬
бенно очаровывает Гегеля. Европейские земледельцы,
начиная с афинской талассократии, являли собой начало
укорененности, замкнутости в себе, сопротивления изме¬
нчивости и угрозам. Американские землепашцы - те же
моряки. «С этой стороны Аллеганских гор каждый год появ¬
ляются наплывы земледельцев, занимающих новые тер¬
ритории» (Токвилль, Путешествие в Америку 1831-1832).
Это описание показывает варварское самоуправство, сокр¬
ушающее любой предшествующий этос и oikos. Произвол,
впрочем, именно так наследует европейскую цивилизацию,
отраженную в надписи «Plus Oultre». Америка кажется Ге¬
гелю чем-то вроде варварского омоложения старого мира.
Однако это незаурядное событие можно понять постольку,
поскольку свободные североамериканские штаты
разыгрывают собственную драму - земля, как и открытое,
свободное море, для них - это нормы права, обычаи. Hybris
дополняет и противостоит древнему hybris персов.
72ВОЙНА И МОРЕУ Токвилля есть страницы, которые, кажется, составле¬
ны в диалоге-полемике с ТЬгелем. Под давлением наступав¬
ших американских европейцев старая земля должна сги¬
нуть. «Индейцы как раса в присутствии европейской
цивилизации тают, как снег под лучами солнца... Примерно
каждые десять лет племена индейцев, вытесненные в
восточные пустыни, отдают себе отчет, что не получили
ничего взамен, что белые вытесняют их быстрее, чем они
двигаются назад». Тогда те бунтуют вдоль и поперек регио¬
на, сжигают дома, убивают скот, прихватив немного шер¬
сти. Цивилизация пятится, но пятится, как морской отлив-
прилив, когда море вздымается. Первопришельцы -
крестьяне образуют авангард европейской семьи. Открыва¬
ется путь к новым пустыням так же, как открыты все мор¬
ские пути. Более того: связь с морем настолько нутряная,
что пришелец сам становится отражением могучей и неос¬
тановимой волны. То, что Гггелю и Токвиллю казалось
ужасным, пугающим зрелищем, для Уитмена становится
«надменной музыкой бури, шквального шума, что бежит,
свистя». Эти молодые блудные, волны, как афиняне, кото¬
рые воюют на Мелосе, веря в собственную миссию. Речь
идет не о простой жажде денег, грузы, товары, прибыль -
всего лишь образы желания как такового превзойти самих
себя - божественного желания.Даже на море, вполне еще изначальном элементе, не
останавливается процесс вырывания с корнем. Талассокра-
тии все мало: море - на том же уровне, что и земля. Нужно,
чтобы старое жилище владело свысока, чтобы владеть по-
истине сполна. Полеты над морем из метафоры должны
стать реальностью. Тогда Земля и впрямь становится «тюрь¬
мой»»; закрытым кругом, из которого надо вырваться, как из
оболочки, как полагали коринфяне, ничего не ценившие.
Волны завоевателей, сначала европейцев, затем американ¬
цев, представляли Землю в виде мишени, хотя эта метафора
ТАЛАССОКРАТИЯхороша, если только земля увидена с неба. Талассократичес-
кий hybris венчается завоеванием бесконечной воздушной
стихии. Логическая нерушимая скрепа связует два эти мо¬
мента. Мощь, усваивающая ее, - это, справедливым обра¬
зом, сила-гегемон последнего столетия.Древняя вседозволенность как владычество океана над
небом возвращается к нам своим беспокойным ликом, а
также в виде насильственного логоса. Философ видел-
понимал сверхмощную силу моря, однако не пытался осед¬
лать ее. Находил место повыше и наблюдал оттуда. Дуэль
между морем и землей происходила под его взглядом.
Парадоксальным образом, чем более философия с течени¬
ем времени пыталась овладеть этой стихией бури, тем бо¬
лее отказывалась и отрывалась она от неба, тем более
усваивала старая философия форму войны. Военную фор¬
му уже не интересуют определения места, даже если с изна¬
чальными элементами. Как только завоеван последний эле¬
мент, все становится безразличным. Война жуирует в
априорном пространстве как чистая форма, вся она - в
распоряжении исчисляющего techne. Ни место, ни прож¬
итое время - ничто не удерживается. Времена и места иско¬
ренены, все они спаяны в единство взгляда, который сверху
владычествует над всеми. Там, наверху, не указывает на ка-
кое-то другое, новое место. Напротив, это отмена любого
земного и временного-земного определения. Совершен¬
ный подъем в нелокальность, Auf-hebung. место - на самом
деле положение сверху, оно положено поверх всего, по¬
нято как идея высшего единства, т.е. увидено совершенным
образом. К этому не-месту по необходимости прибудут
твердо убежденные; что уже все завоевали, покинув собст¬
венную землю, те, «кто родился, чтобы не иметь покоя», так
называл Фукидид афинян.
744. Смех«Веселая наука» Ницше разъясняет «ликвидацию» зем¬
ного, то же искоренение этоса и номоса. Путь на Запад, т.е.
в сторону Америки, всеобщего духа означает переход к все¬
общей технико-практической системе Mobilmachung (мо¬
билизации), по выражению Юнгера, или modem Unmhe, по
выражению Ницше, то есть к полнбй утрате покоя (Ницше,
«Человеческое, слишком человеческое»). Национальные
различия, определенность социальных кругов оказыва¬
ются опрокинутыми безразличной слизью - aequor. На
этом зиждется кочевая жизнь, дающая начало и жизнь но¬
вой смешанной расе, любознательной, готовой прощать и
прощаться, любительнице ни к чему не обязывающих при¬
вычек (Ницше, Веселая наука, IV, 295), тот же ни во что
неверующий непостоянный люд: apistos demos.Позиция Ницше по отношению к такому прогрессу не
линейна. Кажется, что господство суеты - Bewegtheit
(гегелевская FlUssigkeit, текучесть) хочет помешать высокой
культуре собрать урожай. Словно сезоны сменяют друг дру¬
га слишком быстро, отсутствие покоя выливается в новое
варварство (вспомним слова Еггеля о новом мире). Напро¬
тив, именно несовершенство кочевника, бедуина, того, кто
не в ладу с привычками долго длящимися - единственно
подходящая атмосфера для Freigeist (свободного духа).
Рождение смешанной расы, стало быть, критикуется не без
признания. Такова участь европейского человека, против
которой упрямо наседает «искусственный национализм»,
чрезвычайщина, основа осадного положения, которая так и
ищет всяческой лжи и насилия для поддержания доверия
(Ницше, Человеческое, слишком человеческое, 1,475). «Дея¬
тельная высокомерная рассудительность евреев усвоила и
защищала его - вплоть до самых темных времен средневе¬
ковья - против Азии (Азия без моря, огромная земля -
СМЕХ75неопределенная, неопознанная, земля простого существи¬
тельного - еще одна отсылка к геофилософии Гегеля).
Лихорадочной еврейской активности, трезвому стилю
мышлению мы обязаны тем, что цивилизационное кольцо,
совпадающее сегодня с греко-римской древностью, не рас¬
палось. Если европейский дух еще хранит связь с гречес¬
ким, в этом заслуга прежде всего еврейского духа, хотя хри¬
стианство сделало немало для ориентализации Запада.
Несмотря на это, уже весной 1880 г. Ницше пишет, что Ев¬
ропа обязана евреям переоценкой восточной морали, что
проявляется как в посвящении себя их Богу, так и в небреж¬
ении самих себя. Эта мораль помогла сделать невозмож¬
ным греческий элемент для Европы (Ницше, Фрагменты
1879-1881, 3).Речь идет о характерных флуктуациях ницшеанского
гения, которые, впрочем, ярче высвечивают центр его
рефлексий: беспокойство, исходящее из страха ко всему
превосходящему. Дикому героизму, презрению к самому
себе противостоит беспокойство афинян, ничего не при¬
знающих выше себя, именно поэтому они оказываются все¬
гда в точке перехода, самообновления. На самом деле, это
перетекание двух форм беспокойства - неслыханная евро¬
пейская активность, Tatigkeit - постоянная война на море
«внешнем» и море «внутреннем», в полемосе и стазисе од¬
новременно, это беспокойство разрушительно и саморазр¬
ушительно, враждебно любому покою. In-ftrmitas (ослабле¬
ние) Европы, против которого воюют статалисты любой
веры, пугающиеся любого постоянного metabolai, измене¬
ния пейзажа как душевного состояния, климата, обычаев.
Такое ослабление, конечно, несет нездоровье. Европа боль¬
на, неизлечимо вольна. Однако постоянной данности ее
страданий мы должны быть благодарны: жизнь в постоя¬
нной опасности (на море) породила некий вид умственной
раздражительности, почти граничащей с гениальностью, в
76ВОЙНА И МОРЕлюбом случае, эта неуспокоенность и есть материнское на¬
чало любого гения (Ницше, Веселая наука, I, 24).Заметим: почти гения. Простая нервозность может
породить «большую форму» ностальгической жажды мира,
некоего бегства от мира. Истый европеец, по Ницше, умеет
сочетать силу созерцания с неудовлетворенностью достиг¬
нутым, спокойным постоянством дела в форме ничего¬
неделания, свойственного древней школе, открытой опыту.
В основе та же связь должна быть установлена, как мы ви¬
дели, между философской рефлексией и духом талассокра-
тии. Только полное принятие в себя всех превратностей
обрекает на подъем все выше (Ницше, Так говорил Зарату¬
стра). Если такая связь убывает, морское господство пре¬
вращается во власть многих, большинства, ненавидимого
Теогнидом из Мегар, одним из любимых поэтов Ницше (с
диссертацией о нем Ницше покидает школу Пфорта в
1864 г.). Как Старый Олигарх, без сожаления и духа мести,
Ницше толкует особую современную форму Unruhe, сует¬
ливости, которая делает невозможным Das Griechische (гре¬
ческое начало) в качестве более сильного симптома про¬
цесса демократизации. Именно безбрежная форма
демократизации искореняет традиционные обычаи, на¬
циональные границы, выливается в пространственно-
временную безразличность. Под властью принципа де¬
мократии, жадной до экспериментов, утверждается свобода
индивида вопреки любой установке на солидарность
(Ницше, Человеческое, слишком человеческое, II, 292). Как
бы там ни было, как в анализе Фукидида, так и у Платона
этот процесс взращен в оптике гетерогенезиса целей. Рас¬
пад общего этоса делает в итоге невозможной любую
политическую волю как таковую. Рассчитывающий рассу¬
док, лежащий в основе автономного утверждения силы,
разрушает мифическое пространство, без которого невоз¬
можно никакое начинание. Сверхчеловеки не связаны
СМЕХникакой присягой, к тому же этот принцип обрекает их
власть на ослабление и убывание. Это становится парадок¬
сальным условием agathos во время всеобщего беспокой¬
ства. Трудно представить его чем-то иным чем знаком No-
mos, некой высшей Dike, которая была бы уже не той идеей
справедливости, которую афиняне возгласили на Мелосе.
Но в силу того же логоса он сам будет отныне нездоровым.
Проповедуя нечто вроде атеизма, Ницше в качестве
дополнения к классической пайдейе исповедует все формы
собственной радикальной десакрализации (Ницше, Весе¬
лая наука, V, 357). Разоблачая древние суеверия (или вы¬
ставляя таковыми античные ценности), он утверждает, что
любое подчинение собственному господству было бы суе¬
верием. Разоблачая старые культы как идолопоклонниче¬
ство, он по сути заключает, что идолом является сама пре¬
тензия на власть над другими, что идол - власть в ее сути,
ибо к господству ее понуждает кошмарная необходимость
Государства.Именно воля к власти, не терпящая никакой земной
границы, развязывает процесс демократизации. Послед¬
ний таит в себе зародыши распада любого политического
инстинкта. Затем начинается постоянный рост запросов и
ожиданий, кочевая жизнь, в то же время спокойное влад¬
ение собственностью и эгоистическая независимость. Идо¬
лом становится историческое действие, практикой - место
человека (атеизм), однако остается претензия гарантиро¬
вать финал. Суета демоса- та же, что суета афинян,
непостоянство восставших рабов, образчиков филопси-
хии, привязанности к себе в поисках стабильности. Ев¬
ропа - мир заката ценностей, их искоренения, но и не
только. Но она - и Запад как таковой, т.е. закат той же энер¬
гии, которая эти ценности являла как positum собственной
воли. Европа в конце своего пути уже не простирается от
земли до моря, от моря до неба как восхождение ценное-
78ВОЙНА И МОРЕтей. Скорее, это уже простая десакрализация, демифизация
собственной претензии превзойти самих себя. Путеше¬
ственник, покидающий собственный старый город, чтобы
увидеть, насколько высоки его башни, не видит именно
этого - высоты заходящего за горизонт, того, кто дал ему
навсегда расчет и отставку.Героическая, но нездоровая сила власти испытывает
опасность стать трагикомической фигурой именно в силу
гетерогенезиса поставленных ею целей. Она заказывает
крылья для собственных судов - но только демос может
привести их в движение. Требует, чтобы все превосходило
себя, значит, сам обойден. Требует, чтобы любая тревога
перешла в покой, постоянное созерцание (также и Гегель
думал, что новый мир в конце концов замкнется на себя,
что дух найдет комнату у себя самого, завоевав свое внут¬
реннее море), однако в своем развитии он разрушает пред¬
посылки любой школы. Рассматривает гражданскую войну
как распад любой формы, но на самом деле любая война
переходит в гражданскую войну. Его истинная «фигура», со¬
вершенно бескорыстное испытание способности управ¬
лять (и вести войну) заканчивается совпадением с произво¬
лом филопсихии. Мир, который последняя предлагает,
гарантированный мир выражает единственную идею мира,
которая в топосе совершенного Запада пока еще нуждается
в обдумывании.Разве самонадеянность европейского человека именно
в его карнавальном аспекте уже не появлялась в Ари-
стофановом осмеянии мира (Ницше, По ту сторону добра и
зла, 223)? К отказу от hybrisa талассократии, толкающего к
ненасытной жажде денег, к демифизации войны подвигает
образ! резонов, ведущих к отказу от агона. Мир, которого
ищет крестьянин, доведенный до отчаяния военными дель¬
цами, оказывается, местом лошади-таракана, рядом с ямой,
где Зевс велел себя похоронить, где кружил храбрый Кра-
СМЕХтин (мудрым его называл Аристофан!), где Т]ригей хотел,
чтобы рынок наполнился арбузами и грушами, утками и гу¬
сями. От войны все устали, так воспой же ужин! (там же,
?1284-1285). Нет никакой надобности воевать, - утвержда¬
ет Аристофанова Л исистрата, распустившая войско, - когда
есть возможность быть счастливыми. Так противоесте¬
ственна ли война? Идеология продажных лжецов пре¬
подносит понятие мира как нечто новенькое, от золотого
века, когда волк награждал овцу, словно в сказке о божестве¬
нных дарах? Нам ли дано установить мир, устранить ошиб¬
ки гражданской войны, горестно признавая наши интере¬
сы, свойственные всем? Однако это ошибки oikos, как
постоянно признает Аристофан. Полис не может линеарно
родиться от них. Никакая невидимая рука не согласует осо¬
бые интересы, разве что вынуждая сделать это самим, оста¬
вить все в зоне естественного конфликта. Афина - богиня
полиса, та же Афина - сильнейшая из воительниц, ее име¬
нем завершается комедия «Лисистрата». Следовательно,
нельзя обрести мир иначе, как в полисе, во множестве
полисов, представляющих тот же спектр многообразия
души—то есть картину отсутствия мира.В земной сути великой комедии поэтому нет ничего - с
философской точки зрения - регрессивного, ностальги¬
ческого. Она с ясностью высвечивает интересы социаль¬
ных классов в мире, где сопротивляются упомянутым греб¬
цам. Комедия помогает распознать всеобщий смысл тяги к
поискам мира, который есть не что иное, как защита ча¬
стных интересов. Таким образом, отвергает тот корень,
который толкает полис к полемосу. «Не укажешь ли полис,
на котором можно было бы растянуться, как на мягкой
шерсти?» (Аристофан, Птицы, 121-122). Но то, что навязы¬
вают народу птиц, - это священная война против богов.
Поиск собственного счастья, идиота, высмеиваемого Ари¬
стофаном, по необходимости стоит-против, таит в себе по¬
80ВОЙНА И МОРЕтенциальность стазиса. «Ошибочен всегда, во всех ас¬
пектах- человек по своей природе» (Аристофан, 451-452,
556).К комедии можно было бы добавить: «разве что горо¬
дом начнут управлять философы или тот, кого назовут пра¬
вителем, не станет рассуждать должным образом» (Платон,
Государство, V, 473 c-d). Желать, чтобы мера логоса начала
властвовать над всем человеческим - предел безрассудства,
говорил Леопарди. Утопии мира в комедиях переворачи¬
вают философские утопии, ибо демонический характер
личностей-персонажей делает очевидным факт, что пол¬
ный покой они не переваривают. Только смеховая дистан¬
ция делает их выговариваемыми, придает смысл нашим
диспутам о мире, отличным от софистической болтовни.Все-таки остается та же дистанция, от которой оттолк¬
нулась платоновская конструкция: спросим себя, мыслимо
ли трансформировать полис, особенно, если его накрывает
смеховая волна? Это выражение можно принять угро¬
жающим образом серьезно: в самом деле, мыслить покой
можно не иначе как вместе с людьми, его представляющи¬
ми - персонажами, непредставивыми в покое. Ведь то, что
подразумевается под этим термином, не есть филопсихия,
т.е. победоносная борьба одной души против других. Коме¬
дия, усиленная настолько, что она в состоянии заставить
хохотать над подобной антиномией, дает возможность
непобежденным душам жить вместо того, чтобы стоять в
стороне. «Всему греческому началу прощается и дозволя¬
ется продолжать быть, и значит, существовать» благодаря
этому смеху, который знает, освобождает, вытесняет стра¬
дание за пределы сознания. Тем не менее, вопрос Аристо¬
фана «Так почему выгнали богов?» (Тишина, 203) существе¬
нным образом трагичен. «Не могу объяснить, чего только
мне не снилось о Платоновой энигме и его сфинксовой
СМЕХнатуре в связи с petit fait, таинственно переданной: что на
смертном одре под его подушкой нашли не библию, не что-
то египетское, пифагорейское, платоновское - нет, книгу
Аристофана!» Да разве такой человек, как Платон, мог бы
иначе вынести жизнь - греческую жизнь, которой он ска¬
зал свое Нет - без Аристофана!» (Ницше, По ту сторону
добра и зла, 28).Добавим: мог ли вынести Ницше речь Заратустры к
воителям (Так говорил Заратустра, I, О войне и воинах) без
Аристофана? Не был ли спрятан некий томикАристофана
под подушкой, никогда не спавший в его уме? «Человек есть
нечто, подлежащее преодолению»... Можно ли всерьез
утверждать это, не осознавая одновременно, что ари-
стофановский смеховой гребень наклонен вниз, готов
упасть? Можно ли обдумывать такой угрожающе серьезный
и сложный логос без готовности испытать иронию - eiro-
neia, только иронично Аристофан и мог его толковать? Од¬
нако Ницше намекает в Заратустре на то, как любимый-
ненавидимый Платон писал в своем «Государстве». «Я
обоготворил смех; продвинутые люди, научите меня - сме¬
яться!» (Ницше, О сверхчеловеке, IV)20. «По-настоящему не
умеет смеяться тот, кто не умеет посмеяться над самим со¬
бой» (Ницше, Пробуждение).20 Не здесь ли существенное различие между крассическим духом и хри¬
стианским миром? В факте, что Христос не смеется? Что для христи¬
анина непостижимо учиться, смеясь? См., Каччари М., О начале, Милан,
1990.
III. ГЕРОИ1. Судьи и героиВсе 2gathoi должны считаться в городе натурами демо¬
ническими и божественными, хорошими демонами, их
могилы должны быть почитаемы как могилы демонов, од¬
нако свыше всех прочих будут почитаемы те праведники,
которые в ходе тяжелейшего испытания (агона) не только
пришли к постижению (ноэзису) Блага, но также своим
примером научают других. Философы-стражи после смер¬
ти поселяются на Островах Блаженных. Если это под¬
твердит Пифия (жрица Аполлона), государство на обще¬
ственный счет соорудит им памятники и будет приносить
жертвы, как демонам либо как Счастливчикам (Платон,
Государство, VII, 540 b-с). На Острова в Океане с глубокими
впадинами, где три раза в год собирают сладчайшие медо¬
вые плоды, не прибудут ни поколение тех, кто жили, как
боги, а после тяжкой жизни умрут, словно погруженные в
сон, ни серебряное поколение, намного худшее, как в смыс¬
ле души, так и золота. Первые станут почитаемыми демо¬
нами (благими, esthloi). Одетые в воздушные одеяния на
земле - это духи ploutodotai, распределители богатства.
Вторых, напротив, Зевс сошлет в подземелье за их само¬
мнение, hybris. Это вторичные, низшие демоны, даже если
выглядят счастливыми, даже если не без time, собственной
гордости и определенного назначения (Гесиод, Творения и
дни, 106-142). Только некоторые из героев, полубоги, будут
посланы Зевсом на край мира (Гомер, Одиссея, IV, 563;
Гесиод, Творения и дни, 168), на Острова Блаженных. Бла¬
судьи И ГЕРОИженное счастливое пребывание ждет Менелая, ученика
Зевса (Гомер, Одиссея, IV, 561), а также воевавших под Фе¬
бом у семи ворот и у Трои (Ксиод, Творения и Дни, 162-
165).Таковы герои, пережившие тяжкий опыт жестокой вой¬
ны, polemos kakos, дерзких призывов к борьбе, и ставшие
счастливыми. Земля, где нет холода и дождей, где дует Зе¬
фир, новая жизнь их освежает и обновляет: anapsychein -
глагол 10мера. Тот, кто доблестно отразил ужасающее зло
войны, заслужил воскреснуть, найти себя почти что в Ени¬
сейских полях. Это, наконец, отдых, но не тот, уже извест¬
ный - интервал, эфемерное перемирие в ходе перебранки.
Это чистая eirene, тишина, которая уже не родительного
падежа, что следует и принадлежит. Пауза войны - eirene tes
staseos.Рядом с героями в этой последней обители (на этой
Земле, от которой не уйти в отставку, от которой не сбе¬
гают) греки мечтали о другой категории божественных
людей, или настоящих полубогов, названных так не в силу
воинского мужества. Это судьи, представители Справедли¬
вости, Dike, вечного и божественного Закона, небесного
источника любой человеческой конституции. На полях Ти¬
шины нельзя не найти Eunomia, обоснованного закона, No¬
mos, Dike, дочерей Зевса и Фемиды, второго потомства Зев¬
са, после тех, что Отец Олимпа имел от Metis, ума, который
все соизмеряет. На Земле, которая, наконец, умерит все тя¬
готы героев, правит Справедливость. Там правит белокурый
Радамант, называемый Платоном агатос, безупречный су¬
дья, хранитель и служитель Закона. Ученик Миноса, Рада-
мант отстаивал дух древнего закона, соразмеряя работу с
питанием (Минос, 320, b-с). Наученный МиносОм, он не
знает всей techne basiliche, искусства правления. Он не
основатель, а руководитель и защитник закона. Минос, сын,
84ГЕРОИвдохновленный Зевсом, герой по преимуществу, призван
всеми людьми и героями. Это герой закона как выражен¬
ного/)^, герой со скипетром Зевса правит на основе сво¬
ей теории (Минос, 320 d). Минос общается лицом к лицу
только с Зевсом, наставников мудрецов. Раз в каждые де¬
вять лет он посещает некую пещеру на Крите, чтобы обу¬
чить человека истинному искусству politeia. Недьзя верить
той славе, которую ему создали в Афинах. История, пред¬
ставленная конфликтующими и мятежными богами в тра¬
гедии, воздействующей на души людей, неверно рассказы¬
вает о Миносе, описывая его грубым, неотесанным, chalepos
(Минос, 320 е), ибо, словно недруг, он принуждает город и
афинян платить дань.Фундаментальную связь между двумя функциями - time
богов, чему мы обязаны основанием законов и защите пра¬
вовых ценностей, и time воителей, чистых представителей
Aidos и Dike, вынужденных разрушать и применять силу в
военных целях. Конечно, и герой-воитель здесь, под вла¬
стью Зевса, почиет в мире, но его назначение сохраняется.
Он пришел из-под Т]рои, из бесчисленных мучений на лю¬
бой земле и любом море. Не ему доверят царский скипетр,
а сыну высшего Бога. На Островах Блаженных две функции
остаются и сохраняют различия, несводимые в смертной
жизни. Этому научает drama «Государства». Философ-хра-
нитель во избежание еще больших мучений принужден к
тяжелейшей войне, он пытается примирить в себе героя
Миноса с героем-воителем, справедливость чистого муд¬
реца с мужеством и грубостью воина. Т]рагики лгали, назы¬
вая Миноса тупым и грубым, но и Платон, как мы видели,
полагал, что страж полиса должен быть жестким также.
Внутри полиса две основные функции в рамках индоевро¬
пейского ареала по необходимости тяготеют к опасному
смешению. Платоновский философ-страж тягостно осоз¬
нает и выражает эту необходимость и эту опасность. После
судьи И ГЕРОИсмерти за тяготы он награжден покоем рядом с великими
героями, ведомыми Миносом долгим царским путем. Так
будет ли разделен его смешанный род, как андрогин Ари¬
стофана-Платона? Либо еще сохранится на Островах Бла¬
женных? Конечно, в полисе монарх обязан быть согласным
с собой, гармонизировать благожелательность чистого по¬
клонника софии и твердость воителя. Два лика героя кон¬
фликтуют либо они всегда в потенциальном конфликте, в
рамках данного мира они далеко не согласованы в совер¬
шенном различении.Воинственный облик героя производит действие в той
мере, в какой он автономен в своей сути относительно все¬
го, чему научился у Зевса. Приставки сва-, авто, само в себе -
образуют в «Ригведе» большую часть эпитетов, отсылаю¬
щих к божествам воинского назначения. Индра - «свакша-
тра», независимый, сватавас, сильный сам по себе. Его дей¬
ствие определяет природу, собственную волю, выражает
некую несмешиваемую «свадха». Кто действует как совер¬
шенный воин, тот отделяет себя от комплекса обычаев и
привычек, у него свой этос, на котором формируется so-
dalitas, братство героев. Эти термины, формирующие уни¬
кальную целостность, происходят от одного и того же
корня. Этос требует сингулярности. Однако может ли со¬
вершенная индивидуальность, завершенная форма, стоя¬
щая против любой другой, не выглядеть опасной и угро¬
жающей? Возможно ли, чтобыего красота не была бы также
и chalepos,} запутанной и грубой? Воин должен обладать все¬
ми этими свойствами: внутренней силой, автономией, сво¬
бодой - иначе не смог бы принять бой, но война требует и
умения нарушить соглашение, данное слово, поскольку
внутри дерзкого клича к бою всегда есть hybris. В земном
бренном полисе Миноса не отличить от воина. Воин не мо¬
жет быть просто подчиненным aidos и dike суверена, вер¬
ховного правителя. В бренной жизни верховная власть
86ГЕРОИдвойственна: власть, kratos Миноса неотделима от Ыа,
насилия, к которому воин должен уметь прибегать, более
того, к насилию, принадлежащему ему по природе. Никакая
сила не может остановить воина, если он в самом деле
воин. Пугающая опасность hybris связана с необходимос¬
тью лично отражать врага и превозмогать преграды и са¬
мого себя. Только совершейным образом примиренный
воин может освободиться от этой ужасной свободы. Но то¬
гда это будет libertas dejunctorum - погребальная свобода.Грешат и герои. Часто это грехи, предвиденные челове¬
ком. Он признается в нарушении установленного - культа
или традиционного ритуала ради спасения человека. Если
бы правила высшая ненарушимая строгая Справедливость,
был бы жив человек? Герой с его войнами, завоеваниями,
дарами - против земных властей, дает ли он пространство
человеку? Однако для этого воин убивает, по этой причине
в любой момент и сам может пасть жертвой бесчестия и
произвола. Он не сын Зевса, в определенный момент, когда
теряет рассудок и расчет— сын Марса, но и не только
Марса. В любом случае, у него есть ноэзис, как у Афины, но
не в абстрактном смысле. Разум верного воина - тот же, что
в этосе (см. Платон, Кратил, 407 Ь), рассуждение, основан¬
ное на ценности собственной независимой воли, свадха.
Марс не озабочен правом, признает справедливость, отра¬
жающую только равновесие силы. Афина, напротив, при¬
знает только справедливую войну, героический полемос,
бой, проведенный с ясным осознанием этических ценнос¬
тей; следовательно, она - постоянная противница stasis.Ярчайшее разделение, но как таковое в трансформи¬
руемом полисе оно нереализуемо. Здесь Марс и Афина
пересекаются в одном воине и развязывают гражданскую
войну, которая правит душой. Не только: эта сама по себе
двойственная фигура образует единое целое с фигурой
судьи И ГЕРОИфилософа-правителя Миноса. Этос «класса» воинов неотде¬
лим от этоса монарха первой функции. Снова следует при¬
знать реализм платоновской конструкции: философ-пра-
витель-воин, благожелательный и chalepos, вооруженный
до зубов - совпадение противоположностей, реали¬
зующихся в любой постижимой политейе. Совершенная
ясность дистинкций управляла, когда божественные демо¬
ны пасли стада людей, когда не было никакого полиса, что¬
бы властвовать. Теперь человек может пожелать максималь¬
но возможное спасение - правление смертных героев,
болубогов, таящих в себе импульс войны и волю к миру,
требование собственного этоса и мудрости неубывающей
Dike. Самый мудрый из царей выразит своей фигурой чер¬
ты героя Марса, хотя и взывает к нему перед смертью, как
Ахил в «Илиаде» (Гомер, XVIII, 107). Минос как архетип пла¬
тоновского философа-правителя не только ведет войну и
мстит за обиды, не только кажется основателем идеи
талассократии, но также может нарушить нормы, данные
смертными богами. Мифология о нем изобилует эпизода¬
ми, в которых Правитель-Судья становится жертвой тем¬
ной силы, виновный в своем геройстве. Минос увез на Крит
на своей лодке Тезея и 14 ионийских красавиц, когда его
настиг ужасный дар Афродиты, не отпуская руки девы, он
коснулся ее щеки... Видит Тезей, как ходят под ресницами
черные очи, страдание уязвило его душу и сказал он: Сын
всемогущего Зевса, ты более не способен здраво управлять
своей душой в груди; придержи свою надменную силу...
Прошу тебя, правитель Крита, укроти свою горемычную hy¬
bris». На Островах Блаженных будет править чистый Ми¬
нос, выращенный Зевсом. Здесь, как и в платоновской
политейе, может править только Минос, научающий Благу,
возвышающий себя и других к Благу (airein, согласно
этимологии, воспроизведенной Проклом). Туг могут пра¬
вить лишь герои, ведомые богами, герои, воплощающие
88ГЕРОИгреческий агон в наиболее высокой форме, агон, достиг¬
ший eidos, своей формы. Философ-правитель сохранит в
себе нетронутой силу thymos, которая сделает «душу
неустрашимой и непобедимой перед любым неприятелем.
Стражи должны быть кроткими к своим и свирепыми для
врага. Иначе им не придется ждать смерти, они сами сде¬
лают это и погубят себя... Но ведь кроткий нрав противо¬
положен ярости духа. Если нет ни того, ни другого, нельзя
стать хорошим стражем... Похоже, хорошим стражем стать
невозможно» (Платон, Государство, И, 375 Ь). Но в то же
время она создает наибольшую опасность для тех, кто хо¬
чет править со здравым смыслом и духом.Герой призван вести, наставлять, продвигать к свету.
Чтобы реализовать это, он не может не устранять силой
все, что осталось темным и скрытым. Чтобы вызволить ari-
hagne, ненарушимая чистейшая Арианна вынуждена перей¬
ти границы Быка Посейдона, бросить вызов пропасти. Све¬
тоносной становится Арианна: Федра. Но Федра - тот свет,
который убивает. Значит, снова ад. С адом вновь путь hybris,
преступления, все втягивающего. В этом пространстве вра¬
щается жизнь героя: stasis блеска и тьмы.2. Потерянная ВенецияПохоронная тональность героя: стражи защищают,
охраняют, но они слишком похожи на чаек Их имена зву¬
чат издалека (kleos, латинское inclitus, пресветлый), почти
отголоском, как памятные имена - ослепляюще ярко в мо¬
мент звучания, но также неуловимо и неожиданно гаснут.
Героично неподражаемое прошлое Теоса и Т]рои, героев
Миноса и Радаманта на мировых окраинах, кантора
Демодокла, который и крайние удаления умел раскрыть в
ПОТЕРЯННАЯ ВЕНЕЦИЯ89песне.27 Неистовая ярость героя ранит и беспокоит своей
невыделяемостью из покоя и kleos, которые может обещать
только песня. Возможно, лучше быть рабом, чем править
мертвыми. «Как мыши летучие, в пещерной глубине цепью
к стенам прикованные, оторвавшись, одна валится наземь с
утеса, визжа... от слов «покойники, кокит, Стикс и подобных
у слушателей волосы дыбом, мы опасаемся за наших стра¬
жей, как бы они не сделались от таких потрясений чересчур
возбудимыми и чувствительными... Не к лицу Гомеру «за¬
ставлять Ахилла, коль скоро он - сын богини то на хребет,
то на бок ложиться, голову пеплом посыпать» (Платон,
Государство, III, 386,387). Свойство большой героической
формы - быть в пункте незаконного перехода от одного
порядка к другому порядку, от одной божественной компе¬
тенции к другой, которые необходимым образом конфлик¬
туют между собой.Симона Вейль приводит высокое свидетельство, при¬
меряя платоновский ноэзис от тела к телу, интеллигент¬
ность против злого настояния вести войну, однако и она не
осознает трагической диалектики героя. Она знает, что
любая война, начатая ради определенной цели, намерена
нанести определенный вред, но в реальности вскрывает
неопределенное (С. Вейль, Тетради, I, 234), aoriston, кото¬
рый для греков означал бесформенность уродства и по¬
рока. Не может существовать без потенциального присут¬21 В книге Шарля Пегю (Peguy Ch.) «Клио. Диалог истории с душой языч¬
ника» есть замечательные страницы об отношении между миром богов
и миром героев. Именно благодаря тому, чего нет у героев, становятся
самые могущественные боги. Боги свою судьбу не завершают, остаются
несовершенными. Их жизнь длится бесконечно, у нее нет венца. Боги
не так полны. Только герой в силу своей бессмертной участи, в силу
терзающего его стазиса, в момент сияния никогда не утолимой славы
восходит к чувству исполненности. На вершине полного бед несчастья
сами боги начинают преклоняться перед героем. Таков Эдип.
90ГЕРОИствия hybris, поскольку никакой вред не мыслим без Ыа, а
насилие не имеет в себе пределов kratos. Вопрос - не в
справедливой мере-причине победителя и побежденного.
Вред, произведенный победой, как и поражением, не ста¬
новится менее неизбежным. Попытаться скрыться зака¬
зано, ибо зло заключено в обязанности прибегнуть к не¬
определенной энергии thymos - тому, что сближает войну
со страстью Эроса (С Вейль, Тетради, 1,161.342) - к безмер¬
ности.Мир соткан из предела и беспредельного. Применение
власти кажется ужасным тем, что в ней есть беспредельное
(и не может не содержать его), однако на деле ей не проти¬
востоит утопическая идея Eirene, мира. Наибольший агон
побеждает сам себя, согласно Вейль, когда переосмыслива¬
ется понятие умеренности, однако, речь идет о гармониза¬
ции противоположностей, неустранимых никакой диалек¬
тикой, никакой властью. Как обосновать необходимость
войны? Как присвоить некий логос, меру, число, порядок их
отрицанию в безмерности? Как уловить в себе грань наси¬
лия, чтобы не стать его рабом, чтобы не онеметь? Гречес¬
кой науки здесь мало, ее идея metaxy не помогает согласо¬
вать противные стороны. Она уходит от воплощения.
Остается переосмыслить ее в свете Христа. Но и Христа
следует дополнить Песней блаженного, Бхагавадгитой,
ведь незаурядная мера свободы, ею провозглашаемая,
должна быть прочитана согласно необходимости, иначе
остаются слепые надежды и желания, зависть и снова hybris.
Войну следует принять без попыток умаления зла, все это
знакомо героям Гомера (Илиада, XVI, 494). Она дает образ
радикального отсутствия Бога (Вейль, Тетради, 1,234), нет
йичего за пределами войны. Если только не воскресение.
Войну не уравновешивают идеи: ни силы, ни должной при¬
чины, ни совершенной политейи. Вот где классика ну¬
ждается в дополнении: здесь ни Nomos, ни Dike недоста¬
ПОТЕРЯННАЯ ВЕНЕЦИЯточны. По ту сторону безмерности войны есть только Хрис¬
тос, который даже не сходит с креста, точнее, с распятия, он
воскресает. Не война против войны: он меняет душу того,
кто убивает, вызволяет ее из гипнотического сна, страсти,
слепого эроса так, чтобы вызвать желание проснуться
(Вейль, Тетради, I, 241-243).Мы не о тактике ненасилия. Симона Вейль - слишком
философ, чтобы не видеть, что к тому же ненасилию
применима только мера эффективности, именно такими
были действия афинян против мелосцев (Вейль, Тетради, I,
334). У Симоны есть враги, она готова убить их. Это их при¬
казано любить, ведь сказано: «любите врагов ваших» (Вейль,
Тетради, IV, 370). Ее позиция - распутать этот парадокс.
Необходимо вести войну с теми, кто разрушает то, что мы
любим, однако делать это следует не только с живым со¬
страданием, но любя врага.22 В Бхагавадгите этот централ¬
ьный мотив подчеркнут в начале, когда Аржуна, восхваляя
учителей, готовится к удару, но именно его чувство Кришна
тут же останавливает. Необходимо не только делать то, что
согласуется с внутренним светом, в чем есть решимость (с
этими словами Кришны согласна Вейль), но нужно добить¬
ся своего именно в силу любви к врагу. Для Вейль этот пара¬
докс - по сути христианский. Только как его осмыслить?
Согласно платонической модели времени в образе вечно
неподвижного Эона? Может ли звук быть воображаемой
имитацией молчания, война может ли быть образом мира?
Каким образом? Конечно, не так, как греки повторяли:22 А если кто-то убивает именно врага-возлюбленного? Может ли быть
любовь абсолютно бескорыстная, никаким образом не вознаграждаемый
дар, особый род оружия по преимуществу? тот, который уничтожает
силу другого, который заставляет его замолчать навсегда? В «Невозмож¬
ном» Симона Вейль пытается синтезировать «Песнь Блаженного» с
«Нагорной проповедью». Все же остается вопрос: возможно ли даровать
смерть в силу любви?
ГЕРОИсмысл войны - в видении мира. Утверждение - война в дей¬
ствии - не только из ряда просто осознаваемого, она дана
здесь и сейчас. Тогда значит ли это, что страдание, прово¬
цируемое войной, не только помогает понять (в чем и со¬
стоит квинтэссенция классического знания), но что она
есть нечто божественное? Бог страдал, поэтому ужасающие
мучения, которые приходится терпеть, мольбы, чтобы
чаша сия миновала, - все это, а не утешения и компенса¬
ции, и божествено по сути. Мы вынуждены принять необ¬
ходимость войны и никаких уловок, не маскируя ее
праведными мотивами, все выстрадать до основания, не
надеясь при этом, что все окупится. Это страдание не имеет
никакого искупления. О бесполезном страдании в толкова¬
нии Достоевского интересно размышляет Луиджи Парей-
сон в книге «Достоевский» (1993). Более того, именно пре¬
тензия, что от страдания можно избавиться в будущем, и
есть наибольшее насилие. Если бы нам удалось впустить в
себя все зло войны, преобразовать его в чистое страдание,
только тогда, возможно, случится, что метаморфозой вой¬
ны станет мир и покой. Страдание уже не может быть боль¬
шим, не останется ничего другого, как лечить его. Мера
переполнена. Любой произвол вызовет взрыв. Любое по¬
следующее движение насильственной тяги станет движе¬
нием против себя самого. Насилие в самом себе несет отри¬
цание меры, однако оно не может продвинуться иначе, чем
в форме борьбы против себя самого. Это научило бы чис¬
тому страданию, без слов и без оправдывающего логоса.
Любить врага не достаточно, ибо отношение вражды все
равно предполагается. Следует отдаться врагу, чтобы нау¬
чить его любить. Если б было возможно настолько совер¬
шенное сострадание, что даже невозможно определить,
изолировать впереди или напротив, чтобы не оставалось и
возможности его оправдать, тогда, может быть, наступило
бы великое молчание - прообраз мира.
ПОТЕРЯННАЯ ВЕНЕЦИЯНе думаю, что можно как-то иначе понять идею войны
и мира Симоны Вейль, если не в такой перспективе, соот¬
ветствующей ключевой идее - decreatio, новое сотворение.
Отречение, суть созидательного действия Бога, должно
соответствовать нашему отречению от нашего тварного
существования (С. Вейль, IV, 157), отказу от власти над
творениями, и прежде всего - отказу от блага, связанного с
наличием я (филопсихия). Власть хочет иметь собственн¬
ую часть именно потому, что не хочет сойти, умереть (С.
Вейль, IV, 240-241). Наши войны мы оправдываем именно
так, отбивая то, что принадлежит по праву. Следуя за тем,
что принадлежит, якобы нам полагается, мы непрерывно
воспроизводим, разрешаем воспроизводить, в чем и заклю¬
чается грех (С. Вейль, IV, 152). Нам не удается подражать
Богу в части ухода, отказа от власти над нами, напротив, мы
превратили его в ненавидимый идол всемогущества. Только
в пустоте мы можем представить человеческий облик Гос¬
пода, homoiosis theoi, в немом молчании можем уподобиться
его kenosis. К участи Господа переходят, переставая быть,
отказавшись от своей природы (С. Вейль, IV, 249).Если зло состоит в желании быть, верить в бытие и с
собачьим упрямством настаивать на этой иллюзии, ничто
не в состоянии разрушить зло. Никакая война, но и никакие
акции в защиту мира. Страдание, которое мы испытываем,
действуя, должно преобразоваться в чистую страсть, раз¬
вернутую в небытие, в чистое самопожертвование, именно
постольку истинный образ мира и может проявиться. Об¬
раз мира, завершающийся идеей чистого блага, у Вейль на¬
ходится за пределом любых детерминаций сущности. Не¬
избежен вывод в строгом смысле неполитический.
Единственную войну можно спасти от насилия - войну
души с собой ради самоаннигиляции в жертве, ради ухода
от первородного греха. Все, что из области политичес¬
кого - необходимо и все несправедливо, чуждо той спра¬
94ГЕРОИведливости, которая совпадает с любовью к собственной
смерти. Таково насилие Рено, таково сострадание Жаффье
(Jaffier, Венеция спасает, 1987). В замечательной лекции о
Realpolitik (сцена V второго акта) Жаффье не имеет ничего
против, когда речь идет о насилии. Сочувствие, испытывае¬
мое им к Венеции, может воплотиться в предательство то¬
варищей, как это звучит на политическом языке, что в
конце концов признают все его мучители. Но и то же
самоослепление власти, губящее заговорщиков, охватывает
и губит Венецию. Слова секретаря дословно те же, что сло¬
ва Рено. Венеция спасает не потому, что справедлива. Она
убеждена, как и ее враги (и как древние греки), что мысля¬
щие существа все без исключения стремятся употребить
всю власть, данную им для употребления. Речь идет о неко¬
ем законе природы вроде закона тяготения (к той же мысли
возвращается Симона Вейль, когда говорит о Фукидиде).
Все трусливо, жестоко и низменно, даже в самом чванстве
(венецианский hybris виновен во всех драмах). Не только
не любит своих врагов, у нее нет никакого к ним сострада¬
ния. В отчаянии Жаффье проклинает все, желает ей смерти.
В конце концов, он покидает оживленные места, кажется,
что в самом деле его фигура попадает во все уничтожаю¬
щий огонь. Однако к этой энергии он приходит, прокли¬
ная. Он хотел спасти красоту Венеции, эта красота его
околдовала. Все же Венеция не есть Прекрасное как тако¬
вое - это красота города. И город защищает себя так, как ут¬
верждено Секретарем. С помощью точно той же полити¬
ческой техники, какой она была завоваена. Когда Симона
Вейль говорит о красоте как божием воплощении, как met-
аху, это уже само по себе в качестве наследия Платона (ска¬
жем даже, платоновско-августинианское) противоречит
другому источнику - гностическому. Мы не можем здесь
интересоваться всем, но зададим вопрос: Жаффье удается
отличить красоту Венеции как творение от Господа, ее со¬
ПОТЕРЯННАЯ ВЕНЕЦИЯтворившего? Он остается чистым эстетом, и потому в гра¬
ницах полиса. Точно так и Венеция, которая целиком - по¬
лис. Если мы проследим в этой связи идею decreatio, с кото¬
рой начинала Симона Вейль, нам не избежать вопроса: если
Венеция как творение не желает отойти в прошлое, и что¬
бы не сойти, она использует все основания государства, по¬
чему это верно - помогать ей? Есть закон природы, со¬
гласно которому город любой ценой борется за
самосохранение. Однако необходимость и справедливость
не синонимы. Неужели все, что рождено, должно непре¬
менно себя защищать? Никакого ответа удовлетворительно
не дали бы Жаффье или стражи Венеции. Ни даже Симона
Вейль. Ответ дает Августин - резко отрицательный. Ни
один земной город не может претендовать на вечность.
Только граждане могут посвятить себя вечности, если они -
граждане Града Божьего, который ныне странствует. Ника¬
кая красота, никакая форма не могут отвести зло войны и
битвы, раздирающие земной город, никакая победа не
освободит его от пороков, всегда побеждающих, никакой
мир немыслим без золушки-трудяги.Симона пишет: «Кажется, что Жаффье склонен к
сверхъестественному. Это сверхъестественно - остановить
время. Именно здесь вечность ощущает себя в качестве вре¬
мени». Жаффье доходит до сострадания к жертве, однако к
чистому страданию - никоим образом. Он уходит от раз¬
рушения Венеции, но не уходит от себя. Нигде, говорит, не
получается любить врага. Он любит друга Пьера, в нем ему
нравится истинный эрос, страсть, не отделимая от фигуры
героя-воина. Жаффье - совершенная личность Т^ауэрс-
пиля, колеблющаяся между природой и сверхприродой,
обреченная действовать, не понимая причин действия,
призвана к делам, но всегда не уверенная в истоках своего
призвания. Множественна, как переполненный город, бу¬
дучи сценой траурных церемоний, межмировой конфликт,
ГЕРОИв котором даже религиозное становится функцией, где раз¬
личные божественные timai, структурированные в траге¬
дию, перемешиваются и разбиваются в прах. Единственное
преодоление героя - проследнее щрости городу. «Нет ни
рассвета, куда я иду, ни города», но та же красота Венеции
расцветает: сон как бредовые искушения власти у Рено.
Сон - совершенно красивый город, подлинное воплоще¬
ние божественного. Рядом со смертью Жаффье постигает
город. Яркая вспышка, и его знание преображается в чистое
melete thanatou, чистое бытие к смерти, как это было с Си-
гизмундом в конце «Башни» Гофмансталя.3. ДуэльЖаффье далек от того, чтобы стать образом мира. Но
на сцене полиса не постижим вообще какой бы то ни было
образ мира. Только в миг йрощания можем уловить его в
виде вспышки, когда покидаем город, встречая смерть. Та¬
кой аскезе чужды ли герои? Для героя сделает ли война
несуществующей диалектику сострадания и любви, очище¬
ния и жалости, необходимого и справедливого, из чего со¬
тканы размышления Симоны Вейль? Вокруг этого вопроса
вращается ее очерк «Илиада, поэма силы» и вся ее концеп¬
ция греческой классики.«Цлиада», опубликованная между декабрем 1940 и ян¬
варем 1941, писалась предыдущей зимой почти параллель¬
но с книгой «Венеция спасает». Сила передается здесь толь-
kq греческим термином Ыа. Имя-корень,
непосредственное, насилие, которое поражает, свист
стрелы, которая настигает слишком поздно. Сила перечер¬
кивает человечное, превращает человека в труп. Речь идет
не только о свирепом виде убивающих, что, согласно Вико,
дуэльсоставляет изысканность «Илиады». Насилие проявляет
себя не только в виде грубого факта убийства, но и в служе¬
нии живущему. Спектакль становится невыносимым, некто
живой, даже продолжая казаться таковым, не покинутый
своей психе (всепроникающим дыханием телесных фибр,
которыми играет macbe в людских побоищах, androktasiai)
застывает нагой лицом к земле, в контрасте со своим име¬
нем: antropos.Однако порождающая вину мощь силы никого не ща¬
дит, ни даже победителей. Победители и побежденный под¬
мяты ее законом. Это и есть империя Ananke, тупой необхо¬
димости. Империя природы,- настаивает Вейль. Поскольку
это сцена слепой необходимости в Илиаде» - место отсут¬
ствия Бога. Победитель и побежденный одинаково сломле¬
ны отсутствием, они столкнулись как чистые противопо¬
ложности. Именно необходимость в своей империи их
отождествляет, грубым образом низводит индивидуаль¬
ность и сводит к мертвому тождеству. Отсутствует любая
metaocy, правят непосредственный контраст и прямое тож¬
дество. Бог, который геометризирует, - пока из чистого
будущего. Он живет в «Илиаде» только как невыразимая
жажда, как контрудар невыносимого насилия. Мысль, нос¬
тальгия без слов, ничего другого не может быть. На сцене
господствует одна Bia.Bia заставляет неметь и сама немая. Не оправдывает и
не имеет основания в себе. Внимание: она отвечает как
венецианский секретарь («Не отвечаете? Говорите мне, го¬
ворите мне... Глядите мне прямо в глаза)». Ее исполнение
само по себе очевидно. На силу отвечает сила. Для Жаффье
и тех, кто без оружия, кто выбросил вон власть, у силы нет
ушей. Тот, кто потерял власть или отказался от нее, не пони¬
мая тяжести последствий, ощущает себя бестией, зверем, не
понимает слов вокруг себя, слышит только мучительный
шум. Bia нема, как в «Прометее» Эсхила: решительная
98ГЕРОИличность в молчании, гасящем бытие человека. Ее молча¬
ние предполагает только молчание: когда жертва, наконец,
прекращает вопрошать и умолять, тогда ее поражение и
уход совершенно исчерпаны («Видишь, Базий, теперь со¬
всем не опасно»). Молчание жертвоприношения или немо¬
та нового творения могли бы противостоять тупой, неснос¬
ной необходимости, которая одушевляет и убивает героя
«Илиады».Но рядом с Вга в «Прометее» Эсхила есть Кратос, и этот
Кратос говорит. Так же как в «Илиаде». Вейль его игнори¬
рует, и это показательная забывчивость. Она означает, что
для нее только с Пифагоровой наукой числа, Платоновой
идеей блага начинает утверждаться европейское простран¬
ство образа мира. Только когда эпико-трагический герой
подвергнут интеллектуализации. До этой осевой эпохи вла¬
ствуют Bia, насилие и hybris. Речь идет о прогрессивной
схеме, которая у Вейль затем рифмует переход от классики
к христианству. Однако это не так, ибо в Миносе, в идее
справедливости, представляемой стражами, с необходи¬
мостью остается темный лик героя, потому что идея совер¬
шенной политейи постольку держится полиса, поскольку
привязана к множеству и полемосу. Но еще и потому, что в
том же эпико-трагическом герое реализация насилия неот¬
делима от силы власти, kratos. КгаШ на санскрите есть ин¬
теллигентность, понимающая сила, слово звучит почти как
noos. Это сила, овладевающая собой, побеждает звериный
импульс. Сила, которая придает форму, а не рвет, не де¬
формирует и не уничтожает. Иные герои, как Нестор, выра¬
жаются о ней с отвращением, но никто от нее совсем не
свободен. В силу трансцендентального основания, апри¬
орно, относительно разного поведения того же героя. Да¬
леко не будучи прямым выражением слепой необходимос¬
ти, насилие, применяемое героем, есть всегда проявление
божественной timai. Герой не тщеславен, не стремится
дуэльобладать серебряным геном, он печется только об Ares,
Арии (Марсе, боге войны) бронзовом гене, лишенном
страха ведь у героя железное сердце. Герой участвует в
человеческом и божественном во всей их ужасающей кра¬
соте. Участвует и страдает, может просить пощады лишь у
Господа, может грешить, но все-таки остается вплетенным в
некую более широкую гармонию. Он приобщен к игре
божественных сил в их постоянном сплетении. Сознавая
все это, герой подчиняется как марионетка, его мера зара¬
нее известна, хотя это парадоксальная и суммарно опасная
мера, ибо в ней заложена возможность выйти за пределы
границ человеческого. Обстоятельство, что роль стража,
сознательно охраняющего полис (латинское servare не от
того ли корня, что и слово герой?) высоко выражена Гекто¬
ром, чья неукротимая сила напоминает жестокого зверя,
его действия реализуют повеления кратоса, вытекающие из
согласия божественных властных сил. Ни одна Bia никогда
не преступит этих границ без того, чтобы Nemesis не
восстановила бы их баланс изнутри.Чтобы его сила была в согласии с такой скрытой гармо¬
нией, герой согласен следовать kleos, он может пожелать,
чтобы его имя звучало издалека. Вейль отвергает импера¬
тивный характер такого поиска славы, импонирующего ге¬
рою. Ахил мог пожелать никогда не родиться, но не хотеть
kleos- никогда. Герой обречен на то, чтобы иметь имя. Од¬
нако имя это не молчание, оно противоречит немому наси¬
лию, повергающему все в немоту. Герой, даже когда побеж¬
ден, на деле не переживает поражения, ибо его имя
продолжает звучать, к нему продолжают взывать. С этой
точки зрения никакое насилие не в состоянии свести героя
к вещи. Именно поэтому он устремляется к kleos - чтобы
быть выше любого поражения и самого падения. Путь к сла¬
ве означает последний агон против чистого насилия. Герой
превосходит не только форму простого превозможения
tooГЕРОИсмерти (которую он воспринимает как отсутствие формы,
arete), он должен одолеть насилие как таковое, чтобы в зем¬
ном плане выживания наказать Bia. Такое отрицание фор¬
мы недоступно для анонимного большинства, пребываю¬
щего в сонной тьме, плебсу закрыт свет славы, kleos.Конечно, нет гармонии под мышкой у Ария. Все-таки
герой силой вырывает свое имя у Ария, или точнее, про¬
износит логос, который переводит чистое насилие в песнь
«славься». Воин-герой приписывает певцу-герою собствен¬
ные жесты. Какова гармония была важна для Ахилла? Так ли
ее понимает Приам до встречи? Почему Ахиллл неотделим
от своего двойника, ведь с Патроклом он составляет герои¬
ческое единство-дуэт стыда и натиска, вражды и philotes.
Можно даже сказать, что несоразмерность первого терми¬
на определяется вторым и наоборот. Ритм ограничителя и
безграничного создается на пересечении двух энергий, не
имеющих границ в самих себе.Не может не поражать отношение согласия в войне в
«Илиаде», где даже бог геометрйзирует, что безмерный Eris
нельзя отделить даже перед лицом войны (и Гераклит сле¬
дует за Гомеровой поэмой, хотя и критикует ее, чтобы оп¬
равдать войну, выявить ее логос). Парадоксальным образом
noos сопровождает самые жестокие ее мутации, придает
войне форму дуэли, к которой она тяготеет. Незабываема
дуэль Гектора и Аякса в седьмой книге «Илиады», где воины
демонстрируют покорность богу, назначившему каждому
свой характер. Именно в характере личности дано присут¬
ствие божественного (вспомним Гераклита).Как хищные львы или дикие кабаны дерутся герои ли¬
цом к лицу с мечами в тяжелых доспехах. Оба вооружены
копьями, оба любимы Зевсом. Но в то же время нельзя ска¬
зать, что они глухи к творимому ими насилию, они подчи¬
няются и смиряются только перед лицом священной Ночи.
дуэльДаже Зевс питал страх перед Ночью, повелевающей людьми
и богами. Peitbo спускается на непобежденных и усмиряет
их. Затем бьются снова, пока бог не даст победить одному
или другому, расходятся, убежденные Ночью. Герои воз¬
вращаются к друзьям, крайняя вражда сменяется любовью.
Не только к друзьям, но те двое, что хотели разорвать врага
на куски, теперь признаются в дружбе. Казалось, bia, kratos
неодолимы, вдруг силой ночной темени* из которой ро¬
ждаются сияние неба и свет дня, опускаются руки воинов,
буйство усмирено. Т]роянцы и ахейцы скажут: в стихии eris
двое враждовали, но, отделенные, помирились в дружбе.
Некий бог дал им огромный biay но в той груди, которой
дышит (рпеОурпеита), дал силу молчать перед лицом не
насилия - самовольства архаичного, самой Ночью вопло¬
щаемого.23Конечно, Гектор, герой священной Элии, произносит
слова, могущие погасить идею «Илиады» как поэмы о силе,
но Аякс слушает и внимает им. Словно дары троянцев: «ему
преподнесли букет сияющего пурпура». Словно широкое
мощное излучение, некий свет - Lichtung - раскрылся в
ужасе кровавой бойни. Именно таков герой: в момент уча¬
стия в сражении формируется некое световое простран¬
ство вокруг него. Возможно ли противостоять polemos ka-
kos? Или же это судьба, которая в поэме Виргилия
прорывается в образе разъяренного Энея, вонзающего меч23 В «Илиаде» (VI, 120-246) описана встреча Диомеда с Главком, когда в
разгар дуэли в них признают старых гостей со стороны отцов. Интуиция
останавливает их, как только понимают это. «Кто ты, благороднейший
среди людей?» Затем обмен оружием ради восстановления духа госте¬
приимства. По поводу смысла эпизода см. Сеппини А., Поэзия и магия,
Турин, 1971, сс.445-446. Infandum bellum (военный канон) Виргилия не
знает таких неслыханных моментов мира. Возможно, поэтому Августин
и христианская теология не признают такую славу героя, даже ими
сотворенную (еще менее Макиавелли в своей критике августинианства
в «Рассуждениях», И, 2).
102ГЕРОИв грудь молодой жертвы? Языческая слава, скажет позднее
Августин, никогда не свободна от жажды славы. Она есть
также страсть, от которой христианский герой должен бе¬
жать. Поиск славы находит цель в самом себе чисто вир¬
туозным образом. Стоическое высокомерие - наиболее
блестящий из языческих пороков, оно отрицает идею бес¬
смертной души и сверхземной жизни. В этой связи Шестов
проводит замечательную параллель между Августином и
Достоевским в книге «На весах Иовы» (1929). «Вслед за Ав¬
густином Достоевский воскликнул: «Бог весть откуда
приходят невежественные люди и восхищают небо» (Лев
Шестов, Откровения смерти). Дантов символ, связавший
Энея и Павла, для Августина звучит чистым проклятием.Именно в ночных фарах герой освещает свой тайный
лик, скрытую гармонию. Он не бежит с поля битвы, у него
нет страха, смотрит в лицо смерти, он не знает необходи¬
мости, не подчиняется цепям. В открытом Хаосе и в лоне
Ночи происходят все войны. В ней же и разрешаются. Это
проявляется в дуэли героев, дуэль становится истинным
подражанием космической драмы. Нет ничего более чу¬
ждого, чем враг. Ничто более не есть мое. Сила, которая все
разделяет абсолютным образом, она также абсолютно гар¬
монизирует. Так не есть ли stasis - форма войны? Не та ли
форма, которую философия хочет изгнать, кажется единст¬
венно правильной? Не следует ли назвать стазисом борьбу,
в которую втянута душа с неразделимо-разъедиценными
силами? Не к такому ли образу мира взывает Симона Вейль?
Именно в поэме силы она находит след поистине боже¬
ственный.Впрочем, дуэль она отрицает. В оправдание дистанции
между эпосом и трагедией Вейль разделяет имена Марса и
Афины - бога войны и богини гармонии. Отделенный от
танцующего Марса, образ мира не может не стать жертво¬
дуэль103приношением сущего. Мир - это невозможность сущего, в
силу чего стремление к нему порождает глубокую горечь.
На этой ноте заканчивается очерк Симоны Вейль. Это нота
сострадания, характерная для ностальгии по тому, что не
принадлежит войне. Только вне войны она видит мир. Вой¬
на для нее - способ прийти к страданию по всеобщей ми¬
зерности человеческого, страсти, рождающей теорию, зна¬
ние. В диалоге Гектора и Андромахи она улавливает
необыкновенное приуготовление последнего замечатель¬
ного выражения греческого гения, проявившегося в Еван¬
гелии. Однако беседа обрученных не отделима от борьбы
врагов, два эпизода следуют один за другим. Не проблема,
когда друзья разделяют общий подход, проблема в том, как
заставить любить врага, преображение, невозможное для
Гектора и Аякса, стоящих один против другого как philoteti.
Несмотря ни на что, они не перестают быть врагами, поско¬
льку герой - это необходимость войны. Так не является ли
борьба с участием героя образом мира, великого Ритма,
который никакое насилие не в состоянии сломить? Пока
страсть не перерастет в признание, в mathosi Не достаточ¬
но ли сказать, что эпос и трагедия не возносят силу как
таковую, никогда не презирают неудачников, не сводят
справедливость к позиции той или другой стороны? Нужно
уловить в статусе героя stasis, который переворачивает
душу, вечную дуэль между bia и kfatos, между враждой и
дружбой, гневом и стыдом, thymos и rioos. Для величия этой
битвы нужен kleos, ради непомерной тяжести и наказания
стоит согласовать любовь и разделение, сходство и не¬
совпадение. Он требует kleos ради знания, которое пред¬
ставляет, как разделяться-в-гармонии, быть-в-гармонии в
разделении. Такая битва завещает философии, т.е. знанию
a-oikos Европы, разработку такой проблемы.
IV. НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬ1. Неблагодарный гость«Откуда приходит тот самый надоедливый из всех го¬
стей» (Ницше, Фрагменты 1885-1887, 2, 127)? Конечно, из
трагической эпохи Европы, эпохи борьбы с нигилизмом и
определенного утверждения последнего: нет истины, есть
воля к истине. Ценность чего-то есть только симптом силы
того, кто устанавливает ценность. Поэтому ни одну цен¬
ность мелосцы не могли навязать. Эпоха полного нигилиз¬
ма метит этап завершенности некой судьбы, которой ис¬
тинный историк уже видел истокОчерк «Номос Земли» - «Der Nomos der Erde» (своего
рода Фукидидов Ницше) - никогда никем не цитировался,
однако его прогноз укладывается в несколько слов: одно из
примечаний юристы так и не сумеют услышать. «Nomos»
Шмитта вместе с «Ницше» Хайдеггера образуют неделимый
диптих. Противоположный полюс - «Звезда искупления»
Розенцвейга. Только немногие из звезд нужны тем, кто хо¬
чет хорошо ориентироваться в этой эпохе. Однако разве
Шмигг не кажется отчаянным защитником античного по¬
рядка, публичного европейского права, которое логика ни¬
гилизма пытается расшатать? В трагическую эпоху, когда
крайний нигилизм еще не звучал так бесповоротно, он со¬
творил легендарный культ государства, свободного от реак-
ционизма, трусливого реформаторства. Это не означает,
что такое прошлое следует отвергнуть, что великий юрист
сожалеет или считает его ошибкой. С невероятной суро¬
востью он анализирует не только голый факт финала цен¬
НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬ105ностей, но и признает их изначальным образом смертную
природу. «История» Шмитта - это исследование антино¬
мий, которые с самого начала конституировали европей¬
ский номос, обрекая его на закат. Этот несомненно дорого
оцениваемый номос словно помещен на анатомический
стол, его бесстрастно разглядывают глазами некоего Юнге-
ра или даже Бенна. Ничего иного, по мнению Шмитта,
интеллектуал-историк делать не может и не должен. Как
Эпиметей, он прибывает «после пира», чтобы признать но¬
мос бессильным (не спасти его: понять близость и край¬
нюю удаленность, как «Ангела» Уолтера Бенжамина). Имен¬
но в этом - в неумении осознать заранее и заключается его
путающая ответственность - в его принадлежности к ве¬
щам, res, которые он анализирует, не позволяя себе испы¬
тывать ностальгию, надежды и еще менее пророчества. Но¬
мос прочитывается как грандиозная трагедия Европы,
«брачное ложе Ада» (Эврипид, Гекуба, 483), рассказ того, кто
знает и умеет свидетельствовать с пафосом тем более ин¬
тенсивным, чем более трезв и ясен взор. Свой священно-
профанный образ Шмитт организует согласно ритму в сле¬
дующем порядке.Первая станция - на голгофе Номоса: сначала опреде¬
лены основные термины отношения Порядка и Корня, Ord-
nung Ortung, затем подвергнут анализу кризис современ¬
ной глобальной эпохи, вплоть до реликтов гражданского
права, беспорядочных комплексов без определенности,
инфляции противоречащих соглашений, пустых и эфемер¬
ных пактов нынешнего так называемого международного
права.Вторая станция: поскольку Номос изначально означает
«разметку» (nemeiri) некоторой территории, ранее заво¬
еванного пастбища (womos), то трансформации отноше¬
ния Порядка и Места должны перекликаться с переменами
106НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬво взаимосвязи формы и смысла войны. Как Номос, так и
война завершаются с удалением корней. Когда дело дохо¬
дит до мировой войны (или гражданской мировой войны),
ни одна строгая форма не в состоянии дать норму войне,
определить ее в точных терминах и границах. Мировая
война есть неразрешимым образом тотальная война. Исче¬
зает любая возможность определить идею iusta causa, спра¬
ведливой, правовой причины. В чистый окказионализм
сливаются черты iustus hostis u rebellis (права и бунта). Друг
и враг становятся не иначе как силовыми позициями воли:
враг - тот, кто против архе более сильного.Третья станция: государство, главный продукт европей¬
ского духа, в качестве все же исторически определенного
продукта - первый агент секуляризации, ликвидатор древ¬
него Номоса. В большей мере, чем это было доступно сред¬
невековой христианской республике, государство легали¬
зуется способностью нейтрализовать гражданскую войну,
рационализировать внешнюю войну, элиминировать во
всем стазис (стазис, согласно античного понимания, есть
разрушение политического организма), вести полемику в
соответствии с универсальными принципами справедли¬
вости (без hybris, т.е. в классическом духе). Из конфликта
между непримиримыми идеями (которые в итоге предста¬
ют религиями) полемос должен преобразоваться в борьбу
между потенциями - в силу разумных целей участвующих в
борьбе сил - между суверенными государствами, взаимно
признающими себя в качестве iusti hostes (правовых оппо¬
нентов). Новая форма частного права должна основывать^
ся на суверенном праве каждого отдельного государства.
От номоса здравого смысла Средневековья (никогда не
оспаривавшегося в бесчисленных войнах) - к междуна¬
родному современному праву, искусственному комплексу
норм, пактов, регулирующих отношения между отдельны¬
ми государствами.
НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬ107Однако эти границы перевернуты всеобщей современ¬
ной системой мобилизации - Mobilmachung. Свобода ком¬
мерческой, финансовой, экономической деятельности
создают в любом месте в любое время некий глобальный
Zeit, который находится в неустранимом конфликте с пози¬
тивизмом права, связанного с государством. Без позитив¬
ным образом укорененного Номоса любое публичное пра¬
во обречено на призрачное существование. Голгофа
Номоса, стало быть, выливается в такой прогноз: невозмож¬
но реформировать огромную конструкцию Государства,
невозможно также трактовать Номос как raumlos, т.е. вне
пространства, границ, как безграничный и бесформный.
Это все равно что допустить беспочвенность современного
духа, которому чужда любая мера (еще один ницшеанский
мотив). Шмитт поэтому мыслит по ту сторону государства,
точнее, на уровне крайнего меридиана государства. Однако
на этом меридиане он не находит ничего, кроме крайнего
нигилизма - этого самого неспокойного, оторванного от
корней гостя. Вслед за Хайдеггером и Юнгером он при¬
знает, что там, где исчерпывает себя европейская история,
там начинается необратимый кризис. Признаки его начала
красноречивы. О том, что в этих признаках есть восход
некоторой модели нового частного права, Шмитт не гово¬
рит, хотя иногда кажется, что близок к этому. Без сомнения,
он лишь доказывает, что предвидеть и проектировать его
невозможно, полемизируя с политическим романтизмом,
новопросвещенческими утопиями, теориями вечного
мира. Он стоит на меридиане нигилизма и оставляет дру¬
гим пустую ностальгию по утраченным гнездам, оставляя
также очарованно-разочарованные апологии нигилизма
как лучшего из возможных миров. Reus до самого до конца;
неблагодарный гость.
1082. Искоренение номосаПрежде чем вникнуть в суть апорий тотальной Mobil-
machung (технико-практической системы), необходимо
вернуться к отношению Номоса и Места, именно в нем рас¬
крывается вся сложная проблематика^ взятая Шмиттом в
истоках; Укоренение Номоса в пространстве полиса (по-
mospolemos: два термина сопровождают друг друга, так ска¬
зать, ритуальным образом), и его действенная весомость в
этих границах изначально проявляется не иначе, как ре¬
зультат бытия в образе божественного Номоса, который
один-единственный, который «столько может, сколько
желает, для любой вещи достаточен и всегда сверх достат¬
ка» (Гераклит, DK В 114). Множественные человеческие но-
мосы не были бы гарантией какого бы то ни было порядка,
если бы не их происхождение от божественного Номоса. В
силу этого истинный корневой исток - тот, что связывает
их с космической Dike. Arbor inversa. Если все так, то подчи¬
няться законам города значит то же самое, что боги города
суть nomizein theous (по формуле Геродота). Если данный
nomizein недооценивается, никакого Номоса нет. Только
при условии, что боги есть, можно как-то убедить, что у за¬
конов есть неизменный источник.Боги устранены, вырваны с корнем законы: anomos
есть прежде всего impius. Решающая для Платона связь еще
сильнейшим образом присутствует у Аристотеля (Поли¬
тика, III, 1287а), за пределами действенной силы еще есть
свидетельство его устойчивого сопротивления, «Не поте¬
ряй душу, Евтидем, ты знаешь, бог, стоящий в Дельфах, отве¬
чает вопрошающим, как можно угодить богам. Следуя зако¬
нам города (nomoipoleos)» (Ксенофонт, Memorabili, IV,3,l6).В Номосе идею изначального обретения собственно¬
сти на землю под пастбище сопровождает другая идея -
ИСКОРЕНЕНИЕ НОМОСА109доправовой Справедливости, предшествующей самому
действию. Номос имеет все, поскольку божественен, theios,
несет в себе след неземного порядка. Земная эф¬
фективность Номоса, на чем стоит история Шмитта, дер¬
жится на законе ^^-Справедливости. Именно Dike по¬
средством своего ангела Немезиса наказывает
нарушителей Номоса (Платон, Законы, IV, 717 d), придавая
действенность распоряжениям. Немезис уже в силу своего
имени есть почти персонификация Номоса. Если такой
мифорелигиозный контекст искоренен, Номос предстает
не иначе как обманным продуктом опыта человека в фазе
искусственно навязанного им же финала. У Гераклита и
Парменида связь между Dike и Nomos предстает проблема¬
тичной. Если, в самом деле, смертные и с двумя головами
вечно нерешительные, дремлют, если этос человека лишен
мудрости (ouk ecbei gnomas), свойственной только богам
(Гераклит, DK В 78), то можно ли закон города, необходи¬
мым образом связанный с этосом, называть theion, боже¬
ственным даром? Этос указывает на длительную форму
пребывания. Номос связан с этим местом прямым обра¬
зом, ведь nemein означает также обитать, не только
поделить-закрепить землю, но прежде всего уметь жить на
ней как в обители 24. Но если у смертного есть только мне¬
ния, а обитать он не умеет и даже не сможет научиться, то
ясно, что и собственные законы не сможет привести к
божественному корню. Он останется влачить жизнь на
земле, но не под небом и не рядом с богами. Законы го¬
рода, таким образом, выглядят непоправимо противореча¬
щими друг другу. Никакое высшее единство их не осветит.
Никакого мира не достигнуть. Не номосом - их следует
называть psephismata: решения, декреты, полученные пу¬24 Интересно также сопоставление номоса с идеей обитания, wohnen у
Хайдеггера.
noНЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬтем голосования, артефакт всякого голосующего alogos,
бросающего в урну камешек (psephos). Так назвали закон в
Афинах уже тогда, когда старый Платон писал свои «За¬
коны». Не этос города, а только то, что мудрец еще призна¬
ет как небесный источник законов. Однако мудрец вынуж¬
ден всегда бежать из полиса, ведь мир - добыча Tyche,
азартного случая. Но вынужден и признавать, что этот и
только этот мир есть мир политического состязания. Тема
мотивов, по которым мудрец дистанцируется от политики,
станет главной темой эллинистических рассуждений, в
центре «De otio» Сенеки, хотя не чуждой и Платону (Госу¬
дарство, VI, 496 с-е).Искоренение Номоса связано существенным образом с
утратой его корня в божественном законе. За ним следует
утрата и корня земного. Этой историй предшествует элли¬
нистическая эпоха, хотя знаки утраты есть и в проблема¬
тике первой философии, в полной мере - в софистике V
века на Крите, у Псевдо-Ксенофонта. Эллинизм завершает
путь. Entortung Номоса кажется судьбой, запечатленной в
момент рождения. С тех пор как nomospoleos противостоит
nomos physeos, в определенном месте полиса универсаль¬
ного пространства эйкумены; в момент времени полиса
глобального Zeit космополитизма, примером которого и
является мудрец, номос определенным образом утратил
свой древний корневой источник Стоицизм, эпикуреизм и
скептицизм предстают совершенными союзниками-твор-
цами процесса искоренения. Антитрагическая по преиму¬
ществу мысль: трагедию, в самом деле, давали в присутст¬
вии всего полиса, в зените сезона, энигма nomoi в войне
одних против других - это война между божественными
nomoi и timai, а не только между различными законами
человеческих городов. Тот же этос человека появился как
место конфликта, из которого он вышел совершенно ис¬
терзанным, полным тревожных сомнений по поводу собст¬
ИСКОРЕНЕНИЕ НОМОСАвенных корней и страха наказания, которыми грозила Не-
мезис. Сознавая трагедию, человек начинал жить как noma¬
de (бродяга) в своем полисе. Номас (nomas) был пастырем,
воистину обжившим номос. Жить в законе как обители -
это уберегало бы от любого риска hybris, что значило бы
божественный покой. Но уже трагедия метит эту идею как
нечто невозможное. Космополитический кочевник-бро¬
дяга эллинизма уже не помнит ее.Аполитичность эллинистического мудреца в той мере,
в какой она ведет к завершению Entortung (удаления) Но¬
моса, представляет собой - чистейший образец гетероге¬
незиса; целей - существенный фактор великой римской
политики. Построение норм римского права происходит
по принципу supra nationes - над нациями, претендует на
значимость равно для всего единого пространства-време-
ни Империи. Локализация законов остается как сакральная
ссылка, все менее связанная с реальной действенностью.
Говорят: ins quo urbs Roma utitur, однако то, что на деле име¬
ет значение, это всеобщая проекция такого ius, воз¬
можность произносить его повсюду в силу не только де¬
монстрируемой мощи, но и его внутренне разумной
структуры. Что важно, так это утверждение римского права
за пределами любой местной характеристики, любой спе¬
цифической традиции и любой временной границы. In
omne aevum (в любом месте) римское ius (право) предстает
победоносным знаменем.В «Nomos der Erde» не хватает анализа римского права,
следовательно, самого решающего события для всей исто¬
рии Европы, представленного как возведенный христиан¬
ством в основной принцип. Империя и ее космополитичес¬
кий закон предстают как совмещенные самим Провидени¬
ем с христианской религией- противницей, впрочем,
римской религии. Тертуллиан стал главным творцом этой
операции, посредством которой религия вырвана с корнем
112НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬиз civitas, а граждане оставлены без своих богов. Посред¬
ством этой операции из римского закона оказался устра¬
ненным любой божественный смысл и оставлен только
земной (только эта та земля, которая совпадает с эйкуме-
ной). Речь по сути идет не об инструментальном подходе,
продиктованном требованиями борьбы. Идеи по поводу
имперских функций и полной секуляризации закона соот¬
ветствуют ценностям, которые несет христианство. Для ут¬
верждения собственной веры в Христа христианин мог бы
использовать выражения, подобные Номосу, nomizein the-
оп, например. Неким непреодолимым запасом априорно
нагружено любое номотетическое утверждение: связь (со¬
вершенно неслыханная для грека) между законом и грехом,
nomos и bamartia. Не только никакой закон не делает совер¬
шенным; не только закон никогда не оправдывает, следова¬
тельно, не спасает; напротив, любой закон (если только это
не тот закон, что завершает все новым даром абсолютно
неизбывной любви) делает бессильной sklerokardia, ту¬
пость сердца, которая закрывает слух и послушание. «Он
говорит им: Моисей, по жестокосердию вашему позволил
вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так»
(Евангелие от Матфея, 19, 8). Наш век христианской Ев¬
ропы не имеет источника нового права - ius остается тем
же римским, имперским - он отталкивается от кризиса той
же самой идеи. Закон не только слаб (astbenes), но также
бесполезен (anopheles) для достижения истинного, т.е. не¬
бесного града. «Отменение прежде бывшей заповеди быва¬
ет по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ниче¬
го не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда,
посредством которой мы приближаемся к Богу» (Послание
к евреям, 7,18-19). «Ибо многие, о которых я часто говорил
вам, а теперь говорю со слезами, поступают как враги кре¬
ста Христова; Их конец - погибель, их бог - чрево, слава
их - в сраме; они мыслят о земном. Наше жительство - на
ИСКОРЕНЕНИЕ НОМОСАнебесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, который уничи¬
женное тело наше преобразит так, что оно сообразным бу¬
дет телу его, силою, которою Он действует и покоряет себе
все» (Послание к Филиппийцам, 3,18-21). «Приступая к
Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом
избранному, драгоценному, И сами, как живые камни, уст-
рояйте из себя дом духовный, чтобы приносить духовные
жертвы» (1-е Послание Петра, 2,4-11). Если бы справедли¬
вость шла от закона, Христос принял бы смерть напрасно, а
христианство не имело бы резона. «Не отвергаю благодати
Божией. А если законом оправдание, то Христос напрасно
умер» (Послание к Галатам, 2,21). Невозможно, чтобы исто¬
ком был закон, наше согласие с ним есть не что иное, как
пакт, основанный на соображении общего удобства. Мы
живем в этом мире, словно уже в подчинении у законов, на
деле мы как дети и наследники Господа совершенно сво¬
бодны. Если мы живем под законом, так это в целях пользо¬
ваться преимуществами защиты закона ради нашей сво¬
боды. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть
Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы при¬
обресть подзаконных; Для чуждых закона - как чуждый за¬
кона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу, чтобы приобресть чуждых закону. Для немощных
был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех
я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых»
(1-е Послание Павла к Коринфянам, 9,20-22). Любой образ
источника, идеи iustissima tellus должны быть в диалекти¬
ческой связи в наш век с непобедимой Истиной, обитаю¬
щей в endon anthropos (во внутреннем человеке), иконе
Божьего Града. Даже если часто такая диалектика будет
выглядеть трагичной.Ведь и формула domus exfide извлекает пользу из чисто
земного понимания мира, который имперский закон га¬
рантировал. Речь идет именно о совершенно десакрализо-
114НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬванном расчете. Похвально подчиняться законам (при ус¬
ловии, что сам закон не принуждает подчиняться «религи¬
озным законам», ведь новый мандат отвергает поклонение
богам города), зная, что такое подчинение - послушание
заключенного, поэтому верующий вынужден странство¬
вать «арий terrenam civitatem», В этом своем посюсторон¬
нем странствовании верующий является образом закон¬
ченной утраты корней любого земного номоса, Nomos,
который есть часть небесного Града. В книге «О Божьем
Граде» (XlXj 12-17) Августин показывает, что именно эта
беспочвенность представляет ту неуловимую силу, которая
позволяет христианству втянуть в себя любой народ, любое
место и любое время. Hybris евангелизации никто не выра¬
жал с такой классической римской твердостью, как Авгус¬
тин: «Этот небесный град, пока странствующий по земле,
зовет к себе граждан всех народов, собирает в общину все
языки, не оставляя забот о разных обычаях, законах, раз¬
ных институциях, на которых основан земной мир». Ис¬
тина о себе не заботится, да и о ней нет смысла заботиться,
отличное от нее к ней не принадлежит. Это не значит, что
неполноценны такие обычаи и отличные законы. Просто
напросто они имеют значение как инструменты, средства,
делающие насколько возможно спокойным путешествие.
Не нужно бороться - нет необходимости заботиться. Апо¬
рия, парадокс отметят целую эпоху: как не защищать и не
бороться, если в то же время именно закон делает нас сво¬
бодными? Если эта взаимосвязь теряет подлинно живой ко¬
рень, оказывается извлеченной из почвы, разве свобода не
устранена? Участь непрерывной революции такова, что
вводит именна те обычаи и те законы, о которых новый
человек больше не желает заботиться.Единственная подлинная форма политики, понятная в
христианском горизонте, выступает как katechon. Этот тер¬
мин восходит ко 2-му посланию апостола Павла к Фессало-
ИСКОРЕНЕНИЕ НОМОСАникийцам: «Да не обольстится никто: ибо день тот не
придет, доколе не придет прежде отступление и не откро¬
ется человек греха, сын погибели... в храме Божием сядет
он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще
находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что
именно не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна
беззакония уже в действии, только не совершится до тех
пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И
тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убь¬
ет духом уст своих и истребит явлением пришествия сво¬
его. Того, которого пришествие по действию сатаны будет
со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, И со
всяким неправедным обольщением погибающих за то, что
они не приняли любви истины для своего спасения. И за
сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они всей
силой будут верить лжи, Да будут осуждены все не веровав¬
шие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда долж¬
ны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом бра¬
тия, что Бог от начала чрез освящение Духа и веру истине
избрал вас ко спасению» (2, 3-13).Katechon указывает на Мощь, которая становится пре¬
градой для полной эпифании во славу Аномоса, беззако¬
ния. Уже Ипполит трактовал katechon в политическом клю¬
че, как образ империи (Ипполит, Об Антихристе, 63,2).
Также и Шмитт видит katechon в средневековой империи,
функция которой состоит в том, чтобы Век не терял формы
в ожидании своего Конца, сопротивляясь дьявольским ис¬
кушениям. Вплоть до XIV века фигура Монарха представ¬
ляла хранителя прав человека in statu viatoris и только в тех
пределах, в которых его верховная власть могла выглядеть
законной. Однако момент, не замеченный Шмиттом, состо¬
ит в том, что, именно развивая эту функцию, katechon дол¬
жен впитать, интериоризировать Аномию, чтобы содер¬
жать, приходилось незаконно удерживать в себе. Закон
tt6НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬимперии - это тюрьма, где обитают блудные, потерянные
дети,fllius perditionis. Ее сила неизбежно заканчивается сни¬
манием с петель. Тогда становится очевидной не только
преждевременность и искусственность таких формы и со¬
держания, но более того, невозможность для христианина
признать такую власть истинной, признавая в ней изна¬
чальную связь между законом и грехом. Не только порядок
katechon оказывается, в конце концов, мнимым (стало быть,
ему нельзя доверяться), но и также внутренне связанным с
принципом, который подлежит оспариванию, поскольку
содержит его в себе (блудные дети - это hostis и hospes kat-
echon). Конечно, Средневековье признает и героические
попытки обосновать имперскую автономию, чтобы понять
божественный источник (достаточно вспомнить Дантово
выражение duo ultima), но к определению собственно за¬
конного порадка земного города эпоха придет, только от¬
вергнув любое трансцендентальное обоснование, указав на
пространство, которое человек может обжить в полной
мере. Принуждение и удобство замещают земной и боже¬
ственный источник Однако укорененность в Номосе, бы-
тие-в-форме в законном порядке уже показано как невоз¬
можное в эту эпоху. Только для христианина это не имеет
силы. И для иудаизма закон ведет не иначе как к земле
обетованной. Земля Израиля, конечно, реальна, но и ее ре¬
альность следует трактовать эсхатологически. Для Израиля
истинное, ненарушимое место Закона - не земля, а Слово.
Иегуда Халеви трактовал свою ностальгию по земле Израи¬
ля как ностальгию по месту Слова, библейского языка. Даже
дом Ислама нельзя представить как территорию. Долг Ис¬
лама заключается в расширении собственного дома, пре-
возможении любого различия внутри него. Вечный стазис,
кажется, разделил Исаака, Эдома, Исмаэля, семью Авраама,
однако внутренним образом они связаны делом искорене¬
ния nomoi народов. Глобальное современное Zeit, о кото¬
ЗАКАТ ХОЛОДНЫХ ЧУДОВИЩром говорил Шмитт, кажется теперь завершением всего по-
стклассического европейского средиземноморского духа,
вовсе не результатом конфликтов между современными се¬
куляризованными государствами.3. Закат холодных чудовищОсновные функции новой конституции европейского
духа и государства, творящего мир, таковы. Нейтрализовать
чудовищный эсхатологический запас иудейско-христиан¬
ской традиции, тяготеющий над любым земным правом.
Внушить теологам молчание in munere alieno с последую¬
щим концом любого оправдания войны и Landnahme, за¬
воевания. Поддерживать многогранность индивидов и ин¬
тересов в рамках единственного права в виде Закона,
пространственно хорошо определенного и абсолютно
преобладающего во всем пространстве (этот Закон должен
также решать все, что касается множества религиозных
идей). Для подобной конструкции Гоббс, по мнению
Шмитта, является наиболее чистым зеркалом. Но именно
потому, что в нём, этом боге, уже можно было разглядеть
смертельную болезнь.Нейтрализация борьбы идей, религиозных войн не
равносильна элиминации этих конфликтов, которые под¬
лежат рациональному разрешению. Более того, государ¬
ство позитивным образом утверждает себя в качестве га¬
ранта достижимости частных интересов в рамках закона.
Подчинение закону, признание абсолютного авторитета
власти - это результат некоего соглашения, на основании
которого государство одалживает гражданину свои услуги,
суть которых состоит в обязательной охране его безопас¬
ности. Эта последняя понята как первейшее благо, в тени
118НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬкоторого только и может гражданин реализовать собст¬
венные способности. Если верно, что Большой Человек -
Государство не сводимо к сумме индивидов, его составляю¬
щих, и их частных соглашений, то верно также и то, что
государство оправдывает себя постольку, поскольку обос¬
новано договором, конвенцией. Различные индивиды, сво¬
бодно собравшиеся обсудить собственную судьбу после
того, как пережит чудовищный опыт мировой войны всех
против всех, договариваются о пользе структурироваться в
государство. Только в той мере, в какой им это нужно, госу¬
дарство может продолжать господствовать над ними. Пара¬
доксальная по преимуществу конструкция: Большая Форма,
объявляющая себя божественной, немедленно обнажается,
раскрывает себя как идол - и лишь как таковой может фу¬
нкционировать.Некая утопия регулирует такую конструкцию: государ¬
ство трансформируется в совершенную машину, МасЫпа
machinarum,, наделенную объективными функциями, обла¬
дательницу абсолютной власти, поскольку в ней все де-
персонализовано и деполитизировано. И эта утопия при¬
была издалека, взять хотя бы идею despotes nomos, а также
платоновских стражей-философов. Однако здесь она воз¬
вращается в терминах десакрализованных и лишенных
корней и почвы; трагическое напряжение между божестве¬
нным законом и человеческим, законом писанным и зако¬
ном неписанным, что составляет сердце греческой идеи
Номоса, напрочь забыто. Это шаг метафизической важнос?-
ти в современном понимании государства, однако и этот
шаг по своей сути противоречив. На самом деле, любой ме¬
ханизм по самой своей црироде неспособен быть тоталь¬
ностью, ибо никогда не сможет вобрать в себя intemus cul-
tus et ipsa pietas uniuscuiusque iuris (внутренний культ и то
же смирение любого права), по словамСпинозы. Свобода
мысли, внутренняя свобода почитать собственного бога
ЗАКАТ ХОЛОДНЫХ ЧУДОВИЩоказывается искорененной и отделенной от внешнего куль¬
та, и по контракту все обязаны культовому государству.
Суверенность государства легитимна, если она ни в коей
мере не угрожает внутреннему форуму. Государство есть
чисто внешняя сила, нейтральная и агностическая относи¬
тельно ценностей, более того, по отношению к ценностям
совершенно бессильная. Так откуда же берет силу Большой
Человек* если признается в полном бессилии по отноше¬
нию к самому глубокому источнику любого разногласия и
конфликта? Как можно нейтрализовать его? Какое значе¬
ние может иметь внешний культ, на который государство
претендует, какой мир гарантировать? Бесконечно меньше,
чем подчинение древнего христианина законам империи.
Что представляет собой душа индивида как не pietas, со¬
страдание, связующее его с верой? Если государство не
имеет способности сострадать, у него нет души. Тогда это
нищшеанский монстр, холодный, скользкий и жестокий.
Его смертность очевидна в момент появления. В настоя¬
щий момент он существует как нечто уже прошедшее. Его
имя, произносимое на всех европейских языках, заявляет
не только о смертности, более того, о своем бытии-как-
государство.Последующий либерализм попытается уйти от сканда¬
ла, заявляя, что между областью государственного права и
сферой внутренних ценностей и веры нет противоречия,
есть разве что различия. Либерализм по существу есть диа¬
лектика различий, но эта диалектика не может осмыслить
различия (что мы пытаемся сделать в этой книге), как абсо¬
лютным образом данные они не отделимы не только от их
конфликтности* но и от возможности отчуждения в дикой
форме. Различия, согласно логике либерализма, трактуют¬
ся в духе принципа безразличной равнозначимости. Это не
только совершенно нереально, но и не поддается осмысле¬
нию. Оказывается, что если внутренняя сфера содержит
120НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬнезаменяемые ценности, то во внешней сфере (религия
должна оставаться своя в каждом регионе) остаются цен¬
ности, позиции, суждения, во всем релятивные, подчинен¬
ные по природе расчетам удобства и приспособления. Не
существует никакого равенства между двумя этими сфера¬
ми, чтобы гарантировать их мирное существование, скорее,
есть изначальный дифференциал силы, делающий неиз¬
бежным конфликт. Остается проблема: сможет ли институ-
ционально-юридическая машина агностического государ¬
ства нейтрализовать внутреннее измерение, несовмести¬
мую свободу, свести ее на деле к частному роду
деятельности? К измерению, которое не только не принад¬
лежит государству, но и представляет его прямую противо¬
положность? Сможет ли государство стать настолько мощ¬
ной Машиной, чтобы секуляризировать без остатка любую
ценностную позицию, дать метафору любой ценности в ка¬
честве оцененной?Мы можем понять подобный финал только тогда, когда
докажем, что никакая основная государственная функция
громадной Машины по? своей природе не вынуждена
интегрироваться со сферой производства ценностей. Если
бы государство совершенным образом могло быть кон¬
вертировано в гармонию юридических и экономических
(скорее, эстетико -экономических) отношений между ча¬
стными индивидами, тогда ценности оказались бы, во-пер¬
вых, изолированными, во-вторых, изгнанными из сферы
закона, как это случилось с поэтами эпикографического
плана из совершенной политейи. Можно лучше проил¬
люстрировать эту идею, принадлежащую к ядру лкбераль-
ного сознания, восстановив образы взаимосвязи земли и
моря. Континент закона - iustissima tellus - юридическо-
экономического разума, будет спасен всеми средствами
океана от тщетных надежд, миражей, простых идей, окру¬
жающих его со всех сторон. Рассчитывающий интеллект -
ЗАКАТ ХОЛОДНЫХ ЧУДОВИЩ121это хорошо укрепленная земля. Неопределенное простран¬
ство несводимых к феноменам идей, напротив, есть море. К
морю нас толкает неутихаемая ностальгия по неизведан¬
ному, любовь к недосягаемой Дали. Но эта Sehnsucht (нос¬
тальгия) препятствует любой стабильной конструкции, бо¬
лее того, заканчивается распадом сама конструкция, по
преимуществу - правовое государство. Есть совершенная
аналогия между драмой в отношениях между формами
интеллекта, идеей разума, лежащей в основе первой канти¬
анской «Критики», и тем, что противостоит государству в
непредсказуемом процессе рождения ценностей. Именно в
этом суть: как здоровый интеллект не может элиминиро¬
вать идеи (более того, должен признавать их превосход¬
ство в области праксиса), точно так же государство не мо¬
жет провозглашать себя стоящим на некоем Narrenschijf
(суденышке) ценностей, которые не в состоянии сделать
господствующими в силу их собственных принципов. Этим
океаном в бурю оно не окружено, а, скорее, судно будет
перерезано волной. Власть, которая позволяет принимать
закон и делать возможным его соблюдение, нельзя понять
иначе, чем на основе некоторого политического действия,
не сводимого, в свою очередь, к уже данным нормам. Это
действие внутренним образом имеет вес идеологии, цен¬
ности, мифа (Шмитт). Если только сфера ценностей не
имела бы ничего общего с областью политики, можно было
бы вообразить совершенный процесс секуляризации Гран¬
диозной Машины. Напротив, политическое никогда не бу¬
дет простым аккумулятором ресурсов, а всегда будет борь¬
бой за безопасность стабильного приращения верующих
(Мильо Дж, После Шмитта), следовательно, будет всегда и
мифоидеологический компонент, а государство как конти¬
нент никогда не отделится от моря (или пустыни) неве-
рифицируемых идей и непросчитываемых ценностей. Сле¬
довательно, не только государство не сможет претендовать
122НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬна тотальность охвата (который не будет абсолютным, т.е.
отделенным от процесса создания ценностей), но в случае
появления подобных претензий потеряет саму возмож¬
ность адекватно понимать и реагировать, не сможет ника¬
ким образом принимать решения, ради которых оно обра¬
зовано. Либо создать государство заново, ведь все законы
поняты либо как определенный продукт его воли, либо они
обращены именно к тому религиозноттрансценден-
тальному измерению, которое намереваются ликвидиро¬
вать.Номос современного государства, следовательно, ан-
тиномичен в силу отсутствия корней. Длительно незажи¬
вающие раны развязывают силы, ведущие его к распаду. С
одной стороны, это силы утопических идей и тираний цен¬
ностей. Они скрыты от любого экономико-юридического
расчета и прогнозирования, и все же без них, как мы виде¬
ли, немыслимо какое бы то ни было решение, дающее
жизнь государству секуляризованного права, да и вообще
любое политическое решение. С другой стороны, это силы
так называемого гражданского общества, законы которого
объективным образом направлены на деконструкцию госу¬
дарственной формы в виде комплекса частных контрактов,
обменов между индивидамй с их частными интересами.
Пока идет процесс парламентарйзации современного го¬
сударства, начинают взаимодействовать синергетически
две тенденции. Тирания ценностей й фрагментация поли¬
тической формы соединяются в том, что дает источник
рождения современных партий. Как носители индивиду¬
альных интересов, представители идеологических ценно¬
стей, несводимых друг к другу, они дают на все частичную
точку зрения. Современная массовая партия всегда шатает¬
ся принять внутренне антиномичную форму всеобщей
партии. Именно эти партии являются первыми зодчими де¬
конструкции государственного Номоса в деятельности
ЗАКАТ ХОЛОДНЫХ ЧУДОВИЩпарламентов, не столько законодательной работы, сколько
ратифицирующей где-то уже принятые решения. Партии
суть своего рода анти-камеры (прихожие) реальных леж¬
бищ власти. Монстр тотальной партии на деле и постоян¬
ным образом делает незаконной верховную власть парла¬
мента именно в момент, когда прикрывается и взывает к
нему с помощью архаичных формул. В свою очередь, пар¬
ламент вырождается в пустую сцену компромиссов, дробя¬
щих общество, что усиливает постоянно действующие
авторитарно-плебисцитные тенденции, другими словами,
работает на самоуничтожение - совершенное Sein-zum-
Tode, бытие-к-смерти.По мере развития этого процесса, когда Европа, пере¬
живая свой финал, не умеет осознать его, более того, уг¬
лубляет породившие его симптомы, идет ко дну также и
либеральная идея конверсии государства в комплекс фор¬
мальных юридических отношений, Администрации (Вебе¬
ровская бизнес-активность), поскольку потерпела
крах утопическая идея возможной нейтрализации полити¬
ческого момента относительно административных сфер и,
особенно, экономических. Концептуальное противоречие
в основе либеральной идеи заключено именно в иллюзии,
что можно создать некое государство (которое уже есть
структура, состоящая из партий), которое откажется от
контроля (не просто руководства) за экономикой именно в
эпоху господства экономических ценностей. Государство с
похожими целями не смогло бы остаться таковым, полити¬
ческим образом убило бы само себя. Более того, спектраль¬
но все более заметен другой аспект либеральной идеи -
разделение властей, производный от логики дистинкций.
Все менее функциональный парламент поневоле будет «де¬
легировать» законодательную власть в исполнительную. В
то же самое время секретари партий и различных лобби¬
стских групп под маской парламентской активности лю¬
124НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬбыми средствами будут искать и находить способ контро¬
лировать исполнительную власть. Положение юрисдик¬
ции, судебной власти, в таком формате^ будет характеризо¬
ваться максимальным окказионализмом по причине роста
«нелегальных» законов, порожденных волокитчиками, лю¬
бителями темных игр в компромиссы и взаимные запреты.
Ни одно политическое решение не будет в состоянии дать
жизнь новой конституции (в смысле Vetfassung в качестве
подлинного акта народной воли, единого этоса), поскольку
сама идея конституции связана с признанием существова¬
ния определенного пространства, возможности некоего
Номоса, определенного в территориальном смысле).Представляется уходящей в небытие сама такая воз¬
можность. Коллапс по внутренним линиям Грандиозной
Машины сопровождается невероятным давлением фактора
унификации мирового рынка. Мировая экономика «осво¬
бождается» от межгосударственного европейского права,
основанного на факте существования действительно суве¬
ренных государств. Крайнее выражение современного
государства - cuius regio, eius oeconomia - выметено вместе
с крахом системы социализма. Победоносный лексикон
экономики и техники требует единого пространства, более
того, единого понятия пространства в качестве априорной
формы, «освобождает» от любых различий места (даже
трех древнейших элементов - земли, моря, воздуха). Требу¬
ет единого разума, non curans quidquid ... diversum (не
беспокоиться о различиях). Как мы уже видели, смысл
войны совершенным образом соответствует этой эпохаль¬
ной трансформации.Однако за ней не заметно никакой интернационализа¬
ции старого публичного права. «Сакральный центр земли»,
каким была Европа, как представляется, не в состоянии изо¬
брести новые институты, способные придать форму новым
ЗАКАТ ХОЛОДНЫХ ЧУДОВИЩэкономическим отношениям и порождаемым ими новым
конфликтам. На месте заката этой формы katechon, пред¬
ставляемой государством, не видно ничего, кроме выраже¬
ний политического романтизма, либеральной ностальгии
по нейтрализации и деполитизации, случайные патетичес¬
кие попытки вызвать к жизни идеи «справедливой войны».
Микрокорпоративная атомизация интересов и культур,
ликвидация любого этоса достигли такого градуса, что де¬
лают архаичными те же массовые партии. Так устраняет
сама себя крайняя политическая форма, чем более про¬
тиворечивым и ничтожным образом она представлена все¬
общей партией.История Шмитта завершается на манер Гамлета
(Schmitt С, Hamlet Oder Hecuba, Dusseldorf-Koln, 1956). В тра¬
гедии чисто исторического настоящего, голого случая.
Начатый здесь рассказ (из эпохи великих нарративов) не
располагает искать здесь какого-либо deus adveniens. Ника¬
кого бога ех тасЫпа, механической машины из логова Ле¬
виафана здесь не заявлено.Но ведь и Гамлет совсем не романтический герой. В от¬
сутствие Ordnung и Ortung («The time is out of joint») ему
суждено решиться («О cursed spite, That ever I was bom to set
it rigM»). Возможно, книга «Nomos der Erde» таким же обра¬
зом приостановлена, что заканчивается молчанием (слов¬
но ныне позирует юристам, как раньше теологам), един¬
ственным местом, где еще можно вспомнить «нас самих и
наш божественный источник». На одном прогнозе он де¬
лает акцент. Это бесспорная тенденция эпохи на глобаль¬
ном единении. Тот же дуализм холодной войны был не что
иное, как переход к такому единству, эпохе радикального
идеологического противостояния, разрешения конфликта
в конкурентную борьбу за контроль над рынками. На деле
образ мира, воодушевлявший две империи, был во всем
126НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬсходный. Наследники идеи решительного отделения по¬
рядка от места, ликвидаторы любого качества глобального
Zeit во имя технических ценностей, их соотношение (про¬
водимое всеми средствами как разумно утилизуемое) не
могло закончиться иначе, чем дуэлью, представляющей об¬
раз мира наиболее экономичным образом. Дело не в борь¬
бе старого и нового, несовместимых идеологий, ибо прак¬
тика и политические решения обеих сил представляли тот
же закат идеи независимого государства, необратимый
кризис его институтов и форм представительства, ту же
волю навязать себя нациям. Фундаментальная тенденция к
унитарности господствовала в ходе холодной войны. По
сути это была жесточайшая борьба за господство в глобаль¬
ную эпоху; что было целью и ценностью обеих соперни¬
чающих сил.Так закончилась «азиатская фаза». Научатся ли выжив¬
шие свыкнуться с собственным долгом, основать свою им¬
перию на новой системе частного права, ius gentium? Или
же его господство останется ничем иным, как выражением
заката античного Номоса, господства, которое выражает
себя цепочкой актов и решений, замаскированных под слу¬
чайные оправдания? Или это будет торжество единствен¬
ного выжившего языка - свободы рынка, торговли, эко¬
номики, универсальной техники? Удастся ли придать
форму участи искоренения Номоса? Установить частное
право, имеющее вес и значимое именно для номадов,
странников глобальной эпохи?Нам не дано этого знать. Интеллектуал Эпиметей не
умеет предсказывать. Однако неблагодарный, беспокой¬
ный, беспочвенный гость, которого мы здесь выслушивали,
может сказать одно: общая тенденция к унитарности ради-
кализует характеристики и язык европейского нигилизма,
не противореча им. Апологеты любят изображать его как
ЗАКАТ ХОЛОДНЫХ ЧУДОВИЩ127воплощение совершенного Левиафана, миротворца, ней¬
трализующего варварский конфликт идей как форму ре¬
дукции опасных виражей политической сферы к нормам
Администрации. Никакая тирания ценностей уже не будет
более насильственной. Это и в самом деле эпифания гармо¬
ничной формы действия во всей ее нетерпимости. Для нее
все должно быть относительным, кроме собственной
цели - нейтрализации ценностей. Все должно разрешаться
в контрастность и обмениваемость, кроме всеобщего гос¬
подства соглашательства и взаимовыгоды. Все подлежит
сведению к безразличному эквиваленту, но не сама всеоб¬
щая уравненность. Эта релятивистская форма тирании
ценностей дает образ подлинного завершения революци¬
онных утопий. Эти утопии внесли свой вклад с тяжкими по¬
следствиями в аннигиляцию древнего европейского права
посредством утверждения, что другой в своей инаковости
образует агрессора, подлежащего уничтожению, что серь¬
езное установление мира в рамках единого пространства и
для всего человеческого рода иначе невозможно. Только
посредством наложения запрета на все непохожее револю¬
ционная мысль намеревалась достичь реального равенства.
Идея общины как имманентной для дистинкции - это об¬
раз для эффективной утопии современного государства и
для культуры глобальной эпохи, которая ее наследует и
венчает, первого врага - немыслимого и невозможного.Верно, что в релятивистскую эпоху тирания ценностей
против другого как иного не обязательно влечет за собой
войну. Однако война есть не что иное, как одно из измере¬
ний политической техники. И только самый безнадежный
либеральный утопизм может абстрактным образом отде¬
лить конвенцию, полученную военным путем, от убежде¬
ния, достигнутого силой слова, контролем и господством
над словом. Империя располагает сегодня достаточными
128НЕБЛАГОДАРНЫЙ ГОСТЬсредствами, чтобы мирным путем довести до самоубийства
непохожее. Этот выход даже самые отпетые якобинцы
предпочли бы военным действиям и тактике холодной
войны. В скором времени по причине неспособности вы¬
жившей империи создать новую систему частного права
полемос утвердит себя как нормальная форма взаимоот¬
ношений между инакомыслящими. Глобальное единство
пространства и времени и разложение в стихии чистого
полемоса - таковы черты нашей постазиатской эпохи.На этом меридиане должен остановиться интеллек-
туал-Епиметей. Однако нельзя остановить происходящее,
не убывают ожидания, запросы, надежды, даже слепые от
невозможности осуществить, от чего производны те же
лексиконы. Но и к этому готовил Шмитт: слушать их и со¬
страдать им - Horche und leide. Именно в силу этого мотива
мы должны приветствовать его, как он отдавал честь Томасу
Гоббсу: iam non frustra doces Carl Schmitt (не зря учились у
Карла Шмитта)! Но если Европа сможет найти свой соб¬
ственный еще никем неслыханный голос, силу нового на¬
чала, способного воззвать к Великому Острову, который бы
совершенно реализовал универсалистскую утопию, если
Европа в состоянии осмыслить в качестве общего этоса
конфликт различий во всей его рискованностью, то этот
вопрос найдет ответ далеко за пределами истории Шмитта,
выше участи современного государства, всех грандиозных
политических форм нашей традиции и той же формы рим¬
ского католицизма. Мы не знаем, куда идти, где Господь
повелит основать новые престолы. Тем не менее, контрудар
европейской истории уже нанесен.
V. ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНА1. Насилие и гармонияС порядком, которому видимым образом подчиняются
«видимые боги» вселенной, должны быть как-то согласны и
смертные, если бы каждый из них не жил в меру собствен¬
ного понимания. В чем ином может состоять бытие-в-
мире, если не в соединенном логосе всеобщего, что и со¬
гласуется с образом нашего Номоса? Однако логос не
утверждает односторонне, что все едино, скорее, говорит,
что единство случается, а случившееся единство становит¬
ся в согласную связь с Eris и Необходимостью. «Выслушав
речь не мою, а речь логоса, должно признать: мудрость - в
том, чтобы узнать все как единое» (Гераклит, ДК В 50, В 80).
Dike дана не иначе как Eris (необходимо знать ... kai diken
eriri). Когда единое увидено-услышано, то необходимым
образом оно проявляется как оспоренное различие. Не
было бы логоса, общего для всех, если бы не было логоса
несогласного, поскольку все делимо-неразделимо, рож-
дено-непорожденно, смертно-бессмертно. Все согласно в
несогласии с собой. Все есть единое всего, а единое как та¬
ковое есть совокупность всего. «Вот соединения: целое не¬
цело, согласное несогласно, гармоничное негармонично;
все сущее едино и из единого все сущее... враждебное
находится в согласии с собой: перевернутое соединение
как гармония лука и стрелы» (Гераклит, ДК В 10, В 50, В 51).
Гармония, конечно - это напряжение, но оно не исключает,
а предполагает музыкальный характер, ради чего и создает¬
ся напряжение. Быть-в-мире означает, следовательно, осоз¬
130ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАнанно вписаться в этот космический ритм, не созданный
никем из богов, согласно сопереживать его драме. Eris-Po-
lemos рождает, выводит на свет из единого многообразие
сущего, чтобы разрешить его затем снова в единое. Или,
точнее, единое, поскольку оно имеет имя Полемоса, выра¬
жает сущее в его несводимости, и Полемос как отец всех ве¬
щей все сущее разрешает в единство. Быть-в-мире означает
гармонизироваться, слиться в такой гармонии, которая ни¬
когда не была, не есть и не будет неподвижным состоянием,
ибо она есть конверсия единого во все и всего снова в еди¬
ное, т.е. palintropos. «Все, что видим наяву - смерть; все, что
во сне - сон; все, что по смерти - жизнь» (Гераклит, 21).
«Неподвижное бытие... остается в том же состоянии, ибо
неодолимая Ананке держит его связанным в границах и, за¬
пирая, объемлет» (Парменид, В 6,9).Есть ли другая идея мира, отличная от так понимаемой
гармонии? Что для нас мир, если не направленность частей
друг к другу, что, наконец, очнулись ото сна, не понимая, на
какой они дороге (Парменид, В 1,7), apeirot, что признают
общее, Хупоп, изначальную Сит?. Значит, общее есть то, что
объединяет эти части и без них осталось бы непостижи¬
мым? Гармония рождается посредством контраста - ek ton
diapheronton (Гераклит, В 8), путем различения частей. Все
сущее рождается для Eris, принимающей сущее в чистое
единство. Из спора частей исходят многие, чтобы из рас¬
при затем родиться вновь гармонии. Возврат к основному
моменту постоянен: если мир - это гармония, гармония -
движение, которым располагают Необходимость и Eris со¬
гласно необходимости распри. Неизбежно, чтобы возни¬
кали и отделялись дифференты, несхожее как таковое,
Надлежит быть, чтобы единство ради своего существова¬
ния объявило себя во всем разнообразии. Гармония есть
логос, присущий всем частям и всем моментам этого двига¬
тельного процесса. В движении по сути ничто не стоит,
НАСИЛИЕ И ГАРМОНИЯничего даже нет, если не связано с другим, нет ничего в
покое - и только логос понимает, как соединить противо¬
положности, логос собирает частички и создает из них гар¬
монию. Таковы два смысла этого термина: гармония есть
удачная связь частей, но она же и закон, Число, определяю¬
щее связь. Это определенная диспозиция частей, элемен¬
тов, но вместе они - идея, дающая форму, Порядок, на ос¬
нове которого идея родилась. Это гармония, которая
выступает как порожденная связью дифферентов, непохо¬
жего. Это безмолвная гармония (aphanes), как таковая она
избегает света (не то что скрытая, ибо скрытое, потаенное
детерминировано точно так же, как показное, не то что
невидимое, ибо логос ее видит, а потому узнает). Молчали¬
вая гармония неуловима, а потому не подлежит присвое¬
нию. Гармония - наипрекраснейшая (Гераклит, В 8), краси¬
ва как результат связи, следовательно, максимально
выражена. Гармония удалена, непроявлена в качестве За¬
кона самой связи, потому kreitton во всех смыслах сильнее
другой (Гераклит, В 54).Именно в связи двух этих гармоний Европа осмысли¬
вала мир. G одной стороны, она не могла осознать себя без
идеи изначальной общности всего сущего. Если изна¬
чальным было бы различие, смог бы определить себя гар¬
монический порядок иначе как чистый случай? С другой
стороны, если гармония - продукт распри многих, то из
распри рождается эта связь как видимая гармония, образо¬
ванная из разных элементов. Видимая гармония совпадает
с направлением, смыслом распри. Eris поначалу порождает
различное в едином, ибо он не терпит простого недиффе¬
ренцированного единства. Затем он выделяет разнообраз¬
ное, конституирует все как реально непохожее, ставит одно
против другого. Не может быть никакой гармонии без этой
оппозиции, никакое согласие не родится иначе как в кон¬
трасте. Однако Eris творит и противопоставляет различия,
132ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАчтобы вынудить к связи. Eris важен как на этапе создания
различий, так и для их разрешения, ибо без борьбы разли¬
чий, пребывающих как различия, без распри в полемосе,
толкающем их в Сит, никогда не бывает никакой гармо¬
нии. Целостное единство есть упорядоченное свыше без¬
молвной Гармонией движение. Целостный ритм есть образ
Dike. Нельзя говорить о двух измерениях, подлежащих со¬
гласованию, закон их гармонии должен быть более мощ¬
ным, что отсылает к бесконечности. Непроявленная гармо¬
ния есть то, что всем управляет, одно есть день-ночь,
зима-лето, война-мир, сытость-голод. Имманентна та гар¬
мония, которая в один и тот же момент разделяет-гар-
монизирует. Мы видим эти соединения и улавливаем эти
диссонансы благодаря факту, что они всегда означают Гар-
монию-в-появлении в качестве неявной. Они показывают,
как эта определенная гармония не та еще Гармония, но в то
же время в них акцентирована сила Гармонии, благодаря
которой происходит все движение.В трагической мысли Гераклита нет Гармонии, аб¬
страктным образом отделенной от Полемоса и Eris. Конеч¬
но, гармония kreitton nc есть результат связи, более или ме¬
нее определенной, поэтому ее нет в покое где-то в
гиперурании. Скорее, это неуловимая щша,psyche слишком
глубоких путей, распри, молнии, которая всем правит. Ко¬
нечно, будучи в логосе, мы знаем, что различия не имеют
веса, если взяты напрямую, они важны как прото-агонисты
самой гармонии, что различные элементы суть элементы
самой гармонии, однако гармония, как мы видели, есть не
что иное, как смысл распри. Eris никогда не убудет так же,
как никогда не скроется Гармония. Только посредством рас¬
при мы признаем и узнаем гармонию, от просто гармо¬
нии- Гармонию. Архетип катарсиса^ страдая, научаемся
ценить. h
НАСИЛИЕ И ГАРМОНИЯЕсли гармония была бы сведена к продукту связи, воз¬
ник бы артефакт и все. Изначально множество для согласо¬
вания. Единство противоположностей есть изначально не-
проявленная Гармония, здесь же внизу мы видим только
отличия и их связи. Однако в силу логоса мы должны при¬
знать, что различаться и увязываться - один путь, другими
словами, Eris, действующий по Необходимости. Эту Гармо¬
нию мы должны видеть и понимать яснее, чем что бы то ни
было другое. Она не отрицает распрю, оппозицию, но вы¬
ступает как необходимость, пока не определится в виде свя¬
зи. Она отрицает, что дистинкции должны «страдать» от
абсолютной разделенности. Такое «зло» просто невозмож¬
но.Гармония не терпит непосредственного раскола. Имен¬
но Eris, распря, словно молния, поражает любого, претен¬
дующего встать на линии раскола. Развязывая войну, Eris
вынуждает к связи с другим. Так возникает гармония, ибо
над всем господствует Гармония. Она не позволяет ничему
из сущего оставаться в a-dikia, т.е. вне космической связи.
Как не уловить радикальную связь между первой мыслью
Запада в лице Анаксимандра и Гераклита? Мир для нас есть
не что иное, как способность соединяться, не допускающая
разъединения, которая и объявляет войну любой d~dikia.
Мир есть гармония, вооруженная против любого раскола
на основе Первоначала, невыраженного, тем не менее, наи¬
сильнейшего, изначального единства противоположнос¬
тей, что и есть Гармония. Любой, кто отказывается от
разрешения в Гармонии, объявляет себя вне Dike как зло.
Однако невозможно, чтобы это зло продолжалось, ибо не¬
возможно, чтобы это сущее было сильнее, чем Dike. Распря
подтверждает это и ведет к соединению. Однако необхо¬
димо также, чтобы различное при первом появлении про¬
сто проявляло бы себя как таковое, чтобы через распрю как
134ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНА«наказание» оно пришло бы к единству всеобщего. Следова¬
тельно, Гармония несет в себе тот же раскол, который по
праву не терпит. На основе такой идеи мир нельзя мыслить
как просто надуманное соглашение или как конец конфли¬
кта. Нет гармонии, если только не в конфликте с прямым
проявлением инаковости. У Филолая, в пифагореизме (да и
в «Тимее» Платона) гармония показана как metaxy, по-
настоящему средний элемент, без которого нет никакого
космоса. Гармония выглядит как нечто составленное, как
космос, образованный из бесчисленных и исчисляемых
элементов (Филолай, В 2). Есть непохожие элементы, но
как таковые они не могли бы и проявиться, а появляются
именно в силу третьего, гармонизирующего начала (Фило¬
лай, В 6). У Платона в «Тимее» ameres без частей, держится
апейроном у Филолая, в то время как meriston, составное,
делимое остается благодаря peras, пределу, ограничителю.
Великая гармония - это музыкальный космос, спасенный,
освобожденный как целостный. Из него любое нерацио¬
нальное число изгоняется - словно эпос или трагедия из
полиса. Но ведь со всем этим и Распря изгнана насовсем.
Гармония, логос которой установлен совершенным обра¬
зом, устанавливает отношение между несхожими согласно
совершенному и неизменному числу. Но ведь и гармония
не выступает более, как у Гераклита, имманентной тому же
отличному, т.е. как движение инакового, движимого со¬
гласно необходимости к связанности. Гармония выступает
числом-логосом в себе пребывающим, посредником, де¬
лающим определенно диалектическими различия-несов-
падения, не принадлежащими к своей серии.л Позиция пифагорейцев и Платона критически отно¬
сится к Гераклитовой позиции. Если гармония не есть
число-логос, что без фальши и апории (Филолай, ДК В 11)
увязывает непохожее, а есть рамо движение, в котором рас¬
крывается единство противоположностей - в том смысле,
НАСИЛИЕ И ГАРМОНИЯчто казавшееся противоположным разрешается в собст¬
венную распрю с другим, в связи с другим, в хупоп - тогда
мысль упирается в некое неодолимое препятствие: понять
каждый элемент как схожий-непохожий, как себя самого и
иного, отличного от себя. Не от этого ли пути пытался уда¬
литься Парменид? Однако в мысли Парменида (Филолай,
ДК В 6) возвращается именно Гераклитов термин для
опеределения гармонии - palintropos. Но здесь указан путь
всех вещей, что подразумевается под akrita phyla, безголо-
вость путаников, не знающих, чего хотят, «двутоловых», для
которых «быть и не быть - то же и не то же». Palintropos -
это путь ошибающегося разума, который тянет свою нить
от одного к другим и вновь дает однрму, что из диссонанса
творит гармонию, которая вновь вырождается в распрю.
Palintropos - перекресток двух дорог, которые Парменид
жестко разделяет, хотя и верно, что обе необходимо знать
(ДК В 8,53, В 1,30).Гармония по необходимости отсылает к идее связи и
композиции. То же и с безмолвной Гармонией, поскольку
она есть не что иное, как Закон гармонической связи не¬
похожего, невидимое единство всех противоположностей.
Еще более выразительна в этом смысле позиция пифагоре¬
изма: гармонична космическая душа как сложно образо¬
ванная, даже сама гармония выступает почти как элемент
композиции, пусть самый важный. Однако бытие Пармени¬
да не есть гармония в любом смысле, ибо оно не имеет со¬
става. Бытие связано только с бытием. Из бытия не может
родиться ничего, кроме бытия: ни делимого (diaireton), ибо
все равно себе, без частей; неподвижное в рамках налич¬
ных связей не знает ни начала, ни конца, ни рождения, ни
гибели; оно всегда равно себе, покоится в себе, ни в чем не
нуждается, совершенно и заполнено. Обманчив только кос¬
мос слов: он устанавливает, кому родиться и умереть, быть и
не быть, перемены и мутации, т.е. определяет порядок всех
136ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАвещей, чьи различия спорят между собой и снова связыва¬
ются. Космос - слово пифагорейское - гармония твори¬
мых Гармонией различий. Парменид использует его как
указание на обманчивый порядок имен смертных и космо¬
са, того космоса, который в их именах раскрывается.Поиск гармонии вынуждает, следовательно, к порядку
явленного, контраста и становления. Он должен принять
различие как реальность, допустить перемены и мутации.
Это союз и распря; война и мир; единство соединенного и
множество непохожего. В гармонии необходимо мыслить
вместе с тем, кто против. Однако этот порядок и космос не
будет зачеркнут со стороны теории сердца, которое не
дрогнет от округлой Aletheia. Более того, как таковая, сво¬
бодная от обмана, истина указывает, кто все во всех смыс¬
лах способен исследовать. То, о чем думают смертные, при¬
знано именно в своей абсолютной отделенности от pistos
logos, удобного дискурса, неопровергаемого дискурса, оно
и состоит в признании бытия в качестве связи различий, а
космоса - различных видимостей. Такое бытие должно
преобразовываться, рождаться, исчезать. Если гармония
есть связь элементов, или то, как Закон подразумевает все¬
гда связь в различии, то, что никогда не отделимо от движе¬
ния, посредством которого дана сама космическая связь,
бытие не сможет назвать себя совершенным, законченным,
неподвижным, бессмертным. К подобным следствиям тол¬
кает «заблуждающийся ум» смертных, следующих по пути
palintropos, а не Убеждения, Peitho. С другой стороны, по¬
следний путь совершенно чужд людям (Парменид, ДК В
1,27), любящим обман как таковой. Их жизнь приукрашена
верой, что два пути могут соединяться, что бытие может
стать гармоничным, что бытие можно даже называть име¬
нем смерти.
НАСИЛИЕ И ГАРМОНИЯМожно ли на фоне такого ужасного Парменидова дис¬
курса понять сомнения и неуверенность Платона, когда он
бьется над идеей гармонии? После Парменида, даже сохра¬
нив пифагорейские термины, например, смешение, krasis,
согласно определенным метрам, различных элементов, а
Гармонии - henosos, в терминах symphronesis разных мыс¬
лей (Филолай, ДК В 10), - нельзя уже приписать прежнюю
стабильность, безоблачную «счастливость». То, что на деле
божественно и бессмертно, не может быть просто в гармо¬
нии. Megiste mousike, самая величавая музыка, исполняемая
Сократом в «Федоне» (замечательный аккорд из расследо¬
вания и мифологии, diaskopein mythologein (Федон, 61 е 1-
2), когда души поют, готовясь к смерти, обращаются не к
гармонии, а к божественному и бессмертному. Душа ведь
разрешается не в связь различий, элементов, способностей,
гармонии нет до элементов, ее составляющих, необходимо,
чтобы душа предсуществовала, ибо узнать - это вспомнить.
Если бы душа была гармонией, то как быть, если струны, ее
рождающие, вдруг лопнут? Гармония - это состав и как
таковой ее нельзя назвать бессмертной. Только в качестве
участвующей в простом неделимом Благе душа никогда не
удержит в себе противоположного тому, что всегда носит в
себе (105 d 10), поэтому она везде несет начало жизни и
никогда - смерти. О том, что бессмертно, нельзя думать в
духе гармонии, что это жизнь и смерть, схожее и непохо¬
жее, день-ночь, сытость-голод.Однако будучи по природе гегемоном, бессмертная
душа воюет на земле со страстями, аффектами, желаниями,
она не свободна от земного, как от тюрьмы, т.е. она - в
стазисе. Только после смерти, на своей земле, предстанет
она в чистой простоте. Как можно управлять конфликтом
иначе чем посредством гармонических ритмов? Путь
гармонии вновь возвращается, как установлено Демиургом,
который призван как раз к тому, чтобы увязать смертных с
ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАбессмертным началом, сотворить смешение, а все, что свя¬
зано, не подлежит распаду, так же, как и боги (Платон,
Тимей, 41 а-b). Только по воле Демиурга, подражающего
Благу, нельзя желать, чтобы нечто, хорошо связанное, рас¬
палось, ведь связь гарантирует их бессмертие. Не следует ли
вспомнить в этой связи, что и у Парменида все это только
во власти Богини, что kouros должен быть инициирован,
посвящен в познание любого сущего? То, что превышает
гармонию, techne связи, может ли быть понято иначе как
божий дар? Следовательно, длинный путь, кажется, ведет к
концу. Мир совершенно совпадает с неявленной гармони¬
ей, он остается на упругом сердце алетейи. Радость встреча¬
ется только на пути Убеждения, мир - истинная жизнь
души на земле обетованной. Только гармонизирующий
агон никак не может быть миром. Все же на земле нет иного
способа мыслить мир иначе, как композицию элементов,
склонных к распри, которую душа стремится усмирить и
гармонизировать. Такой мир как связь дистинкций — по
своей природе конечен. Этот мир таит в себе то, что в
принципе его отрицает. Так же и распря бытует только в
виду своего конца, гармоничного разрешения. Мир и рас¬
пря вновь становятся выражением того же логоса - общего
для них обоих. Смертные о двух головах не умеют решаться
и решать. Могут ли они отделиться, отрешиться от сложной
гармонии мира и вражды, пути Убеждения, чистой жизни,
гегемонии бессмертной души? - Возможно, смогут, если
Dike и Themis им помогут. Но и так совсем не проще стано¬
вится жизнь по-настоящему бессмертная в убеждении, по¬
скольку к ней люди так и так приходят путем раскола, обо¬
собления, втянутые на путь агона, в тяжелейшую войну, без
которой нет гармонии. Следовательно, следует продолжать
изучать жизнь-не-жизнь, abios bios, неустанный путь рас¬
пада и соединения, сохранять память скорее, чем беспамят¬
ство (Платон, Федр, 248 с), по вине которого падают вниз
ТЕРПИМОСТЬ И НЕТЕРПИМОСТЬотяжелевшие души. Palintropos harmonie, выходит - это дру¬
гое имя agon megistos, самой тяжелой и кровавой
вражды.2. Терпимость и нетерпимостьНетерпимым можно назвать то, что сопротивляется
связи, отказывается войти в состав, т.е. стать элементом
композиции. Гармония не терпит дистинкции в качестве
абсолютной, ибо такая дистинкция в себе таит возмож¬
ность разделения. Гармония не выносит различия, не несу¬
щего собственную истину как элемент связи. Только инди¬
вид в качестве обреченного быть включенным наделен
осмысленной тягой к прекрасной гармонии. Гармония есть
не что иное, как имя различных форм поступков. Каждая
форма созидания есть для Европы harmozein, harmottein.
Любой элемент действия есть harmos, узел соединения,
член композиции. Делать значит не оставлять, чтобы раз¬
личие выступало как таковое, априорно понять его как
часть, в функции спроектированного комплекса. Это не
значит переход к общему, тому, что отрицается в логосе,
ибо общее есть неразборчивое, вступающее в связь со всем
и всяким, его безобразность - в отсутствии формы. Как
неограниченное, бесформенное и неопределенное, оно,
следовательно, - зло. В то же время предикативность дейст¬
вительного существования этого зла в высшей степени со¬
мнительна. Может ли проявиться апейрон как безгранич¬
ное, если он не выходит навстречу с тем, что его
лимитирует? То, что проявляется, является как обладающее
формой, что вытекает из композиции конечного и беско¬
нечного. Итак, мы должны заключить, что не только это
структурированное сущее есть harmonikos, но таковой
140ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАдолжна быть всякая характеристика любого сущего просто
как сущего, что зла, не обладающего формой, просто нет. В
философии истории во многих вариантах теодицеи Запад
именно так пытался оправдать свою фундаментальную
концепцию поступка, как чистоту и праведность своих бо¬
гов.Война есть kakos - от истоков нашей paideia, начиная с
Гомера. Однако зло есть зло, если его рассматривать аб¬
страктным образом Когда насилие претендует присвоить
себе неограниченную силу, оно - зло. В каком-то смысле,
напротив, и сила есть harmonikos. Это праведная Eris
порождает рйздоры и вновь примиряет стороны. Поэтому
мир - конечная цель войны - если он обдуман как истин¬
ный мир,рш: profunda, не может быть понят как результат
крайне совершенной гармоний. Гармонии, способной по¬
родить некую неразрывную связь. Однако невозможно, как
мы видели, мыслить в духе бессмертной гармонии. Любой
состав по природе может быть перестроен, следовательно,
любая гармония несет в себе семена распада, а вместе с
ними и возможность новой гармонии. Как должны уйти в
тень различия действием гармонии, так и гармония должна
позаботиться о том, чтобы не уклониться от участи снова
впустить различия и разнородные связи. Любая гармония
должна соотнести себя с различием, хотящим сохранить
себя как таковое. Но важно так же сохраниться в согласии с
собой, собственной неустранимой претензией остаться
последней совершенной связью. Она будет бороться с тем,
что отказывается перейти в общее, но особенно против
hybris, угрозы убить красоту гармонии насилием - вечное
желание, вечная борьба. Не только Европа всегда искала ис¬
тинного мира, pax profunda как результата! радикальной
гармонизации различий в качестве продукта последнего
раскола. Она, кроме прочего, стремилась осознать разные
формы гармонии (формы мира, которые она пересекала),
ТЕРПИМОСТЬ И НЕТЕРПИМОСТЬсами по себе агонические, формы двойного и мучитель¬
ного перехода-переправы.Трудно опровергнуть доказательство, что тон созида¬
тельного действия Европы как harmozein состоит в факте,
что те же идеи терпимости, в которых большая часть евро¬
пейской пайдейи находит наивысшую ценность, в основа¬
нии не представляют ничего такого, что отличалось бы от
нетерпимости как абсолютным образом отличной от тер¬
пимости, что, собственно, воодушевляет все дни и творе¬
ния Гармонии. Так обстоит дело и с терпимостью, которую
можем назвать «сенильной»: терпимость того, кто потерял
любую веру в самого себя или в силу собственной гармо¬
нии, при этом скрывает сам факт утраты, отсутствия за всем
этим всеобщего космополитического стремления к миру и
совместному существованию. Тесно соседствует с этой
формой (эмблематически она представлена древней tem-
perantia Симмахом против «насилия» Амброзия, против но¬
вой, уверенной в себе гармонии), терпимость, которая не
столько агностическая или безразличная, сколько небреж¬
ная. Речь идет о забывчивости или о систематическом
торможении основных ценностей, которые разделяют
спорящих, а потому ведут к скверной имитации complexio
oppositorum, в рамках которой противоположности очи¬
щены именно от того, благодаря чему они стали таковыми.
Мир может быть подарен только путем отнятия силы, путем
сведения различий к общему meson, который в действи¬
тельности не принадлежит ни к одной из сторон или
принимает различия теми аспектами, которыми они не
различаются, следовательно, на самом деле, вовсе их не по¬
нимает и не принимает.Согласно этому пониманию различимость означает
всего лишь иллюзорную видимость, при этом терпимость
есть результат нетерпимости в отношении самих различий.
142• ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАЕще более очевидными становятся орудия гармонии в фор¬
мах терпимости, характерные для Aufklarung (раскрытия).
Они основаны на произвольном предпонимании вокруг
высшей очевидности собственного содействия, другие
культуры только терпят в качестве инфантильных, пуская
их по кругам единственной контролируемой, верифици¬
руемой, продуктивной формы языка, которая соответ¬
ствует дискурсивному типу культуры. Терпите, но и вос¬
питывайте. Ведь и здесь терпимость есть не что иное, как
момент, точно определенный в сложной гармонии для дос¬
тижимого будущего.Никакая форма терпимости не потерпит опасности
преобразоваться в спорное отношение с другим, никакая
форма не допустит, что кто-то извне опрокидывает ис¬
тины, на которых она покоится. Все это по той простой
причине, что можно терпеть лишь то, что по-настоящему
не уважают (см. Розмини Антонио, Фрагменты по истории
бесчестия, 1934). Терпимость объяснима только как дейст¬
вие воли, допускающей то, основание чего ни в коей мере
не может устраивать. Однако акт воли, не основанный ни
на каком резоне, произволен. И тень чистого произвола
простирается над самой чистой идеей терпимости. Истину
ни в коей мере не терпят- она сама убеждает. Если
появление этой особой позиции вызывает иную терпи¬
мость, это означает, что позиция чужда пути Убеждения. Так
можем ли мы терпеливо преодолеть то, что кажется непра¬
вильным? Можно ли терпеть и не пытаться приспособить
иное к нашему образу истинного, на чем зиждется наша
терпимость? На самом ли деле необходимо, чтобы терпи¬
мость одолевала сама себя, поскольку только ее осмыслили,
как уже необходимо думать о согласии различий, основан¬
ном на общем логосе (ведь тот, кто считает себя терпимым,
должен предполагать, что все в его власти)? Следовательно,
не только идея терпимости во всех формах не есть вер¬
ТЕРПИМОСТЬ И НЕТЕРПИМОСТЬшина нетерпимости гармонии, но само гармоническое
действо делает еще более очевидным конечный характер
мировой связи, обещающей спор-распрю, при этом по¬
следняя схизма изнутри грозит распадом. Такова апория,
господствующая во всей традиции гуманизма deрасеfidei. В
этом случае, конечно, согласие не трактуется в «сенильных»
терминах, в духе небрежности, не затем, чтобы ослабить
индифферентные моменты различий. Все происходит
именно внутри доказательства, что все различия разреша¬
ются в единый логос, точнее, в Логос, совершенным обра¬
зом реализованный как истинный {nativitasperfecta). Тер¬
пимость становится средством, используя которое можно
эффективнее воспитывать тех, кто еще игнорирует Собы¬
тие. «Oratio» Пико делла Мирандола - непревзойденный
пример подобной идеи мира. Развивая то, что в других тра¬
дициях остается неосознаваемым, он использует возмож¬
ность привести все к связке Сит. Признать, что христиан¬
ское событие образуется из того же источника, значит,
признать его и открыть собственную истину. Гегелевское
доказательство христианства как «совершенной религии»
основано на тех же диалектических предпосылках. Итак,
стоит только идее терпимости попасть в необходимую це¬
почку, как она вновь оказывается в том же гармоническом
согласии.Какие же пути еще надобно испытывать? Разве мы мо¬
жем мыслить мир вне идеи гармонии и связи? Но именно
такова попытка, рожденная в основании идеи терпимости.
Можно до бесконечности ослаблять эту идею, даже не пы¬
таться преодолеть ее апории. Даже если терпимость сво¬
дится для нас к неясному ощущению схожести интересов,
эклектической симпатии к иному, все же нельзя понять
терпимость только в отношении того, что никоим образом
не содержит выражение истины. Мир невычленим из Гар¬
монии, разве что саму Гармонию сделать измерением, ча¬
144ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАстью, толкнуть ее по необходимости в спор с тропами раз¬
личных мнений. Проблема, выдвигающая эту идею, не
представляется поэтому иллюзорной. Необходимо обду¬
мывать то, что в споре на самом деле и по сути делает
различия в споре общими, а не похожими на что-то вроде
того. Следует осмыслить дистинкцию как абсолютное раз¬
личие, с потенциальной связью, а не как нечто обреченное
на увязывание (поскольку именно гармония работала бы
как нетерпимость для различения, а не как связь дистинк-
ций). В то же время, абсолютное различие нельзя мыслить
как отрицание связи - и не только по логически очевидной
причине, что различать означает поставить-в-отношение
(что совершенным и отличимым образом включает в себя
самую совершенную связь). Причина в том, что отличие в
качестве абсолютного, а не случайного, подразумевает не¬
обходимость того, от чего оно себя отделяет. Как абсолют¬
ное различие необходимым образом связано с тем, от чего
оно отличается. Совершенство различения включает как
то, к чему по существу относится различие, как и то, от чего
оно отличается. Никогда различие не могло и не сможет
существовать иначе, как только вместе с тем, от чего отли¬
чается. В Сит, Хупоп различие получено от той же «kratera
Ananke», которая его индивидуализировала.Именно в основании различения раскрывается самая
глубокая связь. В сердцевине дистинкции таится и возмож¬
ность отделения. Либо различие испаряется как гармония в
потенции; как движение-становление той же гармонии,
либо оно заявляет себя как возможность связываться и
разделяться. Мы видели, что абсолютное различие мысли¬
мо только как необходимое отношение дистинкций. Нуж¬
но ли теперь заключить, что именно это другое, абсолютно
отличное, которое отделяется, покидает, перевертывает
связь, и есть нечто максимальным образом характерное?
Эта сингулярность в самом деле дана вместе с другим, от
ТЕРПИМОСТЬ И НЕТЕРПИМОСТЬкоторого отличается? И не от успокоенного своим разли¬
чием другого, скорее, того другого, который убегая, нас¬
тигнут в момент решительного ухода-расставания? В про¬
тивном случае, есть ли абсолютно данное различие?
Фиксированное в определенном месте различие, согласно
данной мере, есть априорный элемент и функция некоей
гармоничной композиции, часть космоса, но не сингуляр¬
ность. Напротив, мы ищем здесь форму связи, которая есть
не что иное, как производная от абсолютной дистинкции
связь. Значит, следует думать, что необходимо и непреодо¬
лимо именно отношение, наступающее с тем, что всегда
убегает или всегда может убежать посредством этого
отношения, с тем, что никогда не может обезопасить само
это отношение. С этим по-настоящему абсолютным разли¬
чием (т.е. свободным от любой необходимой связи) я нахо¬
жусь в связи, не поддающейся абсолютизации и распутыва¬
нию - именно с этим различием, которое меня покидает,
которого мне не достает, которым я никогда не распола¬
гаю, которое никогда не смогу просчитать в числе некото¬
рой гармонии, априорной его событийности.Что же такое в собственном смысле Общее, Хупоп, если
не отличимое? Чем любое сущее может быть сходно, как не
своей непохожестью? Различие по существу действительно
значимо, когда грозит возможность отделения? Значит,
связь и в самом деле сильна, если связует абсолютно раз¬
личное, т.е. то, что может отделиться - когда уход обознача¬
ет крайнюю близость, а экстремальное сближение сохра¬
нено и спасено именно возможностью отделения. В
комплексе суммарное движение раскрывает себя в соответ¬
ствии с этими временами: признать, что связка Сит не есть
посредник гармонии - meson, не есть общий деноминатор,
не элемент или в себе определенный образ, Сит - это само
различение; признать, что различия, данные абсолютными,
относятся один к другому, что одно нуждается в другом по
ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАсвоей истине, именно затем, чтобы быть абсолютно раз¬
личными; признать, что так понятые различия должны ос¬
таваться в таком отношении вплоть до возможности их
разделения, что даже при их убывании в качестве различий
до крайнего предела взаимосвязь придает во всем форму
их отношениям. Не гармония, не априорная связь, не кос¬
мический Закон принуждает, притягивает их друг к другу
(что означало бы аннулировать качество различий, невы¬
носимость реальной непохожести). Существа связываются
именно ради проявления их разницы, хотя сама разница
развязывает переход к чистому разделению. Два существа
абсолютно различные вступают в связь, ибо одному не хва¬
тает истины другого, и в этой нехватке другого заключено
то, что их ставит рядом. Их связь существует в силу того, что
всегда отсутствует. Они различны, ибо само появление
невозможно без другого, так происходит, когда нечто ухо-
дит-сбегает. В этом отношении и ради такого риска можно
осмысливать связь, которая никогда не будет четко данной
структурой, определенной системой, тем не менее будет су¬
ществовать именно в форме дистинкции, т.е. в форме от¬
сутствующей связи.3. Проект мираКогда максимально возрастет опасность, что различие
проявится как насильственная контрпозиция, против кото¬
рой сможет выступить только насильственная гармония,
тогда, возможно, Европа усиленно начнет пытаться осмыс¬
лить истину другого как непреодолимую и образованную
различием за пределами идеи гармонии и терпимости. Эта
Европа почти потаенная и молчаливая - тем не менее в
сплетении с господствующими Гармонией и Распрей -
ПРОЕКТ МИРАотмечена на страницах «Deрасеfidei» Кузанского, с голосом
которого перекликаются голоса Абеляра и Иегуды Галеви,
Ибн Араби и Раймонда Луллия.Множество «поп potest esse sine multa diversitate» (не мо¬
жет быть без большого многообразия), однако различие
может быть и источником невежства, когда каждая сторона
настаивает на своей истине в качестве основы любой воз¬
можной гармонии. Ради своей истины каждая сторона спо¬
рит с другой: «propter te enim... esthaec aemulatio». Можно ли
избежать борьбы, сведя истину к множеству оценок? Для
этого необходимо вынудить любое утверждение признать
себя идолопоклонническим суеверием. Но, хотя бы ради
желания иметь суждение, необходимо твердо придержи¬
ваться собственной позиции и вокруг нее создавать гармо¬
нию. Любая форма отрицания истины различия - а также
та, что внешним образом служит, чтобы избежать распри -
не только противоречива, но по своей сущности - это фор¬
ма насилия. Ибо во имя твое, Истина, люди бьются или вла¬
чат совершенно никчемное существование. Как следует
воспринимать себя, чтобы именно в тебе был мир? Ответ
Кузанского, в самом деле, далеко не прямолинеен. Это труд¬
ный подъем, требующий теологического проникновения и
логической мощи. Первые этапы подъема проходят тра¬
диционный мотив согласования веры вокруг Истины хри¬
стианства. Именно сила, с которой христианство делает яв¬
ной истину, доказывая, что человек есть сарах divini,
призвана убедить любого согласовать себя с Логосом-
Христом. Согласны ли все прочие с идеей, что Бог есть
Творец? Это подразумевает, что в Нем заключена вечная
связь, некое неслучайное взаимоотношение, что в Нем
абсолютное единство мыслится как совпадение или связь
противоположностей. Его единство есть равенство с самим
собой и включение всего многообразия, связь между един¬
ством и равенством и связь божественного единства-равен¬
148ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАства со всем сотворенным. Когда мусульмане и иудеи на
деле поймут, наконец, что Т]роица есть не простое множе¬
ство, но fecunditas simplicissima Единого, тогда от этого рас¬
суждения, ab isto intellectu, они не смогут отмахнуться.
Высочайшая утопия совершенной гармонической конст¬
рукции остается по плечу одному-единственному интел¬
лекту (включая определенные как «несобственные образы»
имен Отца, Сына и Духа).Христианская религия по праву называется perfectio
omnium religionum, существенным образом, благодаря до¬
казательной силе ее образов, характеру связи, гармонизую¬
щей ее имена. Совершенство христианской религии есть
не что иное, как совершенство ее тео-логии, созданной на
основании классики (по крайней мере, для неоплатоника
Кузанского). Логос Иоанна творит как великий Миротво¬
рец. Для Кузанского, великого предшественника идеализма,
христианская религия предстает неразрывно связанной с
теологической мыслью. Однако дискурсивная сила теоло¬
гии далека от представления ее разоблачительной силой,
несущей истину. Превосходство христианской религии не
в обладании истиной и не в раскрытии тайны, а именно в
осознании - посредством Логоса - ее непостижимости.
Это должно стать общим, ибо примиряет: знать, что ни
один образ истины не есть сама Истина, что ни одна онто-
теология не равна scientia dei, т.е. знанию самого Господа,
ибо неведомо, что есть Бог в себе и для себя, ведь наука
(даже самая рысшая) вынуждена оставаться в границах вза¬
имоотношений субъекта и объекта.Если Бог-Творец как триединый поддается дискурсив-
ному>раскрытию как бесконечный, на деле это значит, что
ни одно, ни три, ни любое из имен, которые могут быть
даны, не исчерпывают его сути. Имена, приписываемые
Творцу, заимствованы из мира сотворенного. Сам же Он не¬
ПРОЕКТ МИРАизъясним и выше всего, что поддается описанию. Все имена
ангелов и Бога, используемые человеком, страдают неопре¬
деленностью - как описать вечность словом, которое само
по себе несет темпоральные характеристики? Теолог знает*,
все, что известно, не есть Бог, никаким именем его не
определить, даже словом «ничто». Тем не менее, имена и об¬
разы следует принять, и не только в силу наших тварных
границ, но и потому, что, видя видимое и выражая вырази¬
мое, я вижу, что никто не видит Творца и могу сказать, что
никто не говорит, как Он. Только видя и представляя, могу
сказать, что бесконечное недоступно, следовательно, начи¬
наю видеть, как Невыразимое super-exaltatum.Все согласны в признаний: то, что может быть выраже¬
но, не выражает невыразимого (Defiliation# Dei, 73). Имена
и термины, используемые всеми для выражения несказан¬
ного, - всего лишь гипотезы, проекты. Все образы и все
догмы различных конфессий суть гипотезы. Ни одна не
раскрывает невыразимое. Но не в силу немощи или ничто¬
жества - у невыразимого нет имени. Следовательно, гипо¬
теза, проект верен сам по себе, поскольку означает непо¬
нимание непостижимого. Нельзя отчаиваться в попытках,
считая все тщетным. Гипотеза есть подлинное раскрытие
того, что никоим образом не может быть раскрыто. Это
форма, в которой мы познаем неизреченность неопреде¬
ленного. Теории* догмы различных; конфессий суть следы,
оставляемые нами в процессе приближения к неизречен¬
ной Истине. Не иллюзии, не пустая кажимость, а подлин¬
ные следы неустанного трудного поиска по раскрытию.
Гипотеза показывает недосягаемое в формах подхода к
нему. Различия могут быть cum, sym-patheia, страждущие в
одной науке (которая всегда гипотетична) по отсутствию
того, что непредставляемо. Недосягаемое не есть абсолют¬
но Другое. Абсолютно Другое, раскрывающее себя в от¬
личном от себя, и есть гипотеза. Проект, разумеется, отли¬
/50ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАчен от Истины, но в его инаковости есть знак, указующий на
непохожесть Истины. В едином, означающем сферу сущего,
гипотеза означает невозможность определить Недоступ¬
ное. Дискурсивная пропозиция означает само необозначае-
мое. Если бы истина без остатка могла быть представлена в
именах, она была бы сущим или отношением сущего. Если
она была бы погребена в абсолютной пропасти молчания,
ее можно было бы определить как то, что абстрактно про¬
тивостоит логосу. Однако истина есть непостижимое, кото¬
рое раскрывает себя в гипотезах. Так звучит ее имя - потеп
propinquius.Гйпотезы - различные дистинкции. Одна гипотеза не
имеет никакого смысла. Есть одна Божественная наука, но
для нас недостижима. Множество гипотез - это един¬
ственная форма ее раскрытия. Ни один проект не может
претендовать на создание Имени, Формы, в противном слу¬
чае, это претензия знать Бога. Однако любая гипотеза
должна искать и признавать следы, оставленные другой
гипотезой в ее попытке проявить себя. Проект существует в
той мере, в какой существуют и другие, отличные от него.
Быть отличной, радикально удерживать истину собственн¬
ой непохожести, но и желать, чтобы и другие хранили свою
непохожесть. Настоящая гипотеза не может допустить
смешения и согласования под себя различий: она различа¬
ет их и вместе с тем никогда не одна. Не ищет компромис¬
сов, пактов, посредников, гармоний. Не ищет ничего, что в
собственном смысле ничего, кроме собственного со¬
вершенного различия. Тот же поиск приведет к признанию
необходимости всех иных имен и других гипотез. Только в
отражении другой, осознавая собственную гипотезу как
гипотезу, в ее несовпадении с иной я знаю, что без нее дру¬
гая не смогла бы существовать.
ПРОЕКТ МИРАНи одна гипотеза не есть Истина, однако Дух может,
если захочет, наполнить ее душой и трепетом. Я не знаю,
куда дует сильнее именно потому, что Дух дует туда, куда
захочет. Ни одна гипотеза, имя, письмо не могут направить
его, так же как ни в каком месте его так не почитают, как в
основании-не-основе endon anthropos, внутреннего чело¬
века. Однако внутренний человек - это совершенная и
невыразимая сингулярность именно конкретного челове¬
ка. Следовательно, только обращаясь к совершенной сингу¬
лярности, человеку как единственному мы найдем нечто
общее для всех имен и всех поминаний. Наши догадки со¬
стоят именно из такой неуловимой уникальности. Они
родственны своей недосягаемостью, это воодушевляет ис¬
ход, что делает все различным, ради заботы, сохраняющей
непохожесть, ради cantos, которую любая догадка может
выразить в отношении к другой. Любовь не есть вообще
чувство, cantos - это любовь к другому просто как таковому,
совершенно непохожему, ибо как иной он дает форму и
выражение любой гипотезе и предположению.Наши языки намекают на некую общую родину - недо¬
сягаемую, впрочем. И представляют ее в облике истины как
таковой. Они формируют некую общину - общину отсут¬
ствия. Общину абсолютных различий, которые именно во
множестве их имен видят след или фрагменты общей ро¬
дины, а в любой попытке смешения или слияния - ее отри¬
цание, более того, верх идолопоклонства: желание обла¬
дать образом недосягаемого. В «Книге о язычнике и трех
мудрецах» доктор Иллюминатус нашел сильную метафору
этой идеи: три мудреца долго спорили о своих теориях (до¬
гадках) с силой и убеждением, на какие только были спо¬
собны. Тогда язычник сделал выбор в пользу Закона, кото¬
рый благостью Божией и сказанных слов кажется
истинным. Однако случилось непредвиденное: ни один из
ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАтрех мудрецов не мог решить, какой из законов язычник
выбрал себе по сердцу. Не желают знать, отвергают попыт¬
ку верить, признать побежденным. Того, кто поверил бы,
что достиг и обладает Истиной, не интересовали бы боль¬
ше исследования. Скандальным замешательством окончен
диалог. Только три мудреца довольны тем, что есть еще о
чем поспорить, пытаться понять - единственный способ
любить и почитать Бога. Никто не попытался ослабить
свою теорию, приспособить, но, в конце концов, появилась
истина как верная догадка, как разрешающее знание. С
любовью прощаются, каждый просит прощения у другого,
если обидел чем-то чужой закон, и ему прощается. Однако
решают встретиться вновь, чтобы сразиться силой разума
без пустой терпимости, безразличия, презрения. Решают,
что диалог проследует вперед по мере открытости, что он
никогда не иссякнет. Ведь ищут не потому, что есть конец
поискам, а потому, что в процессе поиска растет любовь к
искомому.Сможет ли Европа стать местом вечного вопрошания?
Inquisitio в Европе всегда было традицией, но может ли эта
страсть стать любовью к иному как в принципе непохо¬
жему? Сможет ли она осознать себя как община всего недо¬
сягаемого, нехватку чего она ощущает, несмотря ни на что,
раскрывает себя во множестве различных гипотез? Или это
вопрошание не значит ничего, кроме опыта Дантова Одис¬
сея, Коломбо Уитмена? Стало быть, правы, наконец, вели¬
кие поэты последней талассократии от Мельвилля до Ли
Мастерса, что это участь любой беспочвенной силы моря и
воздуха, забвения земли? Разве христианство предлагало
что-то иное, кроме радикального забвения ценности соб¬
ственных имен и догм, глубокого желания гармонии и ас¬
симиляции? Европейская интеллигентность - это контру¬
дар: она желает знать, однако умеет сжиться с тем, что знает
ПРОЕКТ МИРА153не все.25 Это разумность, желающая власти, но знает также
гетерогенез целей, свойственных любой воли к власти. Это
разумность, желающая любить, однако она знает также, что
невозможно обладать целиком тем, что поистине любишь.
Разумность эта желает что-то разрушить, однако знает, что
безумие, связанное с любой претензией разрушать, громит
все на своем пути. Никакого насилия, никакой воли к гар¬
монии не было в Европе. Своего демона она всегда во¬
прошала - куда грядем? Место ее никогда не располагалось
в сфере, границами очерченной. Ее центр выступал чем-то,
требующим усилий для нахождения. Нечто вроде догадки
об отсутствующей родине. Европа умела также оставаться
гипотезой, и в этом, возможно, был шанс некоей конвер¬
сии, не только бесконечно более радикальной, но также по
своей природе действительно отличной от проповедуемой
на догматико-религиозной или этико-политической ос¬
нове. Последние взывают к гармонии или терпимости, а
значит, не дают никакой конверсии относительно «сканда¬
ла» европейской истории, дают разве что форму последней
утопии.Европейский разум, кажется, овладел миром, однако ни
одна гипотеза не в состоянии держать его «в форме». Ка¬
жется, нет границ, которые нельзя не нарушить, следова¬
тельно, рушится любая определенная граница, а с ней
любая территориальная целостность. В конце концов, эле¬
менты распри могут раскрыться в собственной абсолют¬
ной нетипичное™ исследующего сострадания по Недося¬
гаемому, способному заставить открыться один другому, но
без отрыва от истины собственных гипотез, без того, чтобы25 Ограничусь цитированием моих очерков, написанных после публикации
этой книги, где тема Европа или христианство в центре внимания. Кач¬
чари М., «Философия и теология» в сб.: «Философия», т.2, Турин, 1995,
Каччари М., «Европа или Христианство» в сб.: «После 2000 лет христи¬
анства», Милан, 2000.
ОТСУТСТВУЮЩАЯ РОДИНАисход вылился в Stimmung, в чувство беспочвенности и
покинутости. Ради этого нового начала необходимо, чтобы
контрудар означал бы и закат Европы. Запад на самом деле
завершает свою историю, когда ставит под вопрос собст¬
венную западность. Того и следует желать: западность евро¬
пейской истории. Вместе с тем, вспоминая, решает, что
только такой и будет она сама. Ведь едва только европей¬
ский разум достигает собственного центра, неизбежен
контрудар против нее самой. Европейский разум таит в
себе как наибольшую опасность перспективу заката. Наи¬
высшая из воображаемых форма раскола - это борьба про¬
тив себя, борьба против филопсихии, своей души. Воз¬
можно, это самая глубокая связь между классическим
наследием и христианством. Ненавидеть самих себя - свою
волю к самосохранению, выживанию, свою устойчивость к
призывам со стороны, абсолютной дистинкции, сингуляр¬
ности. Если затеять войну против себя, чтобы не пощадить
и себя, вынудить к любым препятствиям и вопросам, не ук¬
рыться ни от какой ответственности (соответствовать лю¬
бой проблеме); если оставаться бдительным в самих себе и
против себя самих, а не против других; если сможем проти¬
востоять даже «здоровому эгоизму», тогда, разумеется, не
останется энергии нападать на внешнего врага. В наиболее
драматические моменты Европа не представляла себе ино¬
го мира, как на вершине этой внутренней войны, разруше¬
ния в нас любой защиты* укрытия, утешения. Сын Божий,
переживая бурю сердцем, плакал, был грустен вплоть до
самой смерти, и тогда, когда призывал любовь в за¬
вершение всех законов. Нигде не находит места мысль о
мире (иной, чем гармония, терпимость, чистое согласие),
разве что в ненависти против филопсихии. jЭта мысль принадлежит Европе, свой заблуждающийся"Nразум она сопровождала туда, куда вел ее демон. Мы долж¬
ны надеяться, что разум не покинет ее и тогда, когда Европа
ПРОЕКТ МИРАпризнает суть своей западности, пока она не начнет созда¬
вать утопию: абсурдное не-место, где самое насильственн¬
ое выражение воли к власти начнет борьбу с собой, высту¬
пит как noluntas. И от этого внутреннего стазиса начнет
восхождение к ясному видению различия, восхищению
уникальностью любой формы. Тогда Европа предстанет не¬
вестой Зевса, давшего имя половине мира, Европа, никогда
не перестававшая плакать и заставлять плакать (Гораций,
Оды, III, 27, 73-76). Как Запад, закруглясь в себе, только в
этой форме, она сможет даровать своим будущим встреч¬
ным путникам утро, «такое чистое, светящееся, преобра¬
женное и спокойное», описанием которого заканчивается
первая книга «Человеческое, слишком человеческое»
Ницще, что смешивается в разуме с часом прощания трех
мудрецов Яуллия у ворот города, куда все вместе направля¬
ются.
эпилогМожем ли мы теперь приписать имя Grundstimmung
(нечто вроде божественного следа) трем мудрецам и про¬
столюдину? Найдем ли иное имя, кроме Verhalteriheifi Оно
указывает на смысл слова «отсрочка»; более того, на некое
промедление, которое оказывает сопротивление отвлекаю¬
щим силам, следовательно, на некий вид размышляющего
сопротивления. Однако Verhalten есть также поведение, по¬
ступок - этос. Для трех мудрецов и простолюдина, стало
быть, Verhalteriheist не составляет некую случайную опору,
чистое противостояние, оно - основа самого себя. Это зна¬
ки неуступчивого продвижения исследования, вопроша-
ния. Идут вперед, спрашивают, всегда о том же. Никогда
никем не отменяемое вопрошание есть их обитель (этос).Именно в смысле «Verhaltenheit des Suchens» Хайдеггер
характеризовал «die Zukiinftigen» (Beitrage zur Philosophie,
vol. 65, Frankfurt, 1989, p.395-398); такие люди редки, для ко¬
торых сам поиск, исследование - желанная цель (Beitrage
zur Philosophie, vol. 65, p. 18). Для них время от времени воз¬
никает Entscheidungy приходится нечто решать по поводу
существа Истины. Их бытие во всем соотносится с этим
вопросом, они в полной мере ответственны за такие реше¬
ния, они - в радикальной оппозиции по отношению к
несметной и множащейся рати «Spaterem, тех, кто вечно
мешкает, прирастает к древним культам, идолам, образам
(Beitrage zur Philosophie, vol. 65, р.9б). Вместе с тем связан¬
ная с обдумыванием отсрочка в пространстве исследова¬
ния во всем настроена на будущее решение, следовательно,
ad-venientes (Zukiinftigen), идущие вперед суть те, у кого
обитель - дорога, т.е. те, кто упрямо не желает прятаться в
идею «мертвого бога», означающую невозможность сво¬
бодной мысли.
эпилогЕстественно, решение не принимается в психолого¬
экзистенциальном смысле слова (хорошо понятный эки¬
вок в Sein undZeifi). Решение принадлежит к Бытию (Beitra
ge zur Philosophie, vol. 65, p. 102). Если Бытие не то, что есть,
а то, что всегда приходит, завладевая в своем приходе чело¬
веком (в этом CMbicn Ereignis), решение со стороны здесь-
бытия соответствовать, ища-вопрошая, подобному запросу
принадлежит самой истине Бытия. Но не так ли, по сути
дела, для этоса наших мудрецов? Быть настойчивым в
поиске, который не вырисовывается как еще-не-обладание
(его ценность была бы тогда сопоставима только с достигн¬
утым успехом), в некотором поиске, который если чего и
достигает, то это приведения ищущего к самрму себе, к сути
его здесь-бытия (Beitrage zur Philosophie, vol. 65, p.398). Это
принадлежит истине Господа, которого чтят и к которому
стремятся. Он входит в них в момент, когда ими засвиде¬
тельствована его неизреченность и невоспроизводимость.Посему их неуспокоенность чиста (Beitrage zur Philoso¬
phic, vol. 65, р.400). Непричем неустойчивость воли к вла¬
сти, колеблющаяся между новым содержанием и новым
опытом пережитого (Beitrage zur Philosophie, vol. 65, pp. 18-
19), которая везде ищет богов в области сущего, фиксирует
их там и связывает с образами. Их беспокойство - откр¬
ытое ожидание некоей встречи и какого-то указания (Beitra
ge zur Philosophie, vol. 65, р.400), могущих случиться,
могущих и не достичь. Нет никакого основания, на кото¬
ром они могли бы возвышаться, ибо их Бог не тот, кто есть,
а тот, который всегда в пути. Semper Adveniens. Путники
(Zukunftigeri) - это необходимый образ.На входе в город их диалог заканчивается. В самом мол¬
чаливом из молчаний он продолжится. Город -
Offentlichkeity пространство, в котором «die wenige
Zukunftigen не проявлены. Однако мудрецы не отвергают
город, царство Machenschaft,т.е. техне как единственной
158ГЕОфИЛОСОфИЯформы созидания и Факта как единственной формы сущего
фр. 126-132). Но есть иные прямые формы. Где же иным
образом их исследование проявилось бы как неуступчивая,
размышляющая отсрочка? А Господь и тогда оставался бы
путником, если бы вернулся в прошлое города? Да, они бу¬
дут чужаками, но в городе. Не может быть иного будущего
(Zukiinft) для их сложного неустойчивого города; любое
другое будущее - это прошлое. Так в самом ли деле, любое
будущее съедено тем, что оно прошлое, что не принадлежит
им, молчаливым свидетелям AdveniensiХайдеггер называет его «derletzte Gott» (рр.405 и далее).
Не другой бог, не новый образ, присоединяющийся к бес¬
численным другим. Не другая идея совершенной религии,
способной ответить на замешательство, пытаться лечить
его, приспосабливая к себе настоятельную необходимость
мыслить. *Derletzte Gott» означает, что Бог - Последний, что
он приближен в самой крайней отдаленности. «Die Zuktin-
Jtigem не те, кто внедряются в будущее для реализации
определенного проекта, но те, кто соответствуют Послед¬
нему, значит, eschaton, тому, который не представим, не вос¬
производим, не опознаваем. Не в том ли состоит последнее
решение наших мудрецов: раскрепостить источник чисто
эсхатологического света (gloria, doxa) божественного?Если им удастся обратиться к всегда-Последнему, По-
следнему-крайнему относительно любого будущего, если
научатся лечись себя неуспокоенностью своего поиска, то
наши мудрецы сумеют быть сит. Они похожи друг на друга,
ибо перед лицом недосягаемого они солидарны. В любой
другой форме их диалог будет конфликтом и (или) гармо¬
нией. Только если, обратясь один к другому, окажутся
обращенными к Последнему, если увидят друг друга эсхато¬
логическим образом, тогда они смогут усвоить взаимную
необходимость. Но ведь бывает и такое общение, которое
фиксировано на дурной неудовлетворенности того, кто
эпилогхотел бы настоять как на последних на своих статалистских
идеях, буквоедстве, die Spateren.Здесь возникает проблема. «Die Zukiinftigen» не могут
быть фантазмами, вызванными из ничто - обычно их неус¬
тупчивость направлена против «большинства», для кото¬
рого они чужаки. Не те странники, кого абстрактно отде¬
лили от того, что пересекают, или от города. Если б это
было так, они были бы выражением чистого hybris, воли к
власти, псевдоноваторами, «вперед смотрящими». «Sprache
und Ereignis»: язык и Ereignis принадлежат друг другу. Од¬
нако речь не может идти об изобретенном языке. Это оче¬
ловеченный язык Da-sein, нашего здесь-бытия, как истори¬
ческое слово этот язык обосновывает историю (Geschichte).
Только такой язык может открыться Последнему. Однако
этот язык идет издалека: античные боги кровавыми реками
целиком обжили его. Ingens sylva - желать благодетельство¬
вать есть безумие, самый чудовищный из снов Логоса, кото¬
рый порождает самых холодных монстров. Из него и в нем
происходит любое раскрытие. Labor improbus - открыть в
нем этот свет. Поэтому improbus amor - любовь к стран¬
никам в «Verhaltenheit des Suchens».Находящиеся в пути не могут двигаться иначе, чем
переходитьот языка к языку, с коими связано происхожде¬
ние. Любой ищущий включает в себя некое происхожде¬
ние. Совсем не то что чистое прошлое, а некий отдаленный
статус. Это некое прошлое как несущая конструкция
(Шеллинг: непрерывно присутствующее ъ Beitrage, либо как
забытое в этом существенном моменте). Прошлое есть в
языке, открывающемся в eschaton. Чем более он раскрыт,
тем более обоснован. Однако пребывать, опираясь на несу¬
щее прошлое, это значит быть с непреходящим (a-delon),
которое составляет основу любого прошлого. И, следова¬
тельно, как идущие в поиске существуют для непредстави¬
мого Последнего, так этот Последний для них - самое На¬
160ГЕОфИЛОСОфИЯчало. Тем более, что они - всегда-будущие, поскольку из
прошлого происходящие. Язык (который основан на мол¬
чании Начала и на Последнем) есть история-судьба Zwis-
chen, того, что между здесь-бытием (Da) и Бытием (Seiri),
которое не есть, которое не есть сущее, ничто.Приходя из прошлого, ищущие не забывают этой исто¬
рии. Она же - история всех их культов и идей, образов и
недомолвок Именно эта история обрекает их идти к
Последнему. В этом глубокая истина беседы старцев-мудре-
цов: они пересекают или намереваются пересечь целое
пространство разных теологий. От этого измерения, а ни
от какого другого может быть освобожденной мысль По¬
следнего, чистая неуспокоенность вопрошания. Ибо, если
нечто созревает, от чего можно взять плоды, то должен же
кто-то, кто хранит и лелеет. Новое Начало не будет tabula
rasa - в унаследованном языке оно укрывается, оберегая
себя.Если мы опоздаем с ним, то не из-за блажи новатор¬
ства, а потому, что в сущности языка заключена потреб¬
ность обращаться к Последнему, которое всегда и Начало.
Язык в его истории и полноте его образов завершает такое
обращение: если завершить, значит, оно уже дано. Отсюда
важность построений Кузанского, которые спасают исто¬
ричность языка и вместе с тем его участь быть в Последнем.Мудрецы Луллия и Кузанского... «die Zukiinftigew-. их
разделяет пропасть. Грядущие Хайдеггера - во всем другие
относительно любого статуса, более того, относительно
'христианского статуса (р.403). Таковы ли они на самом
деле или мнят, что таковы? Здесь не место давать ответы на
столь решительный вопрос. Определенно, весь язык
Хайдеггера - это также доказывают эти заметки - растет
вместе с языком философии и теологии этой эпохи, Евро¬
пы или христианства. Становится ясным, что все мудрецы и
эпилогпутники принадлежат к пространству topos atopos, который
и есть суть Европы. Вопрошатели (Interrogantes) - их
вечное имя. Нельзя наделить земной обителью того, кто
упрям и настоятелен только в самом процессе поиска и ис¬
следования.Вопрошающий, таким образом, не просто чужак, по¬
скольку его язык не совпадает с языком города. Он не при¬
надлежит наречию простого Offentlichkeit, т.к об этом его
предупреждает и охраняет Ahnetv. жажда, ностальгическая
тяга назваться Последним - преобразиться в молчаливом
сретении с вечным Будущим. Так мудрые старцы существу¬
ют в неразрывной связи с тем, откуда произошли, с языком
своих традиций. От этих традиций - Итог и pietas, страх и
смирение, однако не в смысле зависимости, ибо чистые
странники не принадлежат Ничему, а в том смысле, что в
традициях они улавливают неутолимую жажду, которая
всегда указывает на eschaton. Любой момент переживается
ими в свете такой настоятельной неуступчивости: как уни¬
кальное мгновение.Они далеки от духа отрицания - бежать или претендо¬
вать на что-то большее. Странники сопровождают Европу
словно по случаю, occasus, как Запад - occidente. Ее время -
закатное (Unter-gang), поскольку это слово по сути означает
путь перехода к «молчаливому созреванию-созерцанию
Грядущего» (р.397). «Этот закат есть приближение Начала».
Переживать закат означает идти-вопрошая все образы За¬
пада, приводить их к собственному основанию, заверше¬
нию. Нет другого способа устоять в вопрошании помимо
этого сопровождения - идти на закат вместе с Западом.
Другое имя Zukunftigeri - Unter-gehendem они знают, что не¬
что приходящее будет дано в фазе заката. Закат - это за¬
вершение; день Запада пришел к концу. Совершенно неваж¬
но, сколько продлится этот закат. Существенно важно быть
162ГЕОфИЛОСОфИЯв нем как в месте, где следует сопротивляться, соответствуя
Последнему (р.397). Не опаздывать, культивируя идеи и
идолы, бороться за выживание этих культов и церквей,
обогащать их новыми образами.Всегда-вопрошающие - всегда стоящие на закате. Они
сживаются с закатом, ибо закат не есть конец, поскольку
это - их несущее на себе прошлое мысли, которое всегда в
Начале, в Боге как Последнем. Только стоящие на закате
имеют «будущее» - вот истинный декаданс, о котором гово¬
рил Ницше, декаданс лишних людей, которые ретируются
от Cffentlicbkeit не для бегства от мира или для возвышения
над ним, а уходят, чтобы участвовать в соответствии с ме¬
рой eschaton, последней истиной. Это скрытая мера любого
языка, дающего меру беспокойству вопрошания и спасаю¬
щего от пустой суетливости и назойливого любопытства.И здесь решимость не имеет ничего общего с псйхо-
лого-экзистенциальным подходом. Европа - земля, где за¬
кат необходим. Философия этой земли усваивает именно
такой закат: решает в пользу уже бывшего заката, ибо дру¬
гой еще будет. Настал час Решения: решиться относительно
всех образов Бога, пока мысль не раскроет себя вечному
Будущему, которое мы увидим, обращаясь к Началу. Однако
такое Решение можно постичь только на земле случайной,
occasus. Участь вопрошания могла только так завершиться,
Поэтому Европа, отвергающая свой закат, отказывается от
своей собственной сущности. Если она не открывается
грядущим, не отзывается на призыв собственного языка,
она изменяет сама себе, своему etymon. Если Европа проти¬
вится своему завершению, не мыслит в духе Последнего, у
неб нет будущего.Европа не падает, уходя на закат, она опускается, поско¬
льку отвергает закат, поскольку настойчиво стоит на своем.
Она настаивает на inquisitio, а потому может завершиться
эпилог163только как вопрошание-жертвоприношение всех ценнос¬
тей, она должна желать этого заката. Только в качестве
заходящей у нее есть будущее, будет ad-veniente, раскрыти¬
ем для всех ищущих, в рамках которого любой язык и лю¬
бая гипотеза связаны, могут иметь Сит. В этом - ее единст¬
венно возможный голос, ибо достигнуто завершение ее
истории и конец всех различных новых начал. Однако
здесь-бытие Европы остается совершенно свободным и для
несоответствия. Она свободна не желать заката, не приспо¬
сабливаться к нему, не участвовать в нем, сражаться за свои
ценности или даже против сакральности всех ценностей в
качестве новой ценности, удерживать истину собственных
догм и своих гипотез, собственную миссию предлагать их.В беспамятстве Европа забывает, что закат - ее призва¬
ние. Как никогда Европа, кажется, желает вспомнить свои
образы, говорит о заботе и сохранении их, и все же забы¬
вает о собственной сущности. Призывает воспоминания
любого времени и места и забывает собственную истину.
Потому воспоминания принимают некий музейный аспект,
а их общедоступность означает лишь утрату или отсут¬
ствие.Возможно, существуют «die Zukiinftigen» (немногие?
многие? и важно ли это?), и они ощущают необходимость,
настоятельное требование Gegenschlag, контрудара Европы
против самой себя. Однако, хотя ничто так не необходимо,
ничто так не бесполезно и не продуктивно для Запада, как
господство Machenscbaft (машинерии). Мы вынуждены
признать, что для Запада такой контрудар сегодня - абсо¬
лютный Враг, более того, его просто невозможно понять.
То, что невозможно замкнуть в дискурсе - это das Frag-
wurdigste, собственный и наиболее достойный предмет для
вопрошания, исследующей мысли. Это вопрос, который не
растворяется в решении, не обещает никакого Er-losung, но
164ГЕОфИЛОСОфИЯкоторый вызывает здесь-бытие в «месте» проблемы Начала,
где каждого ожидает Последний Бог - молчаливая мера
всех богов.«Наш час - эпоха заката» (р.397), однако уметь быть
своевременным, соответствовать часу - это максимально
проблематично. Иметь время для вопрошания, быть вовре¬
мя* чтобы оказаться на закате, «hoc opus, hie labor est».
Сегодня рядом со всеми догмами и церквами господствует
сопротивление закату, или, что хуже, негодование в форме
насилия по отношению к тому, кто предполагается ответ¬
ственным, или, еще хуже, тоскливое смирение и покор¬
ность (а это не что иное, как досада, достигшая фазы изне¬
можения). Европа не желает собственного завершения, не
хочет самой себя, отказывается верить тому, на чем акцен¬
тировано ее бытие occasus, в виде случая. Она боится, трак¬
тует закат как простую непосредственную участь, как ре¬
зультат действия посторонних сил, все это вместо того,
чтобы пожелать себя в качестве уходящей на закат. Но в
этом уникальное подлинное решение, предлагаемое эпо¬
хой. Закат означает не оторваться от себя, а напротив,
обратиться к собственным истоку и основанию, услыщать-
подчиниться Последнему, ради которого замеряются все
различия в качестве совершенно различенных, признается
необходимость собственного вопрошания в виде связан¬
ных предположений. Разве это невозможно для Европы? То,
что никогда на мыслилось возможным? И прекрясно, это
невероятное и есть ее единственное будущее.
Симона Вейль< ИЛИАДА,
ИЛИ ПОЭМА О СИЛЕ»«Vlliade, ои 1е Роете du la Sorce».
Simone Weil(фрагмент)Истинный герой и центральная тема «Илиады» - Сила.
То, чем распоряжается человек, Сила, которая его подчиня¬
ет, перед которой плоть сжимается и цепенеет. В «Илиаде»
человеческая душа дана подверженной силовым де¬
формациям, беспомощной и ослепленной, сдавленной под
гнетом Силы, которой сапиенс хотел распоряжаться по
своему усмотрению. Если полагать, что прогресс и цивили¬
зация укротили Силу, оставшуюся в варварском прошлом,
то в Гомеровой поэме есть документальное свидетельство
этого прошлого. Лишь умеющий распознать голос Силы
сквозь века, сегодня и в центре человеческой истории,
уловит в «Илиаде» ее самый совершенный и чистый образ.Сила - феномен, превращающий в вещный предмет
каждого, кто попал в поле ее влияния. Попавшего под
прямой удар она буквально испепеляет - от человека оста¬
ется труп. Как останки волочит за собой колесница, рисует
неустанно «Илиада».«Прах от влекомого вьется столпом; растрепавшись по земле,
Черные кудри путаются, голова Приамида во прахе
Бьется, прекрасная прежде; ныне врагам Олимпиец
166ПРИЛОЖЕНИЕПредал позору ее на родимой земле илионской!Тихо душа, прочь отлетевши, нисходит к Аиду,Долю свою проклиная, оставляя и младость и крепость».Горечь в полной мере, никакого утешения, бессмертия,
пошлого ореола. Контраст дан в воспоминании о далеком
непрочном мире, где семья и покой, где для близких ты до¬
рогой и желанный.«Дала повеленье прислужницам пышноволосым
Огонь развести под высоким треногом, чтобы готова
Гёктору теплая ванна была, когда с боя в дом возвратится.
Несчастная, и думать не смела, что Гектор далеко от ванн
Пал от руки Ахиллеса, усмирен светлоокой Афиной».Не только Гектор, но и вся человеческая жизнь в «Илиа¬
де» протекает далеко от теплых ванн. Сила, что убивает -
примитивная форма силы. Но иная, что еще не убивает, но
должна убить - насколько ж изобретательнее, остроумнее
и разнообразнее эта другая Сила! Нависая над головой того,
кого в любой момент готова убить, она превращает че¬
ловека в камень. Власть, убивающая, обращающая человека
в вещь, порождает другую, более удивительную власть,
способную обратить в вещь еще живого человека. Будучи
вещью, человек живет. Странное существо - вещь, обла¬
дающая душой. Сколько же раз душа скручивается и переги¬
бается, чтобы приноровиться ужиться и стать вещью? Не
созданная обитать в неодушевленном предмете, но прину¬
жденная к тому, она страждет от такого насилия каждой
клеткой.Обнаженный и обезоруженный человек под зависшим
над ним копьем становится трупом еще до того, как по¬
гибнет. Надеется, двигается, рассчитывает.«Стоял он, так размышляя; а тот подходил полумертвый,
Ноги Пелиду готовый обнять: несказанно желал он
Смерти ужасной избегнуть и близкого черного рока-»
<ИЛИАДА, ИЛИ ПОЭМА О СИЛЕ>Приняв копье противника, герой понимает, что, хотя и
дышит, он уже - материя.«Так говорил убеждающий сын знаменитый Приамов,Он Ахиллеса молил, но не услышал голос, к жалости склонный-
Произнесены слова-у юноши дрогнули ноги и сердце.
Страшный он дрот уронил, дрожащий, руки раскинув,Сел; Ахиллес стремительно меч обоюдный исторг,В шею вонзил у ключа, и до самой его рукоятиМеч погрузился во внутренность; черным прахом ничкомРаспростерся, кровь захлестала и залила землю собой».Слабый и безоружный пришелец, когда вдали от боя
смиренно молит могучего воина, смертный приговор еще
не подписан, но тем самым одного нетерпеливого жеста
достаточно, чтобы отнять у слабого жизнь. Любая клетка
живой плоти свидетельствует о жизни хотя бы способно¬
стью вздрогнуть, словно лацка лягушки под током. Перед
лицом чего-то ужасающего дрогнет любая масса из плоти,
нервов и мускул. Но старику не дано даже съежиться от
страха.«Старец,, никем не замеченный, входит в покой,Пав в ноги Пелиду, обнимает колена и руки целует -
Страшные руки, детей его погубившие многих!.Так, если муж, преступлением тяжким покрытый в отчизне,
Мужа убивший, сбежав, к другому народу; приходит,К сильному в дом, то изумленно все на пришельца взирают,
Так изумился Пелид, благовидного старца узрев,Так все изумились, друг на друга взирая,„Так говоря, об отце встревожил плачевные думы;За руку старца он взяв, от себя отклонил его тихо».Ахиллес отклонил старика не от бесчувственности.
Слова Приама тронули его до слез, он вспомнил об отце. Он
не ощутил стеснения в движениях, словно безжизненный
предмет, а не умоляющий человек, пав ниц, просил о по¬
мощи. Сам факт присутствия человеческого существа ря¬
ПРИЛОЖЕНИЕдом с нами может остановить, обуздать, изменить каждое
следующее движение нашего тела. Если кто-то пересекает
нам дорогу, мы вынуждены свернуть или остановиться,
чего никогда не сделает, к примеру, светофор. Человек са¬
дится, встает, идет по комнате в присутствии постороннего
иначе, чем он это сделал бы, находясь один. Однако есть
люди, лишенные (либо кем-то лишенные) этого непо¬
стижимого качества живого присутствия. Малейшее не¬
терпеливое движение человека напротив, и им конец, даже
если никто не осуждал их на смерть. В их присутствии и
другие ведут себя так, словно этих людей нет. Под угрозой
немилосердного уничтожения несчастный словно теряет
статус существования. Толкни - и он упадет, упав, будет ле¬
жать, пока кому-нибудь не придет в голову поднять его. Но
даже поднятый со словами почтения, он не поверит, что
всерьез воскрес, малейшее раздражение в голосе другого
ввергает его в немоту.«Так говорил; устрашился Приам и умолкнул, покорный».Немногие, стоит их ободрить, возвращаются к жизни.
Иные горемыки до конца своих дней, не умирая, остаются
вещью. Вольного пространства, неизведанной дороги для
них просто нет. Ни одарять людей сердечными щедротами,
ни принимать щедроты от других они не умеют. Внешне их
жизнь не слишком отличается. Дело не в низкой социаль¬
ной ступени, дело в том, что это невиданная доселе порода
людей - нечто среднее между человеком и трупом.Человек-вещь - противоречие с точки зрения логики.
Но, когда невозможное становится реальностью, такое
противоречие рвет душу в клочья. Такая вещь каждый миг
хочет быть мужчиной или женщиной - и не может. Это
смерть протяженностью в целую жизнь. Это жизнь, захва¬
ченная леденящей смертью. Такая судьба-злодейка настига¬
ет дочь жреца.
<ИЛИАДА, МАИ ПОЭМА О СИЛЕ>«Деве я не дам свободы; пусть завянет в неволе,В Аргосе, в нашем дому, от отчизны далеко -
За ткацким станком или ложе со мной разделяя»Не обошла она и жену царского сына, молодую мать.«Скоро в неволю они поплывут на судах,С ними и я неизбежно, и ты, мое бедное чадо,Вместе со мною. Там, изнуряясь на черной работе,Служить властелину немилосердному будешь»,.Такая участь сына для матери страшнее смерти, муж и
отец предпочитает прежде погибнуть, все кары небесные
призывает на неприятеля. Однако есть люди, которым не
до проклятий и бунта, не до воспоминаний о прошлом.
Ведь хранить верность родному городу, отеческим моги¬
лам - рабам не подобает. И только когда насильник терпит
бедствие, рабу позволено выплакать вдосталь.«Так говорила, рыдая; и прочие жены стенали,Казалось, о мертвом, но в сердце о собственном горе».Никто не пострадал более, чем раб, потерявший свой
внутренний мир. Вновь обрести его, хоть частично, он мо¬
жет, если осталась возможность изменить свою участь. Та¬
кова власть Силы - она простирается далеко, как сама при¬
рода. И природа, когда говорит слепая ярость, стирает все,
даже материнскую скорбь.«Пищи забыть не смогла и несчастная мать Ниоба,Та, что разом двенадирть детей потеряла...Плачем по ним иссякнув, мать вспомянула о пище».Тирания Силы над человеческой душой сопоставима с
лютым голодом, когда и жизнь, и смерть в его власти. Хо¬
лодная и твердая, словно упрямая вещь, Сила-власть безжа¬
лостно давит слабых, но также жестоко опьяняет и мутит
разум обладающих ею (вернее, полагающих, что облада¬
ют). Никто не владеет Силой. В «Илиаде» людской род не
170ПРИЛОЖЕНИЕподелен на униженных и победителей, рабов- просителей и
повелителей. Никто не спасен от все прогибающей Силы.
Терсит дорого платит за свои вполне разумные слова, мало
отличающихся от Ахиллеса.<*Скипетром по хребту и по плечам его ударил.Съежился Терсит, слезы боли полилися из очей.По хребту полоса под тяжестью скиптра златого
Вздулась багровая. Сел он, от боли и страха дрожа,Брови наморщив, слезы отер на ланитах».Вот плачет гордый и непобедимый Ахиллес от беспо¬
мощного унижения. У него уводят женщину, которую уже
мнил своей женой. Слова Агамемнона бьют по самому
больному месту.Чтобы ясно понял ты,Сколько выше властью я тебя, чтоб страшился каждый
Равным мне себя считать и дерзко верстаться со мной».Несколько дней спустя и этот гордец молит и плачет,
униженный. Слепая судьба в виде золотых весов Зевса ре¬
шает успех героев более, чем их доблесть.«Зевс-промыслитель поднял весы золотые, на них он
Бросил два жребия Смерти, в сон погружающей долгий:
Жребий троянцев конеборных и данайцев с медньщ оружьем;
Взял посредине и поднял: данайских сынов настал День
роковой~»Слепая справедливость наказывает мечом поднявших
меч - «Общий у смертных Арей: и разящего он поража¬
ет!» - задолго до Евангелия.Людям уже nof6My, что рождены они на свет, суждено
страдать от насилия. Такова истина, путь к которой закрыт
внешними обстоятельствами. Сильный не силен абсолют¬
но, как слабый не слаб абсолютно, но и тот, и другой об
этом, как правило, не знают. Слабый соглашается с точкой
<ИЛИАДЛ, ИЛИ ПОЭМА О СИЛЕ>зрения сильного. Захвативший власть двигается так, словно
вокруг нет никого. Он продвигается в среде, не оказы¬
вающей никакого сопротивления, он лишен человеческого
момента - способностью держать дистанцию между рыв¬
ком к действию и самим действием. В этой дистанции-
паузе может поместиться мысль. Где нет места мысли, нет
справедливости и просто благоразумия. Вот почему воору¬
женные люди так грубы и безрассудны. Вонзают меч в без¬
оружного противника, живописуя ужасы, ожидающие
мертвое тело Ахиллес обезглавливает 12 троянских юно¬
шей перед погребальным костром Патрокла так, как обыч¬
но срезают цветы на могилу. Орудуя палицей, сильные не
догадываются, что рано или поздно следствия их поступков
падут на них самих и согнут их. В итоге выходит, что те,
кому судьбой дана Сила, погибают оттого, что слишком в
нее уверовали.Как тут не погибнуть: не воспринимая Силу как то, чему
дан предел, свои отношения с другими они не в состоянии
понять как равновесие неравных сил. Другие сапиенсы для
них не есть та реальность, которая могла бы остановить,
умерить, сделать паузу, из которой только и проистекает
наше внимание к себе подобным. Они полагают, что судьба
дала им право на все, а тем, кто ниже, - ничего. При этом
неминуемо они преступают границу отпущенной им силы,
поскольку не желали знать этой границы. Не остается ниче¬
го, как отдать себя на волю случая, но судьба более не на их
стороне. Случай лишь сначала благоволил, а затем пре¬
пятствие, тут и обнаруживается, что Сила покинула героев,
из сильных они превратились в слабых, рыдающих, стена¬
ющих.Возмездие с геометрической строгостью настигает лю¬
бое злоупотребление Силой. Для греков кара - средоточие
эпоса и философских размышлений. Немезида - главная
ПРИЛОЖЕНИЕгероиня трагедий Эсхила. Пифагорейцы, Сократ, Платон,
говоря о космосе, человеке, не уходили от темы возмездия.
На Востоке оно носило имя кармы. Но Запад потерял его,
ни в одном языке нет слова, адекватно выражающего карму.
Идеи границы, меры, равновесия, влияющие на жизненное
поведение, не имеют другого применения, кроме техничес¬
кого. Мы - геометры только во всем материальном. Греки
были геометрами, научаясь Благу.Мера в использовании Силы позволило бы нам уйти от
цепной реакции самоуничтожения. Для умеренности ну¬
жно было бы больше мужества, чем обычная добродетель.
Необходимо нечто более редкое, чем сохранение достоин¬
ства в слабости. Впрочем, и умеренное использование
Силы небезопасно, ведь тайна ее обаяния основана прежде
всего на том же великолепном безразличии, которое
сильный испытывает к слабым, которое, как вирус, переда¬
ется и самим слабым. Совсем не политическая идея подтал¬
кивает к злоупотреблению Силой. Дело именно в соблазне
Силы, соблазн злоупотребления ею почти непреодолим. В
«Илиаде» и здесь и там звучат разумные слова и речи, на¬
пример, Ахиллеса в минуту волнения.«С жизнью по мне не сравнится ничто: ни богатствау какими
Сей Илион, вещают, обиловал - град, процветавший
В прежние мирные дни до нашествия рати ахейской,-
Можно все приобресть, и волов, и овец среброрунных,Можно взять и прекрасных коней, и златые треноги:Дуису только назад возвратить невозможно, души не стяжаешь, j>Но речам таким никто не влемлет. Если их произносит
подчиненный, за них наказывают. У военачальника слова с
делом не сходятся, да и всегда есть божество, советующее
поступить против разума, и тот, кто услужливо готов обо¬
сновать безрассудство. Сама мысль, что человек может
избежать этой профессии, фаворитки судьбы, предписы¬
<ИЛИАДА, ЧАИ ПОЭМА О СИАЕ>вающей убивать и быть убитым - эта мысль вряд ли придет
в голову героям, которым*С юности нежной до старости Зевс подвизаться назначилВ бранях жестоких, пока не погибнет с оружием каждый!»Эти воины и тогда, как столетия спустя солдаты Кранна
(Место на севере Франции, где французы в 1917-1918 гг.
терпели поражение от немцев), чувствовали себя пригово¬
ренными к смерти.Они втянуты в эту пагубную ситуацию простейшей за¬
падней. Начинают поход с легким сердцем и полные сил,
рукой на рукоятке меча, но врага не видно и на горизонте -
пустота. Мы всегда сильнее отсутствующего противника,
если только душа не подавлена заранее грозной репутаци¬
ей. Отсутствующее не налагает ярмо неизбежности. Ника¬
кой неизбежности для идущего в поход, война для воина
начинается как игра, праздник, освобождающий от гнета
повседневных нужд.Однако праздник не длится долго. Наступает день, ко¬
гда страх, поражение или смерть товарища принуждают
признать реальность и покориться ей. Тогда конец играм во
сне, нельзя не понять реальность войны, что война слиш¬
ком ужасна, чтобы ее вынести: война несет смерть. Посто¬
янно думать о смерти нельзя, можно выдержать мысль о
смерти, словно вспышку, в момент, когда чувствуешь ее ре¬
альную близость. Конечно, каждого ждет смерть, но солдат,
не покидая поля битвы, до седин может и не дожить. Для
тех, чьи души впряжены в ярмо войны, отношение смерти
и будущего выглядит иначе, чем для всех остальных. Для
обычных людей смерть - заведомо известный предел жиз¬
ни, отнесенный в неопределенное будущее. Для воинов
смерть - это само будущее, назначенное им профессией.
Иметь смерть в качестве перспективы единственного буду-
174ПРИЛОЖЕНИЕщегр - противоестественно. Стоит войне дать прочувство¬
вать бойцу, что он может погибнуть в каждый следующий
миг, становится невозможным представить завтрашний
день иначе как переправляясь через образы смерти. Созна¬
ние может находиться под таким напряжением только
рывками; все-таки каждый новый рассвет приносит одну и
ту же реальность; день за днем складываются в годы. Каж¬
дый день душа производит над собой хирургическую
операцию, отсекая надежды и планы, ибо мысль не может
передвигаться во времени, минуя образ смерти. Таким
образом война отменяет любую цель, включая и ту, ради
которой сама война началась. Она вообще стирает идею о
том, чтобы ставить войне какую бы то ни было цель.Тем не менее, и во власти войны душа взывает к осво¬
бождению. Такому освобождению, которое представляется
душе в экстремальной и трагической форме - в виде раз¬
рушения. Разумный выход из положения мог бы развернуть
мысль лицом к лицу с пережитым ужасом насилия - но как
его вынести? Это зрелище нельзя выдержать даже как
воспоминание. Кошмар, боль, истощение, массовые убий¬
ства, гибель друзей - все это не перестает терзать душу.
Забвение! Где его искать, как не в новом опьянении силой,
чтобы утопить грызущие воспоминания? От сознания, что
безмерное усилие и затраты силы не принесли ничего либо
ничтожно мало, становится все хуже и хуже.«Как? Обратно со срамом в любезную землю отчизныВы ли отсель побежите, в суда многоместные прячась?Вы ли на славу Приаму; на радость троянцам ЕленуБросите, Аргоса дочь, за которую столько ахеянЗдесь перед Троей погибло, далеко от родины милой?»)■Что Одиссею до Елены? Тем более до Трои с ее богат¬
ствами? Ведь Итаку из руин они не поднимут. Однако Т]роя
важна для греков лишь затем, что пролито из-за нее гречес¬
< ИЛИАДА, ИЛИ ПОЭМА О СИАЕ>кой крови и слез безмерно. Душа, вынужденная вопреки
природе погубить часть самой себя, чтобы противостоять
недругу, верит, что излечится только тогда, когда уничто¬
жит врага. И не замечает того, что смерть друзей толкает к
иному соревнованию, рождает темное желание последо¬
вать за ними. Гибнуть и убивать толкает одно и то же чув¬
ство отчаяния.«Я знаю и сам, что судьбой суждено мне погибнутьЗдесь, далеко от отца и матери. Но не уйду яС поля боя, доколе троянцев не умою кровавой бранью.»Тот, в ком поселилось это двойное притяжение смерти,
уже не принадлежит, если что-то в нем не изменится, к
живому человечеству, он - иной породы. Поверженный, он
смиренно просит пощады, дать случай увидеть завтрашний
день, но какое эхо донесет эту робкую надежду до сердца,
где нет ничего, кроме отчаяния? Достаточно только того,
что один вооружен, а другой безоружен - и жизнь лишена
любого значения. Может ли тот, кто отказался от самой
мысли, что свет грядущего дня способен наполнить душу
радостью, снизойти к милости, услышать покорную мо¬
льбу?«Пощади и помилуй, ноги объемлю тебе, Ахиллес!Пред тобою ниц простерт какмолитель, пощады просящий!»И вот ответ:«Так умри, любезный мой!О чем же столько ты рыдаешь?Умер Патрокл, несравненно тебя превосходнейший из смертных!Видишь, каков я сам - красив и благороден;Сын знаменитого отца и матери-богини!Но и мне могущественной судьбы избегнуть не дано;Смерть придет ко мне поутру, ввечеру или в полдень,Лшць только враг в сражении мою исторгнет душу~»
ПРИЛОЖЕНИЕИскалечившему свою душу, истребившему в ней жела¬
ние жить разве может быть доступно великодушие, что
растопило бы сердце почтить уважением жизнь человека,
хотя и недруга? Ни об одном из гомеровских героев нельзя
сказать, что он способен на подобное усилие, исключая,
возможно, Патрокла, главного героя поэмы, «который умел
быть нежным ко всем», который ничего жестокого не со¬
вершил в «Илиаде». Но много ли в истории мы знаем при¬
меров такого божественного великодушия? Два, три? Из-за
отсутствия сердечной щедрости воин-победитель стано¬
вится подобием стихийного бедствия. Одержимый войной,
словно раб, он превращается в вещь, бездушную материю:
человеческое слово не имеет уже над ним власти. И воин, и
раб, втянутые Силой, претерпели над собой ее непрелож¬
ное действие - все, кого она коснется, становятся немыми и
глухими.Такова природа Силы. Власть обратить человека в вещь
реализуется двумя способами: она поражает, хотя и по-
разному, души тех, кто ею обладает, и души тех, кто от нее
страдает. Эта способность Силы достигает кульминации в
момент сражения, когда успех склоняется в чью-то сторону.
Исход битвы определяется не теми, кто планировал и рас¬
считывал, а теми, кто все способности утратил, превращен¬
ные в косную пассивную материю либо в смерч, иными
словами, молниеносность.Конечная тайна войны именно в этом, что раскрыва¬
ется сравнениями «Илиады», когда движения воинов, слов¬
но слепые стихии, напоминают пожар, наводнение, ярость
дикого зверя, шум падающего дерева, разметанного вихрем
ветра песка. И греки, и троянцы переживают эти стихии
изо дня в день, а то и каждый час.Искусство войны по сути есть не что инбе, как умение
разжечь в перерожденных душах пожар. Материальные
<ИЛИАДА, ИЛИ ПОЭМА О СИЛЕ>трофеи, геройские подвиги, уничтожение противника - все
это только средства, а не цель. Настоящая цель войны -
души втянутых в сражение. Само перерождение души -
тайна, творимая богами, ибо они умеют возбудить челове¬
ческое воображение. Главное качество и способность
Силы - превратить человека в камень - спасти от нее мо¬
жет нечто, подобное чуду. Мгновения чудесного кратки и
редкостны.Пагубная прихоть тех, кто манипулирует людьми как
вещами, отчаяние, толкающее воина крушить и убивать,
око за око, смерть за смерть - сцена однообразного ужаса,
герой на ней - Сила. Она была бы нестерпимо монотон¬
ной, если бы не светоносные точки, вспыхивающие из¬
редка на полотне поэмы. Это краткие, но дивные моменты
озарения душ. Душа пробуждается на миг, чтобы снова
потерять себя на бескрайних просторах империи Силы.
Все же в момент пробуждения душа удивительно чиста и
неповрежденна. Ничего запутанного, двусмысленного, тре¬
вожного, любовь и мужество наполняют ее. Иногда, наеди¬
не с собой, как Гектор под стенами Т]рои, без помощи богов
смотрит в глаза провидению. В других случаях покой при¬
ходит через любовь, и нет такой чистой любви, какой она
описана в «Илиаде».Воспитанное в поколениях радушие гостеприимства,
трогательная родительская любовь, совершенная чистота
любви супружеской на пороге несчастья, которого не избе¬
жать. Посреди смертных баталий любовь - ее триумф и
высшая благодать, когда в виде дружбы она родится в серд¬
цах смертельных врагов. Любовь гонит прочь из сердца
жажду мести за убитого сына, сраженного друга, творит ис¬
тинное чудо, перебрасывая мост над пропастью между про¬
сителем и благотворителем, победителем и побежденным.
ПРИЛОЖЕНИЕ«И когда пищей, питьем насытили сердце,Долго Приам Дарданид удивлялся царю Ахиллесу,Виду его и величию; бога, казалось, он видит.Царь Ахиллес удивлялся равно Дарданиду Приаму,Видя образ почтенный и слушая старцевы речи.Один на другого взирая, оба они наслаждались-»Редкие моменты благодати помогают прочувствовать
жажду жизни, которую всегда губила и продолжает губить
насилие. Образы всевозможного насилия в поэме, воз¬
можно, мало тронули бы нас, если б не интонация беско¬
нечной горечи, акцент, иной раз выраженный одним лишь
словом, сдвигом цезуры, иным оттенком в строе стиха.
Именно в этом уникальность «Илиады» - горечь, исте¬
кающая из нежности, как солнечный луч, падающая на всех
и каждого. В картине беспросветного насилия нет уже, ка¬
жется, места любви и справедливости. Но именно ими омы¬
вается весь этот свирепый мир, ощутимые лишь как акцент.
Ничто, из того, что ценит сердце, не презирается. Беспо¬
мощность и нужда воинов нигде не сокрыты, показаны без
пренебрежения. Никто не вознесен выше человеческой
меры, но и никто не опущен ниже нее. Обо всем, что разру¬
шено, поэт скорбит. Побежденные и победители, взятые в
одной и той же перспективе, равно близки нам, поэту и
слушателям. Различие разве в том, что горе и страдания
другой стороны, троянцев, переживаются, возможно, с
большей силой.Тень предчувствия великой беды, ждущей народ-
крушения Полиса - лежит на всей поэме Гомера. Родись
поэт вТ^ое, ему не сыскать более трогательных и сильных
слов. В тех же интонациях рассказы об ахеянах, гибнущих
вдади от дома.Все, что война рушит или грозит унести, овеяно в
«Илиаде» поэтическим теплом. Переход от жизни к смерти
поэт не скрывает недомолвками или экивоками.
< ИЛИАДА, ИЛИ ПОЭМА О СИЛЕ>«Вырвалась бурная медь: просадила в потылице череп,Вышибла ему зубы; у падшего, выпучась страшно,Кровью глаза налились; из ноздрей и уст растворенныхКровь изрыгал он, пока не покрылся облаком смерти.»Леденящая грубость фактуры войны ничем не замаски¬
рована, никто не вызывает ни восхищения, ни презрения,
ни ненависти. Всегда неясный исход битвы решают боги и
судьба. Судьба устанавливает границы неизбежного, а боги
пользуются полнотой власти назначить победителя в ука¬
занных границах. Именно они подстрекают людей на безу¬
мие и предательство, срывающие всякий раз шанс мирного
исхода битвы. Дело богов - война, и для этой излюбленной
игры помимо ярости и капризов нет иных поводов. Что до
побежденных, победителей, вообще, воинов в зверином ли
обличьи, подобием ли вещи, то не вызывают они ни восхи¬
щения, ни осуждения, разве что горькое сожаление о пере¬
рождении душ человеческих.Не настоящее ли чудо эта поэма? Горечь, разлитая в
ней, объясняется одним- подчинением человеческой
души Силе, в конечном счете, материи. Такое подчинение,
хотя и в неравной степени - удел всех смертных даже при
различном качестве душ. В «Илиаде» никто не изъят из
общего закона ни на небе, ни на земле. Слабость льодская не
подлежит порицанию, и если у кого-то получается усколь¬
знуть от имперской власти Силы, он награжден любовью,
но вместе с болью, ибо опасность быть уничтоженным все¬
гда над головой смельчака.Такова суть подлинного эпоса, духа Запада. Уже «Одис¬
сея» кажется роскошной имитацией «Илиады» или восточ¬
ных поэм. «Энеида» также - имитация, однако при всем ее
блеске холодная напыщенность и плохой вкус портят ее. В
средние века истинное величие редко случается в поэмах,
ибо о древнем кодексе справедливости уже забыто. В
ПРИЛОЖЕНИЕ«Песне о Роланде» смерть противника не воспринимается
ни автором, ни читателем так же тяжело, как смерть Ро¬
ланда.Только трагедии Эсхила и Софокла, аттическая траге¬
дия вообще, представляют собой истинное продолжение
эпоса. Идея справедливости все освещает своим светом,
нигде при этом не выступает открыто. Сила явлена со всей
холодностью и жестокостью действий и последствий, кото¬
рых не избежать никому. Унижение души в тисках прину¬
ждения не маскируется и не просит снисхождения или
презрения; не раз тот, кто раздавлен тяжестью несчастий,
вызывает восхищение. Если «Илиада» стала первым выра¬
жением греческого гения, то тексты Евангелйя - последние
дивные свидетельства его сияния. Не только заповедь ис¬
кать царства Божия и справедливости скорее и более, чем
все прочее, но и обнаженность человеческой нищеты, бес¬
помощности в страданиях божественного и вместе челове¬
ческого существа. Евангельские страсти свидетельствуют,
как божественный дух, соединившись с плотью, искажается
в несчастьи, перед лицом физического страдания пасует,
чувствует себй оставленной людьми и Богом в момент аго¬
нии. Понимание слабости человеческой натуры сообщает
Евангелию дух простоты, в чем главная ценность аттичес¬
кой трагедии, «Илиады», особенно. Строки Евангелия ино¬
гда удивительно созвучны тому, что сказано в поэме. В
словах Христа Петру: «... другой препояшет тебя и поведет,
куда не хочешь» мы узнаем троянского юношу, отправлен¬
ного в Аид против его воли. Понимание сути человеческих
бед и нищеты - условие справедливости и любви. Кто не
понимает, до какой степени неумолимая необходимость и
судьба держат в тисках душу человека, не сможет принять и
возлюбить ближних как самого себя, тех, что отделены
пропастью жизненных обстоятельств. Разнообразие огра¬
ничений и принуждений так велиф, что оно способно по¬
< ИЛИАДА, ИЛИ ПОЭМА О СИЛЕ>родить губительную иллюзию существования разных люд¬
ских пород, не способных понимать друг друга. Только по¬
няв суть империи Силы, сумев ей оказать сопротивление,
можно любить и быть справедливым.Отношения души и судьбы: может ли душа формиро¬
вать собственную судьбу и в какой мере, что именно пере¬
рождается в душе по прихоти рока, что в ней сохраняется
неповрежденным силой благодати и доблести - вот круг
вопросов, где легко появляется соблазн самообмана и за¬
блуждения. На такой соблазн работает все - ненависть,
гордость, унижение, презрение, безразличие, желание ос¬
таться в стороне. Особенно редко истинное отношение к
несчастью и правдивый его образ. Изображая несчастье,
видят либо прирожденное свойство быть несчастным,
либо допускают, что беды можно вынести, не повредив
душу, без того, что уродует и губит мысль и душу человека
особым для него образом. Сила души помогала грекам из¬
бегать самообмана, благодаря чему они умели во всем дос¬
тигать наивысшей степени ясности, чистоты и простоты.
Но дух, перенесший эти качества от трагиков и философов
в Евангелие, границ греческой цивилизации не перешаг¬
нул. После заката Греции нам достались лишь его отсветы.Римляне и еврей верили в свою исключительность, что
общая несчастная участь человеческая не их удел. Римля¬
не - по причине, что судьба выбрала их правителями мира.
Евреи - по причине, что Бог отличил их своим покрови¬
тельством, притом, в точном соответствии с мерой их по¬
слушания Римляне презирали чужаков, врагов, побежден¬
ных, рабов и данников. От них не осталось ни эпоса, ни
трагедий - разве что игры гладиаторов. Для евреев несча¬
стье было симптомом греха, следовательно, имели закон¬
ную причину презирать убогих. Евреям казались отврати¬
тельными поверженные враги именно в глазах Бога.
Жестокость по отношению к ним поэтому казалась евреям
182ПРИЛОЖЕНИЕне только позволительной, но и необходимой, даже долгом
заставить врага искупить свою вину. Во всем Вехтом Завете,
кроме, быть может, Книги Иова, нет ни ноты* созвучной
греческому эпосу. Евреев и римлян превозносили, им
подражали словом и действием, цитировали, когда была
нужда оправдать преступление. Так продолжалось все два¬
дцать веков христианства.Но и евангельский дух в своей чистоте не был передан
поколениям христиан. В рассказах о мучениках, радостно
сносивших страдания и смерть, желали видеть в этом толь¬
ко проявление благодати, словно ее действие в людях явле¬
но более, нежели во Христе. Но ведь сам Бог, будучи челове¬
ком, не мог без содрогания взглянуть в лицо своей судьбы,
отсюда ясно, что подняться над нищетой дано лишь тем,
кто погряз в иллюзиях и фанатизме. Только за броней са¬
мообмана человек может попытаться уйти от столкновения
с Силой и от поражения своей души. Благодать может ук¬
рыть душу от разложения, но не от ран поражения. Хрис¬
тианская традиция забыла об этом, потому редко умела со¬
хранить простоту духа и тона, которая делает буквально
пронзительной каждую фразу рассказа о страстях Христо¬
вых. А утвердившаяся практика обращения в христианство
с помощью насилия маскировала последствия действия
Силы на души тех, кто ее использовал в этих целях.Но и бурный непреходящий восторг, с каким Возро¬
ждение открывало эллинскую словесность, дух Греции не
возродился по-настоящему на протяжении 20 веков евро¬
пейской истории. Иногда он прорывается в Вийоне,
Шекспире, Сервантесе, Мольере, Расине. В «Школе жен» и
«Федре» страдание и нужда раскрываются в любовных де¬
лах. В противоположность эпическим временам страдани¬
ям и нищете удалось раскрыться только в любви, а на поле
брани и политики деяния Силы неизменно рядились в тогу
<ИЛИАДА, ИЛИ ПОЭМА О СИЛЕ>славы. Из всего сотворенного народами Европы ничто не
может стать вровень с первой поэмой - «Илиадой». Когда
люди научатся вновь видеть и понимать свою незащищен¬
ность перед лицом рока и судьбы, научатся уходить от
обаяния Силы, не поддаваться чувству ненависти к врагу и
презрения к бедствующему, тогда, возможно, гений эпоса
вновь будет обретен народами Европы. Придет ли такой
день, кто знает. Но вряд ли он близок1941
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬАбеляр П.147Вейль С.5,16,89-99,Аввакум протопоп 14102,103Августин Св.16,94,95,Вийон Ф.182101,102,114ВикоДж.96Авраам (библ.) 116Виргилий16,65,66,Агамемнон170101Альберти Л.60Витгенштейн Л. 5,9, ЮАльцибальд (миф.) 66Пггель Г.В.Ф.9-11,16,61,
68- 75,78,Амброзий141143Анаксимандр133Геката (миф.)20,21,23Андромаха (миф.) 103Гектор (миф.)99-101,103,Аполлон (миф.) 21,29,82166,177Араби147Гераклит16,100,108,Арианн88109,129,Ариосто Л.67,70130-135Аристотель10,16,35,36,Геродот16,21-25,/чп А ^/*Ч38,45,58,64,
65,10828,48,59,
108,114Аристофан13,16,78-Гесиод21,8281,85Гиппократ27Арий (миф.)100ГЪббсТ.7.30,117,Афина (миф.)79,86128Афродита (миф.) 871Ъмер14,16,21,22,
25,29,52,62,
82,83,87-
100,140,165,Ахиллес (миф.) 87,99,166,
167,170-172,175,178178Аякс (миф.)100,101,103Гораций2,66,155Бональд7Гофмансталь iyro фон 7,9,Бхагавадгита90,9196Вебер М.5,7,9,64,123Грамши А.6
185Данилевский Н. 2
Данте А. 16,69,70Джентиле Дж. 6,7
Достоевский Ф.М. 3,14,15,
16,92,102
Епименид (миф.) 20,23Зевс (миф.) 12,14,65,78,
82-87,.100,
101,155,170,
173Зиммель Г. 9
Иоанн (библ.) 148
Иов (библ.) 102
Ипполит 115
Исократ 53,60КантИ. 10,16,121Ксенофонт 51,55,57,60,
64,108,110
КузанскийН. 147,148
Леопарди Дж. 80
ЛуллийР. 147,155
МаццариноС. 21
Макиавелли Н. 46, 54,61
Маркс К. 6,7,10,11,46Марс (миф.) 86,87,99,102Матфей евангелистМ, 112
Мельвилль 59,152
Минос (миф.) 67,83- 98
Моисей (библ.) 112
Мольер Ж. 182
Муссолини Б. 6
Мэстр Ж. де 6,7Немезида (миф.) 171
Ницше Ф. 1,3,5,9,10,
16,48,54,66,
68,74-78,81,104,107,
162Одиссей (миф.) 3,69,70,82,
83,152,174,
179Ортега-и-Гассет 64
Павел апостол 14,102,113,
114ПарейсонЛ. 92
Парменид 34,109,130,
135-138
Паскаль Б. 51
Патрокл (миф.) 100,171,175,176Перикл 24,52,57-61,65,66Петр апостол 113
Пико делла Мирандола 143
Пифагор 33,81,98,134-137,172
Платон 8,10,16,20,28,33-49,
52-55,57,58,59,62-
64,66,76,
80-89,94,
98,108-110,
118,134,137,
138,148,172
Полибий 36,64
Посейдон (миф.) 65,88
Прокл 87Прометей (миф.) 3,97,98
186Псевдо-Ксенофонт 55,57,
60,64,110Расин Ж.182Рено94,96Ригведа85Розенцвейг Ф.10,11,104Розмини А.142Сенека10,110Сервантес М. де 82Симмах141Сократ.36,39,42,53,59-61,71-73,76,78,87,137,152Соловьев B.C.3Софокл16,28,180Спиноза Б.118Сцилла (миф.)3Тезей (миф.)87Теогнид76Терсит (миф.)170Тертуллиан111Тиртей (миф.)63ТоквильА3,16,71,72Толстой Л. Н.15,16Фалес22Фейербах Л.6Фемида (миф.) 83
Фемистокл (миф.) 61,66
Филолай 134,137
Фихте 6Фукидид 16,41,48-59,66,70,73,
76,94,104
Хайдеггер М. 5,16,104,107,109,156,
158,160
Харибда (миф.) 3
Христос Иисус 14,90,91,112,113,147,
148,180,182
Цимон (миф.) 66
Чехов А. П. 14,15
Шекспир В. 182
Шестов Л. 14-16,102
Шмитт К 5-8,16,68,
104-109,
115,117,121,
125,128
Шпенглер О. 2
Эмпедокл 28
Эсхил 12,16,25,97,98,172,180Юнгер 5,74,105,107
ГУП СЦ rOCKOtCKHil JC*1 К11ИГи
Каччари Геофилософия
ЕвропыЦена: 185.004374302Й%19ВД437ШЙ1Э040Подписано в печать 26.10.04. Формат 60x84 /16.
Печать офсетная. Печ. л. 12. Тираж 3000 экз. Заказ № 1009.ООО «Издательство «Пневма»198504, Санкт-Петербург, Ст. Петергоф,, а/я 141, телефакс (812)428-70-56Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Техническая книга»
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29