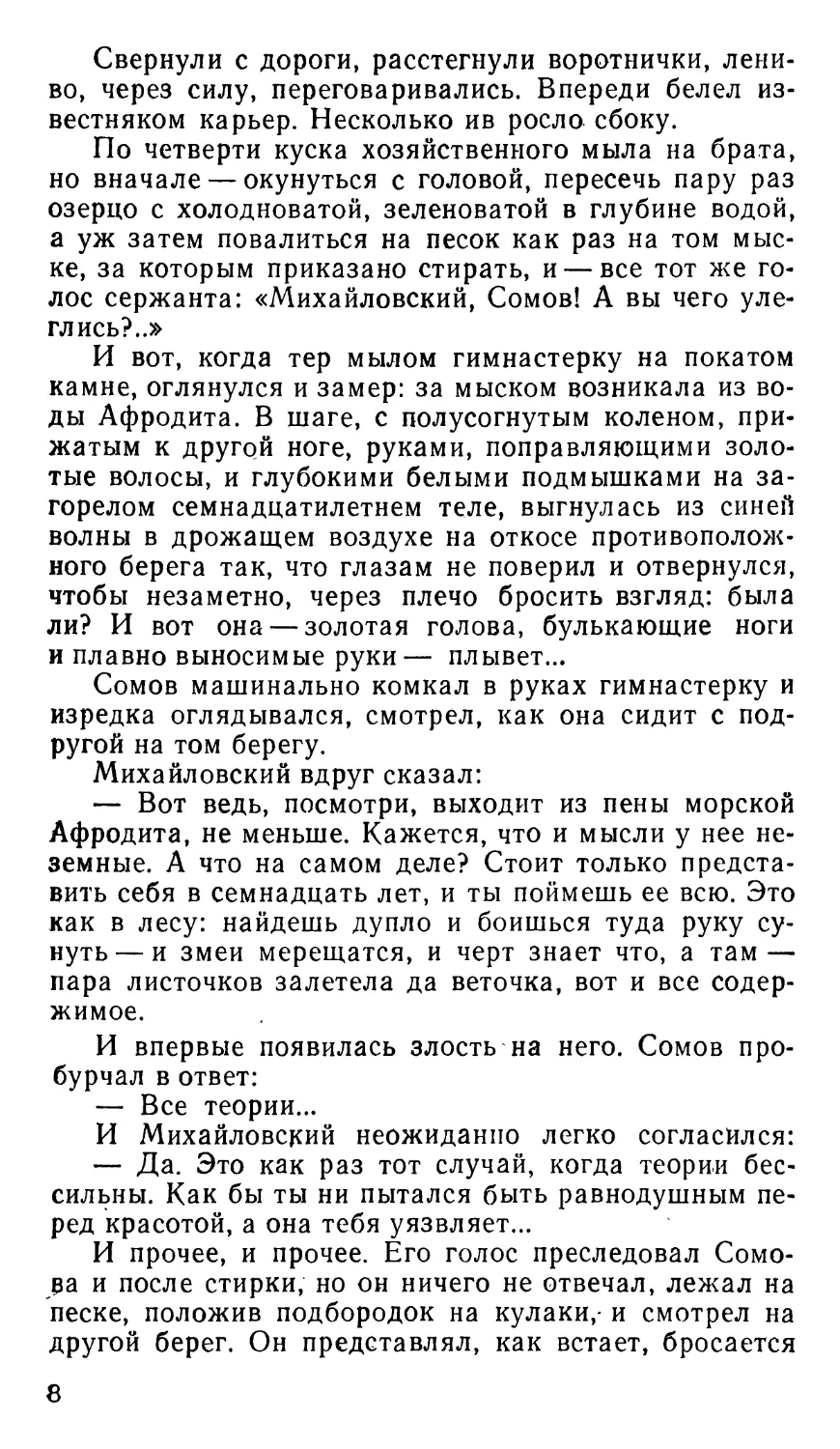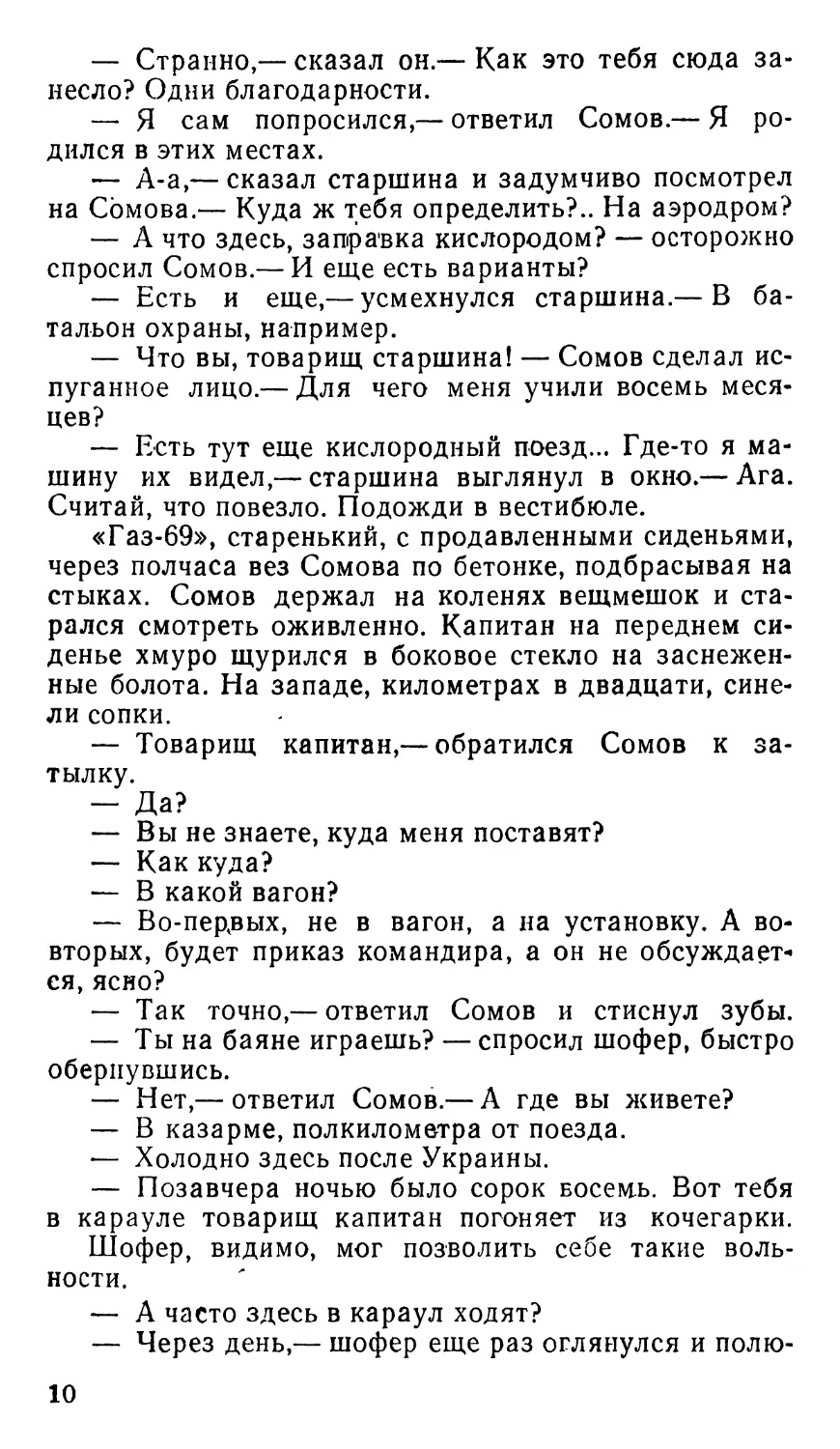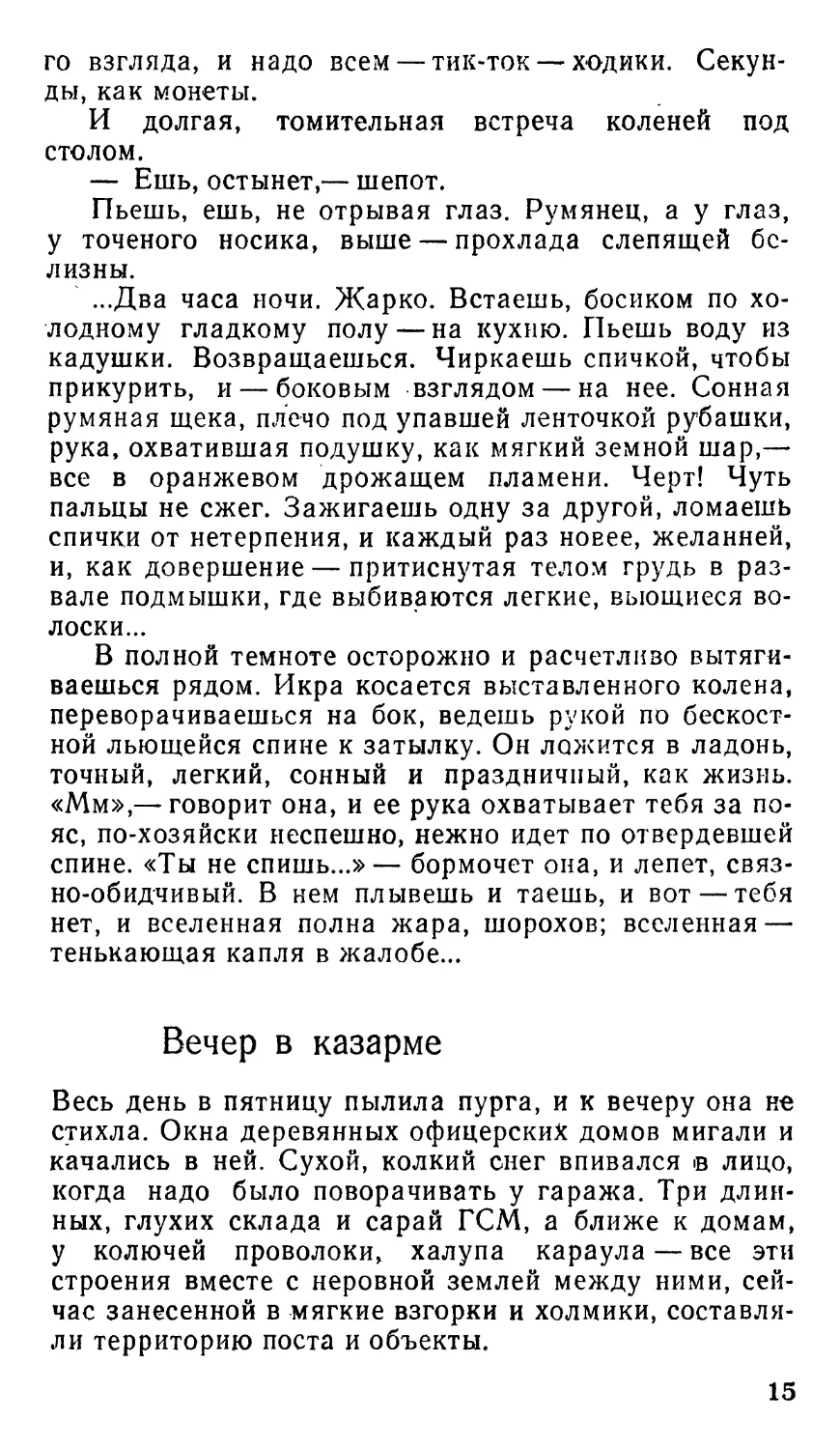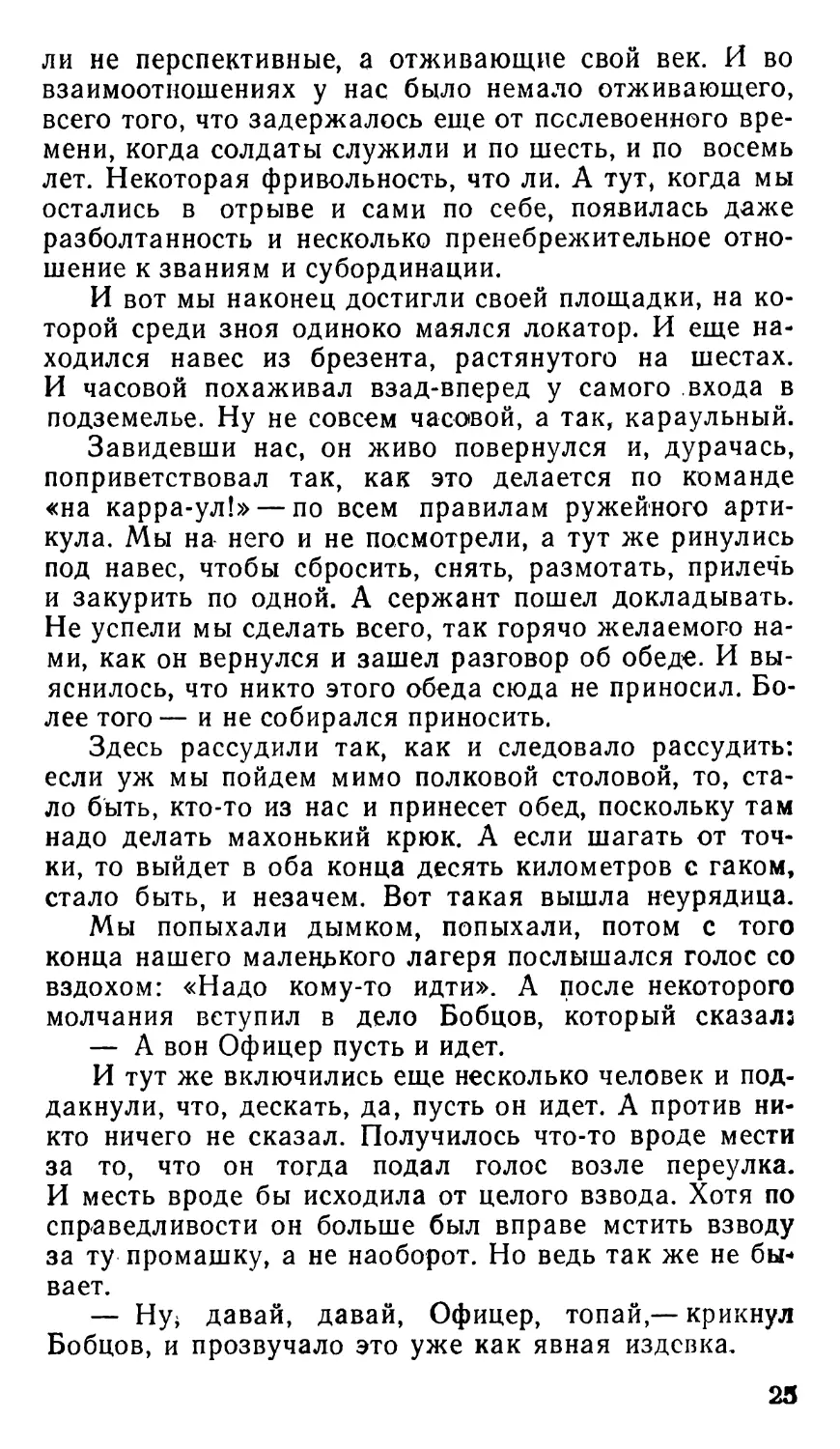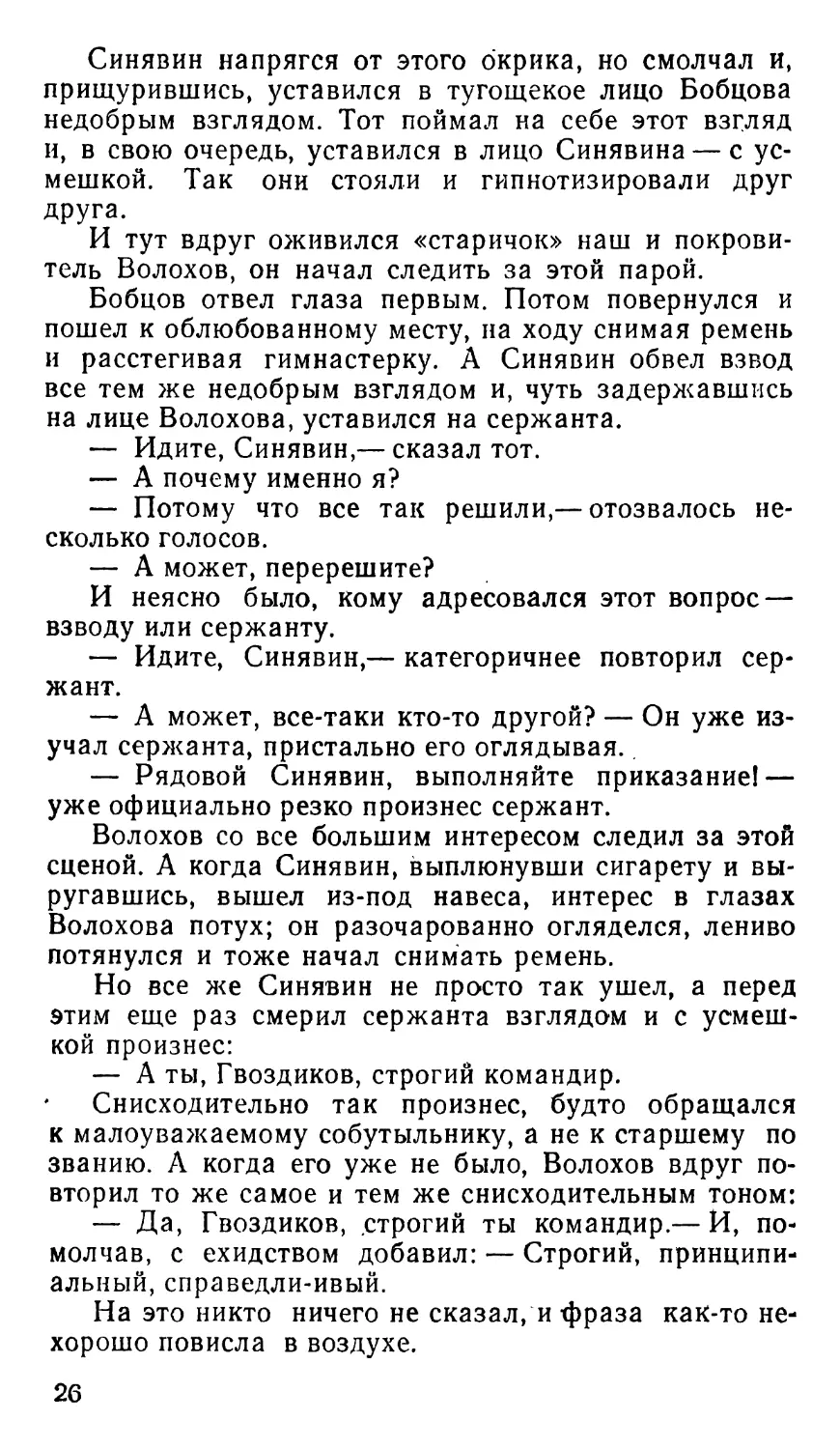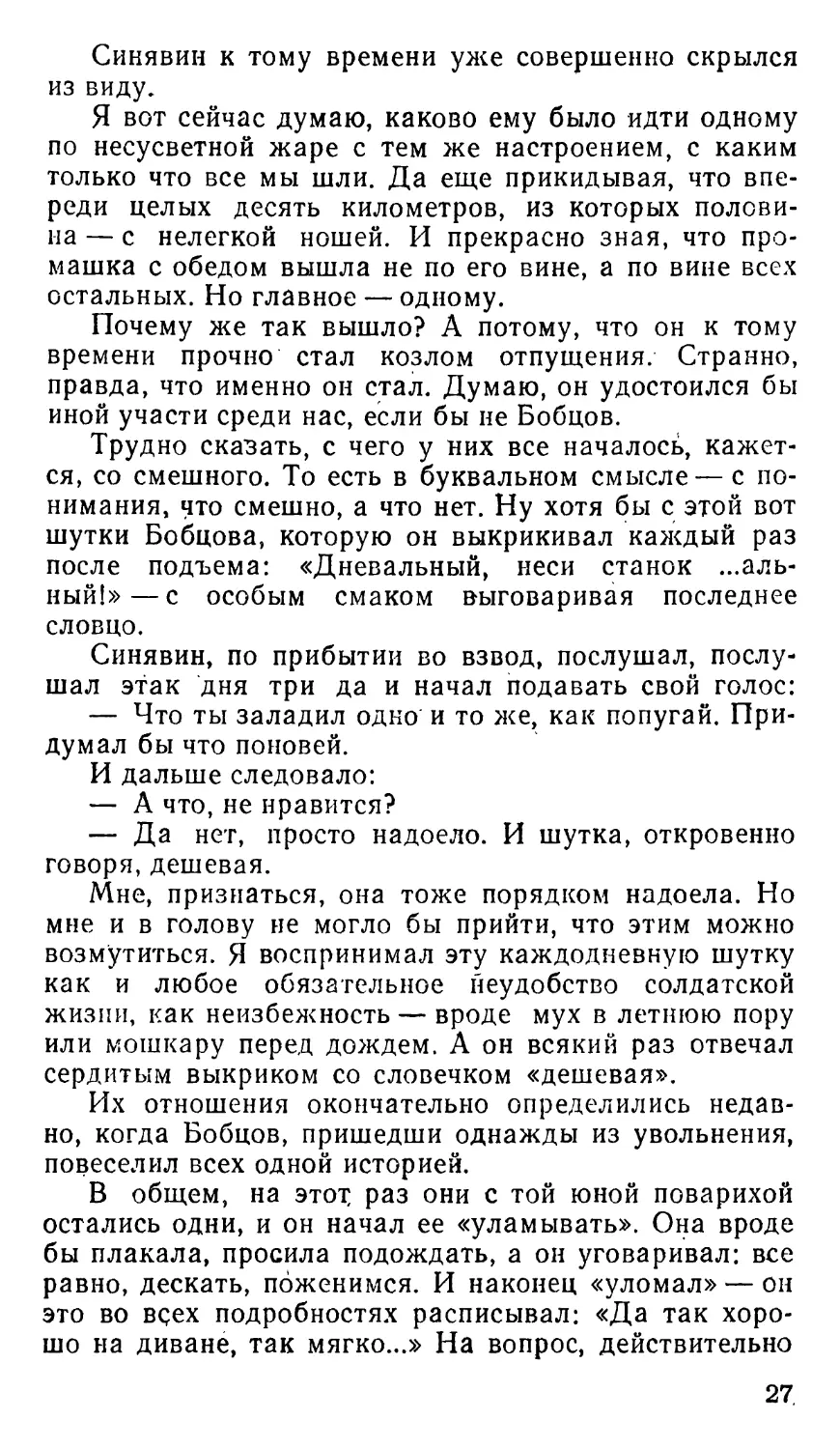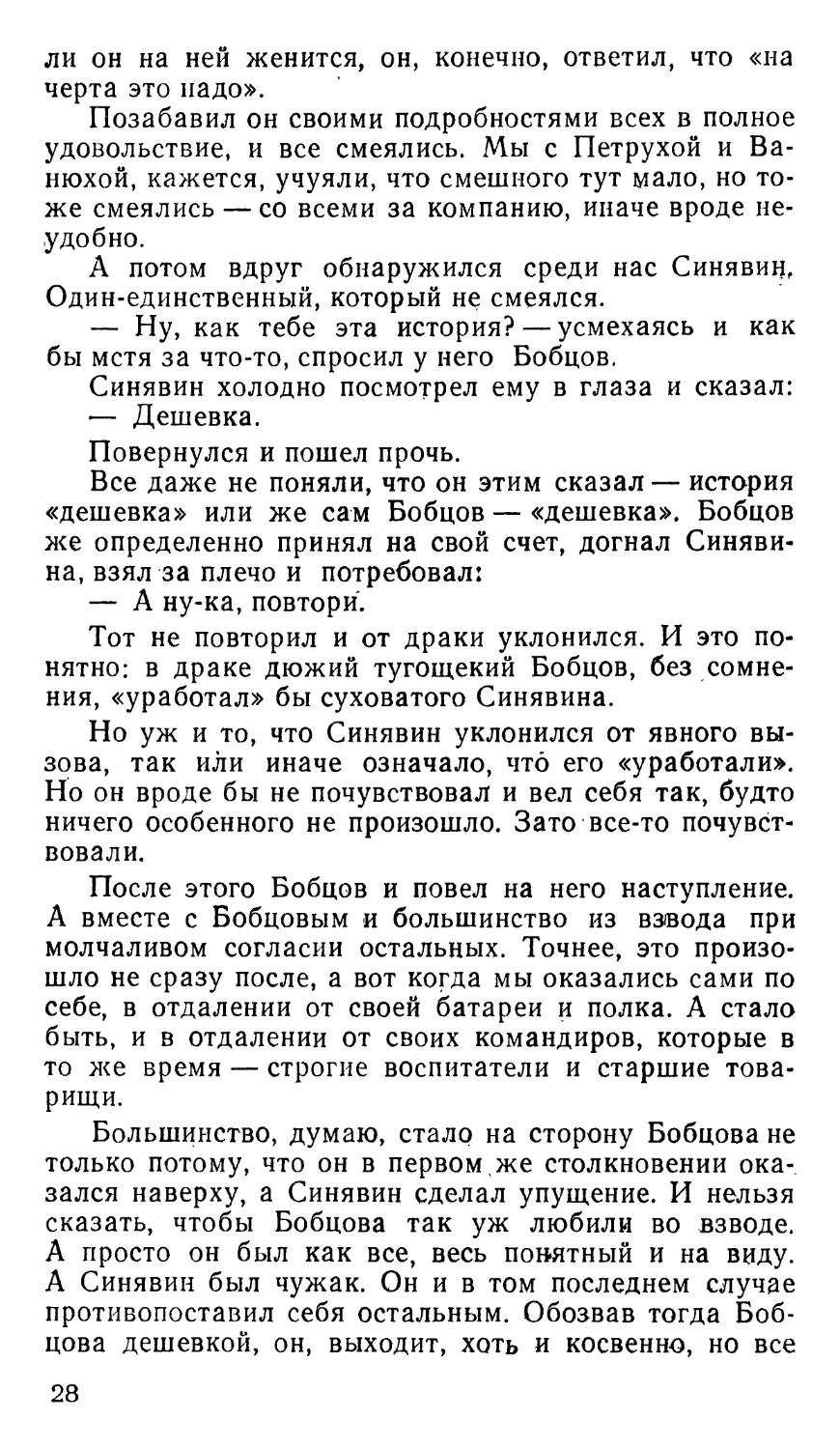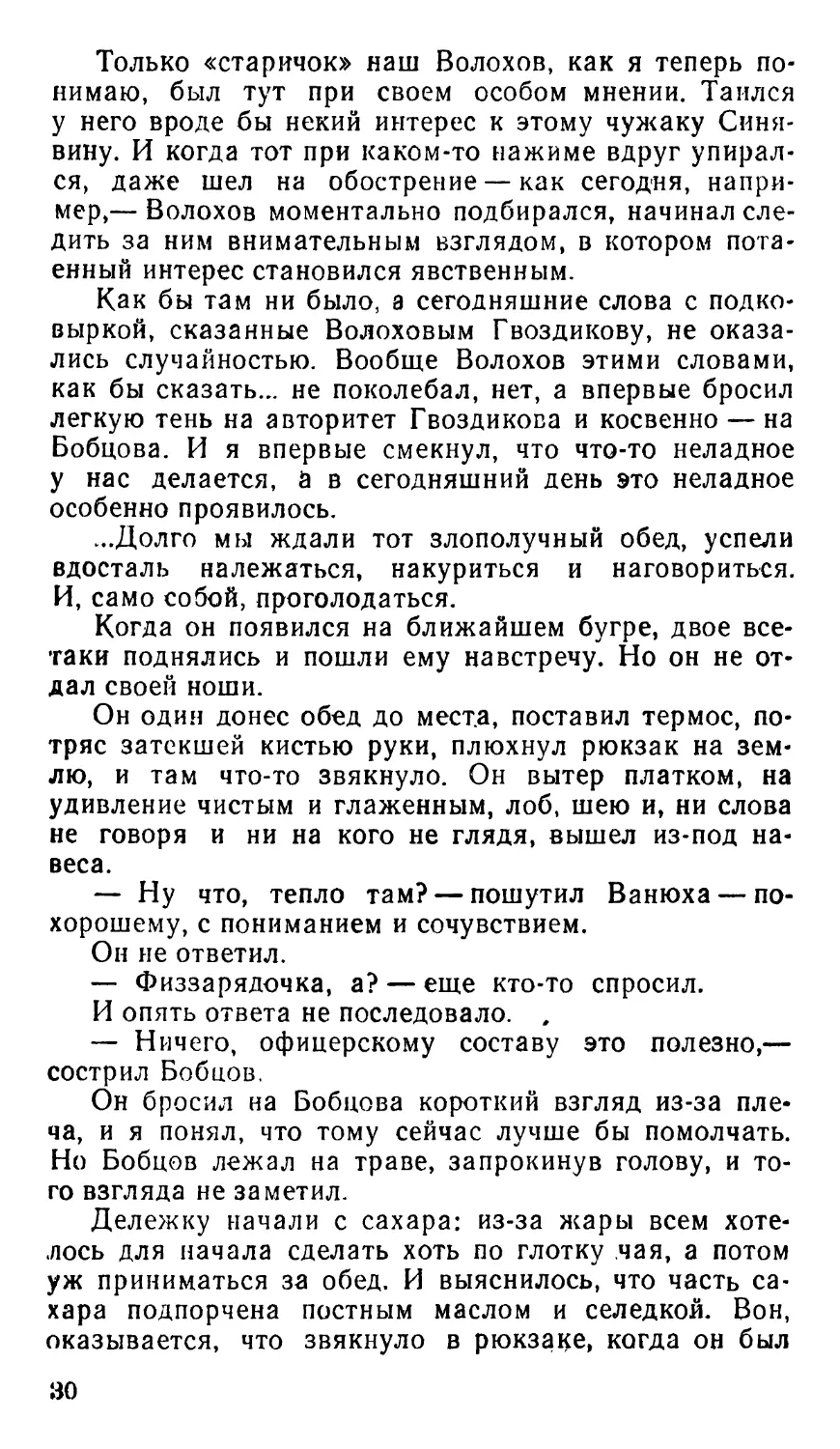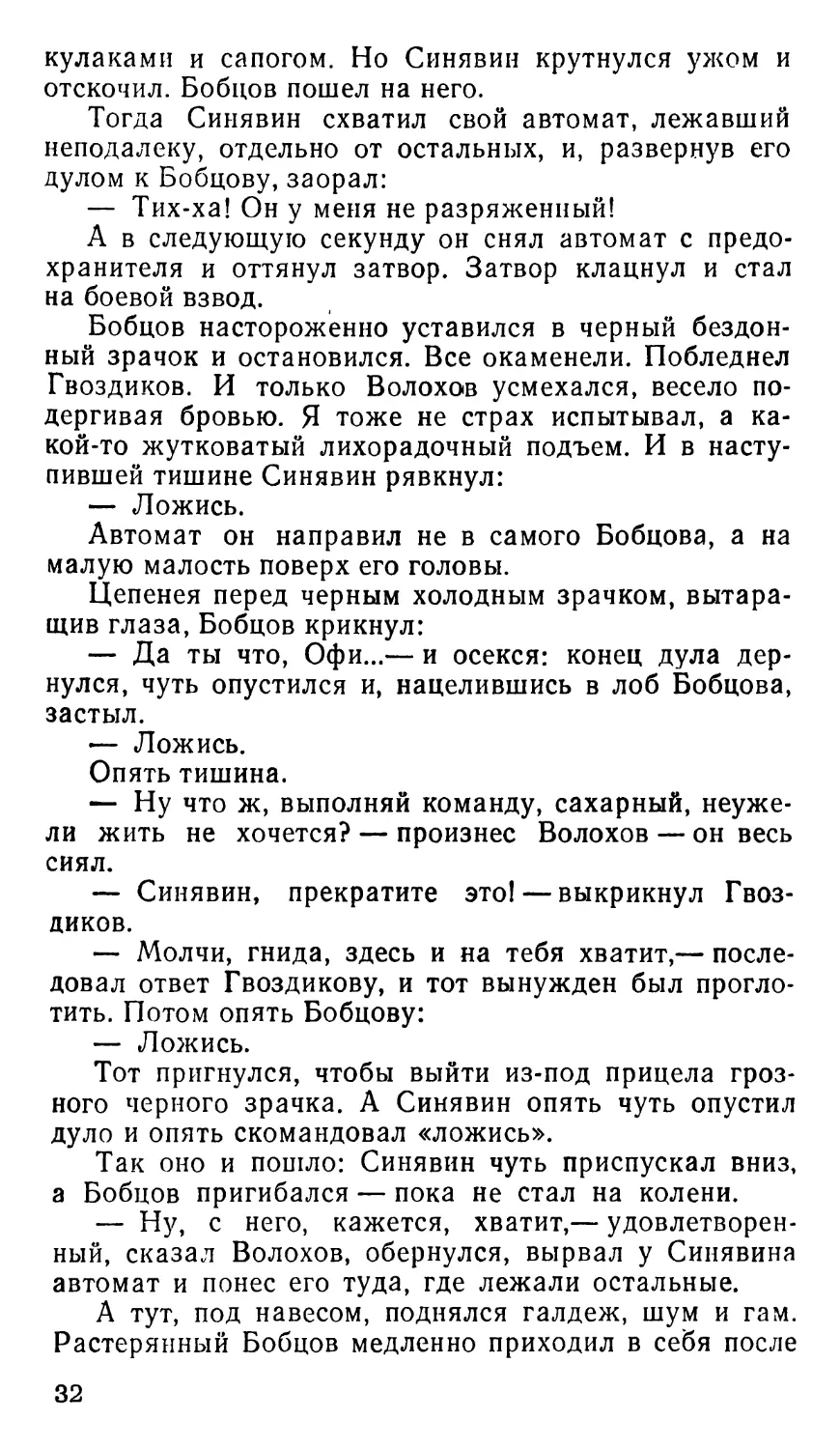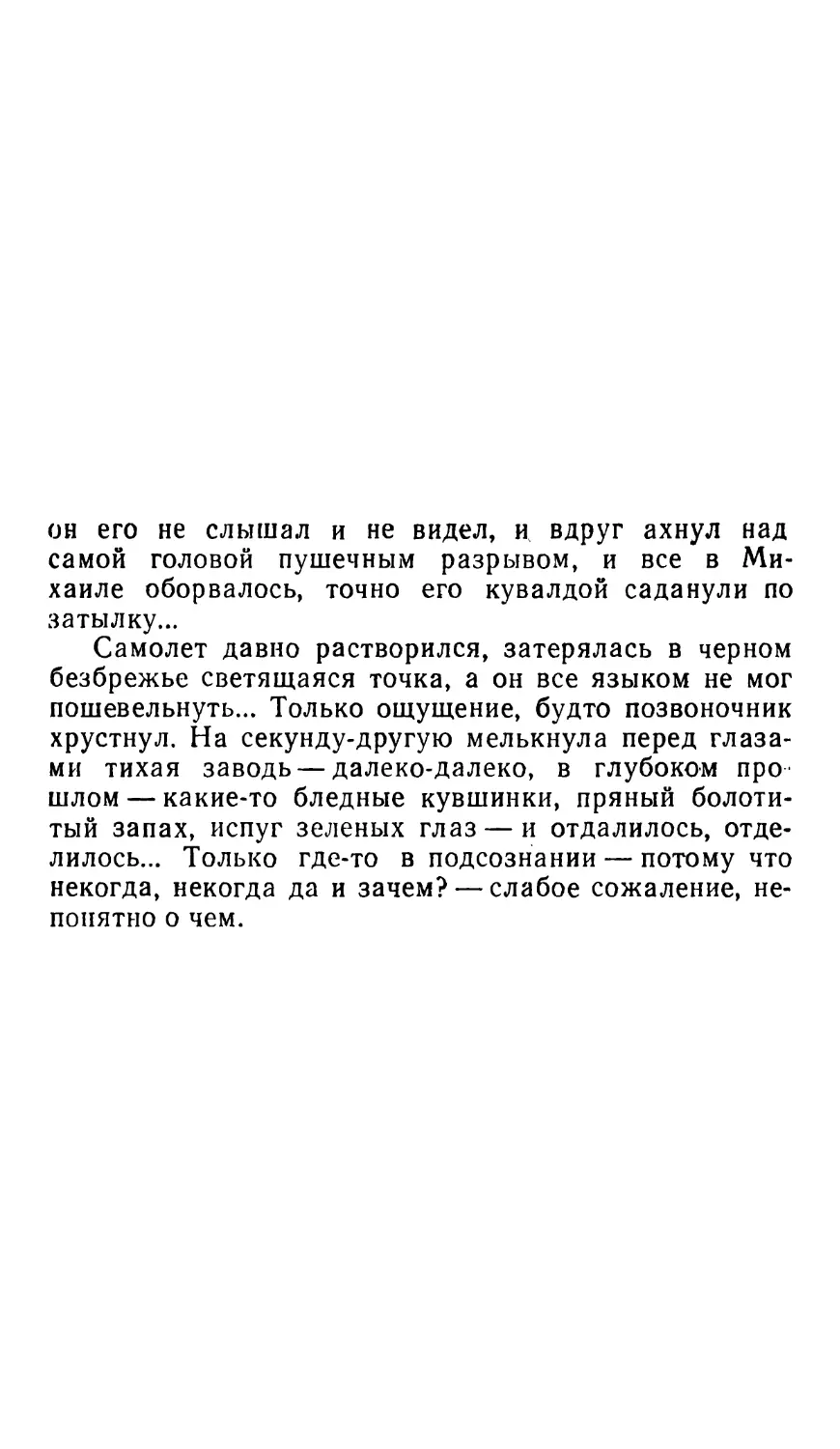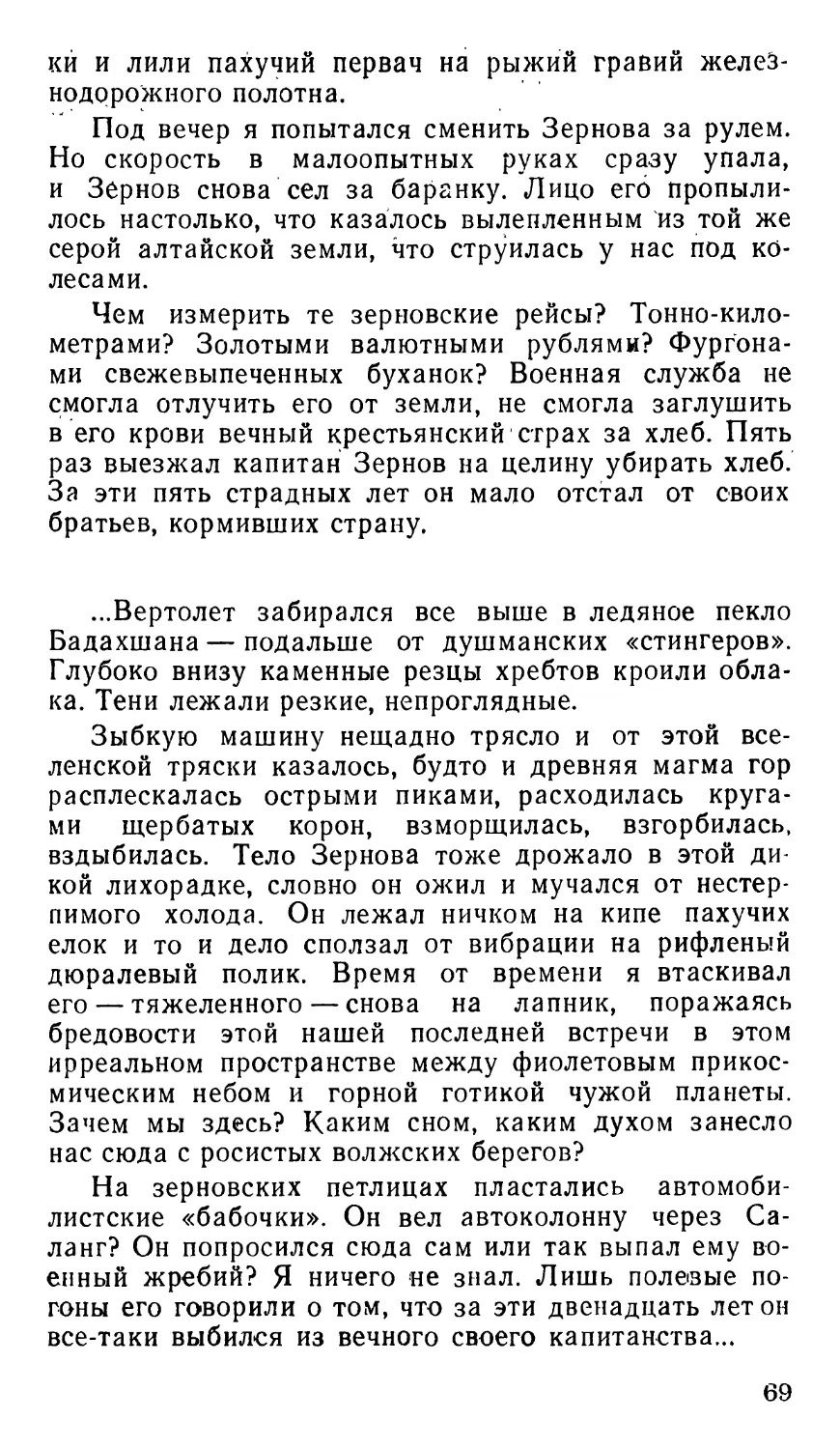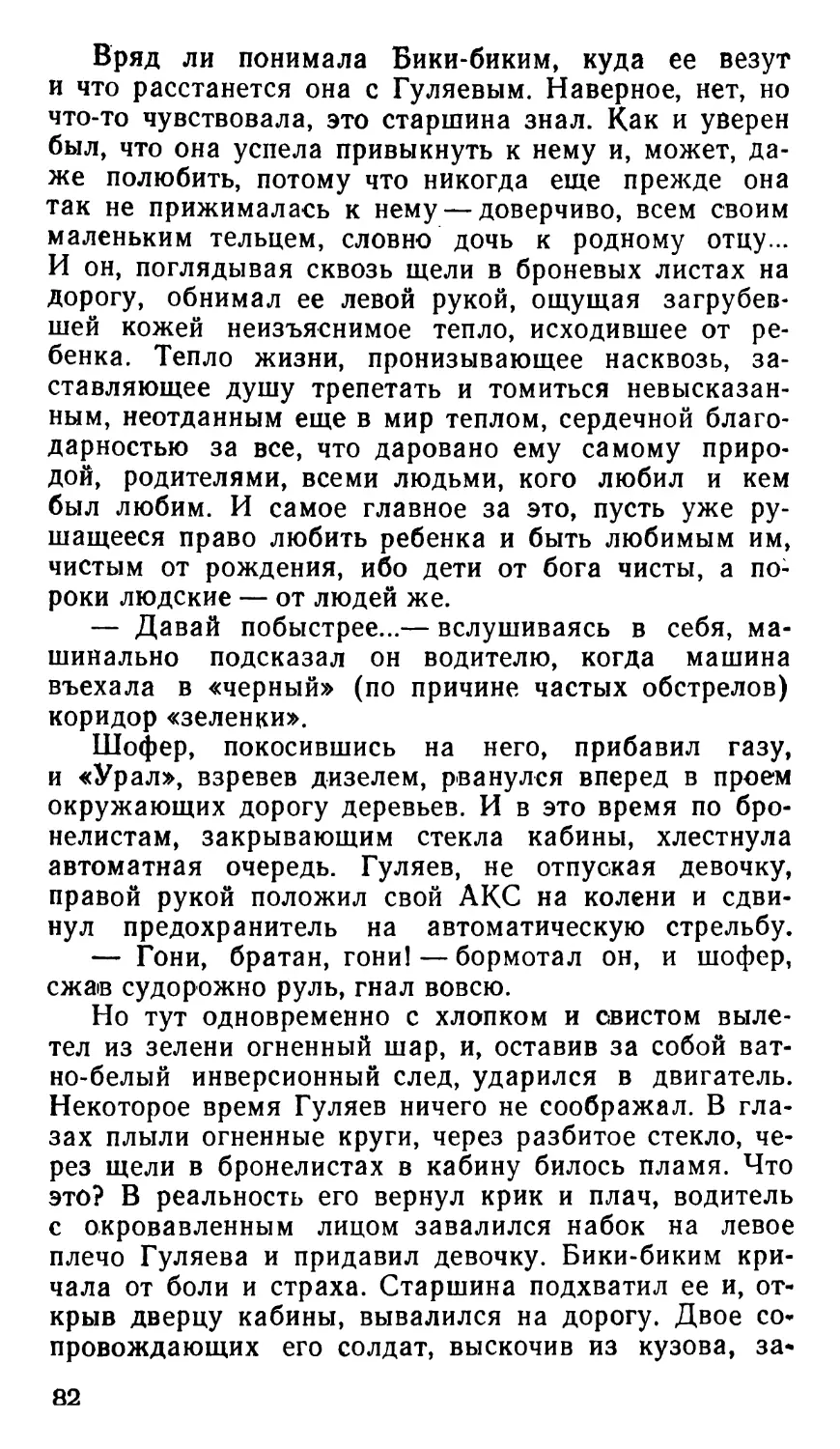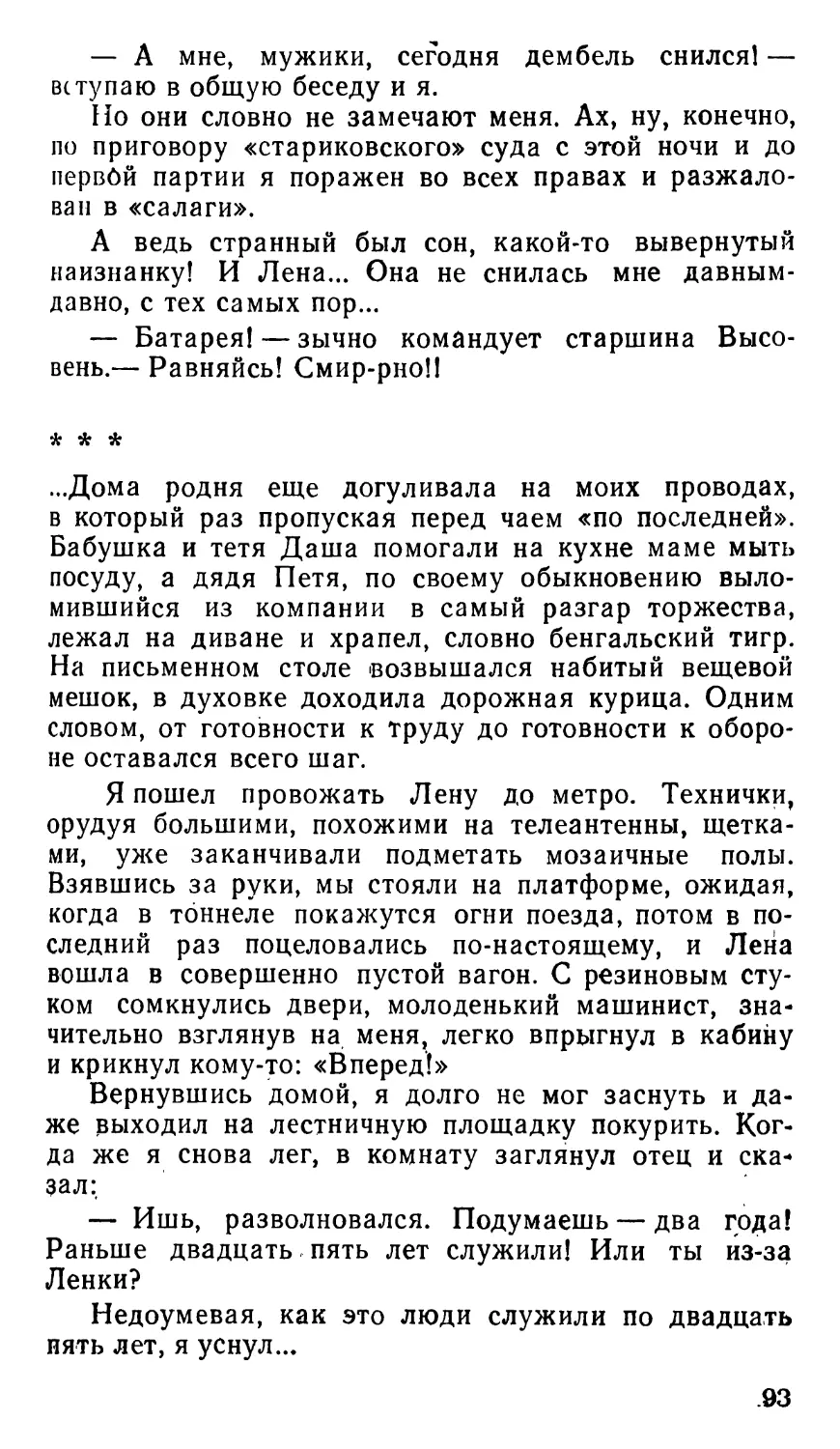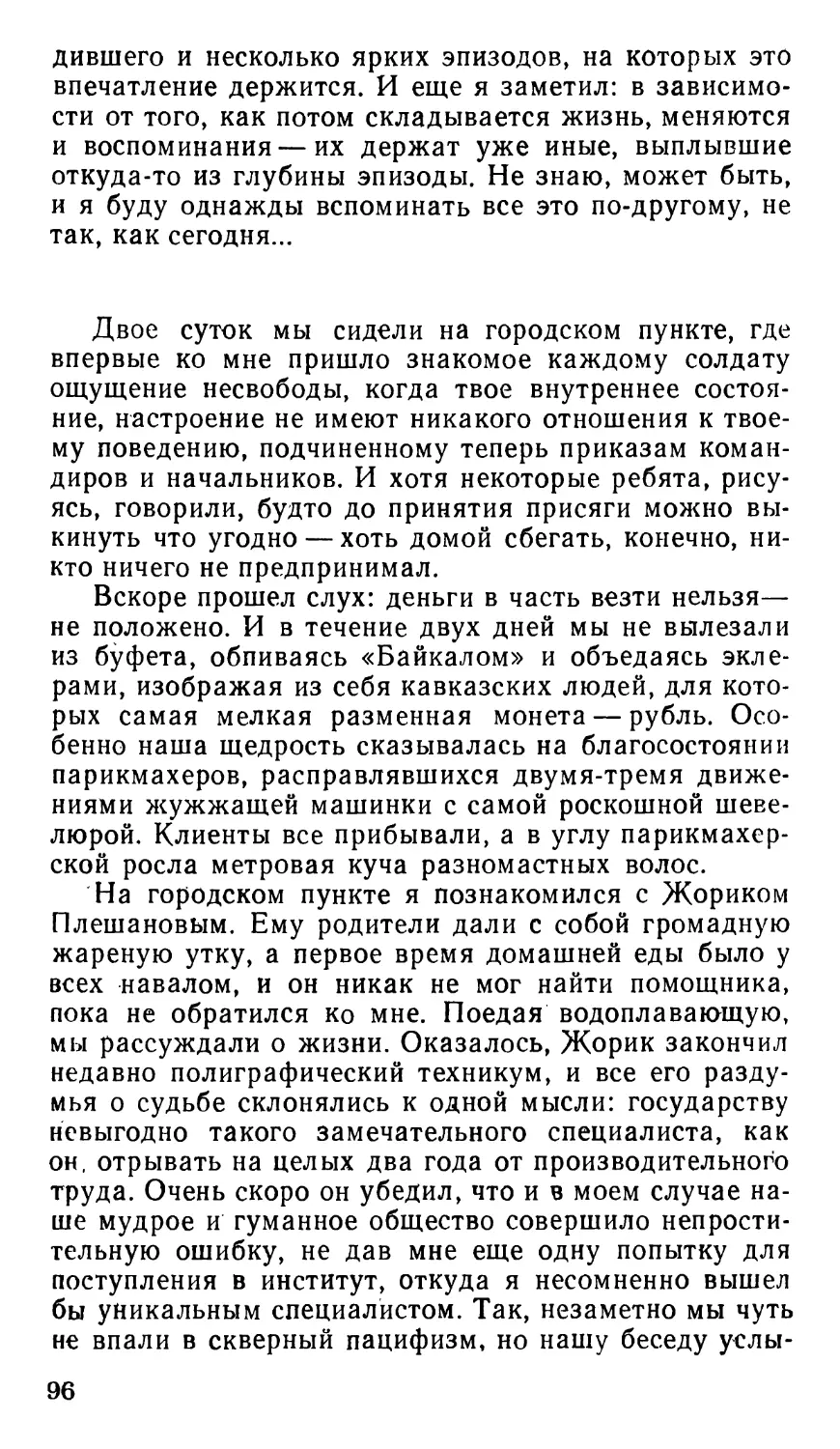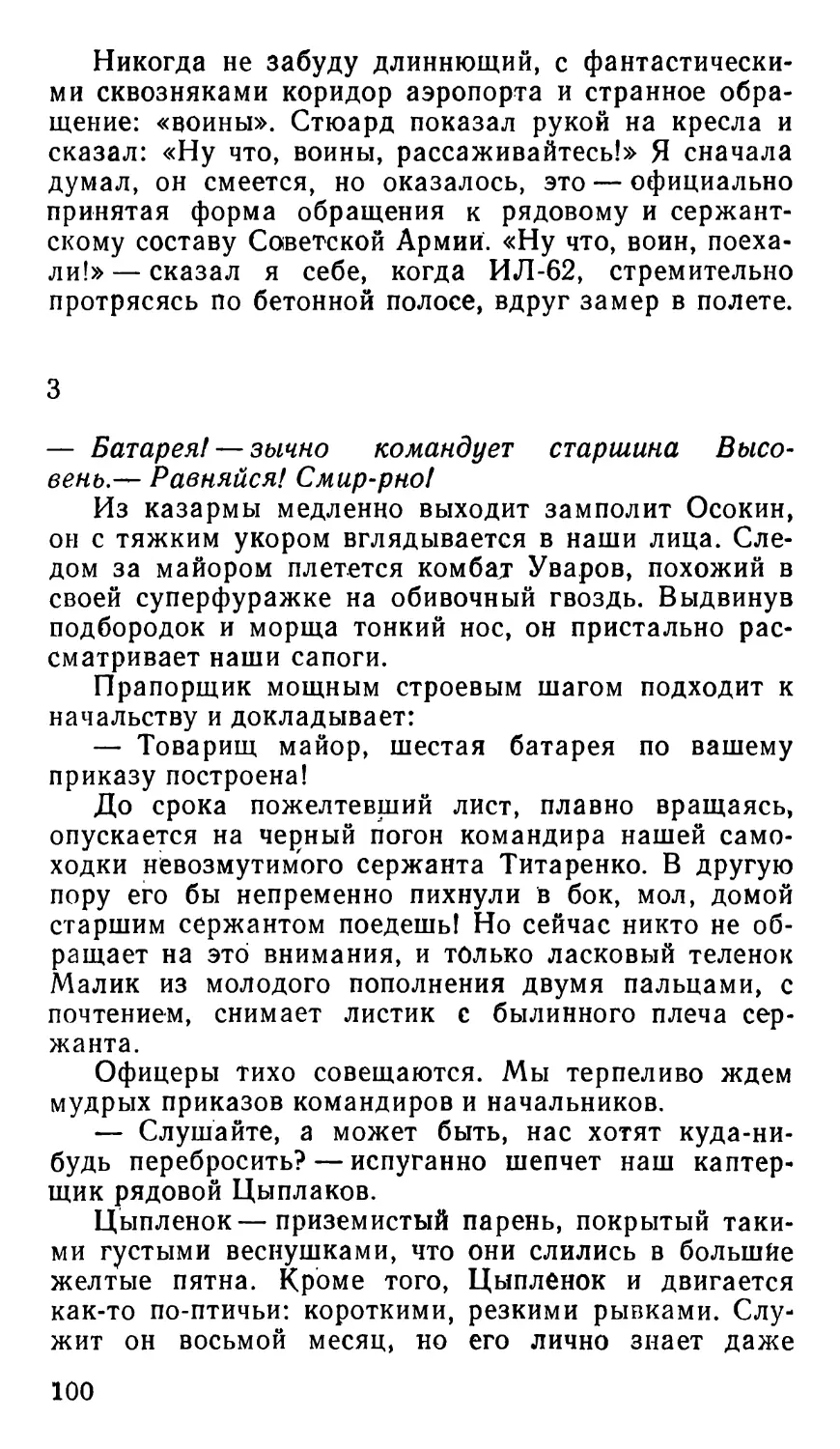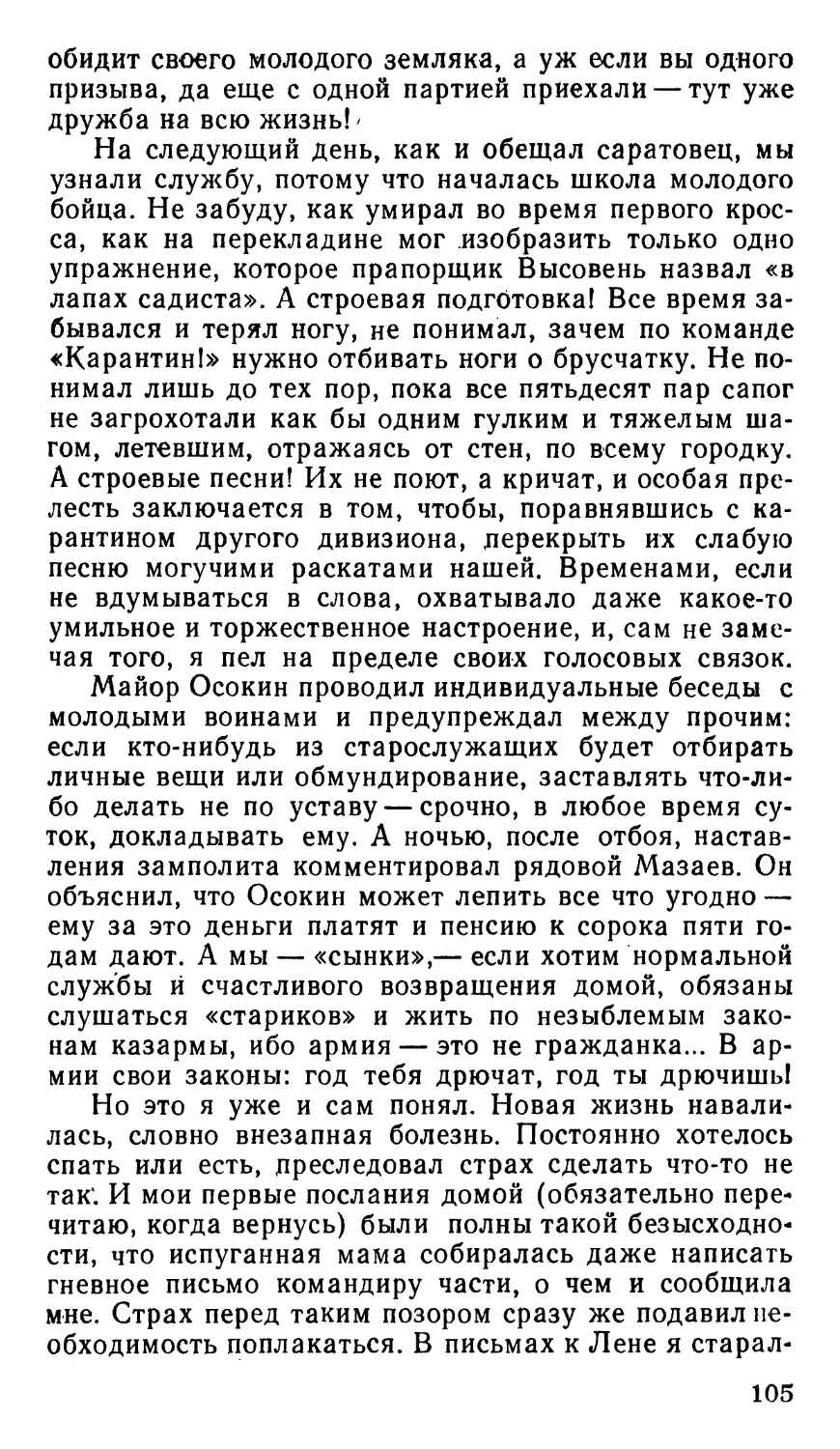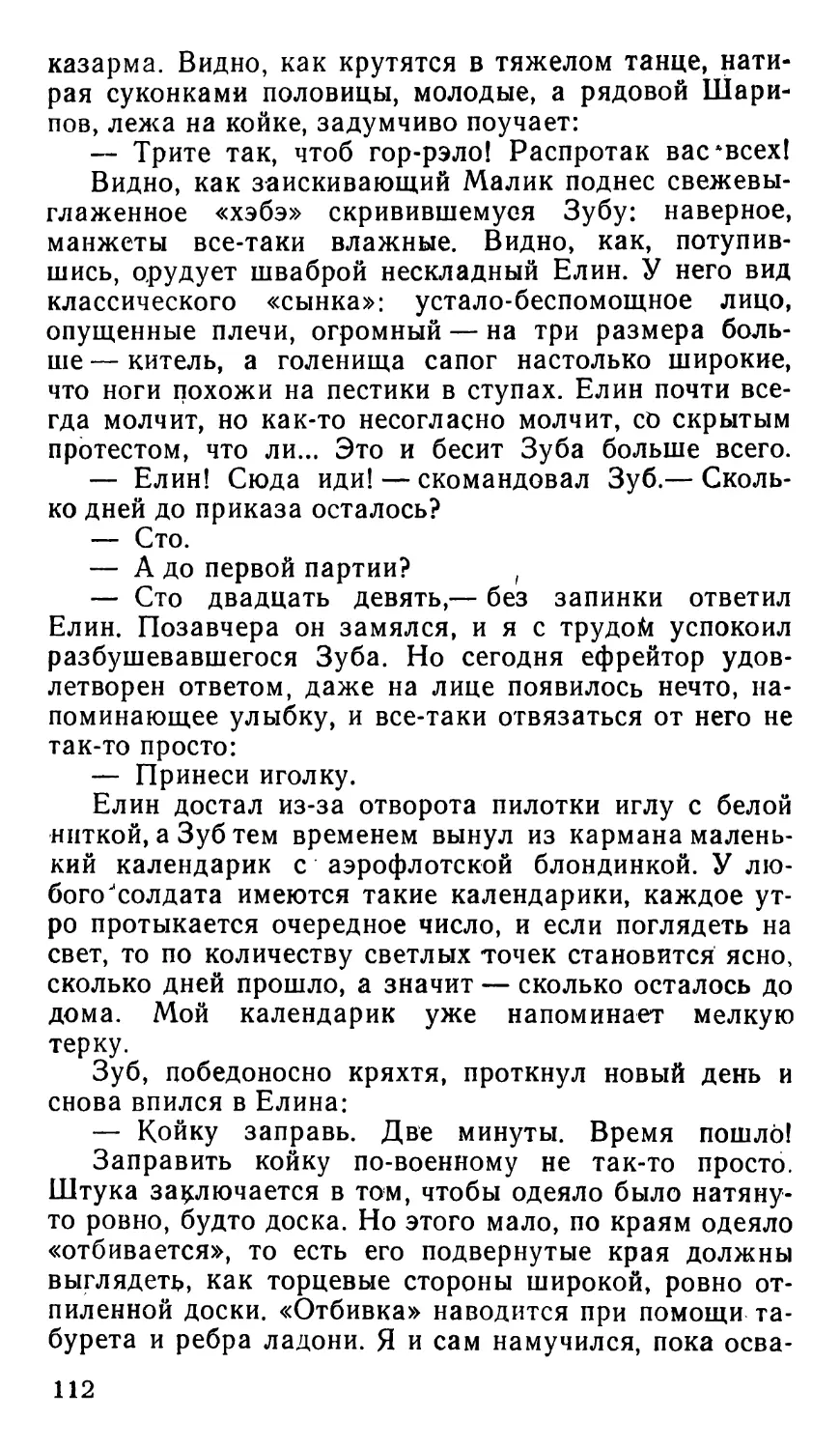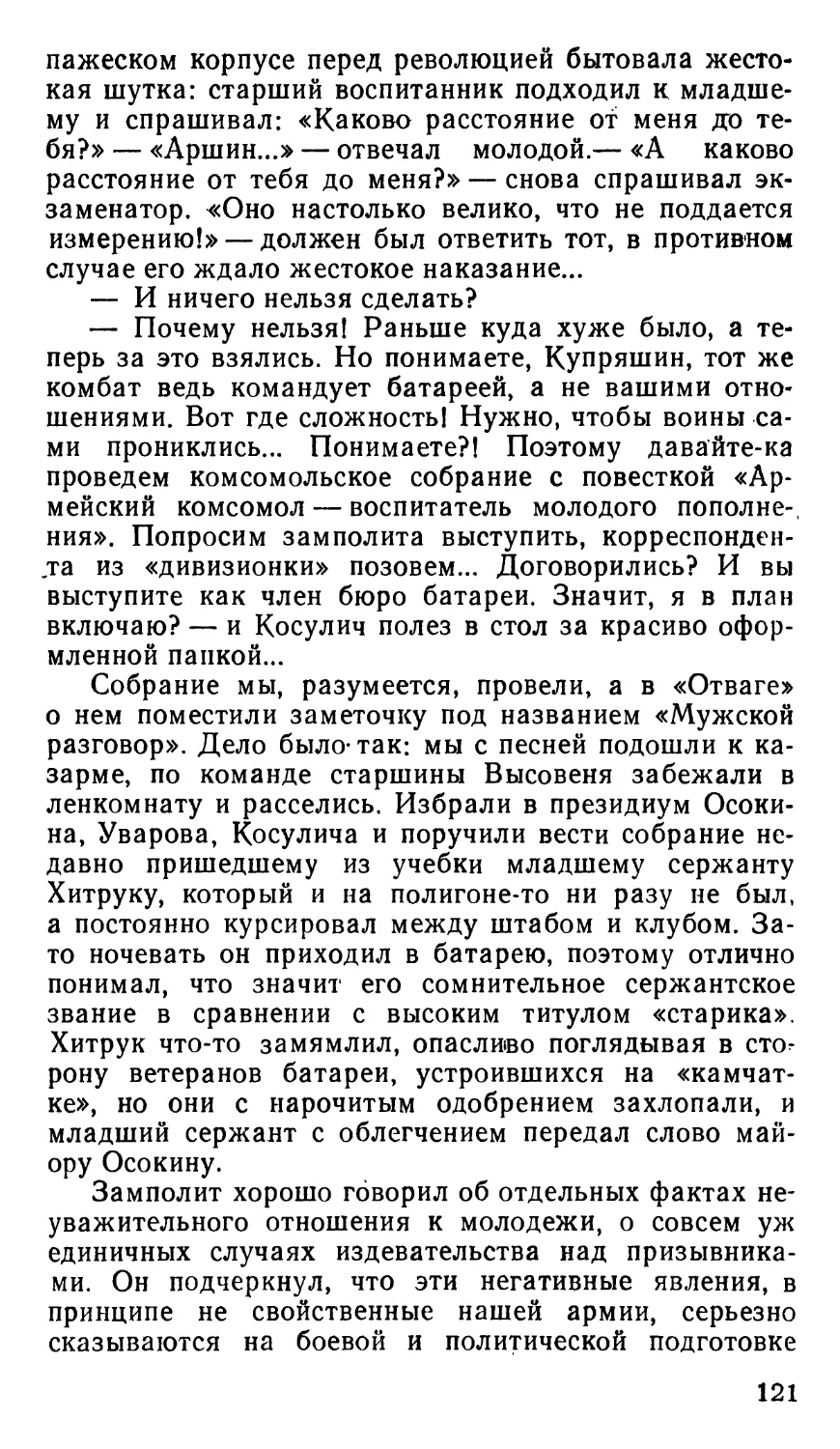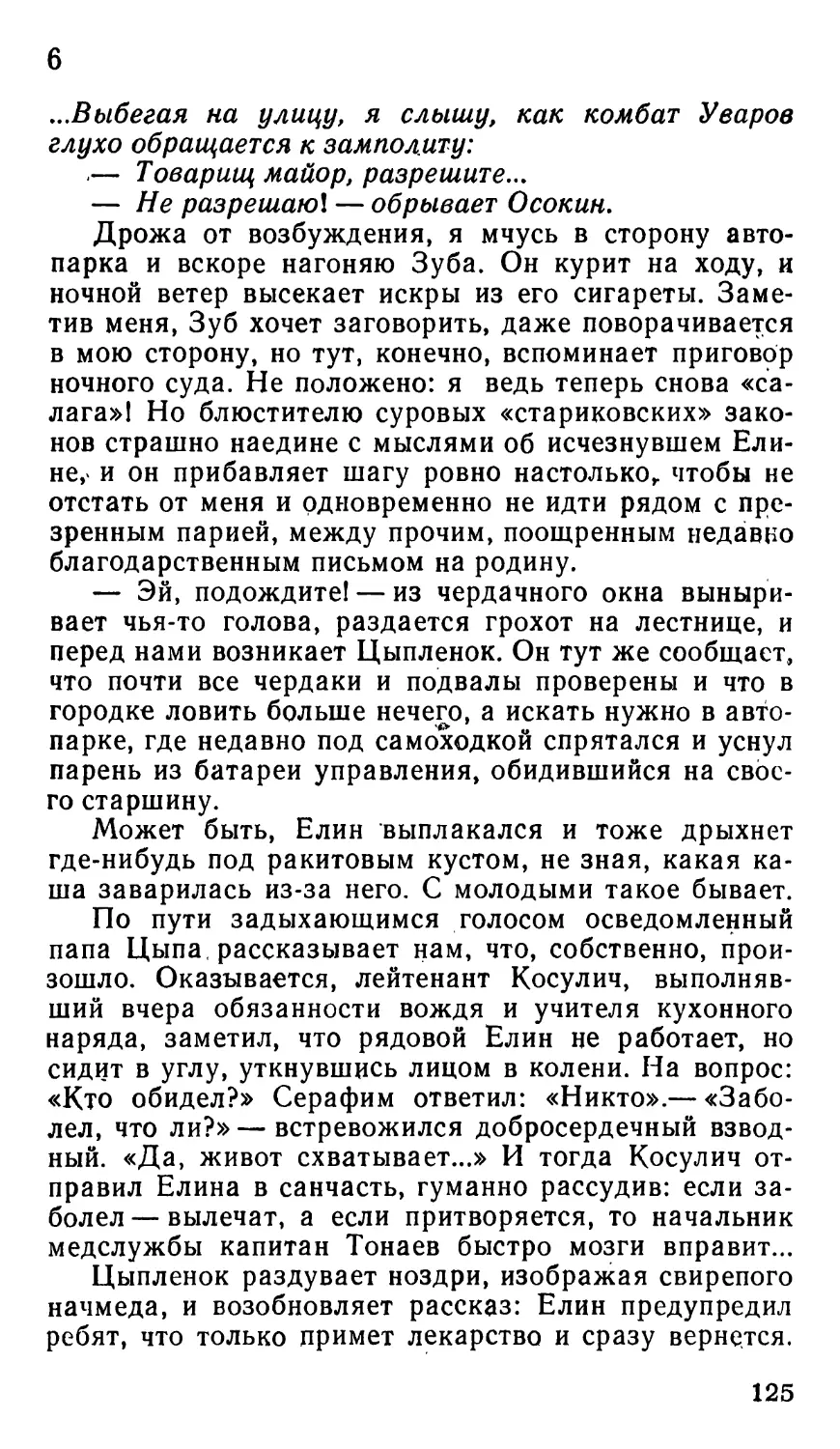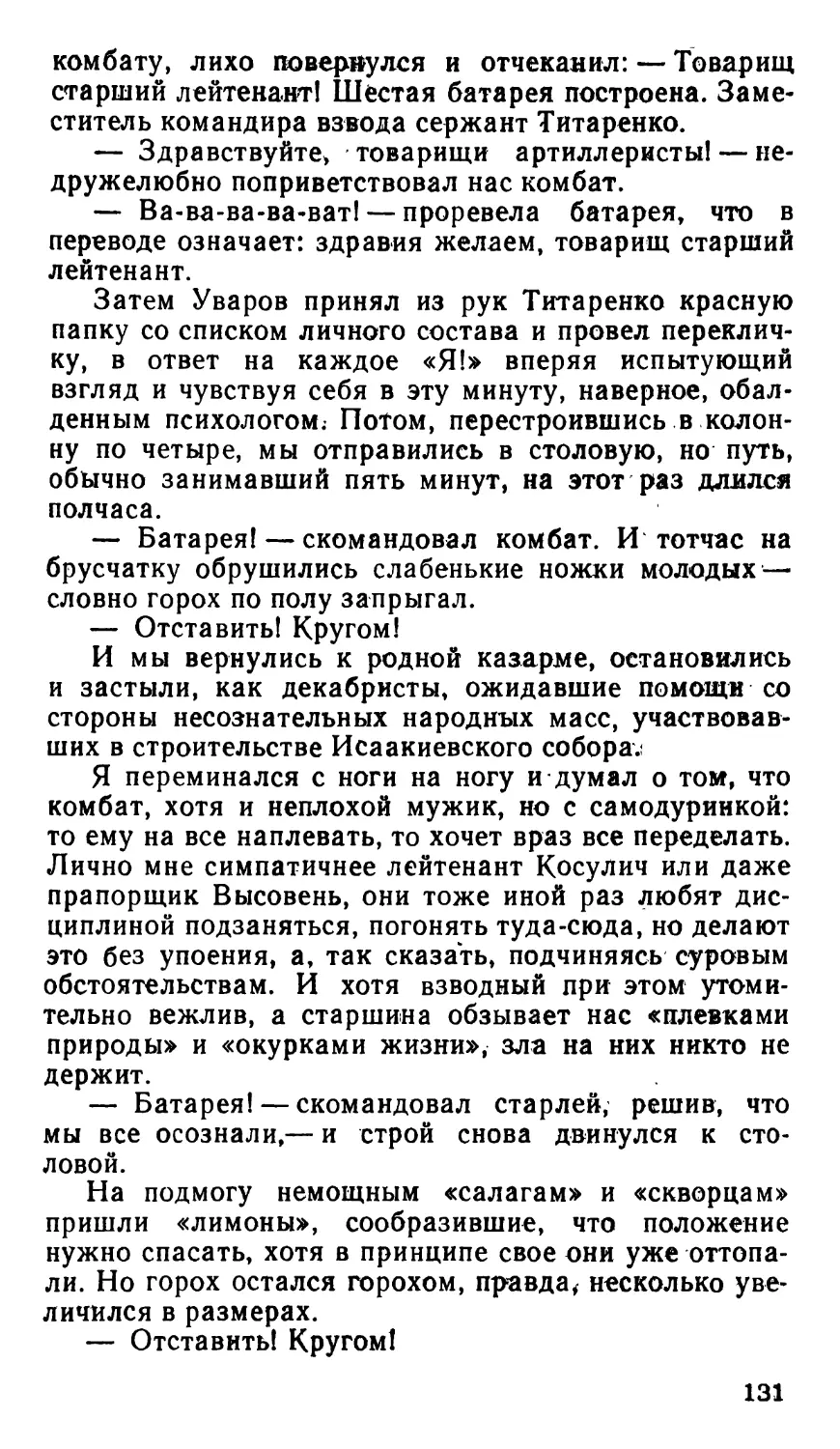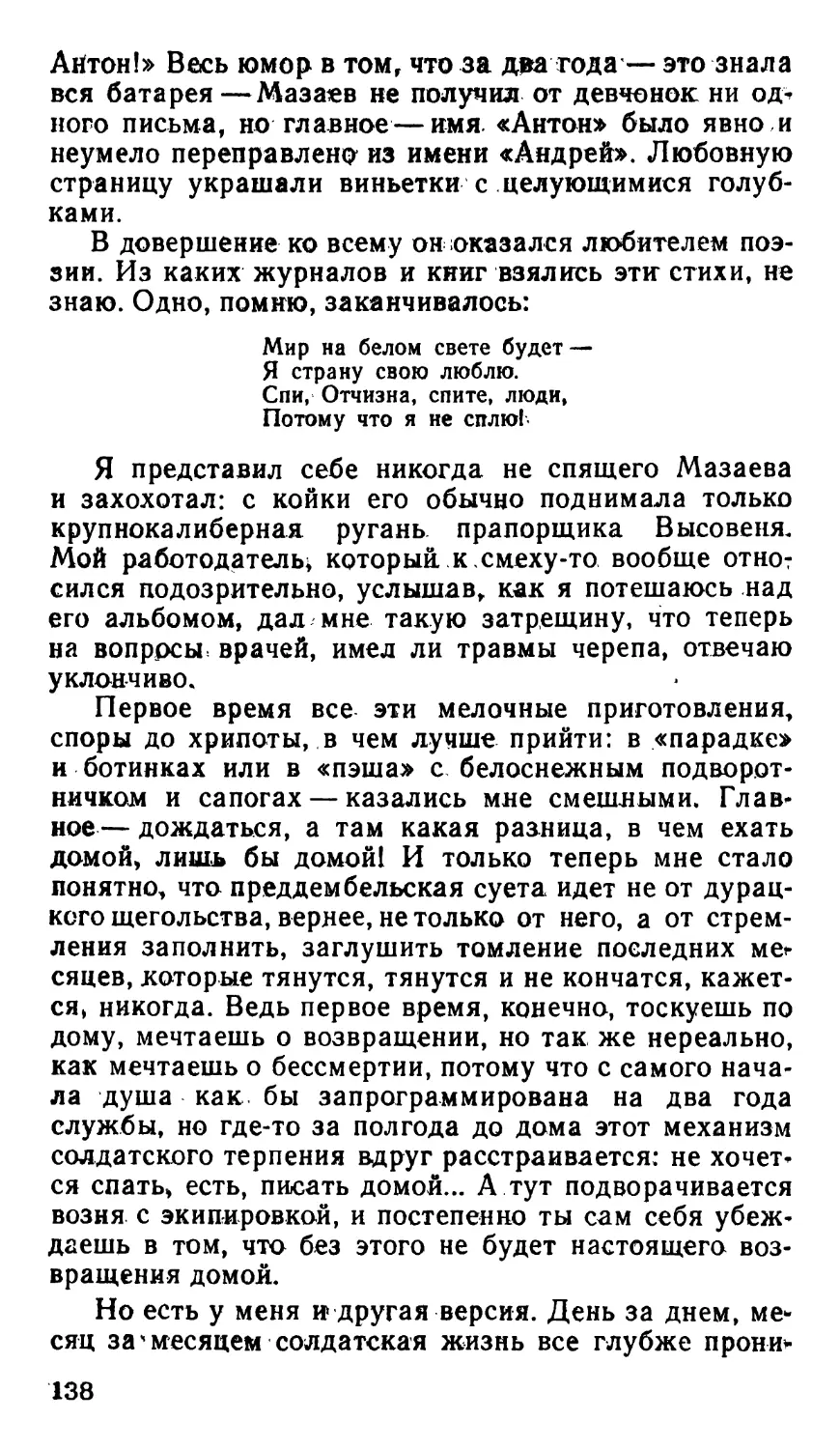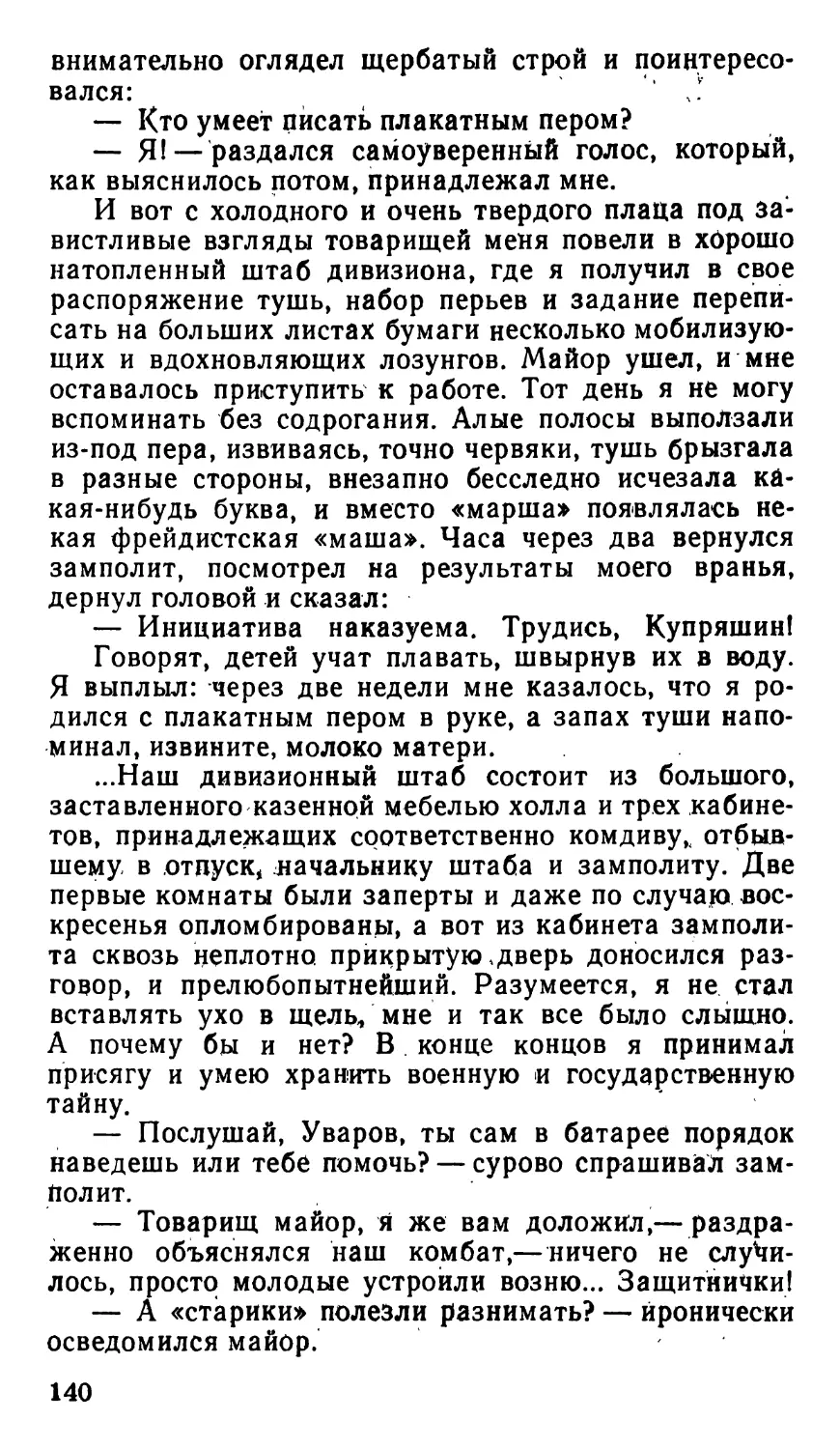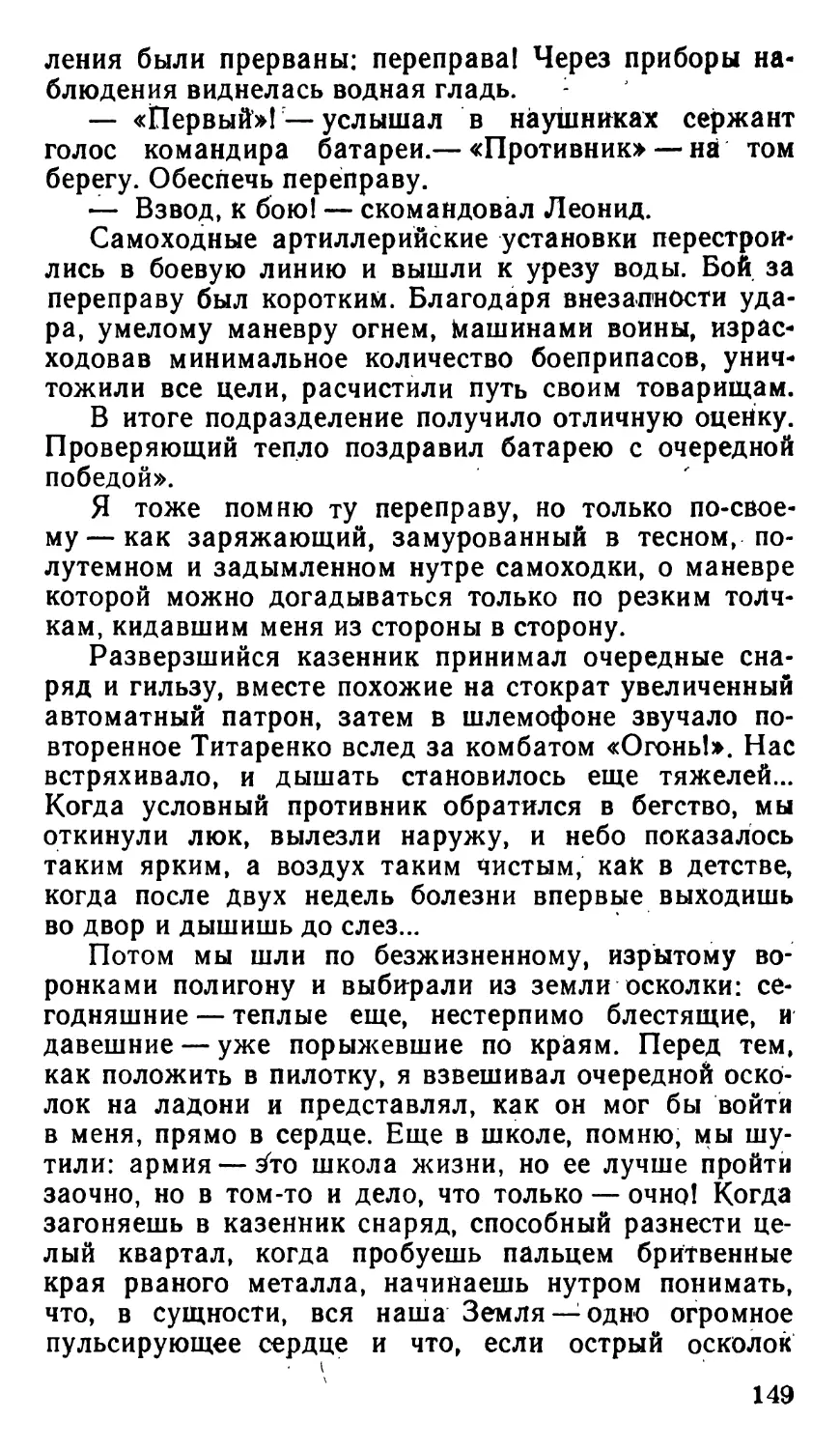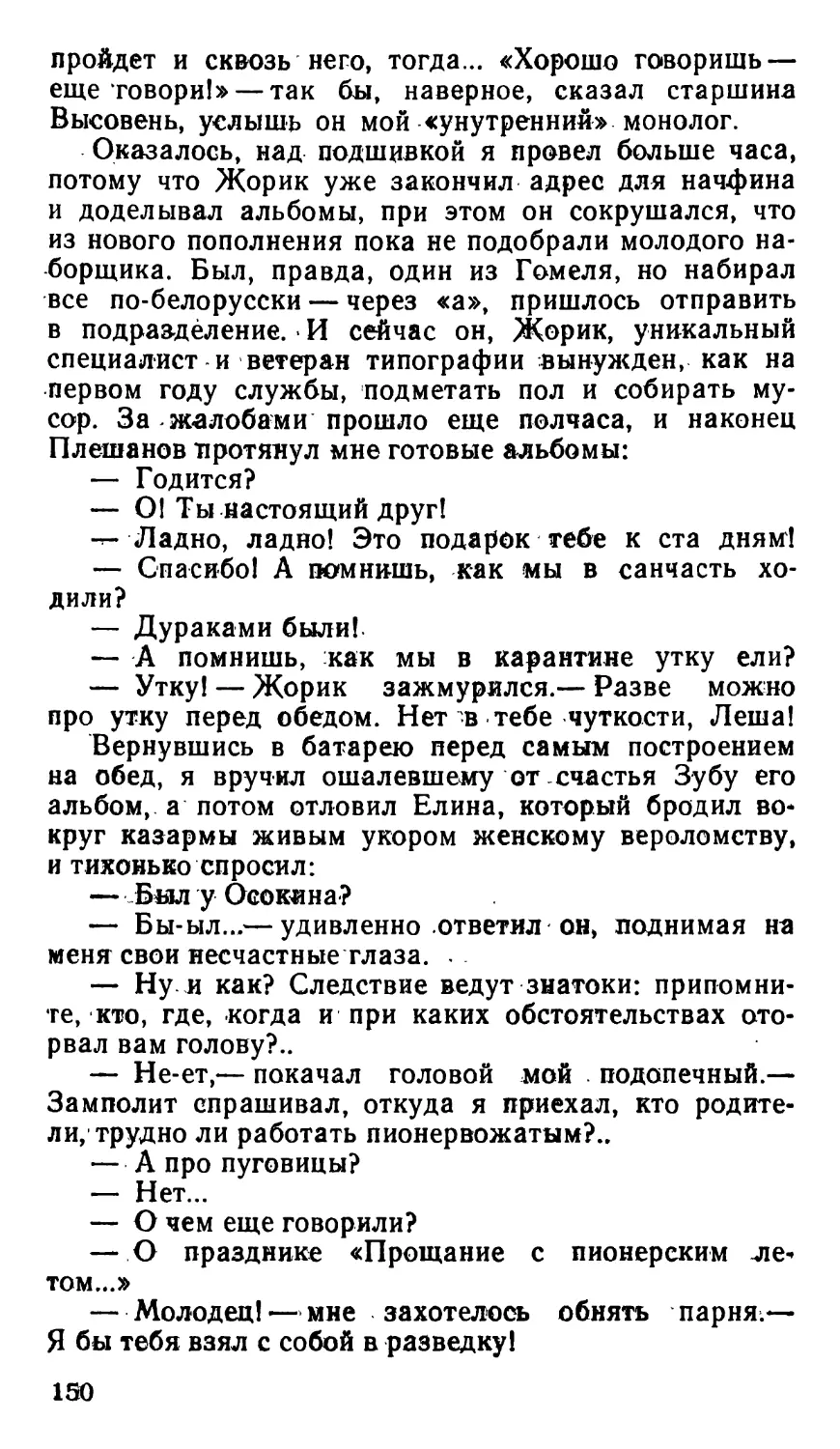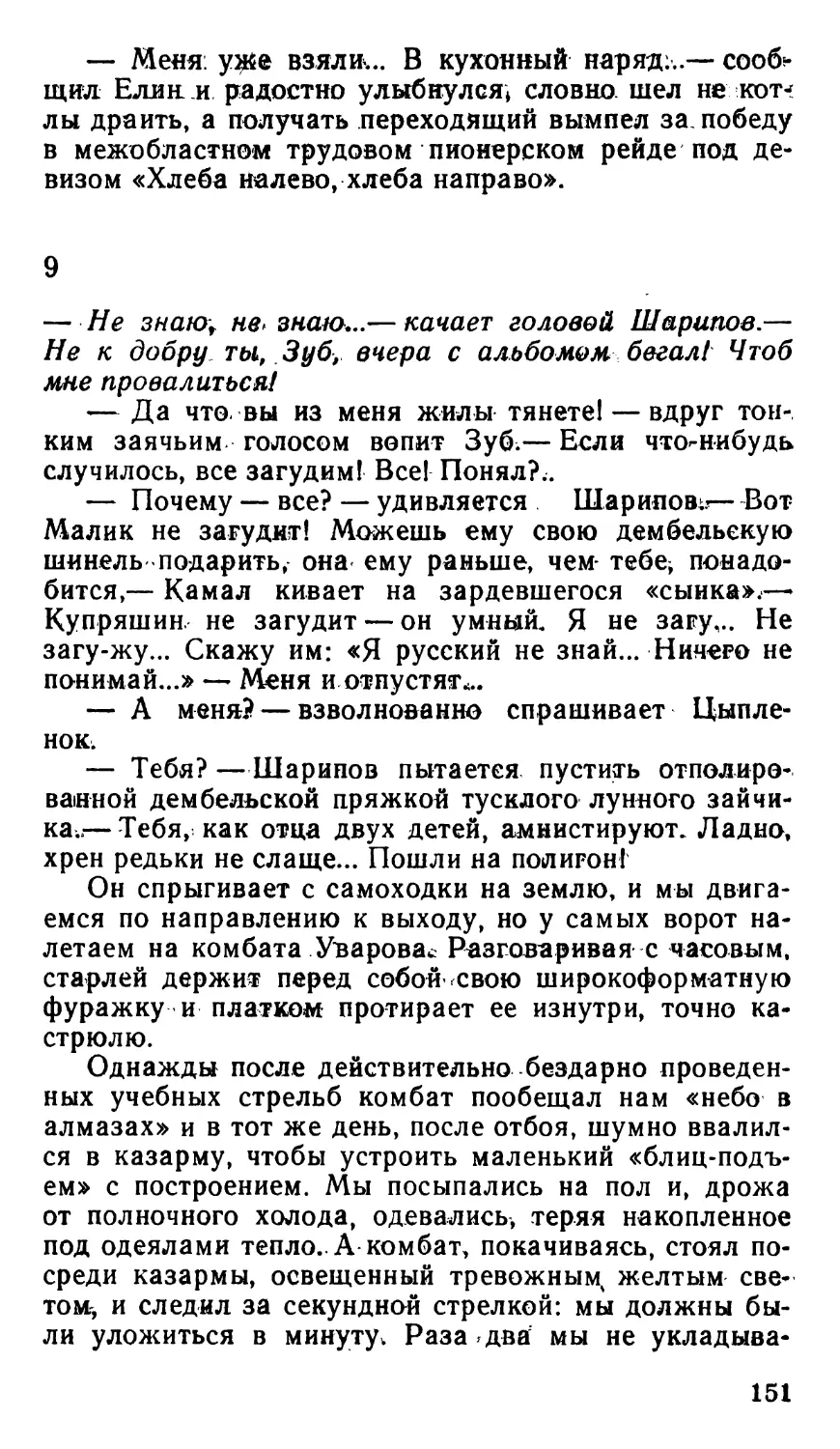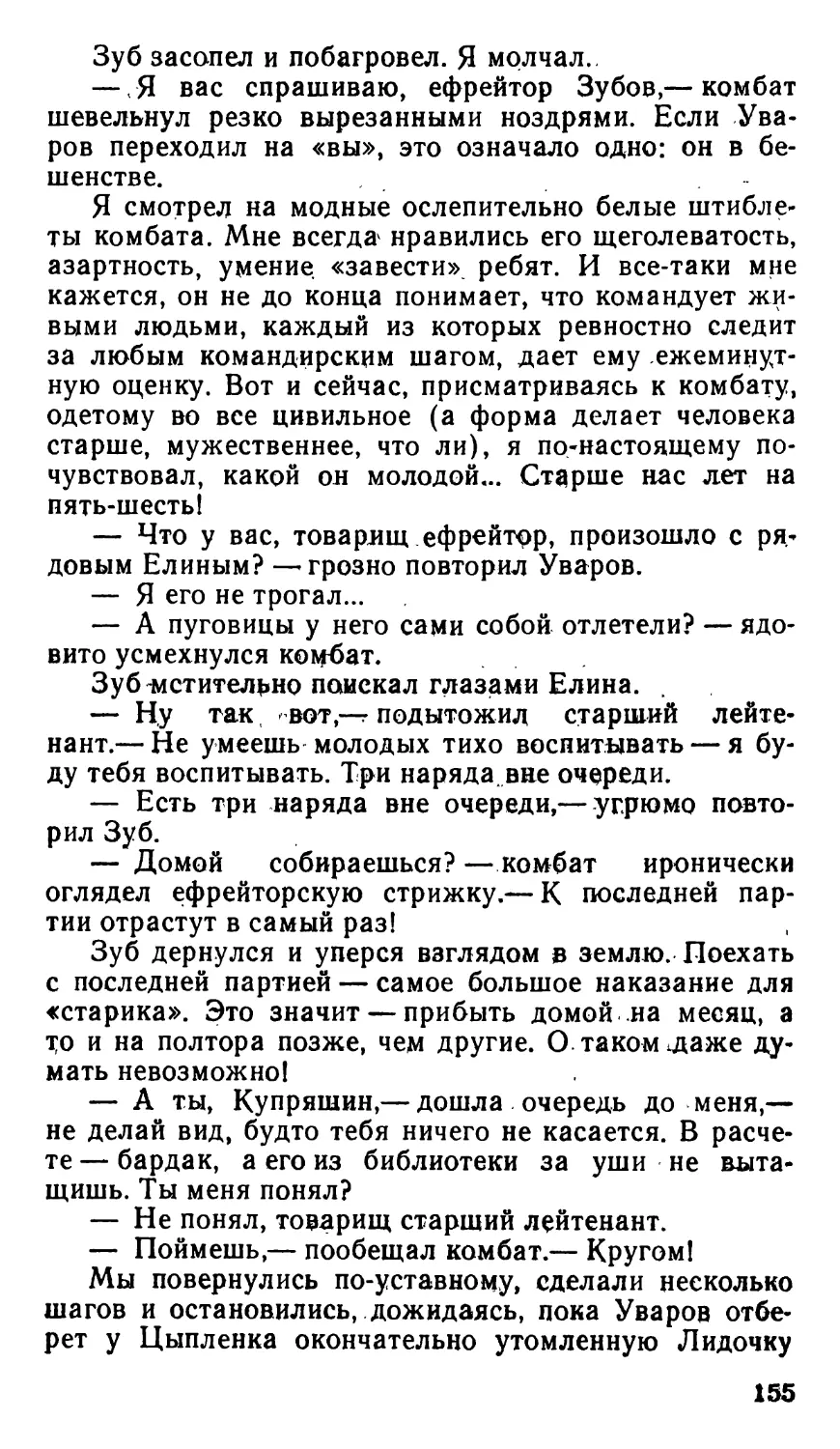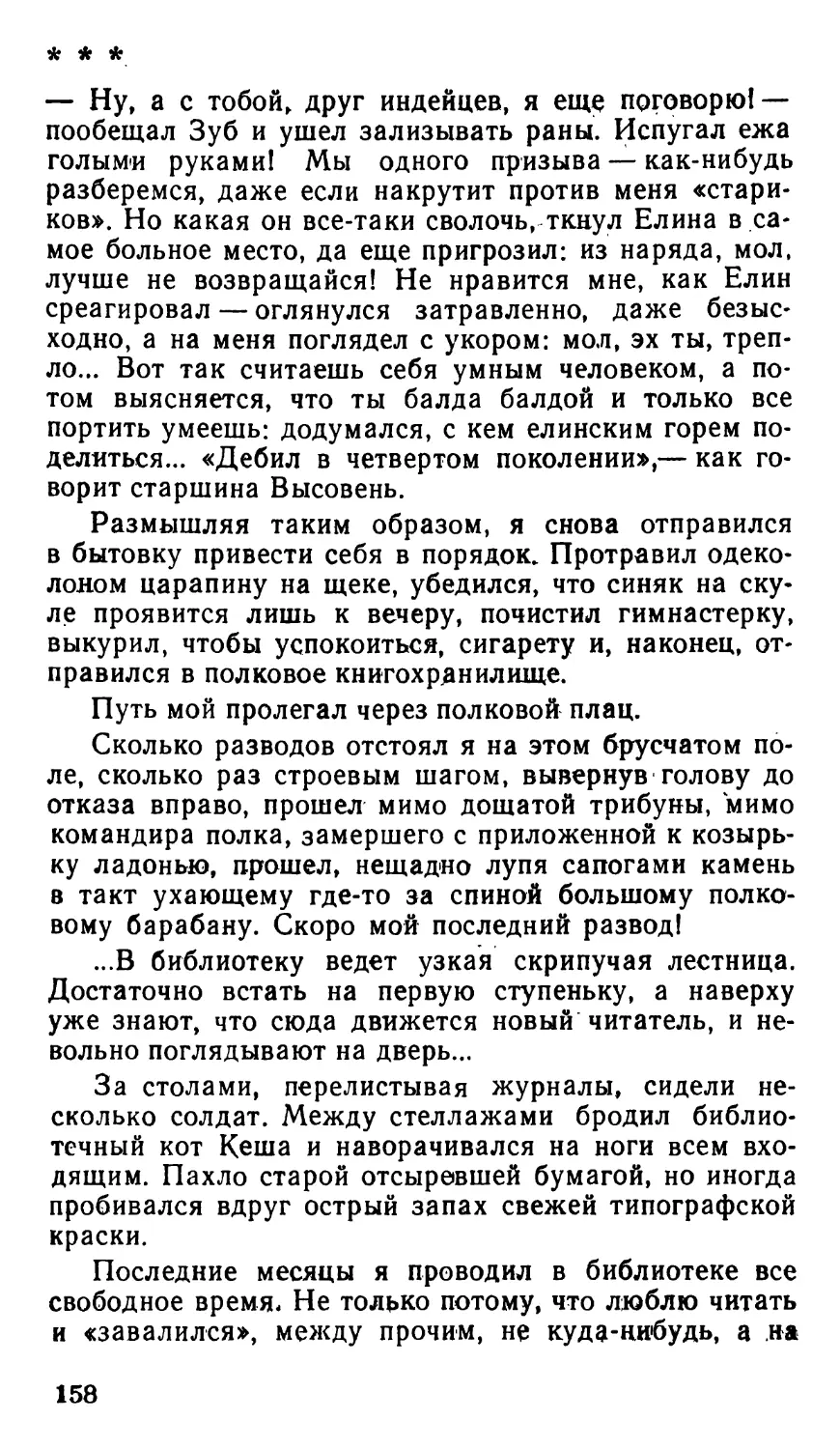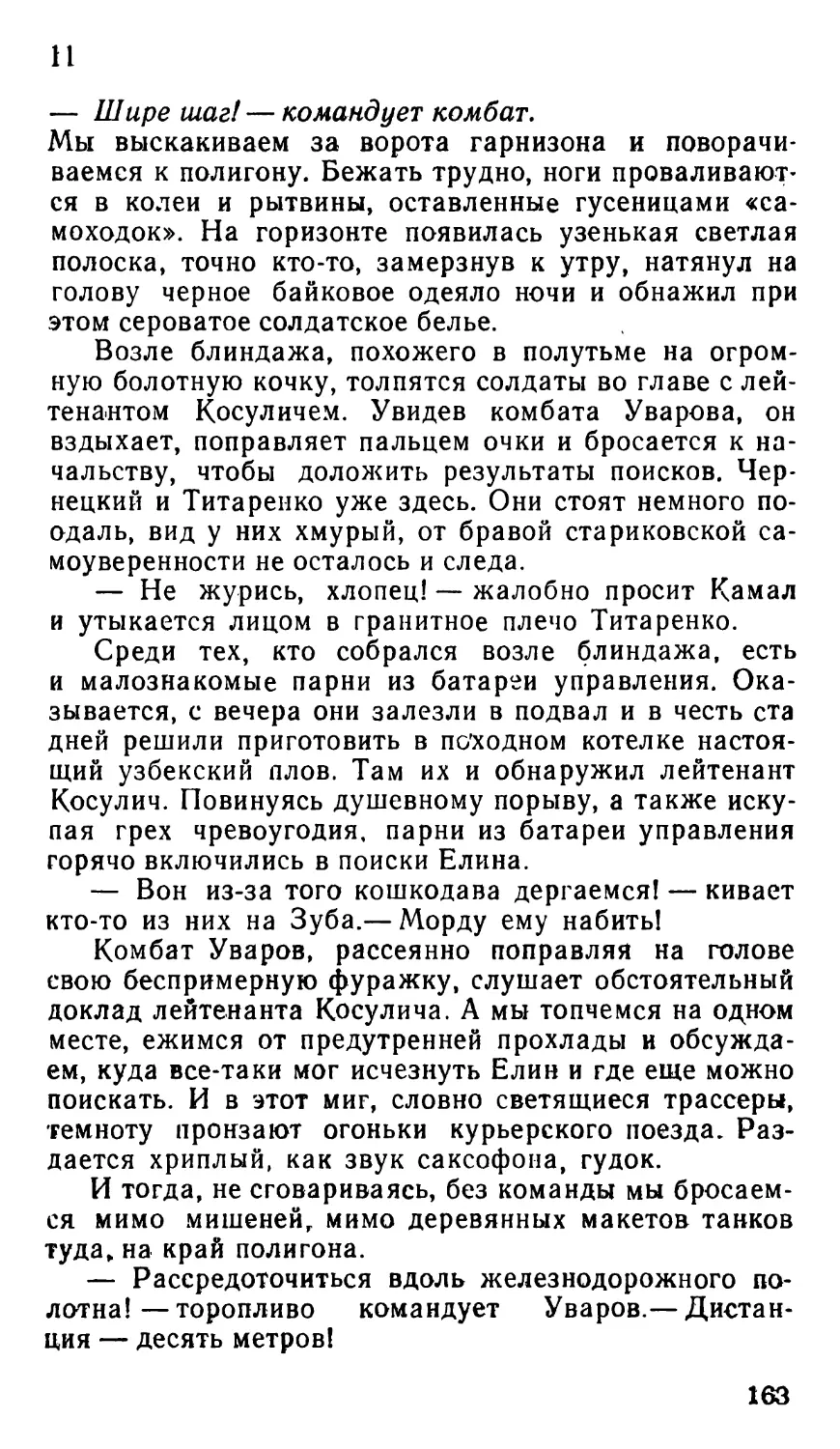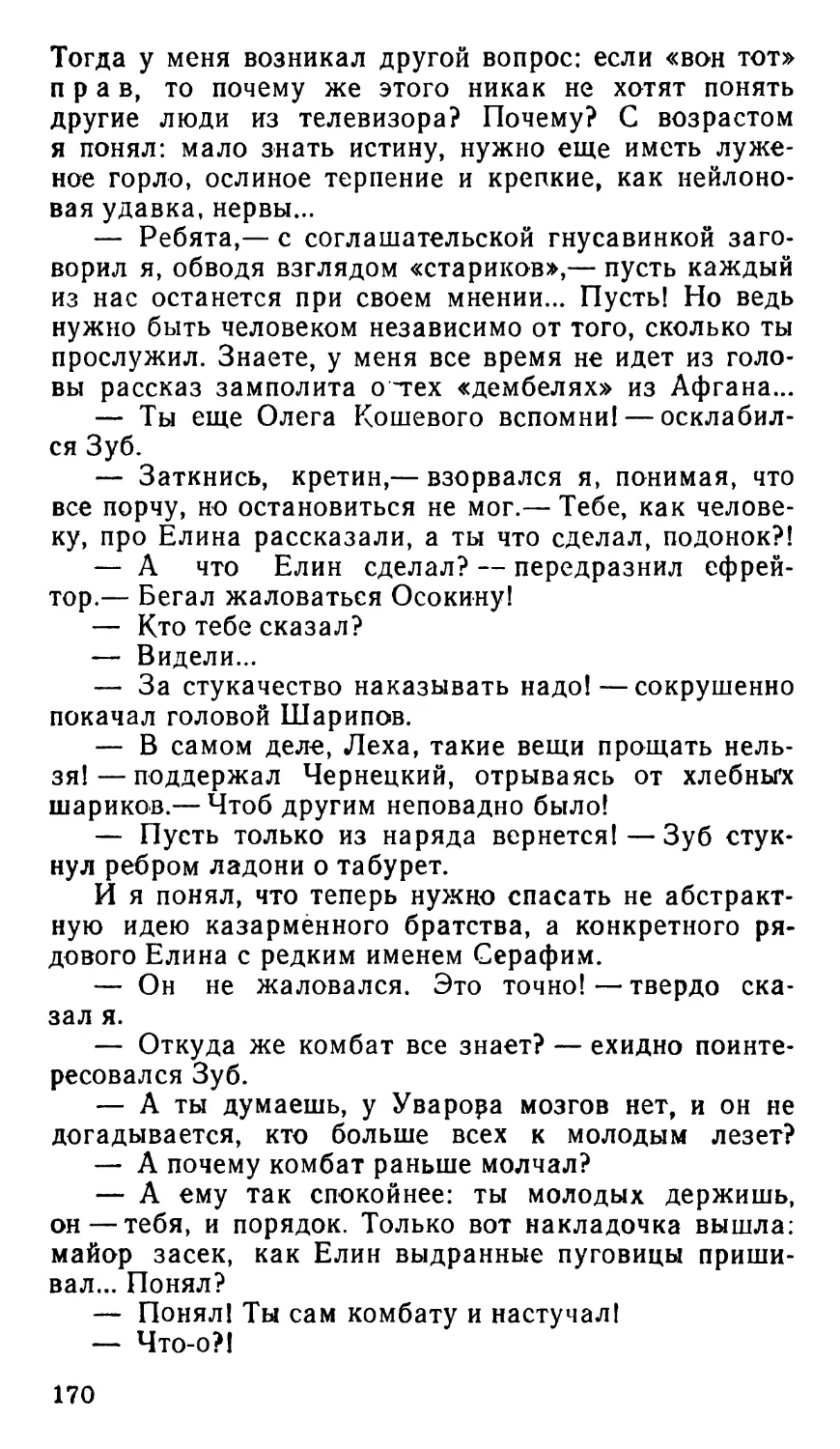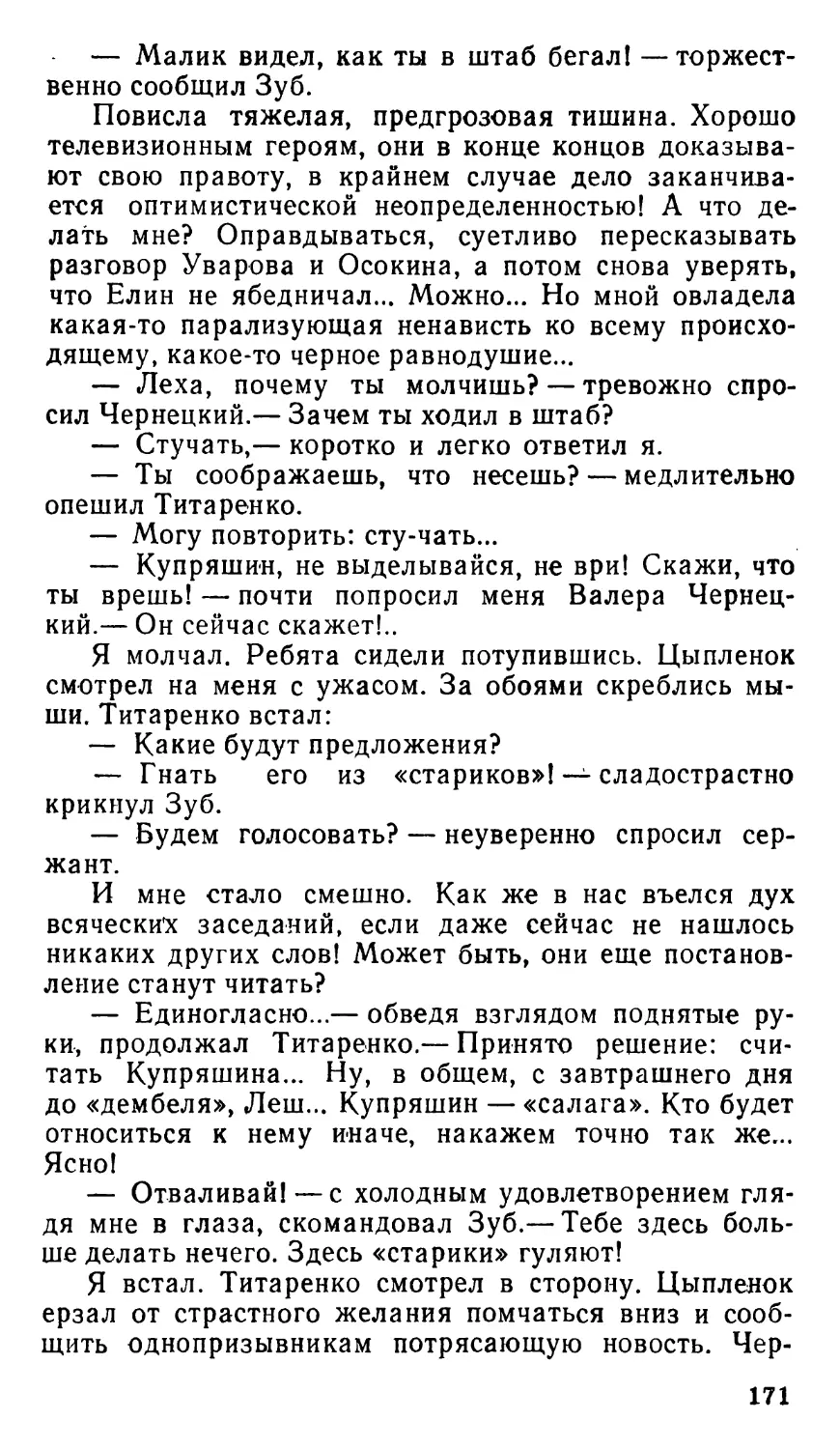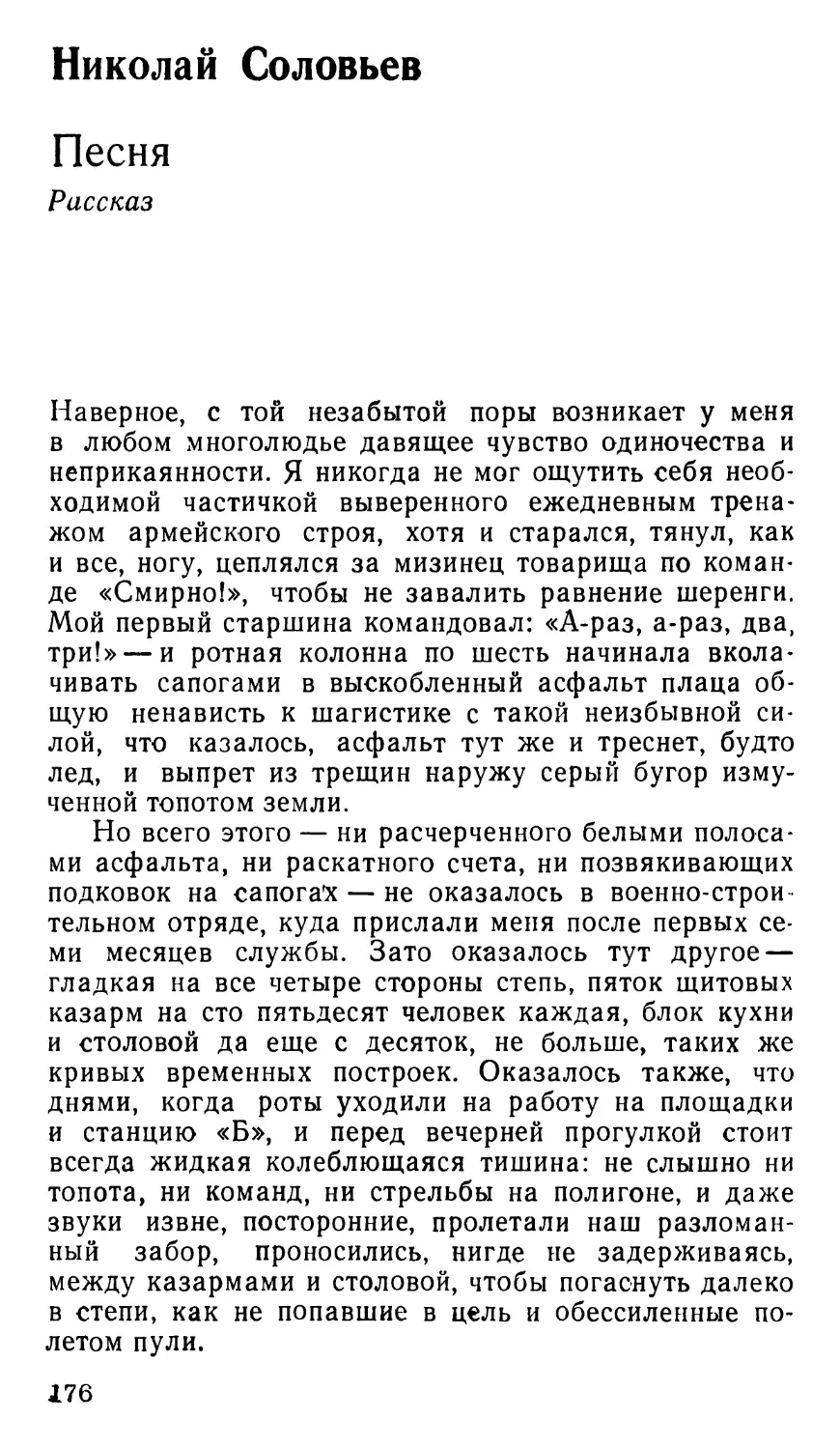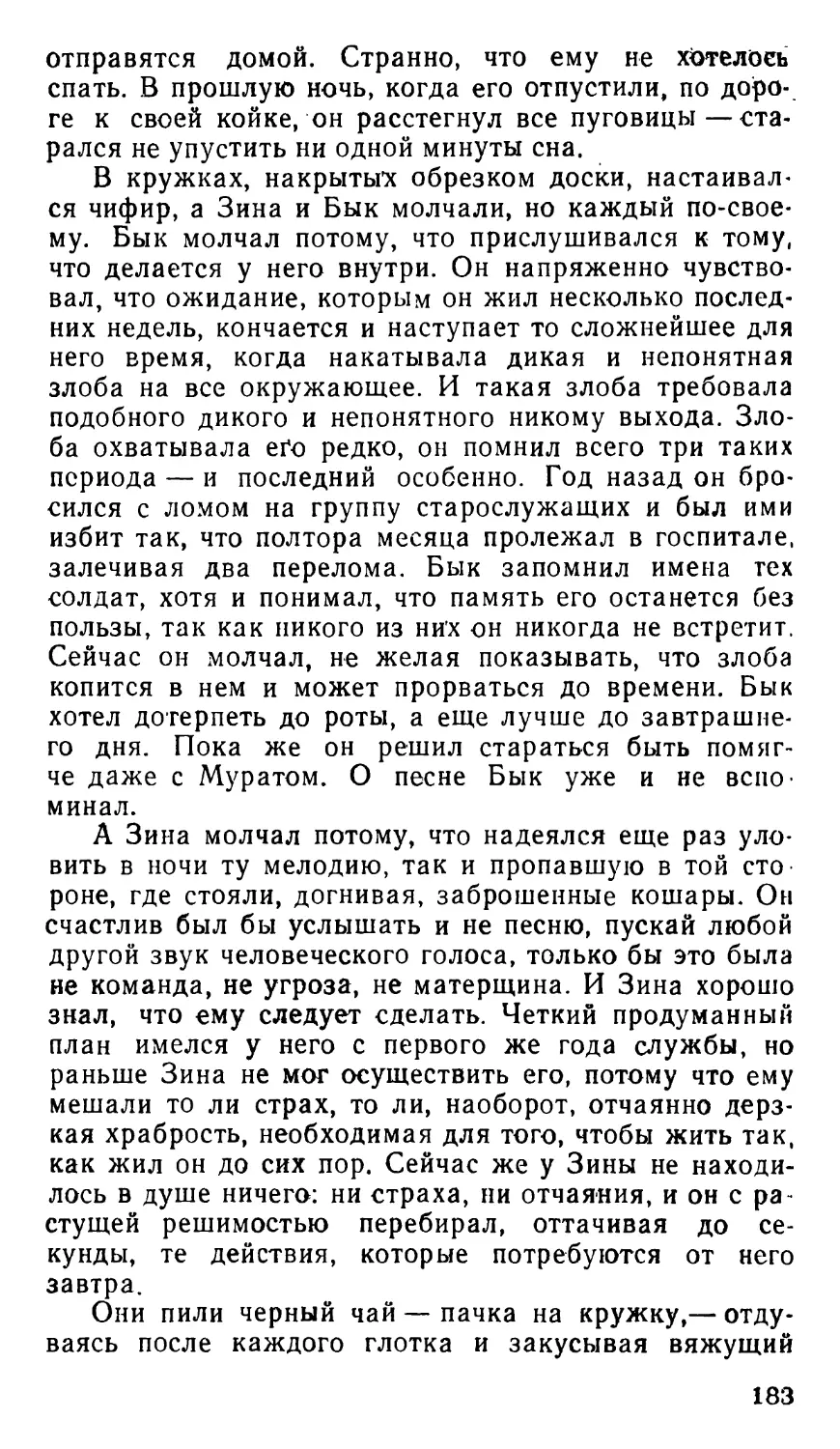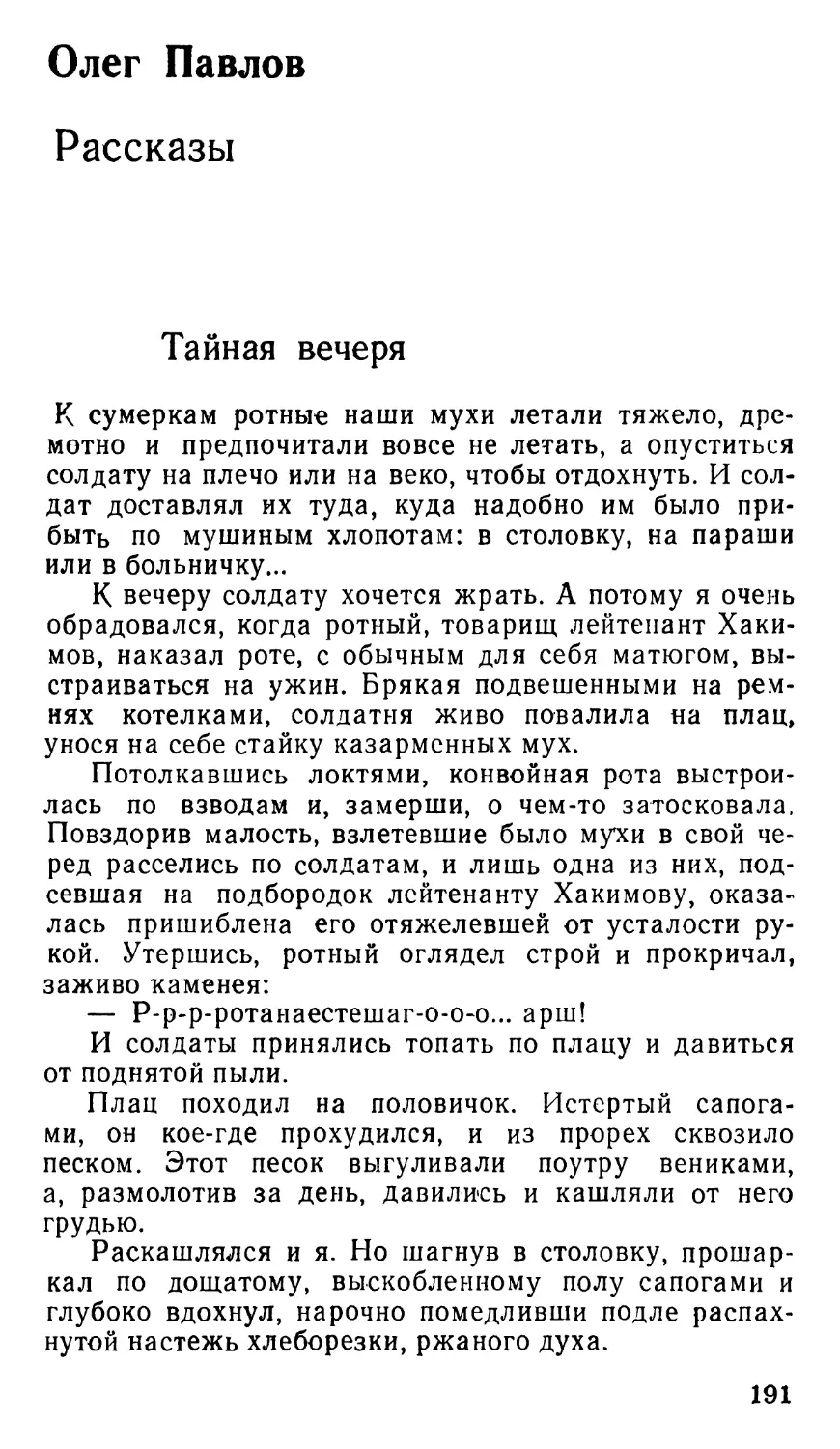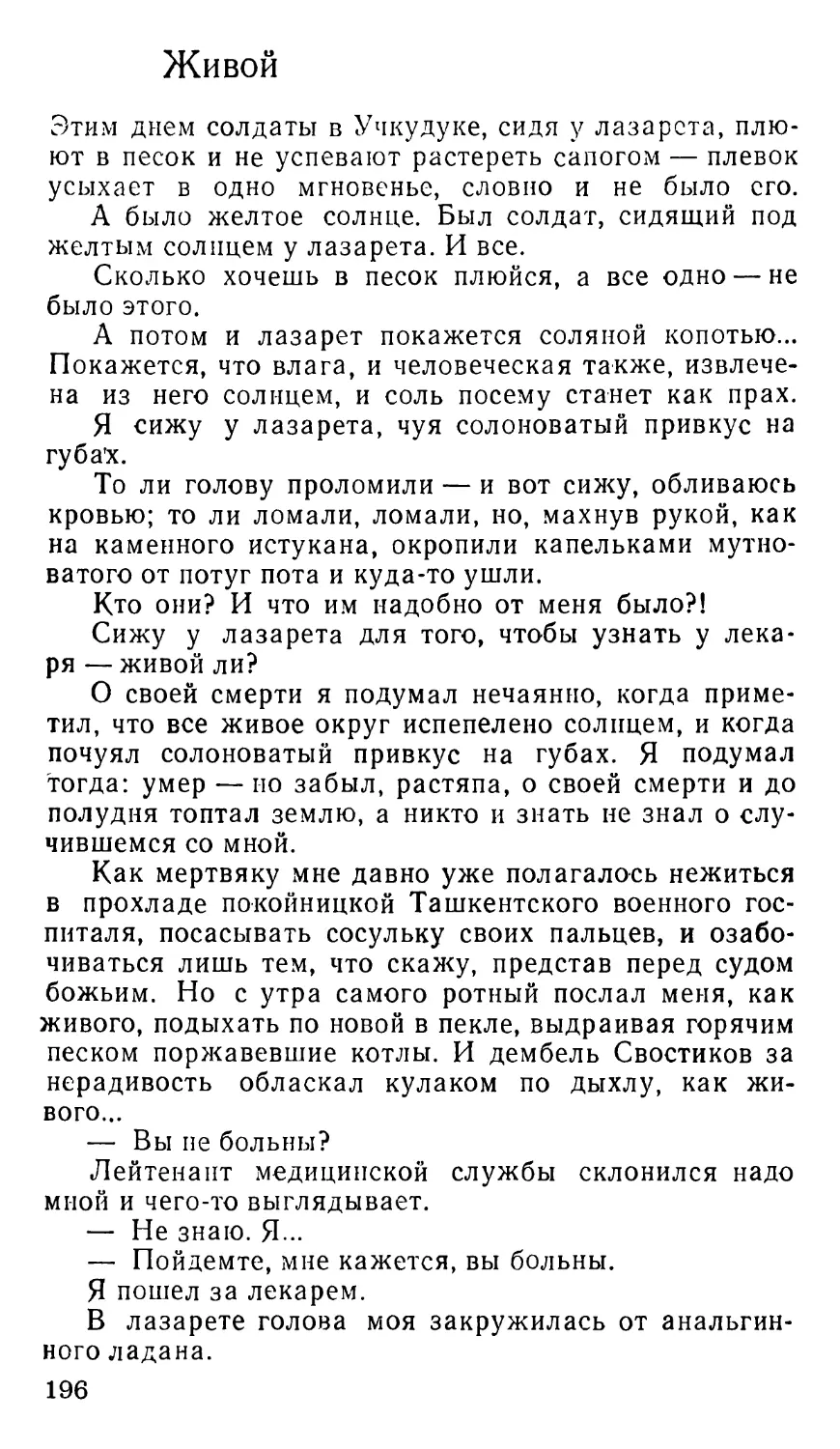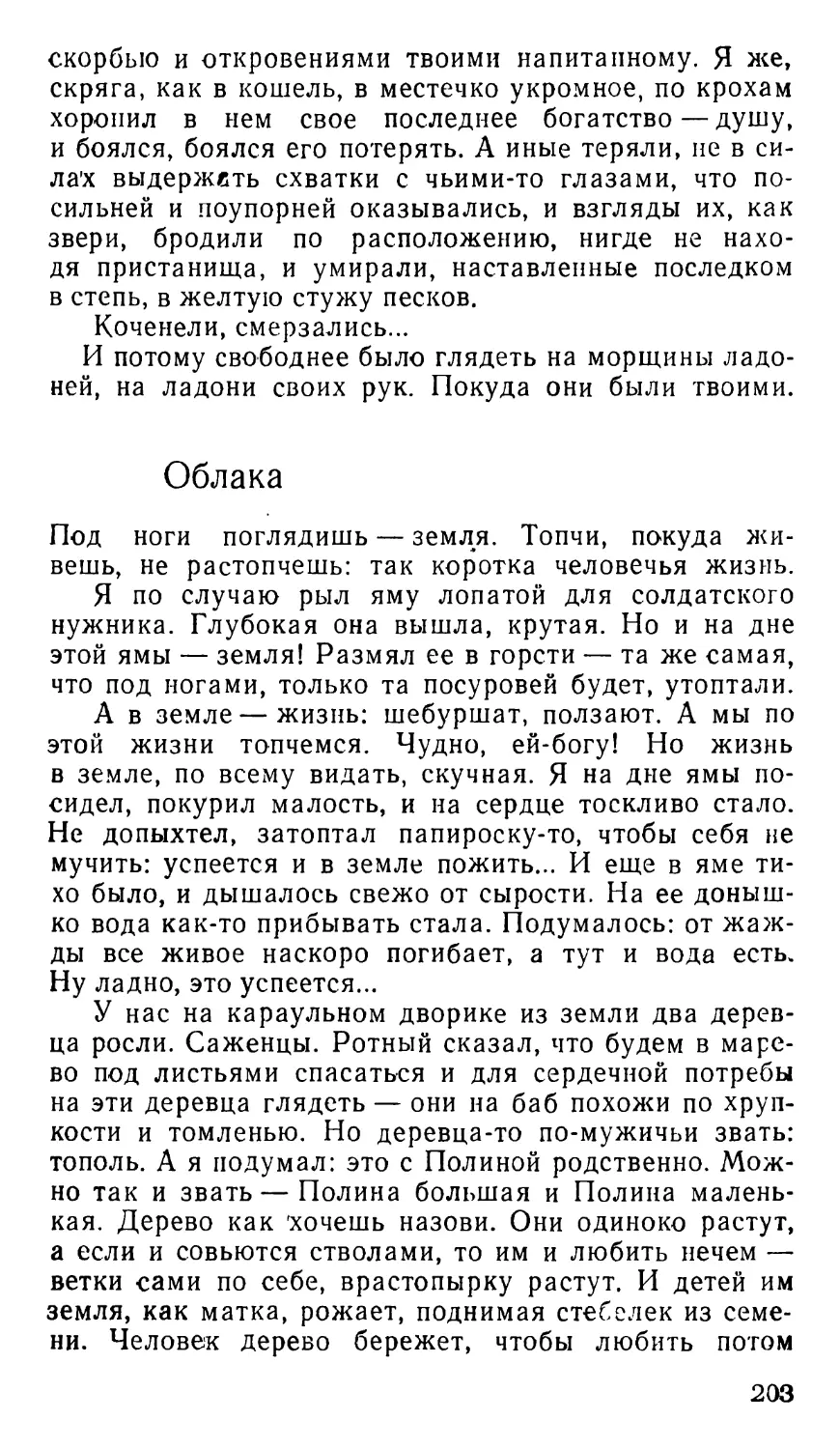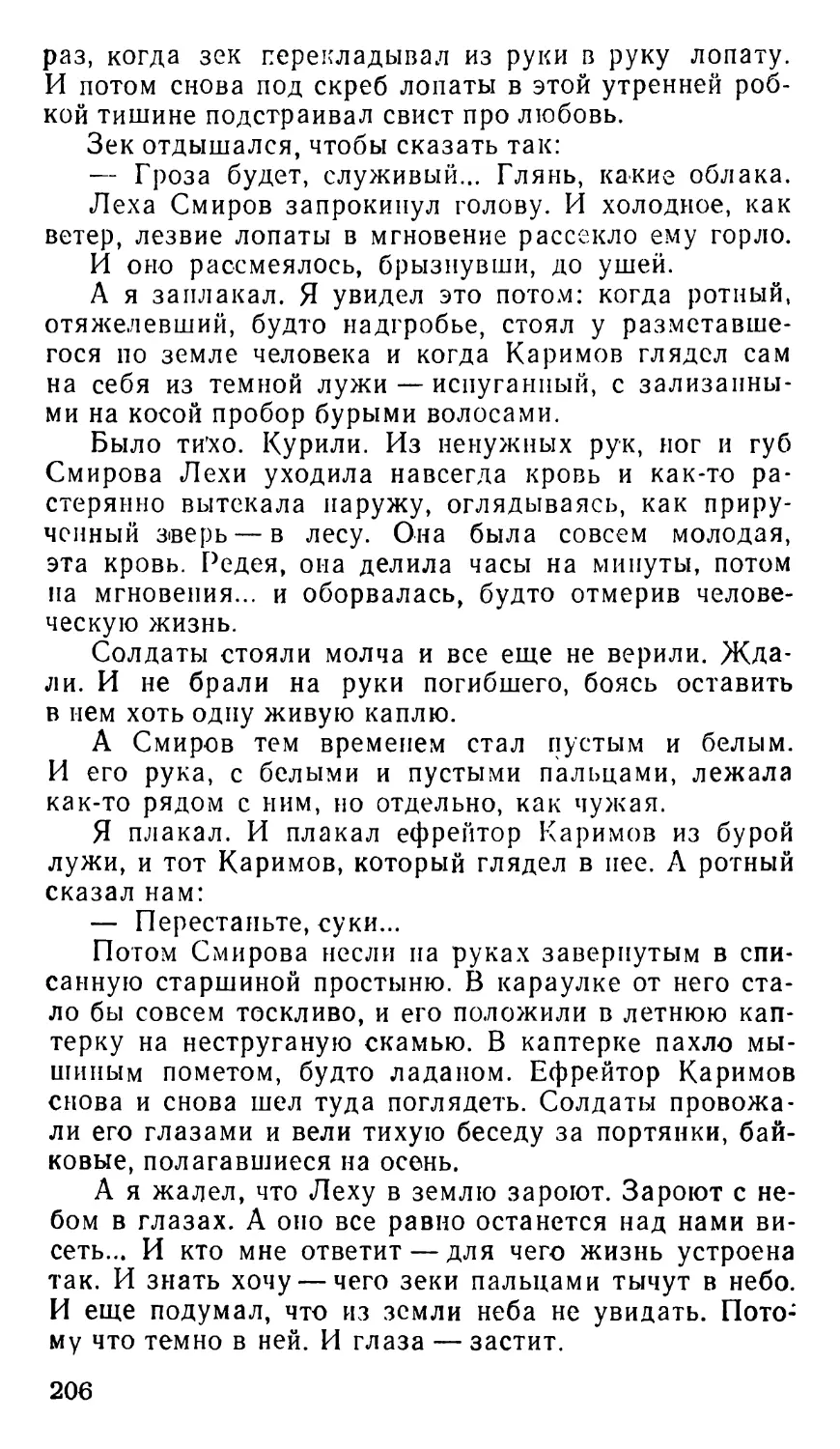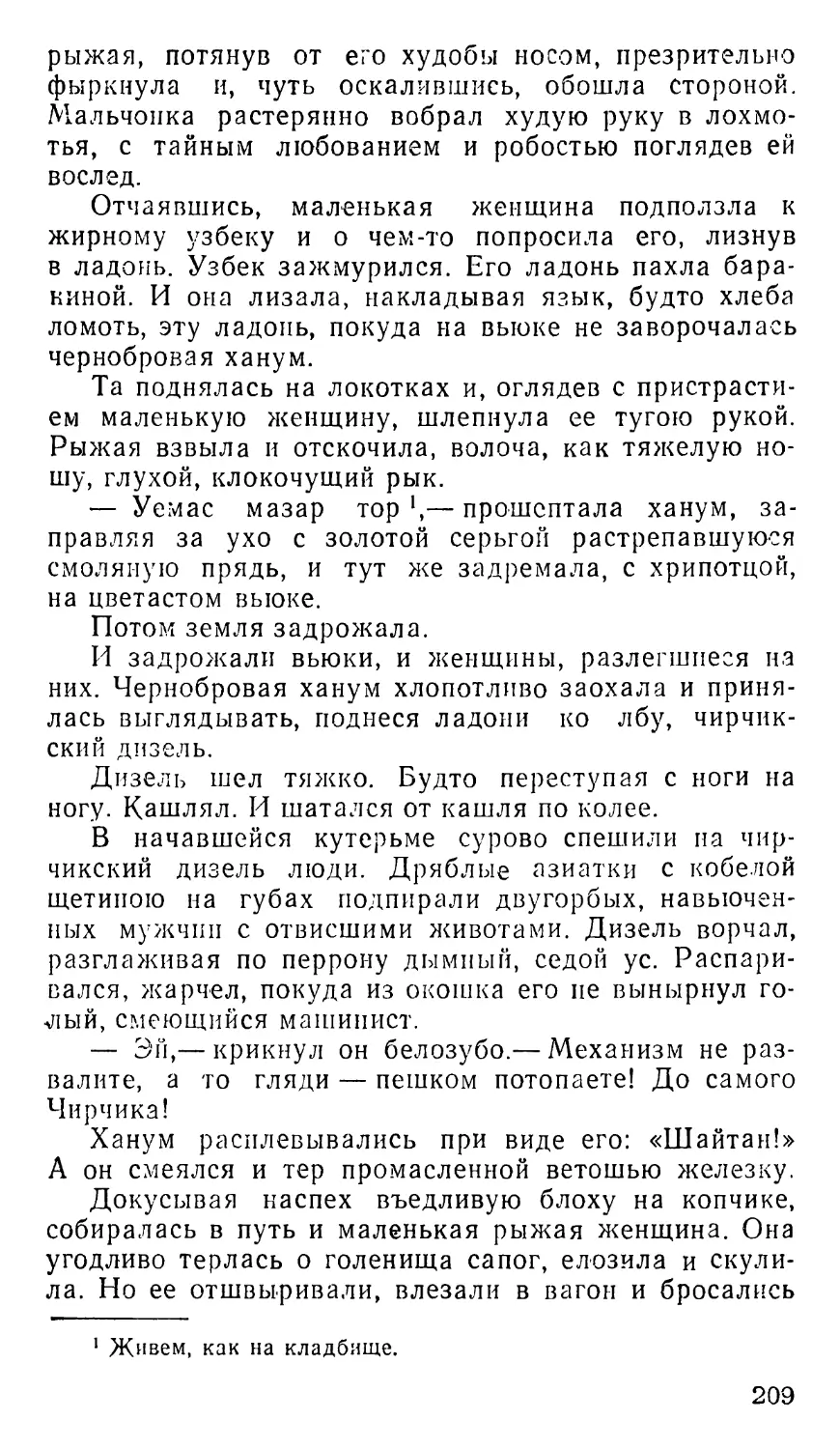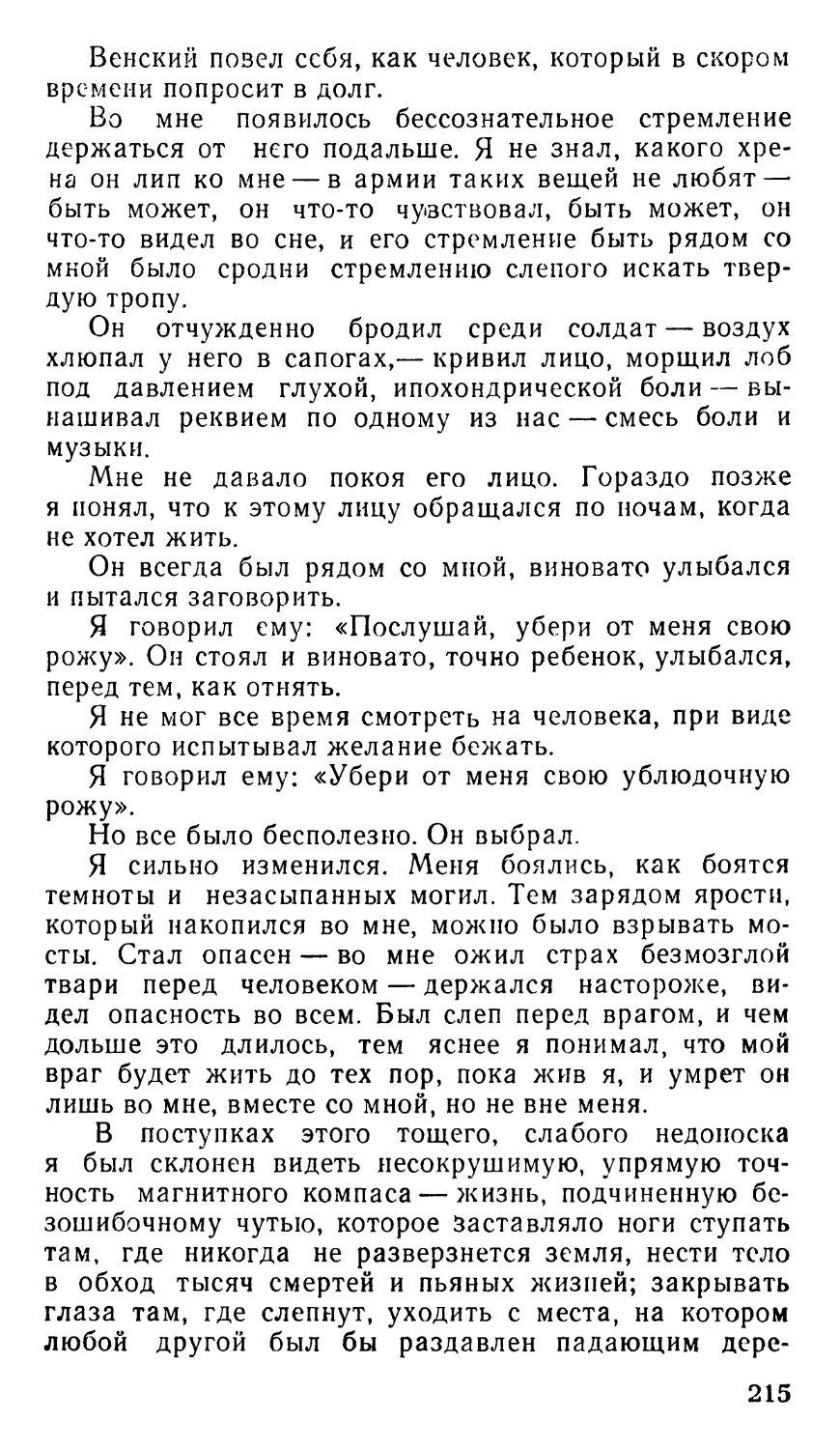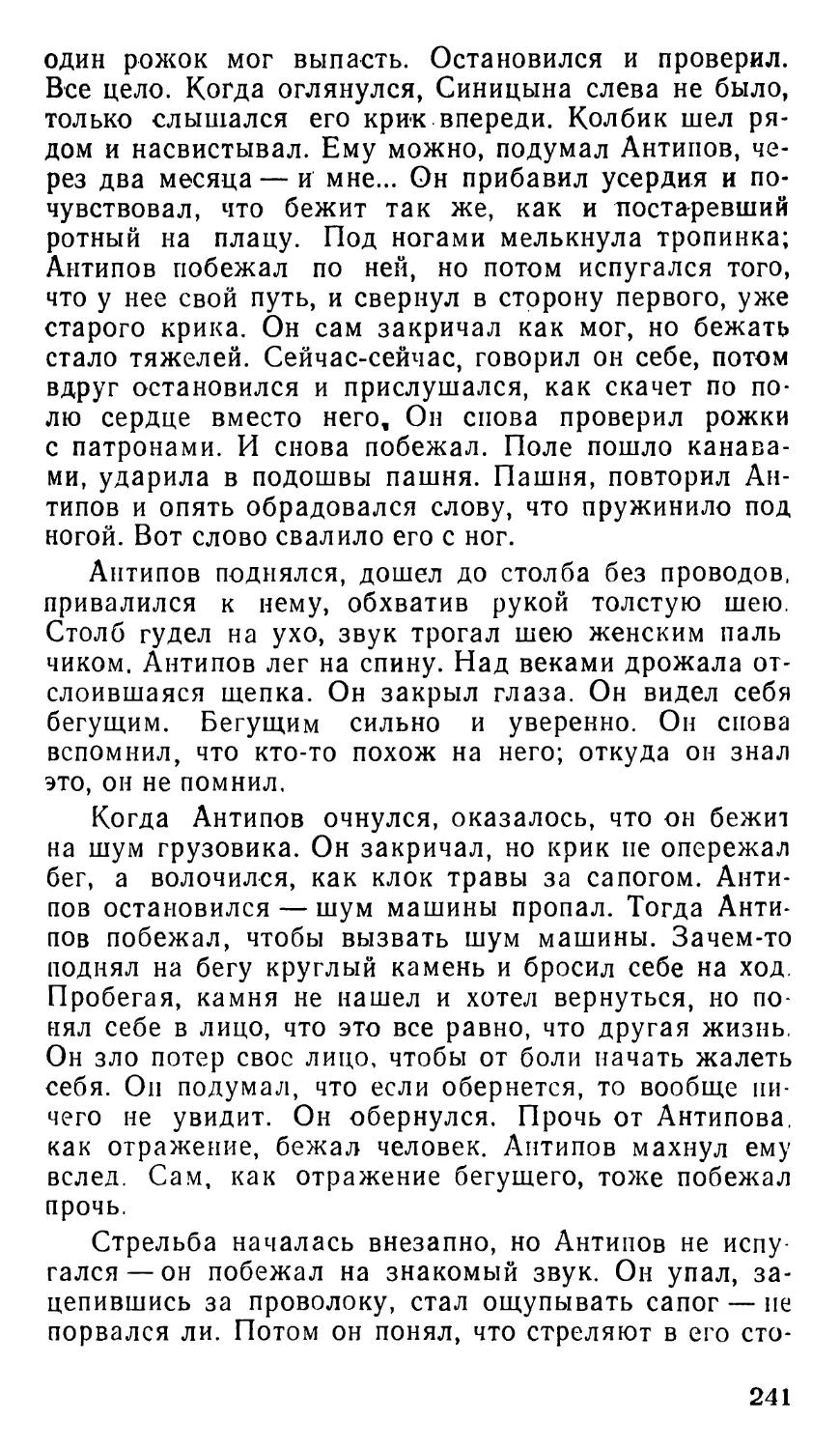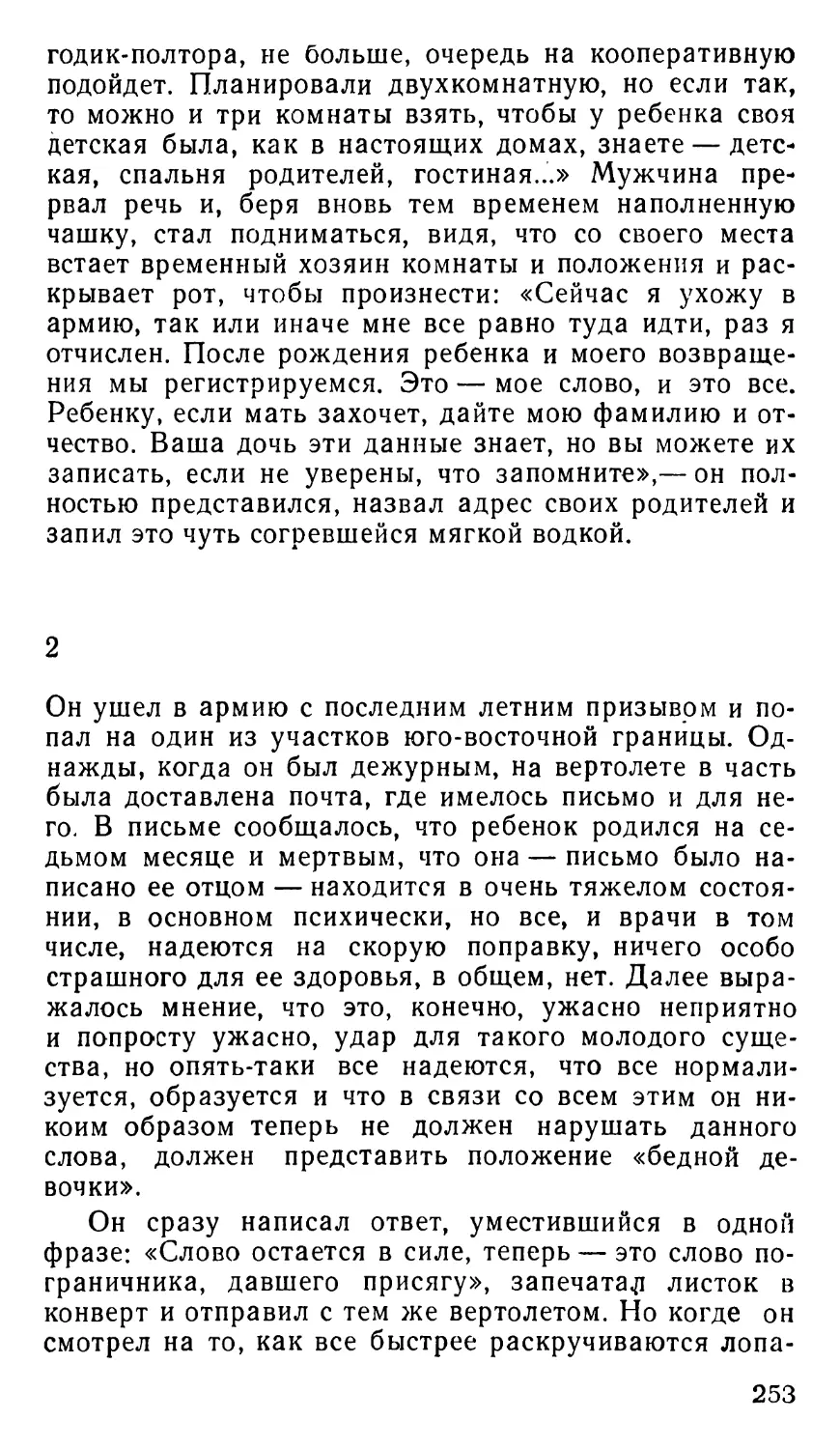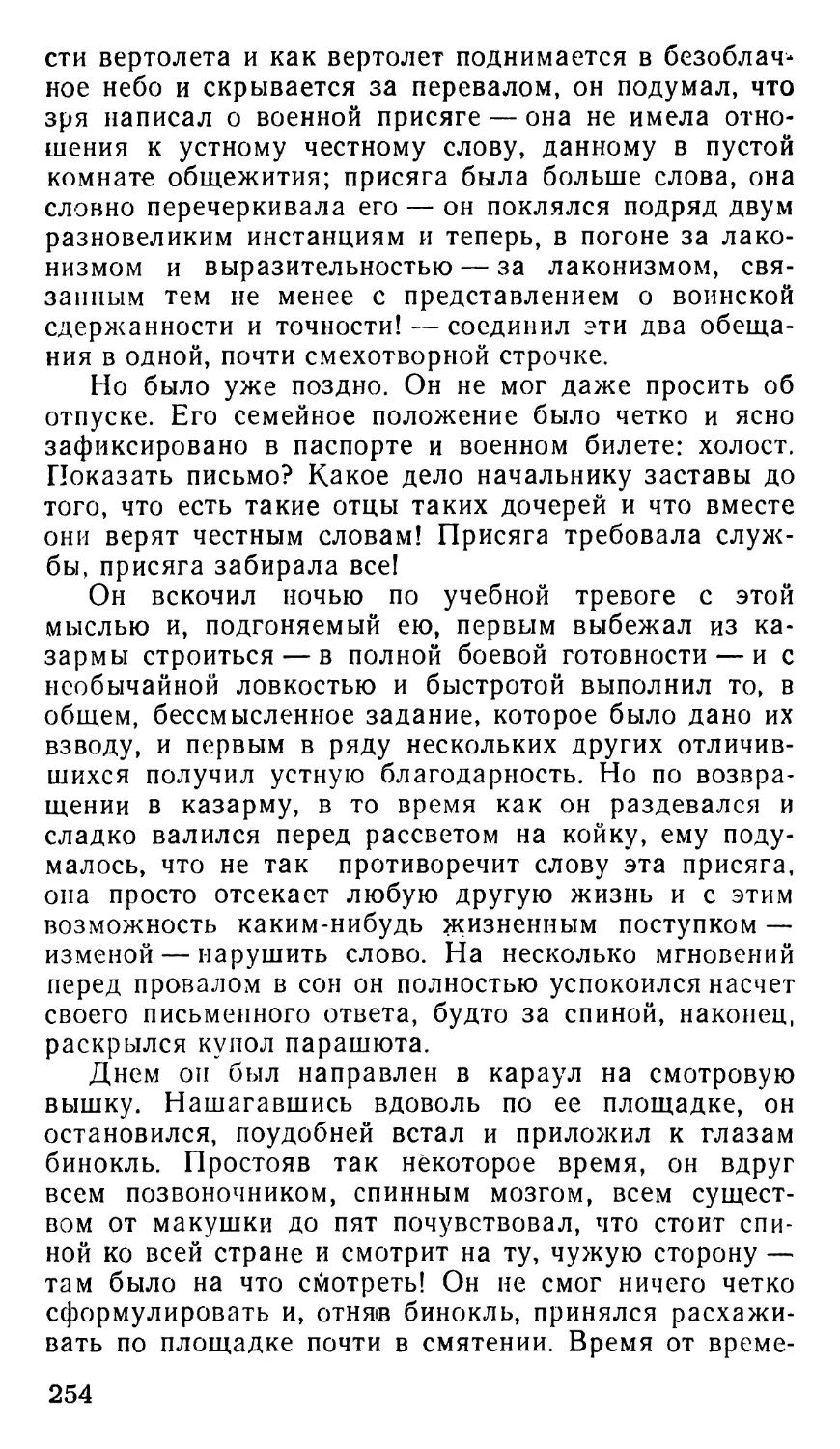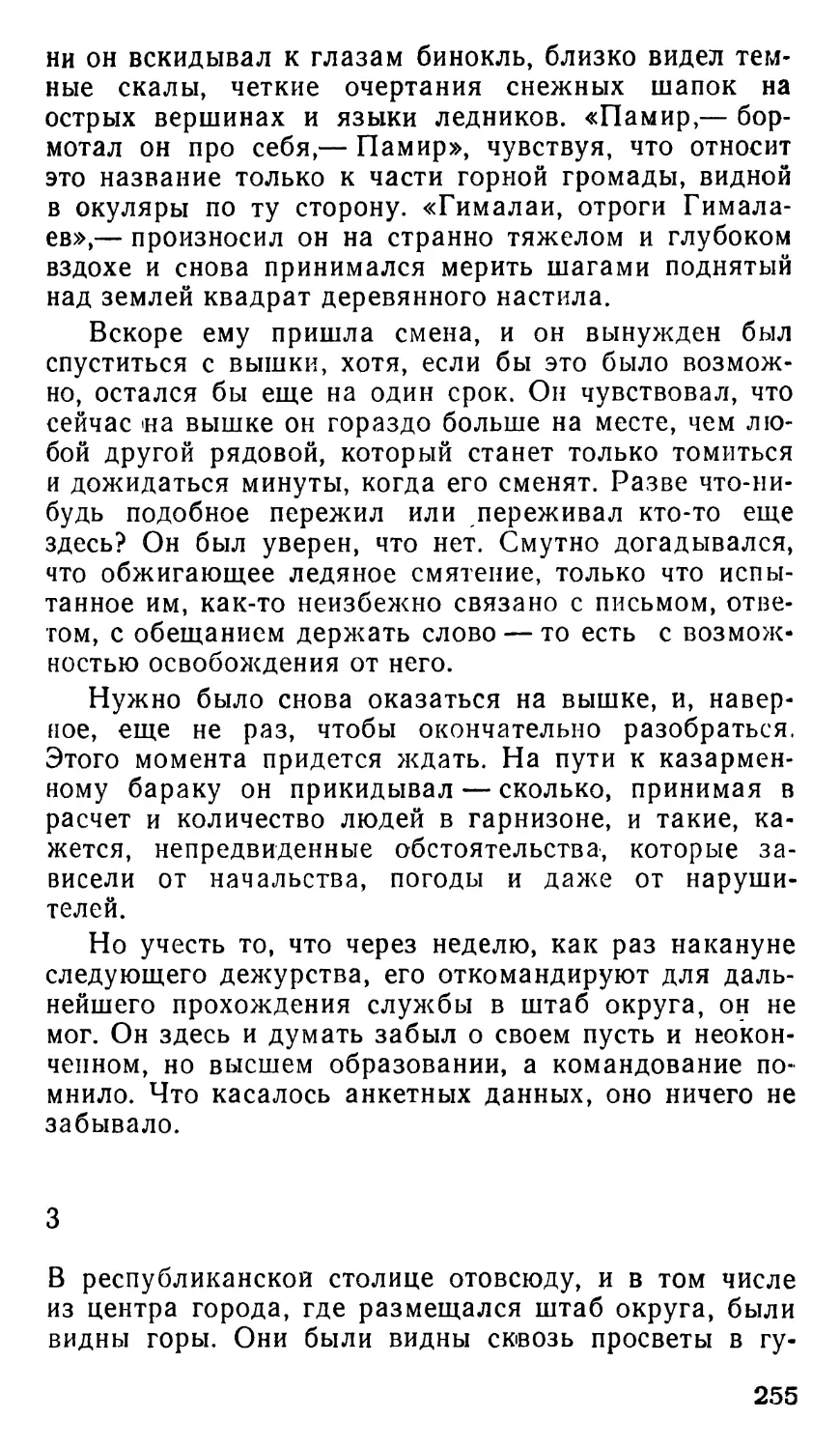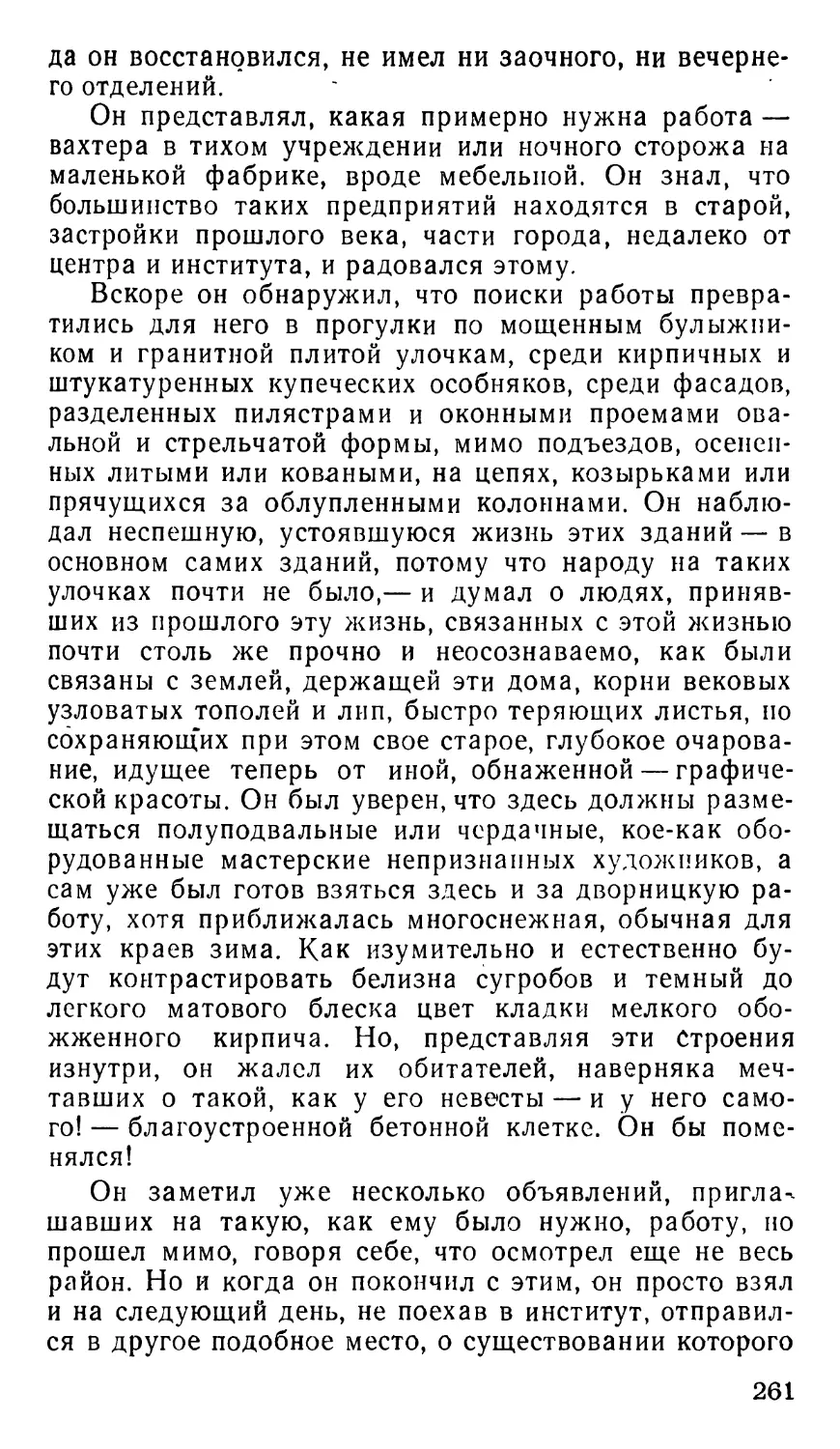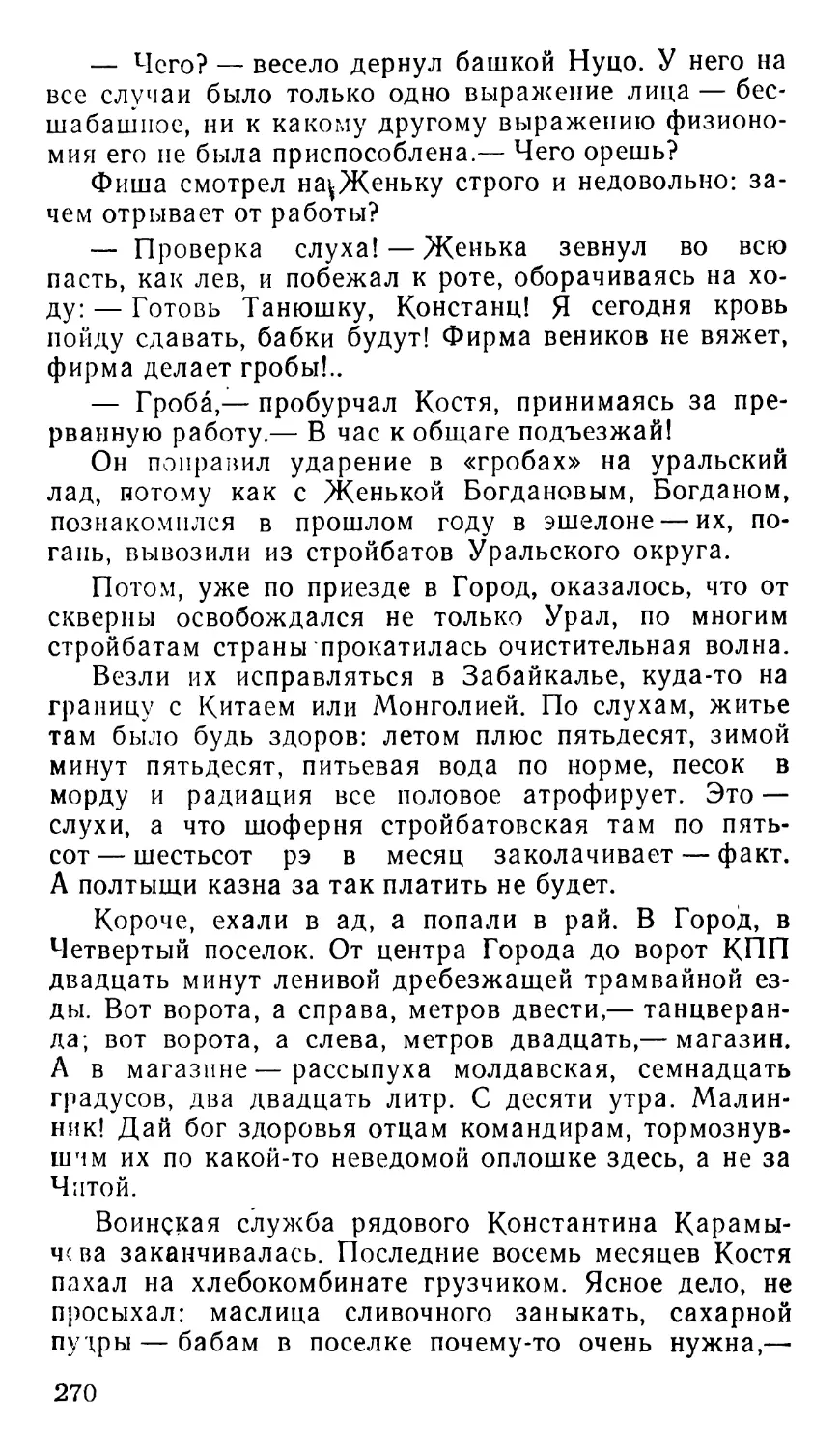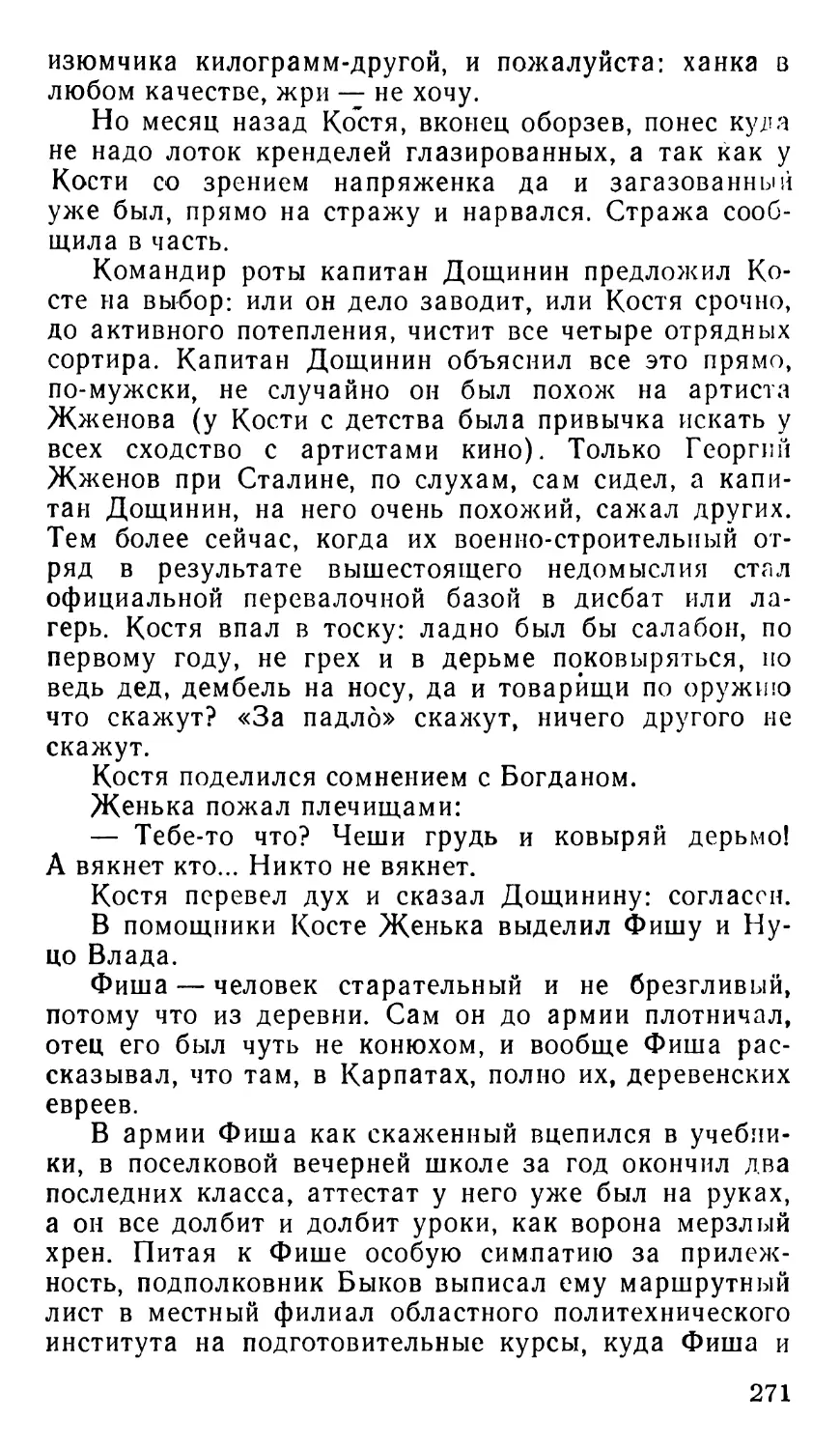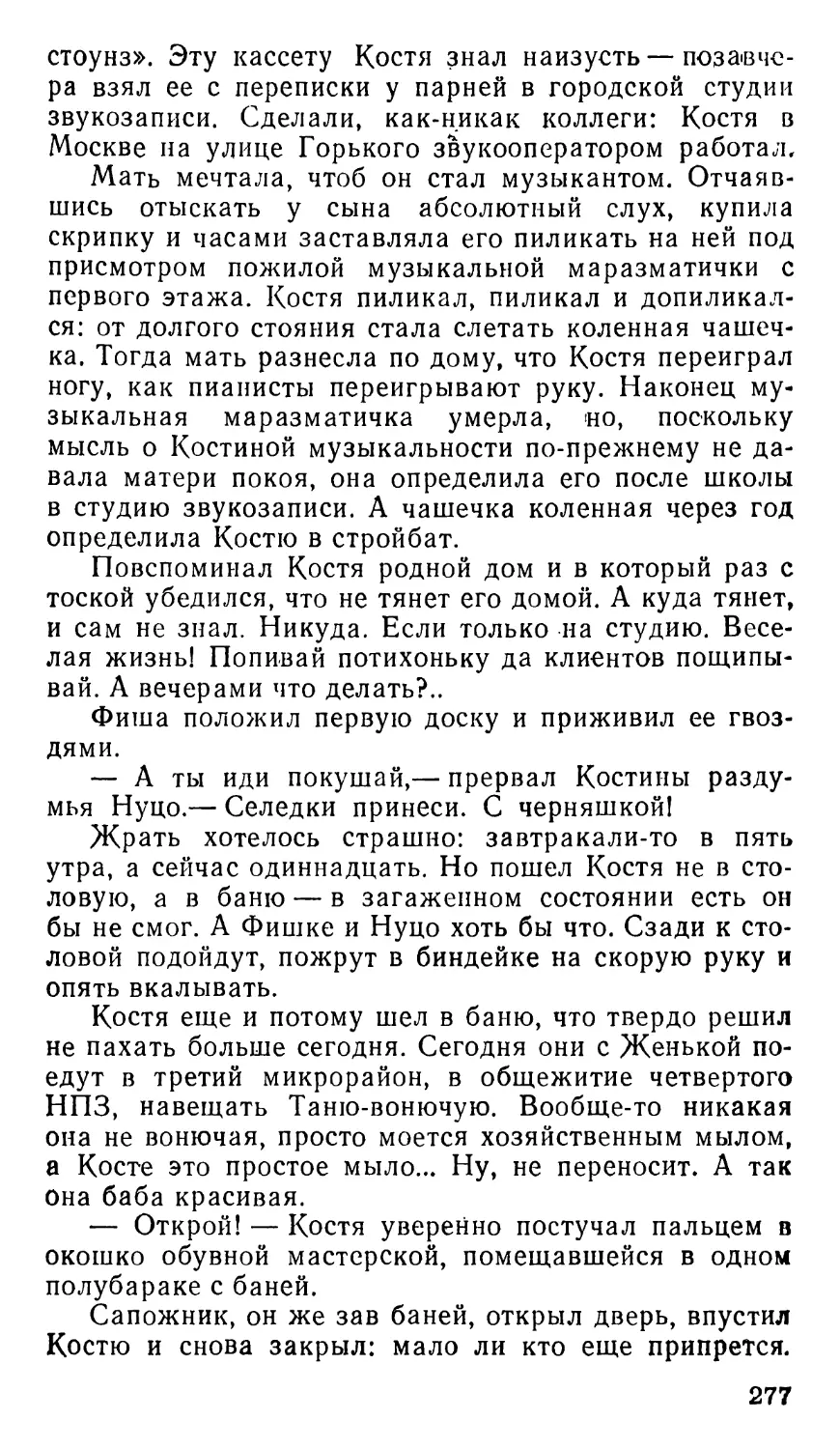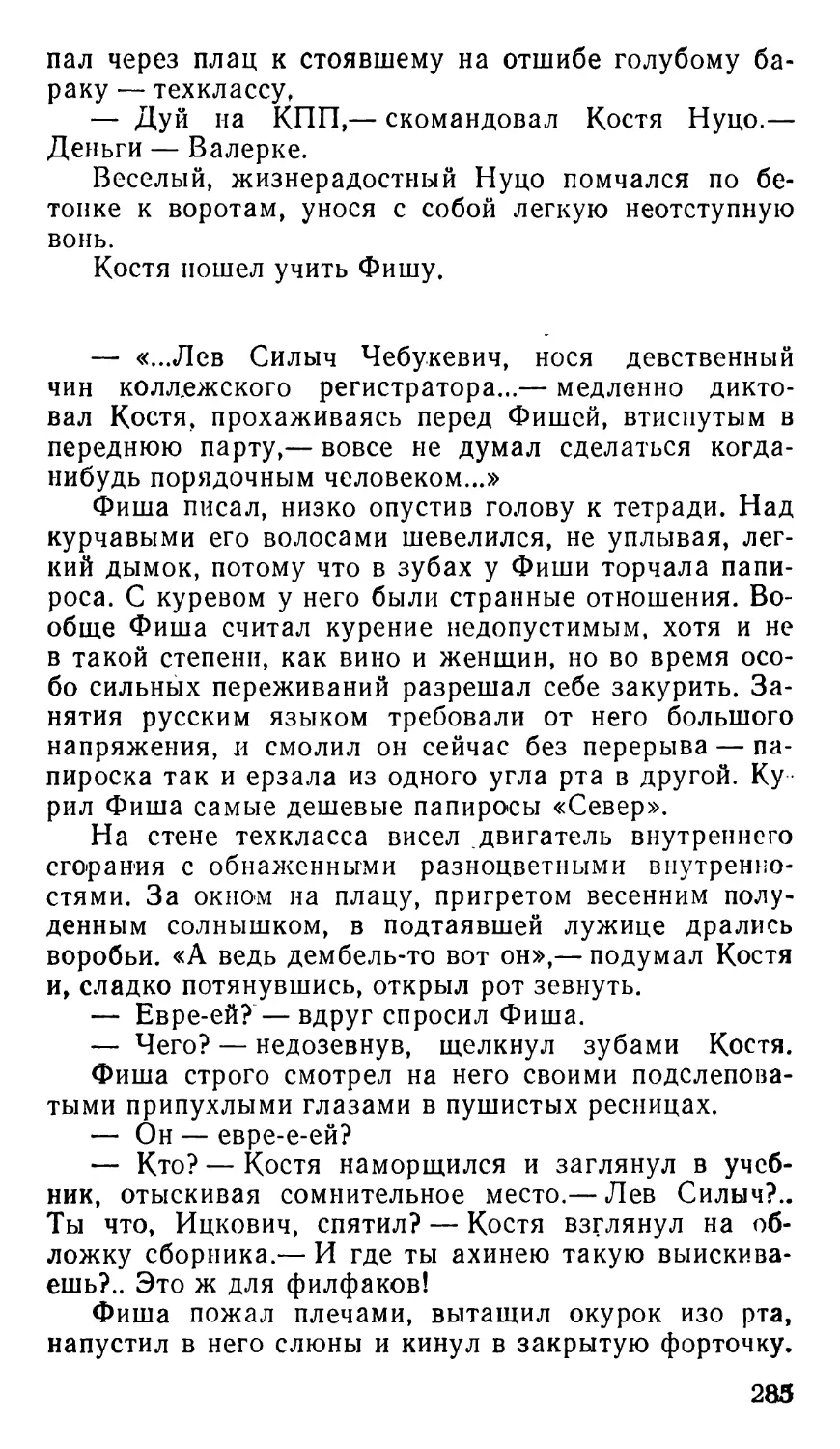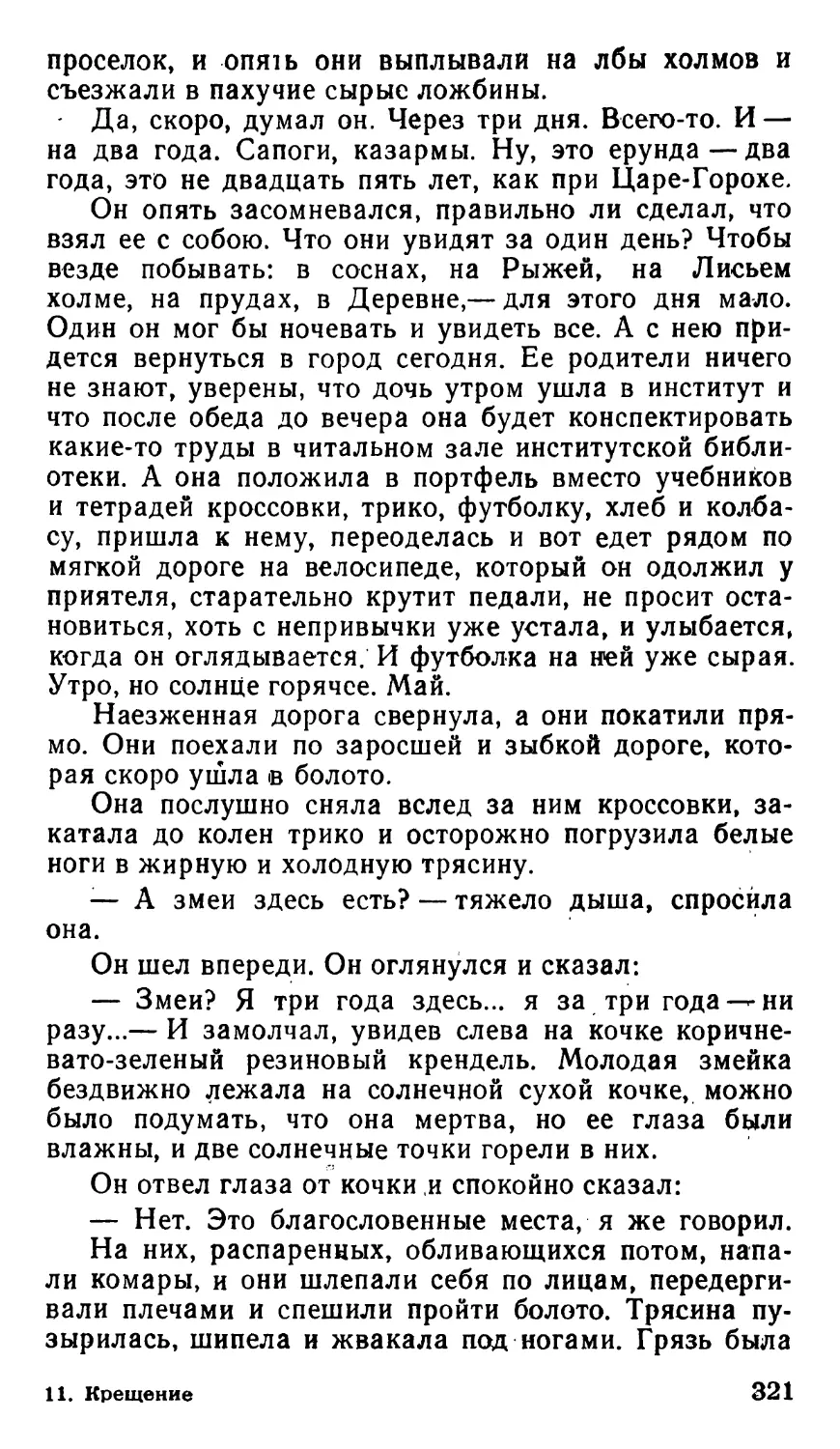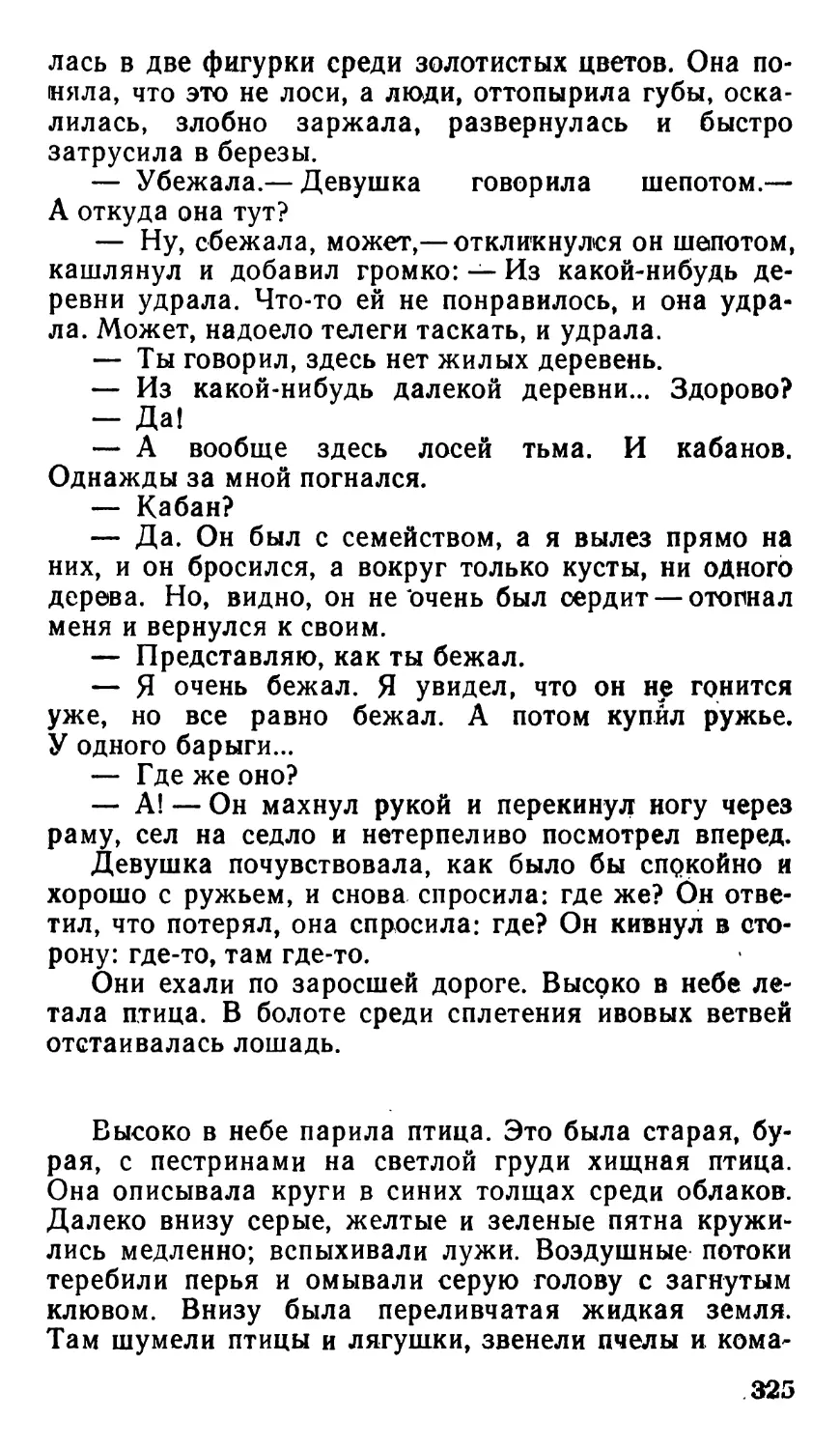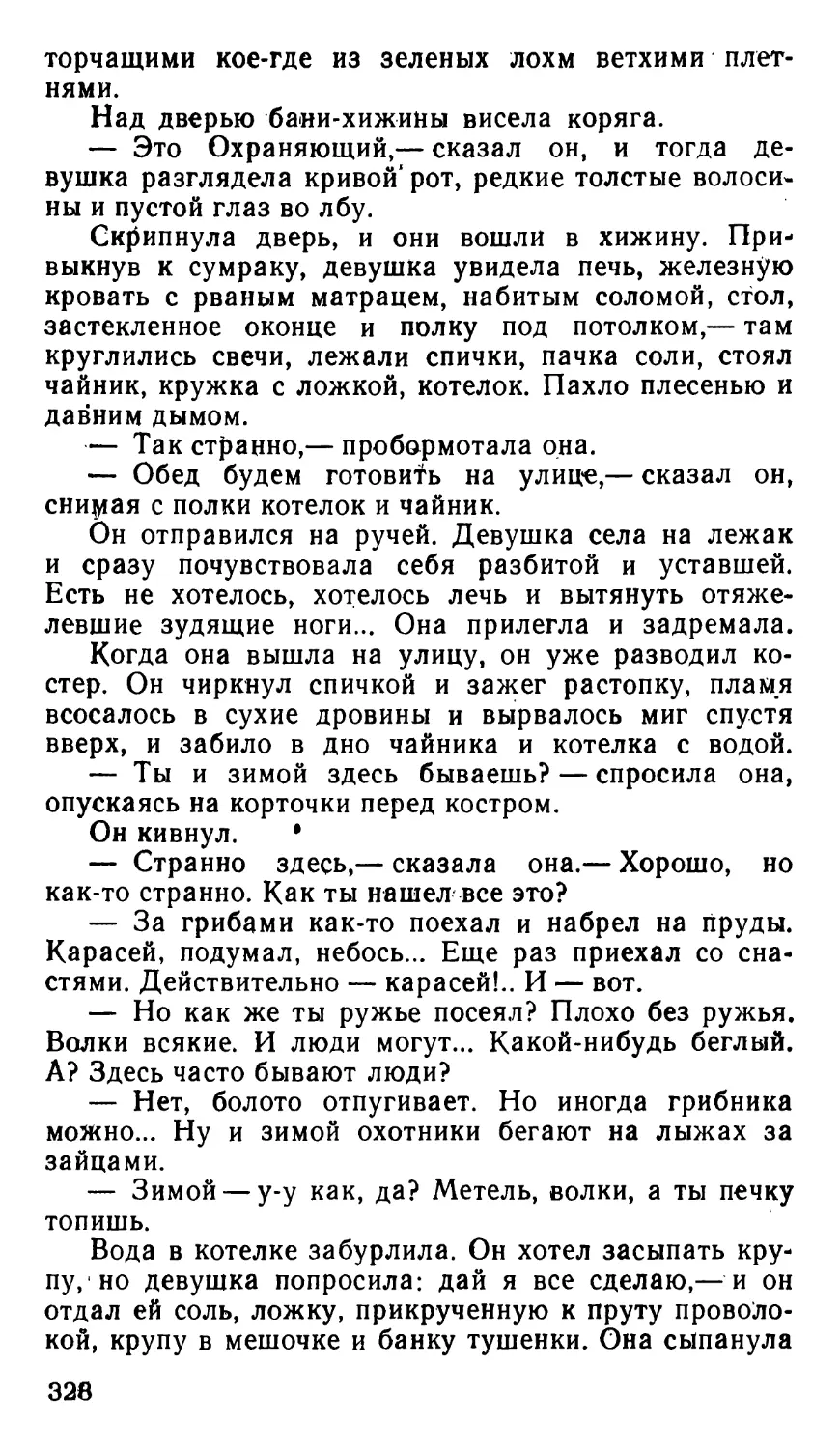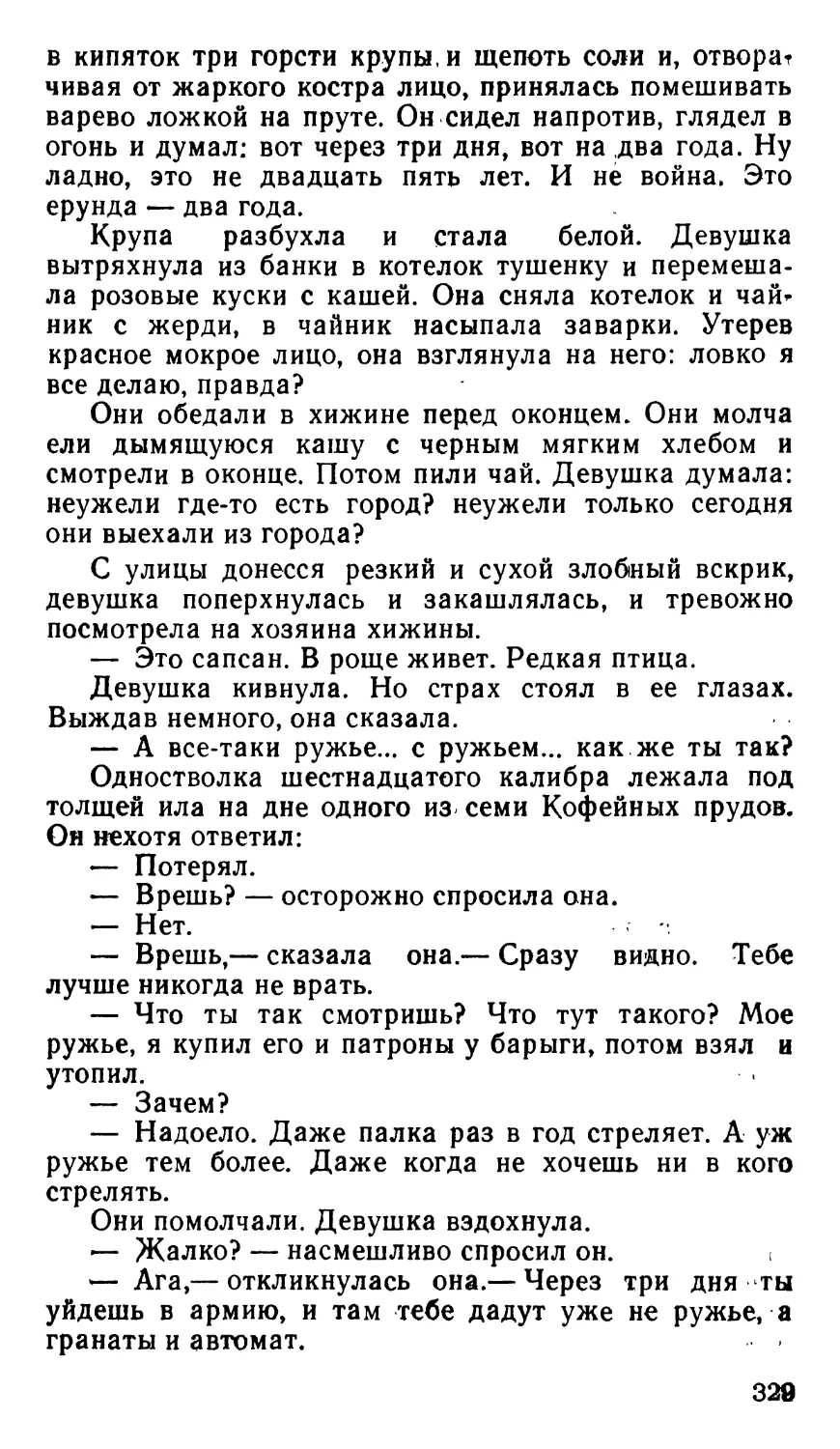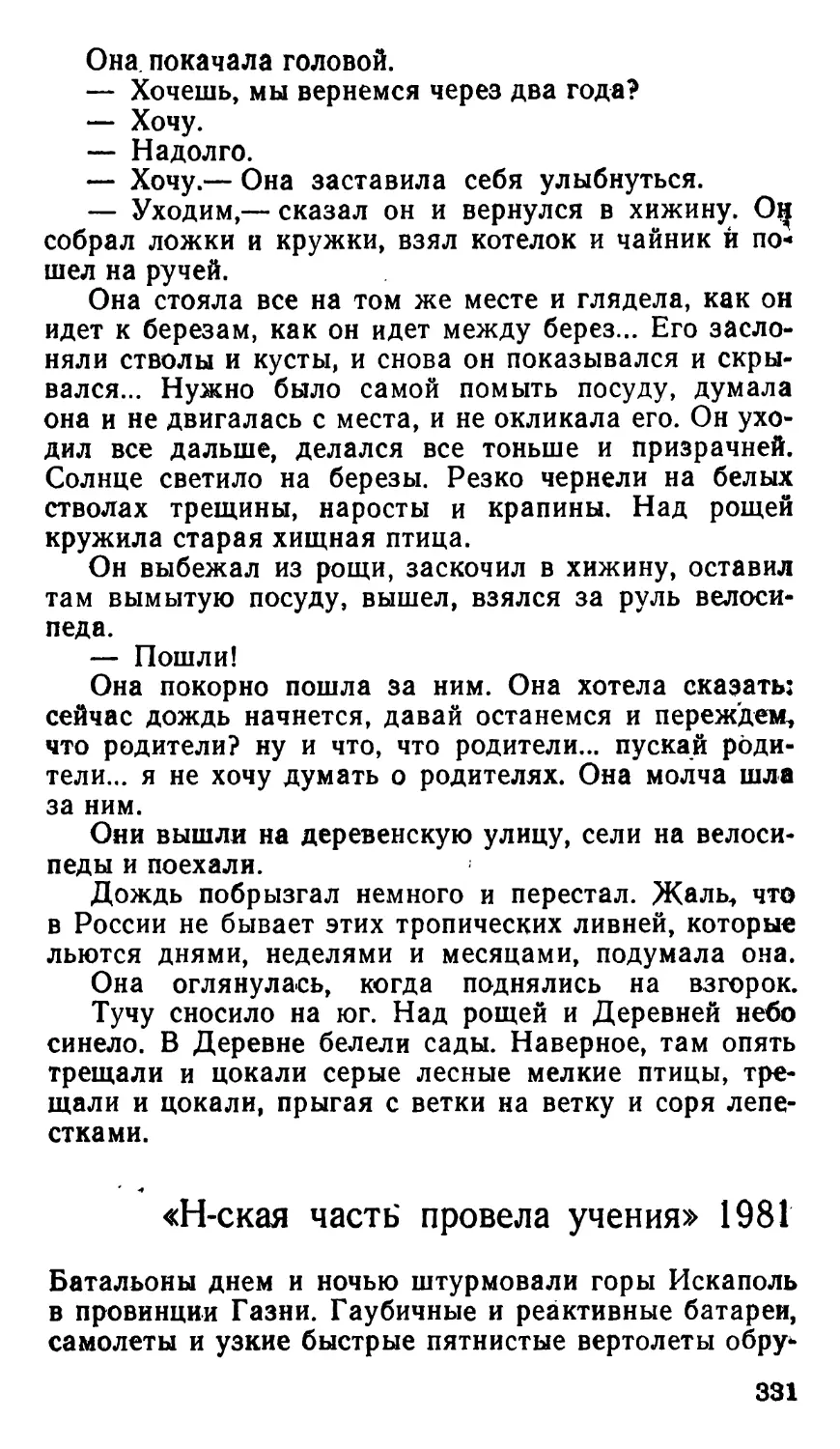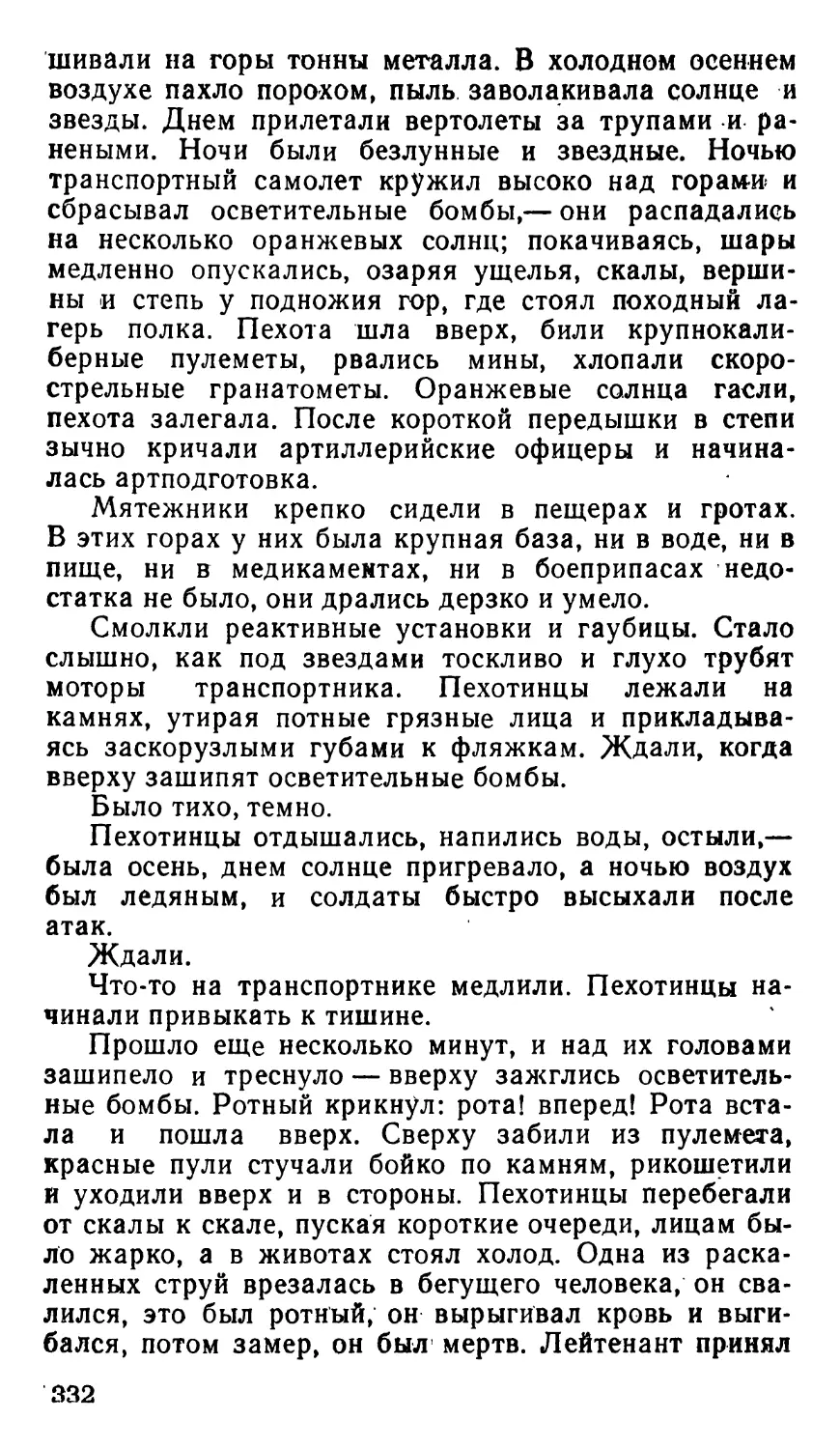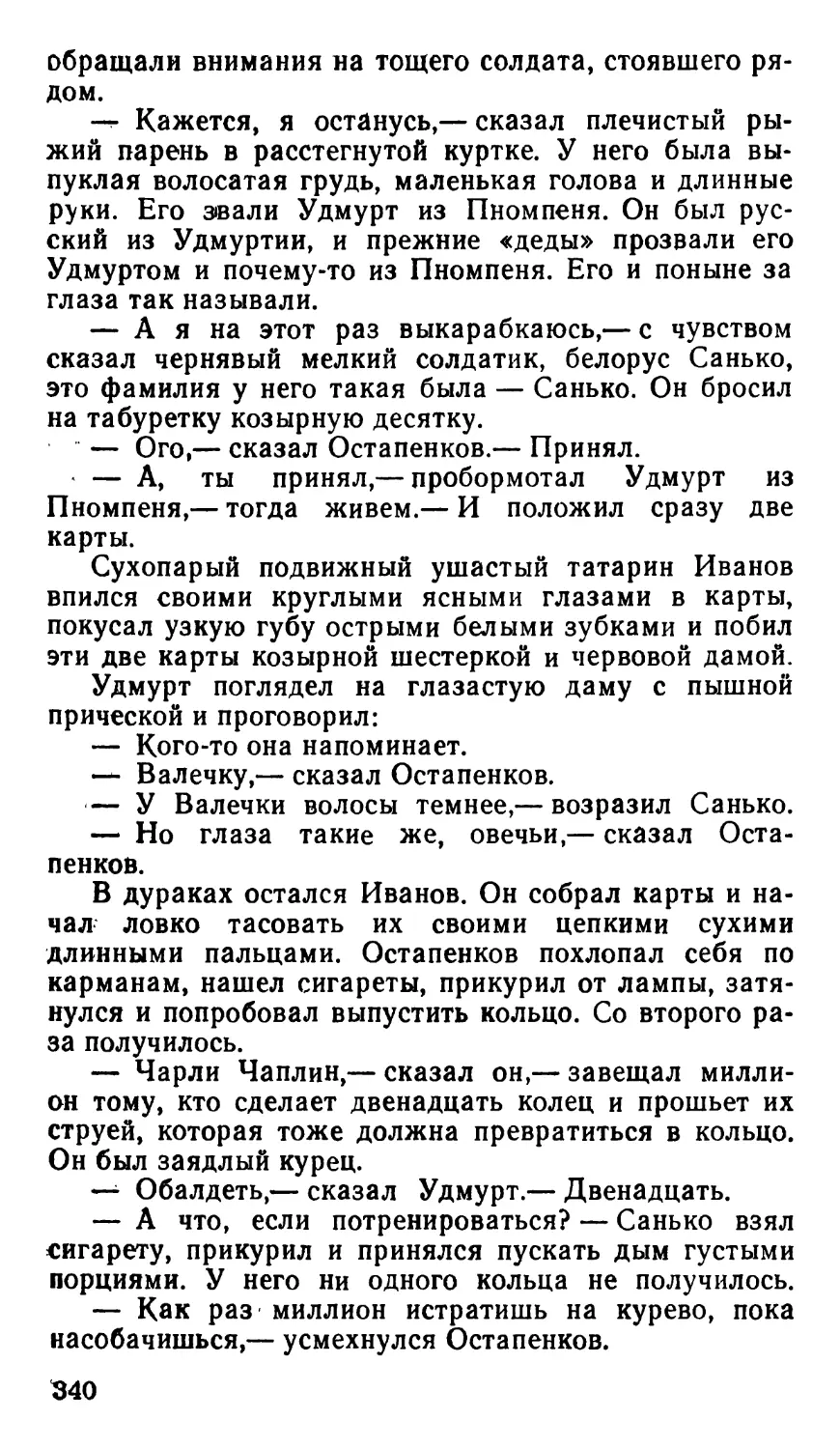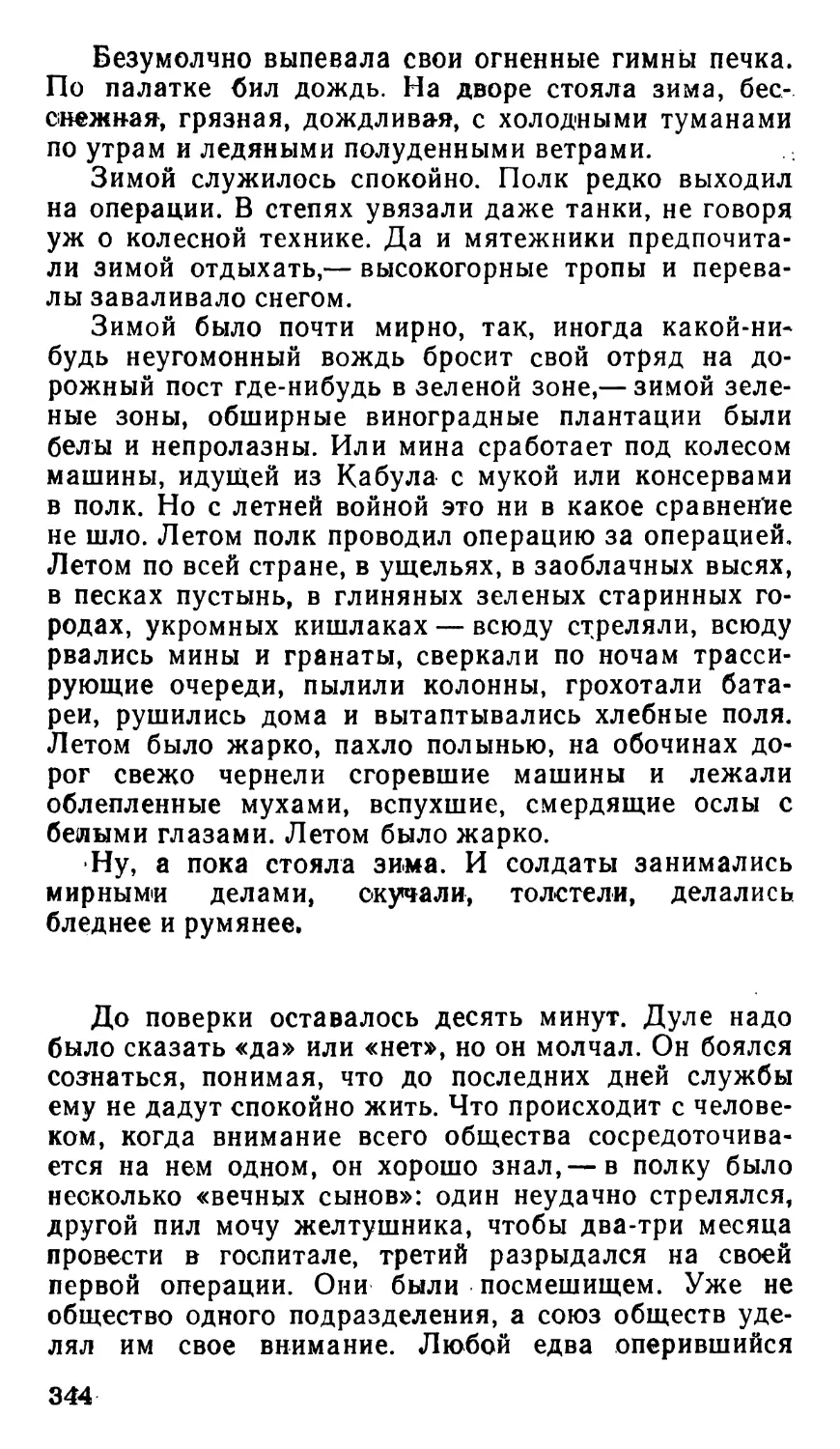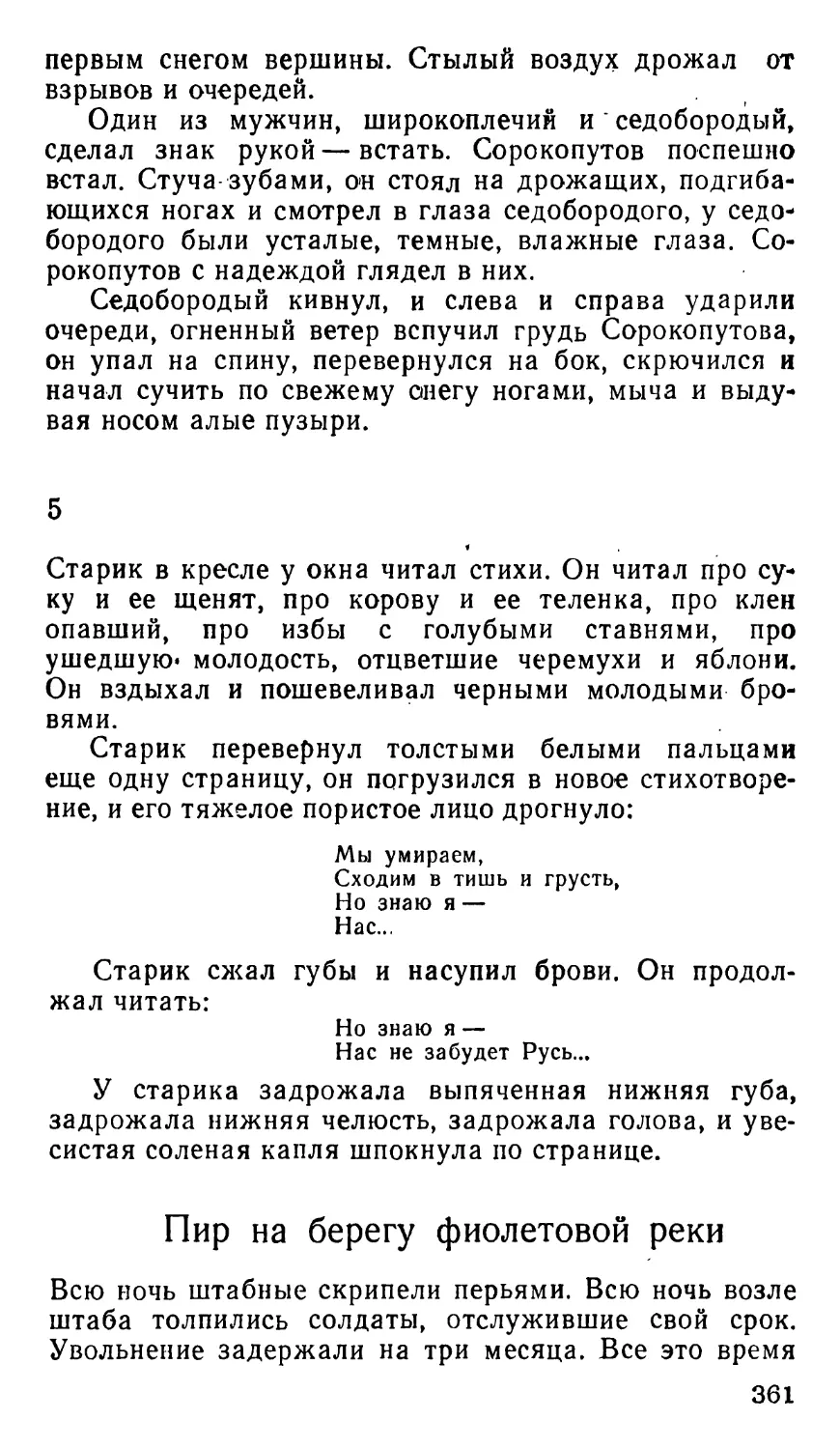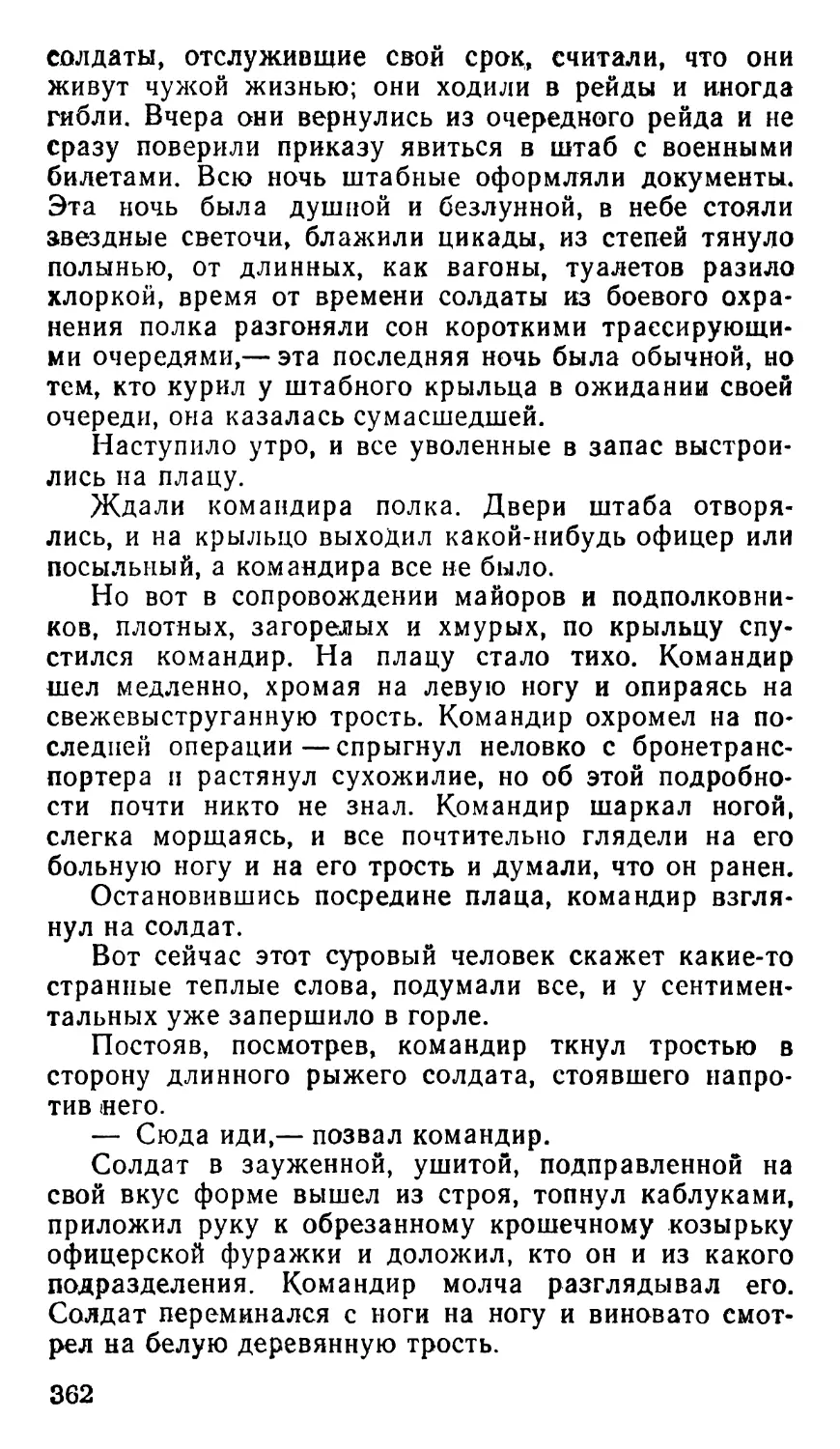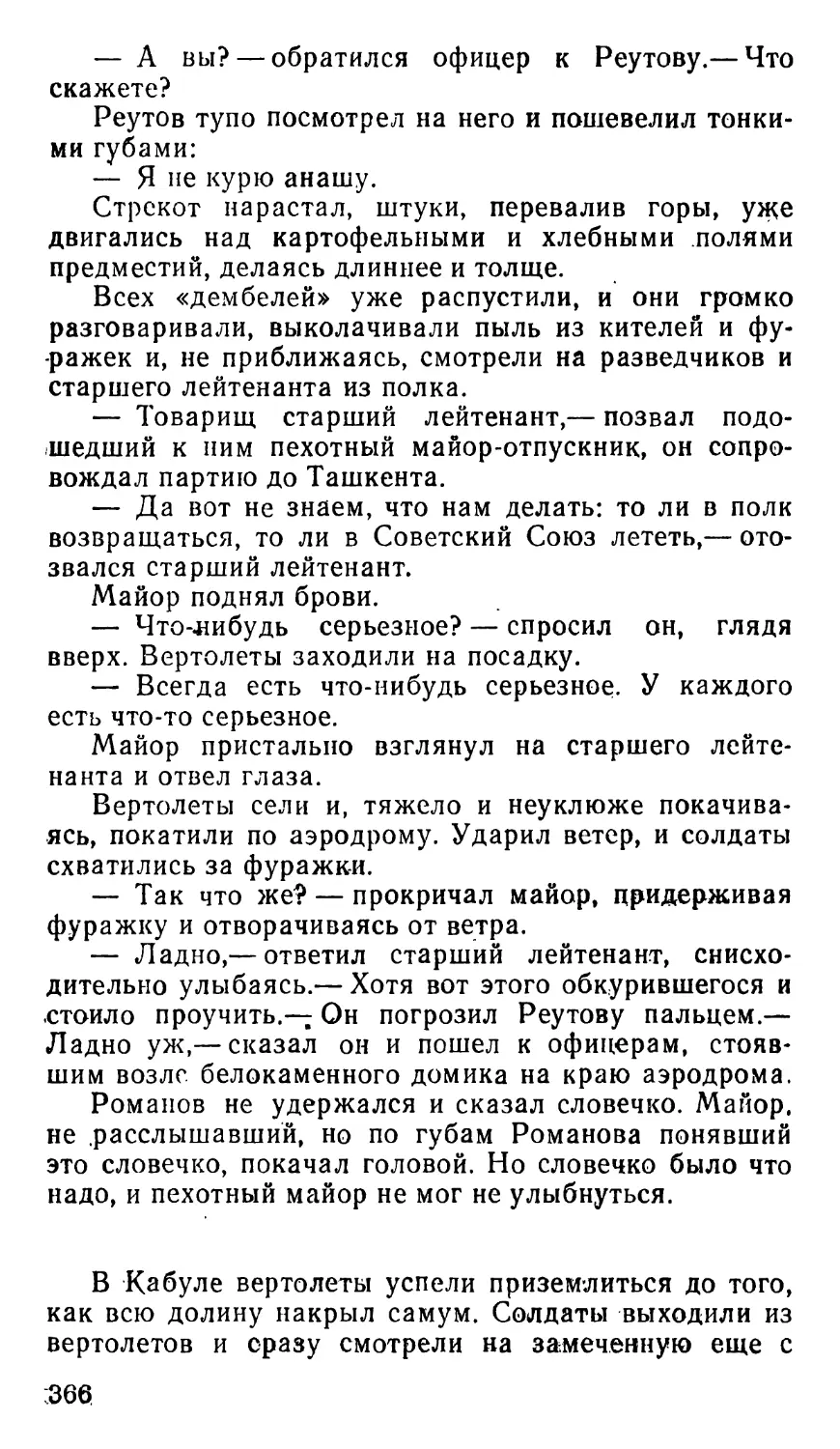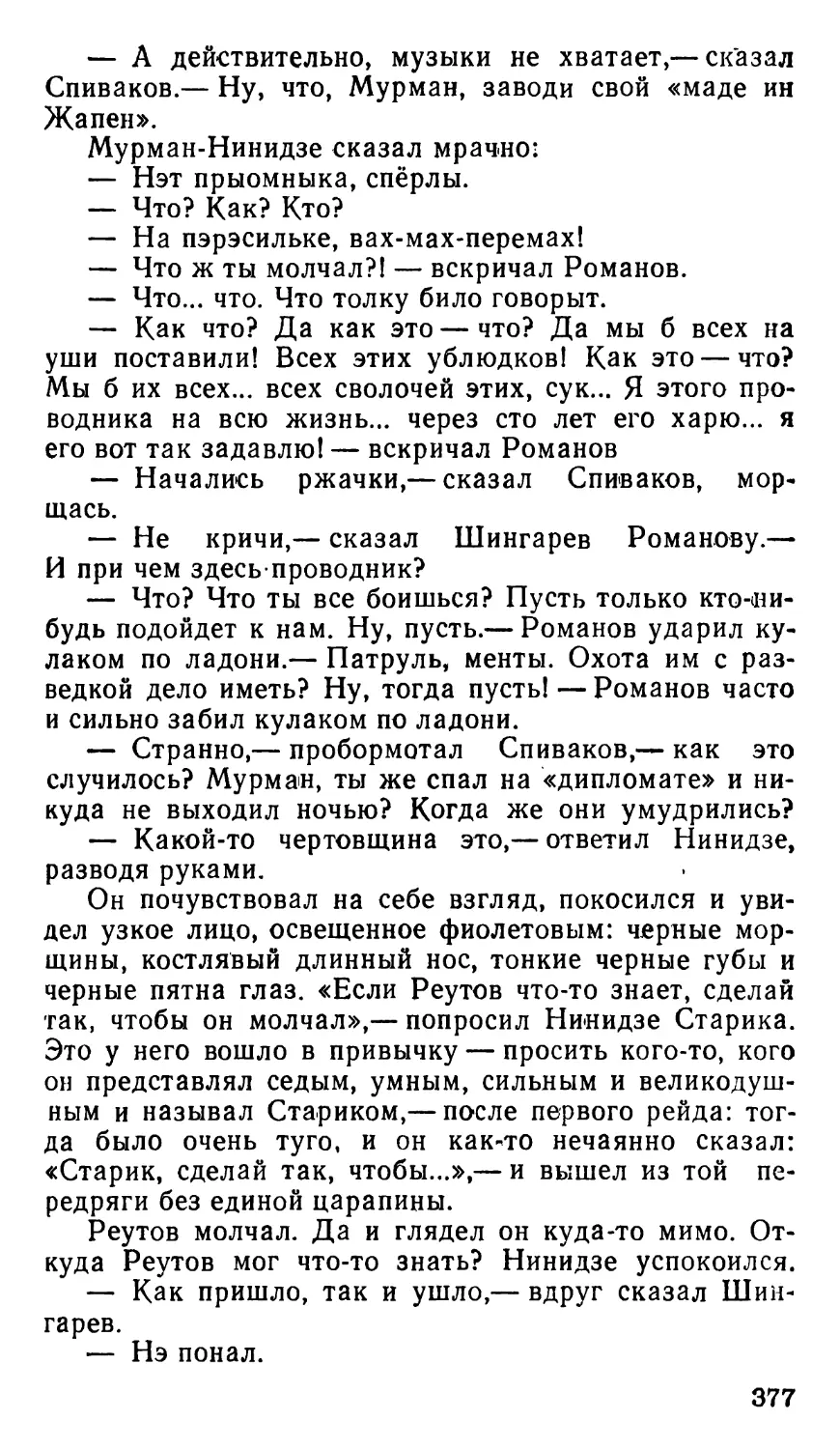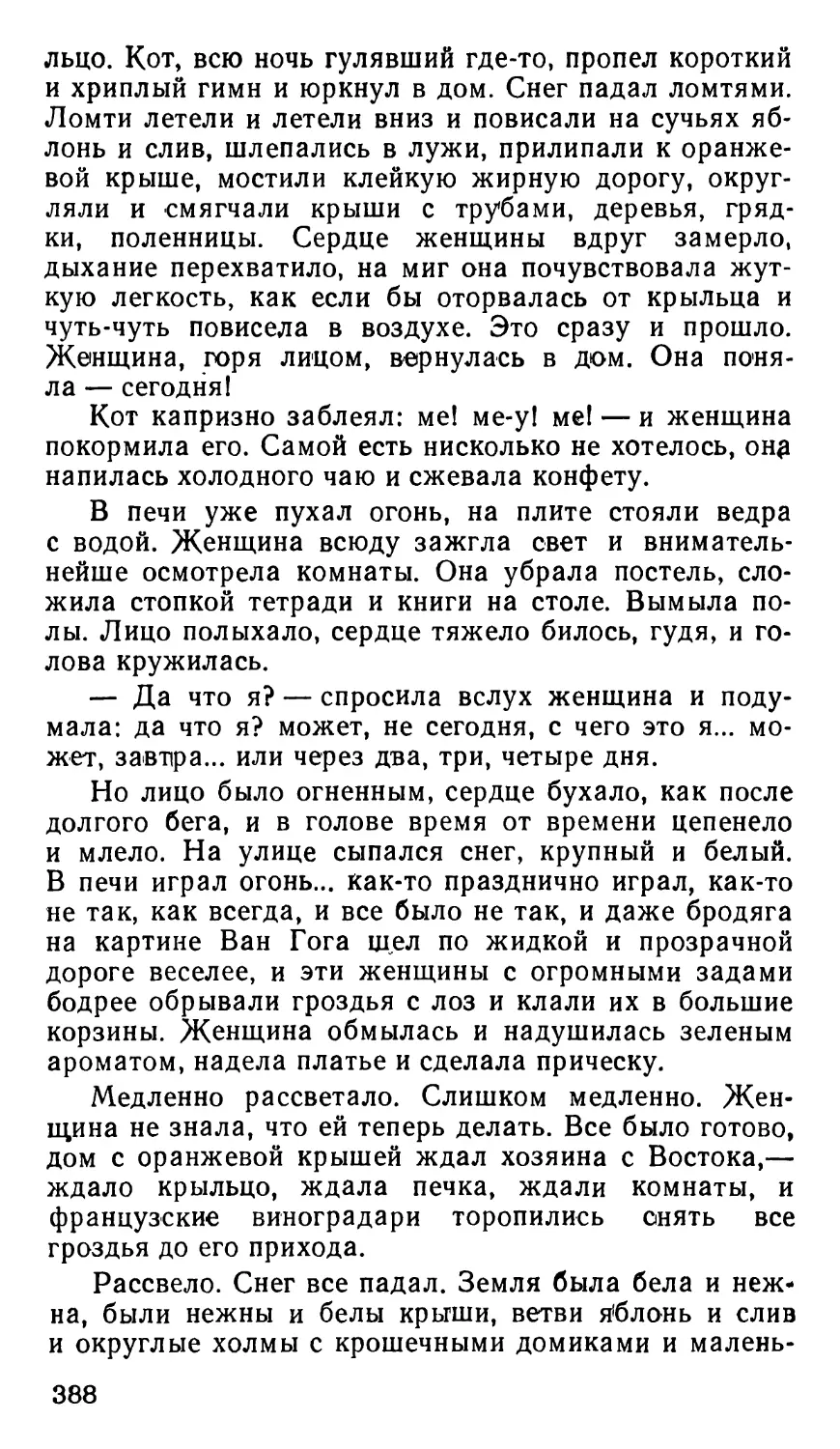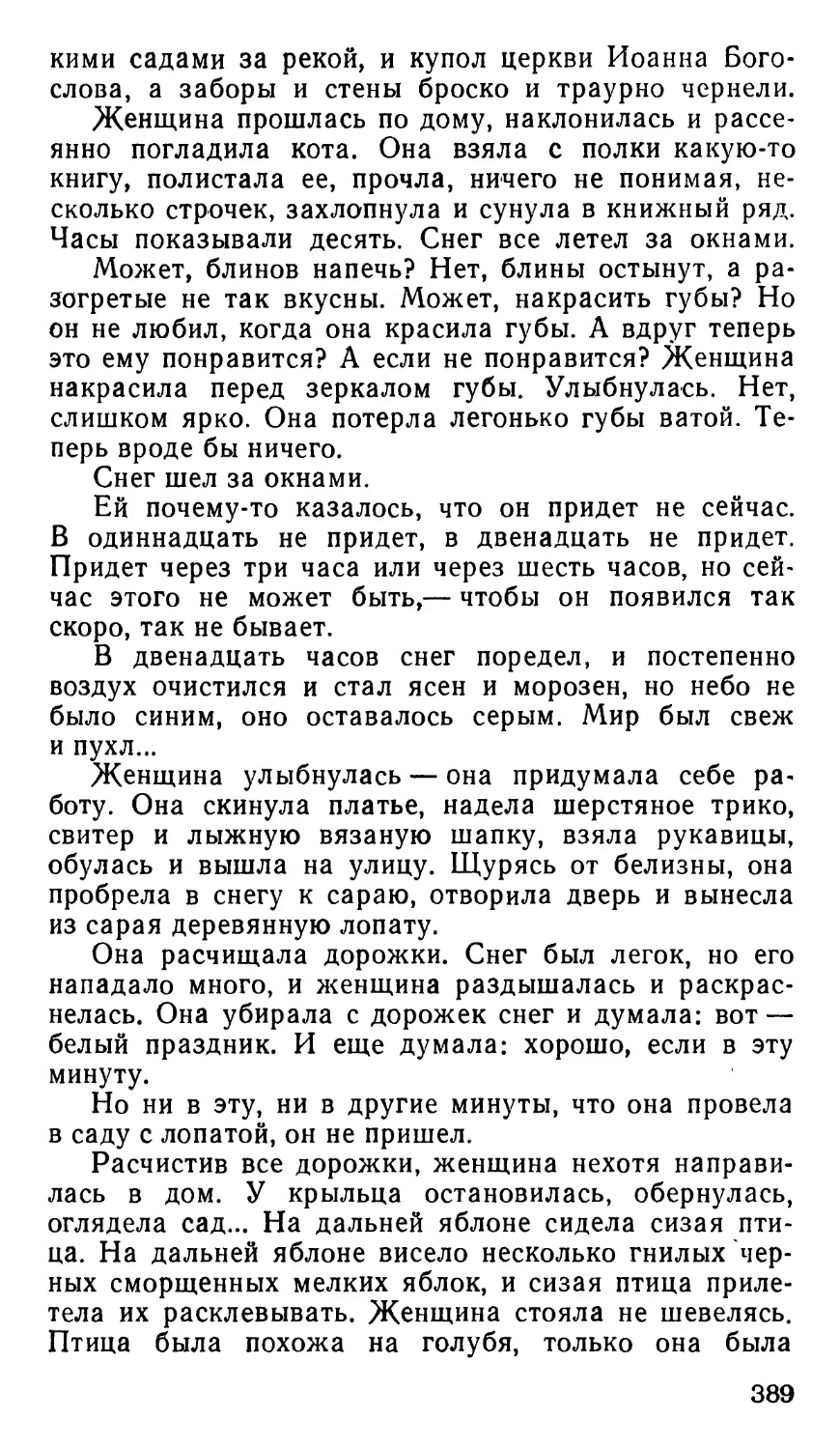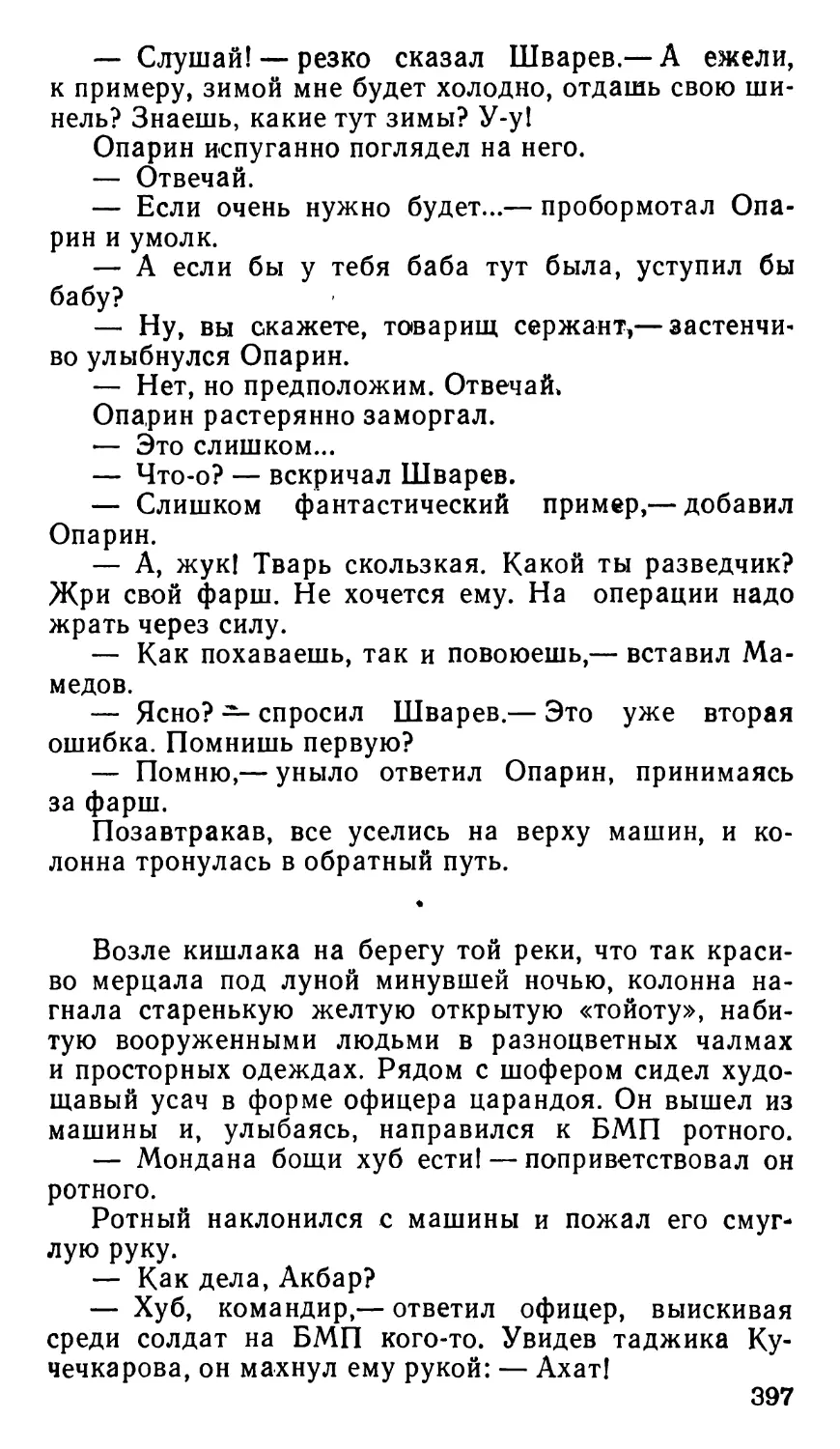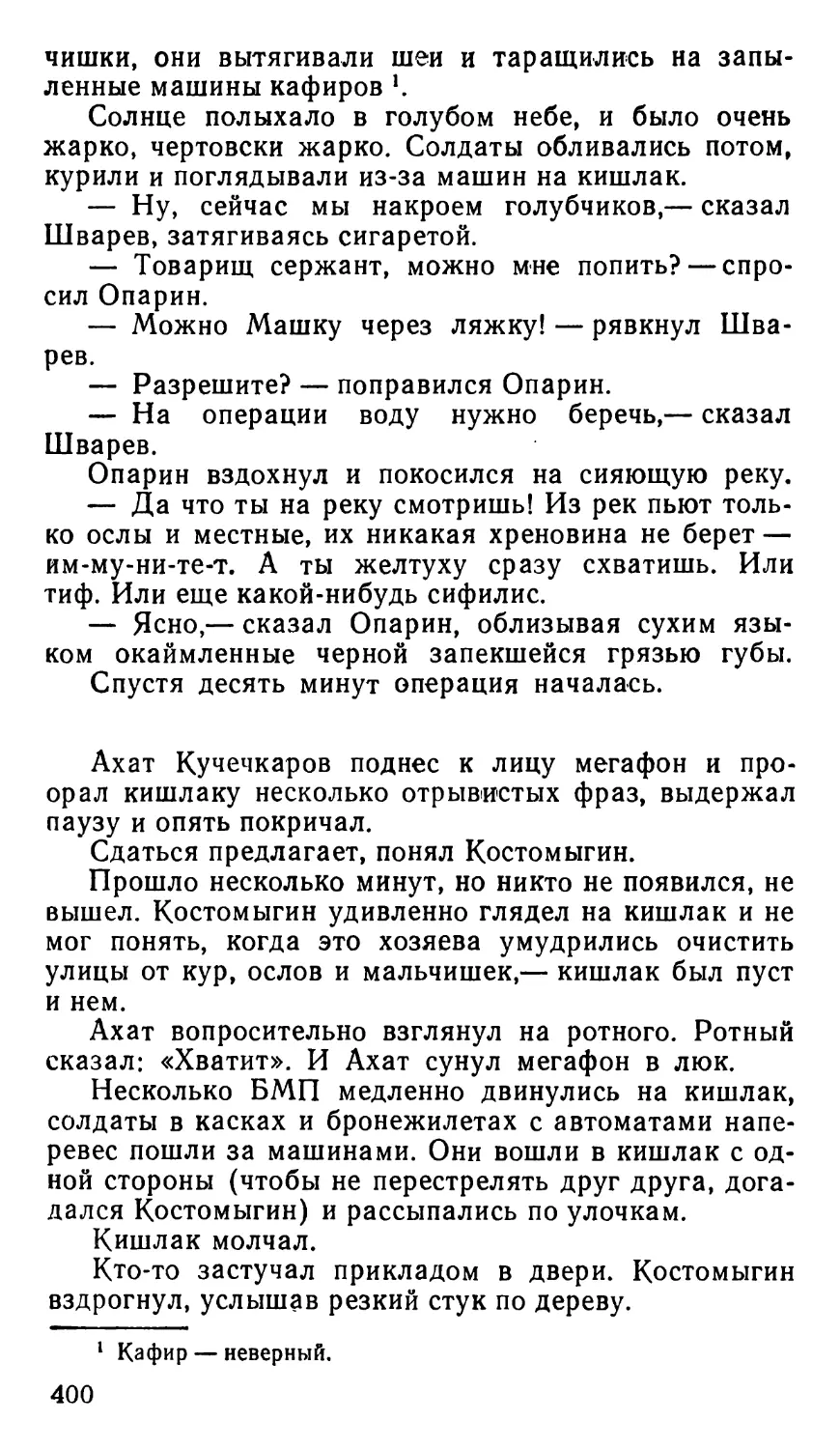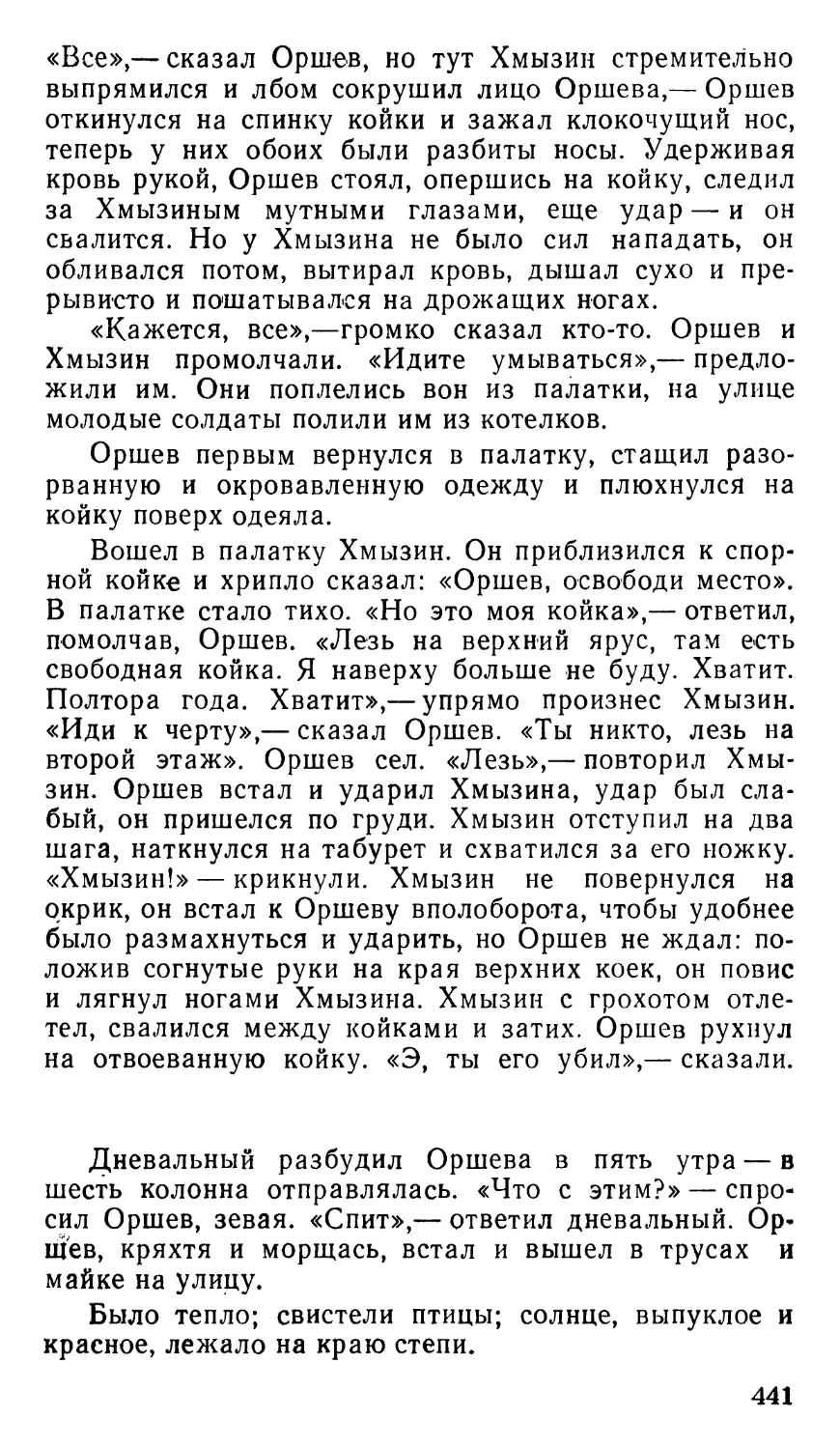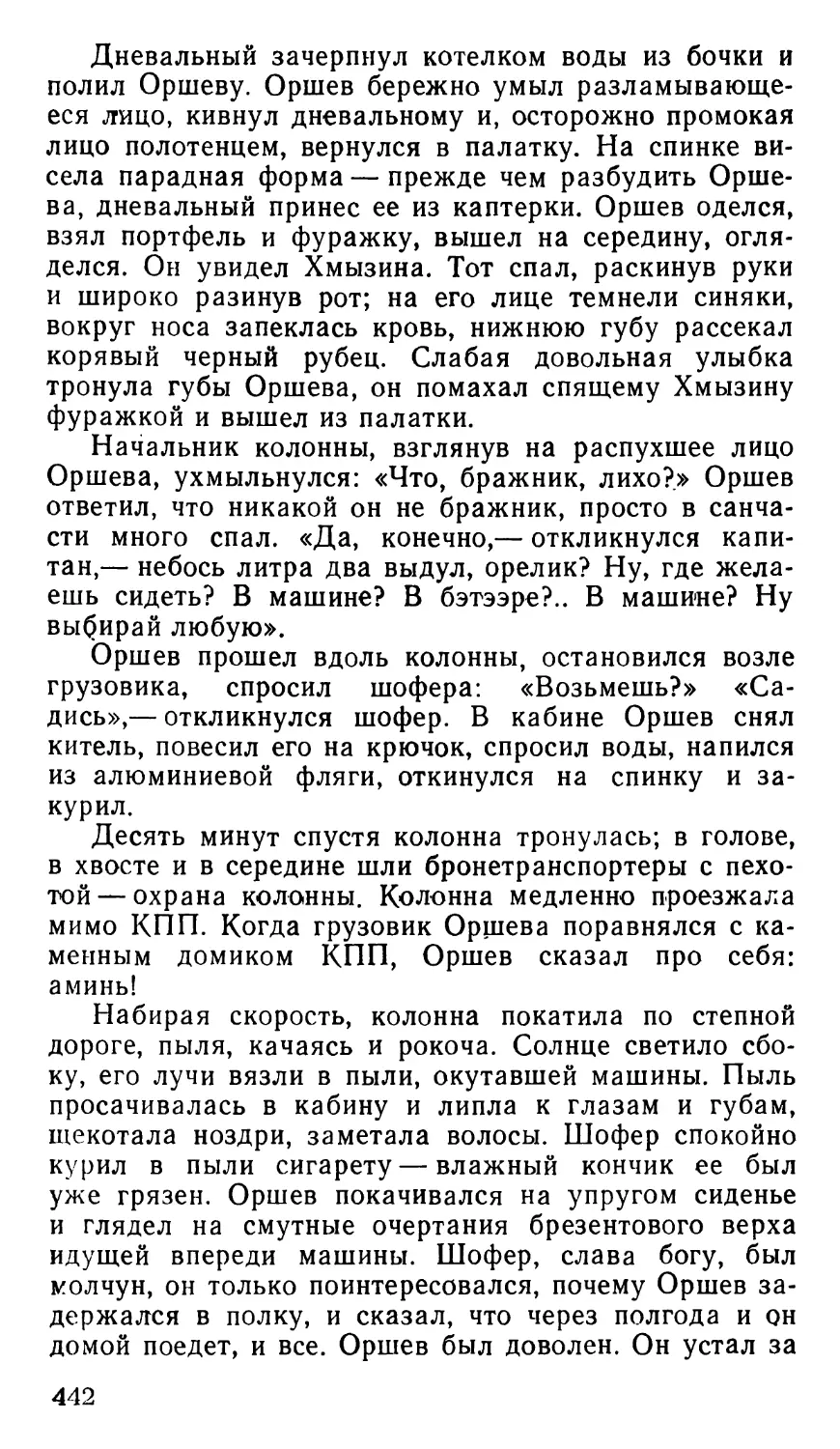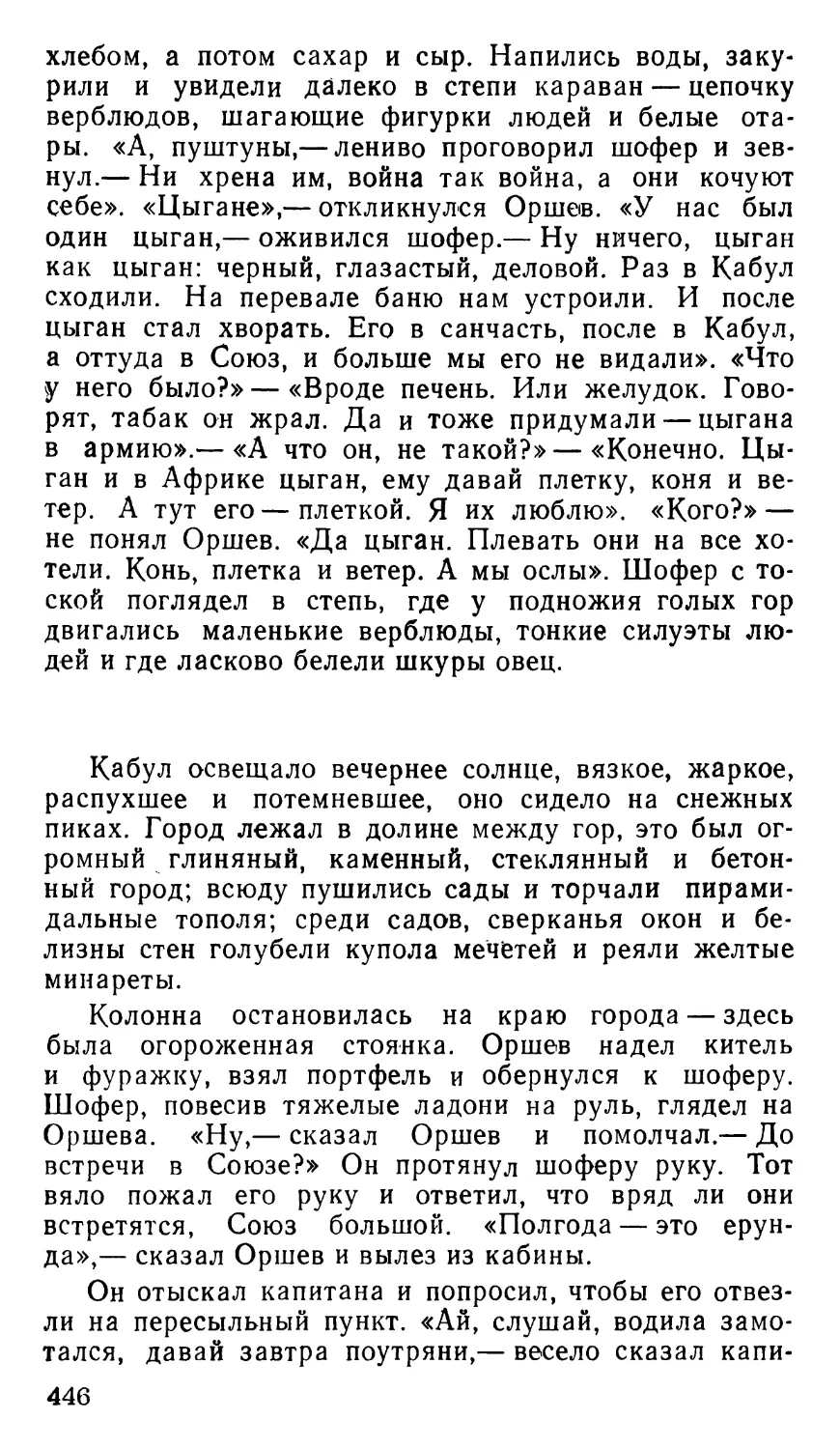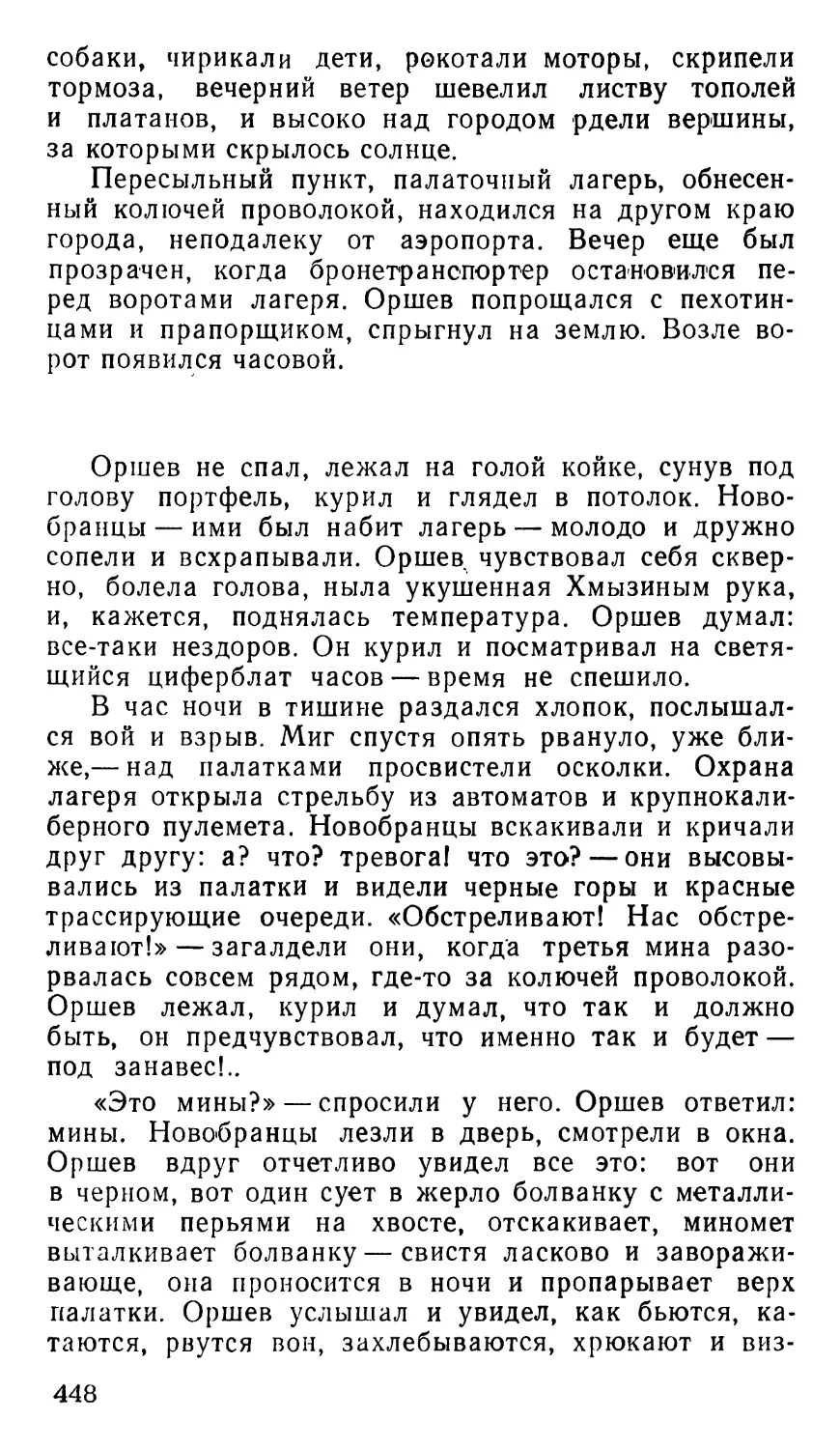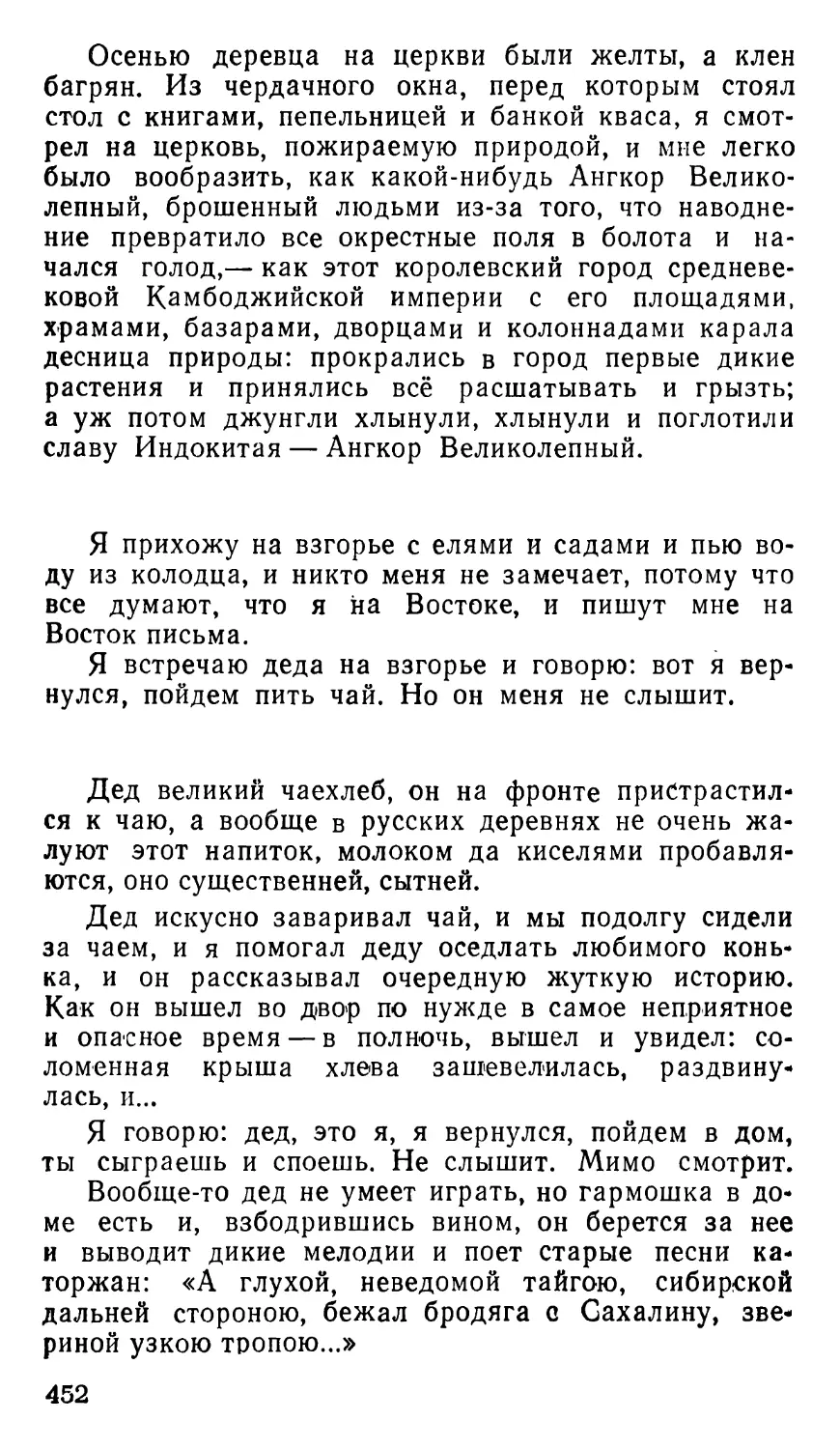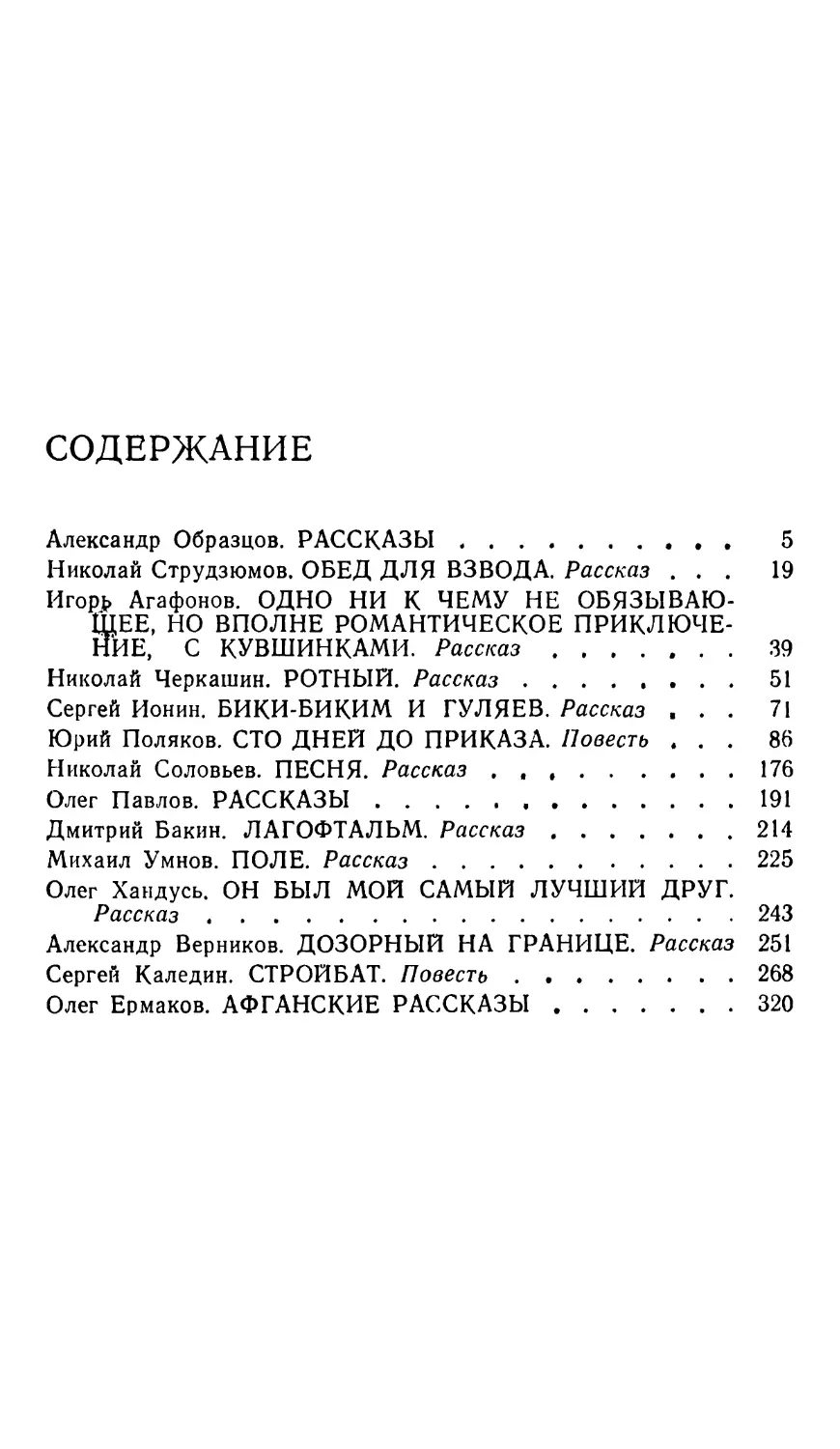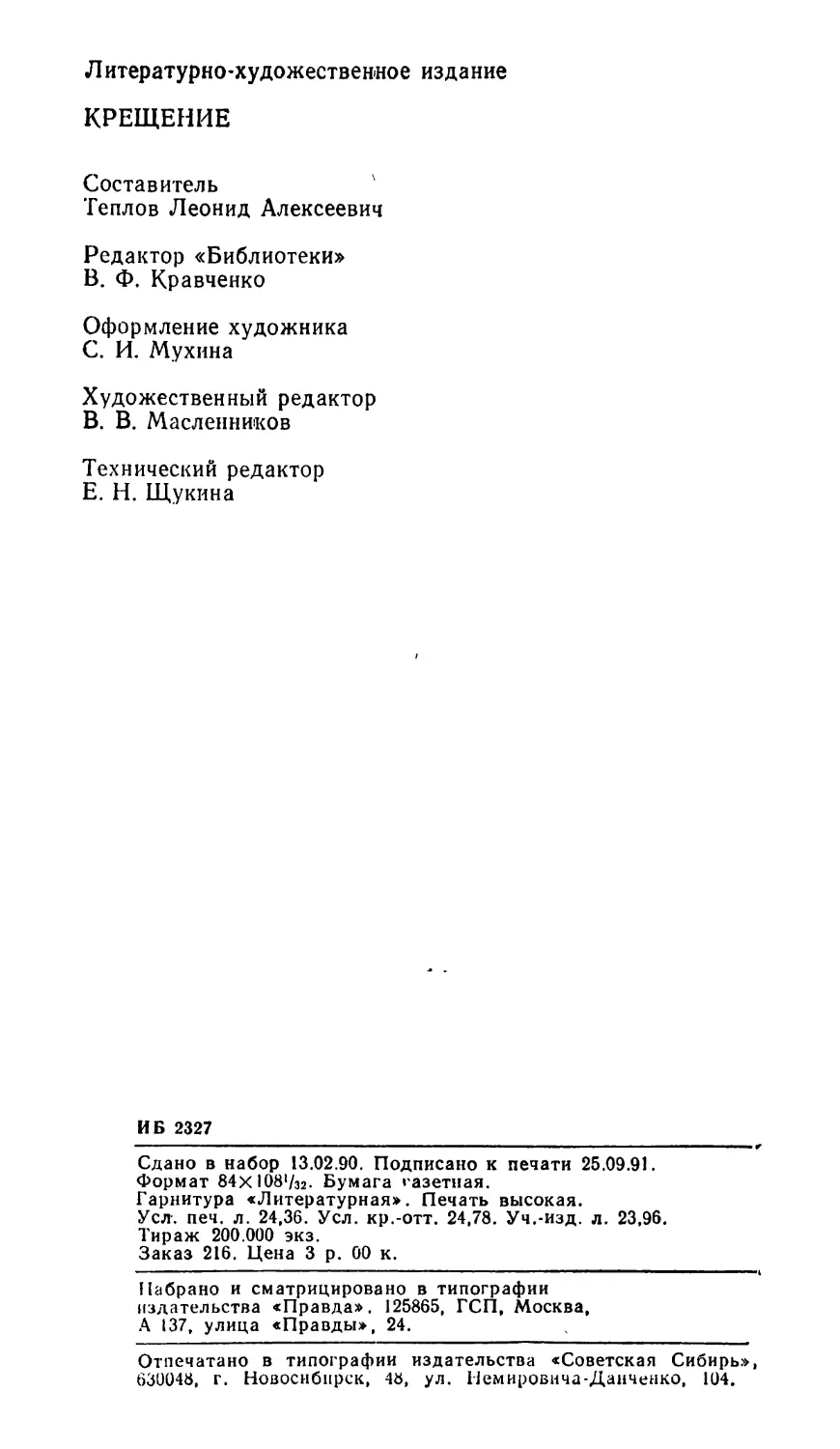Текст
крещение
Повести и рассказы
молодых писателей
о современной армии
крещение
Повести и рассказы
молодых писателей
о современной армии
МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1991
84 Р 7
К 80
Составление Л. А. Теплова
4702010200—2327
К ----—-----------2327-91
080(02)—91
ISBN 5—253—00233—2
© Теплое Л. А. Составление. 1991.
© Мухин С. И. Оформление. 1991.
«Знамя». 1991.
Александр Образцов
Рассказы
Баня
Одно из немногих наслаждений в армии — это баня.
Вначале, пока мы были еще в карантине, знакомст-
во с городом ограничивалось еженедельными выхода-
ми в баню, когда в бушлатах, в строю роты, подсте-
гиваемые зычным высоким голосом старшины Ким-
лача, мы шагали, оживленно и радостно глазея по
сторонам на ’ молодых — таких изящных — девушек,
и сам воздух казался чище и вливался в грудь свеже-
морозной волной. Мимо «Музтоваров», где всегда че-
рез репродуктор проигрывались новые пластинки,
старались идти медленнее, и тогда Кимлач снова раз-
ливался: «Н-направляющие-э, шире-э шаг!» Возбуж-
дение росло и достигало апогея на центральной пло-
щади. Здесь были ДОСА, гостиница «Украина»
и несколько магазинов.
Вот и темно-красное кирпичное здание бани. Стар-
шина уходит узнавать, можно ли вйускать роту, сер-
жанты собираются кучкой и курят, а в строю начина-
ются потасовки и хохот.
«Девушка, возьмите нас с собой!», «Девушка, дай
рубль!», «Девушка, пойдем с нами в баню!».
Наконец появляется старшина, команда: «Первый
взвод, справа по одному в баню шагом марш».
Бегом, успеть занять хорошее место в раздевалке,
хорошее место в мыльной, забраться в парилку и от-
таивать, чувствуя сладостную истому в теле.
— А ну-ка, Сомов, потри старшине спину.
— Осторожней, Сомов, не попорти драгоценную
кожу. Не сильно трет, товарищ старшина?
— Я тте...
Старшина щупленький, похожий на подростка, и
голос уже не тот, домашний:
— Плохо работаешь, Сомов, вот я тебя после ка-
рантина в увольнение не пущу.
о
А у каптерщика в предбаннике ад. Сто пятьдесят
рубах нательных, кальсон, полотенец, триста портя-
нок— выдай, получи, посчитай.
— Эй, каптерщик, у меня кальсоны без пуговиц!
— Слушай, ара, чито ты мине за дурака принима-
ешь? В эту рубашку слона заворачивать, да-а?
Появляется старшина, надевает кальсоны, рубаху
и возродившимся голосом перекрывает шум:
— Бельо сдать! Сдать бельо! Чтоб не оставлять
тут ничего-о.
Красные лица с вылезшей после бани щетиной
осаждают буфет. Лимонад, пирожки с мясом, конфе-
ты, котлеты уничтожаются за наличные и в долг.
Сержант Кравченко приводит двоих от пивного
ларька.
— Вернемся, накажу.
— Това-арищ сержант, папирос хотели купить, ну
нас и угостили, не отказываться же.
— За одно то, что ходили без разрешения,— по на-
ряду. За пиво— особо.
«Выходи строиться!»
Белье свежее, нога в сапоге как куколка. На улице
уже сумерки, зажигаются огни в окнах, кое-какая ре-
клама, легкий морозец.
Воскресенье
Дневальный со штыком на ремне томился у тумбочки,
поглядывая во двор. Под липой в курилке лениво пе-
реговаривались. В углу, у забора, звенел рубаб, узбек
Рахимбаев собрал зевак и гортанно пел под унылый
аккомпанемент. Ефрейтор Ежелев ходил на руках на
спор, на турнике болтались малорослые из четвертого
взвода, а Сомов с Михайловским сидели на траве под
беленым забором. Михайловский окончил до армии
Институт культуры.
— Ты не видел гонку преследования на треке?
Нет? Жаль. Первому труднее всех — он режет воздух
и создает своим партнерам вакуум. В вакууме идти
легко, можно и отдохнуть. Потом вперед выходит сле-
дующий, а ведущий пристраивается в хвост и так да-
лее. Но суть в другом. Стоит гонщику выпасть из
группы, как его отбрасывает назад. Как ни работай
6
педалями, уже не догнать. Так и мы: выпали из ваку-
ума знакомств, системы оповещения — и вот, пожа-
луйста, снова нужно будет начинать с нуля... Ты на
дневном учился?
— Да, в университете,— ответил Сомов.
— Три года. М-да. Так и создается стена между
отслужившими и прочими. Ждешь этого возвращения,
как манны небесной, а вернулся, смотришь—сверст-
ники твои уже институты окончили, сверстницы замуж
вышли, детей рожают, танцы новые танцуют, книги
новые читают... А жить-то все-таки надо. И начинает-
ся погоня...
— Но это уже шаблон. Так и жить неинтересно,—
возразил Сомов.
— А что поделаешь? — Михайловский лег на спи-
ну, закинув руки за голову.— И эта вот украинская
жара, и синее небо, и этот несносный запах от мест
общественного пользования — тоже шаблон. Так или
иначе все это было несчетное число раз. Жизнь инте-
ресна нюансами...
— Первый взвод, строиться! — послышался голос
Кравченко.
— Ты не в курсе, куда это?—спросил Михайлов-
ский.
— Хабе стирать. Вчера каптерщик говорил.
— Вот тебе и нюанс. Надо плавки надеть.
Напротив КПП, в газетном киоске горбунья под-
няла стеклянную витринку, села, поправила волосы и
незаметно глянула в зеркальце. Процокала по ас-
фальту повозка на резиновых шинах. На тротуарах,
по обе стороны проезда, сгустились воскресные прохо-
жие. Много колхозников с мешками, женщины с пле-
теными соломенными сумками и в сапогах.
На улице флажковой повернул не направо, куда
обычно ходили в баню и где улица поднималась в го-
ру, к центральной площади, а налево, к рынку. Крав-
ченко шагал сзади и иногда покрикивал: «Разговорчи-
ки... Взять ногу!» Командир взвода на тротуаре как
будто не имел никакого отношения к строю.
Минули колхозный рынок, аттракцион «Гонки по
вертикальной стене» и оказались за городом. Там,
среди сожженной солнцем травы, куч городского му-
сора, пригорков и ям, в степи до горизонта было не-
уютно и пыльно.
7
Свернули с дороги, расстегнули воротнички, лени-
во, через силу, переговаривались. Впереди белел из-
вестняком карьер. Несколько ив росло сбоку.
По четверти куска хозяйственного мыла на брата,
но вначале — окунуться с головой, пересечь пару раз
озерцо с холодноватой, зеленоватой в глубине водой,
а уж затем повалиться на песок как раз на том мыс-
ке, за которым приказано стирать, и — все тот же го-
лос сержанта: «Михайловский, Сомов! А вы чего уле-
глись?..»
И вот, когда тер мылом гимнастерку на покатом
камне, оглянулся и замер: за мыском возникала из во-
ды Афродита. В шаге, с полусогнутым коленом, при-
жатым к другой ноге, руками, поправляющими золо-
тые волосы, и глубокими белыми подмышками на за-
горелом семнадцатилетнем теле, выгнулась из синей
волны в дрожащем воздухе на откосе противополож-
ного берега так, что глазам не поверил и отвернулся,
чтобы незаметно, через плечо бросить взгляд: была
ли? И вот она — золотая голова, булькающие ноги
и плавно выносимые руки— плывет...
Сомов машинально комкал в руках гимнастерку и
изредка оглядывался, смотрел, как она сидит с под-
ругой на том берегу.
Михайловский вдруг сказал:
— Вот ведь, посмотри, выходит из пены морской
Афродита, не меньше. Кажется, что и мысли у нее не-
земные. А что на самом деле? Стоит только предста-
вить себя в семнадцать лет, и ты поймешь ее всю. Это
как в лесу: найдешь дупло и боишься туда руку су-
нуть— и змеи мерещатся, и черт знает что, а там —
пара листочков залетела да веточка, вот и все содер-
жимое.
И впервые появилась злость на него. Сомов про-
бурчал в ответ:
— Все теории...
И Михайловский неожиданно легко согласился:
— Да. Это как раз тот случай, когда теории бес-
сильны. Как бы ты ни пытался быть равнодушным пе-
ред красотой, а она тебя уязвляет...
И прочее, и прочее. Его голос преследовал Сомо-
ва и после стирки, но он ничего не отвечал, лежал на
песке, положив подбородок на кулаки,- и смотрел на
другой берег. Он представлял, как встает, бросается
8
в воду и плывет туда, как идет к ней, разгребая ко-
ленями воду, и между ними— ни единого слова, как
они взбираются на откос и ложатся рядом, совсем од-
ни, и ее нагретая кожа пахнет цветами, и перед ними
степь и свобода, и маленькая полоска песка и травы
между ними, как пять минут до подхода поезда, и да-
же мысль об этом кружила голову, пьянила... Или
солнце напекло голову?
А там, за ивами, гогот и звуки ударов по мячу. Да-
же Кравченко развеселился и от души колотит его
оземь, а затем начальственным баском посылает кого-
то за ним в степь.
А над пространствами неба, рек, шляхов, сел и го-
родов, дальше, в Восточной и Западной Европе, сей-
час воскресенье, и взвод затерялся в нем, как песчин-
ка на пляже. Где-то в «Ленинграде опустели проспек-
ты и назначаются дополнительные электрички в Зе-
леногорск, а здесь взвод в разнокалиберных трусах и
плавках играет в волейбол, лежит на песке, и над
ионосферой Восточной Европы восходит, как в ракови-
не, поющей эллинской голубизной — почему так отча-
янно жаль себя? — восходит в витой раковине, в пер-
ламутре придуманный голос с того берега.
...Голос дневального запаздывал. Сомов успевал
коснуться множества воспоминании. Он бегло и лю-
бовно пробегал придуманное: и ее вопрос на лестни-
це, и смех, и то, как ее освещает заходящим солнцем
из лестничного окна, как лоснится загорелое плечо.
Он колдовал над интонацией и бесконечно расширял
ее учтивость и любопытство. Он так расширил их, что
смыслу становилось тесно, и был только вялый, румя*
ный призыв, «да» и «ну?» в треугольнике приоткры*
тых губ.
Но наступали минуты торжества дневального.
— Ро-ота-а...— тянул он, будто бы и в самом деле
хранил сон и мог распоряжаться покоем.— Подъем!!
И в этом вопле была власть.
Поворот судьбы
В штабе дивизии Сомов отдал пакет* старшине со
штатским голосом. Тот вскрыл его, пробежал глаза-
ми служебную карточку и удивленно посмотрел на
Сомова.
9
— Странно,— сказал он.— Как это тебя сюда за-
несло? Одни благодарности.
— Я сам попросился,— ответил Сомов.— Я ро-
дился в этих местах.
— А-а,— сказал старшина и задумчиво посмотрел
на Сомова.— Куда ж тебя определить?.. На аэродром?
— А что здесь, заправка кислородом? — осторожно
спросил Сомов.— И еще есть варианты?
— Есть и еще,— усмехнулся старшина.— В ба-
тальон охраны, например.
— Что вы, товарищ старшина! — Сомов сделал ис-
пуганное лицо.— Для чего меня учили восемь меся-
цев?
— Есть тут еще кислородный поезд... Где-то я ма-
шину их видел,— старшина выглянул в окно.— Ага.
Считай, что повезло. Подожди в вестибюле.
«Газ-69», старенький, с продавленными сиденьями,
через полчаса вез Сомова по бетонке, подбрасывая на
стыках. Сомов держал на коленях вещмешок и ста-
рался смотреть оживленно. Капитан на переднем си-
денье хмуро щурился в боковое стекло на заснежен-
ные болота. На западе, километрах в двадцати, сине-
ли сопки.
— Товарищ капитан,— обратился Сомов к за-
тылку.
— Да?
— Вы не знаете, куда меня поставят?
— Как куда?
— В какой вагон?
— Во-первых, не в вагон, а на установку. А во-
вторых, будет приказ командира, а он не обсуждает-
ся, ясно?
— Так точно,— ответил Сомов и стиснул зубы.
— Ты на баяне играешь? — спросил шофер, быстро
обернувшись.
— Нет,— ответил Сомов.— А где вы живете?
— В казарме, полкилометра от поезда.
— Холодно здесь после Украины.
— Позавчера ночью было сорок восемь. Вот тебя
в карауле товарищ капитан погоняет из кочегарки.
Шофер, видимо, мог позволить себе такие воль-
ности.
— А часто здесь в караул ходят?
— Через день,— шофер еще раз оглянулся и полю-
10
бовался произведенным эффектом.— Часть малень-
кая, людей не хватает, прямо не знаю, что и делать.
— Ефрейтор Данилов!
— Что, товарищ капитан?
— Попрошу не болтать за рулем.
Шофер помолчал и начал насвистывать.
— Данилов! Прекратите сейчас же, или я вас...
— Что, товарищ капитан?
— Я вас накажу.
— Я могу уснуть за рулем, товарищ капитан. Ночь
дежурил.
— Знаю, как вы дежурите! — взорвался капи-
тан.— Завалитесь спать в караульном помещении, из
пушки не добудишься!
— Устав не запрещает. Дежурный шофер — не ча-
совой.
— Командир вас просветит на эту тему,— зловеще
проговорил капитан.
Шофер промолчал.
Остановились перед шлагбаумом. «Хабаровск —
Москва»,— прочел Сомов и с завистью посмотрел в ле-
тящие окна вагонов.
Белове начиналось двухэтажным розовым домом.
— Офицерское общежитие,— сообщил шофер.
Машина свернула налево. Проехали водонапорную
башню и белое здание электростанции. За ним пока-
зался зеленый поезд с тепловозом впереди.
— А вот и наш зеленый змей,— сказал шофер,
останавливая машину перед шлагбаумом.
Вариант
Сон пропадает уже тогда, когда край небес бледнеет,
затем зеленеет, и все облачка, оказавшиеся на восто-
ке, так же неуловимо меняют оттенки своей пепельно-
сти,— густая полукруглая синева вновь линяет и появ-
ляется солнце.
Ходишь, на ходу потягиваешься и зеваешь так, что
скулы трещат. А посмотреть на часы — половина пя-
того — и пойти к маслоскладу. Там, за рядом колючей
проволоки, дом с огородом и сеновалом, и деревья,
два тополя у калитки, а между ними качели. Хозяин
11
дома — сверхсрочник, и каждое утро жена его, лет
двадцати восьми, Простоволосая, в желтом платьице
выводит из стайки корову и гонит ее по тропинке в
бурьяне. И от рассвета, и от туманца, и от жены
сверхсрочника с ее высокой грудью так тянет запахом
холодного, ломящего зубы молока, так отдается студе-
ностью во всем теле...
Стоять, опершись на ящик с надписью «Не канто-
вать. Южно-Уральская ж. д.», стоять, вертеть кара-
бин, щелкать затвором и ine вымучить, как сказать
слово, да за словом еще слово?..
А она уже идет назад, волосы закалывает на хо-
ду, вся в лучах и сырости трав, пока маленькая, как
игрушка. Эх, достать бы такую игрушку...
...До качелей дошла—‘посмотрела — шагах в
двадцати всего. Что же?
— У вас попить не найдется?
— А-а?
— Воды попить не вынесете?
— Сейчас,— сказала.
И вот укрылась в зеленой веранде... Подогну и
я колючую проволоку, через канаву — скок...
В ковшике несет.
— Спасибо. Не хочется каждое утро в такую рань
вставать?
— А кому захочется? — отвечает, зевая. ч
— Это даже и хорошо. А сейчас снова в постель,
самые сладкие сны под утро.
— Какие там сны, завтрак пора готовить, муж го-
лодный приедет.
— С дежурства?
— Тревога вечером была, с тех пор и нет.
— У нас тоже была, но через час дали отбой.
— Так то у вас...
— Я бы от такой жены по тревоге не бегал, лучше
уж дембельнуться. Не ценит, наверное?
— Ох уж и жена. Да он, собака, ни одной бабы не
пропустит. Ф-фу, сокровище!
— Что-то даже и не верится. Себя бережет?
— Как же,— усмехнулась она,— бережет...— и по-
краснела.
Берешь ее за руку и пригибаешь вниз ее холод-
ную руку, а глаза искоса, серые,..с точками зрачков.
12
Наклоняешься к губам, и они ускользают, но другая,
правая рука обгоняет плечо, ложится, впаивается,
поцелуй.
Бережно-сильные волны рук и груди — мерный
взмет захолонувшей крови — гибкий провал спины.
Но — быстрый взгляд на дома, на бетонку, на
солнце — шепот:
— В девять вечера... в орешнике у старого ан-
гара...
На высоком крыльце — оглядка влет, от мочки уха
вспыхнувшие вперед, к судороге губ и подбородка,
упрямство и почти гнев.
Орехи по два, по три в розетках сжатых листьев,
они даже на ощупь терпки, а когда обламываешь,
освобождая ядрышко желтого ореха с наперсточным
тиснением головки, от пальцев терпкость подбирает-
ся на язык, к небу. Тр-рак! Пустой. Тр-рак! Две доль-
ки в шероховатой обертке прокатываются по зубам.
Ожидание.
Начало—человек в звере промелькнул на рас-
путье.
Тр-рак!
Если ощущению больше суток, оно консервируется.
Тр-рак!
Успею к отбою?
Орехи по два, по три в розетках сжатых листьев...
— Ты уже здесь.
Резко, почти истерично оглядываешься: белая
блузка, черная хозяйственная сумка, что-то наигран-
но-насмешливое.
— Ты откуда?
Ножом по фаянсу. Исправлению не подлежит.
— А где же — здравствуй?
Вяжут, как во сне. Нелепые скачки, ужимки за
спиной, понесло ветром перекати-поле — руки, ноги,
голова — точка на горизонте.
— Я очень хотел тебя видеть.
Шаг, глаза опустила. Встал, вырос, посвежел, ве-
тер крепнет, соленые брызги на губах, штурвал уве-
ренно перехвачен.
Твои уловки от боязни.
13
Январь. Метет. Суббота.
Три раза постучать в окно кухни. Сине, черно во-
круг. Здесь, с подветренной СТОРОНЫ;—затишье.
Гремит крючок, с порота объятие, запах чистых
волос:
— С ума соше...
— Сойдешь,— в выдохе, алое, как роза.
Пар, шаль, рука на бедре. Горячечный взгляд во-
круг— дверь в дом приоткрыта, ромб света на полу,
лампочка на спирали шнура поймала осколок света,
потолок в ватной изморози, и ждут хозяина опавшие
в птичку сапоги у ванны, закрытой мешковиной (лет-
няя рухлядь).
Вот мерзлый пол под каблуками скрипит и пы-
жится, вот ремень с мороза висит в руке буквой «О»,
вот шапка в рукаве шинели, и шинель — скок—на
хозяйский крючок. Гонишь прочь, а оно лезет через
вещи.
Зеленая кофта с круглым воротом, распущенные
волосы темно-русой рекою, полной воздуха в густом
разъеме. Сиянием губ (нижняя жадна) — комната
в обоях улыбок.
— Надолго?
— на неделю, за пополнением. На ночь?
Глазами: да.
— Болтают уже... дай хоть отдышаться-то... ведь
не в последний раз...
— Что-то жарко у тебя.
— А ты сними китель. Я на кухню.
Завершенный, как пирамида, стекающий блеск бу-
тылки. Скользкий хруст крошечных груздочков. Се-
ледка с луком...
Вошла. Дымящаяся тарелка в руках, внимание и
осторожная плавность. Пельмени.
— До утра пируем?
Улыбка вспышкой. Уходит снова. Как дышится!
— А-ах!
Она! Сидеть напротив, из граненых стаканчиков
пить ледяную водку, вилкой вылавливать юркий гриб,
обжигаться уксусной сочностью пельменей, встречать-
ся пальцами над хлебницей, смотреть в самые зрачки
полубсссмыслеппым взглядом, голова ходуном от это-
14
го взгляда, и надо всем — тик-ток — ходики. Секун-
ды, как монеты.
И долгая, томительная встреча коленей под
столом.
— Ешь, остынет,— шепот.
Пьешь, ешь, не отрывая глаз. Румянец, а у глаз,
у точеного носика, выше — прохлада слепящей бе-
лизны.
...Два часа ночи. Жарко. Встаешь, босиком по хо-
лодному гладкому полу — на кухню. Пьешь воду из
кадушки. Возвращаешься. Чиркаешь спичкой, чтобы
прикурить, и — боковым взглядом — на нее. Сонная
румяная щека, плечо под упавшей ленточкой рубашки,
рука, охватившая подушку, как мягкий земной шар,—
все в оранжевом дрожащем пламени. Черт! Чуть
пальцы не сжег. Зажигаешь одну за другой, ломаешь
спички от нетерпения, и каждый раз новее, желанней,
и, как довершение — притиснутая телом грудь в раз-
вале подмышки, где выбиваются легкие, вьющиеся во-
лоски...
В полной темноте осторожно и расчетливо вытяги-
ваешься рядом. Икра косается выставленного колена,
переворачиваешься на бок, ведешь рукой по бескост-
ной льющейся спине к затылку. Он ложится в ладонь,
точный, легкий, сонный и праздничный, как жизнь.
«Мм»,— говорит она, и ее рука охватывает тебя за по-
яс, по-хозяйски неспешно, нежно идет по отвердевшей
спине. «Ты не спишь...»— бормочет она, и лепет, связ-
но-обидчивый. В нем плывешь и таешь, и вот — тебя
нет, и вселенная полна жара, шорохов; вселенная —
тенькающая капля в жалобе...
Вечер в казарме
Весь день в пятницу пылила пурга, и к вечеру она не
стихла. Окна деревянных офицерских домов мигали и
качались в ней. Сухой, колкий снег впивался в лицо,
когда надо было поворачивать у гаража. Три длин-
ных, глухих склада и сарай ГСМ, а ближе к домам,
у колючей проволоки, халупа караула — все эти
строения вместе с неровной землей между ними, сей-
час занесенной в мягкие взгорки и холмики, составля-
ли территорию поста и объекты.
15
Сомов выбирал себе новые сочетания направлений,
чтобы ветер дул в спину. Тулуп, как парус, подгонял
и разворачивал, и его тугие толчки напоминали толч-
ки воды в реке. Но теперь, к концу смены, тулуп и ка-
рабин уже порядочно отдавили плечи, а тело после су-
ток караула было затекшим и неопрятным.
Наконец появились сменщик с разводящим.
Шинель после тулупа и ватного комбинезона была
невесомой, но неопрятность тела сохранялась, а к ней
прибавился еще и мороз. Он заползал под крючки ши-
нели, за воротник, и, пока гуськом шли к казарме,
спина, грудь, ноги уже не хранили тепла и казалось,
что сердце чуть бьется, стиснутое хблодом.
А в казарме построились в коридоре у вешалки, и
начкар пошел докладывать старшине о прибытии.
В казарме горели яркие двухсотсвечовые лампы и бы-
ло уютно и чисто, а главное — тепло.
Сдав обоймы и подсумки дежурному по роте, по-
ставив карабин в пирамиду, Сомов снял шинель, пове-
сил ее и заправил на вешалке, где вверху белела бир-
ка его же изготовления «рядовой В. Сомов», и только
теперь почувствовал, как согрелись спина и грудь.
Предчувствие свободного вечера, увольнения на тан-
цы в совхозе, чистого хабе, хранящегося в каптерке
у старшины, согрело, кажется, и мысли. Они стали ма-
ленькими, непринужденными и, в оправе предстояще-
го вечера, заискрились, как брошки.
Он снял сапоги, повесил портянки на батарею, за
кроватью, сунул ноги в тапочки, снял гимнастерку и
нательную рубаху (и даже так было тепло) и покле-
пал в умывальник.
На танцы собирались все свободные от нарядов.
После того как Сомов помылся до пояса и растерся
полотенцем, побрился в бытовой комнате, подшил
свежий подворотничок на гимнастерку, надраил сапо-
ги, оставалось еще сорок минут до ужина.
В казарме играли в домино. Сомов сел на вылет.
Костяшки гремели по доске стола, со стен на Сомо-
ва смотрели его прошлогодние лозунги и монтажи, за
которые он в мае побывал в отпуске, и ему стало со-
всем хорошо.
Он сел с Печниковым, молодым из Подмосковья.
Печников кричал:
16
— Старина, смотри! Обрубил дупель у Николай
Васильича!..
Данилов сидел после Сомова и снисходительно
бормотал:
— Ты, молодой, не наглей... а то повезешь меня на
рубон...
Дембиль
Восемнадцатого ноября, в пять часов вечера солнце
уже село. Зимние сумерки дали предметам особую,
последнюю четкость, окрасили снег синим, а водона-
порная башня у электростанции, одна как перст, гро-
моздилась на фоне светлой западной части неба. На
плацу у штаба построилась вся часть, составом не
больше роты.
— Р-равняйсь... С-ирна! — дежурный по части бы-
стрым шагом двинулся навстречу командиру.
— Т-арищ майор, часть по вашему приказанию по-
строена.
— Вольно.
— Вольно, часть.
Майор встал перед строем, прошелся, посмотрел
зачем-то на водонапорную башню и сказал, пожевав
губами:
— Товарищи. Сегодня мы демобилизуем из своих
рядов нескольких своих, э-э, солдат. Они добросовест-
но на протяжении...
«Скорее, скоре-е»,— Сомов напряженно стоял во
второй шеренге. У него ныли зубы от нетерпения. Да-
нилов, стоящий рядом, толкнул его локтем и под-
мигнул.
— Рядовой Сомов.
— Я,— Сомов хлопнул по плечу стоящего впере-
ди, тот отошел влево — «раз-два», а Сомов вышел
на три шага перед строем и повернулся кругом
«раз-два».
— Рядовой Сомов добросовестно на протяжении...
«Скорее, скоре-е...»
— Поздравляю вас, товарищ Сомов, желаю так и
продолжать...
Сомов долго тряс протянутую руку и, растерянно
и счастливо улыбаясь, начал обходить строй, проща-
17
ясь с каждым: с начальником установки, с офицерами,
со старшиной, со сверхсрочниками, по инерции протя-
нул руку Данилову. Все добродушно рассмеялись,
а Данилов громко сказал:
— Черт, сглазишь еще.
Вот и все.
Сомов отошел в сторонку, надел перчатки и стал
ждать Данилова.
— Ну что, пошли? Пошли, а?
А майор говорит части что-то о распорядке на зав-
трашний день, и этот распорядок уже не касается их.
Часть стоит и не слушает майора.
— Пошли,— они помахали рукой, оглянулись на
ходу пару раз—грустно все же — и ушли.
Николай Струдзюмов
Обед для взвода
Рассказ
Вот вы говорите, что армейская служба милей всего,
когда подальше от начальства, когда с дисциплиной
не жмут и с этим самым: «порядок» да «порядок» —
не давят.
У нас тоже так говорили. Даже ходили на этот
счет разные байки, шутки, анекдоты. Ну, если шутя,
то такое рассуждение, может, и сойдет. А если толко-
вать всерьез, то никуда не годится. К этому мы, то
есть наш взвод, пришли после одного случая.
Вышло так, что мы, то есть взвод, однажды оста-
лись одни на старом месте расположения после того,
как полк перебазировался на новое. Оказались на
время вроде в стороне, сами по себе, в отдалении от
командиров своей^батареи и своего полка. И тут слу-
чилась такая канитель. Ну, командира-то при нас
оставили — сержанта. Офицера, конечно, тоже оста-
вили. Но он больше на точке дежурил. А в самой на-
шей солдатской гуще в тот момент довелось быть сер-
жанту. И он оказался не на высоте. Конечно, если бы
сам взвод проявил себя зрелым, тогда другое дело, но
он не проявил. Зато уж после того случая зрелее нас,
наверное, в целом военном округе не найти было,
а может, и во всем роде войск.
В общем, так. Это было еще в те давние времена,
когда не то что солдаты, а и офицеры не носили от-
ложных воротников и пиджачного типа отворотов, по-
скольку всюду царствовали стоячие воротники. Не-
удобная штука — кителя с этими стоячими («ска-
фандры»), наглухо запирающими шею двумя крючка-
ми, но о других тогда и не ведали. Не говоря уж
о галстуках, разных там шевронах и нашивках на сол-
датских рукавах и буквах СА, горящих на солдатском
погоне. Никаких тебе букв, а ровный черный прямо-
19
угольник на плече. Так выглядела отличительная от-
метина рядового состава войск ПВО.
Ну и стрелковое оружие совсем не таким было —
ППШ. Не автомат в полном смысле этого слова,
а именно пэпэша — пистолет-пулемет Шпагина. До-
шли они до нас чуть ли не от тех совсем отдаленных
времен, когда наши папаши орудовали ими так: при-
жимали срезы прикладов к животам и, крича что-то
в азарте атаки, сеяли веером свинцовый дождь.
И хватало, видно, чем сеять — там семьдесят патро-
нов в диске и семьдесят первый в патроннике. Прав-
да, и новые, АК, с рожками — тридцать патронов в
рожке,— тогда уж вводились, однако мы о них знали
только понаслышке. Но все это так, к слову, не в этом
дело. •
А в том, что были мы в тот момент очень далеки
от всяких посторонних размышлений, от всяких там
кителей, шевронов и даже от АК — автоматов Калаш-
никова.
Наш взвод шел со стрельбищ на свою точку — на
старое место расположения батареи. Стояла несу-
светная жара, воздух плавился от раскаленной булы-
жной мостовой, растекался, а с ним растекалась тон-
кая въедливая пыль, выбиваемая вашими сапогами.
А навстречу по тротуарам плыла веселая толпа. Пар-
ни придерживали за талии своих подружек. Вели их,
вероятно, прямо от реки. Она, мы знали, недалеко, но
для нас тоскливо недосягаема. Да, от реки, потому что
их распущенные волосы еще не просохли, а у многих
даже темнели мокрые пятна на сарафанчиках —в тех
именно местах, под которыми угадывались купальные
лифчики и трусы. Полагаю, что наш взвод — с его
распаренными физиономиями, мокрыми, липкими ше-
ями и темными от пота подмышками, со всеми наши-
ми пэпэша и подсумками — выглядел здесь так же не-
уместно, как выглядел бы боевой индийский слон на
современном пляжном берегу.
Нещадное солнце дурило голову, а еще пуще—ка-
мень, камень, который был повсюду и который это
солнце отражал. Хотелость есть. Но больше всего хо-
телось пить. И эта жажда — не от сытости, а от жа-
ры и на пустой желудок — действовала на все тело
расслабляюще. Нам бы по миске борща да перекур в
20
тенечке—и сразу бы полегчало, и жажда отпустила
бы. Но до этого было еще очень далеко.
Однако хуже всего то, что стреляли плохо. Более
того — как следует и не постреляли.
Первым делом предстояло бить короткими очере-
дями. Это когда закладываешь в диск девять патро-
нов и шпаришь по мишени три раза. То есть три раза
нажимаешь на спусковой крючок. Можешь два раза
по одной пуле выпустить, а в третий раз — разгулять-
ся на семь остальных. А можешь и строго по три вы-
пускать, чего, по-моему, никогда никому еще не уда-
валось, тем более таким, как мы—из нестрелковых
частей.
А после коротких очередей предстояло бить длин-
ными — из полного диска. И это уж занятие для души.
Мы же только и успели сделать короткие. И почти
весь взвод дал «молоко». Лишь кое-где пули задели
краешки силуэтов, а чтобы в десятку, девятку, даже
в восьмерку—и близко нет. Хоть бы одна шальная
для смеху влепилась!
Стали уговаривать руководителя стрельб, чтобы
еще по разу короткими. Тот, как-то уничижительно
усмехнувшись, нехотя разрешил. И эта его усмешка
всех нас крепко покоробила. (Теперь, задним числом,
думается, что именно с той усмешки и начались все
неурядицы дня.) А потом, лишь человека три отстре-
лялись, прибежал посыльный и передал приказ: «Сни-
маться — и на точку!»
— Да какого черта, что за спешка?
— А я почем знаю?
И вот мы шли несолоно хлебавши, и я услышал:
«Ну и паскудный же выдался денек!» Это Петруха
сказал, шагавший справа от меня, будто мои мысли
подслушал. И Ванюха, что слева шел, тоже поддак-
нул. Оглянувшись, я понял, что и у других, судя по
лицам, то же самое на душе.
Нельзя сказать, что все мы были такими уж горя-
чими патриотами стрелкового дела или ждал нас
сильный нагоняй. А просто много раз на это собира-
лись, и к каждому разу нас подолгу и въедливо гото-
вили, а потом все отменялось. И вот наконец опять
подготовились, пришли, начали — и на тебе.
А в дальнейшем предстояло опять готовиться к то-
му же самому, чистить и чистить наши пэпэша; и яс-
21
но, что теперь прежней чисткой не отделаешься, при-
дется куда больше попыхтеть, потому что копоть и
нагар. И это из-за каких-то несчастных девяти патро-
нов. А потом опять вот такое же шагание по жаре со
всей амуницией мимо пляжной публики, бережно при-
держивающей за талии своих еще не просохших по-
дружек.
В общем, шли мы в прокаленных сапогах по про-
каленной булыжной мостовой, и вместе с горячей тон-
кой пылью витали среди нас потаенная злость и глу-
хое раздражение. И на кого-то они должны были вы-
литься, на какого-то козла отпущения.
И вот уже в пятой шеренге начали пикировать Си-
нявина. Начал, как всегда, Бобцов, и тут же, как всег-
да, несколько стало на подхвате. Тот, правда, тоже в
долгу не оставался. И если уж быть объективным, то
именно ему следовало бы приписать наибольшее чис-
ло очков. Потому что Бобцов больше сыпал ругатель-
скими окриками да матом — как-то скандально и на-
зойливо, а Синявин свободно обходился без, и получа-
лось у него и кратко, и зло — настоящий юмор, кото-
рый веселил и задевал за живое. Однако его удачи иг-
норировались, а удачи Бобцова воспринимались
с преувеличенным одобрением и сразу получали раз-
витие. А почему так— об этом речь потом.
Пикирование несколько поутихло, когда мы по-
равнялись с тем переулочком. Поравнялись, все его
увидели, многие даже чуть головы повернули налево,
однако никто ничего не сказал — надеялись, что про-
несет. Но как только миновали тот переулок, из строя
вырвался голос:
— Сержант, надо за обедом кого-нибудь послать,
отсюда же близко.
И тут же последовала команда: «Направляющие,
приставить ногу!» А все со злобой посмотрели на Си-
нявина. Выскочил он совсем не ко времени и, как
всегда, на свою же голову.
Переулочек вел от места, где мы с ним поравня-
лись, прямехонько в расположение полка, в котором
мы временно стояли на довольствии, а стало быть, и
к полковой столовой, до нее оттуда составляло так
с полкилометра. И теперь кто-то из нас должен был
отделиться, взять в столовой обед для всех и потом
топать с ним — с большеобъемным термосом и рюкза-
22
ком, в котором хлеб и сахар,— вслед за взводом до
места, то есть километров пять. А -все мы в полковую
столовую идти не могли, поскольку приказ был—на
точку.
Так вот. Никому делать такого крюка, а потом
идти нагруженным по жаре не хотелось. А хотелось по-
скорей добраться до места, сбросить автоматы, под-
сумки и стрельбищные причиндалы, снять сапоги, раз-
мотать портянки и прилечь где поудобней, задрав по-
выше ноги. То есть не только делать крюк, но и оста-
навливаться ни на минуту не хотелось. А тут пожа-
луйста: «Направляющие, приставить ногу!»
Направляющие неохотно приставили, и сержант
молча обвел взглядом взвод, как бы спрашивая:
«Ну, кто?»
— А вон Офицер пусть идет,— сказал Бобцов, на-
чиная новую фазу пикирования.
Офицер — это кличка Синявина, причем для него
очень обидная.
Синявин шевельнулся, звякнул автоматом, сплюнул
в дорожную пыль и сказал:
— Я, конечно, пойду, если и ты пойдешь.
— Да зачем ты мне нужен, чтобы я с тобой
шел! — тут же взвился Бобцов.
— Ну ты мне тоже нужен как...— Синявин за-
пнулся, учитывая враждебное окружение, потом все-
таки не удержался и закончил: — Как моей ж... бати-
стовый платочек.
Сказано было очень подходяще к погодным усло-
виям, и кто-то там, в голове <взвода, хохотнул. Это
разозлило Бобцова, и он заорал:
— Еще разинешь пасть—прикладом двину.
•— У меня он тоже есть.
— А я говорю, еще разинешь...
— А ну кончайте склоку, надоело! — прикрикнул
сержант.
Хотя справедливей было бы сказать: «Бобцов, кон-
чай склоку».
Позднее, вспоминая всю ту историю, я понял, что,
не ввяжись тогда Бобцов, Синявин, возможно, сам по-
шел бы за обедом для взвода либо сержант ему
приказал и он исполнил бы без долгих отговорок.
И наверняка не случилось бы того, что потом слу-
чилось.
23
Был и проще вариант, и самый справедливый. Сер-
жант мог приказать идти кому-то из нас троих —са-
лаг весеннего призыва того года. Непонятно, почему он
этого не сделал. Или из виду упустил, или не хотел
ввязываться в склоку с Волоховым—вон тем здоро-
вяком, что на правом фланге, который в те дни обо-
собленности стал нам покровительствовать. Хотя ему
в принципе-то можно было игнорировать Волохова и
действовать по своему усмотрению, поскольку на его
стороне и устав, и воинский закон. Но он любил жить
и командовать без лишних осложнений.
Так мы стояли, молчали и переминались с ноги на
ногу, пока Петруха не выкрикнул то, что всех вывело
из затруднения:
— Да чего думать-то! Времени вон сколько, там
наши давно уж, наверное, принесли этот обед.
«Наши» — это те, что остались дежурить на точке.
И все облегченно загалдели, что, дескать, да, ко-
нечно, принесли, а сержант только рукой махнул, ска-
зал «ладно» и скомандовал: «Шагом марш!»
И мы резво зашагали туда,, где нам на сегодня был
назначен приют,— к нашему батарейному оазису. Ми-
мо последних окраинных домишек и палисадников, по
мосту через огромный овраг и потом — по холмистой
и, говоря языком военной топографии, малопересечен-
ной местности, мимо ботанического комплекса, в пре-
делах которого невдалеке от дороги в мареве и зное
плавали, как мираж, алые сады. Мы даже не огляну-
лись на это великолепие, а, все ускоряя шаг, спешили
к своему батарейному оазису.
Оазисом была пологая площадка, поросшая мел-
кой травой. Самая возвышенная (и порядком срезан-
ная армейской техникой) вершина той холмистой ме-
стности, господствующая высота. На этой площадке
одиноко стоял на солнцепеке локатор с антенной кру-
гового обзора, в тот момент неподвижной и будто по-
никшей от зноя. Остальное же хозяйство — электро-
ника (тогда это были только начатки электроники),
оставшиеся после перебазировки телефоны, план
окрестностей, разбитый на квадраты, и прочее —рас-
полагалось в земле. Не бог весть какое адское обору-
дование для батареи управления. Вообще мы не счи-
тались передовой воинской частью ПВО даже и по тем
временам, потому что техника и вооружение у нас бы-
24
ли не перспективные, а отживающие свой век. И во
взаимоотношениях у нас было немало отживающего,
всего того, что задержалось еще от послевоенного вре-
мени, когда солдаты служили и по шесть, и по восемь
лет. Некоторая фривольность, что ли. А тут, когда мы
остались в отрыве и сами по себе, появилась даже
разболтанность и несколько пренебрежительное отно-
шение к званиям и субординации.
И вот мы наконец достигли своей площадки, на ко-
торой среди зноя одиноко маялся локатор. И еще на-
ходился навес из брезента, растянутого на шестах.
И часовой похаживал взад-вперед у самого входа в
подземелье. Ну не совсем часовой, а так, караульный.
Завидевши нас, он живо повернулся и, дурачась,
поприветствовал так, как это делается по команде
«на карра-ул!» — по всем правилам ружейного арти-
кула. Мы на него и не посмотрели, а тут же ринулись
под навес, чтобы сбросить, снять, размотать, прилеч'ь
и закурить по одной. А сержант пошел докладывать.
Не успели мы сделать всего, так горячо желаемого на-
ми, как он вернулся и зашел разговор об обеде. И вы-
яснилось, что никто этого обеда сюда не приносил. Бо-
лее того — и не собирался приносить.
Здесь рассудили так, как и следовало рассудить:
если уж мы пойдем мимо полковой столовой, то, ста-
ло быть, кто-то из нас и принесет обед, поскольку там
надо делать махонький крюк. А если шагать от точ-
ки, то выйдет в оба конца десять километров с гаком,
стало быть, и незачем. Вот такая вышла неурядица.
Мы полыхали дымком, полыхали, потом с того
конца нашего маленького лагеря послышался голос со
вздохом: «Надо кому-то идти». А после некоторого
молчания вступил в дело Бобцов, который сказалз
— А вон Офицер пусть и идет.
И тут же включились еще несколько человек и под-
дакнули, что, дескать, да, пусть он идет. А против ни-
кто ничего не сказал. Получилось что-то вроде мести
за то, что он тогда подал голос возле переулка.
И месть вроде бы исходила от целого взвода. Хотя по
справедливости он больше был вправе мстить взводу
за ту промашку, а не наоборот. Но ведь так же не бы-»
вает.
— Ну; давай, давай, Офицер, топай,— крикнул
Бобцов, и прозвучало это уже как явная издевка.
25
Синявин напрягся от этого окрика, но смолчал и,
прищурившись, уставился в тугощекое лицо Бобцова
недобрым взглядом. Тот поймал на себе этот взгляд
и, в свою очередь, уставился в лицо Синявина — с ус-
мешкой. Так они стояли и гипнотизировали друг
друга.
И тут вдруг оживился «старичок» наш и покрови-
тель Волохов, он начал следить за этой парой.
Бобцов отвел глаза первым. Потом повернулся и
пошел к облюбованному месту, па ходу снимая ремень
и расстегивая гимнастерку. А Синявин обвел взвод
все тем же недобрым взглядом и, чуть задержавшись
на лице Волохова, уставился на сержанта.
— Идите, Синявин,— сказал тот.
— А почему именно я?
— Потому что все так решили,— отозвалось не-
сколько голосов.
— А может, перерешите?
И неясно было, кому адресовался этот вопрос —
взводу или сержанту.
— Идите, Синявин,— категоричнее повторил сер-
жант.
— А может, все-таки кто-то другой? — Он уже из-
учал сержанта, пристально его оглядывая.,
— Рядовой Синявин, выполняйте приказание! —
уже официально резко произнес сержант.
Волохов со все большим интересом следил за этой
сценой. А когда Синявин, выплюнувши сигарету и вы-
ругавшись, вышел из-под навеса, интерес в глазах
Волохова потух; он разочарованно огляделся, лениво
потянулся и тоже начал снимать ремень.
Но все же Синявин не просто так ушел, а перед
этим еще раз смерил сержанта взглядом и с усмеш-
кой произнес:
— А ты, Гвоздиков, строгий командир.
Снисходительно так произнес, будто обращался
к малоуважаемому собутыльнику, а не к старшему по
званию. А когда его уже не было, Волохов вдруг по-
вторил то же самое и тем же снисходительным тоном:
— Да, Гвоздиков, строгий ты командир.— И, по-
молчав, с ехидством добавил: — Строгий, принципи-
альный, справедли-ивый.
На это никто ничего не сказал, и фраза как-то не-
хорошо повисла в воздухе.
26
Синявин к тому времени уже совершенно скрылся
из виду.
Я вот сейчас думаю, каково ему было идти одному
по несусветной жаре с тем же настроением, с каким
только что все мы шли. Да еще прикидывая, что впе-
реди целых десять километров, из которых полови-
на — с нелегкой ношей. И прекрасно зная, что про-
машка с обедом вышла не по его вине, а по вине всех
остальных. Но главное — одному.
Почему же так вышло? А потому, что он к тому
времени прочно стал козлом отпущения. Странно,
правда, что именно он стал. Думаю, он удостоился бы
иной участи среди нас, если бы не Бобцов.
Трудно сказать, с чего у них все началось, кажет-
ся, со смешного. То есть в буквальном смысле—с по-
нимания, что смешно, а что нет. Ну хотя бы с этой вот
шутки Бобцова, которую он выкрикивал каждый раз
после подъема: «Дневальный, неси станок ...аль-
ный!»—с особым смаком выговаривая последнее
словцо.
Синявин, по прибытии во взвод, послушал, послу-
шал этак дня три да и начал подавать свой голос:
— Что ты заладил одно и то же, как попугай. При-
думал бы что поновей.
И дальше следовало:
— А что, не нравится?
— Да нет, просто надоело. И шутка, откровенно
говоря, дешевая.
Мне, признаться, она тоже порядком надоела. Но
мне и в голову не могло бы прийти, что этим можно
возмутиться. Я воспринимал эту каждодневную шутку
как и любое обязательное неудобство солдатской
жизни, как неизбежность — вроде мух в летнюю пору
или мошкару перед дождем. А он всякий раз отвечал
сердитым выкриком со словечком «дешевая».
Их отношения окончательно определились недав-
но, когда Бобцов, пришедши однажды из увольнения,
повеселил всех одной историей.
В общем, на этот раз они с той юной поварихой
остались одни, и он начал ее «уламывать». Она вроде
бы плакала, просила подождать, а он уговаривал: все
равно, дескать, поженимся. И наконец «уломал» — он
это во всех подробностях расписывал: «Да так хоро-
шо на диване, так мягко...» На вопрос, действительно
27
ли он на ней женится, он, конечно, ответил, что «на
черта это надо».
Позабавил он своими подробностями всех в полное
удовольствие, и все смеялись. Мы с Петрухой и Ва-
нюхой, кажется, учуяли, что смешного тут мало, но то-
же смеялись — со всеми за компанию, иначе вроде не-
удобно.
А потом вдруг обнаружился среди нас Синявин,
Один-единственный, который не смеялся.
— Ну, как тебе эта история? — усмехаясь и как
бы мстя за что-то, спросил у него Бобцов.
Синявин холодно посмотрел ему в глаза и сказал:
— Дешевка.
Повернулся и пошел прочь.
Все даже не поняли, что он этим сказал — история
«дешевка» или же сам Бобцов — «дешевка». Бобцов
же определенно принял на свой счет, догнал Синяви-
на, взял за плечо и потребовал:
— А ну-ка, повтори.
Тот не повторил и от драки уклонился. И это по-
нятно: в драке дюжий тугощекий Бобцов, без сомне-
ния, «уработал» бы суховатого Синявина.
Но уж и то, что Синявин уклонился от явного вы-
зова, так или иначе означало, что его «уработали».
Но он вроде бы не почувствовал и вел себя так, будто
ничего особенного не произошло. Зато все-то почувст-
вовали.
После этого Бобцов и повел на него наступление.
А вместе с Бобцовым и большинство из взвода при
молчаливом согласии остальных. Точнее, это произо-
шло не сразу после, а вот когда мы оказались сами по
себе, в отдалении от своей батареи и полка. А стало
быть, и в отдалении от своих командиров, которые в
то же время — строгие воспитатели и старшие това-
рищи.
Большинство, думаю, стало на сторону Бобцова не
только потому, что он в первом,же столкновении ока-
зался наверху, а Синявин сделал упущение. И нельзя
сказать, чтобы Бобцова так уж любили во взводе.
А просто он был как все, весь понятный и на виду.
А Синявин был чужак. Он и в том последнем случае
противопоставил себя остальным. Обозвав тогда Боб-
цова дешевкой, он, выходит, хоть и косвенно, но все
28
же адресовал то оскорбительное словцо и другим, кто
смеялся над той незадачливой поварихой.
Да и вообще он был среди нас чужаком. Прибыл он
к нам из училища, откуда, как сказал, его отчислили
по личной просьбе. И это опять было непонятно: ес-
ли бы за какое-нибудь чепе или как неуспевающего —
тогда другое дело, тогда он понятен, он наш. А тут
черт знает: он, видишь ли, по своему главному напра-
влению и основному интересу — то ли филолог, то ли
философ, то ли еще чего-то на «фи». А в училище ему,
видишь, оказалось не по душе.
Ему и кличку выискали под стать оскорбитель-
ную— Офицер. С едким намеком—дескать, несосто-
явшийся офицер.
Да и взгляд у него был какой-то... Эти серые гла-
за с синеватым холодным отливом смотрели на вас
так, будто нескромно выспрашивали, кто же вы такой.
А потом, вроде бы не обнаружив ничего интересного,
они переключались па другого человека или па какой-
либо предмет, не видя, кажется, между ними особого
различия. Ему бы с таким взглядом в самом деле
быть офицером, вот бы трепетали — и тот же Бобцов,
и сержант Гвоздиков. И уж будьте покойны— почита-
ли бы за милую душу. И чего его занесло в нашу сол-
датскую среду! У нас его, кажется, больше всего и
сторонились из-за этого взгляда.
В общем, признал его Бобцов за своего врага,
и когда наш взвод оказался на особице, то начал допе-
кать. И остальные приняли в этом участие — в той
или иной степени, намеренно или невольно.
Из остальных—в первую очередь те, которые
всегда становятся на подхвате у любого, кто сильней.
Потом те, кто этак слегка подыгрывает — шуткой, ре-
пликой, смешком. Далее болото — которые всегда ни
на чьей стороне, которых никогда ничего не касается
и которые постоянно в наибольшем выигрыше. И на-
конец и главным образом такие, как мы с Петрухой
и Ванюхой,— кто всегда со всеми, с большинством:
дескать, если все так делают, значит, так правильно,
надо, так должно быть.
И сержант, наш помкомвзвода,— он тоже как боль-
шинство. И если надо подкинуть в спешный наряд
либо на малоприятные работы, он .тоже подкинет то-
го, кого все подталкивают.
29
Только «старичок» наш Волохов, как я теперь по-
нимаю, был тут при своем особом мнении. Таился
у него вроде бы некий интерес к этому чужаку Синя-
вину. И когда тот при каком-то нажиме вдруг упирал-
ся, даже шел на обострение — как сегодня, напри-
мер,— Волохов моментально подбирался, начинал сле-
дить за ним внимательным взглядом, в котором пота-
енный интерес становился явственным.
Как бы там ни было, а сегодняшние слова с подко-
выркой, сказанные Волоховым Гвоздикову, не оказа-
лись случайностью. Вообще Волохов этими словами,
как бы сказать... не поколебал, нет, а впервые бросил
легкую тень на авторитет Гвоздикова и косвенно — на
Бобцова. И я впервые смекнул, что что-то неладное
у нас делается, а в сегодняшний день это неладное
особенно проявилось.
...Долго мы ждали тот злополучный обед, успели
вдосталь належаться, накуриться и наговориться.
И, само собой, проголодаться.
Когда он появился на ближайшем бугре, двое все-
таки поднялись и пошли ему навстречу. Но он не от-
дал своей ноши.
Он один донес обед до мест.а, поставил термос, по-
тряс затекшей кистью руки, плюхнул рюкзак на зем-
лю, и там что-то звякнуло. Он вытер платком, на
удивление чистым и глаженным, лоб, шею и, ни слова
не говоря и ни на кого не глядя, вышел из-под на-
веса.
— Ну что, тепло там? — пошутил Ванюха — по-
хорошему, с пониманием и сочувствием.
Он не ответил.
— Физзарядочка, а? — еще кто-то спросил.
И опять ответа не последовало. t
— Ничего, офицерскому составу это полезно,—
сострил Бобцов.
Он бросил на Бобцова короткий взгляд из-за пле-
ча, и я понял, что тому сейчас лучше бы помолчать.
Но Бобцов лежал на траве, запрокинув голову, и то-
го взгляда не заметил.
Дележку начали с сахара: из-за жары всем хоте-
лось для начала сделать хоть по глотку чая, а потом
уж приниматься за обед. И выяснилось, что часть са-
хара подпорчена постным маслом и селедкой. Вон,
оказывается, что звякнуло в рюкзаке, когда он был
30
сброшен на землю: две алюминиевые тарелки, между
которыми лежала селедка. Он, значит, при последнем
движении сшиб эти тарелки на сахар. Да, ему поло-
жительно в тот день не везло.
Разделили сахар на кучки и тут же его момен-
тально разобрали. Бобцов подошел последним, и ему
достался подпорченный. Не ему, конечно, одному,
а кое-кому еще, но тех не отень-то это растревожило.
Бобцов же, усевшись возле расстеленной плащ-палат-
ки и взяв свои куски, сразу нахмурился, понюхал их,
посмотрел, что там у других, как-то капризно оттопы-
рил нижнюю губу и закричал:
— Да что ты, Офицер подлючий, по-людски не мог
донести? — У него это вышло злобно-плаксиво.— Жри
его сам, а мне давай твой! — И он кинул свой сахар
Синявину чуть ли не в лицо.
Тот так и закоченел — весь побелевший и со сжа-
тым ртом. Потом схватил свои куски и яростно стук-
нул ими перед Бобцовым:
— Н-на!
Затем схватил кучку волоховского сахара и ею так
же стукнул. 4
— Это мне не надо,— и Бобцов протянул Волохо-
ву его сахар.
— Да нет, бери, я уступаю в твою пользу,— Во-
лохов оттолкнул руку Бобцова с ехидной усмешкой.
А Синявин хватал следующие кучки сахара —
у меня, у Петрухи, у Ванюхи (мы как раз рядом сиде-
ли) и бросал их Бобцову.
— Уступаем, уступаем! — бодро кричали мы в от-
вет на недоуменные взгляды Бобцова.
Все дальнейшее замелькало с невероятной быст-
ротой.
Синявин подошел к Бобцову, обхватил его голову
левой рукой, крепко прижал подбородок к шее, а пра-
вой сунул ему в рот горсть сахару и пристукнул этот
сахар кулаком:
— Н-на, киса, кушай.
Он всовывал ему куски, вколачивал в его рот и
хрипел:
— Кушай, киса. Н-на, сахарная твоя утроба.
Бобцов застигнут был в неудобной позе и не сра-
зу вырвался. А когда вырвался, все пошло как по пи-
саному: он подмял Синявина и начал его молотить
31
кулаками и сапогом. Но Синявин крутнулся ужом и
отскочил. Бобцов пошел на него.
Тогда Синявин схватил свой автомат, лежавший
неподалеку, отдельно от остальных, и, развернув его
дулом к Бобцову, заорал:
— Тих-ха! Он у меня не разряженный!
А в следующую секунду он снял автомат с предо-
хранителя и оттянул затвор. Затвор клацнул и стал
на боевой взвод.
Бобцов настороженно уставился в черный бездон-
ный зрачок и остановился. Все окаменели. Побледнел
Гвоздиков. И только Волохов усмехался, весело по-
дергивая бровью. Я тоже не страх испытывал, а ка-
кой-то жутковатый лихорадочный подъем. И в насту-
пившей тишине Синявин рявкнул:
— Ложись.
Автомат он направил не в самого Бобцова, а на
малую малость поверх его головы.
Цепенея перед черным холодным зрачком, вытара-
щив глаза, Бобцов крикнул:
— Да ты что, Офи...— и осекся: конец дула дер-
нулся, чуть опустился и, нацелившись в лоб Бобцова,
застыл.
— Ложись.
Опять тишина.
— Ну что ж, выполняй команду, сахарный, неуже-
ли жить не хочется? — произнес Волохов — он весь
сиял.
— Синявин, прекратите это! — выкрикнул Гвоз-
диков.
— Молчи, гнида, здесь и на тебя хватит,— после-
довал ответ Гвоздикову, и тот вынужден был прогло-
тить. Потом опять Бобцову:
— Ложись.
Тот пригнулся, чтобы выйти из-под прицела гроз-
ного черного зрачка. А Синявин опять чуть опустил
дуло и опять скомандовал «ложись».
Так оно и пошло: Синявин чуть приспускал вниз,
а Бобцов пригибался — пока не стал на колени.
— Ну, с него, кажется, хватит,— удовлетворен-
ный, сказал Волохов, обернулся, вырвал у Синявина
автомат и понес его туда, где лежали остальные.
А тут, под навесом, поднялся галдеж, шум и гам.
Растерянный Бобцов медленно приходил в себя после
32
пережитого страха и унижения. Синявин же, ни слова
не говоря, отошел шагов на десять, остановился там и
закурил. Вскоре к нему подошел Волохов и начал от-
туда подзывать нас. Я двинулся к ним, а следом —
Петруха и Ванюха. Волохов заговорщически подмиг-
нул нам и велел принести от обеда пять, нет, шесть
кусков хлеба и пару селедок. Ванюха сбегал и при-
нес. И мы все по знаку Волохова двинулись в наше
батарейное подземелье.
Волохов провел нас в каморку радиста и обратил-
ся к хозяину голосом любящего родственника:
— Саша, там такая заваруха, мы все так развол-
новались. Успокой наши души, налей по малости — ну
хоть по десять грамм, у тебя же водится для чистки
рации.
— А что такое? — заинтересовался радист.
— Бобцову, кажется, хребет сломали.
— Да ну-у! А кто?
— Вот он,— Волохов кивнул на Синявина.
Радист тоже на него посмотрел—с уважением.
Потом он достал спирт, достал стакан, и этот стакан
пошел по кругу. По чуть-чуть в него плескали и раз-
бавляли водой.
А когда хлынула по нашим жилам первая теплая
волна—бодрящая и снимающая напряжение,— ра-
дист, кивнув в сторону Синявина, сказал Волохову:
— Я всегда чувствовал: в нем что-то есть.
— Саша, это я чувствовал, и не «что-то», а чувст-
вовал характер.
В общем, Синявин уже стал в некотором роде геро-
ем нашей так скоро и неожиданно слепившейся ком-
пании.
Потом мы выбирались из каморки по узенькому
коридорчику, и я услышал, как Волохов, несколько
приотставший вместе с Синявиным, втолковывал:
— Запомни. Запомни, что...— тут он снижал голос
до шепота,—...и только так. Как бы там ни потроши-
ли, как бы ни выпытывали, а говори только так.
Мы пришли под навес. В наших мисках тоненько
дымился борщ. Мы взялись за ложки и живо ими за-
работали. В воздухе плыла напряженная тишина. Она
была прервана Бобцовым. Он доел все свое и сказал:
— Спасибо богу Исааку, а...— и он выдал свою из-
вечную шутку с похабной концовкой, которую обычно
2 Крещение
33
выдавал после обеда. Она у него была постоянной,
вроде послеобеденной молитвы. Непонятно только, по-
чему он и теперь так весело ее выдал.
— Не богу Исааку, а вот ему скажи спасибо,—
Волохов кивнул на Синявина,— потому что он тебя
накормил.
Никто не мог на это возразить, поскольку оно дей-
ствительно было так.
Все пообедали раньше нас и тут же, не сходя
с мест, закурили. Мы же не успели доесть и борща,
как начался новый скандал, точнее, продолжился на-
чатый.
— Учти, Синявин,— заговорил вдруг сержант,—
тебе все это даром не пройдет.
— Что именно? — уточнил Синявин.
— А то, что ты поднял оружие на командира,—
сказал Бобцов.
— Врешь, сволочь! — выкрикнул Волохов.
Так вот почему Бобцов так весело выдал и на этот
раз свою послеобеденную похабную шутку.
— Взвод подтвердит,— сказал он.
— Взвод не подтвердит! — заорал Волохов и обвёл
всех взглядом.
Взвод молчал.
А Волохов швырнул ложку, уставился на сержанта
и резко заговорил:
— Гвоздиков, ты должен понять, что если ты его
подведешь под суд, то радости испытаешь мало,
а свой авторитет потеряешь окончательно. Потому что
тебя начнут обходить. Все — от писарей до хозвзвод-
ников-свинопасов. Ты, Гвоздиков, окажешься в пусто-
те. В вакууме. Великие Вооруженные Силы Союза бу-
дут сами по себе, а ты будешь сам по себе. Ты будешь
один.
Он уже говорил стоя, и все его внимательно слу-
шали. В немалой степени в нем говорил, конечно,
спирт. Но ведь высказывались-то дельные мысли и
слова, и очень ко времени, потому его так и слушали.
— Ис тобой произойдет то же самое,— отнесся он
отдельно к Бобцову.— Но вместе <вы не будете. Пото-
му что после этого вам противно будет смотреть в
глаза друг другу.
34
Потом он сел у расстеленной плащ-палатки, снова
принялся есть. И вдруг на минуту оторвался от своей
миски, бросил:
— И вообще говорить не о чем — автомат-то был
пустой.
Все переглянулись и пересмехнулись. И понятноз
ведь пустой автомат—не оружие, а всего-навсего иг-
рушка, и Бобцов, выходит, перед игрушкой стоял на
коленях.
Гвоздиков пошел к автоматам. Он отыскал синя-
винский, находившийся с краю, снял магазин и от-
крыл. Магазин был пустой. Не удовлетворившись
этим, он оттянул затвор, осмотрел патронник. Там то-
же было пусто.
Гвоздиков молча вернулся на место. А Бобцов не
удержался, проворчал:
— Чего же ты орал, что он не разряженный.
— А я пошутил,— усмехнулся Синявин.
Волохов очень оживился, потом торжествующе вы-
крикнул:
— Он пошутил! А ты принял всерьез!—и вдруг
захохотал.
Он тыкал в сторону Бобцова пальцем, повторял:
«Тебе ж не по зубам настоящий юмор, а только жере-
бячий»,— и продолжал бушевать, ухватившись за жи-
вот и покачиваясь из стороны в сторону. У него это
надолго затянулось и под конец перешло на плакси-
вые вздохи: «У-ух не могу!» Глядя на него, мы трое
тоже засмеялись. А вскоре уж хохотал чуть ли не весь
взвод.
Все это действительно смешно, но сейчас я вот ду-
маю: а что, если магазин синявинского автомата в
тот пиковый момент был все же забит патронами?
Тогда, выходит, Волохов подменил его на пустой?
Или как? Ведь лежали же там, в подсумках, пустые
магазины, среди которых был синявинский.
Я в точности так и не узнал, пустой ли был мага-
зин, когда Синявин держал под прицелом Бобцова,
или нет. И допытываться не стал. Потому что есть та-
кого рода тайны, которые должен знать только один
человек. Или — в исключительном случае — двое, вот
как сейчас. *
Насмеявшись вдосталь, Волохов вдруг сдвинул
брови, стукнул кулаком по расстеленной плащ-палат-
ке и произнес:
— В общем, так. Автомат был пустой. И вообще
никто ни на кого никакого автомата не поднимал.
И вообще ничего не было.— Он обвел всех взглядом
и выкрикнул: — Правильно говорю?
После некоторой заминки стали раздаваться го-
лоса:
— Да пра-авильно!
— Верно!
— Ничего не было!
И ни слова против.
Считай, что сговорились. И вступил в силу неписа-
ный закон: дело наше, сами разобрались, а боль-
ше никого это не касается. И тут уж все — молчок,
конец всем спорам-разговорам. И уж никто не прого-
ворится, потому что... В общем, не проговорится
никто.
После этого случая ни Бобцов, ни кто-либо другой
не пикировал больше Синявина и не допекал кличкой
Офицер. А вот к Бобцову намертво прилипли сразу
две клички: Киса и Сахарный. Сначала они витали
где-то поодаль, за его спиной, потом их начали произ-
носить при нем, потом стали говорить ему в лицо. Во-
обще он начал стремительно сникать, Бобцов,— прямо
на глазах. И уж самые его ближайшие — человека
два-три, всегда стоявшие на подхвате,— кажется, это
смекнули и стали потихоньку от него отодвигаться.
И льнуть к Волохову, вообще к нам. А те, кто любил
подыгрывать этак слегка — шуткой, репликой, смеш-
ком,— тоже теперь подыгрывали Волохову, вообще
нам. Ну а те, которые всегда ни на чьей стороне,
и сейчас были ни на чьей, то есть теперь уже на нашей.
В общем, сложилась такая ситуация, что нам надо
было, просто необходимо дудеть в победные трубы и
плясать на костях Бобцова до неотвратимого исхо-
да — до того, пока он станет во взводе козлом отпу-
щения.
Но тут Синявин еще номер выкинул. Как только
нас вывели из запасных и вновь присоединили к на-
шему полку, Синявин вдруг сделал рывок в сторону
и вообще черт знает куда: стал добиваться, чтобы его
перевели в другую часть. И добился. Когда он нам об
этом объявил — специально отозвал после ужина в
один из уголков спортгородка, где потише,— мы пона-
36
чалу были просто ошарашены и долго не знали, что
сказать. Потом выкрикнули чуть не хором:
— Да зачем это?
— Я здесь больше не могу.
— Да уж теперь-то чего?
— Не могу...
И вскоре выбыл.
Уходил он при общем молчании, на глазах притих-
шего взвода. Ни напутствий, ни шуток-прибауток, ни
пожеланий — ничего такого. Все испытывали вроде
какую-то неловкость, неудобство, вроде чувствовали
себя в чем-то виноватыми. Попрощавшись с нами чет-
верыми, он не стал обходить остальных, чтобы пожать
руку каждому отдельно, как это издавна принято.
И то сказать: если бы он стал обходить, то общее чув-
ство неловкости еще больше усилилось бы. Оно и без
того осталось во взводе на целый день. В тот день все
шло как-то не так, как всегда. Шутки не клеились,
разговор быстро гас, смех обрывался в самом начале,
и даже всегдашние балагуры отмалчивались. Синявин
вроде оставил у нас незримый след на весь тот день.
А позднее стало ясно, что и на дальнейшее время. Мы
стали как-то осторожнее, осмотрительнее относиться
друг к другу. Многое из того, что бытовало прежде,
ушло из нашей жизни — кое-что на время, а что-то и
навсегда.
Но что интересно, о самом Синявине в дальнейшем
никто никогда не упоминал. Только мы четверо изред-
ка, да и то в разговоре между собой. А из осталь-
ных— никто и никогда. И все потому, как мне кажет-
ся, что он отпечатался в памяти взвода как некий уко-
ризненный факт, упоминание о котором казалось не-
удобным, нежелательным, задевающим что-то такое,
чего задевать не хотелось бы...
А месяца два спустя случилась у нас трудная ночь.
Самолеты шли на город косяк за косяком, антенны
локаторов крутились как ошалелые. И нашему взводу
пришлось много покрутиться, чтобы «цели»— все,
сполна — были на виду перед глазами комполка.
В общем, окружные учения.
Только к утру поутихло, и мы смогли наконец вы-
браться наверх и Жадно затянулись, потому что в под-
земелье курить, конечно, нельзя.
37
И тут случилось это...
— Как ваш друг-то там, на новом месте,— не туго
ему? Вообще какие от него вести?
Вопрос относился к нам четверым и задан он был
Бобцовым. Чтобы убедиться, что именно им, я попро-
сил повторить — вроде не расслышал. Он повторил.
Ответил Волохов. Криво усмехнувшись, он сказал:
— Наш друг — и вести для нас.
Наступила неловкая пауза. Потом Петруха с уко-
ром произнес, обращаясь к Волохову:
— Зря ты так. Он же спросил по-хорошему, по-
доброму, от души.
На это никто ничего не сказал. Все молчали и, на-
верное, думали, что да, зря Волохов так ответил.
Игорь Агафонов
Одно ни к чему не обязывающее,
но вполне романтическое
приключение, с кувшинками
Рассказ
Кассир Максимова — так по крайней мере гласила
медная табличка с бумажной вставкой,— женщина
пенсионного возраста, долго и пристально изучавшая
Михаила из своего затененного деревянным козырь-
ком окошечка, выбралась-таки на крыльцо и уселась
на дюралевый стул, привязанный за ножку к расша-
танным перильцам крыльца. За дверьми кинозала на-
чалась лихая стрельба. Кассир Максимова была чело-
век прямой, без предрассудков. Михаил помнил ее по
прошлому разу, когда приходил сюда с Мариной на
танцы: тогда Максимова исполняла обязанности кон-
тролера и вышибалы одновременно — без лишних
разговоров выпроваживала на свежий воздух не в ме-
ру подпивших субъектов.
— Кого-нито сторожишь, военный? — спросила
Максимова, не переставая лузгать семечки.
Переборов неприязнь к этому беспардонно-власт-
ному топу, к мокрым, в подсолнечной шелухе губам.
Михаил, помедлив, ответил:
— Жду. А что?
— Пусто-ое!
И на его недоверчивый поворот головы охотно по-
яснила:
— Дак не дура, чай. Небось, у нее понадежнее
ухажер есть, не то, что ты... седня здесь — завтра там.
Ребят нашенских знаешь? — Максимова, изображая
богатыря, тряхнула внушительными бицепсами.
Наливаясь удушливым жаром обиды, Михаил по-
стоял еще немного, ожидая, не прибавит ли Максимо-
ва чего-нибудь поконкретнее, а потом сухо спросил:
— К речке в какую сторону?
— Что, милок,— оживилась билетерша,—топиться
порешил?
39
— Да! — И чуть не добавил: «Старая ты колода!»
И хотя «старая колода» ничего не сказала о Мари-
не, Михаилу вспомнилось вот что. На тех самых тан-
цах, где он познакомился с рыжеволосой Мариной,
возле них крутился кучерявый парень, обращавший на
себя внимание презрительно-мрачным взглядом. И за-
поздалая догадка явилась: «Ах ты, смазливая!.. Оже-
нихаться с моей помощью вздумала? Ухажера своего
заводила!..»
И он поплелся, хмуро взирая по сторонам. И чем
дальше шел, тем более неприветливым, серым и уны-
лым казалось ему это выгоревшее, поблекшее село.
На улицах и во дворах было пусто.
У конторы Михаил остановился. В тени чахлого
деревца на земле сидели два мужика и глядели в раз-
ные стороны. К ним из окна конторы обращалась жен-
щина:
— Совесть у вас есть?.. Я «вам что приказала де-
лать? Где вы шатались все это время?
Мужики по-прежнему глядели отрешенно в разные
стороны.
— Что молчите-то?! Вас спрашиваю! Где Брагин?
Где Колян?
Мужик постарше, который наблюдал, как Михаил
закуривает, лениво зевнул и сделал пространный
жест:
— Та-ам, на речке.
— A-а, прохлаждаются! Ну вот что, мои милые,
я вас предупреждаю самым серьезным образом! —
У женщины внезапно сорвался голос, она взвизгнула,
потом после некоторого замешательства схватила со
стола графин и плеснула из него на мужиков. Стар-
ший передернулся:
— Да хватит тебе командующего изображать!
Второй размазал по небритым щекам брызги:
— Э-эх! Благодать.
Старший, супя кустики бровей и вытягивая губы
трубочкой, будто намереваясь сдунуть повисшую на
длинном своем носу каплю, все бурчал:
— Не успела бригадиршей стать, а уж буянит, по-
нимаешь. Скажи спасибо, что сами на реку не ушли,
как некоторые...— он покосился на Михаила —
...штатские. Сидим тут, тебя выслушиваем.
40 -
— Спаси-ибо! — обрела вновь голос бригадирша и
поклонилась из окна.— Немедленно топайте за Браги-
ным и приступайте к ремонту. А Коляну своему пере-
дайте: церемониться с ним не буду! Цацка нашелся!
Гер-рой! — И она с треском захлопнула створку окна*
Мужик помладше, небритый, которому понрави-
лось графинное окропление, подмигнул Михаилу:
— Сканда-алит. Так вот, служивый. Со всех сторон
шпыняют, а мы крепчаем. Боже тебя охрани оженить-
ся тута. И дома свово не поставишь, и заработка не
поимеешь. Э-эх! Уйду-таки отсель — к едрене-фене!
Да-авно зовут. В другой колхоз. Там механизаторы в
поче-оте!
Видимо, эта реплика была рассчитана на брига-
диршу, потому что она тут же высунулась:
— Я тебе уйду, я тебе уйду, бессовестный! Да и
кому ты нужон там?! Ступай, ступай, на здоровье!
— А че-во-о! Там хоть все ясно. Там начальство
толковое, не ровня тебе.
— Хватит болтать, бесстыжий твой язык! Я вам
что сказала?!
— Да не пойдет твой Брагин,— вмешался мужик
постарше.— Сказано тебе, с Коляном связался он.
— Так что же будете — сидеть?
— Другую работу давай.
Бригадирша открыла было рот, но, так ничего и не
ответив, опять шваркнула рамой.
— Вот телка бестолковая,— усмехнулся тот, что
грозился уйти в другой колхоз.
Михаил не стал более задерживаться; сцена ему
была знакомой, чтобы по такой жаре дожидаться ее
окончания. Парень он был сельский и уже подумывал,
как быть после службы — возвращаться ли в свою, де-
ревню, податься ли в город или остаться в армии
сверхсрочником.
На выходе из села его обогнал «Беларусь» с те-
лежкой, поднял такую непроглядную пыль, что при-
шлось свернуть с дороги и пойти по выгоревшему
пастбищу.
На пляже вода была взбаламучена мелюзгой до
кофейного цвета. Одни вылезали из этой жижи и
шмякались на песок, другие, им на смену, бухались в
воду. На Михаила не обратили внимания.
41
Он пошел вдоль речки в надежде отыскать место
поспокойнее. В зарослях тальника набрел на песча-
ную отмель, где двое парней и девушка играли в под-
кидного. Торопясь, разделся и, распугав на мели про-
зрачные льдинки мальков, ухнул в ослепительную
гладь реки.
Нырнув ко дну, обмер, оглох, стиснутый цепенящей
стынью родников, затем судорожно, не в силах вы-
держать внезапный ожог, вытолкнулся на поверх-
ность, с жадностью хватанул воздуха и обмяк.
Плыл на спине, мощно загребая, и при каждом
вздохе все больше и больше пьянел — на душе стано-
вилось освобожденнее, покойнее. И так, запрокинув-
шись в бледное от зноя небо, он плыл, покуда тонко
не зазвенело в ушах. Перевернулся — и обомлел...
Притаившаяся заводь была точно освещена теплы-
ми огоньками горчично-желтых кувшинок, их с вос-
ковым глянцем листья лениво пошевеливались от мел-
кой ряби, как будто дышали. Михаил осторожно, что-
бы не взбаламутить ил и не нарушить свинцово-тем-
ной прозрачности воды, двинулся от цветка к цветку,
сдерживая в себе безотчетный восторг. Их стебли,
унизанные под водой гроздьями стеклярусных воз-
душных пузырьков, податливо вытягивались, обрыва-
лись в темной глубине со странным отчетливым чмо-
каньем, и тогда взмывали вверх стеклярусные гроз-
дья, вскипали на поверхности прозрачной пеной, испу-
скали прощальный шепот, угасали.
На берег Михаил возвращался с таким ощущением,
точно заново родился. И кочковатая полянка, врезав-
шаяся в прибрежный тальник, показалась ему теперь
вполне уютной, а девушка, играющая в карты с дву-
мя парнями,— очень и очень милой. Проходя мимо, он
неожиданно для себя положил к ее загорелым коле-
ням искрящийся на солнце букет, ухватил изумленный
взгляд темно-зеленых глаз, по-детски вопросительно
приоткрывшиеся губы и остался доволен своим экс-
промтом. Однако едва он лег неподалеку на песке,
пробившемся из-под выгоревшей травы, и блаженно
расслабился, как услышал над собой сиплый, вибри-
рующий на скандальной ноте голос:
— Алле, твоя кликуха не Доп-Жуан?
Михаил приподнял голову: перед ним — мослас-
42
тые, сплошь в синяках и ссадицах ноги, кожа на пра-
вой вздрагивающей коленке сморщилась.
«Ну вот,— растеклось муравьиной кислотой по
языку и враз осушило небо и горло.— Одно к од-
ному...»
— Не надо, Коля! Перестань, ну! Не дури! —про-
сила парня девушка, пытаясь высвободить из его ку-
лака злополучные кувшинки.
— Что, цыпа, клюнула?! — чуть ли не обрадовался
парень.— Цветочками купили? А ну брысь!—Он вы-
рвал из тонких пальцев девушки букет и с размаху
хлестнул Михаила по лицу.— Н-на, падла, жуй свои
водоросли!
— Колян!—вскрикнула девушка.— Хватит!
Михаил откатился к своей одежде. И следующий
наскок Коляна встретил на ногах. Точный удар в под-
бородок, и Колян ткнулся в песок.
Его приятель, безучастно следивший за конфлик-
том, неожиданно шустро вскочил и аллюром припу-
стил к селу.
Михаил обескураженно повернулся к девушке.
— Бегите! — выдохнула она.— Он за подмогой, за
своими побежал! — И, не давая ему опомниться, схва-
тила его ботинки, китель, сунула ему в руки.— Быст-
рее, ну! Уходите же, уходите!.. Они до смерти изо-
бьют!— И, видя, что он никак не сориентируется, ку-
да ему скрываться, дернула его за руку, повлекла за
собой...
Тропинка сквозь заросли тальника вывела на вы-
топтанное пастбище. Они уже не бежали, быстро шли
рядом, перешагивая через коровьи лепешки и4 стран-
ные растения со множеством шипов — зеленовато-жел-
тые, размером с тарелку.
— Ого!—сказал он, тяготясь молчанием.— Обре-
заться можно об эти кактусы. Как называются?
Она не ответила, лишь прикусила верхнюю губу,
потревоженная его взглядом. И опять шагали в устой-
чивой тишине по накаленной, кое-где треснувшей зем-
ле. «Куда?» — хотелось ему спросить, но что-то меша-
ло — возможно, эта сосредоточенная устремленность,
с которой она шагала, размахивая — в одной руке —
цветистым своим сарафаном, в другой — босоножка-
ми. На затылке подскакивал стянутый резинкой пу-
43
чок выгоревших волос, а на лбу раскачивалась влево-
вправо сохранившая каштановый цвет челка.
У него с живота начал, щекотя, осыпаться подсы-
хающий песок. Он стряхнул его. Подумал: «Ничего се-
бе! Угораздило же вляпаться...» Спросил:
— А этот, второй, который побежал-то, случай-
но не...
— Вы сгорите,— сказала она, намеренно почему-
то перебивая его.
— Да? — Он остановился, глуповато улыбаясь,
кивнул.— Правда, печет. Зверски.— И в первый раз
по-настоящему окинул взглядом всю ее девчоночью
фигурку: выгоревший в цветочек купальник, бледно-
ватое по сравнению с загорелым телом продолговатое
Лицо с выражением некой неприступности и насторо-
женности одновременно.
— Рубаху оденьте, говорю.
— A-а, да, верно.— Он потянул йз рукава кителя
рубашку, выронил ботинки. Когда наклонился за ни-
ми, почувствовал — как легонько она коснулась его
плеча.
— Уже сгорели.— Бросила на землю босоножки,
надела через голову сарафан.
Он, путаясь в штанинах, стал натягивать брюки.
— Я навредил вам, наверно, кувшинками своими?
Вспыхнули зеленые глаза — и погасли:
— Не беспокойтесь, он ко всем цепляется, по лю-
бому поводу.
— А кто он вам, извините?
Сделала вид, что не расслышала или не поняла.
— Идемте,— сказала она нетерпеливо и чуть сер-
дито.
Он не осмелился переспросить. «Какое мне дело?
Без меня разберутся».
И тут она схватила его за локоть:
— Бежим!
Увидев в ее лице смятение, оглянулся. Их пресле-
довали.
— Беги одна, я через поле.
— Догонят! — И, видя, что он упрямится, сердито
прикрикнула: — Не за тебя боюсь! Коляна опять по-
садят!
44
Добежали до крайнего дома. Она отомкнула ка-
литку, подтолкнула во двор. «Огородами?» — предпо-
ложил он, озираясь.
— В дом!—скомандовала она.— Да пошли же!
Колян бабушки боится.
И он снова послушался, хотя и не понял, при чем
тут какая-то бабушка. Вошли в избу, разделенную за-
навеской. В нос ударил запах валерьянки и еще ка-
ких-то приторных лекарств и трав.
От страдальчески надтреснутого голоса: «Ка-атя,
кто с тобой?» — Михаил оробел.
— Это Коля, бабушка. Тебе что-нибудь надо?
Маленькая пауза-раздумье:
— Пусть подойдет. Коля, поди-и.
— Она слепая,— шепнула Катя и громко ответи-
ла: — Он пьяный, бабуль.
За занавеской горестно всхлипнули:
— Скажи ему, не пил бы-ы. Коля, что ты? Подой-
ди-ка.
Катя легонько подтолкнула Михаила. Он, расте-
рянно оглянувшись, повиновался.
В перине покоилась старуха с белыми глазами на
измученном, отечном лице.
— Не пей, Коля... обеща-ал. Не пей — грех!
И заплакала, по-детски растянув бескровные гу-
бы. Михаил беспомощно заозирался. Катя взяла ста-
рушечью руку, стала ее поглаживать, приговаривая:
— Ничего, бабушка, он перестанет. Он исправит-
ся, он не будет больше.
Катя баюкала старуху, и та, по-видимому, вновь
погружалась в потревоженный сон. Михаил вышел на
светлую половину дома, встал у окна.
На скамейке у палисадника сидели четверо и, при-
крыв головы лопухами, курили.
— Э-ге! — вырвалось у Михаила непроизвольно.—
Вон тех двоих я встречал раньше — у вашей конто-
ры.— Он обернулся к Кате: — Думаешь, они не вой-
дут?
Катя открыла буфет, выставила на середину стола
желтую пластмассовую вазу с печеньем и дешевой ка-
рамелью, подняла на Михаила усталые, доверчивые
глаза:
— Бабушки побоятся. Она ведь нам с Коляном
вместо матери всю жизнь приходилась. Кроме нее,
45
Коля никого последнее время не признает. Господи,
прости его, дурака такого...
«Странно все»,— подумалось Михаилу, однако рас-
спрашивать подробнее он не решился. Загадочность
чужой непростой жизни, куда он вломился невзначай,
разрушив, разорвав ненароком какие-то важные свя-
зи, будила любопытство, но не настолько, чтобы он по-
забыл, кто он и как здесь очутился...
Катя тряхнула головой:
— Так я поставлю чайник, да? — И вздохнула: —
Раньше я спала — что днем, что ночью — хоть бы что,
а теперь вот почему-то страшно. Вчера проснулась и
не знаю отчего: то ли самолет ваш грохнул, то ли ба-
бушка позвала... Может, и в самом деле, как говорят,
к покойнику... И еще Николай...
Голос ее будто пошершавел, а глаза как бы подер-
нулись мутной пленочкой, затворились.
«Николай...— мысленно повторил Михаил.— Нико-
лай, давай покурим...— Он навалился грудью на стол
так, чтоб видеть сидящих на лавочке.— Пристает
к ней, должно быть. Кто он ей — брат, жених?..»
— Как-то по-новому все увиделось,— продолжала
Катя.— И поняла: жутко. Ночь—и ты в ней одна, и
самолеты ваши взлетают с ревом один за одним, как
будто из преисподней, да так, что все трещит по швам,
рассыпается, вся-то, кажется, оболочка земная...—
Она оборвала себя? точно спохватилась:—А тебе?
Не жутко? Я так прямо заболеваю...
Михаил промолчал, потому что Катя встрепену-
лась и направилась к окну, и, пока она шла, он по-
пробовал вообразить, отчего ей может быть страшно
во время полетов. Для него аэродром сразу стал мес-
том работы — сложной, но обыденной. Конечно, он
уставал от нее, и не прочь иногда был отвлечься,
и отвлекался — но с тем, чтобы опять к этому вернуть-
ся. И только. А если и размышлял когда-нибудь над
тем, нужны ли людям эта его работа, его военное уме-
ние, мастерство, то, пожалуй, лишь на политзанятиях,
по-мужски как защитник своей земли. И поэтому мощь
техники, ее колоссальные возможности не пугали,
а возбуждали гордость и уверенность в самом себе,
поскольку техника эта все же была продолжением его
рук и зависела лично от него.
46
Катя высунулась в окно, повертела головой: за па-
лисадником никого уже не было.
— Кстати! — Она заметно повеселела.— Я не знаю
твоего имени.
Он, тоже испытав облегчение, привстал и церемон-
но-шутливо поклонился:
— Михаил.
— Миша? — Она вздернула свои тонкие брови, и
глаза ее от этого сделались большими, наивно-востор-
женными. В раздумье вернулась к буфету, что-то взя-
ла, сдержанно улыбнулась: — Гляди: мой талисман.—
На ее ладони сверкнул пуговками черных глаз мохна-
тый зверек-сувенир.— Мой защитник-выручальник.
Мишутка. Когда-то я,— Катя смущенно улыбну-
лась,— загадала. И вот, может быть, сбылось?
Он либо не понял, либо не расслышал, потому что
за окном прогромыхал грузовик.
— Олимпийский? — Он приподнял ее ладонь на
уровень своих глаз, рубашка на спине натянулась, и
он невольно поморщился.
— Что, не нравится? — спросила Катя обеспоко-
енно.
— Горю... спина.
— Ой, забыла! Надо же помазать...
От холодной ли простокваши, вынесенной из под-
пола, от нежных ли касаний Катиных пальцев ему
сделалось зябко.
— Ну как, полегче?
— Да,— хрипло ответил он и, повернувшись на
табурете, обнял ее. Она откинулась в его руках,
выставив перед собой испачканные в простокваше
ладони.
Он почувствовал, как она вздрогнула от неожидан-
но возникшего из-под земли гула. На столе мелко по-
званивали чашки о блюдца. В окно сочился розовый
закат.
— Ну вот,— улыбнулась она,— чаю так и не по-
пили.
— Да, газуют,— Михаил поискал взглядом ходи-
ки, чакающие на стене где-то в полумраке.— Я что
же, задремал? Который час? — И подумал, что так
47
вот, завораживающе-отстраненно, гула турбин он ни
разу до этого не слышал. А гул разрастался, словно
приближалась снежная лавина с гор.
— Ка-атя! — позвал из-за полога скрипучий, за-
ставивший Михаила вздрогнуть голос.— Коля ушел?
— Ушел. Тебе что-нибудь нужно?
Ответа не последовало. И Катя перешла на шепот:
— Вот она всегда так — в начале ваших поле-
тов — проснется, окликнет и замолчит... А мне этот
гул напоминает землетрясение.
— УГУ,— неопределенно откликнулся он.
И возникла пульсирующая пауза.
— Ты обо мне плохо не думаешь?
— Почему? — внимая наполовину ей, наполовину
самолетному гулу, удивился Михаил.— Вовсе нет.
Я просто... неразговорчивый.
Она подула ему в щеку:
— О себе хочешь расскажу немного? — И, воспри-
няв его движение к себе как готовность слушать, за-
торопилась: — Я, когда уезжала отсюда — в институт
поступать,— все было здесь хорошо: бабушка была
ещё здорова, Колян не пил. Ты не можешь себе пред-
ставить, до чего он изменился...
«Очень мне это нужно — представлять»,— подумал
Михаил. Он соображал, как бы не опоздать к началу
полетов.
— ...Потом — я уже на втором курсе училась —
письмо: Коляна посадили, у бабушки паралич. А две
недели назад — телеграмма на стройотряд: бабушка
при смерти, и... еще Колян вернулся. Тебе неинте-
ресно?
— Ну почему, я слушаю,— возразил он, начиная
томиться.
— Тебе пора? — потухая, спросила она.
— Ничего, я успею.
Он наконец понял, что именно раздражало его в
этой ее исповеди — постоянное упоминание о Коля-
не, призыв пожалеть этого дебила.
— Мы, бабы, глупый народ,— вдруг совсем дру-
гим голосом, усмехаясь, сказала она.— Вот и теперь
помнилось мне, дурочке, что встреча наша — судьба.
Хотя понимаю: уйдешь — и все. Наша глупость —
стремление удержать, правда ведь?
48
«Ну начинается,— еще больше раздражаясь, поду-
мал Михаил,— как в кино»,— и вспомнил кассиршу
Максимову у захудалого клуба. Он встал, подошел
к ходикам.
— Вот закончишь институт,— сказал он неожидан-
но резко,— в гору пойдешь, может, даже в председате-
ли выбьешься... Ох, и женихов у тебя тогда будет!
А, как? Не хочешь в председатели?.. Ты что, обиде-
лась? Ведь я шучу.
Она молча, поджав ноги, глядела на него с дива-
на, потом сказала:
— Да нет, не на что.
Он почувствовал, что сказанное им говорить было
не нужно. Ну да что теперь поделаешь!
Вышли на крыльцо. Он провел по ее щеке ла-
донью:
— Если обидел чем — извини. Не провожай.—
И, не дав ей ответить, спрыгнул на землю.
За селом, выйдя на большак, он увидел в розовой
полоске пригоризонтного неба вспыхнувший серебря
ный слиток — поднимался разведчик погоды.
Обернулся — Катиного дома видно не было. «Лад
но»,— сказал он себе и сам не разобрал, к чему
сказал.
До части добрался благополучно, отметился у де
журного — и на полеты. С ходу включился в привыч-
ный ритм работы. И вскоре подготовленный им и его
товарищами самолет выруливал на взлетку. Вот он
весь напружинивается, подбирается, язык из сопла
начинает удлиняться, голубеть, будто от злости на
сдерживающие тормоза. Грохот нарастает, нарастает!
Бух! — хлопок. И пошел, пошел! Пошел, рассекая
воздух! И точно материя рвется. Легко, без малейшего
усилия.
Ракета взвивается в продырявленное звездами не-
бо. И прямо из капониров — один за одним, один за
одним,— оглушив ночь непрерывным, адским ревом,
выпрыгивают истребители. Они стремительно проно-
сятся по взлетной полосе, взмывают и, прочерчивая в
прозрачно-черном небе фосфорические параболы,
уходят...
Неожиданно над Михаилом на низкой высоте что-
то грохнуло: это МИГ вылетел из-за капонира так, что
49
он его не слышал и не видел, и вдруг ахнул над
самой головой пушечным разрывом, и все в Ми-
хаиле оборвалось, точно его кувалдой саданули по
затылку...
Самолет давно растворился, затерялась в черном
безбрежье светящаяся точка, а он все языком не мог
пошевельнуть... Только ощущение, будто позвоночник
хрустнул. На секунду-другую мелькнула перед глаза-
ми тихая заводь — далеко-далеко, в глубоком про
шлом — какие-то бледные кувшинки, пряный болоти-
тый запах, испуг зеленых глаз — и отдалилось, отде-
лилось... Только где-то в подсознании — потому что
некогда, некогда да и зачем? — слабое сожаление, не-
понятно о чем.
Николай Черкашин
Ротный
Рассказ
«Есть в русском офицере обаянье...»
ГЕОРГИИ СУВОРОВ
В тот день в военном небе Афгана не было вертоле-
та с более мирным грузом на борту. Наш «Ми-вось-
мой» развозил по «точкам» и гарнизонам новогодние
елки, доставленные в Кабул из России. «Ограни-
ченный контингент» встречал свой третий огнен-
ный год...
Под пятнистым рыбьим брюхом вертолета плыла
серая, убитая солнцем и солью земля. Потом пошли
вылизанные ветрами холмы, перевалы в снежных по-
понах, наконец, встали, ощерились пики — неборезы,
отвесные стесы, ребристые стены. Горы, подпирая
друг друга, лезли в небо все выше и выше.
От запаха бензина, тряски, скупого на кислород
воздуха разламывалась голова. Но пуще боли дони-
мала мысль — что будет, если в хрупкие лопасти вер-
толета попадет хоть одна пуля? Отлетит лопасть?
Удастся ли приземлиться на трех лопастях или же
«воздушная мельница» сразу же пойдет вразнос?
Высота играла: земля то резко уходила вниз, пре-
вращаясь в глубокое дно каньона, то столь же не-
ожиданно взлетала, и тогда растопыренные ноги вер-
толета плыли по-над плато так низко, что ветер от
винта взметал желтоватый прах камней.
Наконец запетлял серпантин — предвестник ско-
рой посадки. Дорога вилась меж каменных зубьев,
отчего походила на язык в узкой пасти дракона.
Дракон пожирал автомобили. Несколько искорежен-
ных грузовиков застыли на обочинах. Гробовидный
бронетранспортер был черен от копоти... Все это
мелькало, приближаясь и уносясь. Вертолет шел на
посадку.
Мы сели прямо на дорогу, и тут же, пригибаясь
от кругового вихря, к нам побежали два автоматчика
в регулировщицах касках. Лица их были нажжены
горным солнцем до буро-багрового свечения. Борт-
техник выбросил им примятую елку, но бойцы не спе-
шили уходить. Один из них — прапорщик — орал
сквозь рев авиамотора:
— ...Заберите,— доносились до меня обрывки
фраз,—...подполковника... Вчера... колонна...
Я обрадовался было попутчику, но тут увидел,
как трое солдат тащат на куске обгорелого брезента
бездвижное грузное тело в полевой офицерской курт-
ке. Мы с борт-техником перехватили брезент за углы
и втащили убитого в салон, стараясь не смотреть ему
в лицо. Однако глаза мои против воли обежали ма-
ску смерти. Потом еще и еще раз, сомневаясь и все
же узнавая... Да, конечно, это был он...
Там, на Бородинском поле под тревожный грохот
ротных барабанов шагает впереди шеренги преобра-
женцев, в белых лосинах, кивере, с шашкой долу
в приопущенной руке, мой первый командир — капи-
тан Зернов...
Капитан Зернов командовал самым необычным за
всю историю чьих бы то ни было вооруженных сил
подразделением. Он командовал «философской ро-
той». Ротой, сформированной из студентов философ-
ского факультета МГУ на время летних лагерных
сборов. Вряд ли у какого еще командира находились
под началом солдаты, чьи головы — одна к одной —
так плотно были насыщены постулатами, притчами,
мифами, тезисами и антитезисами... Во взводных ко-
лоннах маршировали диалектики, аналитики, йоги,
сыроеды, структуралисты и даже один дзен-буддист.
Не спешите сочувствовать капитану Зернову. Ес-
ли кто-то представляет себе философскую роту как
сборище вольноопределяющихся мареков из «Браво-
го солдата Швейка», эдакую толпу долговласых юн-
цов в необмятых шинелях, тот глубоко ошибается.
Видимо, и капитан Зернов готовился поначалу
к встрече именно с таким воинством. Когда рота вы-
строилась за деревянной баней, в которой мы пере-
52
облачились из стройотрядовских «целинок» в гимна-
стерки, капитан Зернов, обойдя шеренги, был немало
озадачен. В строю почти не оказалось рядовых: пого-
ны у всех алели ефрейторскими, сержантскими и да-
же старшинскими нашивками. Перед ним стояли
ладные парни, искушенные за годы армейской служ-
бы и в военных ремеслах, и в солдатских хитростях.
Почти все за исключением меня и еще троих ребят
поступали в университет после срочной службы. Рота
знала толк в командирах, и Зернов не мог этого не
почувствовать. Правда, у него вызвало усмешку то,
что каждый второй был украшен либо замысловаты-
ми усами, либо затейливой бородкой.
— Уж не та ли это рота, что в столовой на окна
крестится? — усмехнулся капитан Зернов, имея в ви-
ду старообрядцев.
Он стоял перед строем в такой, как и у нас, сол-
датской гимнастерке, только с капитанскими погона-
ми (это был последний год перед переходом на но-
вую форму одежды, когда армия носила гимнастер-
ки того знаменитого покроя, в каких еще, навёрнде,
скобелевские гренадеры выгоняли из Болгарии ту-
рок). Было в нем что-то казачье, разбойное, удал'ое.
Стоял он вольно, но собрано. Упади ему в ноги ши-
пящая граната — и никакая оторопь его бы не взя-
ла, отшвырнул бы да ловко пригнулся от оскоДков.
За спиной Зернова виднелась хищная морда бро-
нетранспортера, на котором ротный прикатил из ла-
геря. Лицо нашего командира разительно походило
па лик этой боевой машины: так же раскосо состав-
лено оно было из плиток лба, висков, скул. Машина
щурила на нас прорези лобовых стекол из-под под-
нятых броневых щитков, и точно так же из-под бро-
вей хмуро и насупленно разглядывал нас капитан
Зернов.
Ах, как легко и ладно он повернулся.
— Р-ро-ота! — раскатисто пропел капитан.—На-
пра-...— зашелся Зернов и выдохнул так, будто под-
толкнул в спины сразу всех,—...ВО!
Строй четко дрогнул, повернулся вполоборота
и тут же превратился в походную колонну.
Если бы нашему профессору Асмусу, блестящему
знатоку античности, сказали, что это та самая его
53
аудитория, горластая и чуточку сумасбродная, с та-
ким бы изумлением воззрился он на коренастого пе-
хотного капитана, повелевавшего нами столь легко
и всевластно.
По той самой первой команде — с голоса — при-
знала рота в Зернове командира. Далеко до него бы-
ло нашим офицерам с военной кафедры, вкусившим
и сытных московских хлебов, и университетской воль-
ницы...
Среди нас почти не нашлось стрелков. В строю
стояли бывшие танкисты, связисты, авиатехники, да-
же моряки, а рота называлась мотострелковой,
и всем нам предстояло сдавать экзамены на коман-
дира мотострелкового взвода. Зернов учил нас само-
му древнему ратному ремеслу — пехотному делу.
Приставка «мото» ничуть не меняла его пешую
суть — на стрельбище, на полигоны, на учебные по-
ля— всюду ходили пешим строем, задыхаясь в гус-
той и теплой дорожной пыли. Жара стояла лютая.
Сосны истекали смолой, оружие — маслом, люди —
петом, так что суконные хомуты скаток, перекинутые
через плечо, сырели до свинцовой тяжести. Мы рас-
стегивали воротники и закатывали рукава. Воздуха
не хватало, и мы старались вбирать его голой кожей
рук и груди. А капитан Зернов шагал рядом, и ни
одна капелька пота не сбегала из-под его полевой
фуражки с козырьком болотного цвета. Он шагал
легко и упруго, обвешанный не меньше нашего — ра-
кетницей, биноклем, полевой сумкой, противогазом,
флягой, той же скаткой, хотя добрая часть это-
го снаряжения могла ехать за ним в бронетранспор-
тере.
Где-то в глубине океана скользили атомные под-
лодки, где-то неслись над землей крылатые ракеты,
а мы падали по команде Зернова в траву и учились
тому, чему учились новобранцы, быть может, прошло-
го века — зарываться в землю малыми саперными
лопатками. Мы считали, что раз дело идет к «звезд-
ным войнам», то если что, встречать нам ее не в чи-
стом поле, думали мы, а в кабинах и за пультами.
Зернов же учил -нас быть не операторами, а солдата-
ми на поле боя, которое, и в самом деле чистое по-
ле, а не укрепленный район, как на любой русской
земле,, у Калинового моста, на речке Смородиновой.,.
54
Наше лагерное поле называлось Курковым, и бы-
ло оно таким же холмистым и овражным, как Боро-
динское. За полвека солдатских учений на нем ничего
не росло, кроме неистребимых подорожников да оду-
ванчиков. И только редкие колоски одичавшей пше-
ницы говорили о том, что Курково поле пахали ког-
да-то не только танковые гусеницы... На нем-то
и учил нас Зернов встречать ударную волну и пепе-
лящие лучи, жидкий огонь и ядовитые газы, встре-
чать смертоносную стихию современного боя, при-
нимать ее в лицо прикрытое легким навесом
каски.
Из всех способов защиты в бою земля, сбитая
твоей лопатой в бруствер перед головой или стесан-
ная в земляную стенку окопа, кажется, укрытием са-
мым надежным. Пахучая, живая, перевитая коренья-
ми и дождевыми червями, она заставляла верить
в свое материнство.
Верилось и в Зернова: он сам был кровь от крови
земли. Землепашеский род Зерновых будто нарочно
отрядил именно его, Андрея Семеновича, младшего
из братьев, оборонять землю, с малых лет, с суво-
ровского училища, знать ее не по-крестьянски, а по-
ратному. И он знал ее так же мудро, как и братья-
хлеборобы, только в иных ипостасях. Наверное, он не
смог бы сказать, в какую пашню бросать зерно —
в эту ли, или в чуть более волглую. Но он знал, во
сколько раз ослабляет метровый слой вот такой вот
пахотной землицы лучи альфа-бета-гамма-частиц.
Вряд ли он сумел бы по цвету неба, определить пору
лучшего сенокоса. Но он мог точно рассчитать жиз-
неопасный след радиоактивного облака. Он не смог
бы угадать, где в этой долине копать колодец, но он
безошибочно наметил бы, где здесь рыть траншею,
куда фронтом, а куда тылом. Многое он знал из то-
го, что положено знать мотострелку: и защитные
свойства леса, и танкоопасные броды, и баллистиче-
ские поправки на ветер...
— Залегла цепь в поле,— поучал Зернов,— пер-
вым делом прикрой голову. Обруби вокруг себя дерн,
а спереди не трогай, скатай его, как дорожку, в ру-
лончик— перед головой. Тут тебе и защита, и маски-
ровка. Есть минута, землю из-под себя выгреби —
вот тебе и окоп для стрельбы лежа. Враг молчит, рой
55
по колено. Время терпит—в рост. Спрятался — про-
рывай ход к правому соседу. Встретился с правым—*
помоги левому. Смотришь, прошел час, два — и вся
стрелковая цепь ушла в землю, оставив после себя
ломаный след траншеи.
Какой бы ядерный ураган ни пронесся по полю
битвы, какие бы грозные машины ни прокатили по
нему, до тех пор «пока не придет пехота—эта зем-
ля ничья». Вот чему — не словом, а делом — учил
нас капитан Зернов. Так я сейчас это понимаю.
А тогда, студентом-третьекурсником в солдатских по-
гонах я ломал себе голову: как, каким образом и по
какому праву этот незамысловатый человек капитан
Зернов повелевал мною куда больше, чем отец и наш
декан? Неужели все дело в том, что на плечах у не-
го четыре звездочки, а мой погон — пуст, как Курко-
во поле? И вообще, что за странная вещь эти по-
гоны?
Однажды вечером, оставшись в палатке один,
я снял с гимнастерки левый погон и вспорол его, как
вскрывал в детстве непонятные игрушки. Под защит-
ной тканью оказалась проклеенная мешковина.
И все! И ничего более. Но простроченная суконка,
пристегнутая к плечам за шлевку и пуговицу, пре-
странным образом меняла жизнь, не только мою —
любого, кто надевал погоны.
Почему я никогда не Задумывался о том, что на
свете существует некий капитан Зернов или ему по-
добные люди, которые, не зная меня, обладают надо
мной почти всесильной властью, и не только надо
мной? Почему мы все на философском факультете,'
готовясь к глубинному познанию жизни, так мало
размышляли об этих людях, об их суровой роли
в наших судьбах? Умы наши занимали модные мыс-
лители, популярные певцы, любимые спортсмены. Мы
знали страсти и слабости своих профессоров. Но ни-
когда всерьез не раздумывали, что за люди возглавят
нас в час всенародного бедствия.
«Философская рота», Весьма не простая собой,
хотя бы как подразделение, великовозрастных сер-
жантов, искушенных в больших й малых хитростях
56
службы, признала в Зернове командира — едино-
душно. Солдатская курилка (а это не просто четыре
скамьи вокруг вкопанной бочки — нечто среднее меж-
ду деревенским сходом и римским форумом, место,
где вытолковывается молва) оценила Зернова выс-
шим баллом в солдатской классификации команди-
ров — «добёр».
Едва ли не с суворовских времен живет это сло-
вечко в полках. В нем все, что не уместится и в
самой пространной аттестации: и то, что Зернов, не-
смотря на свою звероватую внешность, действитель-
но, добр, то есть справедливый начальник, если на-
казывает, то по вине и без занудства, без злопамят-
ства, без душеспасительных напутствий, добёр и
как знаток своего пехотного дела... Я ни разу не
слышал, чтобы курилка перемывала ротному кос-
точки...
Иногда перед отбоем капитан Зернов и сам при-
саживался на скамью в курилке; в пылу философ-
ских споров его не замечали, а он молчал и слушал.
Зернов кончал среднее военное училище, и таких
мудреных слов, как «энтелехия» или «конъюнкция»,
не мог слышать даже на политзанятиях в группе
командира батальона. Он мучительно пытался по
нять смысл наших споров, суть незнакомых слов,
а главное, выяснить, на что пригодна в этой жиз-
ни наша премудрость, и что она в ней может из-
менить.
Набросив шинель на плечи, он не спеша прохажи-
вался мимо распахнутых палаток. Вот сидит на зем-
ляной приступке сержант Гоголев и водит, по губам
гармоникой. Не любит Зернов этот инструмент. Под
его хлипкие звуки сразу вспоминает того немца, что
выгнал их с матерью из избы. То же вот на такой
сопелке гундосил. Ну, русский же ты человек, Гого-
лев! Сержант. На кой ляд тебе эта немецкая заба-
ва?! Да растяни ты трехрядку, я первый по голени-
щу хлопну — эх, ма!
Не знал капитан Зернов, что губную гармошку
Гоголеву подарила немка Дита, с которой работал
он вместе на бетономешалке в интернациональном
стройотряде.
Вон там под грибком стоит дневальным ефрейтор
57
Николаев. Утром ротный вытащил у него из-под
подушки Библию. Студент говорит, курсовую работу
по ней пишет. А что по ней можно написать? Одни
богомольные старухи ее читают.
Вон старшина Федоров на разостланной шинели
кочевряжится: ноги на груди скрестил и сидит. Йогой
занимается. Лучше бы на перекладине лишний раз
подтянулся. Толку больше было бы.
Не спятил ли старший сержант Строчков? Сидит
часами над шахматной доской, на которой только
один конь. И этим конем он хочет обойти все клетки,
побывав на каждой только один раз. Он метит их
мелом и ломает голову, как вернуться к исходной
точке. Под рукой у Строчкова книга — «Математи-
ческие новеллы» Гарднера. Как-то, проиграв Строч-
кову в поддавки три раза подряд, капитан Зернов
полистал книгу. На глаза попалась заложенная спич-
кой глава — «Ходом коня». Странная штука конь.
Оказывается, это единственная шахматная фигура,
у которой ассиметричный ход. Насчитывается около
миллиона вариантов маршрутов коня по клетчатой
доске. Некоторые из них носят имена так же, как
маршруты великих путешественников. Маршрут Бе-
верли, например. Выходит, что в историю можно
въехать и на шахматном коне. Что же это — наука
или бирюльки? Ведь ученый человек—столько стра-
ниц написал и все о такой фиговинке как шахмат-
ный конь. Кому это нужно?
Вот и Строчков, умный парень, старший сержант,
на что время убивает — складывает угол из трех до-
сок— трехмерные шахматы строит, чтобы фигуры
могли и вверх и вниз бить.
— Шахматы — модель войны,— поясняет Строч-
ков,— но война усложнилась, она теперь ведется и
в вертикальном пространстве.
Впервые за долгую службу у капитана Зернова
были такие странные автоматчики, пулеметчики, гра-
натометчики...
Слушал капитан Зернов и наши песни, удивляясь
про себя тому, какие грустные слова поют молодые
еще парни.
Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи...
58
Однажды гитарист Толя Тюков решил сделать
Зернову приятное, завел песню-монолог про одного
бывалого, тертого жизнью капитана. На словах, где
герою песни заявляют: «капитан, никогда ты не бу-
дешь майором!», Тюков залихватски подмигнул Зер-
нову и попал в самое больное место. Наш капитан
«перехаживал» в младших офицерах пятый год. То
ли образование (всего-навсего среднее) мешало за-
нять ему майорскую должность, то ли ершистый ха-
рактер и неумение ладить с начальством.
Нас удивляло: человеку ничего по службе не све-
тит, а он приходит в роту, как на парад — подтянут,
выбрит, отутюжен. И так каждое утро, каким бы
знойным и трудным ни был прошедший день. Это то-
же располагало нас к ротному — не ради большой
звезды служит капитан.
И все-таки мы его подвели. Не кто-то из нас,
а именно все, потому что все знали, кто такой Да-
мир Кривоуст, и если бы кто-то воспротивился и ска-
зал «Бросьте, ребята, это не серьезно...», и вместо
Дамира за посылками и бандеролями в Калинин
отправился другой человек, ничего бы не случи-
лось. Но всем было интересно, что получится, если
Кривоуст в военной форме попадет в большой
город.
Если кто из нас и имел право носить бороду —
достославный атрибут мужа мысли, то, конечно же,
право это принадлежало Дамиру Кривоусту. Он знал
диалоги Платона наизусть, разрабатывал новую гно-
сеологию на основе триалектики и даже состоял по
этому поводу в переписке с Бертраном Расселом.
Ручной противотанковый гранатомет, который за-
крепили за рядовым Кривоустом, ему очень понра-
вился. Он уверял, что из этой трубы получится от-
личный телескоп, если для нее сделать оптические
насадки. Короче говоря, на военную кафедру, а тем
более на лагерные сборы Кривоуст попал по вопию-
щему недоразумению. Капитан Зернов сразу все
понял, когда после первого построения Кривоуст
подошел к нему и, запинаясь от смущения, по-
просил:
— Сударь, вы не могли бы одолжить мне на ночь
ваш оптический инструмент, именуемый биноклем.
Сегодня в созвездии Возничего взойдет Меркурий...
59
Бумаги об отчислении Кривоуста с военного обу-
чения были уже отправлены в Москву, и тут коман-
диру 2-го взвода старшему сержанту Бородулину,
студенту-психологу, пришла мысль послать в город
за бандеролями и денежными переводами вместо за-
болевшего почтальона — Дамира Кривоуста. Экспе-
риментаторская идея была столь же роскошной,
сколько и рискованной. Тем не менее основателя
триалектики дружно усадили в кабину попутного
продуктового автофургона. На почте был обеденный
перерыв, и Дамир Кривоуст, стащив с головы пилот-
ку, ввиду жаркого июльского солнца, отправился
в ближайший гастроном испить сока. Простоволосого
бородача в солдатских погонах нагнал «газик» за-
щитного цвета, в котором сидел не кто иной, как ко-
мендант гарнизона.
— Видите ли, сударь...— попытался объяснить ко-
менданту Кривоуст, каким образом он оказался
в центре города без единого документа. (Они все
вместе с нашими доверенностями остались в карма-
нах кривоустовской шинели, а шинель — в ротной
каптерке). Но комендант, усмотрев в подобном обра-
щении издевку, а во внешнем виде солдата — вызов
всем воинским уставам, отправил мужа мысли на
гарнизонную гауптвахту. Командиру же лагерных
сборов полетела сердитая бумага.
...Капитан Зернов вышел к ротному строю спо-
койный и мрачный. Выслушал объяснение своего за-
местителя— командира 1-го взвода старшего сер-
жанта Будылева, нашего же студента с кафедры ло-
гики. Хмуро оглядел нас всех, покачал головой:
— Да-а, орлы... Не думал я, что вы меня под
танк бросите.
Потом объявил, что в лагерь прибыла комиссия,
которая будет проверять, чему и как учил нас капи-
тан Зернов. Народ загудел. Между собой порешили:
в грязь лицом не ударим.
После ужина Зернов пришел в расположение ро-
ты как ни в чем не бывало — ровный, аккуратный,
Построил колонну и повел нас глухим проселком
вдоль Волги.
— Завтра строевой смотр,— объявил он,— надо
пройти с песней.
бо
На вечернюю прогулку мы ходили с двумя песня-
ми: с дурашливо-горластой «Отгремела весенняя сес-
сия» на мотив марша «Прощание славянки» и «А си-
нуса график волна за волной по оси абсцисс убива-
ет...». Конечно, ни та, ни другая для смотра не годи-
лись. Капитан Зернов подтянул строй, выждал, когда
шаг станет звучным и мерным, откашлялся и ясным
голосом завел высоко и звонко:
Взвейтесь, соколы, орлами!
Полно горе горевать...
Он пел в совершенной уверенности, что такую
песню нельзя не знать, а тем более не подхватить.
Знали ее немногие, но подхватили все, благо повто-
рять надо было лишь две последние строки, уже про-
петые запевалой:
То ли де!
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять!
Перед отбоем в нашей палатке была устроена па-
рикмахерская. Под искусной бритвой Миши Чубченко
исчезали усы, эспаньолки, бакенбарды — все, чем мы
обильно украшали себя три года университетской
жизни. Жертвы эти можно сравнить лишь с подви-
гом карфагенянок, обрезавших свои косы для нужд
обороны родного города. Зато на утренний развод
рота вышла преображенной, помолодевшей, а глав-
ное, с уставными прическами — волос не длиннее спи-
чечного коробка.
Ушлые наши сержанты вспоминали былые хит-
рости, и незадолго до смотра подметки наших сапог
подбили дюралевыми пластинками. Их вырезал все
тот же умелец Миша Чубченко из обшивки старого
самолетного крыла, найденного за Курковым полем.
Мы сами поразились печатному звуку чеканного
шага, с каким рота вышла на бетонный плац. Когда
сто кованых сапог разом обрушивались на бетон, мо-
роз пробегал по коже от этого грозного мерного боя.
За версту было слышно—идут люди, слившие во-
едино не только шаг, но и волю. Песня легла на же-
лезный ритм марша, как рельсы на шпалы, и понес-
лась над плацем, над бором, над Волгой.
Взвейтесь, соколы, орлами!..
61
Я был стоголов, двестиног, стоглас. Шли не сол-
даты в колонне по четыре, шла рота — некое живое
существо, слитое из наших тел и душ. Впервые
в жизни я исчез сам для себя. Я превратился в ги-
ганта, сотрясавшего землю своим шагом. Грянь в эту
секунду команда «Разойдись» или ударь пулеметная
очередь,— никто бы и шагу не сделал в сторону. Мы
были сплошным человеческим слитком. Я понимаю
теперь, почему не врассыпную, а такими вот колон-
нами ходили на картечь кутузовские солдаты.
Подполковник, приехавший вразумлять «волоса-
тую молодежь», был обескуражен, удивлен, растро-
ган. Таким маршем ходили лишь в сержантских шко-
лах да и то в Жуковские времена. Отстрелялись мы
тоже хорошо. Чрезвычайное происшествие обошлось
капитану Зернову «воздушным выговором» — без за-
несения в служебную карточку.
Курково поле. Сосны в знойном мареве дрожат
и колеблются, будто водоросли в протоке. Сохнет
свежий бруствер траншей. Мы с Шерали Эгимбердие-
вым, студентом с кафедры истории русской филосо-
фии, только что отрыли ротный командно-наблюда-
тельный пункт. Зернов, сбив фуражку на затылок,
пристроился в короткой тени земляной стенки. Ко-
мандир нашего взвода старший сержант Будылев,
мой однокашник по группе диамата, рассказывает
Зернову, чем онтология — наука о бытии — отличает-
ся от антологии — собрания избранных произведе-
ний. Зернов выстругивает палочку и прислушивает-
ся больше к тому, как свиристит обезумевший от жа-
ры коростель, чем к речениям Будылева.
Мы ждем танки. Они должны вот-вот вынырнуть
из-за пригорка, проутюжить нашу позицию, а мы —
попривыкнуть к их реву, к виду клыкастых гусениц,
вгрызающихся в бруствер, к их жарким днищам, за-
крывающим на томительные секунды небо над го-
ловой.
Зернов похож сейчас на старого гладиатора, ко-
торый безмерно устал показывать молодым бойцам,
как надо бороться с железными зверями на змеином
гусеничном ходу.
62
Искупаться бы сейчас в Волге. Вон она синеет за
соснами...
Шерали — красивый киргиз с большими темными
глазами, навернул на голову чалму из мокрого сол-
датского полотенца.
Будылев рассуждал — какое понятие шире: «бы-
тие» или «материя».
Ноздри у Зернова вздрогнули — глубоко втянули
воздух. Он вылез из окопа, огляделся, вскинул би-
нокль в сторону 4 сосновой опушки. Оттуда из-под
хвойных шапок выбивался дымок. Через минуту он
стал дымом, а когда Зернов поднял роту и народ
выскакивал из траншеи кто с лопаткой, кто с ши-
нелью — из леса повалил дымище.
Пожар, к счастью, был низовой — горели валеж-
ник и хвойная подстилка. Но перекинься огонь на
кроны — смолистые и сухие,— и вал верхового огня
покатился бы по ленте приволжского бора, как по
пороховому шнуру, прямо к деревеньке, что враста-
ла своими дворами в курковский лес.
— Первый взвод — с опушки! — гремел голос Зер-
нова.— Третий — со стороны берега. Второй — за
мной!
Сонной одури как не бывало. Мы шли в бой с не-
придуманным врагом, и зерновская строевая наука
была сейчас как нельзя кстати. Мы оцепили пожар
с трех сторон и погнали пламя к сырому оврагу. Мы
глушили огненную поземку шинелями, плащ-палат-
ками, лопатками. От жары закипал в порах пот,
трещали волосы. У ефрейтора Николаева рванула
на поясе фляга, по счастью, не обдав никого кипят-
ком, слегка лишь ошпарив ефрейтору мягкое место.
Зернов орудовал в самом пекле, и его рукастая
фигура металась вперепляс с языками пламени. Мы
пробивались к нему и вместе топтали огненные ру-
чьи сапогами, расшвыривали кострища из буре-
лома...
Потушили. Из леса выбирались черные, расхри-
станные, волоча за собой прожженные шинели.
Председатель колхоза прислал из спасенной де-
ревеньки автоцистерну с молоком. Шофер вычерпы-
вал его котелком и разливал сверху в подставленные
кружки, каски и просто пригоршни.
63
У нашей победы был нежный вкус молока с терп-
кой горечью хвойного дыма...
Все-таки не зря привиделось мне в Зернове что-
то казачье. Воинская удаль донцов ли, кубанцев,
взращивалась на тех же полях, где колосился хлеб,
ими же и посеянный. Пехотинец, как и конник, по
образу военной жизни — всегда полевой, лесной или
степной — вкоренен в землю куда глубже, чем авиа-
тор или танкист. А если к тому же земля эта родная
по крови — как для Зернова тверское Верхне-
волжье,— только тогда солдат на ней становится
воином.
Прощались мы с лагерями поспешно и весело.
Нас ждала привычная и еще более прекрасная от
того, что на какой-то срок мы ее лишились, универ*
ситетская жизнь. Оружие, обмундирование, палатки,
фляжки, вещмешки — все было сдано еще накану-
не, и мы, перестав быть взводами и отделениями,
крикливой оравой, толпились на пристани, высматри-
вая из-за излучины теплоход. На берегу между пу-
стых палаточных гнезд бродил капитан Зернов.
Странно было видеть его в полной форме—в офи-
церской тужурке, в краснооколышной фуражке.
И тут самые мудрые из нас засуетились, по толпе
прошел шелест рублевок, и через минуту бывший
старший сержант Будылев от имени и по поручению,
не очень, впрочем, ловко, вручил Зернову коробку
с «охотничьим набором» — «зубровка», «перцовка»,
«зверобой». Ничего лучшего в пристанском буфете
не нашлось.
* * *
Вот уж никогда не думал, чтб увижусь с Зерновым
еще раз... Как-то в Калинине, закончив командиро-
вочные дела, я решил заглянуть в гости к нашему
ротному. Конечно же, он был на службе, и принима-
ла меня жена с двумя смышлеными девочками с та-
кими же диковатыми, как у отца, глазами.
— Он сегодня дежурит,— сказала жена.— Подо-
ждите. Может, его на ужин занесет.
Две девочки провели меня в комнаты. Гостиная
Зерновых так же мало отличалась от сотен ей подоб-
64
H’ix в городских домах, как и сам пятиэтажный дом
из кирпича беленного известью, от тысяч своих безли-
ких собратьев. Все то же вавилонское сошествие ве-
щей— вьетнамская циновка над румынским серван-
том; туркменский коврик, залитый светом гэдээров-
ского торшера. В серванте вместо посуды стояли
книги: «Конек-Горбунок», «Справочник офицера»,
«Вязание на спицах», тринадцатый том Драйзера...
Среди прочих корешков я обнаружил «Краткий фи-
лософский словарь», «Математические новеллы»
Гарднера и «Библию», перечеркнутую по обложке
тисненым словом «забавная».
Из вороха семейных фотографий, которыми раз-
влекали нежданного гостя, я выбрал и долго рас-
сматривал два снимка. На одном из них капитан
Зернов в парадной тужурке вместе с деревенской
родней восседал за столом под яблонями. Дед и бра-
тья, видимо, слегка навеселе, держались кучно
и в обнимку. Чуть поодаль, блистая золотыми пого-
нами, подпирал голову руками Зернов. По всему бы-
ло видно, что младший в семье — отрезанный ло-
моть, гость, хоть и почетный, но отстраненный от
остальной родни колючим блеском офицерского зо-
лота.
На втором снимке капитан Зернов в преображен-
ском мундире, белых лосинах, в треуголке с плюма-
жем вел солдат с ружьями на перевес на француз-
ские штыки.
— Это наш папа в «Войне и мире» снимался,—
пояснила старшая девочка.— Его и в кино видно.
Только мало очень. Мелькнул, а потом бомба взорва-
лась. Мы кричим: «папа! папа!» — его там убило,
наверное. А он с нами сидит и смеется.
Полк, в котором мы стажировались, оказывается,
снимался у Бондарчука в батальной сцене под Боро-
дино, и капитан Зернов, переодетый капитаном
преображением, командовал там ротой лейб-гвар-
дейцев.
И еще несколько конвертов попались мне в том
семейном альбоме. На обратных адресах значились
знакомые фамилии—Будылев, Строчков, Гоголев...
Странно. Я и не знал, что кто-то из наших писал
Зернову. Никто из них ни разу об этом не обмол-
вился...
3. Крещение 65
Два года спустя дела военного газетчика занесли
меня на Алтай в штаб оперативного отряда по убор-
ке хлеба. Надо было срочно передать репортаж
о том, как автомобилисты, присланные Московским
военным округом, помогают целинникам убирать уро-
жай. Задерганный телефонными звонками политра-
ботник в майорских погонах, подвел меня к стенду-
диаграмме. Против фамилий командиров авторот
значились цифры тонно-километров.
— К кому же вас направить? Вот у капитана Бад-
маева— передовая авторота... Можно к Куковкипу
или к Гусеву...
И вдруг я увидел фамилию Зернова. Он ли? Он!
И звание, и инициалы совпадали.
— А если к Зернову?
— Зернова мы не рекомендуем к показу в га-
зете.
— Почему?
— Приехали бы вчера — куда ни шло. У него се-
годня ЧП случилось. Водитель погиб.
— Каким образом, если не секрет?
— Уснул за рулем. Хлеб днем и ночью возим.
Опрокинулся. Погиб, можно сказать, на боевом по-
сту. Но все равно ЧП. Автотранспортное происшест-
вие. Вот у Бадмаева, например, ни одного АТэПэ...
Конечно же, я поехал к Зернову. Впрочем, это ма-
ло кого волновало, даже политработника в майор-
ских погонах. Алтай готовился к нежданной беде:
к ливням в разгар уборочной страды. Сводки синоп-
тиков напоминали сводки Информбюро сорок перво-
го года: грозовой фронт надвигался на горы не выве-
зенного зерна. Вереницы машин, в том числе и ар-
мейских, пылили по степи день и ночь — от токов
к элеваторам, от элеваторов к токам. Бетонные баш-
ни зернохранилищ высились словно крепости, и во-
круг них стояло великое движение — такое же, на-
верное, как подле русских кремлей в лета татарских
нашествий.
Тяжелые, туго налитые дождями тучи копились
в горах все в той же стороне, откуда хлынули когда-
то на Русь орды Чингиз-хана, и весь Алтай погляды-
вал на темнеющий восточный край неба с тоскливой
тревогой. Оттого, что канонадой погромыхивали даль-
ние грозы, и дороги были забиты совхозными само-
66
свалами вперемежку с армейскими, рождалось ощу
щение всенародного бедствия: не так ли мешались
на фронтовых шоссе машины беженцев с военными
грузовиками?
Это была не уборка. Это была эвакуация хлеба.
И все, кто тут находился — в погонах или без,— все
были спасателями. Спасателями хлеба.
На попутном бензовозе я подъехал к степному по-
селку, где стояла авторота Зернова. Навстречу, вски-
дывая на ухабах то передок, то кузов, несся само-
свал с помятой кабиной и выбитыми стеклами. Он
свернул с обочины и отчаянно, как запаленный конь
влетел в придорожное озерцо. Полуголый шофер со-
скочил в воду, окунулся с головой, а потом принялся
плескать из ведра на раскаленную злым алтайским
солнцем кабину и капот.
Я узнал его сразу — Зернов! Капитан ничуть не
удивился моему появлению, а может, и удивился, но
лицо его, одуревшее от зноя и бессонницы, не могло
уже выражать ничего, кроме смертной истомь;.
— Садись!—распахнул он промятую дверцу. Пол
кабины был усыпан стеклянной крошкой. За спинку
сиденья заткнута зерновская гимнастерка в бурых
пятнах засохшей крови. По ним, по выбитым стеклам
и изуродованной кабине не трудно представить, что
произошло утром... Утром Зернов прикатил к злосча-
стному обрыву: шофера уже увезли, а перевернутый
«ИЛ», помятый, но на ходу, вытащили из оврага
на обочину. Его собирались перегнать в ПАРМ —
полевую авторемонтную мастерскую, заменить там
хотя бы ветровое стекло, но это грозило на полдня
снять машину с линии, и потому Зернов, выбив из
лобового проема острые зубцы, оттерев гимнастеркой
кровь с баранки и приборного щитка, сам сел за
руль. Как командир роты он не был сегодня нужен.
В кабинах его самосвалов шоферили пожилые дяди,
призванные на уборку хлеба из нечерноземных ав-
тохозяйств, их не надо было воодушевлять словом
о цене хлеба, линейным контролем. Сегодня на трас-
се был нужен лишний кузов...
Кто не ездил по степи без ветрового стекла, тому
не понять, какая это пытка встречать пыльный сухо-
вей в ничем не прикрытые глаза. Слезы не успевали
наворачиваться на них, и они, живые, влажные, сох-
67
ли, как озерца в пустыне. От жары, бессонных но-
чей, монотонной дороги Зернова клонило в сон.
— Говори со мной! О чем-нибудь говори. А то
усну...
Уснуть в этой покореженной хлипкой кабине мож-
но было раз и навсегда. Как уснул ее недавний хо-
зяин. И я говорил ему обо всем на свете. Я расска-
зывал ему о Будылеве, о Гоголеве, о Строчкове...
О том, кто кем стал, кто защитился, кто женился.
После университета всех ребят нашего выпуска
призвали на двухгодичную офицерскую службу. Кто
бы мог подумать, что пехотная зерновская наука при-
годится нам так скоро. А она пригодилась и тем, кто
служил в морской пехоте, и тем, кто попал в воз-
душно-десантные войска, и тем, кто командовал мо-
тострелковыми взводами.
— Хорошая была рота!—Морщился от летящего
в лицо песка Зернов.— Мне потом такая не попада-
лась.
Мы оказались последним набором на философ-
ский факультет с обязательным производственным
стажем. Вслед за нами абитуриенты пошли со школь-
ной скамьи. Народ явно не служилый...
В очереди на весы-платформу или у ссыпного бун-
кера Зернов успевал перекинуться словом со своими
шоферами: как там на трассе, не теряют ли зерно по
дороге. Странно было видеть столь пожилых людей
в солдатских гимнастерках, пилотках: золотые зубы,
серебристые виски, жилистые морщинистые шеи.
Мой капитан годился им в сыновья, но они держа-
лись с ним почтительно и строго, как с первым сре-
ди равных, равных по годам и по опыту.
Зернов рассказал мне о том, как их призывали.
Тамбовские, курские, воронежские бабы вдруг по-
чуяли войну — прошел слух: «на китайскую границу
повезут. Мобилизация!» Жены прорывались к эше-
лонам сквозь оцепление, прощались, обнимались, го-
лосили. Они совали мужьям узелки со снедью и бу-
тылки с самогоном. Надрывались гармошки, и шо-
ферская братия отплясывала так, как будто и в са-
мом деле собралась на позиции. В хвосте эшелона
патрульный офицер и два прапорщика ножевыми
штыками рубили перехваченным бутылкам горлыш-
68
кй и лили пахучий первач на рыжий гравий желез-
нодорожного полотна.
Под вечер я попытался сменить Зернова за рулем.
Но скорость в малоопытных руках сразу упала,
и Зернов снова сел за баранку. Лицо его пропыли-
лось настолько, что казалось вылепленным из той же
серой алтайской земли, что струилась у нас под ко-
лесами.
Чем измерить те зерновские рейсы? Тонно-кило-
метрами? Золотыми валютными рублями? Фургона-
ми свежевыпеченных буханок? Военная служба не
смогла отлучить его от земли, не смогла заглушить
в его крови вечный крестьянский страх за хлеб. Пять
раз выезжал капитан Зернов на целину убирать хлеб.
За эти пять страдных лет он мало отстал от своих
братьев, кормивших страну.
...Вертолет забирался все выше в ледяное пекло
Бадахшана — подальше от душманских «стингеров».
Глубоко внизу каменные резцы хребтов кроили обла-
ка. Тени лежали резкие, непроглядные.
Зыбкую машину нещадно трясло и от этой все-
ленской тряски казалось, будто и древняя магма гор
расплескалась острыми пиками, расходилась круга-
ми щербатых корон, взморщилась, взгорбилась,
вздыбилась. Тело Зернова тоже дрожало в этой ди-
кой лихорадке, словно он ожил и мучался от нестер-
пимого холода. Он лежал ничком на кипе пахучих
елок и то и дело сползал от вибрации на рифленый
дюралевый полик. Время от времени я втаскивал
его — тяжеленного — снова на лапник, поражаясь
бредовости этой нашей последней встречи в этом
ирреальном пространстве между фиолетовым прикос-
мическим небом и горной готикой чужой планеты.
Зачем мы здесь? Каким сном, каким духом занесло
нас сюда с росистых волжских берегов?
На зерновских петлицах пластались автомоби-
листские «бабочки». Он вел автоколонну через Са-
ланг? Он попросился сюда сам или так выпал ему во-
енный жребий? Я ничего не знал. Лишь полевые по-
гоны его говорили о том, что за эти двенадцать лет он
все-таки выбился из вечного своего капитанства...
69
Там, в исчезнувших за горизонтом памяти твер-
ских лагерях, он прикрывал нас от гневливого на-
чальства своей напускной свирепостью. Он прикрыл
нас и в Афганистане — один за всех, ибо никто из
«философской роты» за «речку» не угодил... Нам по-
везло. Мы из другой волны. Нас перенесло через эту
пропасть. В Зернова же война вошла с младенчества,
и вышла как игла — одним, кровавым, стежком.
Я старался думать о нем отрешенно, но в глазах
становилось горячо и сердце сжимало, должно быть,
от бескислородья надгорного воздуха...
Зернов лежал на ворохе молодой хвои лицом
вниз, раскинув руки, как будто обнимал на радостях
родной российский ельник, тот самый, быть, может,
что спасли мы однажды, а ныне срубленный под ко-
рень.
Сергей Ионин
Бики-биким и Гуляев
Рассказ
Николаю Табачков у, командиру
Кандагарского отряда агитации
У Бики-биким большие карие глаза. Когда во вре-
мя обстрела погибла ее мать — Агаче-биким, эти гла-
за, счастливо смотревшие на мир, словно бы покры-
лись инеем. Потускнели.
Почему они такие, прапорщик Гуляев, старшина
отряда агитации и пропаганды, не знал, но когда воз-
ле дукана, переполненного разноплеменными това-
рами, девочка в рваном пропыленном платьице по-
просила у него хлеба, глаза ее словно бы заледени-
ли его сердце. Он взял ее за слабенькую ручонку
и увел девочку в солдатскую столовую — столовую
отряда.
Бики-биким накормили-напоили. А потом уже
с почти бесполезной помощью таджика Хамракулов.а
Гуляев выяснил, что девочка сирота, что живет, по-
бираясь по базарам и дуканам. Можно было отпу-
стить ее, но Гуляеву стало впервые за все годы служ-
бы в Афганистане так страшно, так тоскливо, что не
передать. Он словно бы увидел внутренним взором
всю полуразрушенную страну с высоты, а посереди-
не этой полупустыни в пыли по щиколотку стоит де-
вочка с протянутой рукой, и умирают медленно
дымчатые хрусталики ее глаз, превращаясь в пепел,
и вся страна погружается во мрак... На окраине гар-
низона работали «грады», и снаряды с гулким воем
уходили в небо, освещая окна столовой протуберан-
цевыми сполохами. Бики-биким сжалась от страха,
и Гуляев обнял ее, почувствовав вдруг, как что-то
екает у него внутри: то ли сердце, то ли селезенка,
а вернее всего это его неистраченная любовь застав-
ляла сжиматься душу.
Бики-биким стала жить в комнатке Гуляева. Он
сделал ей кроватку из снарядных ящиков для быта
71
и выстругал куклу для времяпровождения. Но девоч-
ка с куклой почти не играла. Она сидела на своей
постельке и часами ждала, когда Гуляев, занятый
старшинскими обязанностями, придет, со службы,
чтобы повести ее в столовую или, что ее еще хоть
как-то радовало, кормить кур.
Куры в отряде были тощие* старые. Их привозили
с раздач продовольствия. Дело в том, что у коман-
дира отряда капитана Селиванова были свои страте-
гия и тактика, свой метод оказания безвозмездной
помощи населению. Где-то он вычитал: мусульманин
никогда не будет считать своим доставшееся ему
в виде нежданного подарка. Поэтому дехканами про-
дукты и вещи без жалости отдаются душманам.
А вот если мусульманин что-то купит... Это уже его,
кровное, что невозможно выманить ни посулами, ни
угрозами. Куплено. Торговля освящена Аллахом,
учил пророк. Поэтому Селиванов не просто раздавал
продовольствие и вещи, а продавал их, нарушая тем
самым все инструкции..Продавал, а точнее, менял на
самое ничтожное, чаще всего ему почему-то предла-
гали кур. И нес какой-нибудь бедняк домой мешок
пшеницы, усмехаясь про себя, как он ловко обманул
непредприимчивого в торговле шурави, отдавшего
такое богатство за полудохлую курицу, глядя на ко-
торую хотелось плакать. Вот эти куры и жили при
отряде. Еще у Гуляева был огородик, где росли лук,
чеснок, помидоры для солдатской столовой. Все-таки
овощей в меню не хватало, а у афганцев их закупать
воспрещалось.
Был здесь у Гуляева и небольшой виноградник.
Но лоза почему-то росла хиловатая, под стать ку-
рам. И старшина переживал это как личное оскорб-
ление. Но что поделать — родился и вырос он на
Урале и к виноградарству приучен не был.
Бики-биким ходила с Гуляевым в это хозяйство
с радостью. Она сыпала курам крупу и, присев на
корточки, сосредоточенно смотрела, как они клюют
зернышки. Было в ее пристальном взгляде что-то
недетское, и Гуляев понимал: в девочке все еще го-
ворят воспоминания о перенесенном страхе и голо-
де. Он старался как-то расшевелить ее, заставить
улыбнуться: показывал пальцем на кур и, смяв кепи
наподобие гребешка, покачиваясь, прохаживался пе-
72
ред ней, изображая петуха, но она лишь тревожно
смотрела на него, и во взгляде девочки Гуляев читал
непонимание. Ему становилось как-то стыдно; будто
он отобрал у ребенка самое важное, нет, не мирную
игрушку, не военный кусок хлеба, а неЦто большее,
может, даже — все детство. И что чувство вины, пе-
реполнявшее его, не давало старшине покоя ни днем,
ни ночью, когда девочка тихо посапывала в своей по-
стельке. Гуляев, глядя в темноту, вслушивался в ноч-
ные монотонные звуки, будто хотел познать что-то
важное в себе и понять это, вдруг ставшее почти не-
знакомым,— самого себя. Суть свою.
Он был женат уже пять лет. И дома, на родине,
его ждали два сына, два сорванца, постоянно драв-
шиеся друг с другом. И не сказать, что все благопо-
лучно складывалось в их детстве: и болели они,
и младший, упав со стола, ломал себе руку, но ни-
когда Гуляев не испытывал такой тоскующей боли,
как с Бики-биким. Наверное, потому, что всегда был
уверен: с его сыновьями все будет хорошо — они вы-
здоровеют, рука у младшего страстется. Не знал он
и не мог знать, что будет с девочкой — через день
(командир должен был вернуться с очередного выез-
да отряда и решить ее судьбу), через год, потому что
уже было объявлено о выводе армии из Афганиста-
на, судьба девочки должна была слиться с судьбой
всего афганского, бедного и воинственного народа.
В расположение Селиванов вернулся злой: в паре
километров от кишлака, куда везли продовольствие,
их колонну встретили старики-афганцы и отказались
от помощи. Капитан понял, что в кишлаке банда
в засаде, так частенько бывало — население оберега-
ло отряд агитации и пропаганды от душманов. Груп-
пе пришлось возвращаться, на обратном пути обстре-
ляли, и Селиванов, выяснив, что трасса перекрыта
духами, повел колонну в обход, кружной дорогой.
Так проболтались неделю, мотая пыльные километ-
ры, и вернулись в расположение с мукой и одеждой,
предназначенными для выдачи населению.
Гуляев с девочкой встречали колонну у ворот от-
ряда. Рядом стоял прапорщик Круглов, выполняв-
ший обязанности помпотеха, и пока медленно втяги-
вались машины на территорию отряда, перекрикивая
шум моторов, радостно рассказывал анекдот:
73
Лещинский репортаж ведет, слышь, Никифо-
рыч? «Горят машины, они везли полутонные бомбы
для Баграмского аэродрома, а подлые духи их под-
билр!» Ха-ха! А дальше, дальше... «Эти бомбы так
ждут в дальних кишлаках!» Ха! Слышь, Никифорыч!
— Да пошел ты! — оборвал его Гуляев.
— Че ты? — не расслышал Круглов.
— Ничего, проехали,— Гуляев взял девочку на
руки. Тельце ее вздрагивало, словно от рыданий.
«А может, она внутри себя и плачет,— подумал стар-
шина.— Судьбу предчувствует».
Когда Селиванов был зол, он становился необык-
новенно сосредоточенным, угрюмо-деловитым. И сей-
час, спрыгнув с БТРа, лишь мельком взглянув на
прапорщиков, буркнул через плечо:
— Машины разгружать и смотреть, девочку —
в Ватан.
«Кто-то уже по рации сообщил»,— отметил про
себя Гуляев, нисколько не испытывая вражды к это-
му доброжелателю. В конце концов командир всегда
должен быть в курсе дел, творящихся в отряде. Про-
сить сейчас Селиванова о чем-нибудь, доказывать
было бесполезно. После такого неудачного выезда.,.
Невыполненной задачи! Все в отряде должны по-
мнить, что в невыполнении задач никогда нет чужой
вины, только своя. Не подготовились, не продумали,
не обеспечили, не предусмотрели. Таков Селиванов.
Но все-таки Гуляев немного обиделся: мог бы капи-
тан и выслушать его. Старшина поджал губы и на-
правился с девочкой к бане. Обиды обидами, но
о деле он всегда помнил. Нужно людей помыть, на-
кормить и отправить на отдых...
Ватан! Это где комендант без зазрения совести
обворовывает ребятишек? Все, что получается от шу-
рави, все, за малым исключением, сдается в дуканы.
В начале лета Гуляев сам лично привез и сдал ко-
менданту под расписку одежду для детей (начиная
с пижам и кончая зимними пальто), но через месяц
у детишек остались только пижамы. Э-эх! Селиванов!
А он-то, старшина, на этот раз постарался. Зная сла-
бость командира, сменил воду в бассейне, через зна-
комых вертолетчиков добыл эвкалиптовых веников.
Аж из Джелалабада привезли. А ведь все это не-
просто было. Веники обменивались на чеснок и поми«
74
доры, а воду сменить... Вообще-то ее редко меняли,
нужно было ведрами всю вычерпать, потом свежей
закачать. Правда, на этот раз Гуляев нашел другой
выход из положения — бросил в бассейн пару эрге-
шек. От взрыва лопнуло бетонированное дно, и вода
ушла через трещины в землю. Он почистил в яме
и замазал трещины раствором. Обошлось без авраль-
ной помощи солдатских рук.
Гуляев посадил девочку в предбаннике на скамью
под вешалками, вынул из шкафчика и положил дву-
мя стопками полотенца и простыни, потом прешел
в парную и открыл вентиляционную заслонку, чтобы
окончательно выветрился запах соляра, которым то-
пили печь.
— Товарищ старшина,— заглянул в двери дне-
вальный.— Там спрашивают, можно ли идти мыться.
— Пусть приходят! — крикнул в ответ.
Первыми в бане появились женщины — врач Со-
рокина и фельдшерица Газманова. Они со смехом
что-то обсуждали, нисколько не огорченные неудач-
ной поездкой, но, увидев девочку, сменили тему. Из
предбанника донеслись до старшины их охи и ахи.
Гуляев вышел из парной, плотно прикрыл за собой
двери и взял девочку за руку.
— Пойдем,— остановился и проворчал женщи-
нам:— Немного погодя вентиляцию закройте, а то
парная выстудится.
— Так ты с нами не останешься? — ехидно спро-
сила Газманова, и Сорокина добродушно замети-
ла ей:
— При ребенке, Галима...
Газманова покраснела и, чтобы замять свою не-
ловкую шутку, пробормотала:
— Девочку-то оставь, мы ее помоем.
Гуляев обдумал это предложение, опустился на
корточки перед Бики-биким и, тыча пальцем в сто-
рону женщин, стал объяснять ей:
— Они тебя будут мыть.— Он показал, как трут
мочалкой по телу.— Понимаешь? Ты девочка взрос-
лая, тебе надо в баню ходить с тетями. Поняла?
Бики-биким смотрела на него внимательно и гру-
стно. Потом осторожно вытянула хрупкую ладонь из
его заскорузлых пальцев и опять села на скамью.
75
— Поняла,— облегченно выдохнул он и встал.—
Ну ладно, мойтесь.
. — Подожди где-нибудь,— сказала Сорокина.—
Мы ее быстро к тебе выпустим.
— Мойте хорошенько,— глухо уронил старшина
и вышел на свежий воздух.
Пока женщины занимались девочкой, Гуляев вре-
мени не терял. Он сходил на кухню, «сам лично»
приготовил два салатй; из помидоров с чесноком
и баночные крабы с зеленым луком, заскочил в свою
комнату, выудил из ящика с боезапасом бутылку па-
кистанской водки. И все заготовленное поставил
в холодильник.
Женщины сказали ему через дверь, что Бики-би-
ким в бане не плакала, стойко перенесла даже пар-
ную, а в бассейне так даже поплескалась с видимым
удовольствием. И это последнее обстоятельство по-
чему-то вселило в Гуляева искру надежды: может,
все образуется и девочка останется в отряде.
Сорокина с Газмановой после купания устрои-
лись за баней на табуретках и, расчесывая, сушили
волосы на солнце. Гуляев заглянул к ним и попросил
походатайствовать за девочку перед командиром. Он
так и сказал Сорокиной:
— Товарищ военврач, походатайствуйте за Бики-
биким перед Селивановым.
— Подглядываешь!—опять взялась за свое Газ-
манова.— О-ох, любишь ты, старшина...— Она подня-
ла руку с расческой, и Гуляеву открылся стыдливо
розовый длинный шрам: месяц назад на обычном
выходе Галима вела прием, и на нее бросился с но-
жом местный дух. Его обезоружили, но у Газмано-
вой осталась с того дня мета. Старшина потупился,
будто увидел что-то запретное, и промолчал ей в от-
вет. Галима поняла его, опустила резко руку и ска-
зала:
— Ладно, извини, старшина.
А Сорокина добавила:
ч— Поговорим-поговорим...
Селиванов парился дольше всех. Гуляев знал эту
его привычку и, когда ушли пропагандисты и пере-
водчики, командир остался в бане один, старшина
76
сбегал на кухню, приказал ставить чай «по новой»,
прихватил из холодильника салаты и водку, взял
хлеба. Капитан еще протяжно охал в парной, а Гу-
ляев уже накрыл в предбаннике и, спровадив Бики-
биким в курятник, уселся на скамью в ожидании.
С шумом всплеснула вода в бассейне, до старшины
донесся радостный матерок. «Оттаял»,— подумал он
и вскочил: а вдруг Селиванов захочет «Си-си»? Бе-
гом промчался к себе по территории отряда, выта-
щил из стола несколько банок этого похожего на
фанту шипучего напитка, прихватил бутылку «Бор-
жоми» и припустил назад в баню. Когда он вер-
нулся, Селиванов сидел за столом, кутаясь в про-
стынку.
— По какому поводу? — спросил он, добродушно
покосившись на водку.
Гуляев поставил банки на стол и стал торопливо
откупоривать бутылку. Руки его противно дрожали,
и он недобро помянул своих крепостных предков, пе-
редавших ему с кровью и чинопочитание. Но не вино-
ваты были его предки, была другая причина волне-
ния, и Селиванов, догадавшись, упрямо сжал губы.
— За девчонку не проси.— Он взял из рук Гуляе-
ва бутылку, ловко ногтем сбросил крышечку, налил
в стакан и подвинул его. старшине.— Выпей сам, я —
за тобой.
Гуляев послушно опрокинул стакан и ладонью
вытер губы. Капитан налил себе и, размеренно вы-
цедив водку, взял дольку помидора из салата.
— Пойми меня правильно, Никифорыч. Во-пер-
вых, надо будет афганцам объяснять, с какой это
стати у нас живет их девочка, а во-вторых, ты ведь
на родину поедешь, а ее куда? Она-то здесь останет-
ся. Привыкнет к тебе, а потом потеряет. Это по-че-
ловечески? Она уже сирота, видела смерть родите-
лей. Как же ей второй-то раз?
— Я ее усыновлю,-^-глухо сказал старшина.
— Удочеришь,— поправил его Селиванов.— А раз-
решение властей спросил? Ты слышал, чтобы наши
кого-то усыновляли? А от жены в конце-то концов
добро получил? Девочка — это тебе не собачонка, не
обезьянка. Иди и подумай.— Капитан с сожалением
перевернул пустую бутылку вверх дном и подал ее
77
старшине.— А это выбрось подальше, чтрб в распо-
ложении я не видел.
Гуляев вышел из бани, размахнулся, зло метнул
бутылку подальше за забор, выложенный из снаряд-
ных гильз, но старшинское, хозяйское проявилось:
сунул бутылку в карман (пригодится сделать поилку
для кур) и пошел к Бики-биким.
Девочка, как всегда, сидя на корточках и уронив
беспомощные руки между коленей, наблюдала за ку-
рами. Он присел рядом и прижал к себе ее. Его ду-
шили слезы. Что же это делается? Что с ним? Неве-
роятно как? когда? почему успел он полюбить это
крохотное беззащитное существо?
Гуляев видел смерть, много смертей и крови, по-
началу вместе с командиром они служили в развед-
роте, Много зла, море зла и ненависти, что плеска-
лось вокруг гарнизона, вокруг наших солдат, при-
шлось ему познать, и он всегда чувствовал эти вол-
ны, осязал их. Ему казалось порою, что вот-вот злое
море захлестнет и его, поглотит, и уже никогда до
конца не уйдет из глаз кровавая пена этого цотопа.
Но море отступало в житейских его заботах, и он
опять становился самим собой, говорил, двигался,
веселился, пел песни. Он был тем восемнадцатилет-
ним парнем, что уходил давно, семь лет назад, в ар-
мию из родной уральской деревни.
Воевал Гуляев в Афганистане солдатом охранно-
го батальона в Чарикарской долине. Вернувшись на
родину, решил остаться в армии, стал прапорщиком,
женился на девушке из своей деревни. Жил-служил,
появились сыновья, но однажды, сидя возле телевизо-
ра и слушая репортаж из Афганистана, подумал: ре-
бята там... едри ж тя.„ а я тут... И утром подал ра-
порт направить опять в сороковую армию. Так снова
попал в эту притягательную своей правдой и ненави-
стью страну.
В разведроте он познакомился и, как ему каза-
лось, подружился со старшим лейтенантом Селивано-
вым. Впрочем, дружбой их отношения вряд ли можно
было назвать, скорее мужское взаимопонимание,
уважение, скупое на слова, и прочие обыденные про-
явления привязанности. И вот впервые за неполных
два года между ними проявилось непонимание друг
друга.
78
Ночью он спал плохо. Да и спал ли? Были сны,
видения, в которых приходили к нему мать и жена.
Привет, Пашка,— радостно,* как в дни их школь-
ной любви, говорила жена и исчезала.
— Что же ты делаешь, сынок? — спрашивала
мать, и в глазах ее было столько покорности судьбе,
столько нежной скорби, что Гуляев вскакивал протя-
нуть ей руки, прижать к груди, успокоить ласково,
как никогда раньше сделать не догадался. Но в ком-
натке лишь слабо посапывала маленькая Бики. И он
падал па подушку обессиленно, пытался понять свое
состояние, а оно словно бы раздваивало его. Была
любовь к жене и матери и тут же отчаянная злость
на Бики-биким, появление которой выбило его из ко-
леи, потом наоборот — детское недовольство родны-
ми, которые не хотели понять его, и нежная жалость
к малышке. Он задумывался, почему злится на сво-
их близких, не подозревающих о его муках, и пони-
мал, что цепочка, их связующая, идет через Селива-
нова, через его четкие «во-первых и во-вторых». Мать
и жена стали во сне словно бы изъявителями его
командирской воли.
Наворочавшись, Гуляев встал с постели и открыл
банку с «Си-си», стоявшую под кондиционером. Вы-
пил холодный напиток и, склонившись над девочкой,
поправил одеяло, увидел, что она улыбается. И вдруг
почувствовал себя вором, вором, крадущим у ребен-
ка маленькую ночную добрую тайну. И откуда ему
было знать, что Бики-биким приснилось, будто ее
мать — агаче-биким — кормит лепешками его, Гу-
ляева, старшину отряда агитации и пропаганды.
Утром, когда после физзарядки он отправил сол-
дат умываться, к нему подошел часовой, дежурив-
ший возле ворот.
— Товарищ старшина, там вас белудж этот —
Алим — спрашивает.
— Чего ему нужно? — хрипло спросил Гуляев:
все-таки простудил ночью горло холодным напитком.
— Не знаю, сказал, вы нужны, сидит, ждет.
— Ладно, передай— сейчас буду.
Алима Гуляев на дух не переносил. Тот когда-то
учился в Союзе в ростовском мединституте. Проучив-
79
шись два курса, бросил все и вернулся в Афганистан.
Был неизвестно где, а теперь вот кочевал с племенем
Ага-хана, мирного белуджского сепаратиста, выпол-
няя при нем роль переводчика. Особисты говорили:
предполагается, что Алим работает не только на сво-
его хозяина, благо с белуджами шурави в дружбе,
но приторговывает духам разведданные. Да Гуляев
и без особистов насквозь видел трусливого и двулич-
ного Алима, а двуличия он терпеть не мог.
Белудж сидел на корточках возле стенки из оцин-
кованных гильз, завернувшись в пату. Из-под надви-
нутой на лоб расшитой золотой нитью белуджской
шапочки тревожно зыркали черные глазенки.
— Здорово,— глухо буркнул Гуляев, выйдя за во-
роту.— Чего надо?
Через переводчика Ага-хан частенько просил
у старшины помощи то вещами, то продовольствием
и даже намекал неоднократно, что купил бы и бое-
припасы.
Алим хлопнул возле себя по земле.
— Приседай, Гуляев...
Старшина недовольно пнул камешек, ничем ему
не мешавший, и тоже опустился на корточки.
— Ну чего, говори короче, у меня дела.
— Короче не получитца...— хитро улыбнулся
Алим.— Слушай внимательна... Я был в кишлаке
Уляб-кала, хан приказал купить себе японский маг-
нитофон.
— Зачем ему?
— Надо,— кратко ответил белудж и опять улыб-
нулся.— Русский песня слушать.
— Да ты не скалься,— равнодушно заметил Гуля-
ев.— Ведь ни хрена не дам... Говори, чего надо?
— Ничего мне не нада. Ты слушай внимательна.
Там опять появились люди Исмата.
— Ну и что?
— Говорят, у тебя афганский девчонка живет? —
неожиданно в упор спросил Алим.
— Кому какое дело... Может, и живет.
— Значит, живет.— Из-под паты, как две змеи,
вылезли тощие руки переводчика, он повернул жел-
тые узкие ладони вверх и, глядя на них, словно чи-
тая, продолжал: — Живет. Исмат недоволен. Он ска-
зал своим, что шурави не только хотят завоевать
80
страну, но и крадут афганских детей. Люди недоволь-
ны. Нада отпустить девчонка.
— Спрячь клешни! — Гуляев зло ударил белуджа
по рукам.— И слушай сюда,— он взял его за пату
под подбородком, собрав материю в комок, и притя-
нул парня к себе.— Слушай сюда, сучье вымя. Де-
вочка— сирота, побиралась по базарам, что ж твой
Исмат о ней тогда не подумал? А?
, — Не мой Исмат, не мой! — попытался вырваться
белудж.
— Не твой? Знаю я, смотри, хану скажу, что бан-
де пятки лижешь, он тебя, выродка, враз кастрирует.
Алим дернулся, и Гуляев отпустил его. Белудж
упал навзничь в пыль и резко, словно кошка, извер-
нувшись, вскочил на ноги, хищно скалясь.
— Это тебе, тебе Исмат кастрирует! — зашипел
он, давясь слюной.— Ты — шакал, ты растлитель де-
тей, ты...— У него не хватало слов. Словно собака,
почуявшая неминуемую смерть, он еще пытался уку-
сить врага.
— Пшел вон! — Гуляев встал и, повернувшись
к белуджу спиной, вошел в ворота. Возле часового
стояла Бики-биким и с тревогой и надеждой смотре-
ла на него своими карими большими глазами. Он
присел перед ней, поправил косы и, тихонько щелк-
нув по носу, подмигнул:
— Ну что, малышка, пойдем в наш огород?
Неслышно откуда-то появился Селиванов и оста-
новился рядом.
— Кстати, Никифорыч, я приказал после обеда
отправить кое-какую мелочь в Ватам, так готовься,
заодно и девочку отвезешь.
— Как, уже?! — вырвалось у Гуляева.
— Да, чего ж тянуть...
Гуляев в растерянности оглянулся. Из-за невысо-
кого забора, злобно оскалившись, наблюдал за ними
Алим.
— Давай-давай, Никифорыч, собирайся...— Сели-
ванов утешающе похлопал старшину по плечу.— На-
до, братан, надо.
Выехали они на «Урале», Гуляев хотел еще взять
БТР сопровождения, но почему-то словно бы усты-
дился сам себя. Уж не гаденыша ли ему* бояться?
81
Вряд ли понимала Бики-биким, куда ее везут
и что расстанется она с Гуляевым. Наверное, нет, но
что-то чувствовала, это старшина знал. Как и уверен
был, что она успела привыкнуть к нему и, может, да-
же полюбить, потому что никогда еще прежде она
так не прижималась к нему — доверчиво, всем своим
маленьким тельцем, словно дочь к родному отцу...
И он, поглядывая сквозь щели в броневых листах на
дорогу, обнимал ее левой рукой, ощущая загрубев-
шей кожей неизъяснимое тепло, исходившее от ре-
бенка. Тепло жизни, пронизывающее насквозь, за-
ставляющее душу трепетать и томиться невысказан-
ным, неотданным еще в мир теплом, сердечной благо-
дарностью за все, что даровано ему самому приро-
дой, родителями, всеми людьми, кого любил и кем
был любим. И самое главное за это, пусть уже ру-
шащееся право любить ребенка и быть любимым им,
чистым от рождения, ибо дети от бога чисты, а по-
роки людские — от людей же.
— Давай побыстрее...— вслушиваясь в себя, ма-
шинально подсказал он водителю, когда машина
въехала в «черный» (по причине частых обстрелов)
коридор «зеленки».
Шофер, покосившись на него, прибавил газу,
и «Урал», взревев дизелем, рванулся вперед в проем
окружающих дорогу деревьев. И в это время по бро-
нелистам, закрывающим стекла кабины, хлестнула
автоматная очередь. Гуляев, не отпуская девочку,
правой рукой положил свой АКС на колени и сдви-
нул предохранитель на автоматическую стрельбу.
— Гони, братан, гони! — бормотал он, и шофер,
сжав судорожно руль, гнал вовсю.
Но тут одновременно с хлопком и свистом выле-
тел из зелени огненный шар, и, оставив за собой ват-
но-белый инверсионный след, ударился в двигатель.
Некоторое время Гуляев ничего не соображал. В гла-
зах плыли огненные круги, через разбитое стекло, че-
рез щели в бронелистах в кабину билось пламя. Что
это? В реальность его вернул крик и плач, водитель
с окровавленным лицом завалился набок на левое
плечо Гуляева и придавил девочку. Бики-биким кри-
чала от боли и страха. Старшина подхватил ее и, от-
крыв дверцу кабины, вывалился на дорогу. Двое со-
провождающих его солдат, выскочив из кузова, за*
82
легли между колес машины и поливали «зеленку»
длинными очередями.
Старшина тоже заполз под «Урал», волоча за со-
бой девочку. Он положил ее лицом вниз возле себя,
достал из «лифчика» две красные ракетницы и вы-
пустил их в небо. Увидят — помогут. И только после
этого осмотрелся, уясняя обстановку. Машина горе-
ла. Солдаты были в норме, воевали. Шофер! — прон-
зило. Шофер-то сгорит в кабине.
— Соловьев! — крикнул он солдату.— Сюда, по-
смотри за девочкой! Прикройте!
Извиваясь ужом, выполз из-за колес и, бросив-
шись к открытой дверце, вскочил на подножку каби-
ны. Водитель, белорус Асмоловнч, лежал на боку,
уткнувшись лицом в сиденье, залитое кровью. «Эк те-
бя»,— проворчал Гуляев и, словно тюк с бельем, рез-
кими рывками потянул солдата из кабины. Он грох-
нулся вместе с ним на землю, покатился юзом по
обочине, ободрав о камни локти и зацепив щекой
о какой-то сучок или железяку, полез под машину,
успокаивая себя ворчанием: «Мать твою... Так и
убить могут».
В борта машины ударили еще две гранаты из
РПГ, и машина вспыхнула, как факел. По дороге по-
полз тяжкий белый древесный дым вперемешку
с черной гарью пылающего соляра. «Кранты»,— по-
думал Гуляей.
— Надо уходить, старшина! — кричал Соловь-
ев.— Уходить!
— Сидеть! ~ рявкнул Гуляев.— Сидеть, гово-
рю! — И пробурчал про себя, тяжело кашляя: — Кху-
да хуходить, ух-ха-хлопают на дороге, как лягушат...
Он экономно постреливал с правой руки, берег
патроны, а левой провел девочке по лицу. Оно было
заплаканным.
Подполз Соловьев и, тыча большим пальцем за
спину, откуда они въехали в «зеленку», кричал, выта-
ращив глаза, обезумевшие от дыма, страха, напря-
жения:
— Старшина, по рву уйдем! Вдоль дороги ров!
В дыму-то, в дыму!
83
Гуляев вспомнил: а ведь точно! Здесь вдоль доро-
ги есть не то арычок, не то просто бесполезная ка-
нава. Кивнул согласно:
— Хуп! Уходите, берите с Гарченкой Асмоловича
и ползком, ползком! Ты понял? Девочка с вами. Бе-
реги ее, Соловьев! — Он цепко ухватил парня за пле-
чо и, приткнув к себе, для уверенности своей, что ли,
прокричал ему в ухо: — Береги ее, Соловьев! Я при-
крою!
Потом Гуляев оттолкнул от себя девочку, никак
не желавшую отпускать его, и перекатился под пе-
редние колеса. Над ним с ревом полыхал двигатель,
на асфальт капал, разливаясь горящей лужей, со-
ляр. Старшина бросил две гранаты в разные сто-
роны, а когда оглянулся, ни солдат, ни девочки под
машиной не было. Они исчезли в дыму за рушащи-
мися на дорогу горящими досками кузова.
В горячке Гуляев и не заметил, как на плечи ему
стекла струйка огненного горючего, он только почув-
ствовал— что-то мешает и, покосившись на плечи,
увидел пламя. Горю же! Чтоб тебя!.. Сорвал с себя
«лифчик» с боезапасом и, вырывая с «мясом» пугови-
цы, содрал куртку, оставшись в оплавленной тель-
няшке. К черту! Стреляя по сторонам, он стал ка-
таться между колес, чувствуя, как жаркий дым раз-
рывает легкие и съедает силы. «Ну, пора кончать»,—
решил. Отбросил в одну сторону ненужный больше
автомат, в другую, подальше, чеки и, сжимая скобы,
пополз между колес. Вылез из-под грузовика он по-
зади, хотелось убедиться, что солдаты ушли и...
и хоть одним глазком увидеть Бики-биким, свою
единственную дочку. Но ничего Гуляев не увидел по-
тому, что только показался из дыма, и в грудь его
ударила, развернула и бросила на асфальт горячая
пуля.
Они выходили из «зеленки» медленно, оглядыва-
ясь по сторонам, как и положено ворам, бандитам.
Гуляев только подобрал руки под себя, не в силах
даже скатиться под обочину. Впереди шла Бики-би-
ким, ее вел перед собой, держа за худенькую шейку,
белудж Алим. Девочка не плакала. Слезы иссохли
в глазах ее.
84
Оки остановились над Гуляевым, разглядывая
свою жертву. Старшина смотрел на них равнодушно,
ему хотелось бы сплюнуть, но слюны не было, дым
всё, вытравил во рту. Он провел распухшим языком
по окровавленным губам и просипел обычное:
— Чего тебе?
Алим злобно улыбнулся.
— Ничего. Я привел девчонку,—он отпустил Би^
ки-биким, и она припала к Гуляеву.— И вот еще...—
Переводчик бросил перед лицом старшины три кепи
с зелеными тусклыми звездочками. Гуляев еще раз
облизнул губы.
— Сволочь.
— А ты — труп,— Алим вытянул из складок паты
пистолет.— Эта девочка станет для тебя смертью.—
Он с руки выстрелил два раза в спину Бики-биким,
и Гуляев почувствовал, как пули рвут ее и его тела.
Он умирал и сознавал это, но другое тревожило его
уже беспомощный разум: неужели же малышка Би-
ки-биким послана ему для смерти, неужели? Не мо-
жет того быть. Только для жизни.
— Врешь, Алимка...— шептал он остывающими гу-
бами и обессиленно, будто освобождаясь от какой-то
черной силы, сдавившей руки, разжал ладони, давая
простор всепожирающему рвущемуся на волю огню,
запечатанному в маленьких ребристых металличе-
ских сосудах.
Юрий Поляков
Сто дней до приказа
Повесть
1
...Я испуганно открываю глаза и вижу старшину ба-
тареи — прапорщика Высовеня.
— Вставай! Трибунал проспишь! — сурово шутит
прапорщик.
За окошком не утро, а знобкая темень. Ежась
и застегиваясь на ходу, ребята выбегают на улицу.
Сквозь стекло видно, как на брусчатом батарейном
плацу топчется несколько солдат — зародыши буду-
щей полноценной шеренги.
В казарме возле изразцовой печки стоит серди-
тый, со следами сна на лице замполит дивизиона
майор Осокин. Время от времени он резко дергает
головой, точно отгоняет надоедливую мысль. Это —
тик, последствие контузии, полученной в Афгане.
Рядом с замполитом томится наш комбат старший
лейтенант Уваров. Он пытается хмуриться, как бы
недовольный неорганизованным подъемом вверенной
ему батареи, но взгляд у него растерянный. В руках
наш нервный комбат мнет и ломает свою гордость —
фуражку-аэродром, сшитую в глубоко законспириро-
ванном столичном спецателье.
— Давай, Купряшин, давай! — брезгливо кивает
мне комбат Уваров.— Спишь, как на первом году!
Защитничек...
— А что случилось? — совсем по-цивильному
спрашиваю я, потому что часть мозга, ведающая
уставными словосочетаниями, еще не проснулась.—
Тревогу же на завтра назначали...
Старшина Высовень медленно скашивает глаза
в сторону замполита, потом снова смотрит на меня,
и в его взоре столько многообещающей отеческой
теплоты, что я пулей срываюсь вниз, вмиг обрастаю
обмундированием, на бегу опоясываюсь ремнем, вы-
86
летаю на улицу и врезаюсь в строй. Шеренга вздра-
гивает, принимая блудного сына, и замирает.
«Вот черт,— молча возмущаюсь я.— Второй день
выспаться не дают!»
— В дисбате выспитесь! — обещает, вышагивая
вдоль построенной батареи, старшина Высовень. Нет
никаких сомнений, что в школе прапорщиков его обу-
чали телепатии.
— А что все-таки случилось? — спрашиваю я
стоящего рядом со мной ефрейтора Зубова, механи-
ка-водителя нашей самоходки и неутомимого борца
за права «стариков».
Зуб медленно поворачивает ко мне свое злое ро-
зовощекое лицо и не удостаивает ответом. Он вооб-
ще похож на злого поросенка, особенно теперь, когда
остригся наголо, чтобы к «дембелю» волос вырос гу-
ще. Скажите, пожалуйста, какой гордый! Дедушка
Советской Армии и Военно-Морского Флота! Зна-
чит, все-таки вчерашний ночной приговор в каптер-
ке— акция, как говорится, долговременная! Ладно,
переживем.
Старшина Высовень останавливается перед стро-
ем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас
все-таки подняли среди ночи?
* л л
Вчера, за час до подъема меня разбудил чей-то ше-
пот. В розовом утреннем свете казарма сияла, точно
ее только что отремонтировали. Около коек, на табу-
ретках, аккуратно лежало обмундирование, в черных
петлицах единообразно поблескивали крестики артил-
лерийских эмблем. Рядом, на полу, стояли сапоги,
обернутые вокруг голенищ серыми портянками. Воз-
ле каждого табурета — две пары сапог: одна — стоп-
танная, побывавшая в ремонте, другая — новенькая,
с едва наметившимися морщинами. Дело в том, что
койки у нас двухъярусные: внизу спят «старики»
а наверху — молодежь.
Казарма, словно радиоэфир, наполнена разнооб-
разными звуками: сонными вздохами, сладким поса-
пыванием, тонким, почти художественным свистом,
раскатистым храпом, невнятным бормотанием, нако-
87
нец, отчетливым шепотом, который и разбудил меня.
Разговаривали молодые — Малик из взвода управле-
ния и доходяга Елин, заряжающий с грунта из мое-
го расчета. Их койки приставлены впритык, поэтому
они были уверены, что их никто не слышит, но я раз-
бирал каждое слово.
— Ты бы на сквозняк повесил! — советовал Ма-
лик.
— Я и повесил,— безнадежно ответил Елин.—
Все равно воротник и манжеты сырые. Зуб теперь
орать будет, что я плохо отжимал, а я вот до мо-
золей выкручивал! — и он показал однопризывнику
ладони.
— Может, обойдется! — успокоил Малик.— Все-
таки праздник сегодня!
— Кому праздник, а кому...— Елин не договорил
и ткнулся лицом в подушку.
— Терпи, будет и твой праздник!
— Не хочу я, не могу! — почти крикнул Елин.
— Не хочешь — заставят, не можешь — на-
учат! — убежденно ответил Малик.
— Ребята, мы будем спать?! — возмутился из-под
одеяла рядовой Эвалд Аболтыньш, еще два месяца
назад разгуливавший «по узким^ улочкам Риги».
Никто не ответил, а через минуту все трое затих-
ли: молодые засыпают мгновенно, им еще, как мед-
ным, служить до своего праздника, до своих ста
дней!
Кто не тянул срочную, тот не поймет, что такое
сто дней до приказа! А это значит, ты уже наполови-
ну гражданский человек. Это значит, министр оборо-
ны не только выбрал ручку, которой подпишет при-
каз об увольнении в запас твоего призыва, но и об-
макнул ее в чернила. Не знаю, может быть, маршал
подписывает свои приказы каким-нибудь потрясаю-
щим «паркером» с золотым пером, но так уж счита-
ется: сначала он выбирает себе ручку, потом обмаки-
вает ее в чернила, затем делает несколько пробных
росчерков и, наконец, ставит автограф на известном
каждому солдату документе, где есть такие священ-
ные слова:
«В соответствии с законом СССР «О всеобщей во-
инской обязанности» приказываю:
88
L Уволить из рядов Советской Армии, Военно-
Морского Флота, пограничных и внутренних войск
в запас в октябре — декабре 198.;. г. военнослужа-
щих, сроки действительной военной службы которых
истекают до 1 января 198... г.
Затем идет второй пункт — о новом призыве, а за
ним третий:
«Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскад-
рильях и на корабдях».
Трижды, стоя в строю, я слышал эти слова, три-
жды провожал «стариков» домой.
Через сто дней мой приказ!
Накануне всегда идут разговоры о том, что уж
в нынешнем году и приказ, и увольнение будут рань-
ше обычного и что на это имеются веские внутри-
и внешнеполитические причины. Слухам верят, хотя
они еще ни разу не оправдались. Но так или иначе,
а «дембель», говоря словами старшины Высовеня,
«неотвратим, как смерть!».
Первыми узнают о приказе писари и сразу сооб-
щают благую весть своим землякам. Под страшным
секретом. Естественно, через полчаса об этом знает
уже вся часть. Вскоре приказ появляется в печати,
и начинается настоящая охота за газетами. Неизве-
стно, каким образом, но только номера с текстом
приказа исчезают даже из подшивок, хранящихся
в кабинетах командира и замполита полка. А ефрей-
тор Симаненок (он уволился весной) просто-напро-
сто делал на этих газетах маленький солдатский
бизнес. Примерно через неделю после всеобщего ажио-
тажа, когда кое-кто отчаивался украсить свой дем-
бельский альбом заветной вырезкой, Симаненок
получал из дому здоровенную бандероль, набитую са-
мыми разными газетами от одного-единственного чис-
ла. Понятно, от какого. И еще: выпуск с приказом
на первой полосе был единственным номером много-
тиражки «Отвага», расходившимся мгновенно и пол-
ностью. В любое другое время нашу газету (ребята
называют ее «Стой, кто идет?!») можно наблюдать
в самом неожиданном виде и в самом неожиданном
месте.
Итак, узнав о приказе, «старики» мчатся в лес —
ставить дембельские кресты, сколоченные доски или
89
сучья, к которым прибиты дощечки с надписями. На-
пример:
Мл. сержант Коркин А. Ф.
1982—1984
Служи, сынок, как дед служил,
А дед на службе не тужил!
Главное — присобачить крест на дереве как мож-
но выше. В прошлом году один «старик»-верхолаз
грохнулся и попал не домой, а в госпиталь.
Вечером события разворачиваются следующим об-
разом: у «стариков» к приказу всегда припасены
трассеры и сигнальные ракеты, поэтому, как только
стемнеет, то в одном, то в другом месте небо проши-
вают огненные пунктиры. Офицеры бранятся, прини-
маются искать виноватых, но больше для виду, ибо
все понимают: таков давний солдатский обычай.
Но самое главное начинается после отбоя: «ста-
рики», которые с этой минуты становятся «дедами»,
возводят всех остальных в очередные звания неписа-
ной казарменной иерархии. Делается это при помощи
обыкновенного уставного ремня. Каждый получает
по конкретному месту столько условно-символиче-
схих ударов, сколько месяцев отдано родным Воору-
женным Силам.
Когда я учился в школе, у нас был преподаватель
истории — жуткий зануда, заканчивавший каждый
урок предложением начертить «табличку на полстра-
нички» и таким образом закрепить новый материал.
С тех пор я могу свести к табличке все что угодно,
даже нашу солдатскую жизнь. Выглядеть это будет
примерно так h
«Старик» — это сладкий сон после подъема (пока
не придет старшина), это лучший кусок за длинным
солдатским столом, это право не поднимать ногу,
когда батарея идет строевым шагом (за тебя коло-
тят подошвами молодые), это полная свобода от мел-
кого быта и возможность полностью отдаться мечтам
о «дембеле» (если надо, подошьет подворотничок или
простирнет гимнастерку молодой), это... Это еще де-
сятки различных привилегий, превращающих тебя
1 Примечание: отдельные детали и наименования могут
варьироваться в соответствии с традициями той или иной части.
90
в особое существо и придающих походке рассеянную
величавость, а лицу — сонно-высокомерное выраже-
ние. Честно говоря, большинством этих прав я не
Срок службы (в месяцах) Наименование солдатского сословия Права и обязанности
1—6 «Салага», «сынок», «дух» и т. д. Обязан во всем беспре- кословно подчиняться старослужащим.
6—12 «Скворец», «шнурок» и т. д. От «салаги» отличается только большим жиз- ненным опытом и на- деждой на будущие права.
12—18 «Лимон», «черпак» Руководит «салагами» и «скворцами», подчиня- ется «старикам».
18—день приказа «Старик», «король», «дед» и т. д. Океан прав. Подчиняется только командирам, но с чувством собственно- го достоинства.
День приказа—от- «Ветеран», Гражданский человек, по
правка домой «дембель» и т. д. иронии судьбы одетый в военную форму.
пользуюсь—не по мне... Не могу, например, как еф-
рейтор Зубов, заставить молодого всю ночь стирать
мое «хэбэ», а потом костерить за то, что гимнастерка
к утру не высохла, хотя год назад то же самое про-
делывали с ним, Зубом. Но самое грустное и непо-
нятное заключается в том, что всего лишь через год
этот насмерть перепуганный Елин станет неторопли-
во-суровым двадцатилетним «стариком» и будет го-
нять такого же ошалевшего парня — свое сегодняш-
нее подобие!
Но только ничего этого я не увижу: через сто
дней приказ, потом самые томительные дни до от-
правки партии уволенных в запас, а потом... Я уже
чувствую острый, волнующий запах гражданки, и
просыпаться, наверное, в последнее время стал так
рано, чтобы со вкусом помечтать о ней. Я почти два
года не пил газировку из фыркающего автомата, не
бродил по осенней Москве! Почти два года... Неуже-
ли прошло два года?!
91
2
Старшина Высовень останавливается перед строем,
потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-
таки подняли среди ночи?
Выстроившись в две шеренги, мы стоим вдоль
освещенных окон казармы. Над головой чернеет бре-
зент ночного неба, весь в маленьких дырочках звезд.
В окно видно, как замполит Осокин, дергая головой
и наливаясь багровостью, распекает старшего лейте-
нанта Уварова, а тот молчит, играет желваками
и вот-вот сломает маленький, искусно скошенный
вниз козырек спецфуражки.
— Это не служба, а цирк зажигает огни! — вор-
чит старшина Высовень.—Прыгаешь, как клоун.
У прапорщика медно-рыжие волосы и здоровен-
ные кулаки, которыми, если использовать их в мир-
ных целях, можно забивать сваи.
— Товарищ старшина,— покачиваясь на мысках,
ленивым голосом спрашивает рядовой Чернецкий.—
Разрешите обратиться?
Валера Чернецкий, мой однопризывник, вычисли-
тель взвода управления, пришел в армию со второго
курса института, якобы по причине сложных фило-
софско-этических исканий. Но я почему-то думаю,
призвался он в результате банальной академической
задолженности.
— Обращайся,— разрешает Высовень, несколько
удивленный и настороженный уставной церемонно-
стью Валеры.
— В какой связи нас подняли? — интересуется
Чернецкий.— Может быть, досрочно увольняют в за-
пас?
— Домой теперь только через дисбат! — ласково
повторяет старшина свою странную угрозу.
— Не нравится мне все это! — тихо вступает
в разговор рядовой Камал Шарипов, наводчик наше-
го расчета.— Очень не нравится. Елки-моталки!
Когда два года назади мы познакомились с Кама-
лом в карантине, куда он прибыл из высокогорного
кишлака, русский язык был ему почти неведом, а те-
перь Шарипов владеет великим и могучим совершен-
но свободно и особенно полюбил сильные выражения,
уходящие корнями в самые рискованные глубины
народного словотворчества.
92
— А мне, мужики, сегодня дембель снился! —
вступаю в общую беседу и я.
Но они словно не замечают меня. Ах, ну, конечно,
по приговору «стариковского» суда с этой ночи и до
первой партии я поражен во всех правах и разжало-
ван в «салаги».
А ведь странный был сон, какой-то вывернутый
наизнанку! И Лена... Она не снилась мне давным-
давно, с тех самых пор...
— Батарея! — зычно командует старшина Высо-
вень.— Равняйсь! Смир-рно!!
* * *
...Дома родня еще догуливала на моих проводах,
в который раз пропуская перед чаем «по последней».
Бабушка и тетя Даша помогали на кухне маме мыть
посуду, а дядя Петя, по своему обыкновению выло-
мившийся из компании в самый разгар торжества,
лежал на диване и храпел, словно бенгальский тигр.
На письменном столе возвышался набитый вещевой
мешок, в духовке доходила дорожная курица. Одним
словом, от готовности к труду до готовности к оборо-
не оставался всего шаг.
Я пошел провожать Лену до метро. Технички,
орудуя большими, похожими на телеантенны, щетка-
ми, уже заканчивали подметать мозаичные полы.
Взявшись за руки, мы стояли на платформе, ожидая,
когда в тоннеле покажутся огни поезда, потом в по-
следний раз поцеловались по-настоящему, и Лена
вошла в совершенно пустой вагон. С резиновым сту-
ком сомкнулись двери, молоденький машинист, зна-
чительно взглянув на меня, легко впрыгнул в кабину
и крикнул кому-то: «Вперед!»
Вернувшись домой, я долго не мог заснуть и да-
же выходил на лестничную площадку покурить. Ког-
да же я снова лег, в комнату заглянул отец и ска-
зал:
— Ишь, разволновался. Подумаешь — два года!
Раньше двадцать пять лет служили! Или ты из-за
Ленки?
Недоумевая, как это люди служили по двадцать
пять лет, я уснул...
93
„.Наутро, еще затемно, мама, отец и я пришли, а
говоря точнее, прибыли на стадион «Замоскворечье».
В моем кармане лежала изукрашенная печатями по-
вестка, в которой говорилось, что я призван на дейст-
вительную военную службу и зачислен в команду
№ 44. Кроме того, согласно повестке, я был одет по
сезону в исправную одежду и обувь (отцовское вытер-
шееся пальто и старые суконные ботинки), имел ко-
роткую прическу, а также имел при себе пару натель-
ного белья, полотенце, вещевой мешок для укладки
личных вещей, ложку, кружку и туалетные принад-
лежности. Кроме того, я имел бледный вид человека,
которого уносит течением судьбы в неизведанном на-
правлении.
Вокруг пульсировала толпа призывников и прово-
жающих, напоминавшая народные гулянья в район-
ном ПКиО. Бренчали гитары, всхлипывали баяны,
временами толпа образовывала круг, в который, виз-
жа, как «скорая помощь», влетала какая-нибудь тет-
ка и с частотой отбойного молотка исполняла нераз-
борчивые частушки. Периодически кто-то взрывался
«не-плачь-девчонкой», но довольно быстро запутывал-
ся в словах. Волосатый парень рвал гитарные струны
и пел заунывно-тоненьким голосом:
Только две зимы, только две весны
Ты в кино с другими не ходи-и-и...
При этом он умоляюще поглядывал на ярко за-
штукатуренную подругу.
. В толпе, где провожающих собралось в десять раз
больше, чем провожаемых, призывника можно было
узнать сразу? во-первых, по нелепой, словно из втор-
сырья, одежде, а, во-вторых, по выражению лица:
«Мол, что же это делается? Жил — не тужил: рабо-
тал, учился, в магазин бегал, на свиданки ходил...
А что дальше будет?» Я выглядел как все, даже, на-
верное, еще хуже, потому что не было Лены. Даже в
такой день она опаздывала. Но все обошлось — сна-
чала приехал мой школьный товарищ Мишка Воропа-
ев, а потом я различил в толпе грустное-прегрустное
лйцр Лены.
Мишка скорбно обнял меня, сказал несколько
ободряющих слов моим родителям, а потом ненавяз-
чиво обратил внимание собравшихся на тот факт, что
94
прямо отсюда он поедет на занятия в институт. Тот
самый* институт, куда я не добрал полбалла. Потом
гее вместе мне давали советы, сводившиеся к тому,
что ноги нужно держать в тепле и не брать ничего в
голову. Мама ни с того ни с сего заговорила про ка-
кие-то гостинцы, словно я уезжал в пионерский ла-
герь, а не в армию. Какой-то дядька с красной, будто
бы крапленой, физиономией, заслышав, как меня по-
учают, отшатнулся от своей группы и тоже дал совет:
«Не разевай рта и не лезь, куда не просят...»
Затем мои провожающие деликатно отошли в
сторону, создавая условия для прощания с Леной.
У нас все было решено: за два года подойдет очередь
на кооператив, родители обещали скинуться. Кроме
квартиры, все было совершенно определенно и не вы-
зывало никаких сомнений. Временами я чувствовал
себя героем популярной песни «Лебединая верность».
Писать друг другу мы уговорились два раза в неделю
(каждый день — это несерьезно!). Таким образом, по-
лучалось: 2 X 104 = 208. Через 208 писем я должен
был вернуться. Это Лена здорово придумала — счи-
тать не дни, а письма! От нее я получил 38 писем,
ровно по два в неделю... И хватит об этом!
Потом мы снова прощались все вместе, пока не по-
явился офицер, подавший команду строиться. Уже в
воротах я оглянулся и запомнил навсегда: ссутулив-
шиеся родители, Лена с черной струйкой потекшей ту-
ши на щеке, Мишка, переминающийся с ноги на ногу
и поглядывающий на часы. Нас загрузили в КрАЗ с
крытым верхом и повезли в райвоенкомат, располо-
женный в пяти троллейбусных остановках от стадио-
на. Когда мы подъехали, оказалось, что у входа в во-
енкомат почти в том же составе, как у стадиона, тол-
пились провожающие. Я успел разглядеть маму, отца,
Лену. Нас построили в длинном коридоре, основа-
тельно проверили вещмешки и конфисковали бутылки
со спиртным. Затем мы снова набились в грузовик и
на глазах у провожающих поехали. Но это была воен-
ная хитрость. Повозив по городу, нас доставили назад
к военкомату, где теперь не было ни души.
Тогда мне казалось, я не забуду ничего, ни единой
детальки. Но вот еще не прошло двух лет, а многое
уже выветрилось. Вообще, я заметил, что память со-
храняет только как бы общее впечатление от происхо-
9S
лившего и несколько ярких эпизодов, на которых это
впечатление держится. И еще я заметил: в зависимо-
сти от того, как потом складывается жизнь, меняются
и воспоминания — их держат уже иные, выплывшие
откуда-то из глубины эпизоды. Не знаю, может быть,
и я буду однажды вспоминать все это по-другому, не
так, как сегодня...
Двое суток мы сидели на городском пункте, где
впервые ко мне пришло знакомое каждому солдату
ощущение несвободы, когда твое внутреннее состоя-
ние, настроение не имеют никакого отношения к твое-
му поведению, подчиненному теперь приказам коман-
диров и начальников. И хотя некоторые ребята, рису-
ясь, говорили, будто до принятия присяги можно вы-
кинуть что угодно — хоть домой сбегать, конечно, ни-
кто ничего не предпринимал.
Вскоре прошел слух: деньги в часть везти нельзя—
не положено. И в течение двух дней мы не вылезали
из буфета, обливаясь «Байкалом» и объедаясь экле-
рами, изображая из себя кавказских людей, для кото-
рых самая мелкая разменная монета — рубль. Осо-
бенно наша щедрость сказывалась на благосостоянии
парикмахеров, расправлявшихся двумя-тремя движе-
ниями жужжащей машинки с самой роскошной шеве-
люрой. Клиенты все прибывали, а в углу парикмахер-
ской росла метровая куча разномастных волос.
На городском пункте я познакомился с Жориком
Плешановым. Ему родители дали с собой громадную
жареную утку, а первое время домашней еды было у
всех навалом, и он никак не мог найти помощника,
пока не обратился ко мне. Поедая водоплавающую,
мы рассуждали о жизни. Оказалось, Жорик закончил
недавно полиграфический техникум, и все его разду-
мья о судьбе склонялись к одной мысли: государству
невыгодно такого замечательного специалиста, как
он, отрывать на целых два года от производительного
труда. Очень скоро он убедил, что и в моем случае на-
ше мудрое и гуманное общество совершило непрости-
тельную ошибку, не дав мне еще одну попытку для
поступления в институт, откуда я несомненно вышел
бы уникальным специалистом. Так, незаметно мы чуть
не впали в скверный пацифизм, но нашу беседу услы-
96
шал какой-то офицер и объяснил нам командным го-
лосом, что ни одна страна на военной мощи не эконо-
мит и что если мы в самом деле заботимся о выгоде
государства, то сначала должны думать, а потом уже
говорить...
К концу второго дня появился капитан с длинню-
щим списком, где были и наши с Жориком фамилии.
Мы снова набились в машины с брезентовым верхом
и через полчаса оказались в части недалеко от Цент-
ра. В военном обиходе это называется «карантин». Из
окон казармы была видна муравьиная жизнь города,
казавшаяся воплощением головокружительной, ничем
не ограниченной воли. Армейский карантин, между
прочим, ничего общего не имеет с карантином, запом-
нившимся по школе и пионерским лагерям. Хотя,
впрочем, нас, зараженных штатской расхлябанно-
стью, в самом деле нужно было подержать в изоля-
ции, пока лошадиные дозы армейской дисциплины не
убьют опасный для военного человека вирус граж-
данки.
Карантин складывался из медицинских осмотров,
экипировки, строевой подготовки и т. д. Помню, как,
зазевавшись (обычное мое состояние до армии), я не
успел вместе со всеми получить обмундирование и це-
лый день мучился среди новеньких шинелей в замур-
занном отцовском пальтеце, пока начальник каранти-
на не приказал «одеть этого разгильдяя».
Ночью, после медосмотра, меня растолкал Жорик
и сообщил, что, по разговорам, нас собираются за-
гнать в такую глушь, где, кроме забора, нет никаких
достопримечательностей. Выход один — застрять в
карантине до следующей партии, которую, по тем >Ке
слухам, должны направить в знаменитую дивизию,
прошедшую с боями до Померании и со славой вер-
нувшуюся в Подмосковье. Как застрять, Жорик тоже
знал: нужно симулировать какое-нибудь серьезное за-
болевание.
Ни грипп, не желудочное расстройство, легкомыс-
ленно предложенные мной, не подходили. Тут нужно
было нечто особенное, парализующее многолетний
опыт военврачей. И Плешанова осенило! Всю остав-
шуюся ночь мы мучительно вспоминали читанные в
«Здоровье» и слышанные от пострадавших симптомы
спасительного недуга, а утром поскреблись в дверь
4. Крещение
97
врача. Жорик, краснея и запинаясь, стал излагать
выстраданные нами приметы пикантной болезни. Се-
дой, краснолицый капитан с золотыми змеями в ма-
линовых петлицах слушал нас очень внимательно, со-
чувственно и даже задавал наводящие вопросы:
— И утром тоже?
— Утром особенно,— признавался Плешанов.
— Та-ак. А у товарища?
— И у товарища.
— Та-ак. А где же вы с ней познакомились?
— В КИНО;
— Та-ак. И адреса не знаете.
— Не знаем.
— Та-ак. А приметы помните?
— Конечно. Высокая, полная (Жорик выставил
вперед два локтя). Справа, на нижней челюсти — зо-
лотой зуб.
— Зуб или коронка?—встрепенулся капитан.
— Зуб! — убежденно подтвердил мой приятель.
— А ты как думаешь? — врач испытующе погля-
дел мне в глаза. И тут с отчетливым ужасом я понял,
что капитан давно обо всем догадался и просто-на-
просто издевается над нами. Подхватив недоумеваю-
щего Жорика, я попятился к двери, но, вопреки ожи-
даниям, военврач не стал нас ставить по стойке
«смирно» и вызывать начальника карантина, а только
спросил вдогонку:
— Швейка-то вы хоть читали?
— Читали,— ответил еще ничего не понявший
Жорик.— Но давно, в детстве.
— В детстве нужно «Буратино» читать!—гарк-
нул капитан и пристукнул рукой по столу, зазвенев-
шему никелированными инструментами...
Еще помню, как поздно вечером нестройной колон-
ной нас вели мыться в пустые районные бани, и по
пути, умолив сержанта, я, задыхаясь, носился по пе-
реулкам, ища работающий телефон. А потом, уже
бросив монету и прижав к уху гудящую трубку, никак
не мог вспомнить номер. У Лены почему-то никто не
подходил, у моих было намертво «занято». В конце
концов я дозвонился до Мишки Воропаева и загнанно
объяснил, где находится наш карантин, а на следую-
щий день на КПП уже разговаривал с мамой и Ле-
ной, жалостливо смотревшими на меня.
98
— У вас, наверное, плохо кормят? — спросила ма-
ма у дежурного по КПП.
— Нормально кормят. Через два года он у вас ни
в одни штаны не влезет! — успокоил офицер и попро-
сил закругляться.
Он оказался прав: сегодня со всей ответственно-
стью можно констатировать, что в армии я увеличил-
ся на два размера, и роскошные серые брюки «бана-
ны», купленные перед самым призывом, теперь на ме-
ня не налезут. Как говорит старшина Высовень, хоро-
шего человека должно быть много!
С едой связана еще одна история. На второй день
карантина у меня потерялась взятая из дому ложка.
Эта утрата, совершенно незаметная на гражданке,
привела к самым тяжелым последствиям. Ели по
команде, непривычно быстро. И когда, наконец, дору-
бав порцию, сосед отдавал мне свою, до блеска обли-
занную ложку, и я с бешеной скоростью начинал хле-
бать щи, раздавалась команда «Встать!». Запихнув в
себя самый большой ломоть (выносить хлеб из столо-
вой не положено) и горько взглянув на недоеденное, я
выходил строиться. С большим трудом мне удалось
отыскать чью-то сломанную пополам супочерпалку с
выцарапанными на ней словами: «Бери больше—ки-
дай дальше!» Стянув сломанные концы нитками, я
принялся наверстывать упущенное — черпать и так
далее. Именно тогда стало ясно, что в армии нельзя
разевать рот, разве только в двух случаях: когда ешь
и когда стреляешь из пушки.
Еще помню, как трудно и зябко было вставать в
6.00, щурясь на резкий ядовито-желтый свет, и, дрожа
от озноба, стремительно одеваться, кое-как наматы-
вая портянки, чтобы потом, после переклички, с неу-
мелой аккуратностью перемотать их раз десять, но
так и не добиться уставного результата...
А перед самой отправкой приехал фотограф, что-
бы запечатлеть нас, так сказать, на первом этапе ар-
мейской жизни. Один добродушный «старик» любезно
предлагал желающим сняться в его дембельском ки-
теле— два ряда значков, твердые с золотыми лычка-
ми погоны. Теперь, когда я смотрю на фотографию,
мне смешно и грустно: очень уж странное сочета-
ние— растерянный взгляд, испуганно-заострившиеся
черты и чудо-китель.
99
Никогда не забуду длиннющий, с фантастически-
ми сквозняками коридор аэропорта и странное обра-
щение: «воины». Стюард показал рукой на кресла и
сказал: «Ну что, воины, рассаживайтесь!» Я сначала
думал, он смеется, но оказалось, это — официально
принятая форма обращения к рядовому и сержант-
скому составу Советской Армий. «Ну что, воин, поеха-
ли!»— сказал я себе, когда ИЛ-62, стремительно
протрясясь по бетонной полосе, вдруг замер в полете.
3
— Батарея! — зычно командует старшина Высо-
венъ.— Равняйся! Смир-рно!
Из казармы медленно выходит замполит Осокин,
он с тяжким укором вглядывается в наши лица. Сле-
дом за майором плетется комбат Уваров, похожий в
своей суперфуражке на обивочный гвоздь. Выдвинув
подбородок и морща тонкий нос, он пристально рас-
сматривает наши сапоги.
Прапорщик мощным строевым шагом подходит к
начальству и докладывает:
— Товарищ майор, шестая батарея по вашему
приказу построена!
До срока пожелтевший лист, плавно вращаясь,
опускается на черный погон командира нашей само-
ходки невозмутимого сержанта Титаренко. В другую
пору его бы непременно пихнули в бок, мол, домой
старшим сержантом поедешь! Но сейчас никто не об-
ращает на это внимания, и только ласковый теленок
Малик из молодого пополнения двумя пальцами, с
почтением, снимает листик с былинного плеча сер-
жанта.
Офицеры тихо совещаются. Мы терпеливо ждем
мудрых приказов командиров и начальников.
— Слушайте, а может быть, нас хотят куда-ни-
будь перебросить? — испуганно шепчет наш каптер-
щик рядовой Цыплаков.
Цыпленок—приземистый парень, покрытый таки-
ми густыми веснушками, что они слились в большйе
желтые пятна. Кроме того, Цыпленок и двигается
как-то по-птичьи: короткими, резкими рывками. Слу-
жит он восьмой месяц, но его лично знает даже
100
командир полка, потому что Цыпленок в свои восем-
надцать лет женат, имеет дочь, а кроме того, чуть ли
не в день призыва обеспечил себе второго беби-кинде-
ра и теперь с нетерпением ждет, когда его, как отца
двух детей, уволят в запас досрочно.
— Ага, перебросят,— соглашается Шарипов.—
Куда-нибудь повыше, где скребутся мыши!
— Парни, я же серьезно...
— Цыпленок,— вздыхает Чернецкий,— у тебя ле-
тальная дистрофия мозговой мышцы! Если что — мы
бы сейчас под полной выкладкой стояли! А ты бы
еще ящик с патронами на горбу держал. Понял?
— Разговоры в строю! — прикрикивает старшина
Высовень.
Совет в Филях закончился: замполит Осокин мед-
ленно идет вдоль строя, Высовень и Уваров, оказав-
шись рядом, с пониманием переглядываются.
Наконец замполит останавливается и громко
спрашивает:
— Кто видел рядового Елина после шестнадцати
часов?
И я чувствую, как рядом вздрагивает и напрягает-
ся Зуб.
л * ж
Самолет летел долго. Стюард обносил нас конфетами,
приговаривая: «Закусывайте, воины!» Я наблюдал в
иллюминаторе бесконечные плавные облака, настоль-
ко похожие на заснеженную равнину, что казалось,
вот сейчас из-за белого холмика покажется лыжник.
Наверное, я бы еще долго восстанавливал в памя-
ти тот перелет из гражданской жизни в жизнь армей-
скую, но тут в мед моих воспоминаний была добавле-
на ложка дегтя. Внизу, скрежеща пружинами и чер-
тыхаясь, завозился Зуб. Он крутился так и эдак,
сворачивался калачиком, перетягивал одеяло с ног на
голову и обратно, но никак не мог согреться.
— Е-е-елин! — не выдержав мучений, застонал он.
Ответом ему было молчание.
— Е-елин! — уже с раздражением повторил еф-
рейтор.
Но «салаги» спят как мертвые.
101
— Елин! — заорал Зуб и пнул ногой в сетку верх-
ней койки, где спал заряжающий. Тот йспуганно сбе-
сился вниз:
— Чего?
— Чего! Чего! Не добудишься... Возьми у Цып-
ленка ключи и принеси из каптерки шинель. Холодно,
вот чего!
Елин неумело, ударившись ногой о тумбочку,
спрыгнул на пол, морщась, задвинул ноги в (Йфом*
ные сапоги и прогрохотал к двери.
— Тише, чудила, всю казарму разбудишь! —•
крикнул ефрейтор вдогонку и, повернувшись ко мне,
пояснил: — Вчера в кочегарке помылся, никак не со-
греюсь...
Между прочим, мыться у друзей-иотопников под
душем, а не в бане вместе со всеми — одна из «стари-
ковских» привилегий.
— Холбдновато сегодня,— согласился ' я.— Зато
праздник!
— Да, Лешка, сто дней! Скоро домой... Помнишь,
когда дембеля свои «сто дней» отмечали, казалось, у
нас такого никогда не будет! А видишь — дождались!
Пока мы беседовали, вернулся Елин, неся в руках
сапоги.
— Цыплаков говорит, старшина не велел выно-
сить шинели из каптерки!
— Передай Цыпленку, что я его убью! Понял?
Елин вздохнул и снова ушел.
— «Салаги» пошли бестолковые,— пожаловался
Зуб.— Ни черта не понимают, спят на ходу...
Зуба я знал с первых дней службы и хорошо по-
мнил, как он прославился на всю часть, уснув в строю
во время праздничного развода, посвященного Дню
артиллериста. А что выделывал, с молодым Зубом
мрачный рядовой Мазаев, уволившийся из батареи
год назад!
Однажды, на заре нашей туманной армейской
юности, я был свидетелем такой ситуации. Забегаю в
казарму и вижу: мохнатая дембельская шинель рас-
пялена на швабре и прислонена к печке, а мимо этого
чучела грохочущим парадным шагом курсирует Зуб и
старательно отдает честь.
— Ты чего? — удивился я.
— Мазаев...— на ходу, держа равнение на ши-
102
нель, объяснил он.— Я в бытовку не постучавшись во-
шел. Теперь вот до самого ужина...
Еще Мазаев любил «проверять фанеру» — бить
молодых в грудь кулаком. Все мы в синяках ходили,
а на Зубе вообще живого места не было.
Это было полтора года назад. А теперь все наобо-
рот: молодым нет покоя от возмужавшего и посуро-
вевшего Зуба.
— Распустились салабоны!—с пенсионерской уг-
рюмостью продолжал Зуб.— Им бы сюда Мазаева,они
бы жизнь узнали!
— Да ладно,— успокоил я.— Елин тебе полночи
«хэбэ» стирал, а ты еще зудишь!
— Ну и что! А сколько я перестирал, сколько пе-
регладил! Теперь его очередь! Ты, Лешка, молодых
жалеешь, как будто сам «сынком» не был,— начал
заводиться ефрейтор. Он бы еще долго нудил про
«борзость» призывников, про пошатнувшееся единст-
во ветеранов батареи, про наступление замполита на
«права стариков», но тут вернулся с шинелью Елин.
— Тебя за атомной войной посылать! —заорал
Зуб.
— Цыплаков забыл, куда ключи спрятал,— обид-
чиво оправдался посыльный и, словно ища поддержки,
посмотрел на меня красными от недосыпания гла-
зами.
— Ладно, свободен,— помиловал ефрейтор и, взяв
шинель, стал устраиваться потеплее.— Если «хэбэ» бу-
дет мокрое — убью! — добродушно зевая, добавил он.
И Елин, который уже почти взгромоздился на свой
ярус, обреченно вздохнул, тяжело спустился вниз и
поплелся в бытовку...
Я снова остался один, на душе было скверно и,
рассматривая синевато-белый потолок, напоминаю-
щий бесчисленными трещинками школьную контур-
ную карту, я постарался вспомнить что-нибудь хоро-
шее. И вспомнил...
Однажды мы поехали с Леной за грибами и, хотя
лес ломился от опят, возвращались совершенно пус-
тые, но с опухшими от поцелуев губами. В электричке
мы рассматривали перегруженных грибников и улы-
бались друг другу. От любви и свежего деревенского
воздуха моя городская голова шла кругом, казалось,
я слышу, как шумит бегущая внутри меня кровь.
103
Потом мы еще долго прощались возле Лениного
подъезда. Прощались так долго, что я проспал на ра-
боту. Между прочим, перед самой армией, после неу-
дачного поступления в институт, я немного поработал
на заводе. После смены мы штурмовали автобус,
останавливавшийся возле проходной, и всем скопом
ехали до метро. Там толпа знакомых попутчиков
уменьшалась, а на первой же пересадке рассеивалась
вовсе. Домой я приезжал один. Это очень похоже на
путь призывника в часть. Сначала вся партия прибы-
ла в округ, и на сборном пункте мы ждали офицеров,
набирающих молодых в свои части. Периодически
возникали разговоры о том, что какой-то старший
лейтенант подбирает ребят для спортроты: кормежка
«от пуза», никаких нарядов, знай тренируйся! Пока
шла прикидка своих спортивных возможностей и пу-
тем самовзвинчиваНия полученный давным-давно тре-
тий юношеский разряд превращался в первый муж-
ской, выяснялось: искатель чемпионов уже набрал
команду и уехал. Потом то же самое повторялось с
художниками, танцорами и т. д.
До места назначения мы с Жориком шли нераз-
лучно и уже строили планы совместной службы, как
в самый последний момент судьба легким движением
руки разрушила все наши надежды: я попал в арт-
полк, Жорик — в дивизионную типографию.
Часа в три ночи мы въехали в ворота части, и сра-
зу же нас отправили в баню — «смывать граждан-
ские грехи», а потом, когда мы застилали койки, в ка-
зарму зашел полусонный, в накинутой поверх белья
шинели, младший сержант.
— Из Саратова есть кто-нибудь? — поинтересо-
вался он. t
Никто не ответил.
— ^Калко! В третьей партии ни одного земляка
нет,— расстроился гость.— Ладно, спите пока. Завтра
службу узнаете!
Позже я заметил, что в армии у ребят всегда обо-
стряется почти исчезнувшее на гражданке чувство
землячества. Земляк, по-солдатски «зема»,— это
близкий человек. Иногда встретишь на учениях парня
из неведомой подмосковной деревни Алехново и смот-
ришь да него так, будто всю жизнь прожил с ним на
одной лестничной площадке. Редкий старослужащий
104
обидит своего молодого земляка, а уж если вы одного
призыва, да еще с одной партией приехали — тут уже
дружба на всю жизнь! >
На следующий день, как и обещал саратовец, мы
узнали службу, потому что началась школа молодого
бойца. Не забуду, как умирал во время первого крос-
са, как на перекладине мог изобразить только одно
упражнение, которое прапорщик Высовень назвал «в
лапах садиста». А строевая подготовка! Все время за-
бывался и терял ногу, не понимал, зачем по команде
«Карантин!» нужно отбивать ноги о брусчатку. Не по-
нимал лишь до тех пор, пока все пятьдесят пар сапог
не загрохотали как бы одним гулким и тяжелым ша-
гом, летевшим, отражаясь от стен, по всему городку.
А строевые песни! Их не поют, а кричат, и особая пре-
лесть заключается в том, чтобы, поравнявшись с ка-
рантином другого дивизиона, перекрыть их слабую
песню могучими раскатами нашей. Временами, если
не вдумываться в слова, охватывало даже какое-то
умильное и торжественное настроение, и, сам не заме-
чая того, я пел на пределе своих голосовых связок.
Майор Осокин проводил индивидуальные беседы с
молодыми воинами и предупреждал между прочим:
если кто-нибудь из старослужащих будет отбирать
личные вещи или обмундирование, заставлять что-ли-
бо делать не по уставу — срочно, в любое время су-
ток, докладывать ему. А ночью, после отбоя, настав-
ления замполита комментировал рядовой Мазаев. Он
объяснил, что Осокин может лепить все что угодно —
ему за это деньги платят и пенсию к сорока пяти го-
дам дают. А мы — «сынки»,— если хотим нормальной
службы и счастливого возвращения домой, обязаны
слушаться «стариков» и жить по незыблемым зако-
нам казармы, ибо армия — это не гражданка... В ар-
мии свои законы: год тебя дрючат, год ты дрючишь!
Но это я уже и сам понял. Новая жизнь навали-
лась, словно внезапная болезнь. Постоянно хотелось
спать или есть, преследовал страх сделать что-то не
так1. И мои первые послания домой (обязательно пере-
читаю, когда вернусь) были полны такой безысходно-
сти, что испуганная мама собиралась даже написать
гневное письмо командиру части, о чем и сообщила
мне. Страх перед таким позором сразу же подавил не-
обходимость поплакаться. В письмах к Лене я старал-
105
ся выглядеть эдаким отданным в солдаты поэтом, тем
более что во мне с новой, какой-то болезненной силой
вспыхнула остывшая еще в девятом классе страсть к
стихоплетству. В голове заерзали рифмованные
строчки, вроде таких:
Если у тебя на сердце грусть,
Помечтай про то,
как я вернусь.
Но самое ужасное, что эти стихи я посылал Лене.
И еще в письмах к ней я канючил новую фотографию,
старую, кто-то свистнул, как мне объяснили, для дем-
бельского альбома.
Еще очень хорошо помню, как впервые нас повез-
ли на стрельбище. Я трясся в кузове, сжимая коленя-
ми ребристый рожок АКМ, который перед этим неод-
нократно разбирал и чистил, причем после сборки у
меня постоянно оставалась какая-нибудь лишняя де-
таль. И вот, наконец, я улегся на брезент, раскинув
для упора ноги, поймал в прицел движущуюся ми-
шень и, как мне казалось, очень Плавно (на самом де-
ле очень резко) нажал спусковой крючок. Автомат тя-
жело задергался в руках и заходил из стороны в сто-
рону. В тире я всегда бил зверей без промаха, не
мазал и на игровом автомате «Охота в джунглях», по-
этому был совершенно уверен, что сейчас изумлю ре-
бят и офицеров своей меткостью. Но поразить мне ни-
кого не удалось, так же, как не удалось поразить ни
одной мишени, зато чувство уважения к оружию, жи-
вущее в душе каждого мужчины с детства, было удов-
летворено.
— Рядовой Купряшин стрельбу закончил! — гор-
до сообщил я, поднимаясь с брезента и неловко на-
правляя ствол прямо в грудь старшему лейтенанту
Уварову, в ту пору начальнику карантина. Он спокой-
но и немного брезгливо отвел автомат в сторону, по-
качал головой и процедил сквозь зубы:
— Защитничек...
А потом был день принятия присяги. Руки стыли
на ледяном металле АКМа. У стола, покрытого крас-
ным, стояли офицеры дивизиона, майор Осокин вы-
крикивал фамилии молодых солдат. Когда, наконец,
подошла моя очередь, я, ужасаясь сделать что-то не-
правильно, заученными шагами вышел из строя; сжи-
мая одной рукой приклад автомата, другой взял пап-
106
ку, куда был вложен текст присяги, и тоненьким от
волнения голосом начал читать: «Я, гражданин Сою-
за Советских Социалистических Республик, вступая в
ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торже-
ственно клянусь быть честным, храбрым, дисциплини-
рованным, бдительным воином, строго хранить воен-
ную и государственную тайну, беспрекословно выпол-
нять все воинские уставы и приказы командиров и на-
чальников...» Дойдя до строк «если же я нарушу эту
мою торжественную клятву...», голос мой вдруг стал
таким угрожающим, что офицеры тонко перегляну-
лись, а старший лейтенант Уваров улыбнулся... Труд-
нее всего оказалось расписаться под присягой: негну-
щимися пальцами я взял ручку и поставил непонят-
ный крючок. Когда присягу принял последний из
молодых, карантин влился в общий строй и перестал
существовать. Парадным шагом мы отправились на
праздничный обед.
— Теперь ты настоящий солдат! — отечески хлоп-
нул меня по плечу Мазаев.— Вешайся!
Иногда мне казалось, что все происходящее со
мной — это словно бы кинофильм: вот сейчас, как
иногда делают режиссеры, замелькают кадры —
осень, зима, весна, лето... И появится титр: «Прошло
два года». А вот следующий кадр: я звоню в дверь на-
шей квартиры, прислушиваюсь к шагам в прихожей,
обнимаю ликующих родителей и, не снимая шинели,
бросаюсь к телефону, набираю номер Лены и кричу
натужно-приглушенным голосом, словно звоню изда-
лека при отвратительной слышимости: «Здравствуй!
Как ты там?..» И Лена громко, стараясь перекричать
мнимые помехи, отвечает: «Нормально... У нас все
нормально. Откуда ты? Когда вас отпустят?!» — «Че-
рез пять минут!» — отвечаю я чистым, громким голо-
сом, слетаю вниз, хватаю такси и мчусь к ней!..
Ну вот, довспоминался. Скорей бы подъем! Уснул
там, что ли, дневальный?..
4
.„Наконец замполит останавливается и громко спра-
шивает:
— Кто видел рядового Елина после шестнадцати
часов?
107
Я чувствую, как рядом вздрагивает и напрягается
Зуб.
По шеренгам пробегает легкое жужжание: каж-
дый прокручивает полученную информацию на своем
коротко остриженном и покрытом пилоткой персо-
нальном компьютере.
Из темноты появляется библиотечный кот Кеша,
хвост он держит строго перпендикулярно. Желтые
глаза с узкими, точно прорези прицелов, зрачками
смотрят на нас сочувственно. Очевидно, поняв, что
появился не вовремя, котофей трясет лапкой, дела-
ет уставной развброт- и покидает наш батарейный
плац.
— Не хорошая примета! — шепчет Шарипов.—
Ядрить тебя налево!
Мы осознали серьезность ситуации и ждем про-
должения.
— Хорошо,— хрипло говорит майор Осокин, хотя
всем ясно, что ничего хорошего ни в вопросе, ни в от-
ветном молчании нет.— Хорошо. Сообщал ли кому-
нибудь рядовой Елин о намерении покинуть располо-
жение части?
Майор смотрит прямо на меня, а комбат Уваров
наклоняется к старшине и показывает глазами в сто-
рону Зуба. Прапорщик Высовень очень характерно
артикулирует губами.
Зуб ежится, делает попытку расстегнуть воротник
гимнастерки, но вовремя спохватывается и снова
встает по стойке «смирно».
— Ну что, силовик-наставник, доэкспериментиро-
вался?—очень тихо и очень зло интересуется Чер-
нецкий.
— Достукались, дятлы,— соглашается Шарипов.
— Тихо! Потом будем разбираться! — шепчет сер-
жант Титаренко.
Я чувствую плечом, как Зуба начинает колотить
дрожь.
— Хорошо,— снова повторяет замполит и дергает
головой,— значит, никто ничего не знает. Пропал сол-
дат — и никто ничего не знает! Хорошо-о...
В это время к отцам командирам подбегает запы-
хавшийся лейтенант Косулич, наш взводный. Он не-
давно из учйлища, краснеет, как девушка, носит очки
108
в золотой оправе и вопреки суровой армейской дей-
ствительности старается выражаться литературно. Не
добежав нескольких шагов до замполита, он перехо-
дит на старательный строевой шаг, набирает в грудь
воздуха для доклада, но Осокин сердитым взмахом
руки останавливает его и кивает на место рядом с
собой.
— Слушай мою команду,— возвещает замполит,
и эхо долго плутает между казармами, складами, ан-
гарами.— Первый взвод прочесывает городок и авто-
парк. Особое внимание обратить на подвалы и ремон-
тные ямы. Старший —лейтенант Косулич...
Косулич облизывает румяные губы и поправляет
очки.
— Второй взвод,— откашлявшись, продолжает
майор,— прочесывает полигон. Особое внимание об-
ратить на рощу. Старший — прапорщик Высовень.
Общий сбор возле блиндажа. Докладывать через
каждые двадцать минут. Выполняйте!
Строй рассыпается. Комбат Уваров сердито и рас-
терянно оглядывается на замполита. И тут я слышу
слова:
— Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне!..
* * * ♦
Нет, дневальный не уснул, и вчерашний знаменатель-
ный день начался точно так же, как и большинство из
шестисот восемнадцати дней моей солдатской служ-
бы. Раздался топот,, распахнулась дверь, вбежал
Цыпленок и, набрав полные легкие спертого казар-
менного воздуха завопил: «Батарея, подъем!» На
мгновение все замерли, ожидая, не последует ли даль-
ше многообещающее слово «тревога». Нет. Значит,
наступил обыкновенный армейский день.
С верхних коек с грохотом ссыпались молодые. По
неписанному казарменному уставу в их задачу вхо-
дит: подмести и прибрать помещение, натереть до
блеска пол, заправить свои, а также «стариковские»
койки. Хитренький Малик побежал к дверям и встал
на стремя, чтобы до прихода старшины ветераны ба-
тареи могли еще подремать.
Эти пятнадцать — двадцать минут полусонного
счастья — наша генетическая память о тех сладко-ле-
109
нивых домашних выходных днях, когда ты лежишь
в дурманящей нерешительности перед необходимо-
стью совершить выбор между запахом яичницы с вет-
чиной и женственным теплом постели... Но об этом ни
слова!
Кроме дозорного Малика, наш заслуженный покой
охраняет еще Цыпленок. «На тумбочке» он всегда
стоит с таким видом, точно позирует для воениздатов-
ского плаката «Враг не пройдет — граница на зам-
ке!». А на самом деле толку от него никакого: все
свои силы он вложил в производство потомства и
ослабел голосом. Мертвый чихнет и то громче, как
говорит старшина Высовень.
Кстати, старшина рассказывал, что три года на-
зад в батарее был солдат-сибиряк, будивший криком
чуть ли не весь городок. Умение кричать приходит не
сразу: учась этому искусству, я в свое время чуть не
сорвал голос, но зато теперь в случае чего могу гарк-
нуть так, что у самого уши закладывает. В армии,
между прочим, все продумано, и забота о развитии
голосовых связок молодого пополнения — тоже не
блажь. .Допустим, в неуставное время, как ветеран
батареи, классный специалист и отличник всевозмож-
ных подготовок, ты прилег отдохнуть в койку, слегка
закемарил, а в казарму нагрянул комбат. Только он
на порог, а тут как из пушки: «Товарищ старший лей-
тенант...» Морщась от раскатов рапорта, он узнает,
что за время дежурства ефрейтора Стремина в бата-
рее ровным счетом ничего не случилось. И к тому мо-
менту, когда старлей заглядывает в казарму, ты со-
средоточенно рассматриваешь, сидя на уставном та-
бурете, солдатское евангелие — тетрадь для политза-
нятий. А на вопрос, почему занимаешься в спальном
помещении, задумчиво отвечаешь, что-де зашел за
тетрадкой, но вот зачитался последней его, товарища
Уварова, политбеседой.
Так бывает, но пока дневальный молчит, и можно
спокойно воспользоваться самым приятным, на мой
взгляд, «стариковским» правом — полежать в теплой
постели после подъема, сквозь полудрему следя за
жизнью пробудившейся казармы.
— Е-елин! — раздался недовольный голос..
Это снова проснулся Зуб.
— Где Елин? — не унимался ефрейтор.
по
— В бытовке «хэбэ» гладит,— доложил Малик,
посвященный в драматическую историю зубовского
обмундирования.
— Позови быстро!
Преданно взглянув на сурового «старика» печаль-
ными черными глазами, Малик помчался выполнять
приказ и вскоре воротился с победой, неся на вытяну-
тых руках чистенькое «хэбэ», причем возникло такое
ощущение, будто именно он, Малик, всю ночь, не смы-
кая глаз, стирал и гладил, радостно представляя се-
бе, как суровый, но справедливый Зуб на «сто дней»
вырядится во все чистое. Следом приплелся Елин, у
него бледное веснушчатое лицо, голубые глаза, оби-
женные губы и странное имя — Серафим. Кажется,
он единственный из пополнения никак не привыкнет
к временной утрате шевелюры и на коварный совет
причесаться перед поверкой неизменно начинает су-
етливо искать по карманам расческу. И еще: по моим
наблюдениям, он болезненнее других воспринимает
взаимоотношения между молодыми и «стариками»,
может быть, потому, что перед армией работал пио-
нервожатым (лучше бы помалкивал!) и привык руко-
водить.
Зуб невзлюбил Елина с первого взгляда, со дня
прибытия пополнения, когда бывший вожак красно-
галстучной детворы вошел в казарму не постучав-
шись, что недопустимо для воспитанного «салаги».
Вообще я замечал, люди резко делятся на две катего-
рии: одни не могут жи!ъ без любви, другие—без не-
нависти; и те, и другие мучаются, если не встречают
человека, достойного того, чтобы вылить на него все,
накопившееся в душе. Зуб такого человека нашел, и
мои попытки заступиться за Елина наталкивались на
чугунный ответ: «Ничего. Пусть жизнь узнает. Ему
положено!»
Слова «положено» и «не положено» определяют
очень многое. Мне, к примеру, не положено спать во
втором ярусе, а только—внизу. Зуб из-за этого меня
буквально загрыз: я, видите ли, вношу путаницу в
строгую армейскую иерархию. Но мне наверху нра-
вится больше. Во-первых, теплее зимой, во-вторых,
над тобой чистый, готовый в красках изобразить лю-
бую мечту потолок, а не скрипучая продавленная сет-
ка, в-третьих, с верхней полки, как с НП, видна вся
111
казарма. Видно, как крутятся в тяжелом танце, нати-
рая суконками половицы, молодые, а рядовой Шари-
пов, лежа на койке, задумчиво поучает:
— Трите так, чтоб гор-рэло! Распротак вас*всех1
Видно, как заискивающий Малик поднес свежевы-
глаженное «хэбэ» скривившемуся Зубу: наверное,
манжеты все-таки влажные. Видно, как, потупив-
шись, орудует шваброй нескладный Елин. У него вид
классического «сынка»: устало-беспомощное лицо,
опущенные плечи, огромный — на три размера боль-
ше— китель, а голенища сапог настолько широкие,
что ноги похожи на пестики в ступах. Елин почти все-
гда молчит, но как-то несогласно молчит, со скрытым
протестом, что ли... Это и бесит Зуба больше всего.
— Елин! Сюда иди! — скомандовал Зуб.— Сколь-
ко дней до приказа осталось?
— Сто.
— А до первой партии? ,
— Сто двадцать девять,— без запинки ответил
Елин. Позавчера он замялся, и я с трудоМ успокоил
разбушевавшегося Зуба. Но сегодня ефрейтор удов-
летворен ответом, даже на лице появилось нечто, на-
поминающее улыбку, и все-таки отвязаться от него не
так-то просто:
— Принеси иголку.
Елин достал из-за отворота пилотки иглу с белой
ниткой, а Зуб тем временем вынул из кармана малень-
кий календарик с аэрофлотской блондинкой. У лю-
бого'‘солдата имеются такие календарики, каждое ут-
ро протыкается очередное число, и если поглядеть на
свет, то по количеству светлых точек становится ясно,
сколько дней прошло, а значит — сколько осталось до
дома. Мой календарик уже напоминает мелкую
терку.
Зуб, победоносно кряхтя, проткнул новый день и
снова впился в Елина:
— Койку заправь. Две минуты. Время пошло!
Заправить койку по-военному не так-то просто.
Штука заключается в том, чтобы одеяло было натяну-
то ровно, будто доска. Но этого мало, по краям одеяло
«отбивается», то есть его подвернутые края должны
выглядеть, как торцевые стороны широкой, ровно от-
пиленной доски. «Отбивка» наводится при помощи та-
бурета и ребра ладони. Я и сам намучился, пока осва-
112
ивал технологию. Сначала «отбивка» казалась мне
жутким идиотизмом и, сохранив это убеждение в це-
лом по сей день, я все же должен признаться: если
войти в казарму, где в ряд выстроились заправлен-
ные, с параллельными стрелками койки, а подушки
взбиты и туго обтянуты наволочками, да при этом
«гор-рыт» натертый суконками пол — впечатление
внушительное...
— Разве так заправляют, чудила! — Зуб раздра-
женно перевернул неумело убранную постель — плод
стараний Елина.— Смотри и учись, Павлик Морозов!
Зуб ловко натянул одеяло, лихо взбил подушку,
молниеносно навел стрелки.
— Ровно минута! — полюбовался он своей дейст-
вительно мастерской работой и снова перевернул по-
стель.— Заправишь свою, а потом мою — для трени-
ровки. Время пошло. Ну...
— Не буду,— чуть слышно проговорил Елин.
— Что?!
— Я вообще не понимаю, зачем это нужно...
— Что?! Что ты сказал?! А тебе и не нужно пони-
мать, понял? Положено так. По-ло-же-но! — и Зуб
схватив страстотерпца за ворот хэбэ, встряхнул с та-
кой силой, что пуговицы градом застучали по полу.
— Я из тебя борзость-то вытрясу! Понял? Понял?
Но Елин только помотал головой.
Во время инцидента работа в казарме останови
лась: молодые с безысходным сочувствием (лишь Ма-
лик с деланным осуждением) следили за подавлением
бунта на корабле, но^ разумеется, никто и не подумал
заступиться за однопризывника — не положено
А ведь только один замерший со шваброй в руках
двухметровый Аболтынын, занимавшийся на граж-
данке греблей, мог бы хорошим ударом красного, в
цыпках и трещинах, кулака вбить Зуба в пол по уши;
И случись Эвалду защищать того же Елина от какого-
нибудь чужака, он бы так и сделал. Но поднять руку
на своего «старика» невозможно, хотя иной раз на-
до бы.
У «стариков» реакция на происходящее неодно-
значная: с одной стороны, их возмущает непокорность
«борзого салаги», с другой, раздражает настырная
жестокость однопризывника.
113
А Зуб крепко держал Елина за ворот изуродован-
ного кителя и, судя по выражению лица, прицеливал-
ся, куда бы определить завершающую затрещину.
— Зуб, ну почему от тебя столько шума? — вдруг
раздался утомленный голос Валеры Чернецкого.—
Заколебал ты своей силовой педагогикой!
— Ничего, пусть жизнь узнает!—с клинической
убежденностью огрызнулся Зуб.
Сколько раз я давал себе слово не вмешиваться
в его игры, но это выше моих сил.
— Отпусти парня!—ласково попросил я преры-
вистым от наигранного спокойствия голосом и спрыг-
нул со своего второго яруса. Зуб повернул в мою сто-
рону удивленную поросячью физиономию;
— Не понял!
— Вырастешь, Саша, поймешь! Отпусти его!
По казарме прокатился ропот удивления, который
в театре достигается тем, что все начинают одновре-
менно произносить одно и то же слово, например, «во-
семьдесят девять». Но здесь ропот натуральный: «ста-
рики», да еще из одного расчета, ссорятся из-за «са-
лаги». Невероятно! Зуб напряг свою единственную
извилину, чтобы отбрить меня какой-нибудь язвитель-
ной шуточкой, но слова бывают иногда тяжелее, чем
траки, каковыми ефрейтор качает бицепсы к дем-
белю...
— Смирно! — вдруг раздался вполне приличный
вопль дневального Цыпленка, тут же подхваченный
старательным Маликом. В казарме произошла мгно-
венная перегруппировка: молодые принялись усердно
наяривать пол, остальные катапультировались из ко-
ек и начали стремительно одеваться. Елин полез под
кровать собирать раскатившиеся пуговицы. Никаких
следов! Офицеров случившееся не касается.
В казарму стремительно вошел своевременно об-
наруженный старшина Высовень и, обведя полуоде-
тый солдатский коллектив памятливым взглядом, со
словами «сгною на кухне» выгнал личный состав де-
вятой батареи самоходных артиллерийских установок
на зарядку. А замешкавшемуся заряжающему из
башни рядовому Купряшину вытянул жесткой отече-
ской ладонью по мыслительной части, туго обтянутой
сатиновыми трусами.
114
5
...Строй рассыпается. Комбат Уваров сердито и рас-
терянно оглядывается на замполита. И тут я слышу
слова:
— Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне!
Это скомандовал майор Осокин.
Следом за офицерами мы возвращаемся в казар-
му. За окном ребята разбираются повзводно и порас-
четно, обсуждая, кому где искать. Доносится голос
старшины Высовеня:
— Ну что, чэпэшники, допрыгались? Замордовали
парня...
Комбат Уваров, играя желваками, снова терзает
свою фуражку.
Майор Осокин медленно обводит Зуба взглядом
и брезгливо спрашивает:
— Так что у вас произошло с рядовым Елиным?
Зуб молча сопит в ответ. Возможно, вопрос обра-
щен и ко мне, но я тоже помалкиваю. А что говорить?
Виноват, хотел предотвратить, встал грудью, но силе-
нок не хватило, не получилось... А что получилось?
Пропал солдат. Такое бывает: обиделся и просто убе-
жал куда глаза глядят, а если не убежал...
— Что произошло? Я вас спрашиваю, ефрейтор
Зубов?! — угрожающе повторяет замполит.
— Мы с ним поссорились...— вдруг как-то по-дет-
садовски взблеивает Зуб.
Комбат Уваров судорожно кривит рот и отворачи-
вается.
— Поссорились...— горько передразнивает май-
ор.— С таким бугаем поссоришься! За что ты его из-
бил?
— Нет... Я только...
— Хватит!—обрывает Осокин.— Слушай меня,
Зубов, внимательно: всю округу носом вспашешь,
а Елина мне найдешь! Упаси бог, с ним что-нибудь
случится! Ты меня понял?
— П-понял! — часто кивает совершенно раскис-
ший борец за «стариковские» права.
— Иди!
Зуб неуверенно отдает честь, поворачивается, чуть
не потеряв равновесие, а из казармы выскакивает уж
как-то боком.
115
— Эх, Купряшин, Купряшин,— переключается
замполит на меня.—Д я-то думал» ты друзей в обиду
не даешь... Куда мог пойти Елин? Земляки у него в
других батареях есть?
— Кажется, нет...
— С Зубовым ты из-за него дрался?
— Из-за него,— соглашаюсь я, лишний раз убе-
дившись, что сбор информации у майора Осокина по-
ставлен грамотно.
— Почему ко мне не пришел? — строго спрашива-
ет замполит, хотя сам перестал бы меня уважать,
прибеги я к нему с весточкой в зубах.
— Не успел,— вздохнув, отвечаю я.
— Не успел... Теперь, если что, всю жизнь будешь
лркти кусать! Не успе-ел... Иди, догоняй своих...
Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров
глухо обращается к замполиту:
— Товарищ майор, разрешите...
t — Не разрешаю! — зло обрывает Осокин.
* * *
Это на гражданке физкультура и спорт — твои лич-
ные трудности, а в армии это — важная часть служ-
бы, большое общегосударственное дело. Поэтому
каждое утро над городком повисает топот сотен бегу-
щих ног во всех направлениях — повзводно — ребята
спешат на зарядку. Все эти ручейки, словно огромный
темный водоворот, втягивает в себя полковой плац, по
которому каждый день мы делаем несколько кругов.
Те, кто посильнее, бегут по самому краю, где брусчат-
ка переходит в асфальт, слабые, облегчая себе жизнь,
держатся ближе к середине, и кажется, будто их затя-
гивает водоворотом. Получив реактивное ускорение от
могучей десницы старшины Высовеня, я полетел на
зарядку.
...На этом плацу я когда-то задыхался после пер-
вого же круга, а подталкивающий меня в спину сер-
жант Чаругин поучал: «Не придуривайся! Это тебе не
марш-бросок». И действительно, не будь ежедневных
пробежек, первого марш-броска я бы не пережил:
просто сердце взорвалось бы, как граната. Помню,
перед самой командой «Вперед!», когда в .последний
раз пробуешь плечами тяжесть полной выкладки, кто-
116
то сунул мне в руки каску — мол, на минуту, подер-
жать. И тут всё рванули... Я, как идиот, бежал, зады-
хаясь, с двумя касками и думал только о том, чтобы
добежать и шарахнуть с размаху хитреца, облегчив-
шего себе жизнь за мой счет, но о том, что каску мож-
но просто-напросто бросить, я как-то не подумал...
Сделав нужное количество кругов по плацу, боко-
вой дорожкой мы направились в спортгородок, где
под командой неумолимого Зуба молодые стали нара-
щивать мускулатуру и качать прессы, а «старики»
разбрелись по любимым снарядам. Шарипов с гика-
ньем делал на перекладине «солнышко», здоровенный
Титаренко жонглировал траками, Чернецкий изобра-
жал грациозные пируэты некой восточной борьбы, а
я, лениво пробежав полосу препятствий, остановил
свой выбор на яме с песком, где меня и настигла за-
думчивость. А поразмышлять было о чем: конечно,
я сделал ошибку, при всех связавшись с Зубом из-за
Елина, нужно было поговорить потом, с глазу на глаз.
И вообще, вся эта история мне не нравилась еще и по-
тому, что была продолжением моих личных неприят-
ностей и переживаний, ознаменовавших первый год
службы. Помню, когда собирался в армию, больше
всего боялся разных физических испытаний: думал,
вот забуду открывать рот во время залпа и лишусь
слуха или не выдержу того же марш-броска. Но бег
с полной выкладкой меня не убил, рот открывать я не
забывал. Самым тяжелым оказалось совсем другое...
Заместителем начальника карантина у нас был
сержант Чаругин, которого за глаза называли «удар-
ником». Мы сначала рещили, что до призыва он по-
просту играл в каком-нибудь самодеятельном ВИА,
но потом выяснилось: до армии сержант работал рас-
точником на Абаканвагонмаше, был бригадиром,
ударником труда, депутатом, делегатом, ну и все
остальное! В армии Чаругин быстро стал отличником
и классным специалистом, без него не обходилось ни
одно соревнование артрасчетов ни в дивизии, ни в
округе. Я сам видел: он и его ребята раскладывали
гаубицу «к бою» с такой скоростью, что закурить не
успеешь. А в карантин его назначили потому, что Ча-
ругин никогда не делал различий между молодыми
и старослужащими, отличаясь той обдуманной спра-
ведливостью, которая в армии важней всего. Со мной
117
же он особенно много возился, может быть, потому,
что тЪже хотел поступать на исторический и расспра-
шивал, какие там экзамены, трудно ли писать сочине-
ний и как лучше запоминать даты. Когда разговор
заходил о дальнейшей службе, сержант успокаивал:
— Ничего, Купряшин, в моем расчете будешь слу-
жить! У нас в батарее ребята хорошие...
Ребята, наверное, везде хорошие, а вот порядки
разные! К такому выводу я пришел довольно скоро,
потому что волей кадровиков попал не в патриархаль-
но-тягловую первую батарею, а в шестую самоход-
ную, о которой уже в карантине шли разговоры, что
молодым там трудно.
— Угораздило тебя, Леха! — покачал головой Ча-
ругин, узнав, куда меня определили.— Ну, не рас-
страивайся, я поговорю!
И он действительно приходил ко мне в батарею,
предупреждал «стариков», чтобы не трогали, но, по-
моему, только сильнее разозлил их. И до сих пор я с
чувством жгучего стыда вспоминаю, как на третий
день, ночью, меня разбудил Мазаев и распорядился
принести ему попить. Я сделал вид, что не понимаю,
и перевернулся на другой бок, но он с сердитой на-
стойчивостью растолкал меня снова и спросил: «Ты
что, сынок, глухой?» И я, воспитанный родителями
в духе самоуважения и независимости, крался по ноч-
ному; городку в накинутой на серое солдатское белье
шинели затем, чтобы принести двадцатилетнему «ста-
рику» компотика, который на кухне для него припа-
сал повар-земляк. Попить я принес, но поклялся в ду-
ше: в следующий раз умру, но унижаться не буду!
«Следующий раз» случился наутро. Мазаев сидел
на койке и, щелкая языком, рассматривал коричне-
вый подворотничок. Потом он подозвал меня и, с от-
вращением оторвав измызганную тряпку, приказал:
«Подошьешь». И так же, как Елин сегодня, я ответил:
«Не буду». И так же, как Елин сегодня, подчинился,
успокаивая свою гордость тем, что так положено,
не я первый, не я последний, нужно узнать жизнь,
придет и мой час, ну и так далее... А ночью с ужасом
проснулся от мысли: если бы Лена увидела, как я
унизился, она сразу бы разлюбила меня.
А Мазаев еще не раз и не два учил меня жизни,
и особенно ему не нравилось то, что я москвич. По-
118
моему, он вообще представлял себе столицу в виде
огромного, рассчитанного на восемь миллионов, спец-
распределителя!
Все случившееся некогда со мной и все, что пере-
живал сегодня Елин, имеет свое официальное назва-
ние— неуставные отношения, неуставняк. Несколько
раз перед строем нам зачитывали приказы о том, как
«кто-то кое-где у нас порой» отправился в дисбат
именно за издевательство над молодыми солдатами.
А весной нас возили на показательный трибунал.
Один из обвиняемых — здоровенный парнюга, пока-
лечивший призывника, после приговора заорал хрип-
лым басом «мама» и зарыдал.
После отбоя в казарме мы долго обсуждали уви-
денное.
— Пять лет!—стонал Шарипов.— Очертенеть
можно!
— Закон суров, но это закон,— спокойно заметил
Валера Чернецкий, обрабатывая ногти надфилем
И тут* с неожиданной яростью высказался Зуб.
— Из-за какого-то «салабона» человек пропал?
— Да ведь он чуть не убил молодого-то! Бал
да...— удивился невозмутимый Титаренко.
— Распускать «сынков» не надо, тогда и бить не
придется! — разошелся Зуб.— А если бить — так по-
умному...
— Как тебя Мазаев лупил?—простодушно поин-
тересовался я.
— Хотя бы и так! — огрызнулся Зуб и вдруг за
орал: — Цыпленок, свет выключить! Быстро!
И вот почтенный отец семейства, молниеносно со
скочив со второго яруса на пол, строевым шагом по
дошел к выключателю и, согласно сложившемуся ри-
туалу, трогательно попросил:
— Товарищ выключатель, разрешите вас выру-
бить!
Немного подождав, словно электроприбор мог от-
ветить, Цыпленок осторожно погасил свет.
Мне всегда хотелось узнать, что думают о «стари
ковстве» офицеры. И вот как-то я сидел в штабе диви
зиона и по распоряжению комбата чертил боевые гра-
фики, а рядом что-то строчил в тетрадке прилежный
лейтенант Косулич. Честно говоря, сначала мы посме-
ивались над взводным: командовал он таким тоном,
119
точно извинялся за причиняемые неудобства. Но по-
том оказалось, наш тихоня знает технику получше
комбата — такое впечатление сложилось у меня по-
сле тактических занятий и нескольких суббот, прове-
денных вместе с Косуличем в ангарах, возле самохо-
док. А громкий командный голос взводный обязатель-
но выработает: на то у него и погоны со звездами,
а у нас байковые.
— Товарищ лейтенант, давно хотел у вас спро-
сить, да все как-то неудобно...— профессионально ро-
бея, начал я.
— Я вас внимательно слушаю! — отозвался
взводный, который даже к Цыпленку обращался на
«вы».
— Как вы считаете, откуда пошло «стариковст-
во»?
— Неуставные отношения...— встревоженно по-
вторил Косулич.— Вас это интересует в связи с конк-
ретной ситуацией или теоретически?
— Чисто научный интерес! — успокоил я насторо-
жившегося взводного.
— Вы знаете,— посерьезнел он и поправил очеч-
ки,— я тоже часто об этом думаю. Говорят, все нача-
лось после сокращения сроков службы в шестьдесят
седьмом году. Давайте смоделируем: вы служите три
года, а новые призывы — только два!
— Жуть! — возмутился я.
— Не надо драматизировать! — возразил лейте-
нант.
— Конечно, не будем! — согласился я, потому что
офицер, изначально заряженный на двадцать пять
лет, никогда не поймет, что значит для солдата про-
служить лишний год!
— Но обстоятельства сложились так,— продол-
жал взводный,— что «трехлетки» стали срывать зло
на «двухлетках»... А дальше нечто вроде цепной ре-
акции...
— Я свое огреб, а теперь ты получи! — подска-
зал я.
— Примерно...— согласился лейтенант.— Но я
думаю, что тут дело посложней. Начнем с того, что
разделение на возрастные касты было во все времена
характерно для замкнутых коллективов, каковыми яв-
ляются не только армейские подразделения. Так, в
120
пажеском корпусе перед революцией бытовала жесто-
кая шутка: старший воспитанник подходил к младше-
му и спрашивал: «Каково расстояние от меня до те-
бя?» — «Аршин...» — отвечал молодой.— «А каково
расстояние от тебя до меня?» — снова спрашивал эк-
заменатор. «Оно настолько велико, что не поддается
измерению!» — должен был ответить тот, в противном
случае его ждало жестокое наказание...
— И ничего нельзя сделать?
— Почему нельзя! Раньше куда хуже было, а те-
перь за это взялись. Но понимаете, Купряшин, тот же
комбат ведь командует батареей, а не вашими отно-
шениями. Вот где сложность! Нужно, чтобы воины са-
ми прониклись... Понимаете?! Поэтому давайте-ка
проведем комсомольское собрание с повесткой «Ар-
мейский комсомол — воспитатель молодого пополне-,
ния». Попросим замполита выступить, корреспонден-
та из «дивизионки» позовем... Договорились? И вы
выступите как член бюро батареи. Значит, я в план
включаю? — и Косулич полез в стол за красиво офор-
мленной папкой...
Собрание мы, разумеется, провели, а в «Отваге»
о нем поместили заметочку под названием «Мужской
разговор». Дело было-так: мы с песней подошли к ка-
зарме, по команде старшины Высовеня забежали в
ленкомнату и расселись. Избрали в президиум Осоки-
на, Уварова, Косулича и поручили вести собрание не-
давно пришедшему из учебки младшему сержанту
Хитруку, который и на полигоне-то ни разу не был,
а постоянно курсировал между штабом и клубом. За-
то ночевать он приходил в батарею, поэтому отлично
понимал, что значит его сомнительное сержантское
звание в сравнении с высоким титулом «старика».
Хитрук что-то замямлил, опасливо поглядывая в сто^
рону ветеранов батареи, устроившихся на «Камчат-
ке», но они с нарочитым одобрением захлопали, и
младший сержант с облегчением передал слово май-
ору Осокину.
Замполит хорошо говорил об отдельных фактах не-
уважительного отношения к молодежи, о совсем уж
единичных случаях издевательства над призывника-
ми. Он подчеркнул, что эти негативные явления, в
принципе не свойственные нашей армии, серьезно
сказываются на боевой и политической подготовке
121
личного состава, подрывают атмосферу товарищества
в подразделениях — поэтому с ними нужно бороться
всем жаром комсомольских сердец, активно прибегая
как к критике, так и к самокритике...
Лейтенант Косулич ловил каждое слово замполита
и даже что-то записывал в блокнот, а комбат равно-
душно пересчитывал награды на мундирах наших от-
цов-маршалов, чьи портреты теснились на стене. Нео-
жиданно слово попросил Валера Чернецкий, встал,
раскланялся, точно конферансье, и начал:
— Товарищ майор, если не ошибаюсь, везде у нас
пишут о наставничестве. Так?
— Так.
— Должен опытный воин наставлять призывни-
ков?
— Должен.
— А опыт закрепляется как? На практике. Зна-
чит, чем больше «салабон»... простите... чем больше
молодой воин сделает, тем быстрее освоится, перей-
мет опыт. Правильно?
— Н-ну, правильно...— насторожился Осокин.
— Ну, а раз правильно, то это никакие не изде-
вательства, а обыкновенное наставничество. И луч-
ших «стариков»-наставников нужно даже поощрять!
Я вот, например, еще ни разу в отпуску не был. Пра-
вильно?
В ленкомнате раздалось одобрительное хихиканье,
Косулич сокрушенно покачал головой, младший сер-
жант Хитрук помертвел, а комбат Уваров нехотя
улыбнулся.
— Нет, неправильно!—дернув головой, сердито
ответил замполит.— Во-первых, ты забыл, год назад
жаловался, что у тебя старослужащие деньги отбира-
ют. Было? Молчишь? Ну-ну... А, во-вторых, в Воору-
женные Силы вас, товарищ рядовой, призвали не пе-
дагогические таланты выказывать, а Родину защи-
щать! Без армии нет Родины, а без дисциплины нет
армии! И ничто так не разъедает дисциплину, как
неуставные отношения!
— Товарищ майор, это же просто красивая тради-
ция! — начал оправдываться Валера.— Так время
быстрей идет, веселее...
— Нет, Чернецкий, это не забавная традиция, не
веселая игра... Это ржавчина, разъедающая армию
122
изнутри! Ведь не дай бог что-то случится — в бой вы.
пойДеТе все: и молодые, и «старики» сопливые... На
войне, знаете, наставник тот, кто уцелел. КстаТи^ там
«стариками» и называются те, что выжили.
— Товарищ майор,— спросил я.— А в Афганиста-
не есть «стариковство»?
— Хороший вопрос! В ограниченном континген-
те,— медленно, явно подбирая слова, начал Осокин,—
служат такие же парни, как вы. И непорядков, будем
откровенны, там тоже хватает. Но я хочу рассказать
вам один случай. По-моему, характерный...
Я возвращался домой, в Союз. Мы сидели на аэро-
дроме и ждали самолет. Рядом устроились на чемода-
нах, как сказал бы Чернецкий, «деды»...
— «Дембеля»! — подсказал Валера.— После при-
каза «дембелями» становятся!
— Спасибо за консультацию! — кивнул Осокин и
продолжал.
...Парни сидели на чемоданах' и весело рассужда-
ли о том, кто как проведет свой первый день на граж-
данке. Один срочно хотел бежать к подружке, другой
мечтал встретиться со знакомыми парнями, третий
жаждал врубить стереосистему и целый день проле-
жать на диване. А мощный сержант-сибиряк шумно
рассказывал, какие замечательные пельмени лепит
его мать. Кроме того, доподлинно известно: к возвра-
щению сына она заморозила чуть ли не тысячу штук!
И oiH приглашал всех махнуть прямо к нему — на пель-
мени... Наконец приземлился самолет, загружен-
ный молодыми, еще не обстрелянными ребятами...
«Салагами»,— усмехнувшись, поправился зампо-
лит.— Я не путаю. Чернецкий? Нет? Слава богу...
...Самолет быстро заправился, принял, как гово-
рится, на борт тех, кто возвращался в Союз, и начал
было выруливать на взлетную полосу. И тут стало
известно, что душманы громят кишлак, неподалеку от
аэродрома (совсем обнаглели!) — ив бой решено бро-
сить только-только сошедшую с трапа молодежь!
Сразу. Интернациональный долг! И тогда «старики»
вышли из самолета и сказали: «Не надо! Не на-
до их... Они же еще ничего не умеют — зря ребят
положите. A,Mbi( уж в последний раз тряхнем... ста-
риной!»
123
В этом месте Осокин дернул головой, подошел к
окну и потрогал задвижку.
...Они улетели на следующий день, но не все.
И того парня, которому мать налепила тысячу пель-
меней, его тоже не было...
— Вот, товарищи комсомольцы,— закончил зампо-
лит,— что я хотел рассказать вам о наставничестве.
Ясно?
— Ясно! — кратко и безо всяких подтекстов ото-
звался Чернецкий.— Я, товарищ майор, где-то читал
про этот случай...
Сидевший со мной рядом Зуб тяжко вздохнул и
вытер пилоткой настоящие слезы.
— Не знаю... может, и написал кто...— продол-
жал Осокин.— И вот еще: если что-нибудь узнаю про
ваши «дембельские» художества, виновный, в лучшем
случае, за ворота части выйдет 31 декабря, ровно в
23.59. Это я вам говорю как наставник.
Кстати, угроза майора была вполне реальна. Об-
щеизвестный рядовой Мазаев долго бродил в своей
пушистой шинели по’городку и пропал в самом деле
лишь под Новый год.
Выступая в заключение, младший сержант Хитрук
пел о том, что после такого собрания по-старому жить
невозможно, что, обновляясь со всем народом, мы ка-
леным железом выжжем скверну неуставных отноше-
ний из наших сплоченных рядов, что в эпоху тоталь-
ной борьбы за мир особо важна4 бдительность и бое-
вая готовность...— при этом он с извинением погля-
дывал на «Камчатку», где сидели «старики».
Сначала я тоже хотел выступить на собрании, да-
же несколько дней обдумывал и мысленно произносил
свою речь, суть которой, как я теперь понял, своди-
лась в основном к призыву кота Леопольда: «Ребята,
давайте жить дружно!» В общем, детский лепет на
лужайке! Но когда лейтенант Косулич показал глаза*
ми — мол, сейчас твоя очередь, я так замотал голо-
вой, что чуть не свернул себе шею.
А может быть, зря я отказался. Мы, чтоб жить
спокойно, часто двигаем на трибуны трепачей, вроде
Хитрука, а потом жалуемся, будто вокруг ничего не
меняется, но ведь ничего не делаем, ничего не меняем
мы сами! Потом сидим в яме с песком и размышляем,
почему жизнь устроена так, а не иначе?
124
6
...Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров
глухо обращается к замполиту:
.— Товарищ майор, разрешите...
— Не разрешаю} — обрывает Осокин.
Дрожа от возбуждения, я мчусь в сторону авто-
парка и вскоре нагоняю Зуба. Он курит на ходу, и
ночной ветер высекает искры из его сигареты. Заме-
тив меня, Зуб хочет заговорить, даже поворачивается
в мою сторону, но тут, конечно, вспоминает приговор
ночного суда. Не положено: я ведь теперь снова «са-
лага»! Но блюстителю суровых «стариковских» зако-
нов страшно наедине с мыслями об исчезнувшем Ели-
не,' и он прибавляет шагу ровно настолько,, чтобы не
отстать от меня и одновременно не идти рядом с пре-
зренным парией, между прочим, поощренным недавно
благодарственным письмом на родину.
— Эй, подождите! — из чердачного окна выныри-
вает чья-то голова, раздается грохот на лестнице, и
перед нами возникает Цыпленок. Он тут же сообщает,
что почти все чердаки и подвалы проверены и что в
городке ловить больше нечего, а искать нужно в авто-
парке, где недавно под самоходкой спрятался и уснул
парень из батареи управления, обидившийся на свое-
го старшину.
Может быть, Елин выплакался и тоже дрыхнет
где-нибудь под ракитовым кустом, не зная, какая ка-
ша заварилась из-за него. С молодыми такое бывает.
По пути задыхающимся голосом осведомленный
папа Цыпа рассказывает нам, что, собственно, прои-
зошло. Оказывается, лейтенант Косулич, выполняв-
ший вчера обязанности вождя и учителя кухонного
наряда, заметил, что рядовой Елин не работает, но
сидит в углу, уткнувшись лицом в колени. На вопрос:
«Кто обидел?» Серафим ответил: «Никто».— «Забо-
лел, что ли?»—встревожился добросердечный взвод-
ный. «Да, живот схватывает...» И тогда Косулич от-
правил Елина в санчасть, гуманно рассудив: если за-
болел— вылечат, а если притворяется, то начальник
медслужбы капитан Тонаев быстро мозги вправит...
Цыпленок раздувает ноздри, изображая свирепого
начмеда, и возобновляет рассказ: Елин предупредил
ребят, что только примет лекарство и сразу вернется.
125
В ответ ему горячо порекомендовали в качестве на-
дежного лечебного средства двухведерную клизму.
Елин печально улыбнулся, ушел и не вернулся.
Лейтенант Косулич спохватился только к ужину,
по капитан Тонаев недоуменно пожал плечами: «Не
видел такого! Может быть, фельдшер принял?..» На-
правляясь домой, начмед решил проверить неприкос-
новенность запасов целебного спирта в своей празд-
ничной санчасти, а также спросить о рядовом Елине
из шестой батареи. Оказалось, днем приковылял ка-
кой-то молодой из комендантского взвода: накануне
он неудачно намотал портянки и буквально стесал
пятки во время зарядки. Из шестой батареи никто не
приходил.
Капитан Тонаев удивился, заглянул на склад ме-
дикаментов, дал дежурному фельдшеру по шее и три
наряда вне очереди и позвонил Косуличу. Тот, в свою
очередь, не на шутку перепугался и бросился в разде-
валку проверять, на месте ли обмундирование Елина:
кухонный наряд переодевается в старенькие, засален-
ные «хэбэ».
— Обыскали карманы и, представляете,— Цып-
ленок, чуть не хлопает крыльями,— нашли письмо!
Про несчастную любовь!..
— Значит, письмо нашли?! — вскидывается
Зуб.— А дальше?
л л *
Вернувшись с зарядки, я отправился в бытовку
бриться и обнаружил там Елина, с обреченным видом
он пришивал выдранные пуговицы. Лучшей ситуации
для разговора не придумаешь.
— Послушай, Фима,— начал я задушевным голо-
сом и увидел, как вздрогнул Елин, давно не слышав-
ший своего имени.— Ты особенно не расстраивайся.
Зуб, конечно, заводной парень, но его в свое время
тоже гоняли, особенно Мазаев...— говорил я совер-
шенную чепуху, но остановиться не мог.— Скоро мы
уволимся, полгода «скворцом» побудешь, а там уже
и дембельский альбом готовить надо. Главное, не бе-
ри в голову! Дома-то все в порядке?
По тому, как Елин глубоко вздохнул и промолчал,
я понял, что дома-то как раз не все в порядке. Вычис-
126
лить ситуацию было несложно: мама с папой не раз-
любят и письмо написать не забудут. Если б кто-то
серьезно заболел или, не дай бог, помер,— Елина по
телеграмме отправили бы в краткосрочный отпуск.
А он — здесь, сидит и орудует иголкой. Остается зау-
рядная, но чреватая тяжелыми осложнениями «сала-
жья» болезнь — разочарование в женской преданно-
сти. Ну что же, я прошел через такое и поэтому хи-
рургически точным вопросом коснулся раны:
— Последнее письмо от нее давно получил?
— Месяц назад.
— Подожди, тебе же вчера письмо было!
— Это не от нее.
— Значит, теперь от нее жди!
— От нее больше не будет.
Елин наклонился к гимнастерке перекусить нитку,
и на кителе расплылось мокрое пятнышко.
— Почему не будет? — спросил я, словно не пони-
мая.
И тогда он достал залохматившийся по краям кон-
верт с портретом великого русского физиолога и есте-
ствоиспытателя И. П. Павлова (1849—1936). Я прочи-
тал письмо. Это была обыкновеннейшая армейская
история. Елинская подружка гама написать не реши-
лась, а попросила'их общего друга, на которого этот
балбес, уходя, оставил свою зазнобу. После сбивчи-
вых предисловий — «сердцу, мол, не прикажешь»,
«правда, мол, между товарищами прежде всего», тот
хмырь сообщал, что «давно любит Люсю» и что неде-
лю назад они подали заявку. Вот ведь какой гад!
Нравится — женись, но зачем плевать в душу парня,
который, между прочим, охраняет твой блудливый по-
кой. Мне рассказывали один случай: девчонка писала
до последнего дня: люблю, жду, приезжа'й! Он при-
ехал— здрасьте! У нее давно муж, и ребенок ползает.
Парень, конечно, мужу в торец, ей, я думаю, тоже.
И успокоился. А она ему логично объяснила: «Тебе
и так было тяжело, не хотела расстраивать...» Мо-
жет, случай этот — вранье, но уж коли обманывать —
как та девчонка.
Но Елину я сказал другое:
— Во-первых, Серафим, рубить лучше сразу —
значит не любила. А то, бывает, гуляет со всем мик-
рорайоном и жДет. Знаешь, у девчонок такая теория
127
появилась: главное — верность духовная. Во-вторых,
зема, давай философски. Девчонок тоже в чем-то по-
нять можно. Вот мне одноклассница написала (напи-
сала она не мне, а Чернецкому, но в данном случае
это значения не имело). Ждала парня два года, а он
вернулся и смотреть не хочет: у него, видите ли, за
время службы вкус изменился. А ей куда два года
домашнего ареста девать? Можно ее понять?
— Можно... Правильно ребята еще в карантине
говорили: хочешь спокойной службы — сразу забудь.
Я же чувствовал, что-то у них не так! И на проводах
тоже. Обидно только!
— А мне, думаешь, не обидно было? — сказал я и
осекся. Елин смотрел на меня, ожидая продолжения.
Ну уж нет! — В общем, так,— подытожил я.— Вы-
брось все из головы — этого добра у тебя еще нава-
лом будет! А теперь давай договоримся насчет Зуба.
Я, конечно, с ним потолкую, но и ты старайся не свя-
зываться. Сам понимаешь, «этот мир придуман не
нами...»
— А по-моему, мы сами это свинство придумали
и сами мучаемся,— вдруг выдал бывший пионерский
вожак.— Но я не буду терпеть!
— Ну, и что ты сделаешь?
— Я? Знаю! Вот увидишь! Я... Я...
— Ладно тебе! Я! Я! Спортивная семья... Лучше
скажи, тебя не в честь Шестикрылого Серафима на-
звали?
— Н-нет! — удивился Елин и улыбнулся, обнажив
два заячьих зуба.— Просто у моего дедушки...
Но сколько крыльев было у елинского деда, я так
и не узнал: дверь распахнулась, и в бытовку вошли
замполит Осокин и комбат Уваров. Мы вскочили.
— Вольно. Занимайтесь своим делом,— разрешил
майор и, оглядев бытовку, сказал: —М-да...
Хотя сегодня воскресенье, меня нисколько не уди-
вило появление комбата и замполита: в дни солдат-
ских праздников, таких, как «сто дней», офицеры нс
знают покоя.
Осокин колупнул пальцем штукатурку, попробо-
вал ногой расходившуюся половицу, еще раз оглядел
комнату и остановил глаза на Елине.
— Майский? — спросил он комбата.
— Так точно,— подтвердил Уваров.
128
— Ну, как служба? Привыкаешь? — тепло осве-
домился майор у Серафима.
.— Привыкаю,— промямлил Елин и, почувствовав,
что. ответ прозвучал не по-военному» добавил: — Так
точно! ; .
Вообще, «так точно» и «отставить» удивительно
въедливы. Я» например, замечал, как старшина Высо-
вень, начав что-то делать неверно и заметив это, сам
себе командует вполголоса: «Отставить!»
— Дай-ка сюда! — неожиданно потребовал зам-
полит, протянув руку к хэбэ.— Кто же это тебе все
пуговицы с мясом выдрал?
Наступила тишина, нарушаемая только глухим то-
потом, доносившимся со второго этажа.
г- Я вас спрашиваю, товарищ рядовой!
Елин стоял, опустив голову, и крутил в пальцах
непришитые пуговицы.
— Купряшин,— дошла очередь до меня,— что
здесь произошло?
Я понимал, что нужно оперативно соврать: ну, за-
цепился и так далее. Но выгораживать Зуба мне не
хотелось, ей-богу, стоило бы поглядеть, как он будет
извиваться перед замполитом, потому что ефрейтор
такой храбрый только с молодыми, и то не со всеми:
здорового Аболтыньша он, например, старается не
«напрягать». Подумав так, я открыл рот и ответил:
— Не знаю, товарищ майор.
— Кто командир расчета? — Осокин дернул голо-
вой и повернулся к комбату.
— Сержант Титаренко.
— Это там, где Зубов? — что-то припоминая,
спросил замполит.
— Так точно, товарищ майор. Я разберусь и вам
доложу! — торопливо заверил комбат и, выходя из
бытовки вслед за побагровевшим Осокиным, резанул
нас бешеным взглядом.
— Все — хоккей! Да садись ты! — успокоил я
разволновавшегося Елина, и тот вернулся к своим ре-
ставрационным работам. Но мне-то было ясно, что
дело приняло скверный оборот! Комбат не первый год
на этой работе и, зная Зуба как облупленного, конеч-
но, догадался, кто тряхнул Елина. Но сама по себе
случившаяся история не стоила бы выеденного яйца,*
когда бы не замполит. Уж он-то разберется, кто обрьь
5. Крещение
129
вает молодым пуговицы и почему командир батареи
допускает подобные безобразия во вверенном ему
подразделении. Поэтому можно представить, из каких
слов сейчас состоит внутренний монолог Уварова. И я
тоже, чурка неотесанная: «Не знаю, товарищ майор».
А что сделаешь? Есть такая заповедь: не заклади? То
есть: 'не заложи! Вот черт, такой день, и так паршиво
начался!
— Батарея, выходи строиться! — натужно про-
орал Цыпленок.
Началось утреннее построение. Обычно первыми
выскакивали из дверей и строились «салаги», потом
с солидной неспешностью выходили «лимоны», нако-
нец, появлялись уставшие от жизни «старики». Они
неторопливо занимали промежутки в строю, заботли-
во припасенные молодыми. В этот момент обычно по-
являлся жизнерадостный старшина Высовень, и начи-
налось:
— Малик!
Молчание.
— Малик!
— Я!
— Головка от крупнокалиберного снаряда. Не
спи — замерзнешь!
Но построения по всем правилам не получилось,
потому что вместо прапорщика, влюбленного в меткое
народное слово, перед шеренгой стоял разозленный
комбат Уваров, и встречал он явление личного соста-
ва народу таким взглядом, что даже самые лихие
«старики», вроде Шарипова, менялись в лице, тороп-
ливо застегивали воротники -и перемещали ременную
пряжку с того места, где обычно расположены фиго-
вые листочки, на плотную дембельскую талию.
— Вот черт, сам поведет,— тоскливо сказал мне
Чернецкий.— И чего ему дома не сидится, с женой,
что ли, поругался?
Заслышав про комбатову жену, Шарипов лукаво
толкнул меня локтем.
— Нет, боится,— ответил вместо меня Зуб.— По-
мнишь, в день приказа он вообще в казарме ночевал?
— Мать честная! И так двадцать пять лет
жить! — покачал головой Камал.
— Отставить' разговоры! Батарея, равняйсь!
Смирно! — Титаренко строевым шагом подошел к
130
комбату, лихо повернулся и отчеканил: — Товарищ
старший лейтенант! Шестая батарея построена. Заме-
ститель командира взвода сержант Титаренко.
— Здравствуйте* товарищи артиллеристы! — не-
дружелюбно поприветствовал нас комбат.
— Ва-ва-ва-ва-ват! — проревела батарея, что в
переводе означает: здравия желаем, товарищ старший
лейтенант.
Затем Уваров принял из рук Титаренко красную
папку со списком личного состава и провел переклич-
ку, в ответ на каждое «Я!» вперяя испытующий
взгляд и чувствуя себя в эту минуту, наверное, обал-
денным психологом. Потом, перестроившись в колон-
ну по четыре, мы отправились в столовую, но путь,
обычно занимавший пять минут, на этот раз длился
полчаса.
— Батарея! — скомандовал комбат. И тотчас на
брусчатку обрушились слабенькие ножки молодых —
словно горох по полу запрыгал.
— Отставить! Кругом!
И мы вернулись к родной казарме, остановились
и застыли, как декабристы, ожидавшие помощи со
стороны несознательных народных масс, участвовав-
ших в строительстве Исаакиевского собора.;
Я переминался с ноги на ногу и думал о том, что
комбат, хотя и неплохой мужик, но с самодуринкой:
то ему на все наплевать, то хочет враз все переделать.
Лично мне симпатичнее лейтенант Косулич или даже
прапорщик Высовень, они тоже иной раз любят дис-
циплиной подзаняться, погонять туда-сюда, но делают
это без упоения, а, так сказать, подчиняясь суровым
обстоятельствам. И хотя взводный при этом утоми-
тельно вежлив, а старшина обзывает нас «плевками
природы» и «окурками жизни», зла на них никто не
держит.
— Батарея! — скомандовал старлей, решив, что
мы все осознали,— и строй снова двинулся к сто-
ловой.
На подмогу немощным «салагам» и «скворцам»
пришли «лимоны», сообразившие, что положение
нужно спасать, хотя в принципе свое они уже оттопа-
ли. Но горох остался горохом, правда, несколько уве-
личился в размерах.
— Отставить! Кругом!
131
И опять мы неподвижно стояли возле казармы.
— Хреновые дела,— шепнул Зуб, до сего момента
не замечавший меня.— Комбата кто-то разозлил.
Хотел я было объяснить однопризывнику, что этот
«кто-то» —он сам, но решил не опережать события.
Наконец, с третьей попытки, когда, забыв свою
гордость и вспомнив далекую молоддсть, приударили
ножкой и «старики», дело пошло на лад. В казармах
задребезжали стекла, казалось, что еще один удар —
и вся батарея провалится' сквозь гудевшую брус-
чатку.
’— Запевай!
С песней повторилось то же самое, что и со строе-
вым шагом. Но в более сжатые сроки. И когда уже
каждый топал и пел из последних сил, а батарея ста-
ла похожа на громыхающий колесами и подающий
непрерывный гудок локомотив,— комбат решил, что
завтрак мы заработали, и повел нас на завтрак.
По команде мы забежали в столовую и, как обыч-
но, расселись за пятью длинными столами — у окош-
ка «старики», а дальше, к проходу, в соответствии со
сроками службы,— остальные. В огромном зале висел
милый сердцу каждого солдата густой звон мисок и
ложек, а на стене красовался знаменитый лозунг, вы-
полненный полковым талантом, клубным деятелем
младшим сержантом Хитруком под руководством
замйотыла майора Мамая.
ХЛЕБА К ОБЕДУ В МЕРУ ЛОЖИ,
ХЛЕБ —ЭТО ЦЕННОСТЬ, ИМ ДОРОЖИ!
Питание личного состава батареи строилось обыч-
но следующим образом: первыми хлеб, кашу, мясо
и прочее «дожили» «старики». Но поскольку у них
почему-то аппетит ослаблен, то молодым, которым
всегда хочется рубать с жуткой силой, еды в общем-то
хватает, разве что чай бывает не приторным или бе-
лого хлеба и мяска не достается. Но никто и не гово-
рит, что они в армию жрать пришли!
Главный ритуал «ста дней» в том-то и заключа-
ется, что сегодня все происходит наоборот: первыми
еду’берут «салаги», а мы>- под конец. Естественно,
они смущаются и стремятся, косясь на ветеранов ба-
тареи, взять кусочки поплоше, но картина все равно
впечатляет! Затем начинается кульминация: «стари-
132
ки» отдают молодым свое масло. Все это, по замыслу,
должно символизировать преемственность армейских
поколений. Но когда свою желтую шайбочку я поло-
жил на хлеб Елину, тот посмотрел на меня такими
глазами, что весь ритуал, казавшийся мне безумно
остроумным, представился полным идиотизмом.
Я рубал солдатскую кашу «шрапнель» и думал
о том странном влиянии, какое оказывает на меня
нескладеха Елин. Или он какой-то особенный, или
просто-напросто с ним я снова переживаю свои пер-
вые армейские месяцы, когда кажется, будто шинель,
гимнастерка, сапоги и т.д.— это уже навсегда, будто
домой не вернешься ни за что; когда все вокруг пуга-
юще незанакомо, когда находишься в страшном напря-
жении, словно зверь, попавший в чужой лес; когда
можно закричать из-за того, что из дому снова нет
писем, когда от жестокой шутки немногословного
«старика» душа уходит в пятки, когда понимаешь, что
жить в солдатском обществе можно только по его за-
конам и нельзя купить билет да уехать отсюда, как
сделал бы на гражданке, не сойдясь характером с тем
же самым Зубом. Армия — это не военно-спортивный
лагерь старшеклассников с итоговой раздачей грамот
за меткую стрельбу из рогаток. Армия — это долг.
У них — повинность, у нас — обязанность, но везде —
долг! Значит, нужно смирить душу и вжиться. Сила
характера не в том, чтобы ломать других, как считает
Уваров, а в том, чтобы сломать себя!.. Стоп. А нужно
ли ломать, нужно ли привыкать к тому, к чему при-
учил себя я? Может быть, прав смешно уплетающий
«шрапнель» Елин: сначала мы сами придумываем
свинство, а потом от него же мучаемся... Зачем все
эти жестокие игры в «стариков» и «салаг»?! Армии
они не нужны, даже вредны, если верить замполиту;
я без своих дембельских привилегий обойдусь. Оста-
ется— Зуб, но и он как-нибудь перетолчется. Следо-
вательно...
— Встать! Выходи строиться,— скомандовал
комбат.
Я выплеснул в рот остатки чая и, разжевывая на
ходу комки нерастворившегося сахара, направился к
выходу. К сожалению, дисциплина порой несовмести-
ма с логическим мышлением.
133
— Направо! Шагом арш! — продолжил свою вос-
питательную работу старший лейтенант.
Я шагал и пел о том, что «всегда стою на страже»,
а сам думал, как после обеда, воспользовавшись за-
конным личным временем, пойду в библиотеку, буду
говорить с Таней. Удивительно, но с самого утра, во-
образив себя Главпуром и решая актуальные пробле-
мы политико-воспитательной работы в Вооруженных
Силах, я почти не вспоминал о Тане. Да, все-таки сол-
дат не должен много думать, иначе, как я сейчас, он
теряет ногу и семенит, подпрыгивая, чтобы снова сов-
пасть с родным коллективом.
— Батар-рея! — рявкнул наш трехзвездный Ма-
каренко, и сытый личный состав с такой силой ша-
рахнул о брусчатку, что видавшие виды гарнизонные
вороны взвились в воздух и обложили нас пронзитель-
ным криком,
7
— Значит, письмо нашли?! — вскидывается Зуб.—
А дальше?
Скотина! Он и сейчас думает только о том, как бы
отвертеться, свалить случившееся на кого-нибудь дру-
гого, на ту же шалопутную елинскую подружку. Ему
хорошо известны случаи, когда молодые делают над
собой глупости из-за таких вот писем. В прошлом го-
ду один «старик» получил от своей телки письмо, про-
читал, разорвал и выбросил в «очко». А ночью пове-
сился на своих дембельских подтяжках, за четыре дня
до приказа...
Мы бежим по Аллее полководцев — заасфальти-
рованной дорожке, по сторонам которой установлены
щиты с портретами славных ратоборцев, начиная с
Александра Невского. Аллея ночью освещается фона-
рями. Мимо нас мелькают рисованные лица — и мне
мерещится, что вся героическая история русского ору-
жия с осуждением смотрит нам вслед. А маршал Жу-
ков даже хмурит брови, точно хочет сказать: «Что же
это у вассолдаты пропадают! Распустились!..»
Аллея полководцев кончается возле полкового
клуба — много башенного здания, похожего на сред-
невековый замок. В этом замке работает библиоте-
134
каршей прекрасная принцесса по имени Таня, Та-
ня— жена нашего комбата. И мне чудится* что нале-
тевший ветер доносит запах ее необыкновенных духов,
чье название я никак не запомню, вследствие полного
парфюмерного невежества.
— Клевая у комбата жена! — по-птичьи, одним
глазом, глянув на меня, сообщает озабоченный Цып-
ленок.— Я давеча...
— Я тебя, сыняра, спросил, что было после пись-
ма?— задыхаясь от злобы и бега, перебивает Цып*
ленка Зуб.— Ты оглох* что ли?
*
Солдатское воскресенье—это изобилие личного вре-
мени. Но расположение нашей части таково, что уволь-
нений не бывает: идти некуда, ближайший населенг
ный пункт — в тридцати километрах. Раз в полгода
нас возят туда для торжественных смычек с местной
молодежью, в основном, девчонками-старшеклассни-
цами. Негдай бог влюбиться* назначить свидание еще
можно, но вот осуществить — полна безнадега. Пран-
да, за полигоном проходит железнодорожная ветка,
но поезда проскакивают наши палестины, не останав-
ливаясь. Как говорит старшина Высовень, жизнь про-
неслась мимо^обдав! грязью...
Воскресные дни у нас проходят однообразно: «са-
лаги» пишут письма, «старики» сидят в: солдатской
чайной или готовятся к торжественному возвращению
домой. Днем смотрим, по телевизору «Служу Совет-
скому Союзу!», которую у нас называют «В гостях
у сказки», вечером в клубе — законный воскресный
фильм. Бывают и. спортивные мероприятия. Сегодня,
например* встреча по волейболу между первым и тре-
тьим дивизионами. Но я решил после завтрака за-
няться своим дембельским хозяйством и отправился
в каптерку.
Там. уже изнемогал над своей «парадкой» завист-
ливый Шарипов, а у него за спиной примостился
услужливый Малик и с упоением наблюдал за пре-
вращением обыкновенной уставной парадной формы
в произведение самодеятельного искусства.
Камал, поставивший перед собой сложную зада-
чу— модно ушить форменные брюки, походил на со-
135
средоточенпого хирурга и, орудуя попеременно то
бритвой, то ножницами, властно требовал у ассисти-
ровавшего Малика: «Булавку! Бритву!»
Вдоль стены, в два яруса, как в Магазине «Одеж-
да», висели «парадки» и шинели. Я снял с Вешалок
и разложил на длинном столе всю свою экипировку.
Шарипов оторвался от работы и сокрушенно зацыкал
зубом: моя — пушистая, словно мохеровая шинель
была предметом его постоянной зависти. В свое время
ему досталась коротенькая шинелька б/у, вытертая,
кое-где прожженная — и Все старания привести ее в
нормальный вид ничего не дали. Тщетными оказались
и попытки «махнуться» с кем-то из молодых: мол, те-
бе все равно, в какой служить, а мне скоро домой,—
старшина Высовень строго следил за тем, чтобы но-
венькое обмундирование не уплывало на гражданку
вместе с предприимчивыми «дембелями».
Говоря честно, экипировка — главный предмет за-
бот в последние полгода службы. Спроси любого за-
думавшегося «старика» — он размышляет о том, как
будет одет в день увольнения. Вот почему я смотрел
на разложенный почти полный дембельский комп-
лект, как пишут в газетах, с чувством глубокого удов-
летворения. Прежде всего шинель, которую, расчесы-
вая специальной металлической щеткой, я сделал по
длине и густоте ворса похожей на лохматую шкуру
странного серо-защитного зверя. Далее—«парадка».
Операцию, над которой мучился Шарипов, я уже про-
вел, и обладал роскошными брюками. На китель бы-
ли нашиты совершенно новые шевроны, петлицы,
а также офицерские пуговицьГ— они, в отличие от сол-
датских, густо-золотого цвета. Погоны пропитаны спе-
циальным клеем, что делает их твердыми И придает
элегантную четкость всему силуэту. Камал, я знаю,
подложил под погоны обычные пластмассовые плас-
тины и свалял дурака: их заставят вынуть при первом
же построении. Не положено!
Рядом с «парадкой» во фланелевой тряпочке —
сияющие значки отличника боевой и политической
подготовки, специалиста 2-го класса. Кроме того, со-
всем недавно мне удалось выменять на офицерские
пуговицы комсомольский значок, не прикалывающий-
ся, как обычно, а привинчивающийся,— жуткий Дефи-
цит. В слесарке мне ужо вытачивают для него латун-
136
ное оформление в;виде взлетающей ракеты. В другой
фланельке— пряжка, которую при помощи наждач-
ной бумаги, специальной пасты и .швейной иголки я
довел до такого совершенства, что, глядя в отполиро-
ванную поверхность, можно бриться. Нерешенная
проблема — ботинки: надо бы нарастить каблуки.
Все это отлично делает полковой сапожник, мой Зем-
ляк, но даже из земляков к нему выстроилась такая
очередь, что до меня дело дойдет лишь через месяц.
Чемодан. Он небольшой, потому что везти особен-
но нечего, но зато на крышке я изобразил взлетаю-
щий самолет и надпись «ДМБ-1985». Наивно думать,
будто с таким чемоданом меня выпустят за ворота
части, но и мы тоже два года не зря служили! Дела-
ется это так: рисунок заклеивается полиэтиленовой
пленкой, хуже — бумагой (может промокнуть) и за-
крашивается под цвет чемодана, когда же опасность
минует, маскировка срывается. Военная хитрость!
И наконец, дембельский альбом. Мой — высшего
качества, в плюшевой обложке. Он пока девственно
чист, хотя я приготовил для него несколько отличных
фотографий, запечатлевших мою солдатскую жизнь
и ребят из батареи. Я мыслю альбом так: фотографии
с пояснительными подписями и несколько страниц
для пожеланий и напутствий однополчан. На память.
Но чаще всего дембельские альбомы напоминают
альбомы уездных барышень, о которых писал
А. С. Пушкин. Это соображение я высказал еще
в начале службы рядовому Мазаеву. Я вклеивал в его
альбом фотографии и умирал со смеху. Нужно знать
Мазаева: восемь на семь, глаза в разные стороны,
двух слов не свяжет, если только при помощи фигу-
ральных выражений, глубоко чуждых армии и печати.
Альбом у него был такой: на первой странице —
сплошные виньетки и надпись: «Слава Советским Во-
оруженным Силам!» На следующей — вырезанный из
«Советского воина» плакат времен гражданской вой-
ны «Ты записался добровольцем?». Под плакатом
приклеена подлинная повестка. На следующих стра-
ницах— фотографии: Мазаев с автоматом, Мазаев со
снарядом, Мазаев в окружении земляков, Мазаев на
плацу... Были еще какие-то фотки, но самая умора
дальше: фотография очень хорошенькой девушки и
письмо, начинавшееся словами: «Дорогой, любимый
137
Айтон!» Весь юмор в том, что за два года — это знала
вся батарея —Мазаев не получил от девчонок ни од-
кого письма, но главное — имя. «Антон» было явно и
неумело переправлено из имени «Андрей». Любовную
страницу украшали виньетки с целующимися голуб-
ками.
В довершение ко всему он оказался любителем поэ-
зии. Из каких журналов и книг взялись эти стихи, не
знаю. Одно, помню, заканчивалось:
Мир на белом свете будет —
Я страну свою люблю.
Спи, Отчизна, спите, люди,
Потому что я не сплю!
Я представил себе никогда не спящего Мазаева
и захохотал: с койки его обычно поднимала только
крупнокалиберная ругань прапорщика Высовеня.
Мой работодатель^ который к ,смеху-то вообще отно?
сился подозрительно, услышав, как я потешаюсь над
его альбомом, дал мне такую затрещину, что теперь
на вопросы врачей, имел ли травмы черепа, отвечаю
уклончиво.
Первое время все эти мелочные приготовления,
споры до хрипаты, в чем лучше прийти: в «парадке»
и ботинках или в «пэша» с белоснежным подворот-
ничком и сапогах — казались мне смешными. Глав-
ное— дождаться, а там какая разница, в чем ехать
домой, лишь бы домой! И только теперь мне стало
понятно, что преддембельская суета идет не от дурац-
кого щегольства, вернее, не только от него, а от стрем-
ления заполнить, заглушить томление последних ме«-
сяцев, которые тянутся, тянутся и не кончатся, кажет-
ся, никогда. Ведь первое время, конечно, тоскуешь по
дому, мечтаешь о возвращении, но так же нереально,
как мечтаешь о бессмертии, потому что с самого нача-
ла душа как бы запрограммирована на два года
службы, но где-то за полгода до дома этот механизм
солдатского терпения вдруг расстраивается: не хочет-
ся спать, есть, писать домой... А тут подворачивается
возня с экипировкой, и постепенно ты сам себя убеж-
даешь в том, что без этого не будет настоящего воз-
вращения домой.
Но есть у меня и другая версия. День за днем, ме-
сяц за * месяцем солдатская жизнь все глубже прони*-
138
кает в душу и постепенно становится естественной,
даже единственной формой существования. Прежняя,
гражданская лора отодвигается в глубь памяти, по-
крывается розовой дымкой воспоминаний: минувшее
дорого, потому что .невозвратимо. Но это не значит,
что прошлое лучше настоящего. Сколько парней до
призыва только и делают, что «качают» из родичей
«тугрики», свинячат в чужих подъездах и балдеют
под тяжелый рок! По телевизору о таких говорят, мол,
не нашли места в жизни. Но на службе твое место
в боевом расчете и есть твое место в жизни.
И вот однажды ты начинаешь понимать, что служ-
ба кончается и скоро нужно будет уходить из этого
городка, знакомого до выбоин на асфальте, уходить от
друзей-однополчан, от командиров, уходить в ту, бы-
лую жизнь, где у тебя пока нет места. И мне кажется,
что вся наша альбомно-чемоданная суета—только
способ заглушить чувство неуверенности, облегчить
расставание с армией, ставшей если не родным, то
очень привычным домом... Вы скажете, что две эти
версии противоречат друг другу. Возможно, но душа
солдатская все-таки посложней, чем передовые ста-
тьи в нашей дивизионной газете «Отвага».
В минуту глупой откровенности я пытался растол-
ковать свои теории Зубу, но он угрюмо выслушал ме-
ня и обозвал идиотом, потому что, имея земляка в ти-
пографии, я собираюсь оформлять дембельский аль-
бом общедоступными плакатными перьями. Другое
дело—настоящий наборный шрифт! Разумеется, в
тот раз я, не задумываясь, послал ефрейтора к чер-
тям собачьим, но теперь... Теперь придется соглашать-
ся и шлепать на поклон к Жорику Плешанову, что-
бы выручить этого бунтаря-доходягу Серафима
Елина.
Отправившись искать Зуба, я сначала заглянул
в штаб дивизиона, чтобы прихватить и свой альбом,
хранящийся в шкафу вместе с карандашами, кистя-
ми, красками, тушью, рулонами бумаги. До армии,
между прочим, я вообще не умел рисовать, а плакат-
ные перья {напоминали мне маленький макет лопаты
с комплектом сменных штыков. Но служба всему на-
учит. И вот, еще во время школы молодого бойца, ког-
да мы,, путаясь в собственных ногах, осваивали пово-
рот на 180 градусов, к нам подошел замполит Осокин,
139
внимательно оглядел щербатый строй и поинтересо-
вался: .У
— Кто умеет пйсать плакатным пером?
— Я! — раздался самоуверенный голос, который,
как выяснилось потом, принадлежал мне.
И вот с холодного и очень твердого плаца под за-
вистливые взгляды товарищей меня повели в хорошо
натопленный штаб дивизиона, где я получил в свое
распоряжение тушь, набор перьев и задание перепи-
сать на больших листах бумаги несколько мобилизую-
щих и вдохновляющих лозунгов. Майор ушел, и мне
оставалось приступить к работе. Тот день я не могу
вспоминать без содрогания. Алые полосы выползали
из-под пера, извиваясь, точно червяки, тушь брызгала
в разные стороны, внезапно бесследно исчезала ка-
кая-нибудь буква, и вместо «марша» появлялась не-
кая фрейдистская «маша». Часа через два вернулся
замполит, посмотрел на результаты моего вранья,
дернул головой и сказал:
— Инициатива наказуема. Трудись, Купряшин!
Говорят, детей учат плавать, швырнув их в воду.
Я выплыл: через две недели мне казалось, что я ро-
дился с плакатным пером в руке, а запах туши напо-
минал, извините, молоко матери.
...Наш дивизионный штаб состоит из большого,
заставленного казенной мебелью холла и трех кабине-
тов, принадлежащих соответственно комдиву,, отбыв-
шему в отпуск, начальнику штаба и замполиту. Две
первые комнаты были заперты и даже по случаю вос-
кресенья опломбированы, а вот из кабинета замполи-
та сквозь неплотно, прикрытую.дверь доносился раз-
говор, и прелюбопытнейший. Разумеется, я не стал
вставлять ухо в щель/мне и так все было слышно.
А почему бы и нет? В конце концов я принимал
присягу и умею хранить военную и государственную
тайну.
— Послушай, Уваров, ты сам в батарее порядок
наведешь или тебе помочь? — сурово спрашивал зам-
полит.
— Товарищ майор, я же вам доложил,— раздра-
женно объяснялся наш комбат,— ничего не служи-
лось, просто молодые устроили возню... Защитнички!
— А «старики» полезли разнимать? — иронически
осведомился майор.
140
— Да мне так доложили.
— Удивительное дело: у всех молодые как моло-
дые, а у тебя какие-то игрунчики! То синяк под гла-
зом, то пуговицы с мясом выдраны, то чья-нибудь ма-
маша пишет мне душераздирающие письма и грозит-
ся министру обороны пожаловаться... Сергей, неуже-
ли ты всерьез думаешь, что дисциплину в батарее
можно при помощи «стариков» держать?
— Виктор Иванович, а неужели вы полагаете, что
приказами сверху можно вытравить то, что у солдат
в крови... Неужели вы полагаете, если мы назовем
прапорщиков нашим «золотым фондом», они будут
служить лучше?! Я считаю так: если «неуставняк»,
несмотря на всю борьбу с ним, существует, значит,
это нужно армии как живому организму. Так везде...
— Значит, стихийное творчество масс? — усмех-
нулся Осокин.
— Да, если хотите... Умный командир не борется
со «стариками», а ставит неуставные законы казармы
себе на службу...
— Умный командир — это ты?—полюбопытство-
вал замполит.
— Во всяком случае, за порядок у себя в батарее
я спокоен. Это главное. А пуговицы можно пришить.
— Можно. А вот как вернуть парню-первогодку
веру в командирскую справедливость? Или пусть себе
вырастает в держиморду, а потом наводит в батарее
террор?
— Дисциплину! — поправил настырный Уваров.
— Террор! И поверь моему опыту, Сергей, эти за-
игрывания с казарменной «малиной» плохо заканчи-
ваются... И для солдат, и для офицеров...
— А я думал, у нас просто откровенный разго-
вор! — усмехнулся Уваров.
— Он и был откровенным. А теперь — официаль-
ная часть. Я, товарищ старший лейтенант, очень ува-
жаю генерала Уварова, но в академию, считаю, тебе
еще рановато! Это во-первых. Второе: послезавтра
партийное собрание, и я хочу тебя предупредить, что
самым резким образом поставлю вопрос о состоянии
политико-воспитательной работы в шестой батарее.
Третье: пришли ко мне Елина! Прямо сейчас.,.
— Есть.
141
— И еще один вопрос... Может быть, некста-
ти...— майор замялся.— Вы помирились с Таней?
— Так точно! — отчеканил комбат.— Разрешите
идти?
— Идите...
Кипя так, что из-под фуражки вырывались струй-
ки пара, старший лейтенант выскочил из кабинета
и остолбенел, уставившись на меня. Но я смотрел на
него совершенно пустыми глазами, как разведчик, ра-
ботающий по легенде «немого». Решив, видимо, что
мне ничего не было слышно, Уваров хлопнул дверью
и вылетел на улицу, следом за ним, сжимая под мыш-
кой альбом, слинял и я.
О, если бы такой разговор услышал, например,
младший сержант Хитрук, через полчаса о нем знали
бы даже неходячие больные из санчасти капитана То-
наева. Но об этом ни слова! А все-таки интересно!
Папанька-то нашего Серени, как известно, генерал-
лейтенант и, значит, наш комбат как бы «лейтенант-
генерал». Но замполит — победитовый мужик, нико-
му спуску не дает, будь у тебя родитель хоть генерал,
хоть адмирал, хоть начальник «Военторга». Впрочем,
все равно Уварова пошлют в академию, поэтому меня
больше волнует, чтобы Елин Осокину лишнего не на-
говорил, а то оборвут «старики» моему Серафиму
крылышки...
8
— Я тебя, с ын яр а, спросил, что было после пись-
ма?— задыхаясь от злобы и бега, перебивает Цып-
ленка Зуб.— Ты оглох, что ли?
Но я и сам могу рассказать Зубу, что случилось
потом, после письма...
Лейтенант Косулич выяснил, что в казарму Елин
не возвращался, и тут же позвонил домой комбату.
Узнав о случившемся, Уваров оцепенел: ведь он-то
знал всю предысторию в деталях, у него еще стоял
в ушах чреватый последствиями разговор с замполи-
том. И вот — пожалуйста, как говорится, той же но-
чью... Комбат, поколебавшись, разбудил Осокина и
доложил все, как есть. Майор приказал поднять бата-
рею по тревоге — и цепь замкнулась: в казарму вбе-
142
жал дневальный и, набрав полные, легкие спертого
казарменного воздуха, крикнул:
— Батарея, подъем! — а потом, после секундной
паузы, добавил: — Тревога!
Тревога... Нет, не тревога на душе, а ужас перед
тем, что могло уже случиться...
Вполоборота к нам, тараторя о глупом Едине, ста
днях, беременной жене, вприпрыжку несется Цыпле-
нок. Рядом, тяжело сопя, воткнувшись взглядом в
землю, громыхает Зуб. И мне совершенно ясно:
если с Елиным что-нибудь случится, я схвачу Зуба за
глотку и буду душить до тех пор, пока не заткну это
проклятое сопение!
На полном ходу мы влетаем в автопарк. Часовой
вместо уставного «стой-кто-идет» приветливо кивает:
мол. поищите и здесь, коли рам делать нечего.
В темноте автопарк похож на фантастический зоо-
сад, где в огромных вольерах дремлют гигантские,
стальные, единороги. Когда много времени проводишь
возле самоходки, совершенно забываешь о ее назначе-
нии—машина и машина. Только иногда, зацепив-
шись взглядом за отполированный пятидесятикило-
граммовый снаряд, вдруг понимаешь:, ’да ведь это
же — смерть, которую ты будешь отмерять, в случае
чего, собственными руками, составляя заряд. И ведь
тоже на первый взгляд все безобидно: набитый поро-
хом стержень, а на него нужно надеть, в зависимости
от дальности цели, несколько начиненных взрывчатой
смесью «бубликов». Вот и все. Потом прозвучит
команда, и одна за другой, словно рассчитываясь по
порядку, самоходки с грохотам тяжело припадут к
земле и окутаются клубами дыма. В небе раздастся
шелест, именно шелест снарядов, и где-то, километрах
в пяти отсюда, взлетят на воздух позиции «вообража-
емого противника».
На крыле нашей самоходки; скрестив по-турецки
ноги, сидит Шарипов и привычно, словно перебирая
четки, полирует суконочкой дембельскую пряжку. Пе-
ред Камалом вытянувшись стоит преданный Малик.
— Все ангары проверил?—спрашивает Шари-
пов.
— Все! — со вздохом отвечает Малик.
— Под брезент заглядывал?
— Конечно!
143
Шарипов сокрушенно цокает языком, задумчиво
оглядывается и тут замечает нас.
— Елина здесь нет! — сообщает он.— Совеем про-
пал!
— Я же говорил, нужно искать на полигоне! —
радостно подхватывает Цыпленок.
— Не знаю, не знаю...— качает головой Шари-
пов.— Не к добру ты, Зуб, вчера с альбомом бегал!
Что б мне провалиться...
* * W
Зуба я нашел на волейбольной площадке, он был в
своем репертуаре: орал на молодого за то, что тот не-
правильно закручивает при подаче мяч, и обещал от-
крутить ему голову. На меня ефрейтор сначала во-
обще не обратил внимания — обиделся, видите ли!
Я показал ему издали свой альбом и спокойно наблю-
дал, как на сердитом зубовском лице борются два
чувства: презрение к нарушителю традиций и же-
лание оформить дембельский альбом по высшему
классу. г
Спустя несколько минут мы уже сидели в солдат-
ской, чайной и в знак нашего примирения распивали
бутылочку молока, закусывая песочными пирожными.
В армии кормят сытно, но однообразно. Это естест-
венное попробуй угодить на все вкусы тысячной ораве,
поэтому солдат постоянно испытывает желание
съесть «что-нибудь вкусненькое». Я, например, выяс-
нил, что жить не могу без творога, который особенно
и не любил на гражданке. А теперь мне даже по но-
чам снится вкус творога.
Я терпеливо слушал занудливые разглагольство-
вания Зуба. Сначала он жаловался, что во времена
его далекой армейской молодости «сынкам» вообще
запрещалось ходить в чайную, а теперь — о времена,
о нравы! — любой «салабон» может спокойно вломить-
ся сюда и кайфовать, сколько влезет. Поэтому и
очередь к прилавку появилась, а ведь раньше не бы-
ло! Потом ефрейтор с туманной угрюмостью стал рас-
пространяться об одном нарывающемся на неприят-
ности «старике», которому сопливые «салаги» доро-
же, чем однопризывники. Наконец он дошел до
Елина...
144 г
— Слушай; Санек,— дипломатично приступил я к
делу.— Не трогал бы ты парня. Ему и так тошно.
— Ничего с ним не сделается, пусть жизнь узна-
ет!.. Еще огрызается! Да я «старику» в глаза боялся
смотреть. Он меня еще узнает; Пионер-герой!
— Санек,— зашел я с другого бока,— ну, помор-
довали Тебя на первом году, лучше ты, что ли, от это-
го стал?
— Жизнь узнал! — стукнул он себя в грудь.
Я задумался: с Зубом нужно быть терпеливым,
как санитару из дурдома. Вот вообразил он себя вы-
дающимся учителем жизни, и хоть ты застрелись.
Оставалось последнее — бить на жалость, и я мыс-
ленно попросил у Елина прощение за разглашение
секрета его личной жизни.
— Санек, ты же видишь, с ним что-то происходит,
а после вчерашнего письма он вообще ничего не со-
ображает.
— Из-за крысы, что ли?
— Точно. А ты психолог! Понимаешь, старый, дев-
чонка его бросила — замуж выходит... Елин-то, бал-
бес, доверил другу приглядывать. Ну, и сам знаешь,
как бывает.
. — Знаю! — презрительно бросил Зуб и с сочувст-
вием добавил: — На первом году из-за такого и глу-
постей наделать можно. Да-а...
Итак, мой расчет оказался правильным, я ведь
знал, что где-то в Пензе почти два года Зуба ждала
девушка, его однокурсница, писала письма, наверное,
любила по-настоящему. И теперь, проведав о горе
Елина, ефрейтор почувствовал к нему сострадание,
конечно, не без тени самодовольства.
— Ладно,-— подытожил Зуб, допивая молоко,— я
об этом не знал. В принципе, он парень неплохой, по
специальности опять-таки старается. Я вообще-то до-
волен, что он у нас теперь заряжающий. Нет, какие
все-таки крысы бывают, а? Ладно, больше трогать не
стану. Но и его предупреди. А то: «Не буду!» Я ему не
буду! И ты тоже, заступник нашелся. Я тебе, Лешка,
прямо хочу сказать: кончай с этим. А то знаешь...
Зуб из того типа людей, которых в народе называ-
ют «псих-самовзвод», и если бы в ту минуту я не заве-
рил* его в полной преданности, разговор бы пропал
даром.
145
В конце концов мы расстались нежными друзьями,
и я, зажав под мышкой два альбома — свой и зубов-
ский, зашагал по направлению к дивизионной типо-
графии, всерьез размышляя, не пойти ли мне после
службы учиться на дипломата. Есть ведь такой инсти-
тут, и учатся там, наверное, тоже люди.
В том, что печать — огромная сила, я убедился на
примере своего друга Жорика Плешанова, угодивше-
го с дивизионного распределительного пункта прями-
ком в типографию солдатской газеты «Отвага». Сна-
чала он страшно возмущался: мол, его, «уникального
специалиста», сделали простым наборщиком! Но по-
скольку редактор — должность офицерская, а Жорик
начал своя) армейскую карьеру со звания рядового,
пришлось ему смириться. Очень скоро мой друг энер-
гично включился в газетную жизнь, отличительная
черта которой — тайное противостояние сотрудников
редакции и работников типографии, ведь каждые счи-
тают, что газету делают именно они! Поэтому, всякий
раз усаживаясь за рычагастый линотип, Жорик скра-
ивал такую физиономию, будто хотел сказать: «Ну,
и что вы сегодня нацарапали, писатели?» Первое вре-
мя, набирая тексты, он даже пытался редактировать
заметки, но это продолжалось до взбучки, устроенной
ему редактором капитаном Деревлевым.
О капитане стоит сказать особо. Когда бы я не
заглянул в редакцию, он, как-то странно вжав голову
в плечи, расхаживал по комнате, курил одну папиро-
су за другой, стряхивая пепел по углам, и комменти-
ровал международную обстановку. Сотрудники вни-
мательно кивали головами, даже задавали наивные
вопросы, но я уверен — ни одно капитаново слово не
застревало у них в голове. Увидев меня, редактор го-
варивал: «A-а, Купряшин! Привет военкору. Стой и
слушай». Я стоял и слушал о безнадежной борьбе
подточенного коррупцией правительственного аппа-
рата Италии с мафией, о трудных путях португаль-
ской революции, о коварном насаждении «американ-,
ского образа жизни» в Западной Европе, о фашист-
ских недобитках, скрывающихся в бескрайних лати-
фундиях Бразилии... Если где-то недавно в результа-
те взрыва террористов погиб правящий кабинет, то
капитан тут же перечислял имена усопших минист-
ров, излагал их краткие биографии, не забывая про-
146
анализировать политические убеждения, а в доверше-
ние набрасывал возможный список нового кабине-
та — и никогда не ошибался!
Совершенно уморительно Деревлев распекал свой
личный состав, того же Жорика. Поставив провинив-
шегося по стойке «смирно», редактор начинал: «Ну
что, ребенок в погонах, доигрался? Гайдар в шестнад-
цать лет полком командовал. Рембо в двадцать лет
уже бросил писать стихи. Галуа в твоем возрасте был
гениальным математиком. Моцарт в пять лет сочинял
музыку...» Это перечисление могло продолжаться
сколько угодно, в зависимости от тяжести вины, и в
конце концов так изматывало нарушителя дисципли-
ны, что традиционный наряд вне очереди казался из-
бавлением. В довершение всего редактор «Отваги»
писал роман под названием «Кремнистый путь».
Первые три тома были перепечатаны редакционной
машинисткой и переплетены Жориком в красный ле-
дерин. Шла напряженная работа над четвертым то-
мом. Как всякий писатель, Деревлев пристально
вглядывался в жизнь, но ведь ни один воинский на-
чальник не желал, естественно, стать прототипом от-
рицательного героя. Этим, возможно, объяснялся тот
факт, что капитан сидел на газете давным-давно и по-
вышения не ожидал...
Редакционная дверь была по-воскресному закры-
та, но судя по звукам, доносившимся из-за нее, там
кто-то трудился. Я постучал условленным образом.
Внутри затихли: Жорик всегда забывал пароли, кото-
рые сам же придумывал накануне; Наконец дверь от-
ворилась, и Плешанов поманил меня черной от типо-
графской краски рукой.
— Привет! — сказал он и смахнул пот со лба,
оставив тень на коже.— Никакого отдыха. Начфин за-
меняется, готовим прощальный адрес — золотым по
белому.
— Может, я не вовремя?
— Да брось ты! Они тут все время заменяются.
А человек ведь без чего угодно может уехать, хоть без
жены, только не без прощального адреса! Так что да-
вай альбом... У тебя что, два альбома?
— Да нет...
— Ну, я понимаю, когда у человека два паспорта!
А два альбома-то зачем?
147
— Второй — Зуба.
— Не любдц) я твоего Зуба., По-моему, он прилич-
ная сволочь!
— Это точно, но, землячок, надо! Тактика!
— Та-актика!—передразнил Жорик.— Ладно,
давай оба и сиди жди. Можешь подшивочку поли-
стать — успокаивает...
Жорик продолжил свою деятельность золотопечат-
ника, и я подумал о том, каким большим человеком
стал он в последнее время, его благосклонности ищут
многие «старики». Представьте себе: вы открываете
альбом, а на первой странице не тушью, не какой-
нибудь, я извиняюсь, гуашью, а настоящим типо-
графским шрифтом оттиснуто: «ДМБ-1985». Эффект
потрясающий! Надо отдать должное Плешанову, он
не превратил свои возможности в «кормушку» или ис-
точник нетрудовых доходов, а помогает лишь друзьям
и хорошим людям, имеющим отношение к хранению
продовольствия и обмундирования. Честно говоря
я бы никогда не попросил Жорика, если бы не
Елин.
До обеда оставалось еще часа два, и я, усевшись
на ящик с отработанным типографским металлом,
принялся перелистывать годовую подшивку «Отваги».
В нескольких местах под заметочками я с удовольст-
вием отметил свою подпись «рядовой Купряшин» —
это был мой скромный военкоровский вклад в дело
пропаганды передового армейского опыта. В одной из
статеек я пофамильно упомянул весь наш расчет, и
тщеславный Зуб тут же отправил газету своей пен-
зячке. Думаю, от восторга вся Пенза бурлила не-
сколько дней...
Просматривая подшивку, я дошел до номеров, по-
священных весенним учениям, и натолкнулся на мате-
риал «Точность — обязанность артиллеристов» о рас-
чете сержанта Муханова из соседней батареи. Он и
его ребята действительно работают классно, нам до
них далеко. Читаем:
«—Ну как, все в экипаже нормально?—спросил
у подчиненного сержант Леонид Муханов.
— Порядок! Не подкачаем!
Артиллеристы волновались. «Трудный день! — ду-
мали они.— Болыцдя ответственность, ведь нам. пору-
чено выполнить сложную задачу». Но вдруг размыш-
148
ления были прерваны: переправа! Через приборы на-
блюдения виднелась водная гладь.
— «Первый»! — услышал в наушниках сержант
голос командира батареи.— «Противник» — на том
берегу. Обеспечь переправу.
— Взвод, к бою! — скомандовал Леонид.
Самоходные артиллерийские установки перестрои-
лись в боевую линию и вышли к урезу воды. Бой за
переправу был коротким. Благодаря внезапности уда-
ра, умелому маневру огнем, Машинами воины, израс-
ходовав минимальное количество боеприпасов, унич-
тожили все цели, расчистили путь своим товарищам.
В итоге подразделение получило отличную оценку.
Проверяющий тепло поздравил батарею с очередной
победой».
Я тоже помню ту переправу, но только по-свое-
му— как заряжающий, замурованный в тесном, по-
лутемном и задымленном нутре самоходки, о маневре
которой можно догадываться только по резким толч-
кам, кидавшим меня из стороны в сторону.
Разверзшийся казенник принимал очередные сна-
ряд и гильзу, вместе похожие на стократ увеличенный
автоматный патрон, затем в шлемофоне звучало по-
вторенное Титаренко вслед за комбатом «Огонь!». Нас
встряхивало, и дышать становилось еще тяжелей...
Когда условный противник обратился в бегство, мы
откинули люк, вылезли наружу, и небо показалось
таким ярким, а воздух таким чистым, как в детстве,
когда после двух недель болезни впервые выходишь
во двор и дышишь до слез...
Потом мы шли по безжизненному, изрытому во-
ронками полигону и выбирали из земли осколки: се-
годняшние — теплые еще, нестерпимо блестящие, и
давешние — уже порыжевшие по краям. Перед тем,
как положить в пилотку, я взвешивал очередной оско-
лок на ладони и представлял, как он мог бы войти
в меня, прямо в сердце. Еще в школе, помню, мы шу-
тили: армия — зГто школа жизни, но ее лучше пройти
заочно, но в том-то и дело, что только — очно! Когда
загоняешь в казенник снаряд, способный разнести це-
лый квартал, когда пробуешь пальцем бритвенные
края рваного металла, начинаешь нутром понимать,
что, в сущности, вся наша Земля —одно огромное
пульсирующее сердце и что, если острый осколок
149
пройдет и сквозь него, тогда... «Хорошо говоришь —
еще говори!» — так бы, наверное, сказал старшина
Высовень, услышь он мой «унутренний» монолог.
Оказалось, над подшивкой я провел больше часа,
потому что Жорик уже закончил адрес для начфина
и доделывал альбомы, при этом он сокрушался, что
из нового пополнения пока не подобрали молодого на-
борщика. Был, правда, один из Гомеля, но набирал
все по-белорусски — через «а», пришлось отправить
в подразделение. * И сейчас он, Жорик, уникальный
специалист и ветеран типографии вынужден, как на
первом году службы, подметать пол и собирать му-
сор. За жалобами прошло еще полчаса, и наконец
Плешанов протянул мне готовые альбомы:
— Годится?
— О! Ты настоящий друг!
-г- Ладно, ладно! Это подарок тебе к ста дням!
— Спасибо! А помнишь, как мы в санчасть хо-
дили?
— Дураками были!
— А помнишь, как мы в карантине утку ели?
— Утку! — Жорик зажмурился.— Разве можно
про утку перед обедом. Нет в тебе чуткости, Леша!
Вернувшись в батарею перед самым построением
на обед, я вручил ошалевшему от счастья Зубу его
альбом, а потом отловил Елина, который бродил во*
круг казармы живым укором женскому вероломству,
и тихонько спросил:
— Был у Осокина?
— Бы-ыл...—удивленно ответил он> поднимая на
меня свои несчастные глаза. ..
— Ну и как? Следствие ведут знатоки: припомни-
те, кто, где, когда и при каких обстоятельствах ото-
рвал вам голову?..
— Не-ет,— покачал головой мой подопечный.—
Замполит спрашивал, откуда я приехал, кто родите-
ли, трудно ли работать пионервожатым?..
— А про пуговицы?
— Нет...
— О чем еще говорили?
— О празднике «Прощание с пионерским ле*
том...»
— Молодец!—мне захотелось обнять парня.—
Я бы тебя взял с собой в разведку!
150
— Меня: у^ке взяли... В кухонный наряд:..— сооб*-
щил Елин и радостно улыбнулся; словно, шел не кот-:
лы драить, а получать переходящий вымпел за, победу
в межобластном трудовом пионерском рейде под де-
визом «Хлеба налево, хлеба направо».
9
— Не знаю* не* знаю.,.— качает головой Шарипов.—
Не к добру ты, Зуб, вчера с альбомом бегал! Чтоб
мне провалиться!
— Да что. вы из меня жилы тянете! — вдруг тон-
ким заячьим голосом вопит Зуб.— Если что-нибудь
случилось, все загудим! Все! Понял?..
— Почему — все? — удивляется Шарипов;?— Вот
Малик не загудит! Можешь ему свою дембельскую
шинель подарить, она ему раньше, чем тебе, понадо-
бится,— Камал кивает на зардевшегося «сынка».—►
Купряшин не загудит — он умный. Я не загу... Не
загу-жу... Скажу им: «Я русский не знай... Ничего не
понимай...» — Меня и отпустят^..
— А меня? — взволнованно спрашивает Цыпле-
нок.
— Тебя?—Шарипов пытается пустить отполиро-
ванной дембельской пряжкой тусклого лунного зайчи-
ка.,— Тебя, как отца двух детей, амнистируют. Ладно,
хрен редьки не слаще... Пошли на полигон!
Он спрыгивает с самоходки на землю, и мы двига-
емся по направлению к выходу, но у самых ворот на-
летаем на комбата Уварова^ Разговаривая с часовым,
старлей держит перед собой свою широкоформатную
фуражку и платком протирает ее изнутри, точно ка-
стрюлю.
Однажды после действительно бездарно проведен-
ных учебных стрельб комбат пообещал нам «небо в
алмазах» и в тот же день, после отбоя, шумно ввалил-
ся в казарму, чтобы устроить маленький «блиц-подъ-
ем» с построением. Мы посыпались на пол и, дрожа
от полночного холода, одевались, теряя накопленное
под одеялами тепло.. А комбат, покачиваясь, стоял по-
среди казармы, освещенный тревожным^ желтым све-
том, и следил за секундной стрелкой: мы должны бы-
ли уложиться в минуту^ Раза два мы не укладыва-
151
лись, и он злым голосом говорил:. «Стоп!» Значит,
нужно было раздеваться и лезть назад, в остывающие
койки. Ребята старались улечься полуодетыми, чтобы
сократить время, и, наконец, выстроились перед ка-
зармой. Знобило. Комбат плел что-то о расхлябанно-
сти и разгильдяйстве. Потом он неожиданно, чтобы
застать врасплох, крикнул: «Отбой. Минута. Время
пошло!» Все ринулись в казарму, в дверях образова-
лась пробка. Передние еще успевали раздеться, а.по-
следние бросались на койки *в полном обмундирова-
нии. Когда последний солдат укрылся одеялом, вошел
утомленный Уваров, оглядывая казарму тяжелым
взглядом, так же, как сейчас, вытер фуражку, устало
буркнул «отбой», выключил свет. Он еще поворчал за
дверью на дневального и в свете фонарей прошел ми-
мо окон нарочито твердым шагом. После этого случая
примерно на неделю комбат увял: во время построе-
ний рассматривал в основном наши сапоги, заводил
с солдатами душевные разговоры, а на политзанятиях
интеллигентно обходил вопросы,укрепления воинской
дисциплины.
И вот сейчас, словно не замечая нас, он сурово вы-
пытывает у часового совершенно бессмысленные ве-
щи: знает ли тот рядового Елина из шестой батареи,
не видел ли его вблизи автопарка... Наконец, так ни-
чего и не добившись, Уваров поворачивается к нам,
надевает свою знаменитую фуражку и командует:
— Ефрейтор Шарипов, постройте людей!
Мы мгновенно оформляемся в куцую колонну по
двое.
— Бегом марш! — командует Уваров.
И мы, громыхая сапогами, устремляемся в сторо-
ну полигона, откуда доносятся хриплые гудки ночного
товарняка.
— Раз-два-три..,— командует комбат.— Раз-два-
три...
* * л
Может быть, самое приятное время в армии — после-
обеденное ожидание писем. В курилке (этим словом
обозначается врытая в землю железная бочка и ска-
мейки вокруг нее) нас собралось человек пятнадцать,
и мы терпеливо ждали, пока неторопливый полковой
152
почтальон (а куда торопиться — служить еще год)
разберет сегодняшние письма. Почта расположена
как раз напротив нашей казармы, и обычно, закончив
сортировку, он высовывает голову в форточку и кри-
чит: «Шестая батарея!»
Армейские письма! Благодаря им солдат живет
как бы в двух измерениях: здесь, в данной' в/ч, и
там — дома! И сколько раз было так, что мое тело
сноровисто выполняло очередной приказ командира,
а душа жила тем временем на гражданке — в стро-
ках полученного письма. Две эти жизни — реальная
и воображаемая — кровно связаны, и тяжелее всего
бывает, когда обе они складываются паршиво, как
случилось у Елина. Он даже не подошел к курилке,
а стоял один в стороне, прислонившись спиной к стене
казармы, и тоже, наверное, наДеялся получить письмо
хоть от кого-нибудь. Действительно, в таком состоя-
нии лучше всего занять себя работой, а на кухне ее
навалом.
Мы ждали. Шел обычный, ничего не значащий
треп, пересыпанный анекдотами. Через равные про-
межутки времени курилка взрывалась хохотом. Умо-
рительную историю рассказал Валера Чернецкий.
Все якобы произошло на самом деле.
Общеизвестно, что главная проблема для «дембе-
ля» — обновление личного гардерббчика. За два года
сильнее всего изнашиваются шапка и ремень. Шапка
вытирается, теряет форму, а ремень лоснится и стано-
вится скользким, как змей. Понятно, никакой старши-
на нового обмундирования специально для дембеля
не выдаст. А Тут приезжают молодые: шапочки, слов-
но одуванчики, ремешки новенькие, покрытые шоко-
ладной корочкой. Так вот, одному «старику» позарез
нужна была новая шапка — свою он на учеййях про-
жег. Думал он, думал и придумал вот что. В их части
«зеленый домик» стоял на отшибе, да еще неэлектрй-
фицированный. Днем ничего, а вечером того гляди —
утонешь! Выследил этот парень, когда перед сном ту-
да молодой заглянет, выследил — и за ним. Усек в
Темноте скорчившийся силуэт, хватанул — есть шап-
ка! Но «старики» — люди справедливые: нельзя же
малому без шапки — простудится. Со словами: «Но-
си, сынок!» — он нахлобучил молодому свою замур-
занную ушанку, выбежал на волю, отмахал метров
153
триста и под первым же фонарем решил полюбовать-
ся на приобретение. Взглянул и обледенел; Мка —
цигейковая—офицерская! Оказывается, одновремен-
но с молодым о жизни размышлял ротный, которого
настолько возмутило наглое нападение, что он тут же
поднял подразделение по тревоге и построил на пла-
цу, рассуждая, вероятно, так: или вор в офицерской
шапке, или простоволос. Провели перекличку — все
на месте, все при своих шапках, и никаких следов
пропавшего головного убора: каптерщик выручил...
Чем же, вы думаете, все кончилось? Правильно: рот-
ный на следующий день приказал электрифицировать
сортир!
И снова — хохот.
Наконец принесли письма. Больше всех^ как обыч-
но, получил Шарипов — четыре! Зуб,- не получивший
ни одного, раздражённо заявил, что у Камала весь
кишлак— родственники, даже ишаки.
Нисколько не огорченный отсутствием писем, я за*
скочил в бытовку, полюбовался на себя в зеркало,
взял из тумбочки книжки и уже видел, как поднима?
юсь по скрипучей лестнице в библиотеку, но вдруг
перед казармой появился Уваров. Он был в штат-
ском— отличных вельветовых джинсах, замшевой
куртке — и вел за руку дочку, четырехлетнюю Лидоч-
ку. Подобные явления в части не редкость: офицеры и
прапорщики живут рядом» в полукилометре от ка-
зарм, и прогуливаются, иногда в сторону вверенных
им подразделений,, сочетая моцион с проверкой обста-
новки.
Разумеется, ребенка сразу же подхватил подха-
лим Цыпленок и принялся подбрасывать вверх, при-
говаривая: «Гоп-чуки, гоп-чуки!» Лидочка, выросшая,
в военном городке и привыкшая к вниманию рядового
состава, смотрела на мучителя кротко и обреченно.
Комбат поинтересовался у Титаренко, как дела, со-
общил, что послезавтра ожидается учебная тревога,
потом исподлобья глянул на меня с Зубом:
— Пойдемте. Поговорим.
Оставив дочь на руках чадолюбивого каптерщика,
Уваров направился на середину нашего батарейного
плаца, мы поплелись следом. Неожиданно комбат
остановился и, резко обернувшись к нам, спросил:.
— Так что произошло с рядовым Елиным?
154
Зуб засопел и побагровел. Я молчал.
— .Я вас спрашиваю, ефрейтор Зубов,— комбат
шевельнул резко вырезанными ноздрями. Если Ува-
ров переходил на «вы», это означало одно: он в бе-
шенстве.
Я смотрел на модные ослепительно белые штибле-
ты комбата. Мне всегда нравились его щеголеватость,
азартность, умение «завести» ребят. И все-таки мне
кажется, он не до конца понимает, что командует жи-
выми людьми, каждый из которых ревностно следит
за любым командирским шагом, дает ему ежеминут-
ную оценку. Вот и сейчас, присматриваясь к комбату,
одетому во все цивильное (а форма делает человека
старше, мужественнее, что ли), я по-настоящему по-
чувствовал, какой он молодой... Старше нас лет на
пять-шесть!
— Что у вас, товарищ ефрейтор, произошло с ря-
довым Елиным? — грозно повторил Уваров.
— Я его не трогал...
— А пуговицы у него сами собой отлетели? — ядо-
вито усмехнулся комбат.
Зуб-мстительно поискал глазами Елина.
— Ну так. вот,—г подытожил старший лейте-
нант.— Не умеешь молодых тихо воспитывать — я бу-
ду тебя воспитывать. Три наряда, вне очереди.
— Есть три наряда вне очереди,— угрюмо повто-
рил Зуб.
— Домой собираешься? — комбат иронически
оглядел ефрейторскую стрижку.— К последней пар-
тии отрастут в самый раз!
Зуб дернулся и уперся взглядом в землю. Поехать
с последней партией — самое большое наказание для
«старика». Это значит — прибыть домой на месяц, а
ТО и на полтора позже, чем другие. О таком лаже ду-
мать невозможно!
— А ты, Купряшин,— дошла очередь до меня,—
не делай вид, будто тебя ничего не касается. В расче-
те — бардак, а его из библиотеки за уши не выта-
щишь. Ты меня понял?
— Не понял, товарищ старший лейтенант.
— Поймешь,— пообещал комбат.— Кругом!
Мы повернулись по-уставному, сделали несколько
шагов и остановились, дожидаясь, пока Уваров отбе-
рет у Цыпленка окончательно утомленную Лидочку
155
и нервным шагом покинет плац. Все это время Зуб
раскалялся, как кусок железа на углях, так что к мо-
менту, когда комбат скрылся из виду, ефрейтор был
уже весь белый и шипел.
— Ну, гадина, ну, стукач! Убью! — заорал он на-
конец. Я рванулся следом за ним, пытаясь на ходу
объяснить: Елин не жаловался, комбат сам все понял
или ему капнул кто-то другой, я даже попытался
схватить Зуба за руку, но он оттолкнул меня в сторо-
ну и так дернул ничего не понимающего Елина за ре-
мень, что тот чуть не переломился, а его пилотка отле-
тела далеко в сторону.
— Ну... ну, салабон,— сказал, задыхаясь от нена-
висти, ефрейтор.— А я его еще пожалел... Крыса его
бортанула! Ай-ай-ай! Так тебе, гаду, и надо!
В подобных случаях пишут: «Его словно что-то
толкнуло», но меня и в самом деле будто толкнуло,
и я с такой силой вклинился между Зубом и Елиным,
что оба отскочили в стороны.
— Не трогай его! — заорал я.
— Ты что, обалдел? — опешил ефрейтор и тут же
шарахнул меня в челюсть. Споткнувшись о лавочку,
я кувырком полетел в кусты, росшие вокруг курилки.
Земля рванулась навстречу, точно конец незакреплен-
ной доски. Удар был несильный, и тотчас, вскочив,
я засветил Зубу кулаком в живот, а после того, как он
присел от боли, еще — по затылку. После проделан-
ного я вдруг на мгновение воспарил над землей, а за-
тем довольно грубо был отброшен в сторону. Это тита-
ренко вмешался в наш честный поединок и, взяв меня
за шиворот, дал команду: «Брэк!» И, надо сказать,
чрезвычайно своевременно, потому что одетый, как на
парад, лейтенант Косулич с повязкой дежурного уже
направлялся к нам, чтобы построить и увести солдат,
идущих в кухонный наряд. Сквозь очки он поглядел на
бурно дышавшего Зуба добрыми глазами и спросил:
— Боролись?
— Вся жизнь — борьба...—ответил я за ефрейто-
ра, закрывая пальцами царапину на щеке.
Слава богу, командир взвода не видел нашей
схватки, а то бы сидеть нам на «губе» -г- в отрезвляю-
ще-прохладной комнатушке с местом для заслужен-
ного отдыха, похожим на маленькую деревянную
сцену.
156
10
— Раз два-три,— командует Уваров,^- раз-два-три...
Комбат бежит сбоку от нас, божит легко, но лицо
его тяжкднеподвижно. И я представляю себе, как се-
годня ночью он проснулся от телефонного звонка,
включил ночник и хрипло отозвался в трубку: «Стар-
ший лейтенант Уваров слушает... Что?! Как про-
пал?!..»
От шума, наверное, проснулась Таня, она села на
кровати рядом с комбатом и, щурясь от света, испу-
ганно спросила; «Кто пропал? Сережа, что случи-
лось?..»
Нет. Не так. Вместе им спдтк совершенно не обя-
зательно.
Сквозь закрытую дверь Таня услышала звонок и
громкий голос Уварова; Она подняла голову, покоси-
лась на тихо посапывающую Лидочку, потом накину-
ла халат и выглянула из своей комнаты:
«Кто пропал? Уваров, что случилось?»
«Солдат пропал»,— не повернувшись в ее сторону,
отозвался комбат.
«Какой солдат?»
«Какой, какой... Елин!»
«Елин? — переспросила Таня.— Это которого Зу-
бов избил?»
«Ну что ты лезешь не в свое дело! — закричал на
нее Уваров.— Сиди в оврей библиотеке — и не лезь!»
От мысли, что жене известно все, происходящее
в батарее, комбату сделалось стцдно. Так бывает и со
мной, когда, бреясь в умывалке, начинаешь строить
перед зеркалом рожи и лопотать разную слюнявую
чепуху, а сзади, за спиной, незаметно появляется кто-
нибудь и, ухмыляясь, наблюдает за тобой. Потом ты
оглядываешься...
«Что же , теперь будет?» — с тревогой спросила
Таня.
«Ничего не будет! Я им устрою веселую жизнь!
Защитнички...»
Раз-Два-три,— командует комбат.—= Шире шаг...
Мы выскакиваем за ворота городка и поворачива-
ем к полигону.
157
* He *
— Ну, а с тобой, друг индейцев, я еще поговорю! —
пообещал Зуб и ушел зализывать раны. Испугал ежа
голыми руками! Мы одного призыва — как-нибудь
разберемся, даже если накрутит против меня «стари-
ков». Но какая он все-таки сволочь, ткнул Елина в са-
мое больное место, да еще пригрозил: из наряда, мол,
лучше не возвращайся! Не нравится мне, как Елин
среагировал — оглянулся затравленно, даже безыс-
ходно, а на меня поглядел с укором: мол, эх ты, треп-
ло... Вот так считаешь себя умным человеком, а по-
том выясняется, что ты балда балдой и только все
портить умеешь: додумался, с кем елинским горем по-
делиться... «Дебил в четвертом поколении»,— как го-
ворит старшина Высовень.
Размышляя таким образом, я снова отправился
в бытовку привести себя в порядок. Протравил одеко-
лоном царапину на щеке, убедился, что синяк на ску-
ле проявится лишь к вечеру, почистил гимнастерку,
выкурил, чтобы успокоиться, сигарету и, наконец, от-
правился в полковое книгохранилище.
Путь мой пролегал через полковой плац.
Сколько разводов отстоял я на этом брусчатом по-
ле, сколько раз строевым шагом, вывернув голову до
отказа вправо, прошел мимо дощатой трибуны, мимо
командира полка, замершего с приложенной к козырь-
ку ладонью, прошел, нещадно лупя сапогами камень
в такт ухающему где-то за спиной большому полко-
вому барабану. Скоро мой последний развод!
...В библиотеку ведет узкая скрипучая лестница.
Достаточно встать на первую ступеньку, а наверху
уже знают, что сюда движется новый читатель, и не-
вольно поглядывают на дверь...
За столами, перелистывая журналы, сидели не-
сколько солдат. Между стеллажами бродил библио-
течный кот Кеша и наворачивался на ноги всем вхо-
дящим. Пахло старой отсыревшей бумагой, но иногда
пробивался вдруг острый запах свежей типографской
краски.
Последние месяцы я проводил в библиотеке все
свободное время. Не только потому, что люблю читать
и «завалился», между прочим, не куда-нибудь, а на
158
исторический факультет. Была еще одна причина.
Ее — не причину, конечно,— зовут Таня Уварова.
Раньше библиотекаршей у нас работала одна вольно-
наемная дама, она так страдала, глядя на копавших-
ся в книжках солдат, словно они рылись в ее интим-
ном дневнике. За настоящих читателей дама призна-
вала только офицеров не ниже майора.
Но вот однажды, заявившись в библиотеку, я за-
стыл на пороге: за столом сидела девушка в пуши-
стом свитере, чем-то неуловимо похожая на Лену. Не
пойму, чем: то ли мальчишеской прической, то ли гру-
стными серыми глазами, то ли особенной манерой
улыбаться, чуть подымая уголки губ. Это внезапное
сходство прострелило навылет мое разочарованное
солдатское сердце, и с той минуты при первой же воз-
можности я шел в библиотеку, садился в дальнем
углу и смотрел на нее, загородившись подшивкой га-
зет. Постепенно живая боль по Лене превращалась
в воспоминание о боли. Один только вид Тани, кото-
рая, утопив пальцы в густых темных и, наверное,
очень жестких волосах, склонялась над книгой или
терпеливо разъясняла кому-нибудь, Что детективов
пока нет, а про любов-ь обязательно есть в любом* ху-
дожественном произведении, совершал в моей душе
некую просветляющую работу: я не так скучал по до-
му, мне просто было радостно жить. Постепенно Таня
стала замечать книголюбивого солдатика и удивленно
поглядывала в мою сторону.
Офицерские жены невольно воспринимают солдат
как массу одетых в защитную форму молодых*парней,
которыми их мужья командуют по долгу службы, о
которых заботятся, о которых все время говорят и по-
мнят. Естественно, заботы офицеров передаются их
женам, они тоже думают о подчиненных мужа, но не
конкретно, а про всех скопом, лишь иногда запоминая
имена: Кузюкин, мол, отстрелялся на «пять», не под-
вел, а Мусюкин, паразит такой, как написали бы в
«Отваге», попался «при попытке употребления алко-
голя», и теперь мужу врежут за слабую воспитатель-
ную работу в подразделении. Но даже тогда и хоро-
ший Кузюкин, и плохой Мусюкин остаются всего-на-
всего символами доблести или разгильдяйства. Ко-
нечно, обидно, НО понятно: нас в полку сотни, ие за-
поминаем же мы в лицо и по имени тех, с кем-—
159
пусть даже частоездим на работу в одном авто-
бусе.
. Но года три назад в нашем полку случилось неве-
роятное! Один «старик» увел жену у своего же взвод-
ного: у супружников что-то не ладилось, поженились
наспех, не разобравшись, как часто бывает после учи-
лища, а парень — солдат—был симпатичный, в пол-
ковом ансамбле играл. Артист! Одним словом, дем-
бельнулся вместе с командирской женой. И говорят,
очень хорошая семья получилась!..
Однажды, когда в библиотеке никого не было, я
осмелился заговорить с Таней. Точнее, она, утомлен-
ная моими восхищенными взглядами, иронично заме-
тила:
— Товарищ воин, глазами нужно есть команди-
ров, а не их жен!
— Это смотря по какому уставу! — неожиданно
для себя схамил я.
— Скажите, пожалуйста,— удивилась Таня,— он
еще и остроумный.
— А вы полагали, солдат вместе с паспортом и
мозги в военкомат сдает?
— Нет... А вообще-то немного — да! — улыбну-
лась она уголками губ. С тех пор мы стали разгова-
ривать.
Первое чувство солдата к офицеру: несправедли-
во! Вроде такие же люди, но живут вольно, с семьями,
получают хорошую зарплату^ развлекаются, а для те-
бя — жесткая дисциплина. Но,, взглянув на эту «слад-
кую жизнь» Таниными глазами, я стал сочувствовать
людям, существующим по принципу «нынче здесь —
завтра там». Оказалось, Таня недавно окончила эко-
номико-статистический институт, ее подруги по фа-
культету работают, учатся в аспирантуре, а она сидит
здесь, за забором, и даже начинает забывать специ-
альность. Одна надежда, что мужа пошлют в акаде-
мию, но Уваров вдрызг рассорился с отцом-генера-
лом, и тот пока от помощи воздерживается. В городке
Таня ни с кем близко не знакома, наверное, потому
что наш комбат, гордый, как горный орел, с людьми
сближается очень туго и прекрасно обходится без
друзей, но зато часто заглядывает в офицерское кафе.
Из-за этого вся их семейная жизнь — одна перма-
нентная ссора...
160
Изголодавшись по откровенности, Таня делилась со
мной всем, точцо с лучшей подругой, а я отключал
слух и смотрел, как она говорит, как поправляет во-
лосы, как пожимает плечами, недоумевая, о чем ду-
мает ее муж и думает ли он вообще?!
Уваров иногда заходил в библиотеку. Он знал, что
у его жены сложились дружеские отношения с неким
рядовым Купряшиным из небезызвестной ему шестой
батареи, но вряд ли догадывался об искренности на-
ших разговоров, воспринимая—и, наверное, справед-
ливо,—наши отношения как дружбу взрослой женщи-
ны с каким-нибудь безобидным семиклашкой. Да и у
меня самого было странное ощущение: не то, чтобы
я не чувствовал себя парнем или там мужиком, нет,
но я не чувствовал себя кавалером — есть такое почти
забытое слово. Мне мешало все: и вкус солдатского
обеда во рту, и тяжелые сапоги, и залоснившиеся га-
лифе, и несвежее белье на теле... А Таня, наверное,
понимая мое состояние, относилась ко мне еще добрее.
Когда же я рассказал ей про Лену, она грустно улыб-
нулась:
— Знаешь, Лешенька, может быть, это самая
большая удача в твоей жизни, что получилось у вас
именно так!
У нас был договор: пока в библиотеке кто-то есть,
своих дружеских отношений не показывать, поэтому
и сегодня я подошел к ее столу с равнодушным, как
у деревенского гармониста, лицом. Она взглянула на
меня снизу вверх и вопросительно показала пальцем
на щеку. Непередаваемой игрой бровей я ответил, что
потом все объясню.
— Вам что-нибудь почитать? — бесцветно поинте-
ресовалась Таня.
— Что-нибудь новенькое.
— Вот, здесь есть про армию,— она протянула
свежий номер молодежного журнала.
Рассказ назывался «Письмо без марки». Краткое
содержание: воин-разгильдяй тянет назад все подраз-
деление, никого не хочет слушать, боится только свою
девчонку-доярку, которая героически ждет его на
гражданке. Командир взвода — хмурый, но добрый
человек — сначала не знал, что ему делать с разгиль-
дяем, но потом к командиру приехала жена, вникла
6. Крещение
161
в проблемы подразделения и додумалась. Она напи-
сала письмо разгильдяевой подруге и попросила по-
влиять. Та взяла отпуск на ферме и приехала к свое-
му недисциплинированному другу. О чем они говори-
ли в ленкомнате, никто не слышал, но вскоре, на уче-
ниях, бывший разгильдяй первым ворвался в распо-
ложение воображаемого противника, о чем и сообщил
своей далекой подруге в письме без марки.
Я не заметил, как опустела библиотека, как, до-
свиданькнув, ушел последний читатель.
— Ну, так что же у тебя случилось? — откинув-
шись на спинку стула, спросила Таня.
— С Зубом я подрался.
— Это который на поросенка похож?
- Да.
— А из-за чего?
— Из-за одного молодого. Из-за Елина.
— Бедненький,— сказала она ласково и вдруг по-
дошла ко мне какой-то таинственной походкой.— Не-
счастный, поцарапанный! — Таня провела холодными
пальцами по моей щеке. У меня перехватило дыхание,
я задержал ее руку и посмотрел в ее потемневшие,
ставшие очень внимательными глаза. И вдруг заме-
тил, что у Тани очень много маленьких родинок —
почти точечек, они начинались на щеке, сбегали ниже,
вдоль шеи, и пропадали за пушистым воротом свите-
ра. Я, задыхаясь, смотрел на эту тропинку из роди-
нок и крепче сжимал ее прохладные пальцы...
Застонала первая ступенька, и через минуту, опе-
режая собственный грохот, в библиотеку ввалился
запыхавшийся сержант. Подкатив к столу, он вынул
из-за ремня растрепанную книжку и спросил: ,
— Я не опоздал?.. Еркин—моя фамилия.^ Бата-
рея управления.
— Нет! Не опоздали...
Таня нашла его абонемент и вопросительно гля-
нула.
— Мне бы опять что-нибудь про любовь! — за-
искивающе пробормотал тот.
— А вам про какую: про счастливую или несчаст-
ную?— улыбнувшись уголками губ, уточнила Таня.
— Про любую! — не задумываясь, ответил сер-
жант Еркин.
162
— Шире шаг! — командует комбат.
Мы выскакиваем за ворота гарнизона и поворачи-
ваемся к полигону. Бежать трудно, ноги проваливают-
ся в колеи и рытвины, оставленные гусеницами «са-
моходок». На горизонте появилась узенькая светлая
полоска, точно кто-то, замерзнув к утру, натянул на
голову черное байковое одеяло ночи и обнажил при
этом сероватое солдатское белье.
Возле блиндажа, похожего в полутьме на огром-
ную болотную кочку, толпятся солдаты во главе с лей-
тенантом Косуличем. Увидев комбата Уварова, он
вздыхает, поправляет пальцем очки и бросается к на-
чальству, чтобы доложить результаты поисков. Чер-
нецкий и Титаренко уже здесь. Они стоят немного по-
одаль, вид у них хмурый, от бравой стариковской са-
моуверенности не осталось и следа.
— Не журись, хлопец! — жалобно просит Камал
и утыкается лицом в гранитное плечо Титаренко.
Среди тех, кто собрался возле блиндажа, есть
и малознакомые парни из батареи управления. Ока-
зывается, с вечера они залезли в подвал и в честь ста
дней решили приготовить в по'ходном котелке настоя-
щий узбекский плов. Там их и обнаружил лейтенант
Косулич. Повинуясь душевному порыву, а также иску-
пая грех чревоугодия, парни из батареи управления
горячо включились в поиски Елина.
— Вон из-за того кошкодава дергаемся! — кивает
кто-то из них на Зуба.— Морду ему набить!
Комбат Уваров, рассеянно поправляя на голове
свою беспримерную фуражку, слушает обстоятельный
доклад лейтенанта Косулича. А мы топчемся на одном
месте, ежимся от предутренней прохлады и обсужда-
ем, куда все-таки мог исчезнуть Елин и где еще можно
поискать. И в этот миг, словно светящиеся трассеры,
темноту пронзают огоньки курьерского поезда. Раз-
дается хриплый, как звук саксофона, гудок.
И тогда, не сговариваясь, без команды мы бросаем-
ся мимо мишеней, мимо деревянных макетов танков
туда, на край полигона.
— Рассредоточиться вдоль железнодорожного по-
лотна! — торопливо командует Уваров.— Дистан-
ция — десять метров!
163
Я мчусь, не разбирая дороги, спотыкаюсь, падаю,
вскакиваю, снова бегу... И только ухнув с размаху в
глубокую дренажную канаву, останавливаюсь, пере-
вожу ду'х и, внимательно оглядываясь, бреду вдоль
железной дороги. Я холодею и вскрикиваю, наткнув-
шись на брошенный и окаменевший мешок цемента,
напоминающий очертаниями человеческое тело. Во
мне крепнет уверенность, что Елина найду имен-
но я...
Но кто же мог подумать, что Елина найдет Цып-
ленок?!
* * w
Во время ужина я старался не смотреть в сторону
Зуба — не хотелось портить того чувства веселого все-
силия, которое переполняло меня после разговора
с Таней. И все-таки боковым зрением я заметил, как
ефрейтор, округлив глаза, что-то горячо доказывал
хмуро кивавшему Титаренко. Поев, я заглянул в мой-
ку и обнаружил там Малика. С выражением страда-
ния на интеллигентном лице он очищал алюминиевые
миски от остатков пшенной каши.
— А где Елин? — удивился я.
— В санчасти.
— Где!. А что случилось?—я невольно обернулся
и поискал глазами Зуба, неторопливо допивавшего
свой чай.
— Кажется, живот заболел, Скоро придет...
— Ну, живот не голова. Слушай, Малйк, когда
Фима вернется, скажи ему: пусть не психует и ничего
не боится. Все будет нормально. Понял?
— Понял,— ответил он с чуть заметной иронией
воспитанного человека, услышавшего несусветную
чушь, но, в силу своей тактичности, удержавшегося
от комментариев...
«Может быть, и вправду не стоит лезть во всю эту
свару?» — рассуждал я, сидя в полковом клубе и со-
зерцая кинофильм про войну. За спиной кто-то спо-
рил о том, из чего сделаны немецкие «тигры» — из
фанеры или настоящие. Сначала я тоже на полном
серьезе обдумывал эту проблему, но потом мои мыс-
164
ли снова вернулись к Елину: «Странно... Днем не жа-
ловался, а вечером вдруг побежать в санчасть!»
Затем я принялся ломать голову, как мне вести
себя во время объснения со «стариками», а оно, су-
дя по той бурной агитационной деятельности, какую
развил Зуб, не за горами.
Мне припомнилось, как год назад «старики» под
председательством Мазаева судили одного «лимона»
за то, что тот воровал из тумбочек жратву, а свали-
вал вину на якобы всегда голодных «сынков». «Лимо-
на» разжаловали в «салаги» — и уже на следующее
утро он драил вместе с молодежью казарму, заправ-
лял Мазаеву койку...
Наступая в темноте на ноги, я выбрался на воздух
покурить. В темноте терялись черные объемы авто-
парка. Стояла трескучая цикадная тишина, нарушае-
мая воем авиабомб и стуком пулеметов, словно неда-
леко шел бой. А бой-то шел на белой натянутой
простыне, но чувство все равно такое, будто война вот-
вот может шагнуть сюда. Из клуба донеслись побед-
ные крики. Очевидно, брали рейхстаг. В черном небе
беззвучно плыл крест, составленный из разноцветных
огоньков, с пульсирующей точкой посредине...
После вечерней поверки и отбоя, когда все уже ле-
жали в койках, старшина Высовень, подозрительно
поводя носом, несколько раз обошел казарму, словно
старался разнюхать, какой сюрприз готовит ему лич-
ный состав батареи по случаю ста дней до приказа.
Он даже толкнул притворно похрапывающего Ша-
рипова.
— А? Что?! Товарищ прапорщик...— вскинулся
тот, будто внезапно разбуженный.
— Смотри, казанская сирота! Ох, смотри! — при-
грозил старшина.
— Вы о чем?
— Все о том же!
Камал недоумевающе пожал плечами и, картинно
уронив голову на подушку, закрыл глаза. Прапорщик
пробубнил еще что-то дневальному, сходил наверх
в каптерку, видимо, выискивая спиртное, и наконец
ушел. Как только Высовень мелькнул мимо окон, Ша-
рипов открыл один хитрющий глаз, потом другой, под-
мигнул мне и громко сообщил, имитируя гнусавое вок-
зальное радио:
165
— К сведению «стариков»: через десять минут
в каптерке состоится торжественный товарищеский
ужин, посвященный ста дням. Приглашаются все, ко-
му положено.
Мне положено, но я решил не ходить, остался ле-
жать в койке, прислушиваясь к топоту, доносившему-
ся со второго этажа, из каптерки, и даже начал засы-
пать, когда меня растолкал Шарипов:
— Вставай, турок, «дембель» проспишь!
— Я не хочу, гуляйте без меня...
— Э-э! Вставай, Черт Иваныч! — настойчиво по-
вторил он.— Разговор будет...
Делать нечего, я спрыгнул на холодный пол, быст-
ро оделся и поплелся в каптерку. Завидев меня, стоя-
щий на «тумбочке» Аболтыньш предостерегающе при-
ложил к погону два пальца и показал глазами наверх.
Все это означало: здесь офицер! Я было дал задний
ход, но тут из бытовки торопливо вышел лейтенант
Косулич. Я приготовился к подозрительным расспро-
сам: куда, мол, одетый, откуда и почему, даже приду-
мал правдоподобную тезу... Но встревоженный взвод-
ный только рассеянно кивнул мне...
. — Что он хотел? — спросил я у дневального, ког-
да стукнула входная дверь.
— Не знаю... Спрашивал про Елина,— ответил
Аболтыньш.
— Елина? — удивился я.— Он же в санчасти..,
— A-а..; Наверное, госпитализировали..,
— Наверное...
В центрё каптерки, напоминающей склад «Воен-
торга», стоял стол-многоножка, сооруженный из че-
тырех табуретов. Вокруг него сидели наши батарей-
ные «старики» во главе с могутным Титаренко. При-
служивал им Цыпленок. Когда я вошел, в комнате
царил басовитый гвалт.
— А вот и друг индейцев!—с издевкой показал
на меня раскрасневшийся Зуб.— Без особого пригла-
шения не идет — брезгует! А может, он себя уже и
«стариком» не считает? А?!
— Ладно, погоди! — морщась, перебил ефрейтора
Титаренко и подвинул мне табурет.— Садись... Празд-
ник сегодня!
1G6
— А ну-ка, Леха, махани! — потребовал веселый
Шарипов и налил мне из алюминиевого чайника
бражки.
Я сел, без всякого удовольствия поздравил ребят,
потом подцепил вилкой волокнистую тушенку, заку-
рил и стал ждать продолжения разговора. Табачный
дым плавными слоистыми облаками поднимался к по-
толку. Висевшие вдоль стены «парадки» казались ка-
кой-то фантастической, словно спрессованной, колон-
ной солдат.
— Конечно, день сегодня не такой, чтобы...—
после долгого молчания медленно начал Титаренко.—
Но давайте, мужики, все-таки разберемся...
— А что разбираться! — быстро отозвался Шари-
пов.— Два «старика» из-за «сынка», как собаки, сце-
пились... Позор!
— Ты, Купряшин, конечно, зря в драку полез,—
согласился сержант.— Но и ты, Зуб, тоже меры не
знаешь...
— Значит, я виноват? Я?! — взвился ефрейтор.—
Хорошо. Дайте мне сказать. Я, выходит, скотина,
а Купряшин заступничек? А за меня кто-нибудь за-
ступался, когда я день и ночь на Мазаева ишачил?..
Я только говорил себе: «Терпи, Саша, «стариком»
будешь...» Так почему же я честно отмотал свой год
«салагой», а какой-то паршивый Елин хочет дуриком
прожить, да еще этот (он показал на меня) за него
заступается? Или, может быть, так и нужно? Тогда
давайте с завтрашнего дня жить по уставу: все вме-
сте вкалывать... Чернецкого пошлем сортир мыть, Ша-
рипова— окурки по территории собирать... Напле-
вать, что «салабонам» еще два года служить, .а мы
уже «парадки» приготовили. Полное равенство! Как
в Конституции. Замполит нас всех расцелует да еще
благодарственные письма домой отправит: «Ваш сын
проявил чудеса героизма в борьбе с неуставняком»...
Вы так хотите? Давайте. Давайте прямо с утра и на-
чнем: я побегу к Елину прощение просить, а вы...
— Не ори!—оборвал его Титаренко.— Не ори...
Мы не глухие. Кто еще хочет сказать?
— А что говорить? — снова встрял Шарипов.—
Пусть подадут друг другу руки... Такой день сегодня,
елки-моталки!
167
В ответ я демонстративно заложил ладони за ре-
мень, а Зуб непримиримо ухмыльнулся. Мы помолча-
ли. Шарипов гонял по тарелке скользкий кусочек се-
ледки, Титаренко барабанил пальцами по колену,
Чернецкий выкладывал из хлебных шариков цифру 1,
Цыпленок, попавший на нашу тайную дембельскую
вечерю по праву каптерщика, делал страшные глаза
и, шевеля губами, согласно мотал головой, словно от
его мнения что-то зависело.
— Дай-ка я теперь скажу,— прервал тишину Чер-
нецкий.— Сначала — о Зубе... Знаешь, Саня, ты не
обижайся, но в тебе столько злобы накопилось, такие
стратегические запасы... Ты уж постарайся — распре-
деляй равномерно между всеми молодыми. Я Купря-
шина поддерживаю: что ты в Елина вцепился? Дове-
дешь парня до точки, потом будешь, как тот мордово-
рот на суде, «мамочка!» орать... И мы с тобой
влипнем.
— Значит, опять я виноват! А ну вас всех...— Зуб
с грохотом рванулся к двери.
— Сядь! — вернул его на место Титаренко.— Сам
разговор начал — теперь слушай!
Дожидаясь, пока восстановится тишина, Чернец-
кий катал из мякиша серые горошины и вслед за еди-
ницей стал выстраивать ноль.
— Несколько слов о моем друге Купряшине,—
наконец продолжил он.— Скажи мне, Леша, скажи
честно: против чего ты борешься? Чего ты хочешь?
Елина защитить или всех «стариков», как класс, унич-
тожить?
— Я хочу справедливости! — послышался мой
ответ.
— Какой?
— Что значит — какой? — не понял я.
— А то и значит,— с готовностью объяснил Чер-
нецкий.— На словах у нас одна справедливость, а в
жизни — совсем другая! Ты думаешь, люди на «ста-
риков» и «салаг» только в армии делятся? Ошибаешь-
ся. Разуй глаза: эти на работу пехом шлепают, а те
в черных бугровоза'х ездят, эти в очередях давятся,
а те в спецсекциях отовариваются, эти... Или вот
пример: меня из института, дело прошлое, за прогу-
лы поперли — заигрался в любовь с одной лялькой.
А мой однокурсничек, сынок председателя гориспол-
168
кома, даже на сессиях не показывался, однако окон-
чил институт с красным дипломником и за границу
стажироваться поехал... Выходит, он — «дед», а я —
«сынок». Вот так! Запомни Купряшин: там, где появ-
ляются хотя бы два человека, сразу встает вопрос—
кто командует, а кто подчиняется. Однажды у нас
в полку несколько подразделений из одного призыва
сформировали. Так там молодые сами свои порядки
устанавливали: кто здоровее, тот и «дембель».
Я сидел и ошалело смотрел на Валерку, развер-
нувшего передо мной целую неуставную философию,
а ведь это был тот самый парень, который всего год
назад изображал гудок в излюбленном казарменном
представлении «Дембельный поезд». Делалось это
так: рядовой Мазаев блаженно возлежал на койке,
а несколько молодых раскачивали ее с ритмичным
перестуком, создавая полную иллюзию мчащегося
вагона. Другие «салаги» мотались под окном, разма-
хивая зелеными ветками, и обозначали убегающий
дорожный пейзаж. Валера через равные промежутки
рожал протяжный железнодорожный звук. А я был
свежим встречным ветерком...
— И последнее,— помолчав, прибавил Чернец-
кий.— Я допускаю, Лешенька, что «стариковство»
идет вразрез с твоими нравственными принципами.
Я уважаю твои убеждения, но тогда у меня вопрос:
как мы будем жить дальше? Если ты не будешь «ста-
риком», придется быть «салагой», третьего не дано.
Вольные стрелки только в сказках бывают... Подумай
хорошенько! На этом, полагаю, можно закончить на-
шу профилактическую беседу. Все-таки праздник
сегодня!
Чернецкий замолчал, хмыкнул и снова стал катать
хлебные шрапнельки.
— Ты будешь говорить?—спохватившись, спро-
сил меня Титаренко, за долгим монологом он совер-
шенно забыл о своих председательских обязанностях.
Говорить... В розовощеком детстве я очень лю-
бил смотреть телевизор, особенно взрослые фильмы,
где постоянно кто-то с кем-то спорил. Конечно, мне
были непонятны причины их разногласий, меня волно-
вало другое: кто прав? Я спрашивал об этом отца, он,
не задумываясь, указывал пальцем на мечущийся по
экрану серо-голубой силуэт и объяснял: вон тот!
169
Тогда у меня возникал другой вопрос: если «вон тот»
прав, то почему же этого никак не хотят понять
другие люди из телевизора? Почему? С возрастом
я понял: мало знать истину, нужно еще иметь луже-
ное горло, ослиное терпение и крепкие, как нейлоно-
вая удавка, нервы...
— Ребята,— с соглашательской гнусавинкой заго-
ворил я, обводя взглядом «стариков»,— пусть каждый
из нас останется при своем мнении... Пусть! Но ведь
нужно быть человеком независимо от того, сколько ты
прослужил. Знаете, у меня все время не идет из голо-
вы рассказ замполита отех «дембелях» из Афгана...
— Ты еще Олега Кошевого вспомни! — осклабил-
ся Зуб.
— Заткнись, кретин,— взорвался я, понимая, что
все порчу, но остановиться не мог.— Тебе, как челове-
ку, про Елина рассказали, а ты что сделал, подонок?!
— А что Елин сделал? — передразнил ефрей-
тор.— Бегал жаловаться Осокину!
— Кто тебе сказал?
— Видели...
— За стукачество наказывать надо!—сокрушенно
покачал головой Шарипов.
— В самом деле, Леха, такие вещи прощать нель-
зя!— поддержал Чернецкий, отрываясь от хлебных
шариков.— Чтоб другим неповадно было!
— Пусть только из наряда вернется!—Зуб стук-
нул ребром ладони о табурет.
И я понял, что теперь нужно спасать не абстракт-
ную идею казарменного братства, а конкретного ря-
дового Елина с редким именем Серафим.
— Он не жаловался. Это точно! — твердо ска-
зал я.
— Откуда же комбат все знает? — ехидно поинте-
ресовался Зуб.
— А ты думаешь, у Уварора мозгов нет, и он не
догадывается, кто больше всех к молодым лезет?
— А почему комбат раньше молчал?
— А ему так спокойнее: ты молодых держишь,
он—тебя, и порядок. Только вот накладочка вышла:
майор засек, как Елин выдранные пуговицы приши-
вал... Понял?
— Понял! Ты сам комбату и настучал!
— Что-о?!
170
— Малик видел, как ты в штаб бегал! —торжест-
венно сообщил Зуб.
Повисла тяжелая, предгрозовая тишина. Хорошо
телевизионным героям, они в конце концов доказыва-
ют свою правоту, в крайнем случае дело заканчива-
ется оптимистической неопределенностью! А что де-
лать мне? Оправдываться, суетливо пересказывать
разговор Уварова и Осокина, а потом снова уверять,
что Елин не ябедничал... Можно... Но мной овладела
какая-то парализующая ненависть ко всему происхо-
дящему, какое-то черное равнодушие...
— Леха, почему ты молчишь? — тревожно спро-
сил Чернецкий.— Зачем ты ходил в штаб?
— Стучать,— коротко и легко ответил я.
— Ты соображаешь, что несешь? — медлительно
опешил Титаренко.
— Могу повторить: сту-чать...
— Купряшин, не выделывайся, не ври! Скажи, что
ты врешь! — почти попросил меня Валера Чернец-
кий.— Он сейчас скажет!..
Я молчал. Ребята сидели потупившись. Цыпленок
смотрел на меня с ужасом. За обоями скреблись мы-
ши. Титаренко встал:
— Какие будут предложения?
— Гнать его из «стариков»! — сладострастно
крикнул Зуб.
— Будем голосовать? — неуверенно спросил сер-
жант.
И мне стало смешно. Как же в нас въелся дух
всяческих заседаний, если даже сейчас не нашлось
никаких других слов! Может быть, они еще постанов-
ление станут читать?
— Единогласно...— обведя взглядом поднятые ру-
ки, продолжал Титаренко.— Принято решение: счи-
тать Купряшина... Ну, в общем, с завтрашнего дня
до «дембеля», Леш... Купряшин — «салага». Кто будет
относиться к нему иначе, накажем точно так же...
Ясно!
— Отваливай!—с холодным удовлетворением гля-
дя мне в глаза, скомандовал Зуб.— Тебе здесь боль-
ше делать нечего. Здесь «старики» гуляют!
Я встал. Титаренко смотрел в сторону. Цыпленок
ерзал от страстного желания помчаться вниз и сооб-
щить однопризывникам потрясающую новость. Чер-
171
нецкий выложил из серых хлебных комочков циф-
ру 100...
— Ну, так чью койку мне завтра заправлять? —
спокойно спросил я членов высокого суда.
Никто не ответил.
12
Но кто же мог подумать, что Елина найдет Цыпле-
нок?!
Я слышу испуганное «идите сюда!» и, путаясь но-
гами в мокрой траве, бросаюсь на голос. Возле под-
прыгивающего на одном месте Цыпленка стоит запы-
хавшийся Титаренко. Следом за мной подбегает Чер-
нецкий, он застывает рядом, и я щекой чувствую его
прерывистое дыхание. Наконец, тяжело сопя, подва-
ливает Зуб.
— Во-он валяется! — поясняет Цыпленок, тыча
пальцем.
Мы всматриваемся: Елин лежит во рву, скорчив-
шись калачиком и уткнувшись лицом в землю, на ме-
сте головы зияет густая тень, отбрасываемая разлапи-
стым кустом. При свете луны виднеется спичка, за-
бившаяся в рифленую подошву сапога, из-за голени-
ща белеет уголок портянки.
— Иди к нему! Иди, тебе говорят! — Титаренко
с силой выталкивает Зуба вперед, но тот, заслоняя
рукой- лицо, отскакивает в сторону, а потом его сопе-
ние раздается уже за нашими спинами. Никто не ре-
шается приблизиться к Елину, точно и не его мы иска-
ли всю ночь. Шарипов печально цокает языком.
...Однажды я ехал в метро, и вдруг посреди под-
земного перегона поезд затормозил и остановился.
Приноровившиеся к дорожному грохоту, пассажиры
еще некоторое время продолжали говорить в полный
голос, будто старались перекричать внезапную тиши-
ну. Потом все разом замолчали и принялись тревож-
но перешептываться. Минут через пять поезд тихонь-
ко тронулся и уехал очень медленно, мы буквально
выползли из темного тоннеля на свет. Во всю плат-
форму, обступая что-то лежащее на полу, теснились
люди, сквозь толпу продавливались санитары с но-
силками. «Человек на рельсы упал!»—догадался
172
кто-то из пассажиров, и несколько любопытных, вы-
скочив из вагона, присоединились к толпе. Мне нуж-
но было выходить на той станции, но я прижался
спиной к стеклу с надписью «Не прислоняться»
и успокоился лишь, когда поезд снова въехал в гул-
кую темноту тоннеля...
К Елину неуверенным шагом приближается...
нет,— крадется Цыпленок. Сердце, словно чугунное
ядро, тяжко раскачивается в моей груди. Кажется,
еще минута, и оно, с треском проломив ребра, вырвет-
ся наружу. Валера Чернецкий больно сжимает паль-
цами мой локоть. Зуб уже не сопит, а стонет. Подбе-
гает комбат. Фуражку он где-то потерял.
— Спит? — шепотом спрашивает Уваров и выти-
рает пот.
— Как мертвый,— отвечает Шарипов.
Цыпленок медленно опускается перед Елиным на
колени...
* * *
Воротившись из каптерки в казарму, я тихонько раз-
делся, сложил на табурете обмундирование и полез
на свой верхний, «салажий» ярус. Глаза у меня сли-
пались, рот раздирала мучительная зевота, но
уснуть я не мог. Казалось, вот сейчас перевернусь на
правый бок и отключусь, но ни на правом боку, ни на
левом, ни на спине и никак по-другому забыться не
удавалось: перед глазами стояла торжествующая ро-
жа Зуба.
«Подумаешь, трагедия! — успокаивал я себя.—
Трибунал для бедных... И не такое случалось! Завтра
на свежую голову разберемся».
А что, собственно, со мной случалось в жизни?
Да почти ничего.
Впрочем, именно в армии я впервые попал в на-
стоящую переделку. Во время апрельских учений мы
несколько раз меняли расположение лагеря, и однаж-
ды какой-то идиот второпях сунул в машину со сна-
рядами «буржуйку», из которой не были выброшены
раскаленные угли. Мы уже разбивали палатку па но-
вом месте, когда Шарипов застыл с колышком в руке
и проговорил:
— Ну, сейчас шибанет!!
173
Из-под брезента, закрывавшего кузов, валил гу-
стой дым, изнутри светящийся огнем. Не помню, кто
бросился первым, ко на несколько секунд нас опере-
дил комбат, он-то со страшной руганью и выбросил
печку из кузова, а мы лихорадочно тушили занявшие-
ся, в струпьях обгорелой краски ящики, стараясь не
думать о том, что в любое мгновение можем превра-
титься в пар. Страх пришел потом, когда, закурив
трясущимися руками и путая слова, мы наперебой
описывали друг другу случившееся, как дети переска-
зывают содержание только что увиденного фильма.
А перепачканный пеплом Уваров сидел на траве, тряс
головой и повторял, точно заевшая пластинка:
«Ну, чепешники, мать вашу так! Ну, в/ч ЧП...»
Да-а, еще минута—и было бы ЧП на весь округ,
а в газете «Отвага» появился бы большой очерк капи-
тана Деревлева под названием «Сильнее смерти и ог-
ня», где наши героические, овеянные пороховым ды-
мом силуэты решительно заслонили бы нелепые, раз-
гильдяйские причины чрезвычайного происшествия.
Возможно, и Лена со временем узнала бы, что ее не-
состоявшийся спутник жизни погиб, спасая боеприпа-
сы от разбушевавшейся стихии.
Но ничего этого не произошло, и мы — Титаренко,
Шарипов, Чернецкий, Зуб и я —стояли, бессильно об-
нявшись, нервно смеясь и ощущая себя братьями... Ин-
тересно, откажутся они завтра от своего приговора
или нет?
И мне приснился сон, но какой-то странный, вы-
вернутый наизнанку: не я убываю на гражданку, а все
мои домашние—мама, отец, Лена — приезжают
к нам в часть с чемоданами, в дембельской форме,
а у Лены на груди даже медаль. Зуб рассказывает
моим родителям что-то хорошее про Елина. Я подхо-
жу к Лене и спрашиваю:
— Разве за это дают медали, Лена?
— Лешенька, ты что, меня не узнал?! — удивляет-
ся она.— Это же я, Таня. Только ты не волнуйся, глу-
пенький, главное — ты уже дома...
Но в это время раздаются голоса, топот, и запы-
хавшийся сержант Еркин с растрепанной книжкой за
ремнем кричит во весь дух:
— Батарея, подъем! Тревога!
174
И все начинают приплясывать и грохотать сапога-
ми об пол, а Таня сильно тормошит меня за плечо —
мол, танцуй с нами!
Я открываю глаза и вижу старшину Высовеня:
— Трибунал проспишь!—сурово острит пра-
порщик.
13
Цыпленок медленно опускается перед Елиным на
колени и осторожно, точно боясь испачкаться чем-то,
склоняется. Прислуишвается. Я не выдерживаю и от*
ворачиваюсь.
В небе, словно надраенная до блеска дембельская
пряжка, сияет луна.
Николай Соловьев
Песня
Рассказ
Наверное, с той незабытой поры возникает у меня
в любом многолюдье давящее чувство одиночества и
неприкаянности. Я никогда не мог ощутить себя необ-
ходимой частичкой выверенного ежедневным трена-
жом армейского строя, хотя и старался, тянул, как
и все, ногу, цеплялся за мизинец товарища по коман-
де «Смирно!», чтобы не завалить равнение шеренги.
Мой первый старшина командовал: «A-раз, а-раз, два,
три!» — и ротная колонна по шесть начинала вкола-
чивать сапогами в выскобленный асфальт плаца об-
щую ненависть к шагистике с такой неизбывной си-
лой, что казалось, асфальт тут же и треснет, будто
лед, и выпрет из трещин наружу серый бугор изму-
ченной топотом земли.
Но всего этого — ни расчерченного белыми полоса-
ми асфальта, ни раскатного счета, ни позвякивающих
подковок на сапогах — не оказалось в военно-строи
тельном отряде, куда прислали меня после первых се-
ми месяцев службы. Зато оказалось тут другое —
гладкая на все четыре стороны степь, пяток щитовых
казарм на сто пятьдесят человек каждая, блок кухни
и столовой да еще с десяток, не больше, таких же
кривых временных построек. Оказалось также, что
днями, когда роты уходили на работу на площадки
и станцию «Б», и перед вечерней прогулкой стоит
всегда жидкая колеблющаяся тишина: не слышно ни
топота, ни команд, ни стрельбы на полигоне, и даже
звуки извне, посторонние, пролетали наш разломан-
ный забор, проносились, нигде не задерживаясь,
между казармами и столовой, чтобы погаснуть далеко
в степи, как не попавшие в цель и обессиленные по-
летом пули.
176
Песня возникла как раз в тишине, перед прогул-
кой, на которую все одно никто не ходил, если не бы-
ло поблизости высокого начальства. Она прилетела
к нам с той стороны, где проходила пыльная дуга
неизвестной дороги,— никто из нас не знал, куда и от-
куда ведет она. Около дороги, километрах в двух от
нашего забора, стояла возле маленького прудика ро-
щица согнутых ветром осин. Уже после первого года
службы солдаты, выросшие в России, ходили туда,
чтобы увидеть вблизи и наяву деревья, погладить ла
донью зеленоватую с желтыми жилками кору, поню-
хать мелкие шершавые листья. Но и листья уже к коп
цу мая неотличимо пахли степью. Откуда взялась ро
ща, как появился пруд — не знал тоже никто, но де
ревья исправно зеленели каждую весну, хотя ни еди-
ное дерево, посаженное в части, больше двух зим не
выдерживало и засыхало.
Составленная из десятка нестройных женских го-
лосов и попискивающей рядом гармошки, песня при-
летела оттуда, от рощи и воды и не стояла на месте,
двигалась, медленно уходила в степь, а случайные
обрывки мелодии, протяжных дразнящих слов жили
еще, плавали над коричневой утоптанной землей «рас
положения». Пускай и дальние, но живые и понятные,
не сломанные громкоговорителем, женские голоса бы-
ли страшны любому из нас, по два года не видевших
ни единого человека не в военной форме.
Может быть, песня та была излишне тоскливой,
слышанной и загнанной сотнями других голосов, и пе-
ли ее небрежно, вполпьяна, но нам и не было никако-
го дела до того, нас будоражило то, как вообще она
могла появиться здесь, где давным-давно — на вто-
рой, казалось, день после постройки казарм — замер
всякий человеческий голос.
— Поют вроде где-то...— сказал Зина.— Бабы
поют! Бабы, а?
Он прислушался внимательнее, привстал с упав-
шего зимой полотнища забора и, вновь различив голо-
са, поднялся и ударил пилоткой о колено:
— Поют!
— На дороге, что ли? Может, к кошарам едут? —
спросил Зину солдат Володька Бык, тоже жадно слу-
шавший песню.
177
Зина повыше взошел на доски, стараясь разглядеть
что-нибудь в степи:
— Не видно... Но не на машине они. Пешком
идут.
Бык тоже встал. Он был ниже Зины, но тоже по-
пробовал увидеть поющих.
— Нет,— сказал Зина.— Бесполезняк. Слушай-ка,
а если к пилораме подойти? Там, где переезд? По
тропке успеем.
— А ты ее знаешь, что ли? Тропинку? Там же од-
ни молодые работают.
— Муратку возьмем. Он там недавно бывал, доро-
гу знает. Да чего, зимой, что ли? Успеем... Сходим, а?
— А чай?
— С собой возьмем,— Зина снова прислушался.—
Поют! — со злобой сказал он.
Зина и Бык сидели за штабом, поджидая Мурата,
солдата из их роты. Вчера он проиграл в секу две
пачки чая и сегодня должен был их принести. Сомне-
ний, что Мурат чай отдаст, не было. Иначе он мог
оказаться в госпитале и твердо знал это. Могли спих-
нуть с высоты, облить случайно кипящим битумом,
придавить ногу бетонной балкой. Мурат прослужил
пять месяцев и, что надо, вполне научился понимать.
Магазинщик Берды, маленький умный узбек, был его
земляком, и, хотя чан держать в лавке запрещалось,
кое-кому мог его достать. То, что Мурат был земля-
ком магазинщику, могло считаться удачей, а могло
и нет. Плохо, что об этом многим было известно. Му-
рат заранее знал, чем кончится дело, когда в тесной
инструменталке Зина показал ему затертые карты.
Но отказаться не мог — ему бы и это запомнили. По-
добные тонкости усваивались куда лучше, чем уста-
вы, и места в батальонной иерархии впечатывались
в память быстрее, чем навыки в непривычной почти
для всех строительной работе.
Бык стоял на высоком месте, хотя ничем особен-
ным себя пока не проявил, кроме двух-трех случаев,
но и этого было достаточно, чтобы Быка не трогали
ни командиры, ни солдаты. Что-то еще за ним тяну-
лось с гражданки, и это что-то (пусть и неизвестное
никому, знали только, что в армию Бык ушел сам,
скрываясь от суда) было значительным, вызывающим
178
уважение. Бык очень силен физически и упрям, за
что и получил свою нынешнюю кличку.
Чай Мурат достал, обменяв у Берды на хрусткие
пачки золотое обручальное кольцо. Берды был, конеч-
но, земляк, но за кольцо дал цену ненастоящую —
шесть дачек чаю, три банки сгущенки, сигареты и па-
кетик конфет. Но о кольце Мурат не беспокоился, по-
нимая, что, когда уйдет последний призыв и русских
останется в части мало — до этого срока должно
пройти всего Два месяца,— он сумеет возместить
и кольцо, и часы, отобранные у него еще в карантине,
и многое другое.
Сгущенку и чай Мурат спрятал в кирпичах на
складе. Место это он приглядел еще давно, для тай-
ника оно было удобно и безлюдно, вдали от казарм.
Молодому, салаге, не полагалось иметь ни сгущенку,
ни чай, ни конфеты, и если бы о продуктах стало из-
вестно в роте, их бы у него выменяли на пустяки, до-
бились бы хитростью или попросту отобрали силой.
С собой Мурат взял три пачки чаю. Это был хит-
рый расчет. Две он отдаст Быку, а со своей попросит-
ся идти с ними. Бык мог и не позволить, но—Мурат
продумал—скорее всего разрешит, имея третью пач-
ку в виду. А быть вместе со старослужащими, пить
с ними чифир — это было уже солидно, придало бы
Мурату веса среди своих.
Он тоже услышал песню и тоже мельком подумал,
что у переезда можно перехватать поющих, но до по-
верки оставалось минут сорок, а он слишком мало
прослужил, чтобы на нее опаздывать.
— Чай несу! — закричал он издали, через силу
улыбаясь. Кольца все-таки было немного жалко.—
Хорош чай? Много чай!
По-русски Мурат умел говорить хорошо, но с пер-
вого дня в армии посчитал нужным коверкать и ло-
мать язык и не понимать, когда к нему обращались.
Иногда это спасало от неприятностей.
Чай у него приняли как-то слишком равнодушно,
и Мурат, насторожась, решил пока о третьей пачке
молчать.
— Ты на пилораме работал? — спросил Зина.—
Дорогу знаешь?
— Знаю дорога...— улыбнулся Мурат.— Вон до-
рога.
179
— Да не эта... Тропинку надо! Как быстрей прой-
ти, знаешь?
Мурат, перестав улыбаться, кивнул.
— Давай, беги в роту, найди старшину, скажи ему,
что мы на поверке не будем. Ты с нами пойдешь,—
сказал молчавший до этого Бык.— Скажешь, Дернов
велел передать.
Так звали Быка. Он не любил своей нынешней
клички, но и не говорил той, что шла за ним с граж-
данки, думал, что даже такое знание о нем может ему
в чем-то повредить.
— Стой,— сказал подозрительно Зина.— Чекиш
борме?
Мурат достал пачку и раскрытой протянул Зине.
Но Зина не стал вытаскивать оттуда сигарету. Он вы-
дернул пачку из потной руки Мурата:
— Тебе не положено, ты должен еще бычки соби-
рать...
— Дуй, бабай, быстрее,— недовольный задержкой,
приказал Бык, и Мурат убежал.
Зина вновь стоял на заборе:
— Идут! К переезду вроде. Догоним!
Уже смеркалось, в степи сгустился пепельный
цвет вечера, и можно было идти не прячась, и трое,
выйдя через пролом в заборе, сразу свернули на тро-
пинку к пилораме.
Они шли мимо станции «Б», где была самая труд-
ная и грубая работа. На станцию приходили вагоны
с углем и бетонными плитами, дровами и кирпичом,
песком и щебенкой. Все это было тяжелым, слежав-
шимся за долгую дорогу, и даже вагоны казались из-
можденными, серыми от пыли и усталости. На их
боках белели меловые надписи станций назначения,
и много глаз ловили родные или хотя бы знакомые
названия мест, где эти вагоны, может быть, побыва-
ли. Почти у все’х железная дорога вызывала чувство
близкого, но недосягаемого дома, наверное, еще и
поэтому станция «Б» считалась местом для провинив-
шихся. Сюда же водил конвой и арестованных с гаупт-
вахты.
Трое миновали гору черных битумных обрубышей
в лохмотьях мокрой бумаги, прошли врытые в землю
баки склада ГСМ, подлезли под колючую проволоку
и двинулись на закат. Закат уже пропадал в послед-
180
них длинных красноватых бликах. Закаты в этих ме-
стах начинались задолго до назначенного им часа
и длились тоже долго, не скрытые верхушками де-
ревьев или холмов, и поэтому были удивительно ог-
ромны, захватывая своим изначально багровым ме-
нающимся цветом полнеба.
За складами ГСМ начиналась настоящая степь.
Слабо пахло тюльпанами, хотя они давно уже отошли
и высохли, их стебли крошились и хрустели под сапо-
гами идущих. В степь редко заходили далеко. Было
и незачем — все равно на ровном, без укрытий про-
странстве не спрячешься, и опасно—можно было по-
терять дорогу. Почти каждую весну в особой комнате
санчасти лежали «подснежники» — так называли най-
денных в степи замерзших. Ночью степь полыхала
сотнями электрических огней, и разобрать, где горит
твой, становилось почти невозможно. Иные из этих
огней находились за десятки километров от смотря-
щего, степь обманывала непривычных к ней людей,
напрочь скрадывая расстояния. Поэтому и в степи,
вне части и площадок, никто не чувствовал себя по-
настоящему свободным.
Трое прошли только половину пути, как уже почти
смерилось. Песня слышалась теперь намного тише,
иногда пропадая совсем, и понять, что именно поют,
было нельзя; и Зина, увлекая остальных, прибавил
шагу. Песня, голоса вдали были для него дальним
звуком исчезнувшего четыре года назад дома: в ар-
мию Зина попал из колонии. До дембеля Зине остава-
лось пятьдесят восемь дней — пятьдесят восемь све-
тящихся дырочек в карманном, с веселой картинкой
на рубашке календарике. Дырочки цыганской иглой
он протыкал после отбоя, а не утром, как почти все в
отряде. Вечером день прошел наверняка, а утром он
только начинался и был долог и непредсказуем, но
думать так могли немногие, гораздо легче было счи-
тать день кончившимся с утра. Легче, но непра-
вильней.
Зина уже понял, что песню им не догнать да и
вообще были ли те звуки песней? Он собирался ска-
зать об этом Быку, но не успел. Здание пилорамы уга-
далось в темноте по забытому смоляному запаху.
И Зина и Бык почувствовали оба, как хочется сесть
на гладкие доски, закурить, словно на перекуре перед
181
тем, как идти домой. Но они и Мурат следом прошли
мимо штабелей досок и вскоре вышли на пустой,
блеснувший полосками рельсов переезд. На насыпи
было повыше и виднее. Дорога уходила вправо и вле-
во и была пустынна и тиха. Временами песня еще
различалась, но сейчас она будто спускалась с пепель-
ного неба, раскачивалась маятником над степью,
шире и шире, увеличивая разма'х полета. И через ми-
нуту исчезли, будто и не было никогда, последние
звуки, растворились в шуршании перелетающих под
несильным ветром черных сгустков перекати-поля,
и та же проклятая жидкая тишина упала на троих
солдат, без движения стоящих на перекрестке.
И была ли песня в действительности или почуди-
лось всем, никто из них не смог бы с уверенностью
сказать, как и не догадывался никто из них о смысле
завтрашнего дня для каждого погнавшегося за
песней.
— Давай хоть чифирнем,— глухо сказал Бык.—
Вода на пилораме есть, бабай?
— Есть вода! Много! В баке есть,— ответил Му-
рат. Он решил свой чай не доставать, потому что и
так пробыл с Зиной и Быком достаточно долго.
На пилораме Мурат отыскал бак и с кружками
в руке залез по железным ступеням наверх к горлови-
не. Здесь, в небольшом отдалении, он смог немного от-
дохнуть от изнуряющей настороженности, присесть
даже на широкое ребро люка. Но снизу ему крикну-
ли угрожающе, и Мурат черпнул в теплой воде круж-
ками и спустился вниз.
Зина уже подобрал где-то палку, просунул ее в руч-
ку и достал из-за ремня пачку газет. Из них Бык
свернул трубку, поджег верхний конец и поднес его
ко дну кружки. Вода закипела с третьего факела.
Пока заваривали чай, Мурат отошел в темноту за
бак и присел на корточки. У него мелькнула мысль
потихоньку уйти одному. Мурат думал, глядя на огни,
что служить ему еще девятнадцать месяцев, и конца
службе не видно. Старослужащие, замечая такие
мысли у молодых, совали в руки обрывок веревки
и полусерьезно предлагали идти вешаться. Но Мурат
твердо верил, что скоро уже станет легче, пригонят
солдат нового призыва, а Бык, Зина и десятки других
182
отправятся домой. Странно, что ему не хотелось
спать. В прошлую ночь, когда его отпустили, по доро-
ге к своей койке, он расстегнул все пуговицы—ста-
рался не упустить ни одной минуты сна.
В кружках, накрытых обрезком доски, настаивал-
ся чифир, а Зина и Бык молчали, но каждый по-свое-
му. Бык молчал потому, что прислушивался к тому,
что делается у него внутри. Он напряженно чувство-
вал, что ожидание, которым он жил несколько послед-
них недель, кончается и наступает то сложнейшее для
него время, когда накатывала дикая и непонятная
злоба на все окружающее. И такая злоба требовала
подобного дикого и непонятного никому выхода. Зло-
ба охватывала его редко, он помнил всего три таких
периода—и последний особенно. Год назад он бро-
сился с ломом на группу старослужащих и был ими
избит так, что полтора месяца пролежал в госпитале,
залечивая два перелома. Бык запомнил имена тех
солдат, хотя и понимал, что память его останется без
пользы, так как никого из них он никогда не встретит.
Сейчас он молчал, не желая показывать, что злоба
копится в нем и может прорваться до времени. Бык
хотел дотерпеть до роты, а еще лучше до завтрашне-
го дня. Пока же он решил стараться быть помяг-
че даже с Муратом. О песне Бык уже и не вспо-
минал.
А Зина молчал потому, что надеялся еще раз уло-
вить в ночи ту мелодию, так и пропавшую в той сто
роне, где стояли, догнивая, заброшенные кошары. Он
счастлив был бы услышать и не песню, пускай любой
другой звук человеческого голоса, только бы это была
не команда, не угроза, не матерщина. И Зина хорошо
знал, что ему следует сделать. Четкий продуманный
план имелся у него с первого же года службы, но
раньше Зина не мог осуществить его, потому что ему
мешали то ли страх, то ли, наоборот, отчаянно дерз-
кая храбрость, необходимая для того, чтобы жить так,
как жил он до сих пор. Сейчас же у Зины не находи-
лось в душе ничего: ни страха, ни отчаяния, и он с ра-
стущей решимостью перебирал, оттачивая до се-
кунды, те действия, которые потребуются от него
завтра.
Они пили черный чай — пачка на кружку,— отду-
ваясь после каждого глотка и закусывая вяжущий
183
горький вкус сигаретным дымом. Бык не любил чифи-
ра, но считал себя обязанным пить его как можно ча-
ще и утверждать свое возбуждение после него так,
чтобы слышали многие.
— Бабай! — негромко позвал он, и из темноты по-
казался Мурат.— Сюда иди. Ну-ка, спой нам чего-
нибудь.
Мурат понял, что Бык шутит, и с готовностью
улыбнулся.
— Не умею петь. Никто не учил, музыка нет.
— Какая тебе музыка? Одна палка, два струна?
Ладно, 'хрен с тобой... На, бабай,— он протянул Му-
рату мятый окурок.— За счастье должен считать, ког-
да тебе старик-солдат курить дает, понял? Кури поке-
дова, ты у меня еще споешь завтра.
Мурат держал окурок. Он не понял, что сказал
Бык о завтрашнем дне, проще было думать, что Бык
шутит, и Мурат, незаметно выбросив окурок в темно-
ту, успокоился.
Зина, не обращая внимания на их разговор, высо-
сал остатки жидкости из густой мякоти разваривших-
ся чаинок, отставил закопченную кружку и опроки-
нулся спиной на доски.
— Пойдем в казарму, чего лег,— сказал ему недо-
вольно Бык.
— Темно-то как! — отозвался Зина.— Хорошее
время. Давай вторяк заварим?
— Я вторяк не пью. Пойдем!
Бык снизу поглядел на стоящего перед ним Мура-
га и сказал сурово:
— Гляди, бабай, заблудишься, убью! Ты у Чигри-
нова в бригаде? Ну жди. Вы вроде на сто девятом,
на фундаментах? Жди.
Он поднялся и пихнул Зину в бок:
— Пойдем...
До части они дошли быстро, словно торопились,
и обратной дороги не заметили. Мурат вел их не по
тропке, а по какой-то другой, ему и самому неведомой
дороге, полагаясь на чутье. И не ошибся — вышли на
го же место, откуда уходили, к тому сваленному
пургой полотнищу забора. В казармах — в кап-
герках, в канцеляриях и у дневальных — еще горел
:вет.
184
На веранде сидело несколько солдат в майках,
и среди них был и дежурный по роте Хайдаров —
здоровый рослый узбек из соседнего Мурату города.
Он тоже дослуживал последние дни и был единствен-
ным узбеком среди старослужащих, но никому из
своих не помогал, а, наоборот, дрался иногда еще
злее, чем русские или немцы, которых было из уходя-
щего призыва человек тридцать. Мурат учуял запах
недавно сгоревшей анаши — наверняка прислали
Хайдарову. Мурат остро, в который уже раз пожалел,
что в карантине отдал свою старшине, а ее бы при
экономном использовании хватило бы одному надол-
го. Зина и Бык тоже услышали отчетливый, выделяю-
щийся из всех запахов казармы этот запах и оста-
лись на веранде, а Мурат, провожаемый взглядами,
вошел в ударившую по глазам душную темноту ка-
зармы.
Человек десять его призыва мыли полы. Пустое
широкое место посреди рядов двухэтажных коек, на-
зываемое взлеткой, утром и после отбоя обильно по-
ливали водой*, и из сушилки доставали телегу —
квадратный деревянный ящик, наполненный песком
и камнями. Снизу телега была подбита шинельным
сукном, а к заднему ее краю был. приколочен остро
обрезанный кусок автомобильной резины. Телегу ута-
скивали в дальний конец казармы, на ящик, добавляя
тяжести, усаживалось и вставало несколько человек,
а остальные хватались за ручки, прибитые к бокам
ящика, и провозили всю эту шевеляющуюся громаду
сколько могли. И телега, втирая сукном в пол размы-
тую грязь, шершавя доски резиной, оставляла после
себя светлую полосу.
Мытье только начали, и Мурату крикнули по-уз-
бекски вполголоса, подзывая к себе помогать, но Му-
рат услышать не захотел, в близости отдыха он осо-
бенно чувствовал, как был долог, наполнен и тяжел
прошедший день. Песня в вечерней степи, факел из
газеты и кружка с чифирем, запах анаши на веранде
как бы отгородили его от остальных, всего этого не
видевших и не ощутивших. Мурат еще не протыкал
дырочки в календаре, слишком много было впереди
красных, а еще больше черных цифр, и напоминать
себе об этом ежедневно было невыносимо. Мурат за-
лез на свой второй ярус и, натянув на глаза кислый
185
край тонкого одеяла, успел еще и порадоваться тому,
что дежурный по роте Хайдаров видел его с Быком
и потому, наверное, и не послал мыть полы.
Он не слышал, как вернулся в казарму Бык, лег,
не снимая брюк, на свое место в углу, как осторожны-
ми шагами ходил по взлетке Зина, будил кого-то, до-
говаривался, шептался, искал что-то в темноте, и как
пошли спать его земляки. Проходя мимо койки Му-
рата, кто-то, будто нечаянно, но намеренно сильно —
чтобы разбудить — толкнул койку, но Мурат не про-
снулся и от толчка.
Отделение Мурата копало котлованы для тяжело-
го дота в углу большой, обнесенной четырьмя рядами
колючей проволоки зоны. Начальство сюда загляды-
вало редко. Тут же стоял на гусеницах сломавшийся
и брошенный до ремонта экскаватор, и в неподвижно
повисшем его ковше держалась ржавая холодная
тень. РядОхМ с экскаватором, нелепо завалившись
и откинув в сторону трубу ствола, лежала сплюснутая
сверху башня отслужившего в строю танка. Из тем-
ного нутра башни рваными потрохами» свисали цвет-
ные провода и обрывки гофрированных шлангов. Баш-
ни ставились потом на бетонные основания дотов.
Мурату досталась сегодня самая трудная и даль-
няя яма — в бригаде учли, что он не мыл ночью полы.
В круглой яме уже был снят верхний мягкий слой
грунта, и теперь надо было углубляться в сухую
плотную глнну, в которую острый конец кирки входил
не больше чем на три пальца. Но Мурату понрави-
лось, что работать он станет один, а обнаружив на-
искось пересекающий дно ямы широкий рукав крупно-
го светлого песка, понял окончательно, что ему сегод-
ня повезло, и повеселел. Выбирать совком песок из
похожей на ручей песчаной жилы, обрушивать глиня-
ные берега было не так уж и утомительно, и Му-
рат работал вполсилы, чтобы растянуть работу до
вечера.
Время безостановочно текло к обеду. Мурат почти
забыл и о Быке, и о Зине, но если вспоминал, трево-
га вспыхивала в нем крошечным жгучим огоньком.
А Зина лежал животом на теплом и шершавом пе-
рекрытии цементного склада и высчитывал, сколько
времени у него еще есть. Выходило, что на обеде его
не хватятся, на ужине тоже и, значит, до десяти тре-
186
вогу не поднимут. Если будет удача, то о самовольной
отлучке военного строителя Зинакова доложат только
к двенадцати, к часу дозвонятся дежурному в штаб
УНР, а уж оттуда только сообщат милиции и патру-
лям. Но к ночи Зина твердо рассчитывал быть за
пределами воинского района. Что делать дальше,
Зина пока не думал.
Со стройки он ушел плохо, по дороге на станцию
«Б» его два раза видели, даже окликали. Зато на
станцию он прощел легко. Зина бывал здесь и рань-
ше, когда сидел на гауптвахте и его вместе с другими
арестованными водили на разгрузку вагонов. На кры-
ше его можно было увидеть только с козлового кра-
на, но тот, завывая электромоторами, работал далеко
отсюда. На отводном пути стоял крытый вагон, но
Зина знал, что перед отправлением вагоны осматри-
ваются, и в расчет единственный этот вагон не брал.
Его интересовали четыре угольных полувагона. Утром
их разгрузили, но откидные донные люки были еще
закрыты, хотя к веренице пустых платформ и полува-
гонов был уже прицеплен нервно дрожащий теп-
ловоз.
Загромыхало железом, Зина подполз к краю и
осторожно глянул вниз. С той стороны железнодорож-
ного полотна закрывали люки, вгоняя крюки-запоры
в гнезда кувалдой. Увидев это, Зина, спихнув в траву
старый чемодан с гражданкой и харчами, слез, цеп-
ляясь за доски ворот склада. В траве у полотна спря
таны были заранее обрезки досок и пакет с газетами.
Скрываясь за кирпичными штабелями, Зина дождал-
ся, когда солдаты, закрывавшие люки, перейдут
к платформам, перебежал к рельсам и одним движе-
нием забросил в полувагон пакет и связанные прово-
дом доски. Последний раз огляделся и, едва касаясь
скоб, взлетел на угол полувагона и прыгнул, сдернув
за собой чемодан, в пыльное черное нутро. Железные
прочные стены сразу же заслонили его от станции
«Б» и от степного, ничем не скрытого простора. Пы-
таясь не шуметь и не поднимать пыли, Зина устроил
в углу себе настил из досок, подтянул к себе чемодан
и тщательно обернул газетами форменные брюки
и гимнастерку.
Зина был спокоен, и когда по гравийному балласту
возле рельсов заскрипели шаги, он только поднял го-
187
лову, чтобы увидеть камешек, который подбрасывал-
ся в полувагон, чтобы проверить по звуку, насколько
вагон пуст. Камешек действительно взлетел и бряк-
нул по железному полу, шаги проскрипели дальше,
кто-то близко свистнул в свисток, тепловоз ответил
глубоким коротким гудком, и по всему поезду прока-
тился сдвоенный мощный удар.
Выглянуть наружу он решился через час. Делать
этого не следовало бы все равно, но в вагоне столбом
стояла пыль. Зина отплевываясь и нарочно глубоко
дыша, глядел назад, где оставалась его часть, стан-
ция «Б», пилорама, давешний переезд, и ему вдруг
в шуме скользящего мимо ветра снова послышались
далекий писк гармошки и чей-то приближающийся
голос; и Зина, не в силах удержаться, помня себя,
вполголоса неожиданно запел сам...
...— А ну пой,— равнодушно и как бы совсем не
видя Мурата, сказал Бык.
Он стоял над ямой в майке с рыжими пятнами и
босой и покачивал в руке ремень с отточенной
пряжкой.
— Пой,— повторил Бык.
— По-русски не знаю. Как петь? — Мурат с от-
чаянием видел, что теперь так, как было вчера, не
выйдет. Он глядел из ямы в глубину зоны, надеясь
увидеть любого офицера, но даже бригадира его не
было сейчас на котлованах, а из товарищей Мурата
никто на его крик не подойдет. Мурат это знал, так
как не вылез бы сам, выбери Бык другого. Но Бык
выбрал его.
— Пой,— Бык поднял из отвала пластинку сухой
глины,— пой.
Обломок грунта несильно ударился, рассыпав-
шись о потную голову Мурата. Было не больно, но
Мурат сполз от удара вниз по углу ямы и закрыл го-
лову ладонями. Куски глины продолжали сыпать-
ся на него, крошки застревали в стриженых черных
волосах, но Мурат не вставал и не поднимал го-
ловы.
— Не будешь петь? — спросил Бык.— Не жа-
леешь ты себя, бабай.
Он откинул в сторону ремень и, осыпая водопади-
ки грунта, легко спрыгнул к Мурату.
188
— Значит, не будешь...— сказал он близко. Мура-
ту в его голосе послышалась новая непонятная нотка,
он косо глянул на Быка, и тут же хлесткий удар по
глазам ослепил его.
— Сапоги-то не надел,— сокрушенно сказал Бык,
разглядывая ушибленную ногу.— Да кто же знал...
Вставай, бабай.
Мурат, всхлипывая, поднялся. Он и сам не заме-
тил, как начал тихонько подвывать.
— Во!—обрадовался Бык.— Громчей!
Он снизу кулаком ударил Мурата в зубы, и тот
снова сполз на корточки. Бык продолжал бить его
сверху обеими руками. Мурат одновременно с болью
от ударов чувствовал бьющимся затылком, как холо-
ден грунт в стене ямы, и удивлялся даже, почему зем-
ляной холод отчетливей, чем боль; а Бык бил его, не
торопясь и далеко занося руки, добавляя крови и сле-
дя за расширенными глазами Мурата. Мурат вдруг
отчаянно взвизгнул, качнулся в сторону и упал. Бык
ждал, стоя над ним, а Мурат, заметив в ногах штыко-
вую лопату, сел вдруг и лопатой этой снизу изо всей
силы ударил Быка. Блестящий штык ее уперся во что-
то тряпочно мягкое, затем эта тряпка прорвалась,
и лопата, не встречая сопротивления, глубоко и чуть
наискось вошла в шею Быка. Не поднимаясь еще и не
понимая происшедшего, Мурат увидел, как падает
черенком вниз лопата вместе с темными тяжелыми
каплями, и еще до того, как капли упали на него, вы-
метнулся из ямы, задев что-то бессильное уже, но по-
ка живое, и побежал, крича непрерывно, к другим
ямам, из которых глядели на него люди.
— Ложись! В сторону! — орали в хвосте ротной
колонны строителей, возвращающейся в часть с рабо-
ты, и солдаты разбегались с дороги и падали ничком
в жесткий степной снег с торчащими сухими стеблями
травы. Тогда каждый из нас слышал глубинный пере-
катывающийся гро'хот, идущий от земли.
В километре от нас плоский бугорок, окруженный
кирпичными низкими сооружениями и масляно побле-
скивающей паутинкой малозаметных препятствий,
внезапно осветился неестественно ярким светом близ-
ких прожекторов, земля и снег на бугре лопнули и
189
скатились рыхлыми валиками к краям., а посередине
бугра лепестками откинулись створки шахты, раскрыв
черную, с нарождающимся в глубине ее мощным дви-
жением. Там треснуло и грохнуло, и из узкой пропа-
сти медленно и нестрашно стал подниматься тупой,
срезанный сверху нос ракеты. Прожектора мигнули
и погасли, по проволоке и постройкам ударили дым
и пыль, и огромная ракета, поддерживаемая корот-
ким ревущим факелом, стала круто, ложась на задан-
ный курс, загибать над степным горизонтом.
И поднимаясь, отряхивая бушлат от снега, я гля-
дел на дыру в земле, где теперь блестела сталь и
вился дымок сгоревшего снега, и подумал о тех тро-
их, навсегда ушедших отсюда людях — Мурате, Зине
и Быке.
Олег Павлов
Рассказы
Тайная вечеря
К сумеркам ротные наши мухи летали тяжело, дре-
мотно и предпочитали вовсе не летать, а опуститься
солдату на плечо или на веко, чтобы отдохнуть. И сол-
дат доставлял их туда, куда надобно им было при-
быть по мушиным хлопотам: в столовку, на параши
или в больничку...
К вечеру солдату хочется жрать. А потому я очень
обрадовался, когда ротный, товарищ лейтенант Хаки-
мов, наказал роте, с обычным для себя матюгом, вы-
страиваться на ужин. Брякая подвешенными на рем-
нях котелками, солдатня живо повалила на плац,
унося на себе стайку казарменных мух.
Потолкавшись локтями, конвойная рота выстрои-
лась по взводам и, замерши, о чем-то затосковала,
Повздорив малость, взлетевшие было мухи в свой че-
ред расселись по солдатам, и лишь одна из них, под-
севшая на подбородок лейтенанту Хакимову, оказа-
лась пришиблена его отяжелевшей от усталости ру-
кой. Утершись, ротный оглядел строй и прокричал,
заживо каменея:
— Р-р-р-ротанаестешаг-о-о-о... арш!
И солдаты принялись топать по плацу и давиться
от поднятой пыли.
Плац походил на половичок. Истертый сапога-
ми, он кое-где прохудился, и из прорех сквозило
песком. Этот песок выгуливали поутру вениками,
а, размолотив за день, давились и кашляли от него
грудью.
Раскашлялся и я. Но шагнув в столовку, прошар-
кал по дощатому, выскобленному полу сапогами и
глубоко вдохнул, нарочно помедливши подле распах-
нутой настежь хлеборезки, ржаного духа.
191
Грудь унялась. И, ослабив ремень, я потеснил на
скамье конвойных, чтобы быть ближе к котлу.
Столовка за завтраком и столовка за ужином раз-
нились. Завтрак — это светло и солнечно. Быть может,
поваренок поутру не забывает подсыпать в кашу соли
и проследить, чтобы разварилась крупа. Для поварен-
ка утро очень важно — оно начало. К началу с прист-
растием принюхиваются все. Выдержав утреннее ис-
пытание, разомлевший поваренок варит обед попло-
ше. А ужин варит совсем худой.
Потому и на электричество в столовке этим часом
не тратились. И в подернутом мглинкой котле солда-
ты еле-еле примечали перловку. По столам тихонько
завозили вылизанными ложками и заматерились. От
глухого солдатского бормотания будто бы вспомнили
о пожевке раздатчики и, нехотя вставая во главу сто-
лов, примерялись, сощурившись для верности и для
важности наморщась, выгадывать из неразварившей-
ся перловки пайки. А в серых сумерках пахло поджа-
ристым хлебом, и солдаты, хрипато задышав, искали
его глазами.
Задышал и я. В груди стало легче. И когда размял
ржаной ломоть в руке, почудилось, будто размял
душу.
А ефрейтор Дорохов мне сказал:
— Чего лапаешь-то... он же не баба.
И, отломив от моего размятого хлеба угол, подал,
из благодарности, мой котелок ближним, чтобы те пе-
редали его насыпать каши. Я видел, как чьи-то руки
подхватили котелок, и он поплыл утлой лодочкой, ми-
нуя выщерблины и плошки, к котлу. Котелок плыл
все дальше от меня и терялся, покуда не исчез вовсе.
Стало одиноко, а ефрейтор, винившись за хлеб, по
двинулся теснее и сказал, что мне уже насыпали ка-
ши. И я, положив ладони на колени, стал ждать его
возвращенья.
Котелок показался не скоро. Выплеснувшись из су-
мерек, он плыл, тяжко попыхивая паром, самым ти-
хим ходом, и Дорохов, посчитав себя прощенным на-
веки, подволок его к кромке стола.
— Кушай, Палыч, всего приятного...— сказал он
и зачавкал своей кашей.
Зачавкали все. И мушиная стайка, вспорхнув, на-
висла над столами, без расторопки размышляя над
192
тем, что было завещано ей на донышке котлов раз-
датчиками.
Разжевывать неразварившуюся перлу приходи-
лось подолгу. Она хрустела на зубах. Затем вязла.
Затем я будто бы забывался и приходил в чувство,
лишь когда по-пустому, со скрежетом и болью, точи-
лись друг о дружку клыки.
Чтобы не скучать зря и не забываться от скуки,
я стал думать.
Я думал.
Мне жалко было тратиться на мелочные обиды за
оставшую пайку, за ушлых поварят. Я думал о Боге.
«Слава Богу!» — подумал я о нем и проглотил ло-
жицу каши.
А почему я думал о Боге? Будто раскланивался за
что...
А если есть оп, если все па земле волей его живо?
О нем можно было думать сколько угодно долго.
Дольше, чем выскребешь котелок. И даже вообра-
жать—бледнолицего, с реденькой бородкой и набух-
шими глазами. Вот он входит украдкой в столовую,
присаживается па скамью, и конвойные, оторопев, гля-
дят на него.
Ложка поскребла по дну.
Я поднял голову. На меня глядел ефрейтор. Он об-
тирал хлебом губы, а потом они зашевелились:
— Наутро пуре'будет, Палыч, всего-то ночь пере-
спать. А ты как полагаешь — от каши за ночь брю'хо
не вспучит? Я вот гляжу, ты свое тоже похавал.
Смолчав, я, будто задумавшись, теребил пуговицу
па кительке. Конвойные уже управились с пайками
и молчали.
И тогда я поднялся со скамьи, теребя пальцами
пуговку. Оторопев, солдаты глядели на меня пустыми
глазами, но не спрашивали ни о чем. И только Доро-
хов испуганно потянул за рукав:
— Ты чего? Не положено ж без приказу...
Я потревожил мух, и они зажужжали.
Как по уговору, рота, прогрохотав скамьями, вста-
ла у столов. Прилаживая опустошенные котелки на
ремнях. Тогда и я повесил свой котелок на ремень,
подтянув его туго. А мухи стали рассаживаться на
солдатах, не дожидаясь матюгов Хакимова.
7. Крещение
193
Когда закричит товарищ лейтенант Хакимов, рота
должна будет бежать на параши.
Бежать и думать невмоготу — очень голова тря-
сется.
Но я успел подумать, а потому хочется побыстрей
про это досказать. Я, когда со скамьи поднялся, об
одном спросить 'хотел: братки, может, знает кто,—
куда, скажите, Бог муху приведет, если она, по слу-
чаю, на пего, как на нас сядет?
Понарошку
Наш взводный лейтенант Хакимов сидел под шапоч-
кой-фуражечкой, как грибок. Раскрасневшийся, дряб-
лый и малость призадумавшийся.
Потом летёха смущенно улыбнулся, и мне захоте-
лось облизнуть, как леденец, его подрумянившиеся
щечки, пухлые пальцы и шоколадный родимец на лбу
подле первых, спесиво изнеженных морщин. Какой же
добрый наш лейтенант, какой оробевший, какой стыд-
ливый— как деточка. И я воображаю, как тяжело
было ему этим утром вставать с похожей на глубокий
вздох перины, отправляясь на службу; как беремен-
ная жена Верка Ивановна подставляла послушать на
прощаньице свой голубой живот, в котором можно бы-
ло соскучиться, ожидая появленья на свет; как, выпив
остывшего чая с булочкой, Хакимчик 'хмурил по-гене-
ральски лицо перед зеркалом, а оно над его потугами
звонко смеялось и разламывало подбородок надвое,
как спелый плод, трещинкой...
Наш взводный Хакимов притаился под шапочкой-
фуражечкой, как грибок. Ему кажется, что оскалые
зеки впиваются в него и клыками рвут на куски;
что комбат, побагровев, кричит из дремучих усов вдо-
гонку: «Тюря!»; что Саня-вольнонаемница недоливает
в тарелку дармового солдатского борща; и что пова-
ренок Хаджоев еще прежде недокладывает в этот ка-
зенный борщ парную говяжью ляжку.
Страшно жить на свете взводному Хакимову! А мы
с Бойченко жалеем его, потому что уже мертвы. Мы
умерли первыми. А часом позже порезанным оказал-
191
ся весь взвод, в котором был лейтенантом Хакимов.
Он прячется под фуражечку. Он страсть как боится
мертвецов. А еще ему стыдно. Это он па устроенном
понарошку шмоне наказал, чтобы я стал конвойным,
а Бойченко зеком. Бойченко должен был прятать лез-
вие бритвы, а я — его отыскать.
Я зажмурил глаза и открыл, когда кончилась счи-
талочка, под которую он должен был успеть спрятать.
Бойченко был понарошку зек. И я принялся шмонать.
Я пощипал под мышками, пошебуршил в волосах и
сказал Бойченко вывернуть наизнан карманы.
Но ничего не сыскалось. Из карманов на землю по-
сыпались хлебные крохи, на которые прилетел щуп-
лый, измученный жизнью воробей.
Лезвие оказалось у него во рту. Откуда, рассмеяв-
шись, Бойченко вынес его на розовом языке, чтобы не
лезть руками.
Мне не верилось, что кто-то положил лезвие в рот.
Оно же острое.
А Хакимчик грустно сказал, что меня убили.
Потом Бойченко был конвойным. А я потом —
зеком.
Обидевшись за свою смерть, я назло ему положил
лезвие в карман, словно и не был зеком, словно не уми-
рал, а остался таким, какой есть.
Бойченко шмонал меня с пристрастием и очень
расстраивался, что ничего не находил. Он заглядывал
в уши, отгибал подошвы сапог, заставлял разматы-
вать портянки, где глядел между пальцев, и, как ле-
карь, наказывал высовывать язык, выдавливая из се-
бя «Э-э-э...».
А лезвишко-то лежало у меня в кармане, словно
монетка.
Ничего не сыскал. И оказалось, что я его убил.
А Хакимову стыдно. И напрасно он притворяется,
что задумался.
Надо бы встать запросто и сказать:
— А знаете ли вы, сучье семя, что вас могут
убить?!
А потом нахмуриться, стукнуть кулачищем по сто-
лу и запанибрата сказать:
— А ведь не знаете! Бля...
195
Живой
Этим днем солдаты в Учкудуке, сидя у лазарета, плю-
ют в песок и не успевают растереть сапогом — плевок
усыхает в одно мгновенье, словно и не было его.
А было желтое солнце. Был солдат, сидящий под
желтым солнцем у лазарета. И все.
Сколько хочешь в песок плюйся, а все одно — не
было этого.
А потом и лазарет покажется соляной копотью...
Покажется, что влага, и человеческая также, извлече-
на из него солнцем, и соль посему станет как прах.
Я сижу у лазарета, чуя солоноватый привкус на
губа’х.
То ли голову проломили — и вот сижу, обливаюсь
кровью; то ли ломали, ломали, но, махнув рукой, как
на каменного истукана, окропили капельками мутно-
ватого от потуг пота и куда-то ушли.
Кто они? И что им надобно от меня было?!
Сижу у лазарета для того, чтобы узнать у лека-
ря — живой ли?
О своей смерти я подумал нечаянно, когда приме-
тил, что все живое округ испепелено солнцем, и когда
почуял солоноватый привкус на губах. Я подумал
тогда: умер — но забыл, растяпа, о своей смерти и до
полудня топтал землю, а никто и знать не знал о слу-
чившемся со мной.
Как мертвяку мне давно уже полагалось нежиться
в прохладе покойницкой Ташкентского военного гос-
питаля, посасывать сосульку своих пальцев, и озабо-
чиваться лишь тем, что скажу, представ перед судом
божьим. Но с утра самого ротный послал меня, как
живого, подыхать по новой в пекле, выдраивая горячим
песком поржавевшие котлы. И дембель Свостиков за
нерадивость обласкал кулаком по дыхлу, как жи-
вого...
— Вы не больны?
Лейтенант медицинской службы склонился надо
мной и чего-то выглядывает.
— Не знаю. Я...
— Пойдемте, мне кажется, вы больны.
Я пошел за лекарем.
В лазарете голова моя закружилась от анальгин-
ного ладана.
196
— Ешьте.
Он сыплет мне в ладошку драже и куда-то уходит.
Сажусь на стул. Драже прячу в карман и тут же
со столика ворую пузырек с йодом. Тянуться рукой
за комочком ваты мне лень. Комочек ваты не такое
большое богатство, чтобы тянуться ради него со сту-
ла к столу.
Этот летёха очень добр. Только у доброго челове-
ка столько пузырьков со снадобьями. Столько йоду,
столько мягкой ваты, чтобы залечить раны. А я это
своровал.
Я гордый. Сам помажу ранку, и сам на нее, чтобы
не щипало, подую.
Но он все одно добрый. К лекарю приходили и жа-
ловаться, корчась для верности от боли, на рези в жи-
воте, а он, позволяя себя обманывать, клал жалобщи-
ков на больничку или в Ташкентский военный госпи-
таль отправлял. Те думали, что обманули его, и радо-
вались.
Радовался и лекарь. Он здорово их надул, пове-
рив в рези, поскольку страдали они от иного, за что
класть па больничку или в Ташкентский госпиталь от-
правлять было не положено вовсе.
— Да па вас лица живого пет!
— Товарищ лейтенант... я по правде, я...
— Тихо, тихо.
Перевязочная застужена белым кафелем. Урчит
кондиционер. Сижу па белом стуле и становлюсь из-
неженным и плаксивым. Я хочу плакать и не боюсь,
что слезы солоно выедят кожу, высохнув в одночасье
на лице, потому что урчит кондиционер, и в перевя-
зочной, как в мертвецкой, веет прохладой.
Палящая немилость желтого солнца, кажется, из-
гнана отсюда навсегда, как злая фея из удела добря-
ков и изнеженных плакс.
Летеха прикладывает ладонь к моему лбу.
И я благодарен ему за это. И мне стыдно — ведь
он может обжечь больно свои 'хрупкие влажные
пальцы.
— Свинкой болели?
— Не помню.
— А сердцем?!
— Не помню.
— Да, да... Я думаю: почему ваше сердце не ра-
197
ворвалось этим же утром. Оно как чужое. Решитель-
но— оно обижено на вас чем-то и от обиды нарочно
не разорвалось. Пейте немедля эту пилюлю, а потом
повезем его в Ташкентский военный госпиталь.
— Кого?
— Сердце, разумеется — ему, должно быть, очень
больно.
— А я как же без сердца буду жить?! Я не хочу,
чтобы его от меня увозили. Доктор, а вдруг обратно
не вернут?
— Тогда повезем и вас, и его. Вы какой с ним
роты?
— Старшего лейтенанта Хакимова.
— Я пойду дам распоряжение...
Я один.
Урчит, ворчит кондиционер. Он ворчит, как старая
бабка. Все бабки кажутся мне добрыми и благостны-
ми, как глиняные кружки с простоквашею. Что еще
останется под старость, если не подобреть? Для зло-
сти надобно много сил и здоровья, а для доброты, по
крайности, надобно молчать и глядеть в окошко, когда
становится скучно.
Кондиционер, стало быть, очень стар. Он ворчит,
и от пего веет холодом, так же как веет холодом от
старушек, так же как веет холодом от могилы, от по-
крова.
Я ставлю сворованный пузырек йода на столик,
откуда взял.
Я ем из кармана, вперемешку с махоринками, ки-
слое, как смерть, драже и становлюсь добрым.
Перво-наперво я жалею себя и летёху, у которого
намеревался уворовать йоду с мягкой ватой. Затем
жалею тех, кому бы не помазали из-за меня ранок, и
потихонечку плачу.
У меня заболело сердце.
И как оно не понимает обидчиво, что, умри я, и оно
умрет.
Я обижаюсь на сердце за то, что оно болит, и за
то, что опо могло этим же утром разорваться.
Мне кажется несправедливым, что от такого ма-
ленького, как воробьишка, вздорного существа зави-
сит моя жизнь. Лучше б зависела от ноги — она боль-
шая и, судя по мозолям, совсем неприхотлива. А еще,
198
истертую сапогами в кровь, се можно мазать ваткой
с йодом и дуть, чтобы не щипало,— самому.
И все-таки: как хорошо, что моему сердцу расхо-
телось умирать! Теперь расхотеть осталось мне, и
тогда — мы будем живы.
Короткая повесть
Рота растянулась по степи, принимая бой. Окапыва-
лась. Пыхтела. Рвалась из жил. Кричала «ура!».
Плюхалась в грязь и ползла на брюхе, изредка поды-
маясь в штыковую, обматерив весь свет. Сержант
Вася Савельев, Савинков, Янкель и я были посланы
ротным к сопке, на вершине которой разбушевался
вражеский огонь. Ее рыжая изрытая маковка видне-
лась вдалеке. Мы бежали, а Янкель все ныл, что не
может.
Потом мы упали на землю, и Янкель ныл, что не
может ползти. Осерчав, Савинков гнал Янкеля напе-
ред себя прикладом, покуда ротный не прокричал, что
его убило. Он обмяк и закрыл послушно глаза, а до
сопки оставалось рукой подать, но все уже хотели
умереть, как Янкель.
Побледнев от отчаянья, Васюха и Савинков пово-
локли убитого. Потом убитого волок я, так как про
Васюху ротный прокричал, что он тяжелораненый.
Янкель был толстым, беспомощным человеком.
И чем дальше мы его волокли, он становился все тя-
желее. А мы только подбирались к сопке, с вершины
которой отплевывалась горячим свинцом поднапужав-
шаяся вражина.
У подножия, шатаясь от усталости, Савинков за-
кричал:
— Пусть топает своими ногами, надоело тащить!
Но потом мы вспомнили, что Янкель убит, что Ва-
сюха ранен, и опять поволокли.
На вершине сопки оказалось пусто. Закладывая
уши, гудел ветер. С вершины сопки стало видно, что
никаких врагов в степи не было. А был ротный —
с полпальца, и солдаты, рассыпавшиеся по степи, как
ржаное крошево, которое, капая с неба, клевал осен-
ний дождь. Васюха понял, что ротный наврал про
врагов, что он, Васюха, вовсе не раненый, и ожил.
199
Завалившись на бушлаты, мы отдышались, успев за-
курить, Янкель все не вставал.
Савельев приложил ухо к его груди и прислу-
шался.
Долго слушал. Я уже докурить успел.
А Алеша Савинков, тот еще прежде свою папирос-
ку заплевал и сказал сержанту:
— Ты это... чего заслушался-то, на скрипалках, что
ли, играют?
— Мужики, у него в груди глухота одна.
— Оно биться должно! Ты биенье слышишь? Да
не там, пониже возьми, кто ж под кадыком щупает...
Сержант оторвался от Янкеля и попятился на ка-
рачках, пряча глаза.
— Ты это брось! — сказал Савинков.— Зачем слу-
шать перестал?
— А ч-чего слушать, Лешенька, ей-б-богу...
Но Савинков свое гнул: уж больно развалился жи-
денок сладко.
— Думает, пожалеют, на руках понесут... А я го-
ворю встать! Нечего землю .лапать, как подол
мамкин!
Леха склонился над Янкелем и принялся гневливо
растрясывать за грудки обмякшее тело.
— Он же мертвый! Не может он!
Савинков зашатался и упал на колени.
И оглядел растерянно человека, поперек которому
в этот час дул застуженный ветеряка.
А он лежал разметавшись, не дыша. Упершись
в пасмурное безмолвное небо расколотым морщинами
лбом.
— Ав животе вроде булькало — я же своими
ушами слышал...
Рота по степи собиралась ауканьем. Земля под са-
погами была тяжела. И солдаты долго шли к сопке,
оттого что ошметья грязи спудом наваливались на
кирзу.
Со всей степи сносили солдаты землю на сапогах
к Янкелю.
А потом мы несли его в полк, положив на буш-
лат,— сержант Вася Савельев, Савинков и я.
Несли осторожно, так как ротный говорил дрожа-
щим голосом:
200
— Не трясите, йе трясите — может, живой! Эх...
Ну, за что же на мою голову такое.
Прибыв в полк, мы снесли Янкеля в лазарет.
Но роту не разоружили, и на плацу не приказали
выстроиться, потому что все ждали — может, живой?!
И лекарь чего-то ждал. И все возился в лазарете
с Янкелем.
Но оказалось так, как нс ждали.
Яикель был толстым беспомощным человеком.
У него сердце разорвалось.
Пепел
А еще по ночам солдаты любили актерок с певичка-
ми, чьи изображения всегда вырезались из газет, а ес-
ли шея голая, или, скажем, ляжка проглядывала, то
изображение вырезалось особо — с завитушками
в форме сердца.
Любили, поднося близко к лицу, иначе нельзя раз-
глядеть было. А кое-кто и поцеловывал украдкой —
но губы солдатские пожирают актерок с долгой стра-
стью, а они так малы, и так нежно пропечатаны на га-
зетках, что от засосов и частого лапанья рвались, от-
чего приходилось вырезать новых. Да и что это за
ляжка с палец?! Отсюда и разочарования случались...
Сидишь, бывало, пыхтишь в курилке, и кто-то ска-
жет:
— А я свою это... из сердца вон.
— Кралю столишную разлюбил?
— Угу...
— А чего печалиться, братка, они же знаешь ка-
кие... Ну-ка, давай ее на раскрутку, в круг!
Солдат выуживал из расщелин пилотки хрупкое
до ломкости изображение. По щепоти сочувствующие
добрели табачком, а говоривший за бабский блуд сво-
рачивал из сердечка с завитушками и казенной махры
цигарку. Он же и раскуривал, любуясь, как пылает
угольком актеркино тельце. Потом уж, с хрипотцой,
затягивался разлюбивший, стараясь поболее иных
уместить в себя от былой зазнобы и выдохнуть в не-
бо, то ли с тоскою, то ли с пренебрегой лихой, клубы
голубого, прогорклого дыма. Так чаровница погибала
201
па треть, сгоря лбом, губами и грудью, после чего ци-
гарка пускалась в круг, и солдатня пеплила угрюмо
оставшееся — от живота до лодыжек.
Послед затаптывали и делились кто чем мог из
привнесенного в круг:
— А хороша была?
— Ништяк бабочка. У меня аж истомка по горлу
прошла — во как дерет.
— Сучка.
— Отчего ж сучка?!
— А оттого, что дерет. Венька, слышь, когда твою-
то палить будем? Болыю долго ты с ней...
— В круг не дам.
— А чего так? Нечто мы для забавы — мы для
души палим.
— Все равно не дам. Я ее матке отошлю, схоро-
нила чтоб.
— Ишь ты... Какое у тебя нутро нежное, падло.
А тогда и не подсаживайся, когда чужой бабой ды-
мят. А если пыхнуть хочешь, то по-человечески обра-
тись — я тебе папиросу дам, «Казбек».
Между небом и землей
Всякий солдат глядел на что-то свое.
У глядевших на степь глаза были тусклы и бессмыс-
ленны, и потому они мертвели, подобно каменным из-
ваяньям.
Солдаты поживей и позлее глядели на что-то иное:
на морщины своих ладоней, на камешек, в арык бро-
шенный.
Свободней было глядеть на морщины ладоней...
Камешков в арыке хватало немногим, и бывало,
что их делили взглядами гневно.
Я и сам обнаруживал в себе глухую ненависть
с болью, когда, глядя по обычаю на свое деревце и
размышляя с ним о чем-то сокровенном, примечал,
что кто-то также глядит на него.
Деревце-то едино отдавалось всякому взгляду,
и немалого терпенья стоило порой отвадить от него чу-
жие глаза.
Замешкаешься чуть, отвлечешься или забудешься,
как чье-то око уж крадется по-паучьи к нему,
202
скорбью и откровениями твоими напитанному. Я же,
скряга, как в кошель, в местечко укромное, по крохам
хоронил в нем свое последнее богатство—душу,
и боялся, боялся его потерять. А иные теряли, не в си-
лах выдержать схватки с чьими-то глазами, что по-
сильней и поупорней оказывались, и взгляды их, как
звери, бродили по расположению, нигде не нахо-
дя пристанища, и умирали, наставленные последком
в степь, в желтую стужу песков.
Коченели, смерзались...
И потому свободнее было глядеть на морщины ладо-
ней, на ладони своих рук. Покуда они были твоими.
Облака
Под ноги поглядишь — земля. Топчи, покуда жи-
вешь, не растопчешь: так коротка человечья жизнь.
Я по случаю рыл яму лопатой для солдатского
нужника. Глубокая она вышла, крутая. Но и на дне
этой ямы — земля! Размял ее в горсти — та же самая,
что под ногами, только та посуровей будет, утоптали.
А в земле—жизнь: шебуршат, ползают. А мы по
этой жизни топчемся. Чудно, ей-богу! Но жизнь
в земле, по всему видать, скучная. Я на дне ямы по-
сидел, покурил малость, и на сердце тоскливо стало.
Не допыхтел, затоптал папироску-то, чтобы себя не
мучить: успеется и в земле пожить... И еще в яме ти-
хо было, и дышалось свежо от сырости. На ее доныш-
ко вода как-то прибывать стала. Подумалось: от жаж-
ды все живое наскоро погибает, а тут и вода есть.
Ну ладно, это успеется...
У нас на караульном дворике из земли два дерев-
ца росли. Саженцы. Ротный сказал, что будем в маре-
во под листьями спасаться и для сердечной потребы
на эти деревца глядеть — они на баб похожи по хруп-
кости и томленью. Но деревца-то по-мужичьи звать:
тополь. А я подумал: это с Полиной родственно. Мож-
но так и звать — Полина большая и Полина малень-
кая. Дерево как хочешь назови. Они одиноко растут,
а если и совьются стволами, то им и любить нечем —
ветки сами по себе, врастопырку растут. И детей им
земля, как матка, рожает, поднимая стебелек из семе-
ни. Человек дерево бережет, чтобы любить потом
203
крепко, если одинокий, престарелый, или как мы —
истосковавшиеся, живые.
Из тварей по земле ползали змеи, ящерицы, степ-
ные черепашки. Случалось, что конвойные мучили
их, но это без злобы. Разгадать хотелось: для чего
они живут на земле заодно с нами. Но как поймешь,
что творится у черепашки под панцирем, если не ра-
сковыряешь прикладом? При мне одну расковыря-
ли— она из костей оказалась. Не поверилось даже:
должно же в ней что-то чудное быть. Буров из второ-
го взвода больше иных расковырял и говорит, что ни
на грош не понял,— у всех одно и то же под панци-
рем. Тоска.
А ящериц папиросками жгли. Может быть, и не
стали бы жечь, если бы кто по-ученому растолковал,
почему они от боли жгучей, как люди, не кричат.
Конвойный овчарку пнет, опа заскулит, а тут— папи-
росой, самЫхМ угольком, а ящерица — будто немая...
Про змей говорили: «Если не ты, то она — тебя».
И убивали все и сразу. Давеча саржант Самохин
у арыка ополаскивался и змееныша сапогом, как уви-
дел, так и придавил.
А еще у нас по земле проволокой колючей наклу-
били и опутали ею лагерь. Он вкривь и вкось разра-
стался, и все новое сразу опутывали. Потому что зе-
ки, как кроты, эту землю рыли и рыли. Руками, ног-
тями ее разгребали, будто себе могилы роют. А по-
том оказывается, что роют глубже могилы. А выносят
землю во рту. Вырыл глубже могилы — и в бега.
Роту тогда боевой тревожили и вдогонку за зеком
гнали — из земли отрывать. А ее гляди сколько! И где
рыть? А зеку в земле, видать, плохо было. Скоро на-
верх лезет. Вываливается посреди степи из расщели-
ны— смурной и квелый. И пока его в лагерь ведут,
молча плачет, весь от земли, как от горя, черный.
Такая опа, земля. На колени встань, рукой по-
гладь — шершавая, теплится... И вся тайна.
Скоро в караулке и повсюду сумерки будут. А я,
запрокинув голову, на небо глядел. И кадык выпер
из горла, как пугливая черепашья головка из костя-
ного панциря. Почуял на щека'х тепловатое веянье ве-
терка, как размякшие ладони брадобрея. Мне небо
шире земли на глаз кажется. Оно и нависло-то над го-
ловой будто нечаянно... И когда долго-долго глядишь,
204
то с запрокинутой головой очень свыкаешься. Будто
и не запрокинул ее вовсе. И чудится, что землю пере-
вернули, и ты паришь в небе. Вот только ветер похо-
лодает в сумерки, и острием в мгновение рассекает
человечью шею от уха до уха...
А пока я навис над небом. А заодно со мной и ка-
раульный дворик. И наш ротный «уголок по оборо-
не»: намалеванные бомбы и страшный взрыв, и ржа-
вые, вырезанные из жести солдаты в противогазах,
рядышком с гражданским населением — оно состояло
из грудастой бабы без губ, девочки, у которой солдат-
ня гвоздями выцарапала что-то пониже пупа, и не-
весть кого с открученной головой. «Уголок по оборо-
не» был вкопан в землю посреди караулки, и потому
не упал, когда навис над небом. И заодно со мною
исправиловка парила в небе. Краем глаза я видел,
что зеки тычут в небо пальцем и гогочут. Не понима-
ют, падлы, что мы на волоске висим, и поберечься
надо удачу нашу гоготом растрясать. Падать боязно.
Кто знает, что с тобой будет, если в пебо упасть?..
Тоска. И жрать хочется, как перед смертью. Будто по
оплошности тебя в мертвяки записали и пайки не вы-
дают, а нутро живое и просится... Хоть бы мякины
ржаной на пожевку. Может, оттого и тоска, а не от
неба? Я много раз видел, как солдатики из ротных
стоят, запрокинув головы. И что кадык выпирает из
горла черепашьей головкой, тогда подглядел. На что
они смотрят? И что увидел тогда Леха Смиров?..
Нынче смерилось. В караулке зажгли огни, и она
выплыла из сумерек, покачиваясь на песчаной глади
степи.
А тогда было утро. И если сейчас бежать на багро-
вый закат, сквозь ночь, без продыху, то, может, дого-
нишь его? Оно покуда и глазам моим видно, на кра-
ешке земли стоящее, куда долгим днем вели его по
степи убивать, опрокидывать назвничь — пасмурное
утро того дня, в котором послали конвой на запрет-
ку, чтобы вырыть ямы в земле под столбы для новой
лагерной ограды.
Я видел эти ямы потом. Недорытые. Назавтра рот-
ный пошлет их дорывать, потому что зек тогда копал-
ся без усердия и часто заглядывал в темное дуло кон-
войному. А конвойный — Смиров Леха. Он топтался
рядом и насвистывал про любовь, и сбивался всякий
205
раз, когда зек перекладывал из руки в руку лопату.
И потом снова под скреб лопаты в этой утренней роб-
кой тишине подстраивал свист про любовь.
Зек отдышался, чтобы сказать так:
— Гроза будет, служивый... Глянь, какие облака.
Леха Смиров запрокинул голову. И холодное, как
ветер, лезвие лопаты в мгновение рассекло ему горло.
И оно рассмеялось, брызнувши, до ушей.
А я заплакал. Я увидел это потом: когда ротный,
отяжелевший, будто надгробье, стоял у разметавше-
гося по земле человека и когда Каримов глядел сам
на себя из темной лужи — испуганный, с зализанны-
ми на косой пробор бурыми волосами.
Было ти'хо. Курили. Из ненужных рук, ног и губ
Смирова Лехи уходила навсегда кровь и как-то ра-
стерянно вытекала наружу, оглядываясь, как приру-
ченный зверь — в лесу. Она была совсем молодая,
эта кровь. Редея, она делила часы на минуты, потом
па мгновения... и оборвалась, будто отмерив челове-
ческую жизнь.
Солдаты стояли молча и все еще не верили. Жда-
ли. И не брали на руки погибшего, боясь оставить
в нем хоть одну живую каплю.
А Смиров тем временем стал пустым и белым.
И его рука, с белыми и пустыми пальцами, лежала
как-то рядом с ним, но отдельно, как чужая.
Я плакал. И плакал ефрейтор Каримов из бурой
лужи, и тот Каримов, который глядел в нее. А ротный
сказал нам:
— Перестаньте, суки...
Потом Смирова несли па руках завернутым в спи-
санную старшиной простыню. В караулке от него ста-
ло бы совсем тоскливо, и его положили в летнюю кап-
терку на неструганую скамью. В каптерке пахло мы-
шиным пометом, будто ладаном. Ефрейтор Каримов
снова и снова шел туда поглядеть. Солдаты провожа-
ли его глазами и вели тихую беседу за портянки, бай-
ковые, полагавшиеся на осень.
А я жалел, что Леху в землю зароют. Зароют с не-
бом в глазах. А оно все равно останется над нами ви-
сеть... И кто мне ответит — для чего жизнь устроена
так. И знать хочу — чего зеки пальцами тычут в небо.
И еще подумал, что из земли неба не увидать. Пото-
му что темно в ней. И глаза — застит.
206
Солдатская история
Предыстория
Я был живым. А живых солдат отправляли на вок-
зал топтаться в толчее и заглядывать угрюмо в чело-
веческие лица на всякий случай.
А люди по вокзалу ходили склонившись под тяже-
стью вьюков, отчего не получалось заглядывать в их
лица с угрюмостью.
И наваливалась скукота, так как больше глядеть
было не на что.
Караул от гарнизонной гауптвахты считался пото-
му одним из скверных.
В этом карауле, который тянулся от утра до вече-
ра, солдату особо хотелось есть. А поскольку на вью-
ках и буфетных стойках запросто, разгрызая курочку
запеченную, жрали все отбывающие, то выходило, что
не пожравши оставался он один. А это опять же ску-
ка и недобрая зависть.
Еще в этом карауле всегда думалось о доме, пото-
му что на вокзале гудели поезда, отправляясь по го-
родам нашей родины. И какой-то поезд трогался по
расписанию на Москву или Харьков — где жила мать.
Лились по щекам слезы, когда это случалось. Когда
заспанные проводницы светили сквозь ночь фонари-
ками. И когда на бортах вагонов мелькали облупив-
шиеся башенки Кремля.
Скорый на Москву отбывал с вокзала в двадцать
два сорок. И тогда плакал я. А в восемнадцать пять-
десят уходил поезд на Харьков, и тогда плакал ефрей-
тор Кулдыба, с которым чаще иных доводилось мне
топтаться в толчее, будучи в карауле от гарнизонной
гауптвахты.
Привыкая, Кулдыба плакал в восемнадцать пять-
десят и в полку.
По заведенному обычаю, рота наша конвойная
уплетала за ужином пайки. И никто не знал, почему
плачет Кулдыба. Думали солдаты так: плачет потому,
что от ужина к ужину который год каша в котелке —
перловая. А такому горю солдаты были помочь не в
силах. И только не мешали, как могли, Кулдыбе пла-
кать и давиться кашей.
207
Я же не плакал в двадцать два сорок, потому что
еще прежде старшина кричал по казарме отбой. Спал,
стало быть.
А снился мне — Ташкентский железнодорожный
вокзал...
История
Рыжая сука, похожая на маленькую женщину, лежа-
ла, тоскливо позевывая, на перроне. Она дышала тя-
жело. С надрывом. Оглядывалась и, как нездешняя,
как странница, кривила разочарованно свою сплю-
щенную рожицу. Потом она чесала за ухом, вылизы-
вала поджарое брюхо и, заваливаясь боком наземь,
глядела с томлением на людей.
Солнце, взошедшее этим утром над Кызылкумами,
было белым.
Люди, притаившись под сеныо вокзальных стен,
не глядели на него.
Дряблые азиатки, укрыв лбы ладонями, дремали,
раскинувшись по цветастым вьюкам. Мужчины, с от-
висшими животами и будто двугорбые, сидели па за-
корках подле уснувших жен и похлебывали из водоч-
ных бутылок теплую воду. Они оглядывали степенно
маленькую рыжую женщину. А она, что-то подмечая
на донышке их взглядов, принималась не спеша при-
хорашиваться. Чесала за ухом, вылизывала до туск-
лого свечения голое брюхо, распушивала на груди
шерстку прирученного зверя и, виляя хвостом, сощу-
рив умильно чернявые глазкй, шла прогуливаться ту-
да и обратно.
Измученные ожиданием дизеля, люди с живой охо-
той пялили глаза на рыжую.
Заезжая странница вдруг изворачивалась, упорно
выкусывая одну и ту же блоху у копчика, но, почуяв
на себе чей-нибудь взгляд, быстрехонько оправля-
лась, щурила глазки и виляла хвостом.
Кто-нибудь подзывал ее запекшимися губами. Она
медлила, морщила носик и, решив что-то про себя,
распахивала в зевотной улыбке горящую и влажную,
как поцелуй, пасть.
— Ца-ца-ца...— подманивал ее озорной мальчон-
ка, вытягивая из лохмотьев халата худую руку. Но
208
рыжая, потянув от его худобы носом, презрительно
фыркнула и, чуть оскалившись, обошла стороной.
Мальчонка растерянно вобрал худую руку в лохмо-
тья, с тайным любованием и робостью поглядев ей
вослед.
Отчаявшись, маленькая женщина подползла к
жирному узбеку и о чем-то попросила его, лизнув
в ладонь. Узбек зажмурился. Его ладонь пахла бара-
ниной. И она лизала, накладывая язык, будто хлеба
ломоть, эту ладонь, покуда на вьюке не заворочалась
чернобровая ханум.
Та поднялась на локотках и, оглядев с пристрасти-
ем маленькую женщину, шлепнула ее тугою рукой.
Рыжая взвыла и отскочила, волоча, как тяжелую но-
шу, глухой, клокочущий рык.
— Уемас мазар тор1,— прошептала ханум, за-
правляя за ухо с золотой серьгой растрепавшуюся
смоляную прядь, и тут же задремала, с хрипотцой,
на цветастом вьюке.
Потом земля задрожала.
И задрожали вьюки, и женщины, разлегшиеся на
них. Чернобровая ханум хлопотливо заохала и приня-
лась выглядывать, поднеся ладони ко лбу, чирчик-
ский дизель.
Дизель шел тяжко. Будто переступая с ноги на
ногу. Кашлял. И шатался от кашля по колее.
В начавшейся кутерьме сурово спешили на чир-
чикский дизель люди. Дряблые азиатки с кобелой
щетиною на губах подпирали двугорбых, навьючен-
ных мужчин с отвисшими животами. Дизель ворчал,
разглаживая по перрону дымный, седой ус. Распари-
вался, жарчел, покуда из окошка его не вынырнул го-
лый, смеющийся машинист.
— Эй,— крикнул он белозубо.— Механизм не раз-
валите, а то гляди — пешком потопаете! До самого
Чирчика!
Ханум расплевывались при виде его: «Шайтан!»
А он смеялся и тер промасленной ветошью железку.
Докусывая наспех въедливую блоху на копчике,
собиралась в путь и маленькая рыжая женщина. Она
угодливо терлась о голенища сапог, елозила и скули-
ла. Но ее отшвыривали, влезали в вагон и бросались
1 Живем, как на кладбище.
209
из разбитых окошек обглоданными косточками, мгно-
венно расположивши на вьюках кушанья. А когда по-
следние перебрались с перрона на дизель, то рыжую
отшвырнули с подножек ради того, чтобы просто по-
смеяться и хоть как-то скоротать время до отправ-
ления.
Машинист в окошке посуровел. Дизель распарил-
ся, пожарчел и, лихо закручивая свой дымный ус, на-
бирал, расшатавшись, ходу. Люди в окошках мелька-
ли грустные. Некому было из вагона помахать на про-
щанье рукой, потому что перрон был пуст, и одинокие
деревца, клубясь из земли горячей дымкой, таяли за-
одно с ним и с вокзалом, и с небом, будто росли по-
нарошку или приснились.
Плача чернявыми глазками, рыжая откликалась
воем на тягучий гул дизеля, будто бы не он, а она от-
ходила в этот час от раскрошенного песчаной позем-
кой вокзала.
Рыжая выла. Гудел дизель. Дрожала земля. А по-
том стало тихо. И только солнце светило и было
белым.
Тоскливо позевывая, маленькая рыжая женщина
улеглась на перроне.
Теперь под вокзальную стену собирались потихо-
нечку отбывающие полуденным дизелем на Чимкент.
Чирчик, Чимкент, Чу, Ош — дизеля отбывали по
строгому расписанию. Зная о строгости расписания,
люди собирались на перроне загодя, а собравшись,
осторожно располагались у стены и умолкали, чтобы
оно, расписание, думало, что их еще нет.
Седой старик с тощей котомкой, положенной в но-
гах, жевал хлеб. Отломив щепоть от жесткого края,
бросил ее рыжей. Потом, обтерев крючковатые руки
о седую бороду, поглядел на хлеб, валявшийся в пы-
ли, и на суку, обнюхивающую его.
— Е-е-е-е дестархан, барме? Барме?! 1—посмеял-
ся он, тыча пальцем в мякину.
Рыжая подобрала кусок и стала с достоинством
его разжевывать. А старик глядел. А когда наглядел-
ся, то задремал, усыпанный хлебным крошевом.
Попыхивая папиросками и постукивая молотками
по еще не остывшей от дизеля колее, брели путейцы.
1 Это дастархан, понимаешь? Поняла?! (узбек.)
21Q
Оба были загорелы, морщинисты и немолоды, а когда
не лыбились и не кривились от махорочной гари, то
из морщин, из их глубины веяло белизной.
— Макарыч, глянь — собака!
— Этот стык простучи. Чего встал?
— Погодь, Макарыч, собака-то русская, ведь
у тутошних, окромя змей и гадов всяких, ничего не
водится. Русская она. Наша.
— Как мы, стало быть? — расстроился Мака-
рыч.— Сука. Куда же занесло сердешную? Издохнет
она. Матерью побьюсь—издохнет. Или каменюкой
пришибут.
— А я про что — жалко, не чужая ж вроде, а как
мы. Русская.
— А у нас собачар в деревне знаешь, сколько бы-
ло—не перечесть. Опять же хаты от воровства оборо-
няли. А тута чего оборонять, и хат нет, и воровать не-
чего. Песок разве что, а где он нужен, ты мне ска-
жи— где?! Прознал бы, понабивал бы в карманы и в
запазуху, и айда отсюда.
— Угу. Айда.
— Эх... Ты стык-то простучи покамест.
— А чего стучать. Если бы растрясло, то быть ди-
зелю чирчикскому под откосом.
— Это верно. А ты все одно простучи, Паша. Ско-
ро чикменский пойдет.
— А чего стучать. В гробу я этот чикменский
видел.
— Паш, а собачке надобно пожракать сообразить.
Тоща больно.
— А чего соображать, ведь издохнет.
— Но подкормить надобно. Пусть хоть перед
смертью нажрется всласть. В деревне-то нашей соба-
ки всласть жракали. Не собаки, а телки были, чест-
ное слово.
— На обратке пойдем, мясца на косточке из меха-
нического прихватим. Она с перрона не тронется. Не-
куда ей. Будет ждать.
— Ты стык простучал?
— Не-е.
— Так простучи, Паша, простучи... Ну этот дизель
чикменский — пущай с богом в свой Чикмент отвали-
вает. И попутного ветерка.
211
Путейцы затоптали окурки и, постукивая молот-
ками, побрели по колее. Обернувшись, Макарыч сви-
стнул в три пальца и подавил хрусткую, полуденную
тишину неуклюжими кликами:
— Рыжуха, бабочка сердешная, жди! Мясца при-
хватим!
Перхаясь недожеванным стариковским хлебом,
маленькая рыжая женщина закружила по перро-
ну, выискивая кричавшего. В душном вдовьем вальске
закружился вокзал, небо с белым солнцем и земля.
Закружились и другие ханум. И седой старик, ничего
не примечая, закружился. Рыжая захмелела. И рас-
качиваясь, как от похабного веселья, упала наземь.
Дремотно почесала за ухом. Дремотно вылизала ры-
жие сосцы. И усомнившись дремотно в том, что была
кому-то нужна, уложила замороченную голову в ла-
пах, будто бы собралась умирать.
— Гау,— послышалось ей издалека.
— Гау-гау! — послышалось ей совсем близко.
А потом перестало слышаться, поскольку любо-
пытный ублюдок уже принюхивался, склонившись
над нею.
Ублюдок был крепок. Его могучая костистая голо-
ва сидела на шее будто влитая. Сморгнув прежнее
свое выражение с какой-то соринкой в глазу, малень-
кая рыжая женщина потерянно принюхивалась в свой
черед к псу.
— Гау,— сказал ей пес.
— Гау,— сказала она.
Тогда пес подумал немножко и сказал:
—- Гау-гау.
Рыжая оперлась лапами о его грудь, и лизнув
с тихой радостью по щекам, сказала:
— Гау-гау-гау.
Пес задышал, раздаваясь грудью. А раздавшись
донельзя, выдохнул. И выдох его получился долгим.
Таким же долгим, как отправление чирчикского ди-
зеля:
— Гау-гау-гау-гау-гау-гау-гау!
Рыжая помлела и, привалившись к ублюдку, крот-
ко сказала на все это:
— Гау.
212
Он куснул ее за ухо и огляделся. А покуда он
оглядывался, куснула за ухо она. Тогда он подыбился
и, подмяв ее под себя, ласково заурчал.
Они были похожи. А разное можно было по паль-
цам пересчитать:
То, что кобель и сука.
То, что маленькая и большой.
То, что рыжая и облезлый. То есть вовсе без
шерсти.
Пес подмял ее под себя, но она выскользнула из-
под него и нежно показала потупленные клыки.
Пес сказал:
— Гау.
И они разлеглись на перроне там, где раньше ле-
жала она одна. А въедливая блоха мешала этой при-
ятности, и рыжая, со злобой и усталостью выкусывая
ее, поднялась.
— Гау-у-у-у-а-а! — взвыла маленькая рыжая жен-
щина, мучимая блохой.
Ублюдок немного подумал и, заглотив всей пастью
то, где жила блоха, заворочал с усердием клыками.
Блоха бежала с копчика на хвост/
Блоха бежала с хвоста на копчик.
И была раскушена ублюдком посредине пути и
выплюнута в песок с клочьями рыжей шерсти. По-
глядев, осклабившись, будто от родовых потуг на таш -
кентский железнодорожный вокзал, маленькая рыжая
женщина боязливо вильнула хвостом, боязливо зады-
шала. И ожила.
Растопыривши лапы, ублюдок лежал на перроне
и попирал тяжелой, облезшей грудью земную твердь.
А где-то вдали, постукивая молотками и попыхивая
папиросками, возвращались и шли навстречу чик-
ментскому дизелю загорелые, морщинистые, немоло-
дые путейцы, не припоминая покуда, что забыли при-
хватить в механическом мясца на сахарной костке...
Такою вот собачьей эта история вышла, а была ж
вроде солдатская, то есть моя.
213
Дмитрий Бакин
Лагофтальм
Рассказ
Я ненавидел этого парня.
Мне выпало с ним служить.
...Каждый день видел его худое, нескладное тело,
спрятанное под формой слишком большого размера,
которую он мог снимать, не расстегивая пуговиц; его
тяжелые, истоптанные кривыми ступнями сапоги со
сбитыми каблуками без подков; узкие, как лопасть
весла, плечи; лицо, не уступавшее в уродстве сгустку
застывшей магмы — я хотел бы посмотреть на женщи-
ну, которая его родила, и узнать, на каком месяце
случилось это несчастье — но Брагин сказал, что
лишь очень одаренные люди бывают настолько урод-
ливы и болезненно слабы. А потом: «Глянь, у него го-
лова на шее не держится,— глянь, упала набок, как
у двухмесячного». А Монашка, который когда-то чи-
стил клетки в зоопарке, сказал: «Волчья стая всегда
уничтожает больного, малосильного волка, потому
что в конечном счете его жизнь слишком дорого обхо-
дится здоровым и сильным».
Я ненавидел этого пария, еще не зная, что он быв-
ший пианист и фамилия его Венский.
Венский был направлен к нам из учебного подраз-
деления радистов. Он пришел в роту в один из самых
скучных вечеров, за час до вечерней поверки; молча
стоял посреди прохода между двухъярусными койка-
ми, опустив вещмешок и скатанную шинель на пол,
потерянно озирался по сторонам, точно упал в яму
и не знал, как выбраться. Взглядом беспокойным
и испуганным прощупывал каждого и наконец увидел
меня. Несколько секунд мы смотрели в глаза друг
другу. Мои мышцы напряглись помимо воли. Я замер,
словно готовился увернуться от ножа. Он улыбнулся
и успокоился.
214
Венский повел себя, как человек, который в скором
времени попросит в долг.
Во мне появилось бессознательное стремление
держаться от него подальше. Я не знал, какого хре-
на он лип ко мне — в армии таких вещей не любят —
быть может, он что-то чувствовал, быть может, он
что-то видел во сне, и его стремление быть рядом со
мной было сродни стремлению слепого искать твер-
дую тропу.
Он отчужденно бродил среди солдат — воздух
хлюпал у него в сапогах,— кривил лицо, морщил лоб
под давлением глухой, ипохондрической боли — вы-
нашивал реквием по одному из нас — смесь боли и
музыки.
Мне не давало покоя его лицо. Гораздо позже
я понял, что к этому лицу обращался по ночам, когда
не хотел жить.
Он всегда был рядом со мной, виновато улыбался
и пытался заговорить.
Я говорил ему: «Послушай, убери от меня свою
рожу». Он стоял и виновато, точно ребенок, улыбался,
перед тем, как отнять.
Я не мог все время смотреть на человека, при виде
которого испытывал желание бежать.
Я говорил ему: «Убери от меня свою ублюдочную
рожу».
Но все было бесполезно. Он выбрал.
Я сильно изменился. Меня боялись, как боятся
темноты и незасыпанных могил. Тем зарядом ярости,
который накопился во мне, можно было взрывать мо-
сты. Стал опасен — во мне ожил страх безмозглой
твари перед человеком — держался настороже, ви-
дел опасность во всем. Был слеп перед врагом, и чем
дольше это длилось, тем яснее я понимал, что мой
враг будет жить до тех пор, пока жив я, и умрет он
лишь во мне, вместе со мной, но не вне меня.
В поступках этого тощего, слабого недоноска
я был склонен видеть несокрушимую, упрямую точ-
ность магнитного компаса — жизнь, подчиненную бе-
зошибочному чутью, которое заставляло ноги ступать
там, где никогда не разверзнется земля, нести тело
в обход тысяч смертей и пьяных жизней; закрывать
глаза там, где слепнут, уходить с места, на котором
любой другой был бы раздавлен падающим дере-
215
вом—точный, беспроигрышный расчет древнего ин-
стинкта, утверждавшего в человеке глухую, болез-
ненную веру в несравненное значение собственной
жизни и в дар творить великое. Воспитанный в чисто-
те и безгрешии — боялся крови, блевал при виде чу.-
жой блевотины, не любил бездомных собак, но бес-
предельно любил свою мать, которая оберегала и на-
ставляла — мудрая самка человека.
Весной Венского положили в санчасть.
Окна санчасти выходили во двор нашей казармы.
Когда бы я ни проходил мимо, за крестом оконной
рамы торчала голова Венского. Он смотрел на меня,
вцепившись в подоконник, кривил желтое лицо и бес-
покойно улыбался. Он выглядел очень плохо. Меня
разбирало желание пуститься в пляс.
Движимый злобным любопытством, я ходил в сан-
часть и пытался прочитать медицинскую карту Вен-
ского, но кроме того, что он болен, ни черта в ней не
понял — если бы обезьяну научили писать, зажав ав-
торучку между ног, она бы писала гораздо аккурат-
ней и понятней, чем пишут врачи.
Венского выписали через две недели.
Он пришел в столовую и сел за один стол со мной.
Я медленно ел перловку, глядя на свои грязные руки.
Венский достал где-то полбатона копченой колбасы,
резал тупым перочинным ножом и раздавал тем, кто
сидел за нашим столом.
«Будь ты проклят. Опять ты здесь,» — зверел я.—
«Будь ты проклят, паскуда».
Я протянул руку за хлебом. Венский быстро пере-
гнулся через стол и положил кусок хлеба с нарезан-
ной колбасой возле моей тарелки. Несколько секунд
я смотрел на хлебницу, чувствуя, как мозг наливается
густым соком ярости, а потом врезал кулаком по сто-
лу и смел его вонючую колбасу вместе со своей тарел-
кой на пол. Все смолкли. Офицеров в столовой не бы-
ло. Я встал и вышел.
С неба струился золотой песок солнечного света.
Я хотел быть один.
Я хотел быть один, как пять лет назад, когда ле-
жал на берегу моря,— пошел дождь, все собрали ма-
натки и ушли,— я остался на мокрой гальке и смот-
рел, как ветер поднимает над морем мелкие, соленые
216
брызги, вытягивает смерч в странную женскую фигу-
ру и плавно ведет по волнам, точно в вальсе.
Но отсюда никто не уйдет, даже если с неба по-
сыплются кости.
В ту ночь я долго не мог заснуть — бредил; мед-
ленно двигались призрачные, белые пятна человече-
ских лиц, и постепенно число лиц увеличивалось и
двигались они все быстрее— миллионы человеческих
лиц, миллионы, увековеченные в подвигах и позоре,
в разврате и войнах историками — беспристрастными
разносчиками лжи, страдали от холода, голода, маля-
рии, бедности, безденежья, неполноценности, пьянст-
ва, но возносили благодарность богу, старались не вы-
совываться, не подставляться, не воевать, не умирать,
они — больные, здоровые, незаконнорожденные, су-
масшедшие— хотели тихо и незаметно прошмыгнуть
под солнцем, тихо и незаметно нарожать детей — бес-
шумная в движении толпа миллионов, время от вре-
мени один из них откалывался и кричал — стоп, не
так,— и был убит, раздавлен плитой зависти, отрав-
лен лошадиной дозой бруцина, прошит пулей или
пропал в лесу, куда отправился засвидетельствовать
почтение судьбе.
Все кончается, когда готов начать.
Я очнулся — заснул — осыпалась исполинская
стена лиц.
В пять утра проснулся окончательно, неподвижно
лежал, слышал сопение, храп и скрип ржавых коеч-
ных пружин под сонными телами. Потом поднялся,
надел сапоги, взял сигареты и пошел в умывальник..
Курил, глубоко затягиваясь, и смотрел в окно. Пахло
густым раствором лизола и грязным бельем.
В умывальник кто-то зашел. Я оглянулся и увидел
Венского. Он был в больших, измятых черных трусах
и в рваной майке, какие нередко попадаются в парти-
ях чистого белья из дивизионной прачечной. Виновато
улыбался, всем видом выказывая сочувствие.
Белки его глаз были желтые, как нечищенные
зубы.
Он сделал несколько шагов ко мне.
Я положил сигарету на подоконник.
Он кривил лицо, собираясь что-то сказать. Но мне
было плевать на все, что бы он ни сказал. У меня
появилась возможность сделать самое малое, что
217
можно было сделать. Я подождал, когда он подойдет
поближе, и, не размахиваясь, резко ударил. Его голо-
ва мотнулась в сторону, ноги подкосились, и он упал.
Сощурив глаза, я смотрел, как он встает; ждал, что
он скажет, чувствовал, что каждый мой удар принесет
ему облегчение, после того, как судьба избавит нас
друг от друга. Он понимал, что рано или поздно
я изобью его, но искал встречи наедине — значит, хо-
тел этого. Кроме того, он хотел что-то объяснить.
Он поднялся и сказал: «Это ни к чему».
Кажется, он твердо знал, что в любом случае дол-
жен быть со мной и должен терпеть мои выходки.
Мне бы бежать, но я ударил его еще раз. Он упал
и долго не мог встать. Изо рта текла кровь.
Он сказал: « Ну, это ни к чему».
На следующий день мне объявили семь суток
ареста.
Венский ходил к ротному и говорил, что сам зате-
ял драку и если сажать, то сажать обоих, но ротный
знал меня как облупленного и не стал его слушать;
тогда Венский оскорбил сержанта, и ему объявили
трое суток. Он твердо знал, что должен быть со мной
везде. Но перед арестом каждый был обязан пройти
медицинский осмотр. В санчасти Венского сажать за-
претили.
Через два дня меня отвезли на гарнизонную гаупт-
вахту.
Конвойные отобрали деньги, документы и все, что
режется; в поисках сигарет обшарили карманы, засо-
вывали пальцы под погоны, вытряхивали сапоги, вы-
нув стельки, прощупывали одежду на швах; потом
составили список отобранного, дали расписаться, от-
вели в камеру, сняли замок с откидных нар и сказа-
ли, что могу спать до завтра, потому что сегодняшний
день в срок не войдет и жрать сегодня не дадут.
Камера была на четверых—‘дверь, обитая листо-
вым железом и выкрашенная в зеленый цвет, со смот-
ровым окошком на уровне глаз, серые, бетонные сте-
ны—в стене, напротив двери, грубо пробитая отду-
шина во двор, в углу сорокалитровый бак с питьевой
водой и кружка. Больше ничего.
Я завалился на деревянные нары и уснул. Про-
снулся от тяжелого топота сапог по коридору. Было
поздно. Арестованные вернулись с работ. После от-
218
боя выяснилось, что со мной в камере сидели двое —
смуглый морской пехотинец и высокий, толстый уз-
бек, они зашли в камеру, хмуро покосились на меня
и повалились на нары. Конвойные закрыли дверь сна-
ружи, и над смотровым окошком внутри камеры за-
жегся кошачий глаз тусклой, двухсотдвадцативольто-
вой лампочки дежурного освещения.
Морской пехотинец глухо ворчал, что не успел схо-
дить по нужде и теперь придется терпеть,до утра, по-
тому что по ночам из камер не выпускали. Узбек мол-
чал, притворялся, что не понимает по-русски. Обоих
посадили на десять суток за самоволочку — морской
пехотинец сказал, что бегал к бабе, а куда бегал уз-
бек, никто не знал. Морской пехотинец отсидел двое,
а узбек трое суток.
Ночью в камере было холодно и сыро.
Губу подняли в пять утра.
Мы построились в коридоре и угрюмо ждали раз-
вода.
Нас разбили на группы, по десять — пятнадцать
человек, вывели на улицу, раздали лопаты, ломы, но-
силки и определили места работ. Нашу группу погна-
ли на далекий, заброшенный пустырь копать кана-
вы — то ли для мусора, то ли для пищевых отбросов.
За нами следили двое конвойных с пулеметами. Один
из них, долговязый, меланхоличный парень, сидел
в стороне на ржавом перевернутом ведре, положив
пулемет на колени дулом в нашу сторону, и не спеша
мастерил игрушки из утильной резины.
Я давно столько не бегал и никогда не бегал
столько с носилками и ломом.
К обеду узбек был ни жив пи мертв, а после обеда
и до ужина вяло махал лопатой и плакал в вырытую
яму.
Мы были грязны, как ветки, вытащенные из бо-
лота.
Ночью у меня сводило ноги.
Морской пехотинец храпел так, точно по бетону
двигали трехметровый шифоньер.
Скоро я привык к режиму и делал все автомати-
чески, почти не уставая. Но узбек не мог к этому при-
выкнуть и каждый день плакал.
На шестые сутки, растянувшись на нарах после от-
боя, морской пехотинец сказал: «Завтра вам выхо-
219
дить. А мне через день»,— ухмыльнулся, глядя на уз-
бека: «Здесь неплохо, а?» — и засмеялся.
Узбек задрожал от ярости.
Морской пехотинец сказал: «Главное, здесь быст-
ро летит время и хорошо кормят».
Утром узбека забрали в часть.
Остальных построили на развод.
В тот день мне добавили пять суток за окурок под
моими нарами. Я не знал, подбросил окурок узбек или
в камере просто курили конвойные.
На следующий день вышел морской пехотинец.
Я остался один. Днем до бесчувствия работал. По
ночам думал о Венском.
Потом мои сроки истекли.
Меня везли в часть.
Я хотел спать больше, чем жить.
Стояла чудесная погода. Над крышами домов ви-
села золотая сеть солнечного света, поймавшая всех
птиц над городом. По улицам шли люди, которые ни-
когда не встретятся с Венским.
В роте никого не было. Всех увели на полигон ре-
зать дерн для маскировки дзотов.
Я сел на койку и попробовал снять сапоги, кото-
рые не снимал двенадцать суток, но из этого ничего
не вышло. Взял у дежурного штык-нож, распорол го-
ленища почти до подметок, бросил сапоги под койку,
надел чьи-то драные тапочки и поковылял к старши-
не. Купил у него две пачки сигарет, взял какой-то
журнал, прихватил табурет и пошел в умывальник.
Сидел у окна, курил и читал. Прочитал рассказ про
маленькую деревенскую девочку и огромную свинью,
потом прочитал стихи, над которыми помещалась фо-
тография красивой молодой женщины. Стихи были
плохие, но женщина была настолько красива, что не
напечатать ее стихи мог только импотент. Потом рас-
сматривал комиксы.
Кто-то тронул меня за плечо. Я поднял глаза и
увидел Венского.
Он страдальчески улыбнулся и сказал: «Я о дра-
ке никому не говорил».
- Я сказал: «Чтоб ты сгорел».
Он покраснел, как собачий язык, и сказал: «Я
никому ничего не говорил»,— повернулся и ушел. Ка-
жется, он плакал. Он что-то чувствовал, чтоб мне
220
сдохнуть, он все время чувствовал себя виноватым
передо мной.
В четверг ротный построил роту и сказал, что че-
рез семь дней намечается стокилометровый марш по
горным дорогам. Для механиков-водителей это озна-
чало семь дней не вылазить из-под бронетранспорте-
ров. Он зачитал состав экипажей. Моим радистом
числился Монашка. Венский был радистом в экипа-
же 204-го БТРа, который по номерному порядку дол-
жен был идти в колонне перед моим 205-м. Механи-
ком-водителем 204-го был Брагин.
Нас отвели в автопарк.
В другое время я бы пальцем не шевельнул —
слонялся по ремзоне или спал бы в подсобке. Но во
мне росло предчувствие беды.
Я поменял масло в движке, заменил топливный
насос, поставил новый стартер, проверил генератор
и реле-регулятор, заменил топливные фильтры, тогда
как многие ездили вообще без них. Те, кто проходил
мимо, видно, думали, что я рехнулся. Отрегулировал
сцепление, полностью проверил рулевое управление
и всю тормозную систему. Потом вспомнил, что на по-
следнем марше грелась ступица левого переднего ко-
леса. Снял колесо и ступицу, заменил подшипник, гу-
сто смазав его солидолом. Ставил колесо, ворочая тя-
желой монтировкой, когда что-то заставило меня огля-
нуться, оглянулся и увидел Венского, который стоял
в двадцати шагах, около большой черной канистры
с нигролом и неотрывно следил за мной.
Я понял: все, что делал, было ни к чему, присел на
корточки, тупо глядя на свои грязные руки и на гаеч-
ные ключи под колесом. И чувствовал себя, как в кон-
це войны, когда больше нет сил жить ненавистью и
нет воли не жить тоской.
В субботу Монашке подписали увольнительную на
сутки. Он взял у Брагина адрес какой-то безотказной
брюнетки, вымылся, почистил зубы, выгладил форму»
оделся и махнул в город.
Он вернулся в воскресенье вечером, сияющий,
точно блудливая комета, едва выстоял вечернюю по-
верку, разделся, выпрямил исцарапанную вдоль и по-
перек спину и не спеша пошел в умывальник, накло-
нив голову так, чтобы все видели лиловый, продолго-
ватый засос под левым ухом.
221
Следующие два дня и две ночи он болтал, не умол-
кая. На третий день кое-кто видел, как он вялой по-
ходкой вышел из туалета, молча подошел к своей
тумбочке, достал чистый лист бумаги, конверт и са-
пожный крем, снял один сапог, намазал подошву кре-
мом, положил чистый лист на пол, надел сапог и на-
ступил на лист всей ступней. Потом сложил лист
с трафаретом подметки, засунул в конверт, написал
адрес брюнетки и бросил конверт в ротный ящик для
писем.
После обеда он подошел ко мне, глядя вдаль го-
лубыми скорбными глазами, поднял голову, словно
в ожидании дождя, и сказал: «Кажется, я влип».
Я прикурил, посмотрел на Венского, который ша-
тался неподалеку со своей поганой виноватой улы-
бочкой, и буркнул: «Я тоже влип, когда родился».
Монашка сказал: «Мне нужно в госпиталь».
Я спросил: «Зачем?»
Он сказал: «Провериться».— Помолчал и сказал:
«Ходил к ротному... Говорю, мол, плохо чувствую,
нужно в госпиталь. А замену на марш, мол, найдете».
Я спросил: «А он?»
Монашка сказал: «А он говорит, ладно, мол, тебя
Венский заменит».
Я помолчал и сказал: «Ты поедешь в госпиталь
сразу после марша».
Он уставился на меня и спросил: «Почему?»
Я сказал: «Потому что ты мой радист. И
баста».
Потом я пошел в санчасть. Вместе с санинструк-
тором полтора часа рылись во всех ящиках и аптеч-
ках, нашли вибрамицин, диазолин и нистатин. Отнес
таблетки Монашке.
Двадцать четвертого апреля роту подняли по тре-
воге.
Колонна бронетранспортеров вышла из части,
обогнула город, прошла через плато и потянулась
в предгорье.
Дорога была извилистой и узкой.
Подъемы чередовались со спусками.
Я вел БТР, прислушиваясь к работе двигателя.
Поплевал через плечо.
И тут, на одном из подъемов, БТР заглох. Я вы-
ключил зажигание, включил вновь и попробовал пу-
222
стить движок со стартера, но стартер крутил вхоло-
стую.
Монашка сказал: «Что-то сгорело».
Я сказал, чтобы он заткнул пасть. Потом вылез на
броню.
Два БТРа позади остановились, остальные подтя-
гивались. БТР Брагина впереди, остановился тоже.
Первые четыре скрылись за поворотом.
С 208-го орал через мегафон ротный. «Ну? Что
там?» — орал он.— «Ну?»
Я видел, что мы не разъедемся — слишком узка до-
рога.
Рев двигателей давил на барабанные перепонки,
как десятиметровый слой воды.
«Буксируйте!» — орал в мегафон ротный. «Брагин,
возьми его на буксир!» — заорал он Брагину, а мне
заорал: «Отвязывай трос!»
Я спрыгнул на землю и отвязал трос. Брагин сда-
вал назад. Я зацепил трос и влез в БТР. Брагин дер-
нул рывком. Через тримплекс я увидел синие выхлоп-
ные газы и услышал, как лопнул трос, а БТР Браги-
на попер в гору. Венский, сидевший на броне 204-го,
наклонился к люку и закричал Брагину, что трос
оборвался. Брагин затормозил и начал медленно сда-
вать. Кроя матом все на свете, я вылез снова, но Вен-
ский опередил меня. Его сапоги были в белой пыли.
В руках он держал другой трос.
Он сказал: «Ничего, я зацеплю».
Я стоял сбоку и смотрел, как ловкие, проворные
руки пианиста неловко цепляют трос за скобу, и хо-
тел зло смеяться. Наконец он зацепил трос за БТР
Брагина, повернулся к нему спиной и принялся завя-
зывать другой конец за мою скобу. И только по тени,
наползавшей на сапоги Венского, я понял, а потом
увидел, что БТР Брагина катится назад — это часто
бывает, когда сидишь за баранкой, думаешь черт зна-
ет о чем и ничего не замечаешь.
Венский стоял спиной к БТРу Брагина и старался
зацепить трос.
Я видел тень на спине Венского и видел, что через
две секунды он будет раздавлен между бронетран-
спортерами.
Все решается само собой, и чем больше об этом
говорить, тем дольше это останется неразрешимым.
223
Я не хотел думать и не хотел кричать, потому что,
когда кранты, думать и кричать смешно.
Я прыгнул в тот момент, когда Венский поднял го-
лову и когда задний борт брагинского бронетран-
спортера находился в нескольких сантиметрах от его
спины. И я вложил в удар руки всю свою жизнь
и все, что было, и все, что должно было быть. И
прежде чем мои кости хрустнули между стальными
бортами, увидел, как тощее тело Венского, подбро-
шенное моим ударом, перевернулось, точно неуязви-
мая кукла, и он упал в двух метрах от бронетранс-
портера.
* * *
Меня положили на обочине дороги в теплую, мягкую
пыль. Кто-то снял с меня шлем и гладил по голове.
Наверное, Венский.
Я говорю вам, кончайте ваши дурацкие штучки.
Я говорю вам, не нужно меня никуда нести. Дви-
жение имеет смысл для вас. Для меня смысл в непо-
движности.
Но вы меня не слышите.
Я не открываю глаза, потому что знаю, что уви-
жу—вся колонна остановилась, кроме первых четы-
рех бронетранспортеров, которые скрылись за пово-
ротом.
Не знаю, смогу ли вообще открыть глаза. Я ничего
в себе не чувствую. Ваши голоса едины с грохотом
падающих камней и грохотом полигона. Все живое
едино с мертвым.
Не нужно меня никуда нести.
...Она давно идет ко мне по серым дорогам, посту-
пью легкой и бесшумной, как оседающий пепел.
Не трогайте меня.
Я хочу это видеть.
Михаил Умнов
Поле
Рассказ
Поле подбиралось к торцу столовой на исходе сил,
изорванно накатывалось на стену, вцеплялось в пазы,
словно оглядываясь туда, откуда пришло, отделив-
шись от небес.
Если смотреть и смотреть, приставив ладонь ко-
зырьком, то виделась или просто мешалась соринкою
в глазу запредельная сопка Чань. Я помню те места
и время, отведенное мне, но если сжать воспоминание,
то из всей рыхлости массы, ускользнувшей меж паль-
цев, останется пустячный сухой комок, который можно
растереть легко и сдуть или отдать это ветру; но
и тогда сухость пыли передастся руке, и та станет по-
хожей на дерево, вернее, на рисунок дерева, глядя на
который нельзя, к счастью, понять: я подле него или
он подле меня, я'в нем или он во мне.
Дерево же было безмерным, очень старым, пара-
лизованным на один ствол — так, что зелень смотре-
лась в мертвые сучья; это был тополь, он стоял у сто-
ловой.
Рядовой Антипов вышел из столовой и остановил-
ся под тополем. Он хотел было присесть на скамейку,
но отогнал себя за деревья, прислонился к стволу
и в самом деле стал менее заметен. Тогда Антипов по-
правил поясной ремень, автомат на плече, потянулся
подбородком: застегнут ли горловой крючок— и толь-
ко тогда замер всем существом. Он дремал с откры-
тыми глазами, захмелев от недосыпания и колкой сы-
тости. В напрасных зрачках машинально отразилось
то, как из растресканной стены выбежала мышь по
своим делам, как от грохота грузовика задрожали,
бросая блики, стекла столовой и как поднявшаяся
8. Крещение
225
пыль застлала взор этих самых стекол. Долгий миг
спустя из пыли показалась лошадь с телегой и без
возницы, призванная безразлично одухотворять по-
жизненный путь между свинарником и столовой. В те-
леге, перекатываясь и пусто, бились бочки. От этого
престарелого звука, связывающего гарнизонную
окрестность в одно целое. Антипов очнулся, оттолк-
нулся от дерева, первым делом неприятно удивившись
тому, как глубоко — до бескровного оттиска — ладонь
вжалась в кору. Антипов вскинул голову и негромко
прохрипел, чтобы услышать себя как сосуд; он уви-
дел— выгоревшая птица слилась с выгоревшей вет-
кой, ветка качнулась было, но передумала.
Заскрипела дверь столовой, нелепо большая, оби-
тая жестью; несколько старослужащих вышли на по-
рог, небрежно соглашаясь с одолевшей их сытостью.
Один, тесно ушитый, точно в трико, заметил Антипова
аккуратно усатым лицом и, видимо, захотел крикнуть
что-то кастовое, потянулся уже лицом, сбивая фокус
холености, но в последний момент поленился от сы-
тости, вдруг запрокинул голову, будто переведя жела-
ние вверх, и по-детски зажмурился, примерив и отпу-
стив обаятельную уродливость, затем рассеянно про-
следил за взлетевшей птицей и громко, с наслаждени-
ем зевнул, став похожим на миг на женщину. Видимо,
выродился сгусток хорошего настроения — он радост-
но заорал по пустынной площади: «Устинов! Мать
твою, старый зад! Приказ на дембель давай!» Осталь-
ные засмеялись.
Остальные засмеялись, оживились в коротком при-
ятном безумии: кто-то свистнул, а другой, круглый
и пружинистый, оттолкнувшись от плеч товарища, вы-
прыгнул вверх и по-петушиному забил руками.
В глазах Антипова напряглась каряя тень, когда
он приметил, как просветлело на небесном фоне ли-
цо выпрыгнувшего.
Вспышка энтузиазма на том кончилась; обняв-
шись и раскачиваясь, они побрели через площадь,
прогнутую в середине от голодного строевого шага
Антипов долго смотрел им вслед; от смешанного чув-
ства вражды и зависти другой конец взгляда болез-
ненно отзывался где-то внутри, в неглубокой глуби,
где стояли уже удушье времени и боязливая метка
опыта, согласно которому время все-таки идет,
226
днем — медленно, ночью—быстрее, и потому четыре
месяца службы можно четырежды пометить, напри-
мер, бритвой на ремне. В конце концов осталось ли-
цо, полное преждевременной скользкой радости. «Дай
только срок,— сказал себе Антипов,— через год
и я...» В том выбившемся из груди «я» не было те-
лесности, а только свет с шумом листвы, что вдруг
ожила над головой.
Дверь снова с протяжным предупреждением от-
крылась— вышел арестованный Невзоров и остано-
вился на пороге. Пока Антипов шел к нему, тот так
же, как и остальные на этом месте, поневоле улыбал-
ся. Солнце раскалило его щетину до рыжины, разво-
ды грязи на гимнастерке стали жуково-лиловыми.
Невзоров был без ремня, как и положено, и без пи-
лотки, что, как понимал Антипов, положено не было,
но здесь, у черта на куличках, это значения не имело.
— Ну что, пошли, зёма? Почифанили казенного,—
улыбаясь, сказал Невзоров.
Оба сошлись взглядами, как всякие два человека,
и разошлись вскользь, как те, кому сказать друг дру-
гу нечего. Зато оба услышали нагретую, особую тиши-
ну вокруг себя и ту особую — подкожную — тишину,
что связывает охранника с невольником случайным
родством: тишину ту не выбьешь даже каблуками,
под которыми, впрочем, уже хрустнуло начало пути.
Да и кругом наконец все ожило: что-то оборвалось
и грохнуло у кочегарки—взлетело испуганным салю-
том,— сорный звук разметался и привел в движение
задремавшую округу; взревел дизель в автопарке,
очнулся автомат на стрельбище, рухнула груда мисок
в столовой.
— Пошли,— неумело сказал Антипов.
— Сейчас бы на пляж с девочками.— Невзоров
приглашающе хохотнул.
Антипов послушно ответил на улыбку. Глядя на
наглую почти бслозубость, уверенные хмельные губы,
Антипов невольно ощутил, как его царапнула за-
висть; он подумал, переводя взгляд в сторону и рас-
сматривая каблук: однако ты вот где, а я вот. Преж-
девременная стоптанность каблука его огорчила.
От порога они сразу свернули к тополям, где Ан-
типова встретила знакомая, почти несуществующая
тень. Он прошел мимо дерева, к которому недавно
227
прислонялся, и машинально всмотрелся в узор коры,
неисчерпаемость которого отпугнула его взгляд, Ан-
типов оглянулся—увидел снова и заново засвечен-
ный экран площади да какое-то движение, запылив-
шее на дальнем конце ее; само собой вычислилось,
что оно уже никак не коснется их.
Комендатура помещалась в поселке; самая корот-
кая дорога шла сквозь расположение гарнизона ши-
роким накладным швом, морща и стягивая солдат-
ское сукно рельефа. Она была хорошо видна Антипо-
ву, как, впрочем, и он сам растекшемуся бельму доро-
ги. И этот взгляд, неподвижный и меткий, приставал
к лицу дополнительной тяжестью: конвой обязан был
ходить по главной дороге. Между тем оба, сохраняя
уставную дистанцию, шли мимо столбов с оборванной
проволокой; сонная подслеповатая тропа, придержав
прыть на виду у главной, дотащилась кое-как до скла-
дов, скученных на краю поля, и только тогда, отгоро-
женная с обеих сторон, она набиралась собственного,
с небесною отметиной значения.
Невзначай открылось сверкающее поле и, успев
просквозить их морским блеском, закрылось отворо-
том склада, в котором обживал объем ответственный
прапорщик. Его сапоги сушились на солнце, а сам он,
шлепая безразмерными ступнями и полоща свистом
горло, борол огромный тюк. И снова...
И снова, когда склады разомкнулись со стороны
поля, Невзорова и Антипова до костей проняло едким,
гремящим по травам светом — так; что обоих на миг
разъяло, и только синхронный жест—козырек ладо-
ней у глаз — восстановил их в прежнем значении.
Завидев времянку КПП, Антипов выровнял поло-
женное расстояние до спины арестованного и подтя-
нул автомат, чтобы дуло привычно дышало в ухо.
В окошке пропускного пункта мелькнуло озадачен-
ное лицо сержанта — бедный разом перестал жевать,
обеспокоенно высунулся; убедившись, что офицеров
нет, он, как по команде, заработал челюстью.
— Вот хряк...— сказал Антипов вполголоса, но
так, чтобы Невзоров услышал.
— Эй, хряк! Здорово! — тотчас крикнул Невзоров
и засмеялся. Антипов внутренне поджался от неожи-
228
данного рикошета: сержант мог запомнить его. Сер-
жант же между тем сам смертельно замер — лицо от
незаконной обиды обзавелось чертами: «фазаньи»
начальные усики и отчетливый, как особая метка, про-
бор посредине темени.
В безмолвии окна открылся садовый цветок в бу-
тылке.
— Говорят, сюда девки по ночам приходят,— ска-
зал Антипов.
— Ничего! И у тебя подрастет.— Невзоров огля-
нулся и необидно рассмеялся.
— Однако цветок...— себе под ноги уже сказал
Невзоров.
Антипод переспросил, но Невзоров не ответил, по-
том пожал плечами, потом, глядя в сторону, туда, где
поле набирало силу, сказал, когда это уже не имело
смысла: «Что „что”?»
— А сколько ты отслужил? — вдруг спросил Ан-
типов и понял, что давно хотел спросить Невзорова,
еще когда вел в столовую.
— Полтора, считай. В том-то и дело,— сказал
Невзоров с беспричинным воодушевлением.
Они шли рядом. Тропа сразу за столбом, вкопан-
ным бог весть зачем, круто обрывалась в овраг. Поле
за шаг до спуска открылось по всей широте, подавляя
контуры поселка справа и вершины китайских сопок
за спиной.
Спуск был крутой и быстрый—так, что оба не-
вольно захватили врасплох растительную тишину: ее
пришлось раздвигать руками и коленями, пробивать
снизу сапогами. Антипов видел впереди себя темную
спину Невзорова, его темные, до позолоты, большие
кисти, брошенные вперед, как у пловца. Паутина пе-
рекрестила Антипову лоб, будто разметила по-ново-
му; блуждающая ветка смахнула пилотку. Антипов
нагнулся за ней — лопушиная волна сошлась над рас-
терянным взглядом; Антипов хватанул горчичной пре-
ловатой прохлады и неожиданно для себя замер.
В стороне слышался замирающий треск, все более не-
реальный от истончающейся прерывистости, а здесь—
на уровне коленного сгиба — стоял утробный предро-
довой покой, из которого не было выхода; на морщи-
нистом исподе лопуха бабочка пережидала дневную
слепоту. Антипов посторонним движением задел сте-
229
бель, тот загудел, отгоняя человека и смахивая бабоч-
ку в гулкий свет. Вырываясь на поверхность, Антипов
ткнул стебель, чтобы причинить ему боль, и кинулся
со всех ног за Невзоровым.
— Где твоя пилотка? — догнал он арестованного
криком. Невзоров остановился, обернулся, став яс-
ным до пояса, как мишень. Из-за спины его вылетела
бабочка. Другая, определил Антипов.
— Ты что орешь? Боишься, что ли, чего?—крик-
нул навстречу Невзоров. Когда Антипов подошел бли-
же, переспросил то же, со своей обычной усмешкой.
— Пилотка-то где твоя? — снова сказал Антипов,
чтобы что-то сказать.
— А за каким... опа нужна, зёма?-
— Тебе-то, пожалуй, не нужна,— согласился Ан-
типов и машинально поправил свою.
Выбираясь из оврага вслед за Невзоровым, Анти-
пов поскользнулся и привалился плечом к склону.
И опять, внутренне тому противясь, он выпустил из
мышц усилие; в щеку ткнулись подробности травы,
в которых — сколки неба. Комок глины похолодил ви-
сок. Недосып, решил Антипов, гоня себя вверх.
Когда перевели дух и огляделись, то оказалось,
что стоят они уже далеко от гарнизона. Штаб, казар-
мы, склады — все предстало в макетном масштабе,
зато поле, дикое от своей приграничной судьбы, неза-
метно набирало высоту, чтобы там, на расстоянии
дневного перехода, снова слиться с синевой, оттолк-
нувшись от китайских сопок. Но Антипов с Невзоро-
вым только прищурились на солнце в ту сторону, са-
ми они свернули много вправо, чтобы выйти к задам
поселка в нужном месте.
Невзоров достал из-за голенища спичечный коро-
бок и вынул окурок. Прикурив, он блаженно раскинул
руки и обернулся вокруг себя. Антипов тоже вдогон-
ку оживился, достал из кармана кусок хлеба, обдул
от пыли, поколупал для приличия ржавчину нагара;
он старался есть с неохотой, почти задумчиво — так
же, как покуривал Невзоров, но куски, что он прихва-
тил с сержантского стола, сами набивались в руки,
потом в рот.
— Что, не наедаешься? — спросил Невзоров, неж-
но обдувая мизерное курево.
230
— я один «молодой» за столом,— смутившись,
сказал Антипов.
— Понятно,— без презрения отозвался Невзоров.
Он остановился, обсасывая пепельный катыш,
и волей-неволей Антипов разглядел его заново, буд-
то Невзоров принудил его к этому: когда Невзоров
затягивался, усмешливость пропадала, вместе с нею
сходила небрежная, гладкая от густой щетины дород-
ность; взгляд утыкался в одымленную ладонь — тогда
сплошным, ближним уже, как собственная ладонь,
планом наворачивался кожаный диск с нежилыми
сейчас вмятинами глазниц, словно это вывернулось
дно человека и встало на ребро, прежде чем качнуть-
ся вспять. Антипову стало неприятно и недобро; с ни-
чейной веселостью подумалось, что эдак и у него было
тогда в казарме, когда, ползая в дежурство на карач-
ках — скобля пол осколком стекла и отметая старую
мастику, он уткнулся лбом в сапоги старшины Быко-
ва; тот музыкально отшагнул и потом, уведя блеск от-
лаченных голенищ, не сильно, но точно в прогалец
лба Антипова сунул мыском сапога; не сказав ни сло-
ва, прош£л дальше. Впрочем, потом обернулся и ска-
зал лежащему Антипову: «Ты, зелень, на меня не оби-
жайся... Меня эдак тоже когда-то». Потом он достал
из кармана бархотку и провел по тому месту, где мы-
сок замутился.
Невзоров сплюнул с губ табачную крошку, внима-
тельно спросил:
— Что уставился, зёма?
— Ничего,— ответил Антипов и провел ладонью
по лицу.— Жарко!
— А у меня, брат, кусок в горло не лезет. Только
дым,— сказал Невзоров, словно не было никакой па-
узы.
— Странный ты,— начал Антипов, точно его потя-
нули за язык,— улыбаешься все.
Невзоров засмеялся, и Антипов сразу замолчал от
догадки, что Невзоров вовсе не улыбается или улыба-
ется всегда мимо или не доходя до его лица. Антипов
отвернулся, показывая, что спросил просто так, но
зная сам, что в самом деле спросил он просто так.
Ему стало досадно, потому что, того не добиваясь, он
первым взял другую, более высокую ноту их раз-
говора.
231
— Улыбаюсь, говоришь? — с удобством в голосе
начал Невзоров.— Это, зёма, мой крест, как говорит
моя бабушка. В драке камнем саданули—нерв ка-
кой-то там задели. Не могу с тех пор ни наплакаться,
ни насмеяться. Девкам поначалу нравится, что я
улыбчивый. Самое смешное, что камень я сам принес,
подобрал где-то, приглянулся. Поиграл да бросил, за-
то запомнил хорошо. Как свою ладонь запомнил.
Я потом все удивлялся, что именно этот камень. Не
веришь?
— Почему? Верю,— сказал Антипов искренне
и почувствовал, что еще наперед всему поверил, по —
что было еще неприятней—хон и теперь не может не
верить.
— Чудной случай,— досказывал Невзоров,— я
сам не чувствую, когда улыбаюсь, только когда сме-
юсь. Но это и так понятно.
Шагали молча, забыв друг о друге. Позвякивала
зацепка автомата. Поскрипывал вразнобой с правым
левый сапог. Антипов расстегнул верхние пуговицы
гимнастерки, растер шею и с приятным самому себе
простодушием потянул носом запах подвяленной рав-
нины. И то, что Невзоров все время улыбался, показа-
лось вдруг симпатичным признаком, подобным тяже-
сти в желудке. Антипов закинул свободную руку за
голову; так и шел, удивляясь на ходу блаженству
женского жеста.
— Там что? — спросил Невзоров, махнув рукой на
запад, через поле.
— Китай там,— ответил Антипов и тоже засмот-
релся: по вершинам чужих сопок разлилась солнеч-
ная лужа. Хотелось улыбаться, как Невзоров; хоте-
лось раздеться и лечь голым на траву и пролежать
неделю или две, пока так же сильно не захочется дви-
гаться.
— Кто вас меняет? — спросил Невзоров.
— Кажется, из ремроты наряд. А что? — Антипов
ожидал встретить знак улыбки в лице Невзорова, но
тот задумчиво скреб щетину; глаза следили за рукой.
— В ремроте лейтенант один. Гнус! Все обыски-
вает, даже портянки вытряхивает. В прошлый раз ре-
шил мне строевую преподать, как «молодому». Я, по-
нятно, отказался. За грудки меня схватил, кричит:
предатель!
232
— А ты?
— Я ему по почкам, чтоб не выдрючивался. По-
корчился маленько, потом заплакал. Очки трет, как
школьник. Звери, говорит, вы все. Это мы то есть.
Дисциплинарным батальоном все пугал потом. А что
меня пугать?
— Да-а...— протянул Антипов. Ему понравилось,
что и он тоже отчасти зверь для того лейтенанта; он
с приязнью поглядел на Невзорова и, словно почуяв
наконец право на то, спросил: — А тебя за что?
Пауза вместила метров сто; Антипов перестал
ждать ответа; с невольной приветливостью узнал вы-
ступивший бортик поселка. Он увидел: Невзоров как
бы отмахнулся от того бортика рукой, засмеялся,
смолк, потом неторопливо поднял спокойную морёную
руку и неторопливо расстрелял из пальца гряду топо-
лей-наблюдателей; он сказал просто:
— Вообще-то за ограбление магазина, хотя...—
Невзоров вскинул голову, проверяя свой голос на
свет, и вдруг заговорил с давнею, видно, готовностью,
хотя уже на иной манер — не было теперь той сбив-
чивой доверительности, что понравилась сбивчивой
натуре Антипова, и более того, насмешливое равноду-
шие Невзорова стало вдруг требовательным и тре-
вожным, как предчувствие:
— Ты не заметил, зёма, в жизни много странного.
Вот разве не странно, к примеру, что, побеги я сей-
час, ты убьешь меня из этой вот штуки. Впрочем,
я не о том...— Невзоров замолчал было, но тут же
скомкал паузу.— Тебе понимать не нужно, хорошо,
что не нужно лишний раз понимать. Это у меня для
всякого мусора времени вагон. Я, видишь ли, не рас-
сказывал особисту о том, что... то есть, помню, начал...
Он меня еще сигареткой угостил, ну я и того... А по-
том думаю: что такого в самом деле? Посмеяться
только что.— Невзоров рассмеялся, но неудачно;
сам понял это — внимательно поглядел на Антипова,
но еще внимательней—мимо него, словно кто-то сто-
ял за спиной.— Бутылки, крыса на столе... Чушь со-
бачья! Потому и сказал ему: выпить захотелось. Са-
мому легче стало, и товарищу понятно. У особиста
новая портупея была, он все ее поправлял. Так
и записал: с целью добычи спиртного.— Невзоров с
травленой наглостью хохотнул.— Мне теперь кажет-
233
ся, что так и было. Да и цель неслабая. Ты как дума-
ешь, дружок-сапожок? — Невзоров без смеха откач-
нулся от Антипова, тихо из безвестной близи добавил
(так же, как про цветок в окне): — Я даже уверен те-
перь, что... Странно все это.
Антипов видел, что спутника его охватило особое
волнение, от которого тот сбивается с такта, как от
подвижной ноши.
— А-а-а-а! — Вдруг закричал Невзоров и схватил
себя за глотку, чтобы звук не был таким сквозным.—
Просто все! Все просто, зёма! — рассмеялся крупно
и резко, с приближающейся истерикой в голосе, но
словно именно это ему и нужно было, оборвал все ра-
зом, впившись черными пальцами в щетину, зажал
прыгающий значок улыбки, потом заговорил, заму-
ченный и облегченный, сначала безадресно, потом
только Антипову, потом опять тому, кто словно был
за спиной и очень близко:—Я возвращался из само-
волки. От бабы своей. Девка хорошая, бедрастая
и нежная. Плачет только всегда после этого. Дочка
у нее, Анюта, я все время ей конфеты приносил.
И тот солдат, от которого она, тоже приносил,
она помнит. Да! — Невзоров вдруг воскликнул.—
Видел карточку того солдата, так, веришь — нет, на
тебя похож... Ну не совсем чтобы, но есть что-то.—
И Невзоров больно толкнул Антипова, приглашая то-
же посмеяться.
Антипов не успел решить, как ему отнестись к
этой новости; он заулыбался, сомнительно польщен-
ный, но Невзоров уже говорил про другое. Антипов
только успел понять, что отстал от сторонней речи
и чужого шага; он оглянулся назад — куда погляды-
вал Невзоров. «Псих! — наконец решил Антипов и,
глядя на расплывающуюся сопку, повторил облегчен-
но: — Псих!»
— В их селе магазин стоял на самом краю. Де-
журная лампа, как полагается. Синяя, представля-
ешь? Зачем подошел к окну, не знаю. Как будто за-
хотелось на свету помочиться. Странным показалось
шагать ночью — идешь и себя слышишь, свои сапоги.
Вот я и остановился вдруг. Всегда было странно, но
в тот день особо, может быть, потому, что она сказа-
ла мне, что гадалка ей нагадала еще пятерых солдат
после меня. Я и остановился у лампочки, синей. Зиа-
234
чит, Китай там? — Невзоров махнул рукой на запад;
потом махнул рукой на север, спросил, правдоподоб-
но смеясь: — А там тоже Китай?
Шиза, убежденно решил Антипов; ему нравилась
эта убежденность; он достал кусок хлеба — с пищей
во рту стало еще убежденней и вроде бы свободней.
— Ну, а дальше что? — опросил он мимо Невзоро-
ва, как тот его учил.
— Дальше — то самое. В окно поглядел: на при-
лавке пустые бутылки, а среди них бегает крыса. Де-
ло не в том, что бегает или привстает, а в сочета-
нии.— Невзоров поморщился, не находя слов.— Ты
когда-нибудь видел курортные шахматы? Или кегли?
Нет, не то!—Невзоров раздраженно махнул рукой,
но тут же начал опять:— Крыса — жи-ва-я! Не пото-
му, что бегала или привставала, а жи-ва-я. Она не то
чтобы бегала, она, может быть, и не бегала вовсе,
а прохаживалась. Она гуляла между бутылок. Она
никуда не торопилась. Ни обо что не спотыкалась!
Она никого не видела и не хотела видеть! — Невзоров
остановился. Он глядел себе на руку, что застыла
у груди и сама собой вывернулась ладонью вверх,
точно ловя пушинку.— Вот и она сказала: после тебя
еще пятеро будет.— Невзоров сдвинул руку, на ла-
донь опустилось пуховое семя репейника.
«Ненормальный»,— с удовольствием подумал Ан-
типов. Ему стало важно уличить Невзорова еще
больше.
— Ну и что? — спросил Антипов.
— Вот и я думаю теперь: ну и что? — ответил
Невзоров.— Ровным счетом ничего. Я тоже так ду-
маю, понимаешь. Так же, как и ты. В этом вся пе-
чаль, земляк.
— Какая печаль? — переспросил Антипов, уже не
переживая унижения.
— Крыса смотрела на меня и не видела, хотя по-
чуяла что-то. Отбежала к краю прилавка и огляну-
лась. Я тихо свистнул. Тихо так. Вот так, наверное.—
Невзоров остановил Антипова рукой и осторожно вы-
дул тонкий холодный звук.
В ответ Антипов кивнул и сразу обозлился на себя
за этот кивок. Но он кивнул еще раз, потому что
свист Невзорова замозжил у него в межбровье. На
всякий случай он тут же заел звук кусочком хлеба.
235
Теперь Антипову захотелось усмехнуться напропалую,
но Невзоров сказал:
— Знаешь, мне показалось, что она ответила. Как
бы кивнула. Или лапкой повела. Чушь, конечно, я по-
нимаю. Но она так замерла на краю прилавка, подня-
ла мордочку, так вытянулась. Странно. Вот на гаупт-
вахте крысы не те...— Антипов заметил вдруг, что
Невзоров разглядывает его с нерасчетливой присталь-
ностью, как, верно, наблюдают за просыпающимся;
потом Невзоров осклабился — как прежде, с привет-
ливым безразличием: — А дальше просто, брат. Так
просто, что вроде и не было. Или как сон. Решетка
поддалась. Крепеж в пазах гнилой был, как и все
в нашем Китае. Стекло выдавил. Влез, короче. Вздох-
нул свободно. Ты это заметь. Взял ящик коньяка.—
Невзоров вкусно хохотнул.— Конфет шоколадных на-
сыпал. Вот фантик остался, берегу.— Невзоров выта-
щил руку из кармана, показал Антипову пустую ла-
донь. Потом ударил по ней другой ладонью, засмеял-
ся.— Слышь, банку шпротов зачем-то открыл, так
и не попробовал. Может быть, она попробует. По-
том чувствую, что время по-другому пошло. Вот это-
го я и испугался малость. Ходу! — думаю. А куда «хо-
ду»? Ноги сами в казарму несут. И ящик несу. Зачем
несешь, дурак, думаю, а несу! Через час вся рота на
рогах! Два «фазана», посмышлспней, сбегали по моим
следам — еще два ящика. Ну и пошло-поехало. Я ведь
крикнул для запала, что у меня день рождения. За-
целовали спьяну.
— Правда, день рождения?
— Нет, конечно. Хотя как посмотреть. Надо было
зажечь вислоухих. Ведь сразу стало ясно, чем это кон-
чится. Хорошо еще до оружейной комнаты не добра-
лись. Дежурный сержант заперся в ней и пил за ре-
шеткой.
— Заложил, что ли, кто? — спросил Антипов; ему
хотелось, чтобы кто-нибудь заложил.
— Что закладывать, когда вся казарма на рогах.
Командирский газик мочой заправляли два часа. Еще
что-то было характерное, только не помню. А утром
меня тихо погрузили на дежурную машину — ив Ус-
сурийск. Там «губа» переполнена, вот в вашу, зачу-
ханную, и сунули, пока следствие идет. Второй ме-
236
сяц сижу. Комендатуру отремонтировал, а заодно
и квартиру начальника комендатуры. Душевный ман-
ор оказался. После работы — стопарик и чифан граж-
данский. А меня утешает — мол, все равно срок идет,
а там хуже будет. Что, я сам не знаю? — Невзоров
запрокинул голову, сцепил руки на затылке — так
и шел, прикрыв глаза.
Уже была видна дорога, тянувшаяся в нужный
проулок.
Собака ходила по крыше сарая и поглядывала
с опаскою вниз.
Женщина истошно звала ребенка. «Дура баба»,—
тихо рассмеялся Невзоров.
— Ну, а бутылки, крыса...— начал Антипов; ему
с неприятным самому упорством хотелось ясности.
— Э-э-это? — рассеянно усмехнулся Невзоров.—
Да, может, и не было ничего? Ты как думаешь? Да-
вай-ка лучше перекурим напоследок, а то ведь там
не дадут.— Он опустился на траву, достал коробок.
Антипов присел рядом, приставляя приклад между
ног. Солнце слепило глаза, но отворачиваться было
лень, как и лень было думать про рассказ Невзорова.
Зато с приторной достоверностью вспомнилось, что
завтра баня, а полотенце у него украли, поэтому при-
дется уводить самому. «У Елдыева,— наметил Анти-
пов безобидного узбека.— Ему что...»
Краем глаза Антипов заметил: Невзоров поднялся,
и сам подтянул было ногу, чтобы... но вдруг вместе
со слепнущим поворотом лица до него дошло, что
Невзоров шагнул в другую сторону — прямо на запад,
на солнце.
Антипов видел засвеченную спину и не видел ее.
Он слышал шаги и то, как растекается вокруг него
пустота. Крик его был готов, но опять, как в овраге,
под ногами закачалась лодочка блаженной слабости
и затем—детское кровоточащее отчаяние. «Стой! —
шепнул он.— Стой! — закричал.— Куда? Зачем туда?
Он вскочил было, вспомнил об автомате, прижал к се-
бе, застонал от безымянной тяжести. Тогда он вдавил
приклад под ребро и только от боли нашел себя ря-
дом с прежней — очнувшейся — железной формой.
Оттолкнув локтем землю, Антипов вскочил кое-как,
метнулся вперед, давясь нежностью своего ужаса.
237
Земля тянула его вниз, грозя утопить. Сатанея и це-
лясь ртом в полурастворенную спину уходящего. Ан-
типов орал: «Стой! Ты-ы-ы!.. Бу-ду! Бу-ду стрелять!
Га-а-ад».
Антипов бежал и больше всего хотел увидеть за-
твор автомата, но видел только свои колени, бесконеч-
ные передки сапогов да мельком — спину, которая не
приближалась. И только тогда, когда Антипов стал
заваливаться на бок, пальцы нашли крючок затвора.
Теперь он лежал на боку, раскинув ноги на ходу. Те-
перь он мог поймать мышцу затвора и отвел ее до
предела — услышал вкрадчивый шажок патрона в
патронник. Антипов подавился вдохом. Не выпуская,
откинул автомат от груди. «Стой! Прошу тебя, гад!»,—
закричал он тому, чьи плечи уже вспряли в солнце.
«А что же я?» — мелькнуло у Антипова; он ударил за-
тылком землю, изогнулся, сам не зная куда, толкнул
опору прикладом что было сил — тогда одним рывком,
словно отдаленный наблюдатель, например, тополь у
столовой, стряхнул с себя забывчивость — этих двоих
сблизило. Антипов успел,только выбросить руку на-
встречу; его откинуло от чужой спины — не назад, а
вперед, за Невзорова.
Нашел себя Антипов отползающим в сторону от
арестованного. Невзоров лежал ничком и смотрел
в землю. Антипов заметил, как на губах Невзорова
рождается улыбка, которую тот, видно, не ощущал.
«Не бойся, зёма, я сейчас, я тут, я тут и сейчас...» —
сказал Невзоров тихо и ясно.
Антипов торопливо согласился, по не услышал се-
бя, хотя знал, что сказал, и что то, что сказал, слы-
шится там, где кончаются его глаза, зато в один миг
уловил гул со стороны поселка, точно вспомнил
о нем.
По дороге шла колонна машин. С учений возвра-
щалась соседняя рота. Последняя машина была от-
крыта и полна солдат. Молодой офицер сидел у зад-
него борта и поигрывал на губной гармошке. Они
с Антиповым одновременно заметили друг друга.
Офицер, осклабясь, приставил ладонь ко лбу, и Ан-
типов почувствовал, как у офицера сперло дыхание от
напряжения. Солдаты повернули головы. Один при-
поднялся, чтобы лучше видеть, и показал на Аптипо-
238
ва рукой. Антипов засмеялся и крепче сжал вынян-
ченную форму металла. Офицер тоже показал на Ан-
типова рукой — так и застыл, забыв про музыку. Ан-
типов глядел на него, нс отрываясь, чуя, как смер-
тельный нуль его лица удерживает те'х людей в маши-
не. Страх начался только тогда, когда машина на по-
вороте стала врастать в землю.
— Пойдем, что ли, воин,— сказал Невзоров. Он
стоял рядом и сверху, в упор, смотрел на Антипова.
Невзоров улыбался.
— Ты улыбаешься сейчас? — спросил Антипов.
Невзоров не ответил. Он повернулся и зашагал по до-
роге.— Что ты смеешься, гад?! — крикнул Антипов.
— Я не смеюсь,— ответил Невзоров,— пойдем
быстрей. Быстрей же!
Через два дня роту, где служил Антипов, подняли
по тревоге в начале пятого. Выстроили в проходе ка-
зармы. Наспех рассчитались под ругань старшины.
Потом погнали на плац.
Стоял густой туман. Включили прожектора. Вме-
сте с ними включилось радио — диктор читал изве-
стия. Сначала все слушали, потом радист побежал
отключать. Пока ждали прибытия комполка, взвод
поправлял боевое снаряжение. Сразу поползли слухи
про китайцев. Дембеля матерились, но трусили. При-
бежал ротный. Он толком ничего не знал, тер заты-
лок.и ругался. От него пахло женским мылом и пере-
гаром. Уже кто-то ржал за спиной Антипова, словно
и пропасть ему нипочем, кто-то мочился в сторону.
«Старики» послали Елдыева в столовую за хлебом. Но
вдруг из тумана закричали: «Смирна-а-а!» Никто не
поверил сначала, но ротный побежал докладывать.
На ходу он поправлял фуражку и никак не мог успо-
коить ее; со спины он казался старым, а в шаге —
сшитым наскоро; говорили, что он застал свою жену
с замполитом, избил его, но сам потом вдруг постарел.
Снова устроили перекличку. В соседнем взводе кого-
то недосчитались, искать не стали. Потом прибыли
грузовики. Комполка кричал притихшим взводам, но
мешал рев двигателей, которые поостереглись глу-
шить. Потом комполка махнул рукой и отступил
239
назад, растаял, точно заступил за шторку. Прибежал
ротный, объявил, что рота идет в оцепление — кто-то
ночью сбежал с гауптвахты; возможно, вооружен то-
пором или ломиком, поэтому сами понимаете, главное,
помните, как нужно по уставу, чтобы не влипнуть, ес-
ли что. «Я бы эту гниду траками растер»,— сказал
ротный, вдруг веселея от собственных слов.
Грузовики въехали прямо на плац. У заднего бор-
та сразу скучились, стали дышать друг другу в лица,
в затылки. Ротный бил ногой по шине и ругался с во-
дителем. Тот, почему-то польщенный, сваливал все на
бога, кричал, что у бога нет тормозной жидкости.
Фары пробивали туман метров на двадцать; на свет
все время кто-то выскакивал, приседая и загораживая
лицо. Антипов схватился за борт машины, но его уда-
рили по затылку. «Куда вперед сержанта, сволочь?
Назад! Последним полезешь!» — рядом стоял сер-
жант Колбасов; изо рта разило одеколоном. «Мой
под матрасом»,— успокоился Антипов.
Проехали всего минут десять. Слышно было, как
проваливались тормоза и орал ротный; машина ткну-
лась в кустарник и смогла остановиться.
Высадились и откатили машину на ровное место.
Потом приказали растянуться цепью. Старослужащие
остались у машины, молодые побежали на фланги.
Антипов побежал между Синицыным и Колбиком.
Потом так и развернулись лицом в поле, запертое ту-
маном,— Синицын слева, Колбик справа. На Анти-
пова Синицын не глядел, только если случайно, зато
все время оглядывался в другую сторону и кого-то ко-
пировал. Вот он снял с плеча автомат и повесил на
грудь. Антипов сделал то же самое. Колбик же бежал,
ни на кого не глядя, засунув руки в карманы и под-
няв воротник. Антипов согласился — Колбику можно,
он через два месяца станет «старым». Нужно было
окликаться на ходу, и Антипов кричал и слышал крик
Синицына.
Туман уже поистрепался, иногда возникала опуш-
ка, но сразу хотелось свернуть. Какая-то девочка по-
хожа на него, вспомнил Антипов. Не мог попять, ка-
кая именно, но все равно сказал себе — это хорошо.
Расстегнулась сумка с магазинами. Антипов долго
застегивал ее на бегу. Потом больно подумалось, что
240
один рожок мог выпасть. Остановился и проверил.
Все цело. Когда оглянулся, Синицына слева не было,
только слышался его крик впереди. Колбик шел ря-
дом и насвистывал. Ему можно, подумал Антипов, че-
рез два месяца — и мне... Он прибавил усердия и по-
чувствовал, что бежит так же, как и постаревший
ротный на плацу. Под ногами мелькнула тропинка;
Антипов побежал по ней, но потом испугался того,
что у нее свой путь, и свернул в сторону первого, уже
старого крика. Он сам закричал как мог, но бежать
стало тяжелей. Сейчас-сейчас, говорил он себе, потом
вдруг остановился и прислушался, как скачет по по-
лю сердце вместо него. Он снова проверил рожки
с патронами. И снова побежал. Поле пошло канава-
ми, ударила в подошвы пашня. Пашня, повторил Ан-
типов и опять обрадовался слову, что пружинило под
ногой. Вот слово свалило его с ног.
Антипов поднялся, дошел до столба без проводов,
привалился к нему, обхватив рукой толстую шею.
Столб гудел на ухо, звук трогал шею женским паль
чиком. Антипов лег на спину. Над веками дрожала от-
слоившаяся щепка. Он закрыл глаза. Он видел себя
бегущим. Бегущим сильно и уверенно. Он снова
вспомнил, что кто-то похож на него; откуда он знал
это, он не помнил,
Когда Антипов очнулся, оказалось, что он бежит
на шум грузовика. Он закричал, но крик не опережал
бег, а волочился, как клок травы за сапогом. Анти-
пов остановился — шум машины пропал. Тогда Анти-
пов побежал, чтобы вызвать шум машины. Зачем-то
поднял на бегу круглый камень и бросил себе на ход.
Пробегая, камня не нашел и хотел вернуться, но по-
нял себе в лицо, что это все равно, что другая жизнь.
Он зло потер свое лицо, чтобы от боли начать жалеть
себя. Он подумал, что если обернется, то вообще ни-
чего не увидит. Он обернулся. Прочь от Антипова,
как отражение, бежал человек. Антипов махнул ему
вслед. Сам, как отражение бегущего, тоже побежал
прочь.
Стрельба началась внезапно, но Антипов не испу
гался — он побежал на знакомый звук. Он упал, за-
цепившись за проволоку, стал ощупывать сапог — не
порвался ли. Потом он понял, что стреляют в его сто-
241
pony. Это подействовало как слабительное. Пули ле-
тели выше роста. Кричали в мегафон. Антипов со-
гласно кивал из ямки, которая приняла его. Он не вы-
держал скользкой земли под собой, вскочил и побе-
жал назад. Мокрое от пота тело пропадало в шинели.
На бегу он случайно открыл глаза и увидел, как над
ним мелькнула тень, и в тот же миг живая тяжесть
навалилась на него и придавила к земле. Незнакомый
офицер ударил Антипова по щеке: «Слышишь? Ты
слышишь меня?» У офицера был скособочен рот.
Ноздри глядели пристальней, чем глаза. «За
мной!» — закричал офицер и бросился в туман. Анти-
пов схватил его за полу шинели. Не оборачиваясь,
офицер ударил Антипова по руке. «Так точно! Так
точно? Точно так! Товарищ капитан!» — кричал Ан-
типов и все время норовил забежать вперед, чтобы
заглянуть в лицо.
Олег Хандусь
Он был мой самый лучший друг
Рассказ
— Зачем ты испортил картину?
— Я не испортил.
— Это работа знаменитого художника.
— Мне все равно,— сказал Грэй.— Я не
могу допустить, чтобы при мне торчали
из рук гвозди и текла кровь. Я этого
не хочу.
А. С. ГРИН. «Алые паруса»
1
Потом уже нравилось врываться в чужие дома, сби-
вая прикладом замки, выламывая ударами сапога
ветхие двери. Да что там! Просто стоять посреди
улочки, возле пестрых лавок, уверенно расставив но-
ги, задержав пальцы на холодном металле автомата.
Чувствовать на себе боязливые взгляды дехкан.
В этом было нечто упоительное, пьянящее...
Где он, Термез? Лагерь недалеко от границы. Де-
сятидневная подготовка перед отправкой. Там я с тре-
вогой смотрел на юг, на белесые горбы перевалов,
иногда они виделись четко, иногда прикрывались
осенней дымкой. Что меня ждет? Они отвечали снеж-
ным молчаливым взглядом. Перехватывало дыхание.
Все это не вспоминалось.
И слезы на глазах командира взвода. В последний
день, вечером, он собрал нас к себе в палатку. Слезы,
может, оттого, что дымила печка — ветер заносило в
трубу, он трепал мокрый брезент. Голос взводного,
хриплый и тихий, сливался с урчанием двигателя, ге-
нератор то и дело заливало дождем, он сбивался, и
лампочка, качавшаяся на перекрестии растяжек под
куполом, слабела. «Подъем завтра в пять. Сворачива-
ем лагерь. Готовность к маршу в двенадцать часов.
Теперь скрывать нечего — идем воевать. Ребята... у
меня в Куйбышеве жена и две девочки... нам выпала
честь».
243
Все пошли в парк к боевым машинам, подготови-
лись и остались там спать. Мы с Лешкой вернулись в
палатку. Печка остыла, на земляных нарах, меж до-
сками— черный отблеск воды, одну полу сдернуло с
кольев и трепало в грязи. Она вырвалась, мы сколь-
зили, падали — окончательно вымокли, пока закрепи-
ли. Возле печки дрова, штык-ножом насекли щепок,
но без бумаги никак... Я достал из нагрудного карма-
на последнее письмо от Юльки: сухое, адресовано еще
в Германию... Лешка сказал: «Ерунда, сейчас согре-
ем консервы, попьем чайку».
Он немного картавил и всегда что-то пел, тихо, и
никто не слышал о чем, но на душе становилось теп-
лей и уютней. И теперь отвернулся, поднял глаза и
шевельнул губами.
Вспоминаю его лицо, и вижу правильный профиль
на подмоченном брезенте — тень от беспокойного пла-
мени свечи.
Поужинали, сняли бушлаты и подвесили сушить.
У ящика с противогазами, стоявшего в углу, внутрен-
няя сторона крышки оказалась сухой. Мы ее оторва-
ли, бросили на нары, легли на нее, обнялись и зас-
нули.
Меня разбудил животный страх. Охваченный дет-
ским ужасом, я соскочил и чуть не закричал: «Мама!»
Страх толкал: надо бежать. Почему именно ты, что
ты сделал плохого? Бежать. Закрыть лицо руками —
и быстрей отсюда! Роняя что-то, гремя в темноте, я
нащупал липкую массу бушлата. Вывернул рукава и
бросил. Страх остановил: бежать некуда. Мама не
спасет, если и добежишь.
Из печки мигнул и затих уголек. Я тронул рукой
еще теплый чугун. Лешка проснулся...
Сегодня я его встретил. Готов поклясться, это был
он — мой самый лучший друг. Один, за свободным
столиком в полуденном кафе. В пришторенных окнах
серый день, нудная муть, утонувшее солнце. Мелька-
ют прохожие. Внутри электрический свет, желчь в
блеске синих столов. Запах кислого теста, селедки и
хлорки. Лицо его бледно-тяжелое, и колет щетиною
взгляд, а глаза потертые, как пластик со следами от
тряпки.
«Это такой, самый трудный момент,— сказал ты в
ночь перед отправкой.— Не смогу тебя удержать —
244
должен сам. Тогда будет легче. Зато когда мы вер-
немся...»
И ты был прав, и я вернулся героем: еще бы! Все
с восхищением спрашивали: так ты там служил?!
Расскажи. Хоть одного душмана-то убил? И я расска-
зывал и упивался своим героизмом. Наверстывал упу-
щенное, хотя заклинал себя не делать этого, но оста-
новиться не мог. Упорхнула Юлька — она первая за-
метила. Кажется, я ее ударил.
Потом выдали удостоверение о праве на льготы.
Коричневые корочки. С их помощью можно отлично
устроиться: закормить душу ветеранским мясом, пе-
реодеть ее в импортное барахло и закопать на льгот-
ном садовом участке, под яблонькой, чтобы ничего не
видеть и молчать. Согласись, достойная нас награда
Жаль, тебе ни к чему.
В этом кафе, в компании с самим собой, ты выпу-
скаешь из стеклянного ствола горькую и единственно
близкую душу, щелкаешь ногтем по звонкому тельцу
бутылки, прислушиваешься и, как всегда, что-то тихо
поешь, обращаясь глазами к извести потолка. Вот две
женщины вышли из кухни, из-за крашеной ширмы
Одна буфетчица, озабоченная, с белой крахмальной
салфеткой на голове. Вторая, наверно, знакомая с
улицы. Мохеровый шарф, бесцеремонный прищурен-
ный взгляд и фигура пухлая, коробящаяся, как наби-
тые авоськи в руках. На свертках просочились багря-
ные пятна, с них капает жижа. Женщина быстро дви-
нулась к выходу, ты обернулся и попытался что-то
спросить. Та, что в шарфе, обратилась к подруге:
— Чтой-то у тебя там сидит?
— Да, надоел уже...— отмахнулась буфетчица,
— Вызови милицию.
— Толку-то?.. От него никуда не денешься, забе-
рут, а завтра снова припрется — живет где-то ря-
дом.— И многозначительным шепотом: — Он вроде
как служил в Афганистане... Иногда я его боюсь—
такой убить может. Погоди, я принесу ему винегрет.
2
Ранней весной (восьмидесятого — олимпийского) про-
светлились и заблестели дни, воздух ожил и напол-
245
нился ароматом остывшего сладкого чая, долины
вспыхнули зеленью свежей травы, а реки помчались,
разливаясь и удивляясь множеству младших братьев,
падающих с гор.
В составе подвижной группы] мы преследовали
банду в районе Даши. Так говорили: преследуем. На
самом деле, протискиваясь в глубь ущелья, задержи-
ваясь у многочисленных бродов, завалов, мы толпи-
лись, словно стремились побыстрее выбраться из пле-
на мрачных лощеных скал.
Банда?.. Мы гнались за призраком.
По ночам нас обстреливали, случалось, выкрады-
вали солдат, офицеров. Утром их находили без глаз,
без ушей, без носа — неузнаваемыми. Или кровавое
месиво вперемешку с камнями... Если вообще что-то
находили.
Банда растворялась с рассветом.
Звезды слепли, в ущелье затекало утро. Солнце
испуганно выпрыгивало из-за поседелых вершин,
словно разбуженное буханьем наших гаубиц. Они от-
чаянно лупили по горам. Тем временем мы, мото-
стрелковые роты, оцепляли ближние кишлаки, шны-
ряли из дома в дом в поисках оружия.
Это называлось чисткой. В мазанных глиной лачу-
гах, без деревянного пола, без мебели, нас встречали
окаменевшие лица. Дети расползались по углам и за-
рывались в грязное пестрое тряпье. Некоторые дома
были покинуты. Мы ничего не замечали. Сделав свое
дело — перевернув все вверх дном,— уходили.
Что с теми, у кого было оружие?! Если есть ору-
жие, значит, душман.
Стрельба, я замер: метрах в двухстах — справа.
Не наши — неумело — длинными очередями. В ответ
заклокотали «калашниковы». За мной! Перемахнув
забор, через зелень небольшого садика, я пробрался
на выстрелы. Открылся дом, он выше остальных, убо-
гих. Выглядит больше, добротнее. Перед ним залегло
Алешкино отделение, Удачно установленный на кры-
ше пулемет прижал ребят к земле. Кто-то шустро
ползает из стороны в сторону— ищет укрытия, кто-то
поспешно окапывается, Лешка за плотной стеной ви-
ноградной лозы, поднял ствол, стреляет с колена.
Между сериями очередей ныряет в кусты. Неожидан-
но появляясь в другом месте, командует боем: пронзи-
246
тельно свистит, выкрикивает, дает отмашки рукой.
Снова ныряет, выныривает и открывает огонь. Я про-
брался к нему:
— Надо отходить, Леха! Голыми руками не взять.
Передадим на НП — ствольникам — пусть бомбят!
— Из-за одного подонка — весь кишлак?! Ты же
знаешь пушкарей. У тебя есть граната?
— Нс добросить.
— Давай. Попробую зайти сзади. Вон, видишь
крышу сарая? Будь здесь. Где граната?
Он принял увесистую лимонку, сунул ее за пазуху
и махнул в сад. Я ничего не успел сообразить. Под-
скочил командир взвода: «Какого он туда полез?!
Я связался с танкистами...»
В промежутке между стрельбой прорвался рев ди-
зеля и скрежет траков. Из-за деревьев выдвинулась
перевернутая бронированная чаша. Она расперла
проулок, неуклюже развернулась, подняла тучу дыма
и пыли... Вдруг — вспышка, я бросился на землю —
ухнул взрыв, дуплетом отозвался второй.
То, что я захватил взглядом, падая, прокручивает-
ся в памяти кадрами замедленной съемки.
Вот мощный огненный столп подхватил крышу, на-
ходящийся там человек вспрянул, разбросав руки, по-
тянулся грудью к небу и, растерзанный десятками
осколков, боком направился вниз. Крыша поверну-
лась в воздухе, покачалась и опустилась на то место,
где прежде Выли стены.
Ломти земли и глины пробарабанили градом, ста-
ло тихо, только оттянутые перепонки продолжали зву-
чать вскриками уносящейся «скорой помощи».
— Не успели танкисты, Лехина работа,— выдох-
нул я, встал и пошел к развалинам дома, на ходу
сплевывая сгустки слюны и пыли и пытаясь отряхива-
ться.
Лешка стоял возле перекошенной, с торчащими
ребрами, крыши и нетвердой правой рукой прилажи-
вал на левом плече оторванный рукав маскировочной
куртки. Он опустил голову и нахмурился, его покачи-
вало. Прямо из-под ног на него глазело лицо молодо-
го афганца с застывшим выражением идиотского вос-
хищения. Лешка оставил его так, убедившись, что
мертв.
247
— Это ты, командир? Шваркнул. Ну и дела-а...—
пропел подошедший ефрейтор Шарапов. Он с ненави-
стью взглянул на душмана: — Вот сволочь! — Отвер-
нулся, поднял голову и, прищурившись, посмотрел на
солнце, словно призывая его в свидетели. Потом за-
смеялся: — Здорово!
— Зубы закрой — кишки простудишь! — ответил
Лешка.
Он что-то заметил, шагнул и нагнулся. Потянул за
ремень, перекинул его через голову и взвалил на себя
американский ручной пулемет, тот, из которого стре-
лял афганец. Нам уже попадался такой: с широким,
напоминающим хвост рыбы прикладом и рогообраз-
ным магазином. Лешка надвинул на глаза обтянутую
мешковиной каску, сделал свирепое лицо и навел пу-
лемет на воображаемого душмана. Качнулся на ши-
роко разбросанных согнутых ногах — изображая рас-
стрел. На выдвинутом вперед плече из-под оторванно-
го рукава показалась наколка: герб Виттенберга с
башней Лютера и надпись под ним; ГСВГ. Такие на-
колки были у многих.
— Похож! Бросай, хорош дурачиться, у них там
целый склад — иначе зачем ему было так упираться?
Попробуем отодвинуть крышу,— предложил я.
— А что? Ну-ка давай все сюда! — скомандовал
Леха.— Взяли!
Человек десять вцепились в край крыши, подняли
и; скантовав, отбросили в сторону, будто открыли
огромную шкатулку.
То, что было внутри, перемешалось с рыжей зем-
лей и не сразу впилось в сознание. Несколько минут
мы стояли, не веря глазам. Сердце заколотилось
вдруг так, что в моменты гулких тупых ударов темная
диафрагма затемняла взор.
В центре комнаты, в мятом алюминиевом тазу,
сжался смуглый младенец — только что тлевший и
еще теплый уголек. Рядом, поджав под себя костля-
вые ноги и неестественно вывернув в нашу сторону
желтую ладонь, замерла старуха. Может быть, в мо-
мент взрыва она собиралась купать новорожденного,
а сейчас, казалось, молилась, уронив зачем-то голову
в таз. Ее старая кровь, собирая в пучки редкие воло-
сы, лениво стекала на дно и, смешиваясь там с мла-
денческой юшкой, через рваное отверстие в тазу выхо-
1248
дила наружу. В дальнем углу, под белой с пятнами
простыней, вздрагивало тело молодой матери. Еще не
растворившийся румянец блуждал по ее усталому
лицу.
Отвернуться, отвернуться! Но невидимая сильная
рука сдавила затылок и тыкала внутрь развалин, как
слепого щенка в миску. И сердце выкрикивало в такт:
смотри! смотри! смотри!
Никто не решился искать там оружия. Взводный
приказал продолжить чистку.
Битумные скалы отсмеялись в лучах заходящего
солнца. Их морщины отяжелели и приняли страдаль-
ческие очертания, а ночь все не торопилась прикры-
вать ущелье. От земли исходило парное молочное све-
чение, и хотя вверху уже проступили звезды—внизу
было смутно, но еще светло.
Мы поужинали всем отделением, подогрев на кос-
тре гречневую кашу с тушенкой, Ели молча, молча
пили чай. Потом, посапывая и перебрасываясь не-
громкими фразами, стали укладываться: кто на пан
цирях БТРов, кто на тентах машин. Заняло свои мес-
та боевое охранение. Как обычно, я разбросал на бро
не масксеть, снял тяжелый ремень с подсумком и лег.
Ладони — под затылок, под правый бок — автомат.
Где-то совсем близко свиркал сверчок, а издали с
болотным ознобом доносилось бульканье жабы. Пря-
мо на меня смотрела Большая Медведица. Малая.
Мысленно соединяя прямыми другие звезды, я не за-
метил, как уласкал ночной бархат — все поплыло, и
фигуры, которые я создал, рассыпались от черного
блеска глаз. Так может смотреть только Юлька!
— Э, ты не спишь? — Я вздрогнул, повернулся:
внизу стоял Лешка.— Поговорим?
— Ходишь тут... Залазь.— Я сел и достал сигаре-
ту.— Чего не ложишься?
— Дом из головы не выходит. Это я их...
— Ты ведь не знал. На твоем месте мог быть
любой.
— Любой. Не знал.— Лешка словно пробовал на
вкус эти слова.— А что мы знаем?! То, что если бы не
мы, то американцы, что мы друзья. Нет, что-то не то
мы делаем...
249
— Не развозись. Помнишь, как ты говорил мне?
Это такой, самый трудный момент. Завтра будет уж
легче. До дембеля всего чуть больше ста дней.
— Нет. Легче не будет. Ни завтра, ни потом.
Я пойду к этим людям.
— Это волчья стая. Они тебя растерзают.
— Люди не могут жить по волчьим законам.
— Иди. Я не смогу тебя удержать. Только знай:
ты мне не друг, если уйдешь, и все будут считать тебя
дезертиром.
— Спи. Ладно. И я пошел спать. Утро мудренее
ночи.
То, что дальше, об этом мне особенно трудно вспо-
минать. Утром его среди нас не оказалось. Весь день
мы искали вдоль излучины быстрой горной реки. На
другую сторону он перебраться не мог. Нашли. Не
стоит описывать то, что нашли.
Вечером я сделал запись в своем дневнике: «2 ап-
реля. Сегодня отправили Лешку. Вернее, то, что от не-
го осталось. Он был мой самый лучший друг».
Александр Верников
Дозорный на границе
Рассказ
1
Он сидел на койке в комнате общежития и листал
воскресную газету, мало заинтересованный события-
ми в стране и мире, равнодушный к ним так же, как
и к мыслям о своем полном провале на летней сессии,
означавшем отчисление, которые в темпе, заданном
переворачиванием страниц, он перебирал в мозгу или,
наоборот, мысли определяли скорость листания газе-
ты, потому что иногда, останавливаясь на каком-то
воспоминании, он возвращал страницу и внимательно
вчитывался в заголовок или вглядывался в фотогра-
фию. Это было забавно, как раскачивать самого се-
бя в люльке с целью усыпить. Он вскоре и за-
дремал.
Разбудил его осторожный стук в дверь. Возвраща-
ясь к действительности, что внешне выразилось в бы-
стром разворачивании газеты, он решил, что это при-
шла она, та, чье общество не давало ему как следует
заниматься в течение последних месяцев. Он ошибся
ненамного, потому что в мужчине, переминавшемся
на пороге, легко признал ее отца и, выпрямляясь, от-
кладывая газету, все еще сонным и от этого получив-
шимся ленивым и слишком уверенным, почти царст-
венным жестом предложил ему проходить и указал
место, куда можно сесть. Пройдя несколько шагов и
остановившись, человек принялся было представлять-
ся, но он прервал его жестом того же качества, озна-
чавшим, что это лишнее, все и так ясно. Тогда человек
сделал еще шаг, развел руками и выставил на тум-
бочку бутылку дорогой водки, закуску и, неуверенно-
широко улыбаясь, стал искать глазами стаканы или
то, что в этой обстановке могло их заменить.
251
Не вставая с койки, он потянулся, пошарил в тум-
бочке и вынул фаянсовую чашку и металлическую
кружку, затем достал нож и принялся вертеть его в
руках, проводя пальцем по лезвию и взглядывая на
гостя. Затем он сам улыбнулся и протянул ему нож со
словами: «Если вы пришли с целью меня убить, наде-
юсь, вы прихватили что-нибудь понадежней и поост-
рее, но чтобы открыть бутылку, этот подойдет». Муж-
чина проглотил нервный смешок, принял нож и стал
возиться с пробкой — было видно, как дрожат его ру-
ки. Наконец, золотинка была сорвана, кровь на паль-
це из причиненного ею пореза высосана, первая по-
рция разлита по емкостям и выпита.
Он промокнул губы кружком лимона и стал смот-
реть на то, как тщательно и сосредоточенно-быстро
пережевывает человек напротив кусок красной рыбы,
будто готовится таким образом к длинному высказы-
ванию, деля его на фразы, делая членораздельными...
И действительно, проглотив, тот сразу заговорил:
«Я на вас не в претензии, мы с матерью не такие лю-
ди, не думайте, я, мы... хотим все по-хорошему. Что ж
из того, что у нее уже в эти годы будет ребенок? Мо-
лодые родители—это хорошо, вы согласны? Я тоже
такого мнения, да... а как раньше? Четырнадцать
лет, и уже мать, а в восемнадцать настоящая мать-ге-
роиня, по нашим понятиям, да... Я — вот что: жени-
тесь на ней. Конечно. Она все умеет, поверьте мне,
будет хорошей хозяйкой и верная будет, так она вос-
питана у нас, вы не думайте... Вам хорошо с ней бу-
дет, она не станет с вас отчетов требовать — там, зна-
ете, где был, да что делал, да почему так поздно и по-
добное, будете заниматься делом—к чему душа ле-
жит, а она — детьми, да... А материально поможем,
а как же, нуждаться не будете, да и мне, честно ска-
зать, помощник нужен дачу перестроить, в двадцати
километрах от города и в живописнейшем местей, да
вы ведь там были... с дочерью... ведь верно, места
лучше не сыскать? Я с машиной... да ведь вы и это
знаете, правда, не последней марки, но все равно ход
хороший и мягкий, согласны?.. И с продуктами маять-
ся не будете, всегда самое свежее, высокого качест-
ва,— да вы закусывайте. А с жильем, что ж — первое
время у нас поживете — она к вам на родину, вы ведь
нездешний, не поедет, как хотите, а это — нет, а через
252
годик-полтора, не больше, очередь на кооперативную
подойдет. Планировали двухкомнатную, но если так,
то можно и три комнаты взять, чтобы у ребенка своя
детская была, как в настоящих домах, знаете — детс-
кая, спальня родителей, гостиная...» Мужчина пре-
рвал речь и, беря вновь тем временем наполненную
чашку, стал подниматься, видя, что со своего места
встает временный хозяин комнаты и положения и рас-
крывает рот, чтобы произнести: «Сейчас я ухожу в
армию, так или иначе мне все равно туда идти, раз я
отчислен. После рождения ребенка и моего возвраще-
ния мы регистрируемся. Это — мое слово, и это все.
Ребенку, если мать захочет, дайте мою фамилию и от-
чество. Ваша дочь эти данные знает, но вы можете их
записать, если не уверены, что запомните»,— он пол-
ностью представился, назвал адрес своих родителей и
запил это чуть согревшейся мягкой водкой.
2
Он ушел в армию с последним летним призывом и по-
пал на один из участков юго-восточной границы. Од-
нажды, когда он был дежурным, на вертолете в часть
была доставлена почта, где имелось письмо и для не-
го. В письме сообщалось, что ребенок родился на се-
дьмом месяце и мертвым, что она — письмо было на-
писано ее отцом — находится в очень тяжелом состоя-
нии, в основном психически, но все, и врачи в том
числе, надеются на скорую поправку, ничего особо
страшного для ее здоровья, в общем, нет. Далее выра-
жалось мнение, что это, конечно, ужасно неприятно
и попросту ужасно, удар для такого молодого суще-
ства, но опять-таки все надеются, что все нормали-
зуется, образуется и что в связи со всем этим он ни-
коим образом теперь не должен нарушать данного
слова, должен представить положение «бедной де-
вочки».
Он сразу написал ответ, уместившийся в одной
фразе: «Слово остается в силе, теперь — это слово по-
граничника, давшего присягу», запечатад листок в
конверт и отправил с тем же вертолетом. Но когде он
смотрел на то, как все быстрее раскручиваются лопа-
253
сти вертолета и как вертолет поднимается в безоблач-
ное небо и скрывается за перевалом, он подумал, что
зря написал о военной присяге — она не имела отно-
шения к устному честному слову, данному в пустой
комнате общежития; присяга была больше слова, она
словно перечеркивала его — он поклялся подряд двум
разновеликим инстанциям и теперь, в погоне за лако-
низмом и выразительностью — за лаконизмом, свя-
занным тем не менее с представлением о воинской
сдержанности и точности! — соединил эти два обеща-
ния в одной, почти смехотворной строчке.
Но было уже поздно. Он не мог даже просить об
отпуске. Его семейное положение было четко и ясно
зафиксировано в паспорте и военном билете: холост.
Показать письмо? Какое дело начальнику заставы до
того, что есть такие отцы таких дочерей и что вместе
они верят честным словам! Присяга требовала служ-
бы, присяга забирала все!
Он вскочил ночью по учебной тревоге с этой
мыслью и, подгоняемый ею, первым выбежал из ка-
зармы строиться — в полной боевой готовности — и с
необычайной ловкостью и быстротой выполнил то, в
общем, бессмысленное задание, которое было дано их
взводу, и первым в ряду нескольких других отличив-
шихся получил устную благодарность. Но по возвра-
щении в казарму, в то время как он раздевался и
сладко валился перед рассветом на койку, ему поду-
малось, что не так противоречит слову эта присяга,
опа просто отсекает любую другую жизнь и с этим
возможность каким-нибудь жизненным поступком —
изменой — нарушить слово. На несколько мгновений
перед провалом в сон он полностью успокоился насчет
своего письменного ответа, будто за спиной, наконец,
раскрылся купол парашюта.
Днем он был направлен в караул на смотровую
вышку. Нашагавшись вдоволь по ее площадке, он
остановился, поудобней встал и приложил к глазам
бинокль. Простояв так некоторое время, он вдруг
всем позвоночником, спинным мозгом, всем сущест-
вом от макушки до пят почувствовал, что стоит спи-
ной ко всей стране и смотрит на ту, чужую сторону —
там было на что смотреть! Он не смог ничего четко
сформулировать и, отняю бинокль, принялся расхажи-
вать по площадке почти в смятении. Время от време-
254
ни он вскидывал к глазам бинокль, близко видел тем-
ные скалы, четкие очертания снежных шапок на
острых вершинах и языки ледников. «Памир,— бор-
мотал он про себя,— Памир», чувствуя, что относит
это название только к части горной громады, видной
в окуляры по ту сторону. «Гималаи, отроги Гимала-
ев»,— произносил он на странно тяжелом и глубоком
вздохе и снова принимался мерить шагами поднятый
над землей квадрат деревянного настила.
Вскоре ему пришла смена, и он вынужден был
спуститься с вышки, хотя, если бы это было возмож-
но, остался бы еще на один срок. Он чувствовал, что
сейчас на вышке он гораздо больше на месте, чем лю-
бой другой рядовой, который станет только томиться
и дожидаться минуты, когда его сменят. Разве что-ни-
будь подобное пережил или переживал кто-то еще
здесь? Он был уверен, что нет. Смутно догадывался,
что обжигающее ледяное смятение, только что испы-
танное им, как-то неизбежно связано с письмом, отве-
том, с обещанием держать слово — то есть с возмож-
ностью освобождения от него.
Нужно было снова оказаться на вышке, и, навер-
ное, еще не раз, чтобы окончательно разобраться.
Этого момента придется ждать. На пути к казармен-
ному бараку он прикидывал — сколько, принимая в
расчет и количество людей в гарнизоне, и такие, ка-
жется, непредвиденные обстоятельства, которые за-
висели от начальства, погоды и даже от наруши-
телей.
Но учесть то, что через неделю, как раз накануне
следующего дежурства, его откомандируют для даль-
нейшего прохождения службы в штаб округа, он не
мог. Он здесь и думать забыл о своем пусть и неокон-
ченном, но высшем образовании, а командование по-
мнило. Что касалось анкетных данных, оно ничего не
забывало.
3
В республиканской столице отовсюду, и в том числе
из центра города, где размещался штаб округа, были
видны горы. Они были видны сквозь просветы в гу-
255
стой зелени и в просвет между новыми белыми па-
нельными домами, возвышались над ними, но были
уже не те — будто у громадного торта сахарный, из
взбитого белка, обводный венчик, на который прихо-
дилось смотреть из выеденной середины. Созерцание
таких гор не помогало ему, ничего не проясняло —
они были здесь для любования ими,— и он все время
возвращался памятью в тот день на ту вышку, пыта-
ясь вызвать и видение гор в бинокле, и одновременно
ледяной ясный жар, пронзавший его с головы до пят.
Это было трудно и, по существу, здесь невозможно,
и понемногу, по мере того как время вымывало из
памяти маленькую сиюминутную картинку, он стал
отвлекаться, насколько позволял режим службы, на
другое — на местную архитектуру, историю, обычаи,
одежду, даже на язык. Все же воспоминание жило в
глубинных отделах мозга, и ему было приятно, что в
любой момент он мог оторваться от своих бумажных
дел в военной комендатуре и, взглянув в окно сквозь
стекло и узорную, в национальном стиле, решетку,’
увидеть гребни и вершины гор.
За полтора месяца до увольнения он получил от ее
отца письмо, в котором тот сообщал, что ключи от ко-
оперативной квартиры получены — дом в районе но-
востроя — и что через неделю гуда будет перевезена
мебель—не очень дорогой, не импортный, но, в об-
щем, для начала вполне приличный гарнитур, по су-
ществу, два гарнитура: один для комнат, другой —
для кухни. Так что все они ждут его с нетерпением.
Надо будет перестелить полы, они в этих новых домах
очень неважные — делаю] тяп-ляп и досок жалеют,
воруют, конечно. И обои надо с ходу переклеить — те,
что на стенах, они мрачной расцветки и, самое глав-
ное, низкого качества — нужны долговечные и мою-
щиеся. Так что фронт домашних работ — трудовой
фронт после военного, как шутил ее отец,— для пего
подготовлен.
Он перечел последние строки и нахмурился. Полу-
чалось странно — чем дальше он находился от этих
людей и чем дольше они не видели его, писавшего им
редко и всего по нескольку строчек с сообщением, что
все в порядке, тем больше они были уверены, что
он — уже их, им принадлежит. Он просто никуда не
девался, и они были уже с ним на «ты»!
256
Все же он оттянул возвращение, после увольнения
проработал два месяца в совхозе на строительстве
зимнего стойла для скота и еще неделю на уборке
фруктов в орошаемой степи на полпути между местом
службы и ее повой кооперативной квартирой, и явил-
ся в город старшим сержантом, с деньгами, с полной
корзиной крепких яблок и спекшихся, начинающих
портиться огромных персиков.
Его поразило сначала то, как она его встретила —
без малейшего упрека, без расспросов,— как будто он
пришел не издалека. Хотя он тотчас вспомнил, что
она приняла его так же и в первый раз. Глубже его
удивило то, что глаза ее стали, кажется, ощутимо боль-
ше. Он сказал ей об этом, она тихо рассмеялась, по-
жала плечами, то ли соглашаясь, то ли показывая,
что не знает, и, помедлив секунду, добавила: «Со сто-
роны виднее». Он вздрогнул от этой столь обыденной
фразы, почти идиомы, и почувствовал так, будто
внутри него на миг включили яркий свет. Это прояс-
няло: со стороны, с вышки было виднее — но
что, что?!
Он теперь догадывался, что разрешение проблемы
касалось процесса смотрения и видения. Но смотре-
ния на что и видения чего? За окном новой квартиры
была перепаханная шинами грузовиков, заваленная
щебнем и стройматериалами площадка, ограниченная
со всех сторон* такими же высотными серыми бетон-
ными стенами, а здесь, в этой квартире, его ожидала
перспектива теплых, тесных, темных — супру-
жеских— он пережил это слово вместе со
словом «упряжь», «сопрягать», «упругий» — ночей.
4
Было подано почти одновременно два заявления: одно
в ЗАГС, другое — в ректорат с просьбой о восстанов-
лении на третий курс института. Для прохождения
второго требовалось гораздо меньше времени — неде-
ля, и через неделю он уехал на весь сентябрь на убо-
рочные работы — «в колхоз».
Он был, естественно, записан в грузчицкую брига-
ду старшекурсников и, так как почти всю работу с
удовольствием и рвением, соревнуясь друг с другом,
9. Крещение
257
выполняли абитуриенты, он в числе других «стари-
ков» большую часть времени проводил, распростер-
шись на земле под лучами осеннего солнца или в теп-
ле костра, если было пасмурно и моросило.
Лежа так, он не думал о доме, о своей новой квар-
тире— то есть в мыслях не заботился о ней, а просто
знал, что этот странный процесс продолжается: в то
время как он находился вдали от нормального челове-
ческого жилья, сначала на открытой сторожевой вы-
шке, а теперь на голой земле под открытым небом,
где-то в городе ему готовилось и бесконечно улучша-
лось жилье — замазывались трещины в полу, шпак-
левались оконные рамы, обивались на зиму теплоизо-
ляционным материалом входная и балконная две-
ри— ему активно создавались условия для нормаль-
ной человеческой — семейной — жизни.
Все же однажды ему пришлось съездить в город и
навестить свою новую квартиру—и это решило мно-
гое. «Старикам» потребовались деньги, чтобы выпить
вина по случаю первого выходного дня. Стипендии из
города в срок не доставили, а маленькие авансы были
давно растрачены—и он вызвался спасти положение,
сказав, что располагает суммой, подразумевая ту, что
была заработана на строительстве в южном совхозе.
Он возьмет часть денег, сразу в городе купит все не-
обходимое и привезет. Он знал то место, где они дол-
жны были лежать,— в ящике стола, и это было стран-,
но: в ящике стола, купленного ему на чужие деньги,
хранились его собственные. Всю дорогу, занятый этой
мыслью, он готовился к тому, чтобы пройти через —
сквозь — квартиру и взять их, пройти так, будто ни
стен, ни обстановки — ничего не было, а было только
место, где, туго свернутые, словно из стремления за-
нять этого места еще меньше, лежали купюры.
Когда он вступал на порог, его мышцы были со-
браны, и он почувствовал так, будто вступает на ка-
нат. Но через два шага он услышал голоса и, все еще
продолжая идти по своему направленному лучу, на-
чал балансировать, не удержался и, наконец, загля-
нул в комнату. Там на красной широкой софе, которой
он никогда раньше не видел, сидели она и ее мать.
Похлопывая по софе, а временами тихонько на ней
подскакивая, будто проверяя упругость или мягкость,
они что-то живо обсуждали. Он быстро поздоровался
258
и продолжал идти дальше по коридору, свернул в’бо-
ковую комнату, достиг стола, быстро выдвинул ящик,
запустил туда руку и на должном месте ничего не об-
наружил. Он продвинулся рукой чуть дальше и поша-
рил еще, немного вбок, в одну сторону, в другую —
пусто. Он весь вдруг внутренне замер, похолодел при
мысли, что эти деньги ему привиделись как иллюзия
собственности в квартире, где ему ничего не принад-
лежало.
За спиной раздался голос ее матери: «Ты извини,
ты, должно быть, за деньгами, не ищи, они... они сто-
ят за стенкой в большой комнате, ты заметил, должно
быть, тахта...» Не "двигаясь, он продолжал стоять
спиной, заставляя себя поверить, что этот голос из-за
спины, из ничего — не галлюцинация и раздастся
снова; и видя, что он не меняет позы, не поворачива-.
ется, женщина возобновила речь: «Понимаешь, тебя
не было, а как раз завезли этот набор — тахта и три
таких мягких стульчика, ну, пуфика, что ли... а у нас
как раз, вернее, как на грех, не было в это время де-
нег... нам должны были отдать долг, но не отдали,
подвели нас... В общем, дочь сказала, что у тебя есть
деньги... Да ты пойди посмотри, какая роскошная
вещь, вам там будет гораздо лучше, чем на прежней,
и в поддоне — отделения для постельного белья, очень
вместительные, и вообще она по цвету и фактуре под-
ходит к вашей обстановке гораздо лучше, чем старая,
мы ее на дачу заберем... Я давно такую присматри-
вала, и вот случай представился, жалко было упус-
кать...» Она заметила легкое движение его плеч и по-
думала, что он собирается повернуться, но движение
закончилось тем, что он медленно задвинул ящик
и уперся руками в край стола, продолжая стоять
спиной.
«Мы скоро, через недельку, как только вернут
долг... мы возвратим... Но ты сам подумай, какие
расходы на эту квартиру — на перевозку, на саму ме-
бель, на посуду, белье и так по мелочам — набирает-
ся очень внушительная сумма... Для вашего же удоб-
ства, всем необходимым сразу обзавестись, чтоб по-
том не маяться, так легче, а потом — ну, что называ-
ется, обуючиваться будете, моя по этой части знает
толк... Ну, для вашего же удобства, для комфорта, в
конце концов, я не стесняюсь этого слова, и при том,
259
что нам приходится жить, по существу, на три дома,
ты должен бы, мне кажется...»
Он повернулся так резко и быстро, что женщина
вздрогнула и едва успела отступить, чтобы дать ему
дорогу и не быть сбитой. Хлопнула квартирная дверь
и за ней — гулко в бетонном пространстве — подъ-
ездная.
Закладывая в ломбарде свои часы и затем поку-
пая на вырученную сумму вино, он все еще не мог
прийти в себя от негодования, хотя сознавал, что оно
непропорционально тому, что произошло, и это еще
подхлестывало гнев. Он понимал, что произошла, в
сущности, закономерная вещь — все до настоящего
момента делалось без его ведома, всего-навсего с его
честного слова, данного больше двух лет назад. Про-
сто сначала ему за верность этому слову платили, а
теперь ему стали платить за то же самое из его собст-
венного кармана. Они с самого начала делали все по
своей воле, при чем здесь был он?!
Садясь в автобус, он чувствовал, что и это еще не
было исчерпывающим объяснением. Глядя на то, что
мелькало мимо окон, он желал только одного — ско-
рее вырваться вон из города, добраться до поля, бро-
ситься на землю и уставиться в небо, будто это поло-
жение и было его настоящим—рабочим — местом,
как у водителя — между сиденьем и баранкой.
Но ему недолго пришлось пользоваться таким сво-
им положением, потому что в связи со сдвигом сроков
практики третий курс был отозван в город. «Как в ар-
мии»,— пробормотал он, затягивая рюкзак. «Что?» —
обернувшись, переспросил бывший временный владе-
лец соседней койки, тоже озабоченный сбором вещей
и невозможностью уместить их в сумку без аккурат-
ной, по всем правилам, укладки. «Как в армии, гово-
рю»,— повторил он, застегивая, дотягивая карман на
боку рюкзака, и, пораженный собственными словами,
замер — рюкзачный ремешок побежал из его ладони,
5
О стипендии для него не могло идти и речи, и ему
пришлось подыскивать работу, но такую, которую
можно было бы совмещать с учебой,— факультет, ку-
260
да он восстановился, не имел ни заочного, ни вечерне-
го отделений.
Он представлял, какая примерно нужна работа —
вахтера в тихом учреждении или ночного сторожа на
маленькой фабрике, вроде мебельной. Он знал, что
большинство таких предприятий находятся в старой,
застройки прошлого века, части города, недалеко от
центра и института, и радовался этому.
Вскоре он обнаружил, что поиски работы превра-
тились для него в прогулки по мощенным булыжни-
ком и гранитной плитой улочкам, среди кирпичных и
штукатуренных купеческих особняков, среди фасадов,
разделенных пилястрами и оконными проемами ова-
льной и стрельчатой формы, мимо подъездов, осенен-
ных литыми или коваными, на цепях, козырьками или
прячущихся за облупленными колоннами. Он наблю-
дал неспешную, устоявшуюся жизнь этих зданий—в
основном самих зданий, потому что народу на таких
улочках почти не было,— и думал о людях, приняв-
ших из прошлого эту жизнь, связанных с этой жизнью
почти столь же прочно и неосознаваемо, как были
связаны с землей, держащей эти дома, корни вековых
узловатых тополей и лип, быстро теряющих листья, но
сохраняющих при этом свое старое, глубокое очарова-
ние, идущее теперь от иной, обнаженной — графиче-
ской красоты. Он был уверен, что здесь должны разме-
щаться полуподвальные или чердачные, кое-как обо-
рудованные мастерские непризнанных художников, а
сам уже был готов взяться здесь и за дворницкую ра-
боту, хотя приближалась многоснежная, обычная для
этих краев зима. Как изумительно и естественно бу-
дут контрастировать белизна сугробов и темный до
легкого матового блеска цвет кладки мелкого обо-
жженного кирпича. Но, представляя эти Строения
изнутри, он жалел их обитателей, наверняка меч-
тавших о такой, как у его невесты — и у него само-
го! — благоустроенной бетонной клетке. Он бы поме-
нялся!
Он заметил уже несколько объявлений, пригла-
шавших на такую, как ему было нужно, работу, но
прошел мимо, говоря себе, что осмотрел еще не весь
район. Но и когда он покончил с этим, он просто взял
и на следующий день, не поехав в институт, отправил-
ся в другое подобное место, о существовании которого
261
знал,— на четыре моста выше по течению мелеющей
городской реки.
Он почему-то сразу оказался в тупике, что с ним ни
разу не случалось прежде. Путь преграждал длинный
одноэтажный дом с рядом утопленных в ниши стрело-
видных окон, с лепными украшениями вокруг них и по
фронтону, с полинялой охристой побелкой. Он почти с
удивлением, вопрошающе воззрился на линялый фа-
сад— ему показалось, что окна тоже сосредоточились
на нем испытующе,— и тотчас обернулся на раздав-
шийся в десятке метров за спиной слабый женский воз-
глас, шорох падения и чего-то рассыпавшегося. Жен-
щина лет тридцати трех уже вставала на ноги и отря-
хивала на себе плащ, держа в одной руке туфлю со
свернутым набок,' почти вывернутым каблуком. Воз-
ле, на неровных каменных плитах, валялся фанерный
чемодан и сетка с наполовину выпавшими из нее бо-
льшими сушеными рыбинами. Мальчик лет пяти си-
дел возле сетки на корточках и, взяв в руки одну ры-
бину, водил пальцем в ее застывшей, бессмысленно
разинутой пасти.
Он быстро подбежал, собрал рыбу, взял сетку за
полиэтиленовые ручки и выпрямился, чтобы встре-
тить смущенно-извиняющуюся улыбку на простом,
усталом, но довольно правильном лице женщины и-
услышать: «Спасибо... надо же такое, перед самым
домом...» Он улыбнулся в ответ и, переведя улыбку
на ребенка, вдруг сказал: «Специальная служба под-
моги!—И выхватил из кармана недавно вновь полу-
ченный студенческий бил^т,—Дежурный по участку
такой-то!» Он представился, все еще глядя на ребенка
и видя, что выражение недоверия готово спорхнуть с
его лица и смениться радостью. Когда он по всем пра-
вилам щелкнул каблуками, выпрямился и козырнул, ре-
бенок звонко рассмеялся, и на один такт к его смеху
присоединилась мать. Он вновь взглянул в еще улы-
бающиеся, но готовые уже заполниться мыслью ji за-
ботой о завтрашнем дне и всей будущей зимней го-
родской жизни глаза женщины, и, подхватив той ру-
кой, что держал сетку, еще и чемодан, подал ей сво-
бодную руку. Чуть помедлив, еще раз быстро, внима-
тельно посмотрев на него и, наконец, решительно
тряхнув головой, она протянула навстречу свою. Он
262
крепко сжал ее запястье, и так: женщина — прыгая
на одной ноге, ребенок — забегая вперед и веселясь,
а он—медленно, твердо шагая и глядя в землю,—
они двинулись к дому, поднялись на крыльцо, просту-
чали по коридору, открыли в самом конце его дверь и
вошли в квартиру, состоявшую из двух маленьких.—
некогда одной большой,— разделенных деревянной
перегородкой комнаток. Он сразу, инстинктивно подо-
шел к окнам,— они, как он и предполагал, выходили
на реку. На противоположном крутом, почти обрыви-
стом берегу в дкружении разросшихся тополей гордо,
как высокородный пленник под дулами победившей
армии, стоял обветшалый и заброшенный трехэтаж-
ный особняк.
После еды и нескольких рюмок какой-то краснова-
той терпкой настойки, за чаем, после того как ребенок
был уложен спать, он описал все основные события
своей жизни — учеба, служба на границе и теперь
снова учеба, умолчав о своей фантастической помолв-
ке и ничуть не мучаясь при этом совестью. На это, по-
катав по столу хлебный мякиш, взглянув через стол,
словно желая убедиться, достаточно ли у него жиз-
ненного опыта, чтобы понять, выпив еще чуть, она вы-
ложила ему свою тяжелую и вполне обыденную исто-
рию с пившим, достаточно поздним мужем,— она со-
гласилась выйти за него из боязни, что потом будет
поздно, и потому, что не могла тянуть дольше с рож-
дением ребенка, врачи и так предупреждали об опас-
ности. Через год, после рождения сына, действительно
стоившего ей большинства волос — сколько их было у
нее раньше, трудно самой поверить! — она развелась
с ним и по настоянию своей матери отвезла мальчика
к ней в северную деревню на берегу большого озера;
оттуда они теперь и приехали — ребенок вроде бы
окреп, и пообещали место в садике; и рыба эта отту-
да. Во время рассказа она не отрываясь смотрела на
свои сложенные на скатерти руки, и это давало ему
возможность разглядывать простую, даже слишком
простую, скорее бедную, обстановку комнаты и, слов-
но после разбега, бросать взгляд за окно, на особняк,
испытывая почему-то странное, кажется, знакомое,
счастливое волнение. Он слушал и смотрел! Это было
чудесно. Отчасти потому, что история хозяйки так
263
подходила к этой обстановке и к его представлениям
о жизни людей в таких домах, а отчасти... Медленно
отводя, отрывая взгляд от окна и сосредоточивая его
на женщине, закончившей говорить, очевидно ждущей
реакции и знающей, что никакой особой реакции на
такие вещи не бывает, уже начинающей корить себя
за откровенничание, он сказал: «Мне негде жить. Во-
зьмете к себе?» Тихо, низким голосом, кусая губы, она
оговорила только то условие, что детей у нее больше
не будет, она не может, не в силах...
6
На третий день он отправил на адрес кооперативной
квартиры конверт с листком, где стояло: «Не ждите
меня и не ищите, я не вернусь. С этим покончено —
я отслужил». Письмо ничем не отличалось от ответов,
которые он посылал из армии, и он был доволен тем,
что не изменил своему стилю. На пятый день он
устроился кочегаром в котельной школы неподалеку.
Он работал через трое суток на четвертые и осталь-
ное время проводил дома. В институт он прекратил
ходить почти тотчас. Так пошла его жизнь, которую
он почему-то, несмотря на смену обстоятельств и мес-
та, никак не мог назвать новой.
Он почти безвылазно пребывал в квартирке, поти-
хоньку приводя ее в порядок, что-то подправляя, пе-
реколачивая, и едва ли не все свободное время, когда
не спал, проводил, глядя за окно, за реку и на проти-
воположный высокий берег с особняком. Он наблю-
дал за тем, как постепенно оголяются тополя, как бе-
рег и пышная лепнина особняка покрываются снегом,
как наполняется ледяным салом и затягивается река.
От него не ускользало ни малейшее изменение в кар-
тине за окном, и это было ему приятно, он почти гор-
дился этим, объясняя свою наблюдательность хоро-
шей выучкой и пробуждая воспоминания о днях
службы на заставе, но инстинктивно не давая им пол-
ностью завладеть собой.
Но однажды, когда мальчик заболел, не пошел в
садик, и он, имея свободные дни, остался сидеть с ре-
264
бенком дома, ему пришлось—и он не стал этому со-
противляться — выкладывать свои армейские воспо-
минания одно за другим. Он в конце концов так
увлекся, что устроил игру в границу — они с мальчи-
ком уселись у окна и изображали дозорных, сообщая
друг другу свои наблюдения и ведя счет очков. Вдруг
чуть поодаль от оснеженного особняка, на самом по-
логом месте берега, появились две темные фигуры и
быстро, едва не падая, сбежали вниз и остановились
у кромки льда, засыпанного ночью дециметровым
слоем снега. Снег был цельным, нетронутым, и люди
на том берегу, кажется, собирались перейти реку по
льду, впервые за эту зиму. Следя за их действиями и
видя, что двое действительно вступают на заснежен-
ный лед, он вдруг выкрикнул: «Внимание, нарушите-
ли!»— «Где, где? — в восторге и нетерпении завопил
ребенок.— Где они?» — «Нарушители пересекают
вспаханную полосу»,— продолжал он четким, «воен-
ным» голосом, совершенно серьезно и этой серьезно-
стью делая игру для ребенка еще более захватывающей.
«Застава, в ружье! Боевая тревога!» — скомандовал
он таким голосом, что заставил мальчика прежде
вздрогнуть, взглянуть на него, увидеть, как сверка-
ют, горят его глаза, и только тогда побежать за игру-
шечной двустволкой. Пока мальчик увлеченно, забыв
обо всем на свете, стрелял «тах-тах, та-тах!» и люди
продолжали на свой страх и риск идти, пролагая пер-
вую тропинку, он смотрел на них с бьющимся серд-
цем— они действительно казались ему нарушителя-
ми, нарушителями границы. «У пограничника должен
быть бинокль, чтобы видеть черты лица и другие осо-
бые приметы, и запомнить их на случай, если наруши-
телю удастся скрыться,— объяснил он вслух то ли ре-
бенку, то. ли самому себе,— завтра у нас будет би-
нокль и мы сможем видеть нарушителей вооруженным
глазом».— «А где мы его достанем, бинокль-то?» —
в восхищении, не веря, что это действительно возмож-
но, спросил ребенок. «Военная тайна!» — ответил он и,
когда мать мальчика вернулась с работы и ребенок
бросился к ней рассказывать, как они чудесно играли
утром, улыбнулся и, одевшись, сказал, что скоро вер-
нется.
265
Он купил театральный бинокль и утром, пока ре-
бенок спал, приложил его к глазам и посмотрел за ок-
но; двукратного увеличения оказалось достаточно,
чтобы увидеть, что особняк — это не целое здание, а
всего-навсего фасад с кое-какими остатками боковых
и внутренних стен. На месте бывших этажей, перехо-
дов и лестниц, густо переплетаясь, росли неухожен-
ные деревья и кусты, проникшие сюда из бывшего са-
да или парка. Это было печально, невыносимо печаль-
но! Он опустил бинокль и, дойдя до второй комнаты
и убедившись, что ребенок еще спит, вернулся к окну,
и снова вскинул бинокль к глазам и тут же ото-
рвал — так живо и ясно, словно наяву, увидел засне-
женную гряду памирских семитысячников. В волне-
нии он принялся ходить по комнатке, по ее крохотно-
му пространству, и тотчас с облегчением и страхом
понял, что ходит так же и почти в том же состоянии,
что тогда — по настилу смотровой площадки. Он сно-
ва стал пограничником, это догнало его здесь, он ни
на минуту и не прекращал быть им! И вся жизнь его
к осознанию этого и вела — он должен быть на грани-
це, которой были горы, у гор! И как странно и необхо-
димо то, что этот ребенок, только что из своей кроват-
ки, теплый и взъерошенный после сна, стоит на поро-
ге комнаты и во все глаза, продирая их кулачками,
смотрит на него и на бинокль в его руке и ждет от не-
го продолжения игры — нет, продолжения всей его
жизни! Беря мальчика на руки, он проговорил: «Мы
поедем весной к горам, будем жить на настоящей гра-
нице, на заставе».
7
Его решение подать заявление в военкомат и вернуть-
ся к пограничной службе укрепило то, что с началом
весны и таяния снегов остатки особняка на том бере-
гу были снесены, площадка запахана и обнесена све-
жим забором. «Горы не снесешь!» — говорил он себе,
ликуя и представляя, предвкушая встречу с неизбеж-
ным, основополагающим, горящим нетронутой осле-
пительной белизной,— к ним нельзя даже подступить-
ся, не став государственным преступником и не рис-
куя жизнью. Горы — всегда за рубежом, вовне, и он
266
будет отстаивать это неприкосновенное свойство, чтя
его в чужих, для своих гор!
Прощаясь в аэропорту со своей настоящей женой
и ее ребенком, он говорил им, что, как только опреде-
лится, напишет им, а когда будет полная ясность, вы-
зовет их телеграммой, пусть держат чемоданы на-
готове.
Но когда, через многие месяцы, он, наконец, до-
бился перевода на границу и увидел горы, покоящие-
ся как вечно спящая в бриллиантах льда и фате снега
царственная невеста, он пожалел о своем обещании.
Однако теперь он снова был в форме и вдали от тех,
кому дал слово, а поэтому и не мог его нарушить.
267
Сергей Каледин
Стройбат
Повесть
...Эмблема наша — кирка с лопатой:
Дороги строим сами.
Солдат не только человек с автоматом,
Надо — рабочим станет!
К. КАРАМЫЧЕВ (из «боевого листка» 4-й роты)
1
— Бабай!.. Кил мында!..
Бабай дернул башкой, оторвал ее, заспанную, от
тумбочки, вскочил, чуть не сбив со стены огнетуши-
тель, и ломанулся не в ту сторону.
— Баба-ай!..— Голос Женьки Богданова догнал
его в чужой половине казармы.
Дневальный пробуксовал на месте, сменил на-
правление и помчался обратно.
— Опаздываешь,— недовольно пробурчал коман-
дир второго отделения, забираясь к нему на спину.—
Поехали!
Бабай привычным маршрутом вез Женьку на
оправку. Если бы у Женьки под рукой были сапоги,
Бабай спал бы себе и дальше. Но дембельские хрома-
чи Богданова были намертво придавлены к полу
вставленными в голенища ножками койки, а на койке
спит Коля Белошицкий, и будить его Женька не. хо-
тел. А чужими сапогами он брезгует.
— Тпру-у! — Женька затормозил Бабая у тумбоч-
ки дневального, перегнулся, как басмач с коня, при-
хватил с табуретки бушлат, накинул на плечи и вые-
хал на Бабае в холодную мартовскую восточносибир-
скую ночь.
У освещенных ворот КПП стоял «газик». Значит,
подполковник Быков уже в расположении части, зна-
чит, скоро шесть, подъем и ночному отдыху конец.
Так и есть, Быков топтался у штабного барака,
сбивая следы мочи с прилегающего к штабу сугроба.
Женька резво соскочил с Бабая.
268
Бабай побежал обратно в роту, а Женька, обжига-
ясь босыми ногами о шершавую подмороженную бе-
тонку, свернул за казарму. Возле развороченного туа-
лета в ослепительном свете пятисотваттной лампы ко-
лупался с лопатой в руках его приятель Константин
Карамычев. Костя нагружал тачку отдолбленным
дерьмом.
— Но пасаран! — Женька вскинул кулак к пле-
чу.— Бог помощь!
— Ножкам не холодно? — отозвался Костя.
— Самое то.— Женька пританцовывал на снегу
татуированными возле пальцев ступнями: на пра-
вой — «они устали», на левой — «им надо отдох-
нуть».— Когда Танюшку навестим? — поинтересовал-
ся он, заканчивая оправку.— Года идут, а юность вя-
нет.
— Обстучишься. У тебя Люсенька есть.
— Люсенька?! — возмутился Женька.— Люсень-
ка— боевая подруга. А Танюшка — барышня...
И завязывай ты наконец с дерьмом! —Женька брезг-
ливо поморщился.— Где эти-то? Фиша-а! Нуцо!.. Ком
цу мир!
Женька завертел красивой головой, похожей на
голову артиста Тихонова. Только у Тихонова шея нор-
мальная, а у Женьки кривая — скривили, когда щип-
цами тащили его из пятнадцатилетней матери. За
шею и в стройбат попал.
Из ямы за спиной Кости показались две взлохма-
ченные головы, обе черные. Одна — красивая, но гру-
стная — принадлежала закарпатскому еврею Фише-
лю Ицковичу, глаза подслеповатые,— оттого и строй-
бат, а вторая, с золотыми зубами,— цыгану Нуцо
Владу. Золотые зубы изготовлены были из бронзовой
детали водомера ротным умельцем Колей Белошиц-
ким. Сходство бронзы с золотом спасло Нуцо от гнева
родителей, приехавших по каким-то своим цыганским
делам в Восточную Сибирь и заглянувших в армию к
сыну: мамаша в настоящих золотых зубах, бусах и
разноцветных юбках, отец—толстый, коротенький, в
черном костюме и шляпе. Деньги, которые они при-
слали сыну на золотые зубы, якобы запросто вставля-
емые в Городе, сын пропил сразу, и если б не Коля
Белошицкий...
269
— Чего? — весело дернул башкой Нуцо. У него на
все случаи было только одно выражение лица — бес-
шабашное, ни к какому другому выражению физионо-
мия его не была приспособлена.— Чего орешь?
Фиша смотрел на^Женьку строго и недовольно: за-
чем отрывает от работы?
— Проверка слуха! — Женька зевнул во всю
пасть, как лев, и побежал к роте, оборачиваясь на хо-
ду: — Готовь Танюшку, Констанц! Я сегодня кровь
пойду сдавать, бабки будут! Фирма веников не вяжет,
фирма делает гробы!..
— Гроба,— пробурчал Костя, принимаясь за пре-
рванную работу.— В час к общаге подъезжай!
Он поправил ударение в «гробах» на уральский
лад, потому как с Женькой Богдановым, Богданом,
познакомился в прошлом году в эшелоне — их, по-
гань, вывозили из стройбатов Уральского округа.
Потом, уже по приезде в Город, оказалось, что от
скверны освобождался не только Урал, по многим
стройбатам страны прокатилась очистительная волна.
Везли их исправляться в Забайкалье, куда-то на
границу с Китаем или Монголией. По слухам, житье
там было будь здоров: летом плюс пятьдесят, зимой
минут пятьдесят, питьевая вода по норме, песок в
морду и радиация все половое атрофирует. Это —
слухи, а что шоферня стройбатовская там по пять-
сот— шестьсот рэ в месяц заколачивает — факт.
А полтыщи казна за так платить не будет.
Короче, ехали в ад, а попали в рай. В Город, в
Четвертый поселок. От центра Города до ворот КПП
двадцать минут ленивой дребезжащей трамвайной ез-
ды. Вот ворота, а справа, метров двести,— танцверан-
да; вот ворота, а слева, метров двадцать,— магазин.
А в магазине—рассыпуха молдавская, семнадцать
градусов, два двадцать литр. С десяти утра. Малин-
ник! Дай бог здоровья отцам командирам, тормознув-
шим их по какой-то неведомой оплошке здесь, а не за
Читой.
Воинская служба рядового Константина Карамы-
чсва заканчивалась. Последние восемь месяцев Костя
пахал на хлебокомбинате грузчиком. Ясное дело, не
просыхал: маслица сливочного заныкать, сахарной
путры — бабам в поселке почему-то очень нужна,—
270
изюмчика килограмм-другои, и пожалуйста: ханка в
любом качестве, жри — не хочу.
Но месяц назад Костя, вконец оборзев, понес куда
не надо лоток кренделей глазированных, а так как у
Кости со зрением напряженка да и загазованный
уже был, прямо на стражу и нарвался. Стража сооб-
щила в часть.
Командир роты капитан Дощинин предложил Ко-
сте на выбор: или он дело заводит, или Костя срочно,
до активного потепления, чистит все четыре отрядных
сортира. Капитан Дощинин объяснил все это прямо,
по-мужски, не случайно он был похож на артиста
Жженова (у Кости с детства была привычка искать у
всех сходство с артистами кино). Только Георгий
Жженов при Сталине, по слухам, сам сидел, а капи-
тан Дощинин, на него очень похожий, сажал других.
Тем более сейчас, когда их военно-строительный от-
ряд в результате вышестоящего недомыслия стал
официальной перевалочной базой в дисбат или ла-
герь. Костя впал в тоску: ладно был бы салабон, по
первому году, не грех и в дерьме поковыряться, но
ведь дед, дембель на носу, да и товарищи по оружию
что скажут? «За падло» скажут, ничего другого не
скажут.
Костя поделился сомнением с Богданом.
Женька пожал плечищами:
— Тебе-то что? Чеши грудь и ковыряй дерьмо!
А вякнет кто... Никто не вякнет.
Костя перевел дух и сказал Дощинину: согласен.
В помощники Косте Женька выделил Фишу и Ну-
цо Влада.
Фиша — человек старательный и не брезгливый,
потому что из деревни. Сам он до армии плотничал,
отец его был чуть не конюхом, и вообще Фиша рас-
сказывал, что там, в Карпатах, полно их, деревенских
евреев.
В армии Фиша как скаженный вцепился в учебни-
ки, в поселковой вечерней школе за год окончил два
последних класса, аттестат у него уже был на руках,
а он все долбит и долбит уроки, как ворона мерзлый
хрен. Питая к Фише особую симпатию за прилеж-
ность, подполковник Быков выписал ему маршрутный
лист в местный филиал областного политехнического
института на подготовительные курсы, куда Фиша и
271
выбывал два раза в неделю на зависть всему строй-
бату.
Фиша трудился на комбинате, вязал арматуру, в
роте проку от него было мало, чуть отвернись — учеб-
ник из-за пазухи тянет, вот Богдан и сбыл его Косте
в помощники. И Нуцо Влада сбыл, тоже проку ма-
ло— цыган. Впрочем, Нуцо уверял, что он не совсем
цыган, а частично молдаван. Вернее, в основном мол-
даван, а частично цыган. Не поймешь, короче.
А начальник штаба майор Лысодор, чтоб подбод-
рить золотарей, от себя пообещал Косте и Фише до-
срочный дембель, как закончат, а первогодку Нуцо —
отпуск на десять дней.
Таким образом, у Женьки в отделении за вычетом
троих — Кости, Фиши и Нуцо — осталось пять паха-
рей. Миша Попов из Ферганы — грузчик на мясозаво-
де. Одессит Коля Белошицкий, Эдик Штайц, немец из
Алма-Аты, доски режет на пилораме. Как он еще себя
не распилил, непонятно. Про Эдика говорят, что он в
конопле и родился, в анаше то есть, вестибулярный
аппарат не работает. Команда «направо», а его нале-
во несет; «кругом» — на пол-оборота больше завора-
чивает. А так парень ничего, спокойный такой, блон-
динистый. Проще говоря, никакой. Ну, и пахарь ника-
кой, сообразно. Какая там пилорама! За таблетками
на край света готов пешком бежать. За эти побежки
Дощинин на него тоже дознание крутит. На малой
скорости, больше для острастки, но крутит.
И двое молодых у Женьки в отделении: Егорка и
Максимка. Егорка и Максимка — это по местному
времени, а по паспорту: Рзаев Мамед Гасан-оглы и
Шота Иванович Шалошвили. На ЖБИ работают,
раствор бетонный льют.
Вот и все Женькино отделение. Второе отделение
первого взвода четвертой роты N-ского военно-строи-
тельного отряда. А Женька Богданов — ефрейтор.
Сперва Женька решил Егорку с Максимкой Косте
подарить, да потом одумался — всего-то пахарей у
него эти двое. Он их нарочно в свое отделение взял,
пока другие не разобрали. Егорка кроме основной ра-
боты Женьку с Мишей Поповым обслуживает: койку
заправить, пайку принести из столовой, постирать по
мелочи; а Максимка — Колю, Эдика и Старого.
272
Да, еще Старый у Женьки в отделении — шестеро
их, значит. О Старом как-то все забывают — не вид-
но, не слышно всю дорогу. Работает Старый на авто-
базе слесарем, в канаве все время торчит, а в роту
приедет — в уголке сидит, курит. Ни выпить, ни в са-
моволку. Боится, что Дощинин снова в дисбат упря-
чет. Старый действительно очень старый. Призвали
его за неделю до дня рождения — двадцать семь дол-
жно было стукнуть. Только-только из зоны вылез. За
убийство. И главное, почти весь срок отсидел, а уж к
концу разобрались, что не убивал он, а защищался.
То есть убил, но при необходимой обороне. Дали де-
сятку, выпустили на два года раньше. А тут хоп — ив
стройбат! Не отдохнув толком от сиделовки, Старый
завел было жизнь на вольный манер и скоро убыл в
дисбат на максимальных два года. Какой он был рань-
ше, неизвестно — сажали его не в этой части,— но
сейчас ходил тихий, весь лысый почти, морщинистый,
руки в окостенелых мозолях. Про дисбат — ни слова.
Спит даже с открытыми глазами. Влезет на койку,
подгребет под себя подушку и лежит, вперед смотрит,
а на самом деле спит. А тут еще как-то по обкурке по-
вело Старого на подвиги, и срезал он с какой-то пья-
ной руки «Победу» вшивую. Женька отнял его у ре-
бят изметеленного почти до основания. Главное, во-
ром-то сроду не был. Сам на себя удивлялся: чего это
ему вдруг взбрело — часы срезать? Тем более свои
есть. «Командирские», светящиеся.
Егорку Женька обротал сразу, тот почти и не ры-
пался. Пару раз ему кровь пустил слегка, чучмеки по-
чему-то крови своей боятся. А с Шотой, тьфу, с Мак-
симкой, повозился подольше — грузин в соседнюю ро-
ту бегал за земляками. Те сразу явились, а как уви-
дали, что Шота Иванович их на Богдана настропаля-
ет, от себя еще Шоте бабаху подвесили. Если бы
Шота больше был похож на грузина, они б его в оби-
ду не дали. А он пи то ни се: белобрысый, шершавый,
грязный. А так-то грузины — не больно их обротаешь!
С усами все. Им на усы специальное разрешение от
министра обороны. Чистюли: только и знают мыться
да бриться. Бреются, правда, насухую: хруст стоит и
на глазах слезы. Воды-то горячей где взять? Негде.
Костя катил перед собой пустую тачку. Тачка
скрипела на весь поселок. С губы доносились песни.
273
Сам Костя на здешней губе не бывал, бог мило-
вал. Зато остальные из роты почти все побывали. Нс
дай бог, рассказывают. Костя даже зажмурился от
мысли, что может оказаться на этой губе, не очень
даже и заметной: если б не вышка, не проволока —
домик и домик. Да, домик... почки отобьют для сме-
ха — и будь здоров, жуй пилюли. Вон у Нуно до сих
пор моча розовая. И смеется, дурак, не понимает, что,
может, калека на всю жизнь. Может, еще рак разо-
вьется. Фиша его чуть не насильно таблетками кор-
мит. Жалеет, хоть сам на губе и нс был.
Да ладно только б лупили губари, а то совсем обо-
рзели — «расстрел» организовали. К стенке поставят
и давай... Нуцо как раз под этот знаменитый «рас-
стрел» и попал. Вырубился, конечно. С непривычки.
Костя как-то намекнул цыгану, чтобы, мол, напи-
сал в Москву, в Министерство обороны. Или в проку-
ратуру. А Нуцо только ржет, как всегда. Костя и сам
бы написал, да боится, найдут по почерку. Написал
уже один раз, вон Чупахип его сюда и сплавил. Ист
управы на губарей, законной — нет.
А без закона — можно найти.
Их ведь, губарей, тайком дембеляют, ночью в
основном и заранее, до приказа. Ну а в штабе диви-
зии тоже свои есть. Писаря. Сейчас там, например,
Дима Мильман. Это он осенью предупредил, когда гу-
барям по домам разбегаться. И пожалуйста: одного с
поезда скинули, другого отловили, и поехал он не до-
мой, а в больницу в полуженском обличье: пол ему
размолотили. Потом, говорят, и отрезали. А ведь чест-
но предупреждали: что ж ты, козел, творишь! Земля-
ков своих и то... Одного пацана метелил, соседа, на
электрогитарах вместе играли раньше, до армии, в
клубе. Из одной деревни оба.
...Губарь помахал Косте. Костя тоже помахал нео-
пределенно, хоть и не разобрал кому.
Внутри, во дворе губы, маршировали с утра пора-
ньше арестанты, расхристанные, без ремней. Конвой-
ный с автоматом погнал за ворота двоих с термосами
на палке.
— Привет,— кивнул Костя.— К нам? За рубоном?
— Ну,— буркнул губарь.
Костя поежился. Сколько раз давал себе зарок не
контачить с суками, а вот не получалось...
274
Трамвай, с визгом и скрежетом разворачивавший-
ся на конечном круге, заслонил процессию и приглу-
шил позорный скрип Костиной тачки. И даже вонь от
тачки вроде стала поменьше.
По ту сторону ворот москвич Валерка Бурмист-
ров — хозяин КПП — тягал двухпудовую гирю.
Валерка пожал руку конвоира и заметил Костю:
— Здорово, земсля!
Костя затормозил тачку метрах в десяти от КПП,
чтоб не так воняло, пошел к воротам. Дерьмо, подта-
явшее от разгоряченных ходьбой сапог, пятнало снег
темными следами. Костя остановился в нескольких
шагах от Бурмистрова, переживая свой запах, несиль-
ный— с глубины уже брали, перебродило,— но фе-
кал есть фекал, никуда не денешься. Потыкал сапога-
ми в грязный осевший сугроб.
— Привет.
— Слышь, зёма,— с натугой сказал Валерка, вы-
жимая гирю.— Вас это... лупить намеряются... Ха-
ха... Лечить будут... под дембель.
Костя кисло улыбнулся.
— Чего ты лыбишься? — засмеялся Валерка, не
прекращая тягать гирю.— В натуре. Чинить хотят.
— Кто? — сорвавшимся голосом выдавил Костя,
вспоминая почему-то губу.
Валерка оставил гирю в покое, вытер пот с жирно-
го бабьего подбородка, пожал плечами:
— Как кто? Блатные. Вторая рота.
— Кого — вас?
— Как кого?.. Всех. Всю вашу роту. Живете боль-
но красиво. А может, и не будут. Меня не щекотит...
Слышь, земеля, у вас в роте тоже колотун? Не топят,
что ли? Кочегару пойти рожу настучать?..
Валерка молол что-то про кочегара-салабона, про
завтрашнее партсобрание, на котором его должны
были переводить из кандидатов... Костя уже не слу-
шал. На одеревеневших ногах дошел он до своей тач-
ки и тупо покатил ее сквозь ворота по бетонке.
На плацу шел утренний развод. Приближалась
зарплата, и Быков орал, как делал это каждый раз
перед деньгами, чтоб не нажирались, а если и на-
275
жрутся, чтоб не бросали друг друга. А если уж бросят
пьяного, то чтоб на живот переворачивали, чтоб бле-
вотиной не захлебнулся...
Костя не стал слушать известные уже слова, он
катил тачку к последнему недоработанному туалету.
А может, ничего? Мало ли что Валерка треплет! Иди-
от жирный!..
Нуцо выкидывал на поверхность уже не вонючую
чернь, а обыкновенный восточносибирский грунт вто-
рой категории, то есть песок, лишь кое-где в нем пре-
дательски чернели вкрапления прошлогоднего пере-
гноя. Фиша выбирал из раскиданных вокруг обрезных
досок какие поровнее — для пола.
Костя подвез тачку ближе к яме и стал загружать.
— Молодой! — хохотнул снизу Нуцо.— Скажи
что-нибудь.
— Молчи, салага,— пошутил Костя.— До обеда
побуду, потом отвалю.
— Куда? Уши резать?
— Паши давай!..
— Костя,— укоризненно сказал Фиша,— надо
больше работать, а ты все куда-то убегаешь. Надо убор-
ную доделать. Мы же в воскресенье домой уезжать
хотим. Давай хоть пол начнем, потом отвалишь.
Насчет ушей Костя действительно ездил в область,
в косметическую поликлинику. Со школы пе давали
ему покоя эти уши, торчали, заразы, под прямым уг-
лом в стороны. Кончил десятилетку, волосы отрас-
тил — вроде ничего, а в армии опять проблема.
В поликлинике сказали, что уши исправить можно,
но надо полежать три дня в больнице, а потом еще
каждый день ездить на перевязку. Короче, уши Костя
решил оставить до Москвы.
Из динамика грянул марш. Стройбат, отпущенный
с развода, разбредался с плаца по рабочим точкам.
Вторую роту — осенний призыв, набранный цели-
ком из лагерей,— увозили в грузовиках на комбинат.
Блатные работали пока на земле. Приживутся, обо-
рзеют, тоже найдут непыльную работенку. Стройбату
без разницы, где воин пашет, лишь бы доход в часть
волок. Вон двое из первой роты на трамвай сели —
инженерами на комбинате работают.
Марш окончился, стало тихо и пусто. Теперь Коля
Белошицкий запустит битлов. Потом пойдет «Роллинг
276
стоунз». Эту кассету Костя знал наизусть—позавче-
ра взял ее с переписки у парней в городской студии
звукозаписи. Сделали, как-никак коллеги: Костя в
Москве на улице Горького звукооператором работал.
Мать мечтала, чтоб он стал музыкантом. Отчаяв-
шись отыскать у сына абсолютный слух, купила
скрипку и часами заставляла его пиликать на ней под
присмотром пожилой музыкальной маразматички с
первого этажа. Костя пиликал, пиликал и допиликал-
ся: от долгого стояния стала слетать коленная чашеч-
ка. Тогда мать разнесла по дому, что Костя переиграл
ногу, как пианисты переигрывают руку. Наконец му-
зыкальная маразматичка умерла, но, поскольку
мысль о Костиной музыкальности по-прежнему не да-
вала матери покоя, она определила его после школы
в студию звукозаписи. А чашечка коленная через год
определила Костю в стройбат.
Повспоминал Костя родной дом и в который раз с
тоской убедился, что не тянет его домой. А куда тянет,
и сам не знал. Никуда. Если только на студию. Весе-
лая жизнь! Попивай потихоньку да клиентов пощипы-
вай. А вечерами что делать?..
Фиша положил первую доску и приживил ее гвоз-
дями.
— А ты иди покушай,— прервал Костины разду-
мья Нуцо.— Селедки принеси. С черняшкой!
Жрать хотелось страшно: завтракали-то в пять
утра, а сейчас одиннадцать. Но пошел Костя не в сто-
ловую, а в баню — в загаженном состоянии есть он
бы не смог. А Фишке и Нуцо хоть бы что. Сзади к сто-
ловой подойдут, пожрут в биндейке на скорую руку и
опять вкалывать.
Костя еще и потому шел в баню, что твердо решил
не пахать больше сегодня. Сегодня они с Женькой по-
едут в третий микрорайон, в общежитие четвертого
НПЗ, навещать Таню-вонючую. Вообще-то никакая
она не вонючая, просто моется хозяйственным мылом,
а Косте это простое мыло... Ну, не переносит. А так
она баба красивая.
— Открой! — Костя уверенно постучал пальцем в
окошко обувной мастерской, помещавшейся в одном
полубараке с баней.
Сапожник, он же зав баней, открыл дверь, впустил
Костю и снова закрыл: мало ли кто еще припрется.
277
Костя мылся, как стал золотарем, каждый день.
По личному распоряжению Лысодора. Невелика ра-
дость, а все-таки. Фиш^а с Нуцо под это дело — под
вонь — в свинарник спать переместились. £виньи-то
свиньи, зато покоя больше.
Костя помылся, установил на подоконнике кар-
манное зеркальце, внимательно поглядел на себя,
приподнялся на цыпочках — посмотреть, каков он в
нижпей части. Ничего. Поджарый, длинноногий, ни
тебе шерсти особой, ни прыщей... Нормальный ход.
Еще бы уши...
Он уже заканчивал бритье, когда вдруг сообразил,
что дембельское его пэша с лавсаном и сапоги дембе-
льские, яловые, в каптерке.
Костя с треском отодрал оконную створку, потом
вторую, наружную, замазанную белилами, и высунул-
ся в холод: может, кто из своих рядом? Безуха! —воз-
ле клуба на перекладине корячился Бабай.
— Бабай! Кил мында! — заорал Костя и свист-
нул, чтоб тот лучше услышал.
Бабай услышал, свалился с турника, покрутил
башкой, соображая, откуда крик, и наддал к бане.
Бабай чудом оказался в армии — скрыл, что у не-
го ночное недержание. Взяли в конвойные войска, ку-
да весь Восток берут, но сразу же выкинули, как уню-
хали. В госпитале Бабай взмолился, чтоб не комиссо-
вали— дома засмеют: не мужик. Так Бабай и ока-
зался в стройбате. Не здесь, в нормальном. А в про-
шлом году, как очищали стройбаты, вытурили его.
В Город, куда всю шваль скучивали.
Теперь Бабай целыми ночами сидел возле тумбоч-
ки под переходящим знаменем и пустым огнетушите-
лем. На тумбочке под треснувшим стеклом лежала
шпаргалка, что он обязан докладывать при посеще-
нии роты офицерами. Днем Бабай немного спал, а
остальное время старался накачать силу. На турнике
он докручивался до крови из носа и тогда ложился на
спину в песок, а сейчас, весной,— на лавку рядом с
турником.
— Чего тебе?—с готовностью затарахтел Бабай,
грязными ручонками подтягиваясь к высокому подо-
коннику.
— Принеси из каптерки пэша, сапоги, носки и
278
плавки. В чемодане моем. У Толика спросишь. Повто-
ри. Что такое пэша?
Бабай задумался, но повторил правильно:
— Полушерстяное.
Не успел Бабай умчаться, мимо бапи процокала
полненькими кривыми ножками Люсенька. Люсенька
не скрывала, что пошла работать в армию в поисках
жениха. У нее уже был один — из позапрошлого дем-
беля, и от него даже остался у Люсеньки сынок. Же-
них уехал в Дагестан, а Люсенька по-прежнему рабо-
тала в библиотеке. Быков хотел было погнать ее за
блуд с личным составом, а потом сжалился. Быков
вообще мужик клевый. Всех жалеет. И солдатье и вот
Люсеньку. И Бабая. А здоровенный — штангу тягает!
По воскресеньям его ребята на реке видят с этюдни-
ком, рисует чего-то. На войне был, потому и мужик
классный. Все офицера, кто воевал, нормальные му-
жики, незалупистые.
С Люсенькой в настоящее время занимался Жень-
ка Богданов, собирался, вернее обещал, жениться.
Это было па руку Косте: Люсенька всегда держала
для него «Неделю», «За рубежом» и журнал «Радио».
Более' того, на дембель обещала списать для Кости
все журналы «Радио» за последние десять лет.
Бабай обернулся мигом.
— Ничего не забыл? — спросил Костя, принимая
амуницию. Строго спросил, но Бабай не только ничего
не забыл, но и притащил Костину шапку, меховую,
офицерскую — для увольнительных,— и дембельский
ненадеванный бушлат.
— Костя, Костя! — залопотал Бабай.— Деньги
сегодня дадут, сегодня дадут! Зарплату. Не ходи к
бабам, завтра иди к бабам!.. Ты уйдешь — мне деньги
отберут старики. Я тебе отдам, ладно? Тебе отдам, ты
мне потом тоже отдашь. Ладно, хорошо, ладно?
— Ладно! — кивнул Костя и закрыл окно.
Бабай, как постоянный дневальный, получал
шестьдесят рублей. После вычета харчей, обмунди-
ровки и так далее на руки ему выдавалось пятна-
дцать, еще пятнадцать ложились на лицевой счет. Год
назад Бабай упросил Костю отбирать у него получ-
ку— тогда другие старики не будут зариться. Костя
согласился. Не за так, конечно,— троячок ему Бабай
отстегивал из каждой зарплаты.
279
Костя довел себя до кондиции. Причесался, макси-
мально напустив волосы на уши, надушился любимы-
ми своими духами «Быть может», польскими, с по-
лынным запахом. Спасибо, мать посылает. Надо,
кстати, написать ей, с тоской подумал Костя. Нудит:
в институт, в институт... Какой тут институт... Костя
достал из нагрудного кармана крохотную щеточку
для сапог, завернутую в лоскут бархата, отрезанный
от клубной гардины, навел глянец на сапоги, изнутри
кулаком оправил меховую шапку с недовытравлен-
иым на засаленном донце именем бывшего владельца,
и легкой журавлиной походкой, благоухая, вышел из
бани.
Карманы его дембельской гимнастерки слегка от-
топыривались.
В карманах у Кости находились конверты, шари-
ковая ручка, бумага для писем и маленький, но толс-
тенький дневничок в клеенчатой обложке, куда Костя
записывал события дней и по обкурке — стихи. Были
там еще арабская зубная паста «Колинос», которую
Костя применял специально для свиданий, упомяну-
тые уже щетка для сапог, духи, а также зубная гэдээ-
ровская щетка. Упаси бог, в роте увидят — тот же Ко-
ля Белошицкий заныкает, и выявится его щеточка в
виде наборного браслета для часов. Коля может даже
и сознаться в пьяном виде. Понурит голову, отягощен-
ную большим переломанным носом. «Ну, прости,—
скажет и разведет в стороны свои длинные жилистые
руки.— Спер. А' браслетик по люксу вышел. Хочешь,
возьми. Простишь?» Ну кто ж после таких слов не по-
течет? Потому-то Колю никто в жизни и пальцем не
тронул— рука не подымалась. А что нос перебит, так
это еще до армии, на зоне, по недоразумению и в тем-
ноте.
2
— Слышь, земеля! — Валерка Бурмистров орал пря-
мо с крыльца КПП.— Ну, ты, в натуре, вчера хорош
был, я те дам!..
Костя остановился перевести дух, вытер рукавом
липкий похмельный пот, скривил улыбку:
— Да-а?..
280
— Будь здоров! — Валерка заржал.— Тебя мой
молодой на себе до роты пер... Дрозд!
На крыльцо выскочил здоровенный стриженный
налысо молодой.
— Вот этот,— сказал Валерка.
— Ага.— Костя кивнул, благодаря не молодого, а
Валерку, поскольку молодыми распоряжался он.—
Ничего такого, Валер?.. А?
— Нормальный ход. Тебя Рехт, дружок твой, за-
ловил, хотел на губу. Еле отбил... Москвичей не лю-
бит, только так!
— Спасибо, Валер...— пробормотал Костя, бе-
рясь за тачку.
— Земель! Погоди...
Молодой с интересом наблюдал за ними.
— Кыш!—прошипел Валерка, и молодой ис-
чез.— Вчера обстриг их налысо, обросли, как деды.
Тебя как зовут, забываю?
— Константин,— как можно спокойнее ответил
Костя.
— Слышь, земеля, трояк не займешь? Молодым
осетрины прислали с Оби. Я считаю, им вредно. А?
— Вредно,— небрежно, по-дедовски кивнул Ко-
стя.
— Короче, трояк займи, рассыпухи берем, и ве-
черком приходи. Телек позырим. «Братья Карамазо-
вы»,
Костя с трудом понимал Валерку. Деньги нужны.
Денег нет.
— Денег-то, Валер...
— Ну, здрасте, приехали! — Валерка хлопнул се-
бя руками по ляжкам.— бухать — есть, как земе-
лю выручить — от винта! Хреновый ты земеля! Я та-
ких в гробу видал!..
Надо бы объяснить, что денег у него с тех пор,/как
залетел с кренделями глазированными, вообще нет,
только Бабаев трояк, который он вчера тоже упустил,
потому что деньги у Бабая отобрали другие, пока они
с Богданом киряли у Тани-вонючей.
Но как сказать, если язык чуть шевелится, обо-
жженный вчерашним слабо разведенным спиртом?
Найдет. Найдет он Валерке трояк. Не ясно где, но
найдет. И больше достанет: сколько скажет Валерка,
столько он ему и достанет. Потому что даже подумать
281
страшно, как бы он мог служить без земляка на КПП.
Вон вчера Валеркин молодой на себе его волок, а ведь
всех бухих Валерка сперва сам отоваривает на КПП,
а потом сдает на губу.
— Подожди-ка...— Костя потер рукавицей лоб.—
Ты здесь будешь?
— А куда я, на хрен, денусь?— обиженно пожал
плечами Валерка.
Костя, с трудом соображая, где взять денег, пока-
тил тачку прочь. Другие-то старйки с Валеркой вооб-
ще не здороваются, за падло считают. Им что, Валер-
ка их сам побаивается. У Миши Попова в Городе се-
рьезные друзья по наркоте, с ним все учтивы. У Же-
ньки через комендатуру все зашоколадено. А у него,
у Кости?.. Нету у него отмазки! Конечно, когда он с
Мишей или с Богданом, никто не залупнется. А когда
один?..
«О чем, козел, думаю?—усмехнулся про себя Ко-
стя.— Какая отмазка, зачем отмазка?! Послезавтра в
Москве гудеть буду!»
•— Слышь, земеля! Тогда уж пятерик бери для
ровного счета,— по инерции обиженно крикнул Ва-
лерка.— Слышь?
— Слышу,— отозвался Костя.
Фиша выпиливал очко. Вернее, пол-очка в одной
доске, пол — в другой.
— Фиш, дай трояк до получки, в смысле пятер-
ку,— нахраписто заявил Костя.
Фиша не спешил давать деньги, и Костя понял:
атака с ходу не удалась. Сейчас Фиша начнет нудить.
Костя сел на доски и полез за сигаретами.
Фиша не нудил. Фиша аккуратно выпиливал полу-
круг в доске по красной карандашной линии. Перед
шмыгающими вверх-вниз зубьями пилы на линии на-
растал холмик опилок.
«Сейчас с чиры съедет!..»
Костя, не поднимаясь с досок, изо всей силы дунул
на Фишину работу. Фиша дернул головой вверх и
стал остервенло тереть запорошенные опилками
глаза.
— Извини,— виновато сказал Костя.
Пилил Фиша точно по линии. Он молча взглянул
на Костю, как на убогого, ерзнул пилой еще пару раз
282
и, аккуратно придерживая снизу, принял выпавшее
полукружье.
— Дай трояк,— сбавил Костя.
— Получка, Костя, была вчера,— сказал Фиша.—•
У тебя получки вчера не было. И тебя не было. Ты ви-
но пил. С Богданом.
— Ну и что теперь? — устало сказал Костя.— За-
стрелиться?
— Не пей вина...
— Гертруда,— усмехнулся Костя,—'дай денег, че-
го ты жмешься?
— А ты помнишь, сколько мне должен? — склонив
голову на плечо, со справедливой укоризной спросил
Фиша. Точно так вот Костю допекала дома мать.
— Много, Фиша, много,— закивал Костя.— Всё
отдам. Всё. Бабки огребем в субботу...
— Я тебе дам еще раз денег, если ты мне пообе-
щаешь, что ты берешь у меня деньги не на вино. Раз-
ве ты не понимаешь! — Фиша возвысил свой обычный
монотонный голос и соответственно воздел руки к не-
бесам.— Ты можешь стать горчайшим пяницей! Как
все! Как Нуцо!
— Чего? — Из ямы показалась улыбающаяся не-
бритая морда цыгана.— Оставь курнуть!
Костя протянул ему бычок.
— Фишка денег не дает.
Нуцо, обжигая пальцы, досасывал окурок.
— Дай Косте денег. И мне дай.
— Тебе — таблетку!—отрезал Фиша, и Костя по-
нял, что ему Фиша денег даст.
— А чего вы, собственно, не пашете? — нахмурил-
ся Костя. Надо было добавить что-нибудь поосновате-
льнее, и Костя выпалил не совсем свое, но в настоя-
щий момент подходящее: — Приборзели?!
— Лопатой больше не берет,— сказал Нуцо.—
Клин нужен. И кувалдометр.
— Что ж вы, гады, сразу не сказали? — Костя да-
же застонал. Переться теперь в кузницу, клянчить
клин, кувалду... От одной мысли мозги скручивались.
Костя страдальчески поморщился, поднял глаза на
Фишу.— Пятерку дашь?
— Дам,— торжественно объявил Фиша.— Иди за
клином.
283
Костя тяжело поднялся с досок.
— Пойдем,— сказал он Нуцо.— Сам все попрешь,
Я —дед. Понял?
Когда вернулись с инструментами, Фиша читал
книгу.
— На,— строго сказал Костя. Нуцо синхронно его
словам скинул с плеча на землю клин на приваренной
арматурине и кувалду.— Пашите, гады... Фиш,
ну?..— Костя протянул руку.
— Ты мне подиктуешь сегодня? — с ударением на
последнем слове спросил Фиша, не спеша расстегивая
пуговицу на коленном кармане.
Костя молча следил за второй пуговицей, которая
оставалась нетронутой.
— Часочек,— уточнил Фиша и протянул Нуцо за-
вернутую в бумажку таблетку.
— Нуцо! — чуть не плача простонал Костя.— Он
смерти моей жаждет. Меня блевать волокет, а он —
«подиктуй»!..
— Дай Косте денег,— вступился Нуцо.— Дай!
— Хорошо,— сказал Фиша.— Вот мы позанима-
емся, потом я тебе дам денег.
— Слушай меня, Фишель,— сказал Костя, дыша в
лицо Ицковичу перегаром, который Богдан называл
перегноем.— Учти, Ицкович, вас, всю вашу масть, вот
именно за это в народе не любят. Вот таким своим...
некорректным поведением ты возбуждаешь в нашем
народе антисемитизм. Я правильно говорю, Нуцо?
— Точняк, сто процентов,— не поняв ни черта,
кивнул Нуцо и на всякий случай хмыкнул.-
Фишель Ицкович, огромный, очень красивый, мед-
лительный, еще некоторое время собирался с мысля-
ми. Наконец он тяжело вздохнул и расстегнул вторую
пуговицу на кармане. Костя перевел дух, стараясь
дышать потише, чтобы не спугнуть Фишино решение.
Фиша достал потертый бабий кошелек и долго вы-
уживал из него пять рублей жеваными бумажками.
— А теперь, Фиша, могу тебе сказать: подиктую.
Иди в техкласс, я сейчас приду.
Улыбка расплылась по Фишиному лицу. Он зава-
лил инструмент досками, накинул телогрейку и пото-
284
пал через плац к стоявшему на отшибе голубому ба-
раку — техклассу,
— Дуй на КПП,— скомандовал Костя Нуцо.—
Деньги — Валерке.
Веселый, жизнерадостный Нуцо помчался по бе-
тонке к воротам, унося с собой легкую неотступную
вонь.
Костя пошел учить Фишу.
— «...Лев Силыч Чебукевич, нося девственный
чин колл.ежского регистратора...— медленно дикто-
вал Костя, прохаживаясь перед Фишей, втиснутым в
переднюю парту,— вовсе не думал сделаться когда-
нибудь порядочным человеком...»
Фиша писал, низко опустив голову к тетради. Над
курчавыми его волосами шевелился, не уплывая, лег-
кий дымок, потому что в зубах у Фиши торчала папи-
роса. С куревом у него были странные отношения. Во-
обще Фиша считал курение недопустимым, хотя и не
в такой степени, как вино и женщин, но во время осо-
бо сильных переживаний разрешал себе закурить. За-
нятия русским языком требовали от него большого
напряжения, и смолил он сейчас без перерыва — па-
пироска так и ерзала из одного угла рта в другой. Ку
рил Фиша самые дешевые папиросы «Север».
На стене техкласса висел двигатель внутреннего
сгорания с обнаженными разноцветными внутренно-
стями. За окном на плацу, пригретом весенним полу-
денным солнышком, в подтаявшей лужице дрались
воробьи. «А ведь дембель-то вот он»,— подумал Костя
и, сладко потянувшись, открыл рот зевнуть.
— Евре-ей? — вдруг спросил Фиша.
— Чего? — недозевнув, щелкнул зубами Костя.
Фиша строго смотрел на него своими подслепова-
тыми припухлыми глазами в пушистых ресницах.
— Он — евре-е-ей?
— Кто? — Костя наморщился и заглянул в учеб-
ник, отыскивая сомнительное место.— Лев Силыч?..
Ты что, Ицкович, спятил? — Костя взглянул на об-
ложку сборника.— И где ты ахинею такую выискива-
ешь?.. Это ж для филфаков!
Фиша пожал плечами, вытащил окурок изо рта,
напустил в него слюны и кинул в закрытую форточку.
285
Окурок отскочил от стекла и шлепнулся на раскры-
тую тетрадь, цыкнув на tqj<ct желтоватой слюной.
— Очки надо носить. Глаза посадишь.
•— Разбил.
— А новые заказать — трешку жалко? Ладно, по-
ехали. «...Во дни получения он хаживал в кухмистер-
скую, где за полтину медью обедал не только гастро-
номически, по даже с бешеным восторгом».
— Ты не забыл, что ты должен мне пятьдесят во-
семь рублей? — не поднимая головы от писанины, ти-
хо напомнил Фиша.
Костя шваркнул сборник диктантов об стол, как
разгневанная учительница.
— Еще раз о деньгах — и все!
— Почему ты так волнуешься? Ты не волнуйся.
Ты диктуй мне помедленнее, «...не только гастроно-
мически, но даже с бешеным восторгом».
— «...После такого обеда,— хмуро продолжил
Костя,— ему снились суп со свининой...»
— Не так быстро! — взмолился Фиша.
•— Ладно,— буркнул Костя.— Проверяй ошибки.
Он захлопнул сборник и подошел к окну. Стройбат
был пустой. Почерневшие сугробы вокруг плаца даже
на вид были шершавыми.
Солнце заваливалось за штабной барак, дело к
обеду. А после обеда и покемарить можно, ни одна со-
бака не пристанет. Это тебе не у подполковника Чу-
пахина на Урале. Тот уже с семи утра мучил. Ночь
еще, можно сказать, минус сорок,— а он их на разво-
де по часу держал. Наставлял, как нужно трудиться.
И уши у шапок опускать не разрешал. Правда, и сам,
гад, стоял мерз. Потом оркестр вылазил, и под музы-
ку— на работу. «С места с песней». А до работы три
километра.
А ту-ут?.. За полтора года — одна тревога. И ту
Лысодор сдуру учудил. Прикатил на своем «Запо-
рожце» ночью: «Тревога!» Ну, побежали. До губы до-
бежали и обратно, а Лысодор уже укатил досыпать.
Такая вот армия. Спесифическая, как Райкин скажет.
А политзанятия?.. Тут у руководства одна политика:
не перепились бы в зарплату, не передрались бы, не
подохли...
Раз, проходя мимо, Костя услышал, как старшина
их роты Мороз да Лысодор — дружки закадычные—•
286
горевали, закрывшись в каптерке, выпивали поти-
хоньку. «Какая ж это умная голова придумала,— со-
крушался Лысодор,— создать в Городе неуправляе-
мую часть. Больше тыщи головорезов! В Городе! По-
среди баб, детишек... При Сталине бы...»
А кто их слушать будет? Один майор, другой стар-
шина. Не сообразили после войны, куда податься, вот
и застряли в стройбате. Сиди теперь в каптерке да
начальство втихаря поругивай...
После обеда Костя сразу заснул и очнулся только
к вечеру совершенно трезвым. Помотал головой: не
кружится. Не подташнивает, пакость во рту исчезла.
Ожил.
Костя засел в бытовку и начал сосредоточенно за-
гонять в погон гимнастерки фторопластовую пласти-
ку, чтоб плечи не обвисали. Чего другого, а фторопла-
ста в Городе навалом — нефтекомбинат под боком.
Крупнейший в Европе. Все в этом Городе через наобо-
рот. И нефтекомбинат — чистый яд—чуть не в центр
Города воткнули. Ветерок подует, да и ветерка не на-
до, и при хорошей погоде до Четвертого поселка до-
стает. И дети рахитами рождаются, гражданские са-
ми говорят. Как эта пьеса-то называлась? Про комсо-
мольцев... «Иркутская история»? «Город на заре»?..
Чего-то в этом роде. Город, кстати, не комсомоли-
сты строили, а зеки — обыкновенные, нормальные
зеки.
Костя тыкал белую маслянистую ленту в погон,
лента не лезла. До половины дошла и уперлась. Кос-
тя легонько резанул по напрягшимся швам перочин-
ным ножичком. Ножичек у Кости особый, выпрыгива-
ющий, в брюшину кому засадить — ништяк, навер-
ное... Коля Белошицкий подарил на рождение.
Коля Белошицкий до посадки шофером работал в
городском парке. Раз в день приехал, листья нагру-
зил — и на свалку. А машина без дела не стояла, ра-
ботала. Вот и заработал Коля на ней пять лет. Но Ко-
ля себе цену знал и приговора не испугался: уверен
был, что выйдет «по половинке». Рассказывал, у него
и в лагере полная свобода была. Ни подъема, ни от-
боя. И приехал в зону пересуд. И надо же, узнала Ко-
лю баба-судья, та, что его в Одессе судила. Припом-
нила ему, как он, под следствием, в тюрьме брагу в
287
огнетушителях изготовлял. Так и отсидел Коля пять
лет. От зЬойка до звонка. Правда, после этого на го-
сударство уже ни дня не работал. И здесь, в армии,—
тьфу, в стройбате,— не работает. Числится киномеха-
ником, а так и не найдешь: то в роте ночует, то в ки-
нобудке. то в поселке у бабы... Кино за него молодой
крутит. На вечерних поверках Колю уже и выкликать
перестали.
...Со стен бытовки круглоглазые, стриженные под
довоенный полубокс солдатики учили Костю шить,
штопать, латать и гладить обмундирование, показы-
вали, как надо оборачивать на ночь сапог портянкой
для просушки последней. Раньше Костя недоумевал:
зачем белую портянку на голенище наматывать, оно
же в гуталине? Ан нет, прав был довоенный солдатик:
начищенный сапог не марался. А вот мазь в жестяной
посудине перед их ротой маралась. Поначалу жалова-
лись на нее Буряту (он мазью заведовал): мол, и не
мажется, к сапогу шмотками цепляется, и щетка в
колтун. А Бурят свое талдычил: «Мазя утвержден в
моськовский институт». И все дела.
А как сам Бурят, младший лейтенант Шамшиев,
оказался в армии — одному богу известно. Приперся
он сюда с женой, перекошенной какой-то, с четырьмя
детьми мал мала меньше. За неимением другой жил-
площади Быков поселил его в санчасти. Перед санча-
стью теперь на веревках все семейство сушится: лиф-
чики голубые, трусы Бурята, детское... Хорошо хоть
старших двоих на пятидневку взяли, при нем только
грудной да еще рахит лет двух. В дни получки Бурят
старался носу из санчасти не высовывать: пришибут
ненароком по бухоте. Быков и Лысодор его ни в ко-
пейку не ставят — уж больно не любят недоделанных.
Такой этот Шамшиев поганенький, гимнастерка не
ушита, на морде прыщи, штаны на заднице провиса-
ют, каблуки скособочены, не офицер — недоразу-
мение.
Короче, у всех стариков в роте свой гуталин. А мо-
лодым, как Нуцо, или таким дедам, как Фиша, им
красота без надобности. Фише бы только учиться, а
Нуцо — песни петь. Он их и пел всю дорогу, пока его
на губе не «расстреляли». Теперь редко поет. А вот
кто его персонально стрелял, не рассказывает. Закли-
нило цыгана. Только Фише сказал. А мог бы и Косте
288
сказать, Костя не из трепливых, даже по обкурке.
Контролирует себя. За это мужики и уважают.
За дверью загалдели. Значит, народ с работы воз-
вращается. Сейчас погалдят — и в клуб, на суд... Ко-
стя закончил второй погон и надел готовую гимнас-
терку. Выходить на народ не хотелось. Его и на граж-
данке не особо на люди тянуло — лучше книжечку
почитать, музыку послушать. Кстати, насчет музы-
ки — не потерял ли схему высокочастотного генерато-
ра для подогрева резца? Коллеги из местной студии
презентовали.
Костя пошарил в карманах. Где ж она? Вот. Он
достал из кармана конверт. Нет, не то. Письмо какое-
то. От Таньки?..
Костя с отвращением взглянул на конверт и
вспомнил: когда он спал, молодой с КПП принес пи-
сьмо— Танька привезла. Посомневался: может, вы-
кинуть?.. Вскрыл конверт.
«Здравствуйте, Константин, Костя, ну куда ты ме-
ня вчера послал? Пришел уже поддатый, Евгения с
собой зачем-то притащил. Я вас приняла по-хороше-
му. Я ж не виновата, что Женя ко мне на кухню при-
шел, когда я котлеты жарила. А в прошлый раз ты ме-
ня к нерусскому приревновал, к болгарину, который
в общежитие пельмени принес для реализации...»
— К цыгану, дура,— проворчал Костя, кинув ра-
зорванное письмо в корзину. Нуцо раньше в холоди-
льнике работал — грузчиком.
— Строиться! — раздался за дверью голос коман-
дира первого взвода Артура Брестеля. Когда началь-
ства в роте не было, он был за старшего.— Команди-
ры взводов — в канцелярию! — орал Брестель, подра-
жая капитану Дощинину.
Только когда Дощинин вызывал взводных в канце-
лярию, он им чего-нибудь да говорил там, а Артур
Брестель орал так, для порядка. Брестель не только
говорить не умел, он и понимал-то по-русски плохо.
Нё потому, что эстонец, а потому, что тупой. Год на-
зад вместе с Костей копал землю на комбинате. Нор-
му никто не выполнял, и гонял их Дощинин вечерами
с песнями по плацу до отбоя. А после отбоя без песен
гонял. Брестель был как все: норму не выполнял, во-
дку пил, вместо работы купался. И вдруг Дощинина
осенило: поставил Брестеля командиром отделения.
10. Крещение
289
И на следующий же день картина изменилась. Артур
пахал, как пчелка, и других шугал. Попервости на не-
го пе обратили внимания. Тогда он заложил наиболее
злостных паразитов.
Вечером злостные, в том числе и Костя, до ночи
стучали сапогами по плацу, а потом до утра чистили
картошку. Такая же картина повторилась и на следу-
ющий день. Через неделю., когда Брестель стал млад-
шим сержантом, Женька Богданов и Миша Попов на-
чали думать, как быть. Миша Попов пошел в первую
роту и привел своего друга по наркоте Нифантьева,
комсорга отряда. Вот он и возник — в плавках, слегка
торченый, обкайфовапный, с вафельным полотенцем,
намотанным на кулак. Брестеля вызвали из роты, и
прямо под окнами санчасти Нифантьев его отоварил.
Брестель улетел за штакетник — жена Бурята спешно
задернула занавеску.
На следующий день Брестель, заклеенный пласты-
рем, снова заложил неработающих, а вечером снова
улетел за штакетник. А на третий день Нифантьев
развел руками. Слава богу, Дощинин возвысил Брес-
теля в командиры взвода. Не ихнего, а первого, в дру-
гой даже половине казармы. И что интересно, отноше-
ния с Брестелем и у Женьки, и у Миши Попова, и у
Кости снова наладились.
На двери клуба с утра висело объявление: «Спец-
суд-40. Слушание уголовного дела о самовольном
оставлении части военными, строителями рядовыми
Георгадзе и Соболевым. Явка всех обязательна».
Из их роты ребята. Пошли в увольнение, а пойма-
ли их через неделю в Иркутске. Машину угнали пья-
ные, баб каких-то раздели...
На суд Косте пе хотелось идти. А не идти нельзя:
подошла его очередь выступать общественным обви-
нителем.
У входа в клуб стоял «воронок». Привезли. Костя
почувствовал неприятное дрожание в ногах. Медлен-
но потянул на себя дверь. Клуб был набит до отказа.
Володька Соболев стоял в оркестровой яме, опира-
ясь ffa декоративной плюшевый парапетик, и глядел
в зал. Бритая серая голова его лениво и незаинтересо-
ванно поворачивалась, озирая клуб. Время от време-
290
ни Володька слегка наклонялся вниз и что-то говорил,
наверное, Амирану. Кому ж еще...
Володька сплюнул, плевок лег возле ноги конвой-
ного, тот рявкнул. Володька харкнул еще раз, в сторо-
ну. Костя удивился: не Вовкино поведение. Волнуется,
вот и расплевался для понта.
На сцену солдаты таскали столы: один — для чле-
нов суда, другой — для прокурора, третий — для ад-
воката.
Костя присел сбоку на конец лавки, не со своими.
Брестель вертел башкой — высматривал его по ря-
дам; Костя пригибался от его взгляда.
Из правых кулис вышла шумная группа улыбаю-
щихся людей в форменных черных мундирах.
— Встать! Суд идет! — проорал Бурят. На рукаве
у Бурята была красная повязка дежурного по части.
Толстый, брюхатый прокурор засел за левый стол,
пару раз привстал и наконец утвердился обстоятель-
но. Маленькая легонькая адвокатесса порхнула за
правый стол. И за центральным столом уселись. Все
свои — спёцсуд-40, вот они, голубчики! А еще гово-
рят: стройбат—армия. Какая ж это, на хрен, армия,
если даже судят по-граждански.
Конвойный, стриженый губарь из молодых, ткнул
Володьку, чтобы полностью развернулся к суду, а не
полубоком стоял.
— Маму твою, пэтух комнатный! — громко сказал
Амиран Георгадзе, заступаясь за пеблатного своего
подельника.
Конвойный лениво огрызнулся.
Костя пошарил глазами по рядам: Женьки, слава
богу, нет. У Люсеньки, наверное, после Таньки отсы-
пается, не увидит, как он выступать будет.
Пока главный судья говорил свое, адвокатесса до-
стала из сумочки косметичку, зеркальце оперла о су-
мочку, стала подводить губы.
Костя теребил в руках листок с текстом обвине-
ния, которым пользовались все общественные обвини-
тели для ориентации. Текст Дощинин напечатал на
машинке.
Володьку Соболева пригнали сюда после Кости.
И тоже сунули землю копать на комбинате. У Володь-
ки тогда деньги водились — товарищи по фарцовке из
Мурманска слали,— и он ни с того ни с сего стал вы-
291
ручать Костю, ни разу не отказал. Нравилось емук что
Костя из Москвы, звукооператором работал — цент-
ровой, короче. Или просто от широты души. Потом
Костя и с Амираном познакомился. Амиран — другой
коленкор. Первый кавалер Города. Костя его специа-
льно в бане разглядывал: с виду обыкновенный, уса-*
тый, как все грузины, тело обычное, не волосатое. Но
как только Амиран снял плавки, стало очевидно: ре-
путация эта Георгадзе заслужена, что дополнительно
подтверждало и слово «нахал», выколотое на самой
секретной части тела.
Брюхатый прокурор попросил у суда пять лет для
Амирана, судившегося повторно, и три — для Во-
лодьки.
— Карамычев! — крикнул Брестель.— Где Кара-
мычев?!
— Не ори.— Костя встал, оправил гимнастерку.
— На сцену! — Брестель сегодня за старшего, бо-
ится, как бы оплошки не вышло.
Костя, опустив глаза, поплелся на сцену. Проходя
мимо оркестровой ямы, услышал:
— Привет, Констанц! — Володькин голос.
Костя кивнул и, запнувшись на ступеньках, влез
на сцену. И встал возле кулис, чтоб особо не отсве-
чивать.
Глядя в бумажку, он пробубнил положенное. По-
следнюю фразу: «Прошу строго наказать подсуди-
мых, порочащих честь Советской Армии»,— он про-
бормотал так тихо, что председатель суда заставил
повторить:
— Громче!
Когда Костя спускался со сцены в зал, Амиран
подморгнул ему:
— Здарово, Масква! Я думал, тэбя нэт.
Хрупенькая адвокатесса проверещала, что подсу-
димые молоды, а матери их ждут, она просит суд о
снисхождении и считает три и два достаточными сро-
ками наказания. Личико у адвокатессы было малень-
кое и морщинистое. Садясь на место, она взглянула
на часы и нетерпеливо забарабанила пальчиком по
столу.
В последнем слове Амиран попросил себе лагерь,
а Володька в последний момент решил не портить
биографию и, если можно, то лучше дисбат. Дисбат
292
не судимость. Просто продлили человеку службу. За-
держивается как бы.
Амиран знал, что делал, когда лагерь просил. Хо-
тя сидеть теперь ему в Сибири, а не у себя в Кутаиси,
как в прошлый раз, где он весь срок машины швей-
ные налаживал в женской зоне.
В перерыве подсудимым разрешили покурить пря-
мо здесь, в оркестровой яме. Подошли Сашка Купик,
Миша Попов. Поболтали. Отошли. Володька Соболев
высмотрел Костю и поманил:
— Констанц, выручи денежкой.
Костя набух краснотой, вывернул карманы.
— Нету денег. Понимаешь? Нет.
Володька усмехнулся, сплюнул не по-своему.
Амиран удивленно покачал головой:
— Эх, Масква, Масква... Нэ успел я тебе галаву
разбить.
После перерыва Амирану дали три года лагеря,
а Володьке, как просил, два года дисбата.
У КПП Валерка Бурмистров обнюхивал припозд-
нившихся.
— Зажрать успел!—с радостным удивлением от-
метил Валерка, внюхиваясь в кружку, после того как
туда дыхнул подозреваемый. Не вынимая носа из
кружки, протянул Косте руку.— Кто ж так зажирает,
чучело? Ванилин? Это фуфло, а не зажорка. Скажи,
земель? Ты сам-то чем заедаешь?
— Ну, салол...— поежился Костя.
— Понял? — Валерка поднял указательный па-
лец вверх.— Салол. В КПЗ! — кивнул он караульно-
му. Тот с готовностью потянул «ванильного» за рукав.
— Валер, отпусти,— пробасил «ванильный».
— Не Валер, а товарищ старший сержант. На-
жрались, суки, а зажрать толком не научились.
В КПЗ.
— За «суку» отвечаешь.
— Чего? — Валерка приставил ладонь к уху, по-
дался к «ванильному».— Повтори.
Тот молчал.
Валерка дружески потрепал его по плечу.
— Ссышь, когда страшно, значит, уважаешь.
В КПЗ. Фамилию пометь,— кивнул он подручному.—
Его губа полечит.
293
К воротам подкатил «воронок». Валерка забежал
на КПП — натужно заурчал мотор, ворота разъеха-
лись.
— Повезли ребят на отдых,— сказал Валерка и
спрыгнул с крыльца.— Грузин-то хрен с ним, а наше-
го жалко. Скажи, земель?
— Жалко,— кивнул Костя.— Им дембель в мае.
— Ишь ты.— Валерка сочувственно поцокал.—
Под самый занавес... Следующий! Чья очередь,
бухари?
Валерка занялся следующим пьяным.
— Вторая — все наколотые, я те дам! — базлал
Валерка, не переставая обнюхивать солдата.— Я ж в
Красноярск за ними ездил. В «Рсшеты». Привез. Бы-
ков пасть открыл, когда их увидел. Сто рыл — и все
разрисованы. Струной колют, рисунок чистый. Я себе
на дембель тоже наколочку сбацаю, маленькую.
К воротам подошел Бурят. Фуражка у него, как
обычно, была натянута глубоко — уши оттопырива-
лись.
— Здравия желаю, товарищ лейтенант! — козыр-
нул Валерка, повысив Бурята на одну звездочку.—
Запцсочки подпишите об арестовании.
— Сколько? — спросил Бурят, вытаскивая из кар-
мана ручку, не ручку даже, а стержень шариковый.
Все не как у людей.
— Пока трое,— пожал плечами Валерка.— Четы-
ре подпишите на Всякий случай.
— Давай,— важно сказал Бурят.— По сколько
суток?
— По десять, как обычно. Иормалёк.
— Завтра воскресенье, комиссия из дивизии бу-
дет,— строго сказал Бурят.— Утром КПП мыть, пола,
матраса вытрухать... Я проверю.
— Вас понял,— козырнул Валерка.— Вытрухнем,
как нечего делать.
Бурят потоптался еще немного для порядка и
ушел домой, в санчасть.
Валерка положил тяжелую руку Косте на плечо.
— Пойдем, земеля, осетринки покушаем. Погоди,
забыл, тебя ж Лысодор в штабу ждет. Еврея тоже.
Документы получать. Потом не чухайся, прямо сюда.
— А не надо воровать,— стоя у дверей штаба, по-
домашнему увещевал майор Лысодор старшину сроч-
294
ной службы Рехта.— Чего ж теперь рыпаешься?
Сколько ты задолжал стране и государству?
— Триста восемьдесят,— ковыряя землю хромо-
вым офицерским сапогом, промямлил Рехт.
— Ну вот. А туда же — домой собрался,— развел
руками Лысодор.— Ты сперва с казной рассчитай-
ся... На земле поработай, покопай. На земле рублей
шестьдесят в месяц заработаешь. Глядишь, к Новому
году и рассчитаешься. А ты как думал?.. Не надо во-
ровать. Сними-ка ремешочек!
Красавец Рехт расстегнул ремень и протянул Лы-
содору.
— Ишь как ты пряжечку изогнул, по моде.— Лы-
содор почти без усилия разогнул пряжку в положен-
ное уставное состояние и вернул ремень Рехту.— Еще
раз увижу — на губу... Понятно говорю?
— Так точно! — отчеканил Рехт.
— Ну, золотая рота,— Лысодор обернулся к при-
тихшим на всякий случай дембелям,— заходи в штаб
по одному. Прощеваться будем. Ицкович первый.
И Лысодор вступил в темное нутро штаба. Фиша
пошел за ним.
Костя оправил гимнастерку, проверил указатель-
ным пальцем звезду — па месте ли пилотка.
— Костя, я тебя очень прошу! — Рехт ухватил Ко-
стю за рукав.— Выручай! — Он запоздало сунул ру-
ку, здороваясь.
Костя принял в сторону, хотел было удержать ру-
ку в кармане, но рука сама собой вытянулась наружу
и вяло пожала руку бывшего Костиного мучителя.
Когда старшина Егор Остапыч Мороз был в отпуске,
их четвертой ротой месяц командовал старшина сроч-
ной службы Рехт. Костю он тиранил за то, что моск-
вич. Месяц не вылезал Костя с полов и через ночь чи-
стил на кухне картошку.
Рехт — отдать ему должное — сейчас покраснел.
К штабу подошел Валерка.
— Записок не хватило, бухих полно.
— Запиши на себя пяток простыней, а?..— каню-
чил Рехт.— Будь другом! Ведь на полгода тормоз-
нут... Запиши, а?..
Валерка ковырялся в зубах, ожидая, что скажет
Костя. Костя медленно достал пачку «Опала», вытя-
295
нул сигарету, протянул пачку Валерке, тот, хоть и не
курил, взял сигарету. Затем Костя аккуратненько
оправил пачку и не спеша уложил ее в карман. Рехту
не предложил, хотя Рехт курил.
— Ну, три простынки...
— Ты человеческий язык понимаешь, да? — полу-
вопросительно-полуутвердительно ласково спросил
Костя, снял несуществующую табачинку с языка и
долго се рассматривал.
Рехт уважительно ждал, пока Костя разберется с
табачинкой.
— Ты сам-то откуда? — спросил Костя, вытирая
пальцы.— Из немцев?
Рехт закивал расчесанной на пробор головой.
— А великий русский язык понимаешь?..
Рехт заволновался, побледнел...
— Я же тебе, Рехт, говорил неоднократно, чтобы
ты шел. Ты ходить умеешь?.. Куда?
Костя сложил ладонь трубочкой и, приставив ее к
уху старшины, шепнул ему что-то.
— Падла,— сквозь зубы процедил Рехт.
— А ты чем недоволен, в натуре? — Валерка Бур-
мистров шагнул к ним, не переставая ковыряться в
зубах.
Рехт зашагал прочь по бетонке.
— Кусок паскудный! — вдогонку ему крикнул Ва-
лерка.— Чеши репу—и скачками! Слышь, земеля,—
Валерка уже перескочил на другую тему,— ты мне
значок техникумовский на дембель не достанешь? По-
плавок? Организуй, земель! Бутылка. Ну, две. Спир-
тяги.
— Спрошу,— с достоинством кивнул Костя. Как
равный равному.— Куда ты их вешать-то будешь?
Валерка с трудом нагнул голову— мешал жирный
подбородок—и стал осматривать свою необъятную
грудь. Места для будущего значка и правда не было,
все занято: «Воин-спортсмен», «Первый класс», «Ма-
стер спорта», «Отличник Советской Армии», комсо-
мольский значок на пластмассовой подкладке, «Удар-
ник коммунистического труда».
— Спрошу,— еще раз пообещал Костя.— Как у
тебя с собранием, приняли?
— Приняли! — Жирная Валеркина морда рас-
плылась в улыбке.— По уставу гоняли — я те дам!
296
Потом по политике. А я газет год не читал, сам зна-
ешь, некогда. Короче, приняли.— Валерка подержал
на лице улыбку, потом посерьезнел.— Ну, вообще в
партию вступить сложно. Кроме меня, одного только
приняли.
— Карамычев! — крикнул Фиша, выходя из две-
рей штаба.— Костя! Заходи!
Костя вошел в штаб. Фиша догнал его в коридоре
и сунул четвертной.
— Ты мне будешь должен восемьдесят три рубля!
Костя ошалело уставился на него.
— Иди, чего встал?
Лысодор сидел за столом без фуражки. Костя во-
шел и почтительно встал у двери.
— Ну,-все закончили?
Костя кивнул. Лысодор хитро прищурился.
— А бабий?.. Бабий-то гальюн забыли.
— Вы не говорили,— оторопел Костя.
— Сейчас говорю,— посерьезнел Лысодор.—
Еврея предупредил, тебе говорю и цыгану скажу.
Надо доделать. Там дел-то на копейку. Когда отбы-
ваешь?
— Послезавтра хотим.
— Ну вот, ночью и сделаете. Подойди поближе.
Лысодор открыл сейф, вытянул из нутра толстый
пакет. У Кости пересохло во рту. Лысодор про себя
прочел фамилию на конверте.
— Не твой. Вот этот твой. Ка-ра-мы-чев. Констан-
тин Михайлович.
Лысодор встал, надел фуражку.
— Ну так, Константин Михайлович. Держи!—Он
протянул Косте пакет.— С окончанием действитель-
ной службы тебя, Карамычев! Родителям передавай
привет от командования. Службой твоей довольны.
— Служу Советскому Союзу!—отчеканил Костя,
тыкаясь пальцами в висок.
Он развернулся, шагнул к двери и замер: «А чет-
вертак?»
Лысодор сидел раскрасневшийся, теребил бумаж-
ки. Левый ящик письменного стола был слегка вы-
двинут.
— Чего забыл? — не поднимая головы спросил
Лысодор.
297
— Тут вот...— Костя подался к столу, пихнул де-
ньги в ящик.
Лысодор на весу расправил четвертак.
— Разменять, что ль?
— Да-а-а,— проблеял Костя.
3
Костя чихнул. Еще раз, еще... И проснулся. Прочи-
щенный чихом нос сразу учуял знакомый запах. План
шабят! Анашку! Костя сел на койке, его слегка качну-
ло. Посмотрел время — часов не было. След белый
был, а часы — ёк.
— Сияли,— пробормотал Костя, озираясь вокруг.
Вора видно не было. Был запах, запах хорошего ломо-
вого плана. Дурь чистой воды.
Костя встал, поплевал на ладони — провел по
гимнастерке и бриджам: липнет к хэбэ всякая парша,*
матрац драный, надо у молодых поменять. Потом*
опомнился: какой матрац? Завтра домой!
Что-то уж очень скоро напился он у Валерки на
КПП. Программу «Время» хорошо помнит, «Братья
Карамазовы» уже пошли затуманенные, а конец и во-
все смазался. Где цыгане начали петь, плясать. Толь-
ко вот почему там цыгане? У Достоевского евреи Ми-
те Карамазову играли перед арестом. Это Костя по-
мнил точно. Еще удивлялся, когда читал...
Казарма храпела.
Запах плана шел из Богданова угла, пробиваясь
сквозь казарменную вонь. А перешибить ее нелегко:
две с лишним сотни сапог и, соответственно, портянок.
Костя достал сигарету и долго прикуривал в на-
дежде, что Женька заметит.
И тот заметил, свистнул тихонько:
— Ко-отик!..
Плановые были в сборе. Женька, Миша Попов,
Коля Белошицкий, Эдик Штайц и незнакомый парень
в накинутом бушлате. Надвинутая фуражка закрыва-
ла его лицо. Парень сидел возле Женьки. На тумбоч-
ке в консервной банке горела свечка.
— Сколько времени, Котик? — улыбнулся Жень-
ка и протянул Косте часы.— Снимать надо на ночь.
Не дома. Когда отвальную?
298
— Перед поездом.— Костя застегнул часы.
— Ты фосфор-то стери с циферблата,— посовето-
вал Коля Белошицкий.— Вредно для здоровья.
— Богдан,— простонал Миша Попов,— не му-
рыжь, кайф проходит.
— Садись, Москва.— Эдик Штайц подвинулся.
Женька нацепил на хрупкий кончик стеклянного
челима новый косяк, подлил в челим вина из кружки,
стал раскуривать.
— Ты от Танюшки как добрался? — с подсвистом
спросил он Костю.
— Марик Мильготин подвез.
— От какой Танюшки? — проворковал парень в
фуражке. Знакомым женским голосом.
— Люся? — Костя смешался.— Вы? •
— На, дембель! — Женька протянул ему раскоче-
гаренный челим.— На посошок. Все сделали?
Костя осторожно потянул в себя замечательный
дым. Челим уютно забулькал.
— Почти. К утру кончим — и отвал.
— А нас до майских, наверное, не выпустят. Ты
адрес мой не потерял питерский?
Костя проверил в записной книжке: на месте.
— Колесико не желаешь? — Коля Белошицкий
достал из кармана таблетку.
Костя помотал головой.
— По люксу пойдет.
— Дай! — рыппулся за таблеткой Эдик Штайц.
— Тебе звездюлей надо, а не колесико! — мрачно
изрек Миша Попов. Миша уже неделю дулся на Эди-
ка: послал его к знакомой аптекарше за каликами,
а Эдик не тех таблеток накупил, нажрался и полдня
стройбату покоя не давал — бегал ото всех в одном
сапоге, а в другом, орал, змея.
— Тсс! — прошипел вдруг Коля Белошицкий, на-
стороженно поднимая кверху вислый нос.— Показа-
лось?..
— Менты на зоне,— вяло пошутил Миша Попов.
— Вя-язы,— гнусаво подыграл ему Эдик, приста-
вив к шее два пальца.
На всякий случай Женька вырвал челим у Кости
и спрятал в тумбочку, аккуратно спрятал, так, чтобы
с носика не свалился недокуренный баш. Женька за-
мер, жестом приказав не шевелиться. Стало слышно,
299
как бьется в банке со свечой не вовремя ожившая тя-
желая муха.
— Проехали,— буркнул Миша Попов.
Женька полез в тумбочку. Протянул Мише челим.
Миша затянулся и закрыл глаза. Курнул еще раз и с
полуоткрытым ртом отвел руку с челимом в сторо-
ну — следующему.
— Ништяк,— сказал сидевший напротив Миши
Эдик Штайц.— Заторчал. *
Женька тем временем высвободил челим из вялой
Мишиной руки, обтер сосочек и протянул Люсеньке.
— Богдан,— из сонного омрачения возник голос
Миши Попова,— ты новье будешь брать на дембель?
Он так вяло и незаинтересованно это спросил, что
Женька не ответил.
— Покажи, как надо! — переживал Эдик Штайц,
видя, что Люсенька неумело, с опаской берется за че-
лим.— Людмила Анатольевна, вы не взатяжку, вы с
подсосом, не сильно... Богдан, покажи толком!..
Люсенька запыхтела чрезмерно, челим заклоко-
тал.
— Дам в лоб — козла родишь,— с закрытыми
глазами пригрозил неведомому противнику Миша
Попов.
— Та-ащится! — радостно отметил Эдик
Штайц.— Готов Мишель. Конопелька-то наша, тутош-
няя. А то фуфло, фуфло...
В данном редком случае Эдик Штайц был прав.
В настоящий момент курили его анашу, его изготов-
ления, а главное— его замысла.
Минувшим летом весь отряд по воскресеньям вме-
сто выходных стали вдруг вывозить на поля собирать
картошку. Как пионеров. Только возили почему-то в
зековозах — длинных машинах с высокими бортами,
внутри лавки поперек, а над головой решетки, даже
не встать. Хорошо хоть без охраны. Картошечку соби-
рали соответственно. И себе, и Городу, и кому там
еще... Коля Белошицкий сразу надумал, как мимо де-
ла проплыть. Шел по гряде, ботву обрывал, возле
грядки складывал, а напарник следом бежал и черен-
ком лопаты грядки ворошил. Картошечку не трогали,
упаси бог. Картошечку на зиму оставляли зимовать.
А офицерье в машинах сидит, не смотрит. Тем более
холодно — снежок уж начал капать. Неуютно. План
300
считали по грядкам, не по картошке, и получилось,
что в отделении Богдана перевыполнение. А собирали
только Фиша с Нуцо. Всерьез ковырялись. Ну им про-
стительно— народ деревенский.
Тогда-то Эдик Штайц и обнаружил, что здесь ко-
нопли завалйсь. Правда, по колено только, но сойдет
в армейских условиях. Начался лихорадочный сбор.
Потом Эдик пробил коноплю, пыльцу замацовал —
анашка получилась первый сорт. Только вкуриться
нужно — с первых разов не пробирает. А потом бла-
годать: с табачком растер, косячок набил— и торчи!..
— Богдан,— уплывающим голосом пробормотал
Миша Попов,— пихни колючего... <
Женька не реагировал. Он пристроился в самом
углу, приняв Люсеньку под крыло, тихонечко ее пола-
пывал. Костя сидел напротив, ему стало совсем хоро-
шо и хотелось, как всегда под кайфом, посмеяться и
еще — стихи посочинять. Свечка разгорелась вовсю,
коптящий язычок пламени вырос из консервной банки
и метался перед оконным стеклом...
«Шарашится по роте свет' голубой и таинствен-
ный...— сочинял Костя, спрятав лицо в ладони.—
Шарашится по роте свет голубой и таинственный...
И я не совсем уверен, что я у тебя единственный...»
— Богда-ан! — угрожающе прорычал Миша По-
пов.
Женька отлип от Люсеньки.
— Чего тебе?
— Пихни колючего...
— Завязывай, Мишель, понял? Сказал — нет,
значит—нет.— И снова приобнял библиотекаршу.
Миша Попов последнее время ходил не в себе. Он
вообще курил мало, он на игле сидел. А в последнее
время сломалась колючка — деньги у Миши кончи-
лись. На бесптичье он даже выпаривал какие-то кап-
ли, разводил водой и ширялся. Доширялся — вены
ушли. И на руках и на ногах, все напрочь зарубцова-
но. Женька сам не ширялся, но щирятель был знаме-
нитый, к нему из полка даже приезжали. Он Мишу и
колол. А недавно сказал: «Все, некуда».
Мишаня в слезы: как некуда, давай в шею! Жень-
ка орать: «Ты на всю оставшуюся жизнь кайф ломо-
вой словишь, а мне за тебя вязы!»
301
От скрипа коек проснулся Старый. То лежал,
смотрел на них, но спал, а сейчас зашевелился — раз-
будили.
Костя протянул ему челим, Старый принял его в
мозолистую корявую руку. Ни у кого в роте таких
граблей не было, как у Старого. Отпустил бы его ка-
питан Дощинин на волю, чего он к нему пристал?..
— Хочешь, я с Лысодором поговорю за тебя? —
спросил Костя.
— При чем Лысодор, он без кэпа не решает,— от-
ветил Старый и вернул Косте челим.— Не хочу. А До-
щинин не отпустит.
Он достал обычную папиросу и, видимо с отчая-
ния, так сильно дунул в нее, что выдул весь табак на
Эдика Штайца.
— Констанц, оставь мне бушлат,— попросил Ста-
рый.— Тебе зачем?..
— О чем говорить! — кивнул Костя.— Заметано.
Костя вдруг осознал, что дембель завтра, вот он,
рядом. И даже покрылся испариной. И встал.
— Чего ты? — спросил Женька.
— Пойду помогу, ребята возятся. Фишка с Нуцо...
— Сиди! — Женька за ремень потянул его вниз.—
Только кайф сломаешь. Сиди.
Люсенька закемарпла. Женька подсунул ей под
голову свою подушку и надвинул фуражку, чтоб ска-
чущий язычок пламени не мешал глазам.
Потом Женька встал посреди прохода и обеими
руками шлепнул по двум верхним койкам. Койки за-
скрипели, отозвались не по-русски.
— Не надо, Жень...— вяло запротестовал Костя.
Но Богдан уже сдернул с верхних коек одеяла.
— Егорка, Максимка!..
Сверху свесились ноги в подштанниках, и на пол
спрыгнул сначала крепенький Егорка, а затем не-
складный, многоступенчатый полугрузин Максимка.
Оба чего-то бормотали, каждый по-своему.
— Подъем, подъем! — повторял Женька, похло-
пывая их по плечам.— Задача: одеться по-быстро-
му— ив сортир. Там Ицкович и Нуцо, скажут, что
делать. Вопросы? Нет вопросов. Одеться — двадцать
секунд.
Егорка и Максимка стали невесело одеваться.
302
— Не здесь, не здесь.— Женька вытолкал их на
проход.
— Торчит! — Коля Белошицкий тронул Женьку,
показывая на Люсеньку.— Людмила Анатольевна!
— А-а...— донеслось из Люсеньки.
— Насосалась, кеша кожаная...— проскрипел
Миша Попов — Слышь, Богдан, гадом быть, куруха
под окнами шарится, ктой-то ползает.
— Ты давай, давай! — отмахнулся от Миши Же-
нька, но на всякий случай прислушался. Было тихо.
— Же-еня-я...— прошептала Люсенька.
— Что с тобой? Плохо?
— Тошнит...
— Сукой быть, ктой-то ползает под окнами,— бух-
тел свое Миша Попов.
— Мам-ма...— простонала Люсенька.— Тошнит.
— Вкось пошло,— улыбнулся Эдик Штайц.— Точ-
няк — блевать будет!
— Давай ее на улицу,— предложил не заснувший
еще Старый.— На свежачок...
— Не надо...— стонала Люсенька.— Ма-ма.
Костя протянул руку к окну — из щели бил холод-
ный воздух.
— Сюда ее, к стеклу, похолодней,— сказал он.
Люсеньку передвинули к окну, она уперлась ли-
цом в холодное стекло.
— Ага-а...— простонала она.— Лучше-е...
— Блевать будет,— уверенно повторил Эдик.—•
Сейчас бу...
Эдик не успел договорить — Люсеньку вырвало
прямо на стекло. Консервная банка упала на пол,
свечка потухла. Люсенька привалилась щекой к окну,
тихонько постанывая.
— Тряпку! — рявкнул Женька, оборачиваясь к
проходу, где мялись уже почти одетые Егорка с Мак-
симкой.
— Богдан! — прорычал из дальнего угла разбу-
женный Сашка Куник, кузнец из второго взвода.—
Кончай базар!
— Отдыхай лежи! — заорал Женька, ощерив-
шись.
В ответ в углу звякнули пружины—Куник встал.
— Я кому сказал: тряпку! — Женька хлопнул в
ладоши.
303
За окном мелькнула тень, зазвенело разбитое
стекло, голова Люсеньки дернулась.
— А-а! — закричала Люсенька, хватаясь за лицо
руками.
— Свет! — взвыл Женька на всю роту.— Бабай!
Свет!
— Рота, подъем! — спросонья заорал Бабай и
врубил в казарме общий свет.
4
Разбили еще одно окно с другой стороны.
Костя судорожно рванулся к выходу.
— Куда?! На место! — Куник затолкал Костю в
проем между койками.— Подъе-ем!—орал он тонким
голосом, не соответствующим его огромному волоса-
тому тулову.— Подъем!..
Женька сидел на корточках возле Люсеньки, пы-
таясь отодрать ее руки от лица. Сквозь пальцы выса-
чивалась кровь и текла в рукава голубой кофточки.
— Люся, Люся,— задыхаясь, бормотал Женька.—
Ну, чего ты?.. Покажи, Люсенька... Давай посмот-
рим...
Стекла лупили с разных сторон. Пряжки ремней,
проламывая стекло, заныривали в казарму и исчеза-
ли, вытянутые наружу. Сразу стало холодно. В разби-
тые окна летели камни и мат.
Бабай метался по роте.
— Чего такое?! — Он подскочил к сидящему на
корточках Богдану, вцепился еМу в плечи.— Чего?!
— Воды! — отшвырнул его Женька.— Воды дай!
Куник вырвал у Бабая из рук графин, выскочил из
казармы. И тут же ворвался назад, держась рукой за
окровавленное плечо. В другой руке было зажато от-
битое горлышко графина.
— Вторая рота. Блатные, падла! — рычал он.1—
Подъе-ем!.. Без гимнастерок!..
Холодная казарма гудела. Молодые соскакивали с
верхних коек и испуганно одевались, не попадая в
штанины. Двоих залежавшихся Куник сдернул
сверху.
— Кому не касается?!—орал он.— Без. гимнасте-
рок! Строиться! Ремни на руку, вот так!
304 i
— Рота, отставить! — всунулся было Брестель,
вспомнив, что он за начальника.
—1 Кыш, шушера! — Куник дал ему по башке.
— Дай ему, чтоб на гудок сел! — посоветовал
прояснившийся уже Миша Попов, стаскивая узкую
перешитую гимнастерку.— Раскомандовалась, сучка
квелая...
— Холодно без хэбэ! — вякнул кто-то.
— Кому холодно?! — обернулся Куник.— Строить-
ся! Рота, слушай мою команду!..
За окнами с одной стороны казармы стало свет-
ло— врубили прожектора на плацу.
— Уходят! — радостно заорал молодой у окна.
Костя рыпнулся в ту сторону: действительно, сол-
даты бежали через плац к казарме второй роты.
— Суки! — ощерился Куник, подстегнутый нео-
жиданным отступлением нападавших.— Четвертая
рота! За мной!.. На плац!.. Без гимнастерок!..
Выход из казармы был узкий, в одну половину
двери, и четвертая рота вытекала наружу в холодную
ночь тонким ручьем. Оба пожарных щита у выхода
уже разобрали, и сейчас со щитов срывали красные
конусные ведра.
Раздетая, в белых нижних рубахах, четвертая рота
скучилась у торца казармы. Впереди был пустой, яр-
ко освещенный бетонный плац, подернутый ночным
ледком.
— Одесса! — заорал Куник.— Музыку вруби!
Коля Белошицкий вылущился из гудящей толпы и
послушно полез по железной лестнице в кинорубку.
Над плацем женскими голосами громко заныли
битлы.
Белошицкий вниз не спустился.
Костя лихорадочно перебирал глазами роту: «Фи-
ши нет, Нуцо нет, а я, я-то почему здесь? Зачем я-то?
Мне ж домой!..» От зависти к отсутствующим Фише-
лю и Нуцо у Кости схватило живот. Он чувствовал,
будет что-то страшное, о чем пока не знает этот воло-
сатый идиот Куник, и Богдан не знает, и Миша По-
пов; Только он, Костя знает...
«Господи,— стонал про себя Костя,— ведь
убьют!..» Анашовый кайф вылетел из его головы, как
и не было. Просто так убьют, ни за что! Пусть они все
305
передохнут: Куник, Богдан, Миша... Он же к ним не
относится. Он же не с ними. Он другой! Другой!
А Нуцо был здесь. Выпорхнул из-под руки Куника
и стал с ним рядом. С лопатой, к которой прилипла
уже знакомая вонь. Оп преданно смотрел на Куника,
ожидая команды, и улыбался.
— Фиша где?! — крикнул ему Костя.— Где
Фишка?
— За губарями побег! Валерка велел! — блеснул
зубами цыган.
Поджарый Нуцо нетерпеливо прыгал вокруг
огромного Куника.
— Пошли! Чего стоим? Холодно!
«Тебя кто звал?! — стонал про себя Костя.— У те-
бя ж отмазка!..»
Темная казарма второй роты молчала вдалеке, ка-
залась спящей.
Над трибуной полоскался распяленный кумачо-
вый транспарант: «Военный строитель! В совершенст-
ве овладей своей специальностью!»
— За мно-ой! — Куник крутанул в воздухе рем-
нем, как шашкой, и двинул по диагонали плаца ко
второй роте.
Четвертая с лопатами, ломами наперевес, галдя,
повалила за ним, пряжки мотались у колен.
— Не бзди, мужики! —орал Куник.— Главное,
всей хеврой навалиться!..
— «О-о гё-ол!..» — стонали битлы.
Куник был уже на середине плаца, как вдруг пе-
ред ним оказался Бурят. В расстегнутом кителе, в та-
почках, Бурят судорожно цеплял на рукав красную
повязку дежурного.
— Четвертая рота! Стой на место!.. Приставить
ногу к ноге! — Запутавшись в командах; он обеими
руками уперся в волосатую Сашкину грудь.
— Мочи Бурята!
Куник, не останавливаясь, отгрсб Бурята в сторо-
ну. Тот- отлетел, упал, заверещал что-то, фуражка по-
катилась по плацу. Рота валила дальше, за Купиком.
До казармы оставалось шагов тридцать. Вторая
по-прежнему молчала. Становилось жутко. Видимо,
это почувствовал и Куник.
— Не бзди, мужики! — снова заорал он и орал
306
так через каждые два-три шага. Шел и орал, уже да-
же не оборачиваясь.
Женька со Старым рванулись вперед, чтобы не от-
стать от Куника. Костя тоже пошел быстрее. Женька
держал в руке арматурину. Старый просто шел, шел
без всего, ссутулившись по-пожилому, похожий на ма-
стерового из фильма «Мать».
— Сука старая!..— всхлипнул Костя, со злобой
взглянув на свой кулак, в котором был зажат ремень.
Опять Старый умнее всех, ремня нет— вины меньше.
Женька хлопнул его по плечу:
— Чего ты?
— Ничего! — огрызнулся Костя, стряхивая его
РУку.
— Не бзди, мужики! — взвился под небеса истош-
ный визг Куника.
И вдруг черная молчавшая казарма ожила.
Вспыхнул свет. Кроме центральных дверей, распахну-
лись боковые. И из трех прорех казармы живыми по-
токами наружу ломанулись блатные.
— Глуши козлов!..
— Сучье позорное!..
— Петушня помойная!..
— Мочи пидоров!..
Костя увидел, как Куник, метнувшись навстречу
толпе, сливающейся из трех потоков, увернулся от
вспорхнувшего над его головой лома, и пряжкой, под
свист ремня, уложил одного и, обернувшись, ловко до-
стал первого — с ломом, уже врывавшегося в чужую
толпу. Оба подмялись, звякнул о бетон покатившийся
лом.
— Минус два! — провопил Куник.— Мочи блат-
ных!
Драка расползлась по всему плацу.
Костя сразу подался в тень трибуны, в темноту.
Но и там было страшно: вдруг увидят, что прячется.
На мягких ногах вбежал он в тусующуюся толпу
одетых и своих. Он крутил вокруг себя ремнем, наде-
ясь, что никто к нему не сунется. Его и не трогали.
И он снова отбежал в тень—передохнуть. Нуцо уде-
лал одетого — лопатой плашмя.
— Луди вторую роту! — кричал Женька, молотя
арматуриной по одетым.
Костя готов уже был в очередной раз ворваться в
307
драку, уже ногу приготовил для толчка, но от удара в
спину у него перехватило дух.
— A-а!.. Ма-а-ма!..
Пока он несколько мгновений ждал смерти, стри-
женый блатной, отоваривший его пряжкой, побежал
дальше. Костя понял, что не умрет. За блатным рып-
нулся Нуцо, оторванный от своей драки Костиным во-
плем, и успел приголубить блатного лопатой. Из про-
рвавшейся на спине гимнастерки потекла чернота.
Блатной сунул руку за спину, глянул на нее и по-
мчался к своей казарме.
— Назад! — прокричал кто-то.
Неожиданно, как по команде, вторая рота стала
отступать к своей казарме. Четвертая навалилась на
отступающих.
— Козлы!—орал Куник. Ремень он потерял и
дрался просто так.
— Еще! — взвыл рядом с Костей Миша Попов,
тыча рукой в сторону.
Костя повернул голову, и у него онемели ноги: от
техкласса отвалилась толпа одетых и молча неслась
на них.
И отступившая было вторая рота мощно подалась
вперед. Блатные схитрили.
Полуодетые, придавленные сбоку свежими сила-
ми, заметались по плацу и, сбивая друг друга с ног,
бросились домой, к казарме.
— Куда? —заорал Куник.— Сто-ой! Стой, пад-
лы!..
Костя бежал с зажмуренными глазами. Когда он
открыл их, увидел, что в метре от него впереди несут-
ся трое одетых с палками. Он обхватил голову руками
и, споткнувшись, кубарем покатился по шершавому
плацу. Одетый рыпнулся к нему с палкой над головой,
— Не бе-ей!..— Голос Кости сорвался на писк.
— Удав гнутый! — Одетый с размаху ударил его
сапогом. Хотел по голове, но Костя увернулся — по-
пал по ребрам. И побежал дальше.
Костя потерял дыхание и на четвереньках уполз с
плаца в темноту. И заткнувшись за голый куст ака-
ции, скрючился. Потом с трудом вытолкнул накопив-
шийся воздух и понял, что опять жив.
Вдалеке из толпы одетых с криками вырывались
полуодетые и неслись к казарме.
308
Блатные лупили оставшихся.
Вдруг Костя услышал возле своей головы цокот
подков, не стройбатовский цокот... Задевая за куст,
на плац выносились губари, на бегу сдергивая с плеч
автоматы. Раздались короткие очереди.
Костя впервые в жизни слышал настоящие вы-
стрелы.
Драка замерла.
— Губа-а!..
Все бросились врассыпную. Одетые бежали рядом
с раздетыми. Куник с Мишей Поповым ломанулись во
вторую. А одетые мчались к ним — в четвертую.
Костя отжался от земли, встал в несколько прие-
мов, не сразу, и, наращивая ход, заковылял в роту.
На плацу, помыкивая, корячились подбитые.
Трещали выстрелы.
Костя споткнулся, налетев на сугроб, и, падая,
увидел, как здоровенный длинный губарь с отклячен-
ной задницей гнал перед собой раздетого с лопатой и
палил вверх из автомата.
И вдруг раздетый споткнулся, выронил лопату,
свет прожектора мазнул его по лицу, блеснули зубы.
Нуцо!
Губарь с разбегу налетел на него и стволом авто“
мата ударил в спину.
Нуцо обернулся и застыл, уставившись на губаря.
— Ты-ы? — прошипел он.— Ты-ы?..
И пошел на губаря. Тот молча пятился, по-дурац-
ки загораживаясь автоматом.
— Ты! — выкрикнул Нуцо.— Ты!
— Не подходи! — Губарь перехватил автомат.—
Убью!
Сзади над губарем взметнулась лопата. Костя ви-
дел ее блестящий штык. Губарь выронил автомат и
схватился за голову. Вскрик был совсем слабый, за-
глушенный остатками драки и редкими выстрелами.
Нуцо шагнул в темноту, куда упал губарь, и мед-
ленно выпятился обратно.
— Беги!—громко прошипел он, выдергивая у
солдата из рук лолату.— Беги, Фиша!
...Деревянные подпорки-столбики у крыльца чет-
вертой роты были выломаны. Женька Богданов мете-
лил одетых, но те, не обращая внимания на удары, ту-
по перлись в чужую роту.
309
Костя долго втискивался в узкий дверной проем,
заклиненный ошалелой толпой. Кто-то оттолкнул его,
он снова втиснулся, его ударили по лицу, он не ощу-
тил боли. Добравшись наконец до своей койки, Костя
упал па нее и с головой накрылся одеялом.
Сколько времени прошло, он не знал. Кто-то сдер-
нул с него одеяло. Костя открыл глаза. Быков.
За разбитыми окнами тормознул «Запорожец»
Лысодора. Лысодор, в шапке пирожком, в коричневом
драповом пальто, быстро вошел в казарму.
— Здравствуй, Петр Мироныч! — протянул ему
руку Быков.— Кто дежурным сегодня?
— Буря... Младший лейтенант Шамшиев.
В роту влетел старшина Мороз. Дернул руку к ко-
зырьку.
— Твои, Остапыч,— с удовлетворением сказал
Быков.— Молодцы ребятки... Ты им сухари суши,
Остапыч.
Рота молча стояла посреди казармы.
— Зачем сухари? — тупо спросил Миша Попов,
пробуя зубы на шаткость.
— Кто спрашивает? — обернулся к нему Быков.—
Ты, плановой? Ты зубки-то не трогай, опусти ручки...
Вот так. Сухари зачем?.. Гры-ызть... Сидеть и грызть.
Вот так вот, ребятки-козлятки. А вы как думали? Не
хочете по-человечески служить,— голос Быкова на-
брал полную силу,— башкой к параше!.. Всю роту!
На строгач! Роба в полоску!
— Вторая начала! — выкрикнул кто-то из строя.
— Кто сказал — шаг вперед!
Никто не вышел.
— Чего творят, падлы! — покачал головой Мо-
роз.— Два года и тех не могут... А я, мы все вот...—
Мороз поочередно ткнул пальцем в Быкова, в Лысо-
дора и в себя.— И до войны, и войну всю, и после.',
— Ты им, Остапыч, больше не объясняй,— пере-
ходя на обычный свой красивый спокойный голос,
сказал Быков.— Объяснять своим можно. А это..,
Р-рота-а! Слушай мою команду! Становись! Рав-
няйсь! Смирно! Старшина! Поверку полным списком.
Из роты никому. Где Дощинин?
— Поехали за ним.
310
•— А кто «подъем» крикнул?
Строй молчал, но все как один невольно посмотре-
ли на Бабая. Бабай вобрал башку в плечи и замер,
вздрагивая, как от холода.
Брестель с журналом в руках начал поверку.
— Кто дневалил? — спросил Быков.
— Это не я...— заплакал Бабай.
— Что такое? — брезгливо поморщился Быков.—
Старшина!
Мороз подался вперед.
— Да он сейчас... Пройдет у него... Керимов! —
рявкнул он на Бабая.— Чего раньше времени?! Тебя
никто ничего, а ты в сопли?!
— Кричал...— залопотал Бабай.— Я не знал...
Мне кричали — я кричал.
— На КПП,— бросил Быков.— Потом будем раз-
бираться. Начинайте поверку.
В роту вбежал Валерка Бурмистров со своими.
Бабай стоял последним в строю. Слезы текли по
его небритым щекам.
Мороз хлопнул по спине Валерку.
— Это... Сведи его, что ль. Чего он здесь? Тулуп
дай. А то замерзнет. Тулуп, говорю, дай!
Валерка вытянулся:
— Есть!
— Понабрали армию...— бормотал Мороз.— Уво-
ди, кому сказал!
Валерка потянул Бабая за рукав.
— Пошли...
Мороз заглянул в Ленинскую комнату, покачал го-
ловой.
— А здесь-то стекла кому мешали?.. Графин где?
— Разбили при наступлении,— усмехнулся Ку-
ник.
— Ты, верзила, молчал бы! С тебя первый
спрос!—Мороз погрозил ему татуированным кула-
ком.
Брестель закончил поверку и с журналом подошел
к Морозу. Мороз надел очки, взял журнал в руки.
— Все по списку? — спросил Быков Мороза.
— Никак нет, двое в больнице, один в бегах, трое
насчет туалета, чистят. Их сюда без бани нельзя — в
калу все...
— Карамычев здесь,— заложил Костю Брестель.
311
— Отбой,— скомандовал Быков и вышел из ка-
зармы.-— Минута. Всем по койкам!
Строй распался, загудел.
— Слышь, Карамычев, твои не воевали, ясно? —
сказал Мороз, подойдя к Костиной койке.— Ты-то сам
на кой хрен в казарме?
— Не знаю...— промямлил Костя.
— Узнаешь... Следствие вот начнут — все узна-
ешь... Над тобой койка пустая? Я лягу.— Мороз рас-
стегнул мундир, под мундиром была красная бабья
кофта, застегнутая на левую сторону.
— Зачем вам наверх, товарищ старшина? — засу-
етился Костя.— Ложитесь внизу, я наверх...
— Ладно,— скривился Мороз и полез на верхнюю
койку.— Это у вас, у сопляков, счеты: кому где
спать... Петух жареный не долбил еще... Живые все?
— Губаря кто-то сделал,— сказал Женька.
— Их долбить — стране полегче,— сказал Ста-
рый.
— Молчал бы... Башка как колено, а домой воз-
вернуться не можешь!
Мороз заворочался, укладываясь поудобнее.
— Кто губаря — разберутся,— покряхтел он,— а
вот библиотекарке глаз хоть фанэрой зашивай...
— Откуда вы знаете?!—вздернулся Женька.
— Ишь ты! — ухмыльнулся Мороз.— Задергался,
хахаль кособрюхий. Будешь ей теперь из тюряги за
увечье платить. Побахвалиться захотелось перед си-
кухой: нет, мол, на меня управы!.. Хочу — дурь сосу,
хочу — бабу в роте черепешу... Дурак! Спать. Отбой.
Казарма затихла.
Костя лежал с открытыми глазами. Наверху под
Морозом заскрипели пружины.
— А билеты-то взяли? — шепотом спросил Мороз,
свесившись с полки.
— Взяли.
— Ты вот что, ты одеись и к своим иди, может, ни-
чего, может, получится...
5
Голая — старики в плавках, молодые в одних под-
штанниках,— посиневшая четвертая рота стояла вы-
строенная вдоль казармы.
312
Комиссия — коротенький полковник и два майора
в сопровождении Быкова, Лысодора, капитана Дощи-
нина, Мороза и забинтованного Бурята — неспешно
бродила вдоль строя.
Уже начались хитрости: поврежденные в побоище
старались по мере приближения комиссии встать в
начало строя, где комиссия уже прошла. Поэтому ко-
миссия прошла вдоль строя один раз, потом еще
раз — со спины.
— Руки вверх! — скомандовал коротенький пол-
ковник.
Двести с лишним багровых стройбатовских кула-
ков на белых руках вскинулись к потолку.
— Туда,— негромко скомандовал полковник Саш-
ке Кунику. Под мышкой у него синел квадратный от-
печаток пряжки.
Куник понуро поплелся в Ленинскую комнату, ку-
да комиссия загоняла явных участников.
Через некоторое время восемнадцать человек бе?
ремней в сопровождении губарей потопали по бетонке
к воротам. И Куник, и Женька, и Миша Попов. На гу-
бу. На КПП места мало.
В казарме вставили стекла, стало теплее. Максим-
ка оттирал присохшую к тумбочке кровь и рвоту.
— ...Вина хорошего попьем...— Нуцо ломом натя-
гивал половые доски, а Костя шил гвоздем.— У меня
вся Молдавия родня. У меня дед есть. Он еще против
вашего царя воевал. Его побили, он глупой сделался
И слабый весь. Румынский царь ему пенсию платил.
А потом ваши пришли перед войной. Перестали пла-
тить, враг стал...
— В Москву пусть напишет,— посоветовал Фиша.
Нуцо засмеялся.
— Да он помрет скоро. Старый... Мороз идет!
Мороз подошел к яме, заглянул в нее.
— Кончаете уж?.. Ну-ка хэбэ скидайте!
Фиша стянул робу.
— Ты-то чего раздеешься? — жестом остановил
его Мороз.— Ты ж на плацу не был. Одеи^ь назад.—
Мороз покачал головой.— Ишь, какая нагчя шерсти-
стая, хуже грузинов.— Обошел голого п пояс Ну-
цо.— Чисто. Одеись.— Посмотрел на Кос о спереди,
остался доволен.— Повернись! (Костя овернулся
313
спиной.) Божечки ж ты мой!.. Ты погляди, у него ж
спина!.. И пряха. След. Куда ж ты лез-то паразит! —
Он пыхнул дымом в сторону.
Костя стал вяло одеваться.
— Да, кто ж губаря-то, а?..
Костя пожал плечами. И посмотрел на Нуцо.
И Нуцо, улыбаясь, тоже пожал плечами.
— Работайте,— сказал Мороз.— Бог даст...
С губы донеслась песня: «Не плачь, девчонка,
пройдут дожди».
— Ты зубы-то сыми,— проворчал напоследок Мо-
роз в сторону Нуцо.— Медь во рту — один вред...
И людям в глаза бросается... А то слухи: с зубами
ктой-то по плацу прыгал...
Мороз ушел.
Нуцо ногтями стал торопливо сковыривать бронзо-
вые коронки, от усердия даже на землю сел.
— Ты чего? — обеспокоился Фиша.— Земля хо-
лодная, а тебе почки болят. Встань.
Перед самым ужином прибежал Валерка Бурмис-
тров. Валерку бил колотун, тряслось все: и сиськи и
брюхо...
— Земеля-я! Мать твою...— зашипел он, наступив
кедом на гвоздь в доске. С перекошенной от боли мор-
дой Валерка другой ногой придержал доску, снялся с
гвоздя.— Чурка ваш повешался, на хрен!
ч — Бабай?! — выдохнул Костя.
— Он... Сволочь,— шипел Валерка, тряся но-
гой.— Заражения не будет?
— Когда?
— Да он не до смерти,— скривился Валерка.—
Слышь, еврей! — крикнул он Фише, столбом замер-
шему в яме.— Йод принеси! По-быстрому! Кому ска-
зал?!
Фиша не трогался с места.
— Принеси,— попросил Костя.— В канцелярии
аптечка..
— Сплю, земеля, и чего-то прям, знаешь, ну не
знаю, как сказать,— бормотал Валерка.— Встал, в
глазок глянул. А он висит, ногами дрыгает. Я раз —
и за сапоги!.. Чуть ему калган не оторвал.
— Живой он?
— Дышит.., Я его малость...— Валерка потусо-
314
вал кулаками воздух.— А чего он?! Я с него ремень
брючный забыл, он на нем и повешался. Пойдем гля-
нем, а то я один не это... Пойдем, земеля...
Бабай лежал на бетонном полу в камере. И пла-
кал. Лицо его было разбито.
— Бабай! — Костя потеребил его за рукав.— Ты
чего?.. Зачем ты?..
— В турму не хочу...
— Да кому ты, на хрен...— замахнулся по инер-
ции Валерка.
— Позови Морозу! — плакал Бабай.— Позови
старшину Морозу!..
— Позвать бы...— поднимаясь с корточек, полу-
вопросительно сказал Костя.— Мороз в роте?
— За дочками в детсад пошел. Да вон он!
Мороз стоял на трамвайной остановке, держа за
руки двух девочек.
Когда жена Мороза, работавшая поварихой в пол-
ку, в Шестом поселке, опаздывала на автобус, Мороз
сам забирал дочек из сада, и они до темноты ошива-
лись в роте. Богдан приволок для них со свалки трех-
колесный велосипед, подвинтил, подкрасил.
— Товарищ старшина! — заорал Валерка.
— Чего орешь? — Мороз потянул девочек к воро-
там КПП, приподнял фуражку, пятерней причесал се-
дые волосы.
— Чурка чуть не повешался!—выпалил Валер-
ка.— Я сдернул!
— Чего-чего? Идите-ка погуляйте,— сказал Мо-
роз дочкам.— Велисапед свой в каптерке возьмите,
покатайтесь.
Девочки вприпрыжку убежали.
— Живой? — спросил Мороз.
— Нормальный ход. Не до смерти.
— Та-ак...— пробормотал Мороз.— Начинается...
6
Последним из трамвая вылез старик в азиатском ха-
лате и на костылях. На голове у него была огромная
лохматая папаха из рассыпающихся завитков, а на
315
единственной ноге — нерусский коричневый сапог в
остроносой калоше. За спиной старика был вещ-
мешок.
Он вылез из автобуса, подпрыгнул пару раз на но-
ге, установился и поправил вещмешок. Потом стал
озираться.
— Стирайбат? — сказал он Косте.— Сын тут.
Костя показал на железные ворота с двумя крас-
ными звездами.
— В гости,— сказал Костя Валерке, подводя ста-
рика к крыльцу КПП.
— Фамилия?
Старик достал из-за пазухи паспорт, сунул Ва-
лерке.
— «Керимов»,— прочел Валерка.— Какой роты?
— Стирайбат,— кивнул старик.
— Керимов, Керимов?..— повторял Валерка, на-
морщив лоб.— Погоди.
Валерка занырнул в КПП и пальцем поманил за
собой Костю.
— Слышь, земеля! Гадом быть, Бабаев пахан!
Валерка вышел на крыльцо, отдал старику пас-
порт.
— Вы это...— Валерка почесал за ухом.— Вы
чайку попейте с дороги. Командир скоро придет, тог-
да... Эй!
Из караулки выскочил молодой.
— Отведешь товарища в столовую. Чтобы ему
там...
Из столовой Мороз привел старика в роту.
— В ногах правды нет,— сказал он, пододвигая
старому туркмену табуретку.
Старик сложил костыли и, придерживаясь за тум-
бочку, сел на половину табуретки, на свободную поло-
вину табуретки показал Морозу, приглашая его тоже
сесть.
Мороз похлопал его по ватному плечу.
— Сиди, сиди. Дневальный где?! Рзаев!
Дневального он нашел в каптерке. Егорка дописы-
вал хлоркой свою фамилию на подкладке нового буш-
316
лата. Под свежей фамилией «Рзаев» — фамилия
прежнего владельца.
— Чем занят? — заорал на него Мороз.— Где
твое место?
Егорка вскочил, сунул бушлат в хлам, наваленный
в углу каптерки.
— Эти не разъехались, а уже застариковал,—
проворчал Мороз.— И побройся хоть. От людей стыд-
но.— Он кивнул на старого Бабая, привалившегося
лохматой папахой к стене.
Старик открыл узкие глаза.
— Оглум, мусульманмысан?
— Бяли, мусульманым,— ответил Егорка совсем
иным, почтительным, голосом.
— Понимает,— удивился Мороз.— Так у вас что
ж, нации одинакие?.. Или как?
— Понимаю просто, и все!
— Тогда таким порядком.—Мороз снял фуражку,
провел по волосам пятерней.— Рзаев, слушай сюда
В углу у Карамычева коечку застлать товарищу чис-
тым, полотенец... Пусть отдыхает. Расход ему вече-
ром принесешь — покушает.
Мороз протянул старику руку. Старик засуетился
с костылями, хотел встать.
— Сиди, сиди,— остановил его старшина.— Мо-
жет, обойдется... Как суд решит...
— Булды,— кивнул старик и приставил костыли к
стене.
Старик расположился на Богдановой койке. Сей-
час он рылся в своем вещмешке.
— Не мешаю? — буркнул Костя.
Старик не понял вопроса, достал из мешка боль-
шой белый платок, расстелил его на полу. Костя по-
добрал ноги. Старик снял халат, под халатом был
пиджак с медалями.
Встав коленями на платок, старик стоймя поста-
вил на тумбочку папаху, сложил перед собой на груди
руки, закрыл глаза и сказал, как в кино:
— Аллаху акбар...
И начал тихо стонать по-своему — молился.
В промежутках между бормотаниями с проводил
руками по лицу и груди. Медали на пиджг е позвяки-
вали, когда он нагибался.
,317
— Аллаху акбар,— сказал старик и со скрипом
стал подниматься.
Потом стащил на пол матрац и лег на него, укрыв-
ши голову платком. И тут же захрапел.
Костя принес из каптерки свою шинель и набросил
на старика.
Заложив руки за спину, Мороз медленно брел по
бетонке, Костя плелся за ним.
— Чего ты все ноешь?! — обернулся к нему стар-
шина, хотя Костя молчал.— Русский язык не понима-
ешь! Сказано: ступай в роту.
— Билеты у нас... Мне домой...
— Домой!..— прошипел Мороз.— Ты ж на повер-
ке торчал, дурень!.. Сводку в . штаб дивизии посла-
ли, кто участвовал... пофамильно... Губарь-то по-
мер!
— Нея же! — простонал Костя.
— А кто? Дед пихто?
Мороз остановился у входа в казарму, поднял с
земли вырванную дверь. Костя дернулся помочь.
— Не лезь!—Мороз прислонил дверь к стене ка-
зармы.— Все равно не поедешь! Пока то-се... Кто гу-
баря, кто закоперщик... Ицкович-то поумней тебя, не
светился. Так что билег свой Бурмистрову отдай, он
пошлет кого, хоть деньги получишь.
— А Ицкович?
— А Ицкович пусть едет.
— Фишель?! — ахнул Костя.— Так ведь это же
он...
— Что он? — Мороз обернулся.
•— Он... Губаря...
«Характеристика на военного строителя Карамы,-
чева К- М., год призыва— 1968 (июнь), русский, б.п,
1949 года рождения.
За время службы в N-ском ВСО военный строи-
тель рядовой Карамычев К. М. проявил себя как ини-
циативный, исполнительный, выполняющий все устав-
ные требования воин.
За отличный труд, высокую воинскую и производ-
ственную дисциплину рядовому Карамыче-
ву К. М, было присвоено звание «Ударник коммунис-
318
гического труда». Был назначен командиром отде-
ления.
Карамычев принимал активное участие в обще-
ственной жизни роты, являлся редактором «боевого
листка» и членом совета библиотеки N-ского ВСО.
Военный строитель рядовой Карамычев К» М. по-
льзовался авторитетом среди товарищей, морально
устойчив, политически грамотен.
Характеристика дана для представления в Мос-
ковский университет.
Командир подразделения: Дощинин, 1 апреля
1970 года.
«Согласен». ВРИО командир ВСО: Лысодор, 2 ап-
реля 1970 года».
Олег Ермаков
Афганские рассказы
Весенняя прогулка
Мягкие полевые дороги выносили их на макушки
холмов и опускали в сырые низины, и небо то прибли-
жалось, то стремительно уплывало вверх, небо с
редкими облаками и жаворонками, плещущими
крыльями.
Парень в потертой и замасленной замшевой кепке
ехал чуть впереди, он был проводником, он несколько
лет ездил и ходил по этим дорогам, он знал на этом
пути все повороты, все придорожные деревья и
холмы. Он крутил педали и посматривал через плечо
на спутницу.
Мягкие дороги несли их по зеленым холмам и зе-
леным полям, в небе стояли облака, желтело солнце
и плясали жаворонки. Он глядел через плечо на нее и
растягивал толстые губы, и она улыбалась в ответ.
Он думал: это, конечно, здорово, что она с ним, что
она увидит наконец-то эти места, здорово, но лучше
бы одному ехать. Он привык один. Сперва не по себе
было, особенно ночью: птица, какая-нибудь крикнет,
ветка упадет, или прошуршат чьи-то шаги, но потом
страх прошел. И однажды он убедился, что лучше
одному: проболтался однокласснику про Кофейные
пруды, и тот напросился в спутники, и все было
скверно — одноклассник говорил, говорил и смеялся
громко, жадно удил карасей, пытался подбить
камнем утку, запросто срубал живые осины и
твердил, что в лесу нечего бояться, лес — это группа
деревьев, и все было скверно, и все было не так. Ко-
нечно, она не одноклассник. И все-таки.
Они переехали железную дорогу — облитые мазу-
том шпалы, хрусткая насыпь, черные шляпки косты-
лей и узкие зеркальные полосы, уходящие вдаль,— и
он подумал: да, скоро. Их опять подхватил мягкий
320
проселок, и опять они выплывали на лбы холмов и
съезжали в пахучие сырые ложбины.
• Да, скоро, думал он. Через три дня. Всего-то. И —
на два года. Сапоги, казармы. Ну, это ерунда—два
года, это не двадцать пять лет, как при Царе-Горохе.
Он опять засомневался, правильно ли сделал, что
взял ее с собою. Что они увидят за один день? Чтобы
везде побывать: в соснах, на Рыжей, на Лисьем
холме, на прудах, в Деревне,— для этого дня мало.
Один он мог бы ночевать и увидеть все. А с нею при-
дется вернуться в город сегодня. Ее родители ничего
не знают, уверены, что дочь утром ушла в институт и
что после обеда до вечера она будет конспектировать
какие-то труды в читальном зале институтской библи-
отеки. А она положила в портфель вместо учебников
и тетрадей кроссовки, трико, футболку, хлеб и колба-
су, пришла к нему, переоделась и вот едет рядом по
мягкой дороге на велосипеде, который он одолжил у
приятеля, старательно крутит педали, не просит оста-
новиться, хоть с непривычки уже устала, и улыбается,
когда он оглядывается. И футболка на ней уже сырая.
Утро, но солнце горячее. Май.
Наезженная дорога свернула, а они покатили пря-
мо. Они поехали по заросшей и зыбкой дороге, кото-
рая скоро ушла в болото.
Она послушно сняла вслед за ним кроссовки, за-
катала до колен трико и осторожно погрузила белые
ноги в жирную и холодную трясину.
— А змеи здесь есть? — тяжело дыша, спросила
она.
Он шел впереди. Он оглянулся и сказал:
— Змеи? Я три года здесь... я за три года —ни
разу...— И замолчал, увидев слева на кочке коричне-
вато-зеленый резиновый крендель. Молодая змейка
бездвижно лежала на солнечной сухой кочке, можно
было подумать, что она мертва, но ее глаза были
влажны, и две солнечные точки горели в них.
Он отвел глаза от кочки ,и спокойно сказал:
— Нет. Это благословенные места, я же говорил.
На них, распаренных, обливающихся потом, напа-
ли комары, и они шлепали себя по лицам, передерги-
вали плечами и спешили пройти болото. Трясина пу-
зырилась, шипела и жвакала под ногами. Грязь была
11. Крещение
321
холодная, а воздух тепел, и солнце раскаливало
одежду на спине и плечах.
Вот же, думал он, за три года ни одной змеи, а се-
годня, в этот последний день... Он обернулся, сколь-
знул взглядом по ногам спутницы... Она вопроситель-
но посмотрела на него и состроила бодрую мину. Ли-
цо ее было мокрое, заляпанное кровавыми кляксами,
на щеке темнел раздавленный комар.
— Сейчас выйдем,— сказал он.
Надо было одному. А теперь бойся, как бы ее не
укусила змея.
Они перебрели болото, прошли немного по твердой
земле сквозь ивовые заросли и оказались на поляне
под косогором. Поляна была желта от цветущих оду-
ванов. Здесь трудились пчелы и шмели, всюду над
цветами вспыхивали стеклянные крылья, и слышен
был тихий бархатный гудеж. Там, где поляна перехо-
дила в косогор и начинала плавно вздыматься, белело
глинистое оКо. Родник пульсировал, и по его
прозрачной поверхности расходились круги.
— Это он? Да? Бог Бедуинов?—Девушка броси-
ла велосипед и пошла к роднику. Она склонилась над
шевелящейся водой, замерла и беспомощно огляну-
лась. Он приблизился и посмотрел в родник. На бе-
лом осклизлом дне медленно ворочалась, как бы
исполняя ленивый танец, дохлая лягушка. Он засучил
рукав, погрузил руку по локоть в воду, вытащил ля-
гушку и бросил ее в цветы.
— Однажды,— сказал он, вытирая руку о шта-
ны,— я нашел в роднике серую птицу с выбитым Гла-
зом, видно, лунь или ястреб неудачно поохотился.
— Кровожадный Бог,— ответила она, брезгливо
глядя в родник.
Он пожал плечами и склонился над водой. На-
пившись, он насмешливо посмотрел на спутницу. Она
поджала губы и отвернулась.
— Пей, чего ты?
— Ничего. Мог бы не говорить про птицу.
— Но это было давно. Пей.
Во рту было горячо и сухо, как на родине этих бе-
дуинов с верблюдами. Придумал же — Бог Бедуинов.
Она улыбнулась.
— Пей,— повторил он.
322
— Пей, пей,— передразнила она, нахмурилась,
пригнула голову, вытянула губы к вздыхающей воде.
Потом, глядя на ноги и шевеля перепачканными
пальцами, она сказала:
— Отмыть бы.
Он вынул из рюкзака кружку и принялся черпать
воду из родника и лить ёй на ноги. Она терла ноги и
задыхалась от холода. Потом поспешно надела носки,
обулась и попрыгала на месте, чтобы согреться. На ее
лбу билась челка, и под футболкой вздрагивали груди.
Он отвел глаза, лег в траву и сказал:
— Отдохнем.
Она села поодаль.
Гудели шмели...
1— А она как-нибудь называется? Ну, родник —
Бог Бедуинов, а поляна?
Он ответил, что никак.
— А я бы эту поляну обязательно окрестила. Та-
кая поляна.
— Как бы ты ее окрестила? — нехотя спросил он.
— Как-нибудь... что-либо в твоем духе.— Она на-
морщила лоб.— Шмелиная нива. А?
Он глядел сквозь ресницы в небо и молчал.
— Хорошо? — спросила она.
— Тут всюду.
— Что? — не поняла она.
— Нива. Тут много всяких полян с цветами.
— Ну, не хочешь, как хочешь,— откликнулась она
и отвернулась.
Обиделась. Надо было что-нибудь сказать, но
солнце жгло кожу сквозь рубашку, и язык был тяжел,
и веки были тяжелы, и ни о чем не хотелось думать, и
ничего не хотелось. Он лежал и ничего не говорил.
Она сидела и следила за полосатыми толстыми шме-
лями. Шмели садились в одуваны и бродили в ты-
чинках, как в желтом мягком лесу, шмели нектар со-
сали.
Две светящиеся точки, коричневато-зеленый рези-
новый крендель, ты могла бы не попадаться сегодня,
в этот последний день, теперь ведь мне нужно боять-
ся, как бы ты не укусила девушку; змея приподняла
голову и тонко улыбнулась, он вздрогнул и открыл
глаза, и вспомнил, что, кажется, девушка обиделась.
Он сел и сказал:
323
— Да, пускай, это хорошо, пускай так.
— Ты о чем? — равнодушно спросила она и сощу-
рилась. Она не глядела на него, и отчужденно, презри-
тельно щурилась.
— Ну, Нива Шмелей.
— А,— откликнулась она.— Спасибо за одолже-
ние.
Он засмеялся. Девушка сердито взглянула на не-
го. Он оборвал смех.
— Извини, но смешно,— пробормотал он.— Чего
мы делим-то?
’-г Я ничего не собираюсь делить. Не надо ничем
делиться со мною. И вообще я могу... дорогу теперь
знаю.
Она почувствовала, что я сомневаюсь, правильно
ли сделал, взяв в это последнее путешествие ее. Мог
бы и отказать, а не отказал, мне хотелось с ней ехать,
ведь так же? — так какого черта я дурака ломаю!..
— Ну, давай не ссориться, чего мы, ей-богу, бу-
дем... из-за чего мы? Я просто не выспался, что
ли. Какой-то заторможенный...
— Спи! Мешать не буду.
*-г Я уже не хочу. Поехали? Ты отдохнула? Ты
очень устала? — суетливо спрашивал он и загляды-
вал ей в глаза.— Хочешь еще воды? Принести? Давай
принесу.— Он встал и сходил к роднику, и принес
кружку воды.— Пей. Это вкусная вода. Я вкуснее не
пил. А ты пила вкуснее?
Девушка не выдержала и, фыркнув в кружку,
обрызгав его лицо, рассмеялась.
Они вышли из лощины на пригорок, поросший зо-
лотистыми долгоногими цветами. Она спросила, что
это за цветы, какие-то очень знакомые цветы, а никак
не вспомню... Он не успел ответить, девушка что-то
увидела на лугу и охнула.
Из перелеска на луг — люди давно бросили здесь
косить, и луг огрубел, зарос толстыми, раскидистыми,
как сосны, медвежьими дудами, полынью, кустами —
на луг вышла лошадь. Она была приземистая, ко-
ричневая, с выпуклыми боками, спутанной гривой и
толстыми ногами. «Лошадь склоняла свою массивную
голову, рвала траву и медленно жевала, озирая луг.
Наконец она увидела людей. Лошадь перестала же-
вать и, навострив уши, раздувая ноздри, вглядыва-
324
лась в две фигурки среди золотистых цветов. Она по-
няла, что это не лоси, а люди, оттопырила губы, оска-
лилась, злобно заржала, развернулась и быстро
затрусила в березы.
— Убежала.— Девушка говорила шепотом.—
А откуда она тут?
— Ну, сбежала, может,— откликнулся он шепотом,
кашлянул и добавил громко: — Из какой-нибудь де-
ревни удрала. Что-то ей не понравилось, и она удра-
ла. Может, надоело телеги таскать, и удрала.
— Ты говорил, здесь нет жилых деревень.
— Из какой-нибудь далекой деревни... Здорово?
— Да!
— А вообще здесь лосей тьма. И кабанов.
Однажды за мной погнался.
— Кабан?
— Да. Он был с семейством, а я вылез прямо на
них, и он бросился, а вокруг только кусты, ни одного
дерева. Но, видно, он не Очень был сердит — отопнал
меня и вернулся к своим.
— Представляю, как ты бежал.
— Я очень бежал. Я увидел, что он не гонится
уже, но все равно бежал. А потом купил ружье.
У одного барыги...
— Где же оно?
— А! — Он махнул рукой и перекинул ногу через
раму, сел на седло и нетерпеливо посмотрел вперед.
Девушка почувствовала, как было бы спокойно и
хорошо с ружьем, и снова спросила: где же? Он отве-
тил, что потерял, она спросила: где? Он кивнул в сто-
рону: где-то, там где-то.
Они ехали по заросшей дороге. Высоко в небе ле-
тала птица. В болоте среди сплетения ивовых ветвей
отстаивалась лошадь.
Высоко в небе парила птица. Это была старая, бу-
рая, с пестринами на светлой груди хищная птица.
Она описывала круги в синих толщах среди облаков.
Далеко внизу серые, желтые и зеленые пятна кружи-
лись медленно; вспыхивали лужи. Воздушные потоки
теребили перья и омывали серую голову с загнутым
клювом. Внизу была переливчатая жидкая земля.
Там шумели птицы и лягушки, звенели пчелы и кома-
325
ры, там было беспокойно и жарко.‘Старая птица пла-
вала в синеве среди облаков, здесь было тихо и
прохладно.
На краю болота в кустах таилась лошадь. Комары
и слепни сновали по теплой горе, покрытой толстой
потной кожей, и выискивали, дрожа крыльями,
нежные места, и погружали в кожу хоботы, и сосали
кровь. Мухи копошились в гноящихся ранках на кру-
пе, ранки были симметричны, круглы и глубоки. Ло-
шадь стояла в кустах, косила свои крупные черные
глаза в сторону, втягивала напряженными ушами
звуки весеннего душного дня, пришибала хвостом
нажравшихся крови сосунов и дрожала, вспоминая
людей) среди желтых цветов.
В глубине болотных зарослей, ?между кочками, в
теплых коричневых рытвинах чутко спало кабанье
стадо. В норах Лисьего холма дремали барсуки и ли-
са с лисятами.
Они ехали по одичавшему лугу итлядели на высо-
кий Лисий холм, поросший кустами,— он торчал над
перелесками, и на его боку белело огромное пятно.
Они миновали луг, прошли, катя велосипеды ря-
дом, низиной к полю, снова сели на велосипеды и
вскоре.подъехали к холму. У подножия холма они спе-
шились и. побрели в траве и цветах вверх.
Золовки цветов колотили по щиколоткам. Вспугну-
тые цчелы и шмели, недовольно жужжа, срывались с
цветов и, повисев перед лицами, отлетали нехотя *в
сторону.
Задул полуденный ветер.
Листва на кустах плескалась, и травы с цветами
валились и вставали. Ветер сушил потные лица и хо-
Додил взмокшую одежду. Черные короткие волосы де-
вушки метались и хлестали ее по лбу и щекам.
Они взошли на макушку холма. Девушка огляну-
лась.
Внизу бурлили зеленые лагуны, ^мигали бордовые,
фиолетовые и лимонные точки -и кляксы.
В прозрачных толщах синего трепетали жаворонки, и
к горизонтам плыли осиновые и березовые острова, и
вдалеке висели холмы и темные леса.
326
Черемуховый’ куст цвел; на западном склоне,, дул;
сильный ветер, и аромат черемухи был едва слышен
на макушке Лисьего холма.
Он снял кепку, подставил ветру коротко остри-
женную бугристую голову и сказал, что иногда здесь
ночует. Девушка промолчала. Он больше ничего не
говорил, и они стояли, молчали и глядели вокруг с
вершины легкого зеленого Лисьего холма.
Они спустились вниз, и он спросил* где она. хочет
побывать еще: на Рыжей речке, на Кофейных^ прудах
или в Деревне?/Она сказала* везде. Но нужно'было
выбирать что-то одно. Уже было три часа, они и так
вернутся поздно. На Рыжей можно покупаться и поза-
горать. На Кофейных прудах, сейчас живут журав-
ли, она никогда не видела живых журавлей; А> в Де-
ревне, а про Деревню он говорил: о Деревня! о, вДе-
ревне! это рай; и все такое. В деревне, сказала*, она.
Возле старой< березовой рощи стояла Деревня;
Сначала, они увидели эти длинные толстые березы; а
когда.въехали наспригорок,— Деревню.
Деревня^ цвела. Цвели корявые вишни, цвели
яблони, кусты! сирени. Вокруг изб и на: огородах ту-
скло желтели вонючие венчики черной белены* пуши*
лись яичные одуваны, розовел лабазник, золотилась
пирамидальная льнянка; В крапиве висели пурпур-
ные чашки окопникам Возле замшелого трухля*
вого колодца цвел развесистый куст боярышника.
Трещали скворцы и дрозды, щелкали, звякали, сви-
стели, прыгая с ветки на ветку и соря белыми лепе-
стками, серые лесные птицы. На бревнах изб с пусты-
ми: окнами зеленели мхи. На крышах, прогнувшихся;
сползших набекрень, росли тонкие осины, березы и
ромашки. Пахло цветами,, зеленью, гнилью, и пле-
сенью.
— А я обжил баню. Вон на отшибе. Это моя>хижи*
на*.— Он пытливо посмотрел на. нее.— Хорошо?
— Здесь? — растерянно спросила она и огляну-
лась.— Да. Только...
— Что?
— Только как-то... непривычно просто. Это из
колодца так пахнет?
— Да. Я беру воду из ручья. В роще ручей;
Они прошли по।короткой» деревенской улице мимо
серых истерзанных: изб, мимо огородов и садов с
327
торчащими кое-где из зеленых лохм ветхими плет-
нями.
Над дверью бани-хижины висела коряга.
— Это Охраняющий,— сказал он, и тогда де-
вушка разглядела кривой' рот, редкие толстые волоси-
ны и пустой глаз во лбу.
Скрипнула дверь, и они вошли в хижину. При-
выкнув к сумраку, девушка увидела печь, железную
кровать с рваным матрацем, набитым соломой, стол,
застекленное оконце и полку под потолком,— там
круглились свечи, лежали спички, пачка соли, стоял
чайник, кружка с ложкой, котелок. Пахло плесенью и
давним дымом.
— Так странно,— пробормотала она.
— Обед будем готовить на улице,— сказал он,
снижая с полки котелок и чайник.
Он отправился на ручей. Девушка села на лежак
и сразу почувствовала себя разбитой и уставшей.
Есть не хотелось, хотелось лечь и вытянуть отяже-
левшие зудящие ноги... Она прилегла и задремала.
Когда она вышла на улицу, он уже разводил ко-
стер. Он чиркнул спичкой и зажег растопку, пламя
всосалось в сухие дровины и вырвалось миг спустя
вверх, и забило в дно чайника и котелка с водой.
— Ты и зимой здесь бываешь? — спросила она,
опускаясь на корточки перед костром.
Он кивнул. •
— Странно здесь,— сказала она.— Хорошо, но
как-то странно. Как ты нашел все это?
— За грибами как-то поехал и набрел на пруды.
Карасей, подумал, небось... Еще раз приехал со сна-
стями. Действительно — карасей!.. И — вот.
— Но как же ты ружье посеял? Плохо без ружья.
Волки всякие. И люди могут... Какой-нибудь беглый.
А? Здесь часто бывают люди?
— Нет, болото отпугивает. Но иногда грибника
можно... Ну и зимой охотники бегают на лыжах за
зайцами.
— Зимой — у-у как, да? Метель, волки, а ты печку
топишь.
Вода в котелке забурлила. Он хотел засыпать кру-
пу, но девушка попросила: дай я все сделаю,— и он
отдал ей соль, ложку, прикрученную к пруту проволо-
кой, крупу в мешочке и банку тушенки. Она сыпанула
32в
в кипяток три горсти крупы, и щепоть соли и, отворат
чивая от жаркого костра лицо, принялась помешивать
варево ложкой на пруте. Он сидел напротив, глядел в
огонь и думал: вот через три дня, вот на два года. Ну
ладно, это не двадцать пять лет. И не война. Это
ерунда — два года.
Крупа разбухла и стала белой. Девушка
вытряхнула из банки в котелок тушенку и перемеша-
ла розовые куски с кашей. Она сняла котелок и чай*
ник с жерди, в чайник насыпала заварки. Утерев
красное мокрое лицо, она взглянула на него: ловко я
все делаю, правда?
Они обедали в хижине перед оконцем. Они молча
ели дымящуюся кашу с черным мягким хлебом и
смотрели в оконце. Потом пили чай. Девушка думала:
неужели где-то есть город? неужели только сегодня
они выехали из города?
С улицы донесся резкий и сухой злобный вскрик,
девушка поперхнулась и закашлялась, и тревожно
посмотрела на хозяина хижины.
— Это сапсан. В роще живет. Редкая птица.
Девушка кивнула. Но страх стоял в ее глазах.
Выждав немного, она сказала.
— А все-таки ружье... с ружьем... как же ты так?
Одностволка шестнадцатого калибра лежала под
толщей ила на дне одного из семи Кофейных прудов.
Он нехотя ответил:
— Потерял.
— Врешь? — осторожно спросила она.
— Нет.
— Врешь,— сказала она.— Сразу видно. Тебе
лучше никогда не врать.
— Что ты так смотришь? Что тут такого? Мое
ружье, я купил его и патроны у барыги, потом взял и
утопил.
— Зачем?
— Надоело. Даже палка раз в год стреляет. А уж
ружье тем более. Даже когда не хочешь ни в кого
стрелять.
Они помолчали. Девушка вздохнула.
— Жалко? — насмешливо спросил он. (
— Ага,— откликнулась она.— Через три дня ты
уйдешь в армию, и там тебе дадут уже не ружье, а
гранаты и автомат.
329
— А, ты вон о чем...
— Я проницательная. Проницательная?
— Проницательная. Ну, дадут, так что ж... Три
раза на стрельбище — и все. Знакомый вернулся из
армии, говорит: за два года три раза на стрельби-
ще — и все. По фанерным людям.
— Но они могут послать...— Девушка запнулась.
— Куда?
— Куда захотят, туда и пошлют служить. Могут
отправить... на эту войну. Могут, Витя?
Он пожал плечами. Налил в кружку чаю,
отхлебнул... Он забыл об этой войне. Как-то совсем
забыл. Газеты о ней говорят невнятно, сквозь зубы.
Не поймешь, русские то ли воюют там, то ли деревья
сажают и детские сады строят...
Опять крикнула старая птица, и тут же донесся
далекий тугой звук. Через мгновение звук повторился.
— Гроза? — спросил себя неуверенно он, встал
из-за стола и вышел на улицу. Девушка растерянной
радостно улыбнулась и тоже вышла.
Небо над Деревней и рощей было чистое. По ли-
стве берез ударял то и дело сильный ветер. Свежо
было.
Солнце стояло уже на западе. Оно косо освещало
зеленое поле, крапчатые стволы берез, гнилые, прова-
лившиеся крыши, черные обрывки плетней и белые
сады.
— Вон,— сказал он и ткнул пальцем в небо над
рощей.
— Это и есть сапсан? .
Над рощей кружила птица с бурыми крыльями и
пестрой грудью.
— Слышишь,— сипло сказала она и откашля-
лась,— как сады запахли?
— К дождю,— ответил он, не глядя на нее.— На-
до собираться... Дороги развезет...
«В Индии... эти тропические ливни... неделя-
ми».— Она беспомощно глядела в небо над рощей, но
небо все было чистым.
— Хорошо тебе было? Понравилось? — спросил он.
Она молча кивнула.
— И без ружья не очень страшно? — спросил он,
улыбаясь.
330
Она покачала головой.
— Хочешь, мы вернемся через два года?
— Хочу.
— Надолго.
— Хочу.— Она заставила себя улыбнуться.
— Уходим,— сказал он и вернулся в хижину. Оц
собрал ложки и кружки, взял котелок и чайник й по-
шел на ручей.
Она стояла все на том же месте и глядела, как он
идет к березам, как он идет между берез... Его засло-
няли стволы и кусты, и снова он показывался и скры-
вался... Нужно было самой помыть посуду, думала
она и не двигалась с места, и не окликала его. Он ухо-
дил все дальше, делался все тоньше и призрачней.
Солнце светило на березы. Резко чернели на белых
стволах трещины, наросты и крапины. Над рощей
кружила старая хищная птица.
Он выбежал из рощи, заскочил в хижину, оставил
там вымытую посуду, вышел, взялся за руль велоси-
педа.
— Пошли!
Она покорно пошла за ним. Она хотела сказать:
сейчас дождь начнется, давай останемся и переждем.,
что родители? ну и что, что родители... пускай роди-
тели... я не хочу думать о родителях. Она молча шла
за ним.
Они вышли на деревенскую улицу, сели на велоси-
педы и поехали.
Дождь побрызгал немного и перестал. Жаль, что
в России не бывает этих тропических ливней, которые
льются днями, неделями и месяцами, подумала она.
Она оглянулась, когда поднялись на взгорок.
Тучу сносило на юг. Над рощей и Деревней небо
синело. В Деревне белели сады. Наверное, там опять
трещали и цокали серые лесные мелкие птицы, тре-
щали и цокали, прыгая с ветки на ветку и соря лепе-
стками.
«Н-ская часть провела учения» 1981
Батальоны днем и ночью штурмовали горы Искаполь
в провинции Газни. Гаубичные и реактивные батареи,
самолеты и узкие быстрые пятнистые вертолеты обру*-
331
шивали на горы тонны металла. В холодном осеннем
воздухе пахло порохом, пыль заволакивала солнце и
звезды. Днем прилетали вертолеты за трупами и ра-
неными. Ночи были безлунные и звездные. Ночью
транспортный самолет кружил высоко над горами и
сбрасывал осветительные бомбы,— они распадались
на несколько оранжевых солнц; покачиваясь, шары
медленно опускались, озаряя ущелья, скалы, верши-
ны и степь у подножия гор, где стоял походный ла-
герь полка. Пехота шла вверх, били крупнокали-
берные пулеметы, рвались мины, хлопали скоро-
стрельные гранатометы. Оранжевые солнца гасли,
пехота залегала. После короткой передышки в степи
зычно кричали артиллерийские офицеры и начина-
лась артподготовка.
Мятежники крепко сидели в пещерах и гротах.
В этих горах у них была крупная база, ни в воде, ни в
пище, ни в медикаментах, ни в боеприпасах недо-
статка не было, они дрались дерзко и умело.
Смолкли реактивные установки и гаубицы. Стало
слышно, как под звездами тоскливо и глухо трубят
моторы транспортника. Пехотинцы лежали на
камнях, утирая потные грязные лица и прикладыва-
ясь заскорузлыми губами к фляжкам. Ждали, когда
вверху зашипят осветительные бомбы.
Было тихо, темно.
Пехотинцы отдышались, напились воды, остыли,—
была осень, днем солнце пригревало, а ночью воздух
был ледяным, и солдаты быстро высыхали после
атак.
Ждали.
Что-то на транспортнике медлили. Пехотинцы на-
чинали привыкать к тишине.
Прошло еще несколько минут, и над их головами
зашипело и треснуло — вверху зажглись осветитель-
ные бомбы. Ротный крикнул: рота! вперед! Рота вста-
ла и пошла вверх. Сверху забили из пулемета,
красные пули стучали бойко по камням, рикошетили
и уходили вверх и в стороны. Пехотинцы перебегали
от скалы к скале, пуская короткие очереди, лицам бы-
ло жарко, а в животах стоял холод. Одна из раска-
ленных струй врезалась в бегущего человека, он сва-
лился, это был ротный, он вырыгивал кровь и выги-
бался, потом замер, он был мертв. Лейтенант принял
332
командование ротой. Атака возобновилась. Лейтенант
вел роту к вершине, где за гребнем сидели мятежники.
Мятежники прикрывали вершину, у них смолк круп-
нокалиберный пулемет, они стреляли из ружей и ав-
томата. Бой шел на всем хребте. На соседней горе
рвались мины. Рота подступила вплотную к вершине
и забросала гребень гранатами, автомат и ружья за-
молчали. Выждав, лейтенант первым кинулся наверх,
увлекая за собою солдат. За валунами была ровная
площадка, здесь стоял станковый пулемет, вокруг него
лежали пустые металлические кассеты и четыре тела,
изрубленные осколками. Пятый уползал вниз. Лейте-
нант нагнал его и пнул ногой, мятежник перевернулся
на спину и поднял вверх разбитые руки. Лейтенант,
приказав солдатам оттащить его на площадку, вышел
на связь и доложил комбату о потере и о взятии вер-
шины. Комбат приказал оставить на занятой высоте
несколько пулеметчиков и ударить с севера по сосед-
ней вершине. На горе остались четверо, рота пошла
вниз.
Оставшиеся солдаты напились, закурили.
Раненый с измочаленными руками и пробитой но-
гой скулил. Неподвижно лежали четыре тела, из них
еще высачивалась кровь. Пулеметчики всасывали
горький дым. Были довольны, что их оставили здесь.
Может, нынче все кончится, и им не придется больше
лезть на рожон. Утром полк, нагрузившись трофеями,
отправится домой, в палаточный город. Там баня, чи-
стые постели, трехразовая кормежка, письма, каждый
вечер фильмы, получка, в магазине — сигареты с
фильтром, апельсиновый джем, печенье, сгущенное
молоко, индийский кофе, виноградный сок; там в
библиотеке Таня, хоть она и не смотрит на солдат, за-
то можно глядеть на нее, у нее красные губы, полно-
ватые ноги с черными завитушками волос, крупные
выпуклые ягодицы, она потливая, и ее блузка мокра
под мышками и на спине, можно хоть каждый день
ходить в библиотеку смотреть и обонять аромат Тани-
ных духов и пота. А ротный теперь на веки вечные ли-
шен всего этого. Он мертв? Его ничто не брало, ни пу-
ли, ни желтуха, ни тиф. Однажды он спустился вдво-
ем с солдатом в кяриз, они прошли с фонариком по
подземному коридору, коридор резко повернул, и они
увидели мятежников, открыли огонь и кинулись
333
назад, первым на веревке вытащили солдата с простре-
ленной икрой, потом живого и невредимого ротного.
И вот ротный мертв.
Сигарета приятна, курить бросают идиоты.
И пить. Трезвенники — олухи. Можно год жизни
отдать за бутылку водки после операции. Округлая
такая, тяжеленькая такая бутылка чистой горькой
водки. Вымывшись в бане, ты наливаешь в солдат-
скую кружку чистую горькую водку. Ее привезли в
бензобаке из Союза, она стоит тридцать чеков, доро-
го, но что поделать. Так вот: наливаешь. То, что ты на-
лил в кружку, стоит примерно семь чеков, почти ме-
сячная зарплата рядового. Ну и черт с ней. Зато ты
становишься человеком на полчаса, и нет ни скуки, ни
страха, мозги искрятся, и два года — это тьфу!
Стрельба стихла на всем хребте, передышка на-
ступила.
— Смотреть в оба, мужики,— сказал сержант,
возглавлявший группу.
Пулеметчики и так смотрели в оба.
Вверху гудел транспортник. Хорошо летчикам. Не
артиллеристы боги, а летчики в черных кожаных шле-
мофонах и голубых комбинезонах. Впрочем, им тоже
достается. Мятежники любят охотиться на самолеты.
Экипажи сбитых самолетов и вертолетов чаще всего
попадают в плен. А хуже восточного плена ничего
быть не может. Мятежники умеют умерщвлять
медленно, в час по чайной ложке смерти. Труп пра-
порщика Воробьева рота нашла на вторые сутки, пра-
порщика в распухшей сизой туше с седыми волосами
сумел узнать только ротный. Не дай бог попасть в
плен. Нет, боги войны не артиллеристы, не летчики,
а штабные. Хотя и они погибают, редко, но гибнут, все-
таки они в войне, а не над. Боги — в стороне и над.
— Сейчас артиллерия жахнет,— сказал один из
пулеметчиков хриплым голосом.— Как бы нас не
накрыли. Сдуру-то.
— Лейтенант выходил же на связь,— откликнулся
сержант.
Замычал пленный. Все посмотрели на него.
Пленный кутал руки в длиннополой рубахе, по ткани
расползались пятна.
— Ротного-то... убили,— сказал сержант.
Ему никто не ответил.
334
У пленного зудели и горели раздробленные кисти.
Ему мерещилось, что руки грызут стаи мохнатых фа-
ланг. Фаланги рвали своими загнутыми клещевидны-
ми зубчатыми челюстями кожу, мясо, сосуды и хря-
щи. Их было много, своей тяжестью они тянули руки
книзу. Пленный лежал, прислонившись к валуну, и
прижимал руки к груди.
«Ротного убили»,— подумал сержант и еще раз
посмотрел на пленного.
Пленного била дрожь.
«Забинтовать ему руки, что ли?» — подумал пуле-
метчик Гращенков, раненный в бедро в один из
первых дней службы.
Под звездами уныло трубили моторы невидимого
транспортника.
Сейчас заработают реактивные установки и
122-миллиметровые гаубицы, и все запылает, затре-
щит, закачается,— сейчас...
— Вон летит,— сказал в тишине охрипший
солдат.
Солдаты пошарили глазами по небу и увидели
мерцающие точки,— далеко в стороне над степью шел
самолет; кажется, это был пассажирский самолет, он
летел с севера на юг, он плыл в черном небе без-
звучно, на крыльях и брюхе вздрагивали сигнальные
огни, наверное, он шел в Пакистан или в Индию.
Солдаты смотрели на пульсирующие огни.
Сержант скрючился, зажег спичку за пазухой,
прикурил. Остальные, почуяв дым, тоже закурили,
пряча сигареты в кулаках. Было тихо.
Было тихо. Может быть, все кончено? Мятежники
сдались, и сейчас дадут отбой, и утром батальоны
вернутся в полк.
Пленный заскулил громче. Все посмотрели на не-
го. Гращенков снял с плеча вещмешок, развязал его
и вынул индпакет. Остальные подумали, что он решил
подкрепиться, и, почувствовав голод, тоже стащили
свои вещмешки, достали галеты, консервы и сахар,
вскрыли штыкножами банки. Запахло сосисочным
фаршем. Гращенков разорвал пакет, и в его руках за-
белели бинты и тампоны. Сержант перестал есть и
уставился на него.
— Что? — спросил сержант.
— Перевяжу.
335
— Отставить.
— Это почему?
— Нечего тратить,— сказал сержант.
— Ладно тебе. Я свое трачу.
Остальные ели фарш, трещали галетами, огляды-
вали черные склоны горы, косились на сержанта и
солдата с бинтами и молчали.
— Гращенков, ты не понял? — спросил сержант.
Пленный лежал с закрытыми глазами, он ничего
не слышал. Гурии в прозрачных платьях, пританцо-
вывая, вели его под руки по зеленой горе вверх,—
там, в сени бледно-розового Лотоса, лежали право-
верные с чашами в руках, они пили чай и с улыбками
глядели на гостя; от Лотоса исходил аромат, вокруг
Лотоса выгибались радужные фонтаны, над Лотосом
парили белые птицы...
Артподготовки не было. Транспортник сбросил
осветительные бомбы.
— Нет, я перевяжу,— сказал Гращенков, вставая
и направляясь к пленному, но его опередила очередь.
Солдаты посмотрели на оранжевое лицо с ра-
зорванным ртом, выбитым глазом и свернутым набок
носом.
Мог бы потом,— проговорил охрипший солдат,
пряча недоеденный фарш, галеты и сахар в мешок.
Второй солдат отвернулся и поспешно очистил банку,
выбросил ее, облизал ложку, сунул в рот ком сахара
и приложился к фляжке.
Между тем бой на хребте возобновился. Пуле-
метчики ждали зеленую ракету, нацелившись на со-
седнюю вершину, к которой сейчас подкрадывалась с
севера рота. Небо было оранжевым, горы были
оранжевыми, густо чернели тени и складки. По скло-
нам прыгали огни и вились красные струи, хлопали
гранаты. Ни о чем не думая, пулеметчики из пехотной
роты лежали в настывших камнях, глядели на со-
седнюю вершину, над которой пересекались трассиру-
ющие очереди, и ждали.
— Заблудилась рота, ушла по распадку к
Черту,— предположил охрипший солдат, но тут же,
словно торопясь опровергнуть его, вверх ударила све-
тящаяся струя, и зеленый сияющий ком повис над
склоном соседней горы.
Огонь! — азартно скомандовал сержант,
S36
Пулеметчики открыли огонь по соседней вершине.
Рота, идя по склону, тоже вела стрельбу, а по южно-
му склону наступала другая рота, и с запада по мя-
тежникам били ручные пулеметы.
— Отпрыгались,— сказал охрипший солдат.
Но мятежники продолжали отбиваться.
Над пулеметчиками просвистели пули.
— Да отпрыгались же,— повторил охрипший
солдат, втыкая в соседнюю вершину длинные очереди,
и вдруг замычал, привстал, выгибаясь и стараясь
выдрать скрюченными пальцами огонь из спины, и
упал.
Сержант оглянулся и увидел сзади, на середине
склона, темные фигурки, он дал очередь по ним и
взвизгнул, когда острый и невидимый коготь вспорол
плечо. Гращенков и второй пулеметчик развернулись
и, держа пулеметы на весу, начали поливать очередя-
ми склон.
— За камни! — крикнул сержант, переваливаясь
за гребень. Второй солдат тоже перемахнул через гре-
бень и залег.
— Гращенков!.— крикнул сержант.
Гращенков попятился, выронил пулемет, прижал
руки к груди, сел на корточки и мокро закашлялся.
Второй пулеметчик подполз к нему, дернул за полу
бушлата, повалил его и перетащил за гребень. Он вы-
нул индпакет, разодрал его, достал бинты и тампоны.
Гращенков лежал на спине, беспрестанно вытирал
окровавленные губы и молчал. Он смотрел в оранже-
вое небо и молчал. Боли не было. Было туманно и
томно, как если бы один выпил бутылку водки. По
камням стучали пули. Солдат приложил к его губам
тампон — белая подушечка сразу набрякла и по-
темнела. Солдат торопливо расстегнул на Гращенко-
ве бушлат и липкую хлопчатобумажную куртку. Нако-
нец пришла боль, Гращенков застонал и закашлялся,
черный тампон слетел с губ. Солдат принялся ути-
рать бинтом его шею и подбородок.
— Да перевяжи его,— сказал сержант, но солдат
продолжал стирать с лица Гращенкова выкашливае-
мую кровь.
— Отстреливайся! Я сам! —крикнул сержант,
подползая к Гращенкову и отпихивая отупевшего
солдата. Солдат схватил пулемет и нажал на спуско-
337
вой крючок. Сержант взял свой индпакет, вытащил
бинт и тампоны, нашел на груди Гращенкова булька-
ющие дырки и, морщась от боли в плече, начал пере-
вязывать Гращенкова. Кое-как он перевязал его. Гра-
щенков затих, вытянулся и стал быстро деревенеть.
— Все,— сказал сержант и осторожно ощупал
свое горячее и сырое плечо.
— Надо уходить, пока не окружили! — крикнул
солдат, откладывая пулемет и берясь за автомат.—
Диски пустые!
— У Гращенкова есть!
Но вещмешок Гращенкова лежал по ту сторону
гребня, по которому часто щелкали пули.
— Уходим! В распадок! — крикнул солдат и по-
полз вниз. Сержант, кряхтя от боли, последовал за
ним.
Они спустились до середины склона, встали и,
пригибаясь, побежали, но вокруг запрыгали красные
пули, и они упали. Стреляли сверху и снизу, из
распадка, куда они бежали. Сержант и солдат начали
отстреливаться.
Вскоре осекся и замолчал автомат сержанта, по-
том автомат солдата.
— Что делать, Женя?
Сержант молчал.
— Ты жив, Женя? — позвал солдат.
— Гранаты... есть? —спросил сержант.
— Нет.
— На,
— Что это?
— Бери.— Сержант вложил в его руку гранату.
Со второй гранаты он сорвал кольцо. Прижимая бе-
лую металлическую планку взрывателя к ребристому
корпусу, сержант сунул под живот кулак с гранатой.
— Ты что... Погоди,— сказал солдат, отползая в
сторону,— не надо...
Сержант лежал на я^ивоте и молчал. Вверху за-
чернели фигурки — люди крадучись спускались вниз
по склону. Под сержантом щелкнул взрыватель,
раздался утробный взрыв^ сержанта встряхнуло и пе-
ревернуло на бок. Мятежники открыли огонь.
Оставшийся в живых пулеметчик положил гранату на
землю, выхватил из кармана носовой платок, замахал
им над головой и закричал:
338
— Дуст!1 Хватит! Не надо! Не стреляй! Салям
алейкум!.. Салям алейкум!
Зимой в Афганистане
В длинной и высокой палатке горела керосиновая
лампа, она стояла на тумбочке в дальнем углу, там
старослужащие играли в карты. Лампа багрово осве-
щала табуретку, на которую падали карты, освещала
лица игроков, струйки сигаретного дыма, освещала
солдата, застывшего в проходе между двухъярусными
койками.
Посреди палатки взмыкивала круглая железная
печка, несколько молодых солдат, сидя на табуретках
вокруг нее, помахивали «дедовскими» портянками —
тореодоры на деревянных конях. Впрочем, трудно
представить тореодора, который согласился бы су-
шить чужие портянки...
Кто-то дремал, полулежа на койке, кто-то лениво
переговаривался; двое солдат, примостившись вблизи
игроков, подшивали к воротам хлопчатобумажных
курток полоски белой материи. Толстый солдат,
задрав ноги в сапогах на спинку койки и сунув руки
под голову, лежал и, глядя в сетку верхней койки, пел
песни. Все песни были на один мотив, он их пел рав-
нодушным негромким голосом,— машинально пел, ду-
мая о чем-то.'
В палатке было тепло, сыро и пахло соляркой, та-
баком и грязной одеждой. Солдаты недавно поужина-
ли и теперь, сытые и благодушные, дожидались ве-
черней поверки.
Толстый солдат пел: «Ни кола, ни двора, ни знако-
мой рожи. Водки нет, женщин нет, да и быть не мо-
жет...».
Тореодоры неистово дразнили серыми вонючими
тряпками печь, злобно раскрасневшуюся с одного
бока.
Кто-то уже храпел.
Карты щелкали по табуретке. Старослужащие
играли в дурака, они курили, отпускали реплики и не
1 Дуст —друг.
339
обращали внимания на тощего солдата, стоявшего ря-
дом.
—г Кажется, я останусь,— сказал плечистый ры-
жий парень в расстегнутой куртке. У него была вы-
пуклая волосатая грудь, маленькая голова и длинные
руки. Его звали Удмурт из Пномпеня. Он был рус-
ский из Удмуртии, и прежние «деды» прозвали его
Удмуртом и почему-то из Пномпеня. Его и поныне за
глаза так называли.
— А я на этот раз выкарабкаюсь,— с чувством
сказал чернявый мелкий солдатик, белорус Санько,
это фамилия у него такая была — Санько. Он бросил
на табуретку козырную десятку.
— Ого,— сказал Остапенков.— Принял.
— А, ты принял,— пробормотал Удмурт из
Пномпеня,— тогда живем.— И положил сразу две
карты.
Сухопарый подвижный ушастый татарин Иванов
впился своими круглыми ясными глазами в карты,
покусал узкую губу острыми белыми зубками и побил
эти две карты козырной шестеркой и червовой дамой.
Удмурт поглядел на глазастую даму с пышной
прической и проговорил:
— Кого-то она напоминает.
— Валечку,— сказал Остапенков.
— У Валечки волосы темнее,— возразил Санько.
— Но глаза такие же, овечьи,— сказал Оста-
пенков.
В дураках остался Иванов. Он собрал карты и на-
чал ловко тасовать их своими цепкими сухими
длинными пальцами. Остапенков похлопал себя по
карманам, нашел сигареты, прикурил от лампы, затя-
нулся и попробовал выпустить кольцо. Со второго ра-
за получилось.
— Чарли Чаплин,— сказал он,— завещал милли-
он тому, кто сделает двенадцать колец и прошьет их
струей, которая тоже должна превратиться в кольцо.
Он был заядлый курец.
— Обалдеть,— сказал Удмурт.— Двенадцать.
— А что, если потренироваться? — Санько взял
сигарету, прикурил и принялся пускать дым густыми
порциями. У него ни одного кольца не получилось.
— Как раз миллион истратишь на курево, пока
насобачишься,— усмехнулся Остапенков.
340
— Но, миллион,— ласково проговорил Удмурт из
Пномпеня.
— Да, миллион,— повторил Остапенков и, вы-
держав паузу, быстро взглянул на солдата в проходе
и спросил изменившимся голосом: — Так будем мы
говорить, Дуля?
Солдат в проходе — его фамилию Стодоля переи-
начили в Дулю — смотрел на лампу и молчал. Это
был послушный молодой солдат, с первых дней
службы в полку ему, как и другим новичкам, вбили
кулаками простую истину: если ты плюнешь на обще-
ство, оно утрется, а вот если общество плюнет на те-
бя,— утонешь.
Общество делилось на три касты: «чижей»,
«черпаков» и «дедов», у первых за плечами было
полгода службы, у вторых — год, у третьих — полто-
ра. Ни в какую касту не входили «сыны» и «дембе-
ля».,— первые были внизу, под пятой общества, а вто-
рые где-то сбоку, на обочине. По старой привычке
«дембеля» могли потребовать среди ночи сигарету с
фильтром или кружку воды в постель, но не злоу-
потребляли этим и вообще вели себя сдержанно и
старались лишний раз не повышать голоса,— они до-
живали в казарме последние недели, и все прекрасно
понимали, что хозяева в казарме «деды»; «дедам»
оставалось служить еще полгода, «деды» могли вдруг
разозлиться, припомнить былые обиды и, подняв все
общество, отомстить горстке «дембелей» — такие слу-
чаи бывали в полку.
Общество жило по своим особым законам, невесть
кем и когда придуманным. В основе эти законов ле-
жала диалектическая формула: все течет, все изменя-
ется, и кто был никем, тот станет «дедом», это не-
избежно, как крах империализма. И спорить с этим
было трудно. Да никто и не спорил. Не разрешалось.
И это был один из законов: молчи, пока не спрашива-
ют. Спрашивать имели право представители высшей
касты. И если они спрашивали, нужно было отвечать.
Это был другой закон. И его сейчас нарушал остроно-
сый глазастый солдат по кличке Дуля.
Он стоял в проходе, смотрел на лампу и молчал.
— У тебя есть еще,— Остапенков посмотрел на
часы, до поверки оставалось сорок минут,— еще
полчаса. *
<341
— Да что там! Все ясно,— сказал Санько.—
Тэк-с, ходим под дурака?
Санько положил карту на табуретку.
Иванов побил ее.
— У меня,— он помолчал, косясь на Дулю,— у
меня имеются кое-какие факты, факты,— повто-
рил он.
— Да? — спросил Остапенков.
— Да.— Иванов выбил ногтями по табуретке
дробь.— Но после, после.
— Не тяни, выкладывай,— нетерпеливо сказал
Санько.
Иванов покачал головой.
— Послушаем, что он плести тут будет.
Толстый солдат, певший себе под нос, с грохотом
сбросил ноги на дощатый пол, встал, накинул плащ-
палатку и вышел. Через минуты две он вернулся.
С плащ-палатки стекала вода. Он снял ее у входа
и встряхнул. Прошел к своей койке, повесил плащ-па-
латку на спинку и принял прежнюю позу, только ноги
в мокрых и выпачканных глиной сапогах драть выше
головы не стал, оставил их на полу. Он полежал, по-
молчал и завел новую песню: «Отбегалось, отпрыга-
лось, отпелось, отлюбилось. Моя хмельная молодость
туманом отклубилась...»
Солдат по кличке Дуля стоял перед игроками,
безвольно опустив плечи и сгибая то одну, то другую
ногу в коленях. Он глядел на лампу^ Свет лампы ка-
зался ему жарким, и глазам было больно, но он не
отрывал глаз от пламени за мутным стеклом. Глядя
на пламя, легче было молчать.
Когда-то это было. Он не мог отделаться от этого
чувства. Мерещилось, что когда-то это было.
— Воды,— сказал, не отрывая глаз от карт,
Удмурт.
Дуля охотно пошел за водой,— на ужин была пе-
ресоленная перловая каша с мочалистой соленой сви-
ниной, и его мучила жажда. Железный бачок с пить-
евой водой стоял на табуретке у выхода, он отвернул
кран, набрал воды, быстро осушил кружку и хотел
еще выпить, но Удмурт крикнул: чего ты там телишь-
ся! — и, нацедив воды, он вернулся и протянул
кружку Удмурту. Удмурт жадно выпил воду.
342
Дуля опять застыл в проходе. Желтый свет лампы
снова потек в глаза.
«Зря она все-таки»,— подумал он и тут же почув-
ствовал стыд. Ему стало стыдно, что он так подумал,
и стыдно потому, что он представил: она здесь, в этом
длинном и темном жилище, она стоит где-то рядом и,
ничего не понимая, глядит на него...
— Осталось двадцать минут,— сказал Оста-
пенков.
Дуля поглядел на Остапенкова.
— Ну, что лупишься?
— Дать в лоб, сразу заговорит,— сказал Удмурт.
— Это успеется,— откликнулся Остапенков. Он
хотел добавить,, что дело тут непростое» но ничего не
сказал, подумав, что это будет лестно для «сына» Ду-
ли. И так ему много чести оказано., С тех пор, как они
прочли письмо, никто еще и пальцем не тронул Дулю,
хотя он грубо нарушал один из законов общества»—
не отвечал на вопросы старших. Не будь здесь Оста-
пенкова, они бы, конечно, давно отлупили Дулю. Но
Остапенков не давал. Его это дело по-настоящему за-
интересовало. Было во всем этом что-то значительное
и жутковатое. Они много раз допрашивали и наказы-
вали, они потрошили молодых солдат, что называется,
до костей, узнавав все: как жили молодые в. миру, кем
работали, много ли девочек совратили, какой цвет
глаз и рост у их сестер, родных и двоюродных, сколь-
ко литров было выпито на проводах в армию; у жена-
тых вытягивали тайны первой брачной ночи., Уж, ка-
залось бы, что может быть интимнее и жутче первой
брачной ночи? А тут Остапенков почуял: может. И это
удивляло его.
— Ну, Дуля, смотри,— сказал Остапенков, тасуя
карты. В этот раз он проиграл.
— Может, пускай сядет? — спросил Иванов.—
Устал, да? Хочешь сесть?
Дуля нерешительно кивнул. Иванов вздохнул:
— Ну, тогда еще постой.
Удмурт, Санько и солдаты, слышавшие шутку,
рассмеялись. Остапенков не смеялся. Его начинало
бесить упрямство «сына».
Игра продолжалась.
343
Безумолчно выпевала свои огненные гимны печка.
По палатке бил дождь. На дворе стояла зима, бес-
снежная, грязная, дождливая, с холодными туманами
по утрам и ледяными полуденными ветрами.
Зимой служилось спокойно. Полк редко выходил
на операции. В степях увязали даже танки, не говоря
уж о колесной технике. Да и мятежники предпочита-
ли зимой отдыхать,— высокогорные тропы и перева-
лы заваливало снегом.
Зимой было почти мирно, так, иногда какой-ни-
будь неугомонный вождь бросит свой отряд на до-
рожный пост где-нибудь в зеленой зоне,— зимой зеле-
ные зоны, обширные виноградные плантации были
белы и непролазны. Или мина сработает под колесом
машины, идущей из Кабула с мукой или консервами
в полк. Но с летней войной это ни в какое сравнение
не шло. Летом полк проводил операцию за операцией.
Летом по всей стране, в ущельях, в заоблачных высях,
в песках пустынь, в глиняных зеленых старинных го-
родах, укромных кишлаках — всюду стреляли, всюду
рвались мины и гранаты, сверкали по ночам трасси-
рующие очереди, пылили колонны, грохотали бата-
реи, рушились дома и вытаптывались хлебные поля.
Летом было жарко, пахло полынью, на обочинах до-
рог свежо чернели сгоревшие машины и лежали
облепленные мухами, вспухшие, смердящие ослы с
белыми глазами. Летом было жарко.
-Ну, а пока стояла зима. И солдаты занимались
мирными делами, скучали, толстели, делались
бледнее и румянее.
До поверки оставалось десять минут. Дуле надо
было сказать «да» или «нет», но он молчал. Он боялся
сознаться, понимая, что до последних дней службы
ему не дадут спокойно жить. Что происходит с челове-
ком, когда внимание всего общества сосредоточива-
ется на нем одном, он хорошо знал,— в полку было
несколько «вечных сынов»: один неудачно стрелялся,
другой пил мочу желтушника, чтобы два-три месяца
провести в госпитале, третий разрыдался на своей
первой операции. Они были посмешищем. Уже не
общество одного подразделения, а союз обществ уде-
лял им свое внимание. Любой едва оперившийся
344
«чиж» мог остановить «вечного сына» и обозвать его
или дернуть за ухо, или дать пинка, или заставить
мыть полы в казарме, или чистить сортиры. «Вечные
сыны» были вечно грязны и вшивы, они привыкли к
своему особому положению, и, наверное, оно им каза-
лось естественным,— скорее всего так, если они жили.
Но и сказать «нет» язык не поворачивался.
Раз я молчу, значит, да, со страхом думал он,
И потом это письмо. Он не успел его уничтожить.
Письмо отобрал Иванов. Ей приснился скверный сон,
и она написала это письмо, похожее на молитву, и в
каждой строке был Бог. «Деды» накинулись на Дулю
с вопросами, но он молчал.
Иногда к нему приходила спасительная мыслы
письмо написал не я, а моя девушка.
Чем дольше он молчал, тем труднее было молчать,
и все страшнее что-либо сказать. И лучше было ни
о чем и ни о ком не думать и ничего не вспоми-
нать, но...
Пух реял в солнечном спертом воздухе над прохо-
жими, газетными киосками, машинами; пух косо про-
летал вдоль домов, касаясь пушистыми щеками ка-
менных шершавых горячих стен, цепляясь за корявые
края железных подоконников, и смело вплывал во все
открытые форточки. Он хотел закрыть окно, но она
сказала: пускай,— и окно было растворено, и в него
влетал пух.
Покуда она варила на кухне кофе, он бродил
вдоль книжных полок, занимавших две стены в зале,
это была библиотека ее отца, хлебозаводского пека-
ря; там было много старинных книг, потертых, тяже-
лых, угрюмых; он высмотрел книгу с черной розой на
корешке и раскрыл ее, это был сборник китайских по-
этов эпохи Тан. Его насмешили заглавия стихов!
«Изображаю то, что вижу из своего шалаша, крытого
травой», «Рано встаю», «Стихи в пятьсот слов о том,
что у меня было на душе, когда я из столицы
направлялся в Фонсянь», «Весенней ночью радуюсь
дождю». Это было похоже на тополиные белые комья,
доверчиво льнувшие к серым домам и влетавшие во
все раскрытые форточки, и было похоже на ребенка, •
бегущего от матери навстречу незнакомому прохоже*
343
му, и на человека, который идет по людной, улице и;
думая о чем-то смешном, не может совладать, с губа-
ми, глазами, щеками и улыбается. У поэтов* были
шуршащие, звенящие и шепчущие имена: Ян* Цзюнь,
Ханыпань, Ван; Вэй, Лю Чанцин, а одно было слабым
ветром или дыханием спящего — ДуФу.
Они читали вслух. Сначала читали попеременно,
ноу него плохо получалось.
Сычуаньским вином
Я развеял бы грустные думы<—
Только нет ни гроша,
А взаймы мне никто не дает,—
читал он, и это выходило как-то плоско и обыденно;
так, если бы; подросток жаловался товарищу на роди-
телей, которые отказываются, купить ему джинсы или
магнитофона Онг это почувствовал! и больше не читал.
Читала она. И стихи были тем, чем они были:, вздох аг
мщ, слезами, весенними дождями, жалобами, трава-
ми, птицами, горами, башнями, деревьями, водопада^
ми и снежинками величиной с циновку. Потом она на-
чала читать стихотворение Ду Фу «Прощанье но-
вобрачной» :
У повилики- усики весною
Совсем слабы.
Так вышло и со мною:
Когда в деревне женится солдат,
То радоваться рано...—
и вдруг замолчала. Она опустила голову и закры-
лась книгой; Книга в ее руках вздрагивала. Он поце-
ловал побелевшие пальцы, влипшие в обложку, и она
разрыдалась.
Он вздрогнул, услышав резкий звук. Это* Оста*
пенков бросил карты на табуретку.
— Ты*что; язык сожрал?’—спросил-он* сквозь зубьь
— Да козе понятно,—сказал Санько;—ну. Чего
он молчит? РГ чего' баба в- письме через слово божится,
ну. Надо замполиту сказать и ротному.
— Нет, сами- разберемся-—отрезал Оста*
пенков.—Не отмолчится. Уж как-нибудь развяжем
язык. Ил и* я не я.
— Не, но козе же понятно,— возразил Санько.
— Мы не козы,— ответил Остапенков и заиграл
желваками-.
— Ну вот что,—тихо и решительно- проговорил
татарин Иванов. Он поднял свои круглые ясные глаза
846
и уставился на Дулю.— У нас в леспромхозу— це то-
ропясь, заговорил он,— был один баптист. Или таш
адвентист седьмого дня.
Удмурт засмеялся.
— Короче, святоша,— продолжал Иванов —
Я знаю эту породу. Изучил. Ты ему, например, по
пьяни скажешь чего прямо в глаза, а он, как девочка
перед первым абортом...
— Значит, уже не девочка,— заметил Удмурт,
— Как перед первым абортом: побледнеет и
задрожит. Ответит: зачем вы это говорите, зачем вы
так.
— А ты ему в рог,— сказал Удмурт.
— Да-а, мараться.— Иванов брезгливо повел пле-
чами.
— Ты говорил — факты, какие?— нетерпеливо
спросил Остапенков.
— Будут факты. Алеха!—крикнул Иванов.— Ко
мне!
С табуретки сорвался один из тореодоров,
круглый, низкорослый, смуглый парнишка. Он прибе-
жал, остановился, шмыгнул вздернутым носом, огля-
дел текучими глазами лица «дедов» и бойко ска-
зал: «Я!»
— Глядите на них,— предложил Иванов.
Все поглядели на двух «сынов».
— Ну, Алеха, как оно? Как житуха? — спросил
Иванов.
Алеха <взглянул на него вопросительно и, что-то та-
кое прочитав в его глазах, ответил .довольно
развязным тоном:
— Нас е..., а мы мужаем!
— .Хах-яа-хах!
— Пфх-ха-ха-ха!
— Ну, Алеха, иди,— с доброй улыбкой сказал
Иванов.— Видели? — спросил он у трварищей.
— Ну, видели, и что? — спросил Санько.
Иванов посмотрел на него с отеческой укоризной.
— Я давно замечал, я с первого дня это заметил,
что этот Дуля, эта Дуля не такая, не такой, как все.
Все сыны как сыны, а... Ну, вот вам первцй факт,—
веско сказал он.— ’Кто слышал, как Дуля матерится;
кто,— он повысил голос,— помнит, чтобы Дуля ру-
гался?
В палатке все притихли. К месту судилища потя-
нулись любопытные. «Деды» подходили и усажива-
лись, ухмыляясь, на кровати и табуретки. Приближа-
лись и «черпаки»; «сыны» и «чижи» слушали издали,
вытягивая шеи и пугливо косясь друг на друга.
— Вот так,— сказал Иванов.— Это первое. Вто-
рое. Когда кого-нибудь били, ну, уму учили, у него
глаза были, как у девочки перед первым абортом...
Дверь в палатку приоткрылась, и показалась го-
лова дневального.
— Ротный! — округляя глаза, крикнула сипло го-
лова и исчезла.
Тореодоры подхватились с табуреток и заметались
по палатке, разгоняя портянками табачный дым.
«Черпаки» и «деды» — по законам общества им
можно было сидеть и лежать в одежде на койках —
вставали, оправляли постели и рассасывались по
углам.
— Давай сюда портянки! — истошным шепотом
крикнул Удмурт, и «сыны» побежали отдавать почти
сухие, теплые портянки.
Дверь отворилась и, нагнувшись на входе, чтобы
не удариться головой о притолоку, в палатку шагнул
старший лейтенант.
— Р-рота-а! — закричал диким голосом дежур-
ный сержант.— Смиррр...
— Отставить,— сказал старший лейтенант,
выпрямляясь и проходя на середину.
Он был высок, строен, широкоплеч, у него были
насмешливые темные глаза, маленькие твердые губы,
раздвоенный подбородок, небольшие густые усы и
шрам от левого уха до кадыка.
Он огляделся, обернулся к шумящей печке и пока-
чал головой.
— Приглушить,— обронил он, и «черпак» закру-
тил вентиль на бачке с соляркой.
— Сказано ведь было,— проговорил ротный.
Неделю назад до сведения полка было доведено
случившееся в части под Кандагаром, там сгорел в
палатке взвод,—дневальные и дежурный уснули, ки-
пящая солярка вытекла из печки и поплыла по до-
щатым полам.
Продолжая смотреть на алый бок печки, старший
348 &
лейтенант спросил солдата, стоявшего у него за спи-
ной:
— Воронцов, что у тебя в руках?
— Ничего, товарищ старший лейтенант,— ответил
честным голосом Воронцом. Это был Алеха.
— Уже ничего?—Ротный вздохнул.— А что было?
— Ничего.
— Остапенков, иди сюда,— позвал скучным голо-
сом ротный.
Остапенков вышел на середину. Ротный по-
вернулся к нему.
— Ну скажи: товарищ старший лейтенант, рядо-
вой Оста-а-пенков по вашему приказанию прибыл.
Мы ведь не в колхозе, что ты?
— Товарищ старший лейтенант,— начал доклады-
вать Остапенков, застенчиво улыбаясь.
— Что тебе передал Воронцов? — перебил его
ротный.
— Ничего. Мне—ничего.
— А кому? Удмурт, тебе?
— Никак нет! — рявкнул Удмурт.
— Воронцов,— сказал ротный.— Вот, допустим,
цду я по улице твоей деревни. И встречаю, значит, те-
бя, Воронцова. Тыс девочкой, при галстуке...
— Я,— лыбясь, сказал Воронцов,— селедку не но-
шу, западло.
, — Не вякай, если не спрашивают,— громко про-
шептал Иванов.
Ротный продолжил:
— И вот встречаю, значит, тебя. С девочкой. Без
селедки. В джинсовом костюме. Ты ведь уже копишь
чеки на джинсовый костюм? Или не копишь?
— Не коплю.
— А что так? Все копят. Куда же ты их деваешь?
Отбирают, мм?
— Нет. Я все на хмырь трачу,— поспешно про-
бормотал Воронцов.
— «Хмырь», «западло»,— поморщился старший
лейтенант.
— Ну, на печенье, на конфеты там...
— Не нукай, не на конюшне,— опять послышался
шепот Иванова.
— Ладно. Встречаю я тебя, разуваюсь, снимаю
драные свои носки, которые не. стирал год, протяги-
349
ваю тебе и говорю: быстренько выстирай и высуши,
а то я тебя вы...,— он сругнулся,— и высушу.
Все засмеялись.
— Что бы ты мне ответил? Дал бы раз промеж
глаз, и весь сказ. Так?
— Куда ему «против вас,— сказал кто-то из «де-
дов».
— Ну, дружков бы свистнул или кувалду какую-
нибудь схватил бы. Так?
— Нет,— преданно глядя на ротного, ответил Во-
ронцов.
Ротный улыбнулся.
— Ну не я, кто-то другой. Какая разница. Вон
Стодоля, например. Вот что бы ты ему ответил?
Воронцов посмотрел на Стодолю.
— Ему? Ха-ха.
— Вот именно. Так какого же ... ты здесь не посы-
лаешь всех этих на ...? Говори, кому портянки су-
шил,— строго сказал ротный.— Или пойдешь на губу.
— За что? — растерялся Воронцов.
*— За все хорошее. И почему в палатке воняет ды-
мом? Ты, что ли, накурил, Стодоля?
Все опять рассмеялись. Стодоля был един-
ственным некурящим в роте.
— Ты, да?
Стодоля покачал головой.
— Не ты. Кто же? Ну, отвечай.
Стодоля молча глядел на него.
— Почему молчишь?
Все настороженно затихли.
— Я не знаю, не видел,— чугунным голосом отве-
тил наконец Стодоля.
— Конечно, откуда тебе знать. У тебя голова за-
нята чем угодно, только не службой, текущую дей-
ствительность, так сказать, tj>i не замечаешь, спишь
на ходу. Что мне, беседовать с вами в закутках? Чтоб
никто не видел и не слышал, да? Или, может, вы мне
анонимки начнете присылать? Заведем такую моду?
Никто ничего не знает, никто ничего не слышит, их
кантуют, они молчат, им квасят носы и фонари ста-
вят, они: упал, шел, поскользнулся, очнулся — фо-
нарь. Ну,’ когда-нибудь я вас всех распотрошу! Не
улыбайся, Остапенков, ты первым пойдешь в
350
дисбат! — Ротный замолчал и взглянул на часы.—
Полковая поверка отменяется,— сказал он.
Солдаты радостно загудели.
— Дождь. А на носу Новый год. Так... Ну, все
вроде на месте? Дежурит сегодня кто? Топады. Тола-
ды, кто у тебя дневальные?
Сержант Топады назвал три фамилии
— Опять все молодые. Так не пойдет. Переиграем.
Удмурт будет дневалить, Иванов и Жаров. Вопро-
сы? — Ротный снова посмотрел на часы и напра-
вился к выходу.— Через полчаса отбой, приду прове-
рю, засеку кого в вертикальном положении — пеняй на
себя. Службу, дневальные, не запорите. Все.
— Я не буду дневалить,— сказал Жаров. Это был
толстый солдат, весь вечер певший себе под нос
песни. Он был «дембель», последний из могикан,—
все его товарищи еще месяц назад уехали в Союз, до-
мой, а его задержали из-за драки с прапорщиком,
Этот прапорщик имел обыкновение сидеть в офи-
церском туалете по вечерам и следить в дверную
щель за мелькавшей над занавесками в освещенном
окне кудрявой головой. У Вали, машинистки из шта-
ба, в полку был богатый выбор, и прапорщику, нехо-
рошему лицом, худосочному и потасканному, как го-
ворится, не светило. И по вечерам он сидел в туалете
напротив ее окна. В тот злополучный вечер пра-
порщик перевозбудился, увидев между занавесками
белую грудь и живот. Посреди ночи он проснулся; он
ворочался, ворочался, но так и не смог заснуть,— все
эта грудь с коричневой вершинкой и белый, кус живо-
та Мерещились; прапорщик встал, оделся и пошел,
сам не зная зачем, под окно Валечки. Окно оказалось
приоткрытым, он отворил створки, полез в комнату и
увидел белеющие в темноте задыхающиеся тела, тут
же одно тело подскочило, и прапорщик слетел с подо-
конника, заливая мундир кровью из носа. Прапорщик
молча поднялся и опять полез в окно и вывалился
вместе с полуодетым солдатом. Они катались по
земле, хрипя и колотя друг друга. Валечка закрыла
окно и смотрела на них, кусая губы и злобно охая. Ко-
мандир танкового батальона, вышедший по нужде,
увидел их и, решив, что в полк проникли враги, вбе-
жал в офицерское общежитие и крикнул: «Тревога!»
На допросе, который вел сам начальник штаба, пра-
351
порщик врал, что увидел, как кто-то пытается
открыть окно, и схватил взломщика, а тот начал
драться, а Валечка твердила, что ничего не знает,
солдата видит впервые, прапорщика тоже,— она спала,
а потом услыхала шум, крики, стрельбу. Жаров нес
дичь, спасая Валечкину репутацию, которая была дав-
но и до последней нитки промочена. В конце кон-
цов начштаба запутался в этой истории, прекратил
дознание, отчитал Валечку и прапорщика, а сер-
жанта Жарова разжаловал, упек на десять суток и по-
обещал, что Новый год тот встретит в полку, а не дома.
— Не козлись, Жаров,— мягко сказал ротный.—
Ты же знаешь, я давно отпустил бы тебя, но... По
мне — лежи ты лежмя сутками. Но командование
интересуется, служишь ты или груши околачиваешь.
Не могу же я врать, посуди сам.
— Не буду я дневалить,— равнодушно повторил
бывший сержант. Он снял ремень.— Пишите записку
начкару.
— На губе сейчас холодно.
— Пишите,—угрюмо сказал Жаров.
— Ты мне надоедать начинаешь.
— Пишите.
— Напишу, а что ты думаешь.
— Пишите.
Старший лейтенант крякнул:
!— Ладно, еще успеешь насидеться на губе.—
Вздохнул: — Возьму грех на душу. Кто там?
Аминджонов, будешь третьим дневальным. И не тре-
питесь! — громко сказал он всем.
Солдаты откликнулись восхищенным гулом.
Старший лейтенант вышел под дождь, зная, что они
любят его еще больше.
Картежники вернулись в свой отсек, зачиркали
спичками, прикуривая. Жаров разделся и лег,
укрывшись байковым одеялом, хотя до отбоя остава-
лось полчаса. Алеха Воронцов наполнил три зеленых
обшарпанных котелка водою и поставил их на печку.
Примолкшая печка опять расшумелась,— вентиль
был лихо повернут против часовой стрелки.
Иванов и Удмурт были злы, дневалить им совсем
ие хотелось. Остапенков подошел к Алехе Воронцову,
352
сидевшему возле печки с целлофановым мешком тро-
фейного чая. Почуяв недоброе, Алеха с виноватой
гримасой на лице встал. Он готовился выполнить при-
каз: «Душу к бою!» Этот странный приказ никому ни-
когда не казался странным, услышав его, нужно было
просто выпятить грудь и получить удар кулаком по
второй пуговице сверху,— в бане сразу были видны
непонятливые и нерасторопные «сыны» и «чижи»,
посреди груди у них синели и чернели «ордена дура-
ков»— синяки. Воронцов приготовился к удару в «ду-
шу», ведь он опростоволосился три раза: не успел
вовремя передать портянки «дедам», вякал, когда не
спрашивали, и нукал, как на конюшне.
Но Остапенков положил ладонь на плечо Воронцо-
ва и сказал:
— Садись. Чай покрепче чтоб.
— Есть!
Остапенков помолчал и вдруг спросил:
— Слушай, мог бы ты дать пощечину Дуле?
— Дуле?
— Ага.
— За что?
— Так. Если мы тебя очень попросим. Один экспе-
римент надо провести.
Воронцов растерянно заморгал и пробормотал:
— Не, но как? Надо за что-то...
— Найдем, за что,
— Да? Я не знаю... Если очень нужно...
— Очень. Мы потом тебя разбудим,— сказал
Остапенков.— Забацай чай и ложись, а после мы те»
бя поднимем.
Остапенков прошел в свой отсек, где *его ждали
Иванов, Удмурт, Санько и еще несколько «дедов» и
два «черпака», друживших с «дедами».
— А где этот? — спросил Остапенков.
Он окликнул дежурного сержанта. Сержант ска-
зал, что в туалет отпросились Бойко и Саракесян, а
Дуля не отпрашивался. У Остапенкова вытянулось
лицо. Это уже было ни на что не похоже,— все «сы-
ны» и «чижи» обязаны были докладывать, куда и на
какое время они отлучаются по личным делам. Как
правило, по личным делам они уходили из палатки
только в туалет. Правда, «чижам» позволялось еще
навещать своих земляков в других подразделениях и
12. Крещение
353
библиотеку, «сынов» же не пускали ни к землякам, ни
в библиотеку. Впрочем, в библиотеку пойти не возбра-
нялось, но при одном условии — если «сын» знает на-
изусть устав караульной службы,— разумеется, никто
и не пытался сдавать экзамены, чтобы получить пра-
во на посещение библиотеки.
— Да брось ты,— сказал Иванов,— на стукача он
не похож. Я изучил эту породу, у них есть понятия.
— А что, запросто пойдет и заложит,— тихо про-
говорил Санько, вспоминая, бил ли он когда-нибудь
Дулю или только обзывал.
— Пусть только попробует,— сказал Удмурт, по-
чесывая мохнатую грудь.
— Он просто запамятовал, что он «сын»,— сказал
Иванов.
Остапенков закурил. Он затягивался дымом и за-
думчиво вертел в пальцах обгорелую, куксившуюся
спичку
— А если заложит, ну? — спросил Санько.
— Да бросьте вы, мужики,— сказал второй
«черпак».
— В туалете сидит,— сказал «дед».
Помолчали.
— Скоро там отбой? — спросил Санько.
Остапенков хмуро посмотрел на него.
— Сначала с ним разберемся,— сказал он.
Прошло десять минут, двадцать, из туалета верну-
лись Бойко и Саракесян. Дулю они не видели.
— Мелюзга и черпаки пускай ложатся, а мы это
дело доведем до конца. Отбивай, Топады,— сказал
Остапенков.
Дежурный сержант-молдаванин посмотрел на ча-
сы и гаркнул: «Отбой!»
Все начали укладываться: «чижи» торопливо,
«черпаки» неспешно, а «сыны» молниеносно,— грохо-
ча сапогами, лязгая пряжками и треща пружинами
коек.
«Деды» и два «черпака» пили черный чай, потея и
громко сопя. К чаю были галеты и сахар. Галеты
отдавали плесенью. Зимой все отдавало плесенью:
чай, макароны, супы, порошковая картошка и хлеб.
Имевшие знакомства на продуктовом складе хлеб не
ели, носили в столовую галеты. Хлеб выпекали в
полку. Буханки были плотные, низкие, заскорузлые,
354
кофейного цвета, пахнущие хлоркой и очень кислые,—
от этого хлеба весь полк мучился изжогой, дово-
дившей до рвоты. Офицеры питались другим хлебом,
пшеничным — высоким, мягким, светлым,— офицер-
ским хлебом. Хорошей муки и сильных дрожжей мало
присылали в полк. Война есть война.
— Нет, ему же это невыгодно,— сказал Иванов.—
Его самого по головке не погладят: стукач да еще ве-
рующий.
— А мне брат рассказывал,— вспомнил первый
«черпак».— У них на корабле — он на море слу-
жил— тоже выискался один. На берег служить про-
перли.
— И все?
— И все. Верующие служат, это баптисты вообще
отказываются. Им легче в тюрьму, чем присягу с
автоматом... козлы. Значит, этот не баптист, а просто.
— Не, ну а че мы ему такого сделали? — спросил
Санько.— Я, к примеру, и пальцем его не тронул,
ну. Кантовали понемногу, как всех. А что ж, пускай
бы он барином, да? Все через это прошли. Они Хана
не застали, счастливчики. А мы что, на пятках у него
бычки тушим? Или зубы выбиваем? Или вон —
помните? — Цыгана Хан связал и заставил всех пле-
вать ему в лицо.
— И доплевались. Цыган, наверное, лупит и сей-
час по нашим колоннам, сука. Поймать бы,— сказал
один из «дедов».
— Хан сейчас тоже лупит — парашу где-нибудь
под Воркутой.
— Вот бы Цыгана поймать.
— Он, небось, в Чикаго виски глушит.
Санько встал и, громко зевнув, сказал:
— Ну, ладно.
— Куда? — остановил его Остапенков.
— Спать. Я нынче чтой-то плохо спал...— про-
бормотал Санько и сел на место.
— Пока до Воркуты в гости к Хану будешь чухать
на поезде, и отоспишься,— смеясь, сказал Удмурт.
— Искать пойдем,— сказал Остапенков.
— Такой дождь,— уныло сказал второй «черпак».
Остапенков обернулся к нему.
— Не понял,— проговорил он,— что вы тут
делаете?
355
— Да мы...— «черпак» смущенно улыбнулся.
— Пойдем, Серега, спать,— позвал его первый
«черпак», и «черпаки» ушли, пришибленно улыбаясь.
— Я тоже думаю, что капать он не пойдет,— ска-
зал Остапенков.
— Значит...
— Одно из двух: сидит у какого-нибудь земляка
или ползет мимо КПП.
— Я этому гороховому шуту роги поотшибаю, я
ему...— Удмурт осекся.— Слыхали? — Послышался
второй взрыв. Минуту спустя опять бухнуло. Солдаты
вышли на улицу, в темноту и дождь.
— Первую батарею обстреливают,— сказал дне-
вальный.— Минометы.
На краю полка в черноте пыхнули огни и разда-
лись деревянные звуки—батарея открыла ответный
огонь из гаубиц.
— Как бы тревоги не было,— пробормотал Санько.
Разорвались мины, и тут же им ответил хор гау-
биц: бау! бау! б-бау-у! На краю полка закраснели
трассирующие очереди,— пересекаясь, они уходили во
тьму. Треск автоматов был едва различим в не-
умолчном хлюпанье и стуке дождя по крыше «грибка».
Мины стали рваться чаще. Заработали пулеметы и
скорострельный гранатомет. Лил дождь, гаубицы
кричали: бау! бау! — и ночь с мясистым треском
разрывалась, брызжа во все стороны огнем.
«Деды» вернулись в палатку. Они стояли возле
печки, курили и молчали. Возможность тревоги тяго-
тила, воевать ночью под зимним дождем не хотелось,
хотелось залезть под одеяло и, послав все к черту,
погрузиться в домашние сны.
— Вот же! А? — сказал тонким чужим голосом
Санько.
— Что? — резко спросил Остапенков.
— Что, что! Да хрен с ним, пускай он хоть икону
на пузе таскает!
— Да? — Остапенков прищурился.—,А если мне
завтра с ним в бой? В атаку, мм?
— Вот именно,— поддакнул Иванов.
— Он же убежит,— продолжал Остапенков,—
бросит автомат и смоется, тебе будут шомполом гла-
за прокалывать, а он будет сопли пускать и уносить
ноги, а? Этих баптистов и адвентистов... на полюс
356
всех, чтоб не воняло здесь ладаном! К... матери! К...
матери!
— Я эту породу, изучил. А к этому одуванчику
давно присматриваюсь,— сказал Иванов.— Как он на
того пленного смотрел...
— Он чистеньким хочет!.. Но ни хрена! — Оста-
пенков потряс кулаком.— Лучше пускай сразу веша-
ется — или он станет настоящим разведчиком, или
пусть убирается, в разведроте ангелочкам не место.
— Остап,— вдруг послышался насмешливый го-
лос сбоку,— а Остап.
Остапенков вздрогнул и обернулся. Сквозь прутья
спинки койки на него глядел бывший сержант Жаров.
Он лежал под одеялом, заложив руки за голову.
— Не бойся, это я,— сказал Жаров.
— Я боюсь? Тебя, что ли?
— Ну, теперь ты меня не боишься,— сказал
мирно Жаров.
— Я тебя никогда не боялся.
— Это тебе так кажется сейчас. Блазнится. Мне
тоже иногда блазнится, что я Хана не боялся. А бо-
ялся, хоть был одного призыва с ним.— Жаров взял
с тумбочки пачку, вытащил сигарету.— Я тут
смотрел, как вы потрошите этого сына, и... Сказать
тебе, Остап, одну вещь?
— Ну.
— Жалеть будешь. Потом.
— Я-а?
Скрипнула дверь, все обернулись и увидели в про-
ходе человека с почерневшим лицом. Он стоял в
дверном проеме, с него густо капало, и за его спиной
шелестела, хлюпала и взрывалась ночь. Дневальный
пихнул его в спину и затворил снаружи дверь. Стодо-
ля молчал. Все смотрели на его сырой, обвисший
бушлат, старую, давно отслужившую свой срок
шапку с подпаленными ушами, на разбитые огромные
грязные кирзовые сапоги, на его синие губы, мокрый
острый нос и ямы глаз.
— Ты вон к печке иди,— сказал Удмурт.
Остапенков бросил взгляд на Удмурта и снова
вперился в Стодолю.
— А-а,— сказал Остапенков,— явление...
Стодоля молчал.
— Где был? — спросил Остапенков.
857
Стодоля поднял на него глаза, пошевелил губами.
— Что-о? Не слышу!
— Я-верую,—повторил Стодоля.
Марс и солдат
1
В комнате было светло,— ночью выпал снег. Первый
снег всегда радовал и бодрил, но нынче старику было
нехорошо. Он проснулся, увидел белую Москву и
вдруг подумал, что этот первый снег— последний.
Старик прогнал эту мысль, черную мысль о белам
снеге, ок заставил себя думать о других вещах,, и он
думал о других вещах, но что-то там внутри сохло от
тоски, ныло и саднило. И ведь боли утихли в старом
теле, и сердце стучало ровно, и голова ясна была, а
муторно было на душе. Старик грустно зевнул и
нахмурил густые черные брови.
После завтрака старик в синем спортивном шер-
стяном костюме сидел в кресле, сложив белые рыхлые
руки на мягком большом животе, и глядел слезящи-
мися глазами на белую Москву, на свою белую
опромиую Москву...
2
Сорокопутов покатался по тесному темному гроту и
немного согрелся; он скорчился, подтянул колени к
груди и замер. Руки, схваченные за спиной веревкой,
были тяжелы и полумертвы. Время от времени он ше-
велил пальцами, но кровь все равно слишком
медленно просачивалась в сдавленных сосудах, и кис-
ти мерзли и немели все сильней. Сорокопутов не знал,
Сколько времени он провел в этой каменной щели, мо-
жет, день, может, сутки. Хотелось пить и курить,
Было холодно. Сорокопутов лежал на боку,
свернувшись калачом, и слушал глухие звуки боя, во-
зобновившегося недавно. Ватно ударяли по горам
снаряды. Это вселяло надежду. Впрочем, надежда ни
на миг не покидала его, он с самого начала знал, что
это чушь и бред, и вот-вот он услышит крики «ура!»,
358
тяжелая плита отодвинется, и ловкие заботливые: ру-
ки вытянут его из этого склепа, разрежут веревку,
поднесут горящую спичку к сигарете. «Ну, Сорокопут,
как же это тебя угораздило?» — «Да черт его знает,
мужики- Как-то так получилось. Как во сне»;—
«Ладно, Сорокопут, зато будет что порассказать на
гражданке».
Он знал, что именно так все и закончится. Было
такое предчувствие, предчувствие удачи никогда еще
не подводило. Все будет хорошо, надо запастись
терпением и ждать.
И Сорокопутов лежал на камнях, прислушивался
к взрывам и ждал.
3
«Как это у поэта? То ли снег, как черемуховые лепе-
стки, то ли цветущие черемухи будто снегом занесе-
ны,— подумал старик в синем спортивном костюме,
глядя в просторное окно на заснеженный город.—
Скорее бы весна... Дожить бы». Он взял томик своего
любимца. В печали он любил читать эти стихи, хотя
от них на душе делалось еще грустнее.. «Все они рты
поразевали бы»,— мелькнула, мысль. Он вообразил
этих всех с разинутыми ртами,— глядят круглыми ба-
раньими глазами на томик стихов в державных руках.
Он и этот поэт, гуляка, скандалист, бабник и. само-
убийца. «Да! Люблю!..»—мысленно сказал старик
всем этим и горько улыбнулся. Он надел очки в золо-
той оправе, раскрыл томик, медленно перелистнул не-
сколько страниц и нашел прст снег и черемуху:
«Сыплет черемуха снегом...»
4
Все будет хорошо5 Главное, чтобы не покинуло
предчувствие удачи. Главное... Да, главное»., что
главное? Ну... это...
Сорокопутов висел на суку над. мутной далекой ре-
кой, руки былИ1 связаны, и он держался за сук зуба-
ми; зубы с треском выкорчевывались- из десен, выпле-
вывать их он не мог, приходилось глотать твердые зу-
350
бы. Сейчас он сорвется и рухнет в реку и убьется. Он
сорвался и полетел вниз, плавно опустился в воду,
напряг руки, веревка лопнула, и он плыл. Светило
солнце, вода была тепла, по берегам краснели
крупные цветы на зеленых кустах. Низко над водой
летали какие-то неуклюжие птицы, ласковые пуши-
стые птицы с женскими глазами, они задевали его
крыльями, и он смеялся...
Сорокопутов проснулся и подумал, что когда-то
видел этот сон. Или нет, это было на самом деле. Да,
было. Он с другом рыбачил в конце мая на Днепре,
было жарко, и они купались, а В небе носились чайки
и парили цапли и аисты. Выкупавшись, они лежали
на песчаной косе, на желтой горячей косе. Вечером
сидели у костра, пили чай и слушали, как плещутся
щуки, а ночью шел дождь, и утром вокруг палатки
зацвел шиповник.
Звуки боя стали ближе. Где-то совсем рядом рва-
лись гранаты и неумолчно бил крупнокалиберный пу-
лемет.
Что там? День? Ночь?
Ура!.. Ну, кричите «ура!» — косите духов очередя-
ми и выпускайте меня на волю, ну, где вы, трусы!..
Сорокопутов ждал.
Главное вот что: не потерять веру. Гибнут до вре-
мени все те, кто не верит в свою счастливую звезду.
А он верит. Он знает, что скорей солнце развалится
на куски. До срока уходят слабоверцы и те, кто не по-
нимает жизни и не знает, что такое счастье. А он по-
нимает и знает — это ночной дождь и зацветший
утром шиповник.
Сорокопутов вздрогнул, услышав каменный^ скре-
жет. Плита отодвинулась, и в грот ворвался резкий
свет, как если бы сюда направили лучи десятков
мощных прожекторов. В грот хлынули звуки очередей
и взрывов, Сорокопутов оглох и ослеп. Чьи-то руки
схватили его за ноги и выволокли из каменной щели.
Он жмурился и ничего не видел. Потом он разли-
чил яркое небо и белые вершины и увидел над собой
людей в длиннополых рубахах, меховых безрукавках,
шерстяных накидках, чалмах и каракулевых шапках.
Свет выбил из его глаз слезы, капли медленно по-
текли по грязным щекам. Над головами людей с
темными осунувшимися лицами висели занесенные
360
первым снегом вершины. Стылый воздух дрожал от
взрывов и очередей.
Один из мужчин, широкоплечий и седобородый,
сделал знак рукой—встать. Сорокопутов поспешно
встал. Стуча зубами, он стоял на дрожащих, подгиба-
ющихся ногах и смотрел в глаза седобородого, у седо-
бородого были усталые, темные, влажные глаза. Со-
рокопутов с надеждой глядел в них.
Седобородый кивнул, и слева и справа ударили
очереди, огненный ветер вспучил грудь Сорокопутова,
он упал на спину, перевернулся на бок, скрючился и
начал сучить по свежему снегу ногами, мыча и выду-
вая носом алые пузыри.
5
Старик в кресле у окна читал стихи. Он читал про су-
ку и ее щенят, про корову и ее теленка, про клен
опавший, про избы с голубыми ставнями, про
ушедшую* молодость, отцветшие черемухи и яблони.
Он вздыхал и пошевеливал черными молодыми бро-
вями.
Старик перевернул толстыми белыми пальцами
еще одну страницу, он погрузился в новое стихотворе-
ние, и его тяжелое пористое лицо дрогнуло:
Мы умираем,
Сходим в тишь и грусть,
Но знаю я —
Нас...
Старик сжал губы и насупил брови. Он продол-
жал читать:
Но знаю я —
Нас не забудет Русь...
У старика задрожала выпяченная нижняя губа,
задрожала нижняя челюсть, задрожала голова, и уве-
систая соленая капля шпокнула по странице.
Пир на берегу фиолетовой реки
Всю ночь штабные скрипели перьями. Всю ночь возле
штаба толпились солдаты, отслужившие свой срок.
Увольнение задержали на три месяца. Все это время
361
солдаты, отслужившие свой срок, считали, что они
живут чужой жизнью; они ходили в рейды и иногда
гибли. Вчера они вернулись из очередного рейда и не
сразу поверили приказу явиться в штаб с военными
билетами. Всю ночь штабные оформляли документы.
Эта ночь была душной и безлунной, в небе стояли
звездные светочи, блажили цикады, из степей тянуло
полынью, от длинных, как вагоны, туалетов разило
хлоркой, время от времени солдаты из боевого охра-
нения полка разгоняли сон короткими трассирующи-
ми очередями,— эта последняя ночь была обычной, но
тем, кто курил у штабного крыльца в ожидании своей
очереди, она казалась сумасшедшей.
Наступило утро, и все уволенные в запас выстрои-
лись на плацу.
Ждали командира полка. Двери штаба отворя-
лись, и на крыльцо выходил какой-нибудь офицер или
посыльный, а командира все не было.
Но вот в сопровождении майоров и подполковни-
ков, плотных, загорелых и хмурых, по крыльцу спу-
стился командир. На плацу стало тихо. Командир
шел медленно, хромая на левую ногу и опираясь на
свежевыструганную трость. Командир охромел на по-
следней операции—спрыгнул неловко с бронетранс-
портера и растянул сухожилие, но об этой подробно-
сти почти никто не знал. Командир шаркал ногой,
слегка морщаясь, и все почтительно глядели на его
больную ногу и на его трость и думали, что он ранен.
Остановившись посредине плаца, командир взгля-
нул на солдат.
Вот сейчас этот суровый человек скажет какие-то
странные теплые слова, подумали все, и у сентимен-
тальных уже запершило в горле.
Постояв, посмотрев, командир ткнул тростью в
сторону длинного рыжего солдата, стоявшего напро-
тив него.
— Сюда иди,— позвал командир.
Солдат в зауженной, ушитой, подправленной на
свой вкус форме вышел из строя, топнул каблуками,
приложил руку к обрезанному крошечному козырьку
офицерской фуражки и доложил, кто он и из какого
подразделения. Командир молча разглядывал его.
Солдат переминался с ноги на ногу и виновато смот-
рел на белую деревянную трость.
362
— Ты кто? Балерина? — гадливо морщась, спро-
сил командир.
Командир так и не успел сказать прощальную
речь своим солдатам,— пока он отчитывал офицеров,
не проследивших, что подчиненные делают с парад-
ной формой, пока он кричал еще одному солдату:
«А ты? Балерина?», пока он кричал всем солдатам:
«Вы балерины или солдаты, мать вашу.,.»,— из Кабу-
ла сообщили, что вертолеты вылетели, и посыльный
прибежал на плац и доложил ему об этом. Командир
помолчал и, махнув рукой, приказал подавать ма-
шины.
Ми-6, тяжелые и громоздкие вертолеты, не при-
землялись в полку — для взлета им нужна хорошая
площадка, в полку ее начали строить, но никак не
могли продолжить и закончить,— и поэтому крытые
грузовики с демобилизованными солдатами поехали
под охраной двух бронетранспортеров в центр провин-
ции, где был военный аэродром.
От полка до города было не более пятнадцати ки-
лометров, дорога шла по ровной и пустой степи, так
что нападения можно было не опасаться. Вот только
забыл командир пустить впереди «трал» — тяжелую
толстостенную машину навроде танка, вылавливаю-
щую мины; у командира нога ныла, да и вообще дел
было невпроворот — через два дня полк выступал на
Кандагар.
Машины катили по пыльной дороге, старательно
объезжая старые и свежие воронки.
Вдоль дороги зазеленели картофельные и хлебные
поля, потянулись запыленные пирамидальные тополя,
колонна въехала в город, и все стали последний раз
глядеть на город. Они смотрели на глиняные дома,
башни, дувалы, желтые арыки, грязные сточные ка-
навы и неправдоподобные сады с ручьями, цветника-
ми, лужайками и беседками; на купола мечетей и на
покрытые цветочным орнаментом глиняные пальцы
минаретов, на прилавки дуканов, заваленные всякой
разноцветной всячиной, на украшенных бумажными
цветами маленьких лошадей, запряженных в легкие
повозки, на бородатых, рваных, босых нищих, возле-
жащих в тени платанов, на женщин в чадрах, на ма-
льчишек, торгующих сигаретами и презервативами,
на ослов с вязанками хвороста...
363
На аэродроме штабные и офицер из полка, при-
ехавшие вместе с демобилизова1нными, построили всех
в две шеренги, и началось то, что у солдат называлось
шмоном. Офицеры приказали все вещи, вынуть из
портфелей, «дипломатов» и карманов и положить на
землю. Они быстро двигались вдоль шеренг, иногда
останавливаясь, заглядывая в портфель, принуждая
кого-нибудь выдавить зубную пасту из тюбика, про-
щупывая чей-нибудь погон или фуражку. Анашу ни у
кого не нашли. Нашли и отобрали коран, четки, коло-
ду порнографических карт, пакистанский журнал с
фотографиями затравленных пленных, окруженных
улыбающимися усачами в чалмах. А у Нинидзе отня-
ли пять штук солнцезащитных немецких очков, заме-
тив, что многовато. Нинидзе стал горячиться и дока-
зывать, что он не собирается спекулировать, а просто
везет подарки друзьям. На шум пришел старший Лей-
тенант из особого отдела. У него было бледное потное
лицо и морщинистые толстые веки с красными обо-
дками.
— Что вы? — спросил он Нинидзе. Во всем полку
он был единственньш офицером, обращавшимся к
солдатам на вы. Он спокойно глядел на Нинидзе, и у
того пропадала охота доказывать, что он хотел просто
сделать приятное друзьям. Но Нинидзе все же объяс-
нил, в чем дело.
Старший лейтенант вытащил платок, промокнул
свое бледное лицо и спросил:
— Откуда у вас японская штучка?
— Какая?
— Вот, приемник.
— Купыл,— ответил Нинидзе, бледнея.
— Чек.
— Какой же чек, я в дукане купыл, там ныкаких
чеков не дают.— Нинидзе попробовал улыбнуться.
Старший лейтенант взял радиоприемник, осмотрел
его. Нинидзе почудилось, что он даже понюхал своим
костлявым носом приемник.
— Купили,— пробормотал офицер,— купили. А мо-
жет быть... Может?
— Что?
— Все может быть.
— Нет,— возразил Нинидзе,— эту вещь я купыл.
Старший лейтенант болезненно улыбнулся.
364
— Да? Проверим?
— Как?
— Просто, очень просто. Для этого придется вер-
нуться в полк.
— Вы шутыте,— сказал Нинидзе.
— Нет, вовсе не шучу.
— Товарищ старший лейтенант,— сказал Рома-
нов, кареглазый, скуластый, плотный сержант.
Офицер взглянул на него.
— Товарищ старший лейтенант, мы ведь вместе,
вот впятером, от начала и до конца,— сказал Рома-
нов, кивая на своих соседей и на Нинидзе.
— Понимаю,— откликнулся офицер.— Что ж,
можно всем пятерым вернуться в полк. Найдется, что
проверять. Откуда вы? Из разведроты? Ну-у, братцы...
— Не надо, товарищ старший лейтенант,— сказал
Романов.
— Не надо? — Офицер скользнул взглядом по со-
седям Романова, задержался на тусклых глазах худо-
сочного маленького Реутова, опять посмотрел на Ро-
манова и спросил у него:
— Зачем он обкурился?
— Кто? — удивленно переспросил Романов.
— Вот этот.— Офицер показал глазами на Реуто-
ва.— Вы обкурились? — спросил он у Реутова.
— Нет,— ответил Реутов.
Старший лейтенант молчал полминуты. И пока он
молчал, «дембеля» из разведроты вообразили, как
они опять будут подъезжать к полку и смотреть на его
окопы, каптерки, длинные туалеты, ряды прорезинен-
ных палаток и как присвистнет ротный, увидев их,
а замполит скажет: я предупреждал, я же предупреж-
дал, что рано или поздно все тайное становится
явным.
— Ну что ж,— вздохнул старший лейтенант и,
опять замолчав, устремил взгляд поверх солдатских
голов. И все услышали храпящий стрекот, оглянулись
и увидели в небе над сизыми горами черные штуки.
— Да, в самом дэле, это много очков,— пробормо-
тал Нинидзе.
Старший лейтенант весело посмотрел на него.
— Вот как,— сказал он.
— Да. Так точно,— проговорил Нинидзе.
365
— А вы? — обратился офицер к Реутову.— Что
скажете?
Реутов тупо посмотрел на него и пошевелил тонки-
ми губами:
— Я не курю анашу.
Стрекот нарастал, штуки, перевалив горы, у?це
двигались над картофельными и хлебными полями
предместий, делаясь длиннее и толще.
Всех «дембелей» уже распустили, и они громко
разговаривали, выколачивали пыль из кителей и фу-
ражек и, не приближаясь, смотрели на разведчиков и
старшего лейтенанта из полка.
— Товарищ старший лейтенант,— позвал подо-
шедший к ним пехотный майор-отпускник, он сопро-
вождал партию до Ташкента.
— Да вот не знаем, что нам делать: то ли в полк
возвращаться, то ли в Советский Союз лететь,— ото-
звался старший лейтенант»
Майор поднял брови.
— Что-Нибудь серьезное? — спросил он, глядя
вверх. Вертолеты заходили на посадку.
— Всегда есть что-нибудь серьезное. У каждого
есть что-то серьезное.
Майор пристально взглянул на старшего лейте-
нанта и отвел глаза.
Вертолеты сели и, тяжело и неуклюже покачива-
ясь, покатили по аэродрому. Ударил ветер, и солдаты
схватились за фуражки.
— Так что же? — прокричал майор, придерживая
фуражку и отворачиваясь от ветра.
— Ладно,— ответил старший лейтенант, снисхо-
дительно улыбаясь.— Хотя вот этого обкурившегося и
стоило проучить.—; Он погрозил Реутову пальцем.—
Ладно уж,— сказал он и пошел к офицерам, стояв-
шим возле белокаменного домика на краю аэродрома.
Романов не удержался и сказал словечко. Майор,
не .расслышавший, но по губам Романова понявший
это словечко, покачал головой. Но словечко было что
надо, и пехотный майор не мог не улыбнуться.
В Кабуле вертолеты успели приземлиться до того,
как всю долину накрыл самум. Солдаты выходили из
вертолетов и сразу смотрели на замеченную еще с
366
воздуха гигантскую крылатую машину, выкрашенную
в белое и голубое, на борту которой было написано
«Ту-134». Потом они поворачивали головы на восток,
и их глаза гасли,— с востока бесшумно двигалось по
долине, закрывая небо и горы с тускло мерцающими
ледниками, застилая сады и склоны, застроенные
глиняными жилищами, косматое и коричневое; и отто-
го, что на аэродроме еще было безветренно и с голу-
бого неба светило солнце, а совсем рядом все было
непроницаемо и грозно, надвигавшийся самум казал-
ся чем-то сверхъестественным и последним, как семи-
трубный глас.
Когда все солдаты покинули вертолеты, майор по-
вел их по аэродрому к пересыльному лагерю. Обне-
сенный колючей проволокой лагерь был неподалеку
от аэродрома, у подножия гор, жарких и бурых внизу
и холодных и сизых, обляпанных снежниками и лед-
никами вверху.
— Быстрей! — покрикивал майор, и все споро ша-
гали за ним, оглядываясь на город.
Город был уже наполовину поглощен самумом, и
солдаты уже различали клубы и видели, как вихри
гонят бумажки, листья и какие-то серые обрывки и
лоскутья. Майор побежал, и все побежали, сухо топая
по бетону. Они бежали, держа фуражки в руках. Они
бежали за своим быстроногим майором, но на них
уже лежала желтая тень самума. И на полпути эта
коричневая метель накрыла их.
Они заблудились и только через час, иссеченные
песком и камешками, запыленные, злые, задыхающи-
еся, оказались на пересыльном пункте. Начальник ла-
геря разместил их по палаткам. В палатках тоже бы-
ло пыльно, но песчаный ветер не резал и не жег лицо,
и по голове не стучали камешки, й, главное, наконец-
то можно было покурить.
Самум стих поздно ночью. В лагере все, кроме ча-
совых, спали. В лагере было полно уволенных в запас
солдат и новобранцев, и все они спали, видя разные
сны, и надеялись во сне на разные вещи: «дембеля»
верили, что завтра они улетят навсегда отсюда, ново-
бранцы мечтали о добрых командирах и «дедах» и ме-
стах, где мало стреляют.
367
Глубокой ночью на руке Нинидзе затрещал буди-
льник наручных часов. Нинидзе очнулся, встал, вы-
шел из палатки, огляделся. Было тихо, темно, вверху
светились голубым, зеленым и красным звезды. В сто-
лице горели редкие огни. Над городом висели черные
вершины. Нинидзе вернулся, вытащил из «диплома-
та» радиоприемник, надел на голое тело китель, сунул
приемник за пазуху, вышел из палатки и, озираясь,
направился в дальний конец лагеря.
Он шел а дальний конец лагеря, неся за пазухой
радиоприемник, липнущий к потной груди, и просил
своего Старика сделать так, чтобы не напороться на
дежурного офицера.
Никого не встретив, он достиг цели — длинного до-
щатого сооружения. Он прошел в узкую дверь и
остолбенел, увидев в темноте горящую сигарету. Он
хотел выскочить вон, но, опомнившись, прошел до зад-
ней стенки, нашел дыру и, спустив <5рюки, сел. Сосед
молчал, куря и сплевывая. Нинидзе сидел и ждал.
Наконец сосед ушел и, немного выждав, Нинидзе вы-
тащил свой облитый потом трофей и опустил его в ды-
ру. Радиоприемник громко шлепнулся.
Нинидзе вернулся в палатку, разделся и лег на го-
лую железную сетку,— опасаясь вшей, все матрасы
они стащили с коек и сложили в углу. Несколько ми-
нут он напряженно слушал, но ничего, кроме сопения
и храпа соседей, слышно не было, и он расслабился,
глубоко вздохнул, попросил своего Старика сделать
так, чтобы они утром улетели, и уснул.
Утро пришло солнечное.
После завтрака большую партию «дембелей» по-,
вели на аэродром. Оставшиеся видели через колючую
проволоку, как час спустя эта партия садилась в са-
молет, видели, как самолет выехал на взлетную поло-
су, разогнался, оторвался от серого бетона и пошел
вверх, сделал полукруг над городом и полетел на
север.
Оставшиеся сидели в курилках, дымили сигаретами
и хмуро смотрели на новобранцев, казавшихся им ка-
кими-то ненастоящими солдатами, прилетевшими сю-
да не воевать, а играть в спектакле про войну,— та-
кие у них были свеж:ие светлые лица, и так неумело
368
они старались скрыть свои страх, натужно смеясь и
шутя, насупливая брови и обильно матерясь. Но как
бы грубо и бесстыдно они ни матерились, как бы они
ни хмурились и ни ерничали, было видно, что ново-
бранцам страшно и что они и сами недоумевают, как
это они будут делать два года то, что делали эти за-
горелые, усатые мужчины в фуражках и кителях со
значками и медалями.
На аэродроме больше не было видно никаких
крупных самолетов, и «дембеля» говорили друг другу:
«Ла-а-дно, позагораем».
Но в полдень прилетел транспортный самолет, и
кто-то вспомнил, что уволившийся год назад земляк
писал, как их партия летела домой на грузовике, и
все оживились и начали спорить, правда это или нет.
Прошло полчаса. Появился пехотный майор. Он
собрал свою партию и отвел ее к воротам лагеря.
Здесь какой-то капитан в очках зачитал списки, и вся
партия откричалась: я! я! я!
Прошло еще полчаса. Солдаты смирно стояли пе-
ред воротами под прямыми лучами солнца. Пот стру-
ился по лицам. Солдаты стояли и покорно глядели на
своего майора, курившего в стороне. Но вот опять по-
явился капитан в очках, и все уставились на него. Ка-
питан кивнул майору, прошел в голову колонны, при-
казал часовым отворить ворота, и часовые отворили
ворота, офицер махнул рукой, и солдаты пошли.
Офицеры на таможне оказались веселыми и снис-
ходительными, еще совсем молодыми ребятами. Они
так же быстро и ловко, как и полковые проверяльщи-
ки, осмотрели вещи, выдавили всего лишь один тюбик
пасты и разрезали пару кусков мыла. В одном куске
была афганская ассигнация. Офицеры посмеялись: за-
чем это тебе в Союзе? Солдат ответил: па память.
И офицеры вернули бумажку. Анаши ни у кого не на-
шли. Да они и не лезли из кожи вон, чтобы найти
ее. На очки, джинсы, пакистанские сигареты и все та-
кое они не обращали никакого внимания, хотя на пе-
ресылке и поговаривали, что уж на кабульской та-
можне такие звери, не то что проверяльщики из род-
ного полка,— все к чертовой матери отберут, что при-
обретено не в советских магазинах.
369
Нинидзе был мрачен, когда они вышли со двора
таможни и направились к транспортному самолету.
— Мурман, ты что? — спросил Романов.
Нинидзе молчал.
— Мурман,— снова позвал Романов,— а Мурман,
чачу сегодня пить будешь. А?
Нинидзе печально улыбнулся.
— Ну, допустим, не сегодня,— возразил Шинга-
рев.
— Но ташкентское винцо попробует,— сказал Ро-
манов,— сегодня.
— Мы с Сашей пьем только водку,— пробасил
плечистый, толстый Спиваков.— Да, Саша?
Маленький Реутов беззвучно улыбнулся.
— Всё будем пить,— сказал Романов.— А вино
обязательно красное. Это вино победы. Так, Шинга-
рев-Холмс?
— Так,— кивнул недоучившийся, студент Шинга-
рев. Кличку Шингарев-Холмс он получил с легкой ру-
ки ротного,— когда его ранило под Кандагаром
осколком разрывной пули в ягодицу и он расстонался,
ротный сказал ему в утешение, что Шерлок тоже был
ранен в Кандагаре.
— Всё будем пить: и водку, и вино,— повторил
Романов.
— И пиво,— сказал кто-то.
— И плюс бабы! — воскликнул еще кто-то из со-
седей.
— А что, дорогие в Ташкенте телки?
— Четвертной, если у клиента морда кирпича не
просит.
— А если просит?
— Полсотни.
— Вот же спекулянтки! У нас в Токмаке за шоко-
ладку отдаются!
Посмеиваясь, они остановились перед транспорт-
ным самолетом. Майор-отпускник пошел к летчикам,
стоявшим в тени крыла. Поговорив с ними, он вернул-
ся и сказал, что самолет еще не разгружали и им при-
дется еще раз потрудиться для армии.
— Так что, еще машины ждать? — уныло спроси-
ли его.
— Нет, прямо на землю сложим.
370
— Вообще надоело грузить и разгружать. Вообще
это скотство. Мы уже свободные,— сказал кто-то.
— Ты, свободный, заткнись! — оборвали его.—
Разгрузим, товарищ майор, о чем речь.
— Ну, ты и разгружай,— послышался голос «сво-
бодного».
Майор выматерился и спросил: что, домой .никто
не хочет? — и все, раздевшись до пояса, пошли раз-
гружать самолет.
Они выносили и складывали в стороне от самолета
ящики, мешки, коробки и синие пахучие бараньи ту-
ши. Они сновали по трапу и выносили и выносили
ящики, коробки, мешки и туши, и солнце обжигало их
простоволосые головы и блестевшие от пота спины.
Разгрузив самолет, они обтерлись носовыми плат-
ками и надели рубашки и кителя.
Потом они входили в жаркий самолет и рассажи-
вались вдоль бортов; сидений было мало, и нерасто-
ропным пришлось садиться на «дипломаты», портфе-
ли и газеты. Реутов успел занять место у иллюмина-
тора, и тут же к нему подошел круглолицый артилле-
рист и просто сказал:
— Дай-ка я сяду.
Реутов посмотрел на него своими тусклыми гла-
зами.
— Сядь-ка,— оказал Спиваков.
Артиллерист взглянул на Спивакова и молча
отошел.
— Артист-артиллерист,— пробормотал, ухмыляясь,
Спиваков.
Немного погодя в кабину прошли летчики в своих
красивых бледно-голубых чистых комбинезонах, и че-
рез несколько минут трап в хвосте плавно поднялся и
вверху зажглись неяркие плафоны.
Самолет тронулся и легко покатил на взлетную
полосу.
Дышать было трудно. В душной полутьме лосни-
лись лица, казавшиеся черными. Пахло потом и бара-
ниной.
Самолет затрясло, и все напряглись, как будто это
им сейчас предстояло, собрав все силы, побежать и
прыгнуть. Самолет сорвался, понесся, наливаясь тя-
жестью, и вдруг плавно заскользил, и все поняли, что
он взлетел, что они улетают навсегда.
371
Город женщин, Ташкент, освещали лучи вечернего
солнца. Его окна, обращенные на запад, сияли, в его
тенистых, особенно зеленых в этот час кущах прохлад-
но булькали бесчисленные фонтаны. Ташкент был шу-
мен, огромен, высок; по его улицам ходили хорошо
одетые люди с лицами сытыми, нетрусливыми, немрач-
ными. Это был город женских глаз, волос и губ. Жен-
щины были всюду, куда бы «дембеля» ни смотрели:
на витрины, на автобусы, машины, окна домов, подъ-
езды, ларьки,— всюду видели женщин, женщин моло-
дых, зрелых, старых, юных, стройных, некрасивых, уз-
кобедрых, рубенсовских, раскосых, глазастых, черно-
волосых, рыжих, женщин с родинками на щеках, с го-
лыми плечами, в юбках и в прозрачных платьях. В об-
щем, это был потрясающий город, и «дембеля» на его
улицах чувствовали себя примерно так же, как ново-
бранцы на кабульской пересылке.
Они шалели и не знали, куда им идти и что им де-
лать. Побывав в аэропорту и на железнодорожном
вокзале и выяснив, что билеты в нужном им направ-
лении распроданы чуть ли не на неделю, вперед, они
побрели по улицам, останавливаясь возле желтых бо-
чек и накачиваясь квасом, и споря, и рассуждая, что
им предпринять теперь. Спиваков предлагал на все
наплевать, купить водки, отыскать какой-нибудь ук-
ромный уголок и хорошенько попировать. Шингарев
возражал: а если патруль накроет? Сидеть на ташкент-
ской губе никому не улыбалось, и все, кроме Спивако-
ва, колебались: пить или не пить.
Они шли по улицам, спорили и рассуждали, умол-
кая при встрече с девушкой или женщиной и разгля-
дывая ее с ног до головы.
Нинидзе предложил купить билеты и жить неделю
в гостинице. Эту фантастическую идею сразу же от-
вергли,— какая гостиница?! Спиваков все твердил,
что лучше всего купить водки, отыскать укромное
место и надраться, а утром уж думать, что и как.
Шингарев предложил заплатить проводникам и ехать
в тамбуре хотя бы до Оренбурга,— оттуда, наверное,
уже легче будет улететь или уехать в Тбилиси, Моск-
ву, Куйбышев, Ростов-на-Дону и Минск, а пир можно
устроить в поезде, не боясь никаких патрулей. Это по-
нравилось всем. Нинидзе мгновенно нарисовал порт-
рет проводницы, с которой будут договариваться: мо-
372
лоденькая, толстенькая, с розовыми ушками и щечка-
ми и без предрассудков.
Они повернули к вокзалу.
По дороге на вокзал зашли в магазин и купили
рыбные консервы, рыбные котлеты, хлеб, огурцы, ви-
но и водку. «Приятного аппетита, мальчики»,— сказа-
ла им продавщица, рыжая и губастая.
— Мм, какие бесстыжие глаза,— простонал Ни-
нидзе, когда они вышли из магазина.
Дотемна они толкались на перронах и уламывали
проводников, суля сначала пятьдесят рублей, потом
семьдесят пять, сто,— но им отказывали.
Стало совсем темно, и Спиваков сказал, что хва-
тит клянчить, но объявили о прибытии поезда, и они
решили попытать удачи еще раз.
Поезд прибыл, покряхтел тормозами и остановил-
ся, и к вагонам бросились галдящие люди, а «дембе-
ля» поспешили к последнему вагону,— им почему-то
казалось, что зайцами удобнее всего ездить в послед-
них вагонах. Они поспешили к последнему вагону, и
Нинидзе попросил своего Старика: «Ну, сделай так,
чтобы...»
Люди протягивали билеты седоватому, грузному
проводнику. Проводник держал в углу рта папиросу.
Он попыхивал папиросой, брал билет, клал его на ла-
донь, подставлял ладонь под свет из дверей, возвра-
щал билет и кивал: проходи.
Толпа возле него иссякла, и Шингарев доверитель-
но сказал проводнику:
— Тут такое дело...
Проводник окинул быстрым взглядом всех солдат,
посмотрел на Шингарева и буркнул:
— Ну.
— Вот в чем дело.
— В чем?
— Вот в чем. Мы вам заплатим...— начал Шин-
гарев.
— Нет-нет,— перебил его проводник.
— ...сто рублей...
— Нет.— Проводник посмотрел на часы.— Все,
лавочка закрывается.
373
Он повернулся и шагнул в тамбур.
— Дядя, а вы служили? Вы сами-то служили ког-
да-нибудь? Послушайте, в чем дело-то...
Проводник поглядел из тамбура поверх их голов
на перрон — не бежит ли кто опоздавший,— и, не от-
вечая Шингареву, начал закрывать тяжелую дверь.
Дверь почти затворилась, но в последний миг Рома-
нов сунул в щель ногу.
— Но! — удивленно вскрикнул проводник, распа-
хивая дверь.
— Ты по-человечески можешь ответить? — сказал
Романов.
Ударом ноги проводник сбил с порога ногу Рома-
нова и захлопнул дверь. Романов застучал кулаком в
толстое пыльное стекло. Проводник стоял за дверью и
смотрел на них. Он достал папиросную пачку, выта-
щил папиросу, подул в мундштук, прикурил и опять
уставился на солдат. Вскоре поезд тронулся, Романов
плюнул в мутное стекло.
Когда поезд отъехал, проводник открыл дверь и
крикнул:
— Засранцы!
Покружив вблизи вокзала, они нашли сквер. Там
была река, неширокая и прямая. От реки скверно по-
пахивало, но они решили, что это ничего, и располо-
жились у воды. Через сквер иногда проходили люди,
но от их глаз солдат скрывали кусты на берегу. По
другому берегу тянулись глухие стены каких-то кир-
пичных приземистых построек, над их крышами выси-
лись фонарные столбы, фиолетово светя на черные
крыши, на реку и на солдат. И они повеселели, уви-
дев, что здесь так светло и укромно в то же время.
Они повеселели еще больше, когда расстелили на
траве газеты, выложили на них хлеб, консервы, огур-
цы и увидели, как мерцает колоннада бутылок.
— Ничего себе ресторанчик,— пробормотал Спи-
ваков.
Все охотно согласились, что ресторанчик просто
замечательный.
— Тогда поехали,— сказал Спиваков. Он расста-
вил бумажные стаканчики, взял бутылку водки, но
Шингарев остановил его:
— Сначала портвейн.
374
— Я не хочу мешать, я буду только водку,— отве-
тил Спиваков.
— Нет, мы должны сначала выпить портвейна.
— Я теперь никому ничего не должен.
— Так положено. Положено пить красное вино,
это вино победы,— стоял на своем Шингарев.
Романов и Нинидзе поддержали Шингарева, я
Спиваков отступил. Шингарев разлил по стаканчи-
кам портвейн. Они подняли стаканчики, полные чер-
ного вина, осторожно чокнулись и выпили. Шингарев
на последнем глотке поперхнулся и закашлялся. Он:
поставил пустой стакан и провел рукой по груди.
— Облился, черт,— сдавленно проговорил он н
снова закашлялся.
— Да нэт ничего, биджо,— возразил Нинидзе, на-
клоняясь к нему и разглядывая его рубашку.
— Да липко же,— откликнулся Шингарев.
Романов закурил и поднес горящую спичку к гру-
ди Шингарева, и все увидели на его рубашке большое
темное пятно.
— Застирай,— посоветовал Нинидзе.
— Тогда уж придется всю рубашку стирать,—»
сказал Романов.
— Мятая будет, где я ее выглажу? Вот же черт..,
— Ерунда; наплюй,— сказал Спиваков.
— А ты галстук примерь,— подал идею Романов.
Шингарев вытащил из кармана кителя, лежавше-
го в стороне на «дипломате», галстук и надел его.
— Ну, что?
— Посвети.
Романов зажег спичку.
— Почти не видно. Если китель снимать не бу-
дешь, вообще никто ничего не увидит,— сказал Ро-
манов.
— Да плюньте вы на тряпки. Мне вот наплевать.
Нам с Сашей наплевать, да, Саша? — спросил Спи-
ваков.
Узкое фиолетовое лицо Саши Реутова сморщи-
лось,— он улыбнулся, как всегда, беззвучно. Спива-
ков налил себе и Реутову водки и спросил, наливать
ли остальным. Нинидзе и Романов, кивнули, а Шинга-
рев отказался. Они выпили водки и, отдуваясь, приня-
лись закусывать. Шингарев пил портвейн.
375
— Нам все равно с Сашей,— продолжил свою
мысль Спиваков,— мы с Сашей и в кальсонах поедем,
лишь бы домой, а, Саша?
Была глубокая ночь. По скверу перестали прохо-
дить люди. Фиолетовая река стояла между берегов.
Хорошо была слышна железная дорога: безразлич-
ный голос диктора, гудки, щелканье вагонных сцепок,
биение колес и чуханье дизелей.
Нинидзе, вдруг разучившийся хорошо говорить по-
русски, ругал старшего лейтенанта из особого отдела,
ругал штабного, отобравшего очки, ругал какое-то на-
чальство, не обеспечившее нормальное возвращение
домой; он вошел в раж и начал крыть по-грузински,
Ну, да его никто и не слушал. Спиваков все жалел,
что побоялся провезти в погонах или в подметках па-
ру пластинок анаши,— он утверждал, что водка его
не берет, мол, он так привык к анаше, что водка ка-
жется ему водой; он тоже ругал старшего лейтенанта,
наклепавшего на Сашку Реутова, на Сашку, который
никогда в жизни не вкушал сладостной травки ана-
ши. Романов беспрерывно курил, обсыпаясь пеплом,
и тепло смотрел на товарищей. Иногда он запрокиды-
вал голову и глядел на тополя, озаренные фиолетово-
синим светом фонарей,— он подолгу глядел на тополя
и улыбался. Самым трезвым был Шингарев, он при-
слушивался и оглядывался.
Была глубокая ночь. Тополя молчали, и река мол-
чала, фиолетовая и бездвижная. Где-то за спящими
домами шумела железная дорога.
— Мурман,— сказал Романов, закуривая новую
сигарету,— не ругайся, прошу, ну. Такой день... ночь.
И ты, Шингарев-Холмс! Я не хочу просто глядеть в
твою сторону, ей-богу, ну. Выпей водки, что ты эту
краску лупишь.
— Кому-то надо быть трезвым,— откликнулся
Шингарев.
— Здесь? Вот здесь, в эту ночь-то? — Романов от-
кинул голову и замолчал, глядя в небо.
— Надирайся, Шингарев-Холмс,— сказал Спива-
ков,— меня же не берет. Я — как стеклышко.
— Может, споем? — встрепенулся Романов.— Ка-
кую-нибудь душевную вещь. «Дипломаты мы не по
призфа»... фа... Как это? Дипломаты вы не по при-
зфа... фа! фа! Ха-ха-ха! Призфанье! Ха-ха-ха!
376
— А действительно, музыки не хватает,— сказал
Спиваков.— Ну, что, Мурман, заводи свой «маде ин
Жапен».
Мурман-Нинидзе сказал мрачно:
— Нэт прыомныка, спёрлы.
— Что? Как? Кто?
— На пэрэсильке, вах-мах-перемах!
— Что ж ты молчал?! — вскричал Романов.
— Что... что. Что толку било говорыт.
— Как что? Да как это — что? Да мы б всех на
уши поставили! Всех этих ублюдков! Как это — что?
Мы б их всех... всех сволочей этих, сук... Я этого про-
водника на всю жизнь... через сто лет его харю... я
его вот так задавлю! — вскричал Романов
— Начались ржачки,— сказал Спиваков, мор-
щась.
— Не кричи,— сказал Шингарев Романову.—
И при чем здесь проводник?
— Что? Что ты все боишься? Пусть только кто-ни-
будь подойдет к нам. Ну, пусть.— Романов ударил ку-
лаком по ладони.— Патруль, менты. Охота им с раз-
ведкой дело иметь? Ну, тогда пусть!—Романов часто
и сильно забил кулаком по ладони.
— Странно,— пробормотал Спиваков,—- как это
случилось? Мурман, ты же спал на «дипломате» и ни-
куда не выходил ночью? Когда же они умудрились?
— Какой-то чертовщина это,— ответил Нинидзе,
разводя руками.
Он почувствовал на себе взгляд, покосился и уви-
дел узкое лицо, освещенное фиолетовым: черные мор-
щины, костлявый длинный нос, тонкие черные губы и
черные пятна глаз. «Если Реутов что-то знает, сделай
так, чтобы он молчал»,— попросил Нинидзе Старика.
Это у него вошло в привычку — просить кого-то, кого
он представлял седым, умным, сильным и великодуш-
ным и называл Стариком,— после первого рейда: тог-
да было очень туго, и он как-то нечаянно сказал:
«Старик, сделай так, чтобы...»,— и вышел из той пе-
редряги без единой царапины.
Реутов молчал. Да и глядел он куда-то мимо. От-
куда Реутов мог что-то знать? Нинидзе успокоился.
— Как пришло, так и ушло,— вдруг сказал Шин-
гарев.
— Нэ понал.
377
— Как пришло, так и ушло,—повторил Шингарев
холодно.
— Как пришло?
— Ты знаешь.
— Что ты хочэшь сказать?
— Его надо срочно напоить.— Романов, показал
пальцем на Шингарева.
— Все понятно,—сказал: Спиваков.— Я чисто-
плюев насквозь вижу.
— Мужики!—замахал Романов руками.:—Не на-
до! Лучше выпьем.
— Нэт, говоры,— потребовал Нинидзе.
— Да ладно,— пробормотал Шингарев.
— Нэт, говоры до конца, все говоры, Шингарев!
— Я знаю,— сказал Спиваков.— Он это давно хо-
тел сказать, я видел. Он с самого начала чистоплюем
был; Он вот что хотел сказать, он хотел сказать, что
мы везем домой трофеи, а он ничего не везет. Ну и
что? Я плевать хотел. Эти вещи добыты в боях, и я
плевать хотел, понятно?
— Вон что!—воскликнул Нинидзе.— Вон как!
Вон куда он гнот. Вон куда ты гношь? Чыстэнкый, да?
Шингарев уже было раскрыл рот, чтобы подтвер-
дить: да. да, я это и хотел сказать, но он нечаянно
взглянул на Реутова, и его сбила какая-то мысль О'
Реутове,, и. он проговорил тихо:
— Ничего этого я не хотел Сказать.
— Ребята, мужики.— Романов взял бутылку.—
Такой'день... ночь.— Он задумался.
— Ну, заснул. Лей,— буркнул^ Спиваков, протяги-
вая стакан.
— Погоди... это... Мысль была... Что же я хотел
сказать...
— Лей же.
— Нет, но...— Романов помотал головой.— Нет,
забыл.— Он кое-как налил в стаканчики водку.— Да-
вайте вот выпьем, и все, больше про это про все... ну
его к черту все это! Свобода — это да! Но! Это не та
мысль, та ускакала, исчезла.
Романов, сидел, держа, стакан в руке, хмурился,
сосредоточенно глядел на середину «стола» и шеве-
лил губами; водка переливалась через края и текла
по руке.
378
— Пей, не разливай.
Романов 'бессмысленно посмотрел на Спивакова,
выпил водку, не поморщившись, и выпалил:
— Ну! Вспомнил! У меня такое ощущение,— он
оглянулся по сторонам,— такое... что кого-то не хва-
тает.
— Конечно, не хватает,— проворчал Спиваков.
— Да нет, я не об этом, я не о тех.
— Ладно, ложись, спи.
— Нет, пойми.
— Ложись, вот что. Ложись спать, земля теплая
— Ты не понял. Я говорю, что среди нас кого-то
нет, кто-то был, и теперь его не стало.— Романов
оглядел сидевших вокруг «стола».
— Ложись,— повторил Спиваков,— все здесь.
Романов вглядывался в товарищей и наконец за-
метил Реутова и замер. Он глядел широко раскрыты-
ми глазами на Реутова и ничего не говорил. Он долго
молчал, и все молчали и смотрели на него и на Реу-
това.
— А! — крикнул Романов.— А, Реутов! Сашка!
Ха-ха-ха! Ну! Ха-ха-ха!
— Я же говорил — ржачки,— буркнул Спиваков.
Романов перестал смеяться.
— Все,— сказал он.— Все в сборе и пир... это...
продолжается. Пируют... эти... бывшие разведчи-
ки.— Романов набрал воздуху и запел: — «Мы в та-
кие шагали дэ-али, что не очень-то и дойдешь! Мы
в засаде годами ждали...» — Он замолчал, отыскал
взглядом Реутова и уставился на него.
Узкое фиолетовое лицо Реутова покрылось морщи-
нами,— он улыбнулся.
— Это я,— сказал он Романову.— Не сомневайся.
— Саша,— проговорил Романов сырым голосом,—
Саша... удивительное дело... понимаешь.— Он по-
молчал.— Я вот вспоминаю... как мы в полк приле-
тели.
— И что? — спросил Спиваков.
— Что? — встряхнулся Романов.— Ничего! Про-
сто удивительно. Удивительное... это... дело. И все...
Мы с зэ-асаде годами ждали, невзирая на снег и
дождь!
«Да вот же и я об этом подумал,— сказал себе
Шингарев,— я подумал, я подумал... Все-таки я
379
охмелел. Сосредоточиться и вспомнить, как мы приле-
тели в полк». Он сосредоточился и вспомнил, как они
прилетели в полк после трехмесячной подготовки в
туркменском горном лагере; командир разведроты из
толпы новобранцев выбрал первым огромного Спива-
кова, Спиваков сказал, что они впятером держатся,
и попросил взять остальных. Ротный с удовольствием
согласился взять жилистого, подвижного Нинидзе,
крепкого, плечис.того Романова и его, Шингарева, но
Реутова он решительно отверг. Ну, сказал Спиваков
Реутову, сделай что-нибудь ростовско-донское, но тот
начал отнекиваться, Спиваков же настаивал, и в кон-
це концов ротный заинтересовался, что там такое мо-
жет «сделать» этот щуплый мальчик. Увидев любо-
пытство на лице ротного, все они насели на Реутова,
и Реутов, краснея, спел одну казачью частушку; тя-
желое лицо ротного дрогнуло от улыбки, он спросил,
что Реутов еще умеет, Реутов простодушно сказал,
что умеет на гармошке играть и знает миллион часту-
шек; ротный переспросил: миллион? — и зачислил в
разведроту Реутова.
— Так ты думаэшь, ты чыстэнкый? — пододвига-
ясь к Шингареву, спросил Нинидзе.
— Молчать,— сказал Романов.
— Я сейчас их успокою, я их лбами, я сейчас.—
Спиваков попытался встать и не встал. Он озадачен-
но поглядел на свои ноги и позвал: — Ноги! .
Романов засмеялся. Улыбнулся и Нинидзе. Спива-
ков еще раз попробовал и поднялся, постоял, качаясь,
и грузно сел.
— Ноги,— развел он руками, и все засмеялись, и
узкое лицо Реутова беззвучно сморщилось.
— А ты говорил, нэ бэрот водка.
— Предатели,— сказал Спиваков ногам.
— Тихо! — закричал Романов.— Тихо! Мм...— Он
постучал себя по лбу кулаком.— Черт! черт! забыл...
какой тост пропал.
— Ладно, просто так выпьем.— Спиваков взял бу-
тылку, понес ее к стаканчику и выронил.— А! Вот это
действительно ржачки! И моя правая рука — туда
же! Предательница.
— Тихо! — снова закричал Романов.— Вот он,
тост. Выпьем за это... то есть за то, чтобы, вот имен-
380
но, чтобы! Чтобы нас предавали руки и ноги, но не
друзья!
— Какой тост! — одобрил Спиваков.
— А теперь дай ему руку,— потребовал Романов
у Шингарева,— руку Мурману!
— Мы не ссорились,— ответил Шингарев.
— Трудно руку дать?
Шингарев промолчал.
— А, дурачье.— Романов отвернулся к реке.
Вдруг он начал расстегивать рубашку.— Кто со мной
купаться? — деловито спросил он. '
— Я не пущу,— сказал Спиваков.
— Это мы посмотрим. Поглядим, как говорится.
Старый разведчик купаться будет. Он будет купать-
ся. Вот оно что. Надоело мне с вами. Бодайтесь без
меня, бараны. А я уплыву,— сказал Романов.
— Куда? — насмешливо спросил Спиваков.
— А далеко. А вы тут бодайтесь, забодай вас ко-
за. Или комар. Или бык. Мордастый такой бычара:
му-а!
Шингарев уснул последним.
Под утро все спали, а Шингарев крепился: тер
глаза, встряхивал головой, курил, ходил. Но и он
уснул.
Они спали вокруг разоренного «стола». Нинидзе
лежал, укрывшись кителем и положив под голову
«дипломат». Романов, голый по пояс, лежал на спине,
раскинув руки; он постанывал и скрипел зубами. Реу-
тов свернулся калачом возле большого, хрипло дыша-
щего, горячего Спивакова. Шингарев спал сидя, опу-
стив голову на колени.
На рассвете молчавшие всю ночь тополя зашипе-
ли. По реке пошли круги.
Теплый дождь проливался на город.
Дождь стучал по бутылкам, пустым консервным
банкам, спичечным коробкам, по черной корке непо-
чатой буханки, «дипломатам», козырькам фуражек;
и газеты рвались, а рассыпанные по ним сигареты
темнели и разбухали.
Нинидзе, не просыпаясь, натянул на голову ки-
тель. Реутов прижался к боку Спивакова. Больше ни-
кто не шелохнулся.
381
Занесенный снегом дом
Была осень, туманы обволакивали сад по утрам, шли
дожди и молчали птицы. Люди, деревья, собаки и не-
мые птицы ждали,— со дня на день должен был вы-
пасть первый снег. А женщина ждала мужчину.
Женщина жила в деревянном доме с оранжевой
крышей, вокруг которого был голый и корявый танцу-
ющий сад. Дом с оранжевой крышей стоял вместе с
другими деревянными и кирпичными одноэтажными
домами на окраине железобетонного города. Из окна
дома была видна луковка древней церкви Иоанна Бо-
гослова, и смотреть на нее, обрамленную черными
ветвями лип, было приятно. Но в это окно она редко
и случайно глядела, чаще и охотнее сидела у противо-
положного, выходившего на юго-восток. В то окно бы-
ла видна улица, по которой придет мужчина, воюю-
щий на Востоке.
В доме было две комнаты с зелеными обоями, кух-
ня и белая печь. В зале на стене висела репродукция
картин'ы Винсента Ван Гога «Красные виноградники
в Арле»,— там женщины среди багряных кустов соби-
рали виноград, а по дороге, прозрачной, как река,
шел человек, и позади него низко над землею горело
солнце. Женщину пугала картина,— эти жуткие баг-
ровые мазки и черный человек на дороге. Женщина
старалась не смотреть на картину, но картина застав-
ляла ее смотреть на себя, и тогда у женщины ноги
и руки делались ватными. Она с радостью сняла бы
картину и засунула ее куда-нибудь подальше, но это
была любимая картина мужчины, и женщина почему-
то боялась убрать ее. И рубашку, которую мужчина
носил перед войной, не стирала два года. Вообще она
стала суеверной за эти два года. Она думала: я суе-
верная, глупая дура,— и криво улыбалась, но все
равно молилась. В школе она проводила с детьми ате-
истические беседы, а дома, глядя на восток, шептала
самодельную молитву: «Бог-бог-бог, любимый и ми-
лый, ласковый и нежный, любимый бог, люблю тебя
и прошу тебя, бог-бог-бог». Она не представляла се-
бе, что было бы, услышь ученики или коллеги-учителя
ее молитву. Думая об этом, она бледнела и покрыва-
лась алыми пятнами. Она знала, что никакого бога
382
нет, есть всякие химические процессы, всякие эволю-
ции и некоторые странные вещи, которые наука пока
не объяснила, но непременно когда-нибудь объяснит.
И она была уверена, что никто, никакой добрый бог
не слышит ее молитву и что ее молитва не спасет
мужчину, воюющего на Востоке,— она вот шепчет у
восточного окна, а телеграмму уже получили в воен-
комате, и уже выслали ей приглашение в военкомат,
чтобы торжественно сообщить: «Ваш супруг...»
И уже металлический ящик погрузили в самолет, и
уже самолет гудит в небе над Россией. Она все пре-
красно понимала. Но однажды проснулась и зашепта-
ла, плача: «Бог-бог-бог, люблю и прошу»,— и с тех
пор это вошло в привычку.
Пришло короткое письмо. Мужчина писал, что это
последнее письмо,— вот-вот прилетит в полк вертолет
и увезет их, а пока погода нелетная, но вот-вот.
Была поздняя осень, и ледяные туманы пахли
снегом.
Женщина просыпалась очень рано. Она вставала
рано, чтобы сделать прическу. Умывшись и позавтра-
кав, она усаживалась перед зеркалом, разложив на
столике тюбики, коробочки, расческу и флаконы, и
принималась завивать и укладывать свои светлые, не
очень густые и недлинные волосы. Серый лохматый
кот, потягиваясь, шел к ней и, выгнув хвост, ласково
рокотал горлом и терся о голые ноги, и кожа на ее
ногах становилась пупырчатой.
Обычно она собирала волосы в пук на затылке
и стягивала резинкой, теперь же она приходила в
школу с замысловатыми коронами и облаками на го-
лове, и учителя-мужчины говорили про себя: ого,—
и по-новому оглядывали ее и видели, что она очень
молода, что у нее бела шея, розовы губы, что у нее
красивые икры и руки, и когда она идет... и лучше не
смотреть долго сзади на нее, когда она идет. И припо-
минали, что ее муж где-то служит в армии.
Она была заурядная молодая женщина, каких сот-
ни и тысячи, но должен был вернуться мужчина, и
она вдруг изменилась,— и лысый Борис Савельевич,
учитель русского, изумленно глядел ей вслед, и у него
сохло во рту, а в голове тяжелыми товарными эшело-
нами проносились дикие мысли. И физкультурник, че-
ловек дела, а не мечты, заигрывал с нею на переме-
383
нах и спрашивал, не наколоть ли ей дров. Ну и учени-
ки, конечно, пучили на нее глаза, машинально теребя
жидкие усики, ковыряя прыщик на лбу и рисуя в во-
ображении не менее дикие, чем мысли Бориса Саве-
льевича, картины.
Школьные женщины были шокированы и уязвле-
ны. Физкультурник, учитель русского, трудовик и во-
енрук перестали их замечать и, как опоенные сильно-
действующим зельем, лупили масленые глаза на эту
женщину и говорили ей какие-то дошлые, какие-то
приятные двусмысленные вещи. А что случилось-то?
Да ничего. Ничего нового в одежде, губы без помады,
ресницы без туши,— все, как прежде, и новое — толь-
ко прическа.
Директорша сразу сформулировала про себя про-
исшедшую перемену следующим образом: ярко выра-
женная сексуальность. Это было плохо. Это дурно
влияло на нравственную атмосферу. Нужно было
принимать какие-то меры. Но какие? Ярко выражен-
ной сексуальности не было ни в одном запретитель-
ном параграфе. Директорша внимательно пригляды-
валась к своей подчиненной и ни в чем не находила
нарушений норм: юбка достаточно целомудренна,
кофточка непроницаема, злоупотреблений красками
нет. Прическа? У директорши тоже прическа, тоже
короны и облака, и у всех короны, облака, локоны-
змеи, так что скорее вызывающа была ее прежняя
прическа — простой хвост, а нынешняя вписывается
в общий хор. Ну нет во всем этом ничего из ряда вон,
хоть ты тресни, а окинешь ее эдак общим взглядом —
сексуальна и взрывоопасна!..
Женщина, ждавшая мужчину с Востока, не заме-
чала холодного презрения школьных дам и восхище-
ния прыщеватых недомужчин, и ухаживаний школь-
ных рыцарей — мускулистого физкультурника, сухого
и сморщенного военрука, лысого мечтательного Бори-
са Савельевича и седовласого толстого трудовика с
вставным левым глазом. Она ждала.
Придя из школы, она растапливала печь, грела
воду в двух ведрах и теплой водой мыла полы, проти-
рала мебель сырой тряпкой и еще что-то чистила и
скоблила, хотя все в доме уже давно сверкало. Кот
384
бродил за нею из комнаты в комнату и смотрел на все
эти приготовления насмешливо,— вообще он на все
глядел скептически, у него были умные глаза, на ще-
ках топорщилась густая светлая шерсть наподобие
бакенбард, он был сыт, медлителен и пушист.
Женщина не подымала глаза на «Красные вино-
градники», и ей это удавалось некоторое время, но
в конце концов ее глаза прилипали к картине. Она
пристально глядела на картину и говорила себе: ну
и что? Ну, осень, и листья лоз красны, ну, женщины
собирают в корзины гроздья, вдалеке висит солнце,
а по дороге, текучей, как река, топает обыкновенный
бездельник, бродяга,— люди трудятся, а он шагает
себе, сунув руки в карманы и, наверное, посвистыва-
ет, и видно, что у него нет ни дома, ни семьи, и он не
знает, куда ведет дорога,— вот и все. И, честное сло-
во, непонятно, что мужчина нашел в этой мазне? Су-
масшедший художник взял да наляпал красок на
холст, а все теперь охают да ахают... Когда он вер-
нется, я ему прямо скажу, что эта мазня мне не нра-
вится, ей-богу, скажу... Бог-бог-бог, любимый и ве-
ликий добрый, ласковый, люблю тебя и прошу
тебя...
Да нет, это не сразу, я ведь не сразу невзлюбила
картину эту дурацкую, сперва я была равнодушна,
но потом в одном осеннем письме он упомянул алые
виноградные листья за проломленным и разбитым
снарядами дувалом, и-г-вот... А этот бродяга — не
бродяга, он вестник, и он знает, куда идет... Ну,
чушь!
Потом она снимала с плиты второе ведро, закры-
вала на крючок дверь, задергивала шторки и мылась
в большом тазу. Вымывшись, она вытиралась мягким
длинным и широким полотенцем и-проходила из кух-
ни в комнату, и останавливалась перед большим зер-
калом в углу. Она смотрелась, поворачиваясь, хлопа-
ла ладошкой по тугому, еще не рожавшему животу и
пыталась увидеть себя глазами мужчины, который уже
не воевал на Востоке, а сидел и ждал, когда разве-
ется непогода и прилетит вертолет... Он сидит на
Востоке в какой-то про-ре-зи-нен-ной палатке с печ-
кой-буржуйкой, он сидит там с какими-то загорелы-
ми, плечистыми мрачными друзьями, курит сигарету
и молчит, а может, говорит своим низким медленным
13. Крещение
385
голосом... Говорит, что у него есть дом с оранжевой
крышей и печкой, котом и женой...
Пообедав, она садилась у юго-восточного окна
проверять тетради и готовиться к завтрашним уро-
кам. Она сидела, склонив голову над столом, и, услы-
шав или скорее почувствовав, что по улице идет чело-
век, холодея и задыхаясь, поднимала длинные глаза
с короткими бесцветными ресницами и глядела в ок-
но. И действительно, по улице кто-нибудь шел: жен-
щина с сумками, старик сосед в драной зимней шап-
ке, с коромыслом на плече, мальчишка, пьяный муж-
чина, расфуфыренная девица или просто пес трюхал
по каким-то собачьим неотложным делам. Сад был
черен и гол, по шершавым талиям яблонь и слив тек-
ли струи дождя. Дождь-дождь, джон-дон-джей-лей-
пей,— но земля уже была насквозь напитана влагой
и не пила небесную воду, и вода стояла в углублениях
и вмятинах и лилась ручьями к реке. Дождь-дождь,
джон-дон, джей-лей, джей-лей...
Кот дремал на диване под дождь. Ему было хоро-
шо, он не помнил мужчины, воевавшего сейчас на
Востоке, он никого не ждал.
Впрочем, сейчас он не воюет, нет, не воюет, дума-
ла, забыв о тетрадях и завтрашних уроках, женщина,
не воюет, а сидит в палатке, а по палатке дождь-
джон-джей. И думает обо мне и про то, что крышу
дома увидит издалека, приметная крыша, он ее перед
войной выкрасил в этот лучший на свете оранжевый
цвет, цвет удачи. Бог! Если ты выполнишь мою про-
сьбу, я клянусь не говорить ученикам, что тебя нет,—
я могу бросить школу, чтобы никогда никому не гово-
рить, что тебя нет, я могу ходить каждый день в цер-
ковь и слушать, как поют попы, и зажигать перед
иконами свечки,— только сделай так, чтобы он вер-
нулся, я прошу.
К вечеру уши ныли от песен дождя, глаза ненави-
дели улицу и прохожих. Она кормила кота и выпуска-
ла его на улицу, затем ужинала чаем и сушками,—
больше ничего есть не. могла,:— и после ужина запи-
рала двери, гасила свет, раздевалась и ложилась.
Она лежала, тихо дыша и слушая. Она долго не мог-
ла уснуть. Она лежала и вслушивалась. Было страш-
но, и ноги мерзли. В доме было тепло, а ноги мерзли.
С тех пор, как мужчина ушел на Восток, ноги всегда
386
мерзли в постели. И казалось, что дом стоит посреди
леса, и кто-то бродит вокруг дома, постукивает когтя-
ми по стеклу, царапает дверь.
«Неужели на самом деле есть женщины, всю
жизнь живущие без мужчины? — спрашивала она се-
бя.— Ведь плохо одной, и ноги зябнут в постели».
Китайцы говорят... О чем это я думала? А, ну да,
о том мертвом мальчике, вспомнила она, лежа с от-
крытыми глазами в темной комнате.
। Год назад она вышла утром из дому и увидела че-
ловека в канаве возле соседнего дома, это был светло-
волосый подросток, у него были худые плечи и длин-
ные ноги, куртка в грязи.
Мир был грозен всегда; как только она начала
кое-что понимать, почувствовала это, а потом осозна-
ла. Мир был грозен и тогда, когда рядом был мужчи-
на,— да. Но — у него были твердые плечи и крепкие
кулаки, спокойный взгляд и низкий уверенный го-
лос,— между нею и миром был он. А потом его увезли
на Восток, и мир надвинулся и стиснул ее.
А китайцы... Что китайцы? А китайцы говорят:
инь и ян, все сущее — инь и ян, женское начало и
мужское. Ян — все мощное и яркое, солнечное. Инь —
все слабое и тусклое, лунное. Боже, как верно.
И спать одной ведь холодно, как будто и впрямь в те-
бе течет лунный свет, а не кровь... Бог-бог! Верни
мне ян!..
Полторы недели минуло после его последнего пи-
сьма. Женщина каждый день чистила гнездо, и каж-
дое утро украшала голову коронами и змеями, и шко-
льные донжуаны продолжали волочиться за нею, по-
хожие на крыс, зачарованных волшебной дудой Ниль-
са. И вот-вот должен был пойти снег, люди, собаки,
деревья и птицы ждали его. А женщина из дома с
оранжевой крышей ждала мужчину. Она была инь,
и по ночам ноги ее были ледяными.
И наконец в понедельник ранним утром полетели
хлопья, лоскуты и клочья, и земля отделилась от чер-
ного неба и тускло засветилась. Снег.
У женщины в этот день не было уроков, но она
поднялась рано и увидела, что небо отлипло от земли.
Она накинула мужской полушубок и вышла на кры-
387
льцо. Кот, всю ночь гулявший где-то, пропел короткий
и хриплый гимн и юркнул в дом. Снег падал ломтями.
Ломти летели и летели вниз и повисали на сучьях яб-
лонь и слив, шлепались в лужи, прилипали к оранже-
вой крыше, мостили клейкую жирную дорогу, округ-
ляли и смягчали крыши с трубами, деревья, гряд-
ки, поленницы. Сердце женщины вдруг замерло,
дыхание перехватило, на миг она почувствовала жут-
кую легкость, как если бы оторвалась от крыльца и
чуть-чуть повисела в воздухе. Это сразу и прошло.
Женщина, горя лицом, вернулась в дом. Она поня-
ла — сегодня!
Кот капризно заблеял: ме! ме-у! ме! — и женщина
покормила его. Самой есть нисколько не хотелось, он^
напилась холодного чаю и сжевала конфету.
В печи уже пухал огонь, на плите стояли ведра
с водой. Женщина всюду зажгла свет и вниматель-
нейше осмотрела комнаты. Она убрала постель, сло-
жила стопкой тетради и книги на столе. Вымыла по-
лы. Лицо полыхало, сердце тяжело билось, гудя, и го-
лова кружилась.
— Да что я? — спросила вслух женщина и поду-
мала: да что я? может, не сегодня, с чего это я... мо-
жет, завтра... или через два, три, четыре дня.
Но лицо было огненным, сердце бухало, как после
долгого бега, и в голове время от времени цепенело
и млело. На улице сыпался снег, крупный и белый.
В печи играл огонь... как-то празднично играл, как-то
не так, как всегда, и все было не так, и даже бродяга
на картине Ван Гога щел по жидкой и прозрачной
дороге веселее, и эти женщины с огромными задами
бодрее обрывали гроздья с лоз и клали их в большие
корзины. Женщина обмылась и надушилась зеленым
ароматом, надела платье и сделала прическу.
Медленно рассветало. Слишком медленно. Жен-
щина не знала, что ей теперь делать. Все было готово,
дом с оранжевой крышей ждал хозяина с Востока,—
ждало крыльцо, ждала печка, ждали комнаты, и
французские виноградари торопились снять все
гроздья до его прихода.
Рассвело. Снег все падал. Земля была бела и неж-
на, были нежны и белы крыши, ветви я’блонь и слив
и округлые холмы с крошечными домиками и малень-
388
кими садами за рекой, и купол церкви Иоанна Бого-
слова, а заборы и стены броско и траурно чернели.
Женщина прошлась по дому, наклонилась и рассе-
янно погладила кота. Она взяла с полки какую-то
книгу, полистала ее, прочла, ничего не понимая, не-
сколько строчек, захлопнула и сунула в книжный ряд.
Часы показывали десять. Снег все летел за окнами.
Может, блинов напечь? Нет, блины остынут, а ра-
зогретые не так вкусны. Может, накрасить губы? Но
он не любил, когда она красила губы. А вдруг теперь
это ему понравится? А если не понравится? Женщина
накрасила перед зеркалом губы. Улыбнулась. Нет,
слишком ярко. Она потерла легонько губы ватой. Те-
перь вроде бы ничего.
Снег шел за окнами.
Ей почему-то казалось, что он придет не сейчас.
В одиннадцать не придет, в двенадцать не придет.
Придет через три часа или через шесть часов, но сей-
час этого не может быть,— чтобы он появился так
скоро, так не бывает.
В двенадцать часов снег поредел, и постепенно
воздух очистился и стал ясен и морозен, но небо не
было синим, оно оставалось серым. Мир был свеж
и пухл...
Женщина улыбнулась — она придумала себе ра-
боту. Она скинула платье, надела шерстяное трико,
свитер и лыжную вязаную шапку, взяла рукавицы,
обулась и вышла на улицу. Щурясь от белизны, она
пробрела в снегу к сараю, отворила дверь и вынесла
из сарая деревянную лопату.
Она расчищала дорожки. Снег был легок, но его
нападало много, и женщина раздышалась и раскрас-
нелась. Она убирала с дорожек снег и думала: вот —
белый праздник. И еще думала: хорошо, если в эту
минуту.
Но ни в эту, ни в другие минуты, что она провела
в саду с лопатой, он не пришел.
Расчистив все дорожки, женщина нехотя направи-
лась в дом. У крыльца остановилась, обернулась,
оглядела сад... На дальней яблоне сидела сизая пти-
ца. На дальней яблоне висело несколько гнилых чер-
ных сморщенных мелких яблок, и сизая птица приле-
тела их расклевывать. Женщина стояла не шевелясь.
Птица была похожа на голубя, только она была
389
изящнее. Женщина следила за дымчатой птицей и
вспоминала, как зовется птица. Лесная гостья повер-
тела головой, вытянула шею и клюнула черный плод,
и тут же пугливо заозиралась. Ничего страшного не
произошло, по саду никто не крался к ней, и птица
уже смелее ущипнула яблоко, и еще, и еще. Тут не-
слышно появилась вторая птица, она села на ту же
яблоню, и тогда первая издала тихий картавый горло-
вой звук, и женщина вспомнила, как зовутся эти пти-
цы — горлицы. И опять у женщины закружилась го-
лова, и тело стало невесомым. Сегодня. И, быть может,
сейчас.
Было два часа дня. Горлицы покинули сад, сад
был пуст. По улице изредка проходили люди: мужчи-
ны, женщины, дети и старики — все чужие и по-
стылые.
Когда наступил вечер, женщина поджарила на
электрической плитке вчерашнюю картошку и согре-
ла чай. Картошку так и не смогла есть,— попробова-
ла и накрыла сковородку крышкой. Выпила чашку
чая и съела немного белого хлеба с маслом. Ни в семь
часов вечера, ни в десять часов вечера, ни в час ночи
крыльцо не заскрипело под мужскими шагами. Жен-
щина погасила свет, разделась и легла. Шерстяные
носки не снимала, чтобы ноги не зябли, но и в шерстя-
ных толстых носках они мерзли, и лицо мерзло, и ред-
кие теплые капли скатывались по холодному лицу.
Утром она проснулась и почувствовала какую-то
сухую ясность в душе, и подумала: не сегодня. И сны
какие-то были, какие-то такие, которые то же говори-
ли: не сегодня. Но прическу она сделала. Позавтрака-
ла и накормила кота.
И, собирая тетради, увидела из окна идущую
вдоль забора почтальоншу в фуфайке и платке, с сум-
кой на боку. Почтальонша дошла до калитки, сунула
в плоский металлический ящик газеты и конверт и не-
торопливо зашагала дальше по жидкой и грязной до-
роге.
Просто почтальон принес свежие газеты, медленно
подумала женщина. А в конверте письмо от какой-
390
нибудь подруги, медленно подумала она, завороженно
глядя из окна на синий почтовый ящик.
Она встала. Спустилась с крыльца и по скользкой
тропинке сквозь холодный туман пошла к почтовому
ящику на темных крестах калитки.
Это просто кто-то письмо послал. И все. Вот и все,
пьянея, думала она.
Она вынула из ящика газеты и письмо.
Сереющую кожу лица порвали морщины, на виске
вспучилась жила, под глазами расплылись темные
полукружья,— женщина с обезьяньим лицом вскрыла
конверт.
Крещение
Разведрота выехала из полка ночью. БМП с выклю-
ченными фарами покатили на север. Огни полка ско-
ро исчезли, и беспредельная теплая весенняя ночь
проглотила колонну.
Солдаты сидели на верху гусеничных машин и
смотрели на тяжелые цепи созвездий. Костомыгин то-
же глядел на сияющие цепи и думал, что рокот мото-
ров слышен в самых дальних кишлаках на самом
краю этой степи, если, конечно, у нее есть край...
Спустя полчаса низко над степью появилась туск-
лая луна. Луна медлительно всходила, ночь светлела,
и глазам открывались холмистые мохнатые черно-бе-
лые пространства.
Впереди забелели стены и башни. Колонна стре-
мительно приближалась к кишлаку.
«Эй, не спите!» — сказал ротный, прижав ларин-
гофоны к горлу, и все командиры БМП услышали его
и по очереди отрапортовали: номер такой-то вас по-
нял. Пушки развернулись влево и вправо, солдаты
зашевелились и взялись за автоматы.
Колонна, не сбавляя скорости, промчалась сквозь
кишлак, и ничего не случилось.
Костом ыгин успел увидеть темные оконца башен,
дома с плоскими крышами, густые сады за дувалами,
ушастый силуэт осла возле сарая.
За кишлаком дорога — теперь она была отлично
видна — пошла под уклон и внизу уткнулась в мерца-
391
ющую реку. Все на той же скорости машины форсиро-
вали мелкую широкую реку и поехали дальше.
В кишлаке с цветущими садами Костомыгин на-
глотался душистого воздуха, и теперь во рту у него
было сладко. Он подставлял лицо теплому ветру,
ощущал тяжесть подсумка на боку, чувствовал, как
туго зашнурованы полусапожки и как свободен и ле-
гок масккостюм,— и ему все это нравилось: эта луна,
эта страшная степь, и цветочная сладость во рту, ;и
удобная форма, и оружие на груди, и этот бег могучие
машин по нескончаемой черно-белой равнине под чу-
жими яркими созвездиями.
Возле гряды низких холмов колонна остановилась.
Солдаты соскакивали с машин, разминали ноги.
Рота построилась в колонну по двое и зашагала по
дороге. Водители-механики остались в машинах.
Рота двигалась вдоль холмов. Все молчали и уг-
рюмо поглядывали на макушки холмов, отчетливо
проступавших на фоне звездного неба. Луна переплы-
ла на западный край неба, стала бронзовой и светила
уже не так ярко.
Костомыгин услышал, как шедший следом Опа-
рин, как и он, зеленый «сынок», звякнул пряжкой
ремня и открутил крышку фляжки. Тут раздался
глухой удар, и Опарин налетел на Костомыгина. Ко-
стомыгин обернулся. Опарин, вобрав голову в плечи,
продолжал шагать, торопливо надевая фляжку на ре-
мень. Позади него крупно вышагивал высокий, длин-
ноногий сержант Шварев.
«Надо быть начеку»,— подумал Костомыгин, отво-
рачиваясь.
«Чижи», то есть ребята, отслужившие шесть меся-
цев, предупреждали «сынов», что они должны быть
настороже и делать только то, что скажут; говорили,
что все оплошности «сынов» на операции по возвра-
щении в полк будут «разбираться» старослужащими,
разведрота — это вам не артбатарея, и не хозвзвод,
и не пехота, и всё должно быть «от и до», не хуже, чем
у всяких там «беретов».
За месяц службы в роте Костомыгин достаточно
насмотрелся на дедовские суды, и на предстоящем
«разборе» ему совсем не хотелось быть в числе обви-
392
няемых. А Опарин вот уже и попал в это черное чис-
ло. Надо ухо востро держать.
Луна скрылась, и степь снова стала черной, и
звезды засветились ярче. Рота мерно шагала вдоль
холмов.
Посвежело. В степи свистнула птица.
Впереди послышался топот.
— Бегом! — приказал громким шепотом Шварев,
и Костомыгин побежал. «Опаздываем»,— сообразил
он.
Они долго бежали, потея и глотая пыль.
Костомыгин придерживал одной рукой автомат,
другой — флягу. Но подсумок с магазинами больно
колотил по другому боку, и он отпустил автомат и на-
чал придерживать подсумок. Автомат, ударяясь о
грудь, причинял еще большую боль, и он снова схва-
тился за него.
Они бежали так быстро и долго, что у Костомыги-
на в груди расхрипелось, и он поклялся не притраги-
ваться отныне к сигаретам, отныне и во веки веков.
Наконец они добежали до крайнего холма и увиде-
ли в степи силуэты башен, домов и дувалов. Ветер
дул от кишлака, и Костомыгин уловил все тот же ла-
сковый аромат цветения. Ветер подул сильнее, мощ-
ная цветочная волна окатила запыленных, тяжело
дышащих людей в мокрой, терпко пахнущей одежде.
Под последним холмом была развилка: одна доро-
га, та, по которой они бежали, вела в кишлак, а дру-
гая уходила в степь. Два взвода во главе с лейтенан-
тами ротный послал к кишлаку, остальные залегли на
холме, укрывшись за валунами и направив стволы
ручных пулеметов и автоматов на развилку.
• Костомыгин тщательно прижимался к камням и
чувствовал, как они влажны и как приятно холодят
живот и грудь. Он сплевывал пыльную, вязкую слюну
и думал: ну, теперь можно глотнуть из фляги или еще
нет? Оглянулся по сторонам, осторожно расстегнул
ремень, подтянул, не снимая с ремня, фляжку к гру-
ди, открутил крышку, пригнул голову, приложился
вытянутыми губами к горлышку и насосал полный
рот воды. Прополоскав рот, он проглотил воду, пожа-
лев выплюнуть. Еще раз присосался к фляжке, а по-
том закрутил крышку, застегнул ремень, вытер губы
и подумал: покурить бы.
393
В небе осталась одна звезда. Дорога посветлела,
кишлак приблизился. Дорога была пуста. Все смотре-
ли на нее, и Костомыгин смотрел, думая о том, что все
это бессмысленно: никто здесь не появится, и никакой
стрельбы не будет,— просто взойдет солнце, и они
вернутся в полк. Это была его первая операция, и он
не верил, что она будет настоящей, одной из тех, о ко-
торых так живописно рассказывали ротные ветераны.
Ему стало лень глядеть на дорогу, по которой ни*
кто не пойдет, он зевнул и прикрыл глаза, чтобы дать
им отдых... Он проспал не дольше минуты и очнулся,
вздрогнув. «Не расслабляйся»,— сказал он себе и
снова принялся истово таращиться на дорогу.
Рассвело, и в кишлачных садах защелкали соло-
вьи, и петух несколько раз подряд покрыл картавой
бранью их ласковые трели.
А когда покраснел восток и покраснела степь на
востоке, над кишлаком разнесся резкий призывный
вопль. С Костомыгина вмиг слетела сонливость, он
взялся за автомат и, вытянув шею, заглянул за кам-
ни. Вопль повторился, и у Костомыгина сжалось серд-
це: вот она, война!.. Но лежавшие рядом солдаты бы-
ли спокойны. Он покосился на них, помялся и все же
решил тихо спросить у «чижа» Медведева, что это там
такое. Медведев хмыкнул и прошептал, что это ихний
поп орет.
Взошло солнце. Степь зеленела до горизонта, в
кишлаке кричали петухи, мычали коровы, ревел
ишак, и небо было полно светозарной голубизны,—
какая еще к черту война!..
Ротный встал, отряхнулся и сказал:
— Курите.
Солдаты поднимались, шумно зевали, переговари-
вались, чиркали спичками и затягивались сигаретным
дымом, прикрывая глаза.
Ротный хмуро глядел на, кишлак.
— Саныч,— сказал он радисту,— давай отзывай
наших от кишлака и ямщикам передай — пусть гонят
сюда телеги.
— Товарищ капитан, а может, караван уже про-
шел в кишлак? — предположил Шварев.
Капитан покачал головой.
394
— Нет. По расчетам, от гор сюда им идти как раз
ночь. Пока не стемнеет, они никуда не могут тронуть-
ся,— значит, они отошли от гор вчера поздно вечером
и к утру должны были подойти сюда.
Радист запрашивал взводы, залегшие в степи во-
круг кишлака. Затем вызывал на связь водителей-
механиков.
Ротный сел на камень, снял панаму, достал расче-
ску и начал не спеша причесываться. Шварев слонял-
ся вокруг него, поддавал ногой мелкие камни и пе-
чально посвистывал.
— Ну что ты ёрзаешь, Шварев? — недовольно
окликнул его ротный.
— Товарищ капитан, а может, они как-нибудь
умудрились просочиться в кишлак?
— Ну а наши ребята там зря, что ли, полночи ва-
лялись? Если только, конечно, они там не дрыхли...
— А может, товарищ капитан, прошмонаем киш-
лачок? Вдруг он набит оружием и духами?
Капитан задумчиво продул расческу, аккуратно
вложил ее в футляр и спрятал? Шварев выжидатель-
но смотрел на него.
— Сколько у тебя там меток, Шварев? — устало
спросил капитан.
— Каких меток?
— На прикладе, на прикладе, Шварев. Что я, не
знаю, где вы метки ставите? Все знаю, Шварев. И ко-
гда-нибудь за порчу оружия три шкуры спущу.
— Разве это порча? Мы легонько. Маленькие ца-
рапинки, и все,— сказал с улыбкой стройный серогла-
зый Салихов.
— А ты зачем на прикладе метки ставишь?
Салихов покраснел и пожал плечами:
— Где же отмечать?
— Тебе? На пятках и кулаках.
Все засмеялись.
— Так сколько у тебя царапин на прикладе, Шва-
рев? — спросил капитан, наблюдая за возвращающи-
мися от кишлака взводами.
— Шесть.
— И все мало тебе?
— Мало.
— Ты настоящий Дракула, Шварев.
Все засмеялись.
395
— А что вы ржете? — с усмешкой спросил рот-
ный.— Вы знаете, кто такой Дракула?
— Нет,— откликнулся кто-то.
— Ну так и нечего.
— А кто он такой, товарищ капитан? — угодливо
спросил «чиж» Медведев.— Он что, тоже меточки ста-
вил?
— Нет,— ответил капитан.— Он княжил в пят-
надцатом веке и прибивал гвоздями шапки... *
— К головам? — догадался Медведев.
Капитан кивнул, и все захохотали так, будто он
бог весть как остроумно пошутил.
— Ну, я до этого еще не докатился,— с довольной
улыбкой сказал Шварев.— Так что какой я Дракула?
— Да,— согласился капитан.— Разница есть. Он
был не сержант, а князь.
Подъехали БМП. Солдаты разделились на экипа-
жи, достали сухие пайки: консервированный свиной
фарш, консервированный сыр, сахар и хлеб — и при-
ступили к завтраку, рассевшись на земле вокруг ма-
шин.
Шварев вмиг опустошил банку с фаршем, прикры-
вая глаза от удовольствия, съел нежный желтый сыр,
сахар, выдул полфляжки воды, замер, к чему-то при-
слушиваясь, и вздохнул:
— Только раздраконил.
— Да! — откликнулся водитель Мамедов.— У те-
бя там ба-а-льшой дракон! — Он ткнул пальцем в
поджарый живот Шварева и засмеялся.— Все хава-
ешь и хаваешь, а мяса нэ нарастишь никак. Тэбя дэ-
вушки лубит нэ будут. Они упитанных лубят.
— Ну-у,— Шварев расправил плечи,— ну-у, Ма-
мед, разве в животе дело?..— Он взглянул на Опари-
на и прикрикнул: — Что лыбишься! Жри быстрей, на
операции все быстро нужно делать.
Опарин перестал улыбаться, запустил ложку в ро-
зовую мякоть и вдруг сказал:
— Товарищ сержант, хотите? Мне что-то не лезет,
я вон лучше сырку пожую.
Костомыгин взглянул на Опарина и отвернулся.
Все-таки порядочная скотина этот Опарин.
396
— Слушай! — резко сказал Шварев.— А ежели,
к примеру, зимой мне будет холодно, отдашь свою ши-
нель? Знаешь, какие тут зимы? У-у!
Опарин испуганно поглядел на него.
— Отвечай.
— Если очень нужно будет...— пробормотал Опа-
рин и умолк.
— А если бы у тебя баба тут была, уступил бы
бабу?
— Ну, вы скажете, товарищ сержант,— застенчи-
во улыбнулся Опарин.
— Нет, но предположим. Отвечай»
Опарин растерянно заморгал.
— Это слишком...
— Что-о? — вскричал Шварев.
— Слишком фантастический пример,— добавил
Опарин.
— А, жук! Тварь скользкая. Какой ты разведчик?
Жри свой фарш. Не хочется ему. На операции надо
жрать через силу.
— Как похаваешь, так и повоюешь,— вставил Ма-
медов.
— Ясно? — спросил Шварев.— Это уже вторая
ошибка. Помнишь первую?
— Помню,— уныло ответил Опарин, принимаясь
за фарш.
Позавтракав, все уселись на верху машин, и ко-
лонна тронулась в обратный путь.
Возле кишлака на берегу той реки, что так краси-
во мерцала под луной минувшей ночью, колонна на-
гнала старенькую желтую открытую «тойоту», наби-
тую вооруженными людьми в разноцветных чалмах
и просторных одеждах. Рядом с шофером сидел худо-
щавый усач в форме офицера царандоя. Он вышел из
машины и, улыбаясь, направился к БМП ротного.
— Мондана бощи хуб ести! — поприветствовал он
ротного.
Ротный наклонился с машины и пожал его смуг-
лую руку.
— Как дела, Акбар?
— Хуб, командир,— ответил офицер, выискивая
среди солдат на БМП кого-то. Увидев таджика Ку-
чечкарова, он махнул ему рукой: — Ахат!
397
— Эй, Кучечкаров! — позвал ротный, обернув-
шись назад.
К ним подошел хрупкий чернявый солдат. Пожав
руку афганскому офицеру и коснувшись три раза ще-
кой его колючей щеки, Ахат начал переводить. Вы-
яснилось: они едут в полк, чтобы сообщить о прибы-
тии большого каравана с оружием в соседний кишлак
Паджак. Ротный недоверчиво спросил: откуда они
знают, что с оружием? Может быть, верблюды нагру-
жены тряпками, съестным и всякой всячиной, может,,
это обычный караван бродячих торгашей? Офицер
обиделся и ответил, что в Паджаке у него есть свои
люди и у этих людей острый глаз и честные языки.
Ротный спросил, когда караван появился в Паджаке.
Офицер сказал, что на рассвете. Но, возможно, они
уже смылись, предположил ротный, вы отправились
к нам в полк, а они в это время и смылись. Куда же
они днем пойдут, что, их бешеный шакал покусал,
возразил офицер Акбар.
— Кто это? — спросил Костомыгин Шварева.
— А, из Спинди-Улии ребята, у них там отряд са-
мообороны,— небрежно сказал Шварев.— Чуть
что — к нам в полк, за подмогой бегут. Но угощать
горазды. Мамед, помнишь шашлыки?
Мамедов закачал головой и сладко зацокал.
— Ну, кажется, будет дело,— сказал Шварев, и
глаза его заблестели.— Эй, будет вам крещение! Чую,
неспроста они в полк поперлись.
Усач уже терял терпение, горячился и размахивал
руками, убеждая ротного, что его сведения не липа.
Ротный и сам догадывался, что это так,— караван,
который они поджидали, свернул в Паджак, вот и
все,— но он все же дотошно расспросил Акбара обо
всем: сколько верблюдов, сколько людей, не появля-
лись ли в Паджаке подозрительные типы в последнее
время и только после этого связался с полком и по-
просил соединить его с кэпом. Минут через десять кэп
ответил.
Переговорив с кэпом, ротный махнул афганцам,
его машина развернулась и поехала по дороге вдоль
реки; за ней потянулась и вся колонна, афганцы на
раздолбанной «тойоте» пристроились в хвосте.
— Будет вам крещение, сынки!— крикнул Шва-
рев, хлопая Костомыгина по плечу.
398
Колонна летела в солнечных клубах пыли над
мелкой сверкающей рекой. Колонна ревела, выбрасы-
вала черные дымы и грозно хрустела траками гусе-
ниц, и Костомыгин, завороженный и оглушенный гро-
хотом и стремительным движением сквозь солнце,
пыль и густой полынный аромат степи, думал, что
напишет брату замечательное письмо! Эта ночь, этот
запах цветущих садов, эта луна, эти холмы под звез-
дами, соловьи, засада, вопли муэдзина на заре, разо-
чарование, а потом эта встреча, и вот — солнце, пыль,
лязг и копоть, и ожидание, и неизвестность: что там
будет, в этом Паджаке? какой он, Паджак? как они
будут захватывать караван? сколько там мятежни-
ков? какие они, мятежники? свирепые, бородатые...
кто погибнет? а вдруг кто-то погибнет? Вон Опарин
возьмет и погибнет, вот он сидит рядом, а через час
погибнет... или он сам, Костомыгин, погибнет — успе-
ет вспомнить всё и всех и умрет в пыли, палимый
солнцем, его тело отправят домой, и будут над ним
рыдать друзья и родные...
Он был уверен, что на этот раз все будет настоя-
щим и он напишет брату про свой первый настоящий
рейд, напишет, потому что он не погибнет и вообще
никогда не умрет. Ну, впрочем, когда-нибудь, может,
и умрет, но это будет черт знает когда, через уйму
лет, через тысячу лет!
Паджак оказался небольшим кишлаком, мало чем
отличающимся от других, увиденных нынче Костомы-
гиным: серые дувалы — высокие и низкие, серые
башни — круглые и многогранные, серые дома —
квадратные и прямоугольные коробки с узкими окон-
цами— и очень зеленые, очень дремучие сады. Пад-
жак стоял на берегу реки. Вокруг простирались уже
чахнувшие, буроватые степи. А в Паджаке зеленели
и благоухали сады. Как только колонна подъехала
к кишлаку, Костомыгин ощутил душистый запах, и во
рту у него снова стало сладко.
Солдаты облачились в бронежилеты, надели каски
и попрятались за машины, опасаясь снайперов. Но
кишлак выглядел вполне мирно: возле дувалов гуля-
ли куры, старик прогнал по улице горбатую корову,
там и сям то и дело показывались любопытные маль-
399
чишки, они вытягивали шеи и таращились на запы-
ленные машины кафиров
Солнце полыхало в голубом небе, и было очень
жарко, чертовски жарко. Солдаты обливались потом,
курили и поглядывали из-за машин на кишлак.
— Ну, сейчас мы накроем голубчиков,— сказал
Шварев, затягиваясь сигаретой.
— Товарищ сержант, можно мне попить? — спро-
сил Опарин.
— Можно Машку через ляжку! — рявкнул Шва-
рев.
— Разрешите? — поправился Опарин.
— На операции воду нужно беречь,— сказал
Шварев.
Опарин вздохнул и покосился на сияющую реку.
— Да что ты на реку смотришь! Из рек пьют толь-
ко ослы и местные, их никакая хреновина не берет —
им-му-ни-те-т. А ты желтуху сразу схватишь. Или
тиф. Или еще какой-нибудь сифилис.
— Ясно,— сказал Опарин, облизывая сухим язы-
ком окаймленные черной запекшейся грязью губы.
Спустя десять минут операция началась.
Ахат Кучечкаров поднес к лицу мегафон и про-
орал кишлаку несколько отрывистых фраз, выдержал
паузу и опять покричал.
Сдаться предлагает, понял Костомыгин.
Прошло несколько минут, но никто не появился, не
вышел. Костомыгин удивленно глядел на кишлак и не
мог понять, когда это хозяева умудрились очистить
улицы от кур, ослов и мальчишек,— кишлак был пуст
и нем.
Ахат вопросительно взглянул на ротного. Ротный
сказал: «Хватит». И Ахат сунул мегафон в люк.
Несколько БМП медленно двинулись на кишлак,
солдаты в касках и бронежилетах с автоматами напе-
ревес пошли за машинами. Они вошли в кишлак с од-
ной стороны (чтобы не перестрелять друг друга, дога-
дался Костомыгин) и рассыпались по улочкам.
Кишлак молчал.
Кто-то застучал прикладом в двери. Костомыгин
вздрогнул, услышав резкий стук по дереву.
1 Кафир — неверный.
400
— А мы сюда,— сказал Шварев, сворачивая к об-
несенному низким дувалом дому. Он ударил ногой в
крепкие ворота, и немного погодя ворота раствори-
лись, и на улицу вышел старый костлявый человек
с клюкой. У него- было сморщенное лицо, желтые ру-
ки, покрытые прозрачной шелухой, и равнодушные
глаза.
— Нис, нис душман,— проскрипел он.
Шварев молча отстранил его и прошел во двор.
— Медведь! На входе! — бросил он Медведеву и
побежал к дому. Опарин, Костомыгин, Салихов кину-
лись за ним.
Они обрыскали двухэтажный дом, но никого, кро-
ме кучки женщин в чадрах и детей, набившихся в
крошечную, самую дальнюю комнату, и ничего, кроме
тряпок, посуды и съестных припасов, не обнаружили.
Кто-то предложил задрать бабам чадры,— вдруг
это не бабы? Но Салихов запротестовал: все видели
не раз, какие штучки он выкидывает на спортплощад-
ке, и никто не посмел его ослушаться.
Они вышли во двор.
— Сараи проверим,— сказал Шварев, и все по-
шли было к сараям, но тут вдруг щелкнул выстрел,
у ворот вскрикнули, и они метнулись к выходу.
Возле ворот сидел и крякал Медведев.
В кишлаке поднялась стрельба: солдаты поливали
очередями окна, сады и крыши; застучал пулемет, ра-
зорвалась граната.
Подкатила БМП, и Медведева потащили к маши-
не. Костомыгин тупо глядел, как Медведева подняли
наверх и опустили в люк... Он ощутил ногами, что по
земле пробежала дрожь, и удивленно посмотрел под
ноги. Рядом взвились пыльные султанчики, и Косто-
мыгин откинулся спиной на дувал.
— Сюда! — заорал Шварев, и Костомыгин, опом-
нившись, вбежал в ворота От ворот полетели щепки,
Костомыгин схватился за лицо и замотал головой.
— Что? Что? — кричал Шварев, отрывая его руки
от лица.— Что? — Он нагнулся и заглянул в его ли-
цо.— А! Ерунда! Щепки!
Костомыгин протер глаза, проморгался и огля-
нулся.
— Что делать? — спросил он у Шварева.
14. Крещение
401
— Бей очередями по тому, дому! — Шварев ткнул
пальцем в сторону соседнего дома и дал по его окнам
очередь.
И Костомыгин, прячась за дувалом, начал выпу-
скать длинные очереди по соседнему дому.
— Болван! — крикнул Шварев. — Береги пат-
роны!
Было жарко. На зубах скрипела пыль. Хотелось
сбросить горячую тяжелую каску и громоздкий броне-
жилет. Костомыгин выпускал короткую очередь, вы-
жидал и снова высовывался из-за дувала и посылал
несколько пуль в окна высокого и огромного дома, но
никак не мог застичь врасплох пулеметчика. Пуле-
метчик давал очередь из окна и прятался, переходил
к другому окну и бил оттуда.
В кишлаке шла стрельба. То и дело рвались гра-
наты. В воздухе висела пыль, и сильно пахло порохом.
Взрыкивали скорострельные пушки БМП, глухо
и крупно стучали пулеметы. Пороховая вонь смеша-
лась с запахом цветущих деревьев, и Костомыгина
тошнило. Чертовски надоело привставать и стрелять,
и снова пригибаться, и снова вставать, нажимать на
курок и опять прятаться за дувалом. И такая жара,
и так воняет порохом и цветами, и в ушах звенит, в
горле пересохло, пулеметчик все лупит и лупит, и нет
и не будет этому конца, а Медведев, наверно, все еще
скулит и выгибается в душной машине, нет и не бу-
дет этому конца... Из какого окна он сейчас будет
бить? А где Опарин?
Костомыгин обернулся и увидел слева от себя
мокрую, красную рожу с выпученными глазами. Ко-
стомыгина затошнило еще сильнее. Он хотел заста-
вить Опарина стрелять, а не стоять столбом перед
дувалом с вобранной в плечи головой и опущенным
автоматом, но вдруг сообразил, что пулеметчик уже
не стреляет. Он осторожно выглянул и обшарил гла-
зами пустые черные окна. Поднял голову еще выше
и увидел, как из дверей дома во двор вышел широ-
коплечий мужчина с поднятыми руками, за ним сгор-
бившийся парень, а позади этих двоих шел Салихов,.
— Они их взяли! — потрясенно закричал Косто-
мыгин Швареву.
— Опарин! Костыль! — крикнул Шварев на бегу,
и Костомыгин с Опариным побежали за ним.
402
Они выбежали на улицу, достигли ворот соседнего
дома и ворвались в тесный дворик.
Шварев молча подлетел к горбоносому, сухопаро-
му, плечистому мужчине в разорванной длиннополой
голубой рубахе и ударил его в подбородок прикладом.
Горбоносый запрокинул голову, но устоял на ногах.
Большеглазый парень, стоявший чуть позади мужчи-
ны, съежился и вскрикнул, как будто это его удари-
ли с разбегу прикладом. Мужчина выпрямился. Изо
рта у него плыла кровь.
— Какая ж сука Медведева подстрелила? —
крикнул Шварев.
Мужчина смотрел на него исподлобья, и на его
заросших черной щетиной щеках бугрились желваки.
Парень стащил с головы грязную чалму и закрыл ею
лицо.
— Ну что? — спросил Салихов.
— Они Медведя подстрелили,— сказал Шварев,
оглядываясь.
Салихов кивнул.
— Так,— сказал Шварев, утирая потное лицо ру-
кавом.— Все. Мурд, ребята, мурд. Все, хана,— сказал
он пленным, и плечи парня задрожали, а у мужчины
сузились глаза.
— Так,— пробормотал Шварев,— так...— Он огля-
нулся еще раз, встретился взглядом с глазами Опари-
на и повторил: — Так.
— Костыль! Бьешь по мужику. Опарин! Вот этого
кончишь.
Костомыгин почувствовал, как у него замерзает
затылок. Он сжал зубы и посмотрел на Шварева: что
он говорит?
— Ну! — крикнул Шварев.
Солнце висело низко над степью, и край степи
под солнцем, и узкая полоса неба над солнцем были
рдяные. Раскаленный горький воздух медленно
остывал.
Длинная колонна змеилась по вечерней степи, и
над нею качались серые флаги пыли. Колонна возвра-
щалась в полк. На верху машин, устало опустив пле-
чи, сидели солдаты. Пленные со связанными руками
находились внутри машин.
403
Пыль лезла в глаза и глотки, но солдаты не спу-
скались внутрь: наедет машина на мину, и находящи-
еся внутри просто размажутся по стенкам, а сидящие
наверху всего лишь слетяФ на землю. Знали об этом
и пленные караванщики. Они потели внутри машин,
вздрагивали, когда машина подлетала на ухабе или
ударялась брюхом о камень, и молились аллаху, что-
бы он убрал с пути все мины. А может, молились, что-
бы всех: и ненавистных кафиров, и их самих — разо-
рвал к чертовой матери мощный фугас. Да, если ма-
шина нарывалась на фугас, то редко кто оставался
в живых: десятитонные машины опрокидывались, как
пустые жестянки, и сидящие наверху превращались
в лепешки.
Колонна везла в полк одиннадцать пленных и
уйму трофеев: итальянские мины, крупнокалиберные
пулеметы, гранатометы, ящики с патронами и грана-
тами, солидный груз медикаментов — американских
и западногерманских.
Командир разведроты был хмур и зол: по дороге
в полк скончался Медведев — пуля порвала ему киш-
ки,— а командир первого взвода, лейтенант, был се-
рьезно ранен в голову. Не удалось на этот раз чисто
сработать...
Костомыгин, один из всего экипажа, лежал внутри
БМП на ящиках со снарядами. Он курил сигарету за
сигаретой, и ему было наплевать, рванет мина под его
машиной или не рванет.
Он отлично помнил все, хотя во время боя ему ка-
залось, что это не он, и все было призрачным и смут-
ным. Но теперь это было отчётливым и походило на
замедленные кадры фильма.
Он прекрасно помнил всё, все звуки, голоса, дви-
жения. Помнил, как землю под ним пробрала дрожь,
как хрустнуло дерево ворот и щепки ударили в лицо,
как они бегали по сумеречным’ комнатам дома, как
кто-то предложил проверить женщин под чадрами,
может, у них усатые морды? И то, как он устал стре-
лять по окнам соседнего дома, а потом увидел во дво-
ре горбоносого мужчину с поднятыми руками, и пар-
ня, и Салихова.
Он влепил короткую очередь в широкую грудь гор-
боносого, и тот упал, повыгибался на земле, выдувая
носом алые пузыри, и замер.
404
А Опарин?
Костомыгин ненавидел Опарина. Вспоминал, как,
оглянувшись, увидел его потное, красное, трусливое
лицо с выпученными глазами, и стонал от отвращения
и ненависти.
«Он это из трусости не сделал. Он трус. Что ему
стоило нажать на курок, ну что ему стоило? Боже, что
с ним будет в полку!
Какая мне разница, что будет с этим слизняком!
К черту его. Он трус, обыкновенный трус, и нечего
о нем думать. Вот Салихов...» — думал Костомыгин,
затягиваясь сигаретой. Он накурился уже до тошноты
и едва сдерживался, чтобы не стравить, но доставал
из пачки новую сигарету и прикуривал. «Вот Сали-
хов... Неужели там был еще и Салихов?» — спраши-
вал себя Костомыгин, морщась.
Но в тесном дворике был и Салихов. Это же он
вместе с пехотинцем захватил мятежников, долбив-
ших из пулемета.
И когда Салихов понял, что Опарин не будет стре-
лять, что Опарин скорее сам застрелится, чем будет
стрелять, когда он это понял, он подошел к парню,
который все не отнимал от лица свою растрепанную
грязную чалму, и убил его рукой. Он убил его пустой
рукой. Он это так быстро сделал, что можно было по-
думать, будто парень умер своей смертью,— вдруг
остановилось сердце, и он замертво упал.
Костомыгина трясло на ящиках со снарядами, он
затягивался сигаретой, и ему не хотелось умирать
черт знает когда, через тысячу лет. Ему хотелось, что-
бы сердце остановилось сейчас. Но оно не останавли-
валось.
Желтая гора
Было сухо, тепло и желто. Тело было легкое. Стран-
ная женщина, вросшая в землю, кормила его с рук
красными ягодами. Белый пушистый ком прижимал-
ся к щеке, теплый, тяжелый ком.
И раздался взрыв.
Прядильников закричал и проснулся. Он сел в по-
стели, протер глаза, огляделся и понял, что он спал
в своей однокомнатной квартире и что его разбудил
405
трезвон будильника. Он потянулся, опустил ноги на
пол, прошел к столу, включил магнитофон. По утрам
он слушал рок. И в это утро он слушал рок. Это бод-
рило, как крепкий индийский чай или густой бразиль-
ский кофе. Прядильников раздвинул шторы. На улице
было солнечно. Стояла ранняя теплая русская осень.
Прядильников прошел босиком в туалет, потом в
ванную. Умывшись, он пошел в кухню, достал из холо-
дильника три яйца, зажег газ под чайником и под
сковородкой. Сковородка нагрелась, он опустил в нее
кусок сливочного масла, масло быстро растопилось,
и в желтую пенную лужицу выскользнули три яйца,
выпуклых, бледно-желтых, подернутых прозрачной
слизью.
Оставаясь в одних трусах, Прядильников сел за
стол, съел яичницу, три бутерброда и выпил две чаш-
ки рубинового горького чая. Позавтракав, он вернул-
ся в комнату, взял пепельницу, спички, сигареты и
лег в постель, треснул спичкой, прикурил.
Над лицом вились сизые чубы и локоны.
Рок рокотал: эй, пойдем с нами, у нас все просто,
черное — черное, белое — белое, лучше лежать на по-
ляне с подругой и банкой пива, чем играть в игры
взрослых идиотов, лучше быть нищим, но никому не
врать, никому не подчиняться и никем не повелевать,
мы советуем тебе любить себя, подругу и пиво и не
мешать остальным делать то же, это лучше, чем рас-
суждать о любви ко всему человечеству, требовать,
чтобы все друг друга любили, не любя себя, чтобы
превыше всего ставили идею и долг,— это лучше, чем
требовать, рассуждать, заставлять и время от време-
ни устраивать резню ради торжества своих человеко-
любивых идей, ты не верь, нет, не верь, никому, никог-
да, ничему, дружище, не верь.
Никотин и рок растворялись в крови, Прядильни-
ков балдел.
Ты не верь, нет, не верь...
Настроение было что надо. Оно редко бывало хо-
рошим. Этакая вечно надутая цаца. Все ей не так.
А сегодня все так. С чего бы?
Кажется, приснилось что-то?
Да, вроде бы.
Надо вспомнить. Но — потом, потом. Сейчас —
рок.
406
Прядильников посмотрел на часы. Пора. Он встал,
надел джинсы, черный свитер и замшевые легкие
туфли. Погляделся в зеркало. Ничего. Посвежел.
Прихрамывая, Прядильников вышел из квартиры.
У подъезда стоял его «броневик» — «Запорожец»
песочного цвета. Прядильников протер тряпкой зату-
маненные стекла, сел, повернул ключ зажигания, про-
грел мотор, включил первую скорость, тронулся.
«Броневик» проплутал по каменным лабиринтам, вы-
брался на широкую улицу и заскользил мимо остано-
вок и толп, магазинов и ресторанов. Прядильников
включил приемник, покрутил колесико настройки и
нарвался на рок. Рок рокотал все то же: если ты не
успел свихнуться от речей и призывов пузачей в ци-
линдрах, иди к нам, мы никуда не идем, потому что
некуда идти, и мы не врем, что куда-то идем и в конце
концов придем, мы топчемся на месте, и нам напле-
вать, кто ты — красный или черный, левый или
правый, христианин или буддист, безбожник или анар-
хист, ты человек, и этого достаточно, и этим все сказа-
но, ты пришел к нам, значит, ты устал от человеколю-
бивых басен, написанных твоей и моей кровью,
пускай они проламывают друг другу цилиндры и голо-
вы, а мы будем смотреть на солнце, целовать подруг
и слушать рок, нас объединяющий рок, нашу идеоло-
гию и религию — рок!
«Хорошо,— подумал Прядильников.— Только на-
ивно, ребята. Дяди в цилиндрах вдруг поругаются,
обзовут друг друга козлами и пришлют вам повестки.
И никуда вы не денетесь, пойдете защищать честь
цилиндров и выпускать кишки братьям во Роке».
Он въехал на стоянку, подумав, что сегодня нужно
было не сюда приехать, поставил свой «броневик» ря-
дом с черными и серыми «Волгами» и захромал к па-
радному входу дома с колоннами. «Не туда прие-
хал»,— опять подумалось.
В здание входили степенные мужчины в костюмах
и при галстуках, они чинно кивали и подавали друг
другу мягкие белые руки; входили и женщины, оде-
тые на один лад — а-ля Железная Леди из Лондона.
В доме с колоннами, на четвертом этаже, под кры-
лом и неусыпным оком областных властей находились
407
редакции двух газет, партийной и молодежной. Со-
трудником последней и был хромоногий прокуренный
худосочный молодой человек по фамилии Прядильни-
ков. Уже год он приходил в этот дом каждое утро. По-
ра бы привыкнуть. Но не привыкалось как-то. И в это’
утро, оказавшись в просторном вестибюле с зеркала-
ми, автоматами для чистки штиблет и двумя милици-
онерами за столиком с черными и белыми телефона-
ми, Прядильников почувствовал неловкость, как если
бы он незваным гостем заявился на пир, к тому же
на пир иностранцев. Он прошел мимо милиционеров,
глядя в сторону. Так и не научился барски кивать им,
а братски — не мог.
Здесь было два лифта, один отвозил тех, чьи каби-
неты были в правом крыле, другой — левокрылых ка-
бинетчиков. Ему нужно было налево, но среди лево-
крылых он увидел знакомое круглое лицо и повернул
направо. Ну его, этого Завсепеча. Прилипала. Он за-
ведующий сектором печати, под его контролем пресса
всей области. Начинал партсекретарем в колхозе
«Двадцать лет без урожая» или как там. Теперь —
Завсепеч.
Однажды, накануне 23 февраля, Завсепеч предло-
жил Прядильникову выступать на торжественном со-
брании. Прядильников отказался: не умею говорить,
не знаю, что говорить, нет. Завсепеч начал подсказы-
вать, что нужно и как нужно, и разошелся: наш народ
столько лет живет под мирным небом, а тебе, твоим
сверстникам выпала... э-э... выпало... выпала, то
есть обстоятельства так сложились, что вам... вас по-
звал интернациональный долг с оружием в руках за-
щищать весеннюю революцию братского южного сосе-
да, и вот вы оказали эту помощь, не мог бы ты прийти
с орденом, чтобы мы могли полюбоваться и удостове-
риться, что на смену нам идет достойная смена, тра-
диции, интернационализм. Испания, герои революции,
южные рубежи, американцы не дремлют, что где пло-
хо лежит, они тут как тут — цап! — но вы не дали
этим коршунам и ястребам расклевать юную револю-
цию, террор, бандиты, происки, отвага, честь, русское
оружие, солнечному небу — да! да! да! — ядерному
взрыву — нет! нет! нет!
— Я отдал орден в починку,— сказал Прядильни-
ков. Редактор из-за спины Завсепеча показал ему ку-
408
лак.— Это как же? — удивился Завсепеч. Редакция
весело молчала. Редактор корчил жуткие рожи поза-
ди Завсепеча.— Резьбу сорвал,— сказал Прядильни-
ков.— Часто надевал.— Выступишь без ордена,— отре-
зал редактор.— Он выступит, Демьян Васильевич.
Но Прядильников на следующий день выпросил
у заведующей отделом, своей начальницы, задание и
исчез на целый день. С тех пор Завсепеч останавли-
вал цри встречах Прядильникова, похлопывал его по
плечу и говорил:
— Молодой человек, мне кажется, ты чего-то не-
допонимаешь, конечно, ты принимал непосредствен-
ное, как говорится, участие, но из окопа видишь толь-
ко одно поле боя, и, даже если видишь все поля сра-
жений,— этого недостаточно, потому что, кроме явных
сражений, есть тайные, незаметные поверхностному
взгляду, есть хитросплетения, недоступные поверхно-
стному мышлению...
Прядильников вошел в кабину с двумя женщина-
ми и седовласым мужчиной. Лифт поплыл наверх.
Мужчина неодобрительно смотрел на ветхие джинсы
журналиста, наверное, он жалел, что только женщи-
нам запрещено входить сюда в капиталистических
штанах. Прядильников поглядывал на женщин в
строгих костюмах. Сухая вода. Кривая прямая. Слад-
кий лимон' Впрочем, правильно, все правильно, поду-
мал он, глядя на чиновниц. И еще правильнее будет
выгнать к черту всех мужиков из этого дома. Мужики
нет-нет, да и дадут слабину. А эти уж — шиш.
Он вышел на своем этаже и заковылял по малино-
вым ковровым дорожкам в левое крыло. Проходя ми-
мо двери, на которой было написано «Обллит»,
вспомнил, как однажды застопорили вторую полосу
молодежной газеты. В литературоведческой статейке
в одной строке оказались один известный писатель
и Булгаков. Редактору позвонили и сказали, что изве-
стный советский писатель и Булгаков в одной хвалеб-
ной строке — нонсенс. Редактор — покладистый му-
жик. Но иногда стих на него накатывает, ходит он хо-
дит, молчит и молчит, делая, что скажут, и вдруг
увидит очередной кумачовый лозунг: «Топтать голов-
ные уборы строго воспрещается!» — сорвет шапчонку
и — давай ее месить ногами. И в тот раз стих нашел.
Редактор ответил, что он, весь коллектив редакции,
409
автор статьи и умные люди планеты не видят в этом
никакого нонсенса. Но тот, кого он таким образом за-
числил в неумные люди, был выведен из себя и ска-
зал следующее: воспевание белятины на руку врагам,
враждебная ностальгия, упаднический тон, мировые
ценности социалистического реализма, выпады и
шпильки, растлевающее влияние на формирующиеся
сердца и умы, искаженное изображение действитель-
ности, мы, советские люди, ощущая величие будней,
мы заявляем решительное нет! — не стоять рядом с
советским грандиозным литератором этому воспева-
телю, оплевьивателю!
Но редактор — ни в какую: «Пускай газета вооб-
ще не выходит. Весь номер». «Это как? Как понимать?
Саботаж?» «Да, саквояж»,— ответил шеф и бросил
трубку. Через пять минут его вызвал Главный Цензор
Обллита. Он выслушал шефа и порекомендовал рас-
тянуть предложение так, чтобы один писатель стоял
в одной строке, а другой — в другой. Соломон.
В отделе учащейся молодежи уже было дымно и
пахло кофе. Заведующая отделом захлопала в ла-
доши:
— О! Федя и вчера не пил!
— Денег, видно, нет,— предположил бородатый
корреспондент отдела, красивый и печальный, как
Гаршин.
— Федя, иди ко мне,— позвала заведующая.
Прядильников приблизился к ее столу, она поло-
жила сигарету на край пепельницы, привстала, цепко
обхватила рукой его шею, пригнула его голову и поце-
ловала в губы. Бородач сказал: бис.
Корреспондентка, недавняя выпускница МГУ,
крошечная девочка с большими карими глазами и
кудряшками, покраснела и отвернулась.
— Ладно, больше не буду, а то Марина нальет
мне когда-нибудь яду в кофе,— сказала заведующая
и отпустила Прядильникова.
— Хм! — сказала юная журналистка.
Прядильников сел за свой стол.
— Марина, дай же ему кофейку,— сказала заве-
дующая, беря сигарету и затягиваясь.
— Хочешь? — спросила крошечная журналистка,
тепло взглядывая на Прядильникова. Он кивнул.
410
Девушка встала, грациозно прошла к книжному
шкафу — бесшумно и плавно, взяла кофейник, нали-
ла в большую чашку коричневой жижи и отнесла ее
Прядильникову. Тот поблагодарил, взял чашку, кос-
нувшись пальцами ее маленьких пальцез. Заведую-
щая, тридцатилетняя женщина, уже начавшая борьбу
со здравым смыслом и временем, осторожно улыбну-
лась,— она с недавних пор редко и осторожно улыба-
лась, чтобы было меньше морщин. Борода тоже улыб-
нулся, мечтательно: какие ножки.
— Федя, у тебя что, действительно нет денег? —
спросила заведующая.
— Есть,— откликнулся Прядильников, прихлебы-
вая кофе.— Просто я решил стать ангелом.
— Я дам, ты не стесняйся,— сказала заведующая.
— Она даст, не сомневайся,— сказал вошедший
в комнату фельетонист и карикатурист Гостев.—•
А мне дашь, Луиза?
Луиза, то есть Лиза, заведующая, ответила невоз-
мутимо:
— А у тебя одно на уме.
— 3. Фрейд говорит, что это у всех всегда на уме.
— Интересно, что сегодня на уме у шефа? Ты его
видел? С той ноги он изволил встать с койки?
Гостев хотел отчебучить по поводу редактора и
койки, но не успел. Дверь отворилась и, чадя папиро-
сой, в комнату вошел редактор, крупный ушастый му-
жик в очках.
— Егор Петрович! — воскликнул Гостев, вытяги-
вая руки по швам и выпячивая грудь.— Ррота! Смир-
ррна!
— Пшел вон,— сказал редактор, показывая в
улыбке большие прокуренные зубы.
' — Эсть! — Гостев вышел вон строевым шагом, но
тут же вернулся.— Разрешите здесь покараулить! —
воскликнул он, замирая у двери.
— Балбес,— сказал редактор.
— Рад стараться!
х—Доброе утро, Егор,— сказала заведующая.
Десять лет назад редактор вышел из комсомоль-
ского возраста, но считал себя молодым и поэтому
настаивал, чтобы его звали просто Егором, если, ра-
зумеется, рядом не было посторонних.
411
— Доброе,— откликнулся редактор.— Кофе пьете?
— Кофе редактору! — рявкнул Гостев и бросился
к шкафу наливать кофе в здоровенную глиняную ре-
дакторскую кружку.
Посмеиваясь, редактор сел на свободный стул.
— Ну, что ты, Федя, глядишь так печально своими
синими брызгами? — спросил редактор, улыбаясь
Прядильникову. Он всегда задавал этот вопрос, если
вставал с той ноги. Синие брызги он одолжил у Есе-
нина, своего любимого поэта.
— Федя и сегодня огурчик,— сказала заведую-
щая.
— Дэ? — Редактор окинул его взглядом.— Что,
нет денег? А я не дам, и не проси, ни! Бутылки пустые
сдашь — на хлеб хватит. Просохни.
— Его женить надо,— сказала заведующая, пово-
дя глазами в сторону Марины.
— Женим,— решительно сказал редактор.
— Скорее бы,— вздохнул Борода. У него жена
убегала к матери, если он приходил пьяным и не мог
убедить ее, что на то были веские причины.
Хорошенько размяв языки, журналисты взялись
за перья.
Прядильников работал над статьей о военно-пат-
риотическом воспитании в школах города. Прядиль-
ников писал. Сбоку на него поглядывала Марина. Бо-
рода ушел брать интервью. Заведующая искала ка-
кую-то книгу в шкафу.
Прядильников водил кончиком ручки по бумаге,
а стая медленно опускалась в степь перед голыми
мягкими горами; он и другие часовые молча смотре-
ли, как большие черные птицы с маленькими голова-
ми садятся в траву и цветы; было раннее утро, было
тихо, рота спала в бронетранспортерах, птицы при-
землялись, складывали свои огромные крылья, чисти-
ли клювами перья и, озираясь, ходили в цветах, у них
были белые полоски от клюва до груди и красные ша-
почки, они то и дело замирали, повернув лица в сто-
рону колонны, и приглядывались; часовые не шевели-
лись и, наверное, птицы принимали их за столбы, а
бронетранспортеры им казались спящими зелеными
черепахами; птицы с белыми шеями расхаживали по
степи, птицы были черны, степь зелена, спали голые
412
горы и стадо зеленых черепах, небо на востоке уже
светилось ало, было тихо, тепло...
Отворилась дверь.
— Это я даже не буду передавать в Обллит, Фе-
дор,— сказал редактор, входя и протягивая рукопись
Прядильникову.— Разорвут.
— Я так и думал,— ответил Прядильников.
— Понимаешь...
— Понимаю, что я, не советский, что ли.
— Ну, ты не обобщай. И не расстраивайся. Вот.
И знаешь, пиши-ка в стол пока. Когда-нибудь, быть
может... гм. А сейчас — увы.
— Понятно.
— И еще. Знаешь, как-то однобоко все у тебя вы-
ходит. Неужели все так мрачно было? Один нега-
тив, мм?
— Нет, почему. Сигареты бесплатные давали. На
операциях можно было не бриться. Вернее, бриться-то
нужно было, но офицеры смотрели на щетину сквозь
пальцы. Что еще? Водку в бензобаках из Союза при-
возили.
— Ха-ха,— невесело хохотнул редактор.
— Тридцать чеков бутылка. Но можно было сбаг-
рить дехканам старые сапоги, бензин, солярку, чтобы
на бутылку набрать.
— Негатив, сплошной негатив. Журналист дол-
жен быть объективным. В одной статье должен
быть и негатив, и позитив. Вот что такое объектив-
ность.
— Не умею. Туп, однополушарен.
— Чего?
— Одно полушарие работает, то, которое пессими-
стическое, а оптимистическое от обжорства лопнуло.
— Не пори чушь. И учись быть объективным.
Учись, Федор,— сказал редактор и вышел.
— Мемуары? — спросила холодно заведующая.
Ей не понравилось, что Прядильников отдал рукопись
редактору, а не ей.
— Мемуары. И ничего общего с темой нашего от-
дела,— сказал Прядильников.
Заведующая промолчала.
— Федя,— позвала Марина.— Дай мне, пожалуй-
ста, почитать.
413
— Это ерунда.
— Ну, Федя.
Он пожал плечами и протянул ей рукопись.
Армейская оратория
Его зовут Акимов. В то время, о котором речь, он был
майором, начальником штаба полка. Коренастый, не-
высокий майор с твердым взглядом, маленькими ру-
ками и вечно сияющими сапогами. Выбрит. Ни пы-
линки на форме, хотя место было пыльное,— вокруг
полка летом по степи всегда танцевали пыльные
джинны, время от времени они сговаривались и кага-
лом валили на полк, и небо меркло, солнце гасло, и
новозаветная тьма покрывала наш палаточный го-
родок.
Мы, четверо солдат, были в наряде, дежурили на
КПП. Это был долгий наряд, он длился пять месяцев.
Начальству казалось целесообразней иметь на КПП
постоянных дежурных. И действительно, это было
лучше, чем сменные наряды, которые несли службу
не очень исправно. Мы же, вечные дежурные, дорожи-
ли жизнью без ежеминутной офицерской опеки, без
построений, зарядок, маршировок и служили рьяно.
Все называли КПП хутором и завидовали нам. Ка-
менный домик, вернее, сарайчик, стоял в километре
от полка, на дороге, уходящей в степь; эта дорога да
еще одна на другом краю полка—две дороги были
единственными незаминированными отрезками земли,
полк окружали минные поля, и дороги соединяли
полк и чужой, враждебный мир.
Круглосуточно мы стерегли дорогу. Двое спали,
двое, облачившись в бронежилеты, несли дежурство.
Кормились мы в батальоне. Ну и, конечно, был у нас
очаг в окопе, чайник и таз для плова. На стенах висе-
ли вырезки из журналов, на столе лежали книги, в
тайнике хранился коротковолновый приемник. Была
колода самодельных карт. Неплохо жили.
Еженощно к нам наведывался дежурный по полку,
иногда наезжал начальник штаба Акимов или зампо-
лит полка.
Акимов любил Блока. Поэта. Александра Блока.
414
Как-то он заехал к нам проверить, не опились ли
мы браги или не накурились ли анаши. Мы не опи-
лись и не обкурились, и всюду у нас был порядок, и
подворотнички свежие. Майор остался доволен нами.
На столе он увидел томик стихов Блока, спросил, чья
книга, я сказал, что взял ее в библиотеке, он продек-
ламировал меланхолически: «По вечерам «ад ресто-
ранами»,— сказал, что это любимый его поэт, и взял
томик, разрешив мне через неделю за ним прийти.
Через неделю я пошел в полк, прождал майора в шта-
бе час, он появился, пригласил в кабинет, протянул
книгу и сказал: хрустальные стихи. Я ответил: да, не
железные. Он внимательно посмотрел на меня.
Я вспотел. Ну иди, отпустил он.
Майор Акимов прервал нашу хуторную жизнь.
Это было вечером. Шел снег. Мы топили печку.
Один в брезентовом плаще вышагивал перед шлагба-
умом; иногда он подходил в окну и смотрел на нас.
Мы готовили праздничный ужин. У нас было жарко,
дымно, шумно. Мы пекли лепешки и жарили картош-
ку. У нас был именинник. Он застенчивый парень,
сидел сложа руки и ждал подарков и гостей. Вскоре
гости пришли. Их было двое, они принесли в подарок
пол-ящика сгущенки и подтяжки: носить подтяжки
у нас было очень модно.
Мы уселись вокруг стола, разлили по кружкам ви-
ноградный сок, я встал, чтобы произнести речь, но
часовой постучал по заснеженному окну и сказал: ма-
шина! Все перепугались и начали прятать под койки
праздничную снедь, гости бросились вон. Я останав-
ливал всех и говорил: ну что тут такого, если у нас
именинник? Но меня никто не слушал.
Машина подъехала. Мы ждали. Хлопнула дверца.
Донесся глухой голос нашего часового, он доложил,
что за время его дежурррства—и все такое. Дверь
отворилась, и в домик вошел хмурый майор Акимов
и дежурный по полку, лейтенант. Акимов окинул
взглядом наши распаренные, встревоженные лица.
Из-под коек пахло лепешками и картошкой, на столе
лежали хлеб, консервы и горка порезанного репчато-
го лука.
— Доставайте,— сказал Акимов.— Всё.
Мы вытащили из-под коек сковороду и тарелку
с лепешками.
415
— Я сказал всё,— напомнил Акимов.
— Это всё,— сказал наш сержант.
— Брагу!
Мы пожали плечами.
— Лейтенант,— позвал Акимов.
Лейтенант обшарил все углы, заглянул под по-
душки, вышел на улицу.
— Товарищ майор,— начал объяснять наш сер-
жант,— у нас именинник...
Лейтенант вернулся с заснеженными гостями.
— В окопе лежали.
— Так,— сказал, оживляясь, майор. Он снял шап-
ку, пригладил волосы и сел на табурет.
— Откуда? — спросил лейтенант у гостей. Те мя-
лись, понуро клонили головы и молчали.
— Откуда? — тихо спросил майор, и гости вздрог-
нули, вскинули головы и назвали свои фамилии и под-
разделения.
— На КПП посторонним запрещается, знаете? —
спросил лейтенант.
Гости молчали.
— Знаете? — спросил майор, и гости хором отве-
тили: так точно! никак нет!
Один знал, другой нет.
— Так,— сказал майор.— Сержант, вы тоже не
знаете?
— Да, но именинник,— сказал наш сержант,—
а мы в вечном наряде...
— В вечном? — Майор побледнел.— Паразиты,—
сказал он тихо.
Посмотрел на стол и вдруг рубанул ребром ладо-
ни по ручке сковороды. Картошка вывалилась на пол.
— Именины,— процедил майор, вставая.— Име-
нины! У них именины! Кругом враги, того и гляди
всем глотки перережут! Я говорю: война! А у них име-
нины. Име... Ты пачччему сидишь?
Именинник вскочил с койки и вытянул руки по
швам.
— Зажрались, закабанели! Веч-ч-чный наряд!
Я вам покажу веччный... Я вас научу... мать... Весь
полк в цинкачи? В цинкачи, да?.. У них именины! Нет,
лейтенант, ты по пяди, ты только погляди на барсу-
ков ссулявых! В <iый наряд!
416
Кто-то, я уже не помню кто, хихикнул. Наверное,
от страха. И этого было достаточно, чтобы начштаба
совсем сошел с орбиты.
— Смешно? Вам смешно?
Он схватил буханку хлеба, тяжелую, корявую, и
смел со стола банки, соль, лепешки, кружки. Один
гость струхнул и бросился вон, лейтенант выскочил
следом и приволок его в дом. Уцепил его за ухо: ты
что, а? что такое ты? куда это ты? может, к духам?
Солдат заплакал. Майор побледнел еще сильнее,
гадливо сморщился.
— Убрать все! Живо!
Я взял веник, чтобы замести картошку, лепешки,
соль.
— Руками,— сказал майор.— Ручками. Р-ручка-
ми! Ну!
Я стоял, опустив голову. У меня дрожали ноги.
— Ну!
Не знаю. Может, я нагнулся бы и начал убирать
снедь руками. Не знаю. Вообще-то я трусоват. Но мне
не пришлось окончательно струсить, потому что наш
сержант вдруг выкинул фортель: шагнул к пирамиде
с автоматами и четко проговорил:
— Мы на боевом посту.
Печка дудит. За окном снег. Молчание.
Майор оглянулся на лейтенанта.
— Но! — сказал лейтенант и шагнул к сержанту.
Майор засмеялся:
— Кино! Нет, от скуки не помрешь.— Он перестал
смеяться.— Ладно. На губу все пойдете. Наряду—по
семь суток, гостям — по трое. А тебе,— сказал он сер-
жанту,— а тебя я...
— К Жилмурдаеву его,— подсказал лейтенант,—
он любит таких бедовых.
Жилмурдаев был командиром третьей роты пехот-
ного батальона, к нему отправляли на перевоспита-
ние «трудных». «Трудные» быстро становились лег-
кими.
И вдруг майор сказал:
— Нет. А тебе—благодарность!
Наверное, майор чувствовал себя вторым Суворо-
вым.
С тех пор на КПП дежурили по суткам. Наша ху-
торская жизнь закончилась. Но не в этом дело.
417
Летом молодой солдат удрал из полка. Солдаты
рыскали по степи, в кишлаках трое суток, но беглеца
так и не схватили. Дело получило огласку, началось
расследование. Выяснилось, что старослужащие... Ну
да хватит страстей-мордастей— выяснилась всякая
всячина нечеловеколюбивая, и в полк прилетели
представители штаба. Расследовав дело, они решили
строго наказать виновных. Перед возвращением в Ка-
бул штабные собрали комсомольских активистов из
всех подразделений для беседы. Моя рота послала
меня, хоть я и не был никогда в жизни, а тем паче в
армии, активистом, просто была у меня дурацкая
привычка на всех собраниях задавать вопросы офице-
рам, чтобы повеселить зевающую публику, и офицеры
считали меня активистом.
Беседа проходила в полковом клубе. Ни стен, ни
потолка в этом клубе не было, были ряды деревянных
скамеек, полукруг сцены, огромный вогнутый белый
экран, небо и солнце. На сцене стояли столы, за сто-
лами сидели майоры и полковники в полевой форме:
густые породистые усы, римские подбородки, очки в
тонкой оправе, проницательные глаза, выбритые ту-
гие щеки, белоснежные подворотнички, крепкие лыси-
ны и лоснящиеся от пота лбы.
Первым выступал начальник штаба нашего полка,
майор Акимов. Он сказал: миролюбивая внешняя по-
литика, но когда соседу плохо, и вот мы здесь, напря-
женные будни, происки империализма, необъявлен-
ная война, потери, трудности, славные Вооруженные
Силы, рожденные в огне, традиции, высокий боевой
дух, патриотизм, отличники боевой и политической
подготовки, десятки успешных операций, кавалеры
Красной Звезды, десятки награжденных медалями,
три Героя... Акимов налил из графина в стакан воды
и, как водку, выпил единым духом. Помолчав, он про-
должил: но, несмотря на славные традиции, завеща-
ния дедов, несмотря на наличие отличников боевой
и политической подготовки, несмотря на десятки
успешных операций, трех Героев, кавалеров Красной
Звезды и все усилия, прилагаемые командирами, по-
литработниками, имеются отдельные недостатки, хоть
с ними и ведется ежедневная кропотливая работа, то
есть упорная и бескомпромиссная борьба... и вдруг
418
случилось то, что случилось, случайно ли это случи-
лось? и да, и нет, моральный кодекс, высокий гума-
низм идеалов, гармония внутренней и внешней
культуры, но бытуют в нашей жизни враждебные
социализму уродливые пережитки прошлого, как стя-
жательство и взяточничество, стремление урвать по-
больше от общества, ничего не давая ему, бесхозяй
ственность и расточительство, пьянство и хулиган-
ство, бюрократизм и бездушное отношение к людям,
и вот отдельные несознательные элементы, прямо ска-
жем, преступные элементы, позволяют себе физиче-
ски и морально унижать человека!..
Я сидел в первом ряду и слушал. Я подумал: а мо-
жет, мне... До демобилизации был еще год. Я смотрел
на твердое лицо майора, на его маленькие крепкие
руки, на лица штабистов, с удовлетворением слушав-
ших майора, и думал: нет.
Я не встал и ничего не сказал. После майора вы-
ступали штабисты, они говорили то же самое, что и
Акимов. Отобедав, штабисты улетели на вертолетах
в Кабул. Старослужащих, причастных к побегу моло-
дого солдата, посадили. Но остальные «деды» почему-
то не 01бразумились и продолжали физически и мо-
рально унижать «сынов».
— Федя, наверное, это слишком,— сказала Мари-
на, прочитав рукопись.
— И тебе так кажется? Странно. Ведь это полу-
правда. На самом деле было хуже.
— А почему оратория?
— Музыка тут ни при чем. От слова оратор.
— Я так и подумала.
— Марина, твою статью я жду уже полнедели,—
заметила заведующая Луиза-Лиза.
— Я сегодня сдам,— пробормотала Марина и
уткнулась в бумаги.
— Федя, твой материал тоже запаздывает.
— Слушаюсь,— сказал Прядильников и взял
ручку.
Он писал о военруках и наглядных пособиях, о
воспитании молодежи в духе... традиции... заветы...
патриотизм... мы, молодые, вихрастые, наши стремле-
419
ния ясные, нам подагвай небосвод!.. А горы спали, и
стадо зеленых черепах спало, было тихо, тепло. Но
скрипнула крышка люка, из бронетранспортера высу-
нулся прапорщик, он зевнул, окинул взглядом степь
и замер, увидев черных журавлей, на миг он скрылся,
появился вновь, осторожно сполз с машины и, приги-
баясь, пошел в степь с автоматом, часовые следили за
ним, птицы заметили его, вытянули шеи, застыли,
прапорщик опустился на колено, приставил приклад
к плечу, склонил набок голову, прицелился, птицы по-
бежали, подпрыгивая и плеща крыльями, стая взле-
тела, бледно-красная очередь пронеслась над степью
и впилась в черную стаю. Часовые смотрели молча.
Это была первая операция Прядильникова, он тру-
сил, не был уверен, что, услышав щелканье пуль у ног
и свист осколков над головой, сохранит хладнокровие
и поведет себя как мужественный воин, он боялся, что
оплошает и побежит с поля боя или еще что-нибудь
такое позорное сделает, он вспоминал всех мужест-
венных кино- и книгогероев, но это не помогало, было
тошно, аппетит пропал и все время хотелось мочиться,
но рейд проходил спокойно, без единого выстрела, и
вот этим утром второго дня Прядильников услышал
стрельбу и увидел смерть: прапорщик опустился на
колено, склонил набок голову, прицелился, и трасси-
рующая очередь, трассирующая, трассирующая...
трассирующая... трассирующая... «Куда-то утром за-
хотелось уехать,— подумал Прядильников.— Что-то
такое приснилось, и захотелось уехать. Что же это мне
приснилось? ...трассирующая... трр-сс-шшш...»
— Луиза,— сказал Прядильников,— что-то как-то
ни черта не идет.
— Федор.— Луиза строго посмотрела на него.—
Не будь медузой, соберись. Сегодня надо сдать.
Прядильников закурил.
— Так, ребята,— сказала Луиза.— Я — в библио-
теку. Ведите себя прилично.— Она подошла к зерка-
лу на стене, поправила короткие темные волосы,
подкрасила свои большие выпуклые губы, отступила
на два шага, чтобы увидеть отражение ног, поглядела
и, улыбнувшись себе, ушла.
Марина и Прядильников сидели за своими стола-
ми и молча писали. Марина иногда бросала на Пря-
420
дильникова быстрые взгляды. Он ей казался сегодня
особенно худосочным и уставшим, ей хотелось покор-
мить его. Ей хотелось отобрать у него сигареты. Ей
хотелось обметать суровой ниткой измочаленные края
его джинсов. Ей хотелось погладить его хромую ногу.
Дверь отворилась.
— О! Пардон, пардон! — крикнул Гостов и
скрылся.
Прошло минут десять, и в дверь постучали.
— Да! — отозвался Прядильников.
Дверь приоткрылась. В дверном проеме блеснули
очки Завсепеча. Он как-то странно себя вел.
— Я не очень помешал? Можно?
— Пожалуйста,— озадаченно пробормотал Пря-
дильников. Что это с ним?
— Извините, конечно,— сказал Завсепеч, входя.—
Я, конечно, понимаю юмор, но... потехе — час, рабо-
те— время.— Он цепко оглядел Марину.— Здравст-
вуйте, молодая особа.
Марина оторвалась от статьи, взглянула на него,
покраснела и торопливо ответила:
— Здравствуйте.
— И ты здравствуй, ветеран, так сказать,— обра-
тился Завсепеч к Прядильникову.
— Здравия желаем, так сказать.
Завсепеч в упор посмотрел на него.
— Разрешите присесть? — спросил Завсепеч.
Марина и Прядильников переглянулись.
— Садитесь. Хотите кофе? Мы заварим.
— Нет, спасибо. Благодарю. Пишете?
- Да.
— Дела идут, контора пишет, хе-хе. И что
позвольте узнать на сей раз взволновало ваши юные
сердца?
— Мое юное сердце разрывается от горя, видя не-
совершенство военно-патриотического воспитания в
школах города. А ее—от пьянства и всяких прочих
родимых пятен и прыщиков буржуазного прошлого,
вскакивающих на теле советского студенчества.
— Пьют студентики?
Марина кивнула.
— Безобра-а-зники. Но не подавляющее ведь
большинство?
421
— Да-да,— ответил вместо Марины Прядильни-
ков.— Это нетипично. Она описывает частный случай.
А вообще советские студенты очень и очень.
Завсепеч сощурился.
— Что?
— Ничего. Просто очень и очень, и все. Очень и
очень и самые-самые.
— Критикуешь все, Прядильников,— сказал За-
всепеч, улыбаясь.— Все черные очки на носу дер-
жишь, все из окопа на мир взираешь... Орден по-
чинил?
— Починил. Только новая беда: краска облупи-
лась, надо покрасить, никак нужной краски не найду.
— Однако,— сказал Завсепеч и нахмурился.— Ты
бы думал, что говоришь о государственной награде.
— Мы, журналисты, сначала говорим, а думаем
потом, на ковре.
— И плохо! Очень плохо! Я бы посоветовал ду-
мать сначала. Хорошенько. Хороше-э-нько!—раздра-
женно проговорил Завсепеч.— Не пора ли быть серь-
езнее? Что у вас тут за балаган такой, понимаешь?
Что за фиглярство такое? Мне этот стиль совсем не
нравится. Разумеется, молодежная пресса несколько
раскованна, и это накладывает отпечаток на облик
сотрудников редакции, но не до такой же степени!
Журналистика — серьезная вещь. Должно быть чув-
ство ответственности. Если не хватает чувства ответ-
ственности, то стоит хорошенько подумать, на своем
ли я месте.
— Я очень часто думаю, Демьян Васильевич: на
своем ли ты месте? Это я так спрашиваю себя: на
своем ли ты месте, Федя?
Завсепеч посмотрел пристально на Прядильнико-
ва. Марина испуганно улыбнулась и отвернулась к
окну. От Завсепеча это не ускользнуло.
— Где редактор? — тихо спросил он. Он еще вла-
дел собою.
— У себя, наверное, я не знаю,— ответил Пряди-
льников.
— Позвать.
Прядильников взглянул исподлобья на Завсепеча
и повторил:
— Он у себя.
Завсепеч уставился на Прядильникова.
422
— Сейчас,— сказала Марина и встала.
Но Завсепеч тоже поднялся и, ни слова не говоря,
вышел.
— Ты обалдел,— сказала Марина.
— Я обалдел,— согласился Прядильников и заку-
рил.
Вскоре за дверью послышался голос Завсепеча:
— Вот, Егор Петрович, вот, полюбуйся художест-
вами. А? Но ведь это редакция, а не цирк. А если бы
не я, а посетитель это увидел? Что бы он подумал о
нас с вами? Пишут на уровне десятиклассников, а ам-
биции— о! о-го-го! Распустил ты, Егор Петрович,
своих кузнечиков. Никакой серьезности, никакой поли-
тической зрелости, одна язвительность. Партия и пра-
вительство, понимаешь, заботу проявляют, вашему
этому, так сказать, ветерану, понимаешь, автомобиль
дали, квартиру дали,— как сыр в масле катается. Что
у нас с тобой было в его годы? То-то. А он все язвит
и ерничает, все корчит, понимаешь, из себя обиженно-
го. Над государственной наградой изгаляется! В об-
щем, так. Будем аттестацию проводить. Долго я смот-
рел сквозь пальцы на твоих кузнечиков — хватил.
Понабрал, понимаешь, недоспелых всяких шутов —
паяцев, понимаешь. Но есть, есть у нас грамотные
серьезные журналисты. Есть. В районках сидят года-
ми. Опытные, зрелые. А ты хватаешь с улицы пер-
вого попавшегося. Пишет, как курица, а амбиции — о!
о-го-го! И потом у меня есть сведения...
Дверь распахнулась, ударившись ручкой о стену.
— Погляди на него! — потребовал Завсепеч.
Редактор тяжело поглядел на Прядильникова.
— Ты погляди на его лицо. Ему же в ЛТП место.
У меня есть достоверные данные.
Прядильников, развалясь на стуле, курил и глядел
в потолок.
Завсепеч не вынес этого зрелища: круто развер-
нулся и пошел прочь по коридору. Как только его ша-
ги стихли, в отдел учащейся молодежи потянулись со-
трудники, пришла и старушка машинистка. Редактор
сел, снял очки, протер их носовым платком, закурил
папиросу.
— Что это Демьян Васильевич так? — спросила
седая машинистка.
423
Редактор показал ей лист. Там нарисовано было
сердце, пробитое стрелой, было написано: «Перерыв
на любовь: 10.00—10.15».
— На двери висело,— пояснил редактор,— а тут
этот мимо шел.
Старушка достала очки и, приблизив их к глазам,
посмотрела на лист. Она оживилась и с интересом
поглядела на Марину. Заведующий отделом комсомо-
льской жизни растянул губы в мертвой улыбке.
— Это твоя работа, балбес? — уныло спросил ре-
дактор у Гостева.
Гостев потупился.
— Гостев, вообще-то надо меру знать,— сказал
заведующий отделом комсомольской жизни, сумрач-
ный тридцатилетний мужчина, много пивший в моло-
дости, но излечившийся от пагубной страсти пять лет
назад. Он не пил, был свеж, энергичен, но все пять
лет улыбался иезуитской мертвой улыбкой.
— Я сейчас объясню,— сказал Гостев.— Я дога-
дываюсь, в чем дело.
— Дураков не сеют, не пашут,— пробормотал ре-
дактор.
— Я догадываюсь,— сказал Гостев.— Дело не в
шутке. Подумаешь, сердце, ну и что. Это же не баба
голая. Я догадываюсь, в чем дело. Дело в другом.
— Брошу все к чертовой маме, уеду к теще в де-
ревню, буду бешеных быков пасти,— проговорил ре-
дактор.
— Просто Завсепеч,— продолжал Гостев,— испы-
тывает чувства к Марине. Комплексует старик.
— Надоел ты со своим психоанализом,— сказала
Марина и вышла.
— Это 3. Фрейд, а не я.
— Ну, а ты? Что ты все на рожон лезешь? Что ты
на него прешь, как на амбразуру? Кто за язык тянет,
Федор — синие брызги,— сказал редактор.
— Мне в армии надоели командиры и замполиты.
Редактор посмотрел в окно на солнечную улицу.
— В деревню. Парное молоко, рыбалка,— пробор-
мотал он.— Охота на зайцев, банька, огород, стадо
бешеных быков — рай.
К вечеру голова от табака и военно-патриотиче-
ских фраз трещала, как печь, набитая еловыми по-
424
леньями, с той лишь разницей, что этот треск слышал
только Прядильников. Он добил и сдал статью. Луиза
поцеловала его в лоб. И он попросил у нее денег. Ты
же говорил, есть, ответила она. Я просто очень стесни-
тельный, сказал он. А что ты купишь? Молоко и хлеб.
Точно? Клянусь. Ну, гляди, чтоб никакой горючки.
Слушаюсь и повинуюсь. Он взял червонец и спросил:
позволите ручку поцеловать, мамзель? Лучше Мари-
не. Не дурачься, сказала Марина шагнувшему к ней
Прядильникову. Ох, Маринка, не кузнец ты своего
счастья, сказала Луиза.
Без пятнадцати шесть все засобирались домой.
— Маэстро, какие планы на вечер? — поинтересо-
вался Прядильников у Бороды.
Борода устремил на него свои печальные краси-
вые глаза и сказал грустно: домой. Ну, ко мне на ча-
сок заедем, нажимал Прядильников. Жена опять к
теще сбежит, ответил Борода, я пас, позови вон Госте-
ва. Гостев мне до чертиков надоел, сказал Прядиль-
ников. Ну, не знаю, а я пас, пас, откликнулся Борода,
взял «дипломат» и поспешил удалиться, позабыв да-
же сказать всем до свидания.
— Федор! Что я слышу! — прикрикнула Луиза.
— Шутка.
— Смотри же.— Луиза погрозила ему кулачком.
Попрощалась. Ушла.
Марина медленно собирала в стол бумаги. Пря-
дильников снял трубку, накрутил указательным паль-
цем нужный номер. Не ответили. Побарабанил по ап-
парату, набрал другой номер. Молчание, точнее,
длинные гудки. Еловые поленья кряхтели и разламы-
вались, шуршала груда углей. Прядильников помял
указательными пальцами виски. Еще раз набрал оба
номера, положил трубку, сказал Марине: пока! —
и скрылся за дверью.
Марина сидела и неподвижно глядела на дверь.
Он спустился в лифте вниз, прошел мимо милици-
онеров, не глядя на них, вышел на крыльцо, прохро-
мал мимо колонн а-ля Парфенон, подошел к своему
броневику, отомкнул дверцу, сел. Куда едем? — спро-
сил он у броневика.
425
Надо вспомнить, что снилось ночью, и тогда станет
ясно, куда надо ехать.
Прядильников наморщил лоб. Нет, бесполезно.
Повернул ключ зажигания, выехал на улицу. Броне-
вик неторопливо заскользил по осенним улицам. Чер-
ные птицы опускались в степь. Опять они прилетели,
подумал Прядильников. Черные птицы опускались в
степь. Горы спали, зеленое черепашье стадо спало,
было тихо, тепло, белели цветы, журавли приземля-
лись, было тихо и тепло, белели цветы, цветы белели,
белецветы, жураженщины, бронечерепа... ччерт!
Он затормозил у винного магазина.
— Вино есть? — спросил у потасканного мужика
в спортивных брюках и синей олимпийке.
— Водяра одна, а бормотель, говорят, в «Юбилей-
ном», подвезешь?
— Подвезу.— Мужик сел рядом.
Остановились возле магазина «Юбилейный». На
хвост возьмешь? — спросил мужик. Прядильников от-
рицательно мотнул головой. Облом, сказал мужик и
вышел. Следом вышел и Прядильников.
У дверей магазина паслись двое. Они остановили
идущего мимо парня и что-то ему сказали. Парень
с готовностью полез в карман, отдал им мелочь и по-
шел своей дорогой. Двое увидели Прядильникова.
Один, веселый, кареглазый, шагнул навстречу, улыб-
нулся и протянул руку: здорова! Прядильников ма-
шинально ответил на рукопожатие. Незнакомец стис-
нул его руку: одолжи, братишка, на винишко, скоре-
нько. Прядильникову было не жалко, но «скоренько»
покоробило его, и он ответил, выдергивая руку: я
жлоб.
Он купил в магазине вина и сигарет и вышел на
улицу. Эй, жлоб, айда побазлаем в кустиках, сказал
кареглазый и веселый. Некогда. Ну, Сильвер, ну,
айда, а? Но Прядильников шел к своему броневику.
Оставь, сказал второй первому, кареглазому и весе-
лому, с убогими грешно махаться. Прядильников не
остановился. Он открыл дверцу, сел, положил целло-
фановый пакет с бутылками на сиденье, повернул
ключ. Мотор заработал. Прядильников глянул в окно.
Двое все еще паслись. Что за паскудный день, поду-
мал Прядильников и заглушил мотор. Он вынул
складной нож из бардачка, подцепил ногтем лезвие
.426
и вытащил его из паза. Сунул нож в карман. Распсча*
тал пачку, достал сигарету, прикурил и вышел из ма-
шины.
— Ты чего, Сильвер? — удивился веселый.— Ну,
пошли,— сказал Прядильников.— Га! кровь у бычка
взыграла! — воскликнул веселый.— Мы пошутили,
живи,— мирно проговорил второй.— Пошли,— повто-
рил Прядильников.— Слушай, Сильвер, валил бы от-
сюда,— посоветовал второй,— а то на две ноги захро-
маешь, ну.
— Салют, мальчики!
Все трое оглянулись. Луиза.
— Салют, киска, коли не шутишь,— живо отклик*
нулся веселый, разглядывая Луизу.
— За молочком, Федя?
Прядильников промолчал.
•— Какие проблемы, мальчики?
— Вечные,— ответил веселый.— Вечно не хватает,
— На,— сказала Луиза, вььнув из кошелька же-
лезный рубль.
— Не фальшивый?
— Ну, еще какие проблемы? — спросила Луиза.
— Всё. Нет проблем,— ответил веселый.
— Поехали домой,— строго сказала Луиза, беря
Прядильникова под руку.
— Опоздала, твой уже затарился.
Луиза увлекла Прядильникова за собой.
— Ничего козочка,— сказал веселый.
— Пошли,— сказал второй, и они отправились в
магазин.
Броневик катился по улице. Нашел, с кем связы-
ваться, сказала Луиза. Прядильников промолчал. На-
шел, с кем связываться, они б затоптали тебя, ты что,
не знаешь этих зверей? У каждого в кармане, небось,
по финке. Рожи уголовные, им что барана зарезать,
что человека — одно удовольствие. А тюрьма — род-
ной дом. Кстати, ты что, один собрался пить? Нет,
ответил Прядильников, у меня есть два безотказных
парня, однокашники. Луиза помолчала. Составить те-
бе компанию? Прядильников покосился на нее. Со-
ставь. Луиза улыбнулась: я пошутила, муж ждет. Со-
427
ставь, повторил Прядильников. У Луизы залучились
глаза. Лучше бы ты Марину пригласил. Марину?
А что Марина? Что, что,— разуй глаза и увидишь,
что. Ну, так что, ко мне? — спросил Прядильников.
Настырный, сказала Луиза. В следующий раз, Федя,
сегодня никак не могу.
Броневик остановился возле дома Луизы. Луиза
взяла сумочку, открыла дверцу. Прядильников угрю-
мо смотрел на нее. Она замешкалась. Прядильников
смотрел. Она тихо и твердо сказала: в следующий
раз,— и вышла.
К однокашникам не поехал. Расхотелось. Это надо
говорить, слушать, улыбаться, а за день надоело гово-
рить, слушать и улыбаться. Язык отяжелел, уши бо-
лят, и от улыбок кожа стала резиновой. Хорошо, что
он живет один: захотелось—позвал человека, захоте-
лось одному — не позвал. В армии потому тяжело, что
негде спрятаться. Даже в сортире вечно кто-нибудь
сидит, кряхтит.
Только один человек. Только один человек, желан-
ный всегда, днем и ночью, на работе и дома, когда
плохо и когда хорошо, один, только один, понимавший
все с полуслова...
Разведрота часто выходила. Да, слишком часто;
они надевали штормовые костюмы и кеды — турис-
ты — и ночью выскальзывали из полка, дня через
два-три возвращались так же внезапно, пропылен-
ные, обросшие щетиной; разведрота исчезала, и я на-
чинал ждать, ходить каждый день к их палаткам, что-
бы узнать, не вернулись ли. Потом рота возвраща-
лась; подходя к палаткам, видел чумазых ребят, они
чистили оружие; вытягивал шею, высматривая горбо-
носое длинное лицо, иногда видел издали его, ино-
гда— нет, подходил к ребятам: ну, мужики, как дело
прошло? Они: нормально,— или: хреново,— и добав-
ляли: он в оружейку пошел, или: в ба»ню, или еще ку-
да-нибудь! Я находил его и спрашивал: курите? Он:
курю! Я: но Минздрав предупреждает. Он: хочу быть
человеком, ибо один дядя ученый сказал: человек —
без перьев, на двух ногах, курящее! Я: ну, тогда полу-
чите подарок из Африки,— и даю ему пачку сигарет
428
с фильтром, армейское лакомство; сигареты советские
или болгарские, но уж так повелось: подарок из Аф-
рики да подарок из Африки! Возле полигона была
гора, там брали мрамор на строительство бань, кап-
терок и туалетов. Мрамор был белый, с зелено-сини-
ми полосами. Иногда нам удавалось уйти туда; устра-
ивались среди облитых солнцем глыб, снежных глыб.
Снежные глыбы, солнце светит, больно смотреть на
мрамор, он раскрывает книгу и читает вслух Бодлера,
бродягу Рембо, Верлена, Бунина, Блока, я не читаю,
у меня хреново получается, а он здорово читает, он
здорово читает потому, что сам пишет стихи. Он чита-
ет, я лежу на теплых камнях, покуриваю бесплатную
махорочную сигаретку, смотрю вниз, на полк, на
степь, на далекие южные горы, говорят, там уже Па-
кистан, говорят, там кедры растут, а на западе горы
Искаполь, греки, что ли, их назвали так? Здесь когда-
то воевал Александр Македонский... Горы Искаполь
голые, вершины в снегу, я смотрю на горы Искаполь,
на южные кедровые горы и вижу далеко в степи ка-
раван: крошечные верблюды, белые хрупкие шагаю-
щие фигурки. Но чаще никто никуда не брел по го-
рячей пыльной твердой и голой земле. «Я человек, как
Бог, я обречен познать тоску всех стран и всех вре-
мен». Я лежу на теплых сияющих камнях, смотрю на
солнце сквозь белую мраморную щепку с морской по-
лосой и говорю, что надо будет пожить на берегу ка-
кого-нибудь океана, а? Он откладывает книгу, берет
у меня прозрачную щепку, глядит сквозь морскую
волну на солнце и соглашается после армии пожить
на берегу океана. Изредка он читал свои стихи, и это
было лучше Бодлера, Блока. Рота разведчиков часто
выходила в рейды, слишком часто, рота уходила, и я
каждый раз узнавал, вернулась ли? Потом я шел и
видел издалека черных ребят в выбеленных солнцем
штормовках: привет, как дело прошло? Нормально,
а он в палатке. Курите? но Минздрав, получите пода-
рок из Африки, что-то ты давно ничего своего не чи-
тал. Не пишу, ни черта не получается чего-то. Вийон
был отпетый забулдыга, а как писал, а я еще вроде
не совсем отпетый, а ни черта,— или уже отпетый?
Ничего, ты еще выпулишь бронебойную поэму, и мэт-
ры будут рыдать от зависти. Привет, как дело про-
шло? Нормально, а он в оружейке. Привет, как дело
429
прошло? Плохо, а он во дворе санчасти. Двор санча-
сти, в центре брезентовый тент на четырех железных
трубах, врытых в землю, под тентом три горбатые
простыни. Медик-капитан: не суйся, эй. Надо, капи-
тан, там товарищ. Ну, иди тогда. Стащил с лица про-
стыню, посмотрел, отошел, вернулся, сунул под про-
стыню пачку сигарет, потом стоял посреди двора. Бы-
ло жарко, по простыням бегали мухи; стоял под
солнцем посреди выжженного двора санчасти, под
тентом белели простыни, двор санчасти медленно опи-
сывал круги, плавные круги, в центре неподвижно бе-
лели простыни, мертвые простыни, каменные просты-
ни, двор кружился, кружились санчасть и мраморный
сортир, от сортира разило лизолом, клейким бурым
лизолом было измазано солнце, вонючий лизол расте-
кался по небу, плыл по земле, а по простыням бегали
мухи: туда-сюда, сюда-туда...
Прядильников налил в стакан из бутылки и поду-
мал: надоела редакция... Выпил, съел яблоко и пласт
сыра. Подумал, закуривая: дом с колоннами надоел,
не хочу видеть Завсепеча. И эта конура осточертела.
А где-то есть одно такое местечко, там хорошо. Сига-
ретный дым кокетливо извивался перед лицом. Жаль,
что Луиза не приехала. Луиза, Лиза, лиз-лиз-лиз...
Черные прилетели...
Птицы с длинными белыми шеями неслышно били
крыльями, вытягивали ноги и становились на землю.
В степи белели цветы—плывущие низко над землей
комья мыльной пены. Рота спала в бронетранспорте-
рах. Стаю видели часовые. Было раннее утро, было
тепло и тихо. Птицы приземлялись, складывали свои
огромные крылья, чистили клювами перья и, озира-
ясь, ходили в траве и цветах. У них были белые шеи
и красные шапочки, они то и дело замирали, повернув
лица в сторону колонны, и приглядывались. Часовые
не шевелились, и птицы принимали их за столбы, а
бронетранспортеры им казались спящими зелеными
черепахами. Птицы с белыми шеями расхаживали
по степи, они были черны, степь зелена, спали го-
ры и стадо зеленых черепах, небо на востоке свети-
лось ало. Часовые с улыбками посмотрели друг на
друга.
Скрипнула крышка люка, из бронетранспортера
высунулся прапорщик, он зевнул, окинул взглядом
430
степь и замер, увидев птиц. На миг он скрылся, поя-
вился вновь, сполз с машины и, пригибаясь, пошел
в степь с автоматом в руках. Часовые следили за ним.
Птицы заметили прапорщика, вытянули шеи, засты-
ли. Прапорщик вскинул автомат, опустился на коле-
но, приставил приклад к плечу, склонил набок голову,
прицелился. Птицы побежали, плеща крыльями. Стая
взлетела. Бледно-красная очередь пронеслась над
степью и врубилась в стаю. Один из часовых снял с
плеча автомат и, не целясь, выпустил короткую оче-
редь. Второй и третий часовые тоже схватились за
автоматы и начали стрелять. И Прядильников снял
с плеча автомат и выпустил две длинные трассирую-
щие очереди.
Из бронетранспортеров выскакивали с автомата-
ми в руках заспанные солдаты.
Журавли улетели. Несколько птиц неподвижно
лежали в степи. Две, ломая крылья, кувыркались
в траве. Часовые побежали, добили их прикладами
и приволокли за ноги к колонне. Прапорщик и сол-
даты склонились над растрепанными птицами, оты-
скивая раны и споря, куда вошли и откуда вылетели
пули. Появился недовольный ротный. Он обругал
прапорщика и часовых и пообещал за ложную трево-
гу всыпать всем по трое суток губы. Прапорщик кив-
нул на восходящее солнце и сказал, что подъем
устроен вовремя. Ротный ничего не ответил.
Солдаты отходили в степь и, зевая, мочились
и глядели, как встает над зеленой землей бордовое
солнце. Потом завтракали. На завтрак были галеты,
холодный чай, кусковой сахар и рыбные консервы
в томатном соусе. Прапорщик громко рассказывал,
как он охотился в тундре на гусей, на серых жирных
гусей, на вкусных, тяжеленьких, нежных гусей. Сол-
даты глотали мокрые красные куски рыбы и слу-
шали.
Опять это приснилось. Прядильников утром про-
снулся и первым делом вспомнил сон. Снилось жел-
тое, сухое, шуршащее, выпуклое. Желтое, сухое, шур-
шащее, выпуклое, желтое, шуршащее, желтое...—
гора!
431
Гора! Прядильников встал и пошел умываться.
Он набирал в ковшик ладоней холодной воды и оку-
нал в нее лицо. Гора! Осенняя гора.
Он умылся, вытер лицо полотенцем, пошел в кух-
ню пить чай, крепкий чай, горький, горячий, терпкий,
темный божественный чай. На гору. Пятнадцать лет
назад была гора. Терпкий, вишневого, нет, торфяного
цвета чай, Прядильников вытер рукой потное лицо
и налил вторую чашку. На гору. Как он ее забыл?
Была гора, и был кролик. Кролик был белый, с алы-
ми глазами. Он отдал за него немецкий ржавый
штык пацану из частного деревянного дома. Кролик
поселился в квартире на седьмом этаже. Он жил
в чемодане под письменным столом. Кролик был, как
собака. Мальчик приходил из школы, кролик выпры-
гивал из чемодана и скакал по комнате вдоль стены
к мальчику. Мальчик кормил его капустой и хлебны-
ми корками и нес его за пазухой на прогулку. Роди-
тели обзывали кролика стрекозлом и грозились вы-
швырнуть его вон или потушить в духовке с картош-
кой. Мальчик говорил кролику: скоро мы убежим.
Они с кроликом хотели уйти в лес, построить хижи-
ну и жить, питаясь заячьей травой, орехами и гриба-
ми. Когда мальчик получал двойку, он показывал
дневник кролику и говорил: вот, видишь, плохо быть
человеком. Кролик согласно шевелил ушами. Вече-
ром приходил отец. Он проверял дневник и лупил
мальчика. Сидя в чемодане и слушая вопли своего
хозяина и друга, кролик убеждался окончательно,
что лучше быть кроликом. После порки мальчишка
сидел у окна. Кролик подбирался к нему и начинал
вылизывать его пятки. Нравилось ему почему-то вы-
лизывать пятки, может, там соль от ходьбы вы-
ступала?
Отец сказал: еще двойка или тройка, и кроля как
не бывало! Мальчишка на следующий же день полу-
чил двойку, хоть и выучил все уроки,— от страха не
смог ответить как надо. Вернулся домой, положил
в рюкзак одеяло, хлеб, ножик, соль, спички, спрятал
за пазуху кролика, добрался на трамвае до вокзала,
сел на Электричку, высмотрел из окна пустынный по-
лустанок и вышел. Он нашел в полях гору, поросшую
дубами, и прожил на ней два дня. На вторую ночь
кролик исчез. Утром мальчишку нашли крестьяне-
432
грибники. Наверное, кролик почувствовал, что утром
придут люди. И удрал. И правильно сделал. Может,
и до сих пор живет на воле, если лисы не съели.
А мальчишка не почувствовал и не удрал, и с ним
черт знает что сделали.
На гору, на гору, на гору.
Он положил в рюкзак чайник, два одеяла, сахар,
чай, хлеб и уехал из города.
После вчерашних возлияний голова кружилась,
руки дрожали, и сердце билось рассеянно. Прядиль-
ников сильно потел.
Полчаса он ехал по Южному шоссе. Решил, что
пора, и свернул на проселочную дорогу. Песочный
броневик закачался на ухабах.
Вот поселок. Железная дорога. Пятнадцать лет
назад он увидел этот поселок из окна электрички.
Электричка остановилась здесь. Тронулась. Была еще
остановка и еще. На третьей он вышел. Или на чет-
вертой.
Броневик вскарабкался на холм. Прядильников
увидел за железной дорогой поля и перелески. Где-
то там должна быть гора. Броневик пересек желез-
ную дорогу и поплыл в голые серые поля, затянутые
паутиной.
Песочный броневик гудел в полях под высоким
пустым небом.
Горы нигде не было. Может, ее вообще не было.
Может, приснилось. И белый кролик. И все ос-
тальное.
Во рту -было сухо. Сердце теперь слишком усерд-
ствовало и толкалось в лопатку. Были лужи и болот-
ца, чистой воды нигде не было. Надо заехать в ка-
кую-нибудь деревню.
Автомобиль обогнул перелесок. Впереди зачерне-
ли дома деревни. Прядильников проехал еще немного
в сторону деревни, но передумал и развернул броне-
вик. Не хотелось видеть людей. Может быть, крестья-
не этой деревни пошли пятнадцать лет назад по гри-
бы, схватили на горе мальчишку и отвели его в ми-
лицию.
Во рту было сухо и горько.
А на горе была вода? Нет, на горе — нет. В ов-
ражке, в кустах. Да, под горой есть овражек... Там
родник.
15. Крещение
433
Под вечер Прядильников понял, что не найдет.
Нажал на педаль, броневик остановился. Пря-
дильников вышел.
Солнце светило красно, оно уже висело над леси-
стым горизонтом.
Прядильников огляделся.
Всюду земля была плоской. Желтели перелески.
Кое-где стояли красные клены. Было тепло. Надо
вспомнить, подумал Прядильников, все хорошенько
вспомнить. Он сел на землю, лицом к солнцу.
Итак, был кролик, белый, глаза алые, любил ар-
бузные корки. А потом они удрали. Электричка вез-
ла их на юг. Наверное, через час они вышли. Полу-
станок.
Шел по дороге. Вокруг поля. Увидел гору. Свер-
нул к ней. Она была желтая. Под горой тускло крас-
нели кисти на кусте калины. Калина покормила его
своими пахучими ягодами. На горе желтели клены
и дубы. С дубов обрывались желуди. Желуди пада-
ли в рыжий папоротник. Он снял кепку и стал под
самый большой дуб. Дуб сбросил ему на темя креп-
кий желудь. Смешно. Кролик осторожничал, приню-
хивался. Белый в рыжем папоротнике. Мы будем
здесь жить. Вот здесь построим хижину. А вот из
этой осины выйдет отличное копье, чтобы отбивать-
ся от волков. Желуди падали. Вечер был тепел. Меж-
ду деревьями летали толстые дрозды и яркие сойки.
В траве сидели подосиновики. Сытная желтая осень.
И совсем не страшно. Кролик рядом. Кадина как
человек. Куст, какой еще человек. Но как будто че-
ловек. Иди, покормлю ягодами, иди-и.
Надрал соломы из стога на поле. Спал на соломе,
укрывшись одеялом. Кролика за пазухой держал,
чтобы тепло и не страшно было. Ночью страшно бы-
ло, хоть где-то рядом и стояла эта тетка с красными
ягодами. Ночью луна светила. Листья летели. По-
падали в свет луны и белели, а ему снилось, что сып-
лется снег, что снежины садятся на лицо. Он про-
снулся и увидел, что это листья. До зимы еще дале-
ко, еще успею построить хижину, теплую и прочную.
Утро было желтое. На гору светило сентябрьское
солнце. Падали желтые листья, на деревьях покачи-
434
вались желтые листья, на одеяле лежали желтые ли-
стья, землю устилали желтые листья, внизу, на боло-
те, желтели березы. Побродил вокруг горы, наткнул-
ся на родник в овражке, набрал полную кастрюлю
воды. Кашу варил. Кролик позавтракал краюхой
хлеба. Кролик попрыгал по горе и вернулся. Калина
глядела снизу. Прилетела сорока. Посидела на кле-
не, осмотрела мальчишку и кролика, треснула: кара-
ул!— улетела и вскоре вернулась с тремя подруга-
ми, все вместе они уставились черными глазами на
мальчишку и кролика. Он швырнул в них сучок, они
хором крикнули: караул! — и унеслись прочь. По го-
ре бегали мыши. Гора шелестела, желтая шелестя-
щая гора.
Зазубренный горизонт срезал уже половину сол-
нечного шара, когда сидевший на дороге возле авто-
мобиля человек услышал хлопанье крыльев. Сверху
опускались тени. Это были черные птицы. Они вытя-
гивали ноги и становились на землю. Птицы склады-
вали крылья. У них были длинные шеи с белыми по-
лосами от клюва до груди и красные пятна на мел-
ких головах. Птицы вышагивали в сухой траве, тере-
били клювами метелки злаков и склевывали семена
с земли. Он отложил автомат, встал и пошел. Он
медленно сходил с горы. Он плавно спускался с го-
ры. Он бесшумно шел вниз. Впереди прыгал белый
кролик. Птицы увидели их и замерли.
Они не улетали. Большие черные птицы ждали,
повернув к нему лица.
Хеппи энд
Великан генерал, ухмыляясь, говорил, что теперь
Оршев навечно в полку; Оршев пытался улизнуть, но
генерал всюду настигал его, и Оршев решил убить
генерала — он подкрадывался к генералу то в виде
змеи, то в виде старика, ребенка, женщины, танка,
но тот узнавал его и прятался за железной дверью:
Оршев бредил в мокрых простынях. Он охотился за
каким-то генералом, пировал с черными, распухши-
435
ми, вонючими трупами на белой вершине, делался
легким, как стружка, и боялся ветра, то вдруг стано-
вился тяжелым, как гранитный монумент, и по коле-
но проваливался в землю; иногда он видел свои лег-
кие— прозрачные мешки, туго набитые червями; он
вбегал в свой дом и кидал в торт на праздничном
столе гранату, выскакивал за дверь, наваливался на
нее, а друзья, родители и дети визжали и колотили
в дверь, но он не выпускал, и граната взрывалась;
или голый он гонялся за резвой старухой по саду,
кто-то помогал ее поймать, и все вместе, рыча и ку-
сая друг друга, они наваливались на старуху...
Оршев бредил в душной, переполненной палате
санчасти, а в это время последняя партия уволенных
в запас солдат летела в Кабул. Те, с кем он жил бок
о бок эти два года, улетели отсюда навсегда. Они хо-
тели вернуться в Союз вместе. Два года возвращение
было их любимой темой: они с удовольствием вооб-
ражали вслух на ночных постах, после боя или у ко-
стра за баней, где они обычно по вечерам жарили се-
бе картошку, пили чай и курили анашу,— они подол-
гу воображали, как, бряцая медалями, сойдут в Таш-
кенте по трапу, накупят коньяка, сядут в поезд и ста-
нут пить, смеяться и вспоминать, а перепуганные
гражданские будут жаться по углам и, открыв рты,
слушать и смотреть, как они, жилистые, загорелые,
смелые, пьют, смеются и вспоминают эту войну.
Но вышло вот как.
На последней операции — три недели батальон
вместе с правительственными войсками осаждал
Урганское ущелье — после очередной вылазки в го-
ры солдаты пошли купаться. Река была быстра, про-
зрачна и холодна; грязные и потные солдаты входи-
ли в поток, ложились, и их несло вниз,— выскакива-
ли из реки и распластывались на белом горячем пе-
ске, остывшие тела сразу накалялись, солдаты опять
лезли в воду. Оршев просидел в реке дольше всех —
глупая мысль: напитаться холодом и влагой так,
чтобы уж до вечера не чувствовать ни зноя, ни жаж-
ды. Он отыскал посредине реки валун под водой,
вцепился в него и вытянулся. Его качало вверх-вниз
и болтало из стороны в сторону. В небе стояло солн-
це, маленькое и жаркое; выше по течению горбати-
лись хребты, редко поросшие кедрами. По левому бе-
436
регу тянулась полоса мелкого песка, песок был бел,
и на нем лежали темные мускулистые тела — солда-
ты разговаривали, пересмеивались, курили и не ду-
мали о том, что утром опять надо лезть в горы. Бы-
ло хорошо. А к вечеру Оршев жестоко заболел. Это
было воспаление легких, температура поднялась до
сорока двух градусов.
Товарищи Оршева были уже давно дома, когда
его выписали из санчасти. Похудевший и пожелтев-
ший Оршев пришел в роту. Койки его друзей и его
койку на престижном нижнем ярусе занимали деды,
они теперь верховодили в роте. Оршев отправился
в офицерское общежитие, нашел командира роты.
Ротный разговаривал с ним просто, разрешил курить
прямо в комнате и налил ему чаю, достал белого
хлеба и сахара. Ротный сказал, что вертолеты со дня
на день должны привезти еще молодых и тогда Ор-
шев улетит в Кабул. Но что такое «со дня на день»?
Это и завтра и послезавтра, через неделю и через
полмесяца. А вот завтра утром в Кабул отправляется
колонна за продуктами. «Конечно, ехать в машине
в Кабул дело рискованное, ты сам знаешь, Оршев.
Но зато завтра утром, железно. То есть к вечеру ты
в Кабуле, а на следующий день, если повезет, в Сою-
зе. Я тебе ничего не советую, сам выбирай». Оршев
согласился. Ротный с улыбкой протянул ему доку-
менты: ну поздравляю, отвоевался.
Оршев побродил по палаточному городку, залито-
му стальным светом солнца, постоял на краю полка,
покуривая и глядя на степь, пустую, немую и нескон-
чаемую. Надо было идти в баню. Но было жарко,
и к тому же болезнь разнежила его крепкое тело,
и Оршев был ленив, слаб и вял. Но надо было идти
в баню. Оршев собрался с духом и отправился в ба-
тальонную баню.
На крыльце глиняной бани сидел с книгой тол-
стый банщик. Оршев поздоровался и спросил: есть
ли вода? «Для тебя найдется»,— ответил банщик.
Оршев устало сел рядом и признался: неохота что-то
мыться. «У тебя глаза нездоровые, рано, видно, вы-
писали,— сказал банщик, захлопывая книгу.— Когда
летишь?» Оршев ответил, что завтра поедет с колон-
437
ной. Банщик недовольно сморщился: «Я бы не по-
ехал, лучше месяц ждать вертолета; оставайся
и жди, ночуй у меня, завтра я дряни на косяк до-
стану, пыхнем, а?» Оршев затряс головой: надоело
все, и анаша надоела, все надоело.
Он помылся кое-как чуть теплой водой, вытерся,
прежде чем одеваться, внимательно осмотрел швы
свежей майки и трусов — часто новенькие вещи со
склада были уже завшивлены. Банщик, пока Оршев
возился в бане, вскипятил на костерке за баней ко-
телок воды и заварил чай.
Они сидели на крыльце, сербали чай, грызли га-
леты и сахар и глядели на полковой городок. Палат-
ки, дощатые грибки для дневальных, туалеты, по-
мойки, столовые, штаб, магазин, офицерские общежи-
тия, плац, склады—все было серое от пыли и
солнца.
Оршев просидел у банщика до вечера, тот остав-
лял его—банщик спал в предбаннике,— но Оршеву
захотелось последнюю ночь провести в палатке, все-
таки два года она была его домом...
В сумерках Оршев вернулся в палатку, не разде-
ваясь и не разбирая постель, лег на свою койку.
У роты была вечерняя поверка, в палатке было тихо.
Оршев разглядывал пружины верхней койки и с не-
довольством прислушивался к себе. Что-то было не
так, кажется, он действительно нездоров еще. Или
это обычная слабость после болезни? Оршев за-
дремал.
Его разбудило прикосновение к плечу. Он от-
крыл глаза и увидел незнакомого молодого солдата.
Солдат смущенно улыбался. Оршев спросил бровями
и легким кивком: ну? «Меня прислал дедушка Совет-
ской Армии Хмызин»,— пробормотал молодой сол-
дат. Оршев молчал. «Он,— осторожно продолжал мо-
лодой солдат,— просил передать, что это его место».
Оршев приподнялся на локте, огляделся: ни дедов, ни
Хмызина в палатке не было, одни молодые, чижи и
черпаки. «Что же он сам не пошел сказать, если стал
таким смелым?» — спросил насмешливо Оршев. «Это
ответ?» — спросил молодой солдат. «Иди ты отсю-
да»,— бросил незлобно Оршев. Молодой сразу ушел.
Но вскоре вернулся и сказал, что дедушка Хмызин
предупредил: пока они докурят, место должно осво-
438
бодиться. Оршев не отвечал. «Они докурят, значит,
они все вместе, шакалы»,— подумал Оршев. Молодой
ждал ответа и не смел об этом напомнить. Оршев ле-
жал с закрытыми глазами. Наконец в палатку вошли
деды. Хмызин, коренастый, приземистый, широкогру-
дый парень, оглянулся на товарищей и решительно
приблизился к койке Оршева и громко сказал: «Ор-
шев! Освободи место». Оршев открыл глаза и уста-
вился на Хмызина. Хмызин посмотрел на товарищей
и ударил ногой по железной спинке. «Оршев!» И тог-
да Оршев резко встал, отстранил перепуганного мо-
лодого солдата и шагнул к Хмызину. Товарищи Хмы-
зина оживились. «Хмызин,— сказал Оршев.— Ты
мужчина? Тогда отвечай за себя сам. Я всегда отве-
чаю за себя сам». «Это справедливо»,— наконец ска-
зал кто-то из дедов. Ему никто не ответил. Все-таки
хоть и были у них обиды на бывших дедов — Орше-
ва и его товарищей,— на ссору с Оршевым они согла-
сились нехотя. Во-первых, самые злобные бывшие
деды, те, кого стоило проучить, уже давно дома,
и почему Оршев должен отдуваться за всех? Во-вто-
рых, ничего противоестественного в том, что они
имеют обиды на бывших дедов, нет — так было, так
будет: вчера их обижали, сегодня они обижают.
В-третьих, избиение дембеля, то есть солдата, про-
шедшего огонь, воду и медные трубы, может дурно
повлиять на молодых солдат, которые сейчас подчи-
няются старослужащим, как богам — мудрым, силь-
ным и смелым. Да и Оршев вовсе не такой уж
гад — в зубы-то он давал и всякую работу за себя
заставлял делать, но он не жаден, не злопамятен
и никогда не изобретал утонченных издевательств над
молодыми, чижами и черпаками. И сейчас согласи-
лись, что это правильно: один на один. Деды выгна-
ли всех из палатки, убрали табуретки, рассыпались
по углам и устремили взгляды на Хмызина и Орше-
ва. Оршев был без ремня, кто-то сказал Хмызину,
чтобы и он снял ремень,— он снял. Стало тихо.
И неловко. «Ну, Хмызин, дай ему!» — выкрикнул
кто-то, и Хмызин пошел на Оршева, сжав кулаки
и наклонив голову.
Они сблизились. Хмызин дернул левым плечом,
отвлекая взгляд Оршева, и правой ударил сбоку
и угодил кулаком в висок. Оршев качнулся и по-
439
бледнел. Хмызин ударил в живот, но Оршев успел
закрыться. Хмызин опять рубанул правой, надсадно
кхакнув,— Оршев отбил и этот удар. Оршев пока за-
щищался, приходя в себя после удара в висок. Хмы-
зин нападал. Теперь он совсем осмелел, от его нере-
шительности— как это он будет драться с бывшим
дедом, с тем, кому он никогда не смел посмотреть
прямо в глаза! — не осталось и следа. Видя, что Ор-
шев только защищается, Хмызин вошел в раж и,
азартно кхакая, принялся осыпать ударами против-
ника. Хмызин распалился, стал неосторожен и был
удивлен, и все были удивлены, когда он оказался на
полу. Хмызин вскочил, мотая головой и разбрызги-
вая червонные капли, и Оршев тут же ударил его по
скуле. Хмызин замычал, пригнул голову, закрыл ее
руками и начал пятиться. Оршев наседал, он отвеши-
вал тяжелые и точные тумаки — в голову, по спине,
в печень. Все молча смотрели. Вдруг Хмызин оста-
новился, взревел, распрямился и кинулся на Оршева,
пытаясь перевести драку в борьбу, но Оршев ловко
отпрянул и ударил Хмызина в нос. У Хмызина была
уже рассечена губа, теперь кровь потекла из носа.
Обезумевший Хмызин вновь ринулся на противника и
на этот раз сумел-таки прорваться сквозь его кулаки,
обхватить Оршева руками и повалить его на пол.
Хмызин оказался сверху, он вцепился в волосы Орше-
ва и начал бить его затылком о пол, у Оршева от
боли подились слезы, он вырвался из-под Хмызина,
молотя кулаками по его бокам. Все молча смотрели.
Наконец Оршев, перепачканный кровью Хмызина, из-
ловчился схватить противника за горло, Хмызин за-
хрипел и укусил руку Оршева. Оршев сгреб другой
рукой ухо Хмызина и принялся отрывать его. Хмызин
закричал и выпустил волосы Оршева, но Оршев про-
должал откручивать ухо, и Хмызин был вынужден
сползти с него. Отдуваясь, Оршев встал на карачки.
Хмызин тоже. Они медленно поднимались, не спуская
глаз друг с друга. «Хватит... с тебя?» — спросил Ор-
шев и оперся на спинку койки. «Нет... это... с тебя...
с тебя хватит»,— ответил Хмызин, сплевывая кровь
и утирая нос рукавом. Оршев оттолкнулся от спинки,
взмахнул рукой и рубанул реброц ладони по шее
Хмызина. Хмызин снова нагнул голову. Оршев стоял
и ждал. Хмызин начал как будто бы оседать.
440
«Все»,— сказал Оршев, но тут Хмызин стремительно
выпрямился и лбом сокрушил лицо Оршева,— Оршев
откинулся на спинку койки и зажал клокочущий нос,
теперь у них обоих были разбиты носы. Удерживая
кровь рукой, Оршев стоял, опершись на койку, следил
за Хмызиным мутными глазами, еще удар — и он
свалится. Но у Хмызина не было сил нападать, он
обливался потом, вытирал кровь, дышал сухо и пре-
рывисто и пошатывался на дрожащих ногах.
«Кажется, все»,—громко сказал кто-то. Оршев и
Хмызин промолчали. «Идите умываться»,— предло-
жили им. Они поплелись вон из палатки, на улице
молодые солдаты полили им из котелков.
Оршев первым вернулся в палатку, стащил разо-
рванную и окровавленную одежду и плюхнулся на
койку поверх одеяла.
Вошел в палатку Хмызин. Он приблизился к спор-
ной койке и хрипло сказал: «Оршев, освободи место».
В палатке стало тихо. «Но это моя койка»,— ответил,
помолчав, Оршев. «Лезь на верхний ярус, там есть
свободная койка. Я наверху больше не буду. Хватит.
Полтора года. Хватит»,— упрямо произнес Хмызин.
«Иди к черту»,— сказал Оршев. «Ты никто, лезь на
второй этаж». Оршев сел. «Лезь»,— повторил Хмы-
зин. Оршев встал и ударил Хмызина, удар был сла-
бый, он пришелся по груди. Хмызин отступил на два
шага, наткнулся на табурет и схватился за его ножку.
«Хмызин!» — крикнули. Хмызин не повернулся на
окрик, он встал к Оршеву вполоборота, чтобы удобнее
было размахнуться и ударить, но Оршев не ждал: по-
ложив согнутые руки на края верхних коек, он повис
и лягнул ногами Хмызина. Хмызин с грохотом отле-
тел, свалился между койками и затих. Оршев рухнул
на отвоеванную койку. «Э, ты его убил»,— сказали.
Дневальный разбудил Оршева в пять утра — в
шесть колонна отправлялась. «Что с этим?» — спро-
сил Оршев, зевая. «Спит»,— ответил дневальный. Ор-
Шев, кряхтя и морщась, встал и вышел в трусах и
майке на улицу.
Было тепло; свистели птицы; солнце, выпуклое и
красное, лежало на краю степи.
441
Дневальный зачерпнул котелком воды из бочки и
полил Оршеву. Оршев бережно умыл разламывающе-
еся лицо, кивнул дневальному и, осторожно промокая
лицо полотенцем, вернулся в палатку. На спинке ви-
села парадная форма — прежде чем разбудить Орше-
ва, дневальный принес ее из каптерки. Оршев оделся,
взял портфель и фуражку, вышел на середину, огля-
делся. Он увидел Хмызина. Тот спал, раскинув руки
и широко разинув рот; на его лице темнели синяки,
вокруг носа запеклась кровь, нижнюю губу рассекал
корявый черный рубец. Слабая довольная улыбка
тронула губы Оршева, он помахал спящему Хмызину
фуражкой и вышел из палатки.
Начальник колонны, взглянув на распухшее лицо
Оршева, ухмыльнулся: «Что, бражник, лихо?» Оршев
ответил, что никакой он не бражник, просто в санча-
сти много спал. «Да, конечно,— откликнулся капи-
тан,— небось литра два выдул, орелик? Ну, где жела-
ешь сидеть? В машине? В бэтээре?.. В машине? Ну
выбирай любую».
Оршев прошел вдоль колонны, остановился возле
грузовика, спросил шофера: «Возьмешь?» «Са-
дись»,— откликнулся шофер. В кабине Оршев снял
китель, повесил его на крючок, спросил воды, напился
из алюминиевой фляги, откинулся на спинку и за-
курил.
Десять минут спустя колонна тронулась; в голове,
в хвосте и в середине шли бронетранспортеры с пехо-
той— охрана колонны. Колонна медленно проезжала
мимо КПП. Когда грузовик Оршева поравнялся с ка-
менным домиком КПП, Оршев сказал про себя:
аминь!
Набирая скорость, колонна покатила по степной
дороге, пыля, качаясь и рокоча. Солнце светило сбо-
ку, его лучи вязли в пыли, окутавшей машины. Пыль
просачивалась в кабину и липла к глазам и губам,
щекотала ноздри, заметала волосы. Шофер спокойно
курил в пыли сигарету—влажный кончик ее был
уже грязен. Оршев покачивался на упругом сиденье
и глядел на смутные очертания брезентового верха
идущей впереди машины. Шофер, слава богу, был
молчун, он только поинтересовался, почему Оршев за-
держался в полку, и сказал, что через полгода и он
домой поедет, и все. Оршев был доволен. Он устал за
442
два года от этих армейских разговоров: про воз-
вращение, про баб, про награды и значки и про вкус-
ную жратву. Да и голова после драки трещала, как
будто он и впрямь пил всю ночь брагу или курил
анашу.
Иногда машина попадала колесом в воронку, и
шофер с Оршевым подлетали на сиденьях. От полка
до бетонированной трассы было двадцать километ-
ров, на этом отрезке мятежники любили ставить ми-
ны, и дорога напоминала кожу Луны. Впрочем, и па
трассе подрывались машины. Но там хотя бы нет пы-
ли. «Скорее бы бетонка»,— думал Оршев.
Полчаса колонна шла в тучах пыли по степной
дороге, потом выехала на трассу и устремилась по
прямой серой дороге на север. Оршев вынул носовой
платок и протер лицо, взял флягу, ополоснул рот, на-
пился. Шофер закурил и сказал весело: «Ничего, че-
рез полгода и я сдерну отсюда». Оршев подумал:
шесть месяцев, то есть двадцать четыре недели, то
есть сто восемьдесят дней,— и у него от тоски свело
челюсти.
Вокруг лежали степи с маленькими сизыми вер-
шинами и хребетиками по краям. В неживых степях
зеленели редкие кишлаки. Иногда кишлаки подступа-
ли вплотную к трассе. Это были угрюмые скопища
глиняных жилищ, обнесенных высокими стенами; и
дома, и стены, и деревянные ворота — все было се-
рым и грубым. Люди—мужчины в чалмах, накидках
и шароварах, женщины в темных балахонах—редко
и робко оживляли солнечные улочки и тесные площа-
ди. Но за дувалами пучились тучные сады, свежие,
зеленые, нежные сады...
Колонна ходко двигалась вперед. Горы наступали,,
делались увесистыми, упирались в небо и рыжели,—'
долина сужалась. И скоро колонна ехала между ры-
жих и бурых гор. Дорога запетляла. Начался подъем
на перевал.
Оршев выбросил в окно окурок и закурил новую
сигарету; он глядел исподлобья на скалы, громоздив-
шиеся по обеим сторонам. Шофер, сдвинув брови и
подавшись вперед, крутил баранку и едва слышно на-
свистывал однообразный мотивчик. Оршев покосился
на небо и сказал: дай автомат. Шофер мотнул голо-
443
вой: не-а. Оршев криво улыбнулся и сказал, оправды-
ваясь, что без автомата как без рук, никогда еще не
ездил без автомата. Крепко держа руль одной рукой,
шофер достал свободной подсумок с гранатами и про-
тянул его Оршеву. Поколебавшись, он передал Орше-
ву и второй подсумок. Теперь у Оршева было четыре
гранаты. Оршев облегченно вздохнул.
Колонна поднималась по" каменной дороге, изры-
той воронками. Скалы нависали над машинами. Под-
ножия скал были черны от гари — справа зияла не-
глубокая пропасть с обугленными кузовами, колеса-
ми, кусками железа и клочьями резины на дне.
Головные машины уже переползли седловину перева-
ла. Ревели моторы, над дорогой висела черная дымка,
на серых скалах лежало синее небо. Оршев придер-
живал рукой подсумки на коленях и курил, а шофер
все громче и громче высвистывал примитивный мо-
тивчик. И вдруг машины впереди одна за другой на-
чали останавливаться, затормозил и шофер Оршева.
«Козел какой-то сломался»,— предположил шофер и
снова принялся свистеть. Оршев отхлебнул из фля-
ги— вода уже была теплой. Шофер свистел и бара-
банил пальцами по рулю.
Прошла минута. Колонна стояла, сдержанно гудя
моторами. Шофер свистел и барабанил. Оршев погля-
дывал вниз на черные обломки и клочья. Было жарко,
дышалось с трудом, по лицам скатывались коричне-
ватые капли. Что же там, впереди, случилось? Небось
бронетранспортер закипел, летом в разгар дня это
обычная история.
«Смени пластинку»,— попросил Оршев. Шофер пе-
рестал свистеть и барабанить, прикрыл глаза, отва-
лился на спинку сиденья и задышал ровно и глубоко,
притворяясь дремлющим. Оршев усмехнулся. «Надо
было дожидаться вертолета,— подумал он,— и вооб-
ще дерйул же черт меня лезть в эту речку, сейчас
бы... да, дома, белая рубашка...»
Моторы заревели, и шофер Оршева открыл глаза
и снова засвистел. Колонна тронулась. «Ну, если до
сих пор ничего не было, то ничего и не будет,— поду-
мал Оршев и поправился: —На этом перевале».
Колонна одолела перевал и сползла вниз. Горы
немного отступили от дороги. Солнце стояло в зените,
444
каменные плиты на горах сияли, как стеклянные, не-
бо обжигало глаза. Шофер надел каплевидные зер-
кальные очки и стал загадочен, как сицилийский ма-
фиози. Сверкали каменные вершины, придорожные
валуны лоснились, и капот машины горел. Оршев щу-
рился, щурился и уснул.
«Напоролись»,— громко сказали, и Оршев вздрог-
нул и посмотрел на водителя. Тот поймал его взгляд
и отослал кивком налево. Колонна огибала несколько
военных машин с афганскими эмблемами на дверцах
и красно-белый пассажирский автобус, лежавший на
боку в кювете проломленным днищем к дороге. Возле
автобуса толпились гражданские и военные. Раненых
и убитых не было видно, наверное, их уже перегрузи-
ли в машины. Тощий усатый солдат, похожий на Дон
Кихота, лил товарищу из фляги на красные руки.
У гражданских шаровары и накидки были разорваны
и перепачканы мазутом и кровью. Поодаль от всех
сидел, уткнувшись лицом в колени и раскачиваясь,
костлявый старик. Особняком стояла и кучка женщин
в чадрах. Двое босых пацанов, поглазев на колонну
и потеряв к ней интерес, принялись обследовать дни-
ще автобуса — они вместе засунули головы в пролом,
и седой офицер закричал на них. Афганцы смотрели
на колонну.
Грузовик, в котором ехал Оршев, сполз в кювет,
проехал немного вдоль дороги и вернулся на бетонку.
Шофер засвистел. Оршев посмотрел на часы и спро-
сил: «Слушай, вы на обед останавливаетесь или так,
на ходу?» — «Останавливаемся. Река скоро будет,
там обычно и рубаем».— «М-м. А то я со вчерашнего
дня не ел».— «Так рубай, чего ты? Или у тебя ничего
нет?» — «Есть. Да один не хочу».— «Брось ты, ру-
бай».— «Нет, один не буду, обожду».
Оршева опять укачало, и проснулся он, когда
колонна остановилась перед мостом. Двое саперов
с овчаркой бродили уже по мосту, остальные солда-
ты покуривали, прохаживались возле машин, скиды-
вали потные, жесткие куртки и спускались к реке
умываться; сходили на реку и Оршев с шофером.
Освеженные, они вернулись в машину, оставили рас-
пахнутыми дверцы, разложили снедь: черный хлеб,
сахар, две банки тушеной баранины и две банки сы-
ра. Ели молча. Сначала съели баранину с кислым
445
хлебом, а потом сахар и сыр. Напились воды, заку-
рили и увидели далеко в степи караван — цепочку
верблюдов, шагающие фигурки людей и белые ота-
ры. «А, пуштуны,— лениво проговорил шофер и зев-
нул.— Ни хрена им, война так война, а они кочуют
себе». «Цыгане»,— откликнулся Оршев. «У нас был
один цыган,— оживился шофер.— Ну ничего, цыган
как цыган: черный, глазастый, деловой. Раз в Кабул
сходили. На перевале баню нам устроили. И после
цыган стал хворать. Его в санчасть, после в Кабул,
а оттуда в Союз, и больше мы его не видали». «Что
у него было?»—«Вроде печень. Или желудок. Гово-
рят, табак он жрал. Да и тоже придумали — цыгана
в армию».— «А что он, не такой?»—«Конечно. Цы-
ган и в Африке цыган, ему давай плетку, коня и ве-
тер. А тут его—плеткой. Я их люблю». «Кого?» —
не понял Оршев. «Да цыган. Плевать они на все хо-
тели. Конь, плетка и ветер. А мы ослы». Шофер с то-
ской поглядел в степь, где у подножия голых гор
двигались маленькие верблюды, тонкие силуэты лю-
дей и где ласково белели шкуры овец.
Кабул освещало вечернее солнце, вязкое, жаркое,
распухшее и потемневшее, оно сидело на снежных
пиках. Город лежал в долине между гор, это был ог-
ромный глиняный, каменный, стеклянный и бетон-
ный город; всюду пушились сады и торчали пирами-
дальные тополя; среди садов, сверканья окон и бе-
лизны стен голубели купола мечетей и реяли желтые
минареты.
Колонна остановилась на краю города — здесь
была огороженная стоянка. Оршев надел китель
и фуражку, взял портфель и обернулся к шоферу.
Шофер, повесив тяжелые ладони на руль, глядел на
Оршева. «Ну,— сказал Оршев и помолчал.— До
встречи в Союзе?» Он протянул шоферу руку. Тот
вяло пожал его руку и ответил, что вряд ли они
встретятся, Союз большой. «Полгода — это ерун-
да»,— сказал Оршев и вылез из кабины.
Он отыскал капитана и попросил, чтобы его отвез-
ли на пересыльный пункт. «Ай, слушай, водила замо-
тался, давай завтра поутряни,— весело сказал капи-
446
тан.— Куда ты спешишь? Самолеты уже не летают,
на пересылке вши, ночуй с нами. Я тебе сказку на
ночь расскажу про белого бычка. Что, не хочешь?»
Капитан рассмеялся. Оршев угрюмо глядел на него
и молчал, и в это время в небе над Кабулом загудел
самолет. Капитан, пехотинцы и Оршев посмотрели
вверх. В небе, набирая высоту, парил белый самолет
с багровой полосой от носа до хвоста. «О! Вишь,
твой самолет! — воскликнул капитан, смеясь. Капи-
тан посмотрел на Оршева.— О! О! Дембель сейчас
меня разорвет, ха-ха-ха!» «Товарищ капитан»,— ска-
зал Оршев и умолк. «А признайся, не будь на мне
погонов, то бишь погон,— дал бы сейчас мне в лоб?
Ха-ха-ха! Только, чур, честно. Дал бы?» — спросил
капитан. Пехотинцы и водитель бронетранспортера
недовольно заворчали: товарищ капитан, да что вы,
ей-богу, надо отвезти человека. «Но! Ладно, ладно,
шучу. Не дуйся. Отвезем. Доставим в цельности и со-
хранности. Прапорщика сюда!»
Оршев, четверо пехотинцев и прапорщик сели
сверху на бронетранспортер и выехали на дорогу.
Оршев отыскал глазами грузовик молчуна и махнул
ему рукой — шофер все сидел в кабине и курил. «Ты
бы вниз сел,— посоветовал прапорщик Оршеву,— не
искушай судьбу — снайперы!» Оршев отрицательно
покачал головой. «Ну-ну»,;—проговорил прапор-
щик, окидывая добрым взглядом ладную фигуру
Оршева.
Зеленый бронетранспортер, мягко покачиваясь,
плыл по широкой магистрали, обсаженной тополями
и кедрами. По магистрали проезжали легковые ав-
томобили, автобусы, грузовики и велосипедисты.
К обочинам жались карачивалы — оборванцы с дере-
вянными ручными двухколесными повозками, нагру-
женными мешками, тюками и дровами: грузовые так-
си для бедняков. По тротуарам шли люди: старики,
напустившие белые бороды на черные европейские
пиджаки, офицеры и солдаты с автоматами, кудря-
вые юноши в цветных рубашках, джинсах, белых
брюках, босые грязные дети, женщины в чадрах
и светлоликие черноволосые девушки в джинсовых
коротких юбчонках и легких блузах. Вовсю торгова-
ли дуканы, лоснились витрины и вывески ресторанов,
на улицах жарили шашлыки, взлаивали бездомные
447
собаки, чирикали дети, рокотали моторы, скрипели
тормоза, вечерний ветер шевелил листву тополей
и платанов, и высоко над городом рдели вершины,
за которыми скрылось солнце.
Пересыльный пункт, палаточный лагерь, обнесен-
ный колючей проволокой, находился на другом краю
города, неподалеку от аэропорта. Вечер еще был
прозрачен, когда бронетранспортер остановился пе-
ред воротами лагеря. Оршев попрощался с пехотин-
цами и прапорщиком, спрыгнул на землю. Возле во-
рот появился часовой.
Оршев не спал, лежал на голой койке, сунув под
голову портфель, курил и глядел в потолок. Ново-
бранцы— ими был набит лагерь — молодо и дружно
сопели и всхрапывали. Оршев. чувствовал себя сквер-
но, болела голова, ныла укушенная Хмызиным рука,
и, кажется, поднялась температура. Оршев думал:
все-таки нездоров. Он курил и посматривал на светя-
щийся циферблат часов — время не спешило.
В час ночи в тишине раздался хлопок, послышал-
ся вой и взрыв. Миг спустя опять рвануло, уже бли-
же,— над палатками просвистели осколки. Охрана
лагеря открыла стрельбу из автоматов и крупнокали-
берного пулемета. Новобранцы вскакивали и кричали
друг другу: а? что? тревога! что это? — они высовы-
вались из палатки и видели черные горы и красные
трассирующие очереди. «Обстреливают! Нас обстре-
ливают!»— загалдели они, когда третья мина разо-
рвалась совсем рядом, где-то за колючей проволокой.
Оршев лежал, курил и думал, что так и должно
быть, он предчувствовал, что именно так и будет —
под занавес!..
«Это мины?» — спросили у него. Оршев ответил:
мины. Новобранцы лезли в дверь, смотрели в окна.
Оршев вдруг отчетливо увидел все это: вот они
в черном, вот один сует в жерло болванку с металли-
ческими перьями на хвосте, отскакивает, миномет
выталкивает болванку—свистя ласково и заворажи-
вающе, она проносится в ночи и пропарывает верх
палатки. Оршев услышал и увидел, как бьются, ка-
таются, рвутся вон, захлебываются, хрюкают и виз-
448
жат новобранцы, не верящие, что так может быть
в самый первый день, и Оршев увидел себя, зажи-
мающего мокрую, горячую, вязкую прорезь в живо-
те,— сейчас...
Но миномет больше не бил. Охрана поливала оче-
редями горы. Через полчаса все стихло. Лагерь шеве-
лился, говорил, закуривал, криков слышно не было,
значит, все мины попали в молоко. Оршев выкурил
еще сигарету и, убаюканный разговорами новобран-
цев, уснул. Во сне он думал: была бы хорошая пого-
да, был бы самолет, была бы хорошая погода и был
бы самолет, погода и самолет.
Погода была хорошая, и был самолет. Это был
транспортник из Баграма с гробами и сопровождаю-
щими— в Кабуле он догружался чем-то. Оршев
узнал, что первая посадка будет в Оренбурге, а по-
том в Минске и Москве. Это была удача. Обычно
демобилизованных везли в Ташкент, оттуда они уже
самостоятельно добирались до дома, зимой без про-
блем, а в летнее время, когда вокзал и аэропорт бы-
ли переполнены, приходилось торчать в Ташкенте
по нескольку дней. Оршеву нужно было в Москву
и дальше на запад, ему крупно повезло.
Оршев устроился на откидном сиденье в хвосте.
Было душно. Оршев снял китель, стащил галстук,
расстегнул рубашку.
На него хмуро смотрели черные солдаты в отутю-
женной и выстиранной полевой форме с белоснежны-
ми подворотничками,— им предстояло развезти гро-
бы по домам и говорить что-то над могилами и за
поминальными столами. Среди сопровождающих бы-
ли двое офицеров, значит, в гробах лежаЛи и офице-
ры. Длинные матовые металлические гробы, грубо
спаянные посередине, стояли в самолете попар-
но. Офицеры о чем-то разговаривали. Солдаты мол-
чали.
Наконец в кабину прошли летчики в голубых ком-
бинезонах. Лепестки хвоста плотно закрылись, стало
сумеречно, вверху мутно засветились плафоны. Са-
молет порычал двигателями и тронулся, вырулил на
прямую полосу, разогнался и взлетел. Те, кто сидел
у редких иллюминаторов, уткнулись в толстые стек-
ла. Оршеву хотелось последний раз посмотреть на
Кабул, но рядом иллюминатора не было, а подходить
449
к кому-нибудь и просить на минуту подвинуться —
нет, подходить и просить не стоило. Оршев смотрел
на солдат, на металлические ящики, на плафоны, под
ноги... Он прикрыл глаза.
Самолет трудно набирал высоту. Было жарко. По
лицам плыл пот. Хотелось курить. Оршев давно не
курил — транспортник догружался, и он час сидел
в тени под крылом, а курить на аэродроме не разре-
шалось. В теле была слабость. При глубоком вздохе
в спине напротив левого легкого покалывало. Или
это сердце? Ну, сердце у него здоровое, оно все два
года молчало, то есть работало исправно, хотя по го-
рам они бегали как лошади. Нет, это легкие. Просто
недолечился, и все. А может быть, Хмызин хорошень-
ко ударил в, это место, вот и покалывает. Но эта
слабость чертова...
«Сколько там до границы — полчаса, час? — по-
думал Оршев.— Пока не пересечем границу, рано го-
ворить хоп. Впрочем, высоту набрали приличную, те-
перь не собьют, не дотянутся. Так что — хоп! хоп!
хоп!»
Колокольня
Нас привезли в степи, мы увидели палатки, серые
пространства и горы на горизонте и стали здесь
жить: есть, спать, маршировать, болеть гепатитом
и тифом, чистить жерла орудий, подчиняться офице-
рам и кормить вшей. Мы загорели, усохли, сдружи-
лись и перестали просыпаться ночью, если боевое
охранение открывало пальбу на позициях.
Был день первый и день второй, двадцатый, шес-
тидесятый. В небе плавало солнце, небо было ярким,
солнце горячим, мы ненавидели солнце: на операци-
ях, когда батарея днями стояла посреди красных
барханов, у вологодских и архангельских носом шла
кровь.
Казалось, времени нет, есть вечность. Но кого-то
несли под простыней в вертолет, и мы убеждались,
что для нас время еще существует, а вечность — вот
эти носилки проплыли в вечность. Мы тупо боялись
вечности. И думали: на минуту вернуться в наши
450
деревни и города, и тогда уж пускай — пускай от-
правляют в вечность, если это так необходимо. Но
все уходили прямо отсюда, из этих степей, гор и пу-
стынь, уходили почерневшими, вздутыми, в разодран-
ных гимнастерках, босые, с разбитыми лицами.
Медленно, но время шло.
Был день сотый. В небе летали железные ящеры
с металлическими плодами в когтях. Солнце вытяги-
вало последний пот из пор, воды во фляжках не бы-
ло, и водовозка сверзилась в пропасть, а в руслах рек
лежала пыль. Сухая, сухая земля... Но появились
пятнистые ящеры, плоды начали спело лопаться
и сечь осколками шкуру вьючных верблюдов, ослов
и людей; ослы, люди и верблюды ревели, и су-
хая земля окроплялась и заливалась. Да солнце тут
же все выпивало, и только ржавые корки остава-
лись.
Вот почему эта великая желтая звезда к вечеру
делалась тяжелой, осклизлой, мутной и бурой.
Время шло. И был день трехсотый, и еще были
дни и дни, ночи и ночи, и иногда я видел взгорье
с шеренгой елей, церковью, садами, избами, я видел
Колокольню.
Колокольня, а не Колокольня. В степях я вкусил
певучесть этого огреха, именно так крестьяне звали
и зовут эту деревню.
В Колокольнё есть церковь с высокой башенкой-
колокольней, в церкви нет икон и окон, на куполе
растут березы и клен, а колокольня без колокола.
Сиживая на чердаке за книгами, я бросал взгляд
в оконце и видел церковь без креста, но с тонкими
и невысокими березами и кленом. Люди посшибали
кресты, выбили стекла, выдрали рамы и двери, хоте
ли и кирпичом попользоваться, да, подолбив стену,
отступились,— крепка церковная кладка. А деревья
не отступятся, травы и деревья сделают свое дело,
они вкогтились в купол и стены и каждый день,
всякую ночь растут и, шевеля пальцами, раздви-
гают трещины и щели, а зимою все прорехи и мор-
щины забивает лед и засыпает снег; приходит весна,
и днем лед тает, а ночью крепнет,— природа неустан-
но трудится и, созидая самое себя, разрушает все
дела рук человеческих, как только люди опускают
руки.
451
Осенью деревца на церкви были желты, а клен
багрян. Из чердачного окна, перед которым стоял
стол с книгами, пепельницей и банкой кваса, я смот-
рел на церковь, пожираемую природой, и мне легко
было вообразить, как какой-нибудь Ангкор Велико-
лепный, брошенный людьми из-за того, что наводне-
ние превратило все окрестные поля в болота и на-
чался голод,— как этот королевский город средневе-
ковой Камбоджийской империи с его площадями,
храмами, базарами, дворцами и колоннадами карала
десница природы: прокрались в город первые дикие
растения и принялись всё расшатывать и грызть;
а уж потом джунгли хлынули, хлынули и поглотили
славу Индокитая — Ангкор Великолепный.
Я прихожу на взгорье с елями и садами и пью во-
ду из колодца, и никто меня не замечает, потому что
все думают, что я на Востоке, и пишут мне на
Восток письма.
Я встречаю деда на взгорье и говорю: вот я вер-
нулся, пойдем пить чай. Но он меня не слышит.
Дед великий чаехлеб, он на фронте пристрастил-
ся к чаю, а вообще в русских деревнях не очень жа-
луют этот напиток, молоком да киселями пробавля-
ются, оно существенней, сытней.
Дед искусно заваривал чай, и мы подолгу сидели
за чаем, и я помогал деду оседлать любимого конь-
ка, и он рассказывал очередную жуткую историю.
Как он вышел во двор по нужде в самое неприятное
и опасное время — в полночь, вышел и увидел: со-
ломенная крыша хлева зашевелилась, раздвину-
лась, и...
Я говорю: дед, это я, я вернулся, пойдем в дом,
ты сыграешь и споешь. Не слышит. Мимо смотрит.
Вообще-то дед не умеет играть, но гармошка в до-
ме есть и, взбодрившись вином, он берется за нее
и выводит дикие мелодии и поет старые песни ка-
торжан: «А глухой, неведомой тайгою, сибирской
дальней стороною, бежал бродяга с Сахалину, зве-
риной узкою тропою...»
452
И тогда я медленно лечу один в дом и, боясь
сразу видеть всех, поднимаюсь на чердак, где стоит
сундук, кондовый, обитый железом по углам. В сун-
дуке всякая всячина: старые пустые кошельки, стек-
лянные бусы, рассыпающиеся журналы по пчеловод-
ству, какие-то платки, тряпицы и несколько церков-
ных массивных книг.
Чердак был моим кабинетом, там можно было
спокойно читать и сочинять длинные письма друзьям
и одному байкальскому философу-отшельнику. Дед
в армию написал, что возле бани-де срубил он и ско-
лотил для меня светелку, и мне даже жаль стало,
что не будет больше надобности лезть за уединением
на чердак, хотя и можно было там сидеть только
осенью или дождливыми летними днями,— если же
лето было солнцеобильно, чердак делался печыо, пу-
стынею, тем медным быком, в котором, по Гоголю,
жарили ляхи строптивых казаков.
С чердака мне было видно многое: церковь, ули-
ца, что в давние времена была той самой Старой
смоленской дорогою, по которой шли, грабя придо-
рожные деревни, французы,— шли на Москву, и лес-
ные ватаги кололи их вилами да секли топорами.
Еще я мог видеть еловую посадку у школы,— семь
или восемь елей, высоких и темных,— над ними
осенью бывало ярчайшее небо, и, глядя на черные
верхушки в ярчайшем небе, я отчетливо вспоминал
Байкал, где встретил колокольнйнскую женщину. До
войны я успел пожить, и мне было легче, чем неус-
певшим.
Я мог видеть все это и еще березовый лес. А из-
бяное окно давало малый обзор, кусты мешали. Ну
а из светелки, пристроенной к бане, я уж и вовсе ни-
чего этого не увижу. Только сад.
Но и это прекрасно.
Я помню сад, осиянный осенней луной.
Весь день под желтыми липами — а выше горело
синее небо и полыхало уже прохладное солнце — мы
с дедом кололи березовые дрова. Там были и осино-
вые чурки, их щелкал острым топориком дед, а я
крушил тяжелым колуном березовые,— береза плот-
на и сучковата. К вечеру мы прикончили все чурки
и колоды и пошли в дом, за труды нас побаловали
453
настойкой. И дед взял гармошку и запел: «А глу-
хой неведомой тайгою...» А я вышел покурить
в сад.
Я прошел мимо цветущих еще космей, флоксов,
от осенних цветов тянуло как бы легким сквозня-
ком: тонко, едва уловимо пахло. Я обогнул дом
и увидел весь сад под луной. Увидел куст спаржи,
осыпанный ртутной росою; грядки с белыми и коря-
выми кочнами капусты, и увидел много тускло светя-
щихся, сочащихся зеленым светом яблок в темной
листве.
Я бросил взгляд на липы за изгородью,— там бес-
шумно и несильно горела горка березовых дров.
И над крышей бани с черной строгой трубою висел
Ковш.
Я помню сад цветущим.
Проснулся до рассвета; в кухне стал заваривать
чай, звякать ложкой, уронил блюдце и разбудил жен-
щину, она вышла из комнаты, сердито щурясь, и ска-
зала, что я со своею дурацкой рыбалкой весь дом
перебужу, а я предложил ей чаю, она отказалась
и, зевнув, ушла. Я напился чаю, взял папиросы, ку-
сок хлеба, выскользнул в сени, нашел там удочки
и банку с червями, тихо притворил дверь, осторож-
но спустился по крыльцу — и оно ни разу не скрип-
нуло. И увидел в саду туман и в тумане цветущие
яблони и вишни: ветви и стволы были темны, туман
сер, цветы белы. Чернела мягкая вспушенная земля
огорода, земля, принявшая семена и давшая уже
кое-где зеленые ростки.
Я постоял посреди сумеречного туманного сада
со своею удочкой, которая мне вдруг показалась
и впрямь дурацкой... Я положил удочку в траву, при-
близился к окну, возле которого на диване спала
женщина, и побарабанил пальцами по стеклу; дом
разделен на три комнаты тонкими фанерными пере-
городками, и я боялся, что все услышат и, решив,
что явился какой-нибудь странник — еще бывают на
Руси странники, в колокольнинском доме не один по-
трепанный старик и не одна тощая старуха без роду
и племени и прописки ночевали и получали утром
в дорогу хлеб и сало,— и, подумав, что стучится гость,
выйдут его встречать. Но раздвинулись занавески,
454
и я увидел бледное пятно лица, обрамленное растре-
панными волосами, и несколько испуганные глаза
женщины. Я приложил палец к губам и кивком при-
гласил ее выйти. Она кивком спросила: зачем? Я кив-
ком ответил: надо. Она покачала головой и губами
сказала: нет. Занавески сошлись, а я прислонился
спиной к стене дома, закурил и стал ждать.
По деревне запевали не совсем уверенно первые
петухи.
Папироса угасла, и я постарался так чиркнуть
спичкой, чтобы женщина, если она еще на диване,
услыхала и узнала, что я здесь, жду. Спичка пре-
восходно треснула, женщина наверняка услышала.
Ближе к бане под яблонями не копают и ничего
не сеют, чтобы под рукой была трава для кроли-
ков,— вот там. А на мне толстая новая телогрейка.
Я достал вторую папиросу.
Под яблонями возле бани.
Петухи раскричались, почуяв, что на востоке по-
спевает заря. Туман стал гуще. По улице кто-то
прошел, я сначала услышал шаги, а потом разгля-
дел темную фигуру, мужчина или женщина — так
и не угадал. Видно, женщина, доярка.
Пускай ходят, в саду такой туман, что ничего ни-
кто не увидит.
А потом туман вдруг окрасился и начал редеть,
таять, заголосили птицы, перебрехнулись собаки, на
колодце звякнули ведра, где-то завели трактор, и лу-
чи легли на деревню и повисли в саду между темны-
ми деревьями, усеянными цветами. Скрипнула дверь,
скрипнули доски крыльца, холодея, я выглянул из-за
угла дома — и увидел зевающего, почесывающегося
небритого грузного деда в майке и широких синих
трусах.
На жарком и пыльном Востоке бывают злые зи-
мы. Уходя в армию, я думал, что буду жить в веч-
ном тепле; ну, будут, конечно, меняться времена го-
да: знойное лето, горячая осень и мягкая зима с теп-
лыми дождями. И первая зима была малоснежная,
днем снег таял, на европейский Новый год лил
дождь, правда нетеплый, и над степью стояли холод-
455
ные туманы с утра до полудня. А вторая зима была
крутая: снега, морозы, ветры,— без перчаток лучше
было не лезть по липкой настывшей броне артилле-
рийского тягача. На операции нам выдавали валенки
с резиновыми подошвами, ватные штаны и несколько
шинелей на расчет, мы ими укрывались, ночуя в тя-
гачах посреди ледяных пустынь или в бледных горах
под звездами. У нас были черные от зимнего горного
солнца и морозных пустынных ветров лица.
Наша прорезиненная палатка обогревалась двумя
«буржуйками». И пока печки работали на солярке,
было тепло, но в каком-то полку сгорел взвод в па-
латке, и топиться соляркой нам запретили. Привезли
угля, его было мало, и для него нужна была растоп-
ка. В дело пошли пустые ящики из-под снарядов, по-
том исчезла одна табуретка, другая, и скоро в па-
латке сидеть можно было лишь на койках. Офицеры
незлобиво ругали нас. Грели печки скверно, к утру
одеяла и волосы делались серыми от инея. И, просу-
шивая вечером портянки у печи или лежа под
двумя сырыми одеялами и слушая посвист степно-
го ветра, я начинал думать о колокольнинских
зимах.
Зимою колокольнинский дом вырастал в Дом.
Сад был гол и черен и завален сугробами, и всю-
ду лежали сугробы, и лоснились под солнцем поля,
и в березовый лес можно было пробраться только на
лыжах, и река беззвучно текла под прочным льдом
и снегом,— как будто бы и не было здесь никогда
реки, а омуты с желтыми и белыми кувшинками, раз-
ноцветными стрекозами и поющими лягушками при-
грезились.
Ночью в полях выли волки.
Первой вставала жена деда, она сначала растап-
ливала в кухне главную печь и ухватом ставила
в огонь чугуны с картошкой и бураками; потом шла
в большую комнату и запаливала дрова, обсохшие за
ночь в маленькой небеленой, обмазанной глиной
печке. За ночь, если держались морозы выще два-
дцати градусов, дом простывал,— пройдись босиком
по голым половицам, и как рукой снимет самую слад-
кую дремливость. И вот в мелкой комнатной печке
начинали пылать и с кряхтеньем разрушаться бере-
зовые и осиновые поленья. С дивана было видно
456
только отражение печки в громадном зеркале на ко-
ричневом шкафу, и, проснувшись, я глядел, как
в глубине холодного зеркала скрещиваются рдяные
лучи. И в сумраке видел дешевую икону с рушником
и бумажными цветами и видел рядом спящую жен-
щину.
От печки слегка тянуло дымом, и вместе с дымом
наплывало тепло, и скоро дух в доме стоял горькова-
тый, горячий и влажный, и приходилось откидывать
одеяло.
Качался медный маятник настенных деревянных
тяжелых часов... Было утро, но на дворе стояла ис-
тая ночь: горели звезды, потрескивала обшивка дома,
и порою от реки доносились тугие звуки,— лед от
мороза лопался.
Но выходить в ночное утро из духовитого дома
было легко,— приятно умыть разгоряченное лицо
черным морозом. И потом весь каленый день ждать
возвращения в дом с печками, мягкими валенками
и предвкушать вечерний чай и разговоры с дедом.
Уютная, ленивая зима.
И сладострастные весны. И грозы июня, обильные
росы июля, синева августа. И время осенних трудов
и пиров, когда березовый лес желтее и желтее
с каждым днем, кленок на церковном куполе налива-
ется охрой, в полях дожинают рожь и пшеницу, ба-
бы вяжут льняные снопы, днем бывает очень тепло,
а ночи уже холодные, и светила сверзаются, пыля,
с небосклона...
Женщина, дед и его жена, стоя на лесенках и та-
буретах, снимают яблоки с ветвей, а я таскаю пол-
ные ивовые корзины в сени, осторожно кладу набок,
и яблоки, твердо стуча, высыпаются на постланные
старые скатерти. За день мы управляемся с яблока-
ми, яблони пусты и легки, лишь антоновки грузны,
их время не приспело.
Варятся компоты и повидло, из деревянной выжи-
малки струится медленно зеленоватый сок, меня тош-
нит уже от яблок, и женщину тошнит. Но ее, кажет-
ся, тошнит не от яблок.
Итак, кончено. За труды дед требует вина. И я
требую, только молчаливо. Жена деда достает из по-
греба глиняный кувшин.
457.
Теперь — ломать спины на картофельной планта-
ции. Вооружившись вилами, мы идем на поле. Мы
с дедом копаем, женщины сидят на корточках, выби-
рают шишкастые клубни из земли. Тут за день не
управиться. По вечерам, сгрузив обсохшую картош-
ку в мешки, носим и высыпаем ее в подполье. За
ужином сижу как деревянный истукан. Женщины нас
потчуют картошкой, сметанными грибами и оладь-
ями.
Но вот опростали и последний мешок, немного по-
годя ботву спалили,— по всей деревне, по всей зем-
ле от Балтики до Урала курятся сизые пахучие
дымки.
Дни все короче, солнце прохладней, небо ярче.
И радио грозит дождями. Успеть бы до непогоды пе-
рекопать огород под зиму. Дед говорит: успеем,— но
мы не успеваем и под моросящими низкими серыми
небесами гнем спины, и одежда напитана потом
и дождевою влагой, а лицо и теплое и холодное сра-
зу, земля наливается тяжестью и липнет к лопате,
и скоро уже настоящие дожди стучат по нашим бре-
зентовым курткам и старым фетровым шляпам.
Ну и всё. Дом готов к осаде: брюхо его набито
картошкой, в кладовой пузатятся бочки с квашеной
капустой, солеными грибами и огурцами, от бочек
разит чесноком, укропом, гвоздикой и смородинным
листом; на полках теснятся банки с вареньями
и компотами; под липами ряды поленниц, за печью
на стене связки червонных и золотых луковиц; в ок-
на вставлены вторые рамы,, а между рамами вата
и алые глянцевитые стручки домашнего перца. Сено-
вал забит до отказа.
Ну что? говорит дед, потирая мозолистые ру-
ки. А?
Его жена довольна, она без лишних слов выстав-
ляет на стол кувшин, потом второй. Моя женщина
почти ничего не ест, у нее бледное лицо и больные
глаза. Дед мне говорит:
— Ты крещеный?
Я отвечаю: нет. Это плохо, говорит дед, надо чтоб
ты в армию ушел крещеным. Вот появится, говорит
дед, появится кто-то,— он смотрит на мою женщи-
ну,— мы и тебя и нового этого,— моя женщина при
458
этих словах краснеет, дед улыбается,— и нового это-
го крестить будем. Хочешь?
Вечерами я сижу на чердаке с лампой перед чер-
ным окном, курю гродненские папиросы и пишу
длинные письма друзьям и философу-отшельнику,
что живет среди сосен и скал на берегу Байкала. По
крыше дождь.
Дожди и дожди идут и идут.
По мягкой тропинке я шагаю, неся за спиной
ивовую корзину, через сад. Выхожу за калитку, иду
вдоль картофельного поля, отворяю дверь сарая, на-
биваю сено в плетуху, перекидываю веревку через
плечо, наматываю конец на руку и тащу плетуху
с сеном к дому и вижу свои следы — черные кляксы
на белом. Ночью снег выпал.
К корове я не вхожу, она меня не любит, грозит
рогом и глядит мрачно. Зову деда, он в ясли ссыпа-
ет сено, корова дышит, жует, у нее длинные ресни-
цы, ее зовут Марта, она рыжая.
И женщина рыжая, у нее отяжелевшие груди
и огромный живот. Идет время, и однажды в доме
появляется сосунец, он кричит, чмокает, срыгивает
молоко, спит, просыпается и сосет, сосет. Всюду пе-
ленки, в зимнем саду тоже висят розовые пеленки.
Женщина смазывает распухшие сосцы, чтобы не тре-
скались, жиром. Сосунец сосет и сосет, дремлет и со-
сет и приходит в ярость, если ему подсовывают ре-
зиновую пустышку вместо живой, мягкой и теплой
плоти.
Солнечным белым хрустким воскресеньем прихо-
дит молодой человек, он бородат и свеж и слишком
серьезен, из портфеля он достает пузырек со святой
водой, кисточку, крест, книгу, свечи и рясу. Сосунец
внимательно слушает отца Александра и смотрит
на огоньки свеч и сует в рот кулак.
Прочитав надлежащие молитвы, окропив меня
и младенца святой водой, отец Александр, застенчи-
во улыбаясь, надевает на младенца крест, а потом
и на меня.
Крещение заканчивается трапезой. Дед напирает:
водочки, отец Александр, водочки; отец Александр
отнекивается, дед не отступает, и отец Александр
459
пригубливает. Зато ест хорошо и охотно пьет дедов
чай...
Мне снится дед и отец Александр и снится ры-
жая Марта, она гоняется по саду за пухлым голым
сосунцом, настигает его, подставляет вымя и зава-
ливается, как сука, набок, прикрывает глаза,— в про-
резиненной палатке, в тягаче посреди ледяных блед-
ных гор в тени красных скал мне снилось взгорье
с шеренгой елей. Дни шли, был семисотый день,
и еще дни и дни, и наконец я увидел последний сон
о Колокольне.
В небе летали пятнистые вертолеты, под гусеница-
ми хрустело, иногда вверх ударяла струя дыма, пе-
ска, металла и клочьев кирзы, одежды, резины, вер-
толет приземлялся — и к нему бежали солдаты с от-
висшей плащ-палаткой. Мы ползли среди хребтов,
уходящих в Пакистан, и то и дело останавливались
и рыли окопы. Земля гудела под кирками и ломами;
солнце палило, вились мухи, тугие красные пузыри
на ладонях рвались. Установив орудия, мы открыва-
ли огонь по горам, дыша пылью и порохом. А под ут-
ро снимались и куда-то ехали. Вертолеты все увозили
солдат в рваных штанах и мокрых липких гимна-
стерках. Мы скитались по ущельям и плоскогорьям,
выдалбливали окопы, пили сырую воду из арыков
и ручьев и обливали камни поносом.
Покуривая, мы сидели и следили за черепахой —
сержант ударил по ней кувалдой. Он ударял все
сильней и сильней... Вдруг пришел комбат и крик-
нул: отбой, батарея! В полк! И сержант размахнул-
ся и ударил, панцирь черепахи лопнул — в наши са-
поги туго брызнуло.
Стемнело. Мы были готовы, и вторая батарея бы-
ла готова, и пехотный батальон, и танкисты, и мино-
метные батареи — все были готовы, все ждали. Над
хребтами повисли жирные звезды, и тогда раздались
команды, загудели моторы, колонна дрогнула, за-
скрипела, заскребла камни гусеницами.
Никто не спал. Колонна шла с выключенными фа-
рами. Хребты лежали черные и огромные, и колонна
медленно двигалась меж каменных лап, под гранит-
ными лбами, вдоль длинных напряженных хвостов.
Два или три часа колонна шла в горах.
460
Светало.
Откинувшись на крышку люка, я сидел за круп-
нокалиберным пулеметом, глядел на обесцвечиваю-
щиеся звезды, на сереющие скалы и хребты, осолове-
ло глядел, пучил глаза, встряхивал головой, зевал,
и звезды лопались, как мозоли на ладонях, лом уда-
рял в панцирь гигантской черепахи, лом ударял, мо-
золи лопались, и вдруг засветилась брешь, я с тру-
дом пролез, испачкавшись, и дед увидел меня на бе-
лой дороге и босиком по снегу побежал мимо лип,
мимо колодца, вдоль елей и скрылся в церкви; он
вбежал в церковь, в пустых ее окнах вспыхнул мед-
ный свет, и звон озарил избы и мое грязное лицо,
я вздрогнул и сгорбился, осел и уперся коленями
в заснеженную землю.
СОДЕРЖАНИЕ
Александр Образцов. РАССКАЗЫ................... 5
Николай Струдзюмов. ОБЕД ДЛЯ ВЗВОДА. Рассказ ... 19
Игорях Агафонов. ОДНО НИ К ЧЕМУ НЕ ОБЯЗЫВАЮ-
ЩЕЕ, НО ВПОЛНЕ РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ, С КУВШИНКАМИ. Рассказ..................39
Николай Черкашин. РОТНЫЙ. Рассказ ........ 51
Сергей Ионин. БИКИ-БИКИМ И ГУЛЯЕВ. Рассказ ... 71
Юрий Поляков. СТО ДНЕЙ ДО ПРИКАЗА. Повесть ... 86
Николай Соловьев. ПЕСНЯ. Рассказ..............176
Олег Павлов. РАССКАЗЫ.....................191
Дмитрий Бакин. ЛАГОФТАЛЬМ. Рассказ ....... 214
Михаил Умнов. ПОЛЕ. Рассказ...................225
Олег Хандусь. ОН БЫЛ МОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ.
Рассказ .................. 243
Александр Верников. ДОЗОРНЫЙ НА ГРАНИЦЕ. Рассказ 251
Сергей Каледин. СТРОЙБАТ. Повесть.........268
Олег Ермаков. АФГАНСКИЕ РАССКАЗЫ..........320
Крещение / Сост. Л. А. Теплова.— М.: Правда.
К 80 1991.—464 с.
ISBN 5—253—00233—2
В предлагаемый сборник вошли повести и рассказы
молодых писателей о современной советской армии. Среди
них произведения как малоизвестных, так и уже получив-
ших широкую известность писателей: повести С. Каледина
«Стройбат», Ю. Полякова «Сто дней до приказа». Внезап-
ная и беспощадная правда о войне в Афганистане пред-
стает в талантливых, мужественных рассказах писателя из
Смоленска О. Ермакова, не так давно открытого журнала-
ми «Знамя» и «Новый мир» всесоюзному читателю. До не«
давнего времени армия, повседневная армейская жизнь ри-
совались исключительно светлыми, мажорными красками,
нераскрытыми оставались многие сложные и болезненные
процессы, протекающие в ее недрах. Все авторы сборника,
прошедшие в недавнем прошлом обязательную воинскую
выучку, попытались открыто и честно передать свой на-
копленный опыт в художественном слове — в рассказах и
порестях, при чтении которых становится понятно, сколь
непростой это социальный организм, современная армия,
отражающий в себе, как в зеркале, все боли и тяготы на-
шего общества.
4702010200—2327
84 Р 7
2327—91
К
080(02)—91
Литературно-художественное издание
КРЕЩЕНИЕ
Составитель '
Теплое Леонид Алексеевич
Редактор «Библиотеки»
В. Ф. Кравченко
Оформление художника
С. И. Мухина
Художественный редактор
В. В. Масленников
Технический редактор
Е. Н. Щукина
И Б 2327
Сдано в набор 13.02.90. Подписано к печати 25.09.91. Формат 84хЮ8‘/з2. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 23,96. Тираж 200.000 экз. Заказ 216. Цена 3 р. 00 к.
Набрано и сматрицировано в типографии издательства «Правда». 125865, ГСП, Москва, А 137, улица «Правды», 24.
Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь»,
630048, г. Новосибирск, 48, ул. Немировича-Данченко, 104.
В предлагаемый сборник
вошли повести
и рассказы молодых
писателей о современной
советской армии. До
недавнего времени
армия, повседневная
армейская жизнь
рисовались
исключительно светлыми,
мажорными красками,
нераскрытыми оставались
многие сложные
и болезненные процессы,
протекающие в ее
недрах. Все авторы
сборника, прошедшие
в недавнем прошлом
обязательную армейскую
выучку, попытались
открыто и честно
передать свой
накопленный опыт
в художественном
слове — в рассказах
и повестях, при чтении
которых становится
понятно, сколь
непростой это-
социальный организм,
современная армия,
отражающий в себе, как
в зер^ле, все боли
и нашего
обЯЯгге».